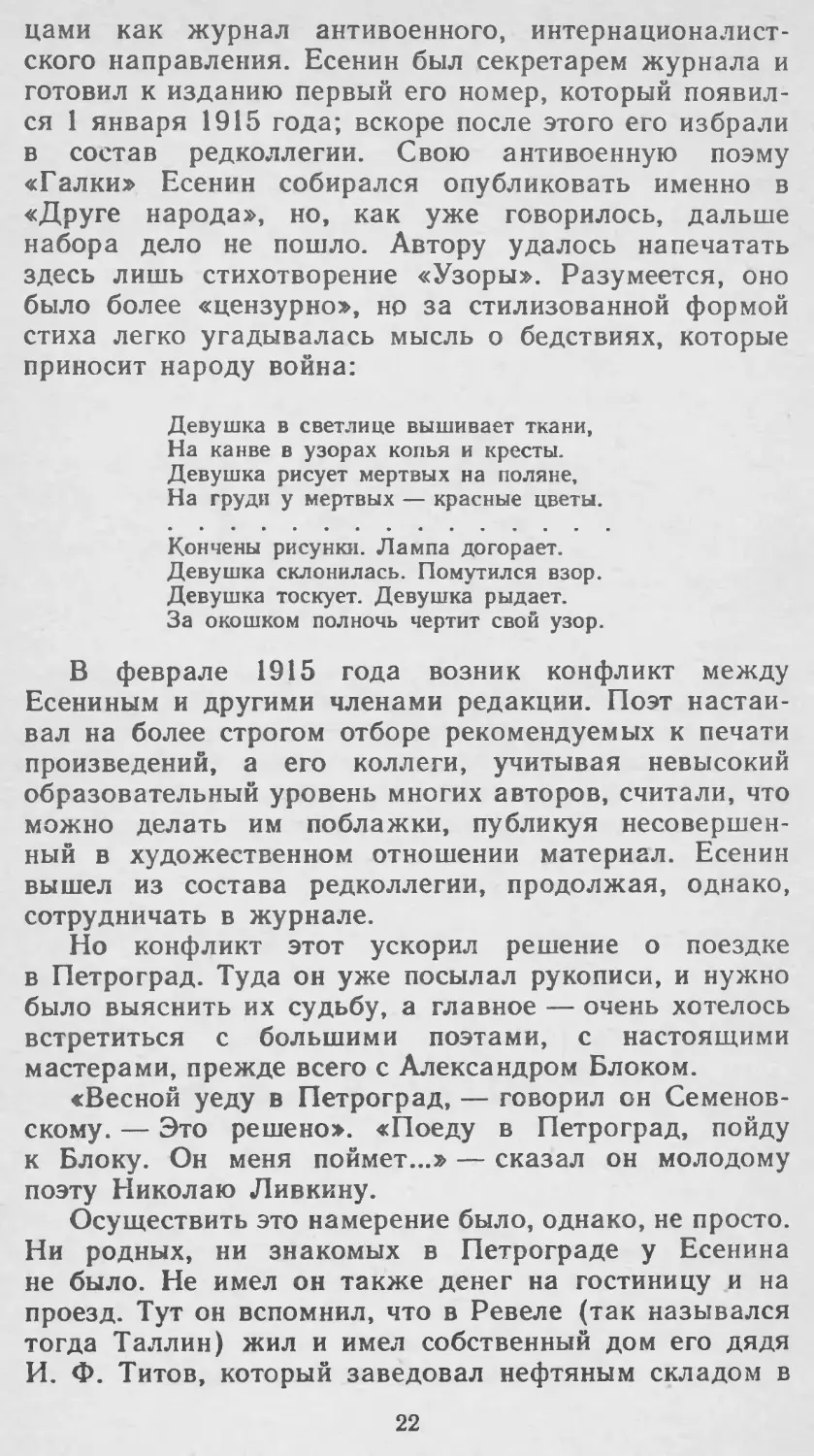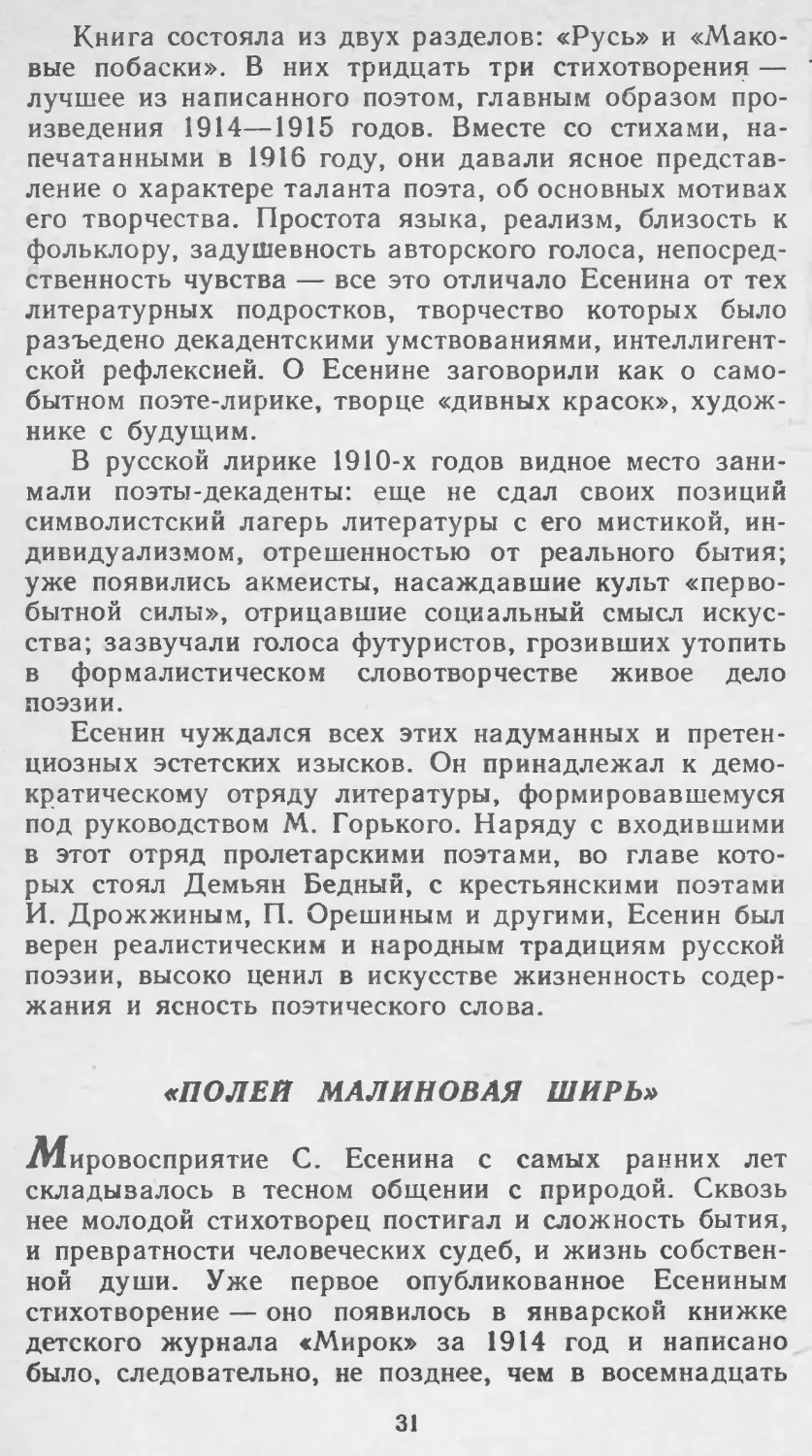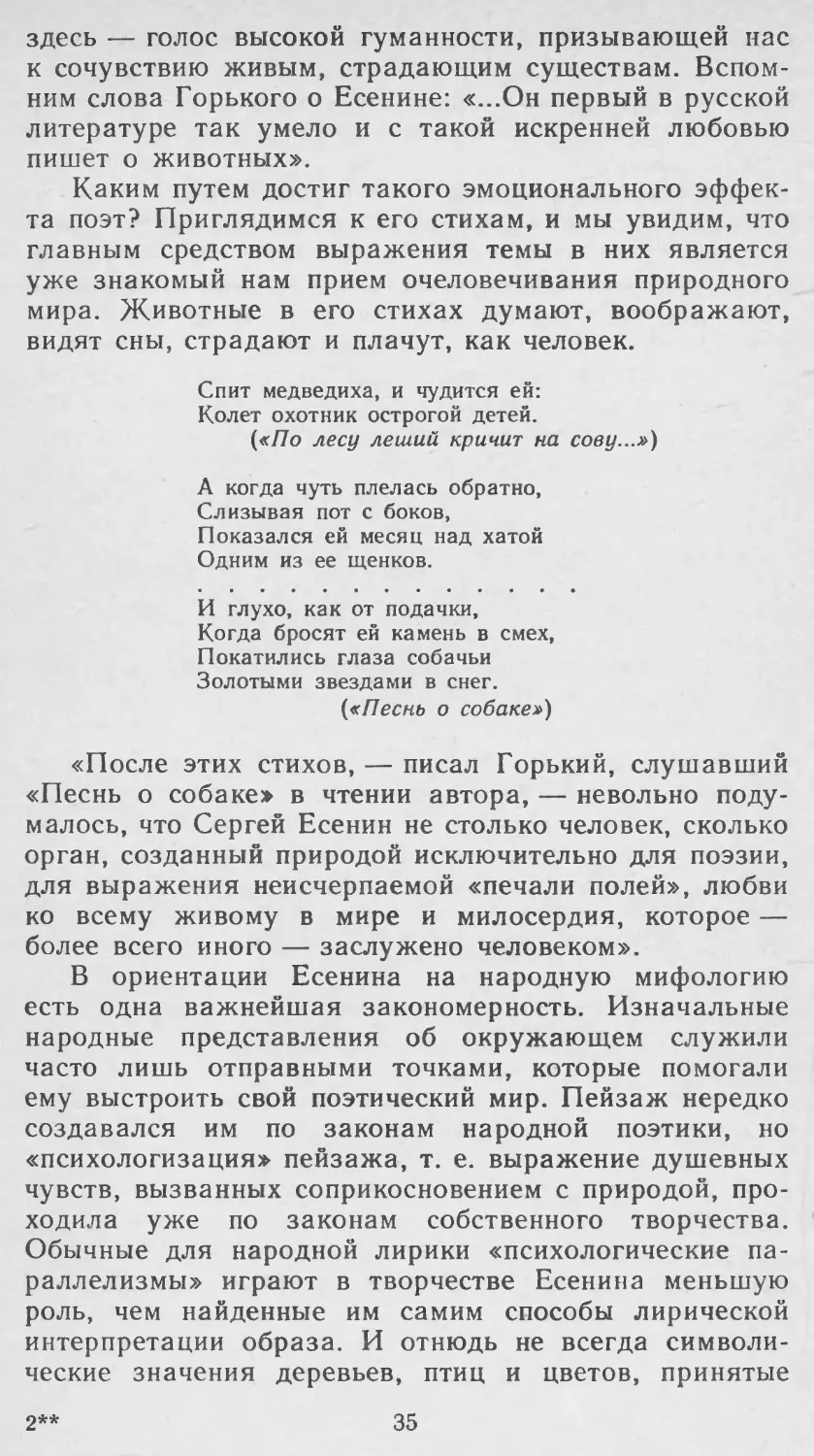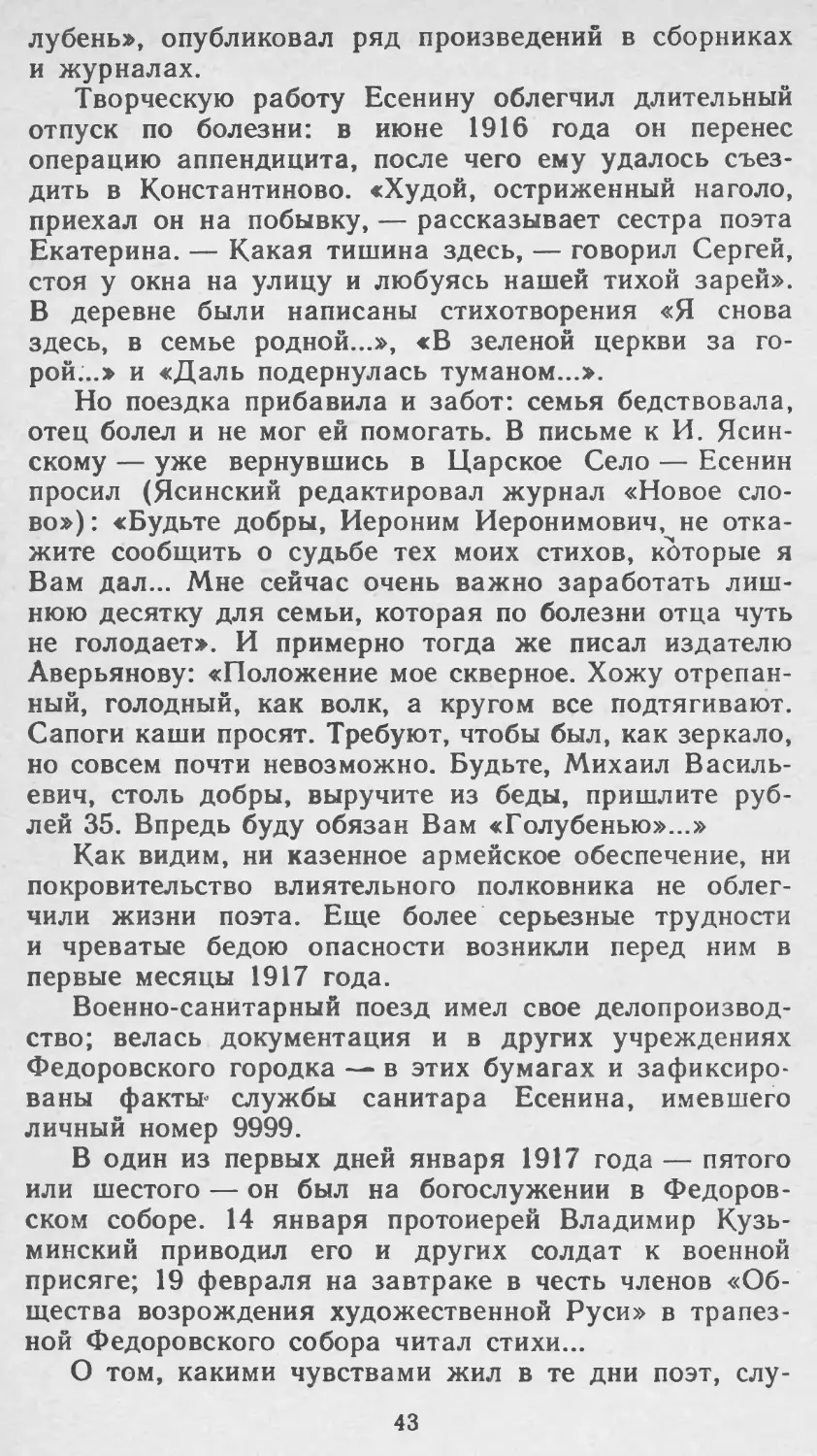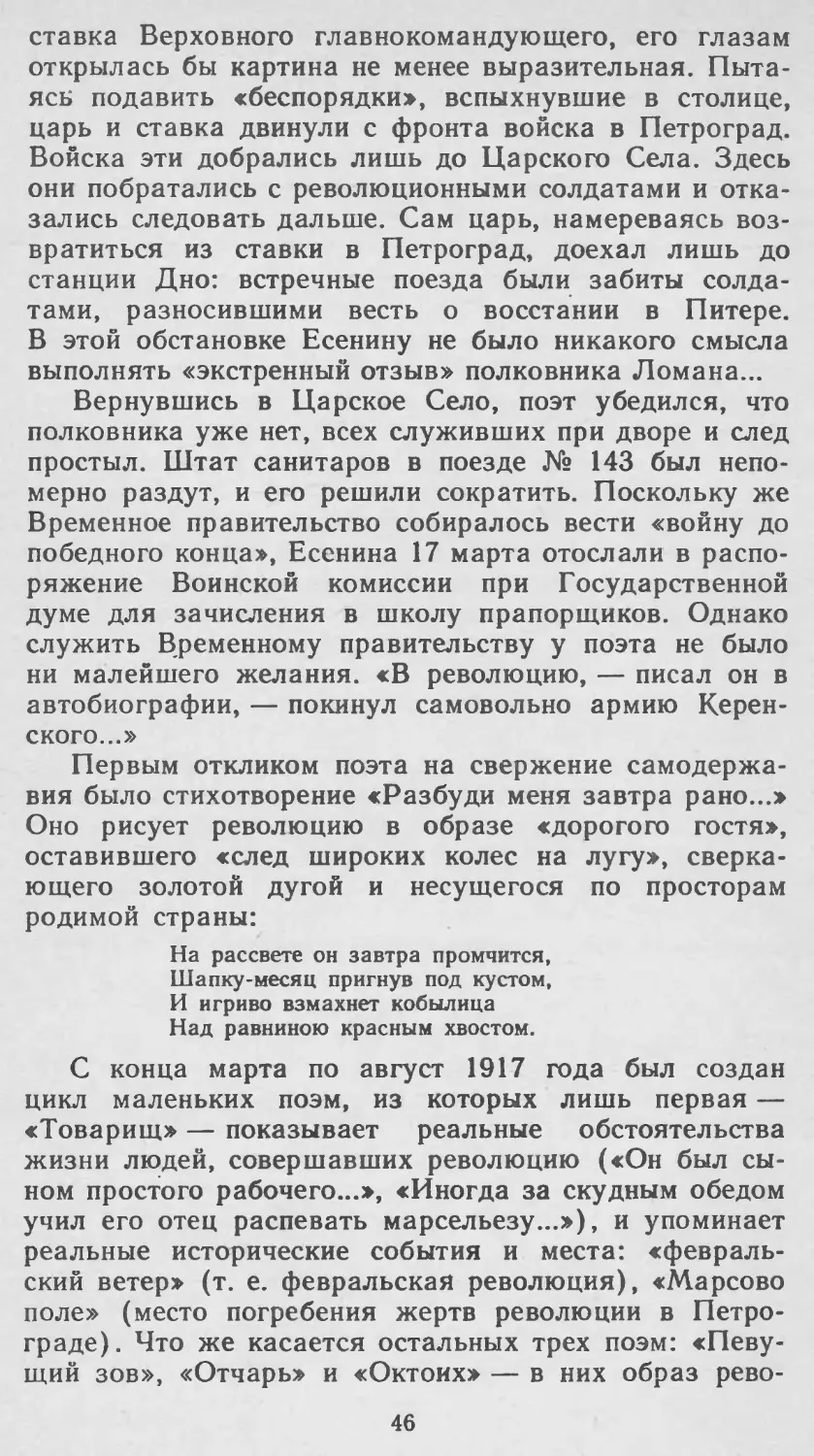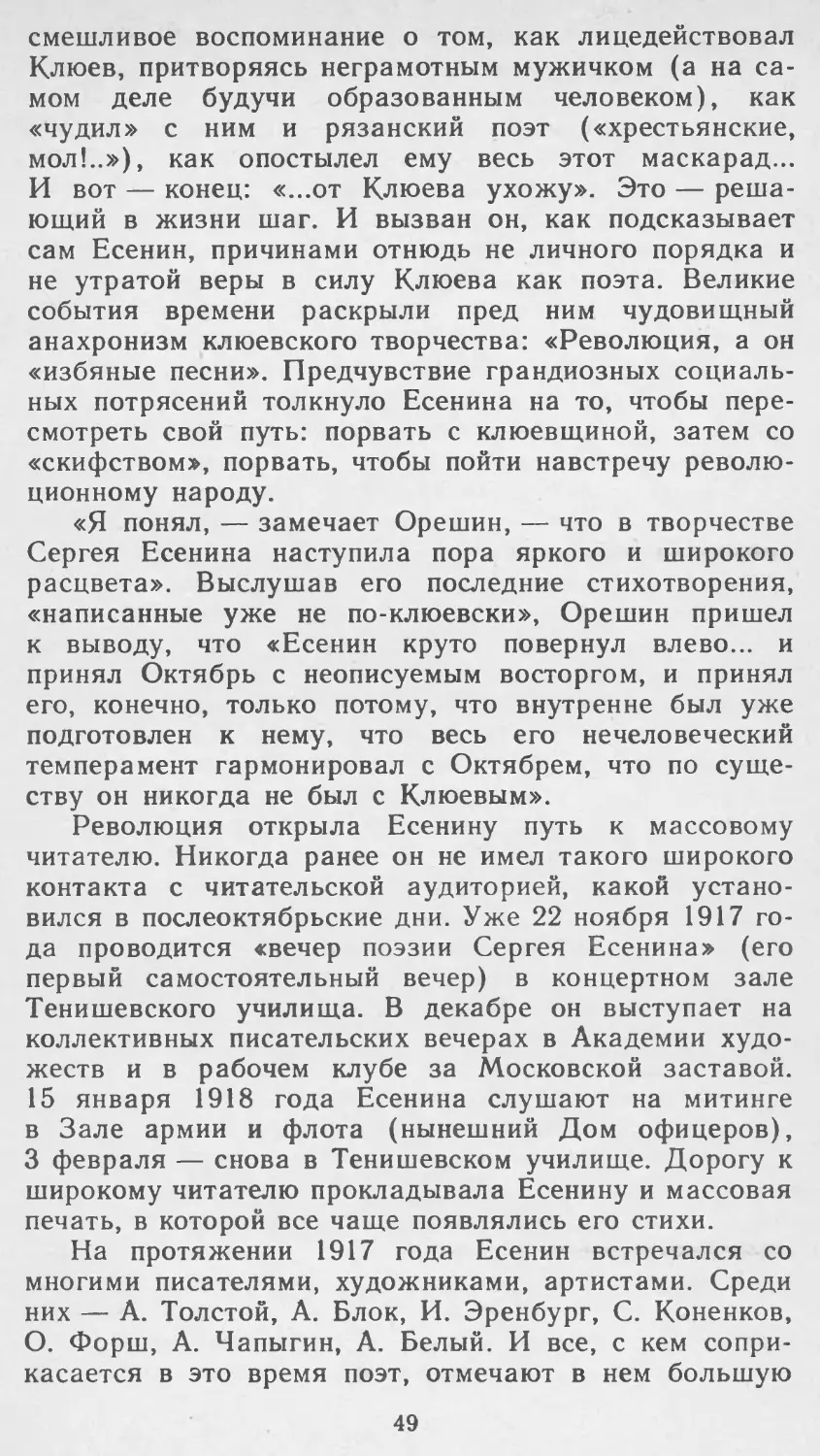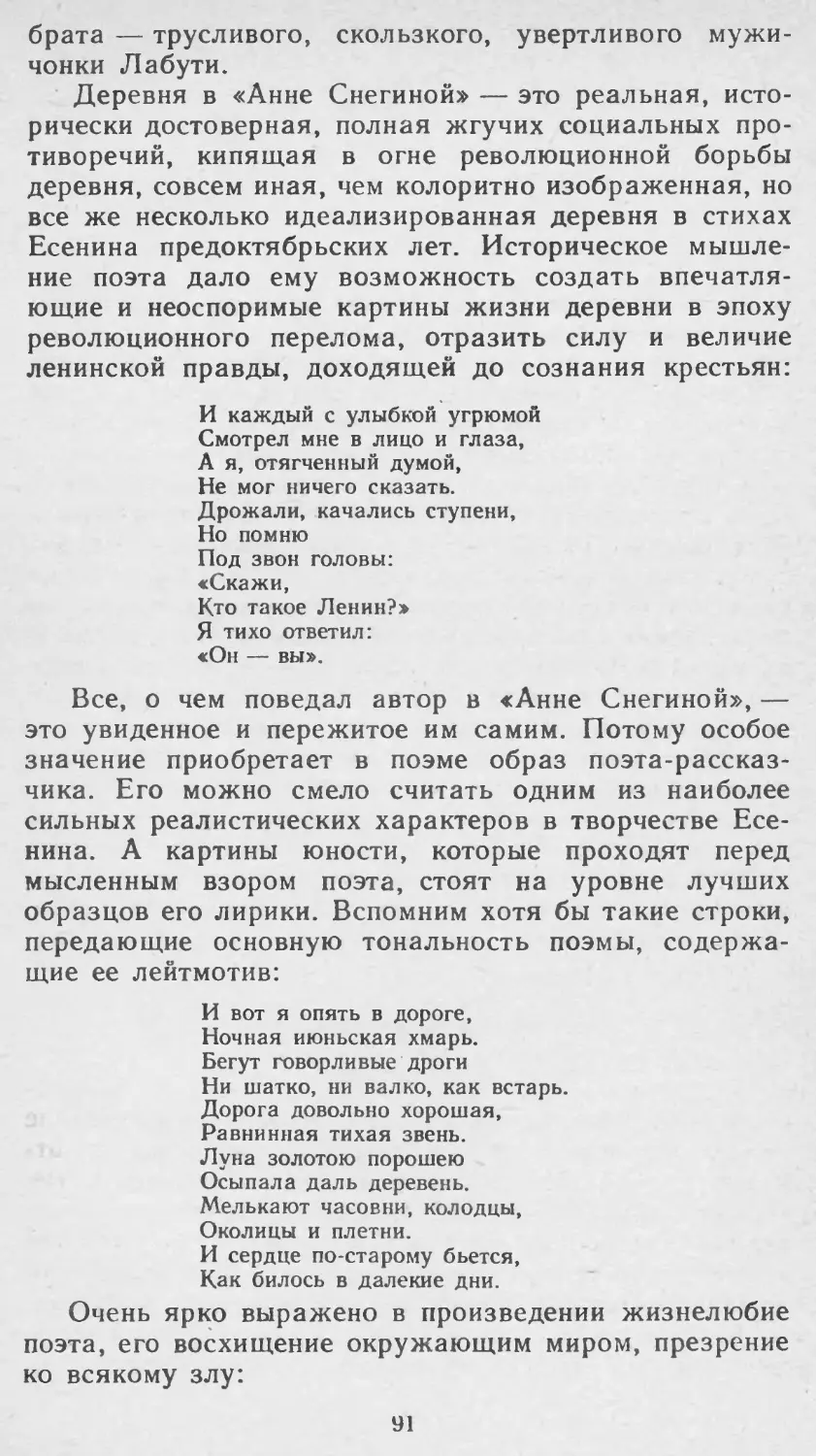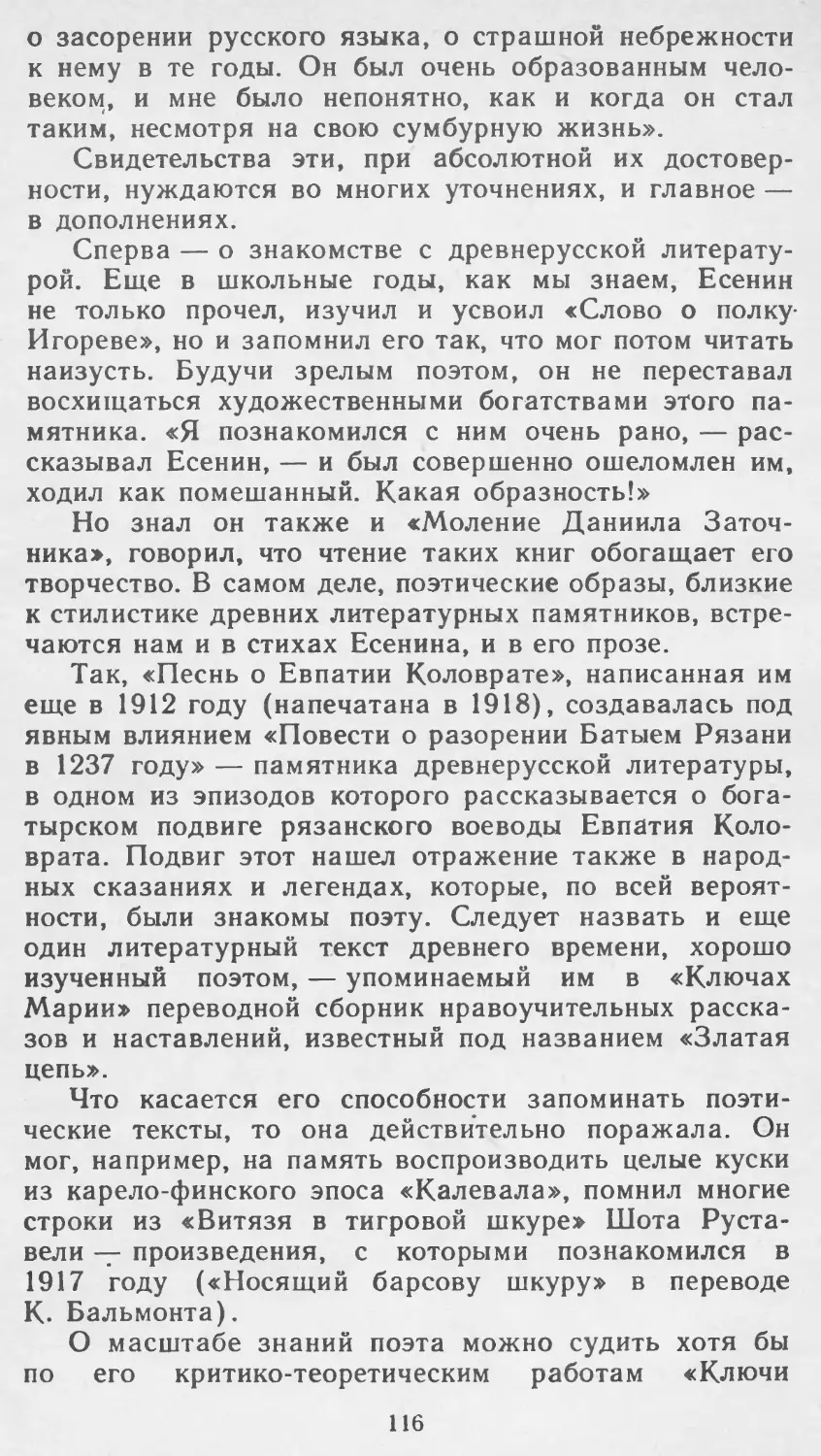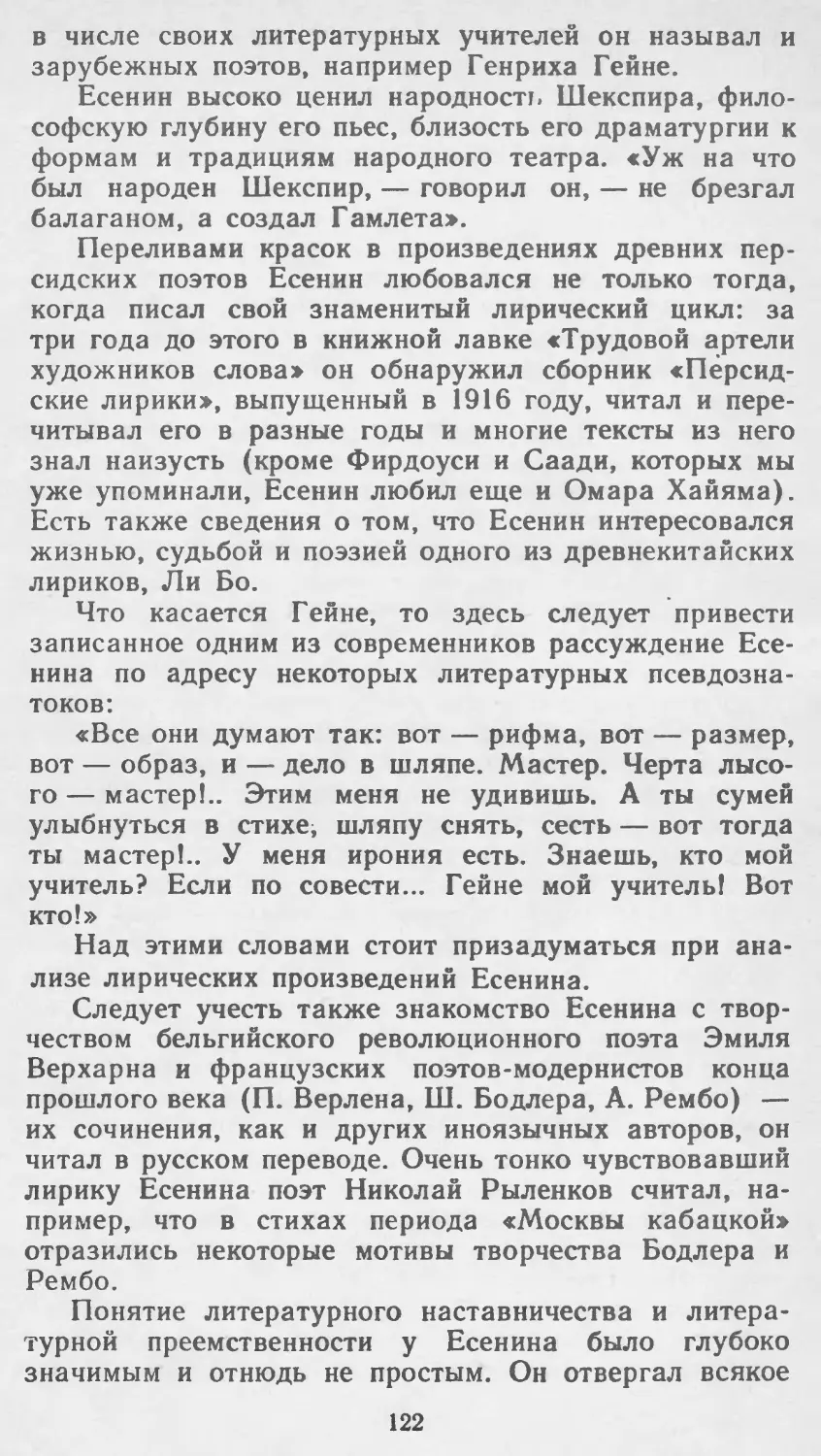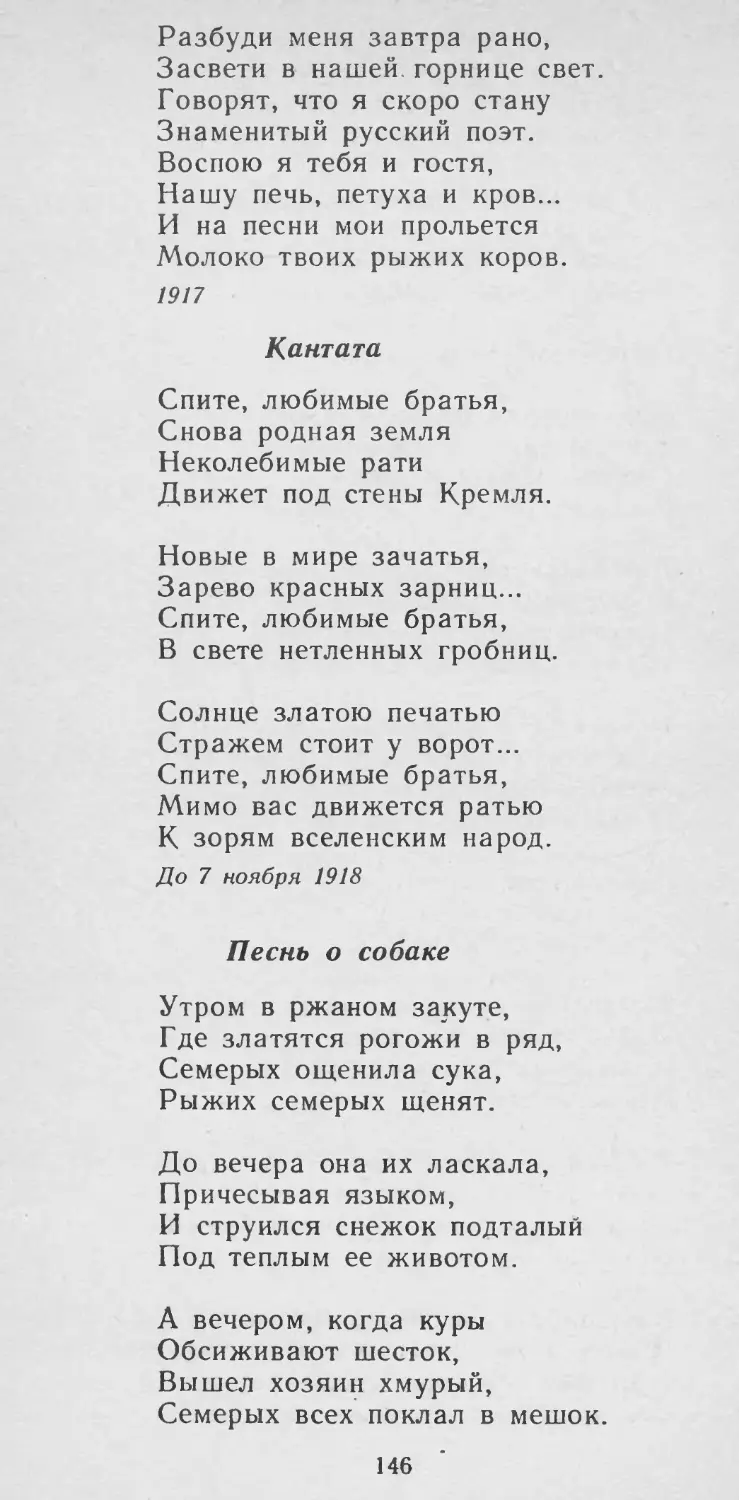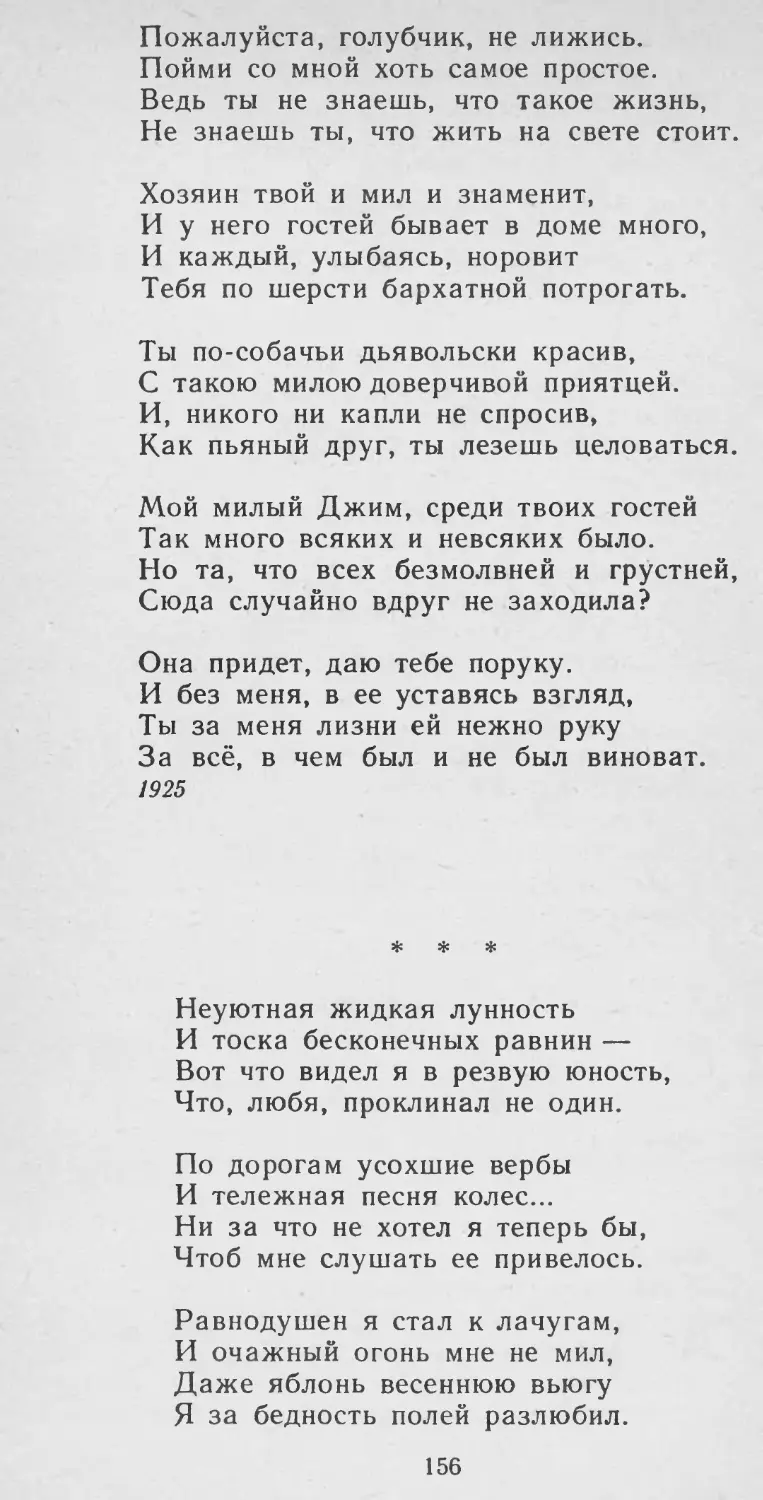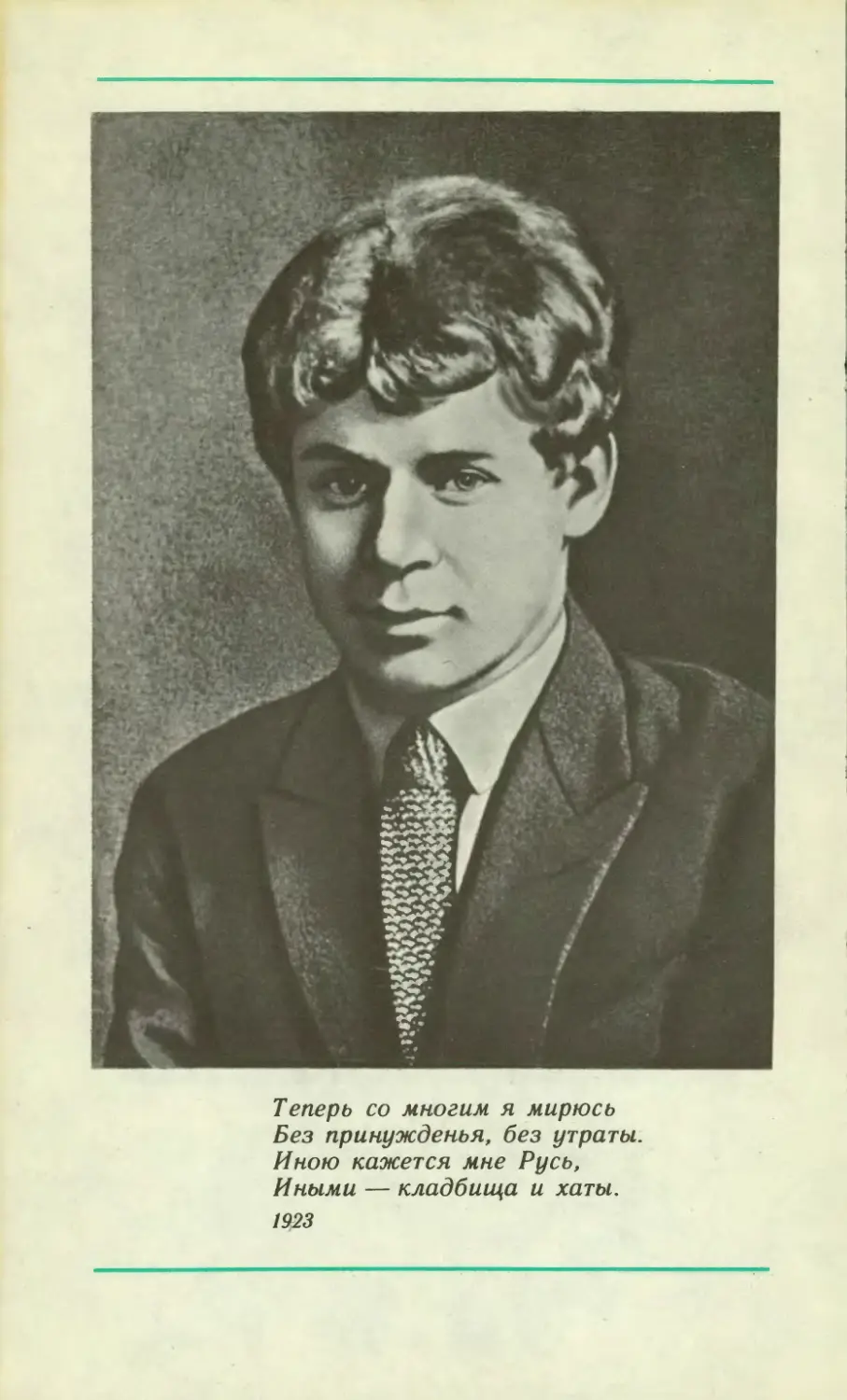Text
БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ
И.С. ЭВЕНТОВ
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ
И. С. ЭВЕНТОВ
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
КНИГА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Издание второе, переработанное
Москва
«Просвещение»
1987
ББК 83.3Р7
Э1Г
Рецензенты:
доктор филологических наук В. А. Зайцев,
учитель средней школы Н. М. Климкина
Эвентов И. С.
Э15 Сергей Есенин: Кн. для учащихся. — 2-е изд.,
перераб. — М..: Просвещение, 1987. — 159 с.,
8 л. ил. — (Биогр. писателя.)
В книге рассматривается жизненный и творческий путь С. А. Есенина.
Автор, доктор филологических наук И. С. Эвентов. воссоздает перед юным
читателем прекрасный образ великого поэта, выделяя основные черты его
творческой биографии: любовь к Родине, предельную* искренность и глубокий
лиризм есенинских стихотворений, народно-песенную основу его лирики. Во
втором издании шире раскрываются соотношения человека с природой,
поэтическое отражение темы любви в творчестве Есенина.
4306020000—590
Э 103(03)—87 282—87
ББК 83.3Р7
© Издательство «Просвещение», 1978
© Издательство «Просвещение», 1987, с изменениями
ДЕТСТВО, ДЕРЕВНЯ, УЧЕНИЕ
Сергей Есенин вышел из среды потомственных рязан
ских хлеборобов.
Его дед по отцу, Никита Есенин, владел грамо-
той; был сельским старостой, ходатаем по крестьян-
ским делам. Но прожил он недолго — сорок два года.
После его смерти вдова, оставшаяся с малолетними
детьми, хотела устроить старшего сына, Александра
Никитича, певчим в Рязанский собор (в деревне он
с успехом пел в церковном хоре). Но это не прельщало
подростка, а оставаться в деревне при небольшом
земельном наделе, который не обеспечивал существо-
вания крестьянской семьи, лишено было смысла, и он,
по примеру односельчан, ушел на заработки в город.
Двенадцати лет он поступил «мальчиком» к замос-
кворецкому купцу, торговавшему бакалеей и мясом,
потом много лет был приказчиком у того же купца,
но семьей обзавелся в деревне, женившись на кресть-
янке Татьяне Титовой.
Первым их ребенком, родившимся 21 сентября
(3 октября) 1895 года1 в селе Константинове, в доме
деда, Никиты Есенина, которого давно уже не было в
живых, и явился Сергей. В трехлетием возрасте
он был отдан на воспитание родителям матери, т. е.
Титовым.
Титовы жили в другой части села Константинова —
в Матове. Дед Федор был известен всей округе как ве-
селый, умный и своенравный мужик. К тому же он был
удачлив в делах. Занимаясь крестьянским трудом, он
1 В дальнейшем все даты до 1918 года указываются нами по
старому стилю.
*
3
имел также заработки на отхожих промыслах — гонял
плоты, работал на баржах. Эти заработки позволили
ему приобрести несколько барж, которые давали еще
больше дохода. В деревне дед завел солидное хозяй-
ство, жил зажиточно, без всякой нужды. Наступил,
однако, день, когда он разорился: две баржи его сго-
рели, остальные погибли во время половодья.
Сергей попал к деду, когда старик уже не ходил ни
на какие промыслы, но материальный достаток в семье
сохранился. Сыновья Титова жили своими семьями, и
в доме оставались трое — дед, бабка и внук Сергей.
Старики были богомольны, придерживались старых
религиозных обрядов. В их добротной избе царил «хо-
мутный запах дегтя» и высилась «божница старая»,
излучавшая «лампады кроткий свет», как это описано
в стихотворении Есенина «Мой путь». Они также были
знатоками народной песни и религиозного фольклора.
Души не чаяли они в малыше, обхаживали его и
приобщали к своим духовным интересам.
«...Я рос, — рассказывал Есенин, — в атмосфере
народной поэзии. Бабка, которая меня очень баловала,
была очень набожна, собирала нищих и калек, кото-
рые распевали духовные стихи. Еще большее значение
имел дед, который сам знал множество духовных сти-
хов наизусть и хорошо разбирался в них. Из-за меня
у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела,
чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был
озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и
тщедушен, но бабка хотела меня всячески уберечь, а
он, напротив, закалить... И то, что я был забиякой,
его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед».
Поэт вспоминает, как он трех-четырех лет от роду
тащился за бабкой по лесной ухабистой дороге за со-
рок верст в Радовецкий монастырь. Старуха видела,
что внук едва тянет ноги, но утешала его: «бог счастье
даст». Дома у нее всегда толпились странницы, мона-
шенки, слепцы, побирухи, распевавшие песни о небес-
ном рае, о Лазаре и Миколе... Впрочем, доходили до
мальчика и произведения поэзии, лишенные религиоз-
ного содержания. Дед, обладавший прекрасной па-
мятью, знал кроме духовных стихов великое множе-
ство народных песен и часто их напевал; старуха
приживальщица, ухаживавшая за малышом, расска-
зывала ему народные сказки. Протяжные, грустные
народные песни слышал он из уст матери.
4
Воспитываясь в старообрядческой, религиозной
семье, Сергей, однако, не проникся верой в бога и не
питал особого интереса к церковной службе, которую
сызмальства наблюдал и в родной деревне (церковь
стояла напротив дома Есениных), и в окружающих
монастырях. «В бога верил мало, — признавался он
потом. — В церковь ходить не любил». «Рано,—
говорил он, — посетили меня религиозные сомнения.
В детстве у меня (были) очень резкие переходы: то
полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть
до богохульства».
Из этого можно заключить, что с малых лет Есе-
нин проявлял известную самостоятельность в чувствах,
побуждениях, в отношении к окружающим, не под-
даваясь безотчетно внешним влияниям, а как-то по-
своему в них разбираясь. Кроме того, семья — будь то
шумный от постояльцев дом бабки Есениной, будь то
строгий и благочестивый дом Титовых — не была един-
ственной школой его воспитания. Большой след оста-
вили в его памяти деревенская улица, дружба с маль-
чишками, участие в крестьянских работах. На всю
жизнь глубоко запечатлелись живописнейшие картины
природы.
Село Константиново, где протекало детство поэта и
где безвыездно жила его родня, раскинулось на высо-
ком, холмистом берегу Оки. С двух сторон обступали
село помещичьи владения, поэтому огороды у крестьян
были малы, избы с соломенными крышами тесни-
лись одна возле другой, пожары выжигали порою
треть, а то и половину села. Пахотные земли распо-
лагались клочками далеко от жилья, а луга — на
другом берегу Оки. Жизнь у крестьян была трудная,
хлопотная, не всегда сытная, но места эти отлича-
лись необычайной природной красотой и стойким, уме-
ренным климатом.
«Это было тихое, чистое, утопающее в зелени
село, — рассказывает сестра поэта, Александра Есе-
нина. — Основным украшением являлась церковь,
стоящая в центре села. Стройные многолетние березы
с множеством грачиных гнезд служили убранством
этому красивому и своеобразному памятнику русской
архитектуры. Вдоль церковной ограды росли акация и
бузина... Раздольны, красивы наши заливные луга.
Вокруг такая ширь, «такой простор, что не окинешь
оком». На горе как на ладони видны протянувшиеся
5
по одной линии на многие километры села и деревни.
Вдали, как в дымке, синеют леса».
Огромные луговые пространства, усеянные цвета-
ми, разделены серебристыми нитями ручейков и речу-
шек; круглыми чашами на многоцветном ковре вы-
делялись озера.
«Сверстники мои, — писал в автобиографии Есе-
нин, — были ребята озорные. С ними я лазил по
чужим огородам. Убегал дня на 2—3 в луга и питался
вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в ма-
леньких озерах...»
Но более всего приобщал к природе крестьянский
труд. Любимыми воспоминаниями детства поэта были
выезды в ночное, сенокосы.
В ночное Сергей с мальчишками отправлялся на
Оку поить лошадей. А на сенокос выезжали всем
селом. Это была едва ли не самая веселая в деревне
пора. Сперва на тот берег переправлялись мужики с
лошадьми, запряженными в телеги; на телегах выси-
лись просторные, плетенные из хвороста или сбитые из
теса, иногда крытые железом шалаши — каждый из
них был жильем для целой семьи на все время покоса
(пятнадцать-двадцать дней). К работе приступали
чуть свет, трудились артельно — по несколько семей
на одной полосе — до захода солнца, кормились у
костра, по вечерам пели, играли, рассказывали страш-
ные или смешные истории, плясали. Об этой поре
Есенин писал:
Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.
Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей,
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.
(«Pt/сь»)
Пяти лет Сергей научился читать, и это наполнило
новым содержанием его мальчишескую жизнь. «Книга
не была у нас исключительным и редким явлением, как
в других избах, — вспоминал поэт. — Насколько я
себя помню, помню и толстые книги в кожаных пере-
плетах». Поначалу это были фолианты духовных писа-
ний, но потом пошли и книги для домашнего чтения,
и произведения русских классиков. Особенно интен-
6
сивно приобщался мальчик к литературе с девяти лет,
когда поступил в Константиновское земское четырех-
годичное училище.
Училище это занимало в селе бревенчатый дом
с семью большими окнами на каждой из удлиненных
сторон. Дом был разделен коридором на две части:
в левой (от входа) вели занятия первый и третий клас-
сы (у одного и того же учителя одновременно),
в правой таким же образом — второй и четвертый; ни
учителей, ни помещений для раздельных занятий не
хватало. Обстоятельства жизни деревенских ребят
складывались так, что лишь редким из них удавалось
пройти полный курс обучения: в первый класс посту-
пало около сотни ребят (село Константиново насчиты-
вало шестьсот-семьсот дворов), а четвертый заканчи-
вало не более десяти.
Сергей, поступив в училище, перешел от деда Тито-
ва обратно в дом Есениных, где жили более скудно,
поддерживая семейный бюджет деньгами, присыла-
емыми отцом из Москвы. Но Сергей принадлежал к
числу детей, учившихся с особым тщанием и охотой.
Преподавали в Константиновском училище супруги
Власовы. «Класс, в котором учился Сережа, расска-
зывает Лидия Ивановна Власова, — вел мой муж
(Иван Матвеевич.— И. Э.). Но он по делам школы
часто отлучался, и я оставалась за него. Когда он при-
возил новые книги, Сережа к нам обязательно при-
ходил — в школе он уже все перечитал. Часто после
уроков Сережа оставался и вслух читал одноклассни-
кам стихи. В школе были книги Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Кольцова, Никитина».
В мае 1909 года Есенин окончил училище с по-
хвальным листом, которого был удостоен «за весьма
хорошие успехи и отличное поведение». На выпускных
экзаменах по всем предметам (русскому и церковно-
славянскому языкам, истории, географии, арифметике,
закону божьему и письму) он получил отличные
оценки. В качестве подарка ему было вручено не-
сколько книг и портрет Гоголя (в том году отмечалось
столетие со дня рождения писателя); в качестве
поощрения ему дали рекомендацию для поступления в
Спас-Клепиковскую церковно-учительскую школу или
в Рязанское духовное училище.
Во время летних каникул и после окончания зем-
ского училища Сергей вел обычную деревенскую
7
жизнь: пропадал целыми днями в лугах или на реке,
удил рыбу, приносил домой утиные яйца, однажды
притащил целое ведро раков. Как и прежде, возглав-
лял ватагу сельских мальчишек, совершал с ними на-
беги на огороды и сады (особой доблестью считалось
забраться в помещичий сад за высоким бревенчатым
забором), лазил по деревьям, играл в лапту...
В дождливые летние дни или в длинные зимние
вечера Сергей читал. Из книг, прочитанных в школь-
ные годы, он впоследствии часто вспоминал «Слово
о полку Игореве», произведения Пушкина, рассказы и
повести Гоголя. На память мог читать стихотворения
Некрасова, Никитина, Кольцова.
Слагать стихи Есенин стал незадолго до того, как
поступил в земское училище, лет с восьми-девяти. На
стихотворчество толкнула его та атмосфера народной
песенной поэзии, которая окружала его в детские
годы. Первые стихи Есенина (до нас не дошедшие)
были подражаниями деревенским частушкам, которых
он знал великое множество. Лишь в старших классах
Сергей начал приносить свои стихи в училище, пока-
зывать их педагогам. Последние без восторга и даже
с некоторой опаской относились к творческим увлече-
ниям мальчика, боясь, как бы они не повредили его
школьным занятиям. Да и ничего впечатляющего,
оригинального не находили они в литературных
упражнениях ученика.
Отец Сергея жил в Москве и бывал в деревне на-
ездами. Приехав домой в августе 1909 года, он, как
обычно, привез жене и детям подарки и, кроме того,
достал из дорожной корзины две стеклянные рамки,
которые предназначались для почетных бумаг его
сына — свидетельства об окончании училища и по-
хвального листа. Вставленные в рамки, эти бумаги
были прикреплены на самом видном месте в избе. Они
заменили семейные портреты, которые были сдвинуты
по стене вниз. Отец пробыл в деревне всего несколько
дней, и за эти дни было решено: не откладывая,
отправить сына в Спас-Клепиковскую церковно-учи-
тельскую школу.
Добраться до Спас-Клепиков было не так легко.
Лошадьми нужно было ехать до станции Дивово, за-
тем поездом до Рязани, а там пересесть в вагон узкоко-
лейной железной дороги, ведущей к Спас-Клепикам.
В первой поездке Сергея сопровождала мать. По-
8
гожим сентябрьским днем прибыли они в это большое
купеческое село с каменными амбарами и крытыми
железом домами, с обширной базарной площадью в
центре, уставленной прилавками, утыканной низкими
столбиками для коновязи и усеянной соломой, сеном, ов-
сом. Эта площадь особенно запомнилась Сергею: туда
он прибегал из школы в базарные дни, чтобы встретить-
ся с односельчанами, узнать о родных и друзьях.
На краю села располагалось двухэтажное кирпич-
ное здание Спас-Клепиковской церковно-учительской
школы, в которой и надлежало учиться Сергею.
Школа готовила преподавателей для сельских началь-
ных училищ и церковноприходских школ, в связи с чем
особое внимание уделялось изучению закона божьего,
церковной истории и церковнославянского языка, а
также усвоению ритуала православных обрядов. На
все три года обучения была рассчитана и программа
общеобразовательных дисциплин.
Сергей без труда сдал вступительные экзамены и,
попрощавшись с матерью, поселился в интернате при
школе. На протяжении всего дня и почти всей недели
ученики не покидали здания школы: днем — классные
занятия, вечером — подготовка уроков под наблюде-
нием наставников, по воскресеньям и праздничным
дням — церковная служба. Уходить из школы по лич-
ным делам можно было только с позволения дежур-
ного педагога.
Есенин, по словам одного из учителей, «наравне со
всеми выполнял учебные задания, дежурил по классу,
по кухне, по столовой, спальне и т. п.; наравне со все-
ми ходил ко всенощным, обедням, наряжался в сти-
харь, читал шестипсалмие». Впрочем, как утверждают
его бывшие соученики, общие науки он усваивал с
желанием, а к богословским предметам и к церковным
обязанностям относился довольно формально, иногда
даже «нанимал» за мелкую мзду кого-нибудь из своих
приятелей выполнить эту службу вместо него. Атеисти-
ческие наклонности, зародившиеся в детстве, помогали
ему не принимать всерьез ни строгих и торжествен-
ных церковных ритуалов, ни многочисленных догматов
«святого писания».
Обстановка закрытого учебного заведения с под-
надзорным существованием и казенным порядком,
с засилием духовных лиц и церковных премудростей,
с бурсацкими нравами, царившими среди учеников,
9
тяготила живого, пытливого юношу. Его неуступчи-
вость и драчливость, столь ревностно поддерживаемые
в свое время дедом Титовым, помогли ему устоять в
столкновениях с наглыми и развязными однокашни-
ками, но его душевные запросы были уже значительно
шире того, что давала Спас-Клепиковская школа.
Однажды он даже бежал из школы, добравшись
прямиком, по ухабистым заснеженным проселкам,
минуя железную дорогу, домой, в Константиново, но
был доставлен матерью обратно.
Сергей продолжал учиться и выполнял свои обя-
занности, мечтая, как признался потом в письме к
товарищу, «скорее убраться из этого ада». Товарищем
этим был один из учащихся школы, житель Спас-
Клепиков Гриша Панфилов. Дружба с Панфиловым,
приобщение к наукам и писание стихов — вот три
вещи, которые скрашивали тягостное и однообразное
существование подростка, по родительской воле
попавшего в церковную школу. Облегчало его жизнь
и каникулярное время (отпуски на рождество, на
пасху и на летние месяцы), которое он проводил в
родном селе.
Григорий Панфилов, сын местного приказчика, был
свободен от интернатского режима и жил в родитель-
ском доме. Будучи, как и отец, страстным книголюбом,
он заметно отличался от других учеников своими ду-
ховными запросами, поведением, манерой обращения
с товарищами. Когда Есенин поступил в школу, Пан-
филов учился во втором классе: возрастом он был
старше Сергея. Это, однако, не помешало их сближе-
нию. Они очень быстро сошлись и привязались друг к
другу. За хорошие успехи в занятиях Сергей частенько
получал от учителей увольнительные записки и прихо-
дил домой к Панфилову. Там бывали и другие уче-
ники. Образовался своего рода кружок, в котором
делились мнениями, читали книги, обсуждали разные
вопросы.
Панфилов был человеком передовых взглядов, он
высоко ставил общественное призвание учителя, с глу-
бокой серьезностью готовил себя к миссии просвети-
теля, наставника, воспитателя. Исполнить эту миссию
ему не пришлось: после окончания школы он долго
болел и в феврале 1914 года умер от туберкулеза. Но
на своих сверстников и друзей, в том числе на Есе-
нина, он оказал весьма благотворное влияние. Оно
10
складывалось из многих факторов их повседневного
общения: из того, как он рассуждал о жизни, о «долж-
ности» человека на земле, как отзывался о романе
Л. Толстого «Воскресение» и его трактате «В чем моя
вера?», о рассказах Горького и его героях, как раз-
влекался с друзьями (у Панфиловых не только фило-
софствовали, но и пели, играли, танцевали). И Есенин
был здесь откровеннее и живее, чем где бы то ни было.
Сюда он с большой охотой приносил стихи и читал
их друзьям.
Писал Сергей с малых лет почти без перерывов, но
именно здесь, в Спас-Клепиках, он почувствовал себя
поэтом. «...Сознательное творчество отношу к
16—17 годам», — отмечал он, т. е. к последнему году
пребывания в церковно-учительской школе. Будучи
еще в первом классе, он написал «Маковые побаски»
и стихотворный рассказ про Миколу (в первом, до
сих пор не найденном варианте). За ними последовали
стихотворения «Что прошло — не вернуть...», «Восход
солнца», «К покойнику», «Песня старика разбойника»
и другие — всего, как полагают, несколько десятков.
«Смотришь, бывало, — рассказывает один из учени-
ков, — все сидят в классе вечером и усиленно готовят
уроки, буквально их зубрят, а Сережа где-либо в уго-
лочке класса сидит, грызет свой карандаш и строчку
за строчкой сочиняет задуманные стихи».
Произведения свои Есенин читал друзьям в самой
разной обстановке, иногда даже встретив на улице и
в школьном коридоре, но наиболее волнующим было
чтение в панфиловском кружке.
Его слушали заинтересованно, чутко, судили не
только о гладкости строк, но и о весомости содержа-
ния, о степени новизны. Недаром в последующей пере-
писке между Есениным и Панфиловым (когда Сергей
окончил школу и уехал, а Панфилов оставался дома)
такое место занимает творческая работа поэта. Он
делится с другом своими художественными замыслами
(сообщает, например, о задуманном стихотворении
«Пророк», в котором собирается «клеймить позором
слепую, увязшую в пороках толпу»), цитирует или
приводит целиком свои новые стихотворения, а о ста-
рых, уже известных Панфилову, сообщает: «Некото-
рые уничтожил, некоторые переправил».
Среди учителей школы были священнослужители,
чиновники, исполнительные служаки, но были и люди с
11
широкими интересами, находившие путь к сердцам
своих воспитанников. Таким являлся преподаватель
словесности, старый учитель Евгений Михайлович
Хитров, которому Есенин начиная со второго года
обучения показывал свои стихи. В оценках учитель
был строг: стихи приносили ему ворохами ученики всех
классов, но крайне редко в них проглядывала искра
таланта. Поначалу сдержанно отнесся он и к рукопи-
сям Сергея, да и знал его очень мало, так как заня-
тия по литературе и стилистике приходились на третий
год школьной программы. Вот в третьем классе Есенин
и раскрылся перед учителем как пытливый читатель
и любитель поэзии.
«Он стал особенно усердно заниматься литера-
турой, — вспоминает Хитров. — Занятия его были
шире положенной программы. Он много читал. Осо-
бенно любил слушать мое классное чтение. Помню, я
читал «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и другие
произведения в течение нескольких часов, но обяза-
тельно все целиком. Ребята очень любили эти чтения.
Но, пожалуй, не было у меня такого жадного слуша-
теля, как Есенин. Он впивался в меня глазами, глотал
каждое слово. У него первого заблестят от слез глаза
в печальных местах, он первый расхохочется при
смешном».
После многих подражательных, ничем не примет-
ных стихотворений на темы любви и природы мельк-
нуло в рукописях Есенина нечто самобытное, свежее.
Это был небольшой этюд под названием «Звезды».
Учитель одобрил его. Он стал внимательнее пригля-
дываться к юному стихотворцу, приглашать к себе
домой. А когда расставались после окончания Сер-
геем школы, попросил, чтоб он оставил на память свои
сочинения.
Есенин вручил ему две тетради — десять произве-
дений, среди которых были и «Звезды». В плавных
ритмах мелодичного, едва ли не песенного стиха звуча-
ли естественные, простые, как бы из живой речи
взятые слова. Признаки поэтического дарования обна-
руживали эти, во многом еще несовершенные стихо-
творения.
В мае 1912 года Есенин окончил Спас-Клепи-
ковскую школу. Он был выпущен с аттестатом «учи-
теля школы грамоты», показав по русскому языку,
отечественной истории, географии и письму отличные
12
знания; по всем остальным предметам были четверки,
и лишь по церковнославянскому языку — тройка.
Прощаясь, Хитров советовал ему всерьез заняться
литературой, сблизиться с поэтами, войти в их творче-
скую среду. Сделать это можно было только переехав
в один из центров культурной жизни страны — в Пе-
тербург или Москву.
Лето после выпуска Есенин провел в деревне: в лу-
гах, на реке, во дворе отцовского дома, где он уеди-
нялся, чтобы читать книги, писать стихи. Родители
хотели, чтобы он продолжал учение в Московском
учительском институте. Но Сергей думал по-другому.
Почувствовав себя поэтом, он уже не представлял
для себя иной жизненной стези, кроме литературного
творчества. Нужно было последовать совету Хит-
рова — поселиться в одной из российских столиц.
МОСКВА
Еще летом 1911 года Есенин побывал в Москве. Он
ездил в гости к отцу, который служил приказчиком по
мясному делу в торговом заведении Д. И. Крылова.
С Казанского вокзала трамваями Сергей с отцом
добрались до Валовой, откуда вышли на Щипок —
так называлась замоскворецкая улица, где находилась
лавка Крылова. Отец показал ему торговый зал, под-
вел к лесенке, ведущей в контору, и спустился в под-
вал, где рубили и разделывали мясные туши. Поселил
он Сергея вместе с собой в «молодцовской» — обще-
житии рабочих и приказчиков в полуподвальном
помещении неподалеку от лавки, в Большом Строче-
новском переулке.
В Москве Сергей пробыл тогда неделю: бродил по
улицам, осматривал исторические здания, храмы,
церквушки, мосты. Но особых впечатлений из этой
поездки не вынес; в письме к Панфилову сообщил
всего лишь о том, что накупил в Москве книг и привез
их с собою в деревню.
Теперь, когда Сергей окончил школу, отец сам
вызвал его в Москву. Договорившись с хозяином,
Александр Никитич решил устроить сына на службу
в контору магазина, с тем чтобы осенью он поступил
в учительский институт. Сергей приехал и принялся
за конторскую работу. Желая создать сыну более при-
личные условия жизни, отец снял для него комнатенку
13
во дворе того же двухэтажного дома, в котором нахо-
дилась «молодцовская».
Но занятие это не прельщало молодого стихотвор-
ца. Назревал конфликт с отцом, который считал
писание стихов пустым, бесполезным делом и стремил-
ся наставить юношу на путь разумной практической
жизни. Не поладил Сергей и с супругой хозяина,
которая требовала, чтобы при ее входе в контору слу-
жащие вставали. Все, кроме Сергея, подчинялись
этому правилу. Прослужив у купца немного дней,
Сергей оставил работу, а затем покинул и жилье, сня-
тое для него отцом. К осени 1912 года он остался без
денег и без крова. Предлагал в журналы стихи, но их
не печатали. «Особенно душило меня безденежье, —
признавался он в одном из писем, — но я все-таки
твердо вынес удар роковой судьбы, ни к кому не обра-
щался и ни перед кем не заискивал».
Приютил бездомного сочинителя тридцатилетний
поэт Сергей Кошкаров (С. Заревой), возглавлявший
Суриковский литературно-музыкальный кружок. Кру-
жок этот был содружеством людей творческого труда,
выросших в среде крестьян, городских ремесленников
и рабочих. Названный по имени известного крестьян-
ского поэта И. 3. Сурикова, первым начавшего работу
по объединению «писателей-самоучек» (он умер в
1880 году), кружок ставил себе целью выявлять и
воспитывать художественные таланты, вышедшие из
народа: литераторов, певцов и музыкантов. У истоков
кружка, возникшего в начале века — его устав был
принят в 1905 году, — стояли писатель-демократ
Максим Леонов (отец известного советского прозаика
и драматурга Леонида Леонова), пролетарские поэты
Федор Шкулев и Егор Нечаев. Кружок издавал жур-
налы и сборники, устраивал коллективные читки,
обсуждения литературных и музыкальных произведе-
ний.
Одним из деятельных членов кружка был поэт
Иван Белоусов, с которым Есенин познакомился еще
при первом посещении Москвы. Вероятнее всего Бело-
усов и ввел Сергея в кружок. Здесь юный поэт читал
свои стихи, которые привлекли к нему внимание
остальных кружковцев. Кошкаров, узнав о бедствен-
ном положении юноши, предложил ему пожить у себя,
а средства к существованию Сергей добывал работой,
которую нашел в одном из книжных магазинов;
14
там он служил продавцом с сентября 1912 до февраля
1913 года.
Съездив после этого ненадолго в Константиново,
Есенин вернулся в Москву и снова оказался без рабо-
ты. Отношения с отцом не налаживались, прибегать
к его денежной помощи Сергей не хотел, но тут по-
могли суриковцы (не исключено, что в этом деле
участвовал и отец): через знакомых они устроили его
на работу в типографию Товарищества И. Д. Сытина.
Известный русский книгоиздатель Сытин умело со-
четал свои коммерческие интересы с широкой просве-
тительской деятельностью: он выпускал громадными
тиражами дешевые книги для народа. Его типография
представляла собой крупное современное предприятие,
занимавшее большое многооконное здание на Пят-
ницкой улице в Москве. В типографии был сплоченный
рабочий коллектив, связанный с социал-демократи-
ческой партией и принимавший участие в революцион-
ном движении.
Есенина приняли в типографию экспедитором: он
готовил и отправлял почту, упаковывал книги. Спустя
некоторое время его перевели в корректорскую помощ-
ником корректора, или «подчитчиком»: не повышая го-
лоса (чтобы не мешать соседям), Сергей читал по ав-
торской рукописи текст, который исправлял в гранках
(т. е. в типографских оттисках) корректор. Издатель-
ство готовило тогда к печати сочинения Льва Толстого
и Генрика Сенкевича; они были первыми произведени-
ями литературы, в подготовке выпуска которых участ-
вовал Есенин.
Работа эта пришлась ему по душе. Не менее благо-
творное действие оказало пребывание в рабочей среде,
тесное знакомство и повседневные встречи с наборщи-
ками, печатниками, переплетчиками, среди которых
было немало потомственных пролетариев. «Фабрика с
ее гигантским размахом и бурливой, живой жизнью, —
вспоминает один из «суриковцев», Г. Деев-Хомяков-
ский, — произвела на Есенина громадное впечатление.
Он был весь захвачен работой на ней и даже бросил
было писать. И только настойчивое товарищеское воз-
действие заставляло его время от времени приходить
в кружок с новыми стихами».
Недели через две после поступления в типографию,
в середине марта 1913 года, Есенин принял участие в
коллективном выступлении рабочих: он поставил под-
15
пись под заявлением «пяти групп сознательных рабо-
чих Замоскворецкого района», в котором одобрялись
действия большевиков — депутатов Государственной
думы. В письме Панфилову он сообщал: «Недавно я
устраивал агитацию среди рабочих письмами. Я рас-
пространял среди них ежемесячный журнал «Огни» с
демократическим направлением. Очень хорошая вещь».
Журнал этот издавался «для широких, малообеспе-
ченных слоев демократии», среди его сотрудников
был поэт И. Белоусов, а редактировал его пролетар-
ский писатель Н. Ляшко.
23 сентября 1913 года свыше полутора тысяч рабо-
чих и служащих типографии Сытина участвовали в об-
щемосковской забастовке протеста против гонений на
пролетарскую печать (поводом для забастовки послу-
жило закрытие властями большевистской газеты «Наш
путь»). Вместе с товарищами Есенин бросил работу, вы-
шел во двор типографии, а затем на Пятницкую улицу,
где бастующие остановили трамвай. Полиция аресто-
вала несколько человек, рабочие же, требуя их освобо-
ждения, продолжали бастовать и следующий день.
События эти отразились в письмах Есенина к Пан-
филову. «Писать подробно не могу. Арестовано 8 чело-
век товарищей за прошлые движения из солидарности
к трамвайным рабочим. Много хлопот и приходится
суетиться»; «...здесь кипит, бурлит и сверлит холодное
время, подхватывая на своем течении всякие зароды-
ши правды, стискивает в свои ледяные объятия и несет
бог весть куда в далекие края, откуда никто не при-
ходит» (в последних словах — намек на высылку за
пределы Москвы по распоряжению градоначальника
арестованных участников забастовки). В одном из пи-
сем образным языком, но достаточно прозрачно гово-
рится о настроениях поэта, вызванных террором влас-
тей, и о том, чего можно ждать впереди.
«Печальные сны охватили мою душу... Злой рок
обманул, и деспотизм еще будет владычествовать,
пока не загорится заря. Сейчас пока меркнут звезды
и расстилается тихий легкий туман, а заря еще не
брезжит, но всегда перед этим или после этого угаса-
ния владычества ночи, всегда бывает так. А заря
недалека, и за нею светлый день...»
К рабочему движению приобщал Есенина и Сури-
ковский кружок. В это время Сергей был уже секрета-
рем кружка и в своей работе выходил далеко за рамки
16
чисто творческих занятии: он часто выступал на вече-
рах в заводских районах; выполняя задания социал-
демократической части кружка, распространял рево-
люционные листовки, вел политическую агитацию
среди рабочих.
В эту же пору наладились отношения поэта с от-
цом, и Сергей вернулся на жительство в дом № 24 по
Большому Строченовскому переулку. Вскоре дом этот
попал в документы охранки — за Есениным было уста-
новлено тайное полицейское наблюдение. Дело в том,
что указанное выше коллективное письмо замоскво-
рецких рабочих угодило в руки полиции; подпись Есе-
нина под этим письмом побудила охранку заинтере-
соваться личностью поэта и взять его под надзор.
У дома, где он жил, с утра до позднего вечера дежу-
рил тайный полицейский агент. Вот отрывок из его
донесения, отмечающего передвижения Сергея в тече-
ние одного дня (1 ноября 1913 года):
«В 8 часов 15 минут утра вышел из дома, пошел в
типографию Сытина. С Валовой улицы выхода из
типографии замечено не было. А в 8 часов вечера вы-
шел из дома, раздевшись, и пошел в ресторан «Древ-
ность» по Строченовскому переулку, пробыл 30 минут,
вышел и вернулся домой. Более до 11 часов вечера не
видал».
У поэта был произведен обыск, однако никаких ком-
прометирующих его материалов обнаружить не уда-
лось. Подверглась досмотру и переписка Есенина. Об
этом он успел предупредить своего основного коррес-
пондента Панфилова, предложив ему изменить форму
конвертов и почерк. «За мной следят, — писал он, — и
еще недавно совсем был обыск у меня на квартире.
Объяснять в письме все не стану, ибо от сих пашей и
их всевидящего ока1 не скроешь и булавочной головки.
Приходится молчать. Письма мои кто-то читает, но с
большой аккуратностью, не разрывая конверта. Еще
раз прошу тебя, резких тонов при письме избегай, а то
это кончится все печально и для меня, и для тебя.
Причину всего объясню после...»
1 Скрытая цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Про-
щай, немытая Россия...»:
Быть может, за стеной Кавказа
, Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
17
Круг знакомых Есенина к тому времени заметно
расширился. Этому способствовало, в частности, его
поступление в Народный университет имени Шаняв-
ского.
С момента своего приезда в Москву молодой поэт
лелеял мысль о том, чтобы по совету школьного педа-
гога Хитрова заняться литературным образованием.
Условия жизни, сложившиеся для него в большом
городе на первых порах, очень мало способствовали
этому. Да и в казенный («императорский») универси-
тет принимали только с гимназическим образованием
или сдавших экстерном испытания за полный гимнази-
ческий курс. Этого Есенин, естественно, сделать не
мог. Друзья подсказали ему другую возможность.
На Миусской площади в Москве восьмой год суще-
ствовал первый в России Народный университет, осно-
ванный группой видных ученых на средства, завещан-
ные либеральным общественным деятелем, отставным
генералом А. Л. Шанявским. Университет, как гласило
разосланное его руководителями извещение, призван
был «служить широкому распространению высшего
народного образования и привлечению симпатий наро-
да к науке и знанию». Для поступления в него не
требовалось ни аттестата зрелости, ни сдачи экзаме-
нов, ни каких-либо сословных или имущественных
привилегий. Занятия велись по вечерам, так что с
ними вполне можно было совместить дневную работу.
Университет имени Шанявского был общедоступным,
прогрессивным учебным заведением, свободным от
косности и формализма, процветавших в системе ка-
зенного просвещения. В нем обучалось одновременно
свыше двух тысяч студентов.
Осенью 1913 года Есенин поступил вольнослушате-
лем на историко-философский факультет академиче-
ского отделения этого университета (академическое
отделение было рассчитано на лиц со средним обра-
зованием). Он посещал лекции по истории, логике, фи-
лософии, политической экономии, литературе. Среди
слушателей университета были поэты из пролетарских
и крестьянских слоев: Иван Филипченко, Дмитрий
Семеновский, Василий Наседкин. Есенин сблизился с
ними, а с Наседкиным подружился на всю жизнь.
«Обаяние Есенина, — рассказывает Д. Семеновский, —
привлекало к нему самых различных людей. Где бы
ни появлялся этот симпатичный, одаренный юноша,
18
всюду он вызывал у окружающих внимание и интерес
к себе. За его отрочески нежной наружностью чувст-
вовался пылкий, волевой характер, угадывалось боль-
шое душевное богатство».
Вместе со слушателями университета Есенин бывал
на спектаклях Художественного театра (в «Вишневом
саде» он видел О. Книппер-Чехову, И. Москвина,
В. Качалова, Л. Леонидова), осматривал коллекции
Третьяковской галереи, посетил Данилов монастырь,
где был похоронен Н. В. Гоголь.
В университете существовал творческий литератур-
ный кружок. Есенин принимал участие в его работе.
Весной 1914 года он выступил на заседании кружка
с чтением своих стихов. Кружковцы увидели, что перед
ними незаурядный поэт с большими творческими за-
датками. Выходивший в Москве детский журнал
«Мирок» уже опубликовал к этому времени четыре
стихотворения Есенина (его литературным дебютом
было стихотворение «Береза» в январском номере это-
го журнала за 1914 год), а большевистская газета
«Путь правды» приняла к печати его стихотворение
«Кузнец».
По окончании учебного года в университете
им. Шанявского, в июне 1914 года Есенин уехал на
три недели в Крым — для этого ему пришлось уво-
литься из типографии Сытина. Остальные летние меся-
цы он провел в деревне. Вернулся уже после того, как
началась первая мировая война.
Москва довоенного времени запечатлелась в памя-
ти поэта городом купцов, приказчиков, фабрикантов,
студентов, газетчиков и бедняков. Ему было известно
о революционных боях 1905 года (он упоминает о них
в одном из писем), сам он, как отмечалось выше,
участвовал в коллективных выступлениях рабочих, но
четкого понимания путей социального развития и по-
литической борьбы у него еще не было, а засилье
денежных воротил и мелкого, бездуховного люда —
жадных до богатства приобретателей и мещан — каза-
лось ему чуть ли не главной чертой жизни много-
населенного города.
«Да, друг, — писал он Панфилову, — идеализм
здесь отжил свой век, и с кем ни поговори, услышишь
одно и то же: «Деньги — главное дело», а если будешь
возражать, то тебе говорят: «Молод, зелен, пожи-
вешь — изменишься». И уже заранее причисляют к
19
героям мещанского счастья1, считая это лучшим бла-
женством жизни. Все погрузилось в себя, и если бы
снова явился Христос, то он и снова погиб бы, не раз-
будив эти заснувшие души».
И в другом письме: «Люди здесь большей частью
волки из корысти. За грош они готовы продать род-
ного брата. Все здесь построено на развлечении, а это
развлечение покупают ценой крови. Да, мельчает
публика. Портятся нравы, а об остальном уж и гово-
рить нельзя».
Когда в сентябре 1914 года Есенин вернулся из де-
ревни, в толпе уличных разносчиков, торгового люда,
чиновников, интеллигентов и прислуги то и дело мель-
кали щеголеватые тыловые офицеры в кожаных кра-
гах, самодовольные интенданты, кокетливые сестры
милосердия в накрахмаленных белых косынках с крас-
ным крестиком на лбу, разодетые дамы-благотвори-
тельницы, собиравшие пожертвования «в пользу
окопных героев» и выдававшие взамен трехцветные
ленточки или жетоны на длинных булавках. А газеты
писали в эти дни о поражениях русских войск в Вос-
точной Пруссии, о гибели тысяч солдат в карпатских
предгорьях, на галицийских полях.
Есенину был совершенно чужд военно-шовинисти-
ческий угар, охвативший «образованную публику», чи-
новников и мещан в первые месяцы войны. Его внут-
реннему взору война тотчас же представилась своей
бедственной стороной. Еще в Константинове он видел,
какое опустошение приносит война русской деревне:
с плачем и стонами провожали на фронт запасных,
на сенокосе не хватало мужских рук, часть урожая
погибла под дождем.
Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали' бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.
По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...
(«Русь»)
Так показал поэт русскую деревню первых дней
войны. А когда стало известно о разгроме русских
1 «Мещанское счастье» — повесть Н. Г. Помяловского, опубли-
кованная в 1861 году.
20
войск в Восточной Пруссии, о многих тысячах жертв,
он легко вообразил себе трагедию женщин, потеряв-
ших на фронте мужей, кормильцев, отцов своих детей.
Об этом он написал поэму «Галки», как говорят
читавшие ее, антивоенного* содержания. Именно по
этой причине она не могла попасть в печать — цензура
задержала ее в наборе, а у автора текст не сохранил-
ся. Так она и осталась неразысканной до сих пор.
Самому Есенину к началу войны не было еще девят-
надцати лет, и военное ведомство впервые потрево-
жило его лишь год спустя.
Естественно, что вид тыловой Москвы, паразитиче-
ский образ жизни наживающихся на войне постав-
щиков, чиновников и спекулянтов внушали поэту глу-
бокое отвращение. К этому прибавилось еще ощуще-
ние Москвы как литературной провинции, где не слы-
шен истинный пульс общественной и культурной
жизни страны. «Москва, — писал он, — это бездушный
город, и все, кто рвется к солнцу и свету, большей
частью бегут от нее. Москва не есть двигатель литера-
турного развития, а она всем пользуется готовым из
Петербурга. Здесь нет ни одного журнала. Положи-
тельно ни одного. Есть, но которые только годны на
помойку, вроде «Вокруг света», «Огонек».
Еще в конце 1913 года, когда были написаны эти
слова, у Есенина созрела мысль перебраться в Петер-
бург. Но ни тогда, ни позже подходящих условий для
переезда, да и просто денег на дорогу не было.
Вернувшись из деревни в сентябре 1914 года, Есе-
нин поступил работать корректором в типографию
Чернышева-Кобелькова. Уходил он на службу к вось-
ми часам утра, возвращался после семи вечера и
почти перестал писать стихи.
В декабре Сергей оставил эту службу и снова при-
нялся за творческую работу. Он продолжал посещать
университет им. Шанявского и Суриковский кружок, с
января 1915 года бывал также на собраниях литера-
турно-художественного кружка при журнале «Млеч-
ный путь». В этом журнале сотрудничали писатели-
демократы Алексей Новиков-Прибой, Дмитрий Семе-
новский, Федор Шкулев, Надежда Павлович. Несколь-
ко стихотворений поместил на его страницах и Есенин.
Кроме того, он принял участие в организации нового
демократического издания «Друг народа».
«Друг народа» был задуман писателями-суриков-
21
цами как журнал антивоенного, интернационалист-
ского направления. Есенин был секретарем журнала и
готовил к изданию первый его номер, который появил-
ся 1 января 1915 года; вскоре после этого его избрали
в состав редколлегии. Свою антивоенную поэму
«Галки» Есенин собирался опубликовать именно в
«Друге народа», но, как уже говорилось, дальше
набора дело не пошло. Автору удалось напечатать
здесь лишь стихотворение «Узоры». Разумеется, оно
было более «цензурно», но за стилизованной формой
стиха легко угадывалась мысль о бедствиях, которые
приносит народу война:
Девушка в светлице вышивает ткани,
На канве в узорах копья и кресты.
Девушка рисует мертвых на поляне,
На груди у мертвых — красные цветы.
Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.
В феврале 1915 года возник конфликт между
Есениным и другими членами редакции. Поэт настаи-
вал на более строгом отборе рекомендуемых к печати
произведений, а его коллеги, учитывая невысокий
образовательный уровень многих авторов, считали, что
можно делать им поблажки, публикуя несовершен-
ный в художественном отношении материал. Есенин
вышел из состава редколлегии, продолжая, однако,
сотрудничать в журнале.
Но конфликт этот ускорил решение о поездке
в Петроград. Туда он уже посылал рукописи, и нужно
было выяснить их судьбу, а главное — очень хотелось
встретиться с большими поэтами, с настоящими
мастерами, прежде всего с Александром Блоком.
«Весной уеду в Петроград, — говорил он Семенов-
скому. — Это решено». «Поеду в Петроград, пойду
к Блоку. Он меня поймет...» — сказал он молодому
поэту Николаю Ливкину.
Осуществить это намерение было, однако, не просто.
Ни родных, ни знакомых в Петрограде у Есенина
не было. Не имел он также денег на гостиницу и на
проезд. Тут он вспомнил, что в Ревеле (так назывался
тогда Таллин) жил и имел собственный дом его дядя
И. Ф. Титов, который заведовал нефтяным складом в
22
порту. Еще в начале 1913 года, вероятно, по совету
матери, а может быть, и по приглашению самого дяди,
Есенин собирался к нему в гости, но не поехал. Путь
в Ревель по железной дороге пролегал через Петро-
град. И Есенин, собрав у друзей деньги на билет, ре-
шил отправиться к дяде, а по дороге остановиться
на несколько дней в Петрограде.
Вагон третьего класса почтового поезда увез поэта
из Москвы. Но до Ревеля он не доехал. Первые же
дни пребывания в Петрограде решили всю его даль-
нейшую судьбу.
ПЕТРОГРАД
£два брезжило мартовское утро, когда пассажиры
высадились на мокрый от тающего снега дебаркадер
Николаевского вокзала в Петрограде. Кто на извоз-
чичьей пролетке, кто на трамвае, а кто и в лакирован-
ном экипаже — каждый знал, куда держит путь. Один
только парень в синей поддевке и русских сапогах,
с сундучком за спиной бродил по Невскому проспекту,
стараясь выведать у прохожих адрес человека, кото-
рый о нем ничего не знал и, конечно же, его и не
ждал.
В книжной лавке за Аничковым мостом удалось
выяснить, что проживал этот человек верстах в четы-
рех отсюда — на Офицерской улице, за Мариинским
театром. И Есенин, дойдя до Садовой, сел в трамвай
и, разглядывая незнакомый город с площадки вагона,
направился туда.
В доме № 57 по Офицерской улице, в четвертом
этаже жил Александр Блок. Приезжий поднялся к
нему по черной лестнице. Прислуга, отворив дверь,
сказала, что хозяина дома нет. Тогда Сергей вошел
в кухню и на листке бумаги набросал: «Александр
Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело
для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может
быть где и встречали по журналам мою фамилию.
Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С. Есенин».
Оставив эту записку, Есенин несколько часов бро-
дил по городу, затем пришел снова и был принят
Блоком. Сперва, отвечая на вопросы, он рассказал о
себе, потом стал читать стихи, показал рукописи.
Блок явно заинтересовался молодым стихотвор-
цем — его личностью, его прошлым, его несомненным
23
талантом. В дневнике он записал: «9 марта... Днем
у меня рязанский парень со стихами», а на записке
Есенина пометил: «Стихи свежие, чистые, голосистые,
многословный язык». Как видим, одной фразой Блок
отметил и то, что взволновало его в юном поэте, и то,
что покоробило его. Позднее Есенин вспоминал, как
его учил писать Блок:
«Лирическое стихотворение не должно быть черес-
чур длинным, — говорил мне Блок. — Идеальная мера
лирического стихотворения 20 строк. Если стихотворе-
ние начинающего поэта будет очень длинным, длин-
нее 20 строк, оно, безусловно, потеряет лирическую
напряженность, оно станет бледным и водянистым».
Вероятно, о многом еще говорил молодому автору
Блок, но он не ограничился советами, а решил помочь.
Блок направил Есенина к известному поэту Сергею
Городецкому, увлекавшемуся «лирикой русской дерев-
ни», и к крестьянскому писателю Михаилу Мурашеву,
имевшему налаженные связи с редакциями журналов.
Блок отобрал из услышанных и прочитанных в руко-
писи шесть стихотворений Есенина и рекомендовал их
обоим адресатам.
Вечером того же или, может быть, следующего дня
Есенин был у Мурашева. Тот спросил, обедал ли он и
есть ли ему где ночевать. Есенин ответил, что не
обедал, а остановился якобы у земляков, хотя ни-
каких земляков, живущих в Петрограде, у него не бы-
ло. Пообедав, Есенин рассказывал о себе, читал
стйхи. Время приближалось к полуночи, и хозяин ос-
тавил его у себя ночевать. Наутро он вручил гостю
несколько рекомендательных записок в редакции жур-
налов.
У Городецкого Есенин был 11 марта. «Стихи он
принес завязанными в деревенский платок, — пишет в
своих воспоминаниях Городецкий. — С первых же
строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую
поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целова-
лись, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше,
чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские
«прибаски, канавушки и страдания»... Застенчивая,
счастливая улыбка не сходила с его лица».
Городецкий, в свою очередь, снабдил Есенина пись-
мами, из которых одно было к издателю «Ежемесяч-
ного журнала» В. С. Миролюбову: «Дорогой Виктор
Сергеевич! Приласкайте молодой талант — Сергея
24
Александровича Есенина. В кармане у него рубль, а в
душе богатство».
Несколько дней Есенин жил у Мурашева, затем —
у Городецкого, посещал в Питере литературные вечера,
днем ходил по редакциям. «Ежемесячный журнал»
принял у него три стихотворения и напечатал их в
июньском номере, затем публиковал его стихи в ав-
густе и ноябре. «Новый журнал для всех» печатал
Есенина в двух номерах подряд. Стихи его были при-
няты также в детский журнал «Задушевное слово»,
иллюстрированный «Огонек», газету «Биржевые ведо-
мости», журналы «Голос жизни» и «Русская мысль».
Слух о Есенине дошел и до литературного салона
писателей-декадентов, питавших особый интерес к де-
ревенской экзотике. Молодого поэта пригласили туда
на один из воскресных приемов, где он и читал свои
стихи.
О Есенине заговорили. Блок, не имея возможности
встретиться. с ним второй раз, написал ему весьма
сочувственное письмо. Есенин входил в литературу
и, по существу, уже профессионализировался как
поэт. Весь ход событий вел к тому, чтобы остаться в
Петрограде и развивать здесь свой долгожданный
успех.
Но получилось иначе. Людские потери на фронте
заставили царское правительство объявить досрочный
призыв в армию лиц 1895 года рождения (по нормам
мирного времени их следовало призывать годом поз-
же). Есенин поторопился в деревню, чтоб некоторое
время побыть дома до явки на призыв.
20 мая 1915 года он предстал перед врачебной
комиссией воинского присутствия в Рязани. Сперва
было хотели признать его годным, но врач-окулист
обнаружил у него дефекты зрения, и Есенину дали
отсрочку.
Все лето поэт провел в деревне, интенсивно рабо-
тал — сочинял стихи и прозу (за эти месяцы были
созданы повесть «Яр>, два рассказа, стихотворения
«Белая свитка и алый кушак...», «Разбойник» и дру-
гие), записывал из уст односельчан песни, сказки,
частушки, загадки. Тогда же в деревне Есенин под-
готовил рукописи двух книг: «Рязанские побаски,
канавушки и страдания» и сборник собственных стихо-
творений, название которому он придумал еще три
года назад, когда впервые собрал и отправил в
25
Питер (не получив никакого ответа) все написанные
им стихи. Название это — «Радуница»1.
Вернувшись в Петроград в начале октября 1915 го-
да, Есенин повел переговоры о выпуске «Радуницы» с
издателем М. В. Аверьяновым. У Аверьянова не было
сомнений насчет рентабельности такого издания, и
16 ноября он заключил с автором договор, указав в
нем, что будет напечатано три тысячи экземпляров
(довольно значительный по тому времени тираж для
сборника стихотворений). До выхода книги в свет
оставалось всего лишь несколько месяцев.
Тем временем на квартире Городецкого Есенин
познакомился с поэтом Николаем Клюевым, который
вовлек его в группу «Краса», объединявшую крестьян-
ских писателей. С членами этой группы Есенин 25 ок-
тября 1915 года впервые выступил на публичном вече-
ре. Вечер состоялся в концертном зале Тенишевского
училища, где до того не раз выступал Маяковский.
Кто-то посоветовал Есенину надеть на этот вечер бе-
лую русскую рубашку с серебряной вышивкой и взять
с собой деревенскую гармошку (ливенку), под которую
спеть жалостливые рязанские песни («страдания»)
и частушки. В афише было указано, что Есенин
прочтет «Русь» и «Маковые побаски», а в конце ве-
чера будут исполняться «рязанские и заонежские
(тут имелся в виду Клюев. — И. Э.) побаски,-кана-
вушки, веленки и страдания (под ливенку)». По свиде-
тельству Городецкого, «это был первый публичный
успех Есенина, не считая предшествовавших закры-
тых чтений в литературных собраниях. Был объявлен
сборник «Краса» с участием всей группы».
Вскоре, однако, группа распалась, а Есенин и Клю-
ев развернули свою деятельность в литературно-
художественном обществе «Страда». Это общество
устроило несколько открытых вечеров с участием
обоих поэтов в зале Товарищества гражданских инже-
неров. Есенин и Клюев выступали на этих вечерах как
«народные поэты», причем их произведения исполня-
лись также артистами.
В ту пору оба поэта казались неразлучными, но
именно только казались, потому что дружба их дли-
лась недолго, а общего между ними, хотя обоих
1 Радуница — весенний языческий праздник восточных славян,
связанный с культом предков.
26
считали и «крестьянскими» и «народными», оказалось
довольно мало.
Клюев был на восемь лет старше Есенина, вошел
в литературу раньше его (к 1915 году он был уже
автором пяти сборников стихов) и отличался от него
как умонастроением, так и характером творчества.
Выходец из олонецкой деревни, он стал убежденным
охранителем «дедовской веры», проповедником «избя-
ной» старины. Поэзия его густо насыщена патриар-
хально-кондовой и религиозной символикой. В творче-
стве же Есенина были сильны именно крестьянские,
народные корни, а религиозные мотивы приобрели
совсем иной характер, чем у Клюева: они трактова-
лись то в народно-поэтическом духе, а то и в насмеш-
ливо-сатирическом.
Содружество двух поэтов было недолговечно, но,
пока оно существовало, Клюев старался оказать ду-
ховное влияние на своего «меньшого брата», как он
называл Есенина, и втянуть его в буржуазную лите-
ратурную среду. С осени 1915 года началось их хожде-
ние по богатым петроградским салонам, где Клюев —
в прическе горшком, с подстриженной бородкой, в
черном кафтане — изображал степенного мужика, а
Есенина, одетого в белую рубаху с вышивкой крес-
тиками, подпоясанного цветным шелковым шнурком,
в сапогах с набором, или в валенках, или даже в
лаптях, с непременной гармошкой в руках, заставлял
разыгрывать роль деревенского «Леля», кукольного
пастушка (первым опытом подобной театрализации
был описанный нами выше вечер группы «Краса»).
В таком виде они и появлялись в квартире Мереж-
ковских (буржуазного философа, литератора-дека-
дента Д. Мережковского и его жены, поэтессы-
символистки 3. Гиппиус), где Есенину однажды весной
уже довелось выступать.
Почему же деятели религиозно-философских об-
ществ, мистики и декаденты, заинтересовались «крес-
тьянскими» поэтами и стали наперебой приглашать
их к себе? Дело в том, что в салоне Мережковских
пропагандировали идею слияния народа с религией —
неонародничество, неохристианство. Философы-дека-
денты хотели придать своим мистическим радениям
видимость демократизма; на все лады толковали они
о «народе-богоносце», «мужике-страстотерпце», стре-
мясь продемонстрировать свою «близость» к народу.
27
Для этой цели они пытались использовать Есенина,
чему и содействовал Клюев. В салоне восторгались
юным поэтом, слегка подтрунивали над ним, любова-
лись его картинной внешностью стилизованного
«молодца».
Между тем облик этот ни в какой мере не отвечал
ни характеру личности поэта, ни его творчест-
ву, ни, наконец, реальным условиям его существо-
вания.
Сергей едва себя прокармливал на скудные гоно-
рары, а ведь он заботился еще о родных, оставшихся
в деревне, старался им помочь.
В Петрограде Есенин жил впроголодь, бедствовал,
не имел постоянного пристанища. 21 декабря 1915 го-
да он обратился в Общество для пособия нужда-
ющимся литераторам и ученым (Комитет Литератур-
ного фонда) с прошением о ссуде. «Приходится жить
литературным трудом, — писал он, — но очень тяжко.
Дома на родине у меня семья, которая нуждается
в моей помощи».
Под этим документом, как и под договором, заклю-
ченным с издателем Аверьяновым, стоит домашний
адрес Есенина: Фонтанка, 149, кв. 9. Некоторое время
поэт, вероятно, снимал комнату в этой квартире, но
адрес был во многом условным, потому что в целом
Есенин вел — опять-таки из-за отсутствия денег —
скитальческую жизнь. Ярче всего об этом свидетель-
ствует написанное позднее письмо к поэту Н. Ливкину,
где он сопоставляет свой реальный быт с той легендой,
ходившей вокруг него, и которую разыгрывал в свет-
ских кругах столицы:
«...В то время я голодал, как может быть никогда,
мне приходилось питаться на 3—2 копейки. Тогда,
когда вдруг около меня поднялся шум, когда Мереж-
ковские, Гиппиусы и Философов открыли мне свое чис-
тилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий
в ночлежке, по вокзалам, не мог не перепечатать
стихи, уже употребленные? Я был горд в своем скита-
нии. То, что мне предлагали, я отпихивал. Я имел
право просто взять любого из них за горло и взять
просто, сколько мне нужно, из их кошельков. Но я
презирал их и с деньгами и со всем, что в них есть, и
считал поганым прикоснуться до них».
Это чувство презрения к интеллигентному барству
возникло у Есенина не сразу, но важно отметить, что
28
возникло оно вовсе не из одной лишь материальной
нужды. Очнувшись от угара первых восторженных
встреч и маскарадов, Есенин ощутил, насколько
чужда, ненавистна ему эта рафинированная богема.
В письме к одному из своих друзей он нарисовал
целую сцену, которая могла бы произойти в случае,
если он бы примирился с этой средой:
«...Какой-нибудь эго-Мережковский приподымал бы
свою многозначительную перстницу и говорил: гени-
альный вы человек, Сергей Александрович... стихи
ваши изумительны, а образы, какая образность, а
потом... приподнялся бы вежливо встречу жене и доба-
вил: «Смотри, милочка, это поэт из низов...» А она бы
расширила глазки и, сузив губки, пропела: «Ах, это вы
самый, удивительно, я так много слышала, садитесь».
И почла бы удивляться, почла бы расспрашивать,
а я бы ей, может быть, начал отвечать и говорить,
что корову доят двумя пальцами, когда курица несет
яйцо, ей очень трудно, и т. д. и т. д. Да, брат, сближе-
ние наше с ними невозможно».
Чем более чуждой становилась Есенину декадент-
ская среда, тем явственнее приближался он к демокра-
тическому лагерю литературы. В Петрограде поэт
встречался с М. Горьким, В. Маяковским, В. Шишко-
вым, П. Орешиным; беседы с ними не могли не оста-
вить в его сознании и душе глубоких, благотворных
следов.
Горький замечал стихи Есенина в журналах еще
до первого свидания с ним. Слышал он и от своих
собеседников, например' от армянского литератора
В. С. Терьяна, что Есенин — «талантливый крестьян-
ский поэт, совсем еще юноша», что он «своими яркими
образными стихами возбудил общее внимание к себе».
Наконец, два стихотворения Есенина — «Марфа По-
садница» и «Молебен» («Заглушила засуха засев-
ки...») — были известны Горькому как редактору жур-
нала «Летопись»: оба они предназначались для фев-
ральского номера за 1916 год, но первое было задер-
жано цензором, и лишь второе в конце концов удалось
напечатать.
Однако личная встреча — она произошла в конце
1915 или в начале 1916 года — насторожила Горького:
Есенин, по словам Алексея Максимовича, «был в голу-
бой рубашке, в поддевке и сапогах с набором» и
«очень напоминал слащавенькие открытки Самокиш-
29
Судковской, изображавшей боярских детей»1. Некото-
рые подробности этой встречи Горький изложил потом
в письме к критику И. Груздеву. «Слушал я, как
читал он хорошие, простенькие и наивные стихи свои,
и, помню, задумался: где ж и как будет жить этот
херувим?»
По-настоящему Горький смог узнать Есенина как
поэта уже после этой встречи, когда прочел «Раду-
ницу». По-видимому, к ней именно относятся слова
Алексея Максимовича: «Позднее, когда я читал его
размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не
верилось мне, что пишет их тот самый нарочито кар-
тинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на
Симеоновском...» (на Симеоновском мосту через реку
Фонтанку в Петрограде).
Таким образом, основное впечатление, которое вы-
нес Горький из первых встреч с Есениным и из чтения
его стихов, — впечатление контраста между искрен-
ней, яркой, сердечной музой поэта и его стилизованной
внешностью. Характерно, что тот же контраст бросил-
ся в глаза Маяковскому, который прямо сказал
Есенину: «Пари держу, что вы все эти лапти да пе-
тушки-гребешки бросите!»
И Есенин действительно бросил. Более того, он
отошел от Клюева, вышел из-под его влияния, внут-
ренне с ним порвал. Но это произошло несколько
позднее.
В первых числах февраля 1916 года вышла из пе-
чати «Радуница». Для Есенина, с таким трудом
пробивавшегося в литературу, это был великий празд-
ник. Получив авторские экземпляры, он принялся
перелистывать и перечитывать свою книгу. Из пяти-
десяти принесенных от издателя экземпляров он поло-
вину тут же разослал друзьям и знакомым, осталь-
ные раздавал в последующие дни. 10 февраля он на
одном из экземпляров сделал надпись: «Максиму
Горькому, писателю земли и человека от баяшника
соломенных суемов Сергея Есенина на добрую
память».
1 Самокиш-Судковская Е. П. — художник-иллюстратор, автор
произведений прикладного искусства. Изображение русской старины
в ее творчестве носило декоративный характер, отличалось лу-
бочно-стилизаторскими чертами.
30
Книга состояла из двух разделов: «Русь» и «Мако-
вые побаски». В них тридцать три стихотворения —
лучшее из написанного поэтом, главным образом про-
изведения 1914—1915 годов. Вместе со стихами, на-
печатанными в 1916 году, они давали ясное представ-
ление о характере таланта поэта, об основных мотивах
его творчества. Простота языка, реализм, близость к
фольклору, задушевность авторского голоса, непосред-
ственность чувства — все это отличало Есенина от тех
литературных подростков, творчество которых было
разъедено декадентскими умствованиями, интеллигент-
ской рефлексией. О Есенине заговорили как о само-
бытном поэте-лирике, творце «дивных красок», худож-
нике с будущим.
В русской лирике 1910-х годов видное место зани-
мали поэты-декаденты: еще не сдал своих позиций
символистский лагерь литературы с его мистикой, ин-
дивидуализмом, отрешенностью от реального бытия;
уже появились акмеисты, насаждавшие культ «перво-
бытной силы», отрицавшие социальный смысл искус-
ства; зазвучали голоса футуристов, грозивших утопить
в формалистическом словотворчестве живое дело
поэзии.
Есенин чуждался всех этих надуманных и претен-
циозных эстетских изысков. Он принадлежал к демо-
кратическому отряду литературы, формировавшемуся
под руководством М. Горького. Наряду с входившими
в этот отряд пролетарскими поэтами, во главе кото-
рых стоял Демьян Бедный, с крестьянскими поэтами
И. Дрожжиным, П. Орешиным и другими, Есенин был
верен реалистическим и народным традициям русской
поэзии, высоко ценил в искусстве жизненность содер-
жания и ясность поэтического слова.
«ПОЛЕЙ малиновая ширь»
^Мировосприятие С. Есенина с самых ранних лет
складывалось в тесном общении с природой. Сквозь
нее молодой стихотворец постигал и сложность бытия,
и превратности человеческих судеб, и жизнь собствен-
ной души. Уже первое опубликованное Есениным
стихотворение — оно появилось в январской книжке
детского журнала «Мирок» за 1914 год и написано
было, следовательно, не позднее, чем в восемнадцать
31
лет, — обнаружило замечательную способность его
поэтического зрения. Растущее под окном дерево он
увидел в торжественном наряде, в благоговейной
тишине и, главное, в признаках неторопливой, но веч-
ной, нетленной, беспрерывно обогащающей себя
жизни:
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
(«Береза»)
Последующие стихи молодого поэта явили собой
целый каскад художественных открытий. Сергей Горо-
децкий, услышавший эти стихи из уст автора всего
лишь через год после первых его выступлений в
печати, сразу почувствовал, «какая радость пришла в
русскую поэзию». Природа в стихах юноши зазвенела
голосами птиц, шепотом листьев, говором ручьев, шу-
мом дождей, заиграла цветами бесчисленных радуг.
Это не было натуральным воспроизведением увиден-
ного и услышанного — это были поэтические находки,
поражавшие своей свежестью, самобытностью, скром-
ным изяществом и затейливой простотой.
Вяжут кружево над лесом
В желтой пене облака.
В тихой дреме под навесом
Слышу шепот сосняка.
(«Я — пастух; мои палаты...»)
Или:
Сохнет стаявшая глина,
На сугорьях гниль опёнок,
Пляшет ветер по равнинам,
Рыжий ласковый осленок.
(«Сохнет стаявшая глина...»)
Природу Есенин ощущал в движении, он улавливал
взаимосцепление отдельных ее элементов. Он мог изо-
бразить одно явление природы с помощью другого:
«Сыплет черемуха снегом», «Как метель, черемуха ма-
32
шет рукавом», «На грядки серые капусты волноватой
рожок луны по капле масло льет», «Кругом роса медвя-
ная сползает по коре, под нею зелень пряная сияет в се-
ребре». Взор поэта схватывает и общую картину, и
мелкие предметные детали (часто близие к предме-
там обиходного мира). Природа дышит, действует,
живет.
Именно этим объясняется то, что поэт, описывая ее,
прибегает к способам звукового изображения: «Хвой-
ной позолотой взвенивает лес», «Поет зима — аукает,
мохнатый лес баюкает стозвоном сосняка». Звенит в
его стихах не только сосняк, звенит и рожь, и — что
особенно характерно — в звуковых образах восприни-
маются цветовые, зрительные явления: «в роще по
березкам белый перезвон*, «хотел бы затеряться в
зеленях твоих отозванных», «а у низеньких околиц
звонко чахнут тополя* (курсив мой.—И. Э.).
Есенин не только наблюдал, но и глубоко пережи-
вал явления природы; умом и чувством он стремился
проникнуть в глубокие тайны ее. Он говорил:
Понятен мне земли глагол,
Но не стряхну я муку эту,
Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету.
Так кони не стряхнут хвостами
В хребты их пьющую луну...
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину.
(«Душа грустит о небесах...>)
Понимание природы Есениным теснейшим образом
связано с народной мифологией. Об этом убедительно
говорит его теоретический трактат «Ключи Марии».
Ключами к познанию окружающего мира он считает
те представления о нем, которые сложились у наших
далеких предков и воплотились в народной поэзии.
Завися от природы, человек старался подчинить ее
себе умственно, поэтически, роднясь с нею духовно,
приближая ее к себе. Все народные метафоры
основаны на стремлении человека «приручить», «одо-
машнить» явления природных стихий — подчинить их
путем уподобления простым, обиходным, осязаемым,
близким вещам.
Этот принцип «заставления воздушного мира зем-
ною предметностью», т. е. передачи вселенского, об-
2—19
33
щего через обиходное и простое, стал конструирующим
началом образной поэтики молодого Есенина. Туча,
снег, метель, пурга, солнце, луна, месяц, зарево, небо,
теплынь, звезды и целые созвездья — все познается
через предметы, до которых можно дотянуться рукой:
«туча — борода»; «луна — глаз» («белые веки луны»);
«свечка вечерней звезды»; «заря над полем — как
красный тын; хлебной брагой льет теплынь»; «мете-
лица ковром шелковым стелется»; «валит снег и стелет
шаль»; «ярче розовой рубахи зори вешние горят»;
«небо сметаной обмазано, месяц как сырный кусок».
Принцип этот относится и к постижению отдельных
явлений природы через образы животных и птиц:
«Лошадиную морду месяца схватить за узду лучей»;
«Чистит месяц в соломенной крыше обоймленные
синью рога».
Среди произведений, выражающих есенинскую кон-
цепцию природы, одно из самых видных мест занима-
ют стихотворные новеллы о животных. Их не так уж
много (менее десятка), но они неизменно оставляют
в памяти читателя глубокий, несмываемый след: столь
пронзительно и щемяще выражено в них чувство ав-
торской боли за судьбу «братьев наших меньших»,
нуждающихся в милосердии и защите.
Первые произведения этого цикла (хотя автор сам
их в цикл не выделял) были написаны в предоктябрь-
ские годы: «Корова», «Табун», «Песнь о собаке», «По
лесу леший кричит на сову...», «Лисица», «Лебе-
душка». Мы не случайно назвали эти вещи новел-
лами — почти все они сюжетны, раскрывают образ
животного в драматических для его судьбы ситуациях:
у коровы отобрали и прирезали больного телка; у со-
баки хозяин отнял и утопил семерых щенят; медведиха
в берлоге зовет своих детей — ей чудится, что они
угодили под охотничью острогу; подстреленная лисица
приковыляла к своей норе на разбитой, раздробленной
лапе; белоснежную лебедушку, прикрывшую крыль-
ями своих лебедят, разодрал когтями орел...
Лишь последняя из пересказанных нами новелл
(«Лебедушка») носит характер стилизации, в основу
которой положена старинная легенда. Все осталь-
ные — это житейские, полные трагизма истории, о ко-
торых поэт поведал со всей присущей ему эмоциональ-
ной лирической силой. Здесь нет ни наигранного
мелодраматизма, ни дешевого сентиментальничания,
34
здесь — голос высокой гуманности, призывающей нас
к сочувствию живым, страдающим существам. Вспом-
ним слова Горького о Есенине: «...Он первый в русской
литературе так умело и с такой искренней любовью
пишет о животных».
Каким путем достиг такого эмоционального эффек-
та поэт? Приглядимся к его стихам, и мы увидим, что
главным средством выражения темы в них является
уже знакомый нам прием очеловечивания природного
мира. Животные в его стихах думают, воображают,
видят сны, страдают и плачут, как человек.
Спит медведиха, и чудится ей:
Колет охотник острогой детей.
(«По лесу леший кричит на сову...»)
А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков
И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.
(«Песнь о собаке»)
«После этих стихов, — писал Горький, слушавший
«Песнь о собаке» в чтении автора, — невольно поду-
малось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько
орган, созданный природой исключительно для поэзии,
для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви
ко всему живому в мире и милосердия, которое —
более всего иного — заслужено человеком».
В ориентации Есенина на народную мифологию
есть одна важнейшая закономерность. Изначальные
народные представления об окружающем служили
часто лишь отправными точками, которые помогали
ему выстроить свой поэтический мир. Пейзаж нередко
создавался им по законам народной поэтики, но
«психологизация» пейзажа, т. е. выражение душевных
чувств, вызванных соприкосновением с природой, про-
ходила уже по законам собственного творчества.
Обычные для народной лирики «психологические па-
раллелизмы» играют в творчестве Есенина меньшую
роль, чем найденные им самим способы лирической
интерпретации образа. И отнюдь не всегда символи-
ческие значения деревьев, птиц и цветов, принятые
2**
35
в народной поэзии (дуб — синоним долголетия, кукуш-
ка — одиночества, осина — горя и т. п.), ассимилиру-
ются в его стихах: очень часто он придает объектам
природы свой смысл и свою индивидуальную лириче-
скую окраску.
При всей локальности и конкретности черт, характе-
ризующих природу тех именно мест, где провел свое
детство поэт («рязанских раздолий»), его пейзажи
обладают и более широкой значимостью. Они выра-
жают понятие Родины и проникнуты чувством благо-
говения поэта перед ее нетленной красотой. Прекрас-
ное — это отчая наша земля с буйным цветением трав,
с праздничным звоном лесов, с пестротой полей,
с озерами, косогорами, птицами, зверями, со всем тем,
что наполняет жизнь человека.
О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
(«Запели тесаные дроги...»)
Грустным, невзрачным выглядит часто сельский
пейзаж: здесь не только «тоска озер», но и скудость
жилья, и убожество деревенских построек. «Потонула
деревня в ухабинах, заслонили избенки леса» — этими
безрадостными строками начинается лирическая поэма
«Русь». Жутью окутаны бесконечные зимние сумерки
с завывающими волками, с неутихающей пургой.
И так во многих стихах: в одном — заброшенный
край, тощая деревенька, пустырь с нескошенным се-
ном, с пятью покривившимися избами; в другом —
Сторона ль моя, сторонка,
Горевая полоса.
Только лес да посолонка,
Да заречная коса...
(«Сторона ль моя, сторонка...»)
Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.
(«Черная, потом пропахшая выть!..»)
Но эта боль, эта «печаль полей», не гасит в поэте
любви к Родине, а усиливает ее. В поэме «Русь» у него
вырываются слова:
Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
36
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.
И затем:
Ой, ты Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.
И в забытом, но родном краю, соприкасаясь с не-
богатой природой, автор одухотворяет ее, преображает
своим поэтическим зрением: он видит «полей малино-
вую ширь», «золото травы», «синюю даль плоского-
рий», на хвойных ветках — «позолоту», на листьях
крапивы — «яркий перламутр».
Религиозные мотивы в стихах юного поэта, позаим-
ствованные из знакомых ему с детства духовных
песен и легенд, сочетались с деталями крестьянского
быта и с живыми красками природы. Мифологические
сюжеты как бы растворялись в общей картине дере-
венского бытия. «Я вовсе не религиозный человек и
не мистик, — утверждал позднее Есенин. — ...Я просил
бы читателей относиться ко всем моим Ису сам, божь-
им матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии».
Действительно, религиозные сюжеты автор истол-
ковывал в сказочном легендарно-поэтическом духе:
в его стихах они выражали определенные черты
народного сознания, связанные с древними религиоз-
ными мифами. Они близки к народным апокрифам1,
легендам.
Заметим, например, что предметы церковного оби-
хода фигурируют в стихах Есенина лишь как средства
художественной изобразительности: так «вызванивают
в четки ивы, кроткие монашки»; «под соломой-ризою
выструги стропил». Церкви, монастыри, часовни, мо-
гильные кресты входят в стихи как детали сельского
пейзажа: «чахнет старая церквушка, в облака за-
кинув крест»; «сенокос некошеный, лес да монастырь»;
«опять часовни на дороге и поминальные кресты...».
Есенин говорил, что религиозные вымыслы вызыва-
ли у него в детстве настроения необычайного озорства
и даже богохульства. Следы этих настроений отчет-
ливо видны в его стихах. Богомольцы, служители
1 Апокрифы — произведения древней литературы, в основе ко-
торых лежат народные предания, противоречащие церковным кано-
нам. Официальной церковью апокрифы были запрещены.
37
культа и церковные обряды часто изображаются с не-
прикрытой иронией, с чуть грубоватой насмешкой.
Странники в стихотворении «Калики» «пели стих о
сладчайшем Иисусе», а им «подпевали горластые
гуси». Примерно то же в стихотворении «По дороге
идут богомолки...»: «На вратах монастырские знаки:
«Упокою грядущих ко мне», а с подходом богомолок
«в саду разбрехались собаки, словно чуя воров на
гумне». Особенно показательна картина молебна в
стихотворении «Заглушила засуха засевки...»:
Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая.
Загузынил дьячишко ледащий:
«Спаси, господи, люди твоя».
Открывались небесные двери,
Дьякон бавкнул из кряжистых сил:
«Еще молимся, братья, о вере,
Чтобы бог нам поля оросил».
Таким образом, занимая известное место в ранней
лирике Есенина, религиозно-церковные мотивы и обра-
зы не определяли ее существа. «От многих моих рели-
гиозных стихов и поэм, — заявил в автобиографии
Есенин, — я бы с удовольствием отказался, но они
имеют большое значение как путь поэта до рево-
люции».
В общении с природой, со всем, что его окружает,
поэт переживает то горечь, то радость, то печаль, то
сожаление, скорбь, успокоение, грусть. Гамма его на-
строений широка и пестра потому, что такова русская
жизнь. Пестрота эта, противоречивость усиливается,
когда расширяются масштабы социального зрения ху-
дожника, когда он наблюдает не только сермяжную
нищету рязанских деревенек, но и хмурые очертания
сибирских рудников и острогов. Например, в стихотво-
рении «За темной прядью перелесиц...», где вслед за
тонкой зарисовкой «неколебимой синевы» затиха-
ющего озера, черемухового дыма степи идет суровое
упоминание таящейся в глубине страны «солончако-
вой тоски» и кандалов далекой Сибири. Или в стихо-
творении «Синее небо, цветная дуга...», где поэт вос-
клицает:
Многих ты, родина, ликом своим
Жгла и томила по шахтам сырым.
Противоречия эти не могли не выразиться в харак-
38
тере лирического героя. На крайних полюсах его ду-
шевных движений можно ощутить то тихую умиротво-
ренность, то вспышки самых буйных сил. Происходит
это потому, что вместе с родной страной герой испы-
тывает крайнюю неудовлетворенность жизнью; отсю-
да — целый ряд мотивов и сюжетов его лирики:
«одурманенность весной», ощущение вселенского
праздника, молитвенное благоговение перед природой
и вслед за этим — чувство бесприютности, боль души,
прощание с молодостью, признание краткости и брен-
ности земного существования.
Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.
Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.
(«Троицыно утро, утренний канон...»)
Все встречаю, все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.
(«Край любимый! Сердцу снятся...»)
Чувство горестного недовольства судьбой, подчер-
киваемое соответственно окрашенными картинами
природы, иногда прорывается в бунт, в настроения
бродяжничества, ушкуйничества, «хулиганства»: «Сча-
стлив, кто жизнь свою украсил бродяжной палкой и
сумой»; «Покину хижину мою, уйду бродягою и во-
ром». Мотивы же «разбойные», бунтовские имеют ярко
выраженный социальный и богоборческий характер.
Засев у дороги ночью с кистенем, герой грозит бога-
тому купцу, у которого — и казна, и парча, и золотой
халат («Разбойник»). А в стихотворении «О Русь,
взмахни крылами...» он ополчается на самого бога,
грозя ему ножом из голенища:
Долга, крута дорога.
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной бога
Веду я тайно спор.
Сшибаю камнем месяц
И на немую дрожь
Бросаю, в небо свесясь.
Из голенища нож.
М. Горький объяснял эти мотивы конфликтом,
39
столкновением крестьянского поэта с буржуазной ци-
вилизацией, с капиталистическим городом. Он писал:
«Я видел Есенина в самом начале его знакомства
с городом... Город встретил его с тем восхищением,
как обжора встречает землянику в январе. Его стихи
начали хвалить, чрезмерно и неискренно, как умеют
хвалить лицемеры и завистники... Он очень рано по-
чувствовал, что город должен погубить его, и писал
об этом прекрасными стихами. Оставаясь оригиналь-
нейшим лириком, он стал хулиганом в полном смысле
этого слова, — мне кажется, хулиганил он из отчая-
ния, из предчувствия гибели, а также из мести
городу».
Здесь речь идет об органических социальных поро-
ках буржуазного города, который своим лицемерием,
пресыщенностью, завистливым интересом к поэтиче-
скому самородку мог поглотить его, растворить в себе
(к чему и стремились юродствующие во Христе буржу-
азные интеллигенты) либо — что случилось на самом
деле — вызвать в нем настроения отчаяния, бунта,
озорства.
В стихах 1912—1916 годов нигде не раскрывались
причины разъедающего поэта душевного скепсиса и
стимулы его бунтарско-анархических настроений. Но
в одном из позднейших произведений, в автобиографи-
ческом стихотворном рассказе «Мой путь» (1925),
такой намек прорвался:
Россия... Царщина...
Тоска...
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,
Отчаянное хулиганство.
Сказано, может быть, излишне прямо, но, как все у
Есенина, предельно искренне, без всякого наигрыша.
Поэту незачем было щеголять тем, что он не прини-
мал «царщины» и «дворянства»: его природный демо-
кратизм, его нерасторжимые связи с деревней, сочув-
ствие крестьянскому люду вполне объясняли и неприя-
тие господствующего социального строя, и гложущую
сердце «тоску» и «отчаянное хулиганство».
40
ЦАРСКОЕ СЕЛО
Двадцать пятого марта 1916 года Есенин снова был
вызван в воинское присутствие — на сей раз в Петро-
граде. К тому времени нормы медицинских требова-
ний к призываемым снизились (людские резервы в
стране таяли: их поглощала война), Есенина признали
годным к военной службе и зачислили в запасной
батальон. Из состава этого батальона формировались
маршевые команды, отправляемые на фронт. Но Есе-
нин на фронт не попал — он был отозван из батальона
по ходатайству полковника Д. Н. Ломана, добивше-
гося через Мобилизационный отдел Генерального
штаба прикомандирования поэта к Царскосельскому
военно-санитарному поезду. Осуществляя этот пере-
вод, Ломан преследовал, как затем выяснилось,
далеко идущие цели.
Поскольку Есенина предназначали для службы в
качестве санитара, его направили в Петроградский
резерв военных санитаров, а оттуда одиннадцать дней
спустя в Царское Село (ныне город Пушкин). К месту
службы он прибыл 20 апреля и там был заново обмун-
дирован: ему выдали фуражку с красным крестиком
и овальной кокардой, полевые погоны с ефрейторской
нашивкой; на погонах был вышит вензель, обозначав-
ший Царскосельский военно-санитарный поезд № 143
имени императрицы Александры Федоровны.
База санитарного поезда и обслуживаемые им ла-
зареты (солдатский и офицерский) находились на тер-
ритории Федоровского городка в Царском Селе.
Городок, расположенный неподалеку от Египетских
ворот, представлял собой комплекс зданий, выдержан-
ных в стиле древнерусского зодчества и обнесенных
кремлевской стеной с живописными башнями. Городок
мыслился его устроителями как придворный музей,
который должен был пропагандировать в официально-
патриотическом духе художественные достижения
Древней Руси. Строительство не было завершено, и на
время войны в его зданиях расположился военно-
санитарный пункт. Есенин жил в одной комнате с
тремя другими военнослужащими нижних чинов; у
каждого была койка, покрытая серым одеялом, с таб-
личкой на стене, на которой указана фамилия, и с
вышитым полотенцем под ней.
Штаб-офицер для поручений при дворцовом комен-
41
данте . полковник лейб-гвардии Павловского полка
Д. Н. Ломан прежде руководил строительством Федо-
ровского городка. Во время войны он стал начальником
одного из царскосельских лазаретов и уполномочен-
ным императрицы по военно-санитарному поезду. Же-
лая приручить молодого поэта, он предоставлял ему
разные льготы — главным образом отпуска, позволяв-
шие Есенину часто ездить в Петроград и заниматься
литературными делами. В городе он останавливался
то у Клюева, то у Мурашева.
За вычетом этих льгот Есенин должен был нести
все тяготы гарнизонной и военно-санитарной службы,
осложненные близостью императорского двора. Бого-
служения, смотры, караулы, дежурства — все это со-
блюдалось в Царском Селе с неукоснительной стро-
гостью. В санитарном поезде Есенин выезжал на
фронт, подносил к вагонам раненых, регистрировал
их, сопровождал по железной дороге; в промежутках
между рейсами обслуживал их в лазаретах, нес
строевую и гарнизонную службу.
Жизнь в Царском Селе была муторной и унылой.
Одно из писем, написанных с места службы, Есенин
начал словами: «Очень хотелось бы поговорить с
Вами, но совсем закабалили солдатскими узами, так
что и вырваться не могу». А годы спустя в кругу дру-
зей, по воспоминаниям одного из них, «рассказал
...свои великие муки, когда он был солдатом, как изде-
вались над ним офицеры, когда он вынужден был
жить у какого-то полковника, приближенного ко
двору, как заставляли его писать хвалебные стихи им
и оды царю и придворной камарилье».
Здесь Есенин приоткрыл историю своих взаимо-
отношений с Ломаном и сущность замысла это-
го царедворца: Ломан старался приблизить к себе
талантливого самородка, чтобы заставить его пи-
сать верноподданнические стихи во славу цар-
ствующей династии. Что из этого получилось — узнаем
дальше.
Пока что время, свободное от службы, Есенин
использовал для творческой работы. Даже в казар-
ме он часто уединялся, садился возле окна, сочинял
стихи. За время военной службы он написал около
двадцати стихотворений (в том числе «Крестьян-
ский пир», «Мечта», «Устал я жить в родном краю...»),
подготовил к печати второй сборник стихов — «Го-
42
лубень», опубликовал ряд произведений в сборниках
и журналах.
Творческую работу Есенину облегчил длительный
отпуск по болезни: в июне 1916 года он перенес
операцию аппендицита, после чего ему удалось съез-
дить в Константиново. «Худой, остриженный наголо,
приехал он на побывку, — рассказывает сестра поэта
Екатерина. — Какая тишина здесь, — говорил Сергей,
стоя у окна на улицу и любуясь нашей тихой зарей».
В деревне были написаны стихотворения «Я снова
здесь, в семье родной...», «В зеленой церкви за го-
рой...» и «Даль подернулась туманом...».
Но поездка прибавила и забот: семья бедствовала,
отец болел и не мог ей помогать. В письме к И. Ясин-
скому — уже вернувшись в Царское Село — Есенин
просил (Ясинский редактировал журнал «Новое сло-
во») : «Будьте добры, Иероним Иеронимович, не отка-
жите сообщить о судьбе тех моих стихов, которые я
Вам дал... Мне сейчас очень важно заработать лиш-
нюю десятку для семьи, которая по болезни отца чуть
не голодает». И примерно тогда же писал издателю
Аверьянову: «Положение мое скверное. Хожу отрепан-
ный, голодный, как волк, а кругом все подтягивают.
Сапоги каши просят. Требуют, чтобы был, как зеркало,
но совсем почти невозможно. Будьте, Михаил Василь-
евич, столь добры, выручите из беды, пришлите руб-
лей 35. Впредь буду обязан Вам «Голубенью»...»
Как видим, ни казенное армейское обеспечение, ни
покровительство влиятельного полковника не облег-
чили жизни поэта. Еще более серьезные трудности
и чреватые бедою опасности возникли перед ним в
первые месяцы 1917 года.
Военно-санитарный поезд имел свое делопроизвод-
ство; велась документация и в других учреждениях
Федоровского городка — в этих бумагах и зафиксиро-
ваны факты- службы санитара Есенина, имевшего
личный номер 9999.
В один из первых дней января 1917 года — пятого
или шестого — он был на богослужении в Федоров-
ском соборе. 14 января протоиерей Владимир Кузь-
минский приводил его и других солдат к военной
присяге; 19 февраля на завтраке в честь членов «Об-
щества возрождения художественной Руси» в трапез-
ной Федоровского собора читал стихи...
О том, какими чувствами жил в те дни поэт, слу-
43
жебные документы, конечно, не говорят. Но всего
лишь за несколько месяцев до принятия Есениным
«клятвенного обещания на верность службы* в петро-
градском журнале «Северные записки» было напечата-
но стихотворение, где, обращаясь к Родине, поэт
говорил:
О сторона ковыльной пущи,
Ты сердцу ровностью близка,
Но и в твоей таится гуще
Солончаковая тоска.
Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири,
И горб Уральского хребта.
(«За темной прядью перелесиц...»)
Тех, кто томится «по шахтам сырым», кому «вечная
правда и гомон лесов радуют душу под звон канда-
лов», упоминал поэт и в другом стихотворении («Синее
небо, цветная дуга...»).
Однако в Царском Селе ждали от него иных сти-
хов. Близость двора, шефство императрицы над сани-
тарным поездом и военными лазаретами создавали
атмосферу, при которой царедворцы старались исполь-
зовать военнослужащих для демонстрации вернопод-
даннических идей. Того же требовали и от Есенина.
Полковник Ломан дважды предписывал своему подчи-
ненному (рекомендуя ему привлечь себе в помощь
Н. Клюева) написать цикл стихотворений или поэму —
в общем, целую стихотворную книгу, в которой про-
славлялись бы «культурная миссия Федоровского
собора», деятельность «Общества возрождения худо-
жественной Руси» и «лик царя». Оба поэта ответили
отказом.
Правда, Есенину пришлось однажды читать стихи
в присутствии царских дочерей, а в другой раз — в
присутствии императрицы. Но ничего близкого к на-
строениям казенного патриотизма в стихах этих не
было. Читал он грустные, печальные стихи о России,
о странниках, нищих, калеках («Я странник убогий...»,
«Микола» и другие). Чтобы избежать повторения по-
добных спектаклей, поэт просил Мурашева, имевшего
связи в военном ведомстве, добиться перевода его в
другую воинскую часть. О том, как он воспринимал
официальную идеологию — проповедь военного шови-
44
низма, почитание царской власти и т. п., Есенин
впоследствии говорил:
«Я, при всей своей любви к рязанским полям и к
своим соотечественникам, всегда резко относился к
империалистической войне и к воинствующему патрио-
тизму. Этот патриотизм мне органически чужд. У меня
даже были неприятности из-за того, что я не пишу
патриотических стихов на тему «гром победы, разда-
вайся», но поэт может писать только о том, с чем он
органически связан».
«Неприятности», о которых говорит поэт, настигли
его в феврале 1917 года, когда он снова, как сообщает
в автобиографии, «отказался написать стихи в честь
царя». На сей раз не обошлось без репрессий. Есенин
был отправлен на фронт в дисциплинарный батальон.
РЕВОЛЮЦИЯ
«Экстренный отзыв», т. е. командировочное предпи-
сание, выданное санитару Есенину, гласило, что
23 февраля 1917 года он должен отбыть из Царского
Села в Могилев, в распоряжение командира 2-го
батальона сводного пехотного полка.
Однако попал ли туда Есенин, сведений нет. По
крайней мере, в день, когда ему полагалось выехать
на фронт, он находился еще в Петрограде. Но именно
тогда разразились события, которые вскоре привели к
крушению самодержавного строя; события эти от-
менили все распоряжения царских властей, в том чис-
ле и предписание, выданное Есенину.
23 февраля в Петрограде забастовало 90 тысяч ра-
бочих. Выступая под антиправительственными лозун-
гами, бастующие заняли окраины города. На следу-
ющий день стачка охватила уже 200 тысяч трудящих-
ся; на Невском проспекте раздавались выкрики «До-
лой царя!»; в ряде пунктов города войска отказыва-
лись разгонять демонстрантов. На рассвете 27 февраля
восстала учебная команда Волынского полка, к ней
присоединились рядовые Преображенского и Литов-
ского полков, солдаты вместе с рабочими взяли при-
ступом арсенал, захватили 40 тысяч винтовок. Народ
с оружием в руках выступил против самодержавия.
Началась революция.
Но даже если бы Есенин успел выехать в Могилев,
где находился не только сводный пехотный полк, но и
45
ставка Верховного главнокомандующего, его глазам
открылась бы картина не менее выразительная. Пыта-
ясь подавить «беспорядки», вспыхнувшие в столице,
царь и ставка двинули с фронта войска в Петроград.
Войска эти добрались лишь до Царского Села. Здесь
они побратались с революционными солдатами и отка-
зались следовать дальше. Сам царь, намереваясь воз-
вратиться из ставки в Петроград, доехал лишь до
станции Дно: встречные поезда были забиты солда-
тами, разносившими весть о восстании в Питере.
В этой обстановке Есенину не было никакого смысла
выполнять «экстренный отзыв» полковника Ломана...
Вернувшись в Царское Село, поэт убедился, что
полковника уже нет, всех служивших при дворе и след
простыл. Штат санитаров в поезде № 143 был непо-
мерно раздут, и его решили сократить. Поскольку же
Временное правительство собиралось вести «войну до
победного конца», Есенина 17 марта отослали в распо-
ряжение Воинской комиссии при Государственной
думе для зачисления в школу прапорщиков. Однако
служить Временному правительству у поэта не было
ни малейшего желания. «В революцию, — писал он в
автобиографии, — покинул самовольно армию Керен-
ского...»
Первым откликом поэта на свержение самодержа-
вия было стихотворение «Разбуди меня завтра рано...»
Оно рисует революцию в образе «дорогого гостя»,
оставившего «след широких колес на лугу», сверка-
ющего золотой дугой и несущегося по просторам
родимой страны:
На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.
С конца марта по август 1917 года был создан
цикл маленьких поэм, из которых лишь первая —
«Товарищ» — показывает реальные обстоятельства
жизни людей, совершавших революцию («Он был сы-
ном простого рабочего...», «Иногда за скудным обедом
учил его отец распевать марсельезу...»), и упоминает
реальные исторические события и места: «февраль-
ский ветер» (т. е. февральская революция), «Марсово
поле» (место погребения жертв революции в Петро-
граде). Что же касается остальных трех поэм: «Певу-
щий зов», «Отчарь» и «Октоих» — в них образ рево-
46
люции просвечивает сквозь сложную систему библей-
ских символов и мифологических понятий. «Земля
предстала новой купели» — это новое крещение мира,
начало революционной истории. «Она загорелась,
звезда Востока! Не погасить ее Ироду кровью мла-
денцев», т. е. никаким реакционным террором нельзя
потушить великое пламя революции. В этих образах
воплотился особый поэтический прием «обожествле-
ния» революции. Поэт возвеличивал революционный
процесс, но еще не разбирался в его историческом и
классовом содержании. Недаром он сам признавался:
«Первый период революции встретил сочувственно,
но больше стихийно, чем сознательно».
Опасаясь репрессий со стороны новых властей или
же принудительного возвращения на военную службу,
Есенин значительную часть времени проводит в разъ-
ездах. В конце марта 1917 года он в Москве, в начале
лета уезжает на два месяца в родную деревню. «Де-
ревня бродит, как молодая брага», — писал он другу
из Константинова. Едва вернувшись в Петроград,
снова отправляется в путь — на север: «Я был... на
Мурманском побережье, в Архангельске и Соловках».
В одной из деревень Вологодского уезда 4 августа
1917 года был зарегистрирован брак Есенина с Зина-
идой Николаевной Райх. Сергей познакомился с ней
ранней весной 1917 года в редакции петроградской
газеты, где она работала секретарем-машинисткой.
Ее родители жили в Орле (отец был пароходным
и паровозным машинистом). Там и провели молодо-
жены последние дни августа 1917 года, возвратившись
с севера. После этого они сняли квартиру в Питере
на Литейном проспекте в доме № 33.
Общение с крестьянами в деревне, со многими
людьми в городах, сентябрьские события в Петрограде
(переход Советов в руки большевиков, провалившаяся
попытка Временного правительства распустить рево-
люционный штаб моряков — Центробалт) ввели поэта
в курс суровых дел революции, раскрыли ему настрое-
ния масс. Тогда же он стал пересматривать и свое
отношение к тем литературным и общественным кру-
гам, с которыми был близок в дореволюционное
время.
Еще 24 июня 1917 года в письме из деревни поэт
осудил то общество «питерских литераторов» (называя
при этом Мережковского и Гиппиус), с которым
47
судьба свела его в 1915—1916 годы. «...Ругаются они,
лгут друг на друга... Им все нравится подстриженное,
ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с
плеч свою вихрастую голову, и, боже мой, как их легко
взбаламутить». Вспоминая высокомерие и снисходи-
тельность, с которою принимали его в этой среде,
поэт писал, что разорвал с нею прочно и навсегда.
Однако Есенин был еще близок к Клюеву, а в начале
1917 года они оба примкнули к группе литераторов,
объединившихся вокруг сборника «Скифы». Возглав-
лял эту группу публицист, философ и критик Р. В. Ива-
нов-Разумник, который проповедовал «особый путь»
движения России к патриархальному социализму —
через «вознесение» славянофильского, скифского духа.
Но к осени 1917 года поэт уже разочаровался
в Клюеве, а спустя некоторое время — ив Иванове-
Разумнике. О начале этого перелома говорит сближе-
ние Есенина с Петром Орешиным — крестьянским ре-
волюционным поэтом, который был далек и от старо-
обрядчества, и от «скифства». Встреча эта произошла
в Петрограде в одну из холодных осенних ночей
1917 года, незадолго до Великого Октября.
Провели они вместе почти всю ночь — с девяти ча-
сов вечера до четырех утра. «За окном висел густой
петроградский туман, — вспоминает Орешин. — Само-
вар курился горячим паром к самому потолку. Я сидел
на диване. Есенин под электрической лампочкой, на
середине комнаты читал стихи, взмахивая руками и
поднимаясь на цыпочки... Голос его гремел по всей
квартире, желтые кудри стряхивались на лицо».
Есенин прочел ему поэму «Товарищ» и ряд новых
стихотворений.
За несколько часов собеседники, по признанию
Орешина, «переворошили всю современную литерату-
ру, основательно промыли ей кости и нахохотались
до слез». Тут-то и раскрылся особый смысл этой зна-
менательной встречи.
«Вот дураки! — захлебываясь, хохотал Есенин. —
Они думали, мы лыком шиты... Ведь Клюев-то, зна-
ешь... я неграмотный, говорит! Через о... неграмотный!
Это в салоне-то... А думаешь, я не чудил? А поддевка-
то зачем! Хрестьянские, мол!.. Хотя, знаешь, я от Клю-
ева ухожу... Вот лысый черт! Революция, а он «избя-
ные песни»... На-ка-за-ние! Совсем старик отяжелел».
В этих словах — целая исповедь. Горькое и на-
48
смешливое воспоминание о том, как лицедействовал
Клюев, притворяясь неграмотным мужичком (а на са-
мом деле будучи образованным человеком), как
«чудил» с ним и рязанский поэт («крестьянские,
мол!..»), как опостылел ему весь этот маскарад...
И вот — конец: «...от Клюева ухожу». Это — реша-
ющий в жизни шаг. И вызван он, как подсказывает
сам Есенин, причинами отнюдь не личного порядка и
не утратой веры в силу Клюева как поэта. Великие
события времени раскрыли пред ним чудовищный
анахронизм клюевского творчества: «Революция, а он
«избяные песни». Предчувствие грандиозных социаль-
ных потрясений толкнуло Есенина на то, чтобы пере-
смотреть свой путь: порвать с клюевщиной, затем со
«скифством», порвать, чтобы пойти навстречу револю-
ционному народу.
«Я понял, — замечает Орешин, — что в творчестве
Сергея Есенина наступила пора яркого и широкого
расцвета». Выслушав его последние стихотворения,
«написанные уже не по-клюевски», Орешин пришел
к выводу, что «Есенин круто повернул влево... и
принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял
его, конечно, только потому, что внутренне был уже
подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий
темперамент гармонировал с Октябрем, что по суще-
ству он никогда не был с Клюевым».
Революция открыла Есенину путь к массовому
читателю. Никогда ранее он не имел такого широкого
контакта с читательской аудиторией, какой устано-
вился в послеоктябрьские дни. Уже 22 ноября 1917 го-
да проводится «вечер поэзии Сергея Есенина» (его
первый самостоятельный вечер) в концертном зале
Тенишевского училища. В декабре он выступает на
коллективных писательских вечерах в Академии худо-
жеств и в рабочем клубе за Московской заставой.
15 января 1918 года Есенина слушают на митинге
в Зале армии и флота (нынешний Дом офицеров),
3 февраля — снова в Тенишевском училище. Дорогу к
широкому читателю прокладывала Есенину и массовая
печать, в которой все чаще появлялись его стихи.
На протяжении 1917 года Есенин встречался со
многими писателями, художниками, артистами. Среди
них — А. Толстой, А. Блок, И. Эренбург, С. Коненков,
О. Форш, А. Чапыгин, А. Белый. И все, с кем сопри-
касается в это время поэт, отмечают в нем большую
49
перемену. Еще весной — в конце марта — он, по опи-
санию Н. В. Крандиевской (жены А. Н. Толстого),
был «похож на подростка, скромно покашливал. В го-
лубой косоворотке, миловидный; льняные волосы, уло-
женные бабочкой на лбу...» (аналогичное описание
оставил И. Эренбург). А вот каким видит его П. Оре-
шин в октябрьские дни: «...От всей его стройной
фигуры веяло уверенностью и физической силой, а по
его лицу нежно светилась его розовая молодость». Чуть
позднее — в ноябре — его встречает в своей мастер-
ской скульптор С. Коненков: «Голубые глаза, волосы
цвета спелой ржи, стройный, легкая походка и живой
вид». Ни следа от «пастушка», каким он выглядел в
предыдущие годы, и от миловидного подростка, каким
казался еще весной...
Непосредственным откликом Есенина на Октябрь-
скую революцию была поэма «Преображение». Автор
датировал ее ноябрем 1917 года. Революция здесь —
преображение всего сущего на земле, начало великого
изобилия: «Зреет час преображенья», и он явится —
«наш светлый гость». В образе «светлого гостя», как и
в поэмах первой половины 1918 года («Инония», «Иор-
данская голубица»), совершенно явственны мифологи-
ческие черты: о том говорят и библейский образ «го-
лубицы», которая несет радостную весть о преображе-
нии мира, и сравнение «нового дня» с «отроком солн-
цеголовым», и появление «нового Спаса», который по-
ведет людей к счастью.
Однако на этом поэт не остановился в художе-
ственном осмыслении революционной эпохи. Наряду с
мифологическими поэмами (назовем их так) в его
творчестве возникает революционно-героическая ли-
рика. В том же, 1918 году он пишет стихотворение
«Небесный барабанщик», близкое призывно-обличи-
тельной лирике пролетарских поэтов. Он зовет борцов
революции сплотиться против «белого стада горилл»,
угрожающего социалистической Родине:
Солдаты, солдаты, солдаты —
Сверкающий бич над смерчом.
Кто хочет свободы и братства,
Тому умирать нипочем.
Смыкайтесь же тесной стеною!
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на златой барабан.
50
Сорвет и пойдет по дорогам
Лить зов над озерами сил —
На тени церквей и острогов,
На белое стадо горилл.
Проникнутый чувством интернационализма, высо-
ким пафосом защиты революции, безудержным стрем-
лением к «новому берегу» жизни, «Небесный барабан-
щик» по праву занимает одно из видных мест в совет-
ской поэзии 1918—1920 годов.
Обратили на себя внимание и стихи, написанные
Есениным осенью 1918 года по случаю открытия мемо-
риальной доски на Кремлевской стене у могил героев
Октябрьской революции:
Спите, любимые братья!
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.
Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.
Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.
(«Кантата»)
Как близок к этим стихам по тону, звучанию, скла-
ду знаменитый реквием из поэмы Маяковского
«Хорошо!» («Тише, товарищи, спите...») — разговор
поэта с героями, покоящимися у Кремлевской стены!
Время создания этих стихов было временем твор-
ческого взлета Есенина, когда он жаднб осваивал
новые темы, включал в свой арсенал новые поэтиче-
ские жанры, впитывал традиции революционной
поэзии.
Этому взлету способствовало общение поэта с рево-
люционными массами: его непосредственные встречи с
рабочими Петрограда в послеоктябрьские месяцы, его
контакты с читателями, выступления на митингах и ве-
черах. Глубокое, неизгладимое впечатление произвели
на Есенина встречи с выдающимися деятелями и вож-
дями революции: сперва — с В. И. Лениным, позд-
нее — с Я. М. Свердловым, М. И. Калининым,
М. В. Фрунзе, С. М. Кировым, Ф. Э. Дзержинским.
51
Владимира Ильича Ленина поэт впервые видел и
слышал 7 ноября 1918 года во время открытия мемо-
риальной доски на Красной площади, когда исполня-
лась «Кантата», в текст которой вошли цитированные
выше строки Есенина «Спите, любимые братья!..»
(остальная часть текста «Кантаты» написана Михаи-
лом Герасимовым и Сергеем Клычковым). В церемо-
нии участвовали делегаты происходившего тогда в
Москве VI Всероссийского съезда Советов. Вместе с
делегатами к Сенатской башне Кремля подошли
В. И. Ленин, Я. М. Свердлов и другие деятели партии.
Ленин срезал ножницами печать на задрапированной
доске; холст, прикрывавший доску, упал, и взору при-
сутствующих открылась скульптурная композиция, вы-
полненная С. Коненковым: на фоне солнца, лучи кото-
рого составляют надпись «Октябрьская — 1917 — ре-
волюция», — белокрылая фигура с красным знаменем
в одной руке и веткой мира в другой.
Открывая памятную доску, Ленин сказал:
«Тысячи и тысячи гибли в борьбе с царизмом. Их
гибель будила новых борцов, поднимала на борьбу все
более и более широкие массы... Почтим же память
октябрьских борцов тем, что перед их памятником
дадим себе клятву идти по их следам, подражать их
бесстрашию, их героизму». (Поли. собр. соч. — Т. 37. —
С. 171 — 172.)
Затем исполнялась «Кантата», которую Ленин и
все присутствовавшие выслушали стоя. «Помню, как
торжественно, величаво прозвучали строки, написан-
ные Есениным», — рассказывает Коненков.
Позднее Есенину довелось снова слышать Влади-
мира Ильича. Было это на совещании в Народном
комиссариате просвещения. Жена поэта, Зинаида
Райх, служила тогда в отделе внешкольного образова-
ния Наркомпроса, а заведовала отделом Н. К. Круп-
ская. Видимо, от нее 3. Райх узнала, что на совещании
будет В. И. Ленин, и пригласила поэта. Впоследствии
она рассказывала об этом своей дочери Татьяне: «Вла-
димира Ильича встретили овацией, которую невозмож-
но было остановить. Ленин уходил, прихрдил, снова
уходил и возвращался». Затем Ленин произнес речь,
в которой говорил о культурно-просветительной работе
среди масс. По словам Райх, «Есенин наблюдал за
всем этим совершенно бледный, глубоко потрясенный
и впивался глазами в Ленина...».
52
Летом 1918 года в поэме «Иорданская голубица»
Есенин восклицал:
Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.
С этими словами перекликается запись Есенина в
альбоме писателя-суриковца И. В. Репина. Запись
датирована 1919 годом:
Говорят, что я — большевик.
Да, я рад зауздать землю...
Членом Коммунистической партии Есенин не был.
Называя себя большевиком, он хотел лишь подчерк-
нуть свою преданность делу социалистического преоб-
разования мира, которое в нашей стране возглавили
большевики. Рюрик Ивнев — поэт, близкий к Есенину
в первые годы революции, вспоминал, что в 1917 году,
еще до Октябрьских дней, Есенин «выражал свое
явное сочувствие большевикам».
Но восприятие Есениным Октябрьской революции
имело свои особенности, связанные с мировоззрением
поэта, с его пониманием социально-исторического про-
цесса. В автобиографии Есенин отметил: «В годы ре-
волюции был всецело на стороне Октября, но при-
нимал все по-своему, с крестьянским уклоном».
Мы уже обращали внимание на то, что поэмы Есе-
нина, посвященные Октябрю, выдержаны в сюжетах и
образах религиозно-мифологического характера. Эта
особенность художественного мышления поэта ни в ка-
кой мере не должна быть квалифицирована как
«уступка» религии. Более того, в «Инонии» поэт произ-
водит окончательные «расчеты» с богом: он объявляет
себя новым пророком, ниспровергает бога («Тело,
Христово тело выплевываю изо рта») и отметает раб-
скую философию христианства («Не хочу восприять
спасения через муки его и крест»). Автор выступает
провозвестником новой веры, новой правды, основанной
на коллективной силе самих людей:
Новый на кобыле
Едет к миру Спас.
Наша вера — в силе.
Наша правда — в нас!
Но в чем же состоит эта «вера» и «правда» и что
представляет собой сказочный «град Инония» (т. е. го-
53
род иной, лучшей жизни), достижение которого обе-
щает поэт? Это — город злачных нив и зажиточных
хат, то царство единоличников-хлеборобов, тот «му-
жицкий рай>, который рисовался поэту как будущее
революционной эпохи.
А что означает великое изобилие в самой первой
послеоктябрьской поэме Есенина («Преображение») —
изобилие, которое должен принести «светлый гость»?
«Словно ведра, наши будни он наполнит молоком»,
«...будет звездами пророчить среброзлачный урожай»...
Это — тот же зажиточный крестьянский социализм.
От всей души приветствуя революционную новь,
поэт не понимал подлинного исторического и социаль-
ного содержания наступивших в стране перемен —
пролетарского, социалистического характера револю-
ции. Да и картины самой революционной борьбы
окрашены у Есенина романтикой мужицкого бунта.
Вот что значило «принимать все по-своему, с крестьян-
ским уклоном».
Все это послужило причиной духовного кризиса,
пережитого поэтом в годы военного коммунизма.
Чисто потребительский социализм «Инонии» и других
произведений этого цикла имел очень мало общего
с социализмом, за который боролся революционный
народ. Реальный социализм требовал коренных пере-
мен в экономике; он требовал также иного отношения
человека к природе — активного использования ее
многообразных ресурсов при бережном сохранении
естественной красоты ее и богатств. Все это призвано
было изменить облик нашей страны. Должна
была навсегда «отчалить», уступить свое место новым
формам жизни избяная, патриархальная Русь. Первые
нотки жалости к этой «отчалившей» Руси и прозву-
чали в поэме Есенина «Иорданская голубица», где
отжившее, но дорогое сердцу поэта деревенское прош-
лое дано в образе плывущего по небу впереди
гусиной стаи, убивающегося от тоски лебедя:
Земля моя златая!
Осенний светлый храм!
Гусей крикливых стая
Несется к облакам.
А впереди их лебедь.
В глазах, как роща, грусть.
Не ты ль так плачешь в небе,
Отчалившая Русь?
54
Поэту казалось, что новая жизнь, при которой род-
ные поля оглашаются механическими звуками «желез-
ного коня», нарушают извечную гармонию человека
с природой. В этой кажимости он испытывал не столь-
ко неприязнь к «чугуну» и «железу», сколь жалость
к тому, что безвозвратно уходит из жизни. «Трогает
меня в этом, — писал он одному из своих адресатов, —
только грусть за уходящее милое родное звериное и
незыблемая сила мертвого, механического» — и далее
приводил случай, послуживший толчком к написанию
поэмы «Сорокоуст» — одного из самых известных про-
изведений Есенина: рядом с идущим по железной
дороге поездом изо всех сил мчится, стараясь не
отстать, но безнадежно теряя скорость, маленький
смешной жеребенок, символизирующий старую, изна-
чальную деревенскую жизнь.
Рассказу о жеребенке предшествует яростная и тре-
вожная филиппика автора, направленная против оску-
дения и разграбления природы, чинимых якобы «желез-
ным гостем»:
Трубит, трубит, погибельный рог!
Как же быть, как же быть теперь нам
На измызганных ляжках дорог?
Скоро заморозь известью выбелит
Тот поселок и эти луга.
Никуда вам не скрыться от гибели,
Никуда не уйти от врага.
Вот он, вот он с железным брюхом,
Тянет к глоткам равнин пятерню...
«...Ведь идет совершенно не тот социализм, о кото-
ром я думал...» — жаловался Есенин в том же письме,
как бы комментируя свою поэму. Действительно,
процесс революционного преобразования жизни шел
не так, как думал поэт. Не к «граду Инонии», не к
«божеству живых» шла российская деревня: она ме-
няла свой хозяйственный уклад, переделывала при-
роду, перестраивала быт, шла от кустарного, мелкого,
отсталого земледелия к более эффективному, совре-
менному.
Поэт осознавал историческую правомерность этих
перемен, и у него иногда прорывались слова бод-
рого согласия с происходящим. Недаром в черновых
строках «Иорданской голубицы» говорится о «радости
над умираньем» и весь этот отрывок заканчивается
четверостишием:
55
Шуми, шуми, реви сильней.
Свирепствуй, океан мятежный.
И в солнца золотые мрежи
Сгоняй сребристых окуней.
(«И небо и земля все те же...»)
Казалось бы, поступательный ход нашей жизни,
сплочение трудового крестьянства вокруг Советской
власти, героическая защита им своего отечества в
годы гражданской войны — все это поможет Есенину
освободиться от гнетущих его чувств. Так это и было
бы, если бы в судьбу поэта не вторглись обстоятель-
ства, которые не только не способствовали выпрямле-
нию его духовного пути, но и безмерно осложнили его
жизнь.
СНОВА МОСКВА
В Москву Есенин с женой переехали в марте 1918 го-
да. Поселились они в небольшой гостинице на Твер-
ской; там было неуютно и сыро, жили впроголодь,
получая скудный продовольственный паек, но усердно
трудились. 3. Райх была сотрудницей Наркомпрода
(позднее она перешла в Наркомат просвещения), Есе-
нин целиком погрузился в издательскую и литератур-
ную работу.
В конце мая 1918 года у Есениных родилась дочь
Татьяна, почти два года спустя — сын Константин. Но
семейная жизнь не ладилась. С женой поэт разошелся
еще до рождения второго ребенка.
В Москве Есенин сблизился с группой пролетар-
ских поэтов и, уйдя от семьи, поселился в здании
Московского Пролеткульта, бывшем особняке фабри-
канта Морозова, — там обычно занималась литера-
турная студия, которую посещал Есенин. Вместе с
поэтом С. Клычковым он занял в мансарде просторную
и несуразную комнату, уставленную сборной мебелью.
Оттуда он через некоторое время перешел в другую
комнату, светлую и большую, с претенциозной рос-
писью на стенах, — это оказалась бывшая ванная,
которая теперь отапливалась печкой-буржуйкой; в
этой комнате Есенин жил с поэтом М. Герасимовым,
возглавлявшим литературный отдел Московского Про-
леткульта. Обедали вместе, иногда целой компанией,
в столовой на Арбате. Там же нередко обсуждали
организационные и творческие дела.
56
А дел этих было у Есенина великое множество.
В 1918 году он подготовил к печати второй, третий и
четвертый сборники своих поэтических произведений
(«Голубень», «Преображение» и «Сельский часослов»),
в конце того же года написал теоретический трактат
«Ключи Марии». Вместе с Герасимовым и Клычковым
он вслед за «Кантатой» создал киносценарий «Зову-
щие зори» (в этой работе участвовала также поэтесса
Надежда Павлович).
Много раз выступал Есенин на открытых поэтиче-
ских вечерах: в бывшем немецком клубе на Софийке
(вместе с А. Белым, П. Орешиным и другими), в клу-
бе профсоюза служащих и др. Особенно памятным
был вечер «Россия в грозе и буре» в Большом зале
Московской консерватории 6 декабря 1920 года. Из
поэтов кроме Есенина на вечере выступили Валерий
Брюсов, Андрей Белый, Аделина Адалис, Рюрик
Ивнев, Борис Пастернак, Илья Эренбург; стихи Алек-
сандра Блока и других современных поэтов читала
артистка Алиса Коонен. Для встреч с читателями и
выступлений на литературных вечерах Есенин вы-
езжал в Харьков, Ростов-на-Дону, Таганрог, Ново-
черкасск.
Поэт участвовал во многих организационных и из-
дательских начинаниях, специфических по своему ха-
рактеру, но необычайно характерных для той бурной
эпохи.
Литературная жизнь Москвы била ключом. В жгу-
чей полемике, в спорах, пробивая себе живительный
путь новаторства и открытий, рождалась новая, совет-
ская литература, самым оперативным отрядом которой
была поэзия. Но рождалась она в обстановке голода,
лишений, разрухи, гражданской войны.
Не хватало бумаги, бездействовали многие типо-
графии, издавались, и то нерегулярно, считанные жур-
налы. Стихи печатались тоненькими брошюрами на
серой, иногда оберточной бумаге, очень малыми тира-
жами. Многие произведения приходили к читателям
изустным путем — на литературных вечерах в автор-
ском исполнении.
Центрами литературной жизни становились ма-
ленькие клубы, столовые, кафе, небольшие подваль-
чики на людных улицах, где можно было выпить чаю
(натурального или морковного), кофе из суррогата с
сахаром или сахарином, с овсяными лепешками или
57
картофельными пирожками, получить тарелочку кис-
лой капусты с луком, но зато увидеть модную знамени-
тость, услышать нигде еще не печатавшиеся стихи.
Там же проходили диспуты, литературные «чемпио-
наты», провозглашались эстетические манифесты,
скрещивались в жаркой полемике представители
враждующих групп и течений, устраивались «литера-
турные суды» с чтением обвинительных актов, допро-
сом свидетелей, прениями сторон, экспертизами, при-
говорами и т. п. («Суд над футуристами», «Суд над
эпигонами», «Суд над старой литературой»). Про-
цветали кооперативные формы просветительской, изда-
тельской и книготорговой деятельности. Есенин с голо-
вой ушел в эту увлекательную, бурную, суматошную
жизнь.
«Удивительное было время, — пишет Р. Ивнев. —
Холод на улице, холод в учреждениях, холод почти во
всех домах и такая чудесная теплота дружеских
бесед и полное взаимопонимание». Есенин вспомина-
ется автору этих строк «всегда улыбающийся, веселый,
с искорками хитринок в глазах, оживленный, без еди-
ной морщинки грусти, простой, до предела искренний,
доброжелательный».
Есенин ходил тогда в серой меховой куртке, обвя-
занный длинным цветным шарфом, спускавшимся
почти до пола. В одежде не было ничего вызыва-
ющего — она была и модной, и простой. Естествен-
ность, доброта сквозили в каждом жесте поэта.
В делах он проявлял увлеченность, горячность, любовь
к коллективной работе.
Первой его организационной инициативой было
создание «писательской коммуны». Спасая себя и дру-
зей от жизни в промерзших домах («Мы зиму про-
жили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не
было ни полена», — вспоминал он), поэт выхлопотал в
Московском Совете ордер на пятикомнатную квартиру
в доме, где чудом сохранилось и действовало паровое
отопление. В ней кроме Есенина в начале 1919 года
поселилось еще несколько писателей и журналистов,
их посещало множество друзей, которые приходили со-
греться, поговорить и поспорить.
Одним из коллективных писательских предприятий,
в котором участвовал Есенин, была «Московская тру-
довая артель художников слова». Организаторами этой
артели были также А. Белый, С. Клычков и П. Оре-
58
шин. У артели были обширные издательские планы,
осуществить которые из-за трудностей с типографиями
и бумагой удалось лишь частично. Под маркой изда-
тельства вышло пять книг Есенина, в том числе второе
издание «Радуницы» и «Ключи Марии»; вышел и
коллективный сборник «Конница бурь».
С разрешения Московского Совета, поощрявшего
кооперативные начинания, Есенин и его друзья откры-
ли на Большой Никитской, рядом с Консерваторией,
«Книжную лавку художников слова» (аналогично ей
существовали «Лавка писателей», Лавка Союза поэ-
тов, магазин Дворца искусств и т. п.). Работали в ней
опытные книжники, но почти ежедневно здесь можно
было видеть и Есенина либо за прилавком, либо у
стеллажей, либо в верхней комнате с большим круг-
лым столом, креслами и диваном, которая называлась
«кабинетом дирекции», а по существу являлась лите-
ратурным салоном, где встречались писатели и книго-
любы.
В лавке кроме новейших изданий продавалась и
букинистическая книга — она была предметом особых
симпатий поэта. Очень часто можно было застать его
тут за чтением редких книг, за просмотром словаря
Даля или старинных изданий русской поэзии. Од-
нажды пришел сюда видный московский филолог, и
Есенин затеял с ним спор насчет происхождения
«Слова о полку Игореве» — одно из старых изданий
памятника продавалось в этот день в лавке.
Есенина можно было встретить также в «Кафе поэ-
тов», которое находилось на Тверской улице и зани-
мало помещение бывшего кафе «Домино» (по привыч-
ке часто употребляли именно это название). Кафе на
Тверской было клубом Всероссийского союза поэтов,
и здесь почти ежедневно читали стихи. Афиша, пере-
числяя поэтов, которые выступят в определенный день
(среди них фигурировал и Есенин), сообщала: «Эст-
рада-столовая открыта ежедневно от 12 до 7 ч., играет
оркестр, ежедневно обеды».
Такова была афиша весны 1919 года. Позднее «эст-
рада» функционировала и по вечерам; в качестве ужи-
на предлагали «пирожное» (ложка черничного по-
видла на лепешке из картофеля) и желудевый кофе.
На стенах зала — роспись, на столиках под стекла-
ми — отрывки стихов, рисунки и портреты поэтов; ря-
дом с кухней — комната правления Союза поэтов.
59
Клуб, харчевня, место споров и встреч — таково было
это популярное в Москве заведение, ярко олицетворя-
вшее то, что Сергей Городецкий в своих воспомина-
ниях называл «кафейным периодом русской лите-
ратуры».
В «Кафе поэтов» родился имажинизм — литератур-
ное течение, сыгравшее в жизни Есенина сложную и,
в общем, неблагоприятную роль. Имажинисты отпоч-
ковались от поэтического клуба на Тверской и открыли
свое кафе «Стойло Пегаса». Вот описание этого кафе,
оставленное нам современником:
«Двоящийся в зеркалах свет, нагроможденные из-за
тесноты помещения чуть ли не друг на друге столики.
Румынский оркестр. Эстрада. По стенам роспись ху-
дожника Якулова и стихотворные лозунги имажини-
стов. С одной из стен бросались в глаза золотые
завитки волос и неестественно искаженное левыми ук-
лонами живописца лицо Есенина в надписях:
«Плюйся, ветер, охапками листьев».
Подчеркнуто декадентская обстановка этого заве-
дения отвечала его повседневному быту. Здесь про-
исходили диспуты и поэтические вечера, но репутация
«Стойла» складывалась главным образом из литера-
турных скандалов. Тот же современник отмечает
«обычный шум в кафе, пьяные выкрики и замечания
со столиков» при выступлениях ораторов и поэтов
(шум этот обычно прекращался, когда выступал Есе-
нин). Атмосфера богемы, возможность присутствовать
при пикантной стычке или скандальном происшествии
привлекали сюда совершенно случайную публику не
только из мещанско-обывательской, но также из
нэповско-буржуазной среды. Дмитрий Фурманов, по-
бывав в «Стойле Пегаса» после своего приезда из
армии в Москву в 1921 году, назвал его «стойлом
буржуазных сынков».
Имажинисты представляли собой очень малочис-
ленную и совсем не влиятельную группу, в которую
входили эпигоны декадентских литературных течений:
Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Александр
Кусиков и другие. Ни своими эстетическими идеями,
сформулированными в претенциозных декларациях, ни
стихами они не могли привлечь к себе внимание пуб-
лики. Достичь этого они пытались своей экстравагант-
ной внешностью: щеголяли по Москве в черных лаки-
рованных цилиндрах, в смокингах, с тросточками в
60
руках, как английские денди (напомним, что за не-
сколько лет до них, преследуя те же цели, появлялись
в желтых кофтах с размалеванными лицами футу-
ристы). Прославились они также вызывающим харак-
тером своих выступлений, дававших материал для
газетной хроники происшествий.
Есенина вовлек в эту среду Мариенгоф, с которым
он познакомился еще в 1918 году, задолго до образо-
вания группы. Когда распалась «писательская ком-
муна» и Есенин остался без крова, Мариенгоф пред-
ложил ему поселиться у себя. В коммунальной квар-
тире на третьем этаже он занимал комнату, и Есенин
переехал к нему. Жили в холоде; ртутный столбик
падал, случалось, ниже нуля; когда приходили с ули-
цы, снег на шубах не таял; временами топили
буржуйку, пили чай с сахарином. Комната была за-
валена книгами, едва выгораживали угол для рабо-
ты. Одолевали гости, в которых никогда не было
недостатка, — пришлось, в конце концов, на дверях
квартиры прикрепить объявление: «Поэты Есенин
и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспо-
коить».
Первые их беседы касались роли образа в искус-
стве. Мариенгоф проповедовал культ «небывалого»
образа как единственной сути поэзии. В замыслова-
тости, непохожести, оригинальности образа, формиру-
емого независимо от содержания, от авторской мысли,
видел он значение и сущность искусства. Есенина, по
творческой его природе, всегда тянуло к яркой словес-
ной живописи, к затейливым построениям речи. Заме-
тив поначалу лишь эту сторону дела, он счел имажи-
нистов соратниками по искусству. «Назревшая потреб-
ность в проведении в жизнь силы образа, — призна-
вался он, — натолкнула нас на необходимость опубли-
кования манифеста имажинистов». В декларации,
написанной Шершеневичем и подписанной членами
группы, в том числе и Есениным, говорилось: «Един-
ственным законом искусства, единственным и несрав-
ненным методом является выявление жизни через
образ и ритмику образов».
Отсюда, от слова «образ» (по-французски —
«имаж»), и произошло название группы. Есенин не
придал значения тому, что в декларации пренебрежи-
тельно говорилось о содержании в искусстве; имажи-
нисты осторожно прикрыли этот тезис требованием,
61
чтобы «тема, содержание» не выпирали, «как грыжа»,
из произведений искусства.
Однако члены группы всю свою эстетическую про-
грамму строили именно на этом. Они стали требовать
очищения образа от идеи, независимости искусства от
«быта» (т. е. от действительности). Основной пункт
программы Шершеневич выразил формулой: «Образ
как самоцель». «Слово, — писал он, — требует осво-
бождения от идеи... Поедание образом смысла — вот
путь развития поэтического слова». «Искусство есть
форма, — вторил ему Мариенгоф. — Содержание —
одна из частей формы». Кроме, аполитизма и форма-
лизма, члены группы проповедовали еще тезис о без-
национальном характере искусства.
Звучало все это вызывающе, но не ново: многие
предшественники имажинистов — декаденты дорево-
люционных времен — уже «освобождали» поэзию от
идейного смысла, лишая ее жизни и обрекая на увя-
дание.
Есенин быстро убедился в беспринципности и бес-
почвенности имажинистской программы. Критике ос-
новных ее положений он посвятил специальную статью
«Быт и искусство», написанную весной 1921 года.
«Собратья мои, — констатировал он, —увлекались
зрительной фигуральностью словесной формы, им ка-
жется, что слова и образ это уже все.
Но да простят мне мои собратья, если я им скажу,
что такой подход к искусству слишком несерьезный...
Нет слова беспредметного и бестелесного, и оно так
же неотъемлемо от бытия, как и все многорукое и
многоглазое хозяйство искусства».
Особенно чужды были Есенину анархические и кос-
мополитические настроения участников группы; в этих
заблуждениях поэт видел один из источников форма-
листических исканий. «У собратьев моих, — писал
он, — нет чувства родины во всем широком смысле
этого слова, поэтому у них так и не согласовано все.
Поэтому они так и любят тот диссонанс, который
впитали в себя с удушливыми парами шутовского
кривляния ради самого кривляния».
Что же касается особой системы образов, за кото-
рую ратовали имажинисты, то на поверку оказалось,
что она вносила в поэтический язык холод искусствен-
ности, нарочитую усложненность. Замысловатые мета-
форы, нанизанные одна на другую, превращались в
62
«самовитую» речь, затемняя смысл поэтического про-
изведения и приглушая авторское чувство. Достаточно
прочесть «Кобыльи корабли» — произведение, на-
писанное Есениным в разгар его имажинистских
увлечений, — чтобы убедиться в этом:
Если волк на звезду завыл,
Значит, небо тучами изглодано.
Рваные животы кобыл,
Черные паруса воронов.
Не просунет когтей лазурь
Из пургового кашля-смрада;
Облетает под ржанье бурь
Черепов златохвойный сад.
Позднее Есенин отмечал: «Имажинизм был фор-
мальной школой, которую мы хотели утвердить. Но
эта школа не имела под собой почвы и умерла сама
собой, оставив правду за органическим образом».
Победили в конечном счете принципы жизненного,
правдивого образа, а не шутовские словесные упраж-
нения кучки эстетов. Имажинизм неспособен был
убить в поэзии Есенина реалистическое начало, но
шумиха, которую сеяли вокруг себя участники группы,
насаждавшаяся ими богема оказали на него дурное
влияние. Если поэт довольно быстро разобрался в
идейной неполноценности, в творческой бесплодности
группы, то разорвать с нею в быту оказалось нелегко.
Он втянулся в повседневную жизнь этой группы, про-
падал в «Стойле Пегаса», участвовал в «дружеских»
попойках, хотя раньше не прикасался к спиртному и не
любил пьяных компаний.
Все это пагубным образом отразилось на его твор-
честве. В лирике Есенина возникли кабацкие, «раз-
гульные», озорные мотивы. Герой его стихов все чаще
выступал в образе ночного гуляки, сорванца, повесы,
скандалиста:
Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.
Или:
Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.
63
Так возник цикл с характерным названием «Моск-
ва кабацкая». Стихи этого цикла отличаются нарочито
вульгарной фразеологией («каждая собака знает»,
«провоняю я редькой и луком», «если раньше мне били
в морду»). Надрывные интонации, однообразные моти-
вы пьяной удали, сменяемой смертельной тоской, —
все это свидетельствовало о заметных утратах в худо-
жественном творчестве Есенина. Не стало в ней той
радуги красок, которою отличались его прежние
стихи, — на смену им пришли унылые пейзажи ночно-
го города, наблюдаемого глазами потерянного чело-
века: кривые переулки, изогнутые улицы, едва светя-
щиеся в тумане фонари кабаков... Сердечная искрен-
ность, глубокая эмоциональность лирических стихов
Есенина уступили место обнаженной чувствительности,
жалобной напевности цыганского романса.
У Есенина нередко вырывались слова ненависти к
окружавшему его поэтическому «сброду». Характерна
в этом смысле концовка стихотворения «Все живое
особой метой...»:
И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»
Есенин стремился вырваться из гнилой атмосферы
поэтических кабаков. Но этому мешали его бытовая
неустроенность, мягкость характера, а более всего —
назойливые домогания непрошеных друзей. Поэт пы-
тался сменить жилье, но где бы он ни поселился, его
настигали любители шумных и не всегда трезвых ком-
паний. Это отравляло его душу, мешало работать.
«Живу я как-то по-бивуачному, — жаловался он в од-
ном из писем, — без приюта и без пристанища, потому
что домой стали ходить и беспокоить разные бездель-
ники. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не
знаю даже, как и отделаться от такого головотяпства,
а прожигать себя стало совестно и жалко».
Самым надежным средством избавления от назой-
ливых спутников было исчезновение, хотя бы на время,
из Москвы. И Есенин прибег к этому средству, когда
работал над драматической поэмой «Пугачев». Изучив
документальные и книжные источники о пугачевском
движении, он пришел к выводу, что нужно посетить
Среднюю Азию и Поволжье — места, откуда Пугачев
64
вел свою армию на Москву. Места эти давно манили
его к себе.
В апреле 1921 года поэт выехал из Москвы в Сама-
ру, затем в Ташкент. Далее он направился в Самар-
канд, посетил Бухару и вернулся в Ташкент. Ездил он
со своим другом, ответственным работником Нарко-
мата путей сообщения, имевшим служебный вагон.
В этом маленьком, синего цвета, с открытым там-
буром салон-вагоне, оставшемся еще от царских вре-
мен, когда в нем разъезжали сановники и министры,
поэт и жил все время путешествия (длившегося около
двух месяцев), и работал. Поездка оказалась весьма
продуктивной в творческом отношении. На обратном
пути Есенин уже заканчивал работу над поэмой, кото-
рая в значительной своей части была написана в
пути.
По возвращении в Москву он читал «Пугачева» в
Доме печати, потом в Театре РСФСР-1 (где Мейер-
хольд собирался поэму ставить на сцене), в клубе
«Литературного особняка», а отрывки из поэмы — бес-
численное количество раз на публичных площадках.
Это было одно из любимых произведений поэта, и оно
по праву принадлежит к числу его лучших творений —
тем более удивительное по чистоте красок, по эмоцио-
нальности и силе звучания, что создавалось в один из
самых тяжелых периодов его жизни.
Более всего любил Есенин читать монолог Хлопуши
(сподвижника Пугачева) и заключительную сцену.
В устах поэта слова его героев звучали изумительно
искренне, с невероятной силой. М. Горький, прослушав
отрывки в исполнении автора (было это при встрече,
о которой мы еще скажем), писал: «Даже не верилось,
что этот маленький человек обладает такой огромной
силой чувства, такой совершенной выразительностью».
В названных выше фрагментах сосредоточены ос-
новные мотивы произведения: в монологе Хлопуши —
«буйство и удаль» крестьянской войны, народная меч-
та о герое-освободителе, в заключительных словах Пу-
гачева — трагедия неудавшегося восстания, горечь
прощания с друзьями по борьбе. Ощущение драматиз-
ма судьбы Пугачева усилено его живописной, взволно-
ванной речью, напоминающей образы и интонации
есенинской лирики:
Где ж ты? Где ж ты, былая мощь?
Хочешь встать — и рукою не можешь двинуться!
3—19
65
Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты черемухой в степной провинции.
Вот всплывает, всплывает синь ночная над Доном,
Тянет мягкою гарью с сухих перелесиц,
Золотою известкой над низеньким домом
Брызжет широкий и теплый месяц.
Где-то хрипло и нехотя кукарекает петух,
В рваные ноздри пылью чихнет околица.
И все дальше, все дальше, встревоживши сонный луг,
Бежит колокольчик, пока за горой не расколется.
Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...
В поэме ясно переданы настроения гнева, которыми
были охвачены участники восстания, и чувства тревоги
за его судьбу. Сам факт обращения поэта к социально-
историческому материалу, к одному из самых знаме-
нательных явлений крестьянской революции в России,
свидетельствует об его общественных настроениях, со-
вершенно не подходящих для имажинизма. Отнюдь не
случайно то, что на волне великой социальной рево-
люции XX века, в которой крестьянство сыграло такую
важную роль, Есенин обратил свой взор к Пугачеву и
к истории поднятой им в конце XVIII века крестьян-
ской войны. Героическая трактовка этого образа, со-
чувствие народным страданиям, пафос борьбы с пора-
ботителями, трагическое переживание неудачи — все
это подчеркивало полную определенность умонастрое-
ний автора поэмы.
В произведении есть немало поэтических находок,
обнаруживающих характерную для Есенина словесную
живопись, — в мятежных словах Зарубина («Даже
рощи — и те повстанцами подымают хоругви рябин»),
в переживаниях самого Пугачева («...в груди у меня,
как в берлоге, ворочается зверенышем теплым душа»),
в цитированном нами финальном трагическом моно-
логе. Но кое-где произведение перегружено (если не
сказать, засорено) поэтической фразеологией, близкой
к творческим канонам имажинизма: «Оренбургская
заря красношерстной верблюдицей рассветное роняла
мне в рот молоко»; «Около Самары с пробитой башкой
ольха, капая желтым мозгом, прихрамывает у до-
роги»... Как видим, поэту нелегко было сразу очис-
титься от этого замысловатого и претенциозного
языка.
66
В целом же поэма «Пугачев» прозвучала как
героическая песнь о крестьянской революционной
войне. Разумеется, большинством читателей была по-
нята и верно воспринята жанрово-поэтическая специ-
фика произведения, в котором автор не претендо-
вал на историческую достоверность и полноту изо-
бражения Пугачева и руководимого им движения,
трактуя их в особом, романтическом ключе.
Поэма «Пугачев» была первым звеном на пути
создания Есениным революционного эпоса — пути,
который принес ему впоследствии немало побед. Она
закрепила место поэта в рядах революционного ис-
кусства первых лет советской эпохи — в рядах, из
которых его не могли выбить никакие «стойла» анархи-
ствующей и декадентствующей литературной бо-
гемы.
ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ
На те же годы падают встречи и беседы Есенина с
Ф. Э. Дзержинским, А. Д. Цюрупой, Я. М. Свердловым.
К творческой судьбе поэта каждый из них проявил
нескрываемый интерес.
«Рассказывают о встрече Есенина с Дзержин-
ским, — пишет в репортаже из Константинова журна-
листка «Комсомольской правды». — «Как это вы так
живете?» — спросил Дзержинский. «А как?» — пере-
спросил, в свою очередь, Есенин. «Незащищенным», —
ответил Дзержинский. Проникающим своим взором
увидел Дзержинский то, что иногда вовсе не брали в
расчет другие, даже из тех, кто стоял очень близко, —
обнаженное сердце».
Феликсу Эдмундовичу поэт надписал несколько
своих книг.
О беседе поэта с А. Д. Цюрупой — крупным деяте-
лем партии, который в послеоктябрьские годы был на-
родным комиссаром продовольствия, — поведал в сво-
их воспоминаниях его ближайший сотрудник
П. А. Кузько:
«Есенин попросил меня познакомить его с Цюру-
пой. Будучи секретарем коллегии, я легко устроил эту
встречу. Цюрупа был внимателен и приветлив с Есе-
ниным. Во время короткого разговора Цюрупа сказал,
что он о нем слышал и читал некоторые его стихотво-
рения, которые ему понравились».
3**
67
По характеру своей работы Кузько периодически
бывал у председателя Всероссийского Центрального
исполнительного комитета Я. М. Свердлова. Однажды
они заговорили о Есенине. «Я рассказал Якову Михай-
ловичу о своем знакомстве с поэтом, — пишет Кузь-
ко. — Оказалось, что Свердлов знал о Есенине и ценил
его талант, хотя ему не нравилось есенинское прекло-
нение перед патриархальной Русью».
«Вы читали стихи Есенина? — спросил другого
своего собеседника Я. М. Свердлов. — ...Он талантли-
вый поэт, но пишет о старой России. Старинный быт,
обычаи, религия. Все это навсегда отомрет. Если Есе-
нин этого не поймет, он похоронит свой талант. А из
него может выйти толк!»
Предостережение Свердлова, его упрек по адресу
поэта легко понять, если учесть, что Яков Михайлович,
скончавшийся в марте 1919 года, был знаком лишь с
ранним творчеством поэта (до 1918 года включительно
вышло четыре сборника есенинских стихов, в 1919 —
ни одного).
Более многочисленными сведениями располагаем
мы о встречах Есенина с А. В. Луначарским. Начались
они еще в Петрограде после Октября. Поэт охотно
посещал митинги, на которых выступал нарком про-
свещения. Так, 2 января 1918 года он пришел на
митинг в петроградский Зал армии и флота, где Луна-
чарский произнес речь на тему «Армия и интеллиген-
ция». Вопрос об участии интеллигенции в революцион-
ном строительстве был тогда важным вопросом госу-
дарственной жизни, так как буржуазная интеллиген-
ция саботировала Советскую власть. Есенин вместе с
Маяковским, Блоком, Мейерхольдом и другими пере-
довыми художниками принадлежал к числу тех, кто
безраздельно отдал себя служению народу, и доклад
Луначарского он прослушал с вниманием и сочув-
ствием.
В Москве их встречи приобрели деловой, практиче-
ский характер. Луначарский поддерживал обществен-
ные начинания Есенина, если, по мнению наркома, они
способствовали развитию советской культуры и не
уходили в область узких интересов отдельных худо-
жественных групп.
Дело в том, что Луначарский сурово и резко
осуждал деятельность имажинистов. 14 апреля 1921
года он опубликовал письмо в редакцию «Изве-
68
стий», где так отозвался о прочитанных им книгах
имажинистов:
«Как эти книги, так и все другие, выпущенные за
последнее время так называемыми имажинистами, при
несомненной талантливости авторов, представляют со-
бой злостное надругательство и над собственным даро-
ванием, и над человечеством, и* над современной
Россией».
Вскоре после этого в статье «Свобода книги и
революция» Луначарский напомнил, что, наряду с
«действительно искренними группами художников»,
существуют «отдельные шарлатаны, желающие моро-
чить публику (вроде, например, имажинистов, среди
которых есть талантливые люди, но которые как бы
нарочно стараются опаскудить свои таланты)».
В многократных своих упоминаниях талантливых
людей, лишь случайно связавших себя с этой группой,
Луначарский имел в виду прежде всего Есенина, у ко-
торого и в самом деле с имажинистами были серьез-
ные идейные расхождения. «И вот, — вспоминает одна
из знакомых поэта, — однажды, когда он фактически
уже ушел от имажинистов, а формально еще входил в
их группу, его вызвал к себе Луначарский и предло-
жил официально порвать с этой группой». Есенин
согласился и впоследствии это осуществил.
Итак, во всех тех случаях, когда поэт выступал как
зачинатель мероприятий широкого культурно-обще-
ственного значения (хотя не все они увенчивались
успехом), его поддерживал нарком просвещения.
Одним из первых таких начинаний было создание
«Ассоциации вольнодумцев в Москве» — культурно-
просветительной организации, которая, как гласил
принятый ею устав, ставила целью «духовно-экономи-
ческое объединение свободных мыслителей и худож-
ников, творящих в духе мировой революции и веду-
щих самое широкое распространение творческой рево-
люционной мысли и революционного искусства чело-
вечества путем устного и печатного слова». Есенин был
избран председателем Ассоциации, в нее вошли также
поэты М. Герасимов, А. Мариенгоф, скульптор С. Ко-
ненков, режиссеры В. Мейерхольд, А. Таиров и другие.
Есенин должен был стать редактором журнала
«Вольнодумец», издание которого было задумано
Ассоциацией.
Когда инициаторы создания Ассоциации обрати-
69
лись за разрешением к Луначарскому и послали ему
устав, он ответил им следующее:
«Подобные общества в Советской России в утверж-
дении не нуждаются. Во всяком случае, целям ассо-
циации я сочувствую и отдельную печать разрешаю».
Другое начинание Есенина, поддержанное Луна-
чарским, — упоминавшийся нами ранее поэтический
вечер «Россия в грозе и буре». По замыслу Есенина
это должен был быть вечер единения советских поэтов
разных школ и направлений. Против этой идеи “возра-
жали имажинисты (главным образом, Мариенгоф),
предлагавшие «грандиозное», но автономное выступле-
ние собственной группы. Есенин настоял на своем, всту-
пил в переговоры с будущими участниками вечера и при
посредстве Рюрика Ивнева, который одно время был
секретарем Луначарского, обратился за содействием
к нему. «...Я, — вспоминает Ивнев, — пошел к Анато-
лию Васильевичу и рассказал ему о нашем плане.
Анатолий Васильевич одобрил нашу идею и охотно
дал согласие произнести вступительную речь». Вечер
«Россия в грозе и буре», открывшийся речью нар-
кома, собрал многочисленную аудиторию и стал круп-
ным событием в литературной жизни Москвы. На
афише, видимо с согласия Луначарского, был постав-
лен гриф Наркомата просвещения.
13 марта 1922 года в московском Доме печати
состоялся аналогичный вечер, также с участием
Луначарского. Один за другим на эстраду выходили
поэты: Валерий Брюсов, Владимир Маяковский, Сер-
гей Есенин, Василий Каменский, Сергей Городецкий,
Борис Пастернак.
В феврале 1921 года С. Есенин и Р. Ивнев задума-
ли поездку за границу. «Оба мы были молоды, —
рассказывает Ивнев, — оба любили Россию, как нам
казалось, как-то особенно, своею собственной лю-
бовью, и нам хотелось, может быть даже бессознатель-
но, заразить этой любовью чужие страны. И вот я сно-
ва у Анатолия Васильевича. Как он умел все понимать
и чувствовать! К Есенину и ко мне он относился с
трогательным вниманием. Я вышел от А. В. Луначар-
ского с письмом в Наркоминдел».
Получив поддержку в обоих наркоматах, Есенин,
однако, от поездки отказался и осуществил ее годом
спустя, о чем мы расскажем в следующей главе. При
этом Луначарский выдал- ему мандат, в котором от
70
имени Наркомата просил «всех представителей совет-
ской власти, военных и гражданских, оказывать
С. А. Есенину всяческое содействие».
Луначарский способствовал выходу в свет некото-
рых книг Есенина, с трудом продвигавшихся по изда-
тельским каналам. Пристально и внимательно следил
он за тем, как под влиянием советской действитель-
ности поэзия Есенина набирала новые силы.
В своих заметках, речах и докладах Луначарский
проводил отчетливую грань между Есениным и приоб-
щившимися к нему случайными людьми. Он писал:
«Есенин был человек с очень нежной душой, чрез-
вычайно подвижной и очень легко откликающейся на
всякие прикосновения внешней среды. Есенин пришел
из деревни не крестьянином, а в некотором роде дере-
венским интеллигентом. Но он прекрасно знал де-
ревню, тонко передавал ее в поэзии...»
Несколько забегая вперед, необходимо рассказать
и о встречах Есенина с М. И. Калининым, относя-
щихся к разным годам.
Желание повидаться и поговорить со «всесоюзным
старостой», как называл Калинина народ, возникло у
Есенина в связи с его заботами о крестьянских делах.
После революции поэт не раз наведывался в род-
ную деревню: он был там весной и летом 1918 года, в
апреле или мае 1920, в начале 1922. Ему доводи-
лось слышать жалобы односельчан на неправильные
действия местных властей, на незаконные поборы, на
нехватку и дороговизну городских товаров. Он разго-
ворился как-то об этом с Александром Воронским
(редактором журнала «Красная новь», в котором час-
то печатал стихи), рассказал, что крестьяне-труже-
ники всей душой за Советскую власть, жить им с
Советами «по нутру», но кому-то угодно портить эту
жизнь самоуправством, несправедливыми обложени-
ями... «Он, — писал Ворбнский о поэте, собирался
идти к М. И. Калинину искать заступы».
В Москву, на Воздвиженку, где помещалась при-
емная «всесоюзного старосты», являлись с жалобами
ходоки из многих деревень. Добрался ли туда со сво-
ими заботами Есенин, мы не знаем. Но известно,
что он посетил Калинина в его родной деревне Верх-
няя Троица и обстоятельно беседовал с ним.
Спустя много лет об этих беседах и встречах
рассказал ездивший вместе с Есениным в Тверскую
71
губернию американский прогрессивный писатель Аль-
берт Рис Вильямс.
Выехали они 16 сентября 1923 года из Москвы по-
ездом, переночевали в Твери, наутро Есенин нанял там
тройку, и к полудню они с шиком подкатили к избе
Калинина. Застали они председателя Центрального
исполнительного комитета за починкой сельскохозяй-
ственной машины. Справившись с работой, Михаил
Иванович пригласил гостей к обеду. После этого
Калинин с председателем сельсовета, зашедшим за
ним, отправились в лес, а Есенин со своим спутником
пошли гулять по деревенским улицам.
Был, по-видимому, праздничный день: в избах пи-
ровали, доносились звуки гармошки и песен. Начал
петь и Есенин. Он шел по улице с песней, за ним
увязались девушки, парни, старики. Остановившись
у груды свежеотесанных бревен, он стал читать свои
стихи.
«Сначала он читал громко, — пишет Рис Виль-
ямс, — и красноречие его возрастало по мере того, как
небольшая вначале группа окружавших его людей
вырастала в толпу... Крестьянам нравился напев и
ритм стихов, нравился и сам Есенин. Однако они не
умели высказывать, как горожане, свои чувства. По-
слышались жалкие хлопки, возгласы «давай дальше!»,
а Калинин, который к этому времени тоже подошел
к нам, слегка кивнул головой и коротко бросил:
«Хорошо!»
Подхватив этот возглас и желая подогреть на-
строение слушателей, Есенин решил проверить, согла-
сен ли Михаил Иванович с тем, что стихам его сужде-
но долголетие. «Ведь в России Сергея Есенина знают
все», — заявил поэт. Калинин ответил:
«Все — это очень много народу. Ну, положим, мно-
гие действительно знают Есенина. Точно так же
многие люди знают Калинина — тут уж ничего не по-
делаешь: в газетах печатают наши портреты и имена.
Но не надо преувеличивать. Для того чтобы о нас дол-
го помнили, нужно быть действительно великими,
как Маркс и Ленин. Вот они оказывают большое
влияние на историю».
Потом он задумчиво улыбнулся и добавил:
«Конечно, если кто-нибудь жаждет долгой славы,
то поэт на нее имеет больше шансов, чем комиссар.
Не обязательно быть Пушкиным или Шекспиром. Не-
72
обходимо только, чтобы в песнях отражались глубокие
чувства народа, его самые сильные горести и ра-
дости — такое, о чем люди не могут не петь. Таким
поэтом был Некрасов. Ведь это на его стихи вы сегод-
ня пели песни».
Когда толпа разошлась, к Михаилу Ивановичу
подошло несколько жителей, они заговорили о своих
нуждах и заботах. От поэзии общий разговор, в
котором участвовал и Есенин, перешел к пахоте и дру-
гим деревенским делам. Тут, наверное, поэт и сказал
то, что у него давно наболело в душе,— о крестьян-
ских жалобах на местные власти (к сожалению, Рис
Вильямс этого не отмечает).
«Вечером, — продолжает писатель, — за кипящим
самоваром мы вернулись к прежней теме. Настроение
у Есенина улучшилось, когда он увидел, что Калинину
знакомы многие его стихи и он может читать их на па-
мять...» Затем стал читать стихи сам поэт. Когда он
произнес:
Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой... —
Калинин заметил: «Очень хорошо... Но жить в этих
деревянных лачугах не так уж хорошо. Тараканы,
пьянство и суеверия — в этом нет никакой романтики.
Мы стараемся избавиться от этого. Мы хотим создать
новую деревню, новую жизнь».
Долго и настойчиво Калинин доказывал свою
мысль. «Послушай, Сергей, — сказал он в конце, —
у тебя есть талант и вдохновение. Почему бы тебе
не вернуться в деревню, не принять участие в ее борь-
бе, не выразить ее надежды, не стать певцом новой
жизни? Вот это принесло бы пользу и тебе, и твоей
поэзии, и России!»
«Поэта, — сообщает Рис Вильямс, — тронуло вни-
мание Калинина, и он молча согласился. Чем больше
Есенин раздумывал над мыслью, высказанной Кали-
ниным, тем больше загорался ею.
Утром он был полон радости от принятого нового
решения. Мы тронулись в обратный путь».
В этом «новом решении» главное для Есенина за-
ключалось не в том, чтобы «вернуться в деревню»
(поэт и без того наведывался туда, а после встречи
с Калининым, в 1924—1925 годах, его поездки домой
73
заметно участились), а в том, чтобы «стать певцом
новой жизни». Он искренне стремился посвятить свою
музу созидательным делам революции или, как гово-
рил в стихах, «постигнуть в каждом миге Коммуной
вздыбленную Русь». И, обращаясь к разным темам:
к жизни сегодняшней, к прошлому, — старался осмыс-
лить их в свете великих процессов преобразования
действительности, вершимых народом.
Версия о том, будто ближайшее окружение Есени-
на в советские годы ограничивалось имажинистами и
крестьянскими поэтами, не соответствует действитель-
ности. Поэт общался с политическими и государствен-
ными деятелями, с издательскими работниками, пар-
тийными публицистами. Если же говорить о литератур-
ной среде, то и она не исчерпывалась его друзьями по
группе или соратниками по чисто поэтическим интере-
сам. В числе людей, с которыми встречался, обсуждал
и решал деловые и творческие вопросы Есенин, кроме
называвшихся в предыдущих главах, были: Д. Фурма-
нов, Л. Леонов, Ю. Либединский, И. Бабель, Л. Сей-
фуллина, Н. Тихонов, Н. Асеев, Т. Табидзе и
другие.
Круг повседневных общений поэта был широк и
разнообразен. Но жизнь его протекала неровно,— в
ней были и срывы, и трудности, и тревоги.
ЕВРОПА И АМЕРИКА
После «Пугачева» творческое развитие поэта, идейно
порвавшего уже с имажинизмом и стремившегося
отдалиться от вредной среды, могло бы войти в нор-
мальное русло. Есенин способен был обогатить свою
поэзию новыми темами, новым жизненным материа-
лом, олицетворяя в слове и образе живое ощущение
революционной эпохи. Но именно в тот период про-
изошло событие, которое многое изменило в жизни
поэта, нарушив естественный ход его духовной и твор-
ческой эволюции.
Летом 1921 года в Москву по приглашению нар-
кома просвещения прибыла из-за границы на гастроли
знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Приглаше-
ние Луначарского совпало с ее собственным желанием
побывать в Советской России, помочь стране разви-
вать свое молодое искусство. Артистка намеревалась
не только давать концерты, но и основать в Москве
74
танцевальную школу, в которой хотела обучать по
новой методе и в новом художественном стиле совет-
ских детей.
Айседора Дункан была выдающимся мастером тан-
ца, творцом новых хореографических форм. Она стре-
милась избавить балет от мертвых традиций, от бута-
форских условностей, закоснелых приемов. В своем
творчестве она опиралась на забытый опыт античного
танца, приближая его к современности, одухотворяя
его новой мыслью. Знавший ее и встречавшийся с ней
в Москве писатель Николай Никитин говорит:
«Это была великая артистка, разрушившая лож-
ные, по ее мнению, каноны классического француз-
ского балета. И, очевидно, это был большой человек...
Приехать совершенно бескорыстно в Советскую Рос-
сию, едва оправившуюся от исторических пожаров,
нужды и голода... Приехать в «большевистскую» Мо-
скву с намерением бескорыстно отдать ей свой та-
лант — это совсем не то, что современные гастроли
зарубежных артистов. Поверить в эту Россию мог
человек лишь незаурядный... Она могла жить в полном
довольстве, спокойно. Но она говорила в те годы, что
не может так жить. Что только Россия может быть
родиной не купленного золотом искусства».
«Долгие годы и до самой смерти, — продолжает
Никитин, — восторженно относился к ней Станислав-
ский. И разве Есенин не мог не почувствовать ее
обаяние?»
Для московских гастролей Дункан приготовила
специальный танец «Интернационал», исполняя его с
необычайной экспрессией. Ее выступления имели гро-
мадный успех. В бывшем барском особняке на Пре-
чистенке была открыта студия, в которой она учила
танцу ребят. Дункан подготовила с ними целую про-
грамму; с этой программой студия выступала в Москве
и должна была выехать за границу. В том же доме
Дункан и жила.
Приглашение артистки в Советскую Россию было
одобрено В. И. Лениным. 7 ноября 1921 года в Боль-
шом театре состоялся концерт Айседоры Дункан, в ко-
тором участвовали сто пятьдесят учениц ее балетной
школы. Исполнялись танцы на музыку Чайковского
(«Симфония № 6», «Славянский марш») и «Интерна-
ционал». На концерте присутствовал В. И. Лёнин. По
свидетельству Н. И. Подвойского, Айседора Дункан
75
ему «очень понравилась». С особым энтузиазмом пуб-
лика встретила «Интернационал». Бурю восторгов,
разразившуюся в зале, прервал Луначарский, который
объявил, что исполнительница готова повторить за-
ключительную часть танца, если зрители своими голо-
сами поддержат оркестр. Все встали, и под сводами
зала зазвучали слова пролетарского гимна. В общем
хоре участвовал и Владимир Ильич.
Есенин познакомился с Айседорой Дункан в один
из осенних дней 1921 года. Его захватило необычайное
искусство танцовщицы, ее темперамент, обаяние ее
личности. Сильное чувство к поэту возникло и у нее.
По наблюдению С. Городецкого, «это была глубокая
взаимная любовь». «Конечно, — пишет он, — Есенин
был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу,
но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюб-
ляться».
Находясь в Москве, Дункан давала интервью ино-
странным корреспондентам. Ее спрашивали о впечат-
лениях от полуголодной Москвы, об искусстве в Со-
ветской России. Она сказала:
«Несмотря на лишения, русская интеллигенция с
энтузиазмом продолжает свой тяжелый труд по пере-
стройке жизни. Мой великий друг Станиславский,
глава Художественного театра, и его семья с аппети-
том едят бобовую кашу, но это не препятствует ему
творить величайшие образы в искусстве».
Что же касается голода, то еще раньше Дункан
заявляла, что голода не боится, так как выросла в
семье бедной учительницы музыки, где танец и песня
часто заменяли еду...
Но оставаться в Москве артистка не могла: по за-
ключенным ею контрактам она должна была в мае
1922 года выехать на гастроли в Западную Европу и
Соединенные Штаты Америки. Есенин женился на
Дункан и решил ехать вместе с ней, чтобы по оконча-
нии гастролей вместе с нею и вернуться.
В этой поездке Есенин преследовал и творчески-
пропагандистские цели. Своим друзьям он говорил:
«Я еду на Запад для того, чтобы показать Западу,
что такое русский поэт». В заявлении о выдаче загра-
ничного паспорта, адресованном Луначарскому, он
указывал, что в Берлине собирается урегулировать
дела с изданием книг русских поэтов. Для встречи в
Нью-Йорке он заготовил специальную речь, в которой
76
собирался сказать, что «душа России и душа Америки
в состоянии понять одна другую и что они приехали
рассказать о великих русских идеях и работать для
сближения двух великих стран».
Утром 10 мая 1922 года Сергей Есенин и Айседора
Дункан, провожаемые учениками и ученицами балет-
ной студии, вылетели с подмосковного аэродрома,
держа курс на Кенигсберг, с остановками в Смолен-
ске и Полоцке (это был едва ли не первый советский
международный авиарейс). Из Кенигсберга они на
следующий день поездом приехали в Берлин и посели-
лись в фешенебельном отеле «Адлон» на главной ули-
це столицы. Там их ждало целое полчище журна-
листов. Есенин в первый же день дал краткое ин-
тервью газете «Накануне». Вот его текст:
«Я люблю Россию. Она не принимает иной власти,
кроме Советской. Только за границей я понял совер-
шенно ясно, как велика заслуга русской революции,
спасшей мир от безнадежного мещанства».
Еще до выезда из Москвы поэта беспокоил вопрос,
как ему повести себя за границей при встрече с бело-
эмигрантами, в частности с Мережковским и Гиппиус.
«Я не подам руки Мережковскому... — говорил он, —
я не только не подам ему руки, но могу сделать и бо-
лее решительный шаг».
Встречи этой не произошло, но свое отношение к
белой эмиграции Есенин выразил достаточно ясно.
«Где бы я ни был, — рассказывал он, — ив какой
бы черной компании ни сидел (а это случалось!), я за
Россию им глотку готов был перервать. Прямо цепным
псом стал, никакого ругательства над Советской стра-
ной вынести не мог. И они это поняли. Долго я у них
в большевиках ходил». Последней фразой поэт, веро-
ятно, намекнул на статью Мережковского во француз-
ской газете «Эклер», где Есенин был назван «больше-
виком». Непосредственные же столкновения с бело-
эмигрантами относятся главным образом к первым
дням его пребывания в Берлине.
На литературном вечере в берлинском Доме ис-
кусств 12 мая 1922 года, когда в зал вошли Есенин
и Дункан, кто-то с провокационной целью крикнул:
«Интернационал!» Находившиеся в зале белоэмигран-
ты подняли свист, кое-кто кинулся к вешалкам, а Есе-
нин, вскочив на стол, стал читать стихи и запел «Ин-
тернационал» «Все равно не пересвистите, — заявил
77
он во всеуслышание. — Как засуну четыре пальца в
рот и свистну, — тут вам и конец. Лучше нас никто
свистеть не умеет>.
Один из белогвардейцев донес об инциденте в по-
сольство Франции, которое стало чинить препятствия
въезду Есенина и Дункан в эту страну. Поэт вынужден
был обратиться к заместителю наркома иностранных
дел М. М. Литвинову с письмом, в котором просил:
«...Если можете, то сделайте так, чтоб мы выбрались
из Германии и попали в Гаагу. Обещаю держать себя
корректно и в публичных местах «Интернационал» не
петь». Описывая потом свое прибытие в США, он
заметил: «Взяли с меня подписку не петь «Интерна-
ционал», как это сделал я в Берлине».
Наиболее памятной из берлинских встреч Есенина
была его новая встреча с М. Горьким. Произошла она
17 мая 1922 года в меблированных комнатах, где жил
с семьей Алексей Толстой. Горький, по настоянию
В. И. Ленина, приехал в Германию из Советской Рос-
сии лечиться; Толстой с семьей возвращались на роди-
ну после нескольких лет скитаний на чужбине. В Бер-
лине они встретились и пригласили к себе Есенина и
Дункан.
В небольшой гостиной жена Толстого накрыла стол
для завтрака. Дункан танцевала, после чего Есенин
читал стихи — отрывки из «Пугачева» и «Песнь о со-
баке». Чтение растрогало Горького. «Взволновал он
меня до спазмы в горле, — писал Алексей Максимо-
вич, — рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать
ему никаких слов, да он — я думаю — и не нуждался
в них». Перед Горьким был уже не тот картинный,
игрушечный мальчик, которого он видел шесть лет
тому назад, а зрелый художник, «своеобразно талант-
ливый и законченный русский поэт».
Горькому бросился в глаза контраст между поэтом
и его новой подругой. И он, и она были одаренными
людьми, полюбившими друг друга, но многое их раз-
деляло: и разница в возрасте (Дункан была на сем-
надцать лет старше Есенина), и языковый барьер
(она владела тремя европейскими языками, но по-рус-
ски могла произнести лишь несколько слов; он говорил
только по-русски), и резкое несходство натур. По впе-
чатлениям Горького, эта знаменитая женщина, отяго-
щенная возрастом и славой, «рядом с маленьким, как
подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась
78
совершеннейшим олицетворением всего, что ему было
не нужно».
В Есенине можно было заметить некоторую встре-
воженность, растерянность, объяснялось это и тем,
что за границей, в обществе знаменитой артистки,
он окунулся в атмосферу буржуазной богемы, той
вылощенной, фешенебельной, барски расточительной
жизни, которая была ему внутренне совершенно
чужда.
Очень важны в этом смысле наблюдения, сделан-
ные Горьким во время совместного посещения знаме-
нитого берлинского Луна-парка (парка аттракционов).
Алексею Максимовичу стало ясно, что русский поэт
не приемлет буржуазной псевдокультуры, замешанной
на торгашестве и отвечавшей вкусам пресыщенных
бюргеров и загулявших служанок.
«Торопливость, с которой Есенин осматривал уве-
селения,— пишет Горький, — была подозрительна и
внушала мысль: человек хочет все видеть для того,
чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киос-
ком, в котором вертелось и гудело что-то пестрое,
он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:
— Вы думаете — мои стихи — нужны? И вообще
искусство, то есть поэзия — нужна?
Вопрос был уместен как нельзя больше, — Луна-
парк забавно живет и без Шиллера».
Горький заключает, что Есенин походил на чело-
века, пришедшего сюда «по обязанности или «из при-
личия», как неверующие посещают церковь. Пришел и
нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем
не задевающая его души, служба чужому богу».
Эти наблюдения оказались весьма прозорливыми:
все дальнейшее путешествие Есенина по зарубежным
странам протекало под знаком ощущений, замеченных
в нем Горьким: с одной стороны, глубокого, стойкого
недовольства буржуазным миром, буржуазной культу-
рой, с другой — ощущения назревающего кризиса в
отношениях с Айседорой Дункан. О первом живо сви-
детельствуют письма Есенина и его очерки, опублико-
ванные по возвращении на Родину; второе рано или
поздно должно было обнаружить себя.
В Берлине Есенин заключил договор на издание
«Собрания стихов и поэм» и подготовил к печати это
«Собрание»; написал и опубликовал автобиографи-
ческую заметку «Сергей Есенин». В газетах было
79
напечатано несколько его стихотворений. Хлопотал он
и об издании книг своих товарищей.
В конце июня Есенин .и Дункан совершили неболь-
шую поездку по Германии. В письмах своих, адресо-
ванных московским друзьям, поэт делился впечатле-
ниями о буржуазной Европе.
Из Дюссельдорфа он писал:
«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве
мещанства, которое граничит с идиотизмом?.. Чело-
века я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет.
В страшной моде Господин доллар, а на искусство
начихать — самое высшее мюзик-холл... Пусть мы ни-
щие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато
у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадоб-
ностью в аренду под смердяковщину».
4 июля Есенин и Дункан выехали из Германии в
Бельгию, Пять дней спустя, находясь в Остенде, Есе-
нин в очередном письме заключал:
«Там, из Москвы, нам казалось, что Европа — это
самый обширнейший рынок распространения наших
идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: боже мой! до
чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажет-
ся, нет еще такой страны и быть не может».
Есенин не отрицал достижений буржуазной циви-
лизации и преимуществ бытового комфорта. «Со сто-
роны внешних впечатлений, — замечал он, — после
нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под
утюг». Но в духовной жизни — «сплошное кладбище».
«Все эти люди, которые снуют не быстрей ящериц, не
люди — а могильные черви, дома их гробы, а мате-
рик — склеп».
К концу июля удалось все же выхлопотать визы
во Францию. Посетив Париж, Есенин и Дункан вы-
ехали в Италию, побывали в Венеции, Риме, Неаполе,
Флоренции и к середине августа вернулись в Париж,
где прожили месяц. Оттуда путь их лежал через океан
на другой континент.
Есенин бродил по гигантскому пассажирскому лай-
неру, где ресторан «площадью побольше нашего Боль-
шого театра», где внушительных размеров помещения
отведены под каюты с гостиными и ваннами, под залы
для танцев, карточных йгр, увеселений — и расхохо-
тался. Вся эта роскошь не ослепила его. Конечно, по-
думал он, в нашей стране еще много непролазных
дорог, в крестьянских избах теснота и грязь, но для
80
того чтобы избавиться от этой отсталости, мы и за-
думали перестроить всю нашу жизнь.
«С того дня, — писал впоследствии поэт, — я еще
больше влюбился в коммунистическое строительство.
Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих
поэмах (он имел в виду «мифологические поэмы»,
написанные после Октября. — И. *9.), — я близок им
умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в сво-
ем творчестве. С такими мыслями я ехал в страну
Колумба. Ехал океаном шесть дней, проводя жизнь
среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте пуб-
лики».
2 октября 1922 года лайнер «Париж» отшвартовал-
ся в нью-йоркском порту. Но представители американ-
ских властей не разрешили Есенину и Дункан сойти на
берег. Их отправили на остров Эллис-Айленд для про-
изводства дознания в связи с полученными, как
сообщалось в газетах, сведениями, что они прибыли
в Америку для ведения коммунистической пропаганды.
Дункан энергично протестовала, напомнив чиновни-
кам, что она урожденная американка, а Есенин —
ее муж. Протестовал и он. Чиновникам едва удалось
уговорить их отправиться на «Остров слез» (таков
точный перевод английского названия этого острова).
«Садясь на маленький пароход в сопровождении
полицейских и журналистов, — рассказывал поэт, —
мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху.
«Бедная старая девушка! Ты поставлена здесь ради
курьеза!» — сказал я. Журналисты стали спрашивать
нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой пере-
вел им, и они тоже рассмеялись».
На острове Есенину и Дункан задали несколько
вопросов, взяли с них устное обязательство «не делать
никому зла» и «ни в каких политических делах не при-
нимать участия», после чего им было разрешено
ступить на американскую землю.
В этой стране они пробыли четыре месяца, посети-
ли Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Филадельфию и другие
города, в которых Дункан давала концерты. Есенин
побывал на знаменитой нью-йоркской бирже, которая
произвела на него ужасное впечатление, осматривал
достопримечательности в других городах, выступил на
литературном вечере в пользу русских сирот и все это
время тосковал по России. В письме к Мариенгофу
он восклицал:
81
«Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не
в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так
плохо, что хоть повеситься. ...Лучше всего, что я ви-
дел в этом мире, это все-таки Москва... Раньше подо-
гревало то, при всех российских лишениях, что вот,
мол, «заграница», а теперь, как увидел, молю бога не
умереть душой и любовью к моему искусству... В голо-
ве у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что
так по-чеховски».
О том же — в стихах:
Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родному краю
Мне б хотелось теперь повернуть.
(«Эта улица мне знакома...»)
Позже в стихотворении «Ты прохладой меня не
мучай...» поэт иронизировал над модными штиблетами,
черным цилиндром и крахмальной манишкой, укра-
шавшими его на пути от Москвы до Парижа и затем
до Америки. Что же касается увиденного им заокеан-
ского мира, то о нем поэт рассказал немногословно, но
весьма определенно в двух очерках под названием
«Железный Миргород» (мы их цитировали выше).
Очерки, появившиеся в 1923 году на страницах «Из-
вестий», показывали, что эта богатейшая страна пред-
ставляет собой мировое захолустье, недалеко ушедшее
от гоголевского Миргорода:
«Нравы американцев напоминают незабвенной го-
голевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана
Никифоровича. Как у последних не было города лучше
Полтавы, так и у первых нет лучше и культурнее
страны, чем Америка».
Это страна, где, по словам поэта, «владычество
доллара съело... все стремления к каким-либо слож-
ным вопросам», где господствует культ бизнеса, где
«до сих пор остается неразрешенным вопрос: нрав-
ственно или безнравственно поставить памятник Эд-
гару По».
Нельзя утверждать, что Есенин пренебрег теми
достижениями техники, бытовой культуры, которые он
наблюдал в этой стране. Более того, он считал воз-
можным кое-что перенять и для нас.
«После заграницы, — писал он в автобиографии, —
я смотрел на страну свою и события по-другому. Наше
едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится
82
цивилизация. Но я очень не люблю Америки. Америка
это тот смрад, где пропадает не только искусство, но
и вообще лучшие порывы человечества. Если сегодня
держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть
наше серое небо и наш пейзаж...»
4 февраля 1923 года на рейсовом пароходе «Джордж
Вашингтон» Есенин и Дункан выехали из Америки в
Европу. Через неделю они прибыли во французский
порт Шербур. Еще полгода прожили во Франции и
Германии и 3 августа вернулись в Москву.
В путешествии Есенин работал, правда, с меньшей
интенсивностью, чем обычно. Он писал драматическую
поэму «Страна негодяев», набросал первый вариант
поэмы «Черный человек». Но обстановка кочевого рес-
торанного быта и окружавшие поэта люди усиливали
те богемные настроения, которые сказывались еще в
прежних стихах. Написанные им за рубежом лириче-
ские этюды не случайно пополнили собой цикл «Моск-
ва кабацкая».
Возвращение на Родину было праздником для
поэта:
Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой
Стоит береза над прудом.
(«Мой путь»)
Встречавшаяся в эти дни с Есениным артистка
А. Л. Миклашевская пишет: «Он был счастлив, что
вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребе-
нок. Трогал руками дома, деревья... Уверял, что все,
даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказы-
вал, как ему трудно было за границей».
С огромным успехом прошло первое публичное вы-
ступление поэта после возвращения из поездки —
вечер в Политехническом музее 21 августа 1923 года.
К зданию было не пройти: его обложила плотная
толпа жаждущих попасть на вечер; конная милиция
с трудом поддерживала порядок; пробраться к подъ-
езду было невозможно даже тем, кто имел билеты или
служебные пропуска. Поэта, вышедшего на эстраду,
встретили овацией. Он волновался. О поездке он рас-
сказывал не очень связно (ораторскими способностями
не обладал), но чтение стихов прошло с полным три-
83
умфом. Читал он громко, уверенно, выразительно
жестикулируя, с одухотворением и мастерством.
«Публика неистовствовала... от восторга и восхище-
ния, — рассказывает один из участников этого вече-
ра. — Есенин весь преобразился. Вечер закончился
поздно. Публика долго не расходилась и требовала от
Есенина все новые и новые стихи. И он читал, пока
не охрип».
Все, знавшие Есенина, отметили в нем удивитель-
ную перемену. Поэт как будто от чего-то очистился,
освободился, к чему-то твердо пришел. Поездка на
Запад дала ему возможность увидеть собственную
страну издалека, а тот, иной мир — вблизи. Какою
сладостной, духовно чистой, полной великих надежд
оказалась его Родина в сравнении со странами буржу-
азного Запада! И поэт всей душой ощутил, что именно
из этого, чуждого мира шли те миазмы отравленной
жизни, которыми сопровождались кабацкие будни
имажинистов и которым сопутствовала прожигающая
свои дни в нечистых делах и в безумных увеселениях
нэповская буржуазия. В декабре 1923 года он печа-
тает стихотворение «Пускай ты выпита другим...», в
котором говорит:
Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.
Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце налилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.
И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.
Необходимость разрыва с богемой во всех ее про-
явлениях — и в творчестве, и в быту — осознается
теперь Есениным не только как душевная потребность
и нравственный долг, но и как необходимость утвер-
дить себя в роли поэта-гражданина:
Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
84
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР
(«Стансы»)
Вспоминая, как он «с больной душой поэта» пошел
«скандалить... озорничать и пить», Есенин говорил о
вдохновившей его новой весне, расшифровывая этот
образ в следующих строках:
Но ту весну,
Которую люблю,
Я революцией великой
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Ее одну
Я жду и призываю!
(«Ответ»)
По возвращении на Родину Есенин окончательно
порывает с имажинистами. Чтобы закрепить этот раз-
рыв, он в августе 1924 года публикует в «Правде»
письмо, подписанное им вместе с поэтом Иваном
Грузиновым:
«Мы, создатели имажинизма, доводим до всеоб-
щего сведения, что группа «имажинисты» в доселе из-
вестном составе объявляется нами распущенной».
Встречаясь с товарищами, Есенин говорит: «Я не
крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт».
В беседе с Николаем Асеевым он подчеркивает, что,
оставшись вне всяких групп, испытывает особые сим-
патии к Маяковскому и Хлебникову: ему нравится
не только их поэзия, но «их жизнь, их борьба, их
приемы и способы своего становления».
К естественному концу приходит и драматическая
история взаимоотношений с Айседорой Дункан. В этой
истории не было виноватых, но она не обошлась без
душевных потерь для каждой из сторон. Дункан тяже-
ло переживала разрыв с Есениным. Он жалел ее,
обещал даже вернуться. Но это было выше его сил.
Сергей не вернулся, и она, совершив короткую поезд-
ку в Закавказье и Крым, навсегда покинула нашу
страну1.
1 Айседора Дункан всего на два года пережила Есенина. Она
погибла в 1927 году при трагических обстоятельствах (была заду-
шена собственным шарфом, конец которого попал под колеса откры-
того автомобиля).. В те годы в нашей стране гастролировала с
группой танцовщиц, учившихся у Айседоры в Москве, ее приемная
дочь Ирма Дункан.
85
Верно и точно оценил эту, полную конфликтов и
переживаний историю С. Коненков, неоднократно бы-
вавший у Есенина и Дункан в особняке на Пречис-
тенке, наблюдавший их вместе и порознь: «Дункан
была яркая, необычная фигура. Она много дала Есе-
нину, но еще больше забрала у него нравственных
и душевных сил».
Оставив благоустроенное жилье на Пречистенке,
Есенин возвратился в комнату Мариенгофа. Но вскоре
порвал с Мариенгофом и ушел от него.
Начался новый период жизни поэта — период не-
бывалой творческой активности, великих поэтических
взлетов и побед.
ВЕРШИНЫ
Z/есной 1923 года, когда Есенин был за границей,
советские газеты начали публиковать бюллетени о со-
стоянии здоровья В. И. Ленина. Тяжким ударом для
всех советских людей был каждый такой бюллетень.
Находясь вдали от Родины, поэт с тревогой следил за
вестями об Ильиче.
Траурные дни января 1924 года застали Есенина
уже в Москве, — он лечился в санатории на Большой
Полянке. Весть о кончине вождя он переживал тяже-
ло: был хмур, неразговорчив. Вечером 22 января среди
больных распространился слух, что гроб с телом Ле-
нина, когда его привезут из Горок, будут проносить
поблизости от санатория. На следующий день Есенин,
не спросив разрешения, покинул санаторий, встретил
траурную процессию, шедшую от Павелецкого вок-
зала, и прошел некоторое расстояние вместе с ней.
Когда он вернулся, в вестибюле его ждал сотрудник
«Правды» — он вручил поэту пропуск в Дом Союзов.
Все уже знали, что именно там, в Колонном зале,
будет происходить прощание народа с вождем.
В громадной толпе людей, среди которых было ’
много приезжих, много крестьян, пробрался Есенин
к Дому Союзов. «...Он, — рассказывает писатель
Ю. Либединский, — несколько часов простоял в Ко-
лонном зале, не сводя глаз с дорогого лица. Вместе
с народом, бесконечной вереницей идущим мимо гроба,
переживал он горе прощания. В эти дни, наверное,
и зародились скорбные и полные животворной силы
ямбы его «Ленина».
86
Ямбы «Ленина» — это строки стихотворения «Ле-
нин», предназначенные для поэмы «Гуляй-поле»,
которая осталась ненаписанной:
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.
И в конце:
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.
Для них не скажешь:
«Ленин уме р!>
Их смерть к тоске не привела.
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...
Публичное чтение этих стихов автором проходило
с невиданным ранее успехом. Вот как описывает совре-
менник одно из таких чтений, состоявшееся 16 сентяб-
ря 1924 года:
«Несколько секунд стояла... напряженная тишина.
А потом вдруг все сразу утонуло в грохоте рукоплес-
каний... Да и нельзя было не рукоплескать, не кри-
чать, приминая в горле ком подступающих рыданий,
потому что и стихи, и сам поэт, и его проникновенный
голос — все хватало за самое сердце и не позволяло
оставаться равнодушным. У каждого жили в памяти
скорбные дни января 1924 года, когда вся страна
навсегда прощалась в великим вождем...»
По словам Н. Тихонова, отрывок из поэмы Есенин
читал однажды группе товарищей, среди которых были
большевики-ветераны: «Мне довелось услышать в уз-
ком кругу — было всего несколько человек, и среди
них Фрунзе, Енукидзе, Воронский — чтение Есениным
первоначальных набросков и отрывков из его поэмы,
где главным поэтическим образом был Ленин. Как он
хотел написать именно эту поэму! С волнением, не-
обычным для него, выслушивал он мнения старых
большевиков, их советы и поправки».
О Ленине поэт не раз расспрашивал людей, встре-
87
чавшихся с Владимиром Ильичем. Еще при жизни
вождя Есенин беседовал с упоминавшимся нами вы-
ше сотрудником Наркомпрода П. А. Кузько, который
по делам службы несколько раз бывал у Владимира
Ильича, слышал его выступления на заседаниях Сов-
наркома, на съездах партии. Есенин подробно рас-
спрашивал, как выглядит Ленин, как говорит, как дер-
жится с людьми. После похорон Ильича поэт встретил-
ся с работником издательства <Круг> Д. К. Богомиль-
ским, которому довелось видеть и слышать Ленина в
эмиграции. Богомильский рассказал, как зимой
1911 года в Париже Ленин выступал на кладбище
Пер-Лашез у Стены коммунаров, когда хоронили
супругов Лафарг — дочь Карла Маркса Лауру и ее
мужа Поля Лафарга; Есенин очень заинтересовался
этим рассказом.
Судя по всему, поэт собирался создать большое
эпическое полотно о революции, о гражданской войне,
и центральное место в этом произведении должен был
занять Ленин.
Вождю трудящихся посвящено и стихотворение «Ка-
питан земли». Яркой поэтической метафорой передано
в нем величие человека, который «средь рева волн»,
сквозь «шквальные откосы» повел вперед корабль
революции:
Он в разуме,
Отваги полный,
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.
Он — рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия — его
Матросы.
Позднее поэт говорил: «Я в долгу перед образом
Ленина, — ведь то, что я писал о Ленине, — и «Капи-
тан земли» и «Еще закон не отвердел, страна шумит,
как непогода» (первые строки стихотворения «Ле-
нин».— И. Э.), — это слабая дань памяти человеку,
88
который не то что, как Петр I, Россию вздернул на
дыбы, а вздыбил всю нашу планету».
В 1924 году Есенин дважды приезжал в Ленин-
град: в апреле-мае он прожил здесь три с половиной
недели, в июне-июле — полтора месяца. Останавли-
вался и жил он сперва в гостинице, потом в квартире
одного из своих друзей на набережной Невы. Почти
ежедневно он прохаживался мимо Летнего сада, по
Марсову полю и Невскому проспекту. Побывал он и
в пригородах — Сестрорецке, Петергофе, Детском
Селе (так называлось бывшее Царское Село).
Ленинградцы с радостным интересом встретили по-
эта, который впервые раскрылся пред ними во всей
силе своего художественного таланта. Его апрельские
выступления в зале Агитстудии на Стремянной улице
и в здании бывшей Городской думы на Невском про-
спекте привлекли много слушателей, а вечер в здании
Думы прошел с настоящим триумфом. Публика буше-
вала в восторге и от стихов, и от замечательного,
вдохновенного чтения. Есенина подняли на руки и
понесли к Европейской гостинице.
Как и перед образом Ленина, перед городом, нося-
щим его имя, Есенин чувствовал себя в долгу. В этом
городе он был впервые признан как поэт, здесь он
встретил свержение царского строя и Великую Ок-
тябрьскую революцию; между тем ни одно из событий,
связанных с историей этого города, еще не отразилось
в его стихах. Теперь в сознании поэта как бы скрести-
лись две эпохи, каждая из которых по-своему отража-
ет историческую судьбу города: эпоха Петра и эпоха
революции. Так сложился замысел «Песни о великом
походе» — историко-революционной поэмы, написан-
ной вчерне летом 1924 года в Ленинграде.
Начав свой рассказ с тех далеких времен, когда
«средь туманов... и цепных болот» на крови его строи-
телей был воздвигнут город-великан, поэт переносит
нас в «снеговой Октябрь». И дальше развертывается
эпопея защиты народом революционных завоеваний:
тут и Дон, и Сибирь, и украинская степь, и подступы
к великому городу, где родилась революция. Во главе
этой борьбы — коммунары в кожаных куртках, «кто
за бедный люд жить и сгибнуть рад, кто не хочет сдать
вольный Питер-град».
Вся поэма проникнута песенными, сказово-поэтиче-
скими мотивами, тесно связанными с ее народным,
89
историческим содержанием. Этой цельностью, историз-
мом «Песнь о великом походе» существенно отлича-
ется от есенинских произведений о революции, напи-
санных в 1917—1918 годах, и от драматической поэмы
о Пугачеве.
Не прошло и двух месяцев со дня окончания «Пес-
ни», как родилась «Поэма о 36» — суровая героиче-
ская повесть о борцах революции, перенесших и шлис-
сельбургские казематы, и енисейскую стужу, и много-
верстные путешествия в арестантских вагонах, но со-
хранивших несмотря на все трудности и лишения не-
примиримую ненависть к поработителям. По лакониз-
му своего поэтического языка и по строгости
исторического содержания произведение это стоит в
одном ряду с «Песнью о великом походе».
Тема революции прочно овладела поэтом, она про-
шла через ряд его стихотворений («Воспоминание» —
о Питере Октябрьских дней, «Мой путь» — о том, как
«на смену царщине с величественной силой рабочая
предстала рать») и еще не раз возносила его к верши-
нам. революционного эпоса. Одна из этих вершин —
наиболее крупное по значению и масштабу творение
Есенина, поэма «Анна Снегина».
В основе всех прежних произведений Цсенина об
Октябрьской революции и гражданской войне лежало
поэтическое осмысление известных событий революци-
онной эпохи. В основу «Анны Снегиной» легли собы-
тия, свидетелем которых самому автору довелось стать
в деревне семнадцатого года. Это придало поэме и
достоверность личных свидетельств, и впечатляющую
силу изображения, и проникновенный лиризм.
Поэт рисует деревню, потрясаемую «мужицкими
войнами», борьбой* крестьян за землю, неодолимым
стремлением простого деревенского люда добыть себе
счастье. Перед читателем проходят различные периоды
этой борьбы: лето 1917 года, когда крестьянские пред-
ставители явились к помещице просить землю и не
получили ее; послеоктябрьские дни, когда мужики от-
бирали землю и помещичий дом; наконец, «суровые,
грозные годы» гражданской войны. На фоне этих со-
бытий выступают характерные образы деревенских
людей: возницы — рассудительного и говорливого
мужика, рассказом которого начинается поэма; услуж-
ливого и доброго мельника; волевого крестьянина-бед-
няка, деревенского активиста Прона Оглоблина и его
90
брата — трусливого, скользкого, увертливого мужи-
чонки Лабути.
Деревня в «Анне Снегиной» — это реальная, исто-
рически достоверная, полная жгучих социальных про-
тиворечий, кипящая в огне революционной борьбы
деревня, совсем иная, чем колоритно изображенная, но
все же несколько идеализированная деревня в стихах
Есенина предоктябрьских лет. Историческое мышле-
ние поэта дало ему возможность создать впечатля-
ющие и неоспоримые картины жизни деревни в эпоху
революционного перелома, отразить силу и величие
ленинской правды, доходящей до сознания крестьян:
И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».
Все, о чем поведал автор в «Анне Снегиной», —
это увиденное и пережитое им самим. Потому особое
значение приобретает в поэме образ поэта-рассказ-
чика. Его можно смело считать одним из наиболее
сильных реалистических характеров в творчестве Есе-
нина. А картины юности, которые проходят перед
мысленным взором поэта, стоят на уровне лучших
образцов его лирики. Вспомним хотя бы такие строки,
передающие основную тональность поэмы, содержа-
щие ее лейтмотив:
И вот я опять в дороге,
Ночная июньская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко, ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.
Очень ярко выражено в произведении жизнелюбие
поэта, его восхищение окружающим миром, презрение
ко всякому злу:
91
Привет тебе, жизни денница!
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдает росяница
На яблонях белых в саду.
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
Естественно и просто входит в поэму лирическая
тема, связанная с воспоминаниями о юности, которую
поэт провел в деревне, о чувстве, которое испытывал
к девушке из помещичьего дома («девушке в белой
накидке»), ставшей ему теперь далекой и чужой,
о встречах, столкновениях, примирениях и разлуке.
«Анна Снегина» печаталась с посвящением критику
А. К. Воронскому; имя девушки, которая подразумева-
лась поэтом, изменено; названия деревень — Радово
и Криуши — хотя и подлинные, но как бы отводят
внимание читателей от села Константинова, в котором
происходили описываемые события и которое в тексте
не названо (впрочем, обе деревни — в том же уезде,
что и Константиново, но расположены далеко друг
от друга, а в поэме они рядом). Однако автобиогра-
фические мотивы поэмы улавливаются очень легко
(хотя бы из упоминания «стихов про кабацкую Русь»).
Что же касается героини, то о ней есть прямое свиде-
тельство сестры поэта, А. А. Есениной; называя
Л. И. Кашину, «молодую, интересную и образованную
женщину», А. Есенина пишет: «Она явилась прототи-
пом Анны Снегиной... а слова в поэме «Анна Снегина»:
Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад, —
относятся к имению Кашиной». В период, близкий к
написанию поэмы, Есенин еще дважды возвращался
к своей героине, напомнив о ней в стихотворении
«Сукин сын» («Девушка в белом, для которой был
пес почтальон») и в черновом варианте стихотворения
«Этой грусти теперь не рассыпать...» («Где ты, нежная
девушка в белом, ранних лет моих радость и свет»).
Как видим, в воспоминаниях поэта о своей юности
девушка эта занимала немалое место. Мягкий, за-
92
душевный лиризм, с каким написаны эпизоды встреч с
нею в поэме, говорит о том, сколь дороги эти воспо-
минания автору. Однако, вводя ее в эпический сюжет,
в историю социальных встрясок, пережитых деревней
на рубеже двух эпох, поэт многое в этой девушке
изменил. Ее характеристика стала жестче, ее сужде-
ния — расчетливей (особенно в том месте, где она объ-
ясняет, почему ее избранником оказался не поэт, а
«молодой офицер»). Дальнейшая же судьба Анны
логически связана со всем ее прошлым: она покидает
деревню и первая весть от нее приходит уже из
эмигрантского далека.
Передав чувство нежности, которое автор испыты-
вал к некогда любимому человеку, рассказав обо
всем, что пережил «под наплывом 16-ти лет», он дал
объективное и закономерное разрешение лирической
теме. «Анна Снегина» — это одновременно и «объяс-
нение с женщиной» и «объяснение с эпохой», причем
первое явно подчинено второму, ибо в основе поэмы,
вопреки ее локальному, именному названию, лежит
рассказ о революционной ломке в деревне. При не-
ослабном звучании лирической темы здесь достигнут
широкий масштаб изображения народной борьбы и
глубокое проникновение в человеческие характеры.
Недаром сам автор считал поэму произведением
«лиро-эпическим».
Заметим при этом, что во всех предыдущих стихах
«девушка в белом» существовала вне социальной
истории, вне переживаемой героями эпохи. Теперь она
четко вписывается в социальную биографию страны,
в непридуманную жизнь героя и его современников.
Вписывается не только как объект поэтического чув-
ства, но и как социальный характер. Нельзя не видеть
здесь шага вперед в художественном развитии ав-
тора.
ЗАКАВКАЗЬЕ
^Большими событиями в жизни Есенина были его по-
ездки в закавказские республики. За последние два
года жизни он бывал там трижды, каждый раз на-
бираясь новых впечатлений и с радостью отдавая себя
творческому труду.
Первая поездка растянулась на целое полугодие.
Выехав из Москвы в начале сентября 1924 года,
93
Есенин до конца февраля 1925 года пробыл в Баку,
Тифлисе, Батуме, причем в первых двух городах был
по нескольку раз. Он много печатался в закавказских
газетах «Заря Востока» и «Бакинский рабочий», вы-
пустил две книги стихов («Русь Советскую» — в Баку
и «Страну Советскую» — в Тифлисе) и с необыкновен-
ной продуктивностью работал. Можно без преувеличе-
ний сказать, что это был «болдинский период» его
творчества (если пользоваться термином, позаимство-
ванным из биографии Пушкина) — период подъема,
вдохновения, радостной и плодотворной работы.
В письмах из Батума в Москву поэт сообщал:
«Работается и пишется мне дьявольски хорошо. До
весны я могу и не приехать. Меня тянут в Сухум, Эри-
вань, Трапезунд и Тегеран, потом опять в Баку».
И в другом письме:
«Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя
просветленным, не надо мне этой глупой шумливой
славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое
поэзия... Я скоро завалю Вас материалом. Так много
и легко пишется в жизни очень редко. Это просто по-
тому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я
очень похорошел. Вероятно, оттого, что я что-то уви-
дел и успокоился».
Это состояние творческого подъема нельзя припи-
сывать климатическим или бытовым условиям пребы-
вания поэта в южных городах, хотя условия эти были
вполне благоприятны. Есенин сам в том же письме
указал, что необычайная страсть к работе у него
наступила после возвращения из-за рубежа и что
страсть эта связана с огромным внутренним просвет-
лением («я чувствую себя просветленным», «я что-то
увидел и успокоился»), и вызвана была она разрывом
поэта с тем, что тяготило его в прошлом, обретенной
им ясностью в понимании своего долга художника и
гражданина.
Для точности следует добавить, что «болдинская
осень» в творчестве Есенина охватывает не одно лишь
это полугодие, она простирается и на более ранние и
на более поздние месяцы, примерно до середины
1925 года.
В Закавказье Есениным за шесть месяцев были на-
писаны «Баллада о двадцати шести», стихотворения
«Памяти Брюсова», «Письмо к женщине», «Капитан
земли», «Русь уходящая», «Русь бесприютная», «Цве-
94
ты», «Воспоминание», «Мой путь» и другие, начата
работа над поэмой «Анна Снегина» и циклом стихов
«Персидские мотивы».
Период с конца марта до конца мая 1925 года
Есенин провел в Баку и Мардакьянах (предместье
азербайджанской столицы), он снова интенсивно со-
трудничал в «Бакинском рабочем», написал стихотворе-
ния «Заря окликает другую...», «Письмо к сестре»,
«Неуютная жидкая лунность...», «Прощай, Баку!».
В тех же местах он провел последние дни июля
и весь август, создал четыре новых стихотворения,
написал памфлет «Дама с лорнетом» и закончил
«Персидские мотивы».
Время пребывания на юге изобиловало встречами
с читателями, с молодыми литераторами, с рабочими,
партийными деятелями, журналистами. Есенин участ-
вовал в праздновании Международного юношеского
дня в Тифлисе и первомайских дней в Баку; он выез-
жал на бакинские нефтяные промыслы, знакомился
с трудом и бытом рабочих, читал стихи в клубе нефтя-
ников, выступал в тифлисском клубе совработников и
в студенческом клубе в Баку, принял участие в литера-
турном диспуте, организованном писателями и журна-
листами Батума.
Особенно знаменательны были встречи Есенина с
Сергеем Мироновичем Кировым и Михаилом Василь-
евичем Фрунзе, происходившие в Баку.
Осенью 1924 года знаменитый советский полково-
дец приехал в столицу Азербайджана, где первым
секретарем ЦК Компарии был Киров. Встреча эта
пробудила в поэте огромный интерес к личности обоих
деятелей, к их боевому прошлому. У знакомых он вы-
спрашивал подробности работы Кирова в Одиннадца-
той армии, организации им обороны Астрахани, дея-
тельности Фрунзе в годы гражданской войны.
Киров, в свою очередь, с большим вниманием от-
несся к поэту и поручил редактору газеты «Бакинский
рабочий» П. И. Чагину как можно шире показать ему
промышленный Азербайджан (ввести в «стихию про-
мыслов», как отмечал сам поэт) и создать ему условия
для творческих занятий. Узнав у Чагина, что поэт со-
бирался в Персию для работы над циклом лирических
стихов (а поездка в Персию была по тем временам не-
безопасна), Киров предложил Чагину создать для поэ-
та иллюзию Персии в самом Баку и в его окрестностях.
95
Вторая встреча с Кировым была на праздновании
1 Мая в 1925 году.
«Первомай того года, — вспоминает Чагин, — мы
решили провести необычно. Вместо общегородской де-
монстрации организовали митинги в промысловых и
заводских районах, посвященные закладке новых ра-
бочих поселков, а затем — рабочие, народные гулянья.
Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азер-
байджана, Сергея Есенина. Он не был к тому времени
новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже пол-
года как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепро-
мыслы...» И когда приехали в Балахнинский район, где
был заложен рабочий поселок имени Стеньки Разина,
поэта встретили там как старого знакомого. «Вместе
с партийными руководителями, — продолжает Ча-
гин, — ходил он по лужайкам, где прямо на траве
расположились рабочие со своими семьями, читал ра-
бочим стихи, пел частушки. После этого поехали на
дачу в Мардакьянах, под Баку. Есенин в присутствии
Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно
читал стихотворения из цикла «Персидские мотивы».
Кирова удивила сила таланта и воображения поэ-
та, который сумел, не побывав ни разу в восточной
стране, куда он собирался (недаром в приводившемся
выше письме из Батума упоминал Тегеран), с такой
поэтичностью передать ее своеобразный колорит. Тут
Киров обратился с упреком к Чагину: «...Ведь тебе же
поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так
создай же. Чего не хватит — довообразит. Он же поэт.
Да какой!»
Поручение Сергея Мироновича было выполнено.
Чагин поселил поэта на одной из бывших ханских дач
с огромным садом, фонтаном, бассейном и всевозмож-
ными восточными украшениями. Иллюзию усиливала
атмосфера древней восточной поэзии, в которую по-
грузился Есенин, читая персидских лириков Фирдоуси,
Саади и других. Одно за другим было написано пят-
надцать стихотворений (из двадцати задуманных
поэтом), которые и составили названный цикл.
«Персидские мотивы» можно по праву отнести к
шедеврам есенинской лирики. Стихи этого цикла соче-
тали в себе тонкое мастерство изображения природы,
простоту и ясность сюжетов, живость передачи разно-
образных (нередко драматических) настроений.
Но природа здесь весьма своеобразна: она не-
96
сколько необычна для певца «рязанских раздолий»,
но в то же время и характерна для него, ибо он не
ушел от родных лесов и полян, соприкоснувшись с
экзотической природой Востока, а попытался увидеть
их в контрастном сочетании, в игре цветов, подчеркну-
той тонким поэтическим чувством.
У Есенина есть несколько стихотворений, посвя-
щенных Кавказу. Пейзажи в них даны выразитель-
ными, но крайне скупыми мазками: кремнистые дороги
и янтарное вино лунного света — в стихотворении
«Поэтам Грузии»; пригоршни водяных горошин, кото-
рыми плещет черноморская волна, — в стихотворении
«Батум»; иногда пейзажные образы имеют здесь чисто
метафорическое значение (кизиловый сок стихотвор-
ной строки — в этюде «На Кавказе»).
О «Персидских мотивах» можно сказать, что в них,
по сравнению с кавказским циклом, значительно уси-
лен метафорический и экзотический элемент. Объясня-
ется это тем, что Есенин не стремился здесь ни к пол-
ноте, ни к точности пейзажной картины: в Персии, в
Багдаде, на Босфоре он не бывал и, работая над
циклом своих стихотворений, во многом «примыслил»
эти места; данного обстоятельства он не скрывал и,
обращаясь к одной из своих героинь, персиянке,
напомнил:
И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно — глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.
(«Никогда я не был на Босфоре...»)
Известная доля экзотической условности прогляды-
вает и в синих цветах Тегерана, и в «свете вечернем
шафранного края», и в садах и в стенах Хороссана. Но
все это, как бы увиденное самим поэтом, воссоздано
с силой живого, непосредственного чувства. Вообра-
жение художника дает нам возможность погрузиться в
романтический мир сказочной природы — мир осяза-
емый, видимый, ощутимый. Его отличие от всех
«восточных миров», встречавшихся нам в живописи,
в поэзии, — тот преломленный луч, который из вол-
шебного Шираза, из босфорской дали проливает свет
на неброскую, но и неповторимую красоту рязанских
полей.
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
4—19
97
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне,
Шаганэ ты моя, Шаганэ.
Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.
(«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»)
Видя в чужой стране то, что радует его душу, поэт
готов это взять с собой, воспеть на своей отчизне:
До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.
(«В Хороссане есть такие двери...»)
Встречаясь с тем, с чем не может смириться ду-
ша — чадрой на лице персиянки, — он возвращается
мыслью к родной стране и готов петь такое, что на
Востоке не пел еще никто:
Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям
(«Свет вечерний шафранного края...»)
Своеобразие цикла усиливают некоторые традици-
онные формы восточной поэзии, рефрены, повторы,
а также обрамляющие строки в строфе:
Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.
В есенинском цикле слышатся отзвуки древнепер-
сидской поэзии, в нем видятся очертания благодатной,
сказочной страны. Но цикл этот нельзя прочесть —
а тем более понять, — если не слышать в нем биения
сердца русского поэта, в экстазе своего мистифици-
рованного путешествия восклицающего:
Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.
(«В Хороссане есть такие двери...»)
98
Нельзя не ощутить всей прелести и своеобразия
этого цикла, если не заметить и того, с какой тон-
костью, душевностью и поэтичностью художник ввел в
созданную им композицию мотивы, русской природы.
Цикл «Персидские мотивы» автор посвятил «с лю-
бовью и дружбой П. И. Чагину».
Пребыванием Есенина в закавказских республиках
навеяны также «Стансы», «Прощай, Баку!..» и одно из
самых значительных произведений поэта — «Баллада
о двадцати шести». Баллада была задумана Есениным
еще до Приезда в Баку, но именно здесь он смог
проникнуться атмосферой жизни бакинских комисса-
ров и узнать обстоятельства их гибели в песках за
Красноводском.
Чагин, узнав о замысле поэта, стал водить его в те
места, где бывали и работали С. Шаумян, А. Джапа-
ридзе и их соратники; он снабдил Есенина докумен-
тальными и мемуарными материалами о деятельности
легендарных комиссаров. Поэт жадно набросился на
эти материалы, заперся в редакторском кабинете
Чагина и за одну ночь закончил работу над поэмой,
которая была тотчас же опубликована в «Бакинском
рабочем».
«Баллада о двадцати шести» соединяет в себе точ-
ность передачи исторических фактов с необыкновенной
силой выражения скорбных, героических чувств. На-
чинается она традиционным запевом («Пой песню,
поэт, пой...») и перерастает в героическую песнь с
характерными для народной лирики подхватами и
повторами:
26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занесть.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было,
26.
4**
99-
Во всех строфах поэмы выдержаны балладно-ро-
мантический тон и песенная структура. Впечатляют и
гибкие, прозрачные, колоритные образы. Голубой си-
тец неба в контрасте с костлявым стуком над пусты-
ней, рокотом моря и печальным светом луны придает
картине гибели комиссаров трагическую окраску.
В Баку на площади Коммунаров высится гранит-
ный памятник славным бакинским большевикам. Есе-
нин, стоя перед памятником, читал «Балладу о двад-
цати шести» жителям азербайджанской столицы.
Тысячи людей слушали балладу и проводили поэта
бурной овацией.
Автором одного из проектов памятника был мос-
ковский художник Георгий Якулов, которого Есенин
хорошо знал и у которого в мастерской часто бывал,
читая там свои стихи. Поэт высоко ценил его искус-
ство и «Балладу о двадцати шести» посвятил «с лю-
бовью — прекрасному художнику Г. Якулову».
РОДНЫЕ КРАЯ
//иногда Есенин не приезжал так часто в родную
деревню, как в последние годы жизни. В 1924 году он
был там два раза, в 1925 — пять раз и собирался в
шестой. Сестра поэта, Александра Есенина, расска-
зывает:
«Он приезжал в деревню, чтобы в тишине работать
над стихами, чтобы вновь и вновь ощутить привычную
ему с детства обстановку тихой деревенской жизни...
Работал он своеобразно: долго, иногда часами, ходил
по комнате из угла в угол, обдумывая стихи. Обдумав
строчку, он садился и записывал ее, потом вставал
и вновь ходил по комнате...»
Приехав к родным в мае 1924 года, поэт не застал
отцовского дома: дом сгорел во время большого пожа-
ра в августе 1922 года, когда Есенин был за границей.
На огороде соорудили небольшую хибару, в которой
жили, пока строился новый дом. Разместиться в ней
вчетвером с родителями и сестрой было трудно —
спать Есенин отправлялся в ригу или в амбар. Рабо-
тать же приходилось в хибаре, так как в дворовых
постройках, на сене или среди хозяйственной утвари,
нельзя было ни зажечь лампу, ни курить. Но Сергея
это не смущало; он был счастлив, что находится дома,
среди своих.
100
«Сергей был общительным и ласковым, — продол-
жает А. Есенина. — Приезжая в деревню, он собирал
соседей, подолгу беседовал с ними, шутил. Любил он
поболтать и с нищими, и с калеками, и со всяким дру-
гим прохожим людом. Он говорил не раз, что встречи
дают ему как поэту очень много: в беседах он черпает
новые слова, новые образы, познает подлинную народ-
ную речь».
Деревенское время поэт делил между прогулками,
беседами с односельчанами, рыбной ловлей и работой
над стихами. В одном из писем 1924 года он сообщал:
«Погода в деревне неважная. Удить из-за ветра невоз-
можно, поэтому сижу в избе и дописываю поэму
(«Песнь о великом походе». — И. Э.). Ночи у нас бы-
вают чудные, лунные и, как ни странно, при близкой
осени безросые».
В погожее время поэт целыми днями пропадал на
лугах или на Оке, как было, например, в июле 1925 го-
да: на двое суток исчез из дома с рыбаками и, вернув-
шись, написал:
Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.
Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить —
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.
Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать.
Коростели свищут... коростели..
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.
В деревне были написаны также стихотворения
«Возвращение на родину», «Отговорила роща золо-
тая...», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Сукин
сын», «Видно, так заведено навеки...». Деревенскими
впечатлениями навеяны многие другие стихи этих лет:
«Русь советская», «Этой грусти теперь не рассы-
пать...», «Не вернусь я в отчий дом...», «Вижу сон.
Дорога черная...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»,
«Я иду долиной. На затылке кепи...», «Сыпь, таль-
101
янка, звонко, сыпь, тальянка, смело...», стихотворные
послания матери, деду, сестре.
Все эти произведения пронизаны глубокой, через
все невзгоды пронесенной любовью к отчему краю:
Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
В полях этих не все осталось по-прежнему: есть то,
что было извечно, и то, что принесла с собою новая
жизнь. Поэту не хочется видеть в деревне соху и лачу-
гу, с надеждой внимает он звукам моторов, выезжа-
ющих на пахотное поле. Это столкновение старого с
новым еще скажется затем в есенинских стихах, но
всегдашней, неизменной останется его привязанность к
родному краю, его любовь к крестьянскому труду.
Авторские переживания в этих стихах отличаются
изумительной нежностью и чистотой. В них выражено
многое из того, что можно было бы считать сокровен-
ным, личным, домашним: сыновнее чувство к матери,
братская привязанность к сестре, радость дружбы,
тоска разлуки, сожаление о рано ушедшей юности.
«К деревне и дому, — вспоминает друг поэта, артист
В. Чернявский, — он возвращался чуть ли не во всех
наших разговорах до последнего года жизни. Он заго-
варивал об этом с внезапным приливом нежности и
мечтательности, точно отмахиваясь от всего, что
вьется и путается вокруг него в маревах беспокойного
сна... Это был самый почвенный уголок его личного
внутреннего мира, реальнейшая точка, определяющая
его сознание».
Сила Есенина в том, что интимнейший уголок
своего внутреннего мира он смог выразить в словах
обыденных, неброских, но пронизанных истинным
трепетом души и потому безраздельно покоряющих
читательское сердце. Вспомним его «Письмо матери»,
ласковое и умиротворенное, полное горького сознания
102
вины перед матерью и надежды на щедрость материн-
ского сердца:
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Перечитаем берущие за душу строки, в которых
описана встреча поэта со старым низеньким домом, с
родными краями, принакрытыми сереньким ситцем
небогатых северных небес («Низкий дом с голубыми
ставнями...»). Обратимся к циклу стихов поэта, адре-
сованных сестре (кроме «Письма к сестре» это — че-
тыре стихотворения: «Я красивых таких не видел...»,
«Ах, как много на свете кошек!..», «В этом мире я толь-
ко прохожий...», «Ты запой мне ту песню, что преж-
де...» — каждое из них сопровождалось посвящением
«сестре Шуре»), с выраженной в них братской общ-
ностью переживаний, взаимной доверительностью, тре-
петностью воспоминаний... Все это волнует читателя,
западает в душу, трогает воображение, все это выхо-
дит далеко за пределы «узколичного» благодаря высо-
кой эмоциональности авторского голоса, предельной
откровенности, а часто и общезначимости выраженных
им чувств.
Лирика Есенина автобиографична в самом широ-
ком значении этого слова. Черты автобиографизма
есть в творчестве любого художника; сильнее всего
они в поэзии лирической. Но лишь у немногих поэтов
так обнажены связи между содержанием лирики, ее
поэтическим строем и теми борениями души, через ко-
торые прошел в своей жизни поэт.
«В стихах моих, — предупреждал Есенин, — чи-
татель должен главным образом обращать внимание
на лирическое чувствование и ту образность, кото-
рая указала путь многим и многим молодым поэтам
и беллетристам». «Этот образный строй, — продол-
103
жал Есенин, — живет во мне органически так же, как
мои страсти и чувства».
Эти чувства и восприятия затрагивают различные
стороны жизни современников. Лирика субъективна
по своей природе, но общезначима по существу. Она
действенна, подвижна, активна. Находя отзвук в
сердце читателя, она ему что-то внушает, куда-то зо-
вет. И лирика Есенина не только поэтический памят-
ник времени, но и живая сила, воздействующая на
сознание и чувства людей.
Прежде всего это лирика природы, чарующая нас
своими красками, волнующая своей музыкой. Из юно-
шеского прошлого вернулась в поэзию Есенина свет-
лая и нежная девушка-беревка. С этим образом
связывается прежде всего возвращение поэта на Ро-
дину, его встреча с отчей землей:
Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой
Стоит береза над прудом.
(«Мой путь»)
Затем этот образ возникает каждый раз, когда поэт
обращается памятью к родным местам:
Березки!
Девушки -березки!
Их не любить лишь может тот,
Кто даже в ласковом подростке
Предугадать не может плод.
(«Письмо к сестре»)
Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан.
И ее золотистые косы,
И холщовый ее сарафан.
(«Ты запой мне ту песню, что прежде...»)
Снова длинными гирляндами выстраиваются поэти-
ческие образы, одухотворяющие природу: осины, рас-
кинув ветви, загляделись в розовую водь, август тихо
прилег ко плетню, тополя уткнули по канавам свои
босые ноги, закат обрызгал жидкой позолотой серые
поля, под окнами ревела белая метель — все это столь
же естественно и органично, как в лучших стихах
о природе, относящихся к ранним годам; здесь нет и
оттенка нарочитости, которая ощущалась в услож-
ни
ненных метафорах стихов имажинистского периода.
Появились снова и лирические этюды, исполненные
«любви ко всему живому в мире» (М. Горький), в
частности новые стихотворения о животных «Сукин
сын», «Собаке Качалова»).
Искусство живописания природы приобретает те-
перь еще больше поэтической свежести и обворажива-
ющей читателя нежности, лиризма. Стихотворения
«Низкий дом с голубыми ставнями...», «Синий май.
Заревая теплынь..-.», «Закружилась листва золотая...»,
«Я покинул родимый дом...», «Ответ», отличающиеся
необыкновенной силой чувства и «буйством» красок,
становятся в ряд шедевров есенинской лирики.
Наслаждаясь природой, вживаясь в нее, поэт воз-
вышается до философских раздумий о смысле жизни,
о закономерности бытия. К числу образцов философ-
ской лирики в нашей поэзии (именно лирики, а не
умозрительных, наукообразных сочинений на фило-
софские темы, каковою нередко бывает поэзия этого
рода) без колебаний можно отнести стихотворения
Есенина «Мы теперь уходим понемногу...», «Отговори-
ла роща золотая...», «Жизнь — обман с чарующей
тоскою...», «Цветы» и др. В этой области творчества
Есенин так же самобытен, как и в других; отвлечен-
ные понятия у него всегда получают вещественное
выражение, образы не теряют пластичности, в стихах
отчетливо звучит авторский голос. Время как философ-
ская категория переводится в предметно-метафориче-
ский ряд («время — мельница с крылом — опускает
за селом месяц маятником в рожь лить часов незри-
мый дождь»), и мы легко улавливаем ход авторской
мысли.
Особенно значительны философские размышления
поэта о жизни и смерти, о человеческой судьбе, о
преходящем и вечном в земном существовании. В ли-
рике Есенина частенько выделяют и подчеркивают
пессимистические мотивы. Один из критиков того вре-
мени, признавая бесспорное значение Есенина как
поэта-лирика, называл его «певцом осенней склени...
рябиновых ягод, багрянца осени, ржаных полей,
грусти и тоски по уходящему».
Что можно сказать по этому поводу? Конечно, у
Есенина много произведений, окрашенных печалью,
выражающих драматизм погубленной судьбы. Но есть
и такие, где выражена тяга к жизни, к человеческой
105
радости. «Словно я весенней гулкой ранью проскакал
на розовом коне...» — образ этот не случаен в его
творчестве. Критики, считавшие Есенина поэтом
ущербных чувств, не замечали большого гуманисти-
ческого содержания его лирики и выраженных в ней
жизнелюбивых эмоций: того, что поэт называл «ки-
пятком сердечных струй» (в стихотворении «Ну, целуй
меня, целуй...», проникнутом вакхическими мотивами),
или того, о чем сказано в концовке стихотворения
«Какая ночь! Я не могу...»: «Пусть сердцу вечно снит-
ся май...»
Ничуть не удивляют нас и ликующие интонации в
стихотворении «Весна», где к поэту вернулась способ-
ность видеть нежные краски природы: тут и милая
синица, и любимый клен, и разодетые в зелень де-
ревья, и заключительный возглас поэта: «Так пей же,
грудь моя, весну! Волнуйся новыми стихами!» Не
удивляет и совершенно непривычный для поэта, абсо-
лютно новый, но с обычной для него эмоциональностью
и блеском нарисованный индустриальный пейзаж:
Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.
Обратимся после этого к стихам на философские
темы:
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.
106
Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.
(«Мы теперь уходим понемногу...»)
Еще явственнее сквозь образы природы просвечи-
вает оптимистическое настроение поэта в стихотворном
цикле «Цветы». «Это, — предупреждал автор в письме
к П. И. Чагину, — философская вещь. Ее нужно чи-
тать так: выпить немного, подумать о звездах, о том,
что ты такое в пространстве и т. д., тогда она будет
понятна».
Человек в подлунном мире — вот что является
здесь предметом авторских размышлений. Сперва это
мысли о бренности существования, передаваемые в
образах печальных цветов:
Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко,
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.
Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.
Но мысли эти преходящи. Колокольчики и васильки
предвещают герою неразлучную любовь, он тянется к
огню и свету («Как бабочка — я на костер лечу и
огненность целую») и в образе любимого цветка
утверждает свою верность родной земле:
Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю,
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш мотылек.
«Цветы ходячие земли» раскрыли автору способ-
ность людей преобразовывать мир («Они и сталь сра-
зят почище, из стали пустят корабли, из стали сделают
жилища»). Теперь в ином свете предстал ему круго-
ворот человеческого существования:
И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,’
Что все на свете повторим©.
107
Однажды, в разговоре с Всеволодом Ивановым,
Есенин заявил: «Я живу для того, чтобы людям весе-
лей жилось!» Многое в его творчестве подтверждает
эти слова.
СТИХИ О ЛЮБВИ
С самых ранних стихов в лирике Есенина — тема
любви. Первоначально она звучала в произведениях
фольклорно-поэтического, иногда стилизаторского ха-
рактера, например «Подражание песне»:
Ты поила коня из горстей в поводу,
Отражаясь, березы ломались в пруду.
Я смотрел из окошка на синий платок,
Кудри черные змейно трепал ветерок.
Мне хотелось в мерцании пенистых струй
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.
Здесь стилизованы все элементы стиха, и авторское
«я» неизбежно воспринимается как традиционное «я»
народной лирической песни.
В стихах о любви, относящихся к 1918—1919 го-
дам, обозначились уже чисто есенинские мотивы,
сливающие воедино поэзию любви с поэзией природы,
передающие высокую одухотворенность чувства и его
целомудренность. Таково стихотворение «Зеленая при-
ческа...», построенное на сравнении девушки с тонкой,
заглядевшейся в пруд березкой, ее кос — с ветвями,
пронизанными лунным гребешком; далее следует рас-
сказ самой березки о том, как однажды, звездной
ночью, к ней подошел пастух:
Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.
Один из ближайших друзей поэта, литератор
Георгий Устинов, недаром писал, что элементы эротики
совершенно отсутствовали в стихах Есенина. «“Были,
впрочем, такие элементы, — добавляет он, — но совер-
шенно целомудренного, я бы сказал детски-целомуд-
ренного характера, вроде: ,,Отрок-ветер по самые
плечи заголил на березке подол” или о той же березке
и о пастушке: ,,3а голые колени он обнимал ее”...»
В таком духе, вероятно, должна была быть выдержана
108
задуманная Есениным в начале 1918 года (но не-
осуществленная) книга «Стихи о любви».
Положение круто изменилось в пресловутом «ка-
бацком» цикле («Москва кабацкая»). Можно взять из
него любое стихотворение, например «Сыпь, гармо-
ника. Скука... скука...». В нем сразу ощущается
резкая смена интонаций, словаря, самого стиля обра-
щения к женщине (не говоря уже о создаваемом
женском образе), всей структуры и мелодики стиха:
Сыпь, гармоника... Скука... Скука...
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мною, паршивая сука,
Пей со мной.
Излюбили тебя, измызгали —
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
Как будто перед нами строки другого поэта. Дер-
гающийся ритм, речитативный язык, вульгарная лек-
сика, озлобленный цинизм — все это ничем не напоми-
нает той нежности, поэтичности, временами даже
сказочности, которые звучали в его прежних стихах о
любви. Здесь любовь попрана, низведена до плотского
чувства, женщина обезображена, сам герой деморали-
зован, и его прерываемая буйством тоска лишь в
самом конце сменяется ноткой жалостливого раская-
ния («Дорогая, я плачу, прости... прости...»).
Едва ли, однако, все содержащиеся в стихотворе-
нии выпады, вся потрясающая его эскапада грубости
и цинизма должны приниматься в своем прямом и
единственном смысле. Невольно напрашивается мысль
об известной нарочитости, демонстративности изобра-
жаемой поэтом картины (и употребляемой им лек-
сики), о том, что он как бы выставляет напоказ всю
мерзость кабацкого омута, в которую он погрузился
и который его ничуть не радует, не утешает, а наобо-
рот — тяготит. Недаром в самом первом стихотворении
цикла («Да! Теперь решено, без возврата...») это
пристанище названо «логовом жутким», во втором
(«Снова пьют здесь, дерутся и плачут...») оно «чадит
мертвячиной», а о развеселых его обитателях сказано:
«Бесшабашность им гнилью дана».
В этом «логове», как показывает поэт и в других
стихотворениях, нет места человеческой радости, нет
и надежды на счастье. Любовь здесь не праздник
109
сердца, она приносит человеку гибель, она губит его,
словно чума:
Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.
Я не знал, что любовь — зараза,
Я не знал, что любовь — чума.
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума.
Так бы и потонуло все это в пьяном угаре, в дикой
музыке грубых страстей и жестоких оскорблений, если
бы не прорывы к чистой душевности, не пронзительные
нотки раскаяния, которые слышатся почти в каждом
из звеньев «кабацкого» цикла.
Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.
(«Пускай ты выпита другим...»)
Один из выдающихся современников поэта, Дмит-
рий Фурманов, писал: «“Москва кабацкая” веет ужа-
сом, но пафос тут неподдельный и лиризм». О каком
пафосе и лиризме здесь речь? О трагическом пафосе
переживаний, связанных с ощущением кривизны и
порочности избранного пути, с погружением в омут, из
которого вырваться не так-то легко. Это трагическое
чувство в сочетании с природной задушевностью, с
исповедальной откровенностью, с неоценимым богат-
ством таящихся в сердце «снов золотых» и рождает ни
с чем не сравнимый, чисто есенинский лиризм.
Нам уже известно, что возвращение из-за границы,
разочарование буржуазной действительностью и раз-
рыв с богемой сыграли огромную роль в духовной жизни
Есенина. Явственно отразилось это в стихах о люб-
ви, свидетельством чему является цикл «Любовь
хулигана», сложившийся у Есенина к концу 1923
года.
Исходные мотивы этого цикла — сожаление о рас-
траченных днях, отречение от кабацкого прошлого,
очищение через любовь.
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
ПО
Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.
(«Заметался пожар голубой...»)
Поэт осуждает то, что было не любовью, а дурной
страстью, похмельным бредом, безоглядной, бессмыс-
ленной лихостью. Он призывает на помощь любовь
возвышенную, чистую, которая рождает «слова самых
нежных и кротких песен», которая воспитывает чело-
века в преданности и постоянстве:
Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу там ли, здесь ли, где-то ль, —
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.
Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.
(«Пускай ты выпита другим...»)
Такая любовь приносит не только уравновешен-
ноть и покой, она по-новому открывает мир, она
помогает трезвым взглядом оценить дела и беды род-
ной земли:
Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.
(Там же)
В эти годы углубляется и философское осмысление
поэтом лирических тем. Есенин ставит чувство любви
в связь с общими процессами жизни, пытается уловить
их внутреннее содержание, их закономерность. Поэт
утверждает, что любовь — выше увядания, выше са-
мой смерти. Один из своих лирических этюдов он
начинает грустной констатацией: «Жизнь — обман с
чарующей тоскою...» — и рассказывает об изменах и
отречениях «легких подруг», «легких друзей». А закан-
чивает стихотворение так:
Но и все ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.
Строгую, мудрую философию поэт иногда смягчает
111
юмором, подсвечивает шуткой. Весьма показательно в
этом смысле стихотворение «Видно, так заведено
навеки...» — одно из тех, что были навеяны реальными
встречами, реальными событиями жизни. В нем описан
случай, который предшествовал последней женитьбе
поэта. На улице в Москве он услышал шарманку,
подошел, увидел попугая, и тот вытянул ему «на счас-
тье» конверт. В нем оказалось кольцо, оно было
медным, вскоре почернело — значит, по народным при-
метам, женитьба и неудача... Стихотворение же, на-
писанное по этому поводу, дышит жизнелюбием,
юмором, тихой грустью:
Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.
Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть.
То кольцо надела мне цыганка.
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.
В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?
Ну и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.
(«Видно, так заведено навеки...»)
Оттенок грустной иронии есть и в стихотворении
«Не гляди на меня с упреком...», где сложный лирико-
драматический сюжет завершается игривой сентен-
цией:
Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.
Стихи о любви, написанные в последние годы жиз-
ни поэта, проникнуты ненавистью и презрением ко
всякого рода неправде в человеческих отношениях, к
расчетливому женскому лукавству, к любви без тепла,
112
без верности, без чести. Поэт гневно осуждает «на-
поенную ласкою ложь», он не приемлет женщин
«легкодумных, лживых и пустых» и с тоскою пишет
о сердцах охладевших, не способных дарить людям
любовь. Мечта о чистой, возвышающей человека люб-
ви была одним из сквозных мотивов лирики Есенина;
в последние годы она трансформировалась в идеал
первозданного, радостного, жизнетворящего чувства.
Об этом написано стихотворение «Листья падают,
листья падают...»:
Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.
Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.
Об этом же — «Свищет ветер, серебряный ветер...»;
Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.
Взглянет ли женщина с тихой улыбкой —
Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыбкой —
Я уже в ней и скачу далече.
Данное стихотворение — из так называемого «зим-
него» цикла, написанного в самый последний отрезок
жизни Есенина. И здесь любовь представала его взору
как убежище от метелей и бед, как подарок судьбы:
Ах, метель такая, просто черт возьми,
Забивает крышу белыми гвоздьми.
Только мне не страшно, и в моей судьбе
Непутевым сердцем я прибит к тебе.
(«Ах, метель такая...»)
Стихотворения Есенина о любви различны по сте-
пени художественного совершенства. Есть среди них и
произведения невыдающиеся, а в раннем творчестве —
и несамостоятельные. Но они безгранично искренни,
предельно чисты, и большинство их пронизано той
задушевностью чувств, которая отличает неподдель-
ную и вечную поэзию.
Стихи эти обладают большой притягательной силой.
113
В них запечатлено человеческое страдание, вызванное
то жаждой любви, то сознанием ее неполноценности,
то стремлением к ее торжеству. Очень сложная гамма
эмоций сопровождает это страдание. В нем раскрыва-
ется личность поэта, вбирающая в себя большой мир
социальных и нравственных ценностей. Этим в конечном
счете определяется общезначимость лирической поэзии,
ее способность вызывать у читателя сопереживание,
заставить его применить к себе лирическую ситуацию,
лирический сюжет. Есенин обладал этой способностью
в громадной мере, когда разговаривал с современни-
ками, и обладает ею теперь, когда разговаривает
с людьми другой эпохи.
Поэт Н. Рыленков очень тонко подметил те обстоя-
тельства социального быта, те исторические условия,
которые придавали особое звучание любовной лирике
Есенина в двадцатые годы. Он писал:
«Безошибочным чутьем поэта Есенин угадывал, ка-
кая жажда человеческой нежности накопилась в душе
его современников, прошедших по суровым дорогам
войны и революции. Эту жажду утоляли лучшие пей-
зажные и любовные стихи Есенина».
Но «жажда человеческой нежности» — явление не
преходящее, а только изменяющее свои формы. И стихи
о любви, написанные много лет назад, находят свой
отзвук у читателя. «Выразить чувство, — утверждал
Баратынский, — значит овладеть им». Чувство «раз-
решенное», излитое поэтом, принадлежит уже не ему
одному — оно становится достоянием многих, сколь бы
ни была велика доля интимного, узколичного, выска-
занного в нем.
Многие произведения Есенина относятся к жанру
лирического романса (недаром они столь часто перела-
гались на музыку). Но это не тот романс, о котором
сам поэт в «Анне Снегиной» писал: «По чувству цыган-
ская грусть», и не тот псевдонародный, мещанский
романс середины двадцатых годов нашего века, который
отличался сентиментальной наигранностью, перехо-
дившей то в кабацкую удаль, то в глухой пессимизм.
Романсы Есенина — это произведения лирической
поэзии, оригинальные по сюжету, созвучные времени,
необычайно тонкие по выраженному в них чувству, по
вложенным в них драматическим переживаниям.
114
ТРУД ПОЭТА
Есенина иногда представляют поэтом-самородком,
далеким от богатств мировой культуры. Считают, что
по характеру своего природного дарования он не был
способен к систематической, упорной и настойчивой
литературной работе, будто бы даже и не нуждался
в ней.
Эти представления не имеют ничего общего с дей-
ствительностью.
Есенин, правда, окончил только земское четырех-
годичное училище и трехгодичную церковно-учитель-
скую школу, полтора года посещал лекции в Народном
университете. Бытовые условия его жизни мало спо-
собствовали систематическому овладению наукой, зна-
комству с богатствами художественной культуры.
Тем не менее благодаря своей пытливости, интересу
к разнообразным явлениям художественной жизни,
наконец, благодаря замечательным свойствам своей
памяти, он стал человеком начитанным, образованным,
порой даже поражавшим современников объемом
своих литературных знаний.
Вот что пишет Рюрик Ивнев: «Есенин приехал в
Петроград... поэтом не только одарённым, но и пре-
красно знавшим древнюю русскую литературу, класси-
ков и всю поэзию своего времени, вплоть до стихов
молодых поэтов, только что начавших печататься».
Это свидетельство относится к той поре, когда Есе-
нину было всего девятнадцать лет и он едва лишь
входил в литературу. А вот рассказ поэта Александра
Гатова, познакомившегося с Есениным пять лет
спустя, т. е. в 1920 году:
«Он любил Блока, ценил классически уверенные
стихи Белого и Брюсова, особенно его «Баллады» и
гражданские стихи 1904—1905 годов («Современ-
ность»)... Есенин был широкой, самобытной русской
натурой. Недаром он всегда восхищался Горьким и
Шаляпиным, гордился дружбой с Качаловым и Конен-
ковым... Широта Есенина — широта ума и харак-
тера — сказывалась всегда и во всем».
И, наконец, воспоминания артистки Августы Мик-
лашевской, встретившейся с поэтом тремя годами
позднее: «Есенин очень хорошо знал литературу,
поэзию. С большой любовью говорил о Лескове, о его
замечательном русском языке. Взволнованно говорил
115
о засорении русского языка, о страшной небрежности
к нему в те годы. Он был очень образованным чело-
веком, и мне было непонятно, как и когда он стал
таким, несмотря на свою сумбурную жизнь».
Свидетельства эти, при абсолютной их достовер-
ности, нуждаются во многих уточнениях, и главное —
в дополнениях.
Сперва — о знакомстве с древнерусской литерату-
рой. Еще в школьные годы, как мы знаем, Есенин
не только прочел, изучил и усвоил «Слово о полку-
Игореве», но и запомнил его так, что мог потом читать
наизусть. Будучи зрелым поэтом, он не переставал
восхищаться художественными богатствами этого па-
мятника. «Я познакомился с ним очень рано, — рас-
сказывал Есенин, — и был совершенно ошеломлен им,
ходил как помешанный. Какая образность!»
Но знал он также и «Моление Даниила Заточ-
ника», говорил, что чтение таких книг обогащает его
творчество. В самом деле, поэтические образы, близкие
к стилистике древних литературных памятников, встре-
чаются нам и в стихах Есенина, и в его прозе.
Так, «Песнь о Евпатии Коловрате», написанная им
еще в 1912 году (напечатана в 1918), создавалась под
явным влиянием «Повести о разорении Батыем Рязани
в 1237 году» — памятника древнерусской литературы,
в одном из эпизодов которого рассказывается о бога-
тырском подвиге рязанского воеводы Евпатия Коло-
врата. Подвиг этот нашел отражение также в народ-
ных сказаниях и легендах, которые, по всей вероят-
ности, были знакомы поэту. Следует назвать и еще
один литературный текст древнего времени, хорошо
изученный поэтом, — упоминаемый им в «Ключах
Марии» переводной сборник нравоучительных расска-
зов и наставлений, известный под названием «Златая
цепь».
Что касается его способности запоминать поэти-
ческие тексты, то она действительно поражала. Он
мог, например, на память воспроизводить целые куски
из карело-финского эпоса «Калевала», помнил многие
строки из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руста-
вели -7 произведения, с которыми познакомился в
1917 году («Носящий барсову шкуру» в переводе
К. Бальмонта).
О масштабе знаний поэта можно судить хотя бы
по его критико-теоретическим работам «Ключи
116
Марии», «Быт и искусство». В них упоминаются или
цитируются: «Илиада» Гомера, «История греко-пер-
сидских войн» Геродота, отдельные сочинения Шекс-
пира, Гебеля, Лонгфелло, Эдгара По, поэтов и проза-
иков XX века. Те же работы свидетельствуют о том,
что Есенин хорошо знал фундаментальные труды
собирателей и исследователей русского фольклора:
«Мифические предания о человеке и природе» Ф. Бус-
лаева, «Поэтические воззрения славян на природу»
А. Афанасьева, «Загадки русского народа» Д. Садов-
никова. В одном месте Есенин полемизирует с извест-
ным русским искусствоведом и критиком В. В. Ста-
совым, имея в виду его статью «Русский народный
орнамент», в другом — ссылается на собирателя
народных картинок и лубков Д. А. Ровинского.
Теперь — о русской классике. Едва ли стоит при-
водить слова Есенина, выражающие его восхищение
Пушкиным, Гоголем, Фетом, или факты, свидетель-
ствующие об его стойком интересе к Лермонтову,
Языкову, Некрасову, Кольцову.
Пушкина он любил читать не только в хрестома-
тийных или академических, вообще, современных изда-
ниях; любил держать в руках, любоваться и перечи-
тывать прижизненные издания великого поэта, напри-
мер четвертую книгу «Невского альманаха» за
1828 год, где впервые была напечатана «Песнь о
вещем Олеге».
Отрывки из «Моцарта и Сальери» (в частности,
монолог Сальери) он знал наизусть. На память читал
он и другие произведения Пушкина, а также Лермон-
това, Баратынского. Произнеся несколько строф Пуш-
кина, он однажды воскликнул: «Написать бы одно
четверостишие так — и умереть не страшно».
Классиков Есенин противопоставлял иным совре-
менным поэтам, которых окружала шумная слава,
прежде всего Бальмонту. «Из поэтов, — говорил он
знатоку русской лирики И. Н. Розанову, — я рано
узнал Пушкина и Фета. Со стихами Бальмонта позна-
комился гораздо позже, и Бальмонт не произвел на
меня особенного впечатления. Я решил, что Фет
гораздо лучше, и продолжаю неизменно думать так и
до сего дня». Упомянув Фета в другом разговоре с
тем же собеседником, он сказал «мой любимый Фет».
В своей автобиографии Есенин писал: «Из поэтов
мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов.
117
Позднее я перешел к Пушкину». Действительно, с хо-
дом времени Пушкин занимал все большее место в
поэтическом сознании Есенина и пушкинские мотивы
все чаще появлялись в его стихах. На вопрос, задан-
ный ему в 1924 году редакцией журнала «Книга о
книгах»: «Как вы теперь воспринимаете Пушкина?»
Есенин ответил: «Пушкин — самый любимый мною
поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше
и больше как гения страны, в которой я живу... По-
стичь Пушкина — это уже нужно иметь талант.
Думаю, что только сейчас мы начинаем осознавать
стиль его словесной походки». В дни пушкинского
юбилея (125-летия со дня рождения поэта) Есенин
вел «разговор» с Александром Сергеевичем на Твер-
ском бульваре в Москве: стоял перед ним «как пред
причастьем» и мечтал о том, «чтоб и мое степное
пенье Сумело бронзой прозвенеть» (стихотворение
«Пушкину»).
Это не значит, однако, что на Пушкине замыка-
лись — хотя бы даже в последние годы — его поэти-
ческие симпатии, тяготения, интересы. Стихотворение
«Письмо к сестре» овеяно любовью и к Пушкину, и к
Лермонтову, прекрасным и далеким, но все же близ-
ким, «как цветущий сад». Об отношении Есенина к
Фету мы уже говорили. Есть также свидетельства его
любви к Некрасову, А. К. Толстому.
Не может быть ни малейшего сомнения в том, что
автор «Радуницы», «Голубени», «Сорокоуста», «Анны
Снегиной», «Персидских ’ мотивов» всем сердцем
ощущал свое творческое родство с классиками рус-
ской поэзии.
И не только родство. Стихотворение «Поэтам
Грузии» он начал так:
Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.
Считая себя возобновителем «классической фор-
мы», Есенин опирался на нее в творческой работе,
полностью сохраняя свою самобытность. При этом
он как бы невольно «проговаривался», вводя в свои
118
произведения реминисценции и парафразы из творений
русских классиков.
Так, прямые переклички с Пушкиным содержит
стихотворение «На Кавказе»: здесь и цитация пуш-
кинских строк («Не пой, красавица, при мне...»), и
непосредственная параллель между судьбой певцов-
изгнанников (Пушкина, Грибоедова, Лермонтова),
бежавших от светской черни, и собственной судьбой
поэта, спасающегося на Кавказе от преследующей
его столичной богемы; тут и подражание архаизмам
пушкинской лексики (злато, издревле, зане), и точное
воспроизведение пушкинского ямба. Такие я;е пере-
клички — интонационные, лексические, тематические —
в стихах Есенина о посещении родных мест («Возвра-
щение на родину», «Русь советская» и в стихотворении
Пушкина «Вновь я посетил...»).
Другой ряд — вариация лермонтовских мотивов и
строк (из его «Завещания») в стихотворениях Есе-
нина «Над окошком месяц. Под окошком ветер...» и
«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь* тальянка, смело...».
Третий ряд — кольцовская строфика, лексика, напев-
ность — в «Ямщике» Есенина, в его стихотворениях
«Топи да болота...», «На лазоревые ткани...» и др.
Можно выстроить такой же и некрасовский, и ники-
тинский ряд.
Все эти примеры говорят о том, что в душе поэта
жили многие мотивы русской поэтической классики,
что он считал себя продолжателем творческого дела
русских поэтов. Но если отвлечься от единичных
примеров и взять творчество Есенина в целом, сама
собой напрашивается мысль о глубокой общности
традиций, связывающих Есенина с его предшественни-
ками в отечественной поэзии. Мы видим эту общность
в гуманизме есенинской лирики, в гражданственности
ее звучания, в демократизме ее основ, в страстной и
неизбывной любви к природе. Легко заметить, напри-
мер, что лирическая одухотворенность и социальная
окрашенность пейзажа роднила Есенина с самыми
выдающимися поэтами прошлого, изображавшими рус-
скую природу.
Особо следует остановиться на творческом родстве
Есенина с Блоком. Можно, как и в предыдущих
случаях, сопоставлять и сближать принадлежащие им
стихотворения (например, «Опять раскинулось узор-
но...» Есенина и «Осенняя воля» Блока), но суть дела
119
не в этом. Суть — в поэтическом восприятии Родины,
восприятии через ее историческую судьбу. Именно
это породило особый характер лиризма, присущий
обоим поэтам, — особый тон встревоженности, боли,
надежд, которыми проникнуты их стихотворения пред-
революционной поры.
Есенин был младшим современником Блока, он
ушел из жизни всего лишь через четыре года после
того, как умер Блок. И вот что показательно: будучи
в начале своего пути робким учеником Блока, он
спустя несколько лет стал его соратником в литера-
турной борьбе. Произошло это потому, что между
двумя отмеченными периодами пролегла революция.
Известен случай, когда толпа озлобленных политиче-
ских клеветников и мещан нападала одновременно
на Блока и Есенина за поддержку ими Октябрьской
революции и большевиков (на Блока — за статью
«Интеллигенция, и Революция» и ответы на вопросы
об отношении к большевикам; на Есенина — за бого-
борческие и революционные стихи). В борьбе за инте-
ресы новой, социалистической Родины оба поэта
оказались в одном лагере.
Можно привести также факты творческой близо-
сти и общественной солидарности Есенина с другими
современниками — пролетарскими поэтами, Брюсовым,
Маяковским (стихотворения «Небесный барабанщик»
и «Кантата», сценарий «Зовущие зори», совместные
выступления, переклички мотивов).
Есенин был отличным знатоком и ценителем устной
народной поэзии. В молодые, а также и в зрелые годы
он с любовью исполнял народные романсы, «страда-
ния», прибаутки, частушки, присоединяя к ним песен-
ные и частушечные импровизации собственного сочи-
нения. Он ценил средства художественной вырази-
тельности, которыми обладает народная поэзия, и
считал, что они широко применимы в словесном
искусстве.
«В поэзии нужно поступать так же, как поступает
наш народ, создавая пословицы и поговорки», —
утверждал Есенин, поясняя при этом, что образ у на-
рода конкретен и утилитарен в лучшем значении
слова: «Образ для него — это гать, которую он про-
кладывает через болото». «Народу, — говорил он, —
свойственно употреблять в самом обыкновенном раз-
говоре образы, потому что он и думает образно...
120
А возьмите пословицы и поговорки — ведь это же
сплошная поэзия!»
Сам Есенин щедро пользовался этими богатствами.
В его ранних стихах немало сюжетов и образов, заим-
ствованных из народной мифологии, целые словесные
обороты, в которых развернуты народные пословицы
и загадки (например, «Так мельница, крылом махая,
с земли не может улететь...» — этот образ создан на
основе загадки «Крыльями машет, а улететь не мо-
жет»). Встречаются в стихах Есенина и образы-опре-
деления, выраженные парными словами («судьба-
разлучница», «береза-свечка»), и развернутые срав-
нения.
Для некоторых своих произведений поэт избирал
традиционные жанры народного творчества. К при-
меру, стихотворение «Ус» написано в подражание
казачьей песне:
Не белы снега по-над Доном
Заметали степь синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном,
Расставалась мать с верным сыном...
В другой части того же стихотворения («На крутой
горе, под Калугой...») слышатся интонации народного
сказа, применявшегося Есениным на всем протяжении
его творчества, вплоть до «Анны Снегиной».
Если же взять такое произведение, как «Песнь о
великом походе», то оно как бы целиком соткано из
элементов народной поэзии. Работая над ним, Есенин
обещал, что в нем будет «немного былины, немного
песни». На самом деле здесь — целый песенный кас-
кад: и матросское «Яблочко», и лихая частушка, и
устоявшиеся приемы народной стилистики: зазывное
начало («Эй, вы, встречные, поперечные!»), своеобраз-
ные формулы переходов («На дворе был кол, на колу
мочало. Это только, ребята, начало»), гиперболические
образы и т. д. Это произведение является «песнью»
и в смысле героичности своего содержания, и в смысле
определяющих его фольклорно-песенных мотивов.
В лирике Есенина отразился особый «лад» русской
поэзии, ее национальный характер. «Мне мил стихов
российских жар», — признавался он в стихотворении
«На Кавказе».
Подчеркивая это бесспорное обстоятельство, не
следует забывать, что Есенин питал также большой
интерес к поэтической классике Запада и Востока, что
121
в числе своих литературных учителей он называл и
зарубежных поэтов, например Генриха Гейне.
Есенин высоко ценил народность Шекспира, фило-
софскую глубину его пьес, близость его драматургии к
формам и традициям народного театра. «Уж на что
был народен Шекспир, — говорил он, — не брезгал
балаганом, а создал Гамлета».
Переливами красок в произведениях древних пер-
сидских поэтов Есенин любовался не только тогда,
когда писал свой знаменитый лирический цикл: за
три года до этого в книжной лавке «Трудовой артели
художников слова» он обнаружил сборник «Персид-
ские лирики», выпущенный в 1916 году, читал и пере-
читывал его в разные годы и многие тексты из него
знал наизусть (кроме Фирдоуси и Саади, которых мы
уже упоминали, Есенин любил еще и Омара Хайяма).
Есть также сведения о том, что Есенин интересовался
жизнью, судьбой и поэзией одного из древнекитайских
лириков, Ли Бо.
Что касается Гейне, то здесь следует привести
записанное одним из современников рассуждение Есе-
нина по адресу некоторых литературных псевдозна-
токов:
«Все они думают так: вот — рифма, вот — размер,
вот — образ, и — дело в шляпе. Мастер. Черта лысо-
го — мастер!.. Этим меня не удивишь. А ты сумей
улыбнуться в стихе^ шляпу снять, сесть — вот тогда
ты мастер!.. У меня ирония есть. Знаешь, кто мой
учитель? Если по совести... Гейне мой учитель! Вот
кто!»
Над этими словами стоит призадуматься при ана-
лизе лирических произведений Есенина.
Следует учесть также знакомство Есенина с твор-
чеством бельгийского революционного поэта Эмиля
Верхарна и французских поэтов-модернистов конца
прошлого века (П. Верлена, Ш. Бодлера, А. Рембо) —
их сочинения, как и других иноязычных авторов, он
читал в русском переводе. Очень тонко чувствовавший
лирику Есенина поэт Николай Рыленков считал, на-
пример, что в стихах периода «Москвы кабацкой»
отразились некоторые мотивы творчества Бодлера и
Рембо.
Понятие литературного наставничества и литера-
турной преемственности у Есенина было глубоко
значимым и отнюдь не простым. Он отвергал всякое
122
подражательство, эпигонство, требовал от поэтов са-
мобытности, умения «оторваться» от учителей, рас-
творить их опыт в своем индивидуальном стиле.
Тут вспоминается разговор Есенина с молодыми
литераторами весной 1922 года. В Москве существовал
тогда Высший литературно-художественный институт,
основанный Брюсовым. Брюсов был ректором институ-
та и преподавал в нем. Помещался институт в бывшем
особняке графа Соллогуба на улице Воровского, там,
где теперь правление Союза писателей СССР. Из его
стен вышло немало писателей. Есенин был частым
гостем студентов этого института, с вниманием следил
за их учебой и ценил то, что дает им поэт и педагог
большой культуры Валерий Брюсов. Однажды, разго-
ворившись с ними, Есенин сказал:
«Я всем вам, друзья, по-товарищески советую —
посещайте брюсовский лицей, оканчивайте его, но в
творчестве, в своих личных опытах оставайтесь поэта-
ми самобытными. Учеба уводит часто от оригиналь-
ности и своего существа. Будьте сами собой, не теряй-
те органичности и не вдавайтесь в стилизации. Только
при этих условиях выучка у Брюсова имеет смысл».
Объем литературных знаний Есенина легко улавли-
вался его собеседниками; отразился он и на творчестве
поэта — мы, таким образом, располагаем достато-
чными данными об этом. Хуже обстоит дело с фак-
тами, характеризующими отношение поэта к музыке,
театру, изобразительному искусству. Есть лишь отры-
вочные сведения о посещении поэтом театров (до
революции — Московский Художественный и оперный
театр Зимина, после революции — Камерный, Театр
РСФСР-1 и другие) и несколько более пространные —
о дружбе с художниками (С. Коненков, Г. Якулов),
о посещении музеев живописи, художественных мас-
терских. Но и эти сведения дают кое-что для понима-
ния эстетических вкусов и привязанностей поэта.
Вот, например, записанное его товарищем по на-
родному университету рассуждение Есенина о масте-
рах реалистической живописи (после посещения
Третьяковской галереи):
«Смотрел Поленова. Конечно, у его «Оки» задержал-
ся, и так потянуло от булыжных мостовых, заборов,
вонючего Зарядья туда, домой, в рязанский простор.
Сродни мне и Левитан. Идешь от одной картины к
другой, и вот вспыхивает осень золотом берез и синью
123
реки, грустит закат над омутом, задумался стог сена
в вечерней тишине... Смотришь и думаешь: «Да ведь
это мое, родное, близкое мне, с детства вошедшее в
сердце...»
Иное впечатление произвела на молодого поэта
картина Левитана «Над вечным покоем»: «Может,
больше поживу, — сказал он, — пойму эту картину.
А сейчас мне от нее холодно... Простор воды и неба
как бы уносит от бедного кладбища и церквушки
и растворяет в вечном покое...»
В 1921 году Есенин несколько раз посетил в Моск-
ве музей новой европейской живописи (бывшие собра-
ния Щукина и Морозова). «Больше всего, — рас-
сказывает сопутствовавший ему в этих посещениях
поэт И. Грузинов, — его занимал Пикассо. Есенин
достал откуда-то книгу о Пикассо на немецком языке,
со множеством репродукций с работ Пикассо».
А вот — об отношении поэта к художникам мо-
дернистского толка (свидетельство того же мемуа-
риста) :
«В руках у Есенина был немецкий иллюстриро-
ванный журнал. Готовясь поехать в Германию, он
знакомился с новейшей немецкой литературой. Он
предложил мне посмотреть журнал, и мы вместе стали
его перелистывать. Это был орган немецких дада-
истов1.
Есенин, глядя на рисунки дадаистов и читая их
изречения и стихи:
«Ерунда! Такая же ерунда, как наш Крученых2.
Они отстали. Это у нас было давно».
Из мастеров советской живописи Есенин кроме
Г. Якулова высоко ценил П. Кончаловского. Задумав,
незадолго до смерти, новый литературно-художествен-
ный альманах («Поляне»), он в план первого же
номера включил статью Кончаловского о современной
живописи и репродукции его картин. Предполагал
он познакомить читателей и с работой других совет-
ских художников.
Если неверно представление о Есенине как о поэте-
самоучке, далеком от богатств художественной куль-
1 Дадаизм — одно из формалистических художественных тече-
ний на Западе, его сторонники проповедовали «абсолютное»,
лишенное социального смысла искусство, насаждали заумь в
поэзии.
2 Крученых А. Е. — русский футурист.
124
туры, то еще более ошибочна версия о том, будто все
его творчество является продуктом чистого вдохнове-
ния, будто он не знал ни мучений труда, ни сомнений,
ни поисков, ни упорства и требовательности настоящей
литературной работы. Эта версия опровергается как
рукописями поэта, дошедшими до нас, к сожалению,
в очень малом объеме, его письмами и документами,
так и свидетельствами современников.
Еще. будучи совсем юным стихотворцем, Есенин
безжалостно уничтожал те свои произведения, уровень
которых уже перерос, а над остальными продолжал
работать. Лишь единичные из сочинений этих лет он
включил в свою первую книгу.
Когда эта книга — «Радуница» — вышла, Есенин
сказал: «Некоторые стихотворения не следовало бы
помещать». И, готовя к печати второе издание,
исключил из сборника почти половину его состава,
т. е. четырнадцать стихотворений.
Примерно в эти годы работу Есенина над рукопи-
сями наблюдал М. П. Мурашев:
«Возвращаясь из деревни, поэт* всегда писал много.
Прочитанное вслух стихотворение казалось вполне
законченным, но когда Сергей принимался его записы-
вать, то делал так: напишет строку — зачеркнет, снова
напишет — и опять зачеркнет, затем на»1ишет совер-
шенно новую строчку. Отложит в сторону лист бумаги
с начатым стихотворением, возьмет другой лист и
напишет почти без помарок. Спустя некоторое время
он принимался за обработку стихов; вначале осто-
рожно. Но потом иногда изменял так, что от первого
варианта ничего не оставалось».
Этим, однако, не исчерпывалась работа над текс-
том.
Находясь на военной службе, Есенин 6 февраля
1917 года отправил письмо редактору сборника «Ски-
фы» с просьбой внести поправки в уже принятое к
печати стихотворение «Синее небо».
Из деревни в 1924 году Есенин обратился с пись-
мом в Ленинград — в редакцию «Звезды»: он просил
задержать публикацию поэмы «Песнь о великом по-
ходе», так как намерен внести в нее ряд исправлений.
В письмах из Тифлиса, Батума, Баку поэт давал
указания о составе готовящихся к печати сборников и
расположении в них материала, вносил изменения в тек-
сты, негодовал по поводу допущенных в печати ошибок.
125
У Есенина есть немало произведений, каждое из
которых известно в нескольких вариантах. В одном из
стихотворений дореволюционного времени («Край лю-
бимый! Сердцу снятся...») он четырежды менял редак-
цию начальных строк, освобождая их от церковно-
ритуальных образов. Приведем для наглядности пер-
вый и четвертый (окончательный) варианты:
I
Край родной! Поля как святцы,
Рощи в венчиках иконных.
IV
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Аналогичную картину дает сопоставление разных
редакций поэмы «Октоих», «Песни о Евпатии Коловра-
те» (автор сократил ее с 56 строф до 35, заметно
изменив в то же время образно-лексическую систему и
сделав поэму более реалистичной), «Инонии». Особен-
но тщательно работал поэт над своими «исповедаль-
ными» стихами последних лет. В «Письме матери»
некоторые строки имеют по четыре-пять вариантов.
Целым рядом изменений и поправок отмечен в черно-
виках первоначальный текст стихотворений «Мы те-
перь уходим понемногу...», «Возвращение на родину»,
Одно из последних стихотворений Есенина («Синий
туман. Снеговое раздолье...») дошло до нас тремя
разными текстами.
Когда ему не мешали, Есенин придерживался опре-
деленного режима работы.
«Первую половину недели до обеда, то есть до пяти
часов вечера, Есенин обыкновенно писал или читал, —
сообщает В. Наседкин. — Писал он много. Однажды в
один день он написал восемь стихотворений, правда,
маленьких. «Сказка о пастушонке Пете» написана им
за. одну ночь. В рабочие дни Есенин без приглашения
никого не принимал».
Вторая половина недели (часто ужимавшаяся
за счет первой) отводилась отдыху и встречам.
«Вот эти-то встречи, — добавляет Наседкин, — часто
и выбивали из колеи Есенина».
Так было последние годы в Москве. Аналогичная
картина (по наблюдениям друга Есенина, молодого
поэта Вольфа Эрлиха) — в Ленинграде:
126
«До двенадцати — работает, не вылезая из каби-
нета... В двенадцать одевается, берет трость (обяза-
тельно трость) и выходит... В Госиздате сидит... до
трех, до пяти. Вечера разные: дома, в гостях... Если
он не пишет неделю, он сходит с ума от страха...
Есенин, обладавший почти даром импровизатора, тра-
тит несколько часов на написание шестнадцати
строк...»
Над большими вещами Есенин работает долго,
углубляясь в тему, осваивая материал, знакомясь с
первоисточниками. Так готовился он к написа-
нию «Пугачева». Так подошел и к созданию историко-
революционных поэм. Он тщательно изучал до-
кументы и первоисточники, расспрашивал бывалых
людей.
Черновик «Анны Снегиной» Есенин привез в Моск-
ву и набело переписывал уже там, шлифуя каждую
строфу, проверяя ее на слух. О том, как он проверял
звучание своих стихов, читая друзьям (в самой раз-
личной обстановке) отдельные фрагменты и целые
произведения, рассказывают многие из них.
Есенин был не только человеком редкого дарова-
ния, обладавшим большим зарядом художественной
интуиции. Он был также вдумчивым, ищущим, требо-
вательным к себе и не щадящим своих сил работником
и творцом.
ДРАМА ПОЭТА
Сергею Есенину выпало на долю жить и творить в
пору великих социальных перемен, которые пережила
наша страна. Он застал этот революционный про-
цесс в самом начале, он не был свидетелем тех гранди-
озных свершений, которыми ознаменовались годы со-
циалистической реконструкции экономики и всех сто-
рон нашей жизни — в громадной мере они коснулись
и природы, — но как поэт, чуткий к движениям вре-
мени, даже к его скрытым потенциям, он не мог не
почувствовать надвигавшейся ломки, не мог пройти
мимо очевидных фактов повсеместно начинавшихся
преобразований. Самые ранние их симптомы, относя-
щиеся к первым годам революции, переживались
Есениным драматически. Теперь, в состоянии духов-
ного подъема, при новой вспышке его жизнелюбивых
чувств и патриотических настроений, с новой силой
127
встали вопросы его личного отношения ко всему про-
исходящему вокруг.
Стихотворения Есенина, написанные летом 1924 го-
да, говорят о том, что поэт осознавал неизбежность
коренных перемен в жизни деревни. Мог ли он не ви-
деть того, что на прекрасном лике русской природы,
как и на разных сторонах хозяйственной деятельности
и бытового уклада жизни крестьян, лежит печать
многовековой отсталости? Мог ли он не ощущать
разницы между своим юношеским, восторженным от-
ношением к природе и тем трезвым взглядом на нее,
какой обретается опытом жизни и зрелостью чувств?
Ответом на эти вопросы может послужить одно из
самых мужественных и беспощадных по своей
правдивости стихотворений поэта:
Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.
Для меня было все тогда новым.
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.
И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.
Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.
Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.
Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.
(«Этой грусти теперь не рассыпать...»)
Все эти переживания, в которых печаль и неж-
ность, «родное и близкое», «от чего так легко за-
рыдать», требовали духовной разрядки. Как поэт
своего времени, Есенин мог достичь ее только прислу-
128
шиваясь и приглядываясь к тому, как решает корен-
ные вопросы своего существования народ. Преодоле-
вая грусть, которую «не рассыпать», сквозь сады от-
цветших лип и отзвеневшие соловьиные трели своей
юности поэт вступил на этот путь. Из черновика
«Возвращение на родину», датированного июнем
1924 года, он исключает две строки, которые можно
было бы истолковать как признак растерянности,
как непонимание поэтом исторических судеб страны:
Россия! Кто ты? Марево иль путь?
Куда же мне, куда теперь идти?
Строки эти сам автор ощущает как чужеродные,
ибо весь смысл стихотворения — в признании того,
как много нового и отрадного принесла с собой жизнь,
разделившая надвое судьбу поколений:
Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.
Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.
И далее:
Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.
Поэт видит, что в родных местах теперь горит «но-
вый свет... другого поколения»; он восклицает: «При-
емлю все! Как есть все принимаю» («Русь совет-
ская») — и твердо, решительно порывает с «тележной
песней колес», которая становится для него синонимом
косности, отсталости наряду с сохой, лачугой, с хилым
светом избяного очага. Даже излюбленный им образ
вьюги, метели, обозначавший цветение черемух и яб-
лонь, даже много раз воспетая им луна блекнут на
фоне «бедности полей», на фоне окружающей его
нищеты (вот как модулируется нынче в лирике Есе-
нина отмеченная еще Горьким «печаль полей»). Обо
всем этом говорится в стихотворении «Неуютная
5—19
129
жидкая лунность...», где поэт открыто примиряется с
«каменным и стальным», т. е. с тем самым «железным
гостем», которого раньше считал врагом, губителем
природы:
Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.
Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно'
И березам и тополям.
Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
Ведь не так уж много времени прошло с тех пор,
как в стихотворении «Я усталым таким еще не был...»
технику, "принимаемую на вооружение человеком, Есе-
нин представлял в зловещем, пугающем образе «сми-
рительной рубашки», надеваемой на природу («Как
в смирительную рубашку, мы природу берем в бетон»).
Какой огромный путь духовной перестройки проделал
поэт за короткое время!
Но едва ли можно считать, что примирение с ма-
шинным гостем и переход к тому состоянию, когда
предметом поэзии становятся нефтяные вышки, элект-
рические огни, был для Есенина процессом безболез-
ненным, легким. Читатель, вероятно, сам уловил нотку
скепсиса («Я не знаю, что будет со мною... Может,
в новую жизнь не гожусь...») в цитированных выше
строках, звучавших гимном «каменному и стальному».
Те же нотки — в «Руси советской», в обращении поэта
к шагающей навстречу будущему деревенской моло-
дежи:
Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.
Нетрудно заметить, что скепсис поэта имеет стой-
кую направленность: он обращен не к советской
130
действительности, не к природе, не к происходящим
в жизни переменам — их Есенин признает безогово-
рочно и страстно, — но самому себе он не находит
места в новой жизни; его скепсис обращен внутрь —
к своей душе, к своим не до конца перегоревшим
старым чувствам. Какие это чувства? Горечь расстава-
ния, тяжесть прощания с прошлым, бесприютность
малого, интимно-своего перед неизбежной, но законо-
мерной, исторически оправданной поступью жизни.
Только в свете этого конфликта малого с великим
могут быть правильно поняты строки поэта, на протя-
жении многих лет подвергавшиеся неверным толко-
ваниям:
Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.
(«Русь советская»)
Под «лирой» наши критики и некоторые читатели
понимали поэзию и разводили руки в крайнем недо-
умении: как же мог автор «Кантаты» и «Небесного
барабанщика» противопоставлять свою душу — поэ-
зии, а поэзию — октябрю и маю?! Но «лира» здесь
не одно лишь искусство, хотя поэт, продолжая мета-
фору, развертывая ее, пишет, что «только мне она свои
вверяла звуки и песни нежные лишь пела только мне».
«Лира» — тот маленький уголок души, в котором поэт
сберег свою привязанность к старому, свое интимное
отношение к избяному миру, к первозданной природе,
«к тем полям, что когда-то любил»; «когда-то» — это
до того, как они были закованы в бетон (см. «Я уста-
лым таким еще не был...»).
Итак, в горьких раздумьях поэта не было ни малей-
шего осуждения действительности. Но было другое,
объективно значимое, исторически объяснимое: в нем
отразились трудности тех переломов и встрясок, кото-
рые переживала наша страна, превращаясь из России
отсталой, бревенчатой, сермяжной в Россию могучую,
социалистическую, передовую. Процесс этот был
труден для народа в целом, особенно сложен, а порой
и мучителен он был для крестьянства, веками связан-
ного с избою, с земельным наделом.
Вот какую сторону жизни с неподдельной искрен-
ностью и с поражающей художественной силой за-
5**
131
печатлел в своей лирике, рисуя борения собственной
души, Сергей Есенин.
Разобранные нами в предыдущих главах произ-
ведения обозначили кульминацию духовного пути
поэта, высшую ступень его творческого развития. Но
они были не последними в его жизни. Завершающее
место в лирике Есенина занял цикл стихотворений,
который мы условно назовем «зимним». В нем пре-
обладает зимний ландшафт — таков его внешний,
чисто зрительный признак. Психологическое же его со-
держание и философский подтекст требуют самого
пристального разбора.
«Осенью 1925 года, — сообщает С. А. Толстая, —
вскоре после возвращения в Москву из Баку, Есенин
несколько раз говорил о том, что он хочет написать
цикл стихов о русской зиме... В течение трех месяцев,
почти до самой своей смерти, Есенин не оставлял этой
темы и написал двенадцать стихотворений, в которых
отразилась русская зимняя природа».
Рассказывая затем о трех стихотворениях с зимним
пейзажем, написанных 17—20 декабря 1925 года,
С. Толстая воспроизводит из них отдельные строки и
после одного двустрочия делает следующее, весьма
существенное добавление: «Дальше поэт вспоминает
свою жизнь». Слова эти подсказывают нам: смысл
цикла, конечно, не в том, чтобы панораму русской при-
роды, нарисованную ранее Есениным, дополнить пей-
зажем зимы, а в необходимости сказать нечно жизнен-
йо важное, волновавшее поэта и требовавшее от него
определенных изобразительных средств.
Действительно, почти весь цикл выдержан в обра-
зах русской зимы, но в образах не раздумчивых и
спокойных, а метельных, буйных, вихревых: «Снежная
замять крутит бойко»; «А за окном под метельные
всхлипы, в диком и шумном метельном чаду, кажется
мне — осыпаются липы»; «Плачет метель, как цыган-
ская скрипка»; «Ах, метель такая, просто черт возь-
ми»; «Свищет ветер, серебряный ветер, в шелковом
шелесте снежного шума».
Не нужно доказывать, что все это отнюдь не «зим-
ние картинки», не слепки с натуры, а знаки опреде-
ленных психологических состояний; потому, при всей
своей верности натуре, они столь экспрессивны, пре-
исполнены авторских чувств. Снежная метель — это
смятение сердца, бойкий снежный вихрь — это время,
132
умчавшее счастье и радость, а свищущий в поле сереб-
ряный ветер — вестник бодрости, жизни, удачи.
Как же объединить все эти чувства в одном лири-
ческом герое? Как соотнести их с авторскими раз-
думьями о прожитой жизни, которыми пронизано не
одно стихотворение цикла и о которых поэт сам
напоминает в следующих строках: «Слушай — под эту
гармонику снежную я расскажу про свою тебе
жизнь...», «Сердцу приятно с тихой болью что-нибудь
вспомнить из ранних лет...»?
Комплекс чувств, выражаемых здесь поэтом, до-
вольно сложен, но его никак нельзя отнести лишь к
«панихидным» и скорбным мотивам, как это сплошь
да рядом делается в нашей критике. Одно-единствен-
ное стихотворение, состоящее из четырех строк,
могло бы служить основанием для подобной трак-
товки:
Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?
Если, однако, вчитаться в эти строки и взять их в
контексте всего цикла, картина получается иная. Поэт
осмысливает свою жизнь, констатирует необратимость
времени и неизбежность смерти — так в самых общих
словах можно выразить содержание цикла. Сам по
себе он не заключает зерна пессимизма. Скорее это
философски-медитативное выражение вечного, непре-
ложного закона круговращения бытия, заставляющего
каждого человека оглянуться на свое прошлое. Вся
суть — в эмоциональной окрашенности авторских раз-
думий, в их, так сказать, психологической доминанте:
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.
«Тихая боль» с такой силой вонзилась в сердце
поэта, что при чтении этих стихов (даже публичном)
он едва сдерживал слезы. «Начал читать — «Синий
туман. Снеговое раздолье...», — рассказывает И. Гру-
зинов. — Вдруг остановился — никак не мог прочесть
заключительные восемь строк этого вещего стихотво-
рения... Его охватило волнение. Он не мог произнести
ни слова. Его душили слезы. Прервал чтение. Через
несколько мгновений овладел собой. С трудом дочитал
до конца последние строки».
133
О чем же это стихотворение? Как сказано в первой
строфе — это воспоминание «ранних лет»: первый уход
из дому в далекую неизвестную жизнь, позднее воз-
вращение, дорогие сердцу образы бабушки и деда,
покоящихся на погосте (там «кладбищенский ранний
снег»), и, наконец, заключительные восемь строк:
Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей, —
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.
Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас, —
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.
Так в чем же психологический акцент этого стихо-
творения — в прощании с жизнью («Словно я вижу в
последний раз») или же в утверждении своей тяги к
людям, своей любви к ним? Не потому ли с таким
душевным трепетом поэт останавливался перед чте-
нием приведенных строк, что в них выражена его
главная мысль?
А вот стихотворение, завершающее цикл:
Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.
Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.
«Зимний цикл» — последний аккорд есенинской ли-
рики. Прозвучал он в самый канун рокового спада
сил, который кончился для поэта трагически. Тем —
значительнее, тем благородней, мудрее звучащие в нем
в прослойке с грустными нотами — жизнелюбивые,
гуманистические мотивы. Чтобы выразить всю гамму
этих чувств, поэт, как и прежде, обратился к природе.
И в полной слиянности с нею пропел свою последнюю
песнь.
РОКОВЫЕ ДНИ
ТИожно не сомневаться в том, что поступательный
ход развития советской действительности, успехи
индустриализации, великий процесс избавления от
вековой отсталости и созидание новой жизни — все,
134
что нашло столь яркое отражение в произведениях
литературы двадцатых годов, — оказало бы свое
благотворное воздействие и на Есенина, помогло бы
ему преодолеть жестокие противоречия души, раз-
вить в своем творчестве жизнеутверждающие начала.
Увы, реальные обстоятельства жизни поэта, сло-
жившиеся к середине 1925 года, мало способствовали
такой эволюции его духовного мира. На смену плодо-
творнейшему периоду литературной деятельности Есе-
нина, на смену радостным, светлым дням его жизни
пришла новая, теперь уже кратковременная полоса
душевного кризиса. Его творчество снова окрасилось
в тона безысходной драматичности, пессимизма.
Есенин вновь подпал под влияние богемы — гнилой,
отравленной среды, которую запечатлел в образе
гнусавого «черного человека»; эта зловещая, мрачная
тень является к поэту напоминать и твердить, что он
«пропойца и забулдыга», «скандальный поэт», рожда-
ющий «дохлую томную лирику» (поэма «Черный че-
ловек», законченная в ноябре-декабре 1925 года).
Именно такую славу пытались создать Есенину его
пресловутые друзья, опять втянувшие его в алкоголь-
ную муть непутевых вечеров и скандалов. Диалог
между поэтом и его двойником, развернутый в «Чер-
ном человеке», потрясает откровенностью самопризна-
ний и самобичеваний, трагизмом утраченной человече-
ской судьбы. Завершается он устранением, исчезнове-
нием двойника: на куски разлетается зеркальное
стекло, за которым таился его облик. К сожалению,
в действительности вырваться из окружавшей его мути
поэту не удалось: отчаяние привело к роковому
концу.
Бивуачный быт и скитальчество преследовали
Есенина в разные периоды жизни, но особенно болез-
ненно сказались они на его судьбе в последние месяцы.
Порвав с Мариенгофом и уехав от него, Есенин
не имел никакого пристанища: ночевал то в «Стойле
Пегаса», то у друзей. Потом он поселился у Галины
Бениславской — молодой журналистки, работавшей в
газете «Беднота» и много времени, сил и стараний
бескорыстно отдавшей тому, чтобы как-то устроить его
литературно-издательские дела. Чувствуя в ней на-
стоящего друга, Есенин давал ей разные поручения,
доверял ей рукописи, деньги, переговоры с изда-
тельствами и т. д.
135
Бениславская занимала небольшую комнату в ком-
мунальной квартире на седьмом этаже дома работ-
ников «Правды» в Брюсовском переулке. Комната была
уютной, с отличным видом на Нескучный сад и "Во-
робьевы горы, но оказалась тесной для тех, кто ее
занимал. Раньше других, с осени 1924 года, в ней
стала жить (кроме самой Галины) сестра поэта Катя,
приехавшая из деревни в Москву учиться. Потом туда
переселился Есенин, затем появилась младшая сестра
Шура. Несколько дней в марте 1925 года прожила
там и мать поэта, приехавшая погостить у детей.
Побывав летом 1925 года в деревне, Есенин уже
не вернулся в эту комнату — он поселился у поэта
Наседкина.
«Сергея, — пишет Александра Есенина, — всегда
тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего
угла, которого он в сущности так и не имел до конца
своей жизни...»
Не прибавила ему ни покоя, ни радости и послед-
няя женитьба.
В начале марта 1925 года на домашней вечеринке
у Бениславской поэт познакомился с Софьей Андре-
евной Толстой, внучкой Л. Н. Толстого. Она была
человеком незаурядным, многое унаследовавшим от
своего великого деда. «В ее немногословных речах, —
пишет Ю. Либединский, — чувствовался ум, образо-
ванность, а когда она взглядывала на Сергея, нежная
забота светилась в ее серых глазах... Нетрудно дога-
даться, что в ее столь явной любви к Сергею присут-
ствовало благородное намерение стать помощницей,
другом и опорой писателя». Современники признают,
что она была человеком вдумчивым, серьезным, с
толстовской меткостью и остротой разбиралась в
окружающих людях.
В июне 1925 года Есенин женился на С. А. Толстой
и переехал к ней в большую мрачноватую квартиру со
старинной, громоздкой мебелью, множеством портре-
тов и музейных реликвий.
Но-и в этом браке он не был счастлив, а квартира
просто тяготила его. Опять же, здесь не было винова-
тых — так сложилась жизнь. Другу своему, прожива-
ющему в Тифлисе, Есенин сокрушенно писал:
Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом.
Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь
не клеится, хочу бежать! Куда? На Кавказ!»
136
Эта неустроенность поэта, его скитальческая жизнь
оказались на руку тем, кто сбивал его с пути, лишал
творческого равновесия и преследовал его своими
назойливыми приставаниями.
«Гости, гости, гости, хоть бы кто меня спас от них.
Главное, мешают работать», — писал Есенин из Тиф-
лиса. В письме из Батуми он сообщал, что с его
согласия хозяин квартиры днем запирает его на ключ
и никого не впускает, — «страшно мешают работать».
Есенин всеми силами стремился вырваться из не-
здорового окружения. Встретив однажды на улице в
Тифлисе Николая Тихонова, он сказал: «Давай удерем
от моих опекающих». И они удрали: несколько часов
просидели в духане и читали друг другу стихи.
Находясь на Кавказе, поэт мечтал о том, как,
возвратившись в Москву, начнет жить по-новому:
«Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести
всех в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все
обо мне думают. Пусть они выкусят. Весной, когда
приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близ-
ко... Все это было прощание с молодостью. Теперь
будет не так».
Но в Москве многое повторилось. К нему навязы-
вались люди, о которых Миклашевская пишет: «Они
постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика
никому не нужны. Прекрасная поэма «Анна Снегина»
вызывала у них иронические замечания: «Еще
понюшку туда — и совсем Пушкин!» Они знали, что
Есенину больно думать, что его стихи не нужны.
И «друзья» наперебой старались усилить эту боль.
«Друзей» устраивали легендарные скандалы Есенина...
Трезвый Есенин им был не нужен». Как показывают
факты, «друзья» часто провоцировали эти скандалы.
Маяковский во время последней встречи с Есени-
ным обратил внимание на «двух его темных (для меня,
во всяком случае) спутников», от которых несло спирт-
ным перегаром. Дурное настроение поэта, его недо-
вольство собой Маяковский, в частности, объяснял
«черствыми и неумелыми отношениями окружающих».
К осени 1925 года все это осложнилось физическим
нездоровьем поэта. У него были явно расшатаны
нервы, и врачи посоветовали ему пройти двухмесячный
курс лечения.
26 ноября Есенин был принят на лечение в психо-
неврологическую клинику. Ему отвели отдельную па-
137
лату во втором этаже. Палата была просторной, свет-
лой, но раздражал существовавший в клинике поря-
док: света по ночам не гасили, двери палат держали
постоянно открытыми.
Ворча на эти неудобства, Есенин, однако, не толь-
ко лечился, но и работал. В клинике были написаны
стихотворения: «Клен ты мой опавший, клен заледе-
нелый...», «Не гляди на меня с упреком...», «Ты меня
не любишь, не жалеешь...», .«Может, поздно, может,
слишком рано...», «Кто я? Что я? Только лишь меч-
татель...».
Все они, кроме первого, вошли в цикл «Стихи
о которой...»; Есенин решил включить его в собрание
своих сочинений, готовившееся Госиздатом. Из клиники
он следил за тем, как идет эта подготовка, общался
с редактором и т. д.
За время лечения у Есенина созрел обширный план
предстоящей работы. Он собирался приняться за боль-
шую прозаическую вещь — повесть или роман. В голо-
ве роились новые стихи. Нужно было завершить под-
готовку собрания сочинений. Наконец — и это особен-
но увлекало поэта — начать издавать новый, двухне-
дельный журнал, о котором он уже договорился с
ленинградским отделением Госиздата (Есенин должен
был стать редактором этого журнала).
Первоочередное практическое решение, вытекавшее
из этих планов, заключалось в том, чтобы покинуть
Москву, резко изменить обстановку, оторваться от
лишних, мешающих ему людей.
Куда уехать? Временами думал — в деревню: там
уже отстроили новый дом, можно жить спокойной, раз-
меренной жизнью, трудиться. Но тогда не получится с
журналом. И решение всплыло само собой: ехать в Ле-
нинград; снять там квартиру вместе с журналистом
Георгием Устиновым (которого знал с 1919 года)
и его женой — она будет за хозяйку; потом в Ле-
нинград переедут Наседкин с Катей и Шурой (бы-
ло уже известно, что Наседкин женится на Кате);
начнет выходить журнал; все вместе будут рабо-
тать.
Решение это так захватило поэта, что он пригото-
вился покинуть клинику задолго до истечения поло-
женного срока. 7 декабря он телеграфировал в Ленин-
град В. Эрлиху: «Найди немедленно две-три комнаты.
20 числах переезжаю жить Ленинград».
138
21 декабря Есенин вышел из помещения клиники
якобы по делам (по этой причине его отпускали и
раньше) и не вернулся. Спустя два дня, придя в Гос-
издат, сказал своему редактору: «Еду в Ленинград.
Совсем, совсем еду туда. Надоело мне тут. Мешают
мне. Я развелся с Соней... с Софьей Андреевной».
Просил присылать ему корректуры томов собрания
сочинений, обещал дописать новую поэму — она будет
строк на пятьсот. И снова: «Тут мне мешают. Напишу
четыре строчки, кто-нибудь придет... В Ленинград я
совсем, навсегда... И даты — все проставлю. Раз
«Собрание», надо по-настоящему сделать. Я помню
все стихи. Мне надо остаться одному. Я припомню».
Есенин был очень привязан к своим детям — Тане
и Косте. Они воспитывались у матери — Зинаиды
Райх^ которая в 1922 году вышла замуж за режиссера
Всеволода Мейерхольда и спустя два года стала актри-
сой его театра. Мейерхольд ласково и заботливо
относился к детям, они называли его запросто «Мей-
ер». Есенин дружил с Мейерхольдом и по своем воз-
вращении из Америки навещал детей в этой семье.
Полагая, что он надолго уезжает из Москвы, Есенин
после выхода из клиники решил проститься с детьми.
Он пришел к ним, застал их за игрой, отозвал дочь,
сказал ей несколько слов, поцеловал обоих и отпра-
вился на вокзал.
В Ленинград поэт приехал утром 24 декабря
1925 года. Физически он был очень слаб — в клинике
явно не долечился. Новая квартира еще не была снята,
Эрлиха дома не застал, решил остановиться в гости-
нице. Избрал «Англетер», потому что там жили Усти-
новы; занял комнату № 5 на втором этаже с окнами
на Исаакиевскую площадь.
Но и здесь его не оставили в покое. Он снова очу-
тился в той обстановке, от которой бежал. Вот эпизод
одного из последних дней его жизни.
Есенин у себя в гостиничном номере. Потом —
трое посетителей. Затем является Клюев (он жил
тогда в Ленинграде). Заговорили о недавних стихах
Есенина. Клюев еще за день-два до этого высказался
в том смысле, что лирика Есенина — это стихи для
барышень. «Пожалуй, — рассуждает теперь Клюев, —
для поэта важно вовремя умереть...» Наступает тяж-
кая пауза. Тут вваливается шумная компания бывших
имажинистов. Они с азартом, перебивая друг друга,
139
доказывают, что Есенин исписался, что он сочиняет
стихи-мотыльки, стихи-однодневки вроде «Руси ухо-
дящей»...
Ослабленный болезнью, издерганный, сбитый с при-
нятых ранее планов, решений, поэт не выдержал
очередного приступа депрессии: 27 декабря поздно
вечером заперся в номере, слать не ложился и далеко
за полночь, между тремя и пятью часами утра, покон-
чил с собой.
Весть о гибели поэта тяжкой болью отозвалась
в сердцах миллионов людей. Она быстро распростра-
нилась по всей стране. В газетах печатались портреты
Есенина в траурной рамке, его прощальное стихотво-
рение, написанное кровью («До свиданья, друг мой, до
свиданья...»), некрологи, мемуары, стихи...
Из гостиницы тело поэта было на дрогах отправ-
лено в морг, а оттуда на следующий день — в поме-
щение Всероссийского союза писателей на набереж-
ной Фонтанки. Там в течение нескольких часов ленин-
градцы прощались с поэтом. В девятом часу вечера
траурная процессия двинулась с Фонтанки по Нев-
скому проспекту к Октябрьскому вокзалу. Гроб внесли
в специальный вагон, прицепленный к хвосту москов-
ского поезда. Председатель Ленинградского отделения
Союза поэтов Илья Садофьев произнес прощальную
речь. Над гробом прозвучали стихи Есенина. И поезд
двинулся в путь.
Огромная толпа москвичей собралась на Каланчев-
ской площади у вокзала 30 декабря. Высокий желтый
гроб с телом покойного выносят на руках Вс. Иванов,
И. Бабель. П. Орешин, В. Мейерхольд, В. Наседкин
и другие. За гробом — венки из живых цветов и
черные, белые, красные ленты. Процессия в несколь-
ко тысяч человек сопровождает катафалк до здания
Дома печати. Гроб устанавливают в главном зале
Дома. На решетке ограды протягивается белое по-
лотно. Слова, нанесенные на него черными буквами,
гласят:
«Тело великого русского национального поэта Сер-
гея Есенина покоится здесь».
День, вечер, ночь — до самого утра люди шли к
Дому печати проститься с поэтом. Артисты В. Качалов
и О. Книппер-Чехова читали над гробом его стихи.
Звучала траурная музыка, слышны были плач, ры-
дания.
140
31 декабря состоялись похороны. По Никитскому
бульвару траурный кортеж направился на Страстную
площадь, к памятнику Пушкину. Трижды вокруг па-
мятника был обнесен гроб с телом Есенина, символи-
зируя живую связь его поэзии с великой пушкинской
традицией. Затем остановка на Тверском бульваре у
Дома Герцена, где находились писательские организа-
ции, короткий митинг (речь произнес поэт Владимир
Кириллов), еще одна остановка у Камерного театра и —
путь на Ваганьковское кладбище.
Несметное число людей шло за гробом Есенина. Со
дня похорон Некрасова в Петербурге — почти пол-
века — Россия не видела такого величественного про-
щания народа с поэтом.
Гора еловых веток, венков и цветов покрыла могиль-
ный холм на Ваганьковском. В прохладном воздухе
декабрьской оттепели снова прозвучали бессмертные
строки поэта...
М. Горький, потрясенный гибелью поэта, писал од-
ному из своих корреспондентов: «Если бы вы знали, друг
мой, какие чудесные, искренние и трогательные стихи
написал он перед смертью, как великолепна его поэма
«Черный человек», которая только что вышла из печати.
Мы потеряли великого русского поэта».
Память Есенина увековечена в ряде мест, связанных
с его жизнью, литературной работой.
Мемориальный музей открыт в Константинове —
в доме, который стоит на месте избы, где родился
и вырос поэт. Здесь все напоминает годы его детства,
дни пребывания в гостях у родных: внушительных раз-
меров русская печь, дубовый стол, за которым он рабо-
тал, деревянная полка с кухонной утварью, керосиновая
лампа, самовар, старый материнский шушун («Не ходи
так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне»)
и постоянно тикающие настенные часы («Скоро, скоро
часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час»).
Наискосок от дома, в бывшей усадьбе Лидии Кашиной
(«девушки в белой накидке»), — литературный музей.
Ежедневно к пристани на Оке причаливают паро-
ходы (в летние месяцы — по нескольку в день): люди
из всех областей и республик нашей страны, гости из
разных стран мира приезжают в Константиново, чтобы
побывать в есенинских местах, подышать воздухом
«рязанских раздолий».
Недавно принято решение о создании в селе Кон-
141
стантинове и в городе Спас-Клепики Государственного
музея-заповедника С. А. Есенина. Ему отведена обшир-
ная территория, где расположены все вышеназванные
памятники, где будут восстановлены усадебный парк,
церковная колокольня, ветряная мельница и школа, где
учился Есенин. В Спас-Клепиках реставрируется здание
бывшей церковно-учительской школы; там также
откроется музей.
В самой Рязани, поблизости от древнего Кремля,
открыт памятник поэту. Улица в Рязани, концертный
зал и драматический театр названы именем Есенина.
В одном из новых районов Москвы шумит кустами
и деревьями Есенинский бульвар. На пересечении буль-
вара с Волгоградским проспектом воздвигнут бронзо-
вый памятник поэту. Еще один памятник — надгробье
на Ваганьковском кладбище.
На Литейном проспекте в Ленинграде к фасаду дома
№ 33 прикреплена мемориальная доска из темного мра-
мора с высеченной на ней надписью: «В этом доме в
1917—1918 годах жил поэт Сергей Есенин». Верхнюю
часть доски занимает скульптурный портрет молодого
поэта. В районе Озерки — Шувалове пролегает ново-
выстроенная улица Есенина.
Имя Сергея Есенина будет всегда почитаемо и лю-
бимо народом. Его творчество отразило красоту родной
земли, величие революции. Оно запечатлело один из
самых сложных, переломных периодов в жизни народа.
Стихи его зовут к добру и свету, воспитывают чувство
красоты, любовь к родине, требовательное отношение
человека к себе, искренность и правдивость. Они явля-
ются для нас не только источником радости, предметом
эстетического наслаждения, но и фактором большой
нравственной силы, ибо в их основе лежит высокая
человечность.
Целостный подход к наследию Есенина предпола-
гает трезвую, критическую оценку тех его произведе-
ний, которые связаны с трудными моментами его био-
графии, которые отразили противоречивое восприятие
им сложных социальных процессов. Но мы глубоко чтим
и не перестаем восхищаться всем тем, что навеки
породнило Есенина с нашей революционной эпохой и с
великими гуманистическими традициями русской
поэзии.
Приложение
Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных.
По меже, по переметке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в четки
Ивы — кроткие монашки.
Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то
Затаил я в сердце мысли.
Всё встречаю, всё приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.
1914
* * *
Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
143
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах весенний пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» —
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».
1914
* * *
Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.
Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка.
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.
О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.
И не отдам я эти цепи,
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.
1916
144
* * *
Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной.
Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.
Над куполом церковных глав
Тень от зари упала ниже.
О други игрищ и забав,
Уж я вас больше не увижу!
В забвенье канули года,
Вослед и вы ушли куда-то.
И лишь по-прежнему вода
Шумит за мельницей крылатой.
И часто я в вечерней мгле,
Под звон надломленной осоки,
Молюсь дымящейся земле
О невозвратных и далеких.
Июнь 1916
Константиново
* * *
Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.
Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.
На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.
145
Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей, горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.
Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.
1917
Кантата
Спите, любимые братья,
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.
Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.
Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.
До 7 ноября 1918
Песнь о собаке
Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.
До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.
А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.
146
По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.
А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.
В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.
И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.
1918—начало 1919
* * *
Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты всё реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
147
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
1921
* * *
Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.
Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.
Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.
Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.
Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.
148
Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.
Но угасла та нежная дрема,
Всё истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,
Мир тебе — деревянный дом!
До 11 июля 1923
Париж
* * *
Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
Был я весь — как запущенный сад.
Был на женщин и зелие падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.
Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонкой касаться руки
И волос твоих цветом в осень.
Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.
До 22 сентября 1923
149
* * *
Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.
О, возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.
Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.
Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.
И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.
Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.
Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.
Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.
1923
150
* *
*
Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.
Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.
Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.
И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь, —
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.
1924
Капитан Земли
Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя,
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир —
Единая семья.
Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.
151
Не то что мы,
Которым всё так
Близко, —
Впадают в диво
И слоны...
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.
Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
По-марксистки,
Совсем по-ленински
Творил.
Нет!
Это не разгулье Стеньки!
Не Пугачевский
Бунт и трон!
Он никого не ставил
К стенке.
Всё делал
Лишь людской закон.
Он в разуме,
Отваги полный,
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.
Он — рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия — его
Матросы.
152
Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.
Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.
Он скажет:
«Только тот пловец,
Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную
Сушу».
17 января 1925
* * *
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуясь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси?
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
153
И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Всё равно остался я поэтом
Золотой бревёнчатой избы.
По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.
Но и всё же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Всё любя, спокойно умереть!
Июль 1925
* * *
Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто его успокоит, мой друг?
С отягченными веками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.
Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.
Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.
Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.
154
Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млел
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.
Август 1925
* * *
Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.
Любимая, ну что ж! Ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.
И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что всё на свете повторимо.
Не всё ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.
И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.
27 октября 1925
Собаке Качалова
Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.
155
Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.
Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.
Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.
Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?
Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За всё, в чем был и не был виноват.
1925
* * *
Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин —
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.
По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.
Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.
156
Мне теперь по душе иное... *
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.
Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.
Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и всё же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.
И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.
1925
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Наиболее полным сводом произведений С. Есенина является
Собрание сочинений в шести томах, выпущенное издательством
«Художественная литература» в 1977—1980 годах. Ему предшество-
вали два пятитомных собрания, выпущенных тем же издательством
в 1961 —1962 и 1966—1968 годах.
Широкое распространение получили также однотомные и двух-
томные издания произведений поэта, базирующиеся на материале
названных выше собраний.
Довольно обширна критическая литература о поэте, включа-
ющая монографии, очерки, сборники статей. Из них назовем следу-
ющие:
Есенин и русская поэзия. — Л.: Наука, 1967.
Сергей Есенин. Исследования, мемуары, выступления. — М.:
Просвещение, 1967.
Ю ш и н П. Ф. Сергей Есенин. Идейно-творческая эволюция. —
Изд-во Московского ун-та, 1969.
Марченко А. Поэтический мир Есенина. — М.: Советский
писатель, 1972.
Прокушев Ю. Л. Есенин. Человек, поэт. — М.: Просвещение,
1973.
Наумов Е. Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха. —
Лениздат, 1969; 2-е изд. — 1973.
КошечкинС. Сергей Есенин. Раздумья о поэте. — М.: Со-
ветская Россия, 1974.
Прокушев Ю. Л. Сергей Есенин. Образ. Стихи. Эпоха.—
М.: Московский рабочий, 1975.
Есенин и современность. — М.: Современник, 1975.
Волков А. Художественные искания Есенина. — М.: Совет-
ский писатель, 1976.
Биографические материалы о поэте содержатся в следующих
изданиях:
Воспоминания о Сергее Есенине. — М.: Московский рабочий,
1965; 2-е изд. — 1975.
Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника. — М.:
Советская Россия. — Ч. 1, 1969; Ч. 2, 1970.
Эвентов И. С. Сергей Есенин. Биография писателя. — Л.:
Просвещение, 1978.
Кошечкин С. Весенней гулкой ранью... — М.: Детская лите-
ратура, 1984.
153
СОДЕРЖАНИЕ
Детство, деревня, учение........................ 3
Москва......................................... 13
Петроград...................................... 23
«Полей малиновая ширь»......................... 31
Царское село................................. 40
Революция...................................... 45
Снова Москва................................... 56
Памятные встречи............................... 67
Европа и Америка............................... 74
Вершины........................................ 86
Закавказье..................................... 93
Родные края................................... 100
Стихи о любви................................. 108
Труд поэта.................................... 115
Драма поэта................................... 127
Роковые дни................................... 134
Приложение.................................... 143
Краткая библиография.......................... 158
Исаак Станиславович Эвентов
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Зав. редакцией Г. Н. Усков
Редактор Ю. Д. Тарасов
Младший редактор И. Б. Медведева
Художественный редактор Н. М. Ременникова
Технический редактор Н. Т. Рудникова
Корректор И. Г. Трошина
ИБ № 9885
Сдано в набор 08.01.87. Подписано к печати 11.06.87. А 07337. Формат 84X 108'/32-
Бум. кн.-журн. отеч. Гарнит. литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,44-0,84 вкл.
Усл. кр.-отт. 10,5. Уч.-изд. л. 7,784-0,72 вкл. Тираж 300 000 экз. Заказ № 19.
Цена 30 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Просвещение» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 129846.
Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете
СССР под делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль,
ул.Свободы, 97.
Александр Никитич
и Татьяна Федоровна Есенины.
6-19
Избушка в саду Есениных.
6*
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
1913
У Сергея Городецкого.
1915
Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стежку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
1915
Я снова здесь, в семье родной,
Мой край, задумчивый и нежный!
Кудрявый сумрак за горой
Рукою машет белоснежной,
1915—1916
Сойди, явись нам,
красный конь!
Впрягись в земли оглобли.
Нам горьким стало молоко
Под этой ветхой кровлей.
1919
ЕСЕНИН
ПУГАЧОВ
Обложки первого издания «Пугачева»
и коллективного сборника.
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
1922
С Айседорой Дункан
и ее приемной дочерью Ирмой.
1922
Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.
1923
Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.
1923
Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.
1924
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.
1924
Слушая стихи сына...
1925
Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не вольет мне в грудь мою теплынь.
1925
30 коп.