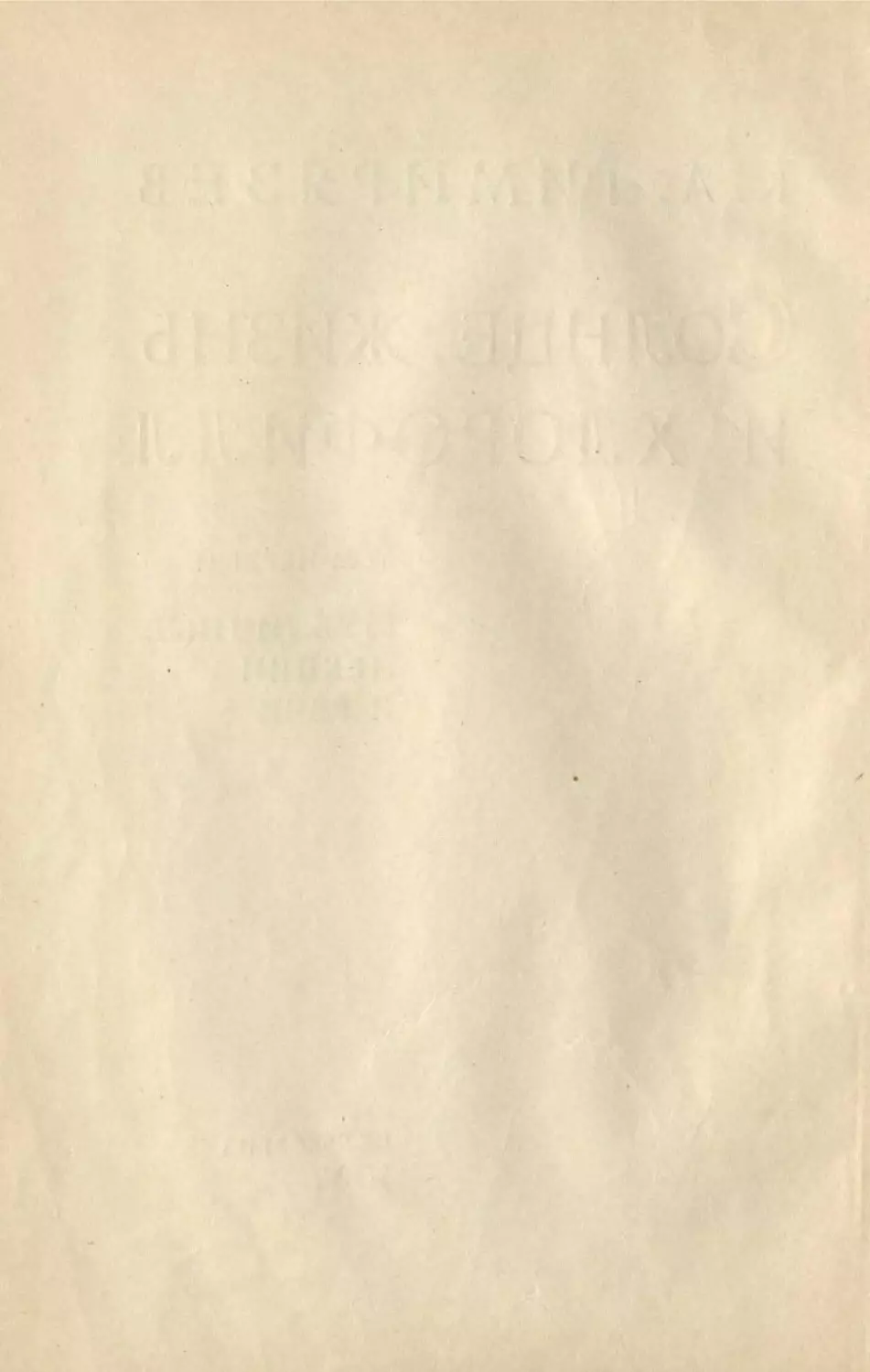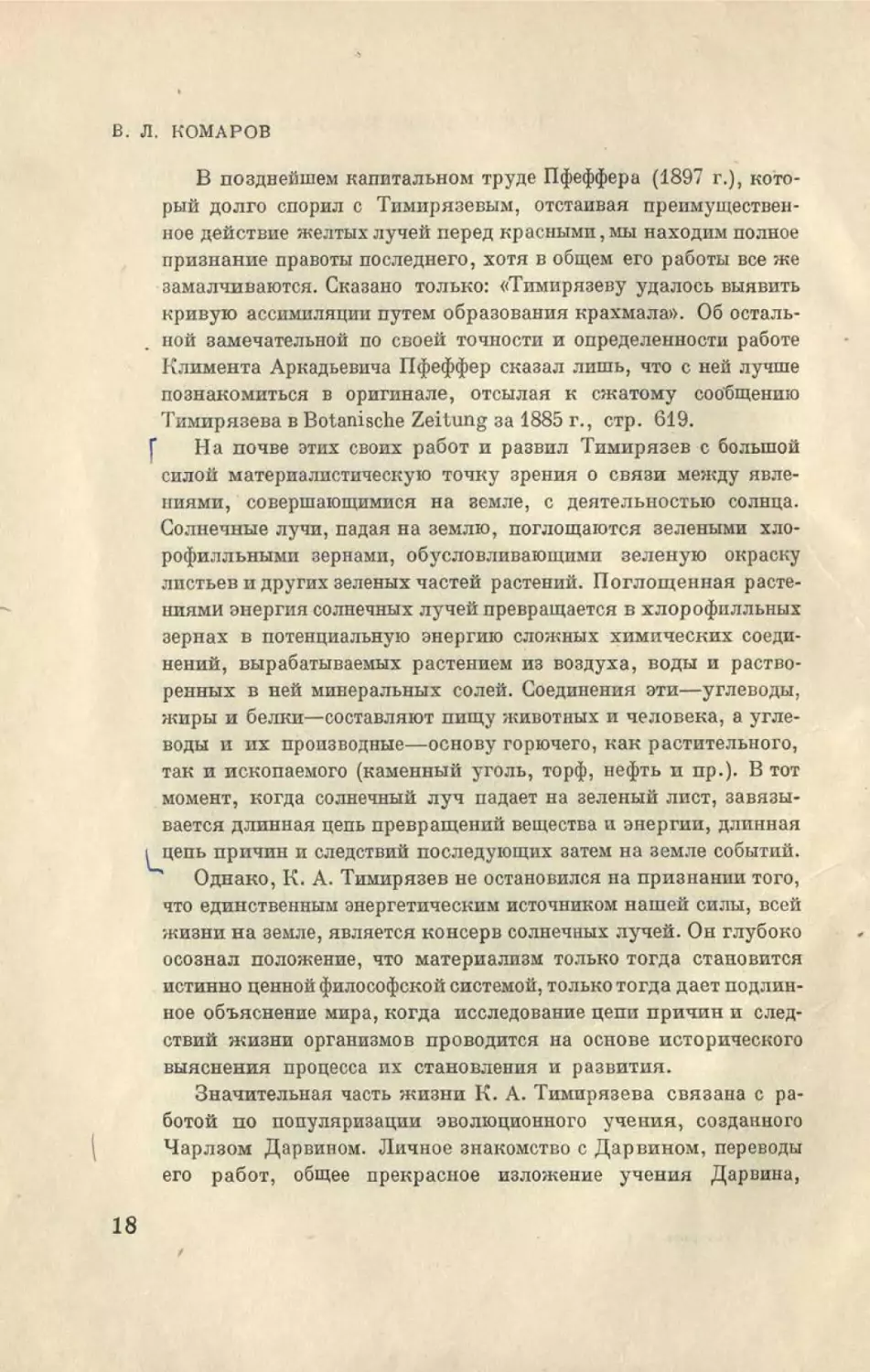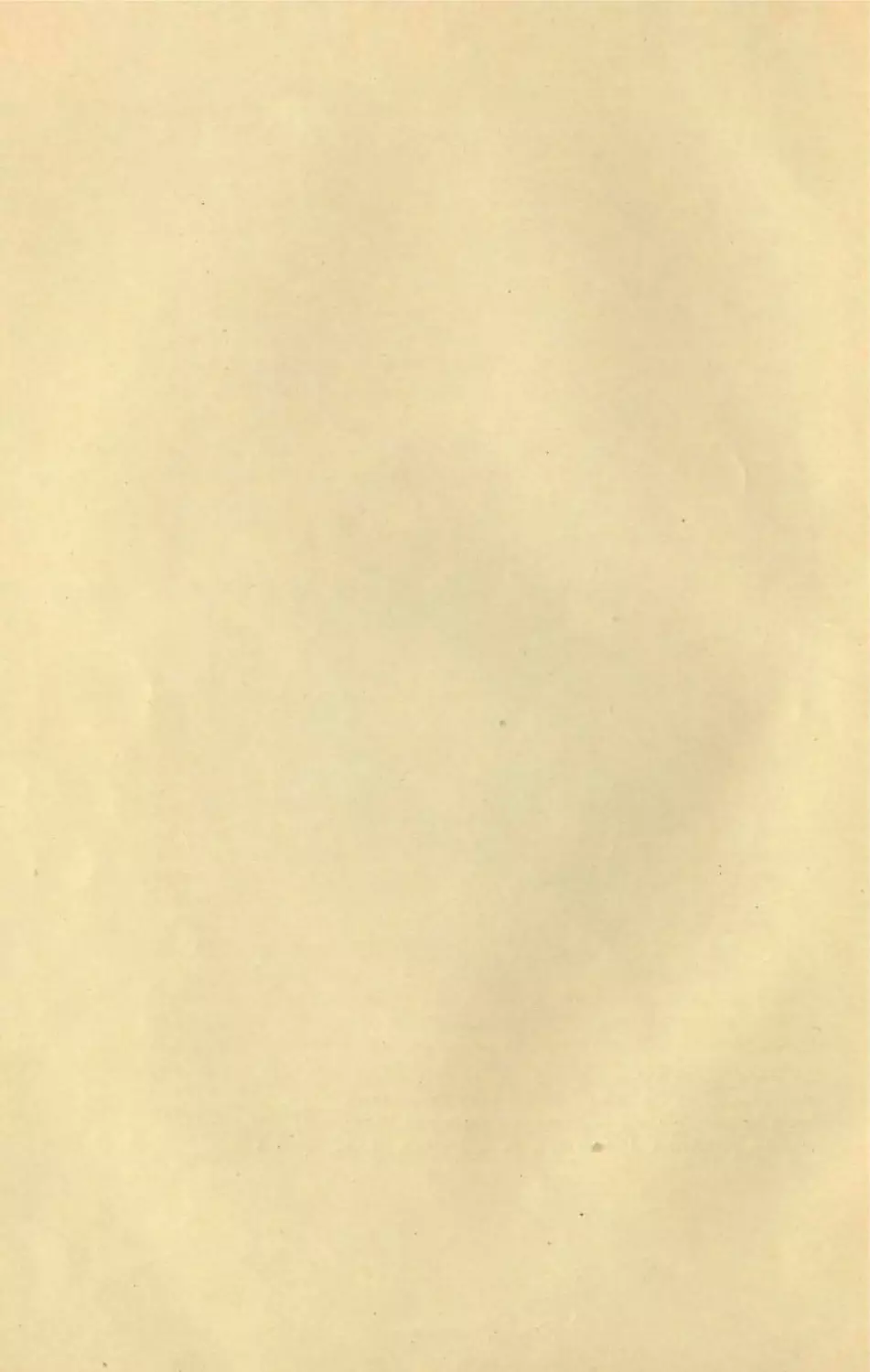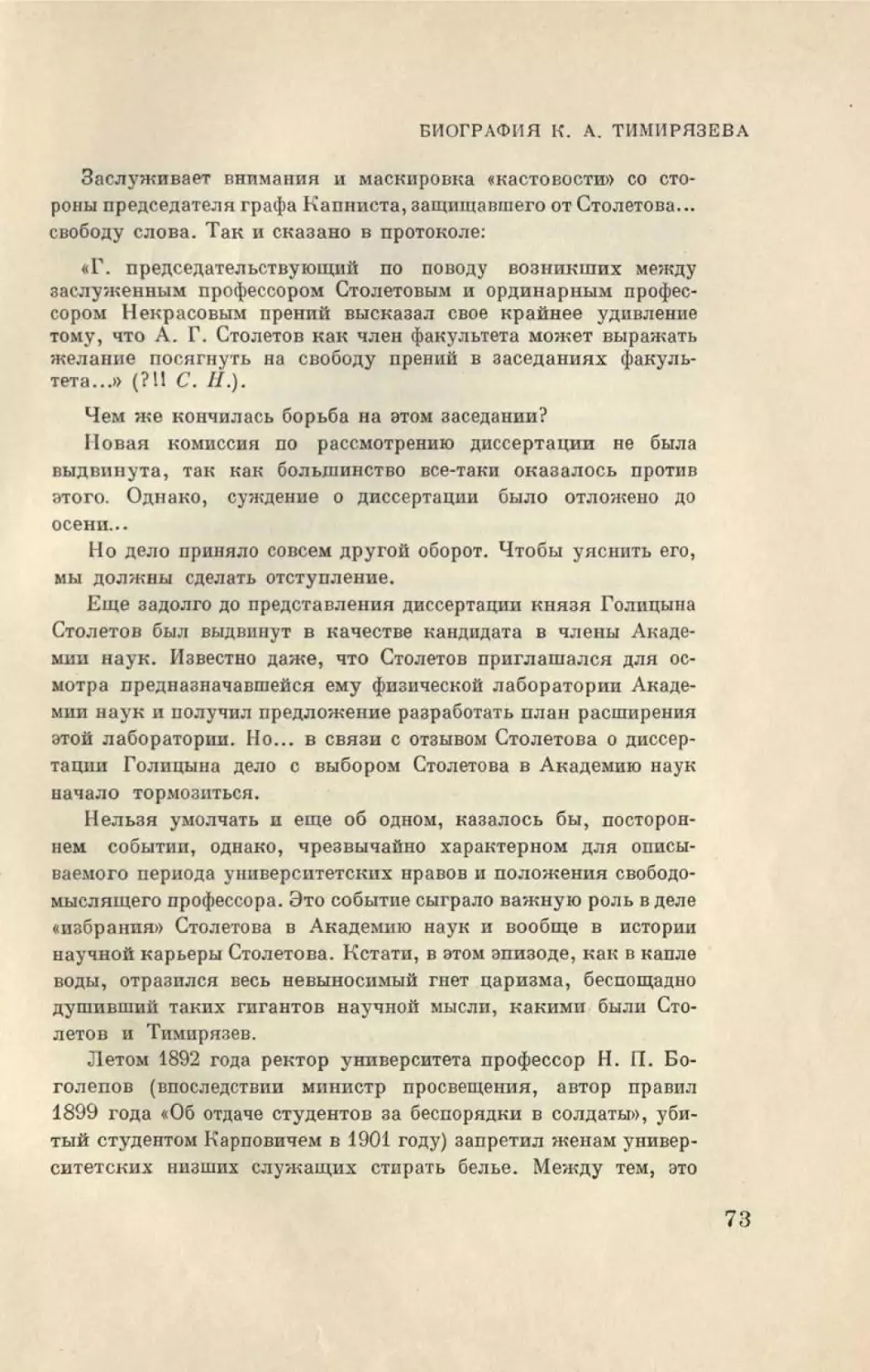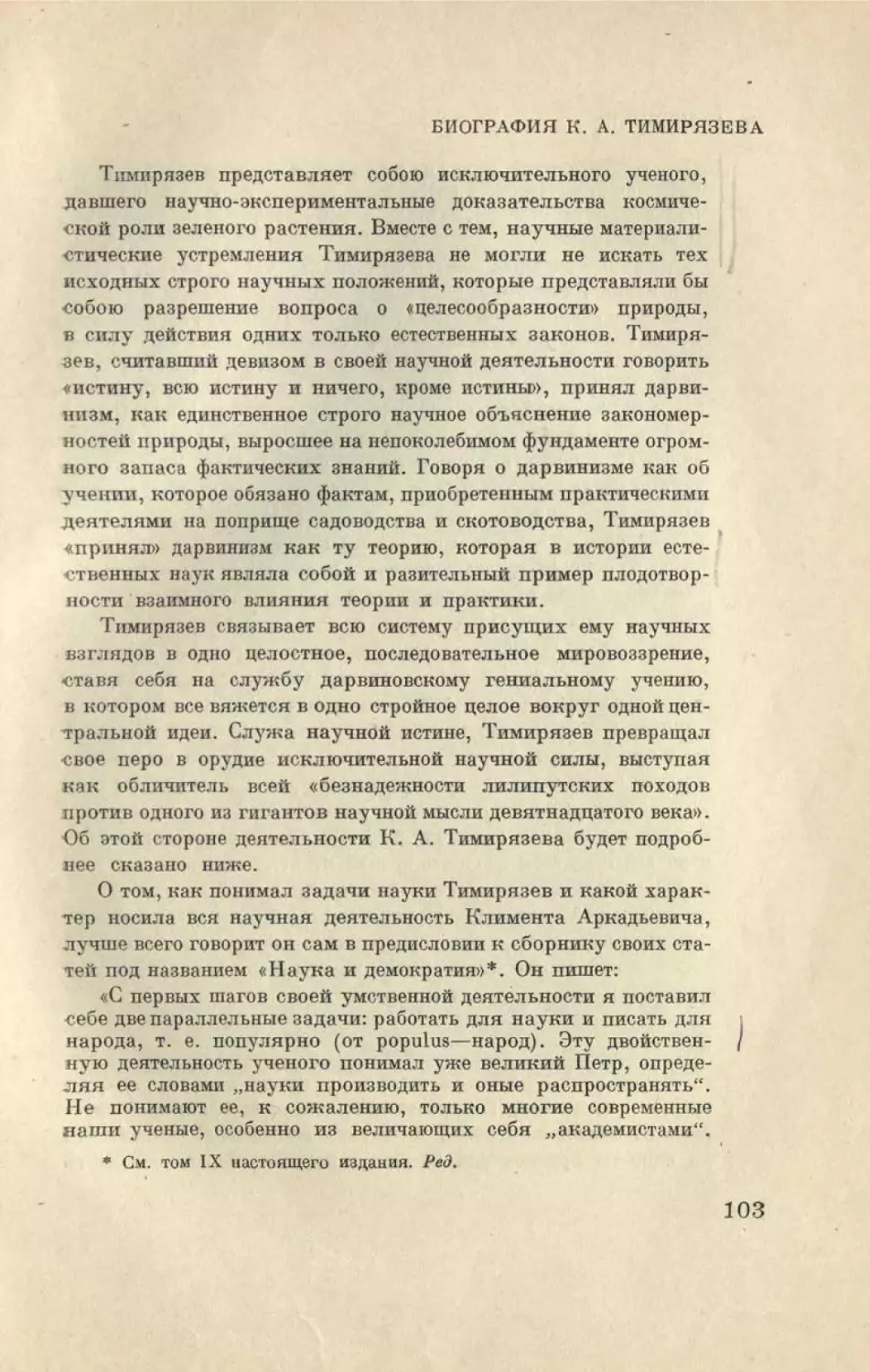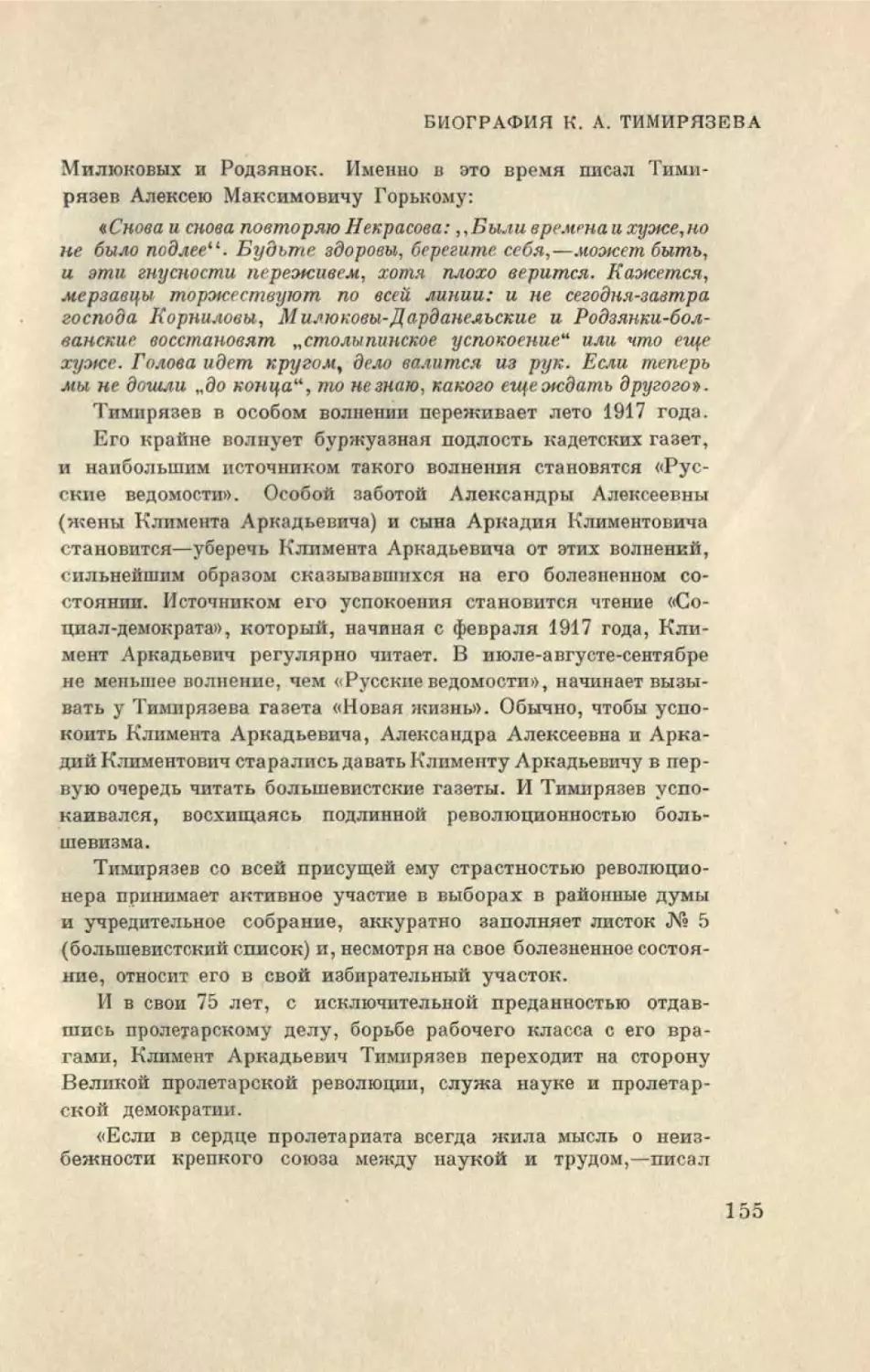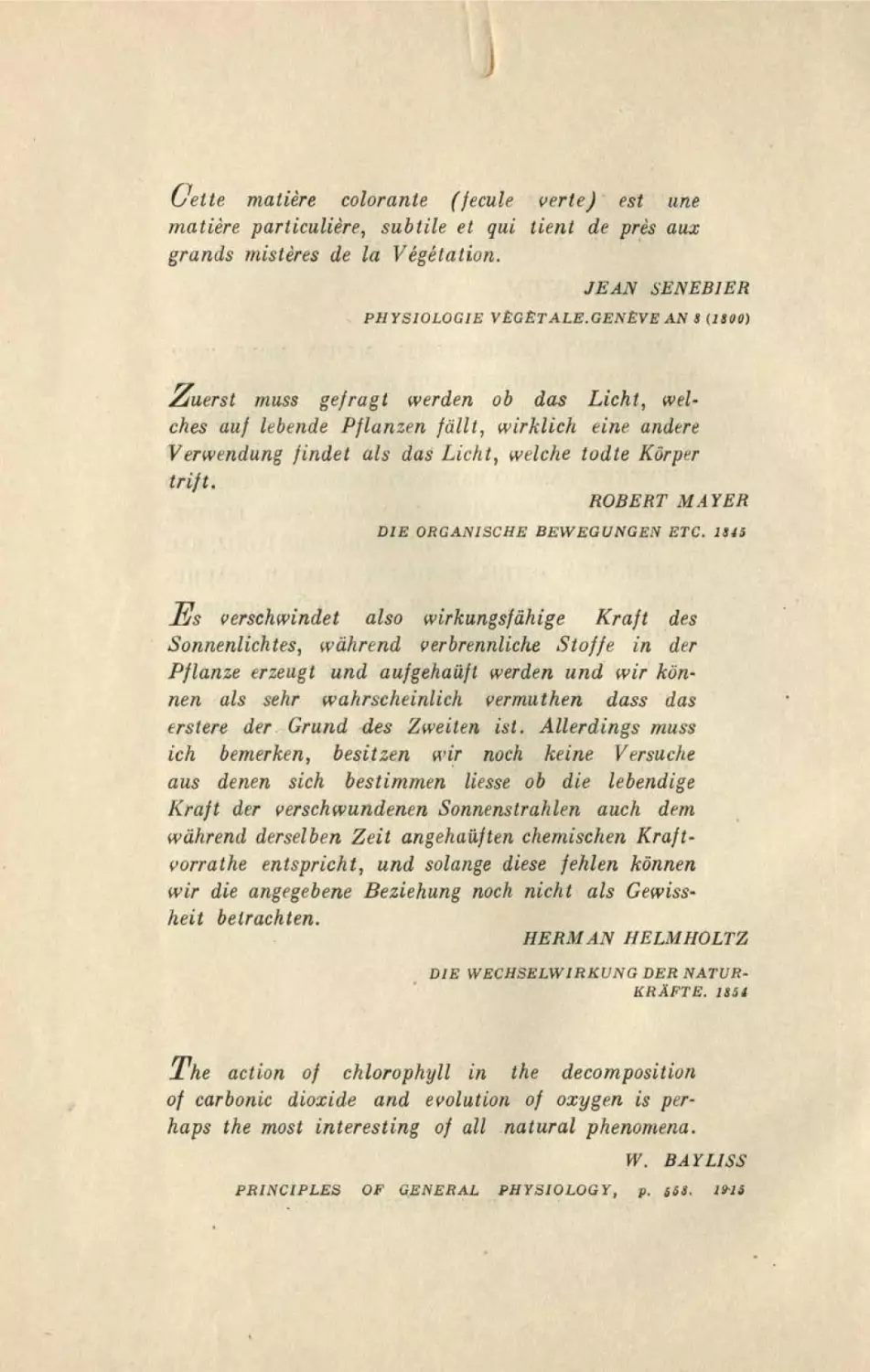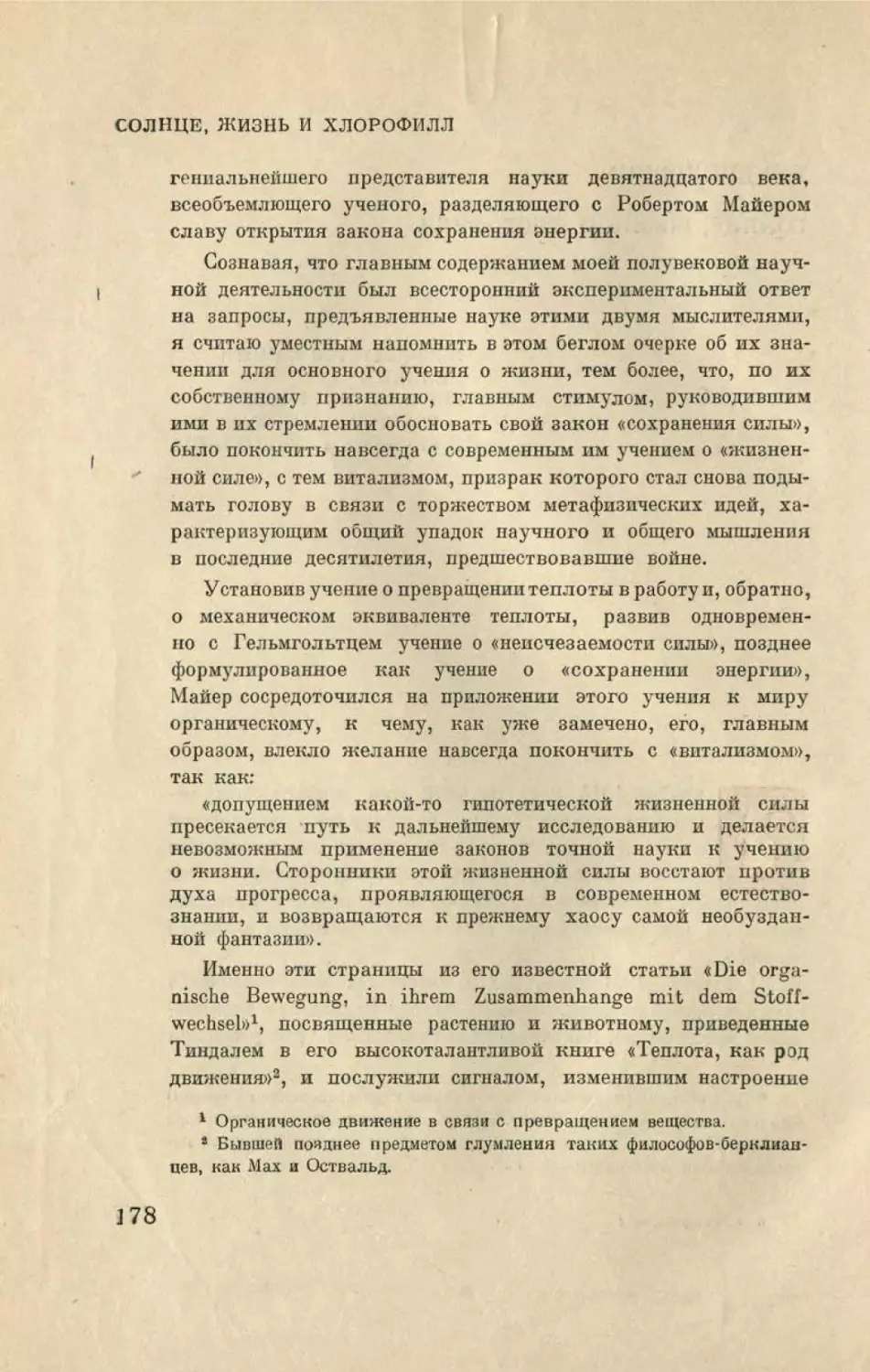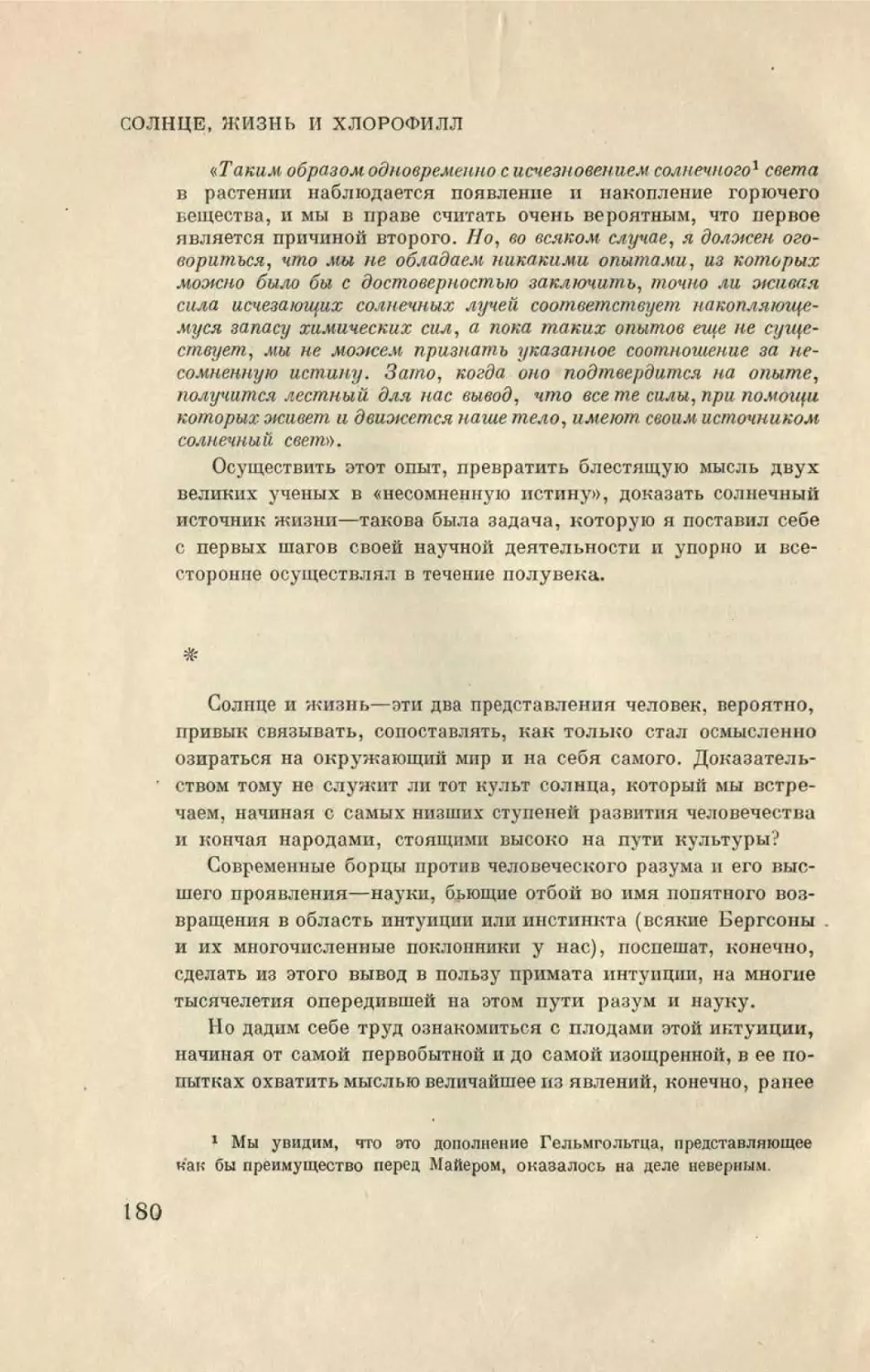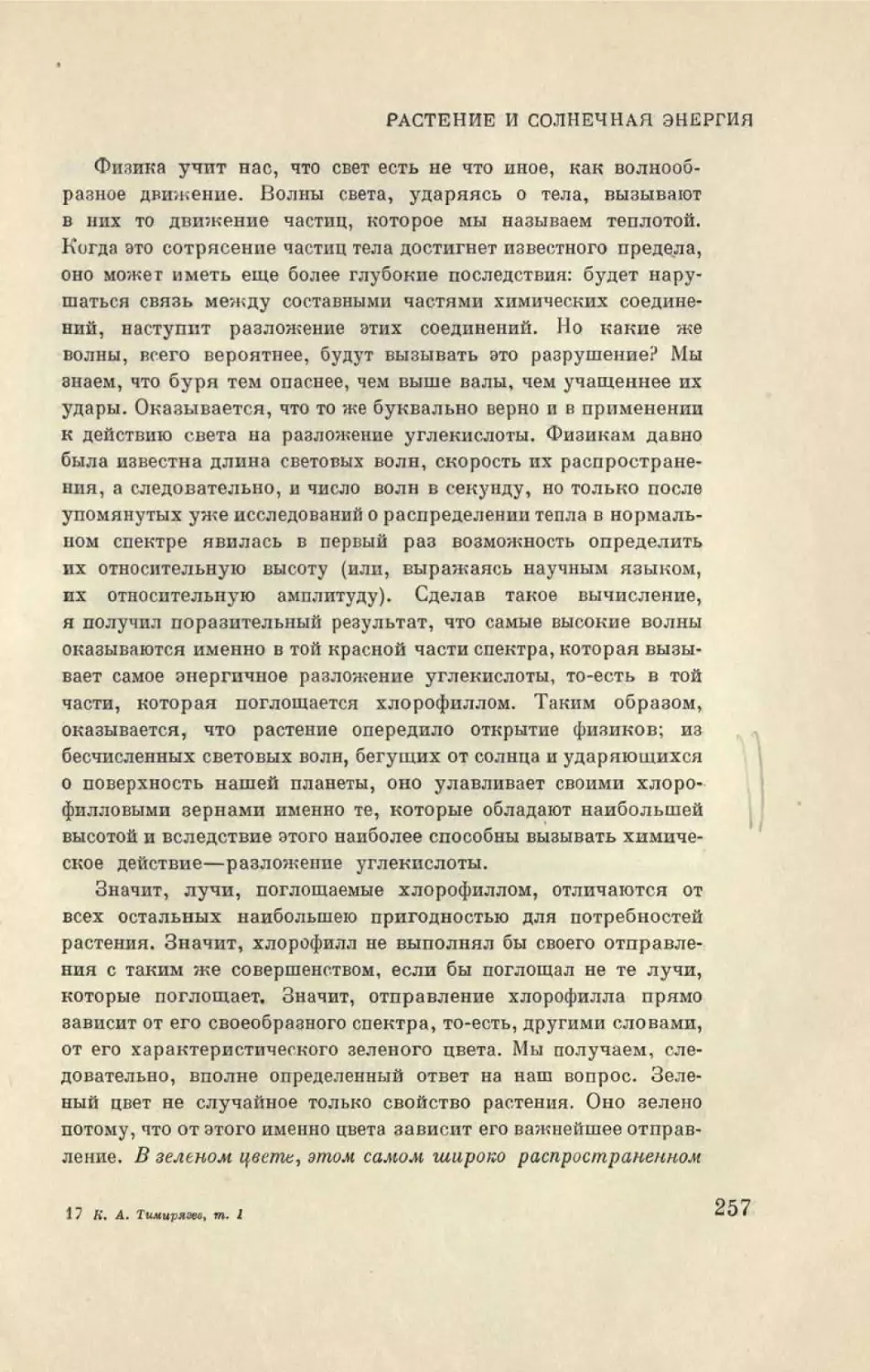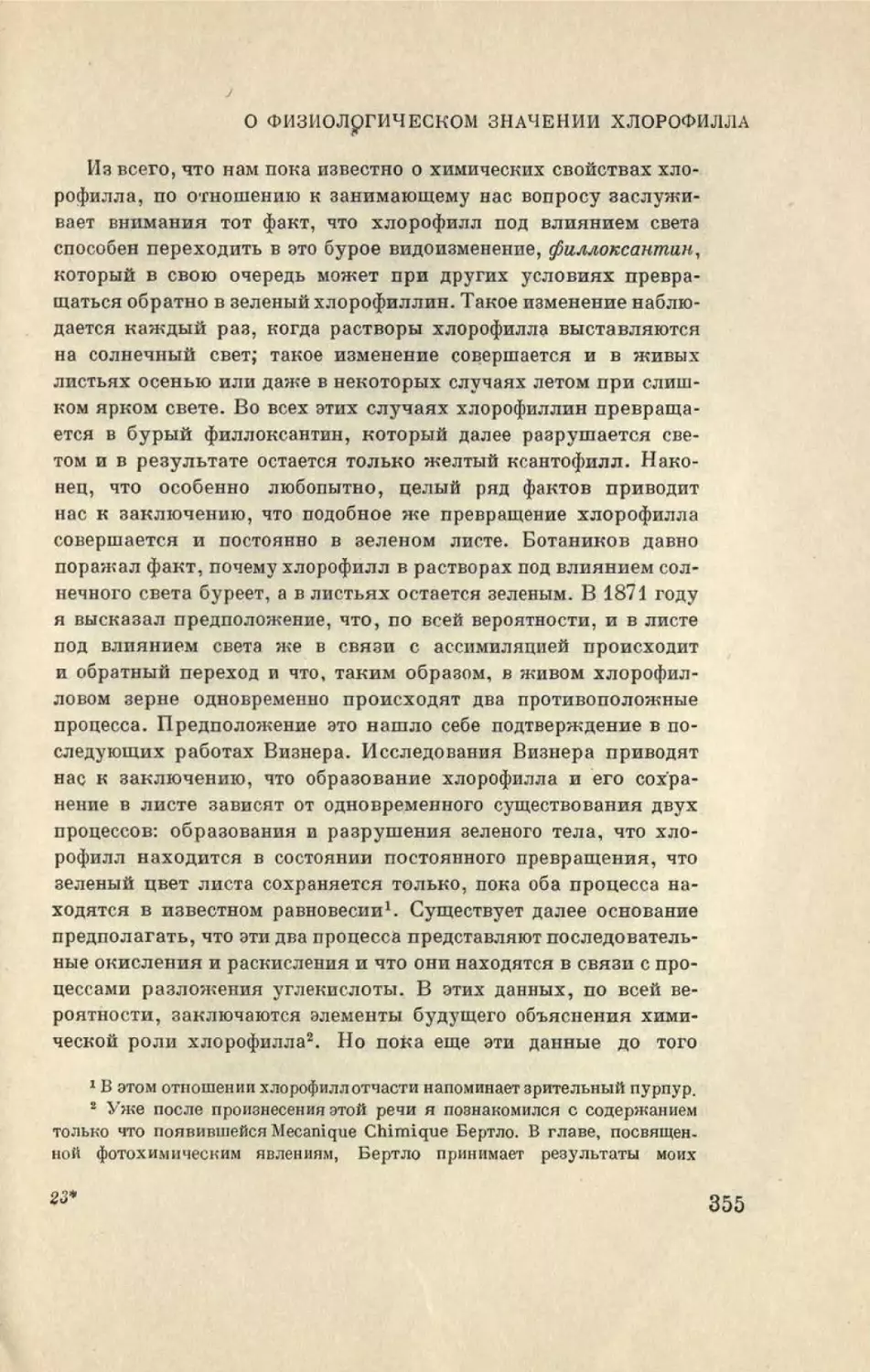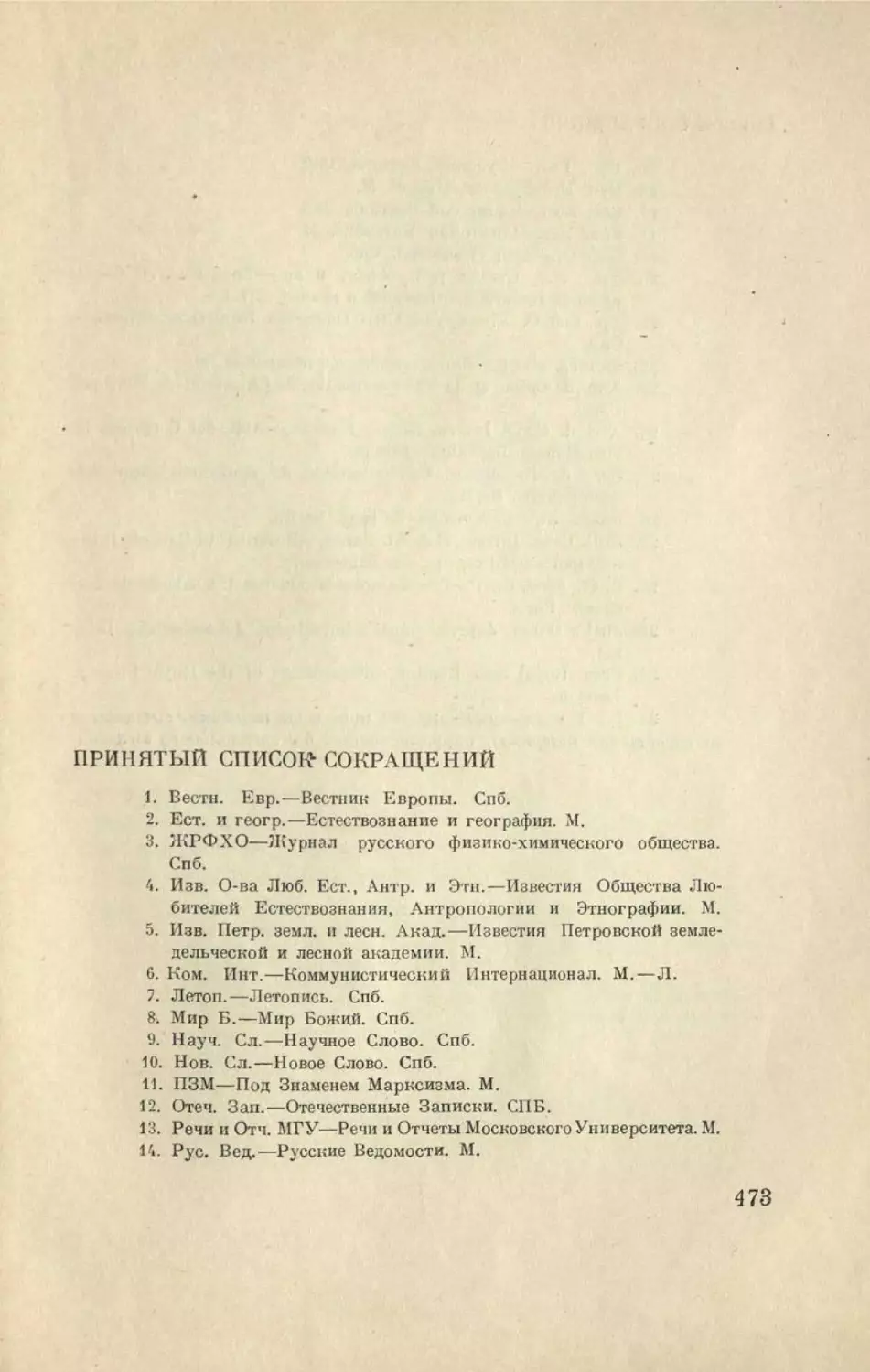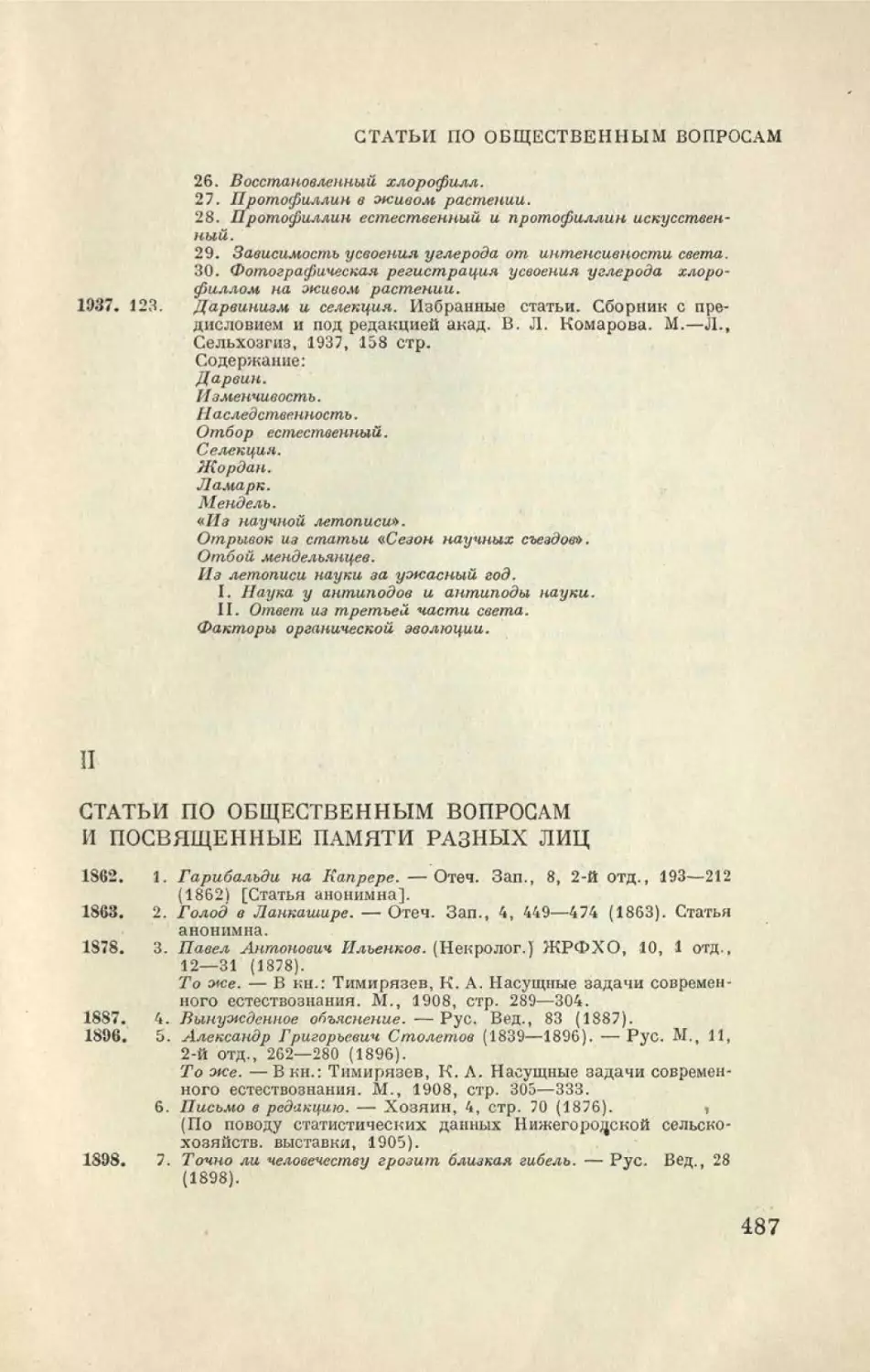Similar
Text
Ы * . ?
(Ö Н А М
J
ПЕЧАТАЕТСЯ
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
СОЮЗА ССР
От 23 октявря 1935
1 8
4
3
-
1
0
2
0
t
Г ?
КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ
Т ИМИРЯЗЕВ
СОЧИНЕНИЯ
том
Н
ОГИЗ . ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОЛХОЗНОЙ
И СОВХОЗНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
С
Е
Д
Ь
Х
О
'
З
Г
И
З
'
1
Ѳ
3
7
68
Т 41
2011096181
I.
І І Ш
' ;„ .
КЛИМЕНТ
АРКАДЬЕВИЧ
ТИМИРЯЗЕВ
в одежде доктора точных наук Кэмбридокского университета
1011
ф/
Iff /
К .
А .
Т
И
М
И
Р
Я
3
Е
В
СОЛНЦЕ, ж и з н ь
и
ХЛОРОФИЛЛ
тоЛ^ П Е Р В Ы Й
у
ПУБЛИЧНЫЕ
ЛЕКЦИИ
и РЕЧИ
СЕЛЬХОЗГИЗ
1937
ПРЕДИСЛОВИЕ
К СОБРАНИЮ. СОЧИНЕНИЙ
АКАДЕМИК
В» Л » КОМАРОВ
\
изненный подвиг Климента Аркадьевича Тимирязева
[состоит в том, что, отдав свои силы научно-исследовательской работе в области физиологии растений, он
•сделал такие открытия по усвоению растениями лучистой энергии, которые продвинули эту область науки далеко
вперед. Важнейшей чертой всей его деятельности являлось всемерное стремление сочетать теорию и практику,
провести в жизнь все свои научные достижения. Крупнейший ученый, воинствующий дарвинист, борец против
всяких видов реакции в естествознании, первоклассный популяризатор и блестящий лектор—он был подлинным революционером в науке, неукротимым оппозиционером мертвящему
режиму царизма. И это все знали. Каждое выступление
К. А. Тимирязева в собраниях ученых обществ или в печати
было своего рода событием.
Своим ясным умом и могучей интеллектуальной энергией
он освежал аудиторию, оставлял ее не только с повышенными
знаниями, но и с убеждением в том, что наступят лучшие времена. Революционизирующее влияние К. А. Тимирязева на интеллигенцию, начиная с семидесятых годов, было очень велико.
Вполне естественно, что на склоне жизни К. А. Тимирязев
всем своим существом приветствовал Великую пролетарскую
революцию, установление советской власти, и без колебаний
примкнул к большевикам. Это было естественным завершением
всей его жизни.
Приветствуя 1 Мая 1917 года после Февральской революции
впервые в легальных условиях развевавшиеся на наших площадях красные знамена пролетариата и партии большевиков,
К. А. писал:
«Если красный свет, как мы видели, есть выражение, признак работоспособности света, объясняющий его творческую
роль в создании жизни на земле, то красный цвет, выражаясь
языком звуков, это самый сильный, самый громкий свет. Не потому ли он радует наш взор, как мощный звук радует наш слух?».
И далее:
«Если верно, что наука, учение — свет, а их успехи —
просвещение, если свет признается символом подобной ему
творческой деятельности разума, то не должно ли избрать им
тот именно свет, который не символично только, а фактически
является выражением работоспособности, творческой силы света, то-есть красный. Если красный цвет является фактическим
признаком, выражением работоспособности света в творческом
процессе созидания жизни, то не следует ли признать его самой
подходящей эмблемой, выражением работоспособности света
знания, света науки?»
И еще далее:
«...цвет, избранный мировой демократией эмблемой своей
творческой силы в созидании грядущего общества, да послужит же он навсегда эмблемой единения демократий всего мира
и -символом единения между силою знания и мощью труда!»
[Л. А. Тимирязев, Красное знамя. (Притча ученого). Птг.,
1918, стр. 19—20.]
Одну из своих книг «Наука и демократия» (сборник статей
1904—1919 гг.), изданную в 1920 году нашим Государственным
издательством, Климент Аркадьевич послал В. И . Ленину,
и Ленин в письме к Тимирязеву от 27 апреля 1920 года так оценил ее:
«Большое спасибо Вам за Вашу книгу и добрые слова. Я был
прямо в восторге, читая Ваши замечания против буржуазии и за
Советскую власть»*. (В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3, том
X X I X , стр. 437, письмо 222, Партиздат, 1934 г.).
Иногда упрекали Тимирязева за то, что он в области естественно-научной работы по физиологии растений всю жизнь
отдал на выясненне преимущественно одного лишь вопроса —
о том, какие из лучей спектра наиболее деятельны в процессе
ассимиляции. Однако, вопрос этот оказался краеугольным вопросом биологии и привел автора к единственно правильной
точке зрения на процесс синтеза органического вещества.
Д а , всю жизнь боролся Тимирязев в области экспериментальной физиологии растений за выяснение одного только
научного вопроса, но выяснил он его до конца.
* Полный текст этого письма В. И. Ленина приведен в биографии
К . А. Тимирязева, написанной С. А. Новиковым для настоящего издания,
см. том I, стр. 159. Ред.
I
К. А . Т И М И Р Я З Е В И
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ
П
БИОЛОГИИ
ервая крупная работа К . А. Тимирязева «Спектральный
анализ хлорофилла» вышла в 1871 году, когда ему было
28 лет. В предисловии, которое поясняет важность разрешаемой автором задачи, К . А. говорит:
«...зерно хлорофилла—тот фокус, та точка в мировом пространстве, в которой живая сила солнечного луча, превращаясь
в химическое напряжение, слагается, накопляется для того,
чтобы впоследствии исподволь освобождаться в тех разнообразных проявлениях двюкения, которые нам представляют организмы, к а к растительные, так иживотные. Таким образом, зерно
хлорофилла—исходная точка всякого органического движения, всего того, что мы разумеем под словом жизнь».
Тимирязев вынес из своей работы убеждение, что ничтожное
количество хлорофилла способно превратить в углеводы неопределенно большие количества углекислоты и воды. «Таким образом, хлорофилл служит для передачи растительному организму
«
окиси углерода, подобно тому, как кровь служит для передачи
животному организму кислорода».
У ж е в этой работе совершенно ясно установлено, что спектр
поглощения света хлорофиллом характеризуется яркой полосой в красных лучах между (фрауенгоферовыми линиями В vi С.
В последующей своей работе «Об усвоении света растением»
(1875 г.) Тимирязев энергично выступает против утвердившегося
тогда в науке положения Дрэпера, что действие света на процесс диссоциации углекислоты пропорционально его действию на
глаз, то-есть его световому напряжению. Мнение это поддерживалось в науке, так как его подтверждали и укрепляли своими
опытами корифеи немецкой ботанической науки Сакс и Пфеффер.
Тимирязеву пришлось потратить немало усилий, создавая
совершенно новую методику исследования, основанную на
точном учете количеств поглощаемой растением углекислоты
и выделяемого им кислорода. При таком исследовании растение
должно получать точно учтенную часть лучей спектра. В конце
концов опыт Дрэпера, то-есть учет кислорода, выделяемого
растением при освещении его различными лучами спектра,
был повторен с особой точностью и показал, что наибольшей
энергией обладают как раз лучи красной части спектра.
«Нельзя не разделять энтузиазма,—пишет Тимирязев в одном из примечаний к упомянутой работе,—с которым Дрэпер
описывает свой опыт; трудно не увлечься, когда увидишь в первый раз среди совершенной темноты этот ряд сверкающих, словно горящих разноцветными огнями, трубок, а уму невольно
представляется мысль, что тут неслышно, невидимо совершается
таинственный, неразгаданный процесс, что тут завязывается
узел, соединяющий все живое на нашей планете с источником
его силы—солнцем. Едва ли во всей физиологии растений найдется другой опыт, более любопытный по содержанию, более
изящный по форме».
В этих опытах Тимирязев долго пользовался методом определения того количества углекислоты, которое оставалось неразложенным за время опыта. Позднее он стал учитывать также
образовавшийся под влиянием действия определенных лучей
спектра крахмал. После обработки иодом потемневший крахмал
давал яркую картину распределения полос поглощения света
хлорофиллом на одном и том ж е листе. Спектр поглощения оказывался автоматически отображенным листом.
г
і
17
В позднейшем капитальном труде Пфеффера (1897 г.), который долго спорил с Тимирязевым, отстаивая преимущественное действие желтых лучей перед красными, мы находим полное
признание правоты последнего, хотя в общем его работы все же
замалчиваются. Сказано только: «Тимирязеву удалось выявить
кривую ассимиляции путем образования крахмала». Об остальной замечательной по своей точности и определенности работе
Климента Аркадьевича Пфеффер сказал лишь, что с ней лучше
познакомиться в оригинале, отсылая к сжатому сообщению
Тимирязева в Botanische Zeitung за 1885 г., стр. 619.
На почве этих своих работ и развил Тимирязев с большой
силой материалистическую точку зрения о связи между явлениями, совершающимися на земле, с деятельностью солнца.
Солнечные лучи, падая на землю, поглощаются зелеными хлорофилльными зернами, обусловливающими зеленую окраску
листьев и других зеленых частей растений. Поглощенная растениями энергия солнечных лучей превращается в хлорофилльных
зернах в потенциальную энергию сложных химических соединений, вырабатываемых растением из воздуха, воды и растворенных в ней минеральных солей. Соединения эти—углеводы,
жиры и белки—составляют пищу животных и человека, а углеводы и их производные—основу горючего, как растительного,
так и ископаемого (каменный уголь, торф, нефть и пр.). В тот
момент, когда солнечный луч падает на зеленый лист, завязывается длинная цепь превращений вещества и энергии, длинная
цепь причин и следствий последующих затем на земле событий.
4
Однако, К. А. Тимирязев не остановился на признании того,
что единственным энергетическим источником нашей силы, всей
жизни на земле, является консерв солнечных лучей. Он глубоко
осознал положение, что материализм только тогда становится
истинно ценной философской системой, только тогда дает подлинное объяснение мира, когда исследование цепи причин и следствий жизни организмов проводится на основе исторического
выяснения процесса их становления и развития.
Значительная часть жизни К. А. Тимирязева связана с работой по популяризации эволюционного учения, созданного
Чарлзом Дарвином. Личное знакомство с Дарвином, переводы
его работ, общее прекрасное изложение учения Дарвина,
наконец ряд статей, посвященных Дарвину и его учению, горячая
полемика с критиками и хулителями Дарвина, которых выдвигала политическая реакция времен царизма,—всего этого вполне
достаточно для того, чтобы считать Тимирязева выдающимся
борцом за дарвинизм.
К . А. Тимирязев, вооруящнный огромными знаниями, талантливо и метко наносил жестокие удары реакционерам в науке, отстаивая учение Дарвина от всяких идеалистических и
реакционных нападок. Он выступает не только как превосходный популяризатор дарвиновского учения, но и как самостоятельный ученый с мировым именем, двигающий вперед
эволюционную теорию.
К . А. Тимирязев прекрасно понимал, что подход к разрешению задач, связанных с явлениями жизни, крайне сложен,
что одним применением законов физики и химии тут ограничиться нельзя, что в области биологии требуются свои методы
исследования.
Но как раз витализм и прочие реакционные течения науки
искали и ищут приюта именно в тех областях биологической
науки, где связь явлений жизни с основными законами физики
и химии не столь очевидна, в области тех биологических явлений, которые еще не познаны наукой.
Климент Тимирязев решительно принял вызов, брошенный
виталистами защитникам дарвиновского учения. Он обрушился
на воинствующих мракобесов всей силой своего знания, не
оставляя без резкой, уничтожающей критики ни одного скольконибудь значительного их выступления.
И если Тимирязев и делал сам в борьбе с идеализмом те или
иные ошибки философского порядка, не всегда последовательно,
с точки зрения диалектического материализма, опровергая воззрения оруженосцев реакции, то это были ошибки гиганта научной мысли, нисколько не умаляющие огромной прогрессивной
роли, которую сыграла его борьба во всем последующем развитии
естествознания. К его «ошибкам» нужно подойти исторически.
«С давних пор,—говорит К. А. в своей работе «Значение
переворота, произведенного в современном естествознании Дарвином»* (ГАИЗ «Чарлз Дарвин и его учение», 1935 г.),—устано-
о*
вилось такое представление, что в области неорганической природы можно и должно разыскивать физические причины (causae
efficientes), в области же органической природы можно и должно
довольствоваться одним указанием на причины метафизические
(causae finales)». И далее: «Установилось такое убеждение, что
исследователь может только указывать на те цели, которые
достигаются организацией, не касаясь вопроса, каким образом
осуществляется именно это соответствие между орудием и его
отправлением. Для чего служит орган—вот чем ограничивалась
задача зоолога и ботаника. Вопрос же, п о ч е м у он построен
именно так, что может успешно исполнять свое отправление,
считался лежащим за пределами этой задачи».
К . А. Тимирязев сделал чрезвычайно много для введения
в биологию точных физических методов. Уже будучи профессором, он слушал лекции по физике. Его основные научные
работы по использованию растениями света построены все на
физической аппаратуре и сопровождаются точным количественным учетом наблюдаемых явлений. Когда Тимирязев приступил
к изучению эволюционного процесса и пропаганде дарвинизма,
он стал перед совершенно новой задачей. Перед ним была
история органического мира, и он становится горячим агитатором и защитником нового метода исследования—«исторического
метода в биологии».
Ясная формулировка этой идеи, упорная ее защита в течение пятидесяти с лишним лет много сделали для науки. В СССР
труднее найти ученого, который плохо понимает Дарвина, чем
в любой другой стране. Конечно, главную роль в этом сыграл
Октябрь. Однако, немалая заслуга принадлежит К. А. Тимирязеву. Пятьдесят лет упорной его борьбы за дарвинизм привили многочисленным кадрам научных работников правильную
оценку великого учения. Заметим здесь, что логика блестящих
работ академика Лысенко подвела его к Тимирязеву и Дарвину,
как к своей идейно-научной опоре.
Сборник статей К. А. «Исторический метод в биологии»—
важнейший источник, который и теперь может сыграть немалую
роль в поступательном движении советской мысли в области
биологических наук.
Отметим еще одну заслугу К. А. После 1900 года появилось
в науке немало новых теорий, новых книг, авторы которых
думали, что Дарвин—уже пройденный этап эволюционного
учения, что они идут далее. Вспомним де-Фриза, Лотси, менделизм Бетсона и Моргана, гомологические ряды
Н. И. Вавилова. В статьях Тимирязева мы найдем немало
указаний на то, что в трудах Ч. Дарвина имеется большой
фактический материал и соответствующие суждения по всем
этим, конечно, «совершенно оригинальным» в глазах их авторов теориям.
Основной заслугой Ч. Дарвина Тимирязев считает тот коренной переворот в наших воззрениях на органическую природу,
который явился результатом всех вообще работ знаменитого
английского ученого. «Гармония», «совершенство», «польза»
старых авторов превратились в руках Дарвина в настоящие
деятельные причины и дали истинное объяснение факта целесообразности, наблюдаемой в органической природе. То, перед
чем естествоиспытатели додарвиновских времен останавливались в состоянии немого изумления, стало теперь предметом
исследования и понимания.
Д л я того чтобы быть активным дарвинистом, мало понять
и прекрасно изложить учение Дарвина. Надо еще дать отпор
тем яростным нападкам, которыми осыпали теорию Дарвина
и эволюционное ученые враги этого учения, Страхов, Данилевский и другие «ученые». В своей «критике» они исходили не из
подмеченных ими ошибок Дарвина, а из горячего желания
разрушить дарвинизм, как учение, им, по существу, ненавистное. Будучи представителями помещичьего класса, они выступали крайними реакционерами в науке, страшились всякого
движения вперед, всякого развития науки.
Конечно, Тимирязев в своих статьях «Опровергнут ли
дарвинизм» и «Бессильная злоба антидарвиниста» блестяще
показал, что дарвинизм не опровергнут, что естественный
отбор не фикция, а реальный факт и что словесная борьба
с дарвинизмом совершенно бесплодна.
Вместе с тем, Тимирязев талантливо боролся с попытками западноевропейских критиков Дарвина, а именно—Негели, Вольфа, Рейнке, Генсло, Варминга, де-Фриза—и нашего—С. И. Коржинского-—представить дарвинизм как уже пройденный этап.
Теория Дарвина и через 50 лет и по богатству идей, и
по совершенству аргументации, и по своему фактическому
содержанию никем не превзойдена, попрежнему у Дарвина
надо учиться и учиться.
В вопросах философии сам К. А. считал себя долгое время
последователем позитивизма, выдвинутого французским философом и социологом Огюстом Контом. «Курс позитивной философии», главное сочинение последнего, печатался с 1830 по
1842 год и содержит в себе общие начала математики, астрономии, физики, химии, физиологии и социологии. В вопросах
биологии Конт высказывает некоторые мысли, сближающие его
с Дарвином. Хотя Конт и пытался основывать свою философию
на точном знании, он не только не порывал с общими установками буржуазной науки и философии, но в основных философских вопросах стоял на позициях агностицизма. Как указывал Ленин, Конт колебался между материализмом и идеализмом. В конце своей жизни Конт пришел к основанию новой
религии, посвященной культу человечества.
Несмотря на то, что К. А. Тимирязев сам считал себя последователем Конта, однако, безоговорочным контистом мы его
называть не можем. Его философские взгляды в целом насаждали в русском «обществе» уважение к точному знанию, уважение к материализму.. К . А. Тимирязев по своим воззрениям в целом является блестящим воинствующим материалистом. От происхождения человека по Дарвину не так уже
трудно перейти к взглядам на происхождение человека, на развитие человеческого общества по Марксу и Энгельсу. Тимирязев этот шаг к концу своей жизни и сделал.
Не оставил без внимания К. А. Тимирязев и тех обвинений
в безнравственности, которыми осыпали Дарвина его буржуазные критики. Они утверждали, что признание борьбы за существование и отбора факторами прогресса поощряет крайний индивидуализм, разнуздывает грубую силу, ведет к тому, чтобы признавать допустимым все средства борьбы, лишь бы добиться победы.
Все нападки на безнравственность и антисоциальность теории Дарвина Тимирязев квалифицирует, как сознательную клевету. Он вскрывает, в чьих интересах утверждать, что «Дарвин
проповедует идеалы людоеда, что он ответственен, например,
в пробуждении современного милитаризма и других проявлениях силы над правом».
«Отчасти не по разуму усердные сторонники, но еще более
недобросовестные или невежественные противники идеи Дарвина,—говорит Тимирязев,—спешили навязать ему мысль,
будто бы борьба за существование, понимаемая в самой грубой,
животной форме, должна быть признана руководящим законом
и должна управлять судьбами человечества, совершенно устраняя сознательное воздействие, сознательный рефлекс самого
человечества на его дальнейшие судьбы. Но понятно, что ничего
подобного он не мог высказать».
В общем статьи Тимирязева, в которых он касается вопроса
об эволюции и этике, хотя и не могут быть названы марксистскими, близко подводят читателя к мысли, что явления общественной жизни, поскольку они проявляются в национальной
вражде, в войнах, должны исчезнуть с перестройкой мирового
хозяйства на совершенно иных началах. Тимирязев давал решительный отпор так называемому «социальному дарвинизму». При
этом важно отметить, что вопросы морали и этики Тимирязев
ставил в связи с необходимостью преобразования общества.
Борьба за социализм для современного человечества является
единственным выходом из того тупика, в который загоняет
человечество эксплоататорский капиталистический строй.
Остановимся еще на той борьбе с витализмом, которую К. А.
вел с таким успехом в продолжение всей своей деятельности.
В 1894 году он дал энергичный отпор вспышке витализма, когда
почти одновременно в Базеле проф. Бунге, в Томске проф.
Коржинский и в Петербурге проф. Бородин выступили с провозглашением витализма.
«Старушка жизненная сила,—сказал Бородин,—которую мы
с таким триумфом хоронили, над которой всячески глумились,
только притворилась мертвою и теперь решается предъявить
какие-то права на жизнь, собираясь воспрянуть в обновленном виде...» И далее: «Наш же догорающий X I X век осекся,—
осекся на вопросе о происхождении жизни».
Тимирязев был возмущен выступлением Бородина и его единомышленников. «Чему же радоваться, если наука осеклась? Да она
никогда и не осекалась, а продолжает изучать явления жизни,
применяя к ним методы, разработанные физикой и химией».
«Торжество витализма,—говорит К. А. в своей замечательной статье «Витализм и наука»,*—заключается только в неуда-
чах науки, торжество противоположного воззрения—в ее успехах». И ниже: «...единственный верный путь, с которого открываются все новые горизонты знания,—это вековой путь, в начале и конце которого нам светят гении Лавуазье и Гельмгольтца».
Прекрасную отповедь дал Тимирязев также проф. Дришу
и другим немецким неовиталистам. Не оставил он без ответа
и выступление известного английского физика О. Лоджа.
В 1913 году на заседании Британской ассоциации наук Лодж
произнес очередную президентскую речь. Речь эта начинается
с призыва к скептицизму и сообщения, что даже постоянство
материи и существование мирового эфира наукой уже выброшены
за борт. Оставшись сиротой после пересмотра основных физических понятий, наука оказывается приуроченной к весьма
ограниченной области и становится невозможной без веры.
Далее Лодж откровенно признает законность мистицизма и веру
в чудеса. Яркий антиматериалистический характер речи Лоджа
бросается в глаза.
Отвечая Лоджу (см. журнал «Вестник Европы», февраль
1914 г.), Тимирязев в статье «Погоня за чудом, как умственный
атавизм у людей науки»* определяет его как адепта «спиритизма и других аберраций человеческого ума». Тимирязев и на
этот раз отстаивает историческое объяснение явлений ЖИЗНИ
как единственный метод, ведущий к полезным для человека
открытиям, рассуждения же о добре, красоте и истине, упирающиеся в религиозные верования, отметает как словесные упражнения, не приносящие никакой пользы и ничего не выясняющие.
«Кому нужно это смешение науки с „оккультизмом", как
не тем, кому необходим, подъем всего темного, возврат ко всем
диким суевериям средневековья». (Там же).
Говорят, что и на солнце есть пятна. Были они и в научнофилософской работе К. А. Тимирязева. Таково его излишнее
преклонение перед философией О. Конта. Исторический метод
К. А. Тимирязева был близок к путям диалектического материализма, но все же не всегда защищал его от соблазна
упрощать рассматриваемые факты и впадать в механистический
материализм.
Так, например, в седьмой главе книги «Жизнь растения» мы
находим упрощенное объяснение геотропизма одними лишь механическими причинами, а в шестой—также упрощенное объяснение движения соков в растениях путем преувеличенного значения, которое приписывается диффузии, в ущерб даже осмозу.
В одном из последних произведений Тимирязева «Исторический метод в биологии» десятая глава носит название «Историческая биология и экономический материализм в истории».
Для нас всех понятно, что экономический материализм в истории
есть ограниченная точка зрения, далеко отстоящая от точки
зрения материалистического понимания истории, разработанного Марксом и его великим другом Энгельсом.
«Учение о борьбе за существование,—писал Тимирязев
в этой главе,—останавливается на пороге культурной истории.
Вся разумная деятельность человека—одна борьба—с борьбой
за существование».
«Не забудем, что в борьбе на умственной почве человек обладает могучим орудием, которого не имеет животное. Животное
может уничтожить врага—и только... При обсуждении роли отбора в деятельности человека в его настоящем, в фазе его развития
еще важнее и следующее соображение. Здесь он является в двоякой роли: как объект изменяющийся и как условие изменяющее,
как живая среда (и здесь Дарвин, Милль и Маркс сходятся)».
И наконец:
«Мост между биологией и социологией в форме применения
исторического метода строится одновременно с обоих концов
Дарвином и Марксом, как это превосходно выразил Энгельс
в речи над могилой своего друга».
В этих положениях Климента Аркадьевича мы видим и сильные и слабые стороны его воззрений при подходе к общественной жизни. Он понимает, на какую высоту поднимает марксизм
науку об обществе; Маркс в области социологии — такая вершина, по сравнению с которой все другие так называемые социологи кажутся просто карликами. Особенно его захватывает
«исторический метод» Маркса в применении к обществу. Вместе
с тем у К. А. еще много неясностей, непреодоленных воззрений,
заимствованных у Конта и других социологов.
«Но, признавая приспособление организма к условиям
существования, мы тем самым,—говорит Тимирязев в своей
работе «Исторический метод в биологии»*,—признаем, что
особенности организма приносят ему пользу, а польза—принцип в основе своей экономический, почему Геккель и был прав,
предложив для всей этой области биологии, создавшейся благодаря Дарвину, новое название—экологии».
«Происхождение видов» Ч . Дарвина появилось в 1859 г., но
в этом же 1859 г. появилась одна из основных работ К. Маркса
«Zur Kritik der politischen Oekonomie», в предисловии к которой
так блестяще изложены принципы исторического материализма...
«Не является ли это,—пишет Тимирязев,—новым аргументом
в пользу примата экономического материализма перед воздвигающимися на его основе идеологическими надстройками, раз он
оказывается продолжением начала, являющегося руководящим
уже в мире бессознательном (в мире животных и растений)?»
(«Исторический метод в биологии», 1922, стр. 149).
Таким образом, мы видим, что К. А. Тимирязев не только
отождествляет материалистическое понимание истории с экономическим материализмом, но хочет провести единую непрерывную нить от солнечного луча, изучение свойств которого
лежит в основе всей его работы, к зеленому растению, к земледелию, к питанию человека, к истории растений и животных на
земле и, наконец, к экономике и истории социальной жизни
человека.
При всем положительном значении стремления К. А. связать все процессы развития природы и общества в едином, стройном мировоззрении—он не видел ясно всей тон качественной
разницы, которая отличает жизнь человеческого общества от
явлений как органической, так и неорганической природы.
Тимирязев не принадлежал к числу тех философов, которые
только созерцают и описывают мир, не пытаясь его изменить.
С энтузиазмом, со страстью стремился он к изменению материального мира путем рационализации земледелия и к изменению
мира социального. Потому с радостью приветствовал он Великую пролетарскую революцию и приход Советов к власти.
Тимирязева должно рассматривать не только как физиолога
растений, но и как философа, боровшегося за материалистическое понимание мира.
II
К. А . Т И М И Р Я З Е В
И
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Н
аука должна питать своими достижениями производство,
должна двигать его вперед. Имели ли блестящие исследования К. А. о хлорофилле, об усвоении организмом энергии
солнечных лучей и пр. выход в производство; имели ли они практическое влияние на развитие земледелия? Да, конечно, имели.
ß статье «Основные задачи физиологии растений»*, вошедшей в Тимирязевский сборник «Насущные задачи современного
естествознания», Тимирязев говорит:
«Физиолог не может довольствоваться пассивной ролью
наблюдателя — как экспериментатор, он является деятелем,
управляющим природой».
Речь Климента Аркадьевича «Полвека опытных станций»**,
читанная им на годичном заседании Политехнического музея
* См. том V настоящего и з д а н и я . Ред.
** В о ш л а в книгу К. А. Т и м и р я з е в а «Земледелие и физиология растений»; см. том III настоящего издания. Ред.
в 1885 году, явилась горячей пропагандой основания сети опытных станций, на которых
«...и преподаватель сельского хозяйства, и химик-агроном,
и ботаник-физиолог найдут возможность доставлять всем интересующимся наглядное понятие о том, что может сделать наука
для земледелия...» Если Политехнический музей найдет возможным «создать отдел прикладной ботаники,—говорил далее
Тимирязев, — то все внимание должно быть сосредоточено
на приложении ее к земледелию, то-естъ на физиологии
растений)).
В блестящей книге К. А. «Жизнь растения»* мы находим мастерское изложение корневого или минерального питания растений на основе опытов с водными или песчаными культурами
в вегетационных сосудах, причем излагается основная методика
работы опытных станций, методика, приобревшая позднее решающее значение в агрономической науке.
О вегетационных опытах мы читаем и в сборнике «Земледелие и физиология растений». В 1896 году К. А. показывал эти
опыты тысячам посетителей в теплице для искусственных культур на Нижегородской выставке. Он изучал при этом как минеральное питание растений, так и питание их азотом.
Пропаганда опытных станций, пропаганда словом и делом,
так как она сопровождалась организацией нескольких показательных станций, работой которых К. А. руководил лично,
принесла прямую пользу. Под напором этой неустанной пропаганды опытного дела ведомство земледелия в дальнейшем
основало сеть опытных станций, руководствуясь материалами
и указаниями Тимирязева. Работы Кассовича, Гедройца, Тулайкова и многих других талантливых исследователей вошли
и в науку и в практику земледелия, и переворот, который они
произвели в учении об удобрениях, именно на практике-то
и показал себя. Нельзя не жалеть, что на заре нашей эпохи
смерть сковала замечательный ум и пламенную энергию
Климента Тимирязева, что Тимирязев не работает с нами!
В условиях капитализма он не смог по-настоящему осуществить единство теории и практики. Прогрессивные предложения великого ученого встречали препятствия в лице помещика,
капиталиста и их идеологов.
Но уже одним только продвижением опытного дела в отсталое сельское хозяйство России К. А. Тимирязев, несомненно, вошел в число тех, о которых он сам словами Свифта сказал:
«Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде рос
один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы благодарность всего человечества...»
По усвоению азота Тимирязев проработал классические
опыты Буссенго над неусвояемостью атмосферного азота, подтвердил их и, в противоположность утверждению Либиха, поставил ребром вопрос об азотосодержащих удобрениях. Проверка опытов Гельригеля выдвинула роль бобовых в плодосмене. И сейчас академик Д. Н. Прянишников продолжает эту
работу, выясняет значение клевера в севообороте и подсчитывает
количество азота, вносимого клевером в почву. Так как Тимирязеву было ясно, что и бобовые растения, ч навоз, и имеющиеся
минеральные удобрения, все вместе все-таки не покроют всей
потребности наших хлебных полей в азоте, то он проработал
и вопрос о получении селитры и аммиака из воздуха, намечая
прямое превращение азота атмосферы в селитру при помощи
электричества.
Как убежденный дарвинист Тимирязев не ограничивал помощь науки земледелию только физиологией, только выращиванием растения. Он не упустил и другой стороны вопроса,
именно—выращивания новых форм.
Сначала Тимирязев искал пути к созданию новых форм
растений в так называемой экспериментальной морфологии.
По поводу перевода книги Г. Клебса «Произвольное изменение
растительных форм»(Москва, 1905) он пишет, что Клебсу удается
и по отношению к органам размножения высших растений
«лепить органические формы». В примечаниях к переводу этой
книги К. А. дает массу ценнейших высказываний; так на стр. 57
он говорит:
«Удивительно, как современные биологи не могут усвоить
основной мысли, что форма дается физическими и органическими
условиями образования, орган же, т. е. приспособленная форма.
есть результат исторического фактора—отбора».
Таким образом, при всей склонности К. А. Тимирязева как
физиолога ограничиваться экспериментом, выясняющим ныне
действующие причины явлений, факты постоянно наталкивали
его на «исторический метод в биологии», практически выражающийся в селекции новых сортов.
Интереснейшие мысли по вопросу о значении исторического
метода в применении к культуре растений и ко всему комплексу
сельского хозяйства даны К . А. Тимирязевым в его изложении
английской книги американца А. Гарвуда «Обновленная земля.
Сказание о победах современного земледелия в Америке».*
«Обновленная земля» в пересказе К. А. представляла для
гениального ума В. И. Ленина интерес уже потому, что на
основе изучения передовой тогда американской техники земледелия приподнималась завеса, скрывающая перспективы внедрения науки и техники в сельскохозяйственное производство.
Прошло немного лет, и наше социалистическое сельское
хозяйство, выросшее и окрепшее под мудрым руководством
великого Сталина, стало самым крупным, самым совершенным
по организации и техническому оснащению в мире.
Широко, как нигде, развернулась у нас научная работа,
все ярче и ярче ощущаем мы плоды единства науки и практики,
вылившегося в мощную волну стахановского движения.
В СССР «Академия сельскохозяйственных наук им. В. И.
Ленина», организованная по идее Ленина, этого гиганта человеческой мысли, стала научным центром мирового значения.
Работы советских ученых по удобрениям, яо селекции и пр.
развернуты с небывалой нигде интенсивностью. Наша государственная мощь, великие победы социалистической индустрии и
социалистического земледелия, нерушимое единение науки и
труда — все это подготовило нас к выполнению задачи — довести урожай до 7—8 миллиардов пудов ежегодно в ближайшем будущем и до значительно большей цифры в дальнейшем.
И если мы теперь, прочно стоя на уже завоеванных позициях,
бросим взгляд на историю борьбы за внедрение науки в земледелие, то среди тех, кто своими знаниями, своей неустанной
работой помогал в этом отношении, мы, несомненно, обязаны
назвать и Климента Тимирязева.
Напомним еще, что К. А. Тимирязев обратил наше внимание
и на работы Лютера Бербанка, творца новых растительных
форм в области плодоводства, огородничества и цветоводства.
В книге «Обновленная земля» ему посвящена восьмая глава; отдельным изданием вышла также небольшая книжка, озаглавленная «Рабочий— „чудотворец"», знакомящая не только с замечательной жизнью американского энтузиаста, но и дающая яркую
картину того, как селекция и гибридизация могут изменять
природу р"астения и малоценные, малоурожайные или ничем
не замечательные породы превращать в растения исключительных достоинств.
Просматривая листы, посвященные К. А. изложению работы
и жизни Бербанка, невольно чувствуешь досаду на то, что действительность не столкнула Тимирязева с нашим великим преобразователем природы покойным теперь Иваном Владимировичем Мичуриным. Какие замечательные последствия могли бы ^
быть от этой встречи могучих умов!
В 1893 году Тимирязев выпустил работу «Борьба растений
с засухой»*. Появление этой работы явилось откликом
ученого на тот ужасный неурожай, который постиг Поволжье
летом 1891 г. Дав анализ тех приспособлений, которые помогают
растению выносить засуху, делая его засухоустойчивым, К. А.
выдвигает положение:
«Человек должен подражать растению в подчинении себе у
враждебных сил природы...»
Это «подражание» Тимирязев раскрывает как активную роль
человека в преобразовании природы. В этой же работе, в главе
«Выводы для сельскохозяйственной практики», он пишет:
«Переходим теперь к рассмотрению мер, в которых человек
выступает активным деятелем, не приспособляясь к данным
климатическим условиям, не подчиняясь, а подчиняя себе
природу».
Подчинение природы, по Тимирязеву, основано на детальном ее изучении:
«Растение страдает от иссушающих ветров и солнечного
зноя и эти самые враждебные силы оно заставляет ограничивать
свой расход и обеспечивать приход воды. Почему не мог бы
сделать того же человек?»
* Первое издание, с предисловием автора, публичной лекции, чит а н н о й К . А. в Москве в марте 1892 г. См. том 111 н а с т о я щ е г о издания.
Ред.
И далее:
«Известна остроумная попытка Мушо устроить насосы,
действующие солнечным нагреванием, — насосы, словно сознательные существа, подающие тем больше воды, чем сильнее
засуха».
И наша сеть орошения в районах поливных культур должна
в конце концов достигнуть такого совершенства, чтобы автоматически регулировать количество воды, подаваемой растениям.
Опытные станции, за организацию которых так упорно боролся К. А. Тимирязев, стали ныне одним из тех каналов, через
которые наука внедряется в земледелие. Одесса, Саратов, Безенчук, Краснодар, Мичуринск и др. стали не только центрами изучения агрономических мероприятий, но и центрами внедрения
их в земледелие.
От больших, богато оборудованных станций протянулась
сеть менее мощных опорных пунктов. На наших глазах, в ничтожный по времени срок, были созданы многочисленные хатылаборатории, эти первичные ячейки, где сам колхозник
проверяет и улучшает свои агротехнические приемы, где производство опытов входит в самое производство и где создаются
условия для стирания грани между трудом умственным и трудом физическим. На место вековой традиции стал ныне опыт,
обеспечивая непрерывное движение вперед.
Созданные Великой пролетарской революцией социальные
отношения впервые сделали возможной широкую популяризацию прикладного знания среди всей массы трудящихся, занятых
земледелием.
Если бы К. А. дожил до основания сети хат-лабораторий,
какое живое участие принял бы он в работе по организации
этого могучего орудия агрономической науки!
N I
К. А . Т И М И Р Я З Е В К А К У Ч Е Н Ы Й
И КАК ПОПУЛЯРИЗАТОР
К
НАУКИ
лимент Аркадьевич Тимирязев родился в 1843 году. Значит, его юношеское развитие, формирование его общественно-политических взглядов происходило в 1857—1865 годы,
то есть совпадало с периодом перехода от феодального хозяйства
к капиталистическому, который в литературе X I X века часто
обозначался как эпоха освобождения крестьян или даже как
«эпоха великих реформ». Это были годы, когда оживление демократического движения в Европе нашло свое отражение и среди
передовых представителей русской интеллигенции, когда возникли многочисленные революционные кружки, главным образом среди студенчества, когда в удушливой атмосфере русского
царизма зазвучали смелые голоса Чернышевского и его соратников. Царское правительство ответило на пропаганду революционных идей жестоким натиском реакции.
% К. А Тимирязев ^т. 1
Эта общественная борьба оставила на всем умственном складе
К. А. Тимирязева неизгладимый след. И он, посвятив себя научно-исследовательской работе по физиологии растений, хотя
и «не ходил в народ», не печатал прокламаций и даже не учительствовал в крестьянской начальной школе, как Л. Н. Толстой,
все же всегда был в оппозиции к деспотическому строю. Досамой Великой пролетарской революции он смело выступал против темных сил реакции, возглавлявшихся правительственной кликой и церковью и упорно боролся за социальную
справедливость.
Он действовал словом и примером и на свою многочисленную студенческую аудиторию в Петровской сельскохозяйственной академии, ш в университете, и на слушателей аудитории
Политехнического музея, и на профессоров университета и
академии; действовал на многочисленных читателей его книг
и брошюр. Студенчество России хорошо знало, что в Москвеесть такой профессор Тимирязев, которого никакой царизм
не может ни подкупить, ни запугать, он все равно будет
стоять за истину, будет открыто говорить то, что думает. А думает он от науки, высказывая то, что является несомненной
истиной. В этом была великая моральная сила Климента Тимирязева.
Сам Тимирязев ничему, кажется, не придавал такого значения, как популяризации знаний. Его превосходные книги
«Жизнь растения», «Чарлз Дарвин и его учение» и др. с момента
их появления в свет и до наших дней—одни из основных в библиотечке начинающего ученого. Они важны тем, что не только
сообщают знание, но и учат думать, учат понимать и работать.
В предисловии к седьмому изданию «Жизнь растения»
К. А. сам говорит о значении популяризации знаний следующее:
«Не каждый читающий эту книгу будет ботаником, но каждый, надеюсь, извлечет из этого чтения верное понятие о том,
как наука относится к своим задачам, как добывает она свои
новые и прочные истины, а навык к строгому мышлению, приобретенный подобным чтением, он будет распространять и на
обсуждение тех более сложных фактов, которые—хочет ли он
того или нет—ему предъявит жизнь.
А в этом и заключается главная задача самообразования,
широкое распространение которого составляет одну из насущных современных потребностей»*.
Отметим и то, как К . А. любил свою аудиторию, как высоко
ее расценивал. Публичные лекции он читал чаще всего в зале
Политехнического музея, и вот об этих своих слушателях он
и оставил следующие волнующие строки:
«Не знаю, многим ли из вас случалось бывать в этой зале
в воскресенье утром (см. «Общественные задачи ученых обществ», 1884, в настоящем издании том У.Ред.), нояпозволю себе
утверждать, что ни в Лондонском Кенсингтоне, ни в Парижской
Conservatoire не встречал я картины более утешительной. Вы
встретите здесь толпу, самую пеструю, какую, по старой привычке, могли бы себе представить где угодно, но уже никак не
в аудитории. А между тем это факт, эта толпа в аудитории, она
составляет аудиторию, внимательно, жадно ловящую слова не
сказки, не потешного рассказа, а ставшего доступным ее пониманию научного вопроса».
Из дальнейшего видно, что К. А. Тимирязев смотрел на свои
лекции в Политехническом музее как на борьбу с общественным неравенством. Он мечтал о том, чтобы стереть грань между
трудом физическим и трудом умственным.
Тимирязев мечтал о том времени, когда «наука и искусство
и техника станут общим достоянием».
Не
К а к лектор, К. А. отличался необыкновенно ясным и четки.м
изложением даже самых сложных научных вопросов. Он часто
сопровождал лекции прекрасно подготовленными и потому
всегда удававшимися опытами. Поэтому слушатели всегда много
получали от его лекций. Они чувствовали, что профессор относится к ним с уважением и вниманием, а это всегда роднит
и сближает аудиторию и профессора.
Тимирязев часто выбирал темой для своих выступлений
последние крупные научные открытия, как, например, в лекциях об усвоении растениями газообразного азота. Уже это
* Предисловие к 7 изданию « Ж и з н ь растения» было написано К. А.
в 1907 г о д у , а само издание вышло в 1908 году (М., изд. М. и С. Сабашниковых).
Ред.
з
35
одно могло увлекать слушателей, как увлекали их и опыты.
Мне самому приходилось слушать восторженные отзывы об
одном из этих опытов:
«Вы подумайте только, когда растение голодно, оно само
звонит, чтобы его накормили».
Так отразился в уме слушателей один из остроумных опытов
Тимирязева, подробное описание которого дано в главе «Рост»
в книге К. А. «Жизнь растения».
«Если бы за несколько минут (К. А. Тимирязев, Жизнь
растения , «Сельхозгиз», 1936 г., стр. 222) я предложил вам
вопрос: можно ли заставить растение каждый раз, когда оно
проголодается, мало того, каждый раз, когда ему только грозит голод, предупреждать нас о том звоном колокольчика,
то вы, конечно, сочли бы это за неуместную шутку. А между
тем таково буквальное значение нашего прибора».
Конечно, такие опыты и запоминаются и заставляют думать.
Но одного только спокойного изложения науки еще мало для
того, чтобы профессорские лекции могли превратиться в событие
общественного значения. К. А. Тимирязев внедрял в науку и в сознание учащейся молодежи экспериментальный и исторический
методы, пропагандировал дарвинизм. Но если бы он только ограничивался изложением исторического метода, он бы не стал для
нас тем, чем является на деле. Для этого нужно было еще
уметь от защиты переходить к нападению, нужно было уметь
найти врага, беспощадной критикой разгромить его позиции.
Мы уже видели, что Тимирязев энергично и талантливо бил
по витализму. Он старался показать весь вред этого направления
и внушить своим слушателям лютую ненависть ко всем его проявлениям в науке. На пути внедрения в науку исторического метода стали антидарвинисты, и Тимирязев так основательно занялся ими, что, когда много позднее в Западной Европе и в Америке поднялась волна антидарвинизма в буржуазной науке,
у нас никто открыто не посмел к ней присоединиться. Так, когда
наш выдающийся зоолог и географ Л. С. Берг выступил со евоим
«Номогенезом», думая шагнуть дальше Дарвина, то его никто не
поддержал. Тимирязев, тимирязевское наследство прочно вошло
в нашу сокровищницу науки. Труды великого ученого в огромной мере помогли нам правильно оценить учение Дарвина. «Наши
антидарвинисты» были разбиты при самом их появлении.
Лекторский талант Тимирязева заключался в том, что он
заставлял слушателей проникаться его идеями и вместе с ними
итти в поход на врагов материализма.
К . А. Тимирязев принадлежит к так называемым «вечным
спутникам». Его читают и перечитывают. Книги его и через
50 лет полны остроты и научного интереса. Пишущий эти строки
впервые читал «Жизнь растения», еще напечатанную в журнале
«Русский вестник», будучи учеником средней школы; читал ее
вторично, уже более сознательно, будучи студентом, перечитывал не один раз, будучи молодым профессором, да и теперь не
прочь заглянуть в эту прекрасную и по форме и по содержанию
книгу. Когда в Ленинградский университет перешел из Москвы
будущий академик С. Г. Навашин, то он казался молодым ленинградским ботаникам необыкновенно счастливым человеком.
«Подумайте только, ведь он работал с самим Тимирязевым».
Популяризатор знания, К. А. Тимирязев не только учил,
но и социально воспитывал своих слушателей.
Студенты тепло относились к Тимирязеву. В. Г. Короленко
так писал о событиях в Петровской академии в 1876 году,
когда во время ревизии «князя Ливена» передовые студентыделегаты были отведены в особую комнату, к дверям которой
был приставлен караул.
«Вскоре,—говорит он („История моего современника", книга
вторая, изд. 1935 г., стр. 201),—у наших запертых дверей послышался взволнованный голос профессора Климента Аркадьевича Тимирязева: «Вы не смеете не пропустить меня: я профессор и иду к своим студентам...» Дверь раскрылась, и Тимирязев
быстро вошел к нам. Торопливо пожимая нам руки, он заговорил
сразу: «Знаете, господа, я не могу согласиться в вашем заявлении со многим...» Высокий худощавый блондин с прекрасными
большими глазами, еще молодой, подвижный и нервный, он
был как-то по-своему изящен во всем. Свои опыты над хлорофиллом, доставившие ему европейскую известность, он даже
с внешней стороны обставлял с художественным вкусом».
И далее:
«У Тимирязева были особенные симпатические нити, соединявшие его со студентами, хотя очень часто разговоры его вне
лекций переходили в споры по предметам «вне специальности».
Мы чувствовали, что вопросы, занимавшие нас, интересуют
и его. Кроме того, в его нервной речи слышалась искренняя,
горячая вера. Она относилась к науке и культуре, которые
он отстаивал от охватывавшей нас волны «опростительства»,
и в этой вере было много возвышенной искренности. Молодежь
это ценила».
Студенты, слушатели публичных лекций Тимирязева,
воспитанные им научные работники и друзья ученые видели
в Клименте Аркадьевиче не только человека, двигающего
науку вперед, не только блестящего популяризатора, но
и силу, смело противостоящую всяким проявлениям социальной неправды.
I У
К. А. ТИМИРЯЗЕВ
НАУКА — У Ч Е Н Ы Е
«ЕСТЬ КТО-ТО, КТО ВЫШЕ У Ч Е Н Ы Х ,
ДАЖЕ Г Е Н И А Л Ь Н Ы Х , — Э Т О
САМА
НАУКА В Е Е
ПОСТУПАТЕЛЬНОМ,
ЭВОЛЮЦИОННОМ Д В И Ж Е Н И И »
К. А. ТИМИРЯЗЕВ
«Значение науки
СЛуи Пастер)»*
К
лимент Аркадьевич правильно понимал и оценивал роль
коллектива научных работников в поступательном движении науки; он считал, что только вся масса их совокупных усилий может осилить задачи, стоящие перед наукой.
Четко рисовал он и значение в прогрессе человеческой мысли
выдающихся ученых, своими гениальными открытиями ускоряющих победное шествие науки.
Для Тимирязева Ч а р л з Дарвин не один из многих, а нечто исключительное. G большим преклонением относится он
и к Пастеру, и когда читаешь то, что Тимирязев написал про
Дарвина и Пастера, то ясно представляешь себе, что эти люди
д а л и науке громадный толчок именно своей индивидуальностью.
Тимирязев много читал и глубоко продумывал прочитанное;
для него лицо того или другого исследователя было совершенно
ясным и определенным. Он оставил нам яркие характеристики
Ч. Дарвина, JI. Пастера, Ж . Б . Буссенго, М. Бертло, П. А.Ильенкова, А. Г. Столетова и др., по которым нам легко составить
себе представление о том, как понимал К. А. роль науки по
отношению к эволюции человечества и роль ученых по отношению к эволюции науки.
В очерке, посвященном П. А. Ильенкову*, Тимирязев дает
следующие ценные обобщения. Ученый, в лице П. А. Ильенкова, горит энтузиазмом, он проводит бессонные ночи, не выходя сутками из лаборатории, пока не решит стоящей перед
ним задачи. В заработке П. А. Ильенков ищет только о д н о возможность обеспечить свою нравственную независимость.
Служа на заводе, он остается таким же борцом с природой,
каким был в лаборатории, видя в производстве тот же опыт,
только в больших размерах. Обязанности профессора он видит
в том, чтобы «научить слушателей работать, снабдить их всеми
необходимыми знаниями, развязать им руки, так, чтобы, когда
понадобится, они сумели взяться за любое исследование». Он
считает, что для студентов необходимо систематическое изучение как теоретической, так и практической стороны науки,
понимая под практикой уменье самостоятельно работать. Профессор, который торопится скорее приохотить учеников к кажущимся самостоятельными исследованиям, заставляет их
вращаться в «ограниченном, часто совершенно случайном круге
идей и экспериментальных приемов, вместо того, чтобы посвящать школьные годы возможно широкому, разностороннему
знакомству с наукой и ее методами, без чего немыслима будущая
действительно самостоятельная деятельность».
Ильенков неоднократно отказывался от предлагаемых ему
административных постов, предпочитая оставаться профессором,
и тем не менее столкновение с администрацией вытеснило его
с любимой кафедры и заставило покинуть Петровско-Разумовское. Отзывчивость ко всякому проявлению общественной жизни,
неспособность поступаться своими нравственными принципами—
* «Павел Антонович Ильенков»; см. том V I I I настоящего издания. Ред.
вот те преступления, которые лишили ученого химика его кафедры. В очерке, посвященном А. Г. Столетову*, дав обзор жизни
и характера знаменитого московского физика (1839—1896),
Тимирязев говорит:
«Он был физик, то-есть представитель самой совершенной
области естествознания,—я готов сказать, знания вообще,—так
как ни одна область человеческого знания, конечно, не открывает такого простора для применения всех познающих способностей человеческого ума»... «Он был физик по призванию, по
всему складу своего ума». Отметив собственные труды Столетова,
Тимирязев выдвигает его как автора критических трудов едва
ли не более важных, чем добывание некоторых новых фактов.
«Нельзя не пожалеть, что он не успел закончить задуманного
им критического этюда об энергетике Оствальда, которого он
укорял в поспешности и незрелости мысли и в отступлении от
основной задачи физики и всего естествознания—сведения явлений природы к простым законам механики».
Здесь Тимирязев явно становится на точку зрения механического материализма. Важно, однако, здесь же отметить, что
Тимирязев выделяет то обстоятельство, что Столетов начал
сражаться с Вильгельмом Оствальдом, в чем несомненно была
одна из заслуг этого русского ученого. Впоследствии В. И. Ленин блестяще определил В. Оствальда, как
«...очень крупного химика и очень путаного философа...»
(В. И. Ленин,Сочинения, том X I I I , «Материализм и эмпириокритицизм», изд. 1935 г., стр. 137). «...Энергетическая физика есть
источник новых идеалистических попыток мыслить движение
без материи—по случаю разложения считавшихся дотоле не разложимыми частиц материи и открытия дотоле невиданных форм
материального движения.» (В. И. Ленин, там же, стр. 224).
В своей статье Тимирязев совершенно правильно оценивает
Столетова не только как крупную научную силу, но и как общественного деятеля. Он отмечает, что такие люди, как А. Г. Столетов,
«дороги, когда своим строгим умом, своим неуклонным
исполнением нравственного долга они общими усилиями способствуют поднятию умственного и нравственного уровня в периоды прилива; вдвойне дороги они, когда своими одинокими
разрозненными усилиями задерживают падение этого уровня
в периоды отлива» (читай: реакции).
* «Александр Григорьевич Столетов»; см. том V I I I настоящего издания.
Ред.
Таким образом, ученый, по Тимирязеву,—это общественный деятель, который двигает жизнь вперед и борется с проявлениями реакции. Перейдем теперь к очерку Тимирязева, посвященному памяти М. Бертло*. Прежде всего К. А. отмечает, что
лучшая часть французской молодежи, которая ищет союзников
в великих умах прошлого, отметила Бертло как идейного вождя.
Бертло был могучим, философски развитым умом в сфере не
только точного естествознания (физики и химии), не только
естествознания в широком смысле, но и человеческого знания
вообще. Он постоянно обнаруживал живой интерес к биологии,
истории, особенно истории химии, и к археологии.
Крупнейший ученый Бертло, значительную часть своей трудовой жизни посвятивший изучению теоретических основ земледелия, лично участвовал в обороне Парижа, во время осады последнего командовал батареей и как активный участник в политической жизни своей страны боролся с клерикализмом.
Такая разносторонность, такой широкий охват жизни особенно восхищают Тимирязева в личности Бертло.
Интересна далее в этом очерке характеристика положения
науки в странах капитализма и определение ее истинной роли.
«Современный буржуазный строй,—говорит Тимирязев,—не отказывает науке в известной доле почета, он готов ей предоставить крупицы, падающие с роскошной трапезы капитализма,
и это невольно заставляет порой задуматься о будущности этой
науки: разделяя с сегодняшними победителями их добычу, не
будет ли она когда-нибудь вместе с ними призвана к ответу?»
Бертло отвечал на этот вопрос, говоря, что наука прежде всего призвана улучшать жизнь обездоленной части человечества.
«Увеличивая общую сумму благ, наука устами лучших своих
представителей громко провозглашала право всех людей на
свою долю пользования этими общими благами. В руках египетских жрецов первая паровая машина была только средством
морочить и устрашать темные массы; в руках людей науки она
стала, источником неисчислимых благ для всего человечества».
«Наука не могла обанкротиться (как о том твердит буржуазная реакция, во имя идеализма и витализма), не могла оказаться
несостоятельной, потому что не принимала на себя никаких
обязательств, она ничего не обещала,—ничего, кроме истины».
* «Лавуазье X I X столетия (Марселей Бертло, 1827—1907 гг.)»; см.
том V I I I настоящего издания. Ред.
Таков идеал Тимирязева, в котором теоретическая наука,
строя фундамент для науки прикладной, для увеличения суммы материальных благ, находящихся в распоряжении человечества, в то же время ведет борьбу с клерикализмом и всякого
рода тиранией, за социальный прогресс, за революцию.
В феодальном обществе спрос на науку был минимальный,
и ученых почти не было. С ростом городской буржуазии появился спрос на технические открытия и изобретения; появились
и ученые; в борьбе буржуазии против феодализма они принимали заметное участие. При победившей буржуазии их общественный вес уменьшился. Подчиненные господству капитала
ученые, по меткому выражению Тимирязева, принуждены ограничиваться крупицами, падающими с роскошной трапезы капитализма. Победивший пролетариат с приходом к власти отводит ученым почетное место, обеспечивая все условия для развития науки, строя многочисленные институты и лаборатории,
проявляя неустанную заботу о тех, кто преданно работает для
развития науки, для укрепления государственной мощи. Существующие в стране Советов новая система производства, новые
производственные отношения требуют новых открытий во всех
областях науки, новых изобретений во всех областях техники.
Ученому, работающему в СССР, предоставляются необъятное поле деятельности, неограниченные возможности. Советские ученые рука об руку со всеми трудящимися нашей страны участвуют в социалистическом строительстве, и этот союз науки
и труда еще более нерушимым, еще более могучим делает великая Сталинская Конституция.
Социализм в нашей стране есть воплощенное в жизнь рабочим классом учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Социализм уже дал мощный толчок развитию науки и создал в науке своих героев. В борьбе за новые успехи социалистической
системы производства, в борьбе со всеми пережитками буря{уазного и феодального прошлого, со всякими следами мракобесия советским ученым принадлежит большая и почетная роль.
Судьба нашей науки и наших ученых—это судьба рабочего
класса. Они вместе растут и вместе побеждают.
К а к жаль, что с нами нет К. А. Тимирязева!
Y
НАСЛЕДСТВО К. А. Т И М И Р Я З Е В А
вадцать третьего октября 1935 года Совет Народных Комиссаров СССР постановил издать к 20-летию со дня смерти ученого-революционера Климента Аркадьевича Тимирязева, то есть к 28 апреля 1940 года, полное собрание его
сочинений. Одним из главных инициаторов этого издания
явился заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦКВКП(б)
Яков Аркадьевич Яковлев. Это издание должно дать возможность и современникам и будущим поколениям изучить жизненный подвиг К. А. Тимирязева.
Идейное наследство К . А. Тимирязева чрезвычайно велико.
В этой небольшой статье мы могли, и то очень кратко, остановиться лишь на наиболее крупных работах замечательного
ученого, лишь бегло обрисовать образ и направление его научной и общественной деятельности. Дать современному читателю
полное представление о Клименте Тимирязеве как ученом,
мыслителе и общественном деятеле — это задача, которая
должна быть выполнена на протяжении всего настоящего
издания.
Умирая, Тимирязев завещал своему сыну Аркадию Климентовичу служить народу, быть верным до конца коммунистической партии. Аркадий Климентович, будучи заместителем ответственного редактора настоящего издания, является, конечно,
самым ценным из членов редакционной коллегии. Он живой
свидетель многих лет жизни Климента Аркадьевича, многих его
переживаний; он хранитель тех рукописей, которые остались
после Климента Аркадьевича, его переписки и т. д. Это обеспечивает нам при издании собрания сочинений Тимирязева,
что ничто не будет забыто или упущено.
Тимирязев оставил свыше 140 основных работ по вопросам
ботаники, физиологии растений, эволюции, дарвинизма. И хотя
некоторые из них и не велики по объему, но все они важны по
своему идейному содержанию. Кроме того, им было написано
большое число (свыше 90) статей и заметок научного и биографического содержания для различных журналов, газет, для словаря (Граната), предисловий, комментариев и пр. Он был прекрасным переводчиком и редактором многочисленных книг.
Обсуждая план издания, редакционная коллегия первоначально остановилась на девятитомнике, но вскоре обнаружилась
необходимость увеличить издание еще на один, десятый, том.
К а к распределить весь этот огромный материал по томам?
Не следует ли расположить его в хронологическом порядке,
чтобы облегчить читателям возможность проследить развитие
К. А. Тимирязева, его рост параллельно с ростом русской революционной интеллигенции в период от общественного движения
шестидесятых годов до Великой пролетарской революции? Это
было бы уместно, если бы К. А. Тимирязев был публицистом или
если бы его деятельность имела лишь одну основную тему, как
это было, скажем, у Дарвина, но Тимирязев был ученый
с разносторонними научными и общественными интересами.
И потому редакция пришла к решению группировать материал
по основным темам, придерживаясь того плана, который
наметил сам К. А. при опубликовании
своих трудов.
j
В первые два тома, носящие общий заголовок: «Солнце,
жизнь и хлорофилл», войдут научные работы Климента Аркадьевича по усвоению света растением, а также и прочитанные
им на соответствующие темы публичные лекции, речи и доклады.
Такой заголовок дал сам К . А. своему последнему предсмертному
сборнику статей, за предисловием к которому и застала его
неумолимая смерть. Этот сборник и составляет основу двух первых томов настоящего издания.
Третий том, идущий под названием «Земледелие и физиология растений», составят речи и статьи, посвященные применению физиологии растений к земледелию.
Четвертый том включит замечательную работу Тимирязева
«Жизнь растения» с соответствующими комментариями.
Пятый том—«Насущные задачи современного естествознания»—даст представление о борьбе с витализмом, которую
так неутомимо и талантливо проводил Климент Аркадьевич.
Шестой том—«Исторический метод в биологии»—как бы
подготовляет читателя к седьмому тому—«Чарлз Дарвин и его
учение», куда входит все, написанное Тимирязевым и о самом
Ч. Дарвине, и об его теории, и об антидарвинистах.
Восьмой том—«Статьи по истории науки и биографические
очерки»—содержит материалы, важнейшее значение которых
отмечено нами в предшествующей главе нашего «Предисловия».
Девятый том посвящен сборнику статей 1904—1919 гг.,
вышедших при жизни Тимирязева под общим заглавием «Наука
и демократия», а десятый—переводам.
В десятый том войдет и изложение Тимирязевым книги
«Обновленная земля» А. Гарвуда. Эта книга снабжена К. А.
ярким предисловием и весьма меткими примечаниями.
Работа Тимирязева об американском фермерском земледелии,
как мы видели выше, сыграла свою роль и не может не быть включена в собрание его сочинений, хотя и носит имя Гарвуда.
Во всех работах К. А. мы безусловно сохраняем все его примечания, представляющие собой необходимые дополнения к тексту. Со своей стороны редакция дает и свои примечания (отмечая
их звездочкой) там, где это диктуется необходимостью уточнить
для современного читателя тот или иной момент, ту или иную
дату и т. д.
В полное собрание сочинений Климента Аркадьевича мы
сочли необходимым включить его переписку с рядом русских
и иностранных ученых и общественных деятелей, переписку
с великим писателем Максимом Горьким. Письма распределяются по томам по тому же принципу тематической связи.
В части иллюстрирования издания редакция, целиком используя материал, который помещал сам автор в своих работах,
по возможности постарается использовать оставшиеся после
смерти Климента Аркадьевича Е его архиве и кабинете фотографические снимки, зарисовки и т. д.
Идейное наследие Тимирязева—его борьба за экспериментальный метод, за исторический метод в биологии, его ожесточенная борьба с витализмом и с антидарвинистами, его стремление нести науку в массы трудящихся, его лютая ненависть
ко всем видам реакции—несомненно, явится для нашей советской молодежи одним из мощных стимулов к разрешению труднейших проблем естествознания, к правильному сознанию своего
общественного долга.
' >
•
.
КЛИМЕНТ
АРКАДЬЕВИЧ
ТИМИРЯЗЕВ
Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
О Ч Е Р К
ПРОФЕССОР
Со А о Н о в и к о в
4 Ii. А. Тимирязев, т. 1
Климент
1877
Аркадьевич
Тимирязев
I
ВОСПИТАНИЕ.
ЗАКАЛКА
ПЕРВАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
К. А. Т И М И Р Я З Е В А
лимент Аркадьевич Тимирязев родился 22 мая 1843
года в Петербурге, на Галерной улице, где Николай I
менее чем за двадцать лет перед тем, в декабре 1825
года, «косил картечью ряды восставших войск и народа». Его отец, Аркадий Семенович Тимирязев, принадлежа к числу старинных дворян, был, однако, человеком с республиканскими взглядами. Известно, что он вызвал личное нерасположение Николая I к а к «неблагонадежный». Известно,
что в молодости, состоя на военной службе, он очень часто
восторженно отзывался о Великой французской революции,
а будучи участником военного похода 1813—1814 гг., мечтал
попасть в дорогой для него Париж. Рассказывают, однако,
что, дойдя до Монмартра (предместье Парижа), Аркадий Семенович, с восхищением рассматривавший Париж в бинокль,
получил от начальства строжайший приказ немедленно вернуться
домой. За «вольнодумством» Аркадия Семеновича царские
слуги зорко наблюдали даже и под Парижем.
Аркадия Семеновича, служившего затем директором таможни и вместе с тем ненавидевшего царизм и весь его чиновный
круг, не раз, по указанию «свыше», пытались путем интриг
обвинить в различных служебных «попущениях». Но он был
безупречно честен, и николаевским «ревизорам» трудно было
даже подтасовать какое-либо обвинение.
К концу царствования Николая I, чтобы освободиться от
«вольнодумного» и «неблагомыслящего» Тимирязева, решили
просто уничтожить должность, которую он занимал. Аркадий
Семенович, оставшись на очень маленькой пенсии, по существу,
оказался без средств. Обремененный большой семьей (сыновья
Александр и Иван и дочь Марпя от первого брака и четыре сына—
Николай, Димитрий, Василий и младший, Климент—от второго
брака), Аркадий Семенович потребовал службы, написав по
начальству, что он имеет «право на труд». С этим требованием
не посчитались.
Климент Аркадьевич, которому тогда было 15 лет, принужден был, как него братья, своим трудом зарабатывать средства
для существования.
Вспоминая об этом времени, Климент Аркадьевич в статье,
посвященной открытию первого рабочего факультета, пишет:
«С пятнадцатилетнего возраста моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, который не заработала бы правая. Зарабатывание средств существования, как всегда бывает при таких
условиях, стояло на первом плане».
В семье Тимирязевых росла ненависть к царизму, а дворян,
«столпов отечества», Аркадий Семенович величал не иначе, как
«столбами».
Есть такое семейное предание Тимирязевых.
В 1848 году один собеседник обратился к Аркадию Семеновичу с вопросом: «Какую карьеру готовите вы своим четырем
сыновьям?» Аркадий Семенович, отшучиваясь, ответил: «Какую
карьеру? А вот какую. Сошью я пять синих блуз, как у французских рабочих, куплю пять ружей и пойдем с другими—на
Зимний дворец».
Климент Аркадьевич получил первоначальное образование
дома. Понятно, что его отец, будучи носителем революционных
настроений, мог уже на ранних этапах развития Климента Аркадьевича внушить сыну отвращение к мрачной и тяжелой николаевской эпохе. Очевидец событий 14 декабря 1825 года, он,
например, рассказывал в кругу детей, как из-за забора окружавшего строившийся Исаакиевский собор, народ бросал камнями в царские войска.
Мать Климента Аркадьевича Аделаида Клементьевна, англичанка по происхождению, в совершенстве владевшая английским, французским и немецким языками, оказала также большое влияние на развитие сына, особенно в отношении изучения
им иностранных языков. В семье говорили на английском и французском языках.
Аркадий Семенович всячески поощрял здоровое и шумное
веселье детей и их непринужденность. Даже в часы своего отдыха, когда дети шумели, Аркадий Семенович не считал нужным лишать их этой радости. «Если дети начнут шептаться,—
говорил он,—тогда будет какое-нибудь безобразие». Эту черту
в характере домашнего воспитания следует отметить потому,
что в известной мере, может быть, ею можно объяснить жизнерадостность, которую Климент Аркадьевич сохранил на
всю жизнь.
Влияние на детей республиканских взглядов отца сказывалось повседневно. Дети часто ходили, например, играть в сад
Кадетского корпуса (на Васильевском острове), и, когда за обедом высказывали какие-либо не соответствовавшие господствовавшим в семье настроениям мысли, Аркадий Семенович говорил обычно: «Ну, что, от кадетов этого набрались?» Строгий
республиканец, он не оставлял без внимания или без внушения те разговоры, которые были враждебны духу семейного
воспитания.
Мария Аркадьевна также помогала воспитывать своего
брата Климента, работая над его музыкальным образованием.
Но Мария Аркадьевна, несмотря на большие музыкальные способности брата, не сумела как следует поставить занятия по
музыке. Аркадий Семенович упрекал ее за это. «Маша, ты не
умеешь воспитывать ребят. Ведь у ребенка есть большие музы-
кальные способности, а ты его все время мучаешь гаммами. Это
все р авно, что чорта в неволю ввести»,—обычно говорилон, смеясь.
Известно, что Климент Аркадьевич действительно обладал
хорошим музыкальным слухом. Он любил музыку и особенно
итальянскую школу пения, а из классиков—Бетховена, Шопена,
Шумана и Шуберта.
Большое влияние на Климента имел старший брат Димитрий,
воспитывавшийся сначала в Нежинском лицее, а затем в Киевском университете. Имея широкое естественно-научное образование, позволившее ему написать одно из семестральных сочинений на тему о физиологических работах Сенебье, Димитрий,
сделавшийся впоследствии известным статистиком в области
сельского хозяйства, оказал огромное влияние на Климента
в отношении развития в нем выявившихся еще с раннего детства
интересов к естествознанию.
0 Димитрии Аркадьевиче Тимирязеве как о научном деятеле говорит В. И. Ленин в своей работе «К вопросу о нашей
фабрично-заводской статистике (новые статистические подвиги проф. Карышева)»:
«Естественно поэтому, что лица, впервые попытавшиеся
научно разработать данные нашей фабрично-заводской статистики (в 60-х годах), обратили все внимание на этот вопрос
и направили все усилия на то, чтобы выделить производства
с более или менее достоверными данными от производств
с абсолютно недостоверными данными, чтобы выделить заведения, настолько крупные, что об них возможно получить удовлетворительные данные, от заведений, настолько мелких,
что об них невозможно получить удовлетворительных данных.
Бушен 1 , Бок 2 и Тимирязев 3 дали такие ценные указания по
всем этим вопросам, что если бы эти указания были тщательно соблюдены и развиты составителями нашей фабричнозаводской статистики, то мы имели бы теперь, вероятно, очень
сносные данные. На деле же все эти указания остались, как
1
«„Ежегодник Министерства финансов". Вып. I, С П Б , 1869».
«„СтатистическийВременник Российской Империи".Серия II, вып. 6.
Спб. 1872. Материалы для статистики фабрично-заводской промышленности в Европейской России, разработанные под ред. И . Бока».
3
«„Статистический атлас главнейших отраслей фабрично-заводской
промышленности Европейской России с поименным списком фабрик и заводов", 3 выпуска. Спб. 1869, 1870 и 1873».
2
водится, гласом вопиющего в пустыне, и фабрично-заводская
статистика осталась в прежнем хаотическом виде.» (В. И. Ленин,
изд. 3, том II, стр. 344 , 345).
Так отзывается Владимир Ильич о Д. А. Тимирязеве, игравшем большую роль в деле воспитания Климента Аркадьевича.
Первые сведения по химии и ботанике, а также первое ознакомление с работами Сенебье Климент Аркадьевич получил
от брата. Первым знакомством с лабораторной обстановкой
Климент Аркадьевич обязан также Димитрию, имевшему у себя
дома лабораторию по перегонке нефти. Кстати сказать, оба
брата, чрезмерно увлекаясь «экспериментами», в один прекрасный день чуть было не взорвали всю квартиру.
Подготовка Климента Аркадьевича для поступления в университет протекала в домашней обстановке под руководством
домашнего учителя Овчинникова. Готовился Климент к университету вместе с братом Василием, ставшим впоследствии
литератором и сотрудничавшим в редакции журнала «Сын отечества». Об учителе Овчинникове впоследствии частенько говорил сам Климент Аркадьевич. Смеясь, он рассказывал, как
Овчинников, разнимая часто споривших между собой братьев,
обращался к ним с такими смешившими их словами: «И вы
правы и вы неправы, и вы неправы и вы правы...»
2
В 1861 году Климент Аркадьевич поступил в Петербургский университет. Приемные экзамены он выдержал очень
хорошо. Лишь по немецкому языку он получил переэкзаменовку, так как плохо перевел заданный ему отрывок из «Нибелунгов». Председательствовавший в приемной комиссии Делянов, ставший впоследствии министром, поставил «зачет» по
латинскому языку, который Климент Аркадьевич знал отлично,
и с трудом «согласился» поставить по немецкому языку «уд.».
После экзаменов Аркадий Семенович призвал к себе Василия и Климента и спросил их, на какие факультеты они желают поступить. Василий ответил, что желает итти на юридический факультет, а Климент—на физико-математический (есте-
ственное отделение). Отец порекомендовал им не торопиться
с выбором специальности. «Поступайте сначала на камеральный факультет,—сказал он,—позанимайтесь на нем несколько
времени, оглядитесь как следует, а затем уже решайте, кому
куда». Братья так и сделали. Пробыв на камеральном факультете несколько месяцев, каждый из них перешел на факультет, намеченный ранее.
1862 год можно считать началом вступления Тимирязева
в русло общественной жизни—годом, когда прозвучал первый
протест Тимирязева против «общественной неправды».
О том, что думал Климент Аркадьевич, переступая порог
университета, как представлял он себе университет и в каком
виде представлялось Клименту Аркадьевичу служение науке,
I лучше всего говорят сказанные им в 1905 году в статье «На
пороге обновленного университета»* следующие слова:
«В наше время мы любили университет, как теперь, может
быть, не любят,—да и не без основания. Для меня лично наука
была все. К этому чувству не примешивалось никаких соображений о карьере, не потому, чтобы я находился в особых
благоприятных обстоятельствах,—нет, я сам зарабатывал
свое пропитание, а просто мысли о карьере, о будущем не было
места в голове: слишком полна она была настоящим. Но вот
налетела буря в образе, недоброй памяти, министра Путятина
с его пресловутыми матрикулами. Приходилось или подчиниться
новому, полицейскому строю или отказаться от университета,
отказаться, может быть, навсегда от науки,—п тысячи из нас
не поколебались в выборе. Дело было, конечно, не в каких-то
матрикулах, а в убеждении, что мы в своей скромной доле
делаем общее дело, даем отпор первому дуновению реакции,—
в убеждении, что сдаваться перед этой реакцией позорно».
В том же 1862 году Климент Аркадьевич увольняется из
университета. От студентов в очень унизительной форме,
в порядке административном, потребовали выдачи подписки
(«матрикулы»), что они не будут принимать участие в каких-либо
общественных беспорядках. Большинство студентов отказалось
подписать такие «матрикулы», причем отказывавшиеся студенты
сопровождали этот отказ подачей на имя начальства соответствующих заявлений, или, как их тогда называли, «прошений».
Такие «прошения» подали Климент Аркадьевич и его брат
Аркадий Семенович Тилшрязев —
отец -Климента Аркадьевича Тимирязева
1865
Василий. Их вызвали в полицейский участок и стали в «любезной» форме уговаривать подписать матрикулы. Братья категорически отказались. Пристав заявил, что они оба будут немедленно высланы на место рождения, и был взбешен, узнав,
что Тимирязевы живут не только в этом городе, но и в этом же
самом участке. От Аркадия Семеновича потребовали поручительства, что оба его сына больше не появятся в стенах
университета. Отец дал такое поручительство.
Лишь через год смог Климент Аркадьевич вновь появиться
в университете, но уже только в качестве вольнослушателя.
Студентом он уже стать не мог.
«Вот теперь, на седьмом десятке лет,—пишет Климент
Аркадьевич в своих воспоминаниях о студенческих забастовках,—когда можешь относиться к своему далекому прошлому,
как беспристрастный зритель, я благодарю судьбу, или, вернее, окружавшую меня среду, что поступил так, как поступил.
Наука не ушла от меня,—она никогда не уходит от тех, кто ее
бескорыстно и непритворно любит; а что сталось бы с моим нравственным характером, если бы я не устоял перед первым испытанием (подчеркнуто мною. С. Н.), если бы первая нравственная борьба окончилась компромиссом. Ведь мог же и я утешать
себя, что, слушая лекции химии, я „служу своему народу".
Впрочем, нет, я этого не мог...»
Воспоминание Климента Аркадьевича о том, как он был
«студентом-забастовщиком», рисует один из ярких эпизодов
революционно-демократического движения 60-х годов, в котором происходила первая общественная закалка Тимирязева.
Ведь это были годы, которые Ленин называл периодом «о?кивления демократического движения в Европе», вызвавшим
появление в России широкой пропаганды демократических
н отчасти социалистических идей, охвативших кружки разночинной интеллигенции и, главным образом, студенчества. Идейная борьба в кружках по тому времени революционно настроенного студенчества объективно отражала революционный протест против расправ, которые чинило правительство над участниками революционно-общественного движения, над участниками крестьянских восстаний и крестьянских «бунтов». Число
крестьянских восстаний в 1861—1862 гг. доходило до 2 ООО.
Правительство расправлялось с крестьянами не иначе, как при
помощи военной силы и порки. Именно в эту пору складывалась
общественно-сознательная жизнь молодого Тимирязева, вырабатывался его демократический образ мыслей, приведший его
к борьбе против «общественной неправды».
Закаленный в атмосфере 60-х годов, Климену Аркадьевич
уже в свои ранние студенческие годы (1861—1863) пишет ряд
таких работ, как «Гарибальди на Капрере»* и «Голод в Ланкашире» *, в которых так ярко сквозят его революционные
устремления. Воспитанный на страстных проповедях Чернышевского, Добролюбова и Писарева, Климент Аркадьевич не
мог не отозваться на зародившийся также в эту пору интерес
широких кругов общества к естествознанию. В 1864 году, будучи
вольным слушателем университета, молодой Тимирязев на
страницах «Отечественных записок» помещает статьи о Дарвине,
начиная свою защиту и пропаганду ученияЧарлза Дарвина,
а в 1865 году выпускает уже книгу — «Краткий очерк теории
Дарвина» (1 отд. изд. кн.: «Чарлз Дарвин и его учение»).
Вольный слушатель, студент-забастовщик, Тимирязев становится атеистом, борющимся за укрепление естественнонаучных основ материализма и эволюционного учения, видящим в пропаганде дарвинизма свой долг, свою общественную
задачу.
В 1866 году Тимирязев как вольный слушатель заканчивает естественное отделение физико-математического факультета
и получает ученую степень кандидата и золотую медаль за
сочинение «О печеночных мхах».
Важно отметить, что, будучи в университете и выступая
со своими статьями и переводами в «Отечественных записках»,
отражавших общественный подъем того времени, Тимирязев
нашел и определил свой научный путь, благодаря своей исключительно большой научно-общественной работе в существовавших тогда научных студенческих кружках. Научная
«карьера» Климента Аркадьевича, молодого пионера дарвинизма, мужественно возвысившего свой голос против поповщины в науке, конечно, не могла начаться ни на одной из тогдашних официальных кафедр. Тимирязев как ученый впервые выдвинулся в организованном профессором Андреем Николаевичем
* См. том IX настоящего издания. Ред.
** См. том IX настоящего издания. Ред.
Бекетовым студенческом кружке, в котором Климент Аркадьевич делал свои первые научные доклады и время от времени
читал лекции, преимущественно, на темы о дарвинизме.
В одной из лекций, прочитанных в Москве, в Историческом
музее, Климент Аркадьевич очень тепло отзывается об
А. Н. Бекетове.
«С глубокой благодарностью, —говорит он, — вспоминается
дорогой для целого поколения петербургских студентов Андрей
Николаевич Бекетов. В наши студенческие годы он собирал
у себя студентов-натуралистов для чтения рефератов, научных
споров и т. д. Остаюсь при убеждении, что это была более здоровая пища для молодых умов, чем Шопенгауэр и Ницше,
которыми дурманили головы позднейших поколений».
Жизненный путь К. А. Тимирязева с юношеских лет полон
напряженной работы и борьбы.
Юноша, студент, начинающий, но уже блещущий своим талантом ученый, Тимирязев, напряженно работая над пополнением своих знаний и ни откуда не получая материальной помощи, был вынужден тратить много времени и сил на поиски
самого скромного заработка. Чтобы хоть как-нибудь обеспечить себя, Климент Аркадьевич «просился», например, на
службу библиотекарем в Ботанический сад. Но директор Ботанического сада отказал Тимирязеву.
Несмотря на тяжелые материальные условия, Тимирязев работал с огромной продуктивностью.
3
5 января 1868 года К. А. Тимирязев на I съезде русских
естествоиспытателей сделал свое сообщение «О приборе для
исследования воздушного питания листьев и применения искусственного освещения к исследованиям подобного рода». Это была
первая экспериментально-исследовательская работа, которая
в необыкновенно простой, научно строгой и четкой форме наметила главное направление всей научно-исследовательской
деятельности Тимирязева, а именно, разработку проблемы разложения атмосферной углекислоты зеленым растением под влиянием солнечной энергии.
«Моя первая работа,—пишет Тимирязев в своем, оставшемся
неоконченным, предисловии к сборнику «Солнце, жизнь и хлорофилл»*,—о которой я сам заявил, что она только предварительная, послужила сигналом к пробуждению оживленной
деятельности немецких ученых на целые десять лет. Одни, как
мой друг, талантливый и недостаточно оцененный немецкий
ученый Николай Мюллер, хотели меня обогнать, другие, как
ученик Сакса Пфеффер, желали во что бы то ни стало отстоять
опровергнутое мною. Но с первым оправдалась пословица:
поспешишь—людей насмешишь, а второй после двадцатилетних упорных попыток отстоять заведомо ложное, приписал это
другим ученым, подтвердил мою работу, только в гораздо менее научной форме...»
О Тимирязеве стали говорить; его нельзя было не отправить
за границу. И в 1868 году К. А. Тимирязев был послан за границу для подготовки к профессорскому званию.
А. Н. Бекетов и перед отъездом Климента Аркадьевича за
границу не переставал интересоваться научными устремлениями
Тимирязева и, напутствуя его, с замечательным педагогическим
тактом сказал ему:
«По-настоящему, я должен дать вам инструкцию, но предпочитаю, чтобы вы сами себе ее написали; тогда мы увидим,
отдаете ли вы себе ясный отчет, куда и зачем едете».
И действительно, такую инструкцию, вернее, план своих
заграничных работ, Тимирязев написал сам. В ней он подробно
развил мысль о тесной связи физиологии растений и научной
агрономии—мысль, в верности которой, как пишет сам Тимирязев в своих воспоминаниях о Буссенго, с годами он убеждался
все более и более. Основной целью своей заграничной научной
командировки он считал глубокое изучение проблемы связи физиологии растений с земледелием. Эта тема особенно влекла
Климента Аркадьевича и заставила его, главным образом, устремиться в парижскую лабораторию—к Буссенго.
С 1868 по 1870 год К. А. Тимирязев работает за границей
у крупнейших ученых того времени: Кирхгофа, Бунзена, Гофмейстера, Клода Бернара, Бертло и, особенно, как уже ска* Здесь К. А. Тимирязев говорит о своей работе «Значение лучей
р а з л и ч н о й преломляемости в процессе разложения у г л е к и с л о т ы растениями». Это была единственная работа, н а п е ч а ^ щ і а я им в немецком журнале «Botanische Zeitung» (1869 г.). См. том II настоящего издания. Ред.
зано, у Буссенго, оказавшего на Климента Аркадьевича реша- 1
ющее влияние, определившее его дальнейшую научную деятельность. Об этом имевшем мировую известность ученом Климент Аркадьевич писал впоследствии в своих воспоминаниях:
«Я научился у него всему, чему хотел научиться, и с этой
точки зрения по праву могу считать себя его учеником».
Будучи за границей, К. А. Тимирязев воплотил в себе
необыкновенную многогранность научных интересов, отразивших глубокое понимание современных задач различных областей естествознания—физики, химии, ботаники и физиологии.
ІІо европейская жизнь того периода, в течение которого он находился в непосредственном общении с упомянутыми крупнейшими учеными, предоставляла ему также возможность ознакомиться и с другими источниками европейской культуры—историей, философией, искусством и литературой, а с другой стороны, притти в непосредственное соприкосновение с жившей там
политэмиграцией.
Кто не знает того, что представляла собой Европа кануна
1871 года—года Парижской коммуны? И Тимирязев, действительно, по возвращении из-за границы вступает в тогдашнюю
«русскую действительность» как крупная прогрессивная сила,
мобилизующая в своем кругу демократически настроенных
людей.
Начало преподавательской деятельности К. А. Тимирязева
также относится ко времени возвращения его из-за границы.
Осенью 1870 года он был приглашен в качестве преподавателя
ботаники в Петровскую сельскохозяйственную академию. Повидимому, как пишет профессор А. Фортунатов в своей юбилейной статье, посвященной семидесятилетней годовщине
К. А. Тимирязева, инициатива привлечения К. А. Тимирязева
к преподаванию в Петровской сельскохозяйственной академии,
ныне носящей имя К. А. Тимирязева, принадлежала профессору П. А. Ильенкову, человеку, сыгравшему в жизни Климента Аркадьевича весьма заметную роль. Важно, конечно,
знать, по чьей инициативе был приглашен Тимирязев для преподавательской работы в высшей школе. В дальнейшем мы не
раз будем говорить и о тех, по чьей инициативе изгонялся Тимирязев из высшей школы.
Следует остановиться на одном достопримечательном
факте, связанном с именем П. А. Ильенкова, о котором
Тимирязев
рассказывает в своей статье «Ч. Дарвин и
К. Маркс»*.
«Осенью 1867 года проездом из Симбирска, где я производил опыты по плану Д. И. Менделеева,-—пишет К. А. Тимирязев в этой статье,—я заехал к П. А. Ильенкову, в недавно
открытую Петровскую академию (Тимирязев жил тогда в Петербурге. С. Н.). Я застал П. А. Ильенкова в его кабинетебиблиотеке за письменным столом; перед ним лежал толстый
свеженький немецкий том с еще заложенным в него разрезальным ножом. Это был первый том «Капитала» Маркса. Так как
он вышел в конце 1867 года, то, очевидно, это был один из первых экземпляров, попавших в русские руки. Павел Антонович
тут же с восхищением и свойственным ему умением прочел
мне чуть не целую лекцию о том, что уже успел прочесть;
с предшествовавшею деятельностью Маркса он был знаком, так
как провел 1848 год за границей, преимущественно в Париже,
а с деятельностью пионеров русского капитализма—сахароваров—был лично знаком и мог иллюстрировать эту деятельность
и лично знакомыми ему примерами. Таким образом, через несколько недель после появления „Капитала" профессор химии
недавно открытой Петровской академии уже был одним из первых распространителей идей Маркса в России».
Этот весьма интересный и ценный биографический документ
говорит о том, что молодой Тимирязев, впервые вступивший
преподавателем ботаники в Петровскую сельскохозяйственную
академию, был тесно связан с наиболее передовой, революционно настроенной частью профессуры, вместе с которой он
уже тогда знакомился с основами марксистского учения.
Проф. А. Фортунатов, прекрасно знавший необыкновенную
целостность научных и общественных взглядов Климента Аркадьевича, сидевший рядом с Тимирязевым более пяти лет плечом
к плечу в академическом зале, говорит, что нельзя было не
удивляться, насколько умел Климент Аркадьевич сохранять
достоинство ученого и педагога в тяжелой обстановке «за зеленым сукном». Тимирязев не раз приводил в содрогание коллег,
членов совета Петровской академии, своим тимирязевским
«крамольным духом».
В 1871 году К. А. Тимирязев защищает магистерскую
диссертацию на тему «Спектральный анализ хлорофилла»*,
и в этом же году Климент Аркадьевич избирается экстраординарным профессором Петровской сельскохозяйственной академии. В 1875 году последовала докторская диссертация Климента
Аркадьевича на тему «Об усвоении света растением», давшая
еще большую известность Тимирязеву и утверждение его ординарным профессором. В 1877 году К. А. Тимирязев избирается
на первую в России кафедру анатомии и физиологии растений,
организует свою физиологическую лабораторию и с присущей
ему страстностью целиком уходит в научно-исследовательскую
и преподавательскую работу, считая последнюю величайшим
общественным делом и долгом профессора.
Но «мирная» научная и преподавательская работа К. А. Тимирязева продолжалась недолго.
Уже в 1880 году, сидя за тем же «зеленым сукном», Климент
Аркадьевич выступает со своим «особым» мнением против десяти членов Совета по вопросу об исключении четырех студентов и резко становится в оппозицию против академического
начальства н профессорской «ученой касты», среди которой
он, по собственным его словам, слыл вечным «Ванькой-Каином».
К тому же времени (начало 90-х годов) относится и первый
выговор, полученный Климентом Аркадьевичем, как он сам рассказывает, в несколько «странной» форме. Дело происходило так.
В одну из первых годовщин смерти Чернышевского студенты
решили устроить гражданскую панихиду и в этот день не
слушать лекций. Об этой демонстрации Климент Аркадьевич
был предупрежден студентами и на лекцию не пошел. На следующий день администрацией университета было поручено декану физико-математического факультета Н. В . Бугаеву за
явное и активное участие в студенческой демонстрации сделать
Клименту Аркадьевичу выговор на его лекции в присутствии
студентов. Бугаев вошел в аудиторию, когда Климент Аркадьевич уже начал свою лекцию. С чувством некоторого волнения Н. В. Бугаев стал говорить на ухо Клименту Аркадьевичу о цели своего прихода, причем спросил его, как это сде-
лать. В ответ Бугаеву Климент Аркадьевич насмешливо улыбнулся, взял официальную бумагу, на которой красовался выговор, и сам себе прочитал этот выговор. Студенческая аудитория разразилась бурей протеста, и Бугаев на знал, что делать.
Взволнованный Тимирязев, укоризненно смотря на Бугаева,
обратился к студентам и сказал: «Не будем больше об этом говорить. У нас на очереди стоят более важные дела». Сказав
это, он немедленно приступил к продолжению своей лекции.
Этот поступок К. А. Тимирязева вызвал в студенческой среде
еще большее уважение к любимому профессору.
Следует сказать и о круге близких людей, среди которых
вращался Климент Аркадьевич.
В центре этих людей стоял Владимир Иванович Танеев
(брат композитора Сергея Ивановича Танеева), знакомство
с которым продолжалось у Климента Аркадьевича с 1877 по
1917 год — сорок лет. Это знакомство началось с Татьянина
дня 1877 года, когда на университетском праздновании этого
дня в Эрмитаже (бывший ресторан в Москве) известный историкмонархист Д. И. Иловайский произнес весьма подлую речь,
призывавшую русскую интеллигенцию дружески протянуть
«руку примирения» царизму, нуждавшемуся во всемерной патриотической помощи (шла русско-турецкая война). В . И. Танеев в ответ на подлый тост Иловайского демонстративно швырнул на пол налитый бокал с вином и крикнул по адресу Иловайского несколько презрительных выражений. Климент Аркадьевич, до этого выступления совершенно не знавший Владимира Ивановича Танеева, подошел к нему с рукопожатием.
После этого дня между Тимирязевым и Танеевым завязалась
крепкая долголетняя дружба.
Вскоре В. И. Танеев организовал у себя кружок ученых,
литераторов и артистов. Завелся обычай собираться в этом
кружке один раз в месяц на «академических обедах». В круг
лиц, собиравшихся у Танеева, входили: Александр Григорьевич Столетов, Владимир Васильевич Марковников, Владимир
Федорович Лугинин, Максим Максимович Ковалевский, Александр Иванович Чупров, Сергей Андреевич Муромцев, Сергей Сергеевич Корсаков; из артистов—Александр Иванович
Аделаида Клементьевна Тимирязева —
мать Климента Аркадьевича Тимирязева
1.826
Акварель художника
L.
Bramson
Сумбатов-Южин, Богумил Богумилович Корсов; из писателей
бывал иногда Иван Сергеевич Тургенев.
Дружба с Танеевым была настолько значительна и пребывание в кругу Танеева доставляло Клименту Аркадьевичу такое
удовлетворение, что, начиная с 1904 года по 1917 год, Климент
Аркадьевич вместе со своей женой Александрой Алексеевной
и сыном Аркадием Климентовичем регулярно проводили лето
в имении Танеева «Демьяново», под Клином. В Демъянове
у Климента Аркадьевича была даже своя небольшая лаборатория.
Жизнь Климента Аркадьевича на досуге отличалась необыкновенной жизнерадостностью и бодростью. Он любил дальние прогулки, питал страсть к путешествиям и почти никогда не
расставался со своим любимым фотографическим аппаратом,
которым снимал сам привлекавшие его не только как натуралиста, но и как эстета, замечательные в каком-либо отношении
картины природы.
В своей работе Климент Аркадьевич больше всего был связан с А. Г. Столетовым, И. М. Сеченовым, В . В . Марковниковым, Г. Г. Густавсон (профессор Петровской сельскохозяйственной академии), а начиная с 90-х годов—с П. Н. Лебедевым
и И. А. Каблуковым. У него постоянно бывали Ф. Н. Крашенинников, Е. Ф. Вотчал, В. И. Палладии, а также и его
ассистенты Н. С. Понятский, И. А. Петровский и А. Н. Строганов.
В 1892 году Петровская сельскохозяйственная академия
оказывается центром сосредоточения «неблагонадежных» профессоров и «непокорных» студентов. Правительство обрушивается всей тяжестью своих репрессий на эту цитадель «оппозиции», изгоняет «неблагонадежных» и «непокорных», расформировывает академию и превращает ее в Сельскохозяйственный институт. Академик Фаминцын и литературный критик
Страхов начинают писать доносы на «неистового» Тимирязева,
«изгонявшего бога из природы» и бывшего главным лидером
оппозиции, и тогдашний министр просвещения Островский
в 1892 году выбрасывает Тимирязева за борт реформированного Сельскохозяйственного института, или, как тогда говорили, оставляет его «за штатом».
5 К. А. Тимирязев, ш. 1
|
(
Не прочь были оставить Тимирязева «за штатом» и в Московском университете, но по тому времени не находили для
этого достаточно «благовидного» предлога. Лишь через шесть
лет, в 1898 году, нашли этот «благовидный» предлог и исключили Климента Аркадьевича из штатов профессоров Московского университета за выслугой лет. С тех пор он оставался
в качестве заслуженного профессора и должен был освободить
занимаемую им кафедру.
Спрашивается: почему Климент Аркадьевич оказывался «не
к университетскому двору»? Ряд исторических документов, любезно предоставленных нам сыном Климента Аркадьевича, профессором А. К. Тимирязевым, помогут внести известную ясность
в ту обстановку, которая окружала Климента Аркадьевича.
Две следующие главы рисуют нам облик Тимирязева—
«неистового Климента», ни на одну пядь не отступавшего во
всей своей общественно-научной деятельности ни перед чем, что
I касалось общественной совести и общественного достоинства
ученого как гражданина.
п
В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1893—1896
Н
ачало 1893 года в Московском университете ознаменовалось настоящей травлей против крупного физика Александра Григорьевича Столетова, на защиту которого выступил К. А. Тимирязев.
Началось это дело, тянувшееся три года и кончившееся преждевременной смертью Столетова, следующим обстоятельством.
Молодой приват-доцент князь Борис Борисович Голицын
представил диссертацию на степень магистра физики на тему:
«Исследования по математической физике». Составить отзыв
о диссертации было поручено Столетову. Ознакомившись с трудом Голицына и обнаружив в нем ряд ошибок, Столетов, в целях строжайшей объективности, просил факультет поручить
составление отзыва также и профессору Алексею Петровичу
Соколову. Профессор Соколов пришел к тому же выводу, что
и Столетов. Незадолго до заседания факультета, на котором
должен был обсуждаться отзыв, составленный Столетовым
совместно с Соколовым, оба рецензента указали автору, что,
если он будет настаивать на допущении к защите диссертации
в том ее виде, как она была представлена, то есть без изменений
и исправлений, они будут вынуждены представить отрицательный отзыв и будут ходатайствовать о напечатании этого отзыва
в «Ученых записках» Московского университета. Б. Б. Голицын отказался исправить имевшиеся у него в диссертации
ошибки, и тогда Столетов и Соколов переслали свой отзыв декану факультета.
Вопрос о диссертации был поставлен на заседании факультета 14 апреля 1893 года. Заседание происходило при необычной
обстановке — вместо декана председательствовал попечитель
учебного округа граф П. А. Капнист. В особом заявлении профессором П. А. Некрасовым было сообщено, что присутствие на
заседании факультета попечителя вовсе не связано с делом
о диссертации князя Б . Б . Голицына, а вызвано тревожными
обстоятельствами—студенческими волнениями. Однако, из выступлений самого графа Капниста было ясно, что его присутствие было связано, в первую очередь, именно с отзывом о диссертации Голицына.
Несмотря на то, что Столетов должен был сам ознакомить
факультет со своим отзывом, отзыв еще до заседания факультета
без ведома Столетова был передан профессору II. А. Некрасову,
который выступил с резкой, но необоснованной критикой отзыва Столетова и Соколова, в защиту работы князя Голицына.
Помимо этого, на заседании было зачитано резкое письмо
Голицына, направленное против рецензентов.
Это вызвало, выступления А. Г. Столетова и К. А. Тимирязева, зафиксированные в виде особых мнений, приложенных
к протоколу заседания * .
Приведем несколько выдержек из речи А. Г . Столетова.
«1. В своем докладе, заслушанном 14 апреля, профессор
Некрасов цитирует подлинными словами отзыв о диссертации
* Вопрос обсуждался еще на заседании 21 а п р е л я , когда Столетов
по' болезни отсутствовал. Но он прислал к заседанию факультета текст
своего выступления 14 а п р е л я . С. Н.
князя Голицына, составленный по поручению факультета профессором Соколовым и мною. Следовательно, наш отзыв (переданный
г. декану по окончании заседания 7 апреля) был в распоряжении
профессора Некрасова прежде, чем был заслушан в факультете.
Не берусь судить, дозволительно ли, по точному смыслу
закона, такое пользование еще не заслушанною бумагой. Наш
„отзыв" стал совершившимся фактом лишь по прочтении его
перед факультетом; перед самим чтением, даже во время чтения,
он мог подвергнуться изменениям, сокращениям и дополнениям.
Во всяком случае, довременное ознакомление одного из членов
коллегии с незаслушанным еще документом не согласно с установившимся у нас обычаем...
2. Весь доклад профессора Некрасова представляет собой
не независимую критику диссертации князя Голицына, а критику отзыва уполномоченных факультетом рецензентов. Доклад
ставит себе целью—по пунктам опровергнуть выраженные в нашем отзыве утверждения и не содержит ни одного указания о диссертации, не внушенного непосредственно текстом отзыва. Такого рода доклад не соответствует цели и неприличен по форме...
3. Считаю ниже своего достоинства отвечать на критику
профессора Некрасова антикрнтикою, как ни легка была бы
такая задача. Неприличный памфлет профессора Некрасова
есть не более как акт слепой враждебности ко мне, слепого
доверия к малоизвестному дебютанту, несомненно, руководившему пером докладчика.
Ограничусь замечанием, что во время чтения доклада я вторично слышал те самые возражения и самооправдания, какие
мне уже пришлось выслушать ранее, при домашней беседе моей
с автором диссертации. Кроме этой наивной и поверхностной
самозащиты лица, зараженного великим самомнением, но плохо
владеющего своей научной темой, доклад не дал ничего нового,
если не считать содержащихся в нем резкостей и общих мест».
Приводим теперь полностью два отдельные мнения, высказанные К. А. Тимирязевым на том же заседании факультета
14 апреля 1893 года.
О Т Д Е Л Ь Н О Е М Н Е Н И Е К . А. Т И М И Р Я З Е В А П О П О В О Д У ЗАСЛУШ А Н Н О Г О В З А С Е Д А Н И И Ф А К У Л Ь Т Е Т А 14 А П Р Е Л Я 1893 ГОДА
З А Я В Л Е Н И Я МАГИСТРАНТА К Н Я З Я Г О Л И Ц Ы Н А
«До чтения письма магистранта князя Голицына мною было
высказано мнение, что письмо это подлежит рассмотрению
факультета в том только случае, если оно содержит заявление
магистранта о желании получить обратно рассуждение, представленное им на рассмотрение факультета. Какие бы то ни
было пререкания и полемика между лицом, пожелавшим представить на суд факультета свой труд, и факультетом представляются мне недопустимыми и немыслимыми.
Когда факультет, несмотря на сходные протесты еще нескольких членов, ознакомился с содержанием письма, мною
было высказано следующее:
Никогда еще факультет, с тех лор, что я имею честь присутствовать в его заседаниях, не подвергался подобному оскорблению.
Содержание письма заключает именно те неприличные, невозможные пререкания, от которых факультет обязан себя
оградить. Лицо, предъявившее свой труд на суд факультета,
имеет смелость выступать судьей над своими судьями, объявлять
им приговор и указывать факультету дальнейший образ действия.
Ознакомившись с содержанием еще неизвестного факультету отзыва, автор письма объявляет этот отзыв несостоятельным и осмеливается произносить резкое, неприличное
суждение о некомпетентности двух профессоров-специалистов,
по поручению факультета рассматривавших диссертацию1.
В заключение автор письма приглашает факультет отклонить
неблагоприятный отзыв специалистов, поручить вторично рассмотреть его труд представителям других специальностей2.
Подобное неслыханное вмешательство в деятельность факультета и оскорбительная критика его действий со стороны лица,
к тому не призванного законом, не может быть допущена без
явного нарушения достоинства факультета.
Если же небывалый в университетской жизни поступок
магистранта князя Голицына будет оставлен без последствия,
то он послужит прискорбным прецедентом. Ближайшим его
результатом будет то, что каждый заботящийся о сохранении
своего достоинства профессор окажется впредь вынужденным
отклонять от себя рассмотрение ученых трудов, зная наперед,
что при этом исполнении самой тяжелой и ответственной служебной обязанности он не огражден, даже в заседании факультета, от оскорблений, всегда возможных со стороны авторов,
труды которых будут признаны неудовлетворительными».
1
Укажу, например, на следующие выражения: «Упреки... свидетельствуют о крайне поверхностном отношении к моим выводам и непонимании, к чему некоторые из данных мною формул относятся, в чем всякий
энакомый с математикой может непосредственно убедиться». «Этот факт...
и з б а в л я е т . меня от необходимости говорить о других неосновательных
упреках, сделанных мне». (Примечание К. А.
Тимирязева).
2
«Ставя- на вид (вариант: обращая внимание факультета) вышеизложенные факты и соображения, покорнейше прошу не отказать мне в рассмотрении цела по существу». (Примечание К. АТимирязева).
О Т Д Е Л Ь Н О Е М Н Е Н И Е К . А. Т И М И Р Я З Е В А ,
К А С А Ю Щ Е Е С Я В Ы С Т У П Л Е Н И Я ПРОФ. Н Е К Р А С О В А
«По выслушавши факультетом объяснительной записки ординарного профессора Некрасова, заключающей критику доклада профессоров Столетова и Соколова и предложение факультету о дальнейшем направлении, которое должно сообщить
делу о рассматриваемой диссертации, заявлено мною следующее:
Считаю своим долгом протестовать против заключения объяснительной записки ординарного профессора Некрасова, предлагающего факультету признать доклад профессоров Столетова
и Соколова „недействительным".
Факультет может принять или не принять заключения
представленного ему доклада, признать же доклад „недействительным" равносильно признанию его содержания невежественным или недобросовестным, а произносить подобный позорящий
приговор над действием двух своих членов, всегда пользовавшихся полным его уважением, в настоящем случае факультет
не имеет нравственного права.
С своей стороны, высказываясь за принятие доклада профессоров Столетова и Соколова, нахожу, что заявленное ими желание, чтобы доклад их был напечатан, освобождает от ответственности тех членов факультета, которые по своей некомпетентности не могут быть прямыми судьями в деле.
Что касается до исхода, который должно получить дело
о рассматриваемой диссертации, то он мне представляется ясным
и с логической точки зрения и на основании постоянной практики русских университетов; наоборот, для меня остается непонятным, почему в настоящем случае должно быть сделано
исключение.
Факультет может, конечно, назначить публичную защиту
диссертации в отсутствие профессоров-специалистов, но не
думаю, чтобы подобная мера была совместима с интересами
науки и даже с внешними приличиями. С другой стороны, невозможно ожидать, чтобы специалисты, после продолжительного изучения диссертации и отрицательного о ней отзыва,
сочли возможным выступить официальными оппонентами на
диспуте, положительный исход которого предрешен. Это значило бы превращать диспут из публичной защиты диссертации
магистрантом в публичную экзекуцию над официальными
оппонентами.
Магистранту и в настоящем случае предоставлен исход,
указываемый многочисленными прецедентами — представить
свой труд на рассмотрение физико-математического факультета
одного из семи русских университетов».
Таким образом, картина представляется совершенно ясной:
надо было во что бы то ни стало поддержать «сиятельного» магистранта против «беспокойного» старого профессора. Ведь
с этой целью заранее и передали князю Голицыну отзыв Столетова и Соколова, а также поручили профессору П. А. Некрасову во что бы то ни стало защитить Голицына, что тот, видимо,
с большой охотой и сделал, но, как это неизбежно бывает
в таких случаях, сделал крайне неумело, грубо и неловко.
Уже 20 апреля, то есть через 6 дней после заседания,
П. А. Некрасов пишет письмо в факультет. В этом письме
профессор Некрасов уже почти вынужден кое-что брать назад
и внести такие «поправки», которые весьма прозрачно раскрывали «кастовую» подоплеку этого столь интересного дела.
Именно поэтому мы считаем необходимым познакомить читателя с этим, приводимым ниже, письмом.
«Мнение мое о диссертации князя Б. Б. Голицына, читанное
в заседании факультета 14 апреля,—писал профессор П. А. Некрасов,—требует поправки в выражении окончательных моих
заключений, в которых, по существу дела, я желал выразить
ту только мысль, что, по сложившемуся во мне глубокому
и искреннему убеждению, я не могу признать диссертацию
князя Голицына неудовлетворительной. Никаких иных целей
я не имел в виду, и если форма моих выражений (в особенности
фраза: «признать отзыв недействительным») вызвала недоразумения в отношении моих намерений, то я повторяю мое
извинение, высказанное еще при чтении моего мнения, что
в виду краткости времени, которым я располагал, изложение
моего мнения недостаточно обработано со стороны формы
и языка».
До чего доходила неумелая защита Некрасовым этой диссертации, видно хотя бы из следующего отрывка его отзыва:
«Можно безусловно признать только одну ошибку князя
Голицына... но ошибка эта ничтожная, как не играющая в теории никакой существенной роли и притом извинительная для
физика, потому что все вообще физики не умеют и не любят
разбирать тонкий вопрос о границах области годности их приблизительных формул, каковые границы и нарушены здесь
князем Голицыным».
Хорош тот физик, который не знает и не понимает, в каких
пределах его рассуждения верны!
Климент Аркадьевич Тимирязев со студентами,
товарищами по С.-Петербургскому университету.
Слева направо: стоят— Василий Аркадьевич Тимирязев, Мещерский:
сидят — Климент Аркадьевич, А. X. Стевен, Д. И. Воейков
1864
Заслуживает внимания и маскировка «кастовости» со стороны председателя графа Капниста, защищавшего от Столетова...
свободу слова. Так и сказано в протоколе:
«Г. председательствующий по поводу возникших между
заслуженным профессором Столетовым и ординарным профессором Некрасовым прений высказал свое крайнее удивление
тому, что А. Г. Столетов как член факультета может выражать
желание посягнуть на свободу прений в заседаниях факультета...» (?И С. Н.).
Чем же кончилась борьба на этом заседании?
Новая комиссия по рассмотрению диссертации не была
выдвинута, так как большинство все-таки оказалось против
этого. Однако, суждение о диссертации было отложено до
осени...
Но дело приняло совсем другой оборот. Чтобы уяснить его,
мы должны сделать отступление.
Еще задолго до представления диссертации князя Голицына
Столетов был выдвинут в качестве кандидата в члены Академии наук. Известно даже, что Столетов приглашался для осмотра предназначавшейся ему физической лаборатории Академии наук и получил предложение разработать план расширения
этой лаборатории. Но... в связи с отзывом Столетова о диссертации Голицына дело с выбором Столетова в Академию наук
начало тормозиться.
Нельзя умолчать и еще об одном, казалось бы, постороннем событии, однако, чрезвычайно характерном для описываемого периода университетских нравов и положения свободомыслящего профессора. Это событие сыграло важную роль в деле
«избрания» Столетова в Академию наук и вообще в истории
научной карьеры Столетова. Кстати, в этом эпизоде, как в капле
воды, отразился весь невыносимый гнет царизма, беспощадно
душивший таких гигантов научной мысли, какими были Столетов и Тимирязев.
Летом 1892 года ректор университета профессор Н. П. Боголепов (впоследствии министр просвещения, автор правил
1899 года «Об отдаче студентов за беспорядки в солдаты», убитый студентом Карповичем в 1901 году) запретил женам университетских низших служащих стирать белье. Между тем, это
был главный заработок для этих служащих, так как жалованье
их в то время составляло 6 рублей в месяц. После издания ректором Боголеповым приказа о запрещении заниматься стиркой
семьи низших служащих оказались почти без всяких средств.
Летом 1892 года один из таких бедняков в буквальном смысле
слова умер от голода.
Узнав о том, что университетские служащие умирают с голоду, Столетов по своей инициативе собрал частное совещание
профессоров, которое решило обратиться к Боголепову с просьбой создать комиссию по улучшению материального положения низших служащих. Председателем этой комиссии был выдвинут А. Г. Столетов. Со свойственной ему выдержкой и рвением Столетов взялся за дело. Но это не понравилось ректору,
который вскоре же выдвинул против Столетова обвинение в том,
что он как председатель комиссии требует всевозможные документы и даже... их выкрадывает. Дело дошло до того, что Боголепов потребовал очной ставки между Столетовым и одним
служащим университетской канцелярии, чтобы доказать факт
похищения Столетовым важных документов. Служащий канцелярии, несмотря на заявление начальства, показал, что все
документы на месте и что Столетов их не брал.
После этого события Столетов перестал подавать руку Боголепову.
На этой почве по Москве пошли слухи, что Столетов—«бунтарь», что он подстрекает профессоров и студентов против
ректора и начальства. В Академию наук также полетели доносы.
К чему все это привело, видно из следующего письма, направленного 15 октября 1893 года А. Г. Столетовым К. А. Тимирязеву:
«Письмо от H. Н. Бекетова гласит:
„ Дело об избрании Вашем в члены Академии не было допущено,
по воле президента*,
до окончания, и была назначена новая
комиссия, то-естъ, собственно, прежняя, за исключением меня,
так как я отказался в ней участвовать. Эта новая комиссия уже
предложила кандидата в адъюнкты — князя Голицына. Я, конечно, имел несколько объяснений с самим президентом и, наконец,
* Президентом Академии н а у к в то время была ц а р с к а я особа—вел и к и й к н я з ь Константин Константинович. С. Ii.
делал заявление открыто в заседании нашего отделения, но поддержки не оказалось. ГІовидимому, из Москвы шла агитация
против Вас. Всю ответственность за ход этого дела принял
на себя сам президент, разрешивший его своею властью
Что это—во сне или наяву творится?
Ваш А.
СТОЛЕТОВ»
Это письмо, публикуемое ныне впервые, чрезвычайно ярко
вскрывает ту атмосферу, в которой жили и вели борьбу за «совесть науки» Столетов и Тимирязев.
В конце 1893 года и в начале 1894 года в Москве состоялся
I X съезд русских естествоиспытателей и врачей под председательством К. А. Тимирязева, произнесшего на этом съезде свою
известную приветственную речь «Праздник русской науки»*. На
этом же съезде выступал и Столетов, организовавший на нем
ряд своих обзорных докладов, а также блестящие демонстрации. За исключительно хорошую организацию секции физики
Столетову в конце съезда была сделана настоящая овация.
Однако, и Столетову и Тимирязеву пришлось перенести и на
этом съезде немало горьких минут, отчасти связанных с теми
событиями, о которых уже шла речь.
Система травли и сыска «беспокойных» ученых весьма ярко
вскрывается в следующих двух письмах, адресованных уже
знакомым нам профессором П. А. Некрасовым К. А. Тимирязеву, бывшему в то время председателем распорядительного
комитета по устройству упомянутого съезда.
ПИСЬМО П Е Р В О Е ( Б Е З Д А Т Ы )
«КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Милостивый
государь,
Климент
Аркадьевич!
Во вторник 22 декабря в физической лаборатории университета происходило известное Вам собрание распорядительного
комитета по устройству I X съезда русских естествоиспытателей
и врачей. По окончании заседания, когда часть членов удалилась, а некоторые члены (из числа профессоров физико-математического и медицинского факультетов) еще оставались в помещении собрания, беседуя о продолжающемся опасном состоянии университета, заслуженный профессор А. Г. Столетов по-
зволил себе во всеуслышание присоединить при упоминании
о ректоре (Н. П. Боголепове, о котором у нас уже шла речь.
С. Я . ) столь оскорбительные и дерзкие выражения, что, по
чувству приличия, я не решаюсь приводить их здесь.
Находя, что эти выражения, по их буквальному смыслу,
оскорбительные для чести университета, вытекали, однако,
лишь из личного необузданного раздражения, и сохраняя притом
чувства искреннего уважения к А. Г. Столетову, как к моему
учителю, я, тем не менее, не могу не оскорбляться столь возмутительною неосторожностью его в обращении с тем, что
близко затрагивает более всего для нас дорогую честь университета, и обращаюсь к Вам как к товарищу и профессору
(а равно и ко всем остальным членам распорядительного комитета) с покорнейшею просьбою оградить на будущее время
Комитет от столь печальных окончаний его собраний выражением образу действий А. Г. Столетова порицания или какимлибо другим способом. Если же в распоряжении членов Комитета не найдется никаких средств воздействия на А. Г. Столетова, в смысле ограждения от его произвола и необузданности,
то покорнейше прошу считать меня сложившим с себя звание
члена вышеозначенного Комитета.
Прошу Вас принять уверение в искреннем почтении и преданности.
Я.
НЕКРАСОВ»
ПИСЬМО ВТОРОЕ
« Многоуважаемый
Климент
Аркадьевич!
Вам, без сомнения, хорошо известно, что в физической секции предстоящего I X съезда русских естествоиспытателей
и врачей заявлены некоторыми лицами (например, профессором
H. Н. Шиллером) рефераты, относящиеся к диссертации князя
Голицына. Вы знаете также, что в виду еще нерешенного в факультете спора об этой диссертации (мы уже знаем из приведенного выше письма академика Бекетова, что этот „спор" был уже
два с половиною месяца тому назад „разрешен". С. Н.) есть
риск обострения этого спора во время указанных рефератов,
что может повести к неблагоприятным результатам либо в отношении условий гостеприимства либо в отношении достоинства
спорящих сторон, связанных с факультетом и университетом.
По этим соображениям, мне казалось бы, что правила взаимной
деликатности отношений, с одной стороны, лиц, принадлежащих
к факультету и Московскому университету, и, с другой стороны,
гостей, имеющих приехать на съезд, требовали бы, чтобы, по
возможности, вовсе не ставить в секциях съезда рефератов
и суждений по таким щекотливым вопросам, как нерешенный
факультетом вопрос о диссертации князя Голицына. Во всяком
случае, считаю своим долгом покорнейше просить Вас принять
те или другие меры к тому, чтобы отстранить возможность вышеуказанных обострений на съезде, дабы гости и лица, исполняющие долг гостеприимства, не превратились в воюющие стороны.
В видах охранения деликатности отношений во время съезда,
я, с своей стороны, буду просить и князя Голицына не выступать с ответами на чьи-либо возражения против его диссертации, предъявленные в заседаниях съезда.
Прошу Вас принять уверение в искреннем почтении и совершенной преданности.
11.
НЕКРАСОВ
28 декабря 1893 года».
Вот как оберегал «сиятельного» магистранта от целого
съезда естествоиспытателей, во главе с К. А. Тимирязевым,
аппарат господствующего класса.
Тем не менее, съезд естествоиспытателей, как мы уже говорили, выразил свой восторг по поводу блестяще организованной Столетовым секции физики и его блестящих демонстраций.
Председательствовавший на съезде Климент Аркадьевич,
не раз предупрежденный попечителем округа Некрасовым
об «опасностях», которые таились в Столетове, с исключительной
прямотой посвятил часть своей заключительной речи на пленуме съезда «несдававшемуся» Столетову.
Климент Аркадьевич сказал:
«В деятельности секций выдвинулась вперед одна особенность, встреченная общим сочувствием: это — ряд блестящих
демонстративных сообщений и научных выставок. Пальма первенства в этом отношении, по всеобщему признанию, должна быть
присуждена секции физики. Благодаря неутомимой энергии
и таланту профессора Столетова и его талантливых и энергичных сотрудников (тогдашние ассистенты Столетова П. Н. Лебедев и В. А. Ульянин и препаратор И. Ф . Усагин. С. Я.),
члены не одной только секции физики, но и других секций
могли ознакомиться с рядом блестящих новейших опытов,
какие можно увидеть в такой форме разве только в двух, трех
научных центрах Европы».
Ѳ травле Столетова знали, конечно, многие члены съезда,
и тем дружнее съезд апплодировал Столетову и закрывавшему
отот съезд Клименту Аркадьевичу.
«Историю» со Столетовым К. А. Тимирязеву, конечно, припомнили, и здесь же, на съезде, петербургские ботаники успели
сообщить Тимирязеву, что они привезли из Петербурга «коечто неприятное». Это «неприятное» заключалось в докладе
Н. А. Монтеверде о «Протохлорофилле», в котором были сделаны выпады против работы К. А. Тимирязева о «Протофиллине».
Дело заключалось в следующем.
К. А. Тимирязев в Петербурге, в Ботаническом обществе,
делал доклады о своих работах по протофиллину. Часть результатов этих научных исследований была тотчас же напечатана
Тимирязевым в Comptes Rendus Французской академии, вторая
же часть была отпечатана позже, и эта вторая статья, видимо,
ускользнула от его противников. Монтеверде же сообщил
результаты, совпадавшие со второй работой, выдвигая их несогласие с первой частью.
Ответ К. А. Тимирязева на выпады Монтеверде упорно не
хотели печатать в «Дневнике» съезда, и только лишь после
заявления Климента Аркадьевича, что он в таком случае слагает с себя обязанности председателя съезда, ответ был напечатан.
Вот текст ответа, который напечатал К. А. Тимирязев по
адресу Монтеверде:
«Сообщение г. Монтеверде не заключает и не может заключать противоречия с моими исследованиями. В общем это только
повторение моей работы, основанное на моих указаниях. Говорить же о противоречии в частностях г. Монтеверде не имеет
ни права, ни возможности, так как моя подробная работа не
опубликована и ему неизвестна. Ново только то, что г. Монтеверде считает возможным, вопреки принятым в науке обычаям,
пользоваться указаниями чужого предварительного сообщения
для того, чтобы присвоить себе подробности чужого, еще не
опубликованного труда».
Так, мало-помалу, начиналась травля К. А. Тимирязева,
сверкавшего блеском своего таланта. Начальство строчило
доносы, и Тимирязеву начинали «платить», создавая неимоверно тяжелые условия для его научной и преподавательской
работы в университете. Так, в том же 1893 году К. А. Тимирязев
был лишен хоть сколько-нибудь подходящего помещения для
занятий студентов с микроскопом и принужден был пользоваться предоставленным в его распоряжение углом, отделенным
сквозной решеткой от аудитории,—помещением, в котором
занятия могли производиться лишь в свободное от лекций время
и притом исключительно при вечернем освещении. Из-за отсутствия помещения Тимирязеву приходилось отказывать студен- I
там, заявлявшим свое желание вести у него работы по физиологии. Климент Аркадьевич был поставлен в условия «стран-,
ствующего» профессора, принужденного водить своих студентов
по чужим аудиториям (химической, физической), в которых
он поневоле должен был отказываться от своих блестящих
демонстраций на лекциях, так как переносить пособия для
демонстраций из одного университетского здания в другое
было невозможно.
К концу 1893 года К. А. Тимирязеву не было предоставлено
даже права и «странствовать»—ему приходилось читать лекции
в совершенно исключительной, по своей необорудованности,
аудитории, не удовлетворявшей даже самым элементарным
педагогическим и гигиеническим требованиям: все слушатели
из-за невероятной тесноты буквально задыхались, а половина
из них, к тому же, ничего не могла видеть (в аудитории было
80 мест, а слушателей 160—170).
Так «терпел» К. А. Тимирязева Московский университет,
и так «терпел» Тимирязев в Московском университете.
В период гонений, которые испытывал Климент Аркадьевич,
когда случалось, что вот-вот и от Тимирязева отнимут последнее пристанище и последний прибор, исключительную, в своем
роде, роль играл незаменимый, преданный помощник К. А. Тимирязева—лабораторный служитель Евпл Павлович Александров, проработавший с Климентом Аркадьевичем почти 40 лет.
Сколько вместе с Тимирязевым невзгод перенес этот человек!
В буквальном смысле слова самородок, не получивший никакого образования, благодаря своей исключительной сообразительности, Евпл Павлович прекрасно понимал все указания
Климента Аркадьевича, иногда угадывая их с полуслова.
Храня, как зеницу ока, все, что конструировал Тимирязев,
Евпл Павлович умел (подчас не имея ни нужных материалов,
ни средств) делать все, что требовалось для тимирязевских
демонстраций. Как значителен был труд этого человека, знал
только один Тимирязев, «кочевавший» со своим то и дело ломавшимся оборудованием, куда «укажут». Евпл Павлович «мастерил» для Тимирязева все. Когда Климент Аркадьевич впервые
получил из Парижа регулятор для вольтовой дуги, чтобы устроить свой электрический демонстрационный фонарь (до того
у Климента Аркадьевича был «друммондов свет»), он попросил
Евпла Павловича обратиться за специальной помощью к лаборанту физического кабинета Ивану Филипповичу Усагину.
Но не сделать чего-нибудь для Тимирязева собственноручно
Евпл Павлович считал недопустимым. И не прошло двух дней,
как, работая и день и ночь, Евпл Павлович сам «сообразил»—
и фонарь был готов. «Никакого Усагина мне не нужно,—
заявил Евпл Павлович,—я все сам изучил». Именно этому человеку был обязан Тимирязев тем, что ни одно преследование со
стороны университетского начальства не смогло расстроить
тимирязевского лабораторного оборудования, его знаменитых
приборов. Лабораторный служитель Александров был не только
верным хранителем тимирязевского «хозяйства» в университете, но и верным другом Тимирязева, в течение 40 лет жившим
интересами великого ученого.
Евпл Павлович Александров,
служитель лаборатории Климента Аркадьевича
1898
Тимирязева
ш
«ДЕЛО О ...?»
В
се приводимые в настоящей главе документы, имеющие
прямое отношение к биографии К. А. Тимирязева, характеризуют интереснейший период в истории русских университетов.
Это было время, когда передовая, революционно-демократическая часть студенчества 90-х и начала 900-х годов достаточно
ясно начинала осознавать неизбежность своей борьбы с диким
произволом царизма и, в частности, с теми чудовищными формами притеснения, которые студенчество испытывало в стенах
университета. Напуганное ростом оппозиционного движения
широких трудящихся слоев общества царское правительство
обрушилось на студенчество с карательной мерой: отдача в солдаты студентов, участвующих в студенческих «беспорядках».
Эта мера носила название «временных правил». Изданы эти
ß 1С. А. Тимирязев, т. 1
«правила» были в 1899 году, и, действительно, уже через полтора года 183 студента Киевского университета были «отданы
в солдаты». Эти карательные мероприятия царского правительства вызывали во всех высших учебных заведениях широкую
волну студенческих протестов.
Политическое значение этих волнений было блестяще очерчено Лениным в статье «Отдача в солдаты 183 студентов».
Ленин писал:
«Рабочий класс постоянно терпит неизмеримо большее угнетение и надругательство от того полицейского самовластия,
с которым так резко столкнулись теперь студенты. Рабочий
класс поднял уже борьбу за свое освобождение. И он должен
помнить, что эта великая борьба возлагает на него великие
обязанности, что он не может освободить себя, не освободив,
всего народа от деспотизма, что он обязан прежде всего и больше
всего откликаться на всякий политический протест и оказывать
ему всякую поддержку. Лучшие представители наших образованных классов доказали и запечатлели кровью тысяч замученных правительством революционеров свою способность и готовность отрясать от своих ног прах буржуазного общества и итти
в ряды социалистов. И тот рабочий недостоин названия социалиста, который может равнодушно смотреть на то, как правительство посылает войско против учащейся молодежи. Студент
шел на помощь рабочему,—рабочий должен придти на помощь
студенту. Правительство хочет одурачить народ, заявляя,
что стремление к политическому протесту есть простое бесчинство. Рабочие должны публично заявить и разъяснить самым
широким массам, что это—ложь, что настоящий очаг насилия,,
бесчинства и разнузданности—русское самодержавное правительство, самовластье полиции и чиновников.» (В. И. Ленинт
изд. 3, том IV, стр. 72).
В с я история отставки К . А. Тимирязева связана с его предложением в Совете Московского университета «ходатайствовать» перед министром об отмене этих «временных правил».
Большинство Совета Московского университета побоялось присоединиться к внесенному К. А. Тимирязевым предложению
и решило обратиться к студентам с воззванием, предлагавшим
студентам прекратить «беспорядки».
Климент Аркадьевич демонстративно отказался подписать
это воззвание, исходившее от 71 профессора.
Приводимые ниже документы собраны были самим К. А. Тимирязевым и уложены в конверт с надписью: «Дело о ...?»
Названия этому делу так и не нашлось. Впоследствии,
в разговорах, Климент Аркадьевич не раз говорил об этих
документах как о деле «с вопросительным знаком».
Впрочем, нетрудно усмотреть, что этот поставленный Тимирязевым «знак вопроса» представлял собой глубочайшую иронию Климента Аркадьевича, с которой он относился к издевавшимся над его совестью чиновникам и слугам самодержавия—
министрам и попечителям русского царизма.
«Дело» об отставке К. А. Тимирязева, в связи с выговором,
сделанным Тимирязеву министром народного просвещения
Ванновским по поводу студенческих волнений (февраль 1901 г.),
начинается с запроса товарища министра Н. А. Зверева. Этот
запрос был передан ректору Московского университета профессору А. А. Тихомирову (известному зоологу, антидарвинисту) и касался студенческой «прокламации», появившейся
в Харькове, в которой излагались события, происходившие
в феврале 1901 года в Московском университете.
В «деле» имеется следующее письмо от 2 мая 1901 года:
«Глубокоуважаемый
Климент
Аркадьевич!
Мне нужно Вас обеспокоить одним спешным делом. Не
будете ли так добры назначить, когда бы я Вас мог застать
сегодня дома. Если же это для Вас удобнее, то не откажите зайти ко мне в правление между 1 часом и 2 часами
дня.
Всегда готовый к услугам Вашим и искренно преданный
А.
ТИХОМИРОВ».
Текст запроса товарища министра просвещения Зверева
о Тимирязеве, надо полагать, сохранился в университетском
архиве, но при «деле» его нет. Содержание его, однако, ясно
вытекает из следующего ответа К. А. Тимирязева А. А. Тихомирову.
«ГОСПОДИНУ РЕКТОРУ
ИМПЕРАТОРСКОГО МОСКОВСКОГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А
На сообщенный мне запрос Господина Товарища министра
по поводу «бюллетеня», помеченного «Харьков, марта 14 дня
1901 г., издание III», могу разъяснить следующее.
В общем фактическое содержание этого документа верно,
неверны только некоторые, приписываемые мне, выражения,
которых серьезный человек, говоря о серьезном деле, не мог
себе позволить.
В заседании 24 февраля я отклонил участие в воззвании
к студентам, редакция которого была изготовлена правлением,
и вообще отказался принять участие в кацом бы то ни было
воззвании на основании соображений, развитых мною в отдельном мнении, приложенном к протоколу этого заседания
и представляющем то, что было мною высказано 24 февраля не
по содержанию только, но и по форме.
После появления воззвания профессоров меня действительно
посетили (на дому) много студентов различных факультетов
и курсов.
Хотя то, что я говорил у себя дома, как частный человек
с частными лицами, не подлежит никакому контролю, но
я могу засвидетельствовать, что сущность моих разговоров передана верно, добавлю только, что, убеждая студентов отозваться сочувственно на призыв комиссии (комиссия по обследованию причин студенческих волнений и по выработке мер к их
предотвращению), я добавил, что, не принадлежа сам к ее составу, я лично не заинтересован в успехах ее деятельности
и поэтому студенты еще более могут положиться на искренность
моего совета. О студентах, приходивших со мной советоваться,
я сам упоминал на совете 28 февраля. Верно также, что я сначала не предполагал итти в Совет, но о своих намерениях не
говорил ни одному студенту, чего, впрочем, не утверждают
и составители «бюллетеня».
Происшедшее в заседании 28 февраля передано также в общих чертах верно, содержание же моих слов я в письменной
•форме передал г-ну секретарю Совета и оно было им буквально
внесено в протокол.
Ординарный
4 м а я 1901 года.
К. А.
профессор
ТИМИРЯЗЕВ»
К этому ответу на запрос товарища министра были приложены две выписки из протокола заседания Совета от 24 и 28 февраля, которые мы также считаем нужным привести полностью.
ПЕРВАЯ ВЫПИСКА
ОТДЕЛЬНОЕ МНЕНИЕ ОРДИНАРНОГО ПРОФЕССОРА
К. ТИМИРЯЗЕВА, ВЫСКАЗАННОЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
24 ФЕВРАЛЯ 1901 ГОДА
«По поводу предложения г. ректора выставить изготовленное правлением воззвание к студентам от имени Совета считаю
долгом высказать следующее мнение: на основании ныне действующего устава, профессора, ни в совокупности, ни через
избранных ими лиц, не уполномочены разбирать или обсуждать
какие-либо дела, касающиеся поведения студентов, и я не вижу
законного основания для такого запоздалого суждения о последствиях прискорбных нарушений порядка, к своевременному
предотвращению или ограничению которых они не призваны
законом.
Не признаю я за собою и нравственного права обращаться
с запоздалым увещеванием к студентам, так как такое право
профессор, как профессор, может черпать лишь в уверенности
студентов, что он, с своей стороны, хочет и может сделать все
доступное для пользы и защиты студентов, не будучи к тому
вызван лишь угрозой шумных, беспорядочных заявлений. Но
такая деятельность профессору окончательно преграждена
и законом и установившейся практикой.
Когда несколько лет тому назад сорок профессоров выступили с ходатайством о введении некоторых изменений в складе
студенческой жизни (замечу мимоходом, принятых в высших
учебных заведениях других ведомств), они получили за это
строжайший выговор своего начальства. Не имея возможности
во время спокойного течения университетской жизни ходатайствовать о мерах, могущих предотвратить или ограничить нарушение этого спокойствия, профессора лишены всякого нравственного авторитета, когда является повод влиять успокоительным образом на умы самой благоразумной части студентов в моменты всеобщего возбуждения.
Так и в настоящий момент, когда главной причиной возбуждения умов не только какой-нибудь исключительно беспокойной, но и наиболее благоразумной части учащейся молодежи являются «временные правила»,—в качестве временных
они, конечно, не были предназначены войти в обиход нормальной университетской жизни.
За несколько месяцев до их введения и около полутора года
по их введении порядок не был нарушен ни в одном университете. Если бы профессорам и советам университетов, как ближе
стоящим к делу и знакомым с настроением наиболее благоразумной части учащихся, была дана возможность воспользоваться
ѳтим затишьем для ходатайства перед своим ближайшим началь-
ством о своевременности отмены этих временных правил, то
острая и прискорбная форма, которую приняли настоящие беспорядки, была бы предотвращена.
Могу напомнить присутствующим, более молодым членам
Совета, один пример, показывающий пользу подобного своевременного заявления профессоров по поводу такого же прискорбного случая. В 1887 году я и несколько профессоров (Столетов,
Чупров, Стороженко и др.) явились ночью, в третьем часу,
к генерал-губернатору (покойному князю Долгорукому), убедительно прося его не выдвигать на следующий день против
студентов казаков, расправа которых накануне довела студентов до такого возбужденного состояния, что появились слухи,
будто некоторые из них собирались явиться с револьверами.
Просьба профессоров была уважена, и на следующий день
они могли с успехом увещевать студентов, чем, быть может,
предотвращено было пролитие крови.
Так и всякое увещевание со стороны профессоров может
рассчитывать на успех лишь при уверенности студентов, что
профессора являются их естественными защитниками. Выступать же в таком качестве профессора в настоящее время не имеют
ни права, ни возможности (вспомним результат ходатайства 40),
а следовательно, не имеют и нравственного права выступать
в качестве непризнанных законом судей совершившегося, или
запоздалых и также не уполномоченных законом советчиков.
На основании сказанного не нахожу возможным принять
участие в каком-либо воззвании к студентам».
ВТОРАЯ ВЫПИСКА
МНЕНИЕ К. А. ТИМИРЯЗЕВА, ВЫСКАЗАННОЕ В ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА 28 ФЕВРАЛЯ 1901 ГОДА
«Профессор Тимирязев, соглашаясь с пользой комиссии для
исследования причин последних явлений университетской жизни
и средств для водворения более нормального ее течения,
просит разрешения г-на председателя высказать несколько слов
по двум вопросам, обсуждение которых ему представляется
более существенным в переживаемую тревожную минуту...
Более существенный пункт касается вопроса, затронутого профессором Тимирязевым уже в заседании 24 февраля. Он глубоко
убежден, что только одно ходатайство хотя бы о временной приостановке действия временных правил может успокоить благоразумную часть студенчества, которая готова на всякие жертвы,
руководствуясь одним желанием разделить ответственность за
совершившееся со своими товарищами. Представляя это заявление, как это подсказывает ему его совесть, профессор Тими-
рязев не просит даже о голосовании его предложения, а принимает его всецело на свою ответственность, настаивая на
своем праве, чтобы оно было занесено в протокол и доведено
до сведения министерства.
На замечание г-на председателя, что в самый разгар возбуждения умов такое ходатайство не может рассчитывать на
успех, профессор Тимирязев возразил, что при спокойном течении университетской жизни он не имел бы ни случая, ни возможности высказать свое заявление, а когда предписание о применении временных правил будет получено, эта возможность
исчезнет окончательно, и потому именно переживаемый момент
он считает единственно удобным для доведения его заявления
до сведения начальства».
После представления этих выписок из протоколов заседания
Совета и приведенного ответа на запрос о «харьковской прокламации» дело затихло.
К . А. Тимирязев был командирован от Совета Московского
университета на юбилей Глазговского университета, где он был
избран почетным доктором этого университета, и пробыл за
границей до 3 сентября 1901 года.
22 августа этого года на квартиру Климента Аркадьевича
(следовательно, еще до приезда его из-за границы) было направлено следующее извещение:
«Попечитель Московского учебного округа, свидетельствуя
свое почтение Климеытию Аркадьевичу, честь имеет просить
его превосходительство пожаловать к нему в один из приемных
дней, от 1 до 3 часов дня. Москва. Августа 22 дня 1901 года,
JVä 16566».
На этом извещении рукой К. А. Тимирязева написано:
«Явился 5 сентября. На основании высочайшего указа и правительственного сообщения 25 мая 1899 г. и циркулярного
предложения М. Н. П. (Министерство народного просвещения.
Ред.) от 21 июня 1899 г. за № 17287 министр поручил попечителю поставить мне на вид (подчеркнуто мною. С. Н.), что я
уклоняюсь от влияния на студентов в интересах их успокоения.
Выговор поручено сделать словесным, без выдачи мне копии
и с приглашением его не оглашать» (подчеркнуто мною. С. Н.).
Со слов К. А. Тимирязева, передававшего подробности этой
сцены своему сынуА.К. Тимирязеву, известны следующие детали.
Попечитель П. А. Некрасов долго не решался сообщить этот
выговор и нарочно старался придумать какие-либо темы для
разговора, чтобы оттянуть время.
После объявления выговора, на просьбу К. А. Тимирязева
показать бумагу, в которой был написан текст выговора, попечитель ответил резким отказом. После долгих усилий удалось
добиться, чтобы выговор был прочитан. При деле имеется листок, на котором рукой К . А. Тимирязева синим карандашом
записано: «уклоняюсь от влияния в интересах успокоения»г
а также сделаны ссылки на циркуляры М. Н. П. и «Правительственный вестник». Когда выговор был записан, К. А. Тимирязев
заявил, что в ответ на этот выговор он подаст в отставку. Это
вызвало большое замешательство у попечителя. Он указывал,
что дело это вообще пустое, что не стоит на это обращать
внимания, что об отставке нечего и думать. На этом К. А. Тимирязев прервал разговор.
11 сентября К. А. Тимирязев направил декану физикоматематического факультета Н. В. Бугаеву следующее заявление:
«В Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й
ФАКУЛЬТЕТ
Статья 105 высочайше утвержденного устава императорских российских университетов предоставляет профессору по
истечении тридцати лет учебной службы читать лекции и принимать участие в заседаниях факультета и совета, „буде" он
„пожелает".
В настоящее время обстоятельства, от меня не зависящие
и разъяснять которые факультету я не имею возможности,
нравственно вынуждают меня отказаться от пользования предоставленным мне законом правом и воздержаться как от чтения
лекций, так и от участия в трудах факультета и совета. Считаю
долгом разъяснить, что принятое мной решение для меня самого
является неожиданностью—иначе я счел бы себя обязанным
своевременно о том известить факультет.
Обращаюсь затем к факультету со следующей просьбой:
разрешить мне временно пользоваться коллекцией приборов(преимущественно моего изобретения и составляющих в некотором смысле мою духовную собственность) и одной небольшой
комнатой, которая могла бы служить одновременно и для занятий тех оставленных при университете лиц, которые пожелали бы
пользоваться в своих работах моим советом1.
1
Само собой разумеется, что на содержание этой части лаборатории
я не испрашивал бы никаких средств и сам оплачивал бы труд прислуги.
(Примечание К. А. Тимирязева).
'S
s
4 s
3 S
О
R\I SЙ
_e
ê 4 a,
&*
о - 3о
—
S
SR го3
to <5
L |
^ 1
G I
ч
2 e4
S s
s,^
^ s
- S
S 50
S «
3
s4 Ö
as s0
«Jï
^Ін Oi
Убедительно прошу факультет, в случае, если эта моя просьба не может быть уважена, меня о том немедленно известить, чтобы я мог, не теряя времени, представить прошение об увольнении
меня из университета и так устроить свою жизнь, чтобы без
продолжительного перерыва спокойно продолжать свою научную деятельность.
Qpd
профессор
К.
ТИМИРЯЗЕВ»
Через два дня, 13 сентября, должно было состояться заседание Совета для обсуждения практических мер по осуществлению вышедшего предписания министра Ванновского о «сердечном
попечении». Как известно, министерство Ванновского «решило» вести политику «сердечного попечения о студенчестве».
Вечером 13 сентября на квартиру К. А. Тимирязева зашел
профессор В . В. Марковников, чтобы итти вместе с К . А. на Совет. В беседе с В. В. Марковниковым К. А. Тимирязев заявил,что
он в Совет не пойдет, и в виду настойчивых просьб Марковникова Климент Аркадьевич должен был рассказать ему все дело
и показать копию заявления в факультет (это заявление на
факультетском заседании, конечно, оглашено не было). Не дослушав объяснений, профессор Марковников быстро направился
в Совет. Через час, тяжело дыша, он с торжествующим видом
вошел в кабинет Климента Аркадьевича со словами: «Ну, я все
устроил... Сейчас к вам в полном составе придет Совет просить
взять вашу отставку обратно».
Рассказывают, что, будучи среди торжественной обстановки
на заседании Совета, после объяснения попечителя учебного
округа того, как надо понимать возвещенное министром Ванновским «сердечное попечение о студентах», профессор Марковников
попросил слова для внеочередного заявления, начав словами:
«Зачем нам говорить о „сердечном попечении", когда наших лучших товарищей доводят до того, что они подают в отставку. Разве
вы не знаете, что профессор Тимирязев подал в отставку?» Сильно
волнуясь, профессор Марковников изложил, как знал, все дело.
После очень долгих переговоров с пришедшими и переполнившими квартиру членами Совета К. А. Тимирязев решительно
ответил, что не может изменить своего решения.
На другой день, утром, приехал П. А. Некрасов, пробывший
в большом волнении у К. А. Тимирязева около двух часов. К ве-
черу он прислал письмо, в котором излагал то, что говорил
Клименту Аркадьевичу утром. Вот это письмо:
«Глубокоуважаемый
Климент
Аркадьевич!
Позвольте мне письменно формулировать то, что сегодня
я высказал Вам лично.
1. Неосторожно оглашенные переговоры (эти слова К. А. Тимирязевым подчеркнуты и после них поставлен знак вопроса.
С. H.) мои с Вами по поручению министра народного просвещения о том тезисе (опять подчеркнуто и поставлен знак
вопроса. С. Н.), который Вам поставлен, имели неокончательный характер.
2. Неточность и опасная для университетского дела острота
той формы, в которой переговоры огласились, состоит в том,
что эти переговоры оглашены, как состоявшийся „выговор" Вам
министра, между тем как при первом же нашем разговоре я указывал Вам на желательность дальнейших разъяснений, если Вы
считаете дело стоящим внимания, советуя Вам либо лично быть
у министра, либо воспользоваться моим посредством. При этом
я тогда же с ударением обращал Ваше внимание и на то, что
дело это, если Вам угодно, можно и совсем бросить, так как
министр не считает его заслуживающим большого внимания.
(Карандашом К. А. Тимирязевым поставлены три восклицательных знака. С. Н.).
3. Концом продолжения этих разъяснений, как я убежден,
было бы полное устранение возникших недоразумений, так как
министру, без сомнения, известны Ваш благородный характер
и Ваши заслуги (о чем мне приходилось беседовать с министром)
и так как министр народного просвещения не может не ценить
высоко в Вас честного, искреннего, преданного делу, профессора,
слова которого не расходятся с поступками. Даже при разномыслии с Вами в каком-нибудь пункте министр не может, думаю,
не выразить Вам полного доверия.
Указанное выше (в пункте 2), Вам своевременно сообщенное,
замечание, что дело это не заслуживает большого внимания,
казалось бы, отнимало у него всю остроту. А потому мне, глубокоуважаемый Климент Аркадьевич, не вполне понятны и Ваши
личные, слишком интенсивные, волнения по этому делу. Извиняюсь, что не сумел предупредить их более решительными успокоениями Вашего понятного самолюбия. В заключение не могу
еще раз не выразить сочувствия Вашему предложению закончить обострившийся инцидент разъяснениями или иным путем.
Ожидаю Вашего ответа. Прошу Вас принять уверения в совершенном уважении и преданности.
Л,
- лам
П. НЕКРАСОВ
14 сентяоря 1901 года».
19 сентября К. А. Тимирязев ответил П. А. Некрасову следующим письмом:
«Многоуважаемый
Павел
Алексеевич!
Приношу Вам еще раз благодарность за письменное изложение Вашей точки зрения на обстоятельство, вынудившее меня
подать в факультет мое заявление от 11 сентября. Исполняю свое
обещание также письменно изложить уже известные Вам побуждения, которыми я руководился. Прошу извинения, что
так замедлил с ответом. Прежде всего считаю необходимым
установить факты.
Возвратись 3 сентября из заграничной командировки, я нашел у себя приглашение явиться к Вам в один из приемных дней.
Явившись в ближайший приемный день, 5 сентября, я узнал следующее. Ссылаясь на леящщие перед Вами документы, с содержанием которых, несмотря на мою просьбу, В ы не сочли возможным позволить мне ознакомиться, Вы объявили мне распоряжение господина министра, которое, по моей просьбе, повторили,
чтобы я его мог записать себе на память. Вот содержание
этого распоряжения.
Вследствие предъявленного мне господином ректором в истекшем мае запроса господина товарища министра действительного
статского советника Зверева по делу о прокламации харьковских студентов, мною была тогда же представлена объяснительная записка с ссылкою на протоколы заседаний Совета 24
и 28 истекшего февраля. Ознакомившись с содержанием дела
и моими разъяснениями, господин министр поручил Вам „поставить мне на вид" (подчеркнуто мною. С. П.), что „я уклоняюсь
от влияния на студентов в интересах их успокоения".
Считаю долгом засвидетельствовать, что возложенное на
Вас поручение Вы исполнили со всею возможною вежливостью
и что высказываемое Вами в письме опасение, не затронули
ли Вы моего самолюбия чем-либо, исходящим лично от
Вас, лишено основания. Тогда же, а равно и в продолжительной беседе 14 сентября, когда Вам угодно было меня посетить,
я подробно изложил Вам мою точку зрения на случившееся.
Позволяю себе, возмояшо кратко, повторить то, что было
мною сказано.
I. Форму, в которой я получил выговор,—я знаю, что Вы
отрицаете уместность этого слова, но ведь это только общепринятое краткое выражение, вполне соответствующее перифразе
„доставления на вид"—фюрму словесного выговора через третье
лицо, с ссылкой на документы, не предъявляемые обвиняемому,
я не могу не считать оскорбительной.
I I . Я мог бы отнестись равнодушно к форме, но самое содержание выговора глубоко оскорбительно. Человеку после почти
полувековой педагогической деятельности (в совокупности двух
высших учебных заведений), сопровождавшейся, по крайней
мере, внешними признаками общего уважения, ставят на вид,
что он не понимает своих основных нравственных обязанностей
(подчеркнуто мною. С. Н.).
III. Я мог бы примириться и с незаслуженным оскорблением
ради того, чтобы не вносить личного усложнения в и без того
тревожную жизнь учреждения, служению которому посвятил
лучшие годы своей жизни. Но в „поставленном мне на вид"
я вижу нечто более простого оскорбления. Я вижу в нем категорическое заявление, что начальство, которому я подчинен, имеет
какие-то права на мою совесть.
Действующий устав 1884 года, лишив профессора всех прав,
которыми он пользовался ранее, не посягает на самое священное
из прав человека, кажется, никогда нигде не нарушавшееся, на
право молчать. Мне ставится на вид, что я этого права лишен,
что я обязан влиять, то есть говорить во всеуслышание и, очевидно, говорить то, что мне может быть указано, так как то влияние, о котором я упоминаю в своем объяснении, признается
уклонением.
Таким образом, мне, как профессору, создается такое невозможное положение. Закон, то есть устав 1884 года, лишает меня
всякого фактического влияния на участь студентов, а от меня
требуют, чтоб в самые тяжелые моменты
университетской
жизни я нес ответственность за последствия чужих действий
и прикрывал их в глазах студентов своим нравственным влиянием (подчеркнуто мною. С. Н.). Закон обеспечивает за мной
право быть немым свидетелем событий, к которым я непричастен, а от меня требуют, чтобы я выступил вперед и высказывал
по необходимости одностороннее суждение о происходящем, и называют это нравственным влиянием. Я говорю нравственным
потому, что для меня очевидно, что, обращаясь к профессору,
в его содействии видят исключительно средство нравственного
убеждения, а не простое средство устрашения. Но нравственным влиянием может пользоваться только человек, руководящийся в своих словах одними внушениями своей совести.
Влияние по указанию тем самым утрачивает свой нравственный характер. И достаточно, чтобы в молодых умах заронилась
тень сомнения, что говорящий не свободен в своих словах,
а руководится посторонними указаниями, чтобы это нравственное влияние было подорвано навсегда.
Отрицая самую возможность нравственного влияния на студентов, при условии, что форма и направление этого влияния
могут быть мне указаны, считаю невозможным признать верность „поставляемого мне на вид", а, следовательно, и сообразовать с ним дальнейшую свою деятельность.
Молчать, при таких условиях, значит соглашаться,
т. е.
вводить в обман, обманывать же, хотя бы молчанием, я нахожу
унизительным (подчеркнуто мною. С. Н.).
Не в моей власти изменить то положение, в которое я поставлен полученным выговором, но закон (ст. 105 устава И. Р. У.)
дает мне право самому устраниться от возможности повторения
случившегося. Он предоставляет мне право по желанию отказаться от исполнения тех сторон моей педагогической деятельности (чтение лекций, участие в деятельности факультета и Совета), исполнять
которые, после всего сказанного,
не могу
без насилия над своей совестью (подчеркнуто мной. С. //.). Хотя
и с глубоким сожалением, я останавливаюсь в своем обращении к факультету от 11 сентября на этом исходе, как на
вынужденном для меня и как на единственно возможном при
создавшемся положении.
Позволяю себе, в заключение, несколько слов по поводу того, что Вы называете „острой формой огласки" случившегося.
Конечно, те, кто не знают меня лично, могут подумать, что
инцидент, в моем отсутствии, в заседании 13 сентября произошел по моему подговору. Но Вы в своем письме признаете, что
я человек самолюбивый, а самолюбивый человек не прячется
за спины своих товарищей, не кричит: меня обидели, пожалейте меня! Вам, без сомнения, известны случаи из моей
университетской жизни, когда я не боялся оставаться не только
в ничтожном
меньшинстве, но и в полном одиночестве (подчеркнуто мной. С. Н.).
Предоставляя Вам право предъявлять это письмо, кому Вам
будет угодно, прошу Вас принять уверение в истинном Почтении,
с которым имею честь быть готовым к Вашим услугам.
К.
ТИМИРЯЗЕВ.»
Уход Климента Аркадьевича из университета чрезвычайно
возбудил передовую часть университетской профессуры, направившую из своей среды к К . А. Тимирязеву делегацию. После
трехчасовой беседы, происходившей на квартире у Климента
Аркадьевича, К. А. Тимирязев согласился взять обратно свое
заявление, сопроводив свое согласие посылкой в округ и для
сведения министра Ванновского заявления, что «истинным слу-
гою университета может быть только тот, кто ревниво охраняет
достоинство звания профессора». Однако, и это испытание не
было последним для К. А. Тимирязева.
Ровно через десять лет, при разгроме Московского университета министром Кассо в 1911 году, снова прозвучал смелый
и мужественный голос Тимирязева, вновь бросившего свой
призывный клич на борьбу с ужасающим полицейским режимом,
душившим и громившим университет.
На этот раз К. А. Тимирязев, во главе более чем 100 йрофессоров и преподавателей, навсегда покинул университет*...
* После 1917 г. К. А. Тимирязев был восстановлен профессором университета, но по состоянию здоровья к чтению л е к ц и й приступить не мог.
Ре д.
I Y
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
К. А. ТИМИРЯЗЕВА
I
В
предисловии к своей работе «Солнце, жизнь и хлорофилл»,
которую К. А. Тимирязев посвятил памяти великих германских ученых Роберта Майера и Германа Гельмгольтца,
Тимирязев говорит, что основной задачей, которую он поставил
себе с первых шагов своей научной деятельности и упорно и всесторонне осуществлял в течение полувека, было осуществление
блестящей мысли двух великих ученых, требовавших «опытных»
доказательств того, что в растении может отложиться лишь
столько углерода, сколько принесено его извне в форме углекислоты, и лишь столько тепла, сколько растение могло поглотить его в форме солнечного света. Доказать «солнечный источник жизни», «изучить химические и физические условия разложения углекислоты зеленым листом, определить составные
части солнечного луча, участвующие посредственно или непо-
средственно в этом процессе, проследить их участь в растении
до их уничтожения, то-есть до их превращения во внутреннюю
работу, определить соотношение между действующей силой
и произведенной работой»—вот та задача, которую поставил
перед собой К. А. Тимирязев и служению которой он посвятил
значительную долю своей научной деятельности.
Первое, что было осуществлено К. А. Тимирязевым из намеченной им самим программы,—это определение, какие лучи
солнца и в какой мере поглощаются зелеными органами растения, содержащими хлорофилл.
Сущность предложенного Тимирязевым метода определения
составных частей солнечного луча, участвующих в процессе,
заключалась в том, что, как он сам пишет в «Главнейших успехах ботаники», концентрируя лучи света, идущие из спектроскопа (для этого Тимирязев заменял окуляр спектроскопа объективом микроскопа, помещенным под столиком микроскопа),
он получал в поле микроскопа спектр величиною с булавочную
головку и таким образом рассматривал в нем хлорофилловые
верна. Оказывалось, что там, где эти зерна не поглощали света,
они оставались прозрачными, окрашенными в цвет соответствующей части спектра (например, зеленый или крайний красный),
там же, где свет поглощался, эти зерна становились черными, как
угольки (в синей и особенно в средней красной части спектра).
Тимирязев доказывает, что именно красные лучи, лежащие
между фрауенгоферовыми линиями Ли С и сильнее всего поглощаемые хлорофиллом, вызывают и наибольшее усвоение углекислоты.
Вторая задача, которую поставил и разрешил К. А. Тимирязев, о чем он также сам пишет в «Главнейших успехах
ботаники» * и других работах, заключалась в том, чтобы
показать, что именно в тех частях спектра, в которых хлорофилл поглощает свет, и совершаются обе реакции — разложения углекислоты и последующего образования крахмала.
К . А. Тимирязевым был разработан тот изумительный по
своей простоте, удобству и точности прием изучения воздушного питания листьев, который под названием «Прибора
Александра Алексеевна Тимирязева —
жена Климента Аркадьевича
Тимирязева
1901
Климент
1901
Аркадьевич Тимирязев
для исследования воздушного питания листьев и пр.» вошел во
всеобщее употребление и стал достоянием каждого ботаника,
приступающего к изучению основ физиологии листа. С помощью
своих установок К. А. Тимирязев доказал, что лучи, поглощаемые листом, или, точнее, хлорофилловыми зернами, действительно получают иное назначение, чем в любом нагревающемся
теле: они затрачиваются на процесс разложения углекислоты,
и именно в этих лучах происходит в живом листе образование
крахмала.
Таким образом, К. А. Тимирязевым было доказано, что «свет,
падающий на живое растение, действительно получает другое
назначение, чем тот, который падает на мертвые тела» (разрешения этого вопроса опытным путем требовал Роберт Майер),
что «живой силе исчезающих солнечных лучей соответствуют
появляющиеся в то же время запасы химической силы» (разрешения этого вопроса также опытным путем требовал Герман Гельмгольтц).
Разрешая основные вопросы, поставленные Майером и Гельмгольтцем перед физиологией растений, Тимирязев вскрывает
специфическую функцию хлорофилла как оптического и химического сенсибилизатора, действующего в живом растении. Тимирязев доказывает, что фотохимическое действие хлорофилла
аналогично действию сенсибилизатора, то-есть что хлорофилл
действует, разлагаясь сам и в то же время вызывая разложение
углекислоты в той части спектра, которая им поглощается.
Став на физическую точку зрения учения об энергии,
К. А. Тимирязев первый высказал мысль, что процесс разложения углекислоты должен зависеть от энергии солнечных лучей, а
не от их яркости. Вопреки Дрэперу, считавшему, что химическое действие света должно зависеть от яркости и даже быть пропорциональным ей, Тимирязев доказал, что производимая лучом
работа зависит от его работоспособности, а не от его чисто субъективного (физиологического, вне глаза не имеющего смысла)
свойства—яркости, и что при фотохимических, или, правильнее, актинохимических, явлениях может итти речь только о лучистой энергии, измеряемой ее тепловым эффектом. Зная, какие
именно лучи оказывают химическое действие в листе, Тимирязев
определил, какая доля поглощенной энергии превращается
7
К. А. Тимирязев, т. і
97
в полезную работу-разложения углекислоты. При помощи особым образом приспособленного термоэлектрического прибора,
который он назвал фитоактинометром, Тимирязев смог определить, какой процент падающей на лист солнечной энергии поглощается его хлорофиллом (см. в настоящем томе крунианскую
лекцию К. А.—«Космическая роль растения», а также «Главнейшие успехи ботаники», изд. Гранат, стр. 13—17)*.
«Тимирязев дает,—пишет профессор Ф.Н. Крашенинников,—
и более глубокое термодинамическое объяснение процессу
ассимиляции, который можно уподобить диссоциации углекислоты при высоких температурах: он объясняет, как даже слабый свет, благодаря тому, что он концентрируется в малой зоне
хлорофиллового зерна, может вызывать реакцию фотосинтеза,
требующую большого напряжения энергии».
Бэлис, один из выдающихся физиологов, назвал действие
хлорофилла в разложении углекислоты и выделении кислорода
«самым интересным из всех явлений природы», и можно сказать,
что Тимирязев, первым выступивший с научным разъяснением
этого замечательного явления природы и популяризировавший объяснение вопроса, действительно «сделал эпоху» в постановке и разрешении этой исключительно волнующей проблемы.
Научные исследования Тимирязева, имеющие в настоящее
время уже более чем шестидесятилетнюю давность, общепризнаны как безупречные по своему методу и своей исключительной
методике и отнесены к разряду классических работ, о чем так
определенно пишет, например, Вюрмсе в своих работах об
ассимиляции.
Таким образом, можно утверждать, что со времени представления К. А. Тимирязевым своей первой работы по хлорофиллу,
в которой он сочетал точные химические приемы разделения
веществ с точной спектральной характеристикой полученных
продуктов—а это было на первом московском съезде естествоиспытателей в августе 1869 года,—Тимирязевым был проложен
единственно верный путь к научному пониманию и изучению
этого сложнейшего явления в природе. Ряд виднейших европейских ученых, вначале отвергавших целесообразность применения спектроскопии в физиологии (например, Вильштеттер,
известный исследователь хлорофилла), вынуждены были признать свои заблуждения и прибегнуть к спектроскопическому
приему, то-есть пойти по тимирязевскому пути.
Небезынтересно отметить, в какой восторг пришел Бупзен,
в лаборатории которого Тимирязевым была сделана первая
работа, когда ему был показан впервые полученный Тимирязевым спектрально чистый хлорофпллин. Старик Бунзен, стоя
у окна, буквально любовался роскошной флуоресценцией препарата.
О значении Тимирязева как исследователя, посвятившего
себя, главным образом, изучению хлорофилла и его роли в природе, прекрасно знал и Чарлз Дарвин, которому К . А. Тимирязев, будучи у пего в Дауне в 1877 году, лично вручил, вместе
со своей книгой «Чарлз Дарвин и его учение»*, оттиск работы,
только что представленной Беккерелем в Парижскую академию.
«Хлорофилл,—сказал Дарвин К. А. Тимирязеву,—это, быть
может, самое интересное из веществ во всем органическом мире».
Свою оценку ролп К . А. Тимирязева как ученого, создавшего свой метод в физиологии растений и опередившего в этом
отношении многие из европейских лабораторий, Дарвин дал
в письме к Дайеру по поводу организации в Кыо лаборатории
по физиологии растений. В этом письме, написанном через
несколько месяцев после встречи с К. А. Тимирязевым, Дарвин
писал:
«Я глубоко убежден, что было бы в высшей степени жалко,
если бы физиологическая лаборатория, уже отстроенная, не
была снабжена самыми лучшими инструментами... Я думаю,
немецкие лаборатории могли бы послужить нам примером, но
Тимирязев из Москвы, изъездивший всю Европу, перебывавший
во всех лабораториях и показавшийся мне таким хорошим малым (so good a fellow), мог бы составить нам лучший список
самых необходимых инструментов» (More letters of Charles
Darwin, 1903, vol. H, p. 417).
Известно также, что последняя заметка Дарвина, появившаяся за несколько дней до его смерти, касалась именно хлорофилла.
Таким образом, следует сказать, что в истории биологии
К . А. Тимирязеву принадлежит весьма почетная роль. Его зна-
7*
99
і
чение поистине велико, так как примененный метод спектроскопии в биологии (в физиологии растений) позволил К. А. Тимирязеву разъяснить природу космической связи менаду солнцем
и жизнью при посредстве хлорофилла.
«Если в астрофизике он (спектроскоп. С. H.) пролил свет на
происхождение солнечного луча, то здесь (в биологии. С. H.) он
показал,—пишет Тимирязев в статье «Год итогов и поминок»,*—•
его конечную участь на земле. Хлорофилловое зерно—тот фокус, та точка в мировом пространстве, где солнечный луч, превращаясь в химическую энергию, становится источником всей
жизни на земле. Это, как я ее назвал,—космическая функция
зеленого растения».
И действительно, научные исследования К. А. Тимирязева
были устремлены на изучение хлорофилла как «связующего
звена между солнцем и жизнью».
Наша научная литература может гордиться и доныне «крунианской» лекцией Тимирязева, представляющей собой замечательный итог его 35-летней научной деятельности. Эта лекция,
носившая название «Космическая роль растения»**, была по особому приглашению прочитана Тимирязевым в 1903 году в Лондонском королевском обществе, причем слушателями этой лекции были такие всемирно известные ученые, как Френсис Дарвин, Листер, Гукер, Крукс, Рамзей, Гольтон, Кельвин. Крушіанская лекция, дававшая полное разрешение той задачи, которую ставили перед всем ученым миром Мейер и Гельмгольтц
(см. выше),
доставила
Тимирязеву
поистине мировую
славу.
Полнота и необыкновенная точность научных исследований
К. А. Тимирязева, его, как уже говорилось, безукоризненная
методика объяснялись тем, что К. А. Тимирязев, будучи европейски известным биологом, обладал большими знаниями в областях (физики и химии. Нельзя забывать, что К . А. Тимирязев,
будучи в начале своей деятельности учеником столь известных
ботаников, как А. Н. Бекетов и Гофмейстер, был также непосредственно связан в своей научной школе с такими учителями
в области химии и физики, как Буссенго, Менделеев, Бунзен,
Кирхгоф и Бертло.
* См. том IX настоящего издания. Ред.
** См. данный том, стр. 391. Ред.
Огромное значение научных работ Тимирязева становится
еще более ясным, если мы познакомимся с тем, как понимал
Климент Аркадьевич задачи естествознания и, в частности,
роль биологии.
Тимирязев не признает всемогущества лишь одного экспериментального метода, считая его недостаточным для объяснения всей совокупности явлений, совершающихся в организмах.
Он находит, что для подлинного научного понимания всякого
биологического процесса и всех явлений в природе необходимо
возможно полное восстановление их исторического прошлого.
«Ни морфология, со своим блестящим и плодотворным сравнительным методом,—говорит Тимирязев в своей книге „Исторический метод в биологии"*,—ни физиология, со своим еще
более могущественным экспериментальным методом, не покрывают всей области биологии, не исчерпывают ее задач; и та и другая ищут дополнения в методе историческом . . . Разве существует какое-нибудь явление, которое не было' бы только звеном
в бесконечной цепи причинной связи? Только абстрактное
отношение к явлению, причем исследователь, отвлекаясь от
реальной связи с прошлым и будущим, произвольно определяет
границы изучаемого явления, освобождает этого исследователя
от восхождения к прошлому. Всякое же возможно полное изучение конкретного явления неизменно приводит к изучению
его истории».
Понятно, почему Тимирязев говорит, что
«едва ли не самой характеристической чертой, отметившей
развитие естественных наук за X I X столетие, должно признать
тот коренной переворот в наших воззрениях на природу, который сблизил по методу изучения две области человеческого
знания, казалось, имевшие так мало общего,—биологию с
историей».
Тимирязев вскрывает, каким образом синтез всех отраслей
знаний привел и не мог не привести к признанию историзма
в биологии, к признанию исторического метода.
В предисловии к своей книге «Некоторые основные задачи
современного естествознания»** Тимирязев, анализируя содержание своей речи «Основные задачи физиологии растений»***,
* См. том VI настоящего издания. Ред.
** См. том V настоящего издания, «Насущные задачи современного
естествознания». Ред.
* * * См. том V настоящего издания. Ред.
чрезвычайно четко определяет сущность своего научного метода.
Он говорит:
«Я, главным образом, стараюсь разъяснить взаимные отношения, вкоторых должны находиться два основные метода исследования живых существ: метод экспериментально-физиологический и историко-биологический. Непониманием взаимного
отношения этих двух путей исследования, служащих опорой
и продолжением один другому, грешат еще многие современные натуралисты как у нас, так и на Западе. Между биологами
можно еще часто встретить таких, которые думают, что, раз
произнесено слово борьба за существование, то этим все объяснено, и готовы с негодованием или глумлением, только обнаруживающими их незнание, отнестись ко всякому применению к живым существам физических методов исследования. Точно так же
между физиологами можно встретить таких, которые полагают,
что раскрытие приспособлений живого организма выходит
из пределов строго научного исследования. С самых первых
шагов своей научной деятельности я пытался доказывать односторонность этих точек зрения, взятых в отдельности, и плодотворность их гармонического слияния в одно стройное целое.
Где кончается задача непосредственно физиологического опыта,
перед физиологией открывается обширная область историкобиологического исследования, и, наоборот, всякое историкобиологическое исследование в качестве необходимых начальных своих посылок должно основываться на фактах, добытых всегда более точным экспериментально-физиологическим
путем».
Величие Тимирязева как ученого и как исследователя
состоит именно в том, что, будучи одним из крупнейших представителей экспериментальной биологии, он свои исследования
проводил на основе исторического метода, поднял на щит
признание дарвинизма как «философии биологии», шедшей вразрез воззрениям многих авторитетов того времени. Тимирязеву
приходилось вести решительную борьбу против умаления
и попыток даже совершенного уничтожения значения дарвиновского учения. Для характеристики научного облика Тимирязева
совершенно необходимо знать Тимирязева именно с этой стороны. Строгий исследователь, не покидавший ни на минуту почвы прямого опыта, Тимирязев находит в дарвинизме ту всеобъемлющую научную теорию, которая смогла сформироваться только на строго научной основе анализа и обобщений фактов,
добытых Дарвином как величайшим исследователем.
Тимирязев представляет собою исключительного ученого,
давшего научно-экспериментальные доказательства космической роли зеленого растения. Вместе с тем, научные материалистические устремления Тимирязева не могли не искать тех
исходных строго научных положений, которые представляли бы
собою разрешение вопроса о «целесообразности» природы,
в силу действия одних только естественных законов. Тимирязев, считавший девизом в своей научной деятельности говорить
«истину, всю истину и ничего, кроме истины», принял дарвинизм, как единственное строго научное объяснение закономерностей природы, выросшее на непоколебимом фундаменте огромного запаса фактических знаний. Говоря о дарвинизме как об
учении, которое обязано фактам, приобретенным практическими
деятелями на поприще садоводства и скотоводства, Тимирязев
«принял» дарвинизм как ту теорию, которая в истории естественных наук являла собой и разительный пример плодотворности взаимного влияния теории и практики.
Тимирязев связывает всю систему присущих ему научных
взглядов в одно целостное, последовательное мировоззрение,
ставя себя на службу дарвиновскому гениальному учению,
в котором все вяжется в одно стройное целое вокруг одной центральной идеи. Служа научной истине, Тимирязев превращал
свое перо в орудие исключительной научной силы, выступая
как обличитель всей «безнадежности лилипутских походов
против одного из гигантов научной мысли девятнадцатого века».
Об этой стороне деятельности К. А. Тимирязева будет подробнее сказано ниже.
О том, как понимал задачи науки Тимирязев и какой характер носила вся научная деятельность Климента Аркадьевича,
лучше всего говорит он сам в предисловии к сборнику своих статей под названием «Наука и демократия»*. Он пишет:
«С первых шагов своей умственной деятельности я поставил
себе две параллельные задачи: работать для науки и писать для
народа, т. е. популярно (от populus—народ). Эту двойственную деятельность ученого понимал уже великий Петр, определ я я ее словами „науки производить и оные распространять".
Не понимают ее, к сожалению, только многие современные
наши ученые, особенно из величающих себя „академистами".
/
Первая деятельность сама по себе ясна и понятна, хотя и в ней
необходимо установить свою точку зрения на значение науки,,
на взаимное отношение, на относительную ценность чистой науки
и ее приложений».
Тимирязев не раз отвечал защитникам чистой науки, «науки
для науки», говоря:
«Ваша старая формальная логика, от греков до схоластиков,,
учила только, как умозаключать, выводить истины из других
истин или того, что произвольно признавалось за истину. Только
наука учит тому, как добывать истину из ее единственного первоисточника—из действительности)) (подчеркнуто мною. С. Я.).
Важно и интересно отметить метод, которым обычно пользовался Тимирязев, выполняя ту или иную работу. Это—необычайный динамизм, проявлявшийся в особой манере «лепить» свои
мысли. Обычно в первоначальной фазе работы Тимирязев ограничивался очень сжатым наброском плана, устремляя все внимание на основные, «ведущие» места работы. В с я сила и экспрессия Тимирязева обычно направлялась на эти особо выделенные
места, и лишь только после очень тщательной и детальной обработки этих «главных» мест Тимирязев возвращался к остальным
частям работы, дописывая их, и, как бы заново, связывал все
части воедино. Как художник, он страстно любил свою «отделанную» вещь. Выходя из своего кабинета и держа лист в руках,
он с особым удовольствием прочитывал только что написанное
в кругу семьи и близких знакомых. В процессе же работы (еще
до болезни) он обычно, оставаясь один, запирал дверь своего кабинета, и в минуты отдыха можно было лишь слышать, как быстро вскакивал он со своего кресла и, ходя вприпрыжку взад
и вперед, напевал какую-нибудь мелодию.
Это был человек, научная мощь которого сочеталась с исключительно высокой художественностью его натуры, позволявшей
ему необыкновенно живо, убедительно и образно излагать свои
мысли в научных трудах и лекциях.
2
Непреклонно развивая взгляд на науку как на единствотеории и практики, Тимирязев направляет свои научные интересы из области ботаники в область земледелия, считая, что
ни одно из приложений ботаники не заслуживает большего-
Кабинет Климента Аркадьевича Тимирязева,
Москва, улица Грановского (бывишй Шереметьевский переулок), дом 2,
квартира 29. В таком виде сохранился до настоящего времени
(О
.ur.cv V . v '
vv' v„:,s-y. v.
-ï-V'
" 'i '
v.-..r '
'
•
V ' -v.,
•
./.v • \
• >- •
внимания, чем применение ботанических знаний в земледелии,
«приложение основных законов растительной Ж И З Н И к тем явлениям, с которыми приходится считаться сельскому хозяину
в его практике». Тимирязев говорит, что даже при выборе своей
научной специальности—физиологии растений—он в известной степени руководствовался ее отношением к земледелию.
Это в чрезвычайно простой фюрме выражено Тимирязевым в словах: «Наука призвана сделать труд земледельца более производительным».
Возрастающее значение, которое приобретало научное земледелие, побуждало Тимирязева неоднократно высказывать
свое убеждение, что
«(физиология растений займет со временем такое же положение по отношению к агрономии, какое физиология человека
уже заняла по отношению к медицине».
В свете этого высказывания особенно интересно вспомнить
слова академика Т. Д. Лысенко, сказанные им на совещании
передовиков урожайности по зерну, трактористов и машинистов
молотилок с руководителями партии и правительства (Москва,
декабрь 1935 г.):
« . . . всем исследователям, которые обращаются ко мне,
рекомендую читать в первую очередь побольше и повнимательнее Дарвина, Мичурина, Тимирязева. Я сам чрезвычайно часто
перечитываю из них те или иные места при всякой заминке,
при всякой трудности».
Всем известно, что орденоносец академик Лысенко, сочетавший современные данные физиологии растений с научной агрономией и агрономической практикой, действительно обогатил наше социалистическое земледелие теорией стадийности развития
растений, внес в практику агрономической работы прием, называемый яровизацией, и т. д. Так научная мысль Тимирязева
подтверждена практикой социалистического земледелия.
В сборнике публичных речей, носящем название «Некоторые
основные задачи современного естествознания», К . А. Тимирязев с необыкновенной простотой и ясностью изложил методологические основы и сущность своих научных взглядов. Определяя основные задачи физиологии растении в прочитанной им
речи на акте Петровской Земледельческой и Лесной академии,
он говорил:
«Цель стремлений физиологии растений заключается в том,
чтобы изучить и объяснить жизненные явления растительного
организма и не только изучить и объяснить их, но путем этого
изучения и объяснения вполне подчинить их разумной воле человека, так, чтоб он мог, по произволу, видоизменять, прекращать или вызывать эти явления (подчеркнуто мною. С. Н.).
Физиолог не может довольствоваться пассивной ролью наблюдателя,—как экспериментатор, он является деятелем, управляющим природой» (подчеркнуто мною. С. Н.).
В этом отношении Тимирязев предлагает следовать совету
одного из величайших мастеров экспериментальной науки Клода
Бернара, увещевавшего своих слушателей не бояться противоречащих фактов, так как в каждом противоречащем факте заключается зачаток нового открытия. («Surtout, messieurs, ne craignez jamais les faits contraires—car chaque fait contraire est le
germe d'une découverte». Клод Бернар.) Ученый не может проходить мимо повседневных и обыкновенных фактов, потому что
в кругу их, как говорит Тимирязев, и заключаются те замечательные явления, на которые обязан направить свое внимание
ученый. Тимирязев утверждает, что
«научные истины становятся обязательными только силой
доказательств, экспериментальных и рациональных», и что
«главная обязанность ученого не в том, чтобы пытаться доказать
непогрешимость своих мнений, а в том, чтобы всегда быть
готовым отказаться от всякого воззрения, представляющегося
недоказанным, от всего опыта, оказывающегося ошибочным».
Эти положения развивает К. А. Тимирязев, целиком базируясь на высказываниях (в письме к Лешателье) знаменитого
Марселена Бертло, подарившего человечеству плоды своих гениальных экспериментов. Основной идеей о единстве теории
и практики пронизано все научное творчество К. А. Тимирязева.
Сборник «Земледелие и физиология растений»*, посвященный
памяти Жана-Батиста Буссенго, основателя физиологической
школы научного земледелия, начинается одной из самых популярных статей К. А. «Наука и земледелец», в которой он высказывает опять-таки свою основную мысль о служении науки
насущным интересам человека. Он говорит о «гражданских обязанностях современного русского ботаника» и, развивая обще-
ственный смысл задач науки, выражает сущность этих задач,
прибегая к словам «мудрого короля лилипутов», высказавшего
Гулливеру (в «Путешествиях Гулливера») глубокую истину:
«Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде
рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы
благодарность всего человечества, оказал бы услугу своей
стране более, чем все отродие политиканов, взятое вместе».
Эта аллегория, к которой прибегает Тимирязев, пользуясь
ядовитой сатирой Свифта, почему-то перешедшей в потомство
под видом «наивной детской сказки», прекрасно характеризует
все устремления Тимирязева в области земледелия. «Земледелие и физиология растений» К. А. Тимирязева представляет
собой действительно такое произведение, в котором он, выступая
во всеоружии современных ему данных как по физиологии растений, так и по научному земледелию, с необыкновенной убедительностью развивает мысль о том, насколько необходимо
рациональному земледелию для разрешения своих вопросов
обращаться к растительно-физиологическим исследованиям. Используя все богатство своих знаний, Тимирязев утверждает, что
«наблюдения в поле могут быть вполне выяснены только
опытами в лаборатории, и, обратно, указания лабораторного
опыта получают санкцию практичности, только будучи проверены в поле».
Тимирязев переносит весь опыт и научные достижения Буссенго на «русскую почву». Тимирязев неустанно пропагандирует значение Буссенго для научной агрономии, знакомит с ним
широкие круги общественности, разъясняет поставленную Буссенго строго научную задачу: при помощи весов учесть баланс
вещества для каждого агрономического процесса, составить
уравнение, в котором, с одной стороны, находились бы вещества, доставляемые растению, а с другой—продукты, получаемые как результат растительного процесса. Тимирязев, блестяще овладевая методом синтетического использования знаний
растительной физиологии и научного земледелия, берет на себя
роль пионера по определению тех путей развития научной мысли и научной практики, которые указывают агрономии возможности подчинить себе природу, не приспособляясь к данным
климатическим условиям, быть активным деятелем в природе, —
управлять
природой.
«Польза глубокой вспашки как одной из мер борьбы с засухой,—говорит Тимирязев в «Борьбе растения с засухой»*,—
кажется, не подлежит сомнению вследствие достигаемого ею
двойного результата—накопления и лучшего сбережения влаги . . . Три во всех отношениях сходные участка были вспаханы на различную глубину (сохой и плугом), и одним из главных результатов оказалось преимущество глубокой вспашки.
Глубокая вспашка, очевидно, важна не только как средство
для увеличения запаса воды, но и как средство для развития
более глубоко идущих за нею корней».
Так говорит Тимирязев о пользе глубокой вспашки.
Огромно значение научной деятельности К. А. Тимирязева
для земледелия.
С его именем связано введение в России первых опытов по
выращиванию растений в искусственных условиях. С именем
Тимирязева связано также введение первых тепличек («вегетационных домиков») для водных, песчаных и почвенных культур
растений в сосудах.
«Не забудут русские агрономы,—писал К . А. Тимирязеву
по случаю его 70-летней годовщины академик Д. Н. Прянишников,—в частности, и того факта, что первый проект опытной
станции в Москве составлен был Вами: в 1884 году, в годичном
заседании Политехнического музея, в ответ на вопрос, в чем
должна выразиться задача отдела прикладной ботаники, В ы
развили план устройства такой станции в Александровском
саду в связи как с музеем, так и с университетом. Это должна
была быть как бы „кафедра-станция", исследующая вопросы
земледелия в их физиологической основе и периодически знакомящая широкую публику с результатами своих трудов».
Следует отметить, что К. А. Тимирязев один из первых исследовал газовый обмен в клубеньках бобовых растений, что оказало влияние на учение об удобрении, а на практике отразилось
усиленной пропагандой посевов клевера.
Имя К. А. Тимирязева, его научные взгляды вошли в историю науки как призывный клич—преобразовать природу
в интересах трудящегося человека!
«За последние десять лет,—писал К. А. Тимирязев по адресу
виталистов в своей статье „Витализм и наука"**,—неслышно,
незаметно созидается совершенно новая отрасль науки: рядом
с экспериментальной физиологией возникает экспериментальная морфология. Мы полояштельно научились непосредственно
лепить растительные формы (подчеркнуто мною. С. Я.); мы
можем изменять формы стеблей, листьев, цветов; мы можем
даже изменять форму клеточек в глубине тканей...».
В своих научных работах Тимирязев отводит большое место
замечательным исследованиям Бертло, творцу синтетической
химии, автору классического труда «Chimie organique fondée
sur la synthèse», где вся органическая химия показана в совершенно новом освещении.
«Ее первые и заключительные главы,—пишет К. А. Тимирязев в статье, носящей название „Лавуазье X I X столетия"*,
посвященной Бертло,—представляют глубокое научно-философское значение по развиваемому в них воззрению на значение
экспериментального знания вообще и химии в особенности,
где ученый так ясно выступает в своей двоякой роли пророка
и творца, пророка, на основании прошлого тел, предсказывающего их будущее, и творца, по желанию осуществляющего
не только то, что осуществляет природа, но и многое такое,
чего она сама не осуществляет».
Служение науке связано у Тимирязева со стремлением служить общественно-этической, социалистической правде. И если
Тимирязев, вооруженный глубочайшим пониманием современных и насущных задач естествознания, ведет беспощадную борьбу с проявлениями недоверия к науке, то с той же
страстностью, свойственной Тимирязеву, изобличает он и невежественную, слепую веру во всемогущество «науки»—науки,
которую проповедуют прислужники министерства народного
просвещения, конечно, в интересах господства реакции и нужного ей застоя мысли.
Тимирязев сокрушал «авторитеты» науки, выраставшие на
гнилой почве царизма, поповщины и кичливой буржуазной
культуры.
Он действительно ломал веру во всемогущество их «научных норм», и, конечно, терпевшие поражение травили Тимирязева за смелый призыв к демократизации науки, за
призыв объединить самые широкие общественные слои для
подлинно демократического устройства жизни трудящихся,
основанной на «социалистической правде».
Говоря о значении и будущей роли науки, Тимирязев произносит:
«Она за последние полвека почти с каждым днем делает такие
успехи, что, конечно, никакой здравый ум не подумает указать
ей пределы» (подчеркнуто мною. С. Н.).
Великий ученый, наш классик естествознания, призывавший грядущую демократию на генеральный бой против рутины
и консерватизма науки разлагающегося капиталистического
строя, обобщивший в области естествознания лучшее, прогрессивное, что дала буржуазная наука, Тимирязев прокладывал
тот путь науки социализма, по которому пошли люди нашей
эпохи—покойный Мичурин и ныне здравствующие орденоносцы—Лысенко, Мейстер, Эйхвельд, Цицин и др.
На'шей задачей должно быть не только изучение и объяснение жизненных явлений растительного организма, не только
распознавание тайн образования растительных форм, но и управление процессом развития нужного нам растения в нужных
нам целях. К этому всю жизнь призывал великий естествоиспытатель, и это стало знаменем лучших людей науки, воплощающих заветы Тимирязева в сталинскую эпоху—эпоху осуществления союза науки и труда, науки и подлинной демократии,
эпоху победного движения к коммунизму.
К. А. Тимирязевым было написано в общей сложности около
ста специальных физиологических работ, много статей по вопросам эволюции и дарвинизма, а также статей популярных, по
общественным вопросам и различных предисловий (см. включенную в настоящий том полную библиографию работ К. А. Тимирязева, составленную библиографическим подотделом Всесоюзной
библиотеки им. В . И. Ленина, а также перечень работ, составленный самим К. А. Тимирязевым в качестве примечания к
тексту речи «Современное состояние наших сведений о функции
хлорофилла», том I, стр. 362 настоящего издания. Ред.).
Нельзя не упомянуть и о переводах, сделанных Тимирязевым, и о редактировании им переводов иностранных работ,
которые имели огромное влияние на развитие русской научной
и общественной мысли. Прежде всего должна быть отмечена
огромная историческая заслуга Климента Аркадьевича, как
лучшего переводчика на русский язык сочинений Чарлза Дарвина (издание Поповой, 1896—1901 гг., и Лепковского 1907—
1909 гг.). В свое время широкая русская общественность ознакомилась с трудами и учением Дарвина через Тимирязева. Царское правительство старалось, однако, всячески мешать развитию плодотворнейшей деятельности знаменитого ученого.
Происходившее 22 мая 1913 года чествование К. А. Тимирязева по поводу 70-летия со дня его рождения было встречено
гробовым молчанием со стороны представителей «официальной
науки» и тех официальных правительственных сфер, которые <
не могли простить Тимирязеву его воинствующего материализма.
Министерство народного просвещения не могло забыть статей
и выступлений Тимирязева, направленных против министерства Кассо и его прислужников. И вполне понятным становится
тот бойкот, которым был встречен юбилей Тимирязева со стороны правительства.
В то же время. крупнейшие европейские и русские ученые
приветствовали 70-летнего юбиляра, отмечая его огромные
научные заслуги.
Френсис Дарвин (сын Чарлза Дарвина) засвидетельствовал
свое величайшее уважение к научным работам Климента Аркадьевича, отметив, с каким удовольствием вспоминал Климента
Аркадьевича Чарлз Дарвин, которого Тимирязев посещал в бытность свою в Англии. Прочитанная им на безупречном английском языке перед Королевским обществом «крунианская» лекция навсегда, по выражению Френсиса Дарвина, связала имя
Тимирязева с разработанным им научным вопросом о применении методов физики и изучении питания растений в связи
с поглощением света зеленым веществом листьев. Известный
французский ученый Г . Бонье заявил, что чествование Тимирязева является праздником не только русской, но и европейской
науки, в которую он своими выдающимися научными трудами
внес весьма ценный вклад. Знаменитый английский профессор
Фрост Блекмен, заведующий ботаническим институтом в Кембридже, указал, что К. А. Тимирязев пользуется в Англии
огромным уважением за ясность свѳей научной мысли и необыкновенную убедительность своих экспериментов. Профессор
Фармер назвал К. А. Тимирязева самым замечательным ботаником той эпохи. Живший в то время в Париже И. И. Мечников
также присоединил свой голос к общему хору мирового признания.
Всемирная известность выдающегося исследователя природы была признана за К. А. Тимирязевым всей Европой. Достаточно сказать, что К. А. Тимирязев был избран почетным
I доктором Кембриджского, Глазговского и Женевского университетов, членом Эдинбургского и Манчестерского ботанических
обществ и, наконец, членом известного во всем мире ЛондонI ского королевского общества.
Крупнейшие русские ученые, соратники и бывшие ученики
К. А. Тимирязева, покойные академики И. П. Павлов,
М. А. Мензбир, С. Г. Навашин, с исключительным уважением
и сердечностью отмечали заветы своего учителя.
«Климент Аркадьевич сам, как и горячо любимые им растения,—говорил в день 70-летия Тимирязева мировой ученый
академик И. П. Павлов,—всю жизнь стремился к свету, запа) сая в себе сокровища ума и высшей правды, и сам был источником света для многих поколений, стремившихся к свету и
энанию и искавших тепла и правды в суровых условиях жизни».
«Вы сумели дать нам редкий пример не только исследователя, глубоко захватывающего и точно расчленяющего избранный вопрос, не только умеющего увлечь своих слушателей,—
писал К. А. Тимирязеву по случаю его 70-летнего юбилея
академик Д. Н. Прянишников,—не только ценного руководителя во главе ученого общества (ботаническое отделение „Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии",
созданное К. А. Тимирязевым. С. Я.), но и блестящего публичного лектора, энергичного популяризатора, знакомившего
русское общество с трудами и с жизнью крупнейших светочей
естествознания. Вы сумели соединить с тонкостью эксперимента
изящество изложения, постоянную бодрость духа, горячий
порыв в защите своих взглядов».
Тимирязев, по болезни уклонившийся от непосредственного
личного участия в посвященном ему торжестве, приблизительно
месяц спустя, 20 июня 1913 года, написал в редакцию «Русских
Домик в Демьяпове, где помещалась лаборатория
Аркадьевича Тимирязева
Картина художника А. Васнецова, подаренная им
Аркадьевичу. Находится в кабинете Тимирязева
Климента
Клименту
Ведомостей» чрезвычайно характерное для него письмо. Великий ученый, всю жизнь свою боровшийся за осуществление
социальной правды, за науку, которая, во главе с демократией^
должна служить трудящемуся человечеству, Климент Аркадьевич не преминул использовать свое юбилейное торжество, как
арену, на которой, перед лицом общественности, он мог пропагандировать свое понимание роли ученого и его ответственности
перед страной, перед судом истории.
« . . . После той сокрушающей насмешки, которой когда-то
обрушился Щедрин на юбиляров и юбилеи,—писал в упомянутом
письме Климент Аркадьевич,—сказать что-нибудь оригинальное можно только в их защиту. А в эту защиту, мне кажется,
можно сказать следующее. Молодому поколению они должны
служить своевременным предостережением; они говорят ему:
пройдут годы, и к вам отнесутся с таким же великодушным
снисхождением, и вам будет так же стыдно, как стыдно сегодняшнему юбиляру, что столько лет прожито и так мало сделано.
Юбилеи полезны для того, чтобы молодости было неповадно
растрачивать непроизводительно самые дорогие годы жизни,
когда слагается будущий человек. Людям зрелого возраста
юбилеи являются случаем выставлять на вид свои собственные
идеалы и те требования, которые они предъявляют жизни,—
случаем для переклички, для проверки своих рядов, для подсчета
своих противников (подчеркнуто мною. С. Н.). Величайший гений, какого видело наше поколение, Гельмгольтц за несколько
дней до объявленного ему 70-летнего юбилея писал своему другу
Лудвигу: „Помимо всякого тщеславия, проработав, как наш
брат, целую жизнь, имеешь право задаться вопросом, какую
ценность представляет то, что сделал, полезно ли оно. Но ответить на этот вопрос имеют право только те, кто имели случай
им пользоваться и оценить". Да и сам строгий судья юбилеев
(или, может быть, того, во что они иногда превращаются), не
почувствовал ли он сам среди удушливой атмосферы того безвременья, с которым совпали его старые годы, не почувствовал
ли глубокую потребность в открытом, явном заявлении этой
солидарности? Кто не помнит того крика отчаяния, который
вырвался из наболевшей груди великого сатирика земли русской: „Читатель, откликнись!" Этот отклик единомышленников
является почти нравственной потребностью в те минуты, когда,
оглянувшись вокруг, вдруг замечаешь, как поредели ряды
старых товарищей, старых соратников, когда вдруг замечаешь,
что, еще живой, уже стоишь перед судом потомства (подчеркнуто мною. С. Н.). Невыразимо отрадно услышать в это время,
что оно—это потомство—заживо отпускает тебе твои грехи,
8
и. А. Ти.яирязм, m. 1
113
одобряет твои стремления к истине в науке и к правде в жизни,
разделяет твои симпатии и антипатии... Услышать такой отклик
потомства, с которым стоишь лицом к лицу, не значит ли почувствовать, что жил не только своей личной, совершенно исключительно счастливой жизнью, но н приобщился к другой, более
широкой жизни, был одним из бесчисленных звеньев, связывающих преемственную жизнь поколений».
Так говорил по поводу своего 70-летнего юбилея, уже на
склоне лет своих, Тимирязев.
Истинный ученый, с выдающимся именем в мировой науке,
отдавший служению науке и демократии все свои силы, не
мог не притти к социализму.
С «преемственной жизнью поколений», с боровшимся и победившим пролетариатом связала уже 75-летнего Тимирязева
Великая пролетарская революция. Она «одобрила» его стремления и приняла огромные плоды его работ, отдав это наследство
потомку, о котором мечтал Тимирязев,—пролетарской демократии.
Y
НАУЧНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ В З Г Л Я Д Ы
К. А. ТИМИРЯЗЕВА
1
К
ак понимал К. А. Тимирязев свою роль в качестве ученого
и что вкладывал он в понимание своего гражданского
долга, лучше всего говорят те слова, которые Климент Аркадьевич в виде автоэпиграфа помещает в своей книге «Наука
и демократия»*. Он говорит:
«Мы должны стремиться к установлению общения между
представителями труда умственного и физического, к гармоническому слиянию задач науки и жизни, к служению научной
истине и этической правде».
Воспитанный на произведениях Чернышевского, Добролюбова и Писарева, К. А. Тимирязев впитал в себя тот революционный демократизм, который принято называть «наследством
60-х годов». Ленин в своей работе «От какого наследства мы
8*
1
отказываемся?» (изд. 3, том II, стр. 314) указывал на следующие
три характерные черты этих годов:
1) горячая вражда «к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области.»;
2) « — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы,
европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации
России.»; 3) « — отстаивание интересов народных масс, главным
образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены
или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя
вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет
с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому.».
Шестидесятые годы были ознаменованы ростом массовых
стихийных крестьянских восстаний. Задача, которую ставил
Добролюбов своему поколению, заключалась в призыве переходить «от разговоров к делу», к «осуществлению», к действию.
«Необходимо действовать на него (народ. С. Н.),—учил свое
поколение Добролюбов,—раскрывать ему глаза на настоящее положение дел, возбуждать в нем спящие от века богатырским сном
силы души, внушать ему понятие о достоинствах человека, об истинном добре и зле, об естественных правах и обязанностях».
Проповедь Добролюбова и Чернышевского, этих великих
крестьянских демократов 60-х годов, а также влияние прогрессивно мысливших отца и матери (Аркадия Семеновича и Аделаиды Клементьевны Тимирязевых) действительно пробудили
в Клименте Аркадьевиче «безграничную любовь к истине и кипучую ненависть ко всякой, особенно общественной, неправде».
Революционный демократизм 60-х годов воспитал Тимирязева-гражданина, с исключительной страстностью ненавидевшего произвол и самодержавие. Мы уже говорили ранее, с какой непреклонностью, будучи в университете, вставал он в ряды
«забастовщиков-студентов», с какой выдержанной до конца
принципиальностью защищал он «забастовщика-студента».
Студенческие демонстрации представлялись К. А. Тимирязеву
огромной важности народным делом, теми огоньками «народного возмущения», о которых писал Ленин в своей статье «Начало демонстраций» (изд. 3., том IV, стр. 345—347).
Исключительно большое влияние на К . А. Тимирязева
оказывала революционная пропаганда, которую вели последовательные в своем демократизме Чернышевский и Добролюбов.
Разоблачая «передовые слои русского общества», громя тех
либералов, которые предавали революционную демократию
и открыто проповедывали примирение с крепостнической реакцией, пропаганда Чернышевского и Добролюбова представляла
для Тимирязева тот источник, который давал ему огромный
запас революционных сил, служивших ему в борьбе на общественно-политическом фронте.
«Последовательные демократы Добролюбов и Чернышевский—писал Ленин в статье „Либералы и свобода союзов"—
справедливо высмеивали либералов за реформизм, в подкладке
которого было всегда стремление укоротить активность масс
и отстоять кусочек привилегий помещиков, вроде выкупа и так
далее». (Изд. 3, том X X X , стр. 211).
Отсюда, от этого «наследства 60-х годов», от этой пламенной проповеди революционного демократизма исходит та вера
Тимирязева в демократию, на службу которой отдал всего себя
Климент Аркадьевич.
«Русский народ и вышедший из его рядов русский солдат
был всегда равно достоин, равно велик и в счастии, и в несчастии; и в несчастии, может быть, еще более, чем в счастии»,—
говорил Тимирязев в своей статье «Полвека» *, считая своим
долгом служить и приходить на помощь «самой бедной, обездоленной части человечества».
Нельзя понять Тимирязева и оценить всей его роли в науке,
не уяснив влияния на него шестидесятников, о которых он
вспоминает с такой
благодарностью в своей известной
статье «Пробуждение естествознания в третьей четверти
X I X века»**Положение, из которого исходит Тимирязев во всех своих
научных устремлениях, определяется его требованием к науке—
служить общественной пользе.
«Наука не может оставаться уделом, тесной олигархии;
все должны быть приобщены к ее благам; обладание ею является необходимым условием успеха самих приложений; их
развитие не вяжется с общим невежеством».
Эти слова, сказанные Бертло, Тимирязев приводит для
того, чтобы подчеркнуть демократический характер науки,
налагающий на настоящего ученого обязанность служения
науке и демократии. Тимирязев взял от «наследства 60-х годов»
именно то подлинно революционное служение демократии,
которого требовали Добролюбов и Чернышевский: не «укоротить активность масс» и не ограничить демократизацию науки,
а обобществить науку, сделать обобществление науки главной
задачей, главным общественным долгом ученого.
«Сильная наукой демократия, наука, опирающаяся на демократию, и, как символ этого союза—явление почти неизвестное
прошлым векам—демократизация науки».
Так определял Тимирязев характер и назначение науки
в своем сборнике «Наука и демократия», и на вопрос, чему же
учит эволюция человечества в его ближайшем прошлом, в каком
направлении движется оно, какие силы выдвигает вперед,
как главнейшие факторы его будущего, он отвечал: «науку
и демократию».
Борьба Тимирязева на общественно-научном фронте представляет собою, в сущности, не что иное, как пропаганду
того, что
«уже не одним чувством социальной справедливости, г. е.
стремлением к более равномерному распределению плодов
знания между тружениками мысли и тружениками мышц,
руководится ученый, но и сознанием совершающегося на наших глазах перемещения центра тяжести общественной власти
в сторону демократии . . . Отсюда насущная задача науки—
разъяснить демократии, что цели и потребности науки и демократии, истинной науки и истинной демократии (подчеркнуто
мною. С. H.)—одни и те же».
В публичных речах и научных высказываниях Тимирязева
слышен смелый протест против привилегированного меньшинства, порабощающего большинство трудящейся части человечества ради доставления ограниченному числу образования
и других условий успеха в жизни. Тимирязев, принужденный
полицейским режимом ограничивать размах своего пера, то
и дело прибегает к переводу наиболее близких ему по духу
западноевропейских и американских ученых с единственной
целью—в условиях «русской действительности» предать гласности демократические взгляды лучших представителей культурного мира, показать перед лицом самодержавия образцы демократически мыслящих ученых, солидаризироваться с ними.
В задачу Тимирязева входит не только оставаться сторонником
демократизации науки, но и показать, как понимает он сущность политической и социальной демократии. Так, он переводит
«Науку и всеобщий мир» профессора Колумбийского университета Джемса Мак Кин Киттеля, автора и редактора одного из
лучших научно-популярных журналов, нью-йоркского «Popular Science Monthly», именно с целью разъяснить сущность демократии, как он ее себе мыслит.
«Принадлежность к привилегированному сословию,—пишет Тимирязев,—уже не является необходимым условием для
того, чтобы управлять государством или вообще стоять во
главе какого-нибудь дела. Избранникам из среды всего народа
(подчеркнуто мною. С. Н.) может быть доставлен полный случай для подготовки, необходимой им, как руководителям судьбами страны (подчеркнуто мною. С. //.); всякий может сознательно участвовать в политических делах своей страны и в сознательной оценке высших интересов жизни».
Не случайно Тимирязев проявляет исключительно восторженное отношение к знаменитому ученому Бертло. Неоднократно, когда Тимирязева упрекали, что он смешивает «политику с наукой», он отвечал словами Бертло:
«Часто приходится слышать, что ученый не должен заниматься политикой. Это — избитая истина, пущенная в ход каким-нибудь царедворцем в неограниченной монархии, в эпоху,
когда частная интрига успевает всем завладеть, руководясь
соображениями личного произвола, одинаково чуждыми указаниям общественного блага и методам науки».
Воспитанный в духе революционного демократизма блестящей плеяды великих демократов 60-х годов, К. А. Тимирязев
впитал в себя и весь тот прогресс культуры, который давала
тогдашняя Западная Европа, вступившая в полосу огромного
расцвета естествознания.
На фоне русской действительности, в условиях грубейшего
произвола самодержавия, Тимирязев оказался тем исключительным ученым, научные интересы которого неразрывно
сплелись с мечтою борца поставить науку на службу демократии,
дать «каждому гражданину» то, что можно было ьзять у подлинного прогресса науки. И единственно верной школой науки
Тимирязев считал демократизацию науки, борьбу против кастовости науки, цеплявшейся за все темные силы господствующей реакции и регресса.
«От безотрадных картин родной действительности,—писал
Тимирязев в предисловии к сборнику „Наука и демократия",—
мысль ученого, понятно, охотно отдыхает на личных воспоминаниях о великих ученых Запада (Дарвин, Бертло, Кирхгоф,
Бунзен и др.) и своих (И. П. Павлов), а также на дружеских
встречах (увы, последних перед проклятой войной) европейских
ученых (в Кембридже, Париже, Лондоне и др.). Восстающие
в памяти образы великих ученых в обстановке главнейших центров науки с их кипучим настоящим и великим прошлым по
поводу полувековых и трехвековых поминок их славной деятельности вселяют доверие и в грядущее будущее этой науки.
Рядом с ростом этой уверенности чаще и чаще высказывается
мысль о необходимости приобщить демократию к этим завоеваниям науки, от чего зависит будущее процветание человечества» (подчеркнуто мною. С. Н.). «Не следует забывать,—писал
Тимирязев еще ранее, в предисловии к переводу „Наука и нравственность" Бертло,—что современный буржуазный строй не
отказывает науке в известном почете; он готов предоставить ей
крупицы, падающие с роскошной трапезы капитализма, и это
невольно заставляет задуматься о будущности этой науки;
разделяя с сегодняшними победителями их добычу, не будет ли
она (наука. С. Н.) когда-нибудь вместе с ними привлечена
к ответу?»
Тимирязев, борец за демократизацию науки, часто напоминает ученым, что оружие, которым ученый «успешно» пользуется против своих «противников», так же остро, когда оно
обращается против него самого, что односторонность, навеянная
кастовыми интересами и связями, представляет собой лишь
только узость его мысли, рассматривающей жизнь и людей
сквозь мираж его собственных кастовых предрассудков. Тимирязев вскрывает и обнажает всю сущность этой кастовой односторонности, превращающей свои «понятия» и свои «гипотезы»
в абсолютные системы, в неподвижные догматы.
2
Со всей присущей ему остротой критического оружия
Тимирязев разоблачает антидарвинистов
Данилевского и
чСтрахова.
По поводу этих ставленников царизма, «верой и правдой»
охранявших университет от «богопротивного» учения Дарвина
I
s
то
S Sä
ö s
-то о
N
то
S
§
sто о
s то
C£l
Se? S
« со
О
^
s
и не допускавших даже малейшего распространения безбожия
(опасность для народа), Тимирязев писал в своей «Отповеди
антидарвинистам»*:
«Не стану распространяться, как убого должно быть то
окошечко, в котором только и света, что от таких светил, как
Данилевский; какой крохотный и темный уголок неба виден из
этого окошечка, если такие звезды кажутся на нем звездами первой величины... Разгадка эта заключается в одном слове „кружковщртна" (кастовость. С. Н.), в том общественном явлении,
на которое обращали в свое время внимание Грибоедов, и Гоголь, и Тургенев и которое за полвека так мало изменилось,
что сохранило даже прежний язык и номенклатуру. Тесный
кружок единомышленников, мнящий себя центром нового,
мирового движения, распределяет между своими членами роли
гениев, светил, пожалуй, маленьких мессий (подчеркнуто мной.
С. Н.). Таким-то маленьким мессией, очевидно, был в глазах
своего маленького кружка и Данилевский, и его книга „Дарвинизм" заранее была признана мечом, который он должен был
принести для поражения нечестивой науки Запада».
Выступление К. А. Тимирязева в роли борца за учение
Ч. Дарвина, его переводы на русский язык сочинений Дарвина—
огромная историческая заслуга Тимирязева.
Борьба Тимирязева с антидарвинистами, его ожесточенные
схватки с «духовными» душеприказчиками царской ГОССИИ
имели не только научное, но и политическое значение. Тимирязев
отдавал все свои силы на общественную пропаганду дарвинизма.
Перед Тимирязевым стояла задача отстоять от нападок реакционных сил естественно-научные основы материализма, отстоять
учение Дарвина, привлекавшее к себе все более и более широкие круги сторонников. Антидарвинизм представлял собою,
в первую голову, именно то реакционное течение, которое ставило своей задачей не только умалить научную «философию
биологии», но и в корне уничтожить все значение дарвинизма,
противопоставив ему чем-либо замаскированную, а чаще всего
ничем не прикрытую поповщину.
Учение Дарвина, благодаря величию его научных доводов,
становилось достоянием всех прогрессивно мыслящих людей,
и перед Тимирязевым-гражданином вставала общественная задача отстоять это учение, как он выразился в статье «Новые
потребности науки X X века...» *, «от напора мутной воды
повального раболепия, от которой еще немного—и может
захлебнуться совесть целого народа».
И та страстная отповедь, которую Тимирязев давал антидарвинистам, глубочайшим образом связывалась у него прежде
всего со стремлением выполнить свой общественный долг перед
«совестью целого народа». Тимирязев буквально восстал против
возглавившего общественный поход антидарвинистов Данилевского, посмевшего в самодовольно-самоуверенной фразе заявить, что под напором его «критики» все здание теории Дарвина
«изрешетилось» и развалилось в «бессвязную кучу мусора»,
что естественного отбора, то-есть сущности дарвинизма, не
существует, не существовало и существовать не может, что
это — «фантазм, мозговой призрак» и пр.
Необходимо ознакомиться с подлинником той «отповеди»,
которую дал Тимирязев русским антидарвинистам, «ученым»
душеприказчикам и фарисеям, начавшим скрипеть своими
перьями и взывать к охране подрываемых основ общественного
строя. Необходимо познакомиться с этим замечательным документом, чтобы узнать Тимирязева и со стороны присущего ему
огромного дарования, которое позволяло ему в изумительной
по своему блеску форме сокрушать лакействующих в науке.
Верный своему девизу: «борьба со всеми видами реакции—
вот самая общая и насущная задача естествознания», Тимирязев
выполняет свой общественный долг ученого-гражданина, до конца разоблачая перед лицом общественного мнения тех, кому «логика мстит за себя жестоко», кто не может «бороться ее чистым
оружием», кого она вынуждает прибегать к такому жалкому
приему, как умышленное искажение мыслей своего противника.
«Ненаучный,
нелогический,
легкомысленно-хвастливый
склад аргументации,—писал Тимирязев в „Отповеди антидарвинистам",—только оскорбляет мой здравый смысл, воспитанный на образцах строгой науки; дерзкие выходки и напраслина,
возводимая на Дарвина, только возмущают во мне естественное
чувство справедливости... Это не прием исследователя, ищущего
истину для себя и предлагающего ее и другим за ту же цену,
какую она имеет в его глазах, а прием софиста, полагающего
свою задачу в том, чтобы добиться одобрения, вырвать во что
бы то ни стало согласие слушателей».
Под напором «мутной воды» зоркий глаз Тимирязева-материалиста прекрасно рассмотрел того «боженьку», которого пропихивали в природу антидарвинисты вкупе (во главе с Данилевским) под видом «целесообразно направляющего» интеллектуального начала. И если тех, кто «мутил», Тимирязев образно
называл «каракатицами», то совершенно ясно можно себе представить, чем платили последние Тимирязеву, осмелившемуся
переносить на русскую почву гениальное учение великого
Дарвина, равно как и передавать своим слушателям все достижения передовой науки.
Чтобы показать всю глубину тимирязевского материалистического мировоззрения, его научно-философских взглядов,
против которых особенно выступала воинствующая поповщина,
имевшая в качестве своего лидера Данилевского, необходимо
напомнить о тех замечательных высказываниях Климента Аркадьевича, которые мы находим в его «Отповеди антидарвинистам»,
посвященной «философствованиям» того же Данилевского.
В ряде длинных тирад Данилевский обнаруживает свое ужасающее невежество в отношении дарвиновского понимания
случайности, предлагая заменить, как он выражается, «дарвиновскую псевдотелеологию» настоящей телеологией и вместо
«дарвиновской случайности», лежащей в основе дарвиновской
теории естественного отбора, иметь дело, с точки зрения Данилевского, с единственно возможной категорией—разумной целесообразностью, т. е. тем самым «боженькой», о котором мы уже
говорили.
В ответ на заявления Данилевского, что
«никакая форма грубейшего материализма не спускалась до
такого низменного миросозерцания», до какого спустилась философия дарвинизма, позволившая себе изобразить весь мир
таковым, что в нем «вся стройность, вся гармония, весь порядок,
вся разумность являются лишь частным случаем бессмысленного
и нелепого; всякая красота—случайной частностью безобразия;
всякое добро—прямою непоследовательностью во всеобщей
борьбе, и космос—только случайным частным исключением из
бродящего хаоса!»,
Тимирязев своею классической отповедью действительно
сокрушает эту клевету.
Приводимый ниже отрывок Тимирязева из «Отповеди антидарвинистам» представляет собой образец подлинного дарвиновского понимания сущности естественного отбора. Этот отрывок
подтверждает также, что научно-философская позиция Тимирязева в вопросе о случайности и необходимости стихийно приводила его вплотную к диалектическому материализму.
«Найдется ли,—писал Тимирязев,—какой-нибудь сложный
механический процесс, дающий вполне определенный, вперед
вычисляемый результат и не представляющий при более глубоком анализе, при рассмотрении в другом масштабе, целого хаоса
случайностей? Когда сельский хозяин в своей сортировке отделяет одни семена от других, пользуется ли он определенным
механизмом или только игрой случайностей? Когда химик отделяет на фильтре твердый остаток от жидкости, пользуется он
механизмом или случайным явлением? Конечно, и да и нет.
Каждый из этих процессов является и определенным механизмом и хаосом случайностей, смотря по тому, с какой точки зрения мы себе представим явление. Проследите, что происходит
с каждым мелким зернышком в сортировке, какой путь оно
опишет, пока дойдет до отверстия в сетке, сколько раз проскользнет мимо, а может быть так и ухитрится уйти, спрятавшись за крупными. Или эта частица раствора, которая должна
пройти через фильтр и упорно засела в осадке, не доказывает
ли она, что вся операция фильтрования основана на случайности? Но попытайтесь убедить химика, что все его анализы
основаны на случае, и он, конечно, только смехом встретит
такое философское возражение. Или, еще лучше, убедите человека, садящегося в поезд Николаевской железной дороги с расчетом быть завтра в Петербурге,—убедите его, что эта уверенность основана на целом хаосе нелепейших случайностей. А
между тем с философской точки зрения это верно. Какая сила
движет паровоз? Упругость пара. Но физика нас учит, что это
только результат несметных случайных ударов несметного
числа частиц, носящихся по всем направлениям, сталкивающихся и отскакивающих и т. д. Но это далеко не все. Есть
еще другой хаос случайных явлений, который называют трением. Вооружимся микроскопом, даже не апохроматом, а идеальным микроскопом, который показал бы нам, что творится с
частицами железа там, где колесо локомотива прильнуло к рельсу. Вот одна частица зацепилась за другую, как зубец шестерни,
а рядом две, может быть, так прильнули, что их не разорвать,
вон третья оторвалась от колеса, а вон четвертая—от рельса,
а пятая, быть может, соединилась с кислородом и, накалившись, улетела. Это ли не хаос? И, однако, из этих двух хаосов—
а сколько бы их еще набралось, если бы посчитать!—слагается,
может быть, и тривиальный, но вполне определенный результат,
что завтра я буду в Петербурге.
Итак, мы вправе называть естественный отбор механизмом,
механическим объяснением не потому, чтобы в основе его не
лежало элементов случайности, а, наоборот, потому, что в основе всякого сложного механизма нетрудно найти этот хаос
случайностей».
«Именно и видели заслугу дарвинизма в том,—говорит Тимирязев,—что он включил органический мир в область механического (материалистического. С. Ii.) мировоззрения в том
смысле, что распространил на него возможность каузального
объяснения, исследования естественных причин там, где до
тех пор принято было видеть лишь осуществление угадываемых целей».
Таков был воинствующий материализм Тимирязева, против
которого тогда выступала господствовавшая поповщина в науке и философии.
Европейская образованность и революционный демократизм
Тимирязева действительно способствовали тому, чтобы его
мощный голос—голос подлинного борца—заглушил «молодецкий свист», раздававшийся по его адресу.
«Что же касается обязанностей профессора, раз что и о них
уже зашла речь,—отвечал Тимирязев в „Отповеди антидарвинистам" Страхову, глумившемуся над преклонением Тимирязева перед европейской наукой (дарвинизмом),—то я замечу, что
всякое ремесло, в том числе и профессорское, имеет свои тяжелые и свои священные обязанности. К числу тяжелых обязанностей профессора относится обязанность читать книги толстые
и книги глупые, что бывает вдвойне тяжело, когда толстые
книги оказываются в то же время и глупыми. К числу же самых
священных обязанностей профессора относится обязанность
облегчать своим слушателям чтение толстых и глупых книг,
снабжать этих слушателей компасом, при помощи которого
они могли бы пробиться через самые непроходимые схоластические дебри, не рискуя в них окончательно заблудиться».
Тимирязев дает отповедь и тем фальсификаторам науки,
которые пожелали якобы знаменем самого Дарвина прикрыть
до последней степени извращенное буржуазией дарвиновское
учение. Тимирязев раскрывал и разоблачал сущность так называемого социального дарвинизма, оправдывавшего, с буржуазной точки зрения, священность «естественного права» насилия,
грабежа и уничтожения человека человеком, равно как и не-
избежность и полезность войн, и утверждавшего «биологическую
борьбу за существование», как незыблемый закон развития общества.
«Все это ваше учение о борьбе за существование,—восклицали искренно или притворно негодовавшие обличители,—что
?ке это, как не преклонение перед грубой силой? Это—сила,
попирающая право; кулак, торжествующий над мыслью; это—
человеческие чувства, отданные в жертву животным инстинктам; это, наконец,—оправдание, апофеоз всякого зла и насилия». И Тимирязев в ряде блестящих выступлений, в частности
в своей работе «Дарвин как образец ученого»*, доказывает всю
клевету тогдашних «социальных дарвинистов» и «не по уму
усердных поклонников Дарвина, желавших, опять-таки именем Дарвина, оправдать всю свою проповедь людоедства».
Тимирязев прекрасно, конечно, знал тот действительно пропитанный буржуазным духом отрывок из V главы дарвиновского «Происхождения человека» (о развитии умственных и нравственных способностей человека), который дал повод к сознательной клевете против дарвинизма в целом, клевете, которая
сыпалась на Дарвина со стороны неразборчивых на средства противников, не желавших обратиться к полному изучению величайших произведений Дарвина.
В статье «От дела к слову, от зверя к человеку (размышления дарвиниста перед избирательной урной)»** К. А. Тимирязев
приковывает внимание к «злосчастному» выражению «борьба
за существование», «злосчастному» потому, что, как он говорит,
для дарвиновского учения об естественном отборе эта метафора
не нужна, так как она порождает незаслуженные дарвиновским учением в целом обвинения.
«Точно ли,—пишет Тимирязев,—биологическая (или, вернее, зоологическая) борьба за существование с ее исходом, взаимным истреблением борющихся сторон,—общий закон, обнимающий всю природу, со включением человеческих обществ; или
человеку, по крайней мере, на высших ступенях своего развития, удалось парализовать его роковое действие, заменив его
чем-то иным, идущим ему на смену. Отстаивать первое мнение
значило бы закрывать глаза перед двумя важными факторами,
положившими резкую грань между биологической борьбой и человеческим прогрессом».
Тимирязев защищает Дарвина от социальных дарвинистов,
от проповедников «идеалов людоедства» и со всей свойственной
ему страстностью доказывает, что не учение Дарвина ответственно за пробуждение современного милитаризма и проявление торжества силы. Возведение на Дарвина подобной небылицы, несомненно, выгодно только тем, доказывает Тимирязев, кому необходимо, в интересах собственного господства,
попрание элементарных прав человека, кому необходимо
оправдание неизбежности и полезности войн.
«Обвинение в безнравственности (дарвинизма. С. Н.), очевидно, получает почву только с того момента,—пишет Тимирязев в „Отповеди антидарвинистам",—когда борьба за существование провозглашается мировым законом, которому должен подчиниться и человек, или, выражаясь определеннее,
безнравственность дарвинизма начинается только тогда, когда
борьба за существование, понимаемая в самой узкой и грубой
форме, провозглашается руководящим законом для человечества не только в прошлом, но и в настоящем и в будущем его
развитии.
Но разве дарвинизм, в лице его творца, повинен в чем-нибудь
подобномРНикогда не видел он в своем учении какого-то кодекса,
который человечество обязано принять к руководству. Утверждать, что, открыв в явлениях бессознательной природы законы
борьбы и естественного отбора, Дарвин сделал обязательным
подчинение этим слепым законам и всей сознательной деятельности человека, значит навязывать ему абсурд, за который
он нисколько не ответственен».
Тимирязев разоблачает все происки антидарвинистов, клеветавших на Дарвина. В течение многих лет он защищает от
поповщины и милитаристов «основную идею Дарвина, что
учение об естественном отборе, объясняя темное прошлое человека, ни в каком случае не предлагалось как этическое учение
для его руководства в настоящем или будущем». В течение двадцати лет, изучая дарвиновское учение, сам Тимирязев, по его
собственному свидетельству, ни разу не обмолвился этим «злосчастным» выражением «борьба за существование». Полнота
изложения Тимирязевым учения Дарвина от этого нисколько
не пострадала. Тимирязев считает нужным даже напомнить,
что это выражение принадлежит не Дарвину, а Уоллесу, что
Дарвин в первоначальном очерке своей теории (Foundations
и пр.) к этому выражению не прибегал.
«Сущность дарвинизма,—пишет Тимирязев в труде „Исторический метод в биологии"*,—в законе естественного отбора,
борьба же за существование—случайное явление: она может
отсутствовать в бессознательной природе и должна отсутствовать в нормальной сознательной деятельности человека, где
только и может становиться безнравственной».
Что бы сказал К. А. Тимирязев теперь, когда фашистская проповедь «биологической борьбы за существование»,проповедь о существовании «высших» и «низших», «полноценных» и «неполноценных» рас, расовой борьбы и расовых инстинктов—превратили
фашистскую биологию в идеологию «белокурого зверя», с восхвалением горилловидного «первобытного человека» вместе с «рослыми и стройными блондинами германского происхождения»?
Вскрывая смысл того «благородного негодования», которое высказывали антидарвинисты по поводу бесчеловечности
приложения учения «о борьбе за существование» к человеческой деятельности, приложения, в котором ни Дарвин, ни
последовательные дарвинисты неповинны, следует все же упомянуть о характернейшем явлении, происходившем в лагере
антидарвинистов, «боровшихся» против этих самых «приложений» к человеку. Антидарвинист Коржинский, негодовавший против людей, умевших приспособляться (а в этом антидарвинисты усматривали приверженность к дарвинизму), получил за свой антидарвинизм от императора Николая II
25000 рублей для продолжения своих научных трудов (!!).
Чем был для Тимирязева Дарвин, мы лучше всего узнаем
из слов самого Климента Аркадьевича. В своей получившей
большую известность статье «Ч. Дарвин и К. Маркс», помещенной в сборнике «Наука и демократия», Тимирязев глубочайшим
образом анализирует «сходственные» черты двух революций,
одновременно проявившихся в 1859 году.
«В 1859 году,—пишет Тимирязев,—появилось не только
„Происхождение видов" Дарвина, но H „ Z U T Kritik der Politischen
Oekonomie" Маркса. Это не простое только хронологическое
совпадение; между этими двумя произведениями, относящимися
к столь отдаленным одна от другой областям человеческой мысли,
можно найти сходственные черты, оправдывающие их сопостав-
5>
50
О
S
с-о
s
'ч
50
в
50
50
to
g.
й
Ö
S
со
в
іе
^
ö
S
о
S
ЬЗ
в
S
s
»
о
в; с-,
оз
в т-н
1
ô
•о
О
в
Ч
/3
ление... В чем же заключалась общая сходственная черта этих
двух революций, одновременно проявившихся в 1859 году?
Прежде всего в том,—говорит Тимирязев,-—чтобы всю совокупность явлений, касающихся в первом случае всего органического
мира, а во втором—социальной жизни человека, и которые теология и метафизика считали своим исключительным уделом, изъять из их ведения и найти для всех этих явлений объяснение,
заключающееся ,,в их материальных условиях, констатируемых
с точностью естественных наук".
Как Дарвин, усомнившись в пригодности библейского учения о сотворении органических форм, к которому так или иначе
прилаживалась теологически, или метафизически настроенная
современная ему наука, нашел действительное объяснение для
происхождения этих форм в „материальных условиях " их возникновения, так и Маркс, как он сам пояснил, усомнившись в гегелевской метафизической „философии права", пришел к послужившему ему „путеводной нитью" во всей его последующей
деятельности выводу, что „правоотношения и формы государственности необъяснимы ни сами из себя, ни из так называемого
человеческого духа, а берут основание из материальных условий
жизни". Оба учения отмечены общей чертой искания начального,
исходного объяснения исключительно в „научно-изучаемых",
„материальных" явлениях,...».
«В своих объяснениях, — говорит далее Тимирязев,—и Дарвин и Маркс исходили из фактического изучения настоящего,
но первый, главным образом, для объяснения темного прошлого всего органического мира, Маркс же, главным образом,
для предсказания будущего, на основании „тенденции" настоящего, и не только предсказания, но и воздействия на него,
так как, по его словам, „философы занимаются тем, что каждый
на свой лад объясняют мир, а дело в том, как его изменить"».
Революционность
ученого-дарвиниста,
самоотверженная
и полная революционность борца на фронте науки, одиноко
и мучительно переживавшего на всем своем жизненном пути
все, что причиняли ему ставленники различных министерств, —
не могла не привести Тимирязева к пониманию марксизма,
сблизив его к концу жизни с идеологией большевизма. '
3
Борьба «против поползновений метафизики найти лазейку
в область положительного знания» представлялась К. А. Тимирязеву насущнейшей задачей современного ему естествознания.
»
Ä. А. Тимирязев, т. 1
129
Расползавшийся «туман метафизики и мистицизма» проникал даже и в такую область, как физика. Разложение атома
на более мелкие частицы—электроны и протоны—объявлялось
«дематериализацией атома». Материя оказывалась только «символом». Масса представлялась не более как в виде математического коэфициента в уравнениях математической физики.
«Не говоря уже об адептах спиритизма, оккультизма, теософии, декадентства всех окрасок до вновь модной changeante
(переливающейся, меняющейся) включительно, мы сталкиваемся с ним (с «туманом метафизики и мистицизма». С. Н.) решительно на каждом шагу».
Так писал К. А. Тимирязев в годы злейшей реакции
в статье «Антиметафизик»* (1908 г.).
Ленин в своей блестящей работе «Материализм и эмпириокритицизм» разоблачил этот типичный философский ревизионизм
и вскрыл характер кризиса буржуазного естествознания.
На фоне кризиса буржуазного естествознания выступали ясные признаки регресса и упадка научного мышления вместе
с явным подъемом клерикально-метафизической реакции, свидетельствовавшим о разложении капиталистического строя.
Перед Тимирязевым вставала огромной общественной важности
задача—начать борьбу с теми силами, которые ополчились
против науки. И так же, как в борьбе с антидарвинизмом, преисполненный ни перед чем не останавливающейся решительностью, Тимирязев бросается в схватку с «научными» прислужниками церкви и капитала.
Новый натиск мистицизма против науки не раз заставлял
Тимирязева откладывать на время свои занятия с спектроскопом для того, чтобы браться за перо бичующего материалиста.
«Кому нужно это смешение науки с „оккультизмом", как
не тем, кому необходим подъем всего темного, возврат ко всем
диким суевериям средневековья. Старое юридическое правило
гласит: is fecit cui prodest—тот сделал, кому это полезно, а кому
нужен мрак, как не тем, кто на мраке основывает свою силу?»
Так писал Тимирязев в своей статье «Погоня за чудом, как
умственный атавизм у людей науки»**, направленной против виталистов.
По адресу Маха, заявившего через год после окончательного
торжества атомизма, что он отказывается от физического образа
мышления, не желает быть «истинным физиком», так как воздерживается от какой бы то ни было оценки научных ценностей,
желая сохранить столь дорогую для него «свободу мысли» и не
быть в «общине верующих», Тимирязев негодующе восклицал:
«Какие трескучие фразы! Свобода от чего? От строго научно
доказанного факта, опровергающего излюбленную философскую
теорийку... Как неудачно это глумление над физиками, это
обзывание их общиной верующих (подчеркнуто мною. С.Н.) в устах человека, выбывшего когда-то из рядов физиков, чтобы стать
адептом учения его преосвященства епископа Клойнскогоі
(Беркли)».
И Тимирязев не может пройти мимо ни одной из ярких
вспышек идеализма, чтобы не возвысить своего голоса против
поборников мрака и реакции, отстаивавших «философскую равноправность» представителей науки и веры, пророчествовавших,
как, например, Оствальд в Naturphilosophie, о том времени,
когда «атомы будут существовать только в пыли библиотек».
Тимирязев с особым искусством направлял свой сарказм
против тех прислужников буржуазной культуры, которые больше всего старались примирять науку и веру, доказывая, что
«искренно верующий никогда не враждебен науке», что, как
убеждал академик Фаминцын цитатами из Бэра и в особенности
Виганда, учение Дарвина, например, совместимо с религиозным чувством и т. п. Разве мог воинствующий материалист
Тимирязев не бичевать этих прислужников церкви, бросавших
«завистливые взгляды назад, во мрак средневековья»?
Когда на общественной и философской арене появился, в то
время чрезвычайно модный, Бергсон, «обосновывавший свой
новейший принцип органической эволюции (он продолжает его
обосновывать и до настоящего времени. С. //.), зовущий назад,
к пещерному человеку», разве мог Тимирязев устоять от того,
чтобы не начать разгрома всех проявлений умственного атавизма и в первую очередь бергсонианства, доказывавшего
преимущество интуиции перед разумом, сродство этой интуиции со «слепым инстинктом» и вместе с тем способность ее поднимать разум до степени какого-то «сверхсознания». Наперекор
даже элементарным основам естествознания проповедывался
особый творческий «взмах» этой интуиции (élan créateur)
и необходимость для «ума» сделать насилие над собой, чтобы
дать простор этой интуиции, этому «творческому взмаху». Со
страниц господствовавшей «научной» печати провозглашался
отказ от разума в пользу этого инстинкта, конечно, для того,
чтобы, отказавшись от науки, перейти в область веры, от «бессознательного» (инстішкта) перейти к «сверхсознательному»
(мистике) и т. п.
«Погоня за чудом, как умственный атавизм у людей науки»
и ряд других статей Тимирязева, посвященных также витализму, беспощадно бичуют все проявления витализма—учения о так
называемой «жизненной силе», разоблачая весь его антинаучный и богословский характер.
Тимирязев мечет «громы и молнии» против официальной науки, вступившей в союз с теми силами, победительницей которых еще недавно она себя считала.
Оруженосцы идеализма и самой настоящей поповщины требовали для мистицизма равноправия с наукой. «Пусть те, кто
предпочитает материалистическую гипотезу, поддерживают
свои тезисы, но предоставьте и нам делать, что мы можем, в спиритической области, и увидим, чья возьмет»,—писал профессор
Лодж, утверждая, что «сокровенные направляющие сущности
жизни» науке недоступны.
Огонь тимирязевских «отповедей» беспрерывно направлялся
против оплота мракобесия, ставившего себе целью уничтожить
плоды многовекового научного мышления.
«Мистицизм, оккультизм с их новейшим переодеванием в теософию (или в самоновейшую—антропософию), вера, подогреваемая театральными чудесами,—все вплоть до валаамовой
ослицы (т. е. лошади сверхчеловека)—все это только средства
«pour faire affoler»,— писал Тимирязев в «Погоне за чудом...»*,
разъясняя, что значит это faire affoler. «Это прекрасное выражение (faire affoler),'—говорил он,—обозначает тот процесс,
к которому прибегают французские садоводы для того, чтобы
подчинить себе какую-нибудь форму и изменить ее в желаемом
направлении. Для этого нужно только faire affoler, то-есть
„сбить организм с толку, чтобы он обезумел", стал метаться,
изменяться во всех направлениях, а уже из этого неустойчи-
вого материала можно лепить, что угодно.Такова тактика и всех,
кто задался целью осуществить умственную реставрацию, возвращение к тому, что, казалось, навсегда осталось позади, во
мраке средневековья».
Тимирязев был прав в выборе этого выражения «faire affoler
для характеристики того идейного кризиса загнивающей буржуазной культуры, который являлся выражением общего процесса разложения и загнивания капитализма. И в настоящее
время фашизм, поднявший все силы мрака и реакции, зовущий
и идущий «назад, к средневековью», в действительности задается
целью осуществить умственную реставрацию при помощи именно
этого «faire affoler», проповедуя свой «мистический биологизм»,
свою «судьбу» и «белокурого зверя» в дополнение к тому «инстинкту и пещерному человеку», к которым призывал Бергсои.
Нельзя было не видеть того, что виталисты, ведя свою атаку,
придумывали свою «теорию прогресса» науки, совершающегося
будто бы путем периодической смены какого-то прилива и отлива то научных, то виталистических идей. Нельзя было не
видеть, что, в сущности, под прогрессом науки понималось не
что иное, как попятное движение, проповедь регресса.
«Вполне сознавая реакционный смысл своего учения, являющегося таким же тормозом науки в будущем, каким оно было
в прошлом,—писал Тимирязев в статье „Витализм и наука",—
современные виталисты, тем не менее, желали бы, чтобы их
продолжали считать сторонниками прогресса».
Витализм прикрывал себя с внешней стороны такого рода
терминологией, которая на неискушенного читателя или слушателя производила впечатление «учености», и Тимирязеву
приходилось разоблачать это подобие науки.
Так, известный виталист профессор Коржинский, составивший себе «славу» тем, что его теория якобы вполне упраздняет
дарвинизм, протаскивал в биологии признание существования .
в организмах какой-то «тенденции прогресса», являвшейся, по
утверждению Коржинского, тем фактором, который действует
взамен естественного отбора. Тимирязев весьма саркастически
выразился по этому поводу, заявив по адресу Корягинского,
что он «присоединяет еще какую-то „virtus progressiva" к тем
„virtus dormitiva" и „virtus purgativa", которые уже слишком
два века тому назад заклеймил своей насмешкой Мольер».
И, действительно, что можно было сказать иного,кроме сказанj ного К. А. Тимирязевым, коль скоро все доводы виталистов
(в частности, Коржинского) сводились к тому, что нечего утруждать науку исканием каких-то физических объяснений, раз
можно объяснить всякое явление жизнедеятельности в природе
простым допущением существования «живой силы», «особого
зиждительного начала», некоего «нечто», в силу чего остается
лишь согласиться с тем, что растение—протоплазма—обладает
способностями «хотеть», «помнить» и т. д.
Тимирязев в ряде своих произведений («Исторический метод в биологии», «Витализм и наука», сборник «Наука и демократия») уничтожающе критикует все эти проповеди «плазматических инстинктов» (Бунге), «инстинктивных стремлений»
(Коржииский).
«В самом деле,—говорит Тимирязев в „Историческом методе
в биологии",—какое простое объяснение: все сводится к инстинкту растения; сказано ничего не объясняющее слово (подчеркнуто
мною. С. Н.), и поколения ученых уволены от векового тяжелого труда... Пора понять, что витализм никогда не был и не
может быть положительной доктриной. Это только отрицание
права науки на завтрашний день, самоуверенное прорицание,
что она никогда не объяснит того-то и того-то, высказываемое,
конечно, в спокойной уверенности, что, если она сделает этот
запретный шаг, то загородку можно будет отнести на шаг
вперед.
Никто так не ошибался в своих предсказаниях, как пророки
ограниченности человеческого знания».
Профессор Бородин в речи, произнесенной им по поводу
25-летнего юбилея Петербургского общества естествоиспытателей, приветствовал в воскресении витализма одно из проявлений реакции против «юношеского задора шестидесятых годов»
и особенно подчеркивал, что
«не какие-нибудь дилетанты, а серьезные ученые (например, Бунге, Коржинский. С. Н.), наперекор господствующему течению, заговаривают снова о жизненной силе... Наш
же догорающий X I X век осекся — осекся на вопросе о происхождении жизни».
На это Тимирязев со свойственной ему последовательностью
в защите подлинной науки отвечает профессору Бородину в
своей статье «Витализм и наука»:
«Справедливо ли делать физическое направление физиологии ответственным в недочетах науки, главным образом, объясняемых опрометчивым суждением одного ученого и отсутствием
знания физики у другого... Чем видеть в несовершенствах науки
доказательство несостоятельности общего ее направления, не
лучше ли обратить свою критику на тех второстепенных деятелей, которых мы слишком легко производим в авторитеты?..
Законы физики неповинны в том, что те, кто их не знает, применяют их вкривь и вкось».
И Тимирязев вскрывает целый ряд недочетов экспериментальной физиологии, произвол, царящий в этой области, объясняя это тем, что в этой области работают люди, не имеющие,
в сущности, никаких физиологических знаний, являющиеся
самозванными физиологами, которым, между прочим, и принадлежат всякого рода придуманные ими понятия («инстинкты», «стремления» и пр.), пускаемые с их «легкой» руки в «научное обращение».
Современные Тимирязеву виталисты не раз прятались за
очень удобную, «душеспасительную» частичку «нео», называя
•себя неовиталистами.
«Но „неовитализм"—это только витализм, не помнящий
родства,—писал Тимирязев в той же статье „Витализм и наука",
—он надеется спасти свое будущее только отречением от своего
прошлого. Он надеется, что наука простит ему его постыдное
прошлое, но не скрывает при этом, что завтра же она встретит
его на своей дороге. Про бурбонов, после реставрации, говорили,
что ,,они ничего не забыли и ничему не научились",—виталисты
хотели бы, чтобы их противники все забыли и ничему не научились из уроков истории».
В борьбе с витализмом Тимирязев считал необходимым весьма
часто прибегать именно к «урокам» из истории науки. Он указывал, что одним из основных стимулов, руководивших великими учеными мира—Робертом Майером и Германом Гельмгольтцем, открывшими закон сохранения энергии,—было
покончить навсегда с современным им учением о «жизненной
силе», сосредоточить свои силы на приложении учения о сохранении энергии к органическому миру, главным образом,
из-за желания навсегда покончить с «витализмом». И Тимирязев в подтверждение этого ссылается на вышеприведенные
высказывания Роберта Майера из статьи «Die organische
Bewegung, in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel» («Органическое движение в связи с превращением вещества»)*.
Другой «урок» из истории науки, который, наряду с прочими
аргументами, не раз использовал Тимирязев в полемике с виталистами, представляли собой классические работы Бертло
«Chimie organique fondée sur la Synthèse» («Органическая химия, основанная на синтезе»). Этим работам Бертло, разъяснению их огромного научного и принципиального значения
Тимирязев посвящал исключительно много времени и труда,
исходя опять-таки из понимания своего общественного долга
направлять свои силы на борьбу с господствовавшей в науке
реакцией. Работы Бертло буквально разрушали твердыню витализма, так как доказывали могущество человека в отношении создания органических тел, то-есть то,что витализм приписывал «жизненной силе».
Тимирязев знакомит широкую общественность с основными
работами Бертло, с синтетическим получением естественных
жиров из глицерина и жирной кислоты (та и другая составные
части жиров были уже выделены много ранее Шеврелем), показывая научное значение антивиталистпческих работ мирового
ученого. Вскрывая сущность работ Бертло, произведшего коренной переворот в органической химии, Тимирязев пользуется
этим исключительным успехом науки, целиком обращая его
против витализма. Оценивая весьма высоко с философской
и методологической стороны работы Бертло, получившие мировую известность, Тимирязев цитирует следующие слова
самого Бертло из его популярной статьи «La synthèse chimique»:
«Мы можем предъявлять притязание на воссоздание всех тех
веществ, которые создались с начала миров, и на их воспроизведение в тех же условиях, в силу тех же законов и действием
тех же сил, к которым прибегает сама природа».
Борясь против витализма, господства метафизики и схоластики, Тимирязев не раз бросал старый боевой клич, направленный на борьбу со словесными хитросплетениями, на борьбу
с господством слова. Этот девиз «Nullius in verba» («Никому на
* См. в настоящем томе предисловие К. А. Т и м и р я з е в а к его работе
«Солнце, жизнь и хлорофилл». Ред.
Климент Аркадьевич Тимирязев
в лесной даче Петровской, ныне Тимирязевской
1896
Академии
слово») имел огромное значение, так как призывал на борьбу
с душившими в то время научную мысль догматизмом и поповщиной.
4
Основные научные работы Климента Аркадьевича (мы лишь
частично смогли коснуться некоторых из них) имеют в общем
ярко выраженный характер воинствующего материализма.
Несмотря на это, в работах К . А. Тимирязева мы почти не находим слов—«материализм» и «атеизм». В этом сказалась та
«дань» позитивизму, которую платил Тимирязев, (формально
считая себя позитивистом. Тимирязев приблизился к позитивизму, несмотря на то, что позитивная философия Огюста Конта
носила в себе глубокие следы противоречий идеализма. Чем же
объяснить, что Тимирязев платил «дань» той философии, исчерпывающую критику которой (новейших форм позитивизма—
эмпириокритицизма и эмпириомонизма) дал Ленин.
Принимая позитивизм, соглашаясь с великим мыслителем,
«воздвигшим свою философскую систему на прочной основе
науки», К. А. Тимирязев не только не разделял идеалистических взглядов Огюста Конта на сущность исторического процесса (признание Контом «естественным» господства эксплоатирующего меньшинства над большинством), но делал в отношении позитивизма такие «добавления», которые, по существу,
рушили эту философскую систему и приближали Тимирязева
к диалектическому материализму. Так, Тимирязев выступал
против известного агностицического положения Конта о том, что
«всякая научная гипотеза, чтобы о ней можно было судить
по существу, должна касаться только законов явлений и никогда не касаться способа производства этих явлений («Modes
de production», см. «Phil, posit.», tome II, p. 312).
Тимирязев указывает, что об этих «способах производства»
Конт заговорил еще за 30 лет до Дарвина, вскрыв сущность
естественного отбора в своем естественно-научном понимании
«элиминации», то-есть устранении, уничтожении всего неприспособленного в природе.
«Французские зоологи,пережевывающие ламарковскую жвачку, Конта проглядели,—пишет К. А. Тимирязев в своей статье
«Григорий Николаевич Вырубов»*,—а английские, и особенно
немецкие, в самое последнее время (1913 г.) щеголяющие словом Elimination, повидимому, и не подозревают, что получили
его, как и самое понятие, от Конта».
Сторонником позитивной философии Огюста Конта Тимирязев считал себя лишь в той мере, в какой признаваемая Контом система положительных знаний обращалась на борьбу с метафизикой и в какой «биологическая философия» Конта представляла собой предвозвестника дарвинизма, как единственной
выдерживающей критику теории эволюции. Огюстом Контом
«в поразительно лаконической форме,—пишет Тимирязев в
своей статье „Год итогов и поминок"**—не только высказывается
основная мысль „естественного отбора", т. е. дается объяснение
гармонии органического мира путем устранения (élimination)
всего негармонического, но в то же время объясняется односторонность неодарвинистов и неоламаркистов. Между тем, как
первые все приписывают организации, вторые приписывают
все среде; между тем, как первые оставляют без объяснения
происхождение того материала, которым пользуется отбор,
вторые, приписывая все среде, оставляют без объяснения основной факт органической гармонии, т. е. приспособление путем
устранения всего неприспособленного».
Тимирязев указывает на один весьма характерный эпизод,
когда бывшее Московское психологическое общество приняло
все меры к тому, чтобы ни под каким видом не допустить в его
стенах чествования столетия Конта, автора «Биологической
философии», и, наоборот, устроило и провело с подобающей
помпой чествование метафизика Шопенгауэра. Этот эпизод характерен в том отношении, что по нему можно судить, что,
собственно, толкало Тимирязева к «позитивизму».
Совершенно очевидно, что в лице Огюста Конта Тимирязев
видел сторонника именно той умственной культуры, которая
направляла свои силы на отстаивание независимости естествознания от мистики.
Вместе с тем Тимирязев в «Историческом методе в биологии»
совершенно ясно высказал свое отрицательное отношение к био-
логическим взглядам Конта, который считал возможным (по
примеру Бленвиля) делить биологию на статическую и динамическую, равно как не считал возможным говорить о признании
исторического метода в биологии, признавая за биологией лишь
метод сравнительного
изучения — искусство
классифицировать.
В своих позднейших работах Климент Аркадьевич высказывает резко отрицательное отношение к новейшим формам позитивизма, в частности, к махизму, подчеркивая его совершенно
определенный субъективно-идеалистический характер. Так,
в статье «Наука», помещенной в Энциклопедическом словаре
Гранат*, Тимирязев пишет:
«Только Мах и его фанатические поклонники вроде Петцольда, идя по стопам Берклея (в чем сам Мах и признается),
доходят до признания, что истинные и единственные элементы
мира—наши ощущения (Мах). Петцольд в своем фанатизме
доходит до полного отрицания различия между „кажется"
и „есть" и утверждает, что, когда горы издали нам кажутся
малыми, они не кажутся, а действительно малы. Таковы Геркулесовы столбы, до которых доходят необерклеянцы».
Интересно отметить, как относился К. А. Тимирязев к Ламарку, автору «Fhilosophie zoologique». Следует сказать, что Тимирязев резко критиковал ламаркизм из-за отсутствия в последнем строго материалистических, вполне обоснованных посылок.
«Ламарк,—писал Тимирязев в своей статье „Чарлз Дарвин"**,—для каждой категории фактов дает особое объяснение,
и притом—или фактически неверное, или логически несостоятельное, то-есть не разрешающее той задачи, которую берется
разрешить».
Тимирязев называл догадки Ламарка «голословными»,
дававшими вполне законный повод считать его «беспочвенным фантазером», прибегавшим к совершенно необоснованным
предположениям. Будучи последовательным дарвинистом,
видевшим в учении Дарвина, в его руководящей идее, глубочайшее теоретическое обобщение, выраставшее на вполне
проверенных фактических данных, Тимирязев прекрасно осознавал всю несостоятельность таких «факторов», какими
оперировал Ламарк, как, например, «внутренние чувства», «стремления», «усилия» животных и пр. Ни в какой мере, с научной
точки зрения, не удовлетворяло Тимирязева и положение
теории Ламарка о «наследственности приобретенных упражнением признаков». Критикуя метафизичность Ламарка, Тимирязев резко нападал и на его современных сторонников, неоламаркистов—Дриша, Рейнке, Бородина, Арциховского и др.,
говоря, что они «подогревают» забытую телеологию только
в несколько измененной форме. И когда известный зоолог
Ледантек попытался доказать превосходство Ламарка перед
Дарвином, Тимирязев выступил с резким осуждением «безнадежного тезиса» этого ученого, назвав изречения Ледантека
«сомнительным остроумием).
«Мне уже не раз (в течение почти сорока лет),-—писал Тимирязев в своем предисловии к книге Костантена „Растения
и среда",—приходилось указывать на несостоятельность этого
противопоставления Ламарка Дарвину.Если Дарвин отзывался
резко о Ламарке, то лишь по отношению к его неудачной попытке—привлечь, в качестве объяснения формы, психические,
волевые акты самого животного, и в этом был, как показало все
последующее движение науки, совершенно прав. Зависимость
яге формы от среды, то-есть ту часть учения Ламарка, которая
сохранила все свое значение, Дарвин признавал с самых первых шагов (вспомним его первый набросок в записной книжке
1837 года) и, чем далее, тем более придавал ей значения. Только
соединение этой стороны ламаркизма с дарвинизмом и обещает полное разрешение биологической задачи. Если действие
среды может объяснить возникновение измененной формы, то
пока только один дарвинизм может объяснить, как из этого, по
существу, безразличного, материала создались организмы, то-есть
формы, прилаженные, приспособленные к условиям своего существования. Непониманием этого взаимного отношения двух
учений особенно страдают многочисленные современные немецкие неоламаркисты».
Нисколько не удивительно, что ламаркизм и ламаркисты попали в сферу огня Тимирязева. Тимирязев направлял свою
критику против «созерцательных» основ ламаркизма, против
его умозрительности. Выступая боевым защитником учения
Дарвина, которому ламаркисты хотели противопоставить «Философию зоологии» Ламарка, Тимирязев счел возможным в своей
статье «Год итогов и поминок» сказать в ответ:
«Что касается до вопроса об авторе „Philosophie zoologique"
как типе, то еще тридцать лет тому назад, после основательного
изучения этой книги, я дал на него ответ, неоднократно повторял его и не имею ни малейшего повода изменять своего мнения.
Это—всем, имеющим представление о французской литературе
X V I I I века, знакомый тип философствующего литератора, за
неимением фактов прибегающего к расплывчатым философствованиям, а когда и для них нехватает почвы, пускающегося
в праздные догадки, вплоть до самых нелепых... Вот почему
содержание этой книги производило на всех серьезных ученых
X I X века впечатление чего-то архаического».
Представляет большой интерес ознакомиться также с отношением Тимирязева к менделизму. Принято считать, что
Климент Аркадьевич резко отрицательно относился к учению
Менделя в целом. Это неверно. Тимирязев прекрасно понимал
и не мог не понимать, недооценивать такого крупного завоевания в науке, какое представляло собой учение Менделя.
«Мендель вполне понял значение своих наблюдений, дал им
научное объяснение и хорошо знал границы сферы применения
найденных им интересных фактов»,—писал Тимирязев о Менделе (Энциклопедический словарь Граната, том 28. С. Н.).
Придавая огромное значение появлению новых признаков,
получаемых в результате менделевского скрещивания, Тимирязев в статье «Чарлз Дарвин» утверждал:
«Менделизм, поскольку он оправдывается, служит только
поддержкой дарвинизму, устраняя одно из самых важных
возражений, когда-либо выдвинутых против него. Отсюда ясно,
что никакого препятствия на пути дарвинизма он не выдвигает и тем менее может быть рассматриваем, как нечто, идущее
ему на смену».
Однако, «восторженные» поклонники менделизма, или,
как их называл Климент Аркадьевич, «мендельянцы», заявляли,
что учение Менделя «следует ставить не только наравне с дарвинизмом, но считать призванным его упразднить». Против этого
Климент Аркадьевич со свойственной ему страстностью горячего защитника дарвинизма решительно возражал.
В ряде статей Тимирязев высказывает свою точку зрения на
то направление, которое было возглавлено Бетсоном и которое
Тимирязев называл «мендельянством» в отличие от менделизма,
то-есть того, чему учил сам Мендель. Позиция Бетсона, и особенно его учеников,как говорил Тимирязев, заключалась в самом
грубом отрицании явлений изменчивости. Особенно ретивые
ученики Бетсона, как, например, Кибль, все учение об изменчивости попросту называли «старым хламом, который можно
видеть на окнах старьевщиков».
Шел поход против дарвинизма. Рождались одна за другой
всевозможные теории наследственности, претендовавшие на
подмен дарвиновского учения спекулятивными теориями «преформизма», пытавшимися создать так называемую общую теорию
наследственности. Как из решета, говорит Тимирязев, посыпались различные «пластидули», «идиоплазмы», «зародышевые
плазмы» и пр. Антидарвинистами высказывалось предположение,
что «зародыши являются как бы морфологическим сокращением,
редукцией готового организма, между тем как правильнее было
предположить, что в материальных, динамических и морфологических условиях зародыша представляется только возможность или необходимость того или другого хода развития, тоесть заключается та или другая форма, но только in potentia».
В этих беспочвенных умозрениях Тимирязев не мог не усмотреть
того подлинного витализма, той «силы наследственности»,
при помощи которой витализм во времена Р. Майера пытался
объяснить происхождение «животной теплоты».
Появление этих спекулятивных теорий и выход на сцену
воинствующих «мендельянцев» Тимирязев мог объяснить только
усилением клерикальной реакции против дарвинизма.
«Когда собственный поход Бетсона,—писал Тимирязев,—
направленный не только против Дарвина, но и против эволюционного учения вообще (Materials for the Study of variations, 1894),
прошел незамеченным, он (Бетсон. С. H.) с радостью ухватился
за менделизм (подчеркнуто мной. С. Н.) и вскоре создал целую
школу, благо поле этой деятельности было открыто для всякого...
В Германии антидарвинистическое движение развилось не
на одной клерикальной почве. Еще более прочную опору доставила вспышка узкого национализма, ненависти ко всему
английскому и превознесение немецкого. Это различие в точках отправления выразилось даже и в отношении к самой личности Менделя. Между тем как клерикал Бетсон особенно заботится о том, чтобы очистить Менделя от вгяких подозрений
в еврейском происхождении (отношение еще недавно немыслимое
у образованного англичанина), для немецкого биографа он
был особенно дорог как „Ein Deutscher von echtem Schrot und
Korn". Будущий историк науки,—заканчивает Тимирязев свою
статью о Менделе,—вероятно, с сожалением увидит это вторжение клерикального и националистического элемента в самую
светлую область человеческой деятельности, имеющую своей
целью только раскрытие истины и ее защиту от всяких недостойных наносов».
Оценка Тимирязевым «мендельянства», претендовавшего
на упразднение или замену собой дарвинизма, подтвердилась.
Как известно, сам Бегсон вынужден был (в 1914 г.) отказаться
от своего «мендельянства».
Ни одно проявление тех или иных оттенков в развитии научной мысли не ускользало от революционера в науке—Тимирязева. Слава, которую стяжал себе Климент Аркадьевич
иа своем «тимирязевском пути», станет понятной для каждого,
кто изучит Тимирязева в свете его общественно-политической
борьбы за интересы науки.
Служа науке во имя «социальной правды в жизни», Тимирязев понимал свою службу, как боевое задание ученого, призванного не просто к научной работе, но и к борьбе со всеми признаками регресса и упадком научного мышления, представлявших
собой проявление того общего реакционного поворота, которым были отмечены конец прошлого и начало настоящего века.
Борьбу за дарвинизм, отстаивание естественно-научных
основ материализма от всех без исключения нападок, откуда бы
они ни исходили, Тимирязев действительно считал своим политическим делом. Он решительно боролся со всякими происками
адептов реакции и все, что усыпляло или мертвило движение
вперед, понимал, как измену общественному долгу ученого, как
отход от «служения этической правде».
Служение истине и правде неразрывно связывалось у Тимирязева с борьбой за победу науки и демократии. И если Климент Аркадьевич во имя демократического развития науки
боролся за подлинные успехи материализма, то с немеиьшим
правом по отношению к нему можно сказать то, что сказал
Ламарк на страницах своего введения:
«В конце концов, пожалуй, лучше, чтобы вновь открытая
истина была обречена на долгую борьбу, не встречая заслуженного внимания, чем чтобы любое порождение человеческой фантазии встречало обеспеченный благосклонный прием».
5
Климент Аркадьевич Тимирязев приобрел себе широкую
известность не только тем, что его научные заслуги получили
общее признание в Европе. Его исключительная известность
связана еще и с той славой, которую он приобрел как замечательный популяризатор.
В истории популяризации науки К. А. Тимирязеву принадлежит совершенно исключительное место. Прославленный популяризатор учения Дарвина, К. А. Тимирязев всю свою ученую деятельность связал с популяризацией естествознания.
«Работать для науки и писать для народа»—вот те две задачи,
которые стояли перед ним с первых шагов его умственной деятельности. Итти навстречу потребностям народа, жить его интересами и приносить посильную помощь всем искренно ищущим знания составляло его подлинную жизненную цель.
«Рабочий станет действительной разумной творческой силой,—говорил Тимирязев в „Привете первому русскому рабочему факультету"*,—когда его пониманию станут доступны
главнейшие завоевания науки, а наука получит прочную
верную опору, когда ее судьба будет в руках самих просвещенных народов».
Своей пропагандой, распространением естественно-научных основ материализма Тимирязев занимался всю свою жизнь.
Величие Тимирязева в том, что он признавал за наукой принадлежащее ей по праву место лишь при условии, когда ее достижения получат самое широкое распространение и должную
оценку в слоях широкой общественности. Он требовал от каждого научного работника возбуждения интереса к науке в народе,
считая, что лишь при этом условии научный работник обеспечивает поддержку своему труду и широкое приложение полученных им результатов. Тимирязев считал, что главнейшая забота ученого должна заключаться в том, чтобы он был понят за
пределами тесного круга людей, чтобы целью его было—«писать
для народа». Наука должна проникать в широчайшие массы трудящихся, стать их достоянием, с тем, чтобы научные истины
стали доступны пониманию простого рабочего — вот девиз
Тимирязева, вот та цель, служению которой он отдал свою
жизнь.
Эту задачу Тимирязев считал главнейшей для каждого ученого общества, полагая, что, собственно, ученое общество и есть
посредник между учеными и широкими массами трудящихся.
В «Задачах современного естествознания»*, в специальной
статье, посвященной общественным задачам ученых обществ,Климент Аркадьевич особенно ясно выражал эту мысль в словах:
«Если в стремлении к установлению деятельного обмена
между представителями одной области, между представителями
различных областей знаний, нами руководят внушения взаимной пользы, то при распространении знаний далеко за пределы
научных сфер, в установлении общения между представителями
умственного труда и физического, нами должны руководить
требования справедливости, а в целом вся деятельность общества должна выражаться в стремлении к гармоническому слиянию задач науки и жизни, в служении научной истине и этической правде».
Это стремление к широкому «разливу знаний» Тимирязев
считал насущнейшей необходимостью для каждого ученого.
И Тимирязев не раз высказывал свое глубокое возмущение,
что этой задачи не понимают многие современные ученые, особенно из величающих себя «академистами».
Взгляды Климента Аркадьевича на задачи, которые ставит перед собой популяризация, конечно, самым тесным образом связаны с его поннманием общественного долга ученого.
Стоит припомнить, что именно в тяжелый «голодный» 1891 год
Климент Аркадьевич, мучительно переживая это народное бедствие, счел своим общественным долгом выступить с серией
своих имевших огромное научно-прикладное значение научнопопулярных лекций под названием «Борьба растений с засухой» и написать под влиянием ужасов голода 1891—1892 гг.
свою блестящую работу «О борьбе растений с засухой»**, сбор
с издания которой он передал в пользу голодающих.
«Кому дороги успехи живой, здоровой общественной мысли,
тому должно быть отрадно и сознание, что среди общих
<0 К. А. Тимирязев, т. I
145
дружных усилий и ему удалось слегка наддать плечом (подчеркнуто мной. С. H.), способствовать, хотя бы в ничтожной
мере, возобновлению...
поступательного ее (общественной
мысли. С. Н.) движения».
В этом тимирязевском «наддать плечом» заключалось то
подлинно революционное понимание роли ученого, которое
отличает Тимирязева от «академически» мысливших ученых.
Мы знаем, как «наддавал плечом» молодой Тимирязев, ставший
в ряды поборников «Отечественных записок», чтобы с этой
общественной кафедры, отражавшей общественный подъем того
времени, вести широкую пропаганду материализма, учения
Дарвина. Мы знаем, как «наддавал плечом» Тимирязев, уже
будучи старым профессором, повторяя слова:
«Я желал бы, чтобы наука не оставалась под спудом, а распространялась из университета во все стороны, чтобы она также
могла светить и тем, кто бредет по темной дороге невежества.
Избранники, занимающиеся наукой, должны смотреть на знания, как на доверенное им сокровище, составляющее собственность всего народа».
С непреклонной последовательностью Климент Аркадьевич
выдвигал свое настойчивое требование—заговорить на языке
народа и дать народу все, что было лучшего в сокровищницах
науки. Не напрасно он считал первым популяризатором Галилея, заговорившего на языке своего народа (итальянском)
вместо языка привилегированных классов (латыни). Перед ним
всегда маячил образец тех созданных французской революцией
аудиторий, в которых можно было видеть столь знаменитых
и выдающихся ученых, как Шеврель, Пайэн, Броньяр, Буссенго, Клод Бернар, Поль Бэр, Дегерен и др., аудиторий, в которых вместе с тем можно было видеть необыкновенно разнообразный состав слушателей, начиная от приезжего иностранного ученого до французского рабочего, парижского блузника,
включительно. Тимирязев нередко указывал на Фарадея, Майера, Гельмгольтца, Дарвина, Гексли, Тиндаля и других крупнейших представителей науки X I X века, прекрасно понимавших значение популяризации.
Тимирязев, классик естествознания, воспитанный на обpaenax великих светочей естествознания, предъявлял исключительно высокие требования к популяризации. Он требовал,
t
чтобы в книгах, предназначенных для широкого чтения, сообщалось о самых крупных приобретениях науки, великих
открытиях и тех завоеваниях науки, ознакомление с которыми
могло бы вооружать человека, делать его способным не только
разбираться в явлении, но и извлекать из него нужную для
себя пользу.
Тимирязев предъявлял к каждому популяризатору требования, исключавшие возможность преподносить читателю вместо
плодотворных знаний, как он выражался, «второстепенный
материал, которым обыкновенно начинялись всякие просветительные начинания „для народа"». Тимирязев хотел, в частности,
чтобы каждый знал что-либо о жизни и о трудах таких людей,
к а к Галилей, Ньютон, Дарвин, Пастер и другие пионеры науки.
Тимирязев считал, что истинная популяризация служит
обобществлению науки, так как только через пропаганду мы
можем рассчитывать на широкий и постоянный охват масс
просвещением. Так ставил вопрос Климент Аркадьевич,
и на собственных образцах блестящей популяризации науки
Тимирязев распропагандировал огромные массы людей, читая
с 70-х годов свои, получившие историческую известность, публичные лекции. К их числу необходимо отнести «Задачи современного естествознания», где Тимирязев освещает все важнейшие проблемы современной естественно-научной мысли,
а также сохраняющие до сих пор свое научное значение лекции,
носящие название «Земледелие и физиология растений». Известно, что именно лекции по «земледелию и физиологии растений» Тимирязева представляли собой ту научную основу,
благодаря которой в классической форме была установлена
крепкая связь между полеводством и физиологией растений.
СВОИМИ трудами в этой области К. А . Тимирязев сделал для русского земледелия то, что в Западной Европе было сделано Буссенго, Либихом и другими пропагандистами применения естественно-научных знаний к поднятию плодородия почвы.
Знаменитый курс публичных лекций Тимирязева, прочитанных в Московском политехническом музее в виде десяти
общедоступных чтений, носивших название «Жизнь растения»*,
10
147
вошел в историю науки как непревзойденный образец сочетания строгой научности, ясности, простоты изложения и блестящего стиля. Английская пресса, отмечавшая у себя выход
перевода «Жизни растения» в 1912 году, не скупилась на самую
большую похвалу. Английская критика того времени писала
в «Nature»:
«Не подлежит сомнению, что книга Тимирязева на целую
голову, с плечами в придачу, выше своих товарок».
Крупнейший английский ученый, с мировой известностью,
Дукинфильд-Скотт говорит о «Жизни растения»:
«Я читаю ее с величайшим интересом. Для нас в Англии
было большим приобретением получить столь блестящее руководство—введение в физиологию растений, доступное широкому
кругу читателей. Это, пожалуй, самая интересная книга, которую я когда-либо читал».
И, действительно, целый ряд поколений и до сих пор черпает
из нее свои первые сведения о строении и жизни растения.
Десять двухчасовых лекций Тимирязева, соединенных в общий курс «Исторический метод в биологии», излагают главные
основания, вызвавшие коренной переворот в воззрениях на
живую природу и метод ее изучения. Этот цикл лекций
также вошел в историю науки как исключительный образчик научной популяризации, дающий в самых широких
чертах главные моменты движения научной мысли X I X века.
Тимирязев и здесь показал свое исключительное мастерство,
изложив в тесных рамках десяти популярных лекций основные
этапы развития биологии, обозначившие резкую грань между
состоянием этой науки в первой и второй половине X I X века.
Публичные доклады Тимирязева, посвященные изложению
результатов его собственных исследований: «Растение и солнечная энергия», «Растение, как источник силы», «Растение—
сфинкс», «Фотография природы и фотография в природе»*,
отличаются той же изумительной научной ясностью и общедоступностью.
Назначение публичных лекций, с точки зрения Климента
Аркадьевича, должно состоять не в сообщении слушателям
* Все эти доклады в о ш л и в I том настоящего собрания сочинений
К. А. Тимирязева под теми же названиями. Ред.
Случайных, отдельно выхваченных знаний. Такие лекции должны
представлять собой целый систематический курс, по образцу
знаменитых курсов Буссенго в Conservatoir des Arts et Métiers,
отличавшихся именно тем, что слушатели могли на них знакомиться с приемами исследования во всех подробностях.
Тимирязевым был разработан специальный проект устройства ботанической станции в Москве, в Александровском саду,
именно с целью правильной постановки развития дела пропаганды и популяризации. Его проект предусматривал использование непосредственного соседства университета, который мог бы
обеспечить станцию учеными силами для производства научных
исследований. Вместе с тем положение ботанической станции
в центре сделало бы ее удобной для посещения.
Тимирязев понимал популяризацию науки не только как
разъяснение успехов науки, но и как наглядную иллюстрацию
приложения этой науки к практике. Так, например, в своих
лекциях, которые он читал в 1896 году на Нижегородской выставке, он иллюстрировал все основные факты, касающиеся питания растений, не на рисунках или засушенных экземплярах,
а на живых культурах, притом выращенных во всех своих
стадиях в течение определенного периода на глазах у публики.
Тимирязев называл читателей или слушателей «безапелляционной инстанцией». Это значило, что, если то или иное изложение не удовлетворяло читателя или слушателя, то, следовательно, оно, с точки зрения Тимирязева, не достигало своей
цели, и Тимирязев такое изложение считал безапелляционно
осужденным, хотя сам специалист (лектор) и мог находить свое
изложение добросовестным.
Тимирязев не раз приводил в пример величайших ученыхмыслителей прошлого века (Дарвин, Гельмгольтц, Майер,
Буссенго), излагавших свои капитальные произведения в такой
форме, что они были в полном смысле слова общедоступны.
Следует сказать и о том требовании, которое предъявлял
Тимирязев к форме передачи знаний. Являясь исключительным
мастером речи, умевшим сочетать глубину научной мысли с редкой простотой слога и изяществом стиля, Климент Аркадьевич
считал, что форме изложения должны уделять большое внимание
все деятели науки, особенно популяризаторы. «Демократизи-
ровать науку» для Тимирязева означало—распространить в шгрочайших слоях трудящихся все те полезные достижения науки,
освоение которых означало бы прогресс широких масс. Залогом
успеха для такой пропаганды Тимирязев считал безукоризненное изложение именно в отношении формы.
В отношении мастерского изложения книги Тимирязева
«Жизнь растения» известный проф. А. Н. Бекетов писал:
«Мне неизвестно ни одно общедоступное сочинение по ботанике, и притом ни на одном из главных языков цивилизованного мира, которое равнялось бы произведению автора».
И действительно, кому неизвестны образцы великолепного
популяризаторского мастерства Тимирязева, образцы, на которых еще и до сих пор естествоиспытатель должен учиться
искусству пропагандировать. В своих работах «Пробуждение
естествознания в третьей четверти X I X века» и «Основные черты
истории развития биологии в X I X столетии» Тимирязев дает
удивительно яркие по своей научно-художественной живости
картины истории естественных наук прошлого века. В историю
пропаганды и популяризации дарвинизма вошли в качестве классических его особенно известные лекции, статьи и книги: «Опровергнут ли дарвинизм», «Чарлз Дарвин как тип ученого»,
«Факторы органической эволюции», «Дарвинизм перед судом
философии и нравственности», «От дела к слову, от зверя—к человеку», «Чарлз Дарвин и его учение», «Краткий очерк теории
Дарвина», «Ч. Дарвин», «Первый юбилей дарвинизма», «Кембридж и Дарвин», «У Дарвина в Дауне», «Наши антидарвинисты», «Витализм и наука», «Странный образчик научной критики
(по поводу статьи академика Г. Фаминцына), «Исторический метод в биологии» и пр.
Свои взгляды на популяризацию и пропаганду Климент
Аркадьевич распространял и на школу. Он требовал, чтобы
всякий, начиная со школьника, обладал основными представлениями о том, что такое научный труд и научная мысль.
Г
«Мы требуем,—писал К. А. Тимирязев в статье „Наука
в современной жизни",—расширения кругозора учащихся, простирающегося за пределы кратких учебников и руководств
к практическим занятиям; мы требуем, чтобы историко-литературное образование в каждой школе, в каждом среднем училище включало бы и сведения о великих подвигах и обобщениях
науки, мы уверены, что предмет этот может быть сделан привлекательным для всех умов и что причины отсутствия общего
и сознательного к нему влечения заключаются в отсутствии подходящей научной литературы для всех ступеней нашей школы».
Главная задача, которую ставил перед школой Климент
Аркадьевич, заключалась именно в том, чтобы пробудить мысль
молодежи, привить молодежи такой интерес к науке, который
сохранился бы у нее и за пределами школы. В этом, собственно говоря, и видел Климент Аркадьевич залог успешности
школьного воспитания. И понятно, что Климент Аркадьевич
восставал против «фетишизма экзаменов». Он бичевал тот формализм университетской системы, который, вместо пробуждения
интереса к науке, весь смысл университетских занятий сводил
к экзаменам. «У нас все сведено к экзаменам, а экзамен сведен
к нулю»,—так иронически отзывался Тимирязев о том, что
творилось в буржуазно-помещичьей школе. Он бичевал этих
«отечественных» официальных экзаминаторов, ухитрившихся
даже, как известно, «срезать» на магистерском экзамене по
палеонтологии знаменитого В. О. Ковалевского, пользовавшегося уже в то время всемирной известностью.
В наследстве, оставленном Климентом Аркадьевичем,
имеется большой исторической важности документ, трактующий
его взгляды на школу. Уже после Великой пролетарской революции, примерно, с февраля 1918 года, Климент Аркадьевич
приступил к работе по вопросу о реформе высшей школы и написал известную статью «Демократическая реформа высшей
школы»*.
В этой статье с чрезвычайной яркостью отражен тот пролетарский демократизм, который выковывала в Тимирязеве Великая пролетарская революция.
6
Целостность социально-политических взглядов К. А. Тимирязева и его беспрерывно нараставшая революционность нашли
особенно четкое выражение в период шовинистического угара,
которому поддались ученые всех стран. Именно в этот период,
в обстановке ужасающего 1914 года, раздается революционный
призыв Тимирязева к борьбе против милитаризма.
Тимирязев бичует милитаризм. В ряде статей, написанных
им за период империалистической бойни, он с необыкновенным
мужеством ученого-гражданина разоблачает войну. Уже с самого начала мировой войны он становится ярым антиоборонцем и начинает сотрудничать в легальном интернационалистическом журнале «Летопись». В своей статье «Наука, демократия
и мир»*, помещенной им в этом журнале, он пишет:
«Война имела, имеет и может иметь только два результата:
у победителей ...завоевания вызывают жадность к новым завоеваниям, вырождающуюся в манию всемирного владычества,
а у побежденных растет сдавленная и тем более могучая злоба,
воплощающаяся в давно знакомом слове—реванш... А дипломаты ведут свой народ с завязанными глазами до самого края
пропасти, в которую его моментально сталкивают... А' когда
ничего не ожидавшие, ничего не понимающие народы оказываются в смертельной схватке, в которой остается лишь одно—
скорее перегрызть горло, пока тебе его не перегрызли,—дипломаты любуются на дело своих рук, объясняя его расовой ненавистью (подчеркнуто мной. С. Я.), историческими задачами,
борьбой за культуру и другими хорошими словечками... И это
тем более легко, что с войной водворяется царство лжи, лжи
вынужденной и доброхотной, лжи купленной и даровой, лжи
обманывающих и обманутых, и тогда уже нет исхода. Вот почему
очевидно, что на борьбу с войной можно рассчитывать не во
время войны, и даже не после нее, а только предотвратив ее
возможность устранением тех, чья
специальность—спускать
с цепи этого демона войны» (подчеркнуто мной. С. Я.).
Тимирязев с необыкновенной силой своей бичующей критики
выступает против поборников «культурного гуманизма», бесстыдно называющих империалистическую бойню «борьбой за
культуру», оправдывающих истребление мирного населения,
разгром целых народов. Саркастически высмеивая тех, кто
представляет собой категорию «истинно гуманных людей»,
Тимирязев публично выступает с критикой этих «искренних
христиан», договорившихся до «тождества креста и меча».
Мировая война вплотную приближает Тимирязева к пониманию сущности характера империализма. Революционный
демократ, стоявший поодаль от организованной борьбы рабочего
класса, направляет всю мощь своих революционных усилий
к призыву демократии—восстать против войныі По-своему,
со своей тимирязевской точки зрения, мобилизует Климент
Аркадьевич всю современную и близкую ему общественность
на борьбу с ужасающим бичом человечества. Ему принадлежит
ряд поистине блестящих страниц, в которых он обращается
с призывом к этой единственной, с его точки зрения, силе,которая
способна положить конец мировой катастрофе—к демократии:
«Если вы хотите, чтобы современный человек перестал походить на своего дикого предка—долой ложь во всех ее видах,—
говорит наука. Если вы хотите, чтобы правда водворилась на
земле,—говорит демократия,—предоставьте мне самой ограждать
себя от величайшего из зол—от войны; быть самой на страже
священнейшего из моих прав—права на жизнь. И их требования сходятся по существу. Согласится ли человечество когданибудь с этими требованиями, захочет ли оно выйти на новый путь—войны против войны? (подчеркнуто мной. С. Н.).
Кто знает. Одно только очевидно для всякого мыслящего человека:—-если не захочет, то останется при том, что было, при
безысходном, безумном ужасе того, что есть».
Это был период политического вызревания Тимирязева,
которое все больше и больше приводило его к пониманию сущности «социальной демократии». Это был тот период, когда
Климент Аркадьевич все больше и больше приходит к сознанию,
что только силы пролетариата представляют собой мощь, способную уничтожить ужасающий гнет трудящегося человечества, уничтожить «утеснителей» той демократии, о которой мечтал Тимирязев.
Тимирязев все более и более начинает разоблачать фальшь
и лицемерие буржуазной культуры и буржуазного «гуманизма».
В период февраль-октябрь 1917 года он пишет свою известную
«притчу ученого»—«Красное знамя»*. С необыкновенной силой
последовательного ученого-революционера он выражает в этой
статье пролетарское понимание сущности демократии, изобличая
буржуазных демократов, прикрывающих понятием «демократии» все тонкости действующего механизма эксплоатации.
Изучив на протяжении многих лет всю лживость буржуазной морали, Тимирязев «до конца» раскрывает поборников
«борьбы за культуру», спускающих с цепи своего «демона
войны». Их же словами он выражает их потаенные мысли.
«Дайте нам перебить еще несколько миллионов людей. Дайте
нам обложить еще несколькими сотнями миллиардов живущие
и еще не родившиеся поколения. Дайте нам перевести эти миллиарды из сум трудящихся в золотые мешки миллиардеров или
в сундуки их биллионных синдикатов. Дайте нам отучить миллионы честных тружеников от свободного и производительного
труда и запрячь их в труд принудительный и служащий исключительно делу истребления. Дайте нам развратить целые поколения привычкой к легкой грабительской наживе. А прежде
всего дайте нам безнаказанно лгать и клеветать, ограждая свою
ложь благодетельной цензурой и желтой прессой. Дайте нам
все это, и тогда придет наше царство—царство золота и лжи,
железа и крови».
Тимирязевская вера в науку и демократию, вера, преисполненная мирного пацифизма прежних годов, сменяется его
боевым кличем:
«Воспряньте, народы, и подсчитайте своих утеснителей,
а подсчитав—вырвите из их рук нагло отнятые у вас священнейшие права ваши: право на жизнь, на труд, на свет и прежде
всего на свободу, и тогда водворится на земле истина и разум,
производительный труд и честный обмен их плодами».
«Нет, войны войной не уничтожают...»,—писал Тимирязев
в статье «Наука, демократия и мир», появившейся уже после
Февральской революции. «Ни милитаризмом, ни маринизмом не
уничтожают милитаризма и маринизма. Синдикат капиталистов,
что бы там ни говорили, может раздавить капиталиста, но не
уничтожить зло капитализма; также и с синдикатом милитаристов,— ни жизнь, ни история не знают гомеопатического закона similia similibus curantur—клин клином. Старое средство
испытано несметными веками и оказалось никуда негодным,
нужно искать нового».
Чувство огромной ненависти к «вождям» н «поклонникам
войны», ведшим многострадальный народ к новой бойне, делало
Тимирязева, особенно в период июньских дней 1917 года, еще
более «неистовым Климентом», открыто выражавшим весь пыл
своей ненависти по адресу душителей революции—Корниловых,
Милюковых и Родзянок. Именно в это время писал Тимирязев Алексею Максимовичу Горькому:
«Снова и снова повторяю Некрасова: ,,Были времена и хуже,но
не было подлее". Будьте здоровы, берегите себя,—может быть,
и эти гнусности переживем,
хотя плохо верится.
Кажется,
мерзавцы торжествуют
по всей линии: и не
сегодня-завтра
господа Корниловы, Милюковы-Дарданелъские
и Родзянки-болванские восстановят
„столыпинское успокоение" или что еще
хуже. Голова идет кругом, дело валится из рук. Если теперь
мы не дошли „до конца", то не знаю, какого еще ждать
другого».
Тимирязев в особом волнении переживает лето 1917 года.
Его крайне волнует буржуазная подлость кадетских газет,
и наибольшим источником такого волнения становятся «Русские ведомости». Особой заботой Александры Алексеевны
(жены Климента Аркадьевича) и сына Аркадия Климентовича
становится—уберечь Климента Аркадьевича от этих волнений,
сильнейшим образом сказывавшихся на его болезненном состоянии. Источником его успокоения становится чтение «Социал-демократа», который, начиная с февраля 1917 года, Климент Аркадьевич регулярно читает. В июле-августе-сентябре
не меньшее волнение, чем «Русские ведомости», начинает вызывать у Тимирязева газета «Новая жизнь». Обычно, чтобы успокоить Климента Аркадьевича, Александра Алексеевна и Аркадий Климентович старались давать Клименту Аркадьевичу в первую очередь читать большевистские газеты. И Тимирязев успокаивался, восхищаясь подлинной революционностью большевизма.
Тимирязев со всей присущей ему страстностью революционера принимает активное участие в выборах в районные думы
и учредительное собрание, аккуратно заполняет листок № 5
(большевистский список) и, несмотря на свое болезненное состояние, относит его в свой избирательный участок.
И в свои 75 лет, с исключительной преданностью отдавшись пролетарскому делу, борьбе рабочего класса с его врагами, Климент Аркадьевич Тимирязев переходит на сторону
Великой пролетарской революции, служа науке и пролетарской демократии.
«Если в сердце пролетариата всегда жила мысль о неизбежности крепкого союза между наукой и трудом,—писал
А. В . Луначарский,—то она была подтверждена в тяжелые дни
разрыва интеллигенции с революционными народными массами полным переходом одного из величайших представителей
русского ученого мира, К. А. Тимирязева, на сторону рабочего
класса, под его знамя (подчеркнуто мной. С. Н.). Кто знал
Тимирязева раньше, тот в праве был ожидать, что именно
этот человек окажется звеном, соединяющим революцию и
науку».
Номер «Правды», в котором были напечатаны «Апрельские
тезисы» В. И. Ленина, был буквально испещрен восторженными замечаниями Климента Аркадьевича. С чувством огромной любви восхищался Тимирязев гениальной силой вождя
Великой пролетарской революции.
Целиком перешедший на сторону рабочего класса, посвятивший остаток дней своих служению социалистической правде,
Тимирязев действительно отдал свой энтузиазм и оставшиеся
силы боровшемуся за социализм пролетариату. Он был «предтечей», на несколько лет опередившим отставшую от пролетариата русскую интеллигенцию, своим примером указавшим
ей тот путь, по которому она неминуемо должна была пойти.
Он указал путь, по которому ныне идут выдающиеся ученые,
стахановцы науки—Лысенко, Мейстер, Эйхвельд, Цицин и др.
Но никак нельзя забыть и того, в какой исключительно трудной обстановке проходило начало служения Тимирязева социализму. Весь буржуазный лагерь профессуры, еще столь
«академически сильной» в то время, буквально не мог простить
ему, что он стал под «красное знамя», что он провозгласил это
знамя—«эмблемой единения демократий всего мира и символом
единения между силой знания и мощью трудаі»
Характерно, что в день, когда ему исполнилось семьдесят
пять лет, 4 мая 1918 года, из университетских работников его
посетили только Ф . Н. Крашенинников, И. А. Каблуков,
А. А. Эйхенвальд и В . И. Романов.
Не переставая думать о судьбах всей науки,. Тимирязев
в написанном им «Привете первому русскому рабочему факультету»* обращался через голову огромного лагеря буржуазных ученых:
«Да здравствует уже объединенная своим красным знаменем,
могучая своим трудом, сильная светом знания, просвещенная
всемирная демократия!».
В период 1918—1919 гг. Тимирязев- пишет свои статьи:
«Работать, работать, работать», «Демократическая реформа
высшей школы», «Пророчество Байрона о Москве» и др.
и составляет свой последний, ставший предсмертным, сборник
«Наука и демократия».
В эти последние годы своей жизни он встречался с товарищами: П. К. Штернбергом, M. Н. Покровским, Н. С. Понятским, В. Т. Тер-Оганесовым, П. И. Лебедевым-Полянским,
В . В . Воровским, В . А. Обухом,М. И. Роговыми В. Цивцивадзе, В. М. Лихачевым, Ф. В. Ленгником, Н. Л. Мещеряковым, H. М. Лукиным, а из университетских работников с профессором Ф. Н. Крашенинниковым, академиком И. А. Каблуковым, профессором В. И. Романовым и профессором
А. А. Эйхенвальдом.
Порвав навсегда с ученой кастой, «чутким своим сердцем
почувствовавший,—как писал о Тимирязеве M. Н. Покровский, — что правда здесь, вместе с рабочими», Тимирязев
принимает председательствование в «Ассоциации натуралистов
и рабочих-самоучек» и целиком уходит в советское строительство.
В среде ученых большевиков Тимирязев избирается действительным членом Социалистической (позднее ставшей Коммунистической) академии.
В Народном комиссариате по просвещению он назначается
членом Государственного ученого совета, на заседаниях которого он не только регулярно присутствует, но и выступает
по всем основным вопросам.
Московские рабочие избирают Климента Аркадьевича членом Московского совета.
Больной, но преисполненный чувства беспредельной веры
в мощь пролетариата, восхищенный его изумительной самоотверженностью, Климент Аркадьевич пишет ставшее историческим достоянием Октября свое приветственное письмо членам
Московского совета, посланное им в «Известия ВЦИК», напечатанное на многих языках:
«Товарищи]
Избранный товарищами, работающими в вагонных мастерских Московско-Курской железной дороги, я прежде всего спешу
выразить свою глубокую признательность и в то же время высказать сожаление, что мои годы и болезнь не дозволяют мне
присутствовать на сегодняшнем
заседании.
А вслед за тем передо мной встает вопрос: а чем же я могу
оправдать оказанное мне лестное доверие, что могу я принести
на служение нашему общему делу?
После изумительных, самоотверженных успехов наших товарищей в рядах Красной Армии, спасших стоявшую на краю гибели нашу Советскую республику и вынудивших тем удивление
и уважение наших врагов,— очередь за Красной армией труда.
Все мы—-стар и млад, труженики мышц и труженики мысли-—
должны сомкнуться в эту общую армию труда, чтобы добиться дальнейших плодов этих побед. Война с внешним врагом,
война с саботажем внутренним, самая свобода—все это только
средства; цель—процветание и счастье народа, а они созидаются
только производительным трудом. Работать, работать,
работать! Вот призывный клич, который должен
раздаваться
с утра и до вечера и с края до края многострадальной
страны,
имеющей законное право гордиться тем, что она уже
совершила,
но еще не получившей заслуженной награды за все свои жертвы,
за все свои подвиги. Нет в эту минуту труда мелкого, неважного, а и подавно нет труда постыдного. Есть один труд—необходимый и осмысленный. Но труд старика может иметь и особый смысл. Вольный, необязательный, не входящий в общенародную смету,—этот труд старика может подогревать энтузиазм
молодого, может пристыдить ленивого. У меня всего одна рука
здоровая, но и она могла бы вертеть рукоятку привода, у меня
всего одна нога здоровая, но и это не помешало бы мне ходить на
топчаке.
Есть страны, считающие себя свободными, где такой труд
вменяется в позорное наказание преступникам, но, повторяю,
в нашей свободной стране в переживаемый момент не может
быть труда постыдного,
позорного.
Моя голова стара, но она не отказывается от работы. Может быть, моя долголетняя научная опытность могла бы найти
применение в школьных делах или в области земледелия. Наконец, еще одно соображение:
когда-то мое убежденное
слово
находило отклик в ряде поколений учащихся, быть может,
и теперь оно при случае поддержит колеблющихся,
заставит
призадуматься убегающих от общего дела.
Итак, товарищи,
все за общую работу
не покладая
рук, и да процветет
наша советская республика,
создан-
Р о с . Соииал. Ф е д е р а т . Cos. Респ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НАРОДИ. КОМИССАРОВ.
Москва, Кремль-
/Г
РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
БОВЕТВКЙЯ РЕСПУБЛИКИ.
Председатель Совета
РАБОЧЕЙ н КРЕСТЬЯНСКОЙ
ОБОРОНЫ.
—о—
Москва, Кремль.
Ç-.-
19
пая самоотверженным подвигом рабочих и крестьян
ко что у нас на глазах
спасенная
нашей славной
Армией!
и тольКрасной
КЛИМЕНТ
АРКАДЬЕВИЧ
ТИМИРЯЗЕВ,
член Московского Совета Рабочих,
Крестьянских
и Красноармейских
депутатов
6 марта 1920 г.»
Великая пролетарская революция поставила Тимирязева,
ученого—непартийного большевика—в ряды передовых работников пролетарских органов.
20 апреля 1920 года после участия в заседании Коллегии
сельскохозяйственного отдела Моссовета Климент Аркадьевич
весь вечер, до 11 часов, работал за письменным столом над предисловием к сборнику своих научных трудов «Солнце, жизнь
и хлорофилл». Часов в 12, когда Климент Аркадьевич ложился
спать, у него обнаружились бурные признаки крупозного воспаления легкого. Сразу же сильно понизилась работа сердца.
Начатое предисловие к книге «Солнце, жизнь и хлорофилл»,
скромно названной им итогом его «полувековых попыток ввести
строгость мысли и блестящую экспериментацию физики в изучение самого важного физиологического явления», из-за болезни осталось незаконченным. Эту книгу с незаконченным предисловием он посвящает своему сыну, профессору физики—коммунисту Аркадию Климентовичу.
Утром 27 апреля воспаление перешло на другое легкое.
Здоровье Климента Аркадьевича сразу резко пошатнулось.
В минуты, когда подорванный организм борца-ученого напрягал свои физические усилия, В. И. Ленин, в ответ на получение посланного ему Тимирязевым последнего сборника «Наука и демократия», писал в письме от 27 апреля 1920 года:
27 апреля 1920 г. Москва
в ДОРОГОЙ
КЛЕМЕНТИЙ
БОЛЬШОЕ
АРКАДЬЕВИЧ!
СПАСИБО
ВАМ
ЗА
ВАШУ
КНИГУ
И
ДОБРЫЕ
СЛОВА. Я БЫЛ ПРЯМО В ВОСТОРГЕ, ЧИТАЯ ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ
ПРОТИВ
БУРЖУАЗИИ
КРЕПКО
ЖМУ
И
ЗА
ВАШУ Р У К У
СОВЕТСКУЮ В Л А С Т Ь .
И ОТ ВСЕЙ
КРЕПКО
»
Д У Ш И Ж Е Л А Ю ВАМ
ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!
Ваш В. УЛЬЯНОВ
(ЛЕНИН)»
і 59
Это были последние слова, услышанные Климентом Аркадьевичем от величайшего гения человечества,—и в ночь с 27 на
28 апреля 1920 года, в 12 часов 10 минут, ученого избранника,
«патриарха русской агрономии»—не стало.
Умер человек исключительного масштаба, исключительной
культуры и мировой научной значимости, умер великий Тимирязев, на долю которого история отвела роль быть звеном, соединяющим революцию и науку. Ветеран, уходивший от жизни,
за день перед своей смертью, когда еще дыхание не было затруднено, обращаясь к доктору-коммунисту Б . С. Вайсброду, произнес слова, ставшие достоянием истории борьбы рабочего класса
за науку, за демократию, за коммунизм:
«Я всегда старался служить человечеству и рад, что в эти
серьезные для меня минуты вижу вас, представителя той партии, которая действительно служит человечеству.
Большевики,
проводящие Ленинизм,—я верю и убежден—работают
для счастья
народа и приведут его к счастьюу' Я всегда был ваш и с вами. Передайте Владимиру Ильичу мое восхищение его гениальным разрешением мировых вопросов в теории и на деле. Я считаю за
счастье быть его современником и свидетелем его славной деятельности. Я преклоняюсь перед ним и хочу, чтобы об этом
все знали. Передайте всем товарищам мой искренний привет
и пожелания дальнейшей успешной работы для счастья человечества».
Пролетариат воздвиг своему любимому ученому памятник
в столице первого пролетарского государства, назвал его именем Научно-исследовательский биологический институт и
бывшую Петровскую сельскохозяйственную академию, из которой царизм изгнал великого ученого.
Во имя счастья всего человечества народы СССР в тяжелой
борьбе добились всемирно-исторической победы — торжества
социалистической демократии, ярким воплощением которой
является Сталинская Конституция. Одним из борцов за эту
победу и был Тимирязев, вся жизнь и деятельность которого
были посвящены борьбе с темными силами реакции за торжество науки и демократии.
Памятник Клименту Аркадьевичу Тимирязеву
в Москве, у Никитских ворот
Работа
[ г
скульптора
О. Меркулова
t
'
-
••
'
;
:
О т РЕДАКТОРА
ПЕРВОГО ТОМА
ПРОФЕССОР
Ф.Н.КРАШЕНИННИКОВ
и К. А. Тимирязев, rïi. /
концу своей жизни Климент Аркадьевич Тимирязев
сам подобрал и подготовил к печати свои исследования из области физиологии растений, касающиеся
усвоения света растением. Он присоединил сюда также
относящиеся к ним речи на научных собраниях и публичные лекции, чтобы издать все вместе отдельным сборником под общим заголовком «Солнце, жизнь и хлорофилл». Смерть автора, наступившая после кратковременной болезни, 28 апреля 1920 года,
прервала его работу над предисловием к этому сборнику. Он успел подготовить к печати только первые семь страниц. После
кончины Климента Аркадьевича на его письменном столе остались продолжение предисловия в форме черновой рукописи, два
отрывка из неоконченной последней части предисловия и другие
заметки, позволившие докончить составление сборника.
В 1923 году этот сборник был издан
издательством.
Государственным
Соответственно намеченному Климентом Аркадьевичем плану, весь сборник состоял из трех частей. В первую часть вошли
публичные лекции: 1. Растение и солнечная энергия (1886 г.):
а) Круговорот углерода (1883 г.); б) Почему и зачем растение
зелено (1886 г.). 2. Растение, как источник силы (1875 г.).
3. Растение—сфинкс (1885 г.). 4. Фотография природы и фотография в природе (1895 г.).
Во вторую часть сборника вошли речи: 1. Действие света на
хлорофилловое зерно (с французского). Речь, читанная на международном конгрессе ботаников во Флоренции в 1874 году. 2 . 0 физиологическом значении хлорофилла. Речь, читанная в общем заседании VI съезда русских естествоиспытателей и врачей
в Петербурге в 1879 году. 3. Современное состояние наших сведений о функции хлорофилла (с французского). Речь, читанная на международном конгрессе ботаников в Петербурге
в 1884 году. 4. Космическая роль растения (с английского).
Речь, читанная в Лондонском королевском обществе в 1903
году.
Третью часть сборника «Солнце, жизнь и хлорофилл»
составили исследования: 1. Прибор для исследования воздушного питания листьев и применения искусственного освещения
к исследованиям подобного рода (1868 г.). 2. Значение лучей
различной преломляемости в процессе разложения углекислоты
растением (было напечатано в Botanische Zeitung в 1869 г.).
3. Спектральное исследование хлорофилла (1869 г.). 4. Спектральный анализ хлорофилла (1871 г.). 5. Спектр живых
листьев и микроспектр (1872 г.). 6. Об усвоении света растением (1875 г.). 7. Опровержение исследований Прингсгейма
над желтыми растительными пигментами (1875 г.). 8. Разбор
теории Прингсгейма о физиологическом значении хлорофилла
(1881 г.) 9. Зависимость фотохимических явлений от амплитуды
световой волны (1884 г.). 10. Фотохимическое действие крайних
лучей спектра (1892 г.). И. О разложении углекислоты зелеными
частями растений в солнечном спектре (с французского, 1877 г.).
12. Распределение энергии в солнечном спектре и хлорофилл
(с французского, 1883 г.). 13. Химическое и физиологическое
действие света на хлорофилл (с французского, 1885 г.). 14. Искусственный протофяллин(с французского, 1886 г.). 15. Бесцветный
хлорофилл (с английского, 1885 г.). 16. Восстановленный хлорофилл (с английского, 1886 г.). 17. Протофиллин в живом растении
(с французского, 1889 г.). 18. Протофиллин естественный и
протофиллин искусственный (с французского, 1895 г.). 19. Зависимость усвоения углерода от интенсивности света (с французского, 1889 г.). 20. Фотографическая регистрация усвоения
углерода хлорофиллом на живом растении (с французского,
1890 г.).
Все эти статьи, речи и лекции посвящены выяснению одного
из самых основных вопросов в биологии: какова судьба солнечного луча в зеленом растении при образовании органического
вещества? От этого процесса зависит вся жизнь на земле. Какое участие в этом процессе принимает зеленое вещество растений—хлорофилл, который является звеном, связующим жизнь
на земле с солнцем? Эти вопросы физиологии растений, наряду
с другими основными, более общими вопросами естествознания,
составляли цель всей научной деятельности К . А. Тимирязева
с его первых научных шагов и до самой кончины.
Работы по физиологии растений, вошедшие в сборник,
более всего соприкасаются с физикой, так как в этих работах
преимущественно рассматриваются процессы превращения одной формы энергии в другую: переход световой энергии в химическую, образование в растении на свету горючего (органического) вещества. Мастерское изложение, яркие сравнения
делают особенно легкими для усвоения, даже и неспециалистами, не только публичные лекции, но и специальные
статьи и научные работы К. А. Тимирязева.
Сборник «Солнце, жизнь и хлорофилл» Климент Аркадьевич
посвятил сыну своему Аркадию Климентовичу Тимирязеву,
профессору физики в Московском государственном университете.
Не раз приходилось слышать от К. А. сожаление об отсутствии у него самого математической подготовки, необходимой
для физика.
. Еще три из других своих сборников К. А. посвятил своим
близким. Все четыре посвящения символичны: они вскрывают
отчасти его интимную, семейную ?кизнь, дают указание на его
личные переживания и сокровенные чувства.
Первым по времени было посвящение томика «Некоторые
основные задачи современного естествознания» (1895 г. и 2-е издание, 1904 г.) брату и первому своему учителю естествознания, Димитрию Аркадьевичу Тимирязеву, с которым его
связывали узы дружбы с раннего детства.
Плод проникновенной, многолетней работы, «Исторический
метод в биологии», он посвятил жене Александре Алексеевне
Тимирязевой; взаимное увлечение, глубокая любовь и привязанность сочетали их на всю жизнь.
Свой сборник с огненными статьями, 1904—1919 гг., связанными общим стремлением к научной истине, общественноэтической, социалистической правде, сборник, носящий название «Наука и демократия», он посвятил, свидетельствуя
благодарность и уважение, «дорогой памяти отца своего Аркадия Семеновича Тимирязева и своей матери Аделаиде Клементьевне Тимирязевой».
И наконец, последний свой труд, весь сборник «Солнце,
жизнь и хлорофилл», он посвятил, как уже указано, сыну, которому всегда отдавал всю силу любви и забот.
Редакция собрания сочинений К. А. Тимирязева решила
сборник статей «Солнце, жизнь и хлорофилл» распределить
на два тома. В I том включены первая и вторая части сборника—
публичные лекции и речи, а во второй том — исследования
(последняя, третья часть сборника). Такое разделение, облегчая пользование материалом, не нарушает единого плана
К. А. Тимирязева, так как третья часть сборника, идущая во
II томе, является как бы фактическим обоснованием двух первых частей и углубляет знания, приобретаемые при чтении
публичных лекций и речей.
Соединение в одно целое и строго научных исследований,
и публичных лекций, доступных для широких кругов, является характерною и непревзойденною особенностью всей деятельности Климента Аркадьевича. Публичные лекции К. А.
имеют более глубокое значение, чем простая популяризация.
На своих чтениях он устанавливает, как развивается научная
творческая мысль в последовательности логических заключений, и одновременно с этим наглядно показывает, как экспериментально подтверждают выведенные заключения.
Раскрывая перед слушателями и читателями весь ход научного исследования, он как бы приобщает их к самой творческой
работе. В выполнении экспериментальной части исследования
он часто одним штрихом устанавливает существеннейшие технические детали опыта.
В пояснение возьмем следующий пример. В очерке «Растение и солнечная энергия», в первом чтении—Круговорот углерода, Климент Аркадьевич передает анекдот (по его выражению), который он слышал от Буссенго. В совместной работе
Буссенго и Дюма обнаружили, что растение действительно
улавливает и разлагает углекислый газ, находящийся в атмосферном воздухе в ничтожном количестве—3 части углекислого
газа на 10 ООО частей воздуха. Опыты шли хорошо; растение,
как и следовало ожидать, разлагало углекислоту. Но однажды
картина изменилась. Несмотря на солнечные дни, растение закапризничало и вместо того, чтобы разлагать углекислоту,
стало ее выделять. Оказалось, что знаменитый французский физик Реньо, внимательно следивший за их опытами, в эти дни
во время отсутствия их подходил к прибору и дышал около
него, чтобы убедиться, что они не шарлатанят, а действительно могут определять такие малые количества углекислого
газа.
Каким предостережением является передача этого анекдота
для всех исследователей, определяющих разложение углекислоты
в так называемых естественных условиях, когда в прибор
поступает воздух все время меняющегося состава. Такие определения весьма распространились за последние годы. Но как это
ни странно, выполняют эти исследования как раз в таких условиях, которые не могут дать точных результатов. При определениях в естественных условиях забывают о выделении углекислого газа почвою (о дыхании почвы). Это и объясняет в большинстве случаев колебания в количествах усвоенной углекислоты,
когда опыт производят в «естественных» условиях. Следует все
время иметь в виду, что «наблюдения в поле могут быть вполне выяснены только опытами в лаборатории». Если нельзя взять растение в лабораторию, должно создать лабораторию около растения.
В I том настоящего издания вошли, как уже упоминалось
выше, речи и доклады, произнесенные в ученых обществах
и на съездах и посвященные усвоению света растением (вторая
часть сборника). Очень интересно сравнить начальные исследования Климента Аркадьевича за первую пятилетку его работы—«Действие света на хлорофилловое зерно» (речь, читанная на Международном конгрессе ботаников во Флоренции
в 1874 г.) и его речь, читанную в Лондонском королевском обществе в 1903 г. — «Космическая роль растения». В этой
замечательной речи перед слушателями, среди которых находились самые выдающиеся ученые Англии, К. А. подвел итог
своей тридцатилетней деятельности. Из этого сравнения видно,
насколько учение об усвоении света растением было подвинуто
трудами Климента Аркадьевича. Научная прозорливость его
может быть установлена еще и следующим сопоставлением:
В своей первой русской работе * К. А. определил намеченную себе задачу во всей ее
широте в следующих выражениях:
«Изучить химические и физические условия этого явления,** определить составные
части солнечного луча, участвующие посредственно или
непосредственно в этом процессе, проследить их участь в растении до их уничтожения,
то-есть до их превращения во
внутреннюю работу, определить соотношение между действующей силой и произведенной работой,—вот та светлая,
хотя, может быть, отдаленная,
задача, к достижению которой
должны быть дружно направлены все силы физиологов».
Немецкое химическое общество объявило на 1935 год
следующую тему на соискание
Цейтлеровской премии.
«Известно, что растения
накапливают солнечную энергию, переводя ее в химическую.
При этом из углекислоты воздуха образуется, с одной стороны, кислород, а с другой—
углеводы. Но путь, которым
приходит световая энергия,
поглощенная растением, до
того, как она приведет к превращению углекислоты, неизвестен. Надо изложить применявшиеся до сих пор методы
и, по возможности, указать
новые, которые представляют
возможность проникнуть в
основной для всей жизни на
земле процесс ассимиляции».
* «Прибор для исследования воздушного п и т а н и я листьев и применения искусственного освещения к исследованиям подобного рода»?
1868 г. В настоящем издании см. том II. Ред.
** Усвоение у г л е р о д а зелеными частями растений под влиянием
солнечных лучей. Ред.
Мы видим, насколько обе задачи близки между собою и какое актуальное значение и на сегодня имеют исследования
К. А. Тимирязева. У ж е в цитированном выше первом своем исследовании при решении поставленной себе задачи Климент Аркадьевич проявил огромную силу своего гения, на десятки лет
вперед определив развитие научной мысли в области исследования космической роли растения.
СОЛНЦБЛКИЗНЬ
И ХЛОРОФИЛЛ
1868*1920
П Е Р В А Я И ВТОРАЯ
ЧАСТИ
СБОРНИКА
СЫНУ
МОЕМУ
АРКАДИЮ КЛИМЕНТОВИЧУ
ТИМИРЯЗЕВУ
Т ы
СУМЕЛ
ОСУЩЕСТВИТЬ
МЕЧТУ
МОЕЙ
ЖИЗ-
Н И — С Т А Т Ь ФИЗИКОМ. Т Е Б Е П О С В Я Щ А Ю ЭТИ П О Л У В Е К О В Ы Е П О П Ы Т К И МОИ В В Е С Т И СТРОГОСТЬ М Ы С Л И
И
БЛЕСТЯЩУЮ
ЭКСПЕРИМЕНТАЦИЮ
И З У Ч Е Н И Е САМОГО В А Ж Н О Г О
Я В Л Е Н И Я . В ПРОКЛЯТОЙ
ФИЗИКИ
В
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
КЛАССИЧЕСКОЙ
ШКОЛЕ,
КОТОРАЯ О Т Р А В И Л А ТВОИ Ю Н О Ш Е С К И Е Г О Д Ы , ВАС
У Ч И Л И , Ч Т О : «ОТЦЫ, К О Т О Р Ы Х
ВАТЬ
С
А НАС
ДЕДАМИ,
ПОМЯНЕТ
РОДИЛИ
МИР Е Щ Е
СТЫД
НАС
И СРАВНИ-
НЕГОДНЕЙШИХ,
ПУСТЕЙШИМИ
СЫНА-
МИ» С Т Ы Д О К А З А Л , ЧТО С Ы Н М О Ж Е Т Б Ы Т Ь У М Н Е Е
И Ч Е С Т Н Е Е ОТЦА. ДА П О С Л У Ж И Т Т Е Б Е ЭТО СОЗНАНИЕ
УТЕШЕНИЕМ
И
ПОДДЕРЖКОЙ
ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ
МИНУТЫ
БОРЬБЫ
Отец твой К.
1
В
ТИМИРЯЗЕВ
Оды Горация в переводе Благовещенского.
Cette
matière
colorante
(fecule
verte)
est une
matière particulière,
subtile et qui tient de près aux
grands mistères de la
Végétation.
PHYSIOLOGIE
JEAN
SENEB1ER
VÉGÉTALE.GENÈVE
AN S (1800)
Zuerst
muss gefragt
werden ob das Licht, welches auf lebende Pflanzen fällt, wirklich eine andere
Verwendung findet als das Licht, welche todte Körper
trift.
ROBERT
DIE
ORGANISCHE
BEWEGUNGEN
MAYER
ETC.
1S45
Es
verschwindet
also wirkungsfähige
Kraft
des
Sonnenlichtes,
während
verbrennliche Stoffe
in der
Pflanze erzeugt und aufgekauft werden und wir können als sehr wahrscheinlich
vermuthen
dass das
erstere der Grund des Zweiten ist. Allerdings muss
ich bemerken,
besitzen
wir noch keine
Versuche
aus denen sich bestimmen
liesse ob die
lebendige
Kraft der verschwundenen Sonnenstrahlen
auch dem
während derselben Zeit angehäuften chemischen
Kraftvorrathe entspricht, und solange diese fehlen können
wir die angegebene Beziehung noch nicht als Gewissheit
betrachten.
HERMAN
DIE
WECHSELWIRKUNG
H ELM HOLT Z
DER
NATURKRÄFTE.
1851
The action of chlorophyll
in the
decomposition
of carbonic dioxide and evolution of oxygen is perhaps the most interesting
of all natural
phenomena.
W.
PRINCIPLES
OF
GENERAL
PHYSIOLOGY,
p.
BAY LI SS
588.
19-15
ff
J
Ото красящее тело (зеленый крахмал)
представляет
собою
особое,
тонкое
вещество,
близко
соприкасающееся
с великими тайнами
растения.
ЖАН
ФИЗИОЛОГИЯ
РАСТЕНИЙ.
СЕНЕБЬЕ
ЖЕНЕВА.
1800
\
Прежде
всего возникает вопрос: тот свет, который
падает на живое
растение, действительно ли он
получает иное потребление, чем тот свет, который
падает на мертвые тела.
РОБЕРТ
ОРГАНИЧЕСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ
МАЙЕР
И Т. Д. 1845
Таким
образом,
одновременно
с
исчезновением
солнечного света в растении наблюдается
появление
и накопление горючего вещества, и мы вправе считать
очень вероятным,
что первое является
причиной
второго. Но, во всяком случае, я должен
оговориться,
что мы не обладаем никакими опытами, из которых
можно было бы с достоверностью заключить, точно
ли живая сила исчезающих солнечных лучей соответствует накопляющемуся запасу химических сил, а пока
таких опытов еще не существует, мы не можем
признать
указанное
соотногиение за
несомненную
истину.
ГЕРМАН
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СИЛ
ГЕЛЬМГОЛЬТЦ
ПРИРОДЫ.
1854
Действие хлорофилла
в разложении
углекислоты
и выделении кислорода, пожалуй, самое интересное
из всех явлений
природы.
У.
ОСНОВЫ
ОБЩЕЙ
ФИЗИОЛОГИИ,
стр.
БЕЙЛИС
558.
1915
ПРЕДИСЛОВИЕ*
СОЛНЦЕ, ЖИЗНЬ И ХЛОРОФИЛЛ
П О С В Я Щ А Е Т С Я ПАМЯТИ
ВЕЛИКИХ
ГЕРМАНСКИХ УЧЕНЫХ
— РОБЕРТА
МАЙЕРА
И ГЕРМАНА ГЕЛЬМГОЛЬТЦА
ноября 1914 года научный мир должен был чествовать память одного из творцов современной
науки—Роберта Майера—по поводу исполнившегося
столетия со дня его рождения. Международное чествование не могло состояться по причине войны, и мне неизвестно,
могли ли чем отметить этот день соотечественники великого
ученого.
31 августа 1921 года, будем надеяться, уже закончится
самая позорная из войн, лежащих на совести людей, и опомнившееся человечество, конечно, отметит столетие со дня рождения
* В зь сборник (подробный список статей и распределение по частям)
был подготовлен автором к печати. Болезнь, о к о н ч и в ш а я с я смертью автора
28 апре. 1 1 \ 920 года, застала его во время работы над предисловием, которое осталось незаконченным. Ред.
12
К. А. Тимирязев,
т. I
177
гениальнейшего представителя науки девятнадцатого века,
всеобъемлющего ученого, разделяющего с Робертом Майером
славу открытия закона сохранения энергии.
I
Сознавая, что главным содержанием моей полувековой научной деятельности был всесторонний экспериментальный ответ
на запросы, предъявленные науке этими двумя мыслителями,
я считаю уместным напомнить в этом беглом очерке об их значении для основного учения о жизни, тем более, что, по их
собственному признанию, главным стимулом, руководившим
ими в их стремлении обосновать свой закон «сохранения силы»,
было покончить навсегда с современным им учением о «жизненной силе», с тем витализмом, призрак которого стал снова подымать голову в связи с торжеством метафизических идей, характеризующим общий упадок научного и общего мышления
в последние десятилетия, предшествовавшие войне.
Установив учение о превращении теплоты в работу и, обратно,
о механическом эквиваленте теплоты, развив одновременно с Гельмгольтцем учение о «неисчезаемости силы», позднее
формулированное как учение о «сохранении
энергии»,
Майер сосредоточился на приложении этого учения к миру
органическому, к чему, как уже замечено, его, главным
образом, влекло желание навсегда покончить с «витализмом»,
так как:
«допущением какой-то гипотетической жизненной силы
пресекается путь к дальнейшему исследованию и делается
невозможным применение законов точной науки к учению
о жизни. Сторонники этой жизненной силы восстают против
духа прогресса, проявляющегося в современном естествознании, и возвращаются к прежнему хаосу самой необузданной фантазии».
Именно эти страницы из его известной статьи «Die organische Bewegung, in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel»1, посвященные растению и животному, приведенные
Тиндалем в его высокоталантливой книге «Теплота, как род
движения»2, и послужили сигналом, изменившим настроение
1
Органическое движение в связи с превращением вещества.
Бывшей пояднее предметом глумления т а к и х философов-берклианцев, как Мах и Оствальд.
2
всего ученого мира к злополучному ученому 1 . В параграфе,
посвященном растению, Майер так устанавливает отношение
растения к солнцу:
«Природа поставила себе задачей перехватить налету притекающий на землю свет и превратить эту подвижнейшую
из сил в твердую форму 2 , сложив ее в запас. Для достижения
этой цели она покрыла земную кору организмами, которые
в течение своей жизни воспринимают солнечный свет и, используя эту силу, создают постоянно нарастающую сумму химической разности3. Эти организмы—растения».
Растения поглощают известную силу—свет и проявляют
другую—химическую разность. Закон логической причинности
понуждает естествоиспытателя приводить поглощение и производимую работу в причинную связь. Но вслед за тем он указывает на недостаточность современных ему сведений в этом
направлении и намечает задачу, которую предстоит разрешить,
прежде чем высказанное им заключение превратится в доказанную научную истину.
«Прежде всего возникает вопрос: тот свет, который
падает на живое растение, действительно ли он получает иное
потребление, чем тот свет, который падает на мертвые тела»4.
К тому же, как Майер, выводу пришел несколько позже
Гельмгольтц в приведенных также в эпиграфе словах:
1
Основные черты трагической судьбы Р . Майера приведены мной
в моей книжечке «Растение и солнечная энергия», 1897; 2-е издание 1918 г.
(См. в данном томе стр. 203. Ред.).
2
Мысль о взаимном превращении между светом и материей, как увидим, высказывалась у ж е Ньютоном.
3
Майер употребляет это выражение вместо обычного: химическое
сродство.
4
См. второй эпиграф. Майер заключает эту ф р а з у так: «Не будет ли
растение caeteris p a r i b u s п о д влиянием света нагреваться менее, чем другие темные поверхности». Т а к о й же подход к разрешению вопроса предл а г а л и Томсон (лорд К е л ь в и н ) . С этой целью еще в 1870 году я придумал
особый термоэлектрический прибор, выполненный по моим указаниям
самим стариком Румкорфом (см. «Труды СПБ Общ. естествоиспытателей»,
ч. V, 1874 г. «Термоэлектрический прибор д л я физиологических целей»,
с т р 4). Но я убедился, что этот путь исследования неудобен, и перешел
к другому.
Гораздо позднее он был применен Детлефсоном и еще позднее Пуриевичем и т а к ж е не дал удовлетворительных результатов.
12*
179
«Таким образом одновременно с исчезновением солнечного1 света
в растении наблюдается появление и накопление горючего
вещества, и мы в праве считать очень вероятным, что первое
является причиной второго. Но, во всяком случае, я должен оговориться, что мы не обладаем никакими опытами, из которых
можно было бы с достоверностью заключить, точно ли живая
сила исчезающих солнечных лучей соответствует
накопляющемуся запасу химических сил, а. пока таких опытов еще не существует, мы не можем признать указанное соотношение за несомненную истину. Зато, когда оно подтвердится на опыте,
получится лестный для нас вывод, что веете силы, при помощи
которых живет и движется наше тело, имеют своим источником
солнечный свет».
Осуществить этот опыт, превратить блестящую мысль двух
великих ученых в «несомненную истину», доказать солнечный
источник жизни—такова была задача, которую я поставил себе
с первых шагов своей научной деятельности и упорно и всесторонне осуществлял в течение полувека.
%
Солнце и жизнь—эти два представления человек, вероятно,
привык связывать, сопоставлять, как только стал осмысленно
озираться на окружающий мир и на себя самого. Доказательством тому не служит ли тот культ солнца, который мы встречаем, начиная с самых низших ступеней развития человечества
и кончая народами, стоящими высоко на пути культуры?
Современные борцы против человеческого разума и его высшего проявления—науки, бьющие отбой во имя попятного возвращения в область интуиции или инстинкта (всякие Бергсоны
и их многочисленные поклонники у нас), поспешат, конечно,
сделать из этого вывод в пользу примата интуиции, на многие
тысячелетия опередившей на этом пути разум и науку.
Но дадим себе труд ознакомиться с плодами этой интуиции,
начиная от самой первобытной и до самой изощренной, в ее попытках охватить мыслью величайшее из явлений, конечно, ранее
1
Мы увидим, что это дополнение Гельмгольтца, представляющее
как бы преимущество перед Майером, о к а з а л о с ь на деле неверным.
Черновик первых страниц рукописи предисловия
К. А. Тимирязева к сборнику „Солнце, оісгізнь и хлорофилл
•
•
1
;
•
К
•
•
.
-
.
-
*
1
;
*
?
~ г — - — ~
Черновик первых страниц рукописи предисловия
К. А. Тимирязева к сборнику „Солнце, оісизнь и хлорофилл"
всего поразившее и приковавшее к себе его внимание,—солнце,
и мы увидим, как жалки и бессильны были все эти попытки разгадать то, что могло быть раскрыто только разумом, дисциплинированным наукой,—природу солнца и его отношение к жизни.
Недавно появилась изящно изданная книга одного американского астронома Олькота 1 , касающаяся роли солнца в фольклоре всех времен и народов. Он тщательно собрал мифы.и легенды, верования, поверия и суеверия, связанные с солнцем,
начиная от современных дикарей (американских, африканских,
океанийских и пр.), переходя к Вавилону, Ассирии, Финикии,
Египту, Греции, Риму, Перу и Мексике и кончая современными
повериями, обычаями, предрассудками и другими пережитками, уцелевшими у самых культурных народов 2 . Не говоря
уже о детски убогих, буднично тривиальных созданиях интуиции первобытных народов, о всех бесконечных зайцах или воронах, откуда-то занесших солнце, или о ловком охотнике,
где-то похитившем его и подвесившем к тому своду, на котором
оно продолжает болтаться и поныне,—перед нами проходит
вереница величественных храмов (Стонхендж, Кузко, храм
на озере Солнца, на озере Титикака, в Карнаке, Бальбеке н пр.),
заставляющих дивиться обширности технических и астрономических знаний их строителей в сравнении с интуитивным творчеством, выразившимся в создании самых предметов культа, их
изображений, символов и атрибутов — всех этих Молохов, Аманра, Астарот вплоть до последнего из них, Митры, включительно,
долго не сдававшегося перед торжествовавшим христианством 3.
1
Olcott, Sun Lore of all Ages, 1914 г., с прекрасными фотографиями,
иллюстрирующими роль солнца в искусстве и культе.
2
Как быстро исчезают эти последние следы солнечного к у л ь т а ,
примером тому может с л у ж и т ь за мою память исчезнувшее празднование
в ночь под Иванов день на взморье Крестовского острова (в Петербурге)—
с прыганьем через костры, скатываньем под г о р к у (Кулерберг) и другими
несомненными пережитками глубокой старины,—праздника летнего поворота солнца, тесно связанного с зимним, то-есть 25 декабря.
3
Пришедший с востока культ Митры, как известно, процветал в Р и м е
в первые века нашей эры, конкурируя с христианством. Под римской
церковью St. d e m e n t e , одной из древнейших католических церквей, я видел раскопки христианской базилики первого века, а под нею остатки подземного (как всегда) храма Митры.
Олькот приводит любопытное изображение Митры (по некоторым исследователям, не только бога солнца, но и бога растительности): между тем как голова его окружена нимбом
солнечных лучей (Sol invictus,—непобедимое солнце, как его
величали римляне), ноги попирают веерообразно расположенные листовые пластины.
Только поэтический гений греков порою подсказывал им
более удачные мифы и символы, как, например, те, которые
связаны с позднейшим культом Аполлона. Но и здесь должно
заметить, что интуиция греческих мифотворцев, вдохновлявшая бесчисленных художников, вплоть до наших времен, остановилась прежде всего на не только несущественном, но и не существующем явлении—на его быстром суточном беге,находя подходящее сравнение в самом быстром им известном беге квадриг.
Они даже озаботились сохранить для нас клички этой небесной четверки: Erythous, то-есть Красный, Acteon—Лучезарный, Lampos—Сияющий и Philogaeus—Землелюбивый, и эти
кони продолжали вдохновлять художников вплоть до наших
дней, как, например, в чудной, воспроизведенной Олькотом
скульптуре X V I I I века над входом в Парижскую национальную
типографию. Даже ультрареалист Роден не обошелся без них,
как символа солнца, на памятнике великому художнику, «который первый осмелился, подобно орлу, смотреть на солнце»4
Гораздо
удачнее другой атрибут Аполлона—лук
и стрелы
и миф о том, как он убил Пифона, то-есть как лучи солнца разгоняли заволакивающие землю туманы (в чем этот миф почти
сходится с новейшими представлениями. См., например, Лоуэль
«Эволюция миров»). Это удачное сравнение сохранилось даже
в современной французской речи в выражении «le soleil dardant ses rayons» (солнце, мечущее свои лучи. Ред.) и вдохновило
Тернера в его знаменитой картине «Аполлон и Пифон», где
лучезарный юноша—бог убивает стрелой чудовище, своими
извива юіц им и с я кольцами символизирующее клубящийся туман. К этому сравнению с копьем и стрелой, как мы увидим далее,
прибегает даже современный физик, желая подчеркнуть могущественное действие лучистой энергии, концентрирующейся
1
Клоду Лорену, по несколько цветистому в ы р а ж е н и ю
художественного критика Виардо.
известного
в малом пространстве. Но, быть может, еще ближе к занимающему нас вопросу об отношении солнца к растительной жизни
подходит третий миф—об Аполлоне и Дафне. Миф этот, как
известно, повествует о том, как Аполлон-солнце, воспылав
страстью к нимфе Дафне, дочери речного бога Пеней от богини
Земли (Terra у Овидия), преследовал ее по берегу этой реки,
но в самый момент, когда он ее настиг, она взмолилась о помощи к отцу своему, и тот превратил ее в лавровое дерево.
Миф этот вдохновлял таких художников, как Бернини, чудная группа которого в музее Villa Borghese изображает Аполлона (с чертами Аполлона Бельведерского) и Дафну, уже наполовину превратившуюся в лавровое дерево. В другом веке
другой художник, Тернер, пытаясь, как всегда, раскрыть стихийный смысл мифа, изобразил на одном из лучших, по мнению
Рескина, своих полотен Темпейскую долину, по которой катит
в море свои воды Пеней, питаемый бесчисленными ручьями,
сбегающими серебряными нитями, или низвергающимися водопадами с обрывов зеленого предгорья, окаймляющего долину.
Впечатление, вопреки палящему солнцу, роскошной, влажной
от брызг зеленой растительности, залитой палящими лучами
солнца, сияющего на безоблачном небе, является реалистическим толкованием мифа великим художником кисти. Рескин
поясняет, что Дафна, очевидно,—олицетворение не одного только лавра, а вообще «зеленой листвы» и той защиты, которую она
находит от палящего солнца во влаге, доставляемой ей землей
и потоками. Но и этот миф, как и сходный с ним миф о ІІиобее,
в которой некоторые комментаторы видят олицетворение растительности, дети которой—осенние плоды и зерна—бывают
опалены солнцем,—оба эти мифа изображают только грозное
или губящее действие солнечных лучей 1 . Поэтическая интуиция древних греков так и не могла додуматься до благотворного, творческого значения солнца, как прямого источника жизни.
Гораздо проницательнее оказался поэт-«атеист»2 Шелли.
В своем гимне Аполлону он изменил основное содержание мифа
1
Не вернее ли, что миф о Ниобидах навеян солнечными ударами?
Это слово преследовало его еще на ш к о л ь н о й с к а м ь е й послужило
поводом для его изгнания из ханжеского Оксфордского университета.
2
о Дафне, заставляя бога-солнца говорить: «воздух зеленеющую
землю нагою предоставил моим пылающим лобзаниям», а в стрелах угадывал не только их грубую, губительную, но и более
высокую нравственную силу: «Лучи солнца—мои стрелы, которыми я поражаю тот обман коварный, что прячется в ночи
и убегает от света».
Мало того. Самый вдумчивый и поэтический из современных ценителей красот природы—Рескин, выискивавший в произведениях любимого художника поэтические аллегории для
стихийных явлений, открыто заявлял, что современное научное знание, что в этой прекрасной зеленой листве происходит химическое разложение углекислоты, может вызвать в нем только
грубое прозаическое представление «о каком-то газовом заводе».
Т а к и м образом, религиозно-поэтической интуиции в своих
бесчисленных мифах и символических уподоблениях не удалось
додуматься до какого бы то ни бышупредставления о действительной, благотворной, созидающей жизнь на земле творческой
силе солнца, и даже, когда это было открыто наукой, эта интуиция отвернулась от него, не постигнув всего поэтического величия этого воззрения. Уловить его во всей полноте сумел
только гений великого мыслителя-ученого Гельмгольтца, увидевшего там «не какой-то газовый завод», а величайшее из мировых явлений, в котором солнечный луч превращается в те
силы, которыми живет, движется и существует сам владыка
природы—человек. Таков результат полувекового изучения
солнца и жизни современной наукой, в сравнении с тем, что дали
за традиционные сорок веков, а на деле за гораздо большее число
веков, бесплодные искания мифотворческих, религиозных мыслителей, при помощи интуиции, с их «чутьем сокровенных тайн».
И едва ли древнему греку-солнцепоклоннику было доступно
всесторонне глубокое чувство красоты природы, которое разлито
в одной из лучших акварелей Тернера, названной им «Хризис».
На безлюдном берегу моря, прибой которого лениво набегает
на прибрежный песок, жрец Аполлона Хризис (из Илиады)
преклоняет колено перед солнцем, уже поднявшимся над пеленой утреннего тумана и заливающим своими золотистыми лучами видимый вдали в просвете леска отдаленный, пробуждающийся к своей кипучей жизни, приморский город. Я считаю,
что изображено утро, хотя Рескин принимает его за вечер, но
мне кажется, что и направление бризы, срывающей брызги
с гривок волн, и положение солнца по отношению к едва просвечивающему сквозь туман Олимпу, да и все настроение говорит
за то, что представлено бодрое, жизнерадостное утро, а не наступающий насмену томительному, палящему дню—вечер.Существование неизвестной древним ландшафтной живописи не служит ли доказательством, что не только в сфере научного знания,
но к в области эстетического чувства современный человек оставил
далеко за собой древних, которых хотят ставить ему в пример?
Если X X век не возводит храмов для поклонения солнцу и не
имеет его жрецов, как во время господства интуитивной мысли,
к которому желали бы нас вернуть всякие Бергсоны, то его
можно отметить другой особенностью: он создает иного рода
храмы, также посвященные солнцу и также на горах, храмы,
посвященные не поклонению, а изучению солнца,—специальные солнечные обсерватории, снабженные физическими лабораториями для прямого сравнения небесных явлений с земными, на необходимости которого с такою проницательностью
настаивал еще Бэкон. Этот новый культ солнца собирает своих
верных со всех концов мира на свои годичные собрания1.
Эти люди уже поведали миру такие тайны солнца, которые,
конечно, и не снились интуитивным мудрецам. Так, Гель на
Mount Wilson 2 , открыл и подробно изучил магнитные циклоны
на солнце, для обнаружения чего, казалось бы, у человека не
существует даже соответствующего органа чувства. А Лоуэль
рассказывает в своей последней книге «Эволюция миров»
(Evolution of Worlds) о прошлом нашего солнца и других солнечных систем повести, в ином смысле чудесные, чем те наивные и жалкие сказки, которые собраны у Олькота и которыми
тешилась интуитивная мысль человека в былые времена. Прочтите его главы «Рождение солнечных систем» и «Свидетельства
1
Организованный американскими астрономами Международный союз
д л я исследования солнца, с 1906 года издающий свои труды. Покойный
II. Н . Лебедев был в числе его членов.
2
И з я щ н о иллюстрированное описание десятилетней деятельности
этой обсерватории издано Институтом Карнеги (Ten y e a r s Work of a mountain observatory by G. E. Hale, 1915).
об исходной катастрофе в частном случае нашей солнечной системы», и вы проникнетесь чувством чудесного, только не в смысле рассказчиков о подвигах зайцев и сурков или хоть самого
Митры. Перед нами встает во весь рост чудо, осуществляемое
современной наукой как в познании настоящего нашей солнечной системы, так и в раскрытии на основании этого знания ее
прошлого и вероятного будущего. Другая черта, которую можно-отметить с занимающей нас точки зрения, та, что в современных трактатах о солнце уделяют целые параграфы (Стратонов.
«Солнце», 1910) или даже главы (Abbot. The sun, 1911) жизненным явлениям, зависящим от солнца1, особенно тому, что я
уже давно предложил назвать «космической ролью растений»*...
*
Наконец, тот ужас, который переяіивает в настоящий момент человечество, не доставляет ли он новое чудовищнонаглядное доказательство зависимости человеческого существования в конечном счете от солнца? На наших глазах целым
народам приходится учитывать свою жизнь в калориях, подсчитывая, сколько калорий необходимо для поддержания сил каждого человека и сколько может доставить ему солнце его страны,
светящее, как нас учили в детстве, равно и добрым и злым.
Это соображение, которое еще недавно было только уделом
науки 2 , теперь стало практическим мерилом жизнеспособности
целых народов, раз успехи так называемых
гуманитарных
(культурных) знаний привели известные категории людей к заключению, что война не есть только столкновение их вооружен1
Именно неполнота и отчасти неточность сообщаемых астрономами
сведений побудила меня вернуться в этом очерке к тому, что уже не раз
приходилось мне излагать.
2
В своей речи «Столетние итоги физиологии растений» я указывал
на основанную на этих соображениях экономическую систему Захера.
(См. том V настоящего издания. Ред.).
* На этих словах обрывается рукопись, у ж е переписанная автором
д л я печати; последние две страницы были переписаны 20 апреля 1920 года
вечером. Следующая часть предисловия взята с черновой рукописи, найденной после смерти автора, последовавшей 28 а п р е л я 1920 года. Ред.
ных сил, а поголовное истребление мирных населений, как
это провозглашают поборники современной «борьбы за мир»,
борьбы за культуру 1 .
Но, может быть, большинство читателей давно готово заметить солнце и жизнь—значительность этих двух понятий
ясна для всякого, но это третье слово—хлорофилл—может ли
оно быть поставлено с равным правом наряду с первыми двумя?
Когда, чуть не полвека тому назад, я впервые выступал с популяризацией этого предмета, я сам не решился бы отпугнуть
читателя таким непривычным технически-специальным термином в заголовке, но с той поры мне не раз приходилось знакомить и читателей неспециалистов с этим фактически связующим звеном между солнцем и всей жизнью на земле,—
и вот совсем недавно один из выдающихся физиологов нашего
времени (к тому же не ботаник) подтверждает, что я не преувеличивал интереса, который должен возбуждать этот предмет.
Вот что говорит Бэлис в своем превосходном трактате «Общая физиология»2.
«Действие хлорофилла в разложении углекислоты и выделении кислорода, пожалуй,
самое интересное из всех явлений
природы».
На этом среднем звене в общей цепи явлений я и позволю
себе на время сосредоточить внимание читателя, так как именно
изучение этого предмета доставило науке то несомненное доказательство связи первых двух, которого требовали от нее оба
творца учения о сохранении энергии.
Исследования полутора столетия показали, что процесс,
о котором здесь идет речь, совершается в зеленых органах,
содержащих хлорофилл. Приведенные в первом эпиграфе слова
Сенебье свидетельствуют, что он уже угадывал важную роль
этого вещества в природе3. Проследить судьбу солнечного луча
1
Так упорно и бесстыдно называют настоящую войну и ее последствия
р а з н ы е Ллойд-Джорджи и им подобные. (Здесь К . А. говорит об империалистической войне 1914—1918 гг. Ред.).
2
См. последний эпиграф.
3
Интересующимся историческим развитием этого любопытного
вопроса, недавно совершенно превратно изложенного Визнером в его
книге об Ингенгузе, что, повидимому, ссблазнило и некоторых русских
•
/
в растении до его уничтожения, то-есть до его превращения
в химическую работу,—вот первый шаг на длинном и сложном
пути к разрешению задачи, которую я предпринял. Средство
к ее осуществлению давал незадолго перед тем открытый блестящий метод спектроскопии.
С первых шагов этого изучения я определил свою задачу
таким образом:
«Изучить химические и физические условия этого явления
(разложения углекислоты зеленым листом), определить составные части солнечного луча, участвующие посредственно или
непосредственно в этом процессе, проследить их участь в растении до их полного уничтожения, то-есть до их превращения
во внутреннюю работу; определить соотношение между действующей силой и произведенной работой—вот та светлая, хотя,
может быть, отдаленная, задача, к осуществлению которой
должны быть направлены все силы ботаников».
Первым шагом на этом пути была выработка простого и точного приема изучения этого процесса, совершающегося в листе,
что и выразилось в самом заглавии моей первой работы1. Только
вооружившись этим простым и точным методом, я мог приступить
к исследованию основного вопроса, от каких составных частей
солнечного луча зависит этот процесс. Теперь мой прибор в руках у каждого ботаника, и то, чего не видал до меня ни один
ученый ботаник, изучается каждым школьником.
Но еще ранее необходимо было составить себе ясное научное
представление вообще о химическом действии света, то-есть
о том, что до сих пор носит не совсем удачное, или, вернее,
совсем неудачное, название фотохимии2. Может быть, ни одно
слово так не тормозило и не направляло в совершенно ложном
направлении понимание изучаемых явлений, как это слово
ботаников, могу указать на мои статьи: «Ингенгуз», «Сакс», «Сенебье» в «Энциклопедическом словаре» Б р . А. и И. Гранат. (См. том V I I I настоящего
издания. Ред.).
1
«Прибор для исследования воздушного п и т а н и я листьев и пр.».
Петербург, 1868. Прием, мною предложенный, вошел в общее употребление не без попыток, однако, приписать его другим ученым. (См. том И
настоящего издания. Ред.).
2
В том не дают себе отчета даже наши фотохимики, считающие себя
авторитетами в этой области,—стоит прочесть п е р в у ю страницу недавно
вышедшего произведения а к а д е м и к а П. П. Лазарева.
«фотос»—свет. Раз какое-нибудь явление признается за действие
света, тем самым признается, что оно зависит от светосильности
источника, от его яркости. Так, повидимому, думает и выдающий себя за специалиста П. П. Лазарев в первом своем академическом труде.
Отсюда рождалось представление, что разложение углекислоты солнечными лучами должно зависеть от самых светлых,
от самых ярких лучей спектра, а такимп, как показал Фрауенгофер, оказывались желтые. Представление это, по несчастью,
нашло себе временную опору в опытном будто бы доказательстве,
что наиболее энергичное разложение действительно происходит
в желто-зеленых лучах солнечного спектра. Доказывали это
долго считавшиеся классическими опыты замечательного физика,
позднее физиолога, а еще позже историка Джона Дрэпера,
произведенные им в 1846 году.
Но почти одновременно с возникновением и распространением учения о сохранении энергии в физике обнаружился
и другой, хотя и менее общий, но далеко не маловажный шаг
вперед—учение о тождестве света, лучистой теплоты и «химического излучения».
На самом пороге девятнадцатого века почти одновременно
было сделано два открытия: было установлено, что по обе стороны
за пределами ньютоновского спектра простираются области невидимых лучей. За красным концом наблюдались инфракрасные,
невидимые, тепловые, а за фиолетовым—ультрафиолетовые,
невидимые, химические лучи.
Долгое время эти три категории лучей считались за нечто
самостоятельное, отдельное, и только в сороковых, пятидесятых и шестидесятых годах было установлено их полное тождество, главным образом, благодаря Меллони с его замечательной
книгой «La Thermochrose», а позднее, благодаря работам целого
ряда ученых (Десена, Провоте, Кноблауха, В . Вебера, Магнуса, Жамена и, наконец, Тпндаля) 1 , мало-помалу выработалось одно общее понятие «лучистой энергии». Только при этом
условии явилась возможность установить действительно научное
1
Х о т я по обычной в науке инерции еще долго, до восьмидесятых
и даже девяностых годов, можно было слышать о л у ч а х трех родов и встречать даже изображения кривых их распределения в спектре.
отношение к этому важнейшему из явлений природы. Это был
один из случаев, на которые недавно ссылался известный физик
Планк в своей полемике с философом Махом, указывая, что
истинная физика начинается только тогда, когда явления из
области субъективно-физиологической переходят в область
объективно-механических представлений, когда физика раскрывает, что такое звук, свет до их восприятия ухом или глазом,
то есть когда она отрешилась от того антропоморфизма, который желали бы ей навязать Мах и прочие философы необерклеянцы. Я был первым ботаником, заговорившим о законе
сохранения энергии1 и соответственно с этим заменившим
и слово «свет» выражением «лучистая энергия». Это не было
простой заменой одного слова другим, но существенно изменяло основную точку зрения и вызвало сомнение в верности
самих фактов. Став на точку зрения учения об энергии, я первый
высказал мысль, что логичнее ожидать, что процесс разложения
углекислоты должен зависеть от энергии солнечных лучей,
а не от их яркости. Это выступает особенно ясно, если вместо
слова «энергия» подставить определение, данное этому слову
тем же Ранкиным, которым введен в науку этот термин, вытеснивший стоявшее ранее на его месте слово «сила». Энергия—
это способность производить работу, это—работоспособность.
Но при разложении углекислоты производится химическая
работа, порывается сродство между углеродом и кислородом,
мерой которого, как учила возникшая в то же время термохимия,
мы должны считать тепловой эффект реакции соединения углерода с кислородом. Здравая логика требовала заключить, что
производимая лучом работа зависит от его работоспособности,
а не от его чисто субъективного свойства—яркости. Света,
помимо глаза, в природе не существует, и невозможно допустить,
чтобы такое объективное явление, как разложение углекислоты,
зависело от несуществующего вне глаза свойства солнечного
луча—его яркости. На моей стороне была логика, против меня
были все ученые как ботаники, так и физики, а главное—на
их стороне, казалось, были факты. Для того, чтобы доказать
верность моей точки зрения, мне предстояла двойная задача:
1
К а к это заметил а н г л и й с к и й ботаник профессор Фармер.
доказать неверность их фактов и новыми более точными опытами
фактически доказать верность моего логически верного воззрения.
ѵ^.
В чем же заключалось мое противоречие с ботаниками?
Ботаники, как уже замечено выше, на основании опытов Дрэпера утверждали, что разложение углекислоты в солнечном
спектре происходит всего энергичнее в желтой части спектра,
наиболее яркой, и находили это вполне естественным,—ведь
они же (желтые лучи. Ред.) и самые яркие. Дрэпер как
физик не мог, конечно, удовольствоваться нелогичным объяснением факта; для объяснения совпадения между актом зрения
и действием света в химическом процессе разложения углекислоты он придумал такую гипотезу. Он первый утверждал,^
что в основе акта зрения должно допустить существование
химического процесса, совершающегося в сетчатке глаза 1 . Но
изменяющееся вещество — органическое, содержащее углерод.
Углекислота также содержит углерод. Вот эта-то общность
состава и может объяснить сходство в действии света в обоих
случаях 2 . Попытка объяснения была остроумна, но фактически не верна, так как уже и в то время было известно много
случаев органических, следовательно, содержащих углерод
веществ, на которые действуют различные лучи; следовательно, одного углерода для объяснения совпадения недостаточно.
Да в этом объяснении не было и надобности, так как мне
удалось показать, что самый опыт Дрэпера не внушал доверия3.
При опытах, производимых в спектре, лучи пропускают через
щель и затем через призму. Для того, чтобы спектр был, как
выражаются, чистый, то-есть цвета его были бы разделены, не
налегали бы один на другой, щель должна быть узкая, но
тогда свет, прошедший через эту узкую щель, распределяясь
1
Что, как известно, и подтвердилось через сорок лет открытием г л а з ного пурпура немецким физиологом Боллем. Это открытие, которому
Гельмгольтц придавал соответствующее ему громадное значение, современные немецкие физиологи пытаются свести на-нет.
г
Ботаники так до сих пор и не знают об этом объяснении; для них
в нем не было надобности; они рассуждали, что с и л а света заключается
в его яркости, значит я р к о с т ь и должна действовать.
а
Я первый показал неточность его опыта.
. на большую площадь спектра, оказывается очень слабым. То же
могло быть и, вероятно, было в опытах Дрэпера. Свет чистого
спектра был слишком слаб и не вызывал разложения углекислоты; чтобы его усилить, Дрэпер должен был открыть щель
до 3 / 4 дюйма в ширину, чего, конечно, не сделал бы в точном
физическом опыте. В получаемом таким образом спектре лучи
налагаются один на другой, смешиваются, и наибольшее смешение лучей происходит в средней, желто-зеленой части, которая
от этого становится почти белой, слегка окрашенной в желтый
цвет. В этой-то части у Дрэпера и получилось наибольшее действие 1 , но понятно, что такой опыт ничего не доказал. Показав
неубедительность факта, на котором основывалось мнение ученых, что наибольшим действием обладают наиболее яркие—желтые лучи, я перешел к положительным доказательствам верности
моего воззрения. Для того, чтобы сделать опыт Дрэпера в такой
же форме чистым, избежать его ошибки, нужно было усовершенствовать приемы исследования, на что потребовалось время, а
пока я сделал ряд опытов, которые все же были достаточно
точны, чтобы прямо доказать неточность опытов Дрэпера, которую я угадывал на основании условий, при которых они были
произведены. На этот раз я пропускал свет через жидкости различного цвета (прием Добени), тщательно исследованные спектроскопом, и выразил результаты этих опытов графически 2 . Выраженные в такой форме результаты ясно показывали, что наибольшее действие света не соответствует желтым лучам спектра.
Для опровержения опытов Дрэпера этого было достаточно,
по было ли этого достаточно для подтверждения моего положения, что оно зависит от энергии лучей? На этот раз мне пришлось
иметь дело с физиками. Определять непосредственно энергию
луча можно только по его тепловому эффекту, всего лучше—1
Т а к как понятно, что белый свет, то-есть сумма лучей, должен действовать сильнее, чем к а ж д о е из слагаемых.
2
Работа была издана на немецком языке; это было первое ботаническое исследование, где п р и м е н я л с я графический п р и е м ; он так и остался
непонятным немецким ученым Саксу, Пфефферу, Р е й н к е и их русским
поклонникам, как будет п о к а з а н о ниже. (К. А. Т и м и р я з е в ссылается здесь
п а е в о ю работу «Значение л у ч е й различной преломляемости в разложении
углекислоты растением», 1869 г. См. том II настоящего изд. Ред.).
гр
Герман Гельмгольтц
1S21—1892
Из собрания
К. А.
Тимирязева
при помощи столбика Меллони, и все, без исключения, физики
были того мнения, что в пределах видимого спектра наиболее
нагревают красные лучи, но еще большее тепловое действие
обнаруживается уже за пределами красной части, в невидимых
инфракрасных лучах. Мои опыты подтверждали первую половину предположения; они доказывали, что наибольшее действие
в процессе разложения углекислоты играют красные, а не желтые лучи, так что в пределах видимого спектра теория о зависимости процесса от энергии луча оправдывалась. Как же быть
с наиболее энергичными, инфракрасными лучами—теми, которым соответствует максимум энергии теплового эффекта?
Здесь существовали прекрасные, но оставшиеся совершенно
неизвестными ботаникам опыты физика Кальете 1 ; он первый
исследовал действие в этом процессе темных тепловых лучей
солнца, проходящих через известную тиндалевскую жидкость
(раствор иода в сероуглероде), и убедился, что они вовсе не разлагают углекислоты в листьях. Таким образом, учение о зависимости разложения углекислоты от светящей силы солнца
было моими первыми опытами опровергнуто, но нельзя было
утверждать, что оно зависит от тепловой энергии, то-есть,
разлагаясь всего лучше под влиянием красных, наиболее нагревающих из видимых лучей, она не разлагается в еще более
нагревающих, невидимых инфракрасных лучах. Вопрос усложнялся, но я не думал сдаваться, и на этот раз мне пришлось
иметь против себя всех физиков. Вопреки им я утверждал,
что всеобщее убеждение в том, что максимум энергии наблюдается в инфракрасных лучах, основано на неубедительных
опытах, что при более точной постановке опытов ом, может
быть, совпадет именно с теми красными лучами, которые наиболее деятельны в растении, и мы увидим далее, что мое предположение и на этот раз снова вполне оправдалось.
Но задача между тем еще более усложнялась: рядом с поставленным мною вопросом: от яркости или от энергии лучей зависит разложение углекислоты, два физика, Жамен и Эдмонд Беккерель, почти в то же время поставили и другой вопрос: так как
этот процесс происходит в зеленых листьях, то не будет ли он за1
13
Того
самого, который позднее прославился с ж и ж е н и е м водорода.
К. А. Тимирязев,
m. 1
193
висеть от лучей, поглощенных зелеными органами растения,
то-есть содержащимся в них хлорофиллом?
В фотохимии существовал закон, что физическое действие
зависит в цветных телах от лучей цветности, комплементарной
цвету изменяющегося вещества, или, выражаясь проще, что
действие зависит от лучей, поглощаемых данным телом. Открытие этого закона обыкновенно приписывали Гершелю (в 1842 г.).
Я первый в 1892 году обратил внимание на оставшиеся незамеченными фотохимиками и теоретиками фотографии исследования Гротгуса (в 1818 году в Митаве), в первый раз установившие этот закон1. Позднее Абней совершенно справедливо
высказал мысль, что, собственно говоря, этот закон—только
необходимый вывод из закона сохранения энергии, так что я был
в основе прав, формулируя мысль, высказанную Жаменом
и Беккерелем, как в приведенной выше цитате, что «необходимо
проследить участь луча в растении до его уничтожения», то-есть
до превращения в химическую работу.
Беккерель на основании своих опытов не мог притти ни к какому определенному результату, а Жамен опытов не делал,
но пришел к неверному заключению об опытах Дрэпера. Он полагал, что результат, полученный Дрэпером, будто бы объясняется свойствами хлорофилла, но это фактически неверно2.
1
В первый раз я у к а з а л на Гротгуса в 1892 году, а в 1895 году даже
показывал на публичной лекции в проекции на экран его опыт. Отмечаю
это потому, что г. Л а з а р е в и его сотрудники считают этот закон и его демонстрацию на экране основным фактом в фотохимии и приписывают его
Л а з а р е в у ; теперь и Л а з а р е в сам себе его приписывает.
2
Он утверждал, что красные лучи спектра, поглощаемые хлорофиллом, красно-оранжевые и сине-фиолетовые флуоресцируют и, следовательно, в итоге не поглощаются и не могут действовать; только, по его
мнению, лучи, поглощаемые в желто-зеленой части, будто бы не флуоресцируют и потому наиболее энергично действуют в опыте Дрэпера. Это
вдвойне неверно: все лучи, поглощаемые хлорофиллом, в растворе флуоресцируют, а с другой с т о р о н ы — в растении флуоресценции вовсе не обнаруживается. Таким образом, мысль, что в пределах видимого спектра разложение углекислоты зависит не от яркости, а от энергии лучей, в первый
раз была высказана и доказана мною в 1869 г Мысль же, не зависит ли
оно от поглощения хлорофилла, была высказана Жаменом и Беккерелем
(1868). Наконец, немецкие ботаники и с их голоса некоторые русские,
как, например, г. Цвет, унорни приписывают обе идеи физику Ломмелю,
Как бы то ни было, переходя к более точной форме опыта, то-есть
в спектре, необходимо было ответить и на вопрос, не играет ли
роль поглощение лучей хлорофиллом, так как это доставляло бы
самое простое и согласное с законом сохранения энергии объяснение и в то же время объясняло бы бездействие желтых лучей.
Изучить при помощи спектроскопа закон поглощения света
хлорофиллом в растворе и, далее, проверить это поглощение
в самом микроскопическом органе, в котором происходит изучаемый процесс разложения углекислоты, в хлорофилловом
зерне (позднее названном хлоропластом),—обе эти задачи были
мною осуществлены в 1868 и 1871 гг., и приборы, мною для этого
предложенные, находятся во всеобщем употреблении, хотя
снова приписываются другим ученым, выступившим с ними
через десятки лет после меня,—обстоятельство, с которым в этом
изложении приходится встречаться на каждом шагу 1 .
Моя первая работа, о которой я сам заявил, что она только
предварительная, послужила сигналом к пробуждению оживленной деятельности немецких ученых на целые десять лет.
Одни, как мой друг, талантливый и недостаточно оцененный немецкий ученый Николай Мюллер, хотели меня обогнать, другие, как ученик Сакса Пфеффер, желали во что бы то ни стало
отстоять опровергнутое мною. Но с первым оправдалась пословица: поспешишь, людей насмешишь, а второй после двадцатилетних упорных попыток отстоять заведомо ложное, приписал
это другим ученым, подтвердил мою работу, только в гораздо
менее научной форме*...
выступившему после нас т р о и х (1871), между тем к а к он сам сознается,
что первая высказана мною, а о Жамене и Беккереле он ничего не з н а л ,
что для физика непростительно. Что же сказать о г. Цвете, который,
вопреки моим неоднократным разъяснениям, упорно и сознательно говорит неправду, опровергаемую простой хронологией и словами самого Ломм е л я (см Цвет. Хромофиллы, Варшава, 1910, стр. 352).
1
Прибор для изучения кривой поглощения света жидкостями (получ е н и я их спектрограмм) предложен мною в 1868 г., а в самом обширном
т р а к т а т е по спектроскопии К а й з е р а он приписывается Б э л и и Дешу
(в 1904 г.). Микроспектроскоп (объективный) предложен мною в 1871 году,
а приписывается обыкновенно Эдельману (в 1884 году).
* Н а этом месте обрывается черновая рукопись автора. Далее следуют два отрывка из оставшейся незаконченной последней части предис л о в и я . Ред.
(
#
В результате этой работы, произведенной со строго научными
физическими и химическими приемами, оказалось, что наибольшее действие производят не наиболее яркие—желтые лучи,
а наиболее теплые (в пределах видимого спектра)—красные
лучи. Таким образом, мое предположение, что фотохимическое
действие есть функция энергии, а не яркости (светового напряжения) луча, получило первое экспериментальное подтверждение. Но для утверждения моей теории и в то же время для достижения того доказательства, которого требовали Майер и Гельмгольтц, этого было недостаточно. Требовалось объяснить, почему
не действуют те лучи, которые обладают еще большей тепловой
энергией — тепловые инфракрасные лучи, как это доказывал
Кальете, а главное—доказать, что действуют те именно лучи,
которые поглощаются растением. Средство для того давал именно
тот метод, открытие которого составляло едва ли не главное
приобретение науки той эпохи—метод спектроскопии.
На первый вопрос я отвечал отрицанием ходячего в физике
воззрения, что наибольшим напряжением обладают темные
инфракрасные лучи, воззрения, возникшего вместе с веком,
благодаря Гершелю старшему, и к средине века благодаря
Гершелю младшему и, особенно, Меллони, Десену, Кноблауху
и Тиндалю,—ставшего, как казалось, одной из наилучше доказанных физических истин.
Против этой истины я храбро восстал, утверждая, что наибольшей тепловой энергией обладают, очень возможно, не темные, а именно те красные лучи, которые, как показали только
что произведенные мною опыты, наиболее энергично разлагают углекислоту в растении. А мог я рассуждать таким образом на основании соображения, ускользнувшего почти от всех
физиков.
Все перечисленные физики определяли тепловой эффект
различных лучей исключительно в спектре призматическом.
Но призматический спектр, как известно, не однороден во всех
своих частях, а в зависимости от природы призмы представляет
различное светорассеяние в различных частях спектра: в одних
частях лучи скучены более, в других менее. Прямо сравнивать
действие различных лучей спектра так же неточно, как сравнивать, например, количество населения одинаковых площадей,
не принимая во внимание его густоту. Так и в спектре: в красной
и инфракрасной части лучи более скучены, чем в фиолетовой
и ультрафиолетовой, где они более рассеяны. Температура
в каждой точке призматического спектра таким образом зависит от двух условий: от живой силы луча (измеряемой его нагревательной способностью) и от скученности лучей. Если принять
во внимание последнее обстоятельство, то максимум теплового
действия может переместиться в видимую часть. Это соображение давало мне право отрицать ходячее воззрение физиков,
что наибольшим тепловым действием обладают темные инфракрасные лучи. В так называемом нормальном спектре, полученном не при помощи призмы, а при помощи решетки, где
светорассеяние одинаково во всех частях, наибольшее тепловое
действие могло очутиться в видимой части спектра, и, как
я предсказывал, в красной, где я нашел максимум разложения
углекислоты, и, как увидим, мое пророчество вскоре оправдалось.
Но моего исследования при помощи цветных жидкостей
было недостаточно; для доказательства зависимости разложения не от желтых, а от красных лучей нужно было доказать
неверность опыта Дрэпера, то-есть показать, что и в спектре
максимум разложения будет не в желтой, а в красной части
спектра. Для этого нужно было убедиться, что результат,
полученный Дрэпером таким точным, мо?кно сказать, самым
точным исследованием в этой области, был неверен; затем
найти источник его ошибки и, наконец, найти и средство
избежать этой ошибки. Все это мне удалось осущзствить таким
образом.
Спектр мы получаем, пропуская луч света (в настоящем
случае—солнечный) через щель и призму. Для получения более
резкого изображения спектра пользуются еще линзой. Спектр
называется чистым, когда составляющие его цвета не налегают
один на другой, что всего лучше можно обнаружить, загораживая щель одноцветным стеклом: красным, желтым, зеленым и т. д. При этом получаются одноцветные изображения,
только соприкасающиеся одно с другим. Если затем значи-
тельно расширить щель, то будут получаться более широкие
изображения, налегающие краями одно на другое. Еще нагляднее это обнаруживается, если, получив ясный, резкий спектр,
затем значительно расширить щель; тогда в середине спектра
получится бесцветное, белое пространство от совместного налегания всех частей спектра, и только края спектра будут ясно
окрашены: с одного края—в красный, с другого—в сине-фиолетовый цвет. Спектр, полученный при помощи узкой щели
со строго разграниченными чистыми цветами, мы называем
чистым; спектр с набегающими один на другой, сливающимися
цветами, пределом чего служит спектр с белой серединой,
мы называем нечистым, тс-есть с нечистыми смешанными цветами. Чистые спектры получаются только при узкой щели,
с широкой же щелью получается только спектр нечистый.
Но в спектре чистом, то-есть полученном через тонкую щель,
как нетрудно понять, свет очень ослаблен, потому что луч,
прошедший через щель, потом (благодаря линзе и призме)
развертывается в изображении спектра, площадь которого,
может быть, в сто и более раз превосходит сечение щели. Другими словами, что мы выигрываем в силе света мы утрачиваем
в чистоте спектра, и наоборот. Точно так же, чем больше спектр,
тем он слабее, чем меньше, тем он сильнее. Но, с другой стороны,
размеры спектра не могут быть очень малы, так как в нем нужно
расположить несколько стеклянных трубок с листьями (или,
еще лучше, кусочками одинаковой величины, вырезанными
из того же листа), при помощи которых мы изучаем разложение
углекислоты листом в различных цветах спектра. Размеры
этих приборов зависят от того, какими мы располагаем средствами для анализа газов. Если прием для анализа газов мало
чувствителен, то-есть нужны большие количества газа для его
анализа и большие поверхности листа, а следовательно, и размеры спектра будут велики, тогда, чтобы свет его был достаточно
силен, необходимо широко раскрыть щель, что и сделал Дрэпер. Но тогда спектр будет не чист и притом не везде одинаково,
а именно в красной части относительно чист, в желтой же —г не
чист, то-есть в красной части будут действовать действительно
чистые красные лучи, а в желтой—смесь лучей, почти белый
свет, только подкрашенный в желтый.
Таким образом, ошибка Дрэпера была найдена. Оставалось
найти средство от нее освободиться.
Так как увеличение яркости спектра расширением щели
привело к ошибке Дрэпера, то оставался другой путь—довольствоваться малым, но чистым спектром, увеличив чувствительность газового анализа. Если впервой работе я довольствовался
своим приемом, допускавшим точность до г / 1 0 кубического сантиметра, то на этот раз я придумал метод анализа, дозволявший
измерять тысячные доли кубического сантиметра. Позже я предложил свой микроэвдиометр, дозволяющий определять миллионные доли кубического сантиметра1.
Только благодаря этому приему явилась возможность работать в чистом спектре. Приступая на этот раз к работе, я задался
уже двойной задачей—доказать в более точной форме, что действуют не наиболее яркие (желтые), а обладающие наибольшей
энергией красные лучи, а во-вторых, доставить точное доказательство, требуемое Майером и Гельмгольтцем, что действуют
те именно лучи, которые поглощаются растением.
Благодаря этим двум методам точного анализа газов, дозволявшим в первый и до сей поры единственный раз изучить явление в чистом спектре, а с другой стороны, благодаря обнаруженному закону поглощения света хлорофиллом2, можно было получить то доказательство, что именно те лучи, которые поглощаются зеленым листом, и в той мере, как они поглощаются,
затрачиваются на разложение углекислоты. Таким образом
было получено мною то экспериментальное доказательство,
1
Помню, как Бертло в ш у т к у сказ ал: «каждый раз, что Вы приезжаете к нам (1870, 1877, 1884), Вы привозите новый метод газового анализа,
в тысячу раз более чувствительный». Эти методы вошли в общее употребление, но приписываются различным немецким и русским ботаникам
т о л ь к о на том основании, что они применяли их через двадцать, тридцать
лет позже меня
2
Правильнее сказать — его зеленой составной частью, названной
мною хлорофиллином, а теперь упорно и немецкими и русскими учеными
называемой хлорофиллом, так что не знаешь, о чем идет речь—о той ли
смеси пигментов, которая находится в листе, или о том в первый раз выделенном мною зеленом теле, которое, собственно, т о л ь к о и играет роль
в занимающем нас важном естественном явлении. О важном значении
с о п р о в ждающих тел скажем после.
которого требовали Майер и Гельмгольтц, для возможности
приложения их великого открытия к тому явлению, которое
современный физиолог (см. эпиграф) справедливо считает
едва ли не самым интересным во всей области естествознания.
Но немецкие ботаники Сакс и Пфеффер и по их стопам
и наши упорно продолжают отрицать значение моих исследований, опровергнувших результаты их собственных работ.
Те и другие были очень обрадованы, когда явился немецкий
ученый Энгельман (или, вернее, голландский, акклиматизировавшийся в Германии), который получил сходные с моими
результаты совершенно негодным способом. Именно, вместо
того, чтобы итти строго химическим путем, как это делал я, он
вообразил, что нашел крайне чувствительный способ определять
выделяемый растением кислород так называемым методом
бактерий.
Я неоднократно указывал на полную негодность этого приема. Это не мешало немецким и русским ботаникам даже в своих
позднейших произведениях (Иост, Лепешкин) приводить результаты именно этих эыгельмановских , исследований 1 .
1
Любопытно, что Энгельман,
получив р е з у л ь т а т , несогласный
с воззрениями немецких авторитетов, сам сначала у с о м н и л с я и решил выступить с ними, только у з н а в о моих исследованиях.
ЧАСТЬ
*
П У Б Л И Ч Н Ы Е ЛЕКЦИИ
ПЕРВАЯ
РАСТЕНИЕ
И СОЛНЕЧНАЯ
ЭНЕРГИЯ *
1
КРУГОВОРОТ У Г Л Е Р О Д А
ем, кто бывал в Женеве, без сомнения, случалось прогуливаться в тени вековых каштанов La Treille—этой террасы, с которой открывается панорама ближайших предгорий Grand и Petit Salève. Полюбовавшись видом,
турист, обыкновенно, спускается в расположенный у подножия
террасы ботанический сад и там, перед главным фасадом теплицы,
встречает ряд мраморных и бронзовых бюстов, воздвигнутых ма* К этому очерку, когда он был напечатан первый раз в сборнике
«Публичные лекции и речи», 1888 г., стр. 230, Климент Аркадьевич сделал
следующее примечание:
«В этом очерке, для того, чтобы избегнуть повторений, соединены две
публичные лекции, читанные весной 1883 года и в марте 1886 года. Первая
была озаглавлена „Круговорот углерода в природе (по поводу столетия
этого открытия) ", чем и объясняется преобладание в ней исторического
элемента, вторая—„Почему и зачем растение зелено"». Ред.
ленькой Женевской республикой ее гражданам, заслуги которых
так или иначе связаны с успехами ботанических знаний 1 . Ботанику этот ряд имен невольно напоминает, что он стоит на классической почве, на которой, в исходе прошлого столетия, возникла и сложилась новая отрасль его науки, что он находится,
так сказать, у колыбели физиологии растений. Но тому, кто
мало интересуется ботаникой и еще менее ее историей, имена
эти окажутся знакомы в весьма различной степени. Рядом
с именем человека, чье страстное, жгучее слово прогремело до
отдаленных пределов образованного мира, чьи идеи сообщили
окраску целому веку, — рядом с именем Руссо, чье общечеловеческое значение до недавнего времени заслоняло его значение
как ботаника, наш турист встретит знакомые, хотя бы по
наслышке, имена де-Кандоля, Соссюра, пожалуй, еще Бонне и,
наконец, остановится перед совершенно незнакомым именем—
Jean Seriebier. А между тем имя это заслуживает более широкой известности не потому только, что Сенебье принадлежит
первый систематический трактат по физиологии растений, но,
главным образом, потому, что ему наука обязана одним из величайших открытий, когда-либо сделанных в области естествознания 2 . Я разумею открытие происхождения углерода растений.
В настоящее время почти каждому образованному человеку
более или менее известно, что углерод, эта основа всякого органического вещества, берется растением из атмосферы; что в форме
растительного вещества он прямо или косвенно служит для питания всех животных и человека; что, окисляясь в их теле, он
является источником той энергии, которая приводит в действие
их механизмы; что, наконец, возвращаясь в продукте дыхания
обратно в атмосферу, он снова становится доступным растению
и, таким образом, вновь и вновь совершает свой круговорот,
проходя последовательно через все три царства природы. Сенебье
1
В настоящее время вся эта местность перестроена, о чем нельзя не
пожалеть, как о факте, доказывающем, как мало ц е н я т с я современными
правящими классами з а с л у г и науки.
2
Напоминать это необходимо потому, что некоторые немецкие ботаники без малейшего основания оспаривают у Сенебье эту заслугу, бесспорно признававшуюся за ним как современниками, так и потомством
в течение целого века.
принадлежит открытие главного момента в этом круговороте—
момента перехода углерода из неорганического мира в мир
органический, то-есть из атмосферы в растение. Мы так свыклись с мыслью о существовании этого кругового процесса, что
при изучении истории этого учения только с большим трудом
можем вполне оценить усилия научного творчества, научной
фантазии, проявленные первыми основателями этого учения.
Попытаемся, тем не менее, взглянуть на занимающее нас
открытие глазами современников: перенесемся мыслью в последнюю четверть восемнадцатого века, в эту эпоху лихорадочной
деятельности во всех отраслях человеческой мысли, разрешившейся в области положительных знаний рождением новой
науки—современной химии.
Итак, мы в 1783 году. Внимание ученых обращено на эту
новую нарождающуюся науку, а она сосредоточилась, главным
образом, на изучении третьего состояния материи, до тех пор
почти ускользавшего от ее внимания,—на изучении газов.
Еще недавно Пристли ознакомил нас с целым рядом газообразных тел. Не прошло еще десяти лет со времени открытия кислорода. Только десять лет тому назад Лавуазье, сжигая алмаз,
показал, что он превращается в air fixe 1 , по-нашему, в углекислоту, но самое название это еще не существует; оно появится
в первый раз в печати в будущем, 1784 году, а разложена эта
углекислота будет еще только через десять лет 2 . Всего пять лет
тому назад Лавуазье разъяснил состав органического вещества,
и, наконец, еще только через несколько месяцев, 25 июля,
он возвестит изумленной академии поразительный факт, что
вода не стихия, а соединение кислорода с горючим газом, air
inflammable, который впредь будут звать водородом. Заметим
еще, что все эти факты проникают в печать нередко через год,
через два или три и что только деятельная переписка, связывающая английских, французских, итальянских и шведских
ученых, разносит эти вести во все края Европы. Прибавьте
к этому ожесточенную борьбу двух лагерей: защитников
блестящего, но отяшвающего свой век учения о флогистоне и
1
Воздух, находящийся в твердом виде в твердых телах.
Между прочим, одним из первых русских химиков—Мусиным-Пушкиным.
2
сторонников новой химии—химии Лавуазье, над которой официальная наука, устами Фуркруа, еще произнесет обычный
в таких случаях приговор, что «она потрясает весь строй господствующего образа мыслей». Взвесим все эти обстоятельства,
и нам станет понятно, как еще туманен был научный кругозор
и какою проницательностью нужно было обладать для того,
чтобы пролагать новые, неизведанные пути, для того, чтобы
прозревать факты, которые еще трудно было облекать в слова.
В это горячее время, то-есть в 1782 году, в Женеве скромный
труженик, даже не специалист ученый, а евангелический пастор,
Сенебье, занимался изучением вопроса о действии солнечного
света на тела всех трех царств природы,—вопроса, и до настоящего времени, несмотря на все блестящие успехи в области технических применений—фотографии, почти не подвинувшегося
вперед с точки зрения научной теории. В первом из трех томов,
посвященных этому предмету, появившемся в 1782 году, Сенебье
коснулся вопроса о действии света на листья, составившего
главную славу его научной деятельности, а в следующем,
1783 году, посвятил ему целый новый том, в котором окончательно выяснил значение своего открытия. Посмотрим, в чем же
заключалось это открытие.
Лет за сорок перед тем другой женевец и, как мы только
что видели, сосед Сенебье по ботаническому саду, Бонне, заметил любопытный факт, что листья растений, погруженные в воду
и выставленные на солнце, покрываются пузырьками воздуха.
Бонне задался вопросом, откуда берется этот воздух—из растения или из воды? С этой целью он взял воду, прокипяченную
и, следовательно, не содержащую воздуха, и повторил опыт:
пузырьков на листьях не появлялось более, откуда Бонне заключил, что они выделялись не из листьев, а только на поверхности
листьев из воды. Для проверки этого заключения он несколько
времени дышал через трубку в эту прокипяченную воду и заметил, что после этого листья снова по крылись пузырьками.
Таким образом, Бонне неизбежно должен был притти к окончательному выводу, что растение не играет существенной роли
в этом процессе, а потому и совершенно несправедливо приписывать этому ученому первый шаг в открытии этого отправления растения; напротив, несмотря на совершенно логический
ход мышления, он должен был притти к отрицанию роли растения, и виною тому было, конечно, не отсутствие в нем таланта
экспериментатора, а недостаточность сведений, которыми располагала наука его времени по отношению к газам. Как только
химия пополнила этот пробел, вновь встал на очереди и этот
физиологический вопрос.
В 1772 году Пристли открыл факт первостепенной важности;
он показал, что растения способны восстановлять хорошие
качества воздуха, «испорченного» дыханием животных или
горящим телом, то-есть делать его вновь пригодным для дыхания и горения. От Пристли, однако, ускользнуло на первых
порах одно условие его опытов, именно—влияние солнечного
света на это отправление растений, а потому, когда через
несколько лет он пожелал повторить свои опыты, он потерпел
неудачу. Но эта неудача не заставила его отказаться от первоначального мнения, так как, говорил он, одно положительное
свидетельство важнее целого ряда отрицательных. К тому же,
в дальнейших опытах, при которых предметами исследования
служили не обыкновенные растения, а зеленый налет, появляющийся на стенках стеклянных сосудов с водою и состоящий,
как позднее показал Сенебье, из водорослей, Пристли сам
убедился в значении света. Эти опыты, а равно и знакомство
с исследованиями Бонне дали возможность Ингенгузу, голландскому ученому, приехавшему в Англию и выведавшему у Пристли о его последних опытах, повторить их, вооружившись
приемом исследования воздуха, введенным в науку Пристли
и усовершенствованным аббатом Фонтана. Ингенгуз показал
в 1779 году, что улучшение воздуха растениями происходит
только под влиянием света, а что при отсутствии света они,
напротив, ухудшают воздух, подобно животным, на что уже
ранее указывал на основании своих опытов Шеле 1 . Таким
образом, выяснилось двоякое отношение растений к воздуху:
одно—совершенно сходное с соответствующим отправлением
животных, то-есть дыхание, портящее воздух, делающее его
1
Ингенгуз поторопился напечатать свои результаты, чтобы обогнать
Пристли, чем объясняется обыкновенно приписываемая ему роль в этом
открытии.
непригодным для дальнейшего дыхания или горения, и другое—
исключительно свойственное растению под влиянием света,
улучшающее воздух, делающее его вновь пригодным поддерживать жизнь и горение.
Главным образом, с этой, так сказать, гигиенической точки
зрения вопрос этот и обращал на себя внимание и служил предметом исследований целого ряда ученых. Пристли, Лавуазье,
Магелан, Ингенгуз, Шеле, Фонтана, Спаланцани и др. предпринимали новые исследования в этом направлении или выказывали живое участие к результатам чужих исследований1.
Сенебье первый взглянул на вопрос с совершенно новой точки
зрения.
Он вернулся к опытам Бонне, но только применил к выделяющимся пузырькам воздуха приемы химического анализа газов,
выработанные, между тем, наукой. Он погружал листья в воду
в сосуде, имевшем форму опрокинутой воронки с глухой узкой
частью; в этой глухой, то-есть закрытой сверху, трубочке и собирался газ, выделявшийся с поверхности листьев. Оказалось,
что собранный газ совершенно отличен от газа, растворенного
в воде,—следовательно, он не был выделен из воды. Это не мог
быть и газ, просто заключенный в листьях, так как объем его
значительно более объема листьев. Отличие его от обыкновенного воздуха состояло в том, что он был гораздо «чище» этого
последнего, более способен поддерживать дыхание и горение,
то-есть, как мы выразились бы теперь, богаче кислородом.
Таким образом, мнение Бонне оказалось, очевидно, несостоятельным: пузырьки воздуха, появляющиеся на листьях, не брались просто из воды; они существенно отличались по своему
составу от воздуха, растворенного в воде. Но, тем не менее,
верен был и факт, что для того, чтобы на листьях появлялись
пузырьки, вода должна содержать воздух. Но какой? Сенебье
сосредоточил свое внимание на этом вопросе и вскоре убедился,
что для выделения листьями «чистого воздуха» (кислорода)
необходимо, чтобы в воде находился не обыкновенный воздух,
а именно воздух испорченный, содержащий air fixe, то-есть,
1
В числе последних можно упомянуть и нашего соотечественника,
князя Голицына.
21
Жан Сенебье
1742—1809
Из собрания
К. .4.
Тимирязева
углекислоту, всегда встречающуюся в воде минеральных источников, иногда даже в большом количестве, к а к , например,
в сельтерской воде. Сенебье умножил число своих опытов,
разнообразя их в различных направлениях, и пришел к окончательному заключению, что именно присутствие этого, и только
этого, газа необходимо; что с увеличением его содержания увеличивается и количество пузырьков кислорода. Он показал
далее, что пузырьки выделяются не на поверхности листьев,
а из глубины тканей, из зеленой мякоти листа. Стало ясно,
что выделение «чистого» воздуха происходит на счет air fixe, растворенного в воде; листья перерабатывают, превращают один
газ в другой. Но в чем же состоит это превращение? Исследования Лавуазье уже давали ответ на этот вопрос. В настоящее
время мы в несколько минут можем сжечь уголь в кислороде,
превратить его в невидимый газ, в углекислоту, и вновь из этого
газа выделить уголь в прежнем виде, то-есть путем синтеза
и анализа выяснить, в чем заключается взаимное превращение,
взаимное отношение углекислоты и кислорода. Хотя воззрения
Сенебье не могли быть так определенны, как наши, хотя в его
первых трудах, заключающих его открытие, мы не встретим
самых слов «углерод», «кислород», «углекислота», которых и
Лавуазье еще не употреблял в то время, но, благодаря Лавуазье,
ему было известно, что «air fixe» происходит при горении и тлении, что горючее вещество, соединяясь с кислородом, при этом
переходит в чистый воздух, заражая его. Отсюда было очевидно,
что при обратном процессе, когда «air fixe» деятельностью
растения превращается в «air pur», «air éminemment respirable» 1,
горючее начало должно оставаться, отлагаться в растении.
Но это горючее начало ведь то самое вещество, из которого
состоит растение,—следовательно, процесс этот должен иметь
значение для растения; в него поступает то вещество, из которого оно состоит,—очевидно, это процесс питания. Для того,
чтобы оценить всю смелость этой мысли, что растение «питается
воздухом», стоит вспомнить, что долго и после Сенебье, почти
до нашего времени, многие ученые продолжали называть этот
процесс дыханием—«дневным дыханием»—в отличие от настоя1
11
«Чистый воздух», «воздух, особенно пригодный д л я дыхания».
К. А. Тимирязев, т. I
209
щего дыхания, которое они называли «ночным», так как у растения оно обнаруживается с полной ясностью только при отсутствии света. В самом деле, питание воздухом представляется
чем-то столь необычайным, так резко противоречит более понятному нам питанию животных, что нелегко было освоиться с этой
мыслью.
Таким образом, между тем как предшественники Сенебье
видели в этом процессе только средство, которым природа очищает атмосферу, он показал другое и гораздо более важное его
значение: процесс этот питает растение, а через растение и весь
животный мир. Не произнеся слова «углерод», Сенебье открыл
самый факт его круговорота и вполне сознавал все значение
своего открытия, чем и объясняется та нескрываемая им тревога,
с которой он торопился умножить число, разнообразить форму
своих опытов, желая удостовериться, что им действительно
найден закон природы такой колоссальной важности.
«Когда полагаешь, что держишь в руках истину»,—скромно
поясняет он, — «не жалеешь никаких трудов, чтобы вполне
овладеть ею; когда идет дело о совершенно новых идеях,
не может быть лишнего довода».
В этой симпатичной стороне Сенебье (так же, как и Пристли),
в том, что он как будто боялся доверять себе, повторяя и
разнообразя опыты, многие позднее полагали видеть только
признак грубого эмпиризма, но он сам отражает это обвинение.
«Частные выводы,—говорит он,—вытекающие из наблюдений, приобретают цену лишь тогда, когда они могут
быть обобщены, могут послужить ключом для целого ряда
явлений». «С другой стороны,—поясняет он,—и к самому факту
мы приобретаем доверие только тогда, когда понимаем его
смысл».
Можно сказать, Сенебье почти сразу усвоил современную точку зрения на это явление, да и доводы, которые он приводил, существенно не отличаются от наших. Он говорит, что
разложение углекислоты не только улучшает воздух, но, что
важнее, питает растение, а через него животное. Он доказывает,
далее, что это не только один из источников, а главный источник
питания для того и другого, и приходит к этому выводу путем
следующих рассуждений. Вещество растения должно происхо-
дить из окружающей его среды—но из какой: из земли, из воды
или из воздуха? Что оно берется не из почвы, это доказывали
еще классические опыты Ван-Гельмонта, а также возможность
воспитывать растения в воде. Что не из воды,— это доказывалось ничтожностью того твердого вещества, которое растворено
в воде, а также фактом, что кактусы и другие растения могут
долго существовать без воды. Остается воздух, то-есть его углекислота. Таким образом, становится понятна возможность растительности на бесплодной каменистой почве, понятен и факт,
почему растения, выращенные в почве или в воде, не отличаются
по составу,—в том и в другом случае они черпают пищу
из того же источника—из воздуха. В подтверждение этого факта
Сенебье приводил и то соображение, что питание совершается
именно в листьях. Без листьев растение не растет; соки, принимаемые из почвы, жидки, водянисты; соки, идущие из листьев,
напротив, слизисты, богаты веществом; почки, плоды на растениях, у которых удалены ближайшие листья, не развиваются;
наконец, у некоторых растений, как, например, у Aloe, запасы
питательных веществ образуются непосредственно в листьях.
На основании всех этих соображений Сенебье еще в 1783 году
положил основание учению о питании растения, в общих чертах
сохранившемуся и до настоящего времени.
Не следует, однако, думать, чтобы идеи Сенебье немедленно
были встречены общим сочувствием,—они были слишком оригинальны, питание воздухом шло слишком в разрез с ходячими
понятиями. Главное затруднение заключалось в том, что долгое
время продолжали смешивать процесс разложения углекислоты
с ее образованием, то-есть дыханием; в этом отношении особенно
неясны были мысли его предшественника и соперника Ингенгуза. В последнее время некоторые немецкие ботаники (Сакс,
Ганзен, Детмер, Визнер и др.) пытаются совершенно несправедливо заслонить заслуги Сенебье и в ущерб ему выдвинуть вперед
Ингенгуза. Трудно себе представить, чем оли при этом руководятся. Разве только, предвкушая близкое поглощение Голландии «общегерманским отечеством», задним числом уже считают
Ингенгуза немцем?1 Как далек был Ингенгуз от истинного по1
14*
С к а з а н о мною в 1883 году (Примечание 1918).
21 1
нимания основной мысли Сенебье, свидетельствует тот факт, что
даже через 12 лет, в 1796 году, он утверждал, что выделение углекислоты, то-есть дыхание, служит для питания растения, что
«растения, образуя углекислоту, таким образом, сами приготовляют себе пищу», что «растения должны расти всего
быстрее тогда, когда они вырабатывают наибольшее количество
этой пищи, то-есть тогда, когда они находятся в темноте».
Из этих двух мест вполне ясно, что понятия Ингенгуза
были до того смутны, что приход углерода (питание) он смешивал с его расходом (дыханием)1.
С другой стороны, высказывалось весьма веское сомнение,
значение которого вполне допускал и Сенебье, именно, указывалось на тот факт, что громадное большинство растений своими
листьями приходят в соприкосновение с атмосферой, а не с водой,
а между тем аббат Фонтана утверждал, что он исследовал до
700 растений и не мог показать, чтобы их листья разлагали
углекислоту в газообразном состоянии. Сенебье сам предпринимал подобные опыты и не мог получить сначала вполне
определенных результатов, в чем сам откровенно сознается, но
уже во втором своем сочинении (относящемся к 1783 г.) упоминает, что ему удалось получить удовлетворительные результаты
и в воздухе. Разъяснить окончательно это недоразумение привелось уже позднее его соотечественнику Соссюру.
Но самое резкое и неустранимое в то время возражение было
предъявлено Гассенфрацем. Он доказывал, что теория Сенебье
ложна в основании, что никакого усвоения углерода растением
не происходит, и доказывал это следующим опытом, против
которого его современникам трудно было что-либо возразить.
Если растение питается углекислотой, говорил он, то стоит
взять проросшее семя, поместить его в перегнанную воду, в изобилии снабженную углекислотой, и растение должно развиться.
Но на деле этого не бывает—растение не развивается, а погибает. Нам теперь очень хорошо понятны причины неудачи
Гассенфраца. Мы знаем, благодаря Сенебье, что растение ну1
An essay on t h e food of plants and t h e renovation of Soils. (Опыт
о пище растений и обновлении почв). И в этом-то именно произведении,
обнаруживающем всю несостоятельность воззрений Ингенгуза, немецкие
ботаники видят з а ч а т к и современных воззрений!
ждается в углекислоте, но знаем также, благодаря уже позднейшим исследованиям, что растение нуждается и в составных частях
золы, а их-то не доставлял своим растениям Гассенфрац. Растение, сверх того, нуждается в кислороде для дыхания, а его,
вероятно, недоставало в воде, в которой находились прораставшие семена. Но, повторяю, для современников Гассенфраца его опыты, казалось, подтачивали в корне учение
Сенебье.
Вообще Сенебье был талантливый экспериментатор и строго
логический исследователь, но не обладал той особенностью
гениальных новаторов, которая необходима для того, чтобы
выставить новое учение во всеоружии истины, а главное, в то
время он не обладал еще достаточными сведениями в новой
химии, даже находился в противном лагере. Зато позднее он сам
откровенно сознавался, что когда ему удалось преодолеть
«обычную косность человеческого ума», неохотно расстающегося со старыми воззрениями,
он убедился, что его
идеи стали для него самого более ясными при свете нового
учения.
В Европе в это время было два человека, которые могли бы
довести вопрос до конца, выследить все его последствия, но они
оба были насильственно отняты у науки, когда она могла от них
всего более ожидать решения этой задачи. То были Лавуазье
и Пристли. Пристли никогда не упускал из виду вопроса,
возбужденного его открытием. Этим же вопросом, повидимому,
глубоко интересовался и Лавуазье, как можно судить по его
позднейшим докладам в Парижской академии. Именно, в своем
докладе по поводу исследований Гассенфраца он, очевидно,
становится на сторону Сенебье, говорит, что большинство ученых разделяет его взгляд, что углерод углекислоты переходит
в растение, образуя органическое вещество, но, с другой
стороны, останавливается в недоумении перед фактами Гассенфраца, предлагая академии их проверить, и приходит к заключению, что «едва ли какой другой научный вопрос более достоин
ее внимания и изучения)), как именно этот вопрос о происхождении углерода растений. Известно, что Лавуазье и ранее занимали опыты над выращиванием растений в воде, а также и другие вопросы, находившиеся в связи с земледелием. Трудно
себе даже представить, какое развитие получили бы физиология
растений и рациональное земледелие, если бы Лавуазье, как
позднее Либих, как в наше время Бертло, обратил внимание
на их задачи. Как изменилась бы их судьба, если бы во главе
своих деятелей они могли записать имя гениального химика,
если бы творец современной химий стал бы и творцом физиологии растений и агрономической ХИМИЙ. Н О через год после произнесения приведенных выше слов Лавуазье сложил голову
на гильотине. Сохранилось предание, что он унес с собою почти
сложившиеся идеи о каких-то новых открытиях, которых еще
не успел осуществить на опыте. Кто не слыхал мрачных подробностей юридического убийства Лавуазье? Историки с известными тенденциями не раз эксплоатировали его в своих видах,
указывая на него, как на яркое проявление республиканского
вандализма, и охотно повторяя (апокрифические?) слова, сказанные будто бы на процессе Лавуазье: la République n'a pas
besoin de science!1. Но те же историки менее охотно вспоминают
о другом случае, местом действия которого незадолго перед тем
была соседняя страна. Там другой гениальный химик, талантливый соперник Лавуазье, Пристли, только благодаря случаю
спас жизнь от дикого самосуда уличной толпы. Вот как рассказывают этот эпизод его биографы. В Бирмингаме друзья Пристли,
имевшие много связей во Франции,—сам он пользовался даже
правом французского гражданства,—предполагали отпраздновать 14 июля 1792 г. годовщину взятия Бастилии. Враги Пристли,
консервативные аристократы и клерикалы, давно ненавидевшие его за его независимый образ мыслей, политический и религиозный, воспользовались этим случаем, чтобы покончить с ним.
Наущенная ими уличная толпа ворвалась в дом, где происходил
обед, расправилась с собравшимися там и, не найдя между
ними Пристли, направилась к его загородному домику с криком:
«за церковь и короля!». Лаборатория, ценные инструменты,
библиотека, рукописи—все было уничтожено, и дом сожжен
до-тла. Предупрежденный во-время друзьями, Пристли с женой
и двумя детьми успел спастись от дикой расправы рассвирепевшей черни и из окон соседнего дома мог видеть, как гибли в пла1
Республика не нуждается в науке!
мени результаты целой трудовой жизни, быть может, надежды
будущих великих открытий. Его биографы рассказывают,
что даже в эти минуты ему не изменила обычная ясность духа
и христианская кротость характера; ни одного слова укоризны
не сорвалось у него по отношению к этой жалкой, темной массе,
служившей только слепым орудием, но зато до конца своей
жизни не переставал он громко обличать ту руку, которая управляла этими неистовствами.
«Никакие соображения не могли его остановить, когда он
считал своим долгом отстаивать то, что признавал за истину,—
говорит один из его биографов, Кювье, и добавляет далее: и
это качество, столь почтенное само по себе, уничтожало результаты любезных сторон его характера и было причиной мук,
истерзавших его существование».
Под любезными сторонами характера (qualités aimables)
Кювье, вероятно, разумел житейскую мудрость, умеющую смягчать жестокость всякой истины. Протянув еще несколько времени
в Англии, не скрываясь от своих врагов, бешенство которых
только росло от того, что они не имели ни малейшего повода к законному его преследованию, Пристли, наконец, изнемог в неравной борьбе и удалился в Америку. Благодаря случаю, жизнь
«го сохранилась, но для науки он был потерян безвозвратно.
Таким образом, на расстоянии двух лет насильственно сошли
с научной сцены два величайших деятеля, влияние которых
могло бы изменить исторический ход развития нашей науки.
Эта параллель между судьбой Лавуазье и Пристли не лишена
поучительности для беспристрастного историка. Убийство Лавуазье справедливо считается одним из самых черных пятен
на совести человечества, но оно бледнеет в сравнении с неудавшейся попыткой на убийство Пристли. В Лавауазье, обезумевший от отчаяния перед иноземным вторжением и внутренней
изменой, разоренный, но готовый на новые жертвы французский
народ преследовал только одного из представителей ненавистного
ему сословия откупщиков, в которых видел внутренних врагов
и союзников внешнего врага. Лавуазье был одним из 26 fermiers
généraux, откупщиков податей, взошедших в этот день на гильотину; он расплачивался за чужие грехи—за грехи целых поколений хищников, высасывавших из французского народа его
жизненные соки. Он, несомненно, не был виновен в их престу-
g
плениях1. Но нельзя сказать, чтобы он не разделял с ними их
выгод. Существует указание, что он просил у короля откупа,
как средства покрыть значительные расходы, связанные с его
опытами. Кто видел его приборы в Conservatoire des Arts et
Métiers, конечно, поймет, как велики должны были быть эти
расходы, и, конечно, не мы, благодарные потомки, помянем
ему какие-нибудь сотни тысяч ливров синекуры, которые он
с лихвой возвратил Франции и человечеству. Но современники
могли и не обладаэ^ь,-дол^кным хладнокровием и чувством справедливости. В м-инут^'Сощего народного бедствия, когда, казалось, все рушится и почва уходит из-под ног, могло найти,
конечно, не извинение, но объяснение и то помрачение мысли
и чувства, которое решило участь Лавуазье. Совсем иным представляется нам дело Пристли. Среди ничем не угрожаемого
общественного спокойствия друзья порядка и поборники
религии натравливают уличную чернь на человека самого кроткого и безобидного, вся вина которого заключалась в том, что
он думал не так, как думали в то время правящие классы 2 .
Если в Лавуазье, вследствие рокового ослепления, за предполагаемым расхитителем народного достояния не видели действительно гениального ученого, то в Пристли сознательно обрекали
на мучительную смерть мыслителя—и только мыслителя. Но
довольно этих мрачных картин вторжения человеческих страстей в ясную область науки. Поспешим отвернуться от этих
диких взрывов красного и, быть может, еще более возмутительного белого террора и вернемся в мирную Женеву.
Рядом с Сенебье и ему на смену уже на пороге X I X века
выступили два его земляка и, как мы видели, соседи его по ботаническому саду—де-Кандоль и Теодор Соссюр. Де-Кандоль
придал опытам Сенебье более наглядную, убедительную форму,
а также доказал, что и багряные морские водоросли, следовательно, растения не зелсігые, разлагают углекислоту. Исследования Соссюра, собранные в небольшом томике Recherches
1
Известно, что даже в своей деятельности откупщика Л а в у а з ь е проводил полезные и гуманные меры.
2
Религиозные воззрения Пристли были сходны с тем, что через сто
лет повторил Л. Н. Толстой.
Джозеф Пристли
1733—18Щ
ІѴ
chimiques sur la végétation 1 , и до настоящего времени могут
служить образцом строгого, точного физиологического метода.
Приемы исследования изменились, усовершенствовались, задачи усложнились, но умение ставить вопросы и получать на них
ясные, определенные ответы не было превзойдено и последующими поколениями. Соссюр устранил всякое сомнение по вопросу
о возможности разложения газообразной углекислоты. Он взял
несколько растений барвинка—Ѵіпса, той самой Pervenche,
которой Руссо посвятил такие патетические строки в своих
Confessions2,—поместил их в искусственную атмосферу, содержавшую довольно значительное количество углекислоты, и но
прошествии нескольких дней убедился, что количество углекислоты убыло, а кислорода—прибыло. Определив, сколько его
растения могли заключать углерода до опыта, и определив,
сколько его оказалось после опыта, он непосредственно доказал
прибыль углерода, то-есть его отложение из углекислоты в растении. Соссюру яіе наука обязана первыми, долгое время сохранившими свое значение количественными определениями углекислоты в атмосферном воздухе. Он показал, что содержание
углекислоты в атмосфере в средних цифрах 4/іоооо> и только
сравнительно недавние, более точные исследования заставляют
предполагать, что эта цифра должна быть немного уменьшена
(до 3/100(Ю или даже до 2 / 1 0 0 0 0 ?). Этим завершился ряд важных
услуг, оказанных науке четырьмя женевцами по отношению
к занимающему нас вопросу. Соссюру не по силам было разрешить последнюю задачу, устранить последнее сомнение, которое
стояло еще на пути учения Сенебье: именно, может ли растение
улавливать и разлагать углекислый газ, так скупо рассеянный
в природе? А пока это не было доказано, скептики имели право
утверждать, что все до сих пор доказанное еще не вязалось непосредственно с действительностью, с тем, что происходит в природе.
Эту задачу, требовавшую методов гораздо более тонких,
разрешил уже в 1840 году Буссенго. Он доказал, что растение
разлагает атмосферную углекислоту и, при благоприятны
1
«Химические исследования над растениями».
«Исповедь». Современные художники и з о б р а ж а ю т его на памятник а х с этим цветком в руке.
2
условиях освещения, почти начисто. До какой степени изумительною казалась современникам точность этого опыта
(как и большинства исследований Буссенго), может лучше
всего показать анекдот, который я слышал от самого
Буссенго.
«Мы предприняли исследование,—рассказывал он,—вместе
с Дюма, но так, что каждый производил взвешивания, вел
журнал опытов отдельно, не сообщая другому, для того, чтобы
лучше контролировать полученные результаты. Сначала все
шло хорошо; растение, как и следовало ожидать, разлагало
углекислоту. Вдруг картина изменилась. Несмотря на ясные
солнечные дни, оно закапризничало и вместо того, чтобы разлагать углекислоту, стало ее выделять. С недоумением подводили
-мы в своих записных книжках вечерние итоги, бросая друг
на друга немые вопросительные взгляды. Обоим невольно
приходила на память неудача, испытанная Пристли, когда он
хотел повторить свой знаменитый опыт. Так продолжалось
несколько дней. Наконец, в одно прекрасное утро Реньо (знаменитый физик), внимательно за нами следивший, видя наши
вытянутые физиономии, разразился неудержимым хохотом
и покаялся нам, что причиной нашего горя был он: каждый
день, когда мы уходили завтракать, он подкрадывался к прибору и немного в него дышал „для того, чтобы убедиться,
как он выразился, что вы не шарлатаните, а действительно
можете учитывать такие малые количества углекислоты"».
Реньо, проделывающий школьнические шалости над Дюма
и Буссенго,—какой комический контраст с тем торжественным
представлением, которое вызывали в нас имена этих научных
олимпийцев, встречаемые на страницах учебника! Этот опыт
над виноградной лозой, получивший такую неожиданную проверку, заслужил классическую известность; он окончательно
разрешал сомнение о возможности происхождения углерода
растения из атмосферы и, так сказать, завершал изучение
вопроса с его химической, статической точки зрения. Позднее
производившиеся почти бесчисленные опыты, в которых растение в течение всей своей жизни не получало другого источника углерода, кроме атмосферного воздуха, поставили этот
вывод вне всякого сомнения.
Итак, самый существенный момерт в круговороте углерода,
подмеченный Сенебье, прослежен вполне. Полюбопытствуем
узнать, как же быстро совершается этот круговорот. Зная, как
велико содержание углекислоты в атмосферном воздухе, предположив (что не вполне верно), что содержание это равномерно
во всей атмосфере, зная, наконец, среднее давление, следовательно, вес атмосферы, мы можем определить, как велик запас
углерода, носящегося в воздухе. С другой стороны, мы можем
определить, как велико количество углерода, в форме растительного вещества ежегодно извлекаемое из атмосферы, например, нашими сельскохозяйственными растениями, и, сопоставляя эти цифры, притти к грубо приблизительным, но, тем не
менее, довольно любопытным выводам относительно быстроты
круговорота. Если бы можно было выделить столб атмосферы,
стоящий над полем, пшеницы, то заключающегося в нем количества углерода хватило бы на четыре с половиной года; для
клевера хватило бы его только, приблизительно, на два года.
Отсюда понятно, как быстро должно возобновляться это содержание углерода в атмосфере. Откуда же оно будет пополняться? Делались попытки вычислить, как велико количество
углекислоты, освобождаемое главнейшими процессами окисления (горением, дыханием и пр.), пытались даже указать на равенство между этими процессами, но эти вычисления представляют слишком мало прочных данных.
Не следует забывать постоянный запас углекислоты, представляемый той частью атмосферы, которая находится над океаном, и самим океаном. Этот запас служит регулятором, обеспечивая общее постоянство состава атмосферы, если бы даже оказывалось местное нарушение в равенстве между приходом
и расходом углекислоты. С другой стороны, несомненно, что
в тропическом поясе потребление углерода растительностью
должно совершаться гораздо энергичнее, но зато и процессы
тления совершаются там также гораздо быстрее, так что, в общей сложности, при той подвижности, которой отличаются газы,
едва ли есть основание полагать, что где бы то ни было на земном шаре мог оказаться недостаток в этом первом источнике
питания. Точно так же и в будущем, при увеличении интенсивности производства, очевидно, усилится и потребление органического вещества, то-есть в итоге только ускорится круговорот
углерода. Высказывались и другого рода опасения; указывали
на мощные толщи углекислой извести 1 , отложившейся, очевидно, на счет углекислоты атмосферы; этот процесс, конечно,
имеет последствием устранение углекислоты из общего круговорота, переводя ее в неподвижную форму. Но и этот геологический процесс не встречает ли себе противовеса в другом геологическом же процессе, в потоках углекислого газа, извергаемых вулканами, на которые Буссенго давно указывал, как на
важнейший источник атмосферной углекислоты? Эти соображения, я полагаю, могут нас избавить от преждевременных опасений даже за самое отдаленное будущее, без обращения к тем
утешениям, которые недавно предлагал один американский
ученый, убеждая, что, если бы углекислоты когда-нибудь
нехватило на нашей планете, она явилась бы к нам на выручку
из глубины космических пространств.
Таким образом, девятнадцатый век завершил задачу, завещанную ему восемнадцатым, но он этим не ограничился и, в свою
очередь, выдвинул новую задачу, о которой восемнадцатый мог
только смутно гадать.
2
В том же 1840 году, когда Буссенго производил свой классический опыт над лозой, на острове Яве молодой немецкий врач,
находившийся на службе в каком-то голландском торговом
доме, пуская кровь больному, заметил, что цвет крови был
более яркий, алый, чем он привык видеть в Европе. Ничтожное
наблюдение, которое в другом случае прошло бы даже незамеченным, стало исходной точкой целой цепи умозаключений,
на другом конце которой через два года явилось провозглашение «закона», по словам Фарадея, «высшего из всех, доступных
человеческому пониманию, в области физических знаний—закона сохранения силы». Этот молодой доктор был знаменитый
и так жестоко поплатившийся за свою славу—Роберт Майер.
Несоответственность между громадностью результата и ничтожностью ближайшего повода, так часто повторяющаяся в исто1
Мела, известняков.
рии наук и даже утешающая толпу завистливой посредственности, убаюкивая ее мыслью, что все великие открытия обя.заТіы
своим происхождением только случаю,—эта несоответственность, конечно, и на этот раз не опровергала любимой аксиомы
Майера: aequat causa effectum1. Не в факте кровопускания
лежала причина открытия,—он играл только роль «освобождающей причины», «Auslösung», давшей прорваться наружу
запасу потенциальной энергии, таившемуся в мозгу Майера
и называемому гением 2 .
Но в чем же заключалось это сцепление идей, связывающее
цвет венозной крови с самым широким обобщением, когда-либо
высказанным в сфере физических наук, фактически обнимающим всю совокупность физических явлений? Майер руководился учением Лавуазье о горении и дыхании. Он рассуждал
так: при более высокой температуре, окружающей организм,
он менее охлаждается. Но если он менее охлаждается, то
и менее нуждается в тех процессах, которые поддерживают его
температуру. Менее высокая температура находится, следовательно, в связи с меньшей тратой как вещества организма,
так и кислорода крови,—отсюда и более алый цвет венозной
крови. Значит, трата вещества и проявление теплоты взаимно
дополняются; чем менее тратится вещества, тем менее освобождается тепла. Значит, эта теплота была скрыта, таилась
в этом веществе, а не возникла,—значит, физические силы не
возникают и не исчезают, а телько превращаются. Мысль Лавуазье о вечности вещества должна быть дополнена, обобщена,
распространена и на силу. Ex nihilo nil fit. Nil fit ad nihilum 3 .
Когда мы видим, что образуется вода, мы ищем, из чего она образовалась, и убеждаемся, что из водорода и кислорода; когда
1
Следствие р а в н о причине.
Любопытно, что Майер, построивший всю аргументацию в с в о и х знаменитых трудах на общей логической п о с ы л к е о равенстве между причиной
и следствием, в последние годы задумал большой труд, в котором с т а р а л с я
разъяснить именно механизм «Auslösung», то-есть объяснить действие малых причин, вызывающих несоответственные следствия, и ж е л а л провести
это положение чрез все сферы явлений, н а ч и н а я с химии и к о н ч а я умственным творчеством и политическими движениями.
2
3
Ничто не происходит из ничего. Н и ч т о не превращается в ничто.
при горении исчезает уголь, мы ищем, во что он превратился,
и убеждаемся, что в углекислоту. Точно так же, когда мы присутствуем при появлении иликажущемся исчезновении какой-нибудь физической силы—движения,теплоты, света, электричества,
мы должны искать, откуда она взялась или во что обратилась.
«В этом предположении, что сила может принимать скрытую
неподвижную форму,—говорит Дюринг,—и заключается самобытная мысль Майера, самым очевидным плодом которой явилось выражение теплоты в единицах механической силы».
Майер не ограничился применением своего воззрения к неоживленной природе. В первый раз усмотрев его на жизненном явлении, он поспешил в 1845 году развить его в применении
к жизненным явлениям. Не задумываясь, высказал он основное
положение, что или мы должны допустить, что в организмах
сила не возникает сама собою, а лишь превращается, или
должны признать безгранично царившую в то время «жизненную силу», то-есть «должны пресечь себе всякий путь к дальнейшему исследованию; отказаться от мысли применить к изучению жизненных явлений законы точных наук» 1.
Обращаясь к явлениям органической жизни, Майер прежде
всего остановился на растении. Всякое растение представляет
нам не только запас вещества, но и тепла, которое освобождается
при его сжигании. Откуда же берется эта теплота? Она не возникает из ничего—значит, она берется извне. Может быть
в форме теплоты же из окружающей среды? Но, нет; для существования растения одной теплоты недостаточно. Для этого
нужен свет. Мы, таким образом, получаем рациональное объяснение для открытия, что разложение углекислоты происходит только при солнечном свете. Но у Майера уже нет речи
о каком-то непонятном влиянии света; нет, он прямо высказы1
До чего доходили физиологические в о з з р е н и я виталистов того времени, можно видеть из приводимого Майером мнения одного ученого,
высказывавшего мысль, что животная теплота передается новорожденному
по наследству. В н а г р а д у за такое открытие, замечает Майер, стоило бы
пожелать его автору «печку, которая передавала бы по наследству неистощаемую теплоту своей прародительницы печки». Можно пожелать и новейшим защитникам витализма почаще перечитывать приведенные выше
слова Р. Майера.
вает мысль, что солнечный свет затрачивается, исчезает, превращается, принимает твердую форму, слагаясь в запас и обнаруживаясь вновь в форме тепла же и света, когда мы сжигаем
вещество растения. Здесь должно заметить, что мысли эти вполне
определенно высказал Сенебье еще в 1791 году следующими
словами: «Я вижу, как моя кровь образуется в хлебном колосе...
а древесина (le bois) отдает зимою теплоту, огонь и свет, похищенные ею у солнца» 1 . Майер даже намекал на форму опыта,
к сожалению, и до сих пор превышающего экспериментальные
средства науки,—опыта, который должен был бы непосредственно учесть это поглощение света. Всякий знает, что поверхность земли, покрытая растительностью, не так нагревается, как
голая почва. Если бы мы могли точно определить, какую долю
этого охлаяедения должно приписать испарению воды, то избыток охлаждения указал бы нам на поглощение света растением.
Таким образом, в растении может отложиться лишь столько
углерода, сколько принесено извне в форме углекислоты,
и лишь столько тепла, сколько растение могло поглотить его
в форме солнечного света. А так как это только две стороны
одного и того же процесса, то мы можем сказать, что и количество принятого растением углерода будет зависеть от количества
выпадающего на растение света, то-есть мы приходим к выводу,
что между самым существенным процессом растительной жизни
и солнечным светом долншо искать определенного количественного отношения.
Таковы основные мысли, высказанные Майером по отношению к занимающему нас процессу. Когда вспомнишь, что все
свои гениальные идеи он высказал в краткий период трех лет,
когда знаешь, как занимало его, именно, применение этих
идей к органическому миру, то невольно спрашиваешь себя:
чего могла бы ожидать от него наука в последовавшие затем
тридцать три года его жизни, если бы мелкая зависть цеховых ученых и невежество окружающей среды не превратили
1
Майер, конечно, не мог знать этого места из физиологии Сенебье,
так как оно неизвестно даже современному, специально занимавшемуся
этим вопросом, немецкому ботанику (Визнеру) и поющему с его голоса
русскому (Арциховскому).
ату жизнь в ряд невыносимых страданий? Нельзя без гнетущего чувства читать подробности этой страдальческой жизни,
раскрытые другим неудачником, Дюрингом, в его книге: Robert Mayer, der Galilei des neunzehnten Jahrhunderts1. До их
появления в печати и немедленно после появления идеи Майера
были встречены специалистами с крайнею враждебностью.
«Физики, с которыми он был в сношениях, и слышать не хотели о нем, и едва мог он добиться, чтобы первое сжатое изложение его идей проникло в печать»,—пишет Гельмгольтц и прибавляет: «то же, чрез несколько лет, пришлось испытать и мне»2.
Затем, в течение долгих лет, к этим идеям был применен
прием, так метко названный «La conspiration du silence»3. Наконец, когда имя Майера было совершенно забыто, заслонено славой его более счастливых соперников, Джоуля и Гельмгольтца,
и он выступил в защиту своих прав,— местные авторитеты снова
обрушились на него оскорбительными газетными статьями.
Он хотел возражать, но редакции не принимали его ответов.
Тогда разнесся слух, что он сошел с ума, и вслед за тем,—
что он умер в доме для умалишенных. Последний слух был так
упорен, что Поггендорф в своем биографическом словаре так
и уморил его заживо и уже в прибавлении исправил свою
ошибку. Только в шестидесятых годах, главным образом, благодаря Тиндалю, напомнившему о его заслугах, о нем, наконец,
вспомнили. Оказалось, что он еще жив, и не сумасшедший,
а просто влачит темное существование практического врача
в своем родном городе Гейльброне. Раз только, казалось,
судьба ему улыбнулась. В 1869 году его уговорили явиться
на съезд немецких натуралистов в Инсбруке. Он произнес речь;
ему сделали овацию—позднее признание его заслуг. Но и это
запоздалое торжество было отравлено новыми неожиданными
врагами. Майер был искренно религиозный человек, и притом,
по замечанию Дюринга, был им всегда, а не стал только под
гнетом невыносимой жизни. В нем не было, однако, ни тенн
1
Роберт Майер,—Галилей девятнадцатого столетия.
Этих слов, кажется, достаточно д л я того, чтобы избавить Гельмгольтца от тех подозрений, которые на него возводит Дюринг. (Дюринг обвинял Гельмгольтца в попытках присвоить о т к р ы т и я Майера. Ред.).
3
Заговор замалчивания.
2
фанатизма или ханжества; на вопрос Дюринга он просто
и чистосердечно ответил на своем швабском диалекте: «Ich bin
ein Chrischt» 1 . В своей инсбрукской речи он позволил себе несколько фраз в религиозном смысле. Этого не могли.ему простить люди противоположного лагеря, и Карл Фогт в газетном
отзыве об этой речи деликатно намекнул, что это говорит человек, выпущенный из дома для умалишенных! Такова, по обыкновенным рассказам, жизнь этого несчастного человека. ІТо
Дюрингу, познакомившемуся с ним лично и вызвавшему его
на откровенность, удалось разоблачить весь трагический ужас
этого существования. Майер засвидетельствовал ему, что никогда не был сумасшедшим. Отвергнутый учеными, но сознавая значение своих идей, он вскоре сделался посмешищем
и предметом преследований всех окружающих, начиная с ближайших членов своей семьи. Мало-помалу сложилось мнение,
что он страдает манией величия. Можно себе представить
положение человека, обреченного на жизнь в ничтожном провинциальном городишке, окруженного завистливым злорадством мелочной среды, встречающего главных врагов в самых
близких, в родственниках, в жене, находившей, что лучше бы
ему бросить свои бредни и побольше заниматься врачебной
практикой, в детях, которым внушали, что отец—полоумный
сумасброд. Измученный этой мелочной, вседневной борьбой,
не встречая нигде справедливости, Майер не выдержал и вгіал
в тяжкую меланхолию. Этим воспользовались, чтобы уговорить его посоветоваться с психиатрами. Он сам добровольно
поехал в одно лечебное заведение, в Винентале, и был там задержан, повидимому, не без содействия родственников. Ученый
эскулап также сообразил, что его пациент страдает манией
величия, а что его «механический эквивалент»—что-то вроде
квадратуры круга. Он пустил в ход орудия пытки (Zwangsstuhl),
которыми располагала наука того времени, причем постоянно
предлагал своему пациенту вопрос, не сознает ли он, наконец,
своего заблуждения. Целый год выдержал Майер эту пытку,
но не отрекся от своих идей.
«Это ли не повторение истории Галилея в самой середине
X I X столетия?» — восклицает Дюринг. — «Человека пыткой
1
Я христианин.
к. А. Тимирязев, т. 1
225
вынуждали отказаться от его идей, составляющих гордость, славу его векаі Это ли не Галилей?—с тем только различием, что
гонителями Галилея были невежественные монахи, а на этот
раз—то былн просвещенные профессора, а палачом служил
ученый психиатр, вообразивший, что он призван быть цензором над произведением гения!»
Как бы то ни было, Майер вернулся из Виненталя нравственно и физически искалеченный, с разбитой волей, но с ясным, попрежнему, умом и неизлечимой мономанией—с убеждением, что открытие механического эквивалента не было
делом сумасшедшего1. Дюринг ставит ему в укор только излишнюю его научную скромность и христианскую кротость. Боевой натуре Дюринга слишком чуждо это «непротивление злу»,
и он высказывает убеждение, что, обратись Майер во-время
к суду общественного мнения, ответь он своим врагам резкой,
язвительной брошюрой, дай он ей надлежащий ход, и роли
изменились бы, его дело было бы выиграно, и вся жизнь его
приняла бы иной оборот. Но скромность Майера, повидимому,
превышала его гениальность. Ни в одном письме, ни в одном
разговоре, приводимом Дюрингом, не встречаем ни одной черты
самоуверенности или гордости. Газ только в его разговоре
проскользнуло нечто вроде похвальбы: «Ich habe doch wirklich
populär geschrieben» 2 ,—сказал он Дюрингу, очевидно, сознавая, что обладал столь редким между учеными его соотечественниками даром не только понятного, но даже изящного изложения своих мыслей. С какой пользой и до сих пор многие ботаники могли бы читать эти блестящие шесть страничек, которые
Майер посвятил растению в своей известной статье «Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel»3,—а сколько еще потребуется труда, таланта и времени, чтобы осуществить на опыте все намеченные там идеи!
Подобно Пристли и Лавуазье, Гоберт Майер был насильственно отнят у науки в момент полного расцвета своего таланта.
1
Повидимому, боязнь лишиться практики, то-есть средств к существованию, вынудила разбитого борьбой Майера примириться скорее с мыслью
прослыть за выздоровевшего сумасшедшего, чем потребовать к ответу своих
родственников.
2
Я ведь действительно писал популярно.
3
«Органическое движение в его зависимости от круговорота вещества».
Словно какой-то злой рок тормозил развитие занимающего нас
вопроса, удаляя с научной сцены именно тех, кто всего более
мог способствовать движению науки в этом направлении.
Самые противоположные условия, самые враждебные течения
мысли как будто тайно служили одной цели. Бирмингамские
пожары и вннентальские холодные души, богатство Лавуазье
и бедность Майера, уличное буйство невежественной толпы
и затаенная зависть ученых профессоров, насилующая нетерпимость религиозных фанатиков и язвящая нетерпимость правоверного материалиста—все шло впрок, все, казалось, вступило
в заговор для того только, чтобы обогатить мартиролог науки
именами этих трех гениальных ученых и во всех отношениях
безупречных людей. И не любопытна ли эта последовательность: Лавуазье ученый—пострадал за Лавуазье практического деятеля; Пристли ученый—за Пристли политического
и религиозного мыслителя; наконец, Майер ученый—за то
только, что был гениальным ученым в среде окружавшей его
жалкой посредственности.
#
Рассматриваемый с точки зрения Майера процесс усвоения
углерода приобретает новый и еще более широкий интерес 1 .
До сих пор мы видели в нем только любопытный момент в круговороте углерода, теперь мы усматриваем в нем еще более любопытный момент в том превращении силы, или, выражаясь
современным языком, в том превращении солнечной энергии 2 , от
которого зависит существование жизни на земле. В процессе разложения углекислоты солнечная энергия переходит в скрытое
состояние, становясь достоянием живых существ. Усвоение углерода растением есть в то же время усвоение солнечной энергии.
1
Сходные воззрения высказывались почти одновременно и д р у г и м и
учеными, но никто ранее Майера не в ы р а ж а л его с такой определенностью
и ясностью.
2
Я здесь не касаюсь основ учения об энергии; желающие с ним ознакомиться найдут сжатое изложение в моей книге «Жизнь растения»,
приложение: «Растение как источник силы». (См. настоящий том,
стр. 260. Ред.).
Мы узнали в общих чертах, в какой степени растение утилизирует атмосферную углекислоту. Попытаемся определить,
конечно, приблизительно, в какой мере растение утилизирует солнечную энергию, без которой невозможна и утилизация углекислоты. Прежде всего укажем на громадный интерес
подобной оценки. Мы видели, что запас углерода в соседстве
с растением обеспечен подвижностью углекислоты; большее
потребление его человеком только обеспечивает снабжение им
растения,—только ускоряет круговорот. Точно так же во
власти человека снабдить растение в форме удобрения и теми
питательными веществами, которые неподвижны и, будучи
однажды удалены из ближайшего соседства растения, сами
уже не возвращаются. Только одно условие не лежит во власти
человека, это—количество солнечной энергии, выпадающее на
известную площадь земли, а от этого количества зависит, как
учит Майер, и количество образующегося в растении органического вещества. Но как сравнить между собою эти, повидимому,
столь разнородные величины? Очень просто. Мы можем их привести к одной и той же мере, выразить их в тех же единицах.
Какую меру выберем мы для определения энергии солнечного
луча? Конечно, не световое его напряжение, не степень его
яркости, зависящую от свойства воспринимающего его физиологического аппарата, то-есть глаза. Для определения энергии
солнечного луча в ее совокупности мы имеем одно только средство. Мы превращаем ее в теплоту и измеряем в тепловых единицах—в калориях. Для этого, по мысли французского физика
Пулье, мы выставляем на солнечный свет, всегда в одном
и том же определенном положении по отношению к лучу, тонкий, плоский, металлический сосуд а с водой и термометром
Ъ (рис. I) 1 . Освещенная поверхность его а вычернена, закопчена
для возможно полного поглощения света, то-есть для возможно
полного превращения его в теплоту2. Зная, сколько наш прибор содержит воды и на какое число градусов повышается его
1
Для того, чтобы вода равномерно нагревалась, сосуд вращают,
как показывает стрелка.
2
Полное поглощение световых лучей представляло бы, конечно,
только такое тело, на которое нельзя было бы отбросить тени, но такого
черного тела мы не знаем.
температура в минуту (конечно, соблюдая
целый
ряд поправок, о которых
здесь не место говорить),
мы узнаем, сколько калорий посылает солнце на
известную нам
поверхность нашего калориметра.
Теперь посмотрим, как определить скрытую теплоту
растения. Положим,мы вы- Слева — калориметр
Пулье
(пиргелиокалориметр
растили растение, тщатель- метр); справа — простой
но собрали его вместе с корнем, разрезали и высушили, чтобы
удалить воду. Полученное сухое органическое вещество мы помещаем в небольшую чашечку g, зажигаем и быстро опускаем
в стоящий рядом прибор с/—также калориметр. Он состоит
из стеклянного сосуда с одной трубкой і, чрез которую доставляют воздух ИЛИ, лучше, кислород, и другой d, образующей
много оборотов и, наконец, выходящей над поверхностью воды
в наружном сосуде h. Чрез эту трубку продукты горения выходят охлажденными, предварительно нагрев на своем длинном
пути окружающую воду. Зная опять, сколько воды было в калориметре, на сколько градусов повысилась ее температура, мы
узнаем, сколько единиц тепла заключалось в скрытом состоянии в нашем растении и освободилось при его сжигании. Следовательно, и количество энергии, заключающейся в солнечных
лучах, и количество скрытой энергии, заключенное в растении, мы измеряем тем же способом, при помощи тех же приборов—калориметров, в тех же единицах тепла. Значит, и сравнение этих, как казалось сначала, разнородных величин разрешается весьма просто, то-есть весьма просто в теории, хотя
много еще пройдет десятков лет, много потребуется сложных
и тонких исследований, прежде чем удастся разрешить это
уравнение вполне удовлетворительно. Но важно то, что ужепредвидится возможность установления такой количественной
связи между растительным процессом и солнечной энергией.
Пока мы должны довольствоваться только первыми попытками
в этом направлении — и вот каким путем мы их осуществляем.
,
Положим, мы желаем узнать, какое количество солнечной
энергии утилизируется известной какой-нибудь культурой.
Для этого нам нет, конечно, надобности собрать жатву с целой
десятины вместе с корневыми остатками и сжечь ее в калориметре; если мы знаем, сколько сухого вещества заключается
в этом сборе и какой его химический состав, мы можем на основании уже известных нам калориметрических данных вычислить, какое количество скрытого тепла сгорания заключает
это органическое вещество. С другой стороны, при помощи
калориметра (пиргелиометра) Пулье, с которым мы познакомились выше, мы можем определить, сколько солнечной энергии выпало на ту площадь, которая покрыта нашей культурой,
за период вегетации 1. На основании таких вычислений оказывается, что самые интенсивные культуры утилизируют около
одного процента. Но мы имеем и другой, более точный, путь
для вычисления количества солнечной энергии, утилизируемой
растением. Мы можем прямо определить, сколько данный лист
разложит углекислоты в известный период времени, например,,
в час. Отсюда мы знаем, сколько тепла потребовалось растению
для этого разложения, а пиргелиометр попрежнему даст нам
другую цифру для сравнения. Такое вычисление более точно
и приводит к более высокой цифре. До deijx и даже пяти процентов2 солнечной энергии утилизируется зеленым листом,
поставленным в самые благоприятные условия освещения,—
и эту цифру мы, вероятно, должны считать близкой к пределу
производительности зеленого листа. Повторяю, цифры эти
только приблизительные; потребуется еще много поправок
и данных для точного вычисления, но пока важны не цифры,
а самая возможность цифр. Важно то, что уже может быть речь
о числе и мере там, где царил произвол жизненной силы; точ1
К сожалению, это вычисление только приблизительное. В этом отношении метеорология заставляет еще многого желать. Новейшие любопытные исследования Крова в Монпелье и Савельева в Киеве скоро дадут
физиологам необходимые данные для более точного вычисления.
(Примечание 1883 г.) Позднее английский астроном Вильсон придумал упрощенный остроумный прибор, делающий возможным учитывать солнечное
тепло (в калориях) с р а з у за целый день, что значительно упрощает дело.
(Примечание 1918 г.)
2
Наиболее точное измерение дало 3 , 4 % .
ные же цифры—только вопрос времени. Интересна возможность
вычисления размеров естественного процесса, едва ли не самого важного из совершающихся на поверхности нашей планеты. Вычисление это, в сущности, не что иное, как определение
годичного бюджета жизни на земле. Мы можем доставить растению сколько угодно удобрений, сколько угодно воды, можем,
пожалуй, оберегать его от холода в теплицах, можем ускорить
круговорот углекислоты, но не получим органического вещества
более того количества, которое соответствует количеству солнечной энергии, получаемой растением от солнца. Это—предел,
переступить за который не во власти человека. Но раз мы
узнаем этот предел, мы получим настоящую, строго научную
меру для предела производительности данной площади земли,
а в то же время будем в состоянии судить о том, насколько наши
культуры приближаются к совершенству, —как в далеком будущем получим возможность судить и о том, насколько совершенны
те искусственные процессы получения органического вещества, которые, конечно, рано или поздно, подражая растению,
выработают физика и химия. Калориметр скажет сельскому
хозяину, что он получил, а пиргелиометр—что мог или должен
был получить. Тогда станет понятно, что,''если последствия
хищнического хозяйства, непроизводительно удаляющего из
почвы питательные вещества, и поправимы тем или иным
способом, путем удобрения земли* то окончательно непоправимо
только расточительное, неумелое пользование главным источником народного
богатства—солнечным
светом. Не утилизированный в данный момент, он утрачивается уже безвозвратно.
Тогда станет понятно, что каждый луч солнца, не уловленный
нами, а бесплодно отразившийся назад в мировое пространство,—кусок хлеба, вырванный изо рта отдаленного потомка,
а вместе с тем станет понятно, что владение землей не право
только или привилегия,
а тяжелая
обязанность,
грозящая
ответственностью перед судом потомства.
Но оставим пока эти соображения и заключения, которые
двадцатый век, несомненно, выведет из той точки зрения, с которой девятнадцатый учит нас смотреть на вопрос о круговороте углерода, и вернемся назад, в восемнадцатый, попытаемся
еще раз отдать ему должное, попытаемся показать, что, если он
и не формулировал идей Майера в таких ясных выражениях,
то уже смутно угадывал их содержание.
Если любопытно знать «последнее слово науки», то не менее
назидательно при случае знакомиться с ее первыми словами, хотя
бы они и казались нашему высокомерию только детским лепетом.
Мы уже видели, что приверженность к отживавшему свой
век учению о флогистоне препятствовала Сенебье оценить
свои собственные открытия с тою ясностью, с которою они ему
представились, когда со свойственным ему беспристрастием
он из рядов противников перешел в ряды сторонников новой
химии Лавуазье. Но зато старое учение дозволило ему заглянуть в сущность открытого им процесса глубже своих современников и ближайших преемников. Это учение о флогистоне,
как известно, перешло в историю с не совсем лестной славой.
Но потомство успело и к нему отнестись с должною справедливостью. История науки полна таких примеров. Колоссальная
фигура Ньютона заслоняет на время Гюйгенса, но являются
Юнг и Френель; Кювье давит своим авторитетом Ламарка, но
выступает вперед Дарвин1. Ограниченные люди, пожалуй,
готовы из этого вывести заключение о непрочности научных
построений. Но дело объясняется совсем иначе; наука, как
выражается Сенебье,—«дитя своего времени»; быть слишком
дальнозорким в науке почти так же опасно, как и быть слишком
близоруким. Нечто подобное (хотя не в такой степени, как
в двух приведенных примерах) оправдывается и по отношению
к флогистону. Во второй половине девятнадцатого столетия
целый ряд авторитетов (Майер, Гельмгольтц, Одлинг и др.)
попытался обнаружить основную мысль, таившуюся в том, что
считалось упорным заблуждением защитников флогистона.
Это учение страдало тем, что хотело охватить в одном взгляде
слишком многое и, по французской поговорке «qui trop embrasse
mal entreint» 2 , упустило из виду некоторые факты, а затем
стало с ними в прямое противоречие. Что такое флогистон?
1
Известно, что теория Гюйгенса, надолго вытесненная теорией Ньютона, нашла защитников в Юнге и Френеле и теперь всеми признана. Воззрения Ламарка, отвергнутые авторитетом Кювье, в значительной мере
(хотя не во всем) нашли оправдание в учении Дарвина.
2
«Кто слишком много охватывает, плохо удерживает».
Подставьте на место этого слова современные понятия—химическое напряжение, потенциальная, скрытая энергия,—и сущность этого учения станет ясна 1 . При горении тела теряется,
освобождается нечто—флогистон,—говорили его защитники,—
и были правы. При горении тела приобретается, связывается
нечто—кислород, говорил Лавуазье, и был еще более прав.
Ошибка сторонников флогистона заключалась в том, что одним
уравнением они хотели выразить и превращение вещества •
и превращение энергии. Эта скрытая энергия, освобождающаяся
при горении, правда, представлялась им в форме материи, но
вспомним, как долго и после них физики не могли расстаться
с тепловой, световой, электрической материей2. Лавуазье на
время ограничил вопрос, остановился на его исключительно
химической стороне,—в этом и обнаруживается зоркость гения,
понимающего задачу своего века. Сузив, таким образом, русло
науки, он способствовал его углублению,—и вот только теперь,
окрепнув на своем более ограниченном, но зато и более прочном
фундаменте, химия возвращается вновь к более широким динамическим задачам. Но какую же услугу это учение о флогистоне могло принести Сенебье? А ту, что, благодаря этому
учению, его воззрения существенно не отличаются от наших,
что и для него, как мы видели выше, круговорот углерода был
такой процесс, при помощи которого солнечный луч улавливается, слагается в запас в виде «флогистона», освобождающегося потом в пламенн свечи, топлива и т. д.
«Флогистон,—говорит он в одном месте,— это свет потухший, но всегда готовый вспыхнуть вновь», и в другом месте:
«Мне кажется, что я вижу, как частицы света соединяются с
телами,—мне хочется думать, что они вновь обнаружатся нашему глазу в пламени горючих веществ», и еще далее: «Наконец, этот флогистон, который свет образует в растении, не
служит ли он источником и того, который обращается в других царствах природы?»
Не подлежит сомнению, что для Сенебье процесс усвоения
углерода растением был в то же время и процессом усвоения
солнечного света.
1
Об энергии см. «Жизнь растения» (том IV настоящего и з д а н и я . Ред.).
Не забудем, что и для Лавуазье уравнение образования воды было:
водород+ к и с л о р о д — т е п л о р о д = вода.
2
До сих пор мы имели в виду почти исключительно внешние
факторы занимающего нас процесса и оставляли в стороне
роль главного участника—растения. Мы узнали, что происходит с углекислотой, омывающей растение, узнали окончательную судьбу солнечного луча, падающего на растение, но пока
еще ничего не сказали о том, что происходит в самом растении.
Где совершается это превращение углекислоты—в органическое
вещество, солнечного луча—в запас тепла? Первые шаги и в этом
направлении, как мы увидим, принадлежат тому же Сенебье.
2
ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ РАСТЕНИЕ ЗЕЛЕНО?
1
С
ент-Бёв, характеризуя одну из сторон деятельности
Руссо, со свойственною ему меткостью замечает, что в
обществе и литературе, совершенно ушедших в искусственно созданную ими жизнь, Руссо сумел пробудить — le
sentiment du vert 1 .
Люди, словно в первый раз, сознали в себе присутствие какого-то глухого инстинкта, какого-то неизведанного и вместе
с тем как будто давно присущего им влечения; а для самого
виновника этого внезапного просветления, гонимого-, больного,
нищего скитальца, умиротворяющий «зеленый шум»2 стал
единственным утешением и врачующим средством от угнетавших
1
«Чувство зелени», то-есть чувство природы, любовь к природе, сознание ее красоты.
2
Слова Н е к р а с о в а .
его тяжелых мыслей, тех честных мыслей, «в которых так
много и злобы и боли, в которых так много любви»1.
Сенебье, конечно, не обладал могучим, чарующим словом
своего великого земляка; он не открыл глаза изумленному человечеству на новый источник высших и чистейших наслаждений, мимо которого оно проходило, казалось, того не замечая,
но зато он один из первых задумался над вопросом: почему
этот зеленый мир—зелен?
Часто приходится слышать очень верную мысль, что люди
обращают внимание на ничтожные, случайные явления только
потому, что они случайны, редки, и, наоборот, проходят без
внимания мимо крупных, широко распространенных явлений
потому только, что они слишком распространены, слишком
обыкновенны.
К числу таких фактов, конечно, должно отнести и зеленый
цвет растительности.
Кто не знает, что с пробуждением растительной жизни весной вся природа одевается в этот зеленый наряд; что на какую бы
точку земного шара мы ни перенеслись, несмотря на различие
в почве и климате, при почти безграничной пестроте цветов
и плодов, мы встретимся, в различных, правда, оттенках, но
с тем же неизменным зеленым цветом листвы. Наконец, кто
не знает, что утрата этого зеленого цвета осенью есть верный
признак приближения зимней спячки или смерти. Все это так
верно и так хорошо известно, что зеленый цвет даже стал эмблемой жизни и надежды2.
Мало, я полагаю, найдется фактов более обыкновенных,
а многим ли приходилось задавать себе вопросы: да почему же
растение всегда и везде зелено? Имеет ли этот зеленый цвет
какое-нибудь для него значение, или это действительно только
случайный наряд?
Чтобы это замечание не показалось укором, поспешу прибавить, что и сами ботаники недавно только стали серьезно
задаваться этим вопросом.
1
Слова Некрасова.
К сожалению, он стал цветом кадетов. Невольно вспоминаются
слова Чернышевского: «Мухи знают, что с а х а р сладок, но зачем они его
засиживают».
2
Прежде чем перейти к тому ответу, который дал на этот вопрос опыт, то-есть сама природа, необходимо точнее поставить
и рассмотреть самый вопрос.
Почему и зачем растение зелено? Вот в какой форме мы его
поставим и, наверно, услышим от натуралистов старого поколения возражения, что ученый может ставить себе только первый
вопрос, второй же слишком отзывается устарелой телеологией.
Нужно ли объяснять, что, наоборот, именно это возражение
является устарелым и не выдерживает критики. Современное
эволюционное воззрение на происхождение организмов делает
и второй вопрос вполне научным. Распространенность какогонибудь органа или свойства прямо наводит на мысль, что они
имеют какое-нибудь полезное значение для обладающего ими
организма. Раскрыв, когда это окажется возможным, физические условия, при которых образуется то или другое строение,
та или другая особенность организмов, мы объясняем, почему
они возникли; раскрыв их пользу, их значение для обладающего ими организма, мы указываем, зачем, для чего эта особенность сохранилась, закрепилась и усовершенствовалась. Иногда
бывает трудно ответить на первый вопрос, в других случаях,
наоборот, на второй. Бэр, знаменитый натуралист, высказывал
мысль, что биологии обыкновенно гораздо легче ответить на
второй вопрос, то-есть узнать, для чего существует та ИЛИ другая особенность, чем ответить, почему, то-есть какими физическими средствами она осуществляется. Но мне кажется, что
замечание это более применимо к животным организмам, многие функции которых человек сравнительно легко угадывает
из аналогии с свопм личным опытом; по отношению же к растению эта руководящая нить аналогии может не только не содействовать, но, наоборот, нередко сбивает с пути. Что глаза
животных служат для того, чтобы видеть, легкие—для того,
чтобы дышать, понять было нетрудно, но что растение поглощает воздух для того, чтобы им питаться, этого не могла подсказать простая аналогия; напротив, аналогия заставляла долго
и упорно называть этот процесс газового обмена дыханием.
Мы вскоре увидим и другой пример подобного неудачного заключения по аналогии. Таким образом, ботанику нередко
бывает сравнительно легко узнать, почему, как, при каких
условиях, в зависимости от каких физических деятелей слагается та или другая особенность растительного организма
и гораздо затруднительнее объяснить, зачем она существует,
то-есть к чему клонится, чем полезна растению. К числу таких
случаев, очевидно, относится и вопрос о зеленом цвете растения.
Почему растение зелено, то-есть присутствию какого вещества оно обязано этим цветом, в каком виде отлагается это вещество, при каких условиях оно образуется, сохраняется или
исчезает,—на все эти вопросы мы можем получить ответы сравнительно легко; но гораздо сложнее представится нам другой
вопрос: к чему служит растению этот зеленый цвет, и могло ли бы
оно и не быть зеленым?
Займемся сначала первым вопросом. Зеленый цвет зависит
от присутствия во всех растениях одного и того же вещества,
названного хлорофиллом (листозеленью).
Вещество это окрашивает зеленые органы растения не сплошь; оно обыкновенно
распределено в клеточках этих органов в форме зернышек;
да и самые зернышки не состоят сплошь из хлорофилла, а, повидимому, только покрашены им с поверхности. Стоит вымочить
какой-нибудь зеленый лист в спирте, и мы заметим, что спирт
окрасится в зеленый цвет, а лист станет совершенно бесцветным. Следовательно, это зеленое вещество—хлорофилл — растворяется в спирте. Этот зеленый раствор представляет много
любопытных особенностей; мы остановимся только на его своеобразном цвете. Известно, что, если разложить луч света призмой, то он даст изображение, называемое спектром и состоящее
из семи основных цветов радуги: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Если мы пропустим наш луч через сосуд с зеленою жидкостью, например,
с раствором хлористой меди, то вместо, семи цветов спектра
получим только узкую полосу зеленого цвета, все остальные
лучи будут поглощены раствором. Но если мы поставим на пути
луча сосуд с зеленым раствором хлорофилла, то получится
не только зеленая полоса, но и узкая красная, отделенные одна
от другой широким совершенно черным промежутком. Эта черная полоса в спектре представляет самую характеристическую
особенность хлорофилла, к которой нам придется не раз возвращаться. Вследствие этого свойства его спектра, и самый
зеленый цвет хлорофилла представляет особенность, отличающую его от других зеленых тел; он содержит, как мы только
что видели, не только зеленые, но и красные лучи. Убедиться
в этом можно очень легко; стоит на залитый ярким солнечным
светом ландшафт посмотреть чрез особое синее стекло, которое
пропускает красные и синие лучи, но задерживает зеленые,
для того, чтобы пред нашими изумленными взорами вся природа
совершенно преобразилась: под обычным синим небом мы увидим кроваво-красную растительность1. Не в этой ли особенности
цвета хлорофилла лежат те трудности, с которыми, очевидно,
приходится бороться ландшафтной живописи? На палитре живописца, повидимому, нет тех зеленых тонов, которые представляет вблизи ярко освещенная растительность. Не потому ли
ни у старых мастеров, начиная с отца ландшафтной живописи
Тициана, ни у Сальватора Розы, ни у Клода Лоррена, ни
у Рейсдаля, ни у новейших: Руссо, Каллама, Диаза, Шишкина
и др., мы и не встретим попыток разрешения этой, повидимому,
неразрешимой задачи—изображения ярко-зеленой растительности, и только у молодых, неопытных художников почти на
любой выставке наталкиваемся на режущие глаза своим неестественным, малахитово-зеленым цветом луга и леса.
Итак, совершенно своеобразный зеленый цвет растительности отличается тем, что в его спектре отсутствуют не все
вообще красные лучи, а известная группа красных и оранжевых лучей. Лучи эти, следовательно, поглощаются растением,
как бы потухают в нем.
Ботаники долгое время думали, что зеленый цвет растения
зависит от смеси синего и желтого красящего вещества, дающей, как известно всякому художнику, зеленый цвет, но почти
двадцать лет тому назад мне удалось показать, что предполагаемого синего пигмента в природе не существует, что хлорофилл—смесь зеленого же и всегда его сопровождающего желтого пигмента. Первое тело я предложил назвать хлорофиллином, второе—ксантофиллом. Факт этот объясняет нам многие
1
Еще проще тот ж е результат достигается, если смотреть чрез фиолетовые желатинные пластинки, которые употребляются для детских фонариков, завертывания конфект и пр.
естественные явления, например, осеннюю окраску лпстьев.
Хлорофиллин легко разлагается, разрушается светом; ксантофилл, напротив, менее чувствителен к свету. Если мы оставим
на солнечном свете спиртовой раствор хлорофилла, то он
вскоре пожелтеет—разрушится хлорофиллин, и останется желтый ксантофилл. То же происходит осенью в листьях. Под
влиянием света и температуры хлорофиллин разрушается,
а остается ксантофилл. Таким образом, удалось воспроизвести
искусственно то разрушение хлорофилла, которое наблюдается
и в природе осенью. Люди, желающие видеть печать таинственности во всем, что касается жизненных явлений, нередко делали ботаникам-физиологам возражение, которое не так давно
предъявлялось в еще более широких размерах и химикам,
именно: что исследователь в своей лаборатории умеет только
разрушать, но бессилен создать вновь то, что разрушает.
Давно ли еще считалось чуть не научным догматом, что химик
может только анализировать органические тела; одна только
природа обладает тайной их синтеза? Быстрые успехи синтетической химии опровергли это воззрение; молодому поколению
оно представляется каким-то отголоском седой старины, а ведь
переворот этот совершился на наших глазах. Сходное возражение чуть не вчера еще высказывалось и по поводу хлорофилла.
Вне растения, говорили, возможно разрушение хлорофилла,
только растение обладает тайной его образования. Но мне удалось воспроизвести и это явление. Желтая жидкость, не имеющая никакого сходства с хлорофиллом, у нас на глазах в несколько минут зеленеет, превращаясь в хлорофилл со всеми
его характеристическими свойствами—спектром и т. д., и происходит это явление при тех же условиях, как и в живом растении, то-есть при окислении на счет кислорода воздуха.
Таким образом, оказывается еще одной, так называемой жизненной, тайной менее: процесс образования хлорофилла, считавшийся исключительным уделом живого организма, может
быть воспроизведен in vitro 1 .
' С м . мои статьи в «Comptes Rendu-,» за 1886 г о д и «Nature» за 1885 и
1886 гг. [Статьи, на которые здесь с с ы л а е т с я К. А., были помещены в сборнике исследований, речей и лекций 1868—1920 гг., выпущенном ГИЗом
в 1923 году под названием «Солнце, ж и з н ь и хлорофилл», часть I I I , под
Но знаем ли мы в точности, при каких условиях образуется
хлорофилл в растении? Физиологи довольно тщательно изучили эту сторону вопроса. Необходима обильная азотистая
пища: растения, получившие азотистые удобрения, резко,
на глаз, даже в поле отличаются ярким зеленым цветом, как
мне самому случалось особенно ясно наблюдать это на известной Ротгамстедской опытной станции. Затем, необходимо доставить растению железные соли. Это доказывается опытом,
одним из самых простых и изящных физиологических опытов,
принадлежащим Кнопу. Стоит приготовить искусственную
почву или раствор, содержащие все питательные вещества,
в том числе и железо, а рядом другую почву или раствор, отличающиеся только отсутствием железа. В первом случае получится здоровое зеленое растение, во втором—хилое, с листьями
белыми, как почтовая бумага. Смочим эти последние железным
раствором, и они позеленеют.
Кроме этих двух веществ, доставляемых почвой, для образования хлорофилла необходимо еще присутствие кислорода
воздуха. Чтобы доказать это, прорастим в темноте какие-нибудь
семена. Известно, что ростки тогда получаются не зеленые,
а желтые. Разделим полученные таким образом ростки на две
кучки; одни оставим в обыкновенном воздухе, другие заключим
в прибор с воздухом, лишенным кислорода, и вынесем все на
свет. Первые через какие-нибудь четверть часа позеленеют
заголовками: «Искусственный протофиллин (хлорофилл и р а з л о ж е н и е
углекислоты растениями)», «С. R»., 1886 г.; «Бесцветный хлорофилл»,
«Nature», 1885 г . ; «Восстановленный хлорофилл», «Nature», 1886 г. В настоящем издании см. том II. Ред.].-С тех пор мне удалось получить это вещество и из растения. Это последнее исследование помещено в «Comptes
Rendus» за 1889 год (в сборнике «Солнце, ж и з н ь и хлорофилл», часть I I I ,
ГИЗ, 1923 г., помещена под названием «Протофиллин в живом растении»,
«С. R.», 1889 г. В настоящем издании см. том И . Ред.), а самый способ производства опытов подробно показан мною на съезде естествоиспытателей
в Петербурге в том ж е 1889 году. Несмотря на то, пять лет спустя Г. Монт е в е р д е ( н а І Х съезде, в Москве) счел возможным приписать это открытие
себе (см. мою статью в «С. R.». за 1895 г.), и ни один русский ботаник не
возмутился этим дерзким плагиатом. (Статья, на которую выше указывает К. А., была помещена в том же сборнике, изданном ГИЗом в 1923 году,
часть III, под названием «Протофиллин естественный и протофиллин
искусственный», 1895 г. В настоящем издании см. том II. Ред.).
16
К, Л. Тимирязев, т. 1
241
и вскоре получат обычную зеленую окраску; вторые, сколько бы
мы их ни держали на свету, останутся желтыми. Но допустим
к ним кислород, и они немедленно позеленеют1.
Таковы химические условия, при которых образуется хлорофилл. Но мы только что видели, что этого еще мало; необходимо, чтобы были удовлетворены еще известные физические
условия, без чего хлорофилл также не будет образовываться.
К числу этих условий должно отнести два: теплоту и свет.
Зависимость образования хлорофилла от света еще в X V I I веке
доказал ботаник Рей в Кембридже. Если растение, выдержанное в темноте и обыкновенно желтое, вынести на свет, то оно
позеленеет только, в том случае, если будет находиться при достаточно высокой температуре. По наблюдениям Сакса, для
этого нужно обыкновенно более + 5 градусов. При температуре
ниже этой оно не позеленеет, сколько бы времени мы его ни
подвергали влиянию света, как это показал Эльфинг. Наоборот,
как бы благоприятна ни была температура, растение не позеленеет, если будет оставаться в темноте2. Света, однако, для
этого достаточно самого ничтожного; растение начинает зеленеть даже при освещении, недостаточном для чтения крупной
печати. Света газовой горелки или лампы уже вполне достаточно для того, чтобы вызвать появление хлорофилла. Даже
оказывается, что слишком сильный свет вреден, что он замедляет зеленение. Это объясняется уже знакомым нам явлением—
разрушением хлорофилла под влиянием света. Таким образом,
зеленый цвет растения является результатом известного равновесия менаду двумя противоположными процессами, зависящими от света: процессом образования и процессом разрушения
хлорофилла.
Мы узнали, что растение обязано своим зеленым цветом хлорофиллу, что этот хлорофилл имеет вид зернышек, только окрашенных тем веществом, которое извлекается спиртом; познакомились с главнейшим свойством этого вещества, его спектром,
и зависящим от него своеобразным цветом; ознакомились,
1
Опыты эти были произведены молодым, талантливым, рано умершим
русским ботаником Дементьевым.
2
Существуют, впрочем, немногочисленные исключения из этого правила, верного, однако, для громадного большинства растений.
наконец, с химическими и физическими условиями образования
и разрушения этого вещества в растении и вне растения.
Посмотрим теперь, можем ли мы найти какую-нибудь связь
между присутствием хлорофилла и жизненными явлениями
растения.
Исследования Сенебье и уже отчасти Ингенгуза дают самый
определенный ответ на этот вопрос,—ответ, безусловная верность которого подтверждена целым столетием исследований.
Присутствие хлорофилла необходимо для того, чтобы растение
могло разлагать углекислоту. Только зеленые растения, или,
выражаясь точнее, только растения, содержащие хлорофилл,—
хотя бы скрытый, замаскированный другим пигментом (как
во многих наших пестролистных растениях или в морских водорослях),—способны разлагать углекислоту. Сенебье показал,
что и в зеленых листьях именно только зеленая их ткань,
а не другие части, вызывает это разложение. Растения, не
содержащие хлорофилла, как, например, грибы или некоторые
паразиты, углекислоты не разлагают, как не разлагает ее и ни
одно молодое растение, пока оно не позеленеет. Наконец, если
мы сравним между собою различные зеленые растения, то убеждаемся, что, чем зеленее они, тем более разлагают углекислоты.
Словом, с какой бы стороны ни проверяли мы это положение,
везде встречаем его подтверждение. Хлорофилл есть орган растения, в котором происходит самый существенный жизненный
процесс растения—разложение углекислоты, усвоение углерода, сопровождаемое, как мы уже знаем, и усвоением солнечной энергии.
Нечувствительным образом от вопроса, почему растение
зелено, мы уже почти перешли к другому—зачем оно зелено,
то-есть какую роль, какое отправление играет в нем этот
зеленый хлорофилл, и убедились, что роль эта самая существенная, что ни один орган в растительном организме не может
сравниться по важности с хлорофиллом. Я выразился осторожно, что мы почти затронули второй вопрос, и это совершенно верно. Тех фактов, с которыми мы ознакомились, достаточно для того, чтобы ответить, зачем растению нужно присутствие хлорофилла, но они не дают нам ответа на вопрос, нужно ли
для растения, чтобы это вещество было именно зеленого
16*
243
цвета. Факты эти не отвечают нам на вопрос, потому ли именно
хлорофилл полезен, что он зелен, или этот цвет только побочное обстоятельство, случайное совпадение. Только тогда,
когда нам удастся доказать, что именно в зеленом цвете и заключается значение хлорофилла, только тогда мы ответим на
вопрос, зачем растение зелено, то-есть почему ему полезно быть
именно такого, а не иного цвета.
2
Французская поговорка учит reculer pour mieux sauter,
то-есть пятиться для того, чтобы с разбега дальше прыгнуть.
Этим мудрым правилом должен бы всегда руководиться физиолог. Для разрешения своих сложных задач он должен прежде
попятиться—познакомиться с более простыми химическими
и физическими процессами, лежащими в основе изучаемых
им жизненных явлений. Только несоблюдением этого основного
требования можно себе объяснить то неудовлетворительное
состояние, в котором еще находятся многие отрасли физиологии растений.
Прежде всего остановимся на вопросе: эта физиологическая
роль хлорофилла, то-есть его участие в процессе разложения
углекислоты,—связана ли она вообще с его цветом? А вслед
за тем уже зададим себе другой, более определенный вопрос:
могло ли бы это вещество в такой же степени исполнять свою
роль в растении, если бы оно было иного цвета?
Для разрешения этой двойной задачи мы должны, как
только что сказали, на некоторое время покинуть область физиологии растений и вступить в более общую область фотохимии, то-есть того отдела физической химии, который трактует
о химическом действии света и который, как мы заметили ранее, несмотря на значительные технические успехи, еще очень
мало подвинулся с точки зрения своей теории.
Разложение углекислоты светом, очевидно, только частный
случай фотохимического действия, случай самый важный из
всех нам известных, потому что от него зависит существование
органического мира, но до настоящего времени далеко не до-
статочно понятый и известный, главным образом, потому, что
большинство ботаников, бравшихся за его изучение, не обладали необходимыми для того знаниями физики, а химики и физики недостаточно знакомы с фактами, уже приобретенными
в ботанике1.
Фотохимия пока еще очень бедна определенными, точными
законами, но, тем не менее, они уже начинают выясняться из
прежнего нестройного хаоса фактов. Первый закон, в настоящее время не подлежащий сомнению, тот, что не существует,
как еще недавно полагали, каких-либо особых химических
лучей, а что, напротив, все лучи спектра, как видимые, так
и невидимые, простирающиеся по обеим сторонам видимого
спектра, в известных случаях способны вызывать химическое
действие. Теперь в этом уже никто не сомневается, но еще не
так давно существовало убеждение, что химическое действие
вызывают только лучи синие, фиолетовые и так называемые
ультрафиолетовые, то-есть невидимые, лежащие за фиолетовым концом спектра. Это мнение возникло из того факта, что
внимание химиков и физиков было сосредоточено исключительно на небольшом числе химических явлений, вызываемых
светом, и, главным образом, на тех явлениях, которые лежат
в основе искусства фотографии, то-есть на явлениях химического разложения, вызываемого светом в хлористых, бромистых
и иодистых солях серебра. Кто заглядывал в темную комнату
фотографа, знает, что фотограф может производить свои обыкновенные операции только при желтом свете, то-есть при свете
фонаря с желтым стеклом; в этом желтом свете отсутствуют
синие, фиолетовые и ультрафиолетовые лучи, вызывающие
фотографическое действие. Еще нагляднее то же явление зависимости известного химического действия от синих и прочих
лучей можно показать при помощи реакции соединения хлора
с водородом. Эти два газа под влиянием света соединяются
1
Как н а доказательство справедливости этих слов, могу у к а з а т ь на
«Lehrbuch der allgemeinen Chemie» (Учебник общей химии) Оствальда.
Книга эта считается лучшим трактатом по физической химии, а между тем
параграфы, посвященные этому вопросу, указывают на недостаточное
знакомство автора с литературой предмета и на отсутствие критической
оценки приводимых фактов.
с сильным взрывом. Всего нагляднее производится опыт следующим образом: под черным сукном находится стеклянная
клетка, четыре стороны которой состоят из разноцветных стекол: первое—красное, второе—желтое, третье—зеленое, четвертое—синее. Под клеткой—стеклянная трубочка со смесью
хлора и водорода. Если поднять сукно со стороны красного
стекла и поднести зажженную проволоку магния, никакого
результата не оказывается. Повторяют то же, поднося горящий
магний последовательно к желтому и зеленому стеклу,—результата нет. Но как только поднесут горящую проволоку
к синему стеклу, раздается взрыв, подобный пистолетному
выстрелу, и если поднимем теперь клетку, то увидим, что под
ней не осталось и следа стеклянной трубочки,—она разбилась
в мельчайшие дребезги. Вот эти-то и подобные им случаи привели первоначально ученых к убеждению, что только половина
спектра, проходящая через синее стекло (то-есть лучи синие,
фиолетовые и темные за их пределом), вызывает химическое
действие; желтая же его половина, проходящая через желтое
стекло (то-есть зеленые, желтые, красные и темные за их пределом), неспособна его вызывать. Но позднее целый ряд явлений вынудил отказаться от этого воззрения. Стоит указать на
самый разительный пример. Мы только что говорили, что фотографическое действие обыкновенно обнаруживается исключительно в синей половине спектра, но новейшие успехи фотографии доказали возможность фотографировать и при помощи
зеленых, желтых и красных лучей. Мало того, известный английский теоретик — фотограф Абней достиг того, что мог сфотографировать в совершенной темноте котелок с горячей водой.
Следовательно, даже те невидимые лучи, которые испускаются
в темноте нагретым телом, могут уже, при известных условиях,
вызывать фотографическое действие. Значит, не существует
специальных лучей, которые исключительно вызывали бы химическое действие, и эту роль совершенно напрасно долго приписывали только синим, фиолетовым и тому подобным лучам.
Но, пока были в этом убеждены, считали очевидным, что от
этой ?ке синей половины спектра (условимся ее так называть
для краткости) должно зависеть и разложение углекислоты.
Это мнение высказывали в сороковых годах Дюма и Буссенго
и несколько позднее—Гельмгольтц; это воззрение можно было
встретить в химических и физических сочинениях еще недавно,
несмотря на то, что уже в тридцатых и сороковых годах два
ученых, англичанин Добэни и американец Дрэпер, доказали,
что разложение углекислоты зависит от другой половины
спектра, — будем ее называть желтой, — то-есть именно от
того желтого света, который не оказывал действия в фотографии.
Когда убедились в невозможности установить аналогию
между разложением углекислоты и фотографическим действием
света, обратились за сравнением в другую сторону,—прибегли
к другой и, как оказалось, еще менее удачной аналогии. Не действует ли свет на растение именно как свет, то-есть так, как он
действует на глаз? не будут ли наиболее действительными именно
те лучи, которые представляются и глазу наиболее яркими?
Известно, что относительная яркость различных лучей возрастает, начиная с красного конца спектра, достигает наибольшей силы в желто-зеленой части и оттуда снова убывает к синефиолетовому концу. Самыми яркими, следовательно, представляются желто-зеленые лучи, и если свет разлагает углекислоту
в силу своей яркости, то именно эти лучи должны оказывать
наибольшее действие. Дрэпер предпринял ряд опытов и полагал,
что ему удалось доказать справедливость этого предположения,
что разложение углекислоты зависит от яркости света и происходит всего сильнее в желто-зеленой части, быстро ослабевая
к обоим концам спектра, то-есть как в сторону красной, так
и в сторону сине-фиолетовой части.
Это мнение господствовало в науке более четверти века,
то-есть до 1869 года, когда, убедись в его теоретической несостоятельности, я доказал на опыте его фактическую неверность.
Нетрудно убедиться в теоретической несостоятельности этого
воззрения. Именно его я имел в виду, говоря несколько выше
о том, как опасны при изучении жизненных явлений растения
слишком поспешные аналогии с явлениями животной жизни.
В самом деле, понятие о яркости света чисто субъективное, вне
глаза, в природе не имеющее смысла. Даже различные глаза
выносят совершенно различные впечатления об относительной
яркости цветов,—стоит вспомнить дальтонистов, глаза которых
нечувствительны к известным цветам; мало того, всякий нормальный глаз после приема сантонина 1 становится менее чувствителен к синему цвету. Итак, световое, в тесном смысле слова,
напряжение лучей, или их относительная яркость, в природе,
помимо глаза, не существует; это—только субъективное впечатление нашего зрительного аппарата, откуда совершенно нелогично ожидать, чтобы это свойство играло роль в объективных явлениях внешнего мира—в химическом процессе, совершающемся в растении. Для растения света, как света, не существует, а следовательно, и не существует степеней яркости.
Прилагая к растению наши представления о свете, мы впадаем
в невольную, но, тем не менее, грубую логическую ошибку, по
привычке, безотчетно перенося известные понятия из одной
области явлений в другую, к которой они совсем неприменимы.
В упомянутом исследовании я не только доказал неверность
результатов Дрэпера, но и объяснил причину его ошибки,
а своими опытами показал, что главное действие на разложение углекислоты оказывают не самые яркие, желтые, как утверждал Дрэпер, а гораздо менее яркие—красные лучи. Позднее
Бонье подтвердил ту же мысль очень наглядным образом; он
показал, что невидимые для глаза ультрафиолетовые лучи,
сконцентрированные собирательным стеклом, могут, хотя
и очень слабо, разлагать углекислоту в растении—значит,
между яркостью и даже видимостью света и его действием на
разложение углекислоты, как и следовало ожидать, не существует никакой связи.
Итак, разложение углекислоты зависит не от тех лучей,
которые действуют в фотографии, и не от тех, к которым особенно чувствителен глаз, а от лучей красных и смежных с ними
оранжевых. Но если различные лучи спектра вызывают различные химические явления, то от чего же зависит, что в одном
случае действуют одни лучи, в другом—другие,—в фотографии
синие, в растении красные? Очевидно, что причину этого различия должно искать в природе самого изменяющегося, или,
как выражаются, чувствительного к свету, вещества. Здесь выясняется второй основной фотохимический закон. От природы
1
Вещество, получаемое из так называемого цытварного семени.
самого тела, то-есть от его цвета, зависит, какого рода лучи
будут оказывать на него действие. В тридцатых годах Гершель,
а еще ранее Гротгус высказали основное правило, что действовать могут только лучи, поглощаемые данным телом. А если
эти лучи поглощаются, потухают, то, очевидно, они будут отсутствовать в том свете, который пропускается или отражается
этим телом,—этот свет будет цвета суммы остальных лучей
спектра, то-есть цвета дополнительного. Так, например, если
тело желтого цвета, то это значит, что лучи дополнительного
цвета, то-есть синего, поглощены телом, и мы должны ожидать,
что именно зти лучи будут действовать на него химически,
и т. д. Правило это очевидно само по себе; оно вытекает как
необходимое следствие из закона сохранения энергии. Световая энергия, производящая работу, должна затрачиваться,
следовательно, исчезать как свет; те же лучи, которые прошли
через тело и вышли из него не затрачиваясь, очевидно, не могли
и произвести химической работы. Утверждать противное, значило бы отрицать закон сохранения энергии, и, однако, подобные заявления могут еще встречаться в ходячих ботанических
сочинениях1.
Таким образом, зная цвет тела, мы можем вперед сказать,
какие лучи будут вызывать в них химические изменения,
какие не будут. Если тело желтое, оно будет разлагаться синими и смежными с ними лучами; если оно синее, то на него
будет, наоборот, действовать желтая половина спектра. Пример
этого правила мы только что видели: хлор—газ желтого цвета,
потому и соединение его с водородом зависит от лучей дополнительного цвета, то-есть синих. Но еще точнее узнаем мы,
какие лучи действуют, изучая спектр тела. Если мы перед спектроскопом поставим раствор какого-нибудь цветного тела, то
на месте тех лучей, которые задерживаются, поглощаются этим
телом, в спектре получаются перерывы, темные полосы,—это
полосы поглощения. Зная положение этих полос, мы можем
вперед сказать, что именно в этих лучах спектра должно
1 Например, Детмер, развивая теорию Сакса о роли света в явлениях
гелиотропизма (то-есть влияния света на искривления растений), утверждает, что свет мог бы действовать в абсолютно прозрачном теле, то-есть
вовсе не поглощаясь.
ожидать химического действия света. Это правило особенно убедительно оправдалось по отношению к растению. В 1873—1875 гг.
при помощи исследования процесса разложения углекислоты
листьями в спектре—исследования, в котором мне удалось
избежать ошибок предшествовавших (и последующих) наблюдателей,—я мог объяснить результаты, полученные мною, как
мы видели, еще в 1869 году, то-есть объяснить, почему именно
разложение происходит всего сильнее в красной части спектра.
В этой части спектра хлорофилла лежит самая черная, самая
характеристическая его полоса поглощения. Мы можем в этом
убедиться и под микроскопом, если получим в поле микроскопа
маленький спектр. Зерно хлорофилла, прозрачно-зеленое в зеленой части спектра, становится черным, как уголь, как только
мы его передвинем в известную полосу красной части спектра.
Эти лучи хлорофилл поглощает; эти лучи он и затрачивает на
разложение углекислоты в живом растении, и при этом, чем
сильнее поглощение, тем сильнее разложение. Но, как мы
видели, своеобразный зеленый цвет хлорофилла от того и происходит, что он поглощает известные лучи,—значит, зеленый
цвет и есть то свойство, которое определяет отправление хлорофилла. Значит, мы нашли звено, связывающее цвет растения
с его главным отправлением—его способностью разлагать углекислоту при помощи света. Зеленый цвет и усвоение углерода
растением не два эмпирически только связанные факта, как
это тщетно пытаются еще утверждать некоторые ботаники, а два явления, находящиеся в необходимой, вполне
нам понятной и точными опытами доказанной причинной
связи1.
Но, строго говоря, высказанная в такой форме эта связь
между поглощением света хлорофиллом и действием света на
углекислоту представляет еще логический пробел. Когда мы
1
Позднее мне удалось доказать тот же факт и еще иным способом.
См. мою книгу «Усвоение света растением» и статью в «Comptes Rendus»
Французской академии 23 июня 1890 года. (Ссылка К. А. относится к сборнику «Солнце, ж и з н ь и хлорофилл», изд. ГИЗ, 1923 г.; статья из «С. R.»
Французской академии была помещена в нем под заглавием «Фотографическая регистрация усвоения углерода хлорофиллом на живом растении».
В настоящем издании см. том. II. Ред.).
видим, что желтый, следовательно, поглощающий синие лучи
хлор под влиянием этих самых лучей вступает в реакцию,
смысл этой связи нам понятен, но еще спрашивается, какая
связь между цветом хлорофилла—одного тела и разложением
углекислоты—совсем другого и к тому же бесцветного тела?
Аналогия пока, очевидно, еше не полная. Этот пробел, этот
скачок мысли был заполнен успехами новейшей фотографии,
почему, вслед за открытием этих фактов в фотографии, я и поспешил указать на их важное значение для физиологии растений.
Фогель открыл любопытнейший факт, сделавший переворот
во всей практике фотографии. Если к обыкновенным фотографическим препаратам, то-есть серебряным солям, прибавить,
какое-нибудь цветное тело, поглощающее и такие лучи, по отношению к которым серебряные препараты сами прозрачны, то
фотографическое действие обнаруживается и в тех лучах,
которые поглощаются подмешанным цветным телом. Другими
словами, оказывается, что действие света может как-то передаваться от одного тела к другому. Поглощается свет одним
телом, а разлагается другое тело. Движение, сотрясение, сообщенное частицам одного, сообщается и частицам другого. Беккерель показал далее, что таким цветным телом может быть
и спиртовой раствор хлорофилла, и в настоящее время существует даже особый фотографический прием, основанный на
этом свойстве хлорофилла. Но если хлорофилл в фотографическом процессе может передавать действие поглощаемых им
лучей частицам серебряной соли, вызывая ее разложение, то
естественно, что он может оказывать такое же действие и в растении на частицы углекислоты, вызывая их разложение. Все
такие тела, передающие световое действие другим телам, делающие их чувствительными к лучам, к которым сами по себе эти
тела не чувствительны, называются оптическими сенсибилизаторами1. Хлорофилл, очевидно, должен быть отнесен к числу
этих сенсибилизаторов. Благодаря открытию этой роли хлорофилла как сенсибилизатора,оправдалась и та аналогия, которую,
1
В отличие от химических сенсибилизаторов, ускоряющих химическое
действие света, не поглощая последний. Ботаники, как, например, профессор Лепещкин, до сих пор этого р а з л и ч и я не понимают (см. его
«Курс физиологии растений»).
как мы видели, пытались установить, но безуспешно, еще
в сороковых годах Дюма, Буссенго и Гельмгольтц. Эти ученые
полагали, что те же лучи должны действовать и в фотографии
и в растении, но это предположение не оправдалось. Теперь,
как я показал, оно оказывается вполне верным; если сенсибилизатором, чувствительным веществом, в фотографическом
процессе будет хлорофилл, то фотографический процесс будет
зависеть от тех же самых лучей, от которых зависит физиологический процесс в живом листе.
Значит, первый из поставленных вопросов уже нами разрешен: цвет хлорофилла—зеленый цвет растительности—не
случайное, побочное какое-нибудь свойство, а именно то из
физических средств растения, с которым существенно связано
физиологическое его отправление1.
Теперь этот факт нам представляется чем-то даже a priori 2
очевидным, чем-то таким, чего и следовало ожидать: в самом
деле, если главное отправление растительного организма зависит от света, то очевидно, что и главную особенность растения
должно искать в его оптических свойствах.
Значит, важнейшее из отправлений растения находится
в прямой связи с его цветом, но из этого еще не следует, что
этот цвет должен быть именно зеленый. Вопрос, таким образом,
еще суживается и сводится к следующему: могло ли бы растение быть и какого иного цвета, или этот именно зеленый
цвет, то-есть, выражаясь точнее, этот именно характеристический спектр хлорофилла, представляет особое для него
значение.
Лучи, поглощаемые хлорофиллом, то-есть соответствующие
черной полосе в его спектре,—отличаются ли они чом-нибудь
от остальных лучей спектра, и может ли отличающее их
1
Этим я не хочу сказать, чтобы и другие, например, химические,
свойства хлорофилла не играли роли в его отправлении, а только желаю
указать на то, что оптическому свойству, цвету, следует приписать существенную роль, определяющую самое отправление его. В пигменте крови,
например, цвет является свойством побочным, сопровождающим, а не
определяющим его отправление.
2
Заранее, то-есть на основании чего-нибудь уже установленного,
доказанного.
качество послужить ключом для объяснения их роли в процессе разложения углекислоты?
До сих пор мы рассматривали, от какого свойства тел зависит их способность разлагаться под влиянием света; теперь
посмотрим, от какого свойства самого луча зависит его способность вызывать это разложение. Мы уже видели неудачу и логическую несостоятельность попытки найти связь между этой
способностью лучей и их яркостью. Оставалось другое объяснение, то, которое я высказал еще в 1869 году и которое,
несмотря на его прямое противоречие с известными тогда эмпирическими фактами, оказалось совершенно верным. Случай
сам по себе назидательный. В науке, особенно в физиологии
растений, нередко существует какой-то суеверный страх перед
тем, что -величают названием факта. Теория, самая очевидная,
отбрасывается в сторону, как только на ее пути становится
самый ничтожный факт. Не дают себе труда пристально вглядеться в этот факт; не разбирают, что в этом факте фактического
и что составляет только толкование наблюдателя. Забывают,
что всякая теория (я разумею серьезную научную теорию,
а не те, лежащие за пределом опыта фантастически трансцедентные построения, какими изобилуют произведения современных
немецких физиологов)—забывают, говорю, что всякая научная
теория не только факт, но и совокупность многих фактов,
а свидетельство многих всегда заслуживает большего доверия,
чем свидетельство одного. Теория, то-есть совокупность наших
знаний о химических явлениях, заставляла предполагать, что
разложение углекислоты как явление, сопровождаемое энергическим поглощением тепла, будет зависеть именно от теплового напряжения лучей. Но, когда я приступил к изучению
этого вопроса, против такого предположения говорили решительно все факты. Ботаники утверждали, что разложение углекислоты зависит от желтых лучей, а физики принимали, что
наибольшим тепловым напряжением обладают темные, невидимые лучи, лежащие за красным концом спектра.)Ботаникам
я возражал, что их факты основаны на экспериментальной
ошибке, и произведя точное исследование, избежав этой ошибки,
действительным фактом доказал, что самое энергичное разложение углекислоты вызывается не желтыми, а красными
лучами. Физикам я напоминал, что господствующее воззрение,
будто наибольшим тепловым напряжением обладают темные
лучи, основывается на недоразумении, что на основании имеющихся в науке данных еще нельзя заключить, какие лучи, или,
точнее, какие световые волны, обладают наибольшим тепловым напряжением, то-есть в состоянии вызвать наибольший
тепловой эффект. Я утверждал, что это еще открытый вопрос
и что обладающими наибольшим тепловым напряжением могут
оказаться именно те красные лучи, которые, поглощаясь хлорофиллом, вызывают разложение углекислоты. Появившиеся
почти десять лет спустя исследования американского физика
Ланглея и английского — Абнея вполне подтвердили верность
моего предположения. Но для того, чтобы объяснить, как могло
случиться такое коренное изменение в воззрениях физиков,
полезно несколько ближе, хотя, по необходимости, очень кратко
и поверхностно, разъяснить сущность дела. Для разрешения
вопроса, какой световой волне сботвѳтствует наибольший тепловой эффект, мы должны белый луч света разложить на его
составные части—волны различной длины, из которых он состоит, то-есть получить спектр. Спектр можно получить двумя
путями: при помощи призмы или при помощи так называемых
решеток. В последнем случае заставляем луч проходить через
стекло, покрытое тончайшими штрихами, или заставляем его
отразиться от зеркальной металлической поверхности, также
изборожденной параллельными тончайшими штрихами. Подобная решетка, изготовленная под руководством американского
физика Роланда и представляющая одно из чудес современной
механической техники, на протяжении каждого дюйма имеет
14 500 штрихов. Отраженный от нее луч дает в середине белое
изображение щели, через которую пропущен этот луч, и по обе
стороны ряды блестящих спектров, яркость которых убывает
по мере удаления от этого среднего изображения щели. Рядом
с этим спектром решетки, или нормальным, как его называют
физики, отбросим на тот же экран спектр, полученный при
помощи призмы. Прежде всего мы увидим, что призматический
сиектр, полученный от того же источника света, через ту же щель,
гораздо ярче, чем любой из нормальных спектров,—что и понятно, так как то же количество света, которое дает здесь один
спектр, там пошло на образование целого ряда спектров. Но,
присматриваясь внимательнее, мы заметим, что спектр нормальный и спектр призматический представляют не только различие в яркости, но и следующее качественное различие. Между
тем как в спектре нормальном красная часть почти так же широка, как и синяя, в призматическом красная сравнительно
узка, а синяя очень широка, очень растянута. Это значит, что
сноп цветных лучей, ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ призмы, рассыпается не во
всех своих частях в одинаковой степени, а в синей части гораздо
сильнее, чем в нормальном спектре, в красной, наоборот, слабее. Постараюсь пояснить сравнением. Представим себе сделанный из черной и цветной бумаги веер. Слева черная бумага—
это, положим, темные тепловые лучи, затем идут по порядку
слева направо, как в спектре, цвета: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый и опять черная
бумага, изображающая невидимые лучи другого конца спектра,
то-есть ультрафиолетовые. Веер сделан так, что, когда он распущен равномерно во всех частях, протяжение различных цветов
соответствует их протяжению в спектре нормальном; таков,
следовательно, сноп лучей, образующих на экране спектр нормальный. Для того, чтобы подражать тому снопу лучей, который выходит из призмы, я должен значительно собрать красную часть моего веера (и смежную с ней черную) и, наоборот,
распустить синюю и фиолетовую (и смежную с ней черную) его
части. Какую бы мы ни взяли решетку, какой бы спектр мы ни
исследовали, такой ли, который образован лучами, прошедшими через стеклянную решетку, или такой, который образован
лучами, отразившимися от зеркальной решетки,—относительное протяжение различных частей спектра будет одно и то же.
Наоборот, относительное протяжение частей спектра призматического будет изменяться с изменением вещества призмы.
В первом лучи располагаются только в зависимости от их природы (длины волны), во втором же—еще в зависимости от природы призмы,—отсюда первый и получил название нормального.
Всякий призматический спектр отличается от нормального
тем, что вследствие влияния призмы лучи красной (и смежной
темной) части более сближены, скучены, лучи же синей (и смежных) части более растянуты,рассеяны, чем в спектре нормальном.
Отсюда понятно, что, если мы желаем узнать тепловое действие отдельных световых лучей, то мы не можем для этого пользоваться спектром призматическим,—все равно, как мы не
могли бы определить количество труда, произведенного отдельным рабочим, зная только совокупный труд целых артелей и не
обращая внимания на то, сколько в каждой из них находится
рабочих. До самого недавнего времени физики изучали распределение тепла только в призматическом спектре, и в нем наибольшее нагревание наблюдалось в темной части за красным
концом, но, как мы теперь знаем, не потому, чтобы эти лучи
вызывали сами по себе большее нагревание, а потому, что они
здесь более скучены. Когда, благодаря усовершенствованию
приемов исследования (изготовлению решеток, изобретению
новых приборов для измерения малых разностей температуры
и пр.), стало возможным изучить распределение тепла в спектре
нормальном, тогда и обнаружилось, как я предсказывал,
что наибольшее нагревающее действие оказывают волны красного цвета и именно того красного, который поглощается
хлорофиллом1.
Таким образом, как и следовало ожидать на основании теоретических соображений, разложение углекислоты вызывается
теми лучами спектра, теми световыми волнами, которые вызывают наибольшее нагревание. Не теория разбилась о враждебные факты, а неверные факты подчинились верной теории.
Факт зависимости фотохимического действия от тепловой энергии луча, повидимому, применяется не к одной углекислоте.
По всей вероятности, мы должны видеть в нем третий основной закон фотохимии, что действие луча зависит от его
энергии2.
Эта зависимость разложения углекислоты от энергии луча
может быть выражена в еще более наглядной и поразительной
форме.
1
То же самое достигается и путем вычисления на основании точных
определений тепла в спектре призматическом.
2
См. мою статью «Фотохимическое действие крайних лучей видимого
спектра». «Труды Физического отделения Общества Любителей Естествознания», т. V. (В сборнике «Солнце, ж и з н ь и хлорофилл», Г И З , 1923,
часть I I I ; в настоящем издании см. том II. Ред.).
Физика учит нас, что свет есть не что иное, как волнообразное движение. Волны света, ударяясь о тела, вызывают
в них то движение частиц, которое мы называем теплотой.
Когда это сотрясение частиц тела достигнет известного предела,
оно может иметь еще более глубокие последствия: будет нарушаться связь менаду составными частями химических соединений, наступит разложение этих соединений. Но какие же
волны, всего вероятнее, будут вызывать это разрушение? Мы
знаем, что буря тем опаснее, чем выше валы, чем учащеннее их
удары. Оказывается, что то же буквально верно и в применении
к действию света на разложение углекислоты. Физикам давно
была известна длина световых волн, скорость их распространения, а следовательно, и число волн в секунду, но только после
упомянутых уже исследований о распределении тепла в нормальном спектре явилась в первый раз возможность определить
их относительную высоту (или, выражаясь научным языком,
их относительную амплитуду). Сделав такое вычисление,
я получил поразительный результат, что самые высокие волны
оказываются именно в той красной части спектра, которая вызывает самое энергичное разложение углекислоты, то-есть в той
части, которая поглощается хлорофиллом. Таким образом,
оказывается, что растение опередило открытие физиков; из
бесчисленных световых волн, бегущих от солнца и ударяющихся
о поверхность нашей планеты, оно улавливает своими хлорофилловыми зернами именно те, которые обладают наибольшей
высотой и вследствие этого наиболее способны вызывать химическое действие—разложение углекислоты.
Значит, лучи, поглощаемые хлорофиллом, отличаются от
всех остальных наибольшею пригодностью для потребностей
растения. Значит, хлорофилл не выполнял бы своего отправления с таким же совершенством, если бы поглощал не те лучи,
которые поглощает. Значит, отправление хлорофилла прямо
зависит от его своеобразного спектра, то-есть, другими словами,
от его характеристического зеленого цвета. Мы получаем, следовательно, вполне определенный ответ на наш вопрос. Зеленый цвет не случайное только свойство растения. Оно зелено
потому, что от этого именно цвета зависит его важнейшее отправление. В зеленом цвете, этом самом широко
распространенном
17 К. А. Тимирязев, т. 1
257
свойстве растения, лежит ключ к пониманию главной, космической роли растения в природеЧ
Можем ли мы, однако, вполне удовлетвориться этим ответом?
Может ли физиолог сложить руки, почесть свою задачу исчерпанной? Сказано ли этим последнее слово о хлорофилле? Конечно, нет. Потребуются еще поколения ученых, быть может,
второе столетие, пока будет сказано это последнее слово. Но
что же будет означать это последнее слово? А вот что: физиологи выяснят в малейших подробностях явления, совершающиеся в хлорофилловом зерне, химики разъяснят и воспроизведут вне организма его процессы синтеза, имеющие результатом образование сложнейших органических тел, углеводов
и белков, исходя из углекислоты; физики дадут теорию фотохимических явлений и выгоднейшей утилизации солнечной
энергии в химических процессах; а когда все будет сделано,
то-есть разъяснено, тогда явится находчивый изобретатель
и предложит изумленному миру аппарат, подражающий хлорофилловому зерну,—с одного конца получающий даровой воздух и солнечный свет, а с другого, подающий печеные хлебы.
И тогда всякому станет понятно, что находились люди, так
настойчиво ломавшие себе головы над разрешением такого,
казалось бы, праздного вопроса: почему и зачем растение зелено?
Но единственная ли это будет польза, которую принесут
эти вековые исследования? Точно ли в одних открытиях, увеличивающих материальное благосостояние, сумму жизненных
удобств, заключается высшее оправдание и доказательство полезности изучения природы? Так думают, конечно, только те,
кого не коснулась эта строгая школа, эта высшая дисциплина
человеческого ума. Не так думал Сенебье, о котором мы так
часто упоминали. В его научной деятельности есть еще замечательная черта. Занимаясь исследованием частных явлений,
делая свои открытия, он никогда не упускал из виду методологической стороны экспериментального изучения природы, как
1
Достойно удивления, как мало еще известно это важное значение
зеленого цвета растений. Даже такой выдающийся ученый, к а к Уоллес,
в своей книге «Darwinism - говорит, что" зеленый цвет растений—такой же
простой факт, к а к и цвет минералов, и, очевидно, никакого биологического
значения не имеет.
высшей практической школы логики. Первым его литературным
произведением было появившееся в 1767 г. исследование, под
заглавием: «Essai sur l'art d'observer et de faire des expériences», 1
излагающее общие приемы исследования природы, поясненные
многочисленными примерами из классических трудов знаменитых натуралистов. Сделавшись сам блестящим исследователем,
он снова возвращается к излюбленной теме, но на этот раз
небольшая книга разрастается до трех томов. «Более четверти
столетия самостоятельных исследований,—говорит он в предисловии,—отделяют эти два издания и ручаются за большую
врелость высказываемых мыслей; действительно, производя все
свои отдельные исследования, я никогда не терял из виду их
отношения к общим методам научного исследования,—мысль,
которая едва ли часто приходит в голову исследователям, всецело поглощенным интересом задачи». Конечно, чтение этой
книги в настоящее время не представляет такой пользы, как
изучение позднейших и более талантливых произведений Гершеля, Милля, Клода Бернара и др., но, тем не менее, она содержит много полезных и светлых мыслей. Особенно симпатична
заключительная глава, где Сенебье, как позднее Кювье, обращаясь к молодому поколению, увещевает учащихся,—независимо от того, для какой практической деятельности они себя
готовят,—закалить свой ум, воспитать в себе чувство правдивости в этой школе изучения природы, где мысль на каждом
шагу контролируется фактом, где человек вернее, чем в какой
иной области знания, научается высшему из искусств, искусству,
равно необходимому и в науке и в жизни,—искусству искать
и находить истину.
1
Об искусстве наблюдать и делать опыты.
РАСТЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СИЛЫ 1
Р А З В Е ЗАРОНИЛСЯ
ВТУНЕ ХОТЬ ЕДИНЫЙ
СОЛНЦА ЛУЧ НА ЗЕМЛЮ?
ИЛИ НЕ возник он,
В НЕЙ П Р Е О Б Р А Ж Е Н Н Ы Й ,
В ИЗУМРУДНЫХ
листьях
ЩЕРБИНА
В
сякому известно и не только известно, но и вполне понятно, что, если человек будет голодать, то он похудеет. Этот
факт не только общеизвестен, но и общепонятен, потому что путем простейшего рассуждения легко логически связать
эти два явления—исхудание с отсутствием пищи. Тело человека,
как все на свете, изнашивается, расходуется; этот расход покрывается пищей.
Нетрудно себе представить, что вещество пищи превращается
в вещество нашего тела, хотя, быть может, пройдет еще много
времени прежде, чем наука объяснит все подробности этого
превращения.
1
Публичная лекция, читанная в И. Техническом обществе в С.-Петербурге в 1875 году.
2G0
Не менее известна, но уже далеко не так понятна, другая
сторона действия пиши, другое ее влияние на организм. Отсутствие или недостаток пищи вызывает упадок сил. Голодное
животное, голодный человек бессильны. С пищей возвращается
и сила. Пища подкрепляет. Чем значительнее работа, которую
производит организм, тем более он нуждается в пище. Всякий
знает, что, если лошади предстоит усиленная работа, то этому
можно помочь, увеличив дачу овса. Факт общеизвестен, но для
его объяснения уже недостаточно одной сообразительности.
Итак, мы видим, что пища не только служит для построения
живого механизма нашего тела, но она же приводит в движение
этот механизм. Питаясь, человек или животное не только поддерживают свое тело, что само собою понятно, но и свои силы,
что уже требует пояснения. Спрашивается: какая сила может
быть скрыта в куле овса, в куске хлеба или мяса? Ответ на
этот вопрос далеко не так прост, да и самый вопрос, быть может,
не всякому приходил в голову.
Чтобы получить удовлетворительный ответ на этот вопрос,
необходимо познакомиться со свойствами растительного вещества п с условиями его происхождения. Мы говорим—растительного вещества, так как понятно, что животная пища косвенно происходит из растительной. Мясо—не что иное, как
переработанная животным организмом трава или зерно.
Но прежде чем приступить к нашей задаче, необходимо условиться относительно точного значения некоторых употребленных нами выражений. Во-первых, что мы разумеем под словом
сила? Постараемся выяснить это на нескольких примерах.
Такой способ изложения научных истин, конечно, нельзя
считать самым точным, но зато это самый легкий и скорый
и потому в настоящем случае самый желательный.
Понятие о силе человек выносит из собственного опыта, из
личных своих ощущений. Силой он называет сознаваемую в себе
способность вызывать или останавливать движение или вообще
преодолевать препятствия. Распространяя это понятие на внешнюю природу, он называет силою или силами неизвестные ему
причины явлений, то-есть вообще движения. Познакомимся
с несколькими примерами проявления силы, начиная с наиболее нам знакомой, с силы наших мышц.
Представим себе два шара, удерживаемые в положении С и Ог посредством
\ двух стальных пружин,
а
и
J на которые они насажены
ч-~--/
4 — ^
(рис. 1).
Для того, чтобы раздвиРис. 1
нуть эти шары, привести
их в положение С' и 0 ' 2 ,
я должен сделать усилие, затратить силу. Преодолевая сопротивление пружин, отрывая один шар от другого, я, как
выражаются в механике, произвожу работу. Подобную же
работу я произвожу, когда, подымая тяжесть, преодолеваю ее
стремление упасть на землю, так сказать, отрываю ее от поверхности земли. Поднятие тяжести представляет нам простейший
пример работы; такова, например, работа крючника. Известно,
что в подобной работе истрачивается тем более сил, чем больше
поднимаемая тяжесть и чем больше высота, на которую ее нужно
внести. Поднятие единицы веса, то-есть фунта, пуда, килограмма, на единицу высоты, то-есть фут, метр и пр., служит единицей работы: пудофут или килограммометр будут, следовательно,
единицами механической работы, с которыми мы стараемся сравнить, к которым мы приводим всякую другую работу.
Итак, раздвинув эти шары, я произвел работу и при этом
затратил известное количество силы, которое измеряется производимою работой. Эти шары на пружинах представляют
нечто вроде простейшего динамометра, то-есть прибора, служащего для измерения силы. Но посмотрим, что произошло с нашими шарами. Изменилось их взаимное положение, а вместе
с тем в них появилась возможность приттп в движение без
всякой посторонней силы. Я только отнимаю руки, следовательно, не делаю никакого усилия, и шары приходят в движение и, возвращаясь в прежнее свое положение, с силой
ударяются друг о друга. Очевидно, в том положении,
в которое я привел их своими руками, в них заключается
сила, которой в первоначальном положении в них не было;
она находится в скрытом состоянии и в каждый момент готова
обнаружиться в виде движения.
Этот простой пример наглядно показывает нам два различных состояния, два, так сказать, типа силы: силу явную, открытую, активную, проявляющуюся в движении (моей руки, шаров),
и силу скрытую, покоящуюся в виде запаса, одним словом, силу
натянутой пружины. Озираясь вокруг, мы на каждом шагу замечаем подобные же явления: сила падающей тяжести и сила
тяжести, могущей упасть, сила спущенной и сила натянутой
тетивы—вот примеры явной и покоящейся силы; наконец, упавшая тяжесть, свободно висящая тетива не заключает вовсе
силы ни в действии, ни в виде запаса.
Но очевидно, что эти два типа силы существенно между
собою отличны; во втором случае, собственно, нет силы,
а только возможность ее проявления. Для избежания неясности вследствие обозначения одним словом двух различных понятий лучше употреблять более общее выражение — энергия. Под
энергией мы будем вообще разуметь способность тела произвести работу. Но этою способностью, как мы только что видели,
тела обладают или вследствие своего движения или вследствие
своего положения (тяжесть на высоте, наши раздвинутые шары).
Первого рода энергия, то-есть энергия движения, получила
название явной, действительной энергии; энергия же, зависящая от положения тел, получила название
потенциальной,
то-есть энергии в состоянии возможности или напряжения. Таким образом, энергия проявляется в виде движения, таится
в виде напряжения. Оба вида ее взаимно превращаются; наши
шары представляют наглядный тому пример. Явная энергия,
которую я затратил на разъединение шаров, не исчезла, а превратилась в потенциальную энергию, в напряжение пружин.
В таком виде я могу ее запасать, сохранять и затем, когда
понадобится, истрачивать, превращая обратно в явную энергию,
в движение, и притом вдруг или исподволь. Подобный запас
энергии мы делаем каждый день, заводя свои часы; явная энергия заводящей руки превращается в потенциальную энергию
часовой пружины, которая затем исподволь в течение суток
принимает форму явной в движении стрелок. Нечто подобное же
производит человек, делающий запас на старость или на черный
день; он превращает избыток явной энергии, механической или
умственной, в потенциальную с тем, чтобы воспользоваться ею,
расходовать ее, когда истощится его явная энергия. Куда бы
мы ни взглянули, везде в природе мы встречаем те же явления
превращения движения в напряжение и наоборот. Имея постоянно в виду это превращение, мы вскоре убеждаемся, что
энергия вообще не возникает, не исчезает, что она вечна. Другими словами, мы убеждаемся, что все количество работы, которое в каждый момент совершается и может быть совершено
во вселенной силами природы, не прибывает и не убывает,
а пребывает одно и то же. Это самое широкое физическое обобщение, получившее название закона «сохранения силы», или,
правильнее, «сохранения энергии», представляет едва ли не
величайшее научное приобретение X I X века.
Нередко представляется случай, где, повидимому, этот закон не оправдывается; кажется, что энергия уничтожается,
движение не превращается в напряжение, а исчезает бесследно.
Именно такой случай мы имеем в наших шарах. Я их разъединяю и затем отпускаю руку; они ударяются, и в этом ударе,
повидимому, расходуется вся энергия, сообщенная им моею
рукой; нет в них более движения, нет и возможности
движения, то-есть напряжения; очевидно, энергия исчезла.
Но это только так кажется. В тот момент, когда шары ударились, когда исчезло движение, возникла, проявилась другая
сила—теплота. Ударившись, шары нагрелись. Доказать это
в настоящем частном случае было бы несколько хлопотливо,
потому что повышение температуры незначительно, но в том,
что тела от удара нагреваются, не может сомневаться никто,
когда-либо высекавший огонь. Примеры этого перехода попадаются на каждом шагу: при сверлении металла металл, стружки
и сверло сильно нагреваются; трением куска дерева о кусок
дерева можно их воспламенить; из-под тормоза быстро остановленного поезда сыплются искры; пуля, ударяясь о твердую
преграду, отчасти сплавляется. Эти явления превращения
механической силы в теплоту давно обращали на себя внимание;
они побудили, например, знаменитого Бойля более чем два
века тому назад высказать мысль, получившую полное научное
развитие только в настоящее время.
«Когда мы вгоняем большой гвоздь в деревянную доску,—
пишет Бойль,—то замечаем, что ему нужно сообщить значи-
тельное число ударов, чтобы заметно нагреть его; но, когда мы
его вогнали в дерево до головки, так что он не может более
подаваться вперед, нескольких ударов достаточно, чтобы сделать
его горячим; пока с каждым ударом молотка гвоздь уходит
глубже и глубже в дерево, мы вызываем общее поступательное
движение всей его массы; но когда это движение будет задержано,
тогда толчок, сообщаемый ударом, не будучи в состоянии вогнать
гвоздь далее или раздробить его, должен расходоваться на
сильное внутреннее сотрясение частиц, а из подобного движения,
как мы видим, состоит теплота».
Современная физика действительно учит, что теплота—не
что иное, как весьма быстрое, невидимое, но ощущаемое
нами сотрясение частиц тела. Таким образом, движение моей
руки чрез посредство видимого движения шаров превратилось
в невидимое движение частиц шаров. Это движение, то-есть
теплота, сообщилось сначала ближайшим телам и затем,
распространяясь далее и далее, рассеялось в пространстве.
Рассеялось, но не уничтожилось. Сила, затраченная мною на
разъединение шаров, не исчезла бесследно. В конечном результате, произведя эту работу, я согрел вселенную на неуловимую,
неизмеримо малую величину, но все же согрел. Целый ряд исследований показал, что при этом превращении механической
работы в теплоту или, наоборот, теплоты в механическую работу
наблюдается постоянное строго количественное соотношение.
Известное количество механической работы, превращаясь,
дает начало одному и тому же количеству теплоты, и наоборот.
Величину, выражающую это постоянное соотношение, называют
механическим эквивалентом теплоты. Его определяют различным способом. Вот простейший и самый понятный, хотя и не
самый точный. Он принадлежит известному французскому
ученому Гирну. В общих чертах он состоит в следующем: тяжелый железный молот заставляют падать с известной высоты на
наковальню, на которой лежит кусок свинца; этот кусок свинца
от удара нагревается. За единицу работы, как мы видели, мы
принимаем килограммометр; за единицу тепла принимают
нагревание одного килограмма воды на один градус стоградусного термометра. Зная вес молота и высоту его падения, зная
вес свинца и определив, насколько он нагрелся, обладая,
далее, еще некоторыми данными, о которых здесь излишне
упоминать, можно вычислить, сколько единиц работы затрачено и во сколько единиц тепла они превратились. Точные
определения дают для механического эквивалента теплоты
цифру 427. Эта цифра показывает то постоянное отношение,
в каком теплота превращается в механическую работу или наоборот. Она означает, что единица тепла, превращаясь в работу,
дает 427 единиц механической работы, то-есть может произвести работу, равную поднятию 427 килограммов на один метр
или одного килограмма на 427 метров. Наоборот, затратив
427 единиц механической работы на нагревание воды, мы можем
повысить температуру одного килограмма ее на один градус.
Мы видим много примеров превращения механической силы
в теплоту; примеры обратного также часто встречаются. Паровая машина служит самым разительным тому примером. Теплота, развиваемая сгорающим топливом, превращается через
посредство пара в механическую работу машины. Солнечная
теплота испаряет воду с поверхности земли, заставляет ее подняться на значительную высоту и затем, падая на землю, сбегать
с высот в равнины и океан, производя на пути механическую
работу, например, приводя в движение наши мельницы. Та же
солнечная теплота, вызывая местное нагревание атмосферы,
производит те ужасающие проявления механической силы,
которые мы называем вихрем, ураганом и пр.
Итак, теплота превращается в механическую работу, и наоборот, и при этом превращении сохраняется строго количественное отношение. Но то же справедливо и относительно других
сил природы: света, электричества, химического сродства. Все
они способны ко взаимному превращению непосредственно или
принимая скрытую форму напряжения и затем проявляясь
в ином виде. Только постоянно имея в виду эту возможность
взаимного превращения сил, мы убеждаемся в общей справедливости закона сохранения энергии.
Остановимся некоторое время на соотношении между теплотой и химическим сродством, так как это нечувствительно
вернет нас к поставленному нами вопросу. Современная химия учит, что атомы разнородных тел одарены притяжением
друг к другу и притом в весьма различной степени. Атомы
разнородных тел стремятся друг к другу, как падающие тела
стремятся к земле, как эти шары действием пружин стремятся
друг к другу. Наша модель собственно и должна наглядно
изобразить нам этот химический факт. Шар, означенный буквой С, представляет нам углерод, шар 0 2 —кислород. Атомы
углерода и кислорода стремятся ко взаимному соединению
и при этом образуют углекислоту, в которой на один атом углерода приходится два атома кислорода (С0 2 ). Также атомы водорода (Н) стремятся соединиться с атомами кислорода и образуют воду ( Н 2 0 ) , где на два атома водорода—один кислорода.
Напротив, атомы углерода и водорода одарены сравнительно
слабым притяжением друг к другу и потому, будучи соединены,
при первой возможности стремятся каждый соединиться с кислородом, образуя углекислоту и воду.
При этом соединении атомы так же, как и эти шары, должны
ударяться друг о друга. Но когда тела ударяются друг о друга,
развивается теплота. То же должно оправдываться и относительно ударов атомов. Этот удар, это столкновение частиц
углерода и водорода с частицами кислорода и есть то, что мы
называем горением. Как при ударе стали о кремень проявляются
теплота и свет, так при ударе частиц кислорода воздуха
о частицы углерода и водорода, из которых состоит наш светильный газ или наш керосин, развиваются теплота и свет, наблюдаемые в их пламени. Все различие состоит в том, что в первом
случае мы видим движение, удар, и сопровождающие его явления—свет и теплоту; во втором же только видим эти явления,
о существовании же столкновения заключаем из его последствий. В самом деле, до горения мы имеем углеводород (то-есть
соединение углерода с водородом), светильный газ или керосин,
и кислород,—после горения имеем углекислоту и воду.
Следовательно, каждый атом углерода, водорода или их
соединений находится по отношению к кислороду в положении
шара С' относительно шара 0 ' 2 . Как эти шары, они находятся
в напряженном состоянии, представляют запас скрытой потенциальной энергии, которую мы и называем химическим сродством, или химическим напряжением. В разрозненных атомах
углерода и кислорода мы видим новый пример скрытой энергии
положения, которая при столкновении их, в явлениях горения,
переходит в энергию движения—в теплоту и свет.
Это напряженное состояние атомов, или частиц, углерода,
это стремление их навстречу частицам кислорода не поражает
нас, не бросается нам в глаза в повседневной жизни, потому
что обыкновенно для того, чтобы вызвать это соединение, необходимо сообщить им толчок. Для того, чтобы сжечь кусок
угля, его нужно поджечь, то-есть процесс горения должен ему
сообщиться извне. Но это присущее углероду стремление соединяться с кислородом нагляднее проявляется в явлениях
самовозгорания. Давно было, например, известно, что сопревшее в стогах сено способно само собою загореться, но только
в недавнее время один подобный случай был ближе исследован
в Германии. При раскопке больших куч сена, начало самовозгорания которого обнаружилось выходившим из него дымом,
оказалось, что внутри кучи оно уже совершенно обуглилось,
и что этот рыхлый, блестящий, на подобие графита, уголь
вспыхивал при первом соприкосновении с воздухом. Затем оказалось, что подобный самовозгорающийся уголь может быть
приготовлен искусственно, если обугливать сено в отсутствие
воздуха, например, в запаянной стеклянной трубке. Приготовленный таким образом уголь воспламеняется, как только придет в соприкосновение с воздухом. Эти и подобные примеры
наглядно показывают, что горение, то-есть соединение с кислородом, может происходить само собою, то-есть без предварительного поджигания.
Углерод и водород способны каждый порознь соединяться
с кислородом, развивая при этом теплоту и свет; следовательно,
они представляют нам запас энергии в виде химического напряжения.
Но то же справедливо и относительно соединения углерода и водорода, относительно всякого вообще тела, способного
соединяться с кислородом, то-есть способного гореть. Тела,
из которых состоят растения и животные,—все органические
тела—способны гореть, следовательно, представляют запас
скрытой энергии.
Этим запасом мы пользуемся, сжигая дрова или уголь
в наших машинах. При этом скрытая энергия химического напряжения превращается в явную энергию, в движение частиц,
то-есть теплоту, которая в свою очередь переходит во внешнюю
механическую работу, в видимое движение масс, например,
в движение нашего локомотива.
Но это столкновение атомов углерода и водорода с атомами
кислорода может и не сопрово?кдаться таким очевидным освобождением силы, как в процессе горения; они могут соединяться,
не обнаруживая света, не развивая очень высокой температуры.
Это происходит, когда соединение совершается не вдруг, а медленно, исподволь. Как в том, так и в другом случае количество
тепла, освобождаемого сгоранием известного количества углерода, будет одно и то же; но так как в последнем случае оно
распределяется на более продолжительное время, то оно будет
менее заметно; примером такого тихого горения может служить
дыхание. Все, что дышит, человек или животное, медленно сгорает. В этом нетрудно убедиться, стоит только поставить под
стеклянный колокол горящую свечу или посадить живую мышь
или птицу, и вскоре увидим, что последствия будут одни и те же:
свеча погаснет, животное умрет, а в воздухе, содержавшем
прежде кислород и не содержавшем углекислоты, появится
углекислота, а количество кислорода соответственно уменьшится. Следовательно, углерод всякого животного организма
постоянно соединяется с кислородом воздуха, сгорая в углекислоту. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислоту.
Для покрытия этого постоянного расхода своего тела человеку необходимо принимать новые количества вещества в виде
пищи. Часть пищи играет в организме такую же роль, как топливо в машине, то-есть сгорает, конечно, не прямо, а сначала
превратившись в вещество нашего тела. То, что теряется для
организма как вещество, выигрывается как сила. Мы можем,
говорит знаменитый физиолог Клод Бернар, считать физиологическою аксиомой следующее положение: всякое проявление
деятельности в живом организме необходимо связано с уничтожением части вещества организма. В организме, как в очаге
машины, часть вещества сгорает; при этом обнаруживается теплота или эта теплота превращается в механическую работу,
например, в работу мышц. В одном фунте пшеничного хлеба,
по определению Франкланда, заключается запас скрытой
энергии, равняющийся, приблизительно, 75 ООО пудофутов.
Конечно, организм так же, как и машина, не в состоянии
превратить в полезную работу весь запас энергии, представляемой его топливом, то-есть окисляющимися частями организма;
физиологические опыты показывают, однако, что в этом отношении он далеко превосходит все паровые машины.
#
Мы подвинулись в разрешении поставленного нами вопроса
настолько, что уже знаем, какого рода сила заключается в пище:
это скрытая энергия ее углерода и водорода, всегда готовых
соединиться с кислородом воздуха. Здесь на пути нашего исследования сам собою возникает новый вопрос. Дрова горят,
животные горят, человек горит, все горит, а между тем не сгорает. Сжигают леса, а растительность не уничтожается; исчезают поколения, а человечество живо. Если бы все только
горело, то на поверхности земли давно не было бы ни растений,
ни животных, были бы только углекислота да вода.
Очевидно, в природе должно существовать явление, обратное горению, то-есть превращение веществ вполне сгоревших
в вещества вновь способные к горению. Рядом с образованием
углекислоты должен существовать и обратный процесс разложения этой углекислоты, образованной повсеместным горением.
Первый, кого поразила логическая необходимость существования в природе подобного процесса, был знаменитый Пристли;
но само собою понятно, что эта мысль не могла представиться
ему в такой форме, с такою определенностью, с такою очевидностью, как она представляется нам, и тем более возбуждает
удивление та блестящая дедукция, тот гениальный скачок
мысли, которому мир обязан одним из величайших открытий,
касающихся жизни органического мира. Пристли целым рядом опытов убедился, что продолжительное горение или продолжительное дыхание в ограниченном объеме воздуха делают
этот воздух негодным для дальнейшего горения, для дальнейшего дыхания; свеча в нем тухнет, животное умирает. Таким
образом, рассуждал Пристли, вся атмосфера должна была бы
вскоре сделаться непригодною для горения, для жизни, а
между тем сколько уже веков существует мир, а этого незаметно.
Очевидно, в природе должен существовать процесс, который
этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению? В 1772 году, 18 августа, Пристли сделал следующий опыт: под стеклянный колпак, помещенный над водой, под которым потухла свеча или задохлась мышь,
он ввел растение (мяту) и оставил его несколько времени; растение не только не погибло, но даже продолжало развиваться,
и когда, по прошествии нескольких дней, под колпак была помещена мышь или горящая свеча, то оказалось, что воздух действительно изменился, получил вновь способность поддерживать горение и дыхание. Едва ли когда-либо в какой-либо области знания более простой опыт сопровождался более колоссальным результатом. Одним разом определялись самые характеристические стороны жизни растений и животных и взаимное
отношение двух царств природы. Современники оценили всю
важность открытия Пристли. Королевское общество присудило ему большую Коплейскую медаль, и президент общества,
Прингль, в следующих красноречивых, хотя несколько витиеватых, выражениях пояснил всю громадность заслуги Пристли:
«Это открытие,—сказал он,—убеждает нас, что не существует
бесполезных растений. Начиная с величественного дуба и кончая последнею мелкою былинкою, все полезны для человека.
Если не всегда бывает возможно усмотреть частную пользу
отдельного растения, то во всяком случае, как часть общего
целого, оно участвует в очищении атмосферы; в этом отношении
и благоухающая роза и ядовитая волчья ягода имеют одинаковое
назначение; в самых отдаленных, необитаемых краях света нет
ни одного луга, ни одного леса, которые не находились бы в постоянном с нами обмене; ветер постоянно уносит к ним испорченный у нас воздух, поддерживая их рост и обеспечивая
нашу жизнь».
Растение делает испорченный дыханием воздух вновь
пригодным для дыхания,—вот был вывод из опыта Пристли.
Последовавшее затем открытие кислорода и разъяснение
состава углекислоты дозволили выяснить природу этой связи
между двумя органическими царствами. Животное поглощает
кислород и выдыхает углекислоту; растение поглощает углекислоту и выдыхает кислород, удерживая углерод при себе.
Растение и животное представляют химическую антитезу.
Вслед за тем целый ряд исследований показал, что этот процесс
разложения углекислоты, очищающий воздух, имеет еще другое, даже более важное значение. Его следует рассматривать
как процесс питания растения. Углерод, остающийся в растении, образует его органическое вещество, то-есть служит для
построения его тела. Следовательно, в атмосферной углекислоте
мы должны видеть главнейшую пищу растения, хотя еще долгое время эту роль продолжали приписывать черным перегнойным веществам почвы, но несостоятельность этих воззрений
доказана несомненными опытами. Пристли, однако, пришлось
испытать одно из самых горьких разочарований, какое только
может выпасть на долю ученого. Желая впоследствии повторить опыт, доставивший ему такую громкую и заслуженную
славу, он потерпел неудачу; он не мог получить прежних результатов; растения упорно не хотели разлагать углекислоты,
не выделяли из нее кислорода. Хотя эти неудачи не пошатнули
его собственного доверия к прежним опытам, но, тем не менее,
стало очевидно, что от его внимания ускользнуло какое-то
существенное условие опыта, и потому он не мог его воспроизвести. Это условие, упущенное Пристли, было вскоре открыто
Ингенгузом; но для того, чтобы оценить это открытие по достоинству, остановимся сначала несколько подробнее на природе
самого явления.
Обратимся снова и в последний раз к нашим шарам. Мы
сравнивали химическое соединение или горение с ударом двух
шаров; теплота и свет, при этом освобождающиеся, и служат
мерой сродства или напряжения, то-есть взаимного стремления
этих тел (что у нас представляется натяжением пружин). Для
того, чтобы их вновь разъединить, разорвать связь между ними,
для того, чтобы привести шары в прежнее свободное положение,
нужно, напротив, затратить силу, столько же силы, сколько
освободилось при столкновении. Таким образом, становится
очевидным, что явление, обратное горению, должно сопровождаться не освобождением, не развитием силы, а, напротив,
поглощением, затратой силы. Между тем как соединение, горение, совершаются само собою, разложение, восстановление
требуют участия посторонней силы. Для того, чтобы с?кечь
кусок угля, его нужно только поджечь, и затем он горит уже без
постороннего действия. В некоторых случаях мы видели, что
уголь может даже загореться сам собою, как только придет
в соприкосновение с кислородом воздуха. Напротив того, для
разложения углекислоты или воды нужно подвергать их действию очень высокой температуры. Прежде даже полагали, что
разложение таких прочных соединений невозможно иначе, как
при содействии третьего тела, которое было бы одарено большим сродством к кислороду и отнимало бы его у водорода и углерода. Но в сравнительно недавнее время химики обратили внимание на явления разложения без участия третьего тела, на
явления распадения, или, как их называют, диссоциации. Для
того, чтобы подвергнуть диссоциации углекислоту или воду,
их нужно пропускать чрез раскаленные трубки. Под влиянием
сообщаемого их частицам движения, то-есть теплоты, соединения как бы расшатываются и распадаются на свои составные
начала, которые должны быть удаляемы по мере появления,
иначе они могут вновь соединиться, и мы не получим полного
разложения. Отношение между теплом, выделяемым при соединении, и теплом, поглощаемым при разложении, строго определенное. Сколько единиц теплоты выделяется при сгорании фунта
углерода в углекислоту, ровно столько же единиц должно поглотиться при восстановлении этого фунта углерода из углекислоты.
Этим путем мы прямо приходим к заключению, что разложение углекислоты, совершающееся в растении, должно сопровождаться поглощением теплоты или вообще энергии и что мерой
этого поглощения должно служить количество углерода, отлагающееся таким образом в растении. Но откуда же возьмет растение эту необходимую для него энергию? Само создать оно не
может,—энергия не созидается. Очевидно, оно должно получить
ее извне. Разложение углекислоты в растении может происходить только под условием постоянного притока энергии из внешнего источника. Вот это-то условие и ускользнуло от внимания
Пристли; открытие этого условия составляет заслугу Ингенгуза. Ингенгуз показал, что разложение углекислоты в растении происходит не иначе, как под влиянием солнечного
света. Растения в последних опытах Пристли, вероятно, не
18
К. А. Тимирязев, т. 1
273
получали достаточно света, потому они и не разлагали углекислоты.
Солнце, солнечный луч, и есть та сила, которая расшатывает и разъединяет частицы углерода и кислорода, когда в растении происходит разложение углекислоты. Для непривычного слуха может показаться странным выражение: солнечный луч—сила. Из ежедневного опыта мы знаем только, что
очень приятно погреться на солнце, что порою эта теплота
становится, пожалуй, более, чем приятною, но нужно длинное
сцепление умозаключений и вычислений, чтобы убедить нас,
что это не только сила, но и громадная сила, мало того, что это
почти единственная сила, которою человек пользуется для своих
целей. В самом деле, кроме силы морского прилива, которым
пользуются в нескольких портах Европы и который зависит
от притяжения луны (и солнца), все остальные двигатели, все
остальные источники силы прямо или косвенно зависят от силы
солнечных лучей. Падение воды в реках, движение воздуха
в атмосфере, приводящие в движение мельницы и ветрянки,
обязаны своим происхождением солнцу. Скрытая энергия,
представляемая топливом, как мы только что успели увидеть
и увидим еще подробнее, происходит от солнца. Даже столь
отдаленные, повидимому, явления, как явления электрические,
которыми мы пользуемся для своих практических целей, могут
быть связаны с деятельностью солнца. В вольтовой дуге, получаемой при помощи гальванической батареи, нам светит солнце,
и это нетрудно доказать. Электрический ток, накаливающий
угли, зависит от того, что в батареях окисляется, сгорает известное количество металлического цинка. Но этот цинк не находится в природе в металлическом состоянии, он встречается
в соединении с кислородом, то-есть вполне сгоревшим; для
того, чтобы его раскислить, сделать вновь способным к горению,
нужно отнять у него кислород; этого достигают при помощи
угля, который отнимает у цинковой руды кислород, а сам сгорает в углекислоту. Но этот уголь, древесный или каменный,
произошел в растении из углекислоты, разложенной солнечным лучом. Вот длинный путь, соединяющий луч солнца с лучом
электрического света. Явная энергия солнечного луча, потраченная на разложение углекислоты в растениях, приняла форму
скрытой потенциальной энергии, какою обладает освобожденный из углекислоты углерод; эта потенциальная энергия углерода, в процессе восстановления цинковой руды, перешла
в цинк; углерод сгорел, но получился металлический цинк, способный гореть. В гальванической батарее цинк окислился,
сгорел, и его потенциальная энергия приняла форму явной
в виде электрического тока, который, накалив угли, проявился
в виде света. Такова слояшая цепь превращений энергий, связывающая явления, совершающиеся на земле, с деятельностью
солнца. Но мы мояіем составить себе более определенное понятие о значении солнечного лучеиспускания, сделав примерную
оценку того количества силы, которое доставляется нам солнцем.
Мы можем определить, какое количество единиц тепла солнце
посылает на известную квадратную площадь земли, а зная механический эквивалент теплоты, мы в состоянии выразить
энергию солнечного луча в единицах механической работы. По
вычислениям Мушо, солнечный свет, выпадающий в Париже
в ясный день на поверхность одного квадратного метра, может
в течение восьми или десяти часов производить работу, равняющуюся, примерно, работе одной лошадиной силы. Эриксон
вычислил, что если бы можно было утилизировать всю солнечную теплоту, выпадающую на крыши филадельфийских домов,
то ее было бы достаточно для 5 ООО паровых машин в 20 сил
каждая. Вычисляя далее, какие колоссальные цифры представляет количество тепла, выпадающего на квадратную милю,
он восклицает:
«Архимед при помощи рычага брался поднять мир. Я же
утверждаю, что, концентрируя солнечную теплоту, можно получить силу, способную остановить землю на ходу».
Мушо и Эриксон не ограничились, впрочем, только цифрами:
они представили опыты, наглядно показывающие, какой запао
силы представляют солнечные лучи. Мушо сделал несколько
очень простых приборов, в которых, при помощи одной солнечной теплоты, можно кипятить воду, варить суп и овощи, печь
хлеб; наконец, они сделали несколько паровых и воздушных
машин, приводимых в движение солнцем. Из всех применений
солнечного света, предлагаемых Мушо, едва ли не всего интереснее солнечные насосы для орошения полей. Эти насосы не только
18*
275
действуют даровою силой, но и действуют вполне целесообразно,
то-есть регулируются самою потребностью в воде, так как дают
тем более воды, чем сильнее освещение," а следовательно,—
чем сильнее засуха 1 .
Всего сказанного достаточно, чтобы убедить нас, что солнечный свет представляет могучий источник силы и что эта сила
разлагает в растении углекислоту. Самое растение не в состоянии дать необходимую для того силу; оно служит, если можно
так выразиться, только механизмом, приводом для приложения
силы солнца.
Следовательно, и в физическом, как и в химическом, отношении растение представляет совершенную противоположность
животному. Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь
животного, наоборот, представляет превращение химического
напряжения в теплоту и движение. В одном заводится пружина,
которая спускается в другом.
#
Не следует, однако, думать, чтобы значение солнечного света
стало понятно, как только Ингенгуз открыл факт его участия
в процессе разложения углекислоты. Прошло более полстолетия, прежде чем выработалось настоящее научное, механическое
представление об этом процессе. Этим успехом наука, главным
образом, обязана Майеру и Гельмгольтцу. Между тем как
прежде могла быть речь только о каком-то непонятном благотворном влиянии света, Майер первый ясно высказал мысль,
что солнечный свет при этом не только влияет, но и в буквальном смысле затрачивается, расходуется, поглощается растением,
что живая сила луча при этом превращается в химическое напряжение, что этим запасом солнечной энергии мы пользуемся
в нашем топливе, в жизненных процессах нашего организма
и т. д. Но предоставим лучше ему самому говорить своим несколько витиеватым, но красноречивым, образным языком.
1 См. мою брошюру: «Борьба растений с засухой». Москва,
1893 г.
(В настоящем издании см. том I I I . Red.).
«Природа,—говорит он,—повидимому, поставила себе целью
уловить налету изливающийся на землю свет и, обратив эту
подвижнейшую из всех сил в неподвижную форму, в таком виде
сохранить ее. Для достижения этой цели она облекла земную
кору организмами, которые в течение жизни поглощают солнечный свет и на счет этой силы образуют непрерывно накопляющийся запас химического напряжения. Эти организмы—
растения. Растительный мир представляет склад, в котором
лучи солнца задерживаются и запасаются для дальнейшего
полезного употребления. От этой экономической заботливости
природы зависит физическое существование человечества, и уже
один взгляд на роскошную растительность вызывает инстинктивное чувство благосостояния».
Таким образом, в разложении углекислоты и образовании
органической массы растения мы имеем все условия какогонибудь технического производства. Мы имеем двигатель—солнечный луч, машину, к которой прилагается этот двигатель,—
растение, сырой материал—углекислоту, обработанный продукт—органическое вещество растения.
Рассмотрим поближе самый механизм этого процесса.
Познакомимся прежде всего с источником силы, с солнечным
лучом. Известно, что луч солнечного света или какого другого
белого источника не однороден; он состоит из множества разнородных лучей, отличающихся, между прочим, своим цветом.
Обыкновенно различают лучи семи цветов. Цвета эти—ЦЕвта
радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый. Это разложение белого цвета на его составные семь цветов производится всего проще при помощи стеклянной призмы. Если в оконной ставне на солнечной стороне
сделать небольшое отверстие, то проникающие через него солнечные лучи дадут на полу изображение солнца в виде светлого
солнечного пятна; но если перед отверстием поставить призму
ребром вниз, то изображение переместится на стену, и вместо
круглого пятна получится полоса, окрашенная в только что перечисленные семь радужных цветов: с одного края будет красный,
с другого — фиолетовый. Эта радужная полоса называется спектром. Когда луч белого цвета падает на поверхность какогонибудь тела, он отчасти или вполне поглощается. Если все лучи
будут поглощены телом, то поверхность будет черною; если все
лучи будут отражены в одинаковой степени, то поверхность
будет белою. Если же часть лучей будет поглощена, часть
отражена, то тело будет окрашено в цвет тех лучей, которые,
отражаясь от тела, попадут нам в глаз. То же справедливо и относительно прозрачных тел: если тело поглощает все лучи, оно
не прозрачно, черно; если оно пропускает все лучи, оно вполне
прозрачно, бесцветно, как вода или стекло. Если же тело задерживает одни лучи и пропускает другие, то оно будет окрашено в цвет тех лучей, которые оно пропускает. Если луч,
отраженный от цветного тела или прошедший через цветное тело,
будем разлагать призмой, то, очевидно, получим уже не полный
семицветный спектр, а такой, в котором поглощенные лучи будут отсутствовать.
Подобное явление представляет нам растительность. При
ярком, белом солнечном свете лес или луг представляются нам
зелеными; ясно, что, получая белый свет, отражая зеленый,
лист должен был поглотить, удержать часть полученного света.
Прежде чем делать из этого факта какой-нибудь вывод, посмотрим ближе, от чего зависит зеленый цвет листьев. Какую бы
зеленую часть растения мы ни стали исследовать под микроскопом, мы вскоре убеждаемся, что она сама по себе бесцветна;
она состоит из пузырьков, называемых клеточками, стенки которых прозрачны, как стекло, а наполняющая их жидкость бесцветна, как вода. Но в этой жидкости заключены тельца, или
крупинки, ярко-изумрудного цвета. Эти тельца носят название
хлорофилла или листозелени. Этим крупинкам хлорофилла растение обязано своим зеленым цветом, подобно тому как кровь
обязана своим цветом плавающим в бесцветной пасоке кровяным шарикам. Теперь посмотрим, что станет с лучом солнца,
когда он упадет на поверхность зеленого листа; какие лучи
пройдут через лист, какие задержатся в нем? Для этого стоит
только пропустить луч света через лист и затем разложить
этот луч призмой, и тотчас увидим, какое изменение произойдет в спектре. Те лучи, которые будут отсутствовать в спектре, то-есть те, вместо которых в спектре будут черные промежутки, очевидно, остались в листе, поглотились его веществом. Мы
можем сделать этот опыт еще точнее: так как цвет растения зависит от хлорофилла, мы постараемся изучить поглощение света
хлорофиллом. Хлорофилл можно извлечь из листьев спиртом.
Рис.
г
Всякому известно, что настойка на зверобойных, полынных
и других листьях окрашивается в превосходный зеленый цвет;
это—цвет хлорофилла. Следовательно, вместо почти непрозрачных листьев, мы можем взять для опыта совершенно прозрачный
настой хлорофилла. Этот раствор в стеклянном сосуде мы поместим на пути светового луча и затем разложим этот луч призмой.
Вот какой спектр представит нам луч света, прошедший через
яркий зеленый раствор хлорофилла. Крайние красные лучи
(от А до В; рис. 2) пройдут, не поглощаясь; на месте же самых
ярких красных, оранжевых и части желтых в спектре будет
черная полоса (рис. 2, от В до D)х; зеленые лучи (от D и немного правее Ъ) не будут поглощены, в спектре будет яркая
зеленая полоса; синие и фиолетовые лучи будут также
поглощены. Следовательно, вместо всех семи цветов в спектре хлорофилла мы увидим только полосу тёмнокрасного
цвета и другую—-яркозеленого цвета; обе полосы будут разделены черным промежутком. Из этого мы можем заключить,
что получаемый нами от растения зеленый цвет не чисто зеленый, а смесь зеленого и красного. В справедливости этого
можно убедиться весьма простым и любопытным опытом.
Самое обыкновенное, встречающееся в продаже синее стекло,
1 Рисунок 2 представляет изображение солнечного спектра и спектра
поглощения хлорофилла. Самая черная часть лежит в красной части
спектра. Фотографирование этих спектров до последнего времени представляло значительные трудности. Летом 1893 года мне удалось получить
вполне удовлетворительные фотографии, которые и были мною показаны
на съезде естествоиспытателей и врачей в Москве, в январе 1894 года. Б у к в ы
обозначают т а к называемые фрауенгоферовы линии солнечного спектра.
поглощая зеленые лучи, пропускает часть красных. Понятно,
что если смотреть через стекло на зеленую растительность, то
оно, поглощая посылаемые в наш глаз зеленые лучи, будет
допускать до него только красные. Немецкие оптики воспользовались этим фактом для того, чтобы предложить публике,
под несколько замысловатым названием эритрофитоскопа, довольно забавный инструмент. Это просто синие очки, но стоит
их только надеть, и весь мир представляется «в розовом свете».
Под ясным синим небом развертывается фантастический ландшафт с кораллово-красными лугами и лесами. На этот факт
не мешало бы обратить внимание иным живописцам, нередко
угощающим в своих ландшафтах невозможною, никогда не
виданною малахитового зеленью. По всей вероятности, в этих
неудачных попытках художники стремятся изобразить возможно
чистый зеленый цвет, между тем как цвет растительности
именно смешанный, зелено-красный х .
Но вернемся к нашей цели. Мы желали узнать, какие лучи
света поглощаются растением, и узнали, что хлорофилл поглощает известные красные, оранжевые и желтые лучи, вследствие
чего в его спектре на этом месте появляется черная полоса.
Тот же факт можно проверить над отдельным хлорофилловым
зерном под микроскопом. Вместо того, чтобы прокладывать
спектр на стене, можно при помощи собирательного стекла получить его под микроскопом, и в этом спектре, величиною с булавочную головку, рассматривать крупинку хлорофилла. Мы
тогда увидим, что эта крупинка представится прозрачною зеленою в зеленой части спектра, прозрачною красною в крайней
красной и совершенно непрозрачной, черной как уголь, в тех
красных лучах (обозначенных на рис. 2 буквами ВС), которые
поглощаются раствором. Значит, и живые крупинки хлорофилла
поглощают эти лучи.
1 Не
обладая необходимыми техническими сведениями, конечно,
трудно дать в этом отношении какой-нибудь определенный совет. Из всех
минеральных зеленых красок хромовая зелень всего ближе подходит по
спектру к хлорофиллу, так как ее зеленый цвет состоит из смеси красных
и зеленых лучей. Очевидно только то, что из смеси желтой и синей (спектрально синей) краски нельзя получить зеленый цвет, сходный с зеленью
листвы.
Итак, известные солнечные лучи, упав на растение, или,
точнее, на заключающиеся в его клеточках крупинки хлорофилла, поглощаются, скрываются, перестают быть светом.
Но ведь энергия не исчезает, она может только превращаться,
производить работу, переходя при этом в состояние напряжения.
Какую же работу будут производить эти лучи в растении?
Вспомним, что мы пришли только что к заключению, что солнечные лучи должны производить в растении работу разложения углекислоты. Естественно, рождается вопрос, не будет ли
эта работа происходить именно на счет лучей, поглощаемых
хлорофилловыми зернами? Это предположение приобретает
еще более вероятия, когда узнаем, что хлорофилловое зерно
и есть тот орган, тот прибор, в котором происходит разложение
углекислоты. Уже Пристли заметил, что разложение углекислоты, выделение кислорода, происходит только в зеленых частях растення, то-есть в листьях или в зеленых стеблях. Он мог
даже прямо указать, что это действие принадлежит зеленому
веществу. Если оставить в светлом месте сосуд с водою или каким-нибудь настоем, то на стенках этого сосуда вскоре появляется зеленый налет. Теперь мы знаем, что этот налет состоит из
микроскопических растений, водорослей; во время Пристли
это не было известно, и налет этот так и называли «материей
Пристли». Пристли мог показать, что эта материя выделяет
кислород. Этот опыт уже показывал, что и вне листа или стебля
зеленое вещество разлагает углекислоту, что именно ему следует приписать эти отправления. Но потом возникли новые
сомнения: существуют растения не зеленые и, тем не менее,
разлагающие углекислоту; таковы многочисленные красные,
черные и другие пестролистные растения, в последнее время
более и более завоевывающие наши цветники и оранжереи; таковы также бурые и красные водоросли, населяющие морское
дно. Но и здесь дело объяснилось очень просто. В пестролистных растениях цвет зависит от присутствия в соке клеточек
ярких растворов, которые маскируют, скрывают зеленые зерна
хлорофилла, но под микроскопом эти зерна нетрудно обнаружить. Еще легче обнаружить их следующим образом: стоит
обмакнуть красный или почти черный лист какого-нибудь
Coleus или другого пестролистного растения в слабый раствор
сернистой кислоты, и он тотчас позеленеет. Это зависит от тогоі
что сернистая кислота, обесцвечивая красный раствор, не действует на хлорофилл. Несколько труднее было доказать присутствие хлорофилла в морских водорослях. В них и под микроскопом нельзя было найти зеленых крупинок, все они окрашены
в бурый или красный цвет, но химическим путем можно было
доказать, что эти крупинки содержат зеленый хлорофилл,
только скрытый другим веществом. Впрочем, гуляя по берегу
моря, нетрудно в этом убедиться простейшим наблюдением.
; Выброшенные на берег и разлагающиеся водоросли нередко
представляют все переходы от свойственных им цветов к зеленому; это зависит от того, что в мертвых растениях яркие
цветные вещества вымываются водой, между тем как хлорофилл не растворяется. Итак, разложение углекислоты происходит только в частях, заключающих хлорофилловые зерна.
Это правило не представляет исключения. В хлорофилловом
зерне мы должны видеть, как сказано выше, тот аппарат, тот
механизм, к которому прилагается сила солнечного луча.
Весьма любопытно было проверить на опыте справедливость
высказанного предположения, не будет ли разложение углекислоты происходить именно на счет лучей, поглощаемых хлорофиллом. Для этого стоило только повторить опыт Пристли
одновременно в различных частях спектра. Опыт произведен был
следующим образом: взят ряд стеклянных трубочек (рис. 3, I I ,
1, 2, 3, 4, 5), наполненных смесью воздуха с несколькими
процентами углекислоты и заключавших по одному зеленому
листу одинаковой величины и с одного и того же растения; этот
ряд трубочек выставлен в солнечный спектр, полученный
в совершенно темной комнате, и, по прошествии нескольких
часов, посредством анализа газов определено, в каких трубках разложилась углекислота, в каких нет, в каких разложилось ее много, в каких мало.
Опыт вполне подтвердил предположение. Оказалось, что
разложение углекислоты происходило только в тех лучах,
которые соответствуют черной полосе в спектре хлорофилла
(рис. 3, I, кр — и рис. 2 между В и D), так что те лучи, которые
не поглощаются хлорофиллом, не разлагают углекислоты,
те же, которые поглощаются, разлагают тем сильнее, чем
1000
сильнее поглощаются. На
рисунке 3, III
это показано в так называемой
графической форме. На линии ab восставлены (точками) перпендикуляры, высота которых выражаетколичество углекислоты, разложенной в соответствующих частях спектра (I) в
трубках 1, 2, 3, 4, 5 (II).
Ломаная линия 1, 2, 3, 4,
5 (III)
наглядно показывает, в какой части спектра всего энергичнее разлагается углекислота.
Таким образом, с одной стороны, спектральное
исследование показывает,
что известные солнечные
лучи, пролетевшие без изменения необозримое пространство,
встретив на
своем пути зерно хлорофилла, перестают быть светом, скрываются, производя при этом, конечно, какую-нибудь работу. С дру- Рис. 3
гой стороны, только что
описанный опыт в спектре прямо указывает, что именно эти
лучи вызывают разложение углекислоты на углерод и кислород, затрачиваются на эту химическую работу. Очевидно, мы
в праве заключить, что между приходом и расходом энергии в
растении усматривается полная соответственность.
Мы познакомились, таким образом, с источником силы
и с аппаратом, к которому эта сила прилагается, то-есть с хлорофилловым зерном. Мы видели, какая при этом производится
работа; остается посмотреть, какой получается продукт; остается
проследить дальнейшую участь освобожденного из углекислоты
углерода, узнать, что образуется из него в растении. Нашему
любопытству в этом отношении может удовлетворить микроскоп.
Мы берем какой-нибудь зеленый орган, например, лист,
и отрезаем от него пробу для исследования под микроскопом
или, еще лучше, берем такое растительное тело, которое можно
прямо наблюдать под микроскопом; таковы, например, зеленые
водоросли, так называемая тина. Убедившись, что в зернах
хлорофилла не заключается никаких посторонних тел 1 , мы выставляем исследуемый зеленый орган на солнце, в воздухе,
или искусственной атмосфере, содержащей углекислоту, то-есть
помещаем его в такие условия, при которых он может разлагать
углекислоту. После более или менее продолжительного действия солнца мы вновь подвергаем хлорофилловые зерна микроскопическому исследованию и находим в них какие-то бесцветные крупинки, которых в них прежде не было. Эти крупинки
состоят из крахмала, как в этом нетрудно убедиться. К числу
особенностей крахмала принадлежит его способность окрашиваться под действием раствора иода в темносиний цвет. По этомуто признаку мы и узнаем его в зернах хлорофилла. В отсутствие
света или углекислоты описанного появления крахмала не замечается, откуда мы в праве заключить, что появление его есть
следствие разложения углекислоты. В подтверждение этого
взгляда говорит еще и та быстрота, с которой одно явление
сопровождает другое. Через несколько секунд после того, как
луч солнца упал на поверхность листа, можно обнаружить разложение углекислоты, и через пять минут можно уже заметить
появление крахмала в хлорофилловых зернах. Но эта связь
двух процессов становится еще очевиднее, когда обратим внимание на химический состав крахмала. Крахмал может служить
представителем, типом группы растительных веществ, получивших название углеводов. Углеводы состоят из углерода,
водорода и кислорода; свое название они получили потому,
что в них водород и кислород находятся в таком же отношении,
как в воде, так что они как бы состоят из угля и воды. Для
1 Что достигается, обыкновенно, предварительным, более или менее
продолжительным выдерживанием растения в темноте.
того, чтобы из углекислоты и воды образовать углевод, очевидно
нужно только отнять весь кислород углекислоты, то-есть произвести именно то, что происходит в растении, когда разлагается углекислота. Углеводы, следовательно, имеют именно
такой состав, какой можно ожидать от веществ, образующихся
в растении из углекислоты и воды.
Таким образом, микроскоп вполне подтверяедает результаты,
полученные путем анализа. Когда в хлорофилловом зерне разло?килась углекислота, в нем образуется углевод. Самым убедительным доказательством этой связи служит следующий
опыт. На лист живого растения, предварительно лишенный
крахмала, отбрасывают в темной комнате яркий солнечный
спектр. Через несколько часов лист срывают, обесцвечивают
спиртом и обрабатывают раствором иода; оказывается, что
крахмал образовался только в тех частях спектра, которые
поглощаются хлорофиллом, и тем обильнее, чем сильнее поглощение; другими словами, на листе получается отпечаток спектра
хлорофилла, состоящий из крахмала, окрашенного иодом почти
в черный цвет (рис. 3, IV, сравни с рис. 2 и 3, /).
Группа углеводов представляет преобладающую составную
часть растительной пищи: так, крахмал составляет 3 / 4 веса
пшеничного зерна и 4 / 5 сухого вещества картофеля. Кроме крахмала, к этой группе относится много других веществ, как,
например, сахар и клетчатка, то-есть то вещество, из которого
состоит весь твердый остов растений, начиная с тонких былинок
и кончая стволами деревьев. Все эти тела имеют сходный состав
и различаются только большею или меньшею степенью уплотнения и другими физическими свойствами. Сахар, например,
растворим в воде, крахмал нерастворим, но сильно разбухает,
образуя клейстер; клетчатка мало разбухает. В известном
смысле можно сказать, что крахмал—уплотненный сахар,
клетчатка—уплотненный крахмал. Из крахмала легко могут
произойти другие углеводы. Сахар мы получаем из него даже
искусственным путем, приготовляя картофельную патоку. Клетчатка еще не получена из него искусственно, но, несомненно,
происходит из него в растении: так, например, при прорастании
хлебных зерен их крахмал превращается в клетчатку, из которой построен росток.
Вторую, после углеводов, преобладающую группу растительных веществ представляют белковые вещества, так названные по их сходству с яичным белком. Пшеничная мука, которую мы опять возьмем за образец растительной пищи, содержит около 17 % белкового вещества, так называемой клейковины.
Значит, за вычетом крахмала и белковых веществ, все остальные вещества в хлебных зернах составляют всего несколько процентов, В состав белковых веществ, кроме углерода, водорода
и кислорода, входит еще азот.
Если, как мы видели, крахмал не может образоваться иначе,
как при содействии света, то образование белковых веществ
в растении не нуждается в свете или вообще в постороннем источнике силы. Зато оно находится в зависимости от присутствия
углеводов. Стоит доставить некоторым растениям какой-нибудь
углевод, например, сахар, и какой-нибудь источник азота,
например, аммиак, и они вырабатывают из них, хотя бы в совершенной темноте, белковое вещество. Не касаясь неразрешенного
еще химиками вопроса об отношении углеводов к белковым
веществам, стоя на почве строгого опыта, мы в праве сказать,
что растения в состоянии произвести белковое вещество из углевода и аммиака. Физиолог может сказать химику: дайте мне
сахар и аммиак и одну клеточку, и я вам дам сколько угодно
белкового вещества. Конечно, такое производство может быть
не было бы особенно выгодно, но для нас в настоящую минуту
важен только факт, что оно теоретически возможно.
Не вдаваясь в подробности относительно происхождения
других растительных веществ, менее существенных для человека, чем белковые, мы можем распространить на них то, что
сказали о белковых, и, таким образом, приходим к заключению,
что участие солнечного света необходимо только для образования крахмала или вообще углеводов из углекислоты и воды;
все же остальные тела могут произойти и в отсутствие света.
Теперь только мы в состоянии вполне оценить значение процессов, совершающихся в хлорофилловом зерне под влиянием
света.
Во-первых, с химической точки зрения, это—тот момент,
когда неорганическое вещество, углекислота и вода, превращается в органическое,—здесь лежит источник и начало всех
разнородных веществ, из которых слагается весь органический
мир. С другой, с физической точки зрения, хлорофилловое
зерно представляет тот прибор, в котором улавливаются солнечные лучи, превращающиеся в запас для дальнейшего употребления.
Растение из воздуха образует органическое вещество, из
солнечного луча—запас силы. Оно представляет нам именно
ту машину, которую обещают в будущем Мушо и Эриксон,—
машину, действующую даровою силой солнца. Этим объясняется
прибыльность труда земледельца: затратив сравнительно небольшое количество вещества, удобрения, он получает большие
массы органического вещества; затратив немного силы, он получает громадный запас силы в виде топлива или пищи. Сельский
хозяин сжигает лес, стравливает луг, продает хлеб, и они снова
возвращаются к нему в виде воздуха, который при содействии
солнечного луча вновь принимает форму леса, луга, хлеба.
При содействии растения он превращает не имеющие цены
воздух и свет в ценности. Он торгует воздухом и
светом.
&
Изложенными соображениями сами собою разрушаются
высказываемые иногда учения о том благосостоянии, которое
ожидает человечество, когда химики откроют тайну синтеза
сложных органических веществ, когда они откроют способ
искусственного приготовления питательных веществ. Судя
по тому, что уже осуществила синтетическая химия, едва ли
можно сомневаться, что будущее, может быть отдаленное будущее, осуществит эти ожидания. По крайней мере, между тем,
что уже сделано, и тем, что предстоит сделать, нет такого коренного различия, которое делало бы эту надежду невероятною.
Но если пища будет получаться искусственно, то не падет ли
земледелие? Не утратит ли земля всякую цену? Не изменится
ли весь экономический строй? Посмотрим, справедлива ли такая
догадка. Мы видели, что образование органического вещества
требует затраты силы. Фунт хлеба, сгорая, освобождает около
890 единиц тепла; следовательно, на его образование, все равно—
естественным или искусственным путем, нужно затратить, по
крайней мере, такое же количество тепла или вообще силы.
Откуда же взять ее? Единственным даровым источником силы
остается все то же солнце. Следовательно, нашим отдаленным
потомкам для получения пх искусственных питательных веществ
придется все же подражать растению, покрыв поверхность земли
искусственными поглотителями солнечных лучей. И нельзя
сказать, чтобы это подражание было очень легко, потому что
растение, с этой точки зрения, представляет весьма совершенный
прибор. Простой взгляд на густую луговую траву уже убеждает,
что почти всякий клочок почвы идет в дело, но вычисление доставляет еще более красноречивые данные. Так, например,
вся листовая поверхность клевера в 26 раз превосходит площадь
земли, занимаемую этим растением, так что десятина, засеянная
клевером, представляет для поглощения лучей солнца зеленую
поверхность в 26 десятин. Другие растения дают более высокие
цифры. Эспарцет имеет листовую поверхность в 38, а люцерна
в 85 раз более занимаемой ИМИ площади. Смешанные травы,
по всей вероятности, дали бы еще более высокие цифры.
Здесь сам собою возникает другой любопытный теоретический вопрос: можем ли мы при посредстве растения беспредельно
увеличивать количество органического вещества, собираемого
с известной площади? Можем ли мы надеяться, что при помощи
новых улучшений будем беспредельно увеличивать производительность нашей почвы, или для нее существует предел?
Это вопрос о будущих судьбах человечества. Имеющиеся
у нас данные дозволяют разрешить этот вопрос утвердительно:
предел есть, и мы в состоянии даже приблизительно определить,
насколько мы к нему близки. Вот каким путем достигаем мы
этого вывода. Мы уже неоднократно повторяли, что при образовании органического вещества в растении необходимо поглощается столько же тепла, сколько, выделяется при сжигании
этого вещества. Так, например, если какое-нибудь растение
выделяет при сгорании 1 ООО единиц тепла, то мы можем заключить, что при его образовании затратилось, по крайней мере,
это же количество солнечной теплоты, и как бы мы ни удобряли
и ни возделывали землю, если солнце не доставит этих 1 ООО единиц тепла, мы не получим нашего растения.
Таким образом, зная, с одной стороны, сколько горючего
вещества заключает урожай, полученный с известной площади
(а это мы узнаем из анализа), зная, с другой стороны, какое
количество тепла посылает солнце на эту площадь, мы имеем
все необходимые данные для суждения о приходе и расходе
солнечной энергии на нашем поле и, следовательно, можем заключить, какою ее частью мы пользуемся, какою еще предстоит
воспользоваться. Производя такие вычисления для культур,
дающих наибольшее количество органического вещества, наиболее богатую жатву, приходим к тому заключению, что наибольший ежегодный прирост вещества леса заключает в себе
около 1 / 7 0 0 всего количества тепла, посылаемого на соответствующую площадь земли за шестимесячный период растительности.
При этом не принят во внимание прирост корней. Одна из наиболее интенсивных полевых культур—культура
земляной
1
груши—утилизирует таким образом / 1 8 0 всей получаемой от
солнца энергии. Органическое вещество сена (райграс) и корневых остатков при самом большом сборе представляет в виде
запаса х / 135 получаемой солнечной энергии. Наконец, самые
большие урожаи овса и ржи (зерно, солома и корневые остатки)
представляют 1 / 8 0 всей полученной энергии. Таким образом, при
помощи растения мы в состоянии воспользоваться, примерно,
о т Ѵіооо Д° Ѵюо в с е г 0 количества солнечных лучей, которые выпадают на поверхность наших лесов или полей за период деятельной растительности 1. В праве ли мы заключить из этого, что,
усовершенствовав культуру, мы будем в состоянии увеличить
свои сборы в 100, в 1 ООО раз прежде, чем достигнем предела
производительности? В состоянии ли растение превращать .
в запас всю получаемую энергию? Конечно, нет. Мы знаем, что
никакие машины и организмы не доставляют исключения из
этого правила, не превращают всей получаемой силы в полезную работу, и одного этого соображения достаточно, чтобы
убедить нас, что физиологический предел производительности
растения не может совпадать с физическим. Против приведенных
1 Само собою понятно, что приведекные
цифры не могут считаться
строго точными. В особенности цифра, показывающая количество тепла,
выпадающего на известную площадь и вычисленная из данных Пулье,
только приблизительна верна.
19
1С. А.
Тимирязев,
т.
I
289
цифр, основанных на результатах различных культур, можно
сделать то возражение, что хотя полевая растительность,
как мы видели, и представляет очень развитую поверхность
поглощения, по. тем не менее, нельзя считать, чтобы она улавливала весь падающий свет. Более надежные цифры может
дать в этом отношении следующий опыт. Выставляя на солнце
зеленые листья с точно измеренною поверхностью, определив
посредством анализа, какое количество углекислоты будет
разложено этим листом при самом выгодном освещении, положим, в один час, определив, наконец, какое количество тепла
выпадает в этот час на взятую поверхность листа, мы получим
все данные для вычисления соотношения между приходом силы
и расходом ее на разложение углекислоты. Оказывается, что на
разложение тратится средним числом 1 / 100 всей получаемой
энергии, а в более благоприятном случае— 1 / 55 . По некоторым
новейшим исследованиям, эти цифры могут доходить до 1 / 2 0 . Эту
последнюю цифру мы, вероятно, должны считать близкою к пределу физиологической производительности, так как растения
были поставлены в наиболее благоприятные условия. Итак, мы
видим, как близки самые интенсивные наши культуры к тому,
что мы назвали физиологическим пределом, то-есть к тому наибольшему количеству органического вещества, которое можно
получить с данной площади земли при посредстве растения.
Но даже при этом пределе утилизируется всего 1 / 1 0 0 и в самом
выгодном случае 1 / 2 0 получаемой энергии, и мы этому не будем
удивляться, если обратим внимание, что, кроме этой единственно
производительной, с точки зрения человека, работы, в растении
совершаются и другие работы, для человека совершенно непроизводительные1. Во-первых, в течение всей своей жизни растение
испаряет воду—такие громадные количества воды, что, услыхав
прямо итог, почти отказываешься верить. Для испарения этого
количества воды требуется, повидимому, значительно более
тепла, чем сколько затрачивается на разложение углекислоты.
1 Еще важнее принять во внимание, что лист и не может поглощать
всего солнечного света; иначе он был бы не эелеиым, а черным. Новейшие
исследования показывают, что лист поглощает средним числом 2 5 % всей
солнечной энергии—это физический предел; в физиологических опытах
утилизируется 5 % , а в поле—1%.
Следовательно, рядом с производительною работой образования органического вещества, растение затрачивает еще более
энергии на бесполезную для человека работу—испарения. Но
это не единственная, хотя и самая значительная, затрата энергии в растении. Эту воду растение берет из почвы и, следовательно, должно поднять ее на известную высоту; эту работу
можно выразить в пудофутах. В наших полевых растениях она,
конечно, не велика, но в древесной растительности она составляет
значительную величину 1 . Можно себе представить, какую громадную работу представляет поднятие масс воды, испаряющейся
в лесах каких-нибудь исполинов, вроде новоголландских евкалиптусов, макушки которых, по словам одного ботаника,
могли бы бросать тень на вершину Хеопсовой пирамиды. Конечно, не вся энергия, потребная на испарение и поднятие,
происходит на счет непосредственного нагревания солнечными
лучами, но все же значительная ее часть доставляется ими. К этим
источникам бесполезной траты солнечной энергии должно присоединить еще следующий. Мы не в состоянии воспользоваться
Есем запасом органического вещества, выработанного растением в течение его жизни, потому что оно само расходует,
сжигает часть этого вещества. Можно считать, что таким путем
тратится до 1 / 2 0 всего вещества, так что растение, в отношении
накопления органического гещества, делает постоянно двадцать
шагов вперед и один назад. Все перечисленные источники траты
солнечной энергии представляют нам, так сказать, издержки
производства органического вещества посредством растения.
Мы видим, следовательно, что растение хотя и очень совершенный аппарат для утилизирования солнечной силы, но все же
оставляет еще многого желать,так как при самых благоприятных
условиях оно превращает в полезную для человека работу всего
х / 1 0 0 или 1 / 2С0 всей получаемой от солнца энергии. Человеку предстоит или усовершенствовать в этом отношении растение или
изобрести взамен его искусственный прибор, который утилизировал бы больший процент получаемой энергии и притом работал
1 Поднятие с о к о в на значительную высоту можно считать
непроизводительным только с точки зрения количества получаемого вещества,
зато оно в а ж н о е точки зрения качества,—оно дает нам, например, строевой и мачтовый лес.
бы круглый год. Насколько успеет он на этом пути, вопрос
будущего. Одно только достоверно, что, когда при помощи своих
искусственных приборов он получит со всей свободной площади
земли раз в 100 более органического вещества, чем сколько заключается в самой обильной жатве в настоящее время, тогда
сн может себе сказать, что дошел до предела; далее уже некуда
итти. Тогда напрасно стал бы он просить у земли, у своего искусства еще топлива, еще пищи,—он не получит их, потому что
солнце не в состоянии ему более дать. Тогда-то закон Мальтуса
обнаружится во всей своей зловещей очевидности: человечеству
придется вести строгий бюджет жизни и смерти; производя
себе подобных, человечество будет справляться с таблицами
смертности, как это уже так обязательно и предупредительно
советуют заботливые экономисты. Тогда, в буквальном смысле,
ни один лишний рот не найдет себе места за трапезой природы.
Достигнет ли когда-нибудь человечество такого предела? Какими
новыми процессами синтеза облагодетельствуют его будущие
Бертло? Какими солнечными машинами снабдят его будущие
Мушо и Эриксоны? Кто знает? Несомненно только одно, что
земля представит тогда очень грустное зрелище. Когда человек
будет утилизировать не часть, как теперь, а всю солнечную
энергию, тогда вместо изумрудной зелени лугов и лесов наша
планета покроется однообразною, погребально-черною поверхностью искусственных поглотителей света. Томсон предвещает,
что нашей вселенной грозит неминуемая холодная смерть,
что наш мир окоченеет в ее ледяных объятиях, и это предсказание, я полагаю, мало кого встревожило. Ведь это сбудется,
когда нас уже не будет, а известно—après moi le déluge 1 . Но
каково будет жить, когда вся земля превратится в одну всеохватывающую фабрику, из которой никогда, даже в праздник,
на часок, нельзя будет вырваться in's Grüne! *
Отвернемся от этой мрачно-фантастической картины, по счастию, еще очень отдаленного будущего и вернемся к поставленному нами в начале этой статьи вопросу, на который можем
После меня хоть потоп.
* Б у к в а л ь н о : «в зелень». ТЕК В Германии
прогулку. Ред.
1
называют
загородную
теперь дать полный, категорический ответ. Мы можем всего
лучше это сделать в виде следующего примера. Когда-то, где-то
на землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву,
он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше
сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь о него, он потух,
перестал быть светом, но не исчез. Он только затратился на
внутреннюю работу, он рассек, разорвал связь между частицами
углерода и кислорода, соединенными в углекислоте. Освобожденный углерод, соединяясь с водой, образовал крахмал. Этот
крахмал, превратясь в растворимый сахар, после долгих странствии по растению отложился, наконец, в зерне в виде крахмала
же или в виде клейковины. В той или другой форме он вошел
в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился
в наши мускулы, в наши нервы. И вот теперь атомы углерода
стремятся в наших организмах вновь соединиться с кислородом,
который кровь разносит во все концы нашего тела. При этом
луч солнца, таившийся в них в виде химического напряжения,
вновь принимает форму явной силы. Этот луч солнца согревает
нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту
он играет в нашем мозгу.
Приведенный пример—самый подробный, самый обстоятельный ответ, который в состоянии дать наука на поставленный
нами вопрос. Мы можем выразить его и короче, тремя словами.
Пища служит источником силы в нашем организме потому
только, что она—не что иное, как консерв солнечных лучей.
Глубокое научное значение этого результата говорит само
за себя, но его, конечно, оценят и люди наиболее равнодушные
к научным истинам. Поэт-мечтатель, с грустью взирающий
на прозаический труд ученого, с удовольствием услышит от
него, что он сам, поэт, такое же эфирное существо, сотканное
из воздуха и света, как и бесплотные создания его фантазии.
Человек спесивый, гордящийся сознанием знатности своего
рода и не без презрения относящийся к скромной доле деятелей
науки, получит, конечно, некоторое уважение к этой науке,
услыхав, что благодаря ей «он в праве, наравне с самим китайским императором, величать себя сыном солнца»1.
Helmholtz.
«Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte», S.
(.Гелъмгольтц. «О взаимодействии сил природы», стр. 127. Ред.).
1
127
ш
РАСТЕНИЕ — СФИНКС
1
NIL SALE ET SOLE UTILIDS
PLINUS »
OVER
AND
A&AIN
HAVE
NATIONS AND CIVILIZATION
BEEN CONFRONTED WITH PROBLEMS, WHICH, LIKE THE RIDDLE OF THE SPHYNX, NOT TO
ANSWER WAS TO BE DESTROYED
HENRY GEORGE.
Social problems '
Д
авно сделано справедливое замечание, что в воображении человека, наяву или даже во сне, не может возникнуть ничего такого, что в своих элементах не слагалось бы из впечатлений реального мира. Когда смелая
фантазия художников или поэтов, желая вызвать чувство
поклонения или священный ужас, создавала чудовищ, результат этот достигался только умножением числа, искажением или перетасовкой, в причудных сочетаниях, известных органов, известных живых существ. Многоголовый,
Лекция, читанная в Политехническом музее весной 1 8 8 5 года.
Нет ничего полезнее соли и солнца.
Плиний.
3 Снова и с н о в а перед народами и цивилизацией встают тревожные
вопросы, наподобие загадки сфинкса. Не дать ответа на эти вопросы
значит уничтожить самого себя. Генри Джордж.
«Социальные проблемы».
1
2
многорукий индусский идол или более стройные создания мифологии запада, крылатые амуры, центавры, сирены, наконец,
этот Эдипов сфинкс или его более древний египетский прототип—
не очевидные ли все это доказательства бессилия человеческой
мысли отрешиться от доступной наблюдению действительности?
Но сегодня мы зададимся совершенно обратным вопросом: не может ли, наоборот, реальная действительность порой оправдать
фантазию поэтов и художников, не найдется ли в каком-нибудь
забытом уголке природы чудовищных, сложных существ, представляющих такое сочетание или аггломерат двух совершенно
разнородных организмов, каковы эти мифологические полугады, полуптицы, полулюди, полузвери?
Натуралисту, на первый взгляд, такой вопрос должен показаться чем-то невозможным, просто абсурдом. И потому понятно
было изумление ботаников, когда несколько лет тому назад такое
загадочное существо, подобно сфинксу, представляющее полное слияние совершенно разнородных и самостоятельных организмов, относящихся к двум различным классам, нашлось
в природе,—когда оказалось, что мы все его давно знаем,
что оно встречается решительно на каждом шагу. Некоторые
ботаники и до сих пор не могут очнуться от впечатления, вызванного этим поразительным открытием, и предпочитают закрывать глаза перед очевидностью—скорее, чем примириться с фактом, идущим в разрез с установившимися понятиями. Изумительность факта не умаляется тем, что он относится к области
микроскопических явлений, хотя продукт слияния, этот сложный организм, как сейчас увидим, далеко не микроскопических
размеров.
Об этом любопытном предмете, если не ошибаюсь, едва ли
когда-нибудь упоминалось в нашей популярной литературе,
а между тем, он должен быть отнесен к числу наиболее поразительных и неожиданных открытий биологической науки за последнюю четверть века и, конечно, заслуживает того, чтоб остановить на нем ваше внимание.
Прежде всего позвольте ввести вас в совершенно своеобразный уголок растительного мира, по которому, без сомнения, не
раз скользили ваши взоры, не останавливаясь, однако, на нем настолько, насколько заслуживает представляемый им глубокий
научный интерес. Перед нами, в значительно увеличенном виде, кусочек древесной коры
На изрытой трещинами и бороздами
поверхности его торчат небольшими
кустиками, свисают всклокоченными
бородами или расстилаются причудливо вырезанными пластинками или розетками серые,
серовато-зеленые, желтые или бурые растеньица.
На некоторых из пластинчатых форм нам бросаются
в глаза там и сям разбросанные, особые, более ярко
покрашенные органы, вроде блюдца или тарелочки
(рис. 1). Все эти мелкие растеньица мы в обыкновенной речи и, как сейчас увидим, совершенно неверно
называем мхами, на языке же ботаников они носят
очень неблагозвучное название лишаев, лишайников или реже — ягелей.
Познакомимся прежде всего с их формами и местонахождением в природе, а затем определим их положение в растительном царстве, то-есть по отношеРис. 1
нию к другим растениям.
Формы их почти бесконечно разнообразны. Иногда
большая часть организма почти скрыта от невооруженного
глаза; привлекают его внимание только органы размножения,
соответствующие указанным только что блюдцам, но принимающие форму темных пятен или полосок, пестрящих поверхность покрытой ими коры как будто еврейскими или клиновидными письменами.
Чаще лишайники принимают вид пенок, или как бы накипи,
плотно приставшей к поверхности скал и валунов, или пластинок, прикрепленных только в середине при помощи так называемых корневых присосок, но с краями приподнятыми и более или
менее причудливо вырезанными (рис. 1). Такие формы лишайников попадаются на камнях, заборах, древесной коре и прямо
на земле. Таковы мелкие серые и желтые лишайники, попадаюПроложенный на экране при помощи электрического света и так называемойѴѴипсІегкаттег, дозволяющей демонстрацию и непрозрачных предметов. (Подобный «волшебный фонарь» называют теперь эпископом. Ред.)
1
Рис. 2
Рис.
3
щиеся на любом старом заборе (Physcia, рис. 1); таков одни
из самых крупных лишайников, встречающихся нередко по
лесам и особенно после дождя, обращающий на себя внимание
своими величиной в ладонь и более кожистыми, стелющимися
между травой и мхами, пластинами, словно капустными лист ьями,
только тускло синевато-зеленого цвета с темнобурыми, круглыми, уже знакомыми нам, блюдцами (Peltigera). Почти таких
же размеров достигает и другой нередко попадающийся на
деревьях лишайник с изрытой ячеистой поверхностью (Sticta,
рис. 2). Еще более распространены формы в виде кустиков
(рис. 5), растущих прямо на земле или на стволах деревьев,
или, наконец, плакучие формы, свисающие со старых сучьев
длинными седыми бородами (Usnea, рис. 3); к этим формам
относится наиболее известный, так называемый, исландский
мох, с его бурыми, прямо стоячими, угловато-лопастными разрезанными пластинками (Cetraria, рис. 4), или, наконец,
знакомый всякому жителю севера, покрывающий громадные
пространства олений лишайник (Cladonia, рис. 5), с его тонко
ветвящимися кустиками, во влажную пору образующими упругие серовато-зеленые, а в засуху—хрустящие под ногами,
хрупкие как сухарь, почти белые подушки. Изо всех лишайников этот последний приносит человеку едва ли не самую очевидную, непосредственную пользу—он служит пищею северному оленю, отрывающему его из-под глубокого снежного
покрова. Дюшалыо в своем путешествии на крайний север
изображает оленей,
зарывшихся в снег до
того, что над его поверхностью
торчат
только их короткие
хвостики.
Положение
лишайников, по отношению к другим растениям, мы выясним
следующим р я д о м
сравнений. Все растения мы делим на таРис. 4
Рис. 5
кие, которые приносят цветки и семена, и
на такие, которые их не приносят,—это будут растения бесцветковые, или споровые, так как вместо семян они образуют так называемые споры, то-есть клеточки, рассыпающиеся, как пыль.
Такова, например, пыль, осыпающаяся с усеянной бурыми кучками изнанки листьев некоторых папоротников; такова желтая,
напоминающая серный цвет, пыль, осыпающаяся из торчащих
прямо желтоватых колосков обыкновенного стелющегося плауна,
в изобилии каждую осень встречаемого на наших рынках и употребляемого вместе со мхом и лишайниками для украшения
при вставке зимних рам. Этот порошок, неправильно называемый плаунным семенем,—эти споры плауна образуют ту присыпку, которой аптекаря пересыпают пилюли. Лишайники не производят ни цветков, ни семян; мы их, следовательно, отнесем
к растениям споровым. Но споровые растения в свою очередь
представляют нам два крупных отдела. У одних, как, например,
у только что упомянутых папоротников и плаунов, а также
и у мхов, сложность организации выразилась в том, что они
представляют нам ясно обособленные стебель и листья. Ничего
подобного мы не встретим ни у грибов, ни у наших водорослей,
ни у лишайников,—отсюда понятно, как ошибочно называть
их мхами, смешивать их с настоящими мхами, у которых мы
всегда можем различить стебель и зеленые листочки. Как неверно применяется к лишайникам название мха, так точно и
слово водоросль для ботаника имеет гораздо более определенный
и ограниченный смысл, чем тот, который придается ему в обыкновенной речи.
Для неботаника водоросль—все то, что растет в воде; для
ботаника класс водорослей заключает в себе только те водяные
растения, которые размножаются спорами и не имеют ясно выраженных стеблей и листьев. В пресной воде наших рек и прудов
сюда будет относиться то, что в обыкновенной речи мы разумеем
под огульным и несколько презрительным названием тины.
Но кто бывал на берегу моря, особенно теплого моря, конечно,
знает, как бесконечно разнообразна эта подводная флора водорослей, представляющая нам то хрящеватые, вилообразно
ветвящиеся, желто-бурые, тесьмовидные формы, заходящие
далеко на север и в Балтийское море (Fucus), то бесформенные,
прозрачно зеленые лоскутья, которыми нередко убирают устриц,
так называемый морской салат (Ulva), то, наконец, бесчисленно
разнообразные в своих грациозных очертаниях и окраске так
называемые багрянки (Florideae) со всеми оттенками пурпура,
от нежно розового до почти черного, со всеми формами, от плоских листовидных до тонко рассеченных и легких, как пух.
Грибы, водоросли и лишайники имеют, следовательно, то между
собою общее, что размножаются спорами и лишены ясно выраженных листьев и стеблей. Такие растительные тела, в которых
не выражено различие между листом и стеблем, мы обозначаем
термином—слоевище. Значит, все разнообразные формы лишайников, как плоские, так и ветвистые, будут слоевища. Таким
образом, положение лишайников в общей системе растений мы
определяем, говоря, что это растения споровые и слоевцовые.
Эти же признаки с ними разделяют ближайшие их соседи,
грибы и водоросли.
Постараемся теперь еще ближе охарактеризовать лишайники, указав на черты их сходства и различия с этими их соседями, грибами и водорослями.
Грибы—но, прежде чем приступим к их описанию, мы снова
должны оговориться, напомнив, что и это слово вызывает в ботанике совсем иное представление, чем то, которое мы привыкли
с ним связывать в жизни. Между тем как слово водоросль имеет
в науке более ограниченный, слово гриб имеет гораздо более
широкий смысл, чем в обыкновенной речи. Для неботаника
грибы—это те произведения природы, которые, состоя обыкновенно из пенька и шляпки, делятся на две общих категории—
съедобных и «поганок». Но ботаник, во-первых, в этих грибах
видит только часть целого грибного организма, а во-вторых,
кроме этих грибов и им подобных, включает в этот класс и множество таких организмов, которые в обыкновенной речи носят
название плесени, а еще чаще остаются вовсе без названия,
удостоиваясь его разве только в тех случаях, когда приносят
особый вред, каковы ржавчина, головня и другие болезни наших
культурных растений. Съедобная часть гриба—это только орган
размножения гриба, растительная же часть его состоит из той
белой, похожей на плесень, массы, котораяпронизывает своими
нитями всю почву в ближайшем соседстве с приподымающимся
над ней пеньком. Эта сеть, так называемая грибница, разрастается во все стороны, так что шляпки грибов нередко выступают из земли правильными, из года в год расходящимися кругами, отмеченными цветом и ростом окружающих их трав;
это так называемые кольца ведьм, Hexenringe, как их называют
немцы, или fairy-rings 1 , как более поэтично их прозвали англичане. Искусственная, сильно унавоженная почва, насквозь
пронизанная нитями грибницы, составляет то, что мы называем
шампиньонным гнездом. Итак, то, что мы обыкновенно называем грибами, соответствует не всему грибному организму,
а представляет только его орган размножения, т. е. вместилище
его спор. Убедиться в этом последнем факте очень легко. Сорвем
с пенька шляпку шампиньона и положим ее на лист белой бумаги
в таком же положении, как она насажена на пеньке, то-есть
обратив вниз теми лучисто расходящимися пластинками,
которые покрывают ее изнанку. Через день или даже через
несколько часов, как только гриб завянет, мы заметим на бумаге
полный отпечаток этих лучисто расходящихся пластинок в виде
таких же темных полосок. Эти полоски будут образованы порошком осыпавшихся спор. Впрочем, не у каждого гриба мы можем
так же легко убедиться в присутствии спор. У сморчка таким
приемом мы не обнаружили бы спор, и это зависит от того, что
1
Волшебные кольца.
у него они не покрывают непосредственно поверхность плодоносца, а заключены в особые вместилища—так называемые
сумочки. Если мы вырежем тонкий ломтик, проходящий через
морщинистые складки наружной поверхности головки сморчка,
и станем рассматривать его под микроскопом, то увидим ряды
продолговатых прозрачных мешочков и в каждом по восьми
клеточек—спор. Совершенно сходное строение нашли бы мы,
если бы стали рассматривать под микроскопом тонкий ломтик
из трюфеля; только там эти мешочки со спорами оказались
бы не на поверхности, как у сморчка, а внутри, вдоль тех жилок,
которые пестрят разрез трюфеля, сообщая ему вид мрамора.
Грибы, представляющие такое расположение спор, как у сморчка
и трюфеля, то-есть в полости особых мешочков, или сумок,
так и называются сумчатыми. Остановимся еще на двух особенностях строения и образа жизни грибов, которые их всего
лучше характеризуют. Если мы исследуем под микроскопом
самые разнообразные части различных грибов, то заметим, что
они нам представят следующую особенность в своем строении.
Между тем как у других растений клеточки могут делиться
по всем трем направлениям, давая начало формам не только
линейным, но и плоскостным и телесным, то-есть располагаясь,
как кирпичи в полу или в стене,—клеточки грибов вытягиваются в длину и делятся только поперек этой продольной оси.
Таким образом, грибы могли бы нам представлять только нитевидные, хотя бы и сильно ветвящиеся, формы, подобные, например, налету плесени, но не плотные телесные формы, если бы
эти длинные клеточки не сплетались между собой в более или
менее плотные массы, подобные, например, сплетению волосков
в наших войлоках, и таким образом, не сплачивались в массы,
иногда значительных размеров и плотности. Если микроскопическое строение других растений мы можем сравнивать с кирпичной кладкой, причем отдельные клеточки играют роль
кирпичей, микроскопическое строение грибов всего лучше
можно сравнить с войлоком, почему за их тканью так и упрочилось название «войлочной». Этот войлок может быть рыхл или
очень плотен, так что составляющие его нити (гифы) будут прилегать друг к другу без промежутков, но тем не менее происхождение ткани будет такое же, как и войлочной ткани более рыхлой.
Итак, в войлочном соткании мы видим одну из самых характеристических особенностей организации грибов. Другая, еще
более существенная и глубокая черта, связанная со всем образом
жизни грибов, заключается в отсутствии зеленой окраски,
в отсутствии того вещества, от которого зависит зеленый цвет
растения, так называемого хлорофилла. В отсутствии этого
вещества мы должны видеть самую выдающуюся особенность,
отличающую класс грибов как целое от соседнего с ним класса
водорослей. Я говорю выдающуюся особенность потому, что здесь,
как и вообще в природе, мы тщетно пытались бы найти какуюнибудь абсолютную отличительную черту, которая отделяла
бы грибы от водорослей. Стоит указать, например, на бактерии,
которые одни ботаники причисляют к грибам, а другие к водорослям. В отсутствии хлорофилла заключается не только самая
наглядная, но и самая глубокая, физиологическая особенность
грибов, отличающая их образ жизни от образа жизни водорослей. Но прежде еще скажем несколько слов об этих последних.
Как доказывает самое название, они всегда встречаются в воде
или на очень влажной почве. Поскребем немного у основания
отсыревшей и позеленевшей стены, и в числе других микроскопических организмов мы непременно встретим шаровидные
клеточки с травянисто- или синевато-зеленым содержимым,
разбросанные поодиночке или вкрапленные группами в бесцветную слизь, или же зеленые нити, разделенные на частые поперечные членики, клеточки, также с синевато-зеленым содержимым. Заглянем в траву вдоль плоского, заливаемого водой берега
речки, и очень часто заметим на влажной земле, величиною
с горошинку и более, студенистые комочки округло-лопастной
или почти шаровидной формы; раздавим такой комочек под
микроскопом и увидим, что он состоит из четкообразных нитей,
сине-зеленых клеточек, спутанных клубками и погруженных
в общий прозрачный студень. Зачерпнем, наконец, немного
зеленой тины илн поскоблим на поверхности подводных камней
или других предметов и здесь также найдем прямые нити,
состоящие из продольных рядов клеточек, или сильно ветвящиеся трубчатые клеточки с неизменно зеленым содержимым.
У морских водорослей, как мы видели, особенно по мере удаления от берега, в глубокой воде, мы уже встретим не зеленую,
к
а иную, оливково-бурую или пурпуровую, окраску, но нетрудно
убедиться, что эта окраска только скрывает от наших глаз зеленый цвет этих организмов. Очень часто выброшенные на берег
пурпуровые водоросли, завядая, обнаруживают зеленую окраску; еще легче мы можем обнаружить присутствие хлорофилла,
настояв их на спирте, который окрасится в зеленый цвет. Итак,
водоросли отличаются от грибов присутствием хлорофилла, но,
подобно грибам, относятся к растениям споровым слоевцовым.
Мы видели, как легко увидеть споры у некоторых грибов;
так же легко иногда видеть споры у водорослей, особенно у тех
из них, которые производят споры, движущиеся, подобно инфузориям,—так называемые зооспоры. Возьмем, например, последнюю из упомянутых нами водорослей, в виде нежных кустиков покрывающую подводные предметы и состоящую из сильно
ветвящейся трубчатой зеленой клеточки (Vaucheria). Промоем
ее осторожно, споласкивая в воде, чтобы удалить все другие
водоросли, которые могли бы ее сопровождать, и оставим в стакане с чистой, прозрачной водой на окне. На другое утро мы
заметим на поверхности воды, со стороны, обращенной к свету,
густую зеленую полоску—взболтаем воду, и полоска исчезнет,
рассеется в воде. Оставим стакан в покое, и зеленая полоска
появится снова; повернем стакан полоской вовнутрь комнаты
и через несколько времени заметим, что полоска переберется
на прежнее место, то-есть ближе к свету. Микроскоп показывает, что эта полоска состоит из свободных и быстро движущихся
в воде клеточек, в своих движениях направляющихся к свету.
Это и есть подвижные споры этой водоросли. После более или
менее продолжительного движения они останавливаются, пускают бесцветные отростки, прикрепляются ими к почве и дают
начало новому растению.
Таким образом, мы узнаем, что многим нашим пресноводным водорослям свойственно образование движущихся зеленых
спор, а для всех водорослей характеристично присутствие зеленой окраски, хлорофилла.
Это присутствие хлорофилла у водорослей и его отсутствие
у грибов определяют и весь склад их жизни—в нем выражена
самая глубокая, коренная, физиологическая антитеза, какую
только можем встретить в пределах растительного мира.
Грибы могут питаться только готовой органической пищей,
потому-то они и попадаются на богатой перегноем почве, а искусственно разводимые, как например, шампиньоны, только на
почве сильно унавоженной. Плесень, как мы знаем, поселяется
на различных веществах, употребляемых в пищу: на плодах,
хлебе, варенье. Наконец, множество микроскопических грибов,
вызывающих болезни наших культурных растений, питаются
на счет своих жертв. Грибы не могли бы существовать без других растений; они питаются на их счет или непосредственно,
как паразиты, или косвенно, как сапрофита, питающиеся растительными или животными остатками. Но если существование
грибов зависит вполне от существования других растений,
доставляющих им прямо или косвенно их пищу, то, с другой
стороны, их существование не зависит от условия, необходимого для всех других растений, от солнечного света. Не говоря
уже о трюфеле, растущем под землей, мы знаем, что шампиньон
разводится в темных погребах. Уже и теперь в парижских
катакомбах, в обширных старых каменоломнях, близ Реймса,
тянутся на целые мили гряды шампиньонов, но искусственное
разведение грибов, вероятно, получит еще более широкое применение. Из основной особенности этих организмов вытекает
и та экономическая роль, которую, быть может, они призваны
играть в нашей культуре. Кто знает, быть может, со временем,
когда нужда научит человека утилизировать каждый клочок
земли, и разведение грибов получит свое значение, так как
нетрудно понять, какие обширные площади в тени наших лесов,
непригодные, вследствие недостатка света для других культур,
могут быть отведены под культуры грибов. Какие массы органического вещества, в форме опадающей листвы и других остатков, истлевают и, окисляясь, прямо возвращаются в виде углекислоты в атмосферу! Понятно, что Для человека было бы гораздо производительнее, чтобы этот круговорот совершался
более сложным путем, чтобы это органическое вещество превращалось сначала в гриб и проходило через организм человека,
производя полезную работу, прежде чем вернуться обратно
в атмосферу1.
1 Заметим, к слову, что мнения ученых касательно питательности грибов значительно расходятся. С аналитической точки зрения, вещество
Прямую противоположность грибам представляют водоросли;
они могут существовать в воде, не содержащей вовсе органических веществ, а только ничтожные количества неорганических
солей—но зато они не могут существовать без света. Под влиянием солнечного света и хлорофилла они разлагают углекислоту воздуха, выделяют из нее кислород, а из углерода вырабатывают органическое вещество, на первый раз, повидимому,
крахмал. Во всем этом убедиться очень легко. Возьмем обыкновенной речной воды, а еще лучше, прибавим к ней немного
какой-нибудь шипучей, например, сельтерской, содержащей
углекислоту, и комок зеленой тины и выставим на свет. Очень
скоро мы заметим, что наша тина как бы вспенится, то-есть
покроется мелкими пузырьками и всплывет наверх; эти пузырьки—выделенный водорослью кислород. В то же время при
помощи микроскопа мы могли бы убедиться, что в клеточках
водоросли, в зеленых зернах хлорофилла появился, если его еще
прежде не было, крахмал. Таким образом, мы убеждаемся, что
растворенная в воде углекислота разложилась, ее кислород
выделился пузырьками, а углерод пооіел на образование органического вещества—крахмала. Этот процесс совершается во
всех зеленых органах растений под влиянием света, потому-то
эти растения и не нуждаются в готовой органической пище;
они в состоянии сами вырабатывать ее под влиянием солнечного
света. Ничего подобного не представляют нам грибы. Итак,
вот к чему сводится антитеза между классами грибов и водорослей: одни зависят от присутствия готового органического вещества, но зато не зависят от света; другие не нуждаются в готовом
органическом веществе, но нуждаются зато в свете, при помощи
которого вырабатывают сами это органическое вещество из неорганических соединений, заимствуемых из воздуха и почвы.
Быть может, мне уже давно готовы возразить: речь зашла
о лишайниках, а между тем мы отвлеклись совсем в сторону,
занявшись изучением различия между грибами и водорослями.
грибов по обилию белковых соединений должно быть отнесено к числу
очень питательных, но этот вывод, повидимому, не подкрепляется физиологическими данными. Быть может, это противоречие зависит от того, что
белковое вещество грибов, как показывают новейшие исследования,
в грибной ткани тесно связано с клетчаткой.
20
К. А. Тимирязев, т. I.
305
Но дело в том, что мы этим путем только вернее шли к цели,
к пониманию особенностей в организации лишайников, В самом
деле, если мы подвергнем микроскопическому исследованию
любой из наших обыкновенных лишайников, то убедимся, что
он представляет такое же строение, как грибы, то-есть во всех
своих частях состоит из войлочной ткани, то рыхлой, то более
плотной. Мало того, если мы обратим внимание на их органы
размножения, на их споры, то увидим, что они образуются
совершенно так, как у тех грибов, которые мы назвали сумчатыми. Исследуем те блюдца, которые так ясно видны и у самого
обыкновенного лишайнпка, покрывающего старые заборы
(рис. 1); вырежем из них тонкий поперечный ломтик, и мы найдем в нем под микроскопом такие же продолговатые сумочки
с теми же восемью спорами, как мы видели, например, у сморчка.
Это сходство будет еще поразительнее, если мы будем сравнивать лишайники не со сморчками, а с другим мелким грибком,
носящим латинское название Peziza. У этого последнего мы
встретим такие же блюдцеобразные органы, разрезав которые,
найдем такие же продолговатые мешочки с восемью спорами,
как у лишайников. Одним словом, сходство микроскопического
строения лишайников и известной группы грибов, именно—
грибов сумчатых так велико, что некоторые ботаники, и едва
ли не одним из первых был наш профессор Бекетов, отказались
видеть в них самостоятельный класс растений, как ото было
общепринято. Бекетов прямо отвел им место в группе сумчатых
грибов. Сходство с грибами стало еще очевиднее, когда нашлись
лишайники, у которых споры образуются и таким образом,
как у наших обыкновенных шляпных грибов (базидиальных,
по научной номенклатуре), то-есть не в сумках, а посредством
оттяжки на концах особым образом развитых грибных нитей.
Но если по своему строению лишайники так близки к некоторым грибам, что их невозможно даже отличить, то по своему
образу жизни, по своим физиологическим особенностям они
резко от них отличаются.
Относительно способа питания тех лишайников, которые
покрывают кору деревьев, мы, конечно, не можем сказать ничего
определенного, для этого еще нужны опыты, но значительное
число лишайников живет в таких условиях, которые исключают
\
присутствие готовой органической пищи. Они первые появляются на поверхности голых скал или на песке, не содер- )
жащем другой растительности. Цепляясь за гладкую поверхность скал, они разрушают, разлагают горную породу, способствуют ее выветриванию и подготовляют почву для других
более сложных форм—мхов, и, наконец, цветковых растений.
Существуют даже указания, что лишайники могут поселяться
на такой, повидимому, непригодной для растительности почве,
как гладкая поверхность стекла. Их находят, например, на
оконных стеклах старых готических церквей. Весьма вероятно,
что эта способность поселяться на бесплодных поверхностях
и действовать на них разлагающим образом находится в связи
с другой замечательной особенностью лишайников—значительным содержанием в них одной из самых энергичных органических кислот—щавелевой. В некоторых лишайниках половина
всего сухого веса состоит из щавелевокислых солей. Эта кислота
содействует, вероятно,- растворению горных пород; и действительно, на поверхности клеточек войлочной ткани лишайников
находят отложения щавелевокислой извести, вероятно, происшедшей вследствие разложения горных пород, на которых произрастают лишайники. В свою очередь, эта особенность лишайников, вероятно, находится в связи с особенностью, подмеченною
в их процессе дыхания. Между тем как процесс дыхания большинства растений сводится на поглощение кислорода и выделение приблизительно равного объема углекислоты, причем весь
поглощенный кислород выделяется обратно в форме углекислоты,—при дыхании лишайников выделяется менее углекислоты, чем поглощается кислорода, причем значительная доля
кислорода усвояется, накопляется в организме; она-то, вероятно, и служит для образования кислот.
Всего сказанного достаточно, чтобы нас убедить в том, что
лишайники ведут образ жизни совсем отличный от грибов;
грибы требуют готовой органической пищи, а эти поселяются
на бесплодной почве, не содержащей органического вещества—•
очевидно, они сами способны его вырабатывать. Но мы уже не раз
говорили, что эта способность связана с присутствием хлорофилла. Только растения, содержащие хлорофилл, могут
под влиянием света разлагать углекислоту, этот повсеместно,
20*
307
в воздухе и в воде, распространенный источник углерода. Правило это не представляет исключений. Подтверждают его и лишайники. Между клеточками грибной ткани, в каждом лишайнике встречаются и другого рода клеточки, зеленого цвета. Они
находятся в тесной, неразрывной связи с бесцветными клеточками войлочной ткани, образуя чаще всего более или менее толстый слой под наружной поверхностью лишайника. По своему
виду они невольно напоминают некоторые водоросли; то они
шаровидны и разбросаны без видимого порядка, то соединены
группами или наподобие четок, то, наконец, вытянуты в длину,
образуя правильные ряды, простые или ветвящиеся. В каждой
из подобных форм можно было почти узнать какую-нибудь
известную водоросль.
Эти зеленые (иногда синевато-зеленые, буроватые), содержащие хлорофилл клеточки обозначают особым термином; их
называют гонидиями. Немало хлопот наделали ботаникам эти
гонидии, пока, наконец, удалось разъяснить их истинное значение. Сколько труда было, например, потрачено одним немецким ботаником, Швенденером, на то, чтобы доказать, что эти
зеленые клеточки вырастают на грибных нитях—факт, оказавшийся потом неверным.
Что эти гонидии совершенно сходны с водорослями, что некоторые лишайники представляются как бы нитчатыми водорослями, оплетенными грибными нитями лишайника, на это указывал известный немецкий ботаник Де-Бари—специалист по грибам. Но решающим обстоятельством, заставившим ботаников
изменить вековые воззрения на лишайники, было замечательное
открытие двух русских ботаников—Фаминцына и Баранецкого.
Этим ученым удалось, вымачивая долго в воде ткань некоторых
лишайников, высвободить из них эти зеленые клеточки, эти
гонидии, и тогда оказалось, что сходство их с водорослями еще
более полное, чем можно было ожидать. Оказалось, что освобожденные таким образом от оплетавших их грибных нитей лишайника клеточки эти способны обнаружить одно из самых типических жизненных явлений, характеризующих водоросли—•
способны размножаться при помощи зеленых движущихся
спор, уже знакомых нам зооспор. На глазах у этих наблюдателей зеленое содержимое гонидиальных клеточек делилось,
распадалось на несколько зооспор, которые, покидая оболочку
произведших их клеточек, уносились во все стороны. Стало
ясно, что гонидии не только похожи на водоросли, но могут
становиться настоящими водорослями, то-есть могут самостоятельно размножаться, как водоросли. Но что же в таком случае
будут сами лишайники? Фаминцын и Баранецкий не дали ответа
ва этот вопрос. По странной иронии судьбы, его дал тот самый
Швенденер, который, как мы только что видели, потратил
столько труда для того, чтобы первоначально притти к превратному заключению касательно происхождения этих гонидий.
Швенденер определенно высказал мнение, что лишайники не самостоятельные организмы, а сочетание гриба с водорослью,
что это грибы-водоросли. Можно себе представить всеобщее
изумление, даже бурю негодования, вызванную этим смелым
заявлением. Особенно задетыми за живое окаэались те именно
ботаники, которых это открытие всего более касалось, специалисты по лишайникам, так называемые лихенологи. Как, восклицали они, самостоятельный класс растений, изучению которого
мы посвятили чуть не целую жизнь, вычеркивается из списков,
оказывается раскассированным и включенным в кадры другого!
Некоторые в своих сетованиях доходили до лиризма: быть не
может, восклицали они, чтобы эти «милые лишайники», которые
мы изучали с такою любовью, оказались только жалкой водорослью, которую какой-то гадкий гриб оплел своими нитями,
как паук оплетает свою жертву. Но ни подобные, почти трогательные, сетования, ни гораздо менее симпатичное, глухое и слепое упрямство присяжных лихенологов не могли помешать
очевидности фактов. Более внимательное микроскопическое
исследование показало, что, действительно, не гонидии вырастают на грибных нитях лишайника, а, напротив, последние присасываются к гонидиям, то-есть водорослям, срастаясь с ними,
пуская даже в них отростки. Припомнился и давно известный
факт неудачи посевов спор лишайника. Никому, действительно,
не удавалось еще из спор лишайника получить взрослый лишайник. Споры прорастали, т. е. пускали трубочки и затем все
замирало. Теперь стало ясно, что так и быть должно, если природа лишайника сложная. Прорастая, спора должна найти соответствующую водоросль, и тогда только начнется их совместное
развитие в форме лишайника. Являлась мысль испробовать
искусственный синтез лишайника из составляющего его гриба
и водоросли. После первых успешных поисков в этом направлении Рееса и Воронина Шталю удалось, наконец, осуществить
этот синтез вполне, то-есть из споры лишайника и соответствующей водоросли получить настоящий взрослый лишайник.
В еще более совершенной форме, то-есть соблюдая все экспериментальные предосторожности
устраняющие все сомнения,
этот опыт синтеза лишайников был недавно повторен Бонье.
Следовательно, в настоящее время не может быть сомнения,
что лишайники не самостоятельные организмы, а нечто до тех
пор невиданное в природе, сочетание двух организмов из двух
совершенно разнородных классов растительного царства. Остановимся несколько более на оценке этого факта, выясним всю
его необычайность, его коренное отличие от других явлений,
которые с первого взгляда могут показаться сходными с ним.
Во-первых, очевидно, что нет ничего общего между этими
грибами-водорослями
и теми средними, или переходными,
формами, какие уже давно известны в ботанике и особенно
в зоологии, каковы, например, орниторннх, лепидосирен и пр.
Там мы имеем дело с простым организмом, только совмещающим
в себе некоторые признаки, характерные для представителен
двух различных классов,—здесь мы имеем дело с организмом
действительно сложным, происшедшим через срастание, полное слияние двух совершенно разнородных н самостоятельных
организмов, до того полное, что продукт является своеобразным
целым. Для обозначения этого совершенно нового явления
пришлось придумать новый термин—совместного житья, сожития, или симбиоза2.
1 Н а стерилизованной почве, в сосудах, куда не было доступа другим
организмам, кроме тех спор и водорослей, которые высеяны.
2 К а к только был констатирован факт симбиоза лишайников, со всех
сторон стали открываться факты еще более поразительного симбиоза
между растениями и животными. Так, например, некоторые инфузории
я морские черви содержат в себе живые водоросли, способные разлагать
углекислоту. Здесь мы, следовательно, в первый раз встречаемся с настоящими животно-растениями, то-есть организмами, исполняющими типические функции представителей того и другого царства. Рассмотрение этих
Еще большее сходство на первый взгляд это явление симбиоза
представляет с паразитизмом. Нам известны бесчисленные
случаи, где грибы, микроскопические и не микроскопические,
нападают на другие растения—случается даже один микроскоп
пический гриб нападает на другой, микроскопический яге гриб,
для того, чтобы питаться на его счет; почему бы не нападать
ими на водоросли?Это и случается в действительности, но только
между паразитизмом и снмбиозом существует коренное различие.
Паразит истощает, истребляет свою жертву, от симбиоза же
водоросли, то-есть гонидии, не только не погибают, но, очевидно, выносят пользу, их клеточки не страдают, а поправляются, разрастаются, принимают более цветущий вид. В чем
же заключается эта. обоюдная польза? Польза, которую гриб
извлекает из водоросли, очевидна; обладая хлорофиллом,
она может питать и его и себя насчет того повсеместно присутствующего источника углерода, углекислоты, которую они
извлекают из воздуха или из воды и разлагают при содействии
солнечного света. Отсюда понятна и возможность существования
лишайников на совершенно бесплодной почве, немыслимого
для других грибов, идущих не впереди, а только по пятам других растений, уже заготовивших необходимую им органическую
пищу. Труднее объяснить, какую пользу извлекают водоросли
от сожительства с грибами. Возможно, что эта польза двоякая.
Грибы, конечно, доставляют им в большем изобилии минеральные соли, которые сами, как мы видели, добывают, разрушая
горные породы, вероятно, при содействии выработанных органических кислот 1 . Без участия грибного организма водоросли,
по природе приспособленные к жидкой среде, едва ли могли
бы приходить в такое полное соприкосновение с твердой сухой
почвой, а следовательно, и так успешно извлекать из нее пищу.
С другой стороны, водоросли не были бы в состоянии выдерживать на открытой, незащищенной поверхности скал или коры
деревьев того периодического засыхания и замерзания, которое
в высшей степени любопытных фактов, однако, отвлекло бы нас слишком далеко от нашего предмета.
1 А может быть грибные нити доставляют и углекислоту, так как некоторые опыты делают вероятным, что лишайники пользуются не столько
углекислотой воздуха: сколько углекислотой, растворенной в воде.
так безнаказанно переносят лишайники. Этим свойством эти
последние, вероятно, обязаны грибному организму. Многолетние сухощавые грибы, так называемые древесные губки,
как известно, также легко переносят засуху и холод; напротив,
водоросли при этом наверно погибли бы (или, пожалуй, превращались бы в покоящиеся органы). Под защитой оплетающей
их грибницы они безнаказанно переживают и засуху и морозы,
без перерыва продолжая свое развитие, как только наступят
благоприятные условия влажности и температуры.
Таким образом, симбиоз является прямой противоположностью паразитизма. Паразитизм это борьба на смерть, симбиоз—мирная ассоциация, основанная на взаимной пользе.
Нам так прожужжали уши словом борьба, к тому же понимаемым совершенно превратно, в самом грубом, узком смысле,
что как-то особенно отрадно остановиться мыслью на этом
мирном уголке природы, где два бессознательных существа
подают пример разумного союза, направленного к обоюдной
пользе.
Теперь нам понятна роль этих загадочных лишайников
в общей экономии природы. Выступит ли где из волн океана
подводный утес; оторвется ли обломок скалы, обнажив свежий,
не выветрившийся излом; выпашется ли валун, века пролежавший под землею,—всегда, везде, на голой, бесплодной поверхности, первым появляется лишайник, разлагая, разрыхляя
горную породу, превращая ее в плодородную почву. Он забирается далее всех растений на север, выше всех в горы; ему нипочем зимняя стужа, летний зной; медленно, но упорно завоевывает он каждую пядь земли, и только по его следам, по проторенному им пути, появляются более сложные формы жизни. В чем
же тайна этого успеха? Concordia res рагѵае crescunt 1 , как будто
отвечает нам каждое из этих ничтожных существ. В согласии,
в союзе сила. В союзе между кем? Конечно, не между паразитом
и его жертвой, кончающемся гибелью обоих. Нет, в союзе
между двумя равно плодотворными началами, между тем,
которое черпает свою пищу из земли, и тем, которое заимствует
свои силы у их чистейшего источника—у света. Nil sale et sole
1
Малые начинания растут благодаря согласию.
utilius.* В этих словах вся тайна растительной жизни. Свет
солнца и соль земли—вот два равно необходимые начала жизни.
Вот где кроется тайна успеха, делающая из этой parva res1
могучего пионера растительного мира. Вот ключ к загадке,
которую предлагает мыслящему человеку это маленькое растение-сфинкс.
Ничтожный лишайник в своей скромной сфере разрешил
свою загадку жизни, а человечество стоит беспомощно перед
грозным сфинксом будущего, тщетно пытаясь разгадать его
загадку: что нужно сделать, чтобы свет цивилизации стал достоянием того, кто, помогая его добыванию, получает в свой удел
пока лишь мрак и бедность? Что нужно сделать, чтобы «Соль
земли» могла бы стать и «Светом миру»?
Буквально:
малая вещь, мелочь.
* H e r ничего полезнее соли и солнца.
1
Ред
І У
ФОТОГРАФИЯ ПРИРОДЫ
И ФОТОГРАФИЯ В ПРИРОДЕ 1
Р
овно триста лет тому назад, в исходе великого X V I века,
великого по той роли, которую он сыграл в развитии искусств и наук и еще более в освобождении человеческого
духа от тяготевших над ним вековых оков, под ясным небом Италии, на берегу чарующего Неаполитанского залива, сделано было
открытие, плодами которого вполне воспользовались только мы,
люди конца девятнадцатого. Сделал его оригинальный человек,
наполовину талантливый ученый, наполовину мистик, фантаст
Джан Батиста Порта, портрет которого, сопровождаемый,
согласно духу времени, символическими эмблемами его дея1 Читано 19 марта 1895 года на утреннем чтении учебного отдела Общества распространения технических знаний. К сожалению, эти утра,
предназначавшиеся для учащегося юношества и охотно посещавшиеся,
должны были прекратиться.
тельности, украшает заголовок его Magia Naturalis.
Открытие это заключалось
в том, что, если в темной
комнате (или в ящике) сделать отверстие, а еще лучше, если прикрыть это
отверстие стеклянной чечевицей, то на противоположной стене мы увидим
изображение находящихся
перед ним домов, деревьев,
садов, статуй, а главное, в
наивном восторге восклицает ГІорта, движущиеся
изображения прохожих, до
того ясные, что мы можем
узнать между ними своих
знакомых. Этот прибор,
камера-обскура,
навеки
обессмертил имя Джан Батиста Порта 1 .
И, — что
особенно любопытно,—эта
Magia Naturalis была только разросшимся изданием J > u c - і
книги, которую талантливый Порта издал в первый раз, когда ему было всего 15 лет,—
факт, который особенно полезно подчеркивать перед этой
аудиторией 2 , так как он наглядно иллюстрирует меткие слова
одного французского писателя: «le génie c'est une idée de la jeunesse développée par l'âge mûr» (гений—это идея юности, разработанная зрелым возрастом).
Порта не только изобрел камеру-обскуру, он дал обстоятельное изложение теории стереоскопического видения; более того,
1 Самый принцип камеры-обскуры был, впрочем, известен
еще Леонардо да Винчи.
2 Л е к ц и я , как сказани, читана д л я учащихся в средних учебных заведениях.
он намекал, что устроил трубу, в которую издали можно читать
книгу или узнавать знакомых, но торопился добавить: «об этом
лучше умалчивать или говорить в таких темных выражениях,
чтобы вас понимали только люди умные». Осторожный неаполитанец словно предчувствовал, что пришлось через несколько
лет испытать его гениальному флорентийскому соотечественнику за слишком смелое разглашение того, что можно видеть
в телескоп.
Но, конечно, и сам Порта, несмотря на свою восторженную
веру в «натуральную магию», то-есть, попросту,в физику и в ту
мощь, которую она сообщает человеку над природой,—сам
Порта, конечно, не поверил бы, если бы ему сказали, что видимое им изображение можно будет сохранить 1, что придет время,
когда тысячи туристов, с его камерами через плечо, будут стекаться издалека в его родной город и будут закреплять на стекле
его очаровательные картины: эти стройные пинии, этот вечно
курящийся Везувий, а может быть, унесут с собой и клочок
этого синего неба, этого лазурного залива,—так как фотография в естественных красках, несомненно, уже совершившийся
факт. Вот еще другая мысль, которую также полезно подчеркивать: наука за последнее столетие до того избаловала нас,
приучив к ежедневным новым чудесам, что почти притупила
в нас способность удивляться,—ту способность, которая,
по словам великого ученого, является источником научной
пытливости, началом всякого знания.
Но пока это новейшее открытие фотографии еще не достигло
полного совершенства и, во всяком случае, еще не скоро сделается достоянием простого любителя природы, остановимся
на других, более скромных, но уже вполне прочных и общедоступных завоеваниях фотографии в применении к воспроизведению картин природы, если не в естественных красках, то с верной передачей соответствующих этим краскам полутонов. Еще
недалеко то время, когда фотографический ландшафт представлял нам под однообразно белым небом еще более сплошную черную массу растительности, то-есть лишал природу
1 Известно, что жена Дагерра со страхом спрашивала у Дюма, уж не
сошел ли с ума ее муж, так как он упорно уверяет, что добьется сохранения изображений камеры-обскуры.
всей ее обычной прелести: этих облаков, бесконечно разнообразных в своих формах и переливах света и тени, этих мягких
оттенков зелени.
Посмотрим, в чем же заключались трудности, с которыми
приходилось бороться фотографии и которые она успела теперь
преодолеть. Сущность химического процесса, совершающегося
на чувствительных поверхностях, употребляемых в обыкновенных фотографических приемах, как известно, заключается в разложении серебряных солей—соединений серебра с хлором, бромом и иодом. Показать целой аудитории, в чем заключается
это превращение, крайне трудно; да и самый процесс, как это
ни покажется странным, несмотря на почти полстолетие, в течение которого им пользуются и успели до тонкости усовершенствовать его техническую сторону, еще весьма неудовлетворительно разъяснен. Для того, чтобы наглядно показать, как
действует свет в подобных химических процессах, остановимся
на других, близких, но более простых явлениях. Ртуть представляет два соединения с хлором: одно легко растворимое в воде, известную по своей ядовитости сулему, и другое нерастворимое, каломель. Последнее содержит менее хлора, чем первое, и,
следовательно, может произойти из него путем разложения, тоесть отщепления части хлора. Это разложение происходит и под
влиянием света, и самое явление может быть наглядно показано
при помощи следующего блестящего опыта. В этой пробирке у
меня раствор сулемы. Если я помещу его в точке, в которую собирается пучок лучей, исходящих от электрического фонаря, то,
благодаря совершенной темноте в аудитории, ее увидят разве
только сидящие вблизи, большинство же присутствующих вовсе
не увндят ее. Но не пройдет и нескольких секунд, как она словно вспыхнет ослепительным светом, который осветит самые отдаленные уголки этой громадной залы. Объяснение опыта очень
просто: как только луч света упал на прозрачный и, следовательно, почти не отражающий его раствор сулемы, он вызвал ее разложение, превращение в нерастворимый каломель, и блестящие,
белые, как снег, кристаллы его теперь рассеивают, отражают
во все стороны падающие на них лучи, и пробирка становится
как бы источником, излучающим свет нашего фонаря. При помощи этого опыта мы наглядно убеждаемся в разлагающем
действии света. Но этот опыт нас научает еще следующему.
Он идет так, как мы видели, только под условием, чтобы взят
был не просто раствор сулемы, а смесь этого раствора и какогонибудь легко окисляющегося органического тела, например,
щавелевой кислоты; тогда освобождающийся хлор затрачивается на ее окисление. Другими словами, разложение вещества
светом идет успешнее, когда одни из продуктов разложения
(в настоящем случае хлор) сам вступает в новое соединение,
а не остается свободным. Это соображение играет важную роль
и в практике фотографии.
Только что я позволил себе выражение, которое,—будь
оно верно в буквальном смысле,—сделало бы занимающее нас
явление загадочным или даже совершенно непонятным: я сказал,
что раствор сулемы невидим потому, что совершенно прозрачен,
то-есть не задерживает, не поглощает лучей света. Но в таком
случае произведенный опыт был бы физическим абсурдом:
он находился бы в противоречии с самым общим физическим
законом—законом сохранения энергии. Энергия светового
луча, производя химическую работу разложения, должна затрачиваться—исчезать. Наоборот, луч света, вошедший и вышедший из тела без поглощения, не может вызвать в нем химической работы 1. Следовательно, свет должен был поглощаться
и раствором сулемы, несмотря на то, что мы этого не замечаем.
Это противоречие объясняется тем, что раствор сулемы поглощает лучи, невидимые для нашего глаза. Этим невидимым
лучам долгое время приписывали исключительное -значение,
называли их химическими, в том предположении, что им особенно
свойственно вызывать химические процессы. Называли их также
и актиническими, что уже совершенно неостроумно, так как
в переводе значит: лучистые лучи. Но вскоре оказалось, что это
предположение о каких-то особенных химических лучах возникло оттого, что большая часть химических явлений, зависящих
от света, так называемых фотохимических процессов, обративших на себя внимание, случайно зависела от одной и той же
группы лучей. Чем многочисленнее становились случаи этих
1 Подобный
абсурд, однако, высказывался некоторыми немецкими
ботаниками, полагавшими, что свет может влиять на рост растения, хотя бы
при этом и не. поглощался, а только пронизывал его-
явлений, тем более убеждались, что никаких специально химических лучей не существует, что всевозможные лучи света,
видимые, так же, как и невидимые, способны вызвать химическое
действие, но в каждом определенном случае действует известная
определенная группа лучей. Посмотрим, от каких же свойств
действующих лучей и изменяющихся тел зависит это соотношение. Е С Л И луч солнечного ИЛИ электрического света, проникающий через узкую щель в темной комнате, мы пропустим через
призму, то, вместо изображения щели, на стене или на экране
получим цветное изображение, — так называемый спектр,—из
семи цветов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого,
синего и фиолетового. Если мы будем исследовать при помощи
химически изменяющегося вещества (хотя бы нашей смеси из
сулемы и щавелевой кислоты) темное пространство за фиолетовой частью, то убедимся, что там существуют еще невидимые
лучи, вызывающие это разложение. Обратно, если очень чувствительными приборами для определения температуры будем
исследовать нагревающее действие спектра, то заметим, что
в темном пространстве за красными лучами будет еще обнаруживаться нагревание. Следовательно, в белом свете заключаются
как разноцветные, видимые, так и невидимые лучи. Все эти
видимые H невидимые лучи могут действовать химически;
посмотрим же, в каком случае действуют одни какие-нибудь
известные лучи, а в каком совсем иные. Для этого остановимся
на таком случае, где действуют видимые лучи, так как их действие легче обнаружить. Мы только что убедились, что лучи
для того, чтобы действовать, должны поглощаться. Но поглощение тех или других видимых лучей данными телами определяет то, что мы называем их цветом. Поставим на пути нашего
луча, прежде чем он пройдет через призму., какое-нибудь прозрачное цветное тело—и мы увидим, что в нашем спектре выпадут, будут отсутствовать известные лучи, задержанные этим
телом. Берем желтую жидкость и замечаем, что в прошедшем чрез
нее луче света отсутствуют фиолетовые, синие, голубые и часть
зеленых лучей. Берем, наоборот, сииюю жидкость—и увидим,
что она не пропустит все красные, оранжевые, желтые и другую
часть зеленых лучей. Следовательно, при помощи этих двух
жидкостей мы разделяем белый свет на две группы—желтую
и синюю. Если мы заставим свет этих двух пучков лучей упасть
на одну и ту же поверхность, то получим белый свет. Такие
две группы цветных лучей, которые в сумме дают белый свет,
называются взаимно-дополнительными1. Следовательно, цвет
всякого тела является дополнительным цвету той группы лучей,
которую это тело поглощает, так что, зная цвет лучей, которые
пропускаются телом, мы знаем, обратно, какие лучи оно поглощает. Но мы только что видели, что тело может изменяться
химически только в тех лучах, которые им поглощаются. Отсюда
для нас очевидно, что данное тело может изменяться только
в лучах (видимых) дополнительного цвета.
Это правило, которое теперь для нас является очевидным
выводом из закона сохранения энергии, было, однако, открыто
задолго до провозглашения этого закона. Открытие это обыкновенно приписывают Гершелю, но оно было сделано задолго
до него, именно в 1818 году в г. Митаве известным немецким
ученым Гротгусом. Гротгус высказал вполне определенно
то положение, что химическое разложение цветных тел зависит
от лучей дополнительного цвета, то-есть желтые тела будут
разлагаться синими лучами, синие желтыми и т. д. Гершель доказал верность этого правила в применении к выцветанию, линянию пигментов, извлекаемых из лепестков различных цветов.
Мы можем доказать верность положения Гротгуса в несколько
секунд при помощи следующего изящного опыта. На экране
светлое поле, которое дает фонарь, разделено на две половины—
синюю и желтую, что достигается цветными стеклами, загораживающими каждое соответствующую половину объективного
стекла. Невдалеке от фонаря мы помещаем две пробирки
с желтою жидкостью так, чтобы одна была освещена желтыми,
а другая синими лучами. Жидкость эта—смесь хлорного железа
и железосинеродистого калия. Под влиянием света хлорное
железо превращается в хлористое, а это последнее образует
синий осадок с железосинеродистым калием2. И действительно,
1 Опыты с комплементарными цветами были показаны при помощи превосходного прибора Дюбоска, снабженного призмой с очень малым углом.
2 Подобно тому, как хлорная ртуть (сулема) превращается в хлористую (каломель). Сходство реакций распространяется и на второе условие—
необходимость присутствия органического вещества, щавелевой кислоты.
не проходит и нескольких секунд, как жидкость пробирки
в синей половине поля становится непрозрачной—черной,
между тем как жидкость в пробирке желтой половины поля
остается попрежнему прозрачной.
Следовательно, всякое тело разлагается только лучами,
цвет которых дополнителен цвету тела, или лучами невидимыми, но тем не менее поглощаемыми. Случилось так, что большая часть фотохимических явлений, первоначально обративших на себя внимание, касалась тел, которые поглощали лучи
синие, фиолетовые и темные, ультрафиолетовые,—откуда и сложилось представление, что синий свет действует химически,
актиничен, а желтый свет не действует, не актиничен. Отсюда
и основное правило фотографов освещать свои темные комнаты
желтым или красным светом и т. д. Правило это утратило свою
всеобщность уже с той поры, когда Гершель, например, показал,
что синий пигмент цветов выцветает в желтом свете; но самое
поразительное его опровержение доставлено лучшим знатоком
теории фотографических процессов—Абнеем. Окрашенные в зеленый цвет тела поглощают не только дополнительные им красные лучи, но и невидимые, находящиеся за красными, о присутствии которых мы узнаем по их способности нагревать тела.
Абней приготовил особые видоизменения серебряных солей
с зеленой окраской. Эти соли поглощали темные инфракрасные
тепловые лучи, и при их помощи оказалось возмо?кным фотографировать теплые тела, например, котелок с кипятком,
в совершенной темноте. Этот опыт, следовательно, доказал, что
фотографическое действие могут оказывать не только все видимые лучи, но также и невидимые как за фиолетовым, так и за
противоположным ему красным концом спектра.
Возвращаемся теперь к нашему вопросу: в чем же заключалось затруднение при фотографировании растительности и облаков? Растение зеленого цвета,—следовательно, не посылает
ни в наш глаз, ни в камеру синих, фиолетовых, а также и ультрафиолетовых лучей; отсюда оно почти не оказывает действия
на обыкновенные фотографические пластинки, чувствительные
к синей половине спектра (будем так ее называть, ради краткости).
На негативе оно выходит бесцветным, а, следовательно, на позитиве черным. Наоборот, синее небо посылает те же лучи,которые
21
к. А. Тимирязев, т. 1.
321
одни оказываются деятельными и в белом свете облаков,—
откуда этот резкий для глаза контраст между синевой неба
и белизной облаков почти сглаживается. Как же добиться того,
чтобы фотографическая пластинка видела природу такою же,
какою видит ее наш глаз, то-есть видела бы и желтые, и зеленые,
и красные тона так же, как она видит синие и фиолетовые?
Мало того, для нашего глаза зеленый, а особенно желтый, свет
гораздо ярче синего и красного. Необходимо, чтоб и это отношение сохранилось на нашем изображении. Как же сделать,
чтобы фотографическая пластинка, нечувствительная к желтому
и зеленому свету, стала бы к нему не только чувствительна,
но и более чувствительна, чем к синему и фиолетовому?
Разрешение этой, казалось бы неразрешимой задачи нашел
берлинский ученый, профессор Г. Фогель, еще в 1873 году,
и должно удивляться, как медленно его прием проникал в практику, да и в настоящее время едва ли его можно считать достаточно распространенным, особенно в среде многочисленных
любителей фотографии. Открытие Фогеля заключалось в следующем: если к светочувствительной серебряной соли мы прибавим
какое-нибудь цветное тело, поглощающее известную группу
лучей (что будет видно по присутствию в его спектре темной
абсорбционной полосы), то на этот раз наша пластинка сделается
чувствительной не только к тем лучам, которые поглощаются
серебряной солью, но и к тем, которые поглощаются этим телом.
Мы должны себе это представить таким образом: частицы цветного тела, поглощая свет, приходят в движение, которое передается и частицам серебряной соли, приводит их в движение,
расшатывает и вызывает в них разложение. Так, если мы возьмем эозин, красящее вещество пурпурового цвета, то оно будет
поглощать дополнительный желто-зеленый свет,—в этой части
спектра у него будет черная абсорбционная полоса. Теперь эти
желто-зеленые лучи будут действовать на нашу пластинку, как
прежде действовали только синие, фиолетовые и ультрафиолетовые. Мы получим, следовательно, пластинки, которые будут
чувствительны к зеленому свету, посылаемому в нашу камеру
зеленой растительностью. Мало того, белые облака будут
посылать уже более света, чем синее небо, так как сверх синих
и прочих лучей они посылают еще зеленые и желтые, и эти лучи
на этот раз будут оказывать действие. Но этого обыкновенно
еще недостаточно; зеленые и желтые лучи будут действовать,
но потому ли, что они действуют, так сказать, по передаче,
чрез посредство красящего вещества, или по какой иной причине,—их действие будет все еще слабее действия синих и фиолетовых лучей. Зеленая листва будет выходить светлой, но будет
все еще слишком темна в сравнении с синим цветком; облако
будет выделяться на синеве неба, но оно не будет белым. Наша
фотография еще не даст нам верного отношения тонов. Этого
можно достигнуть, только значительно ослабив действие синих
и фиолетовых лучей так, чтобы действие зеленых и желтых
взяло над ними перевес, и в такой именно мере, в какой последние для нашего глаза ярче первых. Для этого мы пропускаем
проникающий в камеру свет чрез умело подобранные бледножелтые стекла 1 . Прошедший чрез бледножелтую среду синий
свет будет ослаблен, а зеленый и желтый сохранят свою силу;
таким образом, и для наших пластинок они окажутся самыми
яркими, как и для глаза. Цветные вещества, которыми прокрашивают пластинки, чтобы сделать их чувствительными
к лучам, не действующим непосредственно на серебряные соли,
называют сенсибилизаторами, а самые пластинки—изохроматическими или ортохроматическими. Желтые стекла или пленки,
еще более усиливающие действие желтых и зеленых лучей,
называют светофильтрами.
Приведем наглядный случай применения этих изохроматических пластинок и светофильтров. Пучок полевых цветов снят
мною два раза: первый (рис. 2) раз на обыкновенной пластинке,
а второй (рис. 3)—на изохроматической со светофильтром.
Результат очевиден: между тем как первый снимок одинаково
оскорбляет и глаз эстета и опытный глаз ботаника своими
почти исключительно белыми и черными тонами, второй целым
рядом мягких полутонов совершенно верно передает относительную яркость окраски различных цветов. Прежде всего,
в первом букете мы видим синие васильки такими же белыми,
1 Я
н а х о ж у наиболее удобным употреблять тонкие стеклышки (так
называемые покровные), облитые коллодиумом, окрашенным в желтый
цвет (ауранцией). Таких стеклышек можно заготовить целую скалу различных оттенков. Помещаются они н а картонных диафрагмах.
21*
823
Рис. 2.
Фотография
обыкновенная (негатив
К.
Тимирязева)
Рис. 3. Фотография
ческая (негатив
К.
ортохроматиТимирязева)
как и белые цветы поповника; яркожелтые середки этих последних так же, как выставляющиеся из-за них желтые ромашки,
являются совершенно черными. Такими же черными представляются и торчащие сверху желтые лютики и расположенные
влево светлозеленые листья бальзамина. Цветки лютика, сверх
того, наглядно показывают резкий контраст, который представляют блики отраженного с их гладкой поверхности белого
света, в сравнении с рассеянным желтым светом остальных
частей,—контраст, в такой степени не существующий в природе. Наконец, в верхней части пучка, влево, замечаем цветок
куколя, такой же белый, как васильки и поповник, когда на деле
он лиловато-малиновый.
Теперь обратимся к тому же пучку, снятому через минуту,
но на изохроматической пластинке со светофильтром. Васильки
на нем уже не белые, и он совершенно верно передает их действительное отношение к белизне поповника. Все желтые части
(середки поповника, цветки ромашки и лютика), как и светлозеленые листья бальзамина (в отличие от более темнозеленых
листьев калины), вышли светлыми. Даже тон куколя не тот,
что у василька. Следовательно, трудная задача передачи красок в монохроме осуществлена вполне удовлетворительно.
Понятно также, что если этот способ правильно передает тона
того элемента, из которого слагаются листва деревьев и ковер
лугов, то-есть отдельного листа, то он разрешает и передачу
целого, то-есть передачу зеленых поверхностей ландшафта,
в последовательном ряде полутонов, вместо прежних однообразно черных масс 1 . Точно так же сохраняется контраст
между синевой неба и белизной плывущих по нему облаков.
Следовательно, художественно верная передача красок соответствующими черными полутонами в применении к фотографированию ландшафтов—задача вполне разрешенная2.
2
Итак, для того, чтобы получить верное изображение зеленых частей ландшафта, оказалось необходимым сообщить
чувствительной поверхности наших пластинок дополнительную
окраску — фиолетовую или, вернее, пурпурную, при помощи
эозина, цианина или какого другого пигмента. Факт этот уже
более или менее известен каждому фотографу (а кто теперь
не фотограф?), но далеко не всякому известен другой, неизмеримо более важный факт,—что в тот момент, когда мы фотографируем зеленую листву, в ней самой происходит фотографический (то-есть фотохимический) процесс, от которого зависит
существование жизни на земле, а следовательно, и наше собственное. Случай, впрочем, не редкий; мы на каждом шагу
изучаем и высоко ценим то, что служит только для нашего
удовольствия или приятно щекочет наш ум, и не имеем никакого
представления о том, без чего не прожили бы и одного дня;
многие даже гордятся полною бесполезностью своих знаний
1 Подробнее этот вопрос разобран мною в заметке:
«Несколько
слов
о фотографировании
растений»,
помещенной в № 3
«Фотографического
обозрения»
s a 1896 год (см. том X . Ред.).
К сожалению, Приложенные
к статье фототипии не передают действительного контраста моих подлинников.
2 Н а лекции это положение было иллюстрировано проложенными на
экране диапозитивами, изготовленными мною и моим сыном н а изохромных п л а с т и н к а х . Коллекции этой с тех пор присуждены две серебряные
медали: на Московской фотографической и Всероссийской художественнопромышленной выставке в Нижнем Новгороде.
и занятий и высказывают высокое презрение к тем знаниям,
которым порою обязаны даже своею жизнью.
Человек питается животной и растительной пищей, животные также; в конце концов, все питаются растением—растение же питается воздухом. Это питание совершается в зеленых
листьях и не иначе, как под влиянием солнечного света. Свет
этот необходим для того, чтобы разложить углекислоту, доставляемую листу воздухом, и превратить ее в органическое вещество—крахмал, сахар, масла, белковые тела, из которых состоит
растительная пища. Первое вещество, относительно образования которого из углекислоты мы знаем достоверно,—это
крахмал. Этот крахмал составляет главную (по количеству)
часть хлеба и картофеля и почти исключительную составную
часть киселя, саго и т. д. Этих кратких сведений достаточно
для нашей цели — для объяснения, в чем заключается фотохимический процесс, совершающийся в зеленом листе и подготовляющий пищу на весь органический мир. Началом его мы можем
считать разложение углекислоты воздуха, приходящей в прикосновение с листом, — выделение из нее кислорода, а концом —
отложение в этом листе крахмала. Это, так сказать, две стороны
одного и того же явления превращения неорганического вещества в органическое. Но можем ли мы узнать, от каких лучей
солнечного света зависит этот процесс? А что он зависит от света,
доказывается тем, что в отсутствие света растение не питается,
не прибывает, а убывает в весе. То, что нам известно о фотографическом действии света, может нас прямо навести на мысль,
что цвет лучей наиболее деятельных в этом процессе должен
быть дополнительный зеленому цвету листьев — это будет смесь
красных лучей с синими и фиолетовыми, то-есть пурпуровый
свет. Еще лучше мы это узнаем, посмотрев, какие лучи поглощают растворы того тела, которое окрашивает листья, — хлорофилла. Мы увидим, что они поглощают красные, а также синие
и фиолетовые лучи; в этих частях спектра они дают черные
абсорбционные полосы,—здесь-то мы, очевидно, и должны
ожидать самого энергичного действия света. Опыт вполне подтвердил верность этого предположения. Доказать, что именно
в этой части спектра происходит разложение углекислоты,
довольно хлопотливо; тем не менее, это мне вполне удалось еще
в 1874 году 1 . Гораздо нагляднее можно доказать, как уже
сказано, другую сторону того же процесса, то-есть показать,
что именно эти лучи вызывают в листе образование крахмала.
Это доказательство основывается уже на чисто фотографическом приеме. Вот в чем он заключается. Крахмал, как известно, окрашивается растворами иода в темносиний, при достаточном количестве иода —почти в черный цвет. Стоит сорвать
любой какой-нибудь лист, вымочить его в спирте, который
извлечет из него зеленый хлорофилл, и, когда он таким образом
обесцветится, погрузить в раствор иода, чтобы убедиться, что
он совершенно почернеет от находящегося в нем крахмала.
Такой лист, понятно, негоден для опыта. Начинать опыт нужно
с листа, в котором именно крахмала и не находилось бы. Такой
лист получается, если растение оставить на день — на два в темноте; тогда нетрудно убедиться, что находившийся в нем крахмал исчез — он превратился в сахар, который растворился
и потек к молодым растущим частям растения. Для того, чтобы
быть уверенным, что в листе нет вовсе крахмала, выбьем из него
сечкой (пробочным сверлом, употребляемым в лабораториях)
кружок, как показано на рисунке 4 справа, и попробуем, как
сказано, иодом: кружок не окрасится. Выставим растение с нашим листом на несколько часов на солнечный свет, высечем
новый кружок, попробуем иодом и убедимся, что на этот раз
он совершенно почернеет (кружок налево). Мы можем воспользоваться этим приемом, чтобы вызывать в живом листе настоящие фотографические отпечатки; стоит накрыть его негативом
и выставить на свет: получится отложение крахмала, соответствующее светлым частям негатива; но оно будет невидимое,
его нужно проявить, и для этого, как мы только что видели,
прибегают к иоду. Собственно говоря, если несколько часов
пристально смотреть на какой-нибудь лист лопуха, то на нем
должен отпечататься портрет, стоит только для этого живой
лист пропустить в камеру на место чувствительной пластинки.
Едва ли только у кого хватит на то терпения. Но зато можно
1 Т а к что Фогель, открытие которого было встречено с недоверием,
уже в первом издании своей известной книги мог с с ы л а т ь с я на мои физиологические опыты, как на одно из подтверждений верности его основной идеи.
-
А. 1 1
шш
4
сделать следующий, более
интересный опыт. Вместо
того, чтобы выносить на
свет целое растение, оставим его в темной комнате,
но на один из листьев отбросим яркий солнечный
спектр. По прошествии нескольких часов проявим
иодом и убедимся, что отложение крахмала получится не на всем протяжении спектра, а только в тех его частях, которые поглощаются
хлорофиллом, — другими словами, на живом листе совершающимся в нем процессом питания отпечатается крахмалом
спектр хлорофилла 1. Этот опыт еще более наглядным образом,—
если и не таким точным, как опыт с разложением углекислоты,—•
доказывает роль, которую играет это вещество в природе;
и должно сознаться, что именно успехи фотографии пролили
свет на эту вековую физиологическую загадку. Через год с небольшим после открытия действия сенсибилизаторов Фогелем
я высказал мысль, что хлорофилл— это естественный сенсибилизатор, поглощающий известные лучи солнечного света
и передающий их колебание частицам углекислоты, точно так же,
как это происходит в процессах ортохроматической фотогра*
фии. Известно, что хлорофилл можёт быть сенсибилизатором
и в узком фотографическом смысле, то-есть может с успехом
заменить эозин, цианин и другие предметы в процессе приготовления ортохроматических -пластинок, особенно чувствительных к красному свету. Аналогию между процессом, совершающимся в живом зеленом листе, и фотографией можно провести
и еще далее. Зеленое вещество хлорофилла (хлорофиллин)
Рис.
4. [См. текст
стр.327—328.
Ред.)
1 Подробности этого опыта см. в моей статье: «Enregistrement photographique de l a fonction chlorophyllienne par la plante vivante» в «Comptes
Rendus» Французской академии за 1890 год. (Сборник «Солнце, жизнь
и хлорофилл», ГИЗ, 1923. В настоящем издании см. том I I . См. также
рис. 7 в речи „Космическая роль растения"; том І , с т р . 391, настоящего
издания.
Ред.).
во всех растениях неизменно сопровождается
желтым пигментом,играющим, повидимому, роль
наших желтых светофильтров, умеряющих действие сине-фиолетовой части
спектра. Но более близкое
Рис. 5. Фотография
значение этой подробности
устройства зеленого листа еще не выяснено.
жизнью
Обнаруживая такое сходство с практикой фотографии,
деятельность листа представляет еще следующие преимущества
перед этим изобретением человека. Фотографу приготовление
его ортохроматических пластинок стоит больших хлопот,—
растение возлагает эти хлопоты на тот же луч солнца. Сенсибилизированную поверхность листа, на которую действует
свет, оно приготовляет автоматически, при помощи того же света.
Всякий знает, что в темном погребе растение получается не зеленое, а бледножелтое, этиолированное, как выражаются ботаники; таков, например, наш зимний салат-цикорий и т. д. Возьмем плоский деревянный ящик, на дно его положим кусок войлока и, посеяв по нему обыкновенный кресс, оставим все в совершенной темноте. Кресс скоро вытянется и представит густую
щетку — почти сплошную поверхность из своих первых совершенно желтых листочков. Теперь вырежем в листе картона
сквозными буквами какое-нибудь слово и, прибив гвоздиками
этот картон к краям ящика, вынесем все на свет (но не на солнце).
Через несколько часов, сняв картон, увидим на желтом фоне
нашего газона из кресса надпись, выступившую зелеными буквами. Рисунок 5 представляет фотографический снимок опыта,
показанного на лекции1, снимок, снятый, понятно, на ортохроматической пластинке; для обыкновенных это была бы неразрешимая задача, так как они бессильны передать контраст желтого фона и светлозеленой надписи,—еще наглядное доказательство преимуществ ортохроматического способа. Таким
Т о ч к и или черточки, которыми испещрено все поле рисунка—отдельные листочки кресса.
1
образом, луч солнца сначала вырабатывает в растении сенсибилизатор-хлорофилл1, затем уже при его содействии вызывает
самый величественный из фотографических процессов, совершающихся на нашей планете, — тот процесс разложения углекислоты и . образования органического вещества, благодаря
которому она только и становится обитаемой.
Как часто в последнее время приходится выслушивать псевдофилософские сетования на тему, что наука лишает природу
ее поэтического ореола, стесняет полет философской мысли.
Можно ли сказать это в настоящем случае? Факт, что в то же
мгновение, когда зеленые лучи солнца рисуют на пурпуровой
поверхности нашей чувствительной пластинки изящный отпечаток листа, его пурпуровые лучи вызывают в зеленой ткани
этого листа величественный процесс, с которым связано существование всего человечества, этот факт не заставляет ли он нас
от обычного действия, которое мы привыкли повторять автоматически, нисколько в него не вдумываясь, переноситься мысленно
к одному из самых поразительных проявлений связи между
солнцем и жизнью, уже поражавших младенчески-поэтическое
воображение древних огнепоклонников и мимо которых эти
современные псевдофилософы частенько проходят и не подозревая об их существовании?
Но благодетельное действие солнечного луча не ограничивается одним снабжением пищей всех живых существ; он ограждает их не только от голода, но и от других опасностей, грозящих жизни. Исследования последних лет поставили вне сомнения факт, что солнечные лучи являются одним из самых могущественных средств для уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Итальянская поговорка давно указывала на то, что
куда проникает солнце, туда реже заглядывает врач. Английский ученый Маршаль Уорд доказал этот факт при помощи
1 Мне удалось выяснить химическую сторону и этого явления. Показав сначала существование продукта восстановления хлорофилла, который,
окисляясь на воздухе, превращается в хлорофилл, я затем нашел это тело
и в этиолированных растениях и предложил назвать его
протофиллином.
Ни н а чем не основанные претензии на вторичное открытие этого тела
были предъявлены Г. Монтеверде на I X Съезде естествоиспытателей в Москве в 1894 г. (см. мою статью в «Comptes Rendus» Французской академии
за 1895 год: «La protophylline naturelle et la protophylline artificielle»).
приема, который мы не
можем назвать иначе, как
фотографическим. На желатинной пластинке производится обычным способом посев какой-нибудь
болезнетворной бактерии
(в данном случае бактерия
тифа). Культура эта покрывается
непрозрачной
пластинкой,
в которой
прорезано слово Typhus,
и выставляется на солнце.
В результате оказывается, Рис. 6. Фотография смертью
что между тем как на всех
затененных местах бактерии размножаются, желатин от их присутствия
замутится (их можно еще
окрасить), в тех местах,
где подействовал свет, посеянные бактерии будут
убиты и, следовательно,
не размножатся. Эти места
останутся
прозрачными.
Словом, получится надпись (как на рис. б)1. Этим
способом можно также по- Рис. 7. Фотография
смертью
лучить настоящие позитивные фотографии. Прилагаемый маленький ландшафт (рис. 7),
1 Мне неизвестны обстоятельства,
при которых профессор К о х изобрел свои Plattenculturen, но невольно представляется мысль: не обязан ли
он ими своей фотографической практике? Известно, что он начал свою
научную деятельность с фотографирования бактерий, а всякому фотографу
знакомо причиняющее немало досады явление, что в летние жары непроквасцованные негативы при продолжительном нахождении в воде выходят
испещренными маленькими точками—колониями бактерий. Это настоящие
P l a t t e n c u l t u r e n , появляющиеся благодаря благоприятной для развития
бактерий летней температуре.
полученный таким именно способом, заимствован из английского журнала «Nature», где он появился при анонимной заметке, так что он, по всей вероятности, принадлежит самому
редактору Н. Локиеру.
Мы можем, значит, вызвать в живом листе при помощи
самой жизни фотографическое изображение, можем мы также
воспользоваться кишащими в желатинном слое бактериями,
чтобы рукою смерти начертить на нем такое же изображение.
Луч света оставляет прочный след не только в нашей камере, но
и везде в природе. Свет несет с собою жизнь и смерть: жизнь —
тому, что является началом дальнейшей жизни, и смерть
тому, что само заедает чуягую жизнь. Не в праве ли мы
с еще большим убеждением и сознанием повторить предсмертное восклицание великого поэта: «Свету, побольше свету!».
Чл С ТЬ
ЕЧ И
ВТОРАЯ
ДЕЙСТВИЕ СВЕТА
НА ХЛОРОФИЛЛОВОЕ ЗЕРНО1
С ФРАНЦУЗСКОГО
Мм.
гг.
и один вопрос из всей области физиологии растений
не представляется с такою настоятельностью уму и воображению ботаника под этим чудным небом, среди
этой роскошной растительности, как именно вопрос
о природе той связи, которая существует между солнечным
светом и растительностью.
Наилучше изученной стороной этого вопроса должно считать раскрытие значения света в процессе разложения углекислоты и образования органического вещества.
Благодаря успехам современной физики, выразившимся
в блестящем обобщении, носящем название закона сохранения
1 Речь, читанная на международном конгрессе ботаников во Флоренции в 1874 г. (Sur l'action de la lumière dans la décomposition de l'acide
carbonique par la granule de chlorophylle. Ред.), «Atti del Congresso internazionale botanico tenuto in Firenze nel mese di Maggio». 1874. Pag. 108.
энергии, мы в состоянии понимать роль света в этом процессе.
Мы знаем теперь, что солнечный свет поглощается растением,
что живая сила световых волн, так сказать, слагается в запас
в растении, и что этим запасом солнечной энергии человек пользуется в очаге своих машин, в организме своих домашних животных, в своем собственном теле.
Но если мы постигли настоящий смысл этого явления, мы
еще далеки от понимания его подробностей. «Если кто-нибудь
спросит нас», говорит патер Секки в своей замечательной книге
о Единстве физических сил, «если кто-нибудь спросит нас, как
совершаются эти различные процессы, мы ответим, что нам не
дано их понять во всех их подробностях».
Именно с целью сделать шаг по пути к пониманию этих подробностей я и попрошу вас уделить мне на несколько минут ваше внимание.
Проследить судьбу солнечного луча, упавшего на зеленый
лист, видеть, как он исчезает, превращаясь в химическую энергию, изучить ближайший механизм этого превращения,—не
правда ли, мм. гг., что это одно из самых важных, самых любопытных исследований, которым может посвятить себя физиолог!
Именно этими исследованиями я занимаюсь более шести лет.
В 1869 году я поместил в Botanische Zeitung краткую заметку
по этому вопросу; в настоящем сообщении я желал бы представить самый краткий очерк результатов, полученных с тех пор.
Разложение углекислоты происходит исключительно в зеленых частях растения. Исходя из этого факта, должно допустить,
что лучи, поглощаемые этими частями, то-есть хлорофиллом,
и должны быть наиболее деятельны, так как очевидно, что лучи,
прошедшие через лист без поглощения, не могут оказать действия. При помощи спектроскопа мы получаем представление
о поглощении света хлорофиллом. С этой целью я употребляю
помещаемый между спектроскопом и источником света следующий маленький аппарат1. Он состоит из двух концентрических трубок, закрытых с переднего конца параллельными между собою зеркальными пластинками. Раствор хлорофилла наливается в промежуток между двумя пластинками.
1 Описанный и изображенный в моем исследовании
«Спектральный
анализ хлорофилла», СПБ, 1871. ( В настоящем издании см. том II. Ред.).
Вдвигая
или
выдвигая
внутреннюю трубку, можно по произволу изменять толщину рассматриваемого слоя раствора от
одного до пятидесяти мил- т лиметров. Наблюдая сначала слой в один миллиметр, замечаем появление
первой характеристической абсорбционной полосы
в красной части спектра.
С увеличением толщины
слоя наблюдается появление и следующих менее
резких полос, равно как и
сплошное поглощение наиболее преломленной части
спектра, так что, наконец, Рис. 1
не поглощается только узкая полоса наименее преломляющегося красного света.
Нанося получаемые результаты на разграфленную бумагу,
соединяя все последующие спектры в один общий чертеж, получаем прилагаемый рисунок (рис. 1, нижняя часть. Ред.), дающий
нам наглядное представление о законе поглощения света хлорофиллом.
Но можно сделать возражение, и оно действительно было
недавно сделано: закон поглощения света зелеными частями живых растений будет ли тот же, как и для раствора? Было даже
высказано мнение, что спектр листьев совсем иной, что абсорбционные полосы не те, что они занимают иное место, чем
в спектре растворов.
Разрешить этот вопрос возможно только, комбинируя спектроскоп с микроскопом. Вот к какому приему я прибег. Изображение спектра, полученное при помощи любого спектроскопа,
отражается посредством призмы с полным внутренним отражением по оси микроскопа. При помощи линзы (микроскопного объектива), закрепленной под столиком микроскопа и
22
К. А. Тимирязев, т. 1
337
снабженной винтом для установки, получаем изображение
спектра мельче булавочной головки, которое легко можно заставить совпадать с рассматриваемым в микроскоп предметом, в настоящем случае с хлорофилловым зерном.
Заслонив половину щели спектроскопа сосудом с раствором
хлорофилла, получаем в поле микроскопа один над другим два
спектра—один сплошной, другой с характеристическими абсорбционными линиями хлорофиллового раствора. Помещая в различные части сплошного спектра хлорофилловое зерно, убеждаемся, что только в средних частях спектра оно представляется
совсем прозрачным, так как эти лучи оно не задерживает. Но
как только это зерно попадет в часть сплошного спектра, соответствующую главной абсорбционной полосе хлорофиллового
раствора, оно становится непрозрачным, совершенно черным.
То же замечается и в части спектра наиболее преломленной.
Доказав, таким образом, тождество спектров живого хлорофилла и его растворов, мы можем результаты, полученные по
отношению к последним, отнести и к первому.
Этим исчерпывается первая половина нашей задачи; мы
знаем, какие лучи поглощаются растением1.
Переходим ко второй части; попытаемся определить последующую участь этих лучей, поглощенных хлорофиллом, этой
энергии, принявшей иную форму.
Какие лучи солнечного спектра вызывают в зеленых частях
растения разложение углекислоты?
Это один из спорных вопросов, по которым мнения ботаников
резко расходятся. Я не имею в виду предложить вам разбор
позднейших исследований по этому вопросу, еще менее желаю
я отвечать на чисто личные нападки на меня некоторых немецких ботаников; приведу только результаты последних моих
1 Прежде чем перейти к другому предмету, позволю себе остановить
ваше внимание на моем приборе. Он представляет большое преимущество
перед спектроскопом Сорби-Браунинга; их инструмент—спектроскоп
окулярный, пригодный только для аналитических целей, между тем как
мой аппарат дает объективный спектр. Он может служить для физиологических исследований; при его помощи можно изучать действие различных
частей спектра на различные отправления растительной клеточки, как-то:
движение протоплазмы, образование крахмала, хлорофилла и пр. Я предполагаю этим заняться.
опытов, более убедительных, чем предыдущие, и согласных
с результатами, полученными недавно моим ученым другом,
Н. К. Мюллером.
Но предварительно я укажу на трудности, с которыми приходится бороться в подобного рода исследованиях.
Для того чтобы получить результаты, заслуживающие доверия, необходимо производить опыт в чистом спектре. Но чистый спектр получается только в том случае, если щель, через
которую проходит луч света, разлагаемый призмой, не шире
одного или полутора миллиметра.
Но уменьшая ширину щели, мы в то же время уменьшаем
световое напряжение спектра. Вследствие недостаточного напряжения света количества разлагаемой углекислоты и выделяемого кислорода становятся так малы, что ускользают от имеющихся в нашем распоряжении приемов анализа газов.
Таким образом, мы наталкиваемся на дилемму: или нужно
увеличить яркость спектра в ущерб его чистоте, или нужно
найти новый прием анализа газов. Я предпочел второй исход.
При помощи очень простого прибора, описывать который я здесь
не стану, так как для этого потребовалось бы много времени
и к тому же я его описал в сообщении, сделанном в Петербургском химическом обществе,— при помощи этого прибора я
в состоянии теперь определять 0,0001 кубического сантиметра
с такою же точностью, скакой имеющимися до сих пор приборами
определялись едва 0,01 доли кубического сантиметра.
Вооружившись приемами, допускающими такую степень
чувствительности, я впервые мог приступить к точному разрешению вопроса—какие лучи солнечного спектра наиболее деятельны в этом процессе разложения углекислоты растением.
Вот подробности опыта. В чистом спектре, полученном при
помощи призмы, наполненной сероуглеродом, помещается ряд
глухих с одного конца стеклянных трубок, погруженных
открытым концом в ртутную ванну. Каждая трубка получает
известный объем определенной смеси воздуха и углекислоты
и кусок зеленого листа одинаковой поверхности и вырезанный
из того же листа. Трубочки располагаются так, что вторая
с краю приходится как раз в той части спектра, которая соответствует главной абсорбционной полосе, так что, если смотреть
22*
339
на нее через слой хлорофилла, она представляется уже не красной, а черной.
После 6- или 10-часового действия спектра газ в трубках
анализируется. Вот получаемые результаты (рис. 1, верхняя
часть. Ред.)
Известно, что в темноте или при недостаточном освещении
растения выделяют углекислоту, вместо того, чтобы разлагать
ее. Очевидно, что при известном напряжении света оба явления
будут уравновешиваться, взаимно уничтожаться. Эта точка, мы
можем назвать ее нулевой, обозначена на рисунке чертой тп.
Количества разложенной углекислоты представлены положительными ординатами (над чертой тп), количества выделенной
углекислоты ординатами отрицательными (под чертой тп).
Линия abode представляет среднюю из трех опытов.
Мы видим, что в крайнем красном замечается выделение
углекислоты; в красном между линиями Фрауенгофера
В и С,
соответствующем характеристической
абсорбционной
полосе
хлорофилла, наблюдается maximum разложения;
в оранжевом
и желтом количества разложенной углекислоты убывают, и, наконец, в зеленом получаются опять отрицательные величины,
то-есть углекислота не разлагается, а только образуется.
Одного взгляда на эти две сопоставленные фигуры достаточно, чтобы убедиться в полном совпадении между поглощением
света хлорофиллом и разложением углекислоты, между затраченной энергией и произведенной работой. Оба максимума совпадают; там, где нет поглощения, нет и разложения; где поглощение слабее, и разложение менее значительно. Если отвлечься
от второстепенных maxima (II, III, IV), то совпадение должно
признать полным.
Таким образом можно считать доказанным, что наиболее
деятельными оказываются именно те лучи, которые поглощаются наиболее энергично.
Но здесь невольно возникает следующее возражение. Лучи,
наиболее преломляющиеся, поглощаются почти так же энергично, как и красные лучи, а разложения там не происходит. На
это возражение можно ответить, что энергия, живая сила этих
лучей, значительно слабее энергии лучей красных и оранжевых.
Мы имеем только один способ измерения энергии, живой силы
данного луча; он заключается в определении их теплового напряжения, а известно, что в видимой части спектра maximum
теплового действия лежит с красного конца, minimum—с фиолетового. Таким образом, в конечной форме результат опытов
может быть формулирован так:
Углекислота
разлагается лучами, поглощенными
хлорофиллом, а из этих лучей наиболее деятельными оказываются те,
которые обладают наибольшей тепловой энергией.
Сделаем еще шаг, попытаемся узнать, каков будет конечный результат этой диссоциации углекислоты. Мы знаем, что
он выражается в образовании, в синтезе органического вещества. Можно надеяться, что новейшие синтетические исследования П. Тенара и Броди разъяснят нам вскоре промежуточные
фазы этого процесса, но пока нам известен только конечный
продукт этого превращения, то-есть образование углевода—•
крахмала.
Благодаря исследованиям Сакса, Фаминцына, Крауза
и Годлевского мы знаем, что под влиянием света в хлорофилловых зернах образуется крахмал. На этой таблице я изобразил первоначальное появление и последующее развитие
крахмала в хлорофилловых зернах ложных луковиц Phajus 1 .
Подведем итог всему сказанному. Солнечный луч, пролетевший без видимого поглощения громадное пространство, отделяющее нас от центрального светила, ударяясь о хлорофилловое зерно, поглощается, потухает, то-есть превращается; живая сила его колебаний затрачивается на диссоциацию частиц
углекислоты и воды, и это превращение обнаруживается одновременно в освобождении кислорода и в образовании органического вещества.
Это органическое вещество, древесина, крахмал, сахар, сгорая в наших очагах, в нашем теле, является источником механической силы. Мы, следовательно, должны признать в хлорофилловом зерне исходную точку, как бы фокус, из которого і
истекает вся энергия, приводящая в движение наши машины, !
1 Представлена была раскрашенная таблица, иллюстрирующая
этот
процесс образования крахмала, обративший на себя внимание только много
лет с п у с т я , когда он был описан Шимпером. (К сожалению, редакции не
Удалось разыскать эту таблицу.
Ред.)
наше собственное тело. Но эта энергия не что иное, как солнечная теплота, сначала поглощенная, затем освобожденная органическим веществом растения. Не в праве ли мы видеть
в изложенном исследовании только подтверждение, как бы
экспериментальное доказательство, справедливости основной
мысли, выраженной в этих строках великого флорентийского поэта:
GUARDA'L CALOR DEL SOL СНЕ SI FA VINO
GIUNTO ALL'UMOR CHE DALLA VITE COLA.
DANTE, PURGAT, С. XXV *
* Посмотри, как жар солнца превращается в вино,
Соединившись с соком, притекающим из лозы.
Данте, Чистилище,
п. XXV.
Ред.
О ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ
ХЛОРОФИЛЛА
Мм.
ЗНАЧЕНИИ
1
гг.
Е
два ли какой процесс, совершающийся на поверхности
земли, заслуживает в такой степени всеобщего внимания,
как тот, далеко еще не разгаданный процесс, который происходит в зеленом листе, когда на него падает луч солнца. Рассматриваемый с химической точки зрения,—это тот процесс, в котором неорганическое вещество, углекислота и вода, превращается в органическое. Рассматриваемый с физической, динамической точки зрения,—это тот процесс, в котором живая сила
солнечного луча превращается в химическое напряжение, в запас
работы. Рассматриваемый с той и другой точки зрения, —
это процесс, от которого в конечной инстанции зависят все
1 Р е ч ь , читанная в общем
заседании VI съезда
испытателей и врачей в С.-Петербурге в 1879 г .
русских
естество-
проявления жизни на нашей планете, а, следовательно, и благосостояние всего человечества.
В этом процессе участвуют два фактора—свет и зеленый лист,
или, вернее, листовая зелень, то-есть хлорофилл. На значение
этого второго фактора, на его роль в указанном процессе я и желал бы обратить ваше внимание.
Еще не так давно хлорофилл обращал на себя внимание
почти исключительно одних ботаников, да и то небольшого их
числа. В настоящее время положение дела видимо изменилось.
Интерес, возбуждаемый этим телом, не только охватывает все
более и более значительный круг ботаников, но и за пределами
нашей науки растет число лиц, занимающихся этим вопросом.
Мне стоит упомянуть о Беккереле, Ломмеле, Стоксе, КлодБернаре, Поле-Бере, Гоппе-Зейлере, Байере, Сорби—для того,
чтобы почти каждый из здесь присутствующих услышал знакомое имя представителя своей науки. Вопрос о хлорофилле,
очевидно, на очереди, он делается модным вопросом. С одной
стороны, этому нельзя не порадоваться; нельзя не порадоваться,
что вопрос этот возбуждает то внимание, которое он заслуживает, но, с другой стороны, нельзя не пожалеть, что и его
постигла участь всякого модного вопроса. Рядом с серьезными,
продуманными трудами являются работы спешные, незрелые;
производятся опыты, ничего не доказывающие, высказываются
соображения, не выдерживающие критики; одной легкомысленной фразой отвергаются результаты чуть не целого столетия
научного труда и на такой же легкомысленной фразе возводятся теории, лишенные экспериментальной почвы. Вследствие
такого состояния литературы становится необходимым от времени до времени подводить критический итог сделанным
успехам, отделяя существенное от несущественного, доказанное от недоказанного или положительно неверного. Подобный
сжатый итог приблизительно за последнее десятилетие желал бы
я представить в настоящем докладе.
Но прежде всего, в чем же заключается это важное значение хлорофилла и представляет ли он действительно такое
значение? С первых же слов мы встречаем даже в самой позднейшей современной литературе резкое, коренное разногласие.
Можно сказать, что со времени Пристли, то-есть с 70-х
годов прошлого столетия, стало очевидным, что разложение
углекислоты растением находится в зависимости от зеленого
цвета, и с тех пор каждый новый опыт служил тому подтверждением. Возникавшие сомнения всегда разрешались в одинаковом
смысле. Т а к , например, пестролистные растения, несмотря на
красный, иногда почти черный цвет, разлагают углекислоту;
но стоит их подвергнуть микроскопическому исследованию,
или подействовать на них сернистой кислотой, или, еще проще,
заморозить и оттаять их, и они тотчас обнаружат присутствие
хлорофилла. В оливково-бурых, почти желтых или багряных
морских водорослях, разлагающих углекислоту, даже микроскоп не обнаруживает хлорофилла, но зато его присутствие изобличается спектроскопом. Некоторые паразитные цветковые
растения не представляют зеленого цвета, и потому предполагалось, что они вовсе не разлагают углекислоты, но позднее
микроскоп и спектроскоп обнаружили в них следы хлорофилла;
вслед затем оказалось, что они способны, хотя в весьма слабой
степени, разлагать углекислоту.
Одни только грибы, в которых никогда не находится хлорофилла, никогда и не разлагают углекислоты. Наконец, Н. Мюллер, сравнивая способность листьев разлагать углекислоту
с интенсивностью их зеленой окраски, приводит числовые данные, подтверждающие, что, чем интенсивнее окраска, тем сильнее разложение. Повидимому, едва ли какой факт в физиологии
растений стоит на более прочной опытной почве. Сколько в течение столетия производилось опытов, столько получалось
и доказательств тому, что присутствие хлорофилла и разложение углекислоты идут рука об руку. Есть хлорофилл—есть
и разложение; нет хлорофилла—нет и разложения; мало хлорофилла—разложение слабое; много хлорофилла—разложение
энергичное.
И, однако, против этого основного положения высказываются
возражения. Дрэпер высказал мнение, что растения, выращенные в темноте и вынесенные на свет, начинают разлагать углекислоту прежде,чем позеленеют. Любавин, приводя в своей физической химии это мнение, делает заключение, что, следовательно, не один хлорофилл способствует разложению углекислоты
в растении. Но всего решительнее выступает против господствующего воззрения на значение хлорофилла Саксе 1 . В своей
книге, посвященной фитохимии, он уделяет главе о хлорофилле
самое видное место и развивает там такое воззрение: хлорофилл не условие, а только последствие, первый, по его мнению,
продукт разложения углекислоты. Я не буду здесь касаться
крайне слабых, по моему мнению, химических соображений
Саксе, которыми он старается доказать возможность взаимного
превращения хлорофилла в крахмал и наоборот. Для нас важнее вопрос: действительно ли хлорофилл только последствие,
а не условие разложения углекислоты. Другими словами, для
нас ваяшо знать, что наблюдается ранее—появление ли хлорофилла или разложение углекислоты. По счастью, этот вопрос
разрешен таким точным наблюдателем, как Буссенго, опыт которого очевидно остался неизвестным Саксе. Опыт Буссенго
заключается в следующем. В атмосферу водорода или азота
с примесью углекислоты вводятся выращенные в темноте (этиолированные) листья и палочка фосфора, и все выставляется на
свет. Предварительные опыты убедили Буссенго, что зеленые
листья при таких условиях моментально (то-есть через несколько
долей секунды инсоляции) начинают выделять кислород, что
обнаруживается свечением фосфора. Этиолированные листья
никогда кислорода не выделяли. Буссенго показал далее, сравнивая цвет начинающих зеленеть листьев с хроматическими
дисками Шевреля, что только с того момента, когда листья обнаруживают ясно зеленоватый оттенок, появляется и кислород.
Если к этому прибавить, что при помощи спектрального анализа
можно показать присутствие хлорофилла, как это сделал Визнер, после нескольких минут инсоляции этиолированных
листьев, то-есть тогда, когда глаз еще не замечает ни малейшего
зеленого оттенка, то станет очевидным, что образование хлорофилла предшествует выделению кислорода.
Итак, оставаясь на почве фактов, мы убеждаемся в справедливости господствующего мнения, что хлорофилл не последствие,
не продукт, а необходимое условие, предшествующее разложению углекислоты, и что до настоящего времени нам неизвестно
1 Sachse.
«Die Chemie und Physiologie der Farbstoffe, Kohlehydrate».
1877. (Саксе. Химия и физиология красящих веществ, углеводы. 1877. Ред.)
другое тело, которое могло бы заменить собою хлорофилл.
Разложение углекислоты есть, следовательно, отправление,
функция хлорофилла 1.
Восстановив, защитив от новейших нападок ту роль, которая
упрочена за хлорофиллом уже почти целое столетие, переходим
к ближайшему изучению этой роли. Нередко приходится слышать мнение, что связь между хлорофиллом и разложением углекислоты есть только факт эмпирический. Попытаемся же для
этого эмпирического факта найти рациональное объяснение.
Постараемся ближе изучить самый механизм этого процесса
разложения угольной кислоТы. Хлорофилл, очевидно, может
играть в нем двоякую роль—физическую или химическую, или
ту и другую вместе. Можно сказать, что большинство исследователей занималось исключительно химической ролью хлорофилла; немецкие ботаники даже отрицают его физическую роль,
а между тем мы увидим, что это единственная сторона вопроса,
которую можно считать достаточно выясненною, тогда как о химической роли пока еще приходится высказывать только более
или менее гадательные предположения.
Посмотрим же, в чем заключается физическая роль хлорофилла в этом процессе разложения углекислоты. Для этого нам
необходимо познакомиться с действием другого и главного фактора, участвующего в этом процессе, то-есть. с действием света.
Посмотрим, как, то-есть какими своими составными частями, участвует солнечный луч в этом процессе. Я не могу вдаваться здесь
в критический разбор исторического хода развития этого вопроса, тем более, что задача эта мною выполнена в другом месте2.
1 Кроме
указанных противоречий, нуждавшихся в опровержении,
учение о хлорофилле в последнее время подверглось нападкам со стороны
Прингсгейма. Но первые шаги знаменитого альголога в совершенно новой
для него области экспериментальной физиологии были до того неудачны,
а развиваемая им теория до того лишена научной почвы, до того граничит
с абсурдом, что здесь излишне и неудобно было бы даже о ней упоминать.
2 В
моем исследовании «Об усвоении света растением». Спб. 1875
(В настоящем издании см. том I I . Ред.). Подвергая критике господствующий в немецкой ботанической литературе взгляд, что разложение углекислоты зависит от светового напряжения, или, вернее, от яркости луча,
я у к а з а л на экспериментальную ошибку в работах Дрэпера и Пфеффера,
объясняющую полученный ими результат. Здесь не место повторять данные
Прежде всего очевидно, что всякое фотохимическое явление
может быть вызвано только теми лучами, которые поглощаются
телом, потому что те лучи, которые проходят через тело не задерживаясь, конечно, не могут производить в нем работы. Отсюда вытекает правило, указанное Гершелем и мисс Сомервиль
в применении к растительным пигментам, подтвердившееся
в настоящее время и для бесцветных тел,—что фотохимическое
явление вызывается светом, цвет которого комплементарен
цвету изменяющегося тела. Правило это верно, конечно, только
со следующим ограничением: действующий луч должен входить
в состав комплементарного цвета, но не всякий луч, входящий
в состав комплементарного цвета, будет действующим. На осномною объяснения. К сказанному мною там могу прибавить еще новый довод. В единственном исследовании, появившемся после выхода моей работы,
во втором исследовании Н. Мюллера («Botanische Untersuchungen», V. H.
1876), этот исследователь впал в ту же ошибку, на которую я указывал
в работах Дрэпера и Пфеффера, и, к а к и следовало ожидать, получил результаты, сходные с их результатами. Во второй своей работе для увеличения интенсивности спектра он раскрыл щель до 6 миллиметров
и, следовательно, имел спектр крайне не чистый, в котором, к а к я объяснил,
maximum разложения должен
перемещаться в желтую часть спектра.
Таким образом, мне кажется, эта работа Мюллера является поверкой, доказательством справедливости моего объяснения. Исследователь, избегнувший в своей первой работе ошибки Дрэпера и Пфеффера, получил результаты, несогласные с их результатами и согласные с моими, но вот
во второй работе он впадает в ту же ошибку, от которой я предостерегал,—
и получает тот же ошибочный результат. Справедливость этого объяснения
подтверждается и тем соображением, что, если бы результаты Дрэпера
и Пфеффера оказались фактически верными, то для них затруднительно
было бы найти удовлетворительное теоретическое объяснение. В самом
деле, к а к а я может быть связь между объективным физическим явлением—
разложением углекислоты и яркостью света,—явлением чисто субъективным физиологическим, существующим только для нашего зрительного
органа? В е д ь нельзя же утверждать, что это совпадение чисто
случайное,
как это делает Сакс и большинство немецких ботаников! Существуют,
правда, фотохимические процессы, следующие тому же закону, как и акт
зрения, например, электрический фотометр Беккереля дает показания,
согласные с оптическими, то-есть физиологическими фотометрами, но там,
быть может, связь объясняется сходством цвета изменяющихся веществ:
и серебряный препарат, изменяющийся в фотометре Беккереля, и глазной
пурпур, изменяющийся в г л а з е , — о б а фиолетового цвета. Но растение
ведь зеленого цвета, следовательно подобного совпадения здесь нельзя
вании этого, заключение, сделанное несколько лет тому назад
Дюбренфо в Парижской академии, что растение зеленого цвета—
следовательно,
углекислота разлагается красными лучами,—
хотя впоследствии и оказалось верным, было преждевременно,
потому что опиралось на слишком смелую посылку. Сходное
предположение еще ранее было высказано Гельмгольтцем и не
оправдалось. Гельмгольтц, исходя из того факта, что листья
энергично поглощают синие, фиолетовые и ультрафиолетовые
лучи, высказал мнение, не зависит ли разложение углекислоты
от этих именно лучей. Но опыт не оправдал его предположения;
действие этих лучей крайне слабо, и разложение, главным образом, зависит от менее преломляющейся части спектра.
Как бы то ни было, очевидно, что мы должны искать лучи,
разлагающие углекислоту, в числе тех, которые поглощаются
растением, и не вообще растением, а именно зелеными частями
растения, так как мы видели, что растения этиолированные
углекислоты не разлагают. Отсюда прямое заключение: лучи,
разлагающие углекислоту, должны находиться в числе тех, которые поглощаются хлорофиллом, и, следовательно, роль этого
тела мы прежде всего должны искать в его оптических свойствах.
Как ни проста эта мысль, она тем не менее явилась последней,
да и до настоящего времени большинство немецких ботаников
ожидать. К тому же самая задача, определение относительной интенсивности светового напряжения различных частей спектра, принадлежит
к числу неразрешенных задач, так к а к исследования Гельмгольтца и других у ч е н ы х показали, что глаз в различной степени чувствителен к различным цветам.—Следовательно, все подобные попытки, не исключая
и фотометра Фирордта, на который Сакс и другие ботаники возлагают
надежды, лишены строго научного смысла. Доказательством тому, как
шатки получаемые подобным образом результаты, могут служить опыты
Дрэпера, опубликованные месяца д в а тому назад. Дрэпер, при помощи
весьма простого фотометрического приема, приходит к заключению, что,
вопреки Фрауенгоферу, Фирордту и др., самыми яркими лучами в призматическом спектре следует признать красные, а не желтые, и что в нормальном спектре (спектре решеток) все лучи одинаково ярки. Я полагаю, что те
немецкие ботаники, которые принимали на основании работ Дрэпера и др.,
что разложение углекислоты зависит от светового напряжения луча и что
потому желтые лучи должны обладать наибольшей энергией, будут немало смущены, узнав, что тот же самый Дрэпер теперь утверждает, что
самые яркие, самые светлые лучи не желтые, а красные.
не признает ее очевидности. Мысль эта была почти одновременно
высказана Жаменом и Беккерелем и впоследствии приобрела
защитника в Ломмеле. Фактическое экспериментальное доказательство она получила только в исследованиях Николая Мюллера и в моих1. Располагая весьма чувствительным способом
для анализа газа, я в первый раз мог произвести опыт с требуемой точностью и получил результат, подтвердивший справедливость предположений Жамена и Беккереля. Спектр хлорофилла,
как известно, характеризуется резкой абсорбционной чертой
между фрауенгоферовыми линиями Б и С; при увеличении концентрации к ней присоединятся еще несколько менее резких,
которые вскоре сливаются вместе в одну широкую полосу, поглощающую часть красных, оранжевые и желтые лучи. Крайние
красные лучи почти не поглощаются, зеленые поглощаются
очень слабо, но, начиная с синих, наиболее преломляющаяся
часть спектра поглощается весьма энергично. Общий закон
поглощения света хлорофиллом выражен мною в графической
форме в указанных выше исследованиях. Опыт показал, что
разложение углекислоты зелеными частями растения происходит
исключительно в той части солнечного спектра, которая соответствует только что описанной полосе, поглощаемой хлорофиллом. Maximum разложения совпадает с maximum поглощения, и, вообще, формы кривых поглощения и разложения близко
соответствуют. В крайних красных и в зеленых лучах, не поглощаемых хлорофиллом, разложение углекислоты не происходит.
Семь рядов опытов дали результаты, вполне между собою согласные. Результату этому нельзя дать иного объяснения, кроме
того, что в разложении углекислоты действуют лучи, поглощаемые хлорофжллом. По крайней мере, по отношению к группе
ВС не может быть сомнения. При помощи микроспектрального
Исследования Мюллера помещены в его «Botanische Untersuchungen», I. H. 1872.—Мои исследования помещены в «Botanische Zeitung» sa
1869 г . ; «Atti del Congresso Internationale Botanico», 1874, p. 108. «Труды
С.-Петербургского общества естествоиспытателей»,1875; «ComptesRendus»,
1877. «Annales de Chimie et de Physique» V. s. t. 12, 1877. (Из исследований, на которые ссылается К . А . , в т о р о е — р е ч ь , читанная на международном конгрессе ботаников во Флоренции в 1874 г . под заглавием «Действие света на хлорофилловое зерно», см. настоящий том, стр. 3 3 5 , а остальные перечисленные исследования, см.томІІ настоящего издания. Ред.)
1
исследования я показал ранее, что эти лучи поглощаются отдельными хлорофилловыми зернами1. Если лучи, поглощаемые хлорофиллом, не затрачиваются на разложение, то откуда же в этой
части спектра возьмется энергия, необходимая для разложения?
если лучи, поглощенные хлорофиллом, не вызывают разложения, то здесь должен бы находиться minimum или даже нуль
действия, а мы находим maximum. Следовательно, лучи, разлагающие углекислоту, предварительно поглощаются хлорофиллом, и, чем сильнее их поглощение, тем сильнее их разлагающее
действие. Этот результат подкрепляется и некоторыми другими
опытами. Т а к , например, Кальете показал, что зеленые лучи
(то-есть прошедшие чрез зеленую жидкость) разложения углекислоты не вызывают; другие исследователи показали, что
в зеленых и крайних красных лучах развитие и существование
растения не нормально. Наконец, лучи света, предварительно
прошедшие через слой раствора хлорофилла, вызывают только
очень слабое разложение углекислоты.
Остается разъяснить, почему синие, фиолетовые и прочие
лучи оказывают такое слабое действие, а темные тепловые лучи
вовсе не оказывают действия, так как Кальете доказал, что
лучи, прошедшие через тиндалевскую жидкость (раствор иода
в сернистом углероде), неспособны вызывать разложение углекислоты в зеленых листьях. Для объяснения ничтожного действия синих и прочих лучей можно предложить несколько
объяснений; самым вероятным мне представляется следующее.
То, что мы называем хлорофиллом, есть смесь двух веществ:
зеленого, которое я предложил назвать хлорофиллином, и желтого— ксантофилла.
Ксантофилл — это то вещество, которое
появляется ранее хлорофиллина в этиолированных растениях
и сохраняется долее его в пожелтевших осенних листьях. Это
вещество само, очевидно, не способствует разложению углекислоты, так как мы видели в опыте Буссенго, разложение начинается только тогда, когда появляется хлорофиллин. Но если
ксантофилл ке участвует в разложении, то он очевидно препятствует ему; как желтое тело он не допускает до хлорофиллина
часть синих и прочих лучей, следовательно, ослабляет их
1 « Ж у р н а л Русского
химического
настоящего издания. Ред.).
общества»,
1873
г.
(см. том II
действие. Хлорофиллин в синих лучах находится как бы в темноте. Что касается до темных тепловых лучей, то в этом отношении мы имеем мало фактов. Мы знаем, что уже крайние красные лучи не поглощаются хлорофиллом; весьма возможно, что
и темные тепловые мало поглощаются им. Это подтверждается
даже следующим опытом. Крукс описывает один опыт с радиометром, в котором он покрывал лопаточки радиометра хлорофиллом; оказалось, что тогда радиометр был чувствителен
к светлым и мало чувствителен к темным лучам.
Итак, вот в каком положении находится вопрос о связи
между разложением углекислоты и оптическими свойствами хлорофилла. Темные тепловые лучи не действуют, но они, вероятно,
и не поглощаются; крайние красные не действуют, потому что
не поглощаются; главное действие сосредоточено в той полосе,
где поглощение наибольшее, и в пределах этой полосы, чем сильнее поглощение, тем сильнее разложение; зеленые лучи почти
не поглощаются и почти не действуют; синие поглощаются энергично, а действуют слабо, но мы знаем, что зеленый пигмент
хлорофилла сопровождается желтым, который, очевидно, должен ослаблять действие синих и прочих лучей.
Не знаю, много ли найдется в фотохимии явлений, где бы
связь между поглощением и химической работой была выслежена с такой полнотой.
Далее рождается вопрос: что же из того, что хлорофилл поглощает известные лучи и что эти именно лучи вызывают разложение углекислоты—как же объяснить себе ближайшую
связь между этими двумя явлениями? В ответ на этот вопрос
современная фотохимия предлагает нам, если не объяснение,
то целый ряд аналогичных случаев. Как известно, Фогель открыл
в высшей степени любопытное явление, что некоторые пигменты
способны вызывать разложение чувствительных к свету веществ
в таких лучах, в которых эти вещества сами по себе не разлагаются, лишь бы только эти лучи поглощались пигментами. Подобные тела обыкновенно называются сенсибилизаторами. Беккерель применил открытие Фогеля к хлорофиллу. Он
показал, что слабый раствор хлорофилла, прибавленный к коллодиуму, вызывает разложение иодистого серебра в таких лучах спектра, в которых этот препарат сам по себе не разлагается,
и оказалось, что эти места как раз соответствуют абсорбционным
полосам хлорофилла—по крайней мере те негативные пластинки,
которые мне показывал Беккерель, представляют самые точные
изображения спектра хлорофилла. Итак, не подлежит сомнению, что хлорофилл относится к категории теперь уже многочисленных тел, так называемых сенсибилизаторов. Если он играет роль сенсибилизатора по отношению к иодистому серебру,
то естественно допустить, что он может играть ту же роль по
отношению к углекислоте.
Как собственно действует хлорофилл, просто ли физически,
превращая энергию солнечного луча в иную форму движения,
которое сообщается затем частицам серебряной соли, пли вместе с тем и химически, то-есть участвуя в реакции, поглощая
продукты диссоциации,—вопрос этот Беккерельоставляетоткрытым. Мы увидим далее, что по отношению к разложению углекислоты хлорофилл, вероятно, действует и химически, то-есть
сам одновременно изменяется, превращается.
Возникает и еще вопрос: те лучи, которые поглощаются
хлорофиллом, не имеют ли они еще специального значения по
отношению к процессу разложения углекислоты? Разложение
углекислоты—реакция эндотермическая, сопровождающаяся
поглощением значительного количества теплоты,—отсюда естественно предположить, что наибольшим разлагающим действием
будут обладать те лучи, которые обладают наибольшей энергией,
выражающейся в их тепловом эффекте. Но какие лучи обладают
наибольшей энергией,—это мы в точности не знаем. Долго господствовавшее мнение, что наибольшим тепловым эффектом
обладают темные лучи, теперь оказалось неверным. Вычисление
Лундквиста на основании экспериментальных данных Ламанского, в особенности недавно появившееся исследование
Мутона 1 , делают несомненным вывод, что наибольшею энергией
обладают не темные, а светлые лучи солнца; но какой именно
длине волны соответствует niaximum теплового эффекта,—
едва ли мы еще знаем. Он лежит где-то около оранжевой части
спектра. Является возможным предположение, что лучи, поглощаемые хлорофиллом, будут именно те лучи, которые обладают
1
23
Mouton.
«Comptes Rendus», 1879, p. 295.
К. A. Тимирязев, т. 1.
353
наибольшей энергией. Другое соображение заключается в еле
дующем. Ангстрем высказал мысль, что часть атмосферических
фрауенгоферовых линий принадлежит углекислоте, другая
часть, несомненно, принадлежит водяному пару. Ангстрем замечает далее, что спектр атмосферы, спектр зари напоминает спектр
хлорофилла,—отсюда может явиться предположение, что хлорофилл поглощает лучи, которые особенно пригодны для разложения углекислоты и воды, так как они поглощаются этими телами.
Итак, вот что нам известно о физической роли хлорофилла.
Можно ли после этого утверждать, что связь между присутствием
хлорофилла и разложением углекислоты—только грубый эмпирический факт, когда эта связь прямо вытекает из оптических
свойств хлорофилла и его роли как сенсибилизатора, подкрепляемой многочисленными примерами других сенсибилизаторов.
Посмотрим теперь, что нам известно о хлорофилле с химической точки зрения. Мало и очень мало. Пока мы знаем, что
хлорофилл во всех исследованных растениях является с одинаковыми оптическими признаками и по всей вероятности тождествен. Знаем далее, что то, что прежде называлось хлорофиллом, есть смесь, но не синего и желтого тела, как полагал Фреми,
а зеленого и желтого1. Это зеленое тело, которое я описал под
названием хлорофиллина, было позднее описано Краузом и неудачно названо цианофиллом, потому что оно вовсе не цианового,
а зеленого цвета. Что касается до элементарного состава и химической функции хлорофилла, то можно сказать, что мы почти
на-днях только получили надежду на приобретение этих сведений. Почти одновременно Гоппе-Зейлер и Готье обнародовали,
что им удалось из той смеси, которая до сих пор называлась хлорофиллом, выделить чистое кристаллическое тело. Тело, полученное Гоппе-Зейлером и названное им хлорофилланом,
судя
по описаниям, соответствует моему хлорофиллину. Тело же,
полученное Готье, очевидно, бурый продукт разложения, уже
известный под названием филлоксантина (да и самый способ
получения его не заслуживает такого доверия, как способ
Гоппе-Зейлера).
1 «Спектральный анализ хлорофилла». Спб., 1871. (См. часть I I I сборника «Солнце, жизнь и хлорофилл». ГИЗ. 1923. В настоящем издании
том I I .
Ред.).
Из всего, что нам пока известно о химических свойствах хлорофилла, по отношению к занимающему нас вопросу заслушивает внимания тот факт, что хлорофилл под влиянием света
способен переходить в это бурое видоизменение, филлоксантин,
который в свою очередь может при других условиях превращаться обратно в зеленый хлорофиллин. Такое изменение наблюдается каждый раз, когда растворы хлорофилла выставляются
на солнечный свет; такое изменение совершается и в живых
листьях осенью или даже в некоторых случаях летом при слишком ярком свете. Во всех этих случаях хлорофиллин превращается в бурый филлоксантин, который далее разрушается светом и в результате остается только желтый ксантофилл. Наконец, что особенно любопытно, целый ряд фактов приводит
нас к заключению, что подобное же превращение хлорофилла
совершается и постоянно в зеленом листе. Ботаников давно
поражал факт, почему хлорофилл в растворах под влиянием солнечного света буреет, а в листьях остается зеленым. В 1871 году
я высказал предположение, что, по всей вероятности, и в листе
под влиянием света же в связи с ассимиляцией происходит
и обратный переход и что, таким образом, в живом хлорофилловом зерне одновременно происходят два противоположные
процесса. Предположение это нашло себе подтверждение в последующих работах Визнера. Исследования Визнера приводят
нас к заключению, что образование хлорофилла и его сохранение в листе зависят от одновременного существования двух
процессов: образования и разрушения зеленого тела, что хлорофилл находится в состоянии постоянного превращения, что
зеленый цвет листа сохраняется только, пока оба процесса находятся в известном равновесии 1. Существует далее основание
предполагать, что эти два процесса представляют последовательные окисления и раскисления и что они находятся в связи с процессами разложения углекислоты. В этих данных, по всей вероятности, заключаются элементы будущего объяснения химической роли хлорофилла2. Но пока еще эти данные до того
В этом отношении хлорофилл отчасти напоминает зрительный пурпур.
У ж е после произнесения этой речи я познакомился с содержанием
только что появившейся Mecanique C h i m i q u e Бертло. В г л а в е , посвящен,
ной фотохимическим явлениям, Б е р т л о принимает результаты моих
1
2
23*
355
неопределенны, что не оправдывают неоднократно делавшихся
попыток выражать эти превращения и их отношения к разложению углекислоты какими бы то ни было уравнениями. Во всяком случае, подвижность состава хлорофилла и его изменение
в живом растении под влиянием света делают вероятным, что
он принадлежит к числу тех сенсибилизаторов, которые сами
участвуют в реакции; а существование описанного кругового
процесса разрушения и образования может объяснить, почему
вещество, являющееся в таких ничтожных количествах, играет
такую важную роль. Таковы итоги наших сведений о физической и химической роли хлорофилла в процессе усвоения
углерода.
Сведения, полученные нами относительно физической роли
хлорофилла, особенно любопытны в том отношении, что дадут
нам со временем возможность количественного изучения занимающего нас процесса, то-есть зависимости усвоения углерода растением от действующего на него света. Одна из интереснейших задач, которую может представить физиология, с одной
стороны, климатология, с другой, заключается в том, чтобы
найти количественное выражение для отношения между количеством лучистой энергии, посылаемой солнцем на известную
площадь, и интенсивностью растительного процесса вообще
и процесса разложения углекислоты в особенности. Разрешение
этого вопроса не только любопытно с теоретической, научной
точки зрения; оно в высшей степени важно и с практической,
экономической точки зрения. Задача эта не что иное, как разрешение вопроса о физическом пределе плодородия земли. Процесс разложения углекислоты сопровождается поглощением
тепла. Солнечная теплота и есть та энергия, которая затрачивается на произведение этой работы. Любопытно узнать, какая
доля этой силы может утилизироваться в этом процессе и какая
действительно утилизируется.
Первый ученый, попытавшийся сделать подобное вычисление, был, насколько мне известно, опять тот же Эдмонд Беккеисследований относительно физической роли хлорофилла. Весьма любопытно, что он придает важное значение тому факту, что в растении одновременно с разложением углекислоты постоянно совершается обратный
процесс окисления.
рель. Определив, с одной стороны—количество углерода, усвояемого за период вегетации гектаром леса и гектаром земляной
груши (одной из самых интенсивных культур), он вычислил,
какое количество единиц тепла выделило бы сгорание этого
углерода. С другой стороны, вычислив, на основании данных
Пулье, какое количество единиц тепла могла получить от солнца
та же площадь за тот же промежуток времени, он мог узнать,
какая доля всей солнечной энергии, выпадающей на известную
площадь, утилизируется упомянутыми двумя культурами.
Оказалось, что при лесной культуре утилизируется 0,001, при
полевой—0,004 1 .
Но мы можем определить и непосредственно, какое количество углекислоты разлагается в известный промежуток времени известною площадью листа и какое количество единиц
тепла получит за тот же промежуток времени эта площадь.
Я сделал такое вычисление г основании средних данных Буссенго и своих собственных и получил, что средним числом лист
утилизирует один процент всей получаемой энергии, в самом
благоприятном случае—два процента. Впоследствии такое же
вычисление было сделано английским физиологом Дьюаром,
и он получил весьма близкую цифру, именно Ѵі2о> и то потому,
что ввел в свои вычисления одно соображение, которое едва ли
справедливо. Итак, средним числом один зеленый лист усвояет,
капитализирует 1 % всей получаемой энергии. Но далее возникает вопрос—истощает ли один лист способность солнечного
луча разлагать углекислоту? На основании спектральных иссле1 Я делал подобные же вычисления для некоторых полевых культур,
принимая во внимание органическую массу корневых остатков и тщательно вычисляя сумму единиц тепла, выпадающих за период культуры
(на основании тех же средних д а н н ы х Пулье). По моим вычислениям, получались цифры несколько более высокие, чем у Беккереля. Т а к , органическое вещество, полученное при к у л ь т у р е райграсса (вместе с корневыми
остатками), соответствует V 1 3 5 всей выпадающей солнечной энергии. Самые большие жатвы овса и ржи (зерно, солома, корневые остатки) утилизируют до 1 / s o всей энергии. Мы, следовательно, вероятно, не ошибемся,
приняв, что наши культуры утилизируют от Ѵюоо Я° Ѵюо всей выпадающей н а данную площадь солнечной энергии. См. «Жизнь растения».Москва,
1878 г . , лекция «Растение как источник силы. (См. том I, стр. 260 настоящего издания. Ред.)
дований можно сказать, что любой лист пропускает еще свет,
способный поглощаться хлорофиллом, а следовательно, и разлагать углекислоту 1. Впрочем, исследования Мюллера дают
прямой и обстоятельный ответ на этот вопрос. Мюллер брал
листья по два, по три и по четыре, накладывая их один на другой, и определял, какое количество углекислоты разложат они
сравнительно с одним листом. Оказалось, что два листа, в некоторых случаях три листа, разлагали более чем один, но, начиная обыкновенно с четвертого, разложение углекислоты
уменьшалось—это объясняется тем, что третий, четвертый и т. д.
лист, не получая необходимого света, уже не разлагают, а, напротив, образуют углекислоту. Значит два, три листа вполне
истощают фотохимическую способность луча. Это же доказывается и опытом Буссенго, который доказал, что под шатром
тенистого каштана углекислота уже не разлагается листьями.
Этим, а не отсутствием атмосферного электричества, как высказывал недавно Грандо, объясняется жалкий вид травянистой
растительности в тенистых лесах, в особенности хвойных. Сильно
затеняющие почву полевые культуры, вероятно, так же почти
истощают фотохимическую способность солнечного луча. Любопытно теперь узнать, какая же доля всей получаемой энергии
утилизируется двумя, тремя—одним словом, таким числом
листьев, которое дает наибольшее разло?кение углекислоты.
Мюллер приводит один опыт, в особенности любопытный в том
отношении, что рядом с прибором, заключавшим листья, помещался пиргелиометр Пулье и определялось количество единиц
тепла, которое мог получить лист. Оказалось, что при таких
условиях утилизируется 1 / 2 4 , то-есть примерно до 4 % падающей
энергии; эта самая высокая, мне известная, цифра, вероятно,
представляет предел той полезной химической работы, которую
можно извлечь из солнечного луча, действуя им на зеленый лист.
Любопытно было бы сделать еще шаг—определить, как велика
та доля всей солнечной энергии (измеряемой как лучистая теплота), которая поглощается хлорофиллом листьев, подвергаемых исследованию, и соответствует ли это количество тому
количеству, которое утилизируется в процессе разложения.
1 См.
мое сообщение в протоколах последнего заседания ботанической секции. (К. А. ссылается здесь на протоколы V I съезда. Ред.)
К сожалению, мы пока еще не имеем в этом отношении определенных данных,—вопрос этот в такой форме не был еще даже
никем поставлен, а теми цифрами, которые находятся в работах
Эмери и Мюллера, невозможно пользоваться, так как оба исследователя, очевидно, недостаточно знакомы с употребляемыми физическими методами1.
Во всяком случае мы видим, что при помощи зеленых листьев
можно утилизировать до 4 % ; при наших же культурах утилизируется от Ѵюоо Д° Ѵіоо- Для разрешения вопроса, как близки
мы к пределу эксплоатации солнечной энергии при помощи растения, очевидно, необходимы более обстоятельные и точные
данные. Необходимо прежде всего принять во внимание незначительное содержание углекислоты в атмосфере сравнительно
с ее содержанием в искусственной атмосфере при описанных
опытах. Затем необходимо получить данные относительно постепенного прироста органического вещества в различные периоды
развития культурных растений, данные относительно изменяющейся с ростом величины их зеленой поверхности и т. д., которые начинают уже накопляться за последние годы на германских опытных станциях. С другой стороны, необходимо параллельно с этими наблюдениями производить актинометрические
наблюдения со специально к этой цели приспособленными приборами. Самые совершенные в настоящее время актинометры
Крова, Виоля и др., равно как и химические фотометры Роско,
Маршана и др., прямо неприменимы к нашей цели. Необходимы
приборы, которые могли бы измерять энергию только тех лучей или вполне определенной части тех лучей, которые участвуют в процессе разложения углекислоты,—приборы, которые бы измеряли то, что, по отношению к занимающему нас
процессу, очень удачно названо химическим климатом. Только
подобные параллельные агрономические и метеорологические
наблюдения могут способствовать разрешению указанных вопросов. Очевидно только то, что в поле и невозможно ожидать
1 Я пытался разрешить эту задачу при помощи особых термоэлектрических приборов, сделанных для меня еще покойным Румкорфом (см. протоколы Спб. Ботанического общества, 1873 г.), но до с и х пор не имел возможности получить удовлетворительные результаты. Надеюсь будущею
весной пополнить этот важный пробел в наших сведениях о хлорофилле.
таких результатов, как в замкнутых приборах. Стоит указать на
одно испарение воды, на которое должна тратиться значительная. доля солнечной энергии. Визнер доказал, что на испарение
должны затрачиваться и те лучи, которые поглощаются хлорофиллом1. Дегерен, с другой стороны, показал, что в атмосфере, содержащей углекислоту, испарение растений бывает,
повидимому, слабее, чем в атмосфере, не содержащей ее. Весьма
возможно, что эти процессы испарения и разложения находятся
как бы в антагонизме: чем более лучистой энергии, поглощаемой
хлорофиллом, затрачивается на один, тем менее остается для
другого.
Итак, роль хлорофилла в природе, установленная почти целым столетием ученых исследований, не подлежит более сомнению. Разложение углекислоты составляет его несомненное отправление и объясняется его физическими свойствами, согласно
с основными законами фотохимии. О химических же его превращениях мы знаем еще пока очень мало.
Таково, мм. гг., современное состояние наших сведений о значении хлорофилла в природе. Вы видите, как многого еще
остается желать. Потребуется еще много труда и времени, а главное, по моему мнению, потребуется совместное участие самых
разнородных научных сил. Тогда только, когда этим вопросом
будут, если не заниматься, то по крайней мере интересоваться
и физики, и химики, и метеорологи, только тогда он подвинется
вперед. В конце прошлого столетия он интересовал всех натуралистов. С ним были связаны имена самых знаменитых химиков. В сороковых годах собрание, подобное нашему, Британская ассоциация, постоянно, в течение нескольких лет, назначала ученые комиссии для ег.о исследования.
Я полагаю, что если нам когда-нибудь суждено увидеть у себя
такие же опытные станции, как в Германии, то вопрос этот
1 У ж е после прочтения этой речи я получил от О. Комеза, профессора в Портичи, любопытное исследование, обобщающее выводы Визнера;
оказывается, как и следовало ожидать, что на испарение влияют лучи,
комплементарные цвету органа. На испарение зелеными листьями из
лучей, поглощаемых хлорофиллом, повидимому, преимущественно влияют
синие лучи; подобный же результат получил и Визнер—вот еще объяснение, почему эти лучи менее деятельны в процессе разложения углекислоты.
должен сделаться одной из первых их теоретических задач.
На каждом шагу можно услышать мнение, что Россия—государство по преимуществу земледельческое; и я полагаю, если верно,
что одно из главных богатств Англии заключается в запасе
работы, представляемом ее залежами каменного угля, то одно
из главных богатств России заключается в тех потоках лучистой
энергии, которые изливаются на хлорофилловую поверхность
ее необозримых полей и лесов. Я полагаю, по меньшей мере,
любопытно узнать, как же велико это богатство, как велика та
доля его, которой мы пользуемся в настоящее время, как велика и та доля, которой мы еще можем воспользоваться, пока
не достигнем предела, зависящего от свойств солнечного луча
и хлорофилла.
Быть может, мм. гг., как всякий специалист, я преувеличиваю интерес своего предмета; охотно допускаю в этом отношении известную поправку, известный личный коэфициент, но зато
как специалист я коротко знаком с его трудностями и из этого
знакомства я вынес твердое убеждение, что для дальнейшего
успеха необходимо, чтобы вопрос этот обратил на себя внимание,
чтобы в нем приняли участие, все равно делом или советом,
представители самых разнородных отраслей естествознания.
Это убеждение было причиной, побудившей меня явиться
с этим докладом не перед ботанической секцией, а перед общим
собранием; это же убеждение может служить мне извинением
в том, что я, быть может, слишком долго злоупотреблял вашим
вниманием.
i n
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
НАШИХ СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИИ
ХЛОРОФИЛЛА 1
С ФРАНЦУЗСКОГО
Р
овно пятнадцать лет тому назад, почти день в день, в этом
же городе, перед аудиторией, вмещавшей в себе, как
и сегодня, выдающихся ученых, собравшихся с различных концов цивилизованного мира, Эдуард Морен в красноречивой речи «О действии света на растение» резюмировал вопрос
в следующих выражениях: «хлорофилл непрерывно образуется
и превращается в растении. Это очаг энергических разложений и синтезов. Исследование
этого тела составляет основу
физиологии
растений».
Позвольте мне, мм. гг., начать с того, чем закончил свою
речь наш коллега, уважаемый льежский профессор.
1 Речь,
читанная в общем собрании международного
конгресса
ботаников в С.-Петербурге, в мае 1884 года. ( L ' é t a t a c t u e l de nos connaissances sur la fonction chlorophyllienne.
Ред.).
Целый век истек с тех пор, как Жан Сенебье положил основание современной физиологии растений своим капитальным
открытием усвоения углерода,—я настаиваю на этом, так как,
вопреки противоположным заявлениям некоторых германских
ученых, именно Сенебье, а не кому иному, принадлежит честь
этого капитального открытия. Тому же Сенебье обязаны мы
и выяснением факта, также подтвержденного целым столетием
исследований, что зеленая паренхима, клеточки, содержащие
хлорофилл, являются единственным местом, где происходит это
разложение углекислоты. Но только исследования этих последних лет пролили свет на ближайшую роль этого вещества,
сделали возможными первые шаги на пути к рациональной теории хлорофилловой функции.
Так как этот важный вопрос был предметом моих постоянных
исследований за период времени, отделяющий нас от первого
заседания конгресса в нашем городе, то, я надеюсь, мне не поставят в укор, если я буду вынужден возвращаться к результатам своих собственных исследований, быть может, чаще,
чем я этого бы сам желал.
Очевидно, что физиологическая роль хлорофилла должна
вытекать из тех основных понятий, которые мы себе составляем
о значении солнечного света в процессе разложения углекислоты.
Только отправляясь от этих общих оснований, мы можем притти
к верному представлению о специальной роли хлорофилла.
«Изучить физические и химические условия этого явления,
определить составные части солнечного луча, принимающие
прямое или косвенное участие в этом явлении, проследить участь
этих лучей до момента их исчезновения, то-есть превращения
во внутреннюю работу, установить, наконец, количественное
отношение между энергией поглощенной и работой произведенной» 1 ,—такова была общая задача, которую я поставил себе
еще в 1867 году, но которая еще далека до полного разрешения.
Первый шаг, который предстояло сделать, заключался в выработке простого и точного метода для изучения этого явления
разложения углекислоты, метода, который вытеснил бы старый
прием Дютроше, сделавшийся столь популярным у немецких
1
Прим. 1. (См. конец настоящей статьи, стр. 388.
Ред.)
ботаников с тех пор, как он стал известен под именем метода
Сакса. Исходя из основного приема, незадолго перед тем введенного в науку Буссенго, приема, заключавшегося в изучении
явления на отдельных листьях, я устроил прибор, сделавшийся
с тех пор общеупотребительным, но совершенно несправедливо
приписываемый обыкновенно Пфефферу1. Вооружившись этим
прибором, я занялся вопросом, в каких лучах солнечного спектра лежит maximum разложения. В то время, да и долго после
того, всеми признавалось, что разложение зависит от лучей,
обладающих наибольшим световым напряжением, то-есть желтых и зеленых. Мнение это основывалось на опытах Дрэпера,
но так как я имел основания сомневаться в их точности, то и нашел необходимым подвергнуть его экспериментальной поверке.
Я не остановлюсь на подробностях этой работы; скажу только
несколько слов в защиту метода цветных экранов, который
я на этот раз применил. С тех пор об этом методе принято говорить так неодобрительно, что я считаю необходимым его оградить от незаслуженного нарекания. Обыкновенно принято говорить, что Волков первый доказал несостоятельность этого метода исследования. Но это распространенное мнение вдвойне
неточно; во-первых, статья Волкова представляет только амплпфикацию суждений, высказанных в более точной и сжатой
форме гораздо ранее его 2 , а, во-вторых, слишком резкая оценка
этого метода ничем не оправдывается. Это, коне.чно, не самый
точный из возможных методов, и в этом никто никогда и не сомневался, но для исследований, не имеющих притязания на особенную степень точности, его можно вполне рекомендовать и теперь, и доказательство тому налицо: пользуясь этим методом,
Мюллер-физик изучил распределение тепла в солнечном
спектре, а я изучил в первый раз распределение занимающего нас
явления, и наши результаты были вполне подтверждены последующими более точными исследованиями. Метод, дающий хорошие результаты, конечно, можно считать удовлетворительным.
Из этого первого моего исследования вытекал общий результат, значение которого только растет, по мере того как наши сведения накопляются: а именно,что разложение зависит, главным
1
2
Прим. 2.
ІТрим. 2.
образом, от красных, а не от желтых лучей 1 . Сличая три кривые:
ту, которая представляет световое напряжение в спектре, и ту,
которая представляет тепловое напряжение, с той, которая представляет разложение углекислоты растением, мы убеждаемся,
что нет никакой связи между яркостью, то-есть световым напряжением, и разложением углекислоты, но что между этим последним и тепловым напряжением существует очевидное соотношение. Этому-то факту я и придавал наибольшее значение,
так как представлялось более согласным с основными физическими и химическими воззрениями приписывать разложение
углекислоты тепловому эффекту лучей, а не их световому эффекту, потому что этот последний, в конце концов, представляет только субъективное ощущение органа зрения. Именно, исходя из этих соображений, я и усомнился в первый раз в точности опытов Дрэпера, и сомнения эти были подтверждены результатом моих собственных опытов. Но я не ограничился
этим, я обнаружил, я доказал источник ошибки Дрэпера, и в
этом заключается самая существенная сторона дела, не утратившая своего значения и до сих пор, ввиду непонятного упорства
германских физиологов, не желающих оценить все значение
моей критики. Упрек, который я делал Дрэперу, равно относится и к позднейшим работам Пфеффера и Мюллера и, как мы
сейчас увидим, с еще большею силой к самым новейшим, к только
что появившимся работам Рейнке.
Для разъяснения этого источника ошибки, общего всем этим
исследованиям, я должен вдаться в подробности несколько технического свойства, но от их верной оценки зависит разрешение
занимающего нас вопроса.
Для того, чтобы исследования, предпринятые в спектре,
могли иметь притязание на необходимую степень точности,
спектр этот должен быть чист. Но спектр этот может считаться
таковым лишь в том случае, если щель, чрез которую прошел
луч, падающий на призму, не превышает известной ширины.
Весьма простой опыт докажет нам справедливость этого соображения, самого важного при обсуждении изучаемого явления.
Вот (рис. 1, I, верхняя половина) спектр, полученный при
помощи узкой щели. О чистоте его можно судить по присутствию
1
Прим.
2.
фрауенгоферовых линий, если свет солнечный, или абсорбционных полос какогонибудь тела, если источник света искусственный. Воспользуемся для этой цели
раствором хлорофилла. Вот его характеристическая, резко черная полоса в красной части спектра, доказывающая, что
спектр чист (рис. 1, I , верхняя половина
рисунка). Теперь раскроем шире половину
нашей щели (нарочно для того состоящей
из двух частей, ширину которых можно
изменять по желанию). Мы замечаем, что
половина нашего спектра (нижняя) вытягивается и становится ярче, а хлорофилловая полоса в то же время смещается и
Я
U.
становится расплывчатой (рис. 1, I , нижРис. 1
няя половина рисунка). Это спектр нечистый. Его нечистота зависит от того, что различные лучи налегают один на другой. В самом деле, часть спектра J представляется нам желтою, но мы сейчас увидим, что с таким же правом
мы могли бы назвать ее и красной. Я помещаю на пути луча
красное стекло, и, между тем как. в чистом спектре желтый цвет
исчезает, отрезается вместе с остальными (рис. 1, II, верхняя
половина), в спектре нечистом эта часть, только что представлявшаяся нам желтой, становится красной (рис. 1, II, R,
нижняя половина рисунка). Очевидно, что в желтой части нечистого спектра находятся и красные лучи. Таким же образом
я мог бы показать, что в этой желтой части нечистого спектра
находятся и зеленые лучи,—словом, что в этой части перемешаны
всевозможные лучи. Очевидно, что, производя опыты в подобном нечистом спектре, мы рискуем, или можем даже быть уверенными, найти maximum всевозможных явлений в этой именно
части спектра, так как, строго говоря, мы имеем здесь дело не
с желтым, а почти с полным белым светом, слегка покрашенным
в желтый цвет.
D
Вот, мм. гг., источник ошибки, в которую впал сорок лет
тому назад Дрэпер, и причина, почему еще в 1869 году я отрицал точность его опытов и сделанного из них вывода. По, по
несчастью, я продолжаю проповедывать в пустыне. В самом
деле, каков был результат моей критики: в 1871 году Пфеффер
экспериментировал со щелью, имевшей ширину трех миллиметров, в 1878 году Н. Мюллер раскрыл ее до шести миллиметров,
наконец, в 1884 году Рейнке дошел до сантиметра. Вследствие
этого непонятного crescendo самое позднейшее из исследований,
исследование Рейнке, внушает наименее доверия, так как оно
было произведено в спектре, по своей нечистоте сходном с тем,
который мы только что видели.
Но, быть может, спросят, какая же причина побуждала известных ученых работать в таком нечистом спектре? Причина
эта у нас перед глазами: спектр нечистый гораздо ярче, его световое напряжение гораздо значительнее. Когда мой ученый друг,
Н. Мюллер, в своем первом исследовании попытался экспериментировать в чистом спектре, он потерпел неудачу; он не мог
прямым путем обнаружить разложения углекислоты, так что
в своем втором исследовании вынужден был отказаться от чистого спектра, вернулся к широкой щели и потому снова впал
в ошибку Дрэпера.
Таким образом, экспериментатор наталкивается на дилемму:
если он сузит щель, чтобы получить чистый спектр, он ослабляет
свет до такой степени, что опыт становится невозможным; если же
он широко раскроет щель, чтобы допустить побольше света, то
опыт становится бесполезным, так как из него нельзя сделать
определенного вывода вследствие нечистоты спектра.
В моей второй работе я удачно избег этой дилеммы при помощи следующего приема. Для получения света достаточной
интенсивности стоит только уменьшить размеры спектра, но
в таком случае и листовые поверхности, над которыми экспериментируют, уменьшатся соответственно, а вследствие этого
количества разлагающейся углекислоты станут настолько малы,
что будут ускользать от приемов газового анализа, которые
химия предлагает физиологу.
Только усовершенствовав в известном направлении методы
газового анализа, можно было разрешить данный вопрос. Нескольких слов будет достаточно, чтобы напомнить основную
идею моего приема. Газовая смесь, выставлявшаяся в спектр
в трубках настолько широких, чтобы они могли заключать
листовые поверхности достаточной величины, переводилась, при
помощи особого переливателя (transvaseur), в эвдиометры с узким горлышком, дозволявшие измерять и анализировать газы
со степенью чувствительности, до тех пор не достижимой. Благодаря этому приему мне первому удалось непосредственно определить количество углекислоты, разлагаемой зелеными частями
растения в различных частях чистого спектра.
Но в чем же заключался вопрос, который предстояло разрешить на этот раз? Так как теория Дрэпера, поддерживаемая
Саксом и Пфеффером, оказалась несостоятельною и могла быть
объяснена экспериментальной ошибкой, нужно было искать более рационального объяснения. Вопрос между тем представился
в новом свете благодаря плодотворной идее, внесенной в обсуждение вопроса Жаменом, но обратившей на себя внимание
ботаников только после того, как она была подхвачена Ломмелем.
Классические исследования В . Гершеля и мисс Сомервиль обнаружили существование основного закона, по которому химическое действие света вызывается лучами, поглощаемыми данным
веществом. Исходя из этого закона, естественно было заключить, что и разложение углекислоты в растении зависит от лучей, поглощаемых хлорофиллом; таким образом получилось бы
объяснение той роли, которую играет это вещество в экономии
растения. Для того, чтобы получить необходимый материал для
обсуждения этой гипотезы (приобретавшей уже некоторое вероятие на основании моего первого исследования, показавшего,
что maximum разложения углекислоты лежит не в желтой части,
как утверждали, а в красной), я предпринял подробное исследование оптических свойств хлорофилла. Результаты этого исследования изложены в моем труде «Спектральный анализ
хлорофилла»1. Здесь в первый раз я предложил простой способ
изучения, вместо произвольного какого-нибудь спектра, полных спектрограмм, дающих верное изображение закона поглощения света данным телом. Прием этот теперь приписывается
Прингсгейму, применившему его только пять или шесть лет
позднее. С тех пор я придумал еще несколько приборов, приспособленных к этой цели. Самый совершенный из них, изобра1
Прим. 3 и 4.
женный на рисунке 2, состоит из двух
клиновидных
стеклянных ванночек,
наполненных — одна раствором хлорофилла, другая — растворителем1. При
помощи этого аппарата можно получать
непосредственно спектрограмму хлорофилла (рис. 3, Chi).
Главный результат упомянутого труда заключался в открытии ближайших
составных начал хлорофилла: зеленого — хлорофиллина
и желтого — ксантофилла. Так как при накладывании Рис. 2
спектра одного тела на спектр другого
получался спектр хлорофилла, то таким образом в первый раз
получалось доказательство, что уединенные два тела были действительные ближайшие составные начала хлорофилла. Эти два
тела, или их более или менее нечистые производные или смеси,
были неоднократно с тех пор открываемы Краузом, Фреми, Саксе,
Тчпрхом и еще совсем недавно Ганзеном. Как на второй из
результатов моих исследований, укажу на констатирование
полного сходства между спектрами хлорофилла в живом организме и в растворе. Я достиг этого при помощи микроспектрального прибора, описание которого находится в трудах ботанического конгресса во Флоренции в 1874 году. Прибор этот теперь
более известен под именем микр о спектрального прибора Энгелъманаг. Несколько лет позднее я дал экспериментальное объяснение различия между спектром листьев и спектром растворов,
указав на весьма простой прием, при помощи которого в последнем можно вызвать изменение, характеризующее первый. Стоило
только подражать явлению, представляемому листьями, тоесть пропускать в щель спектроскопа смесь света, прошедшего
через слой хлорофилла, и обыкновенного белого света, и подобный смешанный спектр оказывался вполне сходным со спектром
листьев 3 . Констатирование этого факта, как увидим далее,
весьма важно, ввиду противоположного утверждения Рейнке.
1
2
3
24
Прим. 18.
Прим. 5 и 9.
Прим. 17.
к. А. Тимирязев, т. J
369
Зная закон поглощения
света хлорофиллом и обладая необходимым методом
для анализа газов, я мог
приступить к разрешению
вопроса: существует ли
связь между поглощением
света хлорофиллом и разложением
углекислоты.
Мои опыты доказывают существование этой связи
самым несомненным образом. Стоит взглянуть на
рисунок 3, представляюЩИЙ кривую разложения
щие. 3
(С) и кривую поглощения
света хлорофиллом (Chi),
наложенные одна на другую, чтобы убедиться не только в совпадении обоих maxima, но и в количественном соотношении между
явлением поглощения и химическим процессом, между оптическими свойствами хлорофилла и разложением углекислоты 1.
Нелегко было бы найти во всей области растительной физиологии факт, более отчетливо, более строго подтвержденный опытом, и я мог бы привести много таких, которые, будучи несравненно менее убедительными, тем не менее считаются общепризнанными.
Но несмотря на очевидность результатов, несмотря на точность метода, исследования мои оставались в течение долгих лет,
так сказать, вне общего научного течения. Еще не так давно я мог
слышать от одного из своих коллег обоюдоострый комплимент:
«Вы можете гордиться тем, что вы теперь единственный ботаник,
настаивающий на существовании связи между разложением
углекислоты и оптическими свойствами хлорофилла». И он был
А
G
1 Обе кривые
рисунка 3 отнесены к скале нормального спектра.
Таблица, приложенная к моей оригинальной работе (см. прим. 10), дает
ясное представление об относительной резкости абсорбционных полос
хлорофилла. Это самый точный рисунок спектра хлорофилла, какой существует.
прав. Приведу только один пример в подтверждение: давно ли
два ученых, Прингсгейм и Ганзен, как известно, очень мало
друг другу симпатизирующие, сходились между собою в одном
лишь только пункте, именно, что мои опыты не заслуживают
упоминания, что мое имя не имеет даже права фигурировать на
страницах их статеек, посвященных критическому обзору вопроса, которым я занимаюсь специально вот уже пятнадцать лет.
Но теперь положение решительно изменилось. Идеи, которых
я был так долго единственным защитником, теперь стали ходячими, можно сказать, модными. Благодаря приему, который
мои исследования встретили между французскими учеными,
главным образом, благодаря лестному отзыву, высказанному
Ван-Тигемом в его капитальном Traité de Botanique, общее
мнение ботаников совсем изменилось. Два новых бойца выступили на арену, два выдающихся ученых, Энгельман и Рейнке,
явились с своими исследованиями в защиту фактов, которые,
я полагал, мне уже давно удалось поставить вне всякого сомнения. По несчастью, я только с оговоркой могу воспользоваться помощью моих новых союзников. И вот причины, меня
к тому побуждающие. Энгельман производил свои исследования
в микроспектре и притом пользовался новым, изобретенным им
методом определения кислорода, имеющим притязания на почти
химерическую чувствительность. Это метод бактерий, слишком
известный, чтобы нужно было его описывать. Метод остроумный,
с этим я, пожалуй, готов согласиться, но слишком косвенный
и далеко не точный и, что еще хуже, заключающий постоянный
источник погрешности, повидимому, ускользнувший от внимания Энгельмана. Окрашенное тело, погруженное в бесцветную
жидкость, нагревается именно в тех лучах, которые оно поглощает, и таким образом является центром конвекционных токов, которые привлекают, так сказать, присасывают все мелкие
частицы, взвешенные в жидкости,- а следовательно, и те бактерии, которые кишат вокруг зеленой клеточки. Этот источник
погрешности постоянно присутствует и действует в одинаковом
смысле и пропорционально с предполагаемым выделением кислорода, так что наблюдатель должен всегда оставаться в сомнении, не должен ли он приписать все явление или хоть часть
его этой побочной причине. Именно этой побочной причине,
24*
371
вероятно, должно приписать все новые факты, открытые Энгельманом и противоречащие результатам прямых опытов.
Сюда относятся: выделение кислорода ксантофиллом этиолированных листьев, существование второго maximum'а разложения
углекислоты в синей части спектра и, наконец, роль пигментов
иных, кроме хлорофилла; все эти факты можно считать
сомнительными, пока они не будут проверены н доказаны методами прямыми. Такова уже участь всех косвенных методов:
они внушают доверие лишь настолько, насколько подтверждаются методами прямыми, и Энгельман сам это хорошо сознавал.
С самого начала своих исследований он видел, что maximum находится в красной части спектра, но не смел верить свидетельству
своих чувств, потому что тогда еще считал доказанным (на основании опытов Дрэпера и Пфеффера), что этот maximum должен
лежать в желтой части спектра (Bot. Zeit. 1881, p. 447). Повторяю, метод бактерий, быть может, остроумен, пожалуй, даже
изящен 1 , но совсем не точен. Что до меня касается, то я воздержусь от его употребления, так как остаюсь при своем убеждении, что химические вопросы не могут быть разрешаемы иначе
как химическими же методами.
Переходя к исследованиям Рейнке, я бы мог ограничиться
указанием на крайнюю нечистоту его спектра, но следующие
соображения еще более выяснят мой взгляд на это исследование,
позднейшее из появившихся и, повидимому, обратившее на себя
внимание ботаников. Рейнке в своих исследованиях воспользовался методом, который он считает вполне новым, но который
в действительности далеко не нов—он давно применяется в
физике и был применен к ботаническим исследованиям Полем
Бером. Мы увидим, что метод хорош, но, конечно, под неизменным условием, чтобы спектр был чист, а мы уже имели
случай судить о чистоте спектра, в котором экспериментировал Рейнке. Рейнке резюмирует свои исследования в кривых, отнесенных к скале нормального спектра, но эти кривые
относятся совсем не к тому спектру, в котором производились опыты. Он помещал исследуемое растение в чистый
1 При одновременных
наблюдениях во всем спектре, но никак не
в последовательных наблюдениях и различной ширине щели; этот последний прием никуда негоден.
спектр и затем раскрывал щель. Он обращает внимание читателя на то обстоятельство, что растение оставалось на том
же месте; это верно, но зато перемещался самый спектр (как
это легко усмотреть из рис. 1, I, II). Оба спектра, тот, в котором производился опыт, и тот, к которому отнесены результаты опыта, имеют только то общее, что наблюдатель видел
их в тот же день в той же комнате, и вследствие этого мы
остаемся в полной неизвестности, в какой части спектра
находился в действительности maximum разложения углекислоты1. Мы можем предположить, что он находился где-нибудь
близ желтой части спектра, как в опытах Дрэпера и Пфеффера, то-есть вообще в опытах, произведенных в нечистом спектре. Правда, Рейнке помещает maximums крайней красной части
спектра, но, повторяю, выбор этой точки совершенно произволен, так как спектр, к которому отнесены результаты, и спектр,
в котором производились опыты, не имеют ничего общего.
Так как эта точка не соответствует главной абсорбционной
полосе хлорофилла (на фигурах Рейнке maximum разложения,
как сказано, лежит в крайнем красном), то Рейнке пытается
объяснить этот неожиданный результат предположением, что
точка эта соответствует главной абсорбционной линии живых
листьев. Но так как мы видели выше, что спектр листьев вовсе
не представляет настоящего спектра живого хлорофилла, а только соответствует спектру растворов, измененному примесью белого света, то мы приходим к курьезному заключению, что опыты
Рейнке доказывают существование известного соотношения
между явлением разложения углекислоты и оптическими свойствами несуществующего тела. Если в оптической части своего
труда Рейнке повторил ошибку Дрэпера, то в химической
части своего исследования он примирился со старым приемом
счета пузырьков. Более, чем кто другой, Рейнке должен был бы
воздержаться от этого приема. В своем руководстве он основательно настаивает на важности выбора единицы при всех
физиологических исследованиях. Но очевидно, что самая плохая единица та, которая не отличается постоянством, а именно
1 В самом деле, что бы подумали о физике, который с т а л бы утверждать, что измерял длину волн в спектре, полученном при помощи щели
шириной в один сантиметр?
это и представляют нам эти пузырьки, величина которых и содержание кислорода представляют две неизвестные переменные. В общем итоге, исследование Рейнке, самое позднейшее
из всех работ по этому вопросу, является самым несовершенным
как с оптической, так и с химической точки зрения. Неудача
обоих ученых, занявшихся вслед за мною интересующим нас
вопросом, внушает мне еще более доверия к правильности избранного мною пути. В самом деле, заботиться о чистоте спектра
и рядом с этим совершенствовать газометрические приемы—вот
единственный рациональный путь, могущий дать надежные
результаты. Прием, мною употребленный, не оставлял ничего
более желать с точки зрения точности, но он был несколько сложен, требовал дорогих приборов, как, например, гелиостата
с часовым механизмом, требовал также исключительно благоприятных условий, как, например, продолжительной инсоляции в течение шести или восьми часов. Все эти затруднения,
быть может, объясняют, почему исследователи, выступившие
после меня, предпочитали прибегать к приемам менее хлопотливым, но зато и мало надежным.
По счастью, я могу предложить собравшимся здесь физиологам новый прием, уже оказавший мне услуги и соединяющий достаточную степень точности с необыкновенной простотой. Это
видоизменение метода Дютроше. Этот последний так полюбился
ботаникам, что, кажется, тщетно было бы надеяться, что они
с ним легко расстанутся. Остается одно средство бороться
с яшм,—это сделать его более точным. Я, кажется, достиг этого
результата, изыскав средство измерять и анализировать пузырьки газа величиной с булавочную головку. Одного слова достаточно, чтобы разъяснить, каким образом я достигаю этого результата, возбуждающего сомнение, даже прямое недоверие, когда
его заявляешь в первый раз. Мой эвдиометр состоит из термометрической трубки, и этим объясняется степень чувствительности метода. В самом деле, наименьшее количество газа, доступное измерению в моем аппарате, не превышает 0,00001 кубического сантиметра или в весовых единицах 0,00000001 грамма!
Количества газа, выделяемого одним листом Potamogeton
или маленькой веточкой Ellodea в 15 секунд, уже достаточно
для полного анализа. Вот этот маленький приборчик, действие
которого крайне просто
(рис. 4). Термометрическая
трубка, выдутая в нижней
части на подобие воронки,
на верхнем конце два раза
изогнута и оканчивается
такою же воронкой (рис.
4, /). Верхнее отверстие
снабжено каучуковой трубкой и стеклянной палочкой, которой, как поршнем, можно засасывать или
выталкивать воду, наполняющую все части эвдиометра и маленькую ванночку, к краям которой
он прикреплен. Эвдиометрическая трубка при посредстве двух пружинок
закрепляется на скале, вытравленной на стеклянной
пластинке (рис. 4, 1 и II).
Предположим, что пузырек воздуха, как уже сказано, величиной с булавочную головку подведен под
нижнюю воронку эвдиометра. Подействовав поршнем, засасываем пузырек в
Рис.
4
капиллярную трубку, где он вытягивается в длинный столбик а,
величину которого определяют, производя отсчитывание с обоих концов. Надавив слегка на поршень, вновь выгоняют пузырек в воронку Ъ. На этот раз его подхватывают пипеткой (снабженной подобно эвдиометру маленьким поршнем), подводя ее
носик под воронку (рис. 4, III d, е). Пипетка содержит щелочной
раствор пирогалловой кислоты для поглощения кислорода.*
* Описание хода анализа, приведенное К. А., относится к атмосферному в о з д у х у , углекислотою которого можно пренебречь при пользовании
микроэвдиометром. Ред.
Пока пузырек пробегает по изогнутой трубке пипетки d, кислород обыкновенно успевает поглотиться вполне, о чем можно
судить по бурой окраске, принимаемой реактивом в прикосновении с пузырьком, пока этот последний содержит кислород.
Когда можно заключить, что кислород поглощен, носик пипетки
подводят под воронку, надавливают на один поршень, засасывают другим, и пузырек снова оказывается в капиллярной
трубке (рис. 4 , 1 а). На этот раз он состоит только из азота. Разность между первоначальным объемом и объемом азота, понятно, соответствует кислороду. Весь анализ длится не более
двух минут. Благодаря быстроте всех операций можно пренебречь поправками на температуру н барометрическое давление, и вообще метод представляет ту степень точности, которую
можно требовать от подобного исследования. Вот, впрочем,
несколько цифр, которые помогут нам судить о степени точности метода. На прилагаемой табличке приведены числовые
данные для пяти анализов воздуха, сделанных в десять минут.
Рядом помещено среднее содержание кислорода в атмосферном
воздухе по анализам Бунзена.
Кислород
Анализ Бунзена
20,9%
воздуха
Анализ микроэвдиометрический
21,1% + 0,2
20,8
-0,1
20,9
20,8
-0,1
20,9
Средняя 20,9
Как легко усмотреть, уклонения от цифры Бунзена касаются только тысячных долей.
Этот метод представляет еще важное удобство. Несмотря на
ничтожные размеры прибора, или, выражаясь точнее, именно
благодаря ничтожности этих размеров, все операции выделения
пузырьков газа живым растением, взятие пробы этого газа
и весь ход анализа этих маленьких пузырьков могут быть показаны целой аудитории при помощи прокладывания на экран,
как я это делал на моих публичных лекциях в Москве, где
у меня было в распоряжении электрическое освещение.
Благодаря этому новому методу, который можно назвать
микроэвдиометрическим, опыты над разложением углекислоты
водяными растениями становятся крайне просты 1 . Опыт
в спектре, требовавший прежде целых часов инсоляции, может
быть произведен в 10—15 минут. Можно, пожалуй, даже обойтись без гелиостата, довольствуясь обыкновенным, так называемым porte-lumière.
Для того, чтобы собирать газы, выделяемые водяным растением,—скажем, веточкой Ellodea, которую мы последовательно
помещаем в различные части спектра, кончик веточки подводится под этот маленький колокол, состоящий из трубочки,
припаянной к стеклянной же палочке (рис. 4, IV). Вследствие
капиллярных размеров трубочки вода в ней легко удерживается
и в желаемый момент можно захватить пузырек, перенести его
в ванночку для анализирования при помощи пипетки, а трубочку снова поместить над концом веточки для собирания другого
пузырька и т. д. Это настоящий пинцет для газов, дозволяющий
нам схватывать и переносить пузырьки газа с такою же легкостью, с какой обыкновенным пинцетом мы схватываем и переносим твердые тела. Я не стану злоупотреблять вашим терпением,
описывая результаты, полученные мною прошлым летом при помощи этого прибора по отношению к занимающему нас вопросу.
Еще ранее, когда я еще не имел этого прибора, я не раз наблюдал, что, вопреки противному мнению Пфеффера, положение
maximum'а выделяющихся пузырьков в чистом спектре совпадает с абсорбционной полосой хлорофилла, но я не придавал
никакого значения этим наблюдениям, пока не был в состоянии точно измерять и анализировать эти пузырьки.
Ограничусь заявлением, что мои новые опыты, как, впрочем,
il следовало ожидать, подтверждали вполне результаты моих
предшествовавших опытов, показав полное совпадение между
точками наибольшего поглощения света хлорофиллом и наибольшего разложения углекислоты.
Да и трудно было бы отрицать факт, что лучи, вызывающие разложение, так или иначе поглощаются хлорофиллом.
1 Прибор, слегка видоизмененный и погруженный в ртуть, дозволяет
производить опыты и над листьями наземных растений, помещенными
в смесь в о з д у х а и углекислоты.
Допустить обратное значило бы допустить, что работа может быть
произведена без соответствующей затраты энергии, то-есть дойти
до отрицания начала сохранения энергии. С другой стороны,
те, кто упорствуют в отрицании, что углекислота разлагается
не теми лучами, которые поглощаются хлорофиллом, должны
ожидать, что этот химический процесс будет сопровождаться
особым поглощением, и это явление не могло бы ускользнуть
от внимания физиологов, но ведь вам, мм. гг., известно, что ничего подобного не было замечено. Это, очевидно, поняли защитники теории Дрэпера, Пфеффер и Прингсгейм. Для того, чтобы
избегнуть этого противоречия, они пытались уверить своих
читателей, что часть солнечной энергии, поглощаемая растением,
так ничтожна, так бесконечно мала, что ее поглощение, естественно, ускользает от самого точного наблюдения. Хотя это
утверждение было совершенно бездоказательно, не опиралось ни
на какие числовые данные, я тем не менее приложил все старания, чтобы доказать его ложность. При помощи термоэлектрического прибора, приспособленного к потребностям данного
случая, я достиг точного измерения количества солнечной энергии, поглощаемой хлорофиллом листа, и, сравнив эту величину
с количеством солнечной энергии, затрачиваемой в химическом процессе разложения углекислоты, мог убедиться, что на
этот последний затрачивается далеко не ничтожная доля, как
совершенно произвольно утверждали Пфеффер и Прингсгейм,
а до 2 0 % , а иногда до 4 0 % всего количества, поглощаемого
хлорофиллом1. Очевидно, что подобное усиленное поглощение не могло бы ускользнуть от самого поверхностного
наблюдения.
Таким образом, мм. гг., в настоящую минуту нет места для
сомнений, что разложение углекислоты вызывается лучами,
поглощаемыми хлорофиллом. Мои опыты, против которых, несмотря на очевидное желание, в течение десяти лет не могли
сделать ни одного возражения, доказывают это положение самым несомненным образом. А в этом маленьком приборчике
я даю всякому сомневающемуся простое н легкое средство самому в том убедиться.
1
Прим. 7, 20.
&
Если в настоящее время трудно было бы сомневаться в том,
что разложение углекислоты вызывается лучами, поглощаемыми
хлорофиллом, если мы таким образом усматриваем связующее
звено между явлением разложения углекислоты и присутствием
хлорофилла, то не является ли у нас вслед за тем желание найти
рациональное объяснение для этого эмпирического факта? Новейшие успехи фотохимии бросают ясный свет на природу этой
связи между необходимым присутствием хлорофилла и химическим процессом разложения углекислоты. Но в чем же заключается факт, нуждающийся в объяснении? Свет, поглощаемый
одним веществом—хлорофиллом, вызывает разложение другого
вещества—углекислоты. Естественно рождается вопрос: встречаем ли мы что-либо подобное в других областях фотохимии?
Действительно, исследования Фогеля, Беккереля, Абнея и др.
обогатили фотографию целым рядом явлений совершенно аналогичных 1 . Из этих исследований вытекает, что многочисленные вещества, им дано название сенсибилизаторов, обладают
способностью поглощать свет и передавать колебания своих
частиц частицам других веществ, вызывая их разложение.
Хлорофилл, повидимому, относится к числу этих веществ.
Э. Беккерель доказал это следующим образом. Если на обыкновенную фотографическую пластинку отбросить изображение
спектра, то, как известно, красные лучи не оказывают действия, и мы знаем тому причину—эти лучи не поглощаютсяиодистым серебром, из которого состоит чувствительная пластинка. Но достаточно прибавить к раствору коллодиума
несколько капель спиртового раствора хлорофилла, чтобы получить в красной части изображение абсорбционной полосы хлорофилла. Полученные им фотографии спектра хлорофилла,
которые Э. Беккерель мне обязательно показывал, не оставляют
ничего желать. Таким образом представлялось вполне естественным предположение, которое я высказал уже в 1875 году, что
и в живом растении хлорофилл действует подобным же образом,
поглощая солнечные лучи и передавая колебания своих частиц
» Прим. 10, 13,
частицам углекислоты, которая сама по себе не могла бы подвергаться действию этих лучей света, так как это газ бесцветный.
Но с того времени теория сенсибилизаторов сделала успехи.
Абней считает за общее правило, что для того, чтобы играть роль
сенсибилизатора, вещество должно не только поглощать известные лучи, но еще само по себе разлагаться в этих лучах.
Только разлагаясь, вещество это вызывает разложение и в других телах. Выражаясь обыкновенным языком, сенсибилизатором может быть только красящее вещество, которое линяет
на солнце. Отсюда представлялось в высшей степени интересным определить, подходит ли хлорофилл и в этом отношении
под категорию сенсибилизаторов, разлагается ли он сам в тех же
лучах, которые поглощает и в которых вызывает разложение
углекислоты. Обесцвечивание растворов хлорофилла или бумаги,
окрашенной хлорофиллом, известно со времени Сенебье—вот,
например, образчик такой светописи при помощи хлорофилла*.
Но до последнего времени утверждали, все на основании
той же теории Дрэпера, что это обесцвечивание хлорофилла
происходит не в лучах, поглощаемых хлорофиллом (как того
требует теория сенсибилизаторов), а в желтых и зеленых лучах.
Тем не менее в литературе существовали уже указания, возбуждавшие серьезные сомнения в основательности этого убеждения1, и потому летом прошлого 1883 года я предпринял исследование этого вопроса. Требовалось определить, происходит ли
обесцвечивание хлорофилла в тех же самых лучах, в которых
разлагается и углекислота. Я остановился на методе, о котором
уже была речь, на методе, примененном в первый раз Полем
Бером и уже позднее принятом Рейнке2. Но я воспользовался
для этого прибором более совершенным, который я нашел в каталоге Дюбоска. Изображение спектра, очень чистого, прпни-
,
1 Гершель и, в недавнее время, Дементьев нашли m a x i m u m
разложения хлорофилла в красных лучах.
2 Прим. 26.
* К сожалению образцы, которые демонстрировал К . А . , не сохранились. Вероятно, он получал их на бумаге, окрашенной крепким раствором
хлорофилла. Если такую зеленую бумагу прикрыть непрозрачным предметом с прорезами или зеленым листом с растения и выставить на
солнечный свет, то освещенные места скоро выцветут и оставят зеленый
отпечаток предмета, закрывавшего бумагу. Ред.
мается на стеклянную пластинку, на изнанке которой наклеена
призма с весьма малым преломляющим углом, а на некотором
расстоянии, на том же стативе, помещается цилиндрическая
линза. Благодаря этому устройству луч света, разложенный
первоначально в спектр, собирается в два пучка комплементарного цвета, состав которых можно изменять по желанию. Таким образом получается два цветных поля: желтое и синее,
красное и зеленое, фиолетовое и желтовато-зеленое и т. д. Метод этот представляет то удобство, что луч света, вместо того
чтобы быть сильно рассеянным в спектре, собирается в две яркие светлые полосы. В эти светлые пространства попеременно
помещались трубки с веточкой Ellodea и выделяемый газ собирался и анализировался микроэвдиометрическим
способом,
или же пластинка, покрытая коллодиумом с примесью хлорофилла, причем констатировалось различие в резкости одновременно получавшихся световых отпечатков на чувствительной
поверхности. Экспозиции в десять минут было обыкновенно достаточно для того, чтобы получить, с одной стороны, количество
газа, достаточное для анализа, с другой, вполне ясные следы
фотографического действия. Как ны менял я состав света в двух
фокальных изображениях, maxima обоих действий, химического и физиологического, неизменно совпадали. Так, например, когда я сравнивал действие красного и желтого света,
оба maximum'а оказывались в красном. Из всех этих опытов
вытекает, что, вопреки ходячему мнению, именно лучи, поглощаемые хлорофиллом, разлагают его так же, как они разлагают
и углекислоту 1 . Следовательно, и с этой точки зрения хлорофилл представляет полную аналогию с другими сенсибилизаторами. Против этого можно возразить, что хлорофилл живого
организма не представляет подобного явления, что он не обесцвечивается на свету. Но на это возражение можно ответить
предположением, что хлорофилл регенерируется по мере его
1 Приведенные факты интересуют физиолога еще с той точки зрения,
что у к а з ы в а ю т на хлорофилл, к а к н а вещество, могущее служить для
устройства физиологического фотометра, измеряющего напряжение именно
тех лучей света, которые играют самую важную роль в экономии растения.
Первые попытки, которые я предпринял в этом направлении, дали удовлетворительные результаты.
разрушения. Это воззрение, высказанное мною в 1871 году,
встречает подтверждение в опытах Баталина и в особенности
в исследованиях Визнера 1 . Эта предполагаемая регенерация зеленого вещества имеет к тому же аналогию в природе: глазной
пурпур, как известно, одновременно разрушается и восстанавливается.
Следовательно, роль хлорофилла не представляется нам более чем-то исключительным, каким-то одиноко стоящим фактом—
она подходит под общую категорию явлений, представляемых
сенсибилизаторами. Хлорофилл, или, выражаясь определеннее,
хлорофиллин, так как роль эта должна быть приписана исключительно этому последнему (другое составное начало хлорофилла, ксантофилл, мало чувствительно к свету, как это доказывается осеннею окраской листвы),—хлорофиллин может быть
рассматриваем как сенсибилизатор, регенерирующийся по мере
его разложения и способствующий своим разложением разложению углекислоты1,
#
Достигнув этой стадии в анализе исследуемого нами явления, установив основной факт, что роль этого вещества, очевидно,
заключается в его оптических свойствах, в его избирательном поглощении света, мы невольно ощущаем потребность проникнуть еще далее в нашем анализе, задаемся еще новым вопросом. Эти красные лучи, так жадно поглощаемые хлорофиллом
и превращаемые в химическую работу, не отличаются ли они
чем-нибудь от других лучей спектра, каким-нибудь свойством,
которое объясняло бы, почему они, предпочтительно перед другими лучами, способны вызывать это явление? Мы уже видели,
что я задался именно этим вопросом в самом начале своих исследований. Еще в 1869 году, обсуждая результаты своей первой работы, я указывал на возможность существования связи
между способностью луча вызывать разложение углекислоты
и его тепловым напряжением. В самом деле, так как это явление
разложения или диссоциации углекислоты сопровождается
значительным поглощением теплоты, то естественно допустить,
1
Прим. 4.
что оно зависит не от светового, а от теплового напряжения
луча, служащего единственной истинной мерой его энергии.
Но какой же из лучей спектра обладает наибольшей тепловой
энергией? Только благодаря новейшим исследованиям физиков
мы в состоянии ответить на этот вопрос.
Еще совсем недавно физики принимали, что наибольшим тепловым эффектом обладают лучи, лежащие за пределом видимого
спектра, именно лучи темные, инфракрасные. Одного этого соображения казалось немецким ботаникам достаточно для того,
чтобы отвергнуть, не дав себе даже труда вникнуть в них, те
соображения, которые я высказал уже пятнадцать лет тому назад, возвращаясь к ним, настаивая на них при каждом удобном
случае, и которые теперь, наконец, блестящим образом подтверждаются новейшими исследованиями американских и английских физиков. Каждый раз, когда я имел случай высказываться
по этому вопросу, я настаивал на том, что ходячие воззрения
на распределение тепловой энергии относятся только к призматическому спектру, в котором тепловой эффект различных
частей зависит не только от специфического свойства данного
луча, но и от различия в дисперсии. В невидимой темной части
лучи наиболее скучены, в видимой, наоборот, наиболее рассеяны. Единственным средством для изучения теплового эффекта различных лучей являлось исследование распределения
теплоты в спектре нормальном, и в этом случае,—добавлял я,—
представляется возможным, что maximum теплового действия
окажется именно в той части спектра, которая соответствует
абсорбционной полосе хлорофилла, где лежит и maximum разложения углекислоты 1.
И вот теперь это предположение, высказанное мною в такой
категорической форме, стало фактом, подтвердилось в поразительной степени 2. Познакомимся бегло с результатами последних исследований Ланглея и Абнея над распределением тепла
в нормальном солнечном спектре, в первый раз дающим нам
возможность судить о тепловом эффекте различных лучей.
Вот кривая, изображающая распределение тепла в интересующей
нас части нормального спектра, по исследованию Ланглея
1
!
Прим. Ю, 13, 16.
Прим. 22, 24.
(рис. 5,L). На этот раз
maximum находится в
видимой части спектра,
именно в красной, между линиями В и С Фрауенгофера, — там именно, где лежит абсорбционная полоса хлорофилла и, следовательно,
maximum разложения
угольной кислоты. Но
это совпадение еще поразительнее на основании еще позднейших исследований Абнея. Вот
Рис. 5
соответствующа я часть
кривой, резюмирующей результаты английского ученого (рис. 5,
А). 1 Положение maximum'а соответствует приблизительно длине
волны = 0,000666 миллиметра. Середина абсорбционной полосы
хлорофилла соответствует длине волны=0,000664 миллиметра.
Можно ли было ожидать более полного совпадения?
Таким образом, заключение, к которому я пришел еще
в 1869 году, оказывается вполне подтвержденным: разложение
углекислоты, как и следовало ожидать с теоретической точки
зрения является результатом теплового, а не светового напряжения солнечного луча. Растение не знает света. Света не существует для растения. Мы впадаем в логическую ошибку,
говоря о свете в применении к растению; ошибка эта заключается в том, что представления, вытекающие из изучения
одной категории фактов, мы распространяем на совершенно
иную категорию фактов, к которой они уже неприменимы. Быть
может, всего лучше было бы, говоря о растении, не применять
это двусмысленное выражение—свет, заменив его более точным
1 Кривая
Т рисунка 5 повторяет кривую С на рисунке 3. Вертикальная линия на обоих рисунках соответствует положению maximum'a
поглощения I полосы хлорофилла. (Это примечание, имеющееся во французском тексте, издания международного конгресса, было пропущено в
изданиях этой статьи на русском языке. Ред].
выражением — лучистая энергия или просто лучеиспускание
(radiation),—как это и делает Ван-Тигем в своем превосходном Traité de Botanique. Таким образом для растения существует только лучистая энергия, и те из этих лучей, которые
обладают наибольшим тепловым напряжением, поглощаются
хлорофиллом. Хлорофилл не просто только поглотитель лучистой энергии, сенсибилизатор,—это еще самый совершенный из
сенсибилизаторов, так как поглощает и превращает в химическую работу солнечные лучи, обладающие наибольшей
энергией.
Вот третье основное положение для теории хлорофилловой
функции, удовлетворительно объясняющее нам ту исключительную роль, которую играет в природе это вещество. Растение,
так сказать, опередило открытия современных физиков, выработав задолго до появления человека это изумительное вещество, поглощающее из бесчисленных элементарных световых
волн, из которых слагается солнечный луч, те именно, которвіе
обладают наибольшей энергией. Не в праве ли мы видеть здесь
один из самых поразительных фактов приспособления организмов к условиям их существования? Но здесь естественно возникает новый вопрос: каким же путем достигло растение этого
изумительного результата? Весьма возможно, что любопытные
исследования Энгельмана, касающиеся различных пигментов,
встречающихся в водорослях, бросят новый свет на этот любопытный вопрос. Очевидно, что хлорофилловая функция должна
была первоначально выработаться у первобытных морских водорослей, и именно в этой подводной флоре встречаемся мы
с наибольшим разнообразием пигментов. Из всех этих веществ
вероятно самое важное — хлорофилл; оно-то и вышло победителем в борьбе за существование и завоевало сушу. С этой точки
зрения было бы крайне интересно проверить результаты Энгельмана более точными прямыми опытами.
Таким образом, роль хлорофилла в явлении разложения
углекислоты может быть резюмирована в следующих выражениях: он поглощает лучи, обладающие наибольшей энергией,
и передает эту энергию частицам угольной кислоты, которые
сами по себе не подвергались бы разложению, так как прозрачны по отношению к этим энергическим лучам.
25
к. А. Тимирязев, т. 1
385
*
Но не можем ли мы сделать еще один шаг в анализе этого
сложного явления — не можем ли мы попытаться заглянуть
в молекулярный механизм этого фотохимического процесса,
не в состоянии ли мы поставить эту способность разлагать углекислоту в зависимость от какого-нибудь элементарного свойства световой волны?
До сих пор внимание физиков почти исключительно сосредоточивалось на двух свойствах световой волны—на ее длине и на
скорости распространения. Но форма волны зависит и от ее
амплитуды. Исследования Ланглея и Абнея делают возможным
приблизительную оценку относительной амплитуды различных волн. Я сделал попытку такого вычисления. Следующий
рисунок (рис. 6) резюмирует эти вычисления и может послужить для обсуждения занимающего нас вопроса. Получаемый
рбзультат крайне любопытен. Начиная с темных лучей, лежащих за красным пределом (рис. 6 слева), амплитуда, или, выражаясь обыкновенным языком, высота волн, возрастает по мере
приближения к видимой части спектра. Она достигает maximum'а в красной части (рис. 6, I, 7, 6), соответствующей длине
волны 0,000700 и 0,000600 миллиметра, и затем быстро убывает
к фиолетовому концу. Второй рисунок (рис. 6, I I ) представляет
форму световых волн в красной части спектра на основании более
подробных данных Абнея. Максимальная амплитуда соответствует приблизительно длине волны в 0,000666 миллиметра. Припомним, что maximum поглощения хлорофиллом соответствует
длине волны=0,000664 миллиметра. Мы приходим, таким образом, к любопытному заключению, что хлорофилл всего энергичнее поглощает те именно волны света, которые отличаются наибольшей амплитудой колебания. Какой же сделаем мы из этого
вывод? Прибегнем для этого к сравнению с более обычным нам
явлением. Представим себе, что горизонтальная линия (рис. 6,1)
означает уровень спокойного моря, волнистая же линия —
море, возмущенное бурей, а точки — корабль в различных местах его пути, и зададимся вопросом, в какой части этого возмущенного пространства корабль наш всего более подвергается
опасности крушения. Очевидно, что крушение доследует всего
- ^ ^ С А А А М А Ш ^
'
24
//
г г
20
18
0,000666 _7г'
16
70
14
1Z
10 9
8 7
654
0,000664
Рис. 6
вероятнее не там, где море колышет тяжелая зыбь, не там, конечно, где по его поверхности пробегает быстрая, но мелкая
рябь, а там именно, где высокие валы то взбрасывают корабль
на крутые гребни, то низвергают в глубокие бездны. То же самое
происходит на пути солнечного луча, возмущающего этот безбрежный эфирный океан, видимый только нашим умственным
взорам. Именно в той части солнечного спектра, в которой валы
достигают наибольшей высоты, частица углекислоты претерпевает крушение, диссоциируется под учащенными ударами световых волн.
Таким образом, мы начинаем угадывать внутренний механизм этого явления. Частицы хлорофилла приводятся в сотрясение световыми волнами, обладающими наибольшей амплитудой колебания, и это-то элементарное свойство, вероятно, делает хлорофилл столь исключительно пригодным для осуществления самого энергического из всех известных нам химических действий света — этой диссоциации угольной кислоты,
являющейся исходной точкой растительной жизни, источником
всех жизненных явлений на нашей планете.
*
Таковы главнейшие результаты исследований, обнимающих
этот пятнадцатилетний период, который нас отделяет от последнего заседания конгресса нашего в этом городе. Мы далеки
25*
387
еще до полного разрешения задачи, но, я полагаю, со мною
согласятся, что мы уже обладаем необходимыми элементами
для действительно научной теории хлорофилловой функции.
Бросая обратный взгляд на пройденный путь ввиду благоприятного поворота, недавно совершившегося в науке, в пользу
тех идей, одиноким защитником которых я оставался в течение
долгих лет, я, кажется, по совести могу сказать, что сделал,
что мог, для того, чтобы обеспечить за ними успех. Я исследовал
вопрос со всех доступных сторон, все точнее и точнее его ограничивая, разнообразя и совершенствуя приемы исследования
и пользуясь для его объяснения каждым новым успехом в смежных областях химии и физики. Не покидая ни на минуту почвы
прямого опыта, я не пускался в рискованные теории, а ограничивался только ролью свидетеля, констатирующего факты и помнящего обязанность всякого добросовестного свидетеля говорить «истину, всю истину и ничего, кроме истины»1.
ПРИМЕЧАНИЯ*
Для упрощения цитат и установления времени появления моих работ
по занимающему вопросу привожу подробный их перечень.
1) Прибор для исследования разложения углекислоты и пр. 1867. Труды
первого съезда естествоиспытателей в С. П. Б. Реф. в Botanische Zeitung
1868.—Заключает описание приема исследования, теперь ставшего общеупотребительным, но нередко приписываемого Пфефферу.
2) Ueber die relative Bedeutung
von Lichtstrahlen
verschiedener
Brechbarkeit bei der Kohlensaürezersetzung
in Pflanzen.
Bot. Zeitung 1869.
Теоретическое и экспериментальное опровержение теории Дрэпера; точное применение метода цветных экранов; первое указание связи с тепловым напряжением.
3) Ближайший
состав хлорофилла.
1869. Труды II съезда. Реф.
в Bot. Zeit. 1869. Первое указание, что ближайшее составное начало хлорофилла не синее, как предполагали, а зеленое (хлорофиллин).
4) Спектральный анализ хлорофилла. Спб. 1871 (с двумя таблицами).
Описание точного способа обозначения спектров (теперь приписываемого
Прингсгейму). Исследование оптических свойств и ближайших составных
1 См. приведенные в конце примечаний отзывы Сакса.
* Приводимые в тексте примечания были приложены К. А. к его речи
на французском языке на международном конгрессе ботаников, Спб., 1884.
Работы, на которые ссылается здесь К. А., см. в данном томе и томе II
настоящего издания. Ред.
начал хлорофилла, заключающее все основные факты, позднее только подтвержденные Шотаром, Краузом, Саксе, Тчирхом и Ганзеном.
5) Спектр твердого хлорофилла.
Ж. Русск. Хим. Общ. 1872. Реф.
в Berichte d. D. Chem. G. Описание микроспектрального прибора (позднее
известного под именем микроспектроскопа Энгельмана). Доказательство
тождества спектров живого хлорофилла и его растворов. Объяснение аномалического спектра листьев.
6) Газовая пипета. Ж. P. X. О. 1872. Описание нового приема для
анализа малых количеств газа.
7) Термоэлектрический прибор для физиологических целей. 1872. Проток. Бот. Отд. С. П. Б. общества естествоиспытателей.
8) Новая реакция хлорофилла. 1872. Проток. Бот. Отд. Спб. общества
естествоиспытателей.
9) Sur l'action de la lumière dans la décomposition
de l'acide carbonique par le granule de chlorophylle.
Atti del Congresso internazionale botanico tenuto in Firenze. 1874. Описание первых результатов, полученных
в спектре. Доказательство совпадения между maxima поглощения и разложения. Описание микроспектроскопа.
10) Об усвоении света растением.
1875. Спб. (с двумя таблицами).
Критический обзор всей сюда относящейся литературы. Опровержение
экспериментальных исследований и теоретических соображений Пфеффера
и Сакса. Подробное описание метода исследования и результатов по отношению к вопросу о значении оптических свойств хлорофилла. Указание
на возможность совпадения с maximum энергии в нормальном спектре.
11) Растение как источник силы. 1875. Публичная лекция. О количественном соотношении между энергией, получаемой растением от солнца
и слагаемой в запас.
12) Sur la décomposition de l'acide carbonique dans le spectre solaire
par les parties vertes des végétaux. Comptes Rendus de l'Académie (de Paris).
1877. — Извлечение из статьи № 10.
13) Recherches
sur la décomposition
de l'acide carbonique
dans le
spectre solaire. Annales de Chimie et de Physique. 1877. —Подробное извлечение из статьи JV° 10.
14) Критический разбор спектроскопических исследований
Прингсгей.иа
над желтыми пигментами. 1876. Проток. Бот. Отд. Спб. общества естествоиспытателей. Реф. в Just. Bot. Jahresbericht. Опровержение соображений ГІрингсгейма и критика метода Крауза.
15) La Chlorophylle
&. Протоколы ботанического конгресса в Амстердаме. Реф. в Revue Scientifique. 1877.—Краткое извлечение из JV? 4 и 14.
16) О физиологическом значении хлорофилла. 1879. Речи и протоколы
VI съезда естествоиспытателей в С. П. Б. Обзор современного состояния
вопроса и указание на возможность совпадения maxima энергии и разложения в нормальном спектре.
17) Спектр листьев. Экспериментальное доказательство аномалии,
представляемой спектром листьев. 1879. Проток, бот. секции VI съезда
ертествоиспьггателей и пр.
18) Объективное изучение закона абсорбции света хлорофиллом. Там же.
19) Разбор
теории Прингсгейма
о физиологическом значении хлорофилла. Труды Петровской академии. 1879. Опровержение этой теории,
значительно позднее предпринятое Ганзеном.
20) Количество полезной работы, производимой в зеленом листе. 1881.
Проток, физического отдела общества любителей естествознания и бот.
отдела Петербургского общества естествоиспытателей. Реф. в Bot. Centralblatt. 1883. Изложение способа определения количества солнечной энергии, поглощаемой хлорофиллом листа, при помощи аппарата, описанного
выше (№ 7), и установление отношения между количеством солнечной
энергии, поглощенной листом, и производимой химической работой.
21) Действие зеленого света на разложение углекислоты. 1882. Проток,
ботанич. отд. С.-Петербургского общества естествоиспытателей. Реф.
в Bot. Centralblatt. 1883. Доказательство его бездействия.
22) Растение и солнечная энергия. Проток, физич. отд. общ. любителей
естествознания. Указание на совпадение между характеристической абсорбционной полосой хлорофилла и положением maximum'a энергии
в нормальном спектре (по Ланглею).
23) Критика метода бактерий. 1882. Проток, общества испытателей
природы.
24) La distribution de l'énergie dans Le spectre solaire et la
chlorophylle.
Comptes Rendus de l'Académie (de Paris). 1883.
25) Микроэвдиометр. 1883. Проток, общ. испытат. природы. Новый
метод анализа крайне малых количеств газа для физиологических целей.
26) Зависимость фотохимических
явлений от амплитуды
световой
волны. Журн. русск. химического общ. 1884.
27) Action chimique et action physiologique
de la lumière.
Comptes
Rendus de l'Académie (de Paris). 1885.
Беспристрастный обзор этого списка, я полагаю, будет достаточен для
того, чтобы установить следующие три пункта: 1) что в этих исследованиях, обнимающих семнадцатилетний период, я шел строго систематическим путем; 2) что, между тем как другие исследователи ограничивались
исследованием той или другой частности, я постоянно занимался исследованием вопроса во всей его совокупности; и, наконец, 3) что я ранее других
исследователей вполне самостоятельно прямым и точным опытом установил факты, послужившие основой для современной теории хлорофилловой
функции, упразднившей теорию Дрэпера, которую тем не менее Сакс продолжает упорно отстаивать, правда, с ббльшим авторитетом, чем успехом1.
1 См. «Vorlesungen
über Pflanzen-Physiologie», 1882, t. I, p. 368...
«все прямые опыты доказывают, что maximum выделения кислорода лежит
в желтых лучах». «В общем результате исследование хлорофиллового спектра не дало ни одного физиологически важного факта, то-есть мы знали бы
о физиологической функции хлорофилла столько же, если бы ровно
ничего не энали о его спектре».
ТУ
КОСМИЧЕСКАЯ РОЛЬ РАСТЕНИЯ
1
КРУНИАНСКАЯ ЛЕКЦИЯ (CROONIAN LECTURE)1
I
К
огда Гулливер в первый раз осматривал академию в Jlaгадо, ему прежде всего бросился в глаза человек сухопарого
вида, сидевший уставив глаза на огурец, запаянный в
стеклянном сосуде.
На вопрос Гулливера диковинный человек пояснил ему, что
вот уже восемь лет, как он погружен в созерпание этого
Лекция читана в Лондонском королевском обществе 30 (17) Апреля 1903 года.
Эта лекция, основанная на капитал, завещанный доктором Круном,
современником Галилея и одним из первых членов общества, читается
ежегодно почти в течение двух веков, для чего приглашаются выдающиеся
английские или континентальные ученые: стоит только упомянуть имена
Гёксли, Вирхова и Гельмгольтца.
* Перевод этой лекции «The Cosmical Function of the Green Plant»,
напечатанной в Proceedings of the Royal Society, Vol. 72, 1903, на русский язык был сделан с небольшими редакционными изменениями самим
К. А. и первый раз помещен в журнале «Научное слово» за 1904 г.,
кн. 3. Ред.
1
предмета в надежде разрешить задачу улавливания солнечных
лучей и их дальнейшего применения.
Для первого знакомства я должен откровенно признаться,
что перед вами именно такой чудак. Более тридцати пяти лет
провел я, уставившись если не на зеленый огурец, закупоренный в стеклянную посудину, то на нечто вполне равнозначащее —
на зеленый лист в стеклянной трубке, ломая себе голову над
разрешением вопроса о запасании впрок солнечных лучей. Если
я решаюсь выступить перед этим знаменитым обществом с кратким отчетом о скромных результатах моего многолетнего труда,
то лишь в надежде, что предмет этот имеет хотя и очень отдаленное, но тем не менее несомненное отношение к тому вопросу, который доктор Крун, просвещенный и щедрый основатель этой лекции, считал наиболее уместной для нее темой. В течение длинного
ряда лет содержанием для этих лекций служил вопросо мышечном
движении, позднее зашла речь о движениях животных и растений и, наконец, о происхождении жизненных движений вообще.
Быть может, мне дозволено будет сделать еще шаг в этом направлении, в сущности последний возможный шаг, и повести
речь об энергии, затрачиваемой во всех этих движениях, о ее
отдаленнейшем источнике — о солнечном луче, слагающемся
в запас в зеленом листе.
Я полагаю, излишне напоминать вам, что вопрос этот был
предметом многочисленных исследований в этой стране (и в Америке) в течение более чем столетия. Достаточно напомнить всем
знакомые имена: Пристли, графа Румфорда, Добепи, сэра Девида Брюстера, Джона Вильяма Дрэпера, сэра Джона Гершеля, Роберта Гёнта, сэра Джорджа Стокса, Эдварда Шунка,
Сорби, сэра Уильяма Абнея, Блякмана и last not least 1 —Гораса Брауна, чтобы показать, какой глубокий интерес возбуждал этот вопрос с самых разнообразных точек зрения. Я мог бы
прибавить, что чтение блестящей книги Тиндаля «Теплота как
движение» и, в результате этого чтения, знакомство с классическим произведением Роберта Майера «Die organische Bewegung
in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel» послужили толчком для всей моей последующей работы. И должно сознаться,
1
Последний, но не из последних.
что момент был для того исключительно благоприятный: Бунзен
и Кирхгоф недавно открыли это могучее орудие исследования—
спектральный анализ; сэр Джордж Стоке применил его к изучению химических превращений крови; Дезен и Тиндаль разработали термоскопический метод Меллони; Сент-Клер-Девиль
сделал свое великое открытие диссоциации углекислоты; Бунзен и Дойер, упростив методы газового анализа, сделали их легко
доступными для физиолога и, наконец, Буссенго только что
опубликовал свои классические исследования над ассимиляцией углерода, в которых показал, что этот процесс может
быть легко изучаем на отдельных листьях или даже кусочках
листьев.
С первого же шага, на первой странице моей первой русской
работы, в 1868 году, я определил намеченную задачу во всей ее
широте в следующих выражениях:
«Изучить химические и физические условия этого явления,
определить составные части солнечного луча, участвующие посредственно или непосредственно в этом процессе, проследить
их участь в растении до их уничтожения, то-есть до их превращения во внутреннюю работу, определить соотношение между
действующей силой и произведенной работой — вот та светлая,
хотя, может быть, отдаленная задача, к осуществлению которой
должны быть направлены все силы ботаников»*.
Я могу только добавить, что скромные результаты, полученные после длинного ряда лет, только подтверждают, что
я во всяком случае не преувеличивал трудностей задачи.
Когда я приступил к своей задаче, ходячее представление об
этом фотохимическом процессе, совершающемся в зеленом листе,
сводилось к убеждению, что действие различных лучей света
должно быть в зависимости от их относительной яркости. Это
убеждение основывалось, главным образом, на классических исследованиях Дрэпера, произведенных им в солнечном спектре.
С теоретической точки зрения мне предъявлялось крайне
* К. А. цитирует здесь свою работу «Прибор для исследования воздушного питания листьев и применения искусственного освещения
к исследованиям подобного рода» (см. том II настоящего издания), в которой последняя фраза приводимой выдержки имела следующую редакцию:
«...— вот та светлая, хотя, может быть, отдаленная задача, к достижению
которой должны быть дружно направлены все силы физиологов». Ред.
невероятным, чтобы такой, по существу, эндотермический и, следовательно, зависящий от энергии действующих лучей химический процесс мог находиться в каком-нибудь отношении с чисто
физиологическим свойством лучей, не имеющим, помимо органа
зрения, никакого объективного существования. Света, понимаемого в тесном смысле этого слова, не существует для растения. Но факты, предъявляемые таким авторитетом в этой области исследования, каким был Дрэпер, не могли быть устранены
на одном основании их малой теоретической вероятности. Изучение классического мемуара Меллони о перемещении максимума теплового эффекта в зависимости от чистоты спектра навело меня на след экспериментальной ошибки в исследовании
Дрэпера. Его спектр был крайне нечист. Он получал его
при помощи отверстия в 3 / 4 дюйма в диаметре (волластоновская
узкая щель, повидимому, еще не вошла в то время в общее употребление). Таким образом, было найдено удовлетворительное
объяснение для совпадения максимума химического процесса
с максимумом яркости лучей в желто-зеленой части спектра.
В нечистом спектре, полученном при помощи широкой щели,
эта часть — фактически почти белая, слегка окрашенная в эти
цвета, и, следовательно, действует суммой всех лучей спектра.
Только края такого спектра действительно монохроматичны.
Второй шаг заключался в том, чтобы доказать, что такое
совпадение двух maxima — яркости и химического действия —
фактически не существует.
Сравнения этих трех кривых (рис. 1—кривой ассимиляции
углерода, яркости и энергии в солнечном спектре), заимствованных из моей первой (и последней) немецкой работы, достаточно для того, чтобы убедить в отсутствии какой-либо связи
между химическимдействием и фрауенгоферовою кривой яркости
света. В то же время в пределах видимого спектра усматривается
несомненное соотношение с кривою распределения энергии.
В этой первой, предварительной работе я остановился на
более простом и удобном приеме цветных жидких экранов
(теперь сказали бы: светофильтров), введенных в употребление
Сенебье и усовершенствованных Добени. Я применил только
более точное вычисление результатов и графическое их выражение. В то же время я в первый раз применил прием анализа га-
Рис.
1
зов, теперь вошедший во всеобщее употребление, но совершенно
ложно приписываемый Пфефферу, хотя, по его собственному
сознанию, он его у меня заимствовал.
Но если этих аргументов и фактических результатов было
вполне достаточно, чтобы раз навсегда покончить с ходячими
идеями о зависимости разложения углекислоты от относительной яркости, различных лучей спектра, так как она опиралась
исключительно на опыты Дрэпера, то, в свою очередь, их не
было достаточно для построения какой-нибудь новой теории.
Нельзя было, например, без дальнейших разъяснений допустить,
что разложение углекислоты зависит просто от относительной
энергии луча. Максимум энергии лежит, как известно, в инфракрасной части призматического спектра, а замечательные
опыты Нальете (почему-то почти всегда опускаемые в многочисленных исторических очерках нашего вопроса) несомненно доказали, что темные тепловые лучи, профильтрованные через
известный тиндалевский раствор иода в сероуглероде, не могут
вызывать разложения угольного ангидрида в зеленом листе.
Нужно было привлечь к объяснению явления какой-нибудь
новый физический принцип, который одновременно давал бы
объяснение и для распределения явления в видимом спектре
и для его отсутствия за красным пределом спектра.
Принцип, к которому обратились, был так называемый закон сэра Джона Гершеля, гласивший, что фотохимическое действие может быть вызвано только лучами, поглощаемыми изменяющимся телом и потому, как общее правило, представляющими комплементарный ему цвет Ч Предполагалось, что в применении к настоящему случаю закон Гершеля значил, что разложение угольного ангидрида должно происходить на счет тех
лучей спектра, которые поглощаются зеленым веществом листа,
что эти лучи должны соответствовать абсорбционным полосам
в спектре хлорофилла.
Обыкновенно приписывают Ломмелю мысль, что разложение угольного ангидрида должно быть рассматриваемо как
функция относительной энергии данного луча и степени его
поглощения хлорофиллом. Но это мнение, несмотря на его распространенность, вполне ложно. Ломмель сам признает, что
первая половина предложения, касающаяся зависимости разложения от энергии, была высказана мною: «Тимирязев высказал половину истины». Я могу прибавить: не только «высказал», но и доказал экспериментально. А если я не мог высказать
второй половины, то-есть касательно зависимости от поглощения, то по той простой причине, что она уже была высказана
до меня, а, следовательно, тем более до Ломмеля — Жаменом
и Эдмондом Беккерелем, и можно только удивляться, что Ломмель—физик—не был знаком с известным учебником физики
Жамена и не менее известной книгой Беккереля «La Lumière,
ses causes et ses effets» * .
Закон этот еще ранее был высказан Гротгусом, в M итаве,
* «Свет, его причины и действия». Ред.
1
Но, конечно, главное дело не в том, чтобы высказать мысль,
хотя бы и вполне верную, а в том, чтобы подтвердить ее на опыте. Nullius in verba1 теперь, как и столетия тому назад, должно
быть руководящим правилом всякого исследователя. Другими
словами, нужно было повторить знаменитый опыт Дрэпера, избежав его ошибки, а в этом и заключалось главное затруднение.
Обыкновенно принято также считать, что это было осуществлено
в первый раз моим старым другом, профессором Н. К. Мюллером. Но, к сожалению, и на этот раз я не могу подтвердить
ходячего мнения. Дело в том, что Мюллер не доставил этого
прямого доказательства о связи между поглощением света
листом и совершающимся в нем химическим процессом, да и не
мог сделать этого, так как не располагал единственным средством избежать ошибки Дрэпера. В своей первой работе, появившейся ранее моей, он экспериментировал в довольно чистом
спектре, но тогда напряжение света не было достаточно велико,
и он не получил разложения угольного ангидрида, а заключал
о нем лишь на основании различия в интенсивности обратного
процесса дыхания (то-есть образования углекислоты). Во второй
работе, появившейся уже после моего исследования, он мог
прямо констатировать разложение углекислоты, но только ценою чистоты своего спектра—ширина его щели была почти та же,
что и у Дрэпера, и результат был почти тот же, то-есть главный максимум разложения оказался в желтых лучах.
Если я позволяю себе останавливаться подробнее на этом
вопросе, то не из тщеславного желания установить свой приоритет, но на основании твердого убеждения, что избранный мною
путь остается и теперь, как был тогда, единственным средством
избежать ошибки Дрэпера. Мюллер не придумал никакого средства избежать, а следовательно, и не мог избегнуть этой ошибки.
Дилемма, так ясно обнаруживаемая двойной неудачей Мюллера,
заключалась в следующем: если спектр чист, напряжение света
недостаточно для обнаружения разложения угольного ангидрида; если, наоборот, мы широко раскроем щель и увеличим
напряжение света в спектре, мы можем быть вперед уверены,
что получим максимальное действие в середине спектра, в его
1 Девиз королевского общества,
имеющий смысл, что не следует
в науке опираться на слова.
желто-зеленой части. Существовало только одно средство
избежать обоих рогов этой дилеммы — увеличить интенсивность
чистого спектра, уменьшив его размеры, но тогда и листовые
поверхности, выставляемые в спектре, были бы соответственно
уменьшены, а следовательно, и количества газов, с которыми
пришлось бы оперировать, были бы слишком малы для их измерения при помощи тех газометрических приемов, которые химия
того времени могла предложить к услугам ботаника.
Главная задача, следовательно, сводилась к тому, чтобы,
так сказать, изменить масштаб газометрических измерений, не
поступившись точностью методы и удобствами операций. Хотя
я с той поры не раз менял подробности устройства приборов,
основание придуманной мною методы газового анализа осталось
то же самое. Листья вводятся в цилиндрические трубки потребного диаметра, а еще лучше — в плоские трубки 1 (чем достигается увеличение поверхности листа), а газы измеряются и анализируются в трубках наименьшего возможного диаметра.
Все необходимые манипуляции—переливание газов и их обработка реактивами — достигаются при помощи предложенной
мною в 1871 году газовой пипеты, которую я до сих пор считаю
наиболее удобной (рис. 2). Она представляет прочное сочетание пипеты и ртутной ванны, благодаря чему восходящему концу
сифонопипеты можно сообщить такой малый наружный (не
свыше 1 г / 2 миллиметра) диаметр, что он может проникать в измерительные трубки в 2 миллиметра внутреннего диаметра.
Достоинство этого приема заключается и в том, что газы не
встречают на пути ни крана, ни каучуковой трубки.
Все необходимые операции сводятся вкратце к следующему:
благодаря видоизмененной мною форме бунзеновского газометра
приготовляемая в нем смесь воздуха и углекислоты, проходя
через еще особую пипетку, так сказать, режется на ломти потребного объема и распределяется по плоским трубкам с листьями.
После достаточной экспозиции в спектре газы отбираются при
помощи выше описанной пипеты и приводятся для анализа
в упомянутые измерительные трубки, дозволяющие измерение
с точностью до Ѵюоо кубического сантиметра.
1
Я их употребляю с 1870 года.
Благодаря этим приспособлениям задача получения
достоверных
аналитических
данных с зелеными поверхностями, подвергнутыми действию чистого спектра, была
в первый раз разрешена, и я
считаю до сих пор этот метод
единственным
заслуживающим полного доверия.
Действительно, два другие
приема, которые применялись для разрешения этой
задачи, несравненно менее
точны. Счет пузырьков газа,
выделяемых при этих условиях водяными растениями
(что можно очень красиво демонстрировать в проложении
при помощи волшебного фонаря) 1 , хотя бы измеряли их Рис. 2
диаметр, как это делал в
последнее время Коль,
не может быть предложен как
сколько-нибудь точный способ. Правда, мы можем получить
значительно более надежные результаты, воспользовавшись
моим микроэвдиометром — маленьким аппаратом, позволяющим в несколько минут собрать и подвергнуть анализу пузырек газа не более булавочной головки, но и в этом
случае источники погрешности, проистекающие от водяной
среды, в которой производится опыт, хотя и сведенные на
minimum, все же не могут быть вполне устранены.
Что касается до третьего приема, до пресловутого определения кислорода при помощи бактерий, предложенного Энгельманом, то я продолжаю придерживаться того мнения,
что этот прием слишком окольного свойства, и остаюсь при
убеждении, что химические вопросы должны разрешаться
Этот прием демонстрации, описанный мною лет двадцать тому назад,
года два тому назад Пфеффер приписал себе.
1
химическими методами. К тому же мы вскоре будем иметь
случай наглядно убедиться, как мало можно полагаться на
этот прием исследования.
Таким образом, мы видим, что только выработка газометрического метода, дозволяющего измерение и анализ очень малых
количеств газа, дала возможность изучить процесс разложения
углекислоты в чистом спектре.
Но было еще два предварительных вопроса, которые необходимо было разрешить, прежде чем приступить к изучению этого
основного вопроса о связи между фотохимическим процессом
и поглощением света в зеленом листе. Нужно было изучить
спектры поглощения хлорофилла и его ближайших составных
начал точнее, чем это было сделано до тех пор. Не стану приводить здесь результатов моего напечатанного в 1871 году на русском языке исследования*, в котором я пытался в первый раз
классифицировать эти тела на основании их спектроскопических признаков, — скажу только, что позднейшие исследования,
в особенности Гартлея, Шунка и Морхлевского, их подтвердили в основных чертах. Остановлюсь только на способе изображения спектров, который я тогда в первый раз ввел и до самого последнего времени старался усовершенствовать. До тех
пор абсорбционные спектры изображались как бы состоящими
из отдельных темных полос, чередующихся со световыми промежутками, что, конечно, соответствовало только известным,
совершенно произвольно выхваченным, концентрациям или
толщинам слоя. Сопоставляя целый ряд спектров, соответствующих различным толщинам слоя, я получил спектрограммы,
вполне характеризующие вещество (рис. 6). Для этих наблюдений я предложил в различное время несколько аппаратов.
Позднее я отказался от этого хлопотливого последовательного
зарисовывания спектров, все же оставляющего простор для
субъективных ошибок, и заменил его непосредственным наглядным наблюдением этих спектрограмм в клиновидных сосудах
(способ, если не ошибаюсь, в первый раз примененный покойным профессором Гладстоном), и, наконец, мне удалось осуще* «Спектральный анализ хлорофилла». Рассуждение, представленное
К. А. в физ.-мат. факультет для получения степени магистра ботаники,
СПБ, 1871, VIII, 65 стр., в настоящем издании см. том II. Ред.
I.
Рис.
3
и.
шштш
Ж-
ж
ствить самый удобный и вполне объективный прием исследования спектров в форме этих фотоспектрограмм.
Первые фотографии хлорофиллового спектра я получил еще
в 1892 году на обыкновенных ильфордовских пластинках
(рис. З) 1 , при продол/кительной экспозиции (в несколько минут),
с желтым светофильтром, но теперь предпочитаю замечательные
по своей ортохроматичности и отсутствию полос поглощения
пластинки Кадета—Spectrum. Наиболее удобная форма клиновидного прибора, которую я окончательно выработал,—та,
которая изображена здесь (рис. 4). Кубический сосуд, разделенный диагональной перегородкой на два призматические
отделения, наполняется с одной стороны раствором, с другой—
растворителем. Щель может вращаться так, что по желанию
можно фотографировать или спектр любой концентрации или
полную спектрограмму. В последнем случае удобнее давать щели
горизонтальное положение, так как при этом условии легко
приготовить раствор желаемой концентрации и можно воспользоваться подвижной спинкой (swing back) камеры для наведения
всех частей спектра на фокус. В этих фотоспектрограммах мы, конечно, имеем наилучшее средство изображения спектров (рис. 5),
но, как мы увидим далее, в некоторых случаях мне приходилось
прибегать еще к другому приему—спектрофотометрическому.
И превосходных пластинках, изготовлявшихся в то время нашим
известным фотографом А.
Эйхенвалъдом.
1
26
Ii. А. Тимирязев, т. I
401
Возвращаясь к нашей основной
задаче, мы видим, как существенно
важно было знать действительную
форму абсорбционной кривой. Так
как все до той поры изображаемые
рис 4
спектры были прерывчатые (то-есть
состояли из темных и светлых полос),
то трудно было себе объяснить, почему (как в опытах Дрэпера)
химическое действие распределялось в спектре непрерывно 1 .
Только вооружившись этими газометрическими и спектроскопическими приемами, я мог, наконец, повторить классический
опыт Дрэпера, не опасаясь впасть в его ошибку. В результате
моего исследования явилось полное подтверждение применимости закона Гершеля к нашему случаю. Не только оба максимума вполне совпадают, но и кривая разложения вполне воспроизводит кривую поглощения света, по крайней мере, в наименее преломляющейся части спектра (рис. 6, верх). Можно заметить, что вторичные абсорбционные maxima, повидимому, не
отражаются на химическом процессе, но еще подлежит сомнению (особенно после последних исследований Шунка и Морхлевского), принадлежат ли эти линии главному составному началу хлорофилла или какому-нибудь из его продуктов разложения.
1 Ломмель на основании такого недостаточного знакомства со спектром
и высказывал мнение, что химическое действие в спектре должно быть
прерывчатое.
Рис.
6
«
Тот же самый результат, как в только
что изложенном опыте, я получил позднее
и при помощи совершенно иного метода.
Разложение угольного ангидрида, изображенное на чертеже (рис. 6, верх),
фотолиз, как правильнее всего называть
этот процесс, представляет начальную и,
конечно, самую важную часть этого процесса, так как именно он зависит от
действия внешнего источника энергии.
3.B.C.D.
За ней весьма быстро следует процесс
фотосинтеза, то-есть образования органического вещества. Хотя, благодаря блестящим исследованиям Брауна и Мориса,
мы теперь знаем, что крахмал не предЛ л
3
4:
ставляется
не только исключительным,
Рис. 7.
но, может быть, даже и главным ближайшим продуктом этого синтеза, тем не менее—это продукт,
появляющийся уже через несколько минут после первого проявления разложения углекислоты, а главное—это продукт,
присутствие которого может быть легко обнаружено при помощи
реакции с иодом.
Если разложение угольного ангидрида должно быть рассматриваемо как функция тех световых волн, которые соответствуют полосам поглощения хлорофилла, а с другой стороны,
образование крахмала—как следующая стадия того же фотохимического процесса, то естественно предположить, что образование крахмала в спектре будет строго локализовано, будет
также ограничиваться местами, соответствующими абсорбционным полосам хлорофилла. Другими словами, должно ожидать, что если спектр достаточной интенсивности будет отброшен на живой лист, предварительно лишенный крахмала,
то он отпечатает в этом листе невидимое изображение—спектр
хлорофилла, образованный микроскопическими зернами крахмала. Это скрытое изображение может быть затем проявлено
при помощи реакции с иодом.
Это мое предположение было вполне подтверждено следующим опытом. Здоровые и находящиеся в связи с растением
листья гортензии, предварительно лишенные крахмала, после
5—6-часовой экспозиции в очень интенсивном и чистом спектре
были подвергнуты известной йодной пробе на крахмал. Они
представили вполне отчетливый спектр хлорофилла с резко
обозначенной главной полосой поглощения между фрауенгоферовыми линиями В и С и постепенно стушевывающимся
действием в сторону синей части спектра (рис. 7). Второстепенных полос, как и при изучении разложения углекислоты, нельзя
было обнаружить.
Синие и фиолетовые лучи не оказали почти никакого действия. Этот последний результат, вероятно, следует приписать
тому обстоятельству, что появление крахмала является только
результатом двух противоположных процессов—образования
крахмала и его растворения, так что, начиная с известного напряжения света, когда ассимиляция углерода недостаточно энергична, первый процесс уравновешивается вторым, и в листе не
отлагается избыточного крахмала.
Эти факты естественно приводят нас к рассмотрению вопроса
об относительном влиянии на рассматриваемый нами процесс
лучей наиболее преломляющейся части спектра. Можно было
заметить (рис. 6), что до этой поры мои исследования ограничивались его наименее преломляющейся половиной.
Относительно второй половины спектра господствовало убеждение, что входящие в ее состав лучи играют сравнительно ничтожную роль в нашем фотохимическом процессе. Мнение это
основывалось на том же классическом опыте Дрэпера и на многочисленных опытах с желтыми и синими светофильтрами. Но
все опыты этой второй категории заслуживают мало доверия,
так как точные фотометрические измерения доказывают, что
лучи, пропускаемые этими цветными средами, ослаблены в весьма различной мере и что, следовательно, получаемые химические
результаты не могут быть непосредственно между собою сравниваемы 1 . Результаты эти также несравнимы между собою
и при производстве опытов в спектре, так как дисперсия в более
1 На это обстоятельство я указывал еще в 1868 г. Хотя ботаники до
сих пор приписывают разъяснение его Волкову, но всякий понимающий
дело без труда поймет, что вся статья Волкова обнаруживала только его
незнакомство с строгой физической постановкой вопроса.
/
Рис. 8
преломляющейся части спектра значительно сильнее, чем
в части, менее преломляющейся; по этой причине в первых своих
опытах я и удовольствовался менее преломляющеюся частью и не
распространил их на синюю и фиолетовую часть. Здесь кстати
можно показать, как капризны и ненадежны результаты, получаемые при помощи энгельмановского бактериального метода.
Для этого достаточно сопоставить результаты, полученные самим Энгельманом и одним из горячих защитников его метода
Пфеффером. Между тем как Энгельман обнаружил ясный второй
максимум в синей части, Пфеффер, экспериментируя по тому же
методу, никакого второго максимума не получил. Этот прием,
следовательно, не только негоден для количественного измерения, но даже ненадежен для простого обнаружения
явления.
Казалось бы, что недостаток, присущий призматическому
спектру, можно было бы всего проще устранить простым вычислением, допустив, что действие света пропорционально
его напряжению. Но так как закон, определяющий связь
между процессом и напряжением света, не был известен, то это
предположение было бы голословно, и в действительности, как
мы увидим далее, закон этот гораздо сложнее.
Казалось бы также, что задачу эту еще проще разрешать
экспериментальным путем,—стоит только произвести опыт не
в призматическом, а в диффракционном спектре. Но ряд опытов,
сделанных мною при помощи превосходной роуландовской
решеткп, дал только отрицательные результаты. Как в опытах
Мюллера, напряжение света не было достаточно для обнаружения разложения углекислоты. Пришлось вернуться к спектру
призматическому. Позволю себе сослаться на слова Ланглея,
который, несмотря на почти баснословную чувствительность
своего болометра, говорит в одной из своих позднейших работ:
«В конце концов призма гораздо удобнее решетки».
Работать с призмой, желая избежать ошибки, проистекающей
от различной дисперсии в различных частях спектра, в этом
случае значило просто воспользоваться известным способом для
сложения лучей, разложенных призмой. При таких условиях
мы соединяем интенсивность призматического спектра с удобством диффракционного. Я вначале пользовался прибором
Ж. Дюбоска для получения комплементарных цветов. Он состоит
из цилиндрической линзы и призмы очень малого угла, наклеенной на стеклянную пластинку. Вместо спектра мы получаем
две полосы комплементарного цвета.
Позднее я придумал видоизменение этого аппарата (искусно
выполненное Ф . Пелленом), состоящее из двух таких стеклянных пластин с соответствующими им призмами. При помощи
зубчатки оба стекла могут скользить параллельно одно другому
и делят спектр не на две, а на три части (рис. 8).
Так как при исследовании газового обмена трубки с листьями
погружены своими нижними концами в ртуть, то спектр,
по необходимости, нужно делить на части в вертикальном направлении, но в других случаях, как увидим, можно с удобством пользоваться еще более простым способом (предложенным,
если не ошибаюсь, Кундтом) и делить спектр в горизонтальном
направлении, причем цветные поверхности могут быть непосредственно сопоставлены (рис. 9). Как уже сказано, способы эти,
если спектр делится на участки, равные между собою (по отношению к диффракционному спектру), соединяют преимущества
решетки и призмы:
различие в дисперсии устранено, как
в диффракционном
спектре, а интенсивность света остается та же, что
в призматическом.
Мало того, в последнем отношении
этот метод представляет даже преимущество 'перед простым призматическим. В случае
Рис. 9
надобности можно
употреблять спектр
в значительной степени нечистый (то-есть полученный при
помощи широкой щели, дающей более света), лишь бы только
получаемые цветные полосы света были равномерно окрашены и представляли равные поверхности. Стоит только анализировать входящий в их состав свет [всего проще при помощи
маленького Сорби-Браунинговского спектроскопа со скалою
в длинах волн (рис. 9)], и тогда, несмотря на то, что изолируемые спектральные участки будут захватывать край за край,
аналитические результаты могут быть прямо нанесены на
скалу нормального спектра. Таким образом, благодаря этому
методу, не только неточность, проистекающая от различия в дисперсии, но и в значительной мере неточность от нечистоты
спектра могут быть устранены и таким образом достигнута возможность прямого сравнения результатов при максимальной
силе света. Добавлю только, что до сих пор я предпочитаю
работать с чистым спектром.
Опыт, предпринятый с целью определить относительное
действие двух половин спектра, был веден следующим образом.
Луч света от большого гелиостата Фуко (работы Пеллена
в Париже) с зеркалом в 8 0 x 4 0 сантиметров концентрировался
В
Рис.
10
на щели при помощи линзы в 2 5 сантиметров в диаметре,
разлагался призмой прямого видения и снова собирался при
помощи указанного выше прибора в две полосы дополнительного цвета—желтую и синюю. Если принять, что границы действующих лучей соответствуют длинам волн в 700—400 миллионных миллиметра, то линия, проходящая приблизительно около
)
длины волны в 550 миллионных миллиметра, будет делить спектр
на две половины, равные по отношению к спектру диффракционному (рис. 10). Данные газового анализа, полученные для двух
равных зеленых поверхностей, выставленных в желтой и синей
полосе, могут быть, следовательно, прямо между собою сравниваемы и нанесены на скалу диффракционного спектра.
Они могут быть выражены в следующих цифрах: если мы
примем количество угольного ангидрида, разложенное в желтой половине (в среднем из 6 опытов) за 100, то действие синей
половины будет 54 (рис. 10, В). Главный результат, следовательно, сводится к тому, что синим и фиолетовым лучам до сих
пор приписывали слишком слабое действие.
Тот же результат был получен и по отношению к йодной
пробе на крахмал, причем спектр был разделен указанным выше
способом в горизонтальном направлении; тогда обе поверхности
располагаются одна над другой (рис. 11). Между тем как непосредственно в спектре синие и фиолетовые лучи не обнаруживали никакого действия, на этот раз, благодаря равной интенсивности обеих половин, действие синей части спектра было
вполне резко выражено.
Таким образом, факт, что разложение углекислоты, равно
как и образование крахмала, зависит от лучей, поглощенных
хлорофиллом, можно считать доказанным во всех его подробностях, тем более, что фосфороекопические исследования Анри
Беккереля, фотографии Абнея и в особенности тщательное болометрическое исследование Доната показали, что в инфракрасной части нет абсорбционных полос, чем и объясняется вышеупомянутый факт, что Нальете не получил никакого разложения углекислоты при помощи лучей, профильтрованных через
тиндалевский йодный раствор.
Теперь мы должны перейти к рассмотрению второго из двух
упомянутых выше соображений, касающихся связи между фотохимическим процессом и поглощением света хлорофиллом.
Мы видели, что Жамен, Беккерель и Ломмель высказывали мнение, что закон Гершеля применим к этому случаю. Но мне представлялось, что в их рассуждении можно было усмотреть логическую ошибку, что между посылками и выводами не было надлежащей связи.
Закон Гершеля подразумевает, что фотохимическое действие
ограничивается теми лучами света, которые поглощаются веществом, испытывающим химическое изменение. Гершель сам
применил этот закон к хлорофиллу, показав, что он выцветает, линяет как раз в тех лучах спектра, которые соответствуют полосам поглощения.
Но в разложении углекислоты мы имеем совершенно иной
случай: вещество, подвергающееся разложению,— бесцветный
газ, а поглощается свет совсем иным веществом—хлорофиллом. Решительно не было возможности усмотреть здесь прямого применения закона Гершеля, и вот почему я и не настаивал на его применении в начале моих исследований. Но
по этой же причине я один из первых приветствовал и оценил
все значение для физиологии блестящего открытия Фогеля—
его оптических сенсибилизаторов — еще в то время, когда многие авторитетные ученые отрицали самое открытие 1 .
Это замечательное открытие не только произвело революцию в практике фотографии, но и доставило физиологу то недостающее логическое звено, отсутствие которого не дозволяло
ему распространить закон Гершеля на фотохимический процесс,
совершающийся в зеленом листе. Вслед за фогелевским открытием действия эозина появилось исследование Э. Беккереля над
сенсибилизирующим действием хлорофилла на чувствительную
коллодиальную пластинку, так что без малого через год после
появления моего первого сообщения (на конгрессе ботаников во
Флоренции) я уже мог дать своим опытам рациональное объяснение с точки зрения фогелевской теории сенсибилизаторов.
Эта мысль, что хлорофилл играет в живом организме роль оптического сенсибилизатора, которую я высказал в первый раз
в 1875 году, теперь может считаться общепринятой, но, я полагаю, найдется немного ботаников, которые имели бы случай
видеть фотографическое действие хлорофилла на чувствительную пластинку. Благодаря любезности покойного Э. Беккереля
я видел в 1877 году его превосходные коллодиальные пластинки,
но теперь коллодиальный способ мало распространен, и
1 Обратно, и Фогель был одним из немногочисленных немецких ученых,
принявших мои результаты, когда они еще отвергались всеми немецкими
ботаниками.
потому я пытался найти наиболее легкий способ
для демонстрирования действия хлорофилла на
Желти обыкновенную броможелатинную пластинку. Спир0801
товые растворы хлорофилла в этом случае неудобны, и я нашел, что их можно очень удобно заменить хлорофиллатом натрия,'растворимым в воде,
сини»
В ° т пластинка (Ilford, Ordinary), наполовину
свет
погруженная в баню хлорофиллата натрия и затем выставленная в спектр, ограниченный при
помощи желтого светофильтра его наименее преРис. 11
ломляющеюся частью. Ясно видно, что, между
тем как на обыкновенной пластинке действие света
останавливается приблизительно при линии D, в той ее части,
которая была погружена в хлорофилловую баню, выступает
резкая широкая полоса, соответствующая главной абсорбционной полосе хлорофилла между линиями Б и С (рис. 12).
Я старался провести аналогию между действием хлорофилла
в листе и в фотографической пластинке еще далее и показать, что
хлорофилл—оптический сенсибилизатор не только в смысле Фогеля, но и в смысле сэра Уильяма Абнея.
Сэр Уильям Абней, как известно, признает, что всякий оптический сенсибилизатор, как общее правило, представляет собой линючую краску, то-есть быстро обесцвечивается под влиянием света. Классические исследования сэра Джона Гершеля
над обесцвечиванием бумаги, окрашенной хлорофиллом, уже
доказывали, что хлорофилл принадлежит к этой категории.
Вот отпечаток листа папоротника, полученный при помощи
хлорофилла. Лист этот был наложен на пластинку из коллодиума, окрашенного хлорофиллом. После непродолжительной
экспозиции на солнце все поле выцвело, а части, защищенные
листом, сохранили свою оригинальную окраску. Изображение
фиксируется непродолжительным погружением в баню из медного купороса. Подвергая такие коллодиально-хлорофилловые
пластинки действию различных лучей спектра, я убедился,
что обесцвечивание вызывается теми же лучами, которые вызывают разложение углекислоты.
Мне, может быть, будет дозволено остановиться несколько
подробнее на этом важном вопросе о роли хлорофилла как
ѵ/-
|
•
I
\ î
1
\ Л
:
î
СОЛНЦЕ, ЖИЗНЬ И Х Л О Р О Ф И Л Л
потому я пытался найти наиболее легкий способ
для демонстр рованая действия хлорофилла на
обыкновенную ф ом еже ла тинную пластинку. СпирЖелтый
свет
товые рае м >ры хлорофилла в этом случае неудобны, и я
иел, что их можно очень удобно заменять хлоре : іллагом натрия,'растворимым в воде.
Вот пл. инка (Ilford, Ordinary), наполовину
Синий
свет
погруженн î в баню хлорофиллата натрия и затем выстав. иная в спектр, ограниченный при
помощи жег »го (зветсіфильтра его наименее преломляющеюся частью. Ясно видно, что, между
Рис. 11
тем как на обь - овеннрй пластинке действие света
останавливается приблизите.'- но при линии D, в той ее части,
которая б î
огр ужена в хлорофилловую баню, выступает
резкая шщ
a сооті ; с гв . іс щая главной абсорбционной полосе хлс
!>-.і.'
. ; : лин иЛщ В и С (рис. 12).
Я стара ісящ
ті
и- кд действием хлорофилла
в листе и в фотограф;
<•.»
п I се лалее и показать, что
хлорофилл—оптический сет и
| о только в смысле Фогеля, но и в смы ля с. па Уильям - A m ,
СэрУилья -'
: шести
L что всякий оптический сенсабалжмтор, как общее правило, представляет со-,
бой линю . - , '
го-есть быстро о есц;. чиь.ются под влиянием света. Классические исследования сэра Джона Гершеля
над обес
шлем бумаги, окрашенной хлорофиллом, уже
доказывали
хлорофилл принадлежит к этой категории.
Вот отпечаток листа папоротника, полученный при помощи
хлорофилл .
-г І гот был наложен Да пластинку из коллодиума, крашенного хлорофиллом. I к еле непродолжительной
экспозиции .
лнце все поле выцвело, а части, защищенные
листом, сохрани ш свою оригинальную окраску. Изображение
фиксируется непродолжительным погружением в баню из медного купороса. Подвергая такие к. лодиально-хлорофилловые
пластинки дейст
различных л - - и спектра, я убедился,
что обесцвечивав
вызывается теми же лучами, которые вызывают разложение углекислоты.
Мне, может оыть. будет дозволенн остановиться несколько
подробнее на этом важном вопросе о роли хлорофилла как
Отпечаток листа папоротника, полученный
К. А. Тимирязевым при помощи хлорофилла
0 оригинала
К. А.
Тимирязева
сенсибилизатора. Сенсибилизаторы подразделяются обыкновенно на две группы: на сенсибилизаторы химические и
оптические. Первые считаются просто
поглотителями одного или более продуктов реакции, последние в то же время поглощают лучистую энергию. Оптическому сенсибилизатору в то же время
приписывается обыкновенно роль и
sc
Ь
химического, но обратное, конечно, не
Рис. 12
очевидно. Существование химических
сенсибилизаторов допускалось задолго до открытия Фогеля;
много случаев такого действия можно найти в известной, уже упомянутой книге Э. Беккереля, и потому еще в 1871 году в своем исследовании «Спектральный анализ хлорофилла»*я указывал, что
за хлорофиллом можно признать роль сенсибилизатора в этом,
чисто химическом смысле. Я настаивал на том, что процесс разложения угольного ангидрида — по существу процесс диссоциации, что «скорость процесса диссоциации зависит от удаления ее
продуктов», «что растение действует как поглотитель, постоянно
нарушающий равновесие между угольным ангидридом и продуктами его диссоциации», и наконец, что мы, вероятно, должны
допустить существование двух видоизменений хлорофилла, подобных гемо-и оксигемоглобину крови, причем второй из них способен образовать продукт, аналогичный карбонилгемоглобину.
В то время мне казалось, что эти два состояния окисления
соответствуют нормальному зеленому хлорофиллу и тому, что
сэр Джордж Стоке назвал «измененным» (modified) хлорофиллом (рис. 3), так как мои опыты поставили вне сомнения, что
это последнее тело—продукт окисления первого. Но позднее
я нашел новую реакцию хлорофилла, которую я считаю крайне
важной с физиологической точки зрения, теперь нами обсуждаемой. Когда на хлорофилловый раствор умеренной концентрации действуют водородом в момент выделения, получается
почти бесцветное или бледножелтое тело, обладающее при
значительной концентрации превосходным пурпуровым цветом.
Вещество это может существовать только при полном отсутствии
кислорода. Приходя в прикосновение с воздухом, оно почти
моментально принимает свой прежний зеленый цвет. Спектр
этого продукта восстановления хлорофилла (я предложил для
него название протохлорофиллина, или, проще, протофиллина)
характеризуется при слабой концентрации отсутствием полос
поглощения в наименее преломляющейся части спектра, но при
достаточной концентрации представляет ясную полосу, почти
соответствующую II полосе хлорофилла, и другую около IV,
но без следов главной хлорофилловой линии I . Это был первый
случай получения продукта, который отличался полным отсутствием того,что считалось главной характеристикой хлорофилла.
Очевидно, мы здесь в первый раз имели дело с производным
хлорофилла, из которого при его соприкосновении с кислородом почти моментально обратно возрождается хлорофилл.
Получив эти столь важные реакции восстановления и обратной регенерации хлорофилла в его растворах, я приложил все
старания, чтобы доказать присутствие протофиллина в живом
растении. Так как образование хлорофилла в этиолированных
сеянцах является реакцией окисления (факт этот был установлен в моей лаборатории Дементьевым в 1873 г.), то было естественно обратить именно в этом направлении свои поиски за
протофиллином, так легко окисляющимся в хлорофилл. Указания, встречаемые в литературе, впрочем, мало к тому поощряли.
Так называемый этиолин немецких ботаников всегда представлял характеристические спектральные черты хлорофилла. Мои
первые шаги были также неудачны. Я получал, правда, растворы,
в которых I I полоса была более резко выражена, чем в хлорофилле; она равнялась I, даже превосходила ее, но тщетно
искал я растворов, в которых I полоса совершенно отсутствовала бы, пока не напал на мысль, что предосторожности, которые
до тех пор принимались, не были достаточны для точного устранения действия света. Я заключил горшки с семенами, предназначенными для прорастания (лучшим материалом оказался
подсолнечник), в жестянки, которые, в свою очередь, помещались в шкафу в фотографической комнате, а растворы приготовлялись в той же темной комнате с соблюдением предосторожностей, употребляемых в ортохромной фотографии. Результа-
том этого приема было получение протофиллина без следов
хлорофиллового спектра.
Так как красящая способность этих растворов незначительна,
то пришлось изучать их спектры в трубках в 1 / 2 метра длиною. Обыкновенно 10—20 семенодолей было достаточно для
получения необходимого раствора для наполнення этой трубки.
Но стоило выставить на свет на минуту одну или даже часть
семенодоли, чтобы получить раствор с ясными резкими полосами хлорофиллового спектра. Эти факты указывают вне всякого сомнения, что в живом растении существует красящее вещество со свойствами восстановленного хлорофилла, ПОЧТР
моментально превращающееся в хлорофилл под влиянием светд.
Конечно, было бы еще важнее получить непосредственное доказательство присутствия этого продукта восстановления хлорофилла в зеленом листе; только установление этого факта могло бы быть принято как доказательство, что хлорофилл играет
роль химического сенсибилизатора. Но открытие его присутствия в зеленом листе сопряжено с несомненными трудностями.
Как я только что указал, растворы протофиллина обладают красящею способностью несравненно более слабою, чем растворы
хлорофилла, и потому эти последние всегда могут маскировать
их присутствие. Таким образом, допустив, что предполагаемое
восстановление хлорофилла совершается в зеленом листе, мы
можем ожидать, что оно не обнаружится ни в изменении цвета
листа, ни в изменении спектра его раствора, а разве только
в изменении интенсивности зеленой окраски, в известном ее
выцветании или побледнении. Такая, более бледная, окраска
листьев, выставляемых на свет, действительно неоднократно замечалась, но обыкновенно ее приписывают перемещению или изменению в форме хлоропластов,—предположение, как мне
кажется, мало вероятное в применении к палисадной паренхиме, особенно, когда лучи не падают в направлении, строго
параллельном продольной оси клеточек. Мне представляется
весьма вероятным, что, по крайней мере, значительная часть
этого выцветания зеленых листьев может быть приписана превращению хлорофилла в протофиллин.
Подводя итог, мы можем, следовательно, допустить существование не только двух, как в крови, но даже трех состояний
А
415
окисления зеленого вещества растения. Эти превращения, вероятно, послужат нам исходной точкой для теории хлорофилла
как химического сенсибилизатора.
Представив доводы в пользу предположения, что хлорофилл
играет роль сенсибилизатора в обоих смыслах этого слова, тоесть химического, или поглотителя продуктов реакции, и оптического, или поглотителя деятельных лучей, я постараюсь сделать еще шаг далее и привести соображения, заставляющие
меня видеть в нем не только одного из бесчисленных представителей этой группы, но и вещество, совсем особенно приспособленное к этой функции.
С самого начала моих исследований я был убежден, что такая, по существу, эндотермическая, реакция, как диссоциация
угольного ангидрида, должна стоять в каком-нибудь отношении с энергией луча, принимающего участие в процессе. В то
время физики не обладали никакими точными сведениями о распределении энергии в спектре, но я тем не менее определенно
высказал мысль, что будущие исследования в диффракционном
спектре могут изменить ходячие представления о тепловом эффекте различных лучей и докажут, что наибольшей энергией
обладают не инфракрасные лучи, а известные лучи видимого
спектра, быть может, те самые, которые поглощаются зеленым
растением,—так что два максимума—энергии и абсорбции
хлорофиллом, быть может, в конце концов совпадут.
Эти мои предсказания блистательно оправдались в известных опытах Ланглея и сэра Вильяма Абнея. Я обратил внимание на это предвиденное мною совпадение в небольшой заметке
в Comptes Rendus Парижской академии вскоре после появления работы Ланглея. Так как моя точка зрения до сих пор оспаривается, так как даже верность моих ссылок подвергнута сомнению Энгельманом, я считаю себя вынужденным предъявить
оригинальные данные. Вот кривые обоих исследователей, заимствованные из статьи сэра Вильяма Абнёя из «Proceedings»
Королевского общества за 1887 год (рис. 13). Максимум энергии соответствует длине волны, лежащей на двух третях между
600- и 700-миллионными миллиметра, скажем, на 666 (цифра,
легко запоминаемая, так как это число Зверя!). Максимум
поглощения лежит где-то на двух третях между В и С,
то-есть между 686 и656,—
значит, также приблизительно приббб-миллионных миллиметра. Позднее Ланглей доставил
еще другие данные, которые приведены на рисунке 10, так как мы
вскоре будем иметь случай к ним обратиться.
Должно заметить, что
эти последние данные
относятся к тому, что
Ланглей называет «высоким солнцем»,—для
средней интенсивности,
за весь день, совпадение
Wcwe lengths
р
^^
^
0
7
в
9
ю и
іг
/з
п
с первой кривой (рис. 13) было бы более полное. Мы можем
взглянуть на это соотношение еще с другой точки зрения. Здесь
(рис. 14) представлена попытка выразить относительные
амплитуды волн, соответствующих различным частям спектра,
и можно усмотреть, что наибольшая амплитуда колебаний
соответствует как раз той части спектра, где лежит главная
абсорбционная полоса хлорофилла (666) и максимум разложения угольного ангидрида 1 .
Но, быть может, мы найдем еще более убедительный аргумент в пользу предположения, что фотохимическое действие лучей является функцией их энергии в сравнении действия хлорофилла и других сенсибилизаторов, а еще более в сравнении
относительного действия желтого и синего света в только
что приведенном опыте.
1 Еще поразительнее представится нам это совпадение, если мы обратимся к скале электромагнитных волн проф. П. Н. Лебедева («Физическое
обозрение», 1901 г.). Из числа каких-нибудь 50 октав, на ней изображенных,
весь видимый спектр занимает всего одну; главная абсорбционная полоса
хлорофилла занимает, примерно, десятую ее часть, и в этом-то незначительном интервале встречаются и maximum энергии и maximum химического действия.
27
к. А. Тимирязев, m. 1
417
ся на свидетельство
таких опытных наблюдателей,
как
Эдер и Фогель, и
особенно ясно вы0,000666 7;
0 , 0 0 0 6 6 4
текающий из обстоятельного
исследования Акуорта, — именно, что
Рис. 14
оба максимума, абсорбции света сенсибилизатором и фотографического его действия на -сенсибилизированную пластинку, не представляют
строгого совпадения, причем, как общее правило, этот последний всегда бывает смещен в сторону красного конца спектра.
До сих пор не предложено никакого объяснения для этого
факта, не предлагает его и Акуорт, хотя считает, что правило это стоит вне сомнения и не встречает ни одного исключения. Но по отношению к хлорофиллу в исследование Акуорта,
повидимому, вкралась ошибка. Он полагает, что и хлорофилл не
представляет исключения из установленного им закона—что
максимум фотографического действия не совпадает с максимумом
поглощения в I абсорбционной полосе, а смещен в сторону красного конца спектра. При внимательном рассмотрении его соответствующей фигуры возникает однако серьезное сомнение. Как
во всех .случаях, Акуорт дает две кривые—абсорбции и сенсибилизации, но в действительности его указания по отношению
к спектру хлорофилла (как в тексте, так и в фигуре) представляются неточными. Вот его собственные слова:
' 2 4
22
20
18
16
14
12
10 9
8
7
654
«Die Absorption dieser Emulsion ist, was die Haupt und weniger brechbare Band betrifft, deutlich ausgeprägt. Dieses beginnt
etwas vor C, erreicht bei С х/3 D ein Maximum; jenseits desselben ist die Absorption nicht hinlänglich scharf zu verfolgen um
sie genau zeichnen zu können»1.
«Абсорбция этой эмульсии, что касается главной наименее преломляемой полосы, резко выражена. Она начинается немного раньше С, достигает максимума на расстоянии 1 / 3 от С до D, по другую же сторону
абсорбция недостаточно резко выражена и потому ее нельзя точно указать».
1
Но мы знаем на основании бесчисленных наблюдений, что
главная абсорбционная полоса хлорофилла лежит между В та. С,
то-есть там, где бесчисленные наблюдатели помещают главную
полосу I хлорофилла,—показание это согласно со всеми другими свидетельствами. Начиная с первого опыта Э. Беккереля
и кончая моими фотографиями, мы неизменно встречаем максимум фотографического действия между линиями В та С. Таким образом, Акуорт помещает максимум фотографического
действия совершенно верно, но максимум поглощения, несомненно, неверно, и только благодаря этой ошибке у него хлорофилл подходит под общее правило.
На деле эти обе точки вполне совпадают, и в силу этого совпадения хлорофилл представляет исключение из общего правила относительно смещения максимума фотографического
действия в красную сторону спектра (по сравнению с максимумом поглощения). Мне представляется, что как это исключение, так и самое правило нашло бы себе объяснение в простом
допущении, что фотохимическое действие зависит не только
от степени поглощаемости вызывающей его группы лучей (из
которых слагается абсорбционная полоса), но и от относительной энергии или амплитуды колебания соответствующих волн.
В каждой абсорбционной полосе (в пределах видимого спектра)
сторона, ближайшая к красному концу, будет состоять из лучей, обладающих большей энергией, чем сторона, ближайшая
к фиолетовому, и на основании только что сделанного допущения максимум фотографического действия должен смещаться
в эту сторону. Так будет, пока мы не дойдем до той части в красном, где оба максимума—абсорбции и энергии — совпадают.
В этом месте не будет никакого повода для смещения фотографического максимума, и мы, таким образом, получим объяснение
для факта, почему хлорофилл представляет любопытное исключение из общего правила, применимого ко всем остальным сенсибилизаторам. Конечно, самым лучшим experimentum crucis для
проверки моей гипотезы был бы опыт с удивительной инфракрасной фотографией сэра Вильяма Абнея—если бы оказалось, что в
инфракрасной части спектра1 закон Акуорта извратился, максимум фотографического действия стал бы перемещаться в другую
1
27*
To-есть на другом скате кривой энергии.
419
сторону, но попрежнему в направлении максимума энергии.
Конечно, такие опыты лежат вне круга деятельности ботаника.
А пока мне кажется, что и те факты, с которыми мы только
что познакомились, по отношению к сравнительному действию
желтых и синих лучей могут быть истолкованы в смысле предполагаемой связи между химическим процессом и энергией луча.
Мы можем в действительности рассматривать этот случай как
предельный, так как он дозволяет нам непосредственное сравнение
действия двух групп лучей, поглощаемых одним и тем же телом
на двух пределах видимого спектра и, следовательно, обладающих наибольшим различием по отношению к присущей им
энергии. Мы видели, что если разлагающее С0 2 действие лучей наименее преломляющейся части спектра выразится цифрой 100, то
действиелучей наиболее преломляющейся—выразится цифрой54.
Но мы должны еще принять во внимание различную степень поглощения света хлорофиллом в этих двух частях спектра.
Казалось бы, всего проще принять во внимание только видимые
абсорбционные полосы растворов, представляющих такую же
степень концентрации красящего вещества, как и в листе (мы
увидим вскоре, как получаются такие растворы). Так я в действительности и поступил на первых порах. Но эта оценка
только лишь приблизительная, так как невооруженный глаз—
плохой фотометр для оценки слабых и, главное, постепенных
различий в световом напряжении. Как уже сказано выше,
в таких случаях нужно прибегать к приему спектрофотометрическому. Выбор фотометра не безразличен; так, например,
до последнего времени употребляемый спектрофотометр Фирорта с двойною щелью (примененный и Энгельманом в его
микроспектральном приборе) не внушает доверия, как я это
высказал немедленно по его появлении и позднее доказал простым наблюдением. Из всех предложенных спектрофотометров
самым практичным, то-есть соединяющим точность с простотой,
я считаю спектрофотометр Дарзонваля, которым пользуюсь
уже много лет 1 . Вот спектрофотометрические кривые для рас1 В 1896 году я предъявляла ботаническом отделе Общества любителей естествознания спектрофотометрические кривые для хлорофилла и его
производных, полученные при помощи этого спектрофотометра.
творов нормального и измененного хлорофилла (Стокса). А вот
спектрофотометрическая кривая, соответствующая поглощению
света одним листом клена, подобным тем, с которыми были
произведены, опыты с желтым и синим светом (рис. 10, А).
Приведенные к нормальному спектру энергии эти относительные
количества поглощения света выразятся площадями a, b, с,
d, е и е, d, /, g, h. Общее количество энергии всего видимого
спектра я заимствую, как уже сказано, из статьи Ланглея
«Энергия и зрение», помещенной в Philosophical Magazine,
за 1889 год. Относительные количества энергии, поглощенной
листом, соответственно этим площадям а, Ь, с, d, е и е, d, /, g, h
будут 100 для желтого и 70 для синего света. Если мы сопоставим их с числом, выражающим разложение угольного ангидрида
в тех же группах лучей (100 для желтого и 54 для синего),
то получим новый аргумент в пользу предполагаемой прямой связи между химическим процессом и энергией луча
(рис. 10, В).
Приняв во внимание все сказанное, мы, кажется, в праве
утверждать, что факты говорят в пользу допущения (по крайней мере, насколько это касается хлорофилла), что фотохимическое действие луча зависит не от одной только степени его
поглощаемости, но и от энергии или амплитуды колебания
входящих в его состав волн ІІЛИ, другими словами, что из двух
волн, одинаково поглощаемых, наибольшее действие окажет та,
которая обладает наибольшей амплитудой колебания. С этой-то
точки зрения и представляется, что хлорофилл, поглощающий те
именно лучи, которые обладают наибольшей энергией, можно
считать не только сенсибилизатором, но, может быть, наилучшим из сенсибилизаторов, особенно приспособленным к своей
функции.
%
Я чувствую, что я не могу расстаться с изложенными до сих
пор результатами моих исследований, не сказав несколько слов
относительно положения, принятого по отношению к ним самой
обширной школой немецких физиологов, представленной Саксом и Пфеффером. Вот самое позднейшее мнение, высказанное
по этому поводу Саксом, когда ему, несомненно, были известны
мои исследования.
«Все прямые наблюдения показывают, что максимум выделения кислорода лежит в желтом свете. В общем итоге
все до сих пор произведенные исследования относительно
спектра хлорофилла не обнаружили ни одного факта, который
имел хотя бы малейшее физиологическое значение,—другими
словами, мы знали бы о физиологической функции хлорофилла
ровно столько же, если бы нам вовсе не был известен его спектр».
Слова эти не нуждаются в комментариях.
Также общеизвестно, что профессор Пфеффер был долгое
время моим оппонентом и самым отъявленным сторонником старой теории. В первом издании своего учебника он останавливается на моей работе и признает ее за экспериментальную
ошибку, не заслуживающую внимания. Но вскоре за появлением его книги во мнении ученых обнаружился поворот в пользу
моей точки зрения, благодаря Ван-Тигему во Франции и профессору Сиднею Вайнзу в этой стране 1. В то же время Энгельман
и Рейнке хотя при помощи методов, несравненно менее точных,
чем те, которые были применены мною, получили результаты,
согласные с моими. Пфефферу невозможно было далее защищать
свою старую позицию, и во втором издании своей книги он
фактически принимает мое воззрение, но зато при обсуждении
вопроса не упоминает даже моего имени. Результаты, которые
подлежали сомнению, презрительно отвергались, пока они были
связаны с моим именем,—теперь, когда их приходится признать
верными, они просто приписываются двум упомянутым немецким
исследователям. Мало того, для примирения его прежней
и современной точек зрения им развивается еще новая теория,
столь же ложная, как старая. Профессор Пфеффер утверждает,
что существуют две различные кривые для того же процесса
Из прений, возникших, согласно обычаю Королевского общества,
после моей лекции, я узнал следующую лестную для меня подробность.
«Когда я,—сказал Вайнз,—в то время еще начинающий преподаватель,
дошел в своем курсе до главы об ассимиляции, я остановился в недоумении
перед резким противоречием между немецкими авторитетами и Тимирязевым. Мне казалось, что Тимирязев прав, но я все же обратился за советом к своему коллеге, также молодому физику. Ознакомившись с вопросом,
он сказал: конечно, прав Тимирязев. Этот молодой физик,—добавил оксфордский профессор,—теперь лорд Рейлей».
1
ассимиляции: одна, первичная, соответствующая абсорбционному спектру хлорофилла, и другая, вторичная, имеющая максимум в желтых лучах. Но нетрудно доказать, что этой вторичной кривой не существует вовсе. Если бы Пфеффер был
прав, то я должен был бы получить его вторичную кривую,
но именно я первый и самым несомненным образом получил первичную, то-есть единственную, имеющую реальное существование, поэтому он и был вынужден обойти молчанием мои работы. Его вторичная кривая, помимо ее теоретической невероятности, просто фикция, выдвинутая вперед, чтобы прикрыть
его вынужденное отступление.
Указав на положение, принятое по отношению ко мне этими
германскими физиологами, я тем более чувствую себя вынужденным высказать свою признательность покойному Эдмонду
Беккерелю и Бертло, так как благодаря им мои труды проникли
на страницы Comptes Rendus и Annales de Chimie et de
Physique.
II
До сих пор мы рассматривали нашу задачу с ее качественной
стороны, мы изучали фотолиз, или разложение угольного ангидрида, и фотосинтез, или образование крахмала, в их зависимости от химических и оптических свойств хлорофилла и относительной энергии действующих лучей.
Теперь мы рассмотрим то же явление с количественной точки
зрения, то-есть в его отношении к общему количеству падающей
на зеленый лист энергии,—попытаемся найти закон, выражающий зависимость этого явления от напряжения лучистой
энергии.
Эдмонд Беккерель в его неоднократно нами цитированной
книге «La Lumière, ses causes et ses effets» первый обратил
внимание на количественный учет солнечной энергии, слагающейся в зеленом растении; он сделал первую попытку
определения того, что Горас Браун недавно так уместно назвал экономическим коэфициентом этого фотохимического процесса. Он получил очень умеренную цифру. Потенциальная
энергия органического вещества, образуемого культурой
подсолнечника (одной из самых продуктивных), составляет 4 / 1 0 0 0
солнечной энергии, выпадающей на данную площадь. Лесные
культуры дают только Ѵіооо- Несколько лет позднее (в 1871 г.)
я применил те же приемы вычисления к более определенным
физиологическим данным (вместо агрономических, которые
только и были в распоряжении Беккереля) и получил около
1 % . В 1876 году мой старый друг, профессор Н. Мюллер, сделал
в первый раз прямой опыт, поместив и лист, разлагавший углекислоту, и пиргелиометр в одинаковые условия. Он получил
до 5%, и эта оценка на мой взгляд слишком высокая, что может
быть приписано тому, что его пиргелиометрические данные
слишком низки в сравнении с обыкновенно принимаемыми.
В 1894 году я повторил этот опыт, поместив лист и пиргелиометр в одинаковые условия, как будет изложено далее, иполучил
цифру 3,3%. Должно заметить, что как в опытах Мюллера,
так и в моих листья находились в искусственной среде, в газовой
смеси, содержавшей 5—10% угольного ангидрида, дающей наиболее выгодные результаты. Совершенно недавно М. Горас
Браун сделал в высшей степени любопытное и гораздо более
затруднительное определение той же величины. Он произвел
свой опыт при естественных условиях, то-есть в струе атмосферного воздуха с его нормальным содержанием угольного
ангидрида. Он получил 0,5%, но в одном случае (когда воздух
был обогащен угольным ангидридом, так что содержание этого
последнего в 5 1 / 2 раз превышало нормальное) эта цифра возросла до 2 % .
Теперь, когда мы можем с уверенностью сказать, что разложение углекислоты вызывается только теми лучами, которые
поглощаются хлорофиллом, становится очевидным, что этот
«экономический коэфициентл должен прежде всего зависеть
от степени поглощения света зеленым веществом листа. Я считаю излишним настаивать на том, как важно для физиолога
знать эту величину, то-есть ту долю солнечной энергии, которую
растение может использовать. Следующий термоскопический
прием, предложенный мною в 1884 году, представляется мне
и теперь наиболее простым и точным способом определения
этой величины. Задача в том виде, в каком она представляется
в действительном листе, крайне сложна вследствие явлений
светорассеяния,
представляемых клеточками
и отдельными зернамн
хлорофилла — явлений
очень сходных с тем,
которое
представляет
слой частичек серебра
в фотографической пластинке, как это было
недавно остроумно разъяснено сэром Вильямом
Абнеем. Но эта задача
может быть значительно
упрощена, если вместо
естественного листа мы
возьмем то, что можно
назвать жидким листом.
Если при помощи стальной сечки мы высечем
из листа известную площадь и растворим зеленое вещество этого куска в таком количестве рис. 15
алкоголя, которое выполнит вполне стеклянную ванночку с параллельными стенками, просвет которой представляет ту же площадь, то мы получим жидкий слой красящего вещества той же концентрации.
Если рядом с этим раствором мы определим поглощение света
стеклянным сосудом и растворителем, то разность этих двух
величин даст нам поглощение, которое должно быть приписано
зеленому веществу листа. Все измерения производились при
помощи особой формы термоэлектрического столбика, придуманного мною еще в 1870 году и первый раз выполненного для меня
самим стариком Румкорфом,—формы, совершенно сходной с той,
которую недавно предложил Рубенс. Брусочки или проволочки
(смотря по тому, какие употребляются металлы), из которых
состоят термобатареи, спаиваются в форме зигзагов, так что оба
ряда спаев обращены в одну сторону (а не в противоположные,
как в столбике Меллони). Когда один
из рядов обращен к
солнцу, а другой защищен экраном, мы
измеряем непосредственное
солнечное
лучеиспускание. Поставив на пути луча сосуд с раствором
хлорофилла, узнаем
долю
лучеиспускания, пропускаемого
этим раствором и сосудом, и, наконец,
помещая только сосуд
с растворителем, узнаем количество лучистой энергии, пропускаемое этими сре.!
I
дами. Разность между
Рис
этими двумя последними цифрами дает
поглощение лучистой энергии хлорофиллом. Наконец, отношение этой величины к первоначально определенной дает
ту долю лучистой энергии солнца, которая поглощается хлорофиллом листа. Эти три операции могут быть сведены к двум:
к определению действия непосредственной инсоляции и действия разности двух жидкостей в двойной ванночке. Вот
придуманный мною аппарат, искусно выполненный в 1889 году
Ф . Пелленом (рис. 15 и 16).
На дне металлического цилиндра помещается только что
описанная термобатарея, защищенная от колебаний температуры, которые могли бы быть вызваны движениями воздуха,
целым рядом двойных щелей. В пазу, впереди наружной пары
щелей движется двойная ванночка для растворов, заключенная
в металлическую коробку, снабженную двумя поднимающимися вверх ставеньками. При определении непосредственной
инсоляции одна из щелей закрывается металлической коробкой
(понятно, с опущенной ставенькой), при определении поглощения хлорофиллом обе щели закрыты коробкой, понятно,
с открытыми обеими ставеньками. Я назвал этот аппарат фитоактиномвтром, так как он дает нам меру для той доли лучистой
энергии солнца, которая может быть использована растением
в самой важной его функции. Вот ряд таких определений для
одного и для трех листьев. Три—максимальное число листьев,
которые можно накладывать с пользою для растения; свет,
достигающий четвертого, как показал профессор Мюллер, уже
лишен химического действия1.
ПОГЛОЩЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ХЛОРОФИЛЛОМ Л И С Т Ь Е В
Hепосредственный
солнечный
свет
Клен
%
1 лист (средняя из 32 опытов)
3 листа (
»
» 4
»
.
27
31
Липа
1 лист (средняя из 6 опытов)
3 листа (
»
» 3
»
29
35
1 лист (средняя из 4 опытов)
23,5
Дуб
Подорожник
1 лист
Potamogeton
23,4
lucens
1 лист (средняя из 8 опытов)
20
Желтый свет
Клен
1 лист (средняя из 8 опытов)
Красный
13,8
свет
Клен
1 лист
10
1 Этот простой термоскопический прием всегда, где он применим,
должно предпочитать более хлопотливой и менее надежной фотометрической оценке поглощения. Эта мысль высказана мною еще в 1869 году.
Прежде чем воспользоваться этими цифрами для обсуждения
вопроса об экономическом коэфициенте и максимальном использовании химического действия солнечного света, нужно еще
разрешить вторую из только что указанных задач—определить
зависимость химического действия от напряжения света. Очень
часто и совершенно произвольно допускают, что фотохимическое
действие пропорционально напряжению света, несмотря на то,
что совершенно обратное доказано в случаях, где применялись
самые точные методы: стоит напомнить блестящие исследования
сэра Вильяма Абнея над фотографическими пластинками.
Влияние напряжения
света на разложение угольного ангидрида листом было изучено Волковым, Ван-Тигемом, Крейслером, Фаминцыным, Рейнке, но результаты их не согласны
между собою и трудно сравнимы, вследствие чего я предпринял
обстоятельное исследование вопроса. Приемы исследования,
которые я употреблял, были следующие. В темной комнате при
помощи большого гелиостата Фуко (с зеркалом в 80—40 см)
и линзы (в 25 см диаметра) получается конус солнечных лучей
(рис. 17 и 18). По оси этого конуса располагается оптическая
скамья в два метра длиною со скалой, разделенной на сантиметры. По этой скамье двигаются 5 подъемных столиков, а на
каждом из них помещается один из вышеописанных аппаратов
(плоских трубок, погруженных в ртуть), содержащих отрезки
листьев равной площади. Расстояния на скамье избираются
таким образом, чтобы относительное напряжение света выражалось числами 1, 1 / 2 , 1 / 4 , 1 / 8 , х / 1 6 , причем за единицу принималась непосредственная инсоляция (в нормальном направлении) на расстоянии 2—3 часов по ту и по другую сторону полудня, когда колебание ее (как видно из наблюдений, например,
Крова) не особенно велико. Каждый опыт, благодаря чувствительности газометрического метода, уже ранее изложенного,
длится не более 15—20 минут, так что можно было вперед рассчитывать на безоблачное солнце. Эта форма опыта довольно
хлопотлива, так как наблюдатель нуждается в особой темной
комнате и таких ценных и громоздких аппаратах, как большой
гелиостат и такая же оптическая скамья, и потому позднее
я придумал следующую форму простого переносного аппарата.
На этот раз для измерения напряжения света я пользовался
Pun. 17
Рис.
18
законом синусов. Металлическая платформа, вращающаяся
вокруг вертикальной оси, может в то же время на шарньере
быть установлена в направлении солнечного луча (для чего
она снабжена диоптрами). С ней соединяются шарньерами же
четыре другие маленькие платформочки (рис. 19 и 20). Каждая
из них получает по прибору с листьями. Эти четыре платформочки могут быть установлены под такими углами, что листья
будут получать свет в отношении 1, 1 / 2 , */ 4 , г / 8 . Так как опыт
длится, как уже сказано, не долее 15—20 минут, то наблюдатель может легко перемещать общую платформу так, чтобы
первый лист находился всегда под прямым углом к падающему
солнечному лучу. Понятно, здесь приходится принимать во
внимание потерю света вследствие различного отражения и поглощения под различными углами стенками сосудов, и по этой
причине я предпочитаю в этом случае употреблять плоские
трубки, специально изготовленные для меня известной фирмой
Рис.
19
Рис.
20
Лейбольда в Кёльне. Они сделаны из пластинок зеркального
стекла, спаянных особой амалью. Образчик того же стекла
исследуется фотометрически, будучи помещен на круге с делениями перед щелью спектрофотометра Дарзонваля.
Третий прием, которым я пользовался в самом начале,
заключался в применении моего микрозвдиометра к анализу
пузырьков газа, выделяемых водяным растением, например,
побегами Ellodea или, еще лучше, большими листьями Potamogeton lucen ». Количества газа, выделяемого в одну минуту,
вполне достаточно для измерения и анализа, так что в десять
минут тот же объект может быть перемещен в различные точки
на оптической скамье. Конечно, этот прием не имеет притязания на такую же степень точности, как первые два, но его
недостатки лежат, как уже сказано выше, в самой природе водяного растения. С другой стороны, он имеет то
несомненное преимущество, что применяется к одному и
тому же объекту, так что все индивидуальные различия
устраняются, а равно и промежуток времени так незначителен, что можно быть уверенным в постоянстве светового напряжения в течение всех четырех или пяти операций каждого
опыта.
В целом эти опыты, произведенные различными методами
над различными растениями, дали сходные результаты, которые
могут быть выражены в следующей кривой (рис. 21), где 100
означает количество угольного ангидрида, разложенное при
освещении листа лучом, падающим в нормальном направлении
около полудня. Рассмотрение этой кривой допускает следующие
выводы.
1. Если принять во внимание все степени напряжения,
в пределах которых производились опыты, то о простой пропорциональности не может быть речи. Должно добавить, что
Рейнке производил опыты и при более значительных напряжениях. Хотя он производил эти опыты при помощи мало надежного приема счета пузырьков, но в этих широких чертах
результаты его опытов могут заслуживать доверие. Подвергая
свою веточку Ellodea действию света сходящегося конуса
лучей, он мог определить влияние интеысивностей, превышающих непосредственную инсоляцию в 2 , 4, 8, 16 раз, и не мог
заметить никакого повышения химического действия: кривая
переходила в линию, параллельную абсциссе.
2. Максимальное действие достигается при напряжении,
приблизительно равном половине напряжения солнечного луча,
непосредственно падающего на лист в нормальном направлении.
3. До известной степени напряжения действие можно считать
пропорциональным ему. Пройдя известную точку (указанную
в рис. 21) дальнейшее возрастание напряжения не сопровождается приростом химического действия.
Мы должны теперь попытаться найти объяснение для общей
формы этой кривой. Но, прежде чем перейти к ее обсуждению,
еще нужно коснуться одного соображения касательно другой
формы работы, производимой лучистой энергией в листе.
Визнер поставил вне сомнения, что значительная часть испарения воды, происходящего в зеленом листе, совершается насчет
лучистой энергии, поглощаемой хлорофиллом. Эту долю общего
процесса было предложено обозначить термином хлоровапоризация. Мой старый друг, покойный профессор Дегерен, открыл
весьма любопытный факт, позднее подтвержденный профессором
Зорауером и особенно Жюмелем—именно, что две важнейшие
функции листа — усвоение углерода и хлоровапоризация —
в известном смысле взаимно дополнительны; испарение воды
падает в присутствии угольного ангидрида. Эта связь представлялась бы совершенно естественной — раз тот же источник энергии
распределяется между двумя процессами,—если бы мы не знали,
как велик избыток солнечной энергии, выпадающий на поверхность листа. Но теперь, когда мы знаем ту долю полной солнечной радиации, которая поглощается листом, мы можем попытаться в общих чертах сравнить это количество лучистой энергии,
поглощаемой листом, с тем, которое затрачивается на двойную
работу: на химический процесс усвоения углерода и на физический процесс хлоровапоризации.
Мы видели, что поглощение хлорофиллом одного листа
достигает 2 7 % падающей на него лучистой энергии (наклонная
черта) солнца. Мы видели, что максимальный экономический
коэфициент при усвоении углерода в нашем случае достигал
(нижняя горизонтальная черта) 3,3%. Но, сверх этого процесса,
в листе совершается физический процесс хлоровапоризации.
«
В 1894 году я сделал ряд определений количества воды, испаряемой листьями при тех же условиях, то-есть в тех же плоских
трубках над ртутью. При данных условиях опыта—испарении
в замкнутых сосудах и насыщенной атмосфере — можно быть
уверенным, что большая часть явления должна быть приписана
хлоровапоризации 1 . Черта (вторая горизонтальная) изображает
затрату лучистой энергии на процесс хлоровапоризации (выраженную, как и в предшествовавших случаях, в процентах прямой инсоляции). Эта затрата в средних цифрах достигает 8 % .
Наконец, третья черта представляет сумму затрат на работу,
происходящую в листе, как химическую, так и физическую,
приблизительно = 11%. Эта черта в известной точке (б) пересечет
линию доступной листу поглощаемой им энергии. Начиная
с этой точки (влево), вся доступная листу энергия будет превращаться в работу и, следовательно, 2 процесса, химический
и физический, будут находиться в антагонизме, как это обнаружено Дегереном. Пройдя эту точку (влево), а конечно,
и ранее ее, так как ни в каком случае экономический коэфициент не может достигать 100%, лист уже не будет получать
лучистую энергию в количестве, достаточном для поддержания
обоих процессов при их максимуме, и кривая химического
процесса, которую мы рассматриваем, должна быстро падать.
В этой второй точке (а), доступной хлорофиллу, энергии уже
не будет достаточно для поддержания при его максимуме даже
одного процесса усвоения углерода. Этих соображений, я полагаю, достаточно для объяснения первой (левой) половины нашей
кривой.
Я могу добавить, что эти результаты вполне согласны с позднейшими превосходными опытами Г . Брауна и Ескомба. При
непосредственном солнечном свете экономический коэфициент
у них был 2 7 % . Когда напряжение падало до одной десятой,
экономический коэфициент возрос до 9 5 % , или почти вСя доступная энергия превращалась в работу.
Следующий вопрос, который нам предстоит разъяснить,—
причина той формы, которую кривая принимает в своей верхней
1 Позднее я сделал несколько сравнительных опытов над зеленой
и белой частями того же листа пестролистной Aspidistra, но количества
данных еще недостаточно для правильного вывода.
28
Ь. А. Тимирязев, т. 1
части,—представляется более загадочным. Конечно, простейшее объяснение для такого химического процесса заключалось бы в предположении, что, начиная с известной точки,
лучистая энергия, падающая на лист, будет в избытке. Но
можно ли допустить, что солнечная энергия может быть в избытке, помня, какой скромной цифрой выражается экономический коэфициент химической работы?
Очень часто можно слышать мнение, что химический процесс, совершающийся в зеленом листе, представляется парадоксальным. В самом деле, он совершается при обыкновенной
температуре, между тем как химическое явление, лежащее
в его основе,—диссоциация угольного ангидрида—может быть
воспроизведено в наших лабораториях лишь при очень высоких
температурах, измеряющихся тысячами градусов. Вот диаграмма
Лешателье (рис. 22), изображающая ход диссоциации угольного
ангидрида в зависимости от температуры и давления. Но этот
парадокс, конечно, только кажущийся, и, если я не ошибаюсь,
еще граф Румфорд показал, каким образом то, что он называл
«химическим свойством света», может быть сведено к действию
вызываемой им высокой температуры. В его мемуаре «Исследование химических свойств, приписываемых свету», мы встречаем
следующее место:
«теплота, вызываемая поглощением лучей света, должна,
по необходимости, существовать, по крайней мере, в момент
ее появления, в почти бесконечно малых пространствах, а отсюда вытекает, что только в телах, которые немыслимо малы,
может она вызывать прочные действия (durables effects), сколько-нибудь соответствующие ее высокому напряжению».
Еще ранее, в мемуаре «О распространении т.епла в жидкостях>>, граф Румфорд применяет этот принцип малых пространств, то-есть малой сферы действия, которой ограничивается фотохимическое действие, и к занимающему нас
случаю. Вот его слова:
«не может ли наша гипотеза относительно высокого напряжения тепла, развивающегося там, где свет задерживается...
помочь нам в объяснении того образования чистого воздуха
(pure air), которое обнаруживается в великолепных опытах
д-ра Ингенгуза, когда зеленые листья живых растений, погруженные в воду, подвергались действию солнечных лучей».
Температуры
Рис. 22. Диссоциация
Изменение диссоциации
СО. (по
Лешателъе).
с температурой и давлением.
Под малыми пространствами
граф Румфорд, вероятно,
разумел пространства молекулярные, но мне представлялось,
что было бы интересно проверить его гипотезу и более грубым,
приблизительным путем. Теперь, когда мы уверены, что явление
совершается в хлоропласте п зависит только от тех лучей, которые поглощаются хлорофиллом, мы можем попытаться получить
приблизительное представление о сфере действия солнечных
лучей и об интенсивности этого действия. Необходимые данные
для этого вычисления будут следующие: общее количество
лучистой энергии, измеряемое пиргелиометром; общая площадь,
ограниченная кривою Ланглея, показывающею распределение
энергии в спектре: часть этой площади, соответствующая спектру
поглощения отдельного хлоропласта, и, наконец, толщина
слоя красящего вещества в этом хлоропласте.
Общее количество солнечной энергии установлено довольно
согласными данными Крова, Ланглея и Савельева. Мне также
приходилось делать наблюдения с переносным актинометром
Крова. Я полагаю, мы будем всего ближе к истине, приняв
цифру 1,3 калории на квадратный сантиметр в минуту.
28*
435
Часть энергии, соответствующая поглощению отдельным
хлоропластом, была определена следующим образом. СорбиБраунинговский микроспектроскоп был применен как простой
колориметр (то-есть без призмы) для получения раствора хлорофилла той же концентрации, как в хлоропласте 1 . Этот раствор
был исследован при помощи спектрофотометра Дарзонваля.
Касательно последнего пункта—-толщины слоя красящего
вещества—мне приходится стать в разрез с ходячими идеями,
распространенными между физиологами. Обыкновенно принимают, что зеленое вещество распределено во всем протопласте.
Но уже много лет тому назад Негели при помощи следующего
простого наблюдения показал, что оно ограничивается его
поверхностью. Если на микроскопический препарат, заключающий хлорофилловые зерна (Негели наблюдал зерна Сііѵіа
и Aspidistra), подействовать водой, то они лопаются, и зеленая
оболочка, или шелуха, принимает чаще всего форму двух створок. Я неоднократно повторял наблюдение Негели над хлоропластами Fajus, более удобными вследствие их значительных
размеров. Освобожденные из клеточек хлоропласгы рассматриваются в сахарном растворе такой концентрации, в которой они
нисколько не изменяются. При разбавлении раствора водой
наступает момент, когда зерна лопаются. Прибавляя в этот
момент раствор медного купороса, можно задержать их в этой
стадии, и если еще прибавить эозина, то получаются очень
изящные препараты, напоминающие почку розового мака с ее
двустворчатой чашечкой. Другой способ для изучения распределения красящего вещества в зерне заключается в наблюдении
его в красном свете; тогда можно заметить, что так называемые
grana выступают в виде черных точек, распределяющихся тонким слоем на поверхности.
Если мы желаем, примерно, оценить толщину этой цветной
пленки—строгое измерение конечно здесь невозможно,—то
получаем величину приблизительно в 1 / 1 0 микрона.
Вооружившись всеми этими необходимыми данными, мы
можем, наконец, получить приблизительное представление о тем1 В действительности был взят раствор
половинной концентрации;
причина, почему я так поступил, выяснится ниже, когда будет речь о строении хлоропласта.
пературе, которая могла бы быть достигнута в этом слое хлорофиллового пигмента, предполагая, конечно, что вся эта лучистая энергия могла бы накопляться без обратного излучения.
Мы получаем поразительную цифру—около 6 ООО0!
Я знаю из собственного опыта, как трудно свыкнуться
с такими цифрами. Но некоторые аналогии нам в этом помогут.
Когда мы ударяем сталью о кремень в отвесном направлении,
мы, конечно, достигаем только незначительного повышения
температуры, но, если искусным ударом по касательной мы
сосредоточиваем всю затраченную энергию на небольшом отскакивающем осколке, мы доводим его до белого каления. Или
остановимся на аналогии, более близкой к нашему случаю:
при помощи собирательного стекла мы получаем на солнце
температуры в тысячи градусов, как это было недавно осуществлено профессором Церасским. В этом случае мы концентрируем солнечный свет в плоскости, вертикальной к направлению
луча, но мы можем сделать то же самое и по третьей оси, то-есть
в направлении самого луча, уменьшая толщину поглощающего
свет слоя. Было вычислено, что платиновая (вычерненная)
пластинка не толще 1 / 600 миллиметра, будучи выставлена на
солнечный свет, могла бы расплавиться—понятно, все в том же
предположении, что могло бы быть устранено обратное излучение. Да и на практике увеличение чувствительности современных термоскопических приборов (болометра, термоэлектрического столбика Рубенса и пр.) основано на уменьшении
толщины воспринимающих лучи металлических частей. Мне
кажется, что и на этот раз можно повторить остроумные слова
Г. Брауна: мы все более и более убеждаемся, что растение обладает гораздо более основательными сведениями по физике, чем
мы готовы допустить.
Конечно, об этих высоких температурах, как таковых, не
может быть и речи, и если я настаиваю на этом термометрическом сравнении для разъяснения действия той лучистой энергии,
которая накопляется в такое короткое время в таком ничтожном
пространстве, то лишь с целью показать несостоятельность
выше приведенного парадокса и указать на аналогию с процессом диссоциации, так превосходно изученным химиками.
В действительности мы, вероятно, имеем здесь дело с процессом,
обратным тому, который Видеман назвал хеми-люминесценцией, то-есть с прямым переходом лучистой энергии в химическую работу без промежуточной, хотя бы скоропреходящей,
стадии высокой температуры. Таким путем легко объяснился бы
кумулпрующий, интегрирующий характер фотохимических процессов. В отсутствие угольного ангидрида лучистая энергия,
не превращающаяся непосредственно в химическую работу,
проявляется как теплота, ускоряющая процесс хлоровапоризации.
Возвращаясь к нашей кривой, изображающей связь между
напряжением света и количествами диссоциированного в листе
угольного ангидрида, и сравнивая ее с диссоциационной кривой
Лешателье, мы, может быть, в праве приписать их бросающееся
в глаза сходство той же причине. Не можем ли мы допустить,
что в известной точке, где кривая принимает горизонтальное
направление, температура хлорофилловой пленки—позволяю
себе ради аналогии еще раз прибегнуть к этому термину—напряжение энергии, накопляющейся в таком малом пространстве, так высоко, что диссоциация угольного ангидрида (при
данном парциальном давлении) будет полная. Понятно, что,
пройдя эту точку, никакое дальнейшее повышение температуры
не будет уже оказывать влияния на химический процесс, и кривая получит направление, параллельное абсциссе.
Конечно, я не утверждаю, что обе цифры вполне совпадают
(у меня половина 6 000°, то-есть приблизительно 3 000°), но
во всяком случае это величины одного порядка. Как бы то
ни было, мы должны допустить, что в тонкой пленке хлорофилла, в которой осуществляются условия, тождественные
с действием очень высокой температуры, между тем как окружающая среда остается холодной, частицы угольного ангидрида
находятся в состоянии, особенно благоприятном для их диссоциации, очень сходном с тем, которое наблюдается в классической tube chaud et froid* Генри Сент-Клер Девиля.
Эти соображения касательно крайней тонины слоя хлорофилловой пленки приводят и к иного рода соображениям, значение
* В опытах Сент-Клер Девиля рядом с накаленной поверхностью помещалась холодная, что обеспечивало быстрое охлаждение веществ, только
что подвергавшихся действию высокой температуры. Ред.
которых нельзя не отметить. Мы % в первый раз получаем
хотя бы приблизительное представление о степени концентрации
красящего вещества в хлоропласте. Если принять за единицу
концентрацию раствора, представляющего в толщине 1 сантиметр
типическую изумрудно-зеленую окраску и характеристический
спектр (с 4 полосами), то придем к довольно неожиданному заключению, что в естественном состоянии в хлоропласте концентрация пигмента будет приблизительно в 4 ООО раз более.
Практически это будет почти твердое состояние, и поверхностный цвет его будет почти черный. Из этого факта можно
сделать два немаловажные вывода. Во-первых, получается
объяснение для почти полного отсутствия флуоресценции,
которым отличаются живые зеленые органы. Из обстоятельного
исследования Вальтера вытекает, что флуоресценция быстро
падает с концентрацией раствора. Если принять во внимание
состояние концентрации хлорофилла в хлоропласте, то можно
себе объяснить это отсутствие флуоресценции и в то же время
должно допустить, что химический процесс, совершающийся
в хлорофилле, будет тем более энергичен, чем слабее флуоресценция, так как известен факт, что растворы хлорофилла,
представляющие наименьшую флуоресценцию, всего легче
обесцвечиваются при выставлении на свет.
Другой вывод, пожалуй, еще более существен. Неоднократно
повторялась мысль, что хлорофилл, извлеченный из растения,
утрачивает свою способность разлагать угольный ангидрид,
в подтверждение чего приводились опыты, в которых раствор
хлорофилла, выставленный на свет в соприкосновении с угольным ангидридом, не разлагал его. Теперь мы видим, что все
эти опыты лишены убедительной силы, так как условия совсем
не те, что в хлоропласте. Все равно, как если бы мы желали
определить поглощение света сажей и взяли для этого не чистую
сажу, а смесь одной ее части и 4 ООО частей окиси цинка. Хлорофилл, собственно говоря, почти черное тело и если мы его
называем зеленым, то приблизительно в том же смысле, в каком
мы, пожалуй, могли бы назвать сажу желто-бурой, так как
в тонком слое она действительно такого цвета. В растворах
хлорофилла, которые употреблялись до сих пор, то же количество энергии, которое в хлоропласте сосредоточено в тонкой
пленке, распределено в сдре жидкости, толщина которого в тысячи раз более. Я не хочу этим сказать, что опыт с хлорофиллом
в состоянии большой концентрации должен дать положительные результаты, но он может их дать, и, во всяком случае,
обратное не доказано. По крайней мере, я не вижу, почему
хлорофилл сохраняет свое действие как сенсибилизатор на
AgCl и AgBr, а должен утратить это свойство по отношению
к угольному ангидриду,—различие двух явлений, конечно,
только количественное, а не качественное.
Прежде чем покинуть обсуждение этой кривой, я желал бы
указать на некоторые выводы, которые можно сделать из этого
закона зависимости усвоения углерода от напряжения света
в применении к известным фактам, касающимся географического
распределения и биологических особенностей растений. Хорошо
известен факт, что в высших широтах растение требует более короткого промежутка времени для достижения известных стадий
развития, чем в низших широтах. Это обыкновенно приписывают
большей продолжительности дня. Но и солнце стоит тогда не
так высоко, и до той поры, пока предполагалось, что действие
света пропорционально его напряжению, это объяснение было
очевидно неудовлетворительно. Теперь, когда мы знаем, что
только приблизительно половина непосредственной полуденной
инсоляции может быть использована, мы можем легче попять,
что более долгий период при менее значительной высоте солнца
оказывается более полезным, чем период более короткий при
более высоком стоянии солнца.
Мы в праве сделать еще шаг далее и притти к заключению,
что значительное напряжение солнечных лучей около полудня
может быть не только бесполезно для растения в отношении
усвоения углерода, но прямо вредно, как вызывающее усиленное испарение, которое может даже грозить самому существованию растения в периоды засух. Ботаникам хорошо знакомы
самые разнообразные формы и движения листьев, начиная с пушистости верхней поверхности и оканчивая вертикальным положением (ребром к зениту) пластины, постоянным, как у растениякомпаса, или периодическим (около полудня), как у многочисленных растений, представляющих явления дневного сна.
Все эти особенности справедливо рассматриваются как приспо-
собления, сводящие к минимуму процесс испарения. Но можно было бы
подумать, что эта экономия
в испарении не может быть
m
осуществлена без соответственного ущерба для усвоения углерода. Избегая
жажды, растение
будет
страдать от голода. ТеА
—
перь мы можем быть у верены, что на деле этого не Вис. 23
будет, так как уже половины полуденной инсоляции достаточно для поддержания
максимального питания. Здесь (рис. 23) мы имеем дневную кривую инсоляции в калориях (по Крова), переведенную на горизонтальную поверхность обыкновенного листа, и двойную кривую, изображающую количество лучистой энергии, доступное
листу растения-компаса с его пластинами, расположенными
в плоскости меридиана, ребром кверху. Если мы припомним
вновь, что только половина энергии, доставляемая солнцем
в полдень, может быть использована в процессе усвоения углерода, то легко усмотрим, что площади Ап'п'С для горизонтального и ADDC для вертикального листа мало одна от другой
отличаются, между тем как в этом последнем случае растение
будет ограждено от зловредного действия большого избытка
лучистой энергии в часы, близкие к полудню, когда влажность
атмосферы (кривая пп) наименьшая и, следовательно, испарение наиболее сильное.
Те же соображения применимы и к листьям, имеющим белое
опушение на верхней поверхности, которое можно уподобить
матовому стеклу 1 . До тех пор, пока этот экран не ослабляет
напряжения света ниже его половины около полудня (при нормальном направлении луча), растение будет в выгоде по отношению к испарению—без ущерба для питания.
1 Опушение нижней поверхности служит только как средство для
задержания движений воздуха, а, может быть, как «фон», отражающий обратно лучи света для их вторичной химической утилизации.
Мы можем этим ограничить те выводы, которые вытекают
из рассмотрения оптических свойств хлорофилла. В противность
Саксу, мы в праве сказать, что все, что нам известно о функции
хлорофилла, может быть выведено из его оптических свойств,
и этот вывод вполне понятен, так как процесс усвоения углерода— в то же время процесс усвоения солнечного света 1 . Таким
образом, функция хлорофилла может быть по праву названа
космической функцией растения. Профессор Больцман в замечательной речи, произнесенной в Венской академии в 1886 году,
выразил эту мысль в очень красноречивой форме:
«Всеобщая борьба за существование, охватывающая весь
органический мир, не есть борьба за вещество: химические элементы органического вещества находятся в избытке в воздухе,
воде и земле; это также не борьба за энергию,—она, к сожалению, в непревратимой форме, в форме теплоты, щедро рассеяна
во всех телах; это борьба за энтропию, становящуюся доступной при переходе энергии от пылающего солнца к холодной
земле. Для возможного использования этого перехода развертывает растение неизмеримую поверхность своих листьев и вынуждает солнечную энергию, прежде чем она упадет до уровня температуры земли, вызывать какими-то, ближе не исследованными путями, химические синтезы, еще неведомые нашим лабораториям. Продукты этой-то химической кухни и составляют
предмет борьбы в животном царстве».
С такой точки зрения исследованный нами вопрос о космической роли растения является какою-то пограничною
областью между двумя великими научными обобщениями прошлого века, связанными с именами Лорда Кельвина и Чарлза
Дарвина—меЖду учением о рассеянии энергии и учением
о борьбе за существование. С чувством глубокого благоговения
перед памятью великого ученого вспоминаю я слова, много
лет тому назад слышанные в Дауне из уст самого покойного
1 «Об усвоении света растением»— таково подлинное заглавие моей первой русской работы 1875 года; совсем недавно я с удовольствием встретил
это выражение в Naturphilosophie профессора Оствальда. (Статья «Об
усвоении света растением» 1875 г. была помещена в сборнике «Солнце,
жизнь и хлорофилл». ГИЗ, 1923. В настоящем издании см. том I I . Ред.)
Дарвина: «Хлорофилл—это, быть может, самое интересное
из органических веществ»4.
Если, таким образом, мы вправе считать, что наши современные представления о космической природе процесса, совершающегося в зеленом растении, являются плодом блестящих
завоеваний современной физики, то, с другой стороны, только
справедливо попытаться найти первых пионеров этой важной
научной идеи о связи между растительным миром и солнцем,
проявляющейся в хлорофилловой функции. Прежде всего нужно
отдать полную справедливость Сенебье, вполне проникнувшемуся идеей об этой удивительной связи. Но еще ранее этого
заключения мы должны воздать должное одной научной теории,
которая слишком часто упоминается только как пример аберрации человеческого ума. Я разумею теорию флогистона.
Конечно, можно было ожидать, что теория, имевшая своими
адептами таких ученых, как Пристли, как Кавендиш, не могла
быть просто признана абсурдом, и мы действительно знаем, что
Гельмгольтц и особенно Одлинг сделали попытку ее реабилитации. Для того, чтобы схватить истинный смысл этой знаменитой теории, мы должны только подставить вместо этого злополучного слова «флогистон» более привычное нам выражение—
потенциальная энергия, и мы увидим, как близки были основные
представления защитников флогистона о занимающем нас
явлении к нашим современным понятиям. Стоит остановиться
на следующих словах Сенебье:
«Мне кажется, что я вижу, как частицы света соединяются
с телами; я хотел бы думать, что этот свет вновь будет поражать мои взоры в пламени горючих веществ; мне кажется, что
он образует эти смолы, с которыми имеет так много сродства,
эти маслянистые вещества, насыщенные его теплотой, его пламенем, эти спиртовые частицы семян и плодов, пропитанные
его огнем... Наконец, этот флогистон, который солнце отлагает в растении, не будет ли он источником того, который обращается в других царствах природы?»
Когда ботаник-турист, посещающий женевский ботанический
сащ, останавливается перед.рядом мраморных бюстов знаменитых
ботаников, уроженцев этого города, с Сенебье на первом плане,
он может быть уверен, что стоит у колыбели физиологической
ботаники X I X века, точно так же, как в наши дни, если бы он
хотел увидать, откуда, несомненно, начнется современное движение зарождающегося столетия, он должен направить свои
шаги в другой ботанический сад, поближе к нам 1 , и приветствовать в Джодрельской лаборатории новую точку отправления по пути, впервые проложенному Сенебье и Соссюром.
В нашем историческом обзоре мы должны, однако, отступить
еще на одно столетие. Сенебье, с его обычной правдивостью,
упоминает автора, которому он сам обязан своими основными
представлениями о связи между светом и веществом. Мы найдем
эту мысль в книге, «написанной», как нас уведомляет сам автор,
«по желанию некоторых членов королевского общества и читанной в его заседаниях». Мы должны открыть «третью книгу»
Оптики и прочесть «Вопрос 30», начинающийся словами:
«Не могут ли грубые тела и свет взаимно превращаться и не
могут ли тела получать значительную часть своей деятельности
от частиц света, вошедших в их состав? Потому что все горючие
тела при нагревании выделяют свет до тех пор, пока остаются
достаточно нагретыми, и, наоборот, свет задерживается телами,
когда ударяется о их частицы, как это было выше показано».
Несколькими строками далее мы читаем снова:
«Превращение тел в свет и света в тела совершенно согласно
с общим порядком природы, которая, повидимому, любит (is
delighted) превращения», и, наконец, вслед за перечислением
примеров таких превращений, следует заключение: «в ряду таких разнообразных и странных превращений почему бы природе не превращать тела в свет и свет в тела?»
Если, по прочтении этих строк, мы обратимся к микроспектру
и увидим, как хлорофилловые зерна, сохраняя свой обычный цвет
и прозрачность в желтых и зеленых частях спектра, становятся
черными, как угольки, при перемещении их в красную или
синюю часть спектра, то можем быть уверены, после всего, что
было ранее сказано, что мы действительно присутствуем здесь
при таинственном процессе «превращения света в тела», благодаря которому этот ничтожный черный комочек вещества
является истинным звеном, соединяющим величественный взрыв
энергии в нашем центральном светиле со всеми многообразными
проявлениями жизни на обитаемой нами планете,
1
Ботанический сад Кыо близ Лондона.
Призма более чем два века тому назад раскрыла природу
солнечного луча. Призма же, у нас на глазах, в руках нашего
председателя 1 , сэра Нормана Локиера и других искусных исследователей, продолжает раскрывать тайну происхождения этого
луча, и я убежден, что опять та же призма раскроет и конечную
судьбу этого луча здесь на земле—его «превращение в тела».
Таким образом, мы приходим к окончательному выводу, что
в этой книге «Оптикш> мы встречаем не только первую и самую
широкую постановку занимающей нас задачи, но и верное
средство для ее разрешения.
Не гадал Джонатан Свифт, когда строчил свою ядовитую
сатиру на королевское общество2, что то, что ему представлялось
очевидным бредом сумасшедшего, оказалось пророческим откровением бессмертного гения Ньютона.
1 Сэра Вильяма Гуггинса, справедливо считающегося пионером астрономической спектроскопии.
2 Известно, что под академией в Лагадо Свифт разумел королевское
общество.
. . . . . . . . . .
.
. ,
ц
.
;
•
•
•
•
;
. . .
:
.
,
:
-
1
. 4
'(
-
:
•
; • , R ...: : ;V
"
1
'
'•
1
'
И з ПЕРЕПИСКИ
К» Â* ТИМИРЯЗЕВА
С АНГЛИЙСКИМИ
УЧЕНЫМИ
1900*1909*1912
ПРИМЕЧАНИЯ
и КОММЕНТАРИИ
ПРОФЕССОРА
А.К.ТИМИРЯЗЕВА
-
• :
ъ
ОТ РЕДАКЦИИ
убликуемая здесь в форме журйальной полёмики й
личных писем переписка К. А. Тимирязева с известными английскими учеными Горасом Брауном, Перспвалем Лоуеллем и Виллиамом Тизельтон-Дай ером,
имеет значительную научную и общественную ценность.
Из полемики с Г . Брауном с предельной ясностью следует,
что К. А. Тимирязев, изучая хлорофилл, стремился охватить
все его значение в образовании органического вещества.
Эта полемика интересна и потому, что показывает, каким большим авторитетом пользовался К. А. среди передовых английских ученых, освещает нам ту обстановку возрастающего интереса к научным открытиям Тимирязева, следствием которого
явилось приглашение К. А. прочесть в 1903 году его знаменитую
«Крунианскую лекцию».
29
К. А. Тимирязев,
т. 1
449
Переписка К. А. с Персивалем Лоуеллем выясняет точку
зрения Тимирязева на вопрос, возможна ли жизнь на Марсе
и других планетах (Уран, Нептун), и является интереснейшим
дополнением к изложению вопроса о космической роли растения,
данного им в блестящей лекции в Лондонском королевском
обществе.*
Переписка с Тизельтон-Дайером, датированная 1912 годом,
связана с избранием К. А. Тимирязева членом Лондонского
королевского общества.
В этих письмах, помимо материала о взаимоотношениях
К. А. с Тизельтон-Дайером и рядом передовых ученых Англии,
помимо упоминания о встрече К. А. с Ч. Дарвином (к которому
Тизельтон-Дайер дал Тимирязеву письмо), имеется мнение, высказанное К. А., о Бэтсоне и де-Фризе. Письма эти чрезвычайно
интересны и как документы эпохи, когда передовая часть ученых
стремилась дать отпор мутному потоку реакции, пытавшейся
«волной самого грубого идеализма» смыть, уничтожить то
здоровое, прогрессивное, что вырастало на почве дарвиновского учения.
Печатающиеся здесь документы любезно предоставлены
редакции Полного собрания сочинений К. А. Тимирязева
сыном КлиментаАркадьевича,профессором Аркадием Климентовичем Тимирязевым и сопровождены его комментариями и примечаниями.
* В настоящее время вопрос об обитаемости «Урана» и «Нептуна»
решен наукой в отрицательном смысле. Ред.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА
С ГОРАСОМ БРАУНОМ
J
ОТРЫВОК ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕЧИ ГОРАСА Б Р А У Н А
(СЕКЦИЯ «В. ХИМИЯ» НА СЪЕЗДЕ БРИТАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ) *
А
налогия, существующая между действием хлорофилла
в живом растении и хроматическим сенсибилизатором
в фотографической пластинке, была, я полагаю, впервые указана капитаном Абнеем и более полно разработана
Тимирязевым, который склонен был рассматривать хлорофилл
как сенсибилизатор par excellence, так как он поглощает и
использует в процессе ассимиляции излучение, приблизительно
соответствующее максимальной энергии в нормальном спектре.
Точка зрения, выставленная Тимирязевым, состоит в простой физической передаче колебаний света надлежащего
* Речь Г. Брауна была напечатана в «Nature» 14 September, Vol. 60,
1899, p. 483. По поводу публикуемого здесь отрывка из этой речи
К. А. Тимирязев написал письмо в редакцию журнала «Nature». Письмо это
и ответ на него Гораса Брауна следуют за приводимым отрывком. А. Т.
периода от поглощающего хлорофилла к реагирующей двуокиси углерода и воде. Я думаю, что эта точка зрения является
слишком упрощенным объяснением фактов.
Хроматические сенсибилизаторы, как было показано, действуют вследствие их предшествующего разложения, а не благодаря непосредственной передаче энергии; то же самое, вероятно,
приложимо и к хлорофиллу, который разлагается за счет тех
лучей, которые он поглощает.
^
Мы, повидимому, должны принять в качестве первой и простейшей ступени в процессе ассимиляции—взаимодействие
между восстановленной составной частью хлорофилла и элементами двуокиси углерода и воды. Образованные таким образом соединения снова расщепляются в другом направлении
благодаря притоку энергии извне.
Неудача при попытках получить подобную реакцию в искусственных условиях, я думаю, может быть объяснена тем, что
при этих попытках не учитывали одного очень важного фактора.
Мы имеем дело с реакцией сильно эндотермической природы,
которая, вероятно, также является в высокой степени обратимой
реакцией; по этой причине мы не можем ожидать скольконибудь значительного накопления продуктов изменения, если
только мы не применим каких-либо средств к удалению их
из области, где идет процесс, с той же скоростью, с какой они
образуются.
В растении это удаление достигается живым элементом клеточки—хлоропластом, которому в этом оказывает содействие
вся цитоплазма. Мы имеем здесь, на деле, аналогию с химическими сенсибилизаторами в фотографической пластинке, которые действуют в качестве поглотителей галлоидов
и таким образом допускают накопление эффекта в серебряных
солях.
Когда нам удастся найти простое химическое средство для
закрепления начальных продуктов восстановления двуокиси
углерода, тогда и только тогда мы можем ожидать в будущем
воспроизведения в лаборатории первых ступеней того великого
синтетического процесса в природе, от которого зависит продолжение всех проявлений жизни».
К. А. Т И М И Р Я З Е В . ХЛОРОФИЛЛ
КАК СЕНСИБИЛИЗАТОР*
«С чувством большого удовлетворения прочел я заключительные строки крайне интересной президентской речи доктора
Г. Брауна («Nature», сентябрь 14, 1899). Я рад был узнать,
что этот выдающийся химик, которому физиология растений
так много обязана, пользуется некоторыми взглядами на функцию хлорофилла, которые я защищал в течение более четверти
века против руководящих авторитетов германской физиологической школы (Сакс и Пфеффер). Но так как в высказывания
доктора Брауна, касающиеся моих взглядов, вкрались некоторые
небольшие ошибки, то, пожалуй, и мне будет дозволено выдвинуть следующие поправки.
Доктор Браун, повидимому, полагает, что аналогия между
действием хлорофилла и хроматическим сенсибилизатором была
«впервые указана капитаном Абнеем» и «более полно разработана» мною; и во-вторых, что я даю «чрезмерно упрощенное
объяснение фактов», допуская «чисто физическую передачу
колебания подходящего периода от поглощающего хлорофилла
вступающим в реакцию двуокиси углерода и воде».
Начиная с менее важного вопроса о приоритете, я должен
сознаться, что до сего времени я не знал о том, что капитан
Абней предъявляет свои права в этой области. Если бы я об
этом знал, то я бы первый выступил с признанием, чем я обязан
этому талантливому исследователю. Я никогда не упускал
случая выразить свое восхищение его блестящими успехами
в этой области изысканий.
Тот факт, что диссоциация двуокиси углерода осуществляется
за счет лучей света, поглощенных хлорофиллом, был впервые
установлен моими исследованиями в 1873 году. Изложения
этих опытов были представлены на международном конгрессе
ботаников во Флоренции (май 1874) 1 . В то же время (1873)
Atti del Gongresso botanico tenutoin Firenze, 1874, p. 108. Еще раньше
в Bot. Zeitung, 1869, № 14, я указал на источник ошибки Т. В. Дрэпера
и доказал, что процесс в основном обусловлен красными лучами света.
* «Nature», 62, р. 102, 31/Ѵ, 1900. А. Т.
проф. Г. Фогель сделал свое важное открытие хроматических
сенсибилизаторов, и в ноябре 1875 года Э. Беккерель применил
это открытие, изготовив хлорофилло-коллодионные пластинки.
В мае 1875 года появилось мое исследование на русском
языке, посвященное функции хлорофилла. Статья на французском языке 1 в Annales de Chimie et de Physique, 1877,
является извлечением из предыдущего исследования, как это
там подчеркнуто. В этом французском переводе подробно
обсуждается представление о том, что хлорофилл можно рассматривать как сенсибилизатор. Поэтому право на приоритет
можно выдвинуть только в пользу исследования, которое появилось в течение короткого промежутка в один год—с мая 1874
года, когда я указал на факт, и до мая 1875 года, когда я истолковал этот факт в свете нового открытия Г. Фогеля. Справившись
в Каталоге научных исследований Королевского общества,
я не мог найти ни одной работы капитана Абнея за этот период
с 1874 по 1875 год 2 .
Все это касается вопроса о приоритете. Переходя ко второму
пункту, я, к сожалению, должен сказать вполне определенно,
что доктор Браун ошибается, так как в моей французской статье, только что упомянутой, и которая, возможно, ускользнула
от его внимания, после обсуждения совсем новых открытий
Г. Фогеля и Эдмона Беккереля, я заключаю:
„В настоящий момент нельзя решить вопроса, является ли
этот эффект обусловленным чисто физическим явлением или,
быть может, красящее вещество принимает также участие
в химическом превращении.
Эта последняя точка зрения приведет к тому, что действие
этого вещества (хлорофилла) окажется подчиненным общему
закону ускоряющего действия органических веществ в фотохимических реакциях, так как обычно, поглощая продукты
диссоциации, обусловленной светом, органические вещества
1 «Recherches sur la décomposition de l'acide carbonique dans le spectre solaire, par les parties vertes des végétaux». Annales de Chimie et de
Physique, 5 Série, t. X I I , 1877. (Эта статья в русском переводе помещена в томе II настоящего издания. Ред.)
2 Проф. Пфеффер, в своем изложении всего этого вопроса («Pflanzenphysiologie» Zweite Auflage, pp. 325—341) заходит настолько далеко, что
приписывает теорию сенсибилизатора, как теорию функции хлорофилла,
проф. Рейнке, исследование которого появилось десять лет спустя.
нарушают равновесие, которое устанавливается менаду разлагающим веществом и продуктами разложения, и таким путем
частичная диссоциация приводит к полному разложению" Ч
Позже, в докладе, представленном Международному конгрессу Ботаников в С.-Петербурге (1884), учитывая дальнейшие
работы по фотографическим сенсибилизаторам, я привел экспериментальные доказательства, что хлорофилл можно рассматривать как сенсибилизатор в смысле, какой придает этому
слову капитан Абней:
„Хлорофилл является сенсибилизатором, восстанавливающимся по мере того, как он сам разлагается, и который вызывает
разложение угольной кислоты, испытывая при этом частичное
разложение" 2 .
Из этих цитат можно показать, что я всегда имел в виду
химическую сторону хлорофилловой функции, в последнее время
отстаиваемую с такой силой доктором Брауном3. Я , однако,
не удовлетворился чисто теоретическими соображениями, но
с тех пор я все время искал то, что доктор Браун так удачно
называет „восстановленной составной частью хлорофилла".
Мод упорные поиски привели к открытию протофиллина—вещества, которое получается при действии водорода в момент его
появления на растворы хлорофилла 4. Несколько лет спустя
я открыл это вещество в живом растении 5.
Существование восстановленной составной части хлорофилла
может быть, следовательно, признано как вполне доказанный
1 Б. е., р. 40. В примечании я добавляю некоторые физиологические
факты, которые, повидимому, согласуются с этой точкой зрения.
2 «Etat actuel de nos connaissance sur la fonction chlorophyllienne».
Annales des Sciense Naturelles Botanique, 1885, p. 119.
3 Еще раньше (в моей работе, напечатанной на русском языке: «Спектральный анализ хлорофилла», С.-Петербург, 1871) я даже выразил теперешнюю точку зрения доктора Брауна в форме уравнения
ХО + С0 2 = ХСО + О а
+ Н3О
Х 0 + С Н 2 0 + ОГ '
где X—гипотетическое «восстановленное составное начало хлорофилла»
доктора Брауна.
4 Первое описание этого любопытного вещества было дано в двух коротких заметках на этих самых столбцах: «Бесцветный хлорофилл»( «Nature»,
1885, р. 342) и «Хлорофилл» («Nature», 1886, р. 52). Более подробно см.
«Comptes Rendus», 1 889.
5 «Протофиллин в живом растении» («Comptes Rendus», 1889).
факт, и возможно, что это вещество будет использовано химической теорией функции хлорофилла. Я заключаю свою французскую статью следующими словами: „Изучение этих веществ
должно пролить яркий свет на химическую сторону функции
хлорофилла, которая в последнее время изучалась почти исключительно с физической точки зрения".
Подводим итог. Хотя можно ясно видеть, что почти в течение
тридцати лет я рассматривал хлорофилл как химический сенсибилизатор, или, строго говоря, как поглотитель продуктов
диссоциации (С0 2 и Н 2 0), однако, даже и в настоящее время
я должен признаться, что эта теория не имеет прямого экспериментального доказательства и может быть рассматриваема только
как объект дальнейшего исследования, в то время как физическая сторона вопроса (то-есть что С 0 2 и Н 2 0 разлагаются под
действием тех лучей спектра, которые поглощаются и как-то
превращаются хлорофиллом) есть выражение факта, поставленного вне всякого сомнения моими исследованиями как в области
разложения С 0 2 , так и в области получения крахмала в живом
растении1. Я не оставляю надежды, что открытие протофиллина
может оказаться когда-нибудь шагом вперед в направлении
химической теории функции хлорофилла, несколько сходной
с теорией красящего вещества крови,—эта аналогия не выходит
у меня из головы с тех пор, как я познакомился с классическими
работами в этом направлении, которые были выполнены сэром
Дж. Г. Стоксом.
Университет, Москва.
КЛИМЕНТ
ТИМИРЯЗЕВ»
3
ОТВЕТ ГОРАСА Т. БРАУНА *
«Я сожалею, что мистер Тимирязев рассматривает заключительные строки моей президентской речи, как содержащие
некоторую несправедливость по отношению к нему.
Никто в большей степени, чем я, не был поражен исключительной красотой и важностью работ мистера Тимирязева,—
1 «Фотографическая регистрация функции хлорофилла в живом растении» («Comptes Rendus», 1890).
* «Natur,», 62, p. 102, 31 /V, 1900. A. T.
работ, которые устранили много иллюзий и впервые ясно обнаружили факт, что лучи, соответствующие основной абсорбционной полосе поглощения спектра хлорофилла, являются теми,
которые являются наиболее активными в процессе ассимиляции.
Я всегда рассматривал статью мистера Тимирязева 1885 года
(«Ann. des Sciences Nat. [Bot.]», vol. II, p. 90) как одно из
наиболее убедительных и красноречивых изложений в научной
литературе; поставленный там вопрос получил завершающую
проверку в работе автора в 1890 году («Comptes Rendus», 110,
1346), когда ему удалось показать появление крахмала в листе,
лишенном предварительно крахмала и выставленном в чистом
спектре. Причем появление крахмала происходит только в том
месте красной части спектра, которое в точности соответствует
главной полосе поглощения хлорофилла.
Относительно первого вопроса, поставленного мистером
Тимирязевым в его письме, я могу сказать, что когда я готовил
свою речь, я испытывал затруднение в том, чтобы установить,
кто был первым, обратившим внимание на существующую аналогию между хлорофиллом и хроматическим сенсибилизатором.
Полного списка трудов сэра Виллиама Абнея не существует,
а так как я знал, что он посылал много статей по этому вопросу
и на сходные темы в фотографические журналы в различных
частях света, то перед тем, как приступить к писанию речи,
я обращался к сэру Виллиаму Абнею.
Не может быть сомнения, что вопрос о хроматических сенсибилизаторах носился «в воздухе» в то время, непосредственно
следовавшее за открытием Фогеля, и весьма вероятно, что
применение этих новых идей к хлорофиллу независимо пришло
в голову Абнею, Тимирязеву и Беккерелю.
Второе возражение мистера Тимирязева состоит в том,
что я недостаточно учел его взгляды на функцию хлорофилла,
как химического сенсибилизатора.
По этому пункту я могу
сказать, что я имел в виду его статью 1885 года: «Современное
состояние наших знаний о функции хлорофилла», которая,
как можно ясно было себе представить, заключала в себе полностью взгляды автора вплоть до указанного времени. Вполне
очевидно, что там настойчиво указывается на физическую роль
хлорофилла, как это можно показать следующей цитатой:
„Роль хлорофилла в явлении разложения угольной кислоты
можно резюмировать следующим образом: хлорофилл поглощает
излучение, обладающее наибольшей энергией, и передает эту
энергию молекулам угольной кислоты, которые сами по себе
не испытывали бы разложения, так как углекислота прозрачна
для этого излучения, обладающего большой энергией".
Что физическая сторона дела была в центре внимания у мистера Тимирязева в эту пору, доказывается диаграммой и непосредственно за ней следующими замечаниями, в которых он
рассматривает молекулы углекислоты как претерпевающие
«кораблекрушение» в световых волнах, соответствующих максимуму амплитуды.
Однако, совершенно ясно из ссылок мистера Тимирязева
на его работу 1877 года и в особенности на его статью на русском
языке, относящуюся к 1871 году,—я не видал ни той ни другой,—что он высказывал взгляды, практически совпадающие
с теми, которые содержатся в заключительной части моей речи.
Можно выразить сожаление, что эти взгляды не были повторены
в ясной форме в статье 1885 года, которая носила характер
высказывания новейшей точки зрения автора на весь вопрос,
и что в этой статье физическая идея о непосредственной
передаче лучистой энергии играет доминирующую роль.
52. Неверн сквер, Кензингтон.
ГОРАС
Т.
БРАУН»
Эта полемика в том же году привела к личному знакомству
К. А. Тимирязева с Горасом Брауном (лето 1900 года) и рядом
других английских ботаников, что вызвало большой интерес
к работам К. А. Тимирязева и завершилось приглашением со
стороны Королевского общества прочесть 30 апреля 1903 года
«Крунианскую лекцию». После личного знакомства в 1900 году
менаду К. А. Тимирязевым и Горасом Брауном установились
отношения, которые нельзя назвать иначе как дружескими. А. Т.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА
С ПЕРСИВАЛЕМ ЛОУЕЛЛЕМ
В
начале 1909 года К. А. Тимирязевым было отправлено
письмо профессору П. Лоуеллю, ныне уже умершему, знаменитому исследователю планеты Марс. Копии этого письма
не сохранилось, но содержание его в несколько более популярной форме было К. А. Тимирязевым опубликовано в «Русских
Ведомостях» в двух заметках, которые мы приводим полностью
так же, как и ответ П. Лоуелля на письмо К. А. Мысль Лоуелля
о возможности существования органического мира на планетах
вызвала весьма резкую критику и жестокие нападки на ученого,
так как его работы затронули религиозные воззрения. Весьма
внушительные возражения на эту критику как самого Лоуелля,
так и целого ряда весьма выдающихся ученых систематически
замалчивались в научной литературе. С научной точки зрения,
вопрос сводится к задаче констатировать спектр хлорофилла
(зеленого вещества листьев) в сине-зеленых частях планеты
Марс. Приводим полностью отрывок «Возможна ли жизнь
на Марсе?», написанный для газетной статьи К. А. Тимирязевым.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА
1
К. А.
ТИМИРЯЗЕВ
ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ?*
«Давно обещанная книга профессора Лоуелля «Mars as the
abode of life» 1 , наконец, получена и в Москве и представляет
много интересного. Лоуелль считает свою книгу (собственно,
курс лекций) за попытку основания новой науки—планетологии,
являющейся промежуточным звеном между эволюционными
учениями Лапласа и Дарвина.
По отношению к Марсу Лоуелль считает вопрос об его обитаемости разрешенным в положительном смысле. В с я книга
разделяется на две части—популярное изложение и научные
данные, его подтверждающие. Он старается устранить два сделанные ему возражения: что температура на планете недостаточна для потребностей жизни и что на ней отсутствует атмосфера. Оба возражения ему удается устранить; особенно интересно доказательство присутствия в атмосфере водяного пара.
Приведенные им фотографические спектры показывают группу
линии я, более резко выраженную, чем даже в атмосфере земли
(то-есть в спектре луны).**
Доказательство возможности жизни он видит с двух концов.
Во-первых, он доказывает, что сине-зеленые пространства 1
обязаны своей окраской покрову растительности, и подтверждает это тем любопытным фактом, что она представляет сезонную смену окраски, соответствующую нашему осеннему желтению, а во-вторых, он объясняет явление двуконтурных каналов
присутствием растительности в виде обочин по сторонам этих
каналов. В пользу этого предположения говорит периодическое
появление этих образований, и притом в направлении от полюсов
к экватору и в соответствии с появлением вешних вод, полу1 «Марс как обиталище жизни». (Под таким же заголовком была опубликована небольшая статья К. А. в «Вестнике Европы» 1909 г . , май. Ред.).
2 Прежде считавшиеся морями.
* «Русские Ведомости» 1909 г., № 37. Ред.
* * Так как на луне нет атмосферы, то спектр луны, дает, по существу, спектр земной атмосферы. А. Т.
чающихся вследствие таяния прекрасно изображенных у него
полярных снеговых шапок.
Другой пространно развиваемый аргумент в пользу обитаемости Марса Лоуелль усматривает в необходимости признать
в системе каналов искусственные сооружения высокоразумных
существ. Он остроумно сравнивает роль астронома-планетолога
с полицейским детективом, по следам преступления открывающим их авторов. Но на этот раз раскрываются не преступления,
а добродетели. В своем, во всяком случае, остроумном рассуждении Лоуелль угадывает даже нравственные качества
обитателей Марса. Они свободны от нашего узкого национализма,
так как всеобщее бедственное положение планеты, доживающей свои последние дни, внушило им необходимость общей
солидарности в борьбе с повсеместной засухой и понудило их
построить общую оросительную систему, обеспечивающую всей
планете влагу на счет тающих полярных льдов.
Но «предоставим астрономам...»; нас же, ботаников, интересует только объяснение зеленой поверхности Марса присутствием растительности. Это вероятное предположение Лоуелля
могло бы превратиться в полную достоверность, если бы он мог
доказать, что эти зеленые поверхности представляют спектр
хлорофилла. Пока в спектре Марса мы не замечаем этой абсорбционной полосы, бросающейся в глаза в спектрах Урана и Нептуна, а сам Лоуелль ничего о своих новых наблюдениях спектров
других планет не упоминает.
Но едва ли это отрицательное показание спектроскопического
исследования можно считать окончательным. Дело в том, что
зеленая площадь представляет всего 3 / 8 всей поверхности планеты, и при таком преобладании постороннего света, как я это
давно показал, спектр хлорофилла зеленых поверхностей,
всегда не очень резкий, может быть маскирован. Для получения
его необходим не интегральный спектр света всей планеты,
а диференциалъньій спектр его отдельных поверхностей. Разрешима ли практически эта задача,—конечно, может ответить
сам Лоуелль, вероятно, знающий свой Марс лучше, чем ктолибо на земле. Во всяком случае, последнее слово в этом вопросе
о том, что такое зеленые пространства на Марсе, остается за
спектроскопом».
Ниже мы приводим еще одну заметку К. А. Тимирязева,
названную им «Возможна ли жизнь на других планетах?».
К. А. написал ее в связи с появлением в «Nature» статьи
Лоуелля, касающейся вопроса о спектре Урана и Нептуна.
A.
Т.
2
К. А.
ТИМИРЯЗЕВ
ВОЗМОЖНА ЛИ ЖИЗНЬ НА Д Р У Г И Х ПЛАНЕТАХ?*
«Выпуск английского журнала „Nature" от 12 ноября
(н. ст.) принес поразительные фотографии профессора Лоуелля
спектров планет, причем мой привычный глаз был поражен присутствием в спектрах Урана и Нептуна абсорбционной полосы
хлорофилла.
При первой встрече с уважаемым товарищем
B. К. Церасским я сообщил ему свои подозрения; нас обоих,
однако, смутило то, что сам профессор Лоуелль в своем подробном сообщении Парижской академии, правда, еще не снабженном фотографией, ничего не говорит об этих замечательных
полосах. Но вот, в последнем выпуске того же „Nature" (3 декабря н. ст.) другой ботаник, голландский профессор Бейеринк,
также опытный в этой области, приходит к тому же заключению.
Согласное свидетельство двух экспертов, не сговорившихся
между собой, живущих на противоположных концах Европы
и даже незнакомых между собою, я полагаю, имеет некоторый вес.
Попытаемся возможно кратко объяснить читателям не натуралистам, что кроется под этой чисто технической фразой:
„в спектре Урана и Нептуна замечена полоса поглощения
хлорофилла".
Хлорофилл, т. е. вещество, которым окрашены все зеленые
части растений, по современному воззрению, представляет
собой то химическое вещество, без которого не было бы жизни
на земле. Оно обусловливает питание растения на счет воздуха.
* «Русские Ведомости», 1908 г., № 278.
Ред.
Оно представляет звено, которым связываются жизнь и солнце;
в нем энергия солнца превращается в запас химической энергии,
заключающейся в пище и освобождающейся в жизненных процессах человека, животных и растений. Поэтому уже много лет
тому назад я предложил назвать процесс, совершающийся
в растении при помощи хлорофилла, космической ролью растенияЧ Но, выражаясь так, я, конечно, имел в виду только связь
между солнцем и нашей планетой; мысль о возможности распространить это понятие и на другие планеты, конечно, не представлялась мне чем-либо реальным2.
Известно, что профессор Лоуелль на своей Флагстафской
обсерваторип уже несколько лет производит наблюдения, которые приводят его к выводу, что Марс обитаем. Одно из делаемых
ему возражений о невозможности жизни на Марсе за отсутствием
воды ему, как известно, удалось в прошлом году устранить,
показав присутствие в спектре абсорбционных полос водяного
пара3. Но он шел далее, он высказывал мысль, что окрашенные
в сине-зелеиый, а в другую пору года в бурый цвет части поверхности Марса соответствуют летней и осенней окраске растительности. Ему возражали, что трудно предположить, чтобы эволюция органического вещества в двух независимых мирах шла
настолько сходным путем, чтобы дать в результате одно и то же
сложное вещество, каким является хлорофилл. Если к спектрам
Урана и Нептуна возможно будет применить то толкование,
которое придаем ему мы с Бейеринком, то это возражение превратится в самое блестящее подтверждение верности идеи
Лоуелля.
Укажу на одну поразительную особенность. Положение
спектральной полосы планет не вполне совпадает с полосой,
наблюдаемой в растворах хлорофилла, но я уже давно указал 4 ,
1 Так и была озаглавлена лекция, читанная мною в Лондонском королевском обществе в 1903 году.
3 Что, впрочем, не мешало мне, помнится, в шутку говорить покойному Ф. А. Бредихину: «Что вы носитесь с своим цианом и т. д.,—вот открыли бы вы хлорофилл на Марсе»,—он в то время особенно увлекался
исследованиями Скиапарелли.
3 В числе возражавших был и знаменитый А. Уоллесс.
•» В Журнале русского химического общества за 1872 г. и в Протоколах
физического отдела О. Л. Е.'(Общество любителей естествознания. Ред.).
что такое смещение и должно встречаться в предметах, неравномерно окрашенных, какими и являются, конечно, поверхности
планет.
Бейеринк идет еще далее; он узнает не только полосы хлорофилла, но и другого растительного вещества, и указывает
на сходство спектра планет со спектром красных морских водорослей. Кому случалось видеть с береговой кручи (например,
Salto del Tiberio, на Капри) красные поля водорослей, просвечивающие сквозь прозрачную воду Неаполитанского залива,
пожалуй, могут себе представить что-либо подобное. Впрочем,
лучше пока воздержаться от дальнейшего полета фантазии Ч
Одно только очевидно, что если сходству спектров Урана
и Нептуна и хлорофилла суждено оправдаться, то спектроскопу,
этому изумительному наследию науки X I X века, мы будем не
только обязаны раскрытием единства химического состава мирового вещества, не только раскрытием его, выражаясь словами
сэра Нормана Локиера, эволюции, но и раскрытием сходства
в основных чертах эволюции органического вещества в ближайших к нам частях космоса.
29 ноября
К.
ТИМИРЯЗЕВ»
3
ОТВЕТ ПРОФЕССОРА ПЕРСИВАЛЯ ЛОУЕЛЛЯ
НА ПИСЬМО К . А. ТИМИРЯЗЕВА
(27 АПРЕЛЯ 1909 года).
ДОРОГОЙ
СЭР!
«ОБСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ
ЛОУЕЛЛЯ
ФЛАГСТАФ.
Только что получил Ваше интересное письмо. Два года тому
назад г. Слайфер2 делал снимки при помощи спектрографа
1 Простейшим объяснением сходства в составе органического вещества
на различных планетах, конечно, явилась бы гипотеза Гельмгольтца
и Кельвина об его переносе через межпланетные пространства.
2 Выдающийся ученый, сотрудник Лоуелля, результаты работ которого очень неудачно пытался опровергать русский ботаник профессор
Арциховский.
с целью доказать присутствие хлорофилла. Он получил хорошие
результаты для земных объектов, но для Марса дело гораздо
труднее, частью вследствие малого количества света, частью
вследствие особенного характера поставленной задачи. Растительность в сколько-нибудь значительных количествах встречается только в некоторых частях диска и расположить в этих
частях щель спектроскопа почти невозможно. Хотя со временем,
быть может, мы с этой трудностью справимся. Вопрос этот занимает нас вот уже четырнадцать лет, и г. Слайфер уже много
работал с отраженным светом. Что касается Урана и Нептуна,
то их физическое состояние заставляет предполагать, как я думаю, что там нет растительности Ч
Благодарю В а с за присылку оттиска Вашей Крунианской
лекции, которая исключительно хорошо написана. Я был поражен ее началом. *
С глубоким
Ваш искренно
ПЕРСИВАЛЬ
уважением
преданный
ЛОУЕЛЛЬ»
1 Впоследствии сам Лоуелль указывал на поразительное совпадение
полос в спектре Урана и Нептуна со спектром хлорофилла.
* Лекция начинается сравнением деятельности К. А. Тимирязева
с деятельностью фантастического ученого, с которым встретился Гулливер. А. Т.
30
к. А. Тпмугяягв, m. 1
N I
ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА
С ВИЛЛИАМОМ ТИЗЕЛЬТОН-ДАИЕРОМ
1
ПИСЬМО К. А. ТИМИРЯЗЕВА
В. ТИЗЕЛЬТОН-ДАЙЕРУ *
Дорогой сэр
•
«5/III
1912 г.
Виллиам!
В
ы должны были очень дурно обо мне подумать, так как
я сильно запоздал с выражением моей глубокой признательности за честь, оказанную мне Королевским обществом, в чем, я думаю, я в значительной степени обязан
Вам, проявлявшему ко мне дружеские чувства с первого нашего знакомства в мой первый приезд в Англию.
Никогда я не забуду, что благодаря Вам я имел счастье
повидать в течение, увы, только нескольких часов, величайшего
из гениев всех времен**. Позвольте мне передать Вам посланный
* Тизельтон-Дайер—директор ботанического сада в Кью близ Лондона; письмо написано после избрания К. А. Тимирязева в члены Лондонского королевского общества. А. Т.
* * Ч. Дарвина. О свидании К. А. Тимирязева с Ч. Дарвином см.
в сборнике «Наука и демократия», 1920 г. Госиздат, статья «У Дарвина'
в Дауне». А. Т. (см. в настоящем издании том VII. Ред.).
вместе с письмом экземпляр сборника «Памяти Чарлза Дарвина»,
отпечатанный по поводу столетия со дня его рождения и содержащий несколько моих статей... И вот теперь стать членом
славного общества, связанного с именем Ньютона и Дарвина, я
считаю почестью, о которой только может мечтать человек науки.
Сообщение Ваше, что физики особенно сочувствовали моему
избранию, меня глубоко тронуло. Я убежден, что в настоящее
время английские физики идут в первых рядах всей современной
науки*. Я потому могу говорить об этом, не будучи физиком,
что я всегда утверждал и доказывал, что физиология не что иное,
как физика, примененная к биологии.
Мне очень хотелось бы сейчас поехать в Англию и лично
поблагодарить моих старых друзей и новых товарищей, но,
к несчастью, вскоре после моего возвращения из Кэмбриджа
с торжеств в память Дарвина меня постиг удар, и моя левая
рука и нога еще не вполне исправно действуют.
Как бы рад я был поболтать с Вами о современном положении дарвинизма. Я вижу сейчас некоторые тревожные признаки
реакции даже в самой Англии. Они проявляются в растущей
популярности Бэтсона**, в «волне» увлечения Бергсоном и
в прославлении Бутлера. Мы все глубоко огорчены большой
потерей, которую понесла Ваша семья и весь ученый мир.
Я так живо могу себе представить сэра Джозефа***, как я его
видел на съезде во Флоренции в 1874 году, и особенно свежа
в памяти величавая фигура старца на столетнем юбилее со дня
рождения его великого д р у г а * * * * .
Я, моя жена и сын шлют привет Вам, дорогой сэр Виллиам,
и леди Дайер.
Ваш искренно
К.
преданный
ТИМИРЯЗЕВ»
* Здесь К. А . имеет в виду Дж. Томсона, Э. Рудерфорда, лорда
Кельвина, лорда Рейлея и др. А. Т.
* * Бэтсон, возражая Дарвину, выдвигал в противовес ему Менделя,
а теперь утверждает, что в вопросе об эволюции мы ровным счетом ничего
не знаем. См. К. А. Тимирязев. Чарлз Дарвин и его учение, часть I I . Госизд.
1922. А. Т. ( В настоящем издании том V I I . Ред.)
* * * Сэр Джозеф Гукер, друг Дарвина, один из выдающихся ботаников; умер 96 лет от роду. А. Т.
* * * * Джозеф Гукер присутствовал на торжествах в память Дарвина
в Кембридже в 1909 году. А. Т.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. Л. ТИМИРЯЗЕВА
2
ПИСЬМО ВИЛЛИАМА ТИЗЕ ЛЬТОН-ДАЙЕРА
К. А. ТИМИРЯЗЕВУ
Мой дорогой
«161111 1912.
Тимирязев!
Вы не должны думать, что действия Королевского общества
зависят от индивидуальных взглядов его сочленов. Я думаю,
что Совет общества прилагает все старания, чтобы обозреть весь
ученый мир и выбрать тех, кто больше других двинул вперед
естественные науки. Я думаю, Ваше избрание должно было
состояться, если бы даже многие из нас и не имели счастья считать Вас в числе своих друзей. Конечно, все дело в Ваших трудах, значение которых было многими понято уже давно, и можно
только радоваться, что, наконец, они получили должное официальное признание.
Наши физики всегда интересовались биологией, и мне доставило большую радость, что они усиленно поддерживали Вашу
кандидатуру. В этом Вы всего более обязаны Вашей Крунианской
лекции, которая произвела на них очень сильное впечатление.
В Вашем письме Вы напомнили мне о том, какое удовольствие
Вам доставило повидать Чарлза Дарвина. Я сердечно Вам
признателен за очаровательное описание Вашего свидания
с Ч. Дарвином, которое Вы мне прислали. Я могу добавить,
что Вы были единственным человеком, для которого я решился
дать письмо к Дарвину, зная, что состояние его здоровья не
позволяло ему принимать кого бы то ни было. Я только сейчас
узнал от Вас все подробности. Но Дарвин часто после того говорил, какое удовольствие доставила ему встреча и беседа с Вами.
Очень Вам благодарен за сборник «Памяти Дарвина»—
увы, я не знаю русского языка, но мне обещали перевести Ваши
статьи на французский.
Я сейчас занят составлением биографии-некролога сэра
Джозефа Гукера для напечатания в известиях Королевского
общества. Для меня было большим наслаждением окунуться
в воспоминания о том времени, когда он один только вместе
с Лайелем знал о ходе работ Дарвина.
Вы совершенно правы,считая, что у нас в Англии начинается
поход против теории Дарвина. Я считаю, что это объясняется
волной самого грубого идеализма. Я сам идеалист в том смысле,
что я не считаю материализм за окончательное объяснение. Но
в области науки идеализм всегда был бесплоден и зловреден.
Другая причина кроется в непонимании самой теории. Не
нашлось еще такого математического ума, который оценил бы
как следует теорию «естественного отбора». Дарвин сам сравнивал свою теорию с «принципомнаименьшего действия»*. Наравне
с этим принципом, естественный отбор обладает тем свойством,
что, когда его усвоишь, он кажется неизбежным. Философия
Вергсона представляется мне пустыми словами. Бутлера я отказываюсь принимать всерьез. Бэтсон не обладает, как мне кажется, научным складом мышления; он одним скачком делает
выводы, не дав себе труда их хоть как-нибудь доказать. Что касается де-Фриза, то, судя по некоторым работам, он мне кажется
полупомешанным (half cracked).
Я очень был огорчен, узнав, что В а с постиг приступ паралича.
Я надеюсь, что явления эти, в конце концов, исчезнут, хотя
процесс восстановления довольно-таки медленный.
В 1885 году такой же припадок случился с отцом моей жены
(Джозеф Гукер. Ред.); припадки эти повторялись несколько раз,
после чего врачи настояли, чтобы он переехал в деревню.
Это благотворно на него подействовало, и он вполне оправился и был вполне здоров вплоть до самой смерти (1912),
последовавшей внезапно.
Моя жена просит передать Вам и Вашей жене привет. Поклон
Вашему сыну.
Ваиі искренно
ВИЛЛИ
AM
преданный
ТИЗЕЛЬТОН-ДАЙЕР»
* Принцип, лежащий в основе механики в ее наиболее стройном изложении. В настоящее время с помощью этого принципа удается связать
с механикой те области физики, которые, казалось, ей противоречили.
Принцип наименьшего действия ведет свое начало от Гамильтона и Jlarранжа (если не считать Мопертюи). Применение этого принципа к физике
составляет одну из крупнейших заслуг Гельмгольтца. Этим принципом
интересуются в настоящее время все работающие в области теории квантов. А. Т.
»
3
ПИСЬМО ВИЛЛИАМА ТИЗЕЛЬТОН-ДАЙЕРА
К. А. ТИМИРЯЗЕВУ
Мой дорогой
Тимирязев!
«19/111
1912.
Я отправил Вам письмо I 6 / I I I , но после спохватился, что
я, кажется, забыл приклеить марку. Вчера было воскресенье
и почтовое отделение было закрыто. Сегодня же, зайдя на почту,
я узнал, что письмо отправлено. Весьма возможно, чго оно
дойдет до Вас. Простите меня за эту рассеянность и не сочтите
за неучтивый поступок.
Ваш
ВИЛЛИ
A M ТИЗЕЛЬ ТОН-ДА Й ЕВ о
4
ПИСЬМО К . А. ТИМИРЯЗЕВА
ВИЛЛИАМУ ТИЗЕЛЬТОН-ДАЙЕРУ
«Мой дорогой сэр Виллиам!
Я очень рад известить Вас, что оба Ваши письма я получил.
Примите мою благодарность за Ваши добрые и крайне интересные письма. Было бы очень обидно, если бы Ваше первое письмо
затерялось. Я очень рад, что я верно оценил деятельность
Бэтсона и де-Фриза.
Но что В ы скажете о профессоре зоологии* и чиновнике
отдела воспитания по нашему министерству просвещения, который прочел лекцию учащимся средней школы на тему «Два
лжеца — Дарвин и Толстой»?! Посещение этой лекции было
обязательно для учащихся.
Это событие действительно произошло несколько недель тому
назад в Москве.
Последнее время я был занят не совсем обычным для меня
делом—чтением корректур английского перевода моей книги
«Жизнь растения». С великим удовольствием читаю Вашу
статью в «Британской энциклопедии».
Искренно преданный
Вам
К.
ТИМИРЯЗЕВо
* А. А. Тихомиров, бывший попечитель учебного округа. А. Т.
*
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПИСОК
ТРУДОВ
К. А. Т И М И Р Я ЗЕВА
СОСТАВЛЕН
ПО МАТЕРИАЛАМ,
СОБРАННЫМ
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
ИЗДАНИЯ
Р . П. ГАУХМАН
П о д РЕДАКЦИЕЙ
ПРОФЕССОРА
Ф. Н. К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В А
И НАУЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
ВСЕСОЮЗНОЙ
БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ В . И. Л Е Н И Н А
!
ПРИНЯТЫЙ СПИСОК-СОКРАЩЕНИЙ
1. Вестн. Евр.—Вестник Европы. Спб.
2. Ест. и геогр.—Естествознание и география. М.
3. Ж Р Ф Х О — Ж у р н а л русского физико-химического общества.
Спб.
4. Изв. О-ва Люб. Ест., Антр. и Эти.—Известия Общества Любителей Естествознания, Антропологии и Этнографии. М.
5. Изв. Петр. земл. и лесн. Акад.—Известия Петровской земледельческой и лесной академии. М.
6. Ком. Инт.—Коммунистический Интернационал. М . — Л .
7. Летоп.—Летопись. Спб.
8. Мир Б.—Мир Божий. Спб.
9. Науч. Сл.—Научное Слово. Спб.
10. Нов. Сл.—Новое Слово. Спб.
11. ПЗМ—Под Знаменем Марксизма. М.
12. Отеч. Зап.—Отечественные Записки. СПБ.
13. Речи и Отч. МГУ—Речи и Отчеты Московского Университета. М.
14. Рус. Вед.—Русские Ведомости. М.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Рус. Вест.—Русский Вестник. Спб.
Рус. М.—Русская Мысль. М.
Сев. Вест.—Северный Вестник. Спб.
Сов. Бот.—Советская Ботаника. М.
Сын От.—Сын Отечества. Спб.
Тр. . . .
Съезда рус. естест. и вр.—Труды . . .
Съезда
русских естествоиспытателей и врачей. СПБ.
21. Тр. Спб О. Е.—Труды СПБ Общества Естествоиспытателей.
Спб.
22. Фотогр. обозр.—Фотографическое обозрение. М.
23. Ann. de Chim. et de Phys.—Annales de Chimie et de Physique.
Paris.
24. Atti d. Cong. Intern. Botan. Firenze.—Atti del Congresso Internationale Botanico. Firenze.
25. Ber. d. dt. ehem. Ges.—Berichte d. deutschen chemischen
Gesellschaft. Berlin.
26. Botan. Zt.—Botanische Zeitung. Berlin.
27. Bull. Cong. Intern. Bot. St. Peters.—Bulletin du Congres International de Botanique. St. Petersbourg.
28. C. R . Acad. Sc. Paris.—Comptes Rendus de I'Academie des Sciences. Paris.
29. J u s t ' s Botan. Jahrsb.—Just's Botanischer Jahresbericht. Leipzig.
30. Proc. Royal Soc. London.-—Proceedings of the Royal Society.
London.
31. [ ] В квадратных скобках приведены названия, вытекающие
из содержания материала, опубликованного без специального заглавия.
Т Р У Д Ы ПО ВОПРОСАМ
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ,
ЭВОЛЮЦИИ И ДАРВИНИЗМА
И ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
1864.
1. Книга Дарвина, ее критики и комментаторы. Статьи 1—3.—
Отеч. З а п . , 8, 880—912; 10, 650—685; 12, 859—882 (1864).
Первое отдельное изд. этих статей под заглавием: Краткий
очерк теории Дарвина. Спб., 1865.
2-е изд. Чарлз Дарвин и его учение. М., Васильев, 1883.
3-е изд., М., Маракуев, 1894. V, 414 стр., с приложением Наши антидарвинисты.
Это приложение повторялось во всех
послед, изданиях. См. № 11.
4-е изд., М., Маракуев, 1898, 414 стр.
5-е изд., М., Маракуев, 1905, 414 стр.
6-е изд., М., Маракуев, 1908.
- 1-е изд., испр. и доп., М . , Гос. Изд., 1919—1921.
8-е изд., М., Гос. Изд., 1924, 246 стр.
9-е изд., чч. 1—2, М., Гос. Изд., 1924.
10-е изд., М., Гос. Изд., 1925.
1867.
2.
1869.
3.
4.
—
1871.
5.
1872.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1873.
14.
1874.
15.
16.
17.
1875.
18.
11-е изд., М,—Л., Гос. Изд., 1930, 292 стр.
12-е изд., М., Антирел. Изд., 1935, X V I I I , 159 стр., порт.
Прибор для исследования воздушного питания листьев и о применении искусственного освещения к подобного рода
исследованиям. — В кн.: Тр. I Съезда рус. естест. и вр. Спб., 1868.
Отд. ботан., стр. 17 и 74—80.
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М , — Пг., 1923, стр. 195—199.
[Спектральный
анализ хлорофилла.
Результаты
спектрального анализа хлорофилла]. — (В кн.: Тр. II Съезда рус. естест.
и вр. в Москве. 1869. Проток, засед. М., 1869. 7 засед. Ботан.
отд., стр. 1—3 и 23—24).
Тоже. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл.
М,—Пг., 1923, стр. 203.
Ueber die relative Bedeutung von Lichtstrahlen
verschiedener
Brechbarkeit
bei der Kohlensäurezersetzung
in Pflanzen. —
Botan. Zt. X X X I I , I I , 169—175 (1869).
Спектральный анализ хлорофилла.
Рассуждение, представл.
в физ.-мат. фак. для получ. степени магистра ботаники. Спб.,
1871, V I I I , 65 стр.
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М,—Пг., 1923, стр. 205—236.
Автоматический прибор для снабжения растения
углекислотой. — Тр. Спб. О. Е. I I I , 51 (1872).
[Выделение растениями углекислоты
при действии на них
различных лучей окрашенного света]. — Тр. Спб. О. Е . , 3,
проток. X X X V I I (1872).
[Газовая пипетка]. — Ж Р Ф Х О , IV, 308 (1872).
То же. — Eine neue Gaspipete. — Вег. d. dt. Chem. Ges., 5,
1104 (1872).
[Микротом Смита].—Тр. Спб. О. Е. III, проток. LI (1872).
[Микроспектроскоп]. — Тр. Спб. O . E . , I I I , проток. LI (1872).
То же. —- В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М,—Пг., 1923, стр. 290.
[О вероятном значении цинка в экономии растения]. Тр. Спб.
О. Е . , Т. I I I , проток. L (1872).
Об образовавши и разрушении крахмала у Phajus. — Тр. Спб.
О. Е . , т. I I I , X L I X (1872).
Спектр твердого хлорофилла.—ЖРФХО,
отд. хим., 4, 49—
52 (1872).
Eine neue Methode für Spectraluntersuchungen.
— Вег. d. dt.
ehem. Ges. V, 328—329 (1872).
О разложении
угольной кислоты в солнечном спектре. —
Ж Р Ф Х О , отд. I, 5, 7, 354 (1873). Крат, содер. докл.
Новая реакция хлорофилла. — Тр. Спб. О. Е., V, I I , 2 (1874).
Ueber eine neue Beaktion des Chlorophylls.—Just's
Botan. Jahrb.
II, 1 Abt., 767 (1876).
Об оптических свойствах, приобретаемых
аморфной
клетчаткой, вследствие образования
в ней мелких щелей. — Тр.
Спб. О. Е . , V, И, 3 (1874).
Ueber die optischen Eigenschaften
der amorphen Cellulose. —
Just's Botan. Jahrb., II, 1 Abt. 754 (1876).
Термоэлектрические
приборы для определения
температуры
растений. — Тр. Спб. О. Е . , V, I I , 4 (1874).
Об усвоении света растением. I . Критика и метод. — Тр. Спб.
О. Е . , V I , 1—120 (1875).
То же. — Отд. изд. Спб., 1875. 120 стр.
ѣ
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл.
М,—Пг., 1923, стр. 237—290.
19. Опровержение
исследований Прингсгейма над желтыми
растительными пигментами. — Тр. Спб. О. Е., VI, 45—51 (1875).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М. — Пг., 1923, стр. 291—294.
20. Растение, как источник силы. Рус. Вест., 10, 517—548 (1875).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М,—Пг., 1923, стр. 64—87.
То же. — Как приложение ко всем изд. кн.: Жизнь растения.
21. Sur l'action de la lumière dans la décomposition de l'acide carbonique par la granule de chlorophylle.
— Atti d. Cong. Intern.
Botan. Firenze. 1875, 108—114.
То же. — В русском переводе, — в кн.: Публичные лекции
и речи. М., 1888, стр. 55—62.
То же.—В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл.
М.—Пг., 1923, стр. 119—124.
1877. 22. Жизнь растения. — Рус. Вест., 7, 288—336; 8, 753—777;
9, 291—337; 11, 254—305 (1876); 2, 623—645; 12, 413—441 (1877).
Первоначальный неоконченный текст книги Жизнь
растения,
вышедшей отд. изд. — М . , А. Калужский, 1878.
То же. — Изд. 2-е. М., А. Васильев, 1883, 330 стр.
(В данном издании имеются примечания автора на стр. 222—
230). С приложением лекции Растение, как источник силы.
То же. — Изд. 3-е. М., Маракуев
и Прянишников,
1894.
То же. — Изд. 4-е. М., Маракуев, 1896.
То же. — Изд. 5-е. М., 1898.
То же. — Изд. 6-е. М., Сабашниковы, 1905, 348 стр.
То же. — Изд. 7-е. М., Сабашниковы, 1908, 348 стр.
То же. — Изд. 8-е. М., Сабашниковы, 1914, X X V I I , 360 стр.
То же. — Изд. 9-е. М., Гос. Изд., 1920. X X I V , 319 стр.
То же. — Изд. 10-е. М., Гос. Изд., 1924, 360 стр.
То же. — Изд. 11-е. М., Гос. Изд., 1925, 360 стр.
То же. — Изд. 12-е. М. — Л . , Сельхозгиз, 1936, 335 стр.
23. Recherches sur la décomposition
de l'acide carbonique
dans le
spectre solaire par les parties
vertes des végétaux. — Ann. de
Chim. et d. Phys., 5 sèr., 12, 355—396 (1877).
24. Sur la' décomposition
de l'acide
carbonique dans le spectre solaire par les parties vertes des végétaux. Note. — C. R . Acad.
Sc., Paris, 5 sèr., 84, 1236—1239 (1877).
То же. — Рефер. в «Journ. Pharm.» 27, 394—396 (1878).
To же. — В русском переводе, — в кн.: Тимирязев, К. А.
Солнце, жизнь и хлорофилл. М.—Пг., 1923, стр. 308—309.
25. Sur la chlorophylle.— Act. Congr. Bot. Amsterdam, 161—163
(1877).
1878. 26. Дарвин, как тип ученого. Публичная лекция в Моск. Унив.
2 апреля 1878. М., 34 стр. (1878).
То же.—
В кн.: Тимирязев, К. А. Некоторые основные задачи
современного естествознания. Изд. 1, М., 1895, стр. 64—114.
27. Основные задачи физиологии растений. Речь, произнесенная
на публичном акте Петровской Академии 21 ноября 1878 г. —
Изв. Петр. Акад., 1, 3, отд. неофиц. 1—20 (1878).
То же. -— В кн.: Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного естествознания. М., 1908, стр. 159—189.
1879 — 28. Новый метод для изучения процесса дыхания и разложения
—1880.
углекислоты растений. (В кн.: Речи и протоколы VI Съезда
рус. естест. и вр. в Спб. 1879. Спб., 1880, 2-й отд., стр. 8—9).
29. Количественный, анализ хлорофилла.
— (В кн.: Речи и проток.
VI Съезда рус. естест. и вр. в Спб. 1879. Спб., .1880, 2-й отд.,
стр. 37—38).
30. Объективное изучение закона абсорбции и количественное
изучение смесей двух хлорофилловых пигментов. —• (В кн.: Речи и
проток. VI съезда рус. естест. и вр. в Спб. 1879. Спб., 1880,
2-й отд., стр. 38).
31. Клейковина,
как материал для осмотических
исследований.
(В кн.: Речи и проток. VI Съезда рус. естест. и вр. в Спб.,
1879. Спб., 1880, отд. 2-й, стр. 38—39).
32. О методах спектрального исследования
в применении к хлорофиллу. —• (В кн.: Речи и отчеты VI Съезда рус. естест. и
вр. в Спб., 1879. Спб., 1880, 2 отд., стр. 37).
То же. — В кн.: Тимирязев, К . А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М , — Пг., 1923, стр. 290—291.
33. О физиологическом
значении
хлорофилла.—(В
кн.: Речи и
проток. VI Съезда естест. и вр. в Спб., 1879, Спб., 1880, отд. I,
стр. 58—73).
То же. —- В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл.
М,—Пг., 1923, стр. 125—136.
1881. 34. О количестве полезной работы, производимой зеленым листом.—
Изв. О-ва Люб. Ест., Автр. иЭтн., 41, I. Тр. Отд. физ. наук,
I, 1, 27—29 (1881).
35. Разбор теории Прингсгейма о физиологическом значении хлорофилла. •— Изв. Петр. земл. и лесн. Акад., IV, 1, отд. неоф.,
1—14 (1881).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл.
М.—Пг., 1923, стр. 294—301.
1882. 36. О количестве полезной работы, производимой
хлорофиллом.—
Тр. Спб. О. Е . , X I I I , прот. 9—10 Д882).
37. От каких лучей зависит разложение
угольной кислоты в растении,— Тр. Спб. О. Е . , X I I I , I , прот., 10—11 (1882).
38. Действие электрического света на растение. Речь, читанная
в годичном заседании Музея прикладных знаний в 1882 году.
Отчеты Муз. прикл. знаний (1882).
То же. — В сб. Тимирязева: «Пуоличные лекции и речи.»
М., 1888, стр. 131—142.
То же. —-С измененным заглавием: Экономическое
значение
электрического
света для культуры
растений в сборнике
«Земледелие и физиология \эа>5тений». М., 1906, стр. 110—
124.
N.
То же. — С измененным заглавием Возможна ли
культура
при электрическом
свете в сб.: «Земледелие и физиология
растений». М., 1920, стр. 301—312.
1883. 39. О демонстрации
физиологических опытов.— Тр. Спб. О. Е . ,
X I I I , I, проток., 11 (1883). Краткое сообщение.
40. Солнечная энергия и хлорофилл. — Т р . Спб. O . E . , X I I I , 11,
135—136 (1883).
41. La distribution
de l'énergie dans le spectre solaire et la chlorophylle. — C. R . Acad. Se. Paris, 96, 375—376 (1883).
То же — в русском п е р е в о д е . — В кн.: Тимирязев, К. А.
Солнце, жизнь и хлорофилл. М.—Пг., 1923, стр. 310.
1884. 42. Зависимость
фотохимических явлений от амплитуды
световой волны. — ЖРФХО, X V I , ч. хим., отд. 1, 406—412
(1884).
То же. — Изв. Петр. земл. и лесн. Акад., VII, 2, отд. неоф.,
219—225 (1884).
43.
44.
45.
1885.
46.
47.
48.
1886.
49.
50.
51.
52.
1887.
53.
54.
То же. — В кн.: Тимирязев, К . А. Солнце, жизнь и хлорофилл.
М , — П г . , 1923, стр. 302—304.
Растение и солнечная энергия. — Изв. О-ва Люб. Е с т . , Антр.
и Этн., 41, 2. Тр. отд. физ. наук. 2, 30—31 (1884). Рефер.
докл.
L'état
actuel de nos connaissantes
sur la fonction
chlorophyllienne.
Речь, читанная в общем собрании международного
конгресса ботаников в Спб., в мае 1884. — Bullet. Congr.
Intern, de Botan. et d'Horticult â St. Pétersb., 103—134 (1884).
To же. — Современное состояние наших сведений о функции
хлорофилла.
—- (В кн. Публичные лекции и речи. М., 1888,
стр. 82—112).
То же. — В кн.: Тимирязев, К . А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М,—Пг., 1923, стр. 137—154.
Общественные задачи ученых обществ. — Рус. М., 4, 264—288 (1884).
То же. — В кн.: Тимирязев. Публичные лекции и речи. М.,
1884, стр. 1—26.
То же. — В кн.: Некоторые основные задачи современного
естествознания. М., 1895, стр. 23—63 и в последующих изд.
См. № 79.
Colourless chlorophyll.
— Nature, 32, 342 (1885).
То же. — В кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл. М.—Пг., 1923,
стр. 315.
Effet chimique
et effet physiologique
de la lumière sur la chlorophylle. — C. R. Acad. S c . , P a r i s , 100, 851—854 (1885).
То же. —- В кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл. М.—Пг., 1923,
стр. 311.
Растение — сфинкс. — Лекция, читанная в Политехи, музее
весной 1885 г. (В кн.: Публичные лекции и речи. М., 1888,
стр. 209—229).
Полвека опытных станций. С прилож. пояснительной записки
к проекту ботанической станции в первом Александровском
саду. М., 1886, 26 стр.
То же. — В кн.: Земледелие и физиология растений. М.,
1906, стр. 81—100 и в след. изд.
Пояснительная
записка
к проекту
ботанической
станции
в первом Александровском
саду. — (В кн.: Полвека опытных
станций. М., 1886, 18—26).
То же. — В кн.: Земледелие и физиология растений. М.,
1906, стр. 101—109.
Chlorophyll.
— Nature, 34, 52 (1886).
То же. —• В кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл. М.—Пг., 1923,
стр. 316 (автоперевод).
La chlorophylle
et la réduction
de l'acide carbonique
par les
végétaux.—C.
R . Acad. S c . , Paris. 102, 686—689 (1886).
То же. — В кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл. М.—-Пг., 1923,
стр. 313 (перевод).
Опровергнут ли дарвинизм. —• Рус. М., 5, 2-й отд., стр. 145—
180; 6, 2-й отд., 1—14 (1887). См. № 77.
Жан Батист
Буссенго.
(Биографический очерк и личные
воспоминания). Лекция, читанная в Вотан.
Отд. Общ.
Любит. Естеств., Антр. и Этн. осенью 1887 г. В сб. Тимирязева: Земледелие и физиология растений. М., 1906, стр.
33—45.
То же. —• В таком же сб. изд. 2-е, 1920 г. и в последующих изд.
1888.
ч
9
55. Публичные лекции и речи. — М . , 1888, 286 стр.
Перед загл.: Из области физиологии растений.
Содержание:
1. Общественные задачи ученых обществ.
2. Основные задачи физиологии
растений.
3. Действие света на хлорофилловое
зерно.
4. О физиологическом значении
хлорофилла.
5. Современное состояние наших сведений о функции хлорофилла.
6. Полвека опытных
станций.
7. Действие электрического света на растение.
8. -Опровергнут ли
дарвинизм.
9. Растение — сфинкс.
10. Растение и солнечная
энергия.
1889. 56. Бессильная злоба антидарвиниста.
(По поводу статьи Страхова: «Всегдашние ошибки дарвинистов».) -— Рус. М., 5,
2-й отд., 17—52; 6, 2-й отд., 65—82; 7, 2-й отд., 58—78 (1889).
То же. — Отд. изд. М., 1889. 73 стр. См. № 77.
То же. — Приложение к к н . : Чарлз Дарвин.
57. Странный образчик научной критики. (По поводу статьи Фаминцына: «Опровергнут ли дарвинизм г. Данилевским»),—
Рус. М., 3, 2-й отд., 90—102 (1889).
58. La protophylline dans les plantes étiolées. — C. R . Acad. Sc.,
Paris, 109, 414—416 (1889).
То же. — Русский перевод в кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл.
М,—Пг., 1923, стр. 317.
59. Sur le rapport entre l'intensité
des radiations
solaires
et h
décomposition
de l'acide
carbonique par les végétaux. -— C. R.
Acad. Sc., Paris, 109, 379—382 (1889).
То же. •— Русский перевод в кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл.
М,—Пг., 1923, стр. 321.
1890. 60. О зависимости усвоения света растениями от его
напряжения.—
В кн.: VIII Съезд рус. естест. и вр. СПБ, 1890. Отд. Ботан.,
стр. 12). Кратк. содерж. докл.
61. Факторы органической эволюции. — (В кн.: V I I I Съезд рус.
естест. и вр. СПБ, 1890, общ. отд., стр. 62—69).
То же. — В кн.: «Дневник Съезда». Приложение к № 10 «Дневника», стр. 11—18.
То же. — В жури.: «Рус. Мысль», 3, 2-й отд., 94—120 (1890).
То же. — В кн.: Клебс, Г . Произвольное изменение растительных форм. М., 1905, стр. 152—183.
То же. — В кн.: Насущные задачи современного естествознания. М., 1908, стр. 118—158.
То же. — В кн.: Философия науки, естест. и научные основы
материализма. Ч. 2. Биология, М., 1924, стр. 79—105.
62. Физико-химические условия разложения
углекислоты в растении.—ЖРФХО,
ч. химич. X X I I , отд. I, 306—310 (1890).
63. Enregistrement photographique de la fonction chlorophyllienne
par la plante vivante. — C. R . Aoad. Sc., Paris, 110, 1346—1347
(1890).
То же. — Русский перевод в кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл.
М,—Пг., 1923, стр. 323.
1891. 64. Земледелие и физиология растений.
Новейшее исследование
о происхождении азота растений. •—Сев. Вест., I, 229—245;
2, 239—259 (1891).
То же. — Отд. изд. М., 1893. Под загл. Происхождение
азота
растений. Два издания в один год — в 73 стр. и в 87 стр.
»
65. О соотношении между поглощением
света и его химическим
действием.—Изв.
О-ва Люб. Ест., Антр. и Энт., 73, I. Тр.
отд. физ. наук, 4, 2, стр. 5 (1891). Реф. доклада.
66. Пародия науки,— М., 1891, 15 стр.
67. Фотографическое
изображение
самим растением функций хлорофилла. — Тр. Спб. О. Е . , X X I . Отд. Ботан., 14—15 (1891).
1892
68. Борьба растений с засухою. — Сев. Вест. 8, 2-й отд., 1—33
(1892).
То же. — О т д . изд. М., 1893. Два издания в один год —
в 64 стр. и в 88 стр. Перед загл.: Земледелие и физиология
растений.
То же. — Изд. 2-е. М,—Л., Гос. Изд., 1923.
69. Исторический
метод в биологии.
I—VI, — Р у с . М., 1892 —
1895. См. также № 120.
I. Постановка задачи. Запросы морфологии. —8, 2-й отд.,
83—99 (1892).
I I . Вопросы физиологии. — 10, 2-й отд., 142—163 (1892).
I I I . Что препятствовало и что способствовало успехам исторической идеи в биологии. — 8 , 2-й отд., 39—58 (1893).
IV. Отвлеченное понятие или реальный факт. — 6, 2-й отд.,
81—95 (1894).
V. Объяснение современного строя органического мира и его
исторического прошлого существующими причинами. — 7,
2-й отд., 90—101 (1894).
VI. Разрешение морфологической задачи.— 7, 2-й отд., 72—89
(1895).
70. Памяти П. Ф. Маевского. — Р у с . М., 6., 2-й отд., 205—208
(1892).
1893. 71. Газовый обмен в корневых желвачках бобовых растений. — Т р .
Спб. О. Е . , X X I I I . Отд. Бот., проток., стр. 35—36 (1893).
72. Зависимость разложения
углекислоты в растении от качества
и напряжения света. — Тр. Спб. Ѳ. Е., X X I I I . Отд. Бот., проток., 36—37 (1893).
Земледелие и физиология растения. Чч. К—II, М., Прянишников и Маракуев, 1893. См. № 64, 68.
Борьба растения с засухой. Ч. I. 88 стр.
Происхождение
азота растений.
Ч. II. 87 стр.
73. Несколько слов по поводу «пантоскопа» проф. JI. 3.
Мороховца,—
Изв. О-ва Люб) Ест., Антр. и Этн., 78, 2. Тр. отд. физ. наук,
5, 2, 4—5 (1893).
71. Фотохимическое действие крайних лучей видимого
спектра.—
Изв. О-ва Люб. Ест., Антр. и Этн., 78, 2, Тр. Отд. физ. наук,
5, 2, 1—3 (1893).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл,
V
М,—Пг., 1923, с-гр. 305—307.
1891. 75. Праздник
русской науки. Речь, читан, на 1-м общ. засед.
9-го Съезда рус. естест. и вр. — (В кн.: Дневник 9-го Съезда
рус. естест. и вр., М. 1894. Прилож. к № 9, стр. 1—10).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Некоторые основные задачи
современного естествознания. М., 1895, стр. 1—22 и в последующ. изд.
76. Витализм и наука. — Р у с . М., 11, 2-й отд., 155—169 (1894).
То же. —- В кн.: Тимирязев, К. А. Некоторые основные задачи
современного естествознания. М., 1895, стр. 260—291 и в последующ. изд.
77. Наши антидарвинисты. — В кн.: Тимирязев, К. А., Чарлз
Дарвин и его учение. Изд. 3-е., М., 1894 и последующ, изд.
31
К. А. Тимирязев,
т. I
481
Под этим заголовком напечатаны статьи, появивш. в «Рус.
Мысли» 1) за 1887: «Опровергнут ли дарвинизм» и 2) за 1889:
«Бессильная злоба антидарвиниста». См. № 53 и 56.
78. [Ответ Селиванову]. — Тр. Спб. О. Е, X X I V , проток. 16 дек.
1892 г . , стр. 35—37 (1894).
1895. 79. Некоторые основные задачи современного естествознания.
П}'бличные речи. М., Маракуев, 1895. XV, 291 стр.
Содержание:
1. Праздник русской науки.
2. Общественные задачи ученых обществ.
3. Чарлз Дарвин, как тип ученого.
4. Эволюция и этика.
5. Факторы органической
эволюции.
6. Основные задачи физиологии
растений.
7. Витализм и наука.
То же. — Изд. 2-е под заглавием:
Насущные задачи современного естествознания. М., Маракуев,
1904. X X X V I I I , 542 стр.
К вышеперечисленным статьям были прибавлены следующие:
8. Дарвинизм перед судом философии и
нравственности.
9. Луи Пастер.
10. Фотография и чувство
природы.
11. Павел Антонович
Ильенков.
12. Александр Григорьевич
Столетов.
13. М. Бертло.
14.Столетние итоги физиологии
растений.
То же. — Изд. 3-е, М., Маракуев. 1908. X X X V I I I , 514 стр.
К вышеперечисленным статьям были добавлены следующие:
15. Наука и обязанности гражданина.Перевод
из К. Пирсона.
16. Расширение области наших чувственных
восприятий.
17. Творчество природы и творчество
человека.
18. От дела к слову — от зверя к человеку.
19. Антиметафизик.
Перевод лекции Л. Больцмана.
20. По поводу одного тезиса
Шопенгауэра.
То же. — Изд. 4-е. М.—Пг. «Книга», 1923. 234 стр., портр., с
включением статьи Естествознание
и ландшафт.
80. Луи Пастер. — Нов. Сл., 2, 171—201 (1895).
То же. — М., Гроссман и Киебель, 1896. 64 стр.(Вопросы науки,
искусства, литературы и жизни).
То же. — В сб.: .Насущные вопросы современного естествознания. М., 1904, стр. 322—373 и в след. изд.
•
То же. — М. — П . , Гос. изд., 1923, стр. 20—70. Популярнонаучн. библ. № 62. См. также № 117.
81. La protophylline naturelle et la protophylline artificielle
— C. R.
Acad. Sc., Paris., 210, 467—470 (1895).
То же — в русском переводе в кн.: Солнце, жизнь и хлорофилл. М. — ІІг., 1923, стр. 319.
1S96. 82. Значение
переворота, произведенного
в современном
естествознании Дарвином. — (В кн.: Дарвин, Ч. Сочинения. T. I ,
ч. 2. М., Попова, 1896, стр. 1—10).
То же. •— В кн.: Дарвин, Ч. Иллюстрированное собрание сочинений, T. I, М., Лепковекий, 1907, стр. V I I — X V I .
То же.— В кн.: Дарвин, Ч. Полное собрание сочинений,
T. I, М,—Л., Гос. изд., 1925, стр. VII—XVI.
83. Несколько слов о фотографировании
растений. — Фотогр.
обозр. 3, 118—121 (1896).
84. Опытная станция министерства
земледелия на Всероссийской
выставке в H .-Новгороде.
— Хозяин, 35, 616-—621 (1896).
То же. — Отд. изд. Спб., 1896, 16 стр.
То же. — В кн.: Земледелие и физиология растений. М., 1906,
стр. 252—269 и в следующих ее изд.
1897. 85. Растение
и солнечная энергия.—М.,
Гроссман и Кнебель.
1897. 91 стр. *
То же.—М.,
Наркомирос, 1918. 91 стр. С добавлением —
Список не русских слов, упоминаемых в книге ученых, — составленный К. А. Тимирязевым, стр. 87—91.
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл. М.—Л., 1923, стр. 25—63 (без списка не русских слов).
86. Фотография природы и фотография в природе. — Ест. и Геогр.
1, 3, 1—16 (1897).
87. Фотография
и чувство природы. •— (В сб.: Братская помощь
Армянам. М., 1897, стр. 228—236).
То же. —Изд. 2-е, М., 1898, стр. 225—255.
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного естествознания. М., 1904, стр. 374—398 и 1908, стр. 275—
288.
1898. 88. Ответ проф. К. А. Тимирязева на открытое письмо академика
А. С. Фаминцына. — Рус. Вед., 247 (1898).
То же. — В журн.: «Мир Б.», 2, 2-й отд., 61—62 (1898).
89. Физиология растений, как основа рационального земледелия. —
Мир Б . , I, 128—159 (1898).
То же. —- В кн.: Земледелие и физиология растений, изд. 1.
М., 1906 и след. изд.
1900. 90. Chlorophyll
a sensitiser.—Nature,
62, 102—103 (1900).
То же. — В русском переводе см. первый том, переписку
с Г . Брауном.
1901. 91. Столетние итоги физиологии растений. Актовая речь в Московском университете 12 января 1901 г. — (В кн.: Речь и отчет
М Г У за 1900. М., 1901, стр. 1—46).
То же. — В журн. Рус. M., I I , 2-й отд., 180—211 (1901).
То же. — Отд. изд. М., 1901. 68 стр.
То же. — Речь, произнесенная на годичном акте Московского
университета
12 января 1901 г. (под заглавием «Столетние
итоги физиологии растений»). — Ест. и Геогр., 3 (1901).
То же. — Отд. изд. М., 1902. 64 стр.
То же. — В кн.: Насущные задачи современного естествознания. М., Маракуев, 1904, стр. 474—542 и изд. 1908 г.
То же. — Отд. изд. М., 1918, 78 стр.
1903. 92. The cosmical function of the green plant.— Croonian
Lecture.—
Proc. Royal Soc. London, 72, 424—461 (1903).
1904. 93. Космическая роль растения. — Науч. Сл., 3, 31—77 (1904).
То же. В кн.: Тимирязев, К. А. Солнце, жизнь и хлорофилл,
М,—Пг., 1923, стр. 155—191.
* В очерке «Растение и солнечная энергия» соединены К. А. Тимирязевым две публичные лекции. Одна была читана весной 1883 г. и была озаглавлена «Круговорот углерода в природе» (по поводу столетия этого открытия); другая — в марте 1886 г., -— озаглавленная «Почему и зачем растение зелено».
В таком соединении они вошли в сборник «Публичные лекции и речи».
М., 1888,. были изданы отдельно Гроссман и Кнебель, М., 1897 и Наркомпросом, 1918; они вошли также в сборник «Солнце, жизнь и хлорофилл»,
1923. Ред.
Первоначально было напечатано по-английски в Proceed, of the
Royal Soc. London, 72 (1903), см. № 92.
94. Насущные задачи современного естествознания.
Рус. М., 4.
2-й отд., 196—209 (1904). (См. № 79.)
95. Каким требованиям должны удовлетворять диссертации
на
степень доктора. — М., 1904, 12 стр.
1906. 96. Земледелие и физиология растений. •— М., Маракуев. 1906.
V I I I , 352 стр. *
Содержание 1-го изд. 1906 г . :
Предисловие
1. Наука и земледелец.
2. Жан Батист
Буссенго.
3. Лен.
4. Полвека опытных
станций.
5. Экономическое значение электрического света для культуры
растений.
6. Борьба растения с засухой.
7. Происхождение
азота
растений.
8. Опытная станция на выставке в
Нижнем-Новгороде.
9. Физиология растений, как основа разумного
земледелия.
10. Точно ли человечеству грозит близкая гибель.
В последующих изданиях этого сборника к вышеперечисленным статьям прибавлены следующие:
11. Основы разумного удобрения.
(Перевод К. Тимирязевым
статьи П. Вагнера).
12. Наглядные приемы изучения физиологии листа.
13. Новая победа науки над природой.
То же. — Изд. 2-е, М., Гос. Изд., 1920. VIII, 352 стр.
Тоже.
— Изд. 3-е, М., Гос. Изд., 1924, 259—VI стр.
То же. — Изд. 4-е. М,—Л., Гос. Изд., 1926, 384 стр.
97. Наука и земледелец.—Рус.
Вед., 21—22 (1906).
То же. — Отд. изд. М., 1906.
То же. •— В кн.: Тимирязев, К. А. Земледелие и физиология
растений. М., 1906, стр. 9—45 и в следующих изданиях 1920,
1924 и 1926 гг.
1907. 98. Основные черты истории развития биологии в XIX веке. —
(В кн.: История X I X в. Под ред. Лависа и Рамбо, т. 7. Приложение. М., Гранат, 1907, стр. 288—344).
То же. Отд. изд. М., Гранат, 1908, 119 стр.
То же. — М., 1920, 96 стр.
То же. — В кн.: Таннери, Поль. Исторический очерк развития
естествознания в Е в р о п е . — М . — Л . , 1934, стр. 237—291.
99. Пробуждение
естествознания
в третьей
четверти
века.
(В кн.: История России в X I X веке. Т. 7, в. 26. М., Гранат
1907, стр. 1—30).
То же. — С измененным заглавием: Развитие
естествознания
в России в эпоху 60-х годов. М., Гранат, 1920, 58 стр.
* Под заголовком «Земледелие и физиология растений» К. А. Тимирязев первоначально объединил две свои публичные лекции: одну, прочитанную в Москве 17 декабря 1890 г., — Происхождение азота растений,
другую, читанную в Москве 16 марта 1892 г., — Борьба растения с засухой.
Они были изданы II. К. Прянишниковым и Маракуевым, М., 1893,
причем в один год разошлись два издания, и кроме того Гос. Изд., 1923 г.
В 1906 г. под этим заголовком был издан сборник сначала из
10 статей, а впоследствии в нескольких изданиях из 13 статей. Ред.
1908. 99а. Дарвинизм
перед судом философии и нравственности.
Отрывок
из лекции: «Опровергнут ли дарвииизм», см. № 53. — (В кн.:
Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного естествознания. М., 1904, стр. 293—321 и следующие издания).
100. Пятидесятилетний
юбилей
дарвинизма. — Рус. Вед., 140
(1908).
1909. 101. Дарвин и современная наука. — Рус. Вед., 121 (1909).
102. Жан Сенебье — основатель физиологии растений. — Рус. Вед.,
161 (1909).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Столетние итоги физиологии растений, М., 1918. С добавлением: Жан Сенебье — основатель физиологии растений, стр. 53—65, и Список не русских
слов, составленный К. А. Тимирязевым, стр. 67—78. Лит. изд.
отд. Наркомпроса, М., 1918.
103 Наглядные приемы изучения физиологии листа. Читано в заседании Общества испытателей природы 17 сентября 1909 г.,
стр. 1—13, см. протокол Общества.
То owe. -— В сб.: Земледелие и физиология растений, М., 1920,
стр. 257—271 и в след. его изд. 1924 и 1926 гг.
104. Кембридж и Дарвин (Из воспоминаний о празднествах 22—
24 июня). — Вестн. Евр., X I , 238—263; X I I , 682—706 (1909).
То же. — В сб.: Памяти Дарвина, М., 1910, стр. 49—96.
105. Пятидесятилетний
юбилей дарвинизма. — (В кн.: Дарвин, Ч.
Иллюстрир. собран, сочинений. Изд. Лепковского. Т. 8. Приложение. М., 1909, стр. 167—173).
106. У Дарвина в Дауне. — Рус. Вед., 24—25 (1909).
То же.—В
сб.: Памяти Дарвина, М., 1910, стр. 97—111.
107. Lines of force and chemical action of light. — N a t u r e , 82, 67
(1909).
To же. Линии сил и химическое действие света. См. т. II настоящего издания.
108. Чарлз Дарвин.
12/11—1809—12/11—1909. — Вестн. Евр., 2,
781—804 (1909). [Полувековые итоги дарвинизма].
То же. — В сб.: Памяти Дарвина. М., 1910, стр. 16—37.
Тоже. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия, М..—Л.,
1920, стр. 108—132.
1910. 109. Краткий очерк жизни Чарлза Дарвина. — (В сб.: Памяти Дарвина, М., 1910, стр. 8—15).
110. Первый юбилей дарвинизма. — (В сб.: Памяти Дарвина, М.,
1910, стр. 38—48).
1912. 111. Новое
научно-художественное
произведение.
(Мензбир, М.
Зоогеографический атлас). — Вестн. Евр., 3, 340—345 (1912).
1913. 112. Из научной летописи 1912г. —Вестн. Евр., 3, 317—334, 5,
267—283 (1913).
То же. — (В кн.: Тимирязев, К. А. Чарлз Дарвин и его учение.
7-е изд., ч. II, М., 1921, стр. 189—225). См. № 123, 124.
ИЗ. Отбой менделъянцев. (Из научной летописи 1912 г.). — Вестн.
Е в р . , 5, 267—283 (1913).
114. Отповедь виталистам. (Из научн. летописи 1912 г.). — Вестн.
Е в р . , 3, 317—334 (1913).
115. A possible
physical Aspect of the trichromatic Vision
Theory.—
Moscow, 1913, 12 стр.
1915. 116. Успехи ботаники в XX веке. —• [В кн.: История нашего времени. Под ред. М. Ковалевского и К. Тимирязева. T. VI, в. 23.
М., Гранат, б. г. (1915), стр. 1—41].
То же. — Отд. изд., М., Гос. Изд., 1921. 49 стр. Под загл.:
«Главнейшие успехи ботаники в начале X X столетия».
1918. 117. Значение науки (Jlyu Пастер). — Л . , Лит.-изд. отд. Наркомпроса, 1918, 56 стр. С добавлением: Разъяснение не русских
слов, составленное К. А. Тимирязевым, стр. 51—56.
То же. — Гос. изд., М., 1922, 54 стр. См. также № 80.
118. Список не русских слов. Прил. к кн.: Столетние итоги физиологии растений, стр. 67—78. См. № 91.
1920. 119. Ч. Дарвин и К. Маркс. — (В кн.: Тимирязев, К. А. Наука
и демократия. М., 1920, стр. 464—475).
120. Наука. Очерк развития естествознания
за три века (1620—
1920). — В кн.: Энц. Словарь Граната, 7-е изд., т. 30, стр. 1—53.
То же. — М., Гос. Изд., 1920, 64 стр.
Развитие
естествознания
в эпоху 60-х годов.
М., Гранат,
1920. 58 стр. См. № 99.
1922. 121. Исторический метод в биологии. Десять общедоступных лекций. — М., Гранат, 1922, 193 стр. См. № 69.
(6 первых лекций первоначально были напечатаны в «Рус.
Мысли» за 1892—1895 гг. См. № 78. Остальные четыре лекции—
впервые).
1923. 122. Солнце, жизнь и хлорофилл.
Сборник исследований, речей
и лекций 1868—1920. — М. — Пг. Гос. Изд., 1923. 323 стр.
Содержание:
1.
Предисловие.
2. Растение и солнечная энергия. (Круговорот углерода. Почему и зачем растение зелено. 47—63).
3. Растение, как источник силы.
4. Растение — сфинкс.
5. Фотография природы и фотография в природе.
6. Действие света на хлорофилловое
зерно.
7. О физиологическом значениии
хлорофилла.
8. Современное состояние наших сведений о функции хлорофилла.
9. Космическая роль
растения.
10. Прибор для исследования воздушного питания листьев и
применения искусственного
освещения к исследованию
подобного
рода.
•11. О значении лучей различной
преломляемости в процессе
разложения
углекислоты
растениями.
12. Спектральное исследование
хлорофилла.
13. Спектральный анализ
хлорофилла.
14. Об усвоении света
растением.
15. О микроспектре.
16. О методах спектрального
исследования в применении к
хлорофиллу.
17. Опровержение
исследований Прингсгейма над желтыми
растительными
пигментами.
18. Разбор теории Прингсгейма о физиологическом
значении
хлорофилла.
19. Зависимость фотохимических явлений от
амплитуды
световой волны.
20. Фотохимическое действие крайних лучей видимого спектра.
21. О разложении углекислоты зелеными частями
растений
в солнечном спектре.
22. Распределение энергии в солнечном спектре и хлорофилл.
23. Химическое и физиологическое действие света на хлорофилл.
24. Искусственный протофиллин.
(Хлорофилл и разложение
углекислоты растениями).
25. Бесцветный
хлорофилл.
1937. 123.
26. Восстановленный
хлорофилл.
27. Протофиллин в живом
растении.
28. Протофиллин естественный и протофиллин
искусственный.
29. Зависимость усвоения углерода от интенсивности
света.
30. Фотографическая регистрация
усвоения углерода
хлорофиллом на живом
растении.
Дарвинизм
и селекция. Избранные статьи. Сборник с предисловием и под редакцией акад. В. JI. Комарова. М.—Л.,
Сельхозгиз, 1937, 158 стр.
Содержание:
Дарвин.
Изменчивость.
Наследственность.
Отбор
естественный.
Селекция.
Жордан.
Ламарк.
Мендель.
«Из научной летописи».
Отрывок из статьи «Сезон научных съездов».
Отбой менделъянцев.
Из летописи науки за ужасный
год.
I. Наука у антиподов и антиподы
науки.
I I . Ответ из третьей части света.
Факторы органической
эволюции.
II
СТАТЬИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ВОПРОСАМ
И ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ РАЗНЫХ ЛИЦ
1862.
1863.
1878.
1887.
1896.
1898.
1. Гарибальди
на Капрере. — Отеч. Зап., 8, 2-й отд., 193—212
(18621 [Статья анонимна].
2. Голод в Ланкашире. — Отеч. Зап., 4, 449—474 (1863). Статья
анонимна.
3. Павел Антонович Ильенков. (Некролог.) Ж Р Ф Х О , 10, 1 отд.,
12—31 (1878).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного естествознания. М., 1908, стр. 289—304.
4. Вынужденное
объяснение. — Рус. Вед., 83 (1887).
5. Александр Григорьевич Столетов (1839—1896). — Р у с . М., И,
2-й отд., 262—280 (1896).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного естествознания. М., 1908, стр. 305—333.
6. Письмо в редакцию. — Хозяин, 4, стр. 70 (1876).
<
(По поводу статистических данных Нижегородской сельскохозяйств. выставки, 1905).
7. Точно ли человечеству грозит близкая гибель. — Рус. Вед,, 28
(1898).
1899.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1911.
1912.
1918.
8. Точно ли человечеству грозит близкая гибель. — Рус. М., 3,
2-й отд., 154—177 (1899).
То же. — Отд. изд. М., 1899, 47 стр.
9. Творчество природы и творчество человека. (В сб.: «Помощь
евреям, пострадавшим от неурожая». Спб., 1903, стр. 60—65).
То же. В кн.: Насущные задачи современного естествознания. М., 1908, стр. 426—435.
10. Академическая
свобода, Мысли вслух старого
профессора.—Рус. Вед., 330 (1904).
То же. — В кн.: Наука и демократия. М., 1920, стр. 1—12.
11. Как замещаются у нас кафедры. — Сын От., 4 (1905).
12. На пороге обновленного университета.—Рус.
Вед., 252 (1905).
То же. — В кн.: Наука и демократия. М., 1920, стр. 22—30.
13. 1855—1905. По поводу отмененного юбилея.—Рус.
Вед., 12
(1905).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 13—21. (ІІодзагл.: Полвека. 1855—1905. ГІо поводу
отмененного юбилея.)
14. Новая победа науки над природой. — Рус. Вед., 141 (1906).
То же. — В ' к н . : Тимирязев, К. А. Наука и демократия, М.,
1920, стр. 31—36.
15. От дела к слову — от зверя к человеку. Размышления человека
перед избирательной урной. -—Рус. Вед., 253 (1907).
То же. — В кн.: Наука и демократия. М., 1920, стр. 37—41.
16. Возможна ли жизнь на других планетах. — Рус. Вед., 278
(1908).
17. Возможна ли жизнь на Марсе. — Рус. Вед., 37 (1909).
18. Марс, как обиталище жизни. — Вестн. Евр., V, 338 (1909).
19. Владимир
Федорович Лугинин. — Р у с . Вед., 238 (1911).
20. Год итогов и поминок. (Из научной летописи 1909 года.) —
Вестн. Евр., X I , 315—333; X I I , 261—283 (1910).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 222—236.
21. Новые потребности науки XX века и их удовлетворение
на
западе и у нас. •—Рус. Вед., 59 (1911).
То же. — В кн.: Наука и демократия. М., 1920, стр. 42—53.
22. Первая Энциклопедия XX века. — В е с т н . Евр., 6, 320 — 325
(1911). По поводу выхода 11-го изд. Encyclopaedia Britannica.
23. Сезон научных съездов. — Вестн. Евр., И, 353—368 (1911).
24. Петр Николаевич Лебедев. — Вестн. Евр., V, 414—419 (1912).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 59—64.
25. Пятый юбилей новой философии. — Вестн. Евр., 9, 292—316
(1912).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 267—292.
26. Смерть Лебедева. — Рус. Вед., 82 (1912).
То же. — В кн.: Наука и демократия. М., 1920, стр. 54—58.
27. Из воспоминаний о двух поколениях. (Памяти А. И. Чупрова
и И. А. Петровского.) — Рус. Вед., 230 (1913).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия, М.,
1920, стр. 69—77.
28. Лебедев-классик. — Рус. Вед., 58 (1913).
29. Наука и демократия. — Рус. Вед. (1 января 1913).
То,же. — (В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. M.,
1920, с.тр. 340—343).
30. Новая книга Мечникова. — Вестн. Евр., I, 332—338 (1913).
31. Письмо в редакцию. — Р у с . Вед., 141 (1913).
По поводу своего 70-летнего юбилея.
32. Письмо в редакцию.—Рус.
Вед., 69 (1913).
(Ответ проф. Писаржевскому по поводу его статьи о нахождении водорода в неоне).
33. Химическая смута. — Рус. Вед., 52 (1913).
1914. 34. Григорий
Николаевич Вырубов. — Р у с . Вед., 1 (1914).
То же, —В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
•1920, стр. 78—91.
35. Лавуазье XIX века (Марселей Бертло) (1827—1907). — Вестн.
Е в р . , 231—245; 6, 137—158 (1914).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 184—221.
36. «Ошибка» и «Отрадное явление».—Рус.
Вед., 37 (1914).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия, М.,
1920, стр. 65—68.
37. Погоня за чудом, как атавизм у людей науки. — Вестн. Евр.,
2, 379—382 (1914).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 314—329.
1916, 38. Пз летописи науки за ужасный
год. — Вестн. Е в р . , 4, 99—
128 (1916).
Содержание: 1. Наука у антиподов и антиподы науки —
стр. 99—116. — 2. Ответ из третьей части света—стр. 116—128.
39. Наука в современной жизни. — Летопись, I, 175—188 (1916).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 344—361.
40. Памяти друга (Из воспоминаний о М. Ковалевском). — Летопись, 8, 211—225 (1916).
41. Об организации и дальнейшей участи состоящей при университете Шанявского физич. лаборатории
им. Лебедева. М., 1916. 3 стр.
1918. 42. Демократическая
реформа высшей школы. М., 1918, 1 июля,
16 стр.
То же. — (В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 422—429).
43. Красное знамя. Притча ученого. П., Парус, 1918.
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 392—419.
1919. 44. Пророчество
Байрона
о Москве. — Ком. Инт., 4, 483—484
(1919).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.,
1920, стр. 474—478.
»
45. Русский англичанину об интервенции.—Ком.
Инт., 6, 811—818
(1919).
То же. — В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. Л.,
«Прибой», 1926, стр. 425—432.
1920. 46. Мечников — борец за научное мировоззрение. — (В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М., 1920, стр. 293—299).
47. Наука и демократия. Сборник статей 1904—1919. — M'., Гос.
Изд. 1920. X V I , 478 стр. Содержание:
1. Академическая
свобода.
2. Полвека (1855—1905).
3. На пороге обновленного
университета.
4. Новая победа науки над
природой.
5. От дела к слову.
6. Новые потребности науки XX века.
7. Смерть
Лебедева.
32
И. А. Тимирязев,
т. I
489
48.
49.
50.
51.
52.
53.
1935.
54.
8. П. Н. Лебедев.
9. Ошибка и отрадное
явление.
10. Из воспоминаний о двух поколениях.
11. Г. Ii. Вырубов.
12. У Дарвина в Дауне.
13. Чарлз
Дарвин.
14. Кембридж и Дарвин.
15. Лавуазье XIX
столетия.
16. Год итогов и поминок.
17. Пятый юбилей «новой философии».
18. Мечников — борец за научное
мировоззрение.
19.
Антиметафизик.
20. Погоня за чудом, какумственный атавизму людей науки.
21. Наука и всеобщий мир.
22. Наука и демократия.
23. Наука в современной
жизни.
24. Памяти
друга.
25. Наука, демократия и мир.
26. Красное знамя.
27. Петербург
и Москва.
28. Перед памятником
«Неподкупному».
29. Демократическая
реформа
высшей школы.
30. Привет первому русскому рабочему
факультету.
31. Наука и свобода.
32. Ч. Дарвин и К. Маркс.
33. Пророчество Байрона о Москве.
То же. — JL, Прибой, 1926. X V I , 432 стр. Те же статьи с добавлением:
34. Русский англичанину об интервенции.
Наука и свобода. — (В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия, М., 1920, стр. 433—463).
Петербург и Москва. «Новая жизнь», № 1 Моск. (1920).
То же. — (В кн.: Тимирязев, К. А. Наука и демократия.
М., 1920, стр. 411—415).
Привет первому русскому рабочему факультету.—(В к н . : Тимирязев, К. А. Наука и демократия. М.—JI., 1920, стр. 430—
432).
Приветственное письмо Московскому Совету рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
от избранного в Московский Совет. М., 1920.
То же — ПЗМ 3, 60 (1935).
Тсяже. — В кн.: Памяти К. А. Тимирязева. Сборник сессии
Биолог. Ин-та им. К. А. Тимирязева. М,—Л., 1936, стр. 60—61.
Два дара науки. Еженедельник Правды. М. № 14, стр. 15 —
25 (1920). В статью вошли: 1. Рабочий-чудотворец.
2. Самоучка
пророк.
Рабочий-чудотворец.
— М., Моск. Рабоч., 1922, 16 стр.
Перед памятником «Неподкупному». •—(В кн.: Тимирязев, К. А.
Наука и демократия. М.—Л., 1920, стр. 416—421).
Переписка К. А. Тимирязева и М. Горького. — ПЗМ, 3, 74—85
(1935). Относится к 1916.
То же. В кн.: Памяти К. А. Тимирязева. Сборник сессии Биолог. ин-та им. К. А. Тимирязева. М.—Л., 1936, стр. 44—59.
См. также раздел I, № 70 (1892 год) и № 95 (1904 год).
Ш
СТАТЬИ ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ГРАНАТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Биология.—(В
кн.: Энц. Сл. Граната, 7-е изд., т. V, с. 634—704).
Бурбанк, Лутер. — Там же, т. 7, с. 168—171.
Буссенго, Ж . Б . — Там же, т. 7, с. 234—236.
Витализм. — Там же, т. 10, стр. 309—313.
Галътон. — Там же, +. 12, с. 469—473.
Гельмголътц, Г. — Там же, т. 13, с. 109—113.
Гете-естествоиспытатель.
—Там же, т. 14, с. 448—455.
Гипотеза научная.—Там
же, т. 14, с.622—626.
Гофмейстер,
Вильгельм.—Там
же, т. 16, с . 341—348.
Гукер — Там же, т. 17, с. 360—364.
Дарвин, Чарлз— Там же, т. 17, с. 627—640.
Евгеника.—Там
же, т. 19, с. 391—395.
Жордан,— Там же, т. 20, с. 325—328.
Жюсъе.—Там же, т. 20, с. 370—372.
Изменчивость.—Там
же, т. 21, с. 491—502.
Ингенгуз, Ян,— Там же, т. 21, с. 602—607.
Кандоли, де,—Там же, т. 23, с. 296—298.
Ламарк, Ж. Д.— Там же, т. 26, с. 399—407.
Лугинин.—Там
же, т. 27, с. 423—430.
Мендель.—Там
же, т. 28, с. 4 4 3 — 4 5 5 .
Наследственность.—Там
же, т. 29, с. 611—646.
Наука.—Там
же, 7-е изд., т. 30, с. 1—53. См. раздел I, № 120.
Отбор естественный.—Там
же, т. 30, с. 721—741.
Саре, Юлиус.—Там же, т. 37, с. 84—91.
Селекция.—Там
же, т. 38, с. 2—11.
Сенебье, Ж,— Там же, т. 38, с. 267—275.
Симбиоз.—Там
же, т. 38, с. 591—596.
Соссюр, Теодор.— Там же, т. 40, с. 221—226.
IV
ПРЕДИСЛОВИЯ К. А. ТИМИРЯЗЕВА
К РАЗЛИЧНЫМ КНИГАМ
1. Рейнке, И. Краткий курс физиологии растений. М., 1883, стр. 1—2.
2. В. Паульсон. Ботаническая микрохимия. Перев. с нем. М., 1883,
стр. 1—4.
3. Е. Варминг. Систематика растений. Перев. с датск. М., 1893,
стр. 3—5.
4. Г. Вильморен. Наследственность у растений. М., 1894, стр. 3—5.
5. Ван-Тигем. Общая ботаника. М., 1895, стр.1—2.
6. Вюильмен. Биология растений. Под ред. и с пред. К. А. Тимирязева.
М., 1897, стр. 5—8.
32*
491
7. М. Бертло. Наука и нравственность. Перев. М., 1898, стр. 1—15.
То же.—В
кн.: Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного
естествознания. М., 1908, стр. 334—344.
8. Э. Дюкло. Пастер. Заразные болезни и их прививка. Под ред.
К. А. Тимирязева. М., 1898, стр. 3—5.
9. Визнер, Ю. Физиология растений. Пер. с нем. М., 1900, стр. 3—4.
10. Ив-Делаж. Наследственность. Извлеч. под редакц. К. А. Тимирязева. М., 1900, стр. 3—5 и 143—144.
11. Берге, Ф . Иллюстрированная естественная история. М. 1903.
12. Страссбургер, Э. Краткий курс растительной гистологии. М., 1904,
стр. 3—4.
13. Грин. Растворимые ферменты. Перев. с немец. М., 1905, стр. 9—11.
14. Клебс, Г. Произвольное изменение растительных форм. М., 1905,
стр. 5—8.
15. Дарвин, Ч. Иллюстр. собр. сочин. Т. 8. Приложение. М., 1907,
стр. 3—4.
16. Дарвин, Ч. Иллюстрированное собрание сочинений. T. I. М., Лепковский, 1907, стр. 5—6.
17. Памяти А. И. Чупрова. Опыты с минеральными удобрениями на
крестьянских землях. М., 1908, стр. X I X — X X I I I .
18. П. Вагнер. Основы разумного удобрения. М., 1891, стр. I—IV.
19. Костантен. Растение и среда. Перев. с франц. под ред. К. Тимирязева.
М., 1908, стр. 9—12.
20. А. Гарвуд. Обновленная земля. М., 1909, стр. 3—7.
21. Э.Дюкло. Пастер. Брожение и самозарождение. М., 1917, стр. 1—5.
У
ПЕРЕВОДЫ
1. Вагнер, П. Основы разумного удобрения. Перев. и пред. К. А. Тимирязева. М., 1891, 32 стр.
2. Остгоф. Речь проректора, профессора Остгофа, гейдельбергскому
студенчеству.—Рус. М., 2-й отд., 251—255 (1899). Подписан инициалами К. Т.
3. Винер, О. Расширение области наших чувственных восприятий. —
Рус. М., 2, 2-й отд., 44—65(1904). Подписана инициалами К. Т.
То же.—В кн.: Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного
естествознания. Изд. 3-е. М., 1908, стр. 393—425.
4. Клебс, Г. Произвольное изменение растительных форм. Материалы
для будущей физиологии растений. Перев. с предисл., примеч. и с
прилож. статьи К. А. Тимирязева. Факторы органической эволюции.
М., 1905, V I I , 183 стр.
5. Олстон, Л. Краткий очерк современных конституций. Перев. с англ.
h*. Тимирязева. М., Рус. М., 1905, 89 стр. *
0. Пирсон, К. Наука и обязанности гражданина.—Рус,. М., 8, 2-й отд.,
121—151 (1905).
То оке.—В кн.: Тимирязев, К. А. Насущные задачи современного
естествознания. М., 1908, стр. 344—392.
То оке. Отд. изд. М. 1919.
7. Дарвин, Ч. Автобиография. — ( В к н . : Дарвин, Ч. Сочинения. T. I,
ч. I. СПб. Попова, 1906, стр. 1—35.)
То оке.—В кн.: Дарвин, Ч., Иллюстрированное собрание сочинений.
T. I. М., Лепковский, 1907, стр. ,1—44.
То же.—В кн.: Дарвин, Ч., Полное собрание сочинений. T. I. М.—Л.,
Гос. Изд., 1925, стр. 3—42.
8. Дарвин,
Ч. Происхождение видов путем естественного отбора.—
(В кн.: Дарвин, Ч. Сочинения. T. I, ч. 2. М., Попова, 1906,
стр. 1—327).
То же.—В
кн.: Дарвин, Ч. Иллюстрированное собрание сочинений. T. I. М., Лепковский, 1907, стр. 157—430.
То же. — В кн.: Дарвин, Ч. Полное собрание сочинений. T. I, ч. 2.
М.—Л., Гос. Изд. 1925—1929.
9. Болъцман,
Л. Антиметафизик. По поводу одного тезиса Шопенгауэра. Перев. с предислов. К. А. Тимирязева.—Рус. Вед., 74 (1908).
То же.—В
кн.: Насущные задачи современного естествознания. М.,
1908, стр. 444—464.
10. Уоллес, А. Современное положение дарвинизма. — Рус. Вед., 248,
254 (1908).
То же. —- В кн.: Дарвин, Ч. Иллюстрированное собр. сочинений.
Т. 8. ІІредисл. М., Лепковский, 1909, стр. 154—166.
11. Гексли, Т. Эволюция и этика.—В кн.: Тимирязев, К. А. Некоторые
основные задачи современного естествознания. М., 1895, стр. 115—160
и послед, изд.
12. Гарвуд,
А. Обновленная земля. Сокращенное изложение К. Тимирязева, М., Сытин, 1909. VII. 225 стр.
13. Тернер. Пять писем и post scriptum Льиса Гаинда. Перевод с примеч. и предисл. К. А. Тимирязева. -— М., Лепковский, 1910. 14, 84
стр., илл.
14. Киттель, Д. Наука и всеобщий мир.—Рус. Вед. 234 (1912).
Тоже. В кн.: Тимирязев, К. А., Наука и демократия. М. — Л., 1920,
стр. 330—339.
* Имеется также «Письмо к редактору»
Олстона). Р у с к . Вед.; 1905. Ф. К.
(по поводу перевода кн.
УІ
РЕДАКТИРОВАНИЕ
1. Рейнке, И. Краткий учебник физиологии растений. Перев. под ред.
К. А. Тимирязева. М., 1883.
2. Томе, О. В. Учебник ботаники. Перев. с нем. под ред. К. А. Тимирязева. Спб., 1884. 439 стр.
3. Вюилъмен. Биология растений. Перев. под ред. и с предисл. К. А. Тимирязева. М., 1897. 290 стр.
4. Дюкло, Э. Пастер. Брожение и самозарождение. Перев. под ред. и
с предисл. К. А. Тимирязева. М., 1897. 92 стр. (Н.-погіул. б-ка «Рус.
Мысли»),
5. Бертло, М. Наука и нравственность. С пред. (и под ред.) К. А. Тимирязева. М., 1898. 212 стр.
6. Дюкло, Э. Пастер. Заразные болезни и их прививка. Перев. под ред.
и с пред. К. А. Тимирязева. М., 1898. 134 стр. (Н.-попул. б-ка
«Рус. Мысли»),
7. Ив-Делаж.
Наследственность. Извл. под ред. К. А. Тимирязева.
М. 1900. 114, I I I стр. (Н.-попул. б-ка «Рус. Мысли»),
8. Конт, О. Курс положительной философии. Поли, перев. под ред. и
с примеч. С. Савича, К. Тимирязева и др. T. I. Спб., «Посредник», 1901.
9. Дарвин,
Ч. Иллюстрированное собрание сочинений. T. I. Перевод,
предисл. и ред. К. А. Тимирязева. М., Лепковский, 1907. 410 стр.
То же. T. I I . Перевод под ред. К. А. Тимирязева. 1908. 370 стр.
То же. Т. 8. Приложение. Под ред. К. А. Тимирязева. 1909. 151 стр.
10. Дарвин Ч. О движениях и повадках лазящих растений. Перев.
И. Петровского. Под ред. К. А. Тимирязева. — (В кн.: Дарвин, Ч.
Иллюстрированное собрание сочинений. Т. 3. М,., Лепковский, 1908.
111 сір.).
Тоже. Перев. И. Петровского под ред. К. Тимирязева.—(В кн.:Дарвин,
Ч. Полное собрание сочинений. T. IV, ч. I, М.—Л., 1928, стр. 185—
307).
11. Костантен, Ж. Растение и среда. Перев. с франц. под ред. К. Тимирязева, М., «Рус. Мысль», 1908. X I I , 341.
12. История нашего времени. Современная культура и ее проблемы.
Под ред. М. М. Ковалевского и К. А. Тимирязева. T. I — V I I .
Б. М„ Гранат (1914).
13. Дарвин, Ч. Приспособление орхидных к оплодотворению насекомыми.
Перев. И. Петровского, под ред. К. Тимирязева. (В кн.: Дарвин,
Ч. Полное собрание сочинений. T. IV, кн. I. М.—Л., 1928, стр. 3 —
181).
14. Дарвин, Ч. Насекомоядные растения. Перев. 3. и Ф . Крашенинниковых под ред. К. Тимирязева. (В кн.: Дарвин, Ч., Полное собрание
сочинений. T. IV, кн. 2. М,—Л.,1929, стр. 5—293).
УІІ
ПЕРЕВОДЫ Т Р У Д О В К. А. ТИМИРЯЗЕВА
НА Д Р У Г И Е ЯЗЫКИ И Р Е Ф Е Р А Т Ы ЕГО РАБОТ
В ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЕ
1. Ueber die Resultate einer Spectral—Analyse
des Chlorophylls.
—Botan.
Zt. X X V I I , 884—885 (1869).
2. Sur la dependence des phénomènes photochimiques
de l'amplitude
des
ondes lumineuses.—Bull.
Soc. Chim. Paris, 43, 124—125 (1885).
Рефер. статьи, помещ. в «Изв. Петр. 8емл. и леей. Акад.», VII, 2-й
отд. неоф., 219—225 (1884).
3. Photochemische
Wirkung der äusseren
Strahlen des sichtbaren
Speclrens. —Fortschr. d. Phys., 49, 1893, 2 Abt., s. 151 (1895). Рефер.
статьи, помещ. в «Изв. О-ва Люб. Ест., Антр. и Этн.», 78, 2,
1—3 (1893).
4. Physikalisch-chemische
Bedingungen
der Zersetzung von Kohlensaure
in
den Pflanzen.—
Fortschr. d. Phys., 46, 1890. 2 Abt., s., 185 (1897).
Рефер. статьи, помещ. в Ж Р Ф Х О , 22, 306—310 (1890).
5. The life of the plant.—Trans.by
Miss Anna Cheremetefî.—London, Longmans, 1912. X V I I , 355 p.
6. Живота на растението.
Прівел Марков (на болгарский). Тырново, 1894.
7. Рослина и сонячна енергія. Переклад с російской мови. Г. К. (Одеса),
Держ. Вид. Укр., 1921. 66 стр.
То же. 1926.
8. Чарлз Дарвин и его вчення. Перекл. П. М. Жменя.— Харків, Держ.
вид. У к р . , 1930. 180 стр.
9. Життя рослини. За ред. А. Хільченко. •—- Харків — Одеса, Литвид,
1934. 271 стр.
10. Історичнііі
метод в біологіі.
Переклад, за ред. акад. М. Холодного. — К и і в , Видавн. Укр. Ак. Наук, 1935, 176 стр.
i L Чарлз Дарвінійею
вчення. Перекл. С. Г. Кицая. К и і в . , Держ. Медвид., 1936, 364 стр.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ К СОБРАНИЮ СОЧИНЕНИЙ
XI
АКАДЕМИК В. а. КОМАРОВ
I. К. А. Тимирязев и некоторые теоретические вопросы
биологии
16
II. К. А. Тимирязев и земледелие
III. К. А. Тимирязев как.ученый
21
и как популяризатор
науки
IV. К. А. Тимирязев — наука — ученые
V. Наследство К. А. Тимирязева
33
39
44
КЛИМЕНТ
АРКАДЬЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
Биографический
очерк
с. а. новиков
профессор
I. Воспитание, первая общественная закалка
К. А, Тимирязева
II. В Московском университете (1893—1896)
III. «Дело о...?»
IV. Научная деятельность К. А. Тимирязева
V. Научно-политические взгляды К. А. Тимирязева
ОТ РЕДАКТОРА ПЕРВОГО ТОМА
профессор
ф. п.
крашенинников
СОЛНЦЕ, ЖИЗНЬ И ХЛОРОФИЛЛ
1868—1920.
Первая и вторая
части
сборника
Предисловие. Солнце, жизнь и хлорофилл
Часть
первая
ПУБЛИЧНЫЕ
ЛЕКЦИИ
I. Растение и солнечная энергия
1. Круговорот углерода
2. Почему и зачем растение зелено
II. Растение как источник силы
III. Растение — сфинкс
IV. Фотография природы и фотография в природе
Часть
вторая
РЕЧИ
333
I. Действие света на хлорофилловое верно (с французского)
II. О физиологическом значении хлорофилла
335
343
III. Современное состояние наших сведений о функции хлорофилла (с французского)
362
IV. Космическая роль
(croonian lecture)
391
растения
(крунианская
лекция)
ИЗ ПЕРЕПИСКИ К. А. ТИМИРЯЗЕВА
С АНГЛИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ
1900-1909—1912
Примечания
и комментарии
проф. А. К. Тимирязева
ОТ РЕДАКЦИИ
.
I. Из переписки К. А. Тимирязева с Горасом Брауном
447
449
451
1. Отрывок из президентской речи Гораса Брауна
(Секция «В. химия» на съезде Британской ассоциации)
451
2. К. А. Тимирязев. Хлорофилл как сенсибилизатор
453
3. Ответ Гораса Т. Брауна
456
II. Из переписки К. А. Тимирязева с Персивалем Лоуеллем
459
1. К. А. Тимирязев. Возможна ли жизнь на Марсе?
460
2. К. А. Тимирязев.
планетах?
Возможна
462
3. Ответ
Персиваля
профессора
ли
жизнь на других
Лоуелля
на письмо
К. А. Тимирязева
464
III. Из переписки К. А. Тимирязева с
Дайером
1. Письмо К. А. Тимирязева
(от 5 / Ш 1912 г.)
В.
Виллиамом ТизельтонТизельтон-Дайеру
2. Письмо Виллиама Тизельтоп-Дайера К. А. Тимирязеву
(от 16/ПІ 1912)
466
466
468
3. Письмо Виллиама Тизельтон-Дайера К. А.Тимирязеву
(от 19/1II 1912)
470
4. Письмо К. А. Тимирязева В. Тизельтон-Дайеру
470
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
К. А. Т И М И Р Я З Е В А
СПИСОК
ТРУДОВ
Составлен по материалам,
собранным
для настоящего
издания
Р. П. Гаухман.
Под редакцией профессора
Ф. Н.
Крашенинникова и научно-библиографического
отдела Всесоюзной
библиотеки имени В. И. Ленина
471
Принятый список сокращений
473
I. Труды по вопросам физиологии растений, эволюции
и дарвинизма и по общим вопросам естествознания
II. Статьи по общественным вопросам
памяти разных лиц
и посвященные
475
487
III. Статьи из энциклопедии Граната
491
IV. Предисловия К. А. Тимирязева к различным к:?игам
491
V. Переводы
VI. Редактирование
VII. Переводы трудов К. А. Тимирязева на другие языки
и рефераты его работ в иностранной прессе
492
494
495
Р Е Д А К Т О Р П. П.
ТИХОМИРОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
художника
И. А.
ОФОРМЛЕНИЕ
полиграфиста
СЕДЕЛЬНИНОВА
Барельеф
портрета
К.
для переплета скульптора
А.
Тимирязева
H. П.
Василика
ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕДАКЦИЯ
Я . А.
ФИВЕЙСКИЙ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ КОРРЕКТОР
Е. В.
ВИТТОРФ
В Ы П У С К А Ю Щ И Й А. А.
ШПОЛЬСКАЯ
Объем издания 31,25 п. л. (у.а. л.
27,б8)и
3 , 5 п . л. многоцветных вкладных
иллюстраций. В 1 п. л. 34.000 п. зн. Ф-т
издания
72x1104IG- Тираж
10.500 экз. Сдано в производство 22'ДХ 1936 г. Подписано
к печати 131 III 1937г. Уполномоченный
Главлита Б-12730. Схгиз. 5491. Зак.
4581.
Бумага на текст бумажной ф-ки им. Менжинского,
бумага на меццо-тинтные
иллюстрации
бумажной ф-ки им.
Володарского, бумага на цветные
иллюстрации
кооперативной
ф-ки
,,Бумагоотделочное
производство",
материалы
на
переплет
изготовлении
Щелковской
ф-кой
„Союзтехноткань".
Картон
ф-ки им.
Калинина.
Отпечатано
в 1-й Обр. типогр.
РСФСР треста Полиграфкнига.
Валовая, 28.
Огиза
Москва,