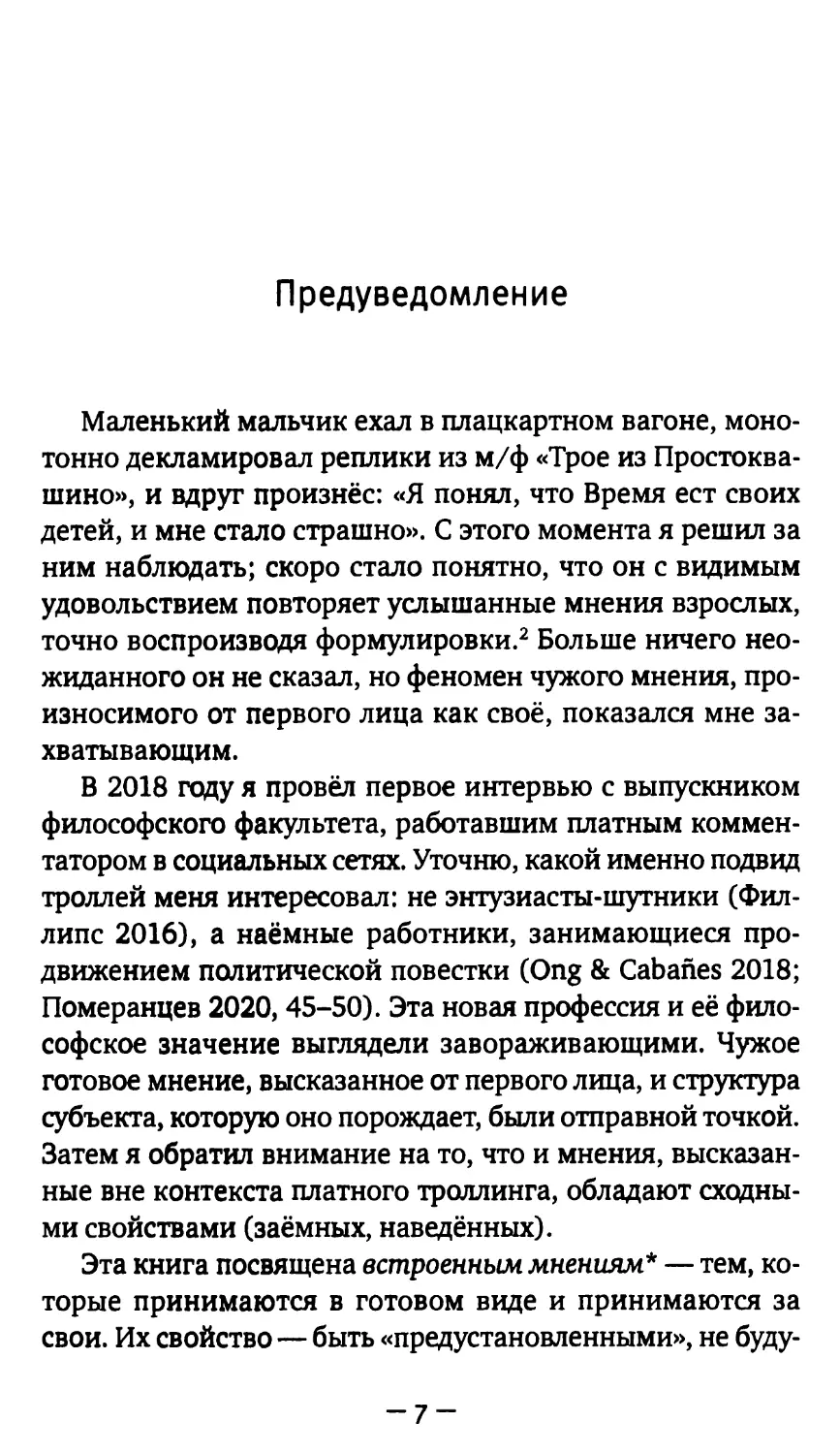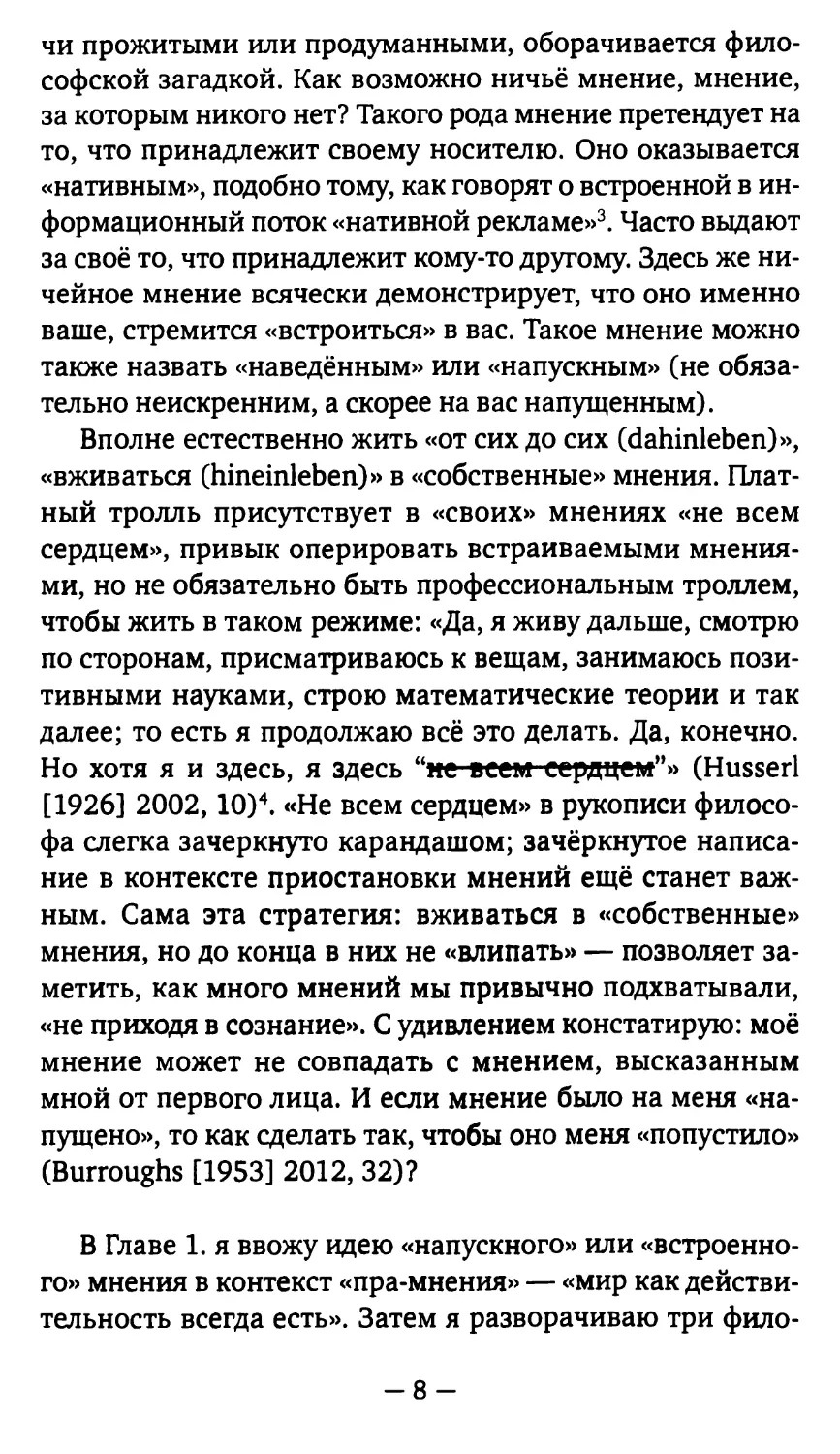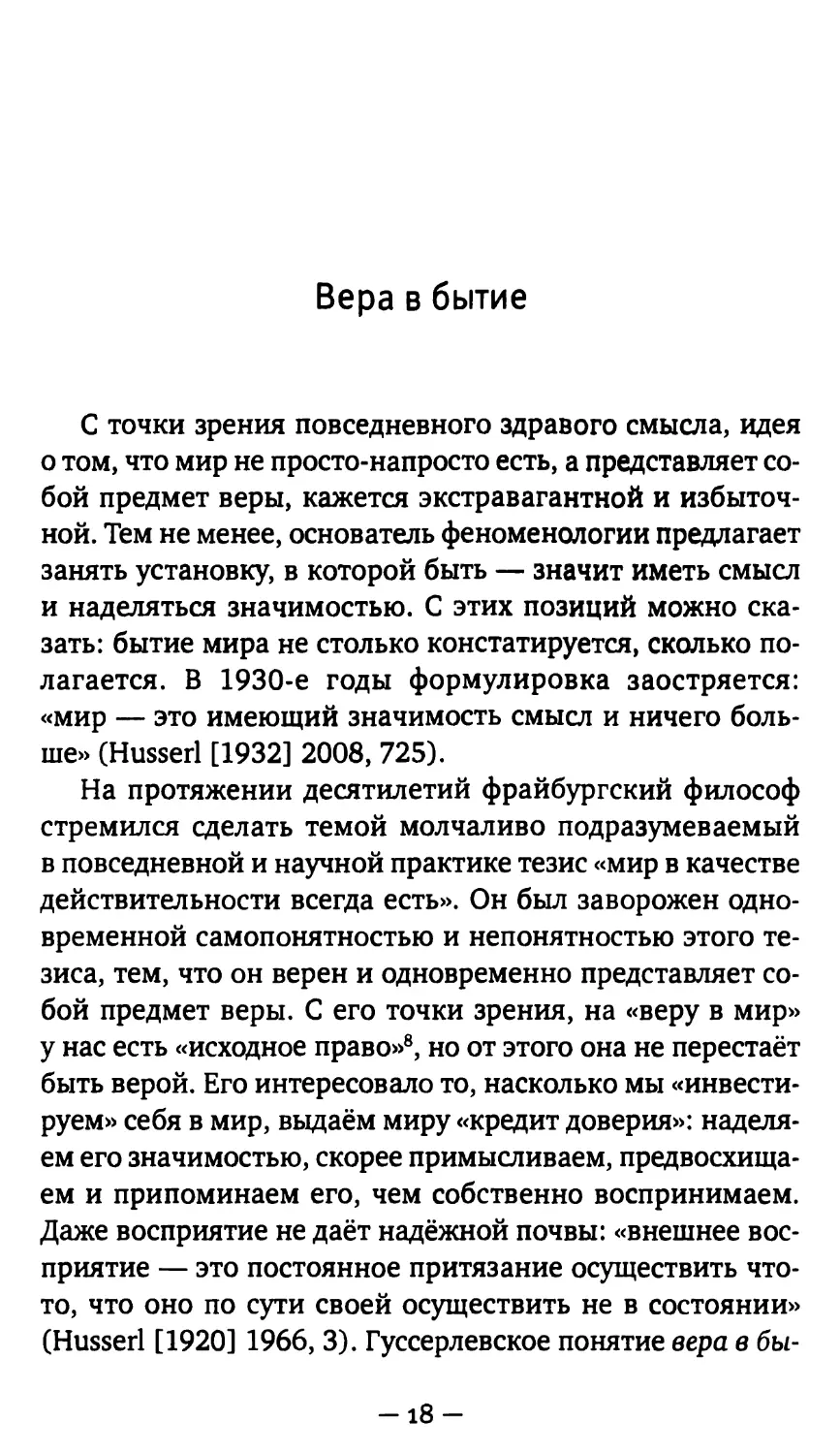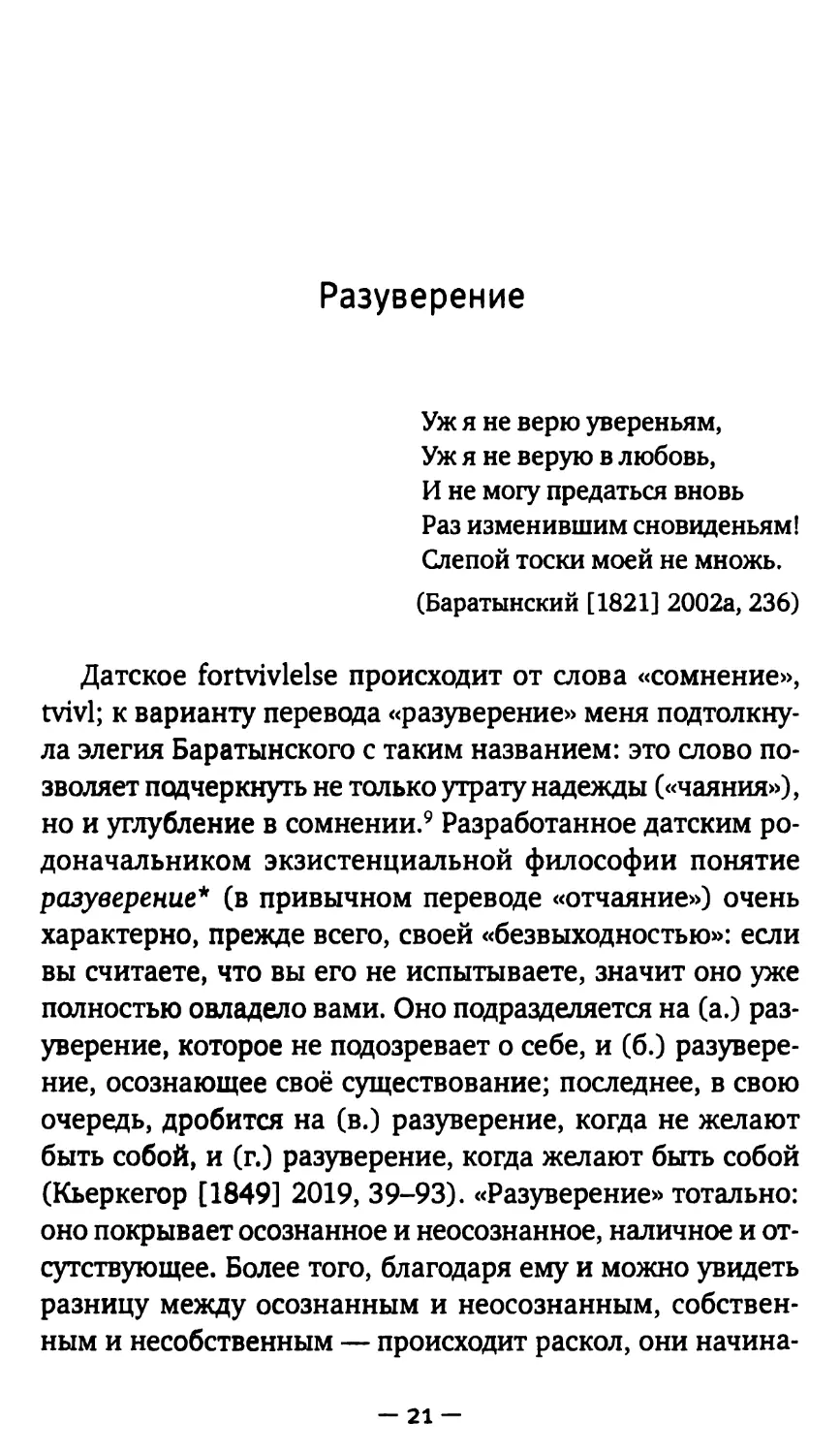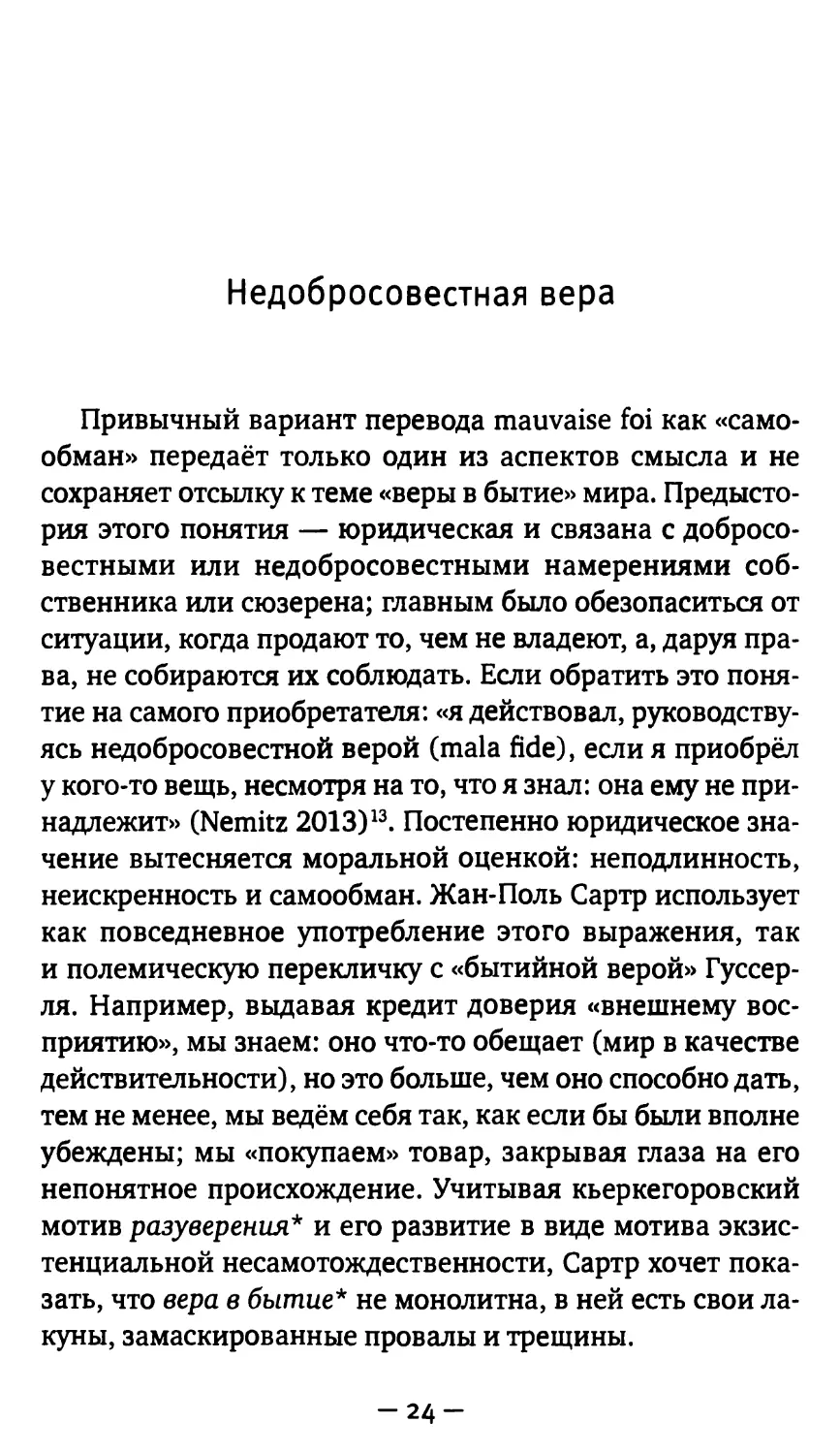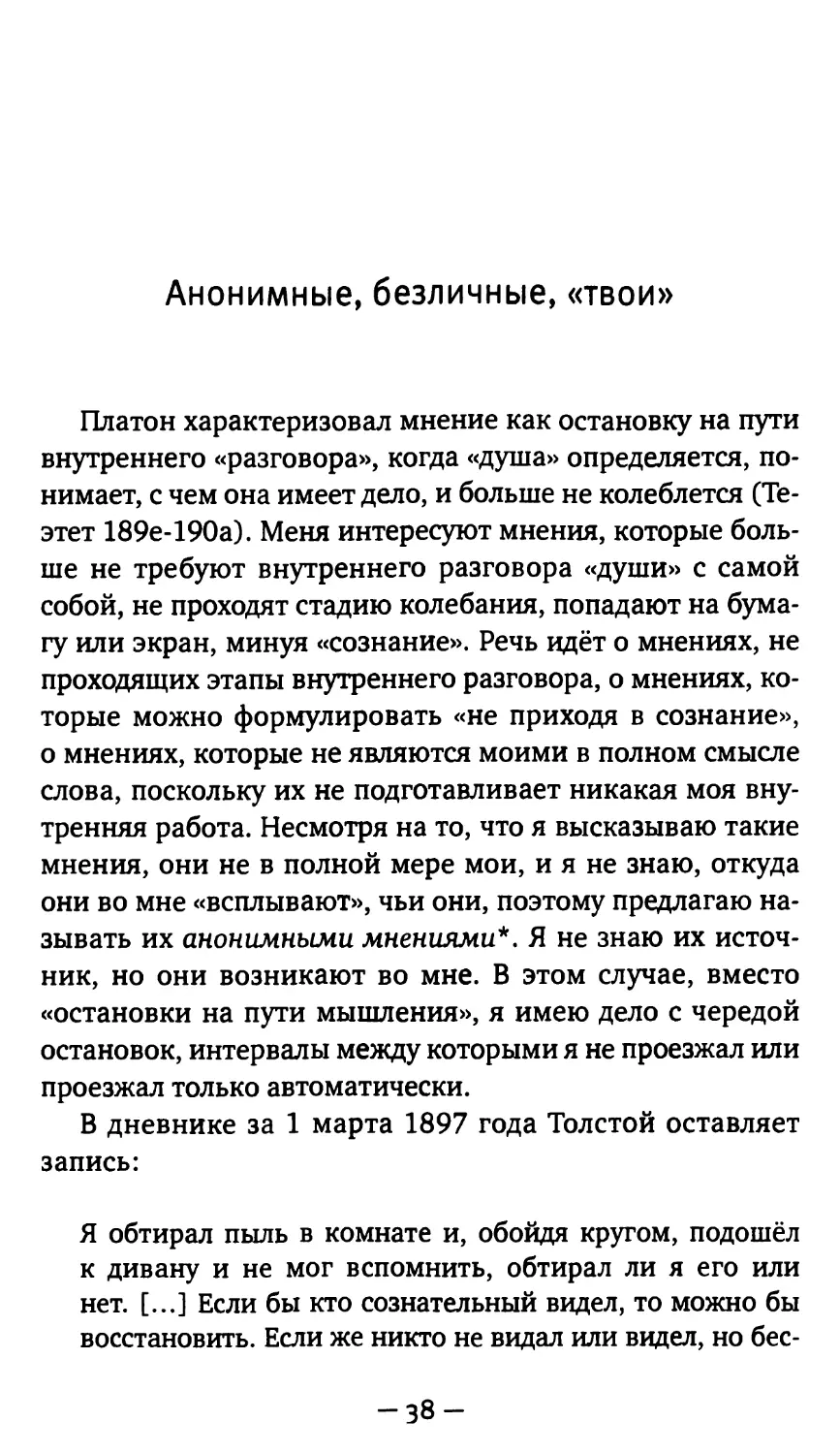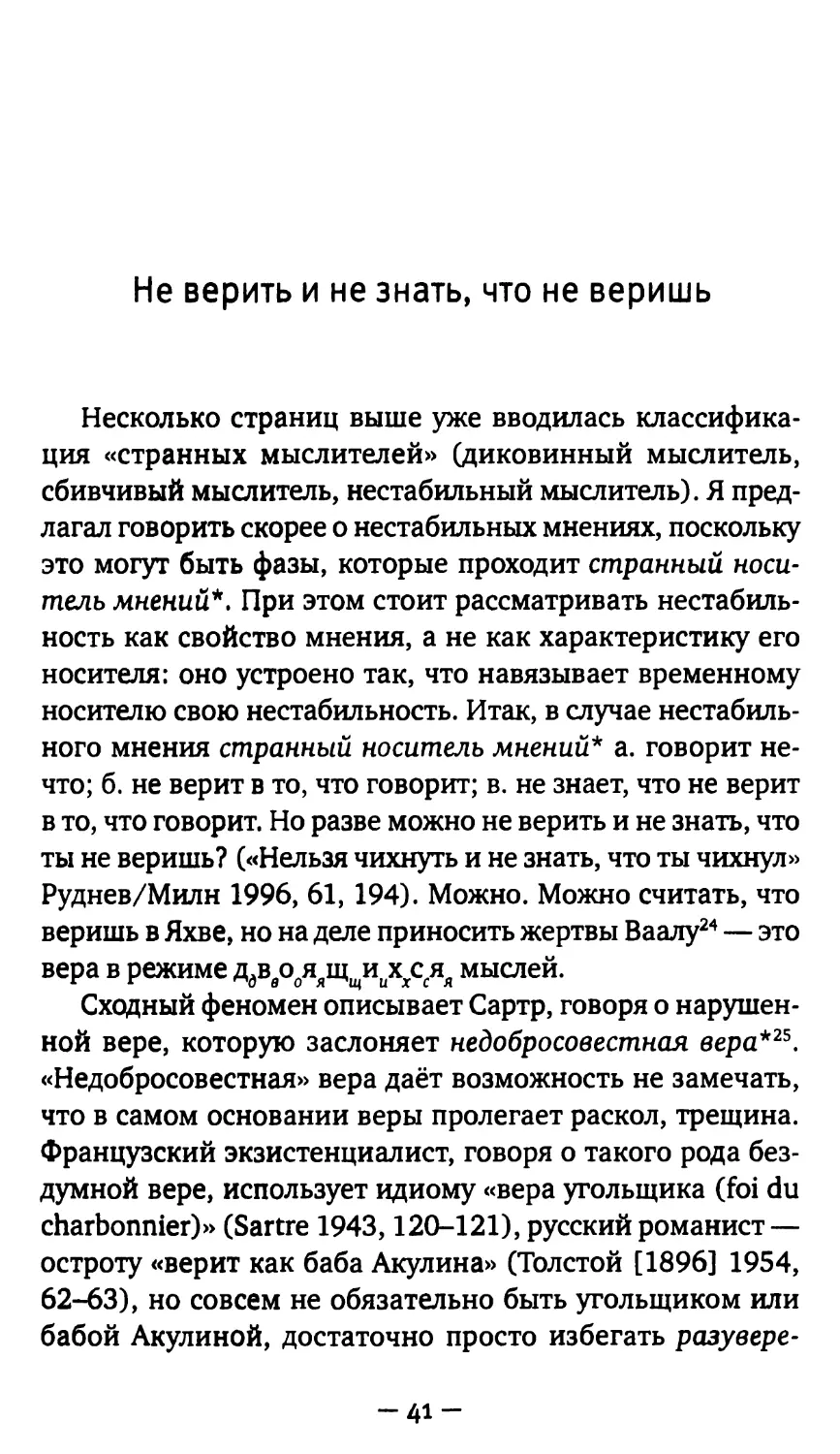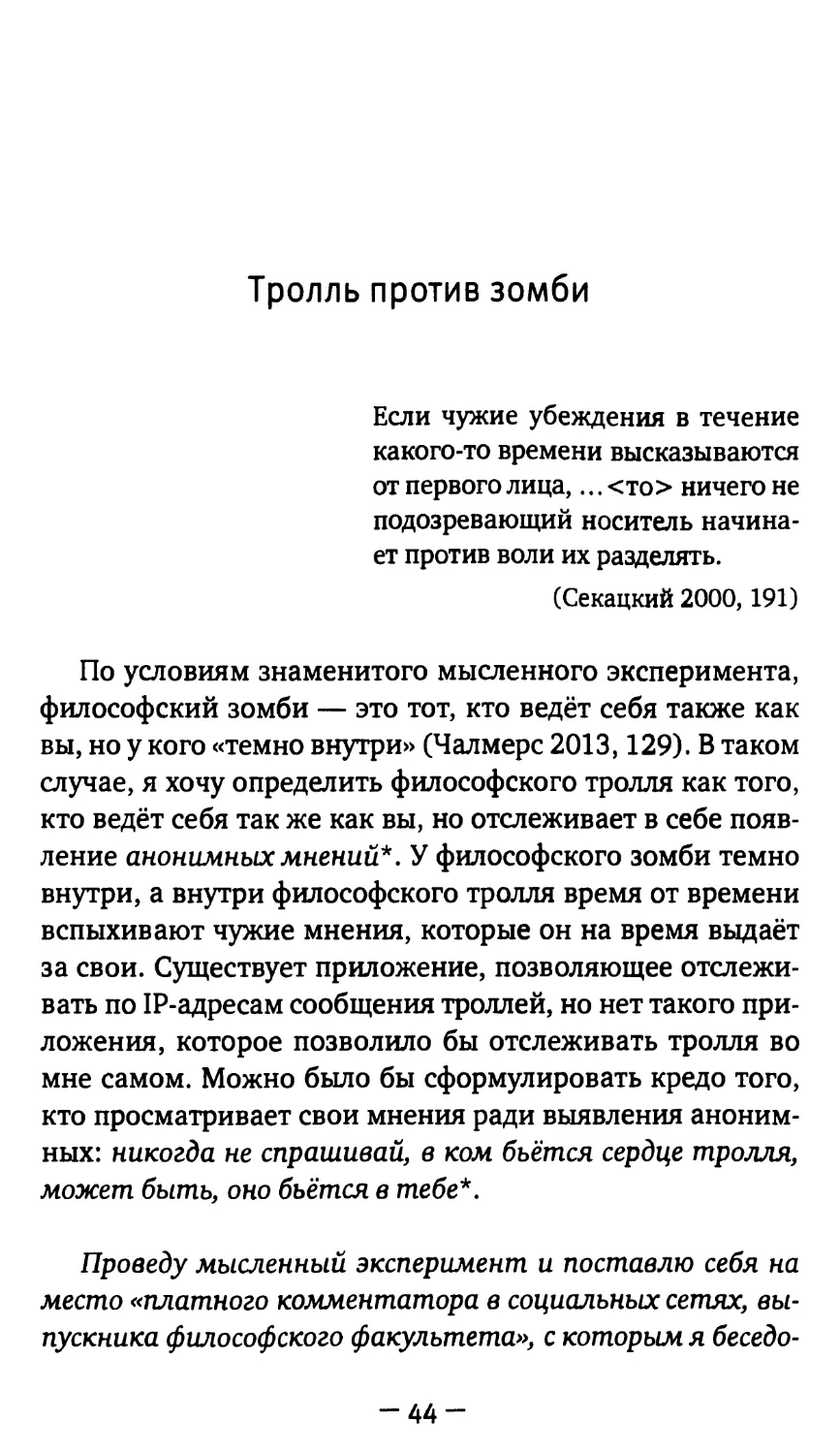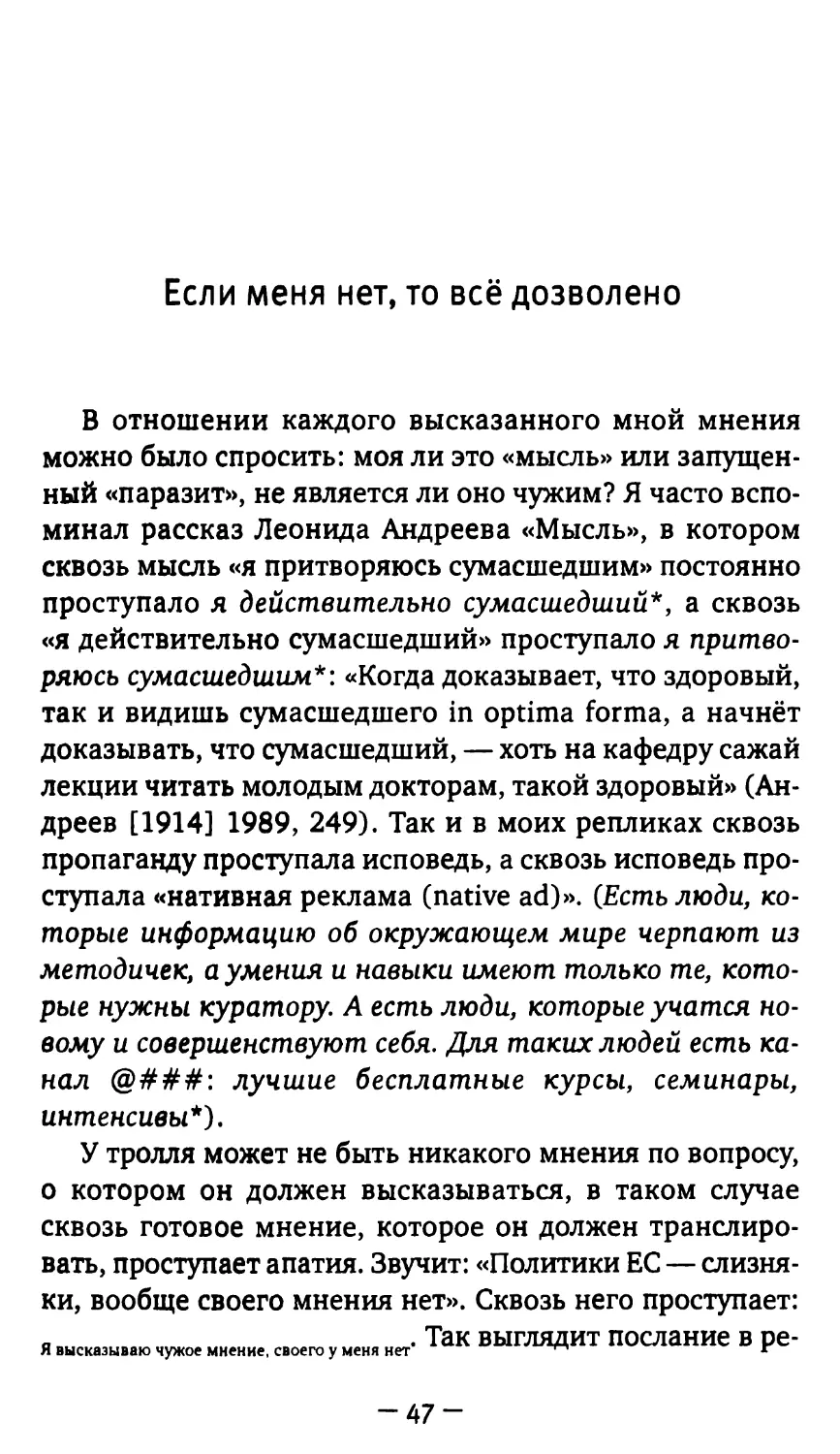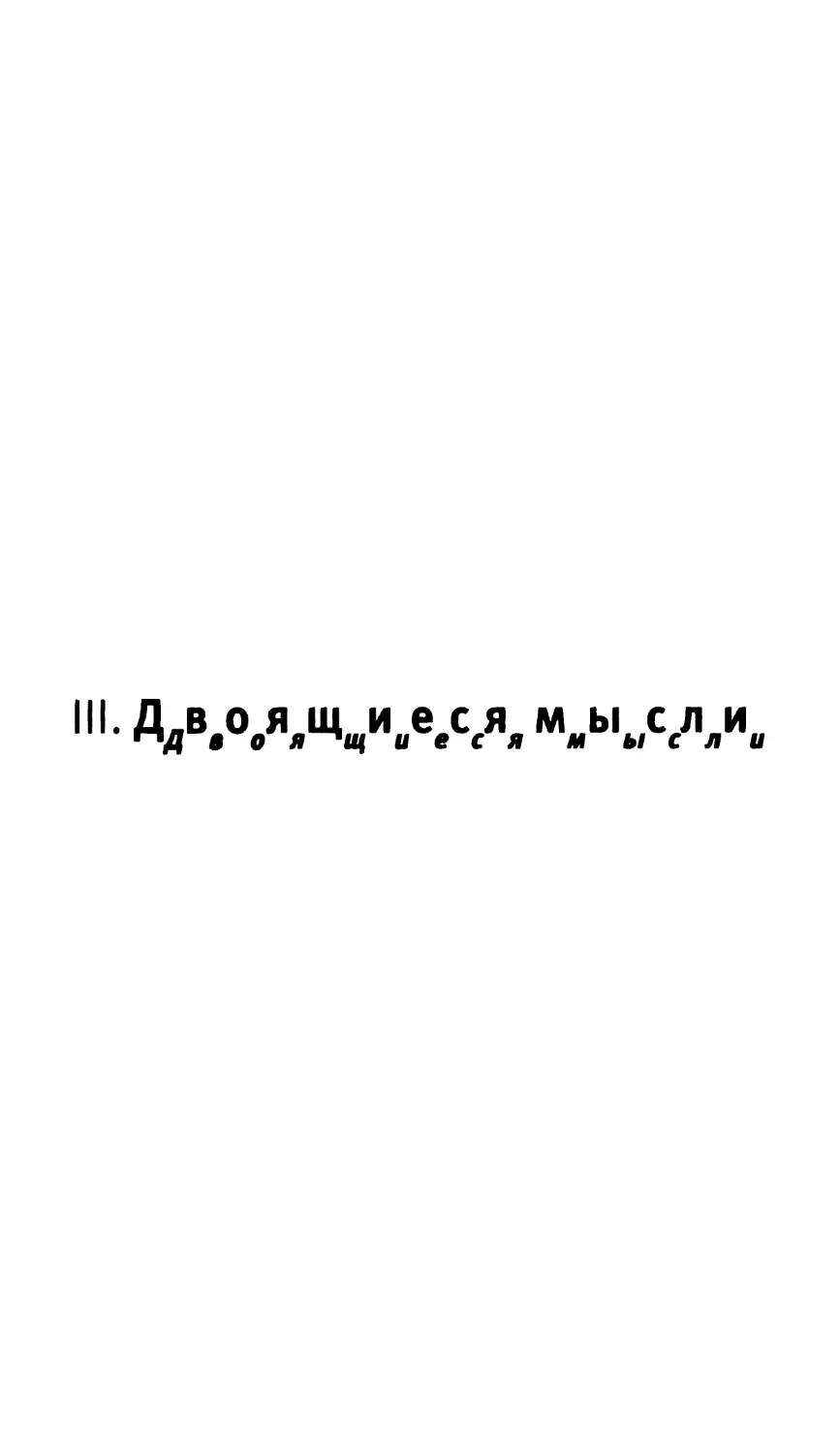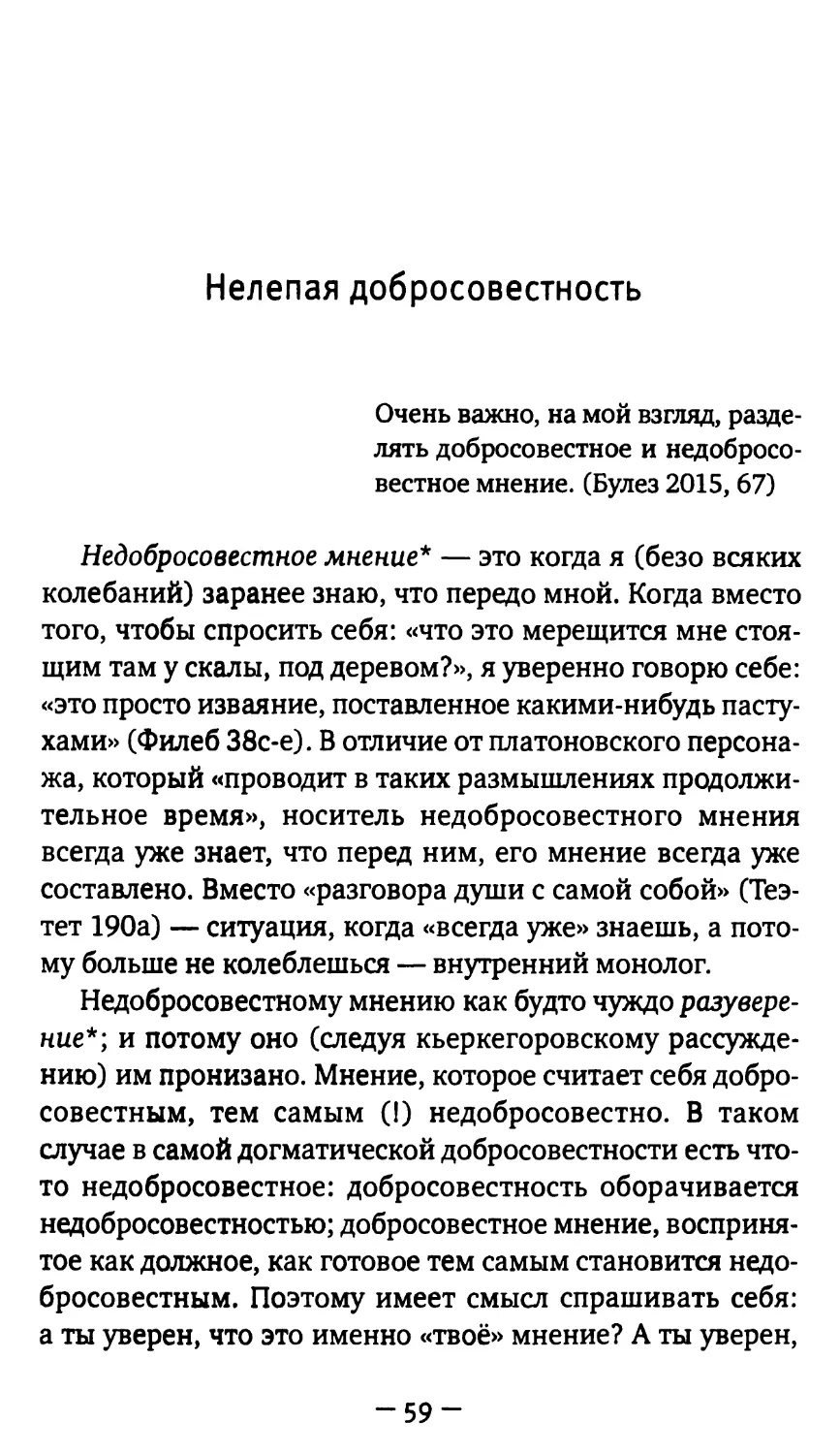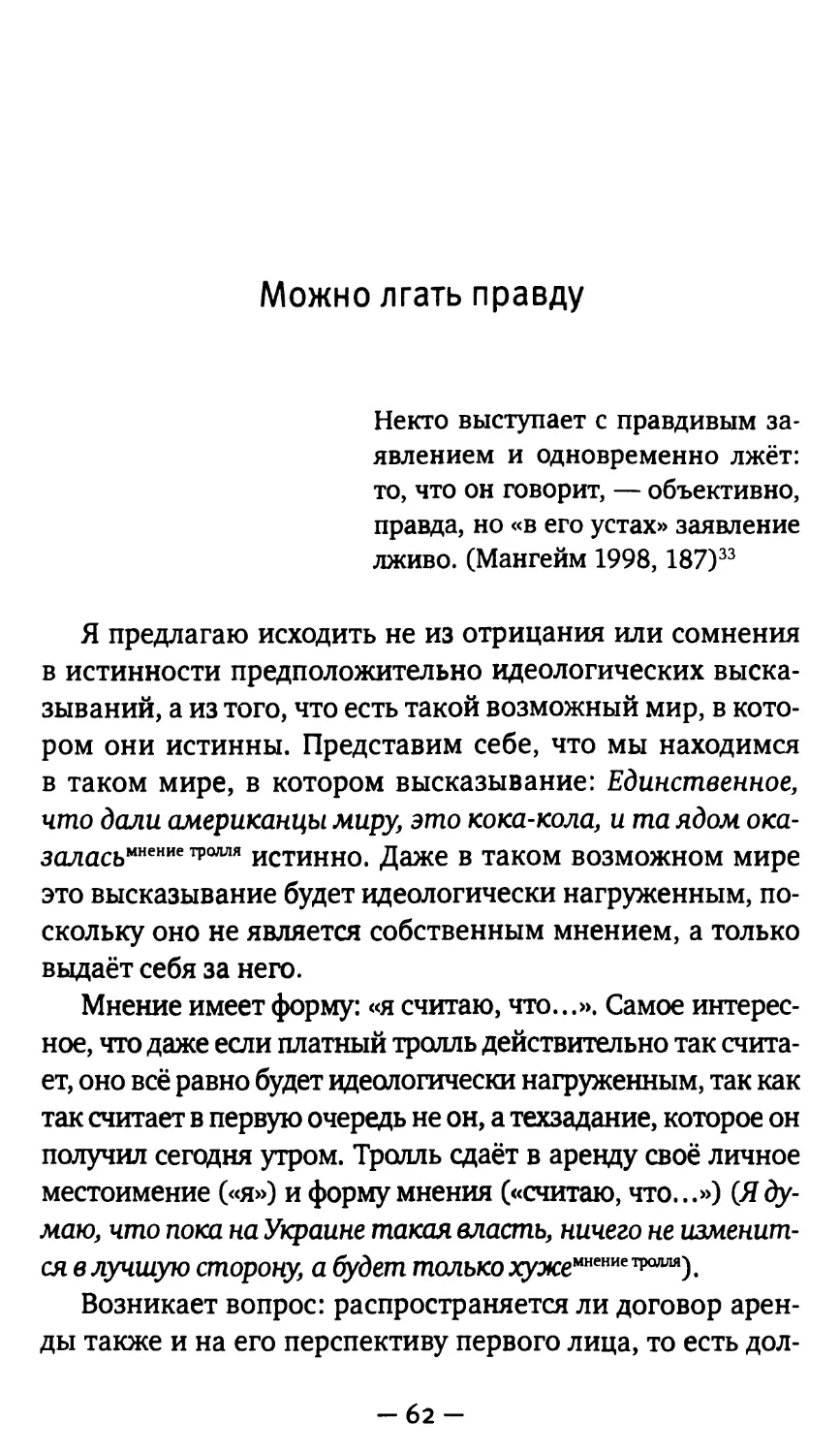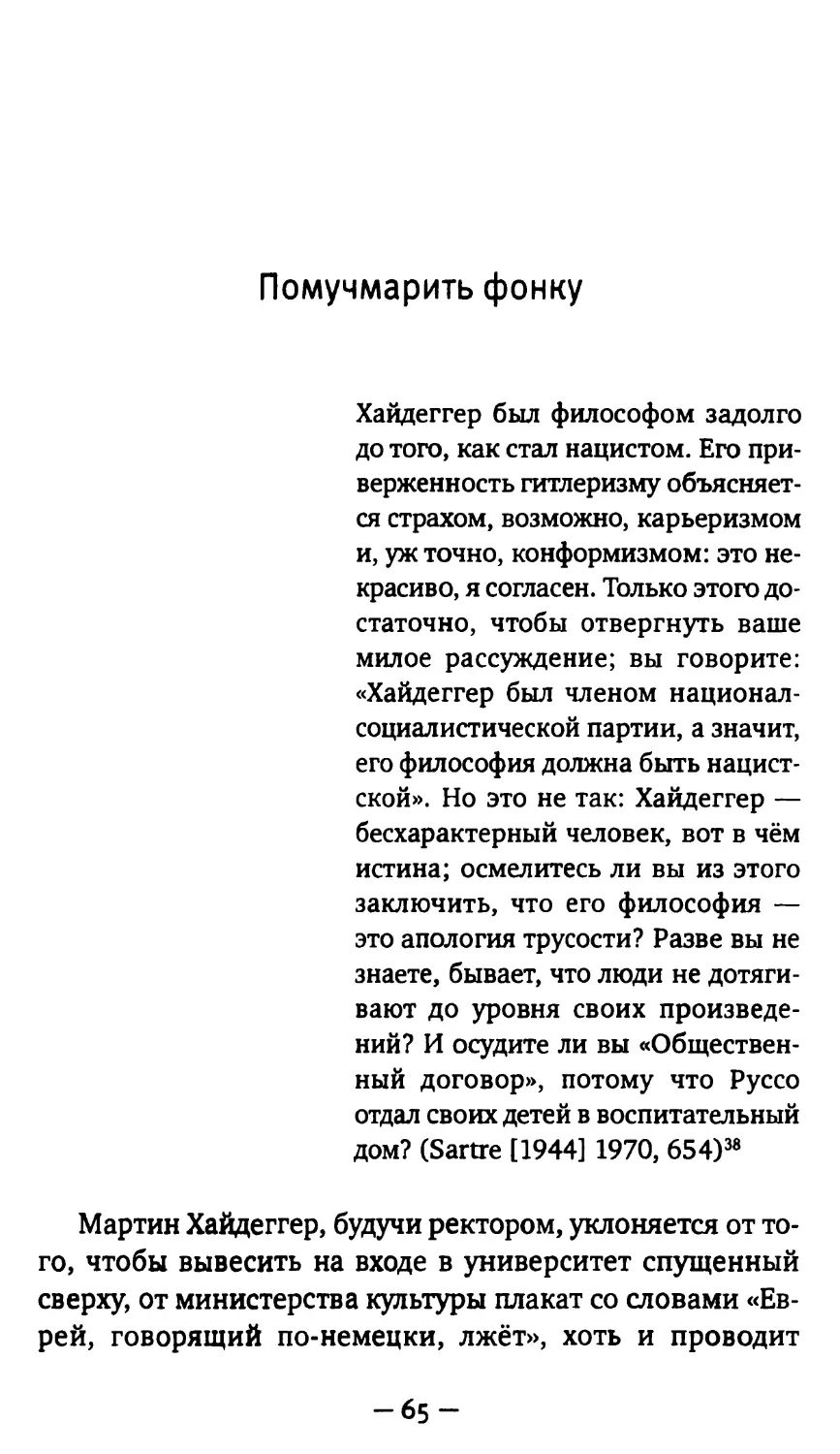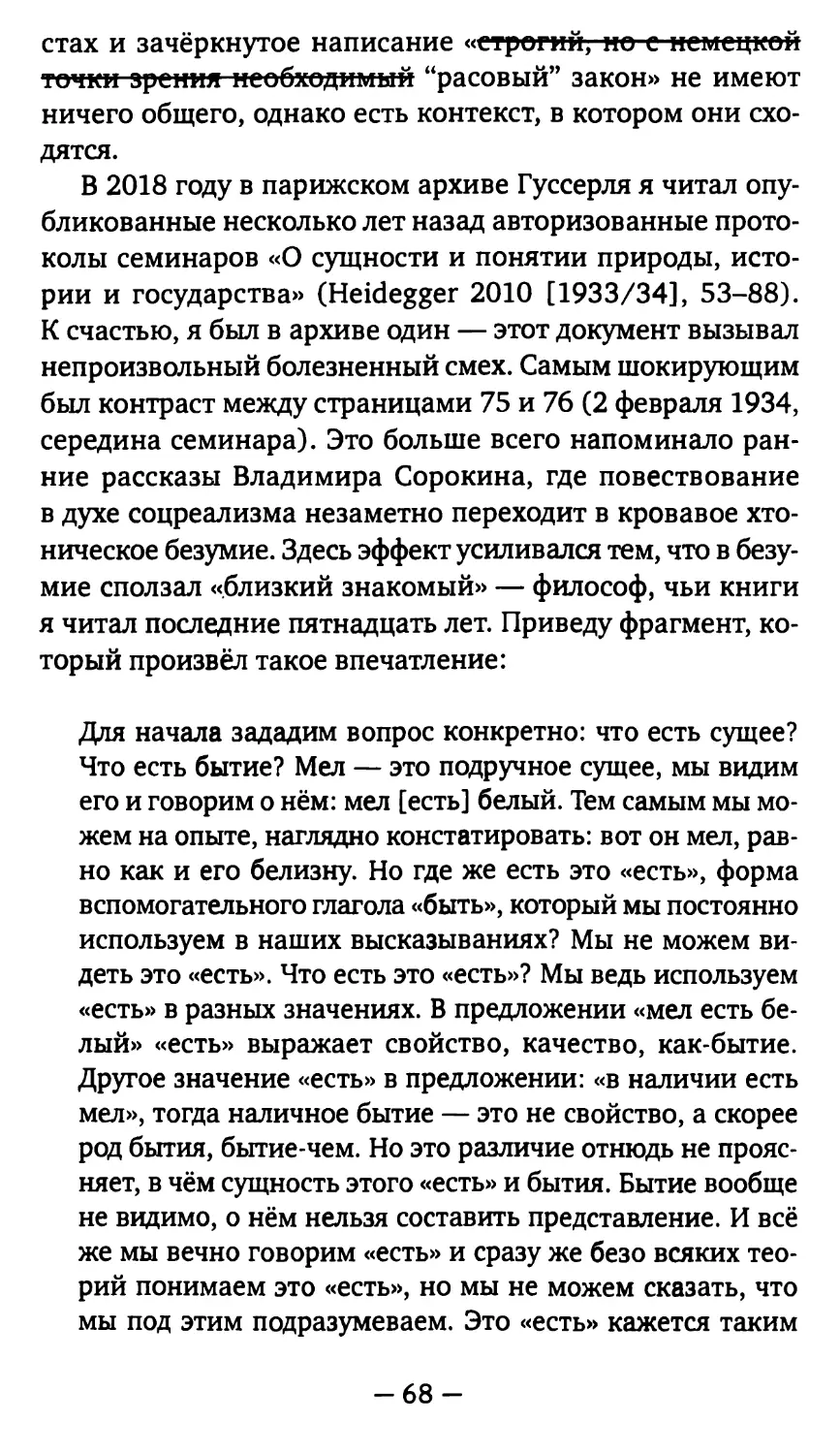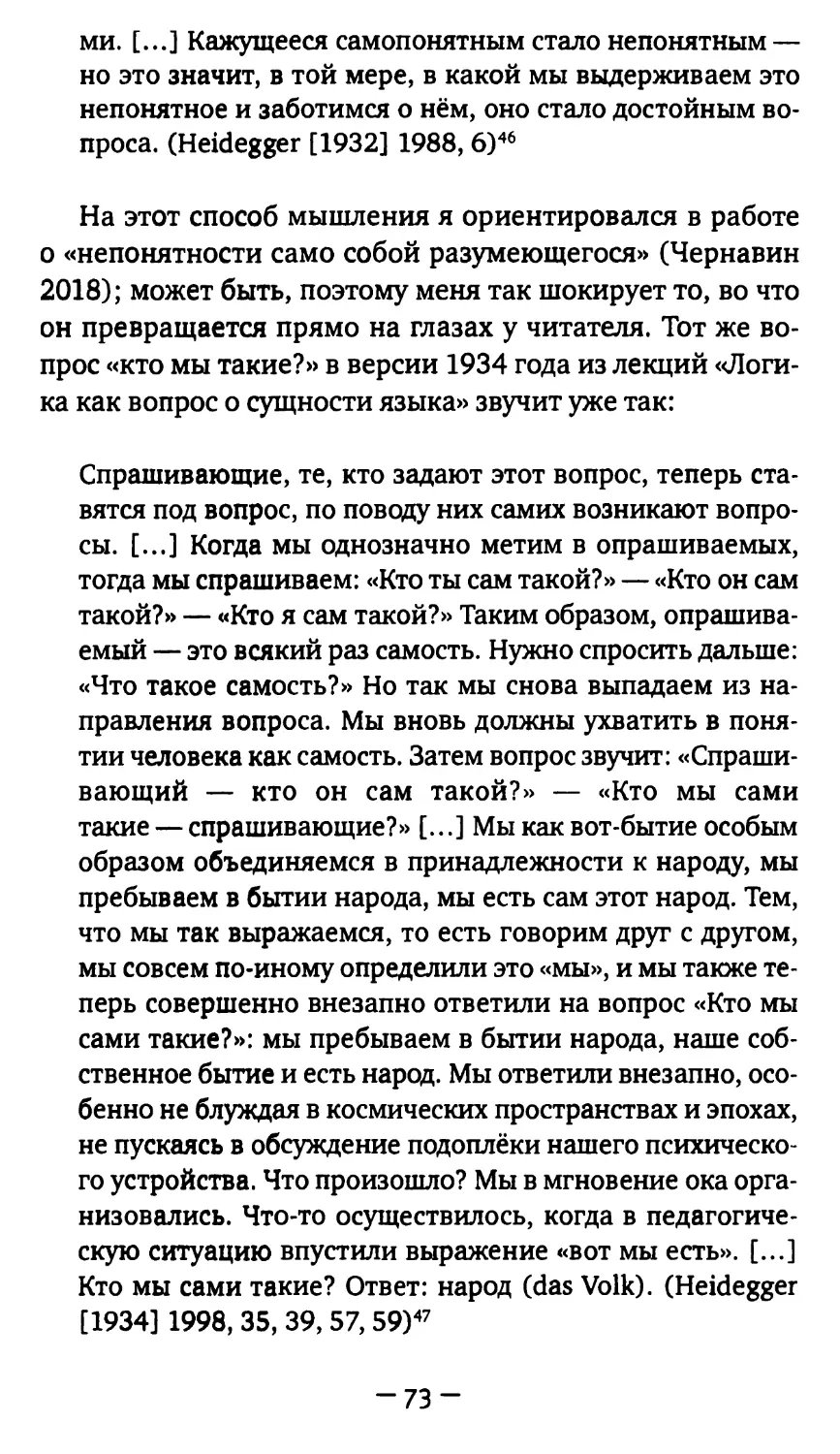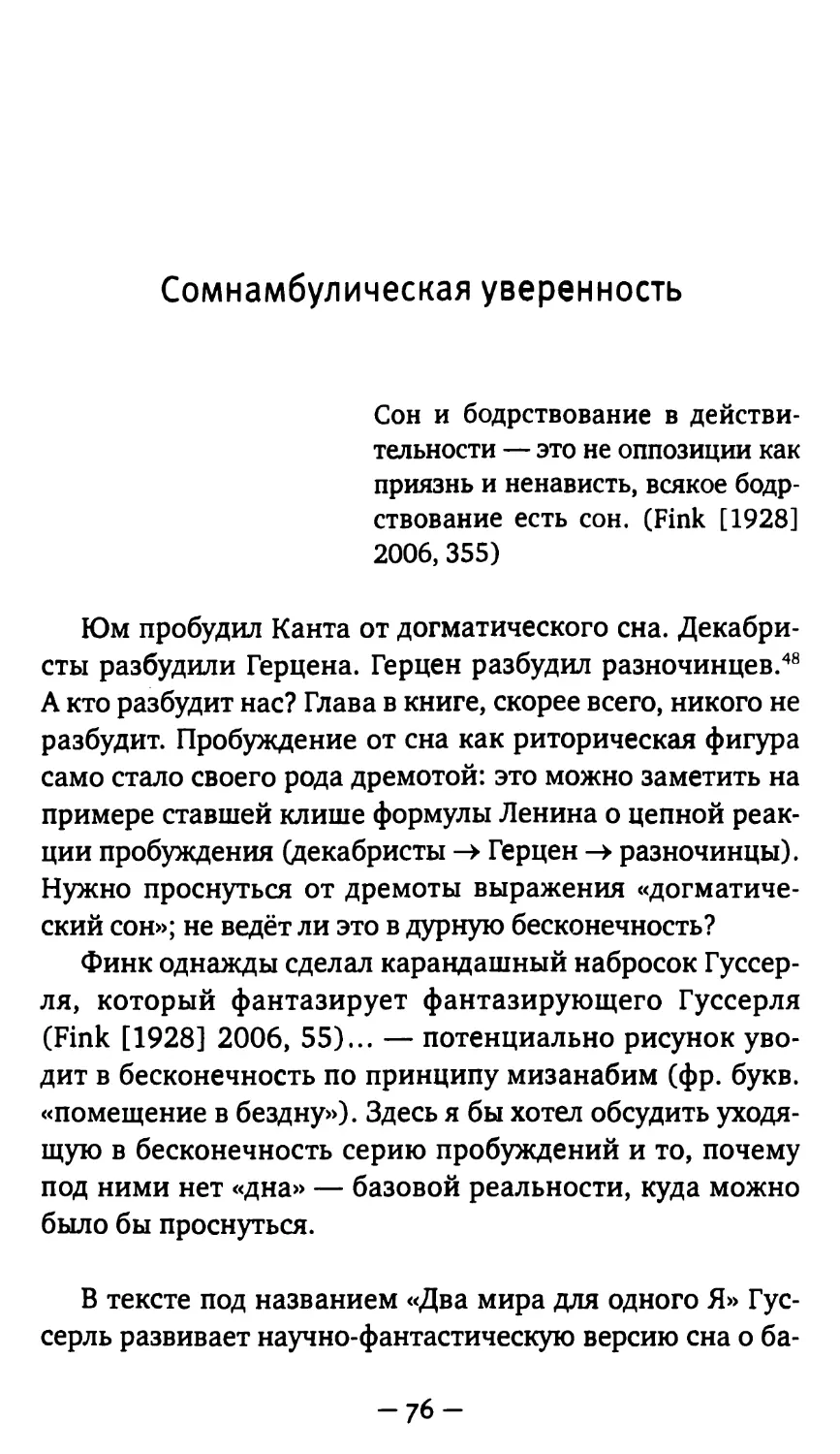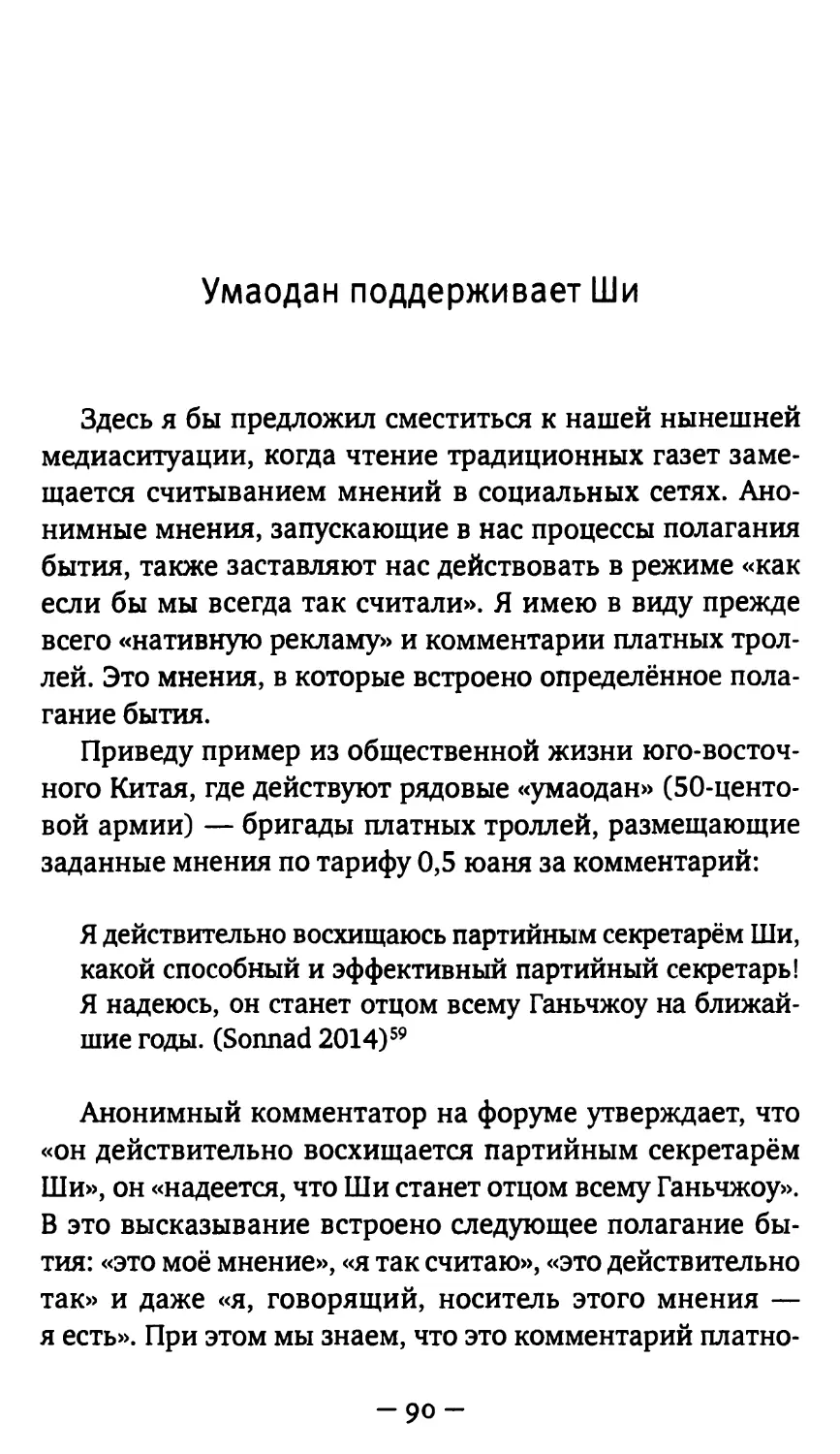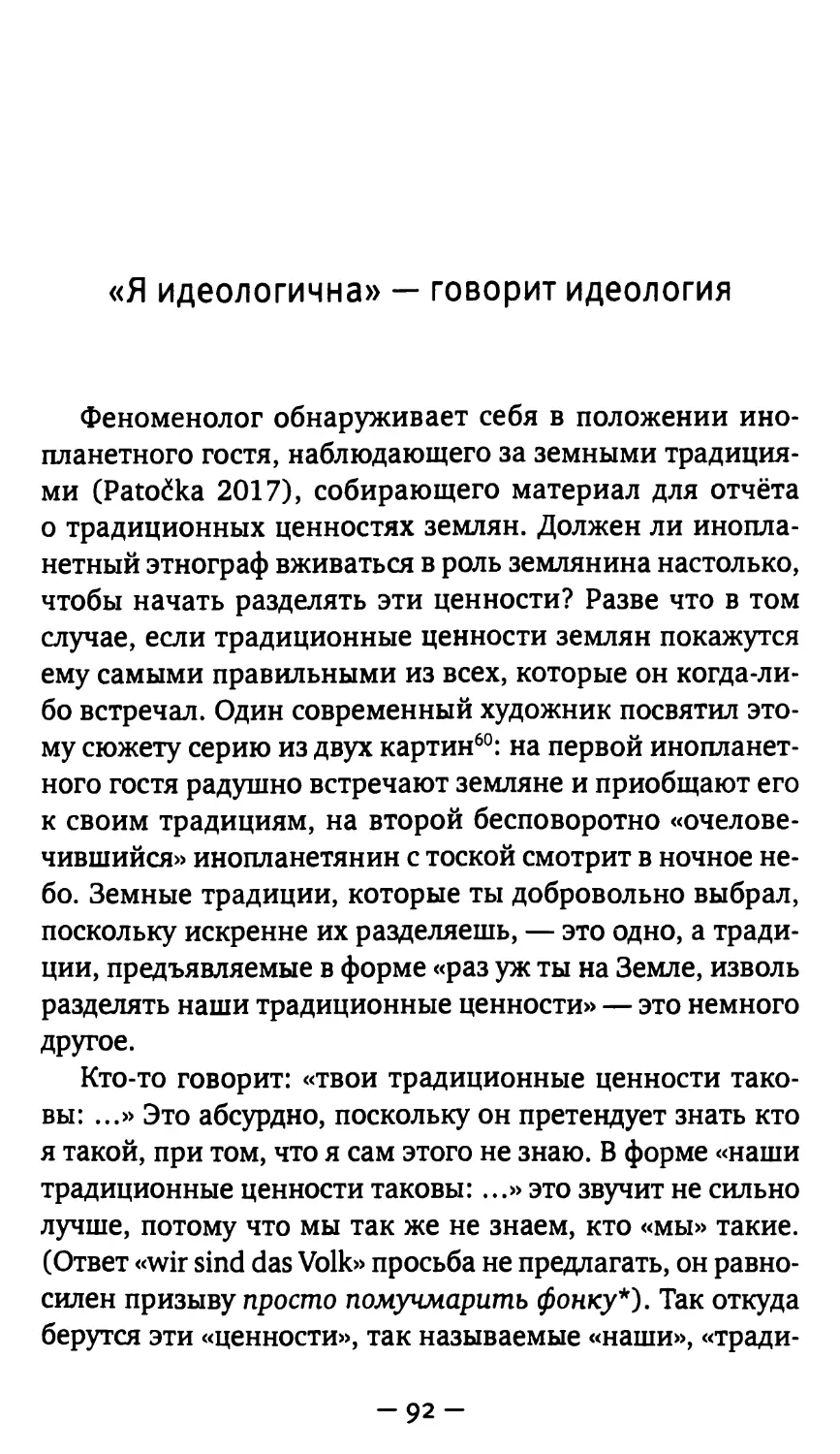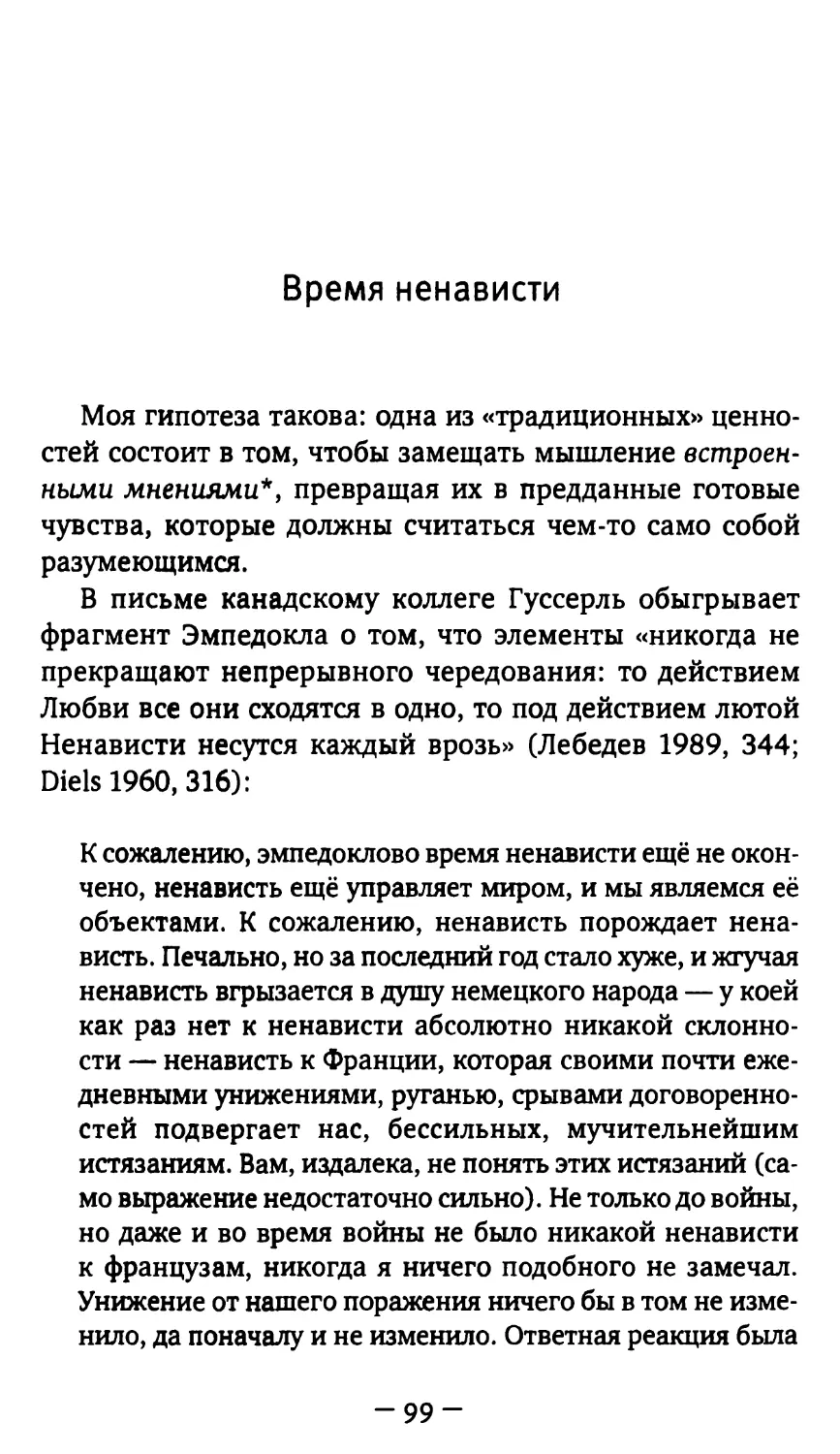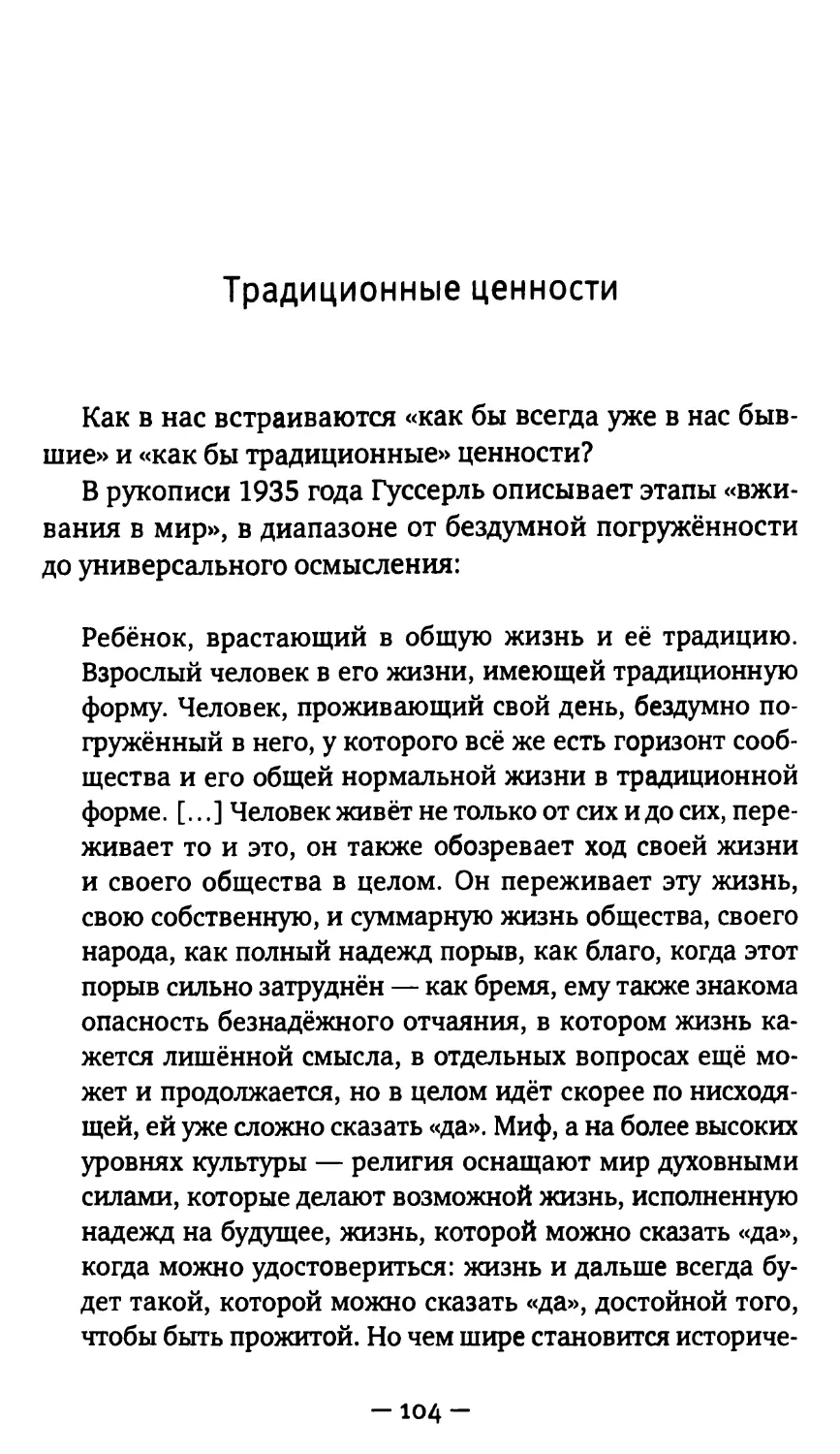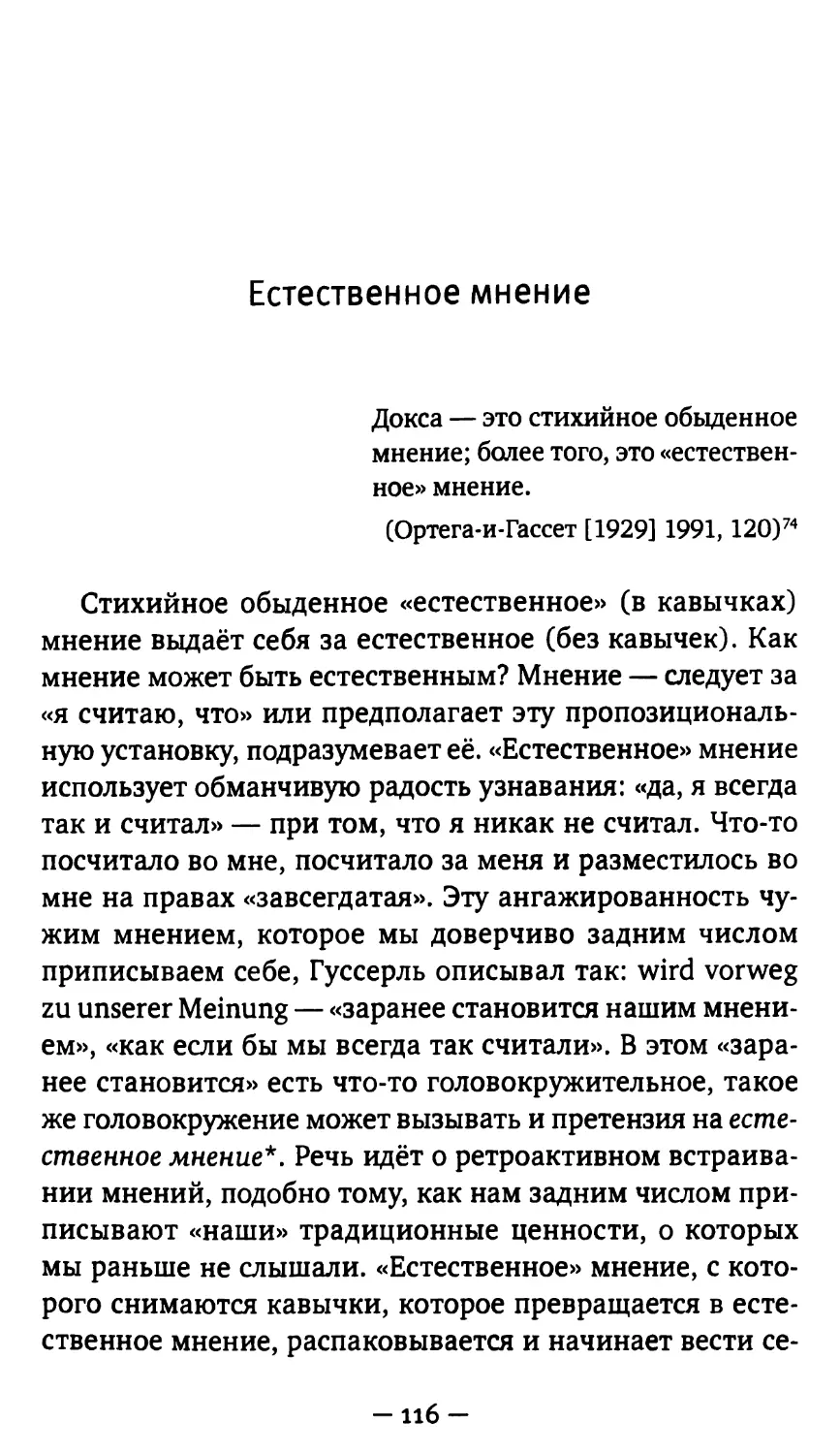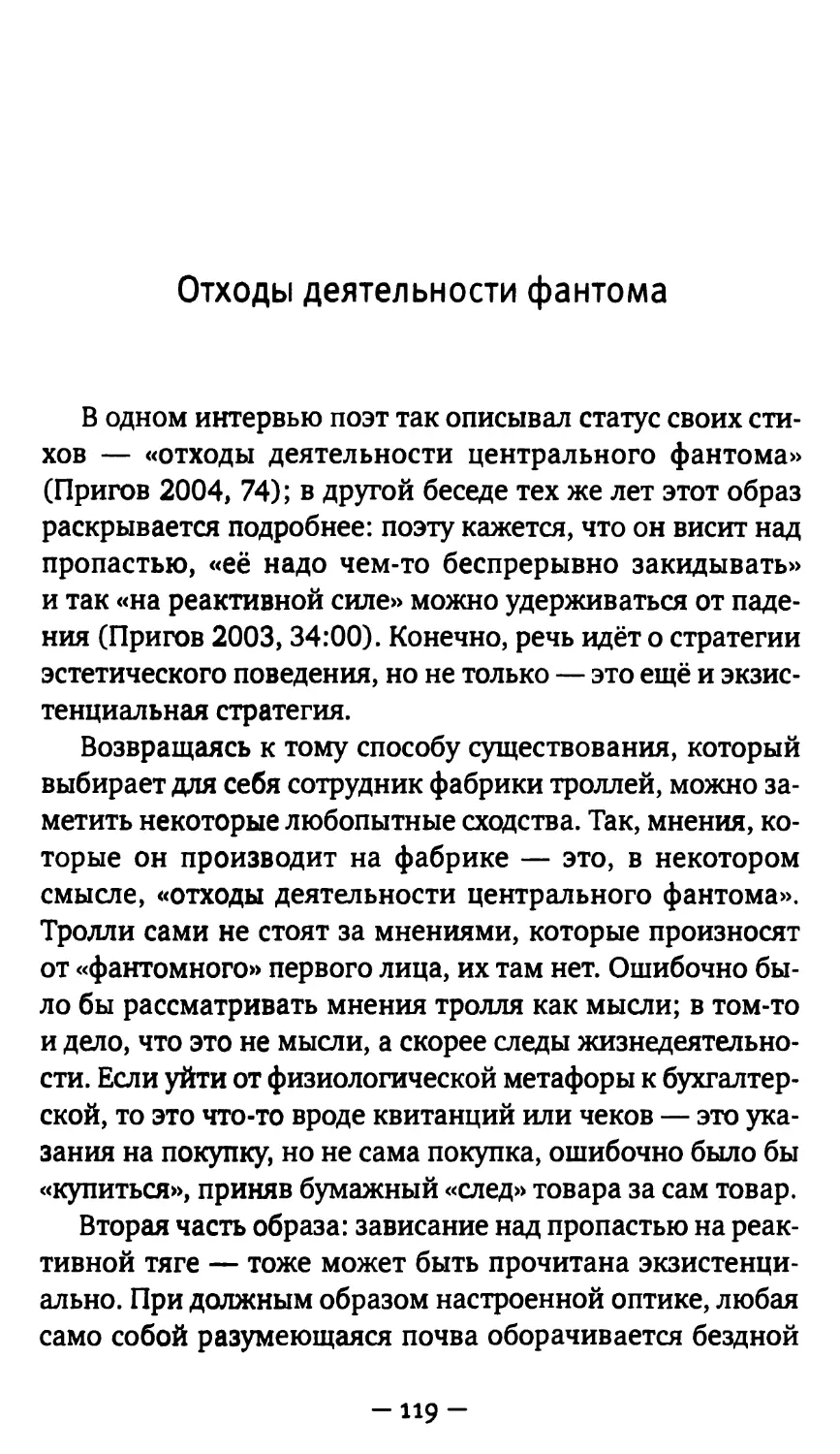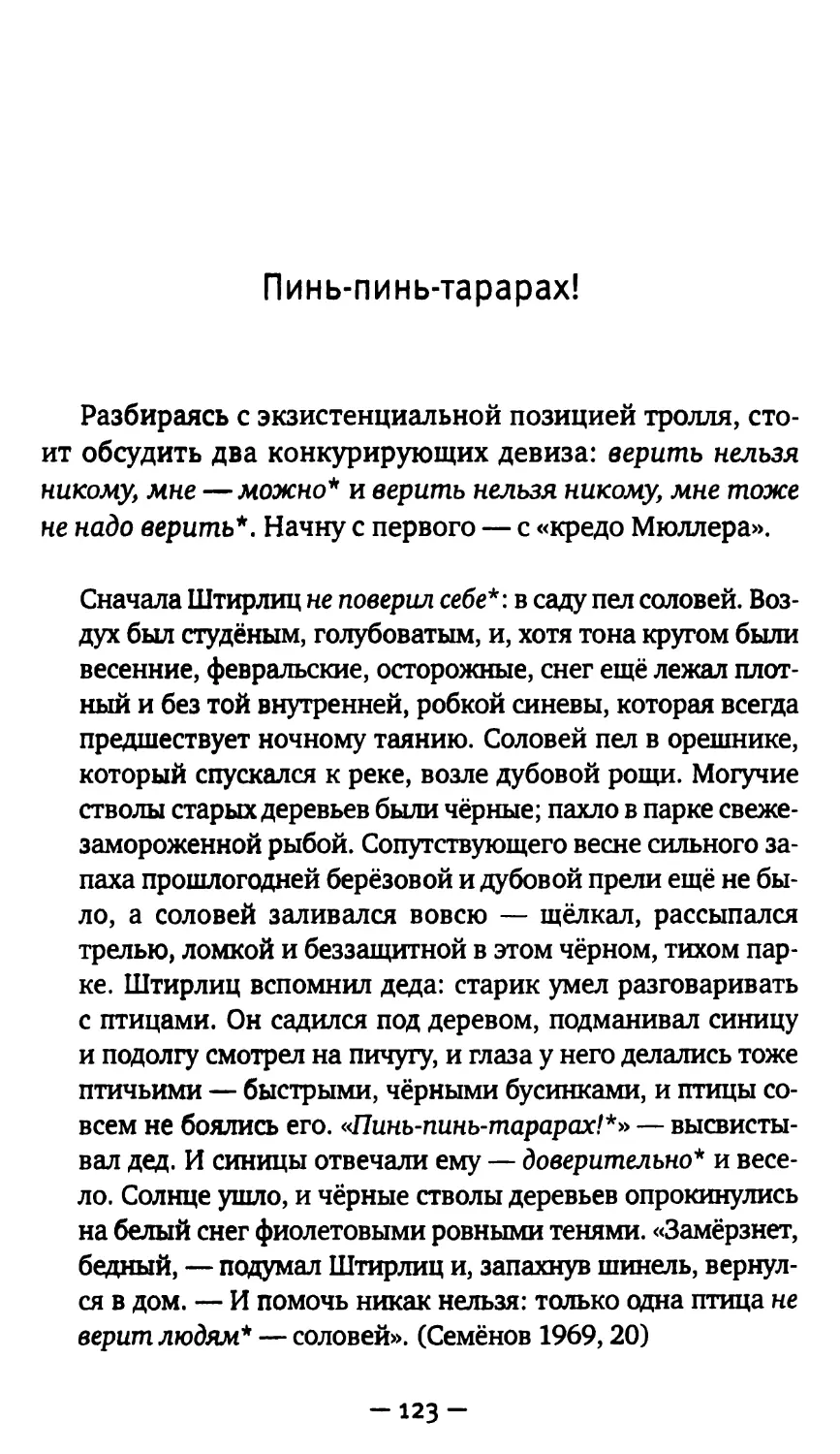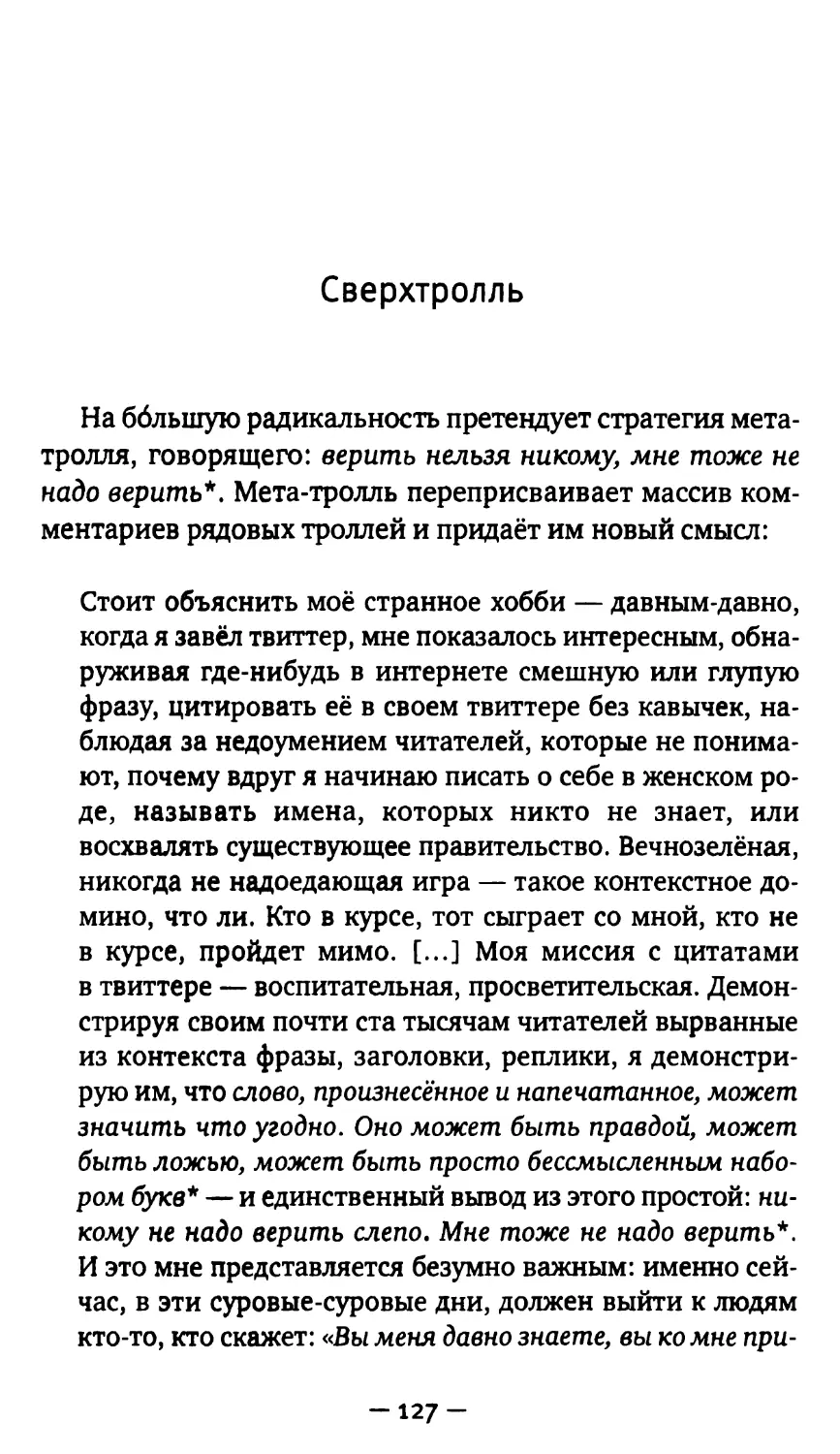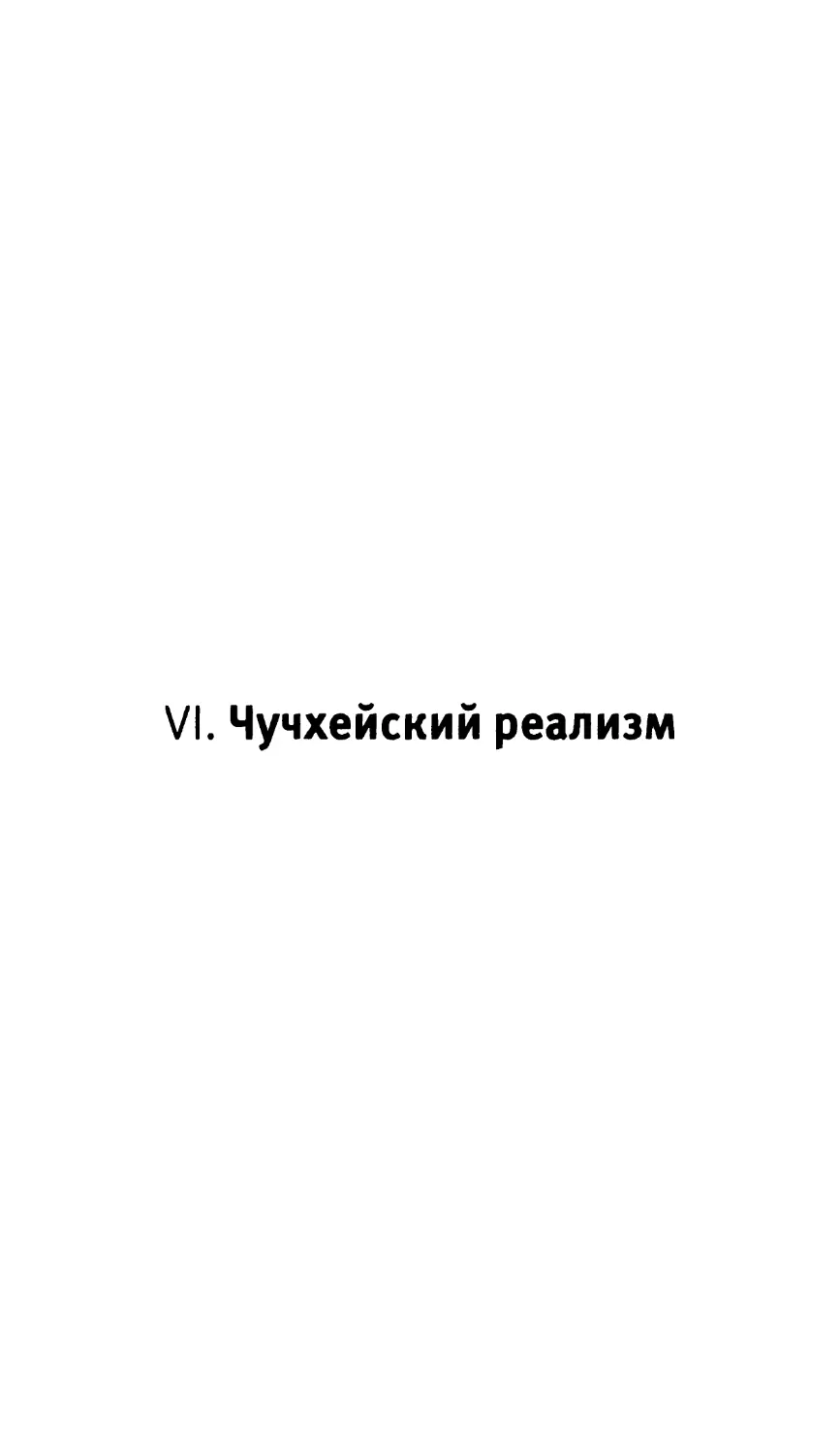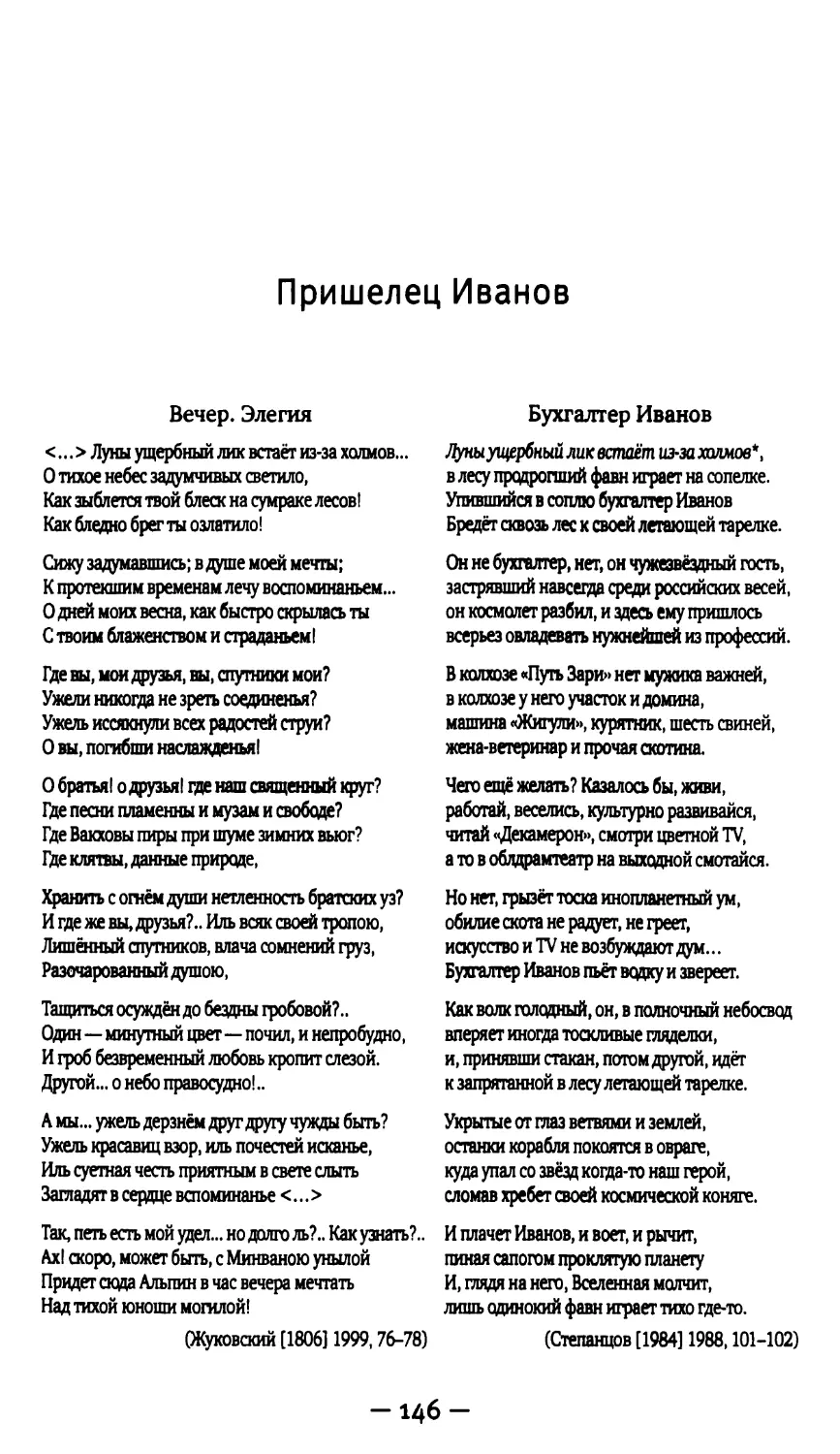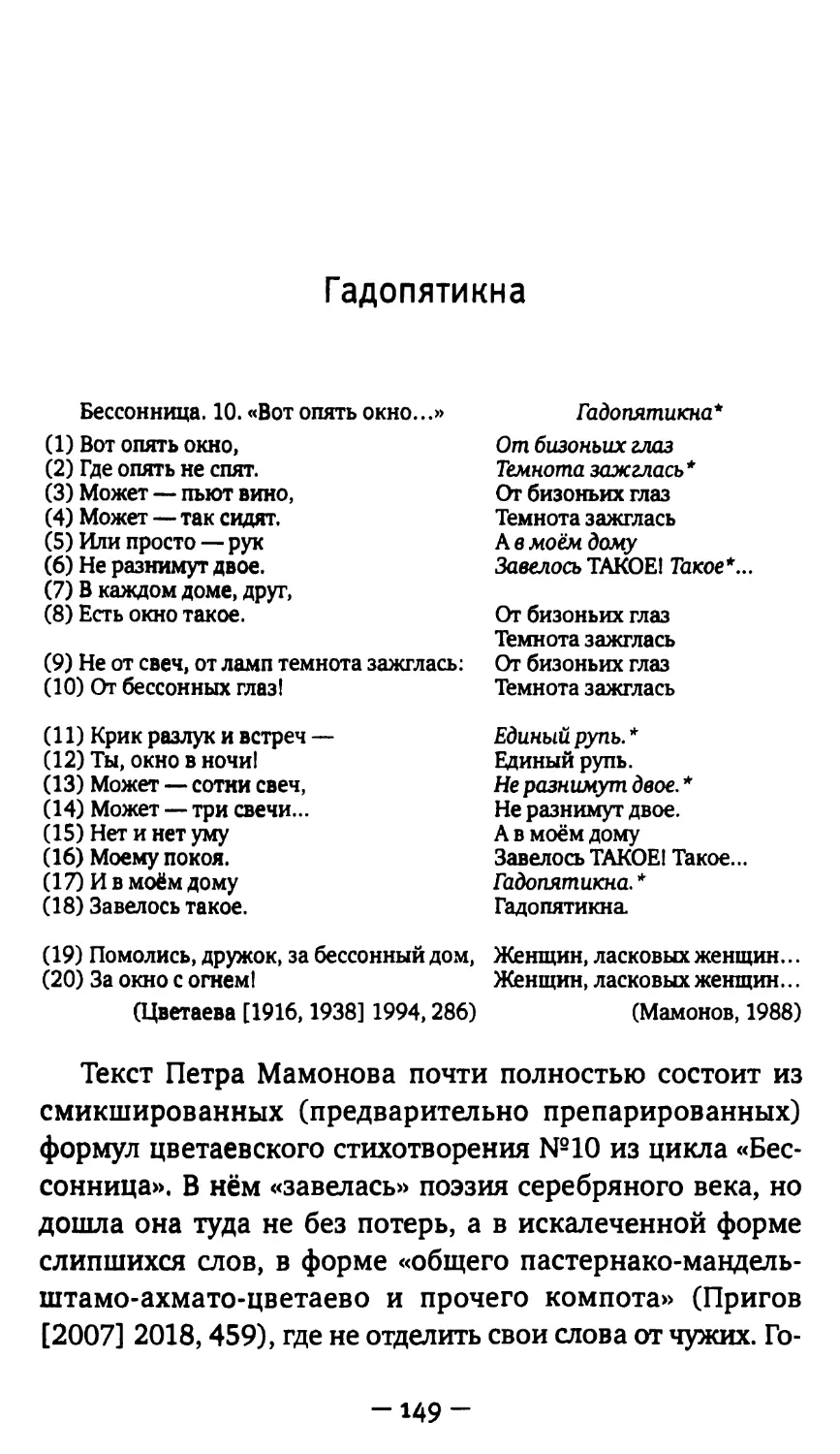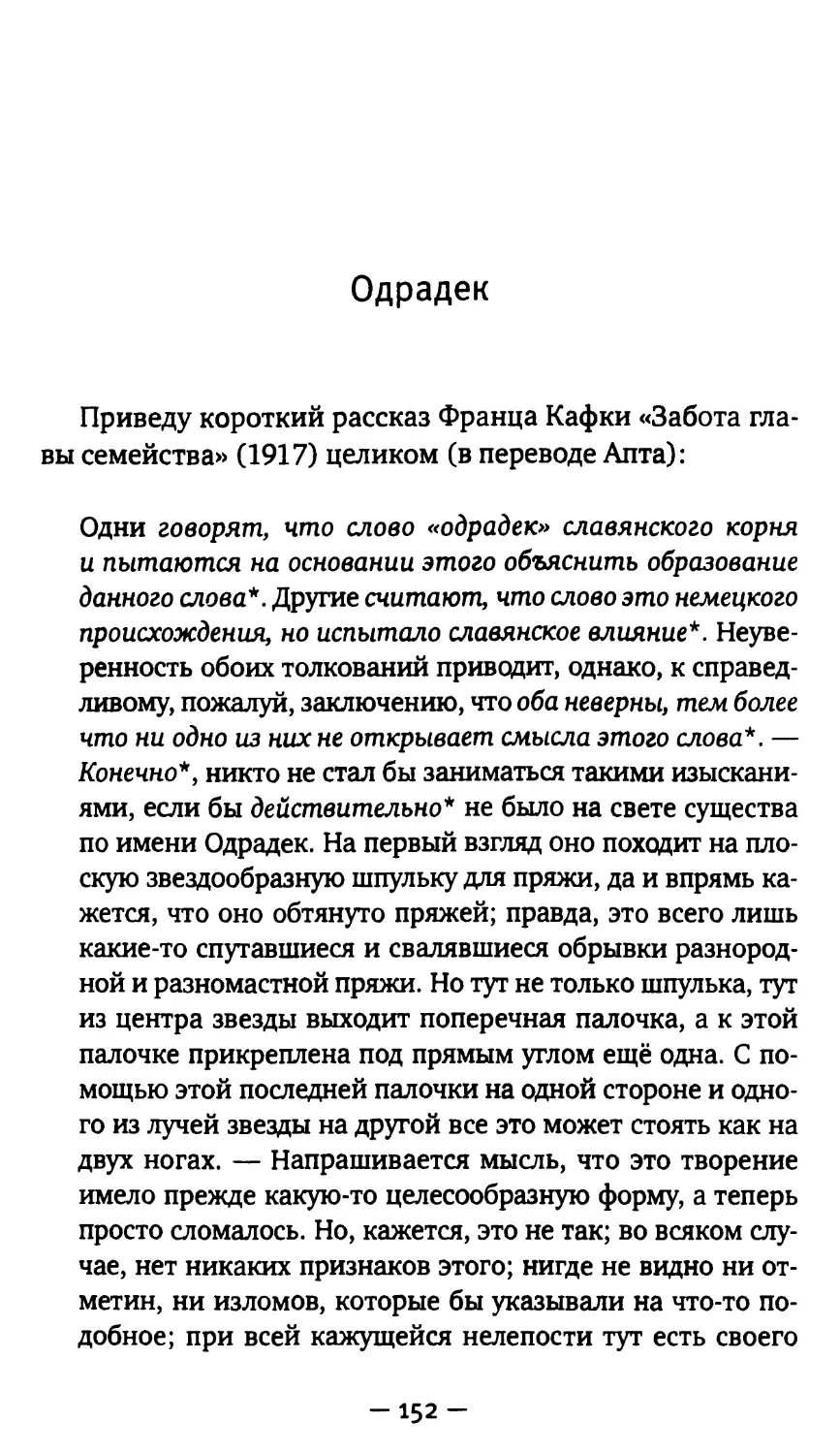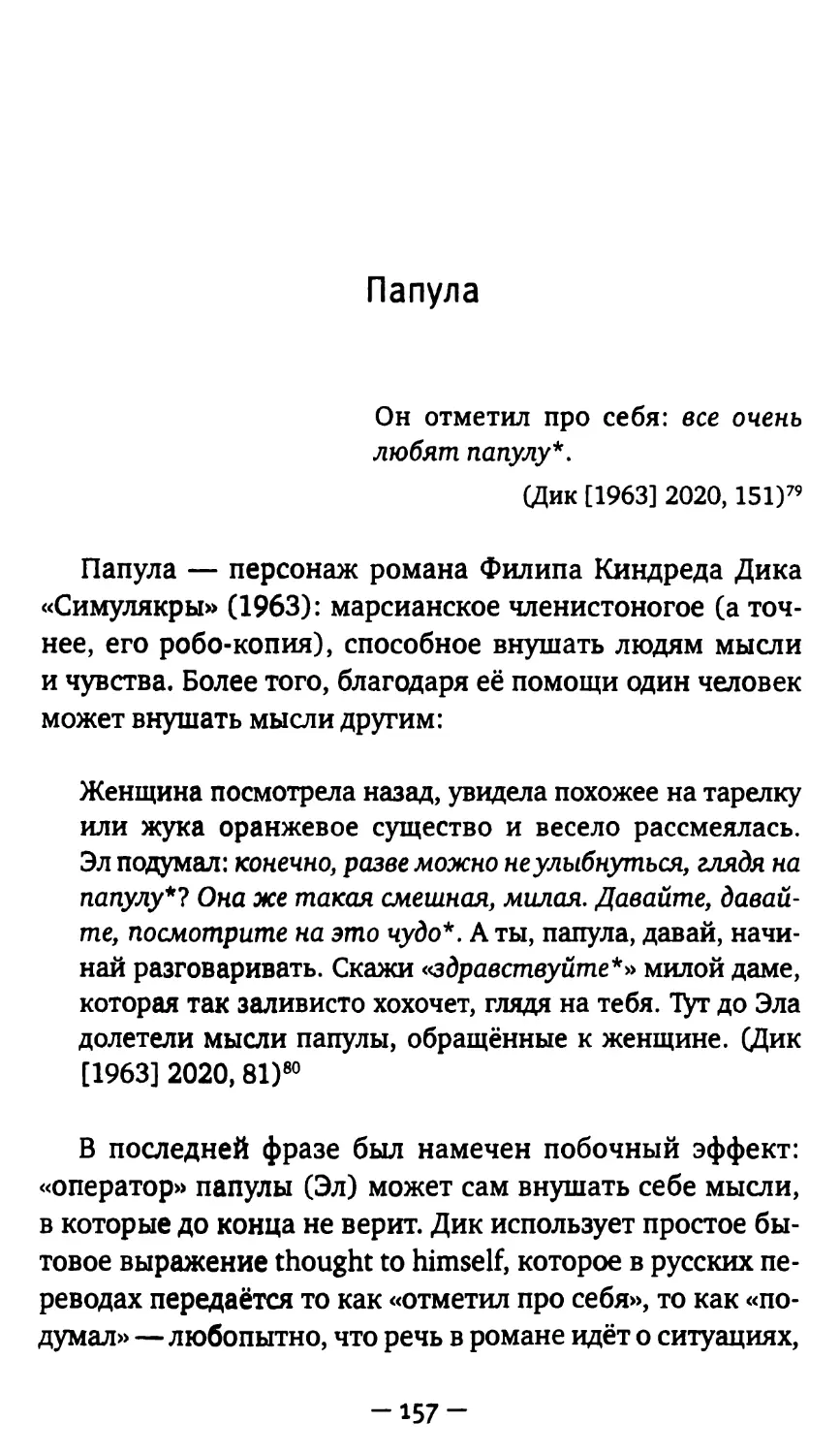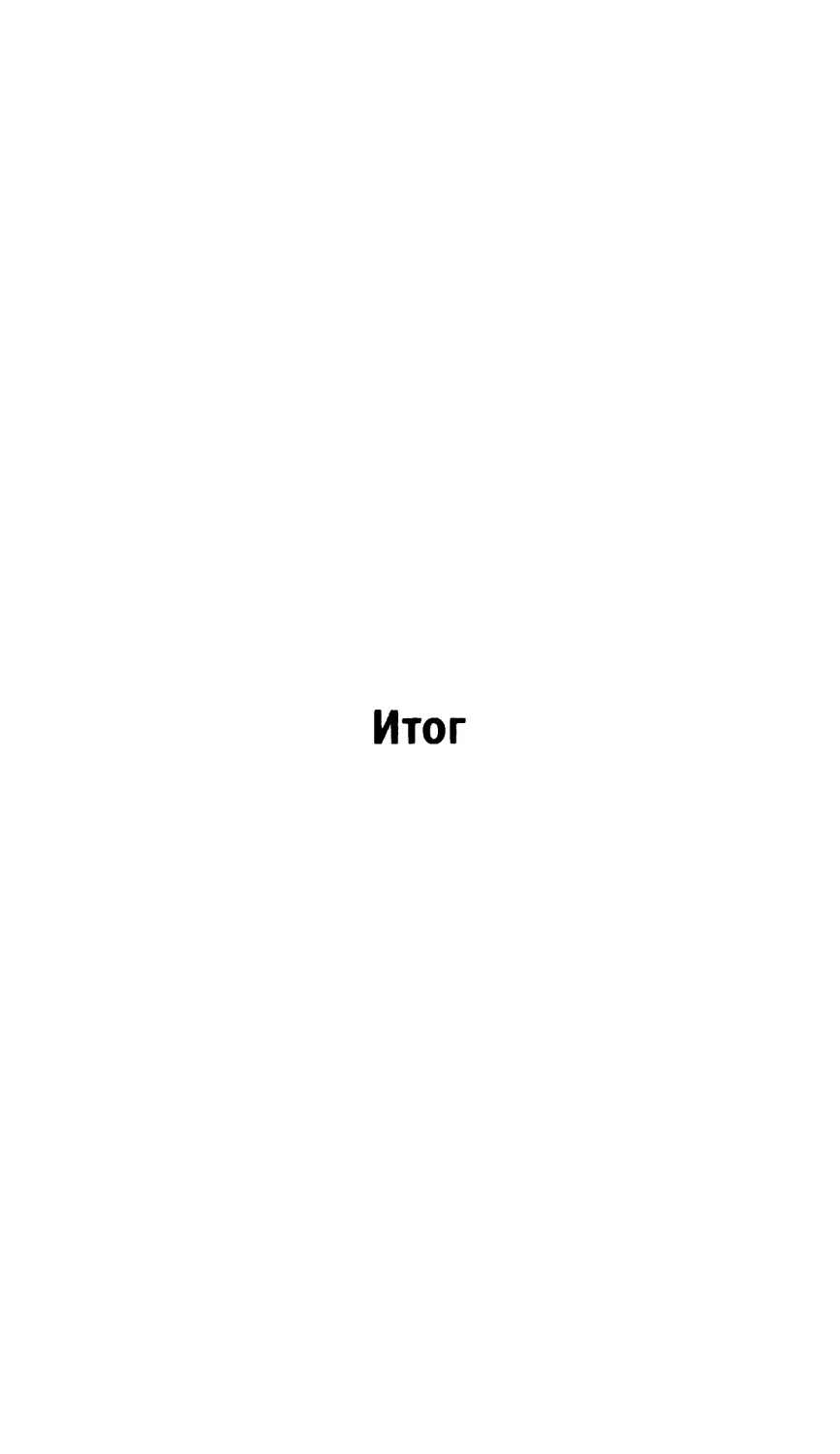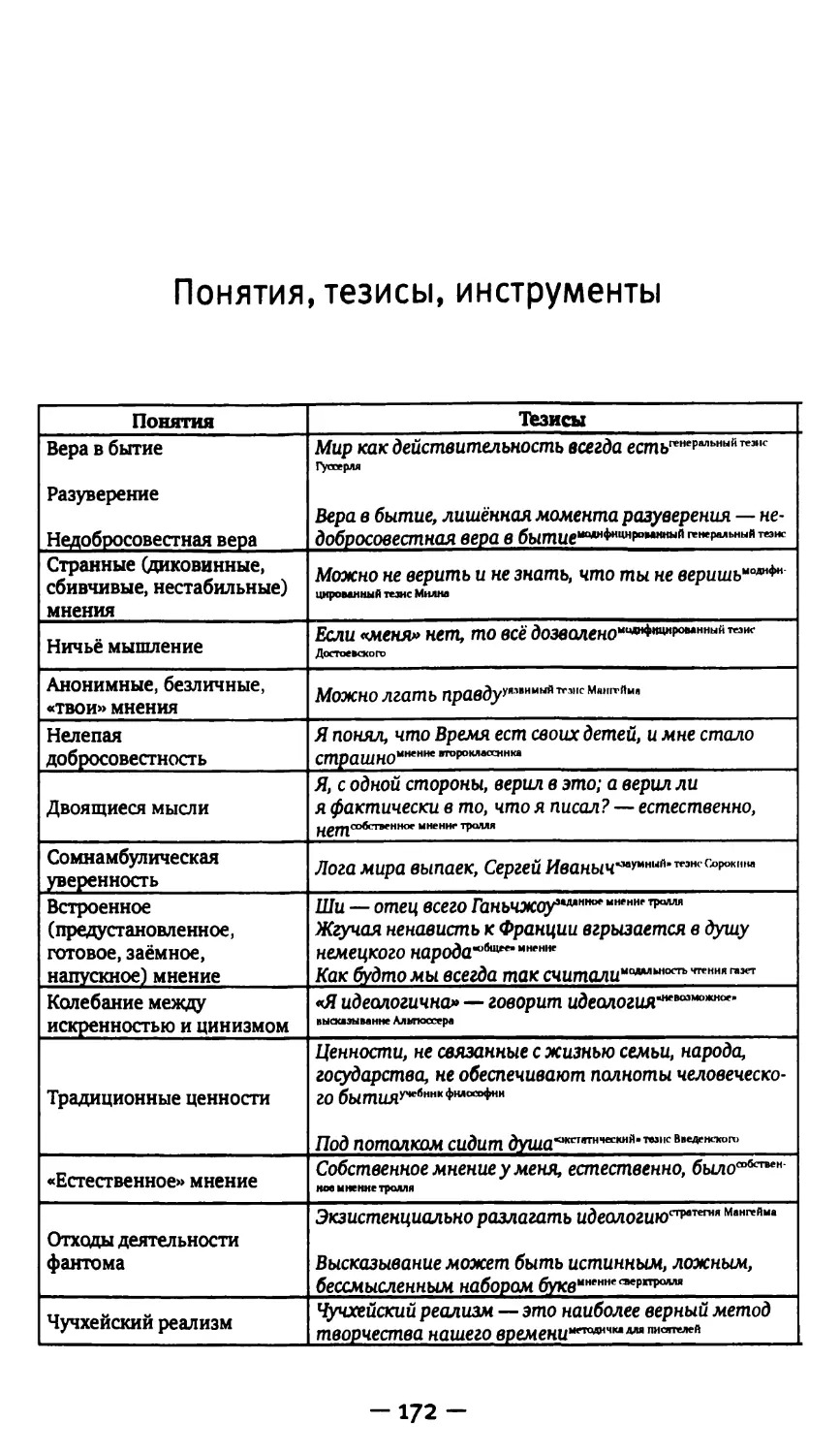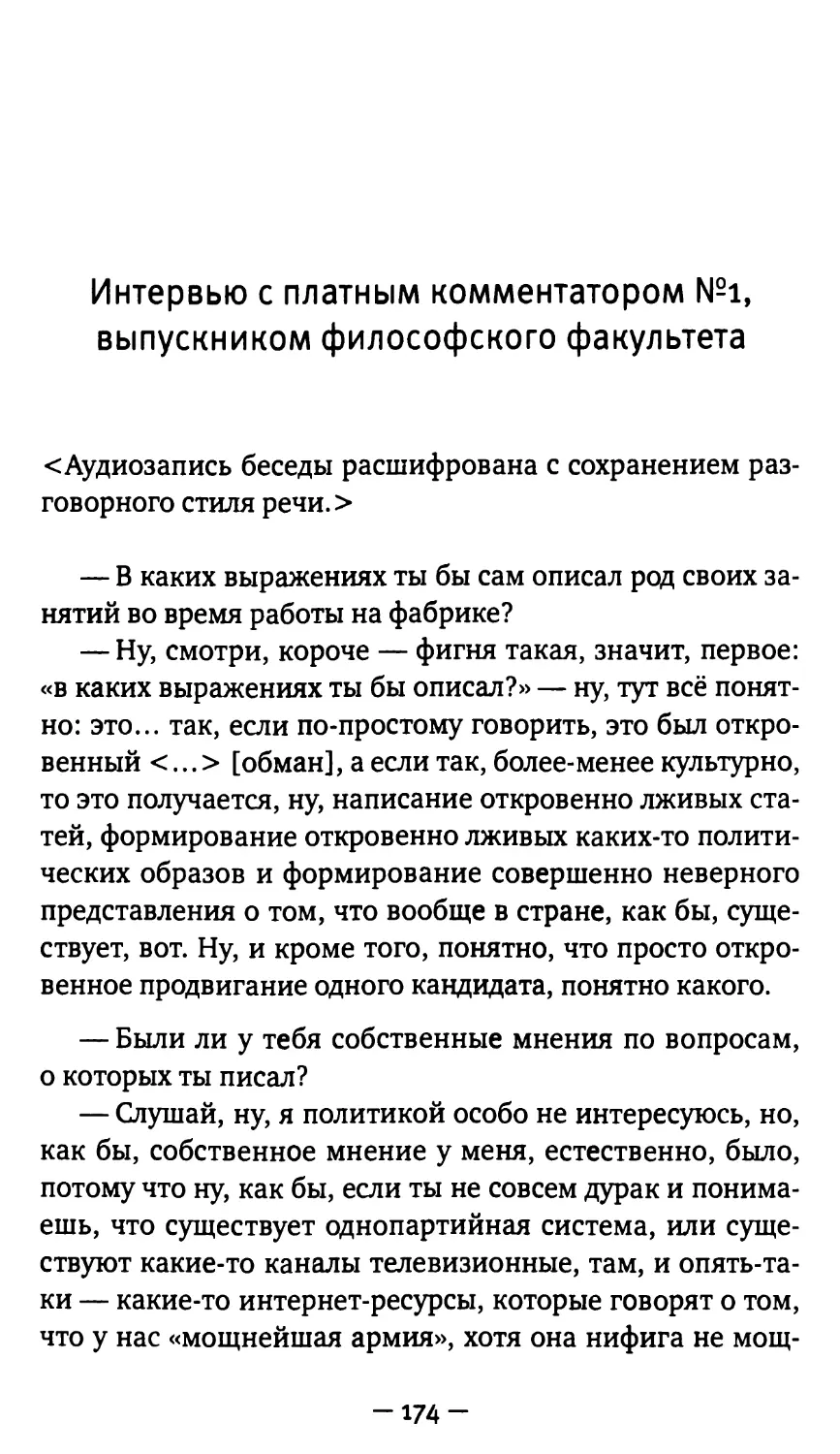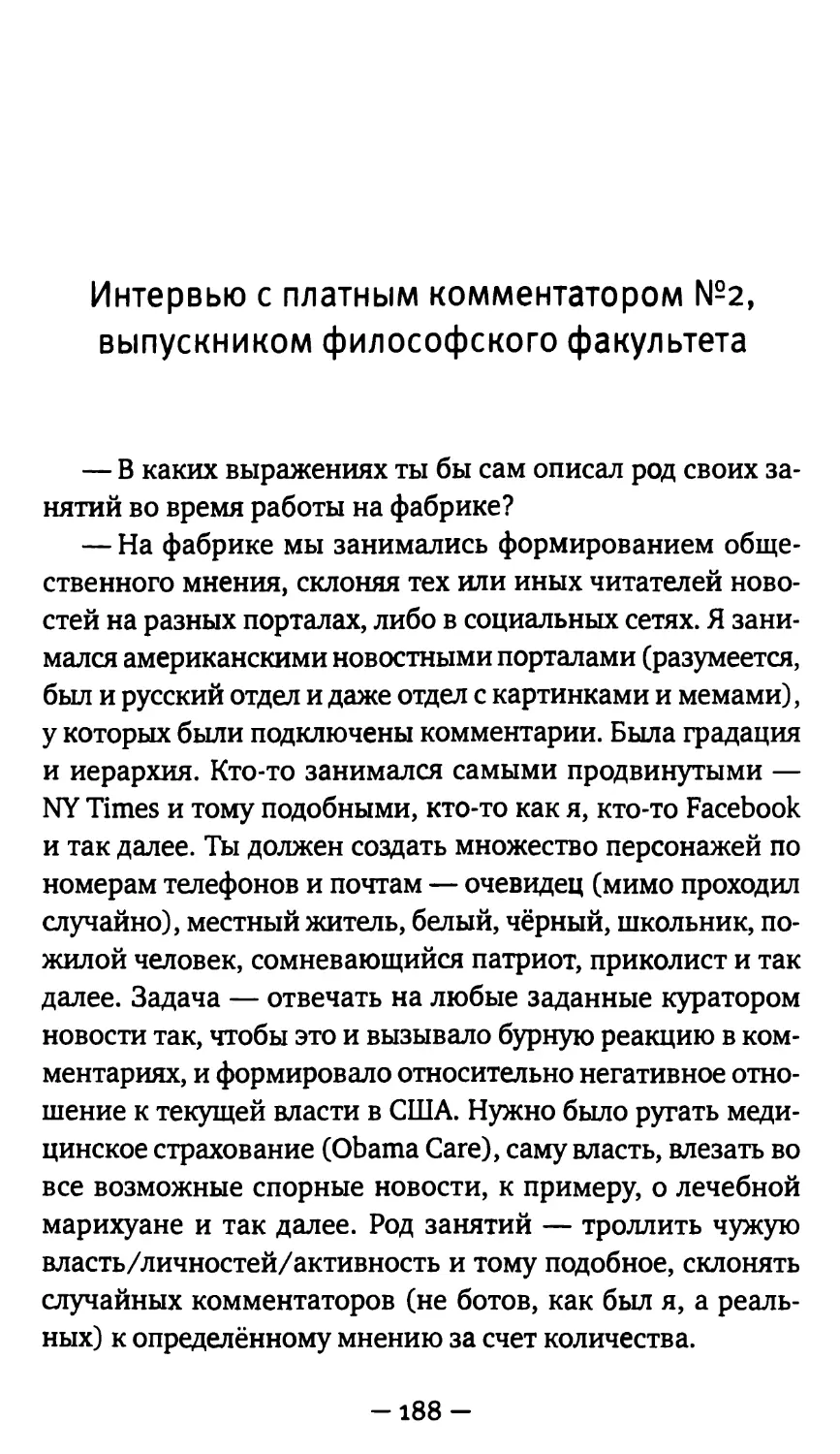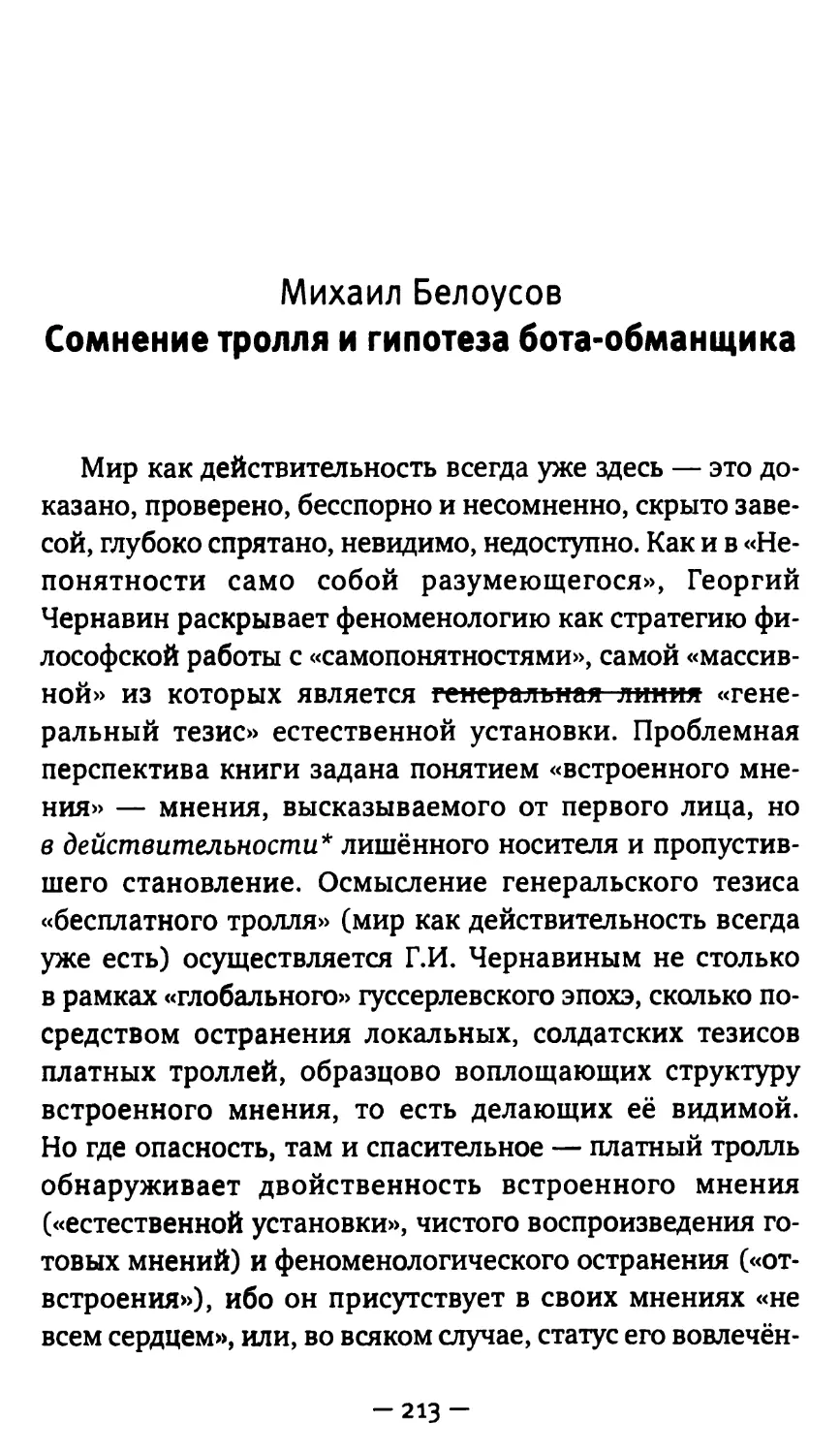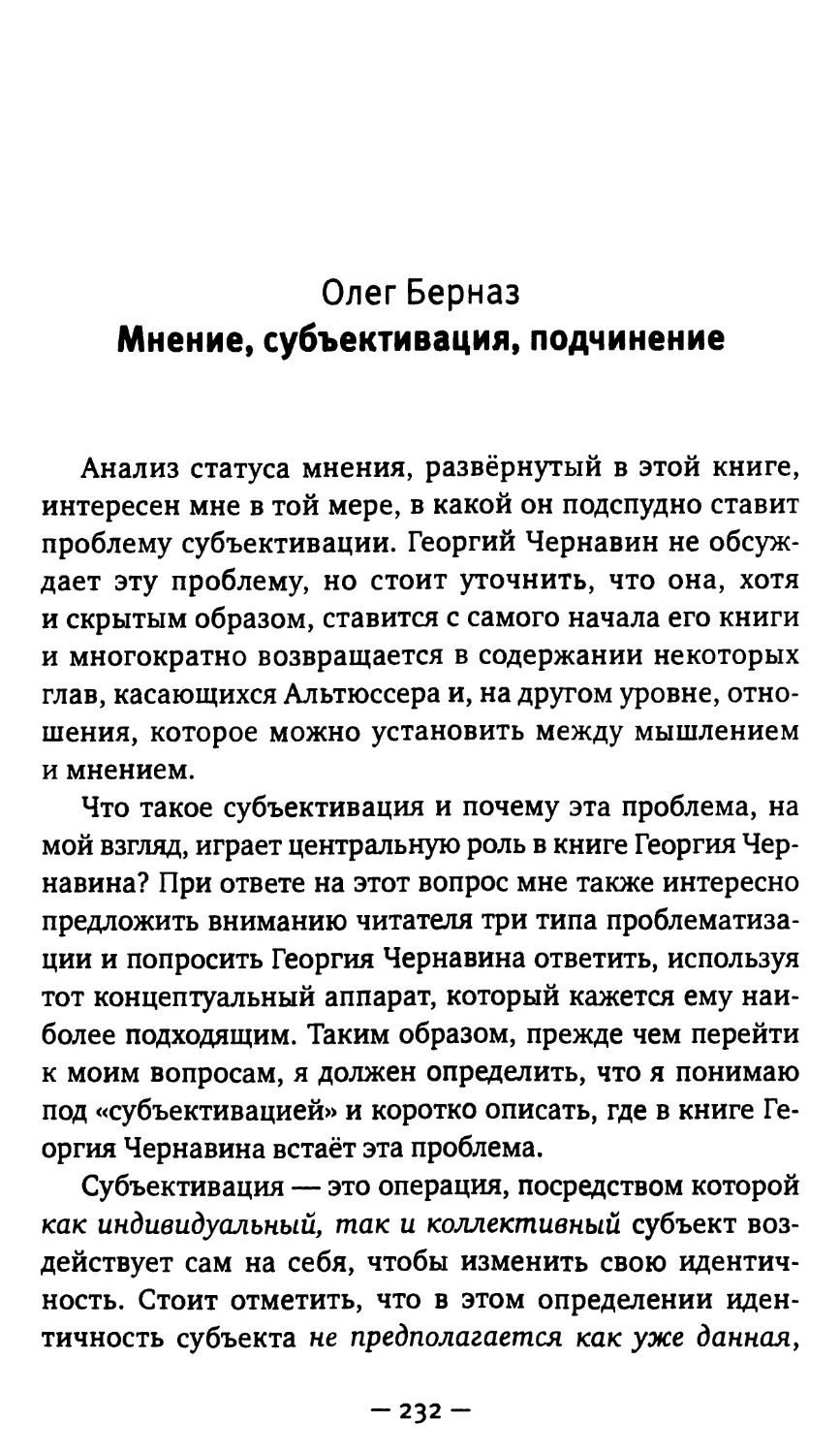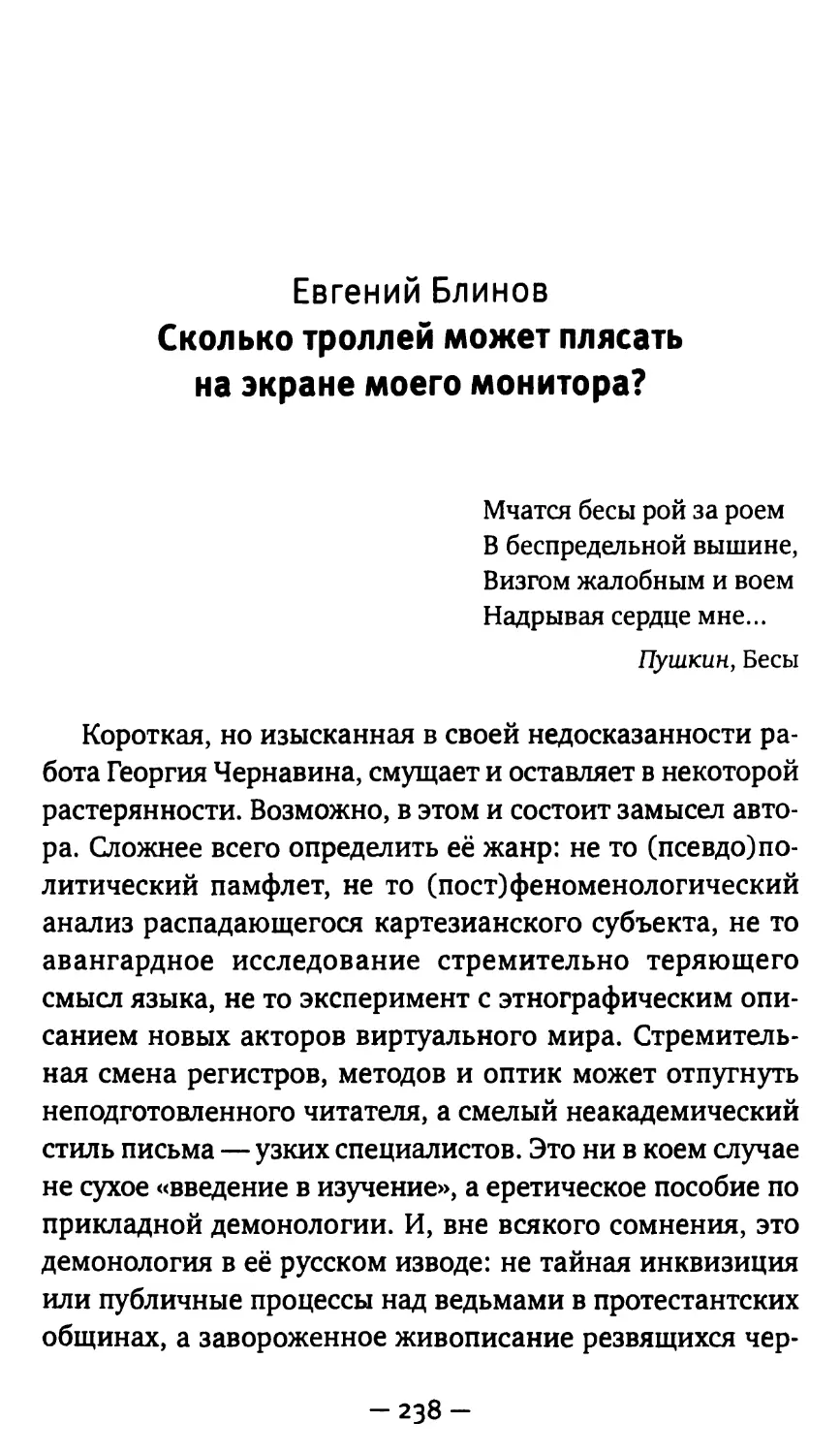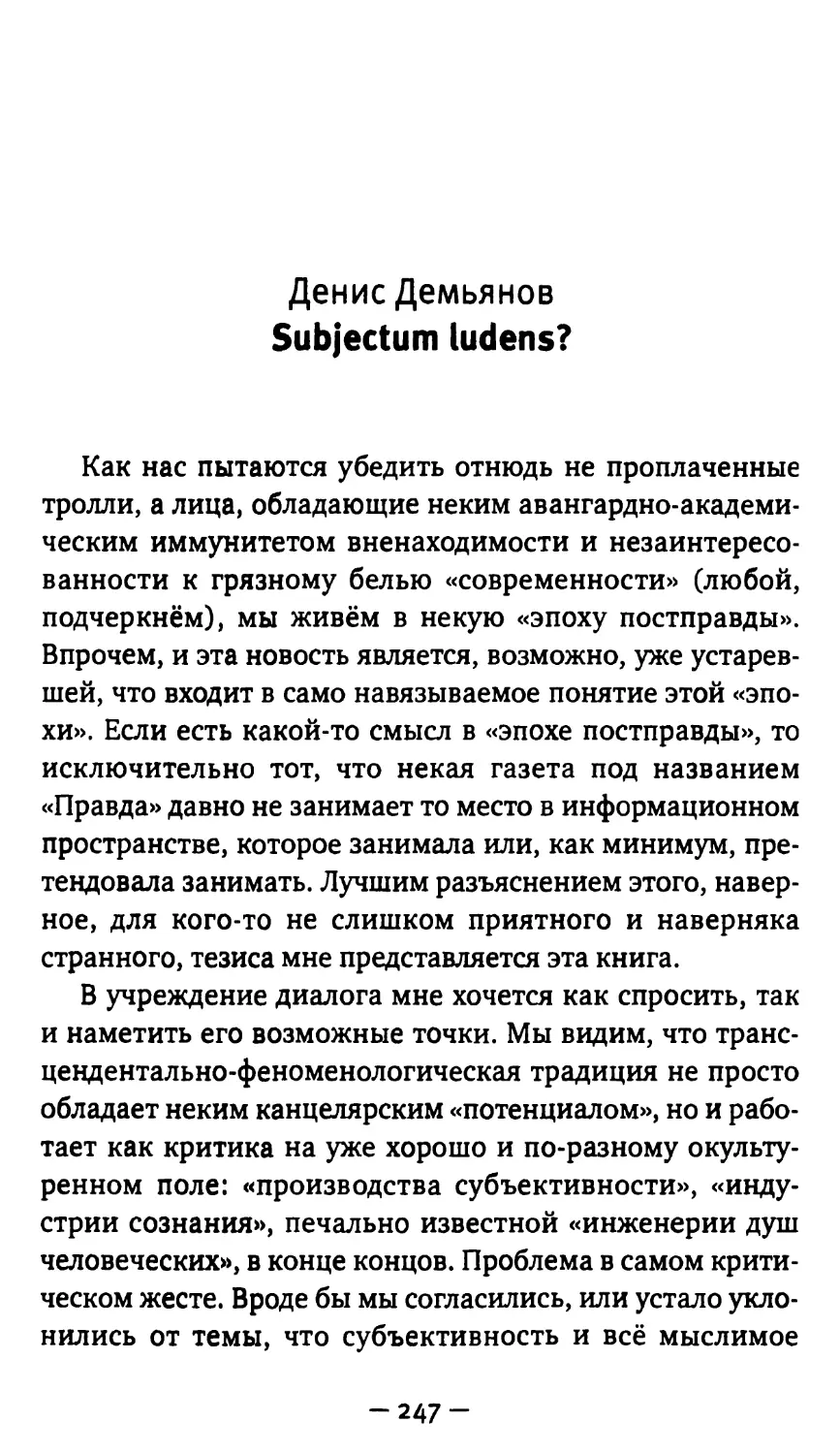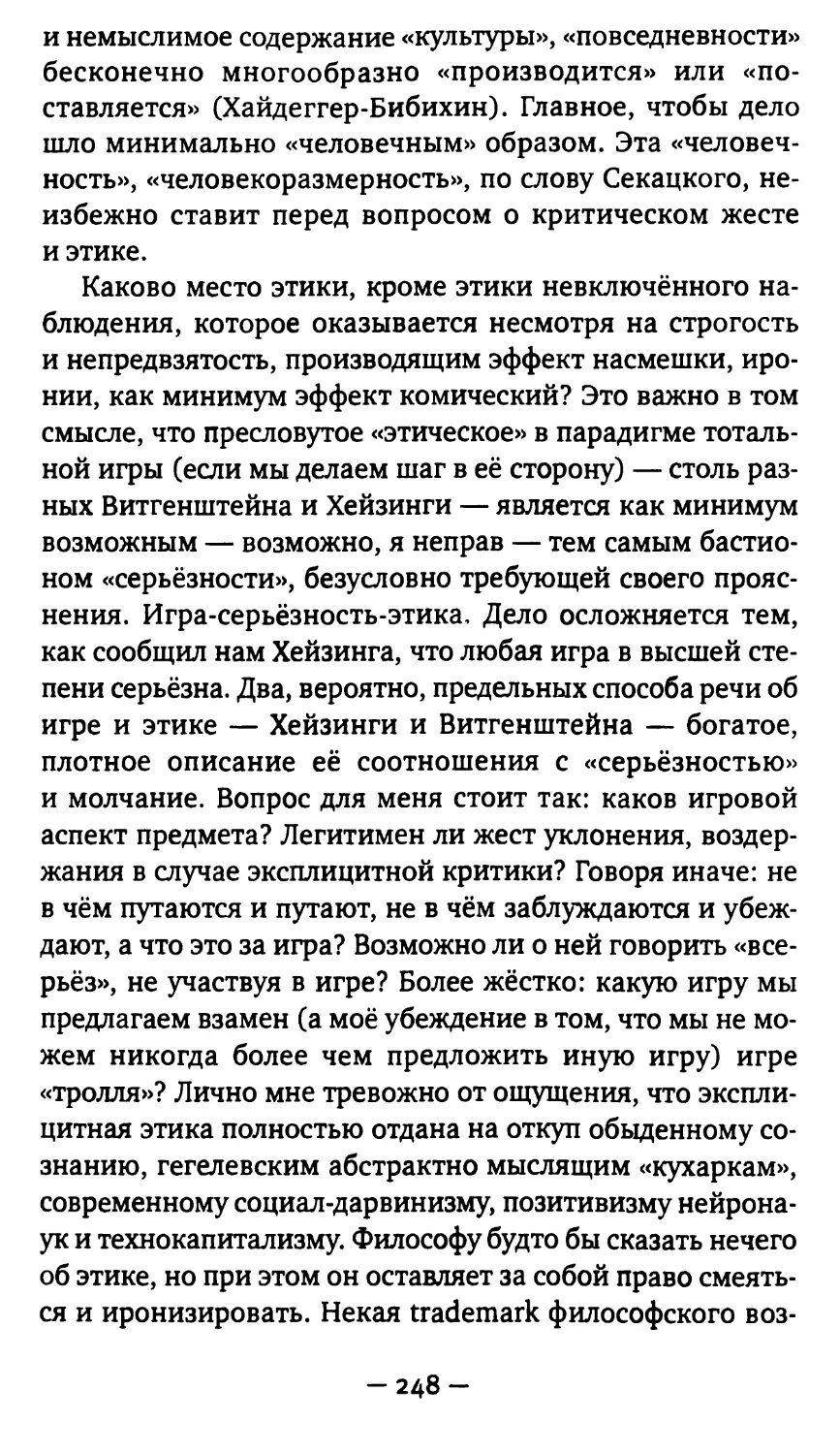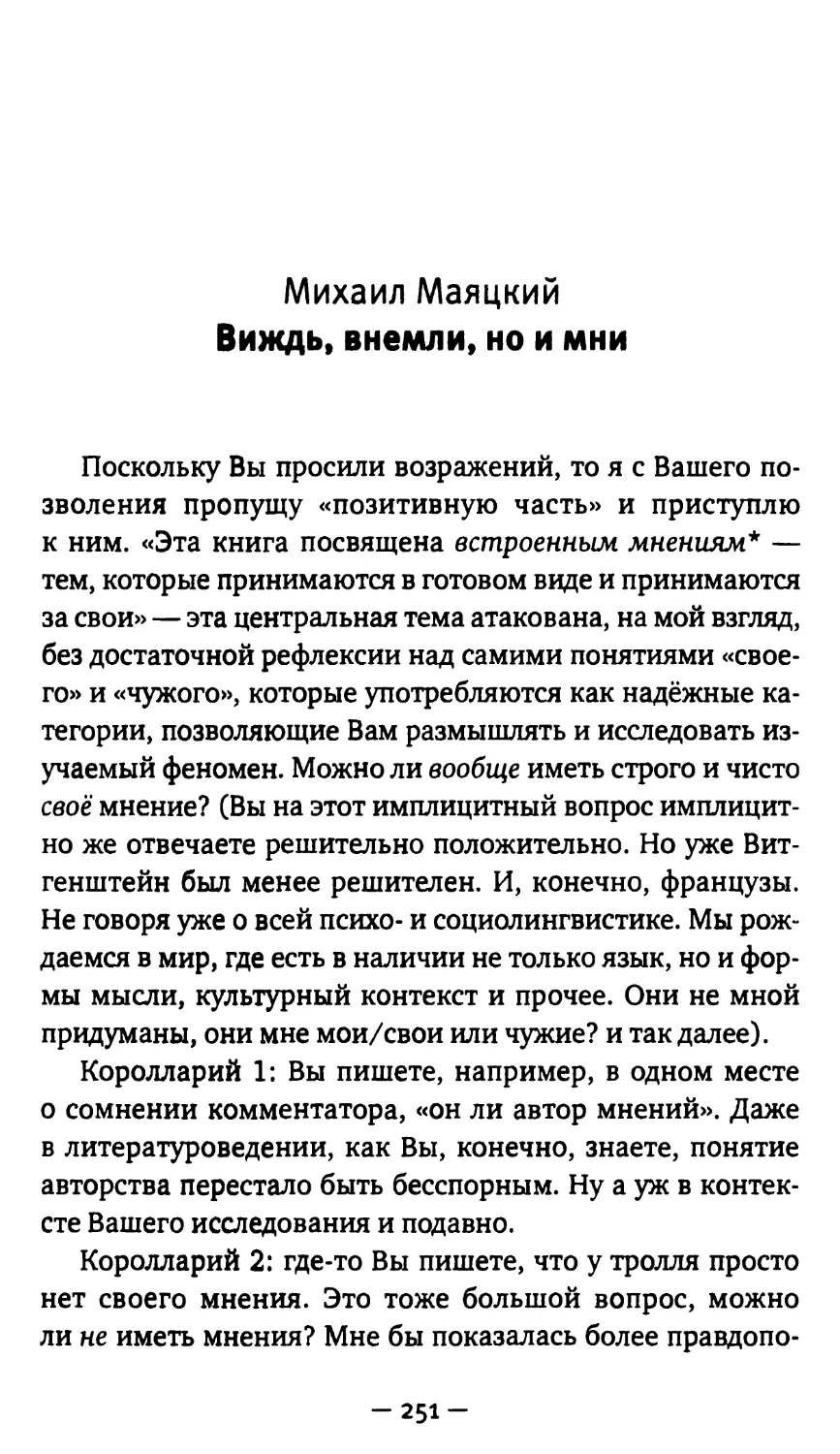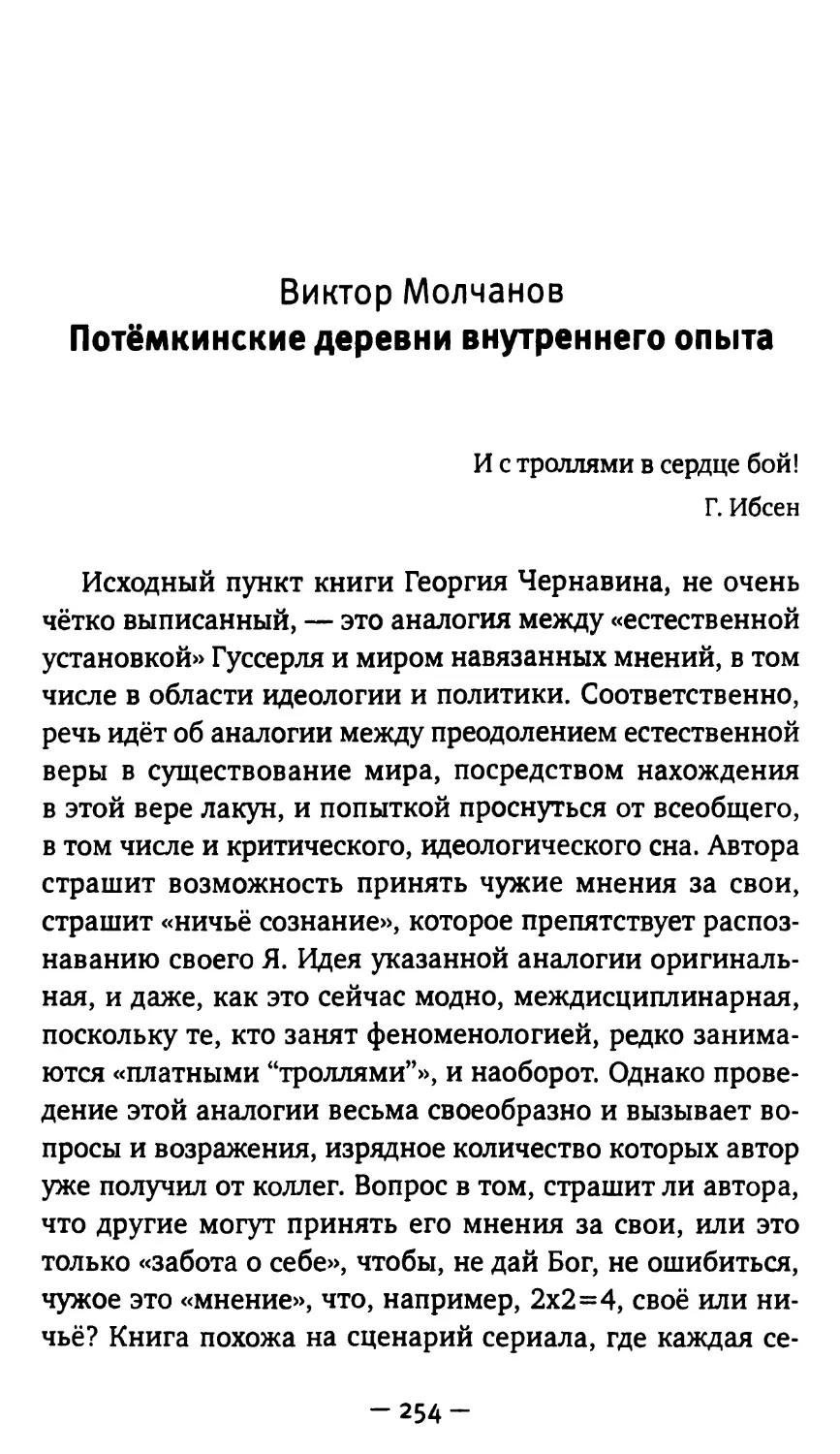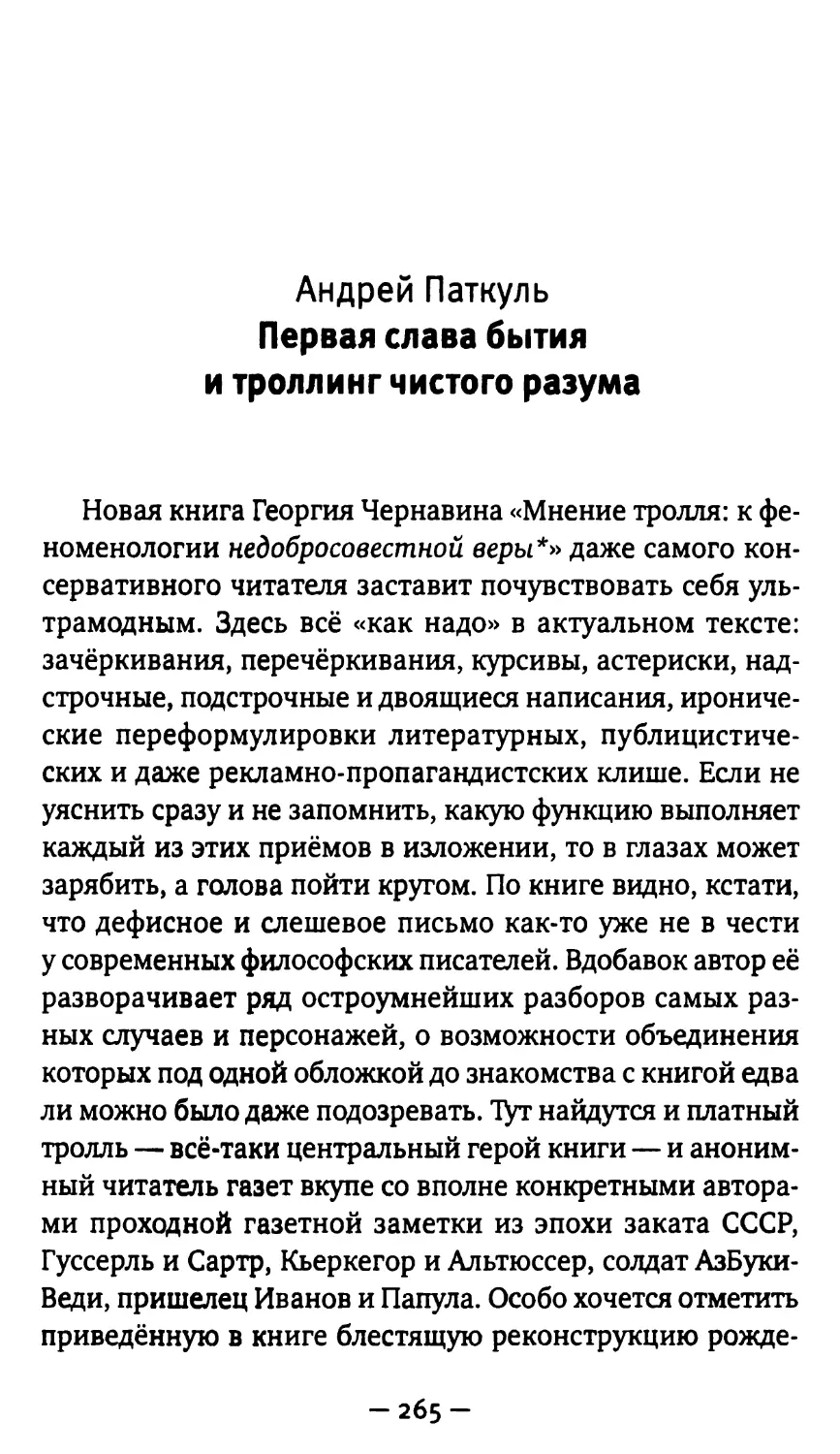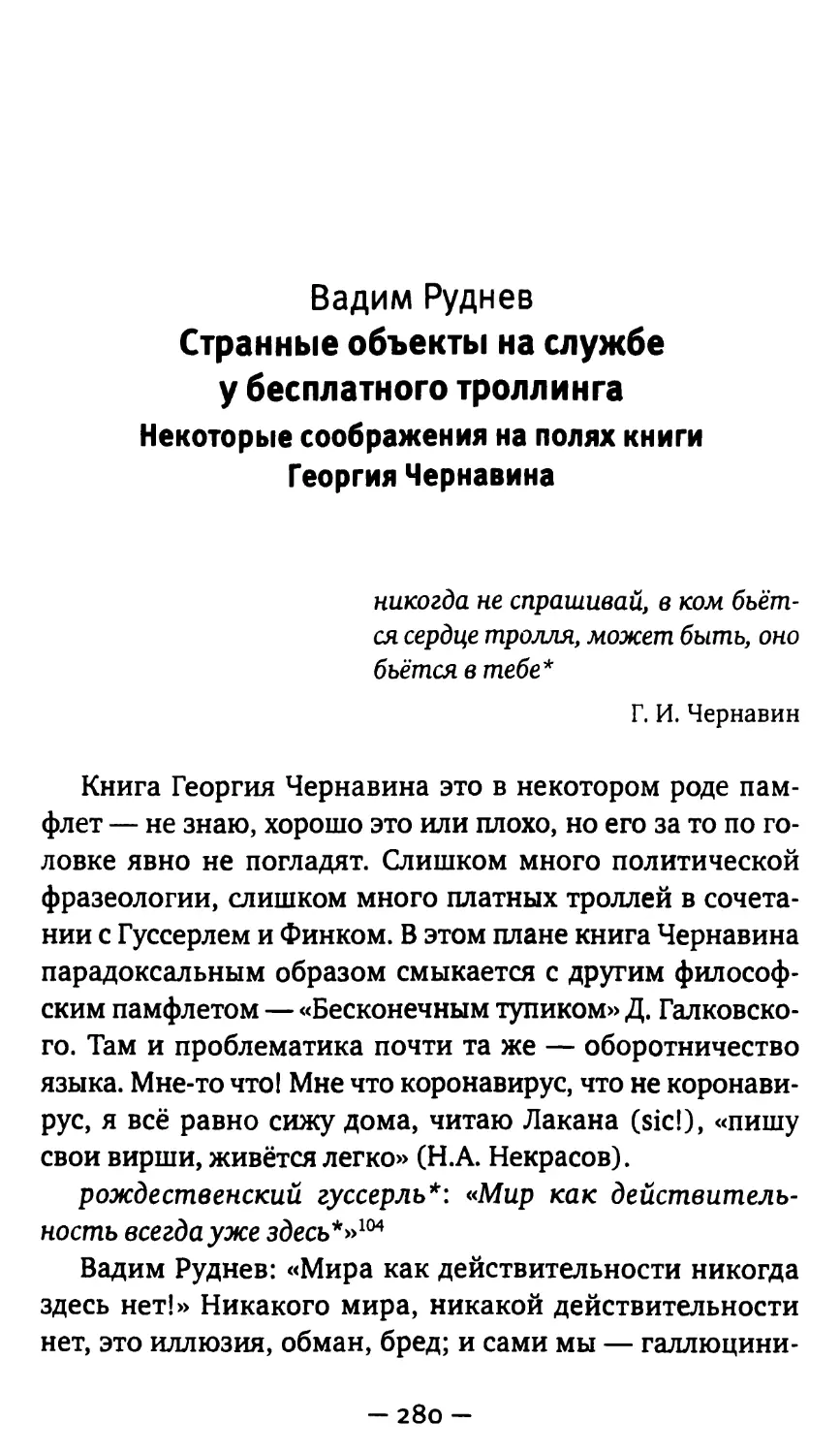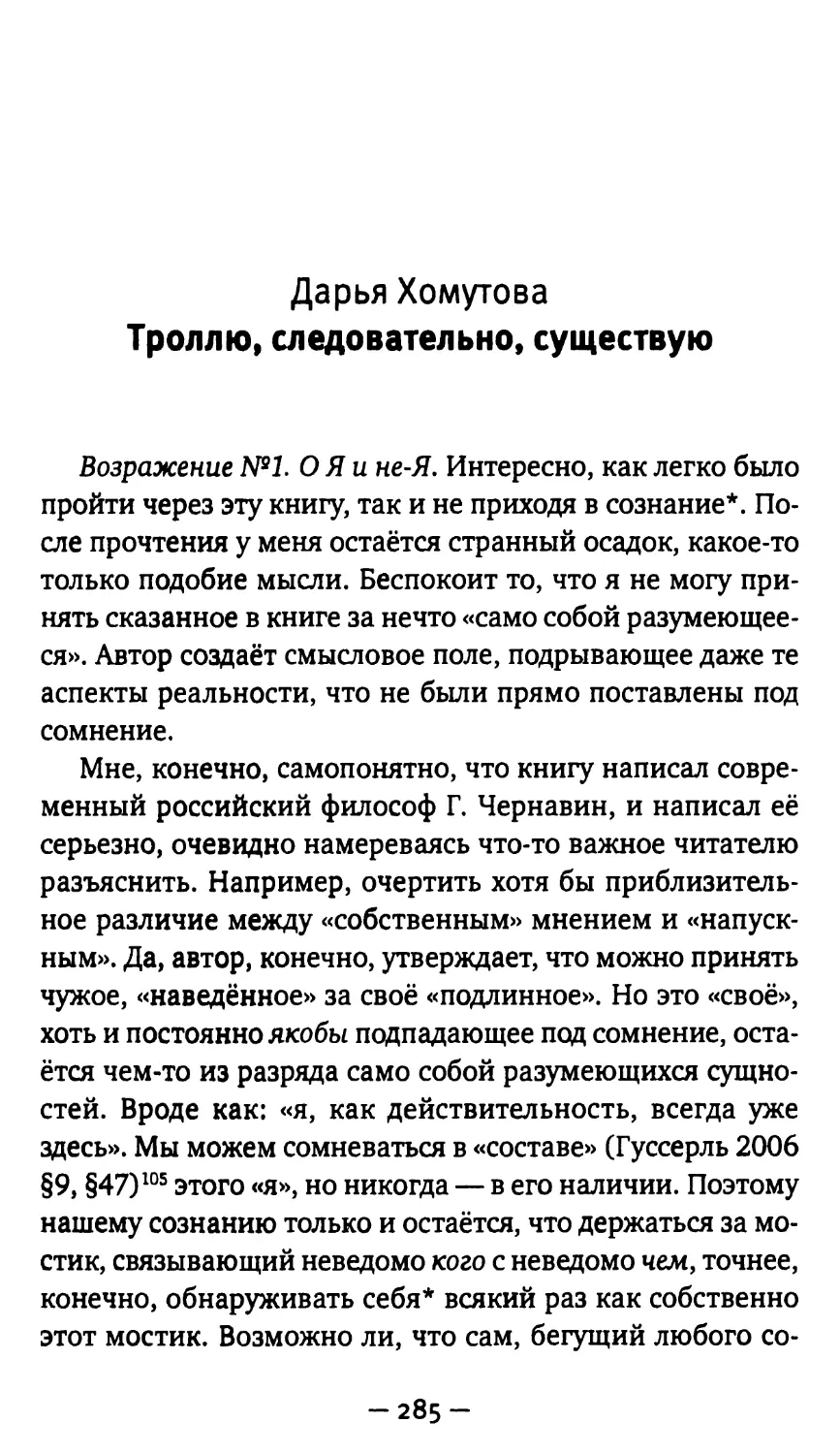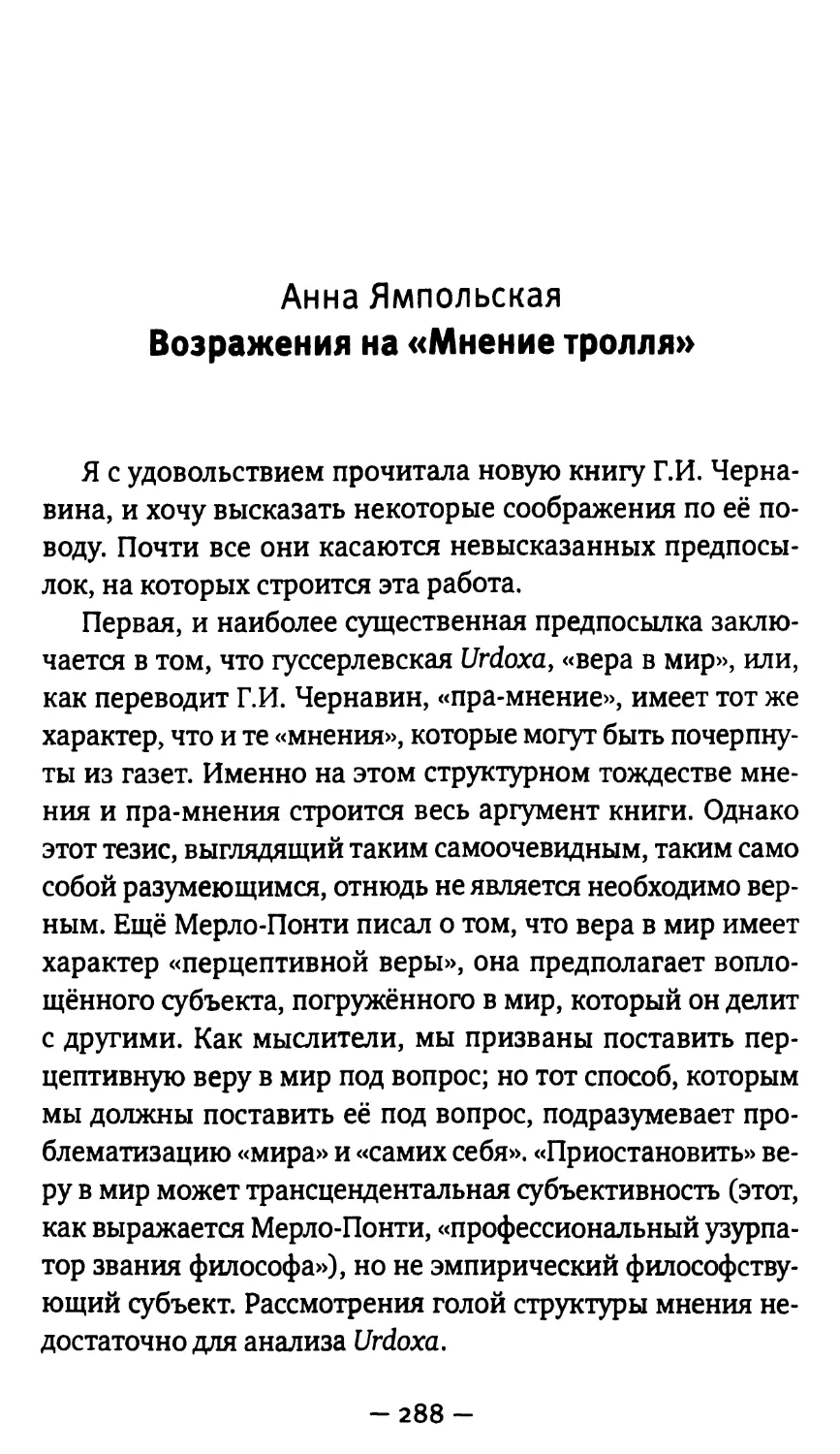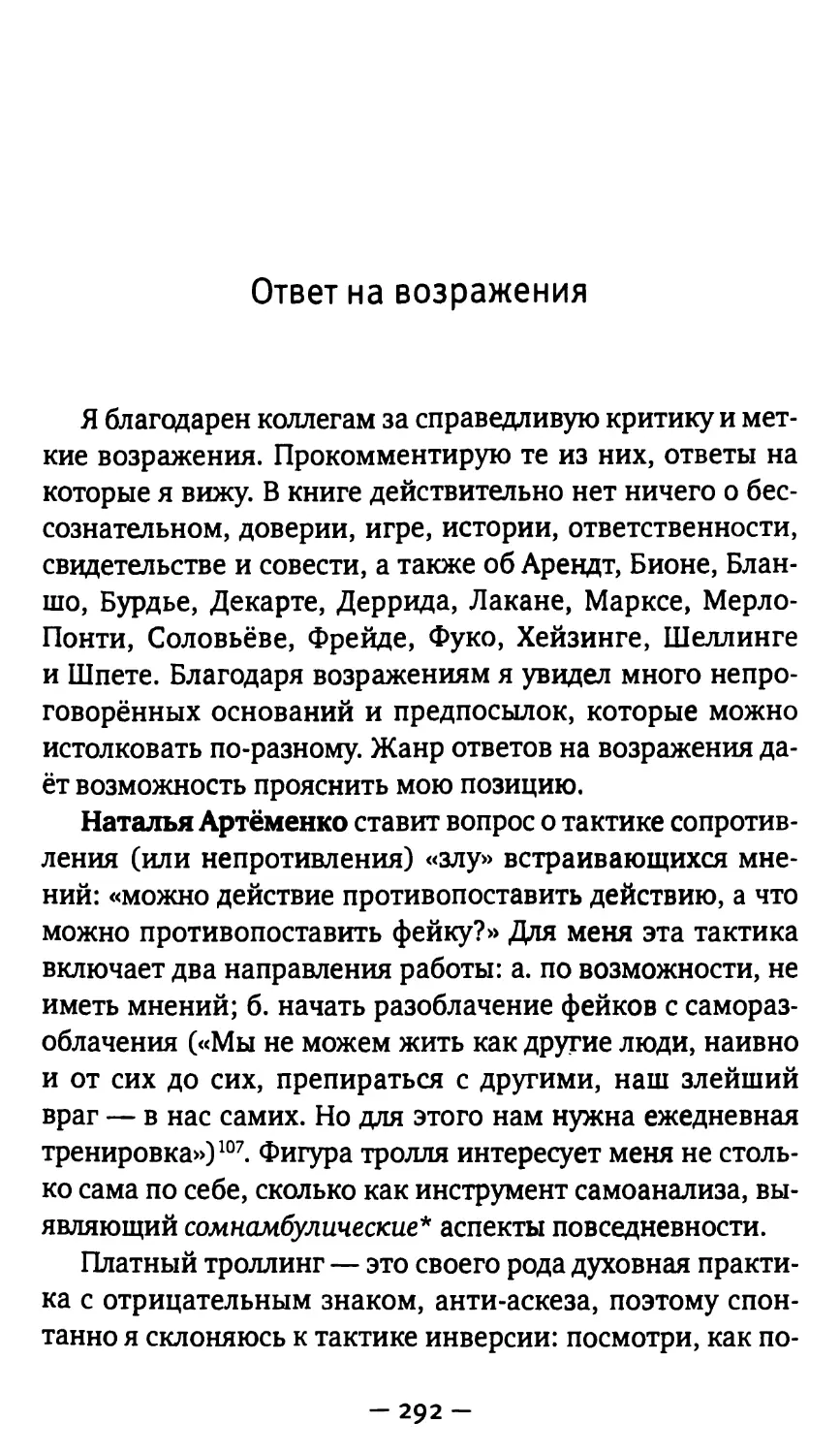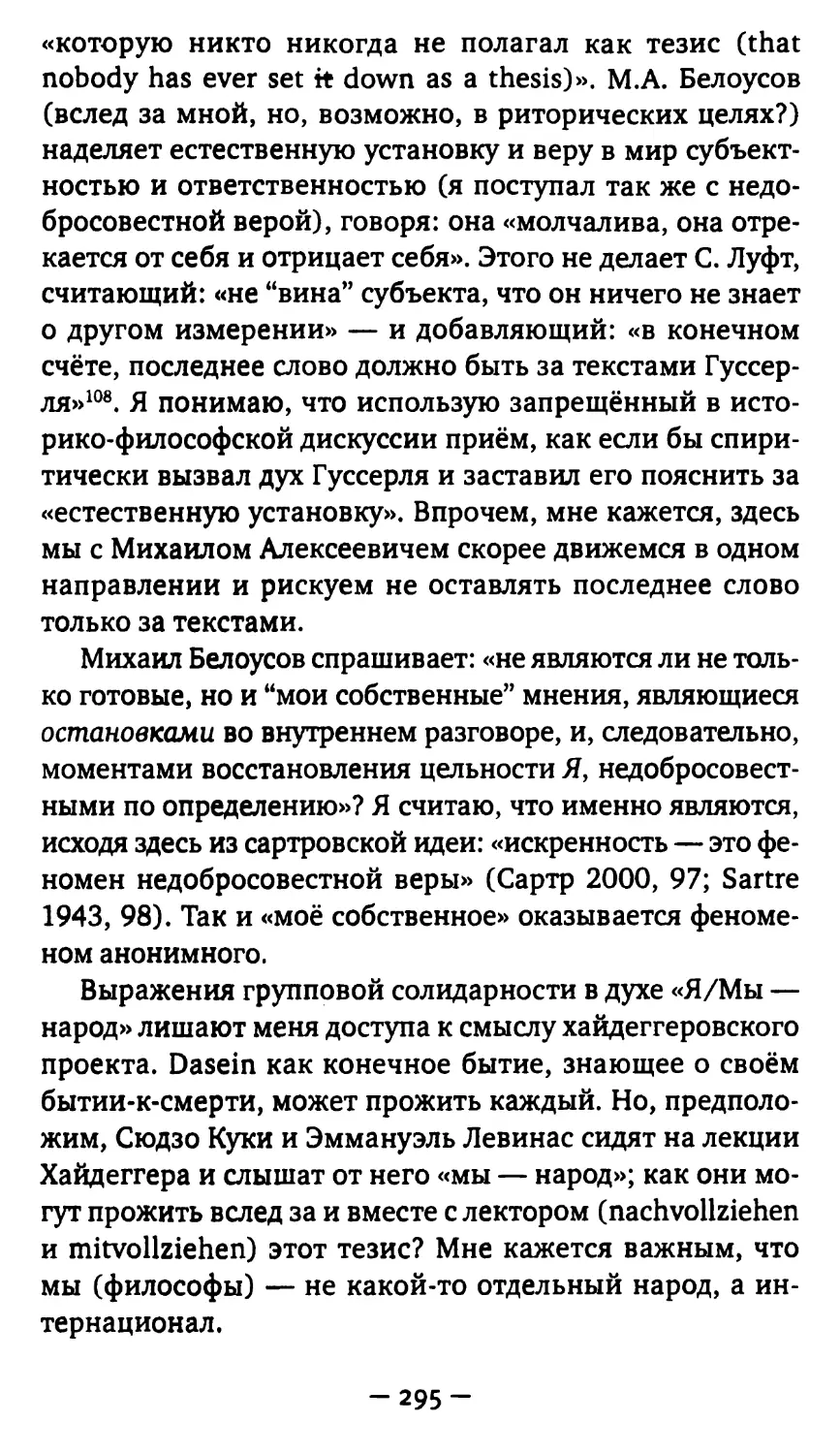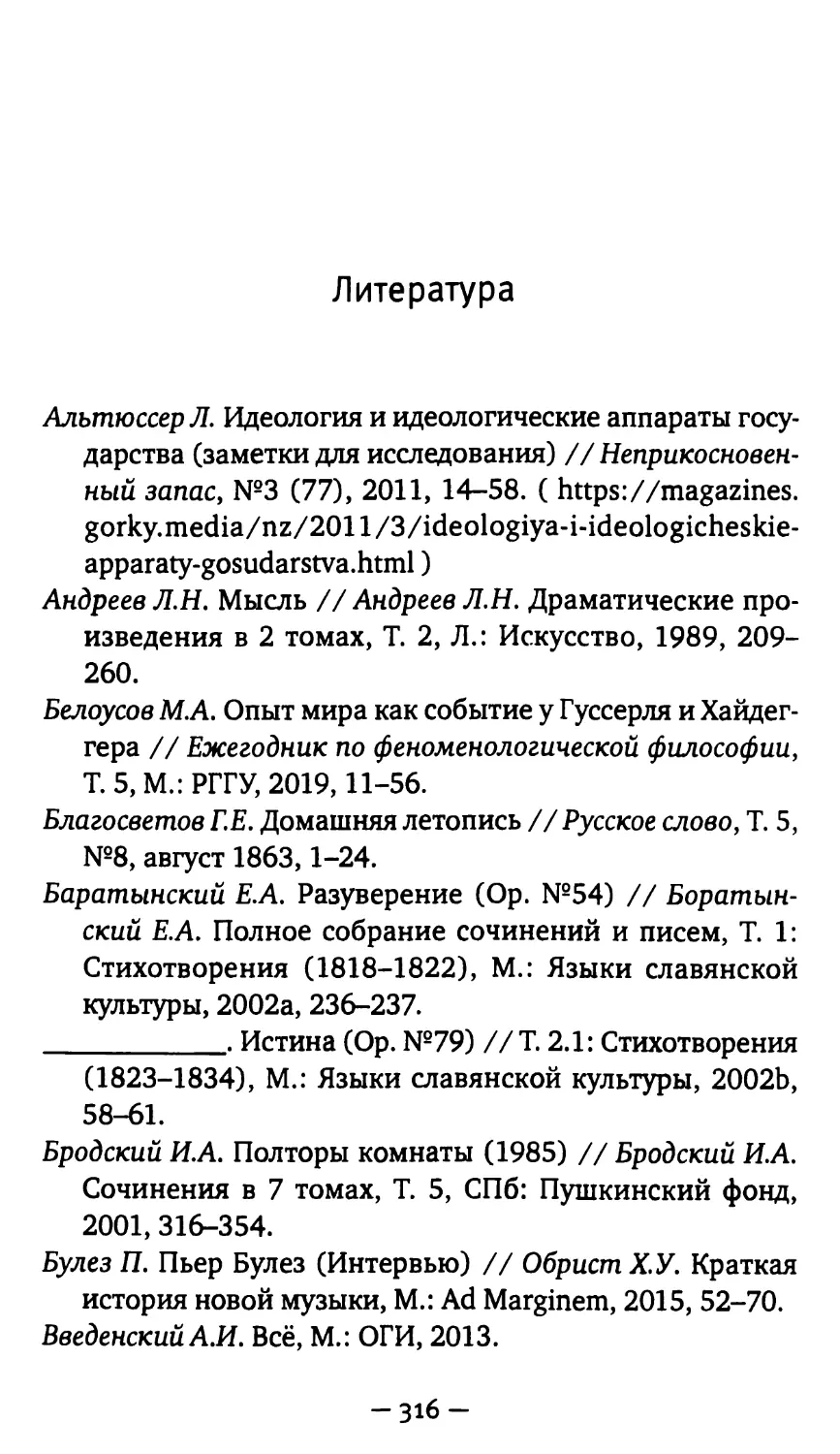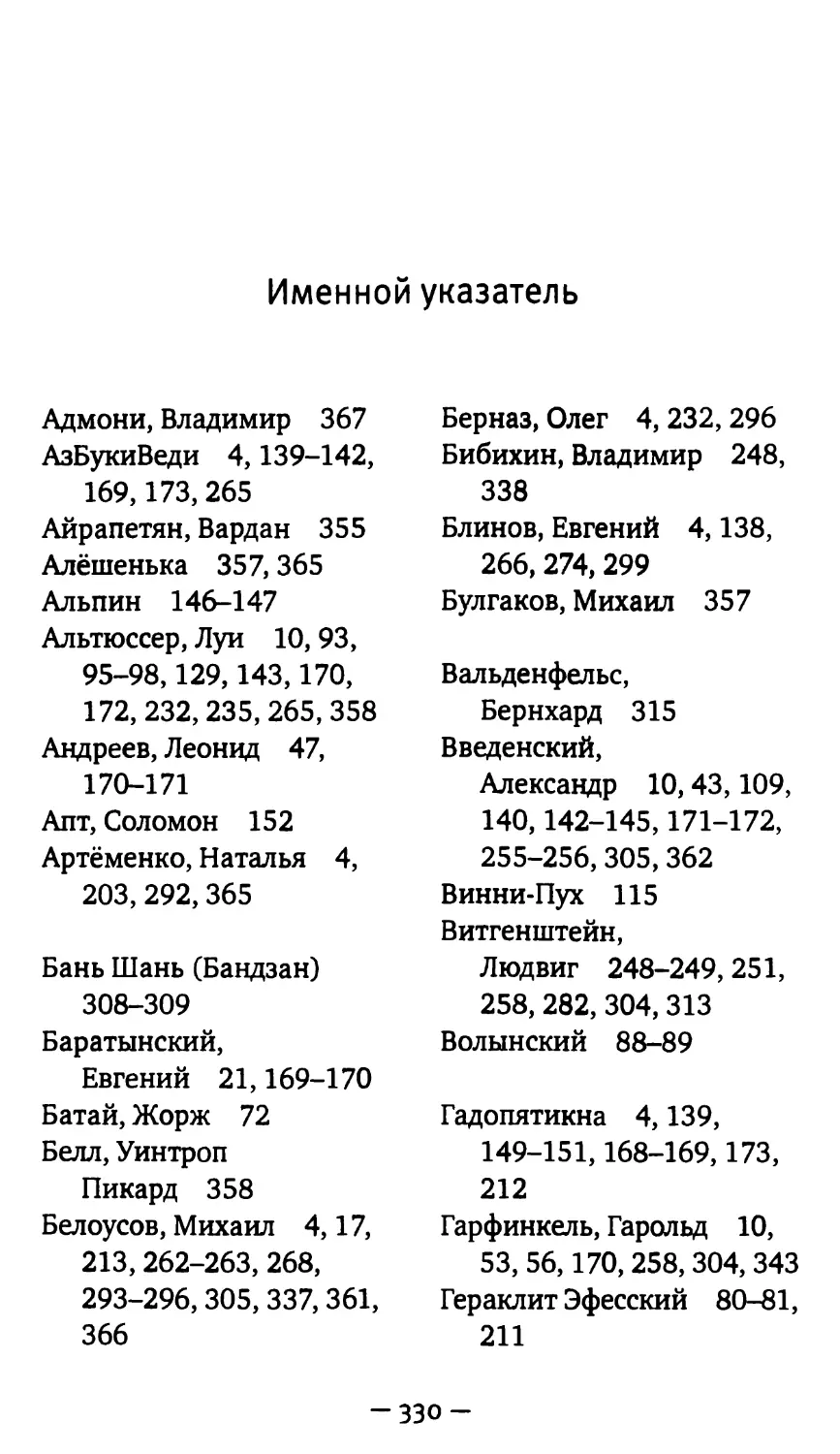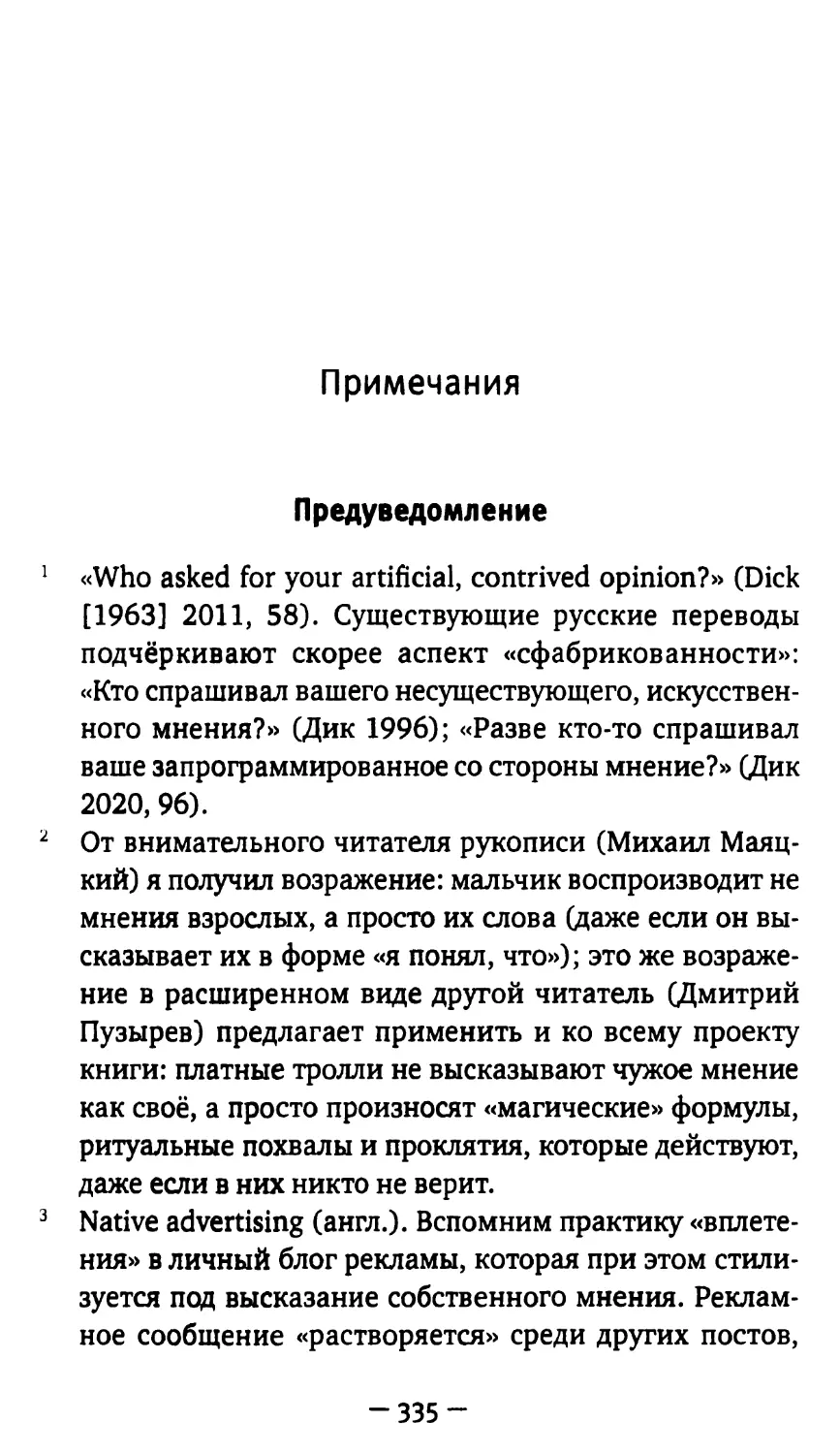Author: Чернавин Г.
Tags: социальные процессы социальная динамика социальная (общая) психология историческая психология личность психология семьи, быта, воспитания детей философия психология
ISBN: 978-5-386-13894-3
Year: 2021
Георгий Чернавин
ФИЛОСОФИЯ ТРОЛЛЯ:
ФЕНОМЕН ПЛАТНЫХ БОТОВ
РИПОЛ
КЛАССИК
МОСКВА
УДК 316.4
ББК 88.5
4-49
Чернавин, Георгий
4-49 Философия тролля: феномен платных ботов /
Г. Чернавин. — М.: РИПОЛ классик, 2021. — 368 с.
ISBN 978-5-386-13894-3
Георгий Игоревич Чернавин, PhD, доцент, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Научные рецензенты:
д.ф.н. В.И. Молчанов
д.фил.н. В.П. Руднев
д.ф.н. A.B. Ямпольская
В монографии на примере комментариев «платных
троллей», а также на художественном и психопатологическом
материале разбирается тезис Гуссерля «мир как
действительность всегда есть». Феноменология и критика идеологии
встречаются в пространстве философии литературы.
Исследование сопровождается полевым материалом (интервью
с выпускниками философских факультетов — «платными
комментаторами») и дискуссией с современными
русскоязычными философами.
УДК 316.4
ББК 88.5
© Чернавин Г.И., 2021
© Издание, оформление.
ООО Группа Компаний
ISBN 978-5-386-13894-3 «РИПОЛ классик», 2021
Разве кто-то спрашивал
ваше деланное, напускное мнение?
Филип К. Дик1
Содержание
Предуведомление 7
I. Недобросовестная вера в бытие 13
Напускное мнение 15
Вера в бытие 18
Разуверение 21
Недобросовестная вера 24
П. Странные мнения 29
Диковинные, сбивчивые, нестабильные 31
Анонимные, безличные, «твои» 38
Не верить и не знать, что не веришь 41
Тролль против зомби 44
Если меня нет, то всё дозволено 47
III. Д_в оящиеся мысли 51
*V4 β о я^щ и е с я м ы с л и
Индекс' и астериск* 53
Нелепая добросовестность 59
Можно лгать правду 62
Помучмарить фонку 65
Сомнамбулическая уверенность 76
IV. Как будто мы всегда так считали 85
Гуссерль о чтении газет 87
Умаодан поддерживает Ши 90
«Я идеологична» — говорит идеология 92
Время ненависти 99
Традиционные ценности 104
V. Щебечущие машины 111
Ничьё мышление 113
Естественное мнение 116
-4-
Отходы деятельности фантома 119
Пинь-пинь-тарарах! 123
Сверхтролль 127
VI. Чучхейский реализм 131
Солдат АзБукиВеди 140
Пришелец Иванов 146
Гадопятикна 149
Одрадек 152
Папула 157
Итог 165
Схема книги 170
Понятия, тезисы, инструменты 172
Интервью с платным комментатором №1,
выпускником философского факультета 174
Интервью с платным комментатором №2,
выпускником философского факультета 188
Возражения 201
Наталья Артёменко 203
Михаил Белоусов 213
Олег Берназ 232
Евгений Блинов 238
Денис Демьянов 247
Михаил Маяцкий 251
Виктор Молчанов 254
Андрей Паткуль 265
Вадим Руднев 280
Дарья Хомутова 285
Анна Ямпольская 288
Ответ на возражения 292
Литература 316
Именной указатель 330
Примечания 333
-5-
Предуведомление
Маленький мальчик ехал в плацкартном вагоне,
монотонно декламировал реплики из м/ф «Трое из Простоква-
шино», и вдруг произнёс: «Я понял, что Время ест своих
детей, и мне стало страшно». С этого момента я решил за
ним наблюдать; скоро стало понятно, что он с видимым
удовольствием повторяет услышанные мнения взрослых,
точно воспроизводя формулировки.2 Больше ничего
неожиданного он не сказал, но феномен чужого мнения,
произносимого от первого лица как своё, показался мне
захватывающим.
В 2018 году я провёл первое интервью с выпускником
философского факультета, работавшим платным
комментатором в социальных сетях. Уточню, какой именно подвид
троллей меня интересовал: не энтузиасты-шутники (Фил-
липс 2016), а наёмные работники, занимающиеся
продвижением политической повестки (Ong & Cabanes 2018;
Померанцев 2020,45-50). Эта новая профессия и её
философское значение выглядели завораживающими. Чужое
готовое мнение, высказанное от первого лица, и структура
субъекта, которую оно порождает, были отправной точкой.
Затем я обратил внимание на то, что и мнения,
высказанные вне контекста платного троллинга, обладают
сходными свойствами (заёмных, наведённых).
Эта книга посвящена встроенным мнениям* — тем,
которые принимаются в готовом виде и принимаются за
свои. Их свойство — быть «предустановленными», не буду-
-7-
чи прожитыми или продуманными, оборачивается
философской загадкой. Как возможно ничьё мнение, мнение,
за которым никого нет? Такого рода мнение претендует на
то, что принадлежит своему носителю. Оно оказывается
«нативным», подобно тому, как говорят о встроенной в
информационный поток «нативной рекламе»3. Часто выдают
за своё то, что принадлежит кому-то другому. Здесь же
ничейное мнение всячески демонстрирует, что оно именно
ваше, стремится «встроиться» в вас. Такое мнение можно
также назвать «наведённым» или «напускным» (не
обязательно неискренним, а скорее на вас напущенным).
Вполне естественно жить «от сих до сих (dahinleben)»,
«вживаться (hineinleben)» в «собственные» мнения.
Платный тролль присутствует в «своих» мнениях «не всем
сердцем», привык оперировать встраиваемыми
мнениями, но не обязательно быть профессиональным троллем,
чтобы жить в таком режиме: «Да, я живу дальше, смотрю
по сторонам, присматриваюсь к вещам, занимаюсь
позитивными науками, строю математические теории и так
далее; то есть я продолжаю всё это делать. Да, конечно.
Но хотя я и здесь, я здесь "не веем сердцем"» (Husserl
[1926] 2002,10)4. «Не всем сердцем» в рукописи
философа слегка зачеркнуто карандашом; зачёркнутое
написание в контексте приостановки мнений ещё станет
важным. Сама эта стратегия: вживаться в «собственные»
мнения, но до конца в них не «влипать» — позволяет
заметить, как много мнений мы привычно подхватывали,
«не приходя в сознание». С удивлением констатирую: моё
мнение может не совпадать с мнением, высказанным
мной от первого лица. И если мнение было на меня
«напущено», то как сделать так, чтобы оно меня «попустило»
(Burroughs [1953] 2012, 32)?
В Главе 1. я ввожу идею «напускного» или
«встроенного» мнения в контекст «пра-мнения» — «мир как
действительность всегда есть». Затем я разворачиваю три фило-
-8-
софские интуиции: «веру в бытие (Seinsglaube)» Гуссерля,
«разуверение (fortvivlelse)» Кьеркегора и
«недобросовестную веру (mauvaise foi)» Сартра. Я предлагаю
пересмотреть устоявшийся перевод двух последних понятий
(«отчаяние» и «самообман» в переводах Исаева и Коляд ко).
Мой центральный тезис, приводящий эти интуиции во
взаимодействие, таков: вера в бытие, лишённая момента
разуверения — это недобросовестная вера в бытие*.
В Главе 2. я опираюсь на типологию «странных
мыслителей» Смаллиана. Под рубрикой странные мнения* речь
идёт о мнениях, выстроенных по принципу
недобросовестной веры: диковинных, сбивчивых и нестабильных.
Они позволяют не верить в подразумеваемое в них и «не
знать, что не веришь»; тем самым они указывают на
странность мнения как такового, даже так называемого
«нормального». Учитывая такие аспекты мнения как
анонимность и безличность, его можно назвать «своим»
только условно. Я ввожу фигуру «философского тролля»: он
проживает собственные мнения как «странные» и, тем не
менее, продолжает их высказывать.
В Главе 3. я рассматриваю феномен двоящихся мыслей*:
то, как «вера в бытие» пронизана
«недобросовестностью» — впрочем, лишив её этой раздвоенности, мы
окажемся в ситуации «нелепой добросовестности». Я
разрабатываю идею Мангейма о феноменологическом субъекте,
внезапно проживающем собственную идею как
идеологию, «пробуждающегося» посреди собственных слов, на
примере высказывания «можно лгать правду». Я также
демонстрирую, как читатель может «проснуться» посреди
текстов Хайдеггера середины 1930-х годов, нарушить
сгущающуюся в них «сомнамбулическую уверенность».
В Главе 4. я разбираю странную модальность как будто
мы всегда так считали*, которую Гуссерль вводит на
примере чтения газет, в контексте работы китайской фабрики
троллей. Вдохновляясь учебным пособием «Политическая
философия русского консерватизма», я рассматриваю не-
-9-
возможное с точки зрения теории Альтюссера
высказывание «идеология говорит: я идеологична». Затем,
отталкиваясь от переписки и рукописей Гуссерля, я разбираю
тему «традиционных ценностей», а также наведённое
встроенными мнениями чувство ненависти, которое
тлеет в нас без нашего непосредственного участия.
В Главе 5. я использую метафору щебечущих машин*
Клее, комментирую «птичью» строчку Хлебникова
(«тарарахнул зинзивер»), помещённую в контекст
патриотического шпионского романа, и обсуждаю фигуру
Бога-обманщика в «Семнадцати мгновениях весны». Я противопоставляю
установке Мюллера: «верить нельзя никому, даже себе; мне
можно» позицию мета-тролля, говорящего «мне тоже не
надо верить». Описывая гипотетическую инфильтрацию
фабрики троллей писателем-концептуалистом, я также
распространяю идею Пригова о произведениях как «отходах
деятельности фантома» на область «мнений» платных
комментаторов.
В Главе 6. я ввожу рубрику чучхейский реализм*,
которая представляет собой эстетическую стратегию жизни
в «недобросовестной вере»; я также использую эту
рубрику как метафору экзистенциальной вовлечённости,
«вживания» в мир. Я работаю как с концептуальными
персонажами с героями Кафки, Введенского, Жуковского/
Степанцова, Цветаевой/Мамонова и Дика — каждый из
них воплощает один из аспектов «встроенного мнения»
или способ борьбы с ним. Стратегии обессмысливания,
пародирования, деформации встроенных мнений
представляют собой альтернативу таким классическим
инструментам, как индекс' Гуссерля и астериск* Гарфинкеля.
Я буду использовать написание терминов,
предложенное Гарфинкелем: курсивом и с астериском* — оно будет
указывать на то, что слово употребляется не в
повседневном или позитивно-научном, а в философски
модифицированном значении. Такого рода написание — это пригла-
— ю —
шение читателю приостановить привычные значения
слов и выражений. Можно сказать, что все астериски*
в этой книге отсылают к одному тезису:
*привычное значение завело бы нас в тупик, оно должно
быть смещено, претерпеть превращение.
Также по ходу текста будут вводиться другие
специальные способы написания: надстрочноеиндекс,
подстрочное . зачёркнутое и д.в оящееся — каждое из
подтекст* -**^*-f***v **+* ^д в о я^щ е е с я *s^^x.
них будет акцентировать ту или иную особенность
наведённого мнения*.
«Напускные мнения» имеют не совсем то значение,
которое в них вкладывал их носитель: их статус
трансформирует их смысл. Поэтому мнение тролля я
маркирую индексоммнение тролля и предлагаю рассматривать его
как, вероятно, заданное мнение, «мнение
предположительно заданное». Здесь сохраняется неразличимостьзадан
ного мнения тролля у, собственного мнения тролля Ляже КОГЛЯ ПЛаТНЫЙ
тролль даёт мне интервью и высказывает «собственное
мнение», эта неразличимость сохраняется, более того,
подозрение в неразличимости «собственного» и
«заданного» мнения начинает затрагивать и так называемое
«нормальное» мнение.
Реутов, Олъгино
2018-2020
I. Недобросовестная вера в бытие
Напускное мнение
Можно составить мнение, а можно «напустить на себя»
уже готовое мнение. Кажется, что самому составить
мнение — значит быть непредвзятым, но ведь оно будет
составлено из уже существующих элементов. Так в чём же
тогда разница между «своим» и заимствованным
мнением? В первом случае я хотя бы участвовал в процессе: его
составлял; так ведь и во втором случае я участвовал: его
на себя «напускал» — в первом случае связывал элементы,
во втором пропускал через себя уже налаженную связь.
Требование составлять каждое мнение самостоятельно,
принятое всерьёз и выполняемое с «нелепой
добросовестностью», застопорило бы большинство повседневных
и научных занятий.
Ситуация усложняется: часто, когда я считаю, что
составил мнение, на деле я его на себя напустил. Хуже того,
я напустил на себя мнение о том, что я мнение составил.
Обнаруживаю в себе готовые, встроенные мнения* — те,
которые ни я, ни кто-то мне знакомый не составлял.
Ловлю себя на «наведённых» мнениях, которые «бледнеют»
и «истончаются», если на них обратить внимание, но не
исчезают до конца. Как и наигранные чувства,
«напускные» мнения могут отчасти вводить в заблуждение того,
кто высказывает их от первого лица; правда, остаётся
смутное воспоминание об их искусственном характере;
затем память вырождается в растерянный вопрос: с чего
я это взял?
-15-
Но что если есть такая профессия: мнения на себя
напускать? Кто-то по долгу службы делает себя
распространителем «напускных мнений». При всей кажущейся
зловредности такого рода занятий, платный тролль всего
лишь преследует сиюминутные политические цели, но
при этом поставляет нам бесценный материал наводимых
им мнений. Готовые мнения (высказанные от первого
лица), о которых мы точно знаем: их впустили в себя только
на время, — запускают в нас перепросмотр наших
«собственных» мнений, которые на поверку оказываются не
такими уж и собственными.
Как мнение может быть «напускным»? Это значит, что
за ним никто не стоит, «там» никого нет. В случае
напускных чувств их скорее имитируют, чем испытывают; в
случае напускных мнений имитируется «поза»,
пропозициональная установка первого лица единственного числа
«я считаю», притом, что никто не «считает». Я говорю:
я считаю, что идёт дождь*5, притом, что я на самом деле
никак не считаю, у меня нет мнения на этот счёт. Я
говорю: Ох уж эти новости Евросоюза. Никогда бы не подумал,
что они такие крысымнениетралля,6 притом, что на самом деле
я так и не думал, я сдал своё «я» внаём, чтобы в нём
«завелось» это мнение. Проблема состоит в этом «на самом
деле*», само выражение «действительность*» — это клубок
«напускных» мнений.
Что останется, если приостановить «наведённые»
мнения? За ними зияет пра-мнение (Urdoxa), мать всех
мнений. По крайней мере, такова стратегия
феноменологической философии: увидеть за ними тезис «мир как
действительность всегда есть7 ("die" Welt ist als Wirklichkeit
immer da)» (Husserl [1913] 1950, 63) или, в упрощённой
формулировке, «вот он мир». Банальный тезис
оказывается завораживающей загадкой: одновременно само собой
разумеющимся и непонятным. Это не просто одно из
мнений, а «всем мнениям мнение»; то же касается его
«напускного» характера: если в случае простого «заёмного»
-16-
мнения неясно, где я его подхватил и как от него
избавиться, то в случае пра-мнения оно всегда уже подхвачено
и проросло во все отдельные мнения. Приостановка пра-
мнения демонстрирует, что кроме «наведённых» других
мнений может и не быть. В таком случае «собственное»
будет просто другим способом наведения.
«Естественная установка», стоящая на тезисе вот он
мир* у не является установкой в собственном смысле, так
как её никто не занимал, скорее это она всех «заняла»
(Белоусов 2019,16; Ришир 2015, 316). Приостанавливая
«напускные» мнения, обнаруживаешь пра-мнение,
приостанавливая пра-мнение, не обнаруживаешь никого, только
прежнюю железобетонную веру в бытие мира. Я
попытаюсь показать, что «вера в бытие мира» содержит в себе
лакуны, «разуверения», знает о них и, тем не менее,
пытается их игнорировать — в этом смысле является
«недобросовестной» верой. «Недобросовестная вера»
маркирует «наведённые», «заёмные», «напускные» мнения; они
пропитаны ею. Через напускные мнения* пра-мнение
(вера в бытие*) пустило в меня корни.
Вера в бытие
С точки зрения повседневного здравого смысла, идея
о том, что мир не просто-напросто есть, а представляет
собой предмет веры, кажется экстравагантной и
избыточной. Тем не менее, основатель феноменологии предлагает
занять установку, в которой быть — значит иметь смысл
и наделяться значимостью. С этих позиций можно
сказать: бытие мира не столько констатируется, сколько
полагается. В 1930-е годы формулировка заостряется:
«мир — это имеющий значимость смысл и ничего
больше» (Husserl [1932] 2008, 725).
На протяжении десятилетий фрайбургский философ
стремился сделать темой молчаливо подразумеваемый
в повседневной и научной практике тезис «мир в качестве
действительности всегда есть». Он был заворожен
одновременной самопонятностью и непонятностью этого
тезиса, тем, что он верен и одновременно представляет
собой предмет веры. С его точки зрения, на «веру в мир»
у нас есть «исходное право»8, но от этого она не перестаёт
быть верой. Его интересовало то, насколько мы
«инвестируем» себя в мир, выдаём миру «кредит доверия»:
наделяем его значимостью, скорее примысливаем,
предвосхищаем и припоминаем его, чем собственно воспринимаем.
Даже восприятие не даёт надёжной почвы: «внешнее
восприятие — это постоянное притязание осуществить что-
то, что оно по сути своей осуществить не в состоянии»
(Husserl [1920] 1966, 3). Гуссерлевское понятие вера в бы-
-18-
mue* (Seinsglaube) восходит к декартовскому кредиту
доверия (creance), юмовской вере и согласию (belief, assent),
развивает эти интуиции, применяет их не только к
воспринимаемым предметам, но и к самому бытию мира.
Бытие мира в качестве действительности как вечно
отсроченное в своём исполнении обещание, как никогда до
конца не подтверждаемое притязание, как презумпция —
из такой странной перспективы нам предлагает мыслить
Эдмунд Гуссерль. Чтобы заострить: не накопленные
знания представляют собой предмет веры, предметом
подтверждаемой и опровергаемой веры оборачивается само
бытие мира и вещей в мире. Если вспомнить звучавший
недавно тезис о том, что идеология — это «дополненная
реальность» (iiiek 2017), то можно сказать: смысл этого
гуссерлевского понятия как раз и состоит в том, что
реальность всегда уже дополнена — вера в бытие* это и есть то,
чем она каждый раз дополняется.
Мы имеем дело с верой в бытие*, когда претендуем,
что нечто «просто-напросто есть». Философская
интуиция, свёрнутая в этом понятии, говорит о том, что
вживаться в мир, который «просто-напросто» есть, и не
задавать вопросов о том, что это значит — естественно. Тем
не менее, естественность, с который мы вживаемся
в мир, маскирует странность происходящего. Сделав веру
в бытие* темой обсуждения, тем самым мы не порвали
с ней, а приостановили её. Впрочем, в повседневном
и позитивно-научном контексте инерция «естественной»
веры всегда оказывается сильнее философа, побеждает
его всякий раз «неизвестным для него способом» (Хармс
[193712000,314).
Согласно этой непривычной философской установке,
вера в бытие* не выдаётся раз и навсегда в полном
объёме, а «пульсирует»: прибывает и убывает. Например, в
ходе рабочего дня платный тролль пишет: Отчаянно не
понимаю, почему в России имеет место быть оппозиция.
Кого-то что-то не устраивает? Прошу ехать в Европу на
-19-
гей-фестивалимнеН11етролля. В рамках этого сообщения он
полагает существование оппозиции как того, что «имеет
место быть», но что непонятно, необъяснимо. На другой
день он напишет, что нет никакой оппозиции, а есть
только клоуны, спонсируемые Западоммнениетралля. В той
смысловой реальности, которую производит фабрика троллей,
оппозиция то есть, то её нет, её существование «мерцает»,
то наполняется бытийной верой, то опустошается.
Для поддержания смысловой структуры
действительности создаётся отдельная фабрика; окружающих нужно
непрерывно убеждать, что мы живём в лучшем из
миров — здесь в основе лежит интуиция неустойчивой
реальности, которую нужно поддерживать, чтобы она не
рухнула. Нужно направлять процесс полагания бытия, то
и дело вдыхая в него бытийную веру.
Чтобы детальней разобрать динамику бытийной веры,
мне понадобятся термины разуверение* и
недобросовестная вера*. Традиционные варианты перевода этих
понятий Кьеркегора и Сартра: «отчаяние» и «самообман»;
зачем же понадобилось корректировать устоявшийся
перевод?
Разуверение
Уж я не верю увереньям,
Уж я не верую в любовь,
И не могу предаться вновь
Раз изменившим сновиденьям!
Слепой тоски моей не множь.
(Баратынский [1821] 2002а, 236)
Датское fortvivlelse происходит от слова «сомнение»,
tvivl; к варианту перевода «разуверение» меня
подтолкнула элегия Баратынского с таким названием: это слово
позволяет подчеркнуть не только утрату надежды («чаяния»),
но и углубление в сомнении.9 Разработанное датским
родоначальником экзистенциальной философии понятие
разуверение* (в привычном переводе «отчаяние») очень
характерно, прежде всего, своей «безвыходностью»: если
вы считаете, что вы его не испытываете, значит оно уже
полностью овладело вами. Оно подразделяется на (а.)
разуверение, которое не подозревает о себе, и (б.)
разуверение, осознающее своё существование; последнее, в свою
очередь, дробится на (в.) разуверение, когда не желают
быть собой, и (г.) разуверение, когда желают быть собой
(Кьеркегор [1849] 2019, 39-93). «Разуверение» тотально:
оно покрывает осознанное и неосознанное, наличное и
отсутствующее. Более того, благодаря ему и можно увидеть
разницу между осознанным и неосознанным,
собственным и несобственным — происходит раскол, они начина-
— 21 —
ют «двоиться». Серен Кьеркегор спрашивает: «разве
разуверение не есть то, что называется "двоящиеся мысли"»?10
Благодаря «разуверению» мысли двоятся. Вариант
перевода «разуверение» (с двумя «разнонаправленными»
приставками) частично передаёт эту раздвоенность.
Итак, «разуверение» повсеместно, неизбежно, а его
мнимое отсутствие — это его самая тяжёлая и самая
распространённая в мире форма. Датский философ здесь
осознанно заостряет: «то, что называют миром — это и есть
разуверение, не знающее о себе» (Kierkegaard [1849] 1905,
157). Эту фигуру мысли будут в дальнейшем варьировать
экзистенциальные мыслители; парадоксальным образом,
благодаря повсеместности «разуверения» может стать
заметна несамотождественность человеческого
существования. На место повсеместного «разуверения» с его «слепой
тоской» в экзистенциальной философии XX века заступит
ужас, потаённый и проявленный, подавленная и
проступающая тревога, формы побега от самого себя. По Кьеркего-
ру, я переживаю разуверение оттого, что не хочу быть тем,
кто я есть, и оттого, что хочу быть тем, кто я есть: оно
касается неспособности быть собой. То, что для датского
философа было шокирующим парадоксом, для его
последователей будет отправной точкой.11
Но не обязательно быть экзистенциальным
философом, чтобы прожить все фазы «разуверения». Так,
платный тролль пишет: Наша страна процветает и
стремительно развивается, несмотря на санкциимнение тролля,
причём пишет это как своё мнение, подразумевая
пропозициональную установку «я считаю». В случае если он
искренне, «на голубом глазу» рассказывает о «процветании»
и «стремительном развитии», то он тем самым
культивирует «разуверение, не подозревающее о себе» (а.).
Проблема в том, что ему достаточно сопоставить свою
собственную повседневную жизнь (размер зарплаты, условия
труда) с заявляемым «процветанием» и «стремительным
развитием», достаточно небольшого внутреннего раско-
— 22 —
ла — и «разуверение» станет осознанным (б.). Чтобы
после этого «искренне» рассказывать о процветании и
стремительном росте, ему нужно поправить своё материальное
положение — из рядового тролля стать хотя бы
бригадиром на фабрике троллей, а для этого запустить
«разуверение, когда не желают быть собой» (в.). Если ему это
удастся, то уже и не нужно будет больше стремиться даже
к показной «искренности», он будет уже автором не
комментариев, а техзаданий, которые не предполагают веры,
а строятся по формуле «сегодня формируем мнение о том,
что...». В отличие от будней рядового тролля, сдававшего
в аренду местоимение первого лица, позиция бригадира
не позволяет даже сформулировать претензии на
искреннее высказывание, обманчивое «я считаю, что» заменит
«формируем мнение, что», наступает «разуверение, когда
желают быть собой», когда хотели бы быть прямодушно-
догматичными, но уже поздно (г.).
Тема экзистенциального несовпадения с самим собой,
с опорой на кьеркегоровскую доктрину «разуверения»,
получит развитие в форме: «человеческая реальность есть
то, чем она не является, и не есть то, чем она является»12.
Автор «Бытия и ничто» считал экзистенциальное
несовпадение с самим собой условием возможности
«недобросовестной веры» (Сартр 2000, 92; Sartre 1943, 93) —
феномена, описанию которого были посвящены наиболее
захватывающие страницы этого трактата. Благодаря
экзистенциальному несовпадению с самим собой,
недобросовестная вера* (парадоксальным образом)
предшествует добросовестной «вере в бытие». Здесь встречаются
гуссерлевская вера в бытие* и кьеркегоровское
разуверение*, давая начало третьему ключевому понятию этой
главы.
Недобросовестная вера
Привычный вариант перевода mauvaise foi как
«самообман» передаёт только один из аспектов смысла и не
сохраняет отсылку к теме «веры в бытие» мира.
Предыстория этого понятия — юридическая и связана с
добросовестными или недобросовестными намерениями
собственника или сюзерена; главным было обезопаситься от
ситуации, когда продают то, чем не владеют, а, даруя
права, не собираются их соблюдать. Если обратить это
понятие на самого приобретателя: «я действовал,
руководствуясь недобросовестной верой (mala fide), если я приобрёл
у кого-то вещь, несмотря на то, что я знал: она ему не
принадлежит» (Nemitz 2013)13. Постепенно юридическое
значение вытесняется моральной оценкой: неподлинность,
неискренность и самообман. Жан-Поль Сартр использует
как повседневное употребление этого выражения, так
и полемическую перекличку с «бытийной верой»
Гуссерля. Например, выдавая кредит доверия «внешнему
восприятию», мы знаем: оно что-то обещает (мир в качестве
действительности), но это больше, чем оно способно дать,
тем не менее, мы ведём себя так, как если бы были вполне
убеждены; мы «покупаем» товар, закрывая глаза на его
непонятное происхождение. Учитывая кьеркегоровский
мотив разуверения* и его развитие в виде мотива
экзистенциальной несамотождественности, Сартр хочет
показать, что вера в бытие* не монолитна, в ней есть свои
лакуны, замаскированные провалы и трещины.
-24-
Было бы ошибочно понимать недобросовестную веру*
как лживость, скорее она «постоянно колеблется между
добросовестной верой и цинизмом», в соответствии с тем,
как «мир колеблется между бытием и видимостью»14.
Здесь запускается динамика двоящихся мыслей:
пребывающий в недобросовестной вере «думает и не думает о себе
как о пребывающем в недобросовестной вере» (Сартр
2000,102; Sartre 1943,102), отдаёт и не отдаёт себе отчёт
в характере своих мнений. Здесь развиваются гуссерлев-
ские интуиции: «недобросовестная вера» учреждает мир
(истину, мышление, способ бытия объектов), так же как
«бытийная вера» учреждает бытие. Если исследование
веры в бытие* руководствовалось поиском очеввдностей, то
анализ «недобросовестной веры» касается
неубедительных очеввдностей, в отношении которых в режиме
недобросовестности только имитируется убеждённость. Речь
здесь идёт о вере и убеждениях, которые и не стремятся
быть убедительными. «Недобросовестная вера» приняла
«под себя» решение о природе истины и о приемлемом
уровне убедительности.15
Как убедительно показал Михаэль Тойниссен (Theunis-
sen 1995, 181-204; 2005), сартрианская
«недобросовестная вера» также во многом представляют собой развитие
кьеркегоровского понятия «разуверение» (через бегство
от себя, неподлинность и самообман). Но
недобросовестная вера* — это также и понятийный перекрёсток, на
котором разуверение* сталкивается с мотивом веры в
бытие*; в нём в сжатом виде присутствует двойная
экзистенциальная и феноменологическая предыстория.16 Если
развернуть понятие: смысл высказывания о бытии (в том
числе о нашем собственном бытии) может проходить
стадии добросовестной веры в бытие*, разуверения* и
недобросовестной веры*, притом, что сам текст высказывания
остаётся одним и тем же. В качестве отправной точки
возьмём то, как Евгений Минковский описывает одного
из пациентов: «слова "я существую" не имеют для него
-25-
точного смысла»17. Слова «я существую» на этапе
добросовестной «веры в бытие» могут казаться беспроблемной
констатацией; на этапе «разуверения» можно переживать
драматичную утрату смысла этих слов; на этапе
«недобросовестной веры» можно вести себя как ни в чём не
бывало, притом, что прекрасно знаешь: эти слова не имеют
точного смысла. Парадокс заключается в том, что
добросовестная «вера в бытие» уже включает в себя момент
недобросовестности: считая «я существую» беспроблемной
констатацией, уже прекрасно знаешь об отсутствии у этих
слов точного смысла. Внутри добросовестной веры в
бытие* уже запущена работа разуверения*, делающая её
недобросовестной верой*.
Сартр сформулировал парадокс так: «искренность —
это феномен недобросовестной веры»18. Искренность для
него — недостижимый идеал, такой же, каким было
бытие мира в качестве действительности для Гуссерля.
Поскольку действительность работает как бесконечная,
никогда до конца не выполняемая задача (Natanson 1973),
то вера в бытие выдаёт миру «кредит доверия»,
поддерживает его на промежуточных этапах. Стоит ли говорить,
что никаких этапов, кроме промежуточных, в данном
случае и не стоит ждать. В «действительном» мире,
построенном как бесконечная задача, искренность играет сходную
роль невыполнимой задачи. Здесь и вступает в игру
«недобросовестная вера»: она выдаёт невыполнимую задачу
за уже готовое достижение; при этом, по определению
французского феноменолога, «вера — это спайка бытия
со своим предметом, когда объект не дан или дан
неотчетливо» (Сартр 2000, 96,102; Sartre 1943, 97,103). Тогда
вера в бытие* — это спайка явления и действительности,
а именно: действительности, которая не дана или дана
неотчётливо. В бытие мира в качестве действительности
встроено колебание между бытием и не-бытием, но
средствами «недобросовестной веры» оно игнорируется.
Недобросовестная вера* возможна потому, что искренняя
-26-
«вера в мир (Weltglaube)» всегда бьёт мимо цели и знает
об этом. Парадоксальный тезис Сартра состоит в
следующем: чтобы «недобросовестная вера» была возможна,
нужно, чтобы она была встроена в саму искренность.
Искренность (неизбежно мнимая), как и «недобросовестная
вера» — это ускользание, побег от самого себя как от
невыполнимой задачи, побег, встроенный в структуру
действительности.19
Конечно, можно игнорировать момент разуверения*,
встроенный в «добросовестную веру»; более того, такого
рода игнорирование лежит в основе феноменов, которые
я предлагаю называть «странными мнениями» и которые
я буду описывать во второй главе. Странное мнение* —
это мнение, которое включает в себя недобросовестную
веру*. В качестве центрального примера я возьму
ситуацию «платного тролля», размещающего комментарии
заданного содержания в социальных сетях. В данном случае
я предлагаю рассматривать эту экстравагантную
профессию как метафору жизни в «недобросовестной вере», не
вынося моральных оценок. «Платному комментатору»
известно: то, что он заявляет от первого лица — не его
мнение. Я хотел бы указать на то, что недобросовестная вера*,
встроенная в заявляемые им мнения, заставляет смысл
его высказываний «двоиться». Его мысли начинают
делиться на то, что он думает, и те мысли, которые он
должен впускать в себя по долгу службы; его мнения делятся
на те мнения, которых он придерживается и те, которых
он «придерживается» в течение рабочего дня. Наш
«платный комментатор» может оказаться тем, кто увлекался
философией поступка Бахтина, но не сделал философию
своей профессией (Приложение, Интервью №1). Как
бывшему студенту-философу, ему хорошо знакомы утрата
веры, сомнения в себе самом; так как же ему удаётся
игнорировать разуверение* и выдавать недобросовестную веру*
(ему прекрасно известно, что это не его мнения) за веру
в бытие* (мнения и убеждения)?
II. Странные мнения
Диковинные, сбивчивые, нестабильные
Разбирая вопрос о несовпадении высказанного
мнения и веры в подразумеваемое в этом мнении, можно
вспомнить уже однажды описанные в философии типы
странных мыслителей, а именно: диковинного (peculiar)
мыслителя, сбивчивого (inconsistent) мыслителя и
нестабильного (unstable) мыслителя (Smullyan 1986).20 Для
наглядности проиллюстрирую каждый из этих типов
примерами из романов Достоевского. Диковинный*
мыслитель — тот, кто верит в нечто, но не верит в то, что он
в это верит. Например: «Ставрогин если верует, то не
верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он
не верует» (Достоевский 1974, 469). Сбивчивый*
мыслитель — тот, кто верит в нечто и, вместе с тем, не верит
в это же самое нечто. Так: «[Фёдор Павлович Карамазов]
глядит на меня в окно-то и верит и не верит21, а отпереть
боится, это уж меня-то боится, думаю» (Достоевский
1976b, 64). Нестабильный* мыслитель — тот, кто верит,
что верит в нечто, но на самом деле в это не верит. К
примеру: «[по словам Подростка, некоторые] не верят, а
хотят верить, но желание принимают за самую веру»
(Достоевский 1976с, 207).
В нашем случае речь идёт не столько о мыслителях,
сколько о «носителях мнений», поскольку «платный
комментатор» распространяет то, что подумал за него кто-то
другой. Эти мнения сопровождает некая странность*,
причём она касается не содержания мнений, а их структу-
-31-
ры, того, как именно их «мнят». Рядовой носитель мнений
может сам сформулировать некоторое мнение, а может
«подхватить» мнение из услышанного или прочитанного.
Когда этот рядовой носитель мнений высказывает так
называемое «своё» мнение, то обычно он в него верит; он
может заблуждаться разве что в том, что это именно его
мнение, а не чьё-то ещё. В случае «платного
комментатора» заранее известно, что в качестве своего высказывается
чужое мнение. При этом вера в подразумеваемое во
мнении совершенно не обязательна, и это отсутствие веры
в содержание «собственного» высказывания может
вызывать странные* эффекты, в зависимости от того, во что
именно в своих словах он не верит.
У каждого из странных* носителей мнений есть
характерное слепое пятно:
- для диковинного* носителя мнений таким слепым
пятном является сам характер веры (даже если он во
что-то верит, то он не может признать, что он в это
верит);
- для нестабильного* носителя мнений слепое пятно
заслоняет содержание веры (он обманывается,
считая, что верит во что-то определённое, притом, что
на деле он в это не верит);
- в случае сбивчивого* носителя мнений слепое пятно
мешает ему увидеть несовместимость веры и
отсутствия веры в одно и то же (он заслоняется от
противоречивости «собственных» мнений).
«Платный комментатор» может в рамках одного
рабочего дня проходить фазы диковинного*, сбивчивого* и
нестабильного* носителя мнений.
Почему же «платный комментатор» как диковинный*
носитель мнений не может так просто признать, что он во
что-то верит? Дело в том, что для того, чтобы признать,
что именно он (а не кто-то другой) во что-то верит, ему
нужно сначала признаться, что он не является автором
«собственных» мнений, то есть обесценить собственные
-32-
высказывания, и, одновременно, утвердить настоящего
себя, который является автором собственного
высказывания. Он должен верить и не верить в то, что он автор
«своих» мнений, то есть он должен стать сбивчивым*
носителем мнений. Если ему это удастся, то он начнёт считать,
что верит в те мнения, которые высказывает, забывая
о том, что эти мнения сформулированы в техзадании,
и его задача как временного их носителя — сделать так,
чтобы другие их подхватили. Подхватить их самому было
бы ошибкой, для «платного комментатора» важно
своевременно опустошать накопившийся набор готовых
мнений, освобождая место для новых, которые ещё только
предстоит транслировать.
Странные* носители мнений с их блуждающим
слепым пятном позволяют обратить внимание на застывшее
слепое пятно рядового носителя мнений: он считает
«свои» мнения действительно своими. То есть в нашей
повседневной и позитивно-научной практике нам успешно
удаётся игнорировать недобросовестность*, входящую
в веру в бытие*.
Обычно мы исходим из того, что мнение должен кто-то
«мнить», «иметь в виду», «полагать». В случае «платного
комментатора» подмена осуществляется не на уровне
сообщения «Политики ЕС — одни слизняки и прихвостни
американцев», а на уровне пропозициональной установки
«я считаю, что...». Так считают за меня, а я должен делать
вид, что я так считаю (даже если я так действительно
считаю). Интересно, что последнее высказывание в полном
виде звучит так: Политики ЕС — одни слизняки и
прихвостни американцев. Вообще своего мнения нетмнениетролля.
Если вчитываться в него, то можно найти нечто
завораживающее; его смысл гораздо глубже и богаче, чем может
показаться на первый взгляд. На уровне молчаливо
подразумеваемой пропозициональной установки «я думаю,
что...» высказывание обманывает (на самом деле это тех-
задание думает за меня), но на уровне содержания оно
-зз-
проговаривает истину о самом типе произнесенного
высказывания: своего мнения нетмнениетролля. Внутри мнения
о бесхребетности европейских политиков (политики
ЕС — одни слизнякимнеинетролля) против воли «платного
комментатора» в свёрнутом виде содержится
мета-высказывание, относящееся к тому типу речи, который он сам
практикует (вообще своего мнения нетмнение тролля). Сходная
ситуация описана в недавнем исследовании о троллях:
некто задавал «вопрос более острый (и ироничный), чем ему
казалось» (Филлипс 2016, 142), задевая этим вопросом
самого себя.
Отталкиваясь от высказывания платного
комментатора, я предлагаю рассмотреть, какие трансформации
претерпевает вера в бытие*у когда сквозь неё проступает
недобросовестная вера*. При разборе этих превращений
веры в бытие* можно идти по смаллиановской
классификации странных* мнений. Тогда диковинная вера в
бытие* представляет собой полагание бытия, незаметное
для полагающего. Диковинное* полагание бытия касается
бесхребетных политиков-слизняков и предполагаемого
автора высказывания — честного правдоруба. В
высказывании нашего комментатора молчаливо подразумевается,
что он сам есть, у него, в отличие от политиков Евросоюза,
есть своё мнение. Но в каком смысле он есть и в каком
смысле это его мнение? Стоит задать этот вопрос, и мы
перемещаемся в фазу сбивчивой веры в бытие*. Речь идёт
о полагании бытия, которое противоречит само себе.
«Платный комментатор» прекрасно знает, что это не его
мнение, что в данном случае своего мнения нет скорее
у него, чем у кого-то другого; более того, его самого нет
в этом высказывании; высказывание полагает бытие
фантомного правдоруба, разоблачающего бесхребетных
слизняков. В таком случае произнесённые мнения
оказываются не высказываниями, а «отходами деятельности
фантома» (Пригов 2004,255). Странное* мнение, которое
он высказывает, одновременно полагает бытие (своего
-34-
мнения, субъекта искреннего высказывания) и
зачёркивает его. «Платный комментатор» работает посменно,
«два через два». Представим себе, что он после трудового
дня пришёл домой и автоматически начал
воспроизводить в бытовом разговоре те клише, которые двенадцать
часов подряд распространял в социальных сетях. Стоит
нашему комментатору поймать себя на слове, заметить
странность* происходящего, усомниться: он ли «автор»
мнений, которые высказывает, он окажется в фазе
нестабильной веры в бытие*, в ситуации полагания бытия,
вводящего в заблуждение полагающего. Он будет спрашивать
сам себя, верит ли он тому, что говорит. Вместо того
чтобы верить тому, что он сам говорит, он будет только
хотеть верить тому, что говорит. Отсюда его может
выбросить обратно в фазу диковинной веры в бытие*, когда он
будет полагать бытие, но не верить тому, что он
осуществляет полагание бытия.
Мы оказались внутри аттракциона, который очень
напоминает кьеркегоровское круговое движение
разуверения* (от забвения себя к осознанию себя, от
осознанности к побегу от себя, от нежелания быть собой к желанию
быть собой, и обратно к забвению себя). Мы можем быть
благодарны прагматичному платному комментатору,
пожертвовавшему своей субъектностью, поскольку
можем теперь заглянуть в бездну странных* мнений.
Теперь обратим эту интуицию на самих себя. «Нормальный»
(в смысле Smullyan 1986 — то есть не-диковинный*)
носитель мнений устроен так, что обходится без
диковинных* мнений: он верит во что-то и верит в то, что он в это
верит. Но тогда скорее с нормальным* (а не с
диковинным, сбивчивым или нестабильным) носителем мнений
что-то не так. Двоящиеся мысли показывают нам, как
сквозь одно проступает другое, например
недобросовестная вера* сквозь веру в бытие*. (Например: я, с одной
стороны, верил в это, потому что я понимал, что
существует вот эта агитационная платформа, агитацион-
-35-
ная политика; а верил ли я фактически в то, что я
писал? — естественно, нетсобственноемнениетролля — из интервью
Комментатора №1).
Я предлагаю, корректируя классификацию «странных
мыслителей» Смаллиана, говорить скорее о диковинных*,
сбивчивых* и нестабильных* мнениях, поскольку это
могут быть фазы, которые по многу раз за день проходит
странный* носитель мнений. Я предлагаю рассматривать
нестабильность как свойство мнения, а не как
характеристику его носителя: такого рода мнение устроено так, что
навязывает временному носителю — тому, кто его
подхватил — свою нестабильность. Итак, странный* носитель
мнений а. говорит нечто; б. не верит в то, что говорит;
в. не знает, что не верит в то, что говорит. Но разве можно
не верить и не знать, что ты не веришь? Кьеркегор
описывает эту ситуацию, говоря о несознаваемом разуверении*:
некто не верит в Бога, хотя думает, что верит. Сходный
феномен описывает Сартр, говоря о нарушенной вере,
которую заслоняет недобросовестная вера*: она даёт
возможность не замечать, что в самом основании веры пролегает
раскол, трещина. «Недобросовестность» и заключается
именно в том, что себе позволяют не замечать, что
исходная вера нарушена. Можно заблуждаться относительно
того, чего ты «на самом деле» хочешь. Но как же можно
заблуждаться в том, во что ты «на самом деле» веришь?
Именно «на самом деле» и составляет основной источник
заблуждений, поскольку за этой рубрикой скрывается
философская головоломка — загадка «действительности».
Опыт говорит нам: «мир как действительность всегда
есть», но не замешана ли здесь некоторая
недобросовестность*? Так не является ли вера в бытие*, притворно не
замечающая круговорота разуверений*, недобросовестной
верой*? Я принял это как центральную гипотезу.
Вера в бытие* вплетена в повседневный опыт: «листая
газету, мы просто считываем "новости", принимаем: то,
о чём в них говорится, действительно есть; так прочитан-
-36-
ное становится нашим мнением, как будто мы всегда так
считали» (Husserl [1936] 1954, 374; Гуссерль 1996, 225).
Зачастую мы впускаем в себя чужое диковинное*,
сбивчивое* или нестабильное* мнение (журналиста, платного
комментатора, случайного попутчика), вместе с ними
полагая существование того, о чём идёт речь. К счастью, нам
свойственно испытывать разуверение*, а оно обнажает
недобросовестную веру*, стоящую позади веры в бытие*.
Анонимные, безличные, «твои»
Платон характеризовал мнение как остановку на пути
внутреннего «разговора», когда «душа» определяется,
понимает, с чем она имеет дело, и больше не колеблется (Те-
этет 189е-190а). Меня интересуют мнения, которые
больше не требуют внутреннего разговора «души» с самой
собой, не проходят стадию колебания, попадают на
бумагу или экран, минуя «сознание». Речь идёт о мнениях, не
проходящих этапы внутреннего разговора, о мнениях,
которые можно формулировать «не приходя в сознание»,
о мнениях, которые не являются моими в полном смысле
слова, поскольку их не подготавливает никакая моя
внутренняя работа. Несмотря на то, что я высказываю такие
мнения, они не в полной мере мои, и я не знаю, откуда
они во мне «всплывают», чьи они, поэтому предлагаю
называть их анонимными мнениями*. Я не знаю их
источник, но они возникают во мне. В этом случае, вместо
«остановки на пути мышления», я имею дело с чередой
остановок, интервалы между которыми я не проезжал или
проезжал только автоматически.
В дневнике за 1 марта 1897 года Толстой оставляет
запись:
Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошёл
к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или
нет. [...] Если бы кто сознательный видел, то можно бы
восстановить. Если же никто не видал или видел, но бес-
-38-
сознательно; если целая сложная жизнь многих людей
проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была.
Так что жизнь — жизнь только тогда, когда она освещена
сознанием.22
Здесь интересно временное смещение из настоящего
в свершённое прошлое: я проживаю кусок жизни, «не
приходя в сознание», и вот уже эта жизнь «не была». Теперь
только задним числом можно пытаться
реконструировать, откуда взялись мнения, возникшие в это странное
спрессованное время. Анонимное мнение* отмечает
автоматически прожитое, прожитое как бы без моего участия.
Кто прожил этот кусок жизни за меня, кто оставил после
себя это мнение? Когда привычно оперируешь
сложившимися мнениями, полагаешь их как готовые результаты,
«не приходя в сознание», они не являются до конца
твоими. Когда имеешь дело только с результатом, мнение
выглядит «ничьим». Если бы кто-то участвовал в
формировании мнения, то его происхождение можно было бы
восстановить. Если же никто его не «мнил» или мнил, «не
приходя в сознание», то оно, в некотором смысле, ничьё.
Мнение принадлежит мне, если оно освещено
«сознанием», в противном случае — оно присутствует во мне как
артефакт. Для Толстого бессознательно прожитого «как бы
не было»: оно не столько проживается, сколько ставит
перед фактом проживания. Напротив, об анонимных
мнениях* нельзя сказать, что их «как бы нет» — они есть в
полной мере, а вот их носителей, произносящих их «не
приходя в сознание», действительно в момент
произнесения «как бы нет».
Классик отечественной психиатрии отмечает:
«статическая [сомнамбулическая, автоматическая] мысль
бессознательна; но и освободившаяся из кладовой
бессознательной души мысль, то есть мысль активная не всегда
бывает сознательной» (Кандинский [1890] 2018, 372).
Мысль, которая «всплывает» во мне, может быть автома-
-39-
тической, глухо подразумеваемой, как во сне — так
можно пассивно мыслить, «не приходя в сознание». Например,
шёл по улице и вдруг подумал: «Розеншток-Хюсси»;
почему розеншток, зачем хюсси? Но и то, что «я думаю» от
первого лица, мнение, которое «я» как бы активно
формулирую, может оказаться зомби-мыслью, у которой «темно
внутри»23. Меня может не оказаться в «моём» мышлении.
Но в каком смысле мнения анонимны (их автор
неизвестен)? Это же должен быть «я». Стоит уточнить, что речь
пока шла о «безличных», то есть «ничьих» мнения. Как же
автор моего мнения может быть неизвестен? Это ведь моё
«безличное» мнение. Является ли мнение безличным
в том же смысле, в котором говорят о безличных
предложениях, вроде «Смеркалось. Подмерзало»? В них не
упоминается подлежащее, но оно подразумевается. В моих
безличных мнениях*, наоборот, я упоминаюсь, но не
подразумеваюсь!
Безличная форма суждения способствует тому, что
я начинаю приписывать анонимное мнение* себе, сдаю
ему в аренду форму первого лица. Анонимное мнение*
выдаёт себя за моё личное мнение, высказанное в форме
безличного мнения*. Что значит носить в себе чьё-то чужое
мнение и не отдавать себе отчёт в том, что оно не ваше?
Не верить и не знать, что не веришь
Несколько страниц выше уже вводилась
классификация «странных мыслителей» (диковинный мыслитель,
сбивчивый мыслитель, нестабильный мыслитель). Я
предлагал говорить скорее о нестабильных мнениях, поскольку
это могут быть фазы, которые проходит странный
носитель мнений*. При этом стоит рассматривать
нестабильность как свойство мнения, а не как характеристику его
носителя: оно устроено так, что навязывает временному
носителю свою нестабильность. Итак, в случае
нестабильного мнения странный носитель мнений* а. говорит
нечто; б. не верит в то, что говорит; в. не знает, что не верит
в то, что говорит. Но разве можно не верить и не знать, что
ты не веришь? («Нельзя чихнуть и не знать, что ты чихнул»
Руднев/Милн 1996, 61, 194). Можно. Можно считать, что
веришь в Яхве, но на деле приносить жертвы Ваалу24 — это
вера в режиме ддвдоояящщииххссяя мыслей.
Сходный феномен описывает Сартр, говоря о
нарушенной вере, которую заслоняет недобросовестная вера*25.
«Недобросовестная» вера даёт возможность не замечать,
что в самом основании веры пролегает раскол, трещина.
Французский экзистенциалист, говоря о такого рода
бездумной вере, использует идиому «вера угольщика (foi du
charbonnier)» (Sartre 1943,120-121), русский романист —
остроту «верит как баба Акулина» (Толстой [1896] 1954,
62-63), но совсем не обязательно быть угольщиком или
бабой Акулиной, достаточно просто избегать разувере-
-41-
ния*. «Недобросовестность» заключается именно в том,
что себе позволяют не замечать: исходная вера нарушена.
Можно заблуждаться относительно того, чего ты на
самом деле* хочешь: «он на том месте на коленях стоял,
брата вымаливал, от всей души, как ему казалось, от всей
своей больной совести, а получил кучу денег» (Стругацкий Α.,
Стругацкий Б. 1981, 34). Но как же можно заблуждаться
в том, во что ты на самом деле* веришь? Именно «на
самом деле» и составляет основной источник заблуждений,
потому что совершенно неясно, что это такое.
Стоит сосредоточиться на ситуации, когда долгое
время «не веришь и не знаешь, что не веришь» и вдруг
узнаёшь, что уже давно не верил. Такую ситуацию можно
назвать пробуждением*. Я обнаруживаю себя посреди
странного мнения*, которое я, как считается, разделяю.
Один из главных теоретиков идеологии XX века, Карл
Мангейм описывает родственный феномен: некто «вдруг
переживает идею как идеологию». Важно подчеркнуть,
что речь идёт об «идее», которую «нащупывают» в себе как
инородное тело.
Феноменологический субъект, который вдруг
переживает идею как идеологию, тем самым ставит себя вне
особой идеологической сферы, теоретически отрицать или
ставить под сомнение которую уже потому невозможно,
что ставящий её под сомнение или отрицающий всё ещё
продолжает участвовать в полагании того, что
предписано (хоть и с противоположным знаком). (Mannheim
[1926] 1964, 390)26
Мангейм описывает только один феноменологический
режим погружённости в идеологию. Я предлагаю
описывать феномены идеологического погружения и
выныривания (пробуждения), когда «не веришь и не знаешь, что не
веришь», узнаёшь, что уже давно не верил, с удивлением
смотришь на то, что только что было «твоей» верой, чтобы
-42-
вновь в неё погрузиться. Речь идёт о странной
совмещённой перспективе, когда одновременно смотришь из своих
глаз и видишь себя со стороны, откуда-то «с потолка»
(«под потолком сидит душа» Введенский 2013,116). Если
вернуться к схеме Мангейма: он «вдруг переживает» нечто
и тем самым «ставит себя вне его сферы»; я бы уточнил:
оказывается и внутри, и снаружи. Вера в бытие* — на
месте, но через неё сквозит недобросовестная вера*.
Вдруг переживается то, что раньше только молчаливо
подразумевалось. Это не значит отрицать или
сомневаться, это значит обнаружить себя посреди автоматического
действия (в смысле Толстого и Шкловского). «Не веришь
и не знаешь, что не веришь», обнаруживаешь, что «не
веришь, не зная об этом», но, как ни странно, продолжаешь
«верить, зная, что не веришь», смотреть на себя с потолка.
Тролль против зомби
Если чужие убеждения в течение
какого-то времени высказываются
от первого лица,... <то> ничего не
подозревающий носитель
начинает против воли их разделять.
(Секацкий 2000,191)
По условиям знаменитого мысленного эксперимента,
философский зомби — это тот, кто ведёт себя также как
вы, но у кого «темно внутри» (Чалмерс 2013,129). В таком
случае, я хочу определить философского тролля как того,
кто ведёт себя так же как вы, но отслеживает в себе
появление анонимных мнений*. У философского зомби темно
внутри, а внутри философского тролля время от времени
вспыхивают чужие мнения, которые он на время выдаёт
за свои. Существует приложение, позволяющее
отслеживать по IP-адресам сообщения троллей, но нет такого
приложения, которое позволило бы отслеживать тролля во
мне самом. Можно было бы сформулировать кредо того,
кто просматривает свои мнения ради выявления
анонимных: никогда не спрашивай, в ком бьётся сердце тролля,
может быть, оно бьётся в тебе*.
Проведу мысленный эксперимент и поставлю себя на
место «платного комментатора в социальных сетях,
выпускника философского факультета», с которым я беседо-
-44-
вал в 2018 и в 2020 году. Описанное ниже носит
вымышленный характер, все совпадения случайны*:
Заинтригованный феноменом чужого мнения,
произносимого от первого лица, я решил провести полевое
исследование с погружением и устроился работать на
«фабрику троллей». Первым условием было приостановить
имевшиеся суждения и предубеждения против такого
рода занятий. Не осуждать, а наблюдать: высказывать чужие
мнения и вести полевой дневник — такова была моя
задача. Передо мной стоял моральный барьер — мне
придётся выражать мнения и убеждения, которые я не
разделяю; с другой стороны, мной руководил исключительно
исследовательский интерес. Я решил, что это оправдывает
произнесение чужих мнений, и я не буду считать себя
в чём-либо виноватым. В этом отношении я не буду
отличаться от моих будущих коллег, которые высказывают
чужие мнения не потому, что они их разделяют, а потому,
что им нужно платить за квартиру. С другой стороны, я
буду делать это из чисто философского интереса к феномену
«чужих мнений, выдаваемых за свои». Оставался
технический вопрос, что делать с теми деньгами, которые я буду
получать за выполняемую мной роль. Не сделают ли они
меня соучастником того, за чем я только наблюдаю? Я
решил подумать об этом позже, а если и использовать
деньги, то только для поддержки этого исследования.
Я отдавал себе отчёт в том, что важно соблюдать
технику безопасности, так как чужие мнения, которые
произносишь как свои, незаметно становятся твоими, поэтому
регулярно избавлялся от накопленных за рабочий день
мнений. Для этого я придумал специальную
гигиеническую процедуру: в свободное от работы время я вёл
анонимный блог «Исповедь бота», в котором коротко, но
искренне исповедовался неизвестным читателям во всех
мнениях, которые я пропустил через себя за день — благо
они были достаточно однотипными и позволяли
резюмировать себя в нескольких абзацах. Это была ёрническая
-45-
«исповедь», — в качестве модели я взял неоконченный
роман «Тварь неподсудная» (Пригов [2004] 2013, 413-488).
Я сохранял дистанцию, подчёркивая, что я не разделяю те
мнения, которые транслирую на протяжении
двенадцатичасовой смены (по графику день/ночь/два выходных).
Я собирался впустить в себя тролля, но не собирался
проживать «его» мнения «всем сердцем». Как не влипать
в то, что ты пишешь изо дня в день? Я разработал для себя
технику: в ходе рабочего дня я мысленно нейтрализовы-
вал то, что писал, так оно становилось для меня
безвредным. Например: С таким лидером как наш президент ГФ
нам не о чем беспокоиться. Это настоящий вожак,
который не допустит, чтобы его страна разваливалась!
Возник интересный парадокс: даже когда мне в уста
вкладывали безвредные мнения, с которыми я был
согласен, я, в некотором смысле, лгал (выдавая безличное
мнение* за личное мнение). «Мои» мнения начали
расслаиваться на «мнения» и мнения*.
Если меня нет, то всё дозволено
В отношении каждого высказанного мной мнения
можно было спросить: моя ли это «мысль» или
запущенный «паразит», не является ли оно чужим? Я часто
вспоминал рассказ Леонида Андреева «Мысль», в котором
сквозь мысль «я притворяюсь сумасшедшим» постоянно
проступало я действительно сумасшедший*, а сквозь
«я действительно сумасшедший» проступало я
притворяюсь сумасшедшим*: «Когда доказывает, что здоровый,
так и видишь сумасшедшего in optima forma, а начнёт
доказывать, что сумасшедший, — хоть на кафедру сажай
лекции читать молодым докторам, такой здоровый»
(Андреев [1914] 1989, 249). Так и в моих репликах сквозь
пропаганду проступала исповедь, а сквозь исповедь
проступала «нативная реклама (native ad)». (Есть люди,
которые информацию об окружающем мире черпают из
методичек, а умения и навыки имеют только те,
которые нужны куратору А есть люди, которые учатся
новому и совершенствуют себя. Для таких людей есть
канал @###: лучшие бесплатные курсы, семинары,
интенсивы*).
У тролля может не быть никакого мнения по вопросу,
о котором он должен высказываться, в таком случае
сквозь готовое мнение, которое он должен
транслировать, проступает апатия. Звучит: «Политики ЕС —
слизняки, вообще своего мнения нет». Сквозь него проступает:
α . Так выглядит послание в ре-
Я высказываю чужое мнение, своего у меня нет ^^ г
-47-
жиме двоящихся мыслей: «Те, у кого нет своего мнения —
слизняки; * ».
' и один из них, может быть, я
Что значит получать инструкции о том, как я должен
думать? Я не обязан так думать, достаточно только делать
вид, что я так думаю, в расчёте на то, что так начнут
думать другие. Мне поступало техзадание с формулировкой
«формируем мнение о том-то». «Формируем мнение
о том...» — что это значит? Разделяем ли мы его? Это не
важно. Я формирую у других мнение о том, к чему я
безразличен. Или точнее, моё мнение нерелевантно:
согласен ли я или не согласен с тем, что пишу, не должно влиять
на то, что я пишу — на это должно влиять техзадание. Моё
мнение не должно влиять на то мнение, которое я
высказываю: совпадают они или нет — это должно быть со
стороны неразличимо. Моё мнение не должно влиять на «моё
мнение».
Чем это отличается от лекций, которые я слушал в
университете? Мне сообщали, что я должен думать о Спинозе,
Марксе, так? Это не должно было быть так (я должен был
читать первоисточники), но по факту студент, которым
я был, перенимал услышанное, делал его частью своего
мнения. То есть получал инструкции о том, что он должен
думать о Марксе или Спинозе. И чем тогда бездумное
слушание лекций отличается от бездумного выполнения тех-
задания? Тем, что в случае лекций от меня требовалось,
чтобы я нарушил «внутреннюю тишину» и подумал что-то
о Спинозе и Марксе, а при выполнении техзадания
нарушение «внутренней тишины» только помешало бы мне
его выполнять. Лучше всего выполнять техзадание «не
приходя в сознание», ну так ведь и экзамен лучше сдавать
«не приходя в сознание» — иначе провалишься в чересчур
тщательную подготовку одного из билетов и не сможешь
успешно вызубрить их все.
Я читаю комментарий в социальной сети: «Те, кто
гордо называют себя оппозиционерами, на самом деле
обычные алчные людишки, которым только лишь денег на ав-
-48-
то накопить». Затем я понимаю, что это комментарий
платного тролля и его смысл для меня изменяется;
поскольку я не знаю, разделяет он это мнение или нет, я не
знаю, как его нужно понимать, поэтому записываю его
так: Те, кто гордо называют себя оппозиционерами, на
самом деле обычные алчные людишки, которым только
лишь денег на авто накопцтьмнениетролля. В это
высказывание вложено техзадание, а также собственное мнение
тролля (оно мне неизвестно). Я не знаю, что нужно
добавить к этому высказыванию или убавить, чтобы оно стало
выражением его собственного мнения. Предположим,
потом я узнаю, что его собственное мнение совпадает с этим
высказыванием. Казалось бы, оно должно перестать
двоиться, но оно продолжает двоиться в моих глазах, потому
что я не знаю (как, впрочем, не знает и он сам): стало ли
оно его собственным мнением, потому он высказывает
его по долгу службы или, даже если бы он не работал
троллем, он всё равно бы его разделял. Высказывание
продолжает двоиться:
Tje , к τ о г о рлю называют себ-я оппози-
iV к т о г о*рг^д о н а з ы в а ют с е о я о η π о з
пионерами,на самом д.еле о б.ы ч н ы е
и^ц ион е* ρ а м и' н а с а м о м *ч) с л е обычные
а л ч н ы е л юо шки,которым только ли-
а л ч н ы е л кПо и их к и* кот о*р ы м только л
ш ь д,е негна авто накопить.,
ишь "de не г на а в то на копить *
Двоя ш иеся мы ели
Индекс' и астериск*
Работая с мнениями троллей, я уже ввёл несколько
неконвенциональных форм записи: зачёркнутое мнение,
ДА^Л^^А** м*нЛннИиее> мнение, подлинный смысл
которого неизвестен"™"™трш1ЛЯ. У идеи маркировать
«изменённые формы смысла» типографским способом (помимо
традиционных кавычек и курсива) есть два значимых
философских предшественника: астериск* Гарфинкеля и
индекс' Гуссерля.27
В последней книге Гарольда Гарфинкеля астериск
используется как радикальная корректива читательского
понимания, корректива в неизвестном пока направлении:
Иногда для феноменов используются знакомые
наименования, такие, которые можно найти в разговорной речи или
в технической терминологии. Некоторые примеры этноме-
тодологических исследований представляют собой
инструкции; следование инструкциям, детали, структуры или
звонки по телефону. Всё дело в том, что эти привычные
наименования используются тенденциозно. В знакомые
наименования сознательно вкладывается устойчивая,
корректирующая, но скрытая тенденция. Понятие,
употребляемое тенденциозно, записывается с астериском—например,
деталь*. Написание деталь* используется так, что известно:
деталь* значит что-то другое, отличающееся от того, что
читатель объяснит или может объяснить при помощи какого
бы то ни было из разговорных «прямолинейных» значений;
при этом в то же время деталь* используется так, что из-
-53-
вестно: деталь* используется как корректировка
читательского понимания. Намеренно, иногда на основании
достижений предыдущих этнометодологических исследований,
деталь* (или любое другое упорядочивающее* понятие,
записываемое с астериском) используется как цель, задача,
метод или результат, согласно этнометодологическим
методам и правилам, как радикальная корректива. Также
известно, что разъяснение сознательно откладывается; оно
будет проведено на основании последующих исследований.
Известно, что разъяснение будет проведено там, где это
уместно в рамках общей структуры рассуждения, несмотря
на то, что это и не адекватно* ходу отдельной текущей
дискуссии, это будет сделано, по мере того как рассуждение
развивается в ходе текущих исследований. Это будет
сделано в рамках исследований, которые читатель и сам сможет
провести на деле (будь то исследования действительно, а не
предполагаемо проводимые, или даже уже действительно,
а не предполагаемо проведённые). Целиком и
исключительно на этих основаниях деталь* (или любое другое
упорядочивающее* понятие, записываемое с астериском)
используется как радикальная корректива читательского
понимания. (Garfinkel 2002,99,146)28
Кавычки указывали бы на то, что мы имеем дело либо
с переносным значением слов, либо с чужой речью — то
есть было бы известно, «на сколько нужно делить»
сказанное. В случае же с астериском* перед нами значение,
претерпевающее существенную коррективу, чьё направление
пока до конца не известно. Что значит высказывание
Министр обороны, вот кто настоящий мужик! Держит
армию в своих сильных руках! Спасибо вам за это! * если это
не мнение говорящего, а пункт в техзадании? Кто
благодарит министра обороны, оценивает силу его рук и
мужественность? Фабричный тролль в первую очередь мечтает
о приемлемой зарплате, а не о сильных руках министра.
Благодарит ли министра обороны за его мужественность
техзадание? Но что техзадание может знать о сильных ру-
-54-
ках, ведь оно бестелесно? Примерно столько же, сколько
знает робот-метеоролог, отвечающий на мой запрос о
погоде: «0°. Пасмурно. Ощущается как -4°». В каком смысле
ощущается*, «ведь у него же нету ног» (Заходер 1962,
106)29? На сколько я должен делить «его» слова?
Мнения троллей интересуют меня прежде всего тем,
что демонстрируют безличную составляющую так
называемых «нормальных» мнений. Чем наши утверждения
о действительности* отличаются от высказываний о
настоящем мужике, который держит армию в своих
сильных руках*?
Карл Мангейм предложил интересную стратегию работы
с идеологически нагруженным материалом: она состоит
в том, чтобы «разлагать» идеологию.30 Идеологическое
содержание нужно не отрицать или ставить под сомнение,
а выключать (ausschalten), не полагать (nicht setzen)
существование того, о чём идёт речь, и разлагать (zersetzen,
auflösen) его. Мангейм вводит исключительно неожиданное
и недооценённое понятие экзистенциального разъедания
(existenzielle Zersetzung), говоря, что в рамках критики
идеологии «мы имеем дело с экзистенциальным коррозирова-
нием её теоретического содержания» (Мангейм 1998,188).
В случае высказываний фабричного тролля абсурдно
говорить о разоблачении идеологии: идеологический
характер содержания его высказываний и не был сокрыт;
сокрыто только то, что его мнение — не «его» и не «мнение»,
а выполнение техзадания. Безнадёжно было бы пытаться
иметь дело с «субъектом», произносящим высказывания
Министр обороны, вот кто настоящий мужик!* как
с тем, чью идеологическую ангажированность нужно
раскрыть. «Субъект», его произносящий — временный
фантом, который растворится, как только тролль войдёт
в сеть под другим именем, перелогинится. Если мы
разоблачаем идеологическую ангажированность «субъекта»,
произносящего это высказывание, то мы полагаем его
существование, существование «его» мнений, чего от нас,
-55-
собственно, и хотят. Не разоблачать, а выключать, не
полагать существование и разлагать содержание — такова
более продуктивная стратегия.
Для рассматриваемого случая очень важно: перестав
полагать существование говорящего, мы тем самым
изменили смысл сказанного. То есть высказывание «Пасмурно.
Ощущается как -4°» меняет свой смысл, когда я узнаю,
что за ним никого нет, что у робота-метеоролога «темно
внутри» и «нету ног». Что-то подобное происходит со
смыслом высказывания о сильной руке*, если я не полагаю
существование того, для кого эти слова были бы личным
мнением*. Я полагаю только существование того, для кого
эти слова были строкой в техзадании или другой формой
безличного мнения*.
Здесь от легковесных примеров можно перейти к
важной философской теме. Не стоит ли рассматривать
позитивное знание, объективную истину как форму
безличного мнения*? За девяносто лет до астериска* Гарфинкеля
Гуссерль предложил для «подвешенных»,
«приостановленных» изменённых форм смысла написание с индексом':
«Всякая позитивная истина входит в сферу
феноменологического опыта как индекс, рубрика; [...] объективность
[следует рассматривать] как индекс» (Гуссерль, Разеев
2004, 333, 225; Husserl [1924] 1973, 204, 111)31. Он так
разъясняет эту мысль:
В лекциях зимнего семестра 1911 я выразился так:
действительное бытие вещи — это индекс определённых
субъективных взаимосвязей (хоть и уходящих в
бесконечность). Это нужно понимать именно в таком контексте.
Если я воспринимаю вещь, то необходимо сказать: тем
самым я уверен, что она действительно там есть, хотя я могу
заблуждаться. Когда моё убеждение верно? Я могу
подтвердить его опять же только через новый опыт. Но и он
может обернуться кажимостью. Когда моё убеждение
объективно верно? И какой смысл я сам вкладываю в эту объ-
-56-
ективную правильность? В достоверности восприятия
и в возможности подтверждающегося убеждения всякий
раз заложена презумпция, согласно которой я могу вновь
прийти к этому убеждению, вновь могу вернуться к опыту
и наконец, заложено, что эта презумпция проходит под
рубрикой объективно правильного, и что не будет и не
может быть такого опыта, который противоречил бы тому до
сих пор данному опыту, который производит память:
таким образом я вижу одновременно, что в рамках
убеждения заложен стиль уходящей в бесконечность
согласованности того, что вводится в игру как для меня будущее,
случайно произошедшее или свободное действие. Сначала
для меня в сфере моего непосредственного опыта, затем
опосредовано, исходя из другого опыта других вещей и так
далее, а затем интерсубъективно, при том, что я поначалу
наивно полагаю интерсубъективность как само собой
разумеющуюся. Затем я могу спросить дальше
феноменологически, как вообще выглядит согласованность, также как
и о том, как субъективно описать согласованность бытия
при локальной рассогласованности. И тогда ставятся
соответствующие вопросы о сохранении всегда
предполагающегося, а именно полагающегося, исходя из до сих пор
бывшего и нынешнего опыта, при условии презумпции
уходящего в бесконечность согласованного опыта. В
теории познания тогда также встаёт вопрос, как обстоит дело
с сохранением до бесконечности и так далее. Вот, что
значит быть индексом. Этих указаний недостаточно! Это мой
опыт мира, мои мнения — это, таким образом,
складывающееся в восприятии, в воспоминании, в выводах, или
также в моём актуализируемом прежнем знании и так
далее, суждение о (всякий раз в том или ином модусе)
подразумеваемом мире как таковом, то есть о том, что не
только положено как единство смысла в моей ситуативной
жизни (хотя это всегда необходимо), но и подразумевается
в отражающихся и зафиксированных моментах жизни,
в тех или иных субъективных «вопросах». И наконец, я
могу поставить вопрос: как выглядит общий стиль жизни,
наделённой опытом, в котором для меня всегда в наличии
-57-
есть и должно быть вещное, объективное, «мир»; какой
сущностный стиль должна иметь жизнь, чтобы мир вещей
мог бы быть дан как то, что должно быть согласовано, так,
чтобы я, обладающий опытом, неизбежно и непрерывно
мог бы верить в мир и должен был бы в него верить? туг
я говорю о моём субъекте, моей вере, моём опыте и
прочей жизни, в которой согласованно или нет, возможно,
с необходимостью я верил в существование чего-то.
И о том, что при этом дано в модусе наличия самой вещи
как «эта вещь» и в модусе бытия самой вещи, и так далее.
(Husserl [1927], Рукопись ВII4,105а-106а)32
В каком смысле действительное бытие — это индекс'?
Гуссерль хочет сказать, что это не что иное, как
показатель смысловых взаимосвязей. Но его можно и записать
как индекс'. Возьмём тривиальное истинное
высказывание, например, такое: «Я провёл ночь в плацкартном
вагоне, а теперь пью кофе, сидя за роялем». Элементы этого
высказывания можно записать так:
ддействительность^ ПрО0£д ^^действительное™ Q пЛаЦКарТПНОМ βαΖΟΗβ-
действительность q *^л»,,,г)1,Действительность р. «^действительность |>.л/^/,действи-
тельность £|«АоДействительность ort пполрмде^ствительность
Само высказывание целиком будет выглядеть так:
(я провёл ночь в плацкартном вагоне, а теперь пью кофе,
сидя за роялем)действительность.
Экзистенциально разлагать мнение тролля, в таком
случае, значит снабжать его соответствующим индексом,
например индексомтехзадание, и при этом не полагать
существование подразумеваемого в этом мнении. Например,
в случае высказывания платного комментатора «я очень
рад, что наша армия выходит на лидирующие позиции по
боеподготовке» — можно приостановить суждения о том,
он* ли рад, рад* ли он, наша* ли это армия, выходит ли
она на лидирующие позиции*, по боеподготовке* ли, и
записать его в форме (я очень рад, что наша армия выходит
на лидирующие позиции по боеподготовке)™*3***™*.
Нелепая добросовестность
Очень важно, на мой взгляд,
разделять добросовестное и
недобросовестное мнение. (Булез 2015, 67)
Недобросовестное мнение* — это когда я (безо всяких
колебаний) заранее знаю, что передо мной. Когда вместо
того, чтобы спросить себя: «что это мерещится мне
стоящим там у скалы, под деревом?», я уверенно говорю себе:
«это просто изваяние, поставленное какими-нибудь
пастухами» (Филеб 38с-е). В отличие от платоновского
персонажа, который «проводит в таких размышлениях
продолжительное время», носитель недобросовестного мнения
всегда уже знает, что перед ним, его мнение всегда уже
составлено. Вместо «разговора души с самой собой» (Теэ-
тет 190а) — ситуация, когда «всегда уже» знаешь, а
потому больше не колеблешься — внутренний монолог.
Недобросовестному мнению как будто чуждо
разуверение*; и потому оно (следуя кьеркегоровскому
рассуждению) им пронизано. Мнение, которое считает себя
добросовестным, тем самым (I) недобросовестно. В таком
случае в самой догматической добросовестности есть что-
то недобросовестное: добросовестность оборачивается
недобросовестностью; добросовестное мнение,
воспринятое как должное, как готовое тем самым становится
недобросовестным. Поэтому имеет смысл спрашивать себя:
а ты уверен, что это именно «твоё» мнение? А ты уверен,
-59-
что это именно «мнение» (а не подцепленная тобой
программа-паразит)? Я обнаруживаю в себе сложившееся
мнение, чьё происхождение неизвестно.
Проснуться «посреди» мнения — это примерно как
проснуться в пустом вагоне метро. Я не до конца ещё
понимаю, кто я и где я, а механический голос уже угрожает
мне: «поезд дальше не идёт, просьба выйти из вагона; за
нахождение в поезде, следующем в тупик, в соответствии
с законодательством Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность». Об этом
обнаружении себя посреди чужой автоматической речи
стихотворение «Речной вокзал»: «"Станция Речной вокзал — Поезд
дальше не идёт". А меня *** не ***! Я сюда *** и желал!»
(Немиров [1990] 1999, 70). Недобросовестным мнением*
было бы принять как должное то, что мне, не до конца ещё
проснувшемуся, робот угрожает административной
ответственностью. Реакция поэта Немирова в этом смысле
более добросовестна, поскольку заставляет нас «проснуться»
посреди механического канцелярита.
В противовес автоматическому недобросовестному
мнению я предлагаю рассмотреть избыточно, «до
нелепого добросовестное» мышление. Таков «ученик» из поэмы
«Появление героя» и композиции «Ученичок»:
К ученику на день рождения пришли гости, его
одноклассники: две девочки и три мальчика. Угощение состояло из
семи кусков бисквитного торта и пяти бутылок напитка
«Байкал». Одна девочка съела два куска торта и выпила
полторы бутылки воды «Байкал». А один из трёх мальчиков на
спор выпил всю остальную воду и сказал, что мог бы ещё.
Торт ребята не доели, остались один целый кусок и один
надкусанный. После угощения ребята играли во «мнения»
и в «балду». День рождения прошёл интересно и весело.
Когда гости разошлись, ученик остался один и стал думать.
Он подумал: «Куда смотреть? Ведь во все стороны, вперёд
и назад, направо и налево, вверх и вниз, вширь и вглубь,
-6о-
разворачивается бестолковое пространство наших
аритмических усилий и притязаний. Куда же смотреть?»
(Рубинштейн [1986] 2015,361,363/Мамонов 2002)
Посреди задачки для начальных классов о том, кто
сколько съел и выпил, просыпается неуместное в такой
ситуации, несвоевременное мышление, смутный и
незавершённый ещё фрагмент мысли, вроде такого: «радость,
не узнавшая из нас никого, уходит восвояси в то время,
как что-то такое опять и опять напоминает о себе...»
(Рубинштейн 2015, 363/Мамонов 2002). Здесь важно то, что
это именно «нелепая» добросовестность, так как у
серьёзной добросовестности очень велики шансы застыть в
форме недобросовестного мнения*. Философия, которую
я здесь практикую, представляет собой упражнение в
такой нелепой добросовестности* мышления.
Начнём из пустоты, только «проснувшись» на этот раз
не в вагоне метро, а посреди восприятия, например, так:
«Я вижу эту пачку какао. У меня воспринимающее
мнение. ... Мнение — это мнение о "действительности"; ...
нет мнения без подразумеваемого» (Husserl [1904] 2004,
234, 79). С этим можно поспорить: бывают мнения без
подразумеваемого; носитель мнений может «ничего не
иметь в виду»: «вот» пачка какао, «вот» банка колы — но
при этом автоматически воспроизводить готовое мнение,
вроде США изобрели только кока-колу, да и та ядом оказа-
ласьмнениетралля. Полагает ли говорящий «действительность»
того, о чём говорит? Полагаю ли я существование банки
колы или сразу скатываюсь к шаблонному проклятию,
сомнамбулически глядя сквозь неё? Смысл высказывания
тролля (министр обороны — настоящий мужикИненне тролля
или слизняки своего мнения не имеютмнение тролля или кока-
кола оказалась ядоммиеннетролля) может проходить стадии
недобросовестной веры*, (до нелепого) добросовестной
веры* и разуверения*, притом, что сам текст высказывания
остаётся одним и тем же.
Можно лгать правду
Некто выступает с правдивым
заявлением и одновременно лжёт:
то, что он говорит, — объективно,
правда, но «в его устах» заявление
лживо. (Мангейм 1998,187)33
Я предлагаю исходить не из отрицания или сомнения
в истинности предположительно идеологических
высказываний, а из того, что есть такой возможный мир, в
котором они истинны. Представим себе, что мы находимся
в таком мире, в котором высказывание: Единственное,
что дали американцы миру, это кока-кола, и та ядом ока-
заласъмнеН1Ле тролля истинно. Даже в таком возможном мире
это высказывание будет идеологически нагруженным,
поскольку оно не является собственным мнением, а только
выдаёт себя за него.
Мнение имеет форму: «я считаю, что...». Самое
интересное, что даже если платный тролль действительно так
считает, оно всё равно будет идеологически нагруженным, так как
так считает в первую очередь не он, а техзадание, которое он
получил сегодня утром. Тролль сдаёт в аренду своё личное
местоимение («я») и форму мнения («считаю, что...») {Яду-
маю, что пока на Украине такая власть, ничего не
изменится в лучшую сторону, а будет только хужемнениетролля).
Возникает вопрос: распространяется ли договор
аренды также и на его перспективу первого лица, то есть дол-
-62-
жен ли он испытывать все те чувства, о которых говорит
{Все хотят в Европу, а лично у меня от этого ЕС
срабатывает рвотный рефлексмнение тралля) ? Поскольку никто не
может проверить, на самом ли деле он это переживает,
фактически он не обязан испытывать эти чувства, ему
достаточно только их высказывать.
Недавно звучала идея, что любое прямое высказывание
в свернутом виде несёт в себе высказывание в косвенном
контексте (Руднев 2016, 26), так, «идёт дождь» — это
сокращённая форма высказываний типа:
- «ведь вот дождь идёт, а вы слабенькие, вы
простудитесь» (Достоевский 1972,107);
- «чувства у паука так тонки, что, когда в воздухе
начинает только собираться сырость, и мы этой
сырости не слышим, и для нас погода ещё ясная, — для
паука уже идёт дождь» (Толстой 1957, 215);
- «идёт дождь, но я так не считаю» (Мур 1993,207).
То есть высказывание «идёт дождь» произносится не
из ниоткуда, его кто-то высказывает. Какова
пропозициональная установка тролля? Мнение платного
комментатора это ничьё мнение, которое звучит из уст фантома
(аккаунта-однодневки), этого фантома с его ничейным
мнением в течение рабочего дня впускает в себя платный
комментатор. Выше я уже разбирал случай
высказывания вообще своего мнения нетмнениетролля: тролль
проговаривался о формате собственного «высказывания». В
качестве эпиграфа я привёл мысленный эксперимент Карла
Мангейма: некто выступает с правдивым заявлением
и, несмотря на то, что его слова соответствуют
положению вещей, «в его устах» заявление лживо34. Мангейм
формулирует это так: «можно лгать правду (man kann die
Wahrheit lügen)». Интересно, что если мнение,
сформулированное в техзадании, совпадает с личным мнением
платного комментатора, то он как раз на уровне
сообщения говорит правду (это действительно его мнение), а на
уровне пропозициональной установки — лжёт (он выска-
-6з-
зывает это мнение не потому, что так считает, а потому,
что должен). Любопытно, что в случае тролля из прошлой
главы, говорящего вообще своего мнения нетмнение тролля
(говорящего про европейских политиков, но
проговаривающегося про себя) мы имеем дело с обратным случаем:
можно говорить правду, обманывая. Впрочем, за этим
стоит достаточно традиционный ход мысли: «можно не
обманывая сказать ложь, когда веришь в то, что
говоришь, хотя на деле всё не так; и лгущий может сказать
правду, если думая, что лжёт, он утверждает нечто как
истинное и всё оказывается действительно так, как он
говорит» (Augustinus, De mendacio З.З)35.
Идея Мангейма о том, что, будучи идеологически
ангажированным, «можно лгать правду», получила в немецкой
культуре неожиданное продолжение. Горькую иронию
можно увидеть в том, как антиидеологическое оружие
можно обратить в идеологическое. В нулевые, десятые
и двадцатые годы XX века формулу «можно лгать правду»
использовали поэты и праворадикальные публицисты.36
В тридцатые годы её начали активно использовать
национал-социалисты в качестве лозунгов: «Еврей может
думать только по-еврейски. Когда он пишет по-немецки, то
он лжёт» и «Даже когда еврей говорит правду, он лжёт,
благодаря выбору слов, построению фразы и
умолчаниям»37. Итак, формула, которая должна была заставить
«проснуться» посреди шаблонного мнения, превратилась
в идеологический инструмент.
Помучмарить фонку
Хайдеггер был философом задолго
до того, как стал нацистом. Его
приверженность гитлеризму
объясняется страхом, возможно, карьеризмом
и, уж точно, конформизмом: это
некрасиво, я согласен. Только этого
достаточно, чтобы отвергнуть ваше
милое рассуждение; вы говорите:
«Хайдеггер был членом национал-
социалистической партии, а значит,
его философия должна быть
нацистской». Но это не так: Хайдеггер —
бесхарактерный человек, вот в чём
истина; осмелитесь ли вы из этого
заключить, что его философия —
это апология трусости? Разве вы не
знаете, бывает, что люди не
дотягивают до уровня своих
произведений? И осудите ли вы
«Общественный договор», потому что Руссо
отдал своих детей в воспитательный
дом? (Sartre [1944] 1970, 654)38
Мартин Хайдеггер, будучи ректором, уклоняется от
того, чтобы вывесить на входе в университет спущенный
сверху, от министерства культуры плакат со словами
«Еврей, говорящий по-немецки, лжёт», хоть и проводит
-65-
в жизнь другие антисемитские решения (увольнения
профессоров по «расовому» признаку) (Jaspers 1978, 257).
В контексте вычеркнутого написания, изменённых форм
смысла* и того, что «можно лгать правду», отдельный
интерес представляет письмо Эльфриды и Мартина (Хайдег-
гер) к Мальвине и Эдмунду (Гуссерль) от 29 апреля 1933:
Многоуважаемая госпожа Гуссерль! В эти тяжёлые недели
я обязана, также и от лица моего мужа, написать
несколько слов Вам и Вашему супругу. Мы оба хотим Вам сказать,
что сегодня, как и раньше, думаем с неизменной
благодарностью обо всём, что Вы для нас сделали. Даже если
мой муж в своей философии должен был пойти другим
путём, он никогда не забудет, как много он как ученик
Вашего супруга приобрёл, и что именно это дало ему для
постановки его собственных задач. И я никогда не забуду то,
как Вы сами поддерживали нас в тяжёлые послевоенные
годы своей добротой и дружеским расположением.
Я очень страдала от того, что в последние годы больше не
могла показать Вам своей благодарности, хотя я никогда
и не понимала, что за паутина непонимания заставляла
Вас видеть в нас только тех, кто вас обоих разочаровал.
К этому также добавляется глубокая благодарность за
жертвенный подвиг ваших сыновей, и совершенно в духе
нового строгого, но с немецкой точки зрения необходимо-
го закона мы, безусловно, и с искренней гордостью
признаём тех, кто в час величайшей нужды на деле показал
принадлежность к нашему немецкому народу. Тем больше
шокировало нас то, как в прессе прозвучало имя Вашего
сына, работавшего в Киле. Мы надеемся, что дело только
в перегибах на местах, со стороны нижестоящего
начальства, вызванных общей нервозностью, как это уже было
в 1918 году, когда в революционные недели происходили
несправедливые и болезненные события. Пожалуйста,
уважаемая и дорогая госпожа Гуссерль, примите эти
строки от нас такими, какие они есть: как выражение
искренней и неизменной благодарности. Ваша покорная Эль-
фрида Хайдеггер (Heidegger 2000, 87-88, 787)39
-66-
В этом письме есть нечто завораживающее: примите
эти строки от нас такими, какие они есть*. А каковы
они? Что значит это зачёркнутое выражение «новый стро-
гий, но е немецкой точки зрения необходимый закон»?
Речь идёт о законе об увольнении профессоров
«неарийского происхождения», за исключением тех, чьи сыновья
воевали* или погибли на фронте, поэтому
подчёркивается, что Вольфганг Гуссерль, погибший в битве при
Вердене, задним числом заслужил для себя и для отца
«принадлежность к немецкому народу». Но что значит зачёркнутое
написание? В семейном архиве Хайдеггеров хранится два
черновика этого письма: один без оборота «строгий, но
с немецкой точки зрения необходимый», другой — с этим
оборотом, жирно зачёркнутым и, при этом, вполне
читаемым. Можно сказать, что это письмо существует как
взаимодополнение двух черновиков — оригинал сгорел в 1940
году в антверпенском порту (Ott 1988,169). Тогда
примите эти строки от нас такими, какие они есть* может
значить «примите эти строки от нас как осторожное
оправдание расовых законов»: в одном возможном мире
(где победили нацисты) предъявляется вариант с
зачёркнутой фразой, которая демонстрирует — необходимое для
немецкого народа превыше всего; в другом возможном
мире (где, скажем, победили союзники) предъявляется
вариант без этой фразы, который демонстрирует
сострадание в трудную минуту поверх «расовых» барьеров.
Это достаточно вычурное объяснение, но иначе
слишком многое в этом письме остаётся непонятным. В
соответствии с логикой письма, если бы сын философа не
воевал или не погиб, увольнение отца было бы более
оправданным? Если дело не только в перегибах на местах,
то что тогда должно значить увольнение фронтовика Гер-
харта Гуссерля из кильского университета по «расовым»
соображениям? Конечно, можно считать, что это не имеет
никакого отношения к философии Хайдеггера, что
зачеркнутое написание «бытие» в его поздних философских тек-
-67-
стах и зачёркнутое написание «строгий, но с немецкой
точки зрения необходимый "расовый" закон» не имеют
ничего общего, однако есть контекст, в котором они
сходятся.
В 2018 году в парижском архиве Гуссерля я читал
опубликованные несколько лет назад авторизованные
протоколы семинаров «О сущности и понятии природы,
истории и государства» (Heidegger 2010 [1933/34], 53-88).
К счастью, я был в архиве один — этот документ вызывал
непроизвольный болезненный смех. Самым шокирующим
был контраст между страницами 75 и 76 (2 февраля 1934,
середина семинара). Это больше всего напоминало
ранние рассказы Владимира Сорокина, где повествование
в духе соцреализма незаметно переходит в кровавое хто-
ническое безумие. Здесь эффект усиливался тем, что в
безумие сползал «близкий знакомый» — философ, чьи книги
я читал последние пятнадцать лет. Приведу фрагмент,
который произвёл такое впечатление:
Для начала зададим вопрос конкретно: что есть сущее?
Что есть бытие? Мел — это подручное сущее, мы видим
его и говорим о нём: мел [есть] белый. Тем самым мы
можем на опыте, наглядно констатировать: вот он мел,
равно как и его белизну. Но где же есть это «есть», форма
вспомогательного глагола «быть», который мы постоянно
используем в наших высказываниях? Мы не можем
видеть это «есть». Что есть это «есть»? Мы ведь используем
«есть» в разных значениях. В предложении «мел есть
белый» «есть» выражает свойство, качество, как-бытие.
Другое значение «есть» в предложении: «в наличии есть
мел», тогда наличное бытие — это не свойство, а скорее
род бытия, бытие-чем. Но это различие отнюдь не
проясняет, в чём сущность этого «есть» и бытия. Бытие вообще
не видимо, о нём нельзя составить представление. И всё
же мы вечно говорим «есть» и сразу же безо всяких
теорий понимаем это «есть», но мы не можем сказать, что
мы под этим подразумеваем. Это «есть» кажется таким
-68-
само собой разумеющимся, оно оказывается таким
тёмным, трудным, загадочным, когда мы о нём спрашиваем.
Мы не можем спросить о бытии с помощью вопроса: что
есть бытие? Не должны ли мы познать это «есть» именно
в той мере, в какой оно «не есть», то есть исходя из
Ничто? Если бы это было так, не оказались бы тогда
ничтожными весь мир, да и мы сами? Это чудовищно и заводит
в тупик. В само собой разумеющемся внезапно
открывается бездна, непроглядная и опасная, но неизбежная для
того, кто по-настоящему спрашивает.40 Для человека,
который в соответствии со своей сущностью должен
спрашивать, который должен подвергать себя опасности
Ничто, нигилизма, чтобы через его преодоление ухватить
смысл бытия. Здесь мы не можем дальше прояснить
вопрос о бытии, мы только видим, что имеет место
сущностное различие между бытием и сущим, и что это
различие совсем иное, чем различие между сущим и сущим,
например, книгой и мелом. Нужно указать ещё на
многозначность бытия: мел есть; собака есть; человек есть.
Во всех этих высказываниях констатируется, что вообще
есть нечто, а не ничто. Но всё же в каждом из трёх
случаев бытие различно: мел как мел есть предмет, бытие
собакой есть бытие животного, притом, что бытие живым
отличается от других родов бытия наличных предметов.
А бытие человека в первую очередь отличается и
выделяется своим способом быть. Чем именно? Чем выделяется
человеческое бытие? Мы говорим: человек осознаёт своё
бытие и бытие другого сущего, у него есть сознание. Это
человеческое сознание — это не только что-то доступное
знанию, о чём можно знать или не знать, а это
фундаментальная способность его вот-бытия. Для человека речь
идёт о его собственном бытии, и благодаря сознанию он
может быть им озабочен. Величие человеческого
сознания несёт в себе возможность глубокого падения в
бездумность. В постоянном обмороке бездумности и
бессовестности человек оказывается ниже животного.
Животное не имеет отношения к бытию, оно не может
быть бездумным, опустившимся или безразличным. Че-
-69-
ловек же вместе с сознанием и совестью теряет своё
достоинство. Без сознания, знания и забот о величии и
низости, мощи и бессилии его бытия в мире в целом он
больше не существует как человек, притом не может быть
ни животным, ни растением, ни предметом, то есть он
оказывается в основе своей вообще ничем. С потерей
сознания человеческое бытие становится ничтожным.
Также как сущее «человек» осознаёт своё бытие человеком,
как он к нему относится, озабочен им, также сущее
«народ» имеет сущностное фундаментальное отношение
к своему государству. Народ, сущее, которое в своём
бытии реализует государство, знает о государстве,
заботится о нём и стремится к нему. [...] Народ, сущее имеет
вполне определённое отношение к своему бытию, к
государству. Теперь нам нужно продумать, как сущностно
связаны эти отношения народ-государство и сущее-бытие.
[...] Исток всех государственных поступков и лидерства
лежит не в знании, а в бытии. Каждый вождь41 есть вождь,
должен быть вождём согласно запёчатлённой форме
своего бытия, и он одновременно понимает, обдумывает
и реализует в живом разворачивании своей собственной
сущности, что такое народ и государство. [...] Только там,
где вождь и им ведомые связывают себя вместе общей
судьбой и борются за реализацию одной идеи, вырастает
подлинный порядок. Тогда духовное главенство и свобода
осуществляется как глубокая самоотверженность,
отдающая все силы народу, государству, как строжайшая
дисциплина, как позиция, стойкость, одиночество и любовь.
Тогда существование и главенство вождя погружено в бытие,
в душу народа, оно изначальным и страстным образом
направляет народ к выполнению задачи. И если народ
почувствует эту самоотверженность, то он позволит
направить себя к борьбе, будет желать борьбы и любить её.
Он будет разворачивать свои силы, будет стойким,
верным и жертвенным. С каждым мигом вождь и народ
будут связываться теснее и теснее, с тем, чтобы реализовать
сущность их государства, то есть их бытия; разрастаясь,
они смогут противопоставить угрожающим им силам
-70-
смерти и дьявола, то есть бренности и отпадению от
собственной сущности, полное смысла историческое бытие
и волю. (Heidegger [1933/34] 2010, 73-77)42
Поначалу перед нами очень типичное для лекций Хай-
деггера рассуждение: у нас в руках кусок мела — он «есть»
и это разумеется само собой; но в само собой
разумеющемся внезапно открывается бездна непонятности, оно
ставится под вопрос; мы — сущее, ставящее вопрос о
бытии; народ — сущее, а государство — это его бытие; мы —
народ, а воля народа и воля вождя (Führer) едины. Стоп!
Это напоминает «первый звоночек» в рассказах
Сорокина: «Он приподнялся, выбил трубку о край стола, убрал
в карман и облегчённо выдохнул: — Значит, так. Как
говорил мой земляк Василий Иванович Чапаев, на всё, что
вы тут наговорили — наплевать и забыть. Давайте-ка на
кофейной гуще гадать не будем, а станем рассуждать по-
серьёзному. Оценивая сложившуюся ситуацию, мне
кажется, что надо просто помучмарить фонку. — В
наступившей тишине Алексеев качнул головой. По его лицу
пробежало выражение восхищения: —А ведь верно... как
я не додумался...» (Сорокин [1979] 2018, 36)
Перефразируя классика (Гегель [1807] 2006,14)43,
можно сказать: непосредственное доверие философа к
агрессивной идеологии есть неизвестно чем вызванная
попытка этого философа хоть раз помучмарить фонку*; занять
это необычное положение и двигаться в нём его
принуждает столь же неожиданное, как и, по-видимому, ненужное
насилие, которое ему угодно учинять над собой.
В этом контексте даже безобидное выражение «Для
начала...» приобретает зловещий смысл. Ещё раз попробую
поймать этот переход от мела к «идущим за лидером
(Führer)», к ведомым вождём (Geführte). Вот мел как
сущее, а вот наше бытие. Мы — то сущее, которое надо
опросить на предмет его бытия. Народ — это сущее, а
государство — его бытие. В такой формулировке фундамен-
-71-
тальная онтология выглядит пародией сама на себя, чем-
то вроде реплики Сартра, сказанной Батаю: «Вы — Бытие,
а я — Ничто» (Marmande 1986, 261)44.
Опять переход был слишком быстрым, попробую
разобрать его же в «замедленном воспроизведении», сопоставив
два способа задать один и тот же вопрос в 1932 и 1934 году.
В первом случае отвечающий пробуждается из
догматического сна в наш мир, а во втором — в кровавое безумие.45
Итак, для начала типичное хайдеггеровское
пробуждение вопроса посреди беспроблемной
самопонятности — вопрос «кто мы такие?» в версии 1932 года из
лекций «О сущности истины»:
То, что понятно «само собой», мы называем таким,
поскольку оно «нам ясно» безо всякого участия с нашей
стороны. Для нас это разумеется само собой, мы это таким
обнаруживаем. Кто мы тогда такие? Как случилось, что
мы берёмся судить, что разумеется само собой, а что нет?
То, что мы, как нам кажется, больше ни в чём не
нуждаемся, чтобы нам стало ясно—доказывает ли это, что нам
нечего добавить или даже мы не должны ничего
добавить? Мы, какие мы здесь есть и какими мы проводим
наши дни в горестях и радостях, мы, те самые мы,
которые только что наткнулись на вопрос о сущности истины
(поскольку так называется один из лекционных курсов
в расписании), являемся ли мы и то, что для нас самопо-
нятно без дальнейших разъяснений, первой и последней
инстанцией? Понимаем ли мы хотя бы в малейшей мере,
почему это должно быть так, и даже, почему это не
может быть так? Мы люди — знаем ли мы тогда, кто мы
такие или кто такой человек? Знаем ли мы, может ли
вообще и должно ли само собой разумеющееся быть
масштабом для людей, до каких пор и чем это чревато?
Кто нам тогда скажет, кто такой человек? Разве всё это не
совершенно непонятно? [...] Все эти самопонятности за
несколько простых шагов стали насквозь непонятны-
-72-
ми. [...] Кажущееся самопонятным стало непонятным —
но это значит, в той мере, в какой мы выдерживаем это
непонятное и заботимся о нём, оно стало достойным
вопроса. (Heidegger [1932] 1988, б)46
На этот способ мышления я ориентировался в работе
о «непонятности само собой разумеющегося» (Чернавин
2018); может быть, поэтому меня так шокирует то, во что
он превращается прямо на глазах у читателя. Тот же
вопрос «кто мы такие?» в версии 1934 года из лекций
«Логика как вопрос о сущности языка» звучит уже так:
Спрашивающие, те, кто задают этот вопрос, теперь
ставятся под вопрос, по поводу них самих возникают
вопросы. [...] Когда мы однозначно метим в опрашиваемых,
тогда мы спрашиваем: «Кто ты сам такой?» — «Кто он сам
такой?» — «Кто я сам такой?» Таким образом,
опрашиваемый — это всякий раз самость. Нужно спросить дальше:
«Что такое самость?» Но так мы снова выпадаем из
направления вопроса. Мы вновь должны ухватить в
понятии человека как самость. Затем вопрос звучит:
«Спрашивающий — кто он сам такой?» — «Кто мы сами
такие — спрашивающие?» [...] Мы как вот-бытие особым
образом объединяемся в принадлежности к народу, мы
пребываем в бытии народа, мы есть сам этот народ. Тем,
что мы так выражаемся, то есть говорим друг с другом,
мы совсем по-иному определили это «мы», и мы также
теперь совершенно внезапно ответили на вопрос «Кто мы
сами такие?»: мы пребываем в бытии народа, наше
собственное бытие и есть народ. Мы ответили внезапно,
особенно не блуждая в космических пространствах и эпохах,
не пускаясь в обсуждение подоплёки нашего
психического устройства. Что произошло? Мы в мгновение ока
организовались. Что-то осуществилось, когда в
педагогическую ситуацию впустили выражение «вот мы есть». [...]
Кто мы сами такие? Ответ: народ (das Volk). (Heidegger
[1934] 1998, 35, 39, 57, 59)47
-73-
Вопрос о бытии затрагивает спрашивающего — тебя
лично. Что значит быть? Бытие отвечает вопросом на
вопрос. Что значит быть? — а кто спрашивает? Ты же есть,
так вот и спроси в первую очередь самого себя. В «Бытии
и времени» это заход звучал как
экзистенциально-философский (в смысле Кьеркегора — речь шла об
индивидуальном существовании в его конечности), здесь он
неожиданно начинает звучать как грубоватая угроза: а ты-то сам
кто такой? «- А что же он делает там, в просвете [бытия]?
Просто стоит? — Как что делает? Пасёт! Пасёт бытие...»
(Секацкий 2005, 82).
Плавно производится переход от единичного Dasein
к «мы». Это «мы» поначалу выглядит фигурой
академической речи, а затем рывком переворачивается в «мы —
народ» (с определённым артиклем, то есть не какой-то там
один из народов, а народ по преимуществу).
Два варианта ответа на вопрос «кто мы такие»
работают по тому же принципу, что и две версии письма Эльфри-
ды X. Мальвине Г. Мнения «встроены» друг в друга, пишем
«мы спрашиваем о смысле бытия», подразумеваем «мы —
народ»; пишем «мы — народ», подразумеваем «мы
спрашиваем о смысле бытия». Они дополняют друг друга как
параллельно звучащие тезисы: мы спрашиваем о смысле
бытия + мы — народ япв111ИВ. м л . В таком
мы — народ * пмы спрашиваем о смысле бытия
написании — это «подтекст» в буквальном смысле слова.
Кстати, замечу, что высказывания платных троллей часто
представляют собой «сорокинские» вспышки агрессии,
при этом в подтексте* они имеют приемлемую,
стабильную реальность: они предполагают существование
«нормального» мира.
Форму записи с подтекстом* можно опробовать на
примере «генерального тезиса естественной установки»:
«мир как действительность всегда есть» (Husserl [1913]
1950,63). Этот тезис, с точки зрения Гуссерля,
представляет собой нечто крайне важное, обращенное именно к нам
(к тем, кто существует в действительности), но совершен-
-74-
но непонятное. Для наглядности эту непонятность и, при
этом, обращённость к нам (к тем, кто понимает слова)
я проиллюстрирую финальными фразами одного
современного романа: «Александр Павлович пожал плечами: —
Лога мира вапыек, Сергей Иваныч. — Лога мира? —
переспросил Горностаев и легонько шлёпнул ладонью по
столу. —А когда?» (Сорокин [1979] 2020,534). Здесь очень
важна сомнамбулическая убеждённость персонажей в том,
что их слова имеют смысл; мы на мгновение
подхватываем её, чтобы вернувшись затем в «базовую реальность»,
спросить себя: а так ли осмысленны наши «нормальные»
слова? В форме записи с подтекстом* сквозь генеральный
тезис просвечивает ударная фраза романа: Мир как
действительность всегда естьЛогамиравапыек СергейИваныч. То, что мы
как привычные читатели авангардной литературы не
слишком шокированы заумью как приёмом, значит, что
мы считываем её с некоторым подтекстом, а именно: Лога
мира вапыек, Сергей ИванычМиркакдейсгаетельносгьвсегдаесть.
Мы должны были проснуться от забвения бытия, а
проснулись в «мы — народ»; мы должны были проснуться от
бездумной констатации «вот он — мир», а проснулись
в «лога мира выпаек». При пробуждении можно
промахнуться и проснуться «не туда».
Сомнамбулическая уверенность
Сон и бодрствование в
действительности — это не оппозиции как
приязнь и ненависть, всякое
бодрствование есть сон. (Fink [1928]
2006, 355)
Юм пробудил Канта от догматического сна.
Декабристы разбудили Герцена. Герцен разбудил разночинцев.48
А кто разбудит нас? Глава в книге, скорее всего, никого не
разбудит. Пробуждение от сна как риторическая фигура
само стало своего рода дремотой: это можно заметить на
примере ставшей клише формулы Ленина о цепной
реакции пробуждения (декабристы -> Герцен -> разночинцы).
Нужно проснуться от дремоты выражения
«догматический сон»; не ведёт ли это в дурную бесконечность?
Финк однажды сделал карандашный набросок
Гуссерля, который фантазирует фантазирующего Гуссерля
(Fink [1928] 2006, 55)... — потенциально рисунок
уводит в бесконечность по принципу мизанабим (фр. букв,
«помещение в бездну»). Здесь я бы хотел обсудить
уходящую в бесконечность серию пробуждений и то, почему
под ними нет «дна» — базовой реальности, куда можно
было бы проснуться.
В тексте под названием «Два мира для одного Я»
Гуссерль развивает научно-фантастическую версию сна о ба-
-76-
бочке (Чжуан-цзы 1995, 73). Он описывает пробуждение
от мира Α-мира в В-мир и наоборот:
Мир дан мне в согласованном опыте. Затем следует
разрыв. Назовём его: «я проваливаюсь в сон». Теперь здесь
другой мир, и он вновь дан в согласованном опыте. Затем
новый разрыв, назовём его «пробуждение». Я опять в
первом мире. [...] Не должны ли эти два многообразия опыта
с необходимостью вступить в противоборство друг с
другом? [...] Сейчас здесь это живое тело до этого момента,
до перелома, а затем здесь другое живое тело, и также
вокруг нулевой точки сначала этот мир, а потом другой; до
этого момента «там» значит что-то одно, а после что-то
совсем другое. [...] Если вклинивается новый «мир» Б, то
поначалу это не значит, что старый полностью
отбрасывается. [...] Точнее, это было бы удивительное
противоборство. [...] В каждом мире у меня был другой опыт, другая
судьба, другой эмпирический характер, например, в
одном мире я был королём, в другом — нищим. Это не
мешало тому, что я как Α-личность знал о Б-личности и
носил в себе её переживания и опыт. Я был тем же самым
«Я», как я был тем же самым, будучи во сне королём,
отдавая приказы и так далее, тем же, кем я являюсь
бодрствуя. Я только зачёркиваю сон, но я как Б-субъект не
вычёркиваю А-мир. (Husserl [1923] 2008, 219-223)49
Оба мира бодрствующей жизни претендуют на то,
чтобы быть действительностью. А-Гуссерль просыпается от
бодрствующей жизни Б-гуссерлевского мира. Это
пробуждение от бодрствования крайне существенно: это
условие возможности выражения «догматический сон». Для
того чтобы констатировать свой собственный
догматический сон, нужно «как бы» проснуться внутри
бодрствующей жизни. Это «удивительное противоборство», о
котором говорит Эдмунд Густав Альбрехт Гуссерль — это
взаимное проникновение двух различных миров
бодрствующей жизни.
-77-
Теперь я хотел бы спроецировать эти размышления на
гуссерлевское учение об установке. Тот же самый мир
в двух установках может рассматриваться как
бодрствование внутри бодрствования. Вместо Α-Гуссерля и Б-Гуссерля
речь идёт о просто-напросто-Гуссерле и «Гуссерле»-в-
кавычках. Гуссерль феноменологической установки
«пробуждается» от естественной установки и одновременно
продолжает жить в естественной установке.
«Пробуждение» внутри бодрствующей жизни — не в параллельный
мир, а в рамках мира, в который мы уже вжились: здесь
перед нами «удивительное противоборство», взаимное
проникновения двух видов бодрствования. Две установки
для одного «я» — это, с одной стороны, сомнамбулическое
«бодрствование», а с другой — «действительно
бодрствующее бодрствование» (Fink [1947] 1985,143). Эти два
способа бодрствования «населяют» одно и то же тело, хотя
и конкурируют за него.
Внутри «бодрствующей» жизни можно обладать
сомнамбулической уверенностью*. Не может ли
аподиктическая достоверность феноменологической установки
обернуться своего рода сомнамбулической достоверностью?
Здесь можно согласиться с Алексеем Ремизовым: «некуда
проснуться» (Ремизов [1953] 2000,100)50.
Туг я хотел бы подробнее обсудить всплывающую у Ой-
гена Финка метафору сомнамбулической уверенности.
В лекциях зимнего семестра 1947/48 он описывает начало
философствования и говорит:
Сомнамбулическая уверенность, с которой мы вживаемся
в мир как сущее среди других вещей, преследуем в мире
наши цели, любим и ненавидим, оглядываемся по
сторонам и планируем, подчиняем природу, занимаемся
науками, возводим храмы богам, создаём произведения
искусства, созидаем и уничтожаем культуры — эта уверенность
теряется. (Fink [1947] 1985, 30)51
-78-
Благодаря потере сомнамбулической уверенности
впервые становится видимым то, как мы вживались
в мир. Здесь Финк хочет интерпретировать гуссерлев-
скую категорию вживания в мир (in die Welt Hineinleben,
Dahinleben) — ядро естественной установки — как
сомнамбулическую уверенность. «Пробудить кого-то от
догматического сна», «прервать дремоту», применить
трансформативную силу философии можно только тогда, когда
у нашего собеседника уже есть смутное подозрение о
собственном «сомнамбулизме». Сомнамбулическая
уверенность должна уже частично быть нарушена, чтобы стать
темой для обсуждения.
Возвращаясь к «сомнамбулической уверенности»:
насколько я знаю, эта метафора приходит в
немецкоязычные философские тексты через переводы Кьеркегора. Так,
в немецком переводе «Или — или» 1911 года датское
Bestemthed, «решимость» передаётся как
«сомнамбулическая уверенность», schlafwandlerische Sicherheit
(Kierkegaard [1843] 1911,17; Кьеркегор 2011, 490). Этот вольный
перевод навеян частой для датского философа метафорой
лунатизма:
Первая любовь сильна, она сильнее всего мира, — однако
в то самое мгновение, когда в неё закрадывается
сомнение, она оказывается уничтоженной; она подобна
лунатику, который способен с бесконечной уверенностью
проходить даже самые опасные места, но стоит лишь окликнуть
его по имени, — и он падает. [...] Ужас вселяет лунатик,
если смотреть на то, как он неизъяснимым образом с
чудовищной уверенностью шагает над бездной. (Кьеркегор
2011,567; Kierkegaard [1843] 1911,80; [1846] 1966, 346)52
Вместе с Кьеркегором в этом контексте скажем: с
ужасом можно смотреть на естественное вживание в мир,
благодаря которому с сомнамбулической уверенностью
шагают над бездной. В чём состоит бездна естественного
-79-
вживания в мир? Для Гуссерля это была загадка
действительности: мир как действительность всегда есть и при
этом без дальнейших вопросов наделяется значимостью.
Феноменологическое пробуждение в некотором смысле
вызывает ужас, поскольку вдруг обнаруживаешь себя
парящим над бездной. Но в полной ли мере феноменолог
бодрствует?
Теперь подумаем о феноменологической жизни в двух
установках как о сне внутри сна. Один регистр сна
осознанней другого, и, тем не менее, у нас есть своего рода
сомнамбулическая уверенность (например, аподиктическая
достоверность или идея науки). Согласно кьеркегоров-
ской аналогии, лунатик сразу падает, стоит лишь позвать
его по имени. Мы не упадём, поскольку на уровне
естественного вживания в мир мы всё же бодрствуем. Но как
позвать по имени сомнамбулического мыслителя? Как
пробудить кого-то от догматического сна, от
естественного вживания в мир? Возможно ли вообще прорвать
дурную бесконечность снов во снах?
Финковский ответ далеко не оптимистический,
поскольку для него наш общий мир представляет собой
своего рода коллективный сон. Комментируя фрагменты
№1 и 89 Гераклита, он говорит:
Общий мир оказался как раз общностью предрассудка,
согласно которому уже известно, что такое сущее и что
такое истина; общий публичный мир оказывается общим
заданным, передаваемым и перенимаемым
истолкованием бытия, которое застыло. [...] Люди загоняют себя
в сеть предрассудков и перенимаемых мнений; их
бодрствование собственно — это сон с бредовыми
сновидениями; [...] Настоящее, действительно бодрствующее
бодрствование — это философская открытость миру. Всё
остальное, что зовётся бодрствованием, всё ещё
относится к сну мира, в который погружены живые существа.
(Fink [1947] 1985, 30,142-143)53
-8о-
Известно, что согласно Гераклиту «для бодрствующих
существует один общий мир, а из спящих каждый
отворачивается в свой собственный» (Лебедев 2014, 148;
Diels 1960,171). С точки зрения здравого смысла это что-
то само собой разумеющееся. Говорят: он живёт в своём
мире. («Она не была до конца уверена, сохранил ли он
контакт с реальностью. "[Живёт] в каком-то другом
мире" — сказала она» Baker 2014). Во фрагменте Финка
бросается в глаза переворачивание метафоры: именно
общий мир оказывается сном с бредовыми
сновидениями. Мы встречаемся не столько в общем мире
бодрствования, сколько, скорее, в общем мире предрассудков,
перенятых мнений, застывшего истолкования бытия,
внутри мирового сна. Тогда всякое бодрствующее
вживание в мир — это сон! («Что же, бодрствование
существует только лишь в тени сна?» Fink 2008,120) Тогда имеет
ли смысл поиск внутри мирового сна «действительно
бодрствующего бодрствования»?
Я привёл в качестве эпиграфа суждение Финка о
тотальности сна; он продолжает: «Такие феномены как лю-
дьё, распад (das Man, Ruinanz) — это отчасти феномены
сна» (Fink 2006, 355). Повседневное падение в «людьё»54
можно рассматривать как феномен сна, но, к счастью,
у нас есть и противотенденция философской
бессонницы (в смысле Левинаса). Быть человеком значит, в том
числе, неизбежно быть в плену вовлечённости и,
одновременно, значит потерять «сомнамбулическую
уверенность зверя, прирождённого следовать одной тропой»
(Fink 1970, 222). Мы пульсируем между сном и его
разрывом.
Финк описывает догматический сон под квази-педаго-
гической рубрикой «введение в философию»:
Проблема «введения в философию» состоит в постоянном
разрыве плена вовлечённости. Сравни сопоставления,
которые используют большие философы: «пробуждение
-8ι-
от догматического сна», «бодрствующий и видящий
сны». [...] Учение о естественной установке как догма-
тология. С познания догматизма как такового
начинается философия, пробуждение от догматического сна.
Введение в философию — это выведение из догматизма. [...]
Всякая экспозиция [проблемы] — это не что иное, как
разрыв плена вовлечённости: пробуждение от
догматического сна. Этот сон — это не что иное, как глубина
самопонятности: блуждание и застревание в наивной
идее понятности!! (Fink [1931] 2006, 420; [1934] 2008,
251, 417)55
«Введение в философию» как «пробуждение ото сна»
поначалу звучит так, как будто мы хотим разбудить
уснувшего студента. Но гораздо более радикальная
проблема — это постоянное засыпание самого философа, наше
собственное постоянное засыпание. Тогда «введение
в философию», «пробуждение от догматического сна»
оказывается не однократным биографическим событием,
а каждый день возобновляемым усилием: чтобы
развернуть любую философскую проблему, нужно всякий раз
провоцировать разрыв плена вовлечённости.
Если мы вместе с Финком думаем, что в некотором
смысле всякое бодрствование есть сон, тогда нужно
разработать стратегию, вшить себе «встроенный напомина-
тель» (Пелевин 2002, 190-193), который может вновь
и вновь разрывать сомнамбулическое мышление. Не так
уж просто дочитать страницу до конца и не заснуть; более
того, нет гарантии, что удастся сохранить бодрствование
даже до конца длинной фразы. Я бы хотел подчеркнуть
здесь пульсирование догматического сна: удивительное
противоборство догматического сна с разрывами,
полуосознанного сна. Внутри кантовского выражения,
описывающего влияние Юма, внутри ленинского клише о цепной
реакции пробуждения, внутри гуссерлевских по принципу
-82-
матрёшки вложенных друг в друга миров, внутри
вживания в мир можно мыслить сомнамбулически, блуждать
и застревать, но можно вшить и «встроенный напомина-
тель», который сделает для нас возможным удивительное
противоборство догматического сна с разрывами,
полуосознанного сна. Философствование — это постоянная
сборка такого встроенного напоминателя.
IV. Как будто мы всегда так считали
Гуссерль о чтении газет
В поисках «встроенного напоминателя» оттолкнусь от
фрагмента философской рукописи 1936 года: «...in einem
oberflächlichen Zeitungslesen verstehen [wir] und die
"Neuigkeiten" einfach rezipieren, so liegt darin eine passive Übernahme
der Seinsgeltung, durch die das Gelesene vorweg zu unserer
Meinung wird» (Husserl [1936] 1954, 374). Существующий
корректный русский перевод этой фразы звучит так: «.. .при
поверхностном чтении газеты мы понимаем и просто
воспринимаем "новости", это сопровождается пассивным пере-
нятием бытийного значения, посредством которого
прочитанное заранее становится нашим мнением» (Гуссерль 1996,
225). Автор этого перевода — Михаил Маяцкий —
предлагал избавляться от «технической лексики, успевшей
заскорузнуть в русско-советской феноменологии, не успев как
надо послужить, в особый жаргон»56, я попробую пойти по
этому пути и перевести с гуссерлевского на человеческий:
Листая газету, мы просто считываем «новости»,
принимаем: то, о чём в них говорится, действительно есть; так
прочитанное становится нашим мнением, как будто мы
всегда так считали.
Совершенно завораживающей мне кажется
формулировка «vorweg zu unserer Meinung wird»: «заранее
становится нашим мнением» (в переводе Маяцкого), как будто
мы всегда так считали* (как я предлагаю переводить).
~87-
Газета «заминирована» встроенными мнениями* о том,
что есть, о том, кто мы есть. Эти мнения призваны
действовать на нас так, как будто мы всегда так считали, они
задним числом переразмечают мир. При этом у нас могло
не быть никаких мнений по тому или иному вопросу, но
теперь они появляются и ведут себя так, как будто они
всегда там были. Приведу в качестве примера первые
несколько фраз газетной заметки «В городе на Неве»
(Волынский, Герасимов 1987, 2): «Студёный ветер раздувает
пламя факелов на Ростральных колоннах. По-осеннему
сурова водная гладь Невы. ... Исполнена глубокого
смысла традиция начинать октябрьские праздничные
торжества именно здесь, на "Авроре"». Заметка предполагает,
что корреспонденты Н. Волынский и В. Герасимов 7
ноября 1987 года смотрят со стороны Дворцовой площади на
Стрелку Васильевского острова, а затем в сторону
крейсера «Аврора». Мы должны считать, что они воочию видят,
как «студёный ветер раздувает пламя факелов» и то, как
«сурова водная гладь». Здесь можно вспомнить о том, как
писалось большинство таких репортажей, приведу
мемуарный фрагмент: «Мой отец был журналистом — говоря
точнее, фотокорреспондентом, хотя пописывал и
статейки. Поскольку писал он по преимуществу для ежедневных
многотиражек, которых всё равно никто не читает,
большая часть его репортажей обыкновенно начиналась так:
"Тяжелые штормовые тучи повисли над Балтикой..." —
в надежде на то, что погода в наших широтах всегда
подстроится к такому началу» (Бродский 2001,325-326).
Читатель должен считать, что корреспонденты
Волынский и Герасимов смотрят на «по-осеннему суровую
водную гладь» и так же как они на себе чувствуют «студёный
ветер», так же они констатируют то, что «традиция
исполнена глубокого смысла». Вот на это я бы хотел обратить
внимание: «традиция исполнена глубокого смысла» так
же как и «ветер студёный», так же как «сурова водная
гладь».57 Нам предлагается констатировать, что она ис-
-88-
полнена смысла, как будто мы всегда так считали. В
структуру мнения «ветер студёный» входит «я —
корреспондент Волынский и я чувствую это на себе» (при том, что
заметка может быть написана заранее, в теплой
редакции); в структуру мнения «традиция исполнена глубокого
смысла» входит «я констатирую это так же как
ноябрьскую погоду».
Я предлагаю называть это подразумеваемое в режиме
«как если бы мы всегда так считали» встроенным
мнением*. Даже когда мы сопротивляемся прямому посланию
газетной статьи, мы зачастую принимаем: то, о чём там
говорится, действительно есть, просто дело с ним обстоит
не так, а иначе.58 Ветер не «студёный», а просто холодный,
традиция не «исполнена смысла», а выхолощена и так
далее. Подчеркну: я имею в виду не «доверчивость»,
«легковерность», а гуссерлевскую концепцию веры в бытие*
и «полагания бытия». Считая себя прожжёнными
циниками, которые насквозь видят обманщиков, мы в не
меньшей степени «попались», если просто-напросто
понимаем, о чём идёт (обращенная к нам идеологическая) речь,
полагая тем самым существование обсуждаемого
предмета, пусть и с противоположным знаком. Так, в монологе
Платного комментатора №1 будет сказано: народ имеет
того царя, которого заслуживает; в России исторически
так сложилось, что мы стремимся к диктатуре; наша
страна к демократии не готова, неспособнасобсп*нное мнение
тролля как утверждение, так и отрицание этих ходячих
мнений в равной степени заставляет нас в них «влипать».
Умаодан поддерживает Ши
Здесь я бы предложил сместиться к нашей нынешней
медиаситуации, когда чтение традиционных газет
замещается считыванием мнений в социальных сетях.
Анонимные мнения, запускающие в нас процессы полагания
бытия, также заставляют нас действовать в режиме «как
если бы мы всегда так считали». Я имею в виду прежде
всего «нативную рекламу» и комментарии платных
троллей. Это мнения, в которые встроено определённое пола-
гание бытия.
Приведу пример из общественной жизни
юго-восточного Китая, где действуют рядовые «умаодан»
(50-центовой армии) — бригады платных троллей, размещающие
заданные мнения по тарифу 0,5 юаня за комментарий:
Я действительно восхищаюсь партийным секретарём Ши,
какой способный и эффективный партийный секретарь!
Я надеюсь, он станет отцом всему Ганьчжоу на
ближайшие годы. (Sonnad 2014)59
Анонимный комментатор на форуме утверждает, что
«он действительно восхищается партийным секретарём
Ши», он «надеется, что Ши станет отцом всему Ганьчжоу».
В это высказывание встроено следующее полагание
бытия: «это моё мнение», «я так считаю», «это действительно
так» и даже «я, говорящий, носитель этого мнения —
я есть». При этом мы знаем, что это комментарий
платного-
го тролля: это не его мнение, неизвестно, есть ли у этого
мнения вообще хоть один постоянный «носитель».
Я предлагаю поступить с мнением платного
комментатора так же, как Гуссерль поступает с генеральным
тезисом естественной установки, а именно: взять в кавычки
каждое слово. Так, «мир как действительность всегда есть»
превращается в «мир» «как» «действительность» «всегда»
«есть». В нашем случае: «я», «действительно»,
«восхищаюсь», «надеюсь» и так далее. Внутри высказывания об
«отце всего Ганьчжоу» (даже если лично мы с ним не
согласны) встроено мнение о том, что есть кто-то так считающий.
Мнение о том, что есть живые люди, поддерживающие
партийного секретаря Ши, должно быть проглочено нами
«как будто мы всегда так считали». Это мнение (которое,
вполне возможно, никто не разделяет) пытается
встроиться в нас, запустить в нас полагание бытия.
Так же как Гуссерль видел в газете «новости» в
кавычках, также стоит начать говорить о «мнениях» в кавычках,
о «ничейных мнениях», которые запускают полагание
бытия, несмотря на то, что за ними нет полагающего.
Мнение, у которого «темно внутри», за которым никого нет
(Ши — отец всего Гуанъчжоумнениетролля), может нести в себе
встроенные мнения, а они в свою очередь
распаковываются в нас и собирают полагание бытия («у Ши есть
сторонники», «кто-то обожает Ши»). Если воспользоваться
метафорой из микробиологии: пустышка (ничейное
мнение) может нести в себе «споры» — мнения, которые
будут вести себя в нас «как будто мы всегда так считали».
Как должен поступить философ, обнаруживающий в себе
«споры» Чужого?
«Я идеологична» — говорит идеология
Феноменолог обнаруживает себя в положении
инопланетного гостя, наблюдающего за земными
традициями (Patoika 2017), собирающего материал для отчёта
о традиционных ценностях землян. Должен ли
инопланетный этнограф вживаться в роль землянина настолько,
чтобы начать разделять эти ценности? Разве что в том
случае, если традиционные ценности землян покажутся
ему самыми правильными из всех, которые он
когда-либо встречал. Один современный художник посвятил
этому сюжету серию из двух картин60: на первой
инопланетного гостя радушно встречают земляне и приобщают его
к своим традициям, на второй бесповоротно
«очеловечившийся» инопланетянин с тоской смотрит в ночное
небо. Земные традиции, которые ты добровольно выбрал,
поскольку искренне их разделяешь, — это одно, а
традиции, предъявляемые в форме «раз уж ты на Земле, изволь
разделять наши традиционные ценности» — это немного
другое.
Кто-то говорит: «твои традиционные ценности
таковы: ...» Это абсурдно, поскольку он претендует знать кто
я такой, при том, что я сам этого не знаю. В форме «наши
традиционные ценности таковы: ...» это звучит не сильно
лучше, потому что мы так же не знаем, кто «мы» такие.
(Ответ «wir sind das Volk» просьба не предлагать, он
равносилен призыву просто помучмаритъ фонку*). Так откуда
берутся эти «ценности», так называемые «наши», «тради-
-92-
ционные»? Они «всем» известны, значит они «сами собой
разумеются».
Представьте себе, что вас вводят в курс дела: это — ты,
это — твой мир, а это — твои традиционные ценности
(вспомним инопланетного этнографа). Но то, что
ценности мне пред-даны, заданы, ещё не значит, что они мои.
Более того, они могут сочиняться на ходу, я могу застать
формирование того, что мне предъявляется в качестве
«моих» традиционных ценностей.
Бельгийский философ Ги ван Керкховен высказал
мысль, согласно которой при всём поверхностном сходстве
ключевая интуиция хайдеггеровской фундаментальной
онтологии: бытие-в-мире (in-der-Welt-sein) —
принципиально не совпадает с ключевой интуицией гуссерлевской
феноменологии: вживанием-в-мир (in-die-Welt-hineinleben).
Dasein мирообразующе, это — его сущностная черта;
напротив, тот, кто вынужден «вживаться» в мир, в некотором
смысле «не от мира сего». Мне кажется, что эта установка
достаточно типична, по крайней мере, для одной из линий
феноменологии (Гуссерль — Финк — Ришир). К тому,
чтобы работать с этой темой, меня подталкивает то, что
вживание в мир* становится проблематичным: слишком часто
нам навязывают непонятные квази-предданности,
заданные мнения, как если бы они разумелись сами собой.
Такой массивной самопонятностью оказывается,
например, идеология «традиционных ценностей»; её
основная проблема состоит в том, что никто не знает, что
входит в эти ценности (Юдин 2018). Я сопоставлю некоторые,
описанные Альтюссером, характеристики
идеологической вовлечённости и проведённый Финком анализ
вовлечённости как плена (Befangenheit) для того, чтобы
раскрыть тематику встроенных мнений*. Затем я подойду
к идеологии традиционных ценностей* со стороны квази-
предданных (то есть претендующих, что они у нас были
всегда), заданных мнений. Возвращаясь к уже
цитировавшемуся фрагменту из Гуссерля:
-93-
Листая газету, мы просто считываем «новости»,
принимаем: то, о чём в них говорится, действительно есть; так
прочитанное становится нашим мнением, как будто мы всегда
так считали. (Husserl [1936] 1954, 374; Гуссерль 1996, 225)
Попробую углубиться в этот опыт поверхностного
чтения и квази-понимания, и не только газет. Итак:
прочитанное становится нашим мнением, как будто мы всегда
так считали*. Читая «новости» (в кавычках) мы
естественно склонны считать: объект этих «новостей»
существует61 — так же, как мы склонны верить: мир как
действительность всегда есть*. Это не значит, что мы верим
написанному в «новостях», скорее часто мы спонтанно
принимаем подразумеваемую в написанном систему
координат. Приведу пример не из газеты, а из учебного
пособия 2017 года:
Становится понятно, что партикулярные ценности атоми-
зированного существования, не связанного с жизнью
целого (семьи, народа, государства), не обеспечивают
полноты человеческого бытия. (Камнев, Осипов 2017,
четвёртая сторона обложки).
Можно вести себя так, как будто мы что-то поняли,
обсуждать написанное, опровергать его или защищать.
Но это тупик, если мы это делаем, значит, мы уже
заглотили наживку. Стоит скорее проснуться и спросить себя: это
вообще о чём? Что такое «полнота человеческого бытия»?
Наше учебное пособие по философии ничего об этом не
сообщает. Если читать эту фразу поверхностно, то можно
предположить, что мы её понимаем, что в ней есть смысл.
Но если замедлить скорость чтения, то можно заметить,
что самое интересное в этой фразе это её начало:
«становится понятно». Кому становится понятно? Когда оно
становится? Почему это нас касается? Эта формула
«становится понятно» работает так, как если бы то, что следует
-94-
за ней, было частью наших собственных мыслей (как
будто мы всегда так считали*), как если бы мы начали
понимать что-то по поводу «полноты человеческого
бытия».62 Я склоняюсь сказать: то, что следует за формулой
«становится понятно», представляет собой не мысль,
а встраиваемое мнение*: полуфабрикат мысли, готовый
к тому, чтобы его «думать». Продолжу читать учебник:
Наше время остро нуждается в возрождении таких
базовых общественных принципов, как социальный порядок,
безопасность, традиция, религия и семья. ... Духовное
развитие невозможно без обращения к прошлому, без
обнаружения в нем инновационного импульса,
нравственной основы жизни. (Камнев, Осипов 2017, четвёртая
сторона обложки).
Как если бы мы знали, что такое «наше время», в чём
состоит «нравственная основа жизни» и почему она
находится в прошлом. Встраиваемые мнения* мимикрируют
под убеждения, но они отличаются от последних тем, что
никто не обязан быть убеждённым, достаточно их
высказывать; на идею нужно ориентироваться, в идеалы можно
верить, а встраиваемое мнение* не требует веры,
достаточно его распространять. Это отличает носителя
встроенных мнений* от того, кто верит содержанию своих
убеждений, идеалов: первый может без труда признать
идеологический характер своих высказываний; то, что он
в них не верит, их не дисквалифицирует, потому что это
не результат его мышления. Они готовы встроиться
в мышление любого из нас, но не требуют, чтобы мы их
проживали, их можно мыслить, «не приходя в сознание».
Здесь я хочу рассмотреть встраиваемые мнения* в
контексте феноменов, которые на первый взгляд кажутся
сходными: вовлечённости в само собой разумеющееся,
описанной Финком, и идеологической
ангажированности, в разработке Луи Альтюссера. Для начала, Финк:
-95-
Вовлечённый не знает о своей «вовлечённости в...», он не
упирается в её границу, поскольку для него нет никакой
«границы», как нет «открытости». Вовлечённому не
показать вовлечённость, поскольку в вовлечённости уже
решено, что значит показывать. (Fink 2008, 214)63
Если коротко резюмировать:
1) для вовлечённого в самопонятное нет никакого
«снаружи»;
2) вовлечённость всегда уже (vorab) разумеется сама
собой;
3) находящийся в плену вовлечённости никогда не
говорит «я в плену».
Я сформулировал тезисы таким образом, чтобы
подчеркнуть сходство со следующими альтюссеровскими
тезисами об идеологии:
1*) у идеологии (для неё) нет никакого «снаружи»;
2*) индивиды всегда уже «окликнуты (interpelles)»
идеологией;
3*) идеология никогда не говорит: «я идеологична».
Тем не менее, несмотря на это сходство идеологической
ангажированности и вовлечённости в само собой
разумеющееся, я бы хотел пересмотреть с феноменологической
точки зрения суждение Альтюссера, касающееся
повседневного функционирования идеологии. Он пишет: «те, кто
находятся в этой идеологии, по определению, полагают
себя вне идеологии. Это один из эффектов идеологии,
практическое отрицание идеологического характера идеологии
самой же идеологией, ведь она никогда не скажет: "Я
идеологична"» (Althusser [1969] 1995, 227; Альтюссер 2011).
Но ведь суждение «я идеологичен», вынесенное кем-то
идеологически ангажированным, вполне возможно и даже
понятно, если различить патетический и цинический
аспекты его высказываний. Патетически мы верим в «полноту
человеческого бытия», цинически мы даже не обязаны
понимать, что это значит: «полнота человеческого бытия».
-96-
«Те, кто находятся в этой идеологии, по определению,
полагают себя вне идеологии», но те, кто создают
идеологию, вполне могут признать, что они по долгу службы
«внутри» идеологии, ведь они её создают, ну а верить
в неё — это для других. Патетически учебник философии
не может сообщить «я идеологичен», но он вполне может
это сделать цинически, и на деле так и происходит,
потому что процитированные пассажи помещены
исключительно на четвертую сторону обложки. Эти фразы
присутствуют, но нельзя сказать, что они в книге, они не
в учебном пособии для студентов, они только на обложке,
поэтому авторов нельзя упрекнуть в том, что они
развращают молодёжь. Фразы на месте, на обложке книги, но
«только в рекламных целях». Цинический носитель
идеологии вполне может сказать «я идеологичен», сделав это
на четвёртой странице обложки. Люди, считающие себя
«умными», разрабатывают встраиваемые мнения*, люди
поскромнее их подхватывают. Создатели идеологем,
которые станут чем-то само собой разумеющимся, сами в них
не верят, но они верят, что другие (гипотетические
«средние люди») принимают их без особых раздумий. В
философии приходится всё время учитывать опасность того,
что нашим мышлением манипулирует «злой гений» (пусть
даже это вымышленная фигура), но не стоит упускать
и случаев, когда в манипуляции участвует другая
фиктивная фигура — «добрый идиот»: тот, кто верит в «полноту
человеческого бытия» и даже не испытывает нужды
понимать, что это значит. Тот, кто полагает «полноту
человеческого бытия» как существующую в действительности*.
В знаменитой статье «Идеология и идеологические
аппараты государства» выдвигается два сильных тезиса —
Тезис I: «идеология представляет собой воображаемые
отношения индивидуумов с реальными условиями их
существования»; Тезис II: «идеология обладает
материальным существованием» (Althusser [1969] 1995, 296, 298;
Альтюссер 2011). То есть, идеология — это «представле-
-97-
ние», обладающее материальным существованием.
Предполагает ли такая концепция печально знаменитую
теорию отражения, догматическое утверждение: «вот он
реальный мир», а «вот его искажённое отражение»?
Не обязательно, ведь то, что я отзываюсь на
идеологический «оклик» — это уже материальное существование
идеологии; «объективное» пронизано «смысловым» и
наоборот.
Итак, Альтюссер настаивает: идеология составляет
часть действительности64; Гуссерль, в свою очередь,
подчёркивает, что действительность — мир, который всегда
уже здесь — это не устойчивое обладание (Habe), а
постоянное притязание (Prätention). Эта модальность «всегда
уже здесь» (предданость) составляет характерную черту
действительности, феноменологическая оптика позволяет
видеть, в какой мере предданость представляет собой
притязание; в случае идеологии мы имеем дело с сегментом
действительности, который я предлагаю называть «квази-
предданностью», тем, что «как будто всегда уже здесь».
Меня провоцирует («окликает» в смысле Альтюссера)
вопрос «что феноменолог — которого я предлагаю
сравнивать с инопланетным этнографом — может сделать
перед лицом идеологии»? Этнограф не должен влиять на
описываемое им племя; но его тексты всё же влияют:
делают видимым то, что обычно разумеется само собой.
Я предлагаю увидеть подрывную силу феноменологии
в способности подвешивать самопонятности, предданные
смыслообразования. Открытым остаётся вопрос: что нам
поможет различать предданости и квази-предданости?
Охота на встраиваемые и встроенные мнения* — первый
шаг в этом направлении.
Уточню мотивирующий меня вопрос, заставляющий
двигаться в сторону феноменологии идеологии, помещать
Гуссерля на территорию Альтюссера. Что феноменолог
может сделать перед лицом идеологии «традиционных
ценностей»?
Время ненависти
Моя гипотеза такова: одна из «традиционных»
ценностей состоит в том, чтобы замещать мышление
встроенными мнениями*, превращая их в предданные готовые
чувства, которые должны считаться чем-то само собой
разумеющимся.
В письме канадскому коллеге Гуссерль обыгрывает
фрагмент Эмпедокла о том, что элементы «никогда не
прекращают непрерывного чередования: то действием
Любви все они сходятся в одно, то под действием лютой
Ненависти несутся каждый врозь» (Лебедев 1989, 344;
Diels 1960, 316):
К сожалению, эмпедоклово время ненависти ещё не
окончено, ненависть ещё управляет миром, и мы являемся её
объектами. К сожалению, ненависть порождает
ненависть. Печально, но за последний год стало хуже, и жгучая
ненависть вгрызается в душу немецкого народа — у коей
как раз нет к ненависти абсолютно никакой
склонности — ненависть к Франции, которая своими почти
ежедневными унижениями, руганью, срывами
договоренностей подвергает нас, бессильных, мучительнейшим
истязаниям. Вам, издалека, не понять этих истязаний
(само выражение недостаточно сильно). Не только до войны,
но даже и во время войны не было никакой ненависти
к французам, никогда я ничего подобного не замечал.
Унижение от нашего поражения ничего бы в том не
изменило, да поначалу и не изменило. Ответная реакция была
-99-
направлена против старого режима и старого духа. Но всё
началось с удерживания военнопленных, что осталось
занозой до сих пор. Затем — репатриационные условия
Версальского договора, — но в конечном счёте смирились бы
и со всем этим, даже с материальными претензиями.
Но потом — такой мир, его соблюдение, поведение
французов в занятых ими областях, санкции и — гнусная
комедия в Верхней Силезии, повседневные убийства и прочее
на глазах у французов, насквозь лживые ноты протеста
и так далее и тому подобное. Только поляки отчасти
ответственны за возникновение ответной реакции
ненависти. Все это очень печально, это — почва для укрепления
националистических партий и сильного поворота
молодежи к национализму. Это — не победа довоенного
материализма (и не имеет ничего общего с новым
отвратительным материализмом валютных спекулянтов). Здесь
заключен идеалистический момент, пробуждение
гордости за себя самого и за старое величие немецкой нации,
пробуждение воли отстоять её право, возвысить её не
только духовно, но и физически. Острое стремление к
миру, независимости, к свободной жизни скованных сил,
к возможностям плодотворно работать — неодолимо;
необходимость ежедневно мириться с оскорблениями,
прикрывающимися вывеской мира, стала невыносимой;
надежда на справедливость враждебного внешнего мира по
отношению к Германии упала окончательно.
Консолидация под знаменем национализма есть продукт подобного
отчаяния. Потеряв веру в мир, уже не интересуются его
мнением — предпочитают надеяться лишь на
собственную силу и собственный дух. И тут, в этом нахлынувшем
потоке, чего только не обнаружишь! Новое
возвеличивание Германии братается со свирепым и с каждым днем все
более свирепеющим антисемитизмом. (Даже в
философии; даже философские кафедры занимают под таким
девизом. У нас есть «Фихтевское общество» — вообще,
благородный Фихте, которого, конечно же, слишком
немногие знают и понимают, слывет пророком этих
самых антисемитов и националистов — со своим философ-
— юо —
ским журналом, направленным против оевреивания
немецкой философии.) Особенно уверенно чувствует себя
антисемитизм в Баварии, остаётся лишь удивляться, что
дело не дошло пока до погромов. (Гуссерль [1921] 2004,
190-191; Husserl 1994а, 22-23)65
Ненависть к Франции, которую Гуссерль наблюдает
и констатирует в 1921 году, (как и большая часть других
коллективных аффектов) кажется примером готового
чувства, индуцированного «встраиваемыми» мнениями.
Ненависть к целому народу — это «вторжение, которое
наблюдается и в нормальной мысли» (Клерамбо [1925] 2018,
49; Clerambault 1942,549). Если вернуться к намеченному
выше разделению патетического и цинического:
патетический носитель идеологии может чувствовать, что всё
заполняет ненависть к Франции, раздирающая душу
немецкого народа, и что это всегда уже было так; цинический
носитель идеологии прекрасно знает, что он сам
участвовал в создании этой ненависти, в производстве
ментального автоматизма. Различие касается того, что считать
«собственным» мнением и чувством, а что
сфабрикованным, «наведённым».
Возвращаясь к началу—к фразе Гуссерля о том, что
ненависть к Франции вгрызается в душу немецкого народа,
я предлагаю рассматривать эту ненависть как готовое
чувство, наведённое поверхностным чтением газет (в
модусе как если бы мы всегда так считали*), то есть
наведённое встраиваемыми мнениями*. Так же как в примере
с цитировавшимся учебником философии, когда невольно
начинаешь говорить о полноте человеческого бытия, не
зная, что это значит, при чтении газет можно квази-почув-
ствовать аффекты, но не наши, а те, которые, согласно
автору заметки, должен чувствовать «рядовой читатель».
Ненависти к Франции, души немецкого народа, полноты
человеческого бытия нет в наличии, они встраиваются
в нас «как будто они всегда там были».
— ιοί —
Чтобы инъекция прошла незаметно, ненависть
претендует на то, что она не ненависть, а, скажем, милосердие.
Для этого в структуру ненависти входит недобросовестная
вера*у переводящая мысли и чувства в режим
ментального автоматизма. Возьму радикальный пример — то, как
японский имперский милитаризм присвоил риторику
дзэн-буддизма:
Меч обычно ассоциируется с убийством, и многие
удивятся, как его можно связать с дзэн, буддийской школой,
проповедующей любовь и сострадание. Дело в том, что
искусство владения мечом различает убивающий меч и меч,
дарующий жизнь. Когда он употребляется технически,
речь идёт только об убийстве, поскольку меч достаётся
только с целью убийства. Но совсем другое дело, когда
некто принуждён поднять меч. Потому что на деле это не он,
а меч совершает убийство. У него не было желания
навредить кому бы то ни было, но враг появляется и сам делает
себя жертвой. Хотя меч просто автоматически
осуществляет свою функцию, неся справедливость, то есть, неся
сострадание. [...] Когда от меча ждут, что он сыграет
такую роль в жизни людей, то это больше чем средство
самозащиты или инструмент убийства, мастер меча
становится выдающимся художником, создающим подлинно
оригинальное произведение. (Судзуки цит. по Victoria
1996, 269-270)66
Если совместить эти два примера и вывести
лабораторный гибрид встроенного мнения*, можно сказать:
ненависть к Франции всегда раздирала душу немецкого
народа, но в ней не было желания навредить, это была
жажда справедливости*. Конечно, это не самое
жизнеспособное мнение, но оглянувшись по сторонам можно
увидеть, как много таких полуживых гибридов вьётся
вокруг и пытается встроиться в нас: Ох уж эти США.
Страна убийц и завоевателей™*™*тролля или Евросоюз не может
быть тем, кто может спокойно гнать на Россию, они на-
— 102 —
много ниже насмненне тролля или Я бы съездил туда только
для того, чтобы плюнуть в морду паре-тройке полити-
ковмнение тролля «д» быть может и «съездил бы», но за этим
высказыванием стоит только фантом «меня», больше там
никого нет. Желание съездить куда-то «только для того,
чтоб плюнуть» — это наведённое чувство, оно возникает,
когда распаковывается «встраиваемое» мнение,
прочитанное в модусе «как если бы мы всегда так считали».
Оно претендует на то, что «всегда уже» было в нас. В
качестве генерального тезиса «наведённых» чувств можно
сформулировать гибридный эмпедоклово-гуссерлевский
тезис: время ненависти всегда уже здесь и всегда «ещё не
окончено»*.
Традиционные ценности
Как в нас встраиваются «как бы всегда уже в нас
бывшие» и «как бы традиционные» ценности?
В рукописи 1935 года Гуссерль описывает этапы
«вживания в мир», в диапазоне от бездумной погружённости
до универсального осмысления:
Ребёнок, врастающий в общую жизнь и её традицию.
Взрослый человек в его жизни, имеющей традиционную
форму. Человек, проживающий свой день, бездумно
погружённый в него, у которого всё же есть горизонт
сообщества и его общей нормальной жизни в традиционной
форме. [...] Человек живёт не только от сих и до сих,
переживает то и это, он также обозревает ход своей жизни
и своего общества в целом. Он переживает эту жизнь,
свою собственную, и суммарную жизнь общества, своего
народа, как полный надежд порыв, как благо, когда этот
порыв сильно затруднён — как бремя, ему также знакома
опасность безнадёжного отчаяния, в котором жизнь
кажется лишённой смысла, в отдельных вопросах ещё
может и продолжается, но в целом идёт скорее по
нисходящей, ей уже сложно сказать «да». Миф, а на более высоких
уровнях культуры — религия оснащают мир духовными
силами, которые делают возможной жизнь, исполненную
надежд на будущее, жизнь, которой можно сказать «да»,
когда можно удостовериться: жизнь и дальше всегда
будет такой, которой можно сказать «да», достойной того,
чтобы быть прожитой. Но чем шире становится историче-
— 104 —
ское и географическое поле зрения человека, тем больше
он укрепляется в сознании множественности религий,
вырастающих из жизни народов, осознаёт, насколько
отличаются способы гарантировать смысл человеческого
бытия и мира как поля деятельности человека, тем меньше
у человека уверенности в своей религиозной вере. Смысл
человеческого бытия и мира ставится под вопрос,
возникает вопрос, насколько это «здравый» смысл, а есть ли
смысл в таком мире, могу ли я по доброй воле сказать «да»
моей жизни в этом мире, несмотря на полосы успеха и
неудач, вместе с горизонтом гибельной и неизвестной
судьбы. До тех пор, пока жизнью сообщества движет порыв,
а человеку виден исполненный надежд горизонт
вероятностей счастливо пережить выпавшее на его долю, он
примиряется с вероятностями, с которыми люди вокруг
в среднем могут добиться успеха, примиряется с теми
существенными силами, которые ему противостоят.
Обычно он не всматривается в реальную возможность смерти,
болезни, помешательства, землетрясения, наводнения
и так далее, а когда превратности судьбы нарушают его
надежды и вынуждают его задуматься о таких вещах, эти
размышления не длятся слишком долго, он готов их
оставить, как только открываются новые надежды. В
отдельных случаях в человеческое бытие с возрастом врывается
новый способ осмысления человека, универсальная
созерцательная позиция, возвышающаяся над всем
человеческим бытием и целым миром, в котором живет
человечество, освобождая от всех жизненных интересов, от
надежд и опасений, от всех актуальных проблем бытия
в качестве человека среди людей, в качестве отца, в
качестве друга, в качестве гражданина, при этом он делает
феноменом, темой универсального осмысления всё вместе,
универсальность человеческого бытия как
заинтересованного, живущего в мире и ориентирующегося на цели.
(Husserl [1935] Рукопись В И 14, За-4Ь)67
Чем больше смысл человеческого бытия и мира
ставится под вопрос, чем больше спрашиваешь, насколько
— 105 —
здравым и насколько осмысленным является так
называемый «здравый смысл», тем меньше уверенности
остаётся в правоте «своей» традиции. С одной стороны
диапазона «жизнь от сих и до сих», «погружённость»
в очередной день, а с другой — установка, в которой
собственная жизнь в качестве «отца», «друга»,
«гражданина» и вообще «человека среди людей»
рассматривается как феномен. «Вживание в мир» обнаруживает себя:
«Обзор, действие, теория, желание, любовь, ненависть
и забота оказываются обзором от сих до сих, действием
от сих до сих, теорией от сих до сих, желанием от сих до
сих, любовью от сих до сих, ненавистью от сих до сих
и заботой от сих до сих» (Fink 1966,11-12). Стоит
обратить внимание на ту роль, которую в этом играет
«безнадёжное отчаяние» или разуверение* — это опасность
утраты смысла, но одновременно и то, что вырывает
человека из слепой погружённости в традицию, из
«вживания в мир от сих до сих».
Для Гуссерля характерно говорить о приостановке или
подвешивании традиции (Husserl [1930] 2002, 431, 441;
[1931] 2008, 519, 525, 530), однако в одном из текстов
1931 года оно ещё больше заостряет свою позицию,
связывая её с «борьбой против традиции»:
Борьба против традиции, против мнимой
самопонятности «жизненного опыта», который, по правде, ничего
непосредственно не даёт. Это всегда и в полном смысле
борьба против «ситуации», против наслоившегося
наследия в высшей мере опосредованных бытийных зна-
чимостей, которые стали «самопонятностями». То, что
выносится из ситуации и находит своё выражение,
имеет значимость как «самопонятное», поскольку обычно
это — общественная ситуация и, соответственно,
традиция. [...] В конечном счёте, все ситуации всякий раз
включены во всеобъемлющую ситуацию, а это как раз
и есть — всегда пред-данный мир. (Husserl [1931] 2008,
542-543)б8
— юб —
Гуссерль говорит о «борьбе против традиции», имея
в виду, прежде всего, борьбу с обессмыслившимися
«пустышками», выдающими себя за живую традицию. Борьба
против традиции оказывается борьбой за передачу («тра-
дирование») смысла. В роли «пустышек», имитирующих
традицию («символических учреждений» в терминологии
новой французской феноменологии) выступают
«самопонятности». Проблема в том, что «опустевшие»
самопонятности (с обложки учебника или с газетной страницы)
невольно приходится проживать.
В рукописи того же 1931 года Эдмунд Гуссерль
отмечает: «Неподлинный способ обоснования традиции — это
ссылка на людей (das Man), то есть указание на то, что все
так делают и всегда так делалось» (Husserl [1931] 2008,
527)69. Проблема в том, что непонятно, кто такие эти
«все», и сколько длилось это «всегда». Но как иначе
апеллировать к традиции? Путем критики, через попытку
пробиться к её исходному смыслу. Важно отличать живую
традицию от чучела традиции (Fink 1976,251), от её
имитации. Мы говорим: «так уж заведено»; но раз оно
однажды так «повелось», то кто запретит однажды «повести»
себя иначе?
В тексте того же года Гуссерль спрашивает: всё ли, что
высказывается категорическим тоном — это ценности?
Это явно не самая убедительная аксиологическая теория,
поэтому он продолжает: «Ценностная установка — это
обладание ценностями в собственном смысле, причём это —
"опыт ценностей". Иначе "его или её ценности" — это
только ими утверждаемые, мнимые ценности. Ко всякому
обладанию ценностями принадлежит возможность
критики, направленной на проверку опытом ценностей»
(Husserl [1931] 2008, 520)70.
Что такое традиционные ценности, когда их не
проживают и не передают, а только предъявляют нам в
готовом виде? Достаточно ли того, что они уже для кого-то
имели значимость, чтобы они начали иметь значимость
-107-
для нас? В этом смысле Гуссерль предлагает ставить под
вопрос всякую традицию:
Мир, в котором мы донаучно «живём», постоянно
достоверный для нас в потоке мнений, в его
относительности — по сведениям антропологов. Человек в этом мире.
Собственная бытийная достоверность и та, которая
принадлежит другим. У нас, людей в этом мире есть опыт,
мы действуем в мире, размышляем о мире: мы
актуализируем наш (подразумеваемый) мир, исследуя его, уже
обладая предварительными мнениями, но как учёные
ставим под вопрос всякий предрассудок, всякую
традицию. [...] У нас и дальше есть окружающий мир, общая
достоверность мира, вместе с нашими
соотечественниками вообще, но затем у нас как у учёных есть особое
сообщество, а в нём особые теоретические размышления,
достоверность, касающаяся мира — «в отношении»
окружающего мира, который является нашей научной
областью, и на который направлены истинные суждения
наук. Это как норма «нашей» критики затрагивает эту
область «повседневной окружающей среды»,
соответственно мнений «народа», но «описательно». (Husserl
[1931], Рукопись В I 31, 2)71
В цитировавшейся выше Рукописи В II14 философ
начал говорить о себе в третьем лице: «человек живёт...
человек переживает...». О первом лице говорилось как
о третьем. Странным образом то, что должно было
выражаться в форме третьего лица (так называемый
«трансцендентальный субъект»), начинает тяготеть к форме
первого лица («Я»), однако сохраняет элементы третьего
лица, поэтому у Гуссерля мы можем найти выражения
вроде «Я живёт», «Я существует» и тому подобные. Так
и традиционные ценности нам предлагается увидеть в
зависании между первым и третьим лицом: «к своим
традиционными ценностями моё "я" относит то-то и то-то».
Вспомним установку троллей — приписывать «традици-
-ю8-
онные» ценности в форме второго лица: «твои
традиционные ценности такие-то и такие-то», «издревле ты
веришь в...». Как смотреть на ценности (которыми в нас
«тыкают») со стороны, в режиме «под потолком сидит
душа» (Введенский 2013, 116)? Противоядием от
встроенных мнений*, навязываемых в форме второго лица, может
быть зависание между первым и третьим лицом.
V. Щебечущие машины
Ничьё мышление
Как утвердиться в этом странном* зависании между
первым и третьим лицом, в сидении души под потолком*?
Гуссерль в лекциях «Вещь и пространство» предлагает
интересный ход — говорить о ничъём мышлении*, а затем
в рукописях того же периода развивает эту идею:
Мышление, о котором свидетельствует
феноменологический анализ, — это ничьё мышление. Мы не просто
абстрагируемся от Я, как будто Я всё-таки там было, а мы
просто на него не указывали, а мы выключаем
трансцендентное полагание Я и держимся абсолютного, сознания
в чистом смысле. [...] То, что есть это Я, я теперь, Эдмунд
Гуссерль и так далее, разве это не нечто
подразумеваемое, и не следует ли сказать, что в качестве такого, так
подразумеваемого, оно вообще не дано? И не идёт ли
речь опять же о мнении, подразумевании (das Meinen)
не-данного? (Husserl [1907] 1973, 41; [ок. 1908-09]
Рукопись А VI8 И, 104а)72
Он там и тогда (Эдмунд Гуссерль), вы здесь и теперь
(подставьте ваше имя) — предлагается исходить из того,
что в нашем собственном мышлении нас нет, а мы в нём
только подразумеваемся, мы в нём имеем характер
«мнимых». Если произвести определённую методическую
операцию, моё мышление оказывается ничьим, а я в нём
только мнимо* присутствую. Я подразумеваюсь, но я не дан.
-ИЗ-
У этой позиции (которую Эдмунд Густав Альбрехт
Гуссерль в дальнейшем не будет развивать) есть значимый
предшественник — афоризм К76 Георга Кристофа Лихтен-
берга: «Мы осознаём определённые представления,
которые от нас не зависят; некоторые верят, что мы мало
зависим от нас самих; где граница? Мы знаем только
о существовании ощущений, представлений и мыслей.
Следовало бы говорить "думается", как говорят:
громыхает. Сказать cogito, раз оно переводится как "я мыслю" —
это чересчур. Предполагать, постулировать Я — это
практическая необходимость» (Lichtenberg [1794] 1983, 61).73
Интересно то, как этот афоризм обыгрывается в рассказе
Андрея Платонова «Мусорный ветер»: «Лихтенберг [...]
чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина,
продирающиеся сквозь кость. [...] Декарт дурак! — сказал
вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей
блуждающей мысли» (Платонов [1933] 2011, 273, 280).
В ничьё мышление* я вовлечён только как его
подразумеваемый (но не присутствующий) носитель. Я
прислушиваюсь к тому, как во мне «громыхает», как мне
«думается», к звукам моей блуждающей мысли, чувствую как
мысли, вставшие как щетина, продираются сквозь кость.
Такая стратегия безличного мышления, ничьего
мышления*, перемещает меня из позиции хозяина мысли в
позицию мнимого* субъекта. Но что, если меня нет и в
«моём» мнении?
Раз мысль может быть безличной, ничейной,
бесхозной, блуждающей, то таким же может быть и мнение.
Предположим, меня может не быть в «моём» мышлении,
я в нём только подразумеваюсь; но как меня может не
быть в «моём» мнении — я ведь должен в нём хотя бы
подразумеваться? Я подразумеваюсь в «моём» мнении, но
меня там нет.«- Неужели там вообще никого нет? — Никого.
[...] Там должен кто-то быть, потому что кто-то должен
был сказать "Никого"» (Милн/Руднев 1996, 50-51, 193).
В «моём» мнении меня нет, но ведь кто-то там должен
-114-
быть. На прямой вопрос Винни-Пуха «не они ли это»
Кролик отвечает «чужим голосом»; если его переспросить «не
Кролика ли это голос», он ответит, что «ему так не
кажется», по крайней мере, он «не его имел в виду». Я
обнаруживаю в себе мысль, «вставшую как щетина,
продирающуюся сквозь кость», но её содержание — это не моё мнение,
я чувствую, что говорю «чужим голосом». Но тут же у меня
появляется сомнение: а может быть, мне только казалось,
что я говорил чужим голосом, а вместо этого я по
недосмотру говорил своим? То есть, не оказалось ли безличное
мнение*у которое я впустил в себя, заразным? Встроенное
мнение*, распаковавшись, могло пустить корни в то, что
я считаю собой. Заёмное мнение (которое я только
позаимствовал), не заняло ли оно (путём самозахвата) меня?
Естественное мнение
Докса — это стихийное обыденное
мнение; более того, это
«естественное» мнение.
(Ортега-и-Гассет [1929] 1991,120)74
Стихийное обыденное «естественное» (в кавычках)
мнение выдаёт себя за естественное (без кавычек). Как
мнение может быть естественным? Мнение — следует за
«я считаю, что» или предполагает эту
пропозициональную установку, подразумевает её. «Естественное» мнение
использует обманчивую радость узнавания: «да, я всегда
так и считал» — при том, что я никак не считал. Что-то
посчитало во мне, посчитало за меня и разместилось во
мне на правах «завсегдатая». Эту ангажированность
чужим мнением, которое мы доверчиво задним числом
приписываем себе, Гуссерль описывал так: wird vorweg
zu unserer Meinung — «заранее становится нашим
мнением», «как если бы мы всегда так считали». В этом
«заранее становится» есть что-то головокружительное, такое
же головокружение может вызывать и претензия на
естественное мнение*. Речь идёт о ретроактивном
встраивании мнений, подобно тому, как нам задним числом
приписывают «наши» традиционные ценности, о которых
мы раньше не слышали. «Естественное» мнение, с
которого снимаются кавычки, которое превращается в
естественное мнение, распаковывается и начинает вести се-
-иб-
бя так, как будто оно сидит в нас «издревле», «всегда уже
было здесь».
Сказать, что мнение может быть естественным (без
кавычек) — значит легитимировать предвзятость: конечно,
моё мнение предвзято, но так и должно быть. Откуда взялся
этот «сброд мнений», у кого он «взят взаймы»?
Естественные мнения* циркулируют без авторства, без определённого
местожительства*, создавая эффект убедительности без
убеждений: «Къ сожалЪнпо, на современномъ языкЬ нашей
литературы всякш сбродъ мнЪнш принято называть
убЪждешемъ; поэтому мы часто споримъ объ уб,Ьжден1яхъ
такихъ людей, у которыхъ никогда ихъ не было и которымъ
совершенно легко менять свои заёмныя мнЪн^я хоть
каждый день, хоть каждый часъ» (Благосветов 1863,12).
Будучи безличными и анонимными, ничьими,
«заёмные мнения» пытаются выглядеть «собственными»
мнениями, то есть чьими-то. Когда платный комментатор
пренебрежительно говорит о других: Вообще своего мнения
нет* — он, сам того не желая, указывает на
проблематичность выражения «собственное мнение». Как вообще
мнение может быть собственным? Неужели может быть так,
что я его нигде не подхватил, а сам породил? Тогда оно
должно быть чем-то вроде мысли*, которая меняет
мыслящего, после которой он не останется тем же.
Этимлшсль* отличается от мнения; мнение вполне
может быть «нормальным», то есть «не странным» (в смысле
Smullyan 1986). Напомню, что по Смаллиану
«нормальный мыслитель» устроен так, что обходится без странных
мыслей*, они в него по определению не вмещаются.
Но тогда скорее с «нормальным мыслителем» что-то не
так; настоящая мысль (например такая как в рассказе
Леонида Андреева «Мысль» и его одноимённой пьесе)
аномальна. Что отличает мысль* от внутреннего «суфлёра»,
от потока естественных мнений*? Мысль* меняет
мыслящего, а естественное мнение* оставляет его таким, каким
он «всегда уже» был.
—117 —
То, как «заёмное» мнение встраивается в своего
носителя, напоминает механизм интроекции в гештальттера-
пии: «говоря: "я думаю", — он обычно имеет в виду: "так
принято думать" [...] ответ на вопрос "кто это сказал" —
для него "так говорят" [...] он использует местоимение
"я", когда на самом деле имеет в виду "они, люди"» (Perls
1973, 35, 37, 41; Перлз 2019, 43, 45, 49). Раскавыченное
естественное мнение заставляет использовать
местоимение «я» даже когда «никого нет дома», когда «темно
внутри», когда вместо меня говорит подхваченное заёмное
мнение. Могу ли я составить по-настоящему собственное
(то есть уже не анонимное) мнение? Даже если смогу,
ничего «естественного» в нём не будет. Вообще разговор
о «естественных» мнениях наводит на мысль: иметь
мнения противоестественно.
Неестественность естественного мнения сможет
продемонстрировать радикальная эстетическая практика,
о ней стоит сказать подробнее.
Отходы деятельности фантома
В одном интервью поэт так описывал статус своих
стихов — «отходы деятельности центрального фантома»
(Пригов 2004, 74); в другой беседе тех же лет этот образ
раскрывается подробнее: поэту кажется, что он висит над
пропастью, «её надо чем-то беспрерывно закидывать»
и так «на реактивной силе» можно удерживаться от
падения (Пригов 2003, 34:00). Конечно, речь идёт о стратегии
эстетического поведения, но не только — это ещё и
экзистенциальная стратегия.
Возвращаясь к тому способу существования, который
выбирает для себя сотрудник фабрики троллей, можно
заметить некоторые любопытные сходства. Так, мнения,
которые он производит на фабрике — это, в некотором
смысле, «отходы деятельности центрального фантома».
Тролли сами не стоят за мнениями, которые произносят
от «фантомного» первого лица, их там нет. Ошибочно
было бы рассматривать мнения тролля как мысли; в том-то
и дело, что это не мысли, а скорее следы
жизнедеятельности. Если уйти от физиологической метафоры к
бухгалтерской, то это что-то вроде квитанций или чеков — это
указания на покупку, но не сама покупка, ошибочно было бы
«купиться», приняв бумажный «след» товара за сам товар.
Вторая часть образа: зависание над пропастью на
реактивной тяге — тоже может быть прочитана
экзистенциально. При должным образом настроенной оптике, любая
само собой разумеющаяся почва оборачивается бездной
— 119 —
(Heidegger 1989, 77). Так, например, устойчивое бытие
мира оборачивается пульсирующей верой в мир, а
готовые смыслы поворачиваются к нам своей
незавершённостью. Недобросовестная вера* (спасительная для нашей
повседневности и научных занятий) проявляется, среди
прочего, в том, что мы не проваливаемся в бездну,
скрывающуюся за каждым словом, мы её успешно игнорируем.
Но для этого бездну нужно забалтывать, закидывать
пустышками мнений, в которых нас нет. Эта
экзистенциальная стратегия оказывается неожиданно близка
повседневной практике платного тролля.
Хотя есть и существенные отличия. Цель эстетической
стратегии Пригова — производство фантомов
(«гиперсоветский» поэт, философский поэт, автор «женской»
лирики, поэт-перверт и так далее), а не произведений, то есть
это не стремление написать «шедевр», а серийное
производство. При этом отработанный шлак стихов — это не
самоцель, задача состоит не в производстве отходов. Цель
фабричного тролля сводится к тому, чтобы вырабатывать
дневную норму «отходов деятельности фантома» —
именно это в конце смены проконтролирует бригадир.
Производство «фантома» (например, гиперпатриота)
оказывается вторичной задачей.
Рано или поздно стоит ждать проникновения на
фабрику троллей человека искусства приговского типа, который
сместит фокус с производства отходов на производство
фантомов. Такой художник мог бы зашифровывать в
производимые им тролльские комментарии философские
проблемы, свою собственную психопатологическую синдро-
матику или другого рода двойное послание. Например:
- Раньше Ближний Восток у меня ассоциировался
с арабами и пустынями. Теперь же с вонючими
американцами и войнами. А какие принципы лежат в
основе ассоциации идей?*
- Любая оппозиция, о которой мы так или иначе
можем услышать, проплачена третьей стороной.
— 120 —
Но какова оппозиция, которую мы не можем
услышать и даже помыслить?*
- Отчаянно не понимаю, почему в России имеет место
быть — оппозиция. Кого-то что-то не устраивает?
Прошу ехать в Европу на гей-фестивали. Тогда вы
поймёте, что гендер — продукт социального
конструирования*
- Ох уж эти новости ЕС. Никогда бы не подумал, что
они такие крысы. Может быть, через новости ЕС вся
природа беззвучно кричит от боли?*
- ЕС, ты только и умеешь, что постоянно вводить
антироссийские санкции и поливать наше
государство дерьмом! Разве в этом твоё предназначение?
А моё?*
- ЕС, убейся уже об стену! Только так ты сможешь
узнать, есть ли что-то по ту сторону жизни*
- Мне интересно: Ирак и Сирию хоть когда-нибудь
оставят в покое? Такое ощущение, что там до конца
жизни всё будет плохо. До конца моей жизни. Я смертен?!*
- Хватит поливать нашу страну нечистотами, мы
же просто в неё заброшены!*
- Украина сейчас тонет в яме, которую ей выкопало
нелегитимное правительство, и я проваливаюсь
вслед за ней в безосновностъ*
- Оппозиция делает всё только ради денег. Им больше
ничего и не нужно. Больше их ничего не интересует.
Странное безразличие охватывает их, и всё сущее
проседает*
- Оппозиция. Одно лишь слово вызывает отвращение.
Только рвоту и отвращение! Своей чуждостью она
вызывает у меня содрогание. Она есть, и она — не Я.
Голое существование*
- Все хотят в Европу, а лично у меня от этого ЕС
срабатывает рвотный рефлекс. Стоит мне в
Люксембургском саду посмотреть на корень каштана, сразу
подкатывает тошнота: я понимаю, что он существует*
— 121 —
На примере тезиса Мангейма можно лгать правду*;
я уже показал: инструмент критики идеологии может
быть присвоен идеологией. Но возможен и обратный
жест — отвоёвывания у идеологии инструментов
критики. Так, если фабрика мнений подражает эстетической
стратегии художника-концептуалиста, то
художник-концептуалист может попытаться переприсвоить поведение
тролля, разлагая* идеологическое послание изнутри.
Но, помимо эстетической стратегии, здесь остаётся
этический вопрос: может ли поэт-концептуалист,
инфильтрировавший фабрику троллей, по своему усмотрению
выключать моральные запреты? Рядовой тролль
привыкает заглушать зов совести, говоря себе: если мнение не
моё, то я не несу за него ответственность; если я сдаю себя
(местоимение «я») в аренду, то я не несу ответственность
за мнения, которые высказываются через «меня». Если
«меня» нет, то всё дозволено*. Специфическая
профессиональная деформация тролля — это отсутствие моральной
«тошноты». Недобросовестная вера*, которую он
культивирует, позволяет экранировать чувство стыда. Если зов
совести ещё доносится издалека, то ведь можно не
наделять совесть этическим смыслом, свести её к статусу
простой эмоции, на которую можно смотреть со стороны (как
Тэйтаро Судзуки предлагал поступать японским
солдатам). Что в такой ситуации может сделать художник
в шкуре тролля, шпион среди «патриотических»
фантомов? Он может приостановить подступающую к горлу
нравственную «тошноту», для того, чтобы начинить
комментарии троллей экзистенциальной «тошнотой».
Пинь-пинь-тарарах!
Разбираясь с экзистенциальной позицией тролля,
стоит обсудить два конкурирующих девиза: верить нельзя
никому, мне —можно* и верить нельзя никому, мне тоже
не надо верить*. Начну с первого — с «кредо Мюллера».
Сначала Штирлиц не поверил себе*: в саду пел соловей.
Воздух был студёным, голубоватым, и, хотя тона кругом были
весенние, февральские, осторожные, снег ещё лежал
плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда
предшествует ночному таянию. Соловей пел в орешнике,
который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие
стволы старых деревьев были чёрные; пахло в парке
свежезамороженной рыбой. Сопутствующего весне сильного
запаха прошлогодней берёзовой и дубовой прели ещё не
было, а соловей заливался вовсю — щёлкал, рассыпался
трелью, ломкой и беззащитной в этом чёрном, тихом
парке. Штирлиц вспомнил деда: старик умел разговаривать
с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу
и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже
птичьими — быстрыми, чёрными бусинками, и птицы
совсем не боялись его. «Пинь-пинь-тарарах!*» —
высвистывал дед. И синицы отвечали ему — доверительно* и
весело. Солнце ушло, и чёрные стволы деревьев опрокинулись
на белый снег фиолетовыми ровными тенями. «Замёрзнет,
бедный, — подумал Штирлиц и, запахнув шинель,
вернулся в дом. — И помочь никак нельзя: только одна птица не
верит людям* — соловей». (Семёнов 1969,20)
— 123 —
В первой же фразе романа Штирлиц с самого начала не
верит сам себе. Вспоминает «деда, свистевшего синицей»,
которому птицы отвечали «доверительно и весело».
«Искренне» ли Штирлиц наблюдает пролёт журавлей?
Скучает по жене? Он прямо заявляет: «Я бы на Вашем месте не
поверил ни одному моему объяснению» (Семёнов 1969,
122). Главный герой — шпион-патриот, в
телеэкранизации для удобства зрителя эту раздвоенность, два регистра
Штирлица выражают два мотива Таривердиева: полёт
журавлей («Песня о далёкой Родине»); тиканье часов и стук
в дверь («Мгновения»). Зритель/читатель должен верить,
что «где-то далеко идут грибные дожди» — это «как-бы-
искренность» (Пригов 2013). Начальный пассаж
начинается со слов «не поверил себе» и заканчивается словами
«не верит людям». Таким образом, предваряется кредо
Мюллера: «верить нельзя никому, даже самому себе;
мне — можно» (это гипер-картезианская установка с
нотками Великого Инквизитора).
Кажется, что описания природы в «Семнадцати
мгновениях весны» и не пытаются быть убедительными («пахло
в парке свежезамороженной рыбой... чёрные стволы
деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными
тенями»). В универсуме романа Юлиан Семёнов — Бог-
обманщик и первой фразой он говорит: «не верьте мне».
Это подталкивает нас к тому, чтобы не верить а.
внутреннему голосу главного героя, б. рассказчику, в. Юлиану
Семёнову. Можно ли верить автору, который к тому же, весьма
вероятно, зашифровал на первой странице
патриотического шпионского романа строчку из «Кузнечика»
Хлебникова? («Крылышкуя золотописьмом тончайших жил,
кузнечик в кузов пуза уложил прибрежных много трав и вер.
Пинь, пинь, пинъ\ тарарах*нул зинзивер. О, лебедиво.
О, озари!» Хлебников [1908] 1912,8) Интересно, что в
другом романе того же автора Хлебников (то, что герой в
присутствии свидетелей «доставал» у букинистов его книгу)
выступает в роли алиби (Семёнов [1963] 1994,30,33,34).
-124-
В романе постоянно подчёркивается, что кто-то кому-
то (а чаще никому) не верит: «Геринг в опале, он никому
не верит [...] Гиммлер переставал верить всем [...] Народ
верил ответам, которые ему готовили люди, не верившие
ни в один из этих ответов. [...] Либо надо перестать верить
всему миру, либо* надо сделаться циником» (Семёнов
1969,42,144,152). Однажды на улице я услышал обрывок
разговора:«- Я либо дурак, либо <...-> одно из двух».
Выбор из вариантов «либо надо перестать верить всему миру,
либо* надо сделаться циником» представляет собой такой
же странный* безальтернативный выбор. «Перестать
верить всему миру» и «сделаться циником» — это этапы
разуверения*, стоящие близко друг другу как соседние
оттенки спектра, их различает только едва уловимое колебание
степени недобросовестности.
Колеблясь между искренностью и цинизмом,
недобросовестная вера* заранее за своего носителя решает вопрос
об истине (Сартр 2000, 102; Sartre 1943, 103). Например,
решает, что «все лгут», а истина — это только наиболее
убедительная ложь. Это подводит нас к центральному
афоризму романа: «Контрразведчик должен знать, как никто
другой, что верить в наше время нельзя никому — порой
даже самому себе. Мне, правда, верить можно»
(Семёнов 1969,112). В мире Штирлица «наше время» значит —
особое военное положение, когда полагается не верить
ближнему, не верить самому себе, но нужно верить
Большому Другому.
Платный тролль берёт на вооружение это кредо
«никому нельзя верить, мне можно». Это высказывание
равносильно установке «все лгут, а я желаю вам добра*»,
«никому нельзя верить, но я действую в интересах РФ*».
Является ли «я желаю вам добра» исключением из «все
лгут»? Или кредо Мюллера стоит прочесть не как «мне
можно верить», а как «мне можно лгать»? Это,
конечно, стратегия персонажа классической русской
литературы:
-125-
Нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому
бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это
несчастное существо рождается [...] мы, став во главе их,
согласились выносить свободу и над ними
господствовать [...] в обмане этом и будет заключаться наше
страдание, ибо мы должны будем лгать. (Достоевский 1976а,
232, 231)
В избавлении от свободы и состоит недобросовестная
вера*. Это и стратегия платного тролля: подпитывая
других наведёнными мнениями, он (колеблясь между
искренностью и цинизмом) считает это «как бы» подвигом.
А встроенное мнение* говорит нам: себе верить нельзя,
мне можно.
Сверхтролль
На большую радикальность претендует стратегия мета-
тролля, говорящего: верить нельзя никому, мне тоже не
надо верить*. Мета-тролль переприсваивает массив
комментариев рядовых троллей и придаёт им новый смысл:
Стоит объяснить моё странное хобби — давным-давно,
когда я завёл твиттер, мне показалось интересным,
обнаруживая где-нибудь в интернете смешную или глупую
фразу, цитировать её в своем твиттере без кавычек,
наблюдая за недоумением читателей, которые не
понимают, почему вдруг я начинаю писать о себе в женском
роде, называть имена, которых никто не знает, или
восхвалять существующее правительство. Вечнозелёная,
никогда не надоедающая игра — такое контекстное
домино, что ли. Кто в курсе, тот сыграет со мной, кто не
в курсе, пройдет мимо. [...] Моя миссия с цитатами
в твиттере — воспитательная, просветительская.
Демонстрируя своим почти ста тысячам читателей вырванные
из контекста фразы, заголовки, реплики, я
демонстрирую им, что слово, произнесённое и напечатанное, может
значить что угодно. Оно может быть правдой, может
быть ложью, может быть просто бессмысленным
набором букв* — и единственный вывод из этого простой:
никому не надо верить слепо. Мне тоже не надо верить*.
И это мне представляется безумно важным: именно
сейчас, в эти суровые-суровые дни, должен выйти к людям
кто-то, кто скажет: «Вы меня давно знаете, вы ко мне при-
-127-
выкли, вы меня читаете и, вероятно, привыкли мне
доверять. Так вот, не надо мне верить, исходить надо из
того, что вас все обманывают*». (Кашин 2014)
Слова «не надо мне верить» — это самоподрывающее
высказывание. Напомню: «глаголы, которые, будучи
поставлены в стандартную перформативную позицию
(первое лицо единственного числа) и будучи при этом явными
эксплицитными перформативами, семантически сами
перечеркивают своё перформативное значение,
совершают иллокутивное самоубийство» (Руднев 2000, 46).
Высказывание публициста «не надо мне верить» — это ещё
не явное «иллокутивное самоубийство» вроде «я лгу»
(в нём предусмотрительно избегается первое лицо
единственного числа), но приближается к нему по своему
эффекту. В качестве ключевой фразы выделю: Слово,
произнесённое и напечатанное, может значить что угодно:
может быть правдой, может быть ложью, может быть
просто бессмысленным набором букв*. Это
самоподрывающее мнение* — естественный антипод встроенного
мнения*. Оно подрывает окружающие мнения, ну и само себя
в том числе. В случае рядового «иллокутивного
самоубийства» оно должно было бы просто отменять само себя, но
его самоподрывающая сила состоит, прежде всего, в том
эффекте, которое оно производит на остальные мнения.
То есть себя оно, конечно, тоже отменяет, но другие
мнения уже не будут прежними.
Вслед за манифестом Олега Кашина о пользовании соц-
сетями можно сформулировать установку сверхтролля:
высказывание может быть истинным, ложным,
бессмысленным набором букв и вообще может значить что угодно*.
Это своего рода «прививка» против привычек мышления,
на которых паразитируют тролли. Как она может работать?
Прежде всего, комментарий рядового тролля призван
задевать, например: Оппозиция. Одно лишь слово
вызывает отвращение. Какой нормальный вообще станет гнать
-128-
на наше государство? Только лишь маразматикмнентт*юлля.
Напомню, что, с точки зрения Альтюссера, «окликать»
нас так, что мы отзываемся — одно из ключевых свойств
идеологии. Стратегия «раскавыченных цитат» повышает
толерантность к «окликающим», задевающим мнениям.
В соответствии с установкой сверхтролля*, высказывание
об «отвратительных ненормальных маразматиках»
может быть истинным, ложным, бессмысленным набором
букв и вообще может значить что угодно, например:
Какой нормальный вообще станет гнать на наше
государство?* „ Λ м Когда высказывание та-
f Когда же закончится рабочий день? XW4«" «*»^«.«*"»«»дж*ж%. *«
ким образом нейтрализовано, в нём можно распознать
встроенное мнение* платного тролля.
Здесь, кстати, интересно сравнить два феномена:
«оклик (interpellation)» Альтюссера и «вмешательство
(interference)» Клерамбо. Так «идеология "действует" [...]
образом, который мы называем "обращением" и который
можно себе представить в виде самого банального,
ежедневного обращения полицейского (или кого-то другого):
"Эй, вы, там (he, vous, lä-bas)!"» (Althusser [1970] 1995,
305; Альтюссер 2011). Реагируя на оклик, мы уже
подпадаем под действие идеологии; высказывания платных
троллей — это и есть разбросанные по социальным сетям
оклики «эй, вы, там!» А теперь другой феномен —
«вмешательство», он «наблюдается [не только в
патологическом мышлении, но] и в нормальной мысли» как
«подмена мысли» и «вторжение» (Клерамбо 2018,49; Clerambault
1942,549). Речь идёт о ситуации, когда переспрашиваешь
себя: что это такое я сейчас подумал? Это не моя мысль,
не моё мнение, её кто-то «подсунул» мне, вмешавшись
в моё мышление. Это, по сути, тоже оклик, но «изнутри»:
внутри меня завелось встроенное мнение, оно вторгается
в мой поток сознания, распаковывается, предъявляя себя
как «моё».
Мир (словами полицейского) окликает нас «эй, вы, там
(he, vous, lä-bas) I», но это только «внешний» оклик. При
— 129 —
этом в нас уже встроен «внутренний» оклик «мир как
действительность всегда есть ("die" Welt ist als Wirklichkeit
immer da)», на который мы отзываемся каждым «своим»
мнением. Как нейтрализовать всегда уже вторгшийся
оклик?
Считается, что слова в прямой речи — это
изображения слов, им нельзя приписывать обычное значение (Фре-
ге [1892] 1997, 355). А какое значение нужно
приписывать словам раскавыченной прямой речи (скрытой
прямой речи)? Изображения слов без указаний на прямую
речь и цитирование считываются в качестве слов. Но что,
если любая прямая речь — это скрытая косвенная речь
(Руднев 2016, 26)? Тогда не только литературное
произведение — это «просто буквы на бумаге» (Сорокин цит. по
Генис 1997, 222). Любое высказывание может быть
истинным, ложным, бессмысленным набором букв и вообще
может значить что угодно*.
В свете этого, на яркоокрашенном идеологическом
материале опробую стратегию раскавыченных цитат,
смещающих смысл высказывания.
VI. Чучхейский реализм
Цель оправдывает средства —
давай: убивай, насилуй, клевещи,
предавай ради светлого здания идей
Чучхе (< вариант 1993: > светлого
храма Демократии).
(Летов [1988] 1997, 208)
Чучхейский реализм — это наиболее верный метод
творчества нашего времени. Так утверждает
северокорейская брошюра. Я буду использовать это выражение в
расширительном смысле, говоря о том, в чём принято быть
уверенным, во что положено верить*. Что происходит
с убеждениями, когда они зафиксированы в методичке?
Какой странный* эффект производит на «мои» искренние
убеждения ситуация, когда я нахожу их уже готовыми?
В узком смысле «чучхейский реализм» — преемник
социалистического реализма, заменяющий тезис о том, что
человек — «совокупность общественных отношений» на
тезис о том, что человек — «общественное существо,
обладающее самостоятельностью, способностью к
творчеству и сознательностью». Конечно, сразу возникают
вопросы: что такое самостоятельность*, способность
к творчеству*, сознательность* в системе координат
«чучхейского реализма»? Смысл этих слов смещён
относительно повседневного «здравого смысла» в неизвестном
пока направлении; чтобы приблизиться к этому новому
-133-
смещённому смыслу, мы должны навести на себя морок
сомнамбулической уверенности*, то есть представить себе,
что мы родились в мире, где ответ разумеется сам собой.
Впрочем, оборачиваясь на самих себя, мы вынуждены
констатировать, что и в нашем мире ответы разумеются
сами собой, именно поэтому я предлагаю говорить о чуч-
хейском реализме* не только в северокорейском смысле,
но и расширительно.
Как возможна искренность в рамках «чучхейского
реализма»? Вспомним ситуацию, когда личное мнение тролля
совпадает со служебным мнением тролля когда так жёстко заданы
правила игры, невольно лжёшь, даже говоря правду*, на уровне
пропозициональной установки «я считаю, что...». Когда
мы верим в то, что говорим, чем мы отличаемся от
искреннего «чучхейского реалиста»? Когда мы не верим
в то, что говорим, чем мы отличаемся от
северокорейского писателя-конформиста (в режиме
недобросовестной веры* принимающего правила игры)? Что в нашей
повседневной (не) искренней вере от «чучхейского
реализма»? В чём состоит чучхейский реализм* нашей не-
чучхейской повседневности? Чем мы принципиально
отличаемся от северокорейского писателя-конформиста,
когда позволяем недобросовестной вере* говорить за нас?
Вопросы, остающиеся пока без ответа, звучат как
дидактические вопросы «на закрепление материала»,
поставленные к тексту, который мы не читали, вроде этих: «28.
Кто обратился к старому паромщику на "ты", и что из
этого вышло? 29. К кому Николай обратился на "ты", и что из
этого вышло? 30. Как обратился Николай к старому
паромщику, и что из этого вышло? 31. Откуда взялся старый
паромщик? 32. Что за Николай?» (Рубинштейн [1992]
2015, 518) С одной стороны, мы не понимаем, кто все эти
люди, с другой — от нас любой ценой пытаются добиться
правильного ответа: Николай обратился к старому
паромщику на «ты»*. Это концентрированное сочетание
непонятности и тавтологии очень характерно для того
-134-
феномена, который я называю чучхейским реализмом*
в расширительном смысле.
Я предлагаю увидеть успешную реализацию задач чуч-
хейского реализма* в нечучхейской литературе, благодаря
тем слепым пятнам и «сомнамбулическим» тезисам,
которые становятся видны при проговаривании его основных
посылок. Это позволит «обернуться» и в сторону базовой
реальности «большого», уже не литературного, а
повседневного реализма, и переспросить: а не чучхейский* ли он
реализм?
Бесценным источником материала в этом случае
служит книга «О чучхейской литературе» (1992),
приписываемая Ким Чен Иру. Приведу фрагмент главы 3.2
«Чучхейский реализм — творческий метод, основанный на
мировоззрении с его центром — человеком», выделяя
странные (в смаллиановском смысле) тезисы и
выражения курсивом и астериском*:
Чучхейский реализм — это наиболее верный метод
творчества нашего времени*, утверждённый в процессе
воплощения основополагающих принципов великих идей
чучхе в литературно-художественном творчестве. —
Чучхейский реализм* — это такой метод творчества,
который требует ставить человека в центр видения и
изображения действительности*. — Будучи творческим
методом социалистического реализма нашего образца,
он позволяет видеть, правдиво обрисовывать* человека
и жизнь на основе чучхейского философского
мировоззрения и поставить художественную литературу на
верную службу народным массам. — Коренное различие
между чучхейским реализмом* и предшествующим
социалистическим реализмом* — в том, с какой точки зрения
видеть и изображать человека. Если второй видел и
обрисовывал* человека, главным образом, как совокупность
общественных отношений, то первый — как
общественное существо, обладающее самостоятельностью*,
способностью к творчеству* и сознательностью*. [...] Ко-
-135-
ренной вопрос литературы и искусства о том, с какой
точки зрения видеть и обрисовывать человека и жизнь,
мог быть полноценно решён, наконец, чучхейским
реализмом, основанным на философском мировоззрении,
ставящем человека в центр внимания*. [...] Чучхейский
реализм* — это такой метод творчества, который требует
правдиво отражать* жизнь путем создания типичных
образов на основе мировоззрения с его центром —
человеком. Он на самом высоком уровне придерживается
принципов типизации и правдивости*, традиционно
защищенных и развивавшихся реалистической*
литературой. — Одним из главных объектов нынешней клеветы
реакционных писак буржуазного толка на
социалистический реализм является именно реалистическая
типизация и правдивость отражения жизни*.
Борзописцы-ревизионисты твердят: пора бросить за борт творческий
метод социалистического реализма*, позволяющий
правдиво типизировать* жизнь, как она есть*, — мол, он уже
отжил свой век. [...] Типизация и правдивый показ*
человека и жизни требуются, главным образом, исходя из
существенной природы реалистической* литературы. Все
персонажи в литературных произведениях должны быть
типичными лицами, представляющими класс и
прослойку данного общества* (Ким 1992,104-110)
Коренной вопрос литературы и искусства звучит так:
с какой точки зрения видеть и обрисовывать человека
и жизнь*? Этот коренной вопрос* был уже решён
чучхейским реализмом. Стоит подчеркнуть: мы находимся в
ситуации, когда ключевой вопрос решён, более того, всегда
уже* решён, в той же модальности, как и
«действительность», которая всегда уже здесь*.
Одним из главных объектов нынешней клеветы
реакционных писак буржуазного толка на социалистический
реализм является именно реалистическая типизация и
правдивость отражения жизни*. Этот пассаж встраивает
в меня подозрение: а вдруг я реакционный писака-клевет-
-136-
ник*? Я-то считаю (или мне кажется, что именно «я» так
считаю), что при всей своей чудовищности «чучхейский
реализм» обладает огромным подрывным потенциалом,
так как демонстрирует чучхейский реализм* «большой»
действительности. Подчеркну: я не критикую чучхейский
реализм* и не иронизирую по его поводу, более того,
я считаю, что нам нужно как можно больше чучхейского
реализма*, чтобы на поверхность выступили
догматические предпосылки нашей собственной
«действительности» (ср.: «[What we need] most now is more alienation»
2iiek 1993, 211).
Генеральный тезис северокорейского «чучхейского
реализма» состоит из двух аксиом: «Ким Чен Ир (а не артель
анонимных литературных "негров") — автор книги о чуч-
хейском реализме»; «чучхейский реализм — это наиболее
верный метод творчества нашего времени». Если
раскрыть кавычки: Ким Чен Ир — автор книги о чучхейском
реализме*) чучхейский реализм — это наиболее верный
метод творчества нашего времени*. Я сознательно сближаю
северокорейский реализм, с одной стороны, и
естественный повседневный (и позитивно-научный) реализм с его
«генеральным тезисом», с другой.
Совершается ли переход от «чучхейского реализма»
(в узком смысле) как официальной северокорейской
эстетической программы к чучхейскому реализму* (в
расширительном смысле), к «естественному», «здравомысленно-
му» реализму? Совершается — благодаря «теории
отражения».
Философия чучхе — это самая совершенная,
жизненная философия, в которой отражены требования
практики революции и истина и правота которой подтверждены
ею самой. Сегодня на международной арене интерес
к философии чучхе ещё более растёт, ширятся ряды
приверженцев идей чучхе. Этот факт убедительно
доказывает, что философия чучхе даёт единственно правильные
ответы на вопросы революционной практики. Наши ра-
-137-
ботники, занятые в области общественных наук, должны
быть твердо убеждены в научной обоснованности,
истине, самобытности, преимуществах философии чучхе и,
руководствуясь ею, анализировать и оценивать все
другие философские теории с тем, чтобы в саму философию
чучхе не проникли ни малейшие признаки чуждых нам
философских течений. Долг всех работников
общественных наук — шире и глубже изучать и пропагандировать
философию чучхе, ярко демонстрировать её величие
и ещё более приумножать её притягательную силу, как
того требует партия.75
Здесь читатель «просыпается»: постойте, как это
«подтверждена ею самой», зачем «приумножать
притягательную силу», если это и так «единственно правильная»
философия? И вообще, кто это говорит? Я сознательно
«напустил» на себя и на читателя целый клубок
встроенных мнений из северокорейской брошюры 1996 года. Как
из них выбраться? Почему вообще требования практики
нужно именно «отражать»? Чучхейская «теория
отражения» выступает в качестве философского ядра
коллективного безумия. Как проснуться посреди «теории
отражения»? Как проснуться посреди генерального тезиса, как
приостановить пра-мнение мир как действительность
всегда есть*?
Встроенные мнения тролля позволяли нам увидеть
собственные встроенные мнения; северокорейский «чуч-
хейский реализм» позволяет увидеть чучхейский
реализм* нашего собственного бытия. Безусловная
заслуга чучхейского реализма* в том, что он реалистически
типизирует и правдиво отражает действительность*.
Небольшая трудность состоит в том, что совершенно
непонятно: что такое «действительность», как её можно
«отражать», «типизировать», тем более «реалистически»
и «правдиво»? Выше я уже цитировал исследование
о троллях, в котором один из героев задаёт «вопрос более
острый (и ироничный), чем ему казалось» (Филлипс
-138-
2016,142). Так и за каждым словом основного постулата
северокорейского «чучхеиского реализма» разверзается
философская бездна, которую он не замечает.
Северокорейский реализм с сомнамбулической уверенностью*
проходит над этой бездной, расширительный чучхейский
реализм*, который я мобилизую в этой главе, заглядывает
в неё. Я вербую из разных эпох и литературных традиций
Солдата АзБукиВеди, инопланетянина Иванова, Гадопя-
тикну, Одрадека и Папулу как образцовых персонажей
чучхеиского реализма*.
Солдат АзБуки Веди
Тему вплетённости идеологических мотивов в
художественный текст можно раскрыть на примере фрагмента
№56 из «произведений, до нас недошедших» (Мейлах 1993,
208) (а точнее, дошедших не целиком) Александра
Введенского. По свидетельству вдовы поэта, в этот отрывок без
начала и конца встроено стихотворение, которое Введенский
напевал, укачивая сына (Герасимова 2013, 317). В тексте
я выделю курсивом и астериском* странные
тавтологические пробуксовки, роль которых хотелось бы прояснить:
вдоль берега шумного моря шёл солдат АзБукиВеди. У
него была основная руководящая мысль* про орехи. Он шёл
и шептал песню. Был вечер*. Солдат АзБукиВеди, подходя
к жалкому, не освещенному рыбаками, живущими в нём
рыбачьему домику, в котором жили рыбаки, в том случае,
когда они не находились в плавании в шумном, черном,
каспийском, по существу даже средиземном, или что то же
самое, адриатическом море, а находились на берегу, то
тогда они жили в нём*. Их рыбаков было пять человек.
Они пристально ели суп с рыбой. Их звали: Андрей, Бан-
дрей, Бендрей, Гандрей и Кудедрей. У них у всех были
дочери. Их звали: Ляля, Таля, Баля, Кяля и Саля. Они все
вышли замуж. Был вечер*. Солдат АзБукиВеди не зашёл
в дом к этим огородникам. Он не постучал к ним в дом*.
Он шёл погружённый в свою мысль, основную им76
руководящую мысль* об орехах. Солдат АзБукиВеди не заметил
их рыбачьего дома*. Ни их сетей, ни их снастей, ни их до-
— 140 —
черей, ни их супа. Хотя он и продрог и всё равно
надвигалась ночь*, но он прошёл мимо*. Настолько он был
охвачен своей основной руководящей мыслью* об орехах. Был
ещё вечер*. АзБукиВеди шёл, почти бежал и говорил
ореховую песню. Представим себе, то есть мысленно
услышим*, эту песню. Следует ли из того, что песня названа
ореховой, что в ней и должны рисоваться орехи. Да, в
данном случае, следует. Далеко не всегда это бывает так, но
в данном случае следует*. Вот она* эта песня. Солдат
АзБукиВеди пел о разнице скорлуп грецкого и
американского ореха. Вот* что он пел.
У грецкого ореха скорлупа, — имеет нежный вид. —
У американского ореха скорлупа — имеет дикий вид. —
первая скорлупа прочна — ясна, сочна, точна. — Вторая
скорлупа проста — она как лебедь без хвоста. — откуда
эта разница берётся, — кто знает тот дерётся. — Мне
грецкий нравится орех — ведь в нём есть смех. — его скорлупа
прекрасна — но мысль о ней напрасна. — есть у
американского ореха цвет, — может быть этот цвет ему брат. —
Но где начинается его рассвет, — не сказать никому ни
вперёд ни назад. — откуда эта разница берётся, — кто
знает, тот дерётся. — вот и всё что я мог и спел, — об их
скорлупе кончающейся на эл.
Тут, как бы в ответ на эту песню, вспыхнуло
освещенное свечой, ранее не освещенное, окно потухшего совсем,
навсегда* рыбацкого домика. Рыбак Андрей, Бандрей,
Бендрей и Гандрей постучал в окно и крикнул солдату Аз-
БукаВеди: Ротный командир, любишь ли мир? А рыбак
Кудедрей самостоятельно варил и продолжал есть свой
рыбацкий суп. Был вечер*, хотя <... > и надвигалась ночь*,
Но что мог ответить АзБукиВеди < когда > он не слышал
вопроса. Он был уже очень далеко от них. <... > он
внезапно, но не неожиданно, превратился в отца и <... >
сразу спел новую песню. Отец пел. Мать слушала. Отец пел,
а мать слушала. Отец пел и мать слушала*. Что же она
слушала?
я по у ли цам ходил. — сына я везде искал — но нигде
его не находил—даже средь прибрежных скал. — я потом
— 141 —
пошёл в ле сок — побежал на брег морской. — где ты, где
ты мой сынок — я кричал вокруг с тоской. — сын мне
отвечал ау — может быть я вовсе здесь — я тогда вокруг
взглянул — сын мой растворился весь. — тут завыли
птицы все — и заворковал зверёк — плачьте, плачьте плачьте
все — им прокуковал ле сок.
Солдат АзБукиВеди, сильно вдохновлённый,
мужественно пош<...> (Введенский [1937-1938] 2013,218-220)
Прежде всего, стоит обратить внимание на
«генеральный тезис» солдата АзБукиВеди: «основную руководящую
мысль» о преимуществе грецкого ореха над американским
(здесь можно вспомнить высказывание платного
комментатора: Единственное, что дали американцы миру, это
кока-кола, и та ядом оказаласъмнениегролля). Ближе к концу
дошедшего до нас фрагмента тезис об орехах «внезапно, но
не неожиданно» сменяет новый тезис: «я везде искал
сына», продолжая выполнять свою «основную руководящую»
роль. При этом завораживает то, как на всём протяжении
текста эта «основная руководящая мысль» тавтологически
пробуксовывает, а затем без перехода заменяется «новой
песней». Уже сама характеристика «основная
руководящая» тавтологична, после неё тавтологии будут
нанизываться одна на другую. Откуда же она берётся?
Автор примечаний к этому тексту, Михаил Мейлах
оценивает выражение «основная им руководящая мысль» как
«вставку обессмысливающего местоимения в
пропагандную формулу сталинского времени», а соавтор
примечаний Владимир Эрль указывает, что «некоторые
перечисления, тавтологические пояснения и другие стилевые
особенности этого текста пародируют речи Сталина»
(Мейлах 1993, 209-210). В качестве особенно
показательного тавтологического пояснения можно привести:
Следует ли из того, что песня названа ореховой, что в ней
и должны рисоваться орехи. Да, в данном случае, следует.
Далеко не всегда это бывает так, но в данном случае сле-
-142-
дует*. Если гипотеза Мейлаха-Эрля верна, то прозопоэти-
ческий фрагмент Введенского выполняет функцию
критики идеологии в смысле Альтюссера — делает идеологию
(её риторическую структуру) видимой. Тогда интересно,
что задача критики идеологии реализуется в форме
колыбельной.
Сопоставлю риторическую структуру, подчёркнутую
Введенским, со стилистикой ранне-советских партийных
дискуссий. В сталинских речах выражение «основная
руководящая мысль» не встречается, зато его можно найти,
например, в статье Троцкого «Наши разногласия» 1924 года:
Повторяю, это основная, руководящая мысль* всех моих
докладов и статей, связанных с вопросом о пролетарской
революции, особенно же после прошлогоднего
поражения в Германии. Я мог бы привести десятки цитат,
доказывающих это. Мыслимо ли допустить, что эту главную
мысль*, главный вывод из всего исторического опыта,
особенно же из опыта последнего десятилетия, я внезапно
забыл, устранил или исказил*, работая над «Уроками
Октября»? Нет, это немыслимо, и этого не было. Этого не
было и в помине*. Наоборот, всё моё предисловие
построено на том стержне, который я обрисовал в своём
тифлисском докладе: «мы с вами должны будем учиться ещё
яснее и глубже понимать и ценить характер, смысл
и природу* нашей партии, обеспечившей пролетариату
победу в октябре и ряд побед после октября». Разумеется,
я не доказываю заново этой мысли, потому что этот «урок»
октября считаю доказанным, проверенным, бесспорным
и несомненным*. Но именно мысль о решающей роли
партии и её руководства составляет стержень моего
предисловия. Чтобы доказать это, надо было бы просто
процитировать всё предисловие, выделив жирным шрифтом его
руководящие мысли. (Троцкий [1924] 1990,118)
Революционер сталкивается с тем, что поставленный
в его статье вопрос (почему в Германии до сих пор не по-
-143-
бедила революция?) превратно истолковывается, в
частности игнорируется его ответ («Я думаю, что ответ может
быть только один: потому что в Германии не было
большевистской партии и не было у неё вождя, какого мы имели
в октябре [...] Не хватало партии с таким закалом, какой
имеет наша партия» Троцкий [1924] 1990,118), товарищи
упрекают его в недооценке роли партии большевиков.
Он сталкивается с абсурдной ситуацией, в которой, чтобы
доказать, что он не недооценивал роль партии, он должен
был бы цитировать во второй статье 1924 года всю первую
статью того же года, выделив жирным шрифтом
«основную руководящую» мысль. Во многом из этого вырастает
бесполезная, но характерная установка: повторять всё
медленно и два раза, а затем для верности ещё и ещё,
нанизывая обессмысливающие синонимы (считаю
доказанным, проверенным, бесспорным и несомненным*).
По вопросу о роли партии большевиков смертельно
опасно быть неверно понятым; по вопросу о
превосходстве грецкого ореха Введенский скорее подхватывает
общую стилистику призванных обезопасить
тавтологических разъяснений, притом, что угроза не проговаривается.
В комментариях Мейлаха-Эрля есть ещё один интересный
момент, а именно интерпретация имени солдата:
«Именование солдата дополнительно остраняющими названиями
первых трёх букв славянского алфавита [...] заключает
выраженные в тексте, кроме того, мотивами отцовства
и приведенной аутентичной колыбельной элементы авто-
метаописания: Аз — я и Александр), Веди анаграммирует
В (веденский). С большой осторожностью решимся
высказать предположение, что Буки может быть связано
с фольклорным мотивом Буки» (Мейлах 1984, 347). Если
продолжить такую (как бы «осторожную», а по сути —
лихую) расшифровку анаграммы как автометаописания,
можно прочесть имя солдата как: я, Александр
Введенский, знающий (ведающий) о Буке. Об этой смутной
угрозе в тексте 1937 года сыну-младенцу ничего не сообщается
-144-
прямо, она представлена только тавтологическими
формулами идеологической риторики.
Итак, сопоставим «основную руководящую мысль про
орехи» и «основную, руководящую мысль о пролетарской
революции». И та, и другая «основная руководящая
мысль» распаковывается в тавтологические
последовательности синонимов, трюизмов и аналитических
суждений. Я предлагаю рассматривать обе мысли: мне грецкий
нравится орех'" и партия большевиков обеспечила победу
пролетариата* — как встроенные мнения*. Плеоназм
и тавтология — это то, как «встроенное мнение»
распаковывается. (Кстати, в этом смысле формулы чучхейского
реализма о правдивом отражении действительности*
клише, приобретающие действенность от повторения,
также представляют собой «встроенные мнения»).
Встроенное пра-мнение — генеральный тезис «мир как
действительность всегда [уже] есть» распаковывается как
«мир, который есть на самом деле, всегда уже был, всегда
уже есть и всегда уже будет». Примерно так же во
фрагменте о солдате без конца повторяется «был», «был вечер»,
чтобы, наконец, сказать: «был ещё* вечер»; можно добавить:
в мире солдата АзБукиВеди всегда уже* вечер. Введенский
описывает солдата как «погружённого» в «основную
руководящую мысль», «охваченного» ею. Так и пра-мнение
всегда уже встроено в нас, всегда уже захватило нас своей
сомнамбулической уверенностью*, безнадёжно
очеловечило нашего внутреннего «инопланетянина».
Пришелец Иванов
Вечер. Элегия
<... > Луны ущербный лик встаёт из-за холмов...
О тихое небес задумчивых светило,
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!
Как бледно брег ты озлатило!
Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
К протекшим временам лечу воспоминаньем...
О дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем!
Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?
Ужели никогда не зреть соединенья?
Ужель иссякнули всех радостей струи?
О вы, погибши наслажденья!
О братья! о друзья! где наш священный круг?
Где песни пламенны и музам и свободе?
Где Вакховы пиры при шуме зимних вьюг?
Где клятвы, данные природе,
Хранить с огнём души нетленность братских уз?
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропою,
Лишённый спутников, влача сомнений груз,
Разочарованный душою,
Тащиться осуждён до бездны гробовой?..
Один—минутный цвет—почил, и непробудно,
И гроб безвременный любовь кропит слезой.
Другой... о небо правосудно!..
А мы... ужель дерзнём друг другу чужды быть?
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,
Иль суетная честь приятным в свете слыть
Загладят в сердце вшоминанье <... >
Так, петь есть мой удел... но долго ль?.. Как узнать?..
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать
Над тихой юноши могилой!
(Жуковский [1806] 1999,76-78)
Бухгалтер Иванов
Луныущрбный лик встаёт из-за холмов*,
в лесу продрогший фавн играет на сопелке.
Упившийся в соплю бухгалтер Иванов
Бредёт сквозь лес к своей летающей тарелке.
Он не бухгалтер, нет, он чужеэвёздный гость,
застрявший навсегда среди российских весей,
он космолет разбил, и здесь ему пришлось
всерьез овладевать нужнейшей из профессий.
В колхозе «Путь Зари» нет мужика важней,
в колхозе у него участок и домина,
машина «Жигули», курятник, шесть свиней,
жена-ветеринар и прочая скотина.
Чего ещё желать? Казалось бы, живи,
работай, веселись, культурно развивайся,
читай «Декамерон», смотри цветной TV,
а то в облдрамтеатр на выходной смотайся.
Но нет, грызёт тоска инопланетный ум,
обилие скота не радует, не греет,
искусство и TV не возбуждают дум...
Бухгалтер Иванов пьёт водку и звереет.
Как волк голодный, он, в полночный небосвод
вперяет иногда тоскливые гляделки,
и, принявши стакан, потом другой, идёт
к запрятанной в лесу летающей тарелке.
Укрытые от глаз ветвями и землей,
останки корабля покоятся в овраге,
куда упал со звёзд когда-то наш герой,
сломав хребет своей космической коняге.
И плачет Иванов, и воет, и рычит,
пиная сапогом проклятую планету
И, глядя на него, Вселенная молчит,
лишь одинокий фавн играет тихо где-то.
(Сгепанцов [1984] 1988,101-102)
—146 —
Генеральный тезис бухгалтера Иванова: я «не
бухгалтер, а чужезвёздный гость», я не из этого мира. Если
вспомнить Кьеркегоровский круговорот «разуверений»:
это разуверение*, когда не желают быть собой. Но
предположим, бухгалтер Иванов не болен, это не просто
сверхценная идея, он на самом деле — инопланетянин
«Иванов». Тогда перед нами уже разуверение*, когда желают
быть собой (подлинным). Проблема в том, что читатель
в отношении бухгалтера/инопланетянина находится в
ситуации неразрешимости: обе интерпретации возможны.
С одной стороны, исходная интонация — элегическая —
выглядит как указатель на искренность, с другой —
первая строчка стихотворения буквально совпадает со
строчкой элегии Жуковского. Читатель (даже не прослеживая
отсылки) замечает, что элегическая интонация «готовая»,
«заимствованная», в этом смысле «встроенная».
Куда мог бы проснуться* бухгалтер/инопланетянин?
Я имею в виду ситуацию вроде той, когда Розенкранц
и Гильденстерн осознают, что они персонажи (причём
второстепенные) (Стоппард [1966] 2000).
«Пробуждением» для Иванова/«Иванова» было бы сказать: мои
чувства — это пародия на элегию. Дурным пробуждением*
было бы погружение в первоисточник, но это была бы
просто замена шила «более подлинным» мылом: фавна —
Вакхом, «Пути Зари» и «Жигулей» — Минваной и Альпи-
ном. Выходом было бы приостановить оба контекста.
Лирический субъект, зависший в пространстве между
элегией «Вечер» и стихотворением «Бухгалтер Иванов»,
констатирующий Луны ущербный лик встаёт из-за
холмов*, осознанно становится пародией сам на себя. Он не
принимает всерьёз «свои собственные» прежние мнения;
более того, не считает их «своими собственными»,
начинает отслеживать их заёмное* происхождение.
Луны ущербный лик встаёт из-за холмов* в двух
значениях: в элегическом и в экзистенциально-пародийном.
Даже если Иванов не проснётся до конца, возможно, та-
-147-
кой шанс есть у читателя, чья перспектива поначалу
мерцает между двумя вовлечённостями, двумя контекстами:
произведениями 1806 и 1984 годов. Но у нас есть ещё одно
измерение, которое, пока мы были погружены в чтение,
отходило на задний план: молчаливо подразумевавшийся
тезис «вот он мир». Помимо колебания между двумя
контекстами, появляется возможность вынырнуть из них
и «обернуться» на свою собственную «базовую
реальность», не для того, чтобы с облегчением постулировать её
существование, а для того, чтобы заставить пульсировать
её «генеральный тезис» между недобросовестной верой*
и разуверением*. Как нащупать эту «пульсацию»?
Гадопятикна
Бессонница. 10. «Вот опять окно...»
(1) Вот опять окно,
(2) Где опять не спят.
(3) Может — пьют вино,
(4) Может — так сидят.
(5) Или просто — рук
(6) Не разнимут двое.
(7) В каждом доме, друг,
(8) Есть окно такое.
(9) Не от свеч, от ламп темнота зажглась:
(10) От бессонных глаз!
(11) Крик разлук и встреч —
(12) Ты, окно в ночи!
(13) Может — сотни свеч,
(14) Может — три свечи...
(15) Нет и нет уму
(16) Моему покоя.
(17) И в моём дому
(18) Завелось такое.
Гадопятикна*
От бизоньих глаз
Темнота зажглась*
От бизоньих глаз
Темнота зажглась
А в моём дому
Завелось ТАКОЕ! Такое*...
От бизоньих глаз
Темнота зажглась
От бизоньих глаз
Темнота зажглась
Единый рупь. *
Единый рупь.
Не разнимут двое. *
Не разнимут двое.
А в моём дому
Завелось ТАКОЕ! Такое...
Гадопятикна. *
Гадопятикна
(19) Помолись, дружок, за бессонный дом, Женщин, ласковых женщин...
(20) За окно с огнем! Женщин, ласковых женщин...
(Цветаева [1916,1938] 1994,286)
(Мамонов, 1988)
Текст Петра Мамонова почти полностью состоит из
смикшированных (предварительно препарированных)
формул цветаевского стихотворения №10 из цикла
«Бессонница». В нём «завелась» поэзия серебряного века, но
дошла она туда не без потерь, а в искалеченной форме
слипшихся слов, в форме «общего пастернако-мандель-
штамо-ахмато-цветаево и прочего компота» (Пригов
[2007] 2018,459), где не отделить свои слова от чужих. Го-
-149-
товая строчка провоцирует обманчивую радость
узнавания, подталкивает сказать: «да, я всегда так чувствовал»;
с ней можно бороться, изменив её почти до
неузнаваемости. Приём «заевшая пластинка с искажением» Мамонов
уже однажды опробовал на другом цветаевском
стихотворении из того же цикла «2. Руки люблю...» в тексте «Ноль
минус один» (Гурьев 2008,71-72). В ответ на «Люблю
имена раздавать, и ещё — раскрывать двери! — Настежь —
в тёмную ночь!» (Цветаева [1916] 1994, 281-282) уже
прозвучало полемическое «Других своей ночью мучай, другим
открывай дверь. —Дверь в свою ночь*!» (Мамонов, 1988)
В комнате Петра Мамонова в Центральном Чертаново
завелось стихотворение Марины Цветаевой. После того,
как оно «завелось», оно повторяется как заведённое, пока
не кончится завод. Без конца пережевывается, как то, что
надо выплюнуть. Пародия в этом случае — способ извлечь
из себя паразитарное мнение, но это не юмористическая,
а скорее терапевтическая пародия. Во мне «завелась»
Гадопятикна*: многократно пережёванная строчка Цветаевой
«Вот опять окно...». Избавиться от наведённого
лирического мнения-интонации можно, если «подселить» к нему
контр-мнение, разъедающее лирическую форму изнутри.
Мамонов использует раннюю редакцию
стихотворения, со строчками «Не от свеч, от ламп темнота зажглась:
От бессонных глаз!», которые в окончательном варианте
1938 года будут упразднены (Цветаева 1965, 735). Более
того, он отталкивается именно от этого (в поздней
редакции вычеркнутого) второго стиха, обезображивая его до
психоделического хоррора: От бизоньих глаз темнота
зажглась*. «Генеральный тезис» мамоновского
стихотворения состоит из одного слова: «Гадопятикна». Это аналог
«Лога мира вапыек, Сергей Иваныч» — невразумительное
мычание, задевающее слушателя. Нечленораздельный
тезис подготавливает малопонятное событие А в моём дому
завелось ТАКОЕ! Такое*. Неописуемое ТАКОЕ перебивает
возможность членораздельной речи.
-150-
Если «подселить» одно стихотворение (1988) к другому
(1916,1938) при помощи подстрочной записи:
От бессонныхбизоньих глаз — Темнота зажглась — От бес-
сонныхбизоньих глаз — Темнота зажглась — ИА в моём дому |
Завелось°такоеТАКОЕ1 Такое — От бессонныхбизоньих глаз -
Темнота зажглась — От бессонныхбизоньих глаз — Темнота
зажглась — Или просто^, рукрупь. — Или просто№ный
рук ь. — Не разнимут двое. — Не разнимут двое. —
ИА в моём дому — Завелось такоеТАКОЕ! Такое — Вот опять
окног . — Вот опять окног . — w
Гадопятикна Гадопятикна Женщин, ласковых
женщин... Женщин, ласковых женщин...
Посмотрим, как смикшированы деформированные
строки из исходного цветаевского стихотворения: (10),
(9), (10), (9), (17-18), (10), (9), (10), (9), (5), (5), (6), (6),
(17-18), (1), (1). Сохранена только одна
последовательность (17-18), из-за повторений (5), (5) и (6), (6) эти
строки не воспринимаются как следующие друг за другом,
как (5-6), а выглядят изолированными, нас всё время
отбрасывает то вперёд, то назад. Эффект заевшей пластинки
или зажёванной магнитофонной ленты вызывает
отторжение, позволяет отторгнуть встроенное мнение*,
обессмысленный «генеральный тезис». Позволяет увидеть, как
наведённое мнение циркулирует без определённого места
жительства*.
Одрадек
Приведу короткий рассказ Франца Кафки «Забота
главы семейства» (1917) целиком (в переводе Апта):
Одни говорят, что слово «одрадек» славянского корня
и пытаются на основании этого объяснить образование
данного слова*. Другие считают, что слово это немецкого
происхождения, но испытало славянское влияние*.
Неуверенность обоих толкований приводит, однако, к
справедливому, пожалуй, заключению, что оба неверны, тем более
что ни одно из них не открывает смысла этого слова*. —
Конечно*, никто не стал бы заниматься такими
изысканиями, если бы действительно* не было на свете существа
по имени Одрадек. На первый взгляд оно походит на
плоскую звездообразную шпульку для пряжи, да и впрямь
кажется, что оно обтянуто пряжей; правда, это всего лишь
какие-то спутавшиеся и свалявшиеся обрывки
разнородной и разномастной пряжи. Но тут не только шпулька, тут
из центра звезды выходит поперечная палочка, а к этой
палочке прикреплена под прямым углом ещё одна. С
помощью этой последней палочки на одной стороне и
одного из лучей звезды на другой все это может стоять как на
двух ногах. — Напрашивается мысль, что это творение
имело прежде какую-то целесообразную форму, а теперь
просто сломалось. Но, кажется, это не так; во всяком
случае, нет никаких признаков этого; нигде не видно ни
отметин, ни изломов, которые бы указывали на что-то
подобное; при всей кажущейся нелепости тут есть своего
-152-
рода законченность. Подробнее, впрочем, об этом
рассказать невозможно, поскольку Одрадек необычайно
подвижен и поймать его нельзя. — Он пребывает попеременно
на чердаке, на лестнице, в коридорах, в передней. Иногда
его месяцами не видно; тогда он, вероятно, переселяется
в другие дома; но потом он неукоснительно возвращается
в наш дом. Порой, когда выходишь за дверь, а он как раз
прислонился внизу к перилам, хочется заговорить с ним.
Конечно, ему не задаёшь трудных вопросов, с ним
обращаешься - сама его крошечность подбивает на это — как
с малым ребенком. «Как тебя зовут?» — спрашиваешь его.
«Одрадек», — говорит он. «А где же ты живёшь?» —
«Без определённого местожительства*», — говорит он
и смеётся; но это такой смех, который можно издать без
легких. Он звучит примерно так, как шорох в упавших
листьях. На этом беседа обычно кончается. Впрочем, даже
такие ответы получишь не всегда; часто он долго
безмолвствует, как деревяшка, каковую он, кажется, и
представляет собой. — Напрасно спрашиваю себя, что с ним будет.
Разве он может умереть? Всё, что умирает, имело прежде
какую-то цель, производило какие-то действия и от этого
износилось; об Одрадеке сказать этого нельзя. Значит,
и под ноги моим детям и детям детей он ещё будет когда-
нибудь скатываться с лестницы, волоча за собой нитку?
Он ведь явно* никому не причиняет вреда; но представить
себе, что он меня ещё и переживёт, мне почти мучительно.
(Кафка [1917] 1995,235-236; Kafka 1919, 95-101)77
Один из завораживающих тезисов здесь: «Конечно
(natürlich)*, никто не стал бы заниматься
[этимологическими] изысканиями, если бы действительно (wirklich)*
не было на свете существа по имени Одрадек».
Сомнамбулическая уверенность: «естественно» — вступает в
конфликт с нашим миром как рамкой для рассказа Кафки.
В нашем мире Одрадек существует только как персонаж
этого рассказа (и, с недавних пор, компьютерной игры),
но в действительности* нет такого существа. «Никто не
-153-
стал бы заниматься такими изысканиями...» — но ведь
ими занимается рассказчик, и, отчасти, мы, пока
размышляем о происхождении слова «одрадек».
Стоит упомянуть идею филолога Вильгельма Эмриха
о том, что Одрадек — это вещь, которая подрывает смысл,
задним числом делает осмысленное бессмысленным
(Emrich 1966). Он всерьёз рассматривает обе
приведённые гипотезы («говорят, что слово "одрадек" славянского
корня и пытаются на основании этого объяснить
образование данного слова» и «считают, что слово это немецкого
происхождения, но испытало славянское влияние»),
возводит слово к чешскому глаголу odradit — «отговорить»,
«отсоветовать» и приводит немецкий эквивалент abraten
с созвучным индоевропейским корнем:
Поэтическому смыслу этой фигуры соответствует —
отговаривать, отговаривать от всего и тем более от
интерпретации её смысла, кроме того, Одрадек явно описывается
как существо «лишённое смысла» в своих проявлениях:
«при всей кажущейся бессмысленности тут есть своего
рода законченность». Смысл этого маленького поэтического
существа — в снятии всякого ограниченного смысла,
в «отговаривании» от всего. (Emrich 1958, 93)78
В том, как Эмрих опирается сразу на обе (в тексте
противопоставленные) этимологические гипотезы,
имеющие смысл только в мире рассказа, тоже есть что-то
завораживающее. Он пытается спорить с заключением «оба
толкования неверны, тем более что ни одно из них не
открывает смысла этого слова» и пытается нам показать,
что оба толкования верны и открывают нам смысл слова;
правда его смысл несколько экстравагантный: Abrät,
Abräter (как реконструирует его немецкое имя Strauss
1979,10), «Отговор», «Несоветчик» — существо,
отговаривающее от всякого смысла. Туг можно вспомнить
«Одну тысячу нерекомендаций»: «Конечно, хочется что-то
-154-
сказать — Сказать что-то новое, неожиданное — Даже
для самого себя — Но я всё равно вам этого не
рекомендую» (Пригов [1995] 2013,537). Получается, что Одрадек-
персонаж, которого «впустил» в себя читатель — это
встроенный отговариватель, нерекомендатель.
Например, кого-то так и подмывает сказать: Хунта умудрилась
разрушить крепкие отношения между нашими страна-
^цмнение тролл^ а -jyj. включается «Несоветчик»: Не
рекомендую, я вам этого не рекомендую*.
Внутри рассказа действует генеральный тезис: в
действительности есть ни живое, ни мёртвое существо
Одрадек*. Читатель заворожен сомнамбулической
уверенностью наведённого мнения, при этом в нём как
встроенный напоминатель действует чувство реальности*,
отсылающее к базовой, рамочной действительности, в которой
Одрадек только персонаж.
Подразумевается, что он действительно* есть, но он не
живёт ни в каком определённом месте*, а передаётся* по
наследству. В этом «переходящем характере» ни живого,
ни мёртвого Одрадека для рассказчика есть что-то
мучительное: он перейдёт по наследству детям и внукам вне
зависимости от воли отца и деда. Эта забота отца семейства
заслоняет скандальность основной посылки рассказа:
в действительности есть ни живое, ни мёртвое
существо*. Он смеётся как тот, у кого нет лёгких и говорит как
тот, у кого нет мыслей. Он, судя по всему,
неодушевлённый, у него в буквальном (а не в чалмерсовском) смысле
темно внутри*. Больше всего он напоминает
«Щебечущую машину» Пауля Клее (1922): бездушное пение,
вызывающее одновременно жалость (к созданному только для
забавы творению) и смутное беспокойство.
«Сомнамбулический» тезис Одрадек действительно
есть* можно сопоставить с генеральным тезисом чучхей-
ского реализма (чучхейский реализм — это наиболее
верный метод творчества нашего времени*) — при всей
своей бредовости он принимается как естественное мнение*.
-155-
Но в каком мере «Отговор», «Несоветчик» действительно
есть? Только в той мере, в какой он может на нас
подействовать: отговорить, отсоветовать — он мог бы
послужить антидотом к паразитарным смыслам и встроенным
мнениям. Мир как действительность всегда есть*, но
я вам этого не рекомендую*.
«Отговор» помог бы поймать себя на слове, когда мы
«всего лишь» отмечаем что-то про себя, притом, что нам
это что-то «намысливают в голову».
Папула
Он отметил про себя: все очень
любят папулу*.
(Дик [1963] 2020,151)79
Папула — персонаж романа Филипа Киндреда Дика
«Симулякры» (1963): марсианское членистоногое (а
точнее, его робо-копия), способное внушать людям мысли
и чувства. Более того, благодаря её помощи один человек
может внушать мысли другим:
Женщина посмотрела назад, увидела похожее на тарелку
или жука оранжевое существо и весело рассмеялась.
Эл подумал: конечно, разве можно не улыбнуться, глядя на
папулу*? Она же такая смешная, милая. Давайте,
давайте, посмотрите на это чудо*. А ты, папула, давай,
начинай разговаривать. Скажи «здравствуйте*» милой даме,
которая так заливисто хохочет, глядя на тебя. Тут до Эла
долетели мысли папулы, обращенные к женщине. (Дик
[1963] 2020, 81)80
В последней фразе был намечен побочный эффект:
«оператор» папулы (Эл) может сам внушать себе мысли,
в которые до конца не верит. Дик использует простое
бытовое выражение thought to himself, которое в русских
переводах передаётся то как «отметил про себя», то как
«подумал» —любопытно, что речь в романе идёт о ситуациях,
-157-
когда мысль (thought) отчуждается у героя, а затем
навязывается ему же самому (to himself). Но пока стоит
рассмотреть «прямое» действие папулы, без обратного
влияния на оператора, выделяя «искусственные» мысли
курсивом и астериском*:
Животное приветствовало её, рассыпалось в
любезностях, заговаривало зубы и манило за собой, и вот
женщина уже присоединилась к мужу и сыну, и теперь они, все
трое, стояли и внимали, а марсианин облучал их
ментальными импульсами: я хороший, добрый марсианин, у меня
нет враждебных намерений, папула любит вас, а вы
любите папулу, а папула — она вообще всех любит, без
изъятия, таковы уж традиции гостеприимства на
прекрасной красной планете\ А Марс — наверняка замечательное
место*, уже думали мужчина и женщина. И тут папула
излила на них свои воспоминания, всю гамму светлых
теплых чувств по отношению к родной планете: боже, а ведь
там тепло, и люди не дёрганые, как на Земле, не шпионят
друг за другом и не проходят это бесконечное идиотское
тестирование, эту религиозно-политическую
подготовку, на них не стучат в службу безопасности зданий раз
в две недели...* Подумайте об этом*, говорила папула —
а они словно приросли к тротуару и не могли двинуться
с места. Вы будете сами себе хозяева, станете свободно
обрабатывать собственную землю, верить в то, что
считаете нужным, станете наконец самими собой. Вы
только посмотрите на себя, вы собственной тени боитесь—вы
встали меня послушать, и вам уже страшно за себя.
Вы боитесь... * туг мужчина занервничал и дернул жену за
руку: — Пойдёмте отсюда. — Па-ааап, — затянул
мальчик. — Ну па-ааап, я ж никогда с папулой не
разговаривал, это так прикольно, давай ещё поговорим, ну па-
ааап... Она, наверное, из этого космопарка. — И мальчик
ткнул пальцем в сторону Эла, и тот почувствовал на себе
холодный, изучающий взгляд мужчины. Тот
проговорил: — Ну конечно. Они расположились здесь, чтобы
торговать подержанными кораблями. И сейчас эта много-
-158-
ножка нас обрабатывает. — Лицо мужчины на глазах
становилось все более жёстким и суровым, очарование
папулы уже не действовало. — А вон там сидит дяденька
и этой штукой управляет. — И тут папула снова
вклинилась со своими мыслями. Ну я же говорила вам чистую
правду! Да, нам нужно продать товар, но вы всё равно
можете отправиться на Марс! И вы, и ваша семья можете
убедиться в правдивости моих слов, увидеть все
собственными глазами — если, конечно, у вас достанет храбрости
вырваться из тисков здешней жизни. Вы способны на
поступок? Только настоящий мужчина способен на такое!
Купите катер Безумного Люка, купите, пока у вас есть
шанс, потому что вы не хуже меня знаете: когда-нибудь,
в один прекрасный день, они примут закон, запрещающий
торговлю подержанными космокатерами. И не будет
больше космопарков. Они замуруют щёлку, через которую
ещё могли просочиться некоторые — весьма везучие —
люди, спешащие расстаться с этим тоталитарным
социумом!* Перебирая рычаги в районе солнечного
сплетения, Эл вывернул усилитель на полную мощность. Папула
атаковала разум мужчины с удвоенной силой, она
буквально затаскивала его внутрь, полностью овладевая им.
Она требовала: вы просто обязаны купить космокатер!
Платите в рассрочку, безо всяких проблем, гарантия —
вот она, плюс широкий выбор моделей* Мужчина сделал
неуверенный шаг к космопарку. Скорее, настойчиво
шептала папула. Неизвестно, что стукнет в голову властям
завтра, смотрите, упустите свой шанс сегодня — не
видать вам счастливого завтра* — Вот так они и
действуют, — с трудом выговорил мужчина. — Животное
завлекает клиентов. Гипнотизирует. Нам надо уходить, срочно.
(Дик [1963] 2020, 82-85; Dick 2011, 50)
Учитывая особенности этого внушённого потока
сознания, разберём вынесенную в качестве эпиграфа фразу.
Прежде всего, бросается в глаза пропозициональная
установка «он отметил про себя» — читателю по контексту
ясно, что это побочный эффект папулы, влияющей на своего
-159-
оператора. ОнПапула отметилотметила про себязанего: «все очень
любят папулу». В каком смысле тогда все очень любят
папулу*? В том, что это так — нет сомнений, но что это
значит? Возвращаясь к примеру из предыдущих глав (гуссер-
левскому генеральному тезису): в каком смысле мир как
действительность всегда есть*? В том, что это так, опять
же, нет сомнений, но что это значит? Используя способ
записи с можно спросить: в каком смысле все очень
подтекстом Г
любят папулу й п er„Q β _ *? В том, что это так
J * мир как действительность всегда есть '
нет сомнений*, но что это значит?
Папула заставляет* себя полюбить: всем кажется, что
она «заставляет» в переносном смысле (вызывая приязнь
как трогательный домашний зверёк), а она заставляет*
вполне буквально. Генеральный тезис папулы можно
сформулировать так: «все очень любят папулу и уверены
в том, что это их собственные мысли и чувства». Но чем
тезис мир как действительность всегда есть* отличается
от тезиса все любят папулу*?
Стоит сопоставить коллизию с папулой и
психопатологический синдром Кандинского-Клерамбо, при котором
больные жалуются, что «невидимые преследователи
отнимают у них их собственные мысли и взамен того вводят
в их голову мысли чужие, которые они, больные, поэтому
(то есть за неимением собственных мыслей) и
принуждены высказывать» (Кандинский [1890] 2018, 302).
Различие на первый взгляд в том, что в первом случае передо
мной мысли, чужие «заразные» мнения, которые
действительно* вкладывают мне в голову, а во втором — на
самом деле* этого не происходит. Проблема только в том,
что не ясен статус действительности*.
Классики психиатрии отмечают, что важно различать
галлюцинации и мысли, несущие «отпечаток чего-то
постороннего, чужого, навязанного извне» (Hagen 1868,25):
первые больной относит к «объективной
действительности», а вторые проходят для него по разряду откровения
или таинственного воздействия невидимых преследовате-
— ι6ο —
лей. Галлюцинация шокирует тем, что расходится с
действительностью, противоречит ей, а «мысленное
внушение» ничему не противоречит, потому что оно и не
претендует на размещение в объективной
действительности*, ведь это — «всего лишь» мысли. Сам больной
чувствует, что речь идёт не о действительности*, а только
о «таинственном духовном предвкушении
действительности», которое в принципе не может вступить в
противоречие с реальностью*, поскольку пронизывает её, обладая
свойством «высочайшей убедительности» (Кандинский
[1890] 2018, 230, 237, 247, 260-261,282, 300, 313).
Жалуясь на то, что «мысли его "вталкиваются" в него
извне, "фабрикуются" для него посторонними лицами»
(Kahlbaum 1866,44), больной не видит и не слышит этого
в прямом смысле, а дополняет действительность новыми
смысловыми феноменами, насыщает её . Здесь сто-
* ' подтекстом
ит оттолкнуться как от характерного примера от
«упражнений токистов»:
Вздумав вчинить крупный иск к Обуховскому заводу,
[техник сталелитейного завода] Перевалов будто бы должен
был сильно затронуть интересы многих
высокопоставленных в Петербурге лиц, и вследствие того стал жертвой
«упражнений токистов». «Токисты» суть не что иное, как
корпус тайных агентов, употребляемый нашим
пресловутым 3-м отделением собственной е. и. в. канцелярии для
выведывания намерений и мыслей лиц, опасных
правительству, и для тайного наказания этих лиц. [...] Токисты,
как говорит Перевалов, фабрикуют для него мысли, то
есть они искусственно вводят в его голову различного
рода представления, по преимуществу навязчиво
мучительного свойства (насильственное мышление). (Кандинский
[1890] 2018,218-220)
В нашем мире мысль о психотронном облучении
относится к числу «ложных» идей, но она не будет относиться
к их числу в мире, где действительно* существует психо-
-ι6ι-
тронное облучение. Представим себе возможный мир,
в котором пресловутое 3-е отделение собственной его
императорского величества канцелярии действительно*
следит за техником сталелитейного завода.
Психопатологические «феномены вторжения» (Клерамбо [1924] 2018,
50; Clerambault 1942, 550): искусственные мысли,
насильственные представления пришлось бы рассматривать не
как замутнение действительности*, а как её структуру.
В последнем (посмертно опубликованном) романе
Филипа Дика «Обман Инкорпорейтед» (1984) фигурирует
несколько странных феноменов, обладающих папулаобраз-
ными свойствами: 1. психотронное излучение, 2. детские
воспоминания, складывающиеся в рекламу, 3. живое
зеркало жизни с Ганимеда, маскирующееся под книгу, в которой
написано о вас. Каждая из этих «папул» устроена по
принципу встроенных мнений*, но каждый раз с модификациями.
Стоит рассмотреть эти феномены «подменённого
мышления», «пришедших извне мыслей» (Clerambault [1924]
1942,508) и иллюстрирующие их пассажи из романа по
порядку. Интересно, что эти «папулы» поэтапно усложняются.
1. Психотронное излучение:
Как же плохо жить в полицейском государстве,
подумалось ему. Мыслишь, воображаешь — но полиция тут как
тут. Становишься параноиком и думаешь, что они
облучают тебя информацией во сне для достижения
подсознательного контроля. На самом деле полиция этим не
занимается. Полиция — наш друг. «А может, именно эту идею
внушают мне подсознательно?» — внезапно поразился он.
«Полиция — наш друг». Чёрта с два! (Дик [1984] 2005,
9-10; Dick 2011, 5)
Первый уровень: психотронное излучение просто
действует на вас, заставляя думать чужие мысли как свои —
здесь возможно отторжение, бунт. Это типичные «токисти-
ческие упражнения» по выражению техника Перевалова
-162-
(Кандинский [1890] 2018, 221). Важно только распознать,
какую именно из «ваших» мыслей вам подсознательно
внушили (полиция — наш друг*), и тогда с возмущением её
отвергнуть.
2. Детские воспоминания, складывающиеся в рекламу:
Конец Зубко, либо зуб Конецко (End of Zoobko, or zoob of
Endko). Реклама это или анализ разбазаренной даром
жизни? Эта лекция известна мне наизусть. Но почему?
Откуда? Она как будто возникает у меня в мозгу, не
приходя ко мне извне. Что это значит? Необходимо узнать.
(Дик [1984] 2005,156; Dick 2011,135)
Второй уровень: вы не можете понять, являются ли
воспоминания, вокруг которых выстроена ваша
идентичность, действительно воспоминаниями, или эти
всплывающие* воспоминания подобны всплывающей*
контекстной рекламе. Немаловажна невразумительность того, что
вам или кому-то ещё «намысливают в голову (man dichte
ihm in den Kopf)» (Griesinger 1876, 94): Конец Зубко, либо
зуб Конецко* — это, по сути, Лога мира вапыек, Сергей
Иваныч*, то есть что-то принципиально важное и
непонятное, касающееся лично вас. Вы не можете понять статус
всплывающей бессмысленной фразы — это каламбур из
детства или продакт-плейсмент. Простое отслеживание не
помогает, под вопросом оказывается то, из чего вы
сделаны, как если бы стихотворение «Из чего только сделаны
мальчики? — Из улиток, ракушек — И зелёных лягушек»
(Маршак 1955,21)81 вдруг оказалось результатом
лоббистских усилий кулинарной мафии.
3. Живое зеркало, маскирующееся под книгу, в
которой написано о вас:
В тексте присутствовало нечто на грани сознания, нечто
пытающееся войти в её мозг, — и вытолкнуть нарушителя
прочь было нельзя. (Дик [1984] 2005,195; Dick 2011,169)
-163-
Третий уровень: вы смотрите в зеркало, проникающее
в ваше сознание, вы принимаете его за книгу, в которой
записана вся история вашей жизни. Конечно, увидев
фактически верные страницы о вашем прошлом, нельзя
удержаться от искушения заглянуть в конец книги. Тут-то вы
и заглотили наживку: поверили в то, что зеркало — это
книга и стали её читать, чего делать было нельзя, потому
что она действует на вас завораживающе, вы в неё
«залипли». Здесь ваша ситуация кажется безнадёжной,
поскольку вы раскрылись вторжению живого зеркала, оно
использует ваши же мысли против вас.
Что можно противопоставить папулам? Чтобы
нейтрализовать папулу первого уровня, достаточно просто
маркировать «ваши» мысли, которые кажутся вам
подозрительными, как мысли папулы, например: полиция — наш
Эругподумалазаваспапула. Чтобы нейтрализовать папулу второго
уровня, придётся поставить под вопрос даже стишки
и прибаутки, которые «мы помним» с детства, даже
улиток, ракуШКи U ЗелёНЫХ ЛЯгушеКК0Г0*ы* "ОДсунула вам папула Не£_
трализация папулы третьего уровня кажется почти
невозможной, поскольку придётся поставить под вопрос всё,
что вы знаете о Себеазначит'знаетэавасипапула.
Итог
Отталкиваясь от комментариев платных троллей —
готовых, напускных, встроенных мнений — я пытался
продвинуться в понимании тезиса «мир как действительность
всегда есть ("die" Welt ist als Wirklichkeit immer da)»
(Husserl [1913] 1950, 63). Что встроено в нём? Самое
странное и загадочное в этом тезисе — это то, что в нём
подразумевается, но скрадывается в переводе, а именно:
взятый в кавычки определённый артикль — «die» Welt.
Артикль ещё можно понять: тот самый мир, в котором мы
все находимся, единый и единственный мир. Но
кавычки?! Тот самый мир (в кавычках), в котором мы все
находимся (в кавычках), единый (в кавычках) и единственный
(в кавычках) мир. Тезис предполагает важный аспект
этого мира, но кавычки указывают на его неясность. Вот он
мир в качестве действительности*, но в некотором
смещённом смысле, *привычное значение слов завело бы нас
в тупик, оно должно быть смещено, претерпеть
превращение,
В книге, среди прочего, я сопоставлял генеральный
тезис Гуссерля и заумную фразу Сорокина, они сходны в
следующем: как лога мира вапыек, Сергей Иваныч* обращено
именно ко мне, даже если меня зовут иначе, так и тезис
вот он мир* касается меня, хочу я этого или нет; их смысл
одновременно важен и принципиально неясен — это
образцы предустановленных мнений*. Недобросовестно
было бы считать, что мы их понимаем; тем не менее, мы
-1б7-
склонны действовать так, как если бы мы их понимали.
Написание курсивом и с астериском* подчёркивает это
конструктивное непонимание, которое я хочу
культивировать в себе и в читателе.
Платный троллинг — это сдача внаём первого лица
единственного числа. Но даже если мы не сдавали своё
«я», мир всегда уже «занял» его. Как и у каждого носителя
мнений, у философа нет гарантии, что им на следующем
шаге не овладеют наведённые мнения*, непреодолимое
желание помучмаритъ фонку*. Что тезис вот он мир* не
превратится в тезис вот мы есть* (а кто мы? — мы,
народ с определённым артиклем*), высказываемый с
тревожащей сомнамбулической уверенностью. Нельзя быть
уверенным, что каждая следующая фраза не окажется
рассадником «встроенных» мнений, гадопятикной* или
папулой*.
Обсуждая философский потенциал платного троллин-
га, я описываю установку платного комментатора: «если
меня нет, то всё дозволено». Речь здесь идёт не столько об
имморализме, сколько о проживании мнения,
высказываемого от первого лица, как безличного опыта, того, что
«мыслит во мне» вместо меня.
Говорят, что нет мнения без подразумеваемого (Husserl
[1904] 2004, 79), но нет и мнения без подразумевающего.
А вот и есть! Мнение подразумевает, «имеет в виду»
мнящего: «Когда говорят "кажется, что...", то имеют в виду "мне
кажется, что..." или "я полагаю, что..."»(Фреге [1892] 2000,
237). Первое попавшееся мнение тролля помимо основного
послания как бы подсказывает в подтексте: ЕС, кажется,
сидит на дне экономической ямыэтотаоёмнение гатаксчитаешь. Я
должен подхватить его: А всё потому, что надо было своей
головой думать, а не Америку слушать^ мой штт§ я так считаю. Но это
не «моё» мнение, это ничьё мышление, для меня — это
«встроенное» мнение. Я обнаруживаю в себе не моё
мнение, которое «имеет меня в виду» как своего носителя.
Мнение находит своего подразумевающего и встраивает-
-168-
ся в него. В самом мнении (до того, как оно встроилось
в меня) нет и подразумеваемого, у него «темно внутри»,
но оно заставляет меня полагать подразумеваемое «как
будто я всегда так считал», как «действительность». Но что
в этой «действительности» от чучхейского реализма* с его
сомнамбулической уверенностью* в «правдивом
отражении»? Здесь нам могут помочь солдат АзБукиВеди,
пришелец Иванов, Гадопятикна, Одрадек и Папула, поскольку
они не скрывают встроенные мнения, а наоборот,
вскрывают их: позволяют посмотреть на генеральный тезис
Гуссерля как на жутковатую колыбельную, клишированный
аффект, нечленораздельные звуки, смех без лёгких,
марсианское членистоногое, то есть приостановить его
стихийный «чучхейский реализм».
Мнения троллей были для меня отправной точкой для
разбирательства с тезисом «мир как действительность
всегда есть». Это самое массивное напускное мнение*,
к которому не так-то просто подступиться; если мы
научимся работать с более локальными готовыми
мнениями*, το появится шанс найти ключ к самому генеральному
тезису. Я сопоставил тезис «вот он мир» с окликом
полицейского «эй, вы, там», с помощью которого в
действительность на микроуровне уже вплетена идеология, и
выдвинул уточняющий тезис: вера в бытие, лишённая
момента разуверения, оказывается недобросовестной
верой*. Поэт спрашивает: «Ддя чего разуверенье свершилось
не вполне?» (Баратынский [1823] 2002b, 58) Мы
обнаруживаем себя в вечно незавершённом мире, среди мнений,
догматически претендующих на то, что они были тут
всегда, заставляющих верить в бытие мира в режиме
«недобросовестной веры». Встроенное мнение* — это
незавершённое разуверение. Нужно его довершить.
Схема книги
Теорвд:
Вера в бытие (Гуссерль, фабрика троллей) Гл. I
Разуверение (Кьеркегор, Баратынский) Гл. I
Недобросовестная вера (Сартр, Кьеркегор) Гл. I
Индекс' и астериск* (Гарфинкель, Гуссерль) Гл. III
Можно лгать правду (Мангейм, фабрика троллей) Гл. III
Сомнамбулическая уверенность (Кьеркегор, Финк) Гл. III
«Я идеологична» — говорит идеология (Альтюссер, Кам-
нев) Гл. IV
Традиционные ценности (Гуссерль, Финк) Гл. IV
«Мир как действительность всегда есть» (Гуссерль) Гл. I-VI
Фабрика троллей:
Напускное мнение (фабрика троллей, Ришир) Гл. I
Диковинные, сбивчивые, нестабильные (Смаллиан,
Достоевский) Гл. II
Не верить и не знать, что не веришь (Мангейм, Милн) Гл. И
Тролль против зомби (Чалмерс, Пригов) Гл. II
Если меня нет, то всё дозволено (фабрика троллей,
Андреев) Гл. II
Гуссерль о чтении газет («Правда», Бродский) Гл. IV
Умаодан поддерживает Ши (фабрика троллей) Гл. IV
Интервью с платным комментатором №1 (фабрика
троллей) Приложение
Интервью с платным комментатором №2 (фабрика
троллей) Приложение
— 170 —
Психопатология:
Анонимные, безличные, «твои» (Толстой, Кандинский)· Гл. II
Время ненависти (Клерамбо, Судзуки) Гл. IV
Естественное мнение (Перлз, Андреев) Гл. V
Ничьё мышление (Лихтенберг, Платонов) Гл. V
Сверхтролль (Кандинский, Кашин) Гл. V
Отходы деятельности фантома (Пригов, Хайдеггер) Гл. V
Папула (Клерамбо, Дик) Гл. VI
Художественная литература:
Нелепая добросовестность (Рубинштейн, Немиров) Гл. III
Помучмарить фонку (Сорокин, Хайдеггер) Гл. III
Пинь-пинь-тарарах! (Семёнов, Достоевский) Гл. V
Чучхейский реализм (Ким Чен Ир, Рубинштейн) Гл. VI
Солдат АзБукиВеди (Введенский, Троцкий) Гл. VI
Инопланетянин Иванов (Жуковский, Степанцов) Гл. VI
Гадопятикна (Цветаева, Мамонов) Гл. VI
Одрадек (Кафка, Пригов) Гл. VI
Понятия, тезисы, инструменты
Понятия
Вера в бытие
Разуверение
Недобросовестная вера
Странные (диковинные,
сбивчивые, нестабильные)
мнения
Ничьё мышление
Анонимные, безличные,
«твои» мнения
Нелепая
добросовестность
Двоящиеся мысли
Сомнамбулическая
уверенность
Встроенное
(предустановленное,
готовое, заёмное,
напускное) мнение
Колебание между
искренностью и цинизмом
Традиционные ценности
«Естественное» мнение
Отходы деятельности
фантома
Чучхейский реализм
Тезисы
Мир как действительность всегда естьгенеральныйтеэнс
Гуссерля
Вера в бытие, лишённая момента разуверения —
недобросовестная вера в бытиемаднфнцнРрмнныйгенер,|ЛЬНЫЙтезнс
Можно не верить и не знать, что ты не веришьмодифи
цнрованный тезис Милна
Если «меня» нет, то всё дозволеномодн*нцм'юмнныйтеэис
Достоевского
Можно лгать nρaβдyУяям"ыΆ'trmcШщτn"^^
Я понял, что Время ест своих детей, и мне стало
страшно""*""* ^р°маст»м
Я, с одной стороны, верил в это; а верил ли
я фактически в то, что я писал? — естественно,
• .prrj собственное мнение тролля
Лога мира выпаек, Сергей Иваныч"мумный"теэнсСоро,<и,,а
щи — отец всего Ганьчжоузшмнпо*"т""ет?олля
Жгучая ненависть к Франции вгрызается в душу
немецкого народа*16"*** ""*""*
Как будто мы всегда так считали"0***™0™™"* гаэег
«Я идеологична» — говорит идеология™*03"0""0"
высказывание Алитоосера
Ценности, не связанные с жизнью семьи, народа,
государства, не обеспечивают полноты
человеческого бытия?*6""**"*000*""
Под потолком сидит душа"акот,ггн,И!СКИЙ"1,юисВ,,еденского
Собственное мнение у меня, естественно, былосо6спе"
нее мнение тролля
Экзистенциально разлагать идеологию***™"*Мангеймв
Высказывание может быть истинным, ложным,
бессмысленным набором буквмнениесвер"т>алля
Чучхейский реализм — это наиболее верный метод
творчества нашего времени"™*»4***"*™0"****
-172-
Инструменты
Индекс' и астериск*:
маркировка, меняющая смысл
Подстрочное^^ зачёркнутое и ^вдя^едсд, написание
«Сверхтролль» предостерегает: «мне тоже не надо верить»
«Философский тролль» (в отличие от «философского зомби»)
«Помучмарить фонку»: обессмысливание как антидот
«Пинь-пинь-тарарах!»: скрытое цитирование как антидот
«Щебечущие машины»: механическое повторение демонстрирует «встроенность»
мнения
«Солдат АэБукиВеди»: сделать из пропагандистского штампа колыбельную
«Инопланетянин Иванов»: пародия как антидот
«Гвдопятикна» деформирует до неразличимости
«Одрадек» отговаривает от всего
«Папула» демонстрирует три уровня вторжения
-173-
Интервью с платным комментатором №ι,
выпускником философского факультета
<Аудиозапись беседы расшифрована с сохранением
разговорного стиля речи.>
— В каких выражениях ты бы сам описал род своих
занятий во время работы на фабрике?
— Ну, смотри, короче — фигня такая, значит, первое:
«в каких выражениях ты бы описал?» — ну, тут всё
понятно: это... так, если по-простому говорить, это был
откровенный <... > [обман], а если так, более-менее культурно,
то это получается, ну, написание откровенно лживых
статей, формирование откровенно лживых каких-то
политических образов и формирование совершенно неверного
представления о том, что вообще в стране, как бы,
существует, вот. Ну, и кроме того, понятно, что просто
откровенное продвигание одного кандидата, понятно какого.
— Были ли у тебя собственные мнения по вопросам,
о которых ты писал?
— Слушай, ну, я политикой особо не интересуюсь, но,
как бы, собственное мнение у меня, естественно, было,
потому что ну, как бы, если ты не совсем дурак и
понимаешь, что существует однопартийная система, или
существуют какие-то каналы телевизионные, там, и
опять-таки — какие-то интернет-ресурсы, которые говорят о том,
что у нас «мощнейшая армия», хотя она нифига не мощ-
-174-
нейшая, там, и так далее, и так далее, то... естественно,
как бы, собственное мнение у меня было, но оно было,
скорее, таким, отрицательным. То есть, я понимал, что это
ложь, но, как бы, конкретного непосредственного мнения
у меня не было, потому что я человек аполитичный
вообще в этом плане.
— Как ты поступал, если был внутренне не согласен
с техзаданием?
— Слушай, ну, особо свободы выбора не было:
единственное, что я мог сделать, я мог написать, как бы, не
откровенно пафосную ложь, а, ну, такую, более или менее
аргументированную позицию. То есть понятно, что, то
есть, например, если надо было прославить Путина, я не
славил его как откровенно товарища Сталина в его
прекрасное время, а я как-то пытался аргументировать, что
выбор за Путина будет сейчас далеко не самым худшим
вариантом — потому что, потому что. Потому что, может
быть, действительно в стране какие-то там произошли
положительные изменения — ну, во всяком случае, в том,
что касается внешней политики, они действительно
произошли. То, что с Россией стали считаться в мире — это
действительно факт, но то, что внутри страны ничего, как
бы, хорошего не произошло. Ну, то есть я находил какие-
то аргументы, которые действительно можно счесть
адекватными.
— Вставали ли перед тобой моральные дилеммы?
— Слушай, честно говоря, моральных дилемм передо
мной не вставало, потому что у меня мнение простое:
народ имеет того царя, которого заслуживает, и уж,
понимаешь, в России исторически так сложилось, что мы
стремимся к диктатуре, потому что чёрт знает сколько веков
мы, по сути, жили при диктаторских режимах, поэтому,
собственно... Тем более, я считал, что, грубо говоря, наша
страна к демократии, по сути, не готова, неспособна.
То есть мы восприняли демократию искажённо, знаешь:
-175-
то, что можно порнуху смотреть и то, что можно покупать
всякие шмотки, понимаешь. А простая мысль о том, что
демократия — это, на самом деле, избирательная
активность каждого человека, наличие гражданина, создание
каких-то там политических мелких объединений, которые
впоследствии выражают своё мнение и формируют его,
знаешь — такого в России нет и чёрт знает, когда будет.
А поскольку нет — то и чё тут, поэтому моральных дилемм
у меня не было, я не особо считаю, что у нас в стране
живут люди, готовые к демократии, поэтому мне было, ну,
попросту говоря — <... > [наплевать]. < После окончания
интервью респондент попросил добавить: > Я в принципе
считаю, что революция в России — ну вот есть эти ребята
молодые, или немолодые, которые кричат о смене
режима, там, о злостном правительстве Путина и тому
подобном — мне кажутся довольно смешными, потому что...
В истории России всегда было только одно: разговоры на
кухне, но сейчас это перенеслось с кухни на лавку с пивом,
или где-то ещё там, в соцсетях, какая-то болтовня. Ну,
хорошо, будет сделано там, грубо говоря, смена режима
произойдёт — ну и дальше-то что? Поэтому мне кажется, что
в конечном итоге всё равно революция в России приведёт
к новой диктатуре. Поэтому у меня такая позиция, на
самом деле.
— Было ли в этой профессии что-то для тебя
удивительное?
— Ничего удивительного для меня не было, потому что
то, что при наличии однопартийной системы и при
наличии какого-то одного ярко выраженного лидера понятно,
что при такой ситуации будет формироваться мощная
такая агитационная платформа. Поэтому ничего
удивительного не было.
— Изменил ли тебя этот опыт?
— Слушай, он изменил меня чисто в техническом
варианте, потому что я более или менее так что-то поучился
-1/6-
писать: такие вот специфические статейки. А в каком-то
моральном плане, нравственном плане,
интеллектуальном плане он меня совершенно не изменил.
— Чем высказывание заданного мнения отличается от
высказывания собственного мнения?
— Ну... ну, это странный вообще вопрос для тебя, он
какой-то вообще философский, блин. Ну, на
высказывание собственного мнения вообще нужна какая-то
моральная сила и моральная стойкость — ну, это то, что я тебе
говорил о демократии и о способности быть
гражданином. А заданное мнение — ну, тут всё понятно: тебе
говорят, что говорить, и ты говоришь то, что тебя попросили
сказать.
— Нужно ли было тебе хоть на мгновение поверить
в то, что ты писал?
— Слушай, ну, вот «нужно ли было хоть на мгновение
поверить». Слушай, я, с одной стороны, верил в это,
потому что я понимал, что существует вот эта агитационная
платформа, агитационная политика, и такую фигню
пишут. А верил ли я фактически в то, что я писал? —
естественно, нет.
— В случае, когда техзадание совпадало с твоим
собственным мнением, меняло ли это для тебя ситуацию?
— Слушай, практически ни разу не было случая, когда
техзадание совпадало с моим собственным мнением,
бывали лишь частичные совпадения, ну, как, например,
в случае с аргументацией улучшения внешней политики
России. Вот. А ситуации, чтобы техзадание полностью
совпадало — такого нет, не было.
— Насколько происходящее было для тебя естественно?
— Оно было для меня совершенно естественно, потому
что если страна не может сделать демократию, она
получает диктатуру, которая получает, в свою очередь, вот такие
агитационные... агитационные такие мощные статейки.
-177-
— На твой взгляд, верили ли авторы техзаданий в их
содержание?
— Ты знаешь, наверное, пятьдесят на пятьдесят,
потому что объявление, по которому я туда пришёл — туда
просто звали пишущих людей, вот. А пишущие люди —
как правило, люди, ну, не тупые. Поэтому я думаю, что
процентов восемьдесят людей, которые там находились —
они либо не верили полностью, либо, по крайней мере,
сомневались. Но я вполне допускаю, что были такие ярые
пропутинцы и люди, которые там, действительно, за
«великую Россию», которую поведёт вперёд Путин, поэтому
вполне возможно, что какой-то процент таких людей был,
но я думаю, что их было, естественно, меньшинство.
— Количество комментариев, которые ты должен был
производить за смену, меняло ли оно твоё отношение
к собственным словам?
— Ты знаешь, я не писал комментарии, я писал... я
работал на уровне блоговых статей, поэтому моего
отношения оно, естественно, не меняло, потому что, если у тебя
есть мозги, то ты прекрасно понимаешь, пишешь ли ты
сам, или пишешь ли ты какое-то заданное задание.
Поэтому, ну, знаешь, как-то не особо.
— Не вызывала ли эта работа у тебя отторжения (и
доставляла ли удовольствие)?
— Слушай, ну, я уже сказал, что особо отторжения она
у меня не вызывала по той простой причине, что я
человек аполитичный, и, знаешь — сказали бы мне за
Жириновского писать — я б за Жириновского писал: мне, на
самом деле, плевать. А доставляла ли удовольствие?
Удовольствие она мне доставляла только в том случае, когда
получалось с точки зрения формы сделать какую-то
неплохую статью; тогда немного доставляла.
— Нужно ли тебе было дистанцироваться от
происходящего в течение рабочего дня, отделять себя-настоящего
от себя-работника?
-178-
— Ну, это естественно, знаешь; в данном случае это
естественно: дистанцироваться, конечно, надо было, то
есть, с такой формальной точки зрения это была чисто
техническая писанина: вот, собственно, и всё.
— Какие мотивы привели твоих коллег на эту работу?
— Мне очень сложно на это ответить, скорее всего, это
был просто денежный мотив. Потому что по факту там
работа заключалась в том, что ты приходил, садился за
компьютер, отпечатывал определённое время и попросту
уходил. Поэтому это, собственно, вот как-то и всё. То есть,
грубо говоря, там никто не общался. Ну, там, конечно, мы
работали на общей платформе, я не помню; на вотсаппе,
по-моему. Поэтому те, кто уже был друг с другом
знаком — ну, там пара девчонок, я помню, была — они,
конечно, постоянно переписывались, хихикали, вот. А так,
понимаешь, никто друг с другом, по сути, не общался. Ну,
и, тем более, я не так долго там работал; я, конечно, мог
бы потом там с кем-то познакомиться, где-нибудь в
курилке или ещё где-то — но, в общем...
— Чем эта работа отличалась от других твоих занятий?
— Ну, это вопрос личного характера вообще; чем она
отличалась? Она отличалась тем, что, в общем-то, что до
этого я этим, в общем-то, никогда не занимался — потому
что я занимался либо чисто физическими какими-то
темами [физическим трудом], либо вот там я сидел на карьере
сторожем... Конечно, отличалась она тем, что требовала
определённых интеллектуальных усилий, и умения
печатать, и умения как-то собирать информацию и каким-то
образом её подавать: этим и отличалась.
— Легко ли ты принял правила игры (условия труда,
задачи)?
— Да, я принял их довольно легко по той простой
причине, что там неплохо достаточно платили по сравнению
с моими предыдущими заработками, и, в общем-то, там
-179-
ничего сложного не было — если, конечно, у тебя голова
на плечах есть, есть какой-то опыт письма. Поэтому,
в принципе, я легко принял.
— Высвечивает ли эта профессия что-то новое в том,
что значит быть человеком? В том, что значит быть?
— Слушай, ну, у тебя и вопросы, блин. Ну, что-то новое
по факту она должна высвечивать: по крайней мере, она
высвечивает то, что человек есть то, что он ест — в том
плане, что если жрать нечего, то он будет заниматься чем
угодно, на самом деле, понимаешь. То есть, грубо говоря,
это высвечивает то, что человек — это существо далеко не
супер-высоконравственное и не
супер-высокопринципиальное; фигня это всё, на самом деле. «В том, что значит
быть»? —я не совсем понимаю, что это значит: «в том, что
значит быть». Что значит быть? Быть — значит
зарабатывать деньги, в данном контексте получается.
— Чем мнение тролля отличается от мнения рядового
обывателя?
— Слушай, ну, оно отличается, может быть,
определённой беспринципностью, или можно даже сказать цинизмом.
То есть, ну, опять-таки, понимаешь — слово «тролль» — оно
очень такое, слабое; потому что таких каких-то
принципиальных троллей, которые пришли туда именно для того,
чтобы заниматься троллингом, там не было. Поэтому особо
как-то сильно — я не думаю. Потому что тролль — это тот
же самый рядовой обыватель. Я думаю, что любого
рядового обывателя, который умел бы писать, посади, предложи
ему кучу бабла, понимаешь — он сидел бы и писал. Я думаю,
что из десяти обывателей девять бы на это согласились. Так
что вот смотри — как-то вот так.
— А, да, слушай, я там ещё про структуру тебе не
рассказал, потому что ты сказал «писали комментарии»,
а там отнюдь не все писали комментарии: там была
трёхуровневая структура. На первом уровне сидели такие,
грубо говоря, самые слабенькие ребята, которые действи-
-ι8ο-
тельно занимались тем, что ставили лайки в ютьюбе,
писали там какие-нибудь комментарии в ютьюбе, вкон-
такте там, и на таких вот соцсетях. Вот они действительно
писали какие-то комментарии. Был второй уровень, на
котором был я: мы писали уже статьи, такого более-менее
блогерского стиля на всевозможные платформы — ну,
в частности, на ЖЖ, соответственно, в первую очередь.
Ну, там ещё были какие-то несколько; я сейчас, честно
говоря, уже не вспомню; были, значит, всевозможные
форумы, такие политические платформы, где там народ что-то
писал. А был третий уровень: вот он был уже
действительно более-менее интересный и серьёзный; там люди
занимались рерайтингом уже профессиональных
журналистских статей, и, в общем-то, там работали люди уже
с журналистским опытом, и вот это был уже
единственный, грубо говоря, честный уровень, то есть там
происходил рерайтинг статей, которые просто нам подходили. Это
могли быть статьи... То есть там уже не лгали: там просто
переписывали какие-то статьи. А эти статьи они могли
быть уже необязательно связаны с восхвалением ВВП, они
могли быть связаны с какой-то критикой каких-то нужных
нам людей, или с критикой той же Америки, какими-то
другими событиями, которые, если они подходили нам...
Ну, и эти статьи — они, как правило, на девяносто девять
процентов уже были правдивы. Но это было уже довольно
сложно, потому что рерайтить профессиональную
журналистскую статью — это реально сложно. Потому что
я помню: я там буквально пару раз этим занимался, и с
меня, грубо говоря, семь потов сошло. Так что вот так.
— Не мог бы ты рассказать более подробно об одном из
материалов (постов), который ты создавал?
— Там в основном были посты более или менее
конкретные, то есть, ну, в первую очередь — восхваление ВВП,
потом — ну там всякие идиотские банальные были темы,
что он приехал туда-то, он там какой-то очередной завод
-ι8ι-
открыл, что он там посетил какой-то супер-комбинат, где-
нибудь там, я не знаю, блин, на Дальнем Востоке, блин, по
переработке кукурузы, блин. Были в основном тоже
материалы какие-то конкретные, посвященные критике каких-
то там его политических соперников. Там их почему-то
в основном было два: в основном чистихвостили (кстати,
не трогали, я помню, Жириновского — это сто процентов
вообще, про него никаких упоминаний); там почему-то
в основном, помню, трогали Грудинина, и кого-то там ещё.
Ну, в основном это были какие-то такие тексты, что вот
такой-то такой-то заявил такое-то и такое-то — ну типа,
в ходе своей предвыборной кампании, — а на самом деле
у такого-то и такого-то какие-то заграничные счета на
границе, и бла-бла-бла и блу-блу-блу, вот. Поэтому... А, ну мне,
в принципе, вот: я вспомнил. Мне запомнился один текст,
он был связан с ВЧК имени Вагнера, это частные эти... то
есть, ЧВК имени Вагнера — это частные военные
компании, которые типа воевали в Сирии. И вот я помню, что мы
писали про них текст. [...] Почему он мне запомнился —
потому что он был достаточно идиотский: нам сначала
надо было написать про эти ЧВК не то чтобы в негативном
свете, а надо было написать, что якобы, типа, их нет.
Но при этом в этом же тексте надо было впихнуть тему,
что... ну, то есть, воспеть традиции добровольческого
движения в России. То есть, тут как-то вот так. Сам текст был
какой-то — ну не знаю — достаточно идиотский. Ну,
короче, про пост ты понял — вот мне почему-то один
запомнился, а все остальные были — ну, на 99% они были
достаточно однотипные: такой сказал то-то, а на самом деле он
<... > [чудак]. То есть по такой форме. То есть, достаточно
примитивные, ничего такого не было. Единственное — там
была такая практика реакции, ну это, в общем-то,
свойственно для любой... Для любого информагентства: то
есть, поступает какая-то новость, что такой сказал то-то,
и вот на это надо сразу же, моментально отреагировать.
Ну, или не моментально, а по возможности быстрее.
-182-
— Думал ли ты о том, какие последствия имеют твои
тексты? О том, могут ли они нанести кому-то вред?
— Слушай, ну я не особо думал, я думал о том, что
Путин в конечном итоге всё равно победит, потому что
никаких альтернатив я не видел. А конкретно о моих
текстах — будут ли они иметь последствия — знаешь, это
была капля в море. То есть — ну какие последствия?
Понимаешь, итогового политического преимущества
Путина они не уменьшат и не увеличат. Поэтому, знаешь,
я особо об этом не задумывался. Но я уже высказывался
по этому поводу — что я не считаю, что российский
народ способен сам какую-то демократию устроить,
поэтому — нет. Единственное — я думал, что Путин все равно
победит, какая разница-то. Ну а что они могут нанести
кому-то вред — нет, слушай, я это не думал, у меня, как
бы, простая позиция по этому вопросу, я считаю, что тот
человек, который может думать, эти тексты просто
игнорирует. А тот, кто, пардон, уже считает, что Путин должен
быть президентом — тот всё равно, знаешь. Человек
видит то, что он хочет видеть: поэтому те, кому надо, всё
равно найдут нужные тексты о том, что они считают
нужным — вот и всё.
— Говорил ли ты о своей работе с другими людьми, как
на работе, так и за её пределами, и если да, то как ты её
«оправдывал» перед ними, если чувствовал такую
необходимость? Высказывали ли они какую-то оценку твоей
работы?
— Слушай, ну, я, конечно, не бегал и не кричал, где
я работаю, но паре человек, с которыми я хорошо знаком,
я рассказывал. Ну, я не особо оправдывал, я просто
сказал, что я пришёл, устроился и сейчас так работаю.
Оценку? Оценку — да, высказывали, оценка была такая,
знаешь, умеренно-негативная. То есть скорее ироничная.
Ну, в том плане «что ты там, типа, Родину продаёшь, да?»
Но, как бы, понимаешь, все понимали, что — ты ж зна-
-18з-
ешь, у меня никогда с деньгами хорошо не было —
поэтому что, что я нашёл работу, на которой, по крайней мере,
писать можно — почему бы и нет. То есть, кто-то
высказывался, что, типа, «родину продаёшь», а кто-то,
наоборот, сказал, что «вот, ты нашёл работу, на которой можно
более-менее писать, а не на стройке мешки таскать»,
понимаешь, вот и всё.
— Что происходило в самом начале, когда ты только
пришёл на работу: понимал ли ты, куда идёшь? Если нет,
когда именно понял, чем будешь заниматься?
— Нет, в самом начале я совершенно не представлял;
ну то есть изначально, когда я звонил по объявлению
туда — я не знал, куда я иду. Когда вот я уже пришёл, и мне
там задали вопрос, интересуешься ли ты политикой, вот
тогда мне уже что-то стало в голову закрадываться. Я не
помню, но в общем, короче, я понял, что конкретно я буду
писать, где-то в промежутке между тестовым заданием
и первым, так сказать, собеседованием — ну, не
собеседованием, а разговором с начальством.
— Думал ли ты о том, чтобы бросить работу? Если да,
чем эти мысли были вызваны?
— Нет, я совершенно об этом не думал, потому что мне
была нужна работа, и вообще никаких таких мыслей у
меня не было. То есть, знаешь, это у меня не такая ситуация,
чтобы какую-то работу бросать <смех>.
— В тот период обсуждал ли ты с кем-то политические
вопросы за пределами работы (с родственниками или
друзьями)?
— Нет, слушай, я тебе уже говорил, что я — человек
аполитичный, и на самом деле никаких политических
вопросов я не обсуждал. То есть для меня это реально был
абсолютно технический вопрос. То есть, я приходил, я
погружался в задачу, для меня были, знаешь — что Путин,
что Грудинин, что Жириновский, что чёрт в ступе — они
-184-
были для меня просто схематическими, даже
семантическими фигурами, которые выражались в словах. Вот и всё.
То есть для меня это была чистая техника.
— Читал ли ты в тот период (в свободное от работы
время) какие-то ресурсы в интернете или бумажную
прессу, где обсуждается политика? А теперь?
— Нет, я не читал никаких ресурсов про политику;
и сейчас я не читаю никаких ресурсов про политику.
Точно так же, как я вот сейчас не очень читаю новости — ну
там, за исключением, может быть, этого долбаного коро-
навируса. Хотя вот недавно я работал в
интернет-агентстве новостном: тогда я читал новости. А так я в принципе
новости не читаю. Мне, на самом деле, плевать, что там —
хоть атомная война там будет происходить.
— Если бы ты одновременно наткнулся на две
вакансии: а. προ-государственную, «патриотическую» фабрику
троллей и б. её антипода — антигосударственную,
«антипатриотическую» фабрику троллей, какую бы из вакансий
ты выбрал и почему?
— Слушай, если бы это был троллинг как таковой —
что государственный, что противогосударственный — то
на самом деле, я выбрал бы ту, где больше платят, вот,
собственно говоря, и всё. Потому что, что то, что другое —
одинаково отвратительно и одинаково бездейственно.
Если бы речь шла не о троллинге, а о каком-то более-менее
аргументированном, аргументированно-доказательном
рассуждении, то я бы, естественно, предпочёл
антигосударственную. На самом деле, я тебе могу сказать, что ты
немножко в этом плане — то есть, если ты пишешь какую-
то злободневную, типа, тему, ну, относительно
злободневную, то я тебе могу сказать, что фабрика троллей уже на
самом деле неактуальна. То есть её давно уже
раскурочили и давно уже прочухали. Народ-то, на самом деле, не
идиоты, и понятно, что, например, в комментарии на
ютьюбе — на десять адекватных комментариев приходит-
-185-
ся пятьдесят неадекватных, причём неадекватных
абсолютно, в дебильном ключе, то, как бы, даже самый тупой
поймёт, что это что-то непонятное. Поэтому как таковая
«фабрика троллей» уже не работает.
— Опасался ли ты, что эта работа тебя морально
коррумпирует? Или, что она испортит твой стиль (как сказал
Хемингуэй, объясняя своё нежелание читать Маркса)?
— Нет, я не боялся. Опять-таки, понимаешь — если ты
понимаешь, что ты делаешь, и у тебя есть, как бы,
понимание того, что ты делаешь — то ничего она морально тебя
не коррумпирует. То есть у меня вот есть определённая
позиция, я тебе уже её высказал (что, поскольку люди сами
не могут себе демократию устроить — ну, пусть получают,
что получают, собственно говоря). Поэтому я не считал,
что она морально меня коррумпирует. А что «испортит
твой стиль» — я считал наоборот, что в плане, как бы,
информационного стиля, я считал, что она улучшит мой
информационный стиль.
— Представляет ли собой чужое мнение,
высказываемое от первого лица как своё, философскую проблему?
— Ой, ну, ты намутил. — Я тебе так отвечу: что...
Ой, ну, тут, конечно, можно намутить, что, как бы, Ты —
не-Ты, к-себе — от-себя... Философскую проблему? На
самом деле, да. Тут, как бы, можно вывести философскую
проблему, то есть проблему некой «потери себя»,
проблему того, что возникает некая двойная личность, где, как
бы, одна личность как бы самостийная и правдивая, а
вторая — как бы ложная и начинает говорить что-то не своё.
Ну, здесь можно там, знаешь... Я даже не знаю, к кому это
можно возвести конкретно, к каким товарищам — но там
проблема какой-то двойственности, причём проблема
какого-то насильственного раздвоения. Мне сейчас в
голову сразу не придёт, к кому это можно притащить, но
это, наверное, можно к этому, к экзистенциализму, мне
кажется, больше свести, потому что там же как раз, пре-
»186-
жде всего, проблема существования, существования как
бы единой личности, какой-то конкретной личности, да;
о том, что происходит разрыв этой конкретной личности,
ну то есть такая своеобразная социальная шизоф... нет,
ну «шизофрения» — это неправильно будет сказано,
потому что шизофрения — это не раздвоение личности.
Ну да, некое социальное раздвоение личности. Ну, мне
так кажется, что если выводить отсюда философскую
проблему, то* она будет какая-то слишком надуманная. Тут
можно, конечно, создать какую-то такую конструкцию,
что вот в обществе целая группа, достаточно солидная
группа общества, — грубо говоря, треть — начинает
неожиданно высказывать мнение, которое на самом деле не
является его собственным, причём оно само не верит
в это мнение. Ну, не знаю: мне кажется, это, во-первых,
банально достаточно: ничего тут, как бы, нового нет, а во-
вторых, знаешь, если опускаться и не брать это в
масштабе общества, а брать это в масштабе конкретной
личности, то получается, на самом деле, всё проще: люди просто
тупо бабки зарабатывают — ничего тут на самом деле
такого нету, блин. То есть не надо надумывать, что прямо
тут речь идёт о политике, о чём-то ещё. В основном, на
самом деле, как я понял — я не так долго там работал, но
по тому, каких ребят я там встречал, они достаточно,
знаешь, простецкие и циничные. То есть —
<звукоподражание нечленораздельной ругани> — вот такие, знаешь.
«Гопники от текста» — я бы так их назвал. То есть — «а,
написать и написать», типа <характерный звук
губами > — пофигу. Так что как-то вот так.
Интервью с платным комментатором №2,
выпускником философского факультета
— В каких выражениях ты бы сам описал род своих
занятий во время работы на фабрике?
— На фабрике мы занимались формированием
общественного мнения, склоняя тех или иных читателей
новостей на разных порталах, либо в социальных сетях. Я
занимался американскими новостными порталами (разумеется,
был и русский отдел и даже отдел с картинками и мемами),
у которых были подключены комментарии. Была градация
и иерархия. Кто-то занимался самыми продвинутыми —
NY Times и тому подобными, кто-то как я, кто-то Facebook
и так далее. Ты должен создать множество персонажей по
номерам телефонов и почтам — очевидец (мимо проходил
случайно), местный житель, белый, чёрный, школьник,
пожилой человек, сомневающийся патриот, приколист и так
далее. Задача — отвечать на любые заданные куратором
новости так, чтобы это и вызывало бурную реакцию в
комментариях, и формировало относительно негативное
отношение к текущей власти в США. Нужно было ругать
медицинское страхование (Obama Саге), саму власть, влезать во
все возможные спорные новости, к примеру, о лечебной
марихуане и так далее. Род занятий — троллить чужую
власть/личностей/активность и тому подобное, склонять
случайных комментаторов (не ботов, как был я, а
реальных) к определённому мнению за счет количества.
-188-
— Были ли у тебя собственные мнения по вопросам,
о которых ты писал?
— Да, были, но я слабо активен политически, ибо
работал «в политике» на разных проектах до этого и знаю
немного подноготную этой сферы. На какие-то вещи я даже
отвечал своим собственным мнением, ведь по типу самой
работы было не важно глобально, что ты там пишешь
(понятно, что не бред всякий и тому подобное), ты просто
должен вызвать реакцию. Максимально. Через две
недели, работая по 12 часов в день, мысли и своё собственное
мнения мутируют и меняются в сторону целей,
поставленных кураторами. И главное — общий цинизм и
максимальное недоверие (к власти и новостям) возрастают
в тысячи раз.
— Как ты поступал, если был внутренне несогласен
с техзаданием?
— Никак не поступал. Про себя мне тут сказать нечего,
я просто искал другую новость или инфоповод и всё. А вот
ребята, которые работали до меня на «фабрике» уже,
правда, очень хорошо разбирались в политике,
юриспруденции, менталитете американцев. И вот они даже
ссорились между собой (мы сидели в кабинетах по 25-30
человек). Во многих вопросах мне, конечно, было противно,
но опять же повторюсь, через неделю-две, по 12 часов
в день при написании по 80-120 комментариев в день от
разных персонажей, ты «забываешь» о том, с чем ты там
согласен, а с чем нет.
— Вставали ли перед тобой моральные дилеммы?
— Глобально — только потом. (Я ушёл, подчеркну,
потому что нашёл другую работу и в целом устал, хотя уже
был на хорошем счету у этих ребят.) Дилеммы
заключались в основном в том, что ты начинаешь понимать,
как +/- устроены соц. сети и новостные сайты. Ты
начинаешь осознавать, под каким углом те или иные
журналисты в каких интересах подают под каким-то конкретным
-189-
углом ту или иную новость. Ты начинаешь чувствовать
(а я в очередной раз), что глобально — фейка в инфополе,
а ещё хуже — в сознании людей, очень и очень много.
Многие люди вообще сформированы этими «троллями»
и ложью. И я отстраняюсь от такого. Чувство было потом
даже немного геройское, что ты теперь «вооружен»
знаниями, как и что устроено в мире медиа. Начинаешь лучше
фильтровать поступающую информацию и более
аккуратно вести себя в соц. сетях.
— Было ли в этой профессии что-то для тебя
удивительное?
— Разумеется. Придумать 6-12 персонажей, осознать
их, завести им почты, соц. сети, оформить и придумать по
сути 6-12 реальных людей, с прокси-локаций и тому
подобным. Это удивительно. Некоторые даже умудрялись
заиметь (не уверен, что это правда в итоге!) номера соц.
страхования и/или полицейский жетон для большей
убедительности. И конечно, я учился именно технике спора
и аргументации в комментариях, где тебя посылают нах,
а ты всё равно должен склонить человека на свою
сторону. А ещё удивительным было то, что в этих комментах от
НАСА или чего-то подобного сидело столько же троллей
со стороны США. Некоторые «наши» уже реально знали,
кто есть кто и под какими именами. Прокси-сервера
менялись практически каждый день (проксей было сотни,
любая точка мира, вплоть до адресов, рядом с событиями
в новостях). Удивительный мир фейка.
— Изменил ли тебя этот опыт?
— Не сильно, но этот опыт ещё больше меня убедил
в том, что всё, что рядом (или в) с «официальными»
новостями, политикой и пропагандой — всё полностью на
грязи, обмане и максимально задорном цинизме.
«Руководителям» на разных уровнях разных стран, по сути,
абсолютно плевать на какие-то мелочи, типа внушения
паранойи, расизма, бесконечной подмены понятий и по-
— 190 —
стоянно обмана в пользу формирования определённых
идей и широких масс. Так что я изменился немного, став,
как мне кажется, сильнее и мудрее.
— Чем высказывание заданного мнения отличается от
высказывания собственного мнения?
— Тем, что ты постепенно начинаешь чувствовать себя
слабым, неспособным, неуверенным в себе, частью
просто «программы». И опять же, через какое-то время
человек — как адаптивное существо — начинает привыкать ко
всему. Чужое мнение уже становится твоим. Я лично
с этим боролся и страдал немного, старался постоянно
делать перерывы, чтобы голова не запоминала, что ты
вообще делаешь. Так что мои рабочие дни часто проходили
вообще как в тумане.
— Нужно ли было тебе хоть на мгновение поверить
в то, что ты писал?
— Прямых указаний так делать не было. Но было
указание, чтобы поверили твоим «персонажам». Ошибки
делали все и постоянно. Некоторые смело писали а-ля
«я как раз проезжал на велосипеде рядом с событиями
в Фергюсоне и это был ад, гори в аду Обама!» и тому
подобное, но нужно было иметь такой классный профиль,
фотки и тому подобное, чтобы люди реально тебе
поверили, поверили твоему образу речи в комментариях и
тому подобное. Так что тут не могу точно ответить. И да,
и нет. Ты выступаешь эдаким сценаристом разных
персонажей, придумывая реплики в зависимости от характера
персонажей.
— В случае, когда техзадание совпадало с твоим
собственным мнением, меняло ли это для тебя ситуацию?
— Такое было редко. И это решал я сам, по сути.
Допустим, у меня был персонаж, который был за легализацию
гей-браков или употребления марихуаны, то если новость
была против гей-браков в районах, где до сих пор живут
— 191 —
староверы и баптисты, то я безжалостно давил на то, что,
мол, мы все равны и так далее. Но опять же, я очень
сильно старался «лично и внутренне дистанцироваться» от
своих личных чувств. Туг скорее работало правило — это
мнение мне просто легче было написать, а тут мне было
весело, а здесь я просто громил медицинскую реформу
США и тому подобное. Мне до сих пор это всё не так
важно, так как законы и правила-то уже созданы = граждане
стран обязаны им следовать = в одиночку своим
собственным мнением ты ничего не изменишь = тебя убьют или
закроют. Вот и всё. Фейк и во власти, и, разумеется (!!!),
в оппозиции власти. Без разницы — совпадает моё
мнение или нет. От этого было морально тяжело, конечно.
— Насколько происходящее было для тебя естественно?
— Через две недели — всё стало казаться обыденным.
От 80-100 комментариев в день, выполнение плана,
послушать пару лекций о чём-то про устройство или историю
США, про менталитет. Опоздание — штраф, не выполнил
план — штраф и так далее. Так что я тупо зарабатывал,
потерял несколько месяцев жизни на это на всё.
— На твой взгляд, верили ли авторы техзаданий в их
содержание?
— Думаю, пополам. Точно были те, кто верил, это 100%.
Мои кураторы — нет. Я с детства учился определять ложь
и лицемерие, рос в такой среде просто. Так что, на мой
взгляд, больше половины точно не верили, но показывали
нам, что верили. На самом деле никто не обсуждал, зачем
мы это делали. Было просто задание—делать. Типа мы
позитивно формируем инфо-фон вокруг РФ, Кореи, Ирана
и др. «врагов США», бесконечно <...> [ругая] власть,
законы, реформы, личностей и проч. Мне всегда кажется,
что всегда кто-то один-то точно должен быть «фанатом» из
руководства, чтобы вообще такое запустить. Эти люди
«выезжают» часто за счет личной энергетики, мотивации
и тому подобному. Но я не верю никому;))
— 192 —
— Количество комментариев, которые ты должен был
производить за смену, меняло ли оно твоё отношение
к собственным словам?
— Как писал выше — скорее да. Постепенно точно
меняло. Представь, тебе нужно НЕ выйти пару раз по
личным причинам на работу. Тебя заменяет кто-то. Потом ты
отрабатываешь. У меня было несколько раз, что я работал
по 5-6 дней подряд. По 12 часов. Начинает ехать крыша,
реально. Конечно, ты начинаешь верить постепенно.
На вопросы расизма — так-то отвечаем в целом, на
вопросы реформ — вот так-то. И так далее. То есть скорее
больше такое производственное отчуждение, математика,
схематичность. Опять же повторю, я старался отвлекаться, не
думать, не вникать сильно.
— Не вызывала ли эта работа у тебя отторжения (и
доставляла ли удовольствие)?
— Разумеется, вызывала. Я же недолго отработал.
Людей там хватало от месяца до шести. Текучка была очень
большая. Мне кажется, что отчасти именно потому, что
многие начинали отторгать то, чем занимались. Но были
и те, кто, наоборот, с упоением работал, с коварной какой-
то страстью. Был ещё дух соперничества — кто больше
комментариев напишет, кто больше лайков соберёт и
тому подобное.
— Нужно ли тебе было дистанцироваться от
происходящего в течение рабочего дня, отделять себя-настоящего
от себя-работника?
— Постоянно. В конце моего всего рабочего периода,
я уже научился это делать. Я старался большую часть
времени сидеть на других сайтах, кроме ВК и FB. Смотрел
в маленьком окошке фильмы или слушал лекции. А
параллельно готовил комментарии. Мне уже было
достаточно бегло прочитать статью, найти в ней проблему,
найти мнение автора и всё. Я уже понимал, что я могу
написать. Часто понимал, где и на какие болевые точки
-193-
можно надавить в комментариях, чтобы «тебя заметили»
и пошла реакция. Схемы эти работали, я стал больше
перерабатывать самые популярные комментарии
совершенно с других новостных сайтов и даже других языков.
Я делал рерайт комментариев с китайских и корейских
сайтов и так далее.
— Какие мотивы привели твоих коллег на эту работу?
— Только деньги. Просто это были средние деньги за,
по сути, несложную и одинаковую работу. На
собеседовании спрашивали про отношение к президенту, к
религии, к эмигрантам и тому подобному. Так как у меня
ровно-холодное отношение на самом деле по этим
вопросам, то мне не пришлось кого-то из себя строить
и меня легко взяли. Я спрашивал некоторых, как они
туда попали, но многим уже было сказано не обсуждать
детали ни с кем. Так что легенда одна — заработать
немного денег.
— Чем эта работа отличалась от других твоих занятий?
— Так как я имел опыт работы в политике, сборе
данных, акциях и пикетах, то я + /- понимал, что примерно
меня ждёт. Разница была в том, насколько будет больше
информации и насколько много часов нужно будет
проводить на рабочем месте. Суть — примерно одна. Ну а если
брать глобально, то любая работа, даже киллера,
наверное, в какой-то момент становится просто работой.
Разница в том, насколько рано ты перестанешь ей
заниматься и сотрёшь детали из памяти.
— Легко ли ты принял правила игры (условия труда,
задачи)?
— Адаптация 3-4 дня. Затем 1-2 недели и ты уже
более-менее можешь быстро работать. Через месяц может
начаться производственная деформация. Появляется
подозрительность, недоверие к людям и информации,
раздражительность и презрение к властям в целом глобаль-
-194-
но и отдельно к людям (начинаешь думать о людях как
о массе, стаде и тому подобном).82
— Высвечивает ли эта профессия что-то новое в том,
что значит быть человеком? В том, что значит быть?
— Сложный вопрос. Философский даже, с примесью
социалки и психологии... Ответ как всегда двойственен —
либо стакан наполовину полон, либо пуст. Либо ты САМ
считаешь себя более «светлым», либо нет. Думаю, что эта
работа глобально, для морально устойчивых людей, но
слабых духом. Для людей, так или иначе, ведомых идеями,
людьми, какой-то там типа «правдой» или патриотизмом
даже. Я понимал сразу, что этой работой изнутри ничего
не изменить. Ведь там были и шпионы, которые снимали
на скрытые камеры устройство и процесс сего заведения,
сливали потом в СМИ. Но это ничего не изменило. Ну,
засветились немного, ну и что. Коррупция и затем
коррекция (допустим, произошло чьё-то «расследование» и
фабрику троллей разоблачили, но за счёт коррупции новость
не стала сенсацией и далее была скорректирована
властями). :))) Я решил, что я не хочу быть там. Что я начинаю
существовать, а не жить. Человечное (то, что
общепринято считать чем-то положительным) из тебя, конечно,
уходит, появляется цинизм и недоверию вообще всему.
От этого мне лично хочется уйти. Менять систему в
одиночку невозможно. С другой стороны — полезный и
незабываемый опыт, знания техник посева информации,
формирования общественного мнения. Каждый может
в одиночку завести себе такую фабрику дома и начать
жить жизнями 20-30 персонажей. Будет такой человек —
человек? Возможно, даже и да.
— Чем мнение тролля отличается от мнения рядового
обывателя?
— Глобально — не знаю, наверное, эмоциональной
окраской и взглядом на всё через призму негативной
критики (не профессиональной, не по делу, а просто критики
-195-
всего). А тролль с «фабрики» отличается тем, что, по сути,
тролль — это заранее созданный персонаж,
определённого возраста, пола, расы, политических и религиозных
взглядов, у которого есть чёткая «миссия» — бомбить
чужаков и стараться поменять взгляды неверных. :))) Если
смотреть логически, то мнение тролля в таком разрезе
будет точно совпадать с мнением обывателя, по идее. Оно
должно быть хорошо замаскировано. Тролль тоже должен
быть хорошо замаскирован, аккаунт наполнен и иметь
историю. Т.о. ты, допустим, выпустишь свою книгу и
выложишь её, а я создам пару сотен троллей и напишу
разные позитивные комментарии, созданные реальными
людьми, не генерацией искусственного интеллекта или
чем-то подобным. Спорим, что люди глобально поверят,
что твоя книга — хороша?!:))
— Думал ли ты о том, какие последствия имеют твои
тексты? О том, могут ли они нанести кому-то вред?
— Всем плевать. Не думаю, что это могло бы
нанести вред. Я лично могу говорить тут только за себя —
и я не комментировал личные высказывания отдельных
людей, блогеров или популярных личностей. Поэтому —
мои (часто хэйтерские, но даже если обоснованно)
комментарии под новостными статьями вряд ли могли
причинить кому-то вред. Вред причиняли мне этими
новостями :))))) — шучу. Ну, опять же, в основном это
было — «полиция коррумпирована», «Обама, уходи»,
«реформы все не работают» и тому подобное. От общего
к частному и наоборот.
— Говорил ли ты о своей работе с другими людьми,
как на работе, так и за её пределами, и если да, то как ты
её «оправдывал» перед ними, если чувствовал такую
необходимость? Высказывали ли они какую-то оценку
твоей работы?
— Говорил только с близкими в режиме жалобы.:))))
Оправдание было пару раз в режиме — «есть захочешь,
— 196 —
будешь работать». Ничего особенного я не обсуждал.
Но было противно, что (назовем, к примеру) эдакую
технику «фабрики троллей» делали и будут делать, пока есть
комментарии. Это удобно и для создания эффекта того,
что есть массовость
поддержки/травли/мнений/активности и тому подобного. Сейчас это стало гораздо
сложнее, так как алгоритмы соцсетей сильно изменились
с тех пор, но, тем не менее, это существует точно, я не
сомневаюсь. Доказать я это не смогу, но убеждён, что
это так.
— Что происходило в самом начале, когда ты только
пришёл на работу: понимал ли ты, куда идёшь? Если нет,
когда именно понял, чем будешь заниматься?
— Я понял только день на 4-й. Мне всё вроде бы
объяснили, всему научили, но сам азарт и цинизм в работе
пришёл вообще через недели полторы. Сначала я
конечно вообще не понял куда попал. Я же шёл на вакансию
копирайтер. Так что, в целом-то да, копирайтер.:)))))
— Думал ли ты о том, чтобы бросить работу? Если да,
чем эти мысли были вызваны? Может быть, была какая-
то конкретная ситуация, которую ты мог бы привести
в пример?
— Уже через месяц-полтора я понял, что вообще такая
работа для очень выносливых типажей в плане психики.
Ты просто не понимаешь, что такое писать 100-120 ком-
ментов день. Нужно прочитать очень много новостей,
быстро вычленить главное, написать комменты от разных
типажей на английском, писать круто, будто ты местный
с идиомами и шутками. Это приходит не сразу. Нужно
быстро вникать в разные сферы — от оружия,
юриспруденции до путешествий и медицины. Это сложно, отнимает
много сил, правда. Нельзя опаздывать — опоздал на 1
минуту — штраф 1000 руб., на 5 минут = 5000 руб. И тому
подобное. Все входили по электронным пропускам и
время входа всегда фиксировалось.
-197-
— Знаешь ли ты людей, который бросили эту работу
из-за несогласия с тем, что им приходилось делать?
— Текучка была очень большая, правда. Но откровенно
несогласных я не встречал. Только часто слушал нытьё
про то, как тяжело работать. Но идейно несогласных
особо не было, всем плевать. Там было много студентов, так
что люди думали про заработок.
— В тот период обсуждал ли ты с кем-то политические
вопросы за пределами работы (с родственниками или
друзьями) ?
— Конечно. Работа занимала много моего времени и,
так или иначе, проникала в жизнь. Я в большей степени
рассказывал всякие суровые новости из США, которые
в РФ особо не муссировались. И про то, какая власть в РФ
и, например, в Корее для американцев и как русские
позиционируются там (в США русских очень и очень гно-
бят — через всё — поп-культуру, музыку, сериалы,
новости и ток-шоу и тому подобное). Я [в] очередной раз
понял, что политика для меня — это бесконечно грязное
дело + я уже тогда и так отлично понимал, что за любым
человеком можно легко следить и «влиять» на его мнения,
суждения и взгляды через окружающее мнение.
— Читал ли ты в тот период (в свободное от работы
время) какие-то ресурсы в интернете или бумажную
прессу, где обсуждается политика? А теперь?
— В свободное время от работы я занимался своими
делами и вообще не читал новости принципиально.
Собственно, после этого я отвык от новостей. Я
смотрю/читаю сухие дайджесты, поверхностно, не вникаю в детали.
Мне это глубоко неинтересно. Мне конечно бы хотелось
верить всему, но уже лет как 10 я просто не могу себе
этого позволить. Мне живётся от этого тяжелее конечно, ведь
теперь я не верю ни новостям, ни искренности известных
личностей, ни мнениям «комментаторов» под полит,
новостями или резонансными интервью.
-198-
— Если бы ты одновременно наткнулся на две
вакансии: а. προ-государственную, «патриотическую» фабрику
троллей и б. её антипода — антигосударственную,
«антипатриотическую» фабрику троллей, какую бы из вакансий
ты выбрал и почему?
— Сегодня я бы не пошёл туда точно. Так как и те
другие были бы точно под руководством людей +/- из одного
лагеря. А так же ты ничего не изменишь этой фабрикой.
Людьми всё равно нужно как-то управлять. И ими будут
как-то и кто-то управлять. Мне бы хотелось верить, что
у нас в стране всё будет со временем лучше и лучше, но
пока что так не кажется.:))))) Но это не так важно для меня,
я стараюсь выжить здесь и сейчас, стараюсь просто
насладиться моментом, а не вечно «жить будущим», ожидая
пока так что-то изменится. Я меняюсь сам. Я не верю ни
в про-гос[ударственничест]во, ни в оппозицию.
— Опасался ли ты, что эта работа тебя морально
коррумпирует? Или, что она испортит твой стиль (как сказал
Хемингуэй, объясняя своё нежелание читать Маркса)?
— Уже поздно, я уже попорчен. Что во мне
изменилось — читай выше. Я стал брезглив к новостям, с
раздражением думаю о политике в целом и/или каких-то
отдельных новостях. Любые инициативы от государства часто
вызывают смех, стыд и печаль. Да, несомненно, пока я тут
живу, я благодарен этой стране за всё, что получил и не
получил. Но это не значит, что я обязан свято верить в чьи-
то там идеалы и морали и тому подобное. Я испорчен
ложью по сути, которую сам создавал по заказу. Врущий
всегда становится подозрителен и сам, и ко всему. Кто там
написал про теорию лжи?!..:))))
— Представляет ли собой чужое мнение,
высказываемое от первого лица как своё, философскую проблему?
— Не понимаю вопроса. Но я думаю да. Потому что уж
какую-какую проблему, а вот философскую можно найти
почти везде. :)))) Я понимаю «философское» уже давно
-199"
как два вопроса: зачем и почему. :)) В целом, я не очень
хорошо учился на философском и скажу сразу, что мне
лично сложно углубляться в дебри всего этого. Но думаю
да, представляет. Человек, высказывающий чужое
мнение от себя, так или иначе, меняется сам в реале. По-
настоящему. И тут важно — не чужое мнение (ну как бы
да, фактически чужое, но в буквально смысле), а мнение
персонажей (троллей). Это важное разделение. «Чужое»
здесь скорее — направление мнений. А-ля — ругаем Оба-
му, ругаем медицинское страхование, ругаем белых
полицейских и тому подобное. А уж как ты там это
сделаешь — все следят относительно поверхностно. Смотрят
по реакциям, лайкам, ответам других и тому подобному.
Возражения
Наталья Артёменко
Философ — сейсмограф
Никогда не бывало такого времени,
чтобы благодаря самому себе я был
убеждён в том, что в самом деле
вижу. Все вещи вокруг я представляю
себе настолько хрупко, что мне
всегда кажется, будто они жили
когда-то, а теперь уходят в
небытие. Всегда, дорогой сударь, я
испытываю мучительное желание
увидеть вещи такими, какими они,
наверно, видятся, прежде чем
показать себя мне. Они тогда, наверно,
прекрасны и спокойны. Так должно
быть, ибо я часто слышу, что люди
говорят о них в этом смысле.
Ф. Кафка Описание одной борьбы
Вы уверены, что вы не спите? Вы уверены, что то, что
вы мыслите, мыслите именно вы, а не кто-то за вас?
Вы знаете, что мир как действительность всегда уже здесь,
но что представляет собой это ваше знание?
Георгий Чернавин последовательно шаг за шагом на
страницах своей книги раскачивает лодку нашего здравого
смысла, расшатывает наше сознание, уверенное в своей
непоколебимой целостности и однажды обретённой идентич-
— 203 ~
ности. Как пробудиться от догматического сна и
сомнамбулической уверенности в существовании мира как он есть?
Борьба со сном сознания, в который человеку свойственно
впадать, становится своеобразной задачей философа, его
настоящим призванием, ибо сон разума, как мы помним,
рождает чудовищ, но Георгий продолжает этот ряд —
платных троллей, встроенные мнения, недобросовестную веру.
Но как порвать дурную бесконечность и научиться мыслить
независимо — независимо от человеческой всегда-уже-во-
влечённости в мир? Если мы все уже давно вляпались, то
как прервать этот сон мира, в который погружены живые
существа? И возможно ли?.. «"Пробуждение от
догматического сна" оказывается не однократным биографическим
событием, а каждый день возобновляемым усилием: чтобы
развернуть любую философскую проблему, нужно всякий
раз провоцировать разрыв плена вовлечённости. [...] Я бы
хотел подчеркнуть здесь пульсирование догматического
сна: удивительное противоборство догматического сна
с разрывами, полуосознанного сна. Внутри кантовского
выражения, описывающего влияние Юма, внутри ленинского
клише о цепной реакции пробуждения, внутри гуссерлев-
ских по принципу матрёшки вложенных друг в друга миров,
внутри вживания в мир можно мыслить сомнамбулически,
блуждать и застревать, но можно вшить и "встроенный на-
поминатель", который сделает для нас возможным
удивительное противоборство догматического сна с разрывами,
полуосознанного сна. Философствование — это постоянная
сборка такого встроенного напоминателя»83.
Казалось бы, автор следует протоптанными тропами,
предлагая нам старую технику себя, заботы о себе как
пробуждения себя к себе, испытанную на новый лад.
В этом шаге от себя к себе мы обнаруживаем себя
парящими над бездной, впрочем, мы всегда над ней, но каждый
раз избегаем встречи с тем, что уже есть.
Перед нами разворачивается трагическая история
современного субъекта, которого оккупируют платные
— 204 —
тролли, захватывают встроенные мнения, у которого
собственное мнение может не совпадать с мнением,
высказанным им от первого лица, который уже давно и
основательно влип в напущенные суждения и забыл, а, может
быть, никогда и не знал, как из них «вылипать». Каков
статус этого мерцающего субъекта? Он пассивен? Он
анонимен? Его захватывают, его отпускают... а «где» при этом
он сам? И как мы можем сейчас помыслить старое
сократовское самое само (αυτό το αυτό)? До того, как Алкивиад
«обратился» на себя, его как, собственно, «себя» и не
было. Обращение на «себя», по сути дела, впервые образует
«себя» как имение места, как притяжательное
местоимение8*, потому что «собой» является только тот, кто уже
обратился на себя и как бы смотрит на себя самого с
некоторого расстояния. Вот эта самая дистанция от «себя»,
возникающая в результате обращения как
самодистанцирования, и делает впервые «собой». В этом случае
результатом «обращения на себя» оказывается именно знание,
причем знание истинное, то, о котором говорится в мифе
о пещере (VII книга «Государства»), так как обращенный
взгляд научается видеть сущности, видеть «вещи такими,
какими они, наверно, видятся, прежде чем показать себя»
(Кафка). Зрячему, так обращенному на самое само уму,
открывается мир сущностей.
Все эти сюжеты нам хорошо известны. Следуя старой
стоической подозрительности к самому себе, Декарт
призывает нас открыть неведомое мне моё я (nesquio quid
mei) — так возникает главный персонаж новоевропейской
метафизики, незаинтересованный сторонний наблюдатель
всего и вся, — трансцендентальный субъект, который есть
само сторонение, сам принцип взгляда со стороны. С какой
стороны? Ответ нам, казалось бы, так же известен: со
стороны никакой, и в этом смысле всеобщей, совершенно
пустой в своей всеобщности, то есть со стороны совокупного
человеческого разума. Феноменология продолжает эту
линию техники «вылипания» из себя. Макс Шелер пишет, что
— 205 —
феноменология — это имя, обозначающее установку
духовного видения, при котором человек получает
возможность видеть и переживать нечто, что без такой установки
остается скрытым: «именно царство "фактов" особого
рода». Что же это за царство такое? «Существует опыт,
предметы которого остаются для "рассудка" совершенно
недоступными; для которых он так же слеп, как ухо и слух—для
красок. Но такой род опыта делает доступными нам
подлинные объективные предметы»85. Философия,
понимаемая как философствование — это постоянная сборка
«себя», обращение на самое само, открытие — снова и снова,
раз за разом — неведомого мне моего я, практика видения,
или «сборка встроенного напоминателя». О чем мне
напоминает этот «напоминатель»? О том, что решив
воздерживаться от всех суждений, принятых на веру, я действую как
философ, но продолжаю жить как человек, и в этой второй
своей ипостаси я продолжаю жить в мире, как он
действительно есть здесь, но для меня (как философа) странном,
поскольку моя родина (философская) — в другом месте,
всегда не здесь. Оказаться
странным/сторонящимся/странником решительным всему—аналог феноменологической
установки («Феноменолог обнаруживает себя в положении
инопланетного гостя, наблюдающего за земными
традициями»86). Феноменолог, как когда-то Декарт, или Сократ,
вводит нас в сомнение, ставит собеседника в положение
человека, пребывающего в сомнении, заставляет опознать
себя сомневающимся. Это, как можно полагать вслед за
Фуко, упражнение в мышлении, μελέτη, meditatio —
«мысленное упражнение», позволяющее добиться того же, чего
добивался Сократ от Алкивиада, — умения взглянуть на
себя самого со стороны, чтобы опознать самое само. Но что
нам делать в тот момент, когда мы «вспомнили себя»,
испытав шок узнавания? Ответ Георгия: идти до конца.
(Замечание № 1: Если следовать жанру, более свойственному
социальным сетям, то можно спросить себя: чего мне не
хватило в тексте книги? — Тематизации этой прекрасной
— 206 —
романтической фигуры «идти до конца». При этом мы
понимаем, что автор, вообще-то, не автомат с газированной
водой, опустил в него три копейки, и оттуда льётся, журчит
успокаивающая речь. Гарантий, как известно, никто нам
дать не может, тогда стоит ли ждать эти простейшие
фокусы?) И когда я разуверенье совершу до конца, сам труд
мысли окажется нравственен: отсутствие «моральной
тошноты» есть признак того, что «меня» нет, а «если "меня" нет,
то всё дозволено»87.
• * *
По сути, у Георгия речь идёт об описании нашего
повседневного опыта — нестабильного, в какой-то своей
значимой части анонимного... Я (H.A.) помню своё
первое серьёзное удивление в детстве, когда родители в
определённых случаях настаивали на том, что «все так
делают», или «никто так не ведёт себя». Самым загадочным
для меня в тот момент было переживание полного
отсутствия понимания того, кто эти «все» или эти «никто»,
которые всегда ведут или не ведут себя каким-то
таинственно правильным образом, подавая мне пример, который
я всё никак не могу рассмотреть. Вместо того, чтобы
уточнить, а как же надо себя вести, чтобы быть как все, я
доводила родителей до исступления, из раза в раз
спрашивая, кто эти все, где они живут? Родители искренне
полагали, что я просто издеваюсь над ними, тогда как
меня в тот момент буквально завораживал (а порой и
снился в мучительно-бессюжетных снах) этот паноптикум —
взгляд отовсюду и ни от куда конкретно—предписывающий
мне вести себя как «все». Ребёнок, только появившийся
на свет, и которому ещё предстоит пройти конституиро-
вание себя как Я, уже оказывается включённым в
субъективность, более того, ещё до его рождения ему уже
предпосылаются ожидания, предписания и так далее. Гуссерль
говорит о трансцендентальной субъективности
(бесконечном прото-потоке переживаний88), что она протекает
— 207 —
и до нашего рождения и не заканчивается с нашей
смертью, при том, что индивидуальное Я — конечно и
задаётся «рождением» и «смертью»: «как мы имеем право
полагать, рождение является началом жизни (жизни
сознания), которая, однако, должна иметь [своё] до (ein
Vorher), более раннее время, которое, правда, остаётся
неизвестным существующему от рождения человеку, не
узнанным, не вспомненным. Аналогичное [значимо и]
для смерти»89. Трансцендентальная субъективность,
являясь для индивидуального Я лишь пред-бытием, в то же
время обнаруживается как условие возможности его
«пробуждения»: «Но "бытие" Я в не-временности
означает, что "начало" уже предполагает Я как <то>, что может
быть пробуждено к временной жизни»90. Если ребёнок
ещё помнит это пробуждение из трансцендентальной
субъективности, то ставшее, конституированное Я
забывает о нём, и погружаясь в сомнамбулический сон, мнит
себя собой, а мир — действительностью, которая всегда
уже здесь.
Опыт «пробуждения» из догматического сна
описывается Георгием как диалектика «влипания-вылипания/от-
липания». Кажется, речь идёт о своеобразной гигиене ума,
понятой феноменологически. Как может позаботиться
о себе «субъект» в современном мире с навязанным
ментальным автоматизмом и традиционными ценностями,
окружённый платными троллями, ботами и роботами?
Кажется, лучшая тактика — это ускользание, пройти этот
мир по касательной, не будучи им сильно затронутым,
чтобы не утонуть91.
Философ — сейсмограф — чутко улавливает
эпохальные колебания, модификации образа ума. Философия
продолжает испытывать ум, исходя из самого ума,
и в этот «ум» Георгий предлагает «вживить» «встроенный
напоминатель», призванный периодически вызволять нас
из сна, пробуждать к трансцендентальной жизни, из
которой мы все «вышли».
-208-
• * *
На протяжении второй половины XX века
фундаментальное представление о цельной, завершённой и равной
самой себе в каждый момент времени личности, как
известно, подвергается сомнению. Проблематичной
оказывается сама возможность индивидуального высказывания
личности: коль скоро она постоянно ускользает сама от
себя, разрушается представление о возможности слова,
которое будет в каждый момент времени «подлинным»,
аутентичным. Д. А. Пригов описывает новаторство избранного
им творческого метода следующим образом: «Я являю
некий новый тип технологии сознания»92. Желаемая
«цельность» не столько отыскивается, сколько конструируется:
сконструирована «новая цельность» должна быть таким
образом, чтобы позволять субъекту иметь «возможность быть
единым, но и разнообразным»93. Идентичность
конституируется в рамках мерцания сложным образом: любое «Я»
представлено как «не-Я», но и любое «не-Я» представлено
глазами «Я». Субъект («Я») «влипает» в «чужое Я», «чужой»
опыт, рассмотреть который можно только глазами «Я»,
конструирует, познавая, «объект» и «субъект» познания и — на
определённой точке, становясь (S')> — «вылипает» из этой
идентичности, показывая условность и релятивность
каждой из них, включая свою собственную. «Искренность»
высказывания возможна только в пространстве постоянной
трансгрессии, в диалектике ipse и idem (П. Рикёр).
(«Гуссерль феноменологической установки "пробуждается" от
естественной установки и одновременно продолжает жить
в естественной установке. "Пробуждение" внутри
бодрствующей жизни — не в параллельный мир, а в рамках мира,
в который мы уже вжились: здесь перед нами
'Удивительное противоборство", взаимное проникновения двух видов
бодрствования»94).
В этой стратегии постоянной трансгрессии Георгию
видится инструмент сопротивления идеологической
ангажированности мышления. «Что феноменолог— [...] мо-
— 209 —
жет сделать перед лицом идеологии? [...] Я предлагаю
увидеть подрывную силу феноменологии в способности
подвешивать самопонятности, предданные смыслообра-
зования. Открытым остаётся вопрос: что нам поможет
различать предданности и квази-предданности? Охота на
встраиваемые и встроенные мнения* — первый шаг
в этом направлении»95.
Идеологически ангажированными предстают перед
нами и так называемые традиционные ценности. Например,
любовь к Пушкину (Пушкин — это «наше всё»96) —
древняя сакральная загадка, которая требует не
размышлений, а знания единственно верного ответа, призванная
отделить «своего» — «ведающего» — от чужака, вспомним
«Заповедник» Довлатова:
«— Пушкин — наша гордость! — выговорила она. —
Это не только великий поэт, но и великий гражданин...»97
Пушкин, став такой «встроенной ценностью»,
аккумулирует символический потенциал идеологии, перед
которым у субъекта формируется комплекс ответственности:
если что-то неприглядное увидит «наше всё», это и
страшно, и стыдно одновременно:
«— вот засранец! — неожиданно произнесла Галина.
И через минуту: — Как хорошо, что Пушкин этого не
видит»98.
Пушкин, или те самые «все», которые ведут себя всегда
правильно (из воспитательной установки родителей),
задают стратегию «матричного сознания», которое может
располагать мнениями, знаниями, и даже воспоминаниями
так, как если бы они были действительно «моими». Историк
Александр Филюшкин обращает внимание на метод oral
history из той же, казалось бы, проблемы распознавания
«встроенного мнения»: «Перед исследователем также
встаёт проблема так называемых "матричных текстов" — когда
респондент выдает за своё мнение, переживание или
личное свидетельство стандартный, чуть ли не официальный
текст, который он усвоил и считает собственным мнением.
— 210 —
Эффект от использования подобных матричных текстов
иногда бывает просто поразительным — учёные доказали,
что часть мемуаров об истории революции и гражданской
войны на самом деле основана на поздних художественных
фильмах (например, "Чапаев", "Ленин в Октябре"). При
этом подмена в сознании авторов воспоминаний своих
личных впечатлений чужим и малодостоверным "матричным
текстом" произошла так давно, что респондент не всегда
в состоянии осознать, что просто транслирует когда-то
навязанную ему извне точку зрения»99.
Самым трудным для идеологически ангажированного
«сознания» («начальства») является оборот молчания (ср.
у Малларме — метафизический крик, энергия немого
крика), ибо оно («начальство», «все», «большинство»,
«идеология») управляет с помощью принуждения к
высказыванию. Если не давать ему в руки весла вынужденного
высказывания, то оно бессильно. Кажется, здесь
феноменология может быть полезна как тактика партизанского
дела. Молчать сложно лишь одним — эмоциональным
напряжением, которое вызывает молчание как
непротивление, поэтому необходимы практики отстранения и де-
субъективизации. Если они отработаны, то можно ходить
сухим, в Гераклитовском смысле. (Замечание № 2:
Георгий не уделяет внимания этой фигуре немого крика как
тактике сопротивления «злу» встраивающихся мнений
«насилием» до предела доведённой, выспоренной до
эпатажа индивидуальностью аутичной речи. А мне здесь
видится аутичный (условно) мальчик, голая душа на ножках.
Только в отличие от него, мы как-то научились одеваться.
И непонятно, достоинство это или недостаток).
it it it
Текст книги представляет собой «вероятностное
произведение», которое может или не может состояться, будет
понято так или иначе. Георгий мыслит графически,
сознательно преобразует свои ходы мысли, метафорику
— 211 —
в графическое написание букв, слов, фраз курсивом
и с астериском*, вводя и другие специальные способы
написания: надстрочноеиндекс, подстрочноеподтекст, зачёркнутое
и ддв0оояящ еееессяя. Пробелы и пустоты внутри текста —
это место читателя, пространство его возможного
виртуального присутствия.
В обычном состоянии человек выражает себя через
правильно артикулируемые слова, выстраивающиеся в
определённом порядке. Но назвать предмет — значит на три
четверти разрушить наслаждение, заключающееся в
постепенном и неспешном его угадывании, его проступании
сквозь завесу реального. Постоянно меняющаяся граница
напряжения проходит между невозможностью прямой
неразрывной артикуляции смысла и энергией молчания. Эту
границу блестяще демонстрирует поэзия Малларме,
которая во многом определила вектор развития философии
и искусства XX века в направлении использования приема
молчания. Малларме превращает этот приём в смысл,
сопротивляясь таким образом заведомо известному смыслу
немотой. «Тайный план» Малларме, стремящегося к
созданию нового «чистого» языка, состоял в том, чтобы избегать
реального, которое всегда захватывает и подчиняет.
«Тайный план» Г. Чернавина, кажется, состоит в том,
чтобы остановить карусель «правильного» языка,
правильность которого невозможно ни доказать, ни
проверить. «Нельзя быть уверенным, что каждая следующая
фраза не окажется рассадником "встроенных" мнений, га-
допятикной* или папулой*»100. (Замечание № 3: «нельзя
быть уверенным» — фраза, безусловно, правильная, но
провоцирующая не рефлексию, как хотел бы автор*,
а монтаж эмоций, хотя и драматургически обеспеченный.
Как противостоять, например, фейку? Можно действие
противопоставить действию, а что можно
противопоставить фейку? Возможно ли Царствие Земное?..)
Санкт-Петербург, июнь 2020
Михаил Белоусов
Сомнение тролля и гипотеза бота-обманщика
Мир как действительность всегда уже здесь — это
доказано, проверено, бесспорно и несомненно, скрыто
завесой, глубоко спрятано, невидимо, недоступно. Как и в
«Непонятности само собой разумеющегося», Георгий
Чернавин раскрывает феноменологию как стратегию
философской работы с «самопонятностями», самой
«массивной» из которых является генеральная линия
«генеральный тезис» естественной установки. Проблемная
перспектива книги задана понятием «встроенного
мнения» — мнения, высказываемого от первого лица, но
в действительности* лишённого носителя и
пропустившего становление. Осмысление генеральского тезиса
«бесплатного тролля» (мир как действительность всегда
уже есть) осуществляется Г.И. Чернавиным не столько
в рамках «глобального» гуссерлевского эпохэ, сколько
посредством остранения локальных, солдатских тезисов
платных троллей, образцово воплощающих структуру
встроенного мнения, то есть делающих её видимой.
Но где опасность, там и спасительное — платный тролль
обнаруживает двойственность встроенного мнения
(«естественной установки», чистого воспроизведения
готовых мнений) и феноменологического остранения («от-
встроения»), ибо он присутствует в своих мнениях «не
всем сердцем», или, во всяком случае, статус его вовлечён-
— 213 —
ности в них остается проблематичным. Причудливая
аналогия между биением сердца платного тролля и
пульсированием установок в опыте феноменолога, который не
всем сердцем присутствует в мире, поскольку он слишком
близко принимает к сердцу то, что имеют в виду люди,
говоря «вот он мир», образует, по-видимому, одну из
главных интриг книги. Тролль спасёт мир или, напротив,
погубит его?
Свои соображения по поводу книги я разделю на три
рубрики: 1) историко-философские замечания 2)
критические соображения 3) комментарий бесплатного тролля,
выполняющего техзадание здравого смысла.
Историко-философские замечания
На мой взгляд, небесполезно обратить внимание на
неточность используемого в книге перевода гуссерлевского
«генерального тезиса» "die" Welt ah Wirklichkeit ist immer da
«мир как действительность всегда уже здесь» (Husserl,
1976,118). В действительности* последних двух слов —
«уже здесь» — в формулировке «генерального тезиса» нет.
«Ist immer da» означает просто «всегда есть» или «всегда
существует». «Мир как действительность всегда
существует» — без «уже» и «здесь». Возможно, используемый
автором перевод, как и перевод Александра Викторовича
Михайлова («мир как действительность — он всегда тут»
(Гуссерль, 2009, 95) призван сгладить
пробуксовывающую тавтологичность («действительность есть»,
«действительность существует») генерального тезиса. Слово
«здесь» является обрывком выражений «существование
здесь» и «сущая здесь», в большинстве случаев
используемых A.B. Михайловым для передачи гуссерлевских Dasein
и daseiende (применительно к «действительности»,
Wirklichkeit). В переводе A.B. Михайлова использование
слова «здесь» является, вероятно, попыткой установить
перекличку с «Бытием и временем» (A.B. Михайлов пере-
-214-
водил Dasein как «здесь-бытие»). Это — едва ли удачное
решение, поскольку в Идеях, в отличие от Бытия и
времени, Dasein не является термином и означает всего лишь
«существование». Что касается первого предположения,
то, конечно, ich bin da обычно означает «я здесь», а не «я
существую», но die Welt ist da едва ли может означать «мир
здесь» (а не где-то ещё), тогда как какой-либо намек на
«уже» в гуссерлевской формулировке вообще отсутствует.
Правда, перевод «мир как действительность всегда уже
здесь» гораздо лучше соответствует духу и замыслу книги,
поскольку раскрывает исходную «встроенность» пра-
мнения о существовании мира во все «нормальные
мнения», делающую их «носителя» бесплатным троллем
реальности (впрочем, в отличие от платного тролля,
бесплатный не знает о том, что он — тролль, и, как
следствие, не имеет свободного времени, которое он мог бы
отличить от рабочего дня). В свете замечаний коллег и
ответов Георгия следует также отметить здесь, что
приостановка «генерального тезиса» в Идеях влечёт за собой
выключение всех «нормальных» (трансцендентных)
эйдетических дисциплин, включая математику и
формальную логику (см. § 59-60 Идей), так что в этом
отношении «истины разума» не имеют для Гуссерля никаких
привилегий перед самыми обыденными мнениями.
«Всегда существующий» мир остаётся фоном (фонкой)
идеализирующих установок. И всё же «всегда уже» — это хайдег-
геровское «immer schon», а не гуссерлевское «ist immer
da». Приняв правильный перевод*, мы обнаружим*, что
мир изменился.
Другой значимый историко-философский сюжет,
обретающий, видимо, несколько смещённый смысл (что,
впрочем, является сознательной установкой автора)
в контексте феноменологии «бота-обманщика» (бота-
обтапщика) — это гуссерлевское понятие «Ничьё
мышление» (Niemandes Denken). В свете развиваемых в книге
интуиции «ничьё мышление» предстает как механическое
-215-
воспроизведение готовых, анонимных мнений, в котором
Я задним числом полагается в качестве «носителя» (на
самом деле* мнение никем не мнится, или мнится никем, но
ему успешно удается выдать себя за мнение, за которым
кто-то стоит). Значимого предшественника этой мысли
Г.И. Чернавин усматривает в Лихтенберге. Однако
контекст, в котором Гуссерль использует понятие «ничьего
мышления», несколько иной — речь идёт о
феноменологическом исключении (редукции) самого Я, поскольку
оно в принципе не может быть дано в строгом смысле
слова (является трансцендентным, если выражать эту мысль
на «иссушающем языке» Гуссерля). Поэтому Я останется
всего лишь подразумеваемым не только в мнении, но
и в мысли, случись ему* таковую иметь: «...мы
выключаем трансцендентное полагание Я и держимся
абсолютного, сознания в чистом смысле» (Husserl [1907] 1973, 41).
Иначе говоря, в ранней версии редукции Я разделяет свою
судьбу с миром. «Ничьё мышление» находится, таким
образом, по ту сторону различий своё/чужое и анонимное/
собственное, поскольку сами эти различия
приостанавливаются феноменологией — она удерживает лишь чистый
поток сознания без всякого носителя («сознание, —
утверждает Гуссерль, — не нуждается в носителе» Husserl
[1907] 1973, 40). Предшественник этой мысли — скорее
Юм, нежели Лихтенберг (не исключено, что и сам Лихтен-
берг ориентировался здесь на Юма). От превращения
Я в фикцию воображения, возникающую из привычного
соединения восприятий (Юм 1996, 297-300), внутренняя
темнота зажглась: в мышлении «сверкает» (blitzt) и
«громыхает», но никто, собственно, не мыслит.
Говоря о нацизме Хайдеггера — ещё один
захватывающий историко-философский сюжет — автор молчаливо
предполагает, что за понятием «народа» стоит лишь «вли-
пание» философа в кошмарный сон нацисткой идеологии,
в то время как «экзистенциальная аналитика Dasein» и
тексты до 1933 года были, прежде всего, опытом проблемати-
-216-
зации «само собой разумеющегося». Я далёк от мысли, что
цитируемые в книге пассажи о народе, государстве и
фюрере, равно как и забота главы университета, раскрывают
истинное лицо Хайдеггера как мыслителя, но необходимо
отметить, что понятие народа появляется уже в «Бытии
и времени». Вот характерная цитата из § 74: «Но если
судьбоносное Dasein как бытие-в-мире сущностно экзистирует
в событии-с-другими (Mitsein mit Anderen), его событие
(Geschehen) есть событие (Mitgeschehen) и
определяется как исторический путь (Geschick). Так мы обозначаем
событие общности (Gemeinschaft), народа (des Volkes)
(курсив мой — М.Б.). Исторический путь не составляется
из отдельных судеб, равно как бытие-друг-с-другом
(Miteinandersein) не может быть понято как совместное
наличие (Zusammenvorkommen) многих субъектов.
В бытии-друг-с-другом в одном и том же мире и в
решимости для определённых возможностей судьбы уже заранее
ведомы (im vorhinein schon geleitet). В общении (Mitteilung)
и борьбе (Kampf) власть (Macht) исторического пути
впервые становится свободной. Судьбоносный исторический
путь Dasein в своем "поколении" и с ним создаёт полное,
собственное событие Dasein» (Хайдеггер, 1997 384-385;
Heidegger 2001,384-385)101.
Я не берусь судить, обусловлено ли появление
определенного артикля в слове народ в процитированном
отрывке чисто грамматическими обстоятельствами, или же
речь идёт о народе «по преимуществу». Однако смысловые
связи близки тем, что обнаруживаются в цитируемых
Георгием отрывках из семинаров и лекций 1934 года. Для
бытия Dasein конститутивно историческое (историчное)
бытие-с-другими (Mitsein). Dasein — это мы. А кто мы
такие? Народ. Во всяком случае, мы — народ, если речь идёт
о «подлинном» бытии с другими (правда, это одно из
редких мест в Бытии и времени, где возможность
«подлинности» бытия-с-другими вообще упоминается). Тогда das
Man — это то же бытие, но только в модусе неподлинно-
-217-
сти, то есть забвения народа и собственной историчности.
Мотив «всегда уже» (immer schon) обыгрывается как «уже
заранее» (im vorhinein schon), каковым ведомы (geleitet,
но ещё не geführt) «индивидуальные» судьбы. Dasein как
бытие с другими «всегда уже» («уже заранее»)
принадлежит народу. В нигилистическом наступлении Гитлера на
политическую общность Хайдеггер мог усмотреть
«подлинное» будущее в смысле «понимающего возвращения»
в фактичность «народа». Это пребывание в народе (хотя
наверняка здесь не обошлось без «смыслового смещения»
или даже «перелома») есть та волшебная сила, которая
обращает белый мел в чёрные тетради и популяризует
вопрос о бытии.
Критические соображения
Книга Георгия Чернавина является впечатляющим
свидетельством тотальности отчуждения человека в
современном мире. Платные тролли «сдают свои я внаём»
напускным мнениям, мы* сдаём своё «я» внаём, поскольку
полагаем существование Я, стоящего за мнениями, и даже
вступая с ними в спор, становимся лишь разносчиками их
спор — распространителями спорных мнений. Социальные
маски, забота о дистанции, руки в хлопчатобумажных
перчатках фабрики №8 оказываются движущими силами
пандемии анонимности. Но даже снятие маски и возвращение
домой, к «нормальным» мнениям не раскрывает, согласно
автору, моего «истинного лица», поскольку за
ботом-обманщиком скрывается лишь «Бог-обманщик», то есть
основное, руководящее мнение «мир есть», которому каждый
всегда уже сдал себя внаём. Само различие лица и маски
становится здесь проблематичным: обнаруживающаяся
уже у платного тролля неразличимость заданного и
собственного мнения (с. 11) становится абсолютной в
нормальных мнениях бесплатного тролля, так как фабрика
троллей полностью совпадает с действительным миром*.
— 218 —
Однако возможность этого совпадения достойна
вопроса. Согласно С. Луфту (Luft 1998, VII), «естественная
установка есть изначальная и анонимная пассивность,
или пассивная вера в "факт", что никто не полагал её как
тезис, как могло бы заставить думать несколько
некорректное выражение "генеральный тезис"». Не
оборачивается ли приравнивание «генерального тезиса» к
«встроенному мнению» воспроизведением основной «интуиции»
естественной установки? Естественную установку никто
никогда не занимал, никто не полагал — это она занимает
меня. Но это полагание отсутствия полагания, эта вера
в то, что никакой веры нет и никогда не было и есть
естественная установка. Вера в мир абсолютна потому, что
полагает отсутствие основателя и последователей. На сей
раз мнению удалось убедить меня в том, что его никто не
мнит и что, в некотором смысле, нет никакого мнения.
Вера в мир молчалива, она отрекается от себя и отрицает
себя как тезис. Она является диковинной*: я верю в мир, но
не верю, что верю, и что кто-либо верит, хотя я также не
верю, что не верю. Она скрыто готовит себя к эпохэ на
жирно намыленном снурке. Но не пытается ли Гуссерль,
как и автор книги, раскрыть естественную установку как
генеральный тезис, веру и смысловое предвосхищение?
Не возникает ли здесь проблема ответственности за
«встроенное пра-мнение» и «реактивации» скрытого в нем
притязания как такового несмотря на то, что вопрос об
«авторе» первичного учреждения (первичного заведения)
мира, равно как и корректность этого вопроса, остаётся
загадкой? Уже простое проговаривание веры в мир
полагает её как установку, и, таким образом, изменяет смысл
веры без кавычек, астерисков и курсива. Поэтому
«генеральный тезис» — это «несколько некорректное
выражение», в факте высказывания уже содержатся первичные
«кавычки» и остранение исходного смысла* веры в мир
(изначально молчаливого генерального тезиса*). Я верю
в существование мира, мир как действительность всегда
— 219 —
есть — это звучит странно для здравого смысла, и
странно, что это звучит, сколь бы ни был он готов согласиться
с подобными тривиальностями. Будучи выражена,
самопонятность, образующая «сущность» здравого смысла,
сливается, вплоть до неразличимости, с бредом
сумасшедшего. I look at my belief in disbelief. «Мир есть»,
«дерево есть» — но не спешите вызывать психиатрическую
помощь, ведь перед вами — не сумасшедший, а просто
философ. Помешательство должно быть совершенно и
настойчиво отвергнуто. Пра-мнение, высказанное от
первого лица, может не совпадать с моим мнением, но оно
также может не совпадать с самим собой, становиться
пародией на себя. Доксический вирус, размножаясь в
языке и призрачной субъективности, претерпевает
постоянную мутацию. Естественный и феноменологический опыт
«веры», как они описаны в книге, меняются здесь
местами. Естественно полагать, что за пра-мнением никто не
стоит, что у него «темно внутри» — с «естественной»
точки зрения, именно внутренняя темнота веры в мир делает
её столь абсолютной, что её уже нельзя считать всего лишь
верой или мнением. Напротив, для феноменолога пра-
мнение становится лишь предвосхищающим полаганием
и верой, за которую я несу ответственность, даже если
(или поскольку) я в неё «заброшен», и, быть может, даже
если меня нет.
Последнее предположение затрагивает другую важную
тему книги — статус Я. В предыдущей книге Г.И. Чернави-
на Я рассматривалось, главным образом, как одна из
«больших самопонятностей» (наряду со здравым смыслом
и существованием мира). В «Мнении тролля», напротив,
обнаруживается экзистенциальная обеспокоенность
автора отсутствием Я в «наведённых мнениях», которые
успешно убеждают «меня» в существовании «мнящего»,
но на самом деле* никем не мнятся. Попытка совместить
две эти перспективы порождает вопрос о том, о каком
Я идёт речь в новой книге. Бдва ли это может быть «само-
— 220 —
понятное» Я, ведь в таком случае оно само было бы одним
из «наведённых мнений» («я напускаю» на себя Л).
Правда, напускным мнениям удаётся задним числом выдать
себя за .мои*, или, по крайней мере, убедить меня* в
существовании некоторого Я, мнящего их, но это мнимое
самими мнениями Я не есть искомое. Если меня нет, то всё
дозволено, но если я есть, это ничего не меняет. Если
речь не идёт о самопонятном Я, каково другое Я, которое
не удаётся найти в «наведённых мнениях», но которое
как будто противопоставляется автором «внутренней
темноте» анонимности, и как возможно различение двух
этих Я? Что подразумевает выражение «моя внутренняя
работа» (с. 38), полностью отсутствующая, согласно
автору, в готовых мнениях? Ключ к ответу на эти вопросы,
вероятно, следует искать в различении «внутреннего
разговора» и «внутреннего монолога» (с. 59). Платоническая
метафора «внутреннего разговора», который душа ведёт
с самой собой, чтобы, определившись, составить мнение,
по-видимому, раскрывает суть «внутренней работы»,
конституирующей мнение как моё (если моё мнение
существует или может существовать). Противоположностью
«внутреннего разговора» оказывается «внутренний
монолог» или «внутренняя тишина», в которой мнение не
составляется, а всегда уже составлено (во внутреннем
монологе я говорю чужим голосом анонимного мнения).
В первом случае речь идёт о мнении как «остановке на
пути мышления», на пути внутреннего движения, во
втором — о череде остановок без движения (с. 38). Разговор
с самим собой, однако, предполагает внутреннее
раздвоение, учреждающее Я как таковое (идея, что Я
конституируется внутренним расколом, задолго до Фрейда и Лакана,
хотя и на совершенно другой манер, была обоснована
в немецком идеализме). Я — это его отличие от самого
себя: оно есть то, чем не является, и не есть то, чем является.
Тогда цельное, идентичное себе Я вообще не есть Я, но
лишь рупор встроенных мнений, задним числом полагаю-
— 221 —
щих своего носителя. Между мной и мной разверзлась
бездна внутреннего разговора — тварь ли я дрожащая,
или исходное право на веру в мир имею? Мы уже не
можем спорить с другими, имея худшего врага в самих себе
(Husserl 1993, 91). Любопытно, что Гуссерль в своей
попытке разделить смысловое и коммуникативное
измерение опыта обращается к примеру внутреннего разговора,
в котором нас укоряет наша совесть (Гуссерль 2011, 40).
Маскировать внутренний раскол — недобросовестно, но,
с другой стороны, не являются ли, в таком случае, не
только готовые, но и «мои собственные» мнения, являющиеся
остановками во внутреннем разговоре, и, следовательно,
моментами восстановления цельности Я,
недобросовестными по определению? Мнение — момент прекращения
колебаний внутреннего разговора, которым я являюсь, и,
тем самым, момент исчезновения Я в анонимности. Хотя
небезразлично, идёт ли речь о прекращении
(приостановке) колебаний или об исходно «непоколебимом» мнении,
и то, и другое оказываются лишь различными способами
«наведения». Если остановки на пути мышления всегда
являются «вымышленными» (Чернавин 2018, 6), то есть
являются неосуществимой претензией, выдающей себя за
обладание, моё мнение структурно совпадает с
недобросовестной верой. Различие двух Я и двух мнений
(«наведённых» и «моих», если таковые возможны) снова начинает
ускользать, и я возвращаюсь к исходной проблеме.
Результатом внутреннего разговора — моей добросовестной, но
тщетной попытки быть добросовестным — является,
видимо, только замена анонимного обмана (обмана das
Man) самообманом. Но не может ли приостановка
внутреннего диалога102 иметь также «позитивный» смысл?
Г.И. Чернавин предупреждает об опасности
«сомнамбулической уверенности», в которую в любой момент может
впасть философ. Из сна «естественной установки» можно
проснуться в сон «аподиктической очевидности» (с. 78).
Второй сон осознанней первого, но он не вырывает нас из
-222 -
дурной бесконечности «снов во снах». Это говорит о том,
что и философское «бодрствование» является
невыполнимым обещанием, которое может выдать себя за
действительное обладание. Бодрствование возможно лишь в снах,
но как сделать эту структуру зримой? Философская
проблема отличается от «естественной» (в том числе
научной) проблемы тем, что она сама проблематична,
причём, видимо, в двух смыслах: 1) она не разумеется сама
собой как проблема, так как является странной,
бессмысленной и ложной для здравого смысла 2) она неполна, то
есть не может совпасть с самой собой и, таким образом,
всегда наивна (содержит момент приостановки
«внутреннего разговора»). Иначе говоря, философская проблема
невозможна без самомаскировки. Эта проблема
учреждается непрозрачным посредником между ней и ней самой.
Полная проблематизация «самопонятного», не
заражённая наивностью, была бы тотальной депроблематизаци-
ей, сомнамбулической уверенностью. В пропасть также
можно «влипнуть», полностью провалившись в неё.
Проблематичность философской проблемы заключается
в том, что она наивно поставлена. Приостановка
внутреннего разговора, промежуточная точка, раскалывающая
единство мыслительного пути, приобретает
конститутивное значение для сохранения проблематичности. «Ответ»
на философский вопрос необходим не для того, чтобы
снять проблему, а для того, чтобы позволить ей
оставаться проблемой (он является чем-то вроде «реактивной
силы» для зависания над пропастью). Возможно, для этого
разуверение всегда «должно» совершаться «не вполне».
Философия не только ставит под вопрос «само собой
разумеющееся», но и сама поставлена им под вопрос, и, не
испытывая этот ответный удар, она не может состояться.
Поэтому она ничего не утверждает в привычном смысле,
а только показывает проблему Но проблема не может
быть дана и показана сама по себе (тогда бы она исчезла),
она возможна только как явление того, что принципиаль-
— 223 —
но ускользает, то есть как философская наивность,
одновременно высвечивающая и скрывающая проблемное
измерение. Наивность — это явное или скрытое
утверждение, философская наивность — это странное
утверждение. Как странное, оно раскрывает проблему, как
утверждение — скрывает её. Другими словами,
философская проблема конституируется её затемнением темой
философии. В философии, в отличие от науки и
повседневной жизни, исходная проблематичность переходит
в само утверждение, а не снимается в нём. Философ видит
собственные утверждения в двойной перспективе — как
философ и как носитель здравого смысла — и потому
переживает их странность. Поэтому он не верит
собственным утверждениям, но не потому, что считает их
ложными, а потому, что удивляется им. Однако он также
удивляется этому удивлению, то есть обыденной
установке, странность которой он раскрывает. Возможно, это
зигзагообразное движение взаимной проблематизации
и прояснения обыденной и философской точки зрения
уже есть «встроенный напоминатель» внутреннего
разговора, мучительный голос философской совести, который
переживет «трансцендентальную субъективность»,
конечную экзистенцию и даже «дыру в бытии». Он
отговаривает от философских утверждений как обычных
утверждений, полагающих существование чего-либо (например,
«трансцендентальной субъективности»). Он идёт «сверх»
философских утверждений и всё же только из них, ему
каждый раз удаётся пережить их, и всё же он может
жить* только в них. Он подобен паразиту, но с
«противоположным знаком», ибо противостоит «настоящим»
паразитам в виде «встроенных мнений» (с. 128), образуя
второе (одновременно моё и не моё) Я, конституирующее
«внутренний разговор», и, тем самым, первое Я.
«Питательная среда» этого червя беспокойства —
трансцендентальные иллюзии философского самообмана.
Трансцендентальная иллюзия как таковая — момент приостановки
— 224 —
философского «внутреннего разговора», но она также
является точкой прерывания (раздвоения) «догматического
сна», границей между двумя сновидениями
(естественным и философским). Застревание в трансцендентальной
иллюзии неизбежно, однако оно также есть условие
возможности «наследственной передачи» философского
беспокойства. Ограниченный смысл философского
утверждения как явление того, что принципиально ускользает
(проблемы), разрушается ускользающим «изнутри», а не
«извне». Философская вакцина содержит, хотя и в
нейтрализованном виде, вирус «сомнамбулической
уверенности». Прививка «трансцендентальной иллюзии» позволяет
совершить эпохэ не только в отношении бытия и небытия
мира, но и в отношении истины и лжи, понятых как нечто
непроблематичное. Философское беспокойство
существует в колебании между внутренним разговором и его
приостановкой.
Впрочем, в той оптике, в которой работает автор,
метафора «внутреннего» («внутренней разговор», «темно
внутри») остаётся весьма проблематичной*. Особенно это
касается Сартра, который видел принципиальное
открытие Гуссерля в понятии интенциональности,
позволяющем освободить философию от представлений о
«содержании сознания» и «внутренней жизни» (Сартр 2008,
177-180). Поскольку сознание есть сознание чего-то, «всё
находится вне нас, всё — даже мы сами: вне нас, в мире,
среди других» (Сартр 2008, 180). В «прозрачном как
чистый ветер» сознании уже не может происходить какая-
либо «внутренняя работа», ибо оно вообще лишено
внутреннего, вся его «работа» является внешней. Оно есть
бегство от себя к миру, чистая вовлечённость в мир и
обнаружение себя в мире (как чистый «прорыв» оно, однако,
не есть какая-либо вещь мира, но «дыра в бытии»).
Поскольку сознание — это его феноменализация в мире,
среди других и под их «взглядами», различие между
напускными и собственными чувствами, и, прежде всего,
— 225 —
напускными и собственными мнениями (вокруг которого
вращается текст Г.И. Чернавина) в сартровской оптике
может выглядеть как самообман «внутренней жизни»,
предполагающий самотождественность субъективности
во «влажной желудочной среде» по ту сторону мирской
реализации. В работе «Экзистенциализм — это гуманизм»
Сартр сочувственно цитирует А. Жида: «чувство, которое
изображают, и чувство, которое испытывают — почти
одно и то же» (Сартр 1946, 4). Речь идёт об избавлении от
призрака «внутреннего»: чувство совпадает с мирской фе-
номенализацией чувства в поступках, высказываниях
и тому подобном. Не так ли будет обстоять дело и с
мнением, пусть в «напускном мнении» и имитируется не некое
«содержание», а пропозициональная установка, «поза»
первого лица единственного числа? Не может ли
различие между «имитируемым» и «собственным» само
оказаться «встроенным мнением»?
За различением моей «внутренней работы» и
анонимности мирской вовлеченности стоит принципиальная
интуиция, связываемая автором с феноменологической
линией «Гуссерль-Финк-Ришир»: «тот, кто вынужден
вживаться в мир, в некотором смысле "не от мира сего"»
(с. 93). Однако встроенность «пра-мнения» в
«нормальную» бодрствующую жизнь (один из основных тезисов
книги) как будто говорит об обратном: мне нет нужды
вживаться в мир, потому что «вживание» всегда уже
совершилось без моего участия в прошлом, которое никогда
не было настоящим — скорее, я вынужден заботиться
о «выживании» из мира, учиться искусству умирать.
Исследовательская стратегия Г.И. Чернавина предполагает,
что нам нужно больше отчуждения, поскольку
отчуждения слишком много. Но, быть может, постоянное
убегание от себя к миру есть не только маскировка «дыры в
бытии», но и залог сущностного несовпадения меня с самим
собой, которое и есть сама эта «дыра». Возможно,
двусмысленность бегства, где «всё вне нас, даже мы сами» есть
— 226 —
самая странная и «завораживающая» их всех
экзистенциально-феноменологических загадок. Я не хочу быть тем,
кто я есть, оттого, что хочу быть тем, кто я есть. Я являюсь
собой только в той мере, в какой не могу быть собой, то
есть только являюсь собой. Заброшенность в анонимную
ситуацию оказывается тогда сущностной чертой
«разуверения» и выхода за пределы себя самого, которые
остаются недоступны с точки зрения чистой невовлечённости.
Я «всегда уже» заброшен в анонимное, или, по крайне
мере, «интерсубъективное» поле возможностей, одной из
которых является и философия. Моя заброшенность в
ситуацию не сообщает ей прозрачности «самопонятности», но,
напротив, делает в высшей степени проблематичной. Как
возможно эпохэ в ситуации и возможно ли эпохэ
ситуации? «Выбор, — пишет Сартр, — возможен в одном
направлении, но невозможно не выбирать. Я всегда могу
выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если
ничего не выбираю, тем самым я всё-таки выбираю»
(Сартр 1946, 6). Поэтому «я вынужден выбрать какую-то
позицию» (Там же), я вынужден «вживаться в мир» даже
несмотря на эпохэ. У невовлечённости тоже может быть
«тёмная сторона». Если я не занимаю позицию, то
позиция занимает меня, другими словами, попытка
уклониться от фактичности ситуации и порождает эффект
«встроенного мнения». Помещённые в конце книги интервью
раскрывают абсолютную, или, по крайней мере,
относительную политическую индифферентность платных
троллей как условие возможности их работы.
Комментарий бесплатного тролля
Оценивая сложившуюся ситуацию, мне кажется, надо
просто заменить шпульку на фонку. Показывая правую
руку, я не останавливаюсь на этом, как некоторые
феноменологи, и вывожу из сокрытости и левую — уверяю вас,
что после этого разуверение исчезнет, как исчезает лицо,
— 227 —
начертанное на прибрежном песке. Напрасно в нас
пытаются встроить мнение, будто мы не понимаем то,
относительно чего мы не знаем, что оно значит. Оттого вопрос
«Что такое действительность?» не сможет сбить меня
с панталыку, ведь достаточно лишь промурлыкать, что
действительность — это действительность, и это весь мой
ответ. В ответ на вопрос о бытии мира я могу спокойно
сдаться, подняв руки. Следовательно, фонку надо помуч-
марить, помурчмарить, помурчмирить и помурчманить.
На протяжений всей своей книги Георгий Чернавин
внушает нам, будто фонка всегда сломана, и что, скрывая
брак на нашей фабрике, мы поступаем недобросовестно.
Но нет никаких признаков этого — сломанное должно
быть сложным, а фонка абсолютно проста, она образует
субстанцию мира. Напротив, все признаки
недобросовестной веры, а, точнее, имитации разуверения, мы
обнаруживаем в том гадании на кофейной гуще, которую
автор выдаёт за философскую проблематизацию мира.
Разуверение в разуверении слишком велико, чтобы кто-
либо мог всерьёз его игнорировать, или, скорее, оно столь
абсолютно, что исходное разуверение невозможно.
Поэтому разуверение — это игра в разуверение. Мир есть — как
будто был кто-то, кто когда-либо так не считал! Даже
резко континентальные философы, под влиянием Гегеля
смешавшие философию с литературой, никогда не верили
в своё разуверение и знали о его чудовищной нелепости.
Но они стали проговаривать его от первого лица,
имитировать позу проблематизации. Эта имитация — всего
лишь забота об отличии от других, которая, как они сами
уверяют, является конститутивной чертой людей.
Что, если есть такая профессия — сомнения на себя
напускать? Заслуга Декарта заключалась не в нелепом и
смехотворном (как он сам признаёт в конце «Размышлений»)
сомнении, а в том, что он одним из первых понял, что никто
не прилетит, и мы можем спокойно идти планету делить.
Но недобросовестные философы стали злоупотреблять на-
— 228 —
пускным сомнением — они никогда не сомневались в
существовании мира и не собирались его доказывать, но они
хотели доказать своё существование миру. Колеблющаяся
партия напускного сомнения основала свою фабрику
троллей, на которой производились фантомные гравицапы.
Хотя она обрела многочисленных членов, имитировавших
веру в нелепые учения во имя хранения дистанции, отходы
деятельности ЦК КПНС безнадежно уступают даже чучхей-
скому реализму, ибо есть те, кто действительно верит в
последний, тогда как в абсолютный дух, трансцендентальную
субъективность, бытие и прочее никто в
действительности не верит, включая их создателей. Перевёрнутый мир
настолько нелеп, что поверить в него не сможет даже
угольщик. Однако недобросовестное разуверение циркулирует
среди немалого количества людей, проговаривающих его от
первого лица и создающих видимость, будто вообще есть
кто-то, кто когда-либо не считал самопонятным
существование мира, Я, других и так далее. Величайший парадокс
заключается в том, что, несмотря на существование
огромной и почтенной традиции недобросовестной
философии, этого не было и в помине, была лишь языковая
пустышка с эффектом плацебо. Перед нами — встроенное
разуверение. И всё же проговариваемый разрыв с «самопо-
нятностями» common sense создаёт приятное чувство
самостоятельности, способности к творчеству концептов и
сознательности. Не мне, но партии внимая, мудро признать,
что всё мерцает. Точно так же мерцает, конечно, и
партийная работа со свободным временем. Поэтому, с одной
стороны, существует рабочая философия или философия на
работе, а с другой — философия свободного времени, когда
с упоением мучмарят фонку, на всякий случай
оговариваясь, что делают это не всем сердцем.
Поскольку в рабочее время действительность — это
сами не знаете что, то, что нельзя полагать, феноменолог (во
всяком случае, тот, о котором идёт речь в книге) лишён
возможности высказываться в регистре истинности, он дол-
— 229 —
жен троллить любые высказывания, включая собственные.
В противном случае он бы полагал «нечто» или «ничто»,
пусть и «по ту сторону» мира. Но соблюдается ли в книге
этот принцип тотальной нейтроллизации бытийного пола-
гания? «Я попытаюсь показать, — пишет Г.И. Чернавин, —
что "вера в бытие мира" содержит в себе лакуны,
"разуверения", знает о них и, тем не менее, пытается их
игнорировать — в этом смысле является
"недобросовестной" верой» (с. 17). Вот как! Никогда бы не подумал, что
она такая крыса! Но постойте: действительно содержит
лакуны (действительные?), на самом деле знает,
действительно пытается их игнорировать, действительно
является? Быть может, действительно достаточно не использовать
слово «действительно», чтобы, не дай Бог, какие-нибудь по-
лагания не завелись во мне, подобно Чужому? Или же надо
говорить, что «вера в бытие мира» содержит лакуны*,
знает*, пытается игнорировать*, но я вам этого не
рекомендую*? Или речь идёт об иллокутивном самоубийстве
сверхтролля (с. 128), который ценой «жизни» своих
высказываний радикально меняет способ существования (но не
содержание) обычных мнений? Но не стоит ли за этим
изменением нечто вроде верности действительной (хотя, как
правило, скрытой) несамотождественности и
действительному небытию, «которому мы причастны»? Каков статус
«разоблачения» недобросовестной веры? «При должным
образом настроенной оптике, — утверждает автор, —
любая само собой разумеющаяся почва оборачивается
бездной» (с. 119). Но совместим ли «должный образ» с этой
оптикой? Кто полагает существование этого долга? Уж не
встраиваются ли в нас ценности некоторой философской
традиции, которые мы должны культивировать —
проблематичность, разуверение, безосновность — одним словом,
всё то, что позволяет низвергнуть любое утверждение в
бездну пустого тщеславия невовлечённости?
Конец разногласиям троллей будет положен ясным, как
солнце, сообщением — мир как действительность всегда
-230 —
уже здесь. Тогда они окаменеют и станут вещами среди
вещей. Но мы с вами должны будем учиться ещё яснее
и глубже понимать и ценить характер, смысл и природу
того чувства реальности и чувства возможного, без
которого не может существовать добросовестная философия.
Литература
Гуссерль Э, Логические исследования, Том II. Часть 1,
Исследования по феноменологии и теории познания, М.:
Академический проект, 2011.
. Идеи к чистой феноменологии и
феноменологической философии, Том I, Общее введение в чистую
феноменологию, М.: Академический проект, 2009.
Сартр Ж.-Я. Основополагающая идея феноменологии
Гуссерля: интенциональность // Сартр Ж.-П. Проблемы
метода, М.: Академический проект, 2018.
. Экзистенциализм — это гуманизм. https://www.
litmir.me/br/?b=1030958φ=1
Хайдеггер Μ. Бытие и время, М.: Ad Marginem, 1997.
Чернавин Г.И. Непонятность само собой разумеющегося, М.:
Добросвет, 2018.
Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Сочинения
в 2-х т., Т. 1., М.: Мысль, 1996.
Heidegger М. Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer, 2001.
Husserl Ε. Ding und Raum. Vorlesungen 1907, [Hua XVI], Den
Haag: M. Nijhoff, 1973.
. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch. Algemeine
Einführung in die reine Phänomenologie. 1 Halbband, [Hua
III/l] Den Haag: M. Nijhoff, 1976.
. Briefwechsel. Band 4: Die Freiburger Schüler,
Dordrecht/Boston/Lancaster: Kluwer, 1993.
Luft S. HusserPs Phenomenological Discovery of the Natural
Attitude http://www.gradnet.de/papers/pomo98.papers/
snluft98.htm
ОлегБерназ
Мнение,субъективация, подчинение
Анализ статуса мнения, развёрнутый в этой книге,
интересен мне в той мере, в какой он подспудно ставит
проблему субъективации. Георгий Чернавин не
обсуждает эту проблему, но стоит уточнить, что она, хотя
и скрытым образом, ставится с самого начала его книги
и многократно возвращается в содержании некоторых
глав, касающихся Альтюссера и, на другом уровне,
отношения, которое можно установить между мышлением
и мнением.
Что такое субъективация и почему эта проблема, на
мой взгляд, играет центральную роль в книге Георгия Чер-
навина? При ответе на этот вопрос мне также интересно
предложить вниманию читателя три типа проблематиза-
ции и попросить Георгия Чернавина ответить, используя
тот концептуальный аппарат, который кажется ему
наиболее подходящим. Таким образом, прежде чем перейти
к моим вопросам, я должен определить, что я понимаю
под «субъективацией» и коротко описать, где в книге
Георгия Чернавина встаёт эта проблема.
Субъективация — это операция, посредством которой
как индивидуальный, так и коллективный субъект
воздействует сам на себя, чтобы изменить свою
идентичность. Стоит отметить, что в этом определении
идентичность субъекта не предполагается как уже данная,
— 232 —
а тематизируется как эффект операции, которую мы
характеризуем как действие, направленное на себя, и цель
которой в том, чтобы трансформировать идентичность
субъекта. Центральный момент этого определения,
который нужно подчеркнуть, в том, что оно вырастает из
теории действия, вот почему оно находится в полемических
отношениях со всякой концепцией, предполагающей, что
идентичность субъекта всегда уже дана.
В противовес операции субъективации можно
поставить процесс подчинения (assujettissement). Если субъек-
тивация — это операция, посредством которой субъект
активно действует, затрагивает собственную
идентичность, чтобы её трансформировать, то подчинение — это
процесс, посредством которого субъект подвергается
воздействию и таким образом пассивно приобретает свою
идентичность. Конечно, можно сразу же задаться
вопросом, как много подчинения в процессе субъективации и,
наоборот, какова доля субъективации в процессе
подчинения, чтобы лучше понять анализ различных фаз того, что
Георгий Чернавин, опираясь на Гуссерля и Финка,
называет «мнением». Но оставим этот вопрос в стороне, чтобы
сосредоточиться на некоторых разделах книги Георгия
Чернавина, где всплывает проблема субъективации, как
и проблема подчинения.
При внимательном рассмотрении быстро понимаешь,
что проблема субъективации встаёт с первых же фраз
книги, в которых мы читаем о маленьком мальчике,
радостно пересказывающем то, о чём недавно говорили его
родители. Здесь интересно отметить не просто действие
по принятию мнений: факт, что маленький ребёнок
воспроизводит мнения взрослых и делает их своими. Важно
то, что, поступая так, ребёнок в своём ключе
предпринимает попытку обрести идентичность. И с философской
точки зрения, без сомнения, крайне важно понять, как
выстраивается и трансформируется идентичность, то есть,
как разворачивается операция субъективации. Эту про-
-233-
блему можно распознать и в других разделах книги,
которую Георгий Чернавин предлагает нашему вниманию.
Так, на странице 44 мы читаем, что философский
тролль — это тот, кто действует так же как любой другой,
но выявляет в себе то, что предлагается называть
«анонимным мнением». Эти мнения даже в некотором роде
рассматриваются как модель поведения, даже если
можно легко себе представить, что обсуждаемый субъект
в них не верит (с. 41). Заметим, что, говоря об
анонимных мнениях, Георгий Чернавин затрагивает тему
действия (он говорит о поведении) субъекта и его
идентичности (поскольку философский тролль делает вид, он
выдаёт себя за того, кем он не является). Затрагивая
понятия идентичности и действия, мы вновь оказываемся
в рамках того, что я предложил называть субъективацией
и подчинением.
Можно дать и другие примеры, ещё более близкие
к этому определению субъективации.
На странице 117 мы читаем следующее: «Мысль*
меняет мыслящего, а естественное мнение* оставляет его
таким, каким он "всегда уже" был».
С этим прояснением, которое предлагает Георгий
Чернавин, мы прямо затрагиваем определение
субъективации. Мы можем сказать, что субъективация располагается
со стороны мысли, тогда как естественное мнение —
со стороны подчинения.
Кроме того, проблема субъективации встаёт в русле
альтюссеровского определения идеологии как оклика,
которое Георгий Чернавин использует, но детально не
обсуждает. Оклик возникает именно из этой операции,
средствами которой индивидуум становится субъектом
и, таким образом, обретает идентичность. Он также
находится на пересечении того, что я называю
субъективацией и подчинением.
Возвращаясь к этим примерам, я хотел установить
связь между тем, как Георгий Чернавин анализирует фазы
-234-
мнения (в их многообразии), и операциями
субъективации и подчинения. На этом основании у меня три
вопроса. Прежде чем их задать, я бы хотел спросить Георгия
Чернавина, кажется ли ему справедливым то сближение,
которое я провожу: субъективации и подчинения, с одной
стороны, и его анализа мнения, с другой. Если это не так,
что в моей попытке сближения он прежде всего подверг
бы корректировке?
Но, предполагая, что он согласен с этим сближением, я,
как и собирался, задам три вопроса.
1) Первый таков: каковы условия, а точнее, что
позволит понять, была ли операция субъективации успешной
или провальной? Не ставя такого вопроса о статусе
условий возможности успеха или провала операции
субъективации, не понять, почему мы действительно можем
трансформировать нашу идентичность (или провалить
трансформацию). Можно поставить этот вопрос, исходя
из определения «мысли», которое даёт Георгий Чернавин:
как мы видели, она определяется через трансформацию
субъекта. Но почему нужно предполагать, что ей удаётся
его трансформировать? А ведь если мы откажемся
предполагать успех трансформации субъекта (и его
идентичности), на мой взгляд, нужно поставить вопрос: какие
условия должны выполниться, чтобы лучше понять
действенность операции субъективации.
2) Тот же вопрос нужно поставить и на уровне
процесса подчинения: каковы именно условия, которые должны
выполниться и которые позволят понять тот
удивительный факт, что мы готовы подвергаться воздействию,
принимая готовую идентичность?
Прежде чем перейти к третьему вопросу, я хотел бы
отметить, что на странице 98 книги Георгий Чернавин
спрашивает о том, какова может быть роль феноменолога,
которого он описывает в его отношении к идеологии («Меня
провоцирует ("окликает" в смысле Альтюссера) вопрос
"что феноменолог — которого я предлагаю сравнивать
-235-
с инопланетным этнографом — может сделать перед
лицом идеологии"?»). Попробуем сменить перспективу
и спросим скорее: какой может быть роль феноменолога,
или, если хотите, феноменологического метода (при
условии, что мы точно проясним, о чём идёт речь), по
отношению к операции субъективации? Точнее, можно ли
утверждать, что феноменологический метод позволит нам
лучше овладеть операцией субъективации, и если да, то
каким образом?
3) Третий вопрос касается границ того способа,
которым Георгий Чернавин анализирует мнение в том смысле,
в каком оно записано во мне, то есть в смысле теории
субъективации. Сложно спорить с тем, что все примеры,
исходя из которых обсуждается статус мнения, его
субъективирующий и подчиняющий потенциал — это случаи,
в которых язык играет центральную роль. Тролли говорят
и адресуются к потенциальным, если так можно сказать,
«жертвам» их лживого дискурса. Статус
(субъективирующего) мнения и его влияние на других обсуждается,
главным образом, с опорой на текст. А ведь тот, кто
концентрируется именно на том, как мнение дано в рефлексии об
операции субъективации, может и должен в равной мере
проанализировать его отношение к образу и, почему бы
и нет, к звуку. Образ и звук могут также сформировать
мнение и участвовать в операции субъективации.
Наиболее ясный пример процесса субъективации в связи с
образом хорошо известен — это «Ты нужен армии США (I
Want You For U.S. Army)!» на фоне грозного лица Дяди
Сэма. Можно в равной мере взять пример процесса
подчинения, который опирался бы на слух: вспомним ту альтюссе-
ровскую сцену, упомянутую Георгием Чернавиным,
в которой полицейский кричит «Эй, вы, там!». Подумаем
теперь о том, что вместо того, чтобы кричать,
полицейский вполне мог бы просто дать свисток. Результат был бы
тем же: индивид обернулся бы, чтобы проверить, ему ли
свистели, и этим жестом он бы подчинился.
— 236 —
Если Георгий Чернавин согласен рассмотреть
визуальный и аудиальный аспекты, чтобы лучше понять статус
субъективирующего и подчиняющего мнения, как с его
точки зрения проанализировать отношения между
текстом, образом и звуком, чтобы лучше понять статус
операции, посредством которой мы становимся субъектами?
Наконец, я хотел бы поблагодарить Георгия Чернавина
за повод поразмышлять над всеми этими вопросами.
Евгений Блинов
Сколько троллей может плясать
на экране моего монитора?
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...
Пушкин, Бесы
Короткая, но изысканная в своей недосказанности
работа Георгия Чернавина, смущает и оставляет в некоторой
растерянности. Возможно, в этом и состоит замысел
автора. Сложнее всего определить её жанр: не то
(псевдо)политический памфлет, не то (пост)феноменологический
анализ распадающегося картезианского субъекта, не то
авангардное исследование стремительно теряющего
смысл языка, не то эксперимент с этнографическим
описанием новых акторов виртуального мира.
Стремительная смена регистров, методов и оптик может отпугнуть
неподготовленного читателя, а смелый неакадемический
стиль письма — узких специалистов. Это ни в коем случае
не сухое «введение в изучение», а еретическое пособие по
прикладной демонологии. И, вне всякого сомнения, это
демонология в её русском изводе: не тайная инквизиция
или публичные процессы над ведьмами в протестантских
общинах, а завороженное живописание резвящихся чер-
-238-
тей. Не попытка вывести на свет «what's done in the dark»
и не классифицирующая «энтомологизация» в духе Фуко,
а, если можно так выразиться, наблюдение за троллями
в их естественной среде. Симптоматично и практически
полное отсутствие в этом описании фигуры злого
демиурга, genius malignus, за что автору скорее всего не избежать
обвинений в аморальности или даже «симпатии к
дьяволу». Автор «Мнения тролля» (исходно рукопись этой книги
называлась «Мнение тролля: к феноменологии
недобросовестной веры*» — Г.Ч.) следует здесь русской традиции
изображения «мелких бесов»: тролли Чернавина не
демонические слуги, а скорее хрюкающие, шепчущие,
затаившиеся под столом «недотыкомки».
Георгий Чернавин спрашивает себя и читателя, «есть
ли нам куда проснуться» от догматического сна, в котором
мы верим в единый мир, составляем по его поводу
«добросовестные мнения» и действуем с полной
метафизического пафоса «сомнамбулической уверенностью». Велико
искушение истолковать его исследование как предсмертные
галлюцинации неокартезианского субъекта: он ещё жив,
но уже предчувствует, что грядущий мир — не сияющий
град чистого разума или идеальных геометрических
фигур, а скопление унифицированных лего-блоков
«встроенных мнений», детских каракуль и кракозябр. Делёз
утверждал, что кино возвращает нам утраченную веру
в мир, а виртуальное пространство, засасывающее
субъект подобного вакууму, похоже, лишает её окончательно.
Концептуальным персонажем этого тотального
«разуверения» выступает новый актор, порожденный
опосредованной коммуникацией — интернет-тролль. И здесь, как мне
кажется, автор совершает свой главный просчёт, пытаясь
найти «реальных» троллей и выстроить с ними диалог.
Троллей ни в коем случае нельзя путать со служащими
знаменитых фабрик. У тролля в строгом и философском
смысле нет не только «мнения» или субъектности, он
всячески стремится от них избавиться, а совсем не паразити-
-239-
чески поглотить своего материального и сознательного
носителя, о чём, как мне показалось, размышляет автор
книги. Это не приросшая к лицу маска и не инопланетные
похитители тел и умов. Для тролля актуальнее всего
ницшеанская программа, в рамках которой человек — это
«то, что должно преодолеть».
Автор этих строк не обладает достаточными
компетенциями в феноменологии, и в особенности линии «Гуссер-
ля-Финка-Ришира», в традиции которой столь виртуозно
работает Георгий Чернавин, хотя его подход вызывающе
неортодоксален. Поэтому я не буду вдаваться в
обсуждение терминологических тонкостей и деталей
феноменологической механики субъекта, а попробую найти
некоторые пересечения феноменологии троллей с более
привычной мне проблематикой. Во-первых, исторически
важна отсылка к «вере» (belief) Юма, хотя я не согласен
с устоявшимся русским переводом этого термина. Юм
часто употребляет его во множественном числе, используя
в качестве синонима «мнению» (opinion or belief),
поэтому его стоит переводить скорее как убеждения, чем
«веру» (faith). Для Юма, в отличие от Гуссерля, «вера в мир»
принципиально отличается от убеждений или мнений,
почерпнутых из газет. Вера в мир и существование
предметов помимо наших перцепций, а также возможность
установления между внешними объектами причинно-
следственных связей объясняется привычкой или
обычаем (custom or habit). Но привычка для Юма является
незыблемым и врожденным принципом человеческой
природы, наравне с инстинктами, например, половым
влечением. Она принципиально выводится из под удара,
являясь условием возможности всякого опыта, именно
поэтому Делёз говорил о «трансцендентальном
эмпиризме» Юма. Он не сомневается в существовании внешнего
мира или возможности интерсубъективной
коммуникации, и именно на этом основании задаётся вопросом,
каким образом формируются наши убеждения, если они на-
— 240 —
прямую не связаны со свойствами предметов. Эти мнения
или убеждения во множественном числе могут быть
предметом точного анализа по образцу ньютоновской
механики. Мы верим мнениям людей, которые обладают
для нас авторитетом, которые нам «симпатичны» и к
которым мы каким-то образом расположены (а это
расположение зависит от наших привычек, окружения,
темперамента и так далее). Для Юма вера в мир, каузальная
привычка и инстинкты «встроены» и не подлежат
проверке и анализу, в отличие от конкретных мнений, которые
всегда включены в ассоциативную и аффективную
матрицу наших перцепций. В юмовской картине мира мы не
слепо «верим газетам», а открываем именно «свою
газету», в которой рассуждает симпатичный нам «лидер
мнений». И под влиянием «сильного мнения» симпатичного
нам человека вполне сознательно и, как нам кажется,
критически оцениваем вероятность тех или иных
причинно-следственных связей, формируя своё собственное
«добросовестное» мнение.
Моё второе возражение относится к методологии
этнографического экскурса в мир троллей. На мой взгляд,
в нем не соблюдён важнейший принцип симметричности,
сформулированный Бруно Латуром. Он предполагает, что
этнограф ни в коем случае не должен верифицировать
«мнения» информантов. Когда начинающая
исследовательница спросила у выдающегося современного амазо-
ниста Вивейруша де Кастру, как относиться к тому факту,
что индейцы считают свиней личностями, он ответил «Я
антрополог, а не свинолог». Именно в оценке «мнений»
антрополог должен следовать принципу акаталепсии,
в противном случае он не сможет выявить предпосылок
неизвестной ему культуры. Мы же заранее знаем, что один
из интервьюируемых «выпускник философского
факультета», то есть отчасти «наш» и это совсем не его «мнения»,
он в некотором смысле «полукровка» и теряет
привилегию носителя чужой культуры и разговаривает с нами на
-241-
«нашем» языке. Как если бы этнограф спрашивал у
индейца: почему ты веришь в Великого Ягуара, хотя
причащался в католической церкви, читаешь и пишешь по-
португальски и жил в городе? Я не верю в Великого
Ягуара, отвечает нам полуиндеец, я верю в Пречистую
Деву и электричество, но живу рядом с индейцами и торгую
с ними, поэтому участвую в их ритуалах. Подобный
информант мало даст нам для понимания туземной
метафизики, если, конечно, мы не проводим сравнение
«настоящих индейцев» с «полукровками». Для полноценного
этнографического описания нам бы потребовалось найти
«искреннего» тролля, понять его отношения с троллями
рефлексирующими, с троллями из враждебного лагеря,
с троллями более высокого ранга и, самое главное, с
источниками «вложенных мнений», то есть с
троллями-шаманами. Прямые указания на эту структуру есть в
«полевом» материале, но автор не развивает своё исследование
в этом направлении.
Третье возражение касается недостаточной
разработки темы формирования «добросовестных мнений» и
даже превращения её в некую фигуру умолчания. Не совсем
ясной, на мой взгляд, остаётся и связь механизма
«встраивания» мнений с идеологией. Автор обращается к аль-
тюссеровскому анализу идеологии, хотя, на мой взгляд,
куда более логичным было бы обращение к
исследованиям Бурдье и его школы, занимавшейся как раз
социологией критических способностей в её связи с
эксплицитными и имплицитными идеологическими установками.
Исследование «наведённых» мнений троллей, было бы
неплохо дополнить сеансом бурдезианской социальной
магии с разоблачением. В классическом анализе
политических настроений студентов в «Наследниках» Бурдье
демонстрирует различие между декларируемыми и
подразумеваемыми взглядами, описывая феномены, подобные
«конформизму по отношению к нонконформизму»,
зависимость взглядов от конкретной референтой группы
— 242 —
и так далее. В «Мнении тролля» меня более всего смутило
именно отсутствие сравнительной перспективы,
взаимного отражения противоборствующих идеологий. Автор
настаивает на принципиальной важности разуверения,
которое всегда необходимо принимать в расчёт при
формировании добросовестного мнения. В таком случае
главной опасностью, как говорили большевики, является
именно «сомнамбулическая уверенность» того, кто
считает своё мнение добросовестным. Естественная
установка вполне допускает, что окружающий мир устроен
сложнее, чем кажется на первый взгляд, есть носители
установок высшего порядка и так далее. В ситуации
субъекта, сомнамбулически уверенного в единстве своего
мира и в том, что его мнения являются «добросовестными»,
возникает ситуация, характерная для «диалектики
Просвещения», когда вчерашние достижения критической
мысли превращаются в догму. Тогда мы должны прийти
к выводу, что критический сон намного глубже сна
догматического, поскольку в нем мы обладаем куда большей
степенью сомнамбулической уверенности. Мы считаем,
что наш мир окончателен и не допускает дальнейшей
смены перспектив, но в догматическом сне нам «есть
куда проснуться», тогда как в сне критическом мы даже не
подозреваем, что спим и с возмущением отвергаем
любые мнения «сомнамбул».
Четвёртое возражение относится к тем урокам,
которые могут дать нам тролли. Тролли совсем не то, чем
кажутся. Разве не они первыми «просыпаются в матрице»?
Судя по интервью, самым удивительным для одного из
информантов является встреча «на задании» с
американскими троллями и именно это, а не «чуждость» мнений,
которые он получает в качестве техзаданий, нарушает его
картину мира. На этом основании можно было бы
выстроить целую виртуальную демонологию, но у автора
«Мнения тролля», похоже, нет внушаемого скорее
структурализмом или классической метафизикой вкуса к клас-
-243-
сификации. На разных полюсах по отношению к троллям
разного уровня (на иерархию указывают оба
информанта) существуют боты, работающие по заданному
алгоритму, и собственно «наводящие» мнения, то есть
составители техзаданий. Если бы автор смог взять интервью
у организаторов «фабрики троллей», то картина
формирования мнений выглядела бы несколько иначе. Они
наверняка высказывались бы в том духе, что любая фабрика
троллей — «компактная модель» современных техник
власти, выражаясь словами Фуко. Принципы её работы
давно описаны в доступных пособиях, мы всё делаем по
образцу передовых стран, а «добросовестность» мнений
не имеет никакого отношения к эффективности.
Материал для «мнений» можно брать хоть из «Капитала» Маркса
или работ Славоя Жижека, хоть из разговора с таксистом.
Тролли живут в стихии, которую греки называли kairos —
подходящего момента. Необходимо в нужное время
и в нужном месте обеспечить информационный шум,
имитирующий либо «глас народный», либо «мнение
экспертов». Что-то вроде записанного смеха в
юмористических передачах или интершума на внезапно опустевших
стадионах. Это опосредованная и не поддающаяся
точному подсчету технология воздействия, именно поэтому
рядовые сотрудники считают, что она «ни на что не влияет».
Их «настоящие» мнения или рефлексия не являются
проблемой и действительно в худшем случае ни на что не
влияют, а в лучшем создают эффект правдоподобия. Это
наш любимый сюжет: через сомнения заблудшие овцы
приходят к «истинной вере», мы пока не смогли создать
подобного алгоритма. Но вообще, изучайте наших
«младшеньких», это уходящая натура, очень скоро их заменят
нейросети.
Наконец, возражение последнее по порядку, но не по
степени важности. Оно связано с использованием
идеологически ангажированного языка, критика которого
могла бы дать нам способ отличать «добросовестное»
-244-
мнение от «недобросовестного» или, по крайней мере,
своё собственное от того, что нам чуждо. Само
использование термина «тролль» уже не является нейтральным,
в отличие от «платного комментатора». В этом смысле
я также не согласен с переводом «mauvaise foi» как
«недобросовестности». Не вдаваясь в обсуждение его
специфического употребления Сартром, французское
выражение помимо прочего подразумевает «злонамеренность».
В этой оптике тролль — новая фигура исключения,
объект охоты для борцов с постправдой. Он совсем не дитя
неразумное, а в лучшем случае мелкий вредитель, в
худшем — рядовой агент тёмных сил, создающий эффект
пресловутой «банальности зла». Семантически «mauvaise
foi» часто сближается с рессентиментом. Ведь именно
в рессентименте постоянно обвиняют троллей: это некие
виртуальные акторы, по заданию тёмных сил
оспаривающие господствующую картину мира (глобальную или
локальную) с её ценностями. Они пытаются навести морок
чуждых мнений и в «бессильной злобе»... Мне кажется,
именно фигура тролля характерна для новой охоты на
ведьм и требует критического осмысления, а не
априорной дисквалификации его «мнения». Не втягиваемся ли
мы таким образом в самую банальную идеологическую
«дегуманизацию» Другого, только не в биологизаторском
смысле (они — не люди, а звери), а в смысле его
виртуализации (они — не люди, а телезомби или
интернет-боты)? Пейоративная квалификация оппонента «вы
говорите, как тролль», строго говоря, не имеет смысла: это
тролли говорят, как мы, всего лишь эмоционально
усиливая или карикатурно обостряя черты репрезентативных
и вполне «добросовестных» мнений. Поэтому успех
любой фабрики троллей зависит не столько от фильтрации
мнений, сколько от «добросовестной» веры в
естественную установку: когда мы соглашаемся с тем, что мнение,
которое «наводится» при помощи троллей,
социологически репрезентативно, оно становится политически зна-
-245-
чимым. Если это «недобросовестное» мнение
«естественно» разделяется воображаемым большинством, то мы
либо должны признать своё поражение (как утверждает
одна фабрика троллей), либо лишить это
безнравственное и не склонное к рефлексии «большинство» слова
и права на выбор (как подсказывает конкурирующая
с ней фабрика). При условии, конечно, что наша вера
в «естественную установку» является вполне
добросовестной, и в ней нет ни капли дурных намерений. Ведь
недаром, как говорил классик, слишком многие по
неразумию принимают шум лондонской кофейни за глас
народный.
Денис Демьянов
Subjectum ludens?
Как нас пытаются убедить отнюдь не проплаченные
тролли, а лица, обладающие неким
авангардно-академическим иммунитетом вненаходимости и
незаинтересованности к грязному белью «современности» (любой,
подчеркнём), мы живём в некую «эпоху постправды».
Впрочем, и эта новость является, возможно, уже
устаревшей, что входит в само навязываемое понятие этой
«эпохи». Если есть какой-то смысл в «эпохе постправды», то
исключительно тот, что некая газета под названием
«Правда» давно не занимает то место в информационном
пространстве, которое занимала или, как минимум,
претендовала занимать. Лучшим разъяснением этого,
наверное, для кого-то не слишком приятного и наверняка
странного, тезиса мне представляется эта книга.
В учреждение диалога мне хочется как спросить, так
и наметить его возможные точки. Мы видим, что
трансцендентально-феноменологическая традиция не просто
обладает неким канцелярским «потенциалом», но и
работает как критика на уже хорошо и по-разному
окультуренном поле: «производства субъективности»,
«индустрии сознания», печально известной «инженерии душ
человеческих», в конце концов. Проблема в самом
критическом жесте. Вроде бы мы согласились, или устало
уклонились от темы, что субъективность и всё мыслимое
-247-
и немыслимое содержание «культуры», «повседневности»
бесконечно многообразно «производится» или
«поставляется» (Хайдеггер-Бибихин). Главное, чтобы дело
шло минимально «человечным» образом. Эта
«человечность», «человекоразмерность», по слову Секацкого,
неизбежно ставит перед вопросом о критическом жесте
и этике.
Каково место этики, кроме этики невключённого
наблюдения, которое оказывается несмотря на строгость
и непредвзятость, производящим эффект насмешки,
иронии, как минимум эффект комический? Это важно в том
смысле, что пресловутое «этическое» в парадигме
тотальной игры (если мы делаем шаг в её сторону) — столь
разных Витгенштейна и Хейзинги — является как минимум
возможным — возможно, я неправ — тем самым
бастионом «серьёзности», безусловно требующей своего
прояснения. Игра-серьёзность-этика, Дело осложняется тем,
как сообщил нам Хейзинга, что любая игра в высшей
степени серьёзна. Два, вероятно, предельных способа речи об
игре и этике — Хейзинги и Витгенштейна — богатое,
плотное описание её соотношения с «серьёзностью»
и молчание. Вопрос для меня стоит так: каков игровой
аспект предмета? Легитимен ли жест уклонения,
воздержания в случае эксплицитной критики? Говоря иначе: не
в чём путаются и путают, не в чём заблуждаются и
убеждают, а что это за игра? Возможно ли о ней говорить
«всерьёз», не участвуя в игре? Более жёстко: какую игру мы
предлагаем взамен (а моё убеждение в том, что мы не
можем никогда более чем предложить иную игру) игре
«тролля»? Лично мне тревожно от ощущения, что
эксплицитная этика полностью отдана на откуп обыденному
сознанию, гегелевским абстрактно мыслящим «кухаркам»,
современному социал-дарвинизму, позитивизму нейрона-
ук и технокапитализму. Философу будто бы сказать нечего
об этике, но при этом он оставляет за собой право
смеяться и иронизировать. Некая trademark философского воз-
-248-
держания от этических суждений. Не стоит ли это
уклонение от этики за логикой и прагматикой самого «тролля»?
Не вовлекает ли он нас этим в свою игру? Не говорить от
первого лица «всерьёз», но всерьёз смеясь над адресатом
речи? Не задаться ли нам вопросом об истине самого
этого субъекта — «тролля», возможно скрытой от него
самого, об истине субъекта современных игр? В конце концов,
соотношение этики и тотальной игры мне представляется
интересным в высшей степени, что ни многословный Хей-
зинга, ни молчаливый Витгенштейн нам не сказали об
этом исчерпывающего слова. Я бы очень хотел услышать
речь Георгия Чернавина об игре.
Проблематичность критического жеста по отношению
к взрывоопасным предметам, какими по определению
являются общественное мнение, производство
субъективности или индустрия сознания (тем более в столь
гротескных случаях проплаченных троллей или академических
«консерваторов») не только в его вненаходимости.
А в том, что вненаходимость сама легко подвержена
индустриализации, бюрократизации. Говоря словами
дореволюционного классика: в «партийном» смысле.
Справедливо спросить: в чём именно состоит проблема? — Это
позиция известной фигуры — инквизитора. От зловещей
ауры которого она освобождена не чем иным, как своим
воздержанием от оценки. Оно, безусловно, имеет свою
крайне высокую цену. Любая оценка, суждение — это
вовлечение в игру, это ставка, это риск. Мы не играем в
навязываемую игру. И не только: мы учтиво предлагаем
свою. Но тем временем на психоанализ Лакана и Биона
находятся специалисты по «психоанализу маркетинга
и рекламы», по инструментализации любого
критического знания, по его капитализации. Лично для меня стоит
следующий вопрос, и именно перед ним ставит меня
книга Георгия Чернавина: как уклониться от бесконечности
критической игры? Здесь я вспоминаю Седакову об
апологии в её предисловии к работе Федье «Голос друга». Мысль
-249-
такова: «мужественным в современном мире уже давно
является не жест "обличения", "разоблачения" ... а,
напротив, жест апологии, свидетельство о значительности
значительного». Где место этой апологии, в чём бы она могла
состоять? Конечно, воображаемый голос автора говорит
мне, что это чужое мнение, выдаваемое за своё, но этот
«репост» не отменяет желания сказать об этой книге: это
в высшей степени прекрасная речь, возобновляющая
и возвращающая нам как свежие и живые, старые в
лучшем смысле вопросы: об «истине» субъекта и более
того — о его запутанной и перегруженной сложным и
опасным содержанием «правде», о вере и сомнении, о том, как
«временное» (историчное, контекстуальное,
прагматическое) может мыслиться и ставиться под вопрос не иначе
как в аспекте вечности, что неизбежно нас забрасывает
в холодный, строгий, неуютный, но всегда знакомый в
качестве человеческого — психического — классический
ландшафт.
Михаил Маяцкий
Виждь, внемли, но и мни
Поскольку Вы просили возражений, то я с Вашего
позволения пропущу «позитивную часть» и приступлю
к ним. «Эта книга посвящена встроенным мнениям* —
тем, которые принимаются в готовом виде и принимаются
за свои» — эта центральная тема атакована, на мой взгляд,
без достаточной рефлексии над самими понятиями
«своего» и «чужого», которые употребляются как надёжные
категории, позволяющие Вам размышлять и исследовать
изучаемый феномен. Можно ли вообще иметь строго и чисто
своё мнение? (Вы на этот имплицитный вопрос
имплицитно же отвечаете решительно положительно. Но уже
Витгенштейн был менее решителен. И, конечно, французы.
Не говоря уже о всей психо- и социолингвистике. Мы
рождаемся в мир, где есть в наличии не только язык, но и
формы мысли, культурный контекст и прочее. Они не мной
придуманы, они мне мои/свои или чужие? и так далее).
Королларий 1: Вы пишете, например, в одном месте
о сомнении комментатора, «он ли автор мнений». Даже
в литературоведении, как Вы, конечно, знаете, понятие
авторства перестало быть бесспорным. Ну а уж в
контексте Вашего исследования и подавно.
Королларий 2: где-то Вы пишете, что у тролля просто
нет своего мнения. Это тоже большой вопрос, можно
ли не иметь мнения? Мне бы показалась более правдопо-
-251-
добной точка зрения, что оно есть обязательно, но что
«мы» его «подвешиваем», когда нам нужно (умалчиваем).
Так и тролли.
Королларий 3: вообще про мнение, доксическое, про
общественное/частное есть всё-таки какая-то рефлексия/
литература, не только историко-философская.
Ваш главный герой — тролль — то наделяется
субстанциальностью/субъективностью, то лишается её. А может
быть, он не «существует»? Я имею в виду — как entity.
На работе он, ну скажем, тролль (просто как
разновидность bullshit jobs), а вне службы нечто другое (или
другие). Единство здесь чисто телесное. Иными словами, это
маска. А Вы размышляете: а вот когда эта маска
возвращается домой и так далее. Но это всё равно как, вернувшись
с балета «Лебединое озеро» раздумывать, на каком озере
живёт Одетта и куда она возвращается после спектакля.
Очень глобальное возражение: кажется очень
сомнительной сама возможность обсуждать всю эту
проблематику, не ставя политические вопросы, ну или ставя их
только опосредованно — через теорию идеологии,
например. И не ставя вопросы социологические,
антропологические. Гуссерль, правда, обращался к этим
аспектам ещё меньше (wenn überhaupt))).
Сам способ выделения Вами особых терминов (курсив,
астериск) совсем не невинен. Как если бы возможно было
избежать многозначности слов, фиксируя какой-то их
специальный смысл, для которого сгодятся и явно
малоудачные слова, подобное «диковинному носителю мнения». Ну
действительно, кажется, что не стоит биться над словом,
раз Вы пространно оговариваете, какое значение
читатель должен иметь в виду.
К «недобросовестной вере» у меня тоже вопросы: ведь
в Вашем переводе привносится совесть! а этого нет ни
у Сартра, ни просто в этом французском выражении
(вообще во французском языке, можно сказать). Затем вы
определяете его так: «Недобросовестное мнение* — это
— 252 —
когда я (безо всяких колебаний) заранее знаю, что передо
мной». Это просто портрет естественной установки.
A mauvaise foi - это всё же нечто совершенно иное (и
в обыденном языке, и у Сартра, при всей разнице между
ними). Зачем тогда огород городить? Употребляли бы
спокойно «естественную установку»!
Если бы я не пропустил позитивную часть, я бы
обязательно упомянул в ней весёлую разноголосицу (и разно-
жанрицу), которой Вы выгодно разнообразите и
оживляете иссушающий язык Гуссерлевой «схоластики» (как её
называли уже ученики). Но позитив оборачивается
негативом. Думающему читательскому вниманию не
представляется возможным следить за Вашим фейерверком:
Вы слишком спешите и многое важное не
проговариваете; производите немало высказываний слишком спорных
или, скажем, «дерзких», чтобы их никак не пояснять и не
подкреплять; увы, многое приводите и цитируете, потому
что «красиво», а не чтобы добавить убедительности.
Виктор Молчанов
Потёмкинские деревни внутреннего опыта
И с троллями в сердце бой!
Г. Ибсен
Исходный пункт книги Георгия Чернавина, не очень
чётко выписанный, — это аналогия между «естественной
установкой» Гуссерля и миром навязанных мнений, в том
числе в области идеологии и политики. Соответственно,
речь идёт об аналогии между преодолением естественной
веры в существование мира, посредством нахождения
в этой вере лакун, и попыткой проснуться от всеобщего,
в том числе и критического, идеологического сна. Автора
страшит возможность принять чужие мнения за свои,
страшит «ничьё сознание», которое препятствует
распознаванию своего Я. Идея указанной аналогии
оригинальная, и даже, как это сейчас модно, междисциплинарная,
поскольку те, кто занят феноменологией, редко
занимаются «платными "троллями"», и наоборот. Однако
проведение этой аналогии весьма своеобразно и вызывает
вопросы и возражения, изрядное количество которых автор
уже получил от коллег. Вопрос в том, страшит ли автора,
что другие могут принять его мнения за свои, или это
только «забота о себе», чтобы, не дай Бог, не ошибиться,
чужое это «мнение», что, например, 2x2=4, своё или
ничьё? Книга похожа на сценарий сериала, где каждая се-
-254-
рия-глава вводит новых персонажей и должна держать
читателя-зрителя, если не в напряжении, то в постоянном
бодрствовании в противовес сомнамбулическому сну.
Но иногда перевозбуждение способствует сонливости.
Бергсон, если не ошибаюсь, советовал, если бессонница,
думайте о разном, совсем разном: о Штирлице,
Александре Введенском, платных троллях, о летающих тарелках,
бухгалтере Иванове, о Северной Корее, о двух Лихтенбер-
гах, а также о многом и многом ещё.
Поистине, нет ничего нового под луной. Тургеневский
«Рудин» начинается со спора о том, существуют ли вообще
убеждения. Или ещё раньше, у Грибоедова: «В мои лета не
должно сметь / Своё суждение иметь». Затем Рахметов
ищет самобытное, Хайдеггер требует быть самим собой
(у Чернавина как раз смешиваются реальные люди и
литературные персонажи); в советское время уже по
определению все мнения должны были быть «заёмными» и
«искренними»: «под салютом всех вождей!» — подзабыли
пионерские приветствия?
После периода полного тождества действительности
и воплощённой в ней идеи снова пытаются отличить
грезы от действительности, поставить вопрос о ничьём
сознании и отделить платные мнения от бесплатных и так
далее. В 1899 г. вышла философская работа, в которой
рассматривались указанные темы и упоминались другие
«реалии»: загипнотизированная молоденькая модистка,
представлявшая себя парижским архиепископом, капитан
судна, входящего в устье Амазонки, мужик Фирсан,
пьяный пожарный. Правда, это называлось не так легко
и «мнимо», как у Г. Чернавина, а именно: «Теоретическая
философия». Если Вл. Соловьев предвосхищал Борхеса
и китайские энциклопедии, то Георгий Чернавин пишет
уже со знанием этого дела. Где могли бы встретиться
Достоевский и шеф гестапо Мюллер, Гуссерль и платный
тролль, он же выпускник философского факультета,
Штирлиц и К. Мангейм. Сравнение с Вл. Соловьевым может
-255-
быть лестным, но здесь оно напоминает о так называемой
русской всеядности (или разбросанности) в этом мире,
который «всегда есть», то есть никуда не исчезает,
несмотря на действительные лакуны в действительности у
разных людей в разных «состояниях сознания». Второй
«русский след» — это Достоевский, которого автор цитирует
в связи с романным или киношным Мюллером.
(Интересно, в самом деле, читал ли реальный Мюллер
Достоевского?; партайгеноссе Хайдеггер, как известно, читал). Я
привёл бы иную цитату, близкую к общему замыслу автора.
Один из героев «Бесов» говорит: «Я всегда лгал, даже
когда говорил правду». Позаимствовал ли Мангейм свои
выводы у русского классика?
Если текст Чернавина рассматривать «как правду»,
которую хочет высказать автор, то есть рассматривать
наивно, как изложение его взглядов, то возражения, в которых
трудно «разувериться», высказаны уже Михаилом Маяц-
ким: автор спешит, перескакивает с темы на тему, ничего
не доказывает и так далее. Вспомним, однако, какую
основную задачу ставит перед собой автор: не больше и не
меньше, как обнаружить лакуны в вере в действительность
(мира). При этом Г. Чернавин возвращается к модным темам
90-х годов, когда после железобетонных конструкций
марксистско-ленинской идеологии стали увлекаться таким
авторами, как Хармс, Введенский, а позже — Пригов, в
текстах которых привычные, «догматические» смысловые
связки разрушались, обнаруживалась их абсурдность и тем
самым высвечивались лакуны в построении любой обыва-
тельско-метафизической «картины мира», заимствованной
то ли из букваря, то ли из учебников, то ли из телевизора
и так далее. Я полагал, что такое время прошло, но пришло
другое время, которое, видимо, опять требует поиска лакун
и разъятий смысла. Связь между временами
осуществляется с помощью in-der-TV-und-Internet-sein.
Тактика текста Чернавина, не скажу автора, поскольку
мне кажется, что эта тактика осуществлялась не совсем по
-256-
воле автора, состоит в том, что сам набор реалий,
смешанный с литературными, скорее окололитературными,
персонажами, создаёт эффект потери ориентации в этой
самой «вере в бытие». Во что мы, собственно, говоря,
должны верить, в корейское учение, в Штирлица (кстати
сказать, популярность этого фильма основана не в
последнюю очередь на смешении реальности и вымысла:
вымышленный герой общается с реально существовавшими
нацистскими деятелями, интерес к деятельности которых
и к их воззрениям до сих пор не иссяк), в существование
современных троллей как особого рода существ, в
Тарасова, которого не постигло озарение во время обеда и так
далее? Иначе говоря, мир фрагментируется, причём не
связанные друг с другом фрагменты принадлежат разным
измерениям.
«Фрагмент» в переводе на русский — осколок, и мир
рассыпается на совокупность лакун, уничтожая, или
подвешивая, непрерывную по своей сути действительность.
Таким образом, само строение текста демонстрирует
осуществление поставленной цели.
Конечно, такой текст, да ещё привязанный к
обсуждению «генерального» тезиса естественной установки
(почему «генерального» — генеральные идеи, как говорил Бур-
дье, это идеи генералов: почему не переводить как «общий
тезис»?) вызвал немало интересных
откликов-возражений, которые существенным образом дополняют текст —
дополненная, а местами и доподлинная реальность.
Мои критические замечания касаются в основном,
хотя и не только, языка, терминологии и переводов с
немецкого.
1. Русский язык в книге оказался на втором плане.
К сожалению, никто из оппонентов этого не заметил.
Нельзя сказать на русском языке «напустить мнение».
«Напустить», в смысле притвориться, относится только
к поведению. Солдат в сказке напускает на себя храбрость,
кто-то напускает на себя хладнокровие, можно говорить
-257-
о напускной весёлости и так далее. Но дело не только в
несочетаемости слов. Притвориться, что ты имеешь такое-то
мнение, конечно, можно, можно даже убедить себя, что
принятое и навязанное тебе мнение правильно, и даже
найти оправдывающие это мнение аргументы. Но всё это
имеет ограниченную область применения. Не всякое
притворство относится к мнению. Когда актер
перевоплощается в персонажа, это не означает, что он принимает
«мнения» последнего. Само слово «мнение» использовалось
зачастую именно в идеологическом (в широком смысле)
контексте. В советские времена были такие штампы: «есть
мнение», «вы уже составили своё мнение?», при этом
подразумевалось, что составные части мнения должны
соответствовать линии партии или мнению начальства.
Мнение только косвенно может быть соотнесено с фактами,
мнение иногда основано на смешении фактов и их
оценок. О том, что Георгий Чернавин весьма странным
образом употребляет слово «мнение», свидетельствует его
пример: «Я считаю, что идёт дождь». Само по себе это
высказывание напоминает нечто от Гарфинкеля: первая
часть не сочетается со второй и сбивает с толку. Можно
попытаться найти контекст, в котором это высказывание
было бы осмысленным, например, когда нечто стучит по
крыше. Но и тогда мы не говорим, «я считаю, что идёт
дождь», но говорим «это дождь», подразумевая, что это не
ветер, не птицы и так далее. Представьте себе, что некто
говорит вам во время прогулки по парку: «я считаю, что
это дерево зелёное», да ещё и прибавляя: «таково мое
мнение». Полагаю, что даже Витгенштейн усомнился бы, что
этот некто — философ. Сознательно или бессознательно,
«добросовестно» или «недобросовестно» навязывает
читателю неадекватное употребление слова «мнение» автор?
Попробуйте сказать домашним за ужином, что вы
считаете, что холодильник существует и что он белый (если он
белого цвета). Полагаю, что стоило бы сначала
разобраться со словами, которые превращаются в термины. Ещё бо-
-258-
лее удивительной является характеристика естественной
установки генерала Гуссерля. Оказывается, что это тоже
мнение, но уже пра-мнение, на котором держатся все
другие. «Всё из воды» — это пра-мнение Фалеса? Тогда «всё из
воздуха» — это не его мнение. И так далее. В ответе
Вадиму Рудневу у Чернавина тезис Гуссерля — уже не мнение,
но тезис, а это разные вещи. Кстати сказать, с тезисом
Руднева «мира как действительности никогда нет» можно
было бы согласиться, если добавить только одно словечко —
«только»: мира как только действительности никогда нет.
Мир всегда содержит кроме действительности ещё
множество недействительностей, и среди них те, которые
препятствуют действию — не тому или иному, а любому
действию. В заключение своих возражений Чернавину Вадим
Руднев утверждает: «Если говорить серьёзно, то именно
за такими людьми, как Георгий Чернавин, будущее нашей
философии». То, что текст Георгия Чернавина достоин
публикации и дальнейших обсуждений, я полностью
согласен. Но что означает «наша философия»? Надеюсь, ничего
соборно-коллективного?
2. Эти краткие заметки не предусматривают
детального обсуждения различия между мнением, верой,
убеждением; это потребовало бы довольно сложного
различия терминов и слов обычного языка. Ограничусь лишь
«естественной установкой» и гуссерлевским термином
Seinsglaube, который Чернавин переводит как «вера в
бытие». Речь идёт ведь о вере в существование, или
убеждённости в существовании каждый раз определённых
предметов в мире и, как обобщение, об убежденности
в существовании мира. Существование предмета означает
у Гуссерля прежде всего пространственно-временную
определённость предмета (никакого бытия в
метафизическом смысле здесь нет) и возможность его
интерсубъективной идентификации. Отсюда и рассуждения о
естественной установке: не существование придает смысл
предметам, и сколько не полагайте предметы существую-
-259-
щими, истоков их значимости вы не найдёте. Гуссерль
формулирует тезис естественной установки для того,
чтобы было от чего оттолкнуться и дистанцироваться. Эта
искусственная конструкция подводит под категорию
существования совершенно разные вещи, которые нужно
«заключить в скобки», или «подвесить», или
«воздержаться от суждений об их существовании» — все сразу, по
крайней мере, в «Идеях I». Таков метод дистанцирования
от естественного и перехода к «противоестественному» —
это слово употребляет Гуссерль в «Логических
исследованиях», характеризуя философскую рефлексию, когда ещё
не был введён термин «феноменологическая редукция»
и все указанные синонимы. (Вспоминаю классификацию
факультетов МГУ моих студенческих лет, сочинённую
явно математиками: один факультет — мехмат —
сверхъестественный, несколько естественных, несколько
неестественных — исторический, филологический — и один
противоестественный — философский. Не знали авторы,
что совпадут с выдающимся немецким философом.
Гуссерль, как бывший математик, хотел очередной раз
сделать из философии нечто сверхъестественное.)
В человеческом мире «естественное» может иметь
самые разные значения. Одно из них находим у О. Уальда:
«"Being natural is simply a pose, and the most irritating pose I
know", cried Lord Henry, laughing». Когда слово становится
термином, оно требует анализа. Такой анализ мы
находим, например, у Ф. Брентано, который различал два
разных значения этого слова. У Гуссерля die natürliche
Einstellung можно перевести и как «обыденная
установка». Разве это не поза-позиция — признавать, что неявно
признаешь существование предметов окружающего
мира? Речь идёт об искусственном выдвижении на передний
план темы существования предметов и тем самым о
смешении вопросов о существовании и функциональном
действии. В обыденной (естественной) установке мы
привыкаем (Юм) и доверяем функциональной значимости
— 2бо —
предметов. Если угодно, мы верим в функции, то есть мы
верим, что если нажмем на ту или иную кнопку, то прибор
будет работать в нужном режиме. Мы понимаем
предназначение предметов: «Вот это стул, на нём сидят, вот это
стол, за ним едят» (пока ещё «Кошкин дом» не разобран
психоаналитиками — или уже? — я позволил себе эту
цитату). Кстати, всё это «навязанные» нам в детстве
«мнения». Теперь другие мнения, навязанные другими людьми
и средствами, и студенты сидят, лежат и едят на полу в
коридорах университета.
Известный тезис Канта: Существовать — не есть
реальный предикат, то есть не предикат вещи, отчасти может
служить здесь ориентиром. В действительности, то есть
в системе действий, нет места «существованию».
Существование противоположно несуществованию, то есть
иллюзии, обману, галлюцинации. Когда возникает
подозрение, что кто-то или что-то нас вводит в заблуждение, тогда
речь идёт о существовании. Или же мы замечаем
существование чего-то, когда это что-то не срабатывает, на это
обращал внимание Хайдеггер.
У Гуссерля сначала создается конструкция под
названием «естественная установка», основу которой должна
составлять вера в существование предметов мира и мира,
как будто в «реальном окружающем мире» (reale Umwelt —
термин, который появляется на следующей странице
после «генерального тезиса»), люди не могут жить без этой
веры. Всё же вера — это акт сознания, и это вполне
согласуется с гуссерлевскими воззрениями, однако такой акт
как раз не обнаруживается в обычной и естественной
жизни, но только предполагается. Какая же это
феноменология? Г. Аземиссен, написавший одну из первых книг о
Гуссерле, различал философию Гуссерля и феноменологию
в его трудах. Феноменологическая редукция должна, по
замыслу Гуссерля, привести нас к нейтральной позиции
в отношении существования или несуществования
предметов. Вот здесь главная интрига! Почему редукция была
-261-
воспринята как откровение, как новое слово в философии
и так далее? Именно потому, что Гуссерль делает отчасти
понятной обыденную жизнь, в которой имеют место
только частные установки в отдельных мирах и которая в
целом, если она вообще имеет место в целом, изначально
нейтральна по отношению к вопросам о существовании.
Как раз в естественной установке мы фактически
воздерживаемся от суждений о существовании. Парадоксально:
феноменология не уводит, а приводит нас к обыденной
жизни, и Хайдеггер, а затем Щюц и другие извлекли из
этого каждый свой урок. Феноменология становится
интуитивно понятной, но обилие новой терминологии
препятствует пониманию функционального (не «бытийного»)
характера проблем сознания. Сейчас десятки, а то и сотни
людей пишут о феноменологии, неужели они все
добрались до «горной страны феноменологии», о которой
Гуссерль писал Шпету? Горная страна, феноменологическая
Шамбала — это вымысел, если не «идеология». Автор
книги наивно принимает «наивную установку», всё же это
интерпретация Гуссерля, а не «сам действительный мир».
3. Между реальным Лихтенбергом и Лихтенбергом
Андрея Платонова (встреча Платонова, по крайней мере
как автора рассказа «Мусорный ветер», и В. Сорокина
в книге Чернавина как раз вполне оправдана) были ещё
Вл. Соловьёв и Густав Шпет, которые обсуждали вопросы
о ничьём сознании; автор мог бы включить это в
рассмотрение. Может быть, тогда выявился бы контекст, на
который указал Михаил Белоусов.
4. Еще раз о языке: Г. Чернавину самому присущи иде-
ологемы, причем такие давние, что многие их уже не
считают таковыми. Автору «Мнения тролля» известно,
конечно, что Führer в переводе на русский язык означает
«руководитель», «вождь», «лидер» (последнее слово уже
вошло в русский язык). Но стремление представить Хай-
деггера не просто нацистом, но ещё и отчасти безумцем,
оказывается сильнее; Чернавин переводит это слово как
— 2б2 —
«фюрер»103 (это тем более странно, что Хайдеггер пишет
о каждом руководителе, или вожде, если угодно), читая
тексты Хайдеггера в архиве и в одиночестве. Само по себе
это было бы смешно, если бы не было так грустно. Все
остальные в архиве не сидят, но обсуждают «Чёрные
тетради», и Хайдеггер снова стал популярным!
5. О народе. Михаил Белоусов указал, что об общей
судьбе и о немецком народе Хайдеггер писал в «Бытии
и времени» (1927). «Осмелюсь доложить», как говаривал
один абсолютно «неидеологичный» литературный герой,
что в статье пишущего эти строки уже были приведены
эти же цитаты и проведён анализ хайдеггеровского
понимания истории и историчности (Вопросы философии,
2013, №7, 24-36; в книге 2015 г. эта статья
воспроизведена). Относительно объективного времени: когда
Хайдеггер читал лекции в Марбурге (1925) и готовил к
публикации «Бытие и время», Гитлера только-только выпустили из
тюрьмы. Dasein у Хайдеггера — это и индивид, и народ,
ибо «нет отдельной судьбы». Ценность цитирования
архивных материалов в книге Чернавина очевидна: «Народ,
сущее, имеет вполне определённое отношение к своему
бытию, к государству». Это высказывание выглядит
смешным только потому, что хайдеггеровское «бытие»
рассматривается как нечто идеологически нейтральное. Кроме
того, читатель не проводит различие между народом и
населением. «Население» — термин разных наук, как
правило, идеологически нейтральный, не так обстоит дело со
словом «народ»; Гегель говорит о «духе народа», он не мог
бы сказать о «духе населения», и Хайдеггер здесь
продолжает эту традицию. Можно вспомнить и о попытке
создать «новую историческую общность» «советский народ».
На бумаге или в реальности — до сих пор существуют
разные мнения, именно мнения, поскольку речь идёт не
о фактах, а о проектах и их возможном осуществлении.
6. Потёмкинские деревни любого рода, в том числе
выражение мнений, не только чужих, но и приукрашива-
— 2бз —
ющих одну «действительность», подвергая суровой
критике другую, возможны потому, что эти «деревни» коренятся
в человеческом сознании, в человеческом мире; они
в природе вещей. Речь идёт о множественности
коммуникаций и миров. С детьми говорят иначе, чем с взрослыми,
с друзьями иначе, чем с коллегами, с близкими иначе, чем
с недалекими и так далее. Эта лабильность необходима
для нормальной жизни, но может быть использована во
зло — лицемерие, обман, платные мнения.
Удалить из себя чужое, как известно, приём Гуссерля
в «Картезианских медитациях», приём методический
и искусственный. Такая операция по удалению в каком-
то смысле опасна, как и все попытки прояснить, познать
себя, отделить от чужого; всё это в лучшем случае
препятствует коммуникации, а в худшем — становится
материалом для антиутопии прозрачности. Открытость и
прозрачность — разные вещи. Вообще это интересная тема,
что должно быть открытым и прозрачным в государстве
и обществе, а что — в собственном сознании и
жизненном мире. Дискуссии и аргументы, сопоставление
суждений и эмоций в коммуникации, рассмотрение дела, а не
подчёркивание участия в этом деле своего Я, — это
лучшая гарантия бодрствования и баланса реального и
нереального.
7. Дальнейших успехов и дискуссий!
Андрей Паткуль
Первая слава бытия
и троллинг чистого разума
Новая книга Георгия Чернавина «Мнение тролля: к
феноменологии недобросовестной веры*» даже самого
консервативного читателя заставит почувствовать себя
ультрамодным. Здесь всё «как надо» в актуальном тексте:
зачёркивания, перечеркивания, курсивы, астериски,
надстрочные, подстрочные и двоящиеся написания,
иронические переформулировки литературных,
публицистических и даже рекламно-пропагандистских клише. Если не
уяснить сразу и не запомнить, какую функцию выполняет
каждый из этих приёмов в изложении, то в глазах может
зарябить, а голова пойти кругом. По книге видно, кстати,
что дефисное и слешевое письмо как-то уже не в чести
у современных философских писателей. Вдобавок автор её
разворачивает ряд остроумнейших разборов самых
разных случаев и персонажей, о возможности объединения
которых под одной обложкой до знакомства с книгой едва
ли можно было даже подозревать. Тут найдутся и платный
тролль — всё-таки центральный герой книги — и
анонимный читатель газет вкупе со вполне конкретными
авторами проходной газетной заметки из эпохи заката СССР,
Гуссерль и Сартр, Кьеркегор и Альтюссер, солдат АзБуки-
Веди, пришелец Иванов и Папула. Особо хочется отметить
приведённую в книге блестящую реконструкцию рожде-
-265-
ния песенного творчества Петра Мамонова из духа поэзии
Марины Цветаевой. Оппоненты, правда, настаивают:
многие достойные фигуры так и не попали на страницы
новой книги Георгия. Принцип отбора, впрочем, как
попавших в книгу героев и сюжетов, так и не попавших
в неё, хотя и имевших основания рассчитывать на
присутствие там, так и остаётся загадкой. По прочтении текста
ясно одно: феноменология сегодня возможна только как
case studies, a case studies — только как феноменология.
Ну и, конечно, чтение её порождает мнение* о том, что
вместе с автором и его текстом, находишься, что
называется, на пике актуальности.
Но главное, читая книгу Чернавина, не следует
забывать, что за чредой громких феноменологических
разоблачений мнений различного типа скрывается
высочайший уровень философской культуры и самое серьёзное
теоретическое содержание. К этому содержанию и
хотелось бы здесь обратиться.
Предлагаемое автором книги «Мнение тролля» в этом
смысле можно расценить не иначе, как набросок своего
рода феноменологической доксологии — учения о том, что
и в каких модусах данности мнят пленники платоновской
пещеры. Разумеется, это пока только набросок,
выполненный в ставшем уже традиционным для феноменологов
жанре «Идеи к...». Собственно, такой подзаголовок и
можно было бы дать этому произведению: «Идеи к
феноменологической доксологии». Евгений Блинов не без
оснований подметил, что в отличие от классической метафизики
и структурализма феноменологической школе Чернавина
не хватает воли к таксономии и классификации. Хотя,
справедливости ради, надо констатировать, что всё же
определённые проекты классификации мнений, от
которых можно будет отталкиваться в дальнейшем, в
монографии представлены.
В любом случае, казалось бы — как возможно нечто
подобное λόγος των δοξών? Но ведь, вспомним, как раз самые
-266-
ведающиеся из пленников пещеры — «исходя из этого (из
того, что вещи были увидены как появившееся раньше,
позже или одновременно —АЛ.), они способны
предсказывать будущее (έκ τούτων δυνατώτατα άπομαντευομένψ τό
μέλλον ήξειν)» (Rep. VII, 516 d; Платон 1994, 297), то есть
способны к тому, что современная эпистемология и
требует от современной науки. А отказывать последней в
рациональности рискованно. Доксология, как логия, — сама
наука.
И это, на наш взгляд, ключевой момент: в основе
мнения, которое пленники принимают за собственно науку,
лежит постоянство следования одного за другим или его
одновременного появления. Сюжет узнаваемый. В
определённом контексте, значимость которого очень хорошо
показала письменная дискуссия вокруг книги Чернавина, он
воспроизводится у Юма. Ну и, конечно, сюжет этот
приводит нас, как это показано Георгием, к понятию
согласованности у Гуссерля. А понятие это неразрывно связано с
«генеральным тезисом», который основатель современной
феноменологии обнаруживает в так называемой
«естественной установке». Этот генеральный тезис есть перво-
мнение, мнение всех мнений, ну или всем мнениям
мнение. Нельзя не согласиться с суждением А. Ямпольской,
которая видит центральный для всего исследования
Чернавина замысел в возведении любых доксических полага-
ний — вплоть до самых тривиальных — к перво-мнению:
«die» Welt ab Wirklichkeit ist immer da. Решающее здесь —
и тут я целиком и полностью согласен с Анной
Владимировной — как раз в том, что Георгий не дифференцирует
смысл доксы в любом другом мнении, укоренённом в перво-
мнении, и самого перво-мнения. В самом ли деле характер
мнения, допустим, читателя утренней прессы идентичен
характеру мнения того, кто вообще имеет дело с чем-то,
что сейчас, не важно, каким именно способом, есть, с
сущим? Является ли вообще отношение к тому, что есть,
поскольку оно есть, мнением? Возможно ли оно в этой сфере?
-2б7-
Уже сейчас становится явным, что в нашем
рассуждении речь не идёт «о букве» гуссерлевской
феноменологии — поэтому-то рассуждение это едва ли можно назвать
возражением автору книги и его интерпретациям текстов
классиков феноменологической мысли. Оно, скорее,
индикация некоторого принципиального метафизического
затруднения, на которое нас наталкивает, в том числе, и ход
мысли Георгия Чернавина в его книге. О «букве»
философии Гуссерля и её переводе в этой монографии очень
удачно, кстати, сказано в проницательной реплике Михаила
Белоусова. С указанным затруднением не может так или
иначе не столкнуться и феноменологическая
философия — и это ещё большой вопрос, хватит ли у неё средств,
чтобы совладать с ним, не впадая в спекуляцию и
конструирование. Его можно было именно в феноменологическом
контексте негативно обозначить как невозможность
абсолютного выключения полагания бытия. Да, пожалуй, мы
можем приостановить суждения о «мире» в плане его
действительного-существования-вне-нашего-сознания,
хотя как раз феноменологической философии и удалось
показать, что мир по своему понятию a priori — это вообще
не нечто, что имело бы место как действительное,
независимо от конститутивной деятельности этого сознания.
Поэтому осмысленность вопроса о его действительности без
такой деятельности вообще требует отдельного
разбирательства. Но речь сейчас не об этом. Речь о том, что, хотя
суждения о действительном существовании мира вне
сознания можно приостановить, бытие «мира», если угодно,
нельзя обрушить. Не важно, что и каким способом «мир»
есть — совокупность протяженного сущего вне моего
сознания или феномен самого этого сознания, проект в уме
Бога или провокация злокозненного демона, действителен
ли он или необходим, или только возможен — он есть,
и в этом «есть» усомниться уже невозможно, его нельзя
выключить. Как раз феноменологически мы понимаем, что
неспособны иметь дело с nihil absolutum. Последователь-
-268-
ный и абсолютный скепсис упираются в абсолютное пола-
гание. И полагание это — не полагание бытия
абсолютного сознания, или бытия абсолютного домена реального,
а позиция того, что вообще есть, и как то, что есть, есть
сущее. Сущее, которое, правда, для конечного ума
рассыпается на множество различных значений, единство и
взаимосвязь которых так и остаются непонятными. Но такое
полагание — в отличие ото всех других, производных, по-
лаганий — из самой полагающей инстанции мыслится как
индифферентное по отношению ко всем её полаганиям.
И в этом смысле, конечно же, оно их всех упреждает.
Поэтому вообще характеристика такого обнаружения как по-
лагания (позиции) остается спорной.
Этой истине, как известно, нас научил наш отец —
Парменид. Бытие есть! Разумеется, это не логический
вывод, как могло бы показаться, от обратного — из того, что
допущение небытия бытия содержит в себе противоречие.
Речь ведь не идёт здесь вообще о суждениях. Равно и
допущение бытия небытия — небытие ведь невозможно ни
помыслить, ни высказать. А мыслить и быть — то же
самое. О каком «мыслить» тут говорится? О том, которое
готово уступить себя «быть» как тому, что неотмыслимо.
И здесь, конечно, возникает вопрос, а как и почему это
неотмыслимое опознаётся в качестве того-то и того-то.
И он в самом прямом смысле является
феноменологическим (etwas als etwas). Почему вообще перво-мнение, пер-
во-полагание опознаёт это неотмыслимое как
неотмыслимое мира? Или даже как сам мир, которому принадлежит
эта неотмыслимость? Достаточно ли для этого
согласованности его — той согласованности, которая позволяет
пленникам пещеры предсказывать появление и порядок
следования теней? Или, в других версиях, — как ens
realissimum, бытие которого необходимо? Как causa sui?
Или — ещё в других — как ego cogitans? Почему, далее,
сама эта неотмыслимость сразу же рассматривается как
действительность (da sein), то есть опять же как модальное
— 269 —
определение? А не как универсальная возможность? Что
мотивирует все эти идентификации?
Мы как-то подзабыли, что слово δόξα, пусть и не в пар-
менидовском его понимании, означает не только мнение
и чаяние, но и, сильнее, блеск и славу, сияние славы.
И, глядя философски, пра-докса — это вовсе не первое
мнение и допущение, которое ещё можно будет
апостериори разоблачить (άληθεύειν), а само перво-славие.
Славимое им упреждает любые попытки вывести мнения на
чистую воду, любой скепсис упирается в эту границу, что,
кстати, замечательно показала небезызвестная попытка
направить его «на весь объём являющегося знания».
Помнится только, она начинала как раз с того, что
фиксировала «eine natürliche Vorstellung» в самой философии, но
и сама видела её (Vorstellung) уже в свете абсолютного
знания, которому, чтобы видеть, уже нужно было ввести
чистую негативность в порядок усматриваемого — так,
что, хотя именно этой попыткой наиболее убедительно
было показано, если у мысли и есть что-то первое и неот-
мыслимое, то это — чистое бытие, а это чистое бытие
есть не более чем неопределённое непосредственное
(правда, только как снятие всех возможных
опосредствовании мысли\) и, как таковое, ничто. Допущение
небытия/ничто — приём знакомый. Именно он был главным
орудием покушения на отцеубийство Парменида
Платоном. Он же, что важнее в связи с обсуждаемой книгой,
причём не без бросающейся в глаза зависимости от
упомянутой попытки скепсиса, направленного на весь объём
являющегося знания, даёт о себе знать в феномене
недобросовестной веры* Сартра.
Впрочем, для нас здесь важнее другой пример —
пример Декарта, с эпохального обнаружения которым неот-
мыслимости sum в ego cogitans, видимо, начинается вся та
волна философских разоблачений и поиска
достоверности (и снова отказа от нее), к которой принадлежит
и трансцендентальная феноменология Гуссерля, обнару-
-270-
живающая «генеральный тезис» «естественной
установки» в качестве «die» Welt ah Wirklichkeit ist immer da.
Часто ли вспоминают, что Декарт, приступая к
исполнению своего радикального сомнения, которое, казалось
бы, пусть и на какое-то время, неизбежно должно лишить,
в том числе и в экзистенциальном смысле (потеря смысла
высказывания «я существую» — в книге Георгия), любой
основательности и уверенности, вовсе не желает
испытывать такого дискомфорта. Поэтому подобно тому, как
«начиная перестройку помещения, в котором живёшь, мало
сломать старое, запастись материалами и архитекторами
или самому приобрести навыки в архитектуре и, кроме
того, тщательно наметить план — необходимо
предусмотреть другое помещение, где можно было бы с удобством
поселиться во время работ» (Декарт 1989, 263), так и
радикально сомневающийся философ должен прежде
исполнения своего сомнения и обретения несомненного
создать ситуацию, в которой труд сомнения вообще может
быть осуществлён. Как известно, гарантией такого
удобства на время сомнения и поиска несомненного у Карте-
зия играют разработанные им правила морали. Он пишет
так: «чтобы не быть нерешительным в действиях, пока
разум обязывал меня к нерешительности в суждениях,
и чтобы иметь возможность прожить это время как можно
более счастливо, я составил себе наперёд некоторые
правила морали» (Декарт 1989, 263). Мы не будем здесь
анализировать каждое из них, а только спросим — каков их
метафизический смысл и каков их метафизический статус
(см. Паткуль 2005). И позволим себе напомнить всё же
одно — второе — правило морали. Вот оно: «оставаться
настолько твёрдым и решительным в своих действиях,
насколько это было в моих силах, и с не меньшим
постоянством следовать даже самым сомнительным мнениям,
если я принял их за вполне правильные» (Декарт 1989,264).
Речь, как видно, идёт о мнениях*. И они вовсе не
отвергаются, а напротив — принимаются и культивируются, «да-
-271-
же самые сомнительные»; во всяком случае, пока мы не
достигли, говоря более поздним языком, выключения
генерального тезиса естественной установки. Но чтобы
выключить его, мы уже должны держать связь с сущим
«миром», хотя бы ценой верности «сомнительным мнениям»
или, в том числе, следования уже установившимся
законам, правилам и обычаям. Что же? Неужели Декарт —
главный тролль философии? Тот самый Декарт, на
обретении которым ego cogitans и строится разоблачение любого
мнения как мнения*? Именно он первым то ли сдал в наём
своё ego cogitans в обмен на удобство, с которым
исполняется радикальное сомнение, то ли нанял чужие мнения
в поиске этого ego. Чистый троллинг чистого разума. Весь
пафос экзистенциальной значимости картезианского
обретения ego cogitans, который так часто акцентируется,
в частности, у Мамардашвили, оборачивается фикцией.
Поиск fundamentum inconcussum — сугубо теоретическая
задача, которая вообще не затрагивает sum в cogito. А вот
следование «сомнительным мнениям», которыми, как
оказывается, уже позиционировано нечто такое, что
вынуждено упреждающе допускать само теоретическое
сомнение, то есть та самая жалкая онтика sum,
относительно которого нельзя даже утверждать, что оно sum некоей
res cogitans, очень даже затрагивает. То, что диктует
необходимость следовать моральным правилам, уже есть.
Конечно, в защиту Декарта само собой напрашивается
такой аргумент: его допущение и даже требование
принятия «сомнительных мнений» прежде всякого обретения
несомненности ego cogitans — это чисто
методологический ход. Ведь res cogitans, бессмертие которой, кстати,
также ещё будет доказано, ничто на самом деле не
угрожает, тем более какая-то там «нерешительность в
действиях». Res cogitans — это, должно быть, то, что уже было
заключено в любой онтике сомневающегося существа ещё
до того, как в акте сомнения sum её cogito будет обретено.
А из этого обретения уже, обратным образом, в случае не-
-272-
обходимости те или иные правила морали, вообще все
некогда «сомнительные мнения», державшие на себе эту он-
тику в ходе чисто теоретического сомнения, будут
реабилитированы либо отвергнуты.
И тут возникает решающий вопрос: В каком смысле ego
cogitans может уже быть первым? В каком отношении
оно есть уже включённая в первую славу сущего, но при
этом ещё только искомая, αρχή такового?
О Декарте, приступающем к исполнению своего
радикального сомнения, Шеллинг пишет: «Говорят, что
греческий философ Фалес задавал вопрос: что есть первое
и древнейшее в природе вещей? Здесь эта изначальность
предполагалась как нечто объективное. Декарт же
спрашивает только, что для меня первое, и на это он мог,
конечно, ответить только одно: я сам и я сам лишь как
бытие» (Шеллинг, 1989,389). Пойдём на риск и переспросим:
в самом ли деле Декарт ставит вопрос о первом «для меня»
или его вопрос всё же о «первом и древнейшем в природе
вещей». И его ответ — ego cogitans — касается ли он как
раз ясного и понятного по природе или всё-таки для нас?
Первым «для меня» в такой оптике была бы как раз
безопасность, в которой я, сомневаясь, чисто теоретически
ищу несомненное, и которая обеспечивается пока ещё не
обоснованными из «первого и древнейшего в природе
вещей». A ego cogitans — это как раз то, к чему лежит
«естественный путь» сомнения от ясной и понятной для нас
безопасности, счастливого состояния. Ego cogitans, стало
быть, уже должно предполагаться в его sum прежде его
опознания в акте сомнения как то, что уже было ровно
столько, сколько мыслило. Но беда в том, что это ego как
«древнейшее в природе вещей» есть только как «для
меня», как ясное и понятное для нас, ведь, как известно, ego
cogito есть всегда только как ego cogito me cogitare. Это
обстоятельство, видимо, на свой лад и зафиксировал
Шеллинг в приведённой выше фразе. Мы же подытожим
данный период рассуждения так: перво-славие сущего как
-273-
сущего редуцируется к мнению о «действительности
мира» вне сознания и в качестве такого рассматривается как
подлежащее выключению там и только там, где допущена
подмена «первого и древнейшего в природе вещей»
и «первого для меня». Тогда, конечно, на долю философии
выпадают критика и разоблачение, сомнение и
выключение. Не удивительно, что они адресуются изначально
перво-мнению.
Собственно, это подводит нас к обсуждению, скажем
так, методологической стороны исследования Георгия
Чернавина. Его основной пафос состоит в необходимости
показать эпистемическую недостаточность мнений — как
перво-мнения, так и всех от него производных. Именно
поэтому его работа превращается в последовательное
разоблачение их всех, разоблачение, которое, собственно,
ничем определённым не заканчивается. Мы лишаемся
одного мнения и тут же попадаем в плен другого: как было
сказано в возражениях Евгения Блинова, мы словно бы
пробуждаемся от одного мнения к другому, то есть,
добавим мы, не пробуждаемся вовсе. Продвижение в
разоблачении никогда не заканчивается, в отличие от
упоминавшихся уже выше опытов скепсиса в истории философии,
вместе с Георгием Чернавиным мы не можем после
долгого плавания по бурному морю крикнуть: «Суша! Суша!».
Единственный выход из этой, выражаясь в гегелевском
духе, «дурной бесконечности» — это дождаться, когда мы
утонем, и тем самым поиск terra firma потеряет для нас
всякую значимость.
Собственно, в таком способе действия нет ничего
предосудительного. Что, как не он, позволяет чуть ли не
мгновенно сколотить философу исходный символический
капиталец. Умение показать, что нечто не таково, каким оно
является, и тут же вывести прячущееся за ним, что
называется, за ушко да на солнышко, — что иное может так
привлечь обучающуюся молодежь и служить её παιδεία.
И как только, казалось бы, выведенное на солнце заявит
-274-
о себе в своем самобытии, сразу же показать, что и оно
только предмет мнения и являет себе не тем, что оно есть.
Диалектики самых разных мастей и дарований постоянно
демонстрируют эту виртуозную технику — и их
неизменно ожидает успех у публики. Но есть ли у так понятого
философского дела хоть какая-то конечная разрешимость?
А ведь она есть, ну или должна быть, у каждого дела.
Иначе оно не будет сделано, а мы не сможем его оценить. Или
же всё-таки это слишком самонадеянная претензия
философии? И она должна только выдвигать негацию ко
всякой упрежденной позиции, прежде всего — первой славе
бытия, но сама не предлагать ничего позитивного,
которое всякий раз оборачивалось бы идеологией, как нас
и учит один из упомянутых диалектиков.
Вопрос о возможных философских позитивностях —
это вопрос, который, безусловно, провоцирует книга
Георгия Чернавина. Какие из них можно считать
удовлетворительными? И до каких пор? Вопрос о позитивном иногда
кажется недостойным философии, но от него едва ли
стоит уклоняться, особенно феноменологам, которым ведь
завещано быть «подлинными позитивистами». Каково
вообще достойное отношение критики и позитивного?
Возможна ли критика без упреждающей её и имеет ли она
смысл без наследующей ей позиции?
Вероятно, эти вопросы вообще можно было бы
отбросить, если бы не первая слава «быть», которому как
первому неотмыслимому уступает себя «мыслить». Если бы не
эта единственная граница, которая должна и может
мыслиться как аффирмация, а не — к чему приводил
скептицизм, направленный на весь объем являющегося
знания — как негация. Онтологически именно эта граница
и задаёт возможность конечного разрешения любой
философской исполненности. Вопрос о такой разрешимости,
таким образом, уже не лишён смысла.
Философия, которая всё видит в качестве мнения и его
предмета, нацеливаясь исключительно на их разоблаче-
-275-
ние, и в самом деле становится, как говорится,
философией подозрения. Нелепейшее словосочетание! Философия,
мы знаем, по роду своему — любовь. Подозревающий
боится (что нечто не таково, каково оно ему открыто), а про
боящегося известно также, что он не совершен в любви.
Любовь не начинает с подозрения и не заканчивает им, не
останавливается на нём. Как только явилось
подозрение —любви уже нет. Это не мотив любви — разоблачать.
В подозрении нет главного — великодушия, позволения
любимому быть тем, кто/что оно есть, являя себя в том,
что и как оно есть (главная заповедь феноменологии).
Но именно оно есть в любви к мудрости, в способности
видеть славу того, что уже, упреждая, есть. Сказанное не
значит, что философский скепсис не уместен. Вовсе нет.
Но только разрешимость конечного разрешения может
показать то, где он является уместным — там, где он не
только негативен, ловко показывая обманку, на которую
мы купились, следуя мнению, но и аффирмативен, то есть
позволяет выявиться собственным чертам любимого, его
существу. Поэтому-то некоторые мыслители и говорят
нам, что начинать любовь к мудрости надо не с сомнения
и подозрения, а с «любви к реальному» (Шеллинг) и
«благодарения» (Хайдеггер).
За последнего, в заключение, хочется заступиться особо.
Конечно, в GA 38 тот делает удивительный пируэт от
логики к языку, а от этого к последнего — к народу.
Удивительно, что недоброжелатели Хайдеггера вообще терпеливо
ждали публикации «Чёрных тетрадей», чтобы ополчиться
на него за тенденцию мыслить народ как сущее,
обладающее бытийным измерением. Но в самом ли деле народ в
речи Хайдеггера — это идеологема? Георгий отмечает, что
у Хайдеггера в GA 38 это слово употребляется с
определённым артиклем. Во-первых, это не совсем так: в зависимости
от контекста, можно встретить здесь употребление этого
слова и с неопределённым артиклем — когда философу
надо показать, что, и в самом деле, народ, к которому я при-
-276-
надлежу, это всякий раз один из народов (ср. Heidegger,
1998,18,57,67,129,130,158,164). Но, во-вторых, даже
когда — а это, правда, происходит чаще — Хайдеггер
употребляет данное слово с определённым артиклем, такое
употребление вовсе не следует читать так, что существует один
и только один народ, достойный быть народом (очевидно,
что автор «Мнения тролля» убеждён, этот народ — немцы).
По крайней мере, существует ещё один народ с
определённым артиклем — эллины. Но, как показала публикация
«Чёрных тетрадей», народов с определённым артиклем
гораздо больше, к ним относятся, кстати, и русские, и именно
эта определённость таких народов заявляет себя в
бытийной истории. Определённый артикль перед словом «народ»
означает только одно: я как этот вот могу принадлежать
только этому вот народу. Только к одному народу я могу
обратиться в сингулярисе: «Ты, мой народ!». Так получается,
что нет никакого народа народов, их всегда множество, да,
но в этом множестве каждый народ — всегда этот, всегда
с определённым артиклем. И он таков для каждого
отдельного человека: только этому, а не иному народу он
присягает на верность, только этот, а не иной народ он предаёт.
Сказанное не должно означать ни того, что кровь
определяет принадлежность к народу, ни того, что невозможно быть
космополитом и апатридом. Принадлежность народу для
Хайдеггера — это вообще не формально-математическое
отношение элемента ко множеству, включаемому в него на
основании произвольного признака. Народ — это, прежде
всего, самость, о которой каждый «я» может сказать «мы».
Он не сумма элементов. Является ли такое «мы»
собственным или несобственным совместным бытием (Mitsein), это
надо прояснять отдельно. Кажется, автор книги заведомо
убежден, что такая, как и любая другая, аутентичность
невозможна в принципе. Мы сейчас не можем в это вдаваться.
Но если уже нет этого «мы», то возникает вопрос, можно ли
вообще быть верным чему-либо или оказаться предателем
чего-либо. Своим интересам? Человеческому достоинству?
-277-
Возможно. Это всё темы для отдельного рассуждения. Здесь
важнее подчеркнуть, что для нас остаётся насущным
затруднением, является вообще затея Хайдеггера поставить
вопрос об онтологическом статусе народа — бессмыслицей,
политически идеологизированной акцией или смелым
и значимым философским начинанием. Конечно, нередко
выражения, в которых он говорит о народе, кажутся
стандартами, в том числе и националистическими. В конце
концов, ведь и Гуссерль говорит в цитируемом в книге письме
канадскому коллеге (с. 68) о «душе немецкого народа»,
о «Франции, которая своими почти ежедневными
унижениями, руганью, срывами договорённостей подвергает нас
(то есть, видимо, немцев, которых Гуссерль
идентифицирует здесь как «мы» —АЛ.), бессильных, мучительнейшим
истязаниям» и вообще в возникновении «ответной реакции
ненависти» обвиняет исключительно поляков. (Очень
надеюсь, что Гуссерля на этом основании не обвинят в фран-
кофобии и антиполонизме). Но означает ли это, что тема
народа должна стать табу для философского мышления под
предлогом того, что это предмет определённым образом
конституированного мнения? Что у этого мышления
вообще появятся табуированные темы? Будет ли это теперь
означать, что всякая философская речь о народе — в том
числе о таком, от которого требуют проявить свою волю
и выступить за или против на плебисците — должна
истолковываться как националистически ангажированная идео-
логема? Сомнения нет, идеология не может не
паразитировать на принадлежности народу, а для продолжения этого
паразитирования прямо или косвенно культивировать если
не саму эту принадлежность, то то, как она должна была бы
выглядеть в глазах тех, кто народу принадлежит, чтобы
быть безопасной для самой идеологии. Но здесь мы как раз
сталкиваемся с позитивностью: для того, чтобы идеология
могла худо-бедно культивировать принадлежность к
народу, принадлежность эта уже должна иметь место. Как
и в том примере, который приводит сам автор книги в от-
-278-
вет на возражения: из того, что идеология сформировала
у меня некое щемящее чувство по поводу своего родного
края с помощью детской песенки о «крае родном навек
любимом», ещё не следует, что сам этот край неродной и
нелюбимый. Никакая песня, независимо от её
художественных достоинств, используемая в идеологических целях, не
пробудит щемящего чувства Родины, если она уже не
является родной и любимой. Что-то похожее происходит и с
принадлежностью к народу: важно только видеть дистанцию
по отношению к эксплуатирующей принадлежность к нему
идеологии и точно различать характер идеологического
опосредствования из обратного. Поэтому критика
идеологии важна, но она никогда не окажется решающей. Ибо
если она изолируется и объявляется решающим и даже
исключительным делом философского мышления, становится
ясно: так понятая критика идеологии сама есть не что иное,
как идеология.
посёлок Лисий Нос
23 июля 2020
Литература
Декарт Р. Рассуждения о методе, Чтобы верно направлять
свой разум и отыскивать истину в науках // Декарт Р.
Сочинения в 2-х томах, Т. 1, М., 1989.
Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений
в 4-х томах, Т. 3, М., 1994.
Паткулъ А.Б. Этическое и онтологическое //
Метафизические исследования, № 216,2005,59-70.
Шеллинг Ф.В.Й. К истории новой философии.
(Мюнхенские лекции) // Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2-х
томах, Т. 2, М., 1989.
Heidegger Μ. Gesamtausgabe, П. Abteilung, Bd 38: Logik als
die Frage nach dem Wesen der Sprache, Frankfurt а. M.:
V. Klostermann, 1998.
Вадим Руднев
Странные объекты на службе
у бесплатного троллинга
Некоторые соображения на полях книги
Георгия Чернавина
никогда не спрашивай, в ком
бьётся сердце тролля, может быть, оно
бьётся в тебе*
Г. И. Чернавин
Книга Георгия Чернавина это в некотором роде
памфлет — не знаю, хорошо это или плохо, но его за то по
головке явно не погладят. Слишком много политической
фразеологии, слишком много платных троллей в
сочетании с Гуссерлем и Финком. В этом плане книга Чернавина
парадоксальным образом смыкается с другим
философским памфлетом — «Бесконечным тупиком» Д. Галковско-
го. Там и проблематика почти та же — оборотничество
языка. Мне-то что! Мне что коронавирус, что не коронави-
рус, я всё равно сижу дома, читаю Лакана (sic!), «пишу
свои вирши, живётся легко» (H.A. Некрасов).
рождественский гуссерлъ*: «Мир как
действительность всегда уже здесь*»104
Вадим Руднев: «Мира как действительности никогда
здесь нет!» Никакого мира, никакой действительности
нет, это иллюзия, обман, бред; и сами мы — галлюцини-
-280-
рующие галлюцинации. Мы все галлюцинируем. Значит
ли это, что нас на самом деле не существует? Нет, это
означает другое: что мы не знаем, как на самом деле
выглядит внешний мир. Как известно, Гурджиев утверждал,
что человек — это спящая машина. Но дело даже не в Гур-
джиеве. Когда мы спим в узком смысле слова, то каждый,
как правило, видит своё сновидение. Когда мы
галлюцинируем наяву, то мы все переживаем примерно одну и ту
же галлюцинацию. В книге «Логика бреда» я назвал это
согласованным бредом, опираясь на понятие Чарльза
Тарта «согласованный транс». Согласованному бреду
я противопоставил подлинный бред. К этим понятиям
можно подверстать концепты «согласованная
галлюцинация» и «подлинная галлюцинация». Когда мы сидим
в комнате и слушаем доклад, — это согласованная
галлюцинация. Означает ли это, что на самом деле мы нигде не
сидим, и нет никакого доклада? Доклад — это подлинная
галлюцинация. Значит ли это, что то, что я сейчас пишу,
является полным бредом? И если да, то каким,
согласованным или подлинным? Но согласованным не всегда
значит нормальным, а подлинным — не всегда значит
безумным. Также согласованность не подразумевает, что
люди хорошо понимают друг друга. Скорее, они делают
вид, что понимают. Они договорились, что следует
делать вид, что они понимают друг друга для того, чтобы не
было коммуникативного хаоса. Но коммуникативный
хаос не обязательно осуществляется в палате
сумасшедшего дома. Как показал Рональд Лэйнг, больные порой
очень хорошо понимают друг друга. Острый
коммуникативный хаос, коммуникативная энтропия,
коммуникативная фрустрация возникают при ссоре, скандале,
отношениях между детьми или родителями, людьми разных
социальных групп и так далее. Люди боятся
коммуникативной фрустрации и часто прибегают к различным
уловкам для того, чтобы добиться симуляции понимания.
Почему же люди так боятся коммуникативной фрустра-
-281-
ции? Потому что коммуникативная неудача
дезорганизует личность человека. Исходя из этнопсихологических
воззрений, можно предположить, что прообразом любой
коммуникации являются сексуальные отношения.
Сексуальные отношения мы понимаем в самом широком
смысле, прежде всего это отношения между ртом младенца
и материнской грудью. Если сексуальные отношения
неудачны, человек чувствует себя фрустрированным, то
есть либо несостоятельным, либо отвергнутым. Из
фрустрации, по Биону, существует два выхода. Либо человек
(младенец) даёт психотическую реакцию, либо он
начинает думать. Когда человек начинает по-настоящему
думать, он временно выходит из порочного круга
согласованных и подлинных галлюцинаций и бреда. Человек
начинает существовать в подлинном смысле. Это
декартовский критерий существования. Но увы, думание
может быть также согласованным и подлинным.
Большинство времени своего «существования» человек находится
в состоянии согласованного думания. То есть нам только
кажется, что мы думаем. Это мыслительная
галлюцинация. Кто-то навёл на нас недирективный гипноз Милтона
Эриксона. Кто? Господь Бог? Но Лакан считал, что Бог не
просто умер, но что он всегда был мёртв, просто не знал
об этом (Лакан 2006, 232).
Можно «лгать правду», а Витгенштейн считал, что
сказать ложь, но прямо и ясно, это значит уже сделать шаг на
пути к правде (цитата не точная; это из «Культуры и
ценностей») .
«Странное мнение* это такое, которое включает в себя
недобросовестную веру*» (с. 19). Мне обидно, что автор не
использовал здесь идеи Биона о странных объектах,
разбросанные здесь и там по его ранним книгам и статьям.
Я в своё время собрал эти замечания Биона и написал
книгу «Странные объекты: Феноменология психотического
мышления» (Руднев 2014). Странный объект это, в
сущности, галлюцинация, которая сильно воздействует на нас.
-282-
Странный объект не является ни одушевленным, ни
неодушевленным, ни спящим, ни бодрствующим, ни
существующим, ни несуществующим. Странный объект
мерцает, как мышь.
Можно верить или не верить в «агитационную
политику», уж больно это расплывчатый концепт. А вот можно ли
не верить, что ты сейчас сидишь за компьютером и
пишешь отзыв на книгу Гоши Чернавина? Или что у тебя
есть жена Таня Михайлова?
Как мне странно, что ты жена,
Как мне странно, что ты жива!
А я-то думал, что просто
Ты мной воображена...
(Александр Галич)
Георгий Чернавин молчаливо исходит из того, что
Я цельно. Между тем Лакан, на которого он не обращает
никакого внимания, уже в «Стадии зеркала» показал, что
это не так. Да что там Лакан! Уже Фрейд во второй топике
раздробил личность человека на Я, Сверх-Я и Оно. Вот
между ними и происходят «странные мнения*».
Сколько можно рассуждать о нацизме Хайдеггера?
Сколько можно мучмарить эту фонку? После
опубликования «Чёрных тетрадей» об этом пишут все, кому не лень.
Про иллокутивное самоубийство лучше было бы
ссылаться не на меня, а на первоисточник, статью Зино Венд-
лера, который придумал этот концепт (Вендлер 1985).
И то, что все контексты — косвенные, придумал не я, а
покойная Анна Вежбицка (Вежбицка 1985).
Но это всё блохи. Если говорить серьёзно, то именно за
такими людьми, как Георгий Чернавин, будущее нашей
философии.
Москва
14 мая 2020
-283-
Литература
Вежбицка А. Речевые акты // Новое в зарубежной
лингвистике, Т. 15. Лингвистическая прагматика, М.:
Прогресс 1985.
Вендлер 3. Иллокутивное самоубийство // Там же, 1985.
Лакан Ж. Семинары. Кн. 7. Этика психоанализа, М.: Ло-
гос/Гнозис, 2006.
Руднев В. Странные объекты: Феноменология
психотического мышления, М.: Академический проект, 2014.
Дарья Хомутова
Троллю, следовательно, существую
Возражение №1. ОЯи не-Я. Интересно, как легко было
пройти через эту книгу, так и не приходя в сознание*.
После прочтения у меня остаётся странный осадок, какое-то
только подобие мысли. Беспокоит то, что я не могу
принять сказанное в книге за нечто «само собой
разумеющееся». Автор создаёт смысловое поле, подрывающее даже те
аспекты реальности, что не были прямо поставлены под
сомнение.
Мне, конечно, самопонятно, что книгу написал
современный российский философ Г. Чернавин, и написал её
серьезно, очевидно намереваясь что-то важное читателю
разъяснить. Например, очертить хотя бы
приблизительное различие между «собственным» мнением и
«напускным». Да, автор, конечно, утверждает, что можно принять
чужое, «наведённое» за своё «подлинное». Но это «своё»,
хоть и постоянно якобы подпадающее под сомнение,
остаётся чем-то из разряда само собой разумеющихся
сущностей. Вроде как: «я, как действительность, всегда уже
здесь». Мы можем сомневаться в «составе» (Гуссерль 2006
§9, §47)105 этого «я», но никогда — в его наличии. Поэтому
нашему сознанию только и остаётся, что держаться за
мостик, связывающий неведомо кого с неведомо чем, точнее,
конечно, обнаруживать себя* всякий раз как собственно
этот мостик. Возможно ли, что сам, бегущий любого со-
-285-
мнения, троп про основательное себя и Я, спрятанное за
хламом несобственного, является наведённым? Но если
нет своего и чужого Я, тогда кто и на кого смог бы что-то
навести? Возможно ли, что сам Георгий Чернавин троллит
нас, разрешая сомневаться в одном направлении («мир»)
и игнорируя другое («я»)?
Возражение №2. О видах троллей. Георгий вводит
в своей книге три типа троллинга, которые можно
описать как платный сознательный («платный тролль»),
бесплатный сознательный («метатролль») и бесплатный
бессознательный («обычный человек», реализующий в речи
напускные мнения как «свои собственные»). Можно было
бы поговорить, в рамках левой критики, так же и о
платном бессознательном тролле, человеке, который
поддерживает напускные мнения, встроенные в удобный для
него порядок вещей (не от чистого сердца, конечно, а только
от «чистого сердца»), но в контексте исследования меня
интересует другой сложный вид тролля, которому, как
мне кажется, не хватило внимания автора.
В качестве основного примера метатролля мы видим
в книге микроблогера, выдающего чужие мнения как бы за
свои, помещая их в пространство личной страницы без
кавычек или гиперссылок. Буквально, он использует «чужое»
и выдаёт его за «своё» (этот тролль инверсивен
бесплатному бессознательному троллю, ведь там чужое использует
чьё-то собственное сознание и выдает себя за него). В этом
смысле метатролль делает такой специфический шаг
назад, что меняет субъект и предикат высказывания. Чужое
даже может подумать, что оно успешно захватило
сознание блогера, в то время как он сам захватился им, поместил
его в такую точку сознания, которая ему хорошо известна,
и которую можно при случае будет легко
продезинфицировать, стирая следы зараженного контента. Но сам
цитирующий метатролль является только подвидом метатролля*.
Метатролль* высказывает любое суждение как
несобственное, но не для того, как можно было бы подумать,
-286-
чтобы избежать осуждения, в постироничном духе
оправдываясь: «я это сказал, но на самом деле я так не думаю».
Задача метатролля* заключается в том, чтобы взять на
себя ответственность не только за любое высказывание, но
прежде всего за собственное потерянное сердце*, в
котором до сих пор не укоренилось ни одно мнение.
Возражение №3. Аргумент к юмору. «Если говорить
серьёзно», — мыслит метатролль*, — «то возможно ли
вообще что-то действительное сказать?» Если принимать за
очевидное и несомненное этот естественный тезис — «я
как действительность всегда здесь есть» — можно ли куда-
то вообще продвинуться? Замеченное отсутствие «я» на
том месте, где оно должно было бы быть, делает тролля*
чуть более сложным, чем мы можем себе представить.
Он теряет всякий пафос относительно произносимых
высказываний и начинает наблюдать за ними и за их
эффектами как бы со стороны. Теперь всё, чем он занимается,
это вышучивание* как «собственных», так и «чужих»
мнений. Это аморально, если только он принял за
действительность себя как отсутствующего субъекта, утвердив
новый вариант естественной установки — «если меня нет, то
всё дозволено», и не завершил диалектическую процедуру.
Метатролль* отслеживает появляющиеся мнения и
смеётся над «собой», обретая себя*, утверждая*: «если меня
нет, то я существую».
Спасибо за прекрасную книгу и формирование языка*
для невыразимого.
Пермь, август 2020
Анна Ямпольская
Возражения на «Мнение тролля»
Я с удовольствием прочитала новую книгу Г.И. Черна-
вина, и хочу высказать некоторые соображения по её
поводу. Почти все они касаются невысказанных
предпосылок, на которых строится эта работа.
Первая, и наиболее существенная предпосылка
заключается в том, что гуссерлевская Urdoxa, «вера в мир», или,
как переводит Г.И. Чернавин, «пра-мнение», имеет тот же
характер, что и те «мнения», которые могут быть
почерпнуты из газет. Именно на этом структурном тождестве
мнения и пра-мнения строится весь аргумент книги. Однако
этот тезис, выглядящий таким самоочевидным, таким само
собой разумеющимся, отнюдь не является необходимо
верным. Ещё Мерло-Понти писал о том, что вера в мир имеет
характер «перцептивной веры», она предполагает
воплощённого субъекта, погружённого в мир, который он делит
с другими. Как мыслители, мы призваны поставить
перцептивную веру в мир под вопрос; но тот способ, которым
мы должны поставить её под вопрос, подразумевает про-
блематизацию «мира» и «самих себя». «Приостановить»
веру в мир может трансцендентальная субъективность (этот,
как выражается Мерло-Понти, «профессиональный
узурпатор звания философа»), но не эмпирический
философствующий субъект. Рассмотрения голой структуры мнения
недостаточно для анализа Urdoxa.
-288-
Вторая неявная предпосылка заключается в том, что
все суждения, которые мы выносим, имеют характер
«составленного», или «наведённого мнения»: всё (ну или
«почти всё»), что мы считаем, опирается в конечном итоге
на уже готовые утверждения, которые мы принимаем на
веру. Да, многое мы принимаем на веру: например, я
принимаю на веру существование Австралии, где я сама
никогда не была. Однако я не принимаю на веру теорему
Пифагора: я её однажды доказала, я убедилась в её
истинности, и в любой момент я могу это доказательство
реактуализировать (см. «Первое исследование» о разнице
между указанием и доказательством — Логические
исследования, Т. И/1, Раздел I, Глава 1, §3). Эйдетические
науки, например, математика (а в идеале и феноменология),
функционируют именно так. Г.И. Чернавин (несколько
поспешно, на мой вкус) утверждает, что «кроме
"наведённых", никаких других мнений у меня и нет»106. Это,
вообще говоря, неверно, потому что даже если усомниться
в существовании мира, то теорема Пифагора устоит:
эйдетические истины неподвластны редукции. Итак, если
воспользоваться старым, ещё лейбницевским различием, то
«наведёнными мнениями» могут быть только «истины
факта» (в отличие от «истин разума»). «Истины факта»
покоятся на свидетельских показаниях, на их
достоверности; таким образом, анализ «наведённых мнений»
подразумевает работу с проблематикой истории, свидетельства,
доверия и ответственности. Однако ни истории, ни
доверия, ни ответственности, ни даже свидетельства в этой
книге читатель не найдет. Почему же? Это, на мой взгляд,
вытекает из третьей неявной предпосылки, на которой
строится эта работа.
Третья предпосылка заключается в том, что я
«принимаю» «наведённые» мнения не от конкретного другого,
а воспринимаю их от анонимной группы лиц. Другими
словами, Г.И. Чернавин не анализирует ситуацию, в
которой я верю его сообщению, что у него в комнате «кот си-
-289-
дитна коврике» (остиновский пример): он рассматривает
ситуацию, в которой «в интернетах» пишут, что где-то там
«коты на ковриках сидят». Однако большая часть наших
«наведённых мнений» формируется в результате общения
со «значимыми другими», и без учёта
интерсубъективности этой ситуации анализ «принятия мнения» обречён на
неполноту и неточность. Недаром ситуация «можно лгать
правду» разбирается на примере Мангейма, а не Фрейда
(см. знаменитый анекдот про еврея, который сказал, что
едет в Краков, чтобы собеседник подумал, что он едет
в Лемберг, хотя он на самом деле ехал в Краков). Тот, кто
борется с «наведёнными мнениями», оказывается лишён
бессознательного, которое всегда размечено моими
отношениями с другими людьми. Герой этой книги — субъект
«наведённого мнения» — расщеплён, расщеплён между
частным и публичным, своим и чужим, но при этом он
полностью лишён отношения с другим человеком в его
конкретности: он никого, кроме себя, даже и обмануть-то
не может захотеть, потому что рядом с ним никого нет.
Строго говоря, субъект «наведённого мнения» — так, как
его описывает Г.И. Чернавин — оказывается полностью
лишён каких бы то ни было аффектов и желаний: недаром
Лакан, с его различием между субъектом высказывания
и субъектом акта высказывания, автору книги не
пригодился (как не пригодились ему Маркс, Арендт, Деррида
или Бланшо). Этот субъект совершенно бесстрастен и
беспристрастен, и никогда не приобретает никакой выгоды
от своей приверженности «наведённым» мнениям — ни
материальной, ни политической, ни даже
эмоциональной. Все эти «низкие соображения», которыми
руководствуются люди в обычной, нефилософской жизни,
оказываются вынесены автором за скобки, редуцированы как
несущественные. Но в итоге читатель оказывается зажат
в достаточно узком, чтобы не сказать клаустрофобном,
пространстве анализа (не) искренности,
(неустойчивости и (не)однослойности received opinions, а его результа-
— 290 —
ты применяются к феноменам, заведомо находящимся за
пределами границ применимости такого анализа.
Мне было интересно и немного страшно прочитать эту
книгу, героем которой становится предающийся
саморефлексии сетевой тролль, как своего рода диагноз нашей
эпохе. Видно, насколько болезненным оказывается понятие
«моего собственного» в мире, где инаковость другого
человека отождествляется с обезличенной силой мнений,
событий и обстоятельств. Ответом на господство
пластмассового мира становится новая аутентичность, идеалом которой
служит самотождественность, полное совпадение себя
самого с самим собой. Здесь мне хочется задать немного
наивный вопрос: сохранится ли у этого нового, аутентичного
субъекта такой рудимент прошлого, как совесть? Ведь
сущностная двусмысленность, присущая самому понятию
совести, которая обращается ко мне моим и в то же время не
вполне моим голосом, оказывается структурно неотличима
от неаутентичности, от Ууддввооеениияя мыслей — иными
словами, от того единственного греха, который существует
в этой вселенной. Другими словами, я хочу спросить: не
чрезмерна ли та философская аскеза, которую
предписывает своим читателям Г.И. Чернавин? Не является ли
открытость иному и несовпадение меня с самим собой —
условием возможности для субъекта интерсубъективных
отношений, другими словами, условием возможности для
человека как мы его знаем?
Ответ на возражения
Я благодарен коллегам за справедливую критику и
меткие возражения. Прокомментирую те из них, ответы на
которые я вижу. В книге действительно нет ничего о
бессознательном, доверии, игре, истории, ответственности,
свидетельстве и совести, а также об Арендт, Бионе, Блан-
шо, Бурдье, Декарте, Деррида, Лакане, Марксе, Мерло-
Понти, Соловьёве, Фрейде, Фуко, Хейзинге, Шеллинге
и Шпете. Благодаря возражениям я увидел много непро-
говорённых оснований и предпосылок, которые можно
истолковать по-разному. Жанр ответов на возражения
даёт возможность прояснить мою позицию.
Наталья Артёменко ставит вопрос о тактике
сопротивления (или непротивления) «злу» встраивающихся
мнений: «можно действие противопоставить действию, а что
можно противопоставить фейку?» Для меня эта тактика
включает два направления работы: а. по возможности, не
иметь мнений; б. начать разоблачение фейков с
саморазоблачения («Мы не можем жить как другие люди, наивно
и от сих до сих, препираться с другими, наш злейший
враг — в нас самих. Но для этого нам нужна ежедневная
тренировка»)107. Фигура тролля интересует меня не
столько сама по себе, сколько как инструмент самоанализа,
выявляющий сомнамбулические* аспекты повседневности.
Платный троллинг — это своего рода духовная
практика с отрицательным знаком, анти-аскеза, поэтому
спонтанно я склоняюсь к тактике инверсии: посмотри, как по-
— 292 —
ступает тролль, и постарайся изжить в себе именно это
поведение. Речь, в первую очередь, идёт не о том, чтобы
переворачивать содержание встроенных мнений (по
принципу «если Евтушенко против колхозов, то я — за»),
ведь они вполне могут лгать правду*, а о том, чтобы
приостанавливать в себе те процессы, которые невольно
выявляет тролль. Так он говорит: [я считаю,] политика —
это бесконечно грязное дело*, задача не в том, чтобы
менять «грязное» на «чистое», а в том, чтобы задаться
вопросом, что значит «я считаю», при произнесении
расхожего штампа.
Впрочем, может потребоваться и инверсия
содержания; например, тролль-респондент говорит мне:
прекрасно понимаешь, пишешь ли ты сам, или пишешь какое-то
заданное заданиесобственноемнениетролля — и я обращаю
внимание, что у меня нет надёжного различия между тем, что
пишу сам и что пишу «сам» (в русле наведённого мнения).
Михаил Белоусов блестяще оборачивает стилистику
(и тематику) этой книги против неё самой. Должен
отметить, что местами доброжелательная имитация
оказывается талантливее оригинала и подрывает его сильнее, чем
любая «внешняя» критика. Ясно, как отвечать на
возражения первого и второго типа (историко-философские
и критические замечания) — с помощью
историко-философских и просто философских аргументов. Но как
отвечать на возражения третьего типа, в которых Михаил
Алексеевич мобилизует стиль книги против самой книги?
Он точно увидел присутствующее в книге стремление
использовать способ письма наравне с аргументами или
даже во главе их. Какой кувырок мысли нужно совершить,
чтобы обратно переприсвоить стилистику письма (чтобы
она послужила ответом на ещё более новом уровне на тот
ответ на новом уровне, который в третьем разделе
возражений выдвинул Михаил)?
Начну с простого: я согласен с большинством
традиционных аргументативных возражений и выявленных
-293-
Μ.А. Белоусовым парадоксов, попробую
принять/отклонить только некоторые из них.
Я был склонен переводить генеральный тезис так: «мир
как действительность всегда уже здесь», имея в виду
контекст гуссерлевского разъяснения этого тезиса и того, что
он предлагает с ним делать: «постоянно пред-данный мне
в качестве сущего мир (die mir beständig als seiend
vorgegebene Welt)» нужно попытаться рассматривать не
как «заранее сущий мир (eine im voraus seiende Welt)»
(Husserl [1929] 1976,586). Я благодарен Михаилу Белоусо-
ву, который обратил моё внимание то, что слово «уже» —
это всё-таки уже интерпретация, а не перевод
канонической формулировки генерального тезиса, а «ist [...] da»
стоит переводить как «есть», а не как «здесь»
(подчёркивая тем самым его тавтологический характер).
Кажется, что Михаил Белоусов вкладывает в уста
Себастиана Луфта более парадоксальную мысль, чем тот
имел в виду. В предложенном переводе цитируемая
фраза звучит так: «естественная установка есть изначальная
и анонимная пассивность, или пассивная вера в "факт",
что никто не полагал её как тезис (passive belief in a "fact"
that nobody has ever set it down as a thesis), как могло бы
заставить думать несколько некорректное выражение
"генеральный тезис"» (Luft, 1998, VII). Получается:
естественная установка верит в то, что никто не полагает её
как тезис. Михаил Алексеевич интерпретирует: «Полага-
ние отсутствия полагания, вера в то, что никакой веры
нет и никогда не было и есть естественная установка.
Вера в мир абсолютна потому, что полагает отсутствие
основателя и последователей. [...] Вера в мир молчалива,
она отрекается от себя и отрицает себя как тезис». Мне
эта мысль Михаила Белоусова кажется совершенно
головокружительной и захватывающей; Себастиан Луфт,
разъясняя эту фразу, назвал такую интерпретацию
чересчур «крутой (steil)», притом, что он сам имел в виду
просто-напросто: естественная установка — это вера,
-294-
«которую никто никогда не полагал как тезис (that
nobody has ever set it down as a thesis)». M.A. Белоусов
(вслед за мной, но, возможно, в риторических целях?)
наделяет естественную установку и веру в мир субъект-
ностью и ответственностью (я поступал так же с
недобросовестной верой), говоря: она «молчалива, она
отрекается от себя и отрицает себя». Этого не делает С. Луфт,
считающий: «не "вина" субъекта, что он ничего не знает
о другом измерении» — и добавляющий: «в конечном
счёте, последнее слово должно быть за текстами
Гуссерля»108. Я понимаю, что использую запрещённый в
историко-философской дискуссии приём, как если бы
спиритически вызвал дух Гуссерля и заставил его пояснить за
«естественную установку». Впрочем, мне кажется, здесь
мы с Михаилом Алексеевичем скорее движемся в одном
направлении и рискуем не оставлять последнее слово
только за текстами.
Михаил Белоусов спрашивает: «не являются ли не
только готовые, но и "мои собственные" мнения, являющиеся
остановками во внутреннем разговоре, и, следовательно,
моментами восстановления цельности Я,
недобросовестными по определению»? Я считаю, что именно являются,
исходя здесь из сартровской идеи: «искренность — это
феномен недобросовестной веры» (Сартр 2000, 97; Sartre
1943, 98). Так и «моё собственное» оказывается
феноменом анонимного.
Выражения групповой солидарности в духе «Я/Мы —
народ» лишают меня доступа к смыслу хайдеггеровского
проекта. Dasein как конечное бытие, знающее о своём
бытии-к-смерти, может прожить каждый. Но,
предположим, Сюдзо Куки и Эммануэль Левинас сидят на лекции
Хайдеггера и слышат от него «мы — народ»; как они
могут прожить вслед за и вместе с лектором (nachvollziehen
и mitvollziehen) этот тезис? Мне кажется важным, что
мы (философы) — не какой-то отдельный народ, а
интернационал.
-295-
Подходя к последней (самой трудной) группе
возражений, скажу: рефлексия рефлексии, феноменология
феноменологии и тролленье тролля дают однократный смысловой
прирост, а рефлексия рефлексии рефлексии,
феноменология феноменологии феноменологии и тролленье тролля-
щего тролля — уже нет. Так, на блестящее по форме
введение Михаилом Алексеевичем мета-мета уровня я бы
ответил: stop being meta. Вероятно, ответом на пост-пост
стратегии должно стать опрощение и «новый трагизм»
(Руднев 2019).
Олег Берназ вводит понятия субъективации и
подчинения, подчёркивает, что в рамках этих понятий
идентичность субъекта не предполагается как уже данная, и
задаёт четыре вопроса: 1. Как понять, была ли операция
субъективации успешной? 2.а. Как понять тот факт, что
мы готовы подвергаться воздействию, принимая готовую
идентичность? 2.6. Позволит ли феноменологический
метод нам лучше овладеть операцией субъективации? 3. Как
проанализировать отношения между текстом, образом
и звуком, чтобы лучше понять статус операции,
посредством которой мы становимся субъектами?
Я также исхожу из того, что идентичность субъекта не
дана заранее. Тем не менее, я указываю на ситуации,
когда идентичность субъекта нам приписывается, как будто
она всегда уже была здесь*. При этом я не считаю, что
субъект существует. Уточню: я не считаю, что субъект
существует иначе, чем способ ориентироваться в
мышлении — это модель. Сопротивление, которое я испытываю
по отношению к термину «субъективация», касается того,
что I. мы должны производить над собой некую операцию,
чтобы стать субъектами, и что П. мы вообще должны стать
субъектами. Здесь я стою на сартровских позициях: в
самотождественное бытие самим собой встроена некоторая
недобросовестность*. Поэтому, отвечая на первый
вопрос, я бы сказал, что операция субъективации — это
всегда провал, измена несамотождественности и небы-
— 296 —
тию, которому мы причастны. Термин «подчинение
(assujettissement)» беспокоит меня тем, что возможен,
кажется, только по-французски. Я не уверен, обязательно ли
связывать идентичность и подчинение, хотя мне близка
идея навязанной идентичности. У меня нет уверенности
в том, что бывает какая-то другая — не навязанная
идентичность. В связи с этим я не вижу удовлетворительных
ответов на вопросы об условиях возможности субъектива-
ции, подчинения и овладения этими
процессами/операциями средствами феноменологии — в этой оптике есть
предпосылки, которые я не готов принять.
В том, что касается связи текста, образа и звука — я бы
обратился в первую очередь к анализу песен (в диапазоне
от колыбельных до маршей), которые нам поёт мир, в
который мы вживаемся. Мир «поймал» нас уже тем, от чего
у «нас» щемит сердце — стоит добавить и телесный аспект
прививаемого нам чувства «подлинности». Например, мы
приходим в «себя» посреди песни, которую поём в детском
саду. Вот как описывает одну их таких песен анонимный
интернет-комментатор:
Патриотический текст песни «То берёзка, то рябина»
способен посеять и взрастить в детской душе семена любви
к родной природе, к родному дому, к семье и
соотечественникам. Эти замечательные строки были написаны
в 1950 году поэтом Антоном Пришельцем. Нежную и
лёгкую мелодию песни о родном крае сочинил композитор
Дмитрий Кабалевский. И уже более полувека звучат
и очаровывают ребят и взрослых слова песни «То берёзка,
то рябина»: «То берёзка, то рябина, — Куст ракиты над
рекой: — Край родной, навек любимый, — Где найдёшь ещё
такой? I — Край родной, навек любимый, — Где найдёшь
ещё такой?! — Где найдёшь ещё такой?! — [...] Детство
наше золотое — Всё светлее с каждым днем, — Под
счастливою звездою — Мы живём в краю родном! — Под
счастливою звездою — Мы живём в краю родном! — Мы
живём в краю родном!»109
-297-
Я ещё не до конца воплощён в мир, но через меня уже
излучается «любовь к Родине».
В свете обсуждавшейся роли феноменолога как
инопланетного этнографа и предположительно внеземного
происхождения бухгалтера Иванова, символично, что
автор текста — поэт Пришелец. Панчлайн «Край родной,
навек любимый, где найдёшь ещё такой?!» интересен
неотменимой фактичностью, в которую мы заброшены
и которая становится нашей судьбой. Любопытно, что
анонимный комментатор, разъясняющий стихи
Пришельца, так передаёт интонацию песни знаками пунктуации:
?!?!?! !!! — сначала обнаруживаешь себя в мире с
недоумением (?! ?! ?!), потом сливаешься с ним в
тавтологическом восторге (!!!). «Край родно-о-ой, навек любимый»
(детский хор, аккордеон) встроен в меня, от него у меня
ёкает сердце, но это не значит, что он участвует в
операции субъективации или процессе подчинения, он
«способен посеять и взрастить в детской душе семена любви
к родной природе, к родному дому, к семье и
соотечественникам», но не способен окончательно задать
смысловую перспективу, в которой он будет услышан, увиден
и понят. Всегда возможно смысловое смещение, в котором
«подлинное» будет увидено во всей его контингентности
как странное*. Не активно проводимые операции и
пассивно претерпеваемые процессы, а обрывки смысла и их
смещение.
Это, кстати, позволяет тематизировать способ бытия
мнений как одрадекообразных — то есть блуждающих
незавершённых структур, таких как, например, вот эти:
человек видит то, что он хочет видетьисобственное>> мнение тралля
(Платный комментатор №1) и я в очередной раз понял, что
политика для меня — это бесконечно грязное оело<<собственное>>
мнение тролля (Платный комментатор №2). Они переходят от
одного домохозяина/носителя к другому, передаются по
наследству, смысл их до конца не ясен, при этом тяжёлое
чувство вызывает мысль, что они нас ещё и переживут.
-298-
Евгений Блинов обращает внимание на то, что
интересно было бы раскрыть иерархию работников фабрики —
от архитекторов сетевой дезинформации до операторов
фейковых аккаунтов; к счастью, эта работа уже была
проделана: я бы хотел отослать к богатому материалом
исследованию Джонатана Онга и Джейсона Кабаньеса (Ong
& Cabanes 2018, 37-46). Евгений Николаевич справедливо
указывает на то, что меня интересует не рядовой платный
комментатор, а тролль с философским багажом,
занимающий промежуточное положение между исследователем
и исследуемым. Жертвуя чистотой этнографической
методологии, я бы сказал: мне нужен тролль-философ, который
высветил бы тролльское измерение в работе философа.
В этом смысле я не произвожу «пейоративной
квалификации оппонента "вы говорите, как тролль"», скорее
стремлюсь спровоцировать в самом себе проблеск понимания
«так ведь это я говорю как тролль». Я согласен с тем, что
платный комментатор «просыпается первым», именно
поэтому его фигура кажется мне завораживающей; другое
дело, что это может быть «дурное» пробуждение — не
в смысле морального осуждения, я в смысле пробуждения
из обычного сна в кошмар.
В самом конце реплики Евгений Блинов запускает
сомнение: «является ли вера в "естественную установку"
вполне добросовестной» — имея в виду, что философ
полагает существование такой установки. (Сходное возражение
выдвигает и Виктор Молчанов: «Автор книги наивно
принимает "наивную установку", всё же это интерпретация
Гуссерля, а не "сам действительный мир"».) Я — в духе
кьеркегоровской диалектики разуверения — исходил из
того, что именно тогда, когда вера претендует на
добросовестность, она и является недобросовестной. То есть
добросовестная вера (без трещин и разрывов) в корне
недобросовестна. Разуверение, демонстрация недобросовестности
тогда оказываются последним шансом хоть на какой-то
отблеск добросовестности, которую я описал под рубрикой
-299-
«нелепой добросовестности». В этом смысле я не
проповедую веру в «естественную установку», а предлагаю
практиковать разуверение.
Денис Демьянов ставит вопрос о роли игры в
повседневности платных троллей: не стоит ли воспринимать их
жизненную стратегию как игровую? Мне кажется, что
материал не даёт возможности такой интерпретации —
герои книги не воспринимают происходящее ни в терминах
игры, ни даже юмора. Они описывают то, чем
занимаются, как способ «сводить концы с концами», например:
«Думал ли ты о том, чтобы бросить эту работу? — Нет,
я совершенно об этом не думал, потому что мне была
нужна работа, и вообще никаких таких мыслей у меня не
было. У меня не такая ситуация, чтобы какую-то работу
бросать» (Комментатор №1). То, что они изо дня в день
выдают себя за кого-то другого — это не весёлое
времяпрепровождение троллей-энтузиастов (Филлипс 2016),
а выполнение дневной нормы. К троллям плохо применим
экзистенциально-авантюрный афоризм Сковороды «мир
меня ловил, но не поймал», «тралящий» тролль, хоть и не
пойман за руку разоблачителями, сам оказывается
уловлен работодателями, а вдобавок звероуловлен мысленным
волком*.
Сразу несколько читателей указали, что я обхожу
этические вопросы стороной, приписав мне созерцательную
или ироническую приостановку этического. Я не
воздерживаюсь от этических суждений по теоретическим
соображениям, а скорее выбираю практиковать не этику
суждений (и осуждения), а этику сопереживания110, императив
которой: not being judgmental. Мне важно оставаться с
героями книги в одной лодке, а значит не осуждать их
выученный имморализм; это тот способ сочувствия, который
не противопоставляет меня моим респондентам, а
связывает меня с ними.
Михаил Маяцкий обращает внимание на несколько
«развилок», возникающих перед читателем по ходу текста:
1. из книги создаётся впечатление, что на молчаливо под-
— зоо —
разумеваемый вопрос «можно ли вообще иметь строго и
чисто своё мнение?» я имплицитно отвечаю положительно;
2. на вопрос «можно ли не иметь мнения?» стоит ответить
отрицательно, «оно обязательно есть, но "мы" его
"подвешиваем", когда нам нужно (умалчиваем); так и тролли»;
3. может быть, тролль как отдельная сущность «не
существует»? — не следует ли сказать, что «на работе он тролль
(как разновидность bullshit jobs), а вне службы нечто
другое, единство здесь чисто телесное, это просто маска»?
На каждой из обозначенных развилок я бы предпочёл
повернуть в другую сторону. На первый вопрос я сам для
себя отвечаю противоположным образом: «строго и чисто
своё мнение» иметь нельзя. С этим же связан мой ответ на
второй вопрос: как раз предпочтительно не иметь мнений,
это то, чему (соблюдая технику безопасности) стоит
учиться у троллей. Мой респондент говорит: «я политикой особо
не интересуюсь, но, собственное мнение у меня,
естественно, было [...] конкретного непосредственного мнения у
меня не было» (Комментатор №1), имея в виду «мне эти
вопросы безразличны, но меня не так-то просто одурачить»;
очень интересна эта структура «собственное мнение у
меня, естественно, есть, но конкретного непосредственного
мнения у меня нет», демонстрирующая как всплывает это
странное «естественное», абстрактное, опосредованное
мнение, по вопросам, которые нам безразличны. Тролль
помогает нам увидеть, что в «естественном мнении» есть
что-то противоестественное; он демонстрирует, что можно
высказывать («естественное») мнение, не имея
(«конкретного, непосредственного») мнения, при этом, в отличие от
«бездумного обывателя», он отдаёт себе в этом отчёт,
поэтому волей-неволей стоит в авангарде разуверения; однако
по этому пути стоит пройти дальше, это я понимаю под
разуверением, которое нужно довершить.
Тем не менее, я не согласен с сопоставлением
«подвешенного» мнения и мнения, о котором мы «умалчиваем,
когда нам нужно». Феноменолог пытается приостановить
— 301 —
тезис «мир как действительность всегда есть», а не
деликатно умалчивает о нём. При этом я сам подталкиваю
читателя к сопоставлению тролля и гуссерлевской стратегии
«верить в бытие мира, [...] но не всем сердцем» (Husserl
[1926] 2002, 10). Мне кажется, что «мы» (а. не
работающие троллями; б. философы) и правда сталкиваемся
с опытом, родственным опыту троллей. Но я имею в виду
не избирательное умалчивание, а подозрительность
к мнению как таковому.
На третий вопрос сами тролли отвечают именно так,
как Вы предлагаете, это для них предпочтительная
интерпретация. Респонденты убеждали меня — это только
bullshit job, подразумевая, что, несмотря на неизбежную
профдеформацию («цинизм», «разочарование в людях»),
их seelische Innerlichkeit осталась незатронутой. Сходным
образом рассуждает филиппинский «архитектор сетевой
дезинформации» высокого уровня: «Эта работа — только
80% меня. Но это не моя душа и это не я. Вот почему мне
нужны эти 20%, чтобы сохранять рассудок» (Ong &
Cabanes 2018,40). Мои респонденты указывали, что, не
будучи вовлечёнными в работу всем сердцем*, они ничего не
потеряли, разве что приобрели дополнительные полезные
компетенции (бойкое перо, способность моментально
распознавать других троллей). Эту спорную стратегию
я обсуждаю под рубрикой «если меня нет, то всё
дозволено». Кстати, помимо такой стратегии расщепления («Это
только подработка, а не моя настоящая работа»),
исследователи выделяют также беллетризацию («Это прямо как
в "Игре престолов"») и нормализацию («Я делаю то же
самое и для корпоративных брэндов») (Там же, 15).
Виктор Молчанов выдвигает ряд серьёзных
возражений, среди которых я сосредоточусь на группе возражений,
касающихся «веры в бытие» и «генерального тезиса».
Но прежде чем перейти к ним, я хотел бы сказать несколько
слов об исключительно уместной строчке Ибсена
(«И с троллями в сердце бой!»), которую Виктор Игоревич
— 302 —
вынес в качестве эпиграфа к своей реплике. Я был очень
рад познакомиться с коротким стихотворением
норвежского классика, приведу его целиком: «Жить — это значит всё
снова — С троллями в сердце бой. — Творить — это суд
суровый, — Суд над самим собой» (Ибсен [1878] 1972,801)111.
Жить — значит воевать с троллями в своём сердце и уме;
сочинять стихи — значит учинять судный день над самим
собой. У рукописи этой книги долгое время было
рабочее название «Сердце тролля», указывавшее на пересечение
экзистенциальной стратегии «платных комментаторов»
и гуссерлевского самоописания, согласно которому он
реализует веру в бытие «не всем сердцем». Я стремился
рассматривать «платных троллей» не как других людей, тех, кто
ведёт себя не так как я, а как составляющую общеразделяе-
мого опыта. «Поле битвы», по словам уже русского
классика, составляют «сердца людей», то же касается и боя с
троллями, локализуемого в сердце и уме. Сочинять книгу
о троллях значило (с поправкой на жанр и масштаб)
«учинять судный день над самим собой». Эпиграмма Ибсена
автореферентна: она представляет собой судный день над
самим собой в миниатюре (четверостишие, которое
называется «Четверостишие»), указывает сама на себя и еле
заметно перечёркивает себя, колеблясь между
экзистенциальным накалом и иронией. Также автореферентна и книга
о «платных троллях» и «встроенных мнениях»: не потому,
что автор «троллит» читателя (это не так), а потому, что
автор отслеживает в себе встроенные мнения*. Добавлю, что
вторая строка стихотворения в записи «И с троллями в
сердце бой!» отзывается в сердце русскоязычного читателя
строчками Добронравова «И вновь продолжается бой, —
И сердцу тревожно в груди». Эта контаминация
иронической эпиграммы и жизнерадостного идеологизированного
марша, на мой взгляд, очень точно передаёт
двусмысленность комментариев платных троллей, двойственность
встроенного мнения*, в его колебании между
искренностью и цинизмом. А теперь вернусь к ответу на возражения.
-303-
l.a. Соглашусь с тем, что «я считаю, что идёт дождь» —
это, по сути, гарфинкелинг, эксперимент, проверяющий
повседневные конвенции на прочность. Так что же
заставило меня привести это странное высказывание там, где
читатель ждал нормального повседневного
высказывания? Я должен пояснить, что этот пример возникает как
полемическая перекличка с высказыванием «идёт дождь,
но я так не считаю». Мур сформулировал его как
образцовый нонсенс («It's perfectly absurd or nonsensical to say such
things as "I don't believe it's raining, but as a matter of fact it
is"» Moore [1944] 1993,207). Витгенштейн же был
заворожен им и подбирал маловероятные языковые игры,
которые сделали бы это высказывание возможным: например,
макабрическую ситуацию, когда устами одного человека
говорят двое («Es könnte Einer sagen "Es wird regnen, aber
ich glaube es nicht", wenn Anzeichen dafür da wären, daß
zwei Personen aus seinem Munde reden» Wittgenstein [1949]
1993,23). И тот и другой, тем не менее, подчёркивали:
существование мира (и вещей в мире) не дублируется
верой. Говорить о вере в существование мира было бы для
них неверным использованием слова «вера».
Мне кажется, что как раз здесь вскрывается одно из
ключевых теоретических расхождений между гуссерлиан-
ской феноменологией и пост-витгенштейновской
философией. Противотезис («я считаю, что идёт дождь»),
который я ввожу, указывает как раз на это тавтологическое
удвоение и, соответственно, возможный раскол внутри
говорящего (Ichspaltung). Одной из главных новаций
Гуссерля мне кажется немыслимо «замедленное» описание
опыта, философское slow-mo, при котором становится
заметен выдаваемый миру кредит доверия (creance),
исходное принятие (assent) мира, входящее в структуру бытия.
Для Мура и Витгенштейна констатировать «идёт дождь»
и добавлять, что я в это верю, что я так считаю, значило
бы порождать тавтологию и неверно использовать
глаголы «верить» и «считать». Для Гуссерля и (!) Гарфинкеля
-304-
говорить так — значит выявлять тавтологическую
структуру действительности.
Контекст для приведённого примера такой: я «смотрю
со стороны» на то, что я считаю (об этом, на мой взгляд,
и строчка «под потолком сидит душа» Введенского); я
констатирую, что идёт дождь, а также замечаю бытийную
веру, которую я инвестирую в эту констатацию. Это
странная (философская) повседневность, но она не менее
странная, чем повседневность тролля и не менее странная,
чем так называемая нормальная повседневность. Я сижу
дома, считая, что идёт дождь. Что-то во мне считает, что
мир как действительность всегда есть. Приведённый гар-
финкелинг (или в этом случае стоит сказать гуссерлинг?)
выявляет Seinsglaube, тавтологическое удвоение в
структуре действительности, делает его феноменом.
1.6. Многие коллеги в своих возражениях указывали на
то, что Ur-doxa — не мнение, принципиально отличается от
«встроенных мнений». Я (в порядке гипотезы) исходил из
того, что Ur-doxa — это такая doxa, Ur-, но всё же, doxa. «Ur-»
я склонен понимать как прото-форму, вложенную по
принципу матрёшки в каждую отдельную doxa. Стоит уточнить,
что (для Гуссерля) doxa — это далеко не только мнения, но
и подразумевания, на микроуровне входящие во всякое
восприятие, более того, во всякое различение. Поэтому Ur-doxa
относится к более базовому уровню, чем уровень мнений,
но затрагивает и их тоже. Возвращая к опасности смешения
«генерального тезиса» и «рядовых мнений», на которую
указывает Виктор Игоревич: сам генеральный тезис —
не мнение, но выражает Ur-doxa, прото-форму мнения,
которая обычно молчаливо подразумевается, остаётся
невыраженной. Впрочем, такого рода тезис оказывается
парадоксальным, на что указывает Михаил Белоусов: пока
он не высказан, он не видим; а для того, чтобы его
высказать, нужно приостановить его действие.
Виктор Молчанов предлагает переводить Generalthesis
как «общий тезис», чтобы избавиться от нежелательных ас-
-305-
социаций с генералами. То есть, можно понимать его не
столько как руководящий или главный (см. «генеральное
сражение», «генеральная репетиция», «генеральный
директор», «генеральное консульство»), сколько как общий
(см. «генеральная уборка») тезис (правда, зачастую эти
значения смешаны, см. «генеральные штаты», «генеральная
ассамблея», «генеральная линия партии»). То есть перед
нами тезис рода (generalis), по отношению к тезисам
отдельных семейств, классов и царств. Но помимо всеобщности
у него есть и «порождающий» аспект: это родовая черта,
воспроизводящаяся в других тезисах. Это встроенный
тезис, вложенный (mitbeschlossen) в каждый отдельный
тезис; он пронизывает (durchsetzt) каждое подразумевание
и мнение (Husserl [1930] 2002,152), составляет их едва
заметный фон. Бытие в естественной установке имеет
характер тавтологии (Tautologie) (Там же, 155, 309): само собой
всем понятно, что значит «быть», непонятен сам вопрос
(«"Что значит быть?" — я не совсем понимаю, что это
значит: "что значит быть". Что значит быть? Быть — значит
зарабатывать деньги» Комментатор №1). Генеральный тезис
касается постоянного полагания мира в качестве
действительности, причём эта действительность имеет характер
презумпции112 — презумпция действительности (таково
содержание тезиса). Достоверность бытия мира будет без
конца производиться113, мы и есть фабрика по производству
действительности. Этим мы напоминаем фабрику троллей.
Андрей Паткуль выдвигает возражения, касающиеся
а.) роли онтологии, б.) злоупотребления методическим
сомнением, в.) интерпретации хайдеггеровских
рассуждений о народе (с определённым артиклем).
В своих возражениях Андрей Борисович предлагает
понимать Urdoxa не как пра-мнение, а как «первую славу
бытия» и выдвигает тезис: невозможно полностью
приостановить бытийное полагание. Мне кажется, что при такой
постановке задачи феноменология неизбежно окажется
онтологией, а с такой позицией я не могу солидаризиро-
— Зоб —
ваться. Как уже отмечалось, среди существующих
вариантов развития гуссерлевской феноменологии я тяготею
к финковско-ришировской линии. Финк указывал на ме-
онтическое (не онтическое и не онтологическое)
измерение как на подлинное достижение феноменологической
работы. Ришир же стремился продемонстрировать, что
в основе любой онтологии лежит «символическая
тавтология», в то время как феноменология размыкает эту
тавтологию сущего.
Как ни странно, с дискуссией о роли онтологии для
меня смыкается аргумент: «никакая песня не пробудит
щемящего чувства Родины, если она уже не является родной
и любимой (курсив — ГЛ.)». В том-то и дело: когда в
коллективах нас учат Родину любить, она всегда
представлена в модальности «всегда уже», пред-данного. В этой книге
я пытаюсь аппеллировать к следующей интуиции: будучи
не от мира сего (меонтическим окном в абсолютное
[Финк], феноменологическим хаосом до символического
порядка [Ришир]), обнаруживаешь себя в мире,
претендующем, что он как действительность всегда есть,
обнаруживаешь себя среди ценностей, претендующих на пред-
данность. Это провоцирует амбивалентное чувство по
отношению к Родине: привязанности и безысходности —
так как «любить-то больше и нечего» в силу
символической тавтологии (Richir & Grenier 1975,39-44).
Отказываясь быть онтологией, феноменология не
обязательно должна быть теорией познания — она может
искать и третий путь. В связи с этим уточню, что меня
интересует экзистенциальная, а не эпистимическая
недостаточность мнений. Именно поэтому моя
стратегия — не скепсис и не подозрение. Речь идёт не о
разоблачении мнений (что бесполезно), а об их, говоря словами
Мангейма, «разложении», которое я понимаю как вариант
феноменологической приостановки. Мной движет не
картезианское сомнение, а скорее радикальное удивление,
остранение (в смысле Хайдеггера лекций GA 45 «Основные
-307-
вопросы философии. Избранные "проблемы" "логики"»,
Heidegger [1937/38] 1984, 151-172). Не скепсис как
инструмент теории познания, а удивление (и разуверение)
как путь экзистенциальной трансформации.
Теперь стоит обратиться к спорному тезису о том, что
«каждый народ — das Volk». Приведу классический коан
и его мизинтерпретацию с позиций «житейского здравого
смысла»:
Когда Бань Шань (720-814, в японской транскрипции
Бандзан) шёл по рынку, он услышал разговор между
покупателем и мясником. — Дай мне самый лучший кусок
мяса — сказал покупатель. — Всё, что есть у меня в лавке, —
лучшее, — ответил мясник. — Ты не сможешь найти кусок
мяса, который не был бы самым лучшим. — При этих
словах Бань Шань обрёл просветление. (Репс [сост.] 2015,63;
Ferguson 2011, 113) <Комментарий:> Бандзан услышал
разговор случайно. Мы не знаем, что он делал на рынке,
но можно предположить, что роль покупателя была ему
близка и понятна. Покупатель обратился к мяснику с
довольно типичной просьбой. Она, по существу, означала,
что он внимательно отнесётся к тому, какой кусок мяса
получит, и своей репликой хочет удержать мясника от
попытки предложить ему то, что трудно «всучить» другим,
более взыскательным покупателям. В самой просьбе
покупателя скрыто неэтичное предположение, что без этой
просьбы продавец не постарается дать ему кусок получше,
то есть, поступит как не очень хороший или не очень
честный продавец. [...] Бандзан ожидал обычной реакции
мясника, вроде заверения в том, что тот постарается выбрать
этому покупателю кусок получше. Но Бандзан столкнулся
с неожиданностью. Мясник категорически отверг просьбу
покупателя и отверг мотивированно. Что значит дать
конкретному покупателю лучший кусок? А худший — кому?
Другому покупателю? Но тот, кто даёт нам понять, что он
готов подсунуть кусок похуже другому, не отнесётся ли он
и к нам так же? Не готов ли он и нам предложить, что
поплоше, на словах расхваливая свой товар? В школе я по-
-308-
дружился с одним одноклассником, и он пригласил меня
в гости. Когда мы сели обедать, его мама, раскладывая еду
по тарелкам, с материнской нежностью глядя на моего
приятеля, приговаривала: «Я своему дорогому сынуленьке
положу кусочек получше!» (Тарасов 2008,144-146)
Читая этот комментарий, мы видим как чучхейский
реализм* повседневного «здравого смысла» успешно
вытесняет любое озарение, подменяя его готовым мнением.
Комментарий одновременно полностью промахивается
мимо философского содержания и верно схватывает
анекдотическую составляющую коана. Философская мысль*
касается того, что всякий кусок является самым лучшим,
а расхожее мнение — того, что продавец будет
расхваливать всякий кусок как самый лучший. Хотя в том, что
чаньский монах оказался в мясном ряду (среди трупов
живых существ), уже содержится скандал, это «солёный»
анекдот; равно как и скандалом является ситуация, когда
университетский преподаватель впускает в учебную
ситуацию тезис «мы — народ (wir sind das Volk)». Кажется, что
Хайдеггер, в его применении экзистенциальной
аналитики к народу, объединяет в себе черты чаньского мастера
Бань Шанья и бизнес-тренера Тарасова, применяя
технику двойного кодирования. Как мы знаем, его лекции 1934
года слушают не только студенты, но и партийные
функционеры (Seubold 1998, 172). На мой взгляд, Хайдеггер
в 1933/34 учебном году пытается играть и на территории
Бань Шаня, и на территории Тарасова. Wir sind das Volk
можно прочесть в том ключе, в котором предлагает
Андрей Борисович: каждый народ — das Volk (в аналогии,
которую я предложил — «нельзя найти кусок мяса,
который не был бы самым лучшим»). Но лектор прекрасно
понимал, что большинством слушателей его высказывание
будет считано как: немецкий народ — это das Volk (в
использованной аналогии — «в нашей лавке мы плохого
мяса не держим»). Получается двусмысленное высказыва-
-309-
ние, что-то вроде: каждый народ — das Volk, но некоторые
особенно.
Вадим Руднев в полемическом ключе переворачивает
генеральный тезис естественной установки «мир как
действительность всегда есть» и формулирует свой
собственный тезис «мира как действительности никогда нет». При
этом первый тезис приписывается Гуссерлю, а второй
(перевёрнутый) тезис высказывается от первого лица как
радикальное возражение. Ситуация кажется сложнее,
поскольку, хотя основатель феноменологии и формулирует
генеральный тезис, — это «не его» собственное
высказывание, скорее он пытается уловить молчаливо
подразумеваемый в повседневной и позитивно-научной практике
тезис. Это не высказывание от первого лица, а
«зависание» между перспективой первого и третьего лица, между
«говорю» и «говорят». Он его «высказывает»,
проговаривает, служит ему рупором, но не утверждает — свою
собственную задачу видит не в том, чтобы утверждать или
отрицать, а в том, чтобы приостановить утверждение
и отрицание. В этой перспективе утверждать
несуществование мира — значит попасть в ту же ловушку, в которую
попадает убеждённый в его существовании; и тот, и
другой тезис будет догматическим, закабаляющим нас либо
тривиальным здравомысленным реализмом, либо
экстравагантным метафизическим нигилизмом. В этом смысле
разница между реализмом и нигилизмом для Гуссерля так
же невелика, как разница между советским и
антисоветским согласно известной остроте Наймана/Довлатова.
Феноменологию часто называют схоластикой,
сходство действительно есть, но лежит не совсем там, где его
обычно полагают: феноменолог не претендует на
авторство «собственных» высказываний, готов пренебречь
копирайтом на сказанное, скорее тяготеет к тому, чтобы
приписать «свои» мысли другим, чем зафиксировать их
в качестве своих. В этом отличие генерального тезиса
и полемического тезиса-перевёртыша, поэтому не совсем
— ЗЮ —
корректно было бы записать оба тезиса в форме: «мир как
действительность всегда есть»® Эдмунд п^рль и «МИра как
действительности никогда нет»®Вадим Руднев — подходящая
форма записи скорее «мир как действительность всегда
еГТЬ»™"0, УтвеРжДение/°тРиЦание которого приостанавливает Эдмунд Гуссерль тж «уужг».
ра как действительности никогда нет»тезискоторыйутверждаетВадим
руднев Сопоставление тролля и феноменолога я проводил
по этому основанию: готовности отказаться от авторства
«собственного» высказывания.
Дарья Хомутова в рамках Возражения №1 ставит
вопрос в стиле Нагарджуны: «Если нет своего и чужого Я,
тогда кто и на кого смог бы что-то навести?» В режиме
«двойной бухгалтерии» (двух истин разного порядка)
можно ответить, что в одном смысловом регистре своё и чужое
«я», естественно, есть, а в другом они «есть» только как
проблемы. Трудность заключается в том, что нас всё время
затягивает в базовый смысловой регистр (естественную
установку). То есть мы изо дня в день сами наводим на
себя свои «я» и обмениваемся наведёнными мнениями*.
В это же возражение встроен вопрос: «Возможно ли,
что сам Георгий Чернавин троллит нас, разрешая
сомневаться в одном направлении ("мир") и игнорируя другое
("я")?» Отвечая на этот вопрос, я бы привлёк жижекиан-
скую четверицу, которую в своих возражениях использует
Дарья Сергеевна, выстраивая симметричную
классификацию: а) платный сознательный тролль — платный
комментатор, б) бесплатный сознательный тролль — мета-
тролль или сверхтролль, в) бесплатный бессознательный
тролль — реализующий в речи напускные мнения как
«свои собственные» и г) платный бессознательный
тролль — человек, поддерживающий напускные мнения,
встроенные в удобный для него порядок вещей. В мои
намерения не входило реализовывать опции а) и б), а опции
в) и г), насколько я понимаю, должно от меня заслонять
слепое пятно сознания. Поучаствовать в опросе: Какой ты
тролль? — не так просто, как кажется.
-311-
Возражение №2 касается того, что метатролль (или как
я его по аналогии со «сверхлитератором» Музиля
называю — «сверхтролль») — это не обязательно
«цитирующий без кавычек метатролль». Дарья Хомутова так
описывает сложный вид метатролля (метатролляс астеРиском),
которому не нашлось места на страницах книги: «задача
метатролля* заключается в том, чтобы взять на себя
ответственность не только за любое высказывание, но
прежде всего за собственное потерянное сердце*, в котором
до сих пор не укоренилось ни одно мнение». Жертвенная
фигура, берущая на себя ответственность за любое
высказывание (в духе «пред всеми людьми за всех и за вся
виноват, за все грехи людские, мировые и единоличные»
Достоевский 1976а, 149), на мой взгляд, перемещается из
позиции метатролля в позицию (бес) платного
бессознательного тролля. При этом: поздно писать книгу о
троллях, когда сердце потеряно. Я исхожу скорее из «недово-
площённости» в мир, из того, что мы всегда уже вовлечены
в напускные мнения «не всем сердцем».
Дарья Сергеевна отождествляет «философского
тролля» из Главы П. и метатролля из Главы V., чего я не
собирался делать. «Философский тролль», наблюдая за
«платными комментаторами», начинает видеть в самом себе
встроенные мнения*. Метатролль (в том смысле, который
я вкладывал в это выражение) использует тролльский
инструментарий, чтобы подорвать доверие к анонимным
высказываниям в соцсетях. Эти фигуры могут частично
совпадать, но всё же, это разные роли.
Возражение №3 касается роли смеха при работе
с тролльскими стратегиями. Я не согласен с пониманием
метатролля как того, кто вышучивает всё (и себя в том
числе). Под это описание подходят отдельные герои книги
(Филлипс 2016), но не мета- или сверх-тролль в моём
смысле. Впрочем, и позиция метатролля не кажется мне
оптимальной, это позиция экстремального публициста из
Главы V., но не позиция, которую я предлагаю занять. 06-
— 312 —
ращаясь к тому «юмору», который привлекают себе на
помощь мои персонажи, «платные комментаторы», хочется
сказать: странные шуточки, что-то меня знобит от
этого веселья*. Поэтому моя стратегия в отношении «юмора»
троллей — это остранение.
Анна Ямпольская указывает на три молчаливо
подразумеваемые в книге предпосылки: 1. Urdoxa, «пра-мнение»
имеет тот же характер, что и «мнения», которые могут
быть почерпнуты из газет; 2. наведёнными могут быть не
только «истины факта», но и «истины разума»; 3. я
перенимаю «наведённые» мнения не у конкретного другого,
а воспринимаю их от анонимной группы лиц.
Я взял в качестве рабочей гипотезы идею о том, что
Urdoxa (исходное право на веру в мир) и doxa (черпаемая
из газет или просто из восприятия) имеют общую
структуру «встроенного» или «наведённого» мнения. Впрочем, не
утверждаю, что это действительно так (так как
непонятно, что такое действительность). Модель Мерло-Понти
с «перцептивной верой» кажется мне притягательной,
хотя и вторичной по отношению к гуссерлевским Seinsglaube
и Weltglaube. Я не полагаю существование
«трансцендентальной субъективности», приостановка веры в мир —
это смысловое событие, у которого нет хозяина или
привилегированного носителя, оно происходит с нами. Ответ
на вопрос «кто мы такие» (не «трансцендентальный
субъект» и не эмпирический человек) для меня находится в
диапазоне между кьеркегоровской экзистенцией и сартров-
ской дырой в бытии.
Мне кажется, что «истины разума» (по крайней мере,
в их повседневном функционировании) тоже заражены
«встроенными» мнениями. В детском саду меня учат
считать «на палочках», тактично не упоминая, что никто из
находящихся в комнате (воспитателей и воспитанников)
не понимает, что такое число. Витгенштейн, говорящий,
что вопрос «Что такое число?» вызывает ментальный
спазм, указывает на то, что некоторые «истины разума»
-313-
стоят на непрояснённых основаниях. Всё это касается,
конечно, в первую очередь, не самой науки, а повседневного
циркулирования «истин разума».
В центре внимания книги находится анонимное во
мне, не обязательно сфабрикованное группой лиц по
предварительному сговору. Значимый Другой, которому
я доверяю, тоже является носителем этих анонимных
ошмётков смысла; хотелось бы доверять именно ему, а не
ошмёткам смысла. Безусловно, непонятно, как в таком
случае должна выглядеть интерсубъективность.
В возражениях Анны Ямпольской я не готов
согласиться с тем, что я ищу «новую аутентичность, идеалом
которой служит самотождественность, полное совпадение
себя самого с самим собой». Впрочем, Вадим Руднев также
утверждает: «Георгий Чернавин молчаливо исходит из
того, что Я цельно» — судя по всему, текст книги производит
такое впечатление. Для меня ориентирами являются
позиции Кьеркегора (тотальность разуверения) и Сартра (не
быть тем, чем являешься), где нет речи о
самотождественности и о совпадении с самим собой, я не исхожу из
цельности «я» (хотя по экзистенциалистским, а не
психоаналитическим основаниям). Самая же идея аутентичности
кажется мне опасной и подозрительной, это та фонка,
которую нам предлагал помучмаритъ* Хайдеггер.
* * *
Благодаря возражениям стало ясно, какие аспекты
темы нужно дополнительно прояснить:
«Своё» и «чужое» — не альтернативы, а «агрегатные
состояния». Одно и то же мнение (выраженное в одних и тех
же словах) может быть прожито и как своё, и как чужое.
Может ли быть своё «по гамбургскому счёту», а не условно
«своё»? Оглядываясь на содержание книги, хочется
сопоставить два примера: а. второклассника-повторюшку из
плацкартного вагона, в районе станции Дедовичи
говорящего «Я понял, что Время ест своих детей, и мне стало
-314-
страшно» и б. «ученичка» из текста
Рубинштейна-Мамонова114, на утреннике играющего со сверстниками во
«мнения» и в «балду», а вечером рассуждающего о том, как «во
все стороны разворачивается бестолковое пространство
наших аритмических усилий и притязаний». Первого
я рассматривал как носителя встроенного мнения*
(недобросовестной веры в то, что именно он так считает), а
второго как пример нелепой добросовестности* мышления
(размышлений «неуместной» глубины). Но ведь они легко
могут поменяться местами и ролями: проезжающий Дедо-
вичи мальчик мог бы говорить о «бестолковом
пространстве притязаний», а Ученичок о том, как «Время ест своих
детей». Одни и те же слова могут выражать и заёмное
мнение* и .мысль*, более того, один и тот же человек может
проживать их как мнение, как мысль, как мнение, через
которое просвечивает мысль, и как мысль, через которую
проступает мнение.115 Именно поэтому я предлагаю
приглядеться к «чужому» в «своём» мнении; в отслеживании
«чужого» (скорее в смысле Ридли Скотта, чем Бернхарда
Вальденфельса) я вижу шанс на то, что мнение обернётся
мыслью.
На первый план выступил тавтологический характер
генерального тезиса — проговаривания того, что обычно
молчаливо подразумевается. Во встроенном мнении тоже
есть тавтологический аспект: «я считаю, что "моё" мнение
действительно моё». Так считая, я утверждаюсь в «своём»
мнении (хотя не исключено, что мне его «намысливают
в голову»). «Мир как действительность всегда есть» —
зачем это удвоение: «действительность есть»? Кто и кого
пытается в этом убедить? Зачем я это говорю, если я
действительно* так считаю? Зачем я это говорю, если я на
самом деле* так не считаю? Я думаю, что я так считаю,
хотя так считаю не я. Что-то во мне так считает за меня
(заставляя меня думать, что я так считаю). Кто-то или что-то
может иметь мнение во мне, мнение, касающееся того,
что «мне» казалось само собой разумеющимся.
Литература
Алыпюссер Л. Идеология и идеологические аппараты
государства (заметки для исследования) //
Неприкосновенный запас, №3 (77), 2011, 14-58. ( https://magazines.
gorky.media/nz/2011 /3/ideologiya-i-ideologicheskie-
apparaty-gosudarstva.html)
Андреев Л.Н. Мысль // Андреев Л.Н. Драматические
произведения в 2 томах, Т. 2, Л.: Искусство, 1989, 209-
260.
Белоусов Μ А. Опыт мира как событие у Гуссерля и Хайдег-
гера // Ежегодник по феноменологической философии,
Т.5,М.:РГГУ,2019,11-56.
Благосветов Г.Е. Домашняя летопись // Русское слово, Т. 5,
№8, август 1863,1-24.
Баратынский ЕА. Разуверение (Ор. №54) //
Боратынский Ε А. Полное собрание сочинений и писем, Т. 1:
Стихотворения (1818-1822), М.: Языки славянской
культуры, 2002а, 236-237.
. Истина (Ор. №79) //Т. 2.1: Стихотворения
(1823-1834), М.: Языки славянской культуры, 2002b,
58-61.
Бродский ИА. Полторы комнаты (1985) // Бродский ИА.
Сочинения в 7 томах, Т. 5, СПб: Пушкинский фонд,
2001, 316-354.
Булез П. Пьер Булез (Интервью) // Обрист Х.У. Краткая
история новой музыки, М.: Ad Marginem, 2015, 52-70.
Введенский А.И. Всё, М.: ОГИ, 2013.
-316-
Волынский Η., Герасимов В. В городе на Неве // Правда,
№312 (25299), 8 ноября 1987, 2.
ГенисАА. «Чузнь и жидо». Владимир Сорокин: Беседа
девятая //Звезда, №10,1997, 222-225.
Гурьев С. История группы Звуки My, СПб: Амфора, 2008.
Герасимова A J'. Примечания // Введенский AM. Всё, М.:
ОГИ, 2013, 269-328.
Гуссерль Э. Начало геометрии, М.: Ad Marginem, 1996.
. Избранная философская переписка, Т. 1, М.:
Феноменология — Герменевтика, 2004.
. Идеи к чистой феноменологии и
феноменологической философии, Книга первая, М.: Академический
проект, 2009.
Дик Ф.К Нечто подобное, Н. Самарин (пер.), СПб: Азбука,
1996.
. Обман Инкорпорейтед, М.: ACT, 2005.
. Симулякры, Н. Романецкий (пер.), М.: Эксмо,
2020.
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 томах,
Т. 1: Бедные люди; Повести и рассказы (1846-1847), Л.:
Наука, 1972.
. Т. 10: Бесы, Л.: Наука, 1974.
. Т. 14: Братья Карамазовы: Роман в 4 частях
с эпилогом. Кн. 1-Х, Л.: Наука, 1976а.
. Т. 15: Братья Карамазовы. Кн. XI-XII.
Эпилог. Рукописные редакции, Л.: Наука, 1976b.
. Т. 16: Подросток. Рукописные редакции,
Л.: Наука, 1976с.
Жуковский ВЛ. Вечер. Элегия // Жуковский В.А. Полное
собрание сочинений и писем в 20 томах, Т. 1:
Стихотворения (1797-1814), М.: Языки русской культуры,
1999,75-78.
Заходер Б.В. Товарищам детям: стихи, М.: Детская
литература, 1962.
Ибсен X. Четверостишие // Ибсен X. Драмы.
Стихотворения (БВЛ), М.: Художественная литература, 1972,801.
-317-
Камнев В.М., Осипов И.Д. Политическая философия
русского консерватизма, СПб: Владимир Даль, 2017.
Кандинский В.Х. О псевдогаллюцинациях // Кандинский
В.Х. Записки психиатра. История моей болезни, М.:
Родина, 2018,194-360.
Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике,
которая может появиться как наука. 1783 // Кант И.
Сочинения в 8 томах, Т. 4, М.: Чоро, 1994, 5-152.
Кафка Ф. Забота главы семейства // Кафка Ф. Сочинения
в 3 томах, Т. 1: Рассказы (1904-1922), Москва /Харьков:
Художественная литература & Фолио, 1995,235-236.
Кашин О.В. Контекстное домино. Олег Кашин и его
манифест самого прогрессивного медиа // Свободная пресса,
13 мая 2014 (https://svpressa.ru/society/article/87355)
Ким Ч.И. Чучхейский реализм — творческий метод,
основанный на мировоззрении с его центром — человеком //
Ким Ч.И. О чучхейской литературе, Пхеньян:
Издательство литературы на иностранных языках, 1992,104-111.
. Философия чучхе — самобытная философия
революции, Пхеньян: Издательство литературы на
иностранных языках, 1996.
Клерамбо де Г.Г. Психический автоматизм, М.: Городец,
2018.
Къеркегор С. Или — или. Фрагмент из жизни: в 2 частях,
СПб: РХГА/Амфора, 2011.
. Болезнь к смерти, М.: Академический проект,
2019.
Лебедев A.B. (ред.) Фрагменты ранних греческих
философов, Часть I, М.: Наука, 1989.
. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова
(с новым критическим изданием фрагментов), СПб:
Наука, 2014.
Ленин В.И. Из прошлого рабочей печати в России (1906)
//Ленин В.И. Полное собрание сочинений, Т. 25: Март-
июль 1914, М.: Издательство политической
литературы, 1969, 93-101.
-318-
Летов И.Ф. Я не верю в анархию (сборник статей), М.:
Издательский Центр, 1997.
Логинов Е.В. Рассамопонячивание непонятного. Рецензия
на книгу Георгия Чернавина «Непонятность само собой
разумеющегося» // Финиковый компот, 2019, №14,
206-210.
Мамонов П.Н. Ученичок // Звуки My Шкура Неубитого 2,
М.: RMG Records/Otdelenie Mamonov, 2002 ( https://
petrmamonov.ru/cd/shkura-neubitogo-2)
Мангейм К. Очерки социологии знания: Теория познания —
мировоззрение — историзм, М.: ИНИОН РАН, 1998.
Мандельштам О. И по-звериному воет людьё...
//Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем в 3 томах,
Т.1: Стихотворения, М.: Прогресс-Плеяда, 2009,152.
Маршак С.Я. О мальчиках и девочках // Огонёк, №38,
1955,21.
Маяцкий МА. Там и тогда // Гуссерль Э., Деррида Ж.
Начало геометрии, М.: Ad Marginem, 1996, 258-259.
Мейлах Μ,Б. Примечания // Введенский А.И. Полное
собрание сочинений, Т. 2, Ardis, 1984, 261-381.
. Примечания // Введенский А.И. Полное
собрание произведений в 2 томах, Т. 2: Произведения 1938-
1941. Приложения, М.: Гилея, 1993,191-235.
Минковский Э. Шизофрения. Психопатология шизоидов
и шизофреников, М.: Городец, 2017.
Немиров ММ. Некоторые стихотворения, расположенные
по алфавиту, СПб: Красный Матрос, 1999.
Ортега-и-ГассетX. Что такое философия?, М.: Наука, 1991.
Перлз Ф. Гештальтподход и свидетель терапии, М.:
Академический проект, 2019.
ПелевинВ.О. Встроенныйнапоминатель (рассказ)
//Пелевин В.О. Встроенный напоминатель (сборник
рассказов), М.: Вагриус, 2002,190-193.
Платонов АЛ. Мусорный ветер //Платонов АЛ. Собрание
сочинений в 8 томах, Т. 4: Счастливая Москва; Очерки
и рассказы 1930-х годов, М.: Время, 2011,271-289.
-319-
Померанцев П. Города троллей // Померанцев Я. Это не
пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью,
М.: Индивидуум, 2020, 21-57.
ПриговДЛ. Беседа с A.A. Смирновой и Т.Н. Толстой,
«Школа злословия», 3 сентября 2003 (https://youtu.be/QY_
bmlAKuUs)
. Отходы деятельности центрального фантома:
интервью А. Яхонтовой // Новое литературное
обозрение, №65 (1), 2004, 255-259.
. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 1: Монады:
как-бы-искренность, М.: НЛО, 2013.
. Т. 5: Мысли: избранные манифесты, статьи,
интервью, М.: НЛО, 2018.
Ремизов AM. Сны и предсонье, СПб: Азбука, 2000.
Репс Я. (сост.) 101 история дзен // Плоть и кость дзен, М.:
Издательство Медков СБ., 2015, 22-132.
Ришир М. Комментарий к «Феноменологии эстетического
сознания» // Ежегодник по феноменологической
философии, Т. 4, М.: РГГУ, 2015, 316-331.
Рубинштейн Л.С. Большая картотека, М.: Новое
издательство, 2015.
Руднев В.Я. Винни-Пух и философия обыденного языка,
М.: Гнозис, 1996.
. Прочь от реальности: Исследования по
философии текста. II, М.: Аграф, 2000.
. Новая модель реальности, М.: Издательский
дом НИУ ВШЭ, 2016.
. Новый трагизм, М.: Академический проект, 2019.
Сартр Ж.-Я. Бытие и ничто. Опыт феноменологической
онтологии, М.: Республика, 2000.
Секацкий А.К. Шпион и разведчик: Инструменты
философии // Секацкий А.К. Три шага в сторону, СПб:
Амфора, 2000,166-223.
. Прикладная метафизика, СПб: Амфора, 2005.
Семёнов Ю.С. Семнадцать мгновений весны. Роман //
Москва, №11-12,1969.
— 320 —
. Петровка, 38 // Семёнов Ю.С. Собрание
сочинений в 8 (19) томах, Т. 5: Повести, М.: МШК МАДПР,
ДЭМ, 1994, 7-176.
Смаллиан Р.М, Логики, рассуждающие сами о себе //
Смаллиан РЖ Вовеки неразрешимо. Головоломное
руководство по Гёделю, М.: Лори, 2018,112-125.
Сорокин В.Г. Первый субботник: рассказы, М.: ACT/
Corpus, 2018.
. Норма: роман, М.: ACT/Corpus, 2020.
Степанцов В.Ю. Бухгалтер Иванов // Новый мир, 1988,
№3,101-102.
Стоппард Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы (пьесы),
СПб: Азбука, 2000.
Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Машина желаний //
НФ: сборник научной фантастики, Т. 25, М.: Знание,
1981, 7-39.
Тарасов В.К. Русские уроки японских коанов. Социальные
технологии в притчах и парадоксах, М.: Добрая книга,
2008.
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 томах,
Т. 21: Новая азбука и русские книги для чтения (1874-
1875), М.: Художественная литература, 1957.
. Т. 53: Дневники и записные книжки (1895-
1899), М.: Художественная литература, 1953.
. Т. 69: Письма (1896), М.: Художественная
литература, 1954.
Троцкий Л.Д. Наши разногласия // Фельштинский Ю.Г.
(сост.) Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923-
1927, Т. 1, М.: Терра, 1990,110-141.
Филлипс У. Трололо. Нельзя просто так взять и выпустить
книгу про троллинг, М.: Альпина Паблишер, 2016.
Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика,
Opera selecta: Сборник научных статей, М.: Языки
русской культуры, 1997, № 35, 352-379.
. О смысле и значении // Фреге Г. Логика и
логическая семантика, М.: Аспект Пресс, 2000,230-246.
— 321 —
Хайдеггер Μ. Бытие и время, СПб: Наука, 2002.
. Что такое метафизика? В.В. Бибихин (пер.),
М.: Академический проект, 2007.
. Лекции о метафизике, С.А. Жигалкин (пер.),
М.: Языки славянской культуры, 2016.
Хармс Д.И. Собрание сочинений, Т. 2: Новая анатомия,
СПб: Азбука, 2000.
Хлебников В.В. Конь Пржевальского, Ор. №16 // Бурлюк
Д., Бурлюк Н., Кручёных Α., Кандинский В., Лившиц Б.,
Маяковский В., Хлебников В. Пощёчина общественному
вкусу. В защиту свободного искусства. Стихи. Проза.
Статьи, М.: Данкин и Хомутов, 1912, 8.
Цветаева М.А. Варианты // Цветаева М.А. Избранные
произведения, А. Эфрон, А. Саакянц (сост., прим.)
Библиотека поэта, М./Л.: Советский писатель, 1965,
697-726.
. Собрание сочинений в 7 томах, Т. 1:
Стихотворения, М.: Эллис Лак, 1994.
Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной
теории, М: УРСС, 2013.
Чернавин Г.И. Непонятность само собой разумеющегося,
М., СПб: Добросвет, 2018.
Чжуан-цзы. Ле-цзы В.В. Малявин (пер.), М.: Мысль, 1995.
Юдин Г.Б. Правда ли, что у россиян «особые ценности»?
Один из самых опасных мифов // Republic, 7 марта
2018 (https://republic.ru/posts/89871)
. Общественное мнение, или Власть цифр, СПб:
Европейский университет, 2020.
Althusser L. Ideologie et appareils ideologiques d'etat (Notes
pour une recherche) // Althusser L. Sur la reproduction,
Paris: PUF, 1995,269-314.
Augustinus Hipponensis De mendacio, Liber I. // Sancti Aurelii
Augustini, Hipponensis episcopi, Opera omnia, multis
sermonibus ineditis aucta et locupletata, extracta e
collectione SS. Ecclesiae Patrum: 26, Paris: Parent-
Desbarres, 1839,423-470.
— 322 —
. Du mensonge // CEuvres completes de
saint Augustin, tome XII, A. Devoille (trad.), Bar-le-Duc:
L. Guerin & Cie, 195-217.
Baker P. Pressure Rising as Obama Works to Rein In Russia //
The New York Times, "World: Europe" section, March 2,2014.
Baülarger J.G.F. Des hallucinations, Memoires de l'Academie
royale de medecine, Vol. XII, Paris, 1846, 383-420.
Berger A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Transaction
of the American Philosophical Society, Philadelphia: The
American Philosophical Society, 1953.
Bisbee Duffey E. No Sex in Education: Or, An Equal Chance for
Both Boys and Girls, Philadelphia: J. M. Stoddart & C°,
1874.
Burroughs W.S. Junky: The Definitive Text of "Junk", NY:
Grove Press, 2012.
Carpenter D. (ed.) Magna Carta, London: Penguin, 2015.
Clerambault de G.G. Automatisme mental // Clerambault de
G.G. Oeuvre psychiatrique, Jean Fretet (ed.), Vol. 2, Paris:
PUF, 1942, 455-654.
Dick P.K. Simulacra, Boston: Houghton Mifflin Harcourt,
2011a.
. Lies, Inc., Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2011b.
Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und
Deutsch, Bd. I, W. Kranz (Hrsg.), 9. Auflage, Berlin:
Weidmann, 1960.
Emrich W. Die Rätselfigur Odradek // Emrich W. Franz Kafka,
Bonn: Athenäum, 1958,92-95.
. Die Sorge des Hausvaters // Akzente, Bd. 13,1966,
295-303.
Ferguson A. Zen's Chinese Heritage: The Masters and Their
Teachings, Boston: Wisdom Publications, 2011.
Fink Ε. Studien zur Phänomenologie (1930-1939), Den Haag:
M. Nijhoff, 1966.
. Metaphysik der Erziehung im Weltverständnis von
Plato und Aristoteles, Frankfurt a. M.: V. Klostermann,
1970.
-323-
. Nähe und Distanz. Phänomenologische Vorträge und
Aufsätze, Freiburg/München: K. Alber, 1976.
. Grundfragen der antiken Philosophie (1947/48),
Würzburg: Königshausen & Neumann, 1985.
. Phänomenologische Werkstatt 1: Die Doktorarbeit
und erste Assistenzjahre bei Husserl, Gesamtausgabe, Bd.
III/l, Freiburg/München: K. Alber, 2006.
. Phänomenologische Werkstatt 2: Bernauer
Zeitmanuskripte, Cartesianische Meditationen und System
der phänomenologischen Philosophie, Gesamtausgabe,
Bd. III/2, Freiburg/München: K. Alber, 2008.
Garfinkel H. Ethnomethodology's Program: Working Out
Durkheim's Aphorism, NY: Rowman & Littlefield, 2002.
Gott Ε. Gesammelte Werke, Bd. I, Gedichte, Sprüche,
Aphorismen, München: Beck, 1911.
Griesinger W. Die Pathologie und Therapie der psychischen
Krankheiten für Aerzte und Studirende, Braunschweig:
F. Wreden, 1876.
Hagen F.W. Zur Theorie der Hallucinations // Allgemeine
Zeitschriftfiir Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin,
№XXV, 1868,1-113.
Heidegger M. Qu'est-ce que la metaphysique? Η. Corbin (trad.)
//Bifur, №8, Paris, 1931, 5-27.
. Sein und Zeit, Gesamtausgabe Bd. 2, F.-W. von
Herrmann (Hrsg.), Frankfurt a. M.: V. Klostermann, 1977.
. Grundfragen der Philosophie. Ausgewählte
„Probleme" der „Logik", WS 1937/38, Gesamtausgabe Bd.
45, F.-W. von Herrmann (Hrsg.), Frankfurt a. M.: V.
Klostermann, 1984.
. Vom Wesen der Wahrheit. Zu Piatons
Höhlengleichnis und Theätet, WS 1931/32, Gesamtausgabe
Bd. 34, H. Mörchen (Hrsg.), Frankfurt a. M.: V. Klostermann,
1988.
. Logik als die Frage nach dem Wesen der Sprache,
SS 1934, Gesamtausgabe Bd. 38, G. Seubold (Hrsg.),
Frankfurt a. M.: V. Klostermann, 1998.
-324-
. Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges
(1910-1976), Gesamtausgabe Bd. 16, H. Heidegger
(Hrsg.), Frankfurt a. M.: V. Klostermann, 2000.
. Was ist Metaphysik? Frankfurt a.M.: V. Klostermann,
2007.
. Über Wesen und Begriff von Natur, Geschichte
und Staat, WS 1933/34 // Heidegger-Jahrbuch №4.
Heidegger und der Nationalsozialismus, Bd. I. Dokumente,
Freiburg/München: K. Alber, 2010, 53-88.
Husserl £. Рукописи:
Α VI 8 II (1904-1912), 173 стр., У. Мелле, С. Шпилерс
(частичная транскрипция).
ВI 31 (1933), 10 стр., Л. Ландгребе (транскрипция).
ВII4 (1926-1934), 115 стр., С. Луфт (транскрипция).
ВII14 (1935), 22 стр., С. Луфт (транскрипция).
. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine
Einführung in die reine Phänomenologie, Husserliana III,
W. Biemel (Hrsg.), Den Haag: M. Nijhoff, 1950.
. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie, Biemel W. (Hrsg.),
Husserliana VI, Den Haag: M. Nijhoff, 1954.
. Analysen zur passiven Synthesis. Aus
Vorlesungsund Forschungsmanuskripten (1918-1926), Husserliana
XI, M. Fleischer (Hrsg.), Den Haag: M. Nijhoff, 1966.
. Ideen zu Einer Reinen Phänomenologie und
Phänomenologischen Philosophie: Erstes Buch: Allgemeine
Einführung in die Reine Phänomenologie, 2. Halbband:
Ergänzende Texte (1912-1929), Schuhmann K. (Hrsg.),
Husserliana III/2, Den Haag: M. Nijhoff, 1976.
. Briefwechsel. Die Göttingener Schule, Husserliana
Dokumente III/3, K. & E. Schuhmann (Hrsg.), Dordrecht:
Kluwer, 1994a.
. Briefwechsel. Die Freiburger Schüler, Husserliana
Dokumente III/4, K. & E. Schuhmann (Hrsg.), Dordrecht:
Kluwer, 1994b.
-325-
. Zur Phänomenologischen Reduktion: Texte aus
dem Nachlass (1926-1935), Husserliana XXXIV, S. Luft
(Hrsg.), Dordrecht: Kluwer, 2002.
. Transzendentaler Idealismus. Texte aus dem
Nachlass (1908-1921), Husserliana XXXVI, R. D. Rollinger
(Hrsg.), Dordrecht: Springer, 2003.
. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit: Texte aus dem
Nachlass (1893-1912), Husserliana XXXVIII, T. Vongehr &
R. Giuliani (Hrsg.), Dordrecht: Springer, 2004.
. Die Lebenswelt: Auslegungen der vorgegebenen
Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem Nachlass
(1916-1937), Husserliana XXXIX, R. Sowa (Hrsg.),
Dordrecht: Springer, 2008.
Ibsen H. Et vers // Ibsen H. Samlede vaerker, Bd. 4, Kobenhavn:
Gyldendalske Boghandels Forlag, F. Hegel & son, Graebes
Bogtrykkeri, 1899,433.
Jaspers K. Notizen zu Martin Heidegger, München: Piper,
1978.
Kafka F. Die Sorge des Hausvaters // Kafka F. Ein Landarzt.
Kleine Erzählungen, München/Leipzig: Kurt Wolff, 1919,
95-101.
KantL Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die
als Wissenschaft wird auftreten können, Riga: J. Fr.
Hartknoch, 1783.
Kahlbaum K.L. Die Sinnesdelirien //Allgemeine Zeitschrift für
Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medizin, №XXIII,
1866,1-84.
Kierkegaard S. Enten-Eller, Forlaget Danmark, 1878.
. Opbyggelige Taler i forskjellig Aand // Seren
Kierkegaards samlede Vaerker, Vol. VIII, Drachmann A.B.,
Heiberg J.L., Lange H.O. (eds.), Kobenhavn: Gyldendal,
1903,107-365.
. Sygdommen til Doden (1849) // S0ren
Kierkegaards samlede Vaerker, Vol. XI, Drachmann A.B.,
Heiberg J.L., Lange H.O. (eds.), Kobenhavn: Gyldendal,
1905,111-241.
— 326 —
. Gesammelte Werke, Bd. 2, Entweder / Oder
(1843), E. Diederichs, 1911.
. Soren Kierkegaards Papierer, Vol. IV,
Optegnelser fra 1842, 20. November til 1844 Marts,
Heiberg P.A. (ed.), Kobenhavn: Gyldendal, 1912.
. Gesammelte Werke, Bd. 18, E. Diederichs,
1966; Samlede vaerker, Bd. 8, Gyldendal, 1846.
. Kierkegaard's Writings, Vol. XV: Upbuilding
Discourses in Various Spirits, Hong H.V. & Hong E.H.
(eds.), Princeton (NJ): Princeton University Press, 2009.
KremerA. Deutsche Juden — deutsche Sprache: Jüdische und
judenfeindliche Sprachkonzepte und -konflikte (1893-
1933), Berlin: W. de Gruyter, 2007.
Lichtenberg G.C. Aphoristisches zwischen Physik und
Dichtung, Vieweg & Teubner, 1983.
Mannheim K. Das Problem einer Soziologie der Wissens
(1925) // Mannheim K. Wissenssoziologie: Auswahl
aus dem Werk, Berlin & Neuwied: Luchterhand, 1964,
308-387.
. Ideologische und soziologische Interpretation der
geistigen Gebilde (1926) //Mannheim K. Wissenssoziologie:
Auswahl aus dem Werk, Berlin & Neuwied: Luchterhand,
1964,388-407.
Marmande F. Sartre et Bataille: Le Pas de deux // Burgelin C.
(ed.), Lectures de Sartre, Lyon: Presses Universitaires de
Lyon, 1986, 255-262.
. Le pur Bonheur. Georges Bataille, Lignes, 2011.
Minkowski E. Traite de Psychopathologie, Paris: PUF, 1966,
267.
Montag W. Settling Accounts with Phenomenology: Husserl
and His Critics // Montag W. Althusser and His
Contemporaries Philosophy's Perpetual War, Durham &
London: Duke University Press, 2013, 36-52.
Moore G.E. Selected Writings, NY: Routledge, 1993.
Natanson MA. Edmund Husserl: Philosopher of Infinite Tasks,
Evanston: Northwestern University Press, 1973.
-327-
Nemitz R. Aufrichtigkeit/Unaufrichtigkeit ( https://lacan-
entziffern.de/anderer/aufrichtigkeit-unaufrichtigkeit)
Ni L. Seinsglaube in der Phänomenologie Edmund Husserls,
Dordrecht: Kluwer, 1999.
Ong J.C. & Cabanes J.V.A. Architects of Networked
Disinformation: Behind the Scenes of Troll Accounts
and Fake News Production in the Philippines. Public
Report with Executive Summary, 2018 (https://doi.
org/10.7275/2cq4-5396).
Ortegay Gasset J. iQue es filosofia? // Ortegay Gasset J. Obras
completas. Tomo VII (1948-1958), Madrid: Revista de
Occidente, 1961.
Ott Η. Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie,
Frankfurt a. M.: Campus, 1988.
Patoeka J. On the Matters of The Plastic People of the Universe
and DG 307 // Labyrinth, Vol. 19, №1, 2017, 9-11.
PerL· P.S. The gestalt approach & Eye witness to therapy, Ben
Lomond, CA: Science and Behavior Books, 1973.
Richir M. & Grenier P. Un Enfant moyen de la seconde moitie
du XXeme siecle // Textures №10-11,1975, 39-44.
Rosenberg Larsen R. The Posited Self: The Non-Theistic
Foundation in Kierkegaard's Writings // Kierkegaard
Studies Yearbook, №20 (1), 2015, 31-54.
Sartre J.-P. L'etre et le neant. Essai d'ontologie phenomenologique,
Paris: Gallimard, 1943.
. Ä propos de Texistentialisme: mise au point
(29.12.1944) // ContatM. & Rybalka M. (eds.) Les Ecrits
de Sartre, Paris: Gallimard, 1970,653-658.
Scholz von W. Lebensdeutung: Einfälle, Erlebnisse,
Erkenntnisse, Stuttgart: W. Hädecke, 1924.
Seubold G. Nachwort des Herausgebers // Heidegger M. Logik
als die Frage nach dem Wesen der Sprache, SS 1934,
Gesamtausgabe Bd. 38, G. Seubold (Hrsg.), Frankfurt a.
M.: V. Klostermann, 1998,171-175.
Smullyan R.M. Logicians who reason about themselves //
Halpern J.Y. (ed.) Theoretical aspects of reasoning about
-328-
knowledge: proceedings of the 1986 conference, Monterey
(CA), San Francisco: Morgan Kaufmann, 1986, 341-352.
Sonnad N. Hacked emails reveal China's elaborate and absurd
internet propaganda machine // Quartz, 18 December 2014
( https://qz.com/311832/hacked-emails-reveal-chinas-
elaborate-and-absurd-internet-propaganda-machine)
Strauss WA. A Spool of Thread and a Spinning Top: Two
Fables by Kafka // Newsletter of the Kafka Society of
America, 1979, Vol. 3, №2, 9-16.
Theunissen M. Die Existenzdialektische Grundvoraussetzung
der Verzweiflungsanalyse Kierkegaards //Babich B.E. (ed.)
From Phenomenology to Thought, Errancy, and Desire:
Essays in Honor of W.J. Richardson, Dordrecht: Kluwer,
1995,181-204.
. Kierkegaard's Concept of Despair, Princeton &
Oxford: Princeton University Press, 2005.
Victoria BA. Zen and Japanese Militarism: A Critical Inquiry
Into the Roots of Imperial Way-Zen, Temple University,
1996,269-270.
Wittgenstein L. Letzte Schriften über die Philosophie der
Psychologie: das Innere und das Äussere (1949-1951), Bd.
2, G. H. von Wright, Η. Nyman (Hrsg.), Berlin: Suhrkamp,
1993.
iiiek S. The Blind Spot of Liberalism // Zizek S. Tarrying with
the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology,
Durham: Duke University Press, 1993,211-216.
. Anti-Semitism and Other Pokemon Games // Zizek S.
Incontinence of the Void: Economico-Philosophical
Spandrels, Cambridge/London: MIT Press, 2017,114-121.
Именной указатель
Адмони, Владимир 367
АзБукиВеди 4,139-142,
169,173, 265
Айрапетян, Вардан 355
Алёшенька 357,365
Альпин 146-147
Альтюссер, Луи 10, 93,
95-98,129,143,170,
172,232,235,265,358
Андреев, Леонид 47,
170-171
Апт, Соломон 152
Артёменко, Наталья 4,
203, 292, 365
Бань Шань (Бандзан)
308-309
Баратынский,
Евгений 21,169-170
Батай, Жорж 72
Белл, Уинтроп
Пикард 358
Белоусов, Михаил 4,17,
213, 262-263, 268,
293-296, 305, 337, 361,
366
Берназ, Олег 4,232,296
Бибихин, Владимир 248,
338
Блинов, Евгений 4,138,
266, 274, 299
Булгаков, Михаил 357
Вальденфельс,
Бернхард 315
Введенский,
Александр 10,43,109,
140,142-145,171-172,
255-256, 305, 362
Винни-Пух 115
Витгенштейн,
Людвиг 248-249,251,
258, 282, 304, 313
Волынский 88-89
Гадопятикна 4,139,
149-151,168-169,173,
212
Гарфинкель, Гарольд 10,
53,56,170,258,304,343
Гераклит Эфесский 80-81,
211
-330-
Герасимов 88
Герасимова, Анна 140,
362
Гильденстерн 147
Герцен, Александр 76,354
Горбунова, Алла 357
Горностаев, Сергей 75,
150,163,167,172
Гурьянов, Илья 347
Гуссерль, Вольфганг 67
Гуссерль, Герхарт 67
Гуссерль, Мальвина 66,
74,348
Гуссерль, Эдмунд 3,8-10,
16,18-19, 24, 37, 53, 56,
58,61,66, 68, 74, 76-78,
80, 82,87, 89, 91,93-94,
98-99,101,103,104-
108,113,116,167-169,
170,172,204,207, 209,
213-216,219, 222,
225-226, 233, 240,
252-255, 261-262,
264-265,267, 270,278,
280, 285, 294-295, 299,
302-306,310-311,
337-339,356,358, 361,
365-367
Декарт, Рене 19,114,124,
205-206, 239,259-260,
270-273, 288,292
Демьянов, Денис 4,247,
300
Деррида, Жак 290,292,
342
Дик, Филип Киндред 5,
10,161-162,157,159,
162-163,171,335,364
Добронравов,
Николай 303
Довлатов, Сергей 210,
310.366
Достоевский, Фёдор 31,
63,126,170-172,
255-256, 347
Евтушенко, Евгений 293
Жигалкин, Сергей 338
Жижек, Славой 19,137,
244
Жуковский, Василий 10,
146-147,171
Ибсен, Генрик 254,
302-303
Иванов 4,139,146-147,
169,173,255,265,298
Исаев, Сергей 9
Кабалевский,
Дмитрий 297
Кабаньес, Джейсон 299,
302.367
Кандинский, Виктор 39,
160-161,163,171
Кант, Иммануил 76,82,
204,261,354
Камнев, Владимир 94,
170
Карамазов, Фёдор 31
-331-
Кафка, Франц 10,152-153,
171,203, 205
Кашин, Олег 128,171
Клее, Пауль 10,155
Клерамбо де, Гаэтан
Гасьян 101,129,160,
162,171
Керкховен ван, Ги 93
Ким, Чен Ир 135-136,
171,362
Колядко, Виталий 9,
342
Корбен, Анри 338
Кролик 115
Кьеркегор, Серен 9,
20-23, 25, 35, 74, 79,
147,170,265,299,
313-314, 337-339
Лакан, Сильвия 352
Левинас, Эммануэль 81,
295
Ленин, Владимир 76,82,
204,211,354
Лихтенберг, Георг
Кристоф 114,171,
216, 255,262
Ложкин, Вася 357,365
Луфт, Себастиан 219,
294-295, 325
Мамонов, Пётр 10, 61,
149-150,171,266,315,
367
Мангейм, Карл 9,42-43,
55,62-63,122,170,172,
255-256, 290, 307, 344,
346
Маркс, Карл 48,186,199,
244, 290, 292
Маяцкий, Михаил 4, 87,
251, 256, 300, 335, 357
Мейлах, Михаил 140,
142-144, 362
Мелле, Ульрих 325
Мерло-Понти, Морис 288,
292, 313
Миллер, Эл 157-159,364
Милн, Алан Александр 41,
114,170,172
Минвана 146-147
Минковский, Евгений 25,
340
Молчанов, Виктор 4,254,
299, 302, 305, 336, 349
Музиль, Роберт 312
Мур, Джордж Эдвард 63,
304, 336
Мюллер, Генрих 10,
123-125, 255-256
Нагарджуна 311
Найман, Анатолий 310
Немиров, Мирослав 60,
171
Ни, Лианканг 337
Николай 134
Ницше, Фридрих
Вильгельм 362
Одрадек 4,139,152-155,
169,173, 364
-332-
Онг, Джонатан 299,302
Орлов, Даниэль 355
Папула 4,139,157-160,
164,168-169,171,173,
212, 265, 364
Паткуль, Андрей 4, 265,
271,306, 309
Паточка, Ян 92
Перевалов, Дмитрий 161-
162
Перлз, Фредерик 117,171
Платон 38, 59, 221,267,
340
Платонов, Андрей 114,
171,262,
Пригов, Дмитрий 10, 34,
46,119-120,124,149,
155,170-171, 209, 256,
365-366
Пришелец, Антон 297-298
Пузырев, Дмитрий 335
Ремизов, Алексей 78
Ришир, Марк 17,93,170,
226, 240, 307
Розенкранц 147
Рубинштейн, Лев 61,134,
171,315,367
Руднев, Вадим 4,41,63,
114,128,130,259,280,
282,296,310-311,314
Савчук, Людмила 336
Сартр, Жан-Поль 9,20,
23-27, 36, 41, 65, 72,
125,170,225-227,252,
265, 270, 295-296,
313-314, 337-340
Секацкий, Александр 44,
74, 248
Семёнов, Юлиан 123-124,
171
Скотт, Ридли 315
Смаллиан, Рэймонд
Меррилл 9,31,36,117,
170,340
Сорокин, Владимир 68,
71, 75,130,167,171-
172, 262
Спиноза, Бенедикт 48
Ставрогин, Николай 31
Степанцов, Вадим 10,
146,171
Судзуки, Тэйтаро 102,
122,171
Тарасов, Владимир 257,
309
Таривердиев, Микаэл 124
Терентьева, Татьяна 361
Тойниссен, Михаэль 25
Толстой, Лев 38-39,41,
43,63,171,340
Троцкий, Лев 143-144,171
Филлипс, Уитни 34,138,
300, 312
Финк, Ойген 76, 78-82,
93, 95-96,106-107,170,
226, 233, 240, 280, 307
Фихте, Иоганн Готлиб 100
-ззз-
Хайдеггер, Мартин 9,
65-68, 71-74,120,171,
216-218, 248, 255,
261-263, 276-277, 283,
295, 306-309, 314,
337-339,342, 347-349,
352
Хайдеггер, Эльфрида 66,
74, 349
Хармс, Даниил 19, 256
Хлебников, Велимир 10,
124
Хомутова, Дарья 4,285,
311-312
Цветаева, Марина 10,
149-151,171, 266
Чалмерс, Дэвид 44,170,
341-342
Ши 3, 90-91,170, 357
Шкловский, Виктор 43,
340
Шпилерс, Стивен 325
Штирлиц фон, Макс
Отто 123-125,255,
257
Эмпедокл 99,103
Эмрих, Вильгельм 154
Эрль, Владимир 142-144
Юдин, Григорий 93, 357
Юм, Дэвид 19, 76, 82,
204, 216,240,260, 267,
338-339,354
Ямпольская, Анна 4,267,
288,313-314, 366
Янсен, Юлия 344
Примечания
Предуведомление
1 «Who asked for your artificial, contrived opinion?» (Dick
[1963] 2011, 58). Существующие русские переводы
подчёркивают скорее аспект «сфабрикованное™»:
«Кто спрашивал вашего несуществующего,
искусственного мнения?» (Дик 1996); «Разве кто-то спрашивал
ваше запрограммированное со стороны мнение?» (Дик
2020,96).
2 От внимательного читателя рукописи (Михаил Маяц-
кий) я получил возражение: мальчик воспроизводит не
мнения взрослых, а просто их слова (даже если он
высказывает их в форме «я понял, что»); это же
возражение в расширенном виде другой читатель (Дмитрий
Пузырев) предлагает применить и ко всему проекту
книги: платные тролли не высказывают чужое мнение
как своё, а просто произносят «магические» формулы,
ритуальные похвалы и проклятия, которые действуют,
даже если в них никто не верит.
3 Native advertising (англ.). Вспомним практику
«вплетения» в личный блог рекламы, которая при этом
стилизуется под высказание собственного мнения.
Рекламное сообщение «растворяется» среди других постов,
-335-
написанных от первого лица, стремится затеряться
среди них, сойти за своего (native).
4 Окончание фразы: «...я не осуществляю это так, как
я естественным образом это осуществлял, нет
бывшего здесь раньше полагания бытия, а вместе с ним
и практического полагания мира». Оригинал: «Ich
lebe ja weiter, ich blicke herum, ich will mir das
Ding näher ansehen, ich übe positive Wissenschaft,
theoretisiere mathematisch, etc.; also das alles tue ich
doch wie vorher, ich übe doch alle Aktionen. Ja, gewiss.
Aber ich bin doch nicht „mit dem Herzen» („mit dem
Herzen» mit Bleistift leicht gestrichen. — Anm. d. Hrsg.)
dabei, ich vollziehe es nicht, wie ich es natürlich vollzog,
keine Seinssetzung und damit keine praktische
Weltsetzung ist, wie sie war».
I. Недобросовестная вера в бытие
5 Пример представляет собой полемическое
переворачивание муровского парадокса «идёт дождь, но я так не
считаю». По поводу этого примера см. возражения
Виктора Молчанова и ответ на них.
6 Здесь и далее высказывания троллей цитируются по
собранному массиву комментариев: https://paperpaper.
ru/troll-docs ; https://arhivach.ng/thread/128062/#12
339247; http://arhivach.ng/thread/128062#12339265;
http://arhivach.ng/thread/128062#12339280 ; http://
arhivach.ng/thread/128062# 12339298 . Помимо этого
в результате расследования (двухмесячного
исследования «с погружением», работы «под прикрытием»)
Людмилы Савчук был собран массив техзаданий (см.
публикации газеты «Мой район» и «Новой газеты»
https://mr-7.ru/articles/112478 ; https://web.archive.
org/web/20150321000453/http://www.novayagazeta.
ru/inquests/67574.html?p=2).
-336-
7 Я благодарен Михаилу Белоусову за указание на
неточность предварительного варианта перевода «мир как
действительность всегда уже здесь».
8 (Husserl [1930] 2008, 234). См. на эту тему работу Ли-
анкангаНи(№1999).
9 «Note the Danish etymological precision that the word
fortvivlelse encapsulates. The word fortvivlelse is
composed of two words, for and tvivl — that is, for-tvivl.
The Danish word tvivle means in English to doubt (at
tvivle). When one places the word (or prefix) for in front of
tvivl, it becomes an intensification of doubt (tvivl). Despair
(fortvivlelse), then, is an intensified doubt about oneself—
or better, an uncertainty, confusion or bewilderment about
one's entire relation. Personally, I prefer the English
translation or description of fortvivlelse as innate
intensified perplexity» (Rosenberg Larsen 2015, 33).
10 (Kierkegaard [1847] 2009, 406; 1903, 139); «Человек
с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих»
(Иак 1:8). У слов «tvivl (сомнение)», «fortvivlelse
(отчаяние) » и у датского перевода библейского выражения
«двоящиеся мысли (tvesindethed)» общий корень: tve/
tvi — два.
11 Так, для Хайдеггера мы находимся в постоянном
бегстве от себя (в неподлинность), в забвении бытия;
недобросовестная вера* — полемический ответ Сартра на
гуссерлевскую веру в бытие* — также будет
определяться как бегство от себя (Сартр 2000,99; 1943,100).
Самость (хайдеггеровский эквивалент понятия
«субъект») должна стать своим собственным основанием,
неспособна на это, и всё же должна (Хайдеггер 2002,
284; 1977, 377). Вспомним гуссерлевское восприятие
мира и вещей в мире как «постоянное притязание
осуществить что-то, что оно по сути своей осуществить не
в состоянии» (Husserl [1920] 1966, 3). В этой точке:
долженствование, невозможное к исполнению —
встречаются вера в бытие* и разуверение* (с одной сто-
-337-
роны, это линия Юм-Гуссерль [belief, Seinsglaube],
с другой — линия Кьеркегор-Хайдеггер [fortvivlelse,
selbstvergessene Verlorenheit]); если в первом случае
речь идёт о мире, данном в качестве действительности,
как о неисполнимом обещании, то во втором случае
такую роль играет самость.
12 (Сартр 2000,101; 1943,102). Стоит сказать о том, как
стала возможна эта формула: «быть тем, чем не
являешься, и не быть тем, чем являешься». В центральном
пассаже лекции «Что такое метафизика?» заостряется
стратегия колебания между «быть собой» и «не быть
собой»: «Dasein по самой своей сути состоит в
отношении к сущему, каким оно и не является и каким оно
само является (das Dasein verhält sich seinem Wesen nach
zu Seiendem, das es nicht ist und das es selbst ist)» (Хай-
деггер 2007, 35; Heidegger 2007, 38). Перевод, на
который опирался Сартр: «Pexistence est, de par son essence,
en rapport avec l'Etre, celui qu'elle n'est pas et celui qu'elle
est elle-meme» (Heidegger 1931, 20). В переводе Жигал-
кина (Хайдеггер 2016, 31-32) скрадывается
присутствующая в оригинале (и в переводе Бибихина)
парадоксальность «каким оно и не является и каким оно
само является (das es nicht ist und das es selbst ist)».
От парадокса можно избавиться, сказав, что Dasein
является одним сущим и не является каким-то другим,
а можно его заострить, сказав, что Dasein есть сущее,
причастное бытию (которое не есть нечто сущее).
Французский перевод Корбена и Сартр явным образом
идут по второму пути. Перевод лекции 1929 года, где
приведённое выше высказывание прозвучало в форме
«существование есть то, чем оно не является (Pexistence
est... TEtre, celui qu'elle n'est pas)», был опубликован
уже в 1931 году.
13 «Пара понятий [искренность/неискренность] имеет
юридическое происхождение как различие bona fides
и mala fides, добросовестной и недобросовестной веры.
-338-
Я действовал согласно добросовестной вере (bona fide),
если я приобретал вещь у кого-то, доверившись его
слову: хотя он, как я теперь знаю, не являлся
собственником, но он считал, что им является, и я ему поверил»
(Nemitz 2013). Об использовании этого выражения
в римском праве см. (Berger 1953, 374); см. также
первый и последний параграфы Великой Хартии
вольностей (Carpenter 2015).
(Сартр 2000,84; Sartre 1943,84); «"Этот" мир всегда по
сути своей парит между бытием и видимостью»
(Husserl [1931] 2002,140).
(Сартр 2000, 102-103; Sartre 1943, 103-104).
Интересно, что такова же роль «рассудка» в лекции «Что такое
метафизика?» (Хайдеггер 2007, 29) — как и «здравый
смысл» недобросовестная вера* благоразумна и
осмотрительна в заранее очерченных рамках.
Можно проследить двойную генеалогию
недобросовестной веры*: линию Кьеркегор-Хайдеггер-Сартр
и линию Юм-Гуссерль-Сартр. Поскольку гуссерлевская
вера в бытие* восходит к юмовскому belief, то в
понятии недобросовестная вера* встречаются «вера (belief)»
и «разуверение (fortvivlelse)» в их развитии Гуссерлем
и Хайдеггером, а также повседневное юридические
и моральные коннотации. Если гуссерлевская вера
в бытие* имеет дело с ситуацией mala fide, восходящей
к римскому праву: внешнее восприятие пытается нам
«продать» то, чем оно не обладает, выдаёт притязание
за обладание (Husserl [1920] 1966, 3), то, в таком
случае, хайдеггеровское забвение бытия скорее
напоминает ситуацию mala fide в случае неискреннего
средневекового сюзерена (при этом в роли такого сюзерена
оказываемся мы сами): заявляя, что мы
просто-напросто есть, мы не собираемся ставить вопрос о смысле
бытия, быть в подлинном смысле.
«Он говорит нам, что, прекрасно зная, где находится,
он не чувствует себя в том месте, которое занимает, не
-339-
чувствует себя в своем теле, что слова "я существую" не
имеют для него ясного (precis) смысла» (Минковский
2017, 70-71; Minkowski 1966, 267; Чернавин 2018,101,
111,212,219).
18 (Сартр 2000, 97; Sartre 1943, 98)
19 См.: (Сартр 2000,89,100-101,104; Sartre 1943,89,101-
102,105).
20 В статье «Логики рассуждают сами о себе» (1986)
помимо диковинного, сбивчивого и нестабильного Рэй-
монд М. Смаллиан также определяет точного и
неточного, самонадеянного и скромного, стабильного (в
противовес нестабильному), нормального (в
противовес диковинному), непротиворечивого (в противовес
сбивчивому), обычного, рефлексивного, мнительного
и стеснительного мыслителей. Я останавливаюсь
подробно именно на диковинном, сбивчивом и
нестабильном мыслителях, поскольку эти три типа лучше всего
подходят, чтобы проиллюстрировать
недобросовестную веру, хотя самонадеянный и мнительный
мыслители тоже могли стать частью этого обсуждения.
II. Странные мнения
21 Читатель рукописи возражает: верит и не верит на
разных уровнях, логического противоречия не возникает.
Но меня здесь интересует не противоречие, а то, что
сбивчивый мыслитель незаметно для себя
перескакивает с одного уровня (веры) на другой уровень
(неверия) и обратно.
22 (Толстой 1953,141). Из интерпретации этого
рассуждения вырастает теория остранения Шкловского.
Возможно, здесь содержится отсылка к платоновской идее
о том, что непознанная жизнь не стоит того, чтобы
быть прожитой: «жизнь без исследования не есть
жизнь для человека (ό δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός
άνθρώπω)» (Апология Сократа, 38а).
-340-
Рецензент книги (Чернавин 2018) справедливо
указывает, что я использую эту метафору не совсем в том
смысле, который в неё вкладывал автор: «Чалмерс
появляется в книге как автор знаменитого выражения
"темно внутри". Речь идёт о мысленным эксперименте
"философский зомби". Его суть можно выразить так:
физикализм утверждает необходимую связь сознания
и физического; мы можем помыслить мир, физически
идентичный нашему, в котором нет сознания; значит,
связь сознания и физического не является
необходимой; значит, физикализм ложен. Наши физические
двойники, лишённые сознания, называются
"философскими зомби", у которых "темно внутри". Причем
"сознание" тут понимается в феноменальном смысле, как
способность ощутить, что значит быть тем-то и тем-то.
Психологическими аспектами сознания, такими как,
например, внимание или способность давать отчёт
о содержании ментальных состояний, зомби обладает
(Чалмерс 2013, 127). В противоположность этому
в книге Чернавина "темно внутри" использовано
иначе: "Почему оперирование клише называется
мышлением? В готовом мышлении никого нет, там 'темно
внутри*. Мне кажется, что я думаю и чувствую, но это
пустышки, обёртки мысли" (Чернавин 2018, 50). Это
неточное использование выражения Чалмерса,
которое, хотя и является само по себе образным, всё же
обозначает строгое понятие. Употребление Чернавина
тут является неточным, потому что зомби, строго
говоря, может осуществлять проблематизацию
очевидного, может думать свои собственные мысли, может
быть творческим индивидом. Чего он не может, так
это ощутить, каково это быть тем, кто всё это делает.
Но разве эта способность необходима для того, чтобы
не-влипать, как говорит автор, в очевидное, и пробле-
матизировать само это понимание? Кажется, что эта
способность вообще в этом не участвует. Зомби, дума-
-341-
ется, мог бы послужить проекту Чернавина иначе, чем
примером бездумного автомата, выдающего готовые
мысли. Чувство своего Я, по Чалмерсу, — именно
феноменальное состояние (Чалмерс 2013, 27). А самость,
вещь довольно близкую к подобному чувству, Черна-
вин считает частью здравого смысла и примером само
собой разумеющегося, чью непонятность он желает
вскрыть. То есть философский зомби — это, кажется,
такой феноменолог, который действительно не смог
бы понять, о чём говорят, когда говорят о самости,
о том, кто мы такие и тому подобном. Хотя, если этот
зомби был бы двойником настоящего феноменолога,
он вполне убедительно мог бы рассуждать о таких
предметах. Впрочем, Чалмерс выражение "темно
внутри" не патентовал» (Логинов 2019, 207-208). Тем не
менее, я продолжаю упорствовать в употреблении
этой метафоры в смещённом смысле.
24 «How long will you go limping between two different
opinions? If the Lord is God, follow him; but if Baal, then
follow him» (1 Kings 18:21).
25 Croyance troublee и mauvaise foi — в переводе Колядко,
соответственно, «тревожная вера» и «самообман».
26 «Das phänomenologische Subjekt, das plötzlich eine Idee
als Ideologie erlebt, stellt sich damit zugleich dermaßen
außerhalb der besonderen ideologischen Sphäre, daß für
ihn theoretisch negieren, bezweifeln schon deshalb nicht
möglich wird, weil jener, der negiert und bezweifelt, noch
immer (wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen) die
vorgeschriebenen Setzungen mitmacht».
27 Отдельного внимания также заслуживает перечёркнутое
написание (например, бытие) уХайдеггера и Деррида.
28 «Sometimes familiar names for phenomena are used,
names found in common vernacular or technical
-342-
terminologies. Some examples from EM studies are
instructions; following instructions, detail, structure, or
summoning phones. The point: their familiar names are
used tendentiously. Familiar names are used with a
deliberately abiding, corrective, but concealed tendency. In
speaking tendentiously a term is written with its asterisked
spelling — e.g., detail*. In that spelling detail* is used
knowing that by detail* is meant something other and
different than the reader would explain or can explain with
any of detail's many vernacular "straightforward"
meanings; thus at the same time knowing that detail* is
used as a corrective on the reader's understanding. By
intent, and at times by reason of achievements of previous
EM studies, detail* (or any asterisked term of order* as the
case may be) is used as an aim, task, method, or finding
according to EM policies and methods, as a radical
corrective; knowing, too, that an explanation is being
delayed deliberately; doing so on the grounds of later
studies; knowing that an explanation will be forthcoming
at an appropriate place in the overall argument, although
not adequately* particularly in any instant discussion but
as the argument develops over actual studies, and not in
studies just and only actually not supposedly doable and
actually not supposedly done, by the reader in just and
only an actual case. Only and entirely on these grounds
detail* (or any other asterisked phenomenon of order* as
the case may be) is used as a radical corrective on the
reader's understandings». Гарфинкель приводит этот
пассаж в неизменном виде в двух частях книги. Можно
ли сказать, что читательское понимание через
пятьдесят страниц подверглось корректировке?
«Он убежать никак не мог — Ведь у него же нету ног!
Не мог уплыть он по реке (Он без хвоста и плавников)».
Высказывание «Ощущается как -4°» меняет свой
смысл, когда я узнаю, что за ним «никого» (живого)
нет, что у говорящего «темно внутри».
-343-
«Существенное различие между разоблачением лжи
и идеологии состоит в том, что в первом случае исходят
из этической личности и в этом смысле стремятся
посредством разоблачения сокрушить морального
субъекта, стоящего за высказыванием, тогда как
разоблачение идеологии в его чистой форме совершает выпад
против так сказать бессознательно действующей
витальной сферы общественного духа. Проводя
разоблачение идеологии, стремятся обнаружить
бессознательный процесс, не для того, чтобы сокрушить моральную
экзистенцию человека, стоящего за высказыванием, но
с тем, чтобы запустить разложение (aufzulösen)
социальной действенности определённых идей, разоблачив
функцию, которую они выполняют. Разоблачение лжи
практиковалось всегда, а разложение (Auflösung)
идеологий в только что указанном смысле, который ещё
нужно подробнее охарактеризовать, по-видимому,
вполне современное явление. Также в этом случае
содержание предложения или "идеи" при разоблачении
его социально-психологической функции не
отвергается и не подвергается теоретическому сомнению (речь
идёт совсем не об этом), а "разлагается (aufgelöst)".
Здесь мы имеем дело с экзистенциальным коррозиро-
ванием (Zersetzung) теоретического содержания, с
занятием такой установки по отношению к
теоретическому содержанию, при которой его не столько
проверяют на истинность, сколько пытаются трансцен-
дировать его теоретическую имманентность, выйти
к бытию» (Мангейм 1998,188 — перевод существенно
изменён —ГЛ.; см. Mannheim [1925] 1964,316-317).
В переводе А. Анипко вместо «рубрика» Titel
переводится как «заголовок».
Я благодарю директора архива Гуссерля г-жу проф.
д.ф.н. Юлию Янсен за разрешение цитировать
неопубликованные рукописи (Ich danke der Direktorin des
Husserl Archivs, Frau Prof. Dr. Julia Jansen, für die Erlaub-
-344-
nis, aus den unveröffentlichten Manuskripten zu zitieren).
«Ich drückte mich in den Vorlesungen von WS 11 so aus:
Das wirklich Sein eines Dinges ist Index für gewisse
subjektive Zusammenhänge (und zwar in infinitum). Das muß
also in dieser angegebenen Weise verstanden werden.
Nehme ich ein Ding wahr, es ist doch notwendig zu sagen: so
bin ich damit gewiß, daß es wirklich da ist, obschon ich
mich trotzdem täuschen kann. Wann ist meine
Überzeugung eine richtige? Ausweisen kann ich sie nur wieder
durch neue Erfahrung. Aber auch die kann sich auflösen in
Schein. Wann ist meine Überzeugung objektiv richtig? Und
was liegt im Sinn, den ich selbst mit dieser objektiven
Richtigkeit verbinde? In der Wahrnehmungsgewißheit und der
Möglichkeit ausweisender Überzeugung liegt jedenfalls die
Präsumtion, daß ich mich wieder überzeuge, wieder auf
die Erfahrung zurückgehen kann und schließlich, das ist
unter den Titel objektive Richtigkeit die Präsumtion und
das keine Erfahrung je kommen wird und kommen kann,
die mit der wiedererinnerungsmäßig herzustellen
bisherigen Erfahrung streitet: Also das sehe ich sogleich, daß in
der Überzeugung ein Stil der Einstimmigkeit in infinitum
aller mir künftig, der zufällig eintretenden oder frei tätig
ins Spiel setzenden liegt. Zunächst für mich in meiner
direkten Erfahrungssphäre, dann indirekt von anderen
Erfahrungen anderer Dinge ausgehend etc. und dann
intersubjektiv, wenn ich zunächst naiv die Intersubjektivität als
selbstverständlich voraussetze. Ich kann dann weiter
phänomenologisch fragen, wie sieht überhaupt Einstimmigkeit
aus, auch wie ist Einstimmigkeit des Seins bei
Unstimmigkeit des Soseins subjektiv zu beschreiben etc. Und dann die
entsprechenden Fragen für die Erhaltung des immerzu
vorausgesetzten, nämlich aus bisheriger und gegenwärtiger
Erfahrung gesetzten Welt unter der Präsumtion der
Einstimmigkeit in infinitum. Erkenntnistheoretisch dann auch
die Frage, wie es mit der Bewährung dieses in infinitum
steht etc. Das ist also das Indexsein. Diese Andeutungen
-345-
reichen nicht hin! Es ist mein Erfahren von der Welt, mein
Meinen, wahrnehmendes, erinnerndes, schließendes, oder
auch mein aktualisiertes altes Wissen etc. Urteil, also über
die in dem oder jenem jeweiligen Modus vermeinte Welt
als solche, also über das, was als Einheitssinn nicht nur in
meinem jeweiligen Leben gesetzten Sinn ist (das ist es
immer und notwendig), sondern was in den reflektiven so
und so fixierten Lebensmomenten, in den und den
subjektiven „Fragen" als Vermeintes liegt. Und endlich kann ich
die Frage stellen, wie sieht der Gesamtstil eines
erfahrendes Lebens aus, in dem ein Dingliches, ein Objektives, in
dem „die Welt" immerfort daseiend für mich ist und soll
sein können; welches Wesensstil muß ein Leben haben,
damit eine Dingwelt soll einstimmig gegeben sein können, so
daß das erfahrende Ich notwendig und in beständiger
Konsequenz an eine Welt glauben kann und glauben muß. Da
sage ich aus über mein Subjekt, meinen Glauben, mein
erfahrendes und sonstiges Leben und das darin einstimmig
oder nicht einstimmig, ev. notwendig als seiend Geglaubte.
Und über das, was dabei im Modus des selbst Daseienden
gegeben ist als „dieses Ding" und im Modus selbst seiend
vom Dinge etc.»
В начале этой фразы Мангейм использует
труднопереводимое оксюморонное словосочетание, говоря, что
«можно даже "лгать правду"...»: «Man kann ja auch die
Wahrheit lügen, und zwar dann, wenn ein Satz zwar eine
inhaltlich richtige Feststellung enthält, aber in des
Betreffenden Munde — wie man zu sagen pflegt —
dennoch eine Lüge ist» (Mannheim [1925] 1964, 316).
Русский перевод 1998 года (возможно,
опосредованный английским переводом) заслуживает
существенного пересмотра. Более точный вариант перевода
звучал бы так: «Можно даже "лгать правду", например,
некая фраза хотя и содержит содержательно верное
утверждение, но, так сказать, "в устах говорящего", всё
же оборачивается ложью».
-346-
В этом смысле можно различать истину/ложь
(содержание высказывания) и правдивость/лживость
(пропозициональную установку). Тогда помимо
привычных правдивых истин и лживого обмана на сцену
выходят лживая истина и правдивая ложь.
Фраза целиком: «Ex quo fit ut possit falsum dicere non
mentiens, si putat ita esse ut dicit, quamvis non ita sit; et ut
possit verum dicere mentiens, si putat falsum esse et pro
vero enuntiat, quamvis revera ita sit ut enuntiat»
(Augustinus [ок. 395] 1839,425). Я благодарен Илье
Гурьянову за помощь при работе с латинским текстом.
Интересно, что неточный французский перевод второй
части фразы «можно солгать, говоря правду, когда
считаешь что-то ложным, а высказываешь это как
истинное, хотя на деле так и есть (on peut mentir en disant la
verite, quand on croit qu'une chose est fausse, et qu'on
Гёпопсе comme vraie, quoiqu'elle soit reellement telle
qu'on Гёпопсе)» (Augustin 1868, 196) выражением «on
peut mentir en disant la verite» максимально
приближается к мангеймовскому «man kann die Wahrheit lügen».
См.: «Man kann aus Dummheit gescheit, aus Feigheit
mutig sein, im vollsten Recht unrecht tun und aus
Niederträchtigkeit edel handeln — man kann sogar die
Wahrheit lügen!» (Gott 1911, 122) или «Manche Lügen
entstehen daraus, daß eine verborgene Wahrheit Wort
werden will. Man kann: die Wahrheit lügen» (von Scholz
1924,46). Это достаточно старая риторическая фигура.
См., например: «Друг мой, я всю жизнь мою лгал. Даже
когда говорил правду» (Достоевский 1974,497).
Листовка «Wider den undeutschen Geist!» (1933);
(Hammer 551, Juni 1925,217 // Kremer 2007,134).
«Heidegger etait philosophe bien avant d'etre nazi. Son
adhesion ä l'hitlerisme s'explique par la peur, l'arrivisme
peut-etre, surement le conformisme: ce n'est pas beau, j'en
conviens. Seulement cela suffit pour infirmer votre beau
raisonnement: "Heidegger, dites-vous, est membre du parti
-347-
national-socialiste, done sa philosophie doit etre nazie." Ce
n'est pas cela: Heidegger n'a pas de caractere, voilä la
verite; oserez-vous en conclure que sa philosophie est une
apologie de la lächete? Ne savez-vous pas qu'il arrive aux
hommes de n'etre pas ä la hauteur de leurs ceuvres? Et
condamnerez-vous "Le Contrat social" parce que Rousseau
a expose ses enfants?»
«Sehr verehrte Frau Husserl! Es drängt mich sehr, Ihnen
und Ihrem Gatten — zugleich im Namen meines Mannes —
in diesen schweren Wochen ein paar Worte zu schreiben.
Wir möchten Ihnen beiden sagen, daß wir heute — wie
immer — in unveränderter Dankbarkeit an alles denken,
was Sie uns erwiesen haben. Wenn mein Mann in seiner
Philosophie andere Wege gehen mußte, so wird er nie
vergessen, was er als Schüler Ihres Gatten auch gerade für
seine eigenste Aufgabe gewonnen hat. Und was Sie selbst
uns in den harten Jahren nach Kriegsende an Güte und
Freundlichkeit zuteil werden ließen, werde ich nie
vergessen. Ich habe so sehr darunter gelitten, daß ich Ihnen
diese Dankbarkeit in den letzten Jahren nicht mehr zeigen
durfte, obgleich ich nie recht verstand, welches Gewebe
von Mißverständnissen Sie in uns nur die sehen ließen, die
Sie beide enttäuschten. Zu all dem kommt aber noch die
tiefe Dankbarkeit gegen die Opferbereitschaft Ihrer Söhne,
und es ist ja nur im Sinne des dieses neuen harten, vom
deutschen Standpunkt aber nötigen Gesetzes, wenn wir
uns bedingungslos und in aufrichtiger Ehrfurcht zu denen
bekennen, die sich in der Stunde der höchsten Not auch
durch die Tat zu unserem deutschen Volke bekannt haben.
Umso mehr waren wir erschrocken, als neulich durch die
Presse der Name Ihres Kieler Sohnes ging. Wir hoffen, daß
es sich dabei nur um Übergriffe handelt, die untergeordnete
Stellen in der allgemeinen Erregung dieser Wochen
begingen, so wie sich 1918 in den Revolutionswochen
ungerechte und schmerzvolle Ereignisse abspielten. Bitte,
verehrte liebe Frau Husserl, wollen Sie diese Zeilen als das
-348-
aufnehmen, was sie sind: der Ausdruck aufrichtiger und
unveränderter Dankbarkeit. Ihre sehr ergebene Elfride
Heidegger».
Один из первых читателей рукописи предложил такую
интерпретацию, вводящую рассуждение Хайдеггера
в контекст этой книги: вместо противопоставления
мнения и мысли* стоит определить мнение как
ограниченную способность пребывать в мышлении. Общим
основанием для них можно считать «приглашение
в бездну» (бездну непонятности, скрывающуюся за
любой самопонятностью) — если ты принял это
приглашение то в твоём распоряжении мысль*, а если не
принял — мнение.
В переводе учтено замечание Виктора Молчанова:
в тексте 1933 года стоит переводить Führer как «лидер»
или «вождь». Развивая это возражение, можно сказать:
на тот момент слово «фюрер» ещё не стало
нарицательным и не вошло в другие языки, Führer ещё не стал
фюрером. Это возражение можно сблизить с другим (см.
ниже): Хайдеггер «там и тогда» не мог знать, чем
закончится «единство народа и вождя».
«Zunächst fragen wir aber einmal konkret: Was ist
Seiendes? Was ist Sein? Die Kreide ist ein vorhandenes
Seiendes, wir sehen sie und sagen über sie aus: Die Kreide
ist weiß. Dabei können wir erfahrungsmäßig, mit unseren
Augen, die Kreide feststellen, ebenso das Weiße an der
Kreide. Wo aber ist das „ist", die Form des Hilfsverbums
„sein", die wir bei unseren Aussagen ständig gebrauchen?
„Ist" können wir nicht sehen. Was ist das „ist"? Wir
gebrauchen „ist" schon in verschiedenen Bedeutungen. In
dem Satz „die Kreide ist weiß" drückt das „ist" eine
Beschaffenheit, eine Eigenschaft, ein Wie-Sein aus. Anders
ist die Bedeutung des „ist" in dem Satz: „die Kreide ist
vorhanden", denn das Vorhandensein ist keine Eigenschaft,
vielmehr Seinsart, Was-Sein. Mit diesem Unterschied ist
aber erst recht nicht geklärt, was das Wesen des „ist" und
-349-
Sein ist. Das Sein ist keineswegs sichtbar, wir können keine
Vorstellung davon haben. Und doch sagen wir dauernd
„ist" und verstehen von vornherein ohne alle Theorie dieses
„ist", können aber nicht sagen, was wir damit meinen. So
selbstverständlich dieses „ist" scheint, so dunkel, schwierig,
rätselhaft wird es, wenn wir danach fragen. Wir können
nicht nach dem Sein fragen mit der Frage: Was ist Sein?
Sollten wir das „ist" erst erkennen, wenn es „nicht ist", d.h.
aus dem Nichts heraus? Wenn das so wäre, wäre dann
nicht die ganze Welt, wir, alles nichtig? Dies ist
ungeheuerlich und verwirrend. Im Selbstverständlichen
öffnet sich plötzlich ein Abgrund, unüberblickbar und
gefährlich, aber unumgänglich für den, der wahrhaft fragt.
Der Mensch, der seinem Wesen nach fragen muß, der muß
sich der Gefahr des Nichts, des Nihilismus aussetzen, um
aus dessen Überwindung den Sinn seines Seins zu erfassen.
Wir können hier die Frage nach dem Sein nicht weiter
klären, sondern sehen nur, daß ein wesentlicher
Unterschied zwischen Sein und Seiendem besteht, und daß
dieser Unterschied ein völlig anderer ist, als der von
Seiendem und Seienden, z.B. Buch und Kreide. Wir müssen
aber noch auf die Vieldeutigkeit hinweisen, die Sein hat:
Kreide ist; ein Hund ist; ein Mensch ist. Bei allen drei
Aussagen wird festgestellt, daß überhaupt etwas ist, also
nicht nichts. Doch ist in jeder der drei Beziehungen das
Sein ein Verschiedenes: Kreide als Kreide ist Gegenstand,
Hund-sein ist Tiersein, somit als Lebendig-sein von anderer
Seinsart als vorhandene Gegenstände. Und das
Menschsein ist erst recht unterschieden und ausgezeichnet in
seiner Seinsweise. Wodurch? Was ist das Auszeichnende
des menschlichen Seins? Wir sagen: Der Mensch ist sich
seines Seins und des Seins von anderem Seienden bewußt,
er hat Bewußtsein. Dieses Bewußtsein des Menschen ist
nicht nur etwas Wißbares, was man so wissen kann oder
nicht, sondern es ist ein Grundvermögen seines Daseins. Es
geht dem Menschen um sein eigenes Sein, und vermöge
-350-
des Bewußtseins kann er sich darum bekümmern. Die
Höhe des menschlichen Bewußtseins birgt in sich die
Möglichkeit des tiefen Verfalls in Bewußtlosigkeit. In der
ständigen Ohnmacht der Bewußtlosigkeit und
Gewissenlosigkeit sinkt der Mensch unter das Tier herab.
Das Tier hat kein Verhältnis zum Sein, es kann nicht
bewußtlos, verlottert oder gleichgültig sein. Der Mensch
aber verliert mit dem Bewußtsein und Gewissen seine
eigenste Würde. Ohne das Bewußtsein, das Wissen und
Sorgen um Höhe und Tiefe, Größe und Ohnmacht seines
Seins im Ganzen der Welt ist er nicht mehr als Mensch, und
da er weder Tier noch Pflanze noch Gegenstand sein kann,
so ist er im Grunde gar nichts. Mit dem Verlust des
Bewußtseins wird das menschliche Sein nichtig. So wie das
Seiende der Mensch sich seines Mensch-seins bewußt ist,
wie er sich dazu verhält, sich darum kümmert, so hat auch
das Seiende Volk ein wissendes Grundverhältnis zu seinem
Staat. Das Volk, das Seiende, das in seinem Sein den Staat
verwirklicht, weiß um den Staat, kümmert sich um ihn und
will ihn. [...] Das Volk, das Seiende hat ein ganz bestimmtes
Verhältnis zu seinem Sein, zum Staat. Wir haben jetzt zu
überlegen, wie diese Verhältnisse Volk-Staat und Seiendes-
Sein wesensmäßig verknüpft sind. [...] Der Ursprung alles
staatlichen Handelns und Führens liegt nicht im Wissen,
sondern im Sein. Jeder Führer ist Führer, muß der
geprägten Form seines Seins nach Führer sein, und versteht
und bedenkt und erwirkt in der lebendigen Entfaltung
seines eigenen Wesens zugleich, was Volk und Staat ist.
[...] Nur wo Führer und Geführte gemeinsam in ein
Schicksal sich binden und für die Verwirklichung einer
Idee kämpfen, erwächst wahre Ordnung. Dann wirkt sich
die geistige Überlegenheit und Freiheit aus als tiefe
Hingabe aller Kräfte an das Volk, den Staat, als strengste
Zucht, als Einsatz, Standhalten, Einsamkeit und Liebe.
Dann ist die Existenz und Überlegenheit des Führers
eingesenkt in das Sein, in die Seele des Volkes und bindet
-351-
es so mit Ursprünglichkeit und Leidenschaft an die
Aufgabe. Und wenn das Volk diese Hingabe spürt, wird es
sich in den Kampf führen lassen und den Kampf wollen
und lieben. Es wird seine Kräfte entfalten und ausharren,
treu sein und sich opfern. In jedem neuen Augenblick
werden sich Führer und Volk enger verbinden, um das
Wesen ihres Staates, also ihres Seins, zu erwirken;
auseinander wachsend werden sie den beiden bedrohenden
Mächten Tod und Teufel, d.h. Vergänglichkeit und Abfall
vom eigenen Wesen, ihr sinnvolles geschichtliches Sein
und Wollen entgegensetzen».
«Непосредственное доверие естественного сознания
к науке есть неизвестно чем вызванная попытка этого
сознания хоть раз походить на голове; занять это
необычное положение и двигаться в нём его принуждает
столь же неожиданное, как и, по-видимому, ненужное
насилие, которое ему угодно учинять над собой».
Свидетельство Сильвии Лакан; правда, оно приводится
с ремаркой «если она, конечно, это не выдумала»
(Marmande 2011, 223).
Читатель рукописи возражает мне: Хайдеггер «там
и тогда» не мог знать, что «единство народа и вождя»
кончится кровавым безумием, так не навязываем ли
мы ему тем самым самопонятности из нашего
сегодняшнего «здесь и теперь»? На это хочется ответить:
персонажи Сорокина тоже не знают о том хтониче-
ском ужасе, который ждёт их на следующей странице,
а вот читатель одновременно знает (предвосхищает)
и не знает (растворяясь в перспективе персонажа)
о нём. Поэтому я предлагаю мерцание перспектив
между хайдеггеровским «там и тогда» и нашим «здесь
и теперь». (Здесь я даже не говорю о том, что в это «не
мог знать» встроено «предпочитал не знать»,
некоторая mauvaise foi.)
«Was „von selbst" verständlich ist, das nennen wir so, weil
es, ohne weiteres Zutun von unserer Seite, „uns eingeht".
-352-
Uns ist es selbstverständlich, wir finden es so. Wer sind wir
denn? Wie kommen wir dazu, uns als den Gerichtshof
anzusetzen, der darüber entscheidet, was selbstverständlich
ist und was nicht? Daß wir, wie es uns scheint, nichts
weiter hinzuzutun brauchen, damit es uns eingeht, —
beweist das, daß wir nichts hinzutun können oder gar
müssen? Wir, wie wir so da sind und unsere täglichen Nöte
und Vergnügungen betreiben, wir, die wir eben gerade an
die Frage nach dem Wesen der Wahrheit hingeraten sind
(weil sie im Vorlesungsverzeichnis steht), sind wir und ist
das uns Selbstverständliche ohne weiteres letzte und erste
Instanz? Verstehen wir das Geringste davon, daß das so
sein muß, und gar, warum das nicht sein kann? Wir
Menschen, — wissen wir denn, wer wir sind und wer oder
was der Mensch ist? Wissen wir, ob überhaupt und in
welchen Grenzen und mit welchen Nachteilen das
Selbstverständliche ein Maßstab für den Menschen sein
kann und darf? Wer sagt uns denn, wer der Mensch sei? Ist
das nicht alles völlig unverständlich? [...] all dieses
Selbstverständliche wurde schon nach ganz wenigen und
groben Schritten durch und durch unverständlich [...] Das
scheinbar Selbstverständliche ist unverständlich
geworden, — das heißt aber, soweit wir uns noch weiter
bei diesem Unverständlichen aufhalten und darum
bemühen wollen, frag-würdig».
«Die Fragenden, die diese Frage fragen, werden jetzt in die
Frage gestellt, sie werden fragwürdig. [...] Wenn wir
eindeutig zuhalten auf das Gefragte, dann fragen wir: "Wer
bist du selbst?" — "Wer ist er selbst?" — "Wer bin ich
selbst?" Die Gefragten sind also je ein Selbst. Es ist
weiterzuf ragen: "Was ist ein Selbst?" Damit stehen wir
aber schon wieder außerhalb der Fragerichtung. Wir
müssen wiederum den Menschen als ein Selbst begreifen.
Die Frage lautet daher: "Wer ist er selbst — der
Fragende?" — "Wer sind wir selbst — die Fragenden?" [...]
Wir als Dasein fügen uns in eigener Weise hinein in die
-353-
Zugehörigkeit zum Volk, wir stehen im Sein des Volkes, wir
sind dieses Volk selbst. Indem wir uns so aussprechen, d.h.
miteinander sprechen, haben wir eine ganz andere
Bestimmung des Wir als bisher vollzogen, haben wir jetzt
auch ganz unversehens auf die Frage "Wer sind wir selbst?"
geantwortet: Wir stehen im Sein des Volkes, unser
Selbstsein ist das Volk. Unversehens haben wir geantwortet,
ohne daß wir hinausschweiften in die kosmischen Räume
und Zeiten, ohne uns einzulassen in Hintergründe unserer
seelischen Verfassung. Was geschah? Wir fügten uns in den
Augenblick. Mit der Wendung "Wir sind da", eingelassen in
ein Erziehungsgeschehen, ist etwas vollzogen. [...] Wer
sind wir selbst? Antwort: das Volk».
«Замечание Давида Юма было именно тем, что
впервые прервало мою догматическую дремоту...
Космологические идеи. Этот продукт чистого разума [...]
содействует тому, чтобы философия пробудилась от
догматического сна» (Кант [1783] 1994, 11, 99-100);
«Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его
"Колокол" помогли пробуждению разночинцев»
(Ленин [1906] 1969,94).
«Ich erfahre eine Welt einstimmig. Dann erfolge ein Bruch.
Nennen wir das: „Ich verfalle in einen Traum". Eine andere
Welt sei da, wieder einstimmig erfahren. Dann ein neuer
Bruch, nennen wir das: „Aufwachen". Ich habe wieder die
erste Welt. [...] Kommen diese zwei
Erfahrungsmannigfaltigkeiten und diese zwei Welten nicht notwendig in
Widerstreit miteinander? [...] Nun ist hier dieser Leib bis
hierhin, bis zur Bruchstelle, und dann ist hier ein anderer
Leib, und so ist um den Nullpunkt herum einmal diese
Welt, das andere Mal jene; an jedem Dort ist bis hierhin
dies, nachher ein anderes. [...] Tritt also die neue „Welt" В
ein, so sagt das zunächst nicht, dass die alte ganz fahren
gelassen ist. [...] Genau besehen wäre das aber ein
merkwürdiger Widerstreit. [...] Ich hatte in jeder Welt
andere Erfahrungen, andere Schicksale, einen anderen
-354-
empirischen Charakter, ζ. В. in einer Welt war ich König, in
der anderen Bettler. Das hinderte nicht, dass ich als
Α-Person von der B-Person wusste und ihre Erlebnisse
erinnerungsmäßig in mir trug. Ich war dasselbe „Ich", wie
ich dasselbe Ich war als Traumkönig, meine Befehle
erteilend etc., dasselbe, das ich als waches Ich bin. Nur
dass ich den Traum durchstreiche, die Α-Welt streiche ich
aber als B-Subjekt nicht aus».
50 «Мир, как наваждение; во сне и наяву морока, и некуда
проснуться».
51 «Die schlafwandlerische Sicherheit, mit der wir als ein
Seiendes mitten unter den Dingen dahinleben, in der Welt
unsere Ziele verfolgen, lieben und hassen, uns umsehen
und planen, die Natur unterwerfen, Wissenschaften
treiben, Tempel der Götter errichten, Kunstwerke fertigen,
Kulturen erbauen und vernichten, geht verloren».
52 «Es ist angsteinflößend, einen Schlafwandler zu sehen, der
freilich mit einer ungeheuren Sicherheit über den Abgrund
schreitet, aber doch auf eine unbegreifliche Weise».
53 «Die gemeinsame Welt war ja gerade die Gemeinsamkeit
des Vorurteils, je schon zu wissen, was das Seiende und
was die Wahrheit wäre; die gemeinsame öffentliche Welt
war eine gemeinsame vorgefundene, überlieferte und
übernommene Seinsauslegung, die stillstand. [...] Die
Menschen treiben sich um in einem Netzwerk von
Vorurteilen und übernommenen Meinungen; ihr Wachen
ist eigentlich ein Schlaf mit wirren Träumen; [...] Die
eigentliche, die wahrhaft wache Wachheit ist die
Weltoffenheit der Philosophie. Was sonst Wachheit heißt,
gehört noch dem Schlaf der Welt an, der die Lebewesen
umfängt».
54 Такой вариант перевода das Man независимо друг
от друга предлагали Даниэль Орлов и Вардан Айрапе-
тян, причём последний со ссылкой на стихотворение
«И по-звериному воет людьё...» (Мандельштам [1930]
2009,152).
-355-
«Das Problem der „Einleitung in die Philosophie" [ist]
immer das Durchbrechen einer Befangenheit. Vgl. die
Gleichnisse, die die großen Philosophen dafür gebrauchen:
„Erwachen aus dem dogmatischen Schlummer", „Wacher
und Träumender". [...] Die Lehre von der Natürlichen
Einstellung als Dogmatologie. Mit der Erkenntnis des
Dogmatismus als solchen beginnt die Philosophie, das
Erwachen aus dem dogmatischen Schlummer. Einleitung
in die Philosophie ist die Herausleitung aus dem
Dogmatismus. [...] Jede Exposition ist das Durchbrechen
einer Befangenheit: ein Erwachen aus einem dogmatischen
Schlummer. Dieser Schlummer ist nichts anderes als die
Tiefe der Selbstverständlichkeit: das Verfangensein und
Steckenbleiben in der naiven Intelligibilitätsideeü».
IV. Как будто мы всегда так считали
«Наряду с естественными недостатками и
упущениями, перевод содержит себе один нереализованный
проект. Сначала переводчику хотелось выявить
неозабоченность Гуссерля проблемой "трансцендентального
языка" и языка феноменологии на территории самого
перевода: поставить под вопрос непосредственность
заимствования технической лексики, успевшей
заскорузнуть в русско-советской феноменологии, не успев
как надо послужить, в особый жаргон со всеми его
гримасами примордиальности, интендантскими
интенциями, белковыми протенциями, сетчаточными
ретенциями, конституированием, отдающим если не пятым
декабря, то, во всяком случае, седьмым октября. Все
они по возможности разжалованы первостепенности,
направленности, предварённости, удержания,
установления и формирования. Такая банализация серьёзных
философских терминов была тем более возможна и
необходима, что эти латинизмы, крайне гелертерские
у Гуссерля и ещё больше в русском переводе, теряют
-356-
всю свою научно-магическую силу при
переводе-транслитерации на французский или другой романский
язык, где они выглядят чуть ли не заигрыванием с
полуграмотным читателем. Даже для не очень
образованного француза "примординальный" значит не больше,
чем для русского "первоочередной"» (Маяцкий 1996,
258-259).
В некотором булгаковском смысле «других газет нет»,
газетные новости (вне зависимости от идеологических
предпочтений) вообще тяготеют к тому, чтобы
обернуться «новостями».
О сходном феномене пишет Григорий Юдин:
«Ошибочно считается, что пропаганда работает, навязывая нам,
что думать. В действительности куда важнее, что она
рассказывает нам, о чём думать. Воздействие повестки
дня на наше восприятие мира гораздо труднее заметить:
если мы не узнаём о чём-то, то мы исходим из того, что
этого вовсе не существует» (Юдин 2020,148-149).
«I really admire Party Secretary Shi, what a capable and
effective Party Secretary! I hope he can be the father of
Ganzhou for years to come».
Вася Ложкин, Диптих: «Свинопланетянин Алёшенька»,
«Никто не прилетит», 60x704-60x70, масло/акрил,
2016.
На техническом гуссерлевском языке это называется
«пассивное перенятие бытийной значимости».
Один из первых читателей рукописи — Алла Горбунова
возражает: я здесь демонстрирую моё собственное
готовое мнение, не принимая консервативный дискурс
всерьёз, в то время как авторы обсуждаемого
учебника — отнюдь не циники, таковы их искренние
убеждения. Но, даже применяя самую лояльную герменевтику
доверия, сложно добиться того, чтобы что-то «стало
понятно» про эту «полноту человеческого бытия». Более
того, становится совершенно непонятно, кому именно
это «становится понятно».
-357-
«Der Befangene weiß nicht um sein „Befangensein in...", er
kommt nicht an eine Grenze, sondern hat keine „Grenze",
auch kein „offen". [...] Dem Befangenen ist die
Befangenheit nicht zu zeigen, vorab wenn in der Befangenheit schon
entschieden ist, was Zeigen heißt»,
«la presence efficace d'une nouvelle realite: Tideologie.
L'ideologie represente le rapport imaginaire des individus ä
leurs conditions reelles d'existence. [...] L'ideologie a une
existence materielle» (Althusser 1995,274,298). Об
отношениях между философиями Гуссерля и Альтюссера
см. (Montag 2013).
Перевод И.А. Михайлова письма Унитропу Пикарду
Беллу незначительно изменён.
«The sword is generally associated with killing, and most of
us wonder how it can come into connection with Zen,
which is a school of Buddhism teaching the gospel of love
and mercy. The fact is that the art of swordsmanship
distinguishes between the sword that kills and the sword
that gives life. The one that is used by a technician cannot
go any further than killing, for he never appeals to the
sword unless he intends to kill. The case is altogether
different with the one who is compelled to lift the sword.
For it is really not he but the sword itself that does the
killing. He had no desire to do harm to anybody, but the
enemy appears and makes himself a victim. It is though the
sword performs automatically its function of justice, which
is the function of mercy. [...] When the sword is expected
to play this sort of role in human life, it is no more a weapon
of self-defense or an instrument of killing, and the
swordsman turns into an artist of the first grade, engaged
in producing a work of genuine originality».
«Das in das gemeine Leben und seine Tradition
hineinwachsende Kind. Der gereifte Mensch in seinem Leben von
traditionaler Form. Der gedankenlos in den Tag
hineinlebende Mensch, der doch den Horizont der Gemeinschaft
und ihres Gemeinschaftslebens der normalen, der traditio-
-358-
nalen Form hat. [...] Der Mensch lebt nicht nur dahin,
erlebt dies und jenes, er erlebt auch in der Überschau den
Gang seines Lebens und dieses im Ganzen seiner
Gemeinschaft. Er erlebt dieses Leben, sein eigenes, und das
Gesamtleben der Gemeinschaft, seines Volks, als
hoffnungsvollen Aufschwung, als Gut, bei größeren Hemmungen
des Aufschwungs als Last, er kennt auch die Gefahr der
hoffnungsloser Verzweiflung, in der das Leben sinnlos
erscheint, im Einzelnen fortlaufen mag, aber im Ganzen
nicht mehr einen aufsteigenden Stil hat, in dem es im
Willen bejaht werden kann. Der Mythos, die Religion höherer
Kulturstufe statten die Welt mit geistigen Mächten aus, die
ihm ein Leben der Hoffnung, der hoffnungsvollen Zukunft,
der Lebensbejahung ermöglichen, es ihm als lebenswert
immerfort bejahbar gewiß machen. Je weiter aber sein
historischer und geographischer Gesichtskreis wird, je
bestimmter für ihn das Bewußtsein wird von der
Mannigfaltigkeit der aus den völkschen Lebensgemeinschaften
erwachsenen Religionen und von der Verschiedenheit
ihrer Garantien für den Sinn menschlichen Daseins und der
Welt als Feld menschlichen Handelns, umso unsicherer
wird der Mensch in seinem religiösen Glauben.
Menschliches Dasein und Welt werden fraglich nach ihrem Sinn,
ihrem «guten» Sinn, ob es nämlich Sinn hat, darin zu
leben, ob <ich> mein Darin-Leben trotz allen auf und ab im
Gelingen und Mißlingen und mit dem Horizont
verderblicher und unbekannter Schicksale willentlich bejahen
kann. Solange das Leben der Gemeinschaft im Aufschwung
verläuft und der Mensch in der Umschau seinen Horizont
hoffnungsvoller Wahrscheinlichkeit hat, glückhaft
durchzukommen, verträgt er sich mit den Wahrscheinlichkeiten,
in denen ringsum die Menschen durchschnittlich Erfolg
haben, die erhebliche Gegeninstanzen. Von den realen
Möglichkeit des Todes, der Krankheit, des Irrsinns, der
Erdbeben, Überschwemmungen usw. sieht er in der Regel
weg, und wo der allzu irrige Bruch seiner Hoffnungen ihn
-359-
zur Besinnung drängt, bleibt dies doch nur ein
Vorübergehendes, alsbald fallengelassen, so wie neue Hoffnungen
sich eröffnen. Einzelweise aber bricht in das menschliche
Dasein des Älteren eine neue Art der
Menschheitsbesinnung durch, eine universale betrachtende Haltung, die
sich über das gesamte menschliche Dasein und die ganze
Welt, in der Menschheit lebt, erhebt, sich aber alle
Lebensinteressen, von Hoffnungen und Befürchtungen, von allen
Aktualitäten des Daseins als Mensch unter Menschen, als
Vater, als Freund, als Bürger usw., löst, indem er alles in
eins, der Universalität menschheitlichen Daseins als unter
Interessen, nach Zwecken in der Welt zu leben, zum
Phänomen macht, zum Thema einer universalen Besinnung».
«Der Kampf gegen die Tradition, gegen die vermeinten
Selbstverständlichkeiten der „Lebenserfahrung", die in
Wahrheit keine Selbstgebung ist. Es ist immer und im vollen
Sinne Kampf gegen die „Situation", gegen die sedimentier-
ten Erwerbe von höchst mittelbaren Seinsgeltungen, die zu
„Selbstverständlichkeiten" geworden sind. Was aus der
Situation herausgeholt wird und zur Aussprache kommt, gilt
in „Selbstverständlichkeit", zumal wenn es, wie
normalerweise, gemeinschafüiche Situation bzw. Tradition ist. [...]
Schließlich, alle Situationen stehen in einer jeweiligen All-
Situation, und das ist die immerzu vorgegebene Welt»,
«die uneigentliche Rechtfertigung [der Tradition] — die
Berufung auf das Man, d.i. den Verweis darauf, dass
<alle> es so tun und es immer so getan wurde etc.».
«Einstellung des Wertens ist Werthabe im eigentlichen
Sinne, wenn das Werten „Werterfahrung" ist. Sonst sind es
„Werte für den und den", von ihm gesetzte, vermeinte
Werte. Zu allem Werthalten gehört mögliche Kritik,
gerichtet auf Ausweisung durch Werterfahrung».
«Die Welt, in der wir vorwissenschaftlich „leben", die uns
im Strömen der Meinung ständig gewiss, in ihrer eigenen
Relativität — die Menschenkunde. Der Mensch in dieser
Welt. Die eigene und die der Anderen Seinsgewissheiten.
— 360 —
Wir Menschen Welt erfahrend, Welt behandelnd, Welt
bedenkend: wir gegenwärtigen unsere (vermeinte) Welt
erforschend, unsere Vormeinungen schon haben, aber als
Wissenschaftler jedes Vorurteil, jede Tradition in Frage
stellend. [...] Wir haben nun weiter fort Umwelt,
gemeinsame Weltgewissheit, gemeinsam mit unseren
Volksgenossen überhaupt, wir darin aber als Wissenschaftler haben
eine besondere Gemeinschaft, und in ihr eine besondere
als theoretische Gedanken auf Welt bezogene
Gewissheit — „hinsichtlich" der umweltlichen Sphäre, die unser
wissenschaftliches Gebiet ist, auf dieses bezügliche
Urteilswahrheiten der Wissenschaft. Dies als Norm „unserer"
Kritik betreffs dieses Gebietes der „alltäglichen Umwelt" bzw.
der Meinungen des „Volkes", aber „deskriptiv"».
V. Щебечущие машины
Я благодарен Михаилу Белоусову, который обратил моё
внимание на этот пассаж. «Das Denken ist, von dem sie
[die phänomenologische Analyse] spricht, niemandes
Denken. Wir abstrahieren nicht bloß vom Ich, als ob das Ich
doch darin stehe und nur nicht darauf hingewiesen würde,
sondern wir schalten die transzendente Setzung des Ich aus
und halten uns an das Absolute, an das Bewusstsein im
reinen Sinn»; «Was ist das Ich, nun ich, Edmund Husserl
etc., und ist das nicht wieder ein Gemeintes und keineswegs
ein so, wie es gemeint ist, Gegebenes? Und ist nicht wieder
das Meinen dieses Nichtgegebenen? Nun will ich kein
Erfahrungsurteil über das Ich aussprechen und über seine
Erlebnisse». Перевод Татьяны Терентьевой под
редакцией Георгия Чернавина.
«Wir werden uns gewisser Vorstellungen bewußt, die nicht
von uns abhängen; andere glauben, wir wenigstens hingen
von uns ab; wo ist die Grenze? Wir kennen nur allein die
Existenz unserer Empfindungen, Vorstellungen und
Gedanken. Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es
-361-
blitzt. Zu sagen cogito ist schon zuviel, so bald man es durch
Ich denke übersetzt. Das Ich anzunehmen, zu postulieren,
ist praktisches Bedürfnis». Сходную мысль будет
развивать и Ницше.
«La doxa es la opinion espontänea у consuetudinaria; mäs
aün, es la opinion „natural"» (Ortega у Gasset 1961, 357).
VI. Чучхейский реализм
Весь абзац представляет собой сознательно
раскавыченную цитату из брошюры (Ким 1996, 18). О
стратегии такого раскавычивания см. главу V., раздел
«Сверхтролль».
Составитель и автор примечаний двухтомного
собрания сочинений, Михаил Мейлах при подготовке к
публикации текста Введенского в двух версиях собрания
расшифровывал эту фразу рукописи именно так: «Он
шёл погружённый в свою мысль, основную им
руководящую мысль об орехах» (Введенский 1984, 216; 1993,
90); в однотомнике под редакцией Анны Герасимовой
фраза звучит как: «Он шёл погружённый в свою мысль,
основную руководящую мысль об орехах» (Введенский
2013, 218). Это расхождение важно упомянуть,
поскольку в своей интерпретации Мейлах подчёркивает
дополнительно-тавтологическое местоимение «им».
«Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem
Slawischen und sie suchen auf Grund dessen die Bildung des
Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme
aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflußt.
Die Unsicherheit beider Deutungen aber läßt wohl mit Recht
darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch mit
keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.
Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien
beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wesen gäbe, das
Odradek heißt. Es sieht zunächst aus wie eine flache
sternartige Zwirnspule, und tatsächlich scheint es auch mit
— 362 —
Zwirn bezogen; allerdings dürften es nur abgerissene, alte,
aneinandergeknotete, aber auch ineinanderverfilzte
Zwirnstücke von verschiedenster Art und Farbe sein. Es ist
aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sternes
kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses
Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit
Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf der einen Seite, und
einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite,
kann das Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen. Man
wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher
irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur
zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein;
wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür; nirgends sind
Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas Derartiges
hinweisen würden; das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in
seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übrigens nicht
darüber sagen, da Odradek außerordendich beweglich und
nicht zu fangen ist. Er hält sich abwechselnd auf dem
Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im Flur auf.
Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen; da ist er wohl in
andere Häuser übersiedelt; doch kehrt er dann unweigerlich
wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der
Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat
man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man an ihn
keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn — schon
seine Winzigkeit verführt dazu — wie ein Kind. »Wie heißt
du denn?« fragt man ihn. »Odradek«, sagt er. »Und wo
wohnst du?« »Unbestimmter Wohnsitz«, sagt er und lacht; es
ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen
hervorbringen kann. Es klingt etwa so, wie das Rascheln in
gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu
Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu
erhalten; oft ist er lange stumm, wie das Holz, das er zu sein
scheint. Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen
wird. Kann er denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine
Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich
-363-
zerrieben; das trifft bei Odradek nicht zu. Sollte er also
einstmals etwa noch vor den Füßen meiner Kinder und
Kindeskinder mit nachschleifendem Zwirnsfaden die Treppe
hinunterkollern? Er schadet ja offenbar niemandem; aber
die Vorstellung, daß er mich auch noch überleben sollte, ist
mir eine fast schmerzliche».
«so entspricht das dem dichterischen Sinn dieser Gestalt
selbst, die eben von allem auch und gerade von
Sinndeutungen — abrät, zudem [Odradek] ausdrücklich
als ein „sinnlos" erscheinendes Wesen bezeichnet wird:
„Das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art
abgeschlossen". Der Sinn dieses poetischen kleinen Wesens
ist die Aufhebung jeglichen begrenzenden Sinns, das
„Abraten" von allem».
«Ian thought to himself, Everyone loves the papoola» (Dick
2011,95). Дик в этом случае сам выделяет
«искусственную» мысль. Хотя в других случаях он этого не делает,
в дальнейшем, цитируя этот роман, я буду также для
наглядности выделять наведённые папулой мысли
курсивом и астериском*.
«The woman glanced back, saw the platter-like organism
with its orange bug-shaped body, and she laughed.
Everybody loves the papoola, Al thought to himself. See the
funny Martian papoola. Speak, papoola; say hello to the nice
lady who's laughing at you. The thoughts of the papoola,
directed at the woman, reached Al» (Dick 2011,50).
В английской версии улитки были, а ракушек и
лягушек не было: «What are little boys made of? / Snips and
snails, and puppy dogs' tails» (Bisbee Duffey 1874, 36).
Это очень характерный комплекс идей: представление
о людях как стаде, о бесполезности борьбы — он
близок и предыдущему респонденту («в России
исторически так сложилось, что мы стремимся к диктатуре»).
Создаётся впечатление, что сквозь комментарии
заданного содержания платные тролли распространяют
и мировоззрение заданного содержания.
-364-
Возражения
Наст. изд. С. 82-83 (примечание — H.A.).
См.: М. Фуко, С.С. Хоружий, А.Г. Погоняйло
(примечание— НА*).
Шелер М. Феноменология и теория познания // Шелер
М. Избранные произведения, М.: Гнозис, 1994, С. 384
(примечание — H.A.).
Наст. изд. С. 92 (примечание — НА.).
Наст. изд. С. 112 (примечание — H.A.).
«Бесконечный поток, собственно говоря, никогда не
начинается...» Husserl Ε. Die Lebenswelt. Auslegungen der
vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem
Nachlass (1916-1937), HusserlianaXXXIX, SowaR. (Hrsg.),
NY: Springer, 2008, №43, S. 472 (примечание—H.A.).
Husserl E. Späte texte über Zeitkonstitution (1923 —
1924): Die C. Manuskripte, Husserliana Materialien VIII,
Lohmar D. (Hrsg.), Dordrecht: Springer, 2006, №94, S.
424 (примечание — H.A.).
Husserl E. Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen
Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem Nachlass
(1916-1937), Husserliana XXXDC, Sowa R. (Hrsg.), NY:
Springer, 2008, №43, S. 474 (примечание — H.A.).
См.: Вася Ложкин, Диптих: «Свинопланетянин
Алёшенька», «Никто не прилетит», 60x70+60x70, масло/
акрил, 2016. Наст. изд. С. 92 (примечание — H.A.).
ПриговД., Шаповал С. Портретная галерея Д. А. П., М.:
Новое литературное обозрение, 2003, С.96
(примечание— H.A.).
Там же. С.116 (примечание — H.A.).
Наст. изд. С. 78 (примечание — H.A.).
Наст. изд. С. 98 (примечание — H.A.).
По Μ. Н. Эпштейну, «Онегин», например, «давно уже
перестал быть авторским произведением поэта
Пушкина, а стал акустическим состоянием российской
культуры» {Эпштейн М. Поэзия и сверхпоэзия. О многообра-
-365-
зии творческих миров. СПб.: Азбука, 2016. С. 263-264).
Д. А. Пригов говорит о самом Пушкине как о
«коммунальном теле российской культуры» (Пригов Д.
Собрание стихов, Т. IV, 1978, № 660-845, Wiener Slawistischer
Almanach, Sonderband 58, 2003, С. 211)
(примечание— НА.).
Довлатов С. Д. Заповедник: повесть / Сергей Довлатов.
СПб.: Азбука-Аттикус, 1983, С. 14 (примечание — H.A.).
Там же, С. 10 (примечание — H.A.).
Методические указания по проведению исследований
по устной истории / Сост.: канд. ист. наук, доцент
А. И. Филюшкин, СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004, С.6
(примечание— H.A.).
Наст. изд. С. 168 (примечание —H.A.).
Перевод уточнён — М.Б.
Чтобы избежать нежелательных ассоциаций, в
финальной версии рукописи я ушёл от выражения
«внутренний диалог».
Это замечание было учтено в окончательном варианте
рукописи.
В рабочем варианте рукописи тезис «"Die" Welt ist als
Wirklichkeit immer da» переводился как «Мир как
действительность всегда уже здесь». См. возражения
Михаила Белоусова.
Гуссерль Э. Картезианские размышления, СПб: Наука,
2006.
Согласившись с Анной Ямпольской, я смягчил
формулировку из главы I.: «кроме "наведённых" других
мнений может и не быть».
«Wir können nicht leben wie andere Menschen, naiv dahin
und mit anderen streiten, wir haben den schlimmsten
Feind in uns selbst. Und bedürfen darin eines täglichen
Training» (Husserl [1933] 1994b, 91).
В письме от 2 июля 2020: «Das Subjekt der natürlichen
Einstellung weiß nichts von seiner "anderen" Seite,
nämlich als weltkonstituierendes Subjekt. [...] Es ist ja
-366-
nicht die "Schuld" des Subjekts der natürlichen Einstellung,
nichts von dieser anderen Dimension (eine Metapher
Husserls) zu wissen, das betont Husserl auch mehrmals.
Am Ende müsste man die Husserrschen Texte entscheiden
lassen».
109 (https://childrens-songs.ru/slova-detskix-pesen/to-
beryozka-to-ryabina.html)
110 Сходную этическую стратегию взаимодействия с
интервьюируемыми троллями выбирают Онг и Кабаньес
(Ong & Cabanes 2018,17,23,64).
111 Перевод В. Адмони. Оригинал: «Et vers. — At leve er —
krig med trolde — i hjertets og hjernens hvaelv. —
At digte, — det er at holde — dommedag over sig selv»
(Ibsen 1899,433).
112 «Verweilen wir bei der präsumtiven Wirklichkeit der Welt
und überlegen wir, was darin liegt. Wir sagen: „die Welt".
Beständig setzen wir sie in Form der unausgesprochenen
Generalthesis» (Husserl [1915] 2003, XXXVI110).
113 «Die "Generalthesis" des Seins besagt also eigentlich,
es werde immer sich Gewißheit in universaler Umfassung
herstellen lassen und es werde immer universale
Seinsgewißheit resultieren in infinitum» (Husserl [1930],
Рукопись Β110, II).
114 Поэма Льва Рубинштейна «Появление героя» была
«перемикширована» (из неё были выбраны фрагменты,
а затем перетасованы) Петром Мамоновым в треке
«Ученичок», поэтому я считаю возможным говорить
о двойном авторстве.
115 Как справедливо отметил один из первых читателей
рукописи: и у мнения, и мысли* может быть одно и то же
содержание. Можно прожить мнение как мысль* —
на протоуровне они не дифференцированы,
представляют собой «символические заготовки».
Научное издание
Чернавин Георгий
Философия тролля:
феномен платных ботов
Генеральный директор издательства С. М. Макаренков
Шеф-редактор Павел Костюк
Младший редактор Анна Алфёрова
Дизайнер обложки Андрей Сауков
Верстальщик Антон Дятлов
Корректор Дарья Довгалъ
В оформлении издания использованы материалы
по лицензии агентства Shutterstock, Ine
Θ
«Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. Ν436-Φ3»
Подписано в печать 25.10.2020 г.
Формат 84 х 108/32. Гарнитура «CharterlTC».
Усл. печ. л. 19,32
Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru
000 Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23
Отпечатано: Публичное акционерное общество
«T8 Издательские Технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
www.t8group.ru; info@t8print.ru
тел.: 8 (499) 332-38-30