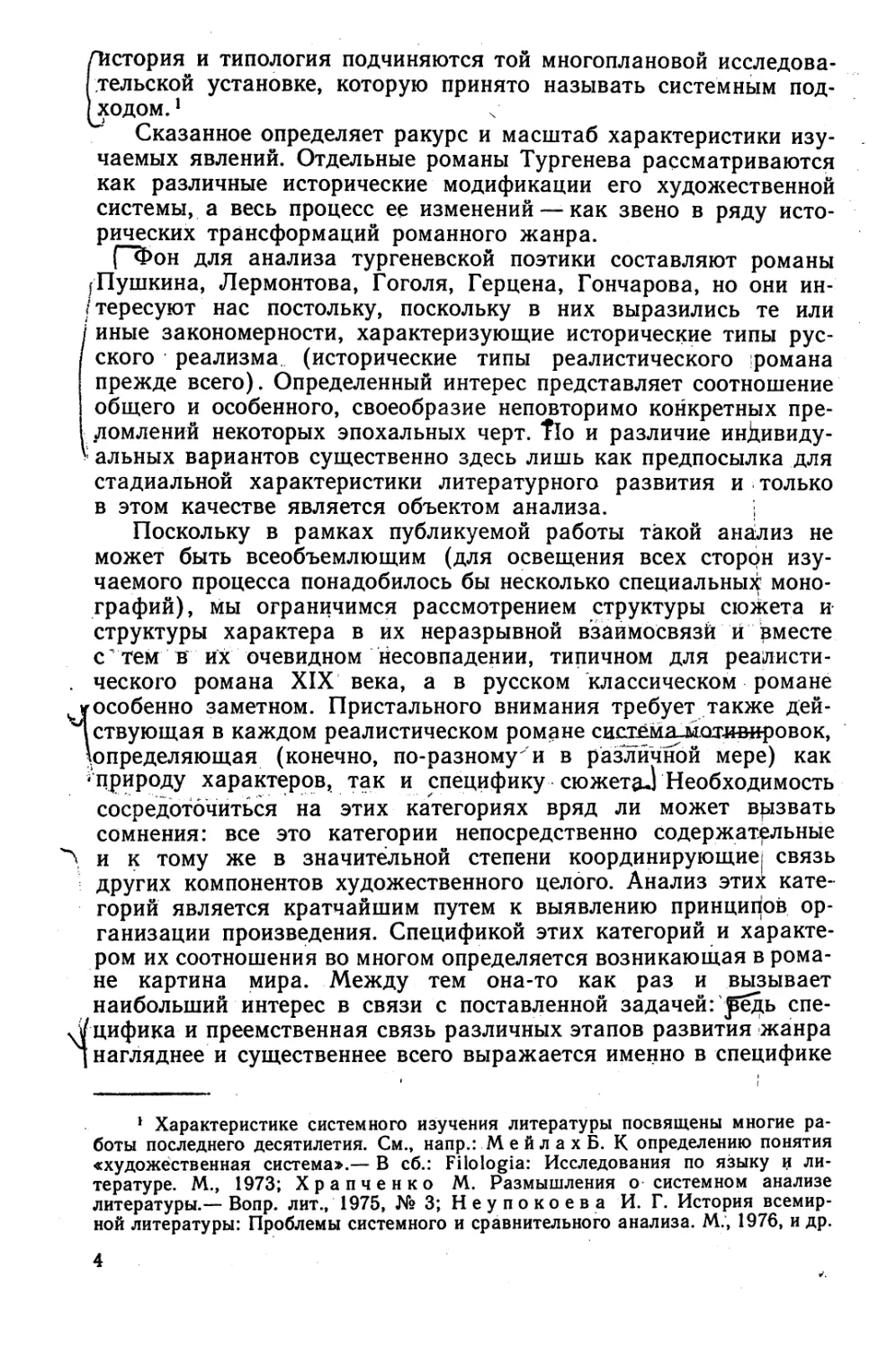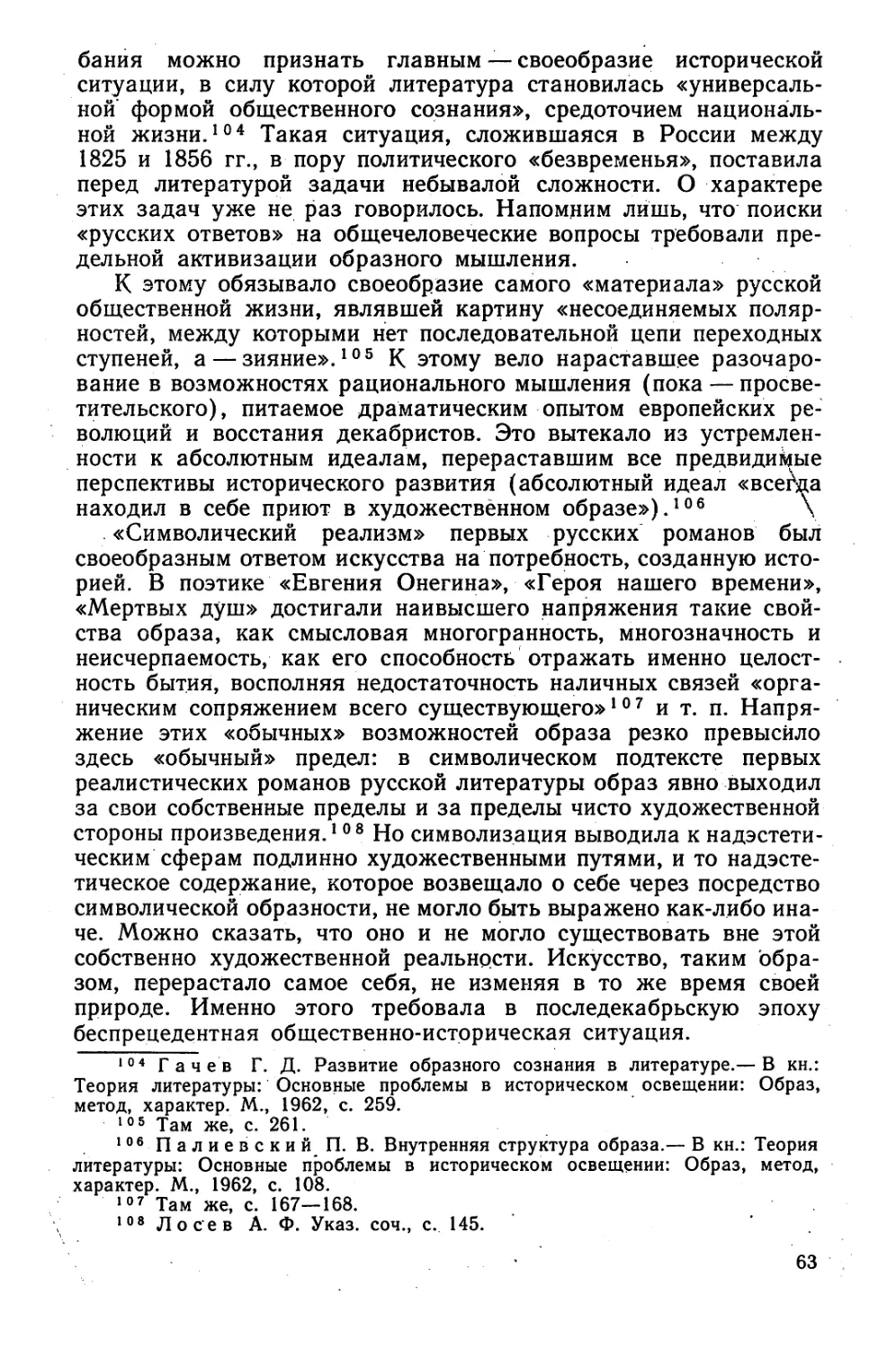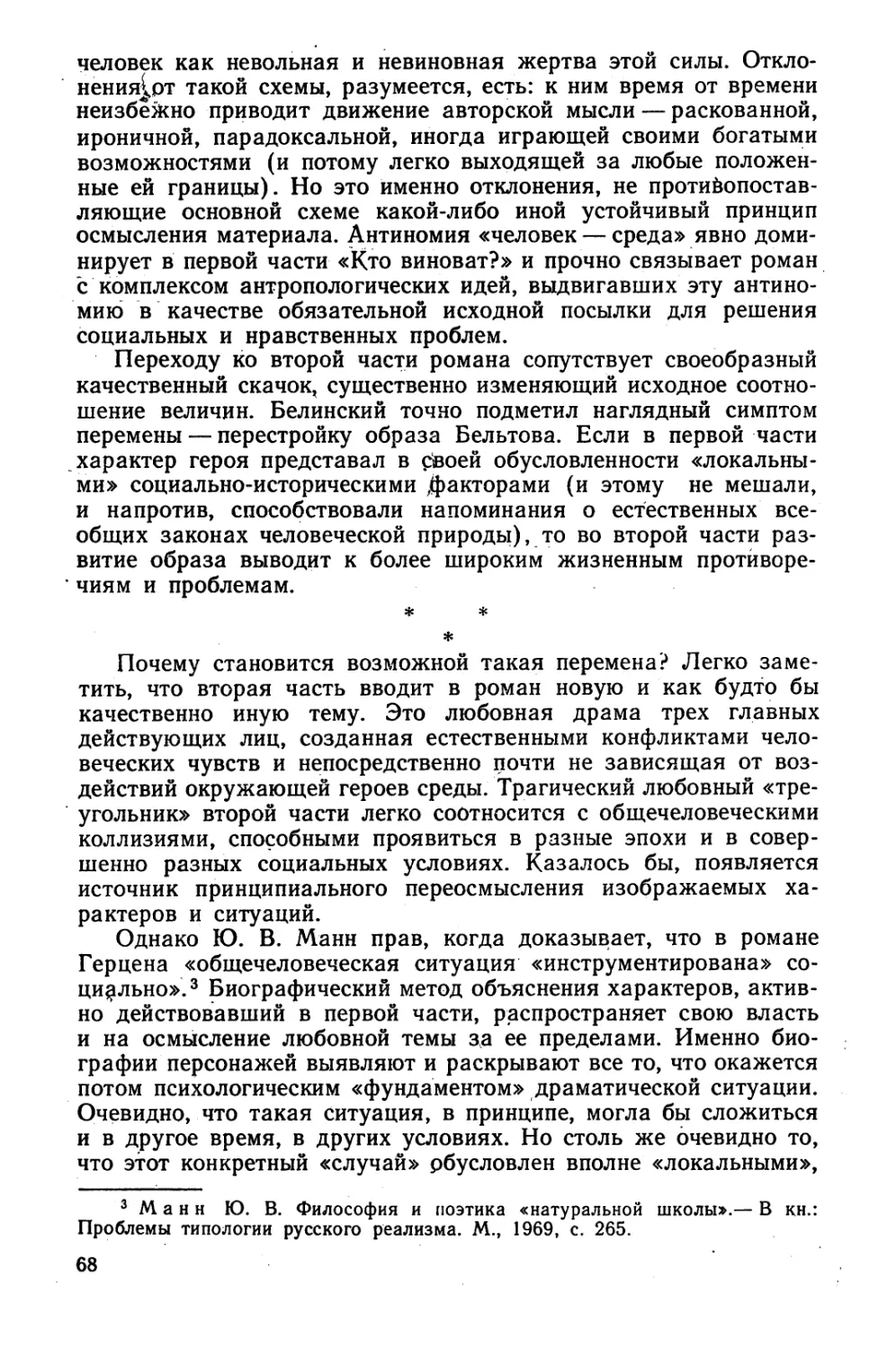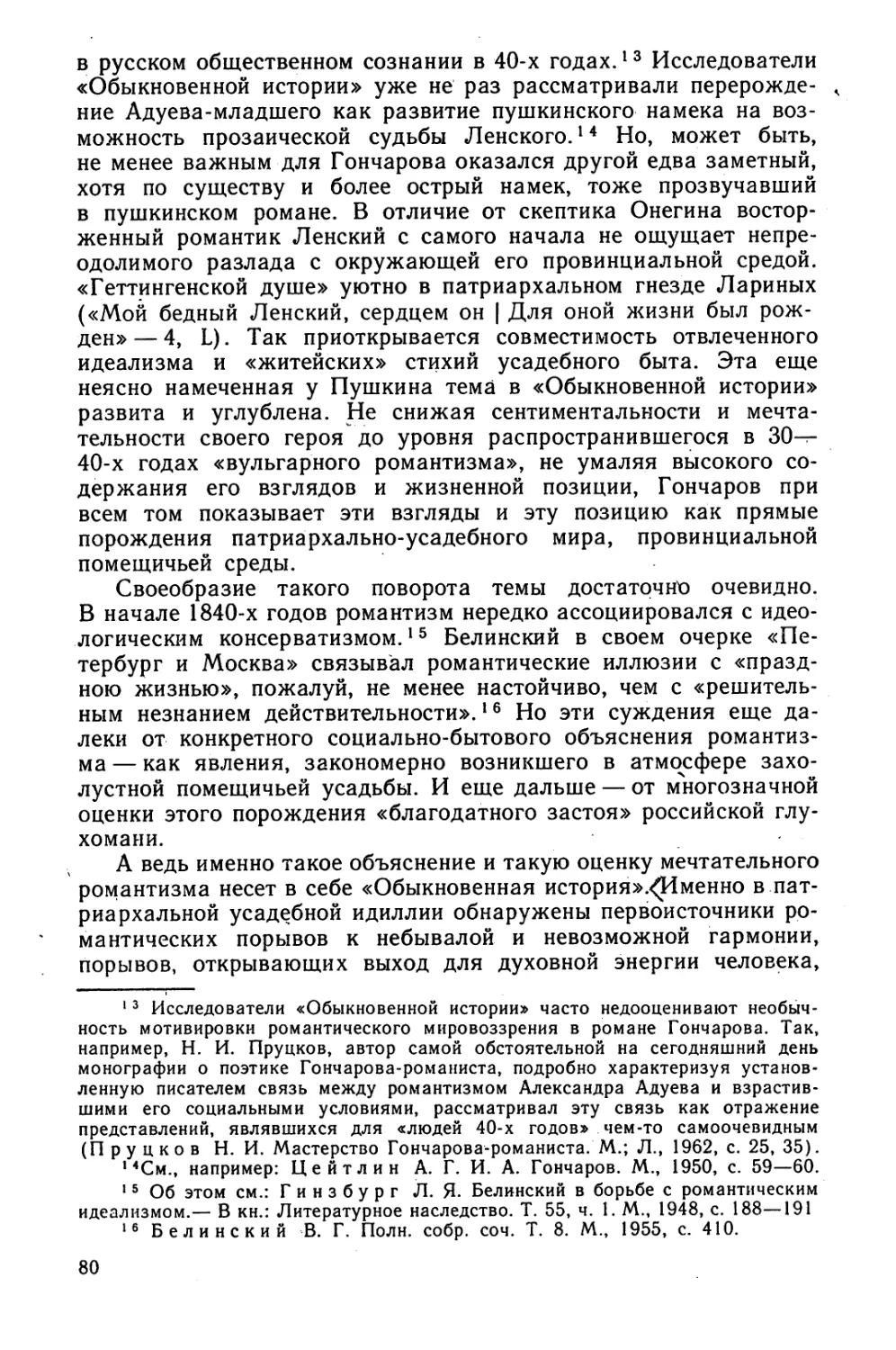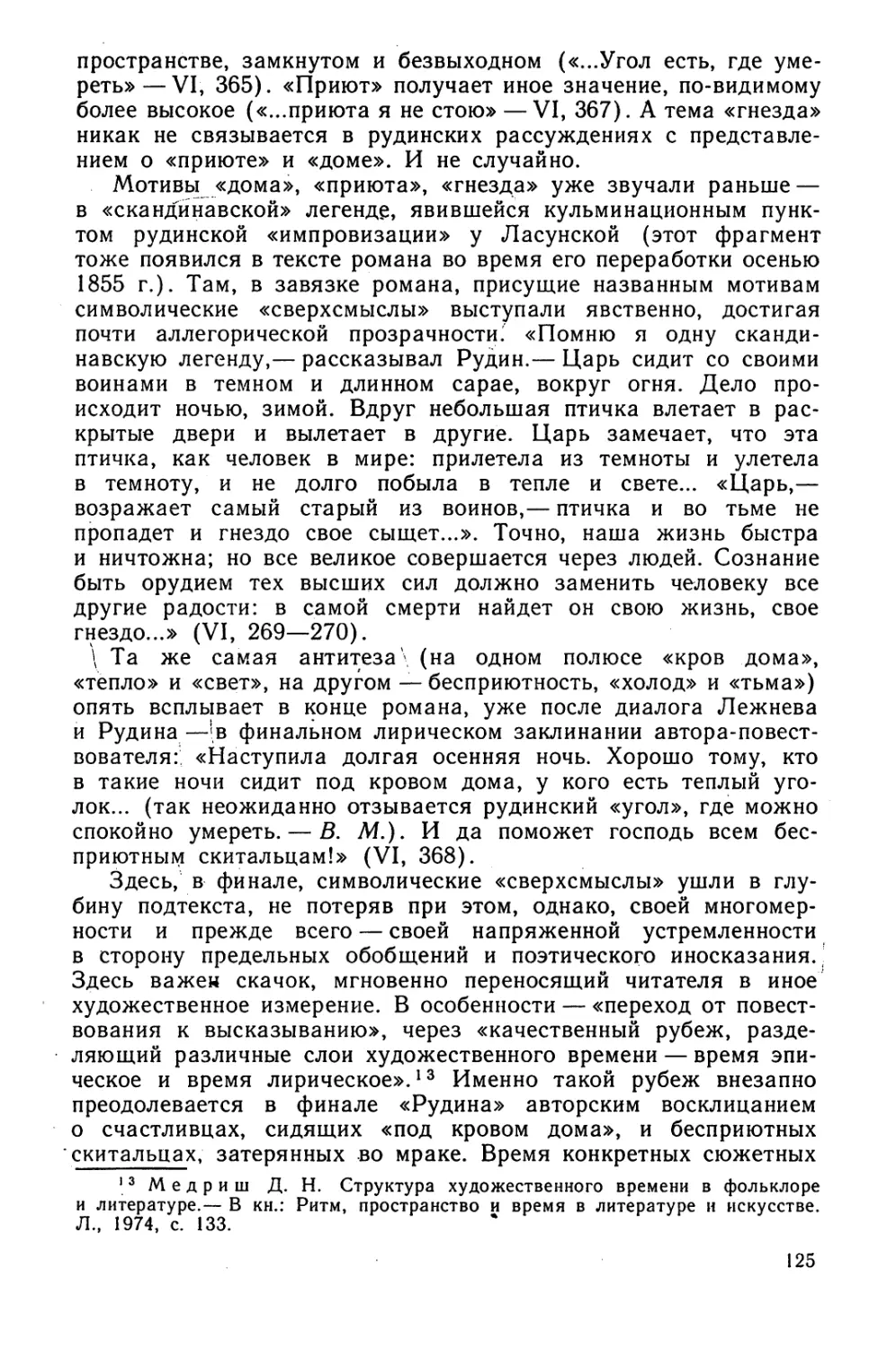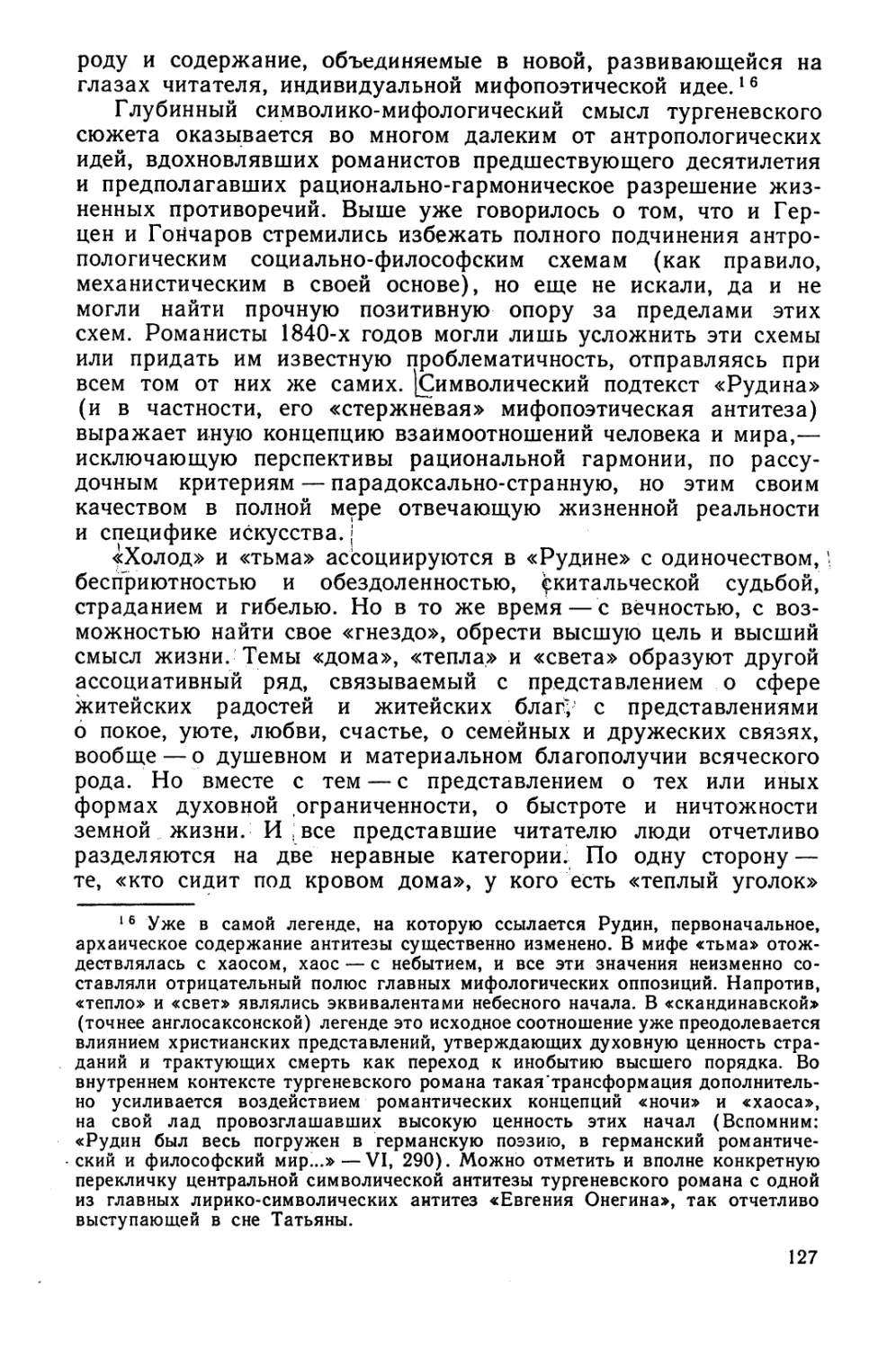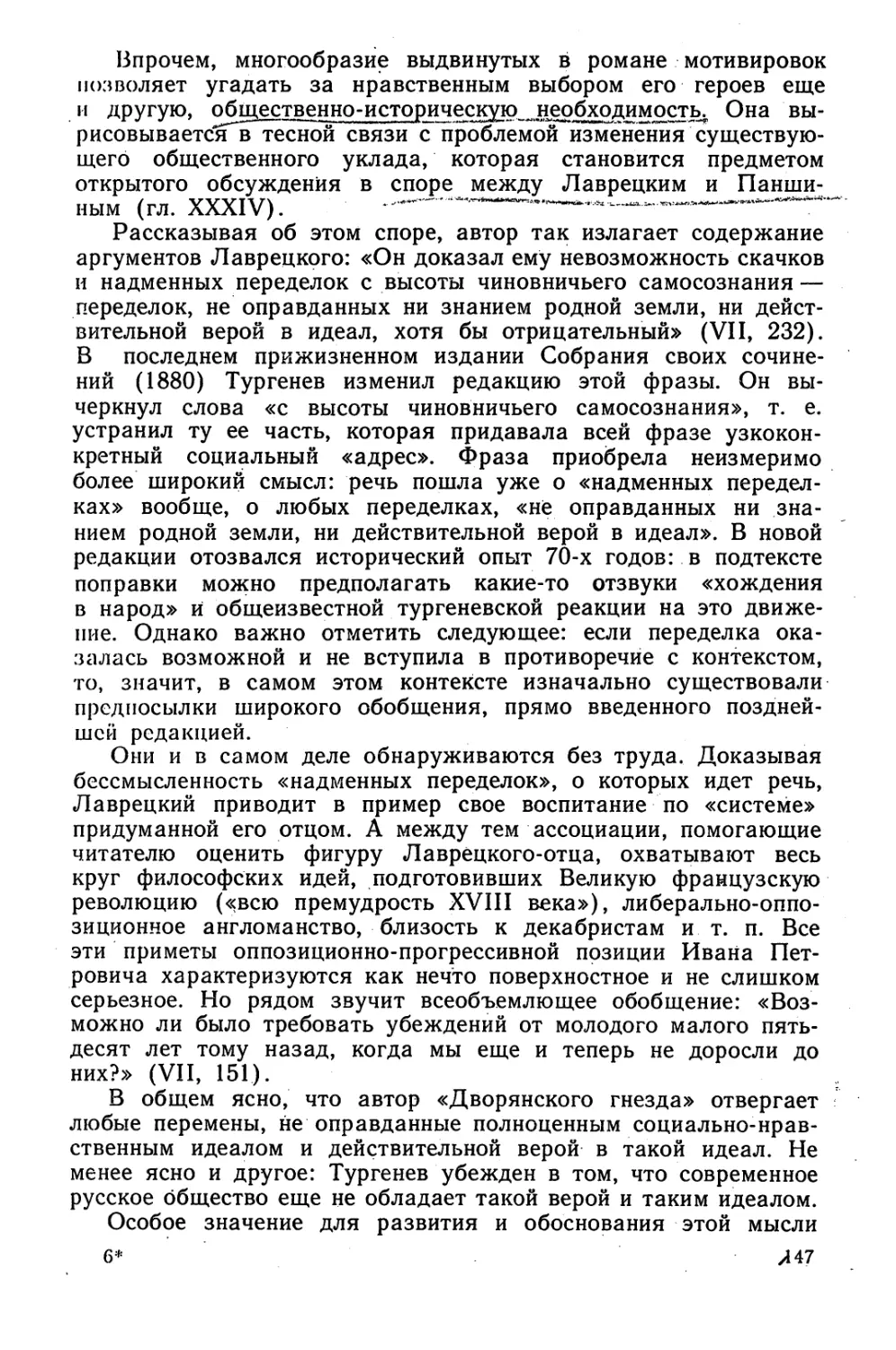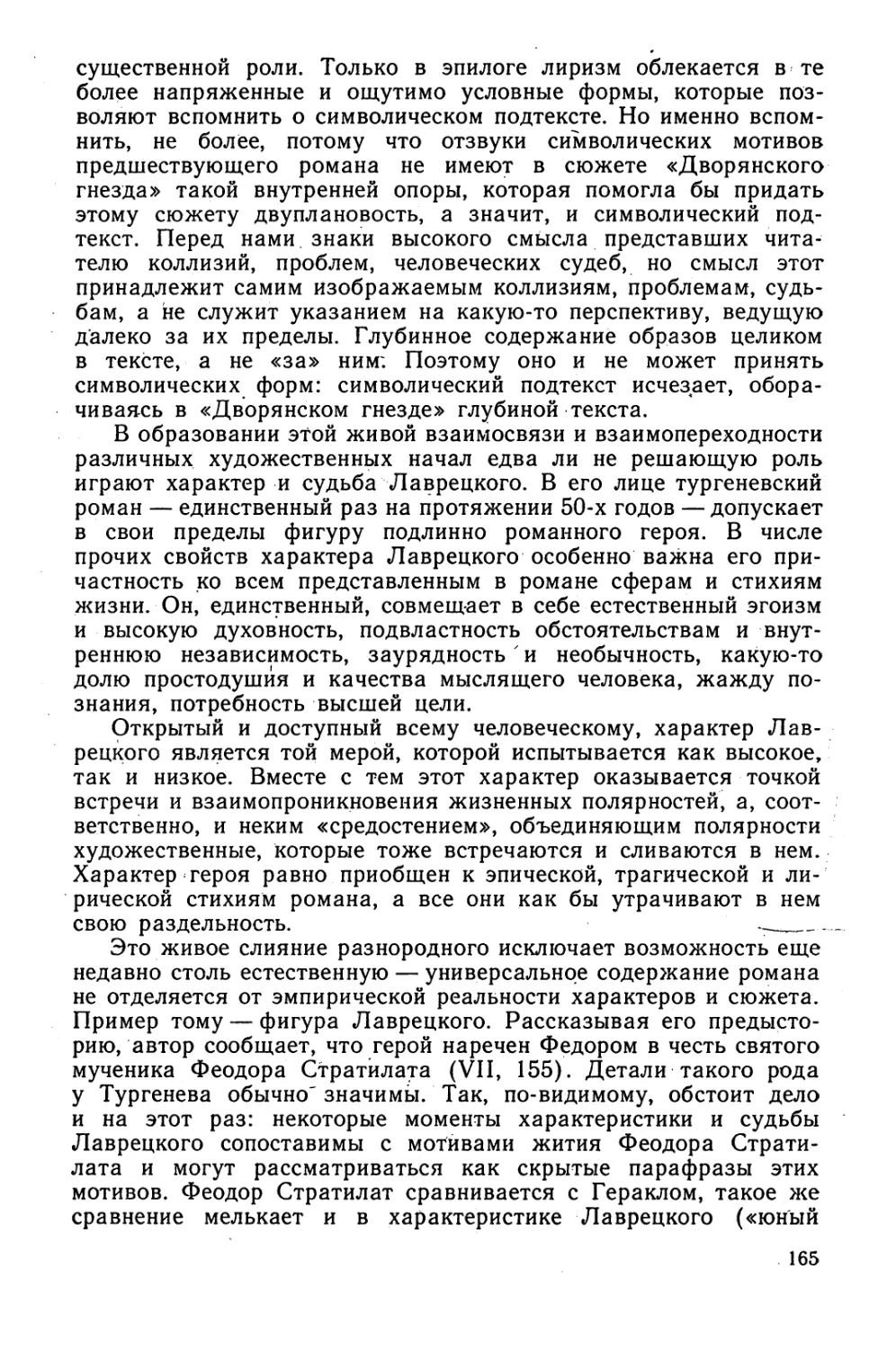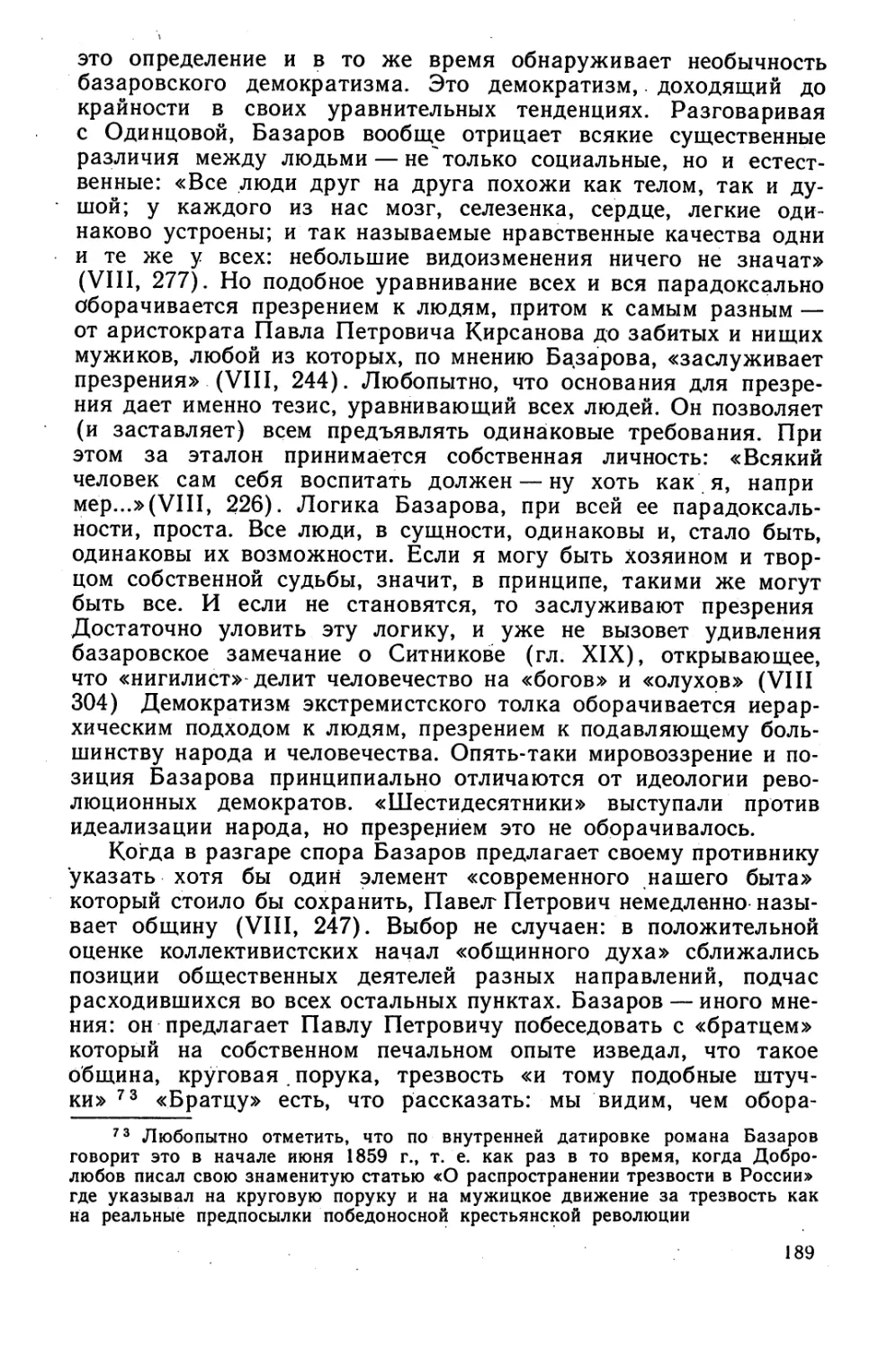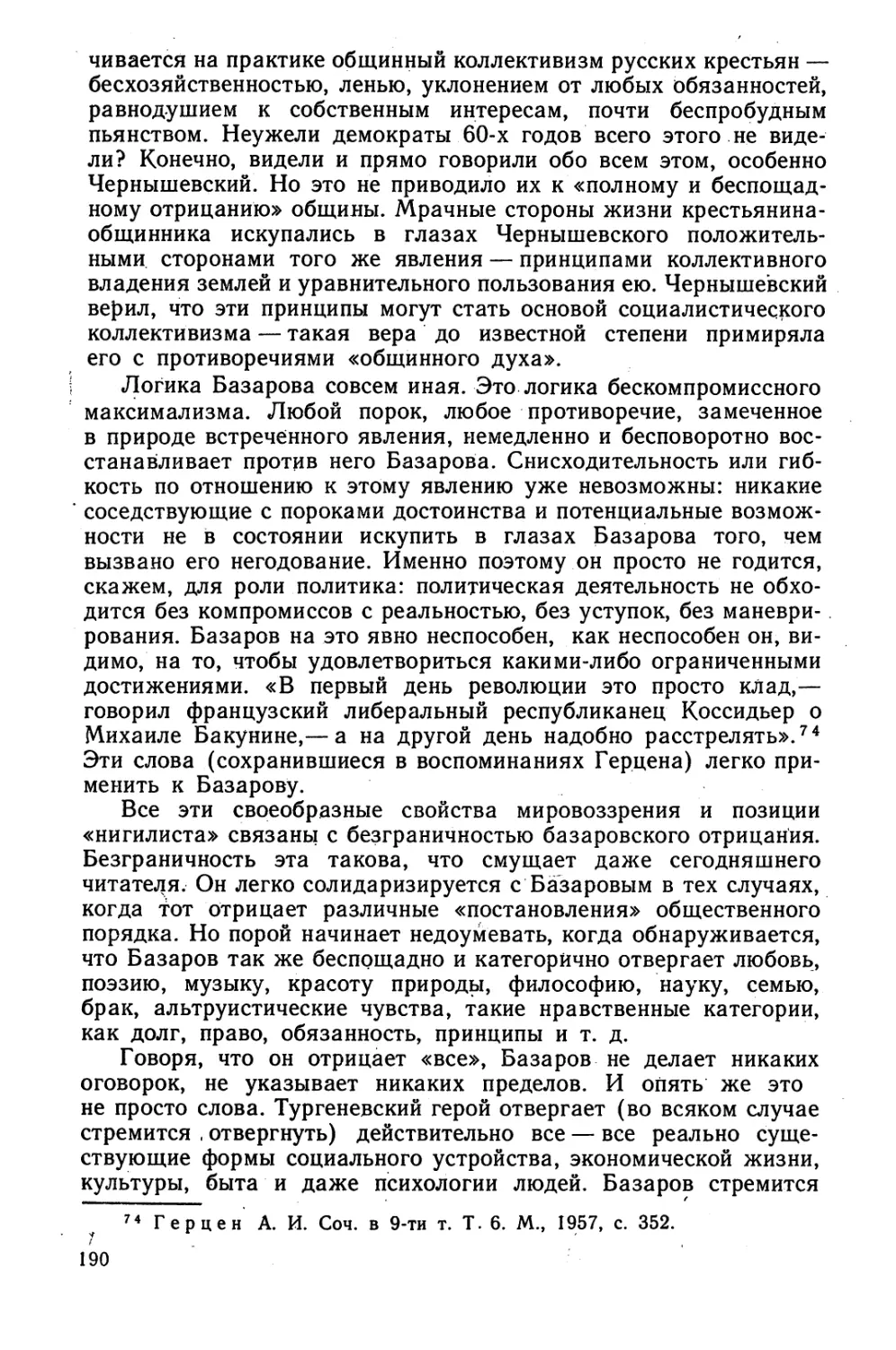Text
с
в. М. Маркович
ИС.ТУРГЕН
и русский
реалистический
Л ________..
ЬСТВО 1Е1Й1ШШГ1 УНИВЕРСИТЕТА
1 —
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А. А. ЖДАНОВА
В. М. Маркович
И. С. ТУРГЕНЕВ
И РУССКИЙ
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН
XIX ВЕКА
(30—50-е годы)
I
| БИБЛИОТЕКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЛЕНИНГРАД, 1982 г.
Печатается по постановлению О г,
Редакционно-издательского совета
Ленинградского университета 'V
В монографии характеризуется процесс становления проблематики и поэмки'
«классических» тургеневских романов («Рудин», «Дворянское гнездо», «Нака-
нуне», «Отцы и дети»), а также соотношение реализма Тургенева с твовче*;'
скими принципами его предшественников и современников (Пушкин, Лермоа-г
тов, Гоголь, Герцен, Гончаров), оказавших наибольшее влияние на эволюцию*
романа как жанра. Некоторые аспекты развития русского реалистичеафг^ ‘
романа освещаются по-новому. i >
Книга предназначена для литературоведов, преподавателей, аспирантов v
и студентов — филологов, учителей и всех интересующихся русской литек Л
турой. ' \
Рецензенты:
докт.. филол. наук Г. А. Бялый (ЛГУ), '
докт. филол. наук Б. Ф. Егоров (Ин-т истории АН СССР).
4603010101—091
М----------------139—82
076(02)-82
Издательство ?
Ленинградского \
университета, 1982 V
г
ИБ № 1479
Владимир Маркович Маркович
И. С. ТУРГЕНЕВ И РУССКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН XIX ВЕКА
(30—50-е годы)
Редактор И. С. Яворская
Художественный редактор А. Г. Голубев
Технический редактор Г. М. Иванова
Корректоры И. М. Каплинская, С. С. Кокина
Сдано в набор 18.09.81. Подписано в печать 14.04.82. М-29762. Формат 60x90’/ie. Бумага тип. № 1
Литературная гарнитура. Высокая печать. Печ. л. 13. Уч.-изд. л. 14,36. Усл. кр.-отт. 13,19.
Тираж 25 000 экз. Заказ Хе 729. Цена 1 р. 10 к.
Издательство ЛГУ им. А. А. Жданова. <
199164. Ленинград, В-164, Университетская наб., 7/9.
Текст набран способом фотонабора и отпечатан с фотополимерных форм в Сортавальской книжной *
типографии Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии i
и книжной торговли, г. Сортавала, ул. Карельская, 42.
ВВЕДЕНИЕ
Книга, предлагаемая вниманию читателей, является продол-
жением монографии «Человек в романах И. С. Тургенева» (1975)
Там задача автора сводилась к типологической характеристике
тургеневских романов, написанных и опубликованных в 1855—
1862 гг. Цель исследования состояла в том, чтобы^ выявить
и проанализировать устойчивые закономерности, свойственные
поэтике этих романов. Четыре во многом несходных произведения,
разделенные пусть небольшими, но исторически существенными
временными промежутками, рассматривались как некое единое
явление («классический тургеневский роман»); речь шла о ста-
бильных признаках, которые обнаруживались при всех переменах,
за всеми различиями конкретных творческих решений, в разное
время найденных Тургеневым. Собственно, речь шла о художест-
венной системе Тургенева-романиста, точнее, о той ее сердцевине,
которая сохраняла ее единство и обеспечивала ее верность самой
себе при любых поворотах эволюции художника.
Однако система такого рода всегда представляет собой диа-
лектическое единство устойчивости и динамизма. Отсюда — необ-
ходимость сочетать ее синхронный анализ с анализом диахрон-
ным. Этой необходимостью и определяется исследовательская
I цель публикуемой монографии: поэтика «классических» романов
р Тургенева рассматривается в динамике ее становления и разви-
, тия — от начала (в «Рудине») до кульминации (в «Отцах и де-
' тях»). Выясняется логика этого процесса и его связь с динамикой
смены исторических ситуаций, обусловивших направление твор-
ческих поисков Тургенева. Определяются место и роль транс-
формаций тургеневской системы в более широком литературном
процессе, а именно — в процессе жанровой эволюции русского
реалистического романа.
В общем, структурно-типологический принцип изучения ма- v
' 1гериала объединяется с историко-литературным. Иными словами,
3
Гйстория и типология подчиняются той многоплановой исследова-
тельской установке, которую принято называть системным под-
ходом. 1
Сказанное определяет ракурс и масштаб характеристики изу-
чаемых явлений. Отдельные романы Тургенева рассматриваются
как различные исторические модификации его художественной
системы, а весь процесс ее изменений — как звено в ряду исто-
рических трансформаций романного жанра.
ГФон для анализа тургеневской поэтики составляют романы
।Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, Гончарова, но они ин-
тересуют нас постольку, поскольку в них выразились те или
иные закономерности, характеризующие исторические типы рус-
ского реализма (исторические типы реалистического романа
прежде всего). Определенный интерес представляет соотношение
общего и особенного, своеобразие неповторимо конкретных пре-
ломлений некоторых эпохальных черт. Tlo и различие индивиду-
* альных вариантов существенно здесь лишь как предпосылка для
стадиальной характеристики литературного развития и только
в этом качестве является объектом анализа. •
Поскольку в рамках публикуемой работы такой анализ не
может быть всеобъемлющим (для освещения всех сторон изу-
чаемого процесса понадобилось бы несколько специальных моно-
графий), мы ограничимся рассмотрением структуры сюЖета и
структуры характера в их неразрывной взаимосвязй и вместе
стам вг ихочевидном несовпадении, типичном для реалисти-
. ческого романа XIX века, а в русском классическом романе
^особенно заметном. Пристального внимания требует также дей-
дствующая в каждом реалистическом романе систвма^отивировок,
'определяющая (конечно, по-разному" и в различной мере) как
‘ Природу характеров, так и специфику сюжета-) Необходимость
сосредоточиться на этих категориях вряд ли может вызвать
сомнения: все это категории непосредственно содержательные
Лик тому же в значительной степени координирующие! связь
других компонентов художественного целого. Анализ этих кате-
горий является кратчайшим путем к выявлению принципов ор-
ганизации произведения. Спецификой этих категорий и характе-
ром их соотношения во многом определяется возникающая в рома-
не картина мира. Между тем она-то как раз и вызывает
наибольший интерес в связи с поставленной задачей: реДь спе-
Л цифика и преемственная связь различных этапов развития жанра
। нагляднее и существеннее всего выражается именно в специфике 1
1 Характеристике системного изучения литературы посвящены многие ра-
боты последнего десятилетия. См., напр.:М. е й л а х Б. К определению понятия
«художественная система».— В сб.: Filologia: Исследования по языку и ли-
тературе. М., 1973; Храпченко М. Размышления о системном анализе
литературы.— Вопр. лит., 1975, № 3; Н е у п о к о е в а И. Г. История всемир-
ной литературы: Проблемы системного и сравнительного анализа. М., 1976, и др.
4
и преемственности различных картин мира, характерных для тех >
или иных исторических его разновидностей. Чтобы представить
себе специфику и преемственность подобных картин, мы учиты- \
ваем и формы авторского присутствия в романе, и способы вы-
ражения авторской позиции, а там, где это требуется, также
и структуру повествования, особенности пространственно-времен-
ной организации романа и т. п. Однако анализ характеров^
сюжета и мотивационной системы произведения во всех случаях >
остается для нас основной задачей.
Еще одна необходимая оговорка. Направленность и распре-
деление внимания исследователя зависят не только от его мето-
дологических установок и теоретических соображений, но и от
степени изученности (или неизученное™) тех явлений, которые
оказались предметом анализа. Предлагаемая читателям работа
построена с учетом этого, естественного условия. Дело в том,
что различные аспекты поэтики русского романа, так же как
и различные линии ее эволюции, освещены в нашем литературо- j
ведении далеко не равномерно. Напримергсвоеобразию и истори- i
ческим изменениям социально-психологического метода в романах |
Пушкина, Лермонтова, Герцена, Гончарова и, далее, Тургенева I
всегда уделялось пристальное внимание^Примерно то же самое
можно сказать об эволюции социального критицизма от нраво-
описательных романов Измайлова и Нарежного к эпопее Гоголя,
азатем— т< остропроблемным романам натуральной школы.
Вообще на протяжении двух или трех десятилетий исследователи
русского романа активнее всего занимались вопросом о том,
как складывалось и менялось, по мере развития жанра, конкрет-
но-историческое, «локальное» изображение общественной жизни.
Формы воспроизведения ее бытовых, психологических, социаль-
но-политических и культурных реалий, способы художествен-
ного постижения ее злободневных конфликтов, проблем, ситуа-
ций,— все рти чуткие «улавливатели» сиюминутного и фактически
данного --изучены очень и очень основательно. Настолько осно-
вательно, что нет нужды делать их предметом специального
изучения в рамках настоящей работы — достаточно учесть ре-
зультаты предшествующих исследований. А основное внимание
разумнее переместить на иные аспекты — те, которые никак нель-
зя признать освещенными в необходимой мере.
("Вбт, пожалуй, главнейший из них. В нашем литературоведении i
все больше укрепляется мысль о том, что русский классический I
ррман нераздельно соединяет свое конкретно-историческое содер-!
жание с не менее важным для литературы содержанием универ- I
сальным. В работах последнего времени нередко ставится вопрос Г
об устремленности русских реалистов к общечеловеческим, гло?^
бальным и даже вселенским категориям, о попытках провидетк
в быте бытие, а в окружающих, вполне осязаемых фактах —
отблески высшей Истины. Речь идет о попытках русских писателе*
найти в бурно меняющемся мире непреходящие опорные ценности
5
Но это еще не означает, что наши представления об универ-
сальном смысловом плане, так или иначе входящем в реалисти-
ческие картины мира, достигли необходимой ясности. Мы,
в частности, недостаточно занимаемся изучением соотношения
и связи универсально-философского начала с другими элементами
реалистического изображения действительности. Между тем важ-
ность и острота этой проблемы очевидны. Включение универ-
/ сального плана в реалистическую картину мира — явление, при
ь/всей его естественности, неизбежно сложное, предполагающее
। некий стилистический и смысловой скачок, преодоление каких-то
^сопротивляющихся сил и, в известной мере,— «инерции» ниже-
/ лежащих слоев образной структуры. Ведь появление универсаль-
' ного плана означает переход к реальностям совершенно иного
рода, чем реальности воссозданного в романе эмпирического
порядка вещей. Это выход к сверхисторическим, невыразимым
в обычных сюжетно-образных формах мировым сущностям (и,
стало быть, к иным образным формам). Чтобы понять природу
подобного скачка, требуется ответить на множество общих и
частных вопросов.
На каком основании совмещаются в реалистической худо-
жественной системе социально-историческая, бытовая или пси-
хологическая конкретность с вселенскими, а иногда и трансцен-
дентными универсалиями? Какие пути ведут к образованию
универсальных значений изображаемого? Какие условия делают
скачок к универсальному смыслу уместным и возможным? Какова
степень подчиненности или, напротив, неподвластности этому
универсальному смыслу различных элементов структуры? Как
складывается соотношение исторического и универсального на
разных этапах развития жанра? Какими общеэстетическими и
социально-историческими причинами вызвано тяготение к уни-
версальному, постоянно возобновляющееся в процессе смены
реалистических художественных систем?
Детальному рассмотрению этих вопросов и посвящена, в ос-
новном, публикуемая работа. С этими вопросами связан анализ
выделенных в ней элементов поэтики (характеров, сюжета, мо-
тивировок). Разумеется, автор не претендует на исчерпывающее
решение указанных вопросов, а лишь пытается заполнить неко-
торые из очевидных и потому тем более досадных пробелов.
Глава 1
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗМА
' В РОМАНАХ ПУШКИНА, ЛЕРМОНТОВА, ГОГОЛЯ
(«ЕВГЕНИИ ОНЕГИН», «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»,
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»)
В поэтике трех названных романов, имевших первостепенное
значение для становления русского реализма XIX в., романов,
явно несходных, во многом даже противоположных друг другу,
можно обнаружить общие иди, во всяком случае, родственные
тенденции^ Эти тенденции проявляются во взаимосвязи основных
компонентов образа (прежде всего в системе мотивировок),
в законах организации художественного целого.
Характеристику тенденций, о которых идет речь, целесообраз-
но сконцентрировать вокруг_символического подтекста (понятие у
это с разной долей условности нередко используется в лите-
ратуроведении). Начать уместнее с «Евгения Онегина», тем
более, что здесь можно установить вполне локальный источник
символических значений. Роль эта, безусловно, принадлежит
знаменитому сну Татьяны.
Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина»
Давно замечено, что сон Татьяны входит в структуру «Ев-
гения Онегина» на каких-то особых правах. Рассказ о сне
выделен уже тем, что, занимая почти полтораста стихов, надолго
прерывает ход событий1. Не менее существенно местоположение
этого ^рассказа: сон Татьяны помещен в геометрический центр
«Онегина» и составляет своеобразную «ось симметрии» в построе-
нии романа1 2. Естественно напрашивается мысль о чрезвычайной
смысловой важности расположенного таким образом фрагмента.
Сон героини сразу же назван «чудным»: . это звучит как
указание на его необычную природу. Позже выясняется, что
1 Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.,
1957, с. 214.
2 Имеется в виду полный текст романа в стихах, включающий «Примеча-
ния» и «Отрывки из путешествия Онегина».
7
«чудный» сон не разгадывается по «соннику». Обратившись
вслед за Татьяной к «Древнему и новому всегдашнему гада-
тельному оракулу, найденному после смерти... старца Мартина
Задека...»,. читатель не обнаружит в этой книге тех мотивов,
которые пытается «расшифровать» героиня. Так вырисовывается
еще один намек на то, что перед нами не просто сон в оЬычном
смысле слова. .
Эти намеки многократно усилены игрой переносных значений,
сопутствующих метафорической теме «сна» — одной из тех устой-
чивых «словесных тем», которые проходят, разнообразно, вз^и\
руясь, через весь стихотворный роман Пушкина.3 4 В перенэсйрм
смысле «сон» чаще всего означает здесь особое душевное соса-
ние, отмеченное признаками глубочайшей самоуглубленное!^,
завороженности, выхода за пределы возможностей рассу^очн^
сознания. «Сон»' ассоциируется с мечтой, надеждой, любовь#,<
творчеством, воспоминанием, предчувствием, выступающими Чк
романтическом ореоле —как переживания высшего порядка.^
И вполне отчетливы ассоциации, связывающие тему «сна» t пред-’
ставлением об откровении. Этот \смысловой акцент не ! имеет
у Пушкина жесткой обязательности: можно принять его .всерьез,
можно расценить как поэтическую вольность. Однако настой-
чивость повторения мало-помалу придает мотиву нешут^ч’’™*
характер, тем более, что .смысловая связь, сближающая «с<
и откровение, обретает опору в развитии описываемых ав^^^*
событий. I
Предвестия сна сбываются: Онегин действительно ссоритс/ч
с Ленским и в самом деле его убивает.5 В повествовании н?
раз мелькают мотивы, которые перекликаются с образами сно-
видения, вновь и вновь связывая с ними происходящее ная«у 6
«Чудный» сон приобретает значение «вещего» и уже не Кюжсг
утратить полностью этот смысл, как бы ни колебалась степень
серьезности авторских повествовательных интонаций.
3 Некоторые из этих значений были отмечены еще Н. Л; БродскимН
(Бродский Н. Л. «Евгений Онегин» роман А. С. Пушкина. 5-е изд. А *
1964, с. 202—203). , !
4 Ср., напр.: 1, V; 2, XXII; 3, XIII; 3, XXXIX; 4, XI; 6, XXXVI, XLIII. XI :V^
7, III; 8, I, X, XXI, XXVII и др.— Здесь и далее арабская цифра означает’
главу, а римская — номер строфы «Евгения Онегина».
5 Эта связь подкрепляется еще одним совпадением. Святочное га^ ,
непосредственно предшествующее сну, по словам автора, «сулит утр'
В авторских «Примечаниях» еще раз, уже прямо, сказано, что гадание
рекает смерть». 1
6 Уже не раз отмечали перекличку между описанием «адских привиДенг' ,
в сне Татьяны и описанием гостей, съехавшихся на именины к Ларинь •
(М. О.. Гершензо’н, Д. Д. Благой, Н. Л. Бродский и др.). Мотив сна мел(>к° .
и в нескольких авторских сравнениях шестой главы: «И бесконечный котиль чн
| Ее томил, как тяжкий сон» (6, I); «Как в страшном, непонятном сне, Н Счи
друг другу в тишине | Готовят гибель хладнокровно...» (6, XXVIII). В стргфч
III той же главы — отчетливое ассоциативное напоминание об одном из важ-
нейших мотивов сна: «...как будто бездна | Под ней чернеет и шумит...» ц.
8
I
JX Соотнесенность «вещего» сна с последующим развитием дей-
зя^твил активизирует целый план дополнительных сопоставлений,
тоже очень важных для внутренней художественной «онтологии»
романа в стихах. Наиболее существенным оказывается сопостав-
ление с другим литературным «сном»—сном Светланы из балла-
ды Жуковского.
В балладе Жуковского зловещий сон опровергнут радостной
яв^ю. Говоря иначе, ложные иллюзии развеяны подлинной ре-
альностью — таков очевидный смысл главного сюжетного пово-
роте Но несбывшийся сон обладает большей художественной
весомостью, чем состоявшаяся «явь». Описание сна создаёт
особую атмосферу, которая вовлекает и в значительной степени
подчиняет себе читателя. В соседстве с нею счастливая развязка
.ыглядит «облегченной» и куда более условной, чем самые
фантастические ситуации сновидения. Развязке сопутствует уси-
. ление повествовательной иронии, которая таилась в описании
\сна как едва уловимый призвук, а теперь становится вполне
^щутимой. И все это подготавливает .переход к финальному
авторскому отступлению, звучащему уже за пределами сюжета
\ (^Улыбнись, моя краса, На мою балладу: В ней большие чудеса,
\Ьдань мало складу...»).
Здесь автор, иронизируя, возвышается над своим творением
и «задним числом» превращает весь балладный сюжет (со всеми
его переходами от сна к яви и от ужасов к счастью) в поэти-
ческую условность и далее — в иносказание с легко читаемым
оптимистическим смыслом. Подъем поэтического вдохновения
оборачивается взлетом провидческого пафоса, гармония провоз-
глашается основой «нашей», земной жизни («Благ зиждителя
закон: Здесь несчастье — лживый сон; Счастье — пробужденье»).
Однако этот торжественный аккорд не может замкнуть балладу:
она завершается лирическим заклинанием, энергия которого на-
прав ена за пределы балладного мира, в сферу житейской реаль-
ности. Смысл финальной строфы («О, не знай сих страшных
снов...») явно многозначен. Здесь можно предполагать своеоб-
разную экспансию мистико-поэтического балладного оптимизма,
. проецирующего свои законы на действительность. Но можно
^уловить и проблеск тревоги, напоминающий о том, что «ужас
а стоящей реальности... не во власти поэта».7
На фоне такой концовки . авторское пророчество о благости
ь провиденья, о счастье как истинной сущности земного бытия,
^иллюзорности всех горестей и бед человеческих восприни-
как выражение романтического идеала. А все действие <л
^^йзесяады «предстает нам как видение души».8 Так происходит
<ро5'чв к некоей субстанции, скрытой за гранью эмпирической
7 Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965, с. 70.
8 PI е в ы р е в С. О. О значении Жуковского в русской жизни и поэзии.
М., !853. с. 39.
9
реальности и рационального миропонимания. В конечном счете
все здесь —и переходы балладного сюжета, и сопутствующая
ему ирония, и обнажение вымышленной его природы, и возвыше-
ние автора над своим творением, и проникнутый пророческим
духом урок читателю, и даже заключительная трогательно про-
стая мольба о безмятежном счастье для юной девушки, всту-
пающей в жизнь,— все готовит или выражает_этот прорыв к иной,
запредельной реальности. А «чудесный» сон Светланы оказы-
вается первойПстуТ^нью духовного восхождения к ней: именно
здесь происходит отрыв сознания от внешней действительности
и расторгаются оковы рациональной логики — т. е. совершается
тот самый смысловой сдвиг, без которого не может возникнуть
балладный мир, осуществляющий законы романтической мечты.9
Логика разумного и действительного остается за чертой этого
взлета, за границами балладного мира,
ГПушкин открыто использует балладный принцип отлета от
житейской реальности и соответствующих ей форм сознания.10
Сон Татьяны наполняется подлинно балладной атмосферой: чи-
татель обнаруживает здесь «жестокость преступления, беспо-
щадность судьбы, ужас связей человека с потусторонним миром,
явление сверхъестественных сил, магическое обаяние природы» —
словом, испытывает воздействие всех «главных сюжетных тенден-
ций», типичных для романтической баллады.* 1 11 Используя инер-
цию читательского восприятия, Пушкин создает ощущение бли-
зости к «субстанциальным» реальностям бытия. Но, достигнув
этого, он развитием действия воссоединяет открывшийся читателю
таинственный мир с миром житейской* повседневности. Роковое,
«провиденциальное» открывается в небрежной шутке, в обы-
кновенной ссоре, возникшей из-за пустяков, далее — в опасной,
но достаточно привычной для людей онегинского круга дуэли,
открывается, не отменяя обыденного смысла этих эпизодов, не
мешая им оставаться более или менее заурядными бытовыми
происшествиями. J Взаимоотражение «сна» и «яви» открывает
не запредельное, как это было у Жуковского, а беспредельное,
т. е. именно отсутствие пределов, отделяющих «дольнее» от
«горнего», глубинную сущность от фактической данности. Одно
здесь неуловимо переходит в другое.|
Такое обнажение сути происходящего позволяет видеть ее
как бы «сквозь» неотделимые от самих явлений покровы сослов-
ной принадлежности изображаемых людей, эпохи, культуры,
9 О художественных законах русской романтической баллады см Души
на А. Н. Поэтика русской баллады в период становления жанра: Автореф
канд. дис. Л., 1975, с. 11 — 13; Иезуитов а Р В. Баллада в эпоху роман
тизма.— В кн.: Русский романтизм. Л., 1978, с. 153—156.
1 ° Очень важен при этом, как увидим, и ритуальный характер «чудного»
сна. Но об этом речь вйереди.
11 Zgorzelski Gz. Ober die Strukturtendenzen der Ballade.— Zaga
dnienia rodzajow literackich. T. IV, 1962, z. 2 (7),s 134.
конкретных житейских обстоятельств. Прежде всего резко укруп-
няется масштаб реалистической типизации, уже наметившейся
в предшествующих главах романа. В причудливой фантасмагории
сна вырисовываются ассоциативные параллели, сближающие >
Онегина со святым Антонием, искушаемым (а здесь искушенным)
бесами, с Фаустом, участвующим в бесовском шабаше, наконец,
с Ванькой Каином, легендарным разбойником, подразумеваемым
героем пушкинского «Жениха», пирующим со своей шайкой
в лесной избушке, где пир, как и в сне Татьяны, прерывается
убийством.12
Каждая из этих параллелей имеет опорные точки в авторском
повествовании. Легкий след разбойничьей легенды проступает
не только в фабульных деталях сна («Онегин руку замахнул, |
И дико он очами бродит... (Хватает длинный нож...» — 5, XX),
но и в полушутливых фразах поэтического рассказа, где сонмище
бесов несколько раз именуется «шайкой». Полуироническое упо-
добление героя прославленному христианскому отшельнику под-
креплено целым рядом шумливых аналогий того же рода, рас-
сеянных за пределами рассказа о сне, но, как правило, на
близком расстоянии от него — так, что их взаимная перекличка
оказывается ощутимой.13
Можно усмотреть за пределами сна и полускрытый намек
на повторение в онегинской истории ключевых ситуаций «Фау-
ста». Осязаемым параллелизмом сближены контуры судеб обоих
главных героев. И Фауст и Онегин предстают духовными ски-
тальцами, способными пройти «полный круг человеческого бы-
тия». 14 Вся жизнь обоих — в беспрерывной смене разнообраз-
ных ликов: оба переходят от состояния к состоянию, от сферы
к сфере, ничем не удовлетворяясь, никогда не останавливаясь.
Эта перекличка фабул сообщает пушкинскому «варианту» не |
только глубину, но и особую заостренность. Чтобы явить миру
героя, которому ничто человеческое не чуждо, Гете «продляет
жизнь Фауста на много столетий». А у Пушкина «фаустовские
проблемы человеческого бытия решаются в рамках одной реаль-
ной жизни», точнее, в пределах одного из кульминационных
моментов этой жизни.15
12 См. об этом: Боцяновский В. Ф. Незамеченное у Пушкина.—
Вестник литературы, 1921, № 6-7, с. 3—4; Сумцов Н. Ф. Исследования
о поэзии А. С. Пушкина.— В кн.: Харьковский университетский сборник в па-
мять А. С. Пушкина (1799—1899). Харьков, 1900, с. 277-
13 «В своей глуши мудрец пустынный...» (2, IV)*; «... Онегин слыл анахо-
ретом...» (4, XXXVI, XXXVII); «...Татьяна долго в келье модной | Как очаро-
вана стоит» (7, XX)-
14 Бочаров С. Г. Характеры и обстоятельства.— В кн.: Теория ли-
тературы: Основные проблемы в историческом освещении: Образ, метод, ха-
рактер. М., 1962, с. 405. fi
15 Кедров К. «Евгений Онегин» в системе образов мировой литера-
туры.— В кн.: В мире Пушкина. М., 1974, с. 144, 149.— «Фаустовские» ал-
люзии косвенно подкреплены параллелью Онегин — Мельмот. Генетическая
11
Таким образом, параллели, сближающие Онегина с раци-
ональными и мировыми «сверхтипами», выходят за границы
сознания (или, точнее, подсознания) героини.16 Все такие па-
раллели (особенно за пределами сна) окрашены шутливой
интонацией и явственным оттенком иронии. Однако можно за-
метить, что подобная интонация и подобный оттенок часто со-
путствуют у Пушкина высоким и грандиозным аллюзиям или
ассоциациям, подкрепляющим поэтическую интерпретацию обы-
денных явлений (вспомним, хотя бы, описание одесской уличной
грязи, так поразившее Белинского). Ассоциации и аллюзии такого
рода позволяют поэту выразить глубинную сущность явления,
не теряя ощутимости его фактического облика. Пушкин стремится
представить и то и другое вместе, как бы рядом — чтобы чита-
тель смог разом почувствовать их несовпадение и нераздельность.
Пушкинская ирония и создает ту атмосферу, в которой такое
изображение жизненных явлений оказывается возможным. «Мод- -
ный чудак» не может быть всерьез уподоблен фигурам, пре-
вратившимся в олицетворения религиозного подвижничества,
безграничной пытливости ищущего разума или разнузданно-мя-
тежной разбойничьей удали. Но благодаря шутливо-иронической
акцентировке уподобление состоялось: Онегин поставлен в один
ряд со святым Антонием, доктором Фаустом, Ванькой Каином.
Так открывается универсальное содержание жизненной позиции
и судьбы героя.
«Чудный» сон сводит в неожиданном сочетании несколько
древнейших форм отъединения личности от мира и ее возвышения
над его законами. Отшельник-аскет, мудрец, пытающийся овла-
деть недоступными человеку тайнами бытия, и «злодей, вор,
победна голова» (обычная в народных песнях характеристика
Ваньки Каина) совмещаются в одном лице, обнаруживая в обо-
соблении от мира и людей подспудный демонический потенциал.
Дело в том, что такое сплетение черт, остро парадоксальное
для современного Пушкину литературно-философского сознания,
г вполне естественно в системе законов мифа. Ассоциативно
’ объединяя Фауста и Ваньку Каина, образ Онегина связывает ?
собой и различные генетические линии, восходящие к архетипам
культурного героя (с ним отчетливо, хотя и опосредованно
связь «Мельмота Скитальца» с мистерией Гете была замечена очень рано,
образы и проблематика обоих произведений то и дело пересекались в восприя-
тии современников.
16 Их перечень можно и расширить. Например, в XIV строфе главы
седьмой о Татьяне сказано так: «Она должна в нем ненавидеть | Убийцу
брата своего». Речь идет об Онегине, и прозвучавшая здесь древняя христиан-
ская формула самим звучанием своим перекликается с универсальными ал-
люзиями «чудного» сна. Становится возможной еще одна «глобальная» ассо-
циация, ведущая к библейской теме Каина и Авеля, а также к ее позднейшим
литературным преломлениям. Интересные соображения относительно соотнесен-
ности пушкинского сюжета с байроновской мистерией о Каине содержатся
в книге В. Турбина «Пушкин. Гоголь. Лермонтов» (М., 1978, с. 201.).
соотносится фигура легендарного чернокнижника) и трикстера,
мифологического плута-озорника, предшествовавшего (через
посредство героев бытовой сказки) позднейшим фольклорным
разбойникам и злодеям. По сути дела, в «чудном» сне возоб-
новляется сочетание, некогда типичное для многих мифологи-
ческих циклов, где фигурировали персонажи, объединявшие два
эти архетипа.
Такое сочетание сложилось уже в пору серьезной перестройки
древнейших мифологических схем. Фигура трикстера, «низкого»
двойника культурного героя, оформлялась по мере того, как
в мифологическом фольклоре осознавалась противоположность
«хитрости и разума, обмана и благородной прямоты, возвышен-
ного спиритуализма и низменных инстинктов, пафоса сознатель-
ного служений родоплеменным интересам и эгоистической асо-
циальности. 11 Объединение в одном герое этих, уже разграничен-
ных и противопоставленных качеств создавало фигуру явно
амбивалентную. Благодетель человеческого рода, создатель важ-
нейших ценностей цивилизации, творец организованного миро-
порядка «является одновременно... озорником, непрерывно
вносящим хаос в ту организацию, которую он сам же и создал,
нарушающим табу, обманывающим или убивающим другие
существа».18
Мифологическое сознание не подвергало суду персонажей
такого рода. Они оказывались вне человеческих критериев, как
существа божественные или полубожественные (демонические
в древнейшем смысле этого слова). Человек с ужасом и восхи-
щением следил за необузданной игрой воплотившейся в них
«свободной стихии», то гибельной и опасной, то притягательной
и несущей благо, всегда загадочной и всегда исполненной обая-
ния. Он взирал издали на этот мир неограниченных возможностей
и неограниченной свободы и обожествлял этот мир и его фан-
тастических обитателей, но себя от этого мира все-таки отделял
и свою жизнь строил на других основаниях.
Живая связь мироощущения героини с этой укоренившейся
в народном сознании традицией позволяет Пушкину полушутя-
полусерьезно использовать древнейшие фольклорные представле-
ния для образной характеристики Онегина. В мифологическом
ореоле некоторые черты и действия героя обретают дополнитель-
ный смысл, освещающий их неожиданным образом.
Например, то, что Онегин оказался способным убить друга,
проясняется именно проблесками универсальной мифологической
истины. Не разрушая эмпирических мотивировок поступка Оне-
гина, высшая истина как бы перерастает их: становится оче-
видным, что действуют силы особые, не зависящие от воли и
сознания героя и в то же время не сводимые к одной лишь
17 Мелетинский Е. М. Первобытные истоки словесного искусства.—
В кн.: Ранние формы искусства. М., 1972, с. 178.
18 Там же, с. 179.
13
власти предрассудков и законов его среды (таких, как «светская
вражда», «ложный стыд» и т. п.). Параллели, намеченные обра-
зами сна, заставляют читателя ощутить действие всеобщего зако-
на, в силу которого выпадение отдельного человеческого/ «я»
из единой мировой связи — людей, обычаев, традиций, отноше-
ний, естественного порядка жизни — неизбежно ведет к роковым
последствиям.
Такому восприятию способствует особый смысловой акцент,
выделяющий гибель Ленского и ц фоне других, весьма много-
численных смертей, упоминаемых в романе. Те, другие, едва
ощутимы и, в сущности, никак не отделены от иных житейских
происшествий.19 Лишь смерть Ленского дана как «драматичней-
шее событие». В конечном счете она «получает гораздо больший
вес, чем все остальные смерти, вместе взятые».20 Этот контраст
подчеркивает разительное отличие: все остальные смерти в рома-
не — естественные (полулегендарное самоубийство Митридата —
явно не в счет), и только одна смерть Ленского — насильствен-
ная.21 Контрастом выявлен «глобальный», и даже «вселенский»,
смысл поступка, который совершает Онегин. Смерть перестает
быть естественным звеном в круговороте бытия, она превращена
в кощунственно-произвольный разрыв его непрерывной цепи.
Так еще раз проявляется универсальный масштаб осмысления
и оценки происходящего.
Обозначается художественное «измерение», в котором Онегин
предстает уже не как петербургский денди, не как скептик
или фрондер из околодекабристского круга и даже не как во-
площение эпохальных свойств «современного человека», но как
герой «мистериальных» коллизий.
Образ героини тоже окружен в «чудном» сне ореолом уни-
версальных обобщений. К ним ведут прежде всего многочислен-
ные ассоциации, соотносящие поэтический мир сна с одной из
традиционных «мифологем» пушкинской лирики. По наблюдениям
Ю. Н. Чумакова, в пушкинской лирике 1820-х — начала 1830-х
годов пространственная «модель» мира нередко «строится на
отношении обширного пространства к ограниченному», что соот-
ветствует типичной для Пушкина глобальной оппозиции «мира»
и «дома».22 Иногда ограниченное пространство отчетливо про-
тивопоставлено обширному как «свое», интимно близкое, обжи-
тое — чуждому, враждебному, угрожающему. Или, в ином плане,
как сфера тепла и света — сфере мрака и холода. И, наконец,
19 Чумаков Ю. Н. Поэтическое и универсальное в «Евгении Онегине».—
В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1978, с. 81. \
20 Там же. '
21 Тут становится возможным толчок, развязывающий «каиновские» ас-
социации.
22 Чумаков Ю. Н. Проблемы поэтики Пушкина: Лирика. «Каменный
гость». «Евгений Онегин»: Автореф. канд. дис. Саратов, 1970, с. 7.
14
как\мир добра, радости, дружелюбия — миру зловещего хаоса.23
Контуры этой лирической «модели» проглядывают и сквозь
фантастические узоры «чудного» сна. Здесь как будто бы на-
мечается антитеза, близкая к той, на которой построено стихот-
ворение «Зимний вечер»:Гпосреди беспредельного царства мрака,
холода, хаотической невнятицы — «бедная лачужка», где горит
свет и идет пир, где рядом с героиней — близкий человек. Но,
не успев обозначиться, привычное противопоставление/" резко
трансформируется: границы «дома» и «мира» исчезают, «дом»
наполнен чудовищами, в него врываются холод и мрак, стихия
хаоса увлекает «суженого», вся сфера интимно-близкого, «своего»
содрогается на грани катастрофы. Укрытия, защиты, спасения
от хаоса нет нигде — это ощущение вступает в прямую связь
с мотивом «холода жизни», не раз всплывающим на протяжении
предшествующих и последующих глав «Онегина». В новом спле-
тении традиционных мотивов явственно ощущается намек на
извечный трагизм судьбы человека в мире».
Однако этот намек осложняется другими ассоциациями, кото-
рые связывают важнейшие :мотивы сна^ с образным миром рус-
ской волшебной сказки. Некоторые из таких ассоциаций букваль-
но бросаются в глаза. Сюжеты волшебных сказок почти
неизменно приводят героя или героиню в дремучий, темный,
таинственный лес, где начинаются их фантастические приключе-
ния. Есть там и лесная избушка, и «бездна», над которой герой
должен пройти, и «дрожащий гибельный мосток», и волшебный
помощник (роль эта принадлежит одному из сказочных живот-
ных), без чьей помощи переходящий низвергается ~вг-бездну.
И все эти сюжетно-композиционные элементы сказки прочно
связаны с представлением о границе между миром «здешним»
и миром иным. Сквозь лес ведет дорога к иному миру, «бездна»
и «гибельный мосток» отделяют его от царства живых, избушка
в лесу — застава, охраняющая вход в сферу потустороннего:
в избушке герой подвергается испытаниям, определяющим его
право пересечь границу.24 Вплетаясь в ассоциативные комплексы
«чудного» сна, эти традиционные значейия примешиваются к
мысли об универсальном трагизме человеческой судьбы. Трагич-
ность человеческого жребия связывается с приближением к «пос-
23 Очевидно сходство этой лирической «модели» с некоторыми фольклор-
ными «мифологемами». См.: Иванов В. В., Т о п о р о в В. Н. Славянские
языковые моделирующие семиотические системы: Древний период. М., 1965,
с. 168; Байбу рин А. К. Русские народные обряды, связанные со строи-
тельством жилища: К проблеме освоения пространства; Автореф. канд. дис.
Л., 1976; Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира: На материале
балканских загадок.— В кн.: Труды по знаковым системам. Вып. X. Семиотика
культуры. Тарту, 1978, с. 72—74.
24 Об этом см.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки.
Л., 1946, с. 44—48, 316—317.— Эти параллели отмечены в работе О. Н. Гре-
чиной «О фольклоризме „Евгения Онегина”» (в кн.: Русский фольклор Вып.
XVIII. Л., 1978, с. 33—35.)..
15
ледним» тайнам мира, к незримой грани, разделяющей «высшие»
и «низшие» его сферы. Читатель улавливает намек на какие-то
необычные отношения между героиней и главными вселенскими
стихиями. Этот намек тоже вносится поэтическими ассоциациями,
уходящими за пределы сна. В частности, на протяжении несколь-
ких глав героине сопутствует, наряду с другими, мотив, напо-
минающий о зиме, снеге, холоде и мраке. Впервые этот мотив
мелькнет в описании детства Татьяны (2,XXVII). В следующей
строфе опять зима, зимняя ночь, ранние пробуждения Татьяны
при «отуманенной луне». Мелькнув, мотив исчезает, чтобы вновь
появиться накануне решающих событий в жизшН^&рини:
Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему) *
С ее холодною красою
Любила русскую зиму... (5, IV)SA
И в той же строфе — как бы предваряя сцену гадания и «вещий»
сон — упоминание о «мгле крещенских вечеров». В пятой главе
героиня несколько раз появляется перед читателем на фоне снеж-
ного пейзажа. Затем в морозную ночь Татьяна «в открытом
платьице» выходит на заснеженный двор и вопрошает небесные
светила о своей судьбе. А в сне Татьяны снежная, мглистая
стихия зимы уже явно предстает символическим выражением
каких-то сокровенных начал, ее душевной жизни. В седьмой
главе перед нами новый поворотный момент в истории Татьяны —
отъезд Лариных в Москву, и вновь звучит все тот же «зимний»
лейтмотив ее темы («Вот север, тучи нагоняя, | Дохнул, завыл...»)
И наконец, в восьмой главе появляются метафоры, замыкающие
это сложное уподобление («У! Как теперь окружена | Крещенским
холодом она...»). «Зимний» мотив непосредственно сближен с тем|
суровым и таинственным чувством меры, закона, судьбы, которое
заставило Татьяну отвергнуть любовь Онегина. Намек на особые'
отношения с «холодом жизни», с ее «метельным» хаосом (мотив
метели в «свернутом» виде входит и в сон Татьяны) получает
здесь уже вполне отчетливое звучание. Смысл намека расши-
ряется «народными» картинами предшествующих глав, знамени-
той II строфой пятой главы, где ощущается загадочное родство
между стихиями зимы и глубочайшими основами русской народ-
ной жизни, и столь же знаменитым эпиграфом о северном племе-
ни, которому «умирать не больно».
Зимние мотивы «Евгения Онегина» отражают многие черты
уже определившейся поэтической традиции. Той самой, контуры
которой впервые обозначились в знаменитой элегии Вяземского,
напоминающей о себе у Пушкина не только эпиграфом к первой
главе или ссылками в тексте и в «Примечаниях». Сам возникаю-
щий из множества деталей, картин и поэтических уподоблений,
единый и многосмысленный образ зимы строится здесь как будто
бы на традиционной основе. Зима, как и у Вяземского, пред-
ставлена великолепием блистающих снегов, воспринимается как
16
‘«праздничная встреча холода со светом». Звучит в романе и
другая уже традиционная тема: зиме метафорически приписаны
волшебство, таинственные чары, какая-то неземная власть над
силами природы. Зима предстает и как царство движения, бодро-
сти, пробуждения человеческой энергии: крестьянин «торжест-
вует», кибитка «летит», дворовый мальчик «бегает» и т. д.
Это опять-таки традиционный мотив, в середине 20-х годов
еще новый для Пушкина, но уже не новый для русской лирики,
уже в «Первом снеге» (1819) открытый и введенный в литературу
Вяземским.25
Однако поэтическая трактовка зимы получает в «Евгении
Онегине» не совсем обычный поворот. В сне Татьяны, как уже
говорилось, символический пейзаж напоминает о метели, еще
до болдинских «Бесов» наделявшейся в русской поэзии призна-
ками одушевленности, но одушевленности нечеловеческой и без-
надежно далекой от человеческого мира. Здесь же, рядом, в сне
Татьяны,— разгул бесовской «шайки», как бы слитый с торжест-
вом естественных стихий зимы и колдовских ее сил. Зима пред-
стает временем и состоянием, когда человеческое и потусторон:
нее вплотную приближаются друг к другу, так что грань между
ними становится хрупкой и проницаемой.26
Это тоже мотив отчасти уже традиционный.2 7 Но и у Пушки-
на, и у Вяземского поэтическое ощущение бездны, хаоса, разгула
темных сил, как правило, отделено от картин великолепия зимы,
от «праздника света», от мотивов «бодрствования» и «пылания»,
возбуждаемых зимним холодом и снегом. А в «Евгении Онегине»
сливаются отзвуки далеких друг от друга лирических мелодий.
От их слияния и рождается еще небывалое — многозначно-сим-
волическое — звучание зимней темы. Можно попытаться выразить
лишь самый главный из намеченных здесь смысловых акцентов:
зима символизирует в романе нечто переходное и пограничное —
сферу, в которой человек приближен и как-то приобщен к не-
человеческим силам, законам и стихиям. Это — сфера предельной
близости к тому, что не имеет соответствий в индивидуальном
существовании и индивидуальной судьбе. Тем знаменательнее
отчетливость еще одного акцента, о котором выше уже шла
речь. Зима у Пушкина названа «русской»: это «межмирное»
25 Об этой см.: Юки на Е., Эпштейн М. Поэтика зимы.— Bonn,
лит., 1979, № 9, с. 173—179.
26 Этот символико-метафорический поворот «зимней» темы тоже имеет
явную параллель в фольклорно-мифологических представлениях о зиме, в на-
родных верованиях и суевериях (Ч и ч е р о в В. И. Зимний период русского
народного, земледельческого календаря XVI—XIX веков: Очерки по истории
народных верований. М., 1957, с. 35—39 и др.).
27 Уже в пушкинском «Зимнем вечере» (1825) звучит метафорический
намек на особую, нечеловеческую одушевленность стихий зимы. В стихотворе-
ниях Вяземского «Кибитка» и «Метель» (1928) «зимняя» тема уже явно
получает демонологическую окраску, смягченную, впрочем, шутливо-ирониче-
ским тоном лирического повествования^._
Г БИБЛИОТЕКА 1 17
состояние и время изображается областью, где русскому человеку»
просторно и легко, где его существование наиболее органично
и полноценно.28
* *
*
(все это сложнейшее переплетение легендарных, лирических,
сказочно-мифологических, балладных, романных, обрядовых
мотивов образует неисчерпаемо-емкое символическое содержание,
которое проецируется (благодаря смысловым связям и «вершин-
ному» композиционному положению «чудного» сна) на окружаю-
щий контекст, намечая перспективы символической интерпретации
центральных коллизий романа и представших в нем человеческих
типовое полной очевидностью эта проекция захватывает лишь
блил^аишие звенья фабулы (пять «деревенских» глав — от второй
до шестой включительно), однако отблески ясно различимой
здесь символизации падают и на другие слагаемые поэтического
целого. Сон оказывается своеобразным «аккумулятором» сим-
волической энергии романа.
В этой проекции сумрачная «странность» Онегина и возвышен-
ная «идеальность» Татьяны предстают своеобразными преломле-
ниями двух извечно противоположных реакций человеческого
духа на неподвластную разуму и воле человека хаотичность
бытия, на предопределенный ею трагизм человеческого сущест-
вования.
Авторское миросозерцание в «Онегине» ощутимо двоится.
Жизнь как всеобъемлющее «космическое» целое предстает здесь
ненарушимо гармоничной. В масштабе вечности все обретает
стройную соразмерность и сообразность: бесконечно повторяю-
щийся круговорот природы всему дает место и время. Проти-
воположности совмещаются, не вытесняя и не уничтожая друг
друга, ибо каждая из них бесконечно возобновляется, приходя
на смену другим. Вселенская гармония распространяется и на
человеческую жизнь, коль скоро и она воспринимается как часть
жизни мировой. Даже тема смерти утрачивает в этом масштабе
трагический смысл: о ней говорится без смущения и горечи,
с какой-то веселой мудростью, оправданной мыслью о бесконеч-
ной смене людских поколений. Знаменитое лирическое отступле-
ние второй главы («Увы! на жизненных браздах...»), начавшись
элегическим вздохом, венчается светлой, примиряющей нотой
(«...В добрый час...»). Речь ведь идет о целом человечестве,
которое не гибнет и не клонится к упадку, а так же, как при-
28 Вспомним для сравнения
Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим (4, XL).
18
рода, вечно возобновляется и обновляется. В этом вечном кру-
говороте неизбежные смерти действительно уравновешиваются
рождениями, страдания — радостями, старость одних — моло-
достью других... Иной представляется автору «Онегина» жизнь
отдельного человека, не имеющая прямых выходов в вечность.
Необратимая и замкнутая в себе, она сразу же выпадает из
гармонии, если только принять ее за «точку отсчета». В той
мере, в какой автор чувствует это расхождение между инди-
видуально-человеческим и вселенским бытием, он испытывает
ощущение хаотичности жизненных стихий, их равнодушия к
человеку. Это ощущение не выражается развернуто и лишь
изредка кристаллизуется в отчетливые поэтические формулы
(вспомним «жизни холод» рядом с «праздником жизни» — в вось-
мой главе). Оно живет в мерцающих лирических мотивах, ассо-
циациях, обертонах. Но и оно здесь достаточно значимо и весомо.
Это авторское ощущение проясняет глубинный подтекст жиз-
ненных позиций героя и героини. Перед читателем позиции
глубоко национальные: их неповторимая и вместе с тем сверх-
личная самобытность — в их парадоксальности, труднопости-
жимой по критерям «европейского» мышления, исключающей
возможность ясных рациональных определений.29 В то Же время
это —преломления общечеловеческих реакций на равнодушие ми-
ра к отдельной личности.
Одна из этих реакций выражается в разладе личности с об-
ществом и природой, в расторжении естественных связей с ними,
в скептическом недоверии к бытию. Если почувствовать траги-
ческую подоснову позиции Онегина, сразу же начинают светиться
дополнительными смыслами важнейшие моменты его образной
характеристики — его уединение и затворничество, «пустынное»
мудрствование, уже упомянутая возможность «злодейства» и т. п.
Но отчетливее всего проясняется главная особенность судьбы
героя —его обреченность на бесконечные житейские и духовные
скитания, особая — сугубо русская — природа которых вырисо-
вывается в предусмотренном здесь сравнении с «фаустовскими»
ситуациями.
Превращения, происходящие с Фаустом, «составляют этапы
пути, ступени процесса» (С. Бочаров). Его история (воссоздан-
ная у Гете именно как процесс) предвосхищает «восстановление
полного человека, который мог бы сказать мгновению: остано-
вись,— ибо цели его были бы всеобщие и гармонировали бы
с целями человечества».30 Превращения Онегина не могут быть
восприняты как «этапы» и «ступени» (хотя каждое из них как-то
29 Парадоксальное совмещение этой самобытности с «европеизмом» обоих
главных героев — еще одна странность, не поддающаяся ясному определению.
30 Бочаров С. Г. Характеры и обстоятельства.— В кн.: Теория лите-
ратуры: Основные проблемы в историческом освещении: Образ, м.етод, характер.
М., 1962, с. 406.
19
связано с предшествующими и в каком-то смысле всегда означает
возвышение над ними). Судьба Онегина дана так, что ни в какой
перспективе не предполагает итога: «русский скиталец» пред-
стает у Пушкина скитальцем вечным, никогда не обретающим
гармонической цели. Столь же немыслимы твердая определен-
ность и «оформленность» его личности. Но именно этими свой-
ствами душевная жизнь и судьба пушкинского героя приближены
к хаотичности вселенского бытия и вместе с тем — к вечности
и бесконечности.
Другая духовная реакция, вызванная трагизмом человеческой
участи в мире, определяется возможностью принять эту участь,
но в то же время отделена своей необычностью от всех естест-
венных для европейского сознания вариантов отношения к траги-
ческой ситуации. Все «нормальные» позиции, в сущности, сводят-
ся к попыткам выхода из нее, означая или какую-то форму
примирения с ней (снимающую ее трагизм), или какое-то ее
преодоление, или, наконец, катастрофическое разрешение создав-
ших ее противоречий. Позиция Татьяны — особый род «пребыва-
ния» в трагической ситуации, такое совпадение с ней, которое
исключает мысль о том, что человек рожден для счастья, о том,
что мир должен быть приспособлен к его потребностям. При
этом героиня страдает, и страдает мучительно, но воспринимает
страдание как нечто столь же непреложно-естественное, как
и дыхание или возможность видеть, слышать, осязать... И вот
такая слиянность с хаосом и трагизмом бытия в дальнейшем
неожиданно оборачивается приближением к совершенству почти
художественному: душевный облик Татьяны в восьмой главе
определяют черты поэтической ясности и стройности («все тихо,
просто было в ней...»).
Особую важность приобретает в этой проекции еще один
смысловой план, может быть, наиболее глубокий и универсаль-
ный. На фоне «вещего» сна, в том или ином сопряжении с его '
мотивами, некоторые сюжетные события, которые сами по себе
воспринимаются как случайные, начинают выглядеть глубоко
закономерными («пробили часы урочные» и т. п.). Непосред-
ственно это касается лишь ссоры двух друзей и гибели Ленского,
но косвенно затронуты и другие перипетии и ситуации (например,
«отповедь» Татьяны Онегину). В конечном счете в романе гос-
подствует представление о каком-то верховном законе, которому
подчиняется все сущее. Это не Провиденье Жуковского и не
слепой, жестокий Рок, равнодушно попирающий свои жертвы.
В таинственной логике судьбы, какой представлена она в романе
Пушкина, нет безусловной справедливости, внятной разуму и
нравственному чувству, но есть непреложная связь причин и
следствий и есть намек на скрытый в этой связи целесообразный
смысл. Ни хаос, ни космическая гармония не могут обрести для
автора значения высшей истины. И то и другое — ниже парадок-
сального «третьего», равно объемлющего представления о гармо-
20
нии и хаосе и как бы преодолевающего их различие. Тем самым
обозначена смысловая перспектива, ведущая в последнюю глуби-
ну изображаемого, где в некоей неопределимо-многозначной це-
лостности сходятся все слагаемые романа. Там кроется его
главная тайна, в сущности равнозначная тайне самого бытия.
* *
*
Легко заметить, что возможность символизации сюжета и
образной системы пушкинского романа в значительной степени
зависит от взаимодействия универсальной символики «чудного»
сна с некоторыми другими структурообразующими силами. Здесь
нет места для рассмотрения многообразных аспектов этого
взаимодействия. Можно лишь бегло обозначить одну из важ-
нейших его линий. Так, например, в «Онегине» очень важна
мифологизирующая тенденция, которая дает о себе знать в раз-
ных плоскостях и разных формах. В дополнение к сказанному
выше можно отметить явные мифологические аллюзии, среди
которых выделяется почти очевидная парафраза древнего мифа
о Нарциссе и нимфе Эхо, соотнесенная с его трансформациями
у Мальфилатра и Овидия и спроецированная на «узловые»
моменты любовной истории пушкинских героев. Эта парафраза
приобретает особое значение. Внедренная в «плоть» любовного
сюжета, используемая чаще всего завуалированно, она постепен-
но удаляется от травестийных интонаций, от законов откровенно
условной игры с мифом, типичной для классицизма и всей
созданной им поэтической традиции.31
Транспонируясь в современную житейскую историю, древние
мифологические мотивы (так же как и символические проекции
сна Татьяны) универсализируют конкретные ситуации, возводя
их к общечеловеческим, «глобальным» коллизиям. Выходит, что
символизация и мифологизация совместно укрупняют масштаб
осмысления изображаемого, поддерживая и дополняя в этом
друг друга. Та же взаимоподдержка — ив формировании неис-
черпаемой, неопределимой многозначности образных смыслов:
мифологизация способствует развитию этого свойства едва ли
не в такой же мере, как и символизация. Не случайно мифоло-
гизирующая тенденция набирает наибольшую силу и серьезность
в той же точке, что и символизирующая: и та и другая дости-
гают кульминации именно в сне Татьяны.
Если за пределами «чудного» сна доминирует традиционная
• классическая» ориентация на античные мифологемы,32 а в их
ангорской поэтической интерпретации момент литературной ус-
ловности сохраняет перевес над проблесками «некнижного, жиз-
11 11одробнее об этом см.: Маркович В. М. Сон Татьяны в поэтической
cipvioypr «Евгения Онегина».— В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1980,
<•. 39 II.
‘ ’ I l.’inoMiiHM еще раз, что библейские ассоциации приобретают серьезность
лини, в связи с мотивами сна.
21
ненного отношения к мифу» (С. Аверинцев), то в поэтике «чуд
ного» сна, напротив, именно последнее получает заметное
преобладание. .
В мире «чудного» сна Пушкин обрел простор, необходимый
ему для того, чтобы на свой лад установить нетрадиционные
отношения с мифом, отвечающие духу эпохи и его собственным
потребностям. Эти отношения позволили создать своеобразней-
шую форму «имплицитного» мифологизма, чья плодотворность
» не раз обнаружилась потом в процессе развития русской реали-
стической литературы.33 Природа этого «имплицитного» мифо-
логизма была такова, что мифологизация просто не могла раз-
вернуться у Пушкина в своей собственной форме. Для того
чтобы воплотиться непосредственно — пусть даже как поэтиче-
ская условность — мифологические представления требуют ми-
фологических сюжетов, нуждаются в мифологических персонажах
с их особой фантастической природой. Наконец, они предпола-
гают (опять-таки хотя бы как условность) позицию мифологи-
ческого субъекта, буквально верящего в эту фантастическую
реальность небывалых существ и событий. Возможности такого
рода в пушкинском романе исключены, поэтому мифологизация
получает здесь вспомогательную функцию, питая и поддержи-
вая собственно поэтическую символизирующую тенденцию. Ми-
. фологизация способствует необходимо важному для художест-
венной символики прорыву к «мировой целокупности», погруже-
нию частных явлений в «стихию первоначал бытия»,34 не приводя
в то же время к абсолютному (т. е. собственно мифологическому)
^отождествлению различных его сфер.35
В мире «чудного» сна мифологизирующая тенденция почти
растворяется в мощном напряжении символизации. Последняя
в полной мере проявляет здесь своеобразие своей природы.
Рождаются образы, смысл которых ускользает за пределы не-
посредственно изображаемого и не поддается рациональной
расшифровке. Тяготение к иносказанию тут изначально (оно
задано уже предшествующими напоминаниями о «Светлане»).
. Любой существенный мотив в каком-то ракурсе предстает знаком,
указывающим вместе с другими на что-то иномерное, скрытое
за реальностями текста — неисчерпаемое, не равное любому во-
площению. И в то же время все непосредственно изображаемое
наделено здесь не зависимым от иносказательных «сверхсмыслов»
(термин Д. Е. Максимова) художественным бытием. Оно до-
статочно прочно и самоценно, чтобы не позволить образу прев-
ратиться в «чистый» знак чего-то запредельного.
33 См.: Маркович В. М. О мифологическом подтексте сна Татьяны.—
В кн.: Болдинские чтения. Горький, 1981, с. 69—81.
34 Бахтин М. М. К методологии литературоведения.— В кн.: Контекст —
1974. М., 1975, с. 209.
35 О принципиальных различиях символа и мифа см.: Лосев А. Ф.
Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 166—176.
22
Не раз отмечена, например, легко уловимая связь «чудного»
сна с душевным складом героини. Г. А. Гуковский справедливо
утверждал, что «сон Татьяны заменяет у Пушкина... анализ
ее психологического мира, воплощая его в образах».36 Сон
оказывается столь же характеристичным, сколь и
символичным: границы между психологической достоверностью,
условной игрой фантазии и символическим иносказанием рас-
плываются до полной неразличимости. Сцепление символических
и эмпирических смыслов проецируется и за пределы сна. Фабуль-
ные эпизоды, развертываясь в четко локализованном историче-
ском времени, в меру своего подчинения символизирующей тен-
денции приобретают также и вневременной смысл. Но смысл этот
не отделяется от живой конкретной плоти воссоздаваемой сов-
ременности, от плоти бытовых и психологических реалий.37
Образ может совмещать различные значения и обладает
способностью менять очертания в пределах одного сюжетного
момента — в зависимости от ракурса восприятия и ассоциативно-
поэтического контекста. Сочетание общедоступных, «элитарных»
и вовсе проблематичных смыслов образа как нельзя лучше
согласуется с общей художественной атмосферой романа в сти-
хах — атмосферой вольного движения поэтической мысли — мыс-
ли, ничем не ограниченной и вместе с тем не навязывающей
себя читателю.
Следует подчеркнуть, что в конечном счете символизирующая
тенденция не охватывает своим воздействием весь художествен-
ный мир «Онегина». Проекция символических значений «чудного»
сна на более или менее отдаленные от него фабульные звенья
явно ограничена своей «факультативностью». Оттенок необяза-
тельности осложняет и самые «близкие» связи такого рода.
Даже зловещее совпадение сна с реальной гибелью Ленского,
обладающее мощной силой поэтического внушения, оставляет-
место для других объяснений. Смерть Ленского может быть
воспринята и как нелепая случайность —это вполне реальный
план объяснения и оценки изображаемого^ Этот план наделен
вполне самостоятельным драматическим потенциалом. Он может
стать основой целостного представления, способного охватить
своей логикой все воссозданные в романе человеческие судьбы,
(вспомним Белинского, писавшего о «поэме, несбывающихся на-
дежд, не достигающих стремлений»). Закон «факультативности»
действует в «Онегине» шире, чем какой-либо другой: напряже-
ние символизирующей тенденции может усиливаться или осла-
бевать, но выход в иные планы восприятия, объяснения, оценки
открыт у Пушкина всегда.
36 Гуковский Г А. Пушкин и проблемы реалистического стиля,
с 214.
3’ Многие -линии такого сопряжения конкретно-исторического и вечного
прослеживается в статье И. М. Тойбина «Евгений Онегин»: поэзия и история»
(в кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. 9. Л., 1979, с. 92—94).
23
Не трудно обнаружить и другие факторы, которые огра-
ничивают и уравновешивают проникающее действие символиза-
ции. Ироническая шутливость, почти неизменно ей сопутствую-
щая, столько же умеряет, сколько и обеспечивает ее свободу
и силу.38 Ограничено и воздействие поддерживающих символи-
зацию художественных начал. Мифологизация в «Онегине»
фрагментарна: охватывая одни фабульные ситуации и внефабуль-
ные мотивы, она не затрагивает (во всяком случае, непосредст-
венно) многие другие, не менее важные. И вводится она главным
образом в форме намеков, приглушенных, семантически ослож-
ненных, опосредованных иронической дистанцией. Все это есте-
ственно приводит к тому, что в пушкинском романе символиче-
ский смысл оказывается отодвинутым на второй план, составляя
в мире «Онегина» всегда отчасти потенциальную и потому
подтекстовую реальность. Возможность символической интерпре-
тации присутствует здесь, не посягая на свободу читательского
восприятия,— как право, которым читатель волен и не восполь-
зоваться. Но в то же время — как увлекательная перспектива
углубленного понимания изображаемого, бесконечно обогащаю-
щая его непосредственно данное содержание.
О «втором сюжете» в «Мертвых душах»
Неявный и часто необязательный характер символизации в
«Онегине» был в значительной степени предопределен стихотвор-
ной природой пушкинского романа. В нем, как и в любом почти
поэтическом тексте, дала себя знать более высокая, чем в прозе,
«мера условности». Она максимально облегчила смысловые
сдвиги, способствующие символизации, но в то же время сделала
эти сдвиги менее ощутимыми, а потому и менее значимыми.
В осязаемо «вторичной», осязаемо словесной реальности сти-
хотворного повествования скачок к символическим значениям
происходил так естественно, что скрадывался уже самой этой
естественностью.
Иная картина — в первом томе «Мертвых душ», появившемся
через девять лет после опубликования отдельным изданием
полного текста «Онегина». Символизация здесь развертывается
38 Тончайший оттенок шутливо-иронической интонации входит и в описа-
ние сна Татьяны. Характерно также, что перед рассказом о сне автор впервые
демонстративно обнажает вымышленный характер сюжета и тем самым как
бы смягчает последующий скачок к универсальной символизации, отделяя
себя от него некоторой дистанцией:
Но стало страшно вдруг Татьяне...
Ия — при мысле о Светлане
Мне стало страшно — так и быть...
С Татьяной нам не ворожить.
(5, X)
24
в поле сильнейшего структурного напряжения, созданного сов-
мещением диаметральных художественных противоположностей.
Стихия прозы в полной мере проявила здесь„ свою специ-
фическую природу. Действительность представала прежде всего
в объективно-предметных, по преимуществу низменных проявле-
ниях, открывая «всю страшную, потрясающую тину мелочей,
опутавших нашу жизнь»>т(Гоголь). Но тяжеловесно-косная, почти
бесформенная масса будничной пошлости была наэлектризова-
на энергией напряженнейшего порыва к идеалу, а идеал этот
представлялся ’Гоголю сущностью движущейся жизни, скрытой
в -последней глубине вещей. Стремление претворить анекдот
о жульнической афере в грандиозную эпопею ранга «Божествен-
ной комедии» приводило к резкой поляризации всей структуры
«Мертвых душ». Чтобы преодолеть «заземляющую» силу низмен- х
ной житейской прозы, требовалось громадное напряжение сил
поэтического обобщения и поэтического иносказания. Символи-
зирующая тенденция здесь просто не могла остаться в глубинах
подтекста или проявиться как «факультативная» возможность
расширения смысловой перспективы. Символизация здесь должна
была прорваться и прорвалась в «открытый» текст, обретя
в заключительных главах первого тома осязаемые формы.
В исследованиях последнего времени много и справедливо
говорится о том, что несколько ключевых символических лейт-
мотивов («дороги», «тройки», «души»), начиная с шестой главы,,
отчетливо обнаруживают свои иносказательные «сверхсмыслы».
Исследователи теперь уже вполне единодушно отмечают сим-
волическое превращение пространственного образа дороги в
образ протекающего во времени всемирно-исторического движе-
ния человечества. Много внимания уделяется «промежуточному»
символу нравственного «пути» личности, тоже набирающему
иносказательный смысл открыто и наглядно. Предметом анализа
становятся «опосредствующие друг друга» символы общечело-
веческой, национальной и индивидуальной «души», выступающие
как модификации одного и того же широкого обобщения. Все
чаще звучит вывод о «насквозь символической» структуре пер-
вого тома, о многоплановом иносказательном подтексте психо-
логической и бытовой конкретности гоголевских образов. Нако-
нец, все более решительно ставится вопрос о «завершающей»
роли символических образов финала, где кружение чичиковской
брички по захолустным трактам и проселкам превращается
в «космически стремительный лет ,,птицы-тройки”» — этот
«графический символ» национальной истории.39
39 Купреянова Е. Н. «Мертвые души» Н. В. Гоголя: Замысел и его
воплощение.— Рус. лит., 1971, № 3, с. 66; Елистратова А. А. Гоголь
и проблемы западноевропейского романа. М., 1972, с. 130—132; К у п р е я-
н о в а Е. Н., М а к о г о н е н к о Г. П. Национальное своеобразие русской
литературы: Оценки и характеристики. Л., 1976, с. 289—310; Манн Ю. В.
Поэтика Гоголя. М., 1978, с. 274—354.
25
В общем, у Гоголя символический подтекст настолько заметен,
что самый факт его присутствия и важность его смыслообразую-
щей роли в первом томе «Мертвых душ», как правило, не вы-
зывает сомнений..^Многие существенные особенности гоголевской
символики " освещены уже достаточно обстоятельно. Однако не
менее важные стороны проблемы все еще не разработаны с не-
обходимой ясностью. Я имею в виду прежде всего вопрос о
всепроникающей символической смысловой энергии, которая
излучается иносказательными «сверхсмыслами» финала на весь
* предшествующий текст первого тома.
| Точнее было бы назвать эту энергию всепоглощающей: вся
^структура тома в той или иной мере тяготеет к финальным
\символам как к своему естественному средоточию. На схождение
в заключительном взлете поэтической мысли, в пространственно-
временной символике «дороги» и полета «птицы-тройки» так
или иначе сориентированы основные композиционные ракурсы
изображения.
этим связана, в частности, громадная смысловая и орга-
низующая роль дороги в художественном строе первого тома.
Дорога здесь играет прежде всего традиционную роль компо-
зиционного стержня, позволяющего сводить в рамках сюжета
любые сословия русского общества, любые разряды и категории
русских людей.40 Об этой традиционной функции гоголевского
«хронотопа» дороги сказано и написано немало. Иногда говорит-
ся и о том, что дорога входит в структуру первого тома как
образ авторского сознания, широко открытого всем впечатлениям
действительности, стремящегося постигнуть и постигающего их
глубинную суть.41 Реже встречается отчетливое осознание ^ком-
позиционно-смысловой роли этого метафорического образа (одно-
го из ответвлений главного символического комплекса поэмы),
а еще реже — мысль о внутренней связи традиционных и нетра-
диционных функций дороги в первом томе «Мертвых душ».
Между тем этой связью как раз и обеспечено «сквозное»
развитие символизирующей тенденции, изначальное присутствие
здесь питающего и порождающего ее художественного потен-
циала. Очень существенно хотя бы такое, на первый взгляд,
малозначительное обстоятельство, как связующая роль случай-
ности в сюжете первого тома (роль, оправданная именно объе-
динением материала вокруг путешествий и дорожных приклю-
чений Чичикова); Случайность, то и дело вторгаясь в сюжет,
«размыкает» систему жестких причинно-следственных сцеплений.
И более всего важна при этом сама принципиальная возмож-
ность переходов, не обоснованных такими сцеплениями: она
40 Об этой функции «дороги» на разных этапах развития европейской
литературы говорится, в частности, в работе М. М. Бахтина «Формы времени
и хронотопа в романе».— В кн.: Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики.
М., 1975, с. 392—393.
41 Елистратова А. А. Указ, соч., с. 132.
26
освобождает смысловое пространство для мотивировок и связей
иного рода.
Постоянная пространственная подвижность точки зрения по-
вествующего легко становится предпосылкой подвижности те-
матической или смысловой. «Но зачем так долго заниматься
Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли
жизнь, или нехозяйственная — мимо их!»42 (И тут же, под
прикрытием этой мотивировки, совершается скачок авторской
мысли, обнаруживающей «дубинноголовость» в духе Коробочки
на всех ступенях «бесконечной лестницы человеческого совер-
шенствования».)
Подобный принцип переключений позволяет беспрепятственно
и по обычному счету «немотивированно» переходить от предмета
к предмету, от данности к сущности, от единичного ко всеоб-
щему и вечному. Возможность таких скачков все время под-
крепляет полет авторской мысли и авторского воображения,
неудержимо рвущихся вперед. Это полетное движение худо-
жественной мысли и превращает бытовой анекдот в эпопею,
выводя повествование к символическим образам финального
полета русской тройки и самой Руси, завершаясь в них, оказы-
ваясь их оправданием, естественной формой их становления.
* *
*
Разумеется, многие образные пласты поэмы не затронуты
непосредственно этой безудержно стремительной динамикой. Вне
ее развертываются, например, обобщенные характеристики пер-
сонажей. Однако и в этой сфере накапливается потенциал,
который в дальнейшем реализуется во всеобъемлющей символи-
зации. В обобщенно-статичных авторских характеристиках образ
действующего лица строится как неотъемлемая часть особо
организованного художественного пространства (таковы по-
местья Манилова, Коробочки, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина,
губернский город NN, трактиры, гостиницы, концелярия). И в
конце концов оказывается, что характеристика, включающая
персонажа в единство подобного «хронотопа», обеспечивает тем
самым в дальнейшем возможность полной интеграции его образа
в многозначное содержание символических образов финала.
; Символика заключительных страниц первого тома разверты-
вается в пространстве явно условном, образуемом метафориче-
скими сдвигами и деформацией обычных «трехмерных» координат.
Деформирована и обычная система координат «линейного» време-
ни. Русская «птица-тройка» и уподобленная необгонимой тройке
42 Текст «Мертвых душ» цитируется по изданию: Гоголь Н. В. Поли,
собр. соч. в 14-ти т. Т. 6. М., 1951, с. 58.—Далее ссылки на это издание
приводятся в тексте.
27
Русь мчатся в некоем неопределенно-обобщенном, непредметном
пространственно-временном измерении. Но дело в том, что
«хронотопы», составляющие особые миры персонажей, то>Ке
отличаются повышенной «мерой условности», которая обнару-
живается при первой же попытке четко разместить их в рамках
эмпирического времени и эмпирического пространства.
Исследователи гоголевской поэтики часто вспоминают на-
блюдения В. П. Бузескула, заметившего некогда явные против
воречия во временной организации «Мертвых душ»43 Выезд
Чичикова из города NN, его приезд к Манилову, его пребывание
у Коробочки по ряду примет относятся как бы к разным време-
нам года, т. е. не помещаются в единый отрезок времени (и,
следовательно, не могут быть локализованы также и в едином
пространстве). Современные исследователи отказываются видеть
в этой несогласованности ошибку автора (Ю. В. Манн, например,
говорит об известной автономности отдельных гоголевских об-
разов и картин).44 И очень легко признать справедливость1
их суждений, а вместе с тем и некоторую условность простран-
ственно-временной организации всего первого тома.
Легко согласиться, в частности, с выводом Е. Н. Купреяновой.
о метафорической, подспудно иносказательной природе бытовых,
или пейзажных картин гоголевской эпопеи («недообитое кресло
Манилова — это не только яркая деталь бесхозяйственности...,
но и... знак пустопорожней мечтательности хозяина усадьбы»).45
Убедительна и мысль Ю. В. Манна о подспудной гротескной
тенденции, действующей здесь во множестве описаний и характе-
ристик («гротескное начало не исчезло из гоголевской поэтики —
оно только ушло вглубь»).46 И как нетрудно заметить, уже
складывается представление о том, что гротескно-метафориче-
ская подоснова обобщенных характеристик или иллюстрирующих
эти характеристики описаний, сцен, эпизодов и т. п. превращает
их в естественные предпосылки символических обобщений финала
(дополняя, таким образом, «дорожный» ракурс сюжетно-ком-
позиционной структуры).
Важно подчеркнуть и особый колорит гротескно-метафориче-
ских тенденций в гоголевской образцой системе. Эти тенденции
приводят на грань мифологизации изображаемого: в первом
томе «Мертвых душ» гораздо меньше, чем в «Онегине»., явн^ых
мифологических аллюзий, но тончайший мифологизирующий
призвук сопутствует едва ли не всем возникающим здесь образам.
Его проявления встречаются повсеместно —достаточно вспомнить
развернутые гоголевские сравнения (явные и скрытые), грани-
чащие с прямым отождествлением человека и вещи, или не менее
43 «Потана»: Сборник Харьковского историко-филологического общества.
Т. 18. Харьков, 1919, с. 418—484.
44 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя, с. 283—286.
45 Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Указ, соч., 289
46 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя, с. 296.
28
знаменитые приемы гротескной метонимии, объединяющей купца/'
и самовар в неразложимом образе существа-предмета, живого
и вещественного одновременно. Не менее заметен мифологизи-
рующий оттенок в метафорических сдвигах внутри обобщенных
характеристик и описаний. Метафорические переносы значений
оказываются здесь обоюдными: человек уподобляется окружаю-
щим существам и предметам, последние в такой же мере упо-
добляются человеку, всюду ощущается присутствие единой, то
ли одушевляющей, то ли овеществляющей субстанции. Персонаж
оказывается чем-то неотделимым от природных и бытовых стихий
и воспринимается в конце концов как их концентрированное
олицетворение.
Невозможно даже обозначить в кратком изложении пути
взаимопересечения тех смысловых эффектов, которые создаются
у Гоголя метафоризацией, гротескным остранением и проблес-
ками мифологизации изображения. Об одном можно, однако,
говорить с уверенностью: все эти тенденции взаимно усиливают
и обостряют друг друга, питая и подкрепляя таким взаимо-
действием неуклонно нарастающую символизацию.
। * *
। *
t Устремленность к символике поддерживается и гоголевскими
принципами типизации. В первом томе «Мертвых душ» типизи- (
руюпкие обобщения почти неизменно восходят к универсальности.
По наблюдениям Ю. • В. Манна, гоголевские образы обретают
это качество как бы сразу в двух измерениях: универсальность
создается и подобием клеточки целому (уездного городка — всему
миру, компании городских чиновников — человечеству), и подо-
бием внешнего внутреннему (материального существования чело-
века— истории его души).47 На этом уровне обобщений типи-
зация естественно оборачивается символизацией (и опять-таки \
наиболее наглядными оказываются скачки к символическим
обобщениям в последних главах тома — от шестой до одиннад-
цатой) .
Но отмечая эту бросающуюся в глаза особенность гоголев-
ской; поэтики, очень важно видеть и здесь «сквозное» действие
символизирующей тенденции. Символизация подготавливается
и как бы «назревает» в самых элементарных слагаемых образа.
Художественные подробности, взаимоотражением которых стро-
ится образ персонажа в «Мертвых душах», соотносятся между
собой как будто бы по «мольеровскому» принципу (вспомним
Пушкина: «У Мольера Скупой скуп — и только»). Создается тип,
воплощающий некое всеобщее свойство (и притом одно, приняв-
шее форму всепоглощающего «задора»), а не многогранный
47 Там же, с. 349—350.
29
индивидуальный характер. Но очевидно, что любой из подобных
типов «одного свойства» обладает у Гоголя сложностью, проти-
воречивостью и неисчерпаемостью, т. е. говоря иначе, наделен
качествами, присущими у других писателей-современников
именно и только индивидуальным характерам. Однако не связан-
ные здесь с конкретной человеческой индивидуальностью, качест-
ва эти выступают в парадоксальном остранении, становясь тем
более загадочными, чем шире масштаб обобщения, которым
мыслит автор и читатель.
Нетрудно, например, найти конкретное объяснение тому, поче-
му Коробочка никак не может поверить в выгодность необычной
сделки, касающейся «мертвых душ», но сразу же успокаивается
и становится легковерной, как только речь заходит о знакомых
и привычных казенных подрядах. Куда труднее решить вопрос
о том, почему подобное свойство сознания не исчезает и на
более высоких уровнях развития, почему оно предстает обще-
человеческим (именно так оно характеризуется у Гоголя). И уже
вовсе таинственным оказывается его универсальный смысл
в общем строе бытия. Такая загадочность сразу же сообщает
типизирующим обобщениям некоторый символический потен-
циал, намечая перспективы неограниченно-емких, не поддающих-
ся определению «сверхсмыслов».
На более высокой ступени типического обобщения этот симво-
лический потенциал проявляется с большей отчетливостью. Его
f осязаемым воплощением оказывается центральный герой поэмы.
1 Еще В. Ф. Переверзев справедливо указывал, что образ Чичикова
। соединяет множество черт, рассеянных по отдельности в Других
персонажах.48 Типообразующие доминанты различных харак-
теров сплетаются в единый узел, отчего преображается самая
природа обобщения. Возникает образ, все более явно перерастаю-
щий уже обрисовавшиеся типологические рубрики, образ, прин-
ципиально неопределенный и неисчерпаемый.49 Типизация пере-
ходит в символизацию уже вполне явственно: это выражается
хотя бы в очевидной невозможности раскрыть конечную основу
побуждений героя. Или в том, что эволюция Чичикова «выпадает»
из сферы действия ясно обозначенных в поэме социально-психоло-
гических законов: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие
страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие
и прекрасные, все вначале покорны человеку и потом уже
становятся страшными властелинами его... Но есть страсти,
которых избранье не от человека. Уже родились они с\ ним
в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться
от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то
вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь... И может быть,
48 Переверзев В. Ф. Творчество Гоголя. М., 1914, с. 312.
49 Принципиальное значение неопределенности Чичикова отмечено еще
А. Белым (Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934, с. 88).
30
в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от
него...» (VI, 242).
Еще раньше неопределенность облика и всего существования
героя превратили его в центр фантасмагории, развернувшейся^
в десятой главе. Фантастические сплетни, окружающие образ
Чичикова гротескным ореолом, играют здесь роль, в известной
мере подобную роли ассоциативных параллелей, наполняющих
у Пушкина сон Татьяны. Герой соотнесен с легендарными, лите-
ратурными, реально-историческими «сверхтипами» общенацирг__
нального и мирового масштаба: Чичиков — миллионер-фальши-
вомонетчик (выдумка Ноздрева), Чичиков — разоблачитель-реви-
зор (одна из чиновничьих версий), Чичиков — благородный
разбойник, Чичиков — Наполеон, Чичиков — сам Антихрист. Диа-
пазон толкований расширяется, как видим, даже за пределы
«посюстороннего» мира. И возникает во многом сходный с «оне-
гинским» художественно-смысловой эффект: образ приобретает
оттенок уже знакомого нам «мистериального» смысла.50
В одиннадцатой главе центральный образ поэмы все более
явно приближается к тому, чтобы предстать символическим
олицетворением «жизни всего человечества в массе» (Гоголь)
и прежде всего — общественной и духовной жизни среднего
русского человека^/Расплываясь в зыбком мареве гротеска, фи-
гура Чичикова обретает способность совместить^себе реальность
«общественных форм русской жизни» с ее «глубоким субстанци-
альным началом, доселе еще таинственным, доселе еще не от-
крывшимся собственному сознанию и неуловимым».51 Это нео-
пределимое «субстанциональное начало» может стать предметом
веры и надежды — тогда-то и появляется возможность пред-
положить, что приобретательская страсть Чичикова .ниспослана
свыше для неведомого людям блага. Но оставаясь предметом
человеческого постижения, страсть эта рисуется столь же зага-
дочной, сколь и амбивалентной: то ли ведущей к соблазну, злу
и гибели, то ли пролагающей путь к исправлению и добру.52
50 Ирония, неизбежно окрашивающая грандиозные параллели, и в «Мерт-
вых душах» имеет двойственный смысл (хотя и несколько иной, чем в «Оне-
гине»). Параллели явно служат, например, дегероизации мирового зла, на
что обратил- внимание еще мистик-декадент Д. С. Мережковский, толковавший,
впрочем, эту установку в духе своих субъективных представлений о Гоголе
(Мережковский Д. С. Поли. собр. соч. Т. 15. М., 1914, с. 187—190).
Соотнесенность с чичиковской плутней снижала и высокий пафос романтиче-
ского протеста, звучавший в «наполеоновской» теме и составлявший сущность
сюжетов о романтическом разбойнике. Но «снижая» высокий или грандиозно-
страшный полюс сопоставлений (Ринальдо Ринальдини, Копейкин, Наполеон,
Антихрист), параллели одновременно укрупняют полюс низменный и комичный
(«хозяина», «приобретателя»), придавая мелочным формам зла вселенский
масштаб и таинственное содержание.
51 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти т. Т. 6. М., 1955, с. 431
52 Во втором томе, судя по сохранившимся отрывкам, установка меняется.
Переход к иной форме постижения истины оборачивается разделением ранее
слитных противоположностей.
31
В последних пяти главах первого тома взаимодополнительные
тенденции обобщения, деформации и иносказания все больше
приближаются к слиянию, пока, наконец, в финале не происходит
своеобразный смысловой «взрыв», смешивающий и объединяю-
щий их. Его очевидной основой оказывается «лирическая кон-
центрация» (термин Т. И. Сильман) авторского повествования.
Именно она, резко усилившаяся в последних главах, делает
возможным слияние других родственных ей художественных
импульсов. Все формирующие символику финала смысловые пе-
реходы (от брички Чичикова и его переживаний к пережива-
ниям русского вообще, далее к уже вполне абстрактной «птице-
тройке» и, наконец, к Руси, несущейся по дороге истории «что
бойкая, необгонимая тройка») «напрямую» не мотивированы
ничем, кроме стремительного взлета авторских чувств и вдох-
новения. Разумеется, читатель подготовлен к ним уже привыч-
ными для него скачками повествования, о которых говорилось
выше. И все-таки лирический подъем, нарастающий здесь, имеет,
• пожалуй, решающее значение. Лирические вспышки возникали
и в предшествующих главах, но по мере приближения к финалу
происходит своеобразное «сгущение» лиризма. Лирические от-
ступления становятся более частыми и напряженными. И глав-
ное — меняется их внутреннее обоснование: открыто субъектив-
ным мыслям и чувствам автора столь же открыто придаются
«мессианская» окраска и универсальность (общенациональная,
всечеловеческая и порой даже «сверхчеловеческая»). Вот тогда-то
и происходит интеграция всего изображенного — в символическом
финале. Все содержание, открывшееся читателю в первом томе,
«свертываясь», уходит в многозначные «сверхсмыслы» финально-
го аккорда и концентрируется в нем.53
Символические «сверхсмыслы», рассматриваемые в «обрат-
ной» перспективе (от конца к началу первого тома), на поверку
охватывают здесь действительно все, даже детали как будто
бы малозаметные или вовсе незначительные. Глубинный подтекст
без усилия обнаруживается, скажем, в сцене с участием дяди
Митяя и дяди Миняя. Господа не обращают внимания на мужи-
ков, мужики — на господ, но есть в положении и тех и других
некий объективный параллелизм, есть связанность в единой
«кутерьме». Так, в малой клеточке непосредственно выражает
себя целое: дорожная сцена в своем символическом подтексте
являет образ нации, связанной совместной жизнью тех, кто ее
составляет. Эта ощутимая связь оказывается в своих границах
скорее механической, чем духовной — таков очень важный пово-
рот авторской мысли, дающий себя знать и в других ситуациях.
В финале мысль эта оказывается предпосылкой «высокого лири-
53 Видимо, не случайно в исходной точке финального смыслового скачка —
фигура Чичикова, уже сконцентрировавшая в себе типические черты многих'
образов, явно переросшая рамки дифференцирующей типизации, уже окружен
ная к этому времени универсальным ореолом. /
32 /
ческого движения», которым возвещается потребность всеобъе-
диняющей, всеодухотворяющей гармонии54.
Представляется возможным говорить о появлении в «Мертвых
душах» символического «второго сюжета», развивающегося
в подтексте параллельно сюжету эмпирическому и существенно
углубляющему на всем протяжении действия его непосредственно
открытый читателю смысл. Понятие «второй сюжет», введенное
в свое время Н. Я. Берковским, наиболее адекватно характеризует
важную структурно-смысловую особенность просветительских
романов XVIII в. Параллельно сюжету, отражающему логику
реальных законов современной общественной жизни, здесь часто
развертывался иной сюжетный ряд, воплощавший абсолютную
истину «конечных» сущностей человека, общества, истории.
«Второй сюжет», как правило, до поры присутствовал в романе
подспудно, однако в какой-то момент (чаще всего в финале)
он так или иначе вторгался в движение эмпирического сюжета,
торжествуя над ним в «последних» смысловых итогах произве-
дения.55
Связи Гоголя с традициями просветительской прозы общеиз-
вестны, и самая мысль о возможности какой-то трансформации
«второго сюжета» в «Мертвых душах», наверное, не может
вызвать недоумения. Однако необходимо почувствовать глубину
этой трансформации, обусловленную тем, что на первоначальную
основу просветительской традиции «наслоились» эстетико-фило-
софские влияния романтизма, завоевания рождающегося реали-
стического искусства, ренессансные и античные традиции, нако-
нец, своеобразнейший стихийный фольклоризм гоголевского ху-
дожественного мышления. «Второй сюжет» обрел в гоголевской
поэме столь многозначное и внутренне нерасчленимое содержание,
а символический подтекст — столь напряженную и потому осязае-
мую для читателя жизнь, что подтекст не мог не обернуться
«сверхсюжетом», а «сверхсюжет» не мог не принять символиче-
ских форм.
О лирико-символическом подтексте в романе ЛермонтоваХ
«Герой нашего времени» )
При всех очевидных и глубоких различиях между стихр^°Р'
ным романом Пушкина и прозаической поэмой Гоголя оба про-
изведения сближены своей жанровой гибридностью. Закономерно
54 «Разность потенциалов» все время поддерживается тем, что эмпириче-
ский и метафизический планы художественно не вполне равноправны и не
эквивалентны друг другу. Как ни велики напряжение и всепроникающая сила
символизирующей тенденции, реальность «всей страшной, потрясающей силы
мелочей, опутавших нашу жизнь» (Гоголь), упорно сохраняет свой «несим-
волический» облик, свое осязаемо-неоспоримое самостоятельное бытие.
• 55 Ранний буржуазный реализм. Л., 1936, с. 89—96; или Западный
V 5орник. Кн. I. М.; Л., 1937, с. 70—71.
V
2 В. М. Маркович 33
напрашивается вопрос: не связано ли образование символическо-
го подтекста в «Евгении Онегине» и «Мертвых душах» именно
с их особой жанровой природой? Внутренняя двойственность
лиро-эпического художественного мира, объединяющего — с из-
вестной долей условности —«объективный» мир героев и «субъек-
тивный» мир авторского сознания (наделенного к тому же более
или менее явными «демиургическими» функциями), оказывается
естественной предпосылкой для смысловой многоплановости и,
стало быть, для символизации образной системы. Возникновение
символического подтекста в этих условиях не менее естественно,
чем, скажем, сопротивление иносказательным «сверхсмыслам»
со стороны прозаической фактуры сюжета и повествования..
Поэтому очень важно рассмотреть преломление символизирующей
тенденции, в иной художественной атмосфере — в структуре, тя-/
готеющей к «чистой» жанровой форме.
Необходимый для этого материал может дать «Герой нашего
времени», давно признанный первым по времени произведением
русской прозы, обладающим собственно романной структурой.
С такой характеристикой трудно не согласиться, однако столь .
{ же трудно признать ее исчерпывающей. Видимо, не случайно
; внимание исследователей привлекает целый комплекс поэтических
лейтмотивов, настойчиво повторяющихся в романе Лермонтова.
Чаще всего они образуют антитезы («жизнь» — «смерть», «доб-
ро» — «зло», «дружба» — «вражда», «скука» — «веселье»/ «мир-
ное»— «разбойничье» и т. д.). Особые группы составляют
«сквозные» поэтические мотивы «звезд», «гор», «моря» или-
напряженно-многозначительные темы «любви»—«презрения»—
«ненависти», «свободы» —«судьбы»—«предопределения».
В работах последнего времени отмечается известная ритмич-
ность повторения этих тем и мотивов, а также тенденция, веду-
щая к их «сгущению» в своеобразные прозаические «стихотворе-
ния», связанные с идеями и образами лирических стихов
Лермонтова. Вполне определенно ставится вопрос об органи-
зующей роли этих мотивов во внутренней структуре произведения:
в частности, они рассматриваются как один из важнейших
факторов, обеспечивающих единство фрагментарного романа.
Устанавливается связь повторяющихся мотивов с «кольцевым»
построением «Героя нашего времени», с промежуточной природой
лермонтовского прозаического стиля, сохранившего память о
стихе. Наконец, некоторые из этих мотивов прямо названы
символическими и уже затронут вопрос об их философском
наполнении.56
Повторяющиеся мотивы действительно воплощают у Лермон-
това некую «инокачественную» тенденцию, осложняющую еще
56 Киселева Л. Ф. Переход к мотивированному повествованию:
М. Ю. Лермонтов.— В кн.: Смена литературных стилей. М., 1974, с. 324—330;
Журавлева А. И. Поэтическая проза Лермонтова.— Рус. речь, 1974, № >
с. 21—26.
34
«нетвердые» законы собственно романной поэтики. Некоторые
свойства этих особых художественных величин заметно отличают
их от событийно-психологических реальностей сюжета.
Значения каждого из сквозных мотивов подобного рода много-
образны. Проследим, к примеру, за мотивом «веселья», проходя-
щим через несколько повестей «Героя нашего времени». Этот
мотив может звучать как будто бы всецело в рамках обыденного
смысла, заданного «ближайшим» контекстом психологической
или бытовой ситуации. Например, в «Княжне Мери» в момент,
когда завязывается интрига, речь, казалось бы, идет всего лишь
о возможности развлечься: «Вера часто бывает у княгини; я ей
дал слово познакомиться с Лиговскими и волочиться за княжной,
чтоб отвлечь от нее внимание. Таким образом, мои планы нимало
не расстроились, и мне будет весело!».57 Но, прозвучав в этой
«сиюминутной» тональности, мотив тут же «педалируется» —
повторением, переходом в область воспоминаний, а затем и
обобщений: «Весело!.. Да, я уже прошел тот период жизни
душевной, когда ищут только счастия, когда сердце чувствует
необходимость любить сильно и страстно...» (VI, 279).' Одно-
временно начинают звучать обертоны не совсем ясного, но тем
не менее вполне ощутимого дополнительного смысла, возникаю-
щего благодаря тому, что этот «малый» повтор («...будет весело...
Весело!..») входит в повествование как вариация «большого».
Мотив «веселья» уже звучал раньше — в лирическом зачине
повести «Княжна Мери»: «Весело жить в такой земле! Какое-то
отрадное чувство разлито во Хсех моих жилах. Воздух чист
и свеж, как поцелуй ребенка, солнце ярко, небо сине — чего бы,
.кажется, больше? — зачем тут страсти, желания, сожаления?»
(VI, 261). Здесь мотив знаменовал состояние явно необычное
и концентрировал в себе многие признаки, обычно сопутствующие
в поэзии Лермонтова авторскому идеалу: духовную свободу,
близость к природе, а рядом — напоминание о том, что все эти
переживания сродни ' миру детства, с которым у Лермонтова
всегда ассоциируется представление о «потерянном рае» — о пер-
воначальной чистоте и гармоничности человеческой жизни.
А еще раньше тот же мотив звучал в «Бэле», где впервые
обрисовались все его главные слагаемые: «Тихо было все на
небе и на земле, как в сердце человека в минуту утренней
молитвы;... воздух становился так редок, что было больно ды-
шать; ... но со всем тем какое-то отрадное чувство распростра-
нилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я
так высоко над миром — чувство детское, не спорю, но, удаляясь
от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно
становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она
57 Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т. Т. 6. М.; Л., 1957, с. 279.—
В дальнейшем текст «Героя нашего времени» цитируется по этому изданию;
ссылки приводятся в тексте.
2* 35
делается вновь такою, какой была некогда и верно будет когда-
нибудь опять» (VI, 223—224). Здесь, в рассказе путешествующего
офицера, воспринимаемом как авторский текст, повторяющиеся
компоненты мотива наиболее определенно несут в себе универ-
сально-философский смысл и достигают символического звучания.
Они легко прочитываются в «ключе» руссоистских и байрони-
ческих идей, связываясь с мыслью об утрате «естественного
состояния» и утопической мечтой о возможности его возрожде-
ния в неопределенно далекой исторической перспективе. Но,
в сущности, не менее отчетлива ассоциативно-поэтическая связь,
сближающая этот же фрагмент с романтическим мифом ранней
лермонтовской лирики — о «небесном» происхождении и доземном
существовании человеческой души, о ее возвращении в небесную
отчизну из «земной неволи»58 («Ангел», «Оборвана цепь жизни
молодой...», «Ласкаемый цветущими мечтами...» и т. п.) ^Отзвуки
романтической метафизики сплетаются в этом фрагменте «Бэлы»
с философско-утопическими мотивами, образуя нерасчленимо
многозначный, ускользающе-таинственный смысл, характерный
именно для символического образа или мотива59.
Отзвук этого смысла слышится и в лирической увертюре
«Княжны Мери»: два фрагмента, принадлежащие разным повест-
вователям и не связанные ни психологическими, ни сюжетно-
прагматическими связями, сближены силой ассоциативного при-
тяжения. В итоге — фрагмент печоринского дневника обогащает-
ся содержанием, которого не предполагает пишущий его герой.
Душевное состояние, которое описывает Печорин, может быть
воспринято как переживание высшего порядка (и эффект здесь
тем острее, что сам герой об этом не подозревает). Отблеск
метафизического смысла, пронизывающего первоначальную
вариацию мотива, здесь еще вполне ощутим, поэтому желание
героя спуститься «вниз», к месту людных сборищ («Однако
пора. Пойду к Елизаветинскому источнику:...» и т. д.— VI, 261)
приобретает незаметный для него оттенок «падения», даже ко-
щунства по отношению к только что пережитому. Если уловить
в состоянии Печорина особую тональность, знаменующую мгно-
венный, неосознанный порыв души за.пределы «земной неволи»,
момент ее приближения к «небесной отчизне»,60 то последующее,
58 «Душа моя должна прожить в земной неволе...» (1830—1831).
59 Включение «мистериальных» мотивов юношеской лирики в объективи-
рованный философско-психологический сюжет сближает «Героя нашего време-
ни» с поэмой «Демон», где в иной форме дает себя знать подобная же тенден-
ция.
60 Мистериальный оттенок мотива здесь и ранее усилен иносказательным
«сверхсмыслом» темы гор, которая сплетается с темой «веселья». «Горный»
мотив тоже связан с романтическим дуализмом ранней лермонтовской лирики;
горные вершины неизменно ассоциируются с порывом ж трансцендентным сфе-
рам, с «пограничным» состоянием духа, которое приближает к «небу», не отры-
вая от «земли». См., например, «Крест на скале» (1830), «Кавказ» (1830) или
отрывок «Синие горы Кавказа, приветствую вас» (1832) и др.
36
сугубо бытовое преломление того же мотива («мои планы не
расстроились, и мне будет весело») почти неизбежно восприни-
мается как профанация высшего смысла, который уже прочно
связан с мотивом веселья в читательском восприятии.
Метафизическим смыслом легко заряжается «соседний»
мотив-антитеза. ,Мотив скуки тоже может звучать как будто бы
в рамках обыденно-житейской ситуации, наполняемый ее кон-
кретным содержанием. Но и в таких ситуациях он тоже ослож-
няется дополнительными смысловыми оттенками, возникающими
благодаря ассоциативным связям с иными вариациями того же
мотива (в ночных размышлениях Печорина накануне дуэли мотив
скуки явно приобретает универсально-философский смысл) или
благодаря сцеплению с разными сюжетными темами, переходами
из одной субъективной сферы в другую и т. п. И наоборот,
даже в тех ситуациях, где тема «скуки» достигает предельной
глубины (знаменуя замкнутость человеческого существования,
отсутствие в нем высшего смысла), сохраняется ощутимая связь
с обыденно-бытовым преломлением мотива, с тем элементарным
смыслом, который выражается словом «скука» в каком-нибудь
повседневном разговоре.61
* *
*
Каждый такой мотив включается в разные контексты и полу-
чает разные значения, но все вариации этого изменчивого повтора
.связаны ощутимой смысловой перекличкой. Важно то, что ею
формируется многослойный и колеблющийся образно-символиче-
ский смысл, не поддающийся логически ясному выражению. Не
менее важны смысловые связи и переклички разных мотивов,
точки их явного соприкосновения. Но, может быть, еще важнее
сама художественная атмосфера, создаваемая устойчивым пов-
торением определенных тем и «немотивированным» их сцепле-
нием. Иной мотив сам по себе как будто и не может обрести
символическое звучание, но так или иначе «набирает» его, вов-
лекаясь в смысловое взаимоотражение с другими. Связи рацио-
нальные переплетаются с иррациональными, лирически зыбкими,
порой неуловимыми. Образуется.. мерцающий подтекст, отчасти
сходный с лирико-символическими подтекстами «Евгения Оне-
гина» и «Мертвых душ», тоже сообщающий повествованию и
сюжету особое, изнутри исходящее смысловое напряжение и
некое дополнительное содержание. Оно также не развертывается,
не переходит в формы непосредственно данного, а скорее вну-
шается силой поэтического намека.
61 Примеры легко найти, скажем, в записях 21 или 23 мая. Напротив,
в записях 13 мая или 3 июня мотив «скуки» связывается с темами безотрад-
ности познания, индивидуалистической гордыни, бесплодности самоутверждения
и получает таким образом метафизический оттенок.
37
Есть основания думать, что образование подтекста и «гипно-
тическая» сила его воздействия в лермонтовском романе обу-
словлены мощной лирической тенденцией, которая пробивается
сквозь формы изображения и структурные принципы, характерные
для эпического рода.62 Усилению лирического начала способ-
ствует сюжетно-композиционный «моноцентризм» «Героя нашего
времени». По наблюдению А. И. Журавлевой, существенны
сосредоточенность романа вокруг центрального героя, «приглу-
шенность всех других персонажей»,63 которые сближают его
с лирическим стихотворением.
< Существенно и другое — Печорин выступает в роли рассказ-
/ чика трех важнейших новелл-повестей, составляющих большую
I часть романа. В них между читателем и героем нет посредников.
I Субъективное самосознание героя и его субъективное восприятие
; становятся здесь той призмой, сквозь которую так или иначе
пропущен весь материал. И следовательно, действует принцип,
близкий к закону лирической поэзии, в силу которого сфера
изображения охватывает только те элементы действительности,
которые имеют определенное значение для лирического героя
и непосредственно связаны с его размышлениями или пережи-
ваниями.64 Наиболее последовательно осуществляется этот прин-
цип в «Княжне Мери», где «история души» как бы сбрасывает
покровы новеллистической сюжетности и отливается в «чистую»
форму дневниковой исповеди.
Дневниковая форма близка к лирической структуре: для
обеих важны особая роль времени рассказывания («презенс
изложения» — в лингвистической терминологии) и особое соотно-
шение этого времени с временем протекания описываемых собы-
тий. «Презенс изложения», точнее, воплощенная в нем особая
художественная реальность сиюминутного переживания и раз-
мышления по поводу описанного, выступает более или менее за-
метно в любой из форм повествования от первого лица. Но
в дневниковой форме ее удельный вес особенно велик, а присут-
ствие особенно ощутимо. Здесь она легко может стать основной
точкой отсчета в системе изображения, а это уже — характер-
нейшая особенность лирических построений.65
62 В недавней работе К. Н. Григорьяна тенденция эта даже признана
господствующей и определяющей. «Роман Лермонтова,— пишет исследова-
тель,— по своей жанровой природе... является произведением лирическим»
(Григорьян К. Н. Лермонтов и его роман «Герой нашего времени».
Л., 1974, с. 182). Не соглашаясь с односторонностью этого вывода, следует
признать важность некоторых наблюдений автора, позволяющих и в «Герое
нашего времени» обнаружить признаки (пусть и слабо выраженные) жанровой
гибридности.
63 Журавлева А. И. Указ, ст.—Рус. речь, 1974, № 5, с. 21.
64 Это, в общем, достаточно известное свойство лирической поэзии об-
стоятельно анализируется в недавно опубликованной работе Т. И. Сильман
«Заметки о лирике» (Л., 1977, с. 5—6, 13 и т. д.).
65 Там же, с. 8—9, 15.
38
В «журнале» Печорина повествование порой вплотную при-
ближается к сфере действия лирических законов. Здесь есть,
правда, и такие фрагменты, каждый из которых представляет
собой почти не осложненный сиюминутными реакциями рассказ-
чика законченный сюжетный эпизод, описанный ретроспективно
и предстающий в своей объективной предметной реальности
(примерами могут служить хотя бы записи от 22 мая или от
4 июня). Можно встретить и фрагменты прямо противополож-
ного типа, целиком (или почти целиком) состоящие именно
из сиюминутных переживаний и размышлений пишущего (напри-
мер, запись от 14 июня). Но преобладающая часть записей
«журнала» сочетает ретроспективное изложение событий с не-
посредственным выражением того, что переживается или ду-
мается «здесь», «сейчас».
Отступления могут прерывать ретроспективный рассказ в лю-
бой его точке, даже внутри отдельной фразы.66 И они заметно
отличаются от обычных отступлений эпического повествования —
хотя бы тем, что несут отпечаток действительного сиюминутного,
непосредственного и непроизвольного душевного движения (т. е.
отмечены особым колоритом, очень близким к лирическому). Эти
своеобразные возвращения ко времени рассказывания, к пережи-
ваемому «сейчас», сопутствующие подобным скачкам переходы
от фактов к обобщениям,67 составляют в «Журнале» особую
художественную реальность, равноценную реальности событий-
ных эпизодовДОсновой повествования оказывается равноправное
и неповторимо интимное отношение внешнего и внутреннего
(т. е. опять-таки реальность, йр многом родственная той, которая
порождает лирический сюжет).
Наконец, лирической ориентации повествования способствует
также особая природа ретроспективной временной дистанции
в событийных эпизодах дневника. Дневниковое повествование
создает как раз ту самую, наиболее благоприятную для возник-
новения лирической атмосферы дистанцию во времени, когда
яркость и непосредственность переживания еще не утрачены,
однако уже есть возможность итоговых обобщений, постижения
«сути» и т. п.68
Лирический потенциал дневниковой формы проявляется в пе-
чоринском «Журнале» неравномерно. Временами он едва заметен
или вовсе неуловим, но зачастую, когда рефлексия героя дости-
гает известного предела эмоциональной напряженности, лири-
66 Например, в записи 23-го мая: «Княжне также не раз хотелось похо-
хотать, но она удерживалась, чтоб не выйти из принятой роли: она находит^
что томность к ней идет — и, может быть, не ошибается...» (VI, 290).
67 Неразрывную связь лирической художественности с определенным уров-
нем абстрактности и всеобщности выражаемого многократно отмечали авторы
теоретических работ о лирике. См., например: Ларин Б. А. О разновидности
художественной речи: Семантические этюды,— В сб.: Рус. речь. IV Пг., 1923,
с. 84; или Сильман Т. И. Указ, соч., с. 37—39.
68 Сильман Т. И. Указ, соч., с. 18.
39
ческая стихия «сгущается». В такие моменты повествование уже
явственно приобретает лирическое качество: лиризм не только
окрашивает, но и организует его («...Нет! я бы не ужился с этой
долею! Я, как матрос, рожденный и выросший на.палубе раз-
бойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и,
выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани
его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце...» — VI, 338).
Теперь становится ощутимым то особое свойство эмоционального
наполнения медитаций, которое Д. Н. Овсянико-Куликовский
удачно назвал «ритмом представлений».69 Мысли и чувства
размышляющего героя образуют гармоническое сочетание. Оно
«эстетизируется» буквально на глазах, освобождаясь от «мело-
чей духовного обихода» (выражение Д. Н. Овсянико-Куликов-
ского), начиная довлеть себе и тяготея к явному поэтическому
пересозданию эмоционального материала.70 Сразу же появляют-
ся и формальные признаки лирического преображения пережи-
ваний: речь тяготеет к ритмико-мелодической организованности,
лексика приобретает образно-метафорический характер, строение
фразы становится подчеркнуто экспрессивным, намечаются син-
таксические параллелизмы и т. п. Эти признаки наиболее четко
выступают в крупных и законченных медитативных пассажах
(вроде только что цитированного заключения «Княжны Мери»),
но порой они мгновенной вспышкой проявляются в отдельной
фразе или даже в каком-нибудь словесном обороте.
* *
• *
Тяготение к лирической структуре сказывается в романе
Лермонтова и за пределами, собственно дневниковой формы
повествования. «Фаталист», например, представляет собой за-
конченную остросюжетную новеллу. Сиюминутные размышления
и переживания рассказывающего появляются здесь лишь в до-
рядке исключения. Но в ретроспективном рассказе о событиях
центральное место занимает внутренний монолог Печорина
(о «людях премудрых»), отмеченный всеми характерными при-
знаками лирического фрагмента. Среди прочих заметно и такое
свойство: по мере того как монолог развертывается и вовлекает
читателя в свое эмоциональное течение, ретроспективная позиция
его воспроизведения ощущается все меньше, и в какой-то момент
размышления героя начинают восприниматься как сиюминутные
(чему немало способствуют восклицательные и вопросительные
69 Овсянико-Куликовский Д. Лирика как особый вид творче-
ства.— В кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. III, вып. 2, СПб.,
1970, с. 207.
70 Говоря о самодовлеющем характере’переживания в лирических фраг-
ментах, я имею в виду определенную меру его независимости от действия
и от уже обнаруженных анализом мотивов поведения героя.
40
конструкции фраз: «И что ж?.эти лампады, зажженные по их
мнению...» и т. д.—VI, 343). В «Тамани» подобные пассажи
отсутствуют. Однако структура пронизана лиризмом изнутри — X
так, что лирическое начало определяет ее характер в неменьшей
мере, чем начало новеллистическое.71 Здесь не менее отчетливо,
чем в лирических фрагментах «Княжны Мери», чувствуется и
ритмизация речи, и мелодическая ее организованность, и гармо-
низирующий эмоцию «ритм представлений», и характерная для
лирических структур открытая устремленность к тому, чтобы
«произвести наибольший художественный эффект» (Б. В. Тома-
шевский). Но различие между двумя повестями состоит в том,
что в «Тамани» этими свойствами обладает весь текст в целом.
Поэтому здесь наиболее осязаема собственно лирическая субъек-
тивность изображения, входящая в нас как «ощущение_шнди-
видуальной художественной воли, нераздельное с ощущением
поэтического мастерства».72
Лирическая природа «Тамани» в значительной степени пред-
определена двойственной субъектной основой повествования.
Стиль этой части печоринского «Журнала» неотличим от стиля
«основного» повествователя.73 Порой читатель может забыть
(и как бы забывает) о том, что перед ним не авторский рас-
сказ. В иные моменты (особенно в точках переходов от описа-
ний к действию) Печорин напоминает о себе, и мы вспоминаем,
что рассказ ведет он. Но отрезки, производящие тот или иной
эффект, сменяют друг друга столь быстро и непринужденно,
что получается своеобразная интерференция набегающих друг
на друга впечатлений. Нечто подобное временами возникает
и в «Княжне Мери» (чаще всего в пейзажных интродукциях)
и даже в «Фаталисте», где уже упоминавшийся монолог Печо-
рина о «людях премудрых» дублирует стиль лирико-философских
размышлений «путешествующего офицера», звучавших в «Бэле»
или в рассказе «Максим Максимыч».
Так создается лирическая связь между. героем и главным
субъектом повествования, закрепляемая очевидным сходством
их судеб и черт их психологии (сходство это отмечалось не-
однократно).74
В конечном счете это лирическая связь между героем и авто-
ром. В первом отдельном издании романа (1840) лицо, ведущее
повествование в «Бэле» и «Максиме Максимыче», могло прямо
71 Леонова Н. Скрытый симфонизм прозы.—- Вопр: лит., 1969, № 3,
с. 174.
72 Ларин Б. А. О лирике как разновидности художественной речи.—
В кн.: Рус. речь. Новая серия. I. Л., 1927, с. 45.
73 Много раз отмечалось, в частности, сходство приемов описания «унди-
ны» в «Тамани» с манерой описания Печорина в рассказе «Максим Максимыч».
74 Этот параллелизм, типичный для романтической поэмы (см.:
Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976, с. 154—164), заметно
ослаблен в поздних романтических поэмах Лермонтова (даже в «Демоне»),
но одновременно усиливается в «Герое нашего времени».
41
отождествляться с подлинным их создателем: первой фразе «Бэлы»
(«Я ехал на перекладных из Тифлиса») предшествовало только
заглавие романа с подзаголовком «Сочинение М. Лермонтова».
В издании 1841 г. «Предисловие» отделило автора (который
в нем открыто рекомендовался как создатель портрета, «состав-
ленного из пороков всего нашего поколения») от «путешест-
вующего офицера», для которого Печорин — реально сущест-
вующий конкретный человек. Но осязаемая связь между условным
повествователем и подлинным творцом сохранилась и в этом
варианте: стиль авторского «Предисловия» к роману неотличимо
дублируется стилем «Предисловия» к «Журналу» Печорина, ко-
торое принадлежит «путешествующему офицеру».75 Есть момен-
ты, сближающие с подлинным автором и самого героя. Обще-
известные переклички между лирическими мотивами печоринского
дневника и стихотворениями Лермонтова — одно из наглядней-
ших проявлений этой связи. Словом, возникает система «со-
общающихся» субъектных сфер, границы между которыми как
бы размыты, и образуется единое «поле» лирического напряже-
ния, охватившее всю повествовательную систему. В нем-то и об-
ретают символический смысл сквозные лейтмотивы романа.
В этом всепроникающем лирическом «поле» происходит то
поэтическое преображение материала, которое возносит читателя
над уровнем эмпирических событий, характеров и мотивировок.
Образ героя перерастает здесь собственные рамки; переживания,
признания, раздумья Печорина в кульминационных точках лири-
ческого подъема приобретают возвышенно-поэтическую абстракт-
ность, освобождаясь от индивидуальной определенности и типи-
зирующего социально-психологического колорита, в котором от-
ражается принадлежность героя к данной среде, профессии,
культуре. Происходит переключение в план неограниченно ши-
роких обобщений. «Кажется, что эти взволнованные, горькие
и мятежные признания произносит не аристократ-офицер и свет-
ский человек, но сама скованная и томящаяся, неукротимо могу-
чая человеческая душа».76
В такой атмосфере легко набирают силу иносказательные
«сверхсмыслы»: лирическая обобщенность высвобождает энер-
гию метафоризации, сгущение образно-эмоциональных элементов
текста предельно усиливает заложенные в них суггестивные
потенции. Активизируются и неразличимо сплетаются внелоги-
ческие смысловые связи, образуемые ассоциациями, эмоциональ-
ным родством сюжетно не сообщающихся моментов, энергией
сравнений и прочих тропов, перекличками лексических значений,
внушающей силой ритма, «всплыванием» повторяющихся дета-
75 Стилистика двух «Предисловий» настолько однородна, что в непосред-
ственном читательском ощущении оба они могут звучать как тексты одного
автора.
76 Михайлова Е. Проза Лермонтова. М., 1957, с. 350.
42
лей. Все это оказывается естественной предпосылкой для
смыслового скачка в «глубину», к символическим значениям.
Как видим, скачок этот происходит в моменты лирической
концентрации как порождаемое ею «взрывное» расширение и уг-
лубление смысла. Эмоциональное напряжение, достигая наивыс-
шего подъема и устремляясь к самодовлеюще-обобщенному, пре-
дельно сжатому выражению, переходит в поэтическое озарение.
Таким образом, у Лермонтова озарение, выводящее к символи-
ческим смысловым горизонтам, так же, как и у Гоголя, неотде-
лимо от субъективности лирических переживаний и так же,
в сущности, обеспечено ее расковывающей силой. Вместе с тем
смысл этого озарения тоже оказывается универсальным и обще-
значимым, отражая чисто лирическую взаимопереходность не-
повторимого и безгранично общего, мгновенного и вечного,
случайного и непреходящего. z
Однако характерная для эпической прозы иллюзия доподлин-
ной реальности изображаемого и здесь удерживает смысловое
наполнение образа в неразрывной связи с эмпирической дейст-
вительностью. Сопротивление, эмпирических стихий тенденциям
иносказания значительно усилено в романе Лермонтова аналити-
ческим психологизмом, почти отсутствующим у Гоголя. Важно
и многообразие способов характеристики героя — интроспекцией,
описанием, развитием действия, объективным смыслом сюжет-
ных ситуаций, восприятием и реакциями других лиц, компози-
ционной соотнесенностью его характера с другими и т. п. Все
это придает образу объемность, закрепляет его объективацию.
Словом, лирико-символический подтекст в лермонтовском романе,
как и в поэме Гоголя, и возвышается над фабулой, и не может
от нее оторваться, отчего преображаются обе взаимодейству-
ющие силы. . -
Их сочетание у Лермонтова по-своему еще более парадоксаль-
но, чем у Гоголя, так как «плоть» изображаемого не прорастает
в его романе обобщениями и иносказаниями изнутри каждой
своей клеточки. Она более конкретна, образована сплетением
единичных реалий и потому сама по себе менее податлива для
символизации. Выход к сверхэмпирическим смыслам облегчен, од-
нако, главным композиционным принципом «Героя нашего вре-
мени». Эпическая иллюзия доподлинности, аналитический пси-
хологизм, эмпирическая конкретность изображения одинаково
разомкнуты и разрежены фрагментарным построением романа.
Фрагментарная конструкция превращает в тайну сущность ха-
рактера его героя, не позволяет представить себе его биографию,
установить и понять многие важные для эмпирического объясне-
ния его судьбы событийно-психологические связи. Создается спе-
цифическая атмосфера недоговоренности и загадочности, кото-
рая намекает на неисчерпаемость смысла изображаемого и ста-
новится предпосылкой символических значений. И в то же-время
удерживается равновесие между обобщенно-иносказательной
43
I
и эмпирическом тенденциями, между эпичностью и лиризмом —
равновесие иное, чем у Гоголя.77
Лирико-символический «второй сюжет» вырисовывается! здесь
не так явственно, как в «Мертвых душах». Он глубже уходит
в подтекст и, главное, не имеет того поступательного разви-
тия, которое отличает «глубинный» сюжет у Гоголя.78 «Герой
нашего времени» (как уже не раз отмечалось) ближе к «онегин-
ской» традиции, но и по отношению к ней роман Лермонтова
занимает особое положение. Символизирующая тенденция дейст-
вует здесь почти так же напряженно, как и у Гоголя, но при
всем том остается такой же подспудной художественной силой,
как и у Пушкина. Своеобразие ее проявления в «Герое нашего,
времени» определяется некоторыми принципиально важными
особенностями авторской позиции Лермонтова. Это позиция глу-
боко личностная и целеустремленная, но вместе с тем неяв-
ная, завуалированная, скрывающая свои основания и свой внут-
ренний пафос. В «Герое нашего времени» найдена отвечающая
этой позиции форма символизации, основанная на равновесии
фабульно-психологических и лирико-символических начал. Она
открывает возможность неограниченного углубления смысловой
перспективы изображения, но как бы помимо автора и его
очевидной активности. Символизация происходит словно сама
собой, автор словно бы и не в ответе за смысловые сдвиги,
неизбежно совершающйеся в сознании читателя. Авторский пафос
скрыт в глубине изображаемого, почти незаметен, но именно
поэтому обрел возможность неотразимого воздействия на чита-
тельское восприятие.
Своеобразие лирического «я» в зрелой поэзии Лермонтова
во многом способствовало становлению этой формы. В лер-
монтовских стихотворениях конца 1830-х годов «авторский об-
раз все более обобщается, смыкаясь с образом поколения»,79 80
лирическое «я» часто переводится в третье лицо: оно — не только
субъект, но и объект произведения, его тема, в значительной
степени «обросшая» сюжетными характеристиками/у При столь
явном тяготении к лиризму в «третьем лице», выступающему
к тому же как воплощение самосознания целого поколения,
оставалось сделать всего лишь один шаг, чтобы стало возмож-
ным лирическое единство многосубъектной структуры и возник
роман с лирико-символическим «вторым сюжетом». Этот шаг
и сделан Лермонтовым в «Герое нашего времени».
77 Вопрос о том, как возникает и поддерживается это поистине уникальное
лиро-эпическое равновесие, конечно, составляет предмет особого исследования.
78 Впрочем, это отличие в такой же мере обусловлено и особенностями
эмпирического сюжета, тоже не имеющего у Лермонтова поступательной дина-
мики.
79 Гинзбург Л. О лирике. 2-е изд. Л., 1974, с. 158.
80 Там же, с. 159.
44
( Символический подтекст и становление реализма
[ в русском классическом романе
Как видим, в первых классических романах русских реалистов
присутствует (как вполне реальный, хотя и подспудный смысло-
вой потенциал) «мистериальный» план истолкования и оценки
изображаемого. Тем самым сохраняется возможность какого-то
сближения собственно романной поэтики с традицией поэмы-
мистерии или близких к ней жанровых форм (можно гово-
рить, в частности, о конкретных связях «Онегина» с «Фаустом»,
«Героя нашего времени» с «Демоном», «Мертвых душ» с «Бо-
жественной комедией»). Первые завоевания социально-психоло-
гического реализма (иллюзия доподлинной реальности изобра-
жаемых событий, объективация героев, их историческая или
общественно-бытовая типизация и конкретизация, различные
формы реалистического детерминизма, саморазвитие и само-
раскрытие образов) в порядке своеобразной «взаимодополни-
тельности» соединяются с поэтикой, восходящей к дореалисти-
ческим литературным формам. Вт каждом из этих романов
«мистериальный» план оказывается скрытым, но действенным
стимулом символизации. Каждый раз возникает символический
подтекст, перерастающий эмпирическое содержание образов и
сюжета, но в то же время неразрывно связанный с этим содер-
жанием, в конечном счете расширяющий и углубляющий его.
Смысловые сдвиги и превращения подобного рода непосредст-
венно обусловлены лирической «концентрацией», так или иначе
проявляющейся в эпическом повествовании.
Перед нами — закономерность, действующая в разных твор-
ческих ситуациях, способная оказывать влияние даже на очень
далекие друг от друга художественные индивидуальности.
В ближайших по времени реалистических романах 1840-х годов
мы уже не встретимся с мистериальным планом, символическим
подтекстом, с особой ролью лирической «концентрации» и т. п.
По-видимому, все охарактеризованные выше явления форми-
руются и обретают силу во взаимосвязи с другими типологически-
ми особенностями, характерными именно для ранней стадии
развития реализма в русском классическом романе.81
Нетрудно убедиться в правомерности такого предположения.
В свое время И. СеменКо напомнила о том, что характер
Онегина нельзя рассматривать как характеры героев, создан-
81 Проявление сходных (хотя и по сути своей уже, видимо, иных) зако-
номерностей в поэтике русских реалистических романов 1870-х годов (таких,
как «Анна Каренина», «Бесы», «Братья Карамазовы») — особая тема, уже
ставшая предметом пристального исследовательского внимания (см.: В е т л о в-
ская В. Е. 1) Поэтика романа «Братья Карамазовы». Д., 1977, с. 98—102,
127—132, 147 и др.; 2) Поэтика «Анны Карениной»: Система неоднозначных
мотивов.— Рус. лит., 1979, № 4, с. 17—38).
45
ных на более позднем этапе развития реализма XIX в.82 Сообра-
жение это представляется справедливым. Реализм, в частности,
утверждает как важнейший художественный закон; принцип не-
предсказуемости поведения героев. Но природа этой непредска-
зуемости изменяется от эпохи к эпохе. Поведение героев реалисти-
ческого романа середины XIX в. может быть ошеломляюще
неожиданным: читатель, к примеру, может быть изумлен поступ-
ком Лизы Калитиной, когда, узнав о приезде жены Лаврецкого,
она вдруг решает уйти в монастырь. Читатель может не увидеть
здесь «достаточных оснований», логика поведения героини может
показаться ему непостижимой. Но в конце концов он полу-
чит возможность овладеть внутренним законом воссозданного
характера. Такая перспектива не приведет, конечно, к рациональ-
но-ясной расшифровке: образ до самого конца не поддается ей
полностью. Но психологическую основу характера можно будет
интуитивно ощутить — хотя бы в такой мере, чтобы воспринять ,
решение героини как психологически единственно возможное
для нее. В парадоксальном откроется закономерное (т. е. в
принципе, объяснимое) — такова логика реалистического психо-
логизма середины в$ка.83
Этой (или подобной) логики мы не обнаружим в построении
главных образов «Евгения Онегина» или «Мертвых душ». Когда
Онегин, казалось бы, до конца изживший самую возможность
любви, влюбляется, «как дитя», в Татьяну, это превращение
не только непредсказуемо, но и, по-видимому, в принципе не мо-
. жет стать психологически понятным читателю. Ситуация не
исключает возможности объяснений, но все они оказываются
более или менее абстрактными, применимыми к «данному случаю»
в такой жё мере, как и к множеству других. Неожиданную
вспышку страсти можно объяснить, например, невыносимостью
душевной пустоты, которая именно в момент новой встречи
героя с Татьяной достигает предела. Возможно и другое объясне-
ние: Онегин отвергает счастье, когда оно возможно и близ-
ко, и, напротив, загорается страстным порывом к нему, когда
счастье становится недоступным. Не исключены и какие-то иные
логически правомерные объяснения. Не исключены, и все-таки,
как бы ни множились толкования подобного рода, метаморфоза,
пережитая Онегиным, не становится психологически понятной.
Читатель лишен возможности почувствовать или представить
себе, почему все вышло именно так, а не иначе, каким было
душевное движение, так внезапно преобразившее героя, и т. п.
Интуиция и воображение читателя не получают в решающий
82 Семен ко И. Эволюция Онегина: К спорам о пушкинском романе.—
Рус. лит., 1960, № 2, с. 112—113.
83 Разумеется, глубинный смысл решения Лизы и всей ее судьбы останется
за пределами психологического объяснения, но в пределах «своей» компетенции,
на «своем» уровне психологическое объяснение все-таки состоится.
46
момент/почти никакого собственно психологического материала.84
В сходном положении оказывается читатель, пытающийся
психологически понять душевный переворот, ведущий к нравст-
венному воскресению Чичикова. Само это воскресение, по-види-
мому, мыслилось как чудо, происходящее за границами «нашего»
опыта, и потому не подлежало объяснению. Но дело в том, что
и те переживания героя, которые еще только приближают его
к чудесному преображению (и которые у реалистов второй по-
ловины XIX в. стали бы предметом пристального психологи-
ческого анализа), у Гоголя невозможно воспринять как пси-
хические факты. Едва лишь о них заходит речь, в повествова-
ние входит лирическая риторика, лишающая читателя возмож-
ности собственно психологического контакта с изображаемым.
«Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется
и платина, твердейший из металлов, всех долее противящийся
огню: когда усилится в горниле огонь, дуют мехи и восходит
нестерпимый жар огня до верху — белеет упорный металл и пре-
вращается также в жидкость; подается и крепчайший муж
в горниле несчастий, когда усиливаясь, они нестерпимым огнем
своим жгут отверделую природу» (VII, 115).
Особая природа подобных скачков в развитии пушкинских
и гоголевских характеров наглядно выражает по-видимому общий
для первых русских реалистов принцип изображения человека.
В сущности, в «Онегине» и в «Мертвых душах» основа психо-
логии героя вообще остается загадочной: столь характерный
для реалистической литературы «пафос объяснения» (Л. Я. Гин-
збург) здесь еще не захватывает сердцевину образа.
У Пушкина различные, а часто и альтернативные характе-
ристики героя, звучащие в разных местах повествования, просто
совмещаются — без попыток выявить какой-то общий корень
различных свойств или наметить точки их схождения.85 Это
не значит, что личность Онегина остается непонятной читателю,
но ее природа доступна лишь собственно поэтическому пости-
жению. Психологическая интуиция читателя опять-таки лишена
необходимой ей опоры.
В «Мертвых душах» первоначальная авторская характеристи-
ка персонажа в дальнейшем все время наглядно подтверждается:
может быть, это мешает заметить, что психологическая основа
его поведения каждый раз остается неразгаданной. Например,
мечтательность Манилова не получает в его характеристике ни-
какого определенного объяснения. Читатель может, конечно, как-
то связать ее с другими чертами Манилова — с его сентимен-
тальностью, с отсутствием всякого задора. Но в самой харак-
теристике персонажа ничто не принуждает к этому. Нечто по-
84 Можно заметить, чтох и в дальнейшем авторские догадки, определения,
характеристики не проясняют внутренней диалектики чувства.
85 Бочаров С. Г. Форма плана: Некоторые вопросы поэтики Пушкина.—
Вопр. лит., 1967, № 12, с. 116—117.
47
добное — в характеристике Коробочки: автор и не пытается
прояснить, как связаны между собой ее скопидомстео и ее
«дубинноголовость».
В характеристике Собакевича начало, связующее различные
оттенки, напротив, обозначено. Однако выразительное(опреде-
ление «человек-кулак», точно указывая на основу характера,
не раскрывает его. Сходный принцип действует и в характеристи-
ке Ноздрева. Говоря о «неугомонной юркости и бойкости ха-
рактера», автор точно обозначает всеопределяющую доминанту
психологии и поведения персонажа. Но это точное указание
ставит чйтателя лицом к лицу с загадкой совершенно исклю-
чительного темперамента и оставляет эту загадку неразрешимой.
Даже предыстория Чичикова, обеспечивающая главному ге-
рою наиболее развернутую психологическую характеристику, не
минует общего закона. Существенно, к примеру, частое вторже-
ние в авторский рассказ гиперболических формул (речь идет
о «неслыханном» самоотвержении и терпении, о проницатель-
ности и прозорливости, которых «не только не видано, но даже
не слыхано» и т. п.). Гиперболы эти, конечно, не лишенные
иронического оттенка, тем не менее то и дело осложняют систе-
му психологических объяснений, отправляющихся от закономер-
ного и известного. Иногда автор прямо (и уже вполне серьезно)
указывает на непостижимость владеющей героем жажды приобре-
тения: указания эти звучат дважды — в начальной й в заклю-
чительной части биографии Чичикова. И уже завершив характе-
ристику, во многом прояснившую все-таки внутренние побужде-
ния героя, автор делает уже отмеченный выше ход, который
опять превращает основу его поведения в нечто таинственное
(«...есть страсти, которых избранье не от человека...»—VI, 242).86
Словом, во всех существенныхслучаяхпсихалогическая осно-
ва характера не прдшшяётсяГПГочнее, Читатель «Евгения Онеги-
на» и «Мертвых душ» имеет дело с образами, не до конца
«уплотнившимися» в характеры. Во всяком случае, так можно
сказать, если сравнивать их с характерами более поздней стадии
реализма — развернутыми, организованными вокруг сложных, но
определенно прорисованных психологических доминант, прони-
занными всепроникающим анализом причинно-следственных свя-
зей, противоречий, разнонаправленных жизненных импульсов.^87
Пушкинские и гоголевские психологические характеристики ока-
зываются«контурными», оставляющими незаполненные' смысло-
вые' 'пространства — тем большие, чем ближе к «центру» образа,
к тому «фокусу», в котором должны сойтись все его грани.88
86 И опять-таки загадочность (и непонятность) психологической основы
образа не означает его непостижимости. Просто «завершающее» постижение
героя и его судьбы переключено в иной план.
87 Гинзбург Л. О литературном герое. Л., 1979, с. 89—105.
88 Внутренняя «неплотность» образов «Евгения Онегина» и «Мертвых
душ» могли приобретать особую значимость на фоне родственных литератур-
48
Отсюда и вытекает возможность необъяснимых скачков, так же
как 'и правомерность появления «неисправляемых» противоре-
чий в развитии образов.89
* *
*
Можно говорить о закономерной связи между «неплотностью»
пушкинских или гоголевских образов и определенной степенью
их внутренней неоднородности. Многоплановый и многомерный
образ в «Онегине», сопрягает в себе реальности разного по-
рядка— от бытовых до трансцендентных, причем установка,
определяющая такое сопряжение, начинает вырисовываться еще
в первой главе (т. е. задолго до того как в повествование
войдет сон Татьяны с его символическими проекциями).
Вспомним, для примера, авторские мотивировки, объясняющие
разочарование Онегина. Рядом с мотивировкой сугубо бытовой,
даже физиологической («Затем, что не всегда же мог Beef-
steaks и страсбургский пирог | Шампанской обливать бутыл-
кой...»—I, XXXVII), появляется объяснение социальное, выска-
занное в более серьезном тоне. Оно указывает на пустоту и при-
зрачность светской суеты, неспособной наполнить смыслом жизнь
человека незаурядного («Однообразна и пестра. | И завтра то
же, что вчера»—I, XXXVI). Но тут же, рядом, как бы забывая
только что предложенные объяснения, автор вводит новые мо-
тивировки, совсем иного уровня и масштаба. «Недуг» Онегина —
это и «русская хандра», т. е. проявление некоего общенациональ-
ного свойства. И, действительно, в этом внезапном переходе
от разгула к унынию проглядывает что-то глубоко русское,
по опыту знакомое читателям самых разных сословий. В то же
время это подобие «английского сплина», явления иноземного,
инородного, казалось бы, безнадежно далекого от русской почвы.
Появляется возможность какого-то глобального объяснения. Она
намечена ссылкой на общечеловеческий закон, сказавшийся в оне-
гинской мизантропии («Кто жил и мыслил, тот не может |
В душе не презирать людей!»—I, XLVI), а потом все больше
проясняется движением ассоциаций, сходящихся в восьмой гла-
ве, в которой отчетливо вырисовывается противостояние чело-
веческих стремлений и «холода» жизни (строфы X—XI). Эти
ных явлений, в каких-то отношениях повлиявших на творческие поиски Пушкина
и Гоголя. Показательно, например, что при явной перекличке психологических
сюжетов «Онегина» и «Адольфа» Пушкин не воспользовался опытом Констана,
возводившего все противоречия и превращения чувств своего героя к четко
обозначенному механизму столкновения и смены двух противоположных пси-
хологических начал (о «двучленной логике» характеров у Констана см.: Г и н-
збург Л. О Психологической прозе. Л., 1971, с. 290—294).
89 Вопрос о художественной значимости принципа «противоречий» рас-
сматривается в статье Ю. М. Лотмана «Художественная структура «Евгения
Онегина» (Учен. зап. Тартуского ун-та, 1966, вып. 184, с. 7).
49
ассоциации естественно вплетаются, как мы уже виделй, в рас-
ширяющий и углубляющий их символический подтекст. I
Мотивировки соотносят разочарование героя с несколькими
не соизмеримыми «напрямую» детерминирующими факторами.
Тут и повседневный быт, и социальные законы среды, и атмо-
сфера общеевропейского послереволюционного кризиса, и ситуа-
ция национально-исторического самоопределения между 1812 и
1825 гг., и коренные противоречия бытия и духа. Так сразу
же дает себя знать кардинальная особенность реалистической
характерологии —^многогранная,.' разнокачественная обусловлен-
ность свойств, поведения и судьбы героя. Но разнокачественные
и разномасштабные детерминанты здесь не смыкаются, да и,
по-видимому, пока и не могут сомкнуться: слишком далеки
они друг от друга по своему эстетическому происхождению
и онтологическому рангу. Связи или средостения между ними
еще не найдены и, судя по всему, Пушкин не пытается их искать.
В пушкинском миросозерцании бытовое, социальное, националь-
но-историческое, общечеловеческое, вечное объединяются с абсо-
лютной непринужденностью. Такое объединение как бы и не пред-
полагает выяснения «зависимостей» и «сцеплений»; раскован-
ность лирического повествования позволяет переходить от мо-
тивировки к мотивировке, не увязывая последующие с предыду-
щими, не заботясь о какой-либо их систематизации. Несом-
кнутость различных планов оказывается в этой ситуации наиболее
естественной формой построения образа.
В «Мертвых душах» подобное же объединение мотивировок
происходит несколько иначе. Здесь несомкнутость различных
детерминирующих мотивировок не так очевидна, как в «Евгении
Онегине». Переходы от уровня к уровню определяются напряже-
нием авторской мысли, вопросами, сопоставлениями, полемикой
(«Может быть... станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева.
Увы! Несправедливы будут те, которые станут говорить так.
Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между
нами и, может быть, только ходит в другом кафтане...»—VI, 72).
Создается иллюзия аналитической связи разномасштабных обоб-
щений, скрывающая действительный характер перехода, кото-
рый по существу означает перелет через ничем не заполненные
интервалы, через пропущенные ступени и звенья.
Выходит, что и в «Мертвых душах» «неплотность» образа
связана с его многомерностью: сопрягаются художественные
реальности, непосредственно не сводимые, способные объединить-
ся лишь при условии некоторой неопределенности их соотноше-
ния и взаимодействия.
* *
*
Но, разумеется, говоря о специфике пушкинских и гоголевских
образов, необходимо вновь напомнить о жанровой «двоемирности»
50
романа в стихах и поэмы в прозе. Необходимо иметь в виду,
что многомерность и «неплотность» создаваемых здесь образов
отчасти [определяются именно спецификой жанровой формы. Об-
разы такого типа естественно возникают внутри структур, где
субъективной авторской активности отводится не менее важная
роль, чем объективному саморазвитию характеров и сюжета.
Автор—демиург (у Пушкина) или автор — пророк (у Гоголя),
в значительной мере сам строит целостную картину мира, охва-
тывая различные сферы жизни, присоединяя их друг к другу,
проникая в глубинные пласты их многообразного содержания.
По определению Г. Д. Гачева, в романе Пушкина «эти сферы
еще не погружены в характеры героев, выступают... сами по
себе, внешне по отношению к ним. Напротив, персонажи, ха-
рактеры... во многом лишь орудия описания этих сфер, которые
автор непрерывно отбрасывает й говорит прямо от себя».90
С некоторыми оговорками это определение может быть отне-
сено и к первому тому «Мертвых душ». Детализация окружа-
ющего героя социального и природного мира не оборачивается
у Гоголя детализацией психологической (в иной художествен-
ной системе явившейся бы естественным ее дополнением). Мир
раскрывается не через героев, а как бы вместе с ними, через
единую вездесущую предметно-словесную стихию, насыщенную
потенциальной энергией иносказания. В «Мертвых душах» и в
«Онегине» громадна опосредствующая роль стилевых стихий
иронии и лиризма, важен «игровой» характер повествования,
оправдывающий любые его переключения, а зачастую и «непря-
мой» контакт используемого стиля с изображаемой реальностью
(когда образ, по счастливому выражению Н. Я. Берковского,
не являет нам предмет, а, скорее, «наводит» на него). Все это
создает систему, естественно включающую многомерный и «не-
плотный» образ в общую гармонию составляющих ее элементов.
Обращение к «Герою нашего времени», наименее «гибридно-
му» из первых реалистических романов русской литературы,
даст возможность выяснить, насколько широка сфера действия
отмеченных законов построения образа.
В «Герое нашего времени» центральный образ значительно^
ближе к характерам позднейшей реалистической прозы. По-види-
мбму, здесь достигнут своеобразный предел возможного для эпо-
хи продвижения к психологизму. В романе Лермонтова обнару-
жено взаимодействие внутренних сил человеческой души с раз-
личными силами внешнего мира, взаимодействие, не раскрытое
(во всяком случае так дробно и многосторонне) ни Пушкиным,
ни Гоголем.
Но при всем том легко обнаруживаются черты, сближающие
лермонтовский образ с пушкинскими или гоголевскими. И здесь
90 Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении:
Образ, метод, характер. М., 1962, с. 266.
51
детерминанты разного порядка не сомкнуты и оставляют сво-
бодные смысловые пространства. Например, социально-бытовые
мотивировки до самого конца романа остаются неразвёрнутыми
и не вполне определенными. Лермонтовский герой показан вне
своей обычной социальной сферы («водяное общество»— не пе-
тербургский «большой свет», это различие отмечено неоднократ-
но). Сословно-типичные черты Печорина не акцентируются: со-
словный аристократизм порой неуловимо сливается с духовной
исключительностью и элитарностью. Столкновения, обусловлен-
ные сословно-классовыми противоречиями, вытесняются или при-
глушаются конфликтами нравственно-психологическими. Самая
детерминированность психологии и судьбы героя воспитанием
и воздействием среды все время остается несколько проблема-
тичной, потому что мотивировки подобного рода вводятся моно-
логами Печорина и звучат в таких ситуациях, когда вопрос
об их отношении к истине не может быть решен однозначно.91
Правда, одновременно очень существенно расширяются воз-
можности психологического анализа. В систему повествования
входит исповедальный самоанализ героя. Становится уместным
и оправданным прямое проникновение в содержание его пережи-
ваний, выяснение их скрытой сущности. Казалось бы, в лермонтов-
ском романе появляется новая сила, способная изнутри запол-
нить «пробелы», оставляемые пушкинской или гоголевской мане-
рой изображения человека.
Однако психологическое объяснение поступков, побуждений
и переживаний героя развертывается здесь в ощутимых преде-
лах, его дробность и многосторонность лишь подчеркивают непол-
ноту добытого анализом знания. Анализ то и дело соизмеряет
нечто парадоксальное с нормальным и общеизвестным, но не для
того, чтобы в итоге до конца прояснилась закономерность пере-
живаемого. Авторская цель здесь, скорее,— противоположная,
и во многом противоположны задачам причинно-следственного
объяснения объективные результаты психологического анализа.92
Разумеется, в душевной жизни Печорина легко выявляются
самые обычные человеческие побуждения — хорошие и дурные.
Печорин бывает способен на добрые чувства и благородные
поступки, он может испытывать жалость и сострадание, может
любить и мечтать, может на какое-то время уверовать в счастье
и устремиться к нему. В других ситуациях он может испытывать
зависть, злобу, досаду, вызванную тем, что задето его само-
любие, может быть жестоким, мстительным, чуть ли не мелоч-
ным. Но в конечном счете получается так, что ни те, ни другие
91 Одна из таких ситуаций -рассматривается в статье В. Левина «Об
истинном смысле монолога Печорина» (в кн.: Творчество М. Ю. Лермонтова.
М., 1964, с. 276—282).
92 Речь идет именно об авторском объективном анализе, использующем
печоринский субъективный самоанализ, но при этом непременно предполагающем
этот последний как необходимую ступень художественного исследования.
52
мотивы обычного порядка не имеют в жизни Печорина решающе-
го значения.
Увлечение и надежда не мешают разлюбить Бэлу, жалость
и сострадание не препятствуют жестокому разрыву с княжной
Мери, порыв, казалось бы, свидетельствующий о великодушной
готовности к прощению, не исключает возможности через минуту
убить Грушницкого, причем убить без колебаний. То же самое
можно сказать и о мотивах иного рода: например, при всей
очевидности злобных чувств, бушующих в Печорине во время
дуэли с Грушницким, не менее очевидно то, что Печорин убивает
вчерашнего приятеля отнюдь не в порыве злобы и не под влия-
нием мстительных побуждений. В подобных ситуациях комменти-
рующий голос героя часто умолкает: психологический анализ
прекращается, как бы обозначая тем самым предел своих возмож-
йостей. И важно заметить, что за этим пределом остаются чаще
всего те «события» душевной жизни Печорина, от которых
в наибольшей степени зависит его судьба.93
* *
*
Правда, в одной из самых глубоких исповедей, доверенных
«Журналу», Печорин как будто бы прямо указывает на единую
первооснову всех своих действий и стремлений: «...я больше
неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие
у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в дру-
гом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти,
а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня
окружает... Быть для кого-нибудь причиною страданий и радо-
стей, не имея на то никакого положительного права,— не самая ли
это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастие? Насы-
щенная гордость...» (VI, 294). Складывается как будто бы все-
объемлющее социально-психологическое объяснение: печорин-
93 Ограниченность возможностей, свойственных исповедальному психоло-
гизму, обнаруживается и по-другому. Рефлексия Печорина выделяет немало
таких особенностей его душевной жизни, которые он сам воспринимает как
странные и необъяснимые («Нет в мире человека, над которым прошедшее
приобретало бы такую власть, как надо мной... Я глупо создан: ничего- не
забываю, ничего» и т. д.— VI, 273). В тех случаях, когда анализ приводит
к выводам, как будто бы вполне определенным, читателя иногда останавливает
их явная неудовлетворительность. Трудно, например, до конца поверить серьез-
ности утверждения, объясняющего страстную привязанность героя к свободе
воспоминанием о старухе-гадалке, предсказавшей ему смерть «от злой жены».
Этот ход (может быть, иронический) скорее снимает проблему, чем решает ее.
Вообще печоринский самоанализ нередко и не является анализом в точном
смысле этого слова: рефлексирующее сознание просто сополагает различные
догадки и прямые объяснения, не отделяя главное от второстепенного, пер-
вичное от вторичного, закономерное от случайного. Последняя особенность
отмечена в работе И. И Соллертинского «Русский реалистический роман первой
половины XIX века» (Вологда, 1973, с. 37—38).
53
скую «ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается
на пути» (там же), легко возвести к взаимодействию двух четко
выделенных причин, одна из которых — неспособность любить,
другая — подавленное и принявшее ’иную форму честолюбие.
Такое объяснение легко связывалось с популярными «идеями
века» и, в частности, с фурьеристской теорией «возвращения
страстей», утверждающей, что естественные стремления челове-
ка, подавляемые «неправильным» общественным устройством,
всё-таки прорываются в жизнь, но реализуются в извращенной
форме.94 Намек на «обстоятельства», которыми подавлено пе-
чоринское честолюбие, легко конкретизировался в читательском
восприятии, соотносившем судьбу героя с общественно-поли-
тической атмосферой современности.
Однако содержание, поднятое на поверхность самоанализом
героя, Перерастает рамки социально объяснимой психологии.
Представление о «подавляющих» честолюбие обстоятельствах
не удерживается в исторически локализованных границах? Раз-
вивая мысли о счастье — «насыщенной гордости», Печорин так
определяет условия удовлетворения своей главной потребности:
«Если б я почитал себя лучше/ могущественнее всех на свете,
я был бы счастлив; если б все меня любили, я в себе нашел бы
бесконечные источники любви» (VI, 294). Герой претендует на
абсолютное совершенство и всемогущество, на абсолютное пре-
восходство над всеми людьми. И при всем том — на всеобщую
беспредельную любовь. В сущности, это претензия на божест-
венный ранг, стремление поставить себя на «место божье».
Грандиозность подспудного смысла этой претензии неизбежно
укрупняет и противоположный полюс: круг «обстоятельств», пре-
пятствующих ее осуществлению, тоже приобретает грандиозную
масштабность, оказываясь равным чуть ли не всей совокупности
условий земного бытия.
Претензия эта не может быть воспринята просто как форма
самосознания героя — тем более, что Печорину и в этом слу-
чае не открывается «мистериальная» значительность переживае-
мого. Важнее необычайно высокая реальная цена печоринского
самоутверждения, его смертельные ставки, неотступно следующее
за ним ощущение призрачности любых его осуществившихся
триумфов. «Подавленное честолюбие» обнаруживает какую-то
сверхжитейскую («экзистенциальную», говоря языком XX столе-
тия) серьезность. Сквозь намеком обозначенные черты конкрет-
ной исторической ситуации опять проступают контуры ситуации
универсальной.
Неспособность «безумствовать под влиянием страсти» тоже
обнаруживает — в глубинной перспективе — нечто неизмеримо
94 Об этом: Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961,
с. 259—261.
54
большее, чем психологически объяснимое житейское пресыщение
и охлаждение. «...Я никогда не делался рабом любимой жен-
щины, напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем
непобедимую власть» (VI, 279). Таково для Печорина непремен-
ное условие любви. «...Один только раз я любил женщину
с твердой волею, которую никогда не мог победить... Мы рас-
стались врагами...» (там же). Жажда власти внезапно предстает
формой, облекающей жажду свободы. Сводящий любую связь
между людьми к отношениям господства и подчинения, Печорин
обречен выбирать между двумя полюсами роковой дилеммы:
один всегда раб, другой — господин, а третьего не дано. И есть
лишь одна возможность не быть рабом — положение господина,
«власть непобедимая».
Наступает момент, когда эта возможность становится ценнее
самой возможности любить. И вот уже Печорину достаточно
только быть любимым. Но и в этой потребности герой с презре-
нием обнаруживает скрытую зависимость от «другого»: чувства
раба все-таки нужны господину. Это и вызывает ироническую
усмешку — «жалкая привычка сердца». Не случайно высшей
формой самоутверждения становится для Печорина игра чужи-
ми чувствами и жизнями. Только игра означает для него пол-
ную независимость от «других»: ведь даже господство над их
душами не связано при этом с настоящей потребностью в их
чувствах. Важны не столько сами «радости и страдания других»,
сколько собственная способность вызывать их, «не имея на то
никакого положительного права», ничего не принимая всерьез,
оставаясь, в сущности, равнодушным и потому свободным. «Мне
все послушно, я же ничему»,—эти пушкинские слова, может
быть, наиболее точно выражают принцип, который стремится
осуществить Печорин.
И опять трагическая серьезность утверждающей себя- душев-
ной потребности (прежде всего — та фатальная неуклонность,
с какой она нарастает в душе) приоткрывает ее «экзистен-
циальную» природу. Сходное ощущение вызывает вездесущность
этой потребности, которая выясняется по мере того, как в самых
различных проявлениях психологии героя обнаруживается одно
и то же глубинное содержание. Исповедальные записи «Жур-
нала» позволяют заметить, что Печорин стремится отделить
себя от любого овладевающего им переживания, от любого
совершенного поступка, от любой ситуации, в которую он попал,
и что он каждый раз создает эту необходимую ему внутрен-
нюю дистанцию — иронией, анализом, переменой настроения и
т. п. Эта установка дает себя знать не только во внутреннем
отмежевании от всех своих непосредственных порывов, но и в
рассуждениях (противоположных и даже враждебных всяческой
непосредственности), наконец, в постоянном «несовпадении» да-
же с азартно осуществляемыми собственными интригами и экспе-
риментами. Для Печорина неприемлема любая форма полного
55
слияния с переживаемым или происходящим, и в этом стропти-
вом нежелании отдаться чему бы то ни было неизменно сквозит
все то же внутреннее сопротивление всякой зависимости от мира
и людей.
За взаимодействием собственно психологических мотивов и со-
циально-исторических предпосылок душевных «деформаций»
вновь и вновь ощущается таинственная диалектика универсаль-
ного противоречия. С одной стороны — действительно «ненасыт-
ная» жадность, самой своей неутолимостью наводящая на мысль
о скрытом в ней метафизическом потенциале. С другой — такие
же проблески метафизического смысла в постоянном стремлении
возвыситься над всем окружающим и над всем происходящим
в собственной душе.) Для Печорина оказывается невыносимой
любая ситуация, когда за пределами его существования обнару-
живается что-то исполненное цельной и непосредственной жизнен-
ной силы, к чему он непричастен. С этим герой примириться
не может, немедленно вторгаясь в чужую жизнь, пытаясь так
или иначе подчинить ее себе и тем самым присвоить, «поглотить».
Но в то же время всякую причастность и вовлеченность Печорин
ощущает как плен и тяготится им, и рвется из этого плена.
И всякий раз вырывается, отделяя себя от любых своих пере-
живаний, действий, положений. Но вырывается дорогой ценой:
каждый раз что-то важное и нужное теряет для него всякое
значение. И так — до тех пор, пока не остается ничего ценного,
пока, наконец, Печорин не приходит к тому, что ему уже
вообще ничего не нужно. И тогда он умирает. Самый факт
смерти героя на обратном пути из Персии может выглядеть
случайным, но его неуклонное движение к гибели отмечено
печатью трагической неизбежности. Смерть как бы венчает его
постоянную устремленность к свободе, к выходу из любых за-
висимостей и связей.
Гибель Печорина удостоверяет неразрешимость главного про-
тиворечия его жизни и сверхжитейскую глубину столкнувшихся
в ней стремлений. «Ненасытная жадность», поглощающая «все,
что встречается на пути», в конце концов может быть воспри-
нята как попытка заполнить бездонную пустоту свободного духа,
лишенного высших ценностей и целей, а его упрямое сопротив-
ление всем формам приобщения к людскому и житейскому —
как порыв за пределы земного бытия, как потребность осво-
бодиться из плена жизни. Тут можно уловить традиционный
лермонтовский намек на «последнюю» тайну человеческого суще-
ствования— тайну роковой «межмирности» самой природы чело-
века, равно причастного «земле» и «небу», но в то же время,
не принадлежащего всецело ни одной из этих сфер.95
95 Вопрос о значении этих мировоззренческих полярностей для творчества
Лермонтова был поставлен еще в работе П. Н. Сакулина «Земля и небо
в поэзии Лермонтова» (в кн.: Венок М. Ю. Лермонтову: Юбилейный сборник.
М.; Пг., 1914, с. 1—55).
56
На этом пределе углубления в смысл изображаемого стано-
вятся уместными те -стилистические и смысловые сдвиги, которы-
ми создается символический подтекст. Аналитический психо-
логизм приводит на грань иного художественного измерения
и в конечном счете делает неизбежным выход за эту грань.
Ап. Григорьев имел право назвать Печорина «маскирован-
ным гвардейцем», увидев в нем Демона, низведенного в обычные
условия человеческого существования, но не утратившего прямых
отношений с миром высших сил.96 Печорин мог предстать вопло-
щением новой (необычайной на фоне традиционных «вариан-
тов»,) независимости человека от высших сил — независимости,
уже не сопряженной с бунтом против небес, а потому и более
полной, чем обычное богоборчество лермонтовских героев, в са-
мом своем полемическом пафосе сохраняющее связь с отвер-
гаемым. И вместе с тем — воплощением независимости более
дерзкой, чем обычное неверие, поскольку, допуская — не толь-
ко разумом, но и чувством — реальность и даже всемогущество
высших сил (бога, высшей справедливости, бессмертия души),
Печорин живет, игнорируя их, и этим равнодушием как бы
уравнивает их с силами земными. В определенном ракурсе судь^-
ба героя могла быть истолкована как трагическая реализация
всех возможностей, таящихся в пЪдобной независимости. Обретая
ее, герой остается один на один со стихийной игрой земных
сил, но не может принять ее естественных законов и последствий.
Так образуется метафизический тупик, из которого нет иного
выхода, кроме смерти.
Подобное объяснение, «последнее» по степени универсаль-
ности, в романтической системе могло бы претендовать на роль
окончательного, способного полностью охватить и замкнуть об-
раз. Но здесь, в «Герое. нашего времени» смутно мерцающий
намек на подобное объяснение остается именно и только намеком.
Этот намек создает всего лишь обертоны — тончайшие, едва улови-
мые осложнения более очевидных мотивировок, среди которых
на первом плане — историческая, выделенная уже самим за-
главием романа и указывающая на ситуацию, когда общество
и эпоха не допускают достойной реализации «необъятных сил»
героя времени.
Возможность всеобъемлющего объяснения позиции и судьбы
Печорина, перемещаясь с одного уровня на другой, нигде не
реализуется в полной мере. Фрагментарность образной характе-
ристики героя, пунктирность фабулы, незаполненность интерва-
лов между событиями, нерасшифрованность предысторий, пре-
рывистость исповеди — все это просто исключает ясные пере-
ходы от одного ряда мотивировок к другому и, в частности,
возможность их распределения по ступеням какой-то иерархии.
96 Григорьев Ап. Собр. соч. Под ред. В. Ф. Саводника. Вып. 7.
М., 1915, с. 2.
57
Получается, что в романе Лермонтова психологический ана-
лиз приводит в конце концов' к такому же, в сущности, результа-
ту, какой у Пушкина или у Гоголя во многом обеспечен как
раз его приглушенностью или его отсутствием. Перспективы
осмысления и оценки изображаемого и здесь оказываются неогра-
ниченными. Драма Печорина (также, как судьбы Онегина или
Чичикова) обретает в разных ракурсах различные смыслы,
и смыслы эти колеблются в пределах такой же широкой ампли-
туды. И опять различные планы совмещаются, не образуя зам-
кнутой, внутренне плотной системы. Фрагментарная конструк-
ция романа на свой лад оправдывает возможность сопрягать
их, не проясняя их сцепления. Сущность печоринского характе-
ра оказывается (если можно так выразиться) «движущей тайной»:
трагическое содержание образа перерастает любые мотивировки,
уходя в какую-то неопределенную (и потому беспредельную)
глубину.
* *
*
Законы, о которых говорилось выше, определили не только
структуру формирующегося реалистического характера. Они
проявлялись и в особенностях изображения эпохи, выступающей
в романах первых русских реалистов как фон, движущая сила
и арена действия.
В каждом из трех интересующих нас романов современная
эпоха увидена в ином ракурсе и воссоздана иными средствами.
Но очевидно родство оснований, на которых зиждется многооб-
разие становящихся форм реалистического историзма в «Евге-
нии Онегине», «Герое нашего времени»; «Мертвых душах». Карти-
на эпохи оказывается здесь такой же многомерной, сопрягающей
реальности разного порядка, как и вырастающие на ее фоне
образы героев. Этап национальной истории, определенный фазис
русского общественного развития может быть воспринят и как
преломление некоего всемирно-исторического кризиса. Возможен
и такой ракурс восприятия, в котором современность предстает
моментом резкого обострения (или обнажения) извечных про-
тиворечий бытия. И все эти равно возможные (хотя и в разной
мере очевидные) планы интерпретации так же не сомкнуты
в «плотную» систему.
Поэтому герой и эпоха вписываются в единую картину ми-
ра, воплотившую своеобразие творческих принципов раннего рус-
ского реализма. Возникает еще небывалая, парадоксальная це-
лостность, объединяющая несоизмеримые прежде художествен-
но-смысловые реальности, не отменяя их принципиального разли-
чия, не сводя их к «общему знаменателю».
За внутриструктурными условиями такого объединения (сле-
дует заметить, что здесь они учтены далеко не полностью)
58
необходимо видеть общеэстетические причины, определяющие
возможность и необходимость синтеза. Причины этого доста-
точно глубоки. Есть все основания говорить о том, что уже
первые романы великих русских реалистов выражали их устре-
мленность к «реализму в высшем смысле» (по выражению
Достоевского). Об этом свидетельствует хрупкость, а порой
и неуловимость граней, отделяющих ранний русский реализм
от романтизма.97
Первые русские реалисты не добиваются того резкого отме-
жевания от дореалистической литературы, которое в эпоху нату-
ральной школы будет определять пафос нового направления.
Вернее, поначалу каждый из них увлекается задачей подобного
отмежевания (вспомним хотя бы демонстративный «бытовизм»
первых глав гоголевской поэмы или ощутимое отделение героя
от автора в первой главе «Онегина», в первых повестях «Героя
нашего времени»). Но по мере того как поставленная задача
близилась к разрешению, каждый из трех романистов проявлял
очевидное нежелание ограничиться ею и столь же очевидное
стремление использовать в новых целях ценнейшие элементы
предшествующих поэтических традиций. (В отношении романти-
ческой поэтики это облегчалось еще не утраченным обаянием
ее новизны, в какой-то мере сохранившимся даже на пороге
40-х годов.)
Для первых русских реалистов действительность была «всем:
монистически понимаемая», она «подлежит обличению и суду
и она же является источником высших жизненных ценностей».98
Но важно уловить, какую беспредельность обретала эта «мони-
стически понимаемая» действительность в романах, о которых
идет речь. Осваивая фактическую реальность общественной и ча-
стной жизни людей/ стремясь передать могучую осязаемость
стихийных процессов природы, ранний реалистический роман едва
ли не с такой же силой устремляется и за пределы этой реаль-
ности — к «последним» сущностям общества, человека, мира.
И, уподобляясь в этом произведениям романтиков, не ограни-
чивает себя только тем, что доступно человеческому умозрению
и чувственному опыту. Так входят в художественный кругозор
реалистического сознания трансцендентные категории, унасле-
дованные от романтического (и вообще дореалистического) ис-
кусства. Но входят на иных правах и роль получают, в сущности,
совсем иную.99
9 7 Достаточно красноречива и общеизвестная закономерность отождествле-
ния обоих направлений в теоретическом сознании писателей и критиков 1820—
1830-х годов.
98 Гинзбург Л. О психологической прозе, с. 294.
99 Становящийся реализм отличался от романтизма именно особым соот-
ношением эмпирического плана с планом сверхэмпирическим (а не отсутствием
этого последнего, как иногда считают). Высокий иерархический ранг «мисте-
риальных» категорий сохранялся поначалу и в реалистическом романе. Однако
их традиционные, ценностные, преимущества уравновешивались некоторыми
59
В реалистических художественных системах «мистериальный»
план уже не выполнял той функции, которая отводилась тран-
сцендентному традицией романтизма. «Мистериальное» уже не
было последней ступенью понимания изображаемого, снимающей
мотивировки более «низких» уровней.. Действовало другое: намек
на эту глубинную смысловую перспективу вносил в романы
Пушкина, Лермонтова, Гоголя ощущение безграничности и неис-
черпаемости бытия, ощущение бесконечного многообразия его
сфер, предчувствие непредсказуемых откровений. Присутствие
«мистериального» плана, его параллельное и «открытое» сосу-
ществование с другими планами (по-разному реальными и по-раз-
ному перспективными) максимально расковывало поэтическую
мысль, обретавшую таким образом возможность движения дейст-
вительно во все стороны. Наконец, включая в себя. «мистериаль-
ный» план, реалистические романы заряжались духовной энер-
гией максимализма, той жаждой абсолютного разрешения всех
противоречий бытия, в которой нередко видят отличительную
примету романтического искусства.
Ранний русский реализм отделен от романтизма прежде всего
иным пониманием многомерности мира. Романтизм при всей
своей подвижности неизменно сохранял верность принципу ду-
ализма. Мир не просто делился на сферы, которым приписыва-
лись принципиально разное содержание и принципиально раз-
ная ценность. В романтическом сознании эти разные реальности
были так или иначе противопоставлены друг другу. Противо-
поставление могло принимать форму непримиримого конфликта,
обнаруживающего несоединимость конечного и бесконечного, ма-
териального и сверхчувственного, идеального и реального и т. п.
Так решал проблему поздний романтизм (байронизм прежде
всего). Существовала и другая, более ранняя форма, еще скры-
вающая и даже как будто бы исключающая противопоставле-
ние различных начал бытия. В творчестве иенских романтиков
бесконечное («мистериальное», иногда мистическое) как бы «про-
низывало изнутри конечность эмпирических явлений».100 Но раз-
личные сферы бытия и здесь не слиты: их абсолютная иерархи-
иными свойствами собственно романных, «прозаических» стихий: философско-
эстетической реабилитацией «наличной» действительности (столь характерной
для раннего реализма), а также преимуществами очевидности, «верифицирован-
ности», обязательности, которыми обладал эмпирический план. Реальности
эмпирические и высшие могли здесь объединиться лишь постольку, поскольку
вторые были обозначены только намеком и поскольку весь образуемый ими
план даже у Гоголя не вводился с такой степенью принудительности, с какой
входили в читательское восприятие эмпирические реальности. В силу этой за-
кономерности некоторые моменты идеологических позиций первых реалистов
(например, «пророческая» религиозность того же Гоголя) неизбежно при-
обретали здесь, в художественном контексте романа, иное, чем за его пределами,
новое качество.
100 Берковский Н Я. Романтизм в Германии. Л., 1973, с. 28—29.
60
ческая несоизмеримость и здесь создает отношение полярностей.
Реализм «начинается» с ощущения единства бытия и не-
разрывности всех его многоразличных сфер. Все они восприни-
маются теперь как слагаемые неделимой целостности. Что свя-
зывает столь разнородные и взаимоудаленные ее части, пока
неясно. Однако реалистическая литература еще и не стремится
к ясному решению проблемы. Сама эта проблема, по-видимому,
еще не встала: она встанет позднее, и тогда начнется стремитель-
ное развитие толстовской «диалектики души» (с ее способностью
непосредственно воссоздавать всю полноту человеческого сущест-
вования), тогда возникнет «идеологический» роман Достоевского
(с присущим ему органическим взаимопроникновением социаль-
ности и психологизма, мифологизма и философичности). Новые
* формы помогут заполнить смысловые «пропуски», которые оста-
вляли «неплотные» структуры, типичные для раннего реализма.
Но пока реалистический роман еще в этом не нуждается. Пока
важно просто почувствовать, воспринять как истину самую идею
единства мира — всего, что принято было разделять и про-
тивопоставлять._.Это освобождающее и воодушевляющее чувство
побуждало первых русских реалистов объединять разнородное
и разнокачественное, не проясняя взаимосвязи объединяемых
сфер и вообще не сводя концы с концами. Таковы предпосылки
многомерной и «неплотной» образной системы, художественной
опорой которой стал символический подтекст.
Символический подтекст естественно вырастал изнутри много-
мерной и «неплотной» структуры раннего реалистического рома-
на и естественно оказывался одной из главных объединяющих
и «завершающих» ее сил. Ъез него она просто не смогла бы
сложиться. Конечно, здесь действовали и другие, не менее важ-
ные силы художественной интеграции: жанровая гибридность
раннего реалистического романа, ощутимость в нем духовного
присутствия автора, личностного авторского пафоса. И все-таки
осуществляемый синтез был бы невозможен без внутренней
опоры, возникающей как бы независимо от авторской воли, от
очевидной авторской активности.
Символизация помогла воплотить в образах заново открытую
реализмом целостность бытия. Символизация создавала подлинно
художественную взаимосвязь разнородных элементов новой си-
стемы. Включая «мистериальный» план в становящийся образный
мир реалистического эпоса, символизация воссоединяла его с дру-
гими смысловыми планами, координируя, завершая, неразрывно
связывая все.
Синтезу различных планов бытия способствовали важнейшие
свойства именно символической образности. И «сверхдетермини-
' рованная» природа символических мотивов, их способность соз-
давать связи совершенно особого рода — не ощутимые непосред-
ственно, но и непостижимые рационально. И парадоксальное
соотношение выражения и смысла — предполагающее их не-
61
тождественность и одновременно неотделимость друг от друга.101
И особое качество символического обобщения — его способность
имплицитно содержать в себе «все символизируемое, хотя бы оно
и было бесконечно».102
Vх В пору становления реализма символика (и потенциальная
символика в особенности) помогла соединить ощутимое, узна-
ваемое, явное с невыразимым, непознанным, возможным. Симво-
лический подтекст служил той формой внутренней связи, кото-
рая позволяла без малейшего оттенка искусственности сопрягать
универсалии глобального и вселенского порядка с конкретнейши-
ми социально-историческими, бытовыми, психологическими реа-
лиями. Символический подтекст обеспечил легкость тех смыс-
ловых сдвигов, которыми создавалась возможность «двойной»
перспективы изображения, открывающей в глубине индивидуаль-
ного, социально-типового, эпохального — общенациональное, все-
человеческое, извечное. В то же время внутренняя диалектика
символического подтекста, рождая неисчерпаемое богатство уни-
версальных- смысловых потенций, связывала их с определенно-
стью единственных и незаменимых эмпирических образов, удер-
живая от расплывания в «дурной» бесконечности.
В итоге «вчерашние» противоположности теперь взаимно уси-
ливали друг друга. Глубинные универсальные смыслы обретали
силу и могли вызывать обостренный читательский интерес благо-
даря своей связи с конкретными реалиями обыденной жизни.
В то же время узнаваемо близкое читателю «фактическое» содер-
жание романа обретало неисчерпаемую многозначность и значи-
тельность благодаря открывавшейся глубинной перспективе. Ро-
ман как бы устраивал читателю «встречу» с привычными житей-
скими условиями, ситуациями, проблемами, но при этом использо-
вал логику «узнавания» для того, чтобы в конце концов вывести
читателя за ее границы — к возможности охватить и постигнуть
«целокупность» мира, к абсолютным социально-нравственным
идеалам, к миру высших ценностей духа.
«Символический реализм»,103 нашедший воплощение в «Евге-
нии Онегине», «Герое нашего времени»,- «Мертвых душах» (как,
впрочем, и за пределами этих романов — в «маленьких траге-
диях», «Пиковой даме», «Медном всаднике», петербургских по-
вестях Гоголя и т. д.), явно выражал объективную потребность
времени. Не пытаясь выяснить всю, по-видимому, достаточно
сложную совокупность причин, вызвавших к жизни эту форму
художественного синтеза, отметим пока лишь то, что без коле-
101 «Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа
как два полюса, немыслимые один без другого, но и разведенные между собой
и порождающие между собой напряжение, в котором и состоит сущность
символа» (Аверинцев С. С. Символ.— Краткая лит. энциклопедия. Т. 6.
М., 1971, стлб. 826).
102 Лосев А. Ф. Указ, соч., с. 66.
103 Это понятие неоднократно использовал в применении к пушкинской
эпохе В. В. Виноградов.
62
бания можно признать главным — своеобразие исторической
ситуации, в силу которой литература становилась «универсаль-
ной формой общественного сознания», средоточием националь-
ной жизни.104 Такая ситуация, сложившаяся в России между
1825 и 1856 гг., в пору политического «безвременья», поставила
перед литературой задачи небывалой сложности. О характере
этих задач уже не раз говорилось. Напомним лишь, что поиски
«русских ответов» на общечеловеческие вопросы требовали пре-
дельной активизации образного мышления.
К этому обязывало своеобразие самого «материала» русской
общественной жизни, являвшей картину «несоединяемых поляр-
ностей, между которыми нет последовательной цепи переходных
ступеней, а — зияние».105 К этому вело нараставшее разочаро-
вание в возможностях рационального мышления (пока — просве-
тительского), питаемое драматическим опытом европейских ре-
волюций и восстания декабристов. Это вытекало из устремлен-
ности к абсолютным идеалам, перераставшим все предвидимые
перспективы исторического развития (абсолютный идеал «всегда
находил в себе приют в художественном образе»).106 \
«Символический реализм» первых русских романов был
своеобразным ответом искусства на потребность, созданную исто-
рией. В поэтике «Евгения Онегина», «Героя нашего времени»,
«Мертвых душ» достигали наивысшего напряжения такие свой-
ства образа, как смысловая многогранность, многозначность и
неисчерпаемость, как его способность отражать именно целост-
ность бытия, восполняя недостаточность наличных связей «орга-
ническим сопряжением всего существующего»107 108 и т. п. Напря-
жение этих «обычных» возможностей образа резко превысило
здесь «обычный» предел: в символическом подтексте первых
реалистических романов русской литературы образ явно выходил
за свои собственные пределы и за пределы чисто художественной
стороны произведения.10 8 Но символизация выводила к надэстети-
ческим сферам подлинно художественными путями, и то надэсте-
тическое содержание, которое возвещало о себе через посредство
символической образности, не могло быть выражено как-либо ина-
че. Можно сказать, что оно и не могло существовать вне этой
собственно художественной реальности. Искусство, таким обра-
зом, перерастало самое себя, не изменяя в то же время своей
природе. Именно этого требовала в последекабрьскую эпоху
беспрецедентная общественно-историческая ситуация.
104 Гачев Г. Д. Развитие образного сознания в литературе.— В кн.:
Теория литературы: Основные проблемы в историческом освещении: Образ,
метод, характер. М., 1962, с. 259.
105 Там же, с. 261.
106 Палиевский П. В. Внутренняя структура образа.— В кн.: Теория
литературы: Основные проблемы в историческом освещении: Образ, метод,
характер. М., 1962, с. 108.
107 Там же, с. 167—168.
108 Лосев А. Ф. Указ, соч., с. 145.
63
Глава 2
СХЕМА И ДИСКУССИЯ
В РОМАНАХ НАТУРАЛЬНОЙ школы
(ГЕРЦЕН И ГОНЧАРОВ)
В наших суждениях о натуральной школе проявляется не-
которая односторонность. Мы довольно много и, в общем, спра-
ведливо говорим .о ее художественных завоеваниях. Однако при
этом часто остается в тени потенциальная, но грозная для
искусства опасность, которая таилась в ее поэтике и, глубже,
в самой ее художественной философии.
Поиски нового понимания действительности приводили
многих писателей натуральной школы к очень авторитетному
в 1840-х годах комплексу социально-философских идей, связан-
ных с различными вариантами просветительства, антропологи-
ческого материализма и утопического социализма (наиболее важ-
ная роль принадлежала здесь фейербахианским и фурьеристским
идеям). Некоторое тяготение к этому комплексу (будем называть
его для краткости антропологическим) пробивается даже в «фи-
зиологических» очерках 40-х годов, особенно в очерках середины
десятилетия. Еще отчетливее такое тяготение в сюжетной прозе
натуральной школы — в жанрах повести и романа.
Тяготение это, разумеется, не было случайным. Антрополо-
гическая социально-философская мысль выдвигала идеи и прин-
ципы, обладавшие неотразимой привлекательностью для писате-
лей-реалистов. Важнейшим из них был принцип антропоцентриз-
ма, активно утверждаемый последователямЦ^Фейёрбаха
Выл принят за единственную «точку отсчета»’ в решении лю-
бых проблем, и бселГ^мирё^пад значение лишь
по отношению к нему, в связи с ним. В отношениях между
обществом й'“челбвёком обществу отводилась служебная роль.
Не человек должен приспосабливаться к рбще'ствуГа общество
к человеку — только такая логика признавалась нормальной.
Удовлетворительным и полноценным состоянием человека счи- /
талось' лишь такое, в котором все человеческие потребности >
и возможности осуществлялись бы полностью и без противоре-
64 '
чия (в этом пункте теснее всего сходились фейербахианство
и фурьеризм). Наконец, складывался идеал гармонической об-
щественной связи, исключающей любые формы подчинения лю-
дей отчужденным от них социальным силам и нормам, и вместе
с тем — грандиозный идеал прогресса, обновляющего не только
общественный строй, но и всю человеческую жизнь в целом.
Поборники антропологических идей приравнивали все подлин-
но человеческое к природному: именно этот ход мысли позво-
лял поставить «природу человека» (как величину первичную,
вечную и неизменную) выше всех общественных форм (как
величин преходящих и переменных). Такое обоснование по су-
ществу уничтожало специфичность человеческого бытия: собст-
венно человеческое сводилось к нечеловеческому, а тем самым
фактически сводился на нет декларируемый мыслителями 40-х
годов антропоцентризм. К тому же антропологические пред-
ставления о человеческой природе отличались такой мерой одно-
сторонности, которая исключала возможность диалектического
понимания ее сущности. Противоречия человеческой жизни и соз-
нания относились за счет разницы между «естественным» и «ис-
каженным», т. е. выносились за пределы подлинной природы
человека. Поэтому идеал гармонического состояния создавался
ценой рационалистических упрощений, а требование приспосо-
бить общество к человеку оборачивалось своей противополож-
ностью: общество предполагалось приспосабливать не к действи-
тельно существующим конкретным людям, не к их конкретным
и живым потребностям, а к рационалистически понятой родо-
вой сущности человечества, т. е. к некоей абстракции, к теоре-
тически сконструированной идеальной схеме. Практически это
означало, что конкретные, живые люди должны будут подчи-
ниться отчужденной от них социальной норме.
Наконец, прогресс представлялся поборникам антропологи-
ческих идей процессом изначально целенаправленным и пред-
определенным. Такое представление снимало на известном уров-
не проблему человеческой свободы, превращая человека в орудие
достижения не им выдвинутой и стоящей над ним высшей
цели. Словом, антропологические идеи несли в себе гибельный
для искусства дух механистического схематизма. Конечно, кру-
пнейшие из передовых русских мыслителей 1840-х годов (Белин-
ский и Герцен прежде всего) вносили в эту систему идей те
или иные диалектические поправки, но коррективы любого
свойства не могли изменить механистической основы сформиро-
ванных ею представлений о мире и человеке.
Реалистическая литература 40-х годов оказалась, таким обра-
зом, перед соблазном, который заключал в себе нечто дейст-
вительно ценное и необходимое для нее и в то же время мог
подчинить ее чуждым ей антидиалектическим социально-фило-
софским тенденциям. Попытаемся выяснить, как отразилось на
творческих исканиях писателей натуральной школы это объектив-
3 В. М. Маркови
65
ное противоречие художественного прогресса. Этот вопрос инте-
ресно рассмотреть прежде всего на примере романа Герцена
«Кто виноват?»: ведь среди романистов «натуральной школы»
Герцен имел, пожалуй, самое непосредственное отношение к той
системе идей, о которой мы только что говорили. Можно сказать,
что Герцен-теоретик, Герцен-публицист сам создавал'ту идеоло-
гическую атмосферу, в которой оказался Герцен-художник.
О роли диалогического конфликта
в романе Герцена «Кто виноват?»
Обращаясь к роману Герцена «Кто виноват?», уместно вспом-
нить некоторые суждения Белинского о нем. Оценка Белинского
явно раздваивается и любопытно отметить, что устраивает, а
что не устраивает критика. Устраивает первая часть романа
и не устраивает вторая, в особенности — те превращения, кото-
рые претерпевает в ней образ главного героя. «Во второй части
романа,— пишет Белинский,— характер Бельтова произвольно из-
менен автором».1 По мнению критика, первоначальная основа
образа сводилась к тому, что «это был человек, жаждавший
полезной деятельности и ни в чем не находивший ее по причи-
не ложного воспитания». Белинский намекает далее на обуслов-
ленность судьбы Бельтова объективными законами русской об-
щественной жизни, подчеркивая, что «все это не только сказано,
но и показано автором мастерски». «Но в последноей части
романа Бельтов вдруг является перед нами какою-то высшею...
натурою, для деятельности которой действительность не пред-
ставляет достойного поприща... Это уже совсем не тот человек,
с которым мы так хорошо познакомились прежде; это уже
не Бельтов, а что-то вроде Печорина... Не понимаем, зачем
автору нужно было с своей дороги сойти на чужую!».1 2
Вероятно, не стоит затевать запоздалый спор о том, что
оказалось для Герцена «своей» дорогой. Полезнее обратить
внимание на другое. Ведь в главном своем утверждении Белин-
ский был прав: художественная природа «Кто виноват?» дейст-
вительно внутренне неоднородна.
В первой части романа очень сильны художественные тенден-
ции, прямо восходящие к поэтике «физиологического» очерка.
Удельный вес сюжетного действия здесь значительно уступает
удельному весу развернутых биографических «историй», они-то
и служат главным средством характеристики всех основных пер-
сонажей. В определенном смысле сюжетное действие оказывается
второстепенным, даже. вторичным по отношению к биографиям.
Зачастую оно лишь реализует то содержание характеров, кото-
рое уже в основном раскрыто и объяснено биографиями. Что
1 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 10. М., 1956, с. 321.
2 Там же, с. 321—322.
66
касается самого «биографического» метода характеристики, то его
очерковая природа очевидна: биографии «приближаются» к сущ-
ности характера, прослеживая путь его формирования, устанав-
ливая, каковы формирующие характер объективные факторы,
выясняя направленья и результаты взаимодействия этих факто-
ров. Именно так строились биографические фрагменты «физио-
логических» очерков,. а иногда и целые очерки, если они были
посвящены одному персонажу.
Очевидно и то, что в первой части «Кто виноват?» главной
движущей силой повествования является не динамика сюжета,
а прямо выраженная аналитическая мысль автора, то и дело
принимающая субъективно-публицистическую форму. Это опять-
таки особенность, характерная для «очеркового» способа изоб-
ражения действительности (она не исчезает и во второй части
романа, но именно в первой ей открыто и демонстративно при-
дается главенствующая роль). Обращает на себя внимание \
субъективное мотивирование связок и переходов в повествовании, \
организующая роль непринужденной беседы с читателем, которую ;
то и дело ведет автор, оправдывая таким образом свое прямое
вмешательство в развитие сюжета. Подобная повествовательная
техника активно использовалась еще в прозе XVIII в. и в своем
первоначальном качестве выглядела уже несколько архаичной
к началу 1840-х годов. Но войдя в арсенал «физиологического»/
очерка, она приобрела новый художественный смысл, обеспечивV
развертывание «нравоописательной» (т. е. не опирающейся на сю-ь
жет) аналитической характеристики социальных типов — сослов-
но-классовых, профессиональных, бытовых и пр.
В той мере, в какой «очерковая» тенденция реализуется
и преобладает в первой части романа Герцена, характеры его
персонажей определяются формирующим воздействием объек-
тивных условий общественной жизни. Однако в той же первой
части можно выделить несколько вариантов конфликтной сю-
жетной динамики, противоречиво взаимодействующих с описа-
тельно-аналитической «статикой». Конфликтные ситуации появ-
ляются уже в биографиях Дмитрия Круциферского и Любоньки,
а в сюжетном действии конфликт персонажей с окружающей
средой выдвигается на первый план. Правда, в конце первой
части он как будто сводится на нет благополучным исходом
скандала в доме Негровых. Но как бы то ни было, столкновение
характера с объективными обстоятельствами, определяющими
человеческую жизнь, открывает в характере содержание, не за-
данное этими обстоятельствами.
Объективным результатом взаимодействия двух тенденций
оказывается четкая художественно-философская антитеза, типич-
ная для произведений писателей «натуральной школы».. С,одной
стороны — среда, понятая очень широко (как весь строй общест-
венной жизни в целом) и выступающая как чуждая человеку,
но властвующая над ним «неправая» внешняя сила. С другой — ,
з*
67
человек как невольная и невиновная жертва этой силы. Откло-
нениями* такой схемы, разумеется, есть: к ним время от времени
неизбежно приводит движение авторской мысли — раскованной,
ироничной, парадоксальной, иногда играющей своими богатыми
возможностями (и потому легко выходящей за любые положен-
ные ей границы). Но это именно отклонения, не противопостав-
ляющие основной схеме какой-либо иной устойчивый принцип
осмысления материала. Антиномия «человек — среда» явно доми-
нирует в первой части «Кто виноват?» и прочно связывает роман
с комплексом антропологических идей, выдвигавших эту антино-
мию в качестве обязательной исходной посылки для решения
социальных и нравственных проблем.
Переходу ко второй части романа сопутствует своеобразный
качественный скачок, существенно изменяющий исходное соотно-
шение величин. Белинский точно подметил наглядный симптом
перемены — перестройку образа Бельтова. Если в первой части
характер героя представал в фвоей обусловленности «локальны-
ми» социально-историческими .факторами (и этому не мешали,
и напротив, способствовали напоминания о естественных все-
общих законах человеческой природы), то во второй части раз-
витие образа выводит к более широким жизненным противоре-
чиям и проблемам.
* *
*
Почему становится возможной такая перемена? Легко заме-
тить, что вторая часть вводит в роман новую и как будто бы
качественно иную тему. Это любовная драма трех главных
действующих лиц, созданная естественными конфликтами чело-
веческих чувств и непосредственно почти не зависящая от воз-
действий окружающей героев среды. Трагический любовный «тре-
угольник» второй части легко соотносится с общечеловеческими
коллизиями, способными проявиться в разные эпохи и в совер-
шенно разных социальных условиях. Казалось бы, появляется
источник принципиального переосмысления изображаемых ха-
рактеров и ситуаций.
Однако Ю. В. Манн прав, когда доказывает, что в романе
Герцена «общечеловеческая ситуация «инструментирована» со-
циально».3 Биографический метод объяснения характеров, актив-
но действовавший в первой части, распространяет свою власть
и на осмысление любовной темы за ее пределами. Именно био-
графии персонажей выявляют и раскрывают все то, что окажется
потом психологическим «фундаментом» драматической ситуации.
Очевидно, что такая ситуация, в принципе, могла бы сложиться
и в другое время, в других условиях. Но столь же очевидно то,
что этот конкретный «случай» обусловлен вполне «локальными»,
3 Ма н н Ю. В. Философия и поэтика «натуральной школы».— В кн.:
Проблемы типологии русского реализма. М., 1969, с. 265.
68
типичными для России 30—40-х годов социальными причинами.
Связь любовной драмы с ее объективными социальными пред-
посылками оказывается у Герцена отдаленной и опосредованной,
но она реальна, непреложна и отчетливо прослежена по всем
главным линиям. Йолучается, что. любовная тема, при всем ее *
общечеловеческом и вневременном потенциале, сама по себе )
бессильна разомкнуть жесткую социологическую детерминирован-
ность персонажей и их сюжетных судеб.
По-видимому, перемена создается действием какой-то другой
структурообразующей силы. Обратим внимание на то, что именно
во второй части романа по-настоящему развертывается так на-
зываемый диалогический конфликт. Этот тип конфликта подробно
охарактеризован в уже упоминавшейся работе Ю. В. Манна,
причем категория конфликта трактуется им не совсем обычно —
как конструктивная установка, определяющая особенности орга-
низации произведения. По наблюдениям исследователя, суть диа-
логического конфликта сводится к тому, что противоположные
(чаще всего взаимоисключающие) субъективные точки зрения
сталкиваются на фоне самой действительности, обнаруживая
перед ней свою односторонность и недостаточность и тем самым
выявляя, косвенным образом, ее широту и неисчерпаемую слож-
ность. Сталкиваемые точки зрения принадлежат персонажам,
авторская позиция' отграничена от них — только при этом усло-
вии диалогический конфликт может развернуться. Ю. В. Манн
показывает, что такая схема повторяется в самых разных про-
изведениях «натуральной школы» — с различным смысловым на-
полнением, но сохраняя свою основную структурную, «форму-
лу». 4
Действует эта схема и в романе «Кто виноват?». Во II главе
второй части спорят Крупов и Круциферский. Любоньке отведена
в их споре особая роль, близкая к роли арбитра (распределение
ролей здесь отчасти напоминает «Обыкновенную историю» Гон-
чарова). В IV главе той же части главной спорящей «стороной»
является уже Бельтов, его оппонентами оказываются Крупов
и учитель Бельтова Жозеф, о прежнем разговоре с которым
герой здесь вспоминает. Далее, V глава начинается спором
Бельтова и Любоньки, внезапно разрешившимся объяснением
в любви. И наконец, в VI главе, перед самым концом романа,
вновь сталкиваются точки зрения Бельтова и Крупова.
Основной формой развертывания конфликта являются диалоги
персонажей: именно в них он выражается прямо и открыто.
Но прямыми столкновениями спорящих «голосов» дело* не огра-
ничивается. У Герцена нередко образуются конфликтно-диало-
.гические смысловые связи между разными диалогами, и обра-
зуются они своеобразными тематическими перекличками: мотив,
выдвинутый в споре одним персонажем, в каком-то более позд-
\ 4 Там же, с. 99—101.
69
' нем диалоге переходит к другому, иногда к оппоненту первого,
и получает благодаря этому новый смысл. Так, мысль о том,
что человеку хорошо лишь тогда, когда он один и «сам себе
довлеет», сначала высказывается Круповым в диалоге II главы
второй части, но потом ту же мысль в ином контексте разовьет
Бельтов, сообщая ей в диалогах IV и V глав глубокий и на-
пряженный нравственно-философский пафос.
Диалоги персонажей втягиваются в многообразное взаимо-
действие с авторским повествованием. Бывает так, что авторское
повествование (рассуждение, характеристика, ремарка, рассказ)
вводит какую-то дискуссионную тему (иногда уже прямо в. диа-
логизированной форме), а потом эта тема переходит в диалоги
персонажей, становясь пунктом столкновения спорящих «голо-
сов». Такова судьба авторского рассуждения по поводу того,
что является для человека высшим благом — довольство или
развитие. Проблема эта, поставленная во II главе первой части,
косвенно затрагивается потом почти во всех спорах персонажей
и, наконец, выдвигается во главу угла в диалоге Бельтова
и Крупова в заключительной главе романа.
Возможен и более сложный вариант такого же взаимодейст-
вия: несколько мыслей или даже различных по своему содер-
жанию оттенков мысли, мимоходом намеченных в едином автор-
ском рассуждении, затем оборачиваются в диалогах персонажей
оспаривающими друг друга самостоятельными позициями. На-
пример, рассуждения автора о драматической судьбе Бельтова
(VH глава первой части и I глава второй) содержат в себе
разные варианты объяснения драмы. Один из них указывает
на универсальный и таинственный закон жизни («Неужели силы
у человека развиваются в таком определенном количестве, что
если они потребятся в молодости, так к совершеннолетию ничего
не останется?».5 Другой напоминает о барском положении героя,
позволяющем ему сколько угодно менять формы деятельности,
всюду оставаясь дилетантом. Третий связывает бездействие Бель-
това с общим характером существующего в России социального
порядка, с бесперспективностью современной исторической ситуа-
ции. В авторском повествовании все три тенденции соседствуют,
иногда даже переплетаются. А потом, в диалогах IV главы второй
части они превратятся в три разные точки зрения (Круцифер-
ского, Крупова, Бельтова), которые вступят в полемическое про-
тивоборство.
Бывает и так, что авторское повествование нередко «под-
хватывает» дискуссионные мотивы, выдвинутые диалогами пер-
сонажей— одни мнения поддерживает, другие опровергает, что-то
корректирует, уточняет, дополняет. Иногда автор синтезирует
враждебные в диалогах тезисы персонажей. Так строится/
5 Текст романа «Кто виноват» цитируется по изданию: Гер це н . А. И.
Соч. в 9-ти т. Т. 1. М., 1955, с. 215.— Далее ссылки на это издание приво-
дятся в тексте. ,_ <
70
в IV главе второй части авторская характеристика Дмитрия
Круциферского, включающая в сложное единство многие объяс-
нения и оценки, сопоставимые с точками зрения Любоньки
и Крупова — с теми, которые еще недавно непримиримо сталки-
вались в споре, воссозданном II главой той же части.
С борьбой мнений соотносится и сама объективная логика ,
раз_Витйя Действия. Повороты й объективные итоги развития
сюжету тоже подтверждают или опровергают, корректируют или
дополняют точки зрения, сталкиваемые в диалогах персонажей.
Нередко эти повороты и итоги сами оказываются предметом
полемического обсуждения. В общем, диалогический конфликт
развивается по мере того, как противоборство «голосов» внутри
диалогов распространяет свое влияние за их пределы и вовле-
кает в свое движение некоторые другие компоненты романа.
Собственно, только такое взаимодействие различных структурных
величин делает диалогический конфликт конфликтом — т. ё. кон-
структивным фактором, определяющим организацию произве-
дения.
* *
. ।
*
Диалогический конфликт резко изменяет не только строение
сюжета, но и самый характер изображения ситуаций, самый"
принцип осмысления изображаемого: внутренняя перестройка
структуры оборачивается глубокими содержательными сдвигами.
Если развитие любовной темы само по себе еще не выводит
за пределы жестких социологических мотивировок, то разверты-
вание диалогического конфликта почти сразу же делает это
возможным. И неудивительно: диалог в большей степени, чем
какой-либо другой компонент романа, обладает необходимым
для этого потенциалом. В самой природе диалога заключена
возможность перехода на любой уровень осмысления его пред-
мета. И уровень,’и характер обсуждения темы всецело зависят
здесь от угла зрения, выбранного говорящими, и в принципе
всегда могут быть изменены, стоит лишь изменить обусловли-
вающее их направление разговора.6 Герцен чрезвычайно активно
использует возможности диалогической формы: почти все диалоги
второй части романа чуть ли не сразу получают характер фи-
лософских споров и как бы «взлетают» на уровень, универса-
лизирующий обсуждаемое.
Заходит, например, спор о том, случайно ли счастье супругов
Круциферских, можно ли считать его заслуженным и надеяться
на его прочность, какой вариант поведения для этих людей
6 Разумеется, для того чтобы переориентация оказалась существенной
и серьезной, она должна быть поддержана сюжетным контекстом диалога —
в противном случае его новая смысловая направленность просто «повиснет
в воздухе».
71
наилучшии и т. д., как движение диалога тут же устремляется
к неизмеримо более широким проблемам. И вот уже идет дис-
куссия о том, обладает ли все происходящее в человеческой
жизни каким-то высшим смыслом, действуют ли в ней такие
категории, как справедливость, возмездие, награда? Что достой-
нее — веровать в провидение или признавать власть случайно-
стей? Что обладает более высокой нравственной ценностью —
стремление к независимости и покою или любовь и семейное
счастье? Направление спора связывает вполне локальную си-
туацию (обусловленную конкретными социальными конф-
ликтами и аномалиями) с вечными вопросами и коренными про-
тиворечиями бытия. Позднее развертывается спор о причинах,
обрекающих Бельтова на участь «лишнего человека»,— и тут
спорящие не ограничиваются локальным социологическим объяс-
нением. Проблема включается в круг универсальных коллизий,
таких, как «человек и природа», «человек и история» и т. п.
Даже любовное объяснение Бельтова и Любоньки перерастает
в спор о принципах, тут же вознося предмет разговора на уро-
вень всеобщих проблем. Речь почти сразу заходит именно об
универсальных проблемах: почему любовь к одному человеку
должна-мешать любви к другому, почему любовь этого другого
человек^ не дает ему таких прав, какие любовь дает первому?
Переходы к философским вопросам могут и не быть столь стре-
мительными, но так или иначе они всегда совершаются и не-
изменно выявляют в изображаемых ситуациях общечеловеческое
содержание.
Освещение изображаемых ситуаций оказывается, таким обра-
зом, двойственным, совмещающим социально-исторический и уни-
версально-философский подходы к материалу. По мере того как
эта двойственность превращается в норму (а на протяжении
второй части «Кто виноват?» такая тенденция проявляется все
более отчетливо), становится очевидной глубокая содержатель-
ность происходящего сдвига. Именно он приводит к тому, что
антиномия «человек — среда», почти непоколебимо господство-
вавшая в первой части, постепенно утрачивает свое монопольное
положение и свою первоначальную форму.
Первая часть осуществляла эту антиномию в согласии с ду-
хом механистического антропологизма. В свете антропологиче-
ских идей человеческая природа представлялась внутренне гармо-
ничной и по естеству своему не склонной к злу. Ее естественная
основа считалась независимой от законов и форм общественной
жизни и — в силу этого — неспособной до конца подчиниться
«искажающим» социальным воздействиям. Природа человека
и социальная среда противопоставлялись друг другу как вели-
чины несмешиваемые, однородные внутри себя и в сущности
своей подлежащие однозначной оценке. Их противопоставление
легко получало абсолютный характер.
В первой части романа «Кто виноват?» лишь отдельные
72
парадоксы автора выбиваются за пределы этой механистической
схемы (может быть, в какой-то мере подготавливая отход от
нее). Во второй части чистота ее нарушается существенными
осложнениями. Диалогический конфликт создает (или усиливает)
их в самых разных сферах.
Вот, например, одно из' них. Развитие сюжета создает ситуа-
цию, в которой дружба и супружеская любовь противостоят
иной форме человеческой связи (Бельтов называет ее «братст-
венным сочувствием» двух людей). «Этого рода симпатий нечего
ни развивать, ни подавлять; они просто выражают факт братст-
венного развития в двух лицах, где бы и как бы ни встретились
эти лица; если они узнают друг друга, если они поймут родство
свое, то каждый пожертвует, если обстоятельства потребуют,
всеми низшими степенями родства в пользу высшего» (I, 274—
275). Едва появляется такая близость в отношениях Бельтова
и Любоньки, как ее любящий муж (а его приятель) Дмитрий
Круциферский и ближайший, искренний друг обоих доктор Кру-
пов оказываются по отношению к этой паре в таком же точно
положении, какое занимало когда-то семейство крепостников
Негровых по отношению к той же Любоньке и самому Дмитрию
Круциферскому. Оказываются подвижными границы, разделяю-
щие противоположные полюсы антитезы. Человек, в одном отно-
шении явившийся жертвой среды (и продолжающий, по сути
дела, оставаться ее жертвой), в другом отношении сам занимает
ее место и играет ее роль. Этот мотив вводится авторским
повествованием, затем подхватывается «голосами» персонажей,
отзывается в их прямых, заочных и внутренних спорах (элемен-
ты спора с предполагаемыми оппонентами или с самим собой
очень заметны, например, в дневниковых записях Любоньки)
и, наконец, в диалоге Бельтова и Крупова (VI глава второй
части) становится одним из главных предметов ожесточенной
борьбы мнений. Постепенно вырисовывается и чем дальше, тем
острее звучит мысль о том, что одни хорошие, честные, любящие
люди всегда могут стать для других хороших, честных, любящих
людей таким же чуждым, косным, даже враждебным окруже-
нием, как пошлая и бесчеловечная помещичья среда. И конечная
причина тут не в социальных противоречиях и аномалиях, а в не
зависящей от них естественной разнице двух степеней челове-
ческой близости— высшей и низшей. Сама категория среды
перерастает сословно-классовые определения, представление
о ней связывается с особым типом человеческих взаимоотноше-
ний вообще: одни люди становятся «средой» для других людей
всюду и всегда, где и когда оказывается невозможным полное
взаимопонимание и сочувствие между ними.
' Если в этом случае диалоги персонажей лишь развивают
и заостряют непосредственно авторскую мысль, то во многих
других ситуациях источниками неожиданных нарушений исход-
ной схемы оказываются именно диалоги. В диалогах персонажей
73
оформляется мысль о внутренней противоречивости самой при-
/ роды человеческого общения, тема невозможности истинной гар-
монии между людьми.7 Диалоги вводят как острый дискуссион-
/ ный мотив мысль о естественности разлада между чувствами
1;и разумом человека.8 В спорах персонажей обнаруживаются
оборотные стороны главных человеческих потребностей и устрем-
лений, будь то потребность независимости или любви, довольст-
ва или развития, выясняется относительность каждой из ценно-
стей, определяющих смысл человеческой жизни.9 Но в итоге
споров тезис об изначальной внутренней чистоте и гармонич-
ности человеческой природы не заменяется выводом о ее извеч-
ной и неустранимой противоречивости. Человеческая природа
превращается в дискуссионную и проблематичную величину, фор-
мируется «диалогическое» представление о ней.
Усложняется не только представление о природе человека
/и не только проблема ее отграничения от среды. Становится
‘подвижной оценка взаимодействия двух этих начал. Ни одна
: из ситуаций второй части романа не может быть оценена одно-
рзначно. То, что хорошо с одной точки зрения, ужасно с другой:
д духовное развитие оборачивается для человека несчастьем, оди-
ночеством, гибелью; напротив, страдание, распадение семьи, веч-
ная неудовлетворенность оказываются предпосылками и усло-
г виями прозрения, настоящих взлетов духа, освобождения от
ограниченности и косности. В финале романа Любонька и Бельтов
несчастны и обречены, но ведь ясно, что эти люди обязаны
своей драме очень многим — неведомой им прежде глубиной
познания жизни, никогда прежде не испытанной душевной бли-
зостью, возможностью беспредельной любви, которую они все-
таки пережили. Категории «хорошо» и «плохо» не отменяются
в романе Герцена, однако, сохраняя свое традиционное значе-
ние, они то и дело сочетаются, а иногда и сталкиваются в оцен-
ке изображаемых ситуаций.
Можно говорить о том, что развитие диалогического конф-
ликта приводит к своеобразному взаимонаслаиванию нескольких
равноправных концепций. Наиболее заметна та, которая выдви-
гает принцип детерминизма, понятый в духе антропологических
идей. Она во всем винит общество, сформировавшее характеры
героев, связавшее их противоречивыми и запутанными отноше-
ниями и, наконец, замкнувшее всех троих в тесной сфере част-
ной жизни и интимных переживаний. Но рядом развертывается
другая, относительно самостоятельная идея мысль о естест-
венной противоречивости человеческих отношений, человеческих
7 Спор Крупова, Круциферского и Любоньки во II главе второй части,
их разговор с Бельтовым в IV главе, объяснение Бельтова и Любоньки bV гла-
ве.
8 Тот же диалог V главы, спор Бельтова с Круповым в VI главе.
9 Те же диалоги II, IV, V глав, а также диалог Бельтова и Жозефа,
воспроизведенный в IV главе.
74
чувств, человеческого сознания. И нет возможности утверждать,
“что роман соединяет то и другое в диалектическом синтезе.
Нельзя сказать, например, что универсальный план осмысления
изображаемого открывается «за» социологическими мотивиров-
ками как более глубокий смысловой «слой». Два плана раз-
вертываются параллельно, не смыкаясь, часто даже не вступая
в активное взаимодействие. Развитие сюжета не разрешает ни
. одной из поставленных в романе проблем. Напротив, все глубже
й очевиднее обнаруживается их неразрешимость. Драматизм
• неразрешимых вопросов рождает страстную жажду выхода за
пределы их сомкнутого круга, мощный порыв к неведомому и не-
s представимому. Эта устремленность за горизонты современного
; сознания и общественного бытия становится в заключительных
главах «Кто виноват?» всеопределяющим пафосом романа.
* *
*
Усложняя структуру и содержание романа, диалогический
конфликт и сам существенно при этом изменяется. В его раз-
витии можно различить несколько фаз, каждая из которых
придает ему новый характер.
На первой стадии содержание конфликта определяется столк-
новением точек зрения Круциферского и Крупова (II глава
^второй части). Столкновение, в сущности, не выходит за пре-
L делы теоретической дискуссии. Спор почти не осложняется пси-
< дологическими коллизиями: сталкиваются, скорее, тезисы, чем
люди (Крупов и Круциферский все больше расходятся во взгля-
дах и все теснее сходятся в жизни). Итог полемики отчасти
релятивистский: ни одно из мнений не отброшено, и в то же
время ни одно из них не обретает бесспорного значения. Внутри
диалога осуществляется несколько механическое равновесие:
аргументы и возражения спорящих берут верх поочередно, каж-
дый из спорящих й прав, и тут же неправ, между прочим, еще
и потому, что за каждым убедительным утверждением того или
иного персонажа следует его же утверждение, уже явно ложное.
Легко заметить, что автор поставляет аргументы обеим сторонам:
и в репликах Крупова и в репликах Круциферского мелькают
формулы явно авторские, созвучные прямым^.авторским рассуж-
дениям и характеристикам как по содержанию, так и по речеврй
структуре. Спор в известной степени абстрагируется от персона-
жей, приближаясь по типу к диалогам философской прозы, где
персонажи выступают как «проводники» и «носители» отвлечен-
ных идеи. Тем самым намечается тенденция, ведущая к превра/
щению сюжета в повод для развертывания таких идей и проблем;
Однако этой тенденции не дано набрать полную силу —
в IV главе развертываются споры о Бельтове, и характер этих
споров уже существенно иной. Спор идет об оценке человеческой
75
судьбы, человеческой позиции, и предмет спора ни для кого
из участников не может..,стать отвлеченной проблемой. Ситуация
повернута так, что любая оценка возвышает одного и унижает
другого. Если прав Крупов, то Бельтов — трутень, если прав
Бельтов, то Крупов — обыватель. Такие оценки не даются в ходе
спора, но их возможность притаилась в его глубине и усиливает
его накал. Нечто подобное, казалось бы, было в споре Крупова
и Круциферского, но там равенство «сторон» приводило к тому,
что даже самые резкие взаимные оценки не задевали спорящих
всерьез. г
В спорах IV главы важно также многое другое — и драма-
тизм положения Бельтова, и «калибр» его личности, и то, что
у Бельтова жизнь и мысль нераздельны, (нельзя судить его тези-
сы, не судя при этом его самого). Наконец, важна степень бли-
зости между Бельтовым и автором: Герцен явно пристрастен
к своему герою и всегда причастен к тому, что он говорит.
Такая причастность выражается не только в особой убедитель-
ности аргументов Бельтова, но и в том, что точка зрения
Бельтова почти всегда отличается большей эмоциональной оду-
шевленностью, чем точки зрения других персонажей. В IV главе
точке зрения Бельтова, собственно, для того и представлено
«право голоса», чтобы она смогла реализовать заключенную
в ней силу, дав бой узкоклассовому прагматическому подходу,
принижающему ценность позиции «лишнего человека», отрицаю-
щему трагичность его судьбы. А соседствующие с диалогами
фрагменты объективного авторского повествования нередко
активно поддерживают именно оправдательную версию. Таковы,
например, авторские характеристики обитателей города NN,
авторский рассказ об их реакции на появление и поведение
Бельтова, авторское описание «прелестного» городского вида,
пронизанное широкими (и неизменно безотрадными) националь-
но-историческими ассоциациями.
Правда, добиваясь объективности, Герцен, как увидим, до
известной степени сохраняет равновесие. Но теперь его нужно
сохранять — оно уже не задано (как на ранней стадии развития
конфликта), к нему приводит борьба. Понятие «борьба» точнее
всего выражает специфику новой фазы конфликта: это еще
столкновение точек зрения, но это уже именно их борьба —
борьба, от исхода которой многое зависит.
Затем (в V и VI главах) в движение диалогического конф-
ликта вовлекаются темы, непосредственно связанные с любовной
драмой, с отношениями, от, которых зависит само существование
трех человек, их жизнь и счастье, страдание и гибель. Это
уже в точном смысле слова вопросы жизни и смерти. И ха-
рактер конфликта вновь меняется. Борьба мнений перерастает
в столкновение человеческих правд, неотделимых от личностей
и судеб героев. Между ними есть иерархическая разность (правды
Бельтова и Любоньки поставлены выше, чем правда Круци-
76
ферского или правда Крупова). Но поскольку это именно че-
ловеческие правды, ни одну из них невозможно предпочесть
другой. И вместе с тем эти правды невозможно примирить:
так складываются отношения людей, так складывается их жизнь.
Для читателя оказывается возможным только одно — он обречен
отдаваться правде каждого из спорящих, так что их столкнове-
ние оборачивается для него уже не проблемой, а непосредст-
венно ощутимым мучительным противоречием, от которого не ‘
уйти и над которым не возвыситься. Оно входит внутрь созна- ;
ния читателя, терзая его своей неразрешимостью.
Оно не исчезает даже тогда, когда заканчиваются диалоги
последней главы. Созданный ими подлинный драматизм закреп-
ляется формой авторского повествования и определяет художе-
ственную атмосферу эпилога. Больше того, именно здесь, в самом
конце романа, в исполненном скрытого напряжения авторском
рассказе о трагической развязке нескольких человеческих судеб,
драматизм обретает новое и высшее качество. Противоречия,
раскрытые диалогическим конфликтом,; утрачивают свою ранее
как будто неизбежную связь с рационалистической формой борь-
бы мнений. Роман взял от нее все, что она могла дать, и боль-
ше в ней не нуждается, выхода к эмоционально-эстетическому
разрешению своих коллизий.
Вся внутренняя эволюция диалогического конфликта может
рассматриваться как последовательное движение в этом направ-
лении. В первой фазе конфликт «взлетает» на высоту философ-
ских абстракций, стремясь преодолеть притяжение социологи-
ческих мотивировок. Когда это достигнуто, когда появляется
возможность осмыслить изображаемое в универсальном масшта-
бе, тогда происходит своеобразное возвращение к живой кон-
кретности жизненных ситуаций. Теперь жизнь может быть освоена
как целое, без дробления на «человека» и «среду», точнее, ч
с преодолением этой антитезы. И вот диалогический конфликт
начинает вбирать в себя живые токи жизни, ее стихии, ее энер-
гию, пока, наконец, не освобождается от прежде необходимых
ему рационалистических форм преодоления схематизма. Макси-
мально «очеловеченный» и «оживотворенный», он подходит к тому
пределу, за которым и сам перестает быть нужным. В эпилоге
перед нами — жизнь, представшая в своей собственной логике,
в своей собственной ценности, в своей собственной форме.10
Если учесть все сказанное, то сама структура романа «Кто
виноват?», внутренне подвижная, построенная на малозаметных,
1 °В этом движении, приближающем роман к подлинно художественным
формам воссоздания жизни, участвует и стихия авторского лиризма, мощно
прорвавшаяся в начале V главы, и ощутимое усиление психологизма, придающее
неожиданную выразительность звучащим здесь рассказам о переживаниях глав-
ных действующих лиц, и наконец, смена стилевых тональностей, образующих
переходы от обычной авторской иронии к серьезным и взволнованным повест-
вовательным интонациям (IV, V, VI главы второй части).
77
но существенных сдвигах, предстанет своеобразным историко-
литературным «сюжетом».. .Мы видим, как жадно устремляется
художественная мысль навстречу соблазнам, которыми привле-
кают ее авторитетнейшие идеологические системы эпохи, видим,
как она усваивает и реализует богатый внутренний потенциал
этих систем. Видим и то, как она начинает ощущать их стесни-
тельность и опасность для себя, как рвется прочь, на Свободу,
как вырывается на просторы подлинно эстетического освоения
Мира, как происходит при этом высвобождение и развертывание
внутренних ресурсов собственной природы искусства.
Своеобразие диалогического конфликта
в романе Гончарова «Обыкновенная история»
Во многом сходной оказывается роль (да и сама внутренняя
структура) диалогического конфликта в «Обыкновенной исто-
рии» Гончарова, законченной почти одновременно с романом
Герцена и опубликованной в том же 1847 году, что и отдельное
полное издание «Кто виноват?». В романе Гончарова тоже
сталкиваются противоположные жизненные кредо: чуть ли не
половина «Обыкновенной истории» заполнена спорами между
прагматиком-дядей и романтиком-племянником. Противоборство
спорящих голосов тоже развертывается в сложном взаимоотра-
жении с объективной динамикой событийного действия и с автор-
ским повествованием. Взаимоисключающие точки зрения тоже
обнаруживают на фоне объективной действительности свою одно-
сторонность и несостоятельность, отчего все яснее вырисовывается
неисчерпаемая сложность жизни. Развитие диалогического конф-
ликта и его взаимодействие с другими слагаемыми романа тоже
усложняет представшую в нем картину мира, выводя читателя
к неразрешимым противоречиям и проблемам. А их неразреши-
мость тоже рождает потребность выхода к новым философским
и художественным горизонтам.
Однако все эти конструктивные принципы (выражающие об-
щие законы реалистической романной поэтики 1840-х годов)
получают в «Обыкновенной истории» оригинальное преломление.
Если у Герцена диалогический конфликт преодолевает жест-
кость социологических мотивировок (заданных биографическим
методом первой части «Кто виноват?»), то в романе Гончарова
вообще нет жесткой социальной детерминированности характеров
и судеб действующих лиц. Эволюция, пережитая Александром
Адуевым, объясняется воздействием «века» или петербургского
«порядка» в такой же мере, как и «общим законом природы»,
естественностью перехода от возраста к возрасту.11 «Естествен- 11
11 См.: Манн Ю. В. Философия и поэтика «натуральной школы», с. 254.
А также — комментарий Е. А. Краснощековой к 1-му тому собр. соч. И. А. Гон-
чарова (М., 1977, с. 507—508).
78
ные» мотивировки, соседствуют с мотивировками социальными
уже в первой главе (например, в характеристике воспитания,
которое получил герой), и подобное сосуществование двух планов
сохраняется до самого конца. Можно отметить и неопределенно-
свободное соотношение обоих планов, их несомкнутость, отсутст-
вие ясной взаимосвязи между мотивировками разных родов.
Но, с другой стороны, в романе Гончарова социологические
(и прежде всего социально-бытовые) мотивировки оказывают
глубокое влияние на характер и структурные особенности диало-
гического конфликта. В романе Герцена такое влияние было
значительно меньшим: в частности, далеко не так последова-
тельно прояснялась связь между происхождением или воспита-
нием героя и спецификой отстаиваемой им в диалогах точки
зрения. Эта связь вырисовывалась довольно четко, когда в дис-
куссию включались романтик Круциферский или доктор Крупов
с его «медицинским материализмом». Но «страшная ширь пони-
мания», отличающая точки зрения Бельтова или Любоньки Кру-
циферской, очень косвенно и лишь отчасти мотивировалась их
биографиями и характеристиками. «За Бельтовым и Круцифер-
ской,— справедливо замечает Л. И. Матюшенко,— угадывался
опыт жизни исключительных личностей, которых, по выражению
Чернышевского, «действительность... представляла в положениях,
недоступных искусству». Это был прежде всего личный опыт
самого Герцена, а также «опыт начавшихся в середине 40-х го-
дов разногласий в среде передовых людей».12
В романе Гончарова каждая из сталкиваемых точек зрения
представлена как сформированная определенным общественным
укладом. Поскольку перед читателем развертывается жизненная
философия Адуева-старшего, это не может вызвать удивления.
Рационализм, скептическая трезвость, утилитаризм, культ дела
и другие черты, характеризующие его мировоззрение, отчетливо
обусловлены законами петербургского, буржуазно-бюрократиче-
ского «нового порядка». Они и декларируются как предписывае-
мые этими законами и объективными требованиями «положитель-
ного века». Иное дело — мечтательный и сентиментальный идеа-
лизм Длександра, романтика-индивидуалиста, стремящегося ут-
вердить абсолютную независимость личности от «толпы» и объек-
тивных условий жизни. Идеал племянника может показаться
упавшим с неба «в земную грязь» (говоря его собственными
словами). Тем парадоксальнее его очевидная для автора связь
с определенными социально-бытовыми воздействиями, своеобраз-
ным «продуктом» которых этот идеал предстает уже в самом
начале романа.
Эта связь была подлинным открытием даже на фоне ради-
кальной переоценки романтических ценностей, происходившей
12 Развитие реализма в русской литературе. Т. 2, кн. 1. М., 1973, с. 156.
79
в русском общественном сознании в 40-х годах.1 3 Исследователи
«Обыкновенной истории» уже не раз рассматривали перерожде-
ние Адуева-младшего как развитие пушкинского намека на воз-
можность прозаической судьбы Ленского.13 14 Но, может быть,
не менее важным для Гончарова оказался другой едва заметный,
хотя по существу и более острый намек, тоже прозвучавший
в пушкинском романе. В отличие от скептика Онегина востор-
женный романтик Ленский с самого начала не ощущает непре-
одолимого разлада с окружающей его провинциальной средой.
«Геттингенской душе» уютно в патриархальном гнезде Лариных
(«Мой бедный Ленский, сердцем он | Для оной жизни был рож-
ден»— 4, L). Так приоткрывается совместимость отвлеченного
идеализма и «житейских» стихий усадебного быта. Эта еще
неясно намеченная у Пушкина тема в «Обыкновенной истории»
развита и углублена. Не снижая сентиментальности и мечта-
тельности своего героя до уровня распространившегося в 30—
40-х годах «вульгарного романтизма», не умаляя высокого со-
держания его взглядов и жизненной позиции, Гончаров при
всем том показывает эти взгляды и эту позицию как прямые
порождения патриархально-усадебного мира, провинциальной
помещичьей среды.
Своеобразие такого поворота темы достаточно очевидно.
В начале 1840-х годов романтизм нередко ассоциировался с идео-
логическим консерватизмом.15 Белинский в своем очерке «Пе-
тербург и Москва» связывал романтические иллюзии с «празд-
ною жизнью», пожалуй, не менее настойчиво, чем с «решитель-
ным незнанием действительности».16 Но эти суждения еще да-
леки от конкретного социально-бытового объяснения романтиз-
ма — как явления, закономерно возникшего в атмосфере захо-
лустной помещичьей усадьбы. И еще дальше — от многозначной
оценки этого порождения «благодатного застоя» российской глу-
хомани.
А ведь именно такое объяснение и такую оценку мечтательного
романтизма несет в себе «Обыкновенная история».<(Именно в пат-
риархальной усадебной идиллии обнаружены первоисточники ро-
мантических порывов к небывалой и невозможной гармонии,
порывов, открывающих выход для духовной энергии человека,
13 Исследователи «Обыкновенной истории» часто недооценивают необыч-
ность мотивировки романтического мировоззрения в романе Гончарова. Так,
например, Н. И. Пруцков, автор самой обстоятельной на сегодняшний день
монографии о поэтике Гончарова-романиста, подробно характеризуя установ-
ленную писателем связь между романтизмом Александра Адуева и взрастив-
шими его социальными условиями, рассматривал эту связь как отражение
представлений, являвшихся для «людей 40-х годов» чем-то самоочевидным
(Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л., 1962, с. 25, 35).
14См., например: Цейтлин А. Г. И. А. Гончаров. М., 1950, с. 59—60.
15 Об этом см.: Гинзбург Л. Я. Белинский в борьбе с романтическим
идеализмом.— В кн.: Литературное наследство. Т. 55, ч. 1. М., 1948, с. 188—191
16 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 8. М., 1955, с. 410.
80
неспособной реализоваться в атмосфере «благодатного застоя»,
и в то же время ничем не скорректированных, никак не сообра-
зующихся с противоречиями действительности, с неизбежностью
горя, бедствий и потерьх^Чуть позднее, во второй главе, воспо-
минания героя о «своем» губернском городе дополнят уже обо-
значившуюся систему мотивировок. Провинциальный город ока-
жется воплощением иной формы патриархального бытия, где
на первом плане — особый тип общения. Это мир, где «все
живут вольно, нараспашку», где «никому не тесно» и где (автор
показывает и «оборотную сторону медали») никто ни с кем
не считается. В то же время это мир, где все друг о друге все
знают: образуется какая-то совместная жизнь целого города
или даже уезда. И опять-таки развитие сюжета, а в особенности
развитие диалогического конфликта, обнаружат потом, сколь
многое в мечтах и требованиях Александра (например, в его
представлениях 6 дружбе и любви) определяется привычкой
к такому именно приволью и к такой нераздельности человече-
ских существований.
Связь между провинциальными нравами и романтическим
идеалом человеческих отношений проясняет основу причудливых
взаимопереходов прекраснодушия и эгоцентризма, которые по-
стоянно обнаруживаются в романтическом отношении к жизни.
Основой этой своеобразной диалектики оказывается инфанти-
лизм: романтизм понят Гончаровым как позиция взрослого ребен-
ка, сохранившего в мире «взрослых» дел, отношений и обязан-
ностей детские иллюзии и детский эгоизм. Гончаров видит в ро-
мантической жизненной позиции чисто детское непонимание ре-
альных законов мира, чисто детское незнание собственных сил
и возможностей и, наконец, чисто детское желание, чтобы мир
был таким, каким тебе хочется. И все это он последовательно
мотивирует воздействием патриархального уклада, все силы ко-
торого в согласии работают над тем, чтобы навсегда превратить
человека в избалованного ребенка?
прозе 1840-х годов диалогический конфликт обычно пред-
полагал известную заостренность противоборствующих точек зре-
ния. Ведь сталкивались "крайности, обнаруживающие, как уже
было сказано, свою узость и односторонность/ Этот принцип
действовал и в романе Герцена, однако порой он был здесь
заметно ослаблен явным перевесом точек зрения Любоньки или
Бельтова, их очевидной близостью к авторской позиции и т. п.
. У Гончарова же сталкиваются две «страшные крайности»: «один
восторжен до сумасбродства, другой — ледян до ожесточения».
Обе точки зрения отмечены догматичностью и фанатизмом, обе
утверждают себя агрессивно, с абсолютной нетерпимостью к ина-
комыслию. И чем дальше, тем больше проясняется закономер-
ность подобной формы конфликта/
В экстремизме обеих «доктрин» ощущается личностный пафос
оппонентов. Но очевидно, что перед нами личности, сформиро-
81
вавшиеся определенным образом и неспособные измениться без
каких-то роковых для них потерь, '^ля каждого из ге-
роев выход за пределы его изначальной позиции означает само-
разрушение и такие превращения, которые, в сущности, равно-
значны гибели одного человека и появлению другого. Эту
неизбежность демонстрирует эпилог^>а объясняет ее та система
мотивировок, которая связывает точки зрения дяди и племян-
ника с формирующим воздействием двух жизненных укладовЛ
^Гончаров заново открывает на уровне быта трагическую
правду о «двоемирности» России, некогда открытую автором
«Онегина» в сфере духовной культуры? Два уклада, представшие
читателю в романе 40-х годов,— это именно два мира, чв которых
люди живут по-разному и для разного. Хотя разность их не
так глубока, как та, что отделила друг от друга миры Онегина
и Татьяны, перед нами — столь же очевидная невозможность
сближения и объединения противоположностей. Ею и мотивиро-
вана заостренность
Т^сториих Йстоки догматизма и фанатичной односторонности
современных русских «доктрин», причины их взаимной нетерпи-
мости и несогласуемости обнаружены Гончаровым в предельной
разобщенности социальных укладов, составляющих «европей-
ский» и «почвенный» полюса русского общества.17 'ЧНовый
порядок» и «благодатный застой» никак не сообщаются друг
с другом: по выражению Герцена (относящемуся, правда, к иной
ситуации), «переходя из старого мира в новый, ничего нельзя
взять с соббю»?^ Объективно'^эта ~мысл1Г^
диалогическому конфликту, предрешая его непримиримый харак-
тер. Финал подтверждает ее справедливость, и получается, что
полемическое противоборство «доктрин» развертывалось в рам-
ках всеобъемлющего социологического объяснения. Однако раз-
общенность и несовместимость двух Россий обнаруживается
именно в спорах главных героев — задолго до того, как ее
окончательно прояснят объективные итоги развития действия.
В динамике полемического противоборства разлад социальных
укладов оборачивается спором «живых голосов», «драмой идей»,
незавершимыми «прениями сторон», каждая, из которых столько
же права, сколько и неправа.
*
*
Самая форма развития диалогического конфликта в романе
Гончарова оказывается иной, чем в романе Герцена. У Герцена
17 Позиция дяди явственно характеризуется в романе как воплощение
русского европеизма. Мировоззрение и поведение племянника столь же явствен-
но оцениваются иногда как «азиатские» («О, провинция! О, Азия!»), т. е.
как воплощение антиевропейских тенденций и начал русской жизни. Эти акцен-
ты в системе мотивировок сюжета, характеров и конфликта неоднократно
отмечались в нашем литературоведении.
82
диалогический конфликт по-настоящему развертывается лишь
тогда, когда больщая часть романа уже позади. Этот конфликт
по существу является новой структурообразующей силой, которая
преображает художественный строй произведения, но при этом
и сама мало-помалу изменяет собственную природу.
У Гончарова, напротив/диалогический конфликт входит в ху-
дожественный строй романа почти с самого начала — сразу
после экспозиции, так что исходная точка споров Александра
и Петра Адуевых почти совпадает с фабульной завязкой5'
(которой оказывается приезд Александра в Петербург). И ха-
рактер столкновения противоположностей определяется сразу,
не претерпевая в дальнейшем существенных изменений. Диа-
логи «Обыкновенной истории» на всем протяжении романа
оправдывают характеристику, данную некогда Белинским.
«...Это — не диспуты, а живые, страстные, драматические споры,
где каждое действующее лицо высказывает себя, как человека
и характер...»18 В то же время любой из этих споров, как
уже было сказано, в какой-то точке восходит к универсальным
обобщениям и приобретает известную меру теоретической от-
влеченности (а тем самым и определенное сходство с диалогами
философской прозы). В общем, все время сохраняется устойчи-
вое равновесие абстрактного и конкретного. Отвлеченность фи-
лософских контроверз и драматизм живой жизни сопрягаются,
не нарушая оптимальных пропорций — примерно одних и тех же
во всех фазах развития конфликта.
Устойчивость и «правильность», характеризующие равновесие
драматического и дискуссионно-философского начал диалогиче-
ского конфликта, явно связаны у Гончарова с устойчивым
и «правильным» равновесием сторон в борьбе мнений, состав-
ляющим основу диалогической динамики романа. У Герцена,
как помним, такое равновесие поддерживалось лишь в началь-
ной фазе развития конфликта. У Гончарова оно обеспечивается
по-иному. В первой части «Обыкновенной истории» дядя в боль-
шинстве споров берет верх над племянником. Нередко в его
репликах ощущаются авторские интенции. Авторская точка
зрения, разумеется, и здесь отграничена от точки зрения пер-
сонажа. Но при всем том точке зрения дяди обеспечен несомнен-
ный перевес, и такое положение сохраняется почти до самого
конца первой части. На стыке частей сильная и слабая сторо-
ны как бы меняются местами. В конце второй части перевес
уже явно на стороне Александра: в его письмах дяде и тетке
из деревни, накануне возвращения в Петербург, слышен ав-
торский голос и проступает авторское представление о жиз-
ни, для читателя равное истине. .Только вспышка авторской
иронии в описании отъезда Александра из Петербурга (в пред-
последней главе второй части) несколько уравновешивает крен
18 Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. 10, с. 344.
83
и сохраняет отграничение автора от персонажа. Не будь этого,
точка зрения племянника могла бы восторжествовать безусловно.
В эпилоге — новая смена мест. Вчерашний проповедник расчет-
ливости и практицизма переживает драму разочарованиями сом-
невается в своей правоте. А вчерашний романтик приходит
к пошлому и самодовольному делячеству, карьеризму и т. п.
£t)6a жизненных кредо потерпели поражение перед лицом дейст-
вительностил>Казалось бы, этот итог устанавливает равновесие.
Но он сам слишком однозначен. По-видимому, Гончаров чувст-
вует необходимость как-то уравновесить и его. Следует послед-
ний комический поворот сюжета: дядя, только что на вершине
преуспеяния ощутивший себя духовным банкротом, вдруг начи-
нает ликовать, узнав о карьерных успехах племянника. Казалось
бы, все успехи такого рода необратимо обесценены в его глазах^
его же собственным опытом. И вдруг: «И карьера и фортуна!—
говорил он почти про себя, любуясь им.— И какая фортуна!
И вдруг! все! все!.. Александр!—гордо, торжественно прибавил
он,— ты моя кровь, ты — Адуев! Так и быть, обними меня!»19
Эта неожиданная и не поддающаяся точной оценке реакция
спутывает все карты; становится возможным «открытый» фи-
нал, не позволяющий закрепиться однозначному итогу полемики
двух философий.
Словом, очевидное различие двух романов состоит в том,
что принцип «правильного» равновесия, действующий у Герцена
лишь на исходной стадии конфликта, в рамках одного диалога,
у Гончарова осуществляется в масштабе всего романа и опре-
деляет всю его диалогическую динамику, от начала до конца.2
Релятивный итог борьбы мнений оказывается здесь всеобъем-
лющим. И нет ухода от него к обнаженному, всепоглощающему
драматизму неразрешимых жизненных противоречий, терзающих
ум и душу читателя. Драматизм нарастает и внутри диалогиче-
ского конфликта «Обыкновенной истории», но нарастает плавно,
на протяжении всего романа, и до самого конца приглушается
опосредствующим воздействием универсальных обобщений, с ко-
торыми здесь все соизмеряется. Не удивительно, что исследова-
тели с редким единодушием говорят о «строгой симметричности»
и «строгой пропорциональности» конфликта у Гончарова.21
19 Гончаров А. И. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 1. М., 1977, с. 336.—
В дальнейшем ссылки на роман «Обыкновенная история» даются по этому
изданию и приводятся в тексте.
20 Аналогичным образом трансформируется еще одна особенность диало-
гического конфликта в обоих романах. И Герцен и Гончаров вводят в Конфликт
своеобразного «арбитра», выполняющего роль «третьей силы» в противоборстве
сторон. Но если в романе «Кто виноват?» Любонька выступает в этой роли
только во II главе второй части, то в «Обыкновенной истории» роль «арбитра»
принадлежит Лизавете Александровне практически до самого конца.
21 И с т о р и я русского романа. В 2-х т. Т. 1. М.; Л., 1962, с. 526;
Развитие реализма в русской литературе. Т. 1. М., 1972, с. 257—258, и т. д.
84
* *
*
\Принцип строгой симметрий определяет в «Обыкновенной
истории» тШОке“ТГ“^взайм6действие диалогического конфликта
и фабулы. Событийные эпизодыи дискусси
ли не с ритмической! лравйльдбстью движения , маятника.2 2
ЛГоследовательность при этом, может быть различной. Однако
равномерность переходов от событий к диалогам и обратно
сохраняется на всем протяжении романа. И на всем протяже-
нии романа диалоги и фабула развертываются в четкой взаим-
ной соотнесенности. Весьдсобытийный ряд,так или иначе «рабо-
тает»^ на диалогический конфликт, приобретая определенный
смысл именно в связи с'ним.2'’3'
Во второй части «Кто виноват?» фабула была связана
с развитием диалогического конфликта далеко не так очевидно,
не так последовательно и жестко. Иллюзия свободного само-
развития действия здесь намного сильнее: нет правильного че-
редования событийных эпизодов и дискуссий, фабула вводит
гораздо больше материала, не связанного прямо с борьбой
мнений в диалогах. Так, весьма значительные звенья событий-
ного ряда составляют никак не соотнесенный с диалогическими
противоборствами эпизод из семейной жизни дубасовского пред-
водителя (занимающий целую главу) и почти не связанная
с проблематикой споров сцена именин учителя Медузина. На
этом фоне взаимодействие фабулы и диалогов у Гончарова
может показаться несколько прямолинейным.
Затовзаимротнрщения между диалогами и авторским повеет-
вованием имеют, в «Об^^ значительно более
сложную природу., Й главным образом вслёдствй^~Лого7“что
в этом романе формируется .более-_-£ЛРЖНое^^^
собственно авторским и «чужим» (или.дщрлучужим») словом.
У Герцена авторская речь, очень подвижная в своих собствен-
ных пределах, активно играющая многими общеязыковыми
стилями (профессиональными, бытовыми, литературными, научно-
публицистическими), в то же время не размывает границ, четко
отделяющих ее от речи персонажей. Отличия речи персонажей
от речи автора не подчеркиваются: прямая речь Бельтова,
Любоньки и даже Крупова или Круциферского чаще всего
стилистически близка к авторской речи или во всяком случае
не отграничена от нее особым, принципиально чуждым ей фра-
зеологическим и экспрессивно-стилистическим колоритом. В ро-
22 Gm. об этом: Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста,
с. 37—38.
23 Сравнительно небольшие «избытки», превышающие потребности диало-
гического конфликта, обнаруживаются за пределами действия как такового.
Примером может служить детальная характеристика воспитания Юлии Тафае-
вой, никак не используемая в борьбе мнений.
85
мане «Кто виноват?» Герцен явно не стремится к тому, чтобы
придать прямой" речи глаШШХ‘“"Гер'бев^ёрты^езко’''выражен
Характерности й^^ймедост^ отмечена лишь речь
некоторых**ТзторбстёйенныХ персонажей, вроде Негрова и его
жены). Предметно-смысловая, объектная направленность речи
Бельтова, Крупова, Любоньки, Круциферского резко преобладает
в обеих частях романа над ее же характерологической функцией.
Может быть, именно поэтому здесь очень слаба вообще-то
распространенная в прозе первой половины XIX в. тенденция
взаимопроникновения авторской речи и речи действующих лиц.
Немногочисленные вкрапления последней (с обыгрыванием
ее характерности) встречаются внутри авторского повествования
преимущественно в первой части и там, где речь идет именно
о второстепенных действующих лицах. Во второй части, где
развертывается диалогический конфликт, слово авторского по-
вествования почти не смешивается с речью главных героев.24
В диалогах романа Гончарова слово главных героев по
своим основным характеристикам близко к так называемой
«овеществленной прямой речи» (В. Н. Волошинов) /Характеро-
логическая колоритность языка дяди и в особенности — языка
племянника порой заметно сгущается и заостряется.>Это бро-
сает на речь персонажа легкую «объектную тень» (выражаясь
словами М. М. Бахтина). В таком сгущении ощутим оценочный
оттенок, отражающий авторскую характеристику персонажа
в целом. И есть основание говорить о трудно уловимом, но
все-таки реальном призвуке реплицирующего и комментирующе-
го воздействия авторского слова.
-/Граница, отделяющая авторскую речь от речи персонажей-
оказывается у Гончарова проницаемой и подвижной>>То и дело
в авторском тексте появляются элементы речи, характерные
для того или другого из главных действующих лиц, в то же
время авторская речь, вбирая в себя это «чужое» слово, бук-
вально пронизывает его своими интонациями, своей экспрессией,
а подчас и вкрапливает в него элементы инородной ему лексики
или фразеологии. Чаще других образуются те особые разновид-
ности «чужого» слова, которые принято называть несобственно-
прямой и внутренней речью.* 2 * * 5 Обилие этих форм означает
широкое распространение двуголосого слова: в одном и том
24 В качестве примера одного из крайне немногочисленных исключений
можно указать отдельные вкрапления несобственно-прямой речи в. авторском
рассказе о размышлениях Бельтова, вызванных сообщением о смерти его вос-
питателя Жозефа (IV глава второй части).
2 5 Общую характеристику этих форм, а также их значения для стилистики
романов Гончарова см.: Фаворин В. К. О взаимодействии авторской речи
и речи персонажей в языке трилогии Гончарова.— Изв. АН СССР, отд. лит-ры
и яз., 1950, т. IX, вып. 5, с. 352—355; Поспелов Н. С. Несобственно-
прямая речь и формы ее выражения в художественной прозе Гончарова
30—40-х годов.— В кн.: Материалы и исследования по истории русского ли-
тературного языка. Т. IV. М., 1957, с. 239.
86
же тексте совмещаются две речевые позиции. Таким образом
диа^гические, отложения.„проникают внутрь,, авторского , повест-
вования. Й зачастую эти отношения оказываются отражениями
или предпосылками открытого противоборства «голосов» в ком-
позиционно выраженных диалогах.
Подобная тенденция воздействует у Гончарова даже на те
компоненты романа, которые у_Герцена^рртаются вне дискус-
сионно-диалогических столкновений,— как "твердая опора объек-
тивного изобр^ажешщ,— и cootj^c^
честве!воплощений не^ Таково, например, раз-
личие двух описаний, воссоздающих (каждый раз именно на
пороге диалогического конфликта) общий вид типичного губерн-
ского города.
В начале второй части «Кто виноват?» типичность изобра-
жаемого города NN подчеркивается настойчиво и неоднократно
(«Прелестный вид... был общий, губернский, форменный...»
и т. д.— I, 228—231). Однако при всем том это все-таки кон-
кретный пейзаж конкретного городка. Здесь действует иллюзия
непосредственного, сиюминутного восприятия единичных предме-
тов, лиц и явлений. Пейзаж как бы вписан в субъективный
кругозор Бельтова, и это учтено, поскольку границы описания
и его ракурс сообразуются с возможностями персонажа-наблю-
дателя. Тем не менее по существу читателю дана объективная
картина, которая корректирует и опровергает иллюзии и заблуж-
дения героя: хотя в описании ощущается субъективная актив-
ность автора (есть и элементы публицистики, и гротескные
ассоциации, и ирония), «прелестный вид» дан как нечто, не
подлежащее спору, не предполагающее объективной возможно-
сти разных оценок.
Гончарова описание губернского города (во II главе пер-
вой части) тоже включено в субъективный кругозор главного
героя, но здесь это уже очень существенно влияет на характер
описания. Город предстает таким, каким его видит Александр:
ведь вся картина создана его воспоминаниями, в какой-то мере
его воображением. Еще важнее то обстоятельство, что вообра-
жаемый губернский вид возникает в сознании героя как выра-
жение полемической реакции, вызванной другим видом,
петербургским. Наконец, и этот последний, в^свою очередь,
окрашивается отзвуком более ранней полемики.
При первом появлении (тут же, на соседней странице) пе-
тербургский вид как будто бы ничем не отличается от объек-
тивного конкретного пейзажа того типа, который представал
читателю в начале второй части «Кто виноват?». Опять-таки
действует иллюзия непосредственного восприятия чего-то су-
ществующего «здесь» и «сейчас»: «Он подошел к окну и увидел
одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока
домов...» (I, 64). Однако сиюминутное впечатление выступает
87
в соотнесенности с другим: Александр сравнивает петербургский
пейзаж с тем, «что видел назад тому две недели из окна
своего деревенского дома» (I, 64). А тот, деревенский пейзаж
в свое время вошел в повествование как своеобразный аргумент,
с которым герою пришлось столкнуться в важном споре. Убеж-
дая Александра отказаться от поездки в Петербург, мать
пыталась противопоставить его честолюбивым планам и радуж-
ным надеждам прелесть и благодать родных мест: «...Посмот-
ри-ка сюда,— продолжала она, отворяя дверь на балкон,—
и тебе/не жаль покинуть такой уголок?» (I, 39). И вот теперь,
когда Александр уже в Петербурге, воспоминание о деревенском
пейзаже оказывается в то же время напоминанием о доводах
матери. Петербургский вид втягивается, таким образом, в кон-
текст спора и обретает определенный смысл именно в этом,
диалогическом контексте.
Сразу же вслед за тем описание Петербурга начинает при-
обретать полемический, «реплицирующий» оттенок: «Он вышел
на улицу — суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой,
едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб
не наткнуться друг на друга» (1,65). В этой точке повествова-
ния и появляется описание губернского города, как бы вы-
плывающее из воспоминаний полемически настроенного Алек-
сандра («Он вспомнил про свой губернский город, где каждая
встреча... почему-нибудь интересна...» — I, 65). И тут же со-
вершается переход к другой форме повествования. Иллюзия
непосредственного восприятия, державшаяся, пока длилось опи-
сание Петербурга, по существу, исчезает, как только заходит
речь о губернском городе. Хотя описываются как будто бы
конкретные лица и конкретные происшествия («То вот Иван
Иваныч идет к Петру Петровичу — и все в городе знают за-
чем»— I, 65), они фигурируют в описании как образчики того,
что бывает обычно или, точнее, всегда. Конкретное типизировано
и переведено в масштаб обобщений. Перед читателем — явно
«вторичная», субъективная реальность, представляющая факт
сознания, а не явление действительности. Это уже не картина,
в точном смысле слова, но что-то вроде полемической реплики,
просто еще не до конца оформившей свое диалогическое ка-
чество, не имеющей пока определенного адресата. Объективное
повествование, в сущности, перестало быть объективным повест-
вованием. Й оно естественно приобретает форму несобственно-
прямой речи.
Описание губернского города грамматически отделено от
контекста окружающего авторского рассказа только настоящим
временем глаголов. Но весь соответствующий текст явственно
окрашен интонацией, экспрессией, фразеологией Александра.
Достаточно заключить описание в кавычки, чтобы оно стало
прямой речью героя. И в то же время на весь этот текст легла
«объектная тень» авторского слова. Описание пронизано
88
авторской иронией, выражающей себя то в интонациях, то в син-
таксисе, то в лексике и фразеологии.26 Читатель может заметить
здесь слияние двух противоположно направленных речей/
Так внутри описательного фрагмента формируется дискус-
сионно-диалогический потенциа^/ Его воздействие на формы
описания неуклонно возрастает. Возвращение к петербургскому
пейзажу после воспоминаний о пейзаже губернском еще более
отчетливо превращает описание в полемическую реплику/Сама
его словесная форма все явственнее приобретает «реплицирую-
щий» характер, постепенно приближаясь к адресованной устной
речи («Заглянешь направо, налево — всюду обступили вас, как
рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно
да одно... нет простора и выхода взгляду...» — I, 66). Повество-
вание демонстрирует реальность скорее словесную, чем пред-
метную.
Интересно, что после этого еще раз повторяется тот же
самый композиционно-смысловой ход: тягостные впечатления от
Петербурга, перелет воображения в свой губернский город,
полемическое противопоставление «отрадного» губернского вида
тоскливому виду петербургскому, затем опять возвращение к ре-
альным петербургским впечатлениям и превращение самого
акта восприятия в напряженную полемику с воспринимаемым
(I, 66—68). Но теперь весь цикл повторяется уже на ином
уровне обобщенности: перед читателем проходит нечто без-
условно типическое — «первые впечатления провинциала в Пе-
тербурге», растворившие в себе индивидуальный опыт Александ-
ра. На этом своем «витке» повествование еще в большей степени
удалено от иллюзии непосредственного контакта с видимым
«здесь» и «сейчас». Еще более последовательно подчеркивается
«вторичность» воссозданной повествованием реальности, ее при-
надлежность к миру сознания, а не предметной действительности.
При этом появляется больший простор для развертывания раз-
личных форм несобственно-прямой, внутренней и замещенной
речи. И соответственно — для двуголосия, речевой интерферен-
ции, развития диалогического потенциала внутри объективного
авторского повествования.
VB новом описании губернского города авторская ирония
противоборствует восхвалению уже несколько по-иному. Здесь
более отчетливо ощущается возможность двух точек зрения,
двух противоположных оценок изображаемого. В конечном счете
это создает эффект их взаимодополнительности. Но порой дву-
голосие вплотную приближается к формам скрытого диалога:
некоторые фразы описания можно представить себе разделен-
ными на реплики двух противоположно настроенных субъектов
(«Другой дом—точно фонарь: со всех четырёх сторон весь
26 «...Всякий знает, что ее превосходительство изволит родить... Все
спрашивают что (курсив мой.— В. М.): дочку или сына?..» (I, 65).
89
в окнах... дом давней постройки; кажется, того и гляди, раз-
валится или сгорит от самовозгорения...» — I, 66. Или: «И все
живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и пе-
тухи свободно разгуливают по улицам...» — I, 66—67). На таких
же примерно контрастно-иронических переходах будут строиться
потом «открытые» диалоги дяди и племянника. А когда «виток»
завершается и повествование возвращается вновь (теперь уже
вторично) к сиюминутным конкретным впечатлениям Александра
Адуева, его восприятие вдруг обращается против его же собст-
венной первоначальной оценки: «Он вдруг застыдился своего
пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным за-
борам. Ему стало весело и легко. И суматоха и толпа — все
в глазах его получило другое значение» и т. д. (I, 68).
Возможность двух противоположных точек зрения откры-
вается в самом сознании героя. Диалог проникает внутрь его
субъектной сферы, осуществляясь без прямого контакта реплик.
Выходит, что описание внутренне диалогизируется буквально
во всех своих измерениях. Вырисовывается дискуссионная истина,
в рамках которой предмет описания оказывается поводом и ма-
териалом для столкновения различных точек зрения. Образ
Петербурга не растворяется в их противоборстве, но отчасти
становится проблемной величиной. Так внутри описания форми-
руется завязка одной из главных линий будущего диалогиче-
ского. wy ^Герцена ограничивало ^свободную
игру диалогических стихий, у ГончароБз оказывается в.тянутым
К эту игру и актавно“поддерживает'её/'
* *
*
^Динамические взаимоотношения между авторским словом
и словом персонажей, многообразие речевой интерференции,
обилие разновидностей несобственно-прямой и внутренней речи
создают предпосылки для появления в «Обыкновенной истории»
особой формы диалога, существенно и необычно усложняющей
структуру диалогического конфликта. Это своеобразный диалог
языкот^который скорее пересекается, чем совпадает с диалогом
воззрений дяди и племянника.^
Непрямых спорах двух оппонентов оба диалога сливаются,
но даже здесь они, в сущности, не равны друг другу. За столк-
новением субъективных позиций открывается борьба объектив-
ных (социально-идеологических, как сказали бы сегодня) сил
и стихий языка, борьба, конечно же, выражающая себя в конф-
ликтах доктрин и точек зрения, однако в основе своей более
глубокая, чем эти конфликты. ^Сталкиваются собственно языко-
вые полярности: язык поэзии противостоит языку прозы, речь
специфически книжная — речи специфически обиходной, прямое
называние предметов — метафорическому и перифрастическому
способу выражения, риторико-декламативная речевая тональ-
90
ность — тональности разговорно-деловой^И обнаруживается, что
в самой природе различных слоев, начал и тенденций языка
заключен потенциал непримиримого диалогического противобор-
ства. Когда Александр называет подаренные ему кольцо и прядь
волос <<вещ^твен„ньши__знаками..... невещественных отношений»,
а Петр Иваныч именует то же самое «всякой дрянью», про-
является не только диаметральная противоположность их взгля-
дов, но и заложенная в меняющейся структуре языка, возмож-
ность придать одному и тому же явлению .полемически н а пр а в-
ленные ^уг протИВ Дру смыслы. Эта возможность,
обусловленная внутренним разноязычием русской речи, ее со-
циально-исторической динамикой, борьбой и сменой речевых
систем, создает в романе Гончарова диалогическую ситуацию
совершенно особого рода.27
'J Язык Александра с его постоянно напряженной аффектацией
и патетикой, перенасыщенный фразеологическими и стилевыми
клише, приближен к формам стилизованной речи. Временами
в резкой сгущенности его характерных примет ощущается даже
дискредитирующий принцип подачи материала.28 Язык дяди,
сам по себе не окрашенный стилизующим или пародийным
колоритом, тоже начинает восприниматься как стилизованный
в контрасте и полемическом столкновении с языком племянника.
На фоне «вещественных знаков невещественных отношений»
«всякая дрянь» выглядит противоположной крайностью. Говоря
иначе, природа каждого из двух языков определяется их диало-
гической взаимоориентированностью и соотнесенностью? Они чем
дальше, тем больше имеют в виду друг друга и оттого в своих
«чистых» формах все более полемичны. Эти оспаривающие друг
друга языки сохраняют свои определяющие признаки (хотя и не
обязательно все) за пределами прямых диалогов, в сфере не-
собственно-авторской речи.
Типы взаимоотношений двух языков, возникающие здесь,
достаточно разнообразны. Этому способствует, в частности,
обилие «рассеянной» чужой речи и образуемых ею гибридных
конструкций, смешивающих или сталкивающих различные рече-
вые манеры и смысловые кругозоры в пределах единого выска-
зывания. Два полемически взаимоориентированных языка встре-
чаются порой внутри одного простого предложения, случается
так, что разделяющая их граница проходит между главными
членами этого предложения.
<^27 «Диалог языков — это диалог не только социальных сил в статике
их сосуществования, но и диалог времен, эпох и дней, умирающего, живущего, .
рождающегося...»\(Б а х ти н М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975,
с. 176). '
28 Бродская В. Б. Язык и стиль романа И. А. Гончарова «Обыкно-
венная история»: Повествовательный стиль.— В кн.: Вопросы славянского язы-
кознания. Кн. 4. Львов, 1955, с. 203—204.
91
Иногда внутри такого двуголосого высказывания один язык
выступает как опровержение другого, как разоблачение неистин-
ности присущих ему форм выражения. «Он (уже.— В. М.) не
бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склон-
ный к искренним излияниям.., обыграл его два раза, а человек
с твердым характером и железной волей перебрал у него немало
денег взаймы» (I, 92) У Восторженно-романтические формулы
(«склонен к искренним излияниям», «человек с твердой волей,
с железным характером» — I, 90) перешли в авторское повест-
вование из реплик Александра, звучавших в предшествующем
диалоге. А разоблачающие их сказуемые и дополнения тех же
самых предложений тематически и стилистически дублируют
ответные реплики Петра Иваныча. О субъектах двух речевых
манер автору напоминать не приходится: читатель легко узнает
недавние высказывания обоих оппонентов. Однако и в том
и в другом случае произошло известное отделение манеры от
самого говорящего: манера обрела некоторую степень автоном-
ности, с ней уже можно проделывать те или иные «операции».
И если цитированная фраза в основном еще сохраняет прямо-
линейно-полемические отношения двух языков, установившиеся
в «открытых» диалогах, то чуть позже эти^Гзыки, освободившись
от непосредственной «прикрепленное™» к говорящим субъектам,
вступают в более сложное взаимодействие?* .
«И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обна-
руживал порывы и волнения и реже говорил диким языком,
по крайней мере при посторонних» (I, 93). «Дикий язык» —
выражение дяди, его полемически заостренная оценка.J Но
звучит она в предложении, максимально приближенном к фор-
мам несобственно-прямой речи, т. е. введена в кругозор племян-
ника, в контекст его сознания? В этом контексте выражение
Адуева-старшего уже не равно себе и своим первоначальным
значениям. Племянник тоже начинает воспринимать собственный
язык как дикий, но лишь в особом ракурсе: таков его язык
для других — это он теперь понимает. Однако для него самого
романтическая фразеология и экспрессия сохраняют прежнее
высокое значение. И вот ^полемическая формула теряет свою
однонаправленность, оказываясь двуакцентной, двусмысленной,
внутренне разноречивой.v
Можно встретить в авторском повествовании и несколько
иные гибридные конструкции, где двуакцентность и двустильность
высказывания выражены более тонко, смягченно) и без какой-
либо соотнесенности с разными субъектами речи. Иногда обра-
зуются почти чеховские стилевые «стыки» — иронические по су-
ществу, но исключающие использование явной иронии, возни-
кающие благодаря незаметному исчезновению иерархии совме-
стившихся стилей. «В походке, взгляде, во всем обращении
Александра было что-то торжественное, таинственное. Он вел
себя с другими, как богатый капиталист на бирже с мелкими
92
купцами...» и т. д. (I, 127). Или: «Глаза у него закроются
томно, как у дремлющего кота, или вдруг сверкнут огнем внут-
реннего волнения» (I, 128). Стилевые величины разных рядов
и разных уровней сведены на один уровень, в один ряд. Это
не отменяет потенциально диалогических отношений между ними,
но превращает сочетания подобного рода в проявления внутрен-
ней многогранности какого-то единого сознания.
Не приходится удивляться тому, что в сфере внутренней
речи легко обнаружить вполне развернутый диалог языков,
целиком переместившийся в речевую «зону» одного героя. На-
пример, в рассказе о переживаниях разочарованного Александра
(середина IV главы второй части) романтический стиль воспо-
минаний о былом счастье, о мечтах и надеждах полемически
опровергается просторечной стилистикой и разговорными инто-
нациями горько-трезвых житейских наблюдений, сомнений, «тя-
желых мыслей». Подчас внутренний монолог племянника почти
дублирует речевую манеру дяди:29 два голоса начинают звучать
в одном. Сходная ситуация — в III главе той же второй части,
в повествовании о размышлениях Александра, начинающего ску-
чать подле надоевшей ему Юлии Тафаевой (I, 237—238).
В конце IV главы второй части, в сценах с Лизой, внутрен-
ние реплики Александра порой трезво-прозаичны и просторечны,
совершенно в стиле Адуева-старшего. Напротив, романтическая
экспрессия (в особенности — риторическая речевая тональность),
свойственная прежде только языку племянника, составлявшая
основную и специфическую его характеристику, во второй части
появляется во внутренней речи той же Лизы, еще раньше —
во внутренних монологах тетки Александра и, наконец, в эпило-
ге— в несобственно-прямой речи, оформляющей внутренний мо-
нолог Петра ИвановичаУРиторический речевой строй, созвучный
патетике^ идеалиста-племянника, вхрдит^теперь^в повествование,
воспроизводящее размышления скептика-дяди.^ потрясенного не-
отвратимым угасанием жены: «Методичность и сухость его от-
ношений к ней простерлись без его ведома и воли до холодной
и тонкой тирании, и над чем? над сердцем женщины! За эту
тиранию он платил ей богатством, роскошью, всеми наружными
и сообразными с его образом мыслей условиями счастья,—
ошибка ужасная, тем более ужасная, что она сделана была
не от незнания, не от грубого понятия его о сердце — он знал
его,— а от небрежности, от эгоизма!» (I, 326). Речевые манеры
главных оппонентов как бы поменялись местами. Т’азумеется,
29 «Желать он боялся, зная, что часто в момент достижения желаемого
судьба вырвет из рук счастье и предложит совсем другое, чего вовсе не
хочешь — так, дрянь какую-нибудь; а если наконец и даст желаемое, то прежде
измучит, истомит, унизит в собственных глазах и потом бросит, как бросают
подачку собаке, заставивши ее прежде проползти до лакомого куска, смотреть
на него, держать на носу, завалять в пыли, стоять на задних лапах, и тогда —
пиль!» (I, 254—255).
93
здесь присутствуют и авторские акценты, но ведь они точно
так же присутствовали в несобственно-прямой речи, облекавшей
внутренние размышления Александра;
J Романтическая патетика переходит из внутренней речи
одного персонажа во внутреннюю речь другого в очень сходных,
почти одинаковых формах (несколько смягченных по сравнению
с ее сгущенно-стилизованными формами в «открытых» диало-
гах) .3(VПримерно то же самое можно сказать о языке про-
заического «реализма». Такие переходы выявляют общие начала
в сознании и стремлениях разных действующих лиц. Иконце
концов сквозь различия многих субъективных точек "зрения
й ' жизненных программ проступают контуры/.двух вездесущих
универсальных правд — романтико-поэтическоД. и.,. прозаическр-
житёйской.-^Романтико-поэтические речевые_формы повсюду вы-
ступают как словесное воплощение мира идеальных ценностей
и человеческих переживаний, связанных с этим миром.'7 Это
словесная реальность переживаний, порождаемых мечтами, на-
реа-
п.—
Или
раз-
деждами, стремлениями, верованиями, ощущением еще не
лизовавшихся возможностей, желаниями, иллюзиями и т.
вообще устремленностью за пределы наличного и данного,
это словесное выражение неудовлетворенности, страданий,
очарования, протеста, укоров и проклятий, адресованных реаль-
ности. Говоря иными словами, это всегда выражение чего-то
неадекватного. действительности, чег6<гб так. или иначе^ противо-
стоящего ей. Напротив,^«антиромантическая» стилистика пред-
стает выражением полемического ответа ^итёйской прозы на
идеальные притязания!/требования духа.
%/ Изнутри прорастая диалогом языков, диалогический конфликт
выходит за собственные пределы,оборачиваясь jia вы
смыслово'м уровне универсальным противоречие^^еала и дейст-
;/вит1Жностя| На этом уровне'" он •с&жю
разующим конфликтом: [[ антиномия «^еловек^^еда^, много-
образно осложняясь и трансформируясь^ тому же
универсальному противоречию. По мнению некоторых современ-
ных исследователей, последнее составляет «генеральный» конф-
ликт «Обыкновенной истории»^ «Нельзя ~ не видеть,—
пишет," ^например, В. А. Недзвецкий,— что самая взаимосвязь
личности и действительности в широком смысле этого понятия
(имеется в виду прежде всего объективная реальность общества
и истории.— В. М.) в конечном счете трансформирована авто-
ром... в отношение между идеалом и жизнью как таковыми».30 31.
30 Например, своебразный сплав элементов книжной риторики и разговор-
ной речи, нейтрализующий резкость обеих противоположностей во внутреннем
монологе Адуева-младшего в начале II главы второй части, позднее, в эпилоге,
дублируется почти аналогичной формой несобственно-прямой речи Петра Ива-
новича. Вырисовываются контуры единого языка, в определенной психологиче-
ской ситуации присущего самым разным действующим лицам.
31 Развитие реализма в русской литературе. Т..2, кн. 1.- М., 1973, с. 64.
94
Подобные наблюдения необходимо признать справедливыми.
Однако не менее важно отметить другое — всепроникающее
воздействие диалогизма, его влияние на высшие смысловые
инстанции романа, не исключая и самой последней. Важно
подчеркнуть, что идеал и действительность предстают JAgcb. не.
в мета физическои~статакех (как* скажем, в письме того ^же
Гончарова И. Й. Льховскому32 ), а в их взаимных претензиях,
в полемическом взаимокорректировании и взаимоощодеджен ии,
Тращ^ вовлекаются в_диале1<?
тику дискуссионной истины. ~ - - .
* *
*
Можно было бы выделить и другие аспекты, характеризующие
своеобразие диалогического конфликта в «Обыкновенной исто-
рии». Однако наиболее существенные черты его специфики,
особенно наглядные в сопоставлении с поэтикой «Кто виноват?»,
пожалуй, уже прояснились. Очевидно, что в романе Гончарова
диалогический конфликт иначе мотивируется, иначе разверты-
вается, иначе преломляется в различных компонентах речевой
и сюжетно-композиционной структуры. Соотношение диалогиче-
ских начал с другими конструктивными факторами имеет здесь
менее напряженный и менее «конкурентный» характер, .сфера
воз дей ствия ди а логов на весь художественный строй ..ром ан а
здесь значительноГ'цтре, а формы этого воздействия, знач^
мHoro56,pa^Hee^~4ei£:^у_Герцена. Речевая интерференция и все-
проникающий^ диалог языков расширяют поле этого воздействия
особенно значительно. С одной стороны, диалогизация проникает
в «микроэлементы» и?^рО<ен^
его высший смысловой уровень, ^тот самый, где, казалось бы,
должно обрисоваться представление о некоей всеопределяющей
субстанции бытия, представление, способное «округлить» и «за-
мкнуть» созданную романом картину мира.
. Дискуссионно-проблематичная природа истины демонстри-
руется самым различным образом. Этой цели гораздо активнее,
чем у Герцена, служит, например, развитие фабульного дейст-
вия, посрамляющее героев, претендующих на владение «настоя-
щей ^правдой», и в итоге создающее ощущение ограниченности
любых представленных здесь форм сознания? Но' решающую
роль, по-видимому, играет внутренняя диалогизация столь рас-
32 «...Между действительностью и идеалом лежит ... бездна, через которую
еще не найден мост, да едва и построится когда. Отсюда та скука, которая
беспрестанно проглядывает из каждого промежутка между двух наслаждений...»
(Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. М., 1980, с. 253.)
95
пространенного в романе двуголосой) слова и полемическая
взаимоориентированность языков-антагонистов.'""
То, к чему в романе Герцена приводила нарастающая дра-
матизация диалогического конфликта, у Гончарова достигается
более всего языковой децентрализацией повествования. Но до-
стигается с иными художественными «последствиями». _Герц.ен
добивался нравственно-психологической сопричастности читате-
ля, его эмоциональной вовлеченности в конфликт/ В кульмина-
ций “конфликта- читатель, как уже" сказано, был обречен отда-
ваться правде каждого из спорящих — так что их столкновение
оборачивалось для него уже не проблемой, а непосредственно
ощутимой мучительной ситуацией, от которой никуда не уйти.
Роман Гончарова, втягивая читательское сознание в безысход-
ную диалогическую динамику повествовательного разноречия,
оставляет читателя на свободе: разноречивые интенции, которыми
«населено» двуголосое слово, не разделены и ни с одной из них
не отождествляется полностью авторская или читательская по-
зиция. /
<При этом очень значительна роль повествоватедьнаи_иронии,
которая ни одной из различаемых здесь смысловых инстанций
не позволяет остаться равной себе,V обрести непоколебимую
твердость (а тем самым — и право на безусловную читательскую
солидарность). Подобная функция иронической тональности
в повествовании временами давала себя знать и у Герцена:
в последних главах «Кто виноват?» моменты усиления иронии
обычно следовали за моментами максимального сгущения дра-
матизма (иногда прямо объясняемые потребностью «отдыха от
патетических мест»). Но все-таки именно драматической тональ-
ности принадлежало «последнее слово» в эпилоге.г В романе
Гончарова ирония выводит за пределы любой системы восприя-
тия, объяснения или оценки, за пределы любой речевой позиции,
и такая установка действует здесь от начала до конца.;
В каждом из двух романов, о которых идет речь, диалоги-
ческие начала противостоят тенденциям механистического схема-
тизма, позволяя произведению обрести необходимые свойства
романного жанра — открытость, смысловую подвижность и не-
завершимость. Но при этом романисты-современники решают
общие эпохальные задачи по-разному. Герцен с увлечением от-
дается антропологическим социально-философским, схемам, чтобы
потом, в безостановочном творческом поиске буквально на гла-
зах перерасти их (так перерастает он вообще форму романа
как таковую, ощущая ее стеснительность и неорганичность для
себя). Гончаров, напротив, изначально не вверяется механистиче-
ской схеме, мягко, но очень последовательно избегая подчинения
чему бы то ни было. Собственно, последней смысловой инстан-
цией является здесь позиция своеобразного «неприсоединения»,
уклднёнйё" от всяческой предрёшеннбсти и окончательной опре-
дё7ГённосТй~ Есть' дснованйя полагать, что такая позиция ймеет
96
для Гончарова 40-х годов не только эстетический, но и социаль-
ный, нравственный смысл.33
Итоги усилий двух писателей тоже как будто бы совсем
разные. В романе Гончарова грустная «обыкновенная история»
рождает’ в' конце, концов иное чувство. Вспомним, хотя бы,
читательскую реакцию Л. Толстого: «Вот где учишься жить.
Видишь различные взгляды на жизнь... с которыми можешь
ни с одним не согласиться, но зато свой собственный стано-
вится умнее и яснее».34 Однако и «трагическое недоумение»,
венчающее смысловое движение «Кто виноват?»,— состояние,
прямо противоположное пассивности и бесплодию. Романы
40-х годов разными путями ведут к новым духовным горизонтам,
к решениям, перерастающим рамки современного мышления
и его альтернатив. Такова причина их особого интеллектуально-
нравственного обаяния: в этих невеселых историях едва ли не
все персонажи оказываются проигравшими, но неизменно вы-
игрывает свободная, гибкая, ищущая мысль.
Природа художественной истины
в романах Герцена и Гончарова 1840-х годов
Все наиболее важное для объяснения или оценки изображае-
мого оказывается в романах 1840-х годов проблематичным и дис-
куссионным. Но разумеется, степень того и другого может убы-
вать и возрастать. Структура романа оказывается внутренне
неоднородной — более твердой и однозначно-определенной на
«периферии» и тем более подвижной, неплотной, напряженно-
противоречивой, чем ближе к «центру».
Характеры второстепенных персонажей могут быть полностью
обусловлены определенной социально-философской схемой, раз-
вертываясь в рамках антитезы «человек — среда». Таковы у Гер-
цена фигуры Негрова, его жены Глафиры Львовны и многих
других персонажей, включая даже Дмитрия Круциферского,
а у Гончарова — фигуры сослуживцев Александра или деревен-
ских соседей его матери. Второстепенный персонаж может пред-
стать в особом ракурсе, который целиком задан его сюжетной
33 По своему объективному смыслу эта позиция может расцениваться
как одно из проявлений русского западничества 40-х годов. В ней выразился
тот — характерный именно для западников — тип «отношение субъекта к миру»,
с которым в наибольшей степени связаны культурно-историческая плодотвор-
ность и скромное (на фоне мессианской грандиозности славянофильских док-
трин), но Не? слабеющее обаяние этого течения общественной мысли (О «то-
лерантном» подходе западников к проблеме истины см.: Егоров Б. Ф.
Слово о М. М. Бахтине.— В кн.: Проблемы творческого метода: Межвузовский
сборник. Тюмень, 1979, с. 3—5). Вероятно, именно «толерантная» позиция
Гончарова позволила ему позднее (в 50-х годах) приблизиться к идеям
славянофилов, сохранив при этом оригинальность и независимость своего ми-
ропонимания.
34 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. в 90-та т. Т. 60. М., 1949/с. 140.
4 В. М. Маркович 97
функцией и явно ограничивает многомерность его характера.
Именно так даны, к примеру, героини трех любовных «историй»
Александра Адуева: говоря о них, Гончаров сам признавал
(в заметках «Лучше поздно, чем никогда»), что и не пытался
создать полноценные характеры-типы.35
ZСовсем инячр строятся образы главных героев. Автор стре-
мится создать именно типй^скии~харЖтёр^тзоплощёйиё" вполне
определенной, исторически й социально детерминированной пси-
хологии. </Однако черты подобной психологии и у Герцена
и у Гончарова лишь намечают общий контур образа, оставляя
возможность наполнить его иным содержанием^>Таким содержа-
нием оказываются порой некоторые универсальные душевные
состояния, почти любым читателем узнаваемые как «свои», зна-
комые по собственному опыту (а потому и не требующие моти-
вировки определенным конкретным характером). Таковы, напри-
мер, в «Обыкновенной истории» переживания Александра в те
моменты, когда он ревнует Наденьку к графу Новинскому
(I, 237—243) или скучает и раздражается, удерживаемый Юлией
Тафаевой (I, 133—138). Наконец, Огромадную роль играют
проблемно-аналитические «начала», составляющие смысловое
«ядро» центральных образов.^
<В романах 40-х годов центральный образ менее всего спосо-
бен остаться чем-то непосредственно данным, спонтанно разви-
вающимся. Аналитизм, в значительной степени сохранивший
свою рационалистическую природу, выступает здесь как конст-
руктивная, смыслообразующая и «завершающая» сила^действуя
в сложном сочетании с энергией собственно художественных
связей. Вот почему аналитическое объяснение и аналитическая
оценка характера и судьбы героя входят в структуру его образа
как элемент решающий, «стержневой». Но природа этого элемен-
та — особая.
И у Герцена и у Гончарова диалогический конфликт порож-
дает взаимодействие нескольких (иногда противоположных, и да-
же взаимоисключающих) объяснений изображаемого. Одни из
этих объяснений просто совмещаются, не смыкаясь и не стал-
киваясь, а лишь взаимно осложняя друг друга своим сосущест-
вованием. Иные же оспаривают друг друга, но так и не создавая
возможности какого-то разрешения спора.
Например, в романе «Кто виноват?» подобная ситуация скла-
дывается в диалогах IV главы второй части. Здесь сплетается
сложный узел взаймосвязанных вопросов. Почему герой всегда
и во всем терпит неудачи? Виноват ли он в том, что не может
приспособиться ни к одной из доступных ему форм деятельности?
Возможна ли для него в существующих условиях какая-то иная
судьба? Наконец, что ценнее, по объективному счету,— макси-
мализм, бескомпромиссная верность идеалу или умение действо-
35 Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т., т. 8, с. 110.
98
вать в пределах возможного? Круг этих проблем становится
ареной борьбы мнений. Романтическое сознание Круциферского
вновь (хотя уже и несколько по-другому, чем авторская мысль)
связывает эти проблемы с универсальными коллизиями: «...прос-
то непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления,
которых некуда употребить. Всякий зверь ловко приспособлен
природой к известной форме жизни. А человек... не ошибка
ли тут какая-нибудь?» (I, 282). Круциферский готов подозревать
в этом противоречии одну из роковых тайн бытия (может быть,
«насмешку неба над землей»). Точка зрения Бельтова — совсем
иная. Она сочетает резкую определенность социально-философ-
ского объяснения с грандиозной масштабностью и широтой:
«Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются,
подготовляются, а потребности на них определяются историей...
кандидатов на все довольно — занадобится истории, она берет
их; нет — их дело, как промаячить жизнь» (I, 283). Крупов
переводит все в плоскость отрезвляющей бытовой повседневно-
сти: «Экая беспорядочная голова!.. Чего он тут не наговорил;
хаос, истинно хаос! Ну, нечего сказать, славный кандидат
в заседатели или в уездные судьи!» (там же). А несколько
раньше тот же Крупов противопоставлял позиции Бельтова
социологические аргументы: «Дай вам судьба определенное
занятие да отними она у вас Белое Поле, вы бы стали рабо-
тать, положим, для себя, из хлеба, а польза-то вышла бы для
других; так-то все на свете и делается». И чуть позже добав-
ляет: «...мне сдается, что хороший работник без работы не
останется» (I, 269—270).
В этом столкновении точке зрения Бельтова обеспечены мно-
гие преимущества (о них уже говорилось выше). Однако ей
все же не дана безусловная победа. Напоминанием о лионских
безработных Бельтов неотразимо доказывает, что в истории
вполне возможны такие ситуации, когда, вопреки утверждениям
Крупова, хороший работник все-таки остается без работы, пото-
му что обществу не нужны ни его силы, ни его труд, ни его
искреннее желание трудиться. Но из этого не следует, что
общий, историко-философский тезис героя полностью оправды-
вается применительно к его собственной судьбе. Читателю
оставлена возможность сомневаться: а может быть, в данном
конкретном случае прав Крупов, напоминающий, что «капля
дробит камень». Ведь автор, даже мобилизуя «оправдательный»
материал, никогда не забывает подметить, как быстро и, в сущ-
ности. легко пасует Бельтов перед возникающими трудностями
и препятствиями. А конкретное недоумение не позволяет отбро-
сить и общую формулу о силе упорства, превозмогающего все.
Так восстанавливается (разумеется, в известных пределах) рав-
новесие столкнувшихся точек зрения.
Ситуация такова, что и точка зрения Круциферского не мо-
жет быть бесповоротно отброшена. Бельтов отстраняет (именно
4* 99
отстраняет, а не отвергает) ее на том основании, что «с этой
точки зрения вы не выпутаетесь из вопроса». Но вполне опре-
деленный ответ, который он тут же предлагает (о людях, не
«занадобившихся» истории), не снимает метафизического по
своей сути недоуменного вопроса Круциферского, потому что
развертывается в иной философской плоскости. Словом, итог
споров о Бельтове и сам оказывается проблематично-дискуссион-
ным, а ведь он-то, казалось бы, должен «замкнуть» центральный
образ романа единой всеохватывающей мотивировкой.
«Незамкнутость» центрального образа, пожалуй, еще более
очевидна в «Обыкновенной истории» Гончарова. Дискуссионная
природа открывшейся читателю истины проясняется здесь не-
однократно. И наиболее отчетливо — в тех точках, где скрещи-
ваются различные объяснения душевного кризиса, пережитого
Александром Адуевым (IV и V главы второй части). Все то,
чем непосредственно вызвана его разочарованность (прежде
всего изменчивость, ненадежность человеческих чувств и отно-
шений), предстает следствием и выражением естественных законов
жизни. Но тем естественнее возникает не раз повторяемый
персонажами вопрос: почему же это «нормальное», казалось бы,
прозрение («обыкновенное» для всякого взрослеющего человека)
привело к таким болезненным последствиям? И поскольку бо-
лезненность пережитого героем кризиса оказывается предпосыл-
кой его последующего опошления, в романе Гончарова тоже
встает типичный для реализма 40-х годов вопрос «кто виноват?»
Возвращаясь в деревню, Александр проклинает Петербург
с его «новым порядком» как источник своей драмы: «Я здесь
восемь лет стоял лицом к лицу с современною жизнью, но
спиною к природе, и она отвернулась от меня: я утратил жиз-
ненные силы и состарился в двадцать девять лет...» (I, 290).
Это проклятие звучит как вариация уже знакомого читателю
мотива. Александр и раньше объяснял мучительность пережитого
им разочарования пагубным влиянием столичной жизни. Остань-
ся он в деревне, те же самые общие законы осуществились
бы в его судьбе по-другому — безбурно и безболезненно: «...и там
посетили бы меня все человеческие чувства и страсти... все,
в малом размере... и все бы удовлетворилось... Существование
не было бы отравлено... путь жизни был бы тих, казался бы
и прост и понятен мне, жизнь была бы по силам, я бы вынес
борьбу с ней...» (I, 256). Но в другой раз тот же Александр
во всём винит дядю и его «уроки». Не будь их, он и в Петер-
бурге мог бы быть счастливым и уж, во всяком случае, избежал
бы катастрофы. «Вы растолковали мне,— говорил Александр,—
теорию любви, обманов, измен, охлаждений... Я знал все это
прежде, нежели начал любить; а любя, я уж анализировал
любовь, как ученик анатомирует тело под руководством про-
фессора и вместо красоты форм видит только мускулы, нервы...»
(I, 284). Дядя, возражая племяннику, в какой-то момент возла-
100
гает главную вину на патриархальное деревенское воспитание
героя, не позволившее ему благополучно приспособиться к тре-
бованиям «века»: «И он бы привык,— сказал Петр Ивыныч,— да
он уж прежде был 'сильно испорчен в деревне теткой да желтыми
цветами, оттого так туго и развивается» (I, 285). Наконец,
Лизавета Александровна (постоянно обвинявшая Петра Ивано-
вича и его «ложную мудрость») вдруг возлагает главную долю
ответственности на самого Александра: «...вы имели право не
слушать его... и были бы счастливы...» (I, 281).
Какая же из этих версий поддержана объективным авторским
повествованием и объективным развитием сюжета? В том-то
и дело, что каждая из них получает те или иные объективные
подтверждения, не исключающие, однако, справедливости других,
даже прямо противоположных версий. Так, например, объектив-
ное повествование как будто бы дает возможность убедиться
в том, что перипетии любовных историй племянника не
зависят от скептических «уроков» дяди. Увлеченный Наденькой,
Александр «потерял всякую доверенность к его печальным пред-
сказаниям» (I, 127) —это обозначено в авторском повествовании
очень четко. Четко показано также и другое: как Александр
пережил новое увлечение и опять поверил в возможность веч-
ного счастья, вопреки «урокам» и предсказаниям дяди, и то,
что эта вера была разрушена не скептическим анализом Петра
Ивановича, а естественным угасанием чувства. Размышления
племянника, разочарованного в своей новой любви, похожи
на рассуждения дяди, но совершенно очевидно, что скептиче-
ский анализ обретает власть и силу только тогда, когда чувст-
в.о уже само ослабело или иссякло. Как будто бы есть все
основания для того, чтобы встать на сторону дяди и опроверг-
нуть адресованные ему обвинения племянника.
Однако этому мешают некоторые детали и целые мотивы,
также вводимые объективным авторским повествованием. На-
пример, автор несколько раз отмечает, что Александр, пере-
живая свои очередные увлечения, избегает встреч с дядей,
страшится его всеразлагающего анализа («Он таил свои радости,
всю эту перспективу розового счастья, предчувствуя, что чуть
коснется его анализ дяди, то, того и гляди, розы рассыплются
в прах или превратятся в назем» — I, 127). Замечания такого
рода, достаточно настойчивые, заставляют (или по крайней мере
позволяют) предполагать какое-то не поддающееся выяснению,
но тем не менее вполне реальное косвенное воздействие дядиных
«уроков» на переживания племянника. Появляется возможность
подозревать, что любовные увлечения Александра уже изначаль-
но были не совсем непосредственны (непосредственность, по-
стоянно оберегающая себя, неизбежно приобретает оттенок на-
пряженности и даже искусственности). Нетрудно допустить, что
это могло как-то повлиять на природу переживаний героя и на
их исход.
101
Во всяком случае, отбросить версию племянника невозможно,
как невозможно, впрочем, отвергнуть и мысль дяди о роковом
значении разрыва между внушениями деревенского воспитания
и требованиями петербургского «порядка», как невозможно пере-
черкнуть утверждение Лизаветы Александровны, обвинившей са-
мого Александра в покорности обстоятельствам и чужим мнениям.
В конце концов все эти различные мотивировки связаны своей
взаимодополнительностью. Именно их взаимодополнительность
вырисовывается в споре, где ни одно мнение не может востор-
жествовать и ни одно не может быть отброшено. Но раскры-
вается все это в форме непримиримой и незавершенной дискус-
сии, только в такой форме входя в сознание читателя. Конечная
правда о герое оказывается дискуссионной проблемой.
Подобное взаимодействие различных мотивировок активизи-
руется именно по мере приближения к «центру», приобретая
напряженно-дискуссионную форму там, где проходит главный
«нерв» романа (другими словами — там, где встает проблема
объяснения и оценки «обыкновенной истории», пережитой Алек-
сандром). Иначе, например, соотносятся друг с другом мотиви-
ровки, объясняющие и позволяющие оценить жизненную позицию
и судьбу Петра Ивановича. Необходимость как-то их мотивиро-
вать входит в повествование лишь однажды, когда встает вопрос
о внутренних основаниях того своеобразного культа дела, труда,
трезвого знания, которым определяется пафос проповедей и по-
ведения Адуева-старшего. Рационально-трезвое, осторожно-скеп-
тическое отношение к чувствам дядя обосновывает как непре-
менное условие дельности: без этого невозможно «дело делать»,
а можно только «сидеть в деревне, с бабой да полдюжиной
ребят» (I, 111). Но какова та цель, во имя которой нужно
«дело делать»? Этот вопрос встает перед Лизаветой Александ-
ровной (в I главе второй части). Однако ответа героиня здесь
так и не находит. Не дает определенного ответа и сам Петр
Иванович, рассуждая (в IV главе второй части) о мотивах,
побуждающих людей действовать, трудиться, «хлопотать из чего-
нибудь». Нерешенность этого вопроса, так и оставшегося от-
крытым, сообщает ему некий дискуссионный потенциал. Но все-
таки характерно, что предметом спора этот вопрос так и не
становится, борьбы противоположных мнений не вызывает и не
создает той подлинно дискуссионной ситуации, которая и тре-
бует определенного решения проблемы и в то же время исклю-
чает его возможность. А другие вопросы, которые, по-видимому,
возникли бы совершенно естественно, окажись Петр Адуев в роли
главного героя, здесь и вовсе не встают. Обр’аз остается «кон-
турным», обнаруживая тем самым свое служебное назначение.
В целом смысловая структура романа Герцена и романа
Гончарова приобретает, по мере приближения к финалу, черты
особой, чисто художественной «неправильности». Ни тяготеющая
к твердой однозначности антитеза «человек — среда», ни устрем-
102
ленный к безысходной дискуссионное™ диалогический конфликт
не могут охватить все ее компоненты. Две различные формы
рационалистического осмысления действительности как бы «пе-
рекрывают» и тем самым взаимно преодолевают воздействие
друг друга: что-то оказывается неподвластно одной, что-то из-
быточно по отношению к другой. Постепенному высвобождению
структуры из-под власти заданных конструктивных «установок»
по-своему вторит «тематическое» развитие фабулы, в итоге
создающее ощущение ограниченности любых представленных
в романе форм сознания. Это — ощущение, которым обнаружи-
вается что-то ускользающее от всякой однозначной определен-
ности, что-то, выходящее за пределы всех развернутых в ро-
мане объяснений и оцейок. Говоря иначе,— ощущение живой жиз-
ни, которое оказывается здесь симптомом приближения к соб-
ственно эстетической форме ее освоения. Роман, таким образом,
действительно становится романом, обретая необходимые жанро-
вые свойства — открытость, неугасающую смысловую подвиж-
ность, незавершимость. Но создается впечатление, что у двух
крупнейших романистов 40-х годов нет иного пути к утвержде-
нию основных законов жанра, кроме того, который обеспечивает
столкновение и взаимопреодоление различных форм рационали-
стического аналитизма.
* *
*
Ситуация и в самом деле была такова. 1840-е годы — одна
из нередких в истории русского реализма эпох, когда рацио-
нально-аналитическая мысль участвовала в процессе художест-
венного познания как относительно обособленное начало, не
сливаясь до конца с конкретно-чувственной формой образного
мышления. Эстетический потенциал новых литературных форм,
созданных натуральной школой, еще не успел обнаружиться
и развернуться в полной мере. Новая литература утверждалась
как демонстративно непоэтическая, максимально близкая к фор-
мам научного, публицистического и обыденно-бытового сознания,
как преодолевающая освященные традицией критерии литератур-
ности. В этой обстановке рациональная мысль естественно
оказывалась главной организующей силой типичных для эпохи
романных структур, становилась основой воплощаемого в романе
мировосприятия. Только^ аналитически^ подход (схематизирую-
щий или (^роблег^нотдискусси мог. объединить и организо-
вать разнородные пласты жизненногаматериала в.рамках.искус-
стваА исключивши изевоего кругозора все «высшие» реально-
сти бытия и духа (столь" вЪжныё ещё для Пушкина, Лермонтова
и Гоголя)’, в рамках искусства, ограничившего .себя .задачами
обобщения на строго эмпирической основе.. Собственно художе-
ственные связи, по-видимому, могли возникнуть здесь только
юз
как некий избыток, превышающий потребности столкнувшихся
аналитических форм. И чтобы он, этот избыток, появился,
необходимо было именно их столкновение, открывающее воз-
можность выхода из-под власти любой из них и всей их
совокупности.
Оформлению подобных структур обычно сопутствовали особые
композиционные условия, составлявшие, судя по всему, необхо-
димую их предпосылку. Наиболее очевидное из таких условий —
обилие в самом тексте' романа“’npnWx^ интерпретаций изобра-
жаемого (характеристик, объяснений, оценок).~ Не менее сущест-
венно" другое: план Wfqmpera не сливается
с планом непосредственного изображения. Это именно два раз-
ных’'плана7Т1ПОТда'^ пересекающиеся, всегда взаимосвя-
занные, но при всем том ощутимо различные и иерархически
неравноценные. Наконец, всегда более или менее очевидна неко-
торая условность взаимной связи этих планов.
Коль скоро речь идет об интерпретациях изображаемого,
исходящих от действующих лиц романа, то их неслиянность
с планом непосредственного изображения зачастую бросается
в глаза. Выше уже говорилось о том, что дискуссии, составляю-
щие основу диалогического конфликта, лишь отправляются от
конкретных сюжетных эпизодов или деталей, получая от них сво-
его рода первоначальные толчки, но затем обычно превращаются
в философские споры, очень быстро универсализирующие обсуж-
даемое. Любая из подобных дискуссий может не раз вернуться
к эмпирическим «реалиям» сюжета, однако за такими возвраще-
ниями обычно следуют новые взлеты на высоту универсально-
философских проблем. Этот закон действует в романах Герцена
и Гончарова едва ли не с одинаковой отчетливостью. Примеры
его проявлений можно без труда найти почти в любой главе
«Обыкновенной истории» или второй части «Кто виноват?».
В общем, интерпретация почти всегда в какой-то момент
абстрагируется от~конкретнрго предмета изображения и как бы
воспаряет над ним. Там, на высоте универсальных обобщении
достигает своей кульминации столкновение противоположных
точек зрения и вырисовывается со всей очевидностью неразре-
шимая дискуссионная проблема. Она чаще всего переключает
читательское внимание на себя и всегда так или иначе отделяет
читателя от того конкретного первоисточника, над которым так
высоко вознесена. Проблема такого порядка обычно оказывается
высшей и последней смысловой реальностью, с которой имеет
дело читательское восприятие. С ней оно в конце концов и оста-
ется, всегда в. той или иной мере отвлеченное от первоначаль-
ных своих объектов.
Эти первоначальные объекты авторского и читательского
внимания не только дистанцированы «восходящей» динамикой
споров между персонажами, но как бы и понижены ею в «ран-
ге», потонут гчт6' низведены до роли поводов для обобщений
104
внутреннюю «меру
романд. Проявления
и дискуссий. Таким образом действует тенденция, характерная,
как уже сказано, для философской прозы (и, в частности, для
философской прозы....просветителей, традиции которой очень
актуальны для Герцена и Гончарова). В русских романах
1840-х годов тенденция эта, разумеется, не так обнажена, как,
скажем, в сочинениях Дидро или Вольтера, однако и здесь ее
проявления достаточно ощутимы.
Существенна здесь и ощутимая ритмичность в чередовании
событийных эпизодов и дискуссий (или дискуссий и повествова-
тельных фрагментов, так или иначе соотнесенных с борьбою
мнений). В «Обыкновенной истории», как это уже отмечалось,
правильность подобных чередований сопоставима с равномер-
ностью движений маятника. Равномерность колебаний нарушает-
ся и угасает лишь в последних главах. Во второй части «Кто
виноват?» такой правильности нет, но и здесь можно ощутить
определенный ритм переходов: основные узлы диалогического
конфликта затягиваются во II, IV и VI главах.
Ритмичность повествовательных переходов такого рода, вмес-
те с_превращением сюжетных «реалий» в повод или материал
для обсуждения дискуссионных про® ем, ^заметно увеличивают
уодошюстйТ^ системе
л художественной условности порой оказы-
ваются совершенно очевидными. Говоря о «Кто виноват?», можно
вспомнить внезапное исчезновение из сюжета столь важного
для его завязки действующего лица, как мать Любоньки. В пер-
вой части, где внимание автора сосредоточено на всевозможных
социальных, аномалиях, уродующих жизнь людей, участь кре-
постной любовницы помещика-самодура, естественно, занимает
видное место. Но во второй части, переходя к другим проблемам,
автор попросту забывает проследить дальнейшую судьбу Дуни.
Не вспоминает о ней и Любонька (по сюжету, ее единственная
дочь.) Мысль о матери мелькает лишь один раз, в дневнике
героини, и то лишь как иллюстрация к философскому рассужде-
нию о том, как могут быть душевно далеки друг от друга
родные по крови люди. Однако и в этом единственном случае
имеются в виду события далекого прошлого. Где мать сейчас,
как сложилась ее жизнь, жива ли она вообще — обо всем этом
нет и помину. И это вовсе не черта для характеристики Лю-
боньки, а простое выпадение, уже ненужного автору персонажа.
Сохранять его во имя поддержания иллюзии реальности автор
считает излишним, и принятая логика изображения это допускает.
Нечто подобное легко находим и в «Обыкновенной истории»,
где автор просто не считает нужным объяснить, каким образом
Адуеву-дяде удается разом и навсегда уничтожить любовь
и претейии Юлии Тафаевой к Александру. Тема уже дала
необходимый материал для дискуссии между главными действую-
щими лицами. Этого вполне достаточно, чтобы без всяких моти-
вировок исключить ее из дальнейшего развития сюжета.
105
Сходное соотношение интерпретаций и непосредственного
изображения — в сфере объективного авторского повествования.
Здесь тоже ощущаются различие, а порой и взаимная отгра-
ниченность двух планов, доминирующая роль, интерпретаций
по отношению к непосредственно.. изрбряждемхшу,. и т. п.
Типичны, к "примеру, портретные описания, полностью под-
чиненные аналитической расшифровке выделенных автором об-
разных деталей. Такова первоначальная портретная характерис-
тика Бельтова в V главе первой части «Кто виноват?» («...в лице
его как-то странно соединялись добродушный взгляд с насмеш-
ливыми губами, выражение порядочного человека с выражением
баловня, следы долгих и скорбных дум с следами страстей,
которые, кажется, не обуздывались» — I, 187). Зрительный образ
героя даже не успевает возникнуть: сразу же объясняется, что
означает та или иная отмеченная автором черта, причем подроб-
ности, которые позволили бы читателю как-то вообразить себе
облик Бельтова, даже не появляются в поле его зрения. Чита-
тельское внимание сразу же направляется на конечные итоги
аналитической характеристики и только с ними, собственно,
имеет дело. Примерно так же строится портрет Петра Ивано-
вича Адуева во II главе «Обыкновенной истории» или сравни-
тельная портретная характеристика дяди и племянника в III гла-
ве второй части этого романа.
Конечно, и в том и в другом романе встречаются портреты
иного типа, создающие отчетливый пластический образ. Но за-
кон, о котором идет речь, подчиняет себе и такие формы' изо-
бражения. Можно вспомнить хотя бы первоначальную портретную
характеристику Наденьки Любецкой в IV главе «Обыкновенной
истории» («Нельзя винить Петра Иваныча, что он не заметил
Наденьки с первого раза. Она была не красавица и не прико-
вывала к себе мгновенно внимания» — I, 115). Автор как будто
бы не может начать сразу с описания, создающего зримый
образ возлюбленной Александра. Ему нужно оттолкнуться от
какой-то оценки (или, говоря обобщенно, от какой-то интерпре-
тации) «предмета» изображения, нужно порассуждать о степени
ее справедливости или несправедливости, чтобы уже потом,
в процессе такого рассуждения, приблизиться к самому «пред-
мету». Пластически воссозданный облик героини чуть позднее
все-таки откроется читательскому восприятию, однако он уже
с самого начала предстанет объектом аналитической характери-
стики. Портрет будет строиться именно как характеристика, об-
общающая результаты многократных наблюдений, возводящая
в ранг типического обобщения каждую обрисовавшуюся деталь.
Правда, в какой-то момент накопление подобных деталей и, в осо-
бенности, их пластическая выразительность начинают превышать
потребности первоначального задания: рисунок вот-вот приоб-
ретет самостоятельную ценность. Но в этот момент аналитиче-
ская характеристика опять вторгается в текст описания и пре-
106
вращает пластические детали в материал для рассуждений
(«В этой грации много было дикого, порывистого, что дает
природа всем, но что потом искусства отнимает до последнего
следа вместо того, чтоб только смягчить» — там же). Непосред-
ственное изображение вновь оказывается поводом для интерпре-
тации, восходящей к универсальным обобщениям, а эта интер-
претация— «вышестоящей инстанцией» по отношению к своему
предмету. Затем — новый ряд выразительных пластических дета-
лей и новое превращение зримого в материал для аналитических
заключений («Все показывало в ней ум пылкий, сердце своен-
равное и непостоянное» — там же). Такая форма описания спо-
собствует его вовлечению в диалогический конфликт. Портрет
рисуется в обрамлении двух оценок — дяди и племянника —
и, стало быть, соотносится с противоборством полярных точек
зрения, проходящим через весь роман. Начинаясь частичным
оправданием мгновенных впечатлений Петра Ивановича (не за-
метившего в Наденьке ничего достойного внимания), описание
затем опровергает этот взгляд и в заключение как бы проти-
вопоставляет ему восторженное восприятие Александра, прйбли-
жаясь к прямой полемике с трезвой рассудочностью Адуева-
старшего («И не Александр сошел бы с ума* от нее; один
только Петр Иваныч уцелеет: да много ли таких?» — там же).
Но при этом все-таки остается возможность какого-то отмеже-
вания от восторгов племянника. Его одержимость оценивается
как вполне естественная, однако косвенным образом в ней обна-
руживается нечто ослепляющее. Получается итог, в известной
мере дискуссионный.
Аналогичный закон определяет характер пейзажных описа-
ний. И здесь интерпретация главенствует над непосредственным
изображением, выступая как его прямая цель и конструктивная
установка; Описание то и дело превращается в повод для
иронии, полемики, публицистики, философской рефлексии и т. п.
Крайнюю форму проявления этого принципа можно обнаружить
в описании городского публичного сада в V главе второй ча-
сти «Кто виноват?» (I, 284—285). Зримые детали пейзажа
здесь лишь изредка пробиваются сквозь авторские сарказмы,
сатирические обобщения, искрометную игру остроумия, иро-
нические пассажи, поминутно уводящие в сторону от самих
предметов описания. Разумеется, и в этой сфере нередки формы
описания, создающие пластические, зримые картины, однако
любая из картин рано или поздно тоже превращается в повод
и материал для прямо выраженной и восходящей к обобщениям
авторской интерпретации. Примеры описаний этого типа можно
найти в той же V главе второй части «Кто виноват?» (I, 285—
286) и во многих главах «Обыкновенной истории».
Видимо, нет необходимости в дополнительных примерах,
демонстрирующих главенство прямых авторских интерпретаций
изображаемого в рамках иных форм объективного повествова-
107
ния (в характеристиках, сценах, в объективном изложении со-
бытий). Всюду проявляется очевидная неслиянность автора
и его «последних» смысловых интенций, с образной реальностью
сюжета и\арактеров.
— 'э^а неслиянность’ опять-таки может иметь разную природу.
В романе «Кто виноват?» очевидно, ^ореадьная «„биргр.афиче-
ская» .личность ^гУс^ддгел^^^мцслйте^я^.^^.бще^т^.енногр дея-
теля — намного крупнее своего собственного создания и лишь
реализует
себя в акте художественного творчества. Тем самым непосредст-
венно, без мотивировок, оправданы свободные взлеты аналити-
ческой авторской мысли над всеми предметами и формами по-
вествования, над объективно-эпическим изображением людей
и событий. В «Обыкновенной истории» угадывается тончайший
намек на позЖию^втора^ так или иначе, демонстри-
рующего свою творческую роль. Хотя такая позиция и не дек-
ларируется в романе Гончарова, она дает о себе знать в особой
легкости обращения с материалом и приемами изображения,
в многообразной (и достаточно очевидной) игре повествова-
тельными стилями, вообще — в ^стоя^ной_близрсти к той rjpaHH,
за которой происходит_рбна^н^7у^9внрсти- Но источник не-
совпадения автора с изображаемым здесь не тот, что у Герцена:
это — особая ... художническая_ осторожность, не позволяющая
автору отождествить себя ни с одной из появляющихся в рома-
не концепций,....манерки тональностей изображения?Такая пози-
ция реализует характерную именно для Гончарова форму реа-
лйстическоц объективности..
Впрочем, различие индивидуальных позиций и манер лишь
оттеняет «фундаментальное», структурно-типологическое, родство
двух романов. И в том и в другом из них предметы изображе-
ния не обладают независимым, завершенным «в себе» худо-
й^тъе^ доподлинной реальности изобра-
жаемого то усиливается, то ослабевает, а в какие-то моменты
и вовсе исчезает, вытесняемая той или иной формой очевидной
условности. Поэтому здесь не может сложиться всецело объек-
тивированный; всецело Гсамдразвй-вающйй
в котором растворилось бы авторское «я», составляющее его
скрытую первооснову., Дрямая авторская активность (аналити-
ческая, публицистическая, лирическая) дсе время нарушает
жизнеподобную самодостаточность этого мира, вызываясь за
его пределы, превращаясь в особую, свободную стихий), обла-
дающую по отношению к нему всеми преимуществами «внена-
ходимости». Так появляется смысловое пространство для диало-
гизации и релятивизации художественной истины. В точках выс-
шего смыслового напряжения истина неизбежно оказывается
неразрешимо-дискуссионной.
Глава 3
ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ТУРГЕНЕВА-РОМАНИСТА В 1855—1862 гг.
Всего лишь около восьми лет отделяют время публикации
полных текстов «Обыкновенной истории» и «Кто виноват?»
(весна — осень 1847 г.) от времени появления первого романа
Тургенева («Рудин» написан в 1855, а опубликован в начале
1856 г.). Тем ощутимее значительность совершившихся измене-
ний, по глубине своей вполне соизмеримых с переходом от реа-
лизма 1820—1830-х годов к реализму натуральной школы.
Роман Тургенева «Рудин»
и традиции натуральной школы
Характеризуя своеобразие тургеневских романов, резко вы-
делявшее уже первый из них на фоне «ближайшей» литератур-
ной традиции, Л. В. Пумпянский писал: «Тургенев построил
тип романа, ничем не связанный с. современной ему литерату-
рой гоголевской (т. е. натуральной.— В. М.) школы и возоб-
новляющий литературную линию там, где оборвал ее Лермон-
тов». 1 Сегодня можно с уверенностью сказать, что исследова-
тель был столько же прав, сколько и неправ. Новый тип романа
и в самом деле структурно отличался от романов натуральной
школы: Тургенев в «Рудине» словно бы возвращается «назад» —
к принципам построения, характерным для «Героя нашего
времени». Вновь оформляется некогда связанная с романтиче-
ским конфликтом моноцентрическая конструкция произведения,
группирующая его основные компоненты вокруг фигуры главного
героя, подчиняющая их задачам его обрисовки и оценки. Одна-
ко при внимательном рассмотрении обнаруживается, что в ро-
1 Пумпянский Л. В. Романы Тургенева и роман «Накануне».— Тур-
генев И. С. (Йч. Т. VI. М.; Л., 1930. с. 16.
109
шане Тургенева такая конструкция активно использует важней-
шие художественные завоевания реализма 1840-х годов.
1 Можно заметить, например, генетическую связь метода
) первоначальных характеристик некоторых тургеневских персона-
| жей с «биографическим» методом характеристики, который дейст-
\ вовал в романах натуральной школы. Характеристика такого
ft рода фиксирует некоторое стабильное состояние персонажа,
описывает обычный тип его поведения. А затем объясняет это
нынешнее положение как итог эволюции характера, как резуль-
тат взаимодействия натуры персонажа с объективными условия-
ми его жизни. В подобном построении характеристики отчетливо
проявляется организующая роль аналитической авторской мысли.
Выбор «показательных» эпизодов, переходы от фактов к обоб-
щениям и обратно, общий порядок подачи материала, соотноше-
ние частей — все здесь прямо и открыто определяется сообра-
жениями повествователя о том, что и в какой степени важно.
Такова, к примеру, характеристика Пигасова (во II главе),
намного более сжатая, чем биографии-характеристики первой
части «Кто виноват?», но явно подчиненная тем же основным
законам, что и они.2
Заметно и другое направление преемственных связей. Сразу
же вслед за появлением героя в салоне Ласунской между
ним и Пигасовым начинается спор. Спор касается конкретных
предметов (вроде статьи барона Муффеля, о которой раньше
всего заходит речь), но задерживается на них недолго, стреми-
тельно переходя к универсальным проблемам. Сталкиваются два
? противоположных мировоззрения, одно из которых — сугубо
J практическое, прозаичное, скептическое, другое — отвлеченное
1 и возвышенно-идеальное. Проблематика спора не замкнута в пре-
делах диалогического противоборства полемизирующих «голо-
сов» и частично проецируется на дальнейшее развитие сюжета.
Пигасов нападает на любые общие рассуждения, концепции,
системы. «Это все одно умствование — этим только людей моро-
чат». Доверять можно лишь фактам — таков тезис старого скеп-
тика. Рудин, напротив, утверждает, что факты отнюдь не за-
служивают того доверия, которое им обычно оказывают люди.
Факты еще не открывают истину и более того — могут обманы-
вать. Эмпирический опыт вообще обманчив, его очевидности
на поверку могут оказаться иллюзиями. «Чувство вам говорит,
что солнце вокруг земли ходит». А разве это так? «Или, может
быть, вы не согласны с Коперником? Вы и ему не верите?»
(VI, 261—262).3 Истина, доказывает Рудин,— за пределами
2 Романная характеристика такого типа равнозначна свернутому сюжету
многих повестей натуральной школы, начинавшихся характеристикой сегод-
няшнего положения главного персонажа, а затем объясняющих это положение
всей историей его воспитания и развития.
3 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем. Соч. в 15-ти т. Письма
в 13-ти т. М.; Л., 1961—1968.— Здесь и в дальнейшем ссылки на это издание
даются в тексте (П.— означает «Письма»).
110
непосредственной эмпирической данности. Она не в фактах, /
а в «смысле фактов».
Несколько позже очередной сюжетный эпизод напомнит чи-'-'Ж
тателю об этой дискуссионной проблеме. Лежнев расскажет ?
Александре Павловне Липиной о молодости Рудина, выдвигая
на первый план именно конкретные факты. И факты эти будут
компрометировать героя. Выяснится, что воспитание и образо-
вание он получил на чужой счет — всякий раз находились под-
ходящие благодетели. , Немало компрометирующего материала
обнаружится и в истории отношений героя с его матерью.
Мать «толокном одним питалась и все какие были у ней де-
нежки употребляла на него», а он писал ей чрезвычайно редко
и посетил ее всего один раз. «Старушка и скончалась без него,
на чужих руках, но до самой смерти не спускала глаз с его
портрета» (VI, 286). Затем следует рассказ о каком-то запу-
танном романе с немолодой и некрасивой барыней из породы
«синих чулок» и т. п. Липина не сомневается в реальности
всех описываемых происшествий, но отказывается видеть в них
подлинную правду о Рудине. «Знаете ли, что можно жизнь
самого лучшего человека изобразить в таких красках — и ничего
не прибавляя, заметьте,— что всякий ужаснется! Ведь это тоже
своего рода клевета!» (VI, 287).
Две столкнувшиеся в начале романа точки зрения как бы
подвергнуты здесь испытанию. Где же истина — в самих фактах
или в «смысле фактов», требующем нелегкого постижения, да
к тому же и допускающем разные толкования? Позиция Липиной
в этом эпизоде явно «предпочтительнее». Но полностью сбросить
со счета неблагоприятное впечатление, созданное рассказом
Лежнева, тоже невозможно. Остается некоторое смысловое про-
странство для колебаний окончательной оценки — тем более,
что разговор о Рудине здесь не завершен: Лежнев обещает
возобновить знакомство с прежним другом и проверить свое
мнение о нем. Подобные ситуации неоднократно возникнут .
и в дальнейшем. И всякий раз объективное движение сюжета
7будет возвращать читателя к спору об истине, прозвучавшему /
в философской увертюре романа.
Спор между Пигасовым и Рудиным — классическая завязка
уже знакомого нам диалогического конфликта. Легко заметить,
что в тургеневском романе успевают обозначиться самые важ-
ные из его характерных черт. Но ясно обозначившаяся линия
борьбы мнений не развивается за пределами первого спора
между Рудиным и Пигасовым.
Традиция 1840-х годов получает необычное преломление: <
начальный спор-увертюра проецирует свою пррблематику на
последующее движение сюжета, однако новые споры двух анта-
гонистов не возникают или остаются «за скобками», не пре-
вращаясь ^в осязаемую сюжетную реальность. А между тем
художественный закон, действовавший в романах Герцена и Гон-
И1
чарова, предполагал многократное (и, как мы убедились, даже
периодическое) возобновление дискуссии.
В романах 1840-х годов развитие диалогического конфликта
непременно предполагало относительное равноправие столкнув-
,, шихся точек зрения. Даже в моменты явного перевеса одной
j из них полярности уравновешивались тем, что обе представляли
j собой принципиальные позиции и содержали (хотя бы, как эле-
4 мент) бескорыстную устремленность к истине и справедливости.
Именно поэтому дискуссии могли длиться на протяжении целых
частей или даже целых романов, составляя постоянную опору
художественной мысли автора, определяя одно из главных на-
правлений в ее движении к подлинной правде о мире и человеке.
. А у Тургенева — ситуация иная. Превращение споров Рудина
с Пигасовым в диалогический конфликт (и уж тем более —
развитие такого конфликта на всем протяжении романа) изна-
чально заблокировано прямым указанием на непринципиаль-
ность пигасовского скептицизма: «Пигасову в жизни не повез-
ло— он эту дурь и напустил на себя.» (VI, 248) и т. д. Автор-
ская характеристика Пигасова входит в повествование еще
во II главе. Поэтому спор III главы развертывается тогда,
когда уже в принципе исключено даже относительное равенство
сторон. Равенства и в самом деле нет: есть безусловный побе-
дитель— Рудин и безусловный побежденный — Пигасов. Нет
и продолжения споров в последующих главах: при постоянных
победах Рудина такое продолжение было бы явно искусственным
приемом, не обеспечивающим подлинно многогранного освеще-
ния обсуждаемых тем.
* *
*
Но если Пигасов сразу же лишен возможности оппонировать
Рудину «на равных», то^некоторые другие персонажи, напротив,
иногда получают такую возможность^ и тогда возникают си-
• туации, в принципе способные явиться завязкой какой-то новой
«дискуссионной» линии сюжета. Например, Волынцев в своем
столкновении с Рудиным защищает традиционные нормы чести
и приличия достаточно осмысленно и одухотворенно: «...что вам
кажется искренним, нам кажется навязчивым и нескромным...
Что для вас просто и ясно, для нас запутанно и темно... Вы
хвастаетесь тем, что мы скрываем: где же нам понять вас!»
(VI, 316). Почти такая же ситуация — в сцене у Авдюхина
пруда, где позиции Рудина противостоит простая правда «души
совершенно честной и прямой». ^При том, что и Волынцев
и Наталья признают превосходство Рудина, на их стороне —
;своя правота, эмоционально более близкая читателю и более
убедительная для негоДСловом, относительное равенство сторон
здесь налицо и, стало быть, j налицо предпосылки диалогиче-
112
ского конфликта, в котором «высшая», метафизическая точка
зрения сталкивалась бы с правдой «обыкновенной» морали
и «обыкновенных» человеческих чувств^ а многообразные пери-
петии этого столкновения вновь и вновь соизмерялись бы с бес-
конечной сложностью объективных противоречий жизни.
Однако и эти предпосылки не реализуются в традиционном
духе: ни сцена в доме Волынцева, ни сцена у Авдюхина пруда
не становятся начальными звеньями развивающегося диалоги-
ческого конфликта. Причина опять-таки достаточно очевидна.
И; в той и в другой сцене, в отличие от подобных сцен в рома-
нах'40-х годов, интерпретация не отделяется от непосредствен-
ного изображения. Столкновение противоположных точек зрения
не обретает даже относительной самостоятельности, поглощаемое
жизнеподобной целостностью «драматической» сцены? Борьба
мнений неотделима от борьбы чувств и стремлений действующих
лиц, от «сиюминутной» реальности их реакций и поступков.
Столкнувшиеся точки зрения не могут поэтому обрести ту сте-
пень абстрагированности, которая так важна для диалогического
конфликта в его традиционном варианте. В этой стадии разви-
тия сюжета/^происходит своеобразная драматизация диалогиче-
ского конфликта: конфликт уже не соотносится с фабульным
действием, а как бы погружается в него.}
Есть лишь ^одиа__исключение из этого правила, исключение
настолько существенное, что оно требует особого внимания.
'Это комментарии Лежнева, занимающие важное место в повест-
вовательной системе тургеневского романа. Точка зрения Леж-
нева наделена многими важными свойствами, традиционно при-
сущими одной из полярностей диалогического конфликта. При
всей своей тенденциозности она выражает принципы «обыкно-
венной» порядочности и противопоставляет их принципам отвле-
ченного идеализма/ последовательно, свободно и широко. Иными
словами, суждениям и оценкам Лежнева обеспечена необходимая
степень принципиальности. Кроме того, Лежнев — единственный
«толкователь» поступков, характера и судьбы Рудина, пытаю-
щийся подняться выше задач конкретной оценки — на уровень
обобщений и социально-философских проблем (правда, часто
не'достигая этого уровня, но во всяком случае приближаясь
к нему вплотную). Словом, перед нами — позиция, во многом
сходная с теми принципиально обоснованными жизненными кре-
до, которые обычно сталкивались в диалогическом конфликте
романов Герцана и Гончарова. Если бы роман Тургенева стро-
ился по законам реалистической поэтики 1840-х годов, точка
зрения Лежнева могла бы стать здесь концентрированным вы-
ражением правды «обыкновенного», противостоящей трагической
нежизнеспособности и духовному высокомерию всего «высшего»,
«исключительного», «гениального». Говоря иначе — своеобразным
подобием точки зрения доктора Крупова и той роли, которую
она играла в романе «Кто виноват?»..
113
Оценки и объяснения, которые дает Лежнев, диалогичны
не только по форме (обычно они звучат как реплики в разгово-
рах), но и по существу. В них то и дело ощущается полемиче-
ская заостренность, направленная как против Рудина, с которым
Лежнев все еще внутренне не «расквитался», так и против
^восторженного отношения к Рудину всех окружающих. Поэтому
^комментарии Лежнева почти всегда предполагают возможность
иной оценки, предвосхищают ее и напряженно ей противостоят.J
Порой лежневские оценки приобретают характер чисто диалоги-
ческой незавершенности, обрываясь на открытом вопросе или
очевидном противоречии, которое остается неразрешенным.
«В Рудине... было много мелочей... Его хлопотливая деятельность
никогда не унималась... политическая натура-с! Я о нем говорю,
каким я его знал тогда. Впрочем, он, к несчастию, не изме-
нился» (VI, 298). И вдруг: «Зато он и в верованиях своих
не изменился... в тридцать пять лет!.. Не всякий может сказать
это о себе» (там же).
\Сама композиционная форма, обеспечивающая включение
точки зрения Лежнева в систему повествования, отчетливо на-
поминает о традициях натуральной школы. Прежде всего —
о законе, предполагающем взаимное отграничение интерпретации
ш непосредственного изображениям "Лежнев не участвует в со-
бытиях «основного» действия, он их только комментирует со
•стороны, причем комментарий, как правило, отделен от событий
границей главы (или подглдвки), а также сменой пространст-
венного плана изображенияи (события, составляющие «историю»
Рудина, обычно происходят в усадьбе Ласунской, комментарии
Лежнева звучат в доме Липиной и Волынцева). Наконец, бро-
сается в глаза ритмическая правильность в чередовании этих
комментариев и событийных эпизодов: за каждым звеном «исто-
рии»‘ Рудина непременно следует сцена у Липиной, где Лежнев
пытается объяснить или оценить поступки и характер героя.
[ Так обнаруживается еще один признак, характерный для
структуры диалогического конфликта, еще одна несомненная
его предпосылка. А сам диалогический конфликт все-таки не
развертываетсяJ Ни Липина, ни Пигасов, с которыми порою
спорит Лежнев, не могут быть серьезными оппонентами, а столк-
новения жизненных кредо Лежнева и Рудина читателю так
и не суждено дождаться (хотя, казалось бы, для этого есть
все необходимые предпосылки).’ В единственной беседе двух
прежних друзей (она происходит в эпилоге) их суждения конт-
растируют, но не противоборствуют. Словом, \«лежневская» ли-
ния сюжета развивается на грани классических форм диалоги-
гческого конфликта, но все время удерживается на этой грани,
Iне пересекая ее.; И — в итоге-дискуссионно-полемический по-
\ тенциал лежневских интерпретаций реализуется нетрадиционно:-
не встречая прямого полемического противодействия, они стал-
киваются не с другими интерпретациями, а с самим предметом
114
объяснения и уже не могут «воспарить» над ним, как это
бывало в романах 1840-х годовз^Нет полноценной борьбы мне-
ний и, стало быть, нет той чисто диалогической энергии «восхо-
порядка
ний и, стало быть,
дящего» развития темы, йрторое так легко и незаметно подме-
няло конкретный первоисточник этой борьбы дискуссионной
проблемой общего
Такова здесь участь почти всех прямых интерпретаций изо-
бражаемого, исходящих от самих же действующих лиц. Интер-
претации эти, как правило, обнаруживают чисто диалогическую
открытость и неокончательность либо, напротив,— резкую поле-
мическую заостренность.4 Но диалогический потенциал реали-
зуется отнюдь не диалогическим образом. Оценки, объяснения,
характеристики с разных сторон устремляются к изображаемому
явлению и как бы наталкиваются на него, очень редко сталки-
ваясь при этом друг с другом. Возможности переключить вни-
мание на спор и, далее, на какие-то универсальные проблемы
настолько ограничены, что не имеют существенного значения.у
Поэтому! все истолкования характера и судьбы героя наразрывно(
связаны с конкретными фактами его сюжетной «истории», i
и факты эти становятся высшей реальностью в художественной /
иерархии романа.!
*
^Освещение этих фактов таково, что самое существенное
в них оказывается «по ту сторону» любых истолкований. Это
обусловлено глубокой трансформацией еще одного конструктив-
ного фактора, генетически связанного с традициями натуральной
школьь Если диалогический конфликт в «Рудине» никак не мо-
жет развернуться и принять свою классическую форму, то на
противоположном полюсе жанровой структуры не оформляется
та твердая, однозначно-определенная социально-философская
схема, которая в романах 1840-х годов осложнялась (и отчасти
преодолевалась) развитием диалогического конфликта.
Главной опорой такой схемы обычно служили биографии-
характеристики главных действующих лиц. Они вводили в роман
антитезу «человек — среда» и прочно связывали с ней особен-
ности воссозданных здесь характеров, а в конечном счете —
и логику развития сюжета. Биографии и характеристики подоб-
ного рода излагались от лица самого Автора и воспринимались
как объективная информация о персонажах, т. е. как истина.—
другого отношения к ним повествовательная «конвенция» между
автором и читателем просто не допускала.
Первый роман Тургенева тоже включает в свой художест-
4 Мнение Волынцева о Рудине осложняется недоумением, напротив, отзы-
вы Пигасова — своего рода словесные карикатуры.
/ j
115
венный строй подобные характеристики^ ^Наиболее типичная из
них — характеристика Пигасова, о которой уже говорилось
именно в связи с традициями натуральной школы. Но биогра-
фия и обобщенная характеристика главного героя, по материалу,
казалось бы, соответствующие канонам 40-х годов, строятся
здесь иначе; Они развертываются не в повествовании «от авто-
/ ра», а в субъективном кругозоре другого действующего лица
I и отмечены всеми признаками тенденциозного, пристрастно-по-
лемического отношения к Рудину.1 Почти все сведения о моло-
дости Рудина, о становлении его характера и все попытки
объяснить этот характер в целом исходят от Лежнева |и в прин-
ципе не могут быть восприняты как объективная истина: инфор-
мация, исходящая от персонажа, неизбежно несет отпечаток
определенной точки зрения и, стало быть, предполагает возмож-
ность какой-то субъективной апперцепции изображаемого. В дан-
ном случае такая возможность совершенно очевидна: недаром
первый, как будто бы. сугубо информативный рассказ Лежнева
о молодости Рудина, вызывает у Липиной ощущение, что «это
тоже своего рода клевета». В дальнейшем суждения Лежнева
о Рудине не раз меняются, однако ситуация неизменно остается
сложной. Ясно, что в этих суждениях (и в основанных на них
характеристиках) присутствует истина, но какова точная мера
их истинности, всегда отчасти неясно. Поэтому их «статус»
в повествовании всегда отличается от «статуса» объективных
авторских сообщений.
Словом, важнейшие компоненты образа, составлявшие преж-
де его первоначальное «основание», лишаются своей былой
определенности. «Пробел» не заполняется и другими элементами
изображения./Психологический комментарий автора почти всегда
оказывается неполным, характеризующим скрытые причины по-
ведения персонажей лишь в общих чертах — так что неповтори-
мая истина данного конкретного переживания, остается за рам-
ками объяснения. Комментарий на нее намекает, намечает
ориентиры, необходимые для ее отыскания, и этим ограничи-
вается.
I / Даже объективный смысл сюжетных перипетий зачастую
jf лишен однозначной ясности. В романах 1840-х годов объясне-
Ц ние и оценка происходящего могли вызывать, как уже сказано,
jj неразрешимые споры. Но что именно произошло — это, как
правило, было ясно. Было ясно, например, что Александр Адуев
сначала любил Юлию Тафаеву, а потом разлюбил, так же как,
скажем, Наденька Любецкая сначала любила, а потом разлю-
била его самого. У Тургенева основной сюжетный «ход» далек
от подобной ясности. Можно ли сказать с уверенностью, что
Рудин сначала любил Наталью Ласунскую, а потом разлюбил?
И то и другое проблематично, причем оснований для сомнений
сколько угодно. Невозможно утверждать, что чувство Рудина
к Наталье — настоящая любовь. В решающий момент Наталья
116
это понимает, и автор в дальнейшем отчасти поддерживает
ее («Письмо... яснее всех возможных доводов доказало ей, как
она была права, когда поутру, расставаясь с Рудиным, она
невольно воскликнула, что он ее не любит!» — VI, 339). И в то
же время невозможно утверждать, что Рудин лгал, когда в этот
самый момент искренне воскликнул: «Я вас люблю!».
Как видим, (обе конструктивные установки, столь важные
для романов Герцена и Гончарова, используются в тургеневском
романе по-новомуЛИх организующее воздействие на материал
и построение произведения резко ослаблено, так же как ослаб-
лена и напряженность их взаимодействия. Поэтому ^изменилась
их роль: теперь это силы, скорее, «вспомогательные» — не
столько формирующие структуру и смысл романа, сколько
активизирующие действие других структурообразующих и смыс-
лообразующих сил. Действие последних как раз и вызывает
к жизни образ нового типа — входящий в сознание читателя
как непосредственно ощутимая данность, несущий в себе нерас-
шифрованные смыслы, противостоящий как некая неразложимая
целостность любым рационально-аналитическим интерпретациям.;
Можно подумать, что возможности рационального аналитиз-
ма реализуются здесь именно для того, чтобы, исчерпав себя,
выявить это, по-видимому, неисчерпаемое смысловое «ядро»
образа.? Во всяком случае, все предпринимаемые в романе ана-
литические усилия объективно приводят к такому результату.
/ Это ощущение заставляет вспомнить о законах построения
образа, действовавших в романах натуральной школы: ведь
и в них сущность изображаемого ускользала от окончатель-
ных объяснений й определений. Но сразу же открывается
очень важное, хотя и тонкое, различие, позволяющее говорить
о принципиально иной поэтике. В романах 1840-х годов ощуще-
ние неопределимости изображаемого создавалось более всего
дискуссиями на уровне универсальных обобщений.’ Каждый раз
оно связывалось с неразрешимостью одного из вопросов общего
порядка. Такое ощущение'обычно усиливалось по мере удаления
от конкретного предмета или явления, оно и возникало на опре-
деленной высоте «над» ним, достигнутой взлетом абстрагирую-
щей мысли.4 В романе Тургенева это ощущение отражает природу
самого воссозданного факта — конкретного, твердого, в принци-
пе способного поддаться «завершающему» объективному пони-
манию, но при всем том остающегося для читателя несколько
неясным, волнующим и тревожащим этой своей неполной ясно-
стью, своим мерцающим из глубины нерасшифрованным смыслом.
* *
*
; Возникновению такого, принципиально нового по своей струк-
тура образа способствовала особая позиция автора-повествова-
теля, впервые оформившаяся и утвердившаяся как некая лите-
117
ратурная норма именно здесь, в романе «Рудин».5 По характеру
прав и возможностей своего субъекта она близка к позиции
персонифицированного рассказчика, непосредственного и в то,
же время объективного наблюдателя изображаемых событий.!
Это позиция единичной личности, воспринимающей и способной
понять изображаемое в пределах доступного обычному житей-
скому восприятию и обычному житейскому пониманию людей
или событий. Разумеется, все это помножено на специфические
возможности искусства, но возможности житейские приняты
здесь за основу. Пределы непосредственного изображения или
прямого объяснения изображаемого обычно так или иначе со-
измеримы с житейской основой. В общем(_это возможности
по существу очень близкие к тем, которые допускает форма
повествования от первого лица — с той разницей, что здесь
они лишены своих обычных обоснований и реализуются в со-
вершенно иной форме. Принятая повествователем мера само-
ограничения оборачивается слиянием субъекта изображения
с миром изображаемого. Мир этот сразу обретает то полноцен-
\ но-независимое, «суверенное» художественное бытие, от которого
\ был еще далек сюжетно-образный мир романов 1840-годов. )
•! [Изнутри идущее ограничение прав и возможностей пбвёство-
; вателя сразу же обозначает предел столь существенной для ро-
манистов натуральной школы открытой авторской активности.
Становятся неуместными демонстрации неслиянности автора
и произведения,[исчезает та более или менее явная дистанция,
* которая то и дело возвышала автора над «реальностью» харак-
теров и сюжета. А вместе со всем этим исчезает смысловое
пространство для диалогизации художественной истины ^(или
для ее схематизации в духе антропологических концепций
1840-х годов). Перестройка повествовательной системы повсюду
обуздывает энергию рационалистического аналитизма, удержи-
вая все формы ее проявления в границах вспомогательной роли.
Интерпретации утрачивают роль вышестоящей инстанции и про-
исходит то слияние предмета и смысла изображения; которое
бросается в глаза при первом же сопоставлении тургеневской
поэтики с поэтикой «Кто виноват?» и «Обыкновенной истории».
* *
*
^Обуздание всех форм рационалистического аналитизма мак-
симально активизирует энергию образных сцеплений и взаимо-
отражений, возникающих как бы независимо от усилий авторской
мысли. Различные характеры, различные свойства одного и того
же характера, сюжетные линии, эпизоды, детали, отражаясь
5 Максимальное приближение к такой позиции можно обнаружить в «Кня-
гине Лиговской». Но незаконченный роман Лермонтова был' опубликован и
вошел в литературный обиход только в 1882 г.
118
друг в друге, образуют целостную картину.^Создается видимость
свободного самодвижения событий, переживаний, поступков пер-
сонажей, самораскрытия сущности изображаемого.^ Словом,
^осуществляется тот эффект, который позднее станет первоосно- J
вой реалистической прозы ^(романа прежде всего)! И очень
важно подчеркнуть, что\этот эффект впервые обретает всеобъем-
лющую полноту и решающее значение именно здесь, в тургенев-
ском «Рудине», написанном на пороге крутого перелома в раз-
витии русского общества и русской литературы.!6
Многосложные и разнонаправленные взаимо'отражения фор-
мируют прежде всего центральный образ романа.7 Он объеди-
няет противоположности, на первый взгляд, как будто бы
несовместимые^— «пошлость рядом с необыкновенностью, дрян-
ность рядом с достоинством» (К. Аксаков) и т. д. Недаром
в ближайших по времени критических отзывах о романе не-
редки замечания о «неясности» и «противоречивости» главного
образа, а позднее Чернышевский (хотя и с некоторыми оговор-
ками)^ определит характер Рудина как «путаницу несообразно-
стей». Столь противоположные качества логически и в самом ,
деле не связываются. А/ психологический анализ, который ]
мог бы рассеять недоумение читателя, открыв конкретную воз- i
можность совмещения противоположностей, останавливается на /
пороге главных тайн индивидуальности reponjДОднако сама (
стихия взаимоотражений, пронизывая весь материал, составляю- '
щий содержание образа, всюду выявляет невыразимое в словах
подспудное родство и в конце концов сопрягает противополож- '
ности в единую жизнеподобную целостность. Перед лицом ее>
несомненной истинности обнаруживает свою недостаточность
система общепринятых понятий и оценочных критериев.:__В соз-
нании читателя должно обрисоваться своего рода живое про-
тиворечие— удивительное и странное явление русской общест-
венной жизни, вызывающее не согласуемые между собой оценки
и реакции, остающееся за пределами компетенции «современного
суда».] Во всяком случае таким представляется смысл основной
части сюжета — истории пребывания Рудина в усадьбе Ласун-
ской.
* *
*
В первой редакции «Рудина» рамки этой истории (включав-
шей также предыстории и обобщенные характеристики дейст-
вующих лиц) охватывали все содержание романа. Но в процес-
6В «Записках охотника» рассказчик временами все-таки очень заметен
и нужен для хода повествования.
7Роль «образных отношений» такого типа см.: Шаталов С. Е. Худо-
жественный мир И. С. Тургенева. М., 1979, с. 151—171.
119
се его переработки в сентябре—декабре 1855 г. роман, как
известно, обогатился дополнениями, заметно изменившими его
структуру.8 Появились, в частности, концовка XII главы (изо-
бражающая Рудина в знойный полдень на почтовом тракте)
и эпилог, где встречаются после многолетней разлуки Рудин
и Дежнев и где звучит рассказ героя о его скитаниях.
в заключительной части романа Рудин освещен по-новому.
Герой здесь впервые предстает целеустремленным и деятельным,
поражая упорством и неутомимостью поисков. В нем
исчезает все мелкое, тривиальное, эгоистическое — теперь уже
просто невозможно говорить о рудинском тщеславии и деспо-.
тизме, о кокетстве, рисовке, самолюбивой жажде эффекта. -
В последнем разговоре с Лежневым Рудин судит себя куда
более жестоко, чем его прежний обвинитель, причем в этом
самоосуждении нет уже ничего показного и «полупритворного».
Перед нами — человек бескомпромиссно честной, самоотвержен-
ной, в сущности героической и по-своему сильной души. Он даже
прост и естественно демократичен, этот новый Рудин. Такая
перемена воспринимается как неожиданность и может удивлять —
даже при том, что читатель, казалось бы, уже приучен к пара-
доксальным поворотам сюжета.
Разумеется,\ новый облик Рудина представлен как следствие
пережитой героем эволюции — это обозначено прямо и открыто.
Но дело не просто в том, что Рудин изменился: изменения не
создают иной характер, а приводят к углубленному осмыслению
(отчасти даже к переосмыслению) уже известного. Тут появ-
ляются приемы и принципы изображения героя, не' применяв-
шиеся в основной х сюжетной «истории». Прежде всего — испо-
ведальная форма, подлинно исповедальные интонации, заста-
вляющие воспринимать рассказ Рудина в эпилоге с таким же
безусловным доверием, с каким обычно воспринимается соб-
ственное авторское слово.9
^Появляются и значительные временные интервалы, создающие
перерывы в движении сюжета; между приездом Рудина к Ла-
сунской и уже упомянутым эпизодом, рисующим постаревшего
героя на почтовой станции (концовка XII главы), «минуло
около двух лет», между этим эпизодом и встречей Лежнева
с Рудиным в гостинице губернского города С...а проходит «еще
несколько лет». ЦВ_ прозаических и стихотворных повестях пи-
сателей натуральной школы (и в тургеневских поэмах между
8См. об этом, например, в комментариях М. К. Клемана к редактирован-
ному им изданию «Рудина» (Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо.
М.; Л., 1933, с. 440—443).
9Этому немало способствует новый строй рудинской речи, освободившейся
от многих романтических черт и выступающий как выражение «трезвой, суровой
правды о жизни» (Курляндская Г. Структура повести и романа И. С. Тур-
генева 1850-х годов. Тула, 1977, с. 88).
120
прочим) ^подобные перерывы служили способом испытания ге-
роев, выясняя степень их незаурядности, их способность про-
тивиться опошляющим воздействиям среды, а заодно и силу
этих воздействий — как правило, с самыми безотрадными ито-
гами. Первоначальная авторская характеристика внушала чита-
телю надежды на исключительность судьбы героя, а временные
интервалы неожиданно разрушали эти надежды, обнаруживая
всемогущество окружающей пошлости, неспособность личности
устоять перед ее повседневным давлением.10 11
ХГ^кое испытание временем представлялось писателям нату- ;
ральной школы наиболее серьезным и надежным^ Прибегает
к нему Тургенев и в «Рудине», несомненно учитывая традици-
онную функцию приема, но при этом используя ее по-новому. ;
Возвращаясь к герою после каждого временного интервала,
повествование обнаруживает не опошление (предусмотренное
каноном и отвечающее привычным читательским ожиданиям),
но совершенно очевидные признаки духовного возвышения героя/
Существенно и резкое изменение масштабов испытания: перёд
читателем уже не случай из жизни Рудина, а «вся оставшаяся
жизнь» героя и вместе с тем нечто большее — своего рода
«конспективная эпопея», которая намечает — через посредство
нескольких типических эпизодов — панораму современной обще-
ственной жизни, соотнося с ней судьбу героя и таким образом
эту судьбу объясняя. ЙЧ Рудин пробует все возможные в совре-
менной России легальные формы честной и полезной деятель-
ности и сталкивается в своих попытках со всем ее обществен-
ным порядком. И. то и другое достаточно очевидно, поэтому
вырисовывается ситуация «фатальная», обнажающая глубинный
конфликт между героем и окружающим его миром. [Проясняются
враждебные человеческим стремлениям законы ' этого мира,
а с другой стороны — глубинная основа характера.^
Все грани новой манеры изображения, будь то исповедальная
правдивость рудинского рассказа или масштабность обрисовав-
шейся картины, высвечивают эту глубинную основу, как бы
отделяя ее от всего преходящего и несущественного.
[Очертания образа сразу же становятся более твердыми, не-
проблематичнымщ не способными вызвать то резкое расхождение
реакций, которое было вполне возможным и естественным до
эпилога. И; вновь проступают черты изначальной исключитель-
ности героя, однако теперь уже увиденные и осмысленные иначе.1
В натуре Рудина открывается естественный потенциал подвиж-
10Р а з в и т и е реализма в русской литературе. Т. 1. М., 1972, с. 237—241.
11 Интересны соображения, высказанные по этому поводу С. Е. Шаталовым:
в рамках основной сюжетной «истории» персонажи и автор судят «незаурядно-
го, но вполне конкретного человека», в эпилоге же объектом оценки стано-
вится скорее определенный общественный тип, отчего «второстепенное немедлен-
но отсеялось, и сам образ укрупнился и вырос» (Шаталов С. Е. Указ,
соч., с. 171).
121
ничества — необычного, в котором столько же святости, сколько
и странности. ^Самоотверженное служение истине и добру ока-
зывается потребностью и уделом человека, не способного жить
обычной человеческой жизнью^ непригодного для этой жизни.
\По мере приближения к финалу одиночество Рудина, его
непричастность ко всему житейскому акцентируются острее и ост-
рее. И совершенно естественно напрашиваются вопросы о при-
роде и происхождении владеющего им пафоса.^Как только эти
вопросы возникают, ^рновь намечаются некоторые предпосылки
диалогического конфликта. Вырисовывается возможность двух
противоположных подходов к проблемен В неугасающем рудин-
ском энтузиазме, в упорстве, не отступающем перед всемогущей
силой враждебных обстоятельств, можно увидеть своеобразную
форму ненормальности. Сам Рудин готов оценить ситуацию
именно так: «Во мне сидит какой-то червь, который грызет
меня и гложет и не даст мне успокоиться до конца» (VI, 357).
Но столь же правомерной выглядит и другая точка зрения — та,
которую развивает Лежнев: «Может быть, тебе и следует так
вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее,
для тебя самого неизвестное назначение (VI, 367)». Обе точки
зрения небезосновательны и обе недоказуемы в рамках того,
что поддается непосредственному изображению. Опять, теперь
, уже на иной смысловой ступени, как будто бы намечается
1 знакомый читателю итог:[ни одно мнение не становится бесспорно
' истинным и ни одно не может быть отброшено, вопрос открыт,
' перспектива возможной дискуссии уходит в бесконечность. Но
и здесь традиционная диалогическая ситуация воссоздается
словно бы нарочно для того, чтобы ее трансформировать (до
прямой дискуссии дело не доходит), а в конечном счете даже
«снять» в некотором высшем единстве.^
* *
*
^Фрагменты, «добавленные» к роману во время его перера-
ботки осенью 1855 г., включились в образные связи уже сло-
жившегося целого, обогатив и, в сущности, преобразив его не-
которыми новыми сцеплениями, формирующими многосложно-
емкий символический смысл; Выход к нему обозначается вполне
отчетливо перед самым эпилогом. Здесь неожиданно приобретает
новое качество уже не новый для читателя мотив, прозвучавший
в первый раз значительно раньше. В VII главе, заговорив
с Натальей Ласунской о любви и возможности счастья, Рудин
бросает грустную, не лишенную легкого кокетства фразу: «Эта
сторона жизни для меня уже исчезла. Мне остается теперь
тащиться по знойной и пыльной дороге, со станции до станции,
в тряской телеге... Когда я доеду, и доеду ли — бог знает...»
(VI, 306). Мелькнувшие здесь метафоры — пока что не более
122
чем материал для характеристики, стиля рудинских речей, ру-
динских отношений с людьми. Но |в^ концовке XII главы мета-
форы внезапно реализуются: читатель воочию видит Рудина,
который тащится по знойной и пыльной дороге, в тряской теле-
ге, не ведая когда .доедет и доедет ли вообще... Фраза вдруг
обернулась судьбой,]
Уже ассоциативная связь с прозвучавшим ранее мотивом
сообщает этому эпизоду метафорический смысл. Но энергия
метафрризации рождается также и его собственным содержа-
нием. !В самой внутренней структуре дорожной сцены скрыт
значительный потенциал поэтического иносказания, который
активизируется тончайшими смысловыми сдвигами, скрадываю-
щими черты конкретной единичности изображаемого.^
! Эпизод, о котором идет речь, конечно, локализован во вре-
мени, в пространстве, в кругу конкретных обстоятельств! Он
развертывается в то самое время, когда в доме Лежнева
и Липиной завязывается спор о Рудине и провозглашается
тост в его честь. Отчасти определен и маршрут странствий
героя.\Однако конкретизация словно бы не доведена до конца.
Слишком многое остается неясным J Откуда едет Рудин? Что
ему пришлось покинуть? Какова цель его поездки?: Неясность
всего этого естественно дополняется типизирующими формулами,
которые время от времени вплетаются в рассказ, переводя его
в масштаб обобщений.) «В одной из отдаленных губерний Рос-
сии...»— так начинается рассказ, а потом идет описание почто-
вой станции, сразу же относящее ее к определенному разряду
и построенное так, что общими признаками этого разряда пол-
ностью исчерпывается представление об увиденном. Перед чита-
телем — конкретная станционная комната, конкретные детали
ее обстановки, конкретная ситуация и т. п., но в то же время
и не только это, а как бы наглядное олицетворение целой ка-
тегории однотипных явлений. Оттого и [весь эпизод, не переста-
вая быть конкретной сценой, воспринимается как обобщенно-
зримый образ скитальческой судьбы героя.3
^Размытость конкретных характеристик эпизода как бы про-
буждает скрытую в глубине рассказа поэтическую аллюзию,
а та, в свою очередь, делает возможным смысловой сдвиг
в сторону обобщения еще более крупного масштаба. Некоторые
детали дорожной сцены (начиная с «седого мужичка» на об-
лучке> погоняющего тройку лошадей) отчетливо соотносятся
с мотивами пушкинской «Телеги жизни»?
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка^
Ямщик лихой, седое время
Везет, не слезет с облучка...12
12 Ассоциации, ведущие в мир пушкинских образов, поддержаны и деталя-
ми описания почтовой станции, напоминая о «Станционном смотрителе» (важнее
123
Наиболее ощутим параллелизм двух финалов:
Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.
«Рудин вынес свой чемоданчик, влез на телегу, сел, пону-
рился по-прежнему. (А прежде было так: «Неровные толчки
кибитки бросали его из стороны в сторону, он казался совер-
шенно бесчувственным, словно дремал».) Было что-то беспомощ-
ное и грустно-покорное в его нагнутой фигуре... И тройка по-
плелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчика-
ми» (VI, 353)^ Аллюзия объединяет вокруг себя родственные
детали, и они становятся опорными точками внезапно вырастаю-
. щего универсально-философского смысла? Эпизод из скитальче-
ской жизни Рудина на мгновение предстает олицетворением
судьбы человека в мире./ Так дает о себе знать ранее почти
: : неощутимый символический подтекст романа.
(Эпилог развертывается уже на смысловом уровне, заданном
присутствием этого подтекста. Знакомые читателю мотивы «до-
роги» и «странствия» уже более явно наделены здесь универ-
сальными иносказательными значениями] (ср.: «Маялся я много,
скитался не одним телом — душой скитался... Где не бывал я,
по каким дорогам не ходил!.. А дороги бывают грязные»; или:
«Наши дороги разошлись... Новые поколения идут мимо нас,
к не нашим целям...» и т. д.— VI, 356, 366, 367).
Развитие мотивов «дороги» и «странствия» осложняется
в эпилоге появлением других метафорических тем, несущих,
* однако, иные значения (и даже в какой-то мере — иные ка-
’ чества). Особенно существенны мотивы «дома», «угла», «при-
юта», «гнезда»,. вступающие в сложные отношения между со-
бой и с мотивами, о которых уже шла речы Эти новые мотивы
тоже очень - быстро набирают символическую многозначность
и приобретают способность проецировать свои значения на сю-
жет. Но £ то же время они содержат резко контрастные друг
другу различные смыслы, которые сообщают определенный
иерархический порядок всей создаваемой символическим под-
текстом картине мира.
Эти контрастные смыслы очень заметны в последнем диалоге
Рудина и Лежнева^ В сознании Лежнева «дом», «приют» и «гнез-
до» объединяются как категории одного ряда («Помни: что бы
с тобою ни случилось, у тебя всегда есть место, есть гнездо,
куда ты можешь укрыться. Это мой дом... слышишь, старина?
У мысли тоже есть свои инвалиды: надобно, чтоб и у них был
приют»—VI, 367). Для Рудина «дом» — это всего лишь «угол»,
нечто вызывающее ассоциативное представление о жизненном
всего здесь описание лубочных картинок на стене — явная парафраза соот-
ветствующего «белкинского» мотива).
124
пространстве, замкнутом и безвыходном («...Угол есть, где уме-
реть»— VI, 365). «Приют» получает иное значение, по-видимому
более высокое («...приюта я не стою» — VI, 367). А тема «гнезда»
никак не связывается в рудинских рассуждениях с представле-
нием о «приюте» и «доме». И не случайно.
Мотивы «дома», «приюта», «гнезда» уже звучали раньше —
в «скандинавской» легенде, явившейся кульминационным пунк-
том рудинской «импровизации» у Ласунской (этот фрагмент
тоже появился в тексте романа во время его переработки осенью
1855 г.). Там, в завязке романа, присущие названным мотивам
символические «сверхсмыслы» выступали явственно, достигая
почти аллегорической прозрачности' «Помню я одну сканди-
навскую легенду,— рассказывал Рудин.— Царь сидит со своими
воинами в темном и длинном сарае, вокруг огня. Дело про-
исходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в рас-
крытые двери и вылетает в другие. Царь замечает, что эта
птичка, как человек в мире: прилетела из темноты и улетела
в темноту, и не долго побыла в тепле и свете... «Царь,—
возражает самый старый из воинов,— птичка и во тьме не
пропадет и гнездо свое сыщет...». Точно, наша жизнь быстра
и ничтожна; но все великое совершается через людей. Сознание
быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все
другие радости: в самой смерти найдет он свою жизнь, свое
гнездо...» (VI, 269—270).
\ Та же самая антитеза'' (на одном полюсе «кров дома»,
«тепло» и «свет», на другом — бесприютность, «холод» и «тьма»)
опять всплывает в конце романа, уже после диалога Лежнева
и Рудина—’в финальном лирическом заклинании автора-повест-
вователя? «Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто
в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уго-
лок... (так неожиданно отзывается рудинский «угол», где можно
спокойно умереть. — В. М.). И да поможет господь всем бес-
приютным скитальцам!» (VI, 368).
Здесь, в финале, символические «сверхсмыслы» ушли в глу-
бину подтекста, не потеряв при этом, однако, своей многомер-
ности и прежде всего — своей напряженной устремленности
в сторону предельных обобщений и поэтического иносказания.,
Здесь важен скачок, мгновенно переносящий читателя в иное
художественное измерение. В особенности — «переход от повест-
вования к высказыванию», через «качественный рубеж, разде-
ляющий различные слои художественного времени — время эпи-
ческое и время лирическое».13 Именно такой рубеж внезапно
преодолевается в финале «Рудина» авторским восклицанием
о счастливцах, сидящих «под кровом дома», и бесприютных
скитальцах, затерянных во мраке. Время конкретных сюжетных
13 М е д р и ш Д. Н. Структура художественного времени в фольклоре
и литературе.— В кн.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.
Л., 1974, с. 133.
125
событий,' столкновений, ситуаций на какое-то мгновение раст-
воряется в парадоксальной взаимопереходности сиюминутного
и вечного, определяющей особую природу лирического време-
ни.14 А объективное саморазвитие действия вдруг поглощается
столь же парадоксальной внутренней диалектикой лирического
внушения, через субъективное авторское переживание приобща-
ющей сознание читателя к недоступным обычному восприятию
сущностным коллизиям бытия.
\Роман вновь (хотя уже теперь и не так, как в звучании
«скандинавской» легенды) возвышается до «последних» обобще-
ний,^ где обнажаются родовые категории человеческого сущест-
вования. И 'мгновенно замыкается ассоциативная связь, объеди-
няющая символические «сверхсмыслы» завязки и финала. Эти
структурно наиважнейшие сюжетные «узлы» оказываются источ-
никами мощных лирико-символических смысловых излучений,
которые с двух сторон проецируются на сюжетную историю
героя, всю ее наполняя дополнительным — универсальным — со-
держанием.
Как видим, универсальное содержание входит в роман Турге-
нева совсем иначе, чем в романы 1840-х годов. Теперь оно опять
(как и на ранней стадии развития русского реализма) создается
метафорическими уподоблениями, ассоциациями, игрой едва уло-
вимых семантических обертонов, мерцанием загадочно-много-
значных подтекстовых «сверхсмыслов». ЭтоД содержание опять
выражает глубинную метафизику бытия, его «высшие» реаль-
ности, которые исключались из философского и художествен-
ного кругозора романистов натуральной школы, кругозора, прин-
ципиально ограниченного сферой реальностей бытовых, психо-
логических и социологических. Недаром наиболее естественной
формой выражения этого содержания вновь оказалась поэтиче-
ская символика, обнаружившая к тому же свое мифологическое
происхождение.!
Антитеза, составляющая основу символического подтекста
в тургеневском «Рудине», явно восходит к мифологической тра-
диции, оживляя и преображая ее включением в контекст совре-
менных жизненных ситуаций. Происхождение этой антитезы,
противопоставляющей дом как ограниченную и всецело принад-
лежащую человеку сферу «тепла» и «света» беспредельности
вселенского «холода» и «тьмы», указано недвусмысленно. Она —
из мира древних легенд, еще сохранявших непосредственную
близость к мифологическим истокам человеческой культуры.15
В то же время первозданные мифологемы изменяют свою при-
14 Об этом свойстве лирического времени уже говорилось в первой главе
15 Характеристику мифологической первоосновы подобных антитез см.,
например: Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира.— В кн.: Семи-
отика культуры: Труды по знаковым системам. Вып. X. Тарту, 1978, с. 72—74.
126
роду и содержание, объединяемые в новой, развивающейся на
глазах читателя, индивидуальной мифопоэтической идее.16
Глубинный символико-мифологический смысл тургеневского
сюжета оказывается во многом далеким от антропологических
идей, вдохновлявших романистов предшествующего десятилетия
и предполагавших рационально-гармоническое разрешение жиз-
ненных противоречий. Выше уже говорилось о том, что и Гер-
цен и Гончаров стремились избежать полного подчинения антро-
пологическим социально-философским схемам (как правило,
механистическим в своей основе), но еще не искали, да и не
могли найти прочную позитивную опору за пределами этих
схем. Романисты 1840-х годов могли лишь усложнить эти схемы
или придать им известную проблематичность, отправляясь при
всем том от них же самих. ^Символический подтекст «Рудина»
(и в частности, его «стержневая» мифопоэтическая антитеза)
выражает иную концепцию взаимоотношений человека и мира,—
исключающую перспективы рациональной гармонии, по рассу-
дочным критериям — парадоксально-странную, но этим своим
качеством в полной мере отвечающую жизненной реальности
и специфике искусства. •
«Холод» и «тьма» ассоциируются в «Рудине» с одиночеством,
бесприютностью и обездоленностью, скитальческой судьбой,
страданием и гибелью. Но в то же время — с вечностью, с воз-
можностью найти свое «гнездо», обрести высшую цель и высший
смысл жизни. Темы «дома», «тепла.» и «света» образуют другой
ассоциативный ряд, связываемый с представлением о сфере
житейских радостей и житейских благу с представлениями
6 покое, уюте, любви, счастье, о семейных и дружеских связях,
вообще — о душевном и материальном благополучии всяческого
рода. Но вместе с тем — с представлением о тех или иных
формах духовной ограниченности, о быстроте и ничтожности
земной жизни. И ; все представшие читателю люди отчетливо
разделяются на две неравные категории. По одну сторону —
те, «кто сидит под кровом дома», у кого есть «теплый уголок»
16 Уже в самой легенде, на которую ссылается Рудин, первоначальное,
архаическое содержание антитезы существенно изменено. В мифе «тьма» отож-
дествлялась с хаосом, хаос — с небытием, и все эти значения неизменно со-
ставляли отрицательный полюс главных мифологических оппозиций. Напротив,
«тепло» и «свет» являлись эквивалентами небесного начала. В «скандинавской»
(точнее англосаксонской) легенде это исходное соотношение уже преодолевается
влиянием христианских представлений, утверждающих духовную ценность стра-
даний и трактующих смерть как переход к инобытию высшего порядка. Во
внутреннем контексте тургеневского романа такая трансформация дополнитель-
но усиливается воздействием романтических концепций «ночи» и «хаоса»,
на свой лад провозглашавших высокую ценность этих начал (Вспомним:
«Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтиче-
ский и философский мир...»—VI, 290). Можно отметить и вполне конкретную
перекличку центральной символической антитезы тургеневского романа с одной
из главных лирико-символических антитез «Евгения Онегина», так отчетливо
выступающей в сне Татьяны.
127
обыкновенного человеческого существования, с его простыми
и неоспоримыми реальностями. По другую — те, кому нет места
в мире этих реальностей, кто обречен скитаться, бороться
и гибнуть в «холоде» и «тьме», но приобщается к миру высших
ценностей. \Остается неясным, откуда исходит возможность
придать «вечное значение временной жизни человека» (говоря
словами Рудина). Неясно, является ли человек «орудием высших
сил», или он сам, силой собственного сознания и собственной
воли, вносит высший смысл в свое существование ’ по «естеству»,
/ быть может, и бессмысленное. Ясно и бесспорно другое: высший
I смысл, «вечное значение» все-таки входят в человеческую жизнь,
i но обретаются они лишь в «холоде» и «тьме» — лишь ценой
одиночества, обездоленности, страданий и гибели.! Иными сло-
вами — ценой непричастности к обычной человеческой жизни,
ценой известного рода «ненормальности». ^Вырисовывается под-
линно трагическая дилемма — всеобъемлющая, жесткая, беском-
промиссная, не оставляющая места для какого-либо третьего
варианта. А за нею — целостная трагическая концепция бытия.
* *
*
; Мысль об универсальности этой трагической концепции бы-
тия несла в себе художественное решение громадной социально-
философской проблемы, занимавшей в середине 1850-х годов
, русское общество. Это была проблема оценки «лишних людей»
и — шире — проблема поисков идеала, необходимого России
в переломный момент ее истории.; Работа над «Рудиным» в опре-
деленной мере была попыткой оценить пройденную стадию об-
щественного развития, выделив самое важное в ней. И харак-
терно, что самой важной из проблем, выдвинутых двумя пред-
шествующими десятилетиями, оказалась для Тургенева именно
проблема «лишнего человека», осмысленная теперь, однако, уже
совсем не так, как раньше. Вопрос о преемственной связи
первого тургеневского романа с тургеневскими же рассказами
и повестями конца 1840-х — начала 1850-х годов рассматривался
во многих исследованиях, начиная с известной работы Н. Л. Брод-
ского «Генеалогия романа «Рудин».17 Отметим лишь один его
аспект, наиболее существенный для нашей задачи.
В тургеневской прозе конца 1840-х — начала 1850-х годов
тип «лишнего человека» соседствовал с образом романтика-энту-
зиаста, пылкого, самоотверженного альтруиста и мечтателя.
Соотношение двух литературных типов можно определить как
остроконтрастное. Характерными чертами «лишнего человека»
(будь то «щигровский Гамлет», Чулкатурин или Алексей Петро-
вич из «Переписки») почти неизменно оказывались эгоизм, обо-
стренное самолюбие, сосредоточенность на себе и обычные след-
17 В кн.: Памяти П. Н. Сакулина. М., 1931.
128
ствия этих качеств — гипертрофированная рефлексия, скепти-
цизм, безволие, неспособность к энергичной и плодотворной
деятельности. Все это не исключало искренности и честности,
возможности прозрений, морального суда над самим собой.
Тургеневские «лишние люди» тяготятся своим эгоцентризмом,
казнят свои недостатки, жаждут веры, сверхличной цели, выхода
из одиночества. Однако все подобные порывы, как правило,
отмечены печатью того же эгоцентризма, и переживаемый
«лишними людьми» духовный кризис остается безысходным.
Романтик-энтузиаст (Авенир Сорокоумов, Яков Пасынков),
напротив, изображен человеком, не знающим себялюбия, всегда
готовым к жертвам, скромным, кротким, добрым и великодуш-
ным. Герой этого типа (говоря словами позднейшей тургеневской
статьи «Гамлет и Дон-Кихот») «весь живет... вне себя, для
других, для своих братьев». «Он не заботится о себе, он весь
самопожертвование... он верит, верит крепко и без оглядки»
(VIII, 174), пронеся через всю жизнь невозмутимую чистоту
помыслов и чувств.
Некоторые черты обоих типов обнаруживали сходство. Но
в главном своем содержании два типа противостояли друг
другу как едва ли не взаимоисключающие полярности. И, как
это уже не раз отмечалось, соотносились с двумя мировыми
«сверхтйпами», олицетворявшими полюса той роковой антино-
мии, перед которой поставило современного человека поражение
революции 1848 г. • v
«Лишний человек» предстал в тургеневской прозе «россий- \
ским Гамлетом», романтик-энтузиаст был сближен с Дон-Ки- j
хотом. А с этими образами-антиподами связывалось представ- /
ление о глубокой разобщенности мысли и действия, знания i
и веры, о разрыве между утопизмом теорий, творимых передо- I
вым общественным сознанием, и реальностью общественной
практики.18 I ?
Оба противопоставляемых Тургеневым типа социально лока-j
лизовались в разной среде. «Российские Гамлеты» выступали;
в тургеневских повестях и рассказах как типичные представи-j
тели дворянской интеллигенции. Напротив, в качестве предста-j
вителей «донкихотовского» типа здесь обычно фигурируют раз- '
ночинцы\(во всяком случае по социальному положению).
Тем существеннее тот поворот, в силу которого} родовые
признаки обоих типов (включая даже узкосоциальные приметы
мыслящего дворянина и разночинца-бедняка) объединяются
в образе Рудина. Сквозь «гамлетовские» черты, явно преобла-
дающие в основной сюжетной «истории», все более определенно
проступают черты «донкихотовские». В эпилоге они уже доми- * В
18 Об этом см.: Левин Ю. Д. Статья Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот».—
В кн.: Добролюбов Н. А. Статьи и материалы. Горький, 1965, с. 124—125,
138—139; Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX в.
Л., 1974, с. 6—18.
5 В. М. Маркович
129
нируют, но «гамлетовские» черты при всем том не исчезают
полностью: рефлексия, разочарование, ощущение одиночества,
порой даже отчаяние прорываются в исповеди Рудина перед
Лежневым. В то же время разочарованность и скепсис не вы-
тесняют энтузиазм и даже не могут его ослабить. В общем,
парадоксальное, но живое и убедительное единство рудинского
характера оказывается неожиданным еще и в этом отношении.
I Слияние в одном характере двух обычно противопоставляв-
шихся социально-психологических типов резко укрупняло мас-
штаб заключенного в нем обобщения. Истоки рудинского энту-
зиазма и рудинской странности уже не приходилось искать
в каком-то ограниченном кругу социальных обстоятельств, в за-
конах какой-то из конкретных разновидностей общественной
психологии. И вполне естественно) напрашивалась мысль о ши-
рокой общенациональной основе этих свойств].
Неожиданному открытию способствовал переход на иной
уровень разработки уже привычной темы. «Лишние люди», по-
являвшиеся в тургеневских произведениях конца 1840-х — нача-
ла 1850-х годов, принадлежали к числу более или менее «сред-
них» представителей изображаемой эпохи (в своем особом
кругу — чуть ли не рядовых). Неудивительно, что осмысление
их судеб и характеров развертывалось в русле концепций нату-
ральной школы (в наибольшей степени рассчитанных именно
на «средние» случаи и закономерности). Тургеневские «уездные
Гамлеты» воспринимались как жертвы столкновения противо-
положно направленных объективно-исторических воздействий.
Космополитический по своей сути идеал, порожденный европе-
изированной «кружковой» культурой, разбивался о несокруши-
мую толщу реального «общественного быта», а вместе с ним
разбивалась вся жизнь человека, почти в равной мере под-
властного двум мирам — этой культуры и этого быта.
В первом романе Тургенева \«лишний человек» увиден и по-
нят иначе — свойства типа воплотились в личности исключи-
тельной и несомненно возвышенной этой своей исключитель-
ностью над многими элементарными законами общественной
жизни. Здесь'обозначаются некоторые важнейшие приметы тур-
геневских героев-максималистов. Роман выясняет абсолютную
несовместимость стремлений героя с нормами и ценностями
господствующего общественного уклада. ^Несомненно и другое —
то, что в существующих условиях для него вообще не нахо-
дится сколько-нибудь прочного родственного окружения. Свое-
образна и его связь с той культурной сферой, в которой фор-
мировались его мировоззрение и его жизненная позиция. Ру-
дин— идеолог в точном смысле этого слова: не воспитанник
и последователь соответствующей нравственно-философской куль-
туры, а один из ее творцов.
Эволюция героя на протяжении романа обнаруживает глу-
бочайшие внутренние мотивы рудинского энтузиазма, для кото-
130
рых проповедуемые героем идеи — лишь форма, подходящая,
естественная, но в принципе отделимая. В финале становится
очевидным, что источник этого неугасимого духовного пламе-
ни — в самой личности героя, в индивидуальных потребностях
и свойствах его натуры. Объективные категории истины, добра,
«пользы существенной» неизменно сохраняют для Рудина свое
нормативное значение, но все они фактически превращаются
во «внутренние» реальности его сознания и только в этом
качестве существуют для него на самом деле, потому что
в объективной реальности общественной жизни Рудин не на-
ходит для них никакой опорьь19 )
Но в то же время не подлежит сомнению общезначимый
социально-нравственный характер жизненной цели героя. В со-
отнесении с этой целью даже малые дела получают грандиозный
всеобщий смысл. Они осознаются, как акты служения истине
и благу человечества, представителями которого оказываются
все, кто встречается Рудину на его жизненном пути. Так,
цель как будто всецело личная по своему происхождению,
оборачивается всецело общественной по своему содержанию
и смыслу. Писатель создает ситуацию, которая впоследствии
станет привычной для читателей тургеневских романов.) Можно
говорить о равновеликом целому обществу масштабе личности
тургеневского героя: отдельная личность становится источником
новых общественных тенденций, ценностей и норм. И очевидно,
что ее способность к социальному новаторству неразрывно свя-
зана для Тургенева с ее социальной обособленностью, с «авто-
номностью» ее духовного поиска. \
Складывается концепция^ принципиально отличная от пред-
ставлений о взаимоотношениях человека и среды, выработанных
натуральной школой. .Характер героя уже невозможно рассмат-
ривать как некое производное от разнонаправленных влияний
окружающей социальной среды и привитой извне философской
культуры. Герой уже не может быть воспринят как игрушка
и жертва каких-либо внешних сил.1; Происхождение духовных
свойств и жизненной цели «лишнего человека» в конце концов
представляется своеобразной загадкой русской истории, порож-
дающей поистине беспрецедентное явление — личность,
дерзающую взять на себя те функции, которые традиционно
выполняло общество в целом.
По-новому решается вопрос и о значении героя. С чисто
практической точки зрения жизнь героя вообще может быть
признана бесплодной («Слова, все слова! дел не было» — VI,
364). А тезис о плодотворном влиянии рудинского «доброго
слова» («...доброе слово — тоже дело»,— утешает Рудина Леж-
нев) утверждается в романе не так безусловно, как это может
19 Подробнее об этом см.: Маркович В. М. Человек в романах
И. С. Тургенева Л., 1975, с. 92—94, 96—99.
5*
131
показаться на1 первый взгляд. Провозглашая тост за здоровье
Рудина, Лежнев уверенно говорит о том, что его слова «...заро-
нили много добрых семян в молодые души, которым природа
не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять
собственные замыслы» (VI, 348). Но в эпилоге тот же Лежнев
признает другое: «...новые поколения идут мимо нас» (VI, 367).
Тост Лежнева поддерживал Басистов: «...этот человек не только
умел потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал
тебе останавливаться, он до основания переворачивал, зажигал
тебя!» (VI, 349). Но что реально «переворачивает» рудинское
влияние в жизни Басистова, да и в жизни других учеников,
поклонников или временных попутчиков Рудина? Эпилог отвечает
на этот вопрос недвусмысленно и беспощадно. Окружающих
Рудина людей могут сблизить с ним мгновения интеллектуального
подъема, какие-то эмоции, воспоминания, какая-то степень вза-
имопонимания. Но за пределами этих кратковременных состояний
каждый из них живет по-другому и для другого. Здесь и про-
ходит грань, бесповоротно отделяющая их от Рудина. А то
влияние, которое он все-таки на них оказывает, явно несоизме-
римо с его идеальными целями, с той максималистской жаждой
абсолюта, которой захвачен Рудин.
Между тем мысль о «высшем назначении» героя наделена
в романе всей несомненностью поэтической истины. И вот из
глубины одной загадки вырастает другая. Автор не пытается
предложить определенное ее решение: самый уход от конкрет-
ных разъяснений оказывается здесь значимым и очень сущест-
венным. «Миссия» Рудина представляется чем-то несоизмеримым
с любыми очевидностями и потому ускользающим от определе-
ний, доступным лишь неисчерпаемо-многозначному символиче-
скому выражению. Говоря иначе — чем-то непостижимым в рам-
ках исторически обозримых перспектив, реальным в каком-то
высшем, сверхэмпирическом смысле.
* *
*
Возможность приближения к национально-историческим тай-
нам высшего порядка связана, как мы убедились, с глубоким
* преобразованием романной поэтики. И в особенности — с очень
• 1 заметным на фоне романов натуральной школы усилением
S /трагического начала. Трагическое проявляется в «Рудине» не-
ожиданно: характер героя приобретает трагическую значитель-
ность только в эпилоге, где впервые вырисовывается неприми-
римая коллизия, противопоставляющая Рудина всему окружаю-
щему миру, создающая его бескомпромиссный внутренний конф-
ликт с самим собой. Здесь же, в эпилоге, т. е. опять-таки
уже «под занавес», удостоверено общенациональное и общече-
ловеческое значение рудинских исканий и рудинской судьбы,
132
здесь проступает таинственная связь между скитаниями и мы-
тарствами героя-энтузиаста и не поддающейся обычному разу-
мению мировой целесообразностью.
Подобные скачки уже не означали в середине 1850-х годов
нарушения жанровых норм. Внезапные и по видимости непод-
готовленные трансформации, возвышающие вполне «обыкновен-
ных» героев до уровня высокой трагедии, стали к тому времени
характерным проявлением новой формы трагического, сложив-
шейся в европейском реалистическом романе (в романах Стен-
даля и Бальзака прежде всего).20 Не меньшее4 значение имел
художественный опыт русского реализма 1820—1830-х годов.
Внезапное проникновение трагического в собственно романную
структуру облегчалось активностью вторгшейся в роман, лири-1
ческой стихии. Лирические «аккорды» входят в художественный
строй тургеневского романа как форма непосредственного кон-
такта с «первоначалами» бытия, с его «мировой целокупностью»:
в моменты подобного контакта как раз и обнажается трагиче-
ская основа человеческого существования. А трагическая кон-
цепция бытия, обрисовавшаяся в полной мере как будто бы
независимо от субъекта повествования, объективирует лириче-
ское откровение, пронизывая универсально-философским смыс-
лом все содержание характеров и сюжета. Так возникает знако-
мый нам символический подтекст, создающий «двойную перспек-
тиву» осмысления и оценки изображаемого.
Характеристика этих структурных особенностей естественно
возвращает нас к уже цитированной мысли Л. В. Пумпянского,
считавшего, что. Тургенев продолжил прерванную линию лите-
ратурного развития, возобновив ее в той самой точке, где обор-
вала ее смерть Лермонтова. Мы убедились, что в «Герое нашего
времени» именно взаимодействие лирического и трагического
начал создавало символический подтекст, который развивался
как бы «над» фабульным действием, но при всем том сохранял
с фабулой неразрывную связь. Мы убедились и в том, что
«двойная перспектива» подобного рода типична для целой ста-
дии развития реализма в русском классическом романе. Теперь
мы можем констатировать, что тургеневский «Рудин» знаменовал
собой возвращение к некоторым из важнейших особенностей
этой стадии. Но возвращение оказалось диалектическим, по-
скольку достижения «промежуточной» стадии тоже не были
отброшены: в первом романе Тургенева наследие «символиче-
ского реализма» 1820—1830-х годов объединяется в гибком
и органичном синтезе с важнейшими завоеваниями натуральной
школы.
В этой синтетической целостности объединяемые художест-
венные начала как бы приглушены. Приглушенность, т. е. под-
20 Кургинян М. С. Трагическое и его роль в познании нового: Из
истории западноевропейской драмы и романа.— В кн.: Литература и новый
человек. М., 1963, с. 347—359.
133
чинение новой эстетической мере, как раз и позволяет им пре-
вратиться в естественные слагаемые уникальной тургеневской
поэтики с ее «равновесием противоположностей».
Новая поэтика открывала новые мировоззренческие горизон-
ты. До «Рудина» тема «лишнего человека» сводилась для
Тургенева прежде всего к очной ставке между утопической
отвлеченностью идеализма 1830—1840-х годов и объективными
законами русской общественной жизни. Тема предполагала
обоюдоострую критику, почти в равной мере направленную про-
тив обеих столкнувшихся сил, так же, как и против самого
героя, явившегося жертвой их столкновения.21 Теперь задача
расширилась и усложнилась: появилась еще неясная возмож-
ность надежды и веры, возможность тем более удивительная,
что она теснее всего связана с ощущением трагизма русской
истории. «Я вижу трагическую судьбу племени, великую обще-
ственную драму там, где Вы находите... прибежище эпоса...»
(П., II, 72),—писал Тургенев К. С. Аксакову 16 октября
1852 г. В письме от 16 января 1853 г. (тому же адресату)
будущий автор «Рудина» вновь говорит о «трагической стороне
народной жизни» (П., II, 108). По-видимому, мысль о трагической
судьбе целой нации, концентрированно выразившейся в траги-
ческой участи независимой русской личности, крепла в сознании
писателя на протяжении всего «мрачного семилетия» 1848—
1855 гг. Но глубокая перестройка тургеневской поэтики, а вмес-
те с тем преображение самой жанровой формы реалистического
романа сделали возможным неожиданный поворот этой мысли,
открывающий в трагичности национальной судьбы необходимую
предпосылку ее «вечного значения».
Между эпосом и трагедией
('«Дворянское гнездо»)
Итак, уже «Рудин» показал с достаточной наглядностью,
что в тургеневском романе трагическое становится предпосылкой
и опорой эпоса. В «Дворянском гнезде», на первый взгляд,
заметнее другое — усиление собственно эпических свойств жанра.
Может показаться, что в «Дворянском гнезде» сходит на нет
очень сильная в «Рудине» драматическая тенденция. В первом
тургеневском романе бросалось в глаза обилие диалогов и мо-
нологов, отчетливо выступали драматический способ разверты-
вания действия, драматическая организация эпизодов и сцен,
близость некоторых особенностей сюжетной архитектоники к дра-
матическому членению на акты.22 В сравнении с «Рудиным»
21 Лотман Л. М. Указ, соч., с. 17.
22 Проявления драматической тенденции в романе «Рудин» описаны, в част-
ности, В. С. Баевским (Баевский В. С. «Рудин» И. С. Тургенева: К вопросу
о жанре.—Вопр. лит., 1958, № 2, с. 136—138).
134
в «Дворянском гнезде» сразу же ощущается увеличение удель-
ного веса и резкое усиление роли авторского повествования.
Повествовательное начало подчиняет себе даже художественный
строй диалогических сцен, где, казалось бы, ему может принад-
лежать лишь сугубо второстепенное место. Авторские пересказы
диалогов, не исключая самых напряженных и важных, выбо-
рочное воспроизведение их отдельных моментов отдают диало-
гическую сцену во власть повествователя и очень далеко уводят
от ничем не опосредованного контакта между воспринимающим
(читательским) сознанием и воссоздаваемым событием (а ведь
именно этот художественный принцип максимально приближает
диалогические сцены романного сюжета к действию в драме).
Даже физическая осязаемость диалогических сцен «Дворянского
гнезда» (отмеченная, например, Г. Б. Курляндской23) означает
чисто эпическую их объективацию: читатель «видит» и «слышит»
героев не потому, что автор устранился, а, напротив, потому
что он постоянно и ощутимо присутствует в тексте эпизода —
со своей речью, с детальным описанием речевой манеры со-
беседников, их мимики, жестикуляции и т. п.
Но при внимательном рассмотрении выясняется, что в «Дво-
рянском гнезде» исчезают лишь грубые и очевидные проявления
драматизации романа. Драматическая тенденция реализуется
здесь по-иному: она уходит в глубину и там развертывается,
по существу, даже более мощно, чем в «Рудине», Дело в том,
что главная сюжетная линия «Дворянского. гнезда» наделена
всемйГклд ссйческими, канднизйрованными теорией и практикой
еврбпёйской драматургий, подлинно трагедийными чертами.
Законы построения трагедийной фабулы /были сформулиро-
ваны еще в «Поэтике» Аристотеля, известной не только автору
«Дворянского гнезда», но и широкому кругу его читателей.
Наиболее пригодными именно для трагедии Аристотель считал
фабулы, построенные на перипетии, т.е. на резкой смене ситуа-
ций, переворачивающей всю жизнь/героя. Другим необходимым
элементом полноценной трагедийной фабулы считалось узнава-
ние, а идеальным вариантом развития действия — такое совме-
щение перипетии и узнавания, когда переход от незнания
к знанию оборачивался, скажем, переходом от счастья к не-
счастью (этот вид перипетии Аристотель рассматривал как
наилучший для трагедии вариант развязки). Наконец, третьим
непременным слагаемым трагедийной фабулы было признано
страдание, обусловленное узнаваниями и перипетиями, причем
из всего контекста «Поэтики» явствовало, что речь идет не
столько о физическом, сколько о душевном страдании. Аристо-
тель также полагал, что для трагедии равно непригодны истории
праведника и злодея. Страдание первого воспринималось бы
23 Курляндская Г. Б. Сцены драматического действия в романах
И. С. Тургенева.— Учен. зап. Орловского пед. йн-та. Т. 23. Орел, 1964, с. 169,
177 и др.
135
как беспричинная несправедливость, несчастье, постигшее вто-
рого,— как заслуженное возмездие. И та и другая ситуация,
по Аристотелю, не способна вызвать трагические переживания.
/Трагическим смыслом могут обладать лишь истории, герой
которых впадает в несчастье не по своей негодности и пороч-
ности, но по какой-нибудь ошибке.24
1 Нетрудно убедиться в том, что вся эта каноническая схема,
во многом определившая жанровую структуру трагедии еще
в период ее первого расцвета (V в. до н. э.), полностью осу-
ществляется в построении основной фабулы «Дворянского гнез-
да». Сюжетная история Лаврецкого строится на двух противо-
положно напр^леннц^перипети^ из „которых означает
«перехбТотГнесчастья к счастью» (главы XVII—XXIV), вторая —
противоположный переход (главы XXXVI—XLV). Развязку об-
р'азует~пй1^^ счастья к несчастью». Перипетия
каждый £^совме^цае.тс5. с ^узнаванием и вызвана „им.“ «Переход
от незнания к знанию» каждый раз означает у Тургенева глу-
бокий мировоззренческий и духовный перелом. Но вместе с тем
сохраняется и совершенно элементарная традиционная форма
подобного перехода: поступает некое известие (ложное сооб-
щение _о см§рхи жены Лаврецкого), обнаруживается" некое об-"
стоятельство (она оказывается живой) —и все сразу меняется.
Основная предпосылка'' сюжетйКПпереходов тоже соответствует
классической традиции: перипетиям предшествуют ошибки героя,
которые опять-таки имеют как глубинный (погоня за ложными
или недоступными ценностями), так и совершенно элементарный
смысл. Законченный цикл «страдания» героя тоже занимает
свое «каноническое» место — в финальной части истории Лав-
рецкого.
Соответствие новой тургеневской фабулы общеизвестному
трагедийному канону не приходится считать случайным, поверх-
ностным или формальным. Сюжетная динамика «Дворянского
гнезда» выводит jk . й долгам
ГаюийГго^ Тяготение ’к трагедийной структуре кроется
здесь в самой основе действия. Написанный в середине XIX в.
русский реалистический роман по-своему возрождает излюблен-
ную схему драматургов-классицистов. Тургеневским героям, как
и действующим лицам корнелевского «Сида», приходится выби-
рать между долгом и чувством, и необходимость этого выбора
обнаруживает непреодолимые трагические противоречия.25 По-
видимому, высокая и катастрофическая напряженность борьбы
двух противоположных нравственных начал в драматическом
действии оказалась созвучной трагическому содержанию самой
24 А р и с т о т е л ь. Об искусстве поэзии. М., 1957, с. 71—86. См. также:
Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967, с. 33—42.
25 Об этом см.: Сигал Н. Пьер Корнель. Л., 1957, с. 33—37; Бояд-
жиев Г Искусство классицизма.— Вопр. лит., 1965, № 10, с. 116—117
136
жизни, открыла путь к художественному освоению совершав-
шегося в России духовно-исторического перелома. i
Необходимо сразу же отметить принципиальную ноЬизну та- '
кой Стормы проникновения трагического в романную структуру.
В «Рудине» (как о том уже говорилось) трагическое начало
входило в роман как внефабульная лирико-символическая анти-
теза, не затрагивающая жанровых особенностей сюжета, не
охватывающая всех аспектов характера. Говоря иначе,— как фор-
ма относительно самостоятельная, «непосредственно соотносимая
с художественной мыслью произведения».2 6 Теперь же происхо-
дит нечто иное, для реалистической литературы XIX в. чрезвы-
чайно редкое: прозаический роман включает в свой художест-
венный строй чисто трагедийную Коллизию и чисто трагедийную//
фабулу: (т. е. канонические элементы трагедийного жанра).
Впервые элементы собственно трагедийной структуры даны все-
цело в романном духе, без всякой «ценностно-удаляющей ди-
станции» (термин М. Бахтина) — мифологической, легендарной,
исторической, условно-поэтической или какой-либо иной. Исчезла
всегда сохранявшаяся и лишь менявшая от эпохи к эпохе
свои формы эстетическая замкнутость трагедийного, резко от-
делявшая мир трагедии от уровня житейской обыденности, не
позволявшая читателю или зрителю, воспринимать трагедийного
героя как ровню себе, а потому и судить его по обычным
критериям житейской оценки. Теперь это стало возможным;
отсутствие традиционной эстетической дистанции, принципиально
иная степень психологической и бытовой конкретности оборачи-
ваются тем, что герой и читатель-оказываются на одном уровне,
и трагедийная коллизия может быть понята и оценена с разных
точек зрений, в том числе и с такой, которая отрицает ее
неразрешимость (можно вспомнить, для примера, раннюю ре-
цензию Писарева — «Рассвет», 1859, № И, отд. II). Но оказав-
шись доступной для житейского восприятия и житейской оценки,
коллизия осталась неразрешимой и потому не утратила своей
возвышенной серьезности, сохранила способность воспротивиться
неоправданному применению житейских критериев. Самое чув-
ство дистанции, отделяющей мир читателя от трагической про-
блематики, в сфере которой живут герои, не исчезает совер-
шенно, но лишь меняет свою природу. Словом, происходит
перемена, открывающая возможность выразить трагизм обык-
новенного.2 1 * *
26 Литература и новый человек, с. 363.
27 Характерно, что почти одновременно коллизия любви и долга обретает
новую жизнь, в предреформенной русской драматургии. Ведь именно эта кол-
лизия оказывается важнейшим источником драматургического напряжения в
пьесе Островского «Гроза», законченной в том/же 1859 г., когда был опубли-
кован роман Тургенева «Дворянское гнездо».| Вопрос о соотношении уже
сложившейся у Островского поэтики «пьес жизни» с этим внезапно вторгшимся
в их полуэпический строй традиционно-классицистским трагедийным началом,
несомненно, заслуживает специального исследования.
137
* *
*
[^Коллизия чувства и долга вошла в творчество Тургенева
еще до начала работы над «Дворянским гнездом» и перво-
начально была испытана в рамках иной жанровой структуры.
Речь идет о «Фаусте» (1856)—одной из характернейших тур-
геневских повестей 50-х годов. В тургеневском «Фаусте» тра-
диционные противоположности, по существу, уравнйЪОйсь: двой-
ственное осмысление обеих в конечном счете приводило к тому,
что ни одна из них не могла безусловно возвыситься над дру-
гой.28 Но для того чтобы придать их равноправному противо-
стоянию характер трагической коллизии, Тургеневу пришлось,
как верно подметил Писарев,29 создать явно искусственную
ситуацию — столкнуть героя с исключительной личностью, по-
ставленной в почти невероятное положение, и довести это столк-
новение до крайних (т. е., в сущности, тоже исключительных)
последствий, до гибели человека. В конечном счете любовь
предстала силой катастрофической. На этом фоне прозвучавшее
в повести требование отречения получило нравственную убеди-
тельность. Обрисовалась антиномия достаточно высокая и на-
пряженная. Но ее высота и напряженность не были подлинны-
ми: сочетание нарочито сконцентрированных исключительных
условий оказывалось единственным источником трагедийного
накала.
По-видимому, в наибольшей степени это объяснялось отвле-
ченностью построенной Тургеневым коллизии. Отвлеченной была
самая ее основа: при всей точности обозначенных в «Фаусте»
культурных примет эпохи воссозданную здесь драматическую
историю легко было представить себе разыгравшейся и на
какой-то иной национально-исторической почве — если и не
в другое время, то, во всяком случае, в другой стране. Разу-
меется, повесть не случайно появилась в предреформенные годы,
когда начинался пересмотр вековечных установлений общест-
венной морали, когда проблема нравственного идеала станови-
лась чрезвычайно актуальной. Не случайной была и полемиче-
ская реакция Добролюбова, вызванная тургеневским «Фаустом».
Но связь повести с общественным и духовным переломом, ко-
торый переживала Россия, была скорее аллюзионной, во многом
внешней, лишенной настоящей органичности. И прозвучавшая
в финале мысль о необходимости «железных цепей долга»
(VII, 50) утверждалась как абстрактный принцип, вне пред-
ставления о каких-либо определенных его применениях.
Абстрактность трагической коллизии в «Фаусте», так же
28 Подробнее об этом см.: Маркович В. М. Повести Тургенева
1854—1860.— В кн.: Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 6. М., 1978,
с. 317—319.
29 Писарев Д. И. Соч. в 4-х т. Т. 1. М., 1955, с. 265.
138
как и самый тип ее связи с реальными противоречиями совре-
менности, делали ее неожиданно близкой к ее драматургическо-
му, классицистскому, прообразу. Противоречие чувства и долга,
как и в трагедиях классицистов, стояло здесь над героями,
а не вырастало органично изнутри их собственных характеров.
Правда, заданность эта была уже несколько иного свойства,
чем, скажем, у Корнеля: конфликт и венчающая его катастро-
фа мотивировались уже не логически ясными антиномиями
универсального разума, но романтически смутной, до конца
не проясняемой мыслью о «тайных силах», на которых «построе-
на» жизнь (VII, 16). Однако коллизия все-таки и здесь была
предпослана этим конкретным индивидуальностям и конкретным
их взаимоотношениям. Примерно то же самое можно сказать
об основной сюжетной ситуации, о ее поражающей воображение
исключительности и катастрофичности. Все это было близко
к классическим образцам и, пожалуй, чересчур близко. Если
для корнелевского мира экстраординарность и определенная
абстрагированность трагедийной фабулы были совершенно есте-
ственными и уместными, то в художественном мире тургенев-
ского «Фауста» эти качества придали оттенок искусственности
развитию и обоснованию авторской мысли. Трагедийная колли-
зия как-то не «врастала» в структуру прозаического жанра,
«гибрид» получался недостаточно жизнеспособный, и, может
быть, именно нерешенностью проблемы объясняются поиски
иного подхода к ней, предпринятые в «Дворянском гнезде»?:
В новом тургеневском романе тема долга прежде всего была
конкретизирована и получила * непосредственно социальный
CMbjgji, обернувшись идеей дела. В споре Лаврецкого с Панши-
ным дело приобретает вполне определенные очертания: «Пахать
землю... и стараться как можно лучше ее пахать» (VHf 233) ?
В такой программе ощущается своеобразный максимализм:
избрана цель, абсолютно чистая, абсолютно бесспорная, исклю-
чающая любые нравственные сомнения. Всякое другое дело
может оцениваться по-разному, в зависимости от точки зрения.
Всякое — кроме этого, оттого оно и открывает возможность
обретения духовных ценностей высшего порядка, перспективу
превращения «лишнего человека» в человека нужного всем.
Так в малом обнаруживается великое и в итоге обязанность
повседневного труда возвышается до уровня одной из поляр-
ностей традиционной трагедийной антиномии.
По-новому возвышена до трагедийного уровня и любовная
тема романа. В «Дворянском гнезде» двойственная прщюда^
любви получает иное воплощение, чем в "близких' по" времени
тургеневских повестях. Перед читателем уже не одна (как бы-
вало обычно), но две совершенно разные любовные истории,
пережитые героем. И' той из них, которая развертывается за
пределами действия, в сюжетном прошлом героя, словно бы
«отдано» все темное, стихийно-страстное, потенциально-катаст-
139
рофическое, с чем связывалось в тургеневских повестях 50-х го-
дов «трагическое значение любви». А вторая история. состав-
ляющая содержание основной фабулы, в конце концов полностью
очищается от^всего^этого. Начало любви Лаврецкого к Лизе
нёдароЖ'ассощйвд^тся у Тургенева с переходом от язычества
к христианству. Эта любовь^наме11уёт со6би~“ обновление
усталой и, казалось бы, опустошенной души, ее пробуждение
для неведомой ей прежде жизни. По мере того как растет
владеющее героем чувство, приходит освобождение от скепти-
цизма, апатищ равнодушия. Появляется возможность еще не-
бывалых переживаний — высоких, целомудренных и святых. Но
при всем том перед читателем развертывается естественный,
противоречиво-сложный психологический процесс. В его течении
вновь и вновь вырисовываются оттенки того «нормального» для
человеческой природы эгоизма, который выражается в нетерпе-
нии, в способности отвлекаться от всего, что может быть по-
мехой счастью, в диссонансах, осложняющих отношения двух
людей и нарушающих их взаимопонимание. Есть в этих пере-
живаниях и свой естественный драматизм. Зарождающаяся
любовь страшит обоих, и страх этот нельзя назвать беспри-
чинным. Отдаваясь стихии чувства, отдельное человеческое «я»
утрачивает свою отдельность и как бы перестает быть самим
собой. Это ощущает Лиза, которая испытывает стыд и нелов-
кость, заметив, что у нее уже не может быть тайн от Лаврец-
кого («точно чужой вошел в ее девическую, чистую комнату» —
VII, 224). Это ощущает и Лаврецкий, без радости убедившийся
в том, что опять готов «отдать свою душу в руки женщины»
(VII, 226). Правда, всякий раз новый душевный подъем пре-
одолевает возникшие противоречия. После каждого нового кри-
зиса любовь становится все более возвышенной и одухотво-
ренной. Но даже в сцене ночного свидания Лаврецкого и Лизы
находится место смущению и страху.
Мгновенное (и лишь мгновение длящееся), но полное пре-
одоление этих противоречий приносит финал XXXIV главы,
момент, когда в сознание Лаврецкого внезапно врываются звуки
музыки Лемма. Замечено, что в характеристике учителя Лизы,
в самой тональности повествования о нем сказались традиции
немецкой романтической литературы 20—30-х годов.31 Сказались
они и в рассказе о рождении «чудной композиции» Лемма.
«Дивные, торжествующие _з в повествование^одно-
временно с~~ наивысшим взлетом чувства,*" ~"как ^удивительное
и нёобъЗО^^ ему.Это совпадение предстаёт у Тур-
генева закономерным й многозначительным. Все подлинно гар-
30 Такая ассоциация отчетливо сквозит в стихах Михалевича, повторен-
ных Лаврецким и напоминающих об известном эпизоде крещения франкского
короля Хлодвига святым Ремигием (VII, 201, 213, 510).
31 См. об этом, например, в комментарии Т. П. Головановой к тексту
«Дворянского гнезда» (VII, 485—486).
140
монические моменты любви, все наиболее радостные и безмя-
тежные состояния, рожденные ею, герой тургеневского романа
переживает вне ситуаций общения, как нечто хотя бы отчасти
самодовлеющее и самодостаточное (VII, 212—213, 227, 235—
237).32 В этих состояниях всегда есть что-то близкое к при-
роде эстетических переживаний. И более всего — к природе тех
особых эмоциональных стихий, воплощением которых романтики
считали музыку.
Романтики были убеждены, что именно в музыке и через А;
нее любовь находит для себя наиболее адекватное выражение./
Таким образом обнаруживается ее идеальная сущность.33;
«В зеркале звуков,— писал Вакенродер,— человеческое сердце
познает себя; именно благодаря им мы научаемся чувствовать
чувства».34 Отсюда — открываемая музыкой возможность вос-
приятия наших собственных эмоций как высших ценностей:
«...чувства, рождающиеся в наших сердцах, кажутся нам... та-
кими великими и прекрасными, что мы заключаем их в драго-
ценные ковчеги, словно священные реликвии, радостно прекло-
няем перед ними колени и в упоеНий сами не знаем, покло-
няемся ли мы собственному нашему человеческому сердцу, или
творцу, от которого исходит все великое».35 «Инструментальная
музыка,— писал о том же Гофман в своей «Крейслериане»,—
там, где она действует сама по себе... как музыка... должна
пробуждать в глубине души предчувствие той радости, которая...
выше и прекраснее всего, что есть в нашем замкнутом мире».36
Это — выражение высшей полноты бытия, но полноты, не
удовлетворенной собою, томящейся по мирам иным. Это — вы-
ражение поэзии земного, достигающей грани неземного, но не пе-
ресекающей эту грань. Это — выражение преходящего, устрем-
ленного к вечности, к абсолюту. Такова, согласно представлениям
романтиков, субстанция любого возвышенного чувства й, в част-
ности, субстанция любви, субстанция, выражаемая музыкой
и только в музыке открывающая свой подлинный лик.
Описание мелодии Лемма полно ассоциаций, восходящих
к этим философско-поэтическим концепциям. Её характеристика
строится на освященных романтической традицией контрастах
(которым, однако, сообщается особый акцент, резче напоминаю-
щий о том, что стихии музыки и любви все-таки принадлежат
«нашему замкнутому миру»). Мелодия «сияет» и в этом сияю-
3 2 Подобная же особенность любовных переживаний героя четко обрисо-
вана еще в повести «Ася», опубликованной в начале 1858 г. Но то, что
в «Асе» представлялось чертой определенного социально-психологического типа,
в «Дворянском гнезде» уже не укладывается в рамки типологических характе-
ристик и явно приобретает общечеловеческий смысл.
33 Ванслов В. В. Эстетика романтизма. М., 1966, с. 261.4
34 Вакенродер В. Г. Фантазии об искусстве. М., 1977, с. 175.
35 Там же, с., 162—163.
3 6 Г о ф м а н Э. Т. А. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра.
Дневники. М., 1972, с. 47.
141
щем торжестве своем «томится», но томится «вдохновением,
счастьем, красотою». Она «растет» и тут же «тает», как бы
уничтожаясь на высшем пределе самоутверждения. Она «дышит»
бессмертным чувством, но бессмертное чувство это — грусть.
Ее содержание беспредметно, таинственно, даже мистично, но
это поэтическая мистика земного, тайны «здешнего» бытия: ме-
лодия касается всего «дорогого, тайного, святого... что есть
на земле», в небеса она уходит, чтобы там «умирать» (VII, 238).
Все эти парадоксальные сочетания не только находят себе па-
раллели в отдельных формулах романтической философии му-
зыки — они сродйи (хотя и не безусловно) самому ее существу.
Отблеском романтических идей освещена и та ситуация,
когда Лаврецкий, «похолоделый и бледный от восторга», изум-
ляется звукам, в которых «казалось, говорило и пело все его
• счастье» (VII, 237—238). Узнавая в музыке свои собственные
• переживания, герой в то же время испытывает ощущение чуда.
Это знак соприкосновения с чем-то высшим: именно высшую,
идеальную сущность любви выражает композиция Лемма. Осве-
щается «субстанциальная» основа чувства (та самая, о которой
вела речь романтическая философия музыки), основа, теперь
уже не заслоняемая естественными психологическими противо-
речиями, воздействиями житейских обстоятельств, превратностя-
ми опыта, памятью прожитых лет. Все это не отменяется музы-
кальным откровением, но отступает на второй план перед тем
глубинным и неизмеримо более важным, что это откровение
приносит с собою.
Словом, обе противопоставляемые темы подняты в «Дво-
рянском гнезде» на равную высоту, свойственную полярностям
трагедийного конфликта. И обе наделены одинаково грандиоз-
ной универсальной масштабностью. Если чувство долга и поиски
дела оборачиваются воссоединением с родиной, приобщением
к национальной судьбе, то любовь и стремление к счастью
приобретают в вершинных точках повествования космический
смысл. В движении сюжета обе темы то и дело переплетаются
и, в сущности, оказываются нерасторжимыми. Очевидно, что
жажда счастья (в подлинном смысле этих слов) развивается
вместе с чувством долга — как проявления одной и той же
степени одухотворенности всей внутренней жизни человека.
Первоначально чувство родины приходит к Лаврецкому как
«мирное оцепенение». В этом возвышенном состоянии есть нечто
родственное обломовскому покою: в этом состоянии Лаврецкий
еще может быть назван байбаком, оправдывающим свое без-
делье. Лаврецкий, полюбивший и устремившийся навстречу
счастью, уже полон деятельной энергии, обретает ясность об-
щественной цели, испытывает, казалось бы, безвозвратно утра-
ченные порывы к вере. Любовь живет в нем не как особое
чувство, отделенное от всех прочих, а напротив, сразу же ста-
новится источником нравственных сил и духовных стремлений.
142
Дело, родина, народная правда — все это в конце концов сли-
вается для Лаврецкого с образом Лизы, все неотделимо от ее
обаяния. Даже самоотречение, к которому приходит тургенев-
ский герой, подготовлено любовью: оно было бы невозможно
без того преображения души, которое вызвано ею. Эта нераз-
рывная связь различных чувств становится предпосылкой гар-
монического идеала, объединяющего в себе «честный, строгий
труд», высокие и надежные нравственные принципы, любовь,
счастье «на всю жизнь», веру в высший смысл человеческого
существования. Идеал этот представляется не только достой-
ным, но и, главное, вполне осуществимым. Герой как будто
бы не хочет и не ждет ничего невозможного: все, что ему
нужно, так просто и доступно — пахать землю, заботиться о лю-
дях, которым нужна его помощь, любить, веровать и быть
счастливым.
Однако резкий поворот сюжета открывает именно невозмож-
ность этой простой и ясной гармонии. Любовь и счастье вновь
(в который уже раз) оказываются несовместимыми с требова-
ниями долга — даже на высочайшей ступени своей духовности
и нравственной чистоты, даже для человека реально мыслящего,
деятельного, вовсе не ущербного и не беспочвенного. Острота
ситуации усилена повторами. Лаврецкий дважды увлекается
стремлением к счастью и дважды 'тёрпит крах. Но первый раз
читателю легко с этим примириться. Смысл , побуждений, дви-
жущих теро^^ ^Ты желал самонаслаж-
дёнья,— говорит Лаврецкому Мйхалевич,— ты хотел жить только
для себя... И все тебя обмануло; все рухнуло под твоими
ногами» (VII, 203). Второй раз все складывается иначе, но
беспощадный итог — тот же самый. С этим примириться уже
невозможно. Это уже подлинно трагическая коллизия, конечно,
принявшая иную форму, чем чисто драматургические коллизии
Корнеля или Расина, но при всем том родственная им своей
возвышенно-бескомпромиссной напряженностью и неразреши-
мостью.
* *
*
Мысль о принципиальной несоединимости счастья и долга
(и, стало быть, о неизбежности самоотречения) тем труднее
поддается здесь обоснованию, что обосновать ее должна история
обыденных житейских отношений. Трудност1Гусугубляется преж-
де всего тем, что в образовании трагического противоречия
очень заметную^ роль.^грает^^Мшсть. Ведь непосредственно
в романе всё как будто бы зависит именно от нее: тяжело
болевшая Варвара Павловна могла бы умереть, и тогда вся
ситуация сложилась бы по-другому. Против чего-либо подобного
предостерегал Гегель, утверждавший в своей «Эстетике», что
143
трагическое проявляет себя лишь на той высоте, «где исчезают
простые случайности непосредственной индивидуальности».37
Однако расхождение с каноном у Тургенева только внешнее.
Получив известие о смерти жёны (как потом оказалось лож-
ное)^’ТТаврецкий недаром рассуждает „р. ;случайности.„.«самой
обыкновёМКпГ» 222). Существование по-
добных случайностей, всегдашняя зависимос^^
и несчастья чёлбвё^^стеja^ЖТ."
веческбгб бытия, своеобразный мировой закон. Именно как ми-
ровой закон Лаврецкий и Лиза.
В их реакциях на эту зависимость тоже угадываются при-
знаки универсальной закономерности. Развитие сюжета много-
кратно обнаруживает глубокое несходство героя и героини:
различны их взгляды, различна их психология, различна логика
их духовных исканий. Многое из того, что имеет для Лизы
решающее значение, до конца остается чуждым Лаврецкому.
Тем знаменательнее то обстоятельство, что совершенно разные
пути сходятся в одной точке и точкой этой оказывается идея
самоотречения. Такое совпадение заставляет воспринять отказ
от счастья как нравственную необходимость сверхличного по-
рядка.
В эпилоге автор от своего лица прямо говорит об этом.
ЧитателТо^сообщается, что Лаврецкий «действительно перестал
думать о собственном счастье» (VII, 293), и эта перемена
характеризуется как перелом, «без которого нельзя остаться
порядочным человеком до конца» (там же). Такая оценка обу-
словлена многими мотивами, но прежде всего обращает на себя
внимание ее связь с универсально-философской проблематикой
романа. На этом уровне сильнее всего дает о себе знать при-
глушенная, преобразованная, но все-таки сохранившаяся энергия
диалогического конфликта. Особое значение имеет здесь проти-
1 вополбжность некоторых представлений Лаврецкого и Лизы.
Лиза, изначально убежденная в том, что «счастье на земле
зависит не от нас» (VII, 221), ощущает во всех проявлениях
жизни присутствие высшей справедливости — неведомой людям
и недоступной их пониманию, но тем не менее могущественно
реальной, осуществляющейся с абсолютной непреложностью.
Лаврецкий, поначалу считавший счастье или несчастье людей
делом их .собственных рук, меняется под воздействием пережи-
того и начинает допускать, что в основании жизни кроется
господство случайности, ничем не управляемой и нравственно
бессмысленной: «Ну да: увидал вблизи, в руках почти держал
возможность счастия...— оно вдруг исчезло; да ведь и в лоте-
рее— повернись колесо еще немного, и бедняк, пожалуй, стал
бы богачом» (VII, 269).
Оказавшись’на скрещении этих двух противоположных точек
37 Гегель. Соч. Т. 14. М., 1958, с. 363.
144
зрения, «последние» вопросы бытия становятся дискуссионными
проблемами. Причем в «Дворянском гнезде» (как и в пред-
шествующих романах с диалогическим конфликтом) нет твер-
дых оснований для того, чтобы одну из точек зрения признать
истинной, а другую отбросить как безусловно ложную. Правда,
Лаврецкий поставлен в такое положение (прежде всего компо-
зиционное), что его точка зрения наиболее доступна и близка
читателю. Лиза, напротив, изображается на дистанции и не-
сколько отчужденно — это не может не сказаться на читатель-
ском восприятии ее мироощущения. Лиза все время что-нибудь
недоговаривает, ее побуждения никогда не проясняются до ,
конца.38 Но при этом позиция героини, именно в силу некото- ;
рой таинственности ее внутренних оснований, не может быть
отвергнута: читатель лишен возможности понять ее полностью,
а потому и не может чувствовать себя вправе ее судить. Тур-
геневский агностицизм в отношении «последних» вопросов, от-
части сказавшийся уже в «Рудине», гораздо более явственно
проявляется в «Дворянском гнезде»: ворросы эти оставлены
здесь нерешенными, что, по сути дела, равносильно признанию
их неразрешимости.
На этом-то фоне и обретает свой нравственный смысл по-
зиция самоотречения. Она сохраняет высокое нравственное
достоинство независимо от того, как решаются «последние»
вопросы и решаются ли они вообще. Должен ли человек оправ-
дать свое существование перед высшим судом или задача его
сводится к тому, чтобы устоять перед царящим в мире хаосом
не впадая в безнравственность и отчаяние, —отказ от стремле-
ния к счастью и от любых «своекорыстных целей» оказывается V
позицией безошибочной. Самоотречение воспринимается как
единственный достойный ответ личности на путаницу и невня-
тицу жизни—такова философская мотивировка, обосновываю-
щая в тургеневском романе нравственную необходимость сде-
ланного его героями выбора.39
Но этой «экзистенциальной» мотивировкой его обоснование
не исчерпывается. Самоотречение, отказ от счастья могут быть
поняты как пробуждение народной правды в отдельном челове-
ке. Отношения между личностью и этим «родовым» началом
русской жизни оказываются различными,— Тургенев это ясно
видит и мыслит подобные отношения иерархически. Есть очевид-
ная дистанция между Лизой, которая почти изначально несет
38 Эта черта была еще отчетливее обозначена в первоначальном варианте
черновой рукописи. По-видимому, сначала Лизе отводилась почти безмолвная
роль. См. об этом в комментарии Т. П. Головановой к тексту «Дворянского
гнезда» (VII, с. 470—471).
39 Вспомним тургеневского «Фауста», где требование отречения подкреп-
лено напоминанием о бесконечной сложности жизни, перед лицом которой
человек никогда не может быть уверен в том, что он постиг ее законы,
отделил добро от зла и нашел безусловно верные решения своих или чужих
проблем.
6 В. М. Маркович 145
народную и.. Лаврецким, который, .склоняется
к нёй после хо^и^искании, заблужда
удач7^ еще н тем, что в Лизе живет
нёпаёсужда юшая вера большинства, а Лаврецкий от нее далек.
Но оба они так или иначе приобщены к чувству своеобразной
‘ круговой поруки, к ощущению того, что человек не имеет права
\ быть счастливым, если вокруг него живут несчастные люди.
'Для этого чувства как бы не существует автономии человече-
ского «я» и его особых прав. Это чувство самой сущностью
своей отрицает тот утверждаемый европейской культурой со-
циально-философский принцип, согласно которому право на
счастье принадлежит человеку от рождения. В то же время
в изображении Тургенева чувство народной правды лишено
качеств «соборности»: оно делает людей в чем-то одинаковыми,
но при всем том не объединяет их.
Не пытаясь раскрыть природу этого чувства изнутри, Тур-
генев находит для него широкое историческое объяснение.
Объяснением служит то целостное представление о прошлом
и настоящем России, которое создается всем образным строем
романа. Молодежь, беспечно . резвящаяся вокруг Лаврецкого
в эпилоге, увидена как особое и принципиально новое явление
русской истории. «Новые люди» (в известном смысле их можно
называть именно так) счастливы, и счастье их ничем не омра-
чено однако их безмятежная юность олицетворяет собой начало
иной эпохи, даже какой-то иной жизни, с другими законами,
с другим содержанием. A
Лаврецкий м..ЛШа«Т«Ш^ШЖ'Ес» УДаадивы«. есть
довольные собой, но нет счастливых. Выделено, пожалуй, лишь'
одно-единственное_идо1йдадае,—он
оценивает ""свое чнедрлгое^
счастье как «ррскрщь^и .«незас^уждау^^^рстъ» (VII, 268).
Правилом является здесь нечто совсем другое: «Оглянись, кто
вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет
на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою... Что ж?
Захотел ли бы ты поменяться с ним? Вспомни мать свою: как
ничтожно малы были ее требования, и какова выпала ей доля?»
(там же). Лаврецкому вторит Марфа Тимофеевна Пестова:
«Ох, душа моя, тяжело тебе, знаю; 'да<Лёйй>»_
(VII 274—275). Вокруг — страдания и*лишения, унижения,"Тбёд-
ствия и несправедливость, ненаказанные преступления, неискуп-
ленные грехи целых сословий. Жить„средиавсегоэтогои.быть
счастливым не то, чтобы невозможно, но..ддк-др непозволительно
и недбётойно? Сама" ‘жизненная атмосфера, сама история доре-
фбрмейной“ дворянско-крестьянской России, воссозданные в тур-
геневском романе, таковы, что поиски счастья действительно
начинают выглядеть чем-то незаконным. Счастье оказывается
индивидуальным выходом из общенародной драмы, чем-то вроде
внутренней эмиграции.
146
Впрочем, многообразие выдвинутых в романе мотивировок
позволяет угадать за нравственным выбором его героев еще
н другую, общественно-историческую необходимости Она вы-
рисовываетсявтесной связи с проблемой изменения существую-
щего общественного уклада, которая становится предметом
открытого обсуждения в споре между Лаврецким и Панши-
ным (гл. XXXIV). —............-
Рассказывая об этом споре, автор так излагает содержание
аргументов Лаврецкого: «Он доказал ему невозможность скачков
и надменных переделок с высоты чиновничьего самосознания —
переделок, не оправданных ни знанием родной земли, ни дейст-
вительной верой в идеал, хотя бы отрицательный» (VII, 232).
В последнем прижизненном издании Собрания своих сочине-
ний (1880) Тургенев изменил редакцию этой фразы. Он вы-
черкнул слова «с высоты чиновничьего самосознания», т. е.
устранил ту ее часть, которая придавала всей фразе узкокон-
кретный социальный «адрес». Фраза приобрела неизмеримо
более широкий смысл: речь пошла уже о «надменных передел-
ках» вообще, о любых переделках, «не оправданных ни зна-
нием родной земли, ни действительной верой в идеал». В новой
редакции отозвался исторический опыт 70-х годов: в подтексте
поправки можно предполагать какие-то отзвуки «хождения
в народ» и общеизвестной тургеневской реакции на это движе-
ние. Однако важно отметить следующее: если переделка ока-
залась возможной и не вступила в противоречие с контекстом,
то, значит, в самом этом контексте изначально существовали
предпосылки широкого обобщения, прямо введенного поздней-
шей редакцией.
Они и в самом деле обнаруживаются без труда. Доказывая
бессмысленность «надменных переделок», о которых идет речь,
Лаврецкий приводит в пример свое воспитание по «системе»
придуманной его отцом. А между тем ассоциации, помогающие
читателю оценить фигуру Лаврецкого-отца, охватывают весь
круг философских идей, подготовивших Великую французскую
революцию («всю премудрость XVIII века»), либерально-оппо-
зиционное англоманство, близость к декабристам и т. п. Все
эти приметы оппозиционно-прогрессивной позиции Ивана Пет-
ровича характеризуются как нечто поверхностное и не слишком
серьезное. Но рядом звучит всеобъемлющее обобщение: «Воз-
можно ли было требовать убеждений от молодого малого пять-
десят лет тому назад, когда мы еще и теперь не доросли до
них?» (VII, 151).
В общем ясно, что автор «Дворянского гнезда» отвергает
любые перемены, не оправданные полноценным социально-нрав-
ственным идеалом и действительной верой в такой идеал. Не
менее ясно и другое: Тургенев убежден в том, что современное
русское общество еще не обладает такой верой и таким идеалом.
Особое значение для развития и обоснования этой мысли
6* Д47
имеет родословная Лаврецких, значительно расширяющая исто-
рические^горЖонта Перед читателем разверты-
вается, в сущности, история целого сословия, на протяжении
почти полутора столетий обладавшего политической, социальной
и культурной гегемонией в русском обществе. Таким образом,
читатель получает представление о пределе тех социальных
и духовных возможностей, которыми располагало — на уровне
среднего человека, т. е. на уровне большинства — это общество
в промежутке между двумя переломными моментами своей исто-
рии — петровскими преобразованиями и освобождением крестьян.
Средний уровень, на котором просматривается здесь истори-
ческий процесс, был отмечен еще Ап. Григорьевым.40 В «Руди-
не» люди и явления, тяготеющие к такому уровню, составляли
фон, на котором рельефно вырисовывался образ главного героя.
В «Дворянском гнезде» прежняя периферия стала центром:
среднему человеку, его положению, проблемам и духовному со-
стоянию уделено главное внимание. В конечном счете читатель
убеждается, что перед ним все еще догражданское, доцивилизо-
ванное состояние общества. Этот вывод не имеет у Тургенева
всеобъемлющего значения (существенно, например, напомина-
ние о «1825 годе»), однако для среднего уровня он справедлив:
по мысли Тургенева, на этом уровне русское общество лишено
подлинного единства, подлинной культуры, права, нравственно-
го самосознания, сколько-нибудь серьезной и прочной общест-
венной самодеятельности; Устойчивости тут нет ни в чем; все
решают обстоятельства. Они могут мгновенно вознести людей
на высоту общенародного единения перед лицом врага (именно
так выглядит в романе безмолвное примирение Петра и Ивана
Лаврецких в 1812 г.), но могут так же мгновенно превратить
их в труху (эту возможность демонстрирует быстрая и страш-
ная деградация Ивана после декабря 1825 г., а потом и полный
распад его личности под ударами обрушившегося несчастья).41
Автор, в сущности, подводит читателя к выводу о том,
что на пороге* 40-х годов русское общество в основной своей
массе еще просто не доросло до того духовного состояния,
в котором его попытки изменить жизнь оказались бы оправдан-
ными и не обернулись бы бессмысленным или даже пагубным
насилием над нею. И на первый план естественно выдвигается
вопрос о том, как может прийти к «действительной вере в идеал»
именно представитель большинства. Этот вопрос-живо заинте-
ресовал Тургенева как раз в ту пору, когда складывался за-
мысел «Дворянского гнезда». 10 июня 1856 г. он писал
Е. Е. Ламберт: «...идеал дается только сильным гражданским
40 Григорьев Ап. И. С. Тургенев и его деятельность: По поводу
романа «Дворянское гнездо».— В кн.: Григорьев Ап. Литературная критика.
М., 1967, с. 350—352.
41 Важность этих эпизодов отмечена Ап. Григорьевым (Григорьев Ап.
Литературная критика, с. 352—353.).
148
бытом, искусством (или наукой) и религией. Но не всякий ро-
дится афинянином или англичанином, художником или ученым,—
и религия не всякому дается — тотчас» (П., II, 366). Подоб-
ная же ситуация воссоздана в «Дворянском гнезде». В центре
повествования человек, не родившийся, говоря словами Турге-
нева, ни афинянином, ни англичанином, не причастный ни к ис-
кусству, ни к науке, ни к религии — в том высшем значении
этих слов, которое иногда заставляло Тургенева писать их
большой буквы, т. е. именно человек в известном смысле сред-
ний. И такой герой встречается с людьми, которым идеал дан
искусством (Лемм), философией, наукой (Михалевич) и, накот
нец, религией (Лиза). Всякий раз Лаврецкого привлекает живой
человеческий пафос идеала, но особая внутренняя логика идеа-
ла оказывается в чем-то недоступной ему. Овеянная дыханием
абсолюта, логика эта всякий раз несет в себе нечто чуждое
обыкновенному человеческому существованию. И всякий раз
обнаруживается, что пути к идеалу, открываемые художествен-
ным творчеством, абстрактным мышлением или подлинной ве-
рой, не только «заказаны», но в известной мере даже и не-
понятны для всецело «здешнего», всецело земного Лаврецкого.
Это пути, непременно требующие не просто исключительности,
но и какой-то высокой ущербности: недаром характеры Лемма,
Лизы, Михалевича, каждый по-своему, отмечены оттенками
своеобразной юродивости и столь значимой еще в «Рудине»
непригодности для обыденных человеческих дел и отношений.42
В конце концов становится очевидным, что для человека,
принадлежащего хотя бы отчасти этой обыденной жизни, нет
в данной ситуации иного пути к идеалу, кроме смирения перед
народной правдой. Оказывается, лишь этот путь может естест-
венно привести его к самоотречению и всему, что оно может
дать личности — от нравственного спасения до выхода из оди-
ночества. На этом пути — ориентиры, ясные и убедительные
для каждого: страдание, терпение и нравственные нормы мил-
лионов людей, живущих рядом. Здесь человека поддерживают
всегда и всюду действенные стимулы: воспоминания о матери
(VII, 268), впечатления, навеваемые окружающей природой
и атмосферой повседневного быта (VII, 183, 184, 189), сам
стихийный ход жизни вокруг него и в нем самом. «...Кто вхо-
дит в ее круг — покоряйся: здесь незачем волноваться, нечего
мутить; здесь только тому и удача, кто прокладывает свою
тропинку не торопясь, как пахарь борозду плугом» (VII,. 190).
На этом пути помогают даже крушение надежд и утрата лич- )
ного счастья. К. Локс точно заметил, что у Тургенева родина
4 2 Оттенки эти разнятся в зависимости от того, какое место занимает
тот или иной образ во внутренней иерархии романа. В характере Михалевича
рудинские черты получают комическую окраску. В характере Лизы резче черты
трагической несовместимости с окружающим миром, в первом тургеневском
романе обретенные героем лишь в эпилоге.
149
«принимает в свое тихое сердце лишь того, чье сердце разби-
то».43 Этот закон — тоже из числа естественных: момент, когда
разбивается счастье и угасает стремление к нему, понят Турге-
невым как момент совпадения гудьбы человеческой и судьбы
народной..
Так находится решение вопроса, подчеркнуто оставленного
нерешенным в цитированном выше письме («Будем жить и ве-
рить— и знать, что — пока — мы дурачимся» — П., II, 366).
В «Дворянском гнезде» смирение перед народной правдой —
правдой самоотречения, правдой жизни без счастья — не только
неизбежность, но и своё&зный исход «великой • общественной
драмы» (говоря словами самого же Тургенева из письма
К. С. Аксакову от 16 октября 1852 г.). В духовной жизни
поколения, пришедшего на смену ничего ему не оставившим
«отцам», совершается, наконец, столь необходимый русскому
обществу исторический перелом. Личность обретает прежде
всего эту самую духовную жизнь, которой, по мысли Тургенева,
на «среднем» общественном уровне раньше просто не было.
А вместе с ней появляется нравственное достоинство, независи-
мость мысли, чувство внутренней свободы, живая связь между
работой сознания и всей душевной или практической жизнью
• человека. Отдельный человек обретает возможность преодолеть
свою естественную ограниченность, перед ним открываются го-
ризонты нравственного самоусовершенствования и добрых дел.
Другими словами, становятся возможными «действительная вера
в идеал» и деятельное служение ему.
* * .
*
Обретенные таким образом возможности оплачиваются ценой
страдания и неотделимы от внутренних потерь. Следуя нравст-
венному закону, человек жертвует тем, что не менее дорого,
прекрасно и свято. В «Дворянском гнезде» это очевидно, но
так же очевидно здесь и то, что подавление чувства во имя
долга — не самое глубокое из обнаруженных романом противо-
речий.
Когда на духовное состояние Лаврецкого, воссозданное в эпи-
логе «Дворянского гнезда», проецируется известная фраза из
письма Тургенева к Е. Е. Ламберт от 21 сентября 1860 г.44 —
о чувстве исполненного долга как чем-то «чужом» и «холодном»
(П., IV, 133) —такое толкование вступает в противоречие с тур-
геневским текстом. К тому же неточность получается двоякая:
фраза о чувстве «чужом» и «холодном» не отражает и всей
43 Л о кс К. Г. Вера и сомнения Тургенева.— В кн.: Творчество Турге-
нева М., 1920, с. 104.
44 См., например: Курляндская Г. Структура повести и романа
И. С. Тургенева 1850-х годов, с. 202—203.
150
полноты тургеневской исповеди о пережитом. Тургеневские
письма к Е. Е.. Ламберт, написанные на протяжении 1856—
1861 гг., дают возможность догадываться о том, что в эти
годы Тургенев сам пережил душевный перелом, аналогичный
тому, который «контурно» обозначен в финале его романа.
В письмах рассказывается об утрате надежд на счастье, о старе-
нии души, об угасании чувств, о необходимости найти для
своей жизни какое-то новое содержание. Письмо, где говорится
о необходимости «приучаться к настоящему жертвованию со-
бой», и где идет речь о «чужом и холодном» чувстве исполнен-
ного долга (21 сентября 1860 г.), фиксирует лишь одну из
промежуточных стадий этого процесса (т. е. именно ту его
часть, которая в «Дворянском гнезде» оставлена «за скобками»).
А вот — его финал, отразившийся в письме от 8 января 1861 г.:
«Я чувствую себя как бы давно умершим, как бы принадле-
жащим к давно минувшему,— существом — но существом, со-
хранившим живую любовь к Добру и Красоте. Только в этой
любви уже нет ничего личного, и я, глядя на какое-нибудь
прекрасное молодое лицо — так же мало думаю при этом о себе,
о возможных отношениях между этим лицом и мною — как
будто бы я был современником Сезостриса, каким-то чудом
еще двигающимся на земле, среди живых.— Возможность пе-
режить в самом себе смерть самого себя — есть, может быть,
одно из самых несомненных доказательств бессмертия души.
Вот — я умер — и все-таки жив — и даже, быть может, лучше
стал и чище. Чего же еще?» (IL; IV, 184—185).
Последнее признание гораздо ближё" (вплоть до некоторых
буквальных совпадений) к поэтической атмосфере финальных
эпизодов «Дворянского гнезда» и к переживаниям! вновь пред-
ставшего здесь читателям Лаврецкого. То, о чем рассказывает
автор, невозможно воспринять как «чувство чужое и холодное».
Напротив, прямо говорится о переживании волнующем и живом,
«которому нет равного и в сладости и в горести»,— таково
«чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье,
которым когда-то обладал» (VII, 291). В состоянии Лаврецкого
есть некая возвышенная отрешенность от сиюминутного, но нет
бесповоротного разрыва с тем, от чего отказалась его душа.
В глубине владеющей им «живой грусти» сохраняется вся ;
поэзия утраченного, только преображенная, просветленная ;
нравственной силой пережитого отречения и достигшая поэтому
особой чистоты. Это состояние вообще неразлучно с поэзией?
оно проникнуто обостренным, чутким ощущением красоты мира,,
да и само от нее неотделимо. Поэтический строй переживаний
как бы сливается с поэтической прелестью заросшего парка,
старых лип, зеленой поляны, прелестью уходящего усадебного
быта и «слабым, но чистым» звуком памятной Лаврецкому
мелодии. Состояние героя в эти минуты сродни высшим прояв-
лениям его любви —тем самым, которые были так близки
151
к стихиям музыки, к ее романтическому духу. Повествование
так же лирически окрашено, эстетизировано и облечено в формы,
родственные стиховым.
Решающая роль в постижении и оценке изображаемого опять,
как и в эпилоге первого тургеневского романа, принадлежит
поэтическому слову, насыщенному символическими обертонами.
И это опять — окончательное постижение и окончательная оцен-
ка, выходящие за пределы того, что предстает читателю в дан-
ный момент. Обнажается смысл всего прожитого и пережитого
героем, открывается значение того, что несет в себе его духов-
ный опыт. Стилистический скачок почти так же ощутим: когда
немолодой помещик, хозяин и домосед, вдруг назван «одиноким,
бездомным странником», это придает ситуации легкий, но за-
метный метафорический оттенок. Речь повествователя, как
и в «Рудине», сразу же ритмически организуется и сразу же
приобретает семантические признаки, заставляющие вспомнить
о стиховой лексике и фразеологии («...На этом дорогом месте,
перед лицом того дома, где он в последний раз напрасно
простирал свои руки к заветному кубку, в котором кипит
и играет золотое вино наслажденья...» и т. п. — VII, 293).
Энергия метафоризации усиливается внутренним монологом
героя, где речь идет об участи его поколения — «отыскивать
свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака» (там
же). Вслед за тем звучат более прозаические определения:
«Мы хлопотали о том, как бы уцелеть —и сколько из нас не
уцелело!» (там же); но и в этих словах ощутим тонкий мета-
форический призвук. Образуется ассоциативный ряд, как бы
возвращающий читателя к лирико-символическому подтексту
«Рудина», к уже знакомым этому читателю многозначительным
мотивам «дома» и «дороги», «приюта» и «странствия» — с их
контрастными смыслами, .сосредоточенными в противопоставле-
нии счастливцев, сидящих «под кровом», «бесприютным скиталь-
цам», отыскивающим путь во тьме. А вместе с этой высокой
трагической антитезой в повествовании оживает чрезвычайно
важная для Тургенева мысль о возможности придать «вечное
значение временной жизни человека», оживает и связывается
с нравственными исканиями Лаврецкого, с найденной им устой-
чивой жизненной позицией, с его окончательно определившейся
теперь судьбой.
Собственно, и завершается монолог отзвуком одного из
главных символических лейтмотивов «Рудина». В последней
фразе Лаврецкого почти всегда отмечают слова «бесполезная
жизнь» и как-то не слышат звучащее рядом с ними слово
«догорай!» А между тем «бесполезная жизнь» (к вопросу
о смысле слова «бесполезная» мы еще вернемся) ассоциируется
именно с горением, и эта ассоциация ведет не только к поэтике
песен или романсов, но и темам «пламени», горящей и дого-
рающей «лампады», которые символизировали в «Рудине» чело-
152
веческую жизнь, обладающую высоким духовным смыслом.45
Словом, отказ от стремления к счастью вовсе не означает
в новом тургеневском романе омертвения души, застывающей
в безразличии ко всему живому. Для многого душа героя
действительно умирает, но эта «частичная» смерть открывает
перед ним возможность иной жизни, более возвышенной, сво-
бодной и бескорыстной.
В исторической эволюции русского общества Тургенев обна-
руживает громадный, на первый взгляд даже непонятный в своей
неожиданной резкости, скачок. Детей воспитывают так, что
следует ожидать их превращения в людей ущербных или пус-
тых и ничтожных. А вопреки всему этому вырастают люди
самобытные, глубоко нравственные, живущие интенсивной и бо-
гатой духовной жизнью. Не борясь, не протестуя против враж-
дебных им обстоятельств, люди эти при всем том неизменно
остаются верными себе, ни в чем внутренне не поддаваясь
господствующим законам и понятиям среды, не подчиняясь
порабощающим человека инстинктам и страстям. Такая не-
ожиданность в какой-то мере была уже привычной для чита-
теля, коль скоро речь шла о Лизе Калитиной. Этот образ
явился «следующим звеном» в цепи героев, начатой Рудиным:
читателю предстала еще одна исключительная, даже избранная
личность, связанная с окружающим миром лишь отталкиванием
от всего, чем этот мир s заинтересован или озабочен, и еще —
особой, сверхличной чуткостью к подспудным потребностям на-
родной жизни, способностью воплотить в себе эти еще неведо-
мые большинству веления истории. Непривычной (и потому
вдвойне неожиданной) была причастность к историческому
скачку как будто бы вполне «обыкновенного» Лаврецкого.
Такого тургеневский роман еще не знал. Исключительное
сошлось с обыкновенным; обычно разделяющая их у Тургенева
грань оказалась относительной, и то, что прежде воспринималось
как особая принадлежность избранников истории, теперь изо-
бражалось как достояние целого поколения (недаром рудинское
«я», звучавшее в исповедальных монологах первого тургенев-
ского романа, сменилось характерным «мы» в последнем моно-
логе Лаврецкого). Преобразился целый общественный пласт,
обновилась целая культура.
Совершившийся нравственный переворот подобен чуду: меж-
ду «отцами» и детьми — целая бездна, и образовалась она
в течение каких-то нескольких лет. Но чудо оказывается объяс-
нимым. Его основу составляет воссоединение дворянской куль-
45 Позиция и судьба героя недаром возвышены в собственно поэтической
форме, нейтрализующей (как неуместные) претензии практического порядка.
Ясно, что идея самоотречения важна для Тургенева независимо от любых
претензий, которые к ней (даже по справедливости) можно предъявить. Идея
эта все явственнее представляется самоценной: дело в ней самой, а не в
каких-либо практических последствиях отказа от счастья.
153
• 1 туры с народно-крестьянской патриархальной нравственностью.
| Тургенев подчеркивает различие тех форм, которые принимает
I этот процесс в духовной жизни Лаврецкого и Лизы, но естест-
венность и закономерность воссоединения противоположностей
в обоих случаях очевидны. А воссоединяются именно противо-
положности, две коренные противоположности русской жизни,,
два во многом антагонистических, по мысли Тургенева, ее на-
чала. Исходной точкой, от которой отправляется тургеневское
художественное исследование, не случайно служит эпоха, не-
посредственно примыкающая ко времени знаменитого манифеста
о «вольности дворянства».4 6_ Время это важно прежде всего
как момент, когда дворянство перестало быть служилым сосло-
вием, необходимым государству, когда исчезли прежние юри-
дические, политические и моральные обоснования крепостного
права и последнее превратилось в рабство, в ничем не оправ-
данный произвол. Вместе с тем это время, когда последствия
петровских реформ уже отделили дворянство от общенародных
религиозно-нравственных традиций, от общего с народом бы-
тового уклада. Излагая родословную Лаврецких, Тургенев не
стремится дать подробное представление обо всем этом, но
основные черты целого исторического этапа обозначены четко.
Автор «Дворянского гнезда» видит, что культурный разрыв
и социальные противоречия между дворянским сословием и на-
родом неуклонно нарастали от поколения к поколению. Тем
важнее для него скачок, внезапно разрушивший эту закономер-
ность. Тургенев показывает, что в середине XIX в., на уровне
повседневной жизни обыкновенных людей, происходит нечто
аналогичное рождению русской классики, появлению Пушкина
или Толстого. Дворянская культура сближается с народной
почвой, приобщается к ней и становится культурой подлинно
национальной.
На уровне повседневного легко раскрывается тайна этой
новой культуры. Она формируется в напряженных отношениях
с жизнью, но возвышаясь над нею. И Тургенев стремится по-
казать, что лишь на известной высоте над жизнью становится
возможным то воссоединение противоположностей, которым
создана классическая русская культура и которое сообщило
ей колоссальную духовную энергию и внутреннюю напряжен-
ность. На любом уровне, лежащем ниже этой высоты, синтез
не мог бы состояться: ему воспрепятствовал бы -непримиримый 46
46 Старый слуга Лаврецкого Антон вспоминает, что прадед его барина
Андрей Афанасьевич умер, когда ему, Антону «восемнадцатый годочек пошел»
(VII, 192). В момент, когда развертывается действие романа (то есть в 1842 г.),
старику «уже стукнуло лет за восемьдесят» (VII, 191). Следовательно, Антон
родился около 1762 г., как раз в пору опубликования названного манифеста,
а Лаврецкий-прадед достиг вершины богатства и могущества примерно в эту
же пору.
154
антагонизм противоположных интересов и социальных целей
двух основных сословий русского общества. Эта мысль Турге-
нева воплощается в сюжете «Дворянского гнезда» и во всем
образном строе романа.
На глазах читателя складывается система ценностей дейст-
вительно общезначимых и поистине незаменимых. Даже сохра-
няющийся сословный колорит новой культуры не ослабляет ее
демократичности. Напротив, он лишь повышает ее универсаль-
ную значимость: дворянские привилегии, дворянская освобож-
денность от насущных забот, тяготеющий над дворянством
грех рабовладения и другие особенности социального положения
героев романа оборачиваются в «Дворянском гнезде» особой
тонкостью, особой поэтичностью и особой возвышенностью их
душевной жизни. Так «под занавес», уже на исходе, обретает
смысл весь завершающийся исторический этап, с его пороками, *
бедами и противоречиями. Все, что заполняло этот этап, ока- 5>
залось не напрасным, потому что в конце концов, на пороге L
гибели патриархальной дворянско-крестьянской России, привело /
к рождению высочайшей культуры, вырастающей из неразрешим /
мых противоречий общественного бытия. Но причастность к этой. i
высочайшей культуре как бы отрезает человека от будущего-
В эпилоге «Дворянского гнезда» это показано вполне опреде-i i
ленно. Очевидно, что Лаврецкий отделен от надвинувшихся ;
задач переустройства России непреодолимой нравственно-психо- (
логической дистанцией — отделен глубиной пережитого, отделен ;
достигнутой им высокой отрешенностью от всего, с чем связана ;
житейская напористость, жизненная хватка и т. п. Лаврецкий
не питает никаких темных чувств к сменяющему его молодому
поколению. Его благословение адресуется им, преемникам. Но__
нет у него с ними никакого душевного контакта и нет стремле-
ния обрести такой контакт ~~ ’— --------
А для них, преемников, как бы не существует всё пережи-
тое Лаврецкгш, все воспринимаемое вместе^ ним пмеет^-для
•йих~~иноТ смысл. Старый парк, населЛаврецкого
воспоминаниями, в их глазам —^всего лишь удобное место для
игр. Памятная ему скамейка для них '''всёТб^лишь’'несколько
покоробленных досок: поэтические мифы, живущие в сознании.
«старика», никогда не перейдут к ним. И еще одно: эти люди
никогда не услышат и не узнают музыки Лемма. Эта деталь
приобретает в эпилоге символическую четкость'и остроту: му-
^слышал, , знает, и помнит..._только^1.Лаврецкий,
и вместе с ним ^она ,уйдет^навхегда.
Но ситуация у Тургенева такова, что все ценности пред-
шествующего поколения действительно не нужны «новым людям».
Высота и обаяние духовности Лаврецкого и Лизы неотделимы
от их мучительного жизненного опыта, от страшного прошлого,
которое они искупили своими нравственными поисками и страда-
ниями. Жизнь веселящейся на глазах Лаврецкого молодежи
155
явно складывается иначе. Над ними уже не тяготеет бремя
вековых дворянских грехов и необходимость их искупления
(намек на это в тексте эпилога достаточно ясен). Перед ними
• стоят некие задачи (об этих задачах как раз и размышляет
Лаврецкий), но’ они еще и не пытались эти задачи решать.
Их жизнь только начинается: они еще ничего не сделали, ничего
не пережили, ни в чем не ошиблись и ничего не обрели. Их
жизнь по-своему чиста, по-своему светла, и духовному содер-
жанию жизни Лаврецкого или Лизы нет в ней места.
Лирическая формула «догорай, бесполезная жизнь!» точно
' замыкает ситуацию. Обретенное Лизой и; Лаврецким духовное
1 ’ богатство, по мысли Тургенева, оказывается не нужным для
. I решения новых исторических задач и не/ может быть передано
'; другому поколению. И даже самим героям оно уже ничего
/’ не может дать. В их жизни все уже разрешилось, все состоялось:
жизнь их уже обрела свой нравственно-исторический смысл и
к нему уже ничего нельзя прибавить. Новая ситуация смены
поколений во многом резко отличается от предшествующей,
обрисованной в предысториях Лаврецкого и Лизы, но в неко-
торых очень важных отношениях обе ситуации оказываются
сходными. Опять перед читателем преемники, которые не
становятся и не будут наследниками своих предшественников.
Сходство даже заостряется контрастом: в одном случае пре-
емникам просто нечего наследовать, в другом — к их услугам
наследие высочайшей ценности, но они объективно в нем не
нуждаются. Преемственность поколений не оборачивается у Тур-
генева их духовной связью — за устойчивым повторением этого
противоречия вырисовывается определенный исторический закон.
Ощущение его присутствия в движении русской жизни отчасти
проясняет знакомый нам намек на «трагическую судьбу племе-
ни», прозвучавший в письме К. С. Аксакову от 16 октября
1852 г. Мысль о трагизме русской истории, в начале 50-х
годов еще не принявшая достаточно четких очертаний, теперь
уже близка к тому, чтобы их обрести. Одна подлинно тра-
гическая особенность национальной судьбы, судя по всему, пред-
ставляется Тургеневу очевидной: смысл, однажды обретенный
русской историей, не наследуется последующими ее звеньями,,
не удерживается и не передается русским обществом от поколе-
ния к поколению. На каждом новом этапе национально-исто-
рического развития оно должно обретать свой смысл и свою
цель заново, лишенное сколько-нибудь прочной опоры в пред-
шествующих обретениях.
Сцена встречи двух поколений в эпилоге, окончательно прояс-
нив этот трагический закон, разрешается своеобразным, по сути
своей тоже трагическим, равновесием. Оно воплощает классиче-
ский вариант трагической ситуации такого рода: перед нами две
правды, по-своему законные и ценные, но их встреча не может
привести ни. к объединению, ни к столкновению, ни к тор-
156
жеству одной из них. Такая ситуация, в принципе, исключает
возможность дальнейшего движения сюжета.
Однако у Тургенева оно все-таки оказывается возможным.
Достигнутое равновесие, умиротворяющий, казалось бы, явно
заключительный по своей композиционной функции поэтический
аккорд сменяются новым взлетом лирического напряжения. Автор
сам акцентирует парадоксальность этого хода: «...что сказать
о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща,
зачем возвращаться к ним..?» (VII, 294). Логически отсюда сле-
дует, что говорить нечего, и все-таки автор продолжает гово-
рить: следует рассказ о поездке Лаврецкой/в отдаленный мо- г
настырь, «куда скрылась Лиза», и об их встрече. Что же
несет в себе этот второй (неожиданно «добавившийся» к пер- /
вому) финал? Прежде всего — более высокую, близкую к !
собственно лирической степень абстрагированное™ изображения. ’
Автор выходит сам и выводит читателя за пределы той си- >
стемы художественных «координат», где актуальны социально-
психологическая типичность героев, национально-историческая
проблематика и т. п. Все это остается позади: перед читателем
просто люди и «вечные противоречия существенности» (говоря
словами Пушкина). Не менее важно то, что противоречие чувства
и долга возобновляется с новой, сдержанной, но потому и более
выразительной напряженностью. Лаврецкий, все-таки приезжает,
в монастырь, чтобы увидеть Лизу, но смотрит на нее молча,
ни в ' чем^ нК'н^ Лиза ТТроходит ' м
«только ресницы обращенного^ к нему глаза чуть-чуть дрогнули,
только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо» (VII, 294).
И тут же — обуздывающее порыв волевое усилие. «Пальцы
сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг
к другу» (там же). Это — уже отчетливо выраженный, .катар-
сис, «сложный разряд» противоположных чувств, которые раз-
йитаются' в расходящихся направлениях, чтобы потом вдруг
сойтись в «заключительной точке», в своеобразном «коротком
замыкании», которое сольет и тем уничтожит их, но уничтожит
ради плодотворной вспышки трагической красоты.47 Все это
и происходит в концовке «Дворянского гнезда», где «короткое
замыкание» противоположностей создает эффект приобщения
к невыразимому: «Есть такие мгновения в жизнщ такие чув-
ства... На них можно только указать — и пройти мимо» (там же).
Перед нами нечто подобное музыке Лемма, но в известном
смысле более высокое, чем она, потому что невыразимо пре-
красное содержание воссозданных здесь переживаний принад-
лежит уже не искусству, а самой жизни.
Концовка обретает свой смысл на высоте общечеловеческого
47 О природе этого эстетического явления см.: Выготский Л. С.
Психология искусства. М., 1968, с. 272.
157
содержания рассказанной истории, которое как бы обнажается
в «заключительной точке» повествования. Но финал неизбежно
соотносится с национально-исторической проблематикой основ-
ного сюжета и освещает ее новым светом. Второй финал, воз-
вышаясь над первым, тем самым возносит ценность неудовлет-
воренных и потому неугасающих духовных порывов выше цен-
ности найденного решения, даже безусловно достойного. Этот
неожиданный переход связывает разные уровни, разные -сторо-
ны содержания романа и несомненно имеет определенное отно-
шение к вопросу о мировом значении русской истории и рус-
ской культуры, таящемуся в глубине «Дворянского гнезда».
Концовка романа дает почувствовать своеобразие позиции Тур-
генева, максимально приблизившегося в этот момент к идеям
славянофильско-почвеннического направления русской культуры,
но именно в таком приближении как раз и обнаружившего
свое неустранимое отличие от них. Славянофилы и почвенники
исходили из того, что Россия призвана сказать миру некое
Слово, способное навсегда разрешить все вопросы, над которыми
тысячелетиями бьется человечество. Тургенев был убежден в ином.
«Никакого за нами «специально нового слова» не предвидится»,—
писал он Герцену (П., VI, 355). Мировую роль России автор
«Дворянского гнезда» понял по-другому: значение России не
в том, что она даст миру некий окончательный идеал, а в том,
что она сама никогда не может обрести свой идеал окончатель-
но и потому обречена бесконечно искать его, внося в обще-
человеческую культуру дух и энергию неиссякаемого порыва
к смыслу. К такой мысли читателя приводит все, что открывается
ему в двух первых романах Тургенева. И мысль эта, как видим,
прочно связана с трагической концепцией русской истории,
с представлением писателя о ее «разрывчатости» и неспособности
удерживать свои приобретения.
* *
Впрочем, трагическое и в «Дворянском гнезде» остается
опорой эпоса. Трагическая концепция национальной истории
по-своему питает эпическое ощущение ее единства: у Тургенева
получается, что разрывчатость исторического движения связы-
вает многие эпохи своеобразной эстафетой нерешенных и не-
разрешимых задач, эстафетой бесконечных поисков идеала.
Эпическая целостность воплотившегося в романе мировосприя-
тия обеспечена своего рода «пульсацией» трагических смыслов:
противоречие, неразрешимое на уровне универсально-философской
проблематики (столкновение христианской этики с безрелигиоз-.
ным гуманизмом), разрешается на уровне проблематики нацио-
нально-исторической (смирение перед народной правдой и само-
отречение); решение это, в свою очередь, оказывается источ-
158
ником неразрешимых противоречий, а эти последние — источ-
ником высшего смысла, трагически обретенного русской исто-
рией.
? Неудивительно, что при всей мощи и четкости трагической
коллизии она не нарушает равновесия эпической структуры «Дво-
рянского гнезда». Равновесие это устойчиво поддерживается все-
объемлющей взаимозависимостью и взаимопереходностью раз-
личных структурообразующих начал.
Трагические противоречия не сразу приобретают форму кол-
лизии. Первоначально они входят в роман как поэтические
антитезы, контрасты, диссонансы, возникающие над сюжетом
и по видимости никак не отражающиеся на его развитии. Это
еще не противоречия, а лишь намеки на возможность их появле-
ния. Иногда такие намеки едва заметны. Один из них тончайшим
призвуком вкрадывается в характеристику Лизы — речь идет
о ее отношениях с музыкой. В них с самого начала есть что-то
настораживающее: Лиза не понимает, как поверхностна музы-
кальность Паншина, не чувствует той бездны, которая отделяет
дилетанта от истинного художника с задатками гениальности,
да рь нет никаких указаний на то, что Лиза различает эти
задатки (Лемм, в ее глазах,—«бедный, одинокий, убитый человек»;
других оценок и характеристик мы от нее не слышим). Пока-
зательно авторское замечание о ее игре: «Лиза играла ...очень
отчетливо» (VII, 193). Замечание это почти совпадает с первой
характеристикой музицирования Варвары Павловны: «Она ...се-
ла за фортепьяно и отчетливо сыграла несколько шопеновских
мазурок» (VII, 169—170). Такое определение у Тургенева, судя
по всему, характеризует отсутствие подлинного контакта с му-
зыкой. Тема музыки еще не слилась и даже не сблизилась [
с темой любви, но уже прозвучало (пока еще глухо) предосте- J
режение о том, что возвышенно-идеальная духовность, живущая j
в Лизе,— не в ладах с искусством, с его идеальностью, с его >
красотой.
Такие диссонансы (примеры их можно было бы умножить)
постепенно втягиваются в русло «контрапунктового» развития
двух главных сюжетных тем — любовной и общественно-эти-
ческой. Тема долга не сразу обнаруживает свое глубинное
нравственное содержание. В повествовании звучит тема дела,
неотделимая от темы воссоединения с родиной. Тема эта взаимо-
действует с любовной темой не сталкиваясь, но контрастируя
(и притом до поры не слишком заметно). Обе темы быстро
приобретают лирические свойства. Но проникающие в повество-
вание лирические стихии сразу же оказываются ощутимо раз-
нородными.
Лирический пафос любовной темы звучит, если так можно
выразиться, в «фетовской» тональности. В лирическом «нок-
тюрне» XXII главы (VII, 212—213) создается типично фетовская
атмосфера: происходит то непосредственное, свободное и на
159
редкость органичное взаимопроникновение лирики любви и лири-
ки природы, которое стало привычным для русского читателя
именно благодаря стихотворениям Фета, где «природа в своей
очеловеченности... сливается с природной жизнью человеческого
j сердца».48 Такое переплетение человеческого и природного до-
| стигается у Тургенева (как и у Фета) не только метафоризацией
j пейзажа. Можно говорить об органичном слиянии пейзажа
/ и вполне конкретного субъективного переживания, о преобра-
жении пейзажа в этом слиянии. В лирическом описании смяг-
чаются контрасты света и тени, размываются линии, скрадывают-
ся расстояния и границы между предметами, все погружается
в таинственную поэтическую неопределенность, преодолевающую
отграниченность внешнего мира от внутренней жизни человека.
Ретроспективная временная дистанция, закрепленная в повест-
вовании прошедшим временем глаголов, формально сохраняется,
но по существу тоже преодолена. Смешивая (иногда в преде-
лах одной клеточки описания) видимое, слышимое, осязаемое^
вообще ощущения самого различного рода, Тургенев, подобно
Фету, создает чисто лирическую иллюзию сиюминутности проис-
ходящего. Как и Фет, он «останавливает мгновение», и неопре-
деленность границ изображаемого такова, что в это лирическое
мгновение как бы вмещается весь мир. Создается некий
субъективно-объективный «космос», в котором почти нераз-
личимо объединены холмы и долины, небо и земля, свет и тень,
далекое и близкое, облака и звезды, счастливый, воскресающий
душою человек и «вся молодая расцветающая жизнь». Такое
отождествление частицы и целого достигнуто характерным более
всего как раз для Фета (и в 50-х годах еще очень острым
для читательского восприятия) поэтическим эффектом: «Приро-
да... живет не вообще как человек, а как человек именно в
этот интимный момент».49 Тем самым устанавливается «связь
данного момента с жизнью... в ее космическом значении»,
«интимная жизнь получает санкцию всеприродного существо-
вания»,50
Эта связь и эта санкция означают духовную сопричастность
личности всему природному бытию. Но так же, как и в лирике
Фета, такое состояние возможно лишь в ограниченной эмо-
циональной сфере, за пределами которой остается весь мир
повседневных тягот и забот, социальных противоречий, труда,
страданий, борьбы. В подобном состоянии душа человека открыта
лишь для тех впечатлений жизни, которые сродни любви и кра-
соте или очищены и преображены ими. Заметна и своеобразная
«эгоцентричность» картины мира, созданной лирическим пере-
живанием. Центром возникающей лирической «вселенной» ока-
48 Скатов Н. Некрасов: Современники и продолжатели. Л., 1973,
с. 174. , -
49 Скатов Н. Указ, соч., с. 198.
50 Там же, с. 197, 198.
160
зывается отдельное человеческое «я» и его сиюминутное душев-
ное состояние. Именно субъективная энергия этого состояния
сплавляет воедино отдельные части образовавшегося целого.
Связь между личностью и Мирозданием устанавливается центро-
стремительно и напрямую, минуя все собственно социальные
опосредствования. Таково глубинное содержание темы любви
и счастья, выносимое на поверхность романа «высоким лириче-
ским движением».
Тема воссоединения с родиной и поисков дела звучит в иной
тональности, которую условно можно было бы назвать «некра-
совской». Во всяком случае, фрагменты, рисующие возвращение
Лаврецкого домой и его пребывание в Васильевском, несут
в себе немало конкретных перекличек с лирической поэмой
Некрасова «Тишина», опубликованной осенью 1857 г. Но дело
не только в этих (пусть и многочисленных) конкретных парал-
лелях. Не мёнее существенно общее сходство лирических «ат-
мосфер», окружающих аналогичные темы у Некрасова и Тур-
генева., «Васильевские» эпизоды «Дворянского гнезда» сближены
с «Тишиной» жесткой отчетливостью предметных деталей в ли-
рических описаниях, по-некрасовски неярким и неидиллическим
колоритом разлитой в . этих описаниях поэтичности, смелым,
но точно отмеренным сочетанием традиционно высокой и про-
заической стилистики и т. п. Важно и сходство направлений,
в которых развивается тема у обоих писателей. У Тургенева,
как и у Некрасова, направление ее развития противоположно
основному лирическому «ходу» поэзии Фета. «Васильевские»
эпизоды (как и эпизоды, участвующие в развитии любовной
темы) тоже пронизаны субъективными переживаниями Лаврец-
кого. Но движение этих переживаний устремлено к непосредст-
венному слиянию с громадной социальной общностью. Как и у
Некрасова, индивидуальное мироощущение расширяется до об-
щенационального чувства родины; перед нами — растворение
и возрождение личности в живой стихии народного бытия. Как
и в некрасовской поэме, доверие к стихийному ходу жизни
освобождает героя от страданий («скорбь о прошедшем таяла
в его душе, как весенний снег»), исчезает рефлексия, человек
на наших глазах приближается к тому, чтобы почувствовать
себя органической частью целого и осознать в трагическую
минуту общерусскую основу своей судьбы.51 В лирической ат-
мосфере «Васильевских» эпизодов тоже происходит взаимопро-,
никновение внутренних переживаний героя и впечатлений внеш-;
него мира. Но природа этого взаимопроникновения существенно
иная, чем в лирических фрагментах «фетовской» тональности:
отдельное «я»—уже не центр лирической «вселенной», а своеоб-
разный орган действующих в ней сверхличных сил. В минуты
51 Ср.: Лебедев Ю. В. Н. А. Некрасов и русская поэма 1840—1850
годов. Ярославль, 1971, с. 132—133.
161
«мирного оцепенения» размышления Лаврецкого неотделимы от
всей текущей вокруг него «тихой жизни»: по точному наблюде-
нию Ю. Николаева (Ю. Н. Говорухи-Отрока), «в нем как бы
сама жизнь задумалась над собой».52
Столь различные лирические тональности не соотнесены от-
крыто с двумя именами и традициями, уже воспринимавшимися
в конце 50-х годов как воплощения противоположных полюсов
русской поэзии. Однако, независимо от того, вспоминает или
не вспоминает читатель о Некрасове и Фете, противоположность
двух тем неизбежно ощущается. Противоположности, правда,
сходятся и даже объединяются — в XXXI главе, где расска-
зывается о том, как Лиза и Лаврецкий вместе молятся за
упокой души Варвары Павловны, которую считают умершей
(VII, 227). Но образовавшееся гармоническое единство двух
стилей сразу же вслед за тем распадается — так рядом с психо-
логическими и событийными признаками обострившихся проти-
воречий («Настали трудные дни для Федора Иваныча...» —
VII, 222) появляется собственно эстетический сигнал несовмести-
мости питающих эти два стиля противоположных сюжетных
тем.
Тревожный сигнал этот подается неоднократно: хрупкость
и неустойчивость мгновениями возникающей гармонии воз-
вещается самим ритмом сюжетосложения. Гармония неизменно
оказывается возможной лишь в пределах лирически пережи-
ваемого мгновения, под защитой его временной и субъективной
ограниченности. Всякий раз выплывает что-то не охваченное ею,
и становится ясно, что удержаться ей не дано.
Таким образом складываются (наряду с иными) лирико-
поэтические предпосылки коллизии. И когда в XXXVI—XLV
главах она поднимается из глубины и реализуется в действии,
это столько же внезапно, сколько и подготовлено. Активизация
противоположных лирических потенциалов пробуждает трагедий-
ный потенциал фабулы, трагедийные свойства фабулы усиливают
лирическое напряжение на обоих проитвоположных полюсах.
В итоге и создается та художественная атмосфера, в которой
уместно развертывание классической трагедийной антиномии.
Антиномия счастья и долга развертывается, впрочем, лишь
постольку, поскольку она внутренне связана в тургеневском
романе с другой, тоже трагедийной по своему происхождению,
сюжетной коллизией, в «Дворянском гнезде» получившей кон-
кретный национально-исторический смысл. Это коллизия, связан-
ная с ответственностью и расплатой за грехи целого рода,
с «эдиповской» трагедийной темой. Известно, что сюжет мифа об
Эдипе занимал Тургенева всю жизнь.53 Этот сюжет считался
идеальным образцом трагедийного построения: он использован
52 Николаев Ю. Тургенев. М., 1894, с. 93.
53 См., например: С а к у л и н П. Н. На грани двух культур: И. С. Турге-
нев. М., 1918, с. 30, 56 и др.
162
как основной пример в рассуждениях Аристотеля и Гегеля о тра-
гическом^ (рассуждения эти Тургенев просто не мог миновать
в пору становления своих эстетических принципов). Поэтому
нельзя считать неожиданным то обстоятельство, что герой и
героиня его романа оказываются в положении людей, вынужден-
ных отвечать за то, что совершилось независимо от их сознатель-
ных намерений, за невольные ошибки, за чужие заблуждения
и преступления, т. е. в положении героя древнегреческой траге-
дии. Главной силой, направляющей читательские ассоциации
в сторону мифа об Эдипе и судьбе его рода, а также в сторону
сюжетов античных трагедий, опиравшихся на этот миф, является
в тургеневском романе тема проклятия.
Тема эта звучит в романе дважды (причем оба раза в пре-
дыстории героя, что опять-таки сходно с греческими трагедий-
ными сюжетами, использующими ту же тему). Развивается она
«по нарастающей». Сначала угрожает проклятием непослушному
сыну Петр Андреевич Лаврецкий. Однако проклятие все-таки
не состоялось в полной мере: сын только лишен отцовского
благословения. Иная ситуация — в жизни Федора Лаврецкого.
Здесь проклятие уже прозвучало: «Знаю,— говорит Глафира,—
кто меня отсюда гонит, с родового моего гнезда. Только ты
помяни мое слово, племянник: не свить же и тебе гнезда ни-
где, скитаться тебе век» (VII, 172). Оба раза событие не
остается без последствий. Лишенного родительского благо-
словения Ивана Петровича постигает страшный удар. Судьба
Федора Лаврецкого складывается в точном соответствии с пред-
сказанием-проклятием тетки: он заканчивает жизнь в полном
одиночестве, бессемейным бобылем. Оба раза совпадение можно
истолковать как случайное. И оба раза можно поверить в силу
проклятия. Тема, таким образом, получает оттенок традицион-
ного смысла, напоминающего о проклятии Пелопса, которое
послужило первопричиной всех ошибок и бедствий Эдипа. Это
напоминание усиливает ощутимость трагедийного начала в ро-
мане.
Однако нетрудно заметить, что обе сплетенные в тургенев-
ском романе трагедийные коллизии развертываются и достигают
в нем необходимой напряженности лишь постольку, поскольку
в круг его образов входит подлинно трагический (и даже траге-
дийный) характер. Герой «Рудика», как уже говорилось, в оп-
ределенный момент «дорастает» до трагизма. В «Дворянском
гнезде» Тургенев вводит героиню, наделенную трагическим ха-
рактером изначально. Уже в первых сценах, где участвует
Лиза, достаточно намеков и указаний на то, что в этой
цельной, простой натуре есть некая, пока еще неведомая духов-
ная глубина.54 А в первом споре Лизы с Лаврецким становится
54 Овсяник о-К уликовский Д. Н. Этюды о творчестве И. С. Тур-
генева. Харьков, 1896, с. 197
163
очевидным, что кроткая женственность героини таит в себе
«особое душевное начало, стойкое и неуклонное, как логика,
неумолимое, как религиозный кодекс, бесповоротное, как
категорический императив нравственности».55 Дальнейшее дви-
жение сюжета и в особенности его развязка обнаруживают
в действии трагическую неподатливость этого странного характе-
ра, его неподвластность обстоятельствам, жизненному опыту,
закону рационального основания решений и поступков. Некоторая
неясность' «последних» мотивировок отречения Лизы от мира
позволяет углублять эти мотивировки за пределы всего, что
обозначено в повествовании ясно и отчетливо. Каждая из пере-
численных особенностей приближает Лизу к классическим типам
трагедийных героинь. Она уже явно из того ряда, что и
Антигона, Корделия, Химена: она наделена той же степенью
героической исключительности и окружена таким же эстетичес-
। ким ореолом.
г Но изначальный трагедийный потенциал характера Лизы
! реализуется лишь благодаря его взаимодействию с эпически
I многосложным, разветвленным движением сюжета. Если бы,
например, в это движение не вторглась линия «плутовских»
интриг Варвары Павловны, трагическая природа героини просто
не имела бы повода (да и причины) проявиться^ и притаившиеся
в глбине сюжета трагедийные коллизии не смогли бы обна-
ружиться и замкнуться.
Словом, эпическое и трагическое начало не могут обособить-
ся и отделиться друг от друга: в «Дворянском гнезде» они
развиваются лишь во взаимной связи.56 Не может выделиться,
обособиться и начало лирическое. Объективное авторское повест-
вавание временами очень близко к «лирической концентрации»
(прежде всего в ключевых моментах развития тех тем, о которых
шла речь выше). Но «сгущения» лиризма не приводят к раз-
, рыву эпической ткани повествования. Лиризм в такие моменты
объективирован тем, что точно введен в границы субъективного
кругозора героя. В пределах основного сюжета вторжениям
лирической стихии не сопутствуют резкие сдвиги в сторону
поэтической абстрактности изображения или заметная ритмиза-
ция речи повествователя. Мера условности, ее обычный «коэф-
фициент» не изменяются в «Дворянском гнезде» так круто,'как,
скажем, в романе Лермонтова или в поэме Гоголя. В повест-
вовании не очень заметны и не очень активны повторяющиеся’
мотивы, гораздо меньше, чем в «Рудине», акцентируются ас-
социативные связи между отдельными эпизодами и деталями,
способные образовать символические «сверхсмыслы». Символика
вообще не играет в рамках основного сюжета сколько-нибудь
55 Там же, с. 203—204.
56 Сказанное в равной мере относится и к отдельным чертам и элементам
трагедийной структуры и к самой эстетической стихии трагического, лишь
отчасти связанной с ними.
164
существенной роли. Только в эпилоге лиризм облекается в те
более напряженные и ощутимо условные формы, которые поз-
воляют вспомнить о символическом подтексте. Но именно вспом-
нить, не более, потому что отзвуки символических мотивов
предшествующего романа не имеют в сюжете «Дворянского
гнезда» такой внутренней опоры, которая помогла бы придать
этому сюжету двуплановость, а значит, и символический под-
текст. Перед нами, знаки высокого смысла представших чита-
телю коллизий, проблем, человеческих судеб, но смысл этот
принадлежит самим изображаемым коллизиям, проблемам, судь-
бам, а не служит указанием на какую-то перспективу, ведущую
далеко за их пределы. Глубинное содержание образов целиком
в тексте, а не «за» ним: Поэтому оно и не может принять
символических форм: символический подтекст исчезает, обора-
чиваясь в «Дворянском гнезде» глубиной текста.
В образовании этой живой взаимосвязи и взаимопереходности
различных художественных начал едва ли не решающую роль
играют характер и судьба Лаврецкого. В его лице тургеневский
роман — единственный раз на протяжении 50-х годов — допускает
в свои пределы фигуру подлинно романного героя. В числе
прочих свойств характера Лаврецкого особенно важна его при-
частность ко всем представленным в романе сферам и стихиям
жизни. Он, единственный, совмещает в себе естественный эгоизм
и высокую духовность, подвластность обстоятельствам и внут-
реннюю независимость, заурядностьх и необычность, какую-то
долю простодушия и качества мыслящего человека, жажду по-
знания, потребность высшей цели.
Открытый и доступный всему человеческому, характер Лав-
рецкого является той мерой, которой испытывается как высокое,
так и низкое. Вместе с тем этот характер оказывается точкой
встречи и взаимопроникновения жизненных полярностей, а, соот-
ветственно, и неким «средостением», объединяющим полярности
художественные, которые тоже встречаются и сливаются в нем.
Характер героя равно приобщен к эпической, трагической и ли-
рической стихиям романа, а все они как бы утрачивают в нем
свою раздельность. ___..
Это живое слияние разнородного исключает возможность еще
недавно столь естественную — универсальное содержание романа
не отделяется от эмпирической реальности характеров и сюжета.
Пример тому — фигура Лаврецкого. Рассказывая его предысто-
рию, автор сообщает, что герой наречен Федором в честь святого
мученика Феодора Стратилата (VII, 155). Детали такого рода
у Тургенева обычно' значимы. Так, по-видимому, обстоит дело
и на этот раз: некоторые моменты характеристики и судьбы
Лаврецкого сопоставимы с мотивами жития Феодора Страти-
лата и могут рассматриваться как скрытые парафразы этих
мотивов. Феодор Стратилат сравнивается с Гераклом, такое же
сравнение мелькает и в характеристике Лаврецкого («юный
165
Алкид» — VII, 171). Приглашенный принять участие в языческом
празднестве, герой жития разбивает языческих идолов. Не соот-
носятся ли с этим, по косвенной ассоциации, стихи Михалевича,
повторяемые Лаврецким («И я сжег все, чему поклонялся»)?
Стратилату помогают сострадание и молитвы Евсевии — в самой
общей форме это составляет параллель попыткам Лизы помочь
Лаврецкому и укрепить его. К Феодору, перенесшему неисчис-
лимые муки, является ангел и делает его нечувствительным
к боли. Опять-таки, если взять этот мотив в самых общих
чертах, то можно рассматривать как его реалистический парафраз
освобождение Лаврецкого от страданий после пережитого им
душевного перелома. Наконец, финалу жития, рассказу о том,
как Феодор Стратилат совершает акт самоотречения и кротко
идет навстречу смерти, соответствует еще один, тоже трансфор-
мирующий его, реалистический парафраз — умиротворенное про-
щание Лаврецкого с жизнью, светлое примирение с ее концом.
Разумеется, все эти параллели возникают лишь при том усло-
вии, что оба сюжета рассматриваются на уровне самых общих
ситуативных схем. И все-таки параллели возможны.?7
Какие дополнительные качества сообщают образу героя эти
ассоциативные параллели? Его история получает «бытийную»
масштабность и общечеловеческий смысл, герой возвышен воз-
можностью сопоставления с легендарным христианским муче-
ником. Но смысловой энергии такого сопоставления недостаточ-
но для того, чтобы в романе образовался «мистериальный»
смысловой. план. Воссозданная Тургеневым жизненная атмо-
сфера не обладает той разреженностью, а характер героя —
той «неплотностью», которые раньше позволяли такому плану
выделиться и обрисоваться. Психологический анализ (а в харак-
теристике Лаврецкого Тургенев на него не скупится) заполнил
свободные пространства, где могли бы развернуться символиче-
ские значения. Поэтому и в эпицентре романа символический
подтекст оборачивается глубинным содержанием самого текста.
Символическая стихия растворяется в нем и продолжает суще-
ствовать лишь в преобразованной форме — как энергия, пи-
тающая авторскую концепцию характеров и сюжета.
Трагическое в романе «Накануне»
Осенью 1859 г. Тургенев писал Е. Е. Ламберт: «Мне недавно
пришло в голову, что в судьбе почти каждого человека есть
что-то трагическое,— только часто-это трагическое закрыто от
самого человека пошлой поверхностью жизни. Кто останав-
ливается на поверхности (а таких много), тот часто и не подо-
зревает, что он — герой трагедии. Иная барыня жалуется на
57 Ср.: Избранные жития святых, кратко изложенные по руководству
Четких миней. VI. М., 1859, с. 52—62; а также: Безобразов П. Византий-
ские сказания. Ч. I. Рассказы о мучениках. Юрьев, 1917, с. 183—184.
166
то, что у ней желудок не варит — и сама не знает, что этими
словами она хочет сказать, что вся жизнь ее разбита... Кругом
меня все мирные, тихие существований, а как приглядишься —
трагическое виднеется в каждом, либо свое, либо наложенное
историей, развитием народа. И при том мы все осуждены на
смерть... Какого еще хотеть трагического?» (IL, III, 354). В на-
чале рассуждения звучат достаточно осторожные формулировки
(«в судьбе почти каждого», «что-то трагическое»), однако ма-
ло-помалу оговорки снимаются. Трагическим оказывается даже
самое спокойное и благополучное существование. И.когда, на-
конец, Тургенев произносит слова «мы все», становится ясно,
что трагическое видится ему в любой человеческой судьбе.
Речь идет о реальном, жизненном преломлении категории
трагического. Ио формулировка «...тот часто и не подозревает,
что он герой трагедии» заставляет предполагать, что сказан-
ное имеет какое-то отношение и к эстетическим проблемам.
В этой связи рассуждения Тургенева звучат наиболее пара-
доксально. Дело в том, что почти все классические формы
трагического искусства не предполагают возможности предста-
вить героем трагедии любого человека. У большинства клас-
сиков трагедии (будь то Эсхил или Софокл, Шекспир или Кор-
нель, Шиллер или Клейст) представление о трагическом герое
сопряжено с той или иной степенью исключительности. Траги-
ческий герой обычно выделен из общей массы людей фаталь-
ным и катастрофическим величием своей судьбы. Он выше обыч-
ных жизненных конфликтов, потому что утверждает себя, свой
принцип, свое достоинство вопреки всему миропорядку. Он выше
обычной логики человеческого поведения, потому что утверждает
себя ценой страдания и смерти. Он выше обычного противоречия
между необходимостью и свободой, потому что губящий его
неотвратимый рок осуществляется только благодаря его свобод-
ному выбору и свободному действию. Наконец, он выше обыч-
ных мерок оптимистической или пессимистической оценки, пото-
му что его фактическое поражение означает его духовное тор-
жество и наоборот.
Мы имели возможность убедиться, что в романах «Рудин»
и «Дворянское гнездо» именно такое представление о траги-
ческом герое служило Тургеневу важнейшим ориентиром. Затем
в сознании писателя очевидно начинает складываться какое-то
иное понимание природы трагического. Оно гораздо ближе к
«не магистральной» традиции, которая обычно давала о себе
знать в периоды кризисов трагедийного жанра. Традиция эта,
представленная трагедиями Сенеки, Грифиуса, Кальдерона, мно-
гими образцами романтической «трагедии рока» (трагедией ее
родоначальника Вернера прежде всего), связана с глубокими
трансформациями классической жанровой структуры. В траге-
диях этого рода исключительность героя не имеет существенного
значения. Развитие трагедийного действия осуществляется здесь,
167
как правило, силами, стоящими над человеком, а герой (неза-
висимо от меры его незаурядности) оказывается всего лишь
объектом воздействия таких сил. Неудивительно, что на опре-
деленных стадиях развития этой традиции (у того же Вернера,
например)58 героями трагедии могут стать вполне зауряд-
ные люди, оказавшиеся невольными орудиями или жертвами
судьбы.
Реализм XIX в., открывший возможности для многообразных
переходов трагического в романную форму, еще дальше отошел
от «классической» установки на непременную связь трагического
с исключительным. Выше уже говорилось, что в романах Стен-
даля, Бальзака, Флобера трагическое противоречие может обо-
значиться в любой точке художественной структуры и вне всякой
связи с традиционными формами ее воплощения, сложившимися
в рамках трагедийного жанра. Трагическое вторгается в обыден-
ный сюжет, в обыкновенный, даже «обывательский» по своей
изначальной сущности характер. «В- произведениях... западных
реалистов носителем трагического становится, по существу,
каждое подлинно человеческое чувство»,— справедливо замечает
М. С. Кургинян.59
И все-таки даже на этом фоне новая тургеневская концепция
трагического выглядит' необычно. Ведь и в рамках тех форм,
где незаурядность трагических характеров не имела существен-
ного значения, и даже там, где трагические характеры вообще
отсутствовали, элемент исключительности тем не менее сохранял-
ся. Он воплощался в трагической ситуации, возникавшей в тот
или иной момент действия,— ситуации всегда катастрофической,
гибельной, демонстрирующей страшные удары рока. Тургенев
же усмотрел трагическое в глубине мирного, тихого, благо-
получно-пошлого существования.
Письмо Тургенева к Е. Е. Ламберт датировано 14 октября
1859 г. Это значит, что он записывал свои размышления о сущ-
ности трагического как раз в те дни, когда работал над пос-
ледними главами «Накануне».60 Невольно напрашивается пред-
положение о том, что размышления эти могли иметь какое-
то отношение к содержанию заключительной части нового ро-
мана.
58 О восприятии немецкой романтической «трагедии рока» в России второй
половины 1830-х годов (т. е. в пору, когда начиналась творческая деятель-
ность Тургенева) см.: Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М., 1976,
с. 293—297.
59 Кургинян М. С. Указ. ст.— В кн.: Литература и новый человек.
М., 1963, с. 346.
60 В письме Н. А. Ооновскому 5 октября Тургенев пишет, что «занят
окончанием» своей «повести», а в письме А. А. КраевСкому 20 октября сооб-
щает, что ее окончил (П., III, 346, 354). В черновом автографе дата окончания
романа обозначена несколько иначе—25 октября 1859 г.
168
В последних главах романа «Накануне» едва ли не любой
читатель замечает перелом, резко изменяющий восприятие
и оценку изображаемого. Если ориентироваться на очевидное
содержание большинства предшествующих глав (скажем,
до XXXIII), то перед нами типичный для середины XIX в.
тенденциозно-злободневный социальный роман. Во французской
литературе подобный тип романа стал в ту пору уже достоточно
привычным. В русской литературе он был еще новым, но быстро
входил в Литературный обиход. На фоне последующего лите-
ратурного развития социальный сюжет «Накануне» легко может
быть воспринят как историческое звено, непосредственно пред-
шествующее роману Чернышевского «Что делать?». Некоторые
исследователи вплотную подходят к такому именно выводу.61
Для такого вывода есть серьезные основания. В основных
главах своего романа Тургенев рассказывает о том, как моло-
дая русская девушка ищет высокий и действенный обществен-
ный идеал, ищет человека, способного указать ей путь к этому
идеалу. Ищет и, наконец, находит. Героиня уже реально вступает
на путь «деятельного добра», на путь борьбы за свободу и со-
циальную справедливость. Но в этот момент умирает Инсаров,
и сразу же меняется оценка такой желанной и так удачно,
казалось бы, найденной жизненной задачи. «Там готовится вос-
стание, собираются на войну: я пойду в сестры милосердия;
буду ходить за больными, ранеными... Вероятно, я всего этого
не перенесу — тем лучше. Я приведена на край бездны и должна
упасть. Нас судьба соединила недаром: кто знает, может быть,
я его убила; теперь его очередь увлечь меня за собою. Я
искала счастья — и найду, быть может, смерть. Видно, так сле-
довало; видно, была вина... Но смерть все прикрывает й прими-
ряет,— не правда ли? (VIII,165). J
Елена не сворачивает с избранного пути. Но участие в
борьбе за освобождение Болгарии приобретает для нее иной
смысл. Важнее всего здесь, вероятно, то, что смерть Инсарова
тургеневская героиня воспринимает как возмездие за какую-то
непостижимую, но совершенно несомненную для нее вину. И свой
собственный предстоящий подвиг Елена оценивает теперь уже
не как осуществление идеала, нё'^как ’ достижение желанной
цели, а как- искупительную жертвуй как расплату за эту же
тяготеющую над ней непостижимую вину.
Перелом, о котором идет речь, подготавливается и назревает
постепенно. Однако именно в эпилоге он становится очевид-
ным — настолько очевидным, что его поневоле замечают даже
те читатели и критики, для которых идейный смысл «Накануне»
61 См., например: Лотман Л. М. Указ, соч., с. 70, 86—87.
169
полностью сводится к социально-политической «злобе дня».
Не заметить этот перелом тем труднее, что сразу же вслед
за цитированным письмом Елены в повествование входят автор-
ские размышления, вынуждающие читателя переосмыслить и пе-
реоценить всю конкретную проблематику социального выбора,62
развернутую в предшествующих-главах^ «Как бы то ни было,
след Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает,
жива ли она еще... или уже кончилась маленькая игра жизни,
кончилось ее легкое брожение и настала очередь смерти.
Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом спра-
шивает себя: неужели мне уже тридцать ... сорок ... пятьдесят
лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так
близко надвинулась? Смерть, как рыбак, который поймал рыбу
в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает,
но сеть на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет» (VIII,
166).
Перед лицом этой извечной, для всех и всегда одинаковой
ситуации во многом теряют свое первоначальное значение те
различия, которые в предшествующих главах воспринимались
как решающие. На фоне этих предельных обобщений так ли
уж существенна разница между деянием и.умозрением, эгоизмом
и альтруизмом, между той или иной жизненной программой?
Не все ли _равно,. какую именно форму примет эта «маленькая
иТра»7 это «легкое брожение», которое и есть жизнь? На первый
взгляд может' показаться, что вторжение трагической пробле-
матики взрывает всю возведенную Тургеневым конструкцию со-
циального романа.
При внимательном рассмотрении это впечатление рас-
сеивается. Становится ясно, что прежняя проблематика не отме-
няется новой. Просто она актуализируется в другом направлении:
те или иные формы, облекающие «маленькую игру» челове-
ческой жизни, оказываются теперь важными уже не столько
объективной (т. е. эпохальной, общественной) своей значимостью,
сколько значением, которое они имеют для самого человека,
ведущего эту «маленькую игру». Важно то, наполняют ли они
существование человека необходимым для него смыслом.
Впрочем, как бы мы ни толковали характер и смысл совер-
шившегося сдвига, сам он не подлежит никакому сомнению.
Сдвиг этот наглядно обнаруживает внутреннюю неоднородность
сюжетной структуры «Накануне» и прежде всего — сложность
и напряженность взаимоотношений между тем, что можно, по-ви-'
димому, назвать трагической темой,63 и другими элементами
62 «Елена поставлена перед необходимостью выбора между Инсаровым,
Берсеневым и Шубиным. Это как бы молодая Россия с ее жаждой деятельного
добра и ее герои —люди искусства, отвлеченной науки и гражданского под-
вига. Выбор Елены решает вопрос о том, кто более нужен России» (Вя-
лый Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л., 1962, с. 115).
63 Понятие «трагическая тема» употребляется по аналогии с такими тер-
минами, как «музыкальная тема», «лирическая тема» и т. п. При всей услов-
170
сюжета. Судя по всему, трагическая тема входит в тургеневский
романный сюжет как начало инородное или, точнее, «инокачест-
венное».
* *
*
О появлении трагической темы сразу же сигнализирует на-
рушение внутреннего равновесия сюжетной структуры. Наиболее
явно нарушается равновесие между действием и психологической
интроспекцией, обычно очень важное для тургеневских сюжетов.
Как правило, Тургенев находит и поддерживает такое равнове-
сие: событийная динамика и динамика психологическая взаимно
проясняют и «завершают» друг друга, но так, что крайне редко
возникает-ситуация их расхождения, когда внутри одной из этих
сфер открывается содержание, которое не могло бы раскрыться
в другой. В тех случаях, когда психологический анализ всё-
таки обнаруживает подспудное содержание душевной жизни,
никак не проявившееся в действии, несовпадение двух «измере-
ний» оказывается временным: через один — два — три сюжетных
хода скрытый потенциал реализуется в осязаемых проявлениях
и равновесие восстанавливается.64
Наиболее последовательно этот закон осуществляется в ро-
мане «Рудин». В «Дворянском гнезде» его действие несколько
ослаблено эпической «экстенсивностью» сюжета, появлением
в психологических характеристиках и в аналитическом ком-
ментарии автора некоторого (опять-таки чисто эпического) избыт-
ка, не полностью реализуемого в действии. В романе «Накануне»
обычное равновесие нарушено уже достаточно осязаемо. Проис-
ходит это в V — XVIII главах, в той стадии, когда подготав-
ливаются, завязываются и развиваются отношения между Еле-
ной и Инсаровым.
Прежде всего бросается в глаза появление необычайно мощ-
ных для тургеневского романа пластов прямого психологического
анализа. Сначала (в VI главе) идет"^обобщённая" характе-
ристика героини. По типу она похожа на. характеристику Лизы
Калйтиной в XXXI главе «Дворянского гнезда», но оказывается
намного более развернутой, дифференцированной, аналитичной
и, если можно так выразиться, более «массированной». Очень
редко у Тургенева первоначальная характеристика героини охва-
тывает ее психологию так широко и основательно и так глубоко
ности подобного наименования оно представляется в данном случае необходи-
мым и оправданным, поскольку отражает особый характер развития трагиче-
ского начала внутри романного сюжета.
64 Перед сценой у Авдюхина пруда Рудин держится решительно и твердо,
но «втайне» (очевидно и для самого себя) смущен и растерян. Казалось бы,
возникает почти «толстовская» ситуация резкого расхождения между «внеш-
ним» и «внутренним». Однако эта ситуация тут же по-тургеневски снимается
последующей сценой, где смущение и растерянность Рудина прорываются в его
словах и поступках.
171
проникает при этом в сущность характера. Позже (в XVI главе)
вводится дневник Елены, где перед читателем вторично прохо-
дят уже известные ему из предшествующих глав события, но
теперь отраженные в сознании героини, и у читателя появляется
возможность проникнуть в скрытую внутреннюю жизнь этого
сознания. На фоне более ранних романов Тургенева такой сюжет-
ный ход выглядит приемом экстраординарным и свидетельствует
о беспрецедентном усилении психологической интроспекции.
Но главное — изменяется традиционное для тургеневского ро-
мана смысловое соотношение между динамикой событийной и ди-
намикой психологической. Если оставаться в пределах того, что
обнаруживается динамикой событийного ряда (эпизодами, сце-
нами и т. п.), то перед нами движение, в определенном аспекте
легко сводимое к взаимодействию двух противоположных тен-
денций. По мере развития сюжета все отчетливее вырисовываются
различия между персонажами, устанавливается определенная
иерархия их характеров, целей, идеалов, судеб. Но одновремен-
но в глубине этих различий проступают черты родства, в чем-
то сближающие эти разные и неравноценные характеры, цели,
идеалы, судьбы. Проступают контуры исторической общности,
определяющей принадлежность несходных, порой даже враждеб-
ных друг другу людей к одному поколению и к одному времени.65
Динамика социально-исторического сюжета (в этой стадии имен-
но она развертывается в русле событийного ряда) и «разводит»
персонажей (по разным общественным группам, нравствен-
но-психологическим разрядам, по разным ступеням устанав-
ливаемой автором человеческой иерархии), и тут же «сводит»,
связывает их вместе, включая в противоречивое единство эпохи.
В пределах поля зрения, открытого динамикой событий, может
сложиться впечатление, что стремления Елены — это высшая
степень развития тех потребностей, которые испытывает на поро-
ге новых времен все русское общество, Разница лишь в том,
что люди, подобные Берсеневу или Шубину, останавливаются
на полдороге, удовлетворяются ограниченными компромиссными
решениями, Елена же оказывается наиболее последовательной.
Такое впечатление складывается не без оснований. Однако пси-
хологическая интроспекция открывает и нечто иное. Не отбра-
сывая очевидное содержание злободневного социально-истори-
ческого сюжета, она обнаруживает «под» ним глубинный, мета-
физический смысл.
В некоторые моменты подобная диалектика раскрывается
с полной очевидностью. Елена жаждет деятельного добра. Но
при этом (до самой встречи с Инсаровым) она никого не любит
и, как выясняется, никого не может любить. Елена способна
полюбить только достойное, но при ее безжалостной требователь-
65 Черты исторической общности, сближающей Елену с Берсеневым, Шу-
биным и даже с Курнатовским, внимательно изучены Л. М. Лотман (Л о т-
м а н Л. М. Указ, соч., с. 74—85).
172
ности ничто в окружающем мире не может оказаться таковым.
Даже влечение к нищей девочке Кате не имеет почти ничего
общего с любовью: тут гораздо больше «тайного уважения»,
страха и благоговейного восторга перед существом, способным
достичь абсолютной свободы. Так возникает загадка безлюбов-
ного, в сущности даже недоброго, стремления к добру: И по
мере того как психологический анализ'углубляется в скрытую
сущность побуждений героини, выясняется, что источником их
является особый род нетерпимости.
Для Елены одинаково нестерпимы и нищета, и болезни, и
увечья, и самые различные проявления лжи, глупости или сла-
бости, и естественная непоследовательность человеческих чувств
и человеческого поведения. Говоря обобщенно, для нее невы-
носимы любые противоречия — социальные, естественные, духов-
ные. Невозможно для нее и другое — какое-то чисто духовное
разрешение жизненных противоречий (жалостью, состраданием,
каким-либо возвышением над ними в сознании). В таком отно-
шении легко распознать бескопромиссную непримиримость тра-
гического геро^, перерастающую в отталкивание от всего окру-
жающего мира? Чем отчетливее обозначается особый характер
этой изначальной, едва ли не врожденной непримиримости, тем
яснее метафизический смысл, притаившийся в глубине стремления
к «деятельному добру». Там, в глубине, отчетливо ощущается
порыв за пределы всего, что есть, что дано, что известно.
Здесь таится и метафизическая жажда абсолютной свобо-
ды, и метафизическая тоска по идеалу какого-то «иного» бытия,
и метафизическая неудовлетворенность отсутствием высшего
смысла в своем существовании. «Ее душа и разгоралась и пога-
сала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не
было: никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рва-
лась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже
боялась самой себя» (VIII, 35).
И тут же, рядом со всем этим открывается настоящая жаждал
любви, которая никак не находит выхода и осуществления.'
В этом противоречии тоже ощущается какая-то иррациональ-
ная глубина, какая-то тайна, смутный намек на коллизию мета-
физического порядка. Подобные ощущения создают особую
атмосферу присутствия трагического.
Она создается тончайшими обертонами, сопутствующими ос-
новным тонам характеристики. Смутные намеки на какую-то
не выразимую в обычных’ категориях тайну, вплетаются уже
в портретную характеристику Елены («...что-то нервическое,
электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом что-то
такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало
иных»—VIII—32). Нечто подобное — в конце главы («...но вне-
запно что-то сильное, безымянное, с чем она совладать не умела,
так и закипало в ней, так и просилось вырваться наружу» —
VIII, 35). Загадочно-неопределенные поэтические намеки словно
173
обрамляют характеристику. И, вероятно, они могли бы остаться
одной из форм сдержанно-незавершенного психологического ана-
лиза, если бы не их отзвуки в деталях характеристики, возни-
кающие здесь и там, вступающие в ассоциативное взаимопритя-
жение, вторящие друг другу и друг друга поддерживающие.
Мотив трагической тайны не акцентируется в каждой отдельной
точке, где он мелькает, но выделяется настойчивостью повторе-
ния в разных контекстах и в таком повторении набирает семанти-
ческую многозначность. Не случайно его развитие обретает
естественное завершение в символике. «Гроза проходила, опуска-
лись усталые, не взлетевшие крылья, но эти порывы не обходи-
лись ей даром» (VIII, 35). Образы грозы и крылатой птицы —
излюбленные тургеневские символы, всегда заряженные универ-
сальными лирико-философскими «сверхсмыслами», как бы вен-
чают характеристику, явно выводя за пределы психологии. Но
этот сдвиг сигнализирует о том, что, в сущности, уже произошло:
характеристика, казалось бы, призванная объяснить героиню, все
время перерастала самое себя, обнаруживая таинственное и
необъяснимое.
Появление трагической темы, первые же ее «аккорды» рез-
ко осложняют оценку непонятных для окружающих порывов
Елены, а вместе с тем — всей ее личности и судьбы. Выясняется
уникальная исключительность того, что представлялось только
элементом общего ряда. «(.Ей приходило в голову, что она
желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит
в целой России» Цтам же),— это самоощущение героини под-
креплено всем содержанием ее психологической характеристики,
да й в неменьшей степени содержанием ее дневника.
«Дополнительный» метафизический смысл долго присутствует
в сюжетном действии подспудно, выявляемый только психоло-
гическим анализом (чем, по-видимому, и объясняется резкое
усиление его значимости в VI—XVIII главах). Этот смысл кроется
в подтексте таких решающих сюжетных поворотов, как пред-
почтение, оказанное Еленой Инсарову, человеку, который «не мог
бы быть русским», или отъезд Елены в Болгарию, означающий
ее разрыв с родиной. И только в стадии развязки, накануне
и сразу же после смерти Инсарова (т. е. в момент, когда сюжетное
напряжение достигает предела), метафизическое содержание про-
рывается наружу и властно определяет читательское восприятие
эпилога.
/ Перед читателем — отчетливо обрисованное одиночество тра-
гической героини, никем не поддержанной, опирающейся только
на самое себя и не имеющей при этом никакой надежды (потому
что гибельное свое самопожертвование Елена не связывает с иде-
ей духовного спасения). В момент, -когда героиня принимает
свое последнее решение, Россия перестает для нее существовать:
«А вернуться в Россию —зачем? Что делать в России?» (VIII,
165). Но и единственной связью с Болгарией оказывается чувство
174
к мертвому уже Инсарову: Болгария все-таки не стала «моей»
родиной, борьба за ее освобождение — «моим» делом. Закончены
и исчерпаны отношения со всеми близкими людьми. Прекра-
щается и напряженный диалог с богом, который постоянно
вела героиня: Елена больше не укоряет и не вопрошает Дкак
было прежде), но и молитва для нее тоже невозможна. Все
прежние связи с миром, в сущности, порываются. «Запредельней»
порыв достигает наивысшего напряжения: последнее жертвен-
ное решение Елены выводит ее уже за грань жизни вообще.
* *
*
Но именно в этой стадии развития сюжета, когда ощущение
исключительности, отделяющее Елену от всех прочих персона-
жей, достигает апогея, начинают во всю ♦ мощь звучать уни-
версальные обобщения, которые уравнивают (и тем объединяет)
героиню"с любым другим человек^ был. И при-
водит к этому повороту движение трагической темы, прежде
всего — эволюция мотива трагической вины, который то появ-
ляется, то исчезает, то вновь напоминает о себе — и так на
протяжении большей части романа.
Мотив этот первоначально скрыт под. оболочкой нравствен-
ной проблематики. В такой форме появляется он на. страницах
дневника героини, когда Елена признает греховность своего рав-
нодушия к.родителям, невольную жестокость своего отношения
к Шубину й Берсеневу и, наконец, несправедливость своей бес-
пощадной требовательности ко всем окружающим. Но сознание
вины остается абстрактным, оно не оборачивается муками совести
или потребностью искупления и вообще не вызывает в душе
Елены сколько-нибудь сильного эмоционального отклика, если
не считать ощущения возникших противоречий, для Елены всегда
тягостного.
В какой-то не совсем ясной связи с этим ощущением появ-
ляется стремление к состоянию, освобождающему от всякрй
нравственной ответственности: «Кто отдался весь..*весь...весь...
тому горя мало, тот уже ? ни за что не отвечает. Не я хочу:
то хочет» (VIII, 83). Но внезапно обретенное счастье впервые
рождает действительное Чувство вины: сначала как смутное
ощущение («Анна Васильевна вошла: что-то кольнуло Елену»—
VIII, 96), потом как цепь уже вполне ясных и мучительных
переживаний («Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном
не казалось ей все окружающее: оно как кошмар давило ей
грудь неподвижным, мертвенным бременем; оно как будто и упре-
кало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело... Ей стано-
вилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки
мой дом,— думала она,— моя семья, моя родина...»—VIII,102) j
И наконец, когда счастье оказывается под угрозой, чувство
175
вины превращается в проблему, над которой напряженно рабо-
тает сознание.
Характерно, что мысль о вине и возмездии приходит сразу
и к Елене, и к^Йнсарюву, которому, казалось бы, должны быть
чужды подобные вопросы. Перерастая границы одного сознания,
варьируясь и выступая в разных субъективных преломлениях,
мотив становится таким образом именно мотивом в собственном
смысле этого слова. И сразу же появляется намек на его
«сверхморальную» природу. Герои пытаются проверить свои инту-
итивные догадки о постигшем их наказании (так воспринимают
они болезнь Инсарова), прилагая к ситуации нравственные кри-
терии. И оказывается, что с точки зрения этих критериев им
не за что быть наказанными: «Какой долг я преступила, против
чего согрешила я? Может быть, совесть у меня не такая, как
у других, но она молчала... Мы пойдем вместе, я пойду за тобой...
Это мой долг. Я тебя люблю... другого долга я не знаю»
(VIII, 128).
Проблема вины, которую ощущают герои, оказывается за
гранью вопросов совести. На какое-то время это ее снимает.
Но в XXXIII («венецианской») главе «Накануне» она возвра-
щается вновь. Теперь она разрастается в целый комплекс воп-
росов. Елена вновь пытается решить их, опираясь на критерии
нравственной вины и нравственной ответственности: она ста-
рается уловить в ходе событий связь между грехом ^ заслужен-
ной карой. Связь эта как^ будто бы находится./Страдания
начинают казаться возмездием за сверхчеловеческое, божест-
венное наслаждение, на которое люди не имеют права: «Ей
стало страшно своего счастия. «А если этого нельзя?— подумала
она.— Если это не дается даром?...») (VIII, 156—157). Но коль
скоро речь идет о заслуженной каре; то оказывается естествен-
ной апелляция к иным, искупающим вину заслугам: «О темный
призрак, удались! Не для меня одной нужна его, жизнь!» (там
же). Но тут же встает другой вопрос, разрушающий всю оправда-
тельную аргументацию: /«А горе бедной, одинокой матери?»—
спросила она себя и сама смутилась и не нашла возражений
на свой вопрос» (там же).
Этот внезапный поворот, соизмеряющий громадное дело осво-
бождения целой страны с горестями единственного человеческого
сущёства, как бы предвосхищает нравственную проблематику
Достоевского. Здесь уже таятся предпосылки рокового вопроса
о том, может ли счастье всего человечества искупить слезинку
замученного ребенка. Однако вопрос этот у Тургенева даже не
развернут. Он, скорее, гасит своей очевидной неразрешимостью
возможность дальнейших рассуждений в русле нравственных
проблем. Все проблемы такого рода, наталкиваясь друг на
друга в сознании Елены, образуют безвыходный круг.
Выход открывает прямое авторское вмешательство, как бы
возносящее читателя на иной уровень постижения истины. Автор
176
снимав неразрешимые для сознания героини, от-
крывая за ними противоречия более глубокие и универсальные,
лежащие, в сущности, уже «по ту сторону» добра и зла.
«Елена не знала, что счастие каждого человека основано на
несчастии другого, что даже его выгода и удобство требуют,
как статуя — пьедестала, невыгоды и неудобства других»\ (там
же). Здесь уже отчетливо звучит мысль о том, что Елена/вино-
вата без вины или, вернее,— внеличной, всечеловеческой виною/
Чуть позже мысль эта предельно расширяется: «Каждый из
нас виноват уже тем, что живет, и нет такого великого мысли-
теля, нет такого благодетеля человечества, который в силу поль-
зы, им приносимой, мог бы надеяться на то, что имеет право
жить...»/(УШ, 164). Всеобщая трагическая вина кроется в самом
факте существования отдельного человеческого «я»: любое стра-
дание, любой переход от счастья к несчастью, любая человеческая
смерть могут быть поняты как законное возмездие за эту вину.)
Этот поворот не ставит под сомнение нравственный пафос,
который так явственно сказывается в жертвенном решении Елены,
но придает ему более глубокий смысл. Нравственные категории —
собственно человеческие. Между тем решение Елены объективно
имеет прямое отношение к мировым, надчеловеческим законам.
Выходит так, что человек по своей воле включается в мировую
связь, не имеющую ничего общего с его волей.
Таков итог, венчающий развитие трагической темы, такова
внутренняя диалектика, ведущая читателя через возрастающее
ощущение исключительности (которое выделяет судьбу Елены
из ряда прочих) к открытию общего закона, лежащего в основа-
нии каждой судьбы. Исключительность Елены долгое время
выражается в ее непосредственной причастности к вечным мета-
физическим коллизиям бытия. Ко всем остальным эти коллизии
как будто не имеют отношения: остальные «ниже» того уровня,
на котором эти коллизии дают себя знать. Но все глубже
и глубже проникая в сущность таких коллизий, развитие тра-
гической темы в конце концов «упирается» в универсальную
первооснову жизни. И вот тогда-то обнаруживается трагическое
содержание, которое может быть спроецировано на всех персо-
нажей, не исключая самых пошлых и ничтожных.66
66 Развитие трагической темы дублируется — в сокращенном и концен-
трированном виде — развитием «аккомпанирующих» ей поэтических мотивов.
Приведем один характерный пример. В разговоре Шубина с Уваром Иванови-
чем (вечером того дня, когда становится известным замужество Елены) мель-
кает выразительное сравнение: «Нет, кабы были между нами путные люди,
не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как
рыба в воду» (VIII, 142). А в эпилоге это сравнение развертывается в целост-
ный мотив, несущий иное содержание: «Смерть, как рыбак, который поймал
рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба... плавает, но сеть
на ней, и рыбак выхватит ее — когда захочет» (VIII, 10). В движении мал
лой поэтической «темы» почти зеркально отражается диалектика большой:
от ощущения героической исключительности Елены к пониманию равенства
всех перед извечной властью смерти и судьбы.
7 В. М. Маркович <177
* *
Так вырисовывается представление о вездесущем и всеохва-
тывающем трагизме человеческого существования, очень близкое
к тому, которое прорвалось в письме к Ламберт. Роман не только
проясняет несколько загадочные фразы письма, но и претворя-
ет их в полноценную, развивающуюся художественную идею.
На той высоте философско-эстетического созерцания, которая
достигнута в финале романа, действительно появляется возмож-
ность признать, что каждый человек — герой трагедии.
Финальные авторсШГ^ормул^Шакануне», отрицающие за-
конность прав отдельной личности на жизнь и счастье (и тем
самым как будто бы пресекающие возможность ропота против
равнодушного к человеку естественного миропорядка), звучат
в особом, отчужденно-объективном, торжественном «регистре»,
резко отграниченном от почти любой разновидности субъективно-
личного тона. Эта очень редкая в тургеневском романе стилисти-
ческая тональность напоминает кульминационные лирико-фило-
софские аккорды «Поездки. в Полесье», опубликованной в
1857 г. В таком же тоне торжественного отрешенно-объективного
откровения звучат там финальные рассуждения рассказчика,
которому вдруг удалось’разгадать главную загадку природы,
уяснить ее «несомненный и явный, хотя и для многих таинствен-
ный смысл» (VII, 69). Природа неуклонно поддерживает общее
равновесие жизни, она дает место всему согласному с ним
и враждебна всему, чем это равновесие нарушается. Именно
в такой мере она дружественна или враждебна человеку, именно
в такой мере карает его обособленность и неповторимость, отвер-
гает его притязания на свободный выбор, его потребность удер-
живать и увековечивать все ценное для него. В единой связи
всеобщего равновесия находят оправдание любые человеческие
беды и несчастья: они представляются необходимым его условием.
Так намечается представление о трагической гармонии, осу-'
ществляющейся через нарушение и восстановление мирового
единства. Самый факт отдельного существования человеческой
личности (даже независимо от ее претензий) получает смысл
вины, требующей искупления и Искупаемой несчастьями, болезня-
ми, смертью. Но все это может быть воспринято как гармония
лишь с высот безличной космической правды Целого. Человек,
поднявшийся в сознании на такую высоту, в сущности, перестает
быть индивидуумом: об этом ощутимо свидетельствует не только
смысл, но и самый тон рассуждений подобного рода. Неудивитель-
но, что Тургенев, превыше всего дороживший неповторимой чело-
веческой индивидуальностью, не смог отдаться космической
правде безусловно и вполне.
Жанровая форма лирико-философской повести позволяла кос-
мической правде войти в смысловой строй произведения на
178
правах ощущения повествователя, на правах необходимого ему
духовного состояния и тем самым открывала возможность при-
ближения к трагической гармонии. Финальные космические ак-
корды оказались высшей (хотя и не завершающей) смысловой
инстанцией’ «Поездки в Полесье». В романе пафос безличной
правды мирового единства слышится в словах автора о траги-
ческой вине существования или о том, что права жить, в сущ-
ности, нет ни у кого. Но эта правда не становится высшей истиной
В движении повествования она перекрывается другой правдой:
идут авторские рассуждения о «маленькой игре жизни», о смерти,
поймавшей в свои сети каждого живущего. Стилевая тональность
здесь уже несколько иная: сквозь отрешенно-объективное зву-
чание универсальных откровений едва заметно пробивается при-
звук субъективного лиризма. И «отсчет» теперь ведется «от
человека», который, «просыпаясь,, с невольным испугом спраши-
вает себя: неужели мне уже тридцать ... сорок... пятьдесят лет?
Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так близко
надвинулась?» Поэтому трагическая логика Целого не может
ощущаться как гармоническая. Соседство двух противоположных
позиций оборачивается непримиренным противоречием двух «рав-\
незаконных» правд — вселенской и личностной (т. е. опять-таки
трагической коллизией). Если она и преодолевается, то не нрав-
ственным, религиозным или философским разрешением, а в соб- :
ственно эстетической форме — внутренним равновесием романной ’
структуры.
На фоне этого «антиномического» итога, катастрофа, постиг-
шая Елену, вновь получает традиционный для трагического искус
ства смысл. Она может быть воспринята как возмездие за
попытку обрести гармонию в дисгармоническом и даже, может
быть, вовсе исключающем всякую реальную гармонию мире.
Говоря иначе, за попытку в одиночку и «для себя» разрешить
задачу общемирового значения. Это уже характерное для клас-
сических форм понимание вины трагического героя. И столь
же классическое осмысление его гибели — как расплаты за пре-
вышение пределов человеческой компетенции. Возможные интер-
претации как бы накладываются друг на друга: исключительное
переходит в универсальное, универсальное вновь приводит к
исключительному, и в этой подвижной, парадоксальной диалек-
тике смыслов дерзновенно-героическая попытка взять на себя
«слишком много» предстает, в конце концов, частным случаем
«безвинной» вины всех и каждого.
* *
*
Тому, что обнажившийся в развязке трагический смысл про-
ецируется на всех персонажей романа, способствует и компо-
зиционное (финальное) положение прозвучавших здесь обоб-
7* 179
щений. Их «завершающая» роль обоснована также их связью
с проблематикой известного спора между Шубиным и Берсеневым
в первой главе. Спор этот, как давно уже замечено, выполняет
функцию философской увертюры романа: все действие разверты-
вается на фоне вопросов, поставленных первым диалогом (о дра-
матизме отношений человека с обществом и природой, о «страш-
ных», «недоступных тайнах» бытия), и прямо или косвенно соот-
' несено с ними.67 Финальные обобщения включаются в это соот-
несение и как бы венчают его.
Но хотя логически, в принципе, трагические формулы финала
относятся, скажем, и к родителям Елены, воспринять последних
< как героев трагедии все-таки нелегко. И уже просто невозможно
прямо связать трагическую философию, прозвучавшую в эпилоге,
с тут же звучащим рассказом о том, как благоденствуют в
счастливом супружестве Курнатовский и Зоя. А ведь логически
такая «операция» должна быть вполне правомерной
Это значит, что некоторое расхождение между трагической
темой и остальными элементами сюжета сохраняется до самого
конца. Трагическая тема , проходит через роман на правах свое-
образного, «второго сюжета». Понятие это уже использовалось
в первой главе настоящей работы. Вернемся к нему еще раз.
Понятие «второй сюжет», как уже сказано, было введено
в работах Н. Я. 1^рко^ годов для характеристики
некоторых важнейших особенностей западноевропейского просве-
тительского романа XVIII в. Появление «второго сюжета» именно
в просветительском романе было процессом глубоко закономер-
ным. «Именно с века Просвещения,— отмечает Г Д. Гачев,—
перед литературой встает задача постижения скрытой, невыяв-
ленной сущности движущейся жизни, которая играет для судеб
человека и человечества большую роль, чем его наличное состоя-
ние.68 Задача эта становится значительно более острой в эпоху
становления реализма XIX столетия и, вероятно, достигает макси-
мальной остроты в пору формирования русского реалистического
романа.
В эпоху натуральной школы 1840-годов «второй сюжет» ис-
чезает: он не нужен реализму этих лет, исключившему из своего
кругозора «высшие» реальности. Первый после исторического пе-
рерыва намек на возрождение. «второго сюжета» ощущается
в тургеневском «Рудине». И вот в романе «Накануне» «второй
сюжет» становится одним.<з основных компонентов структуры.
Даже беглое сравнение с более рТннйми ^проявлениями
той же особенности заставляет почувствовать протяженность
уже пройденного литературой исторического пути и своеобразие
67 Таким образом вновь дает о себе знать традиционный структурно-
смысловой принцип, характерный для диалогического конфликта.
68 Гачев Г Д. Развитие образного сознания в литературе.— В кн.
"юрия литературы: Основные проблемы в историческдм освещении: Образ,
'д, характер. М.; Л., 1962, с. 233.
творческой индивидуальности Тургенева. Соотношение трагиче-
ской темы и злободневного социально-исторического сюжета «На-
кануне» в принципе напоминает сложившееся еще в просвети-
тельских романах параллельное сосуществование эмпирической
и метафизической истин, которое в финале оборачивается
активным вторжением метафизической истины в динамику факти-
ческого сюжета. Но многое существенно изменилось, начиная
с самой метафизической истины, отдалившейся от просветитель-
ского рационалистического оптимизма, вобравшей в себя богатей-
ший эстетико-философский опыт романтизма и принявший форму
трагической.концепции бытия. В то же время ее связь с эмпири-
ческим сюжетом стала значительно более тесной и органичной,
чем в просветительской литературе и на предшествующих стадиях
развития реализма.
Истина универсального трагизма человеческой жизни открыта
в романе «Накануне» только авторскому сознанию. Героиня
так и не поймет, в чем заключается сущность ее непостижимой
для ума и совести таинственной вины. Однако философские
размышления автора об этой проблеме звучат как комментарий,
поясняющий состояние Елены: «В ее душе не было упреков;
она не дерзала вопрошать бога, зачем не пощадил, не пожалел,
не сберег, зачем наказал свыше вины, если и была вина?
Каждый из нас виноват уже тем, что живет...» (VIII, 164).
Таково же, в сущности, соотношение между авторской филосо-
фией и жертвенным решением Елены. Не возвышаясь до понима-
ния своей трагической вины, героиня решает искупить ее соб-
ственной гибелью, т. е. поступает именно так, как постудила бы,
если бы все ясно понимала. Дистанция между автором и герои-
ней, ' таким образом,’ ^есть, ’ но дистанция эта не абсолютная.
Важной особенностью романа являются комические, иногда
почти пародийные преломления некоторых трагических мотивов
в «низших» пластах сюжетной структуры. В развитии главной
сюжетной линии отчетливо прослеживается присутствие траги-
ческой иронии. Катастрофа обрушивается на Елену в тот самый
момент, когда ей удается гармонически соединить в своей жизни
все необходимое. При этом судьба_как бы ловит ее на слове.
В дневнике героини есть запоминающаяся запись: «Ах, я чувст-
вую, человеку нужно несчастье... или ... болезнь, а то как раз
зазнаешься» (VIII,.81). Елена готова «зазнаться»: ей кажется,
что она разрешила загадку гармонии между личностью и ми-
ром— тут-то и настигают ее болезнь Инсарова и несчастье.
Нечто подобное можно обнаружить и в развитии линий Шубина
или Берсенева: обоих «насмешливое коварство случая» (Шопен-
гауэр) тоже ловит на слове. «Язычнику»-гедонисту Шубину,
провозглашающему: «Мы завоюем себе счастье!» (VIII, 14),
жизнь посылает все, что угодно, кроме счастья, _ для которого
он, казалось бы, создан. «Жертвенника» Берсенева, объявлющего
священной обязанностью человека «поставить себя нумером вто-
181
рым» и связывающего с этим надежду на безусловное нравст-
венное удовлетворение, судьба заставляет жертвовать, жертво-
вать и жертвовать, не даваяПпр^о^ртовлетвЪрёния'ГРазум'еёТсй,
эти Ъа^рйМт^та принцип тра-
гической иронии. Однако благодаря такому преломлению этот
принцип «нисходит» в эмпирический сюжет и тем самым свя-
зывает его с трагико-метафизическим.
В эмпирическом сюжете романа есть и своеобразный коми-
ческий эквивалент трагедийной партии хора. Это — косноязыч-
но-мудрые реплики Увара Ивановича, звучащие вслед основным
перипетиям героико-трагической темы. Опять-таки именно коми-
ческое преломление традиционной функции как раз и позволяет
ей осуществиться, позволяет прозвучать голосу той «почвен-
ной» коллективной правды, которая традиционно воссоединяла
одинокого героя трагедии с массой остальных людей.
Но, может быть, важнее всего другое — с чем связана в тур-
геневском романе трагическая уязвимость героини и, стало быть,
возможность для нее трагической судьбы. Во имя своих жертвен-
но-героических стремлений Елена может поступиться многим,
но только не желанием любви ' и_;к^стьС'СЖо^тб''и "навлекает
на неё^роковой удар. Так получается, что трагической героиней
Елену делают свойства обыкновенной девушки: без этих свойств
трагедия не могла бы состояться, для ее возникновения они
так же необходимы, как и свойства героические.
О важности для Тургенева этой стороны характера Елены
свидетельствует парадоксальная особенность сюжетной организа-
ции романа. В «Накануне» почти нет так называемых «свобод-
ных» мотивов. Практически все эпизоды и даже самые незначи-
тельные второстепенные или третьестепенные персонажи не-
посредственно участвуют в развитии действия. И при таком ус-
ловии «Накануне» оказывается самым медлительным из клас-
сических романов Тургенева (старческая «Новь»— не в счет).
Особенно это ощутимо в кульминационной стадии развития
действия — между объяснением героев в часовне и Их отъездом
из России. Но в этой же стадии наиболее очевидна необходимость
«торможения». Оно позволяет показать развитие чувства во всех
его естественных переходах. И тем самым заставляет читателя
почувствовать в героине девушку «как все», связать уникальность
трагической героики с логикой обыкновенного.
Словом, Тургенев в известной мере добился взаимопроникно-
вения метафизических и эмпирических начал сюжета, сделал
возможным взаимопереходы трагического и повседневного. Но
принципиального различия между этими началами он все-таки
не устранил. Грань между ними ощущается почти всегда, и почти
всегда о ней сигнализируют стилистические сдвиги. Самый су-
щественный из. них (особенно в финале) выражается в том,
что вспышки трагической истины требуют для своего проявления
резких вторжений в эпическое повествование лирической стихии,
182
с ее особым временем и особым отношением к реальности
(неразрывная связь лиризма и трагического проявляется, как
видим, и здесь).
* *
*
Впрочем, Тургенев, судя по всему, и не стремился слить в
однородное целое трагико-метафизические и социально-истори-
ческие пласты своего романа. И остается лишь сказать несколько
слов о том, по каким мотивам его могла устраивать эта не-
снимаемая «разность потенциалов».
Появление «Накануне» означало «взрывной» скачок в раз-
витии тургенерского романа. Читатели и критика сразу же заме-
тили, как резко "усилилась в нем значимость социальных и,
в частности, политических проблем.69 Столь же резко возросла
степень злободневности изображаемого, непосредственной при-
частности сюжета и проблематики романа к «данному'моменту
эпохи» (это полушутливое выражение сам Тургенев употребил
в письме П. В. Анненкову 1 августа 1859 г.).
Конечно, проблематика «Рудина» и «Дворянского гнезда»
тоже имела прямое отношение к остросовременным обществен-
ным вопросам. Например, к вопросу о месте и роли дворянской
интеллигенции в условиях «переходной» эпохи, о «социальной
продуктивности» (Л. В. Пумпянский) созданных дворянской куль-
турой нравственных ценностей. Но художественное исследова-
ние подобных вопросов было связано с оценкой общественных
ситуаций, типов, отношений, уже безвозвратно уходящих в прош-
лое. Ретроспективная позиция автора имела не только собствен-
но художественный смысл: изображаемое и по существу воспри-
нималось как нечто уже завершенное, допускающее и даже
предполагающее итоговые обобщения. Тем легче и естественнее
входила в художественный строй романа универсально-фило-
софская масштабность и появлялась «двойная перспектива»,
воссоединявшая конкретно-историческое с вселенским и вечным.
В «Накануне» ситуация принципиально иная. Правда, рома-
нист и здесь формально сохраняет традиционную для него дистан-
цию в несколько лет между временем изображаемых событий
и временем сиюминутного рассказа о них (действие «Накануне»
приурочено к 1853—1854 . гг. и отделено от времени появления
романа таким важным исторг рубежом, как /Крымская
война со всеми ее общественно-политическими последствиями).
Однако обычная дистанцированность изображаемого уже' не
имеет прежнего значения и является во многом условной. История
болгарина Катранова^ послужившая основным источником* для
69 Выразительную характеристику читательских реакций содержат, напри-
мер, «Литературные воспоминания» П. В. Анненкова (М., 1960, с. 432—434).
183
нового тургеневского сюжета, и в самом деле успела уже стать
достоянием прошлого. Но относительно давнее происшествие
дало материал для постановки проблем, актуальных именно
в предреформенные годы, в сознание современников вошли обра-
зы, которые воспринимались как «выхваченные из жизни», типы,
«которым подражала молодежь и которые сами создавали
жизнь».70 Восприятие изображаемого оказывалось «бездистант-
ным», звучавшая в романе «злоба дня» легко приобретала для
его читателей всепоглощающее значение.
Другая особенность нового романа состояла в том, что его
герои поначалу представали людьми, для которых как бы уже
и не существовали многие универсальные проблемы, терзавшие
прежде своей неразрешимостью человеческое сознание (и более
всего именно проблемы философские или религиозные). Елена
и Инсаров выступали как провозвестники какой-то новой жизни,
может быть несущей освобождение от этих традиционных про-
блем. В их стремлениях и душевных свойствах выражала себя
неповторимая атмосфера текущего момента — кануна приближав-
шихся глубинных перемен, характер и последствия которых еще
никому не были ясны.
Казалось бы, традиционная роль универсального смыслового
плана тоже должна была уйти в прошлое — вместе с людьми
и темами, для характеристики которых этот план был так важен.
Но тут-то и обнаружилось, что выход к универсальным категориям
стал для Тургенева неотменимым принципом осмысления ма-
териала организации романа. «Злоба дня», искания и судьбы
людей, всецело этой «злобе дня» преданных и как будто бы
исключивших из своей жизни все метафизическое, были почти
демонстративно соотнесены с вечными вопросами, с неразреши-
мыми коренными противоречиями бытия и духа, сохранявшими
роль необходимых ориентиров для всех крупнейших русских
реалистов. В романе «Накануне» такое соотнесение оказывается
своеобразным испытанием для современных идеалов, обществен-
ных типов, нравственных решений и т. п.
Собственно, оно отчасти намечалось у Тургенева и раньше.
Выход к универсальной трагической антитезе двух мировых по-
лярностей позволил раскрыть высшее значение рудинского
энтузиазма и рудинской неприкаянности. Движение к универсаль-
ным трагическим коллизиям счастья и долга, родовой вины
и личной ответственности прояснило в полной мере всю глуби-
ну и неразрешимость проблем, с которыми столкнулись герои
«Дворянского гнезда». В «Накануне» задача испытания опреде-
лилась явно: испытующее соизмерение двух планов тем более
заметно, что они до самого конца остаются взаимно обособлен-
ными.
70 И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников.
М., 1930, с. 7.
184
Но что выявляет предпринятое автором испытание? Отблеск
универсального по-особому освещает позицию и судьбу героини.
Елена Стахова, едва ли не во всем не похожая на Лизу Калитину,
оказывается ее преемницей как еще одна искательница гар-
монии, способной разрешить извечные противоречия жизни. Мы
становимся свидетелями еще одной попытки ответить на роковые
вопросы национальной истории и человеческого существования
вообще. И еще одной попытки жертвенного искупления «родовой»
вины. Недаром отъезд Елены в Болгарию после смерти Инсарова
и уход Лизы в монастырь сближены не слишком заметным,
но все-таки ощутимым и несомненным внутренним родством.
Соотнесение с неразрешимыми метафизическими коллизиями
обнаруживает также недостаточность тех идеалов, которые вы-
двинула новая эпоха. Открывается неокончательность найденных
ею решений, а тем самым и возможность выхода за ее горизонты.
В XXX главе «Накануне» (т. е. до XXXIII, где трагическая
тема создает уже явный перелом) Шубин спрашивает Увара
Ивановича: «Когда ж наша придет пора? Когда у нас народятся
люди?». Ответ звучит уверенно и твердо: «Дай срок... будут»
(VIII, 142). В последних строках романа тот же вопрос повто-
ряется: «И вот теперь я отсюда, из моего «прекрасного далека»,
снова вас спрашиваю: «Ну что же, Увар Иванович, будут?»
Однако теперь читатель уже не слышит определенного ответа:
«Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдаление
свой загадочный взор» (VIII, 167). Проблема, казалось бы отчет-
ливо решенная, вновь оборачивается открытым вопросом, перспек-
тивой, уходящей в бесконечность.
Такое освещение по-своему возвышает Елену, окружая под-
линно трагедийным ореолом ее позицию и судьбу. И в то же
время открывает ее неполноту и односторонность, ее вину перед
целостностью жизни — уже не по обычному, а по высшему счету.
И высвечивая сомкнутый трагический круг подвига и вины, исклю-
чает удовлетворение исторически ограниченным решением жиз-
ненных проблем, требует поиска новых решений, новых идеалов,
новых типов исторических деятелей.
Такое освещение изображаемых ситуаций создает для ав-
тора ряд затруднений: он многое вынужден делать, как говорится,
«от себя», ему необходим «двойной сюжет», и соотношение сла-
гаемых этого сюжета таково, что способно вызвать сомнение
в органичности его единства. Но преодоление всех подобных
затруднений оказалось вполне возможным и блистательно осуще-
ствлено в «Отцах и детях», через два года после выхода в свет
«Накануне».
В новом романе «двойной сюжет» оказался ненужным: энергия
испытания жизненных форм, идеологий, идеалов (вообще любых
проявлений природы общества и человека, а вместе с тем
и природы бытия) воплотилась здесь в самом характере героя,
определив своеобразие заключенных в этом характере обобщений,
185
особенности мотивирующего этот характер конфликта и, наконец,
отношение этого характера к его историческим прототипам.
Кто такой Базаров?
Вопрос, вынесенный в заглавие, может показаться излишним.
Разве не ясно, кто такой Базаров? Казалось бы, все, имеющее
отношение к этому образу, давно уже определено. Но, может
быть, не стоит поддаваться успокоительным ощущениям подоб-
ного рода? Не попытаться ли проверить некоторые положения,
ставшие для нас привычными?
Попробуем поближе присмотреться к мировоззрению и пози-
ции Базарова, обращая внимание не столько на их сходство
с идеологией революционных демократов (сходство это уже об-
стоятельно изучено71), сколько на те крайне редко замечаемые
отличия, которые отделяют это мировоззрение и эту позицию
от идей Чернышевского, Добролюбова, Писарева и их последова-
телей.
Такие отличия очень существенны. Конечно, когда Тургенев
объясняет в известном письме Случевскому 14 апреля 1862 г.,
что слово «нигилист» следует понимать как «революционер»
(П., IV, 380), с этим легко согласиться. Читатель тургеневского
романа очень скоро догадывался, что перед ним решительный про-
тивник существующего общественного порядка. Ясно, что Базаров
считает необходимым разрушение этого порядка и коренное
переустройство общества. Однако основания вполне недвусмыс-
ленной позиции все время остаются нейсными. Каким идеалом
обосновано базаровское отрицание? Какова базаровская програм-
ма общественного переустройства?
Эти вопросы прямо встают перед Базаровым во время его
спора с Павлом Петровичем Кирсановым (гл. X). Но «нигилист»
отказывается их обсуждать, причем трудно подозревать его
в нарочитом утаивании ответов. Во время спора Базаров прямо
говорит о том, что у него нет и не может быть никакой поло-
жительной программы, потому что у него нет и не может быть
никакой другой цели, кроме цели разрушения. На полемиче-
ское напоминание о необходимости «строить» Базаров отвечает
достаточно определенно: «Это уже не наше дело... Сперва
нужно место расчистить» (VIII, 243)i Нужно целиком отверг-
нуть и полностью разрушить существующий порядок вещей;
без этого новое устройство жизни не только невозможно его
и представить себе нельзя, о нем и рассуждать не стоит. Та-
кова, судя по всему, мысль Базарова, заставляющая его умол-
71 См., например: Пу сто войт П. Г. Роман И. С. Тургенева «Отцы
и дети» и идейная борьба 60-х годов XIX в. М., 1960, с. 131—189; Вя-
лый Г. А. Роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». М.; Л., 1962, с. 25—29,
32—34, 42—44, 54—55, и др.
186
кать всякий раз, когда заходит речь об идеалах, о позитивных
целях, о перспективах будущего.
В день приезда к Одинцовой (гл. XVI) Базаров единственный
раз на протяжении романа заговаривает о том, что как будто
бы может раскрыть позитивный смысл его деятельности. Он
утверждает, что глупость и злоба — это «нравственные болезни»,
обусловленные «безобразным состоянием общества». «Исправьте
общество, и болезней не будет» (VIII, 277). Кажется,. еще
немного — и обрисуются контуры той идеальной цели, во имя
которой Базаров стремится «место расчистить». «И вы пола-
гаете,— промолвила Анна Сергеевна,— что когда общество ис-
правится, уже не будет ни глупых, ни злых людей?» (VIII,
277—278). Почему бы тут не ответить: «Да, люди будут умными
и добрыми»,— ведь такой ответ как будто вытекает из пред-
шествующих базаровских рассуждений? Примерно такой ответ
на этот вопрос дал, как известно, Чернышевский в романе
«Что делать?». Но Базаров предпочитает ответить иначе: «По
крайней мере при правильном устройстве общества совершенно
будет равно, глуп ли человек или уменг зол или добр» (VIII,
278). Когда Одинцова с иронией замечает, что, очевидно, при
правильном устройстве общества «у всех будет одна и та же
селезенка», «нигилист» не возражает: можно оценить ситуацию
и так (там же). Он явно не хочет характеризовать людей
будущего понятиями, имеющими оценочный смысл; он не хочет
говорить «хорошо» или «плохо»; видимо, в его сознании сами
эти категории принадлежат «теперешнему времени», так что оце-
нивать в этих категориях то, что придет ему на смену, просто
не имеет смысла. Достаточно значимо и осторожное базаровское
«по крайней мере». Представление об идеале, во имя которого
Базаров действует, опять-таки не возникает. И в этом принци-
пиальное отличие тургеневского героя от демократов-«шести-
десятников», старавшихся даже в рамках цензурных ограничений
обозначить контуры демократических и социалистических
перспектив.
Бросается в глаза равнодушие Базарова к вопросам государ-
ственного устройства, к борьбе вокруг проектов «крестьянской»
реформы, к революционной пропаганде, к журнальной публи-
цистике,— словом, ко всему тому, вокруг чего концентрирова-
лись политические интересы и политическая жизнь русского об- ,
щества в начале 1860-х годов.72 Необходимо говорить именно;
о равнодушии — в этом резкая специфичность позиции Базарова.
«Шестидесятников» предполагаемая реформа не удовлетворяла,
их возмущала ее половинчатость. Для Базарова безразлично,
состоится ли она вообще,— варианты не имеют значения. Похоже
на то, что Базаров вообще не придает никакого значения тем
7 2 Эта особенность позиций тургеневского героя отмечена в статье
Ю. В. Манна «Базаров и другие» (Новый мир, 1968, № 10, с. 237).
187
или иным конкретным преобразованиям — как политическим, так
и экономическим.
Легко заметить, что Базаров настаивает на неограниченной
^духовной свободе личности. «Я ничьих мнений не разделяю,
я имею свои»— характернейшая из базаровских формул. «Ниги-
лист» отвергает любые общие теории, системы, доктрины (явно
не желая связывать себя даже теми из них, которые близки
ему по духу), он отрицает не просто те или иные верования
и авторитеты, но авторитеты как таковые, веру вообще, т. е.
принципиальную возможность веровать во что бы то ни было.
И это не просто принцип, а неотъемлемое свойство базаров-
ского мышления. Его ум противится любым заданным предпо-
сылкам неличного порядка, любым окончательным решениям,
всему, что может ограничить его ^критицизм. Он свободен даже
по отношению к собственным идеям: ни одна из них не полу-
чает значения догмата.
Во время спора с Павлом Петровичем Аркадий поддержи-
вает мысль Базарова о нобходимости разрушения старого мира.
«Современное состояние народа этого требует,— с важностью
прибавил Аркадий,— мы должны исполнять эти требования, мы
не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма»
(VIII, 243). По своему общему смыслу эта фраза не так уж
существенно отличается от базаровского утверждения «мы дей-'
ствуем в силу того, что мы признаем полезным» (там же),
и тем не менее она явно не нравится Базарову. Отталкивают
как видно, те категории, в которых оформляется мысль,— «тре-
бует», «должны», «не имеем права», «личный эгоизм». Напро-
тив, фразу «мы ломаем, потому что мы сила» (VIII, 246)
и ^рассуждения о том, что сила никому не дает отчета, Базаров
безоговорочно поддерживает, т е. отбрасывает вопросы о долге
перед людьми (будь то отдельные личности или целый народ)
и о моральном праве на вмешательство в их жизнь. Даже
вопрос о пользе разрушения старого мира в известной мере
оставлен открытым: «Коли раздавят, туда и дорога» (там же).
Право равняется силе — кто победил, тот и прав.
Подобные же установки сказываются всякий раз, когда Ба-
заров сталкивается с какой-либо вышестоящей нравственной
инстанцией — с «логикой истории», «законами человечества»,
с народной верой и народной правдой, с духом времени, опытом
цивилизации и т. п. Все они отвергаются как не имеющие
никакой обязывающей силы — Базаров стоит на том, что в своих
решениях и действиях свободный человек нравственно ничем
не связан. И опять-таки это не просто принцип, провозгла-
шаемый в теории: Базаров в самом деле единолично решает
мировые вопросы, не задумываясь о своем праве на это, целиком
беря, решение на себя и тут же придавая ему значение нормы.
«Он... демократ до конца ногтей» (П., IV, 379),— пишет
Тургенев о Базарове в письме Случевскому. Роман подтверждает
188
это определение и в то же время обнаруживает необычность
базаровского демократизма. Это демократизм,. доходящий до
крайности в своих уравнительных тенденциях. Разговаривая
с Одинцовой, Базаров вообще отрицает всякие существенные
различия между людьми — не'только социальные, но и естест-
венные: «Все люди друг на друга похожи как телом, так и ду-
шой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие оди-
наково устроены; и так называемые нравственные качества одни
и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значат»
(VIII, 277). Но подобное уравнивание всех и вся парадоксально
оборачивается презрением к людям, притом к самым разным —
от аристократа Павла Петровича Кирсанова до забитых и нищих
мужиков, любой из которых, по мнению Базарова, «заслуживает
презрения» (VIII, 244). Любопытно, что основания для презре-
ния дает именно тезис, уравнивающий всех людей. Он позволяет
(и заставляет) всем предъявлять одинаковые требования. При
этом за эталон принимается собственная личность: «Всякий
человек сам себя воспитать должен — ну хоть как я, напри
мер...»(VIII, 226). Логика Базарова, при всей ее парадоксаль-
ности, проста. Все люди, в сущности, одинаковы и, стало быть,
одинаковы их возможности. Если я могу быть хозяином и твор-
цом собственной судьбы, значит, в принципе, такими же могут
быть все. И если не становятся, то заслуживают презрения
Достаточно уловить эту логику, и уже не вызовет удивления
базаровское замечание о Ситникове (гл. XIX), открывающее,
что «нигилист» делит человечество на «богов» и «олухов» (VIII
304) Демократизм экстремистского толка оборачивается иерар-
хическим подходом к людям, презрением к подавляющему боль-
шинству народа и человечества. Опять-таки мировоззрение и по-
зиция Базарова принципиально отличаются от идеологии рево-
люционных демократов. «Шестидесятники» выступали против
идеализации народа, но презрением это не оборачивалось.
Когда в разгаре спора Базаров предлагает своему противнику
указать хотя бы один элемент «современного нашего быта»
который стоило бы сохранить, Павел'Петрович немедленно назы-
вает общину (VIII, 247). Выбор не случаен: в положительной
оценке коллективистских начал «общинного духа» сближались
позиции общественных деятелей разных направлений, подчас
расходившихся во всех остальных пунктах. Базаров — иного мне-
ния: он предлагает Павлу Петровичу побеседовать с «братцем»
который на собственном печальном опыте изведал, что такое
община, круговая. порука, трезвость «и тому подобные штуч-
ки» 73 «Братцу» есть, что рассказать: мы видим, чем обора-
73 Любопытно отметить, что по внутренней датировке романа Базаров
говорит это в начале июня 1859 г., т. е. как раз в то время, когда Добро-
любов писал свою знаменитую статью «О распространении трезвости в России»
где указывал на круговую поруку и на мужицкое движение за трезвость как
на реальные предпосылки победоносной крестьянской революции
189
чивается на практике общинный коллективизм русских крестьян —
бесхозяйственностью, ленью, уклонением от любых обязанностей,
равнодушием к собственным интересам, почти беспробудным
пьянством. Неужели демократы 60-х годов всего этого не виде-
ли? Конечно, видели и прямо говорили обо всем этом, особенно
Чернышевский. Но это не приводило их к «полному и беспощад-
ному отрицанию» общины. Мрачные стороны жизни крестьянина-
общинника искупались в глазах Чернышевского положитель-
ными сторонами того же явления — принципами коллективного
владения землей и уравнительного пользования ею. Чернышевский
верил, что эти принципы могут стать основой социалистического
коллективизма — такая вера до известной степени примиряла
его с противоречиями «общинного духа».
Логика Базарова совсем иная. Это логика бескомпромиссного
максимализма. Любой порок, любое противоречие, замеченное
в природе встреченного явления, немедленно и бесповоротно вос-
станавливает против него Базарова. Снисходительность или гиб-
кость по отношению к этому явлению уже невозможны: никакие
соседствующие с пороками достоинства и потенциальные возмож-
ности не в состоянии искупить в глазах Базарова того, чем
вызвано его негодование. Именно поэтому он просто не годится,
скажем, для роли политика: политическая деятельность не обхо-
дится без компромиссов с реальностью, без уступок, без маневри-
рования. Базаров на это явно неспособен, как неспособен он, ви-
димо, на то, чтобы удовлетвориться какими-либо ограниченными
достижениями. «В первый день революции это просто клад,—
говорил французский либеральный республиканец Коссидьер о
Михаиле Бакунине,— а на другой день надобно расстрелять».74
Эти слова (сохранившиеся в воспоминаниях Герцена) легко при-
менить к Базарову.
Все эти своеобразные свойства мировоззрения и позиции
«нигилиста» связаны с безграничностью базаровского отрицания.
Безграничность эта такова, что смущает даже сегодняшнего
читателя. Он легко солидаризируется с Базаровым в тех случаях,
когда тот отрицает различные «постановления» общественного
порядка. Но порой начинает недоумевать, когда обнаруживается,
что Базаров так же беспощадно и категорично отвергает любовь,
поэзию, музыку, красоту природы, философию, науку, семью,
брак, альтруистические чувства, такие нравственные категории,
как долг, право, обязанность, принципы и т. д.
Говоря, что он отрицает «все», Базаров не делает никаких
оговорок, не указывает никаких пределов. И опять же это
не просто слова. Тургеневский герой отвергает (во всяком случае
стремится , отвергнуть) действительно все — все реально суще-
ствующие формы социального устройства, экономической жизни,
культуры, быта и даже психологии людей. Базаров стремится
74 Герцен А. И. Соч. в 9-ти т. Т. 6. М., 1957, с. 352.
190
отвергнуть все, чем сегодня живут люди, все, что их сближает
и связывает, все, что ими движет, что придает их жизни оправ-
дание и смысл.
Поэтому не приходится удивляться базаровскому равнодушию
к занимающим его современников политическим и хозяйственным
переменам: на фоне того, к чему стремится Базаров, не имеет
существенного значения разница между самодержавием и парла-
ментаризмом, да и любые различия политических форм, по-види-
мому, мало что значат. Россия —в тупике, из которого не видно
выхода. Русское общество охвачено каким-то непреходящим со-
циальным маразмом, поразившим «все наши сословия» (таковы
слова Базарова) сверху донизу. Любые из существующих форм
духовной культуры, любые из уже сложившихся форм оппо-
зиционности оказываются совместимыми с этим всепроникающим
маразмом,Пне мешают его существованию и, стало быть, прямо
или косвенно к нему причастны. Любые изменения существующих
общественных институтов обернутся новыми формами того же
маразма. И нет смысла различать правых и виноватых или,
рассуждая по-другому,— более или менее виноватых (например,
обрушиваясь на барство, щадить или спасать мужика). Все,
кто жил, живет и может жить в этом мире, виноваты без
исключения, и безразлично, по каким причинам они виноваты.
Существующий мир должен быть разрушен полностью, до осно-
вания — иначе Россия никогда не выйдет из порочного круга
механических перемен, которые перестраивают ее жизнь, не
обновляя и не улучшая ее. Такая логика отчетливо проступает
в споре Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым.
Не приходится удивляться и неопределенности идеала, отсут-
ствию положительной программы: Базарову нужны другая жизнь
и другие люди — небывалые, не похожие на все существующее
или когда-либо существовавшее. В каком-то смысле он стремится
начать историю «заново»— можно ли представить себе, к чему
это приведет, если весь имеющийся опыт человечества не содер-
жит в себе ничего подобного? Поэтому Базаров не дает никаких
обещаний, не рисует никаких перспектив. Он вообще не пытается
связывать настоящее и будущее: - в пределах существующей
общественной реальности он не видит никаких предпосылок
принципиально иного порядка вещей, кроме явной несостоя-
тельности ныне действующих жизненных норм и форм сознания.
Наконец, неудивительны и другие особенности позиции ге-
роя — его подчас пугающая внутренняя свобода, категоричный
и бескомпромиссный максимализм, его социальное одиночество,
его странный, всех нивелирующий демократизм, переходящий
в элитарное ощущение себя «богом», в презрение к большинству
людей. Революционное отрицание такого размаха и такой глуби-
ны, как видно, и предполагает, по мысли Тургенева, «полное
самоосвобождение личности» (слова Писарева), ее внутреннее
отъединение от живущих вокруг людей, безусловное неприятие
191
их жизни и вознесение себя над ними. Перед нами мировоззре-
ние, ничему известному не равное (хотя и сопоставимое со
многим), обладающее своими, особенными установками и ориен-
тирами. Перед нами революционность, по существу своему прин-
ципиально отличная от революционности демократов 60-х годов.
Читатель начала 60-х годов мог воспринять базаровское отри-
цание как нечто небывалое или резко утрированное, читатель
нашего времени может увидеть здесь раннее предвестие экстре-
мистского радикализма XX века, ворвавшееся в относительно
«спокойную» атмосферу XIX столетия.
* *
*
Мировоззрение и позиции тургеневского героя поначалу вы-
глядят непоколебимыми. Единое впечатление, которое производит
на читателя герой, в первых главах ничем не нарушается;
оно лишь едва заметно осложняется диссонирующей деталью —
каким-то оттенком неловкости или беспокойства, проскальзыва-
ющим в поведении Базарова сразу же после его приезда в усадь-
бу Кирсановых (VIII, 209). Но этот диссонирующий призвук,
смутно на что-то намекнув/исчезает. Тем сильнее наше удив-
ление, когда мы обнаруживаем, что во второй половине романа
отношение Базарова к миру и к людям ощутимо меняется.
Базаров, каким он предстает в первой половине романа, уверен,
что люди одинаковы, как «деревья в лесу», что все они объектив-
но нуждаются в одном и том же и что это, нужное всем
универсальное благо несет миру он, Базаров. Такой уверен-
ностью была оправдана готовность «осчастливить» людей, незави-
симо от их собственной воли, а если понадобится, то и против
их желания. Полюбив Одинцову, Базаров очень быстро теряет
такую уверенность: «Может быть, вы правы; может быть, точно,
всякий человек — загадка» (VIII, 291),— неожиданно признается
он. Загадкой оказывается для него сама Одинцова: ее характер
состоит из противоречий, но очевидно, что все они естественны
и не мешают ее благополучию. Больше того, эти противоречия
как раз и позволяют Одинцовой оставаться неуязвимой для
страстей и страданий. Базаров ощущает это самым непосредст-
венным образом как мучительную и неразрешимую проблему,
с которой связана теперь вся его жизнь. Пережитое делает
невозможным его прежнее отношение к людям. Чем дальше,
тем яснее, что люди все друг на друга непохожи, что все они
живут не только по-разному, но и для разного, и что его,
Базарова, жизненная цель, может быть, не нужна никому, кроме
него и немногих ему подобных.
Во второй половине романа Базаров по-прежнему ясно видит,
что жизнь, которую ведут окружающие его люди, не выдерживает
серьезной критики — даже если измерять ее мерой собственных
претензий этих людей. Но одновременно он ’видит и другое —
192
эти люди могут так жить и дальше. И не просто жить, но
и получать от жизни все, что им нужно. Вокруг Базарова
почти все обретают благополучие или, по крайней мере, ясную
перспективу его достижения, только ему одному неизменно
и по-настоящему плохо. В какой-то момент Базаров вынужден
признать жизнь «отцов» разумной и по-своему правильной.
Правда, сделать последний шаг и сказать, что он не нужен
России, герой может только на пороге смерти. Но каждый новый
эпизод второй половины романа приближает Базарова к этому
признанию.
Поэтому и отпадают прежние обоснования базаровской рево-
люционности. Однако сразу же выясняется, что отказ от нее
для Базарова невозможен: «...странное существо человек. Как
посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую
ведут здесь «отцы», кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай,
что поступаешь самым правильным, самым разумным манером.
Ан нет: тоска одолеет. Хочется с людьми возиться, хоть ругать
их, да возиться с ними» (VIII, 323—324). Оказывается, револю-
ционность — это не просто взгляды, не просто позиция, избранная
человеком. В романе Тургенева это особая психология — редкая,
удивительная и страшная, психология, которую нельзя специаль-
но выработать и от которой невозможно избавиться. «Он хищ-
ный, а мы с вами ручные»,— замечает Катя, разговаривая о База-
рове с Аркадием, и добавляет очень точно: «Этого нельзя
хотеть ... Вот ваш приятель этого и не хочет, а в нем это
есть» (VIII, 365).
В эпизодах второй половины романа приоткрывается внутрен-
няя человеческая основа «полного и беспощадного отрицания».
Все житейские ситуации, через которые проведен автором База-
ров, выявляют его человеческую исключительность. В то же
время становится все более очевидным, как неразрывно связаны
между собой эта исключительность и базаровское отрицание.
Всеразрушающую, проникнутую максималистским пафосом, уст-
ремленную за все и всяческие пределы революционность тур-
геневского героя просто нельзя себе представить отдельно от
его способности надеяться и опираться только на самого' себя,
от его безграничной внутренней свободы и ошеломляющей дер-
зости, отдельно от упорной, выходящей за пределы обычных
мерок базаровской непримиримости, от его органической не-
способности как-то ограничивать, утешать или обманывать себя.
Но обычные житейские ситуации выявляют в герое и нечто
иное: все перечисленные качества, резкие, но невольно вну-
шающие уважение, не лишенные даже своеобразного обаяния,-
переплетаются в психологии Базарова с такими свойствами,
которые могут вызвать прямо противоположную реакцию. Базаров
по природе своей бесцеремонен и груб, в его отношении к людям
иногда проявляется нечто отталкивающе-пренебрежительное.
Ссылки на то, что он презирает Кукшину или «аристократишек»
193
Кирсановых, "не могут оправдать хамства. Нередко он именно
использует людей — поступает, как ему хочется, как ему удобно,
а все остальное просто не принимает во внимание. Заметно
также, что Базаров не только декларирует отрицание искусства;
у него действительно нет «художественного смысла», он действи-
тельно чужд поэзии и равнодушен к ней. Не с-лучайно и то,
что в письме Герцену 16 апреля 1862 г. Тургенев называет свое-
го героя «волком» (П., IV, 383), а в уже упоминавшемся письме
Случевскому говорит о «бессердечности» и «безжалостной су-
хости» Базарова (П., IV, 381). Базарову в самом деле чужды
альтруистические чувства, он неспособен к жертвам, для него
нет реальности более несомненной, чем закон борьбы за существо-
вание, в нем то и дело дают себя знать инстинкты сильного
зверя, для которого все встреченное на пути либо угроза, либо
добыча, либо препятствие. Он представляет собой едва ли не
природную силу; почти так определяет его Тургенев в том же
самом письме Случевскому: «...фигура .’.дикая ... до половины
выросшая из почвы» (там же).
Нельзя не заметить, что в «Отцах и детях» революционность
героя показана неотделимой и от самых страшных или отталки-
вающих его свойств. В базаровском отрицании живет пафос
нравственного неприятия современного мира, он-то и делает
«нигилиста» противником существующего порядка. Но Тургенев,
как видно, убежден в том, что этот пафос не может выйти за
пределы платонических порывов, если он не опирается на ин-
стинкты и силу «хищника», способного идти напролом, ни с чем
не считаясь, сокрушая или ненавидя все, что ему противится.
Невозможно даже мысленно вообразить себе Базарова, который
любит поэзию, наслаждается красотой природы, который само-
забвенно предан женщине,— и остается при этом беспощадным
разрушителем, необузданным мятежником, «фигурой сумрачной,
дикой ... сильной, злобной», одним словом, тем, кого предла-
гается называть революционером. Базаров, полюбивший Пуш-
кина и Моцарта, Базаров, наслаждающийся прелестью вечернего
пейзажа, Базаров, самоотверженно обожающий возлюбленную,
уже не Базаров — это совершенно другой человек, может быть,
более приятный и близкий читателю, но другой, неспособный
на «полное и беспощадное отрицание», не обреченный на роковую
и неповторимую базаровскую судьбу.
* *
*
Нужно ли удивляться тому, что любовь Базарова к Анне
Сергеевне Одинцовой оказывается переломным пунктом в его
судьбе, тому, что любовные переживания героя на наших глазах
перерастают в настоящий духовный кризис? Неразрывное сплете-
ние качеств, о которых шла речь, образует основу базаровской
194
личности, и любовь не могла явиться простым прибавлением
ко всему этому. Любовь входит во внутренний мир Базарова как
сила чуждая, враждебная, угрожающая разрушением его душев-
ного строя. Так она и воспринимается: «...что-то другое в него
вселилось», «... с негодованием сознавал романтика в самом
себе» (VIII, 287) —как будто говорится о чем-то постороннем,
о каком-то другом, антипатичном Базарову человеке, а не о его
же собственном «я»
Разумеется, и в любви Базаров остается самим собой. Он
чувствует в Одинцовой силу, равновеликую его собственной
силе: им движет искушение борьбы и потребность победы. Невоз-
можность ответного чувства переживается как поражение, ощу-
щение своего бессилия рождает злобу, да и сама базаровская
страсть сродни злобе, в ней проглядывает что-то «почти звер-
ское» (VIII, 300). Но в этом доходящем до исступления жела-
нии быть любимым действительно проявляется и «что-то другое».
Базаров, впервые воспринимает живую неповторимость другого
человека как нечто ценное. Женщина впервые оказывается для
него единственной и незаменимой, любовь к ней становится глав-
ным в жизни, в каком-то смысле — всем. И возможно, важнее
всего то, что Базаров впервые открывает ценность чего-то резко
не похожего на него самого. Все в Одинцовой чуждо Базарову —
даже качества, которые как будто бы сродни его собственным:
она по-иному умна, по-иному горда, по-иному независима. Но
эта холодная, умная, гордая, целомудренная аристократка нужна
ему такой, какая она есть. Его тревожит, волнует и притягивает
ее безмятежное спокойствие, почти художественная соразмер-
ность ее душевных движений, всего ее существования. Базаров
понимает, что за всем этим — неспособность к страстным ув-
лечениям, возможность равнодушия, эгоизм. Но есть в этом
какое-то своеобразное совершенство, обаянию которого нельзя
не поддаться. Можно подумать, что к этому спокойствию кра-
соты Базарова влечет ощущение, смутно намекающеё на огра-
ниченность его собственной жизни. Может быть, в нем говорит
потребность какого-то восполнения его односторонности?
Эта не совсем ясная устремленность за пределы собственного
«я» делает Базарова более уязвимым, но вместе с тем и более
человечным. Базаров начинает с неожиданной для него остро-
той ощущать реакции окружающих, их чувства, своеобразие
их психологии. Он втягивается в самые разнообразные отноше-
ния с этими людьми и уже не может с высокомерным без-
различием отделять себя от них. В новых ситуациях впервые
раскрывается его причастность к обычным человеческим инте-
ресам, заботам и страданиям. Призвук страдания придает особый*
колорит даже порывам базаровской озлобленности: этот при-
звук отчетливо различается в те моменты, когда Базаров с воз-
мущением говорит о законах истории, обрекающих человека
на жертвоприношения прогрессу, или когда соотносит «ничто-
195
жество» своей личности с бесконечностью и вечностью вселен-
ной (VIII, 323, 325).
Базаров и раньше видел в природе бездушную силу: ведь
это он говорил Аркадию, что «природа не храм, а мастерская,
и человек в ней работник» (VIII, 236). Но сущность прежней
формулы состояла в том, что она лишала проблему всякого
драматизма. Прежняя формула допускала только утилитарное
отношение к природе, исключая любые эмоции по поводу ее
бездушия. Теперь давно известная истина причиняет боль: ощу-
щая так остро бездушие природы, Базаров впервые чувствует
со всей остротой свою собственную одушевленность. Другими
словами, меру своей человечности.
Базаров и раньше понимал «промежуточный» характер своего
«дела» (не он ли утверждал, что задача «нигилистов» — «место
расчистить»?). Но если раньше он спокойно принимал это к све-
дению, то теперь признается, что возненавидел человека будуще-
го, «этого Филиппа или Сидора», для которого он, Базаров,
«должен из кожи лезть» и который ему «даже спасибо не
скажет», блаженствуя в своей «белой избе» (VIII, 325). И ка-
ким бы пугающим ожесточением ни веяло от такого призна-
ния, это тоже симптом прибавления человечности в Базарове.
Конечно, ненависть — страшное чувство, но это именно чувство,
а как раз чувств и не было в прежнем базаровском отношении
к людям будущего (тем, у которых предполагалась одинаковая
«селезенка»). Теперь «Филипп или Сидор» ненавистен и, значит,
ощутим: для Базарова он впервые живой человек, а не пробле-
матическая неопределенность, не абстрактный знак вопроса.
Внутренняя жизнь Базарова становится намного более слож-
ной, богатой, одухотворенной. Но, замечая в себе эти перемены,
тургеневский герой не испытывает ни радости, ни гордости.
Свою; внезапно обретенную человечность Базаров воспринимает
как слабость и падение. Теперь даже насекомое имеет неоспори-
мое превосходство над ним: «...Вон молодец муравей тащит
полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на то,
что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве животного,
имеешь право не признавать чувства сострадания, не то что
наш брат, самоломанный!» (VIII, 323).
. Не случайно в ключевой сцене XXI главы (в уже упоминав-
шемся разговоре с Аркадием) базаровская злоба с неуклонной
последовательностью обращается против любви, сострадания,
поэзии, красоты, против идеи долга перед народом и прогрессом,
против принципа справедливости и уважения к людям. Иначе
говоря — против главных традиционных ценностей человеческой
культуры, возвеличенных гуманистической мыслью и сохра-
нявших свой авторитет на протяжении веков. Теоретически База-
ров отвергал все это и раньше, но раньше в его отношении
к святыням гуманизма не было ожесточения и ненависти.
Утратив прежнюю самодовлеющую замкнутость, Базаров
196
впервые сталкивается с естественными силами жизни, которым
нет дела до его целей и притязаний, впервые ощущает их
загадочную непостижимость и свое бессилие’перед ними. Чувство
бессилия и униженности, испытанное им в доме Одинцовой,
рождает сознание собственного «ничтожества», с которым Базаров
не может смириться. Он сравнивает себя с другими людьми
и видит, что другие переживают те же ситуации совсем иначе.
Они «не беспокоятся о собственном ничтожестве, оно им не
смердит...» (VIII, 323). Для них драматизм человеческого суще-
ствования — не только /источник страданий, но и в такой же
мере источник самоуважения. Павел Петрович Кирсанов, напри-
мер, явно дорожит воспоминаниями о любовной драме, во многом
похожей на базаровскую (эти воспоминания поддерживают со-
знание значительности прожитой им жизни). Традиционные кри-
терии гуманистичёской культуры освящают это самоощущение
и служат для него опорой. И только Базарову они не помогают.
Жизнь есть борьба —.этим законом определяется в глазах
Базарова элементарная (а значит, и подлинная) сущность жизнен-
ных ситуаций.- Если ты полюбил женщину, привязался к ней
и страдаешь из-за нее, а она осталась к тебе равнодушной,
это значит, что тебя «прибили». Если ты согласился «из кожи,
лезть» ради блага какого-то «Филиппа или Сидора», а он тебе
«даже спасибо не скажет», это значит, что ты остался в дура-
ках. И когда люди говорят, что несчастие не дает «права зли-
ться», когда они приходят к самоотречению, стараются жить для
других, находят утешение и успокоение в искусстве, это значит
для Базарова только то, что они слишком слабы и робки,
чтобы выдержать жестокую логику жизни-борьбы. В свете таких
представлений альтруистические чувства, жертвенное самозаб-
вение, вообще все проявления духовности и гуманности выглядят
источниками и оправданиями человеческой слабости. В конце
концов они позволяют человеку примиряться с тем, что есть,
и в том числе со своей собственной слабостью, находя в этом
какой-то возвышенный смысл.
Читатель начала 60-х годов легко мог уловить конкретную
социальную направленность базаровского озлобления. Тургенев-
ский герой вторгается в круг проблем, разработка которых
составляла на протяжении нескольких десятилетий заслугу
и своеобразную привилегию русской дворянской культуры. Это
она вобрала в себя и утвердила гуманистический идеал всеобъем-
лющей гармонии, превратила его в ориентир, с которым сверялись
все поиски, все открывавшиеся перспективы познания, творчества,
общественного развития. Но столкнувшись с жестоким опытом
1825 и 1848 гг., дворянская интеллигенция разуверилась в воз-
можности гармонического устроения мира. Такое мироощущение
определяло ее духовный настрой на том историческом рубеже,
за которым начиналась вторая половина XIX в. и какая-то
новая жизнь, с никому еще не известными возможностями.
197
Настоящего доверия к ней не было и не могло быть: слишком
серьезны были разочарования, с которыми столкнулась дворян-
ская культура, слишком высоки ее требования к миру. В этих
условиях все надежды возлагались на духовные ценности, состав-
лявшие внутреннее достояние личности. Возникал своеобразный
культ поэзии, искусства, красоты — в них открывалась пусть
ограниченная, но все-таки реальная сфера свободы и гармонии
духа. Выдвигалась как некий непреложный норматив идея дол-
га— она превращала гражданскую активность и нравственную
стойкость в нечто самоценное, позволяя в любых ситуациях
придать человеческой жизни высокий смысл. В этой же связи
утверждалась высокая ценность самоотречения, любви, состра-
дания, гуманности, уважения к человеческому достоинству.
На эту систему ценностей (опоэтизированную в свое время
самим Тургеневым) и нападает Базаров. Для него не имеет
значения уровень, на котором она реализуется в жизни того
или иного человека. Неприемлем сам принцип, составляющий
основу традиционного гуманизма: в глазах Базарова гуманисти-
ческая культура оказывается прибежищем для слабых и робких,
она создает иллюзии, способные превратить немощь в нравствен-
ную позицию. Убедившись в том, что и он доступен слабости,
Базаров обретает способность прощать ее другим людям — таким,
как Аркадий или Николай Петрович Кирсанов. Однако он не-
способен простить ее самому себе: оценка собственной жизни
навсегда связана для него с категориями победы и поражения.
* *
*
В беседе с Я. П. Полонским Тургенев говорил о трагическом
противоречии как о столкновении двух «равнозаконных» великих
правд. Именно такое противоречие входит в жизнь и сознание
Базарова. Революционность и человечность оказываются несов-
местимыми, причем каждой стороне свойственна своя правота
и своя неправота. «Полное и беспощадное отрицание» оправдано
как единственная в современных условиях серьезная попытка
действительно изменить мир, покончив с противоречиями, кото-
рые так и не разрешили века существования гуманистической
культуры. По-своему оправдан и враждебный полемизм, отмета-
ющий стремление к гармонии, а вместе с ним — нравственный
пафос альтруизма, эстетизм, чувствительность и человечность.
Разве все это не оборачивается в конце концов примирением
с несовершенством и несправедливостью мира?
Так раскрывается в «Отцах и детях» великая правота «ниги-
лизма».
Однако для Тургенева бесспорно и то, что «нигилизм» неиз-
бежно приводит в безвоздушное пространство свободы бе?
обязательств, действия без любви, поисков без веры. Турге-
198
нев не ндходит в «нигилизме» созидающей творческой силы:
те изменения, которые «нигилист» предусматривает для всех
реально существующих людей, по сути дела, равносильны уничто-
жению этих людей. И в том, что изруганный Базаровым «роман-
тизм» не дает человеку целиком подчинить себя такой позиции,
заключается, по логике авторской мысли, великая правота
стремлений, объективно противостоящих «нигилизму». Это пра-
вота устремленности к идеалам, возвышающим человека над
логикой необходимости и практической целесообразности, право-
та устремленности к гармонии, которая одна только делает
человека вполне и до конца человеком.
Было бы неверно видеть в душевной драме Базарова столкно-
вение теоретических идей с человеческим естеством героя. В
изображении Тургенева конфликт гораздо глубже: обе столкнув-
шиеся правды уходят корнями в натуру человека, и происходит
раздвоение, казалось бы, цельной личности. Базаров, пережив-
ший любовь, страдания й своеобразную «мировую скорбь», уже
не может быть «настоящим человеком» в духе своего идеала —
цельным и последовательным разрушителем, безжалостным, не-
поколебимо самоуверенным понимающим «других» просто по
праву сильного. Но основать свою жизнь на альтруистических
чувствах и традиционных принципах гуманизма Базаров тоже
не может — он слишком силен, слишком зол и слишком необуз-
данно, «по-дикому» свободен, чтобы подчиниться их смиряющему
и умиротворяющему духу.
В эпилоге романа автор говорит о «страстном,, грешном,
бунтующем» сердце Базарова. Эти определения в наибольшей
степени отвечают особой природе трагического героя. Базаров
действительно таков: он бунтует против законов объективной
необходимости, которые невозможно изменить или обойти. Имен-
но роковое упорство трагического героя сказывается в особен-
ностях его драмы — в его неспособности принять окружающий
мир, каков он есть, хотя ясно (и притом самому Базарову
ясно), что мир этот не может быть другим, сказывается в упор-
ном нежелании простить самому себе проявления человеч-
ности, хотя очевидна их естественность, сказывается в неспо-
собности отказаться от них и, наконец, в неспособности отбро-
сить терзающее его противоречие или как-то возвыситься над
ним. При всей угловатости, иногда даже грубости форм, при
всей очевидной связи такого упорства с первобытной силой
«Хищного» природного существа, это — высокое упорство иде-
алиста, не желающего удовлетворяться каким бы то ни было
ограниченным решением.
И смерть Базарова оказывается своеобразным, тоже истинно
трагическим разрешением, снимающим главное противоречие его
жизни. Умирая, Базаров снова целен, однако уже по-иному,
не так, как в пору его первого появления: «... теперь вся за-
дача гиганта — как бы умереть прилично, хотя никому до
199
этого дела нет... Все равно: вилять хвостом не стану» (VIII,
396). И умирает Базаров, в сущности, героически. Перед лицом
слепой силы, уничтожающей все, «нигилист» утверждает себя,
ни за что не цепляясь и не ища опоры. Его цель в том, чтобы
умереть таким, каким он жил, ни в чем не изменившись под
давлением смерти (и значит, ни в чем ей не уступив). И
в это последнее дело своей жизни Базаров не вкладывает ни-
какого возвышенного смысла: это тоже значит — не измениться,
остаться самим собой. Но сохраняя такую позицию до конца,
он в то же время впервые позволяет себе быть нежным, может
любоваться красотой, оценить великодушие, найти поэтическую
форму для своих ощущений, может, наконец, попросить Один-
цову о поцелуе, чего в иных условиях не сделал бы никогда.
Он словно чувствует, что теперь одно уже не мешает другому.
И он прав. Борясь со смертью, Базаров впервые сталкивается
не с людьми и не с какими-то силами, действующими через
людей, но с силой всецело нечеловеческой и обессмысливающей
любые проявления человечности. В этой ситуации человечность
впервые оборачивается для него не слабостью, а своеобразным
(опять-таки чисто трагическим) торжеством. Перед лицом смер-
ти реализуются все потенциальные возможности, подавленные
или скрытые в его личности: Базаров впервые действительно
становится самим собой — во всем и до конца.
* *
*
Так кто же он такой — тургеневский Базаров? Вряд ли мож-
но увидеть в нем воплощение общественного типа, представ-
ляющего то или иное конкретное течение. В рамки любого из
таких течений Базаров явно не вписывается. Тургенев много-
кратно намечает штрихи, связывающие его героя с различными
социально-психологическими типами «шестидесятников», с глав-
ными идеологическими направлениями эпохи. Но всякий раз
возможность отождествления с ними так или иначе исключается.
Этот принцип действует и в пределах отдельной сцены, где герой,
рассуждающий, к примеру, как Чернышевский или Добролюбов,
вдруг, при каком-то повороте диалога, говорит явно не то, что
ожидает услышать от него читатель, ориентируясь на знакомую
логику «прототипа». Тот же закон определяет и строй образа
в целом: черты, типичные для одного круга, сочетаются с типи-
ческими признаками, свойственными другому, а главное, все
они как-то трансформируются в сложной динамике возникаю-
щего взаимоотражения. В итоге вырисовывается образ героя
«общедемократического», воплотивший, скорее, единую сущность
наиболее радикальных устремлений, порождаемых предрефор-
менной ситуацией, чем какой-либо определенный вариант прояв-
ления этих устремлений. Мотивы, родственные базаровскому
200
нигилизму, конечно, дают себя знать и в экстремистских ло-
зунгах прокламации «Молодая Россия», и в «разрушении эсте-
тики», предпринятом публицистами журнала «Русское слово»,
и в полемических крайностях естественнонаучного материализма
этих лет, и еще во многом другом.75 Но всё это лишь отдель-
ные и рассеянные проблески того, что так целостно выразилось
в титанической личности Базарова. Судя по всему, Тургеневу
был нужен образ деятеля максимально свободного, самобытного,
независимого, что позволило бы выразить не только «давление
времени» (о котором говорится в «Предисловии» к собранию
тургеневских романов в издании 1880 г.), но и его глубинное
содержание, отчасти заслоняемое зигзагами политической конъ-
юнктуры, пестротой и разноголосицей сталкивающихся «доктрин».
Тургенев обнаруживал «базаровские» начала и за преде-
лами 60-х годов. Включая Базарова в широкую категорию «истин-
ных отрицателей» (П., IV, 380), автор «Отцов и детей» ста-
вит своего героя в один ряд не только с Добролюбовым, но
и с Белинским, Герценом, Бакуниным. Легко убедиться в том,
что это не было случайной фразой: в переписке Белинского
времени его разрыва с гегельянством (1840—1841), в знаменитой
статье Бакунина «Реакция в Германии» (1842), в книге Герцена
«С того берега» (1848—1850) читатель найдет множество идей
и даже конкретных формул, как будто бы предвосхищающих
мысли, настроения, афоризмы Базарова.
Удивляться этим перекличкам и совпадениям не приходится:
Тургенев был близок и с Белинским, и с Бакуниным, и
с Герценом — с двумя последними, между прочим, как раз в те
годы, даже в те месяцы, когда они переживали «базаровское»
состояние духа.76 Но всякий раз это было именно состояние —
оно не равнялось мировоззрению в целом, не становилось фаталь-
но неотменимой позицией, не оборачивалось базаровской судьбой.
По-видимому, в образе Базарова Тургенев попытался вопло-
тить какую-то глубинную тенденцию русского сознания и рус-
ского общественного развития, тенденцию, прорвавшуюся на
поверхность в момент крутого исторического перелома, но не
имеющую в современных условиях адекватного осуществления,
а потому лишь предвещающую отдаленное и неясное будущее.
Тургеневу не совсем ясна и собственная природа этой тенден-
ции, и ее способность переходить из эпохи в эпоху, и ее связь
с - идеями революционной демократии 60-х годов. До конца
ясно лишь то, что эта тенденция противостоит всем реально
сложившимся формам жизни и сознания людей, одновременно
75 Новиков А. М. Нигилизм и нигилисты: Опыт критической характе-
ристики. Л., 1972, с. 94—97.
76 Свою статью «Реакция в Германии» Бакунин писал осенью 1842 г.
в Дрездене, постоянно общаясь с Тургеневым, жившим в ту пору там же.
Книгу «С того берега» Герцен задумал и начал писать летом 1848 г. в Пари-
же, ч'оже постоянно общаясь с Тургеневым.
201
& чем-то выходя за пределы всех известных тогда Тургеневу
форм революционности. И еще одно показано совершенно ясно —
эта во многом загадочная тенденция вступает в непримири-
мое столкновение с традициями классического гуманизма, опорой
которых оказалась в России XIX в. дворянская культура, роковым
образом связанная с исторической судьбой дворянского сосло-
вия.
Природа столкнувшихся противоположностей такова, что обе
они представляются Тургеневу обреченными. «Нигилизм» в его
подлинной (бескомпромиссно максималистской) сущности обре-
чен потому, что идет против естественных и непреложных зако-
нов жизни. Высокий гуманизм дворянской культуры обречен
по другой причине — реформа, избавившая дворянство от исто-
рического греха рабовладения, тем самым гасит дух напряжен-
ных исканий, порождаемых сознанием этого греха.
В людях, окружающих Базарова, тоже (хотя и по-иному)
выразилась атмосфера переломной эпохи. От персонажей-дворян,
действующих в более ранних тургеневских романах, их отличает
иная степень раскованности и свободы. Почти каждый из них
выходит в какие-то моменты за пределы предписанного традиция-
ми и предрассудками среды. Но способность жить по-новому
не ставит этих людей выше Лаврецкого, Лизы Калитиной, Руди-
на. Напротив, в изображении Тургенева они ниже, незначитель-
ней своих предшественников. Картина современной общественной
жизни, нарисованная в эпилоге «Отцов и детей», развертывает
панораму всеобщего измельчания и «усреднения».
Может быть, выход откроет какой-то синтез непримиримых
сегодня «равнозаконных» правд? Может быть, драма, которая
сделала Базарова «лицом трагическим» (письмо к Случевскому),
пролагает пути, ведущие к такому синтезу? Намек на это есть
в эпилоге романа. На фоне эпохи, в ее пределах жизнь База-
рова должна быть признана бесплодной, но этому выводу про-
тивостоит лирическое напоминание о «вечном примирении и жиз-
ни бесконечной» (VIII, 402). Автор как будто хочет сказать
о том, что мировая гармония не может осуществиться без Базаро-
вых, без людей, восстающих против самого принципа гармо-
нии, не принимающих тех условий, на которых осуществляется
«вечное примирение и жизнь бесконечная». Что это значит,
опять-таки не совсем ясно, и автор, по-видимому, избегает яс-
ности. Но здесь о многом говорит различие масштабов, в кото-
рых изображены современная эпоха и ненужный ей Базаров.
Ее значение сводится к малому и ничтожному, значение Базаро-
ва может раскрыться лишь в масштабе вечности, оно таинствен-
но и грандиозно. Так, на уровне предельных обобщений, осущест-
вляется тот решающий закон трагедии, по которому страдания
и гибель героя утверждают его достоинство и величие.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Как видим, в кульминации своего развития тургеневский ро-
ман вновь приближается к своим истокам. Финал «Отцов и детей»
по своей структуре отчасти перекликается с первоначальной
концовкой «Рудина». Опять развитие трагического начала на-
ходит естественное завершение в «лирической концентрации»
повествования, в «переходе от повествования к высказыванию»
и, стало быть, в стилистическом и смысловом скачке, перено-
сящем читателя в иное художественное измерение. Опять диалек-
тика лирического внушения приобщает читателя к истине,
недоступной обычному восприятию. И опять с высоты философско-
эстетического созерцания, открывающего горизонты вечности,
становится видимым высшее значение «временной жизни чело-
века». Это опять значение духовное, несоизмеримое с привычными
критериями общественной пользы, не совсем понятное, если
подходить к нему с утилитарными мерками.
Как видим, роль трагического начала при всех изменениях
облекающих его форм неизменно существенна и по сути своей
однородна. Трагическое вновь и вновь оказывается источником
и средоточием универсального содержания в тургеневском рома-
не. Лирическая «концентрация» тоже всегда необходима в клю-
чевых точках повествования, но все-таки ее роль скорее вспомо-
гательная и «завершающая». Выходит, что традиционная (и очень
важная для русского реалистического романа) идейно-художест-
венная функция прочно перешла в 50-х годах к иному элементу
реалистической системы. Перешла, но не исчезла — так же, как
в 40-х годах она перешла от символического подтекста к диало-
гическому конфликту: структура романа радикально изменилась,
однако необходимость включения универсального плана в реа-
листическую картину мира осуществилась в иной форме. И вот
в 50-х годах эволюция тургеневского романа вновь наглядно
подтвердила, что необходимость эта непреложна.
203
Устойчивость основной функции трагического начала во мно-
гом объясняет природу тех изменений, которые претерпевает фор-
ма его присутствия и проявления в романах Тургенева. Каждый
раз меняется характер конкретно-исторического материала, кото-
рый стремится освоить писатель. И каждый раз нужны уже
какие-то иные формы соотнесения этого материала с универсаль-
ными категориями и проблемами. Очевидно такие изменения
необходимы именно для того, чтобы сохранялась, непрестанно
обновляясь, самая возможность сопряжения преходящего и веч-
ного, сама «двойная перспектива» изображения действительности.
Конкретные формы ее реализации в тургеневских романах
50-х годов заметно отличаются друг от друга степенью своей
естественности и непринужденности. По-видимому, наиболее орга-
ничный вариант равновесия и взаимопроникновения двух начал
был найден в «Отцах и детях». Может быть, именно своеоб-
разным совершенством осуществленного здесь синтеза отчасти
объясняется последующая резкая перестройка тургеневского ро-
мана в 60-х годах: дальнейшее движение вперед в том же
направлении оказалось просто невозможным. Но при всех коле-
баниях и переменах писатель каждый раз находит решение,
которое помогает включить общечеловеческие и вселенские уни-
версалии в художественный строй романа, воссоздавшего реаль-
ность текущего момента. И это — при том, что именно в тур-
геневских романах 50-х годов впервые в полной мере оформилась
,и осуществилась система изображения, адекватно отражающая
эмпирический порядок вещей — система, снимающая дистанцию
между субъектом изображения и его объектом, скрывающая
автора в жизнеподобном, как бы независимо от него суще-
ствующем образном мире произведения.
Всякий раз текущий момент воссоздается в своей локальной
конкретности — социальной, культурно-исторической, психологи-
ческой, бытовой. Воплощением отличительных особенностей не-
большого и точно обозначенного в романе отрезка времени
Тургенев дорожил больше, чем кто-либо из его предшествен-
ников. Но , судя по всему, для него очень важна возможность
проникать сквозь конкретные формы, которые принимает не-
прерывно меняющаяся жизнь, к ее вечной первооснове, к неразре-
шимым метафизическим ее противоречиям. Причем способность
проникновения нужна ему не для того, чтобы отвлечься от
этих конкретных форм, а для того, чтобы остро и напряженно
соотносить их с метафизической первоосновой бытия. Проблемы,
волнующие русское общество сегодня, вновь, как и в 30-х
или 40-х годах, оказываются нерасторжимо связанными с веч-
ными вопросами, которые человечество всегда решало и всегда
будет решать. Так развивается особый тип реалистического исто-
ризма, который наверное, можно было бы назвать историзмом
«в высшем смысле».
Этот своеобразный взгляд на вещи, не минуя временно дейст- <
204
вующих исторических факторов, выделяет, наряду с ними, и
«субстанциальные» силы, формирующие, по мысли писателя,
логику русского исторического процесса. Такой взгляд неизменно
улавливает воздействие этих «субстанциальных» исторических
сил на смену форм и условий решения вечных общечеловеческих
вопросов. .Появляются и становятся устойчивыми универсальные
критерии, которые позволяют оценивать под единым углом зрения
и древнейшие патриархальные традиции, составляющие «ста-
тическое» начало национального бытия, и естественную необходи-
мость развития, приводящую к смене общественных форм, и при-
способление «хоровых» сил русского общества к меняющимся
историческим ситуациям, и развитие новой духовной культуры,
сложившейся после реформ Петра, и социально-нравственную
инициативу независимой героической личности, выражающую
в конечном счете те или иные потребности народного духа.
Два последних фактора привлекают к себе особенно при-
стальное внимание Тургенева. Уже не раз вполне справедливо
говорилось о том, что в своих романах 50-х годов писатель
выступает как «художник идей, общественной деятельности,
философско-мрральных исканий личности», о том, что «движущей
силой в романе Тургенева прежде всего являются идеи, нравст-
венные и философские убеждения, общественные стремления».1
. С этими выводами нельзя не согласиться, необходимо лишь
несколько конкретизировать их содержание. Важно, в частности,
отметить, каковы те аспекты, которые обычно акцентирует Турге-
нев. Отражая историческую подвижность идейной жизни «рус-
ских людей культурного слоя» (XII, 303), тургеневские романы
вбирают в себя идеи чрезвычайно разнообразные. Но каждый
раз эти «идеи века» выступают в тургеневском художественном
мире как нечто в том или ином отношении противоположное
наличному порядку.
Русское,гегельянство понятно как источник метафизического,.
а в дальнейшей перспективе и социального утопизма, вырывающе-
го человека из круга установленных обществом форм жизни.
Славянофильство предстает прежде всего как порыв к народной
правде, зародившийся в дворянском сознании; т. е., говоря иначе,
обнаруживает в своей глубине потенциал классового самоотри-
цания. Инсаровская идея —«освободить родину»— воспринимает-
ся поначалу как «нерусская», хотя и влекущая к себе русского
человека,— так еще нова она для русского общественного со-
знания, так резко расходится с теми либеральными идеалами
«культурного, слоя», которые уже успели прочно сложиться.
^Тьконец, русский материализм, включающий в себя самые раз-
J Z_-------
• Д/ 1 Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л., 1962,
Чу 65 См также: Малахов е. А., Фридлендер Г. М. Романы Тургенева:
^йРудин» — В кн.: История русского романа. В 2-х т T. 1. М.; Л., 1962, с. 457;
6 я л ы й Г. А. О психологической манере Тургенева.— Русская литература,
i У968, № 4, с. 35.
205
личные оттенки философского «спектра»—от возвышенного ан- I
тропологизма до вульгарной механистичности, интересует Турге- И
нева как источник «полного и беспощадного отрицания» всег^
существующего, как принцип мышления, противопоставляющий
«безобразному состоянию общества» естественную природу чело-
века.
В то же время в «идеях века» Тургенев, как правило, усма-
тривает содержание, претендующее на всеобщность и общезна-
чимость (абстракции классического идеализма, догматы хри-
стианской религии, идея национального объединения или прин-
цип, провозглашающий, что все люди одинаковы, как «деревья
в лесу»). По смыслу своему «идеи века» призваны освободить -
? личность от власти законов ее среды, вывести к социальному
творчеству, к общенародным и общечеловеческим жизненным
целям. Таков неизменно повторяющийся итог художнических
наблюдений Тургенева. Итог этот обычно предопределяет харак-
\ тер испытания, которому «идеи века» подвергаются в его романах.
5 Они превращаются в достояние героической личности, макси-
мально самостоятельной и максимально последовательной, для
которой эти идеи приобретают значение высшей правды и вместе
с тем руководства к действию. При таком сюжетном повороте
проверка оказывается не только глубокой,_но и беспощадно
ясной по своим результатам.
Сама объективная последовательность смены эпох и социаль-
но-исторических типов создает условия для испытания все более
серьезного, глубокого и показательного. Центральные герои или
“героини тургеневских романов 50-х годов предстают все более
свободными (даже по своему положению или происхождению)
от сословной ограниченности: дворянин Дмитрий Рудин — бедняк
без копейки в кармане, Федор Лаврецкий — сын, а Лиза Калити-
на — воспитанница крестьянки, Елена Стахова, говоря словами ее
отца, «вышла за бродягу, за разночинца», герой «Отцов и детей»
уже сам разночинец и притом разночинец по натуре, по существу
своего характера, а не просто потому, что его «дед землю пахал». .
Идеалы, которые эти герои или героини стремятся утвердить /
в своей жизни, приобретают от романа к роману все более ак-[
тивный, действенный характер, пока, наконец, в «Отцах и детях»’
не появляется «нигилист», развивающий идею всеобъемлющего^
переустройства мира. Но при всем том итоги сюжетных конфлик-
тов в самом главном оказываются сходными, и сходство их
не исчезает даже тогда, когда предпринятое романистом испы-
тание общественных идеалов достигает апогея. На с./гену идеалу,
как будто бы всецело абстрактному, казалось бы, даже космо?^"
политическому («Рудин»), приходит другой — утверждающий не/>
об ходимость духовной связи с «почвой» и сам, казалось бк*
в этой почве глубоко укорененный;:, позднее читатель получше :
возможность увидеть, как отвергается буквально все, что/
гла породить и выдвинуть старая, дворянско-крестьянская S
206 j
/
'сия, как на арену истории выходит новая общественная сила,
чкак все более определенно утверждается идеал совершенно иной
)кизни, строящейся на каких-то еще небывалых и отчасти даже
йеизвестных основаниях. Словом, изменяется и отменяется бук-
вально все — все, кроме неизбежности трагической развязки,
всякий раз постигающей порывы героев к идеалу. Она-то
и проясняет, в конце концов, то, что поначалу, в «Рудине»,
представало как неразгаданная тайна русской истории.
Многократно повторенное и, наконец, углубленное до «послед-
него» предела художественное исследование обнаружило со всей
очевидностью, что устремленность к идеалу, столь заметная
в «русских людях культурного слоя», по сути своей не что
иное, как жажда всеразрешающего абсолюта, и что такое стре-
мление в самом деле «вызвано народным духом» (говоря сло-
вами Базарова)—оно неистребимо и способно возобновляться
при всех переменах исторической ситуации, при всех разрывах
непосредственной преемственности эпох и поколений. Но испы-
тующий «ход» художественного мышления выявлял и другое —
неполноту и недостаточность всех уже существующих идеалов,
сформированных русской общественной жизнью, историей, куль-
турой, невозможность остановиться на каком-либо уже найден-
ном решении. Тургенев вновь и вновь указывал на недостижи-
мость — в исторически обозримых пределах — социальных целей,
определяемых глубинными стремлениями отдельной личности
и народного духа. В этом сказывалась неуступчивая логика
русского реализма, требующая немедленной и безусловной гар-
монии, не позволяющая жертвовать во имя «принципа» любой
из необходимых человеку ценностей, любой из сторон человече-
ского существования. Однако та же самая логика приводила
к открытию бесспорной ценности, сохраняющей свою незыб-
лемость на всех поворотах противоречиво-изменчивого движе-
ния истории. Этой ценностью оказывалась сама неистребимость
идеальных стремлений, владеющих передовой частью русского
общества, сама бесконечность и безостановочность ее духовных
исканий. Неоспоримость этой ценности не умалялась ее един-
ственностью. По логике художественной мысли Тургенева, неист-
ребимая жажда; абсолюта, пронизывающая стремления его героев,
придает высший смысл самому существованию русской нации,
наполняя национальную историю содержанием подлинно всемир-
ным. Тут важен не практический результат, важна духовная
значимость попыток, цель которых — подчинение безличных исто-
рических процессов человеческим критериям и идеалам. В этом
гЬже сказывалась особая природа русского классического реа-
лизма, для которого в рождающемся из противоречий истории
неиссякающем порыве к смыслу как раз и заключается ее вечный,
несомненный и непреходящий смысл.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение............................................... ... 3
Глава 1. Некоторые особенности реализма в романах Пушкина, Лермон-
това, Гоголя («Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые ду-
ши») . ‘........................................................... 7
Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина» . . —
О «втором сюжете» в «Мертвых душах» 24
О лирико-символическом подтексте в романе Лермонтова «Герой
нашего времени» ................................................33
Символический подтекст и становление реализма в русском клас-
сическом романе . ..................................... ..... 45
Глава 2. Схема и дискуссия в романах натуральной школы (Герцен и Гон-
чаров) ..................................\............................64
О роли диалогического конфликта в романе Герцена «Кто вино-
ват?» ..........................................................66
Своеобразие диалогического конфликта в романе Гончарова «Обы-
khof.v иная история» . . '......................................78
Природа художественной истины в романах Герцена и Гончарова
1840-х годов....................................................97
Глава 3. Эволюция художественной системы Тургенева-романиста в
1855—-1862 гг........................................................109
Роман Тургенева «Рудин» и традиции натуральной школы ... —
Между эпосом и трагедией («Дворянское гнездо»).................134
Трагическое в романе «Накануне» ............................/ 166
Кто такой Базаров? ....................................... \ 186
Вместо заключенья . . ...............1 . ..................203
у .