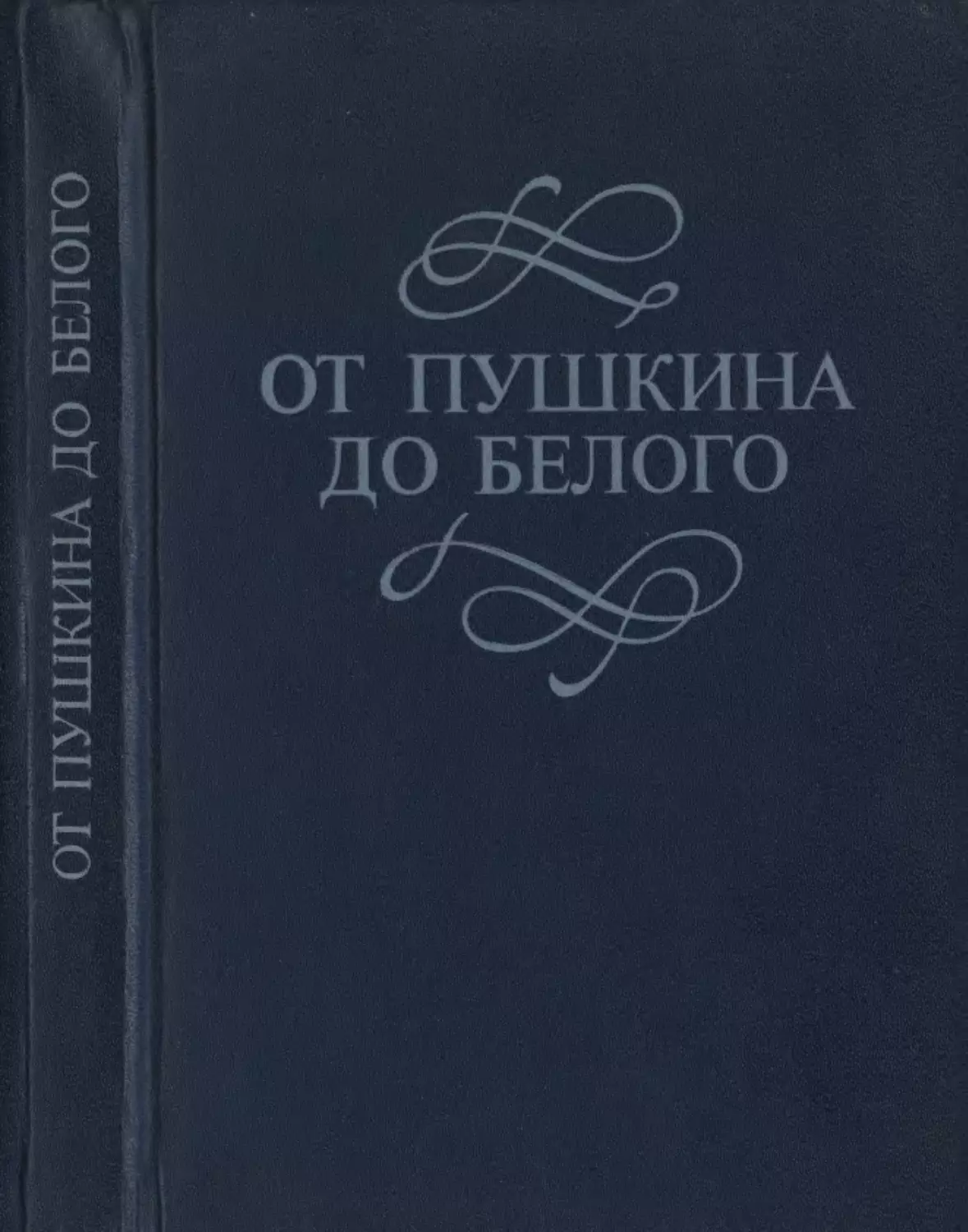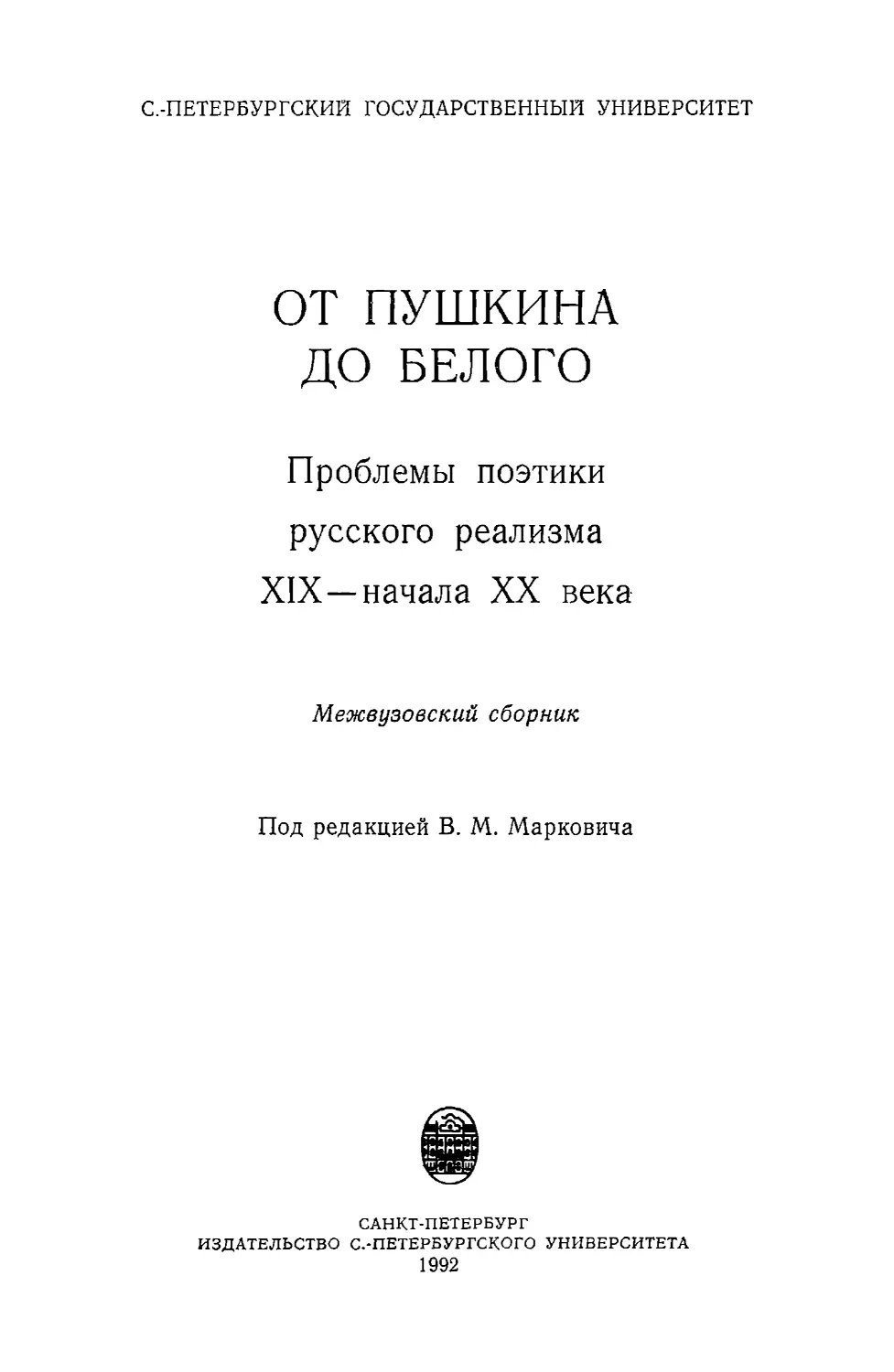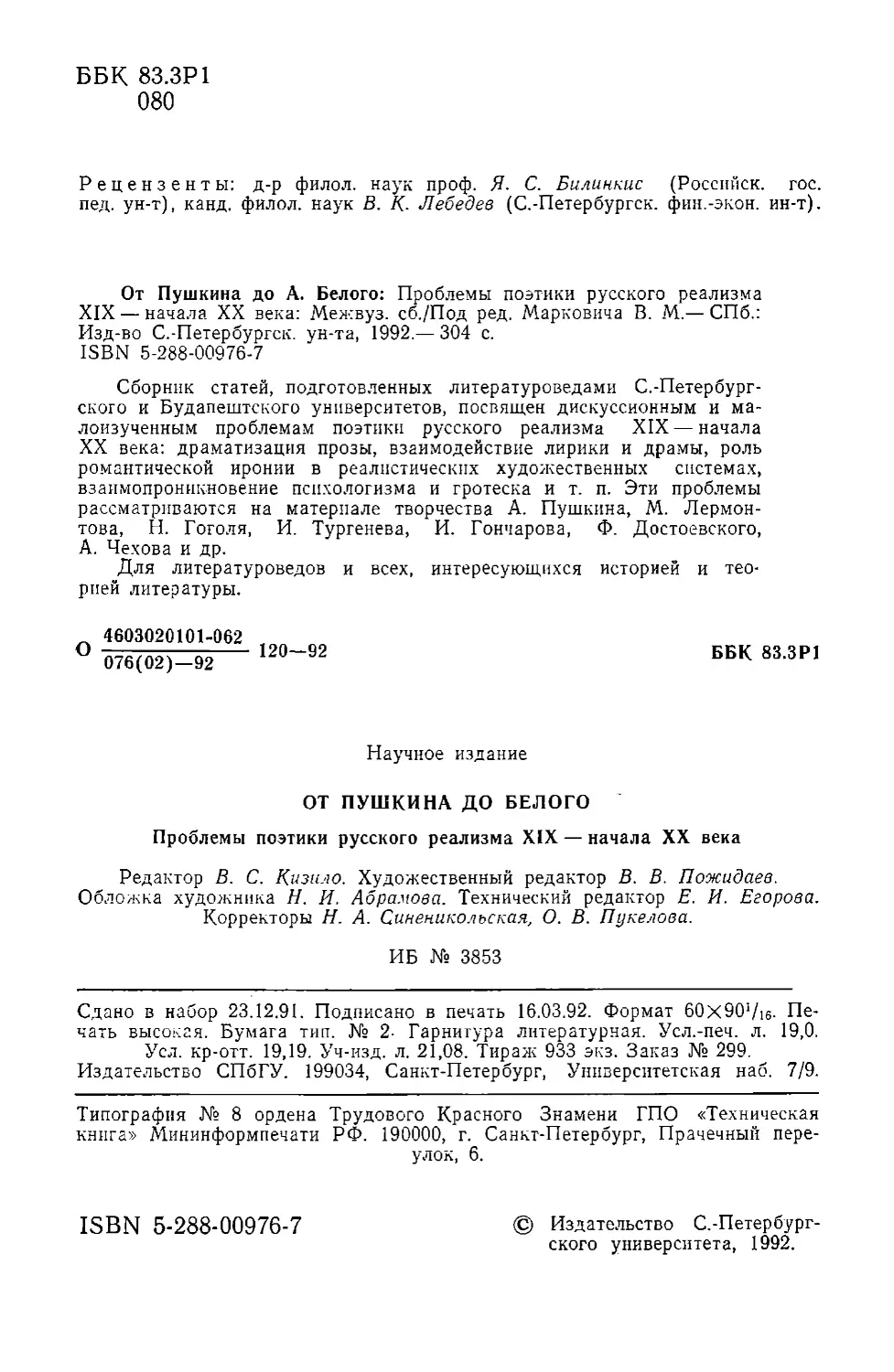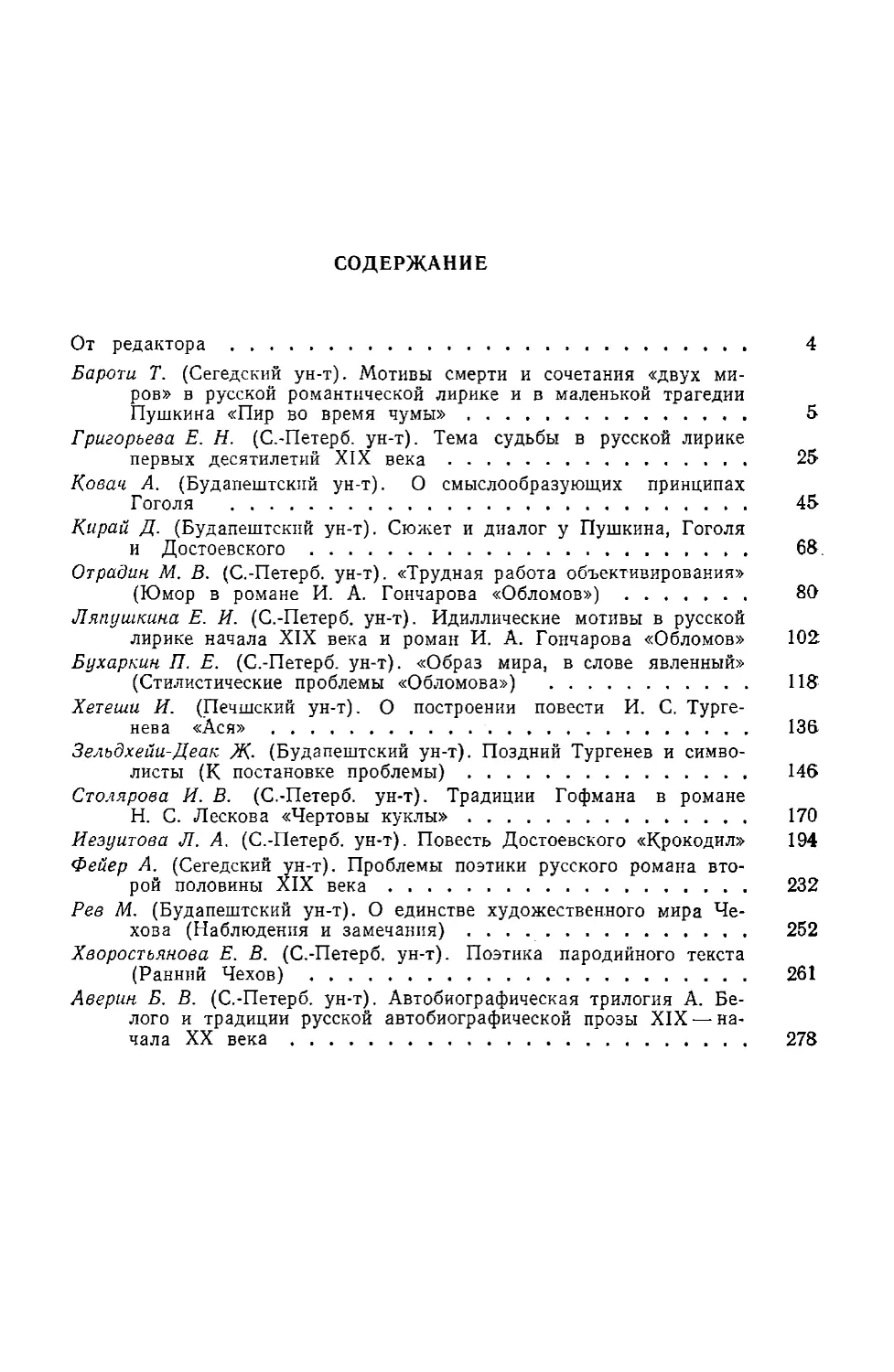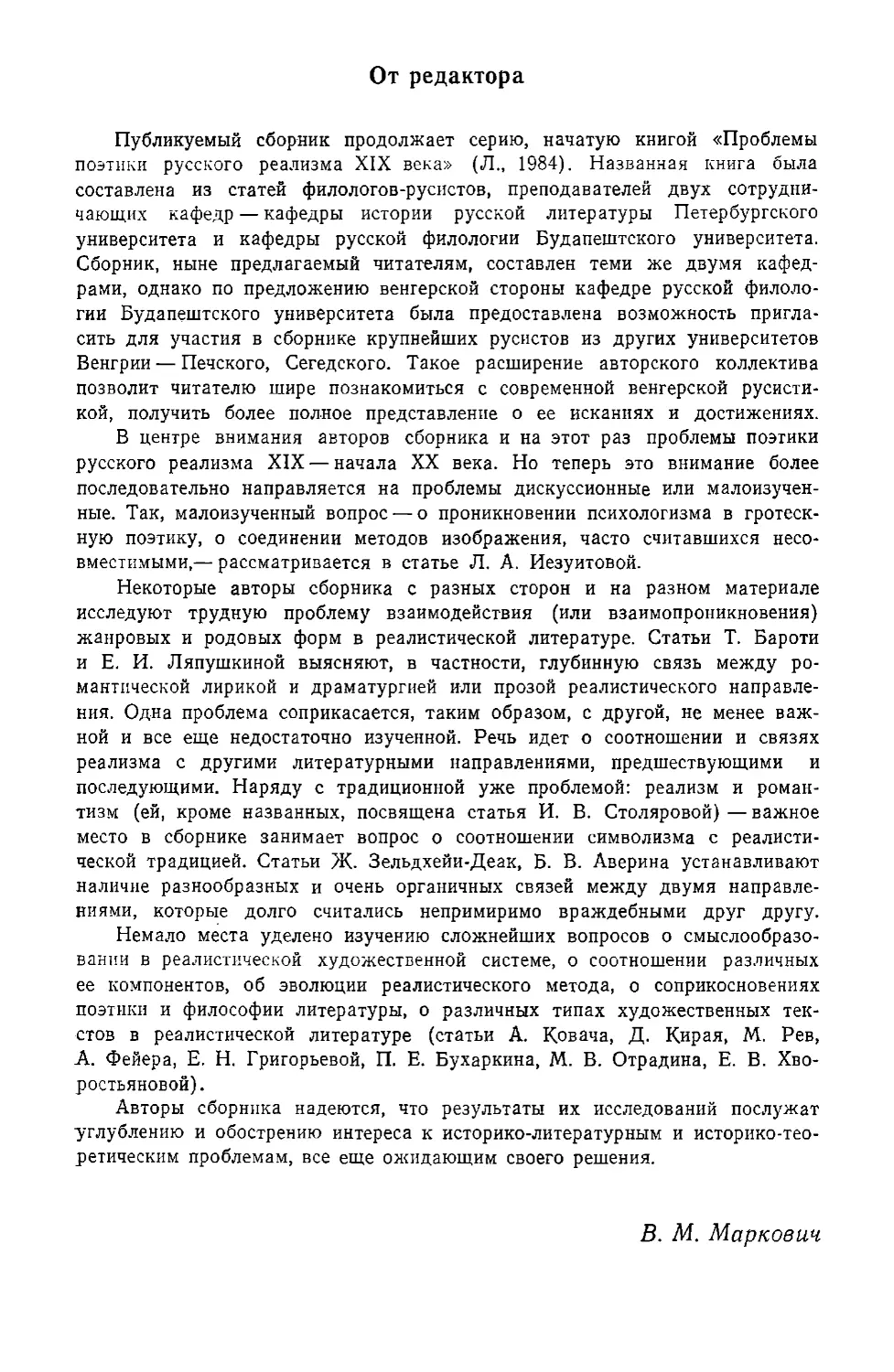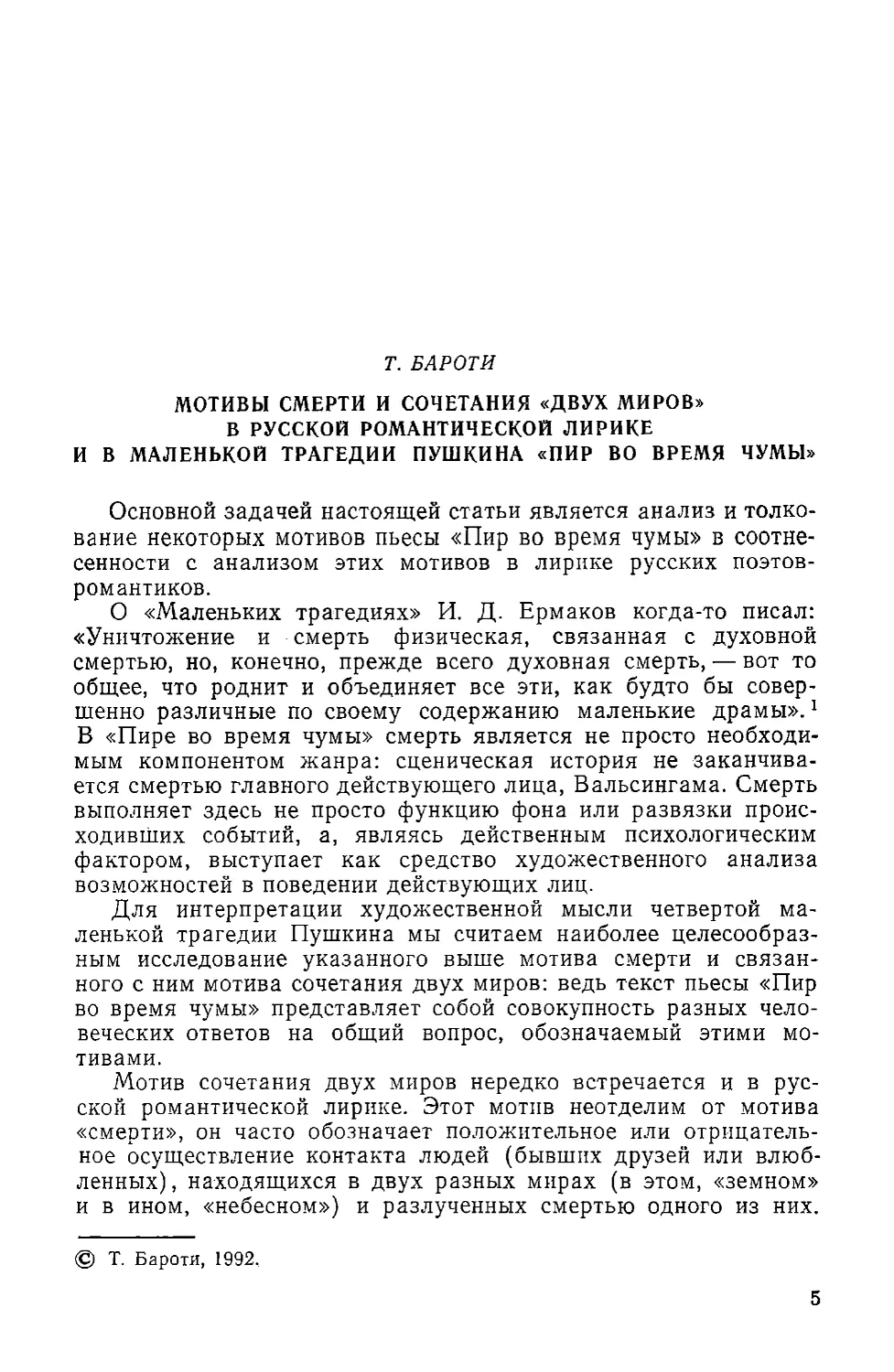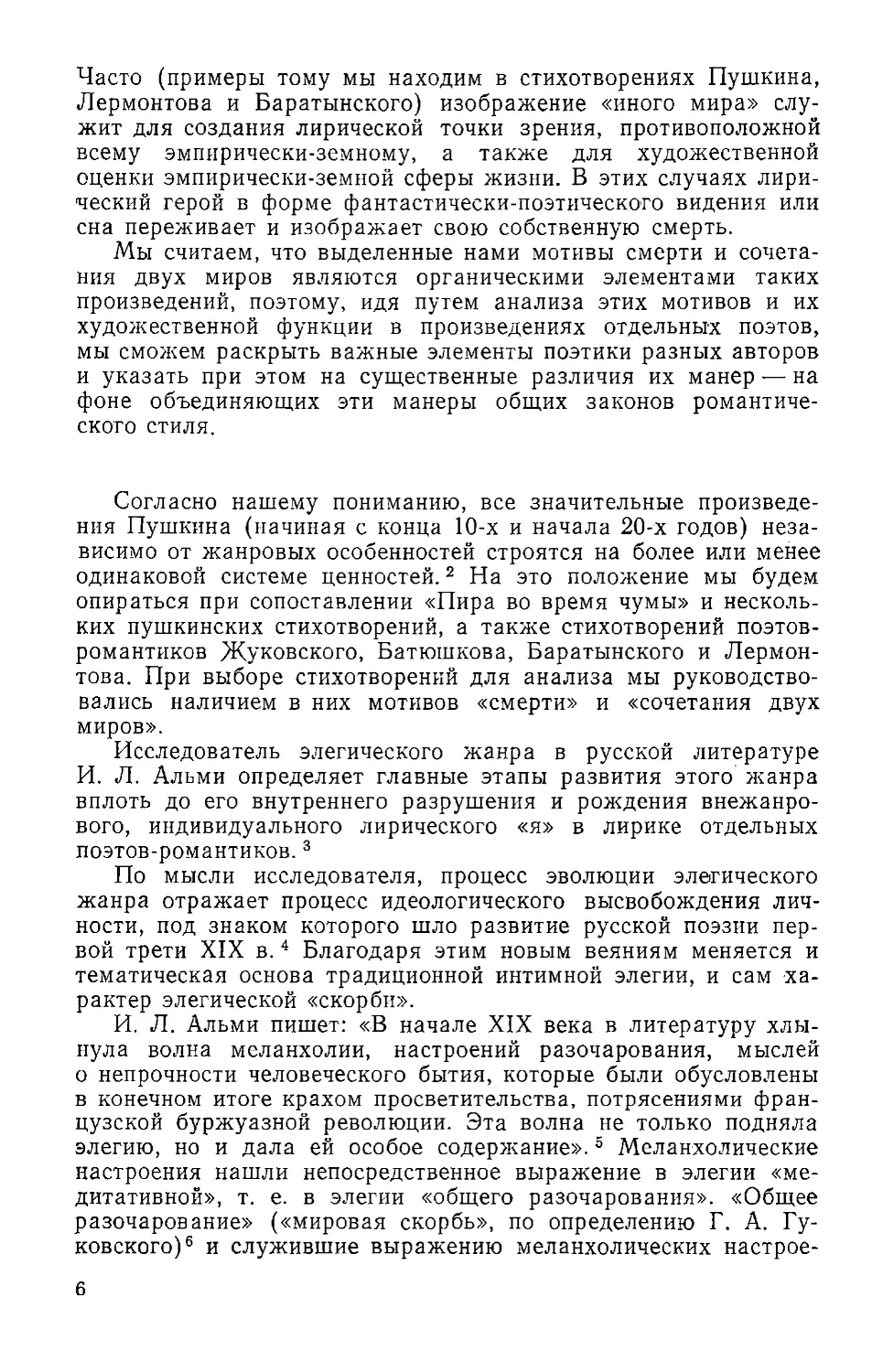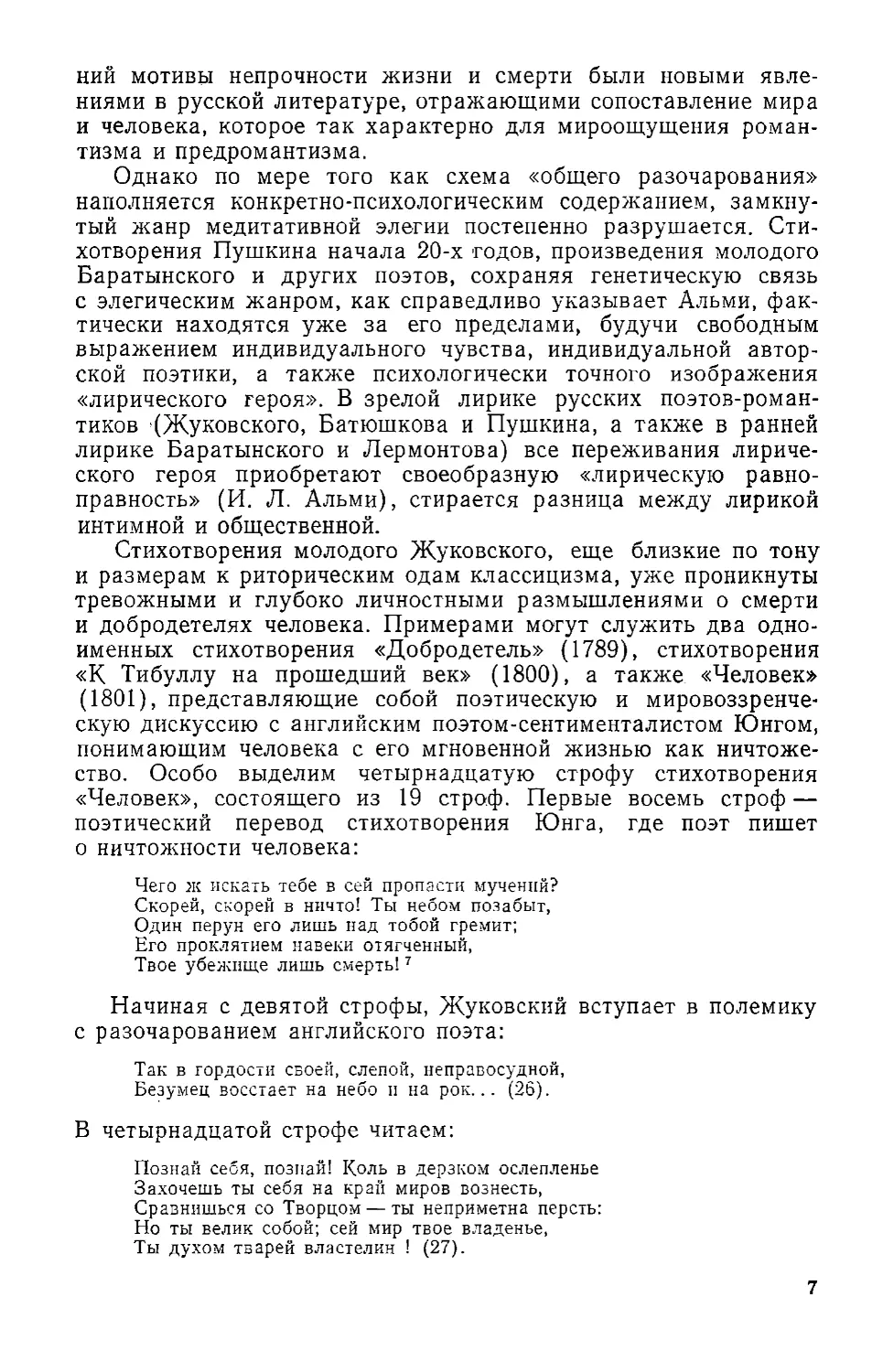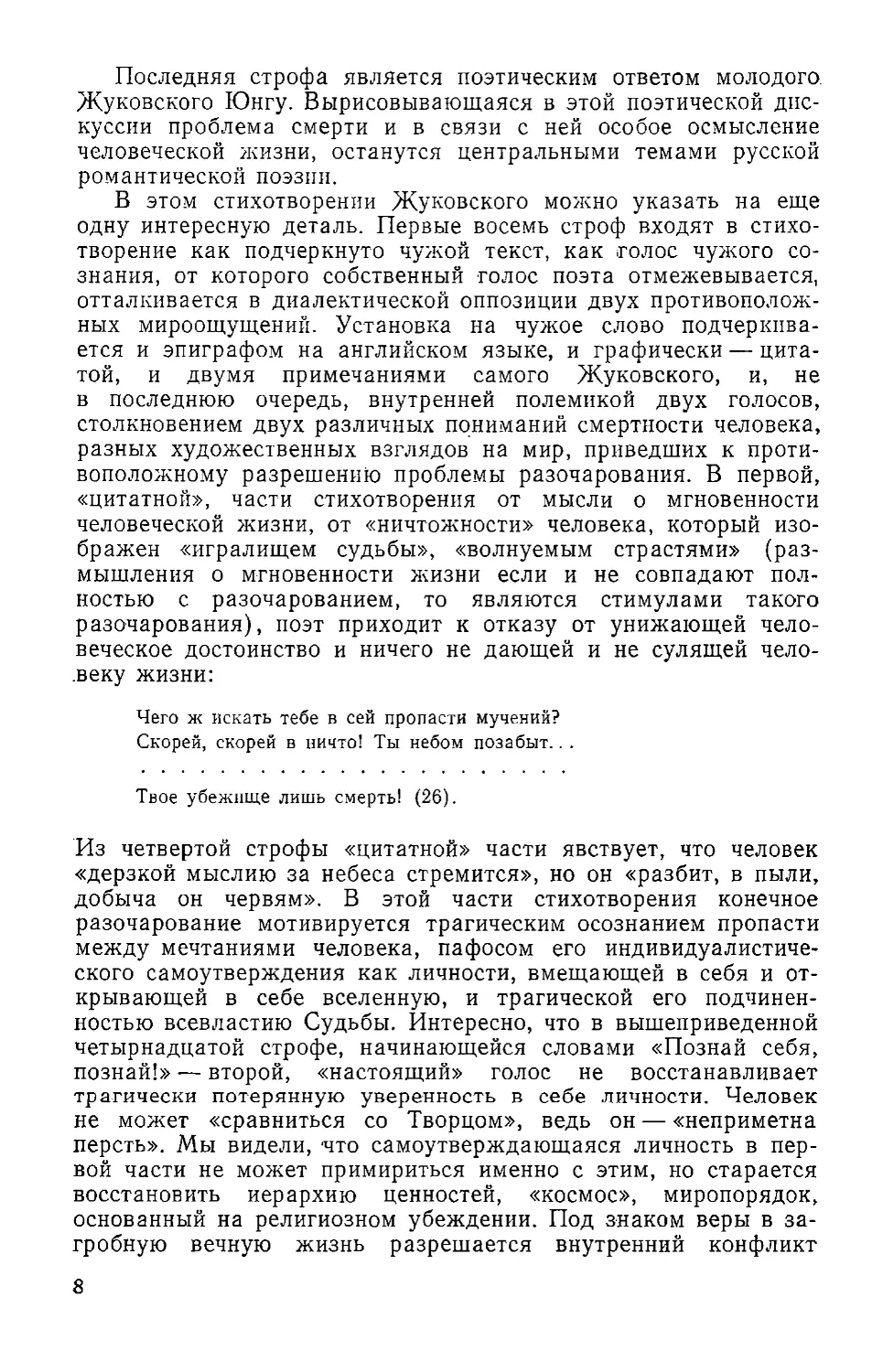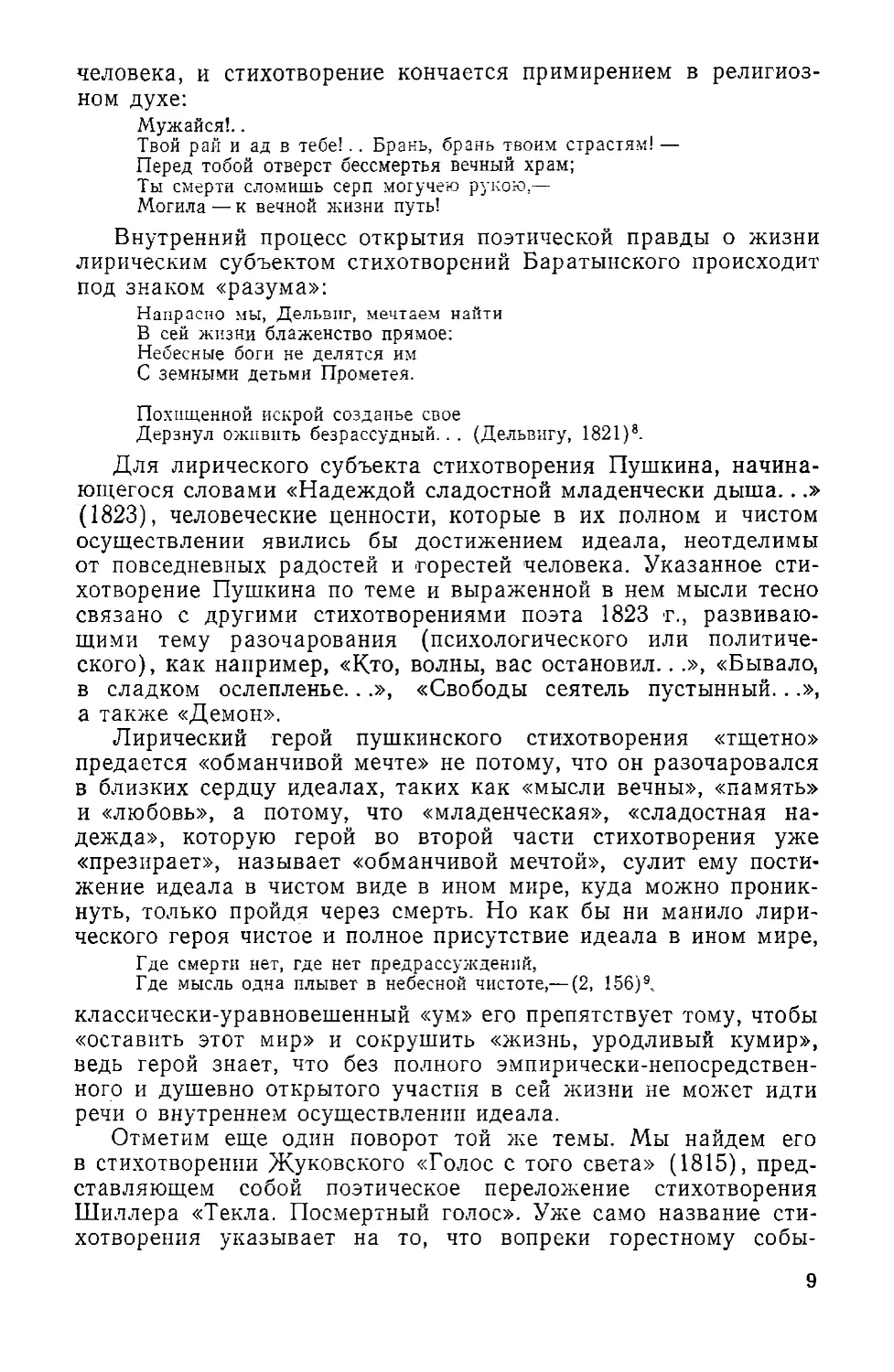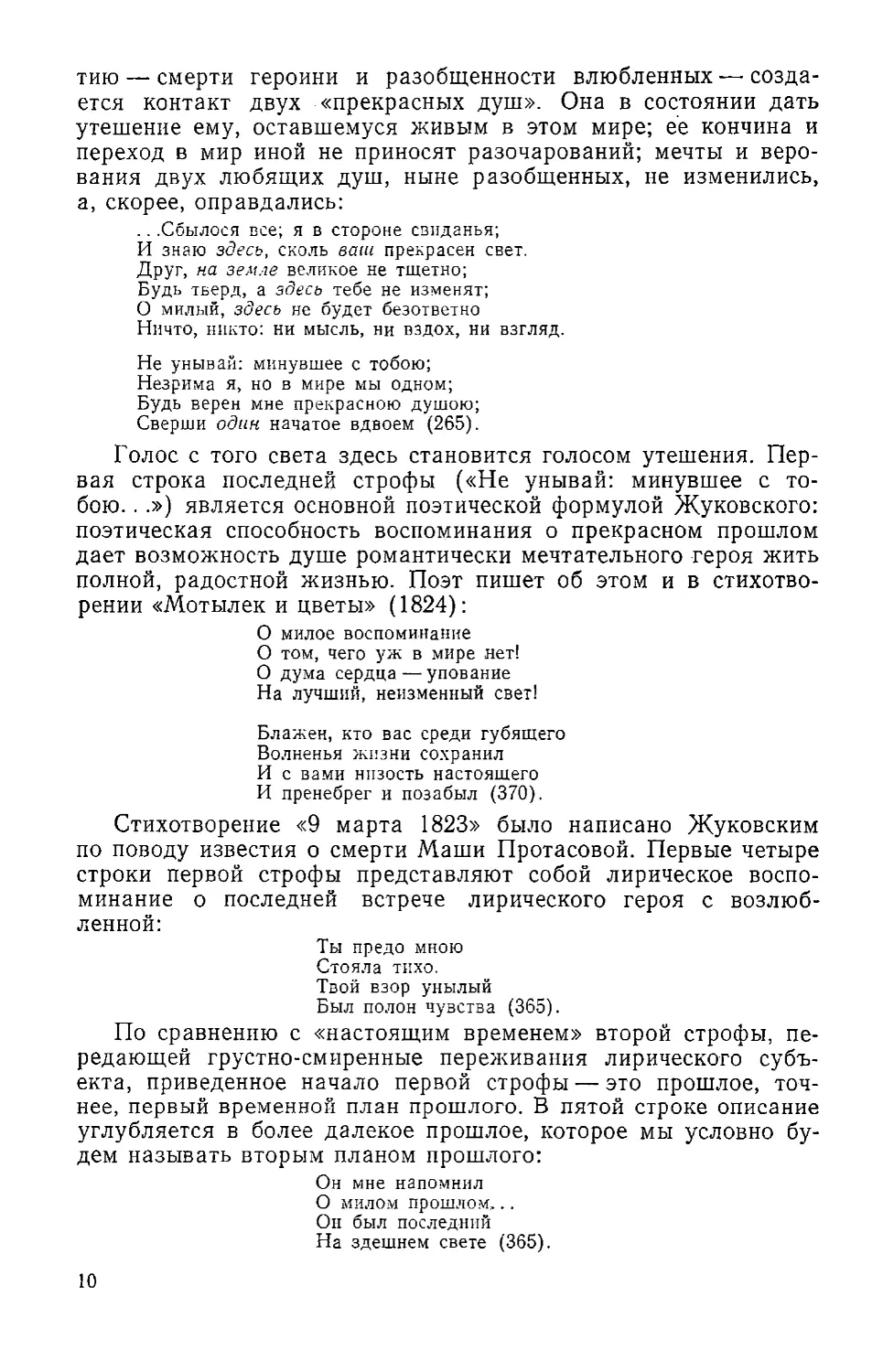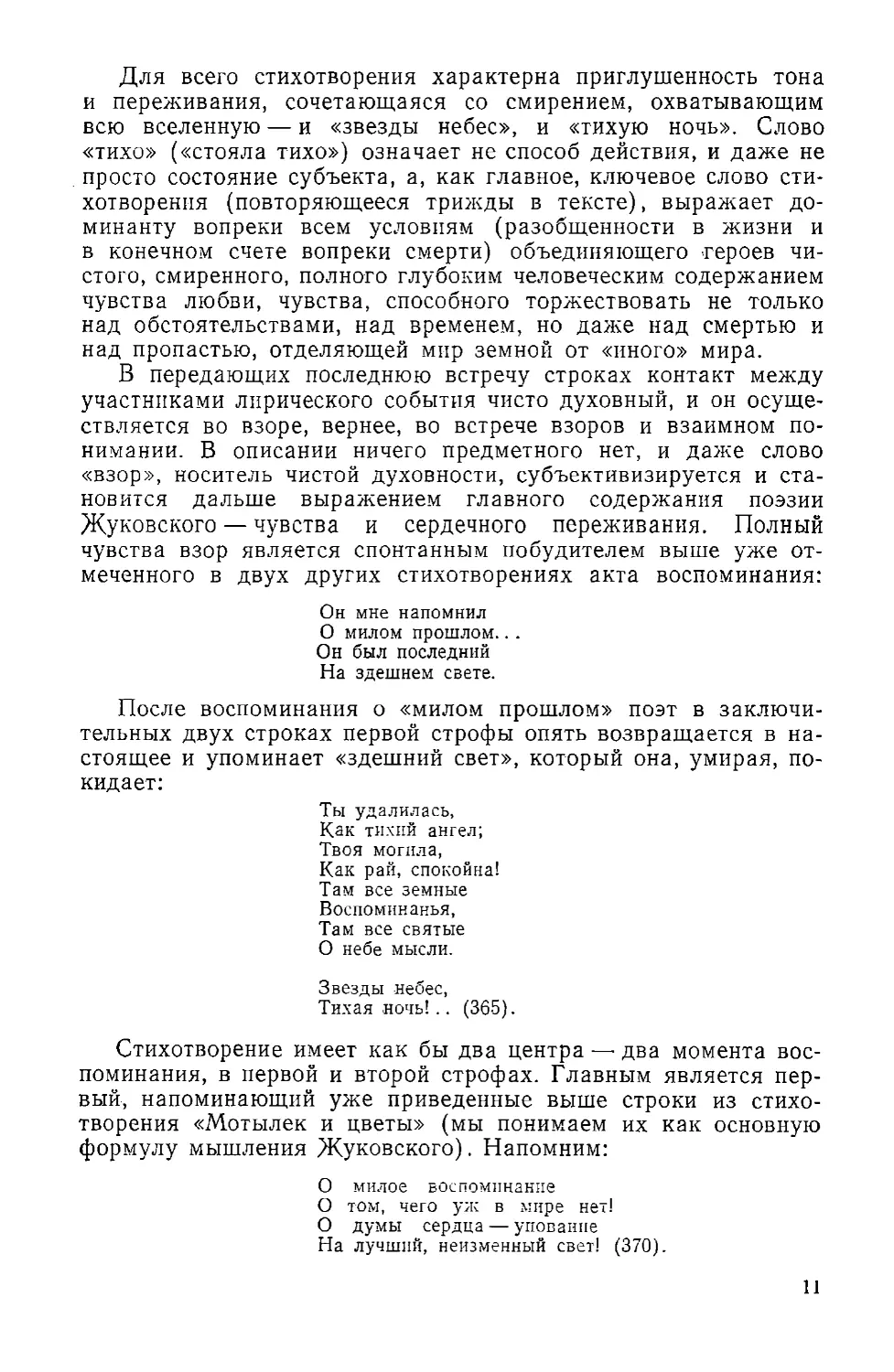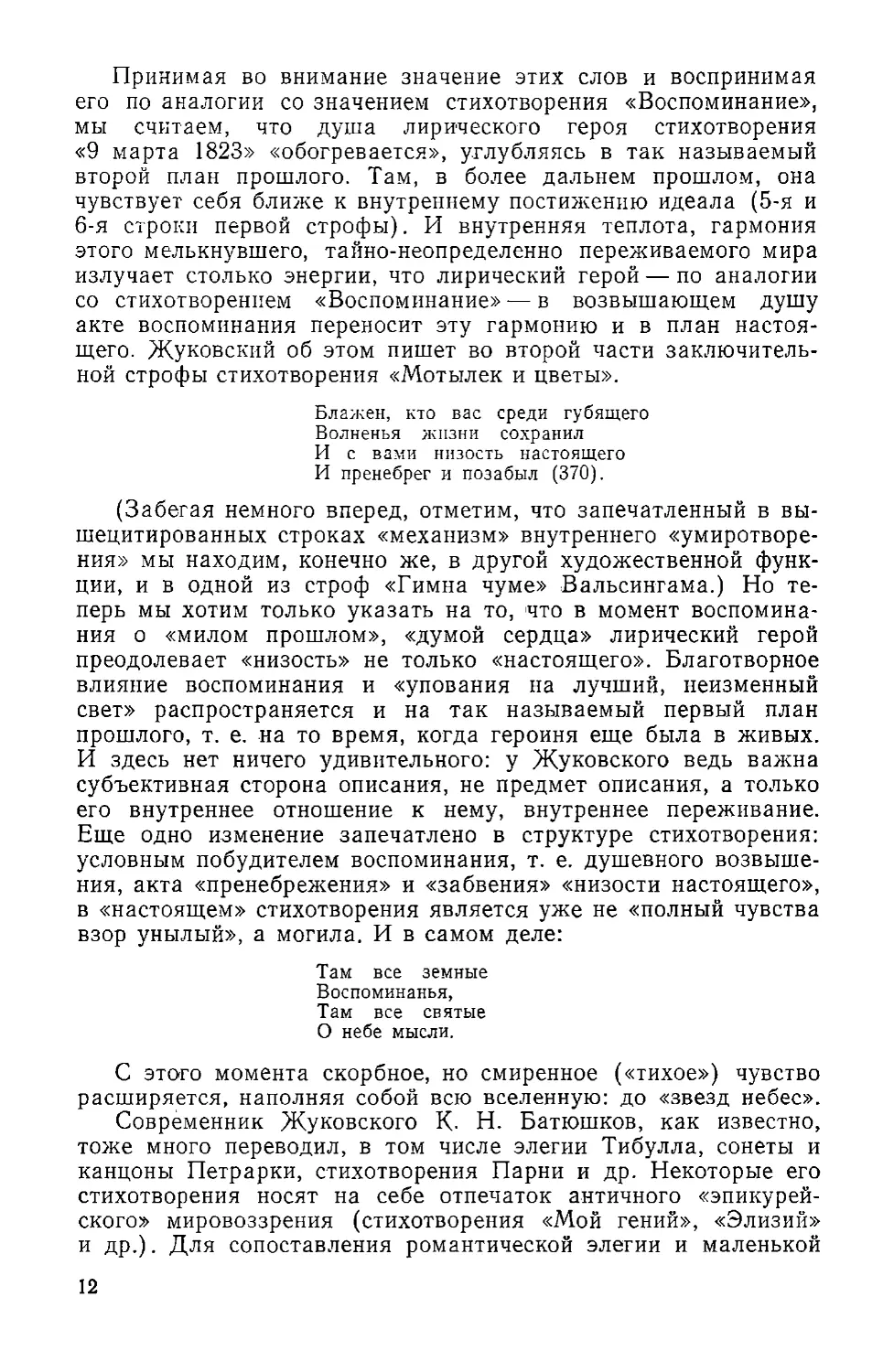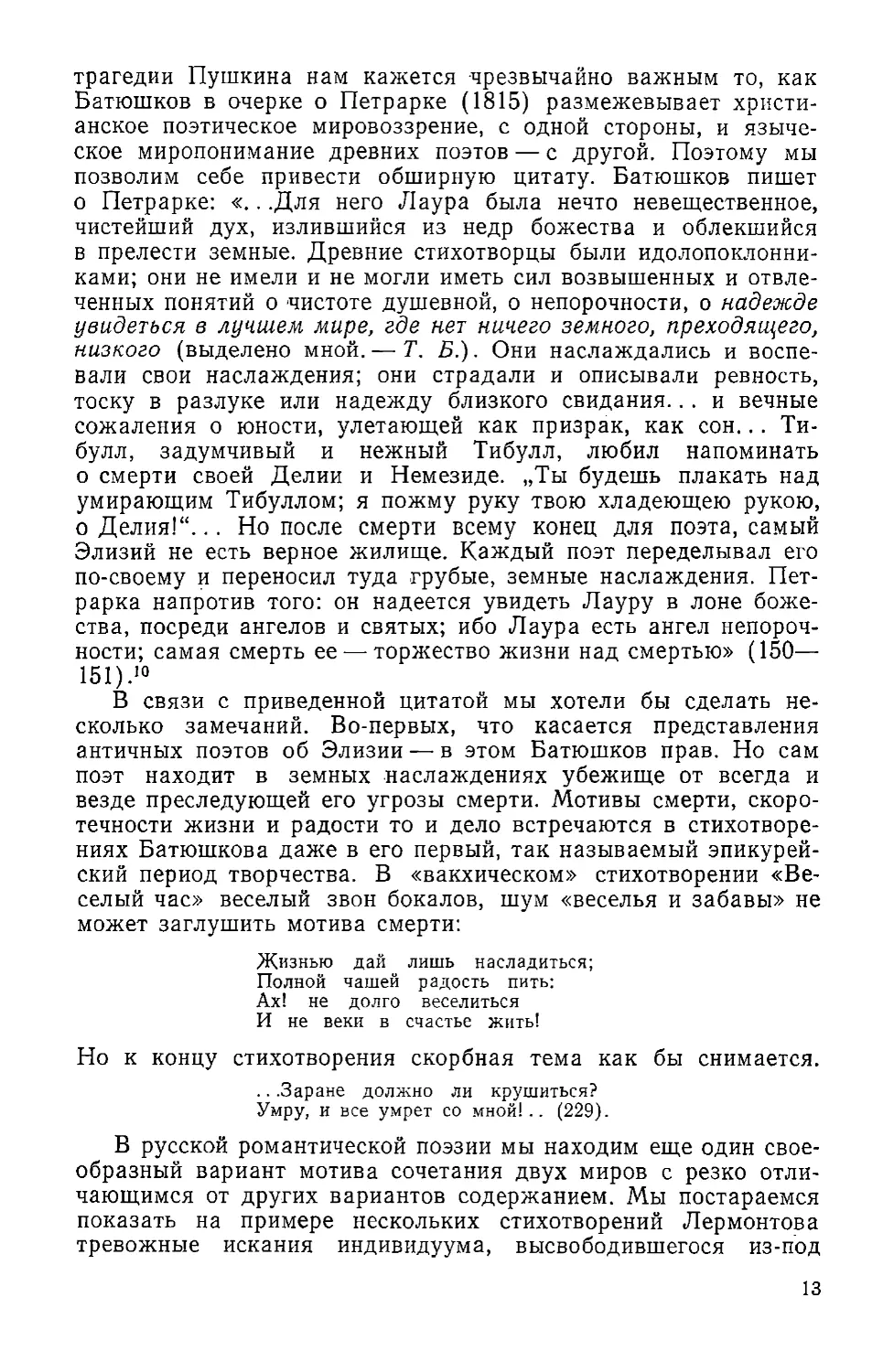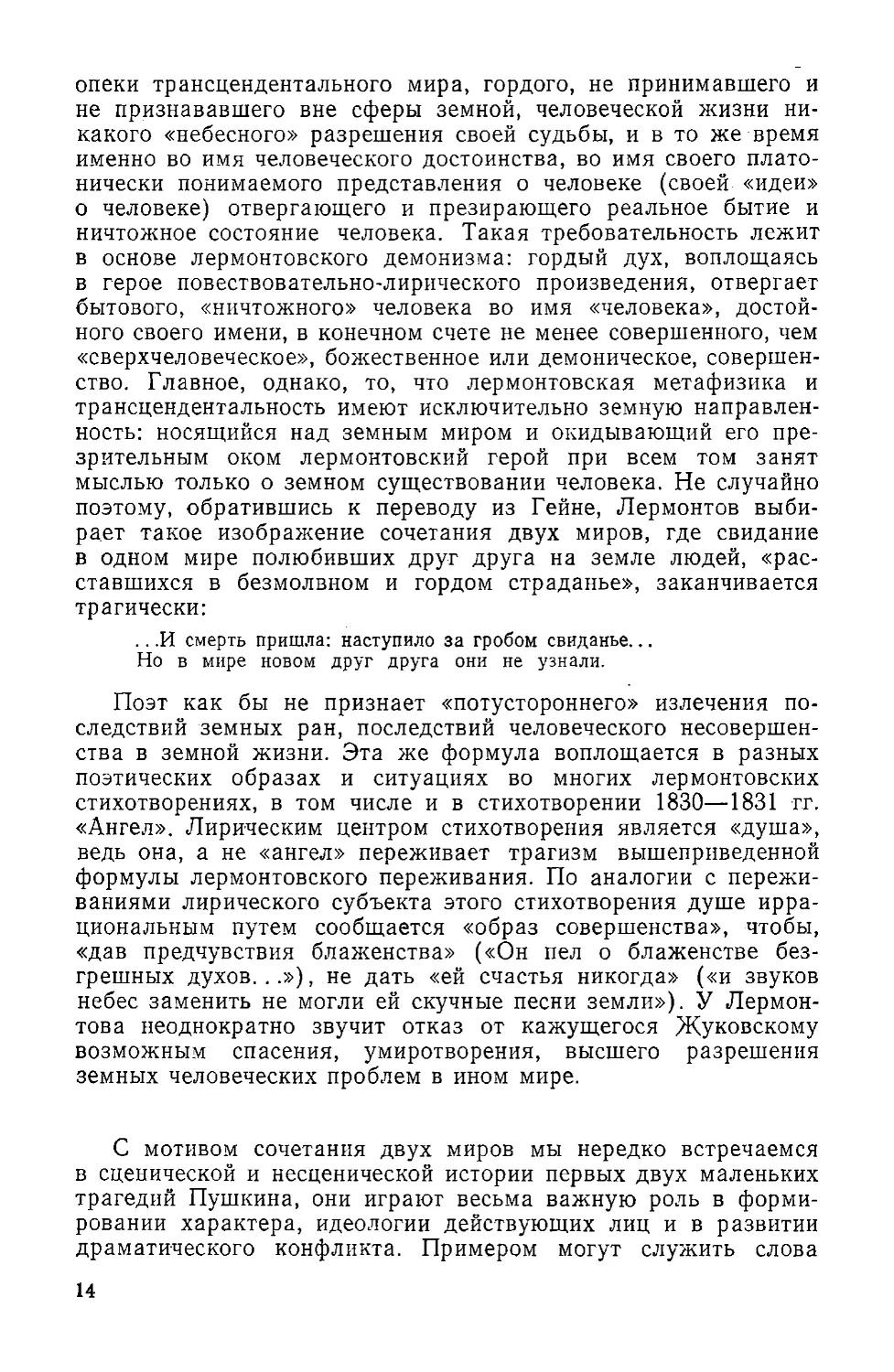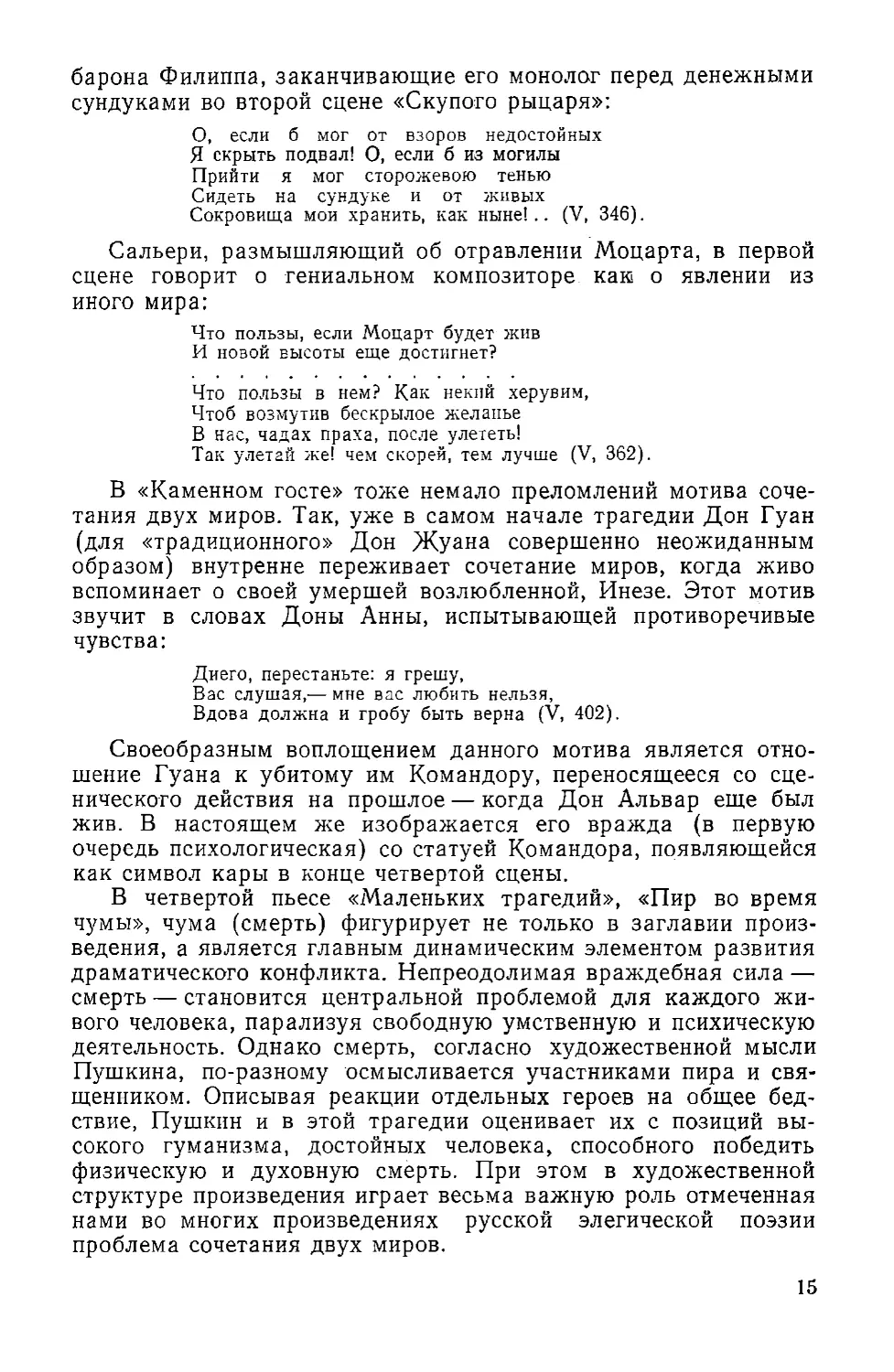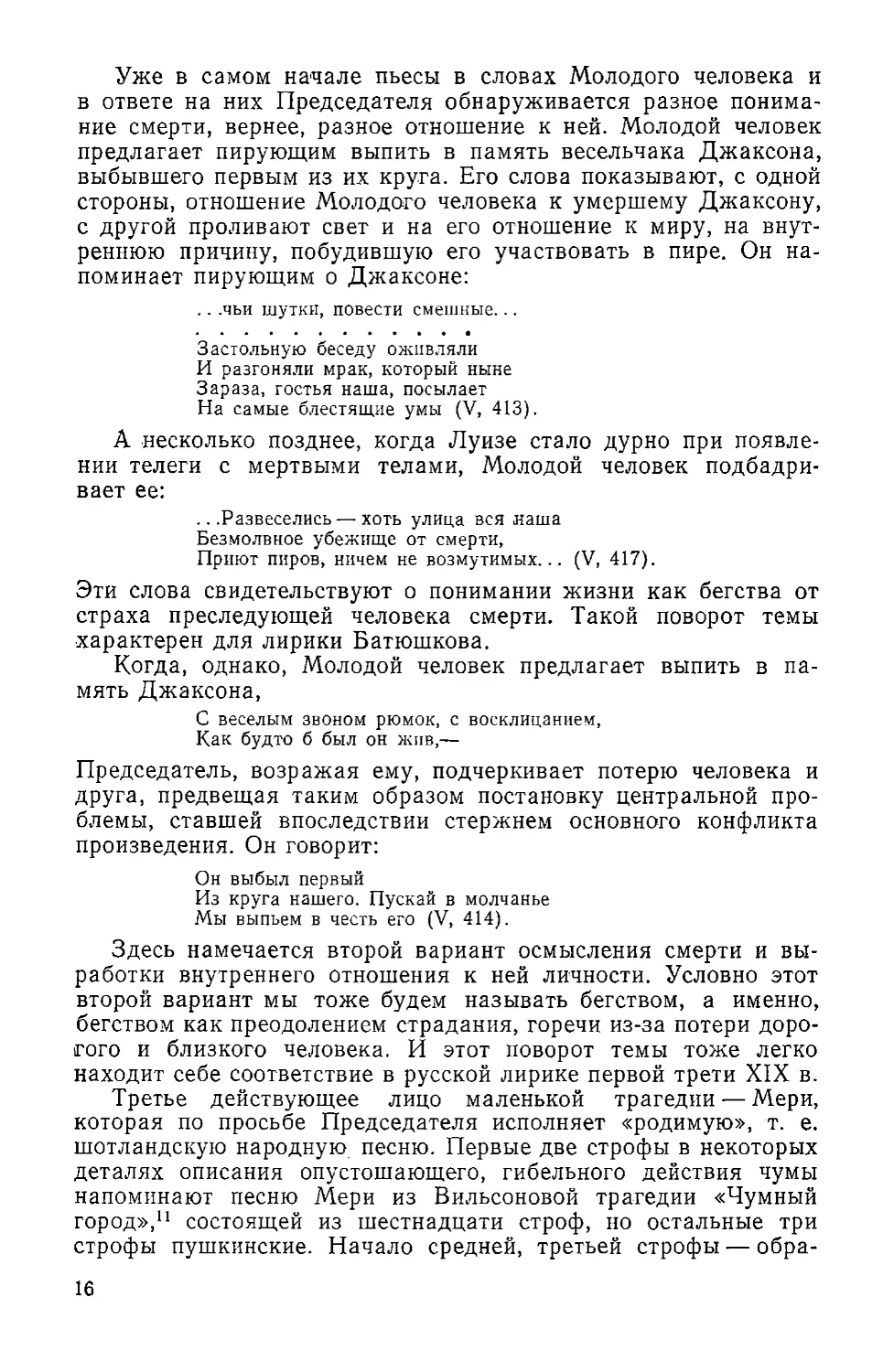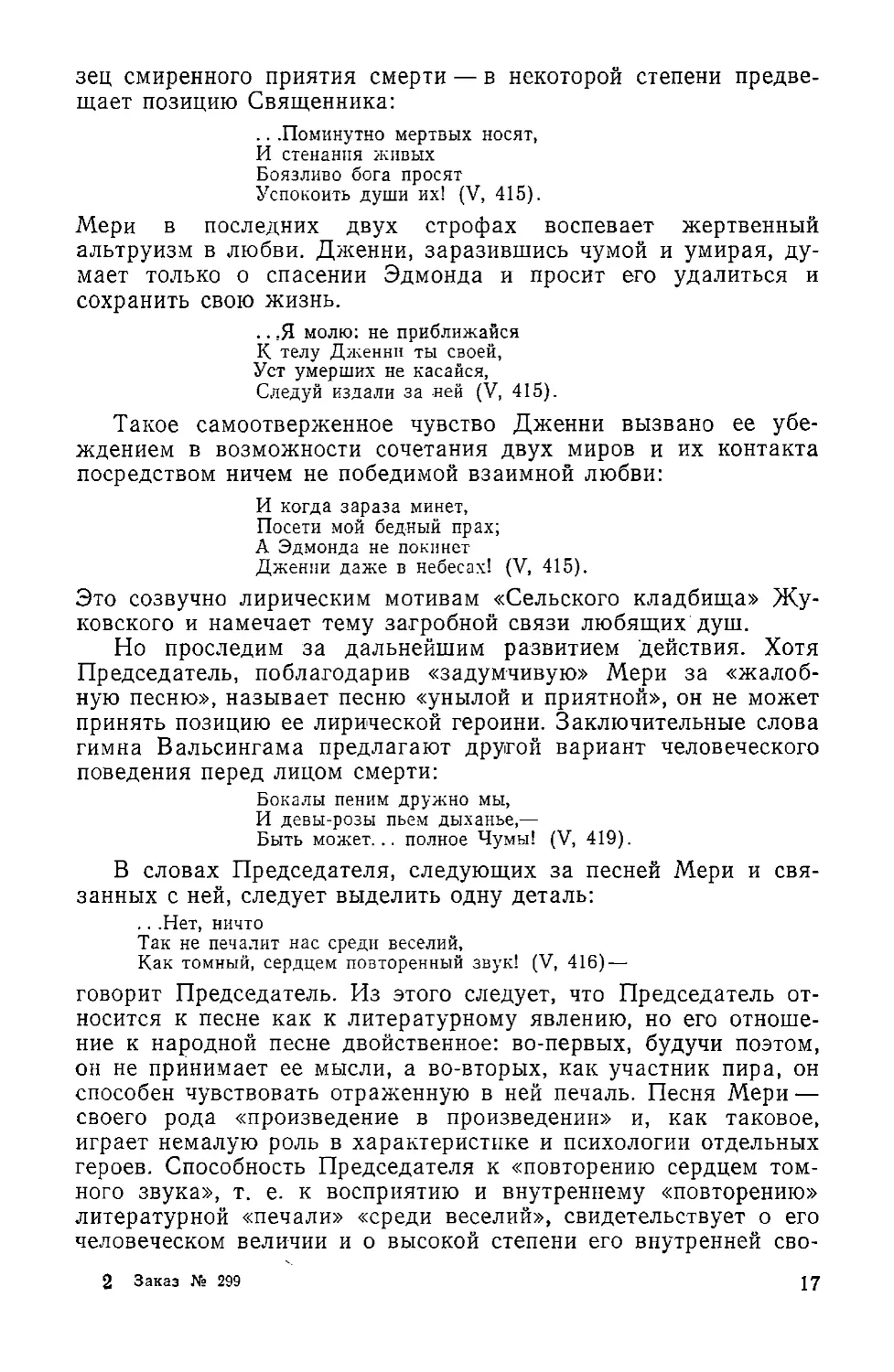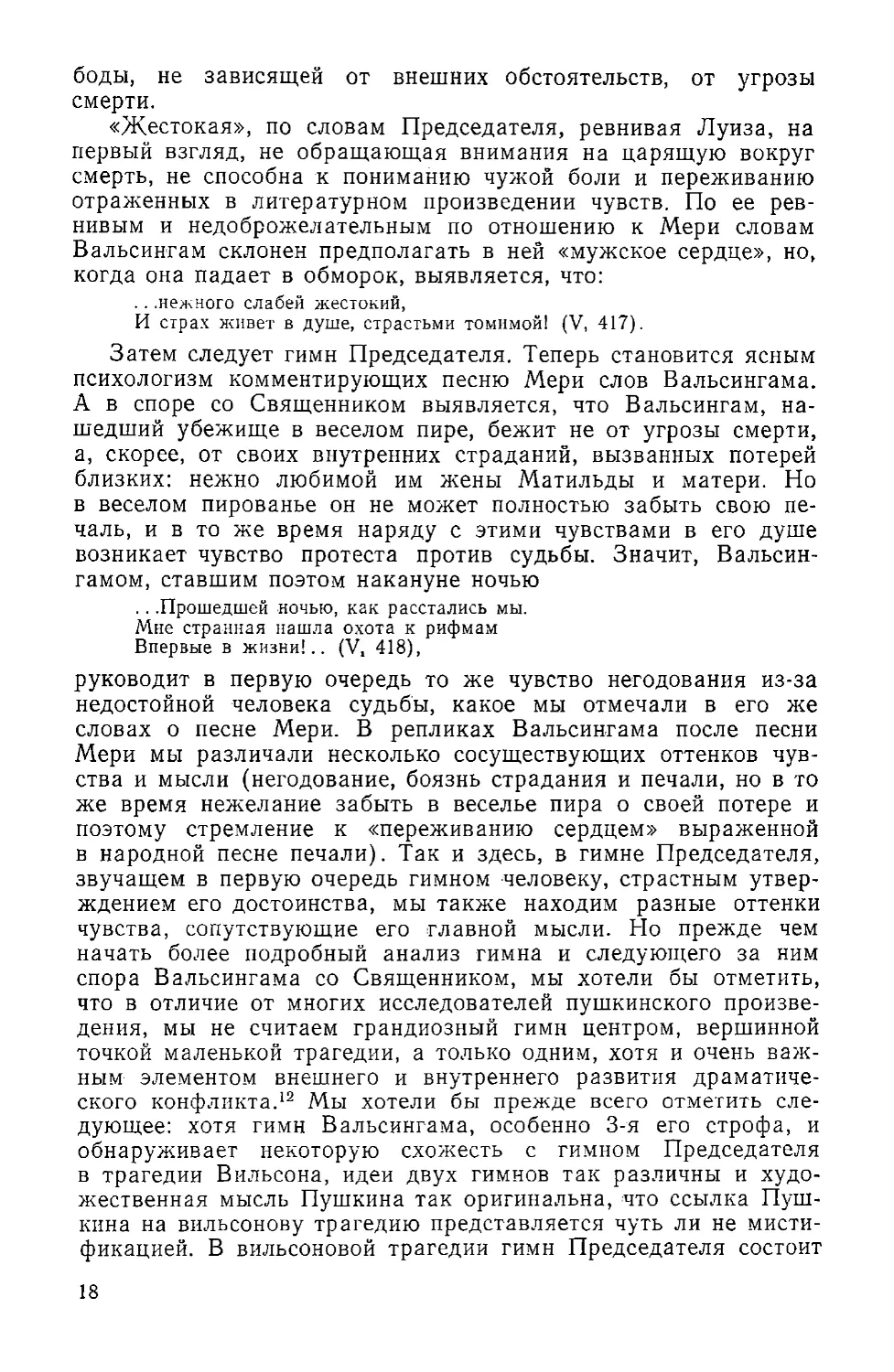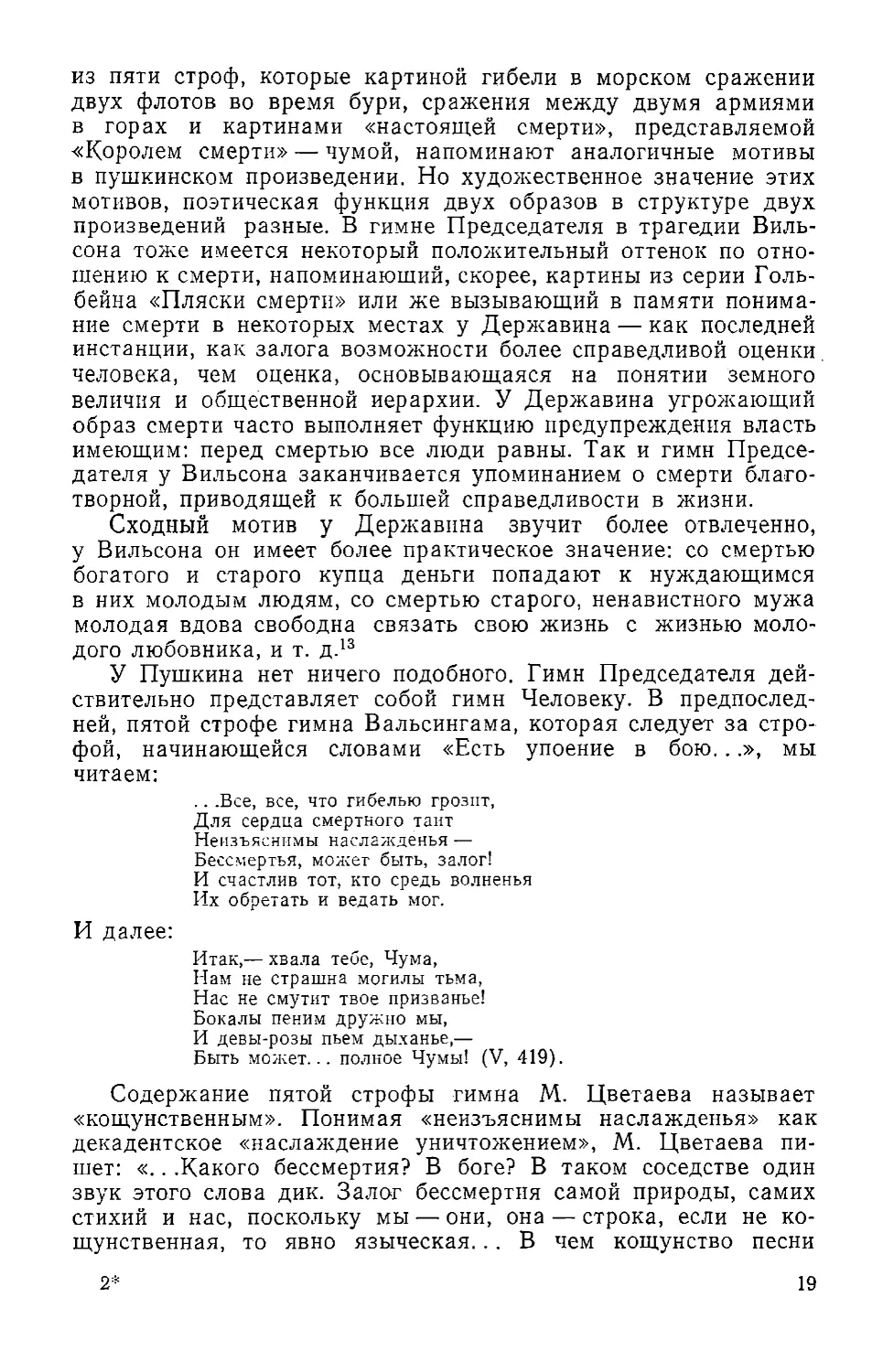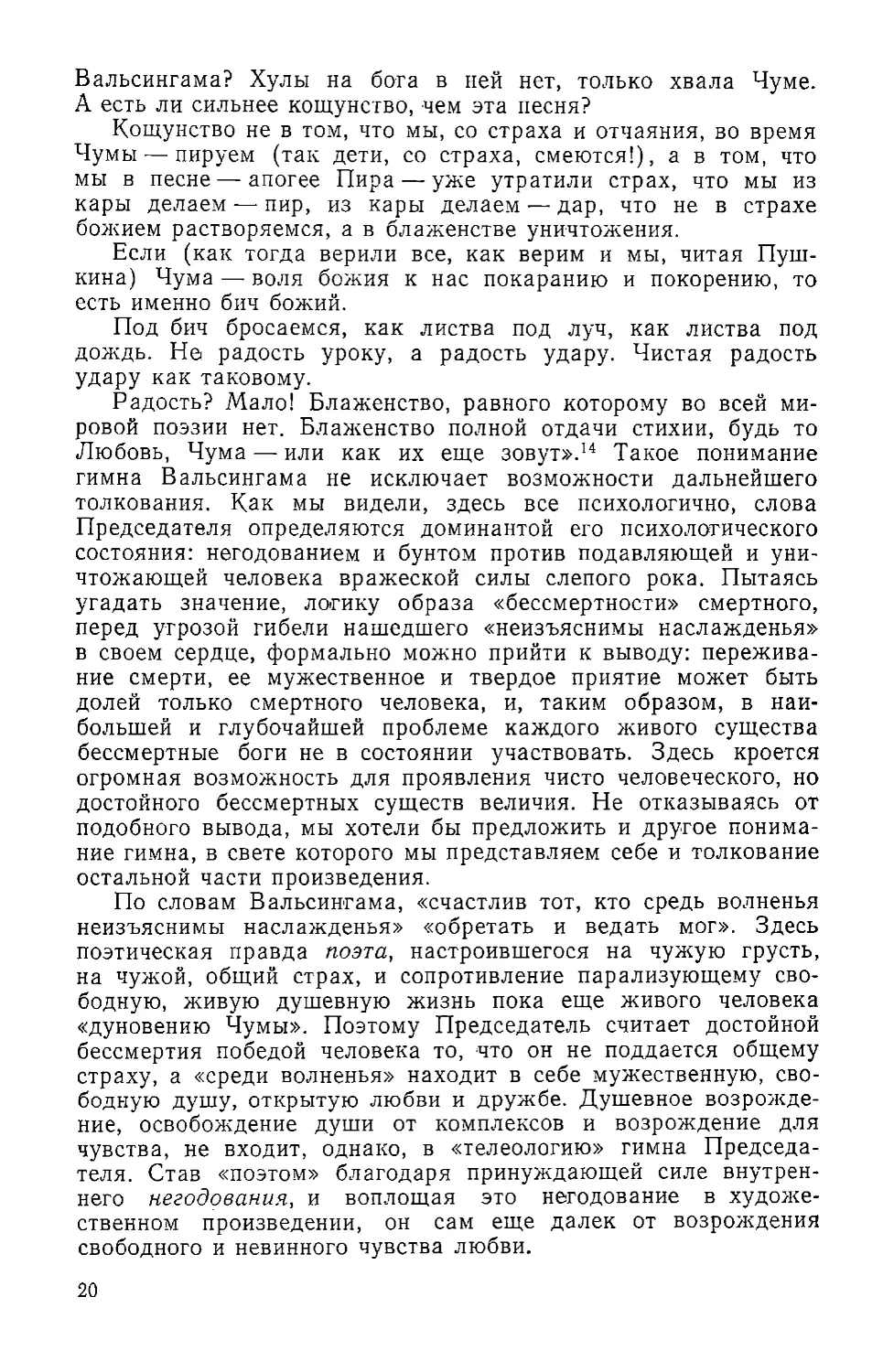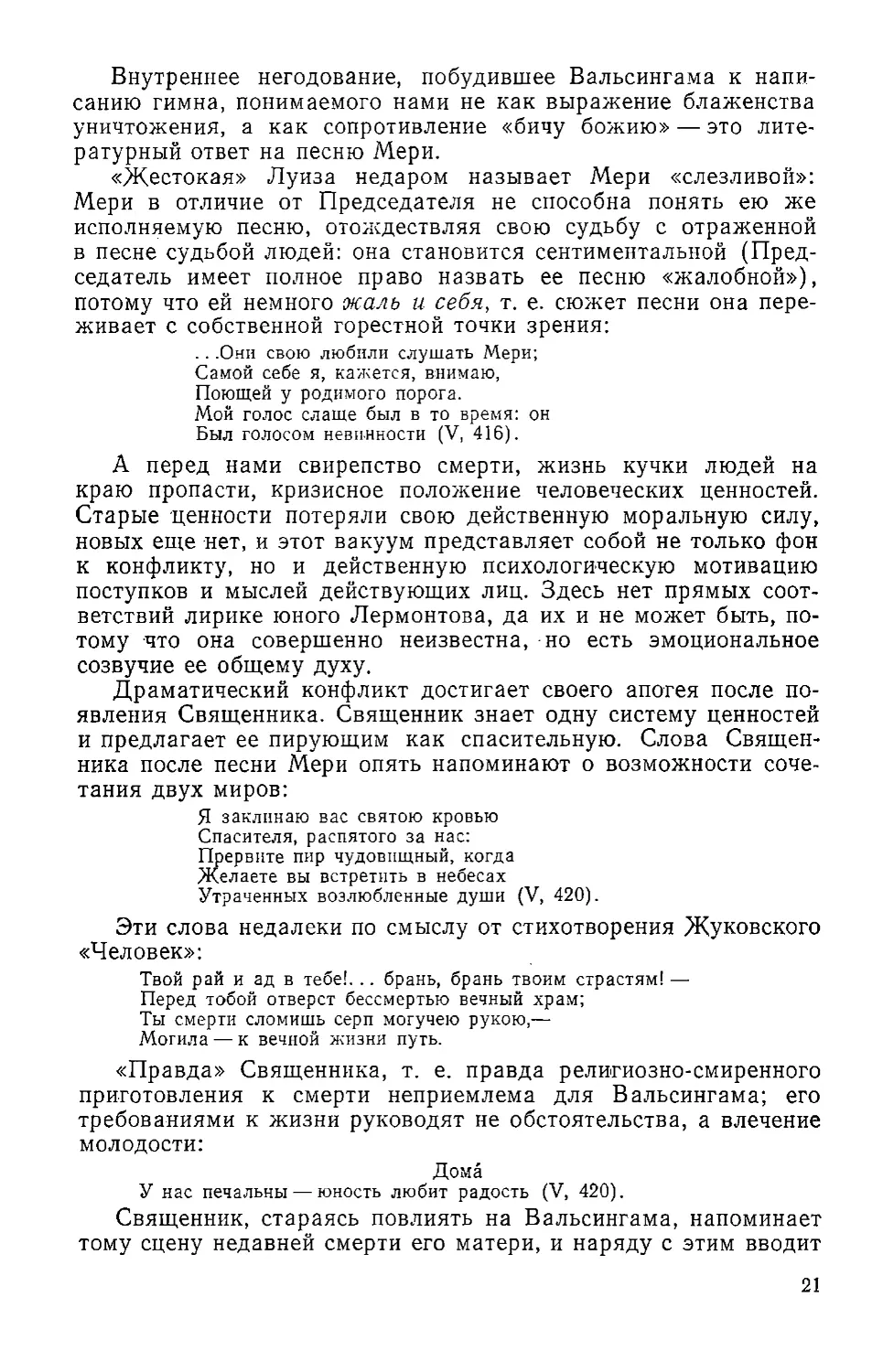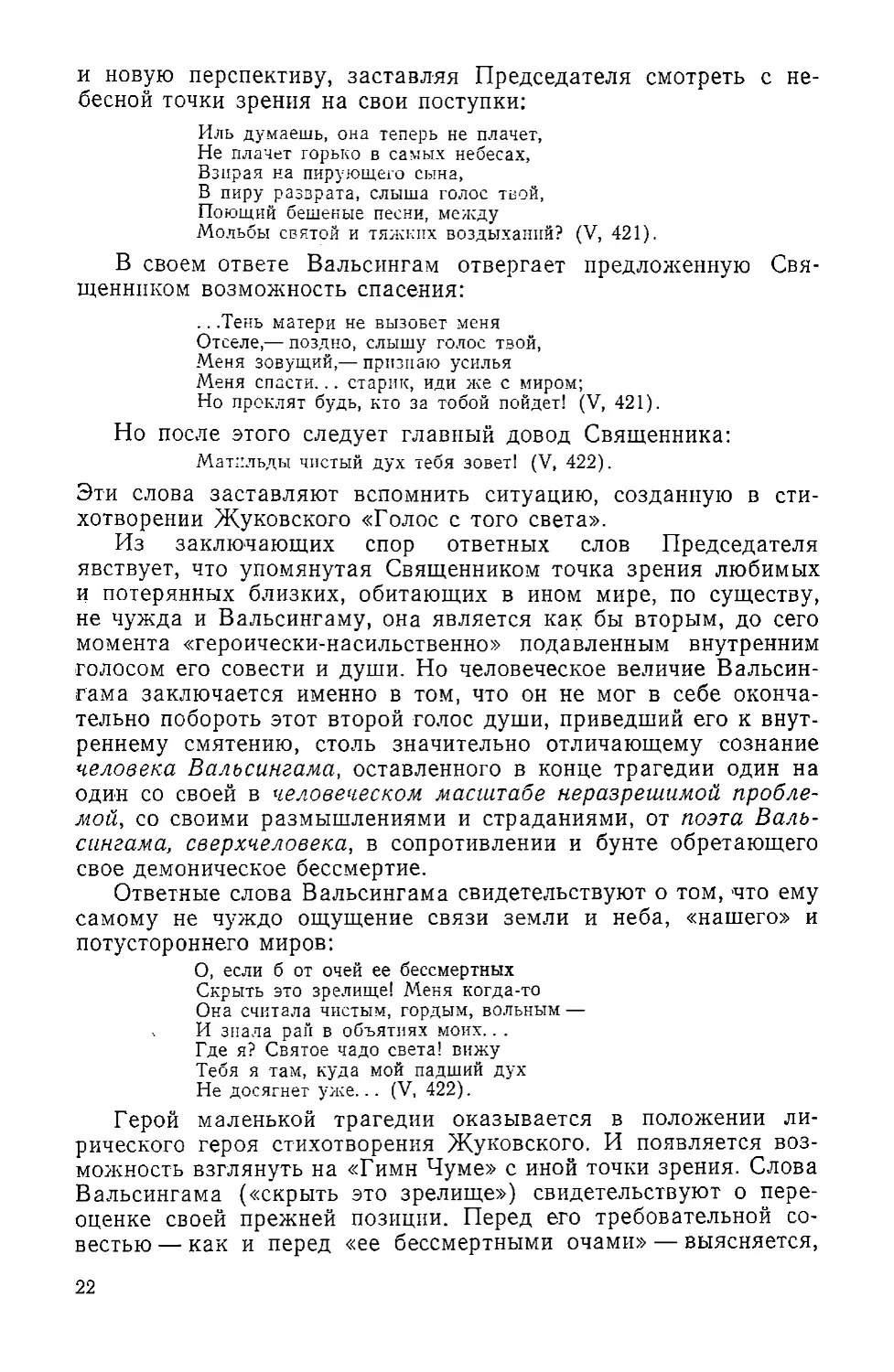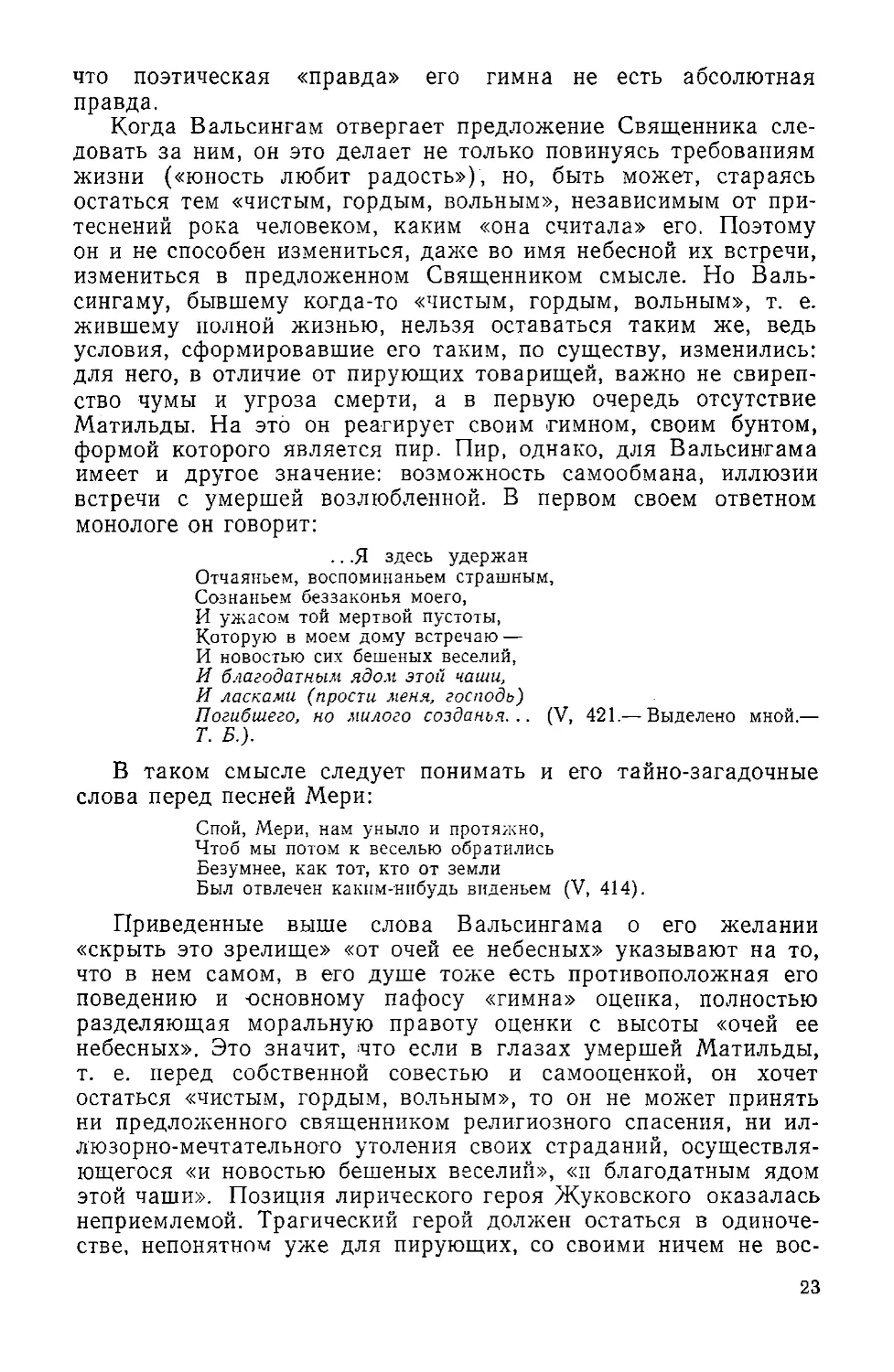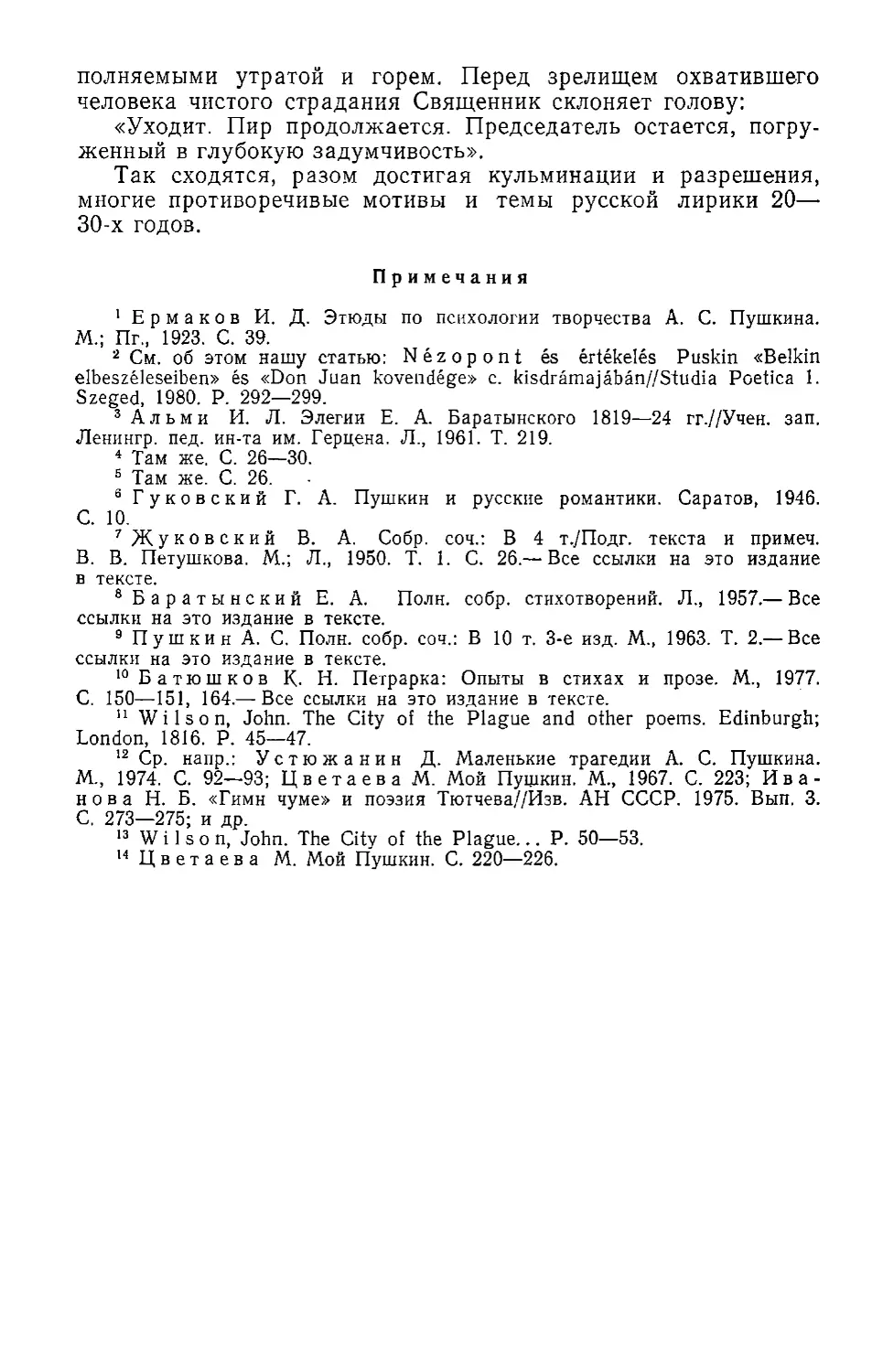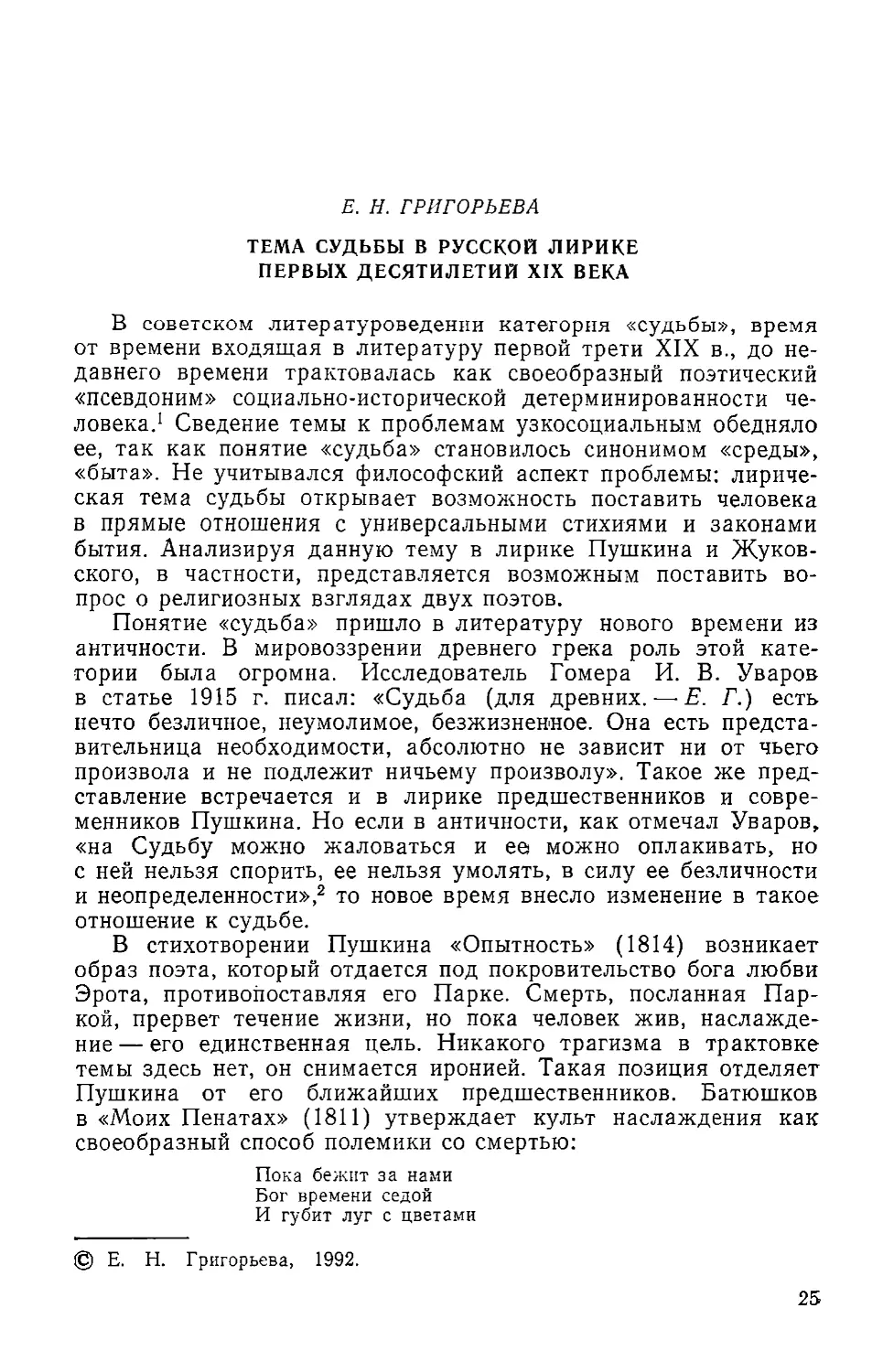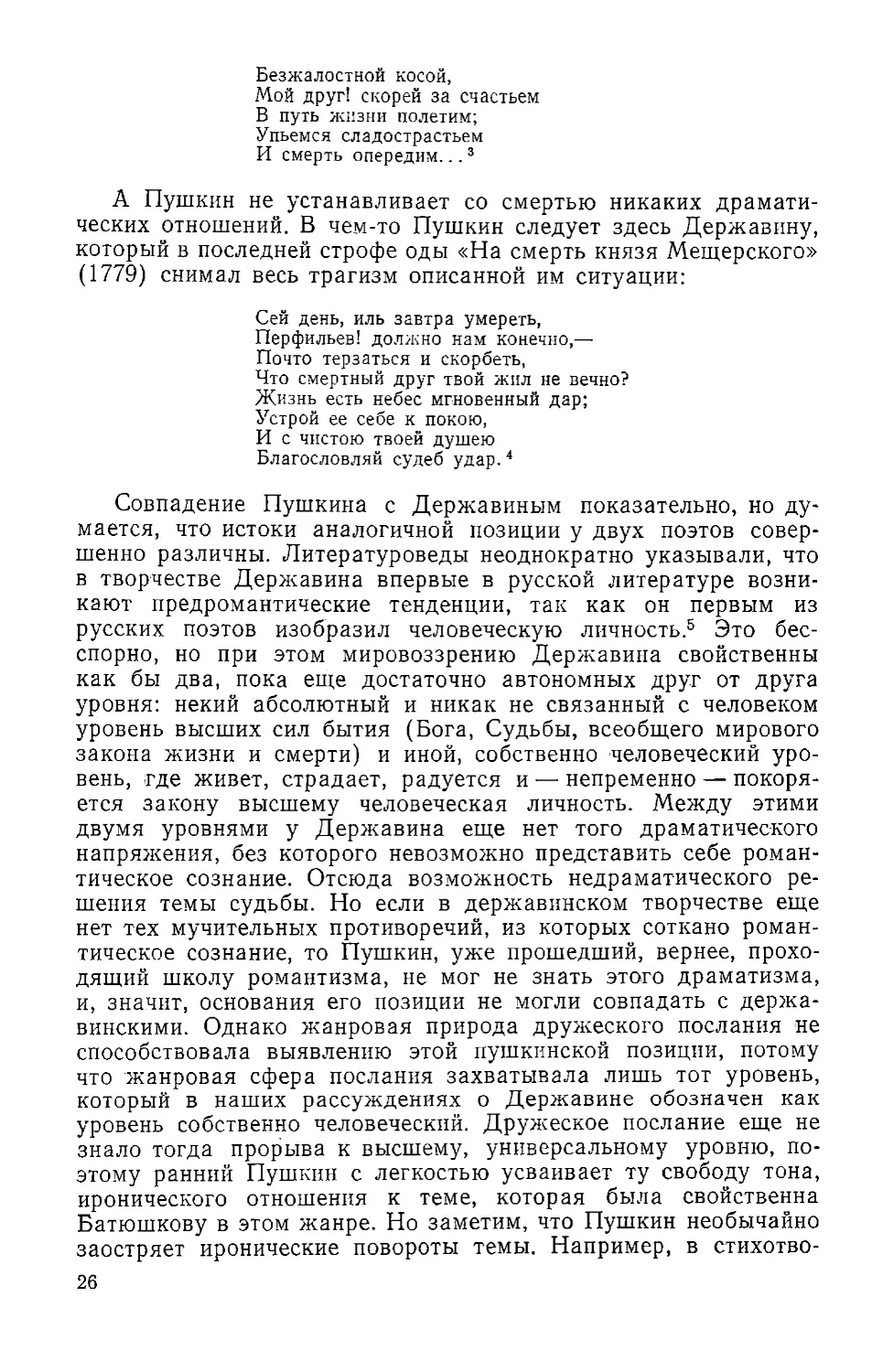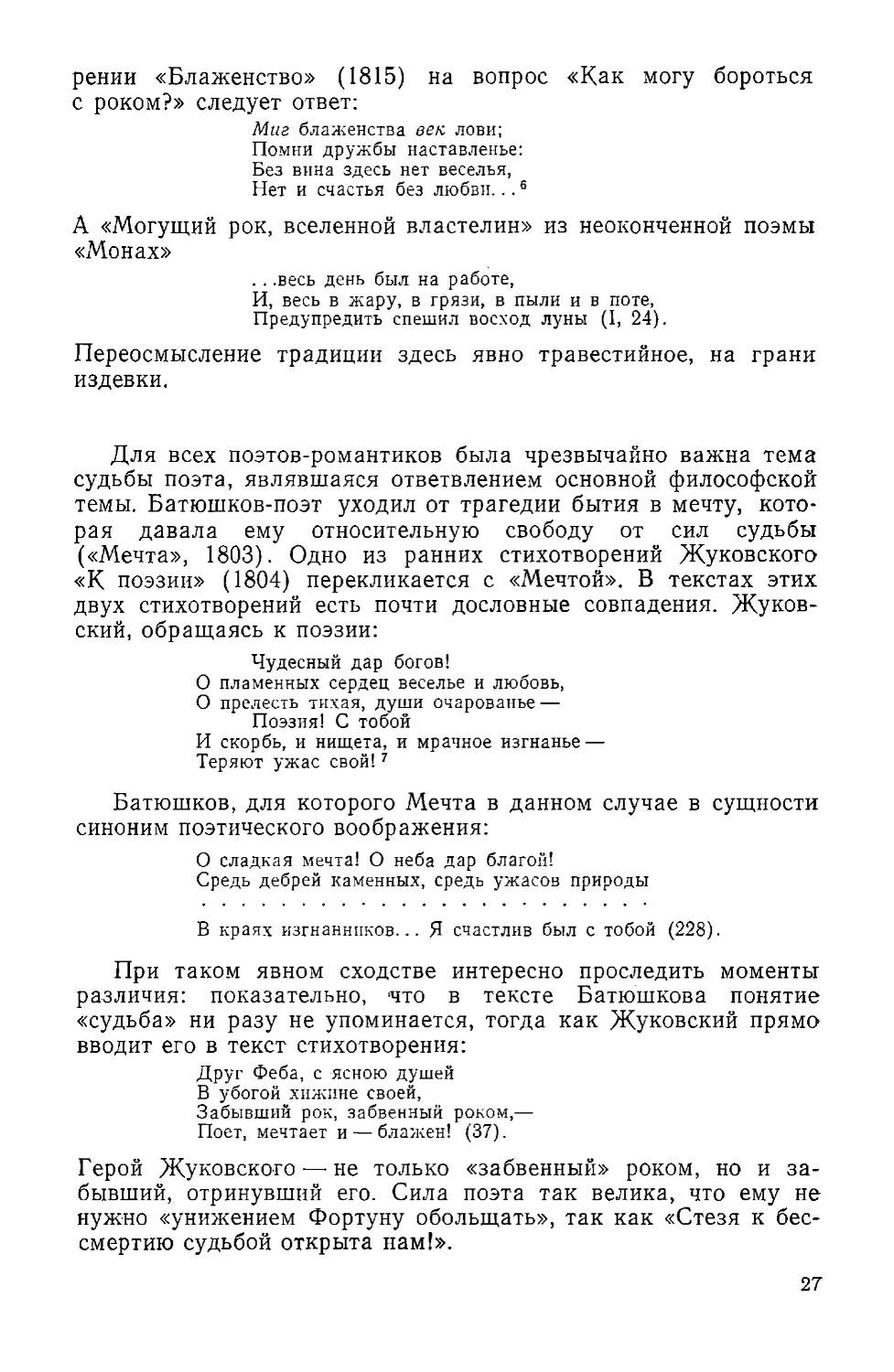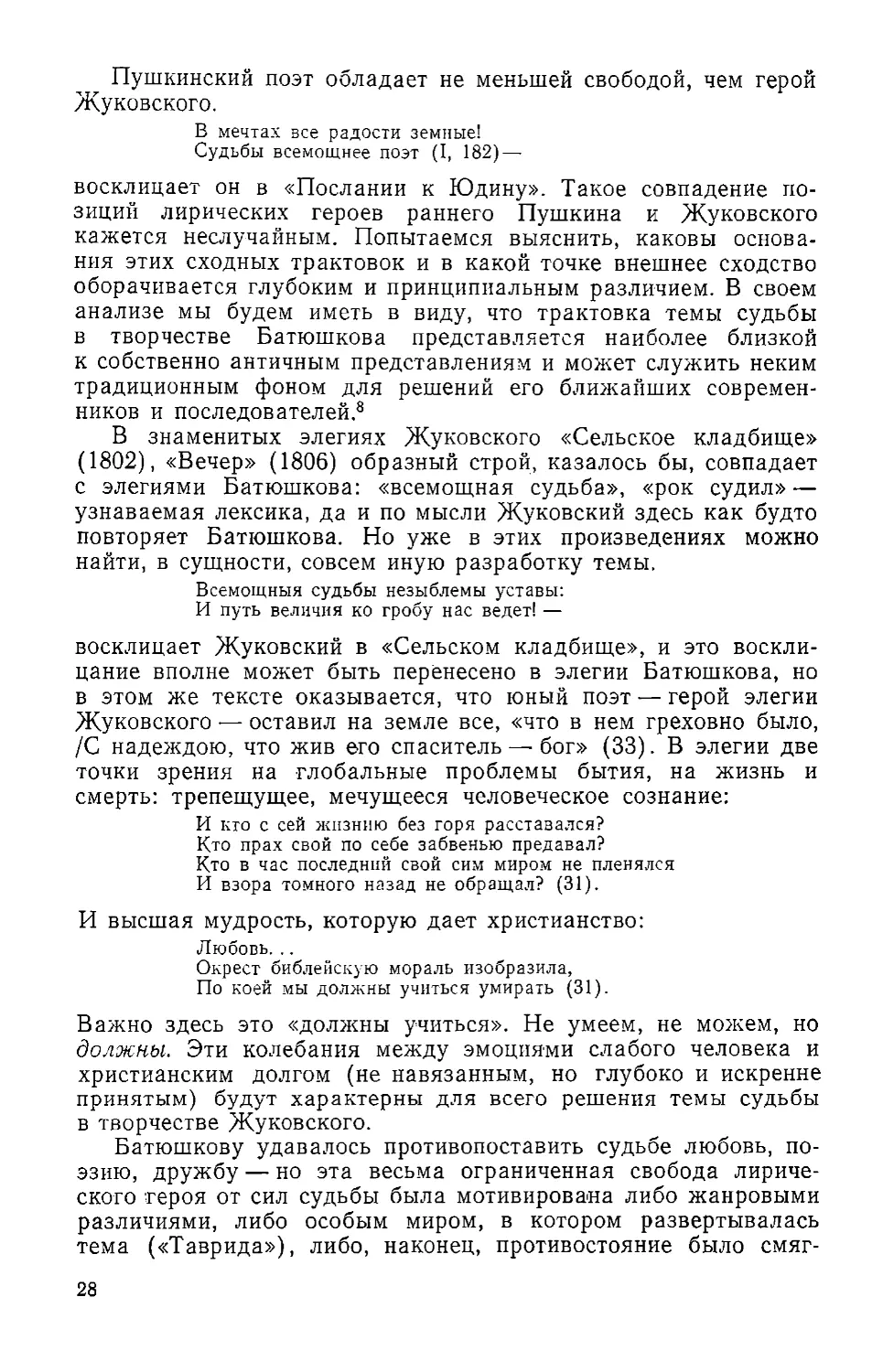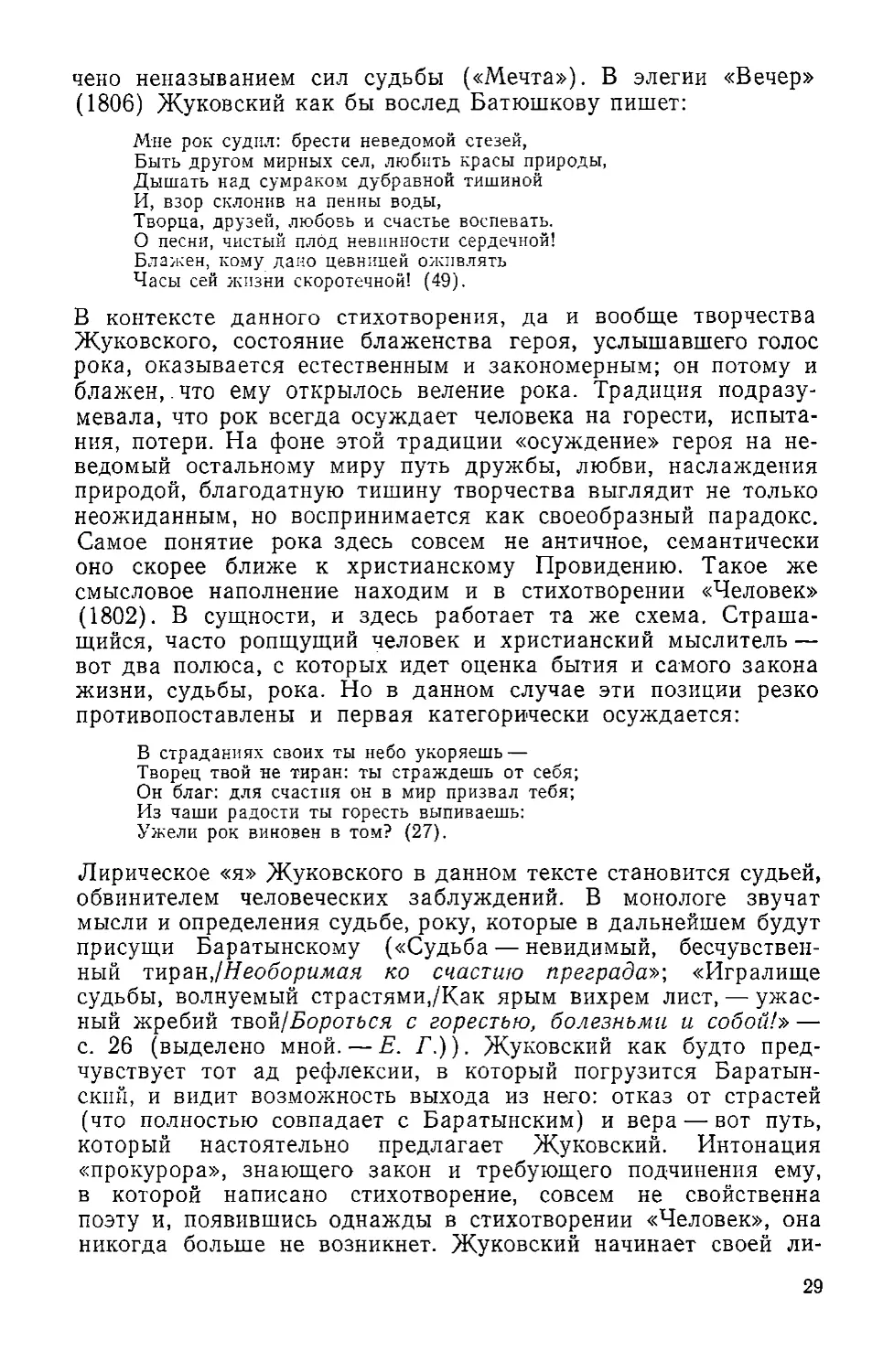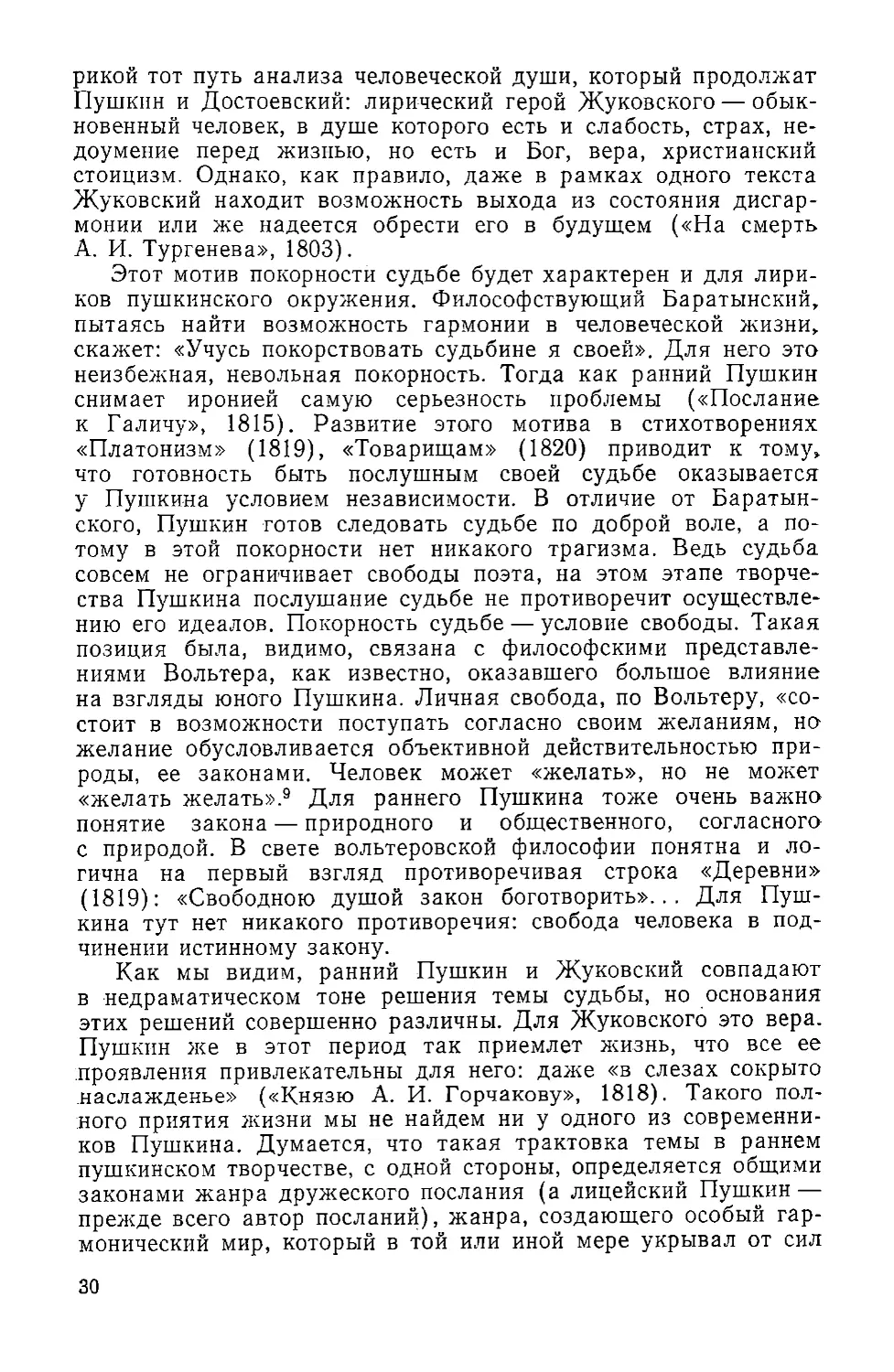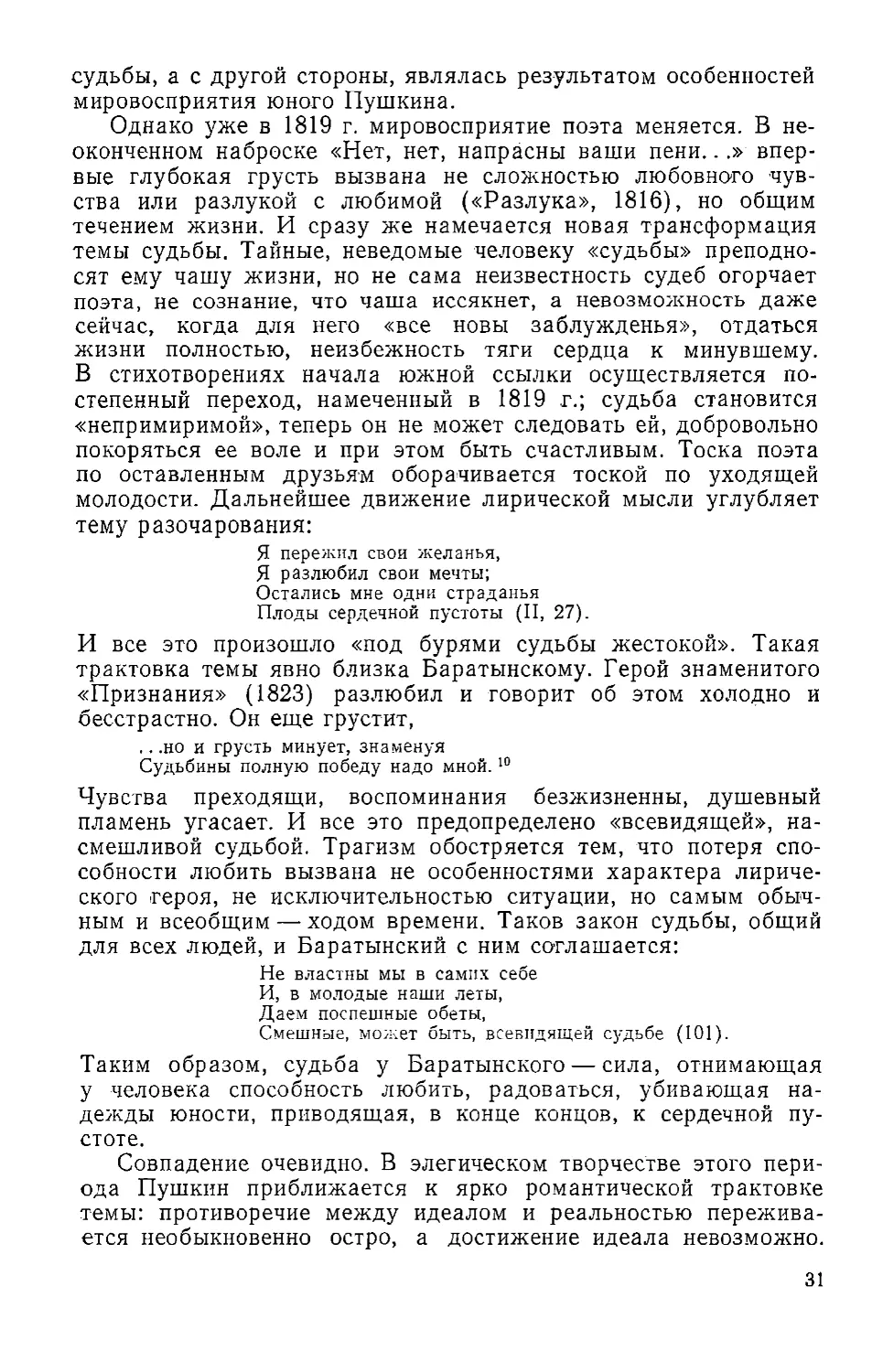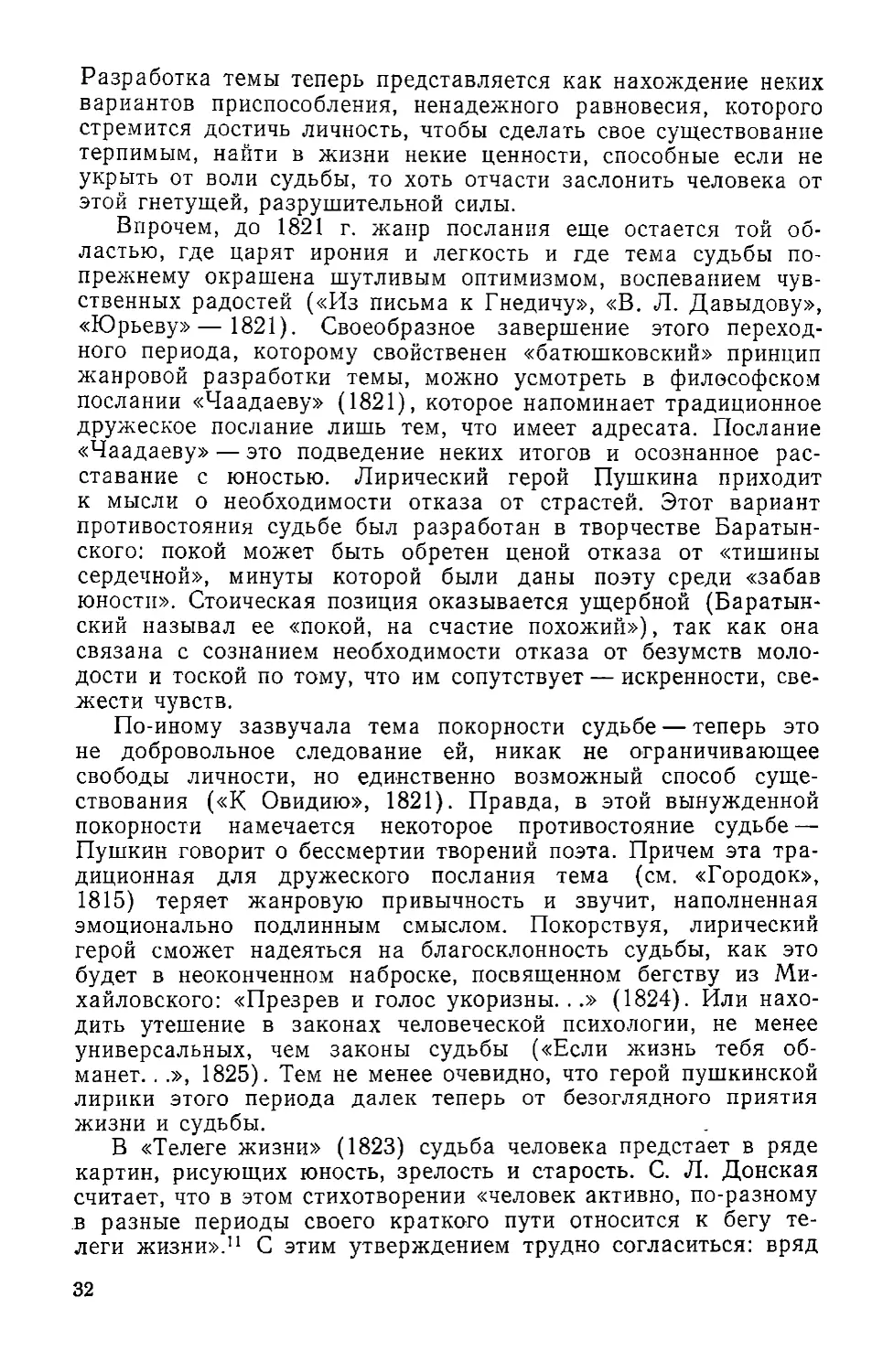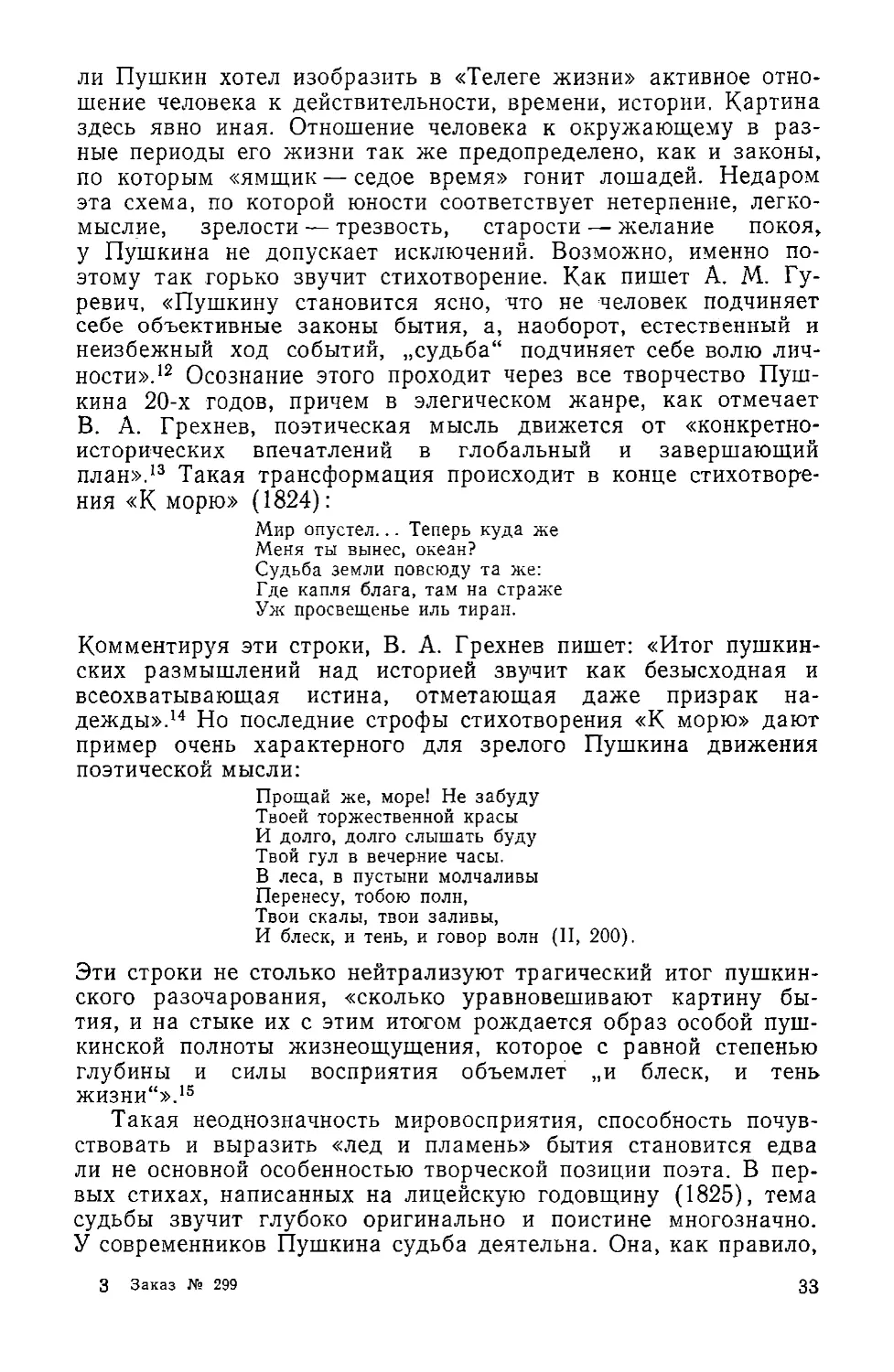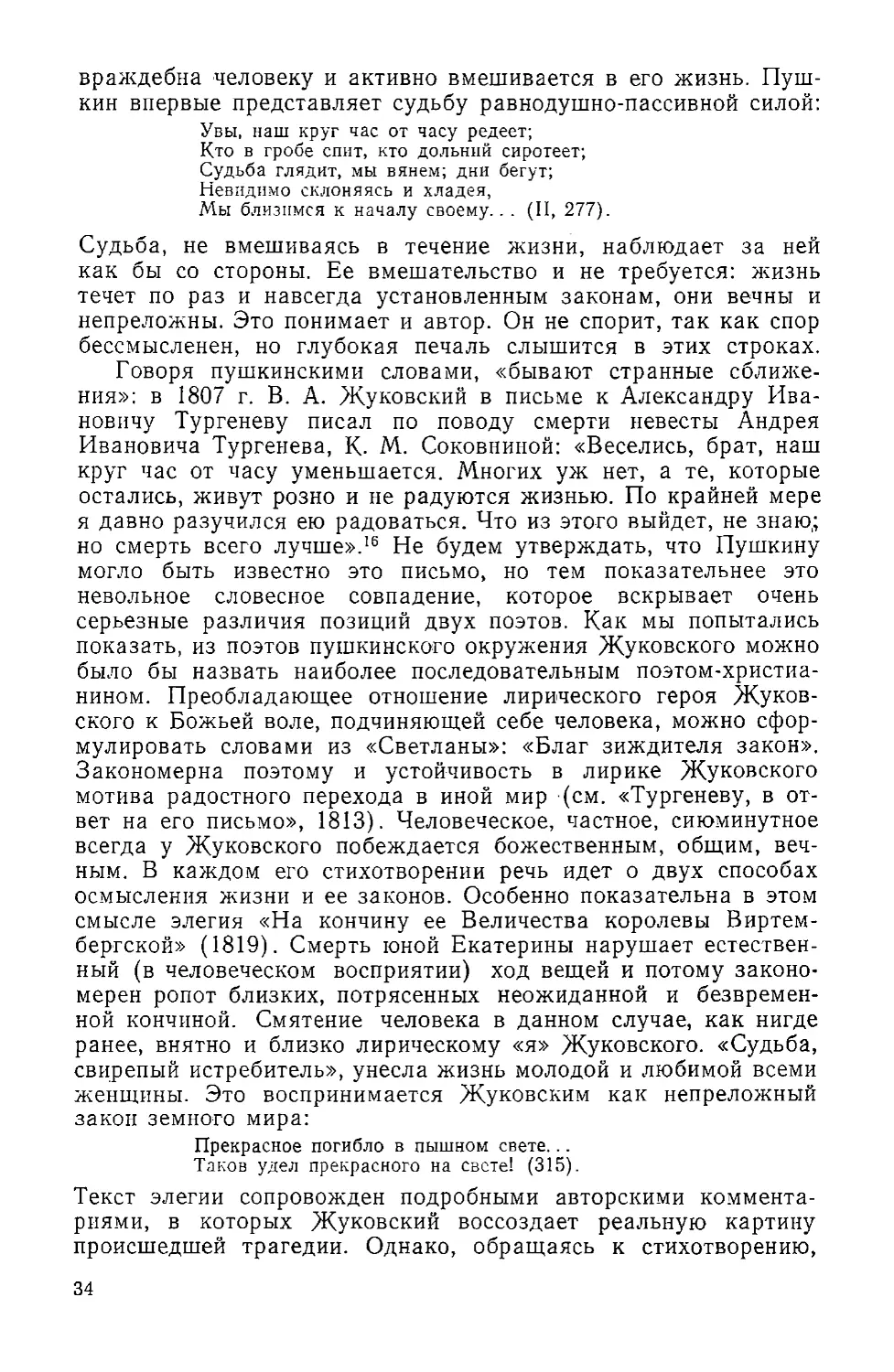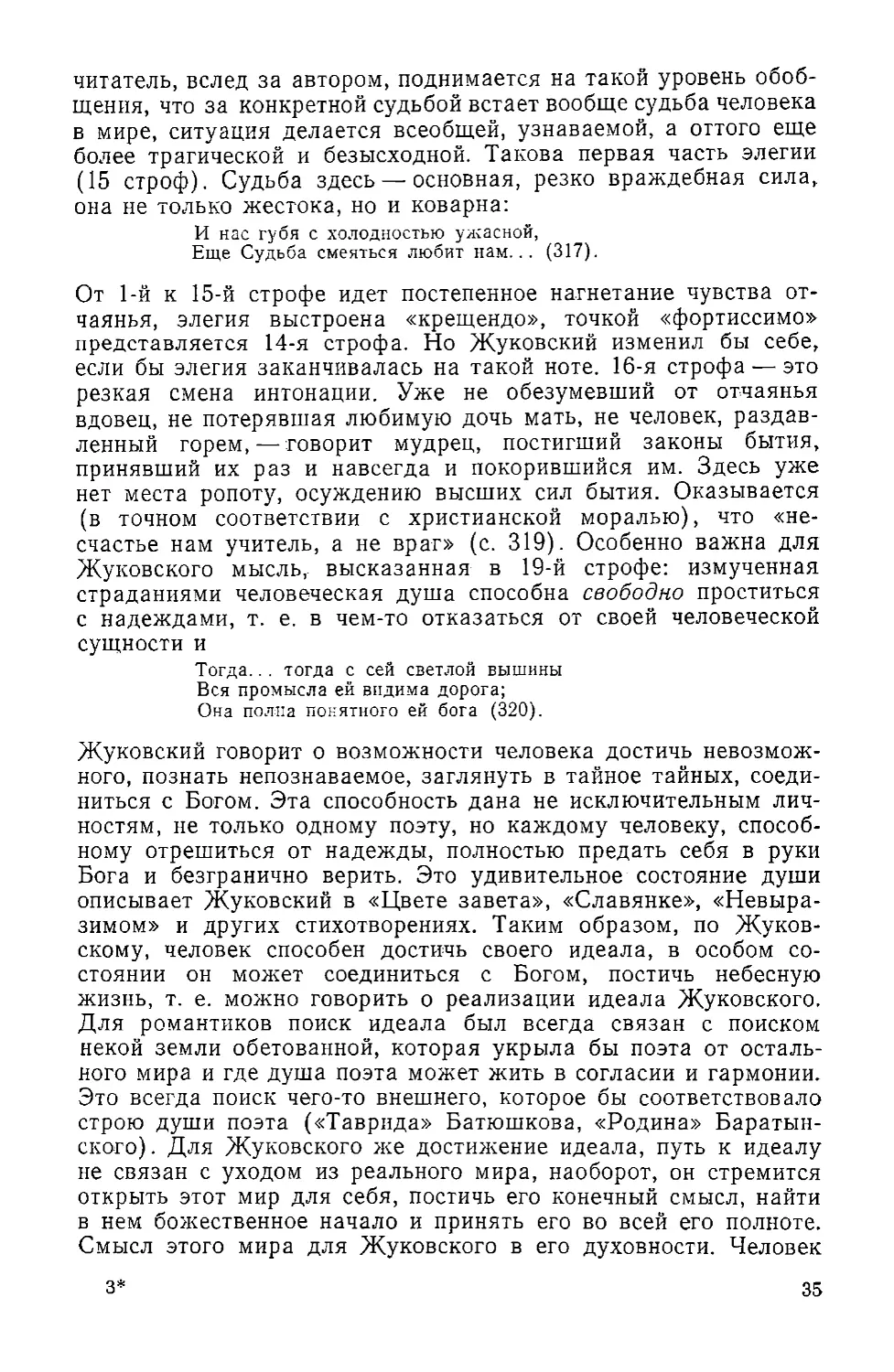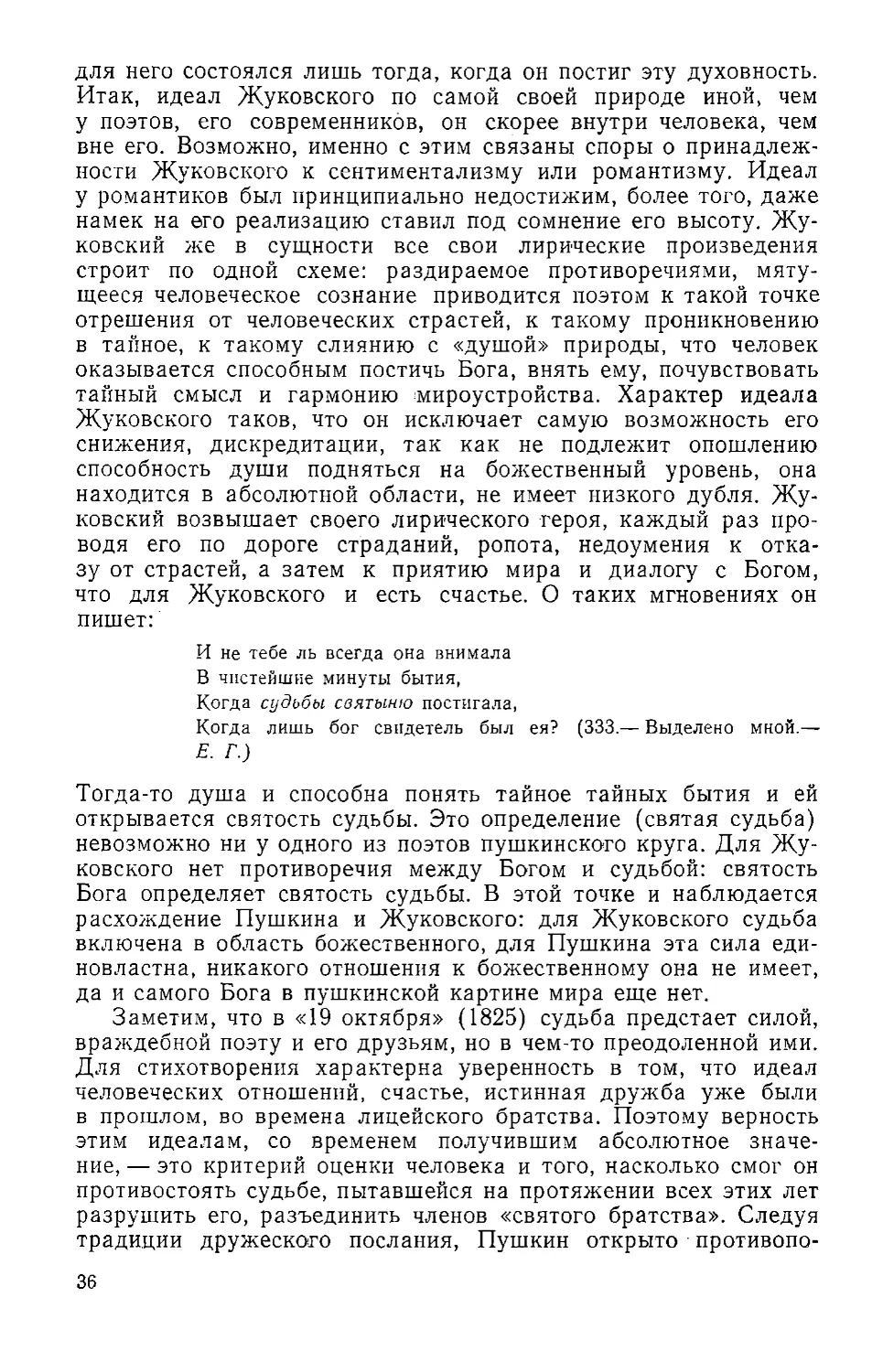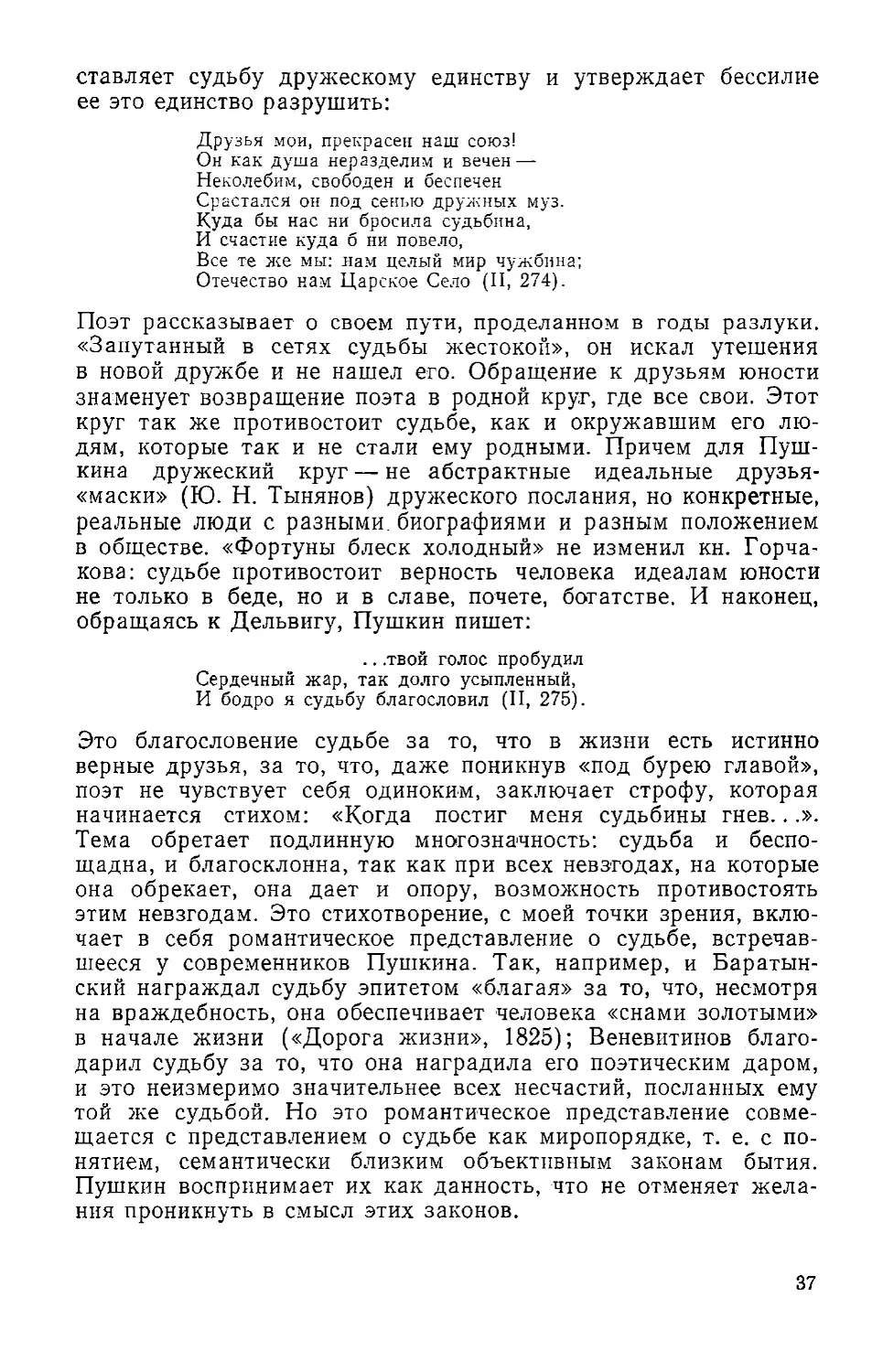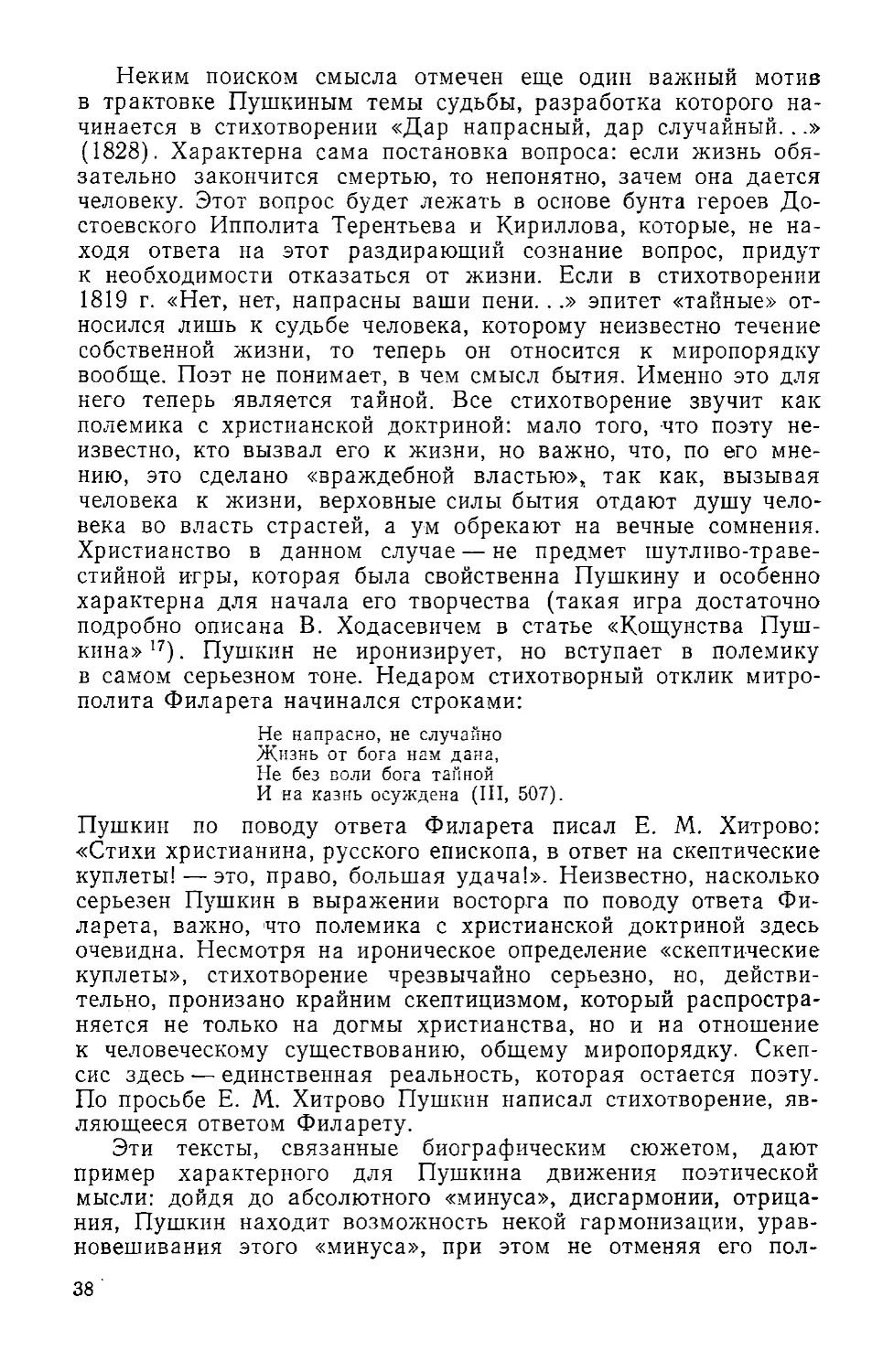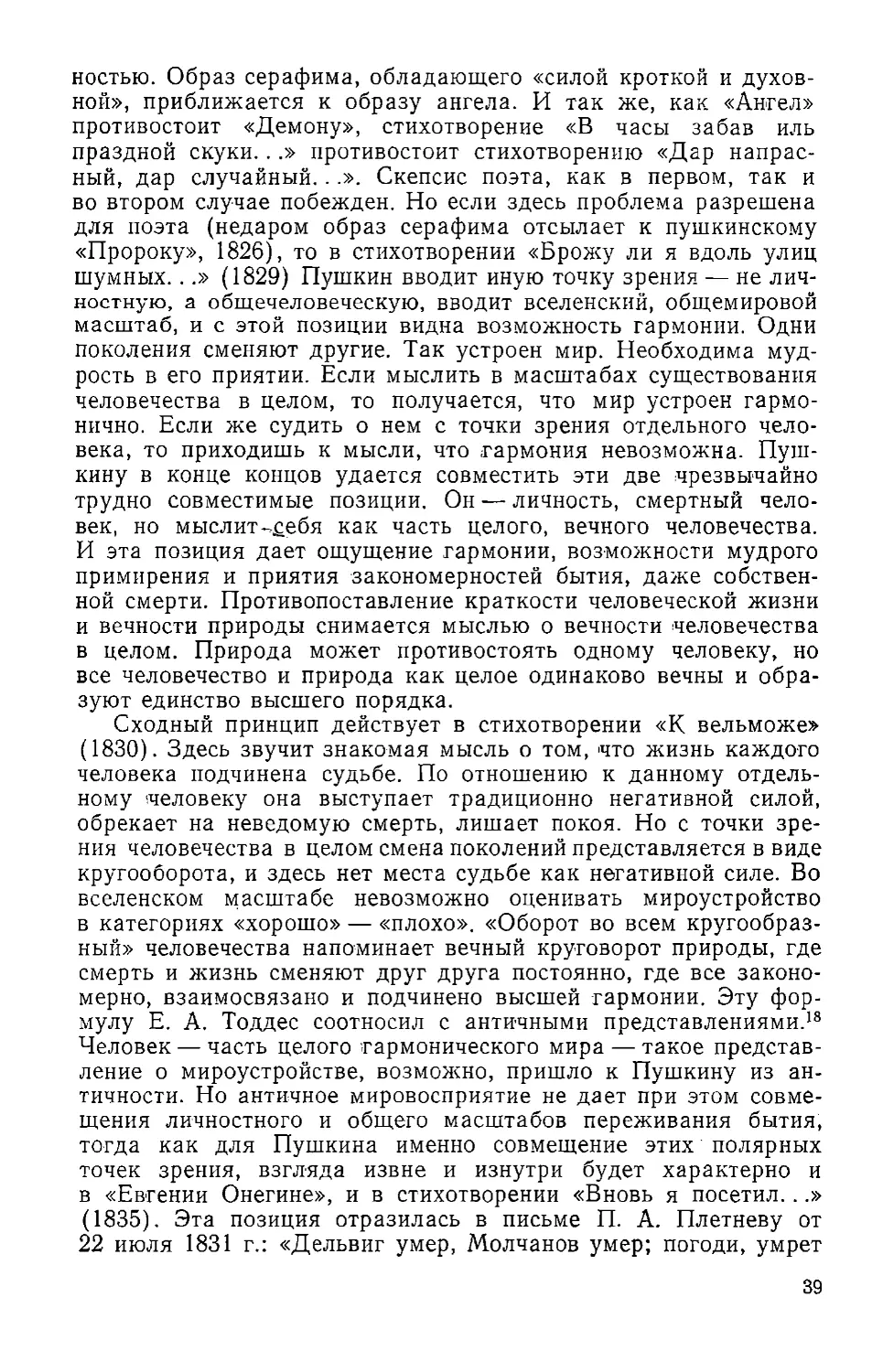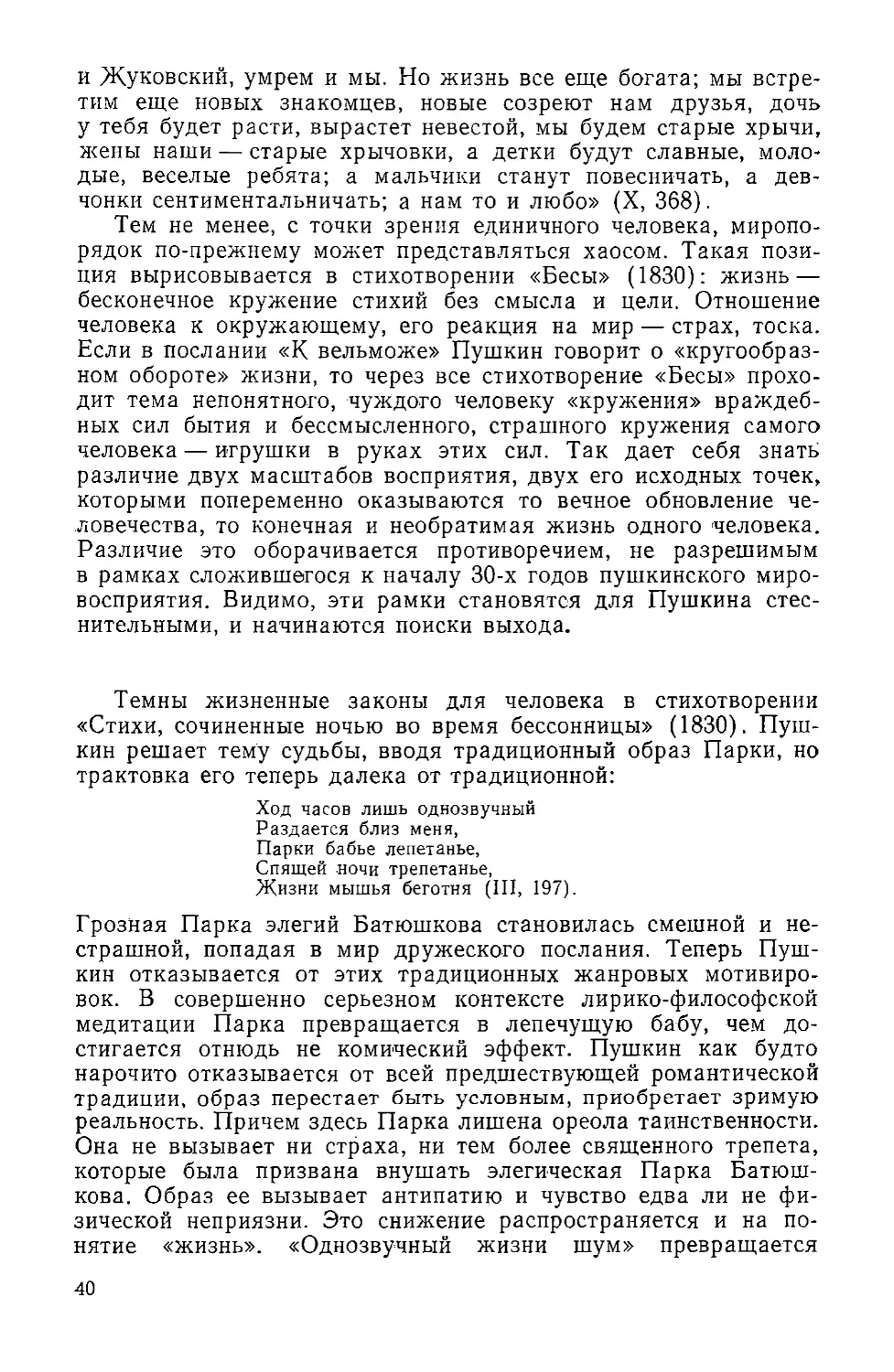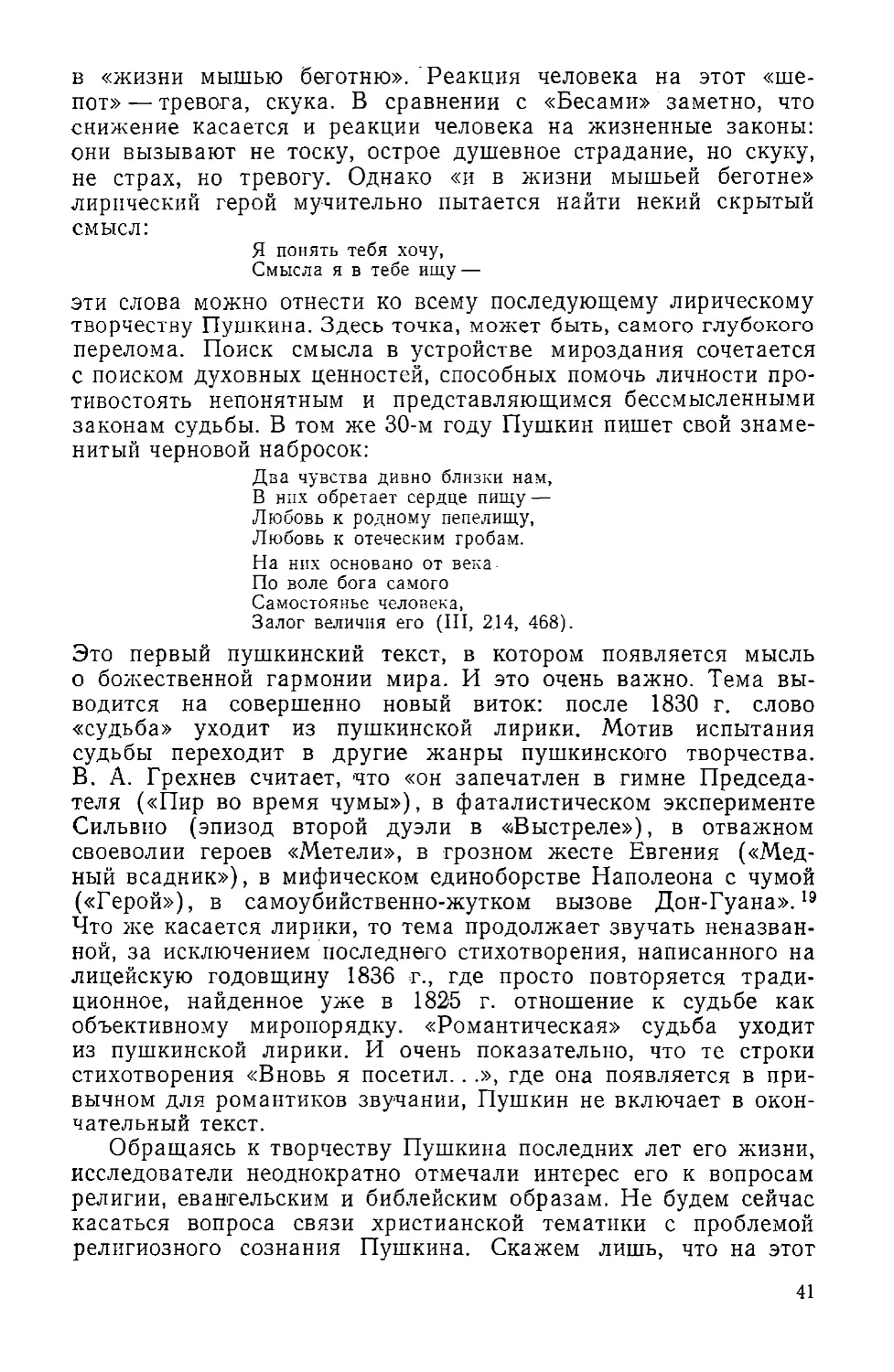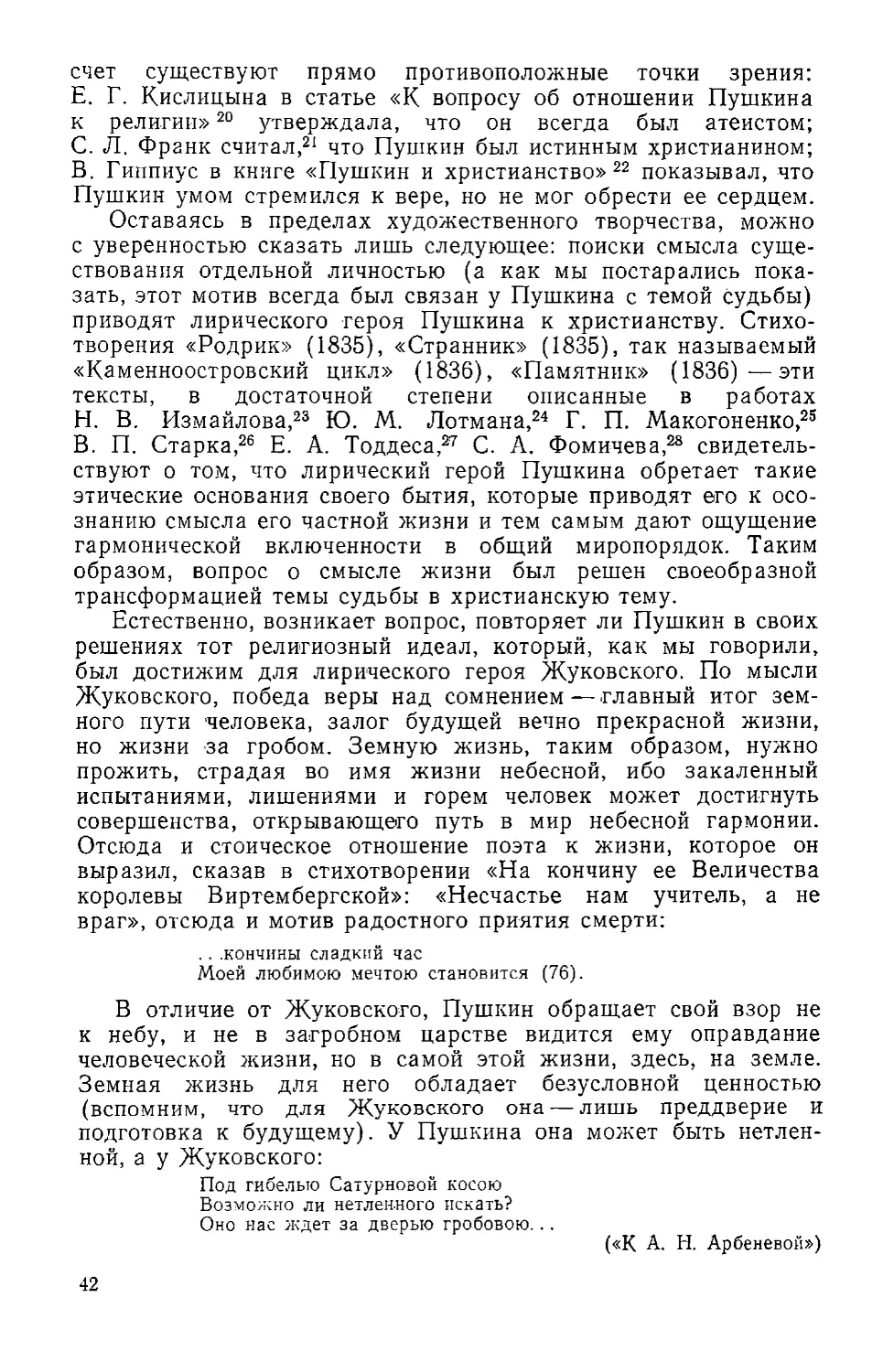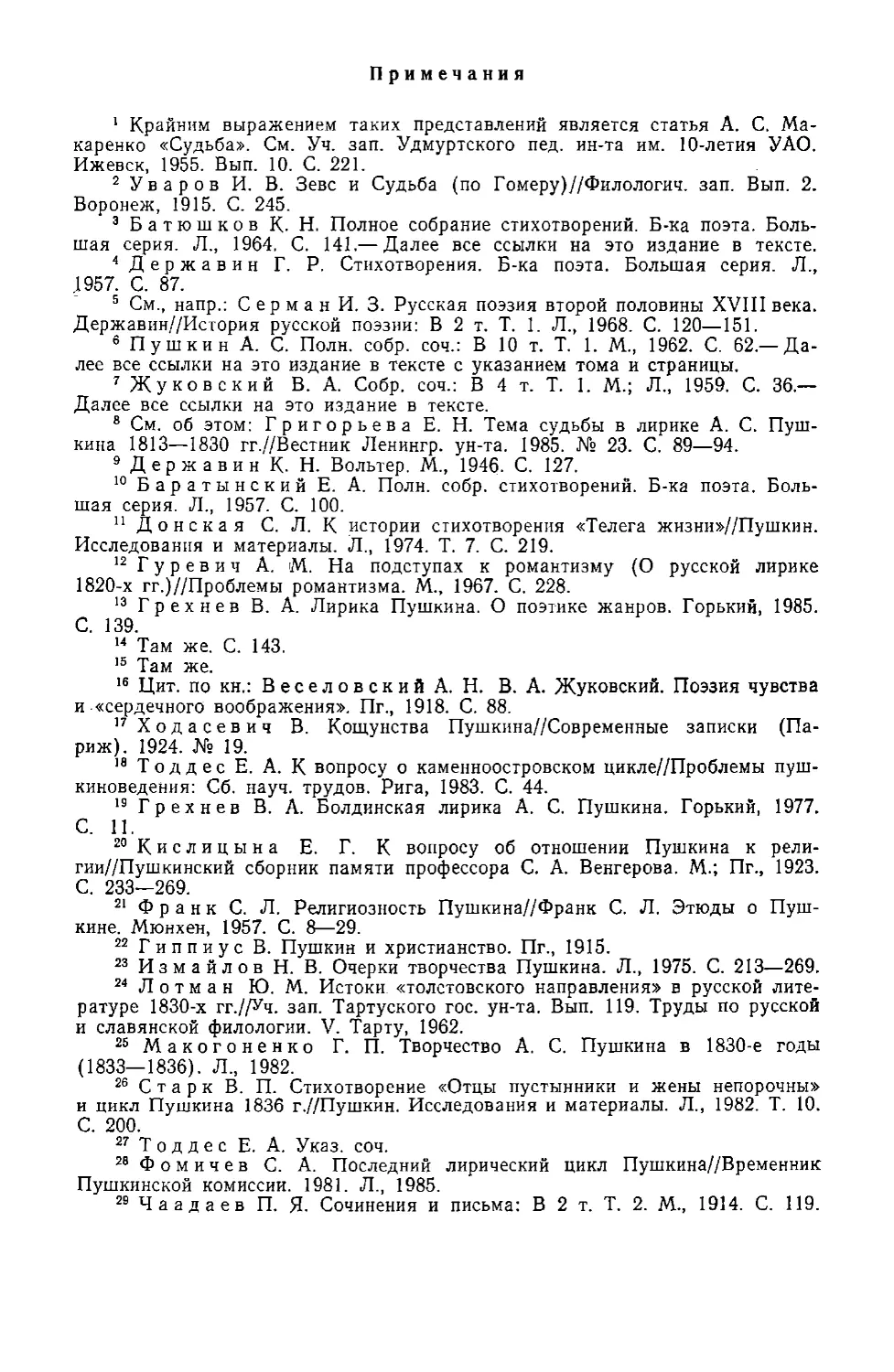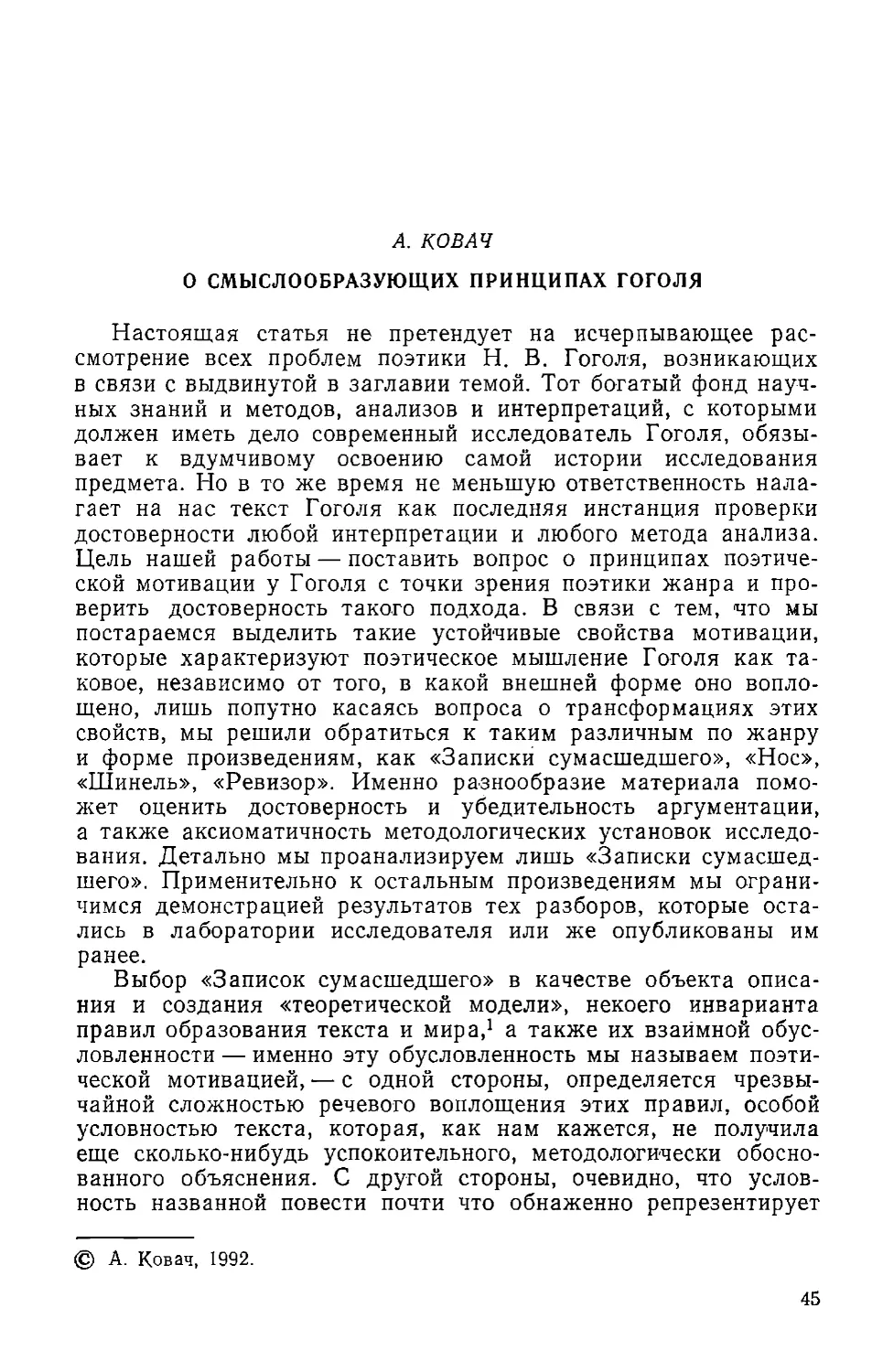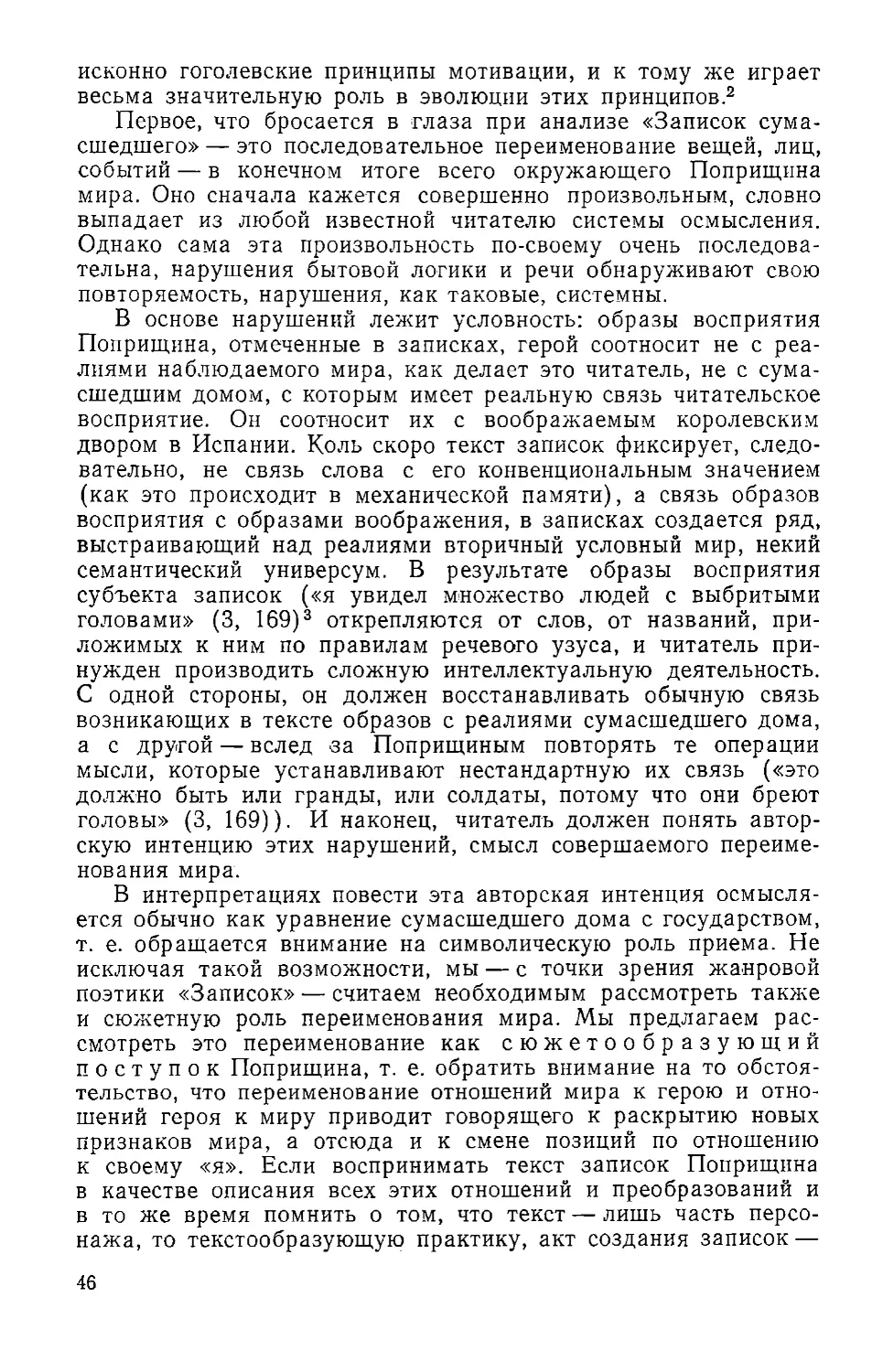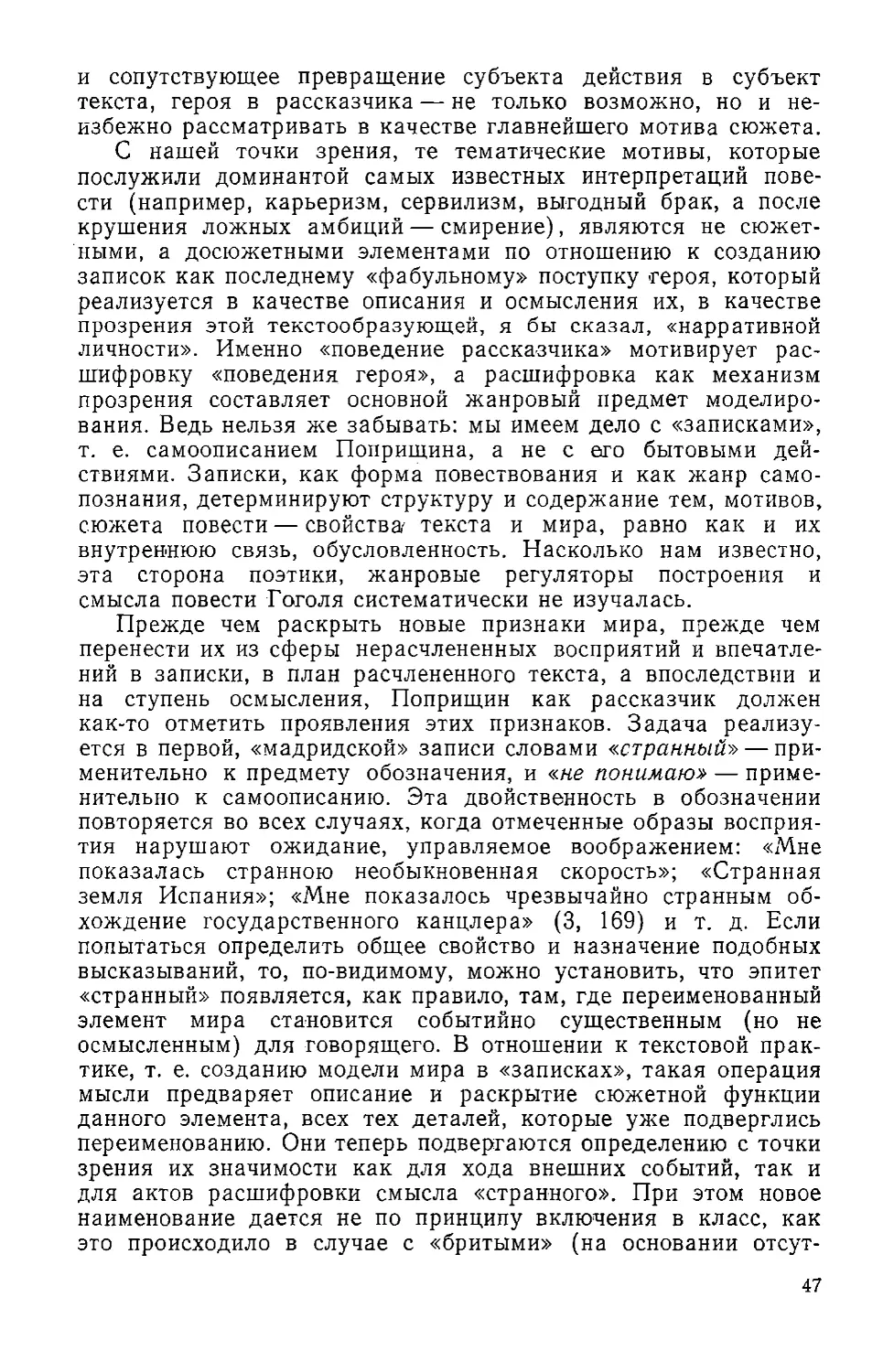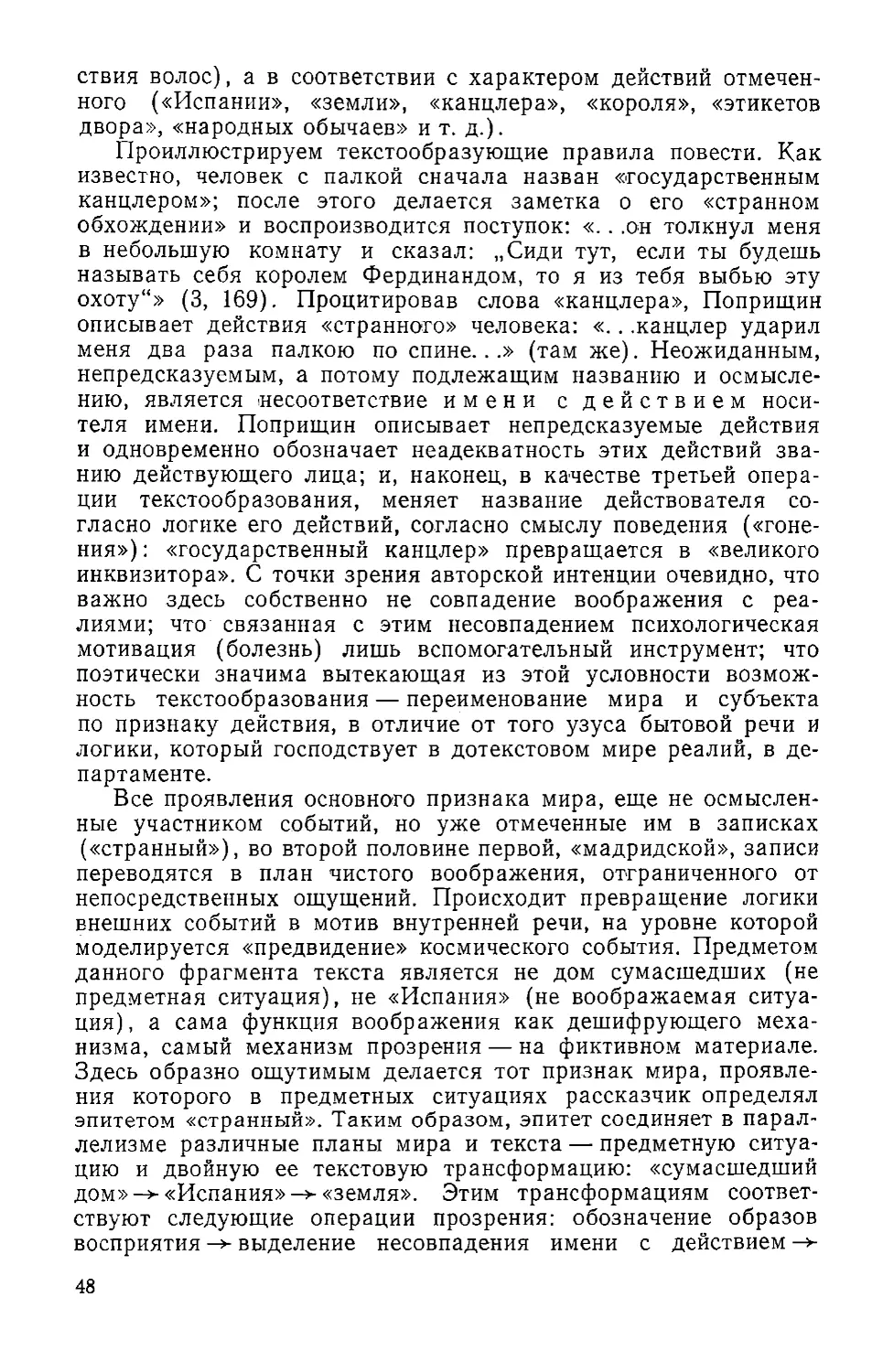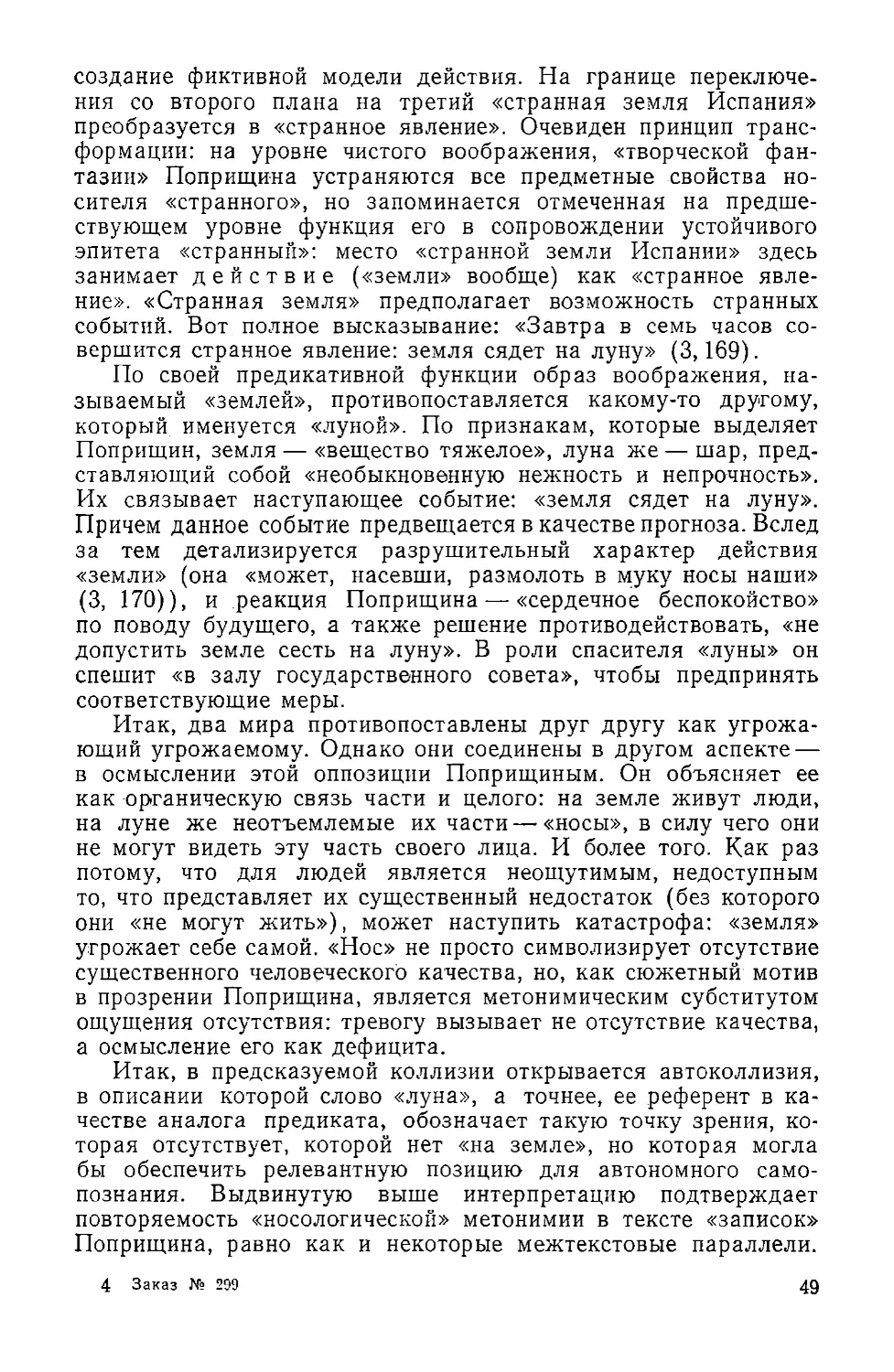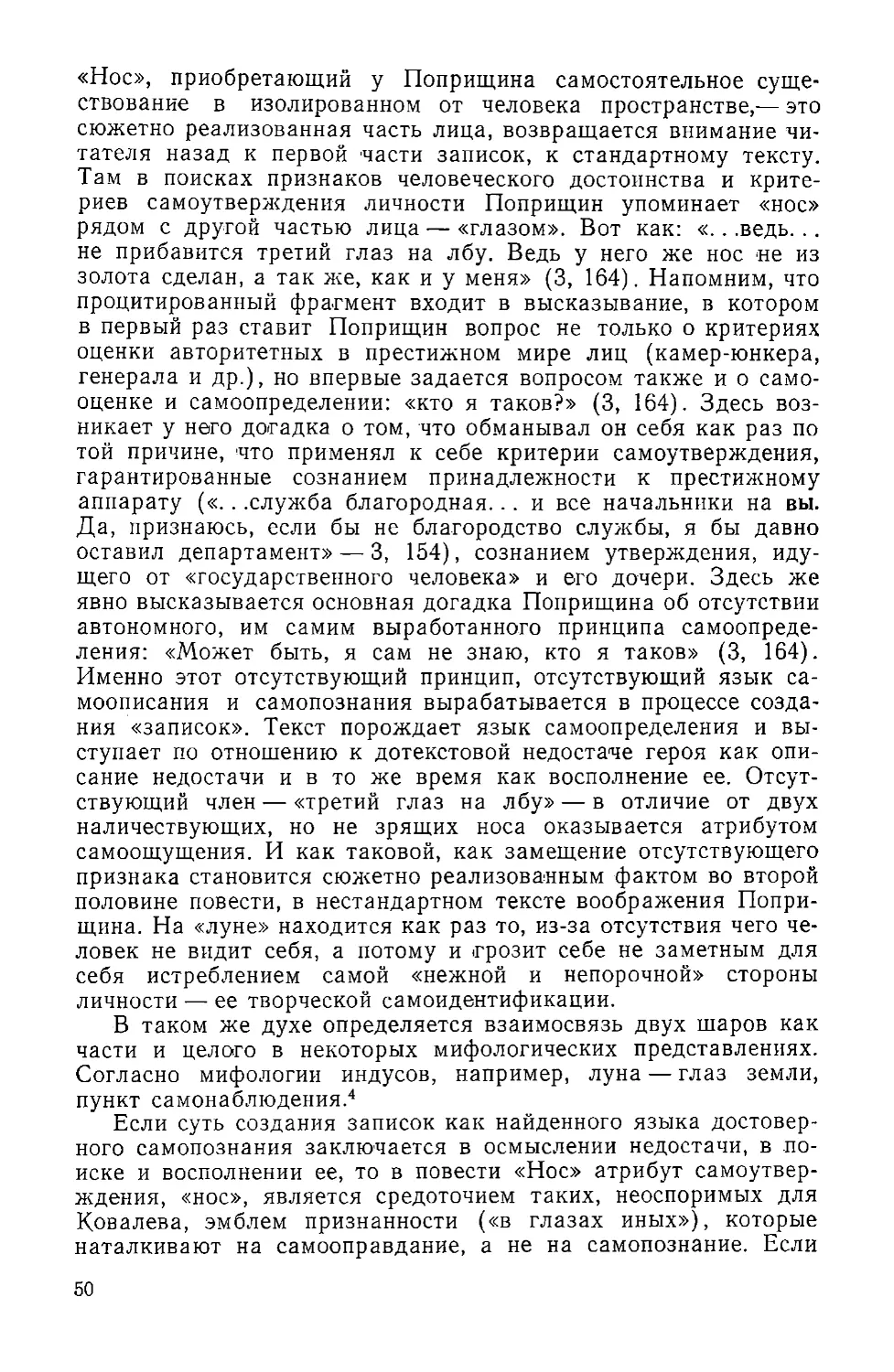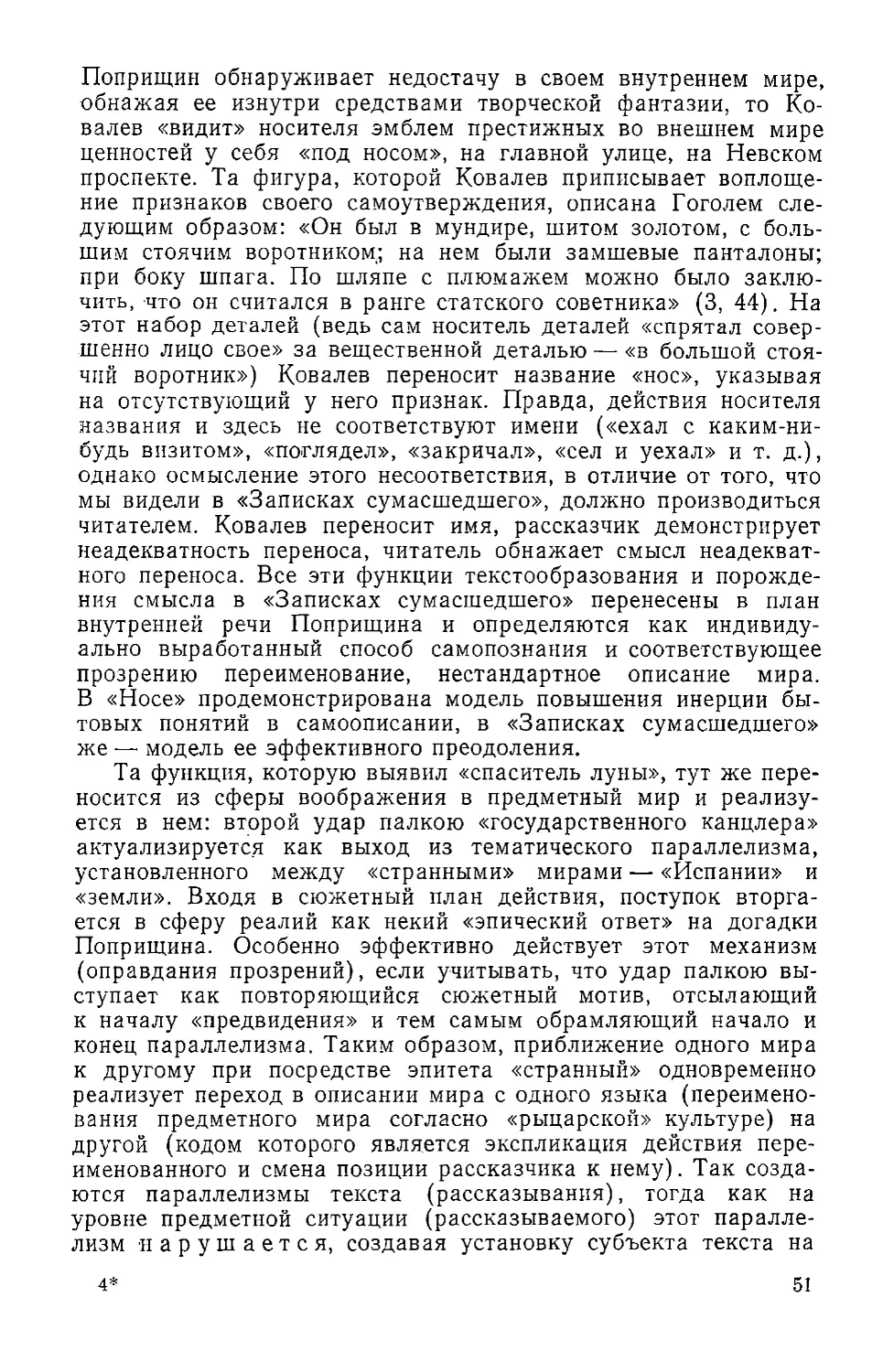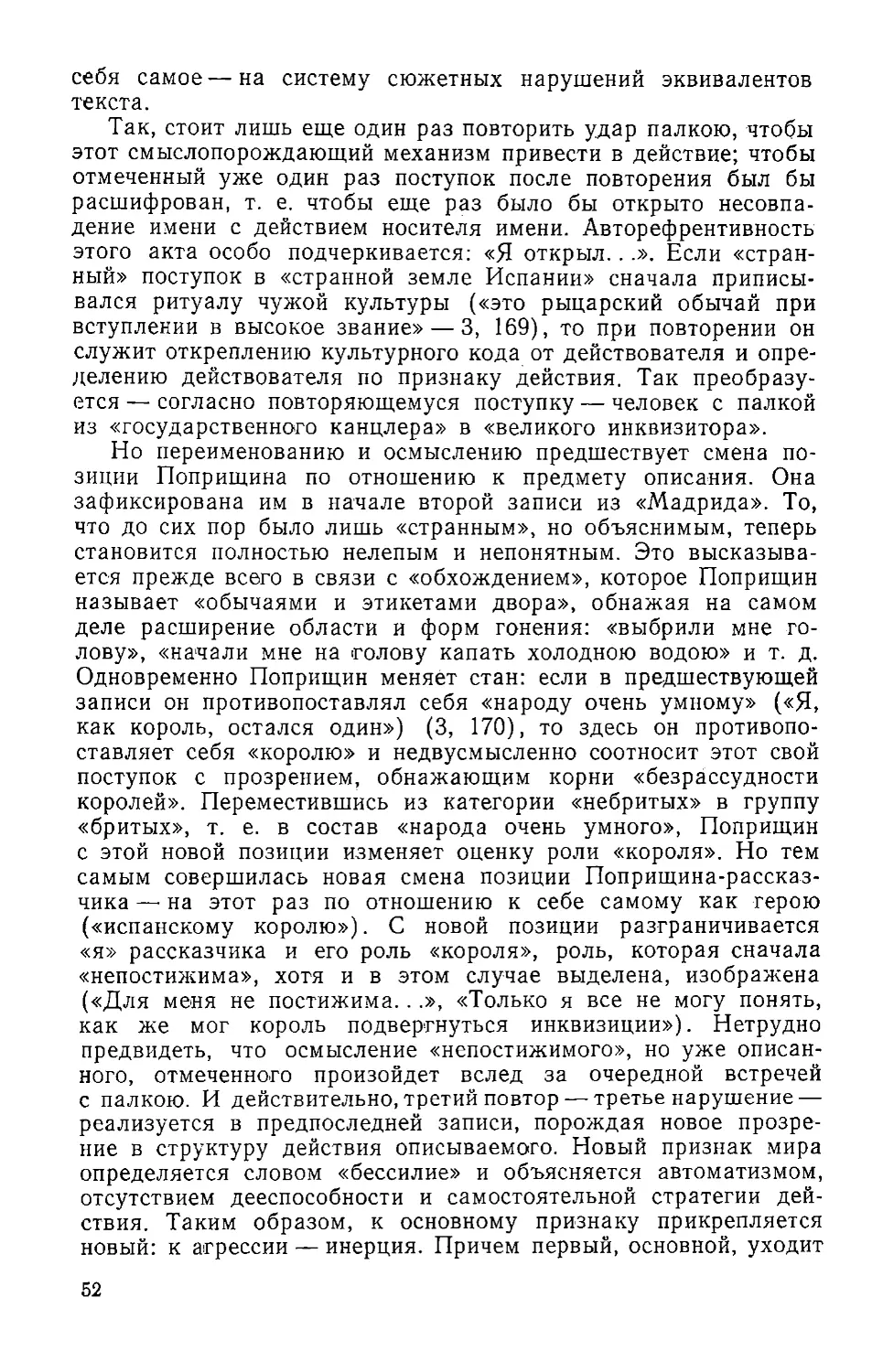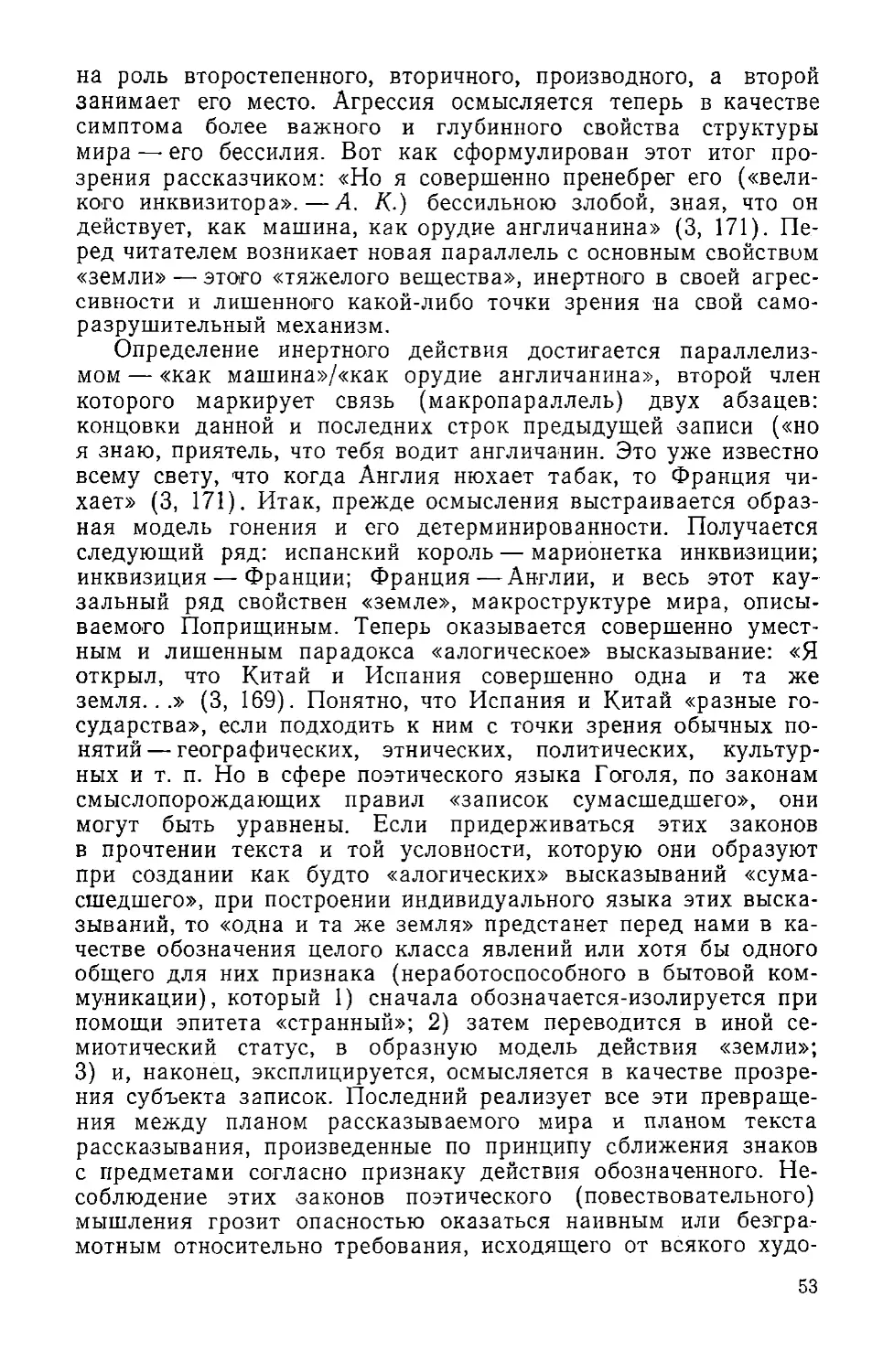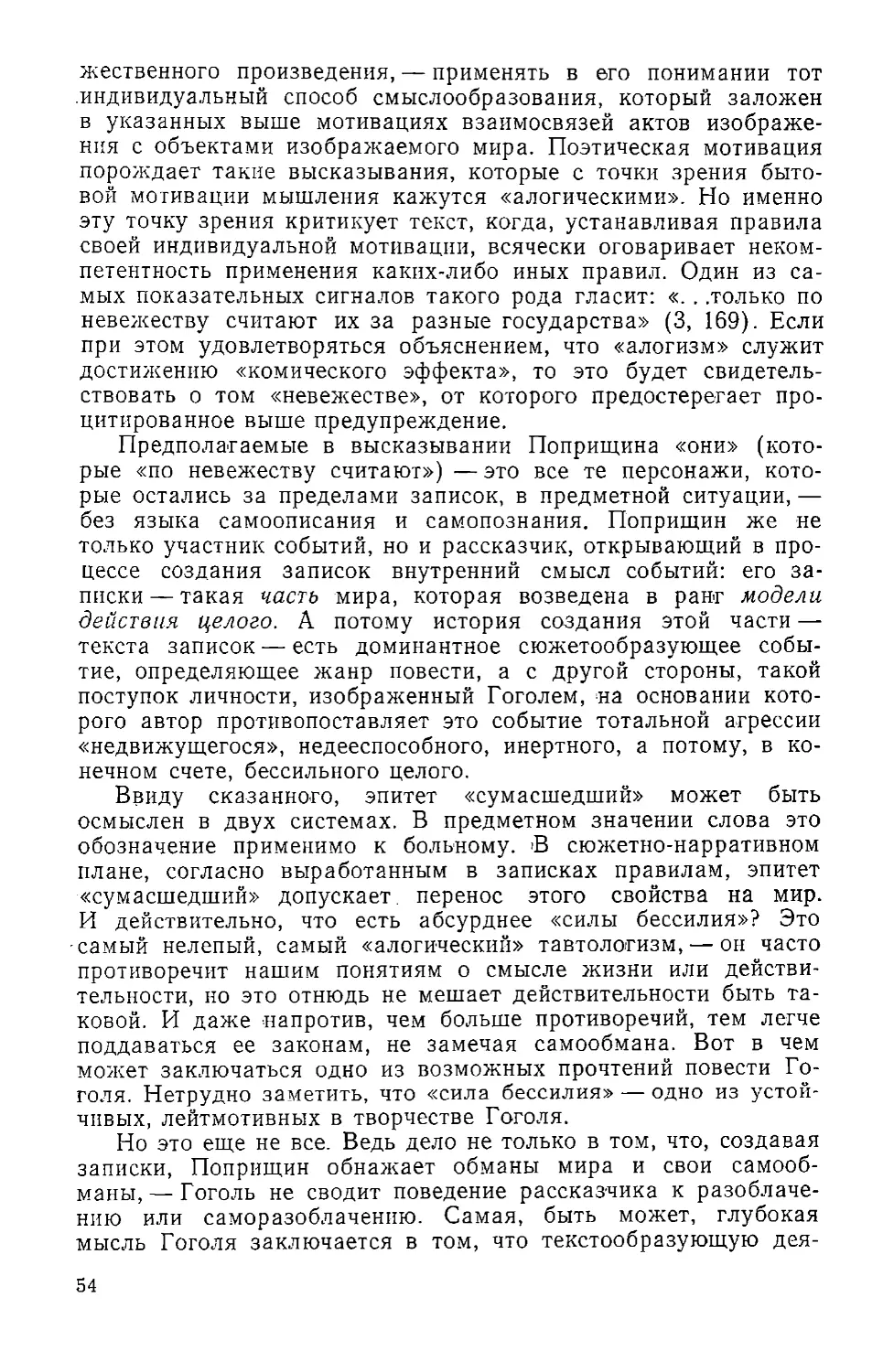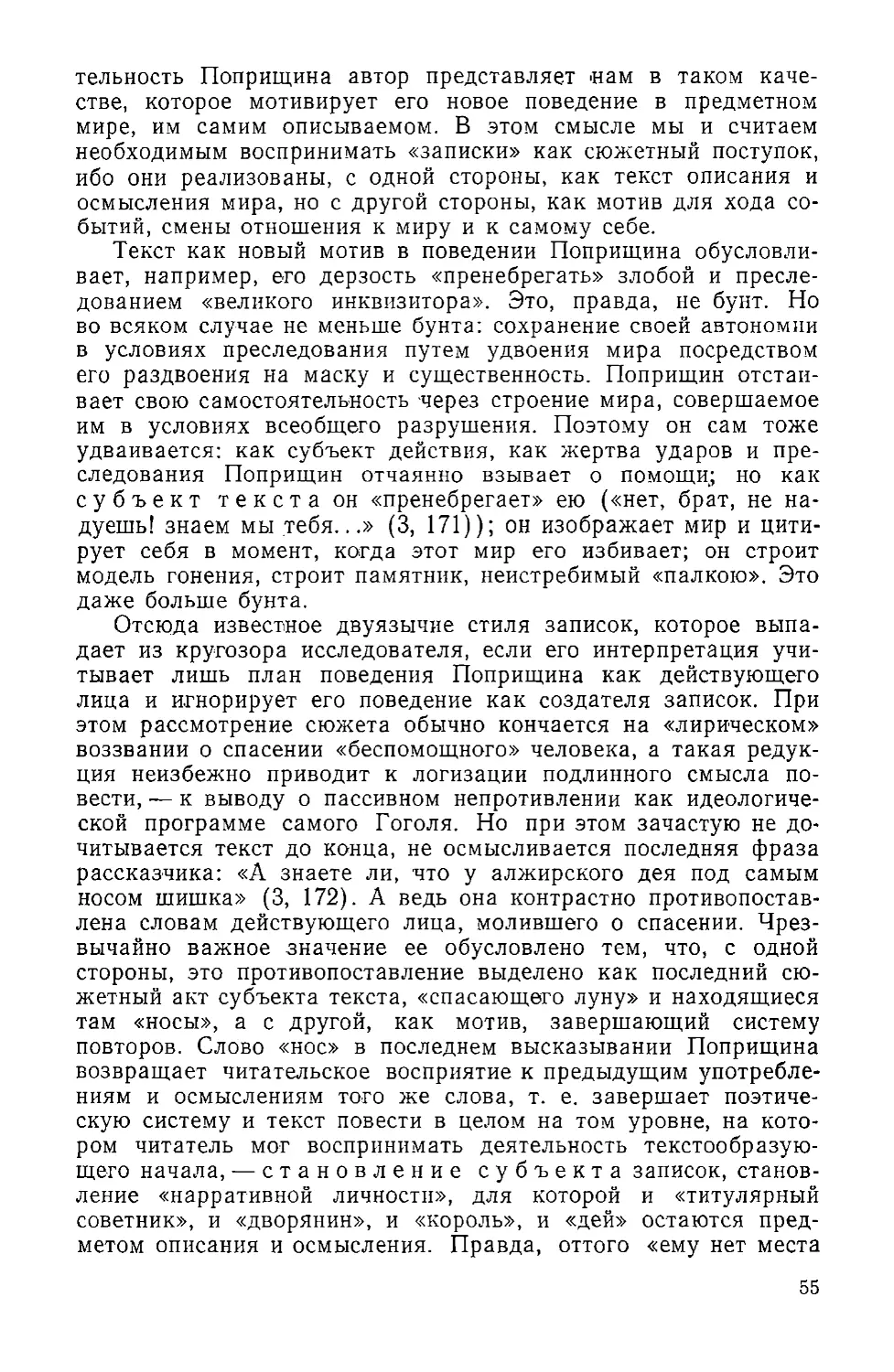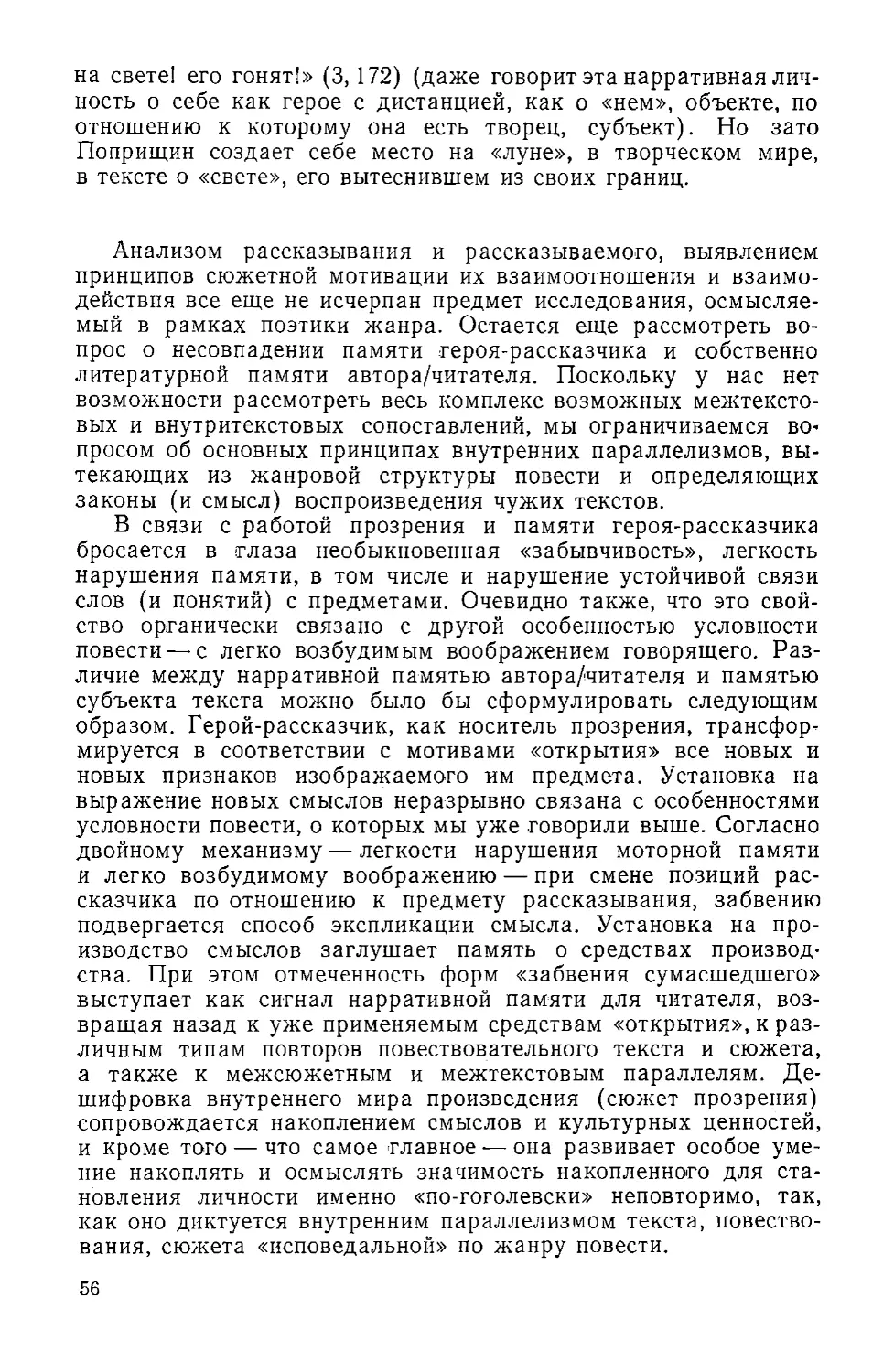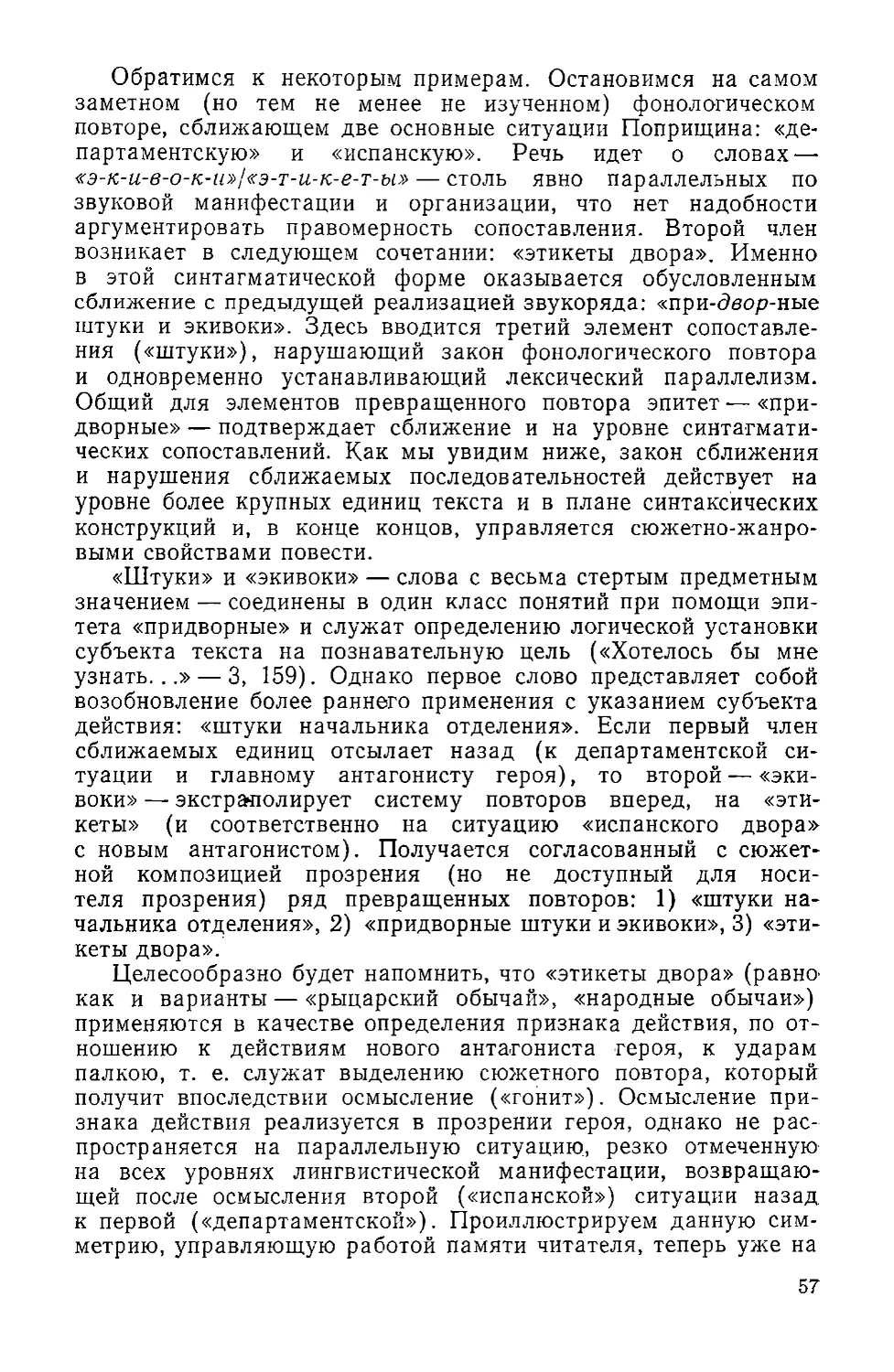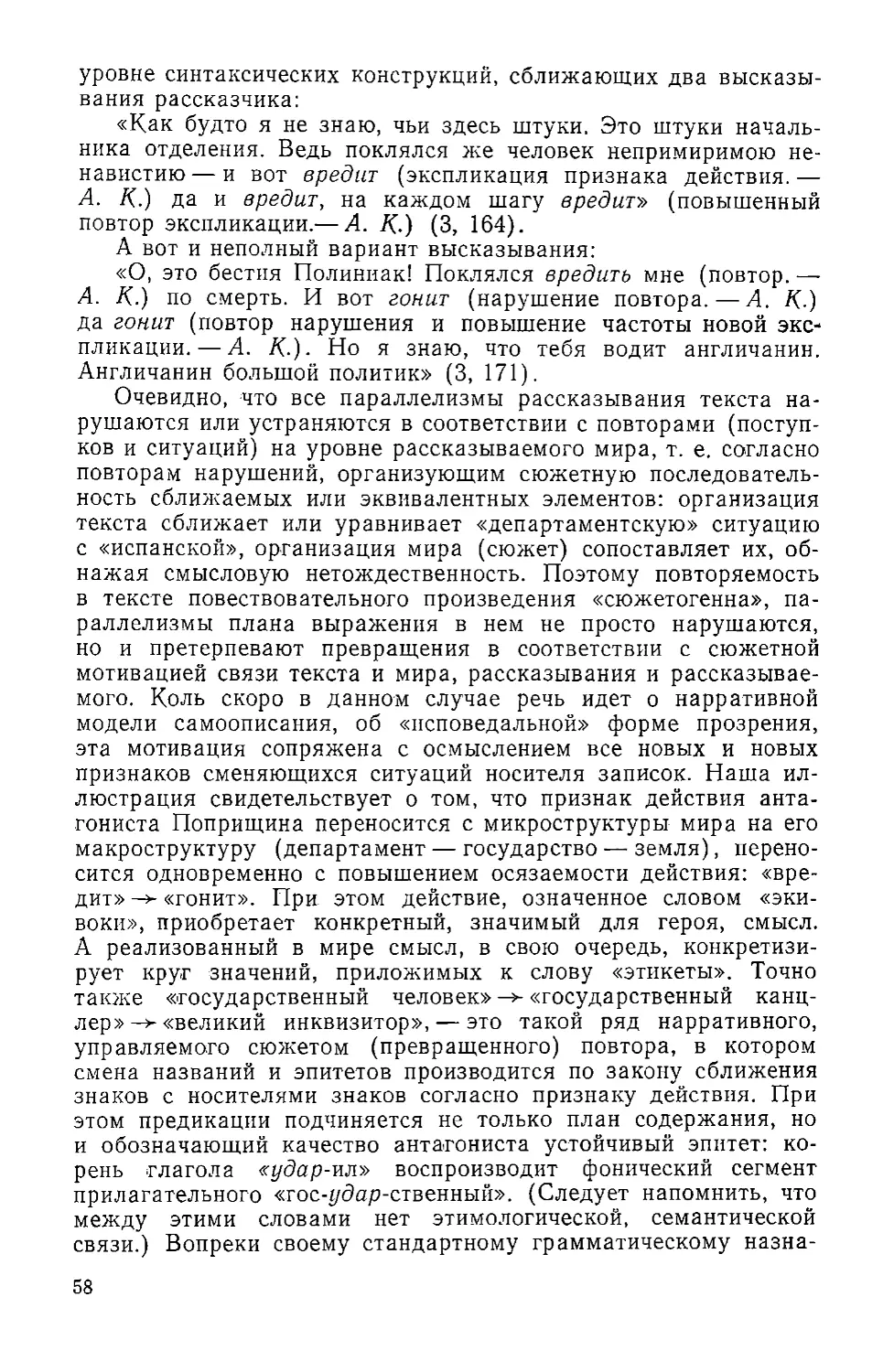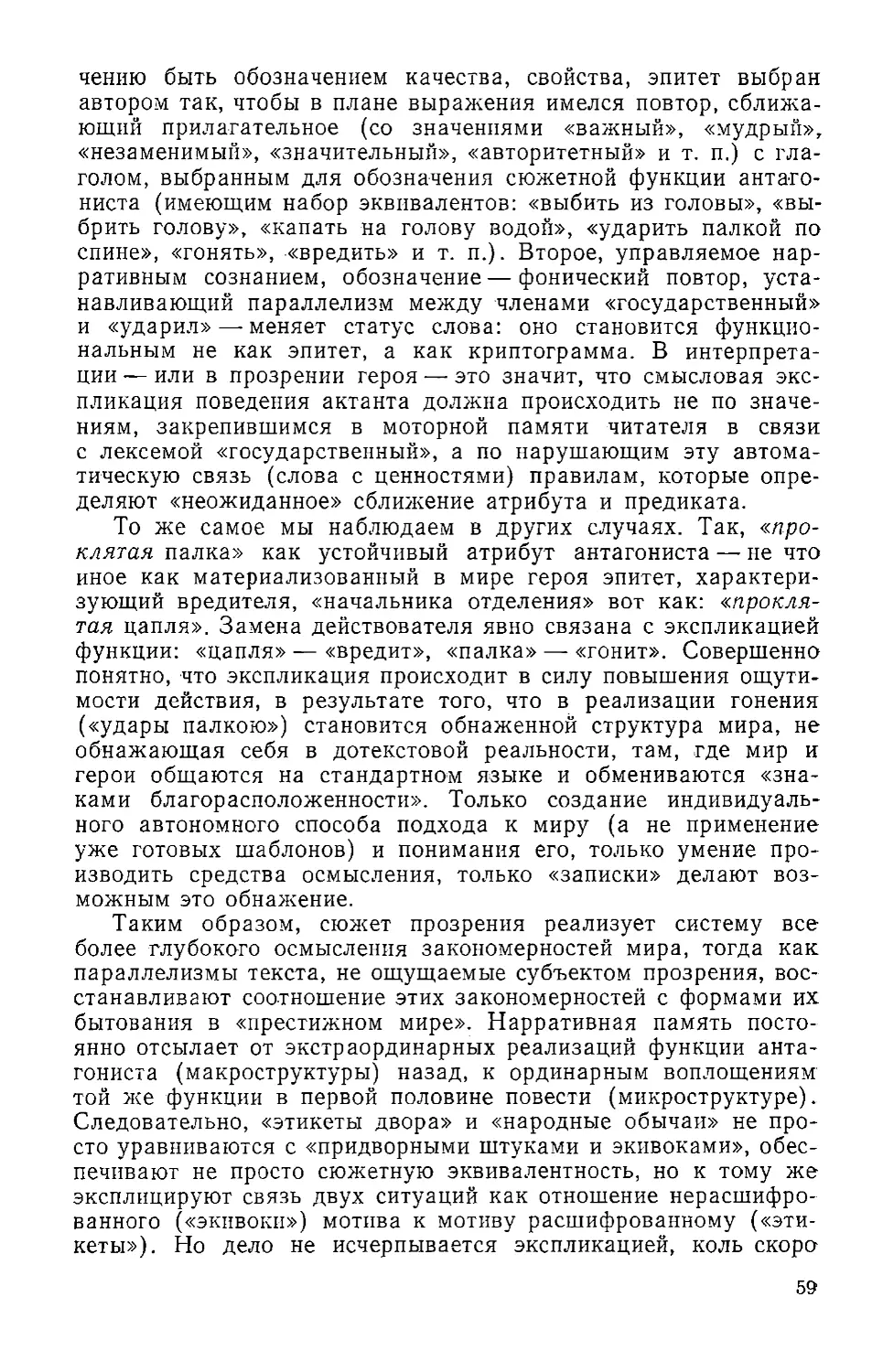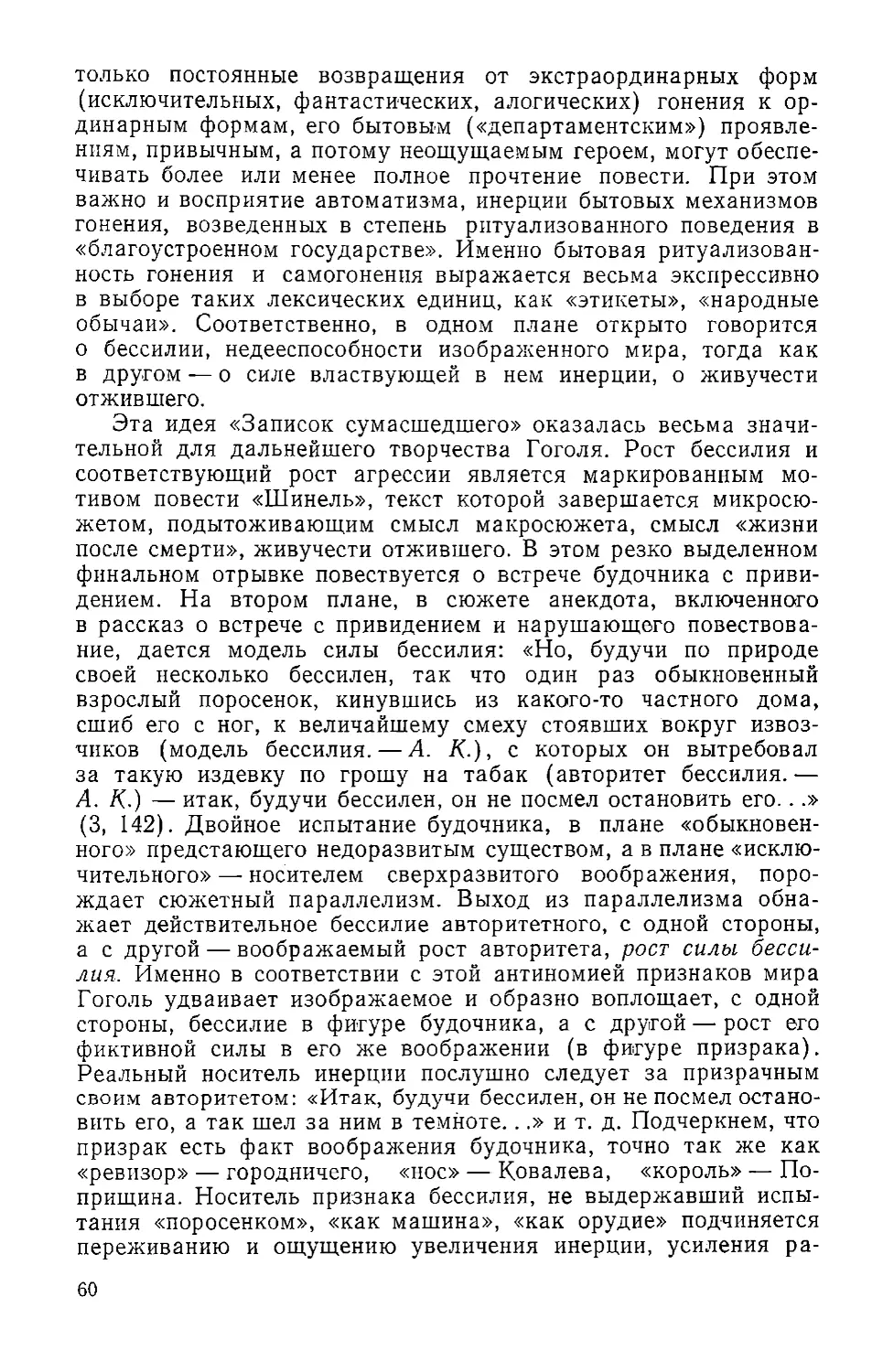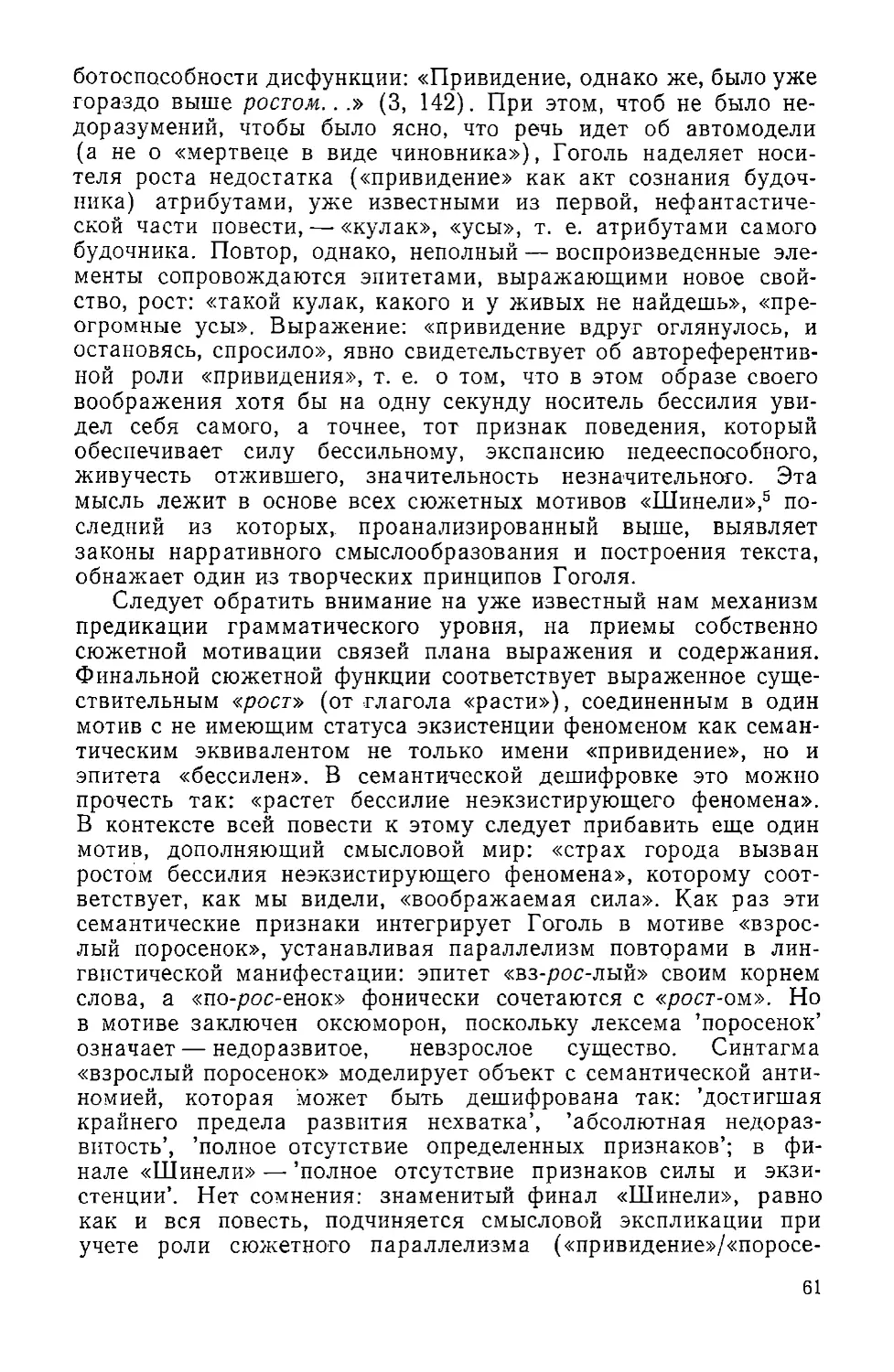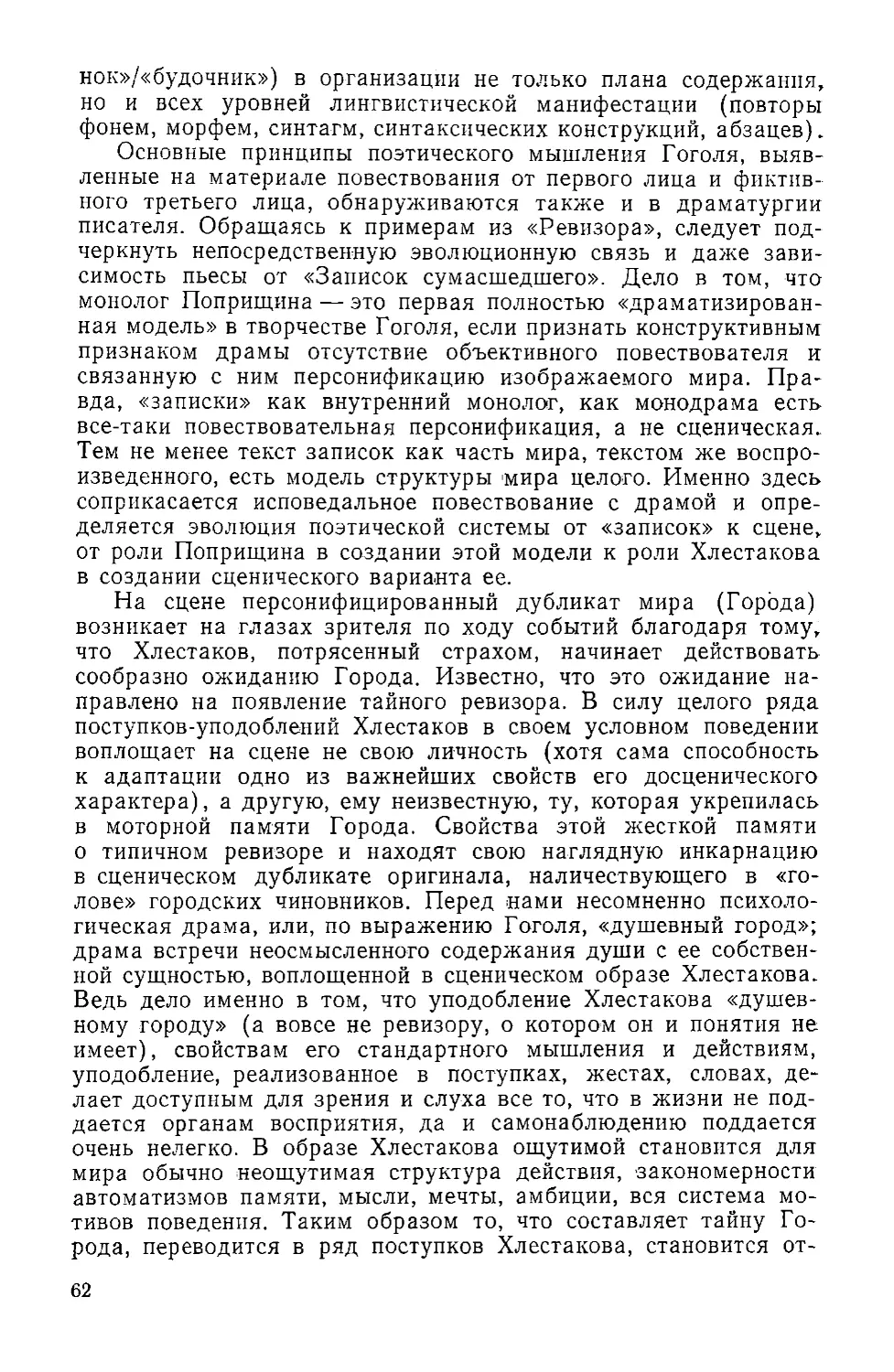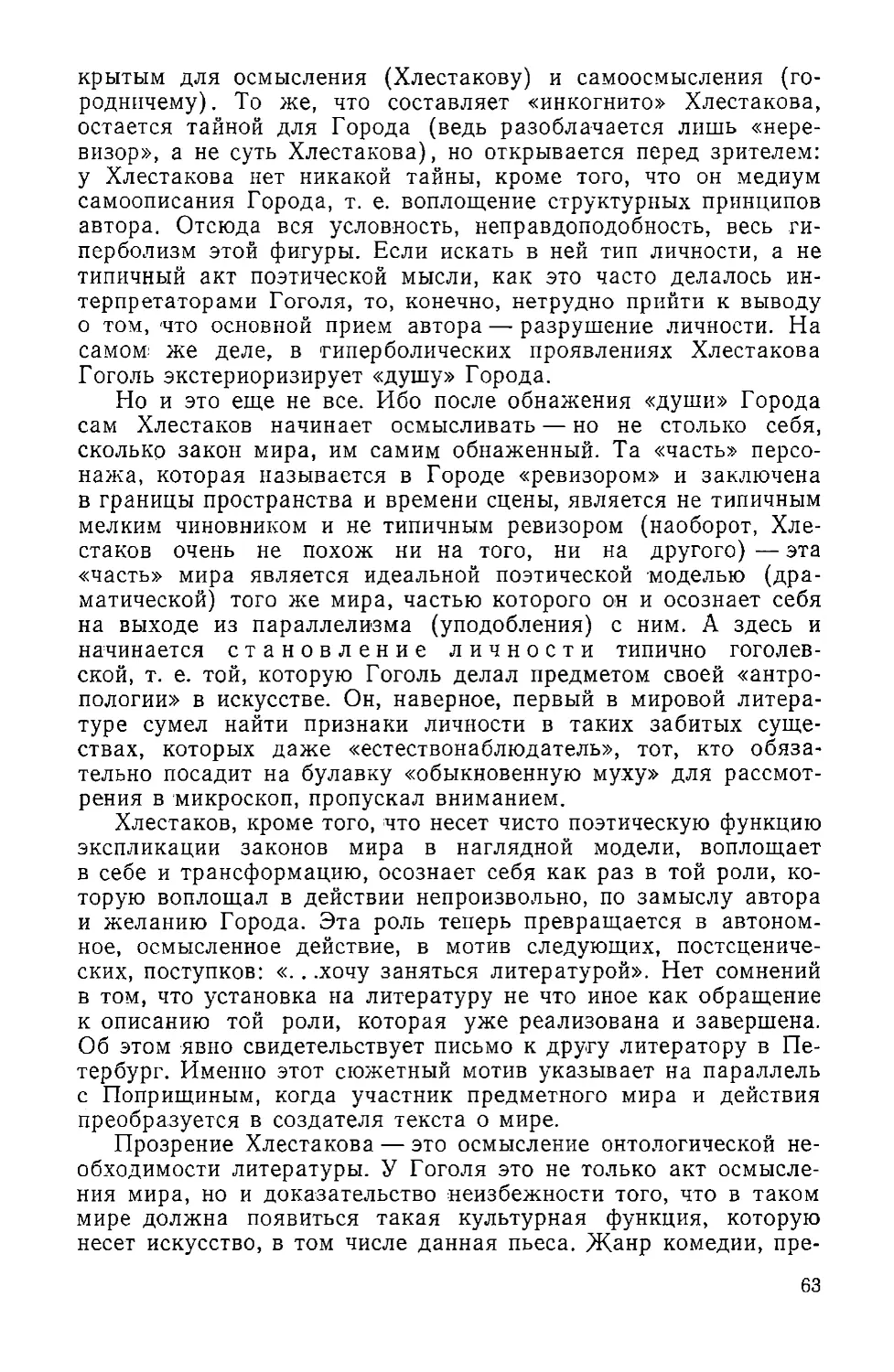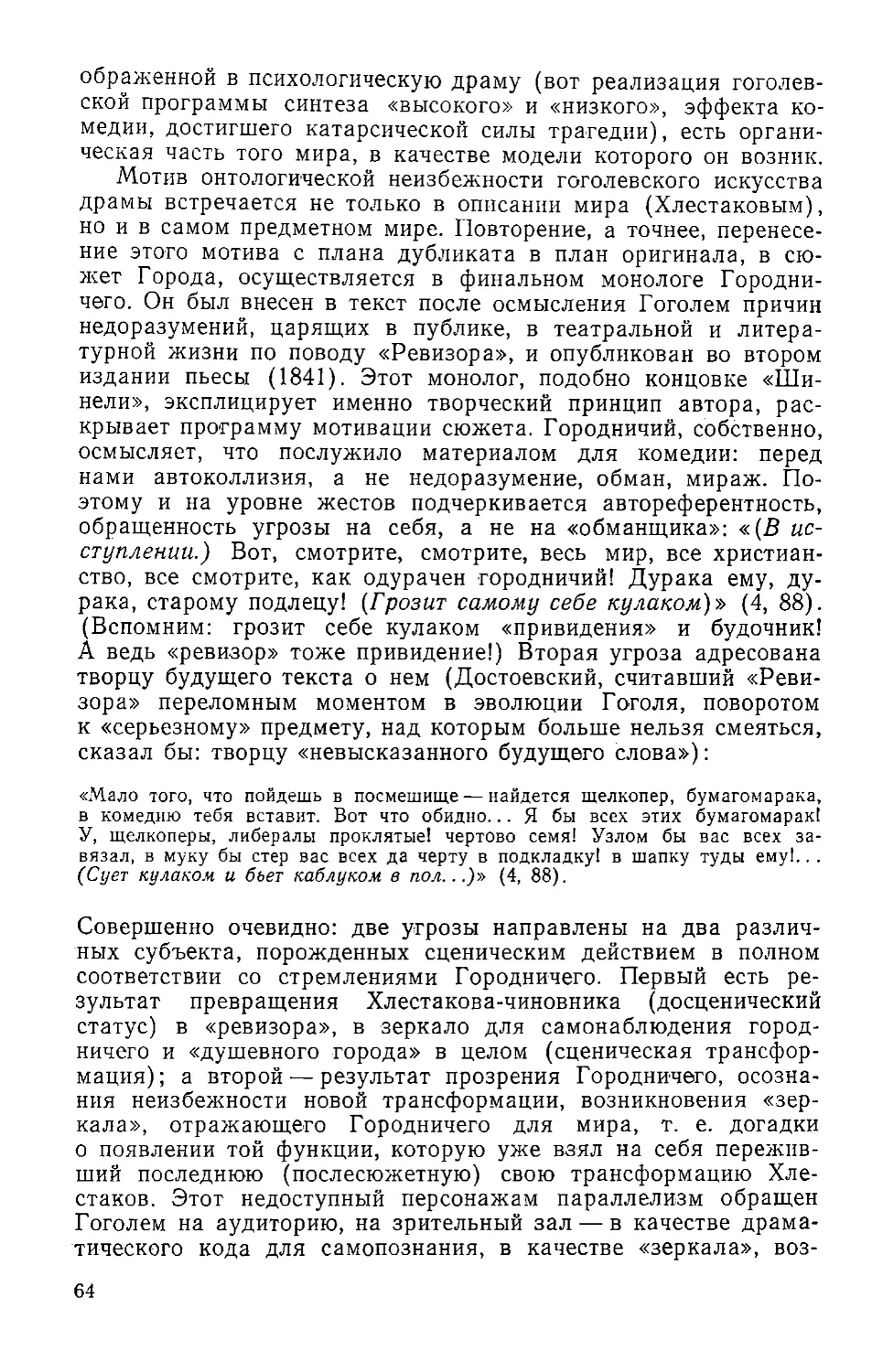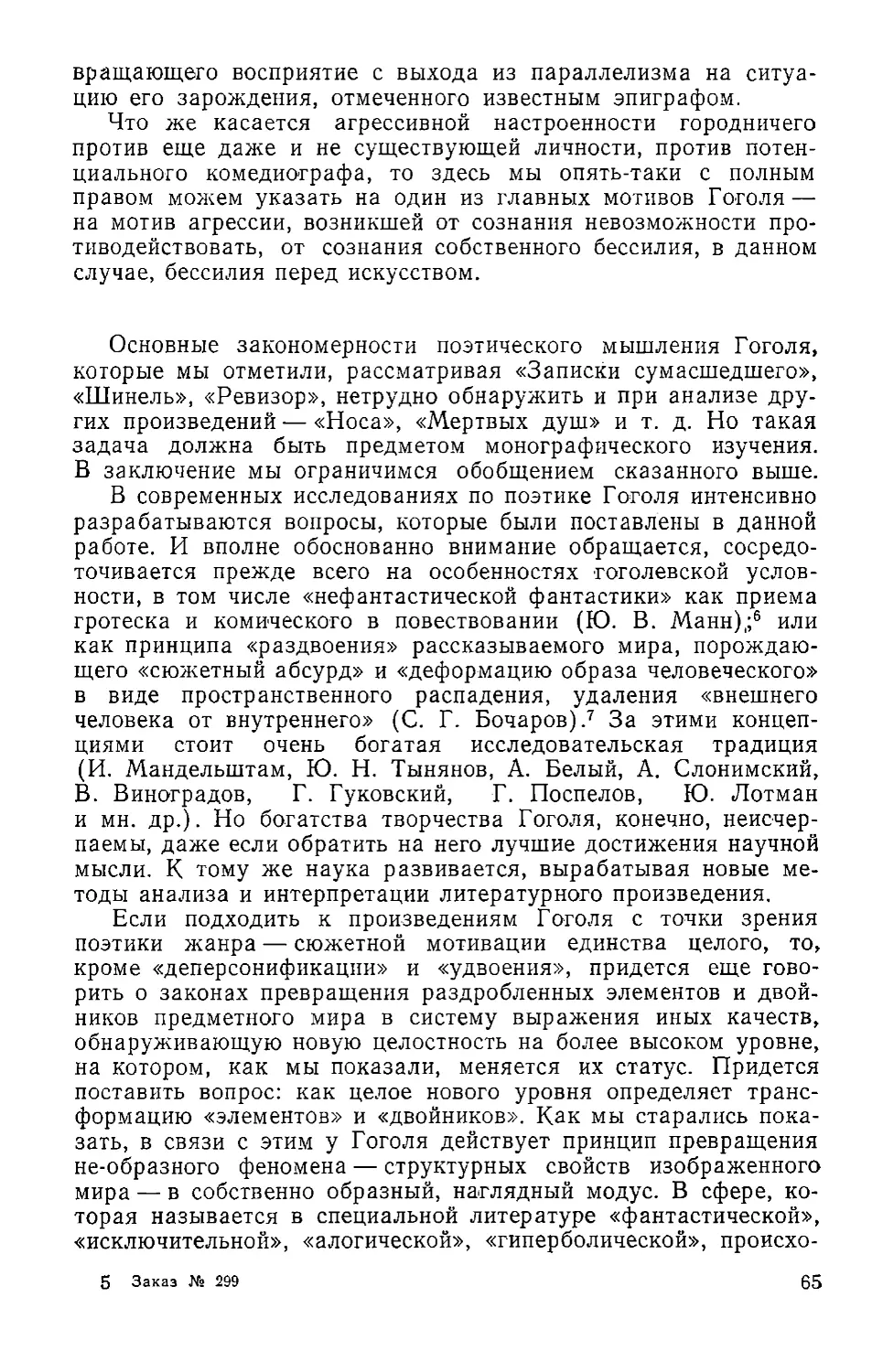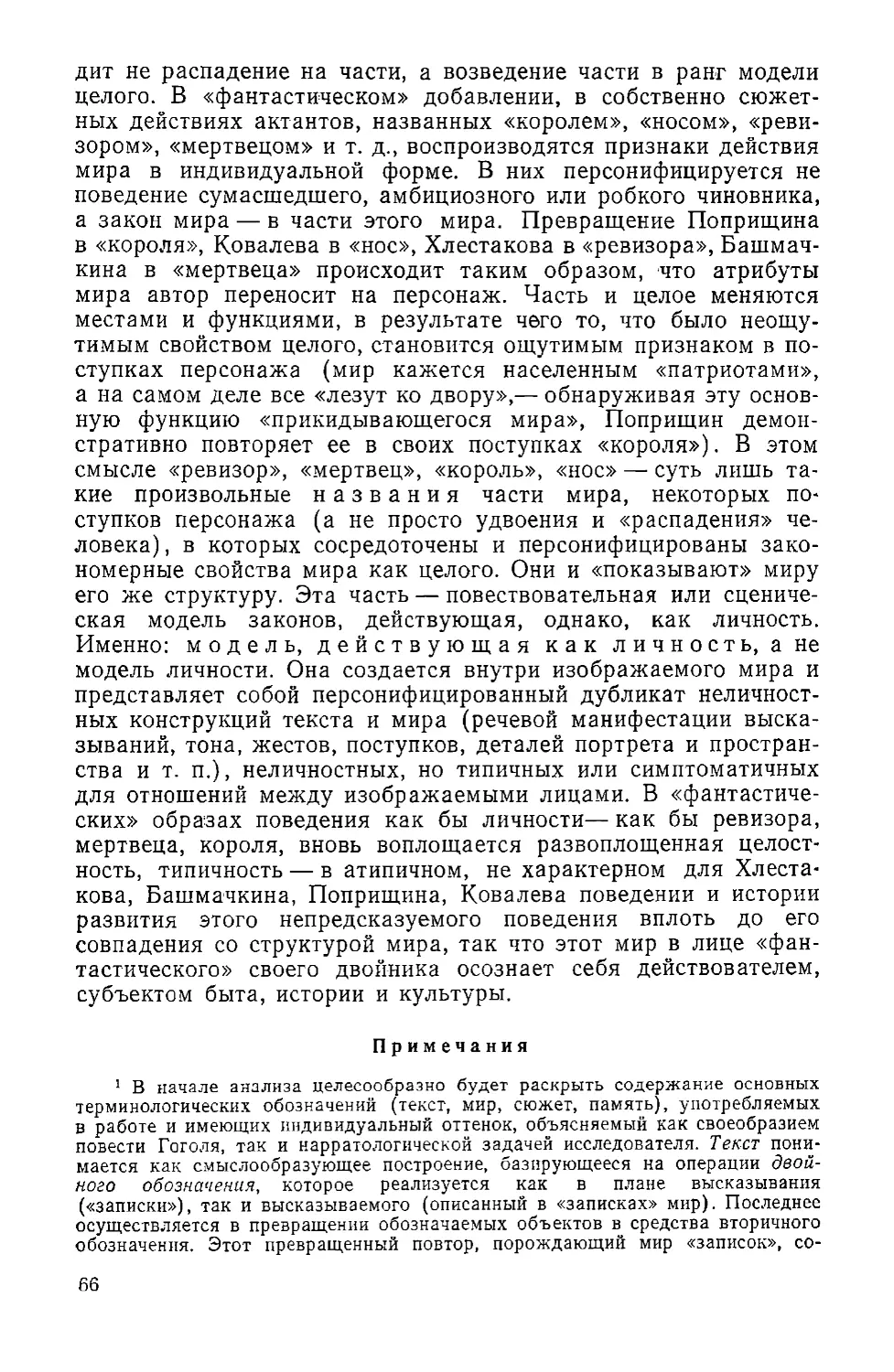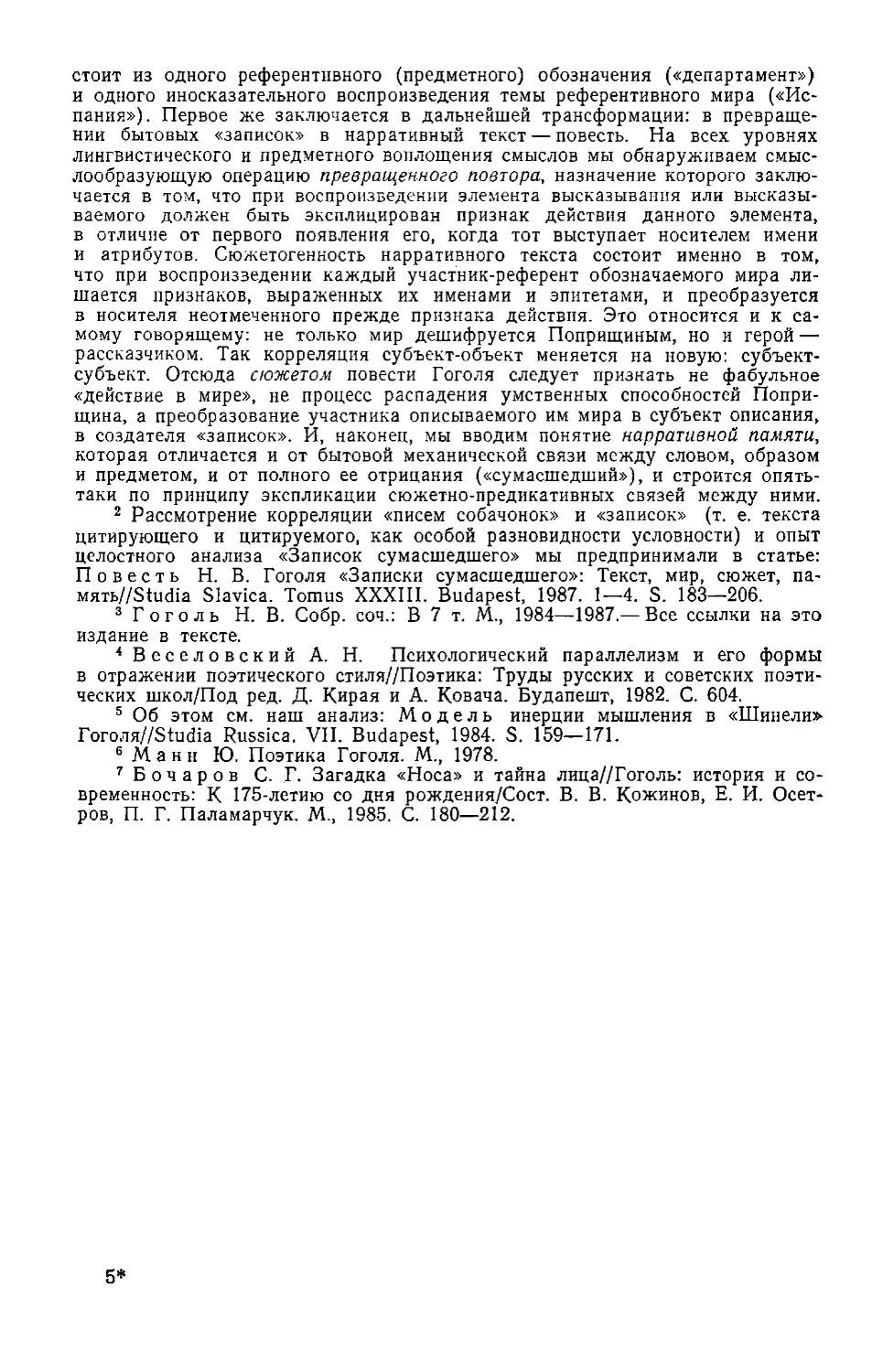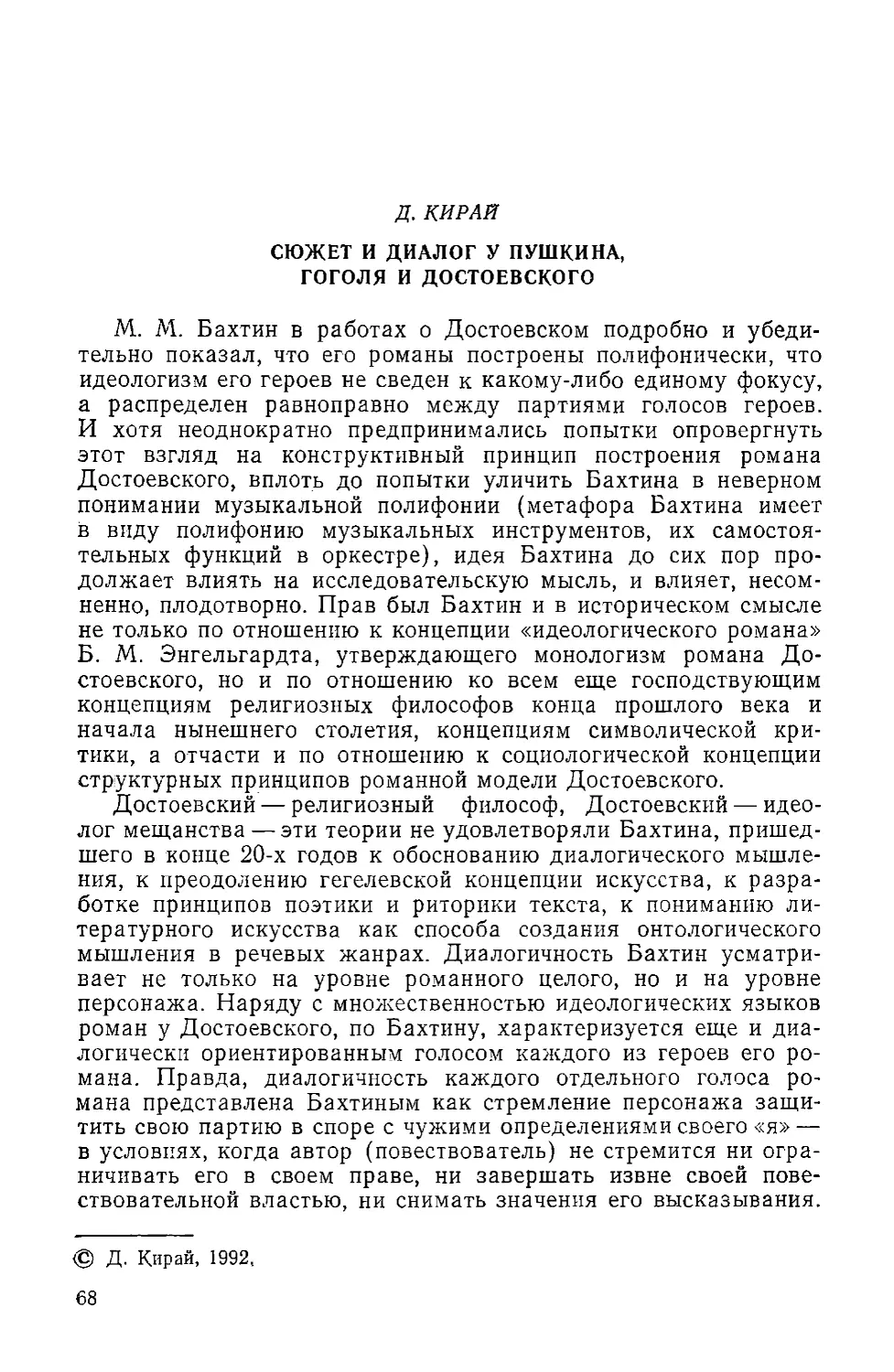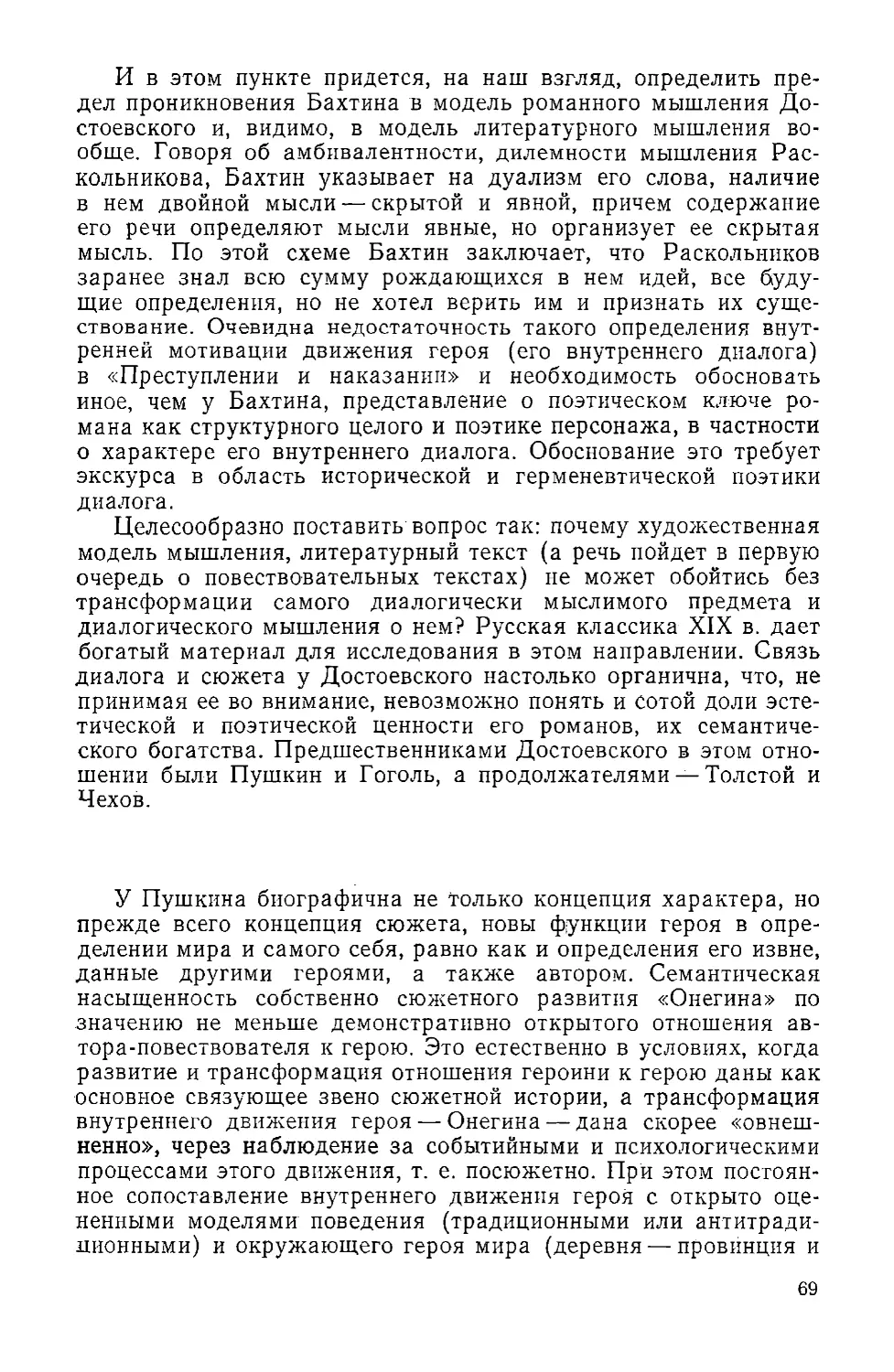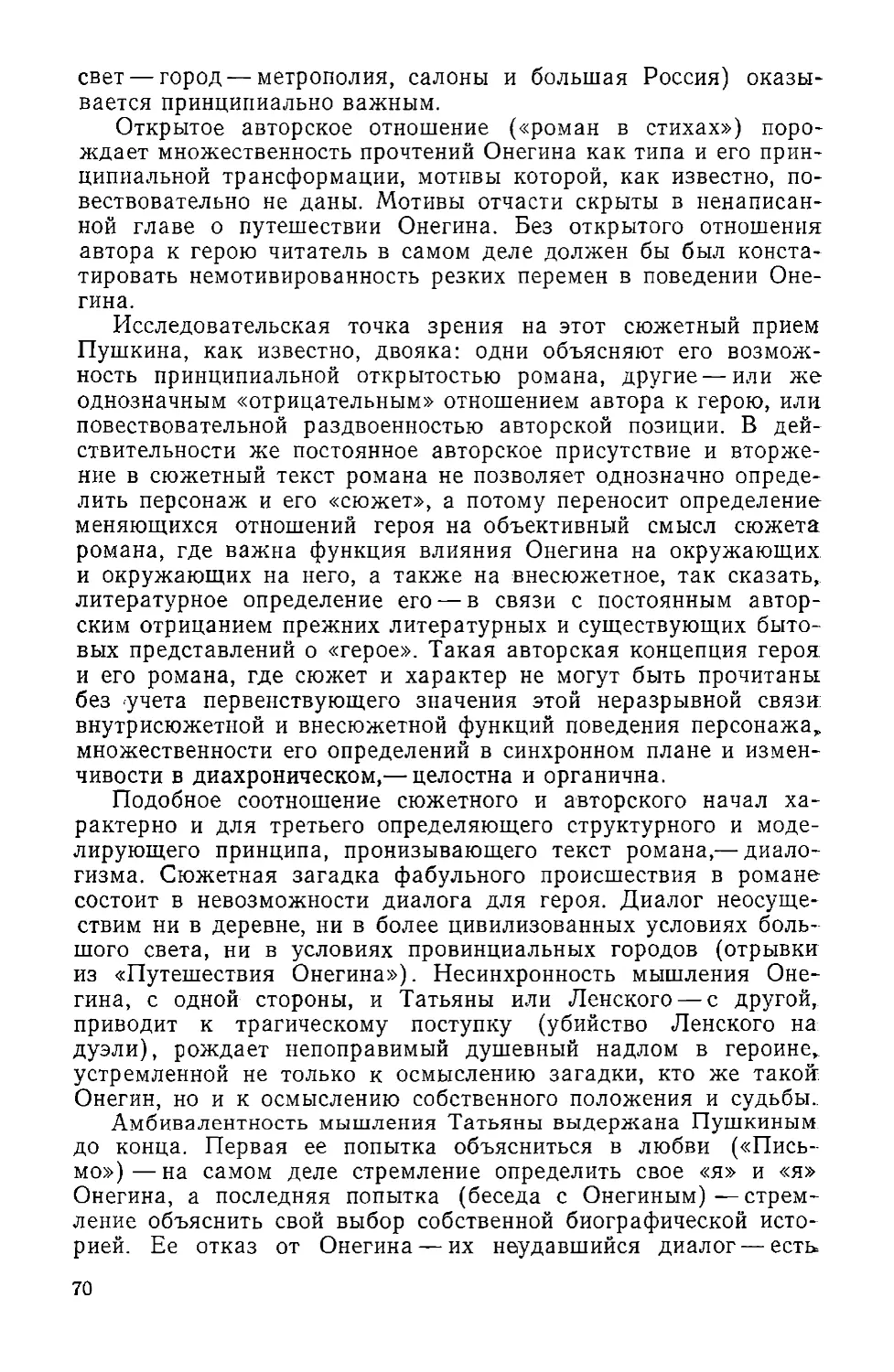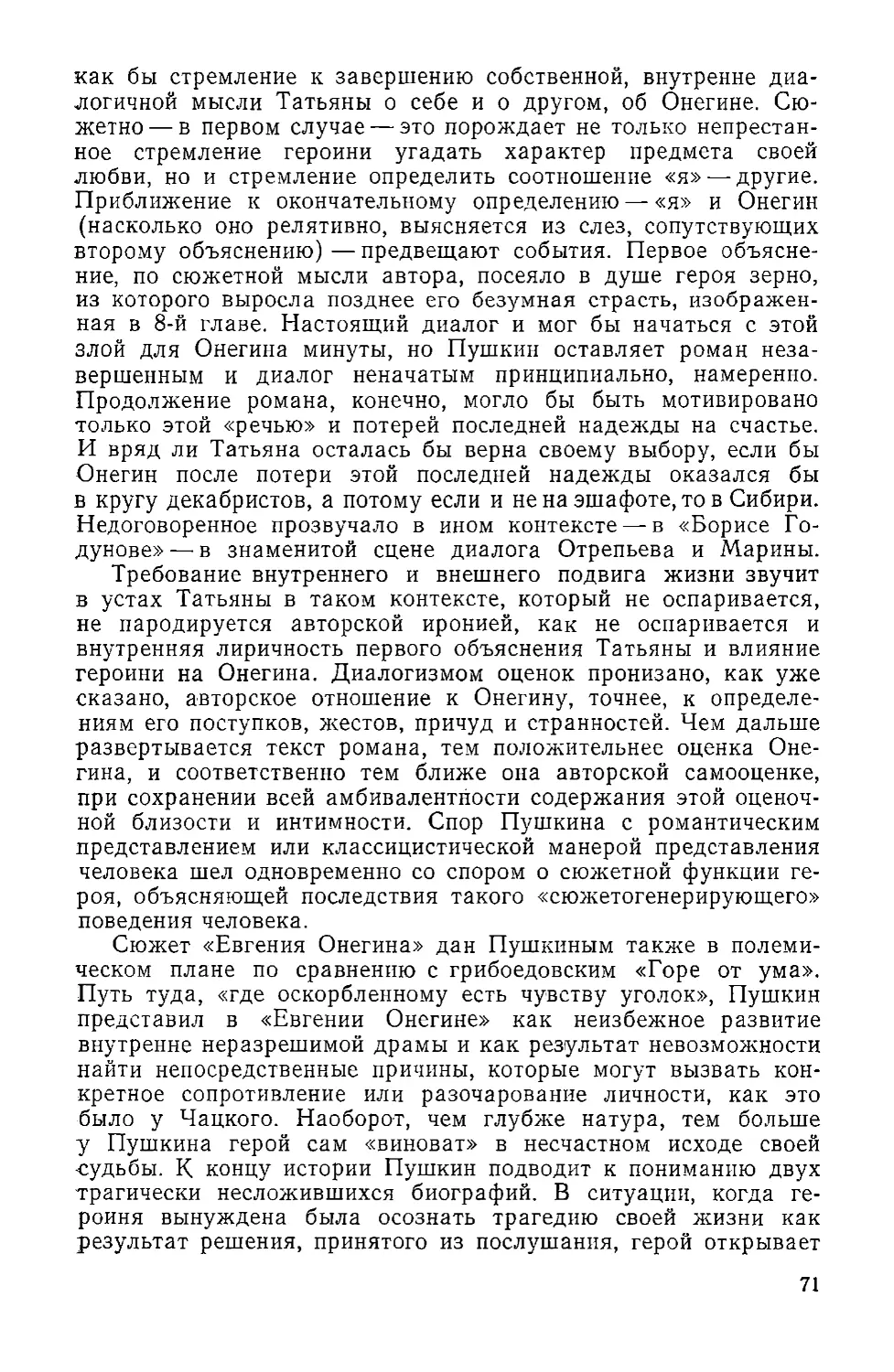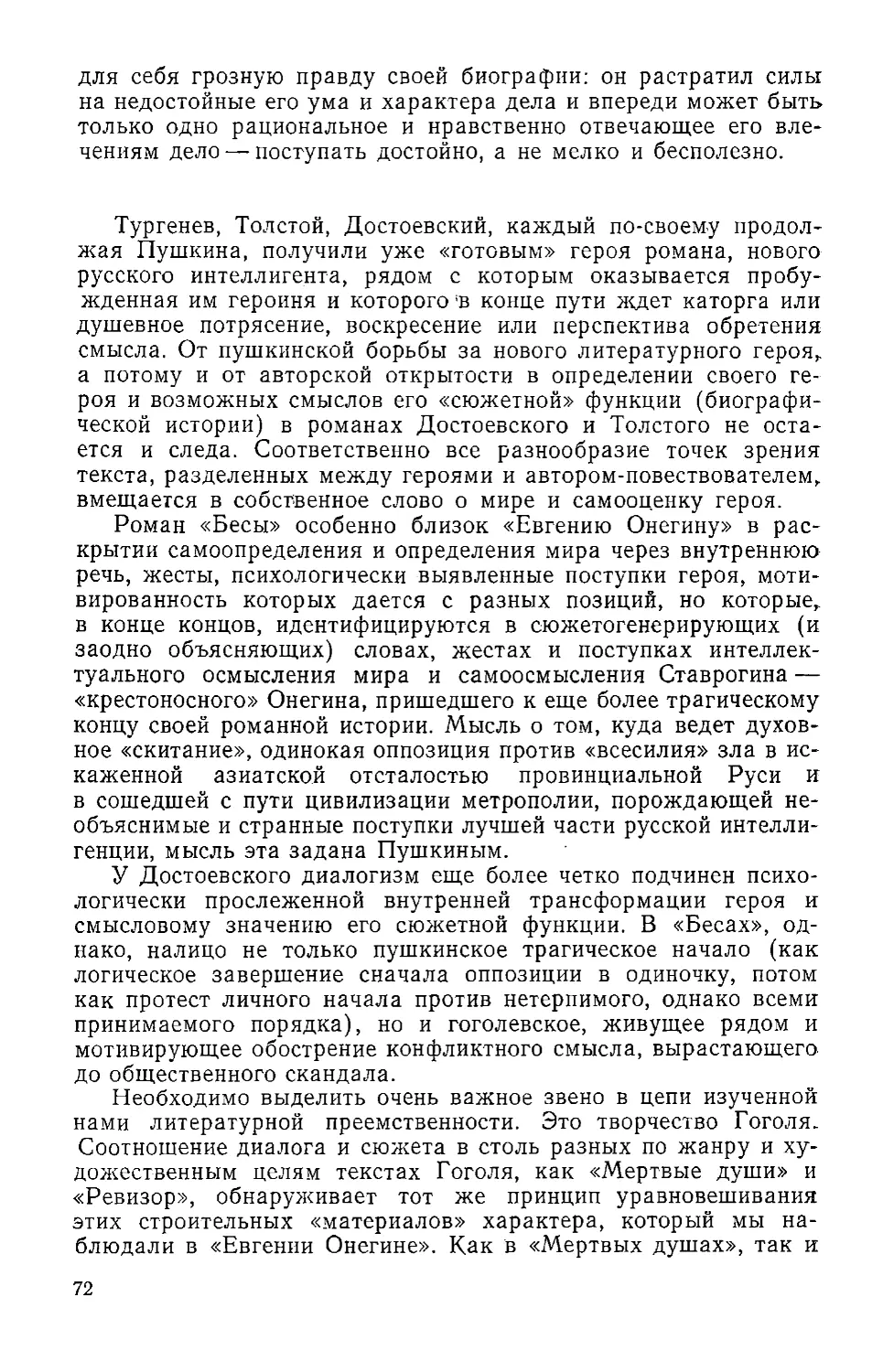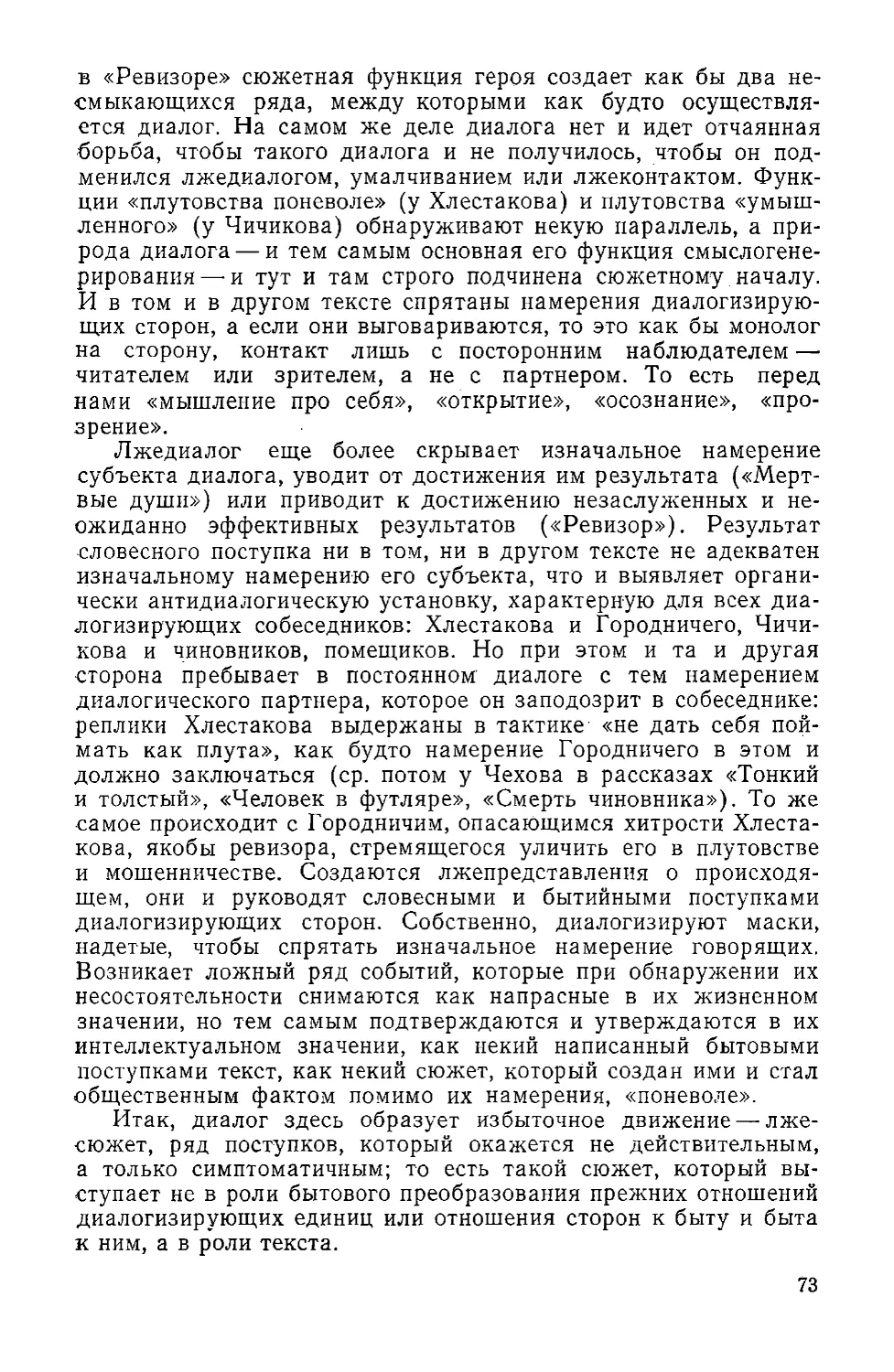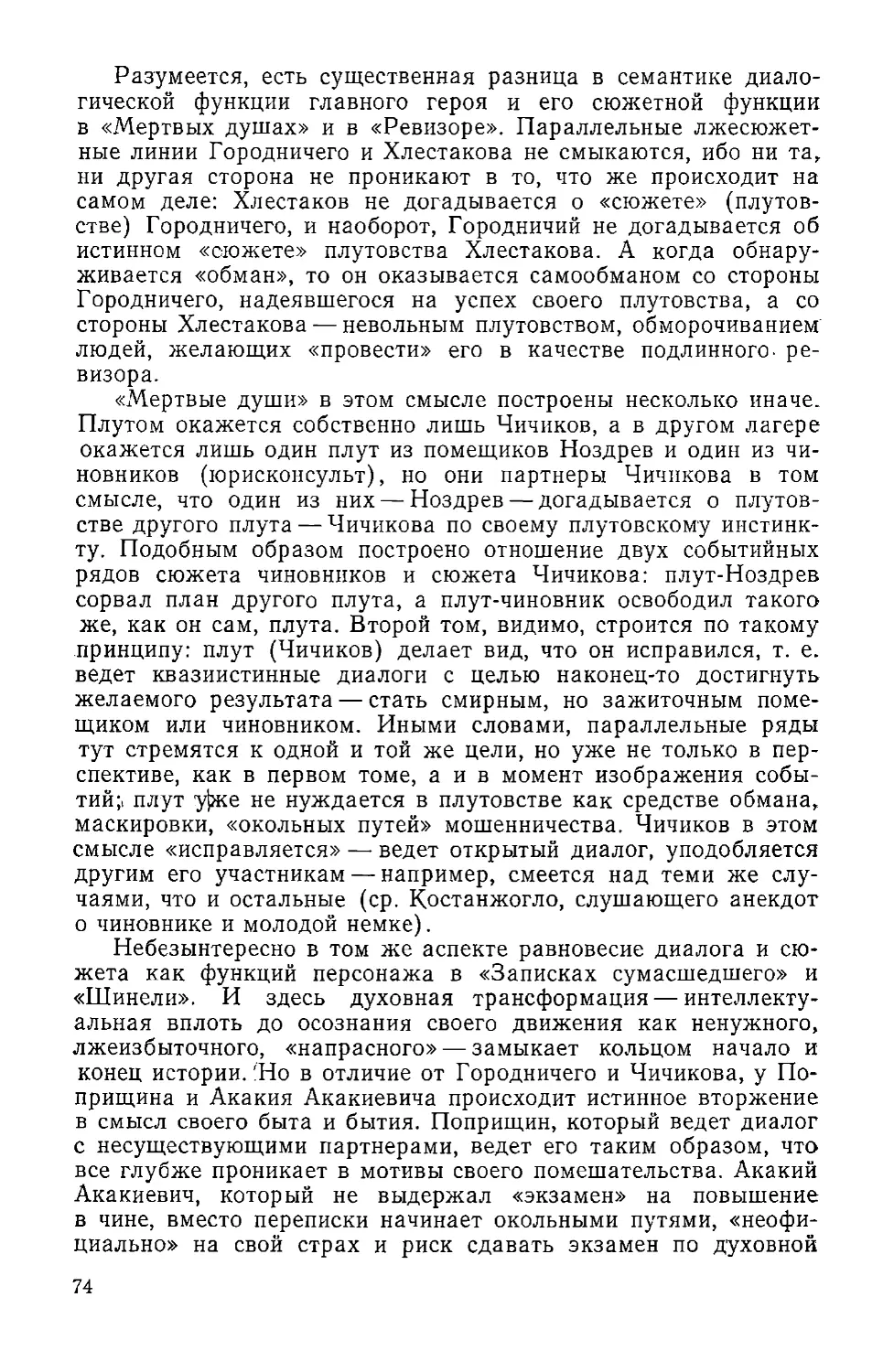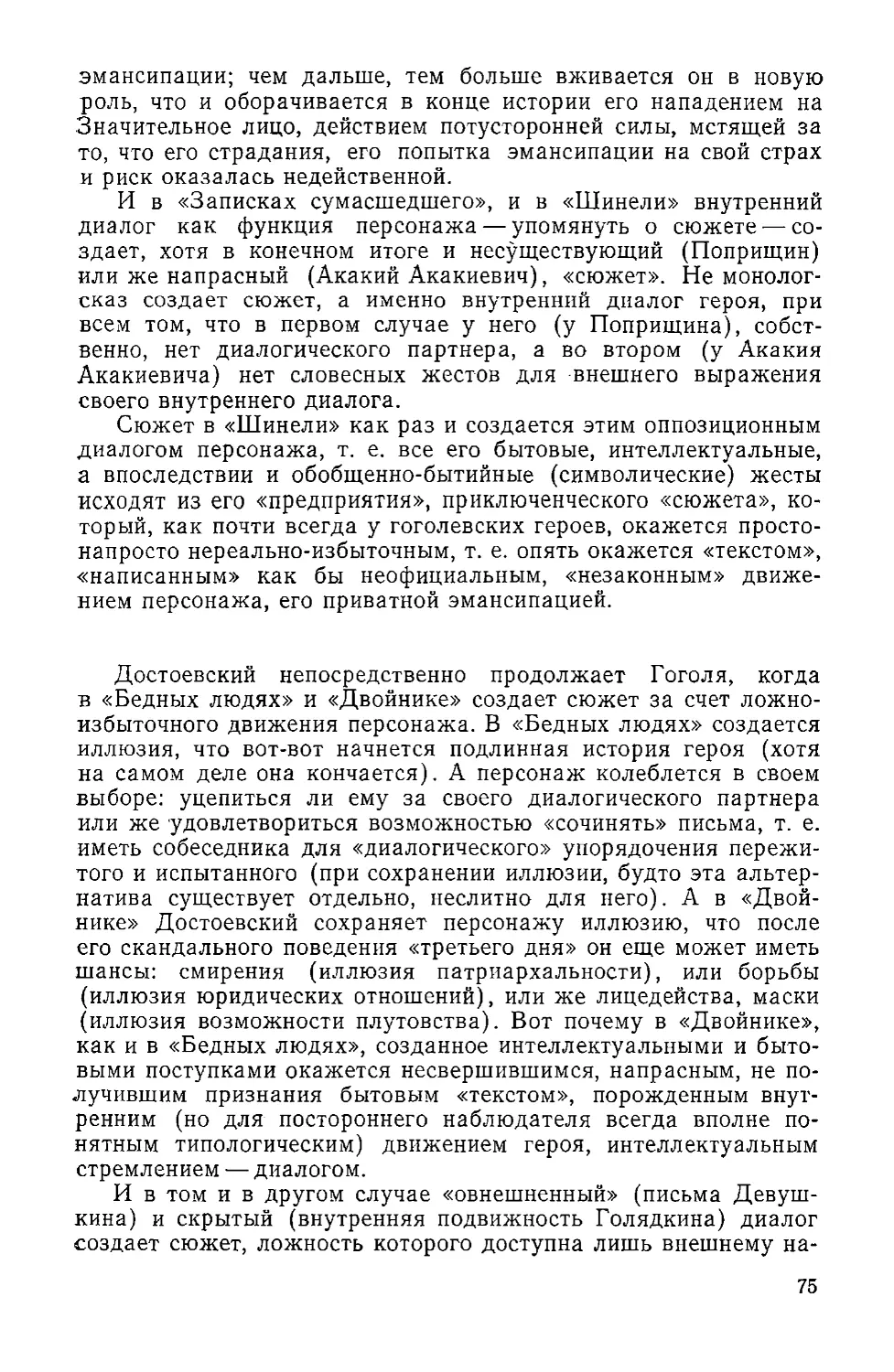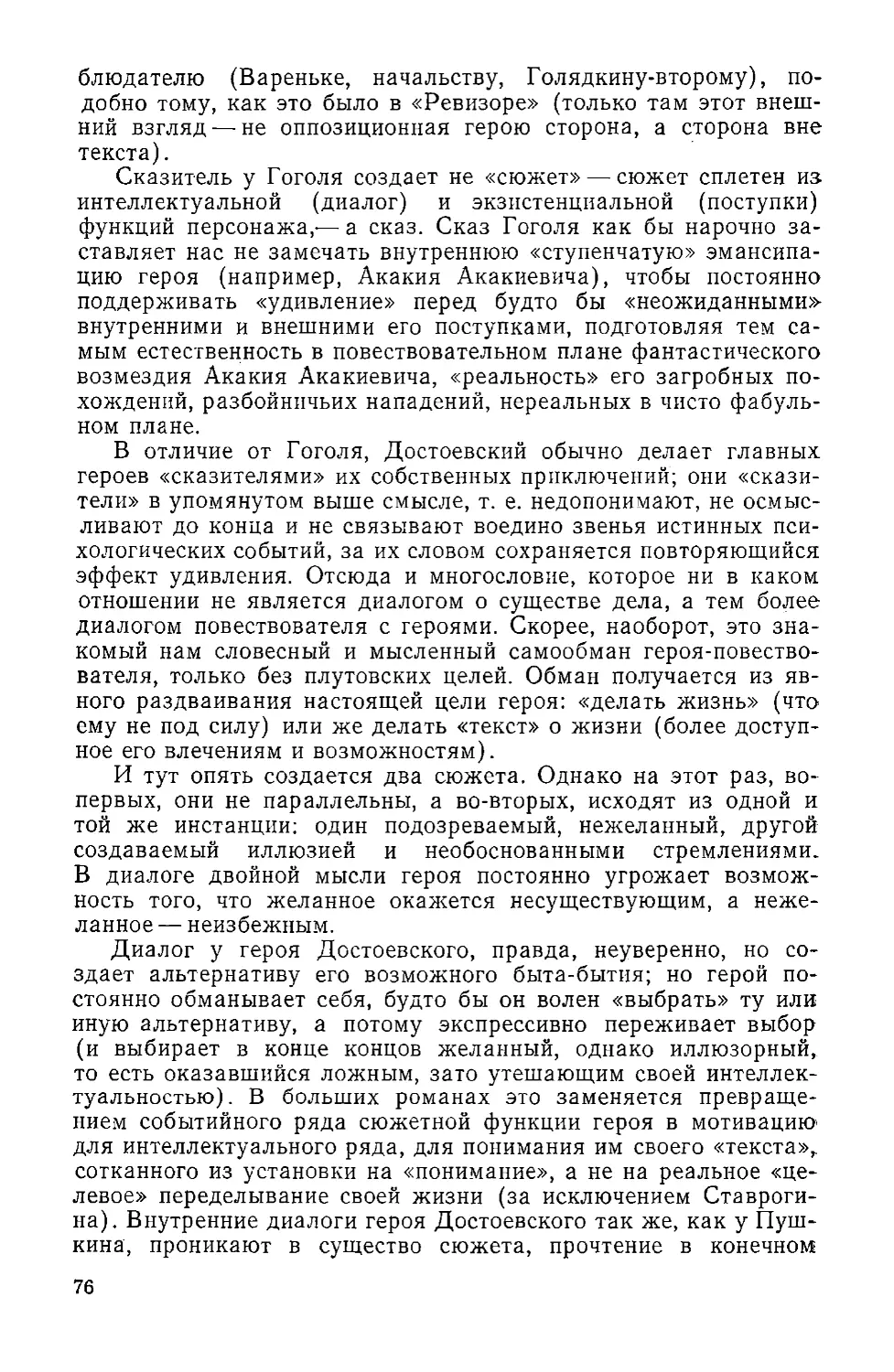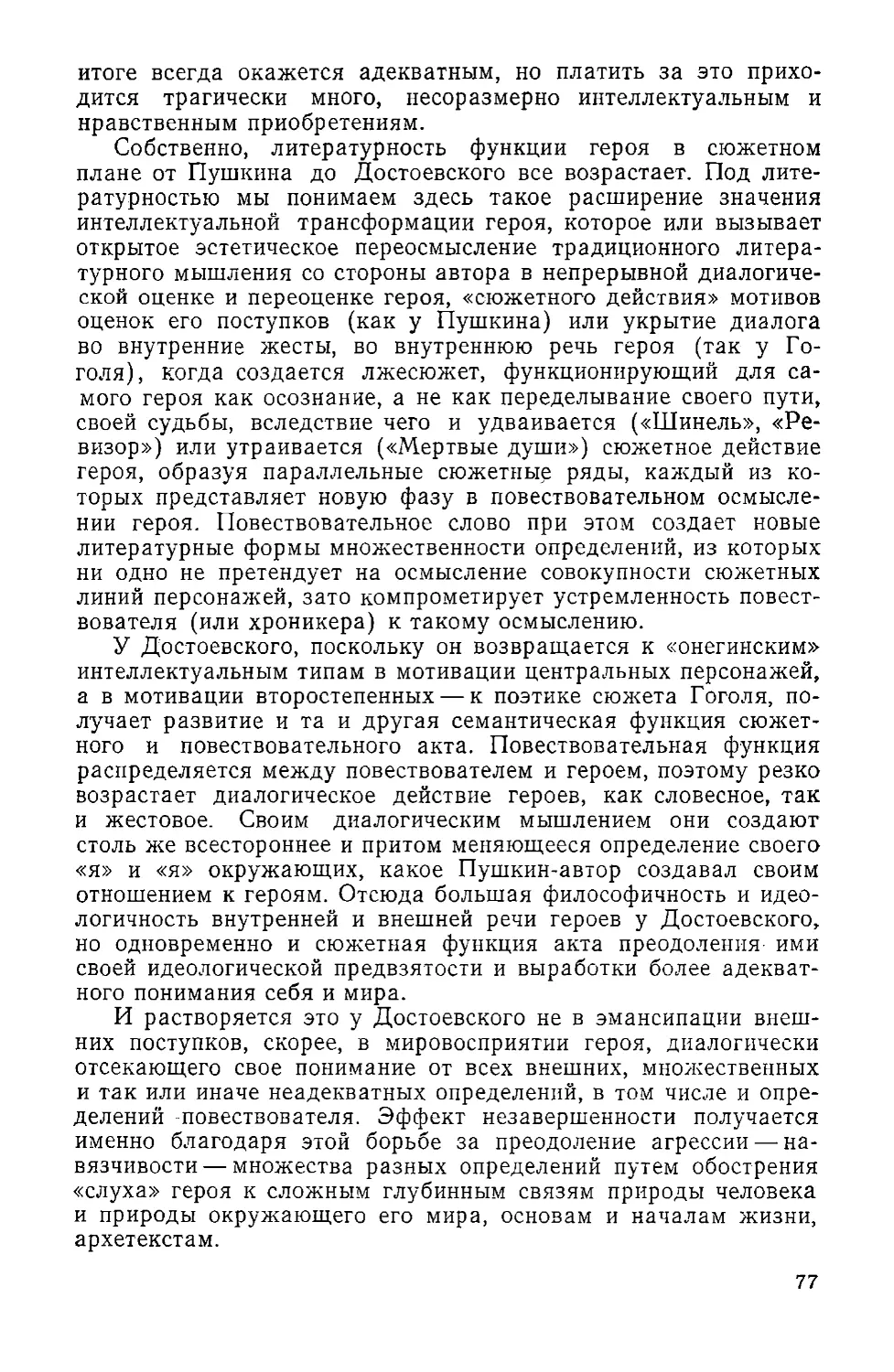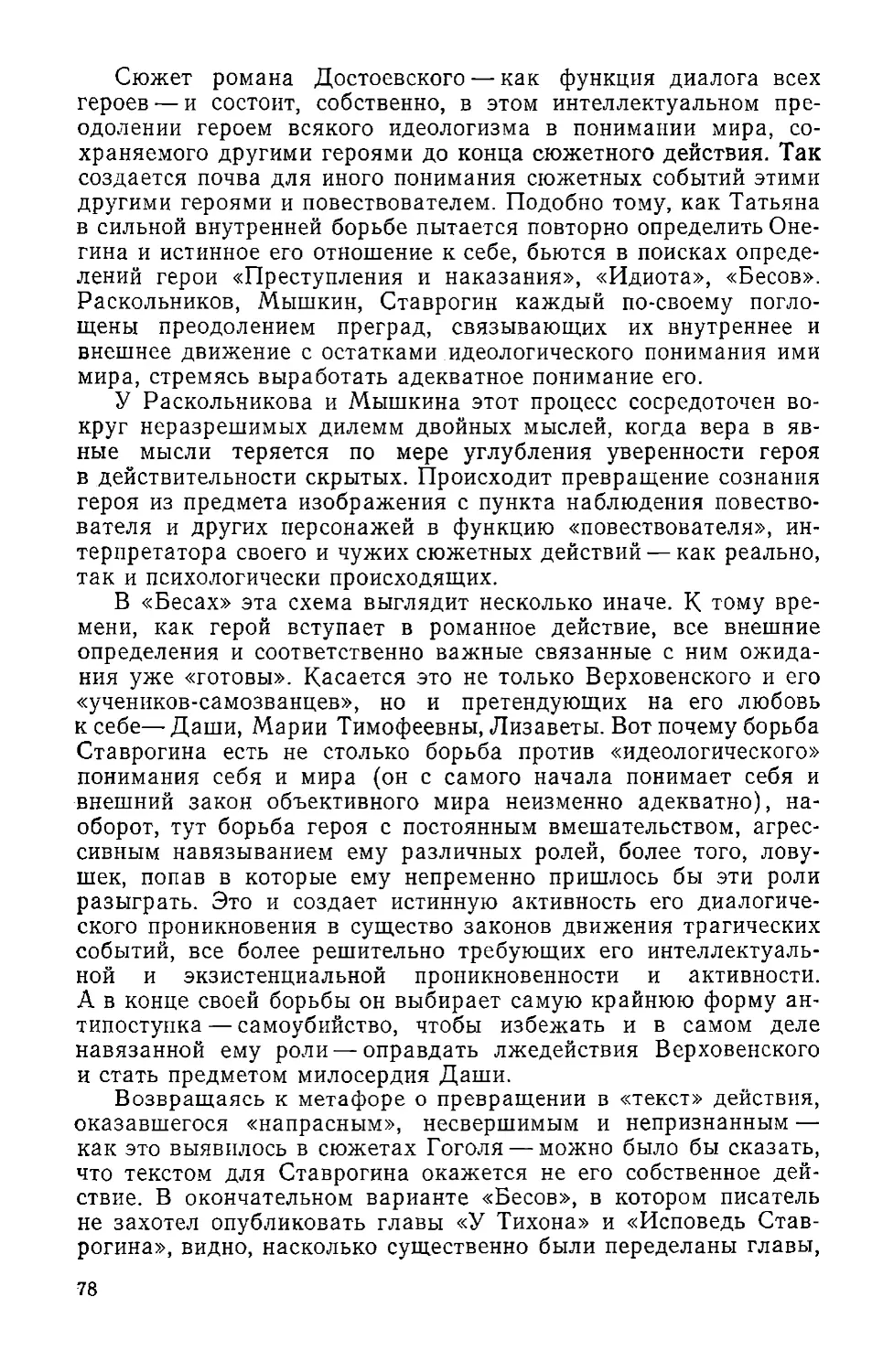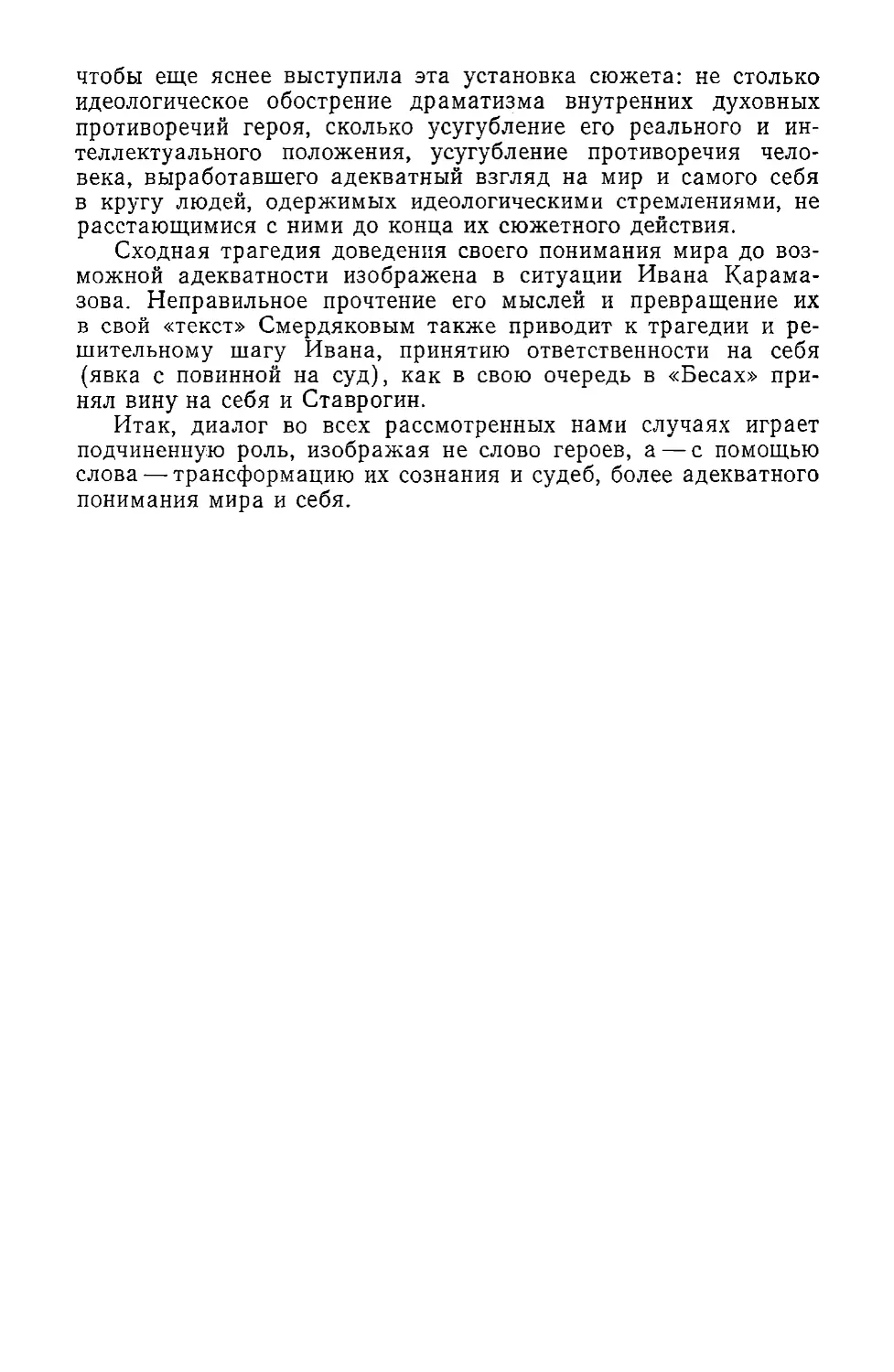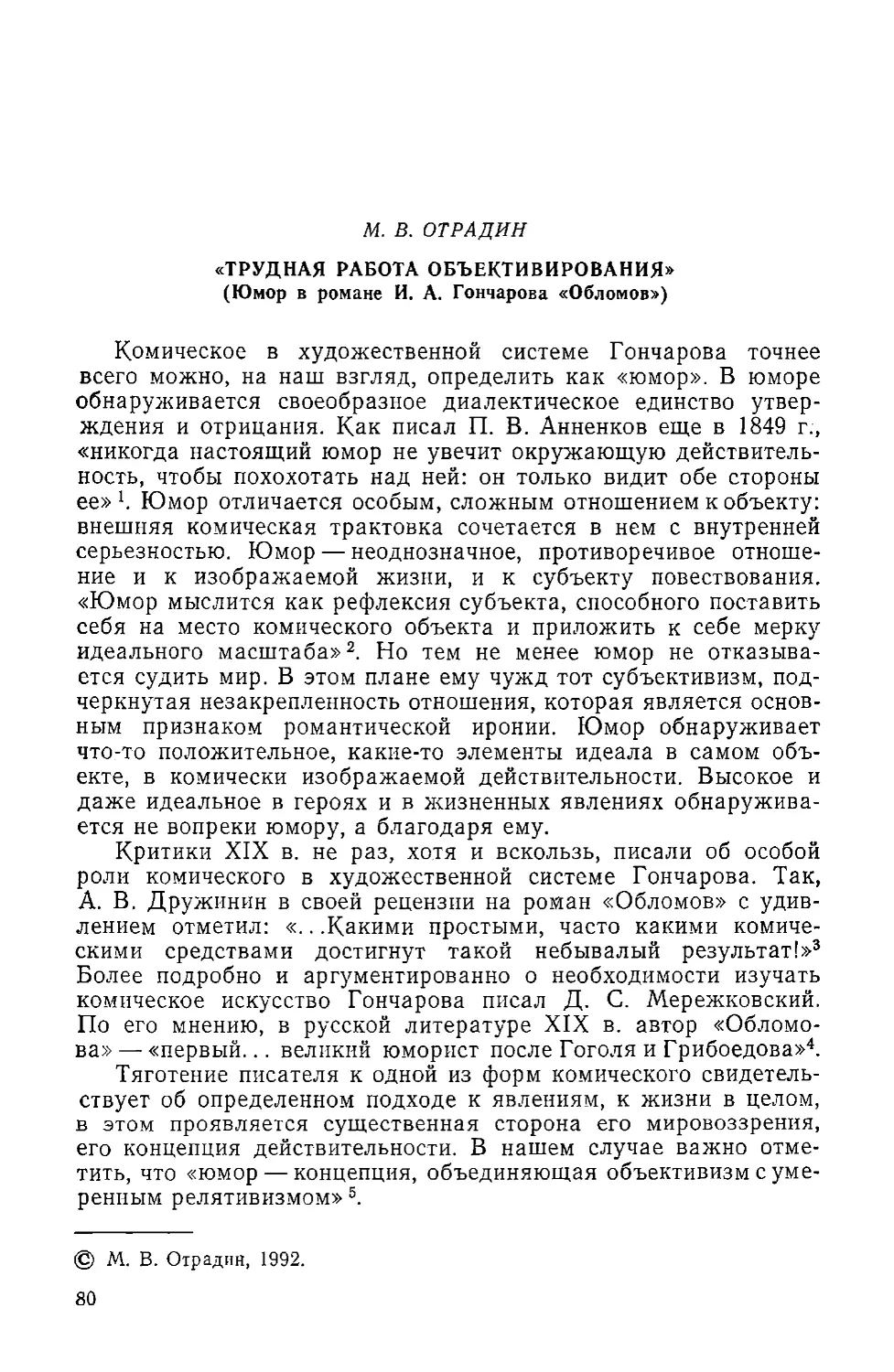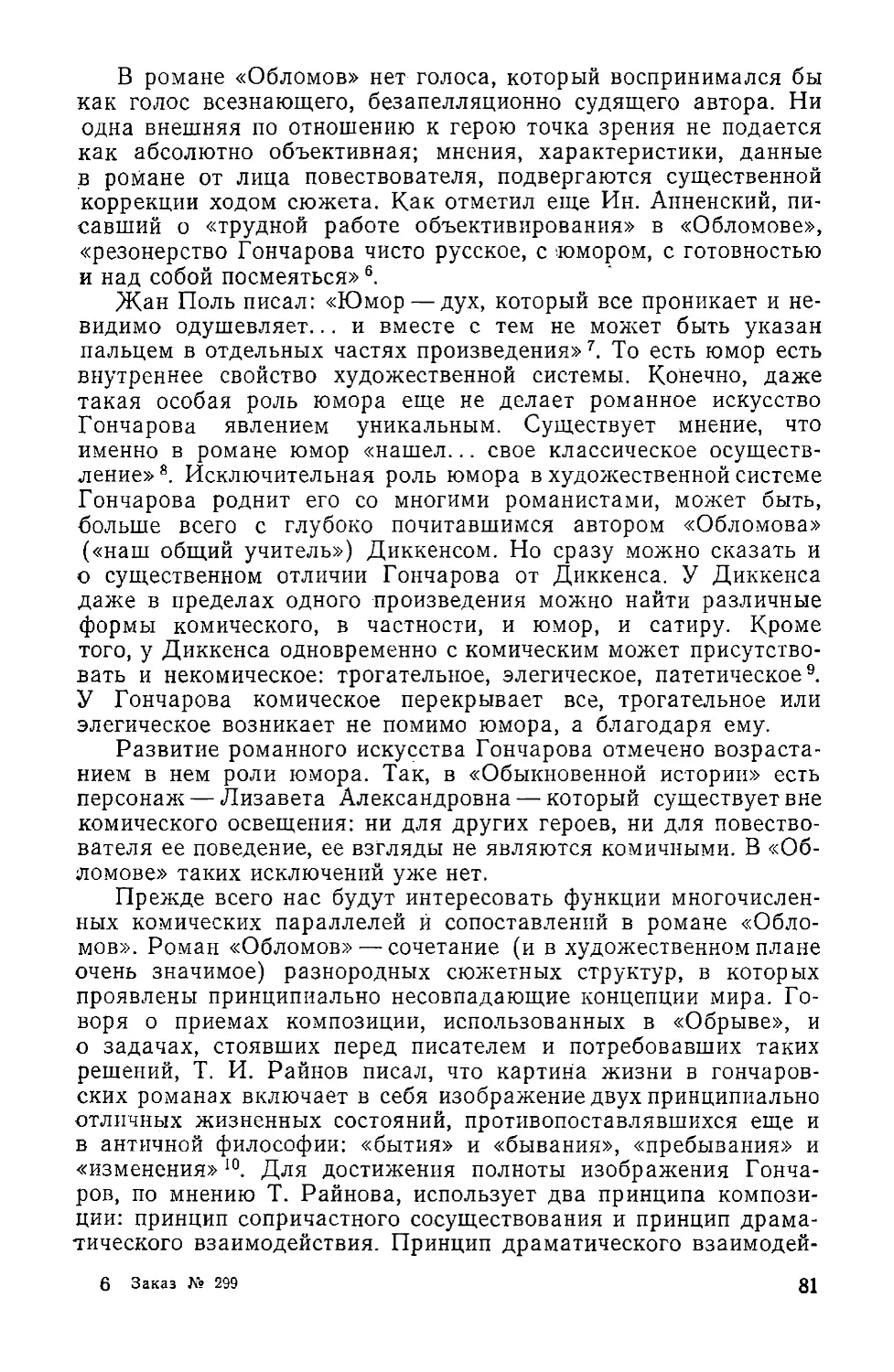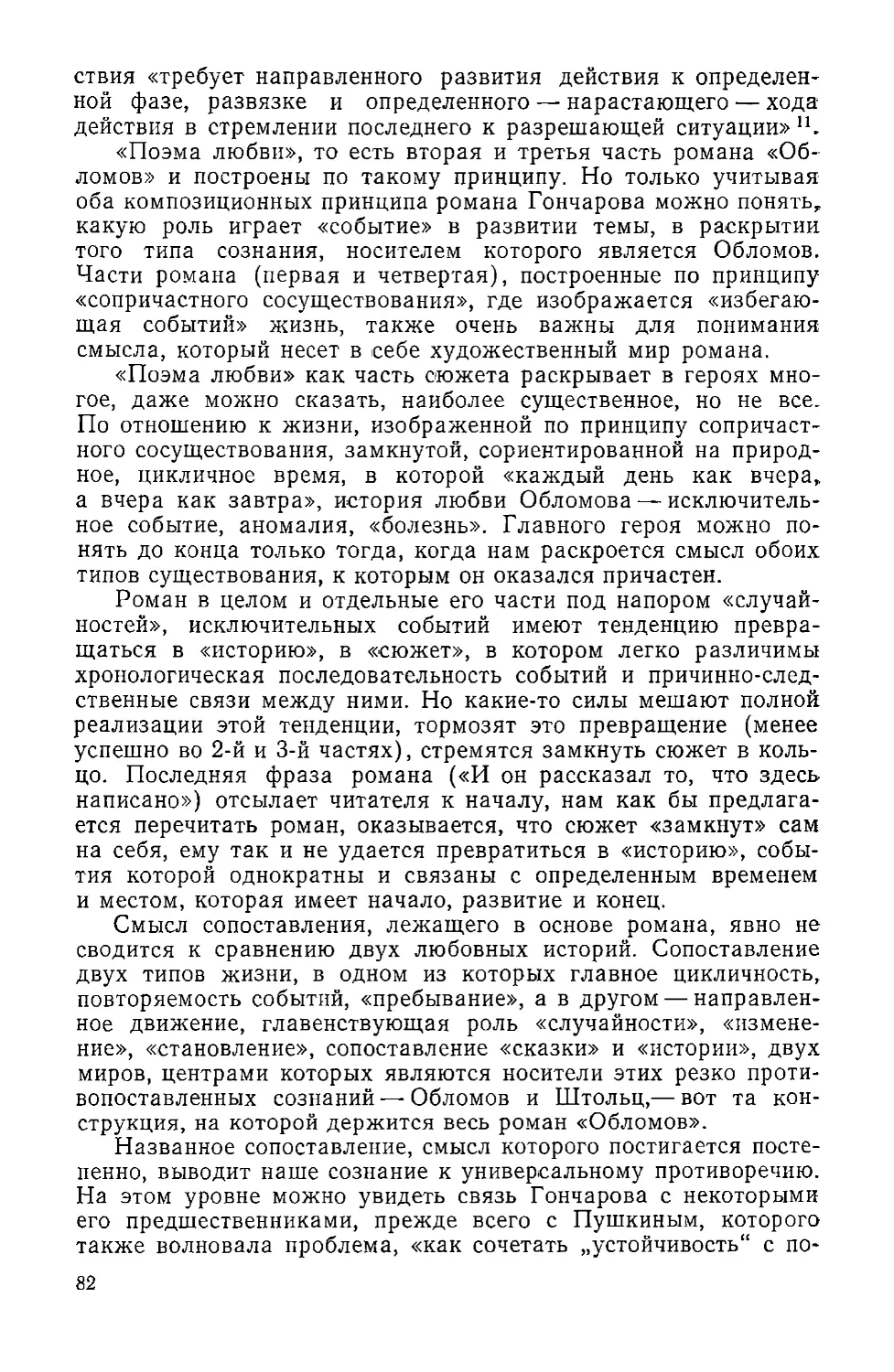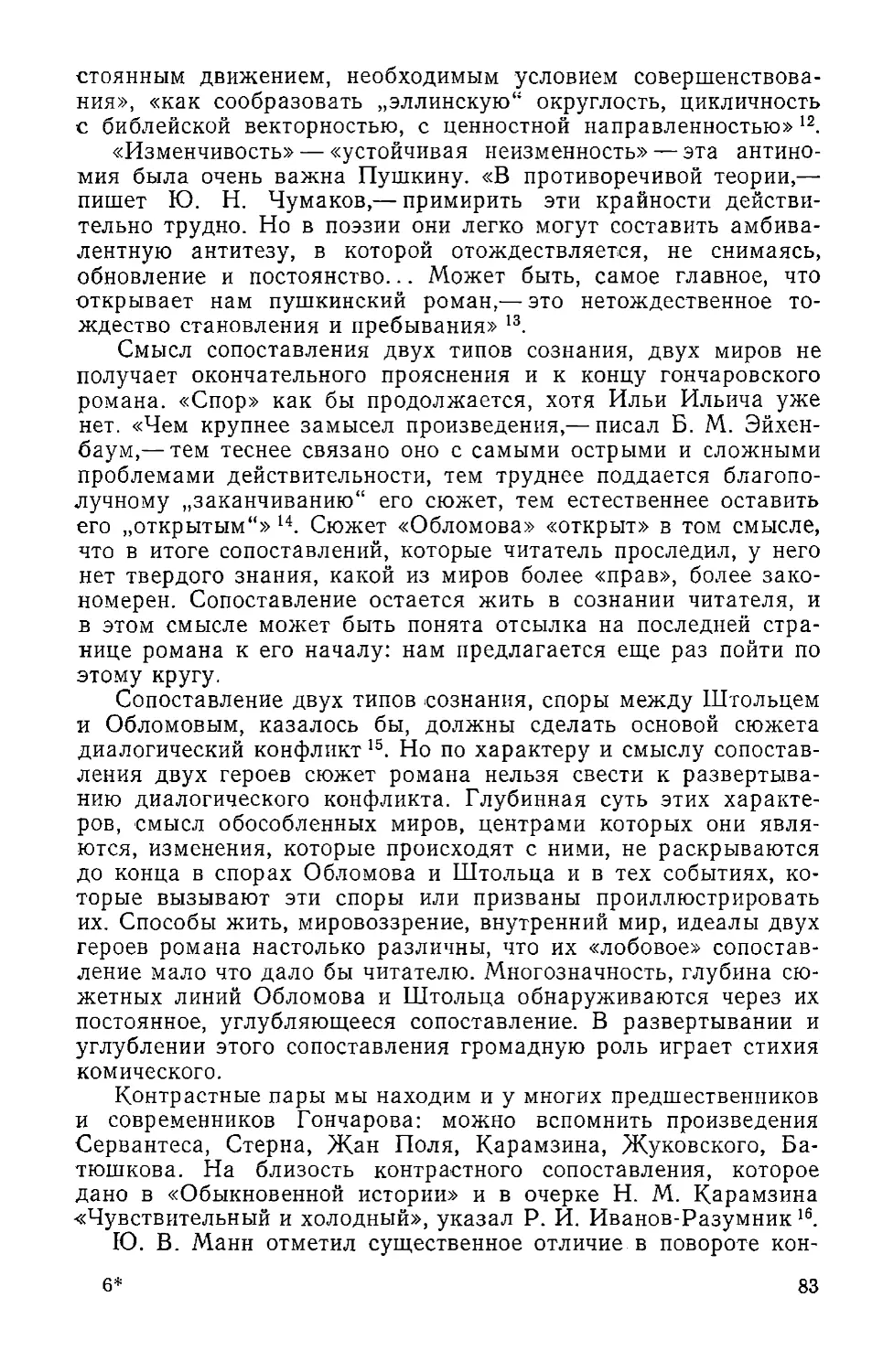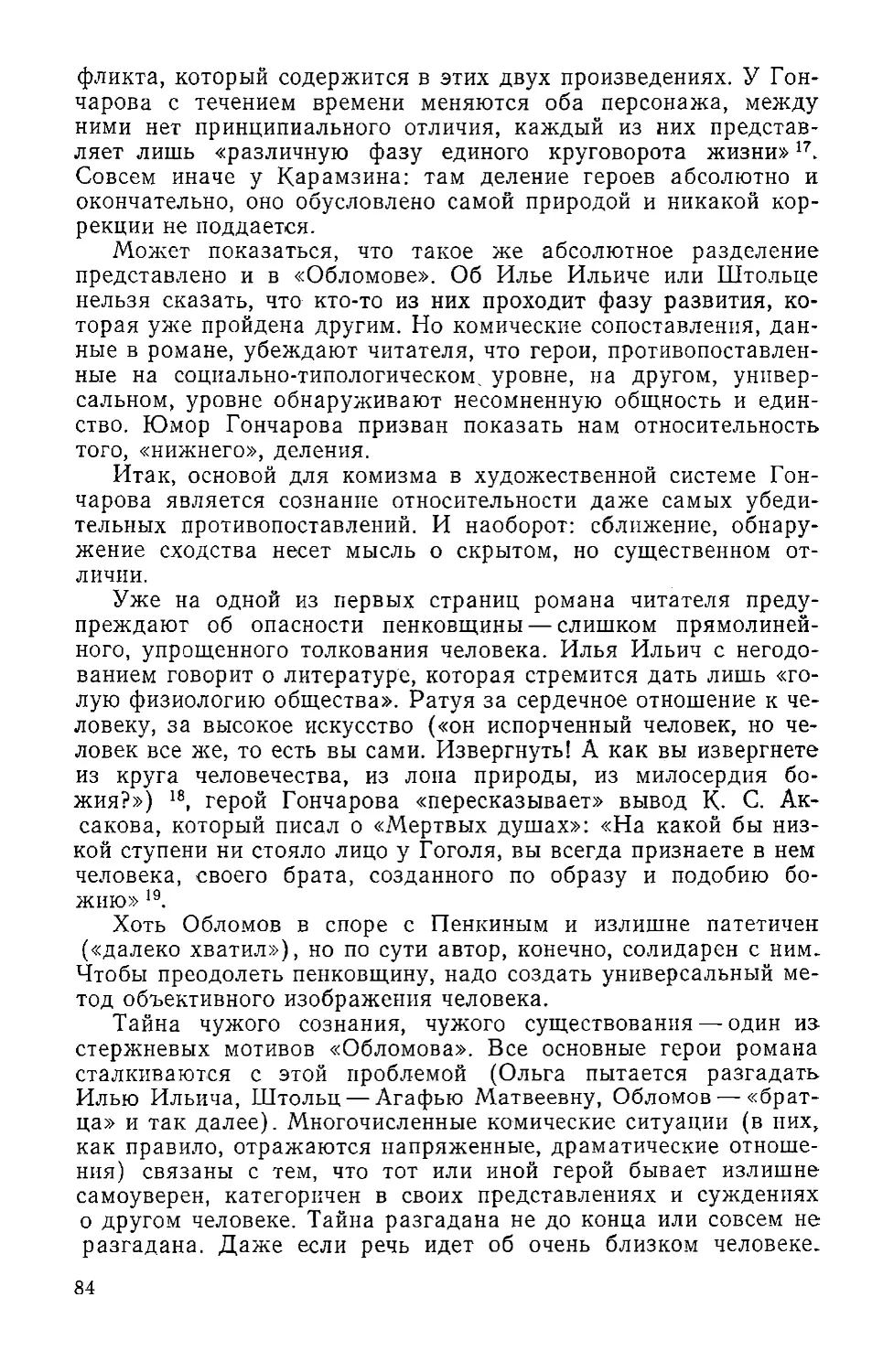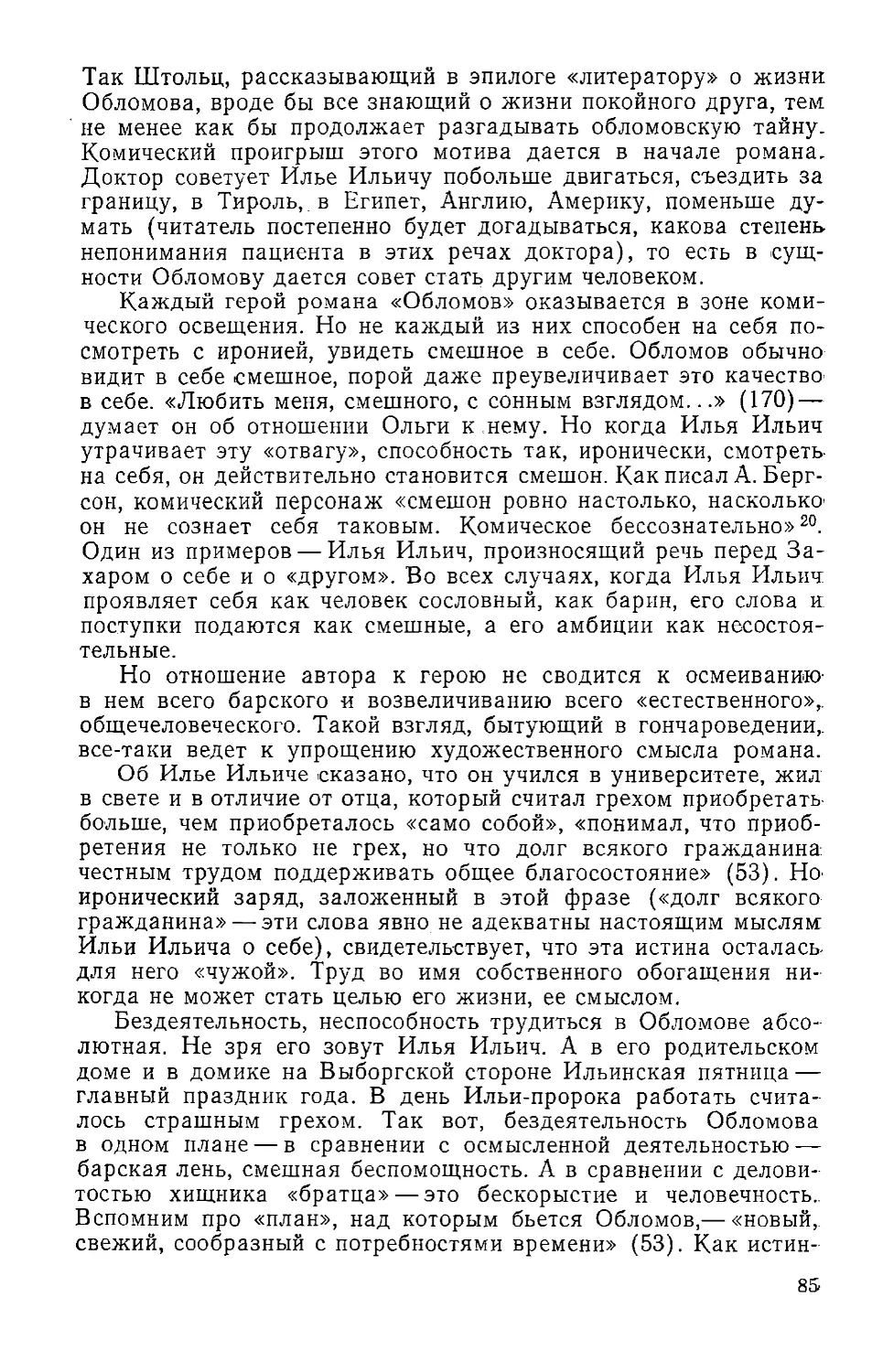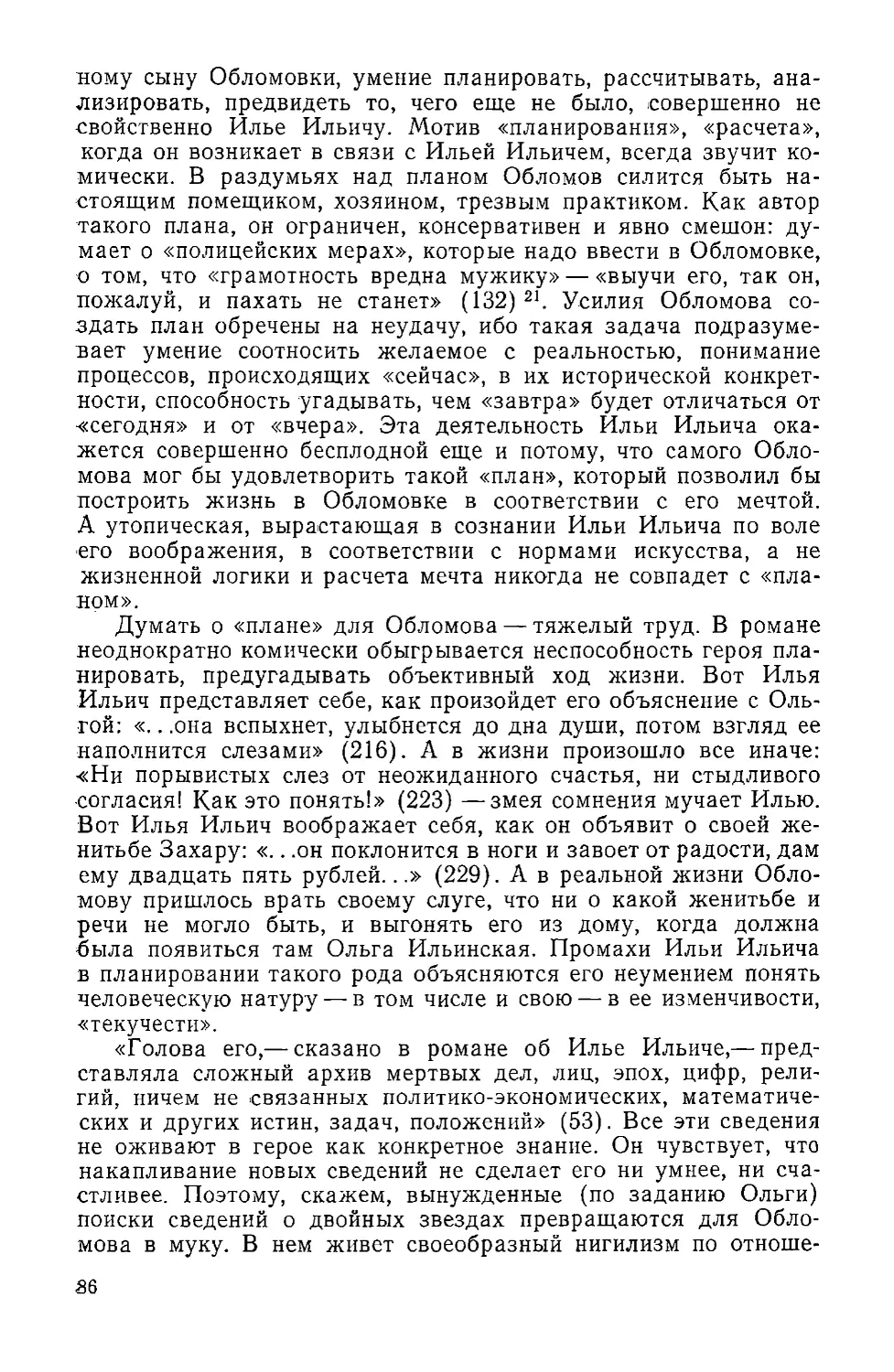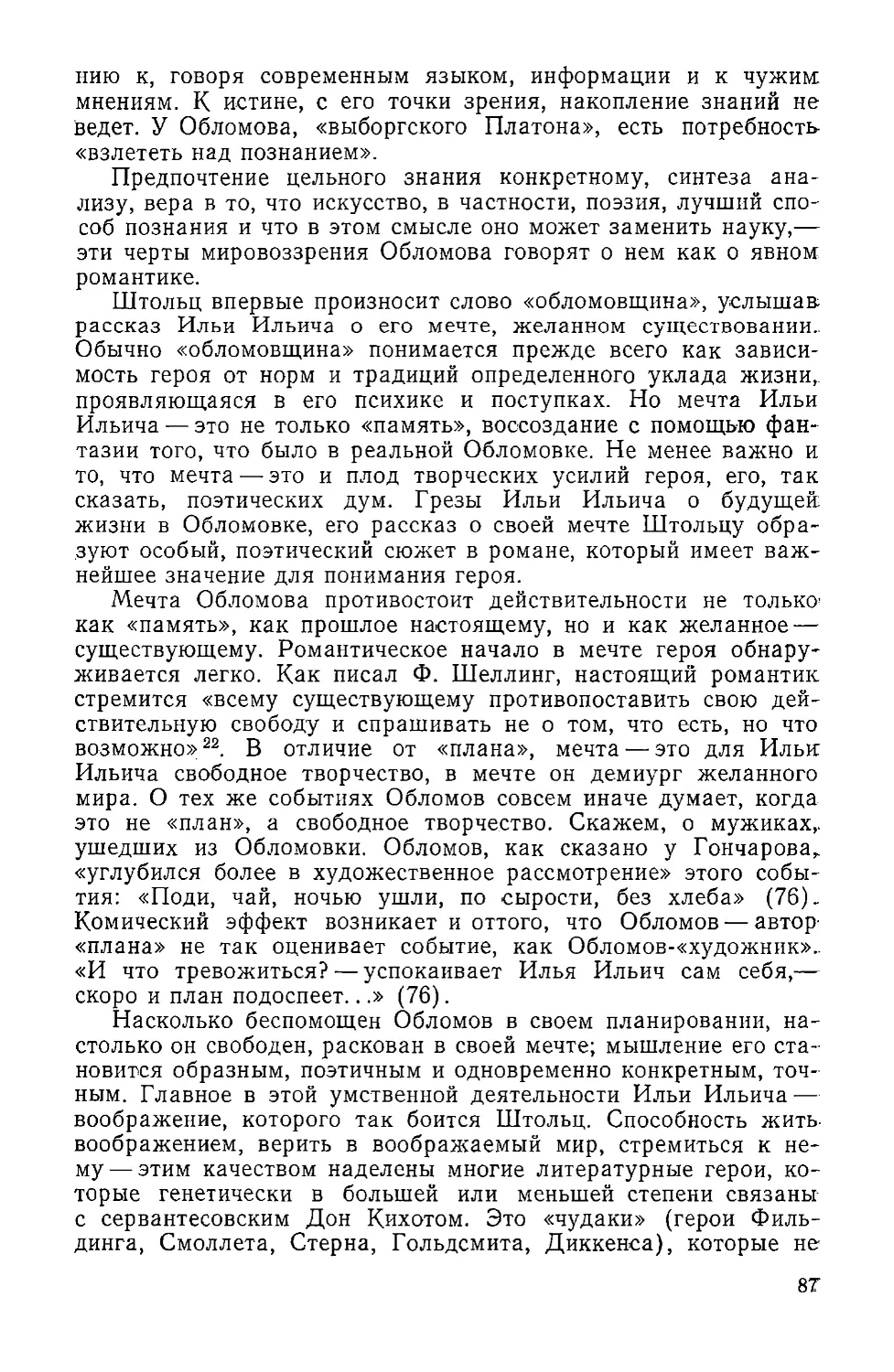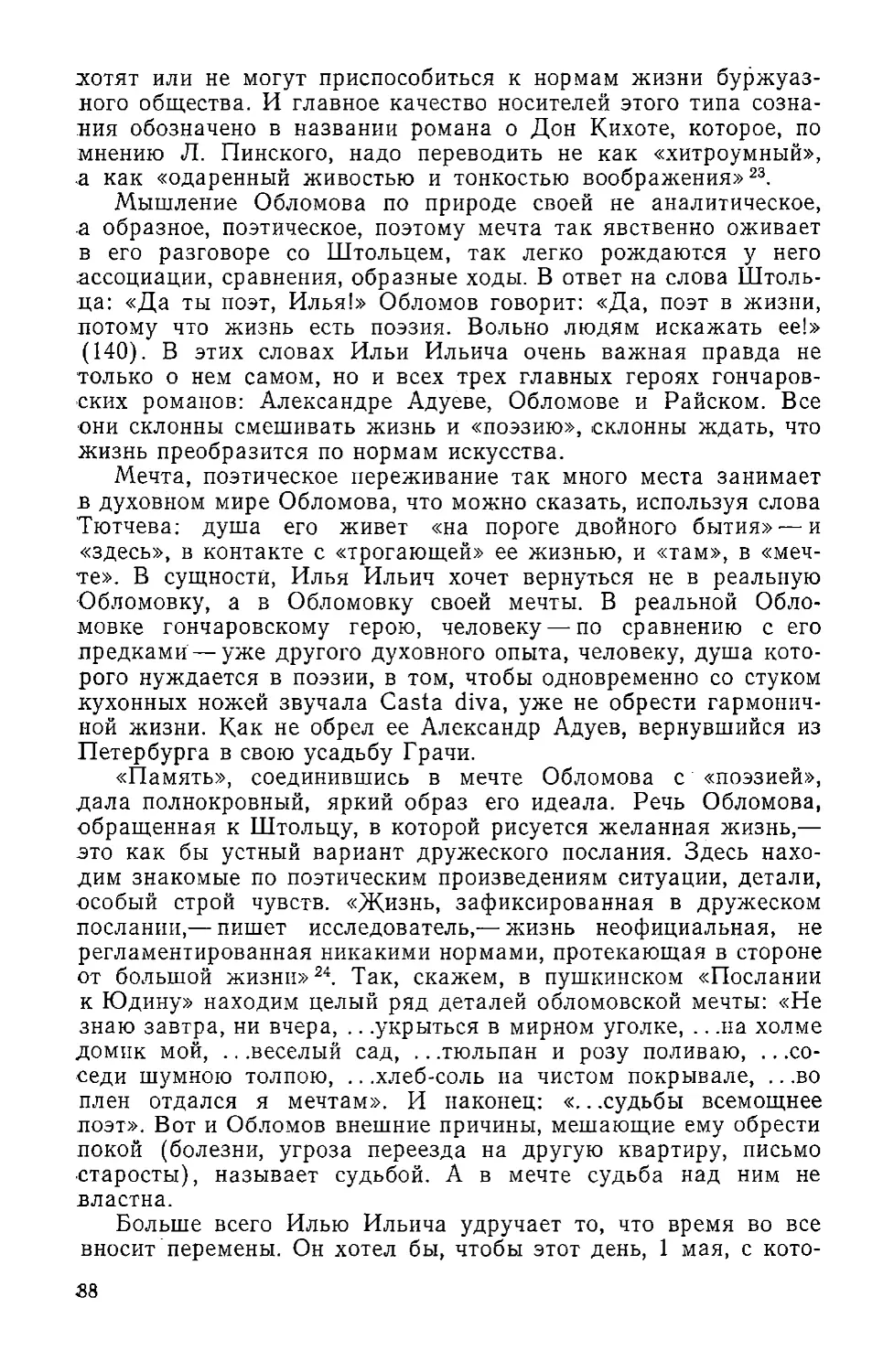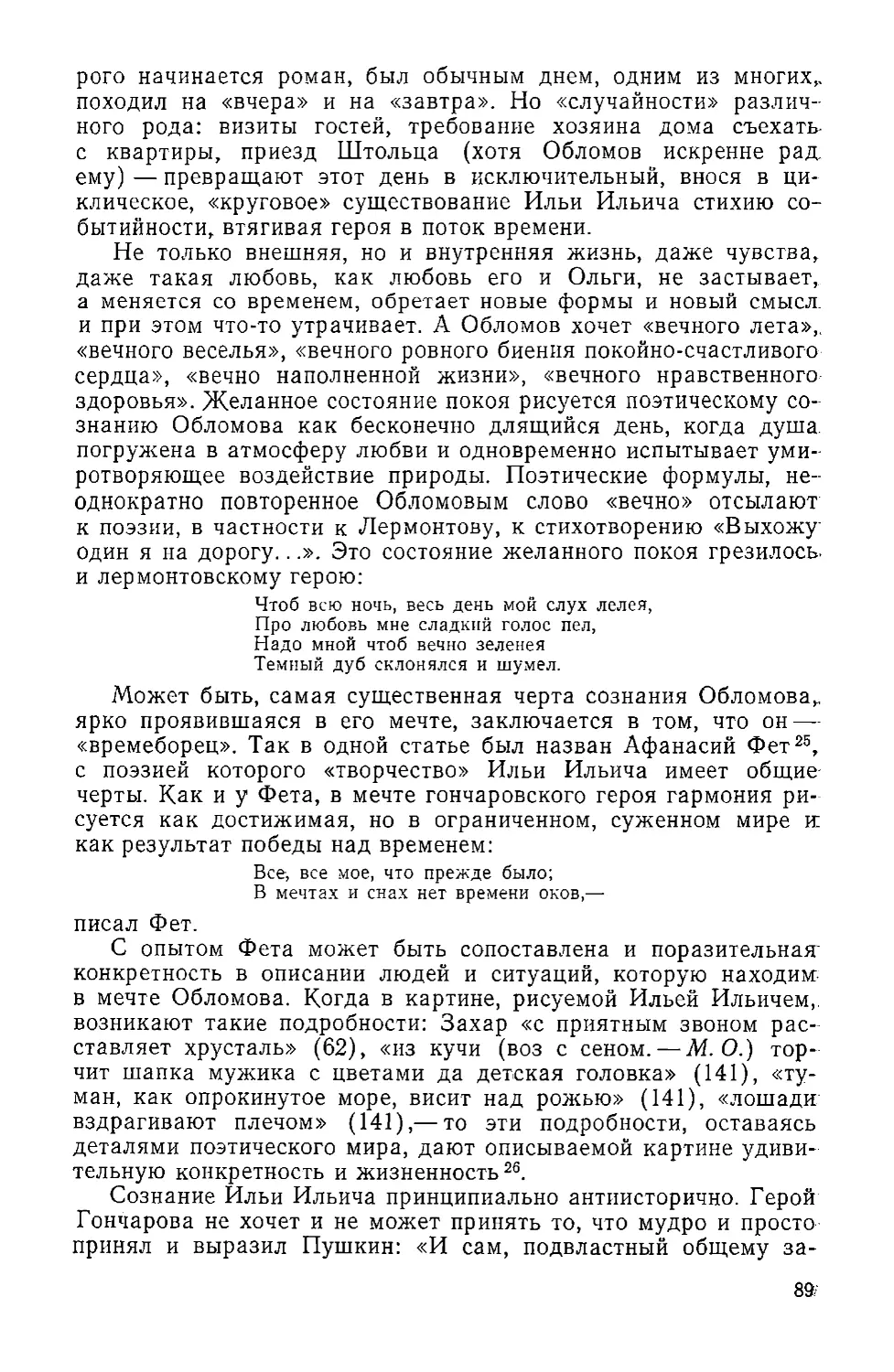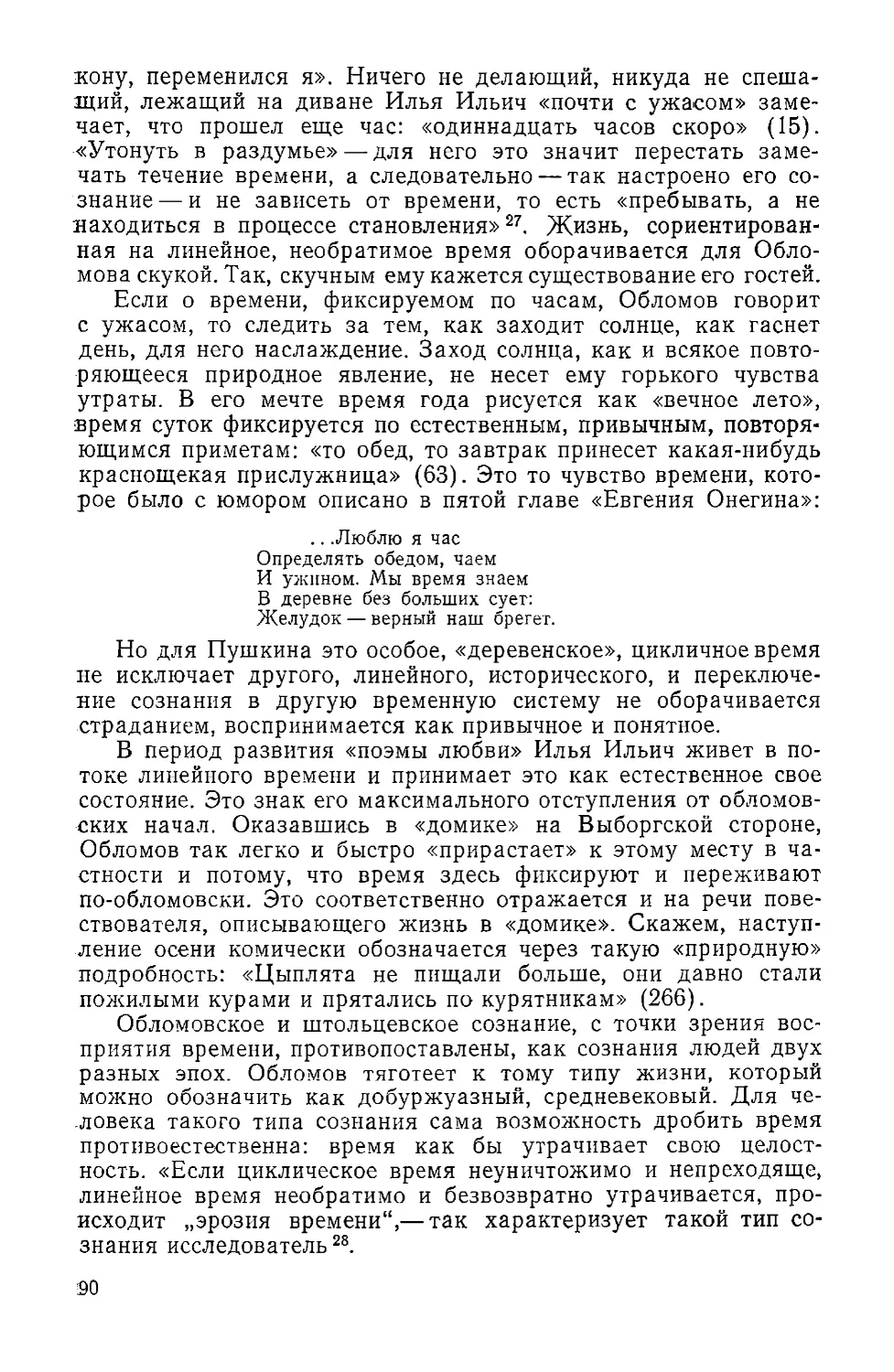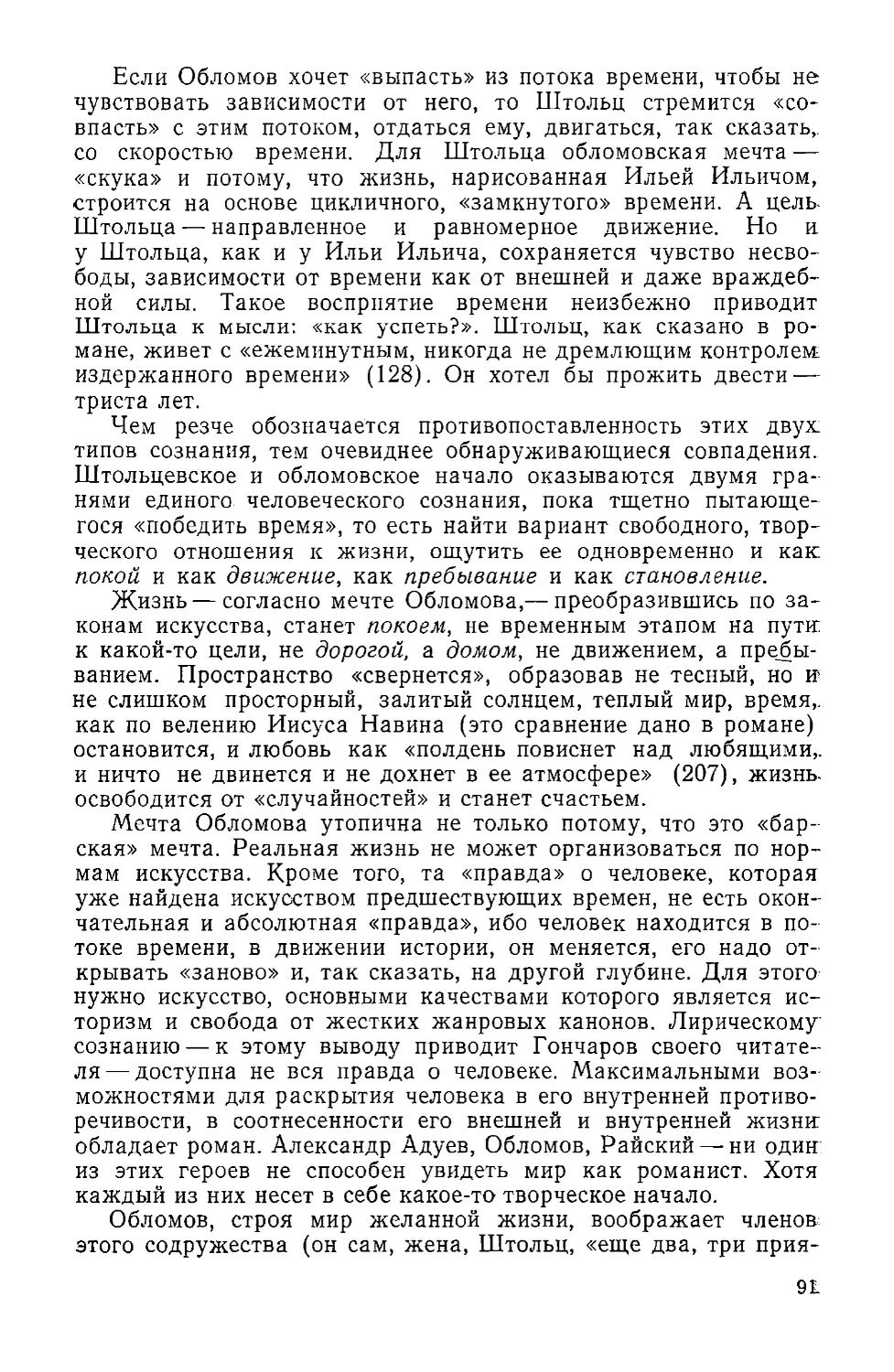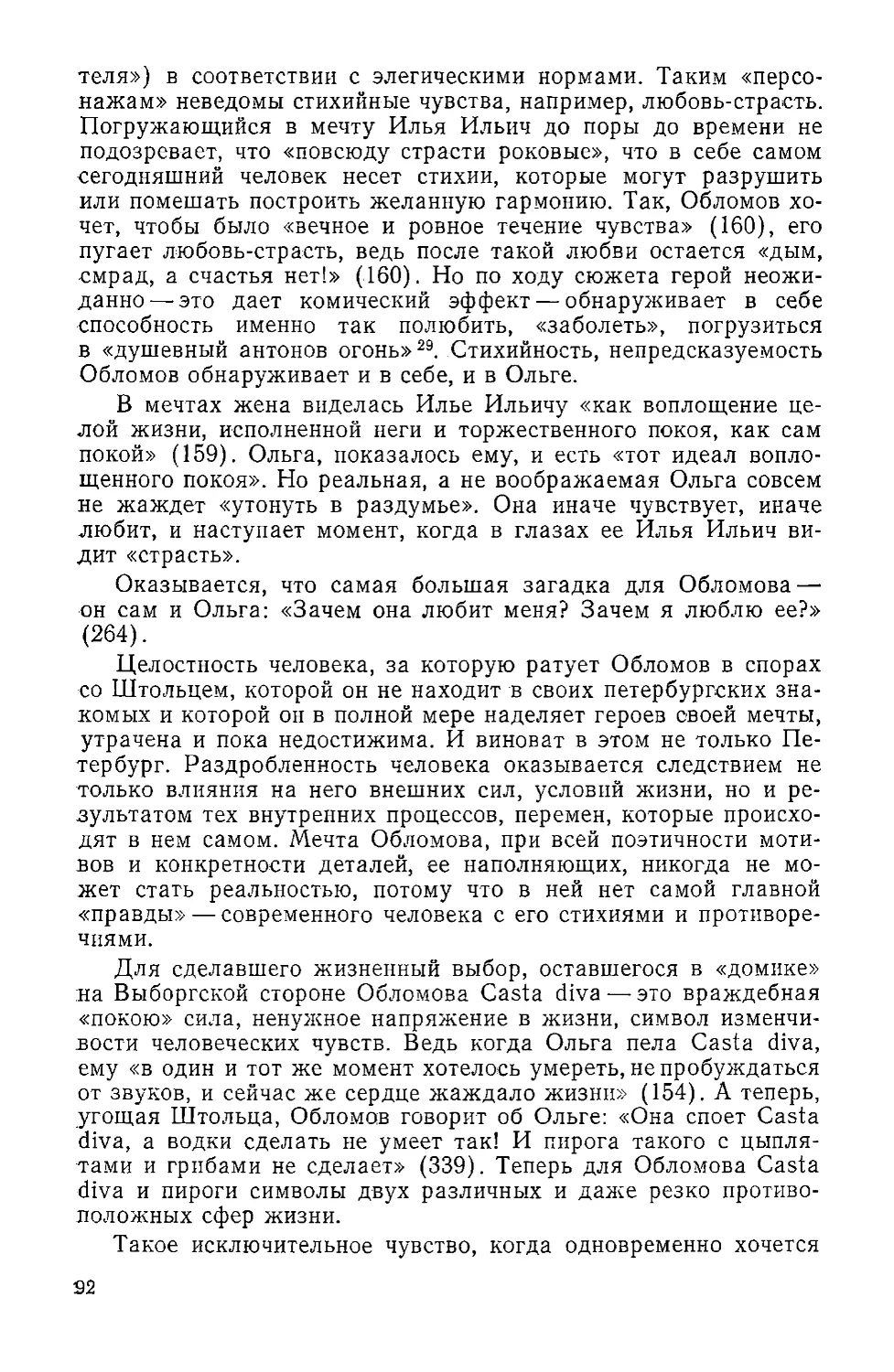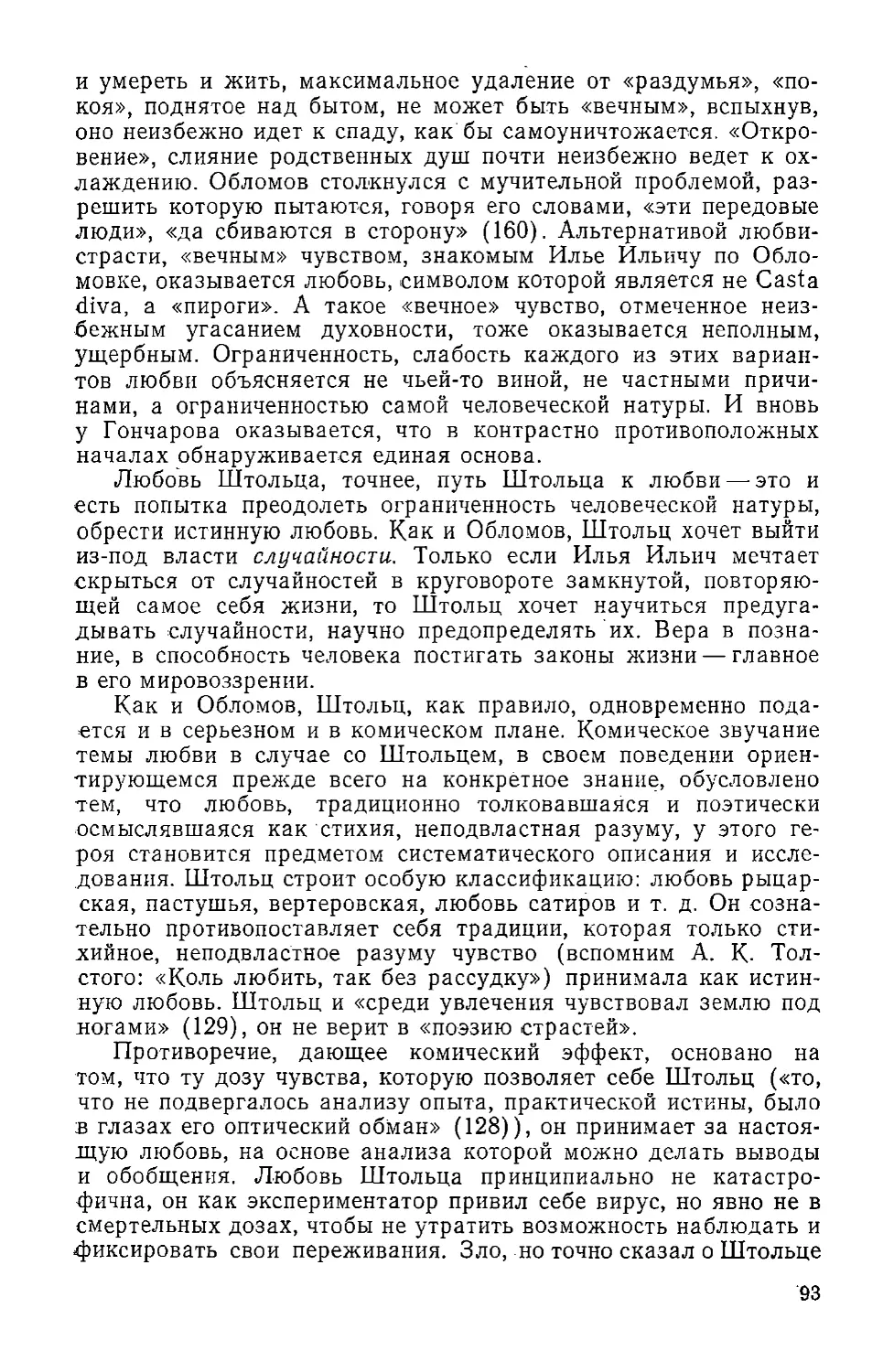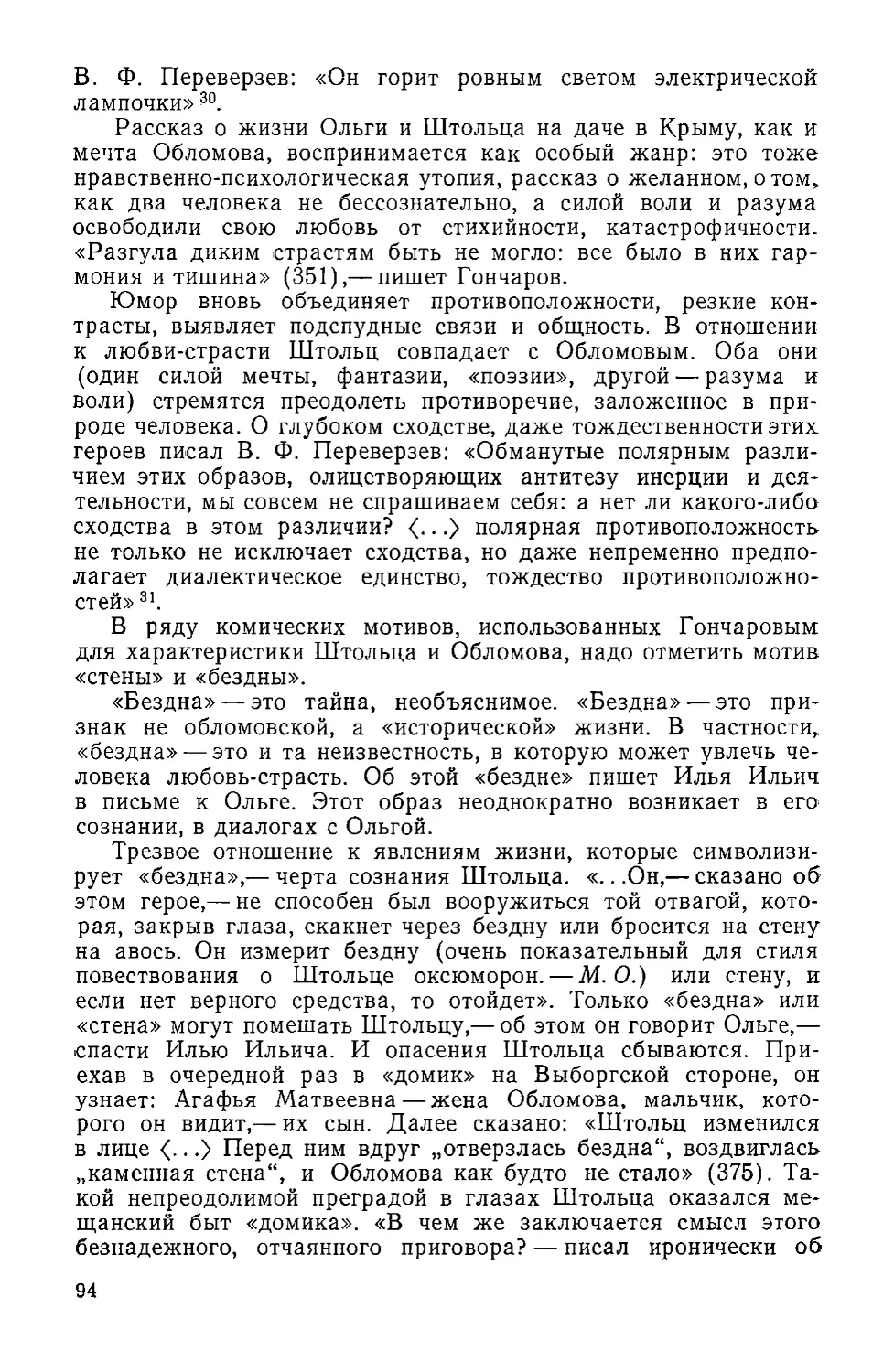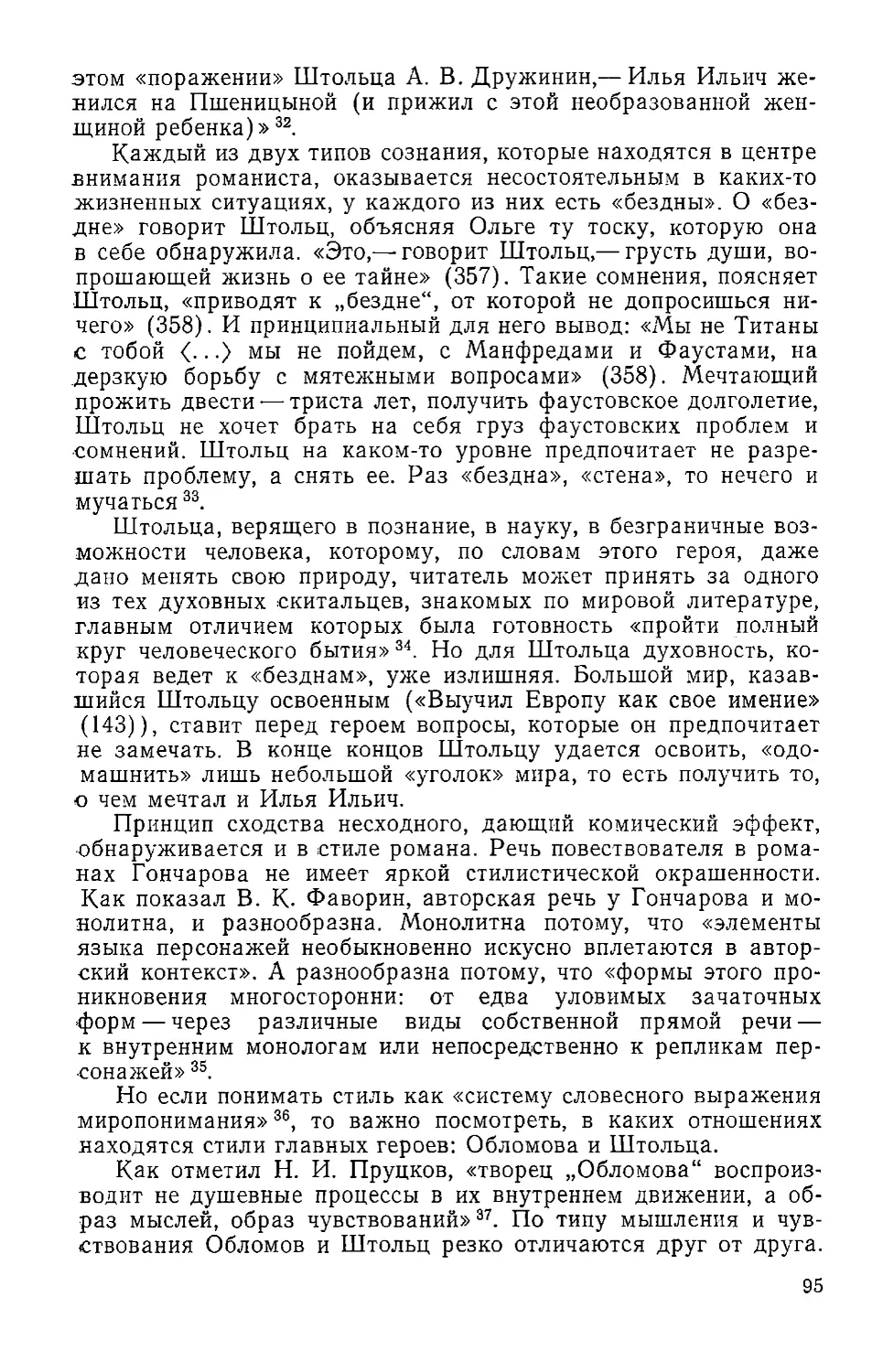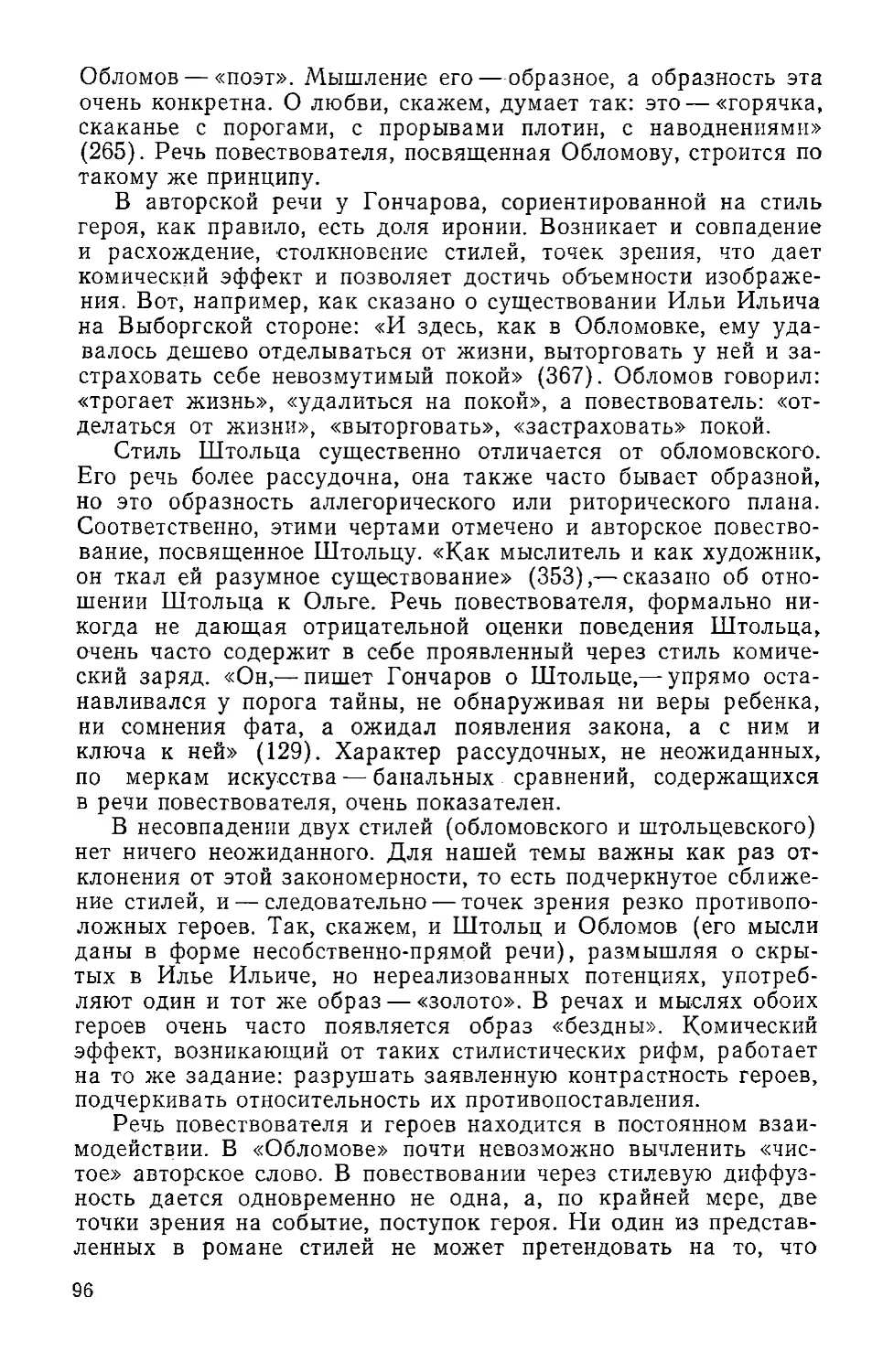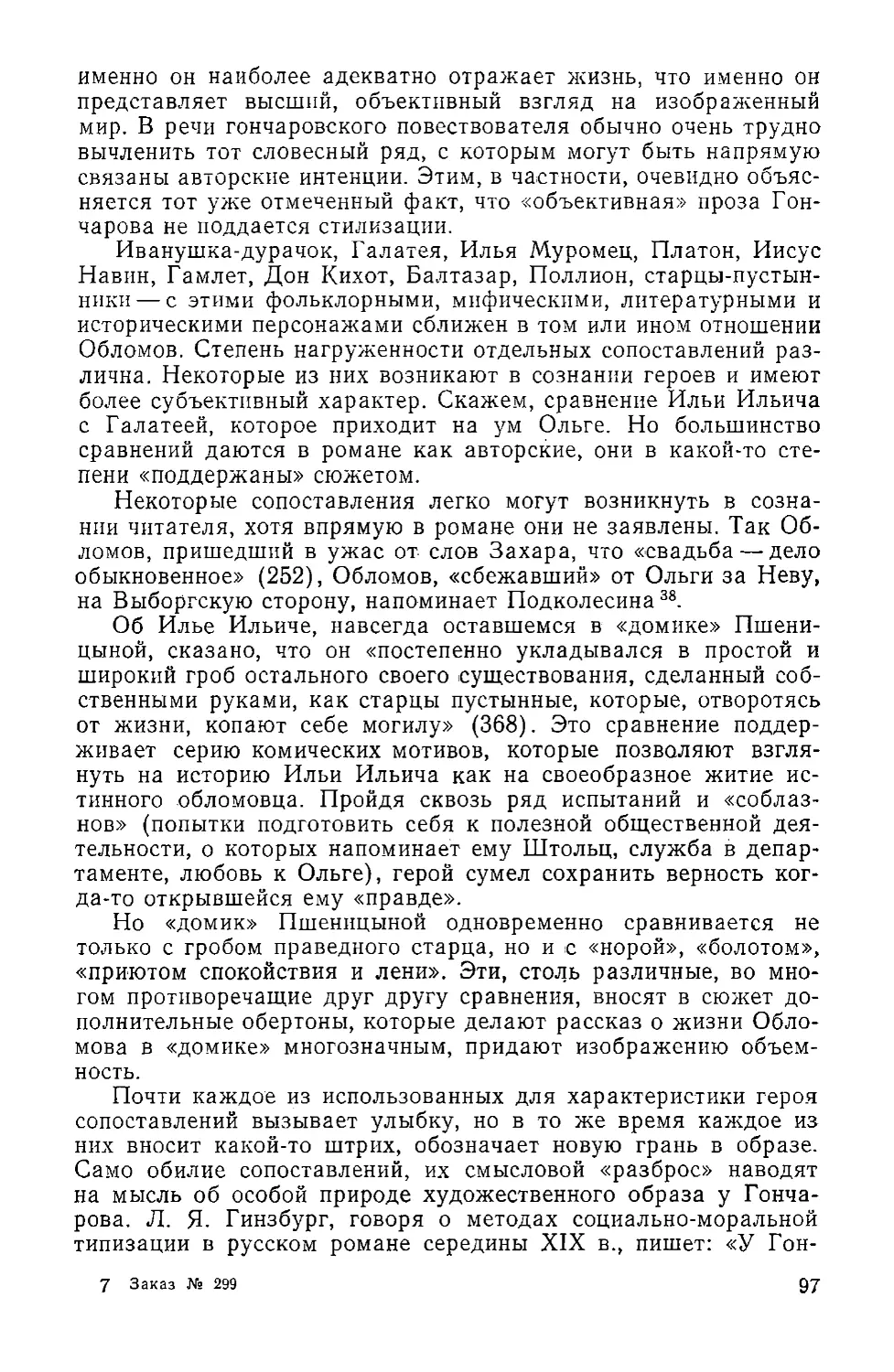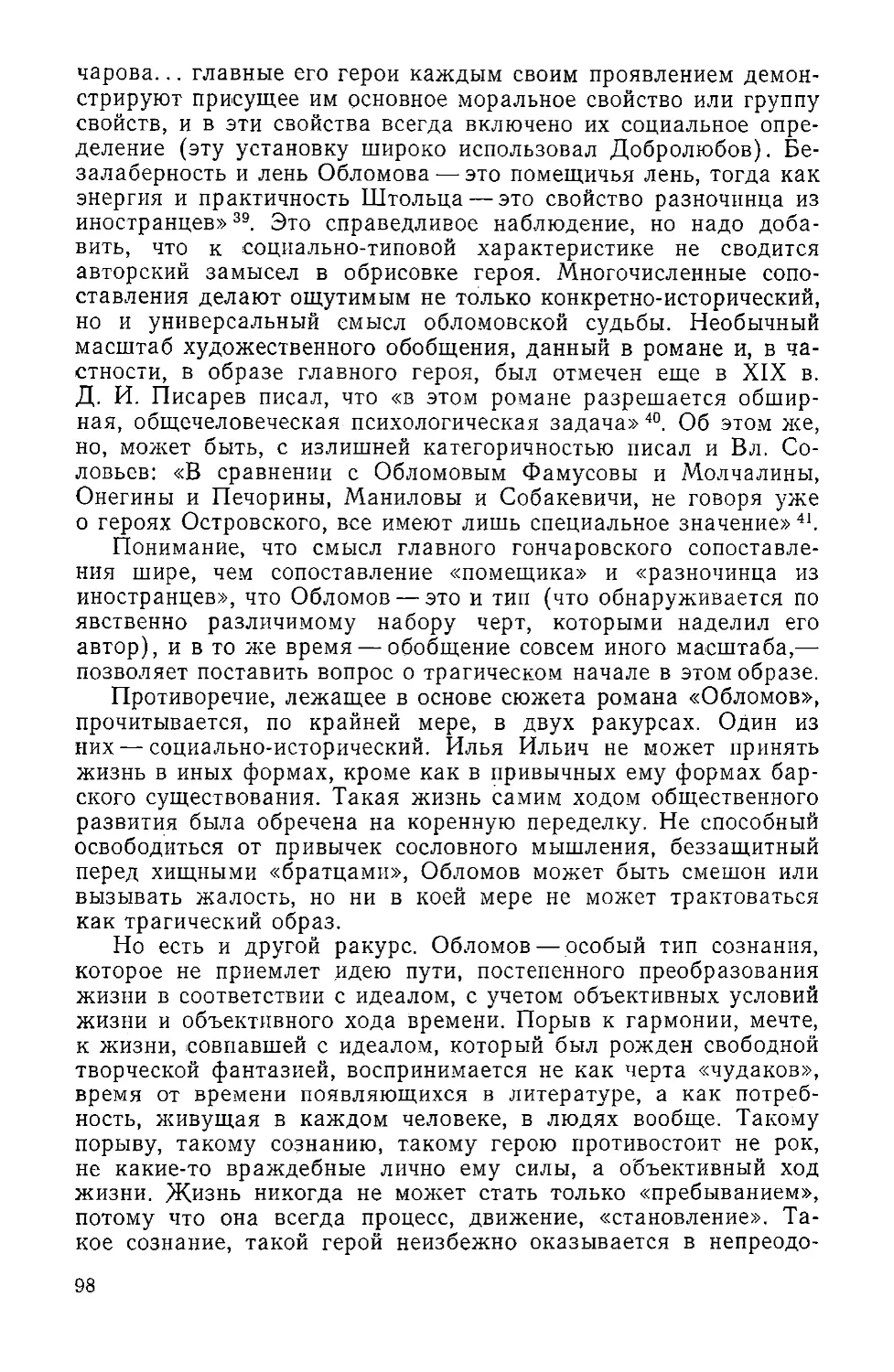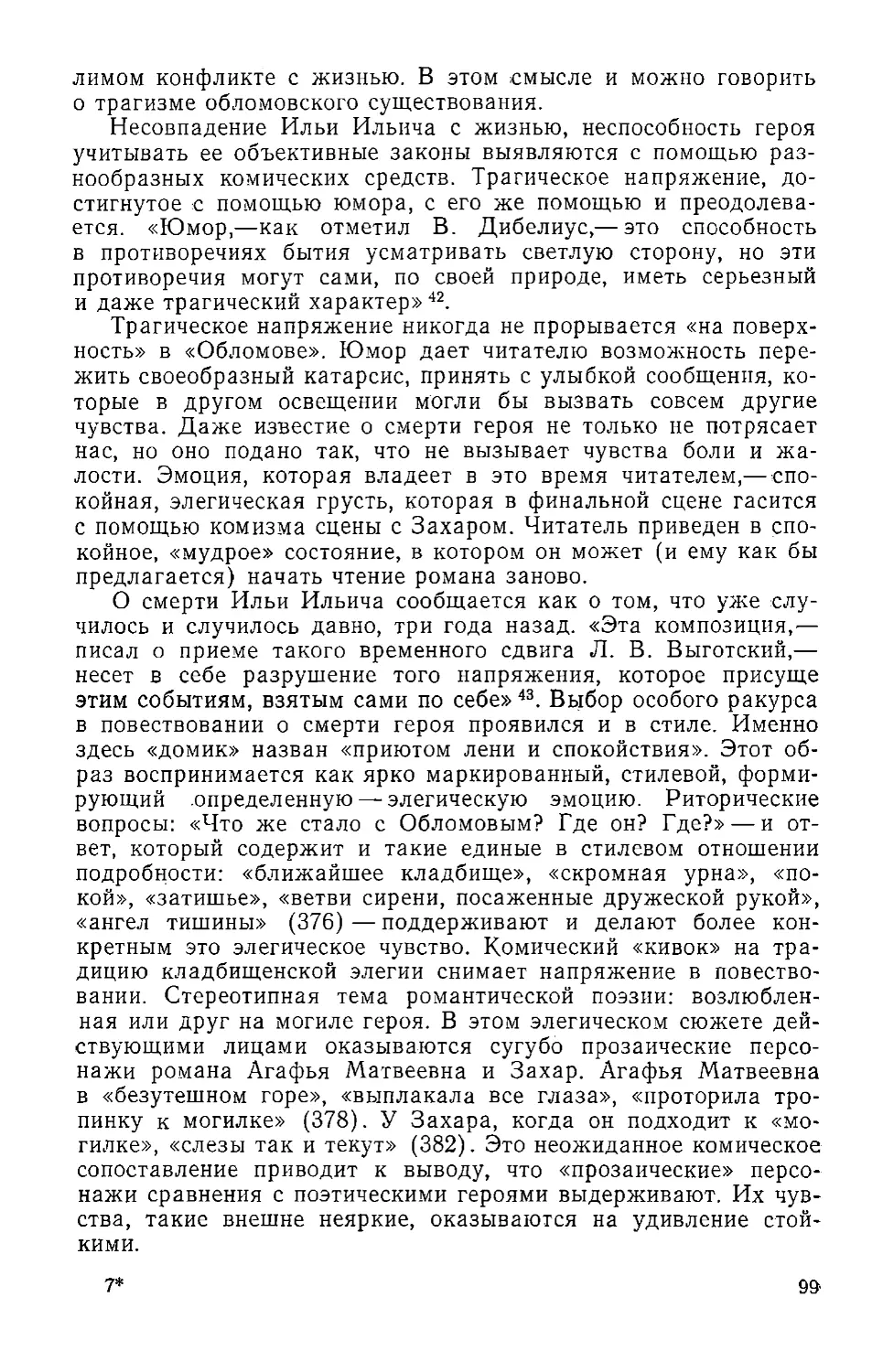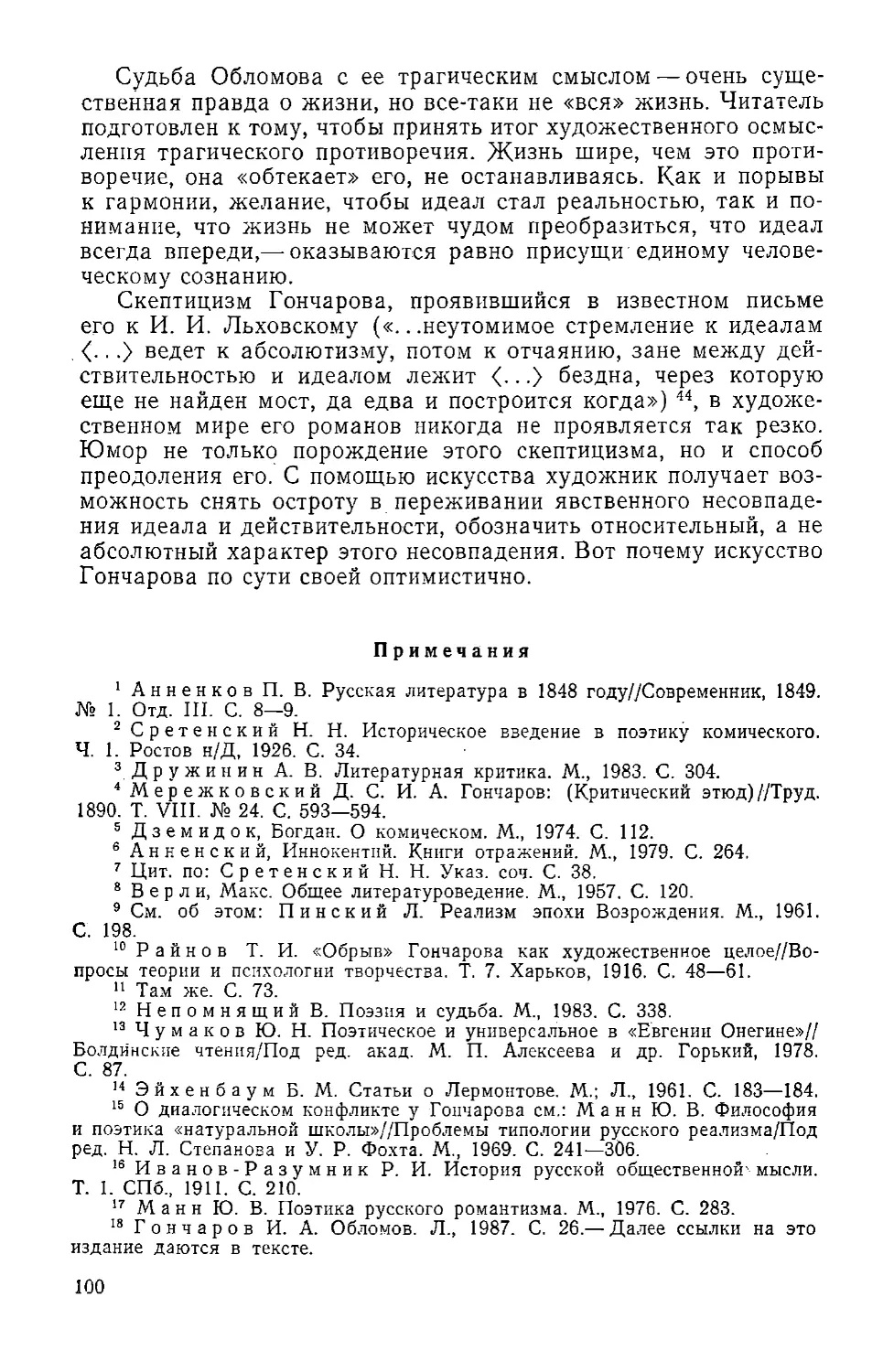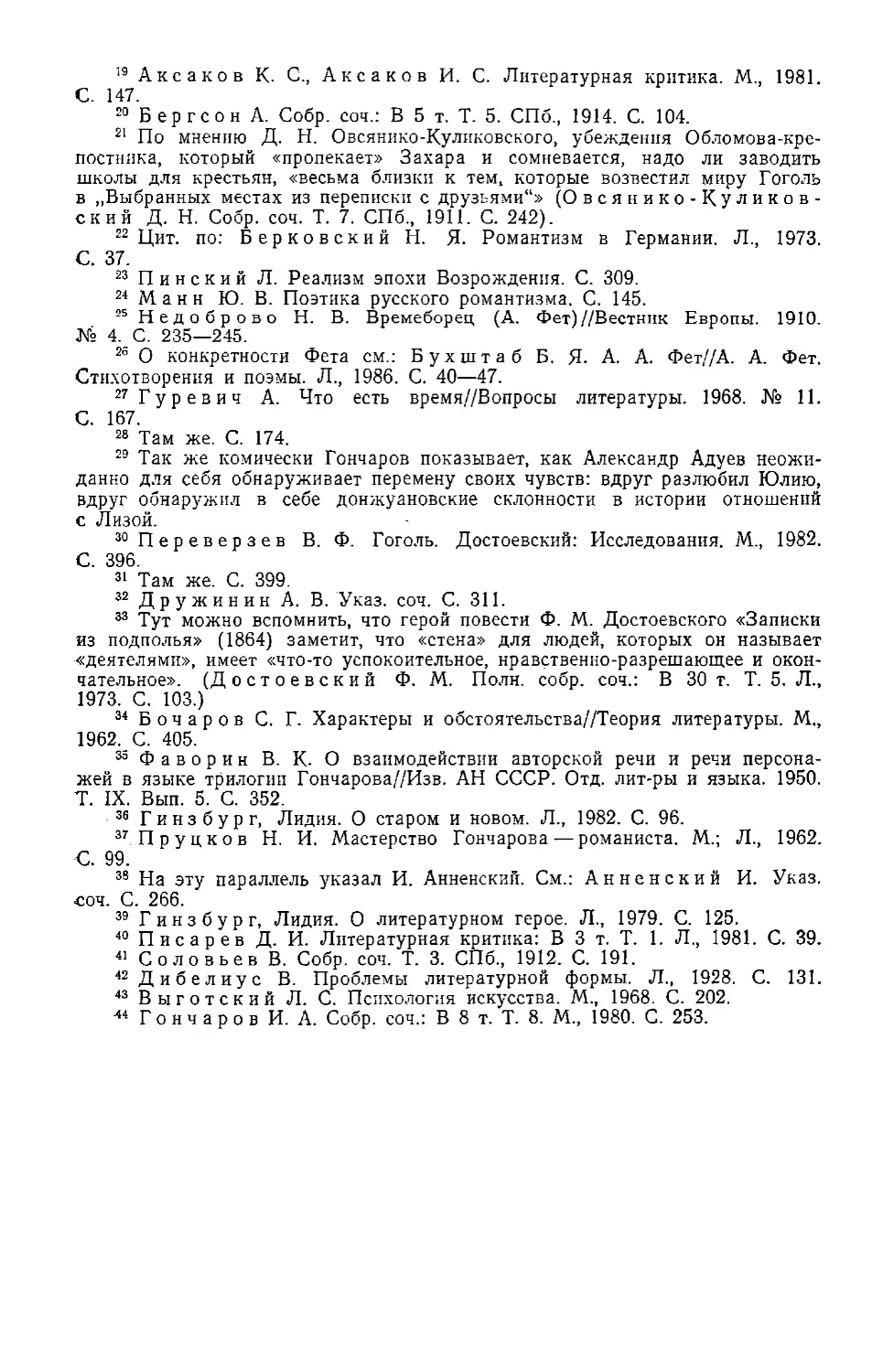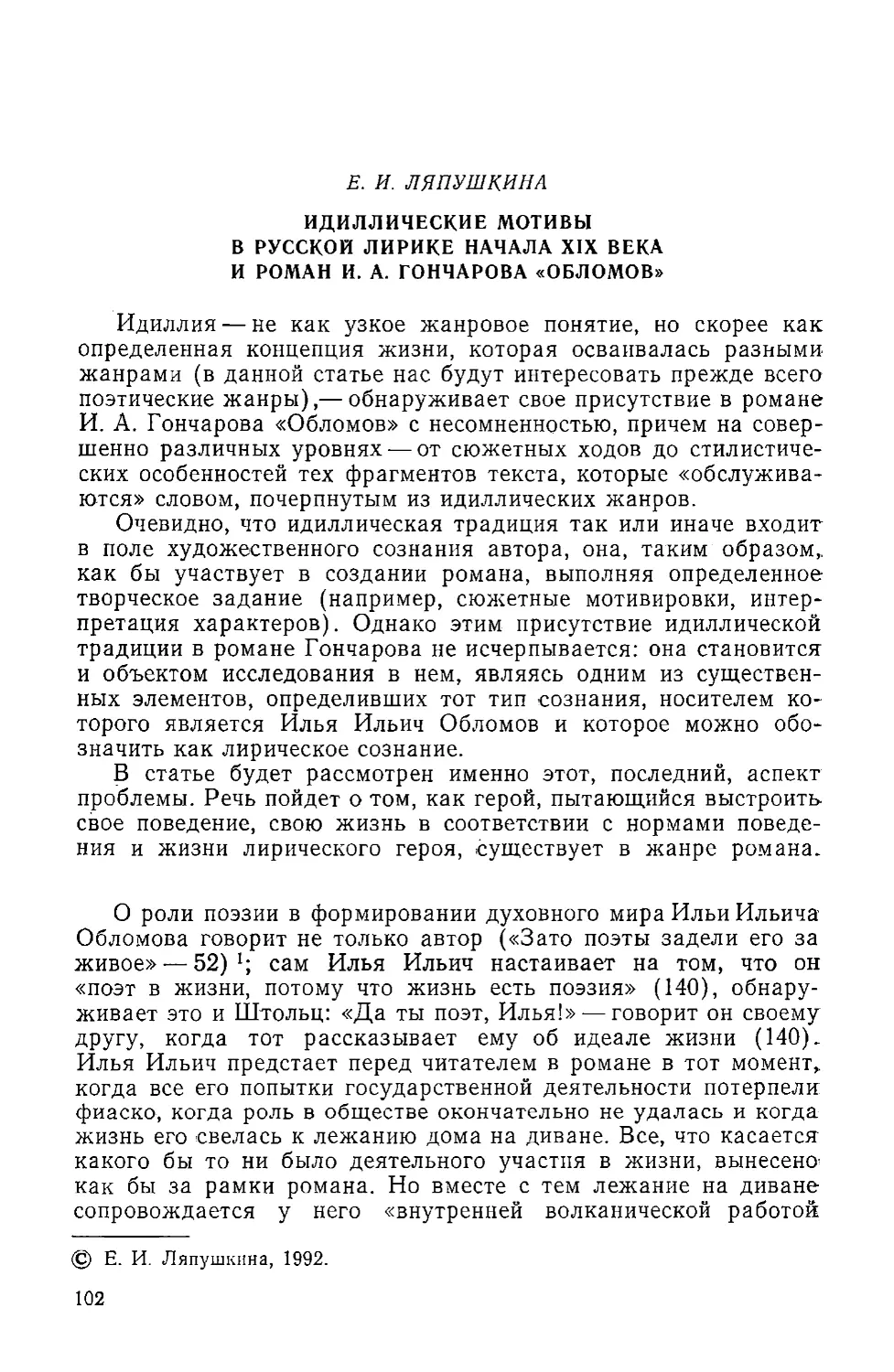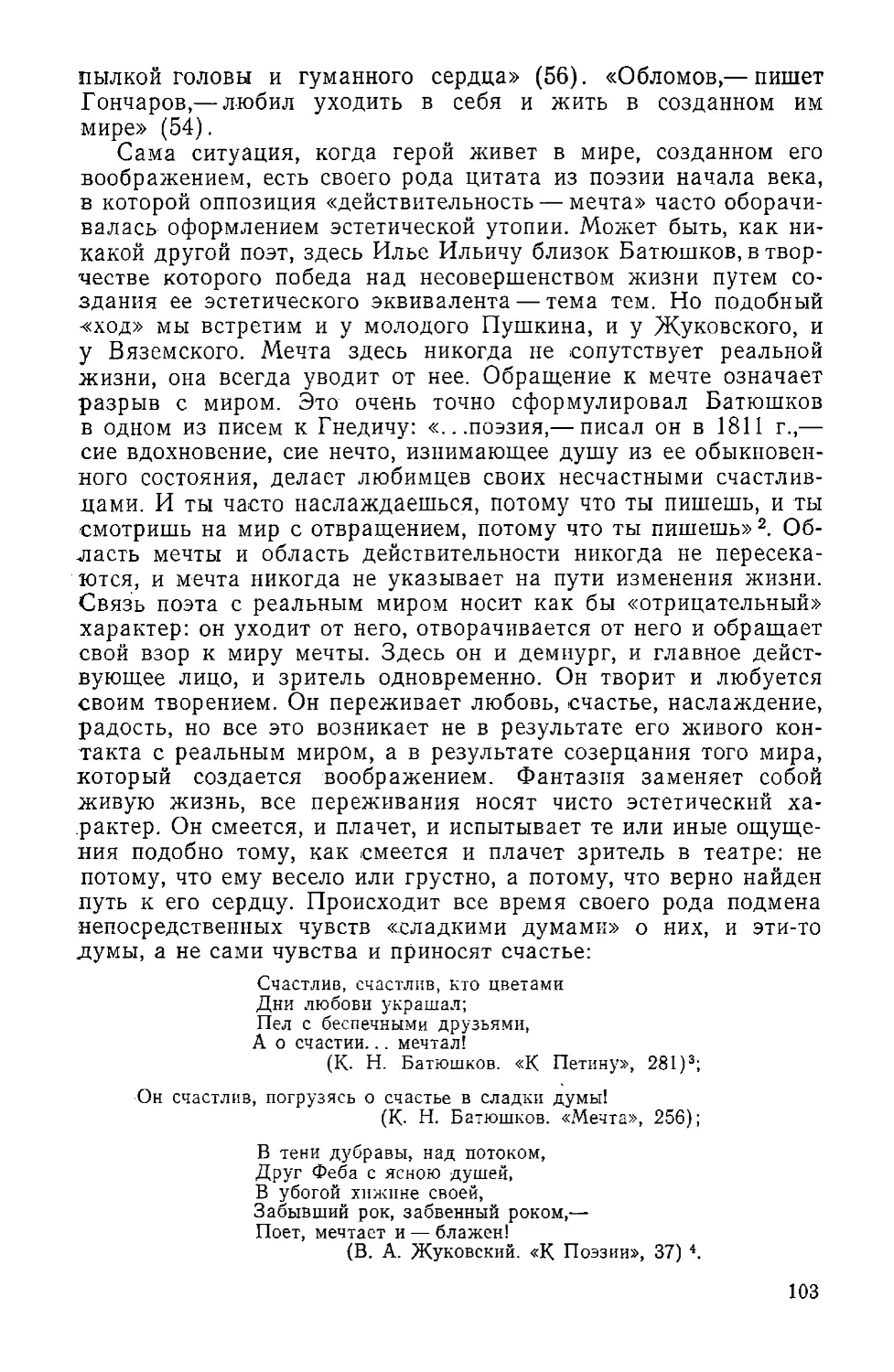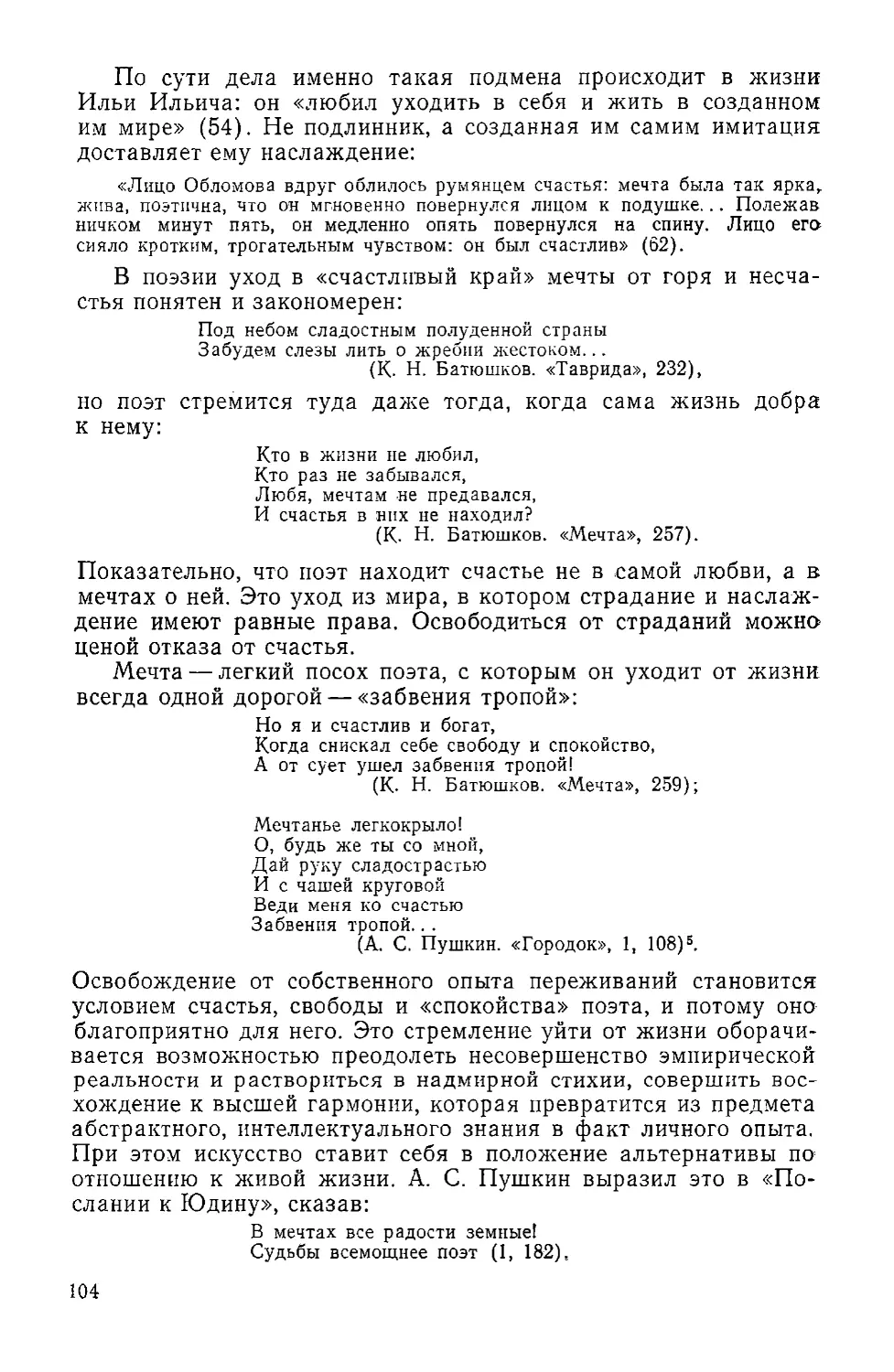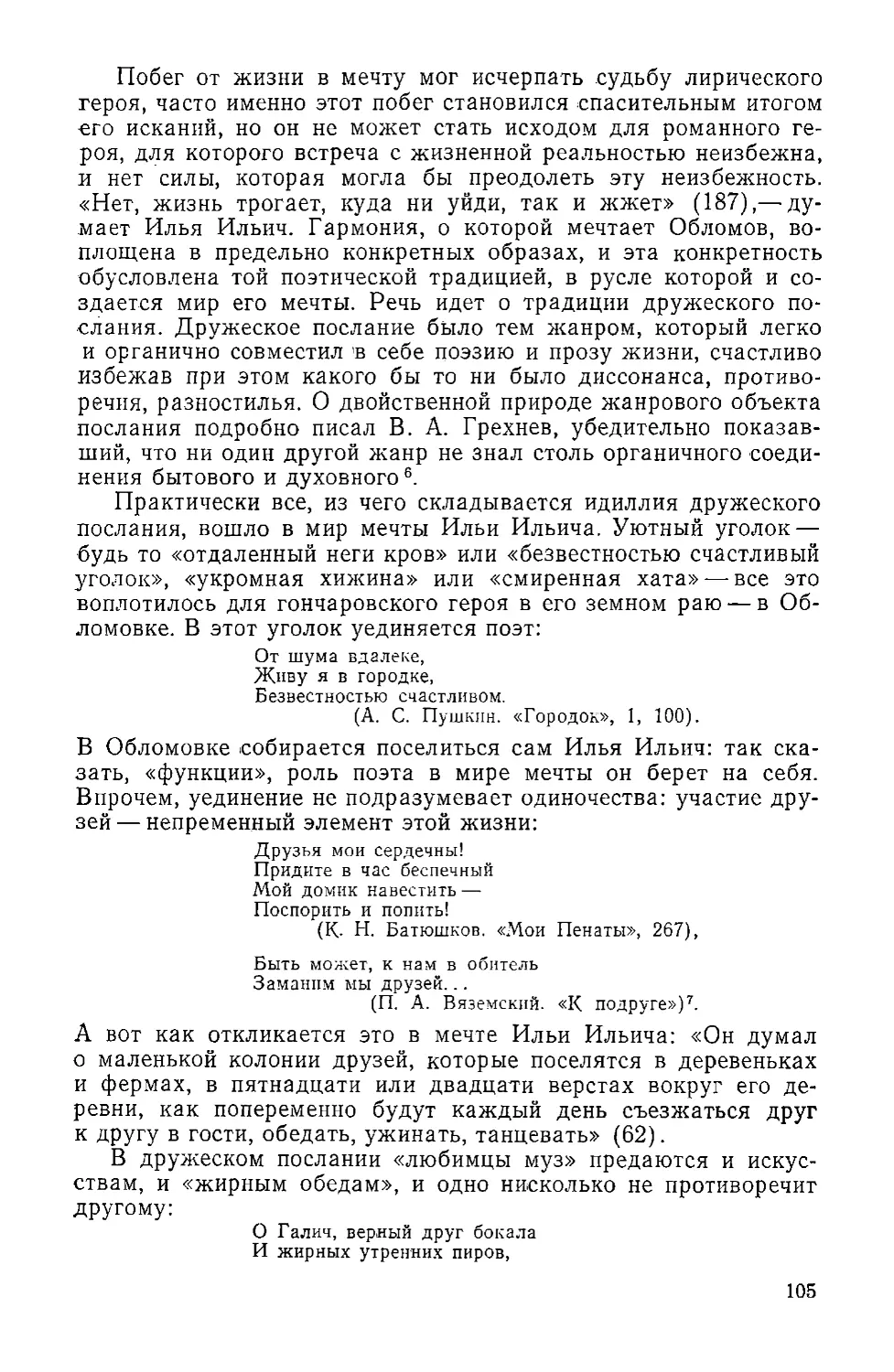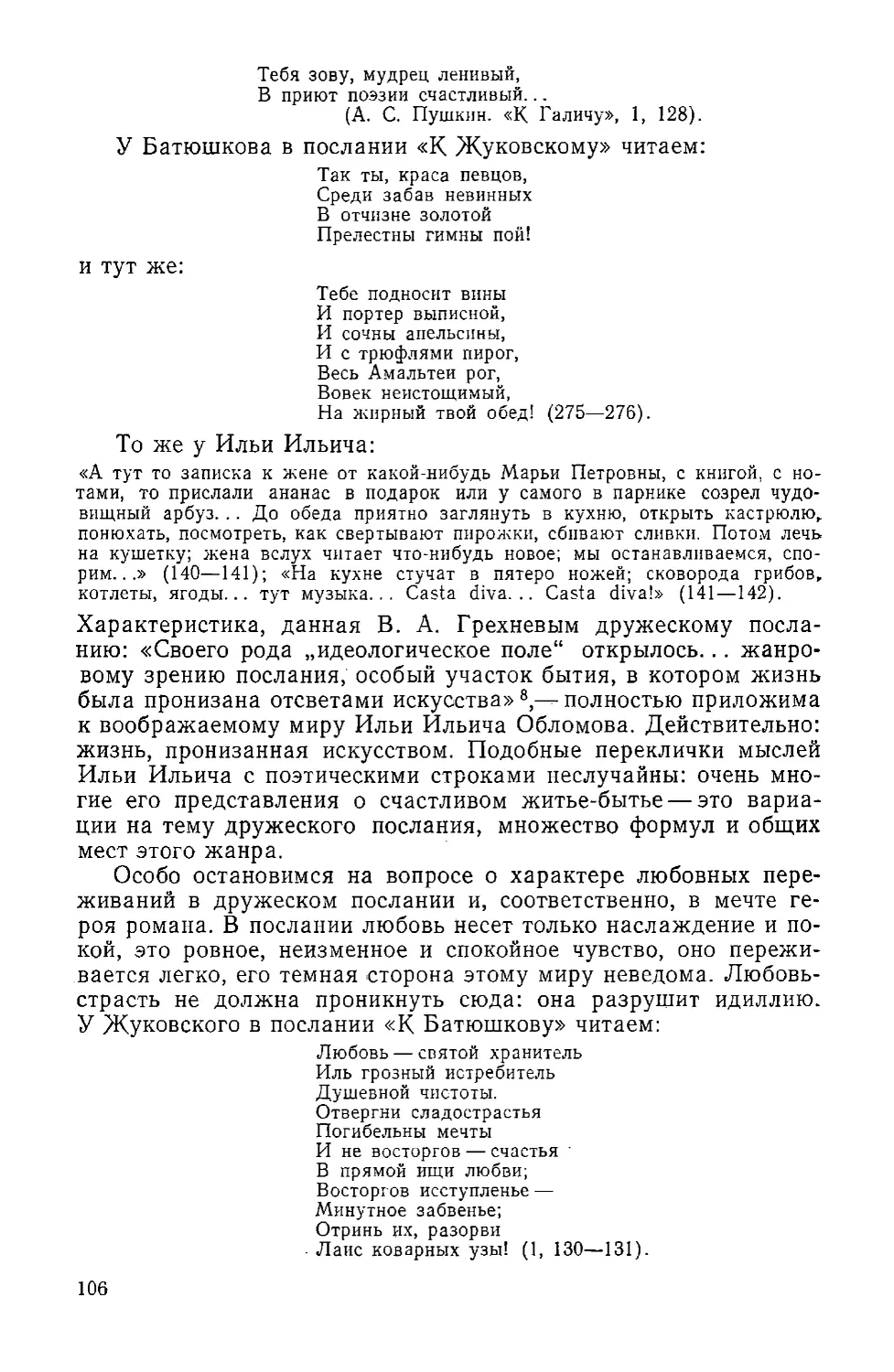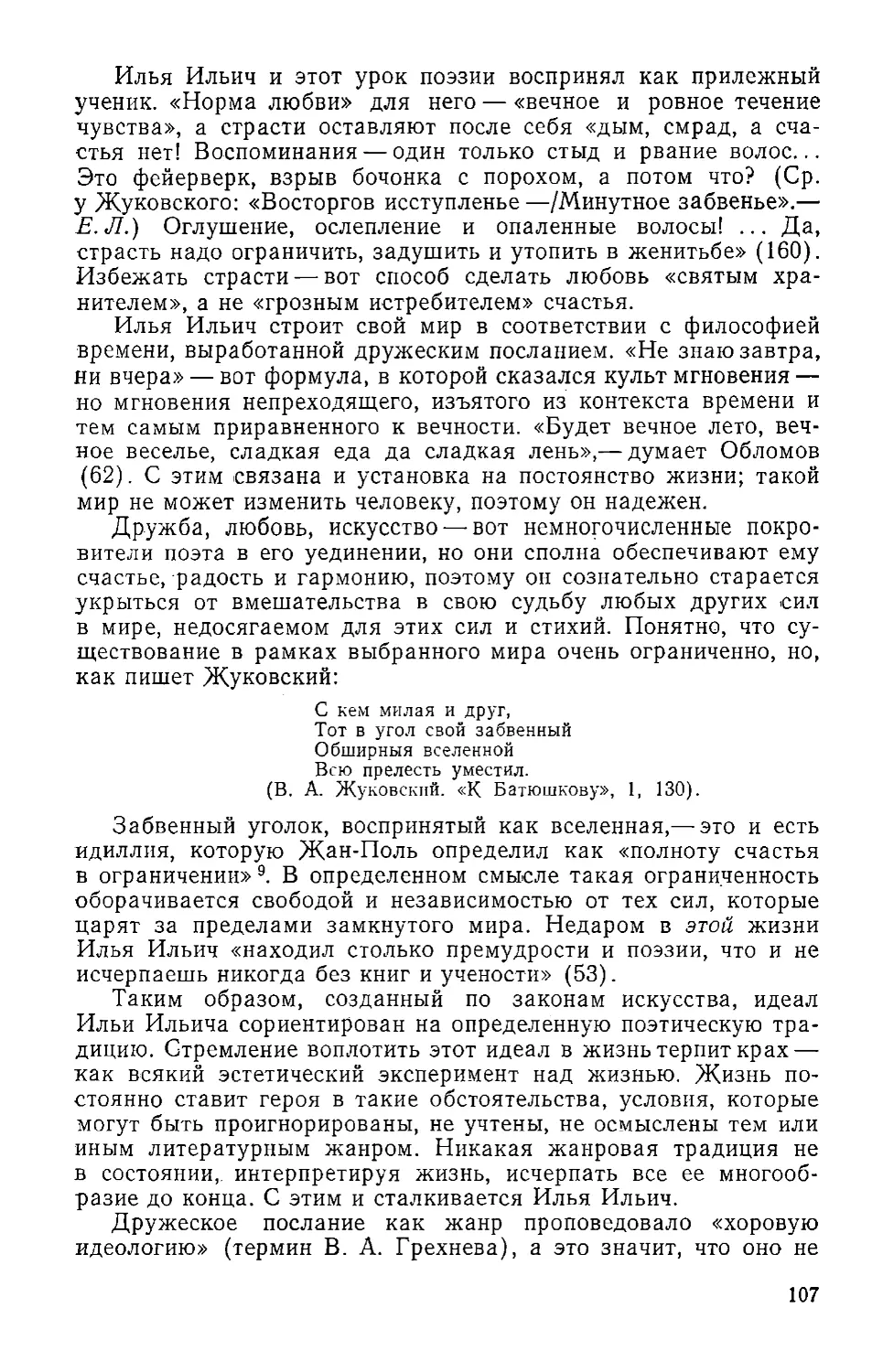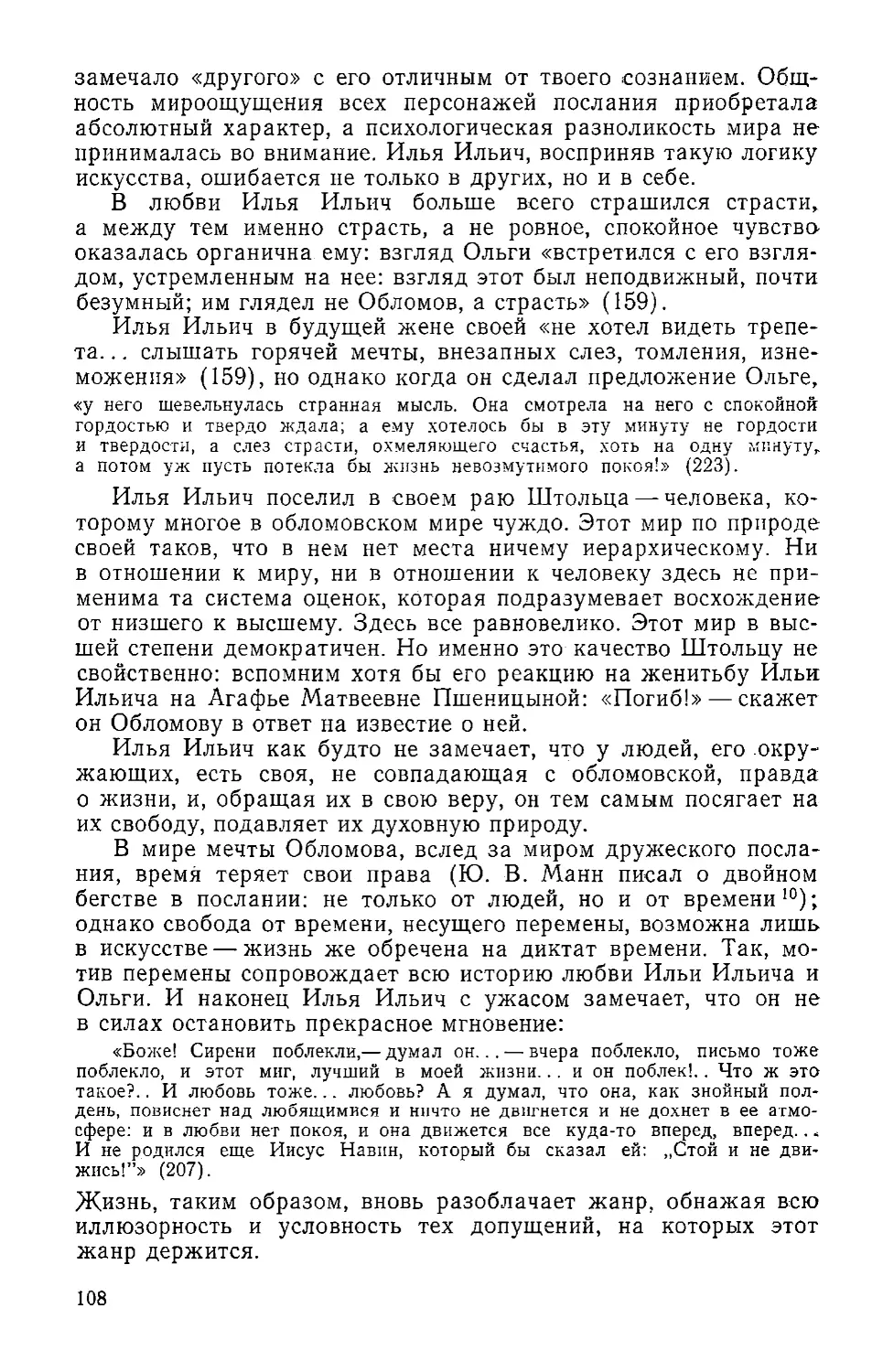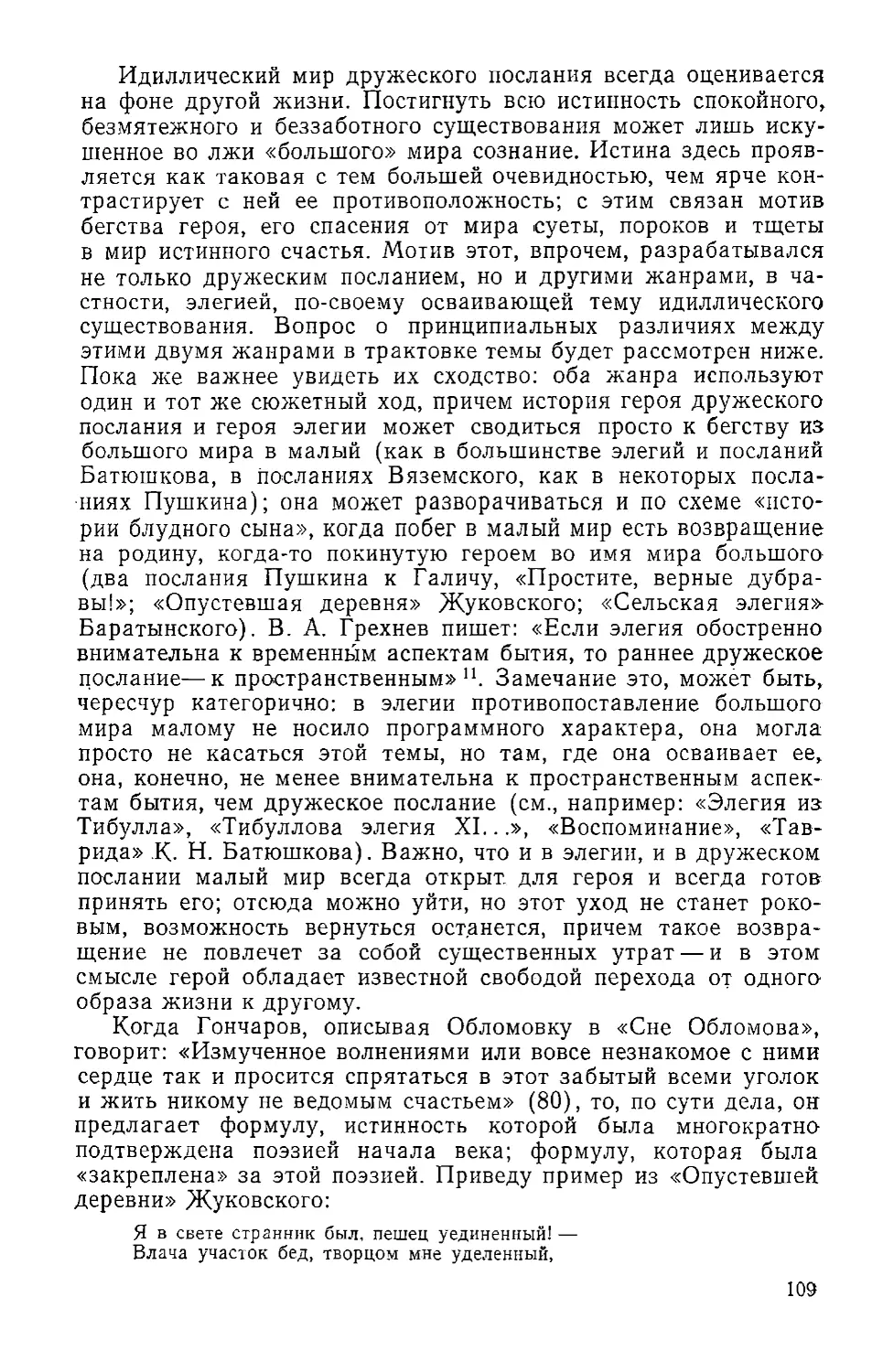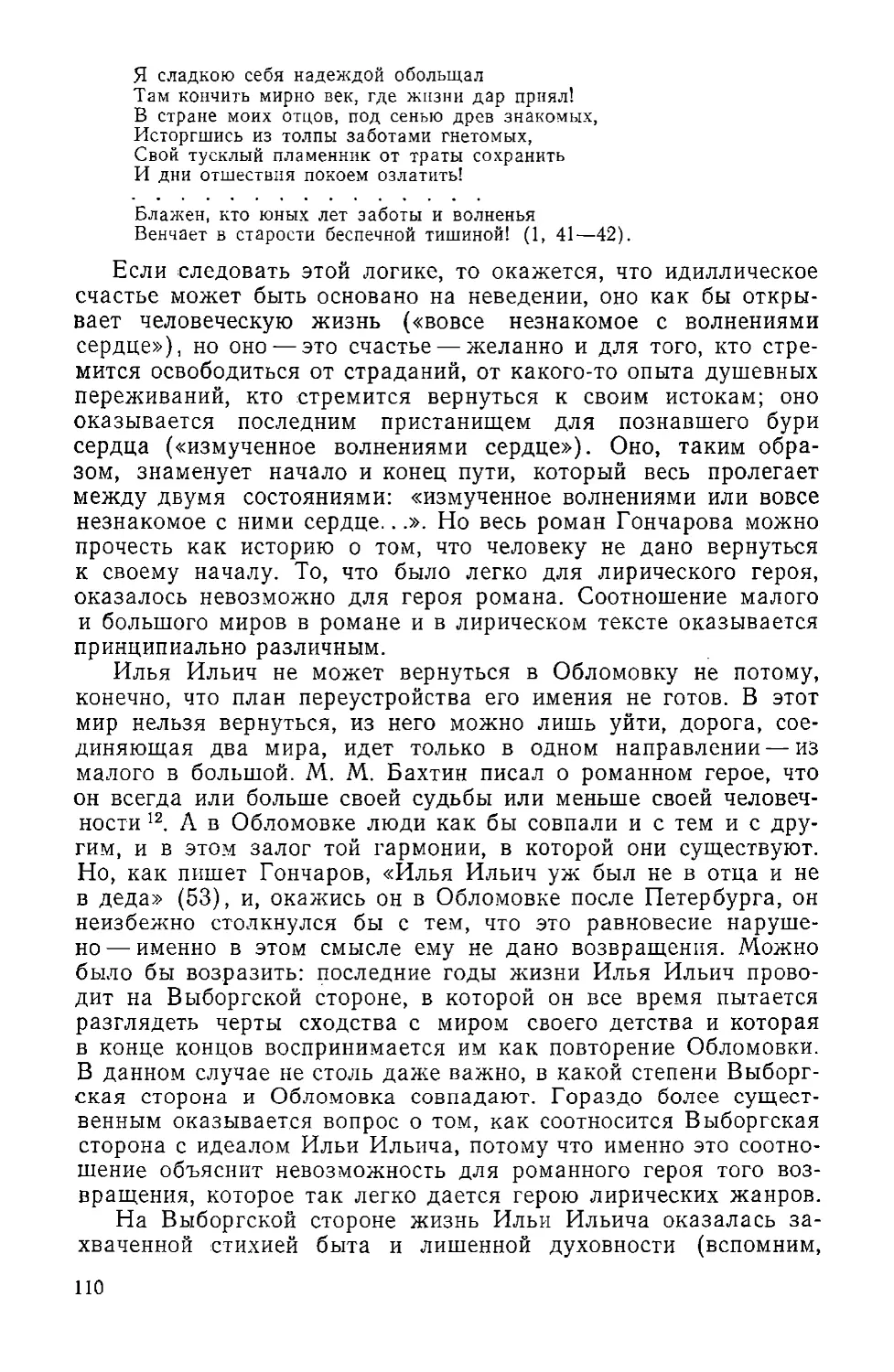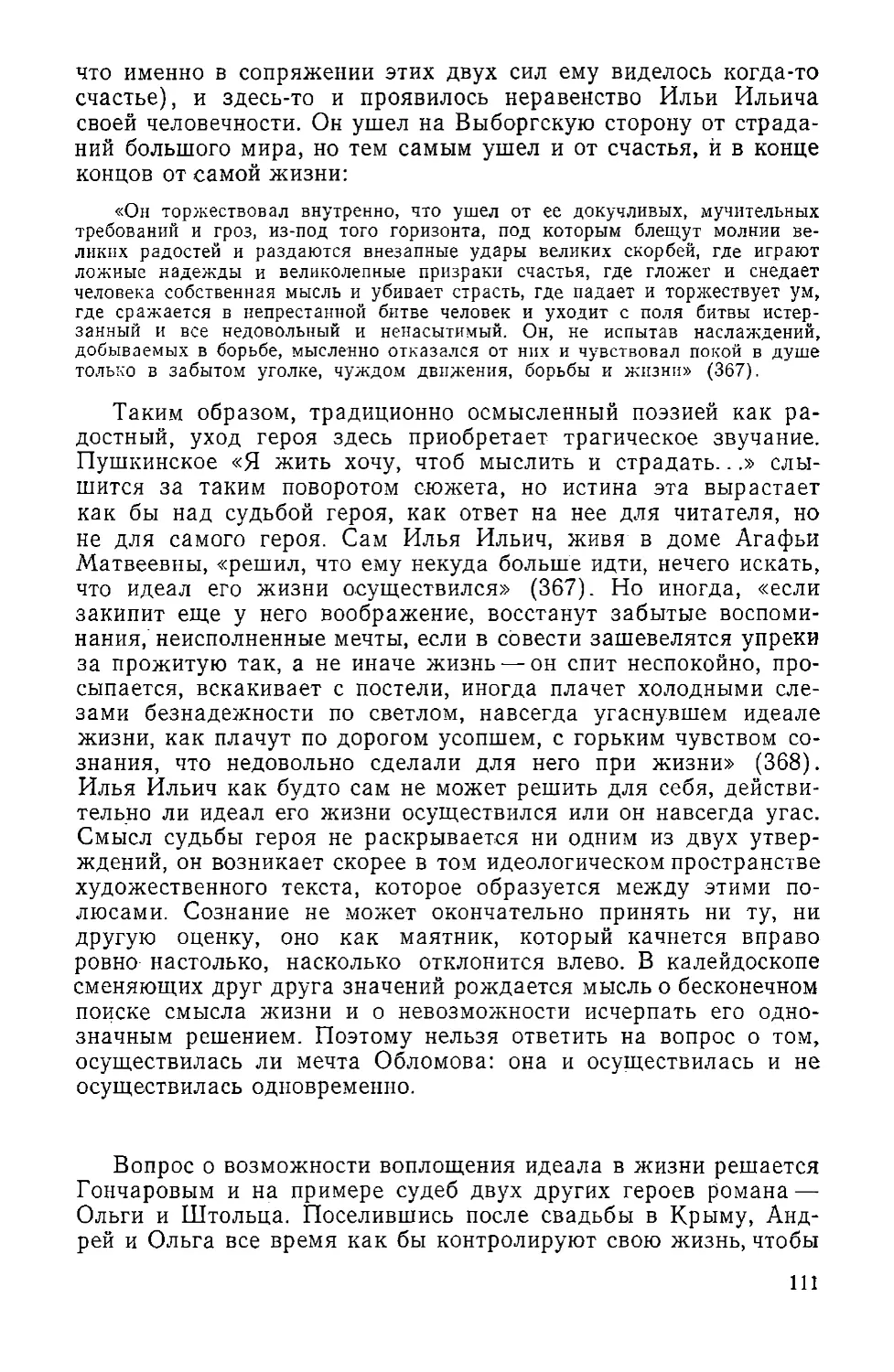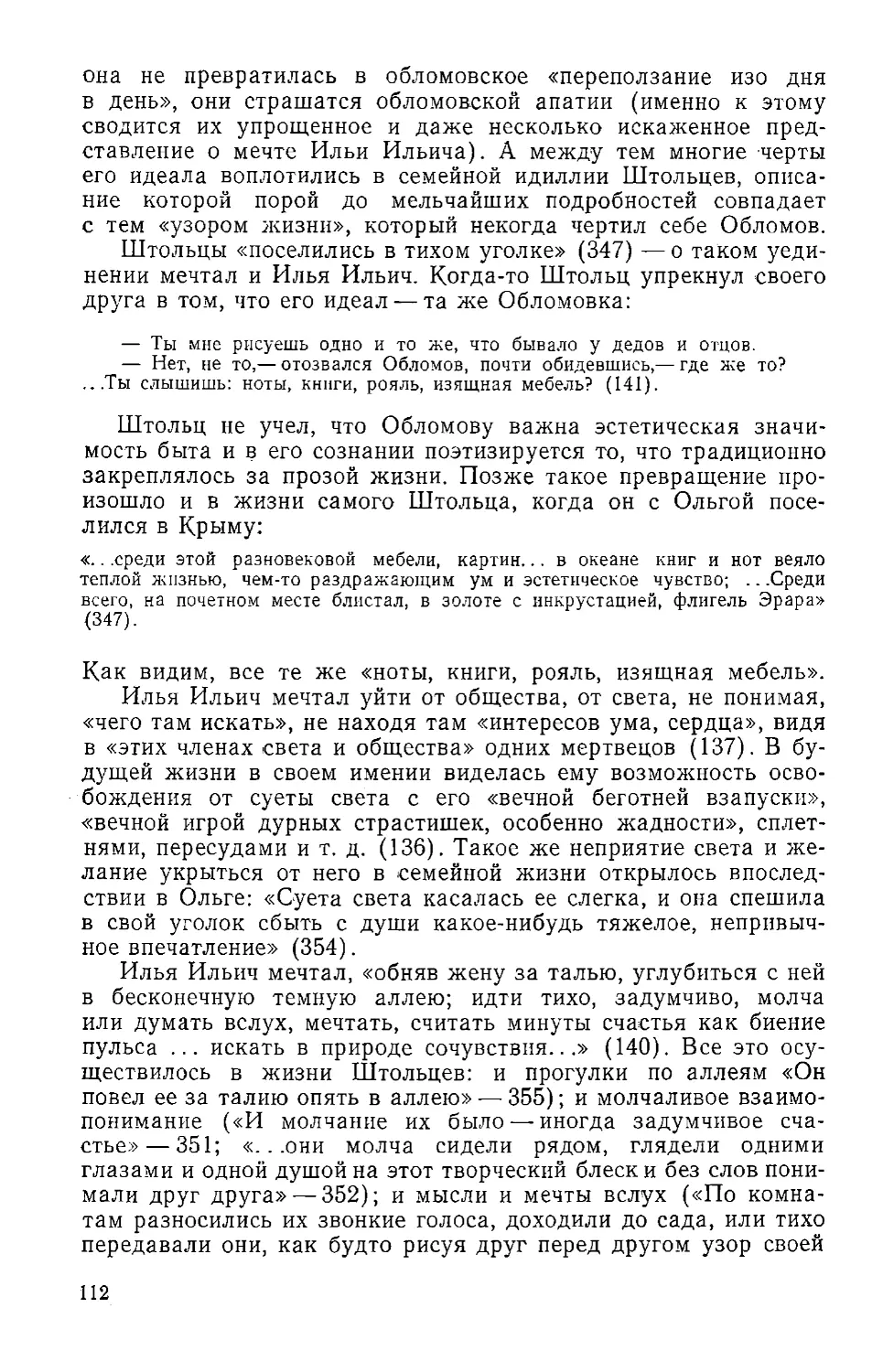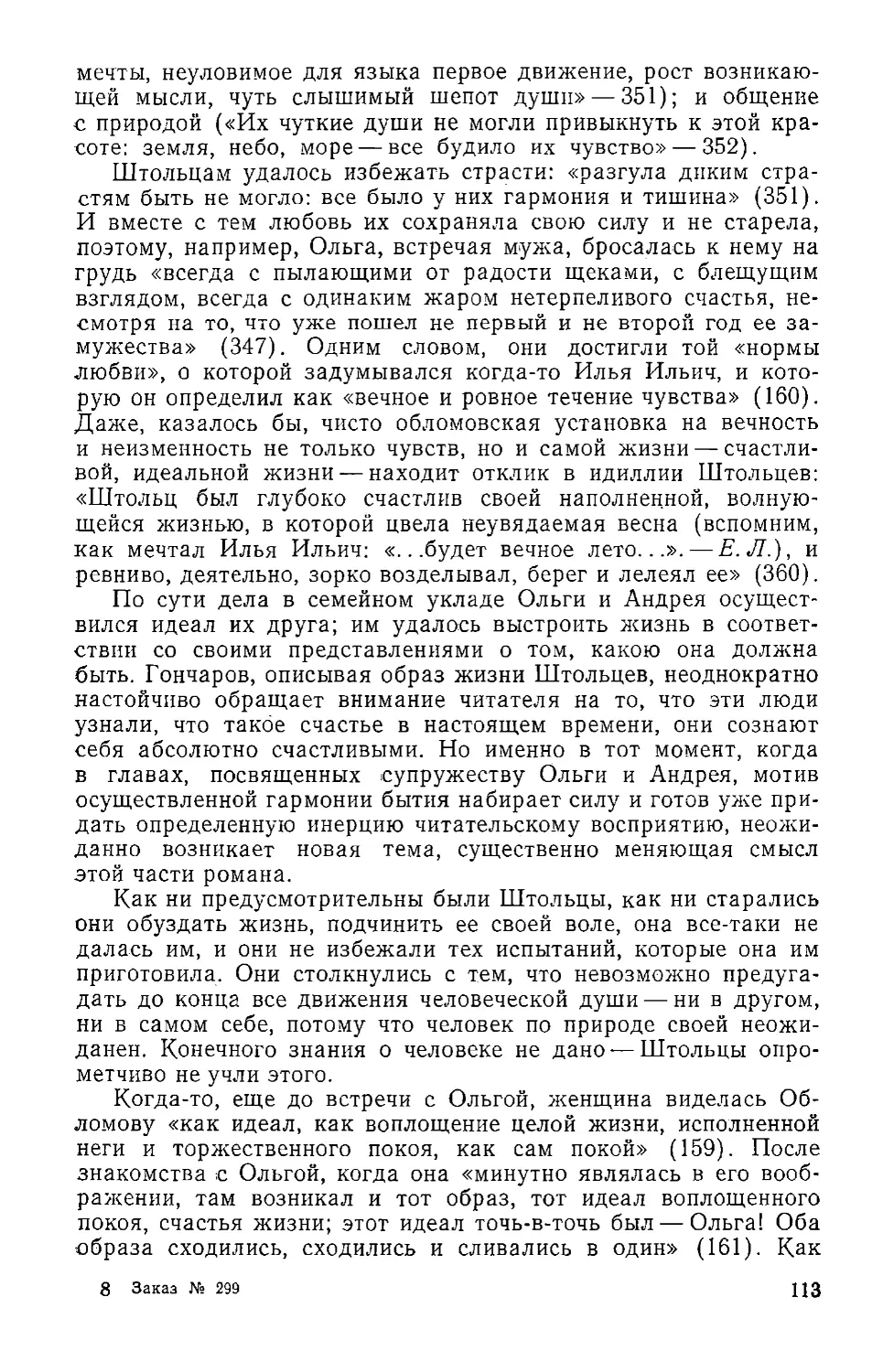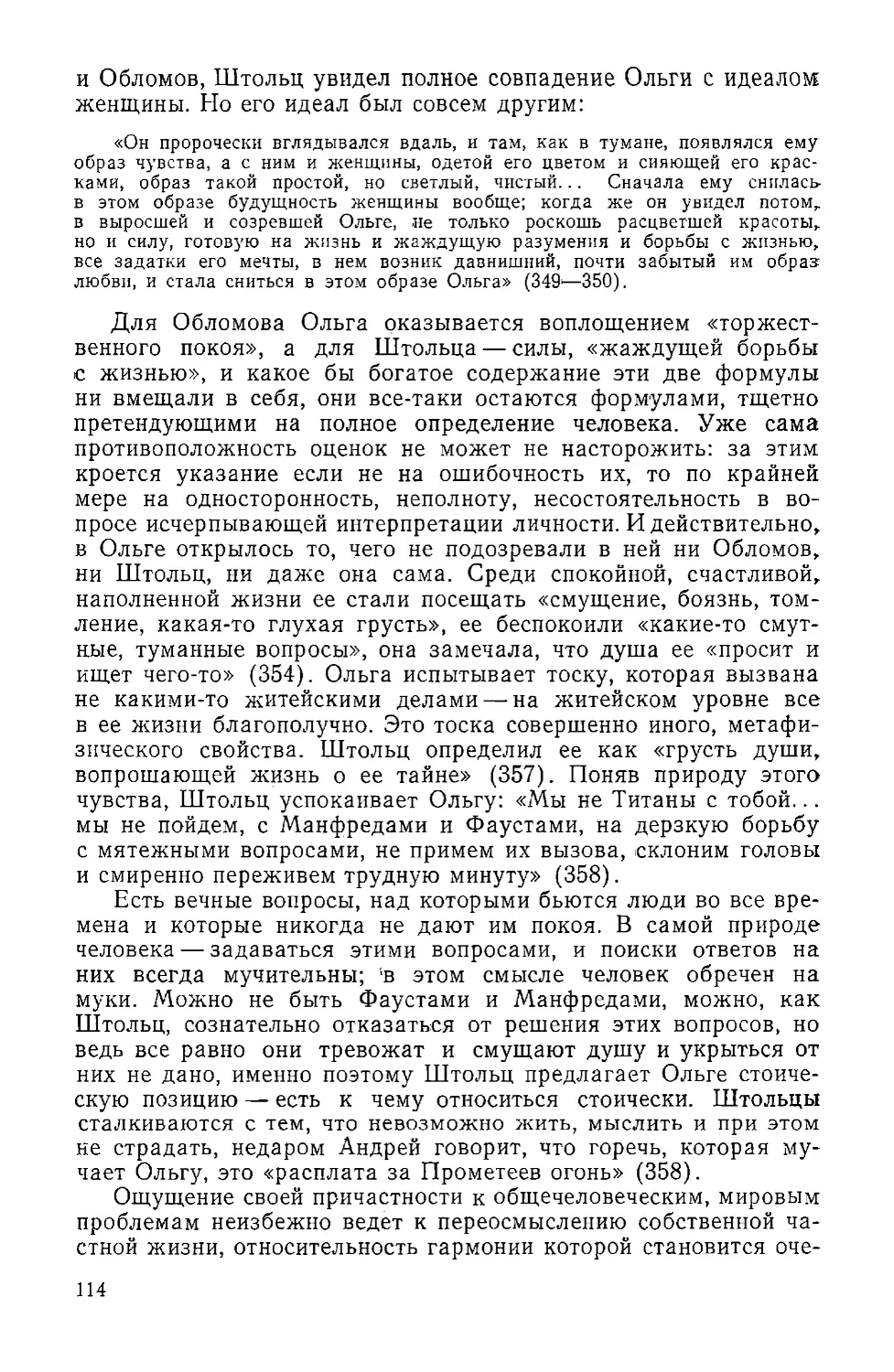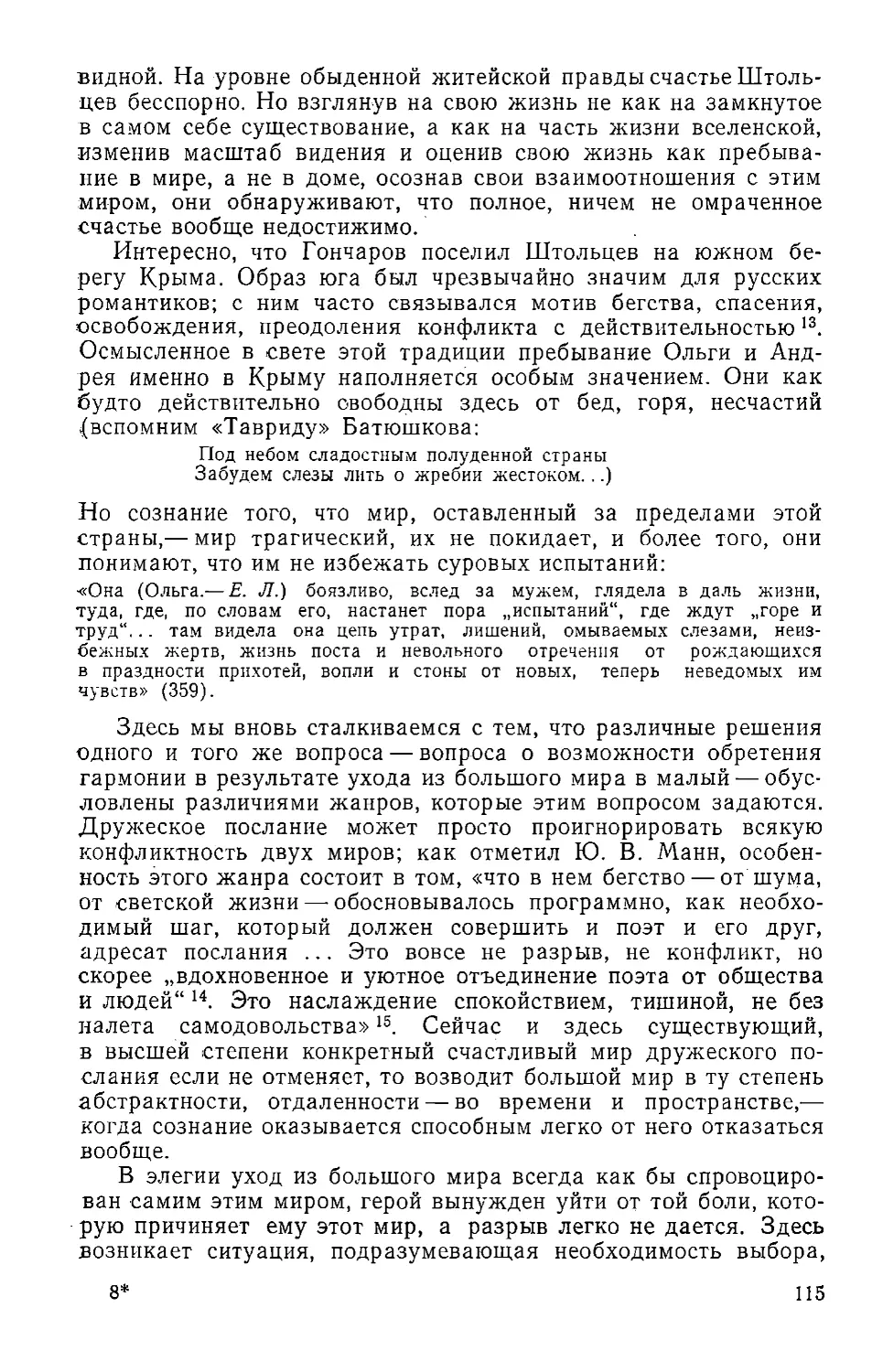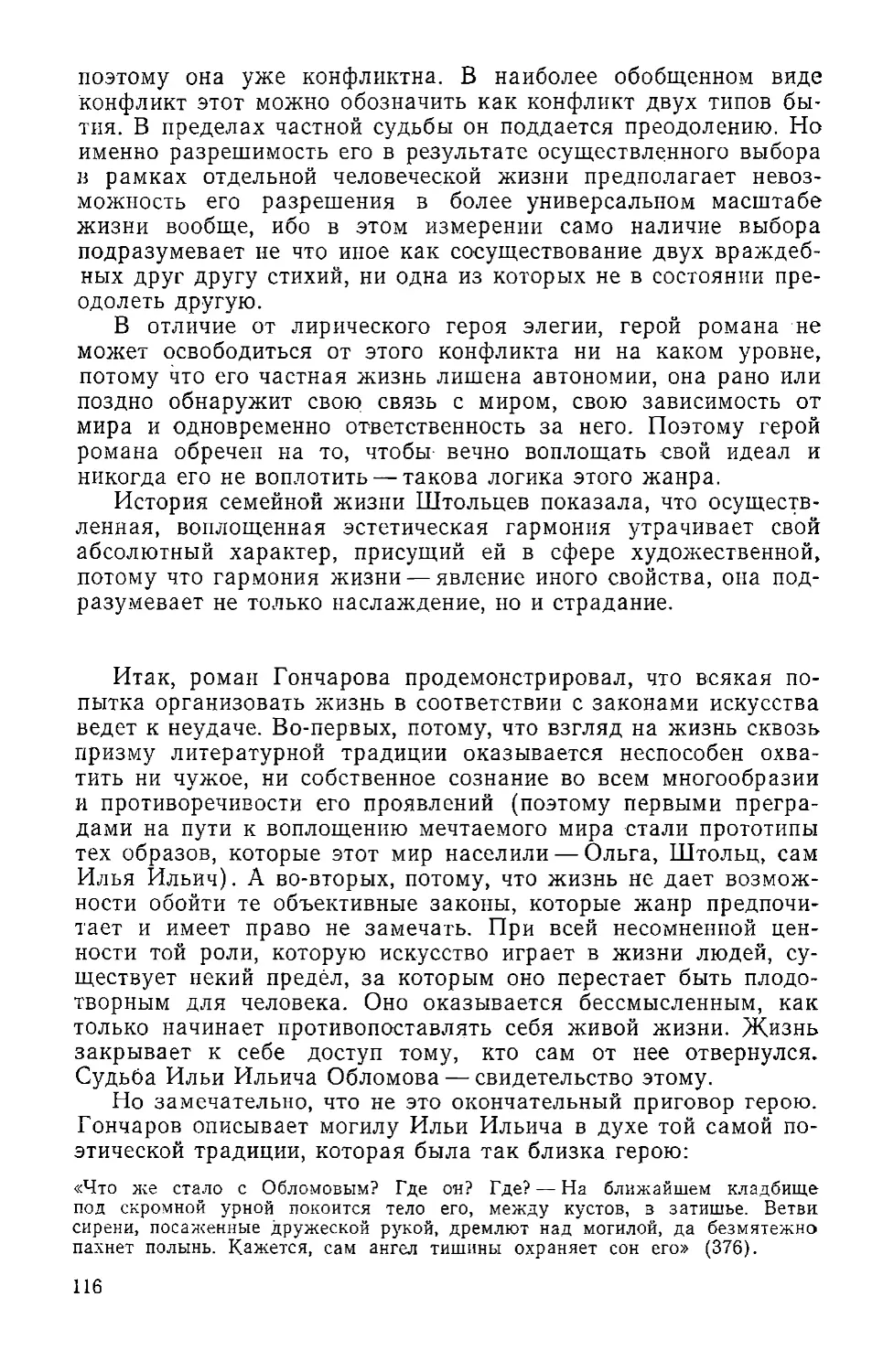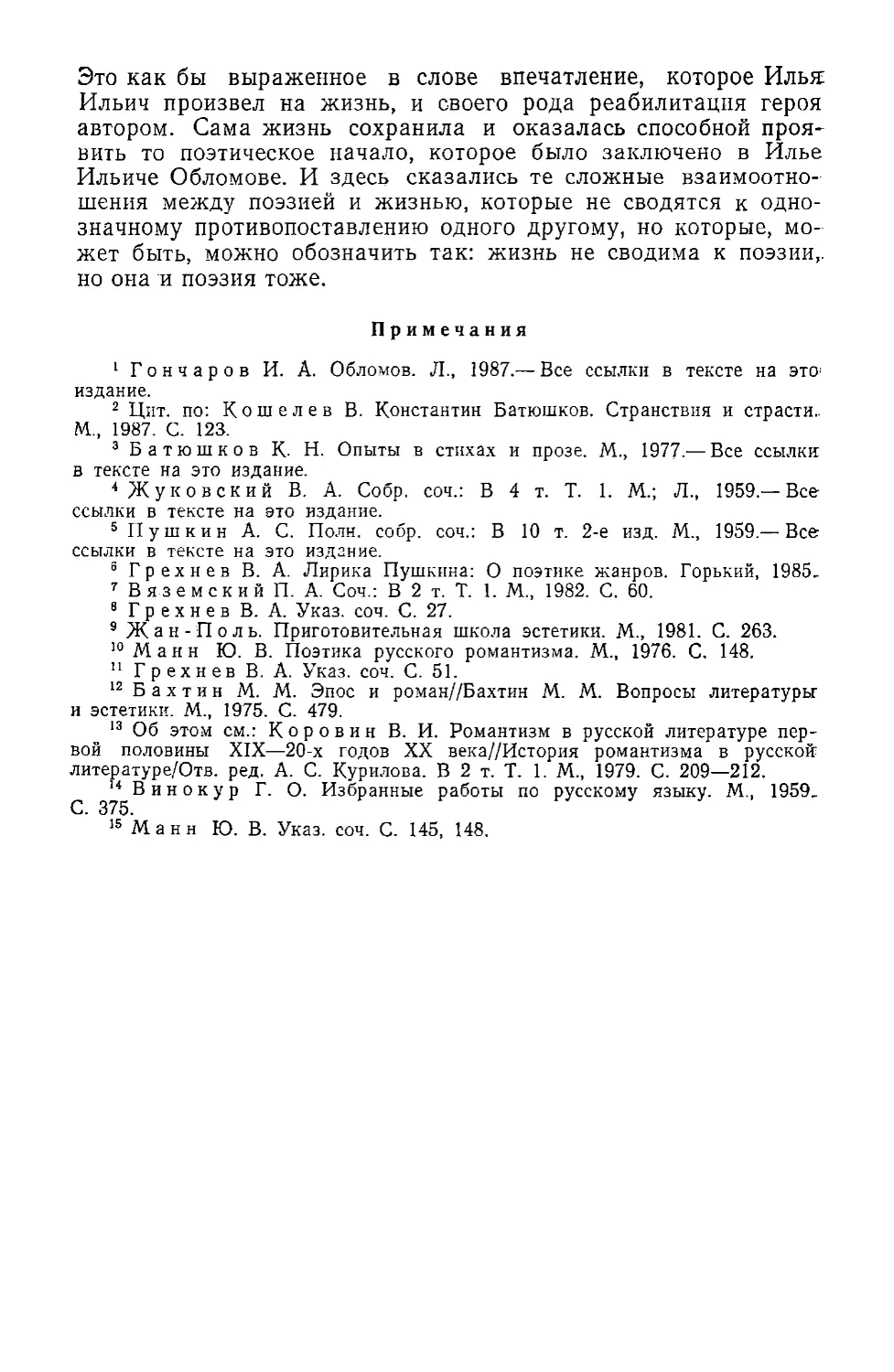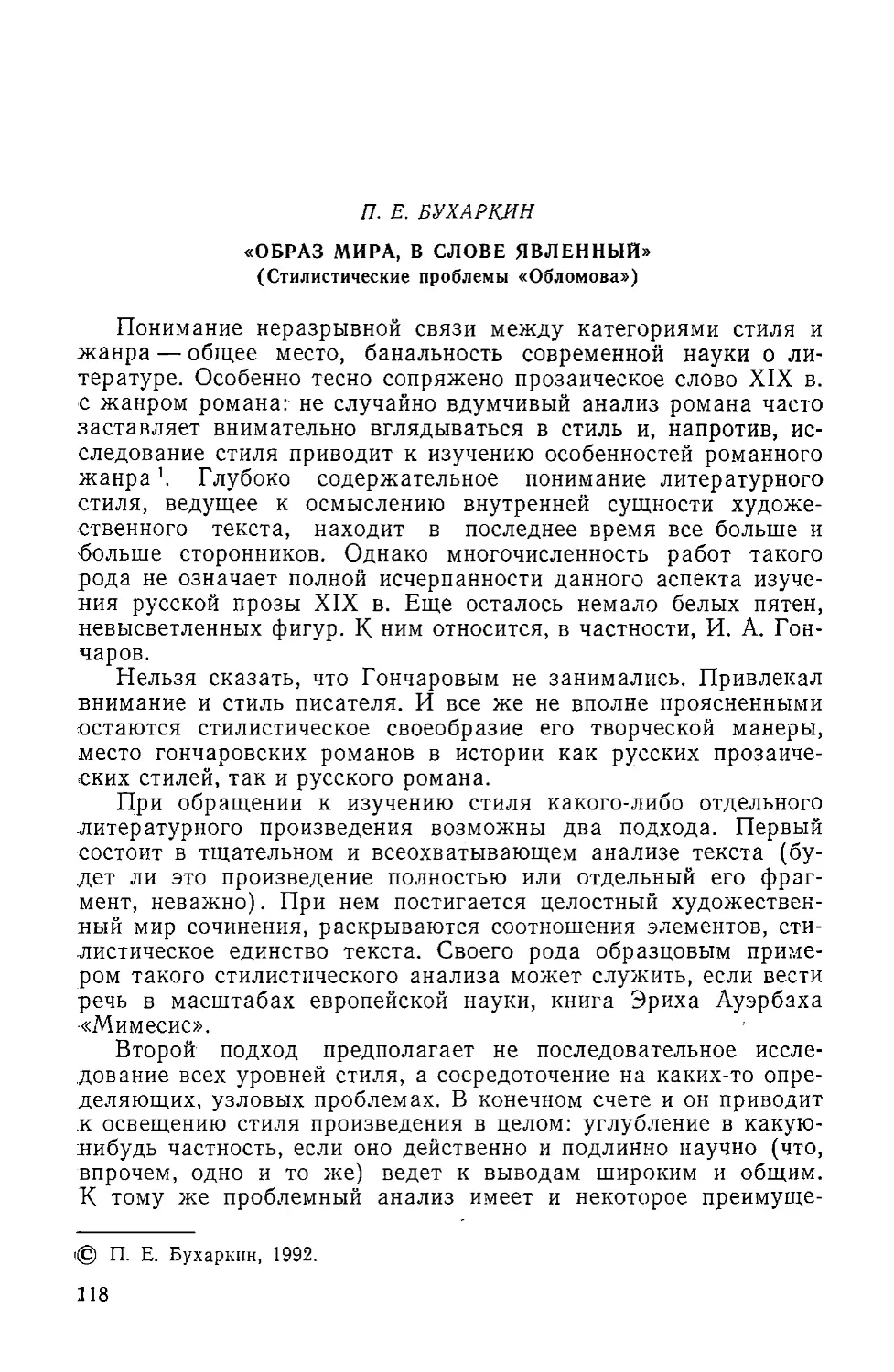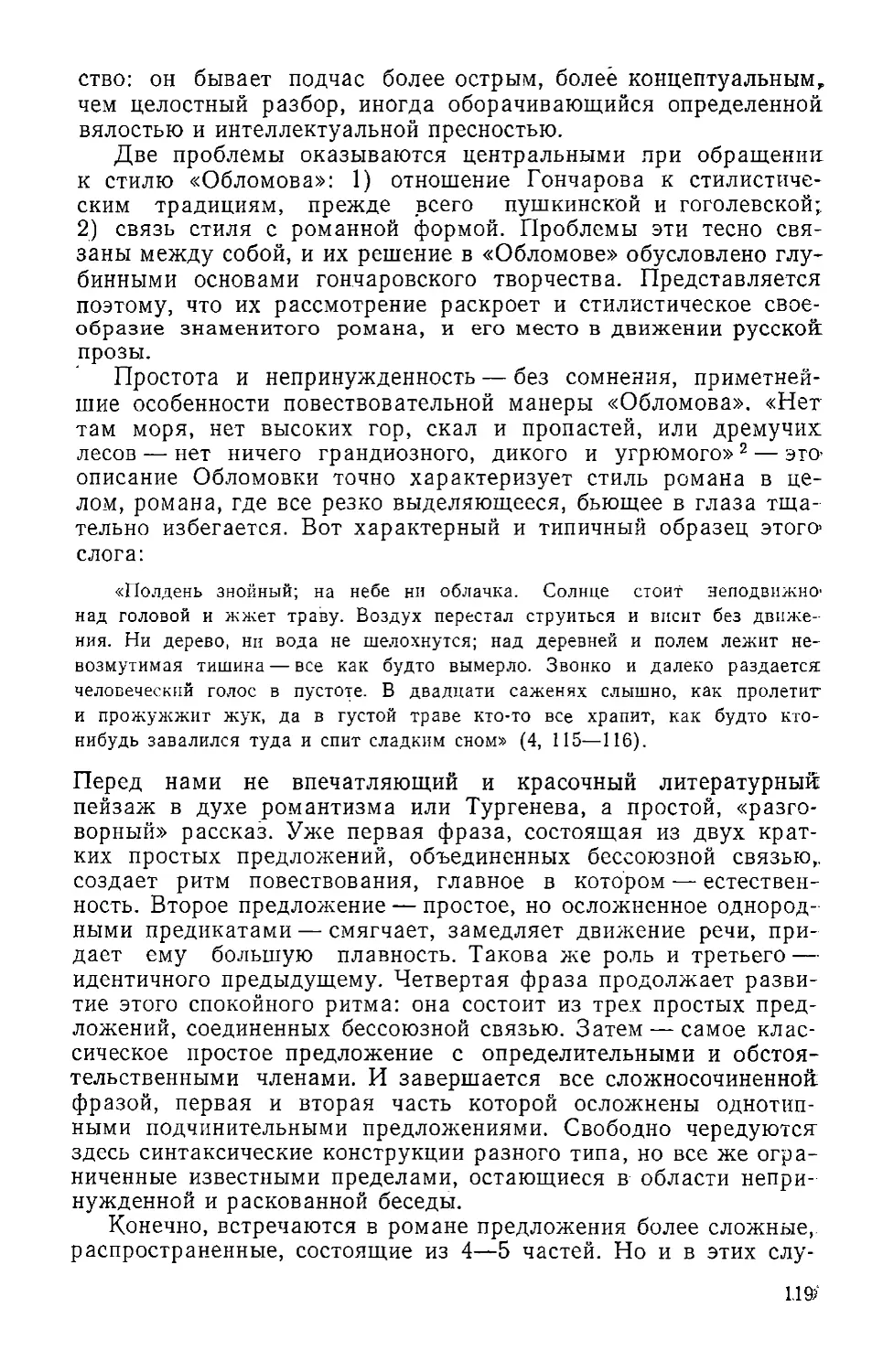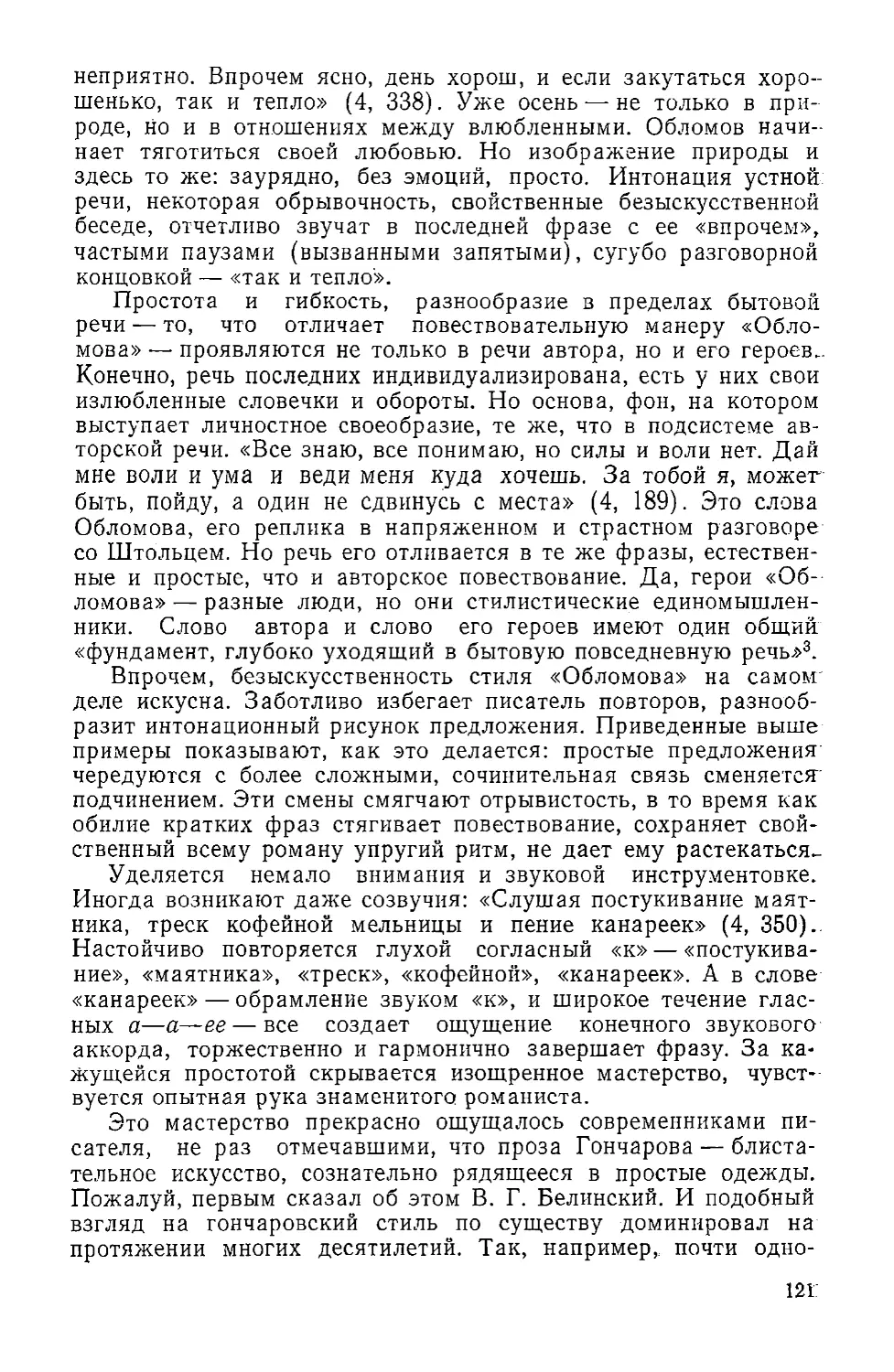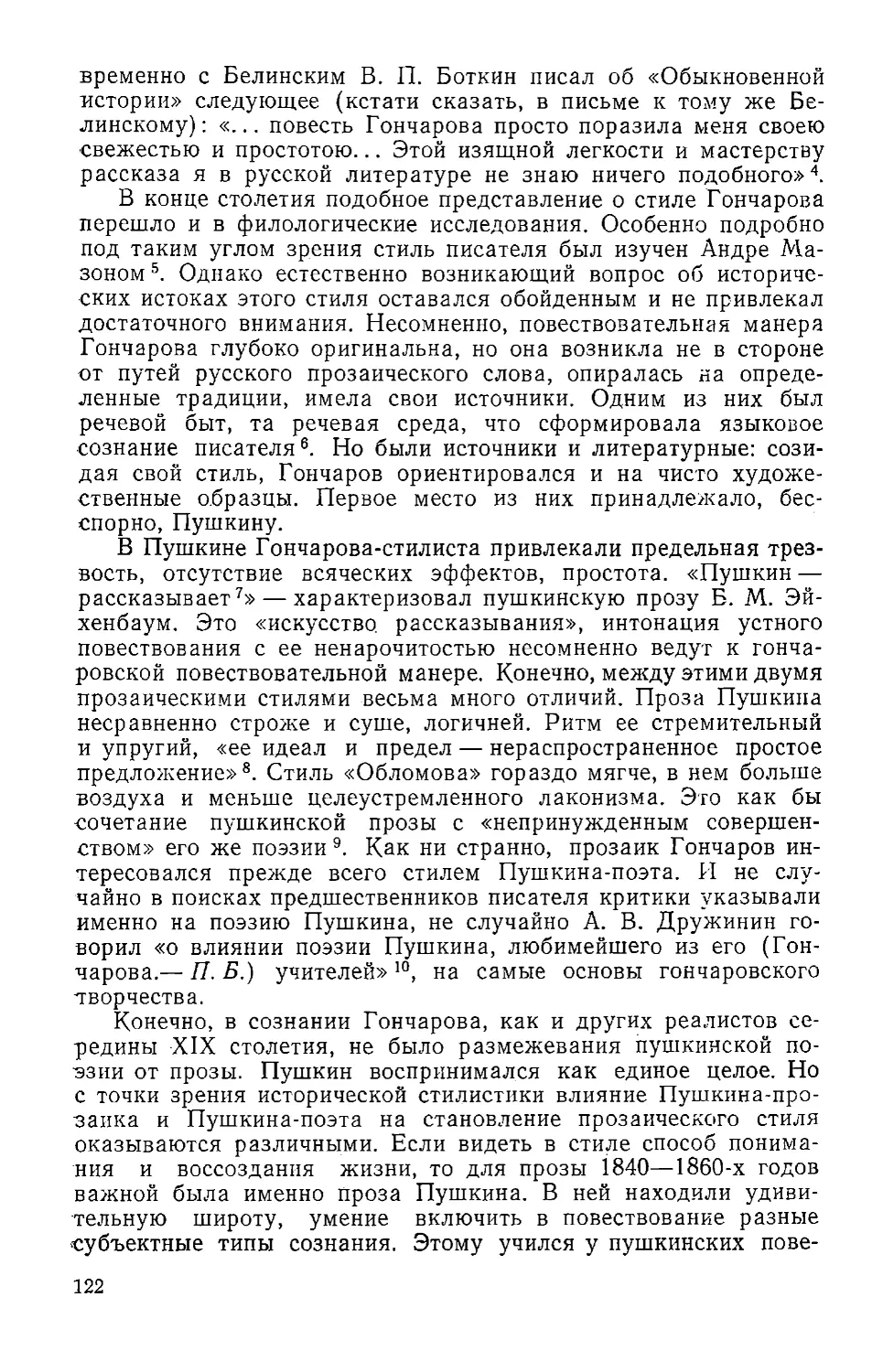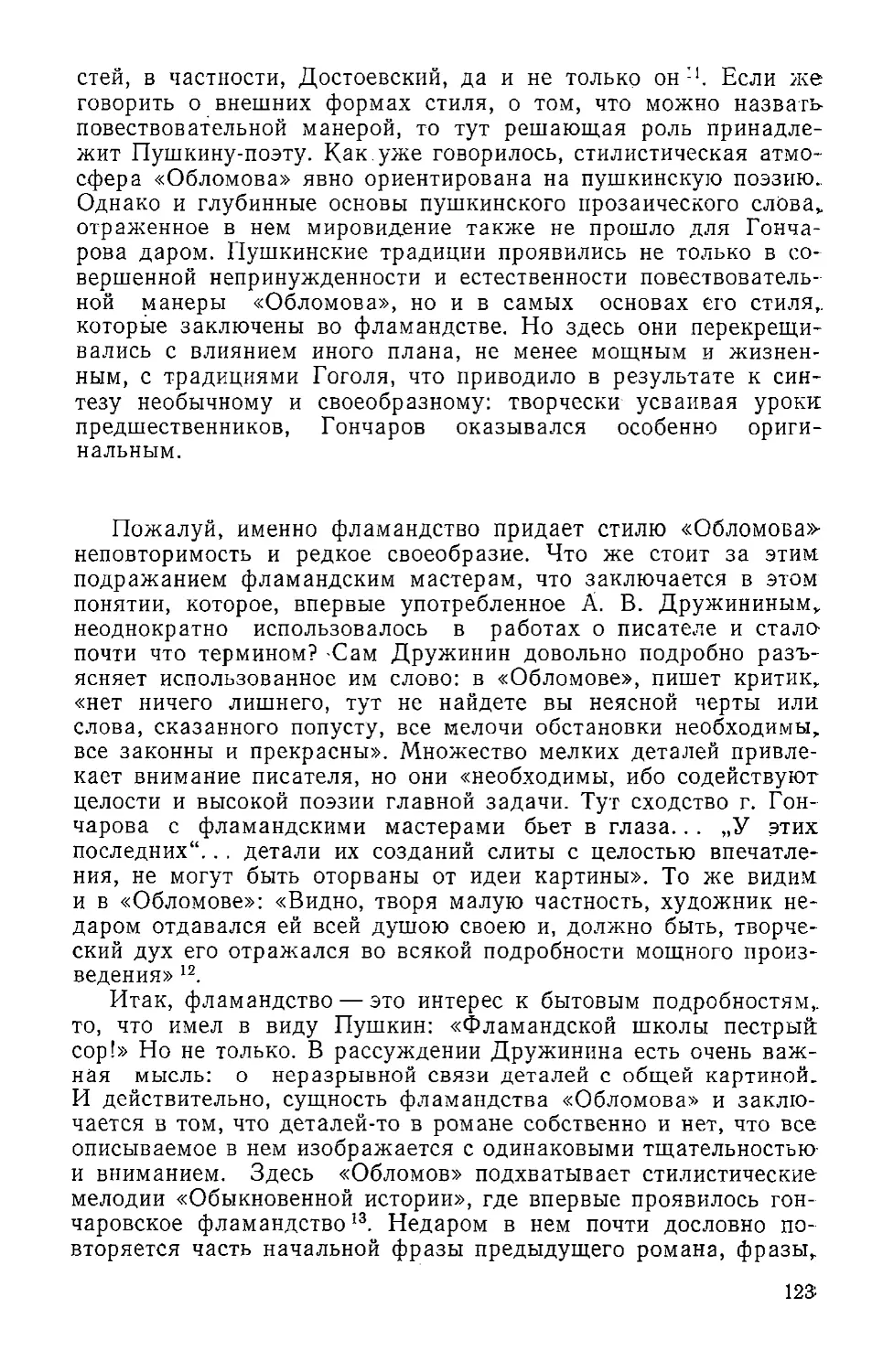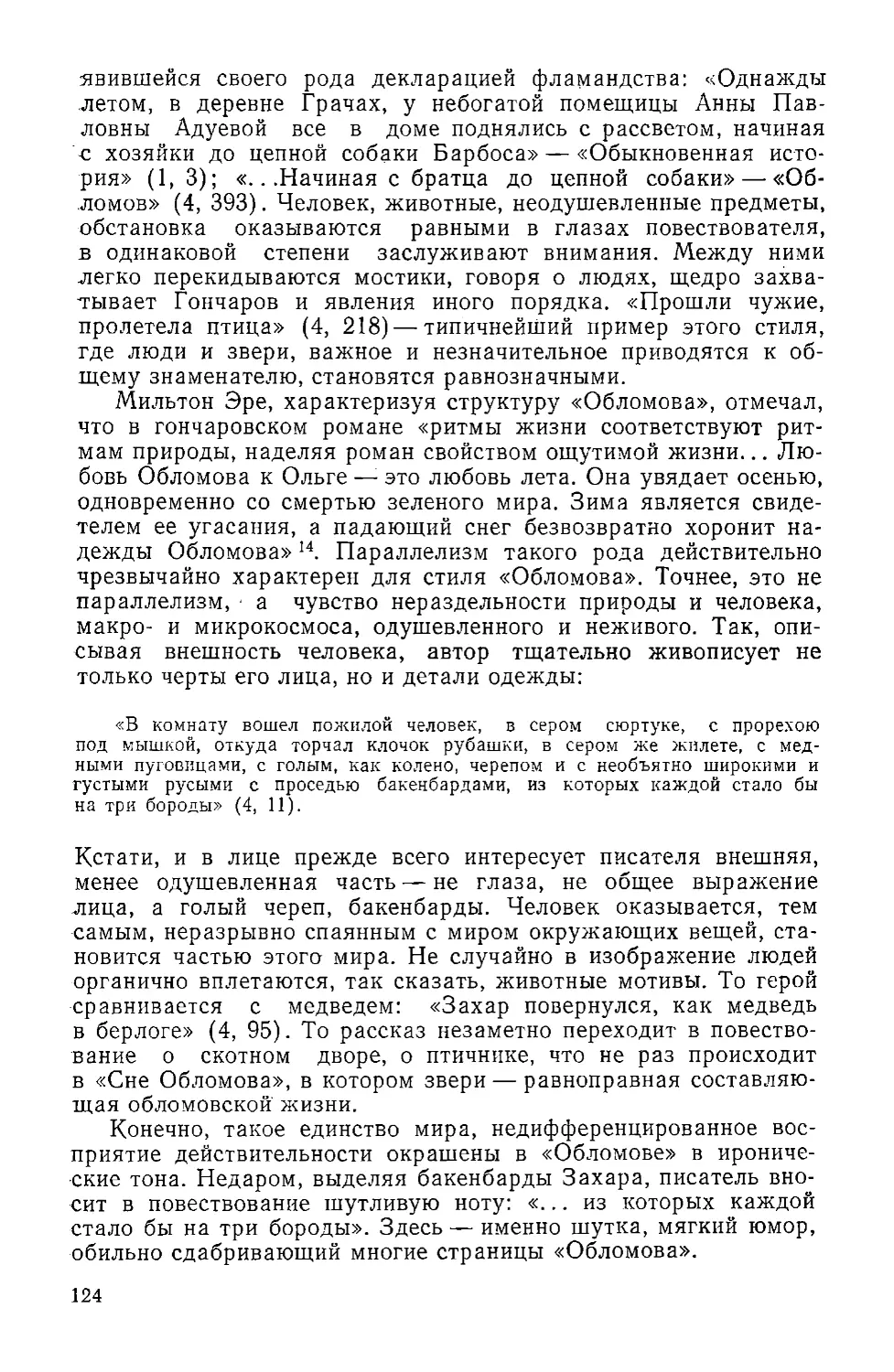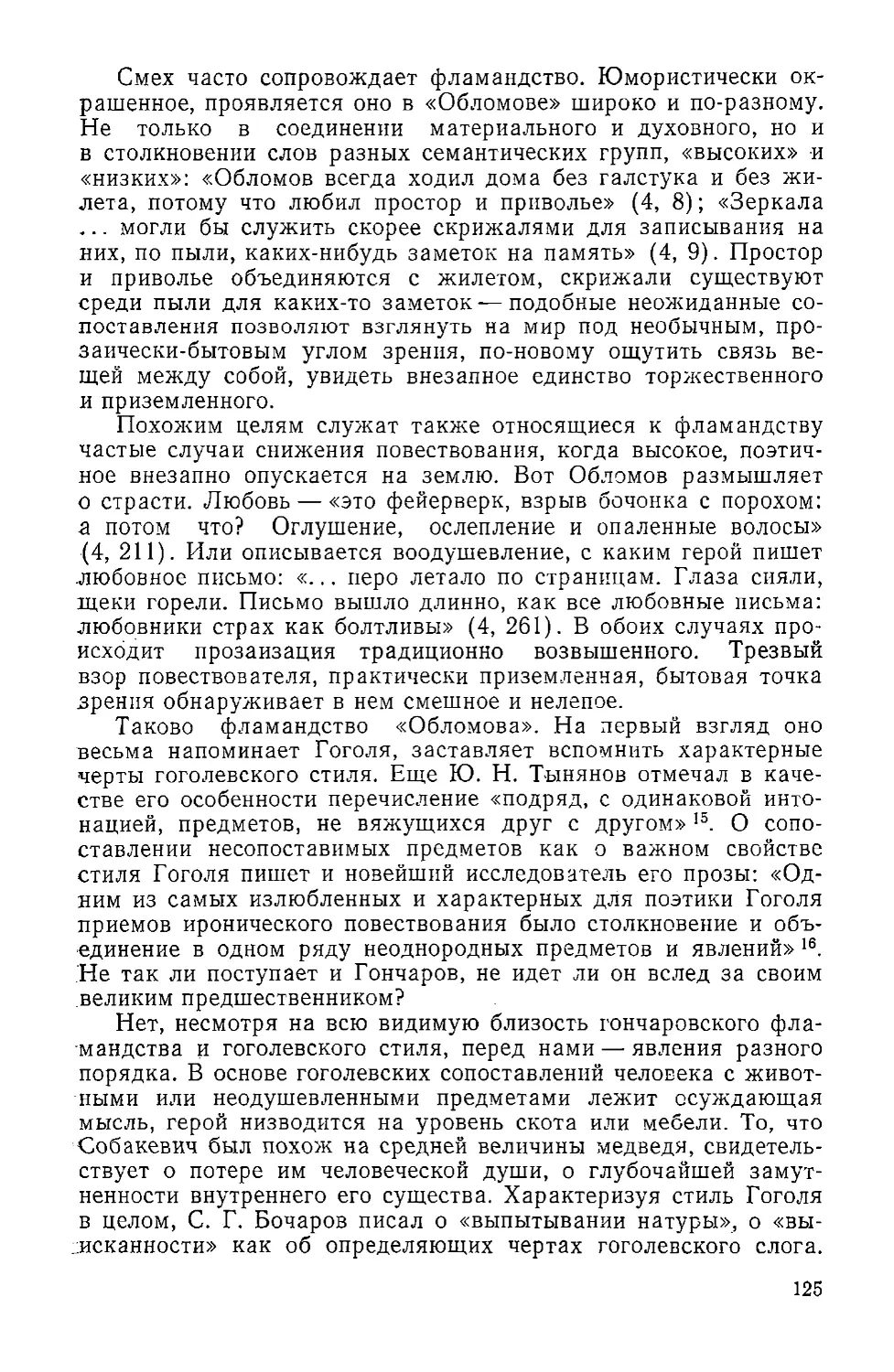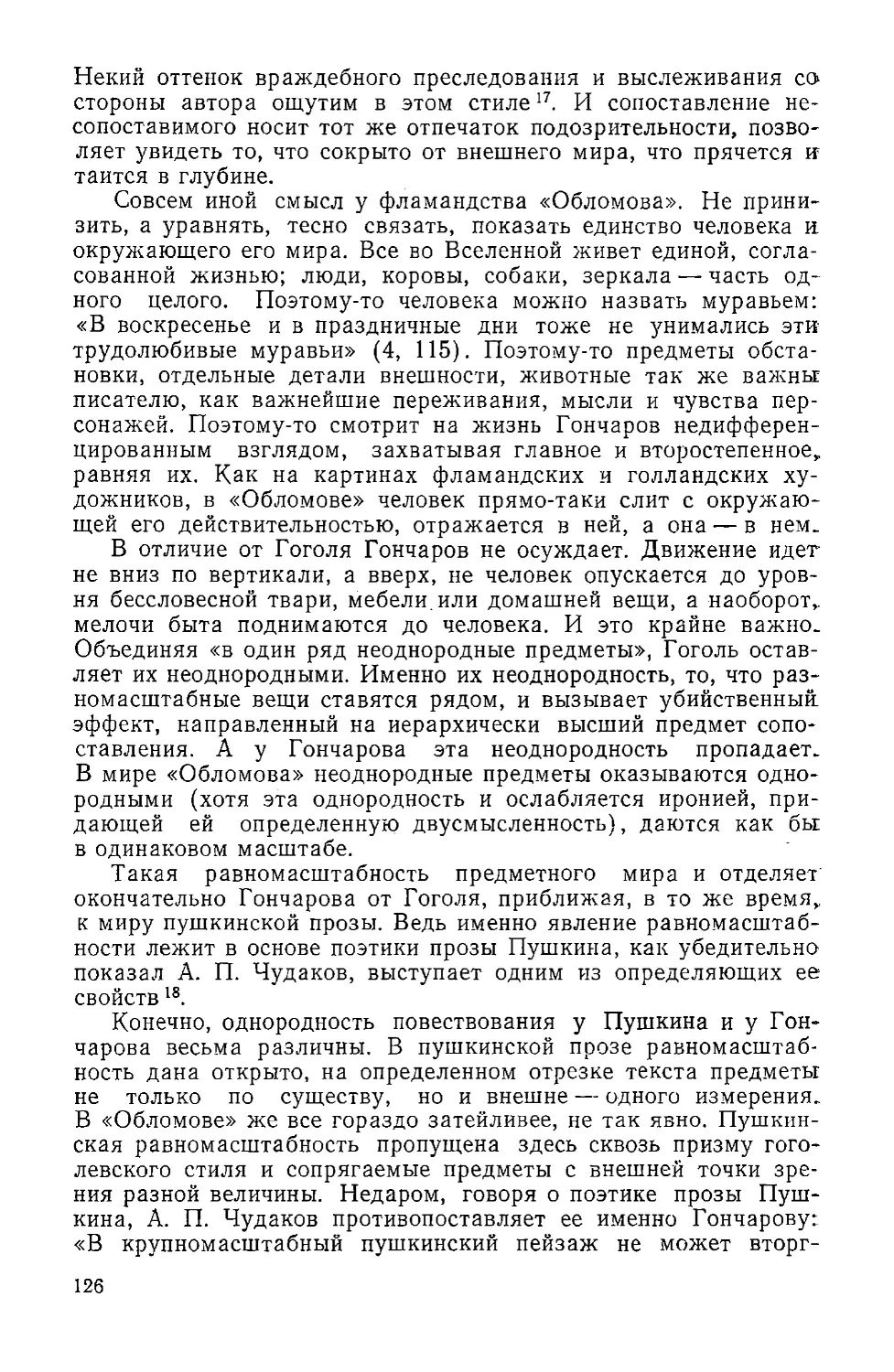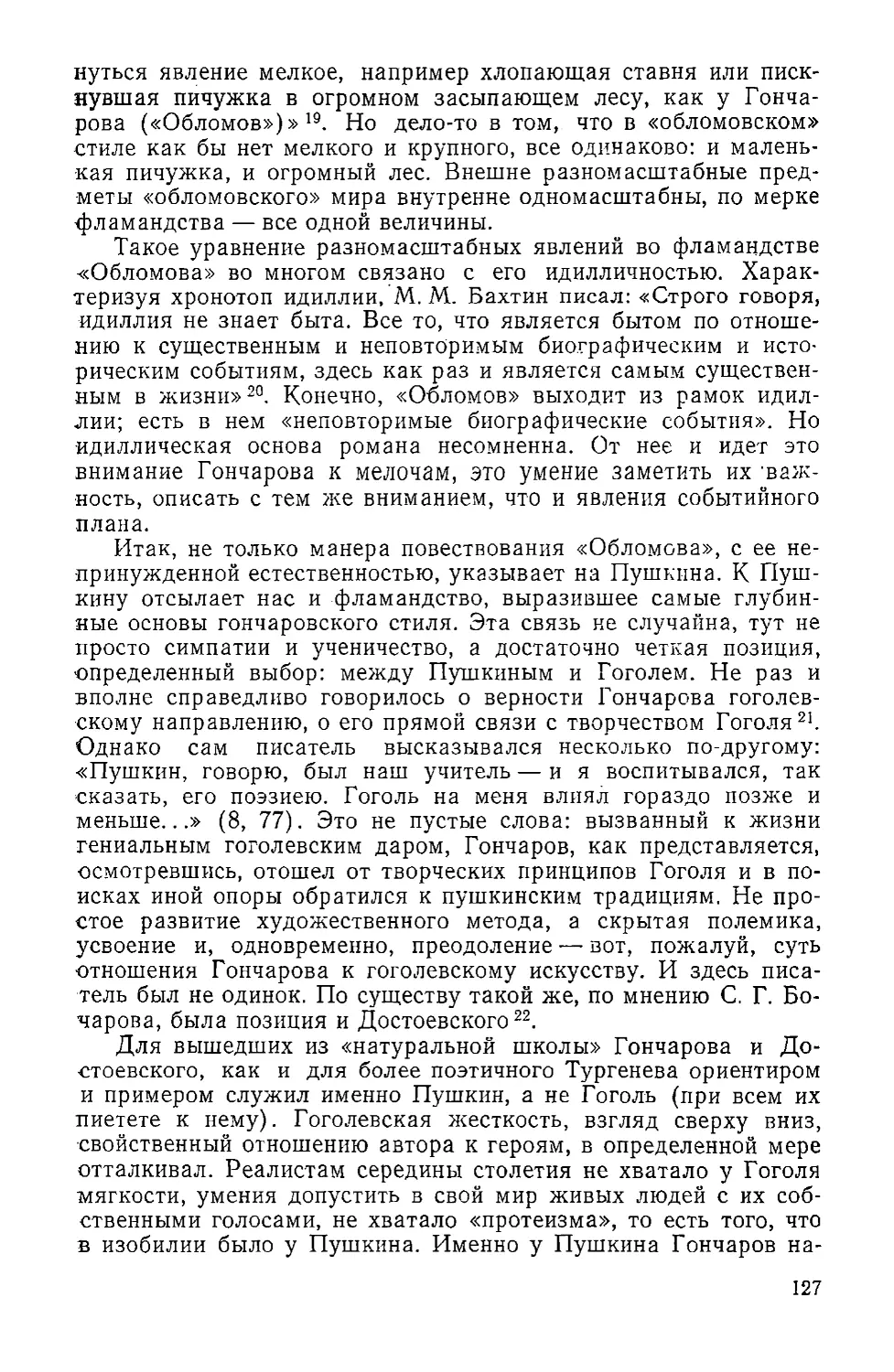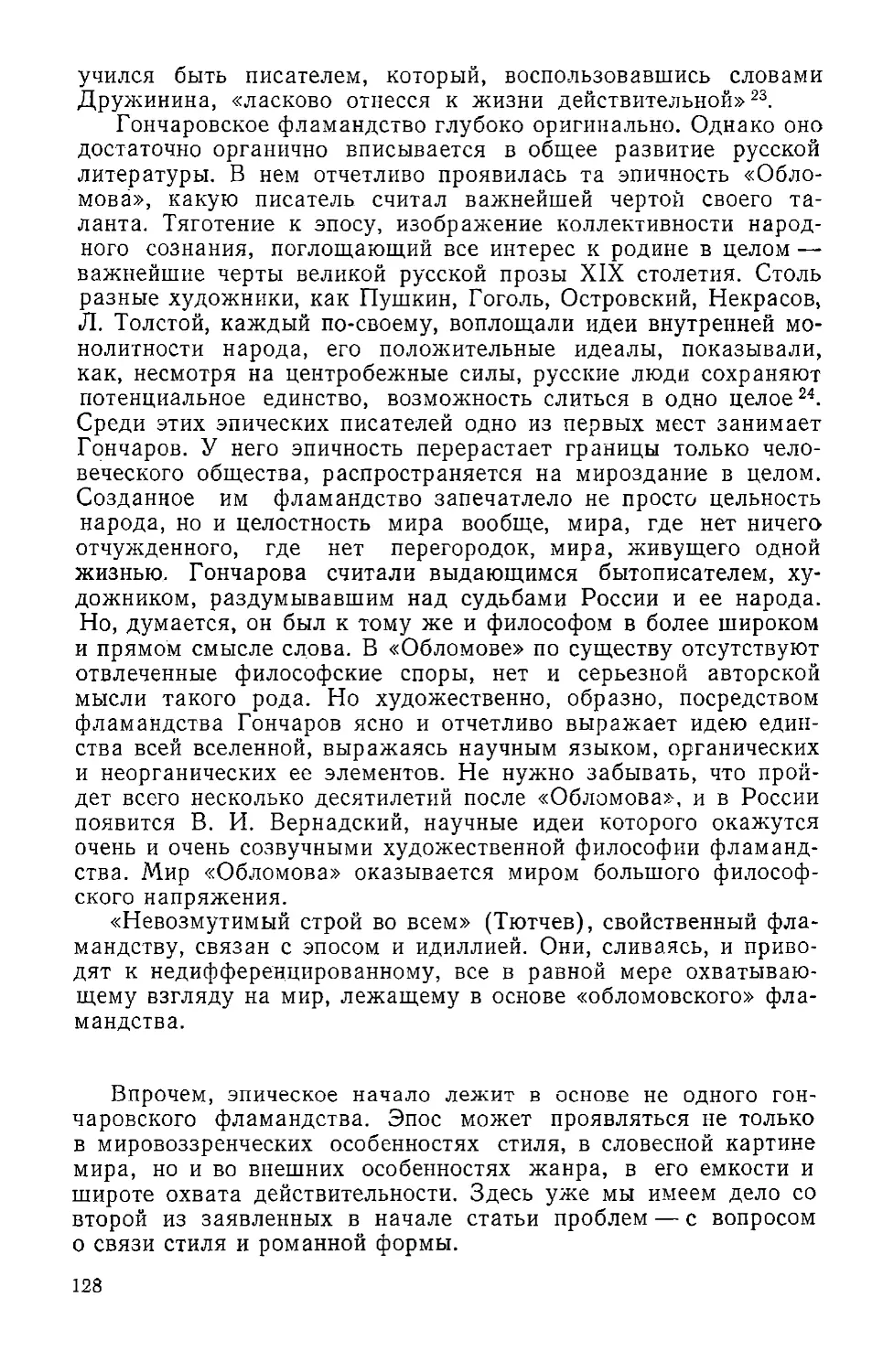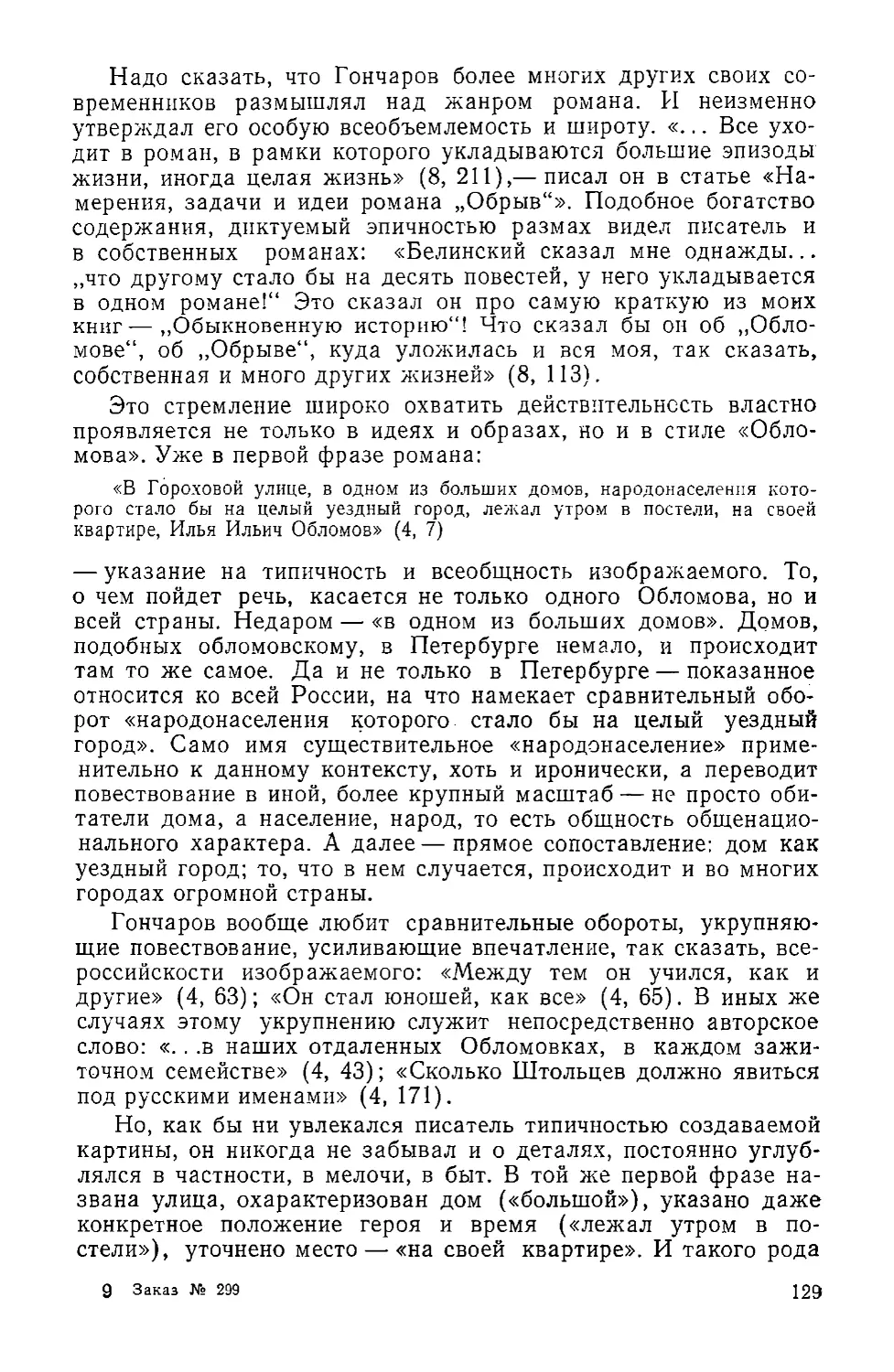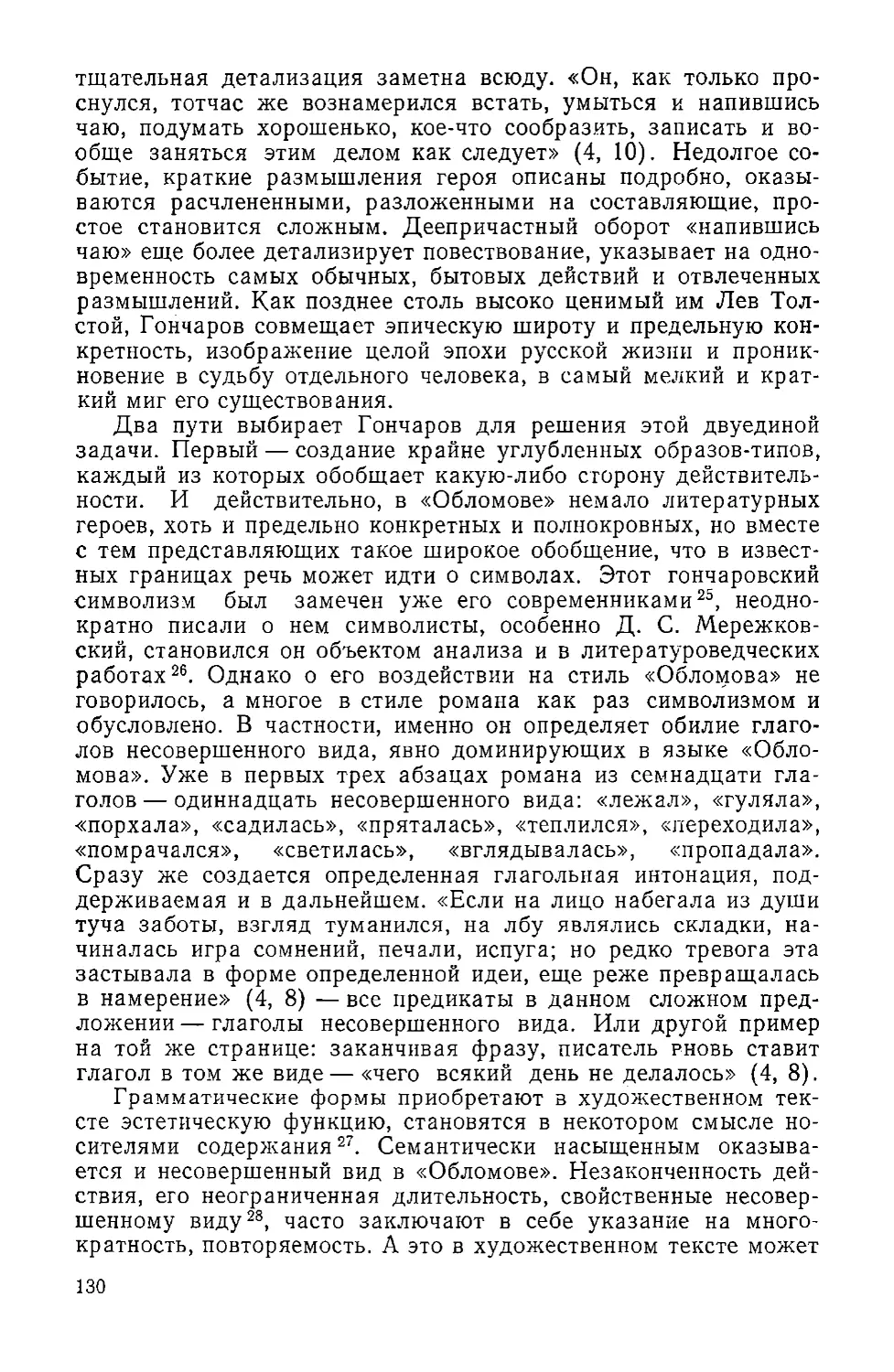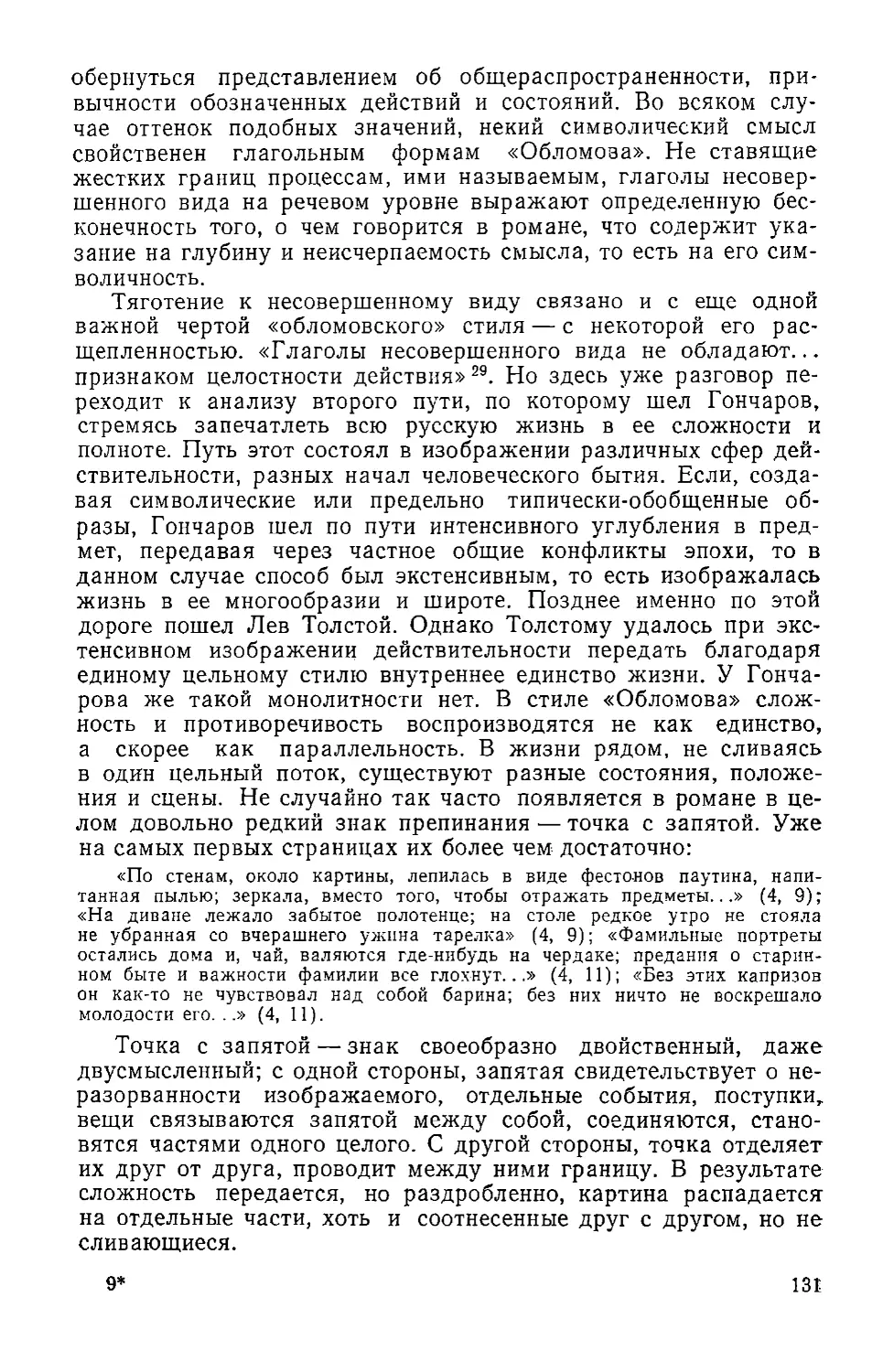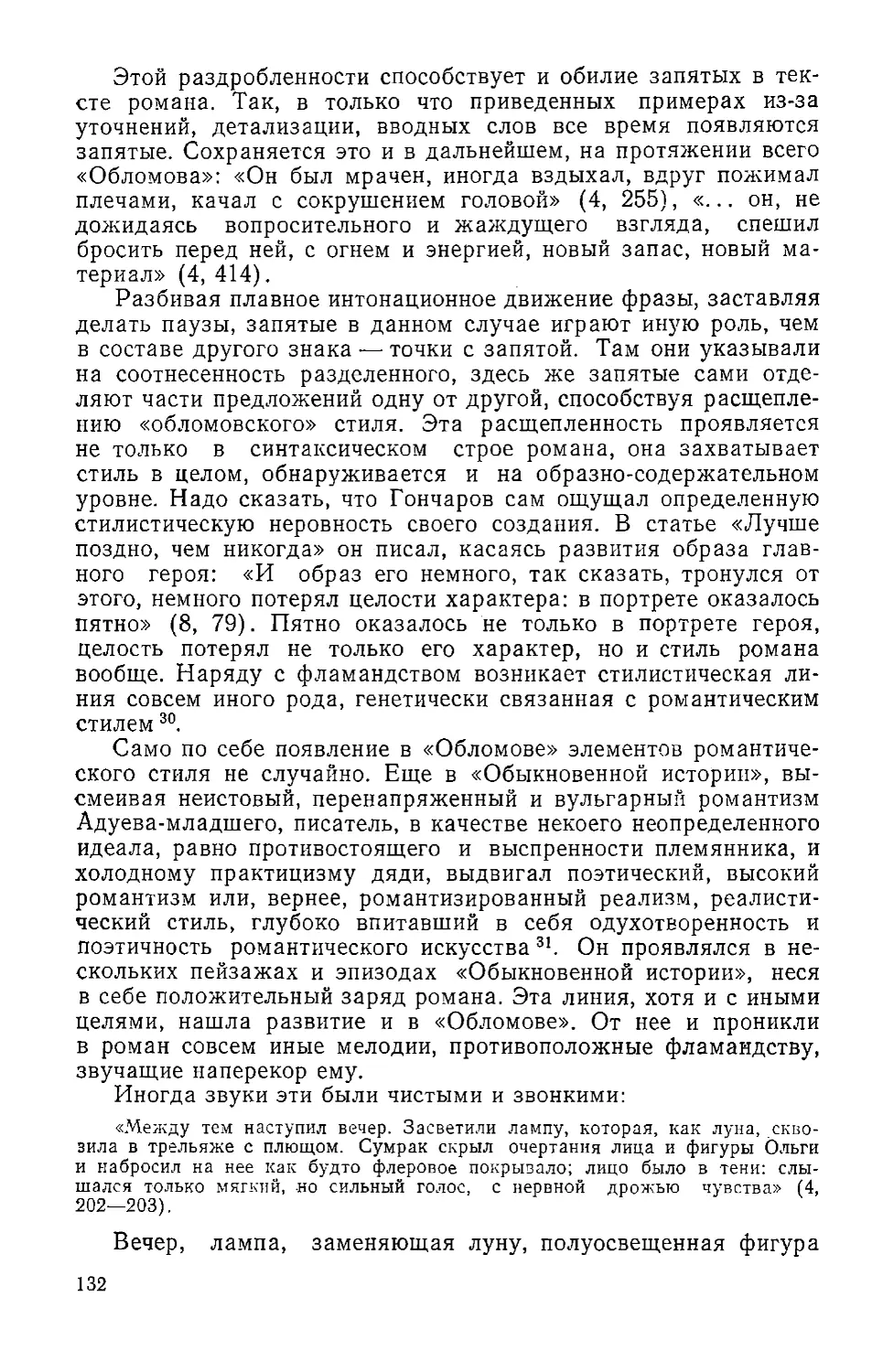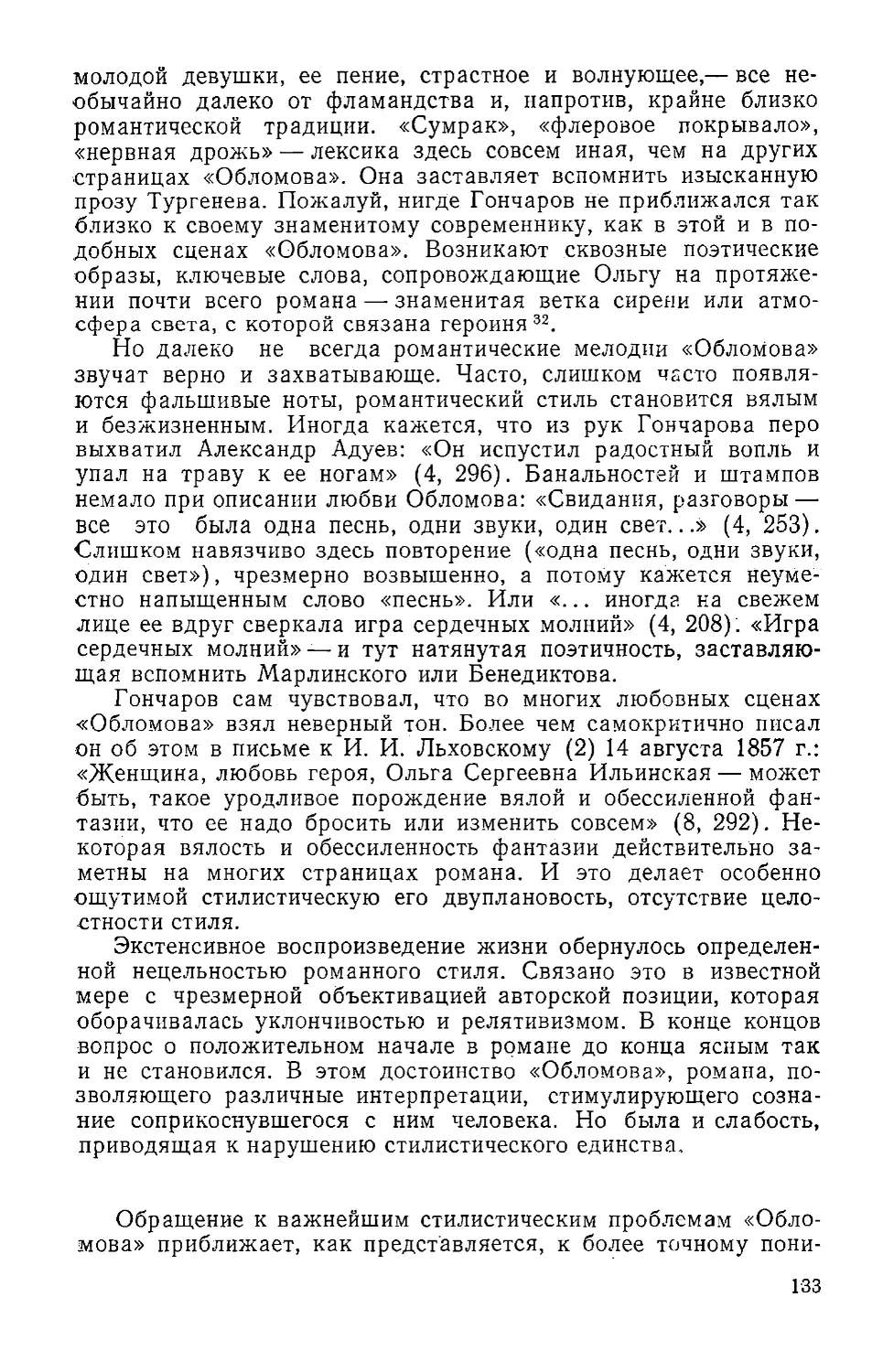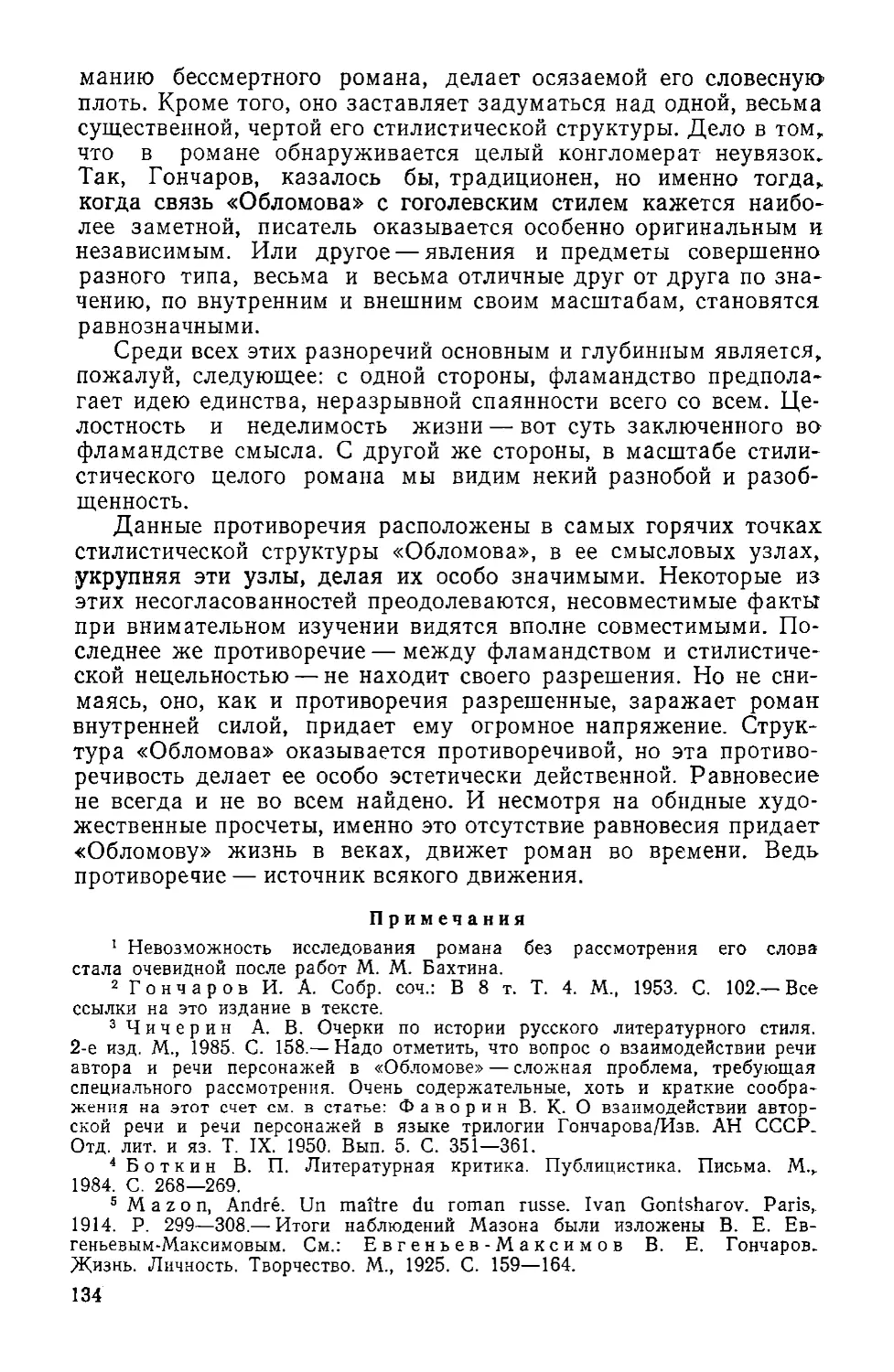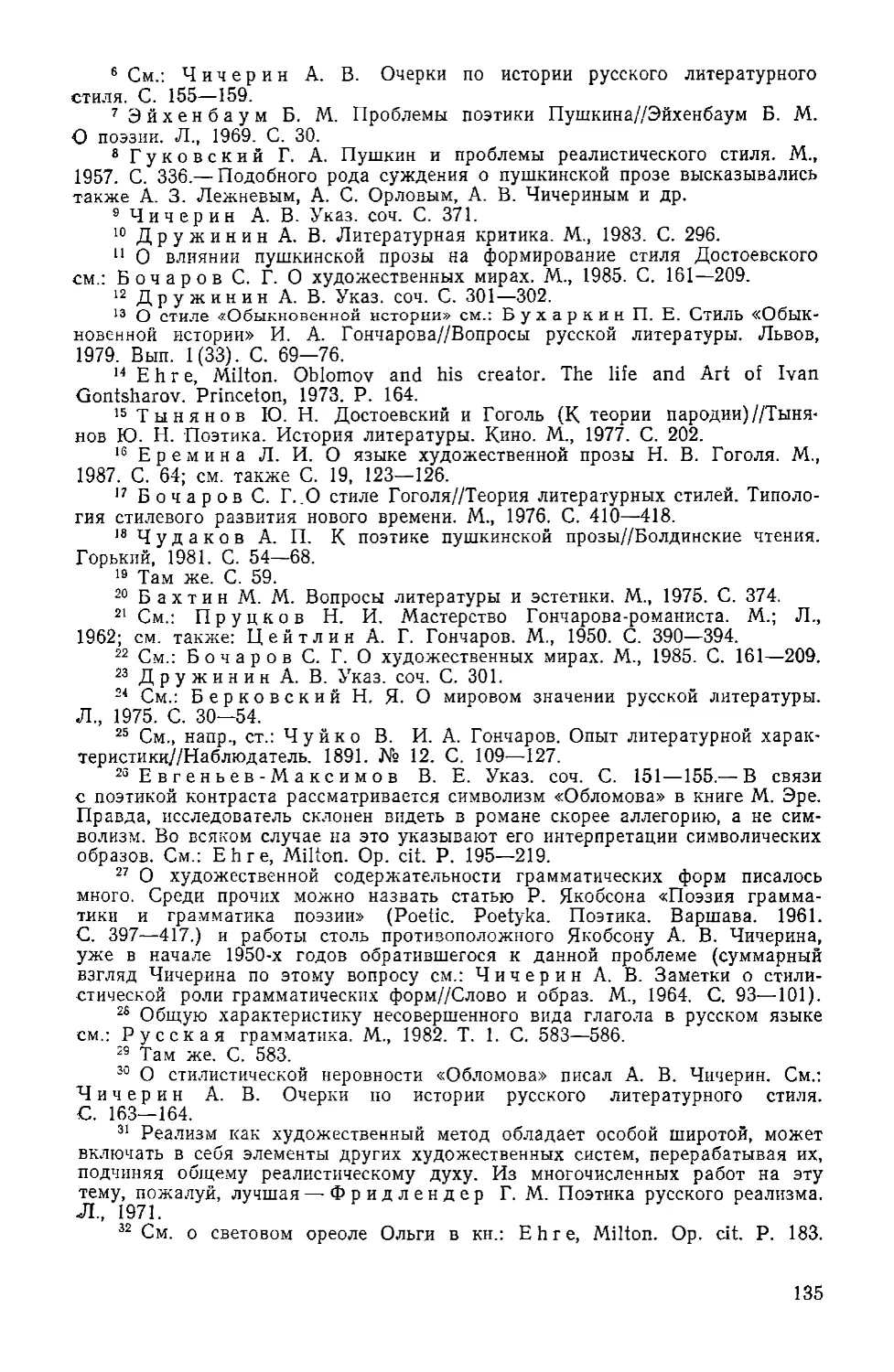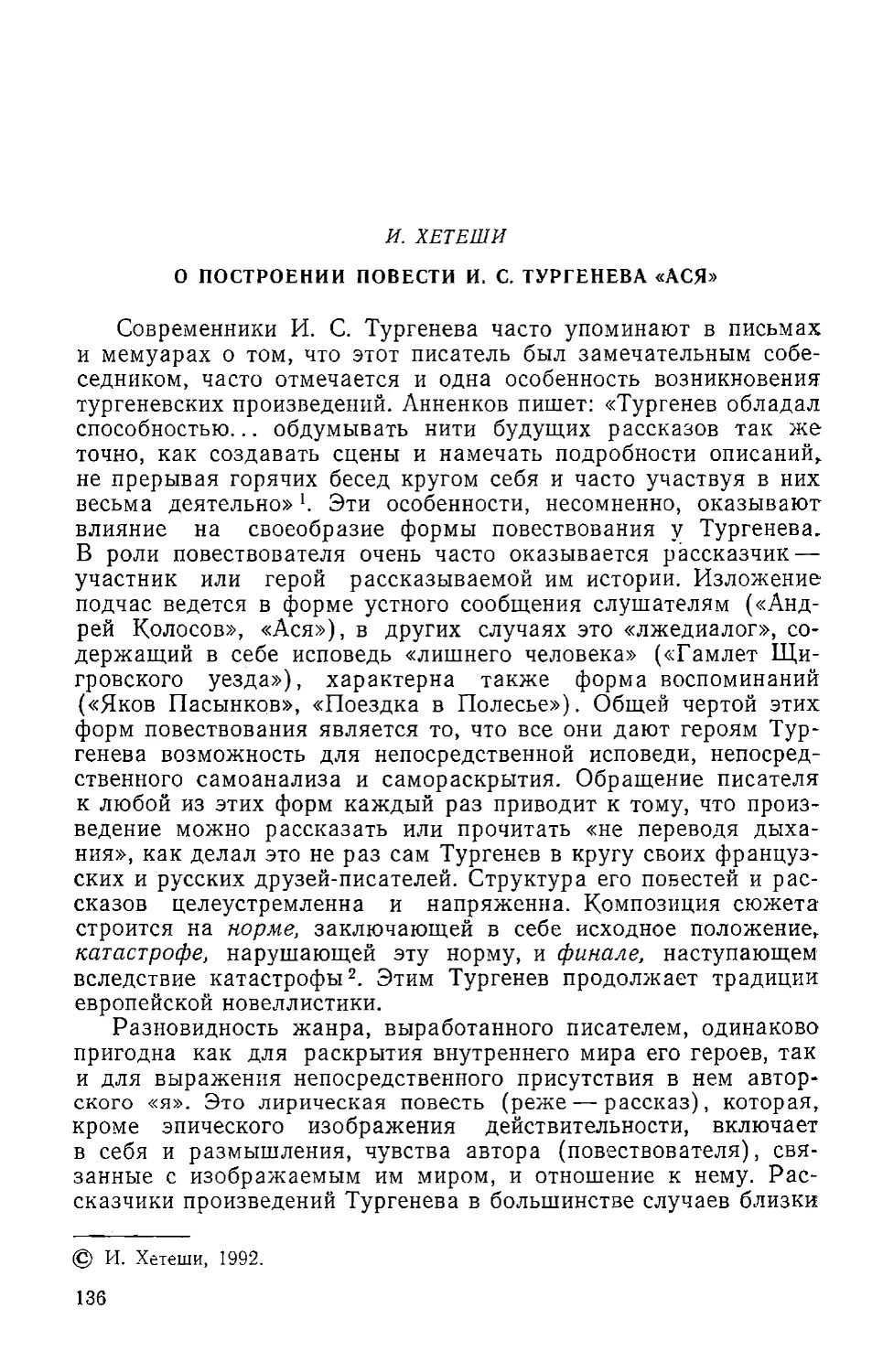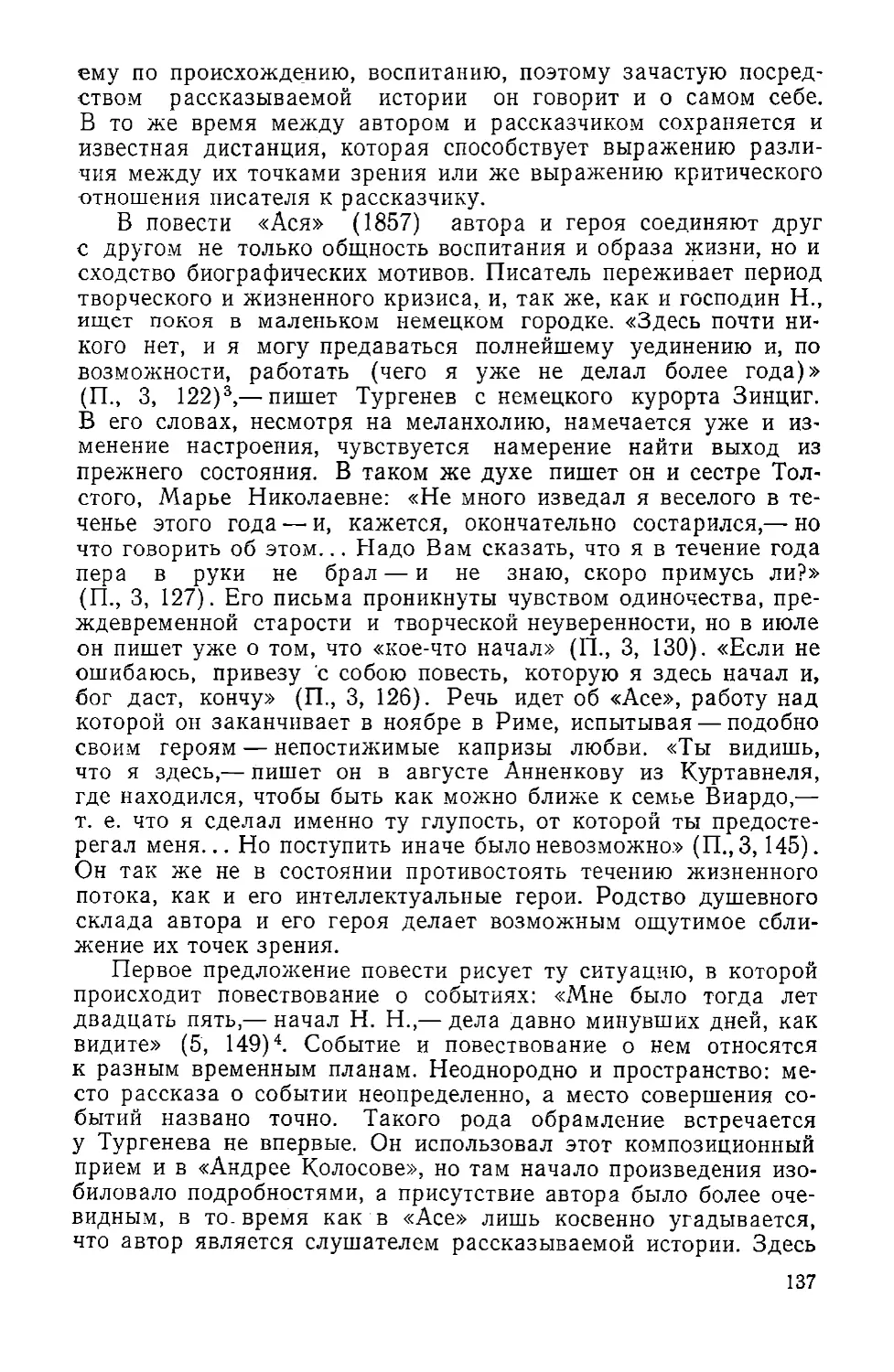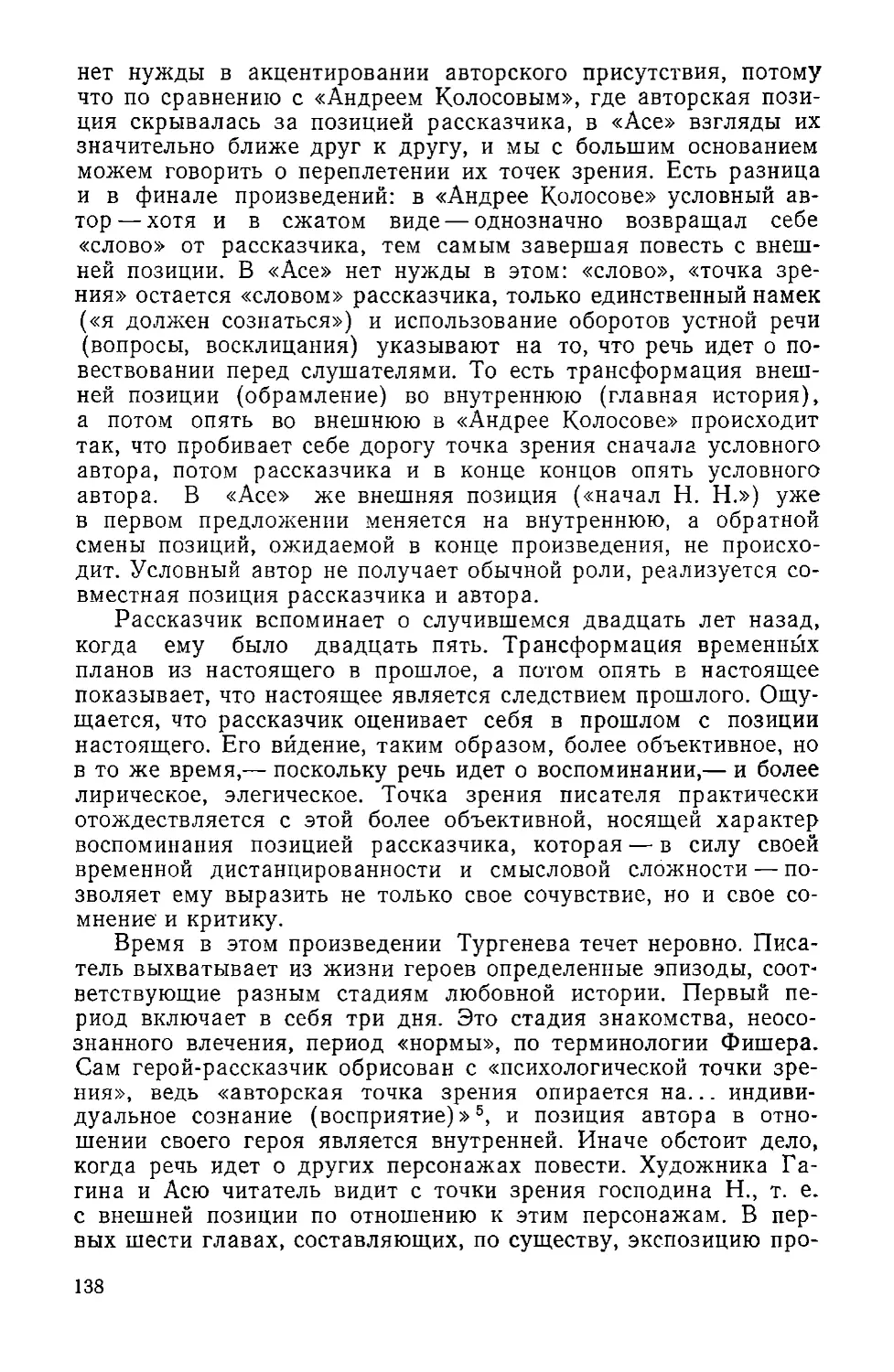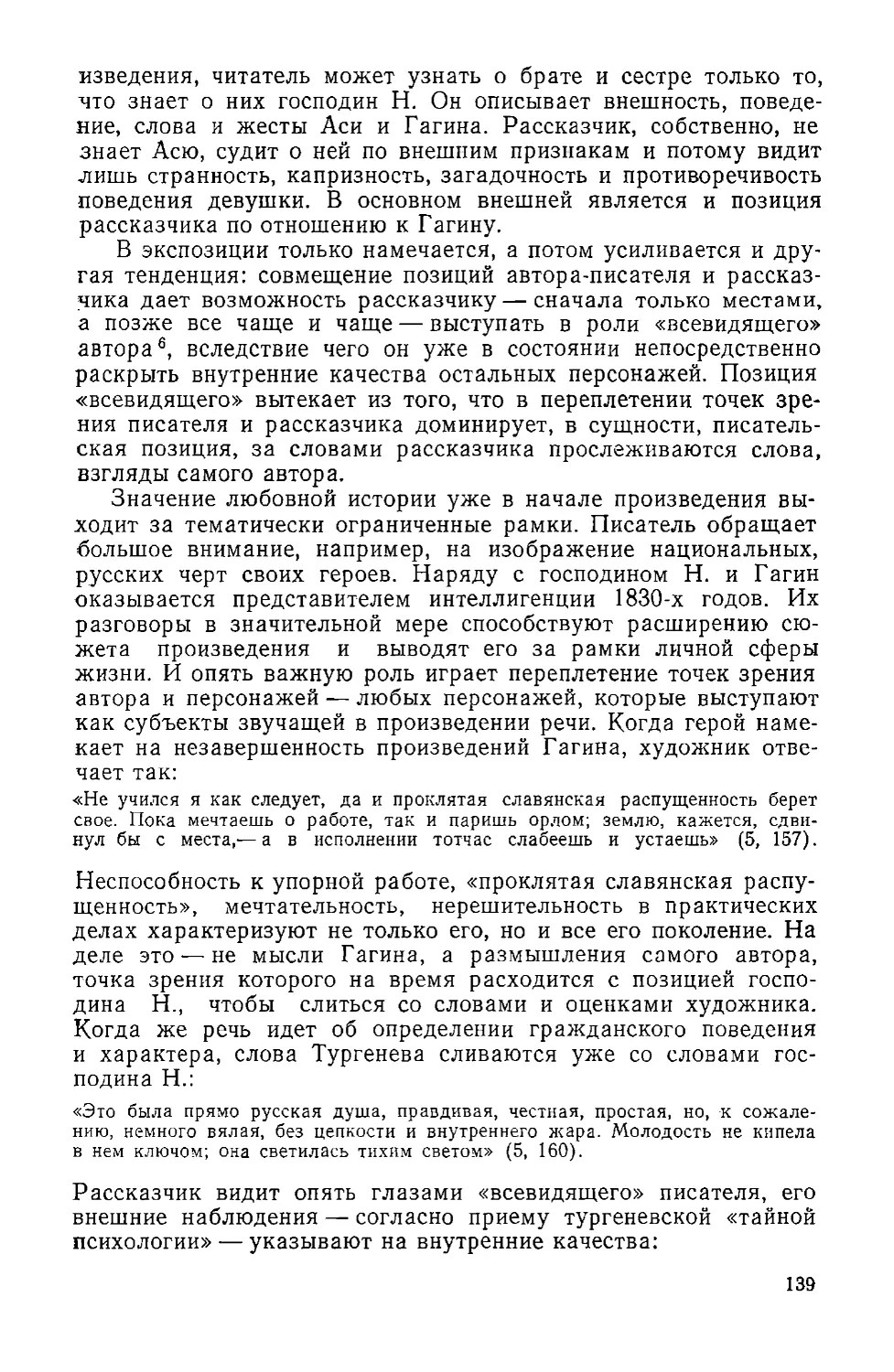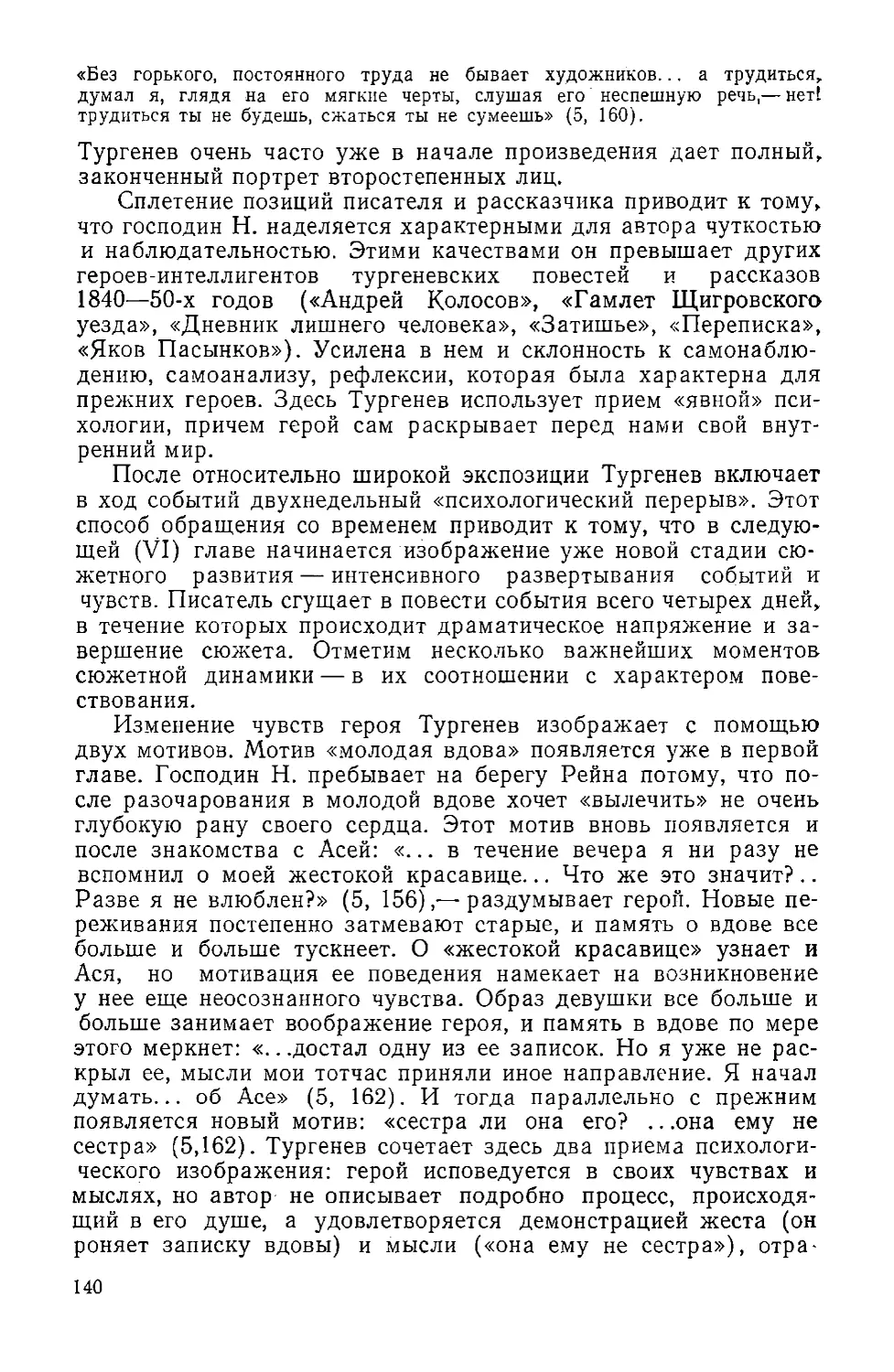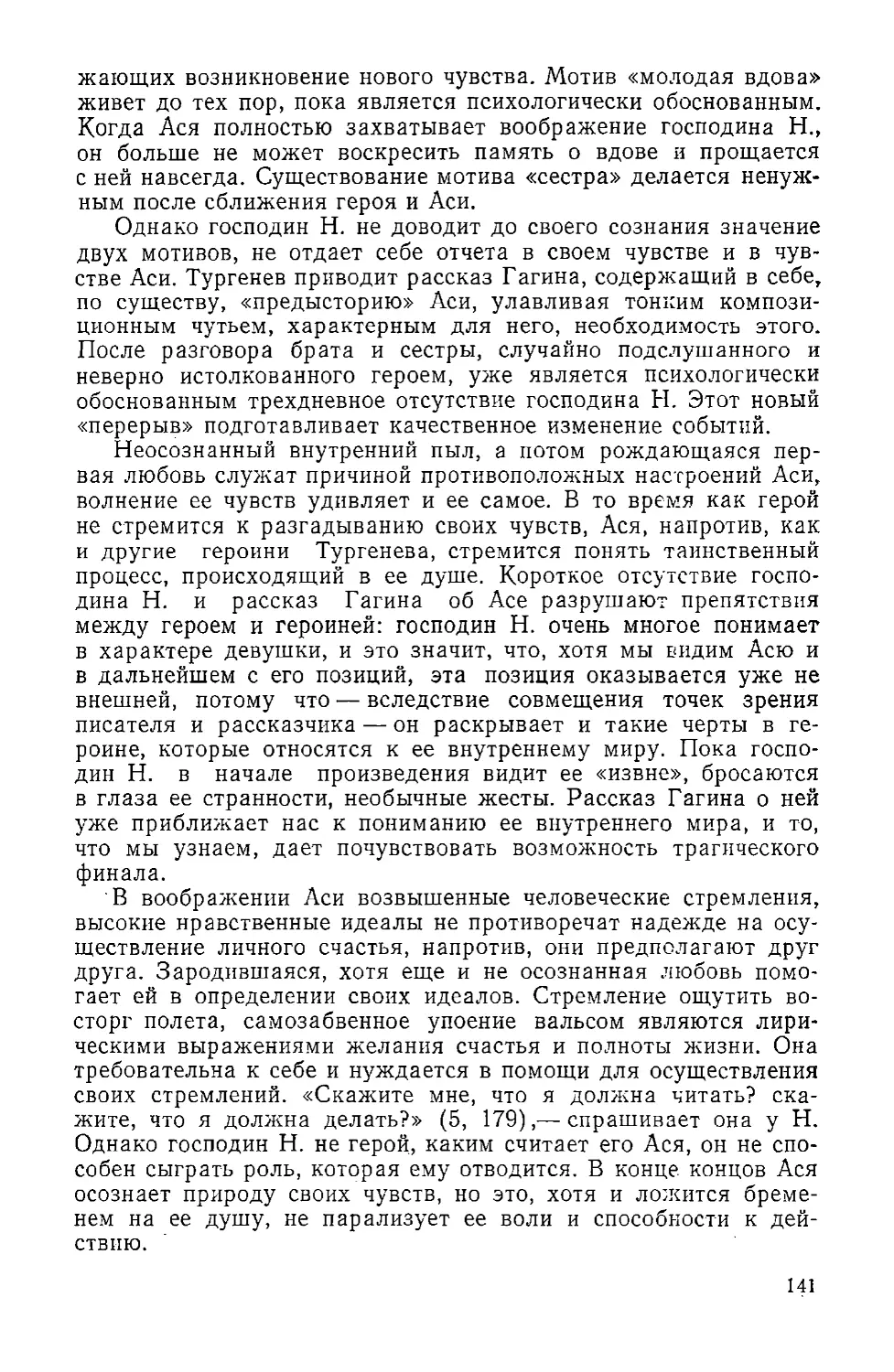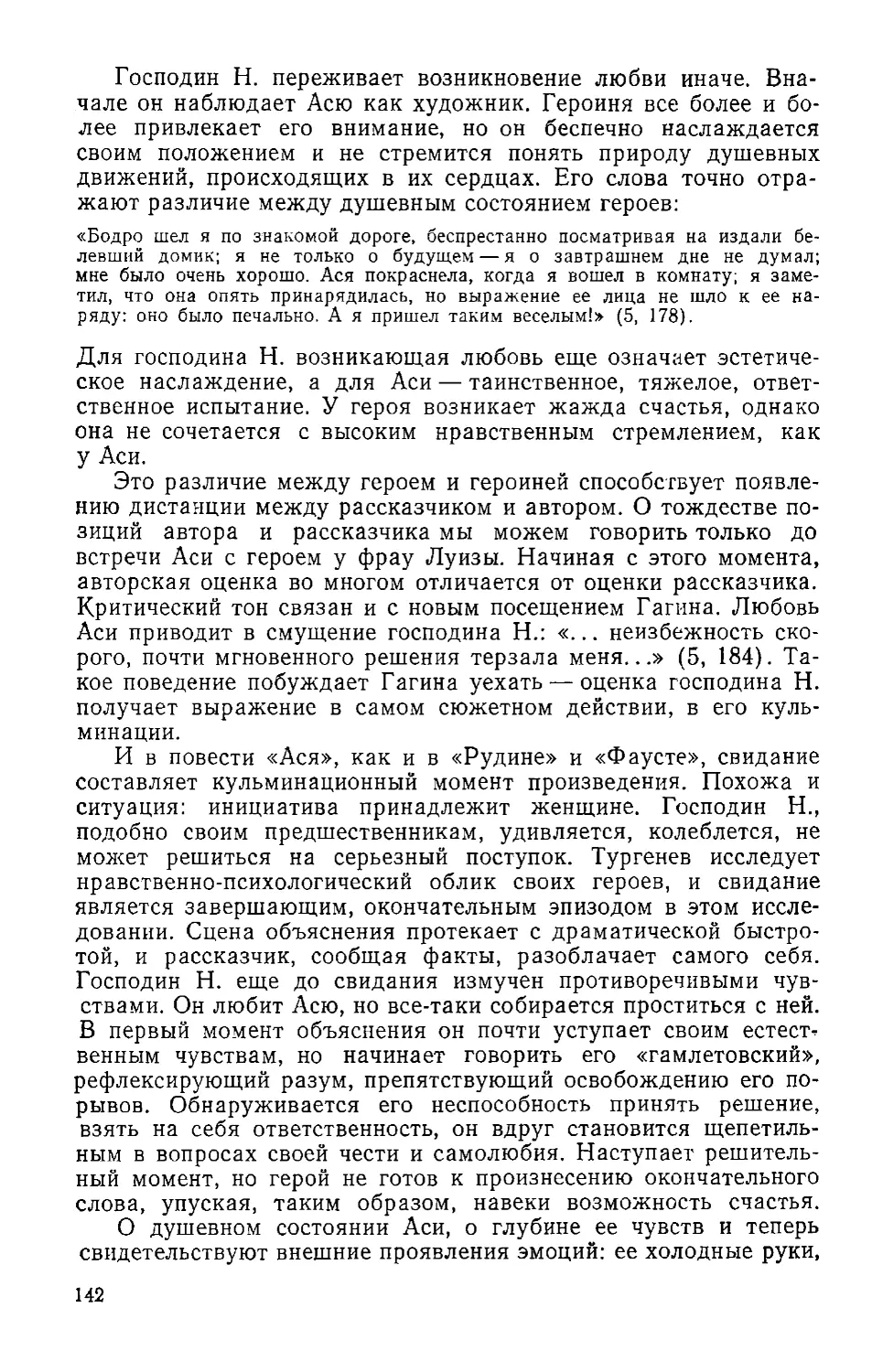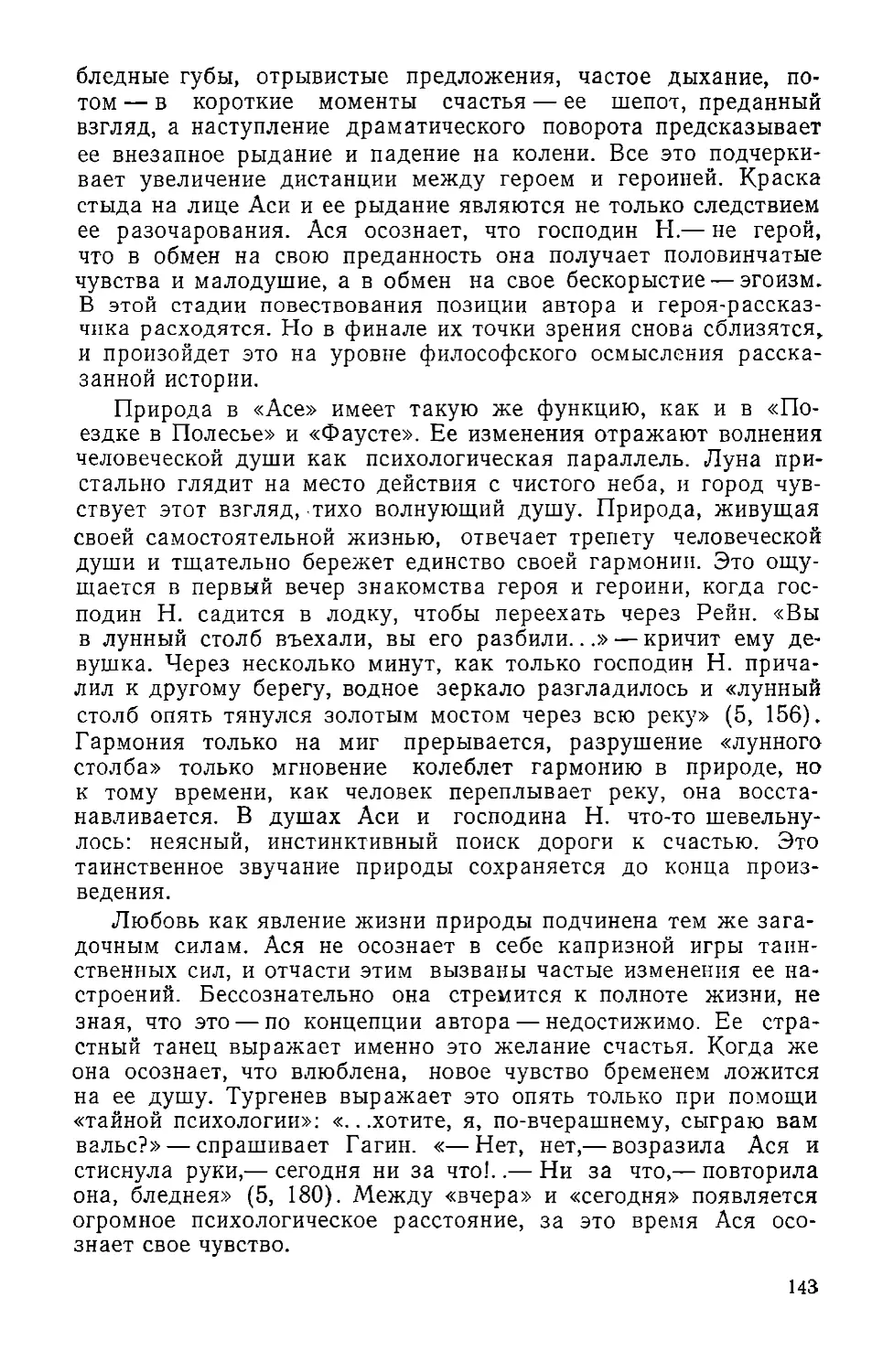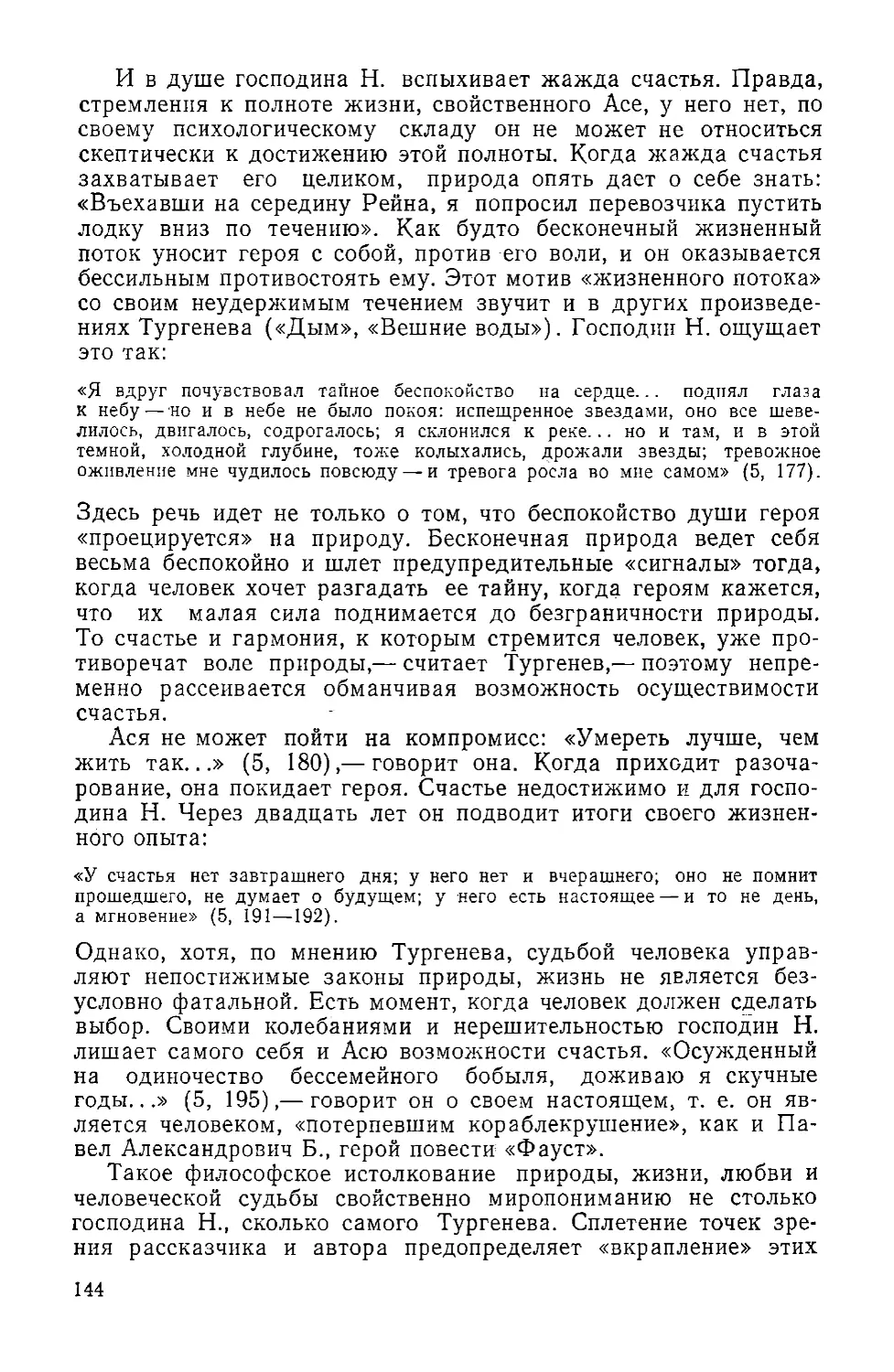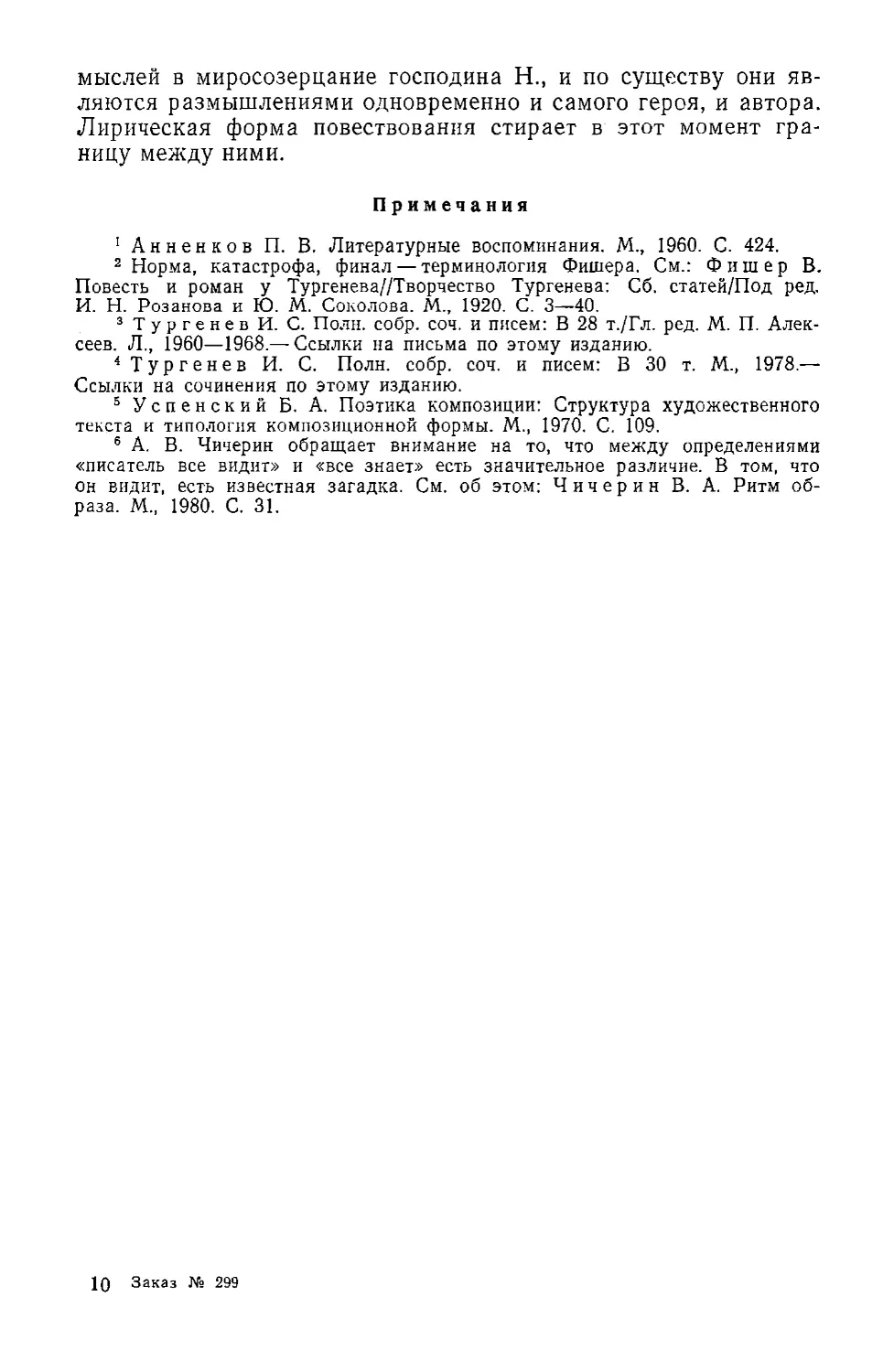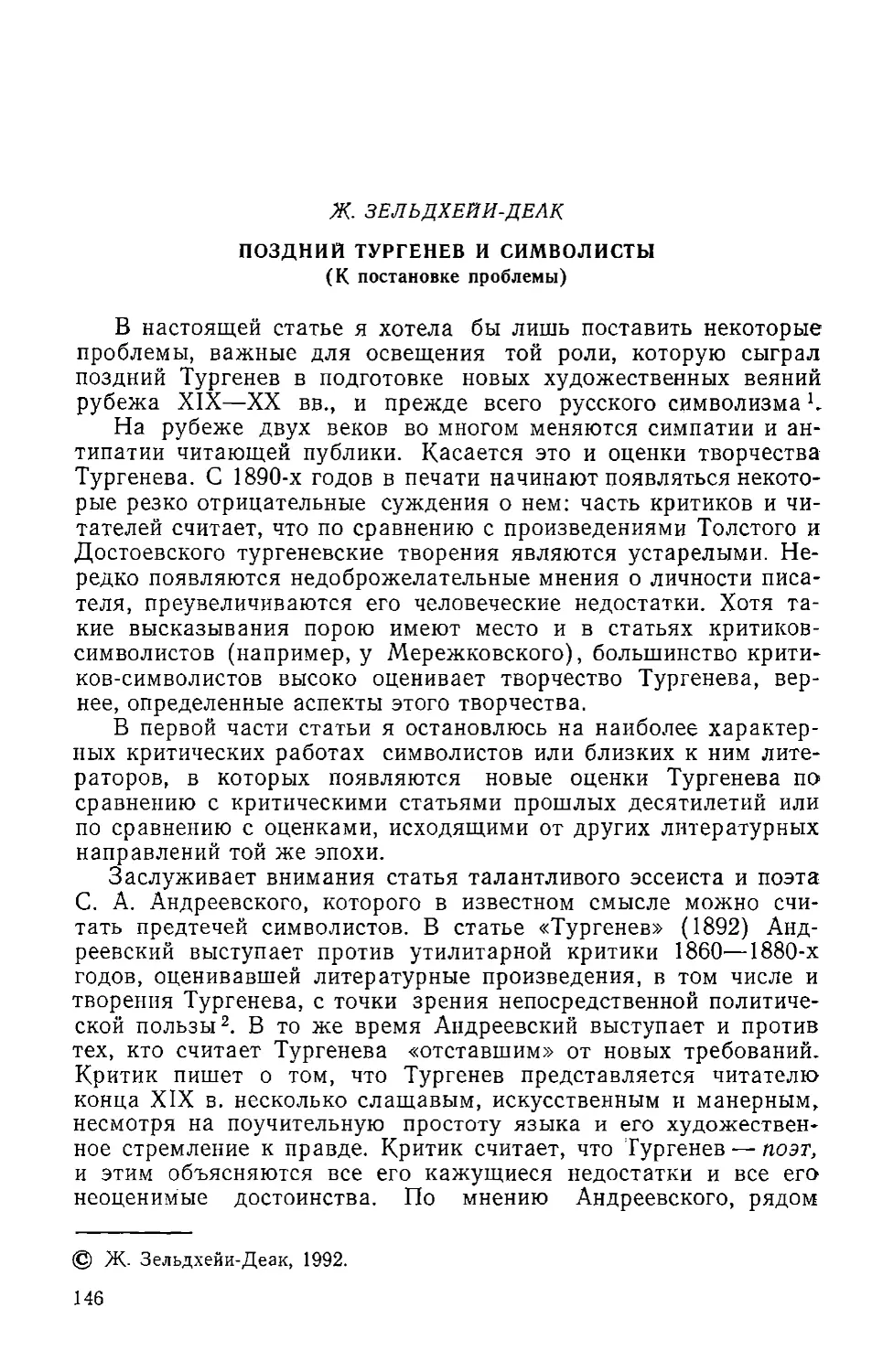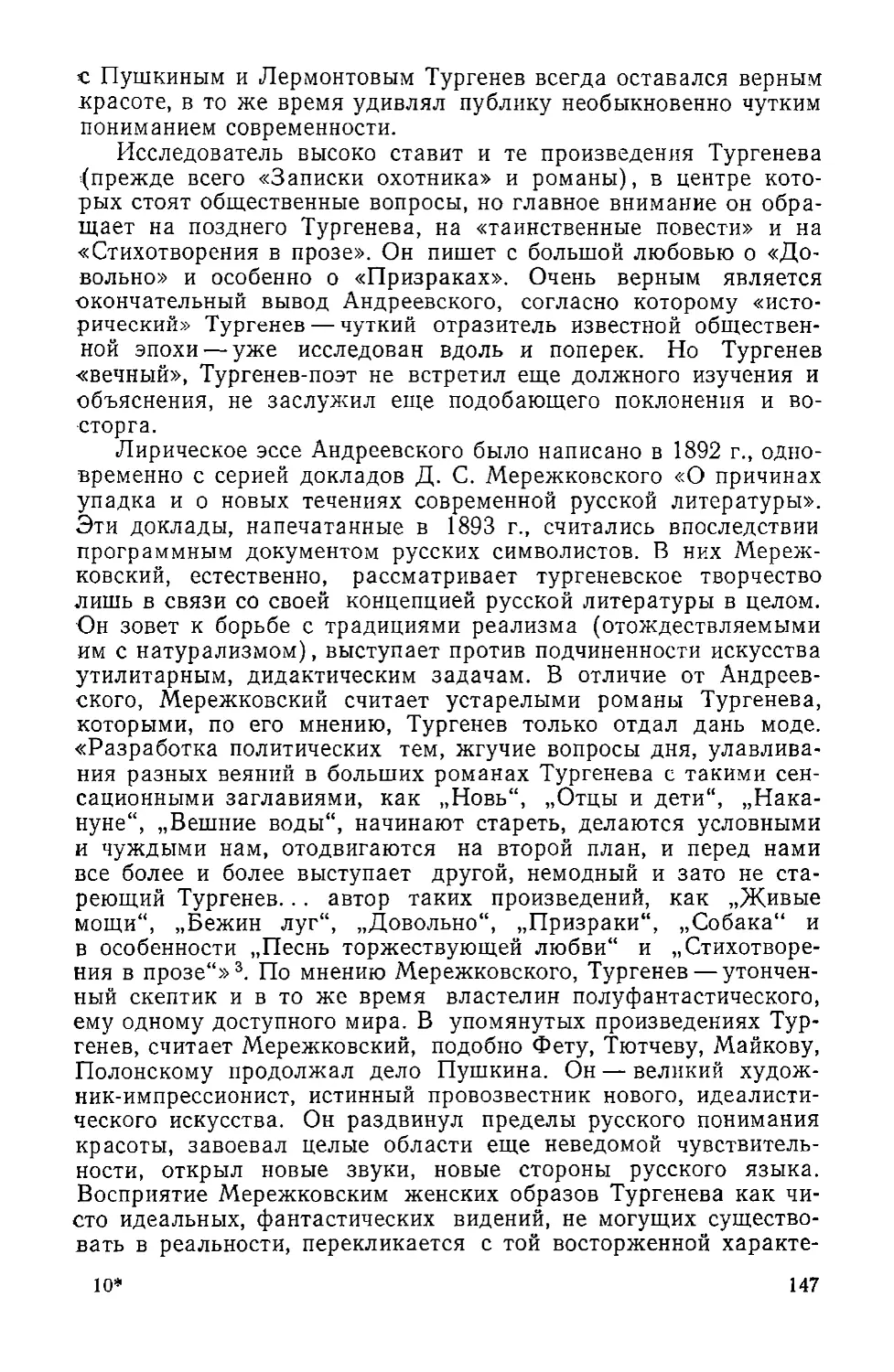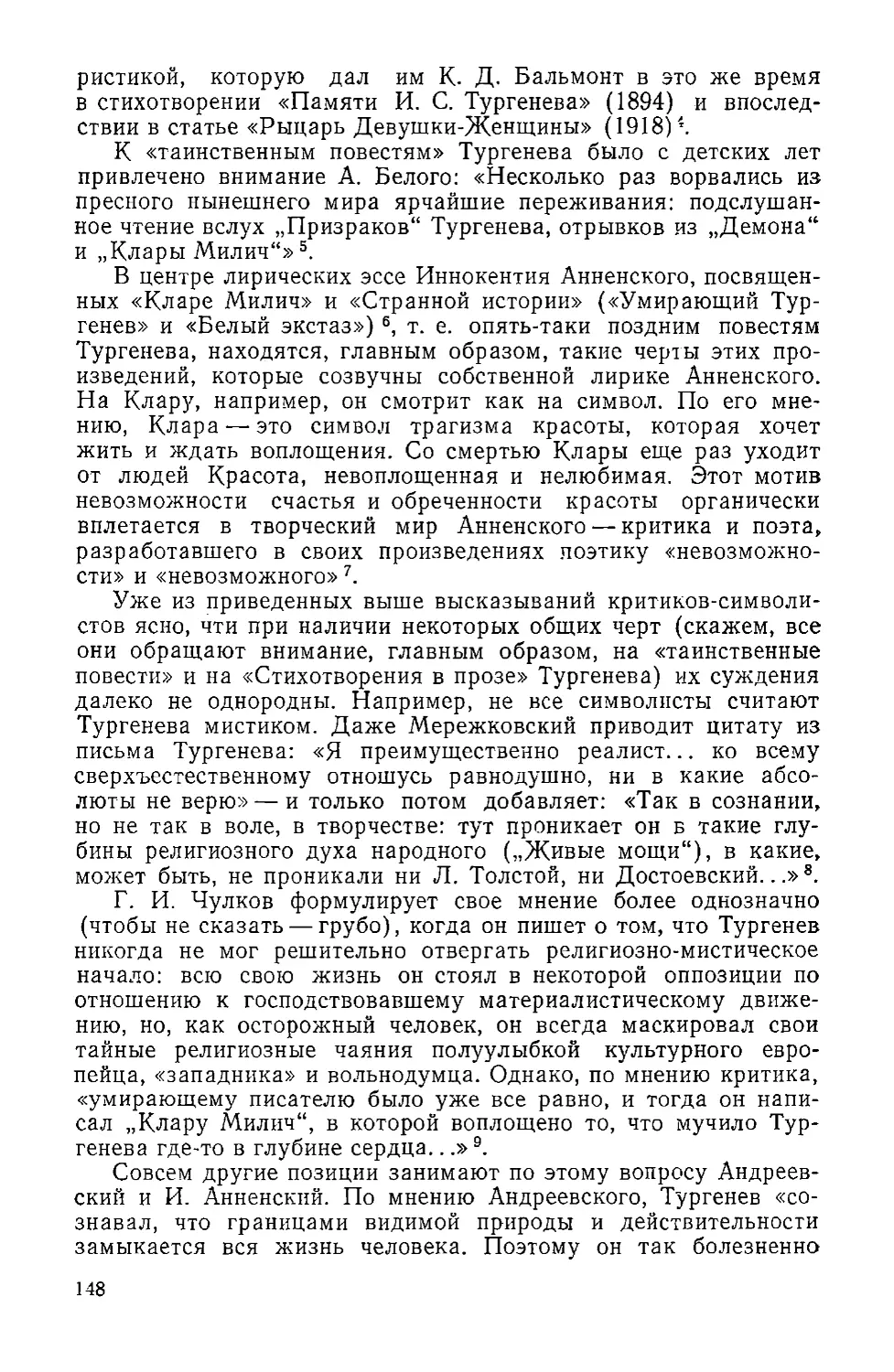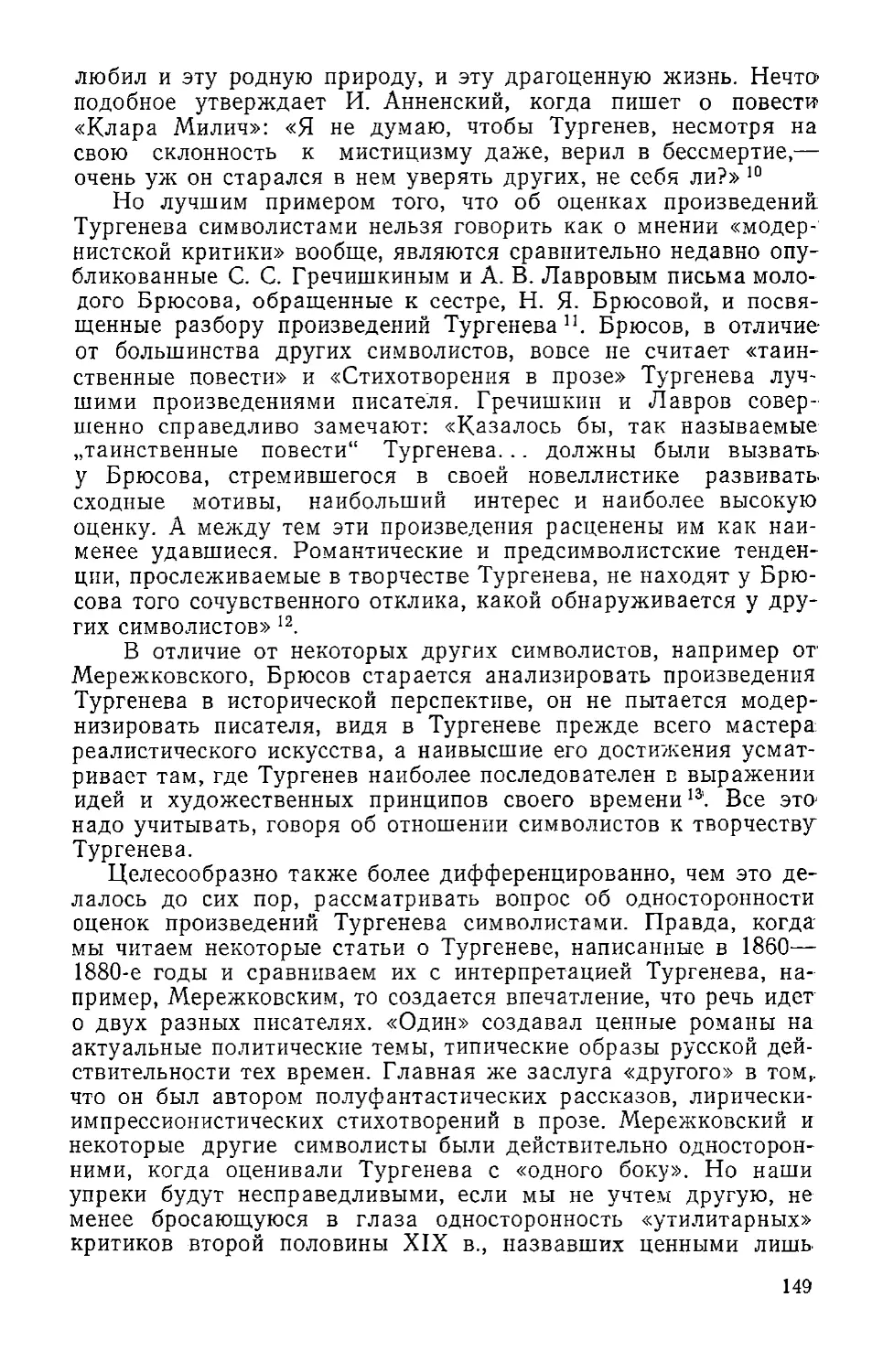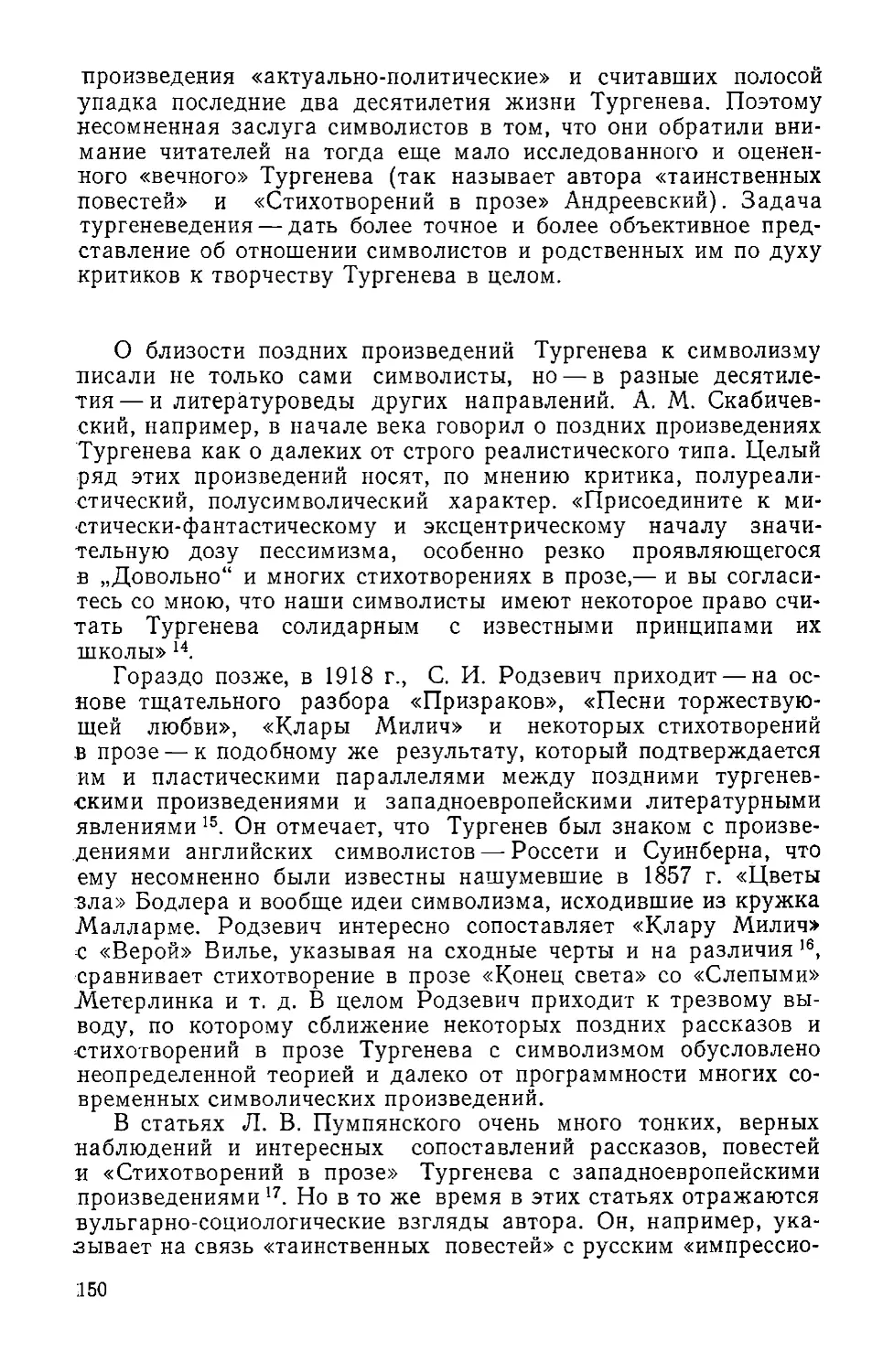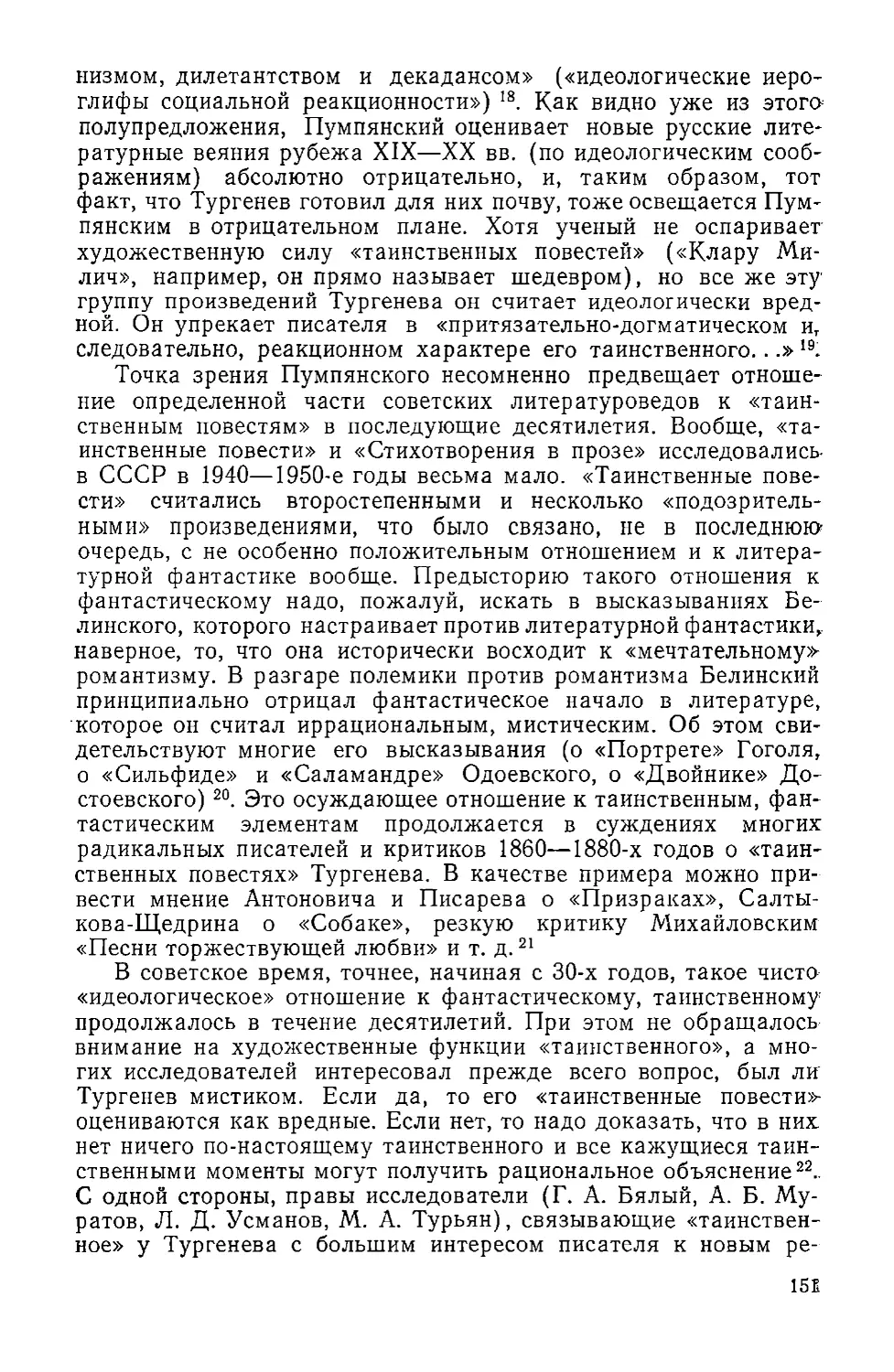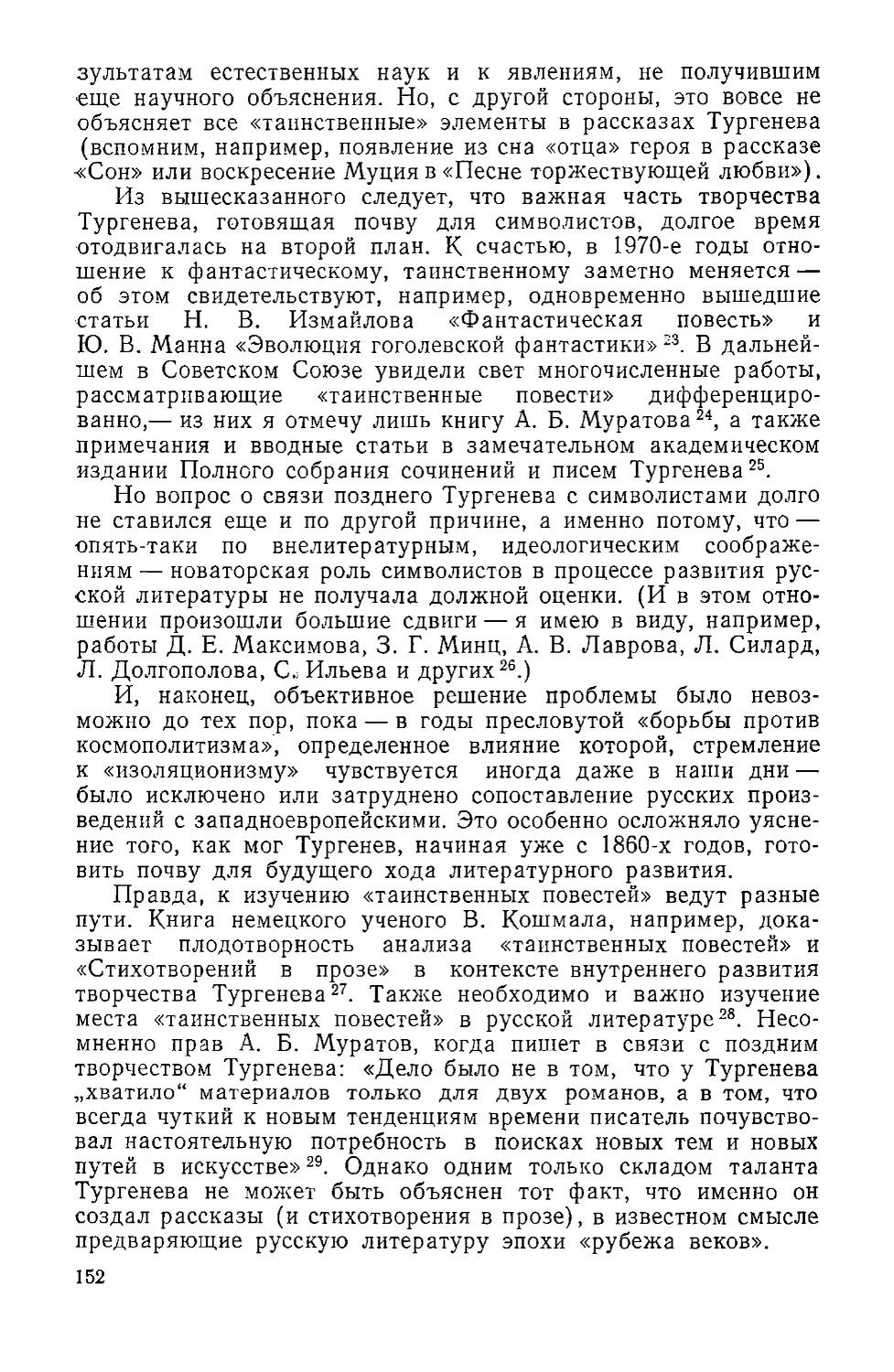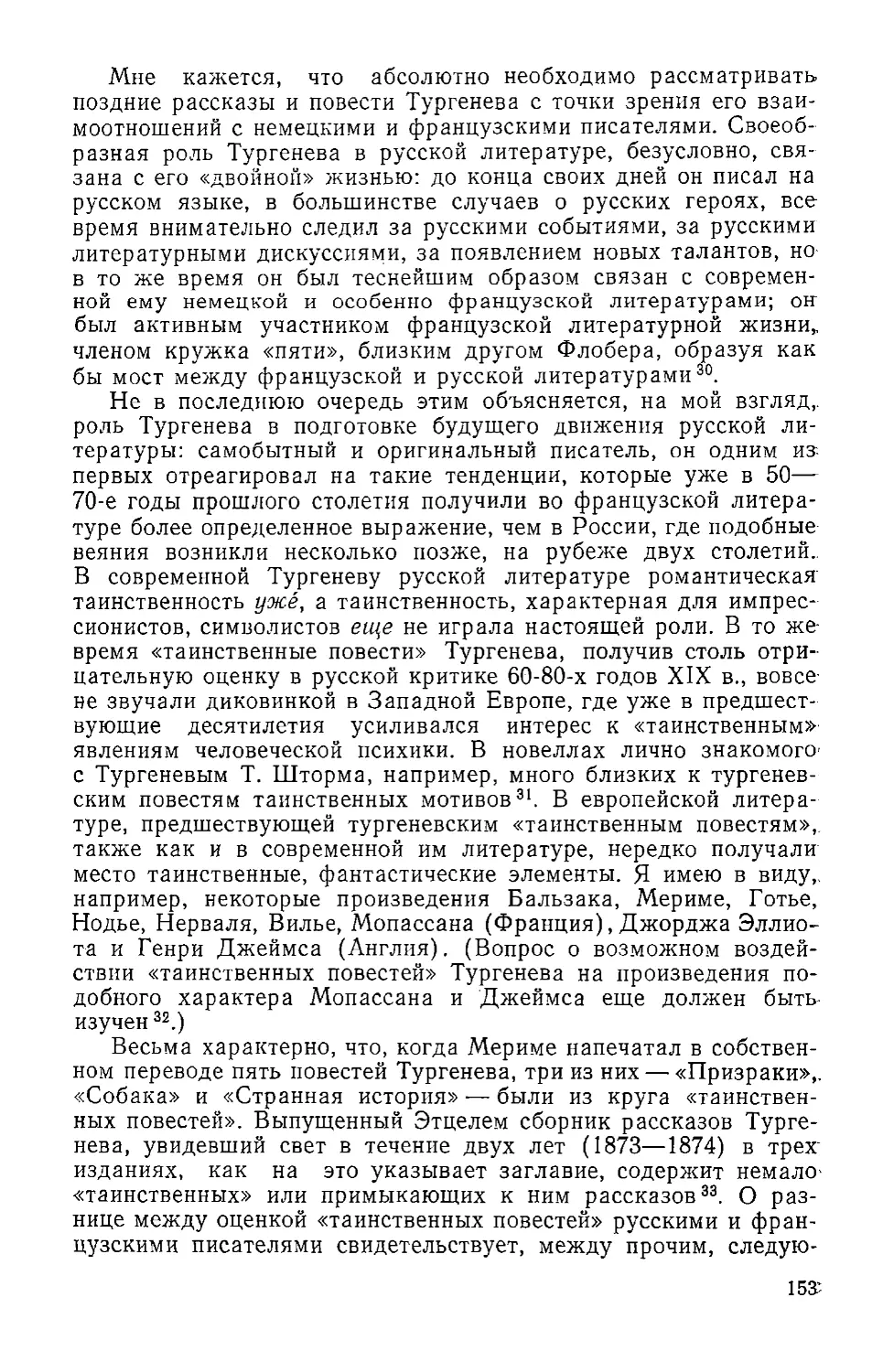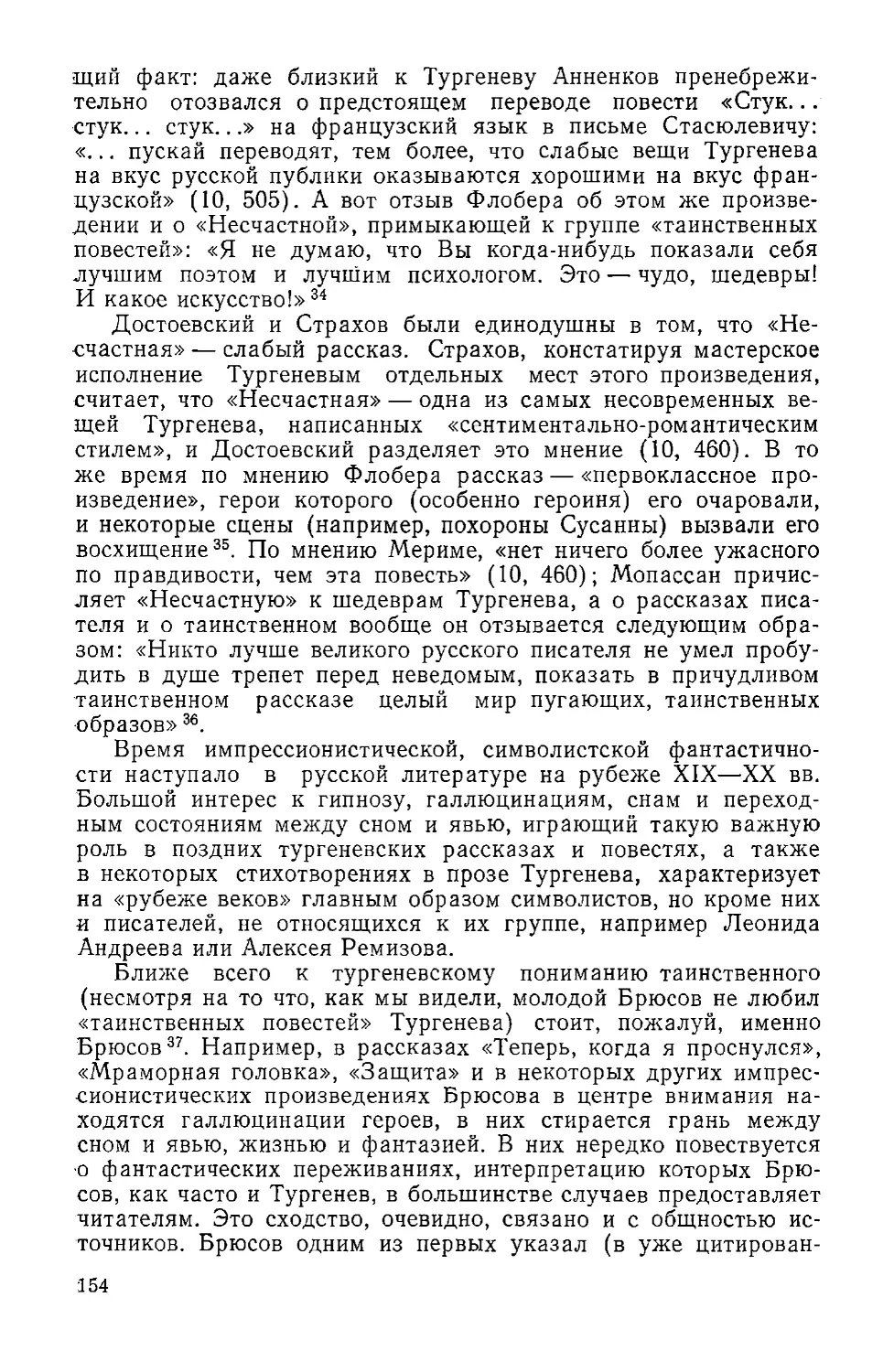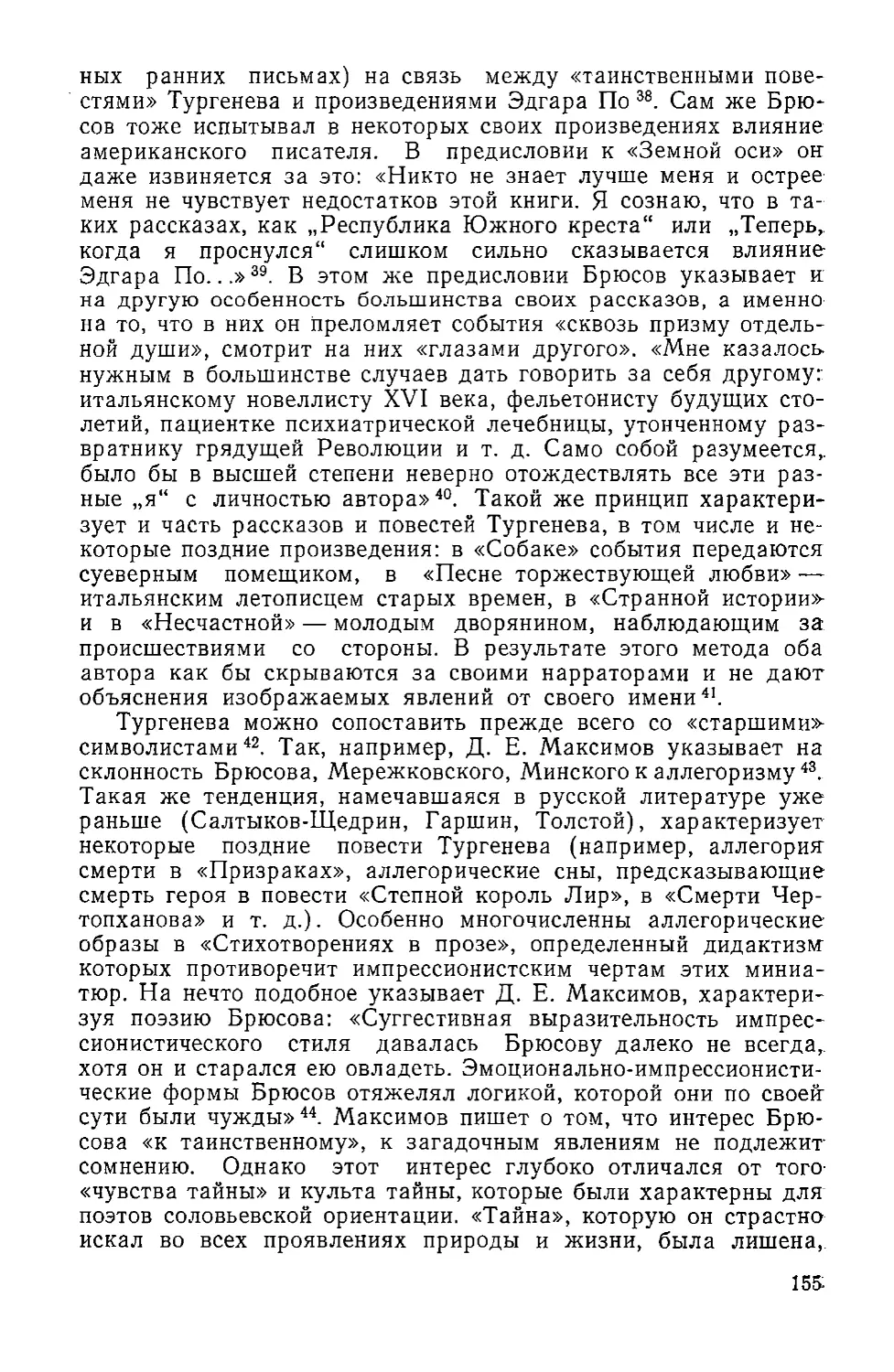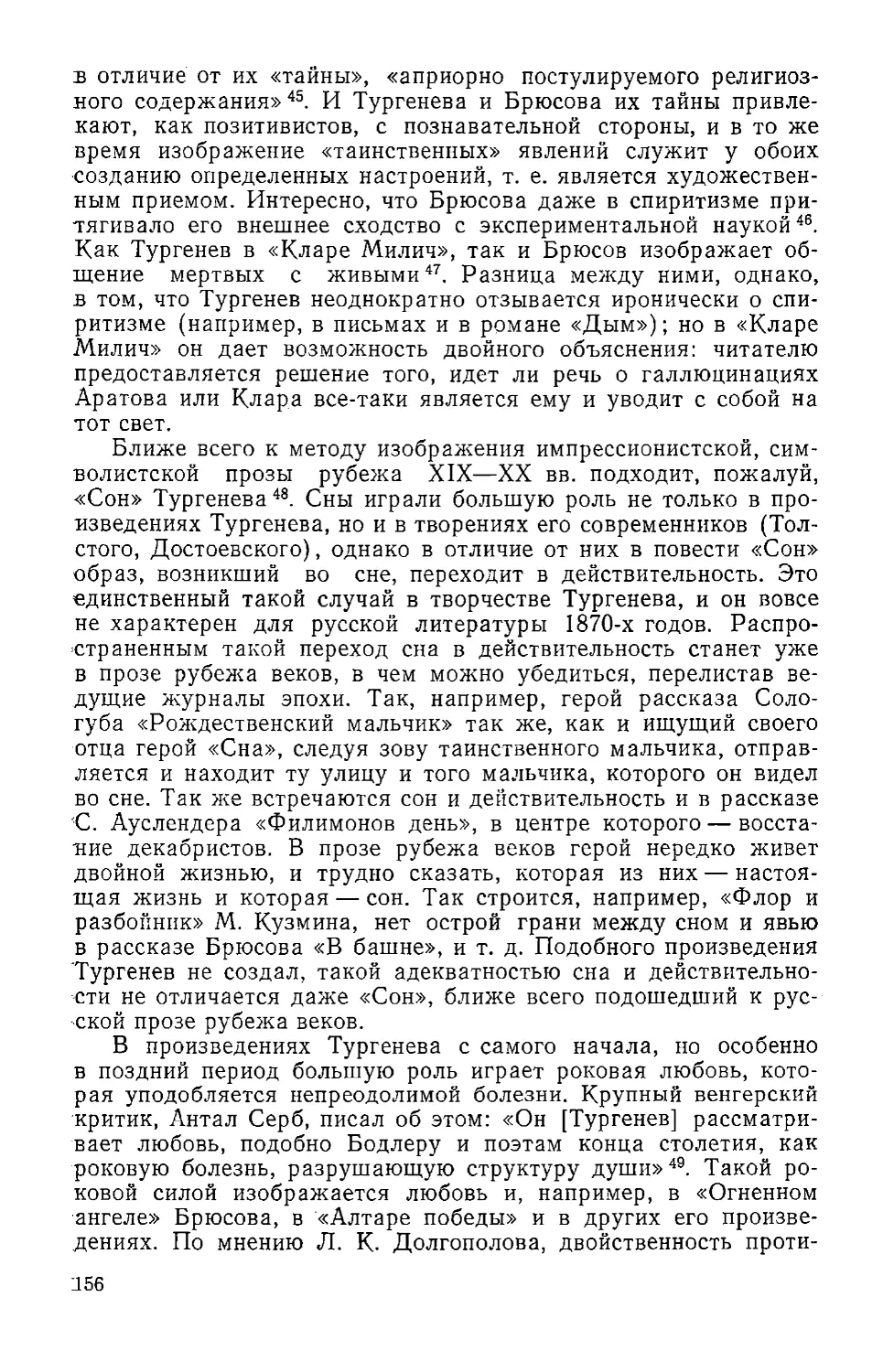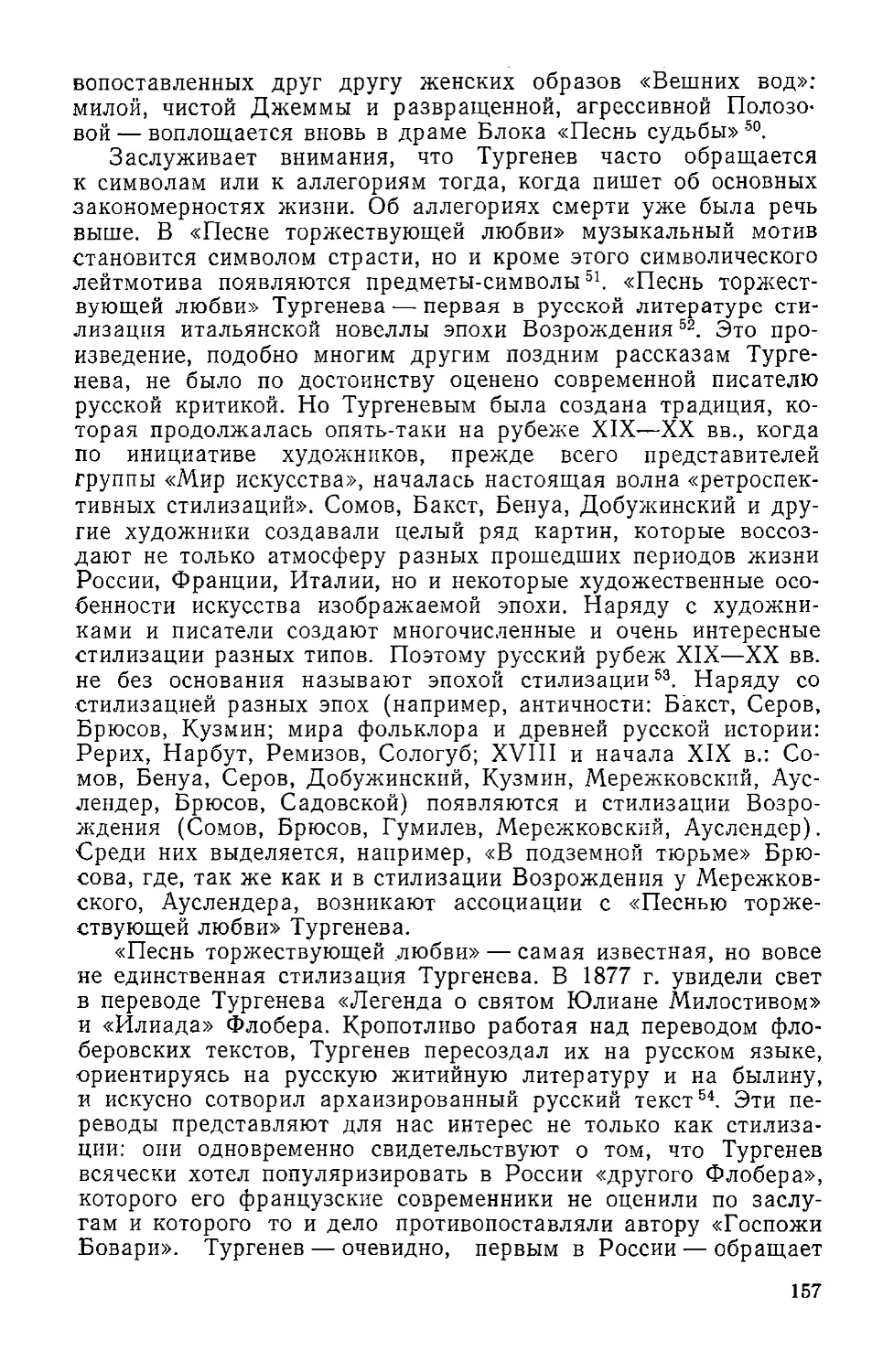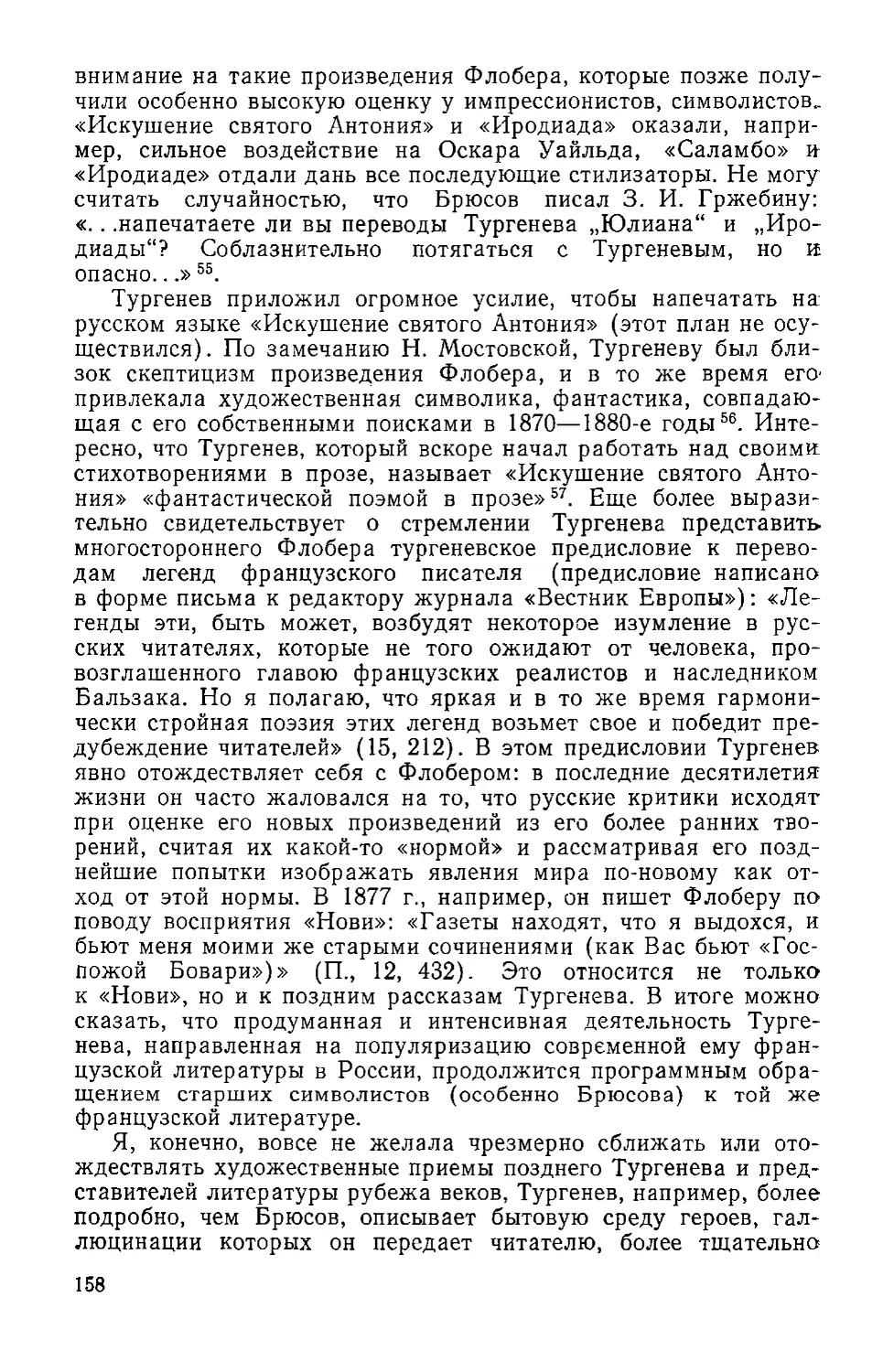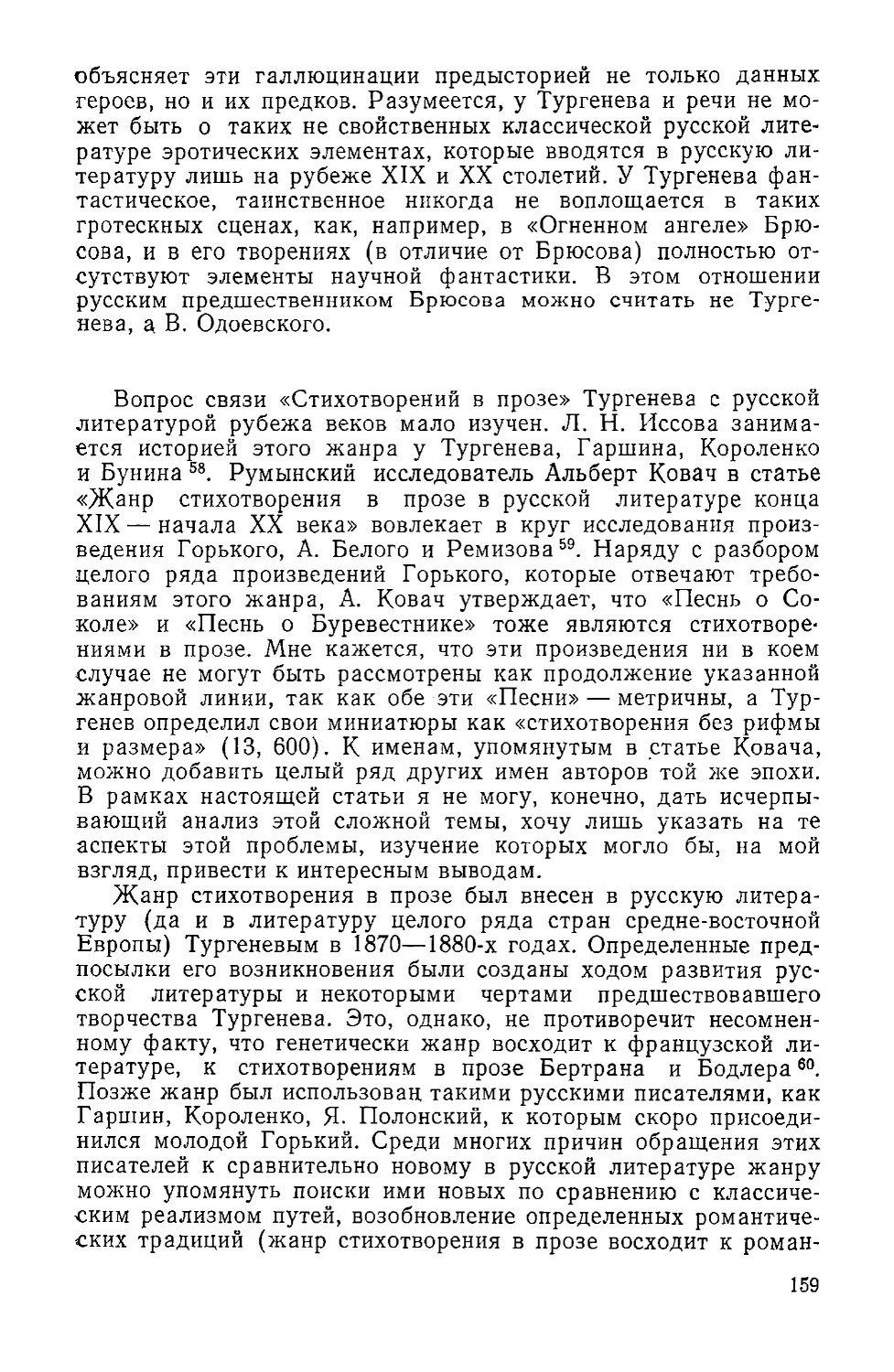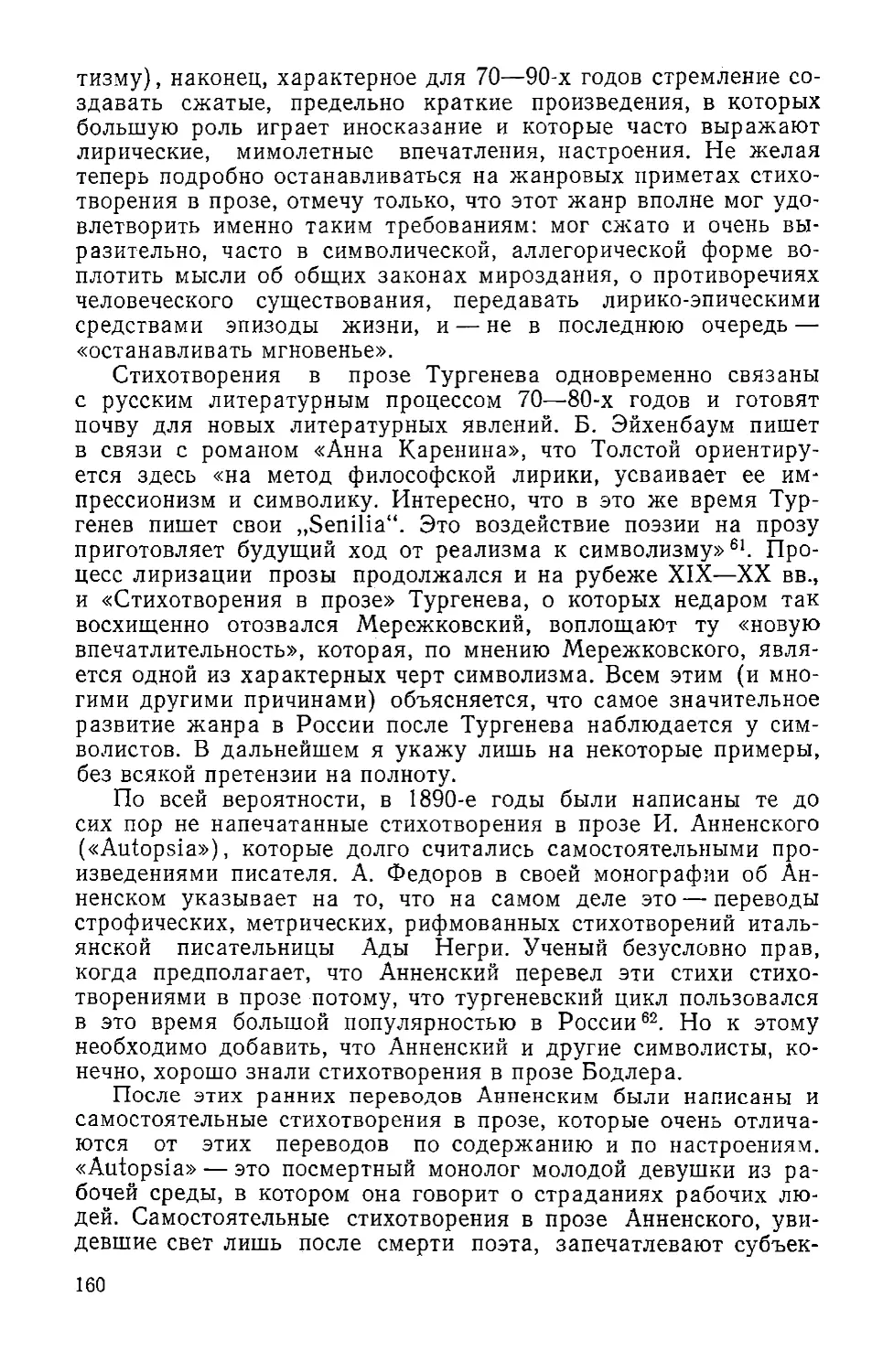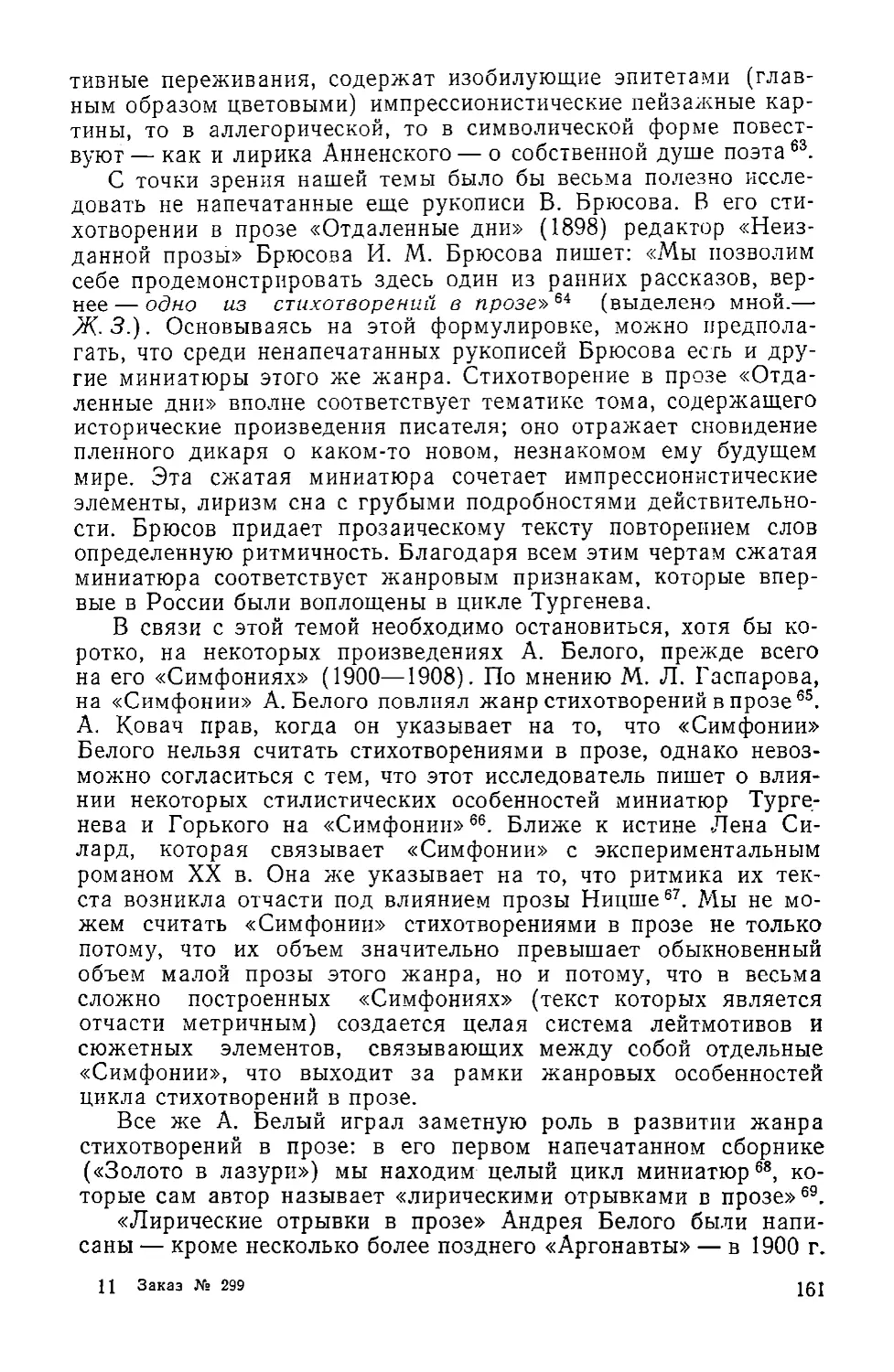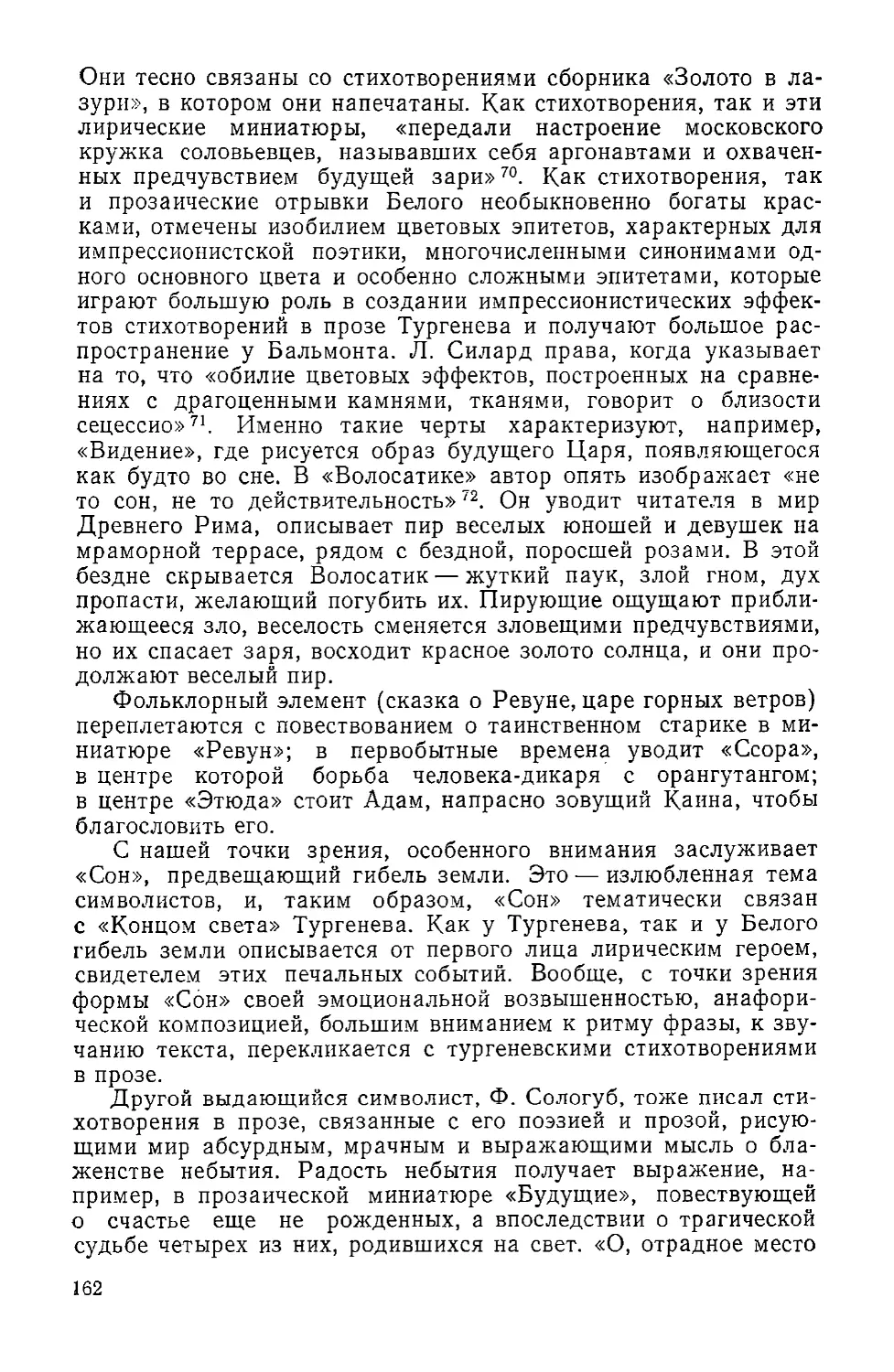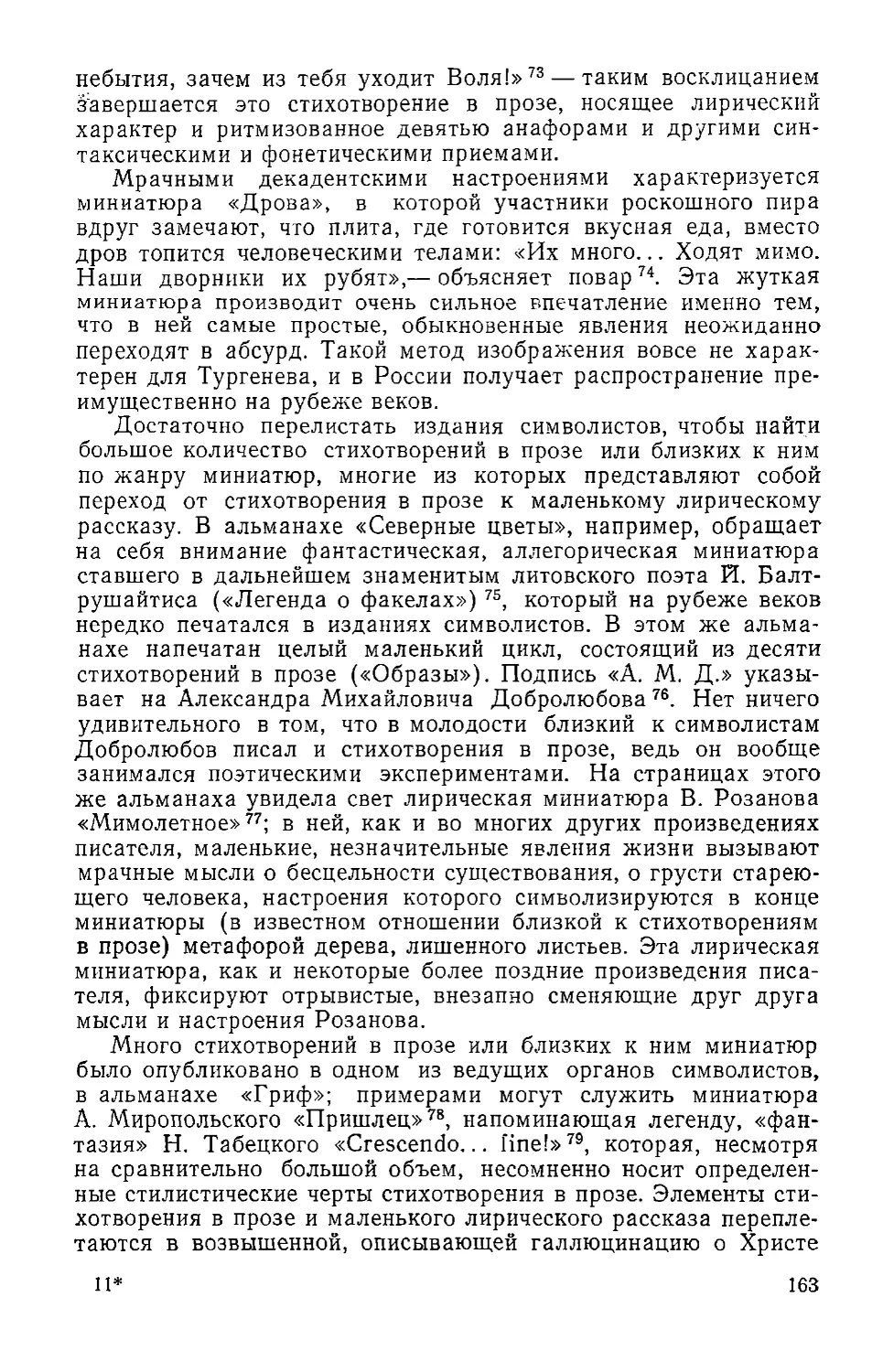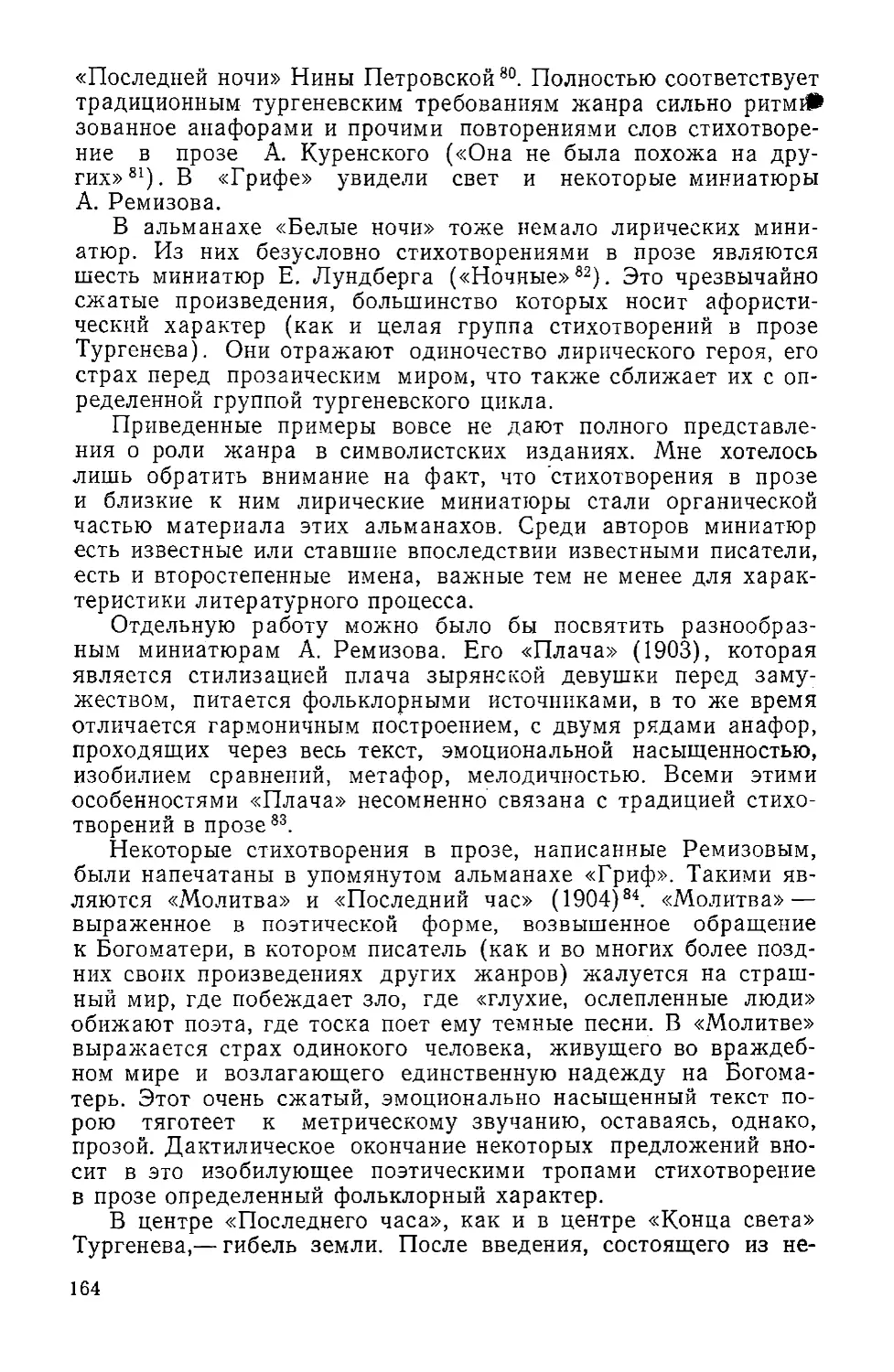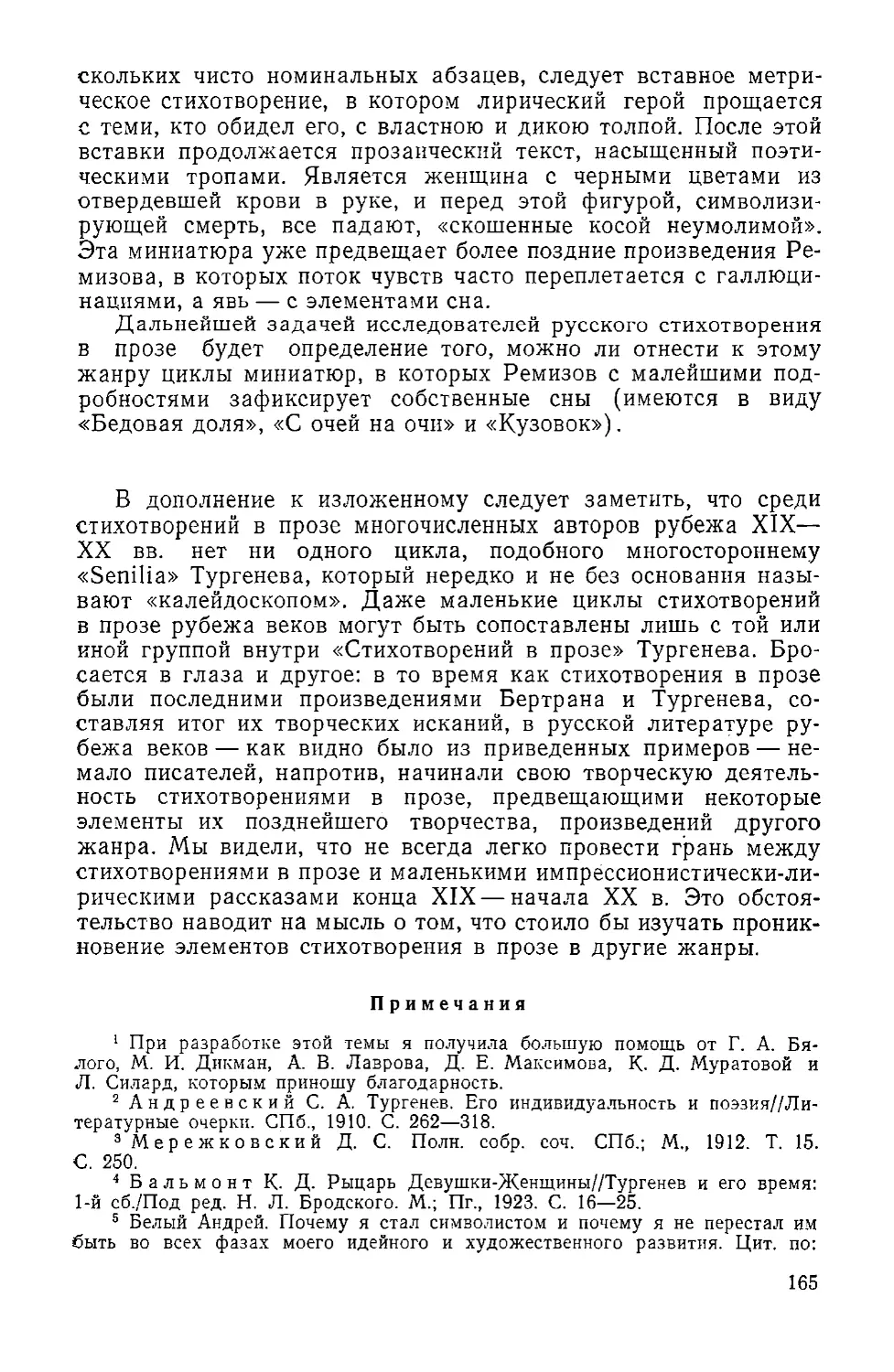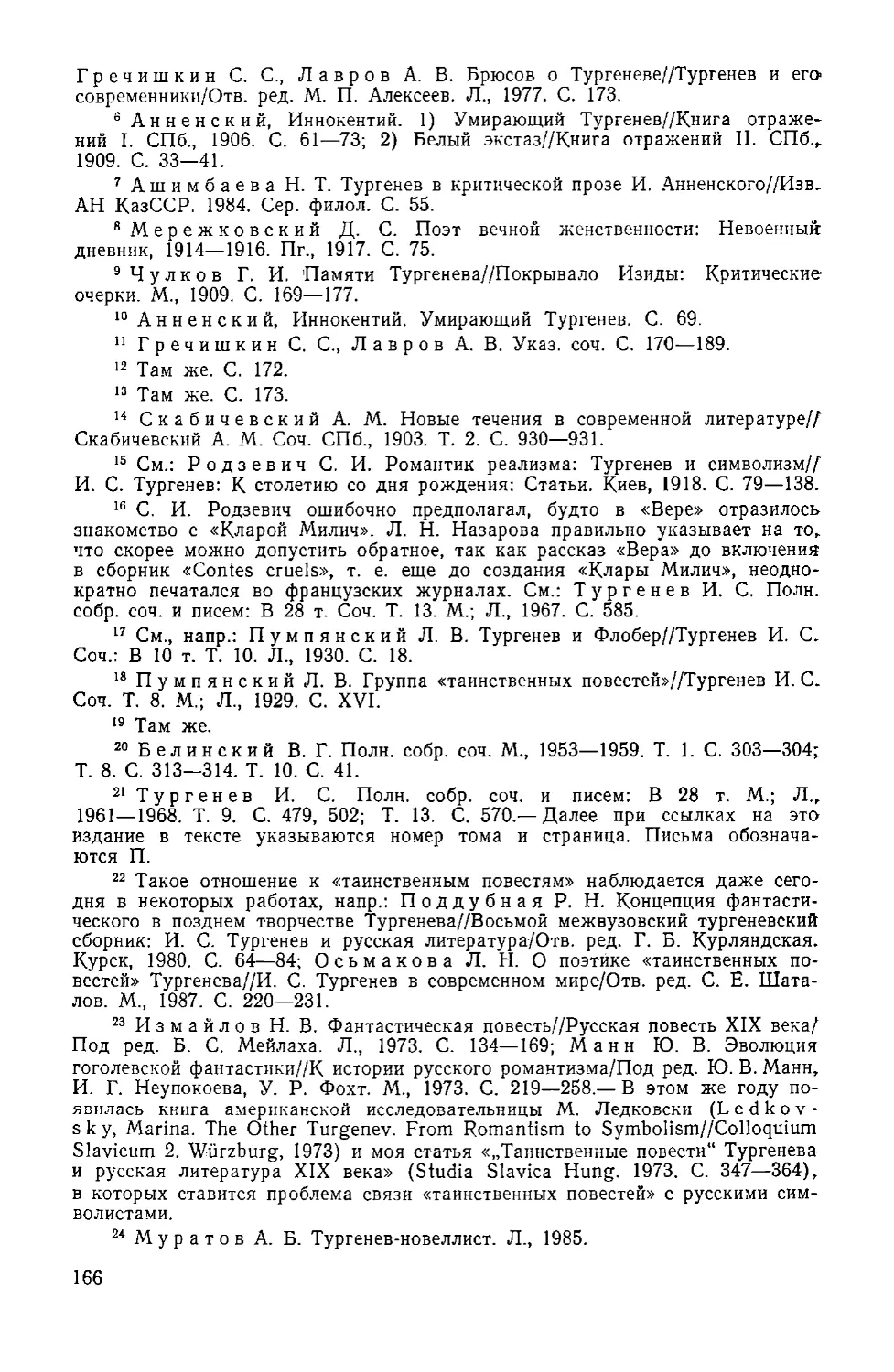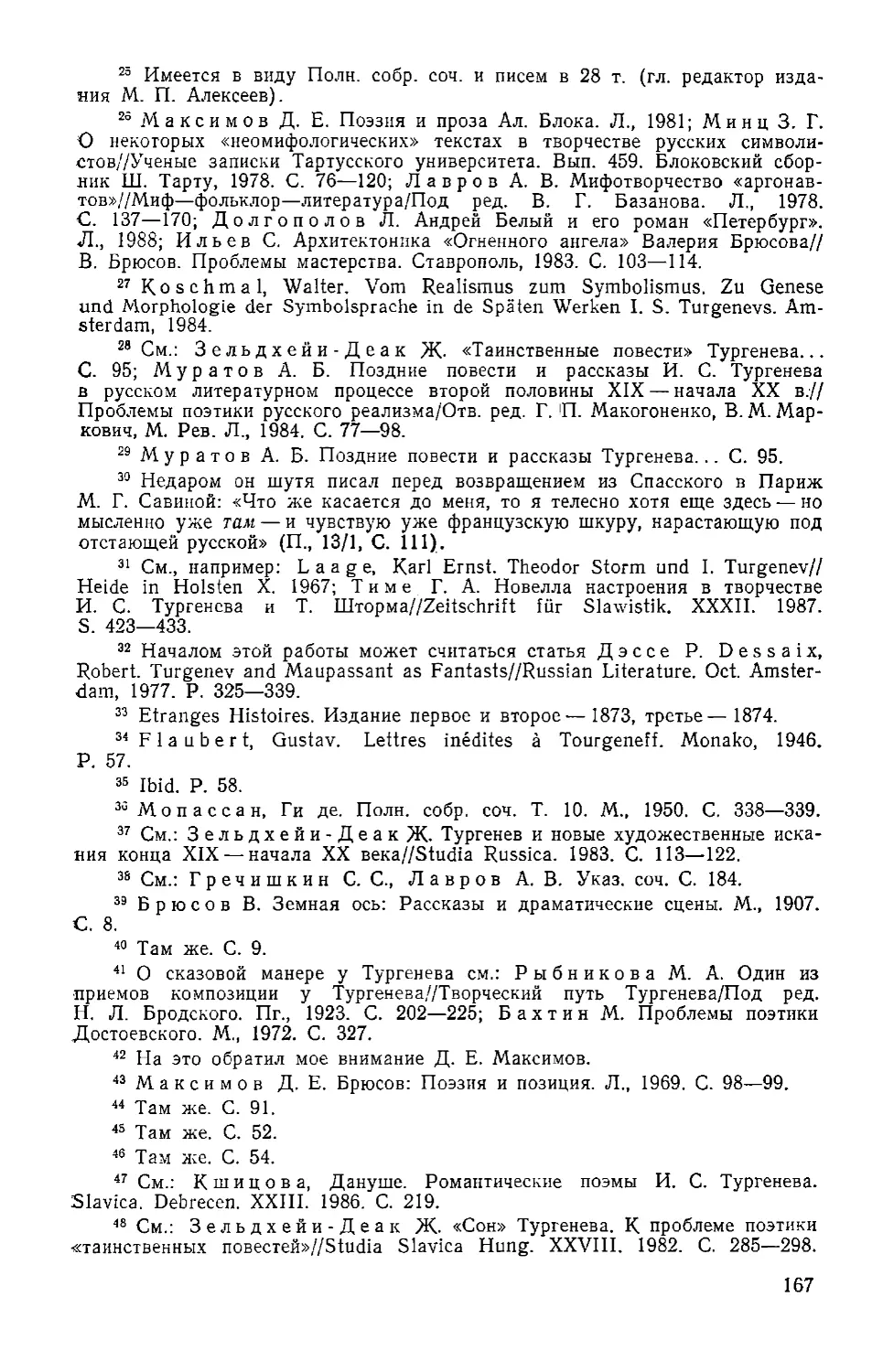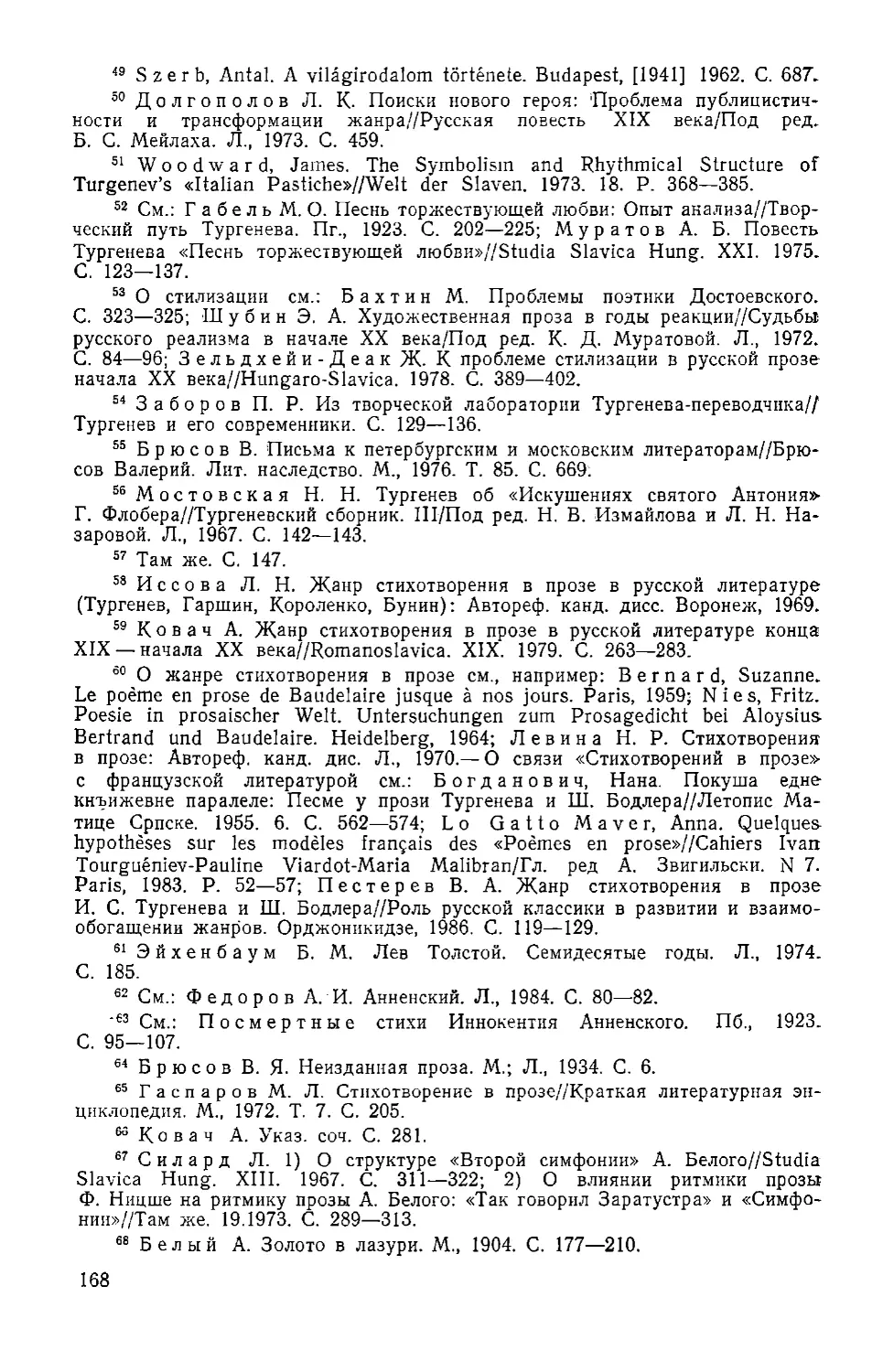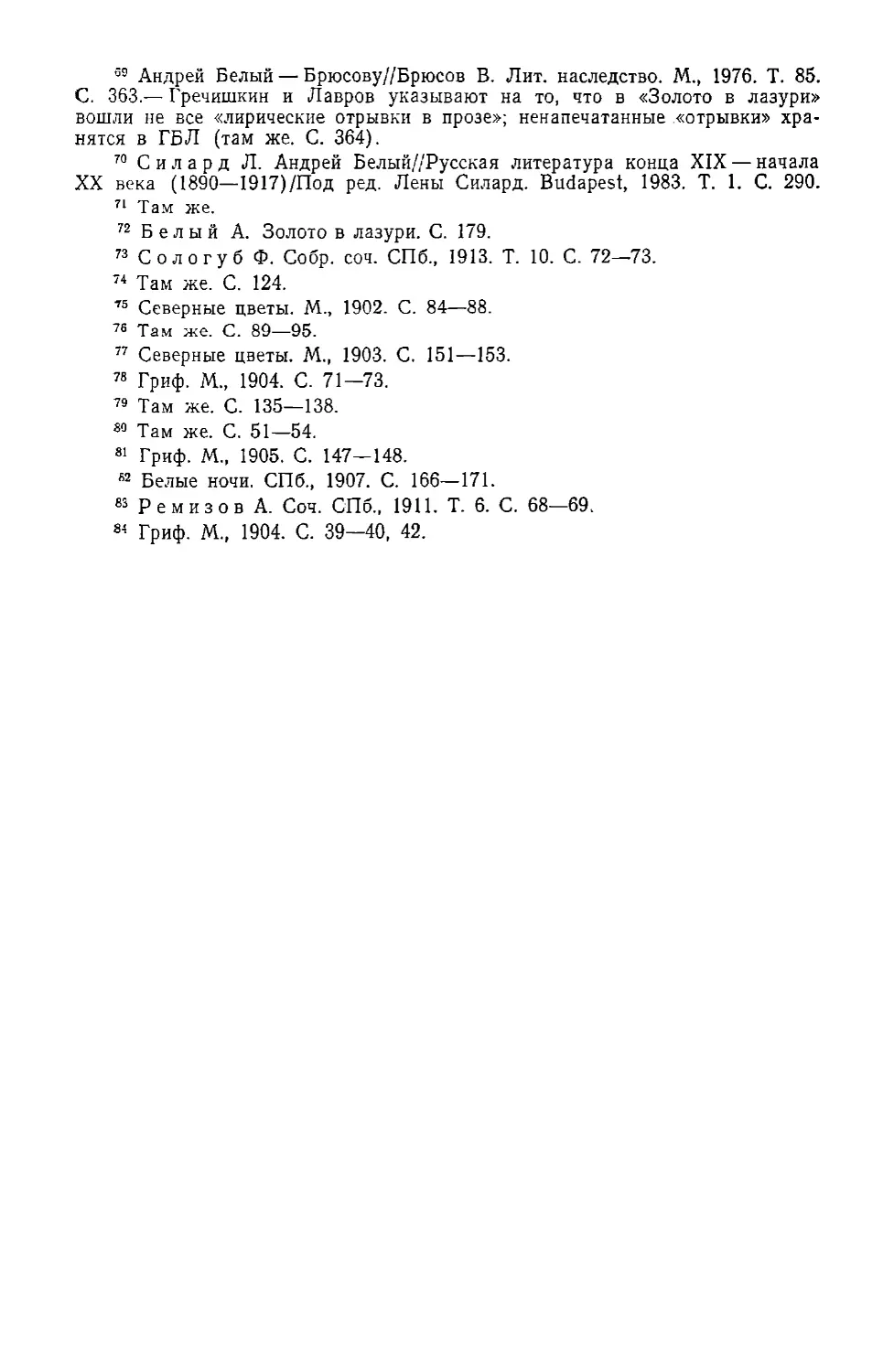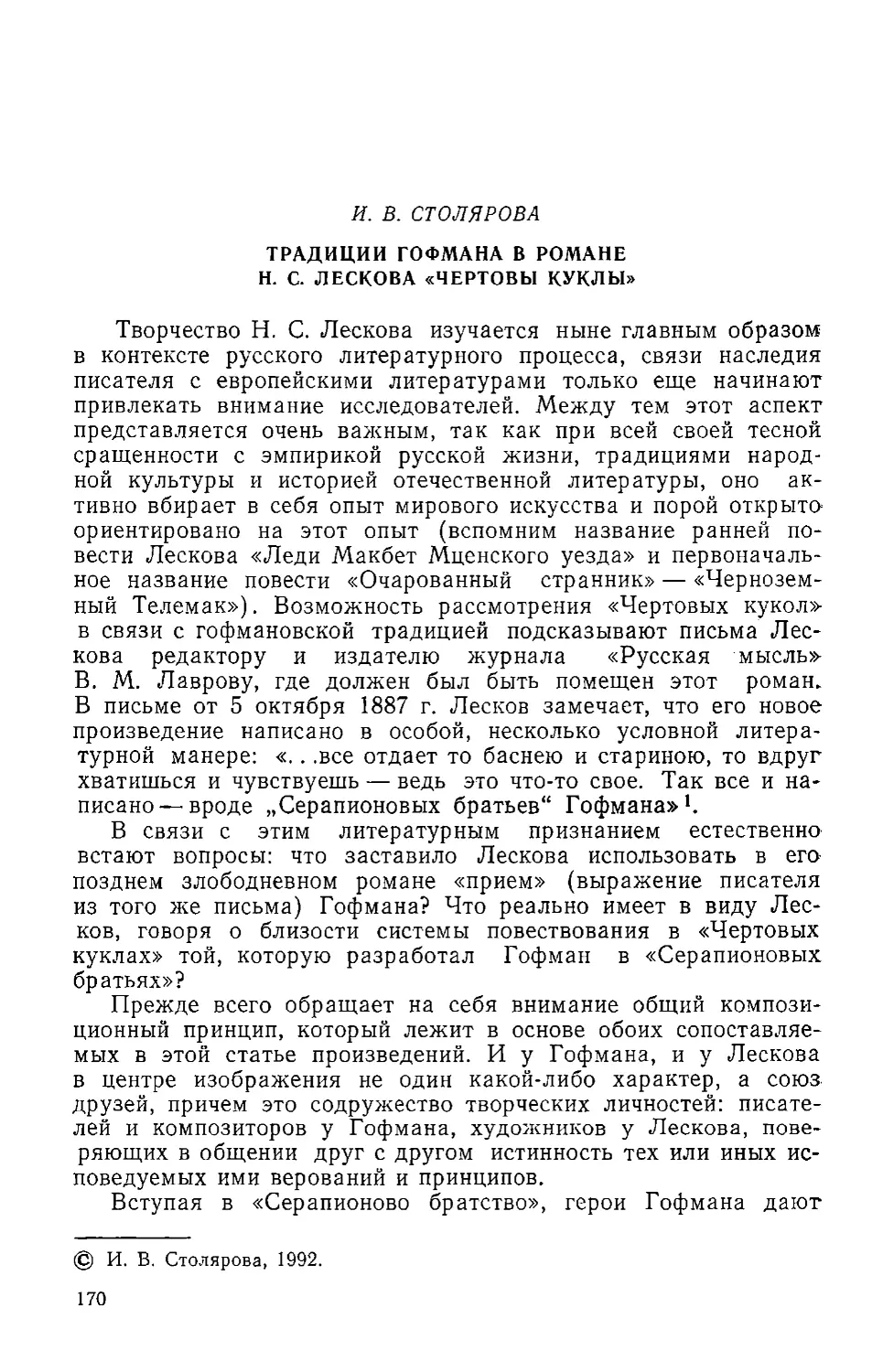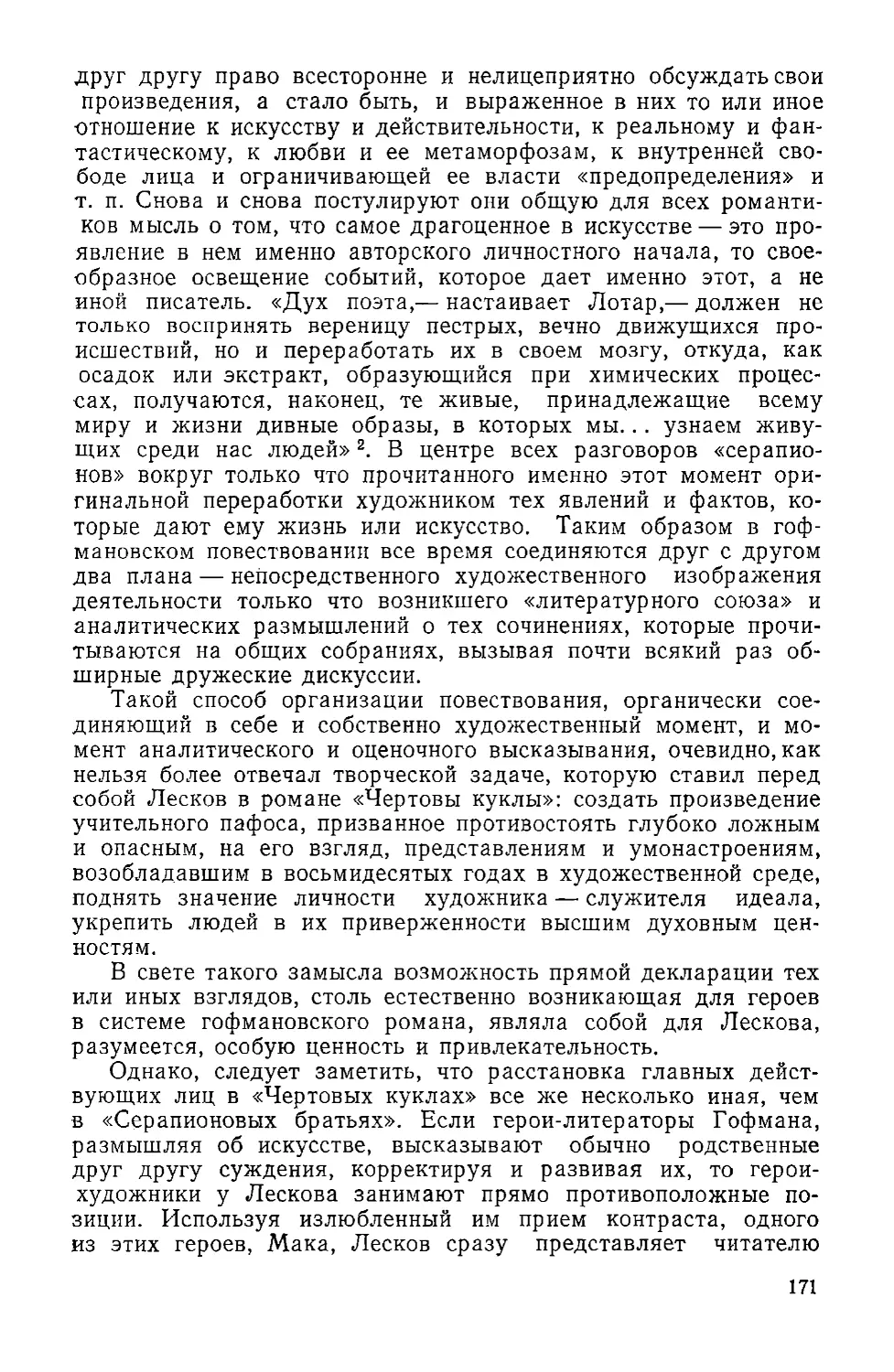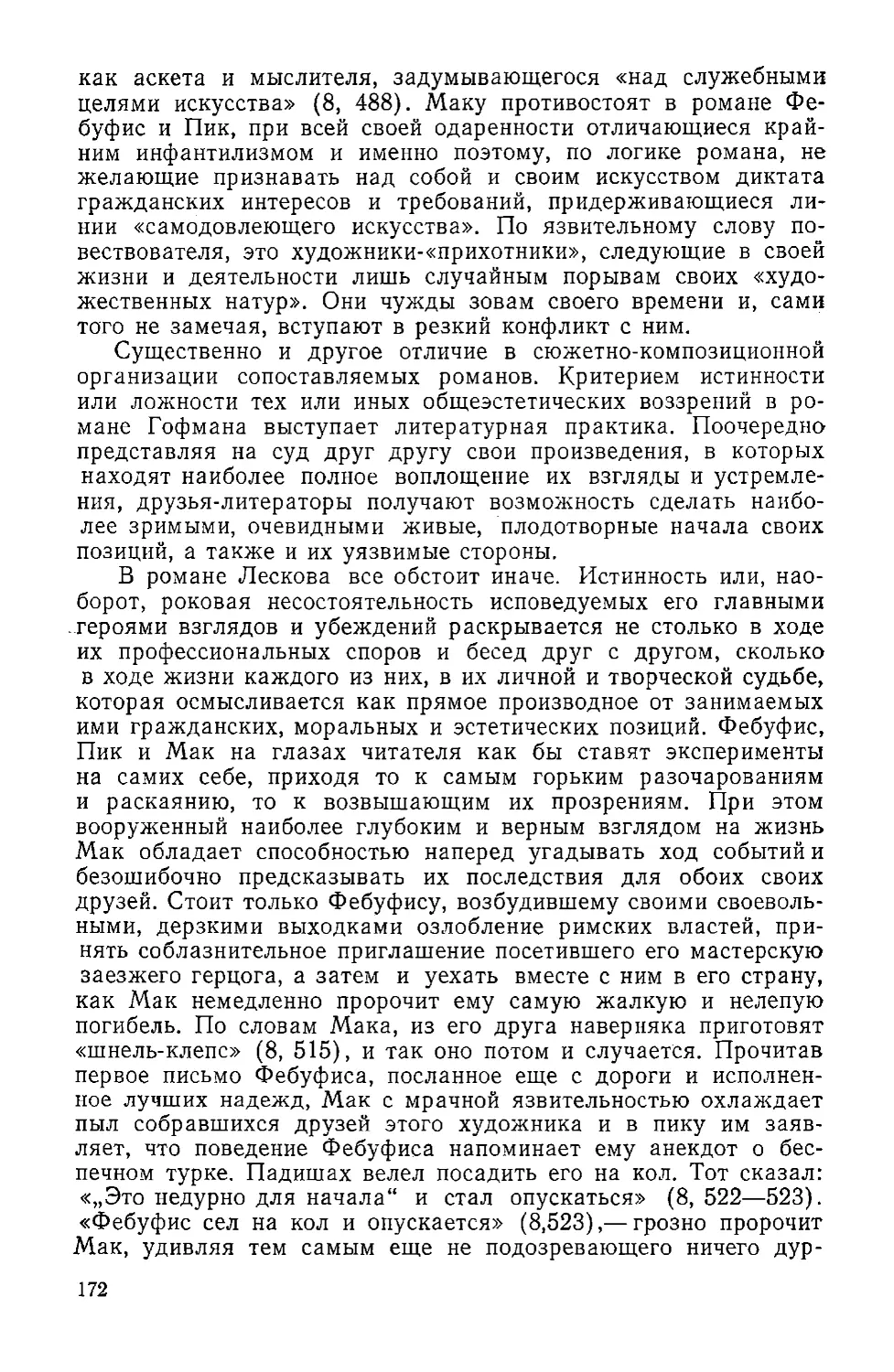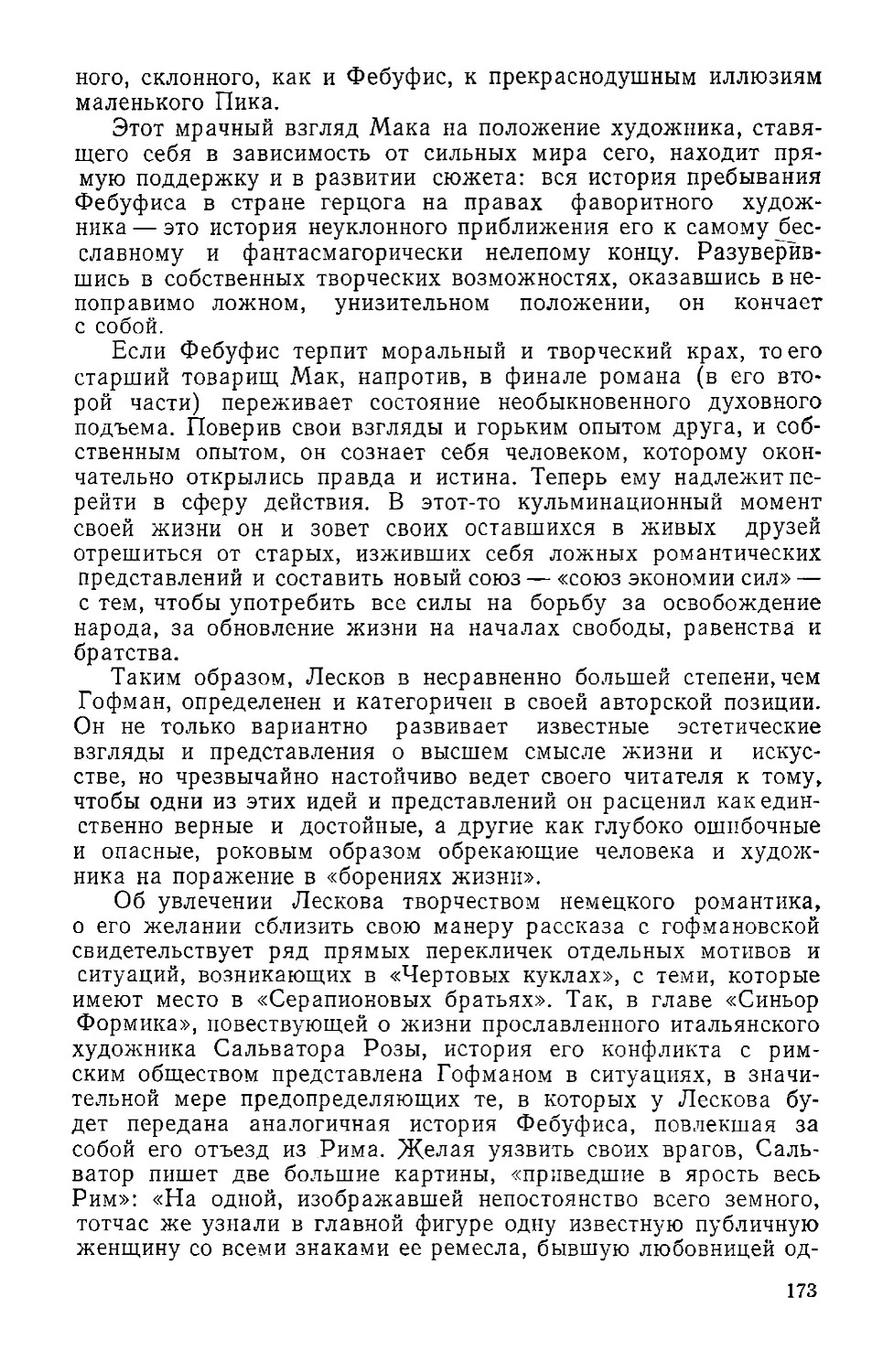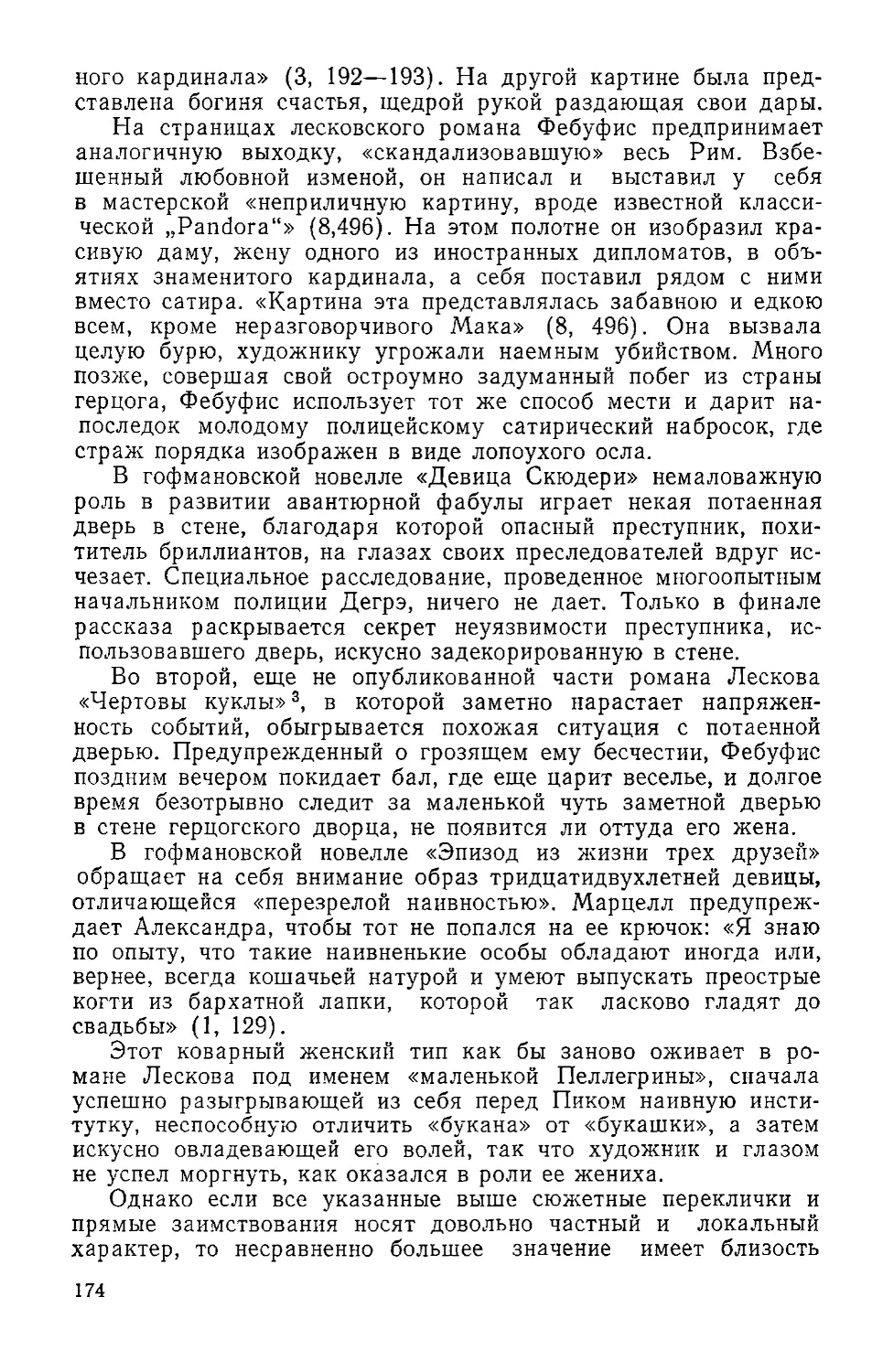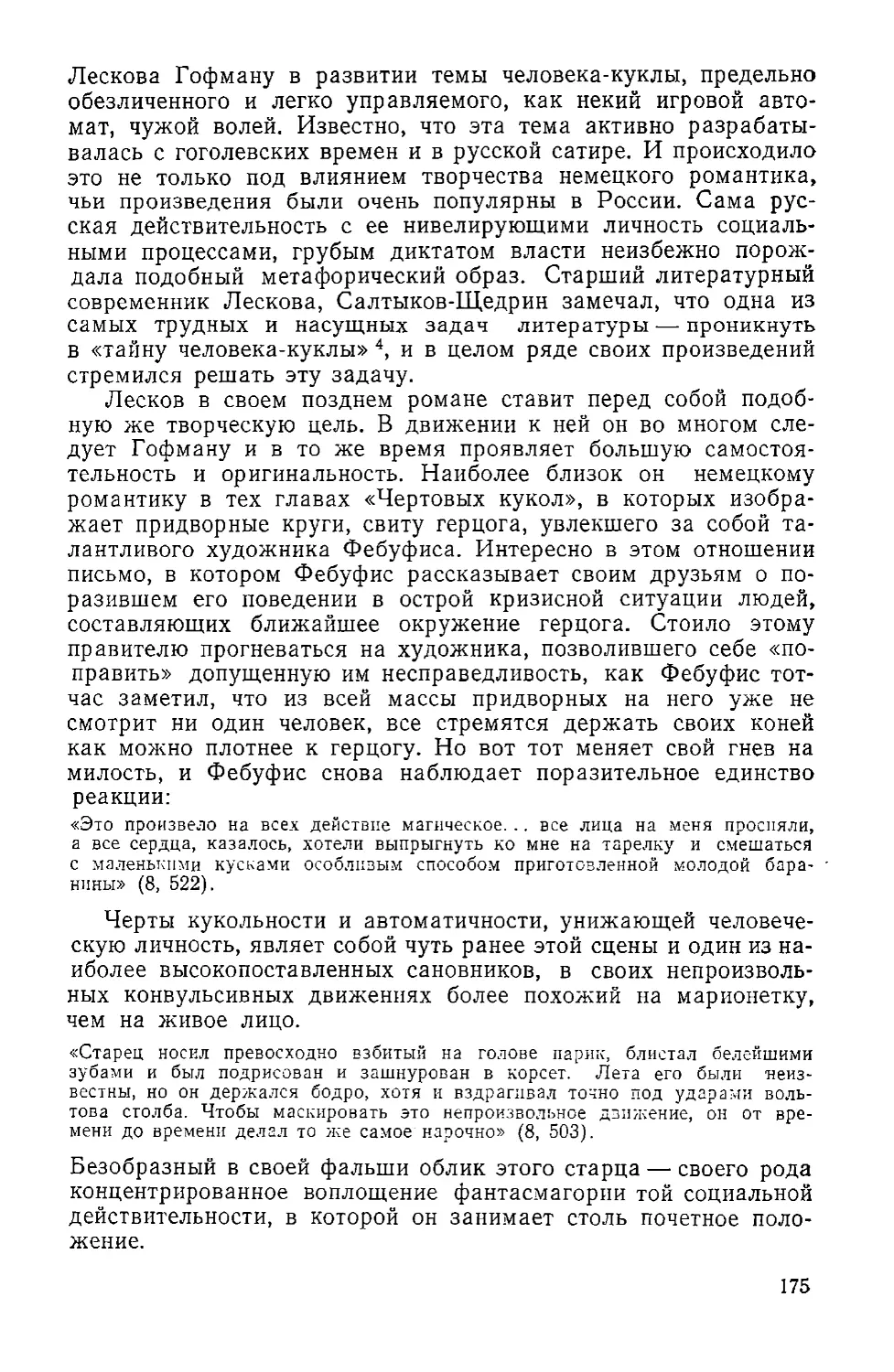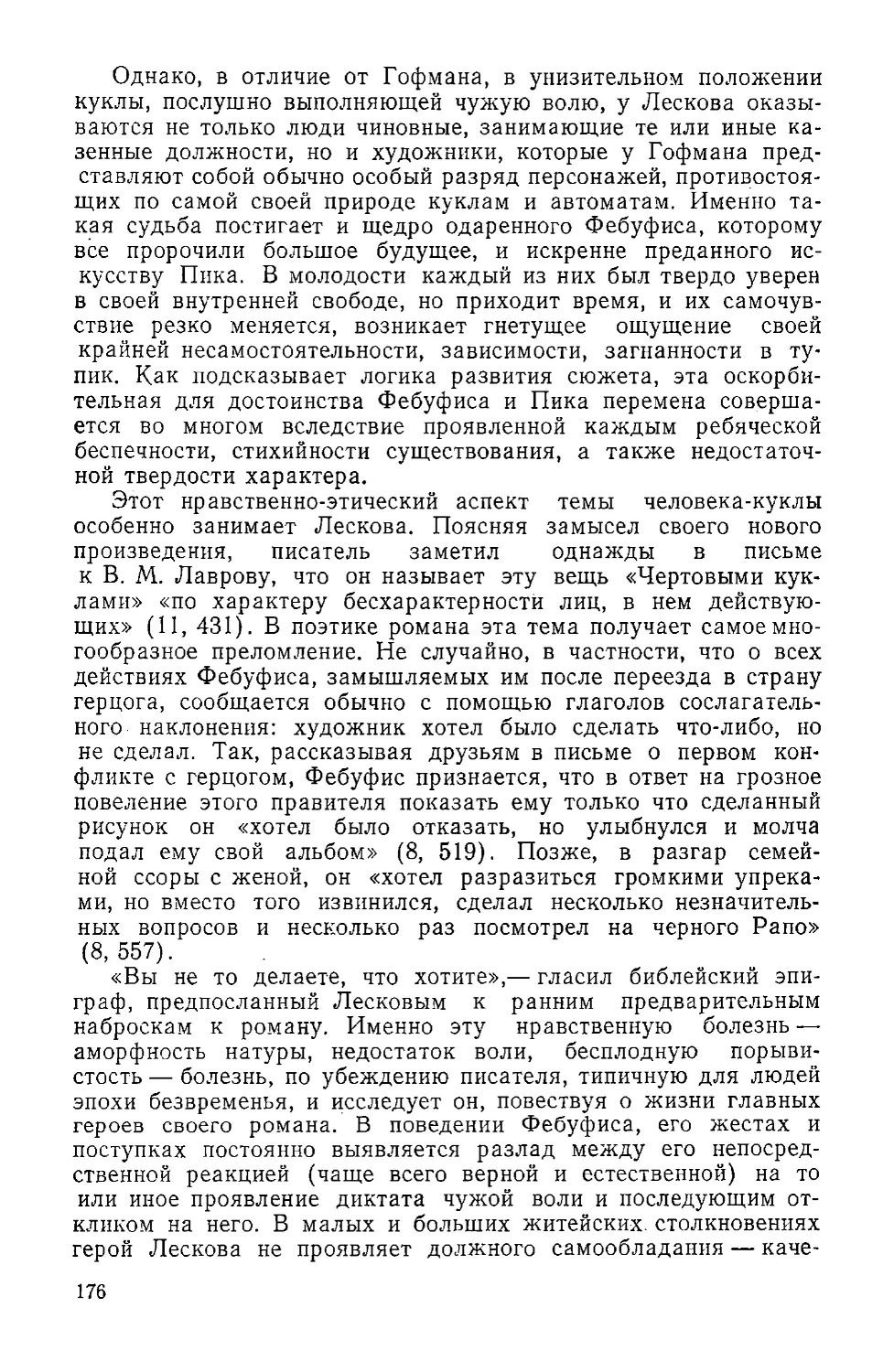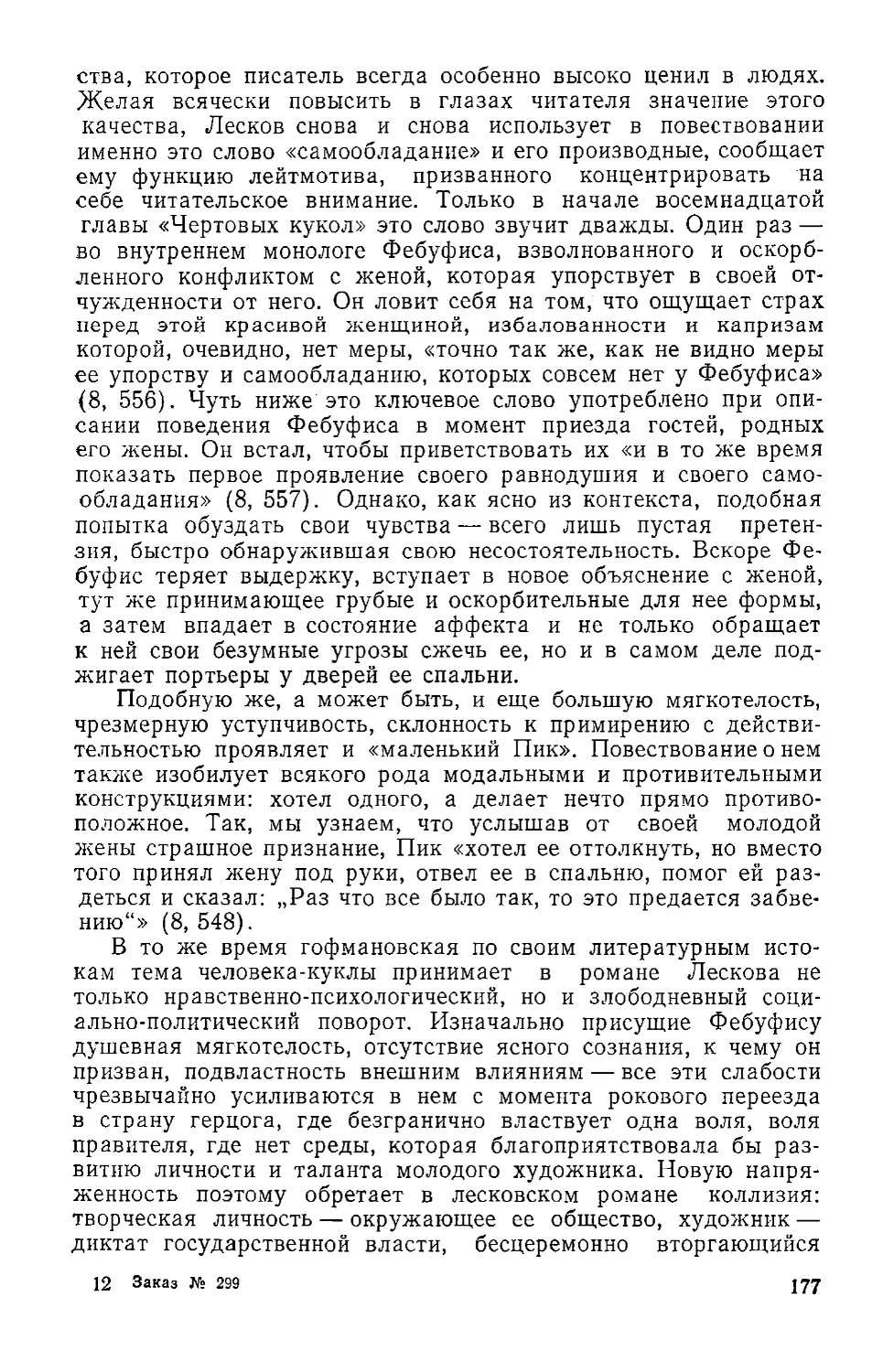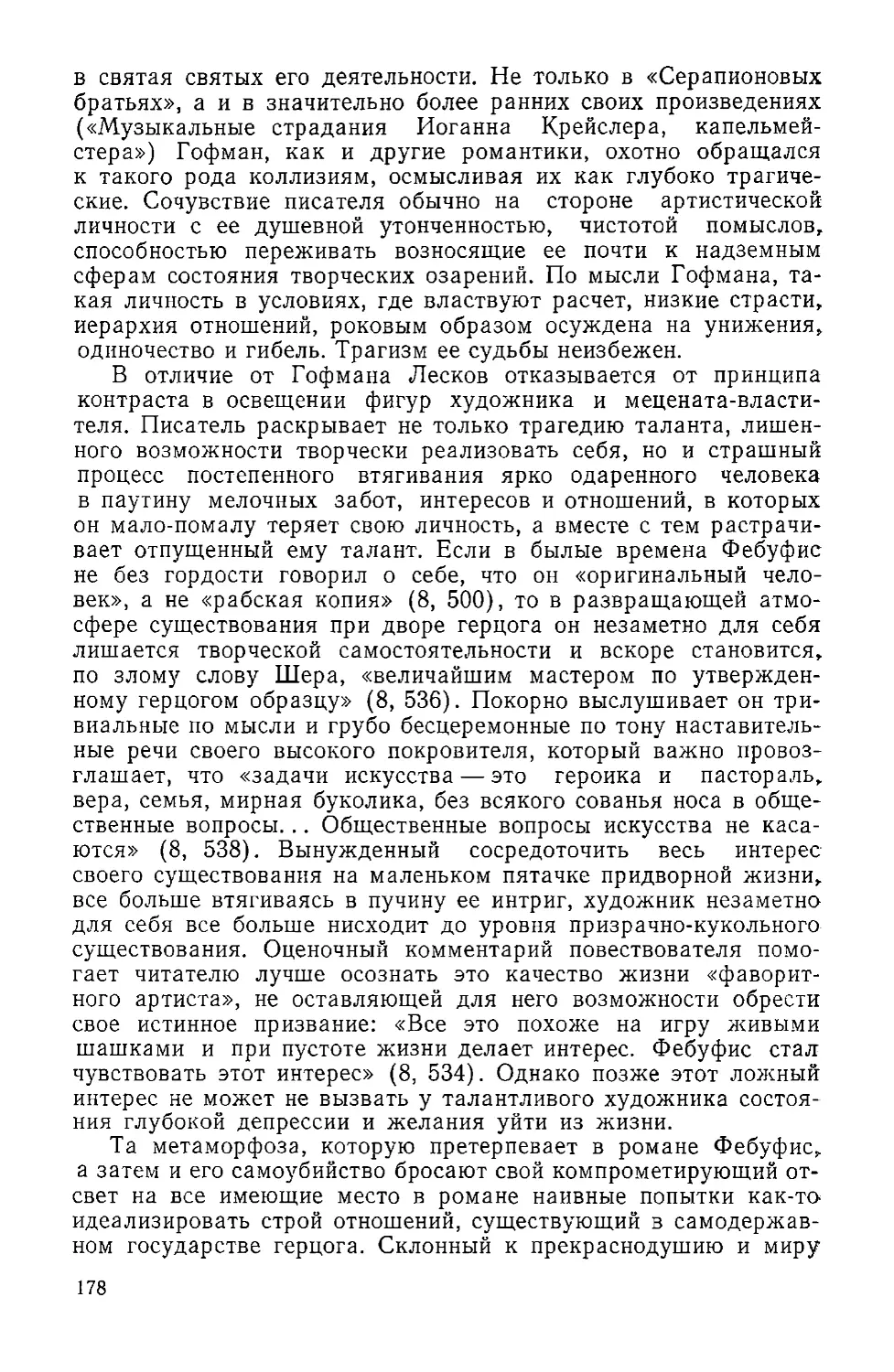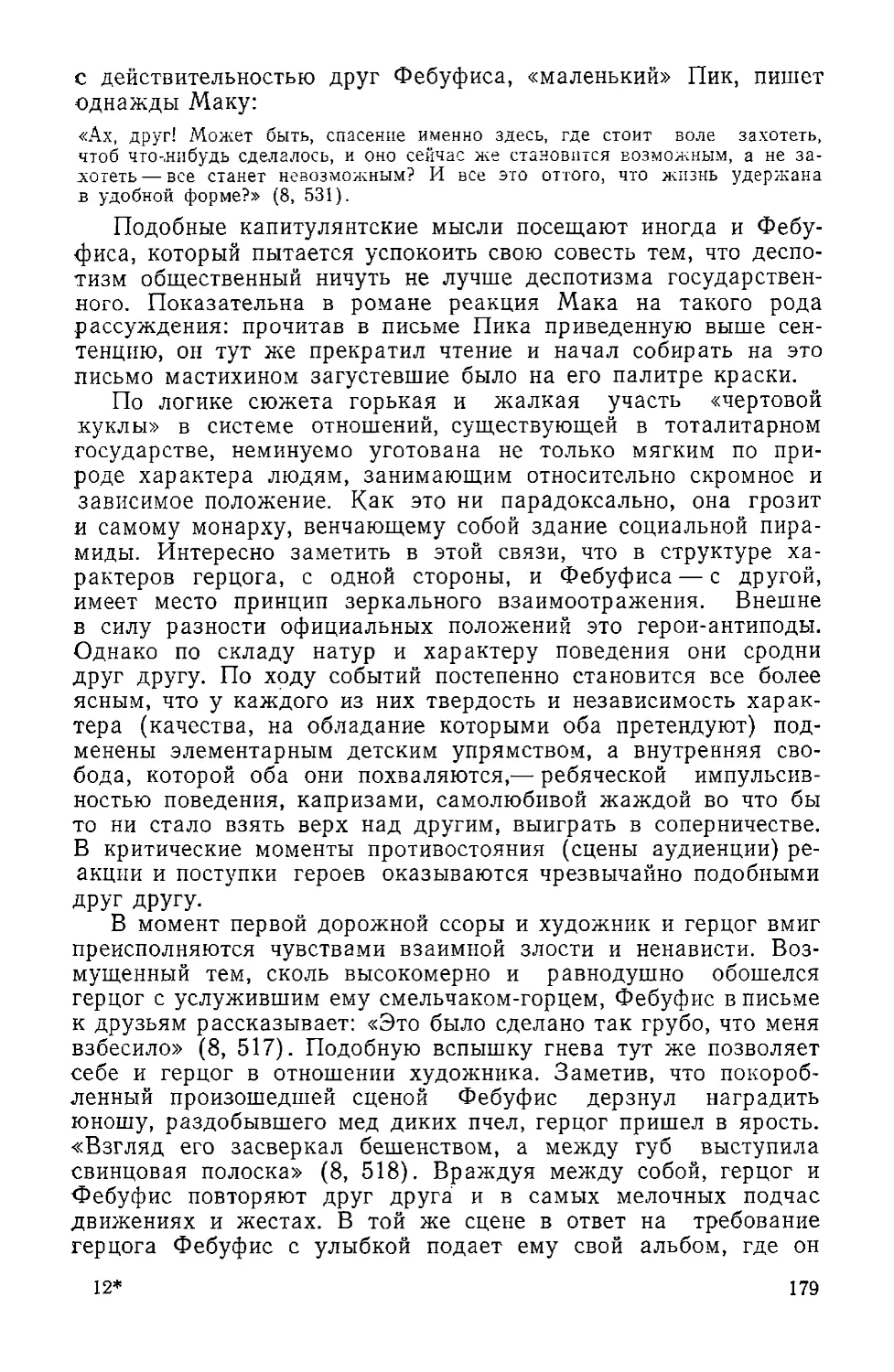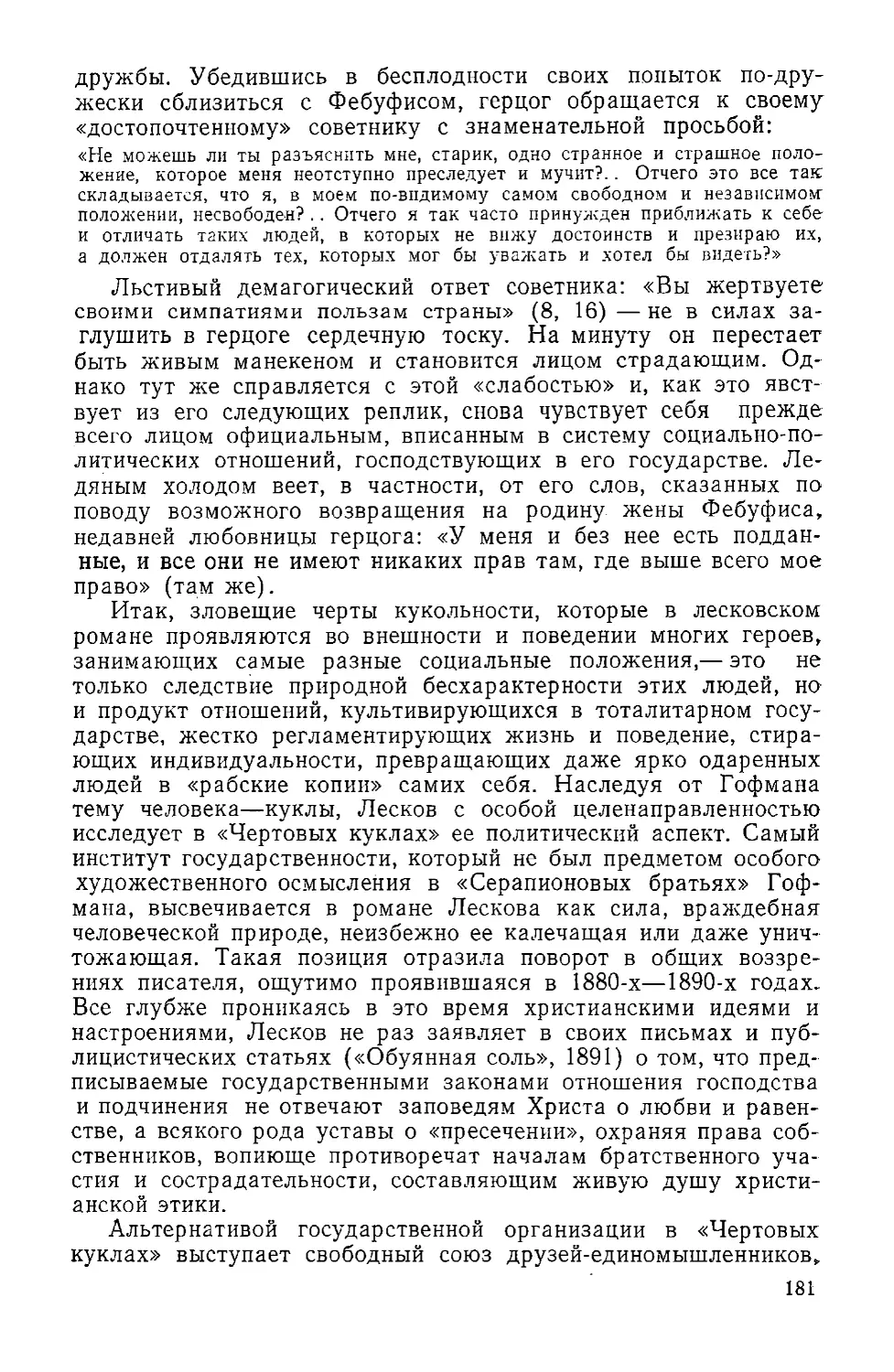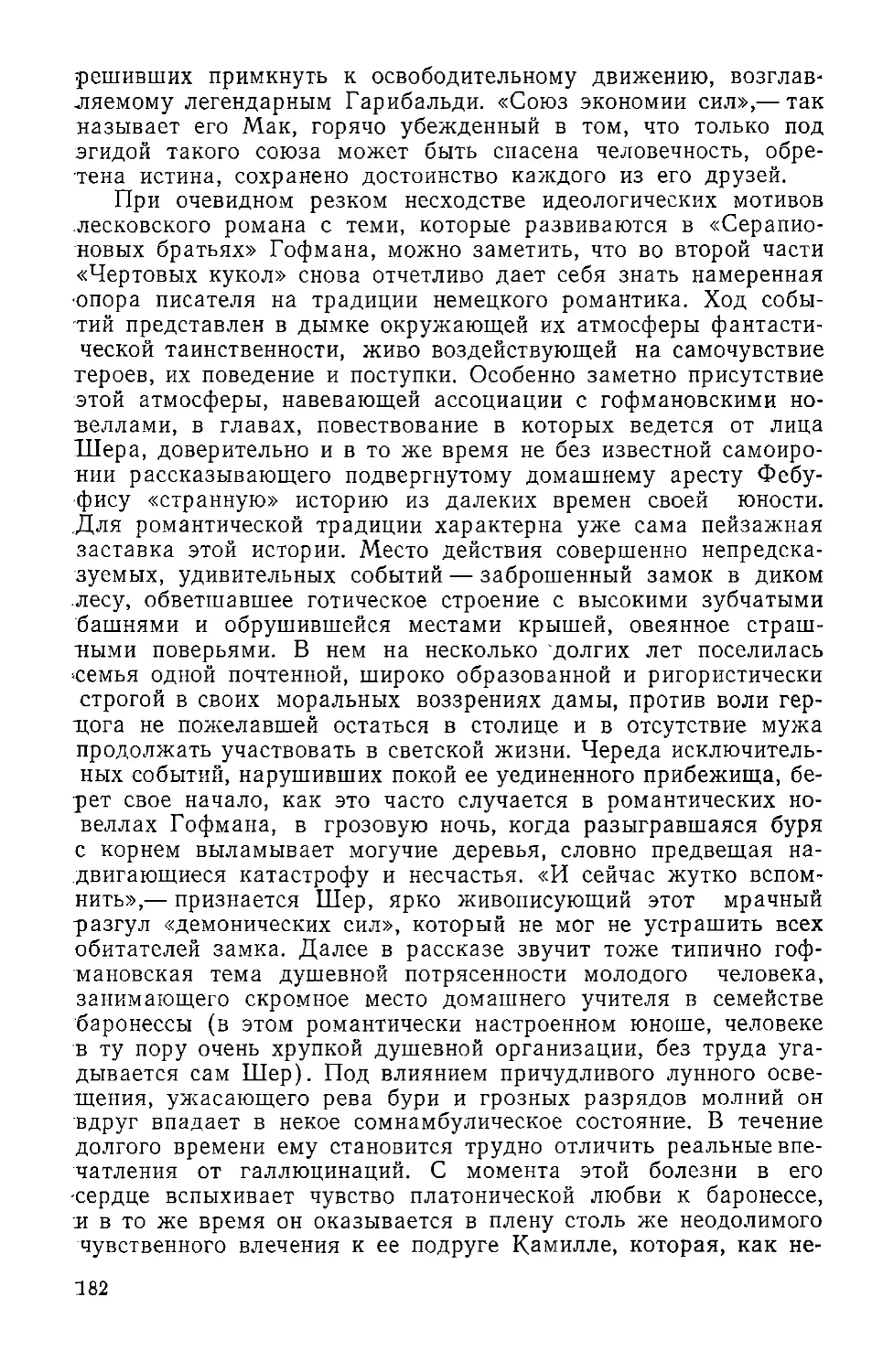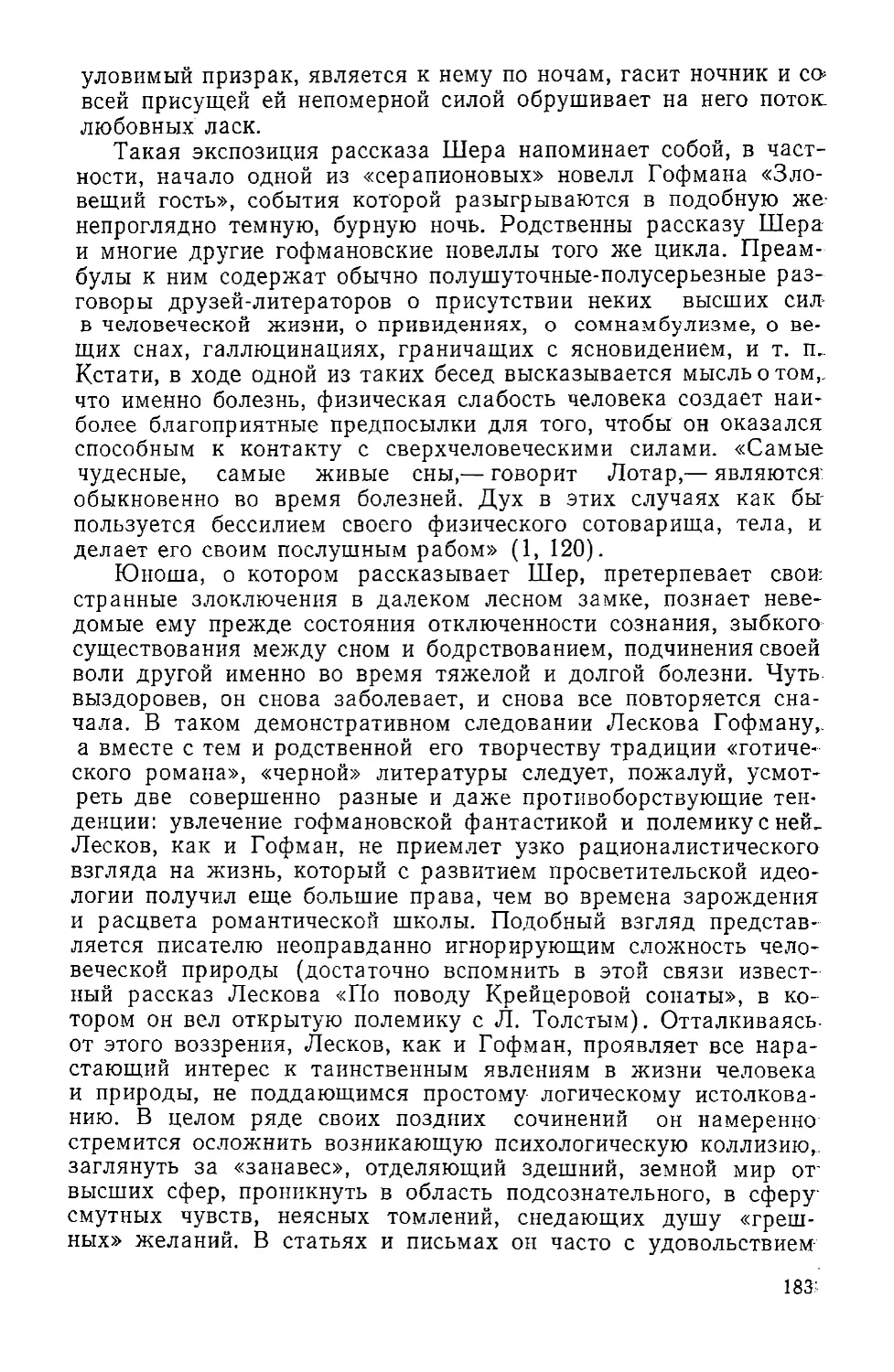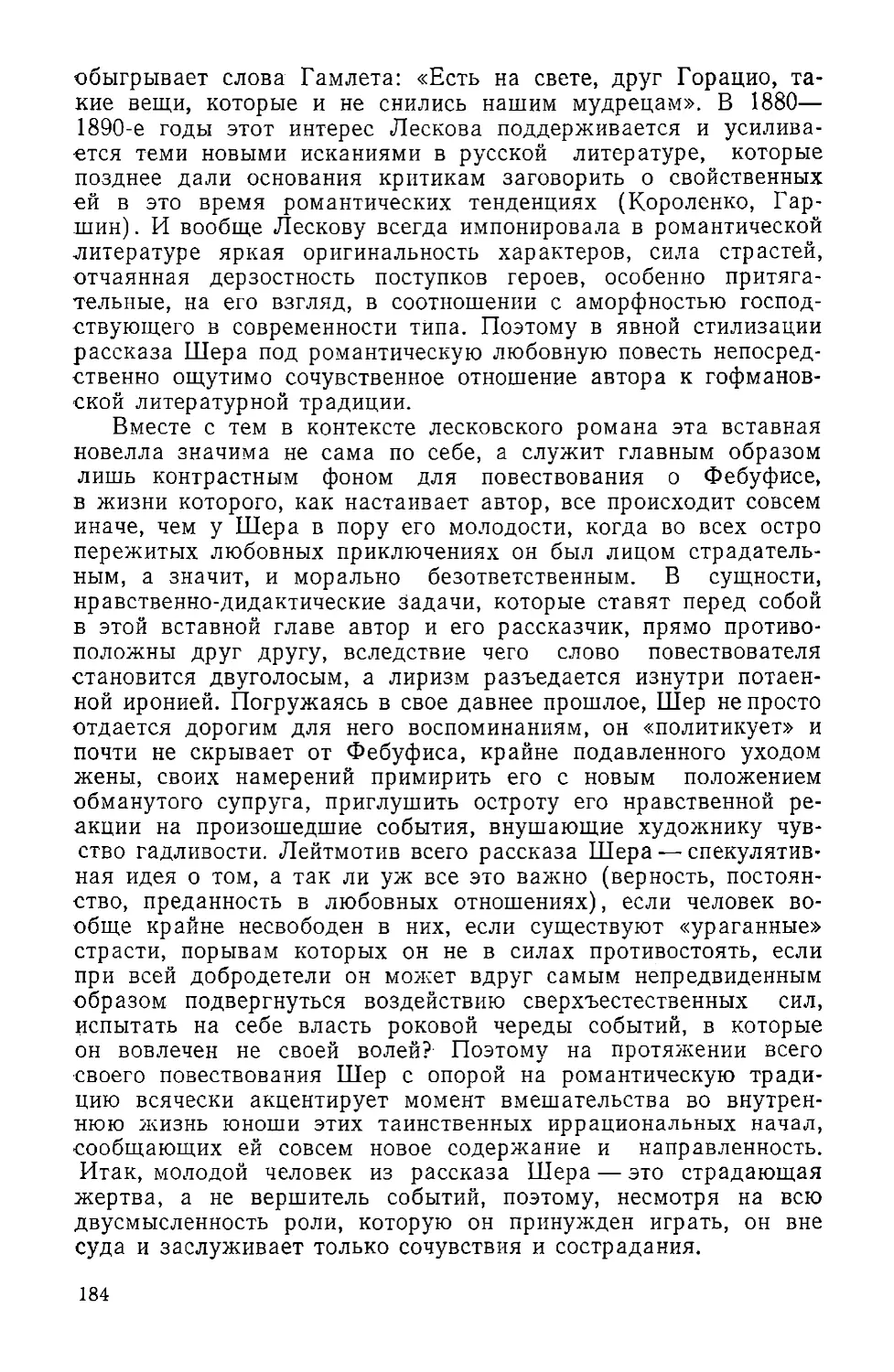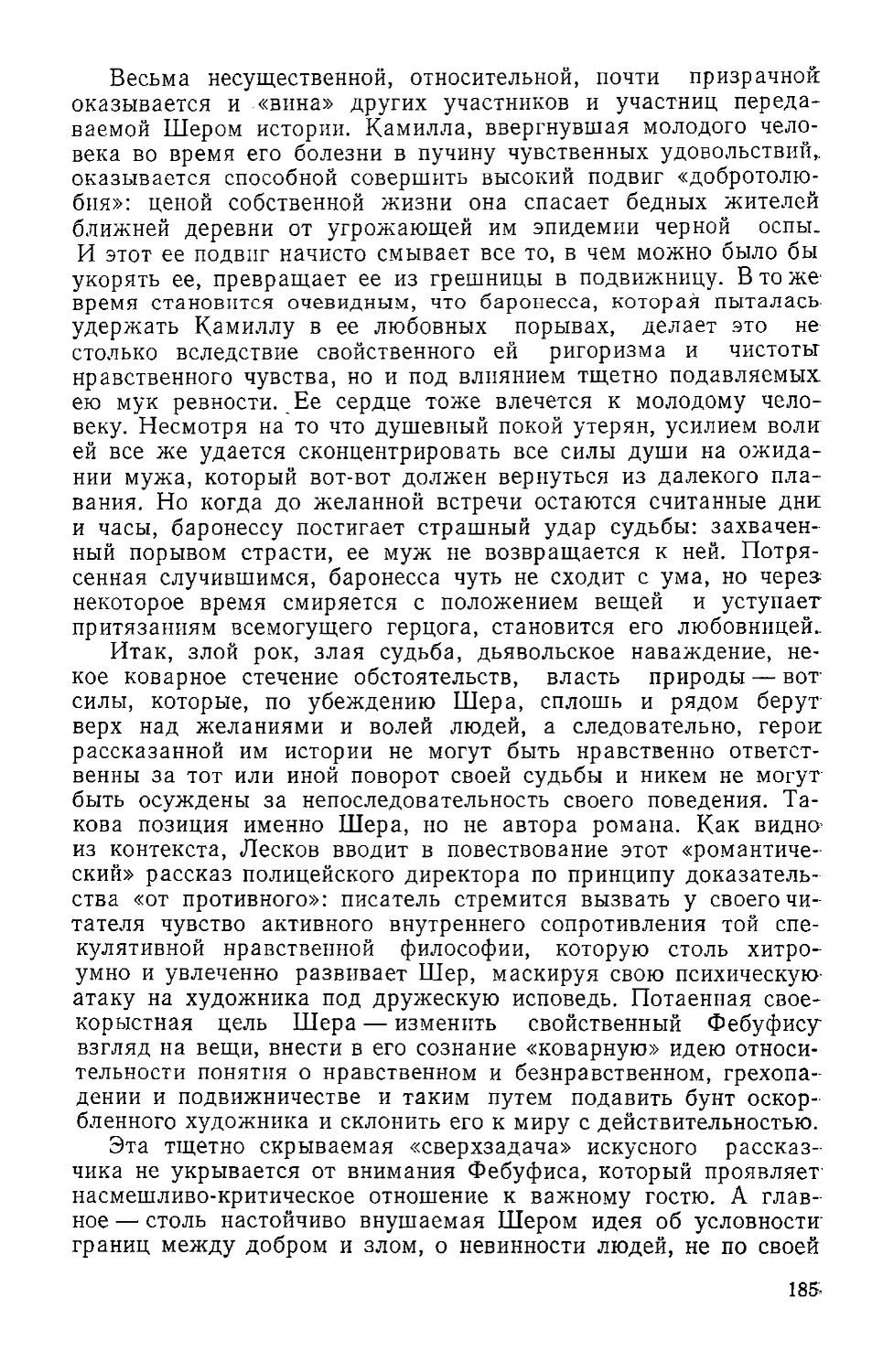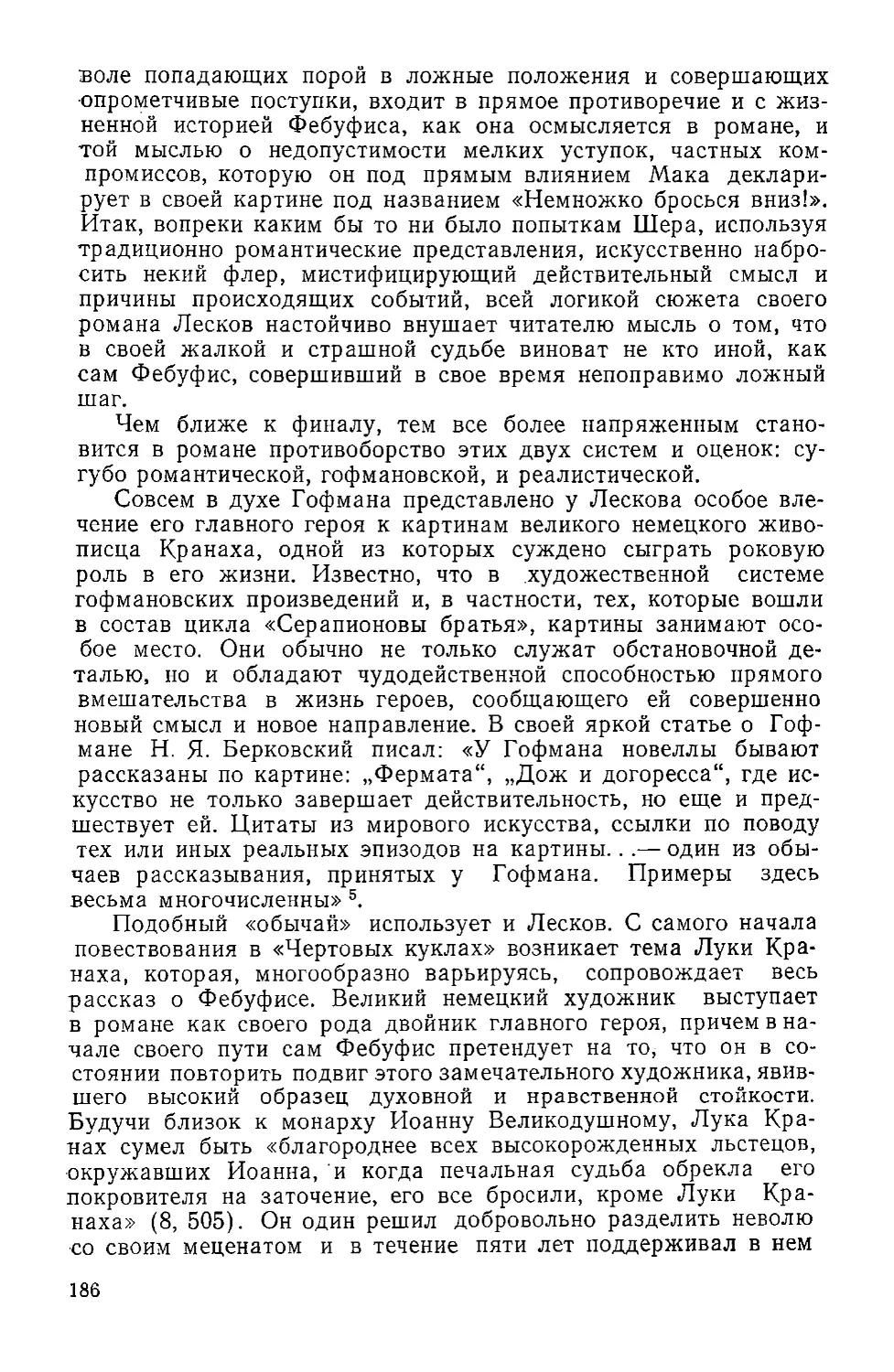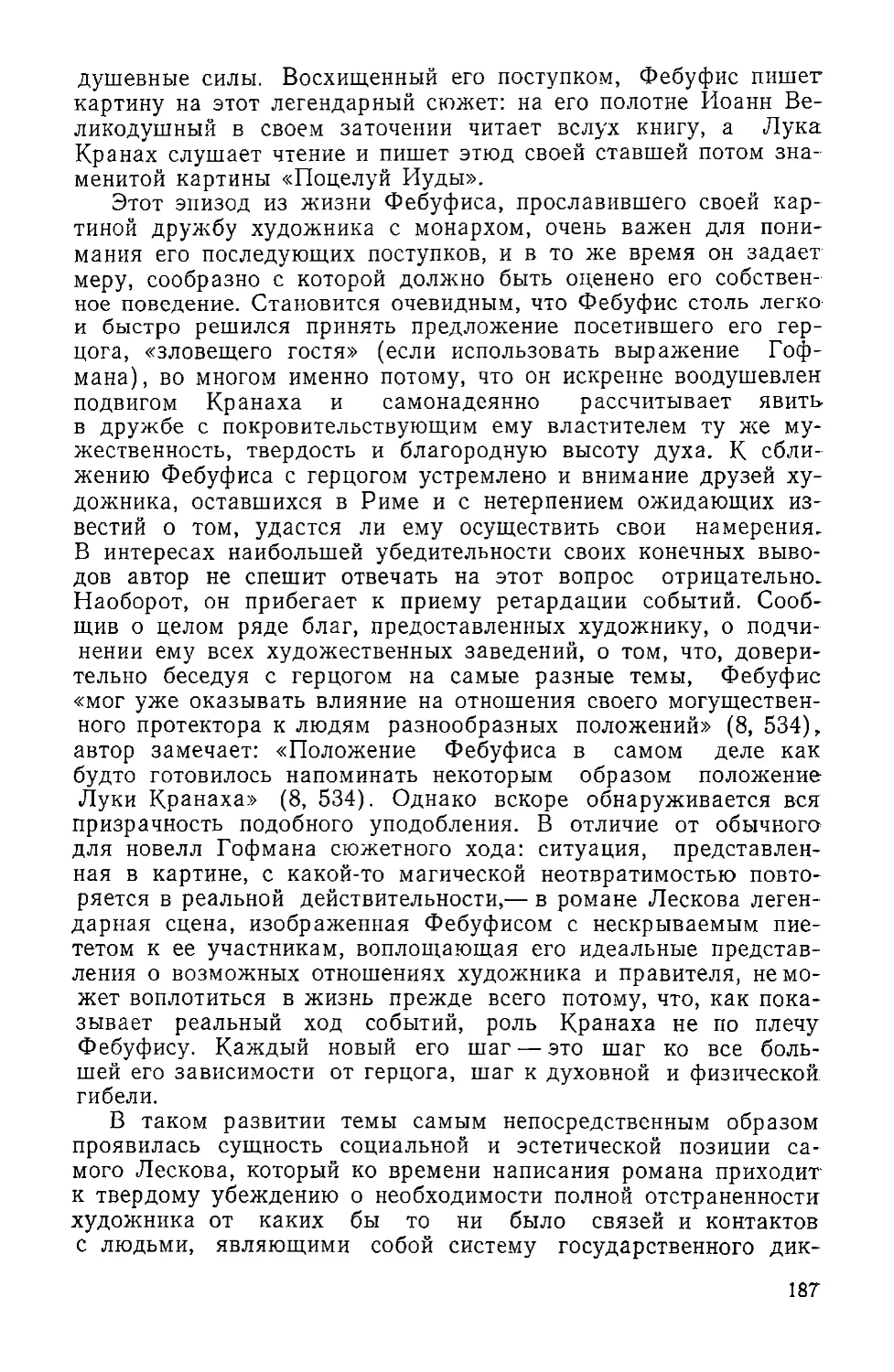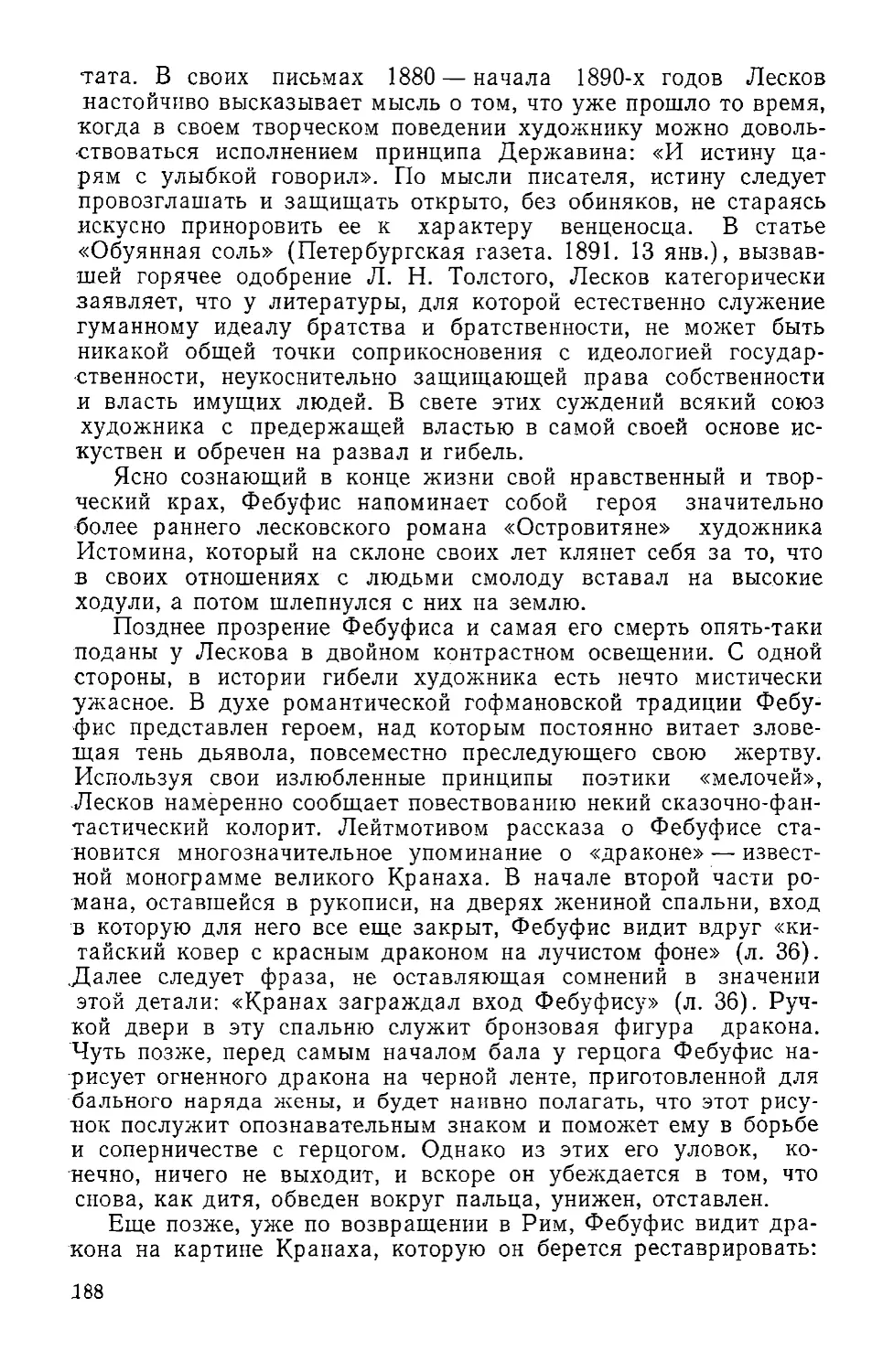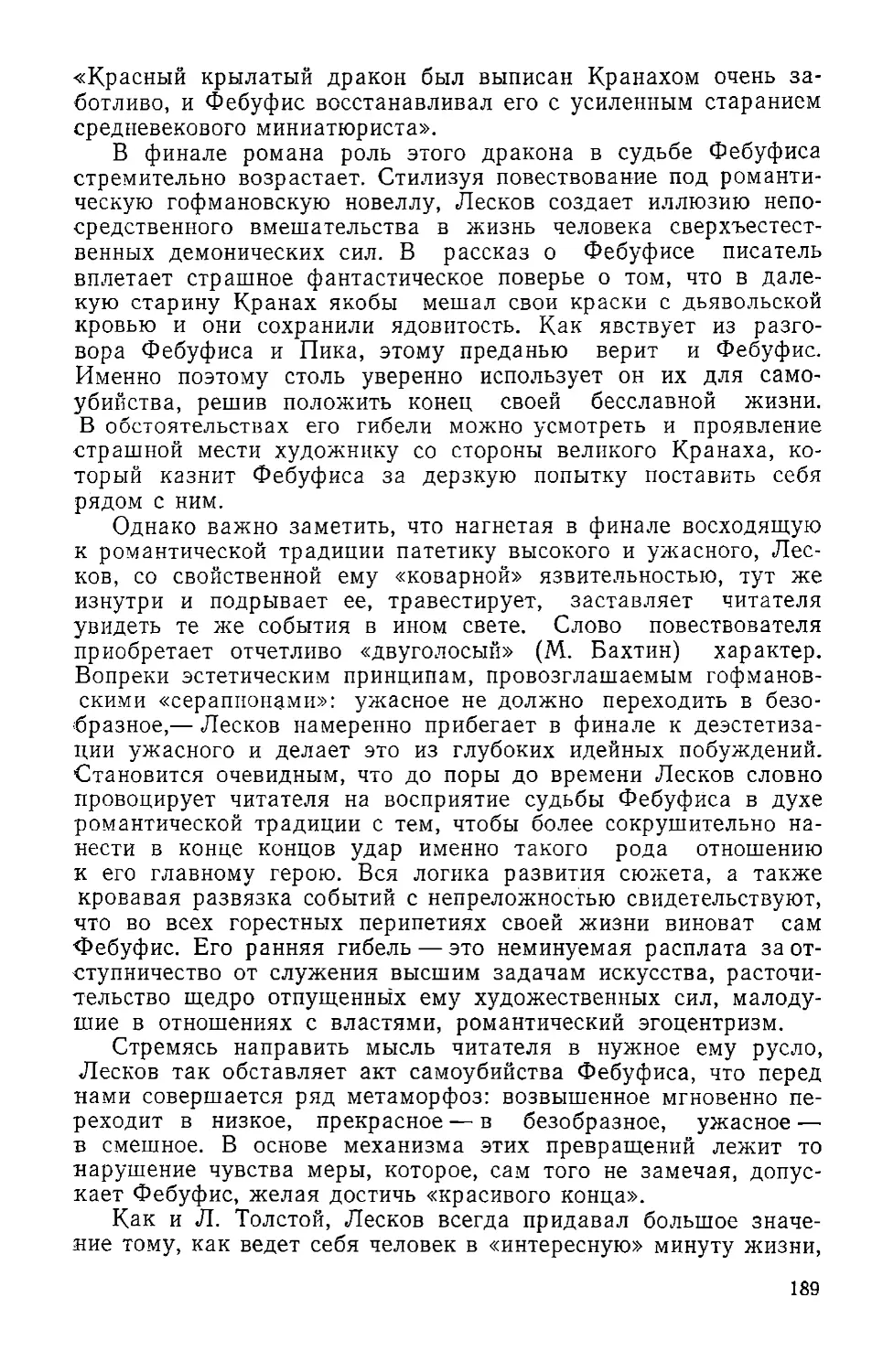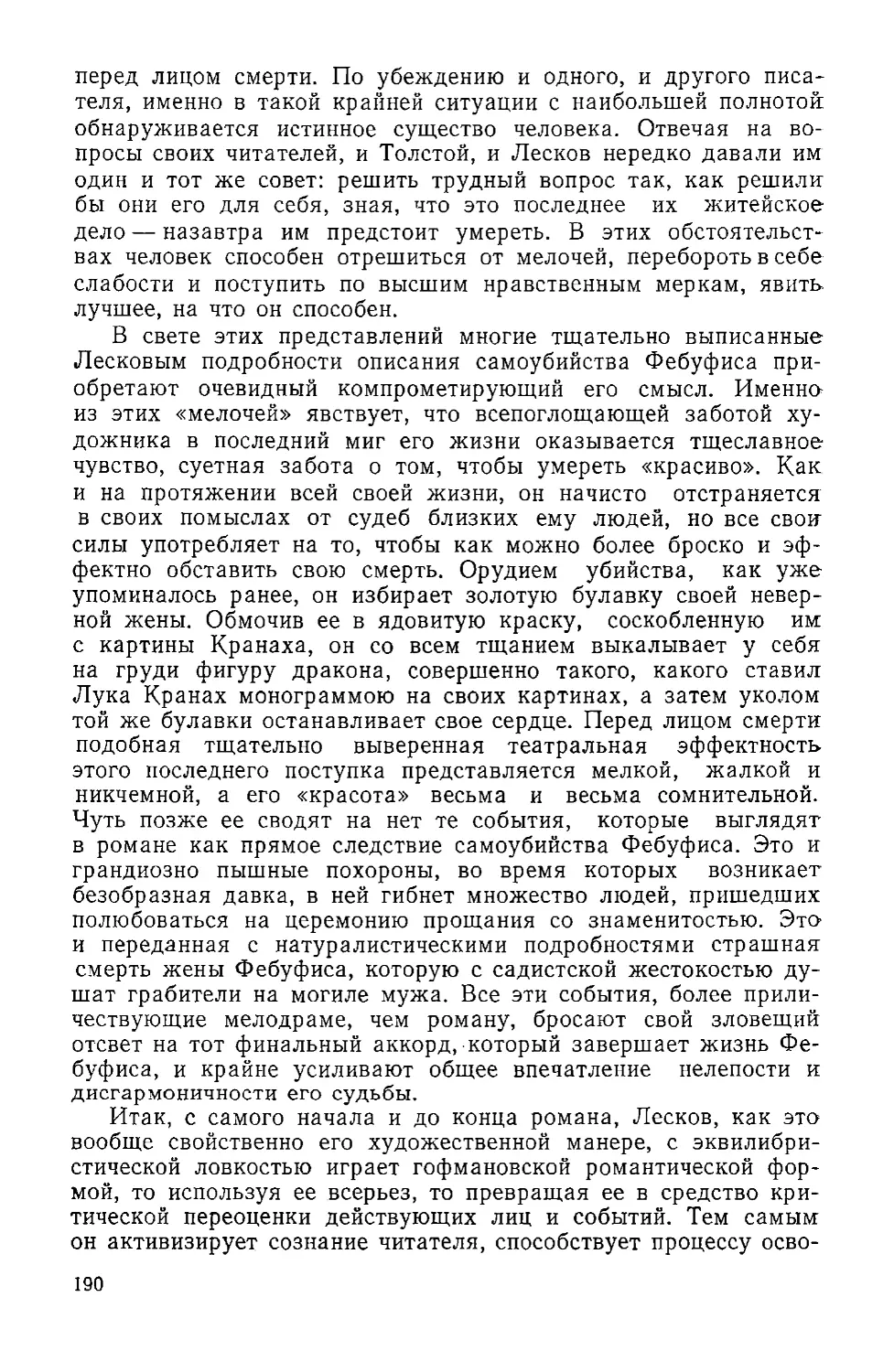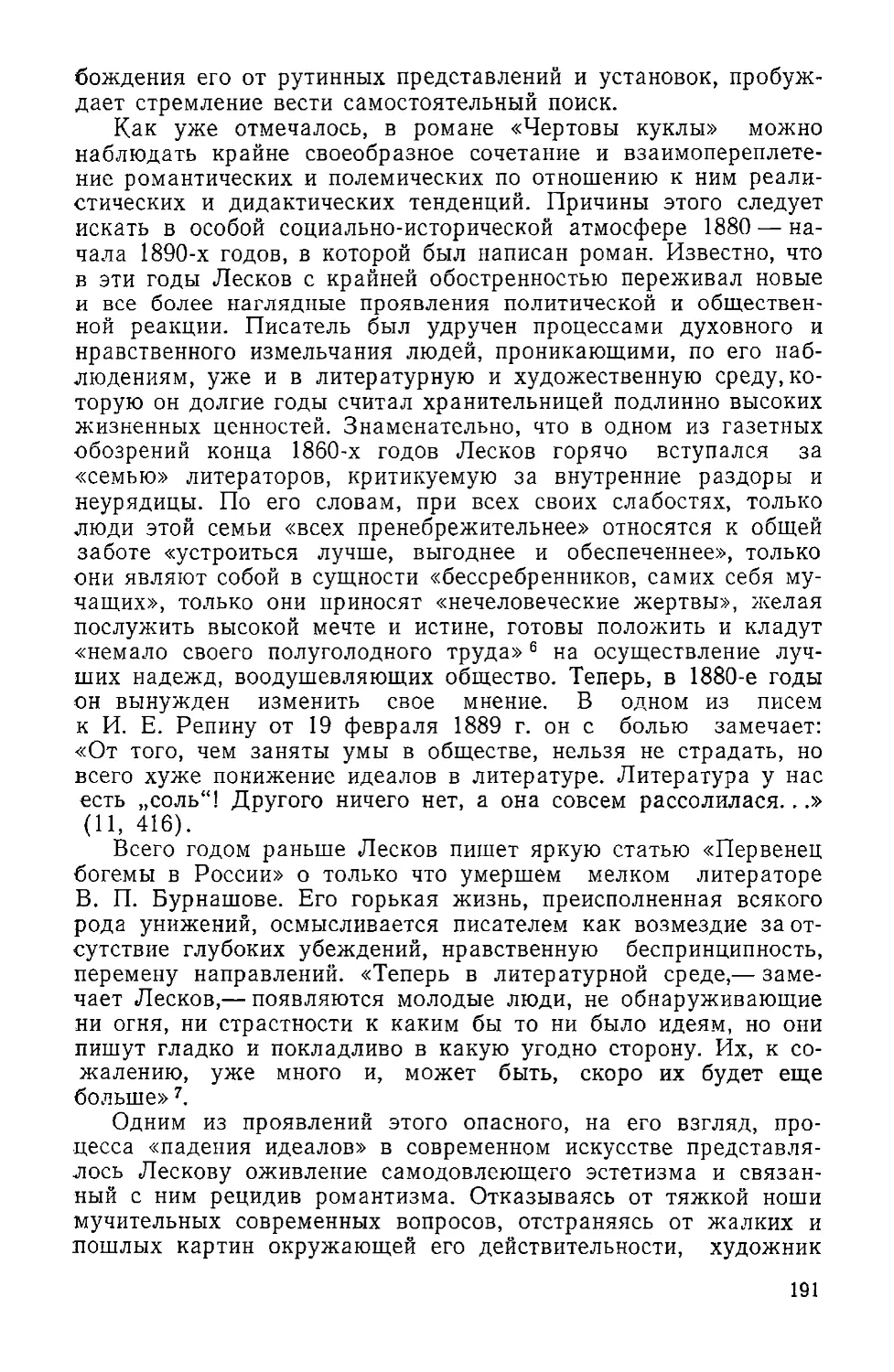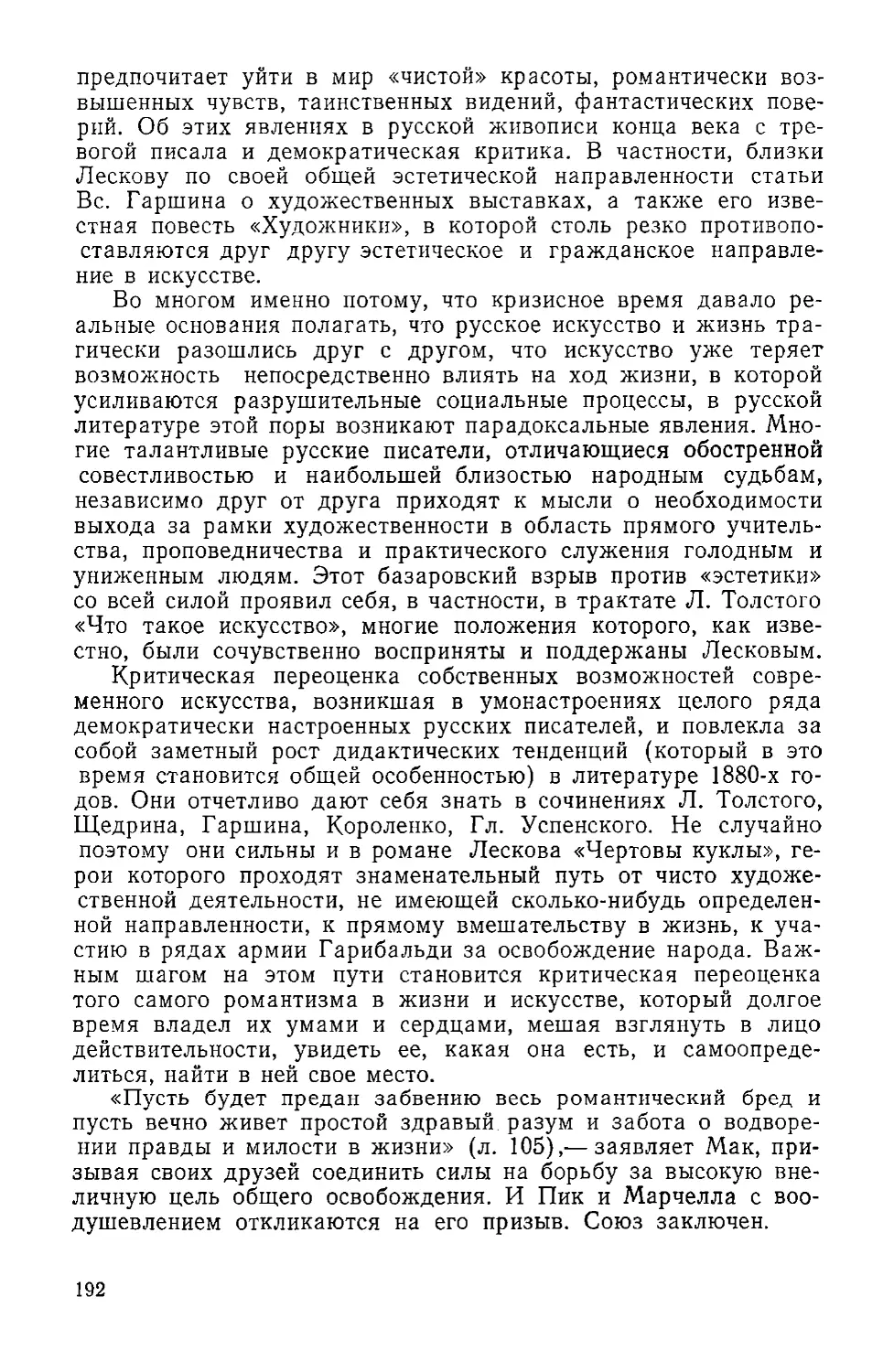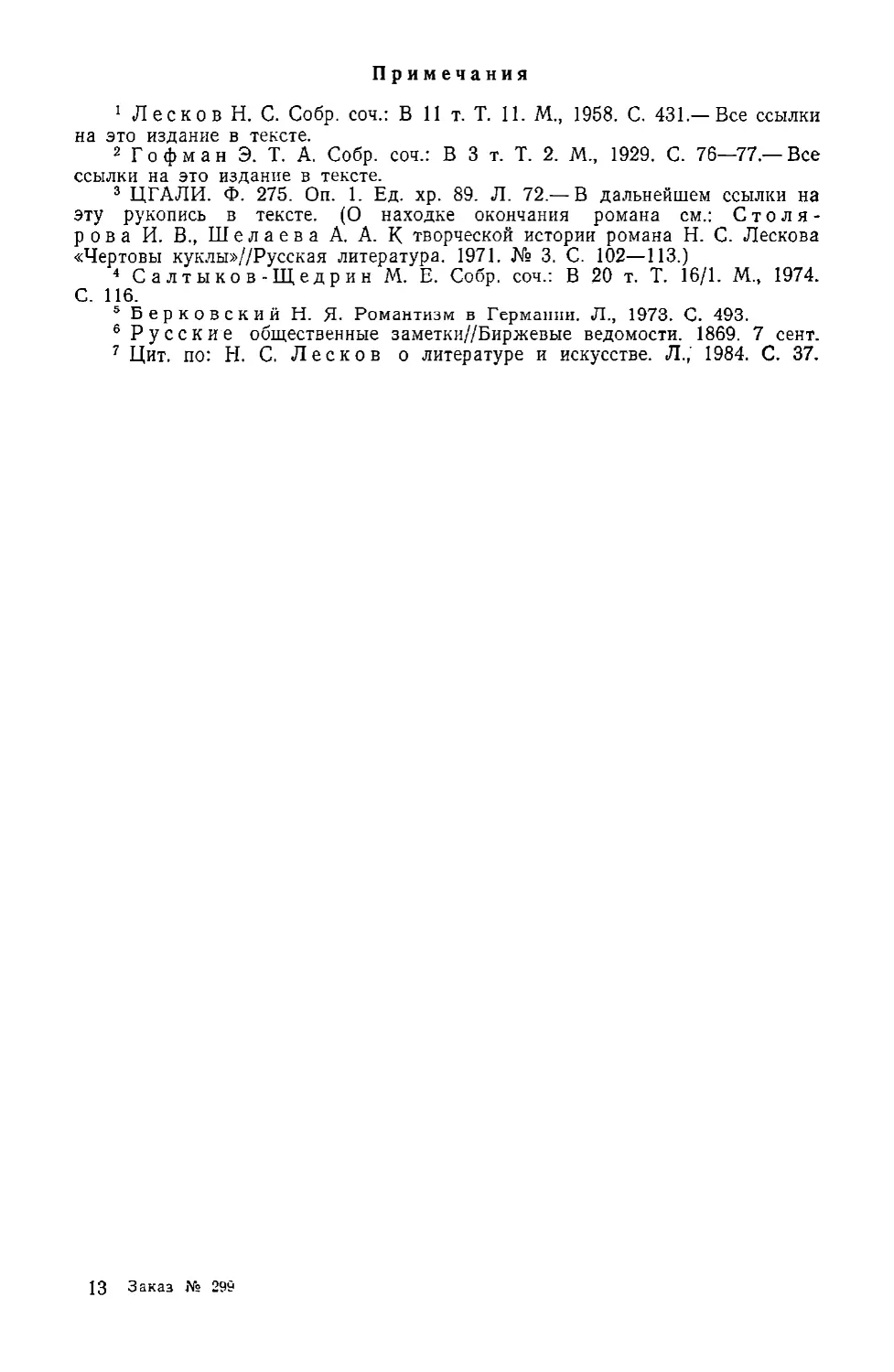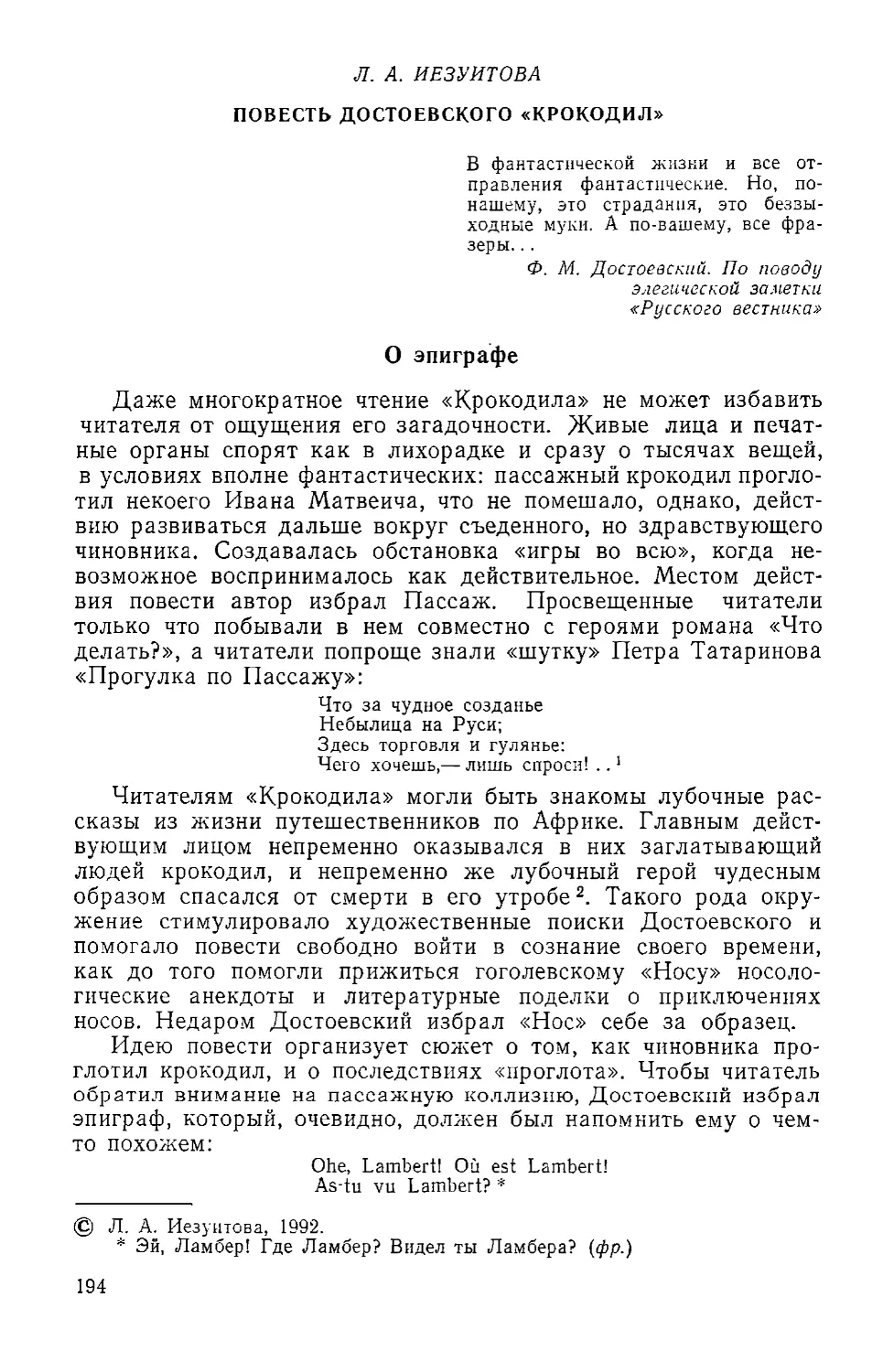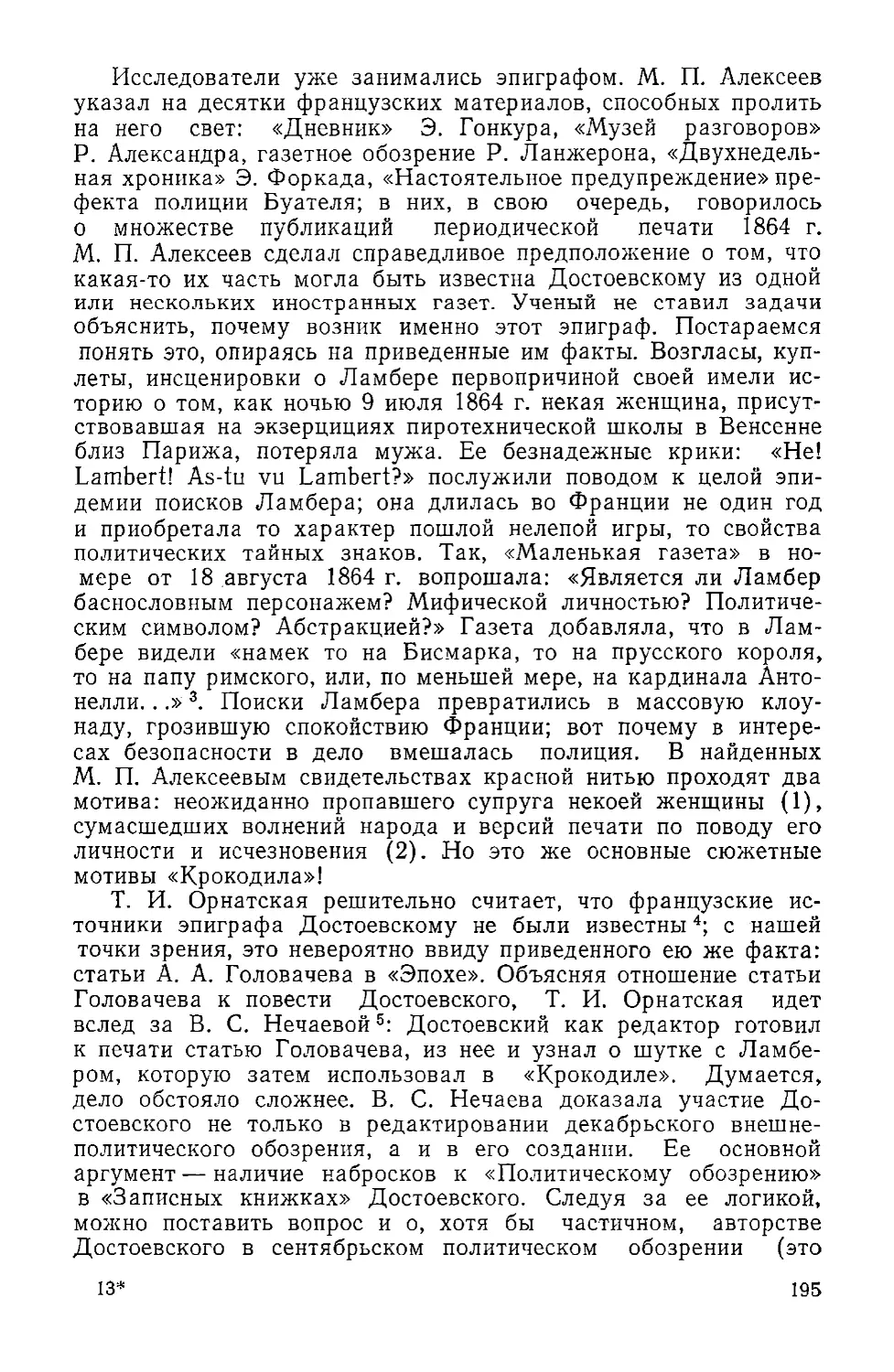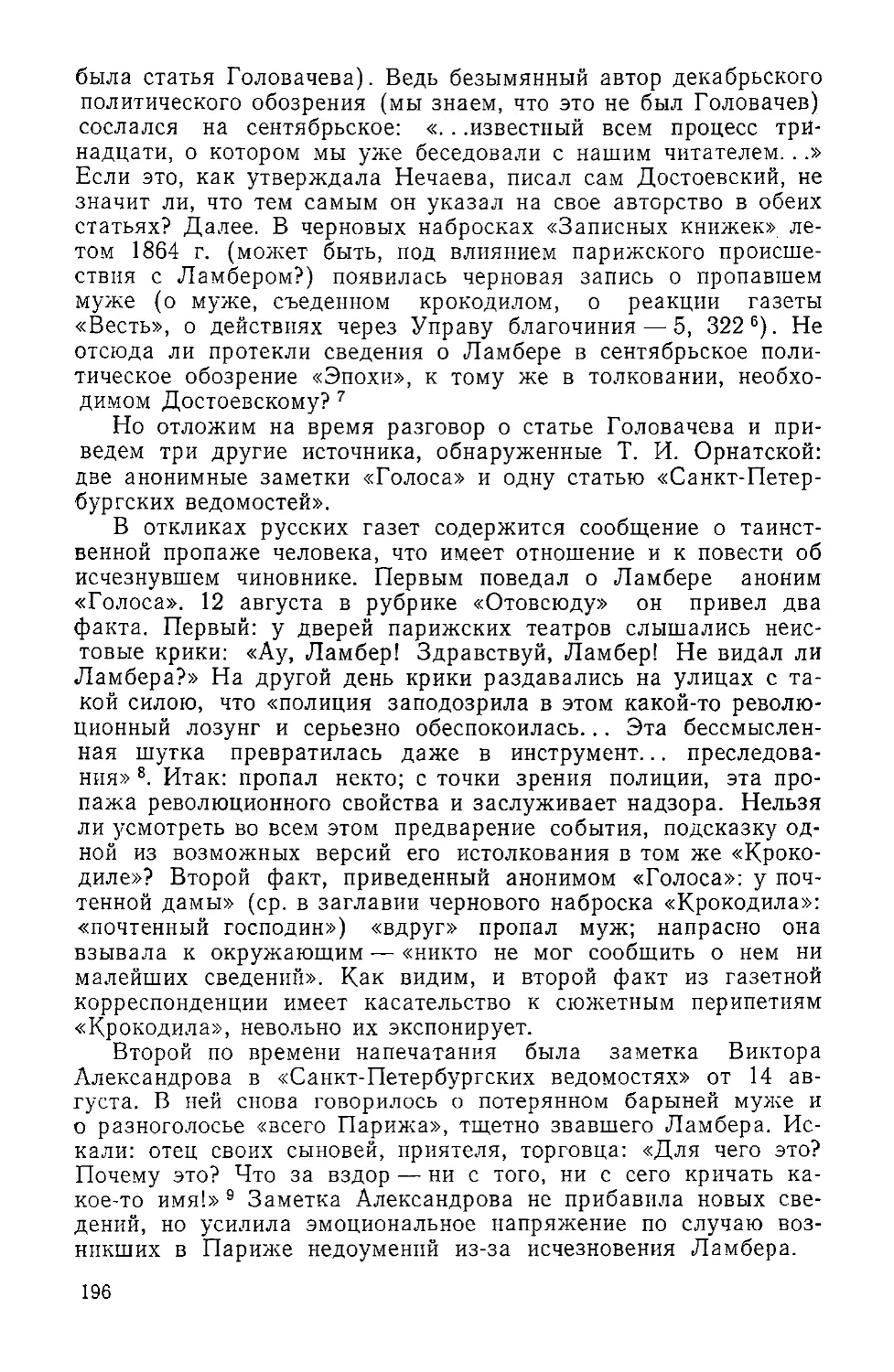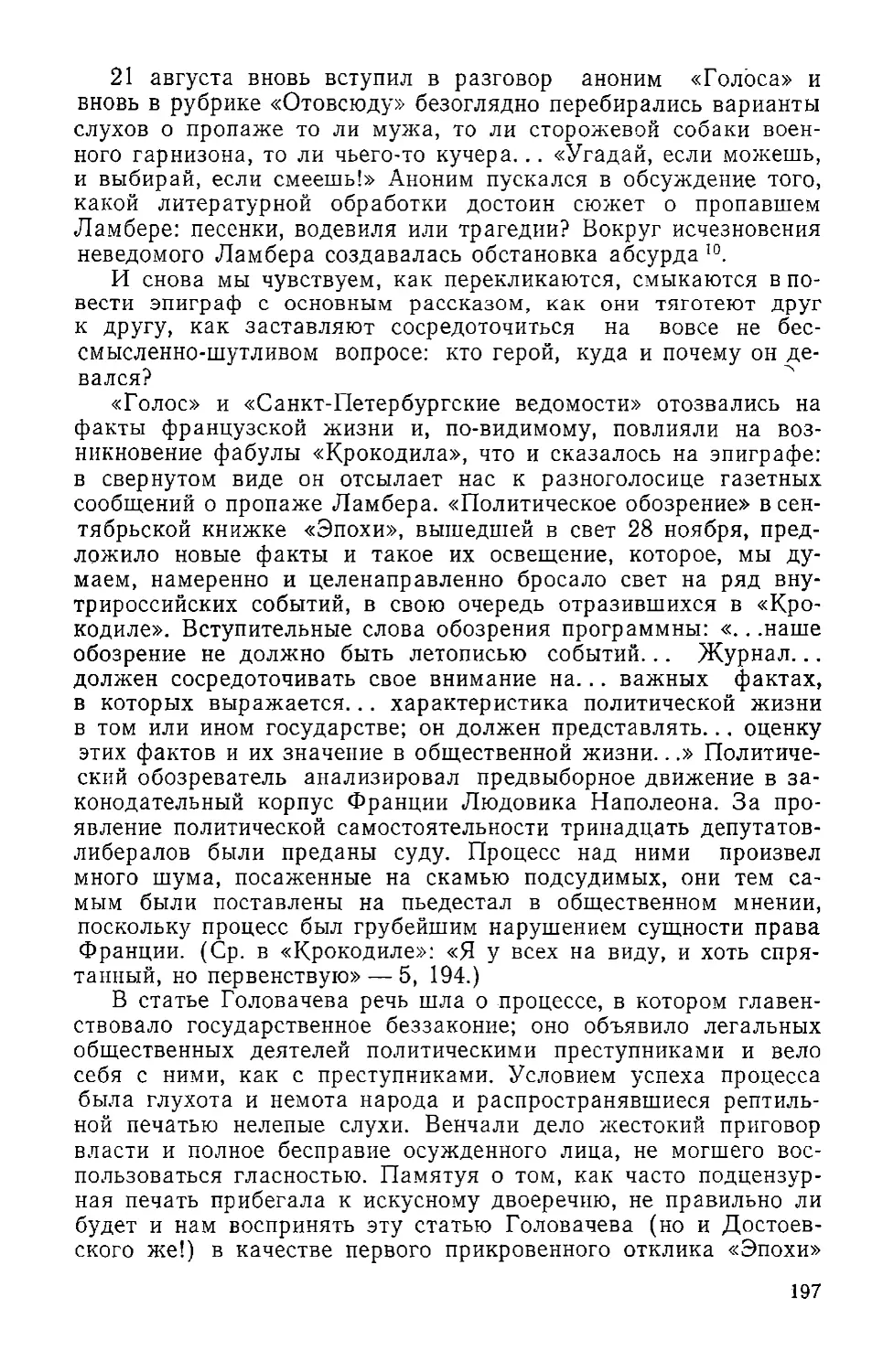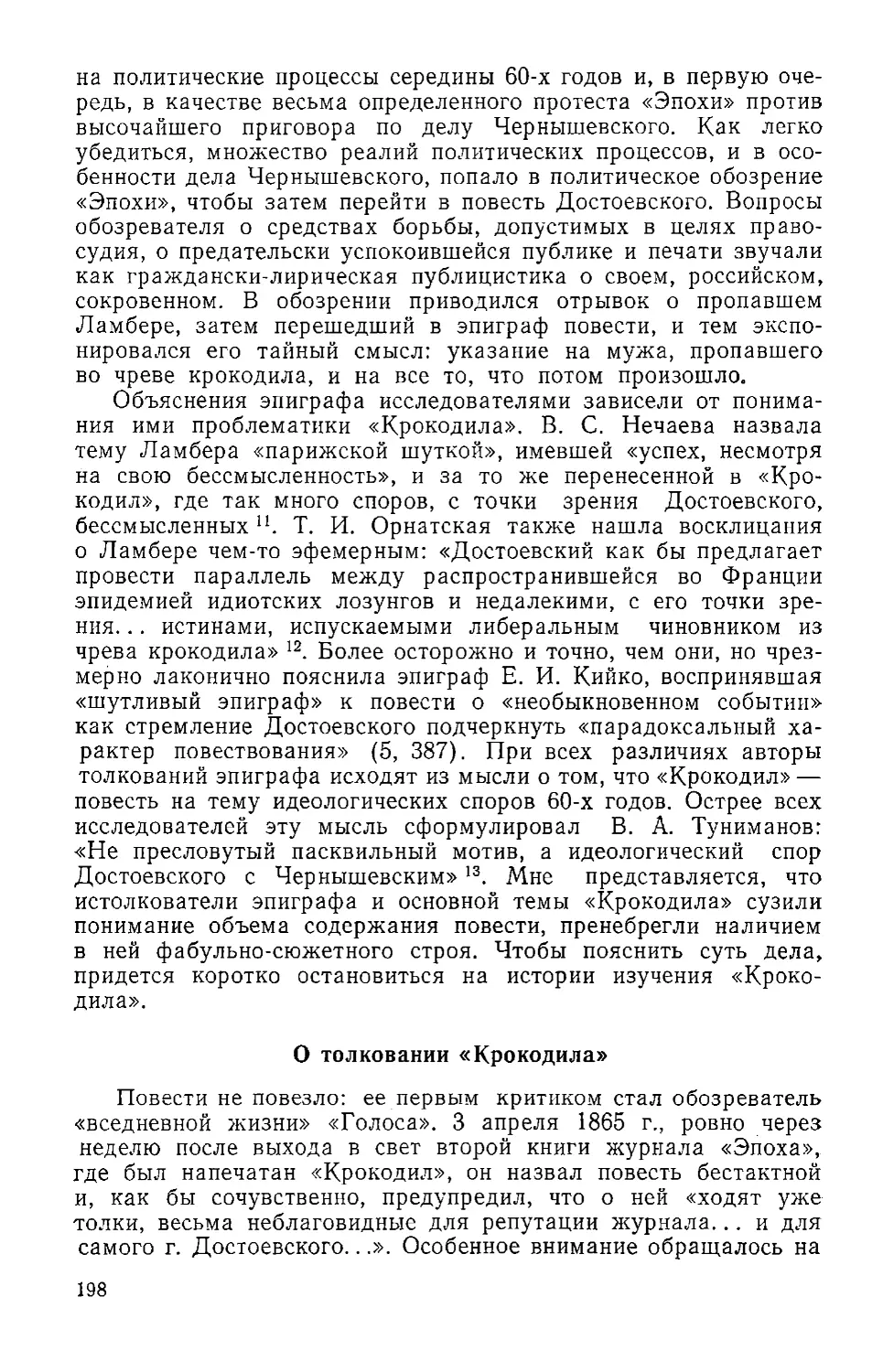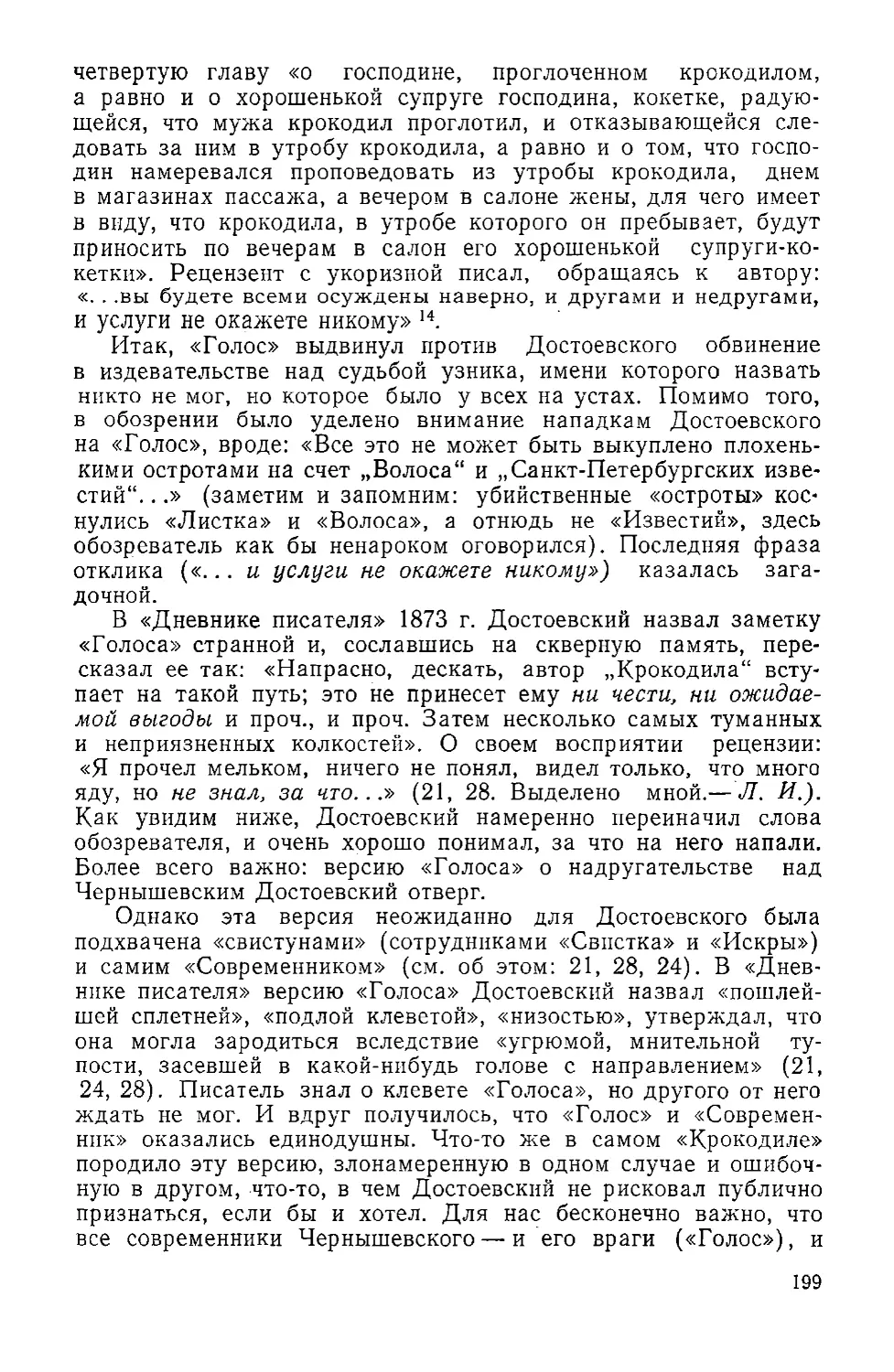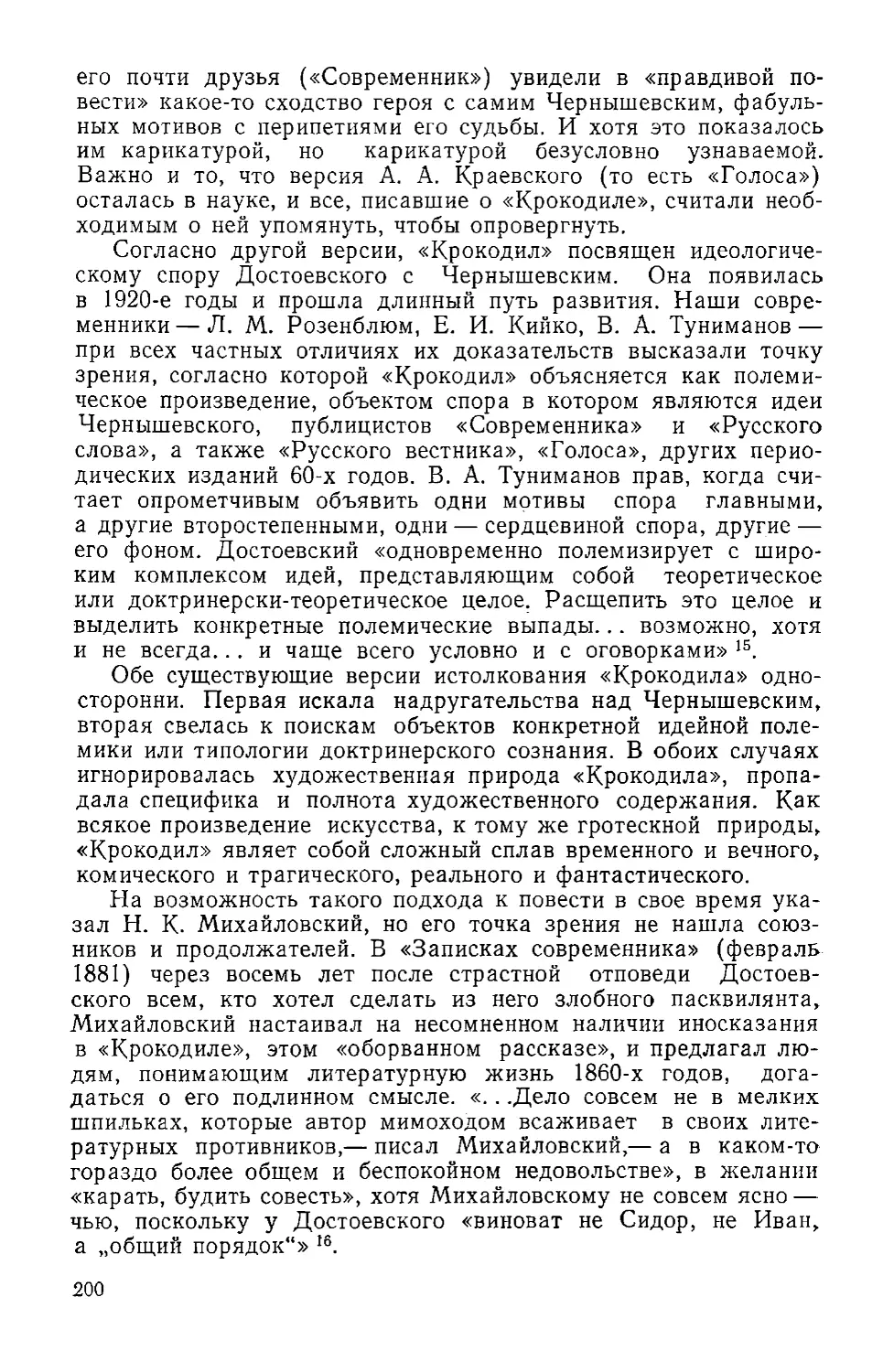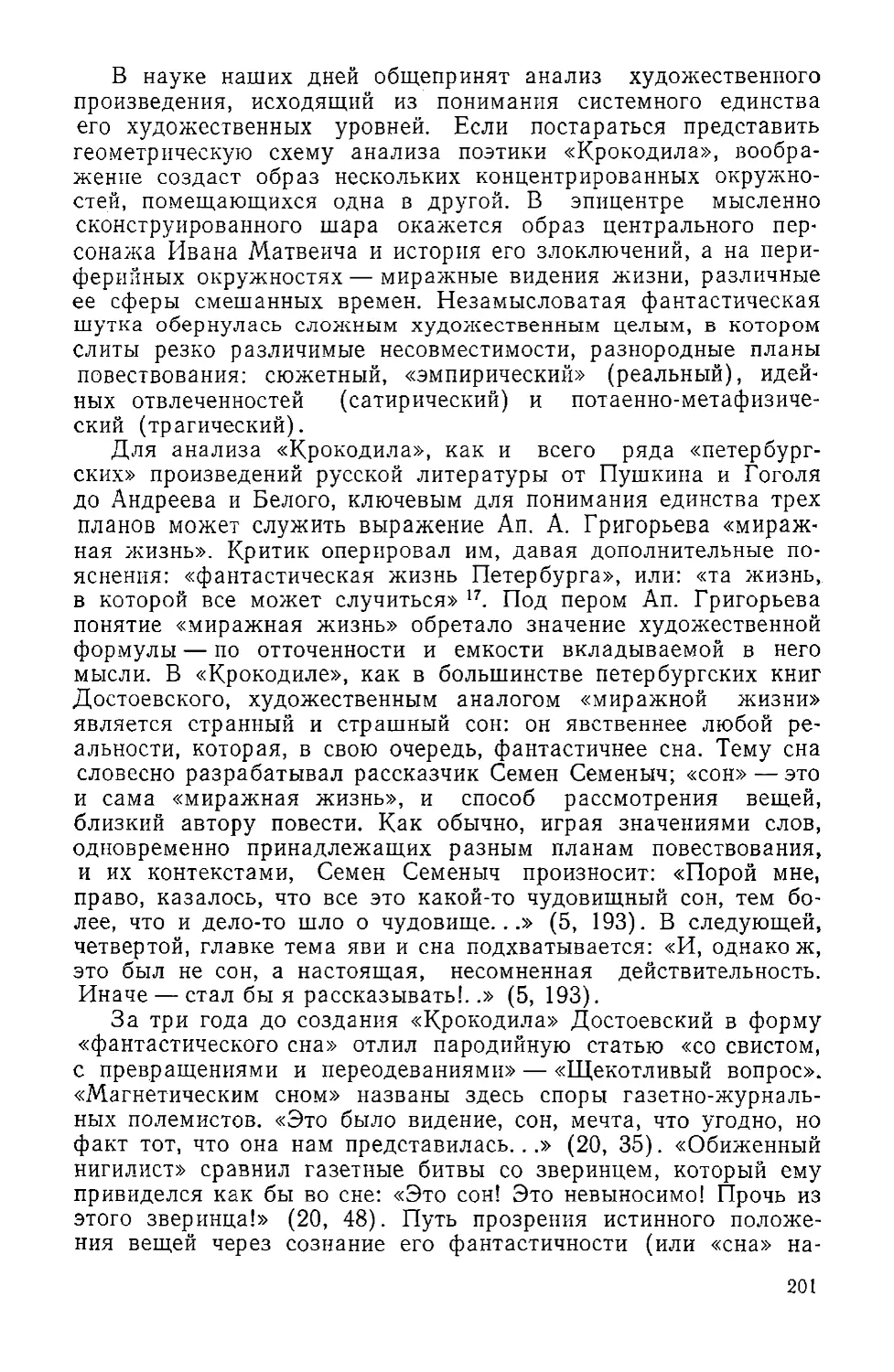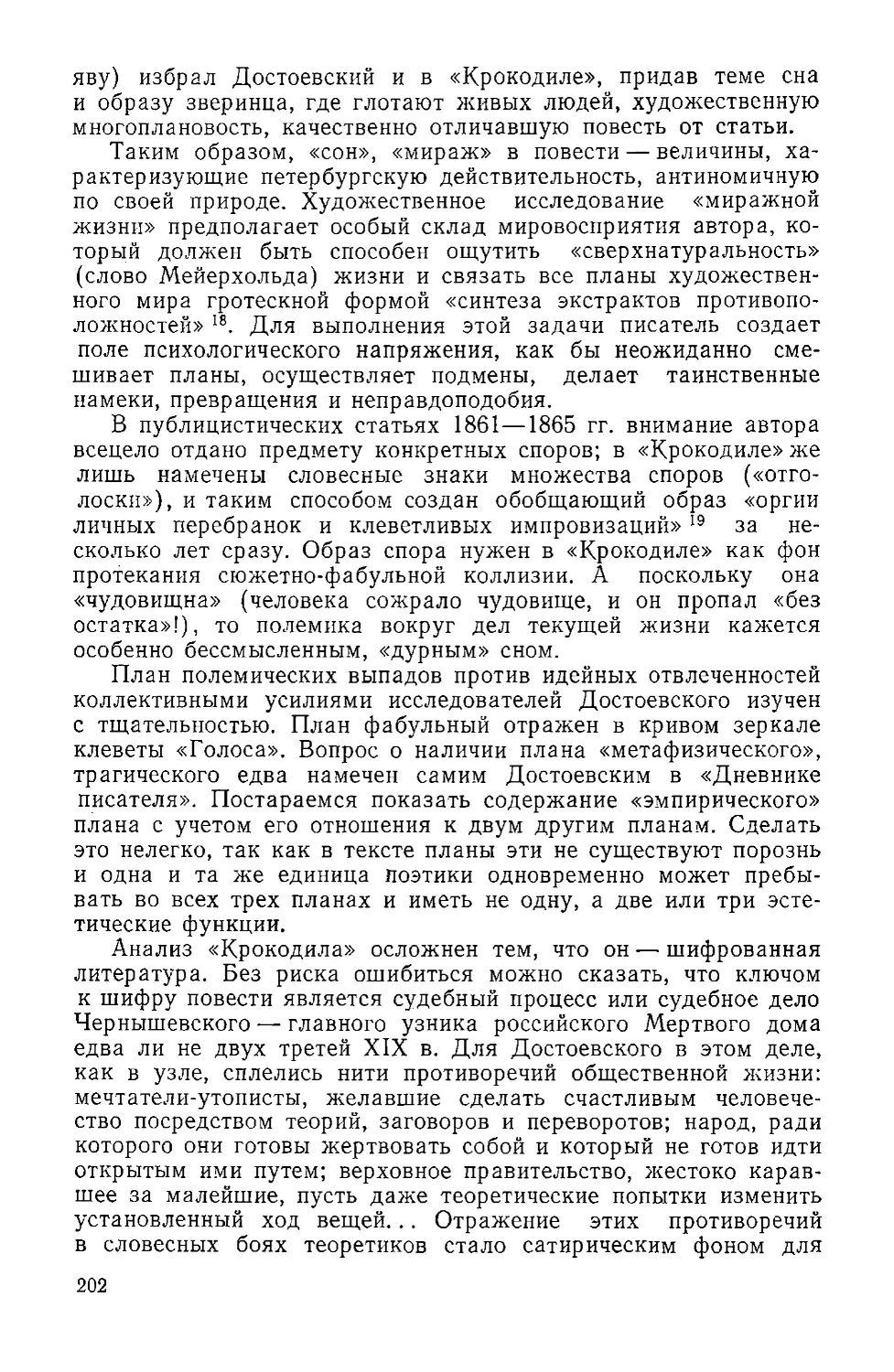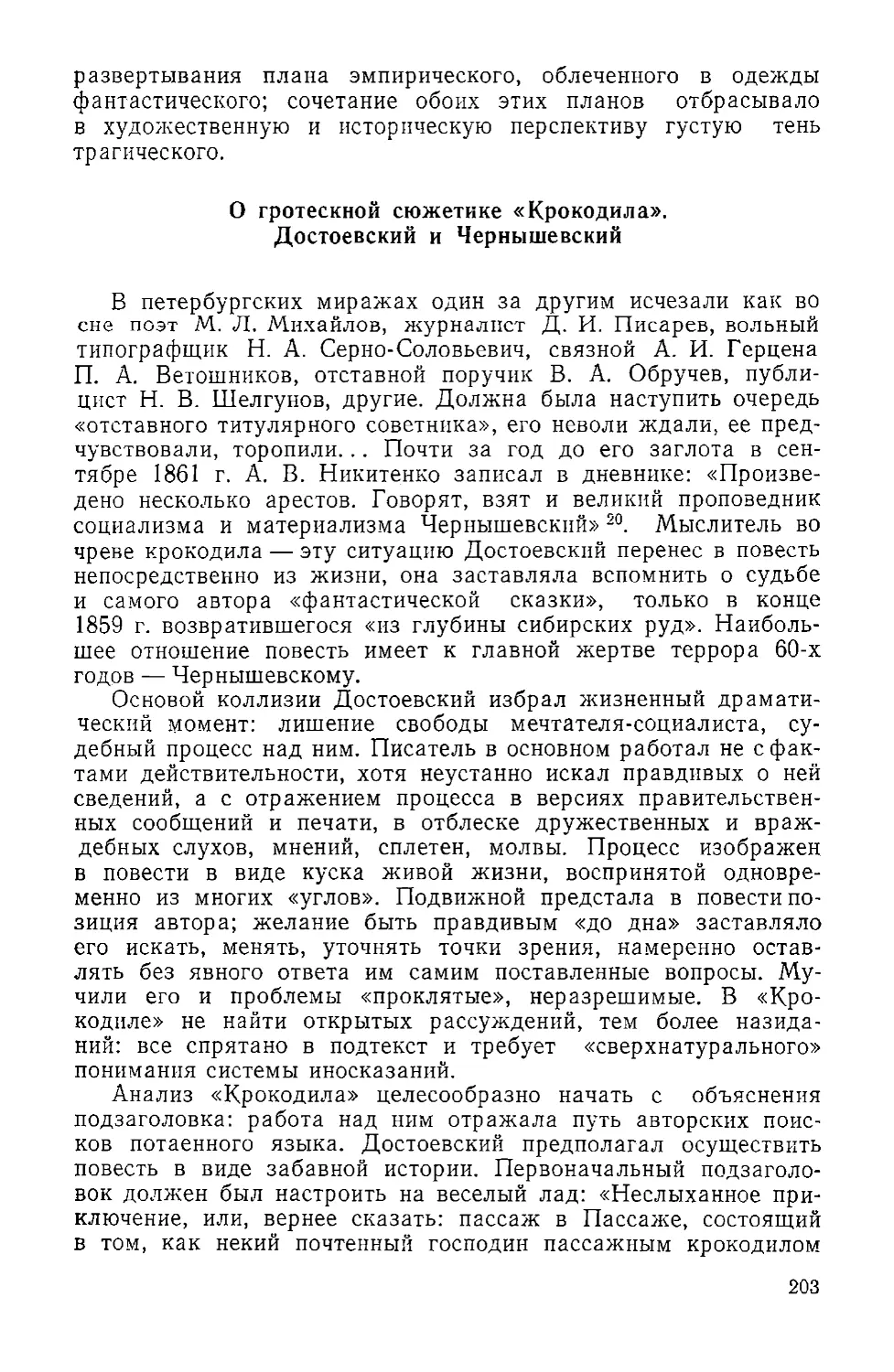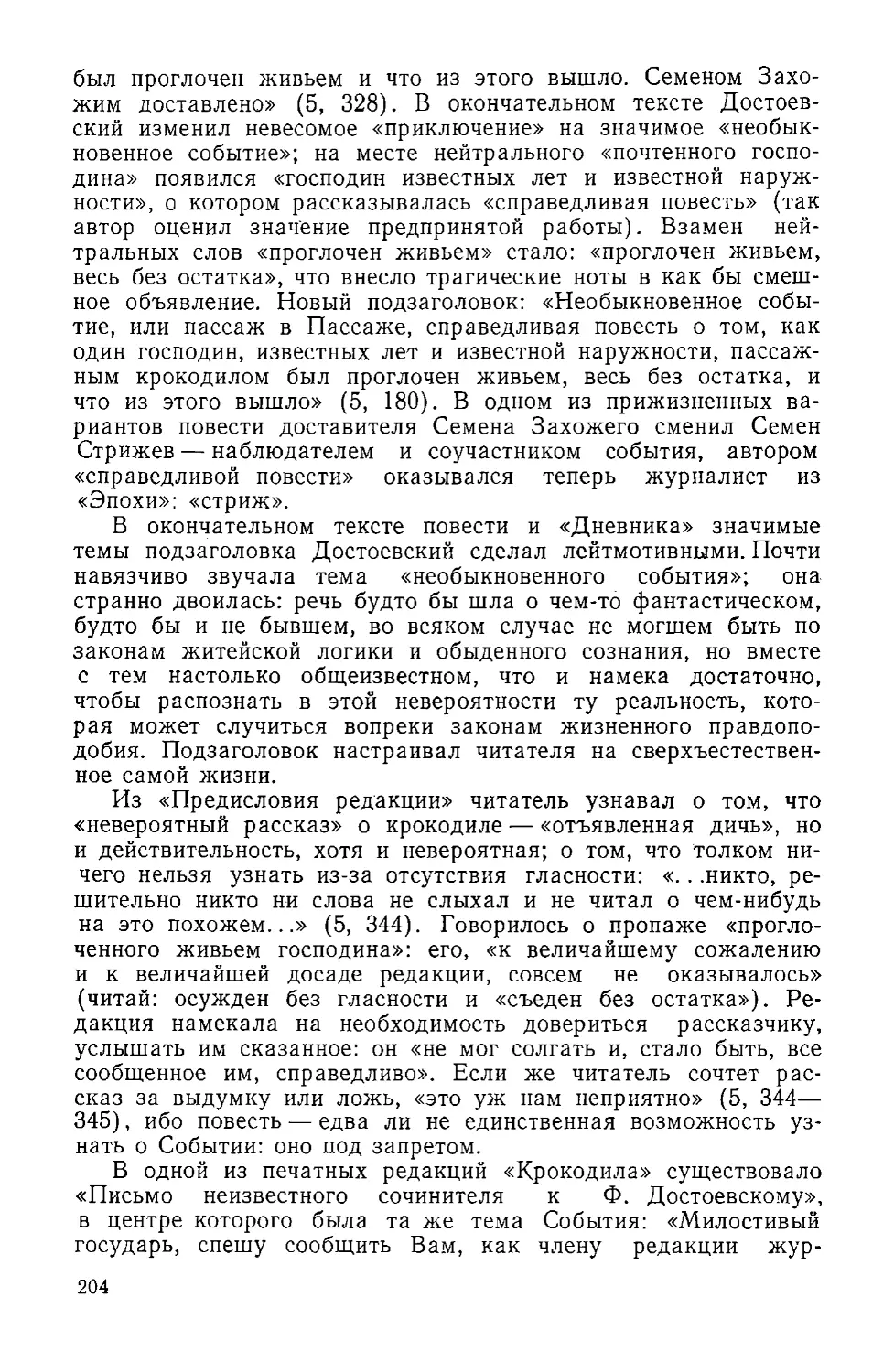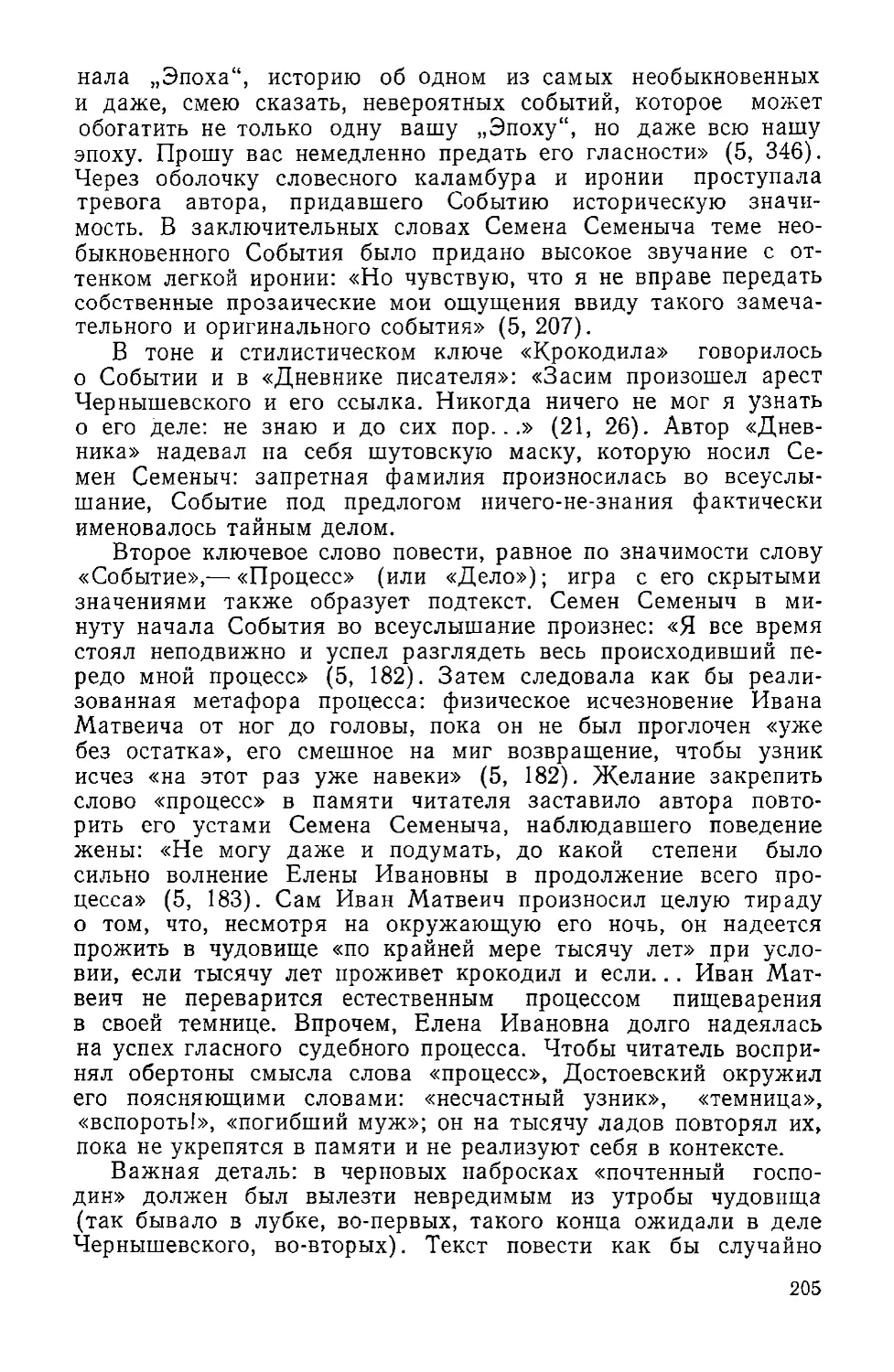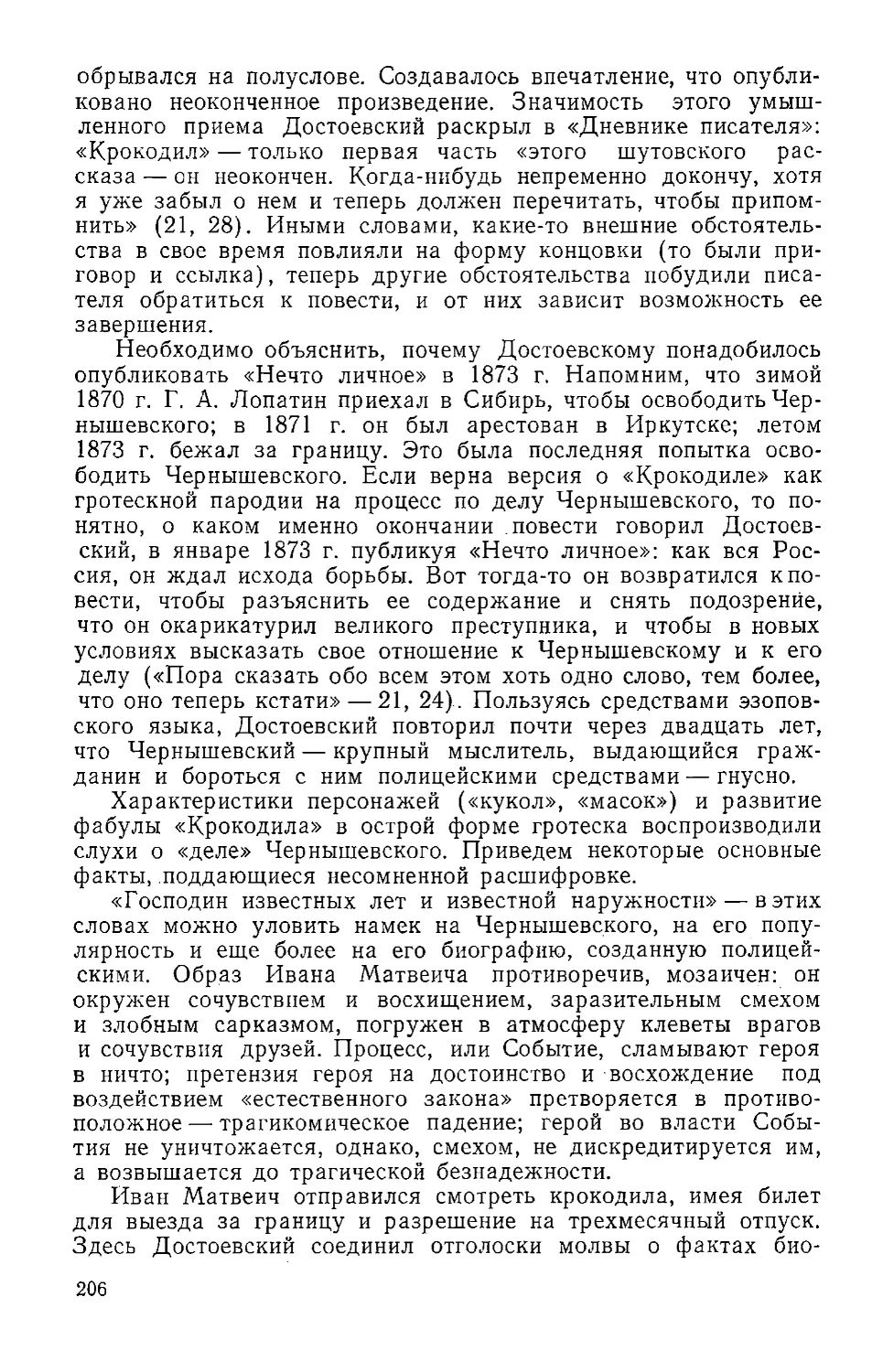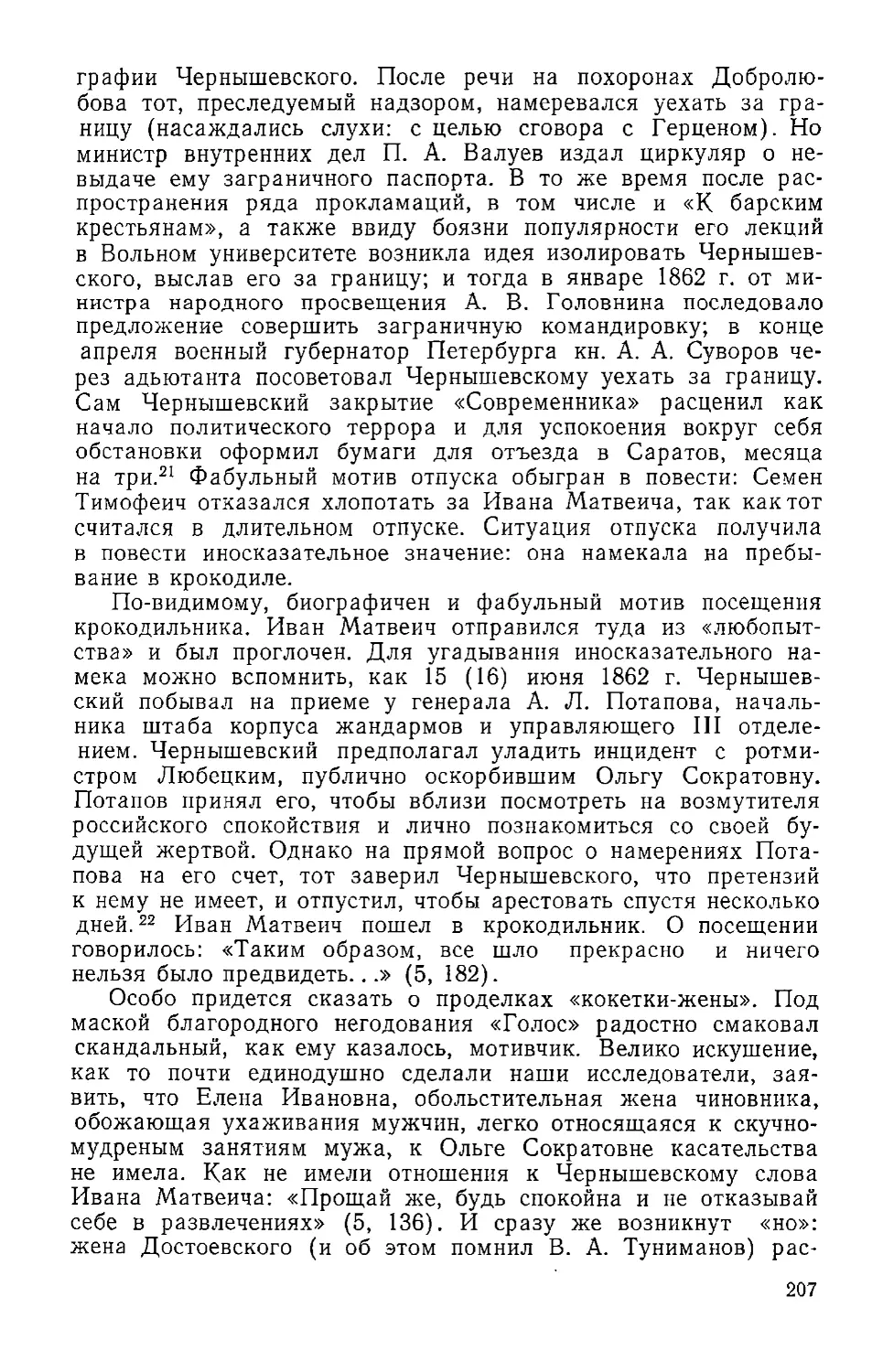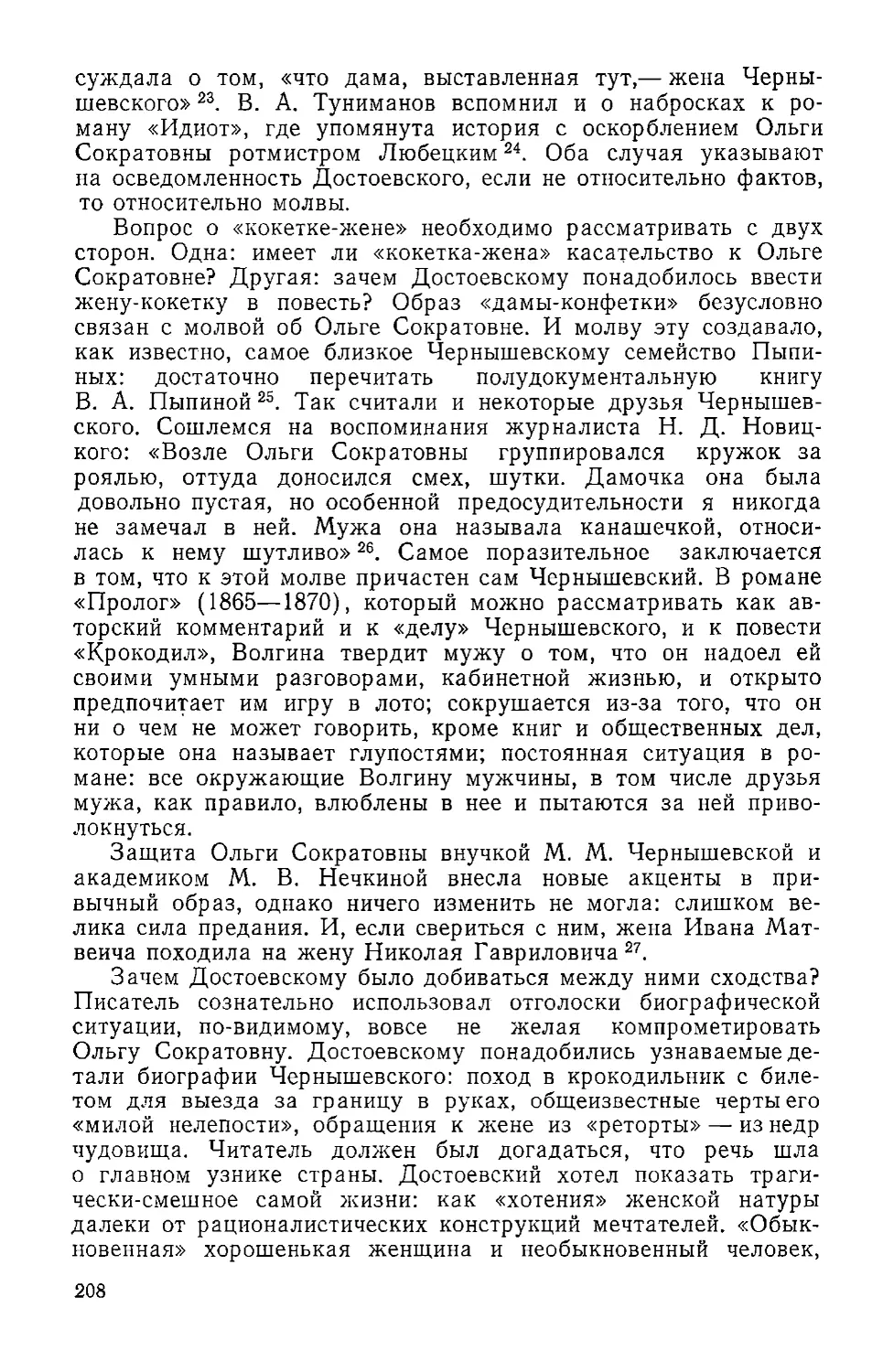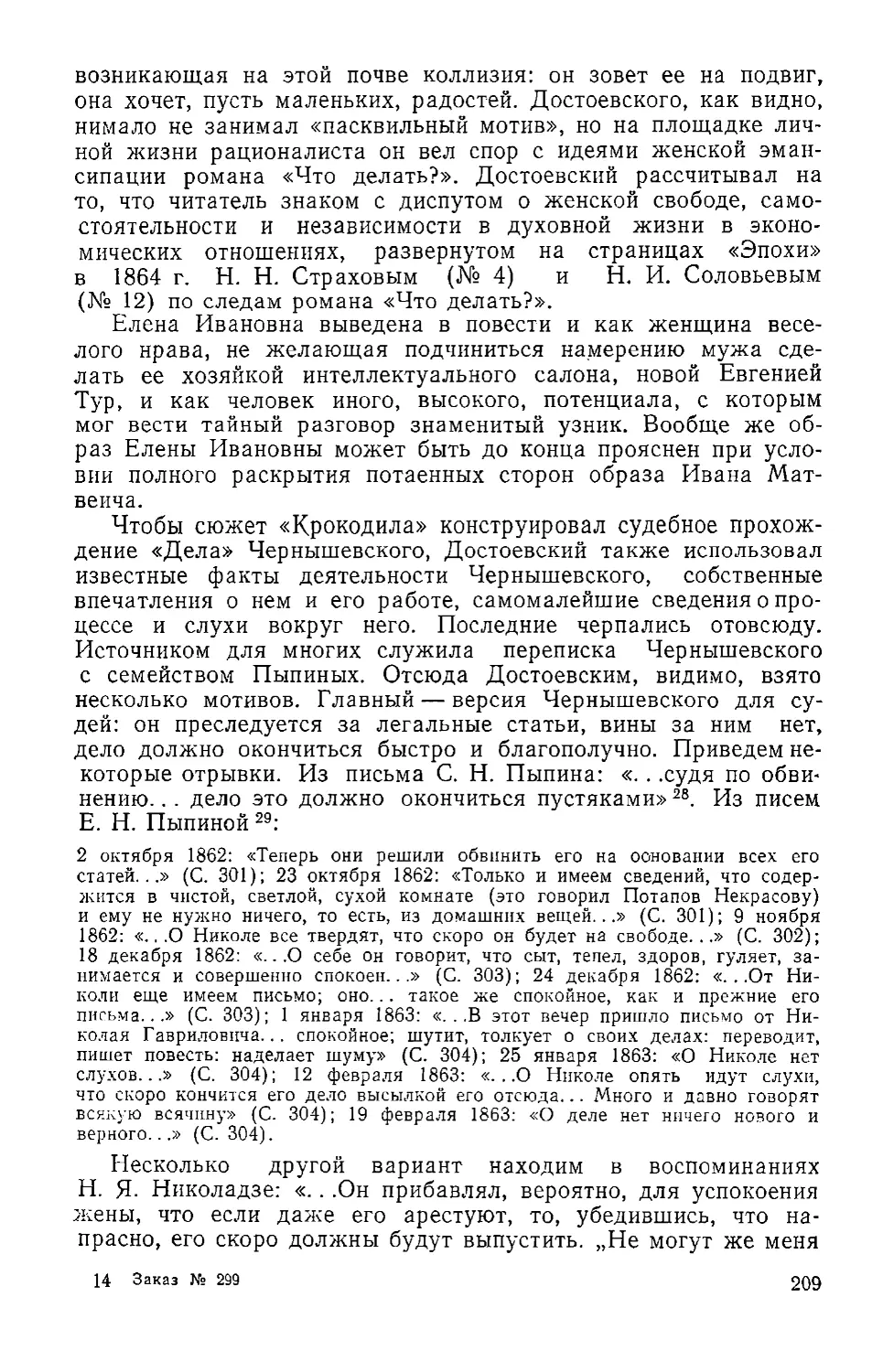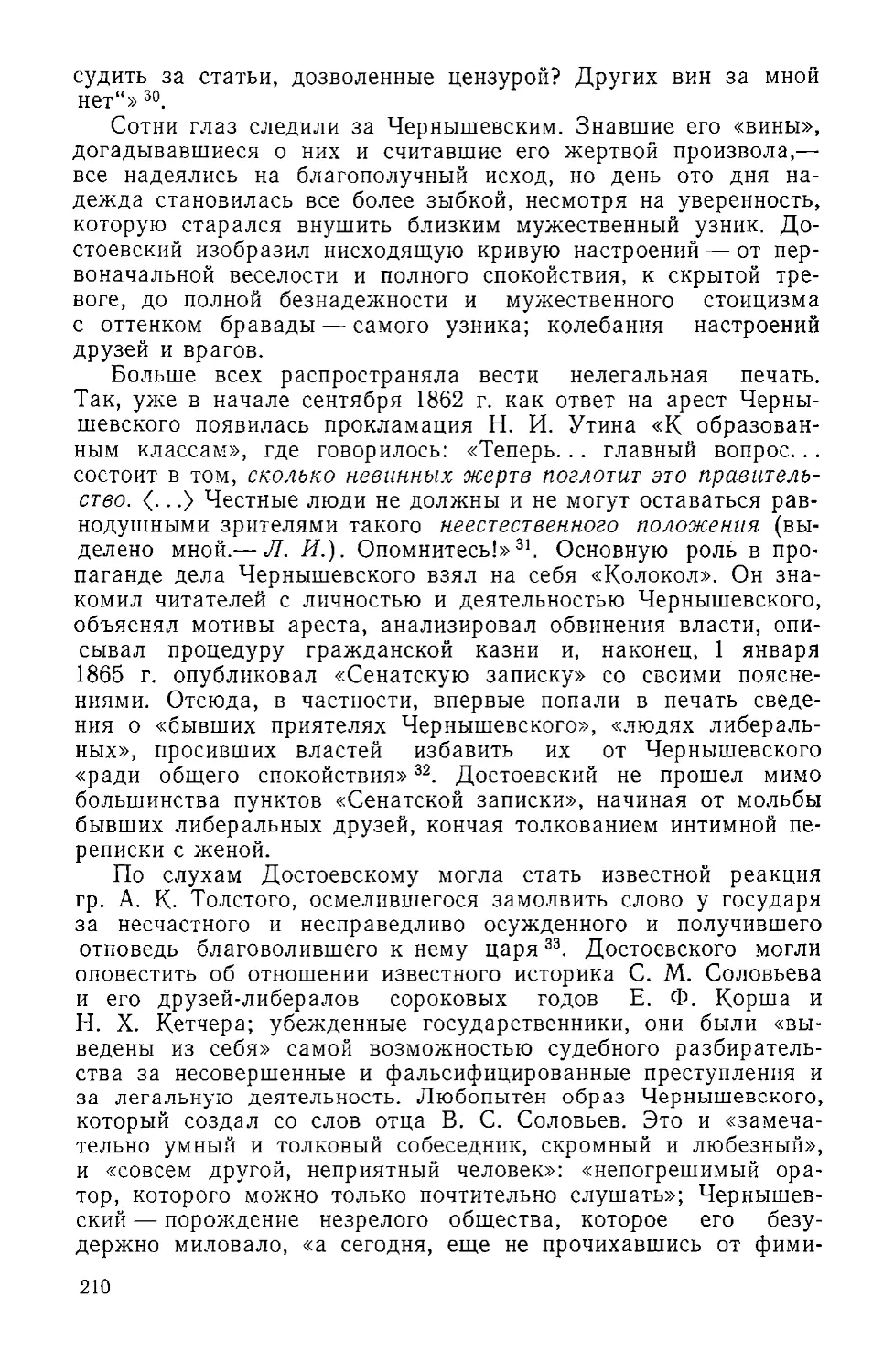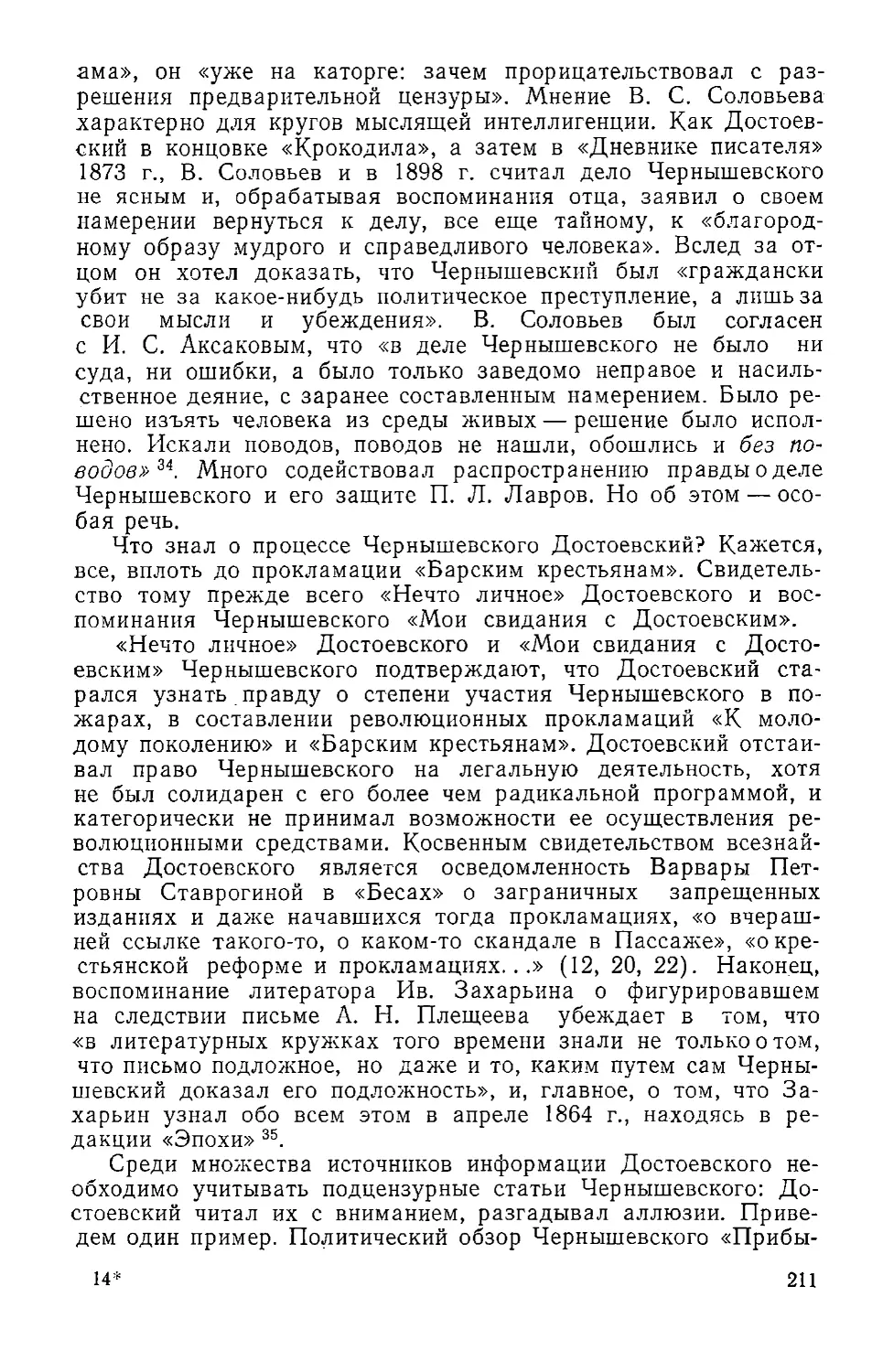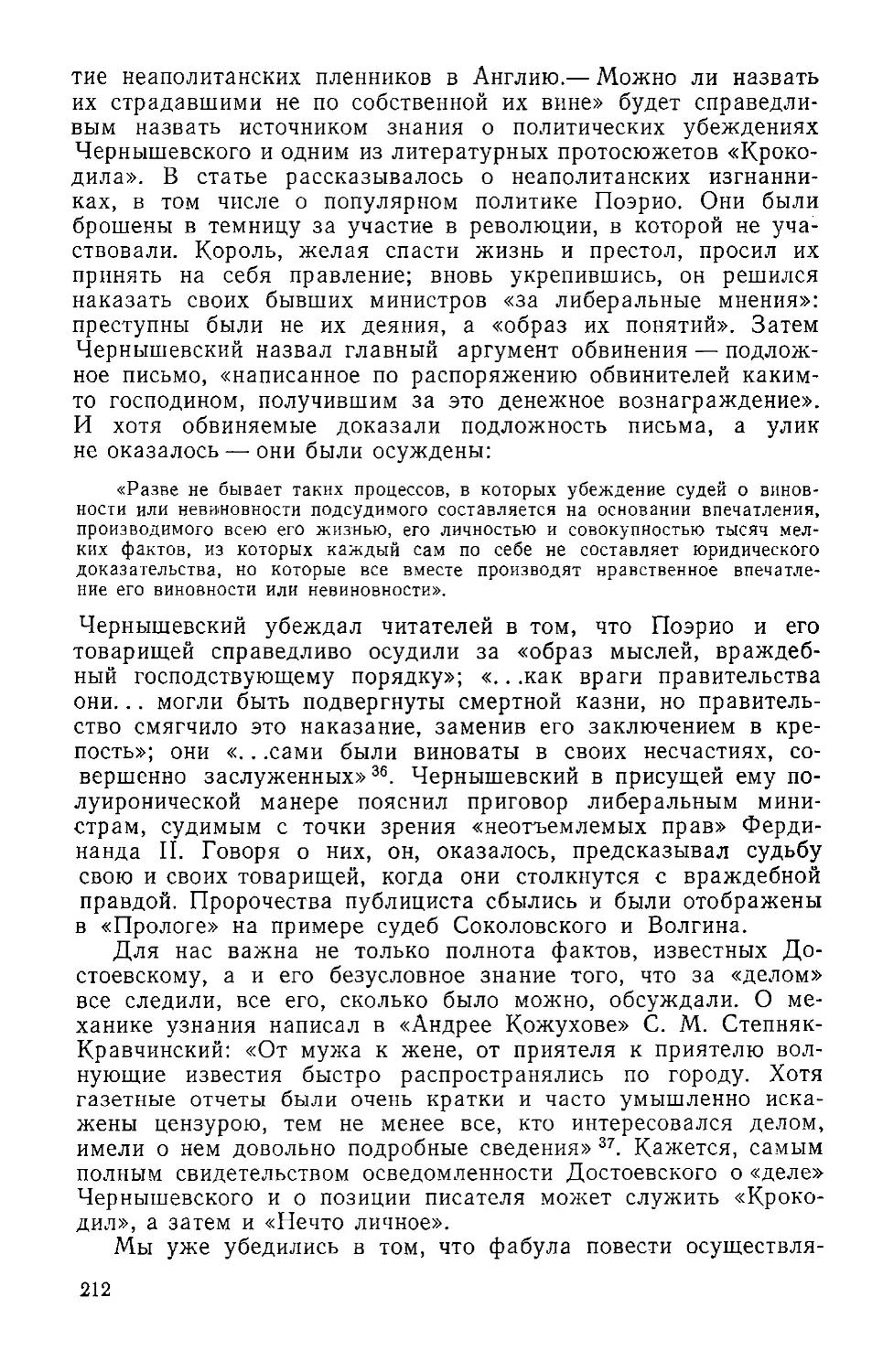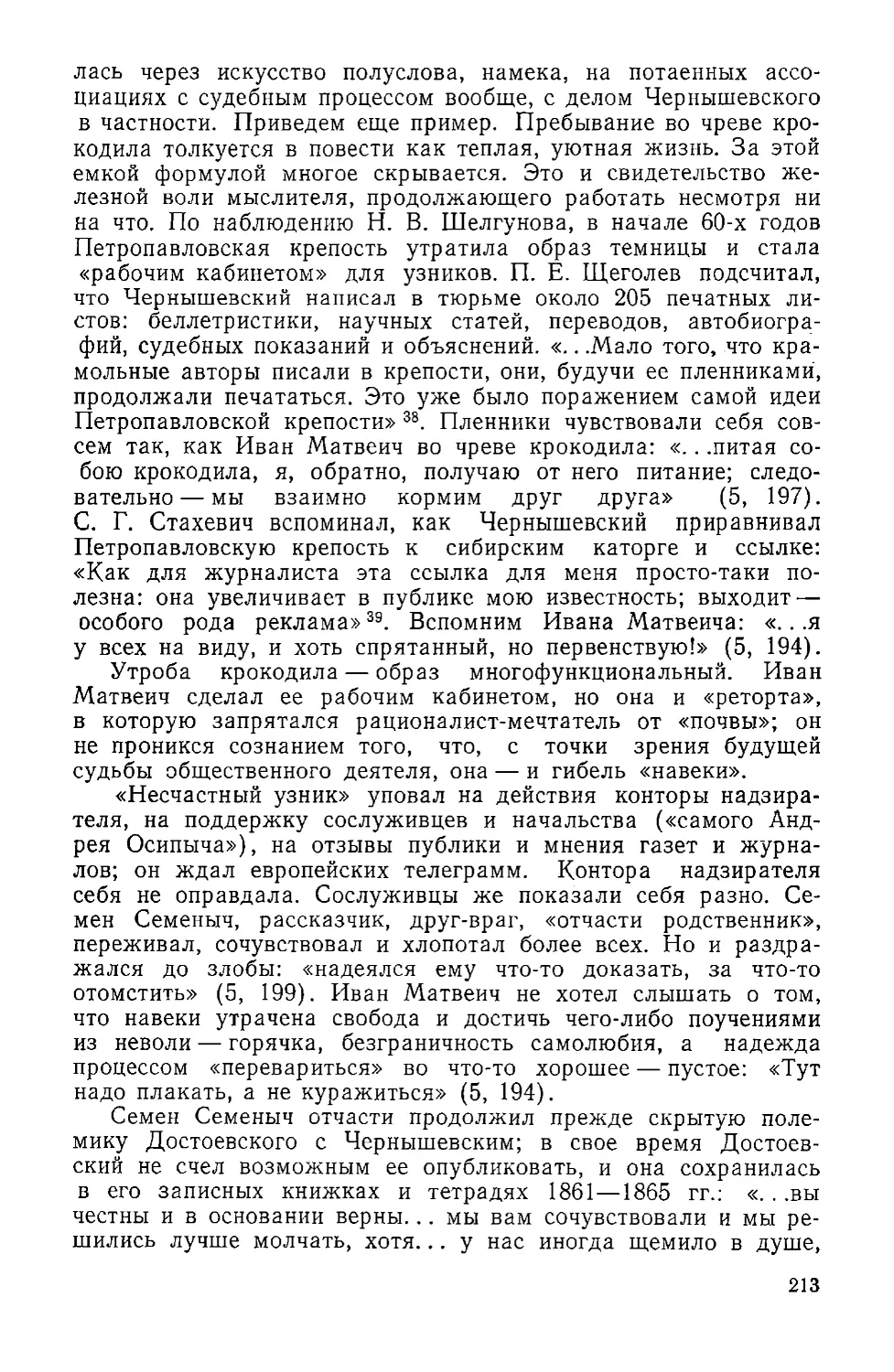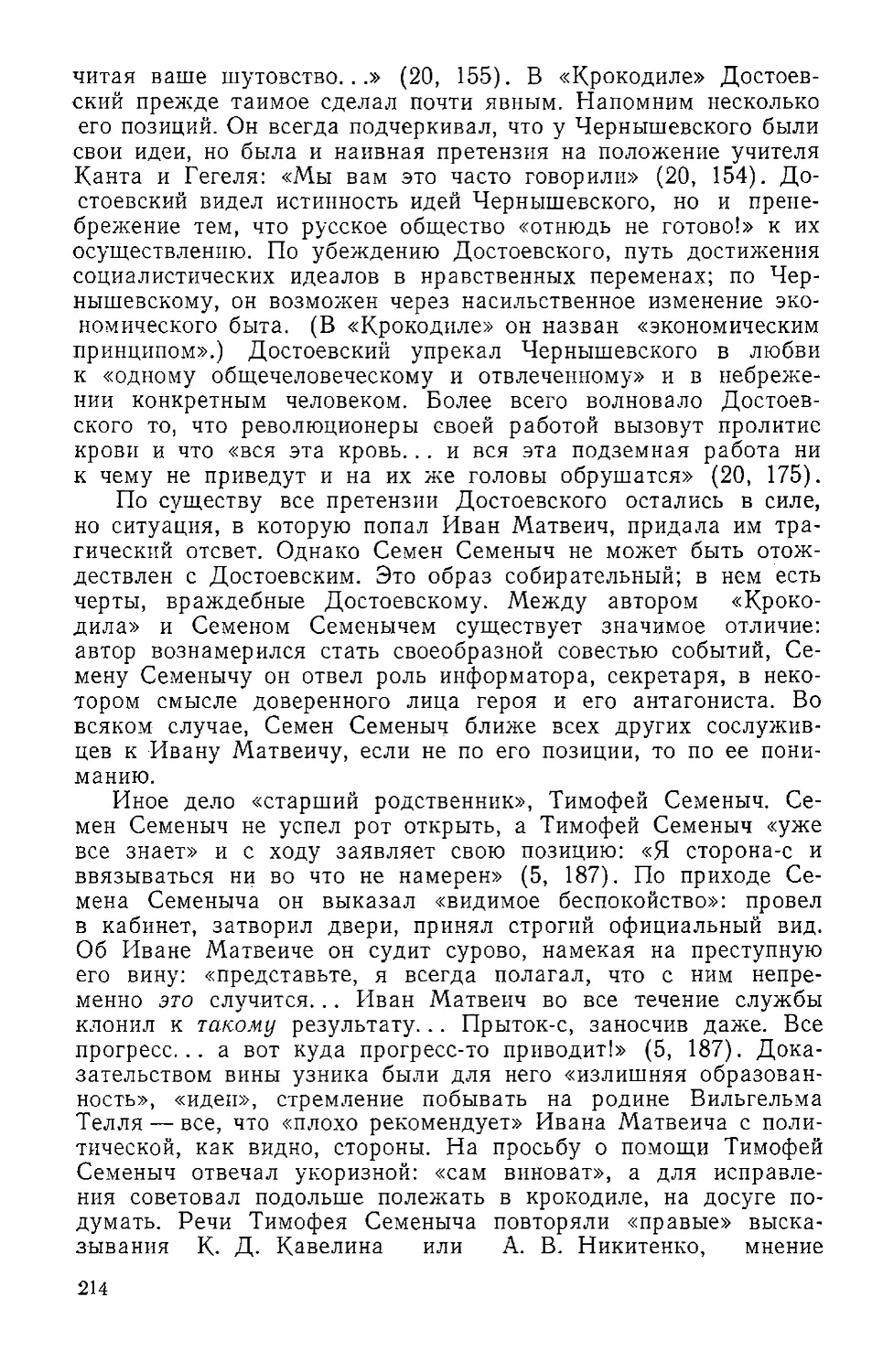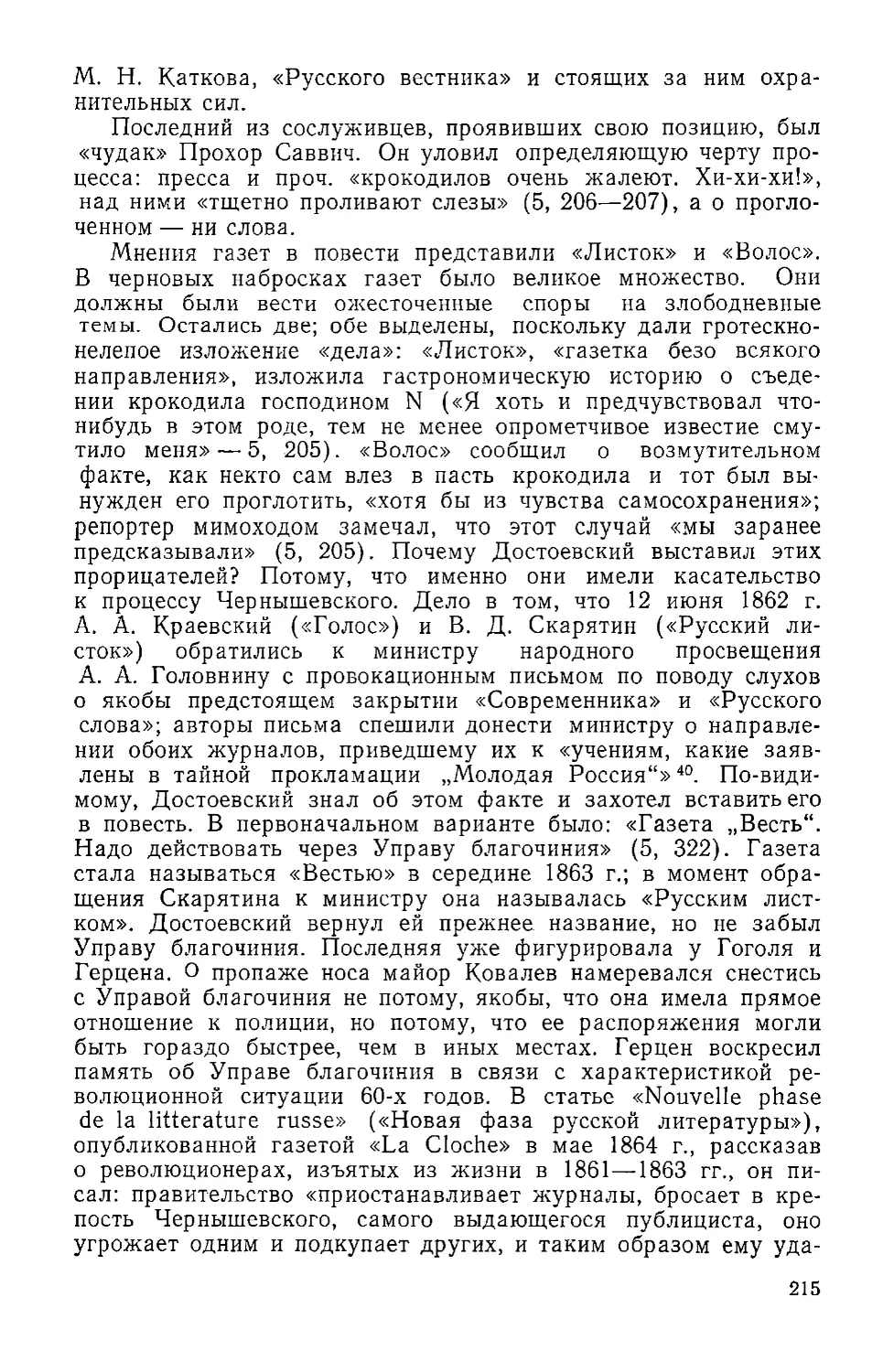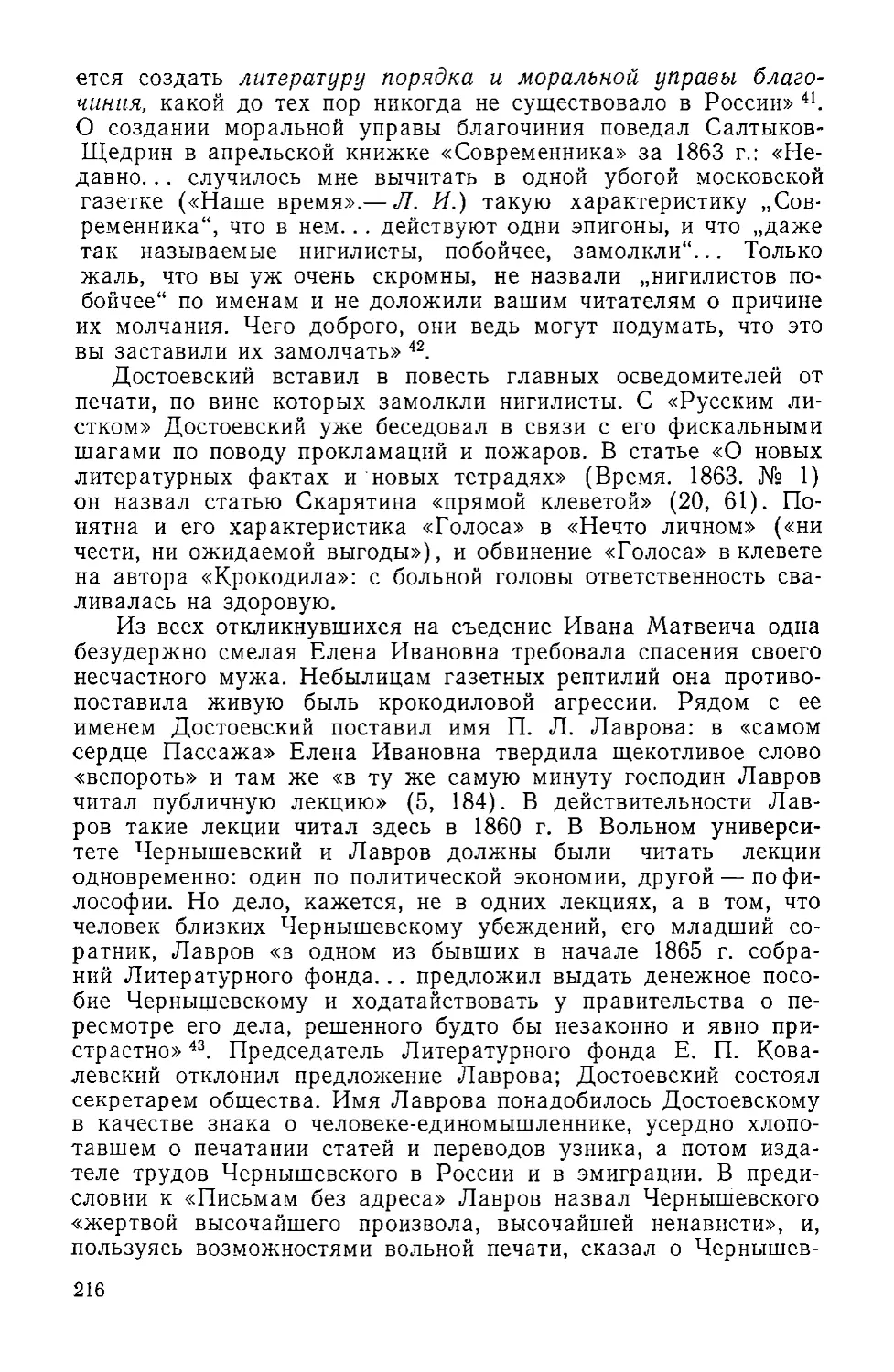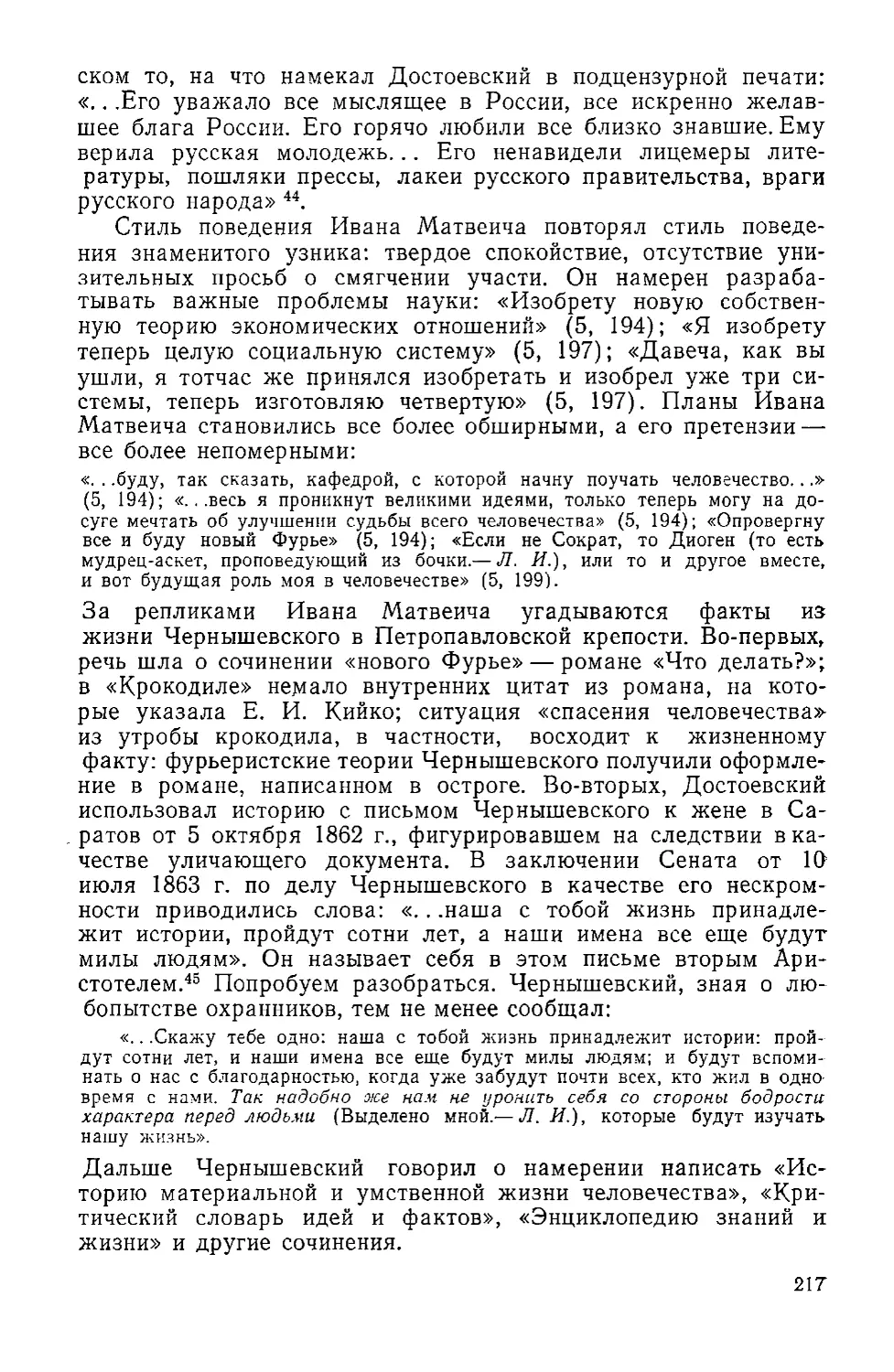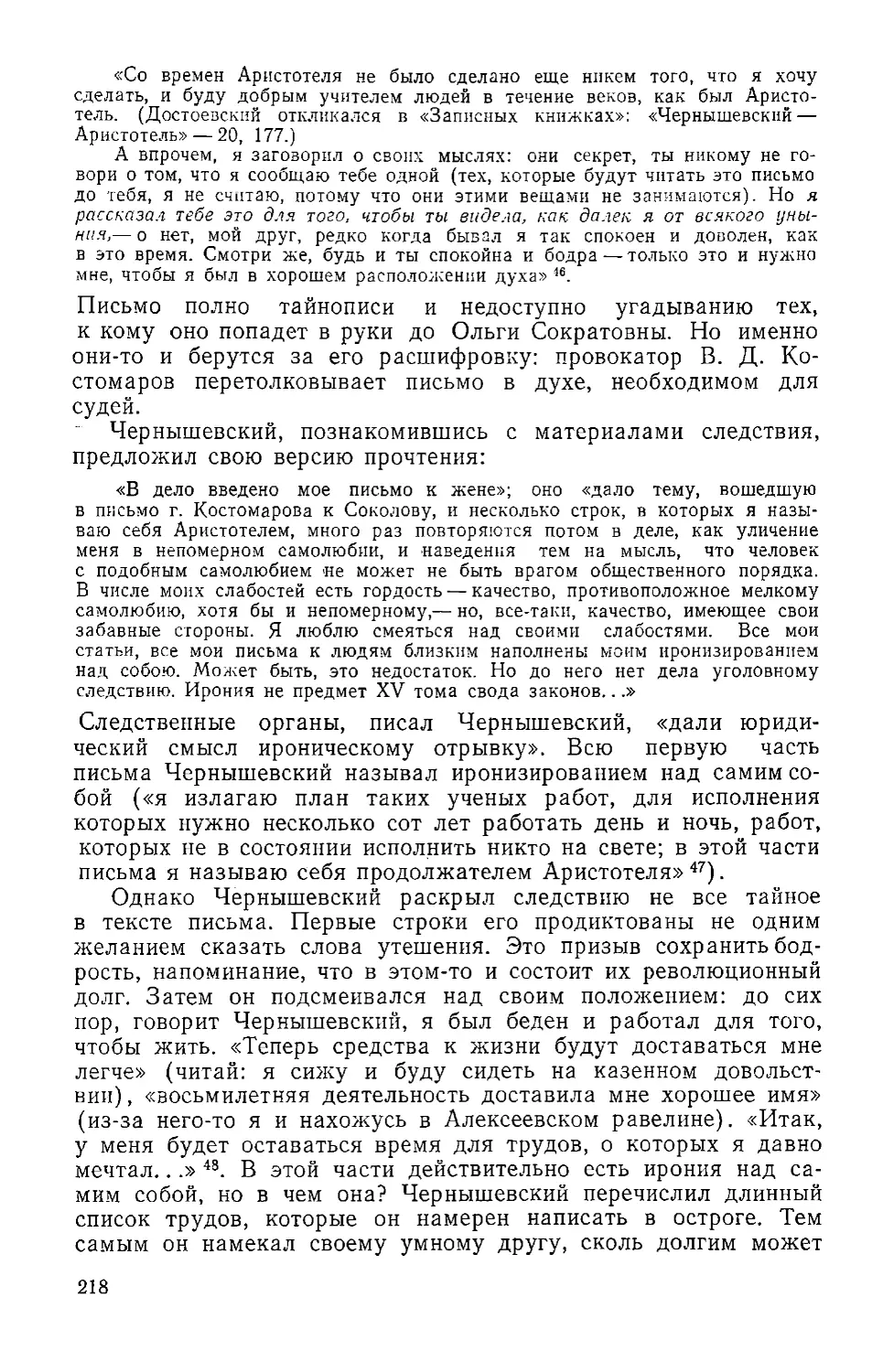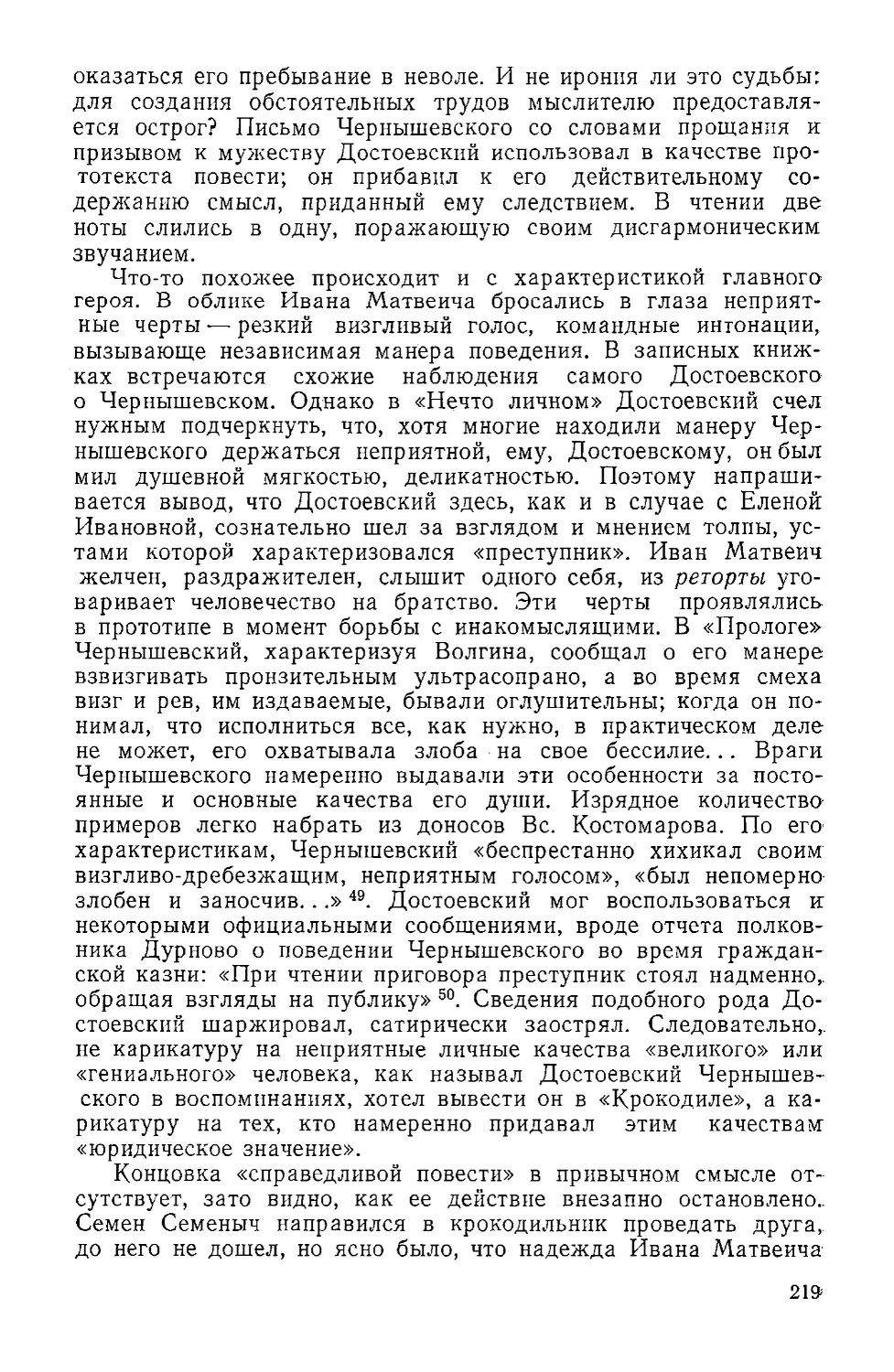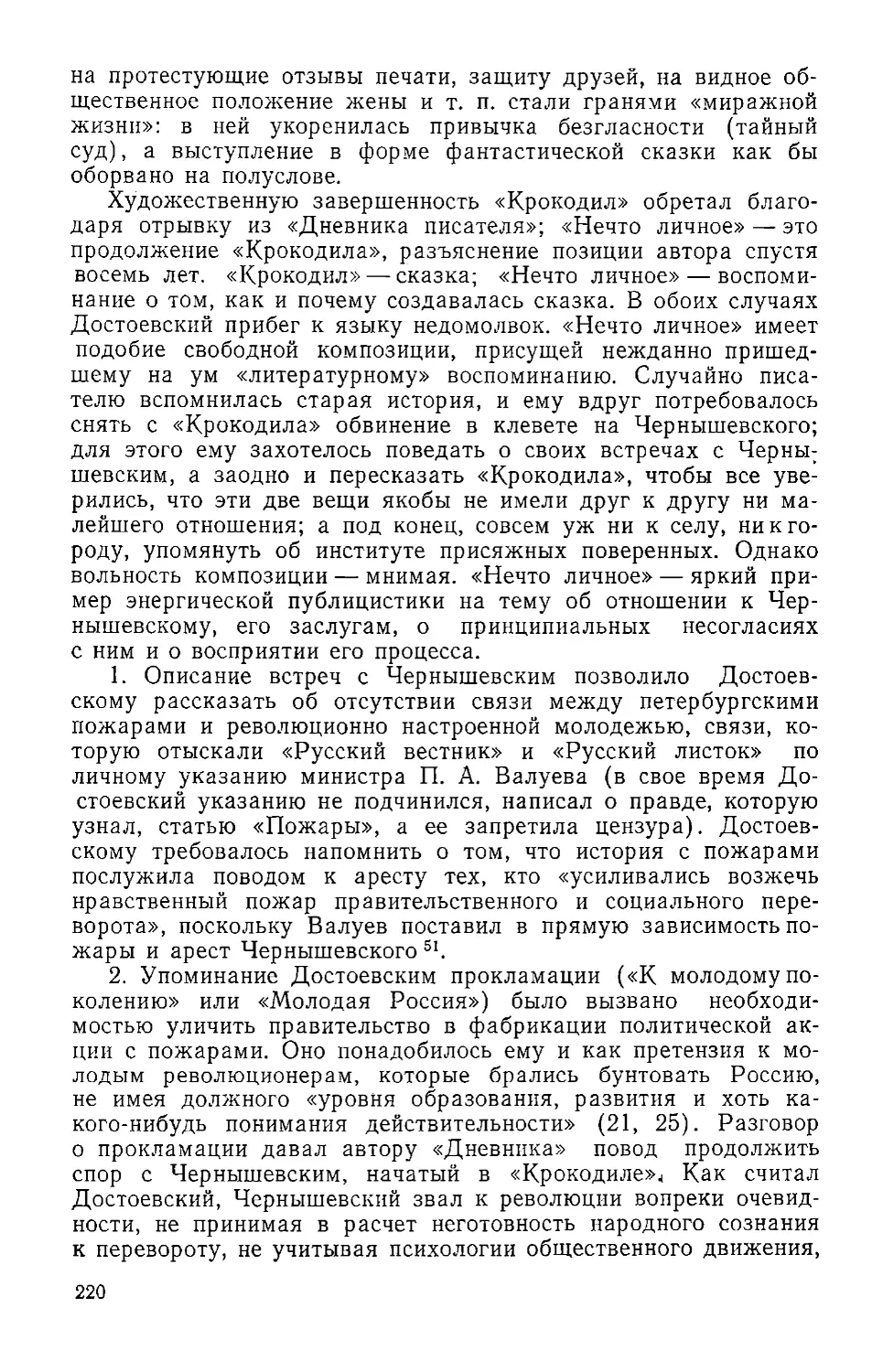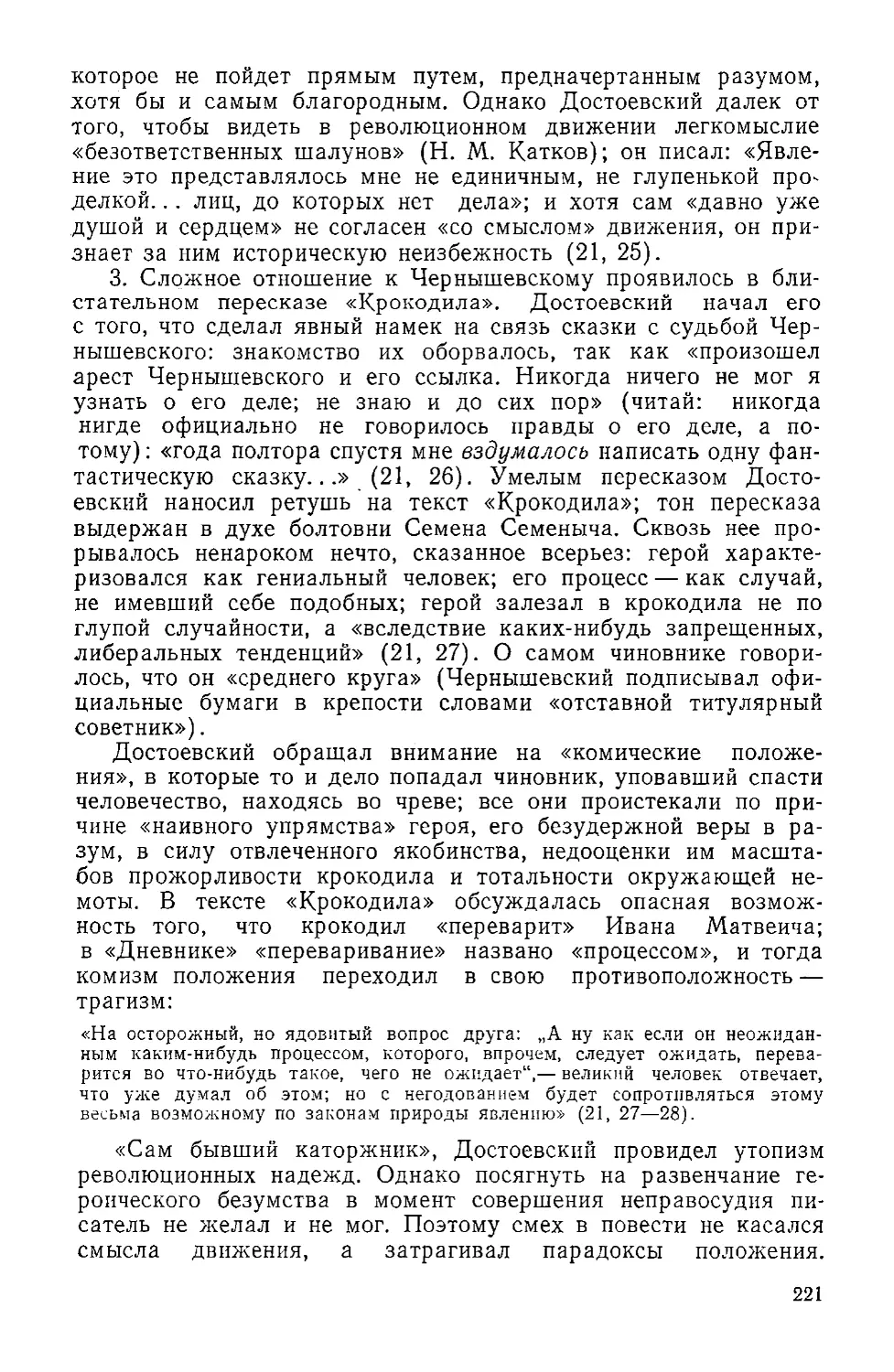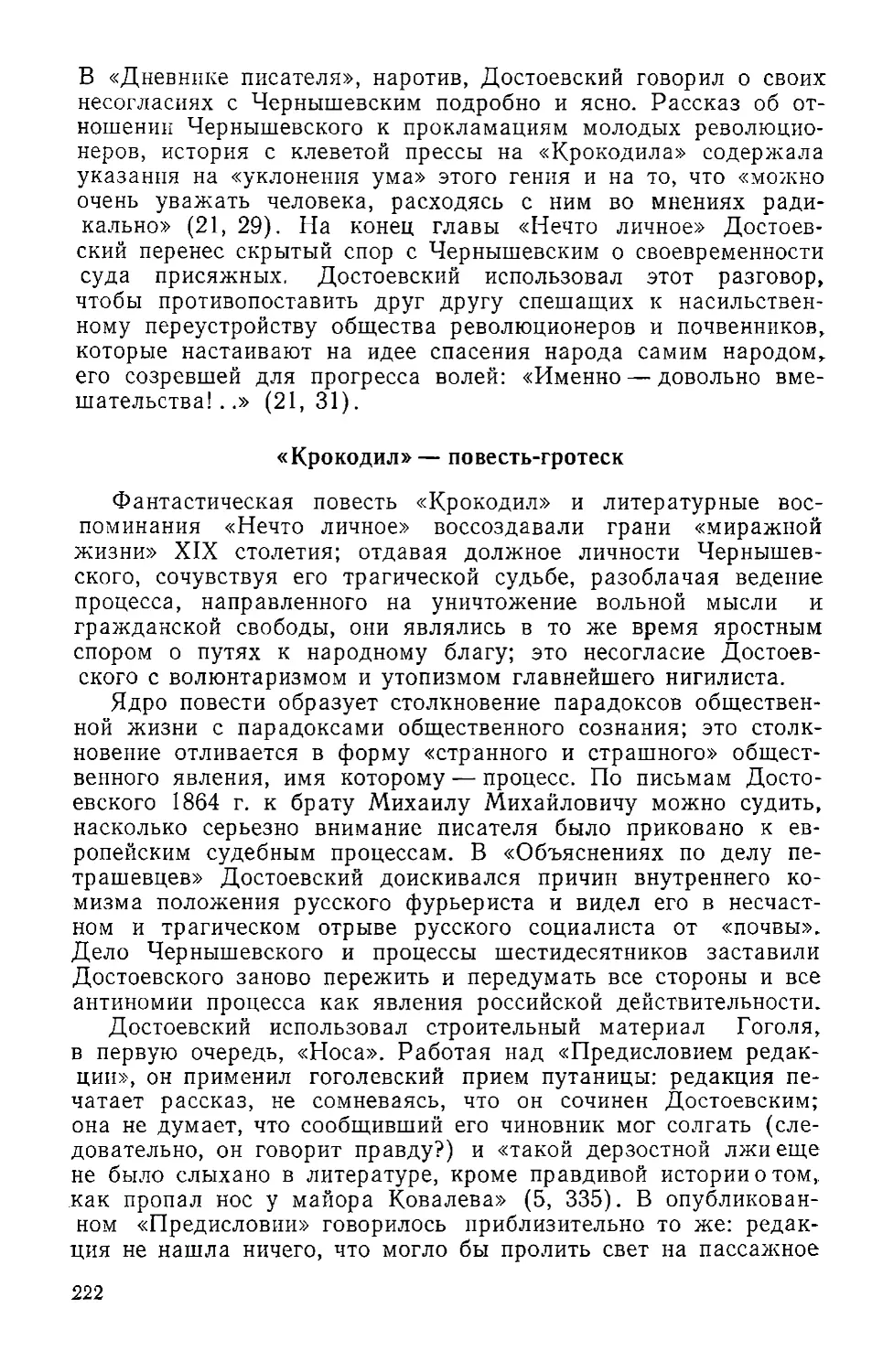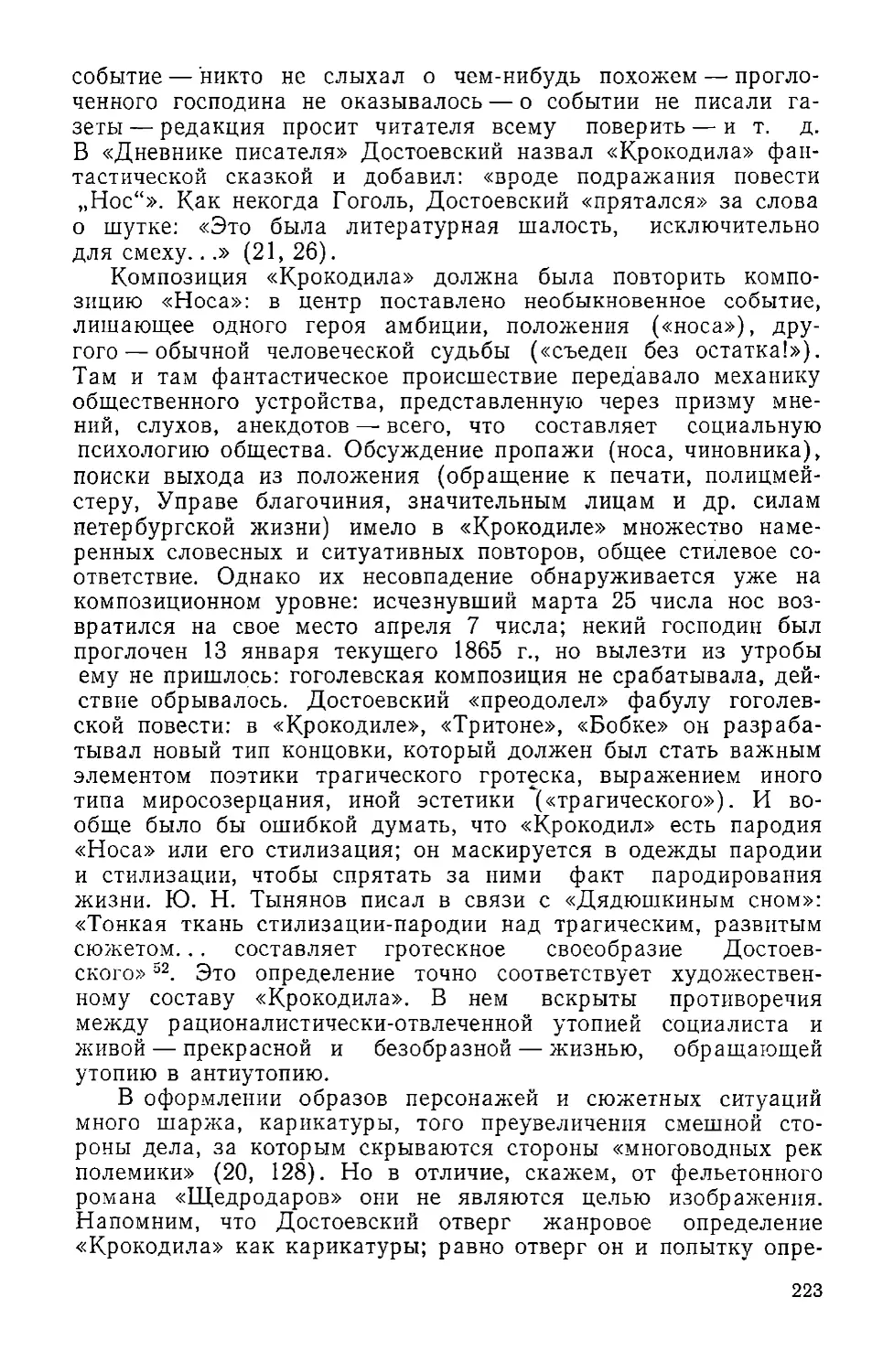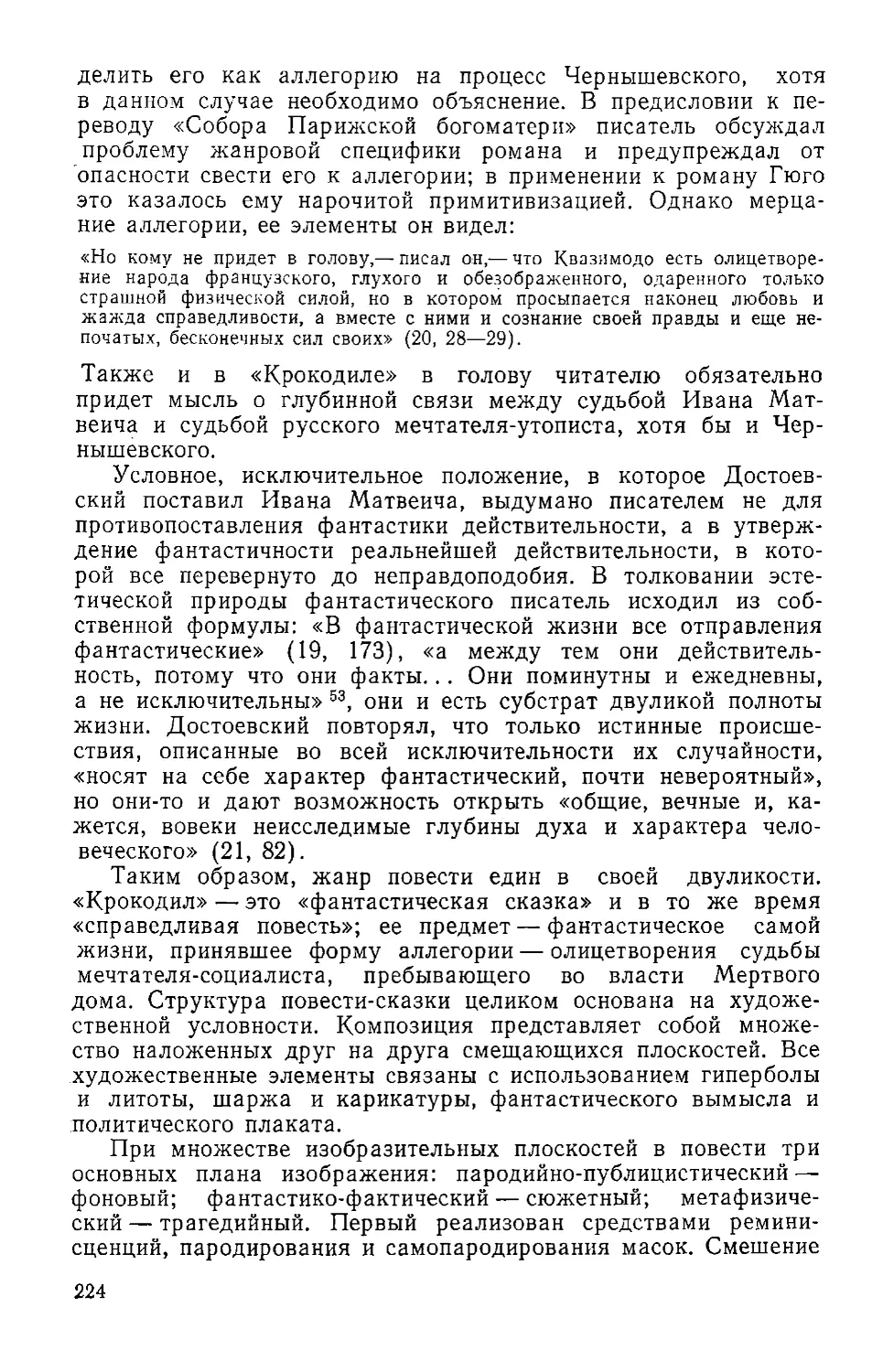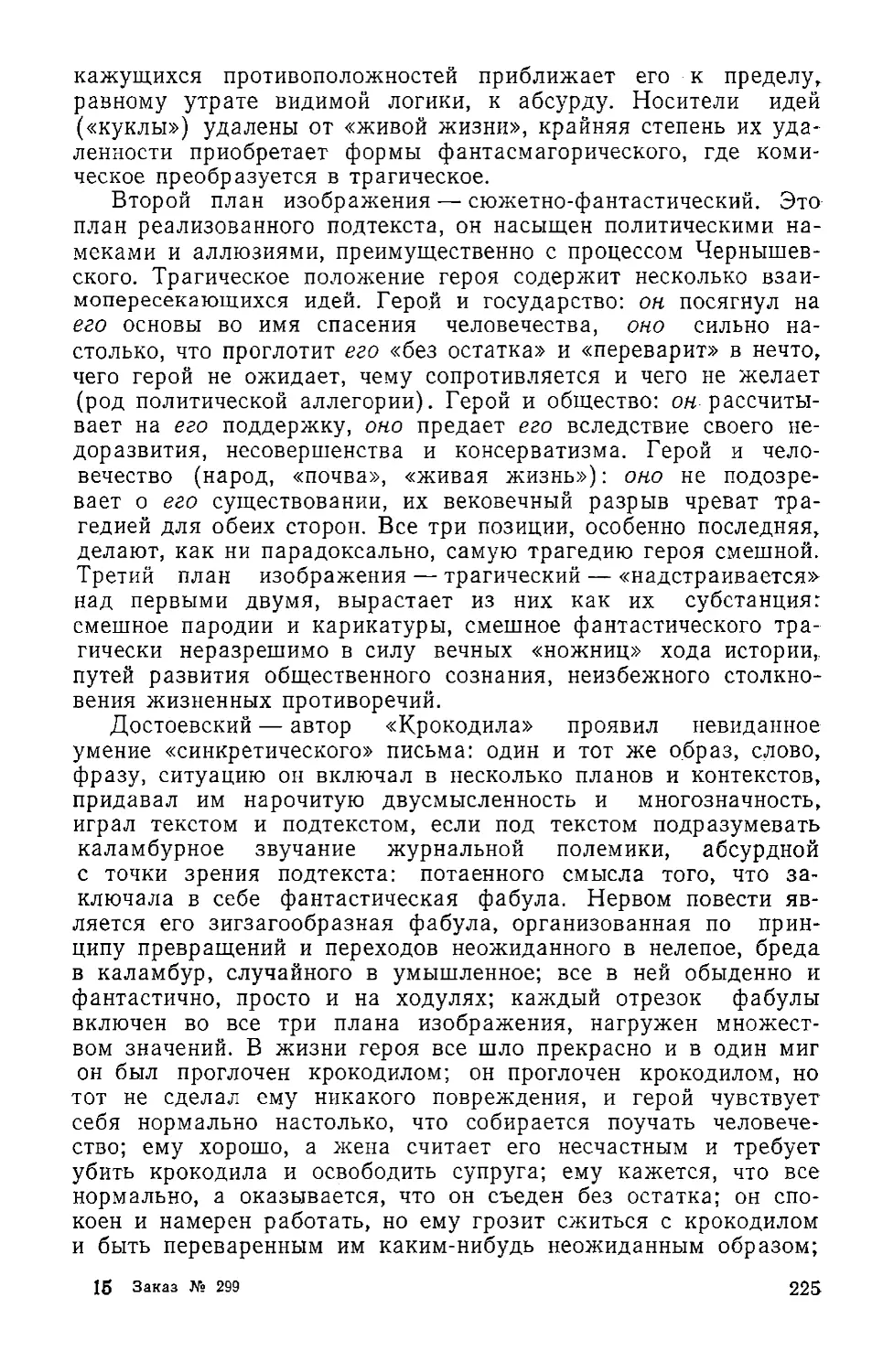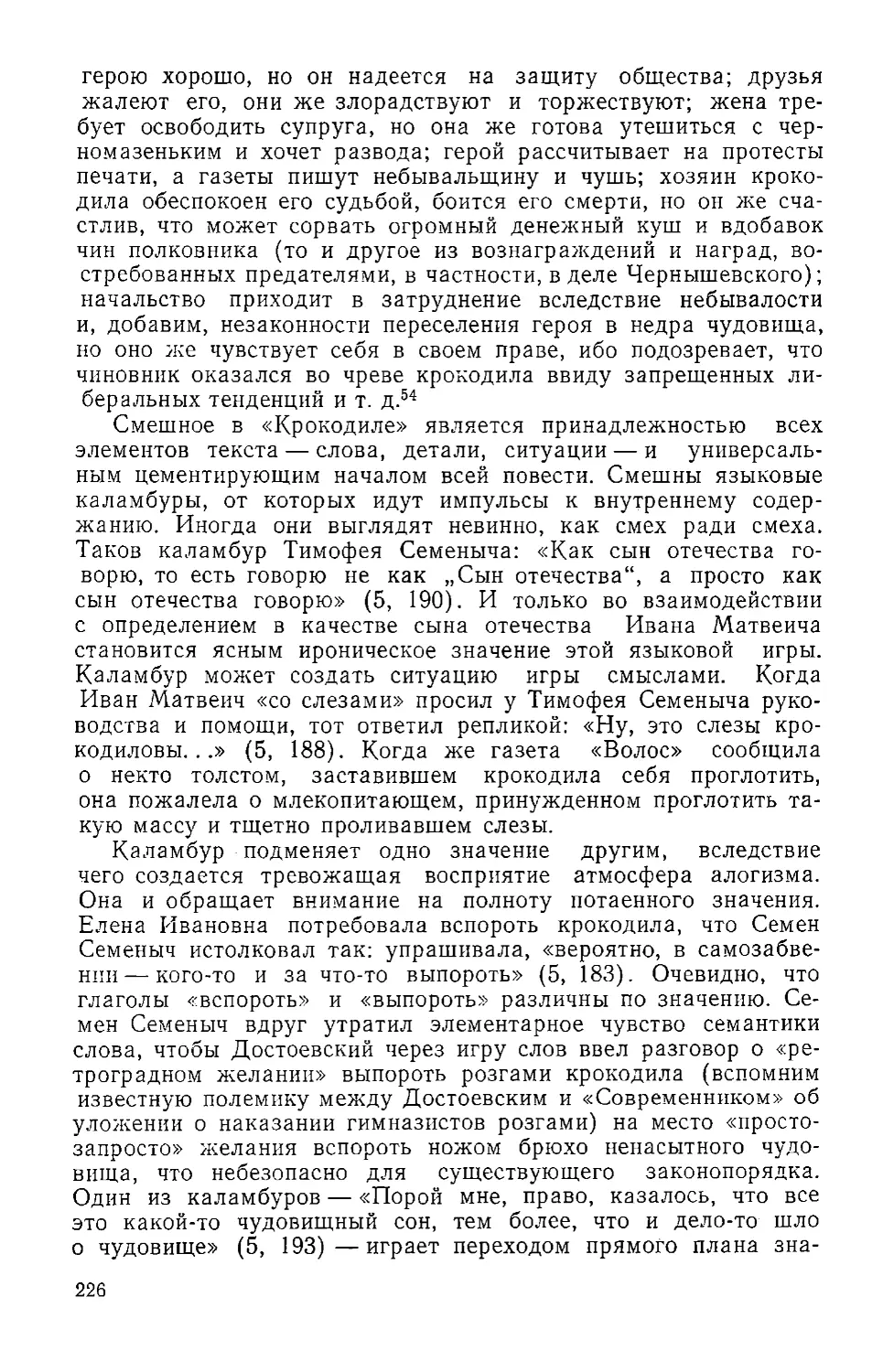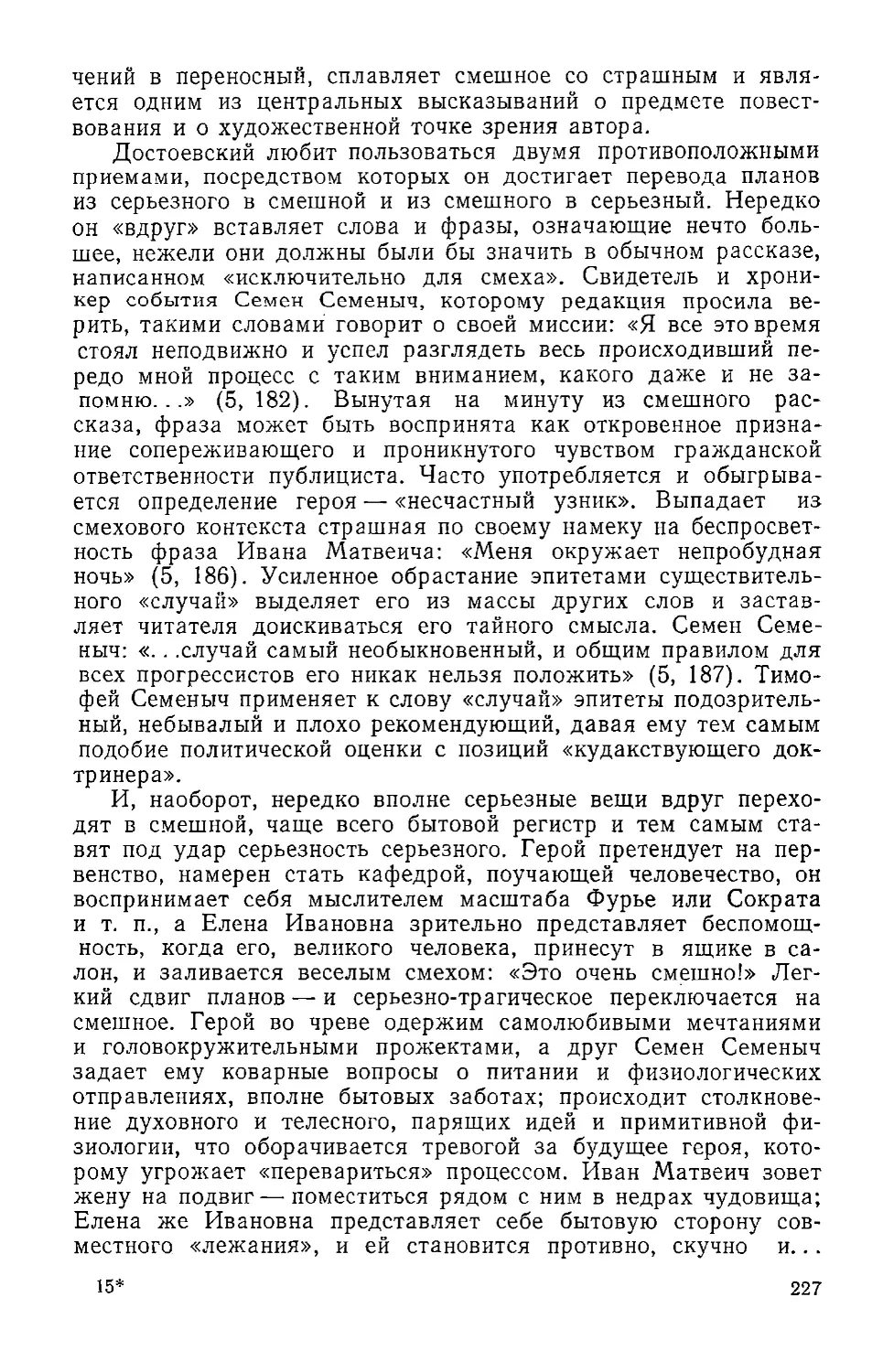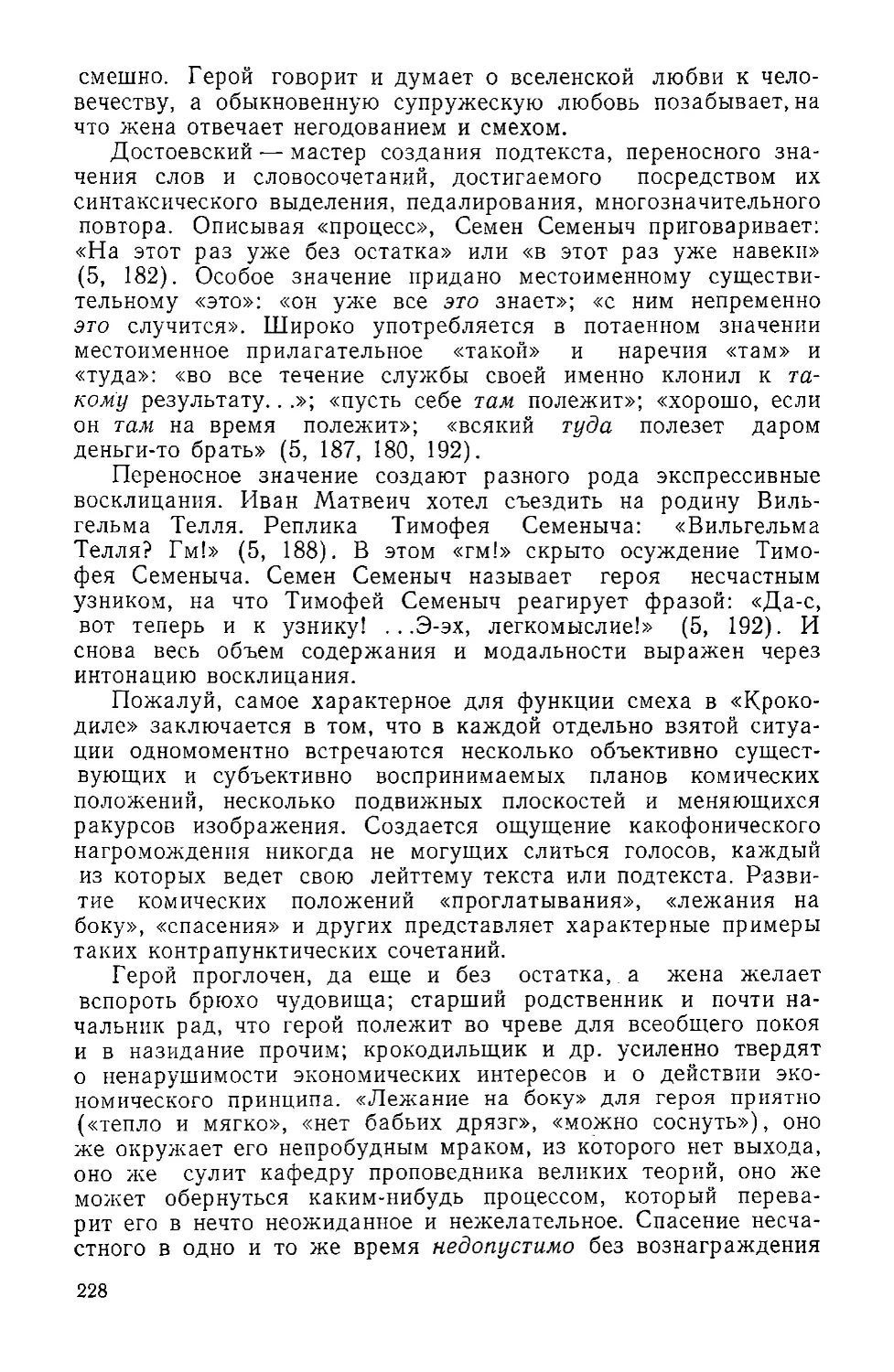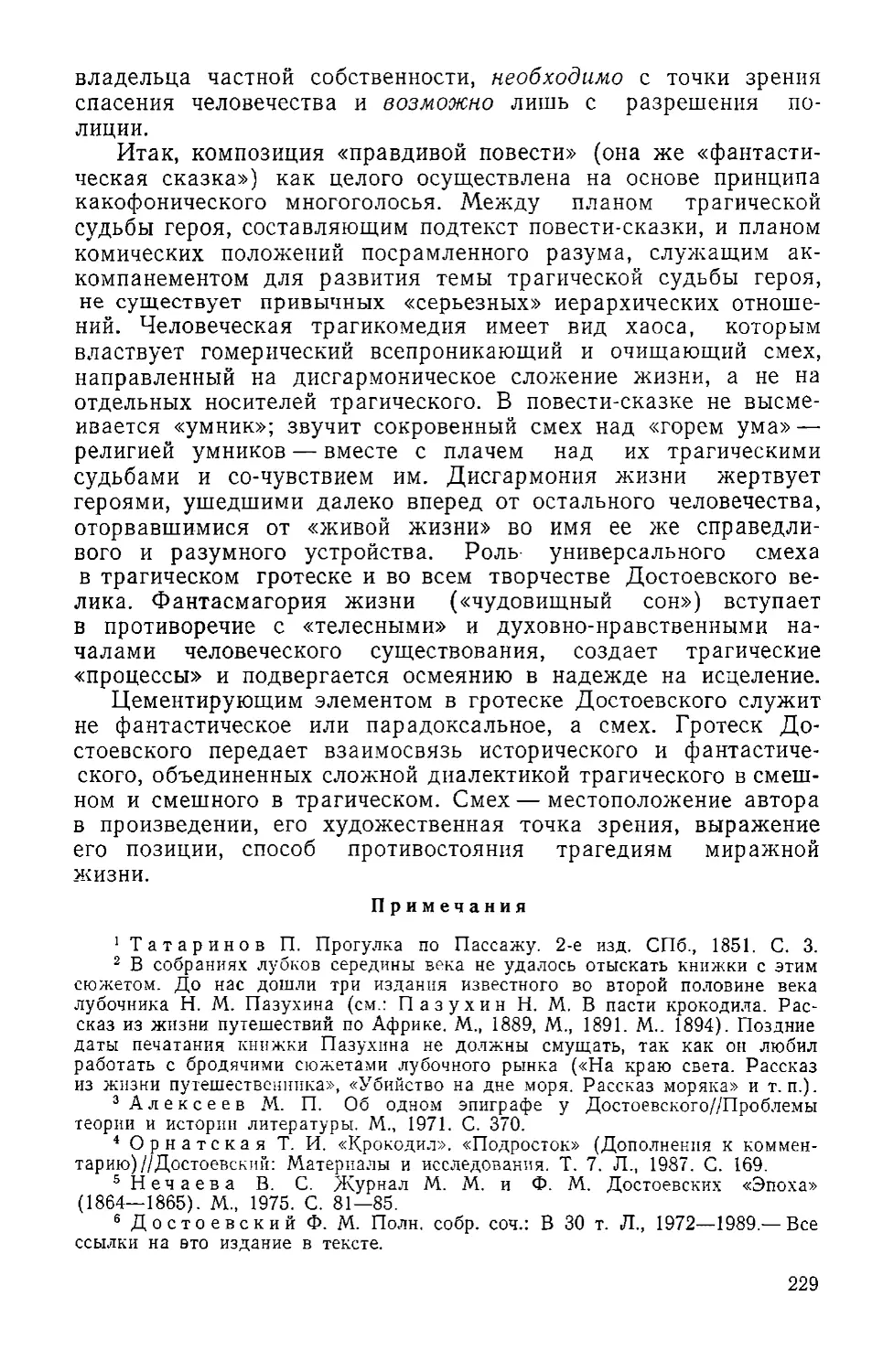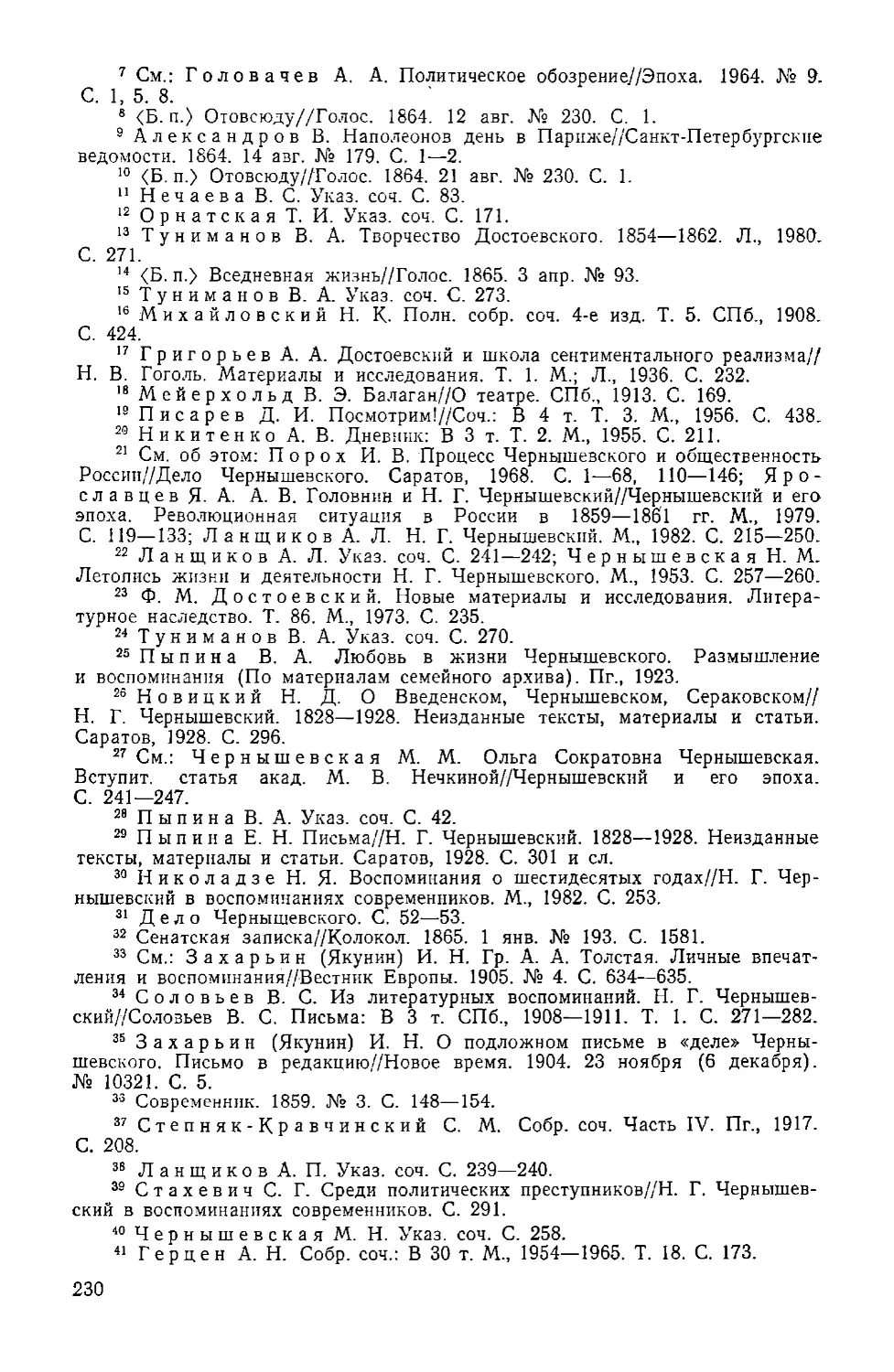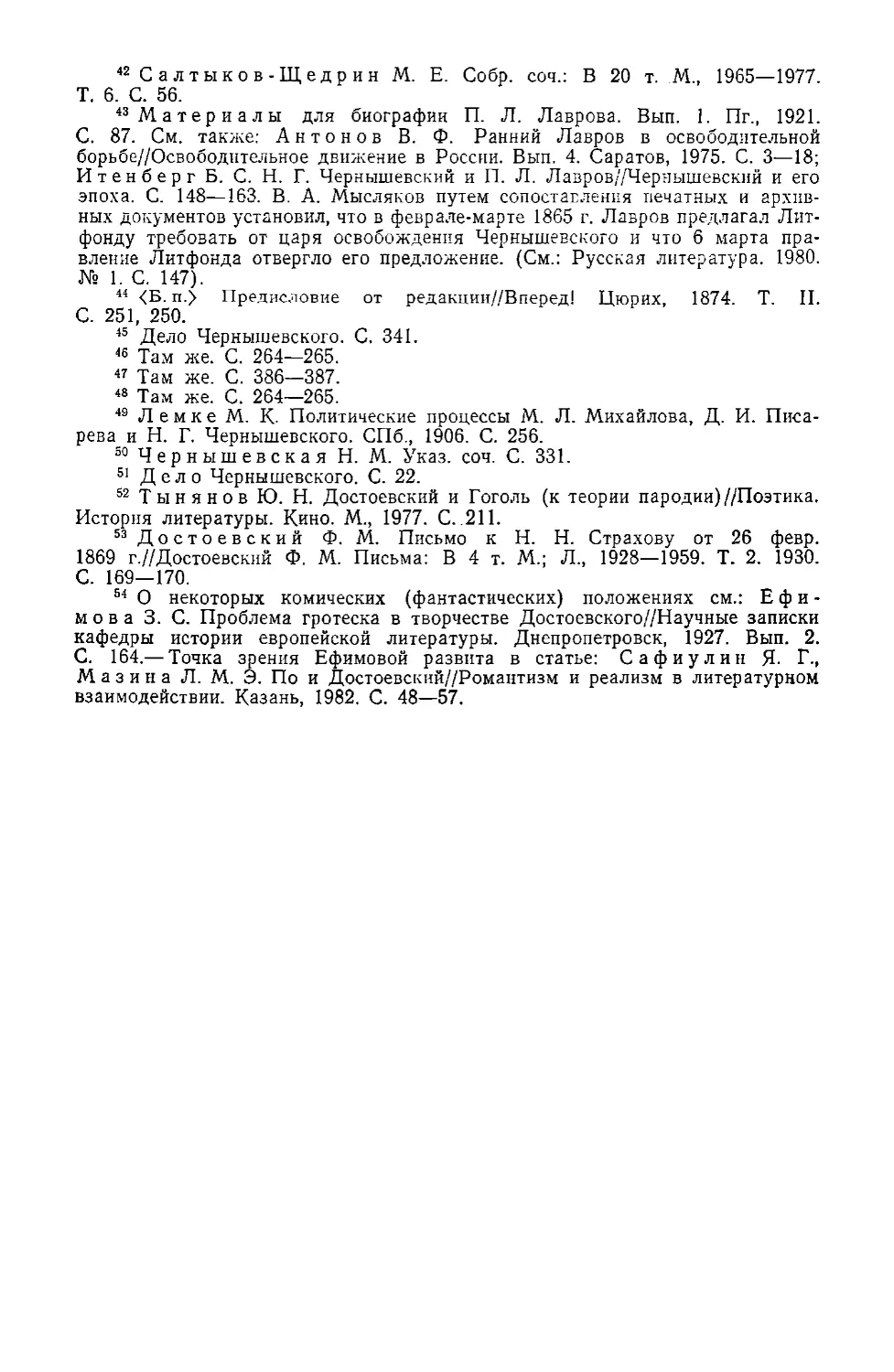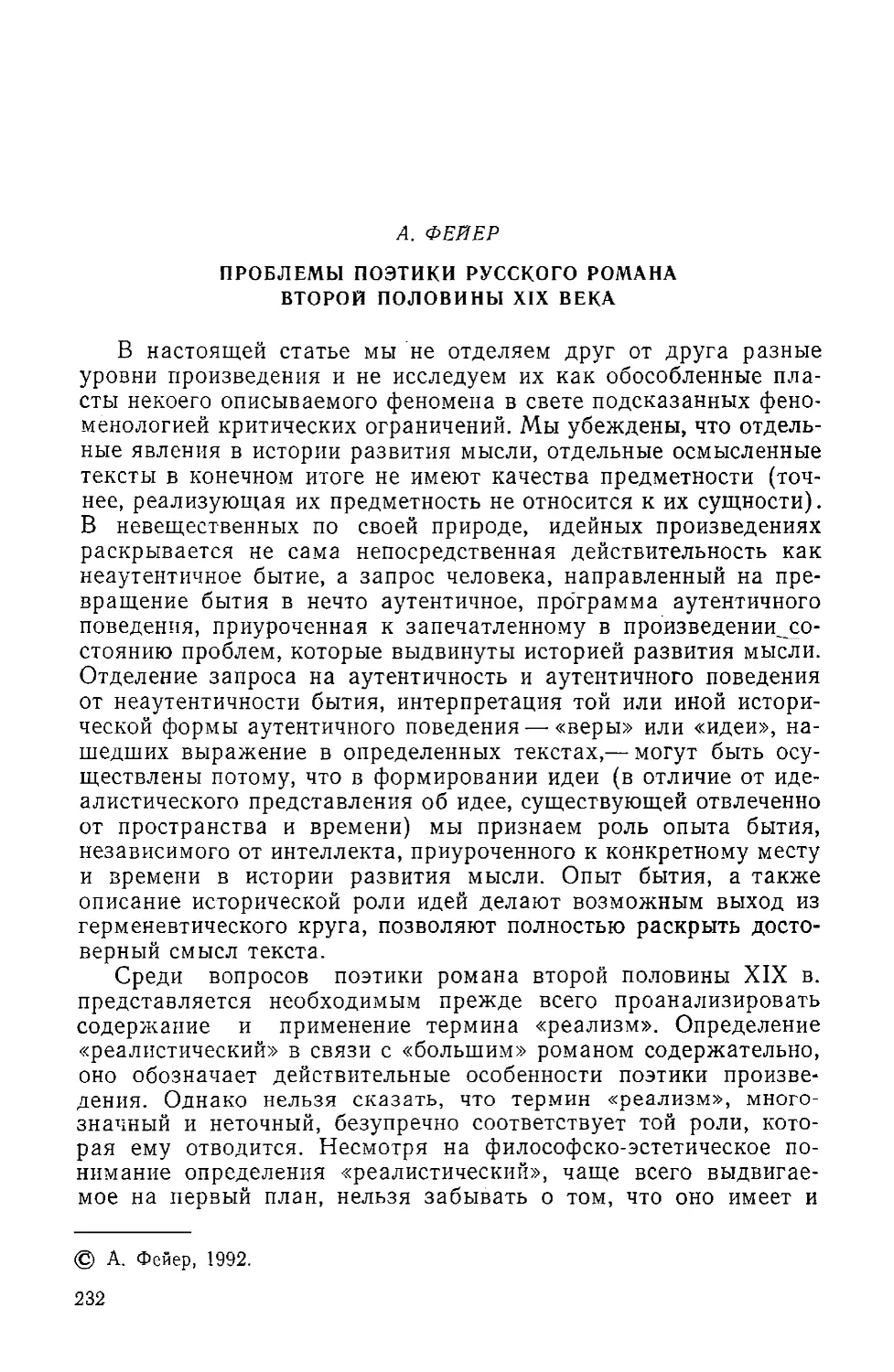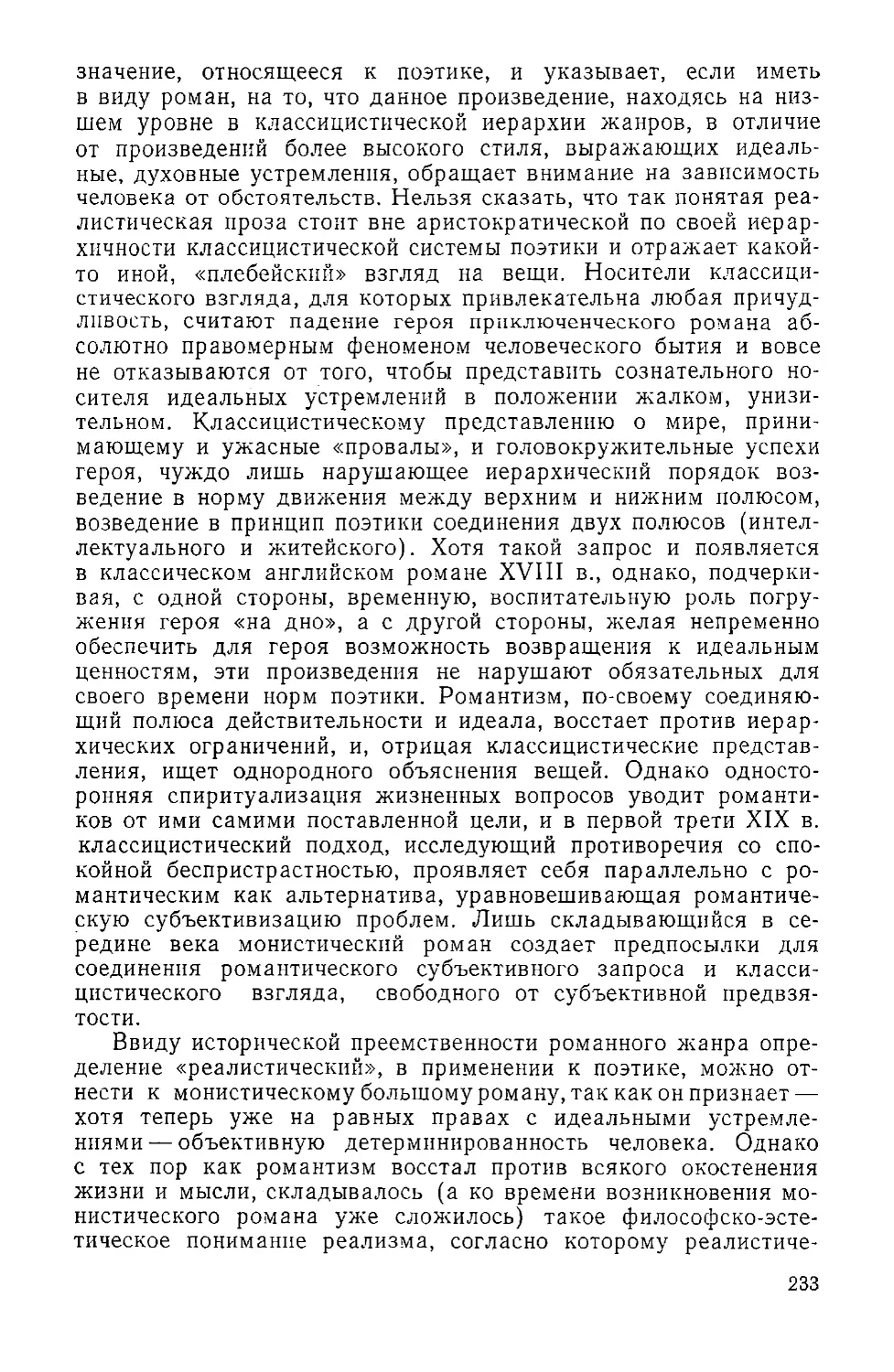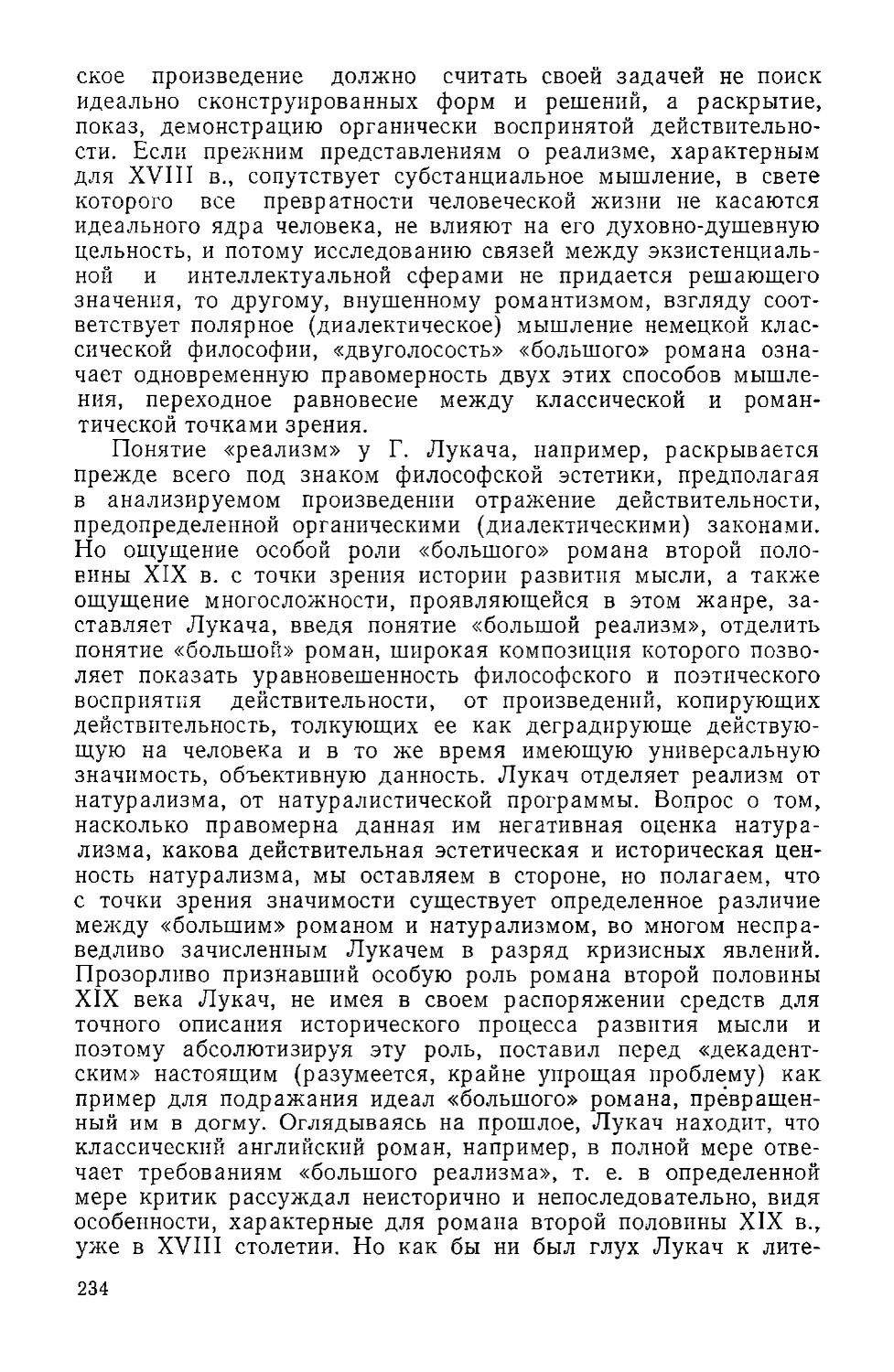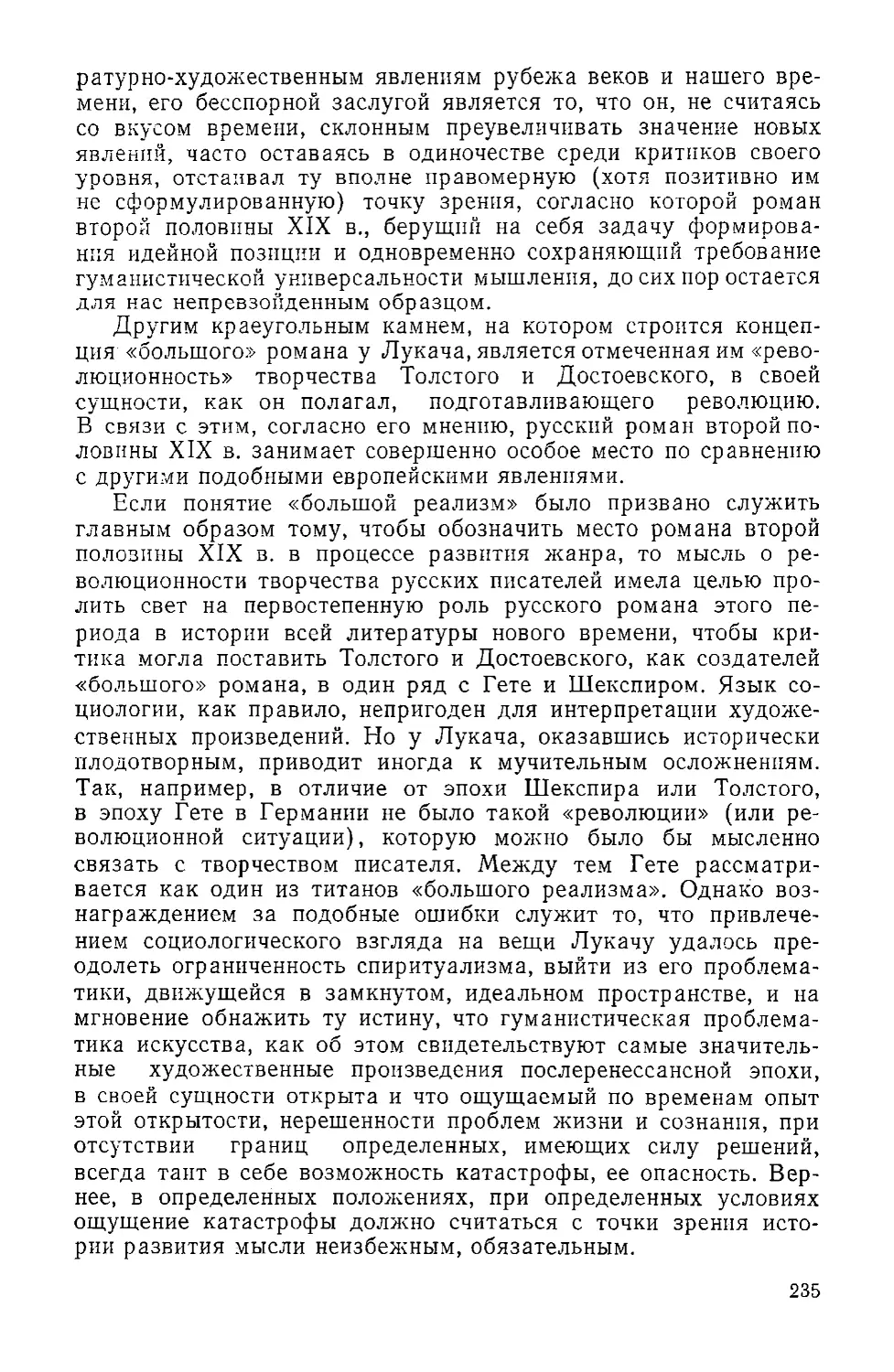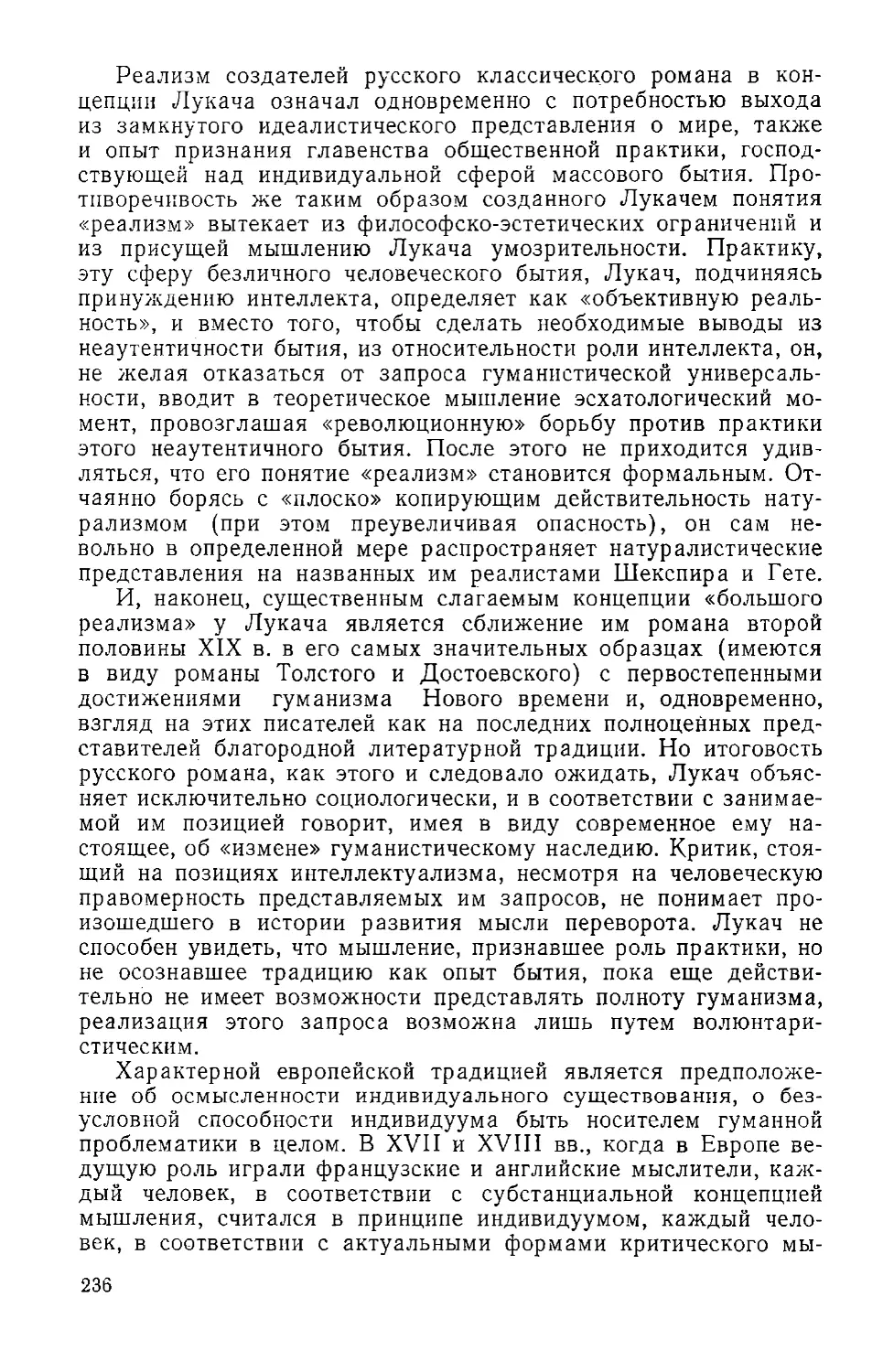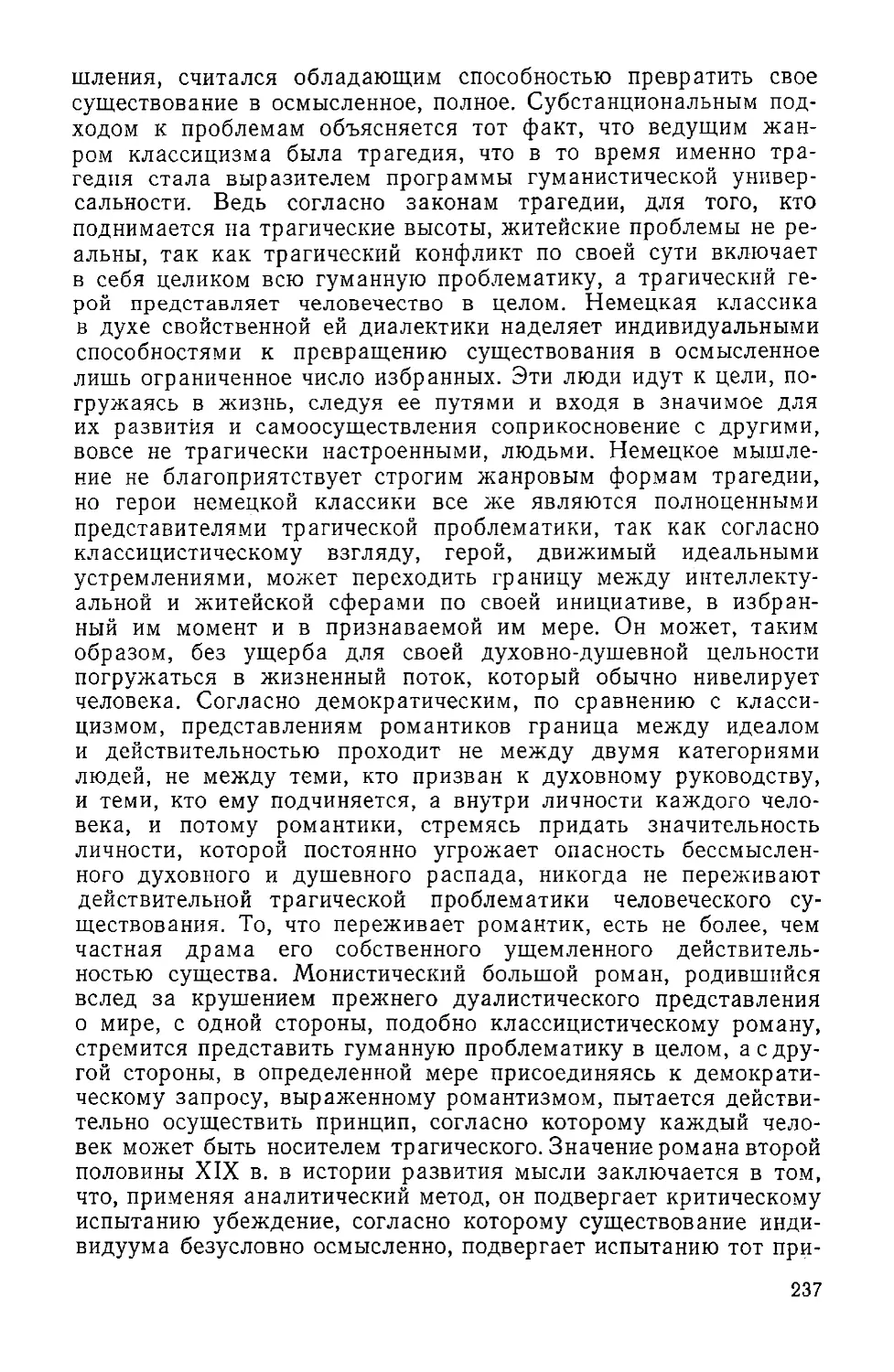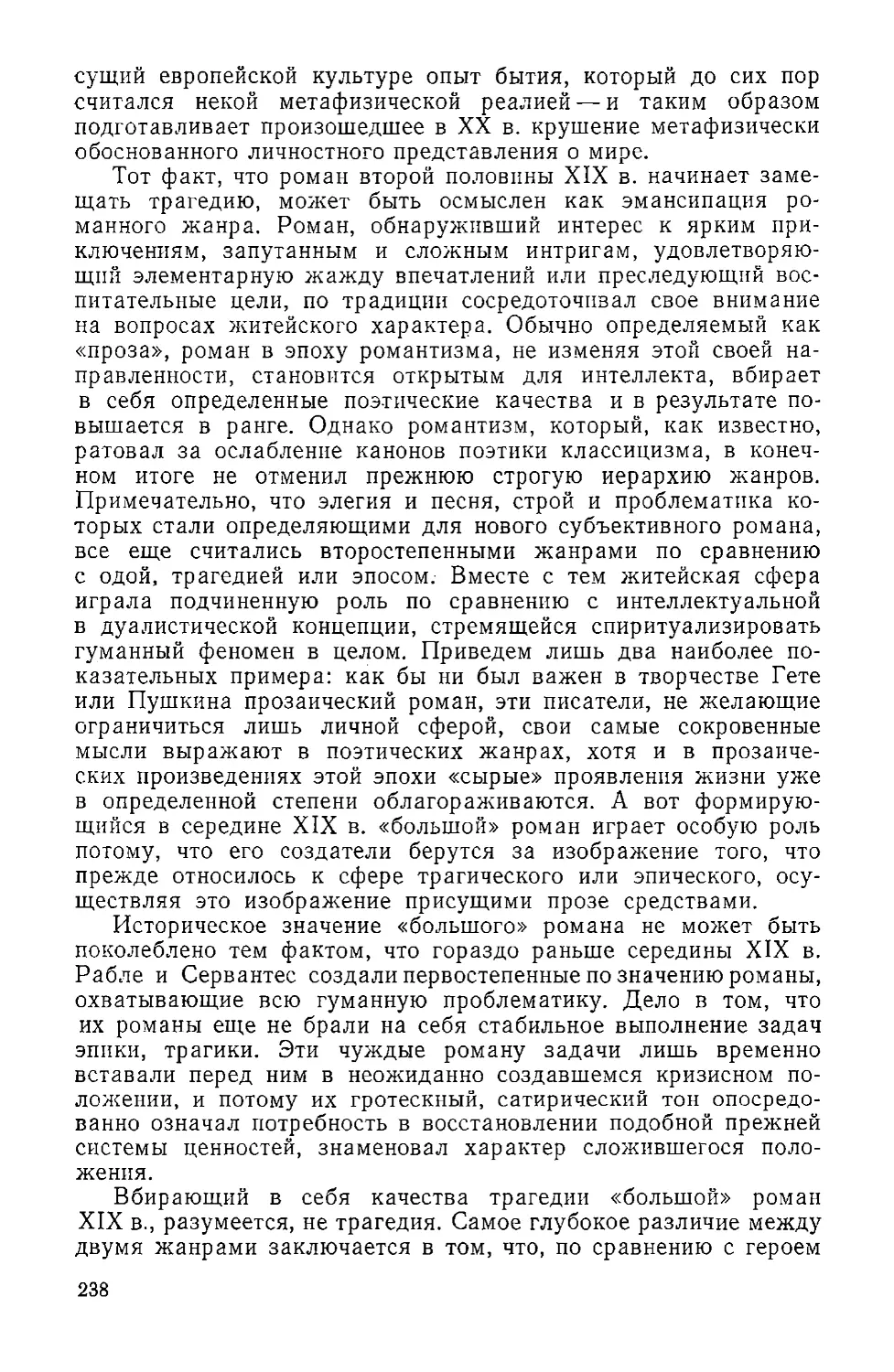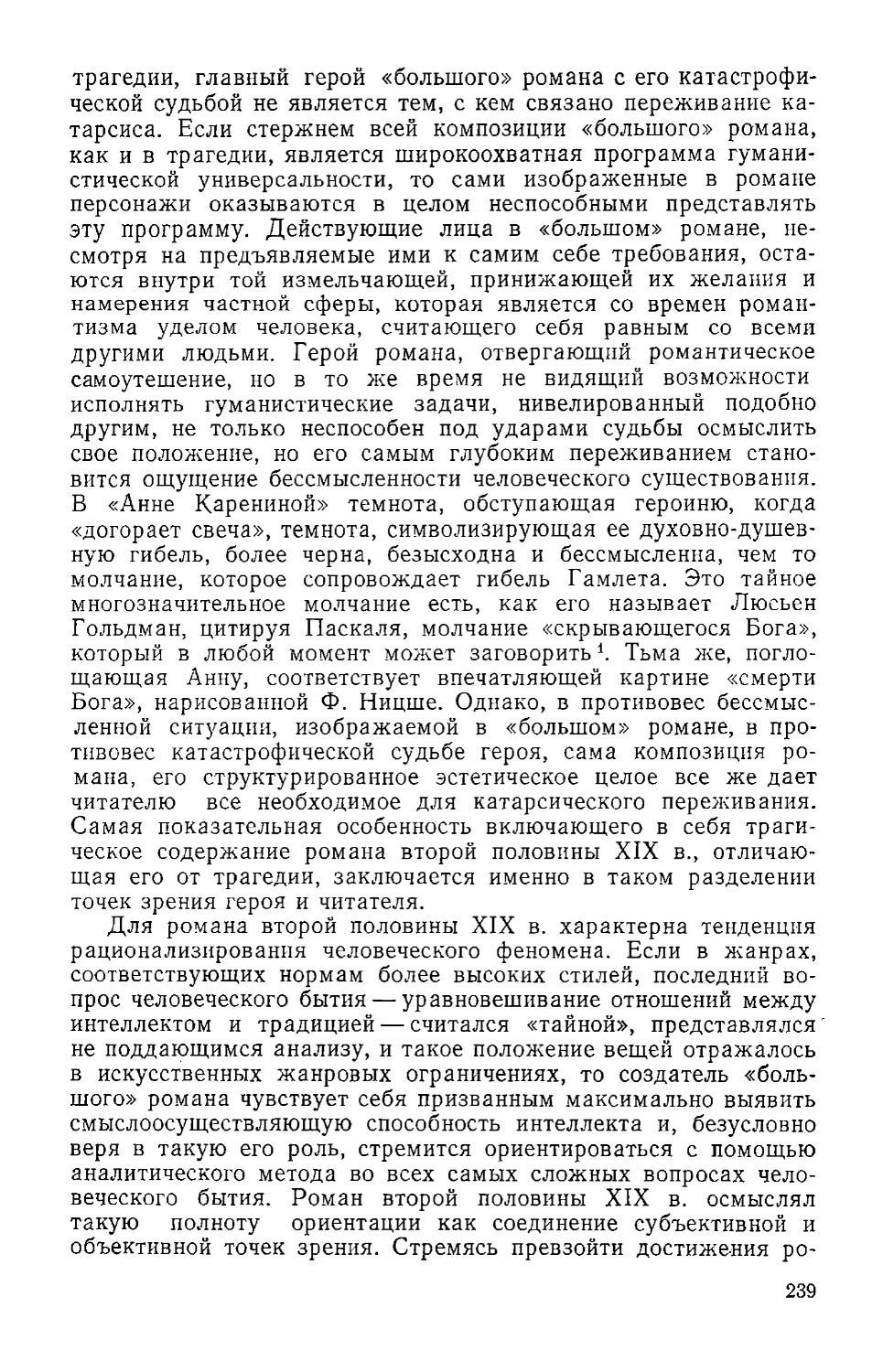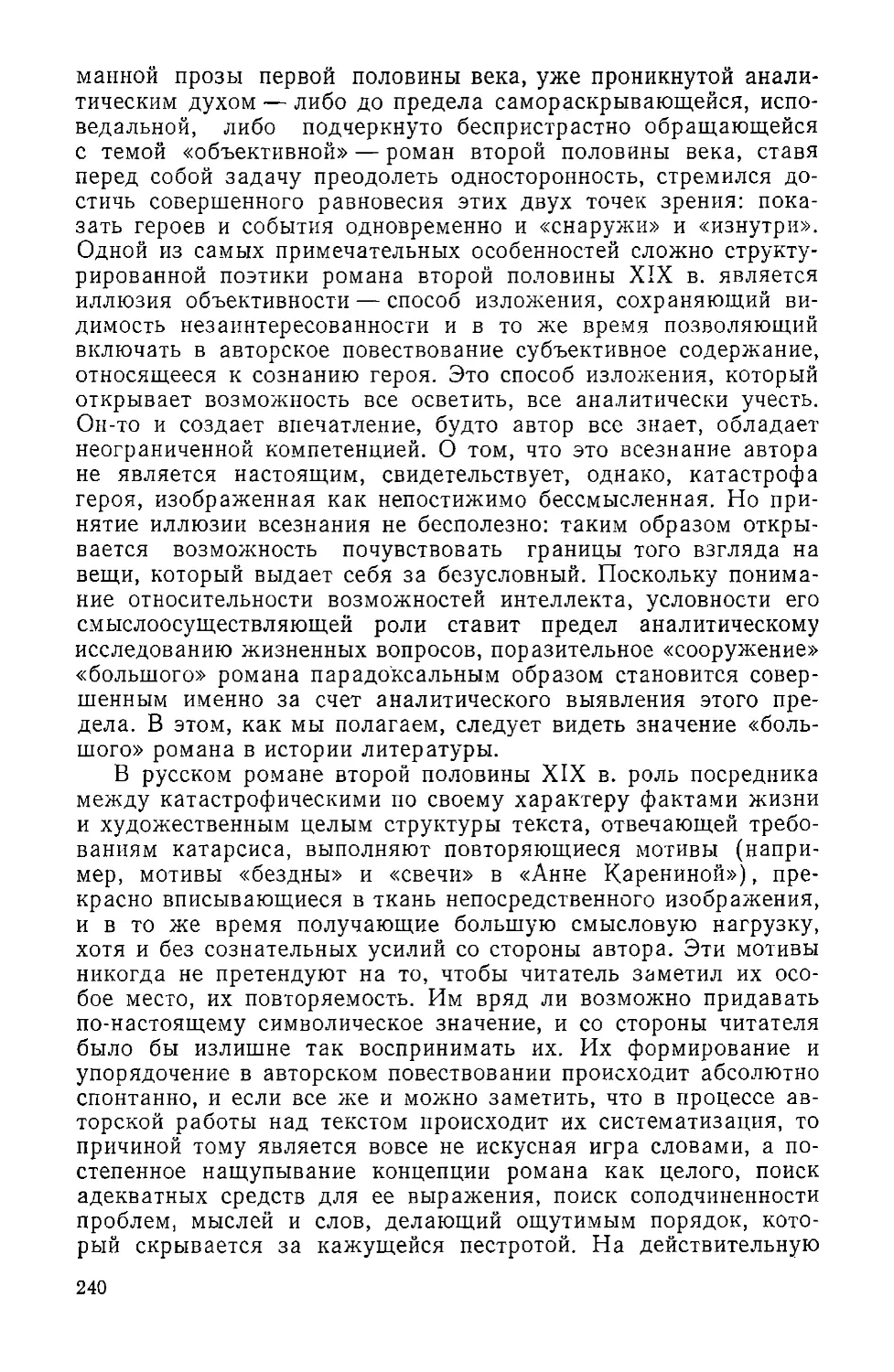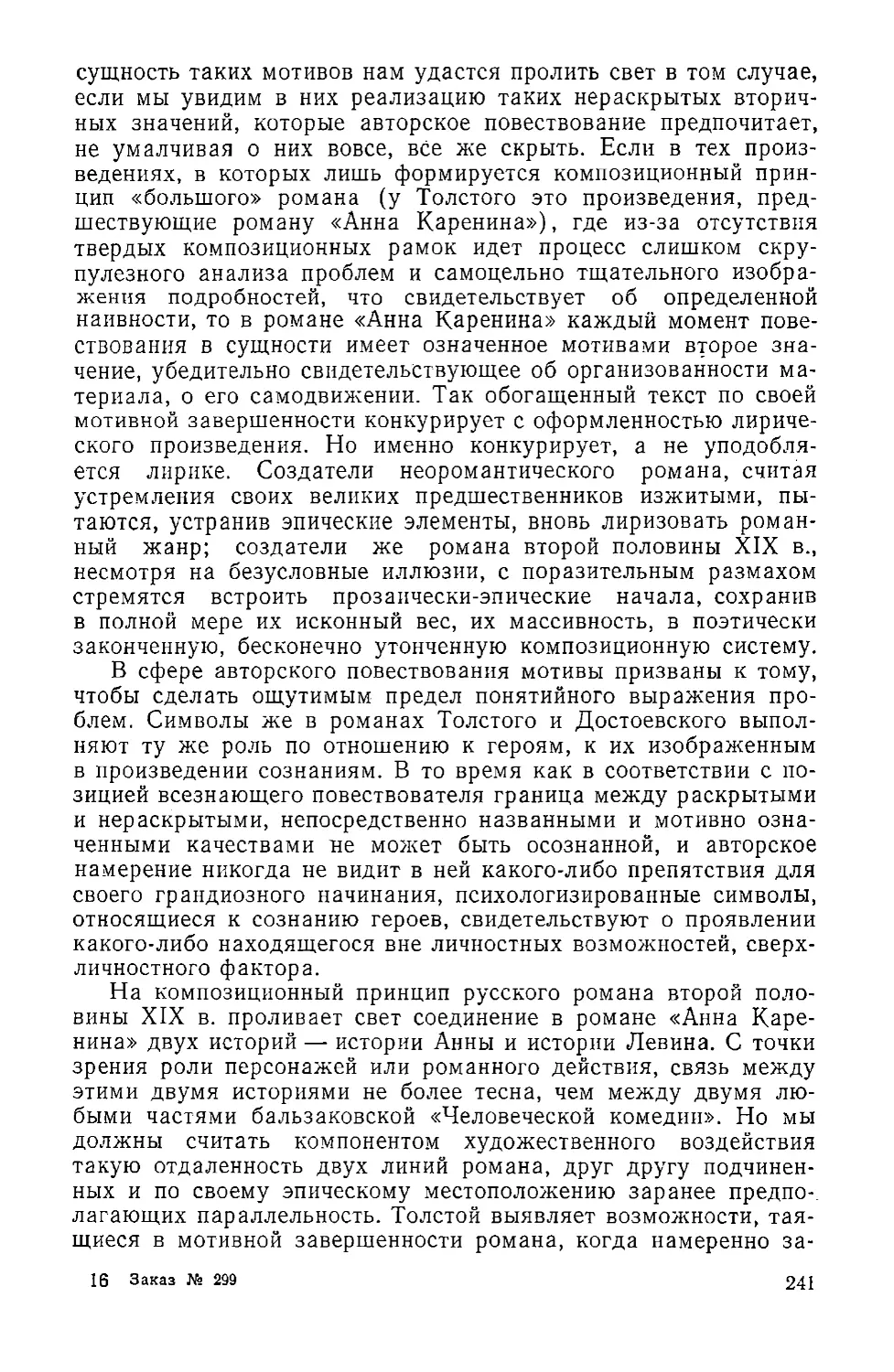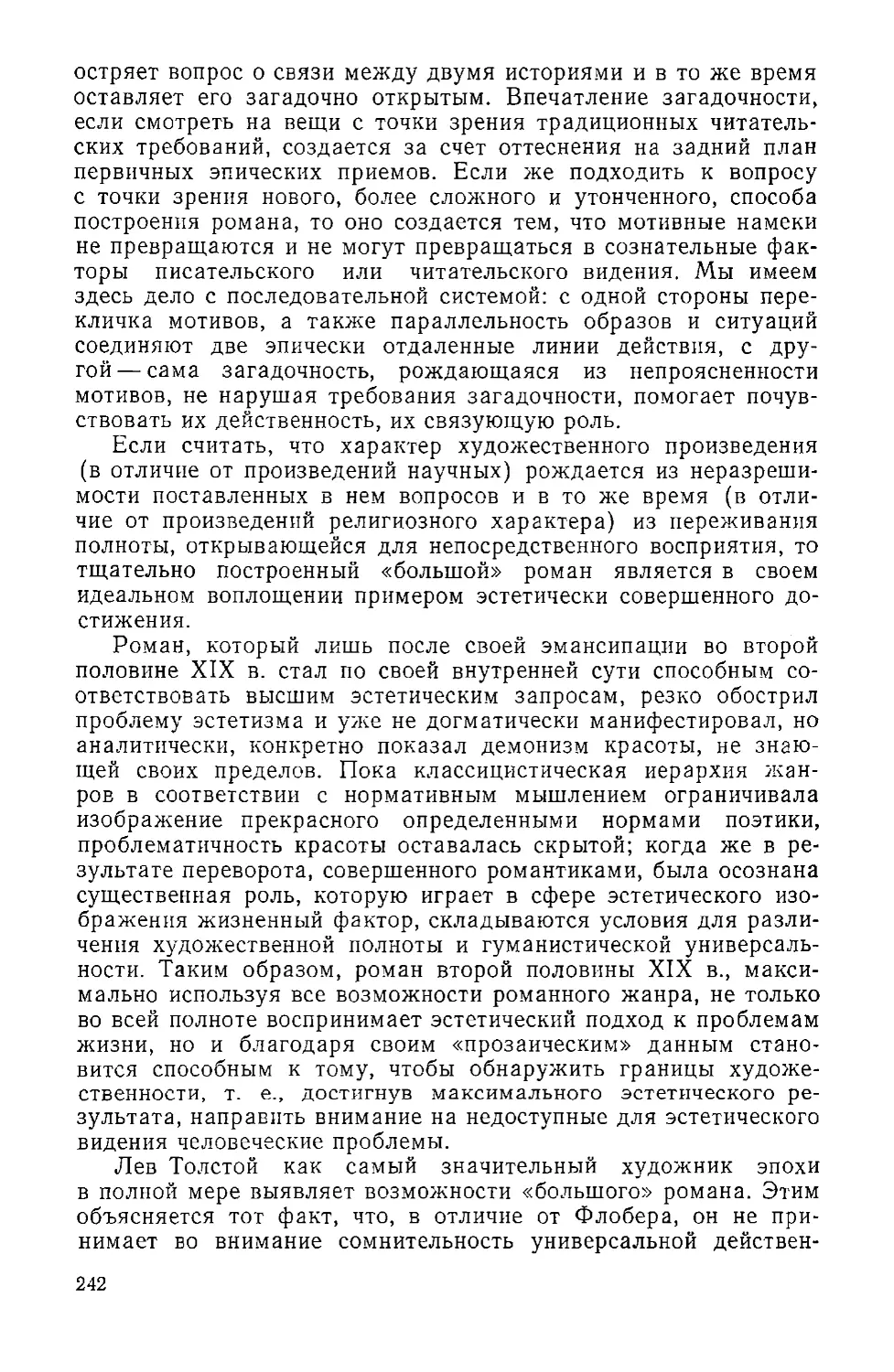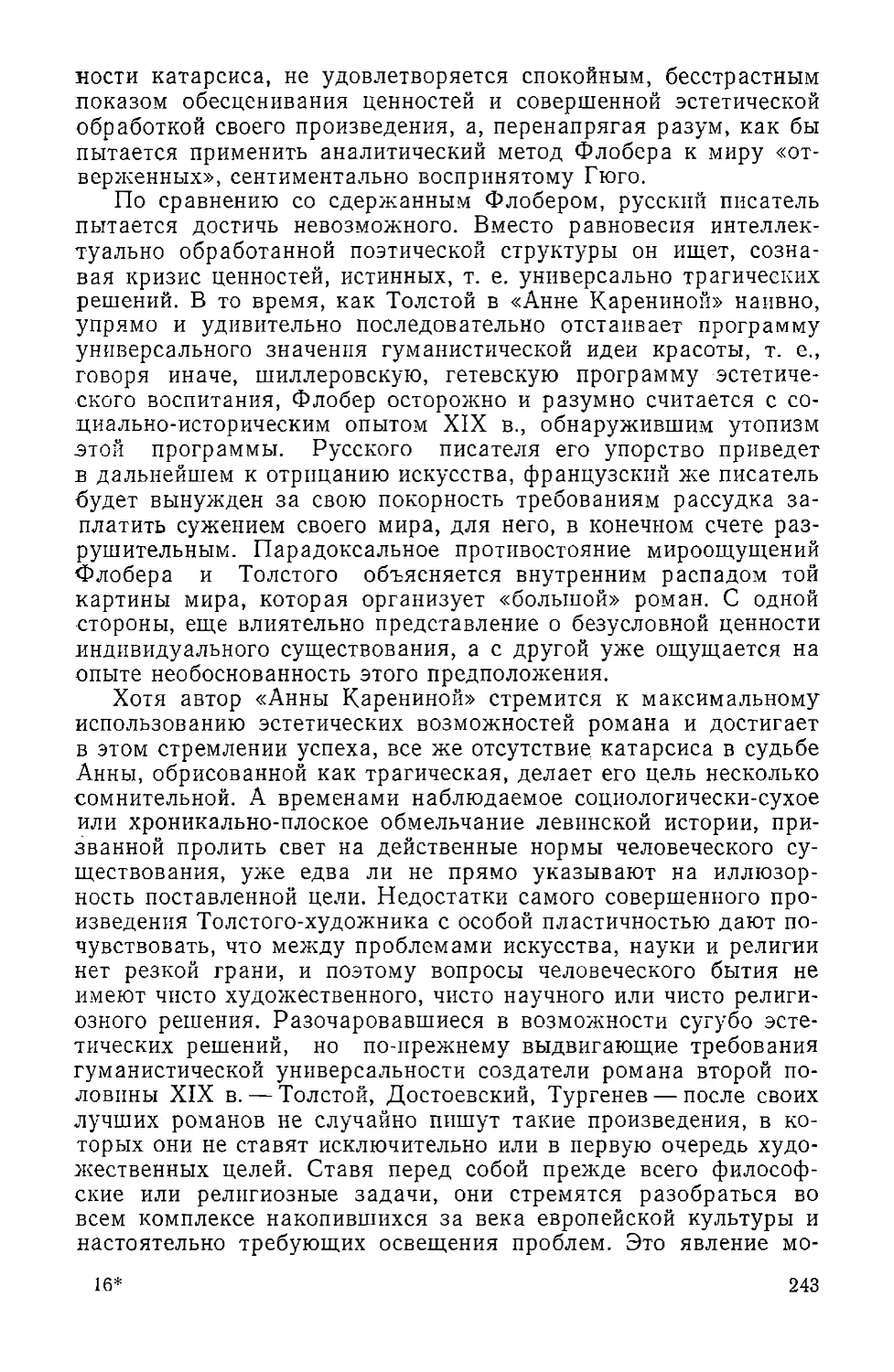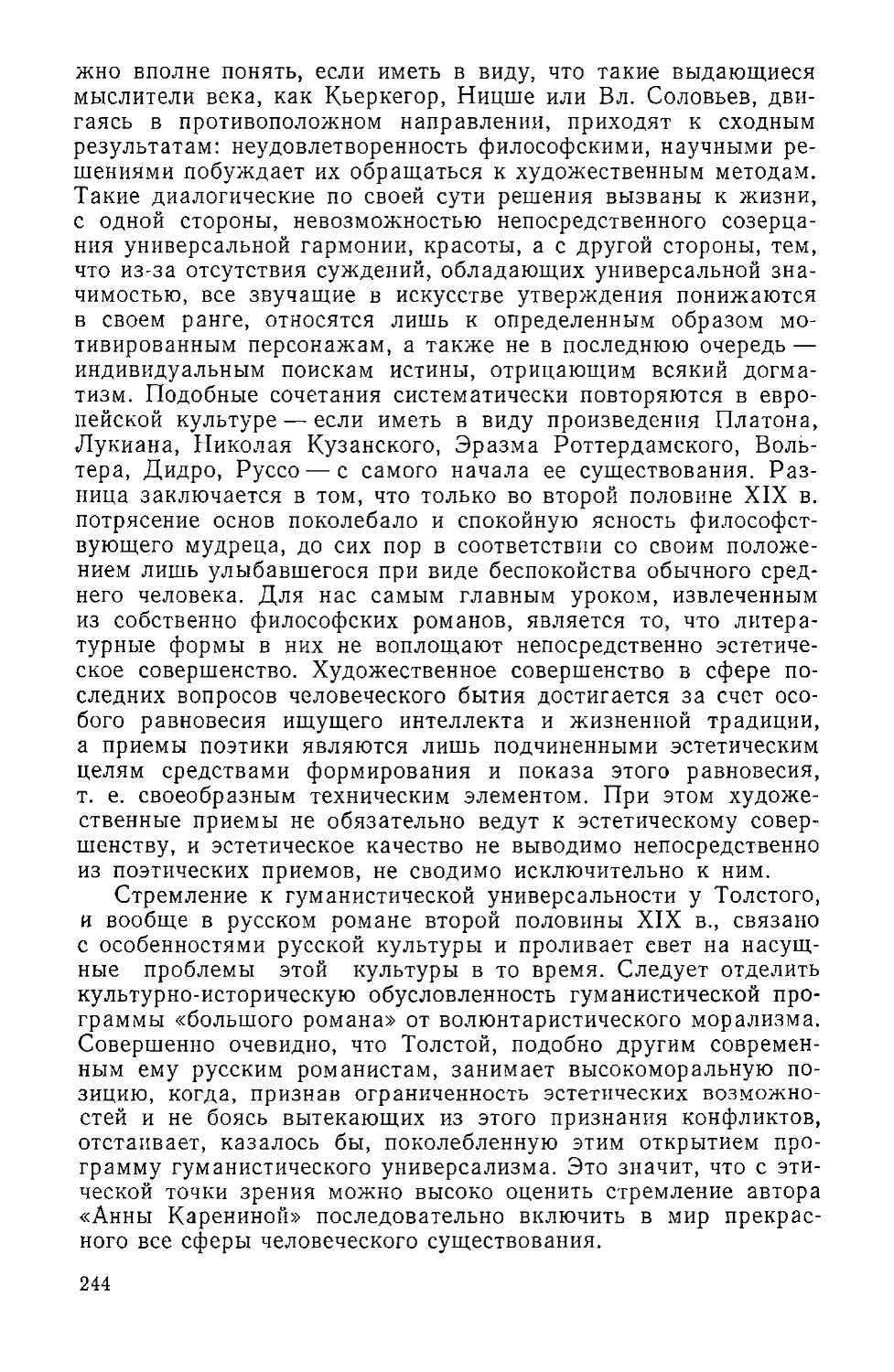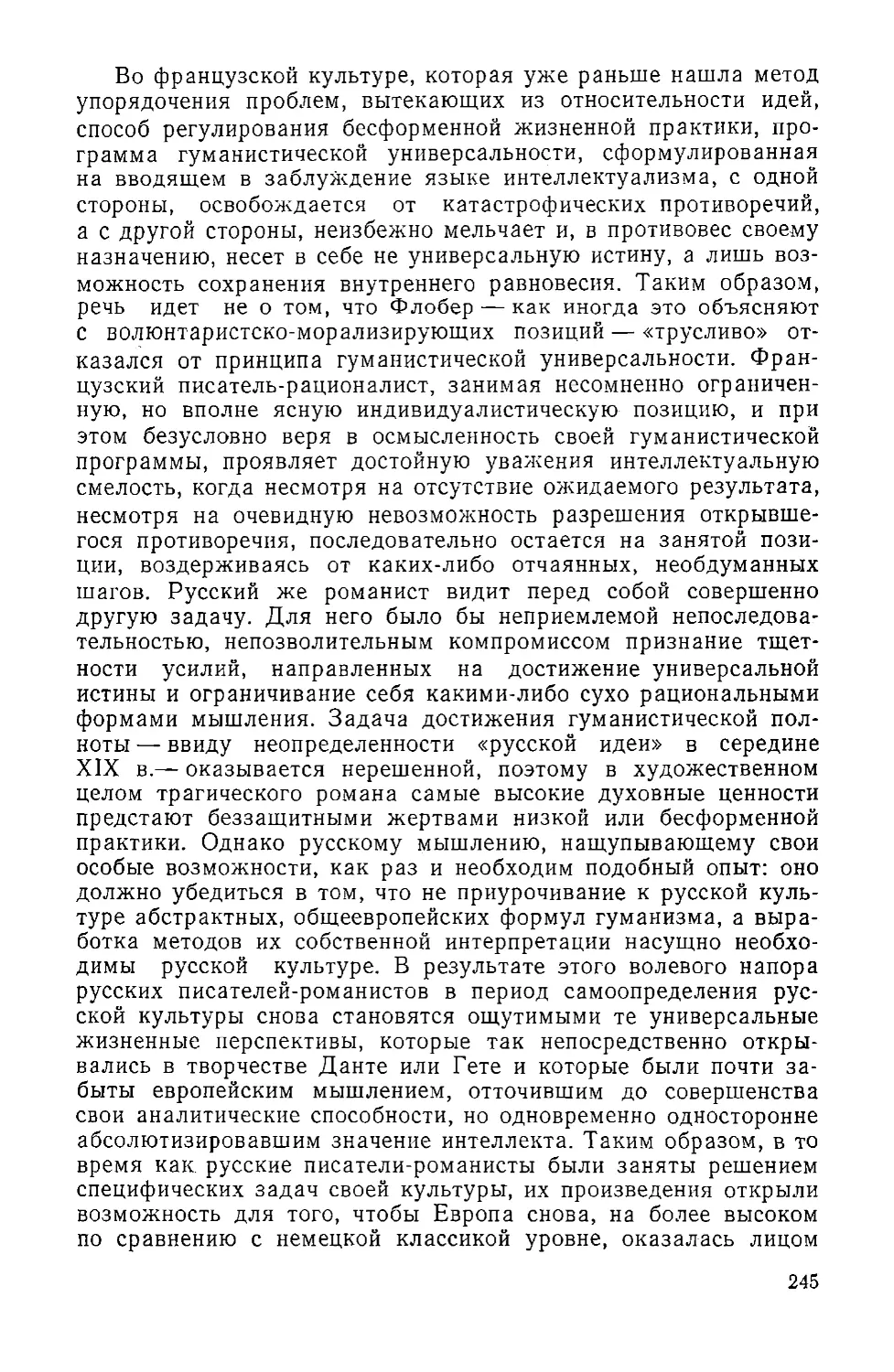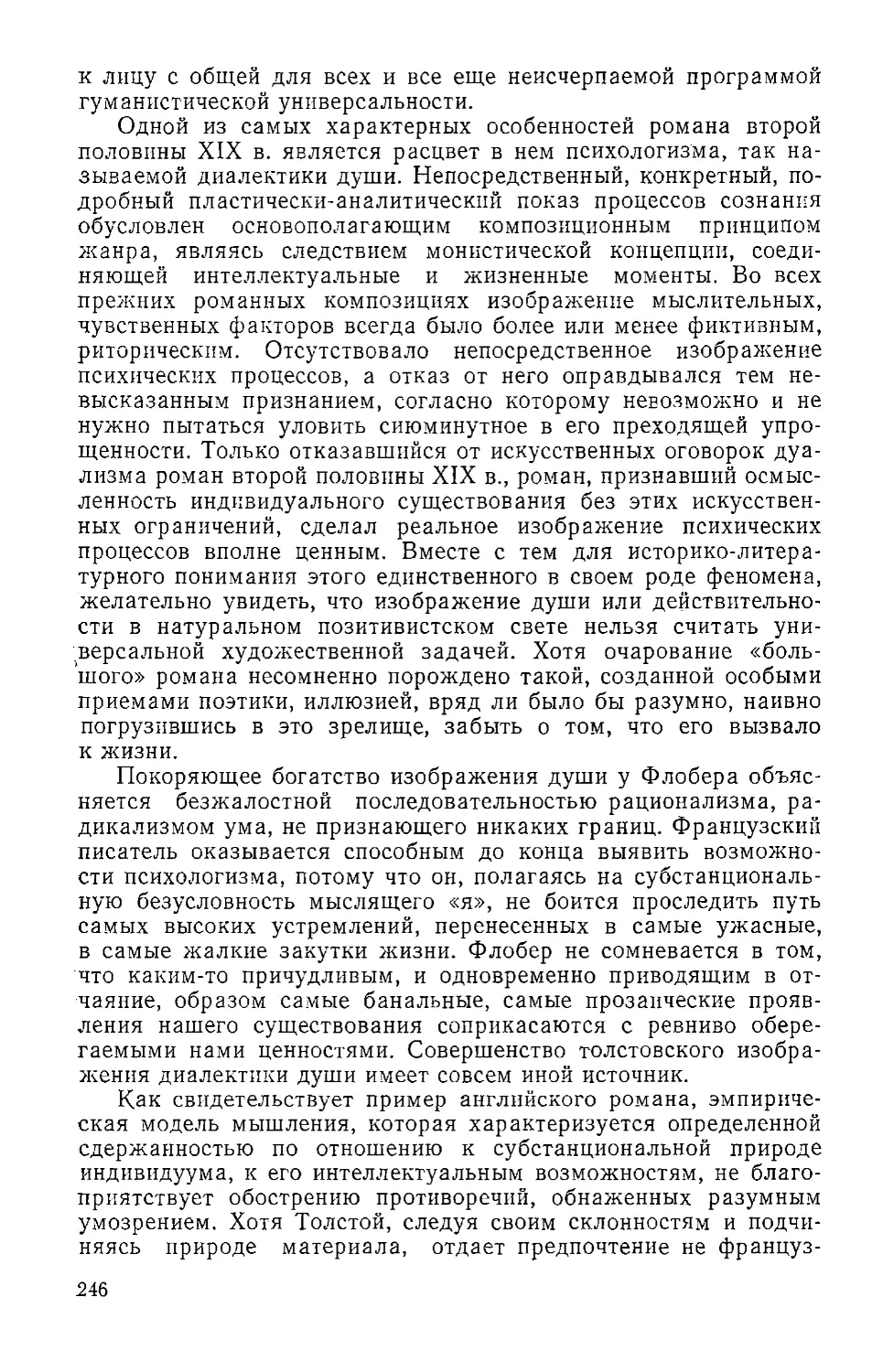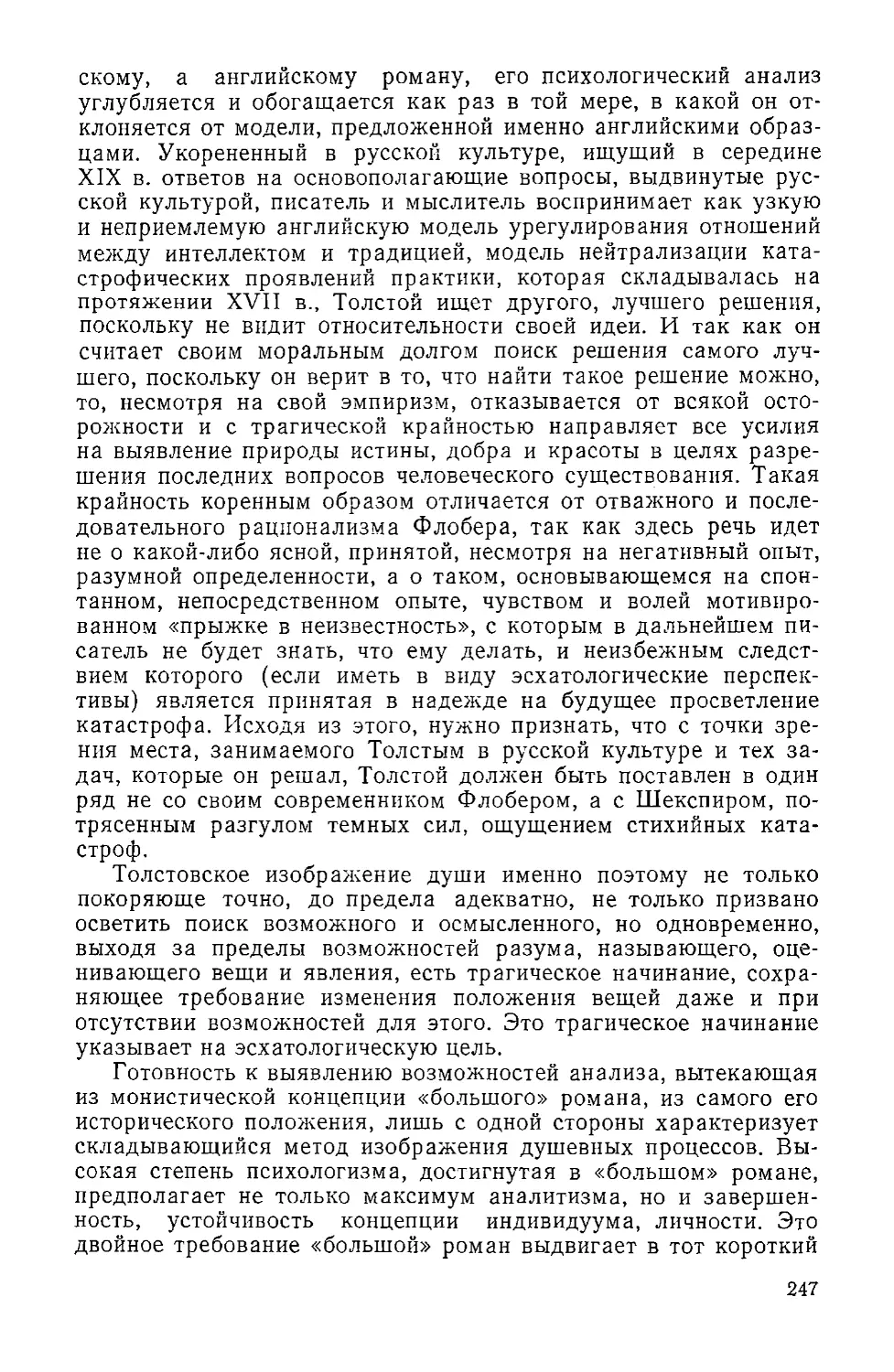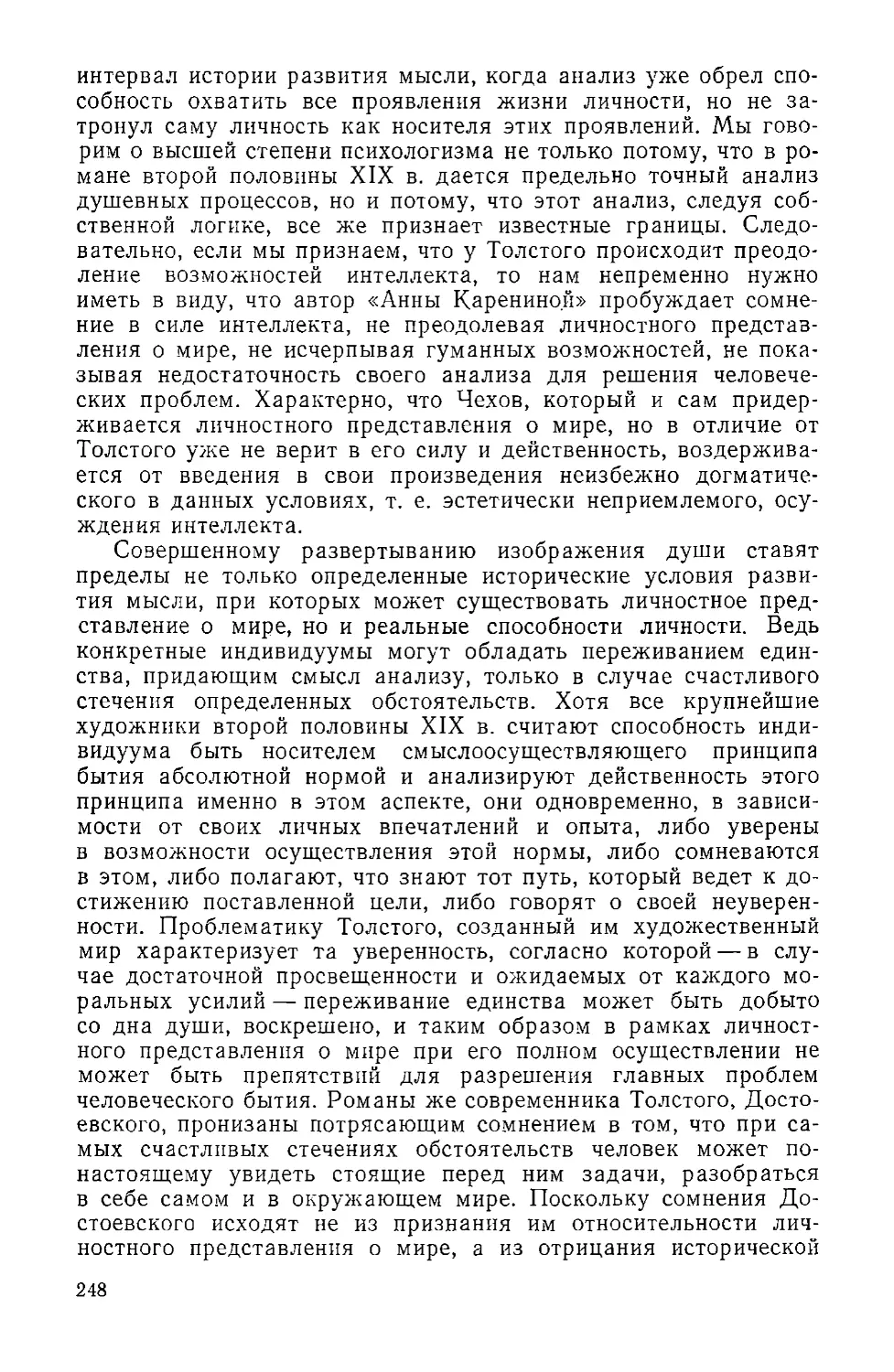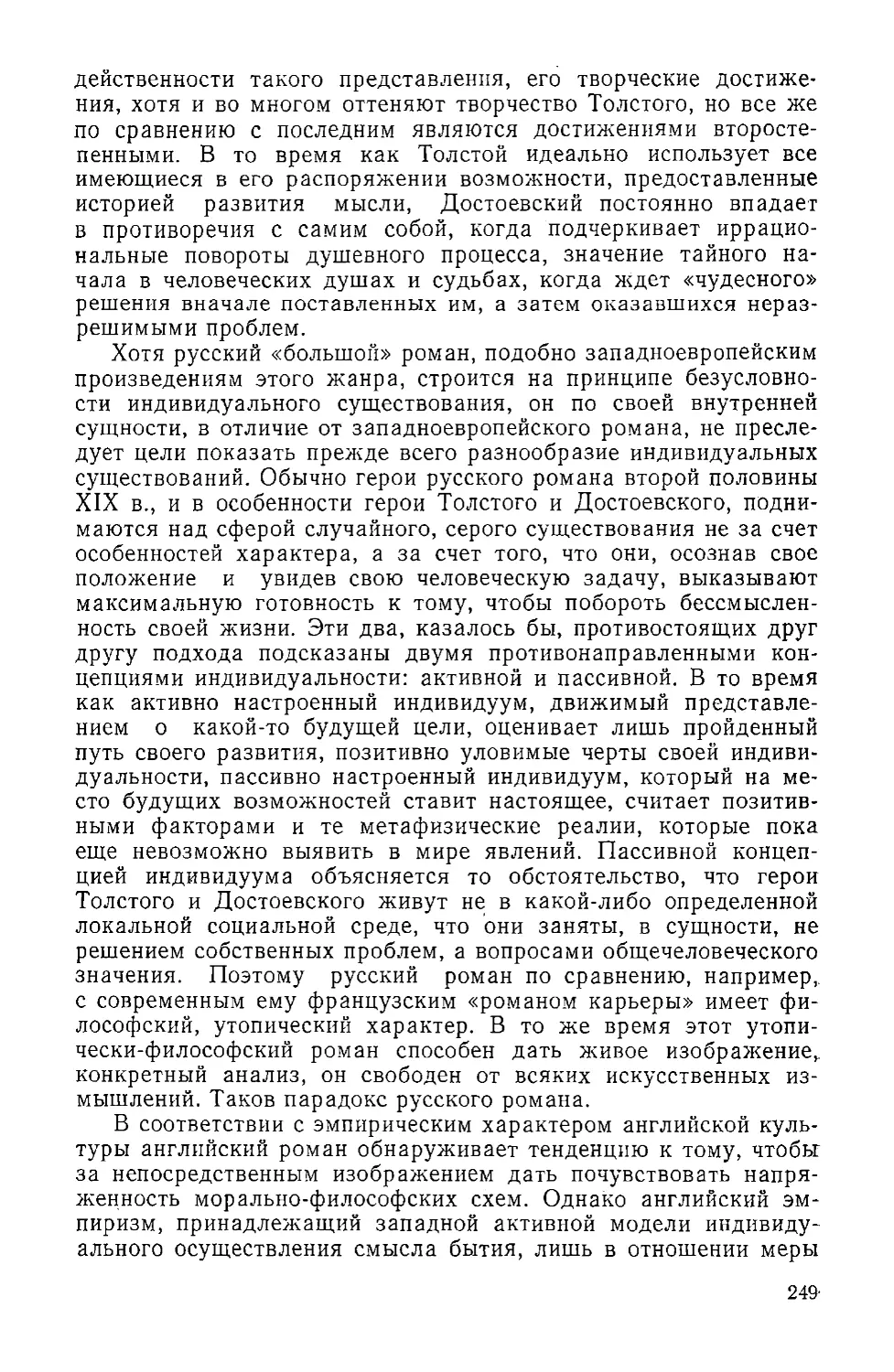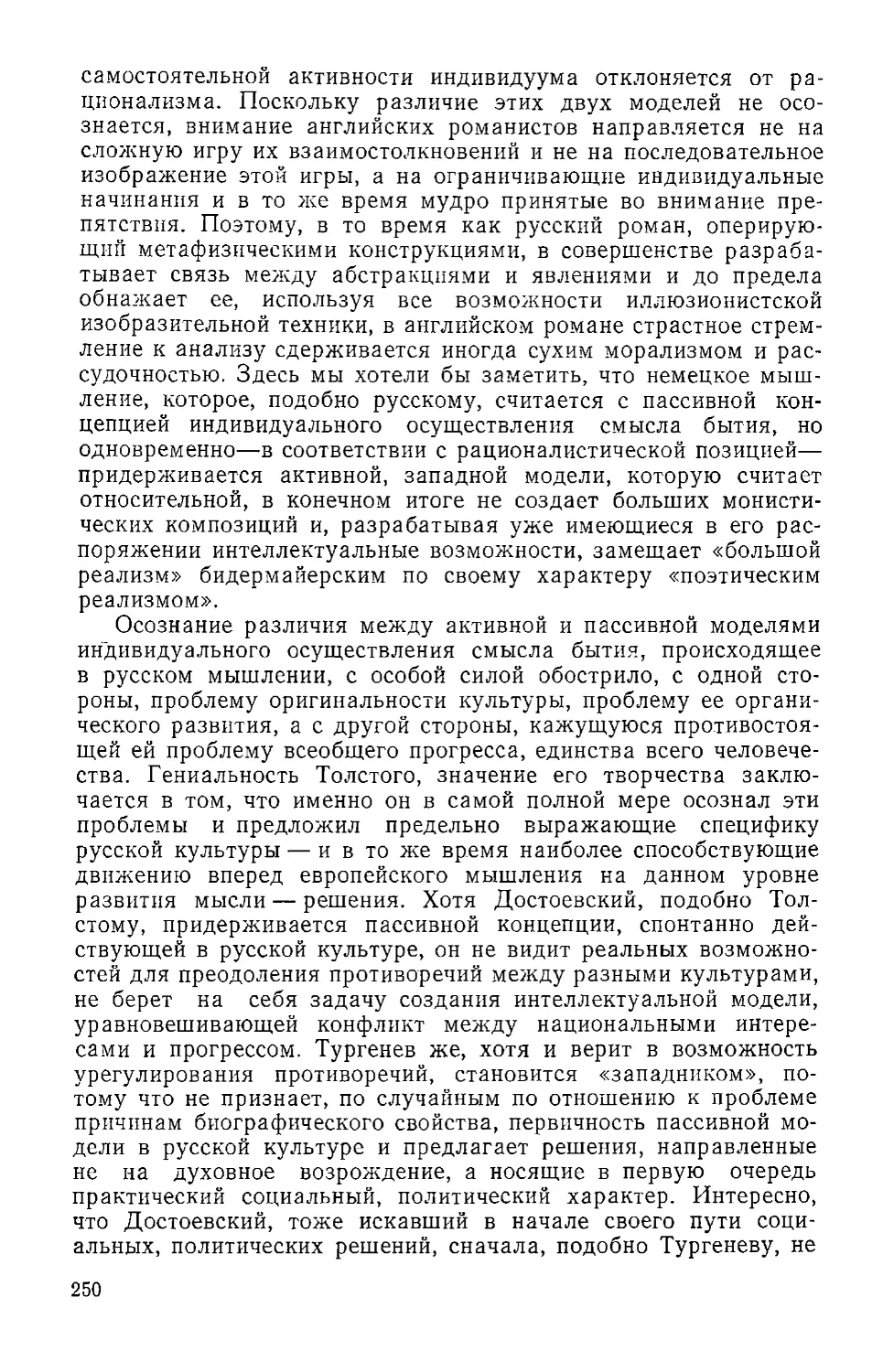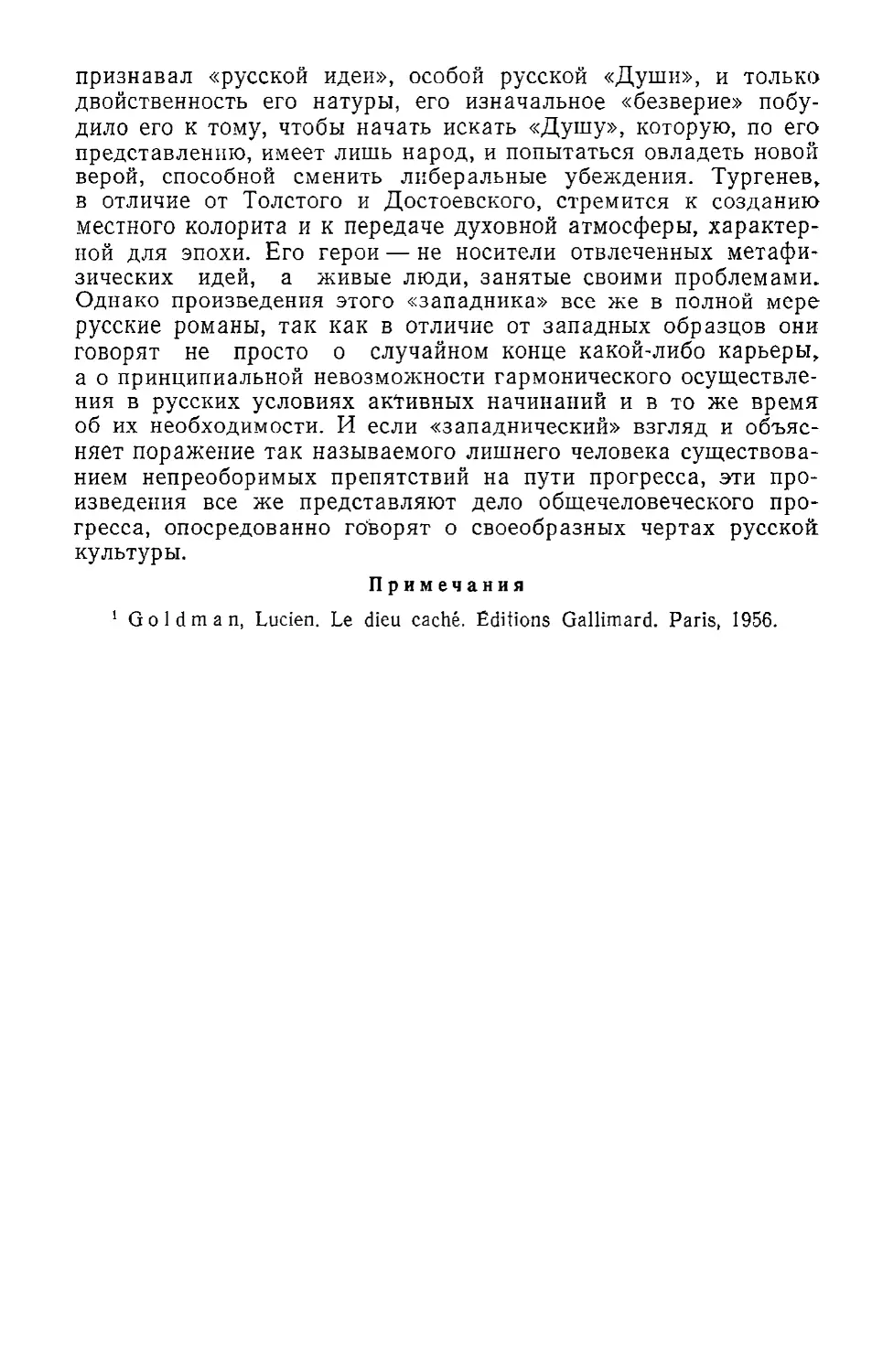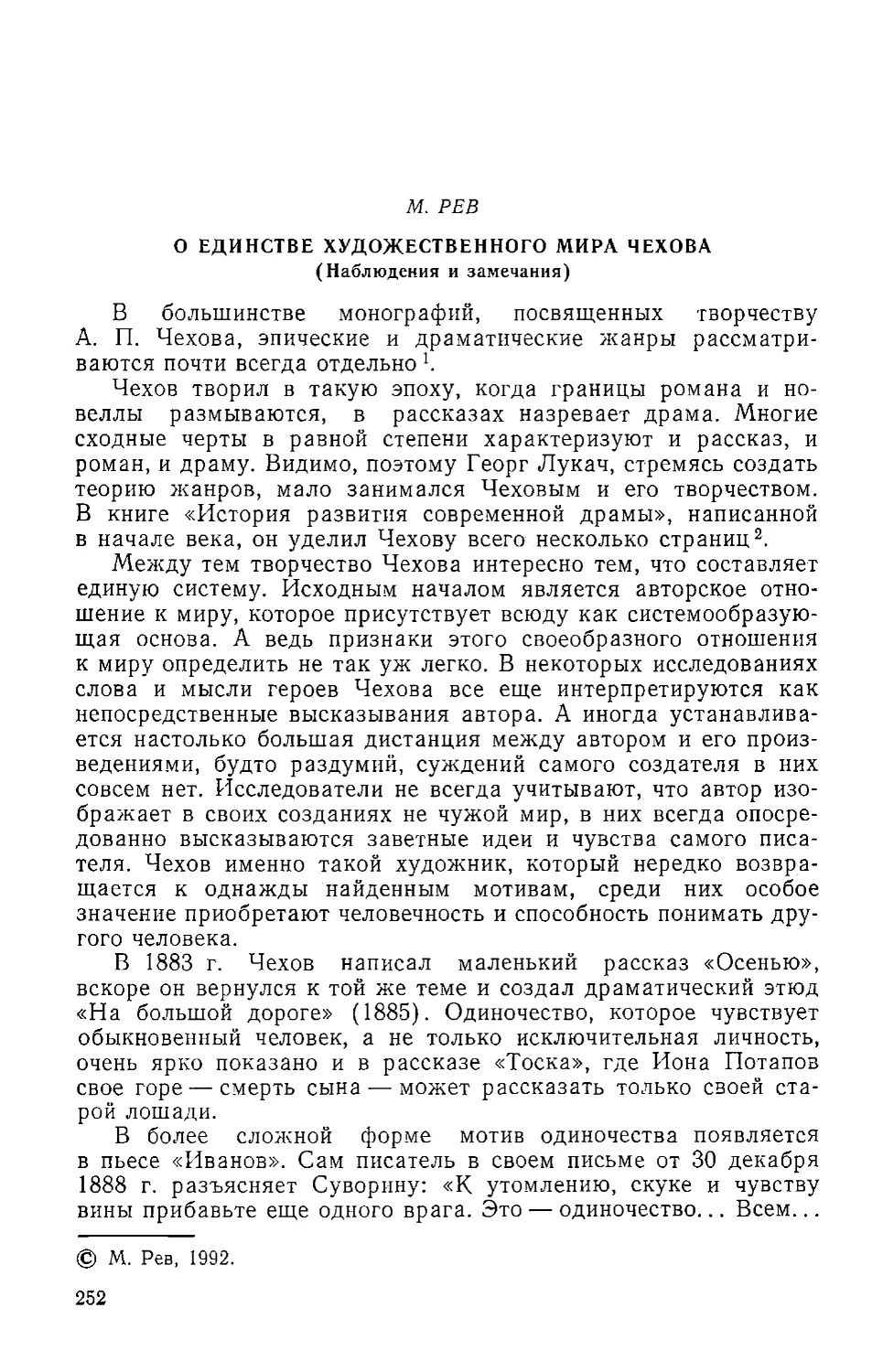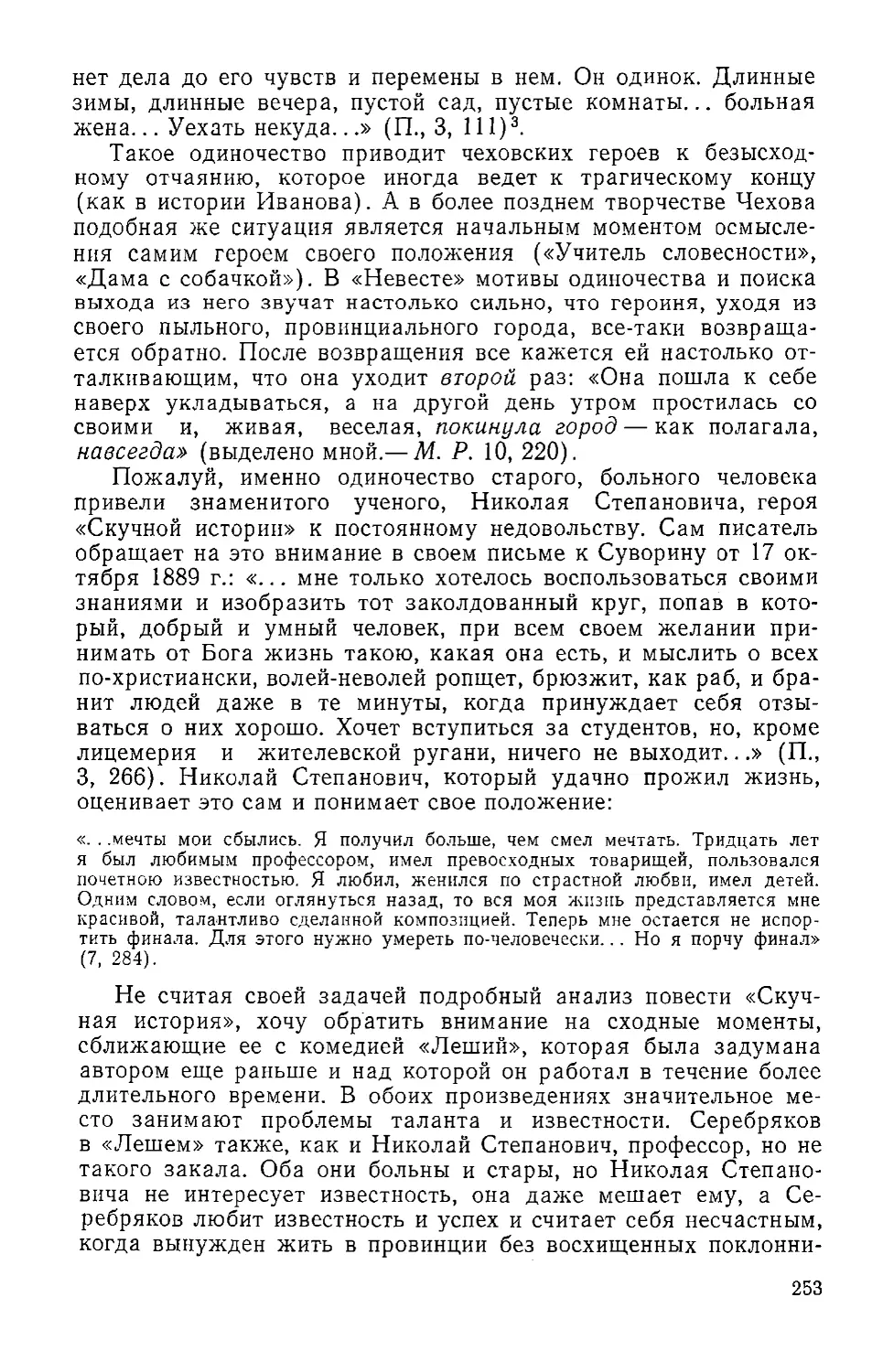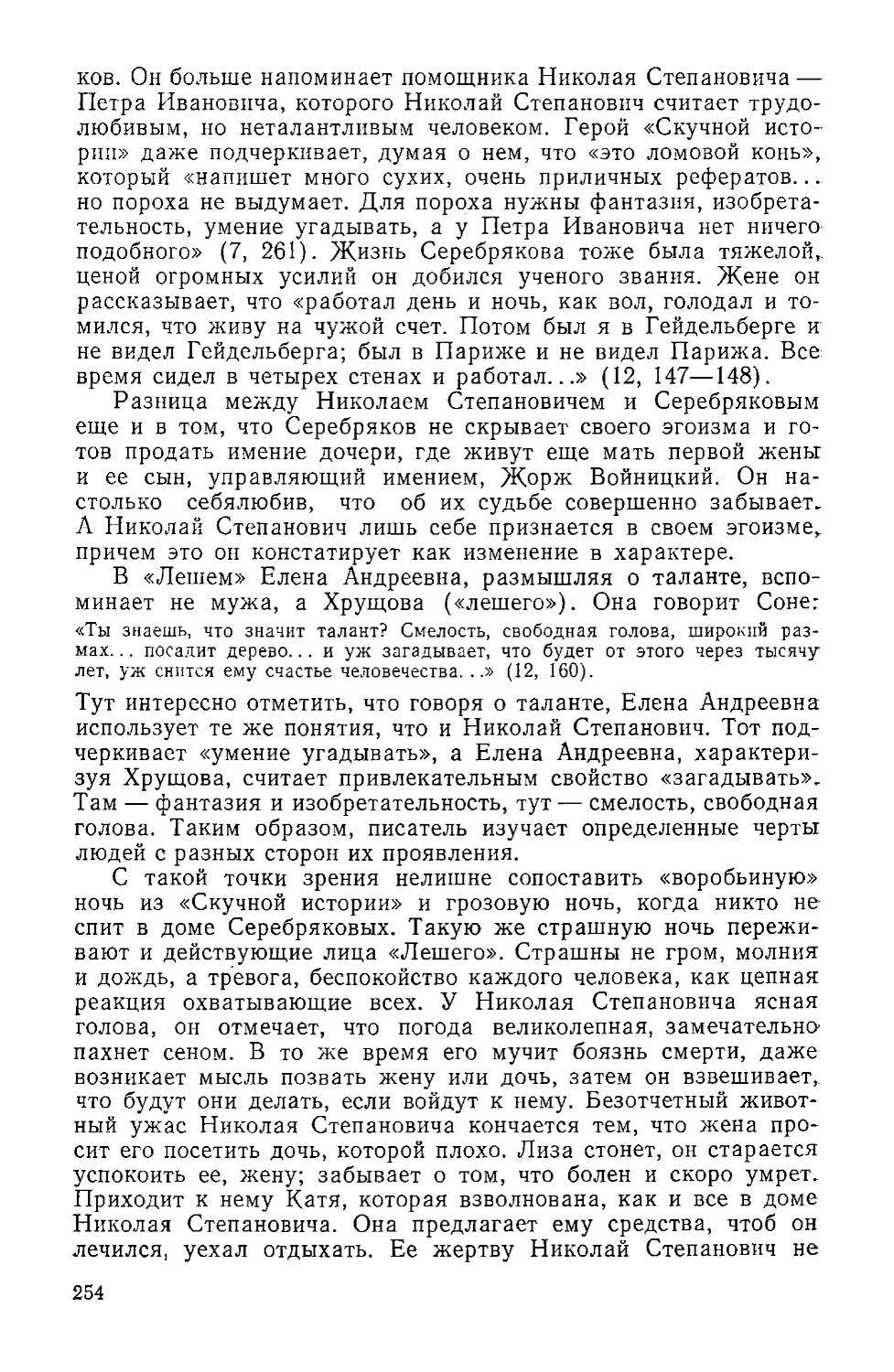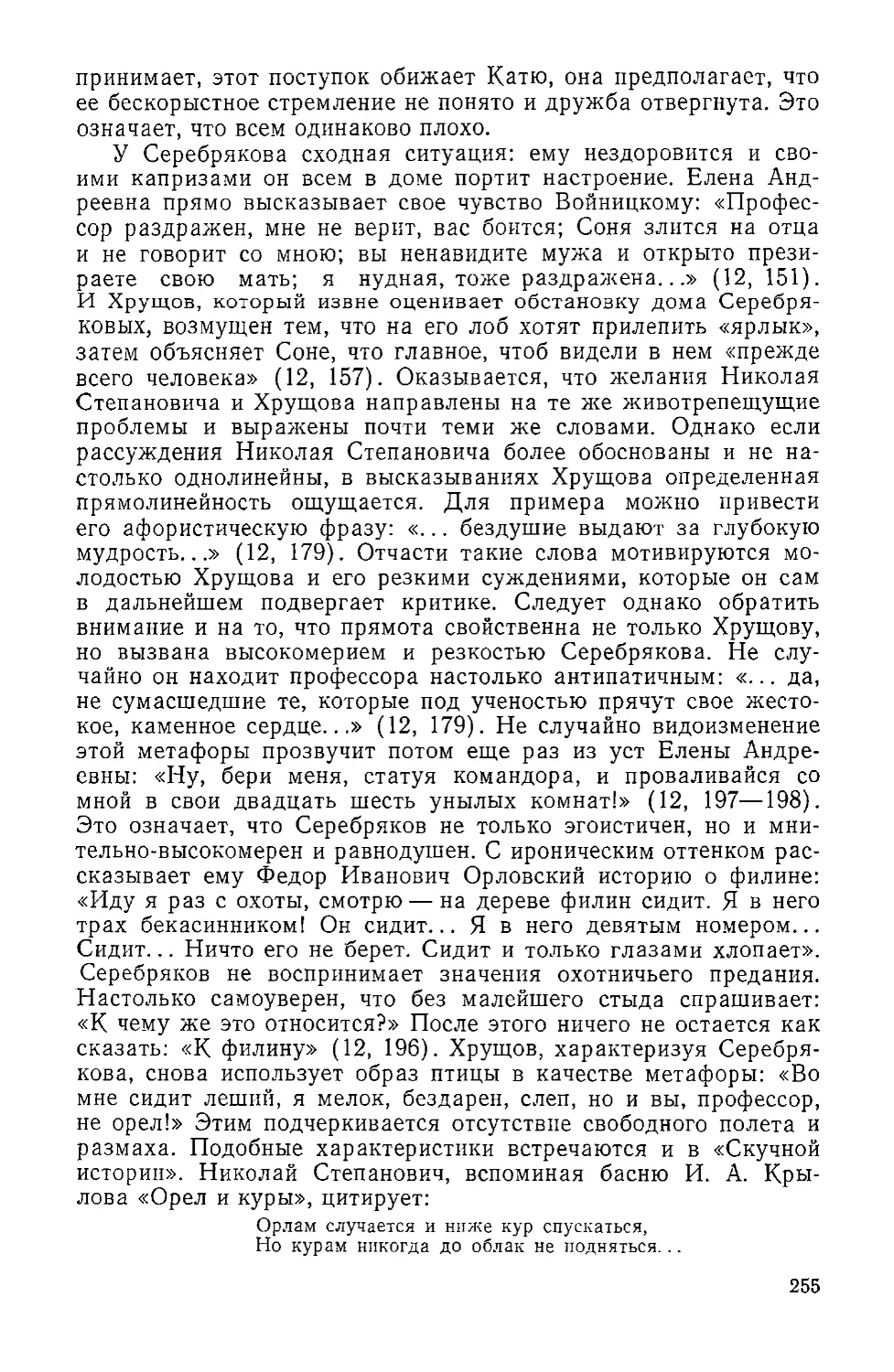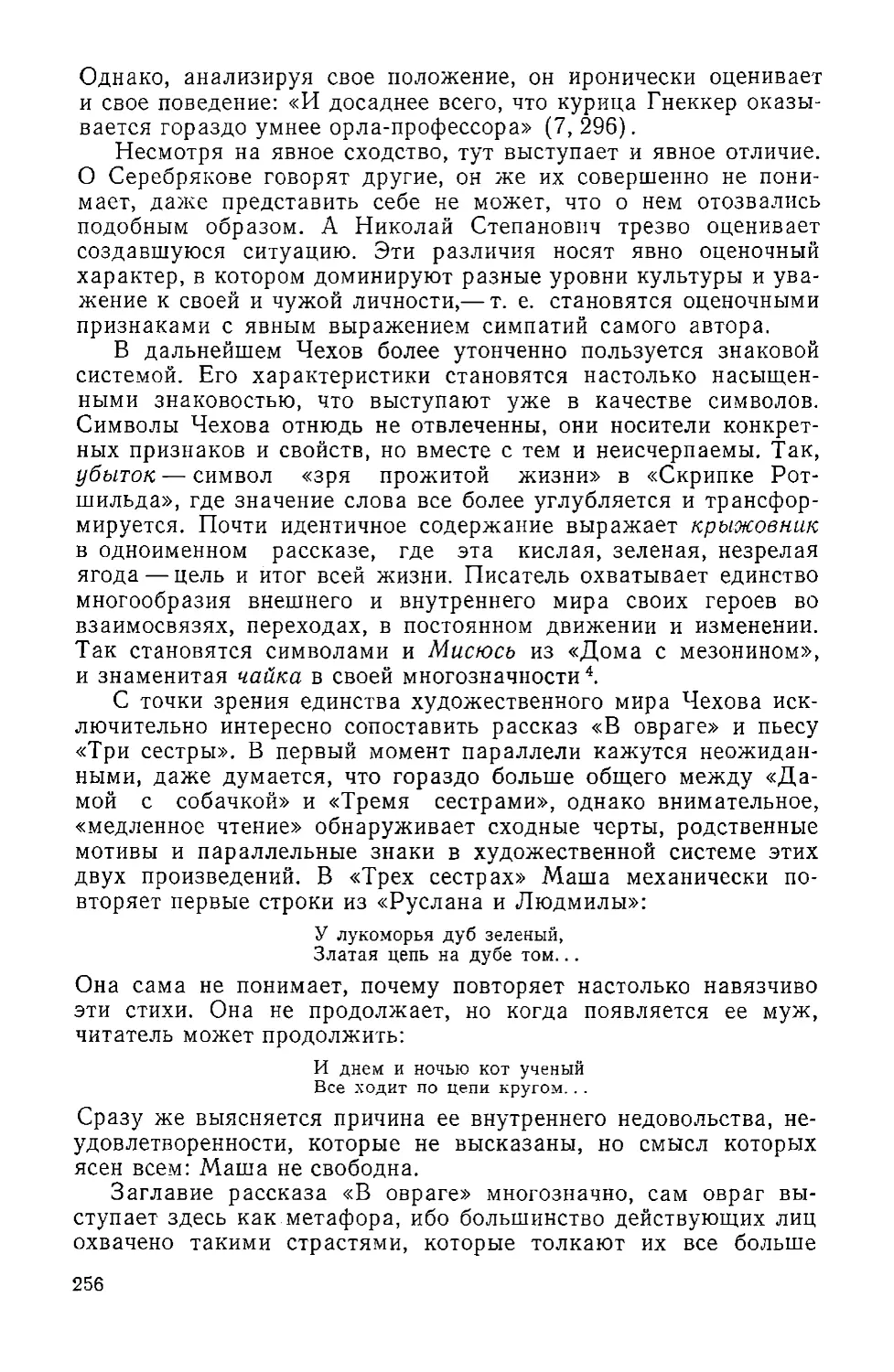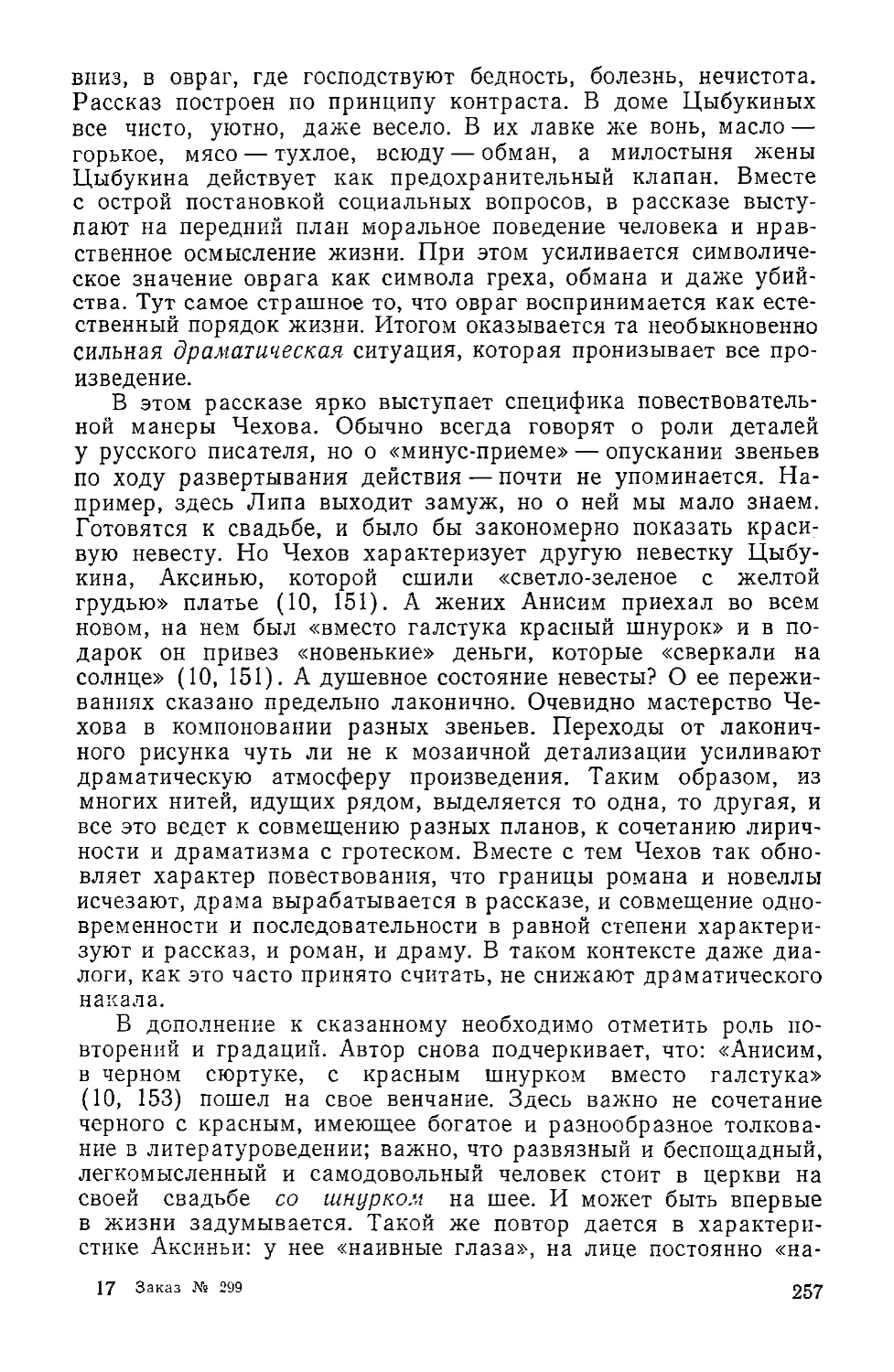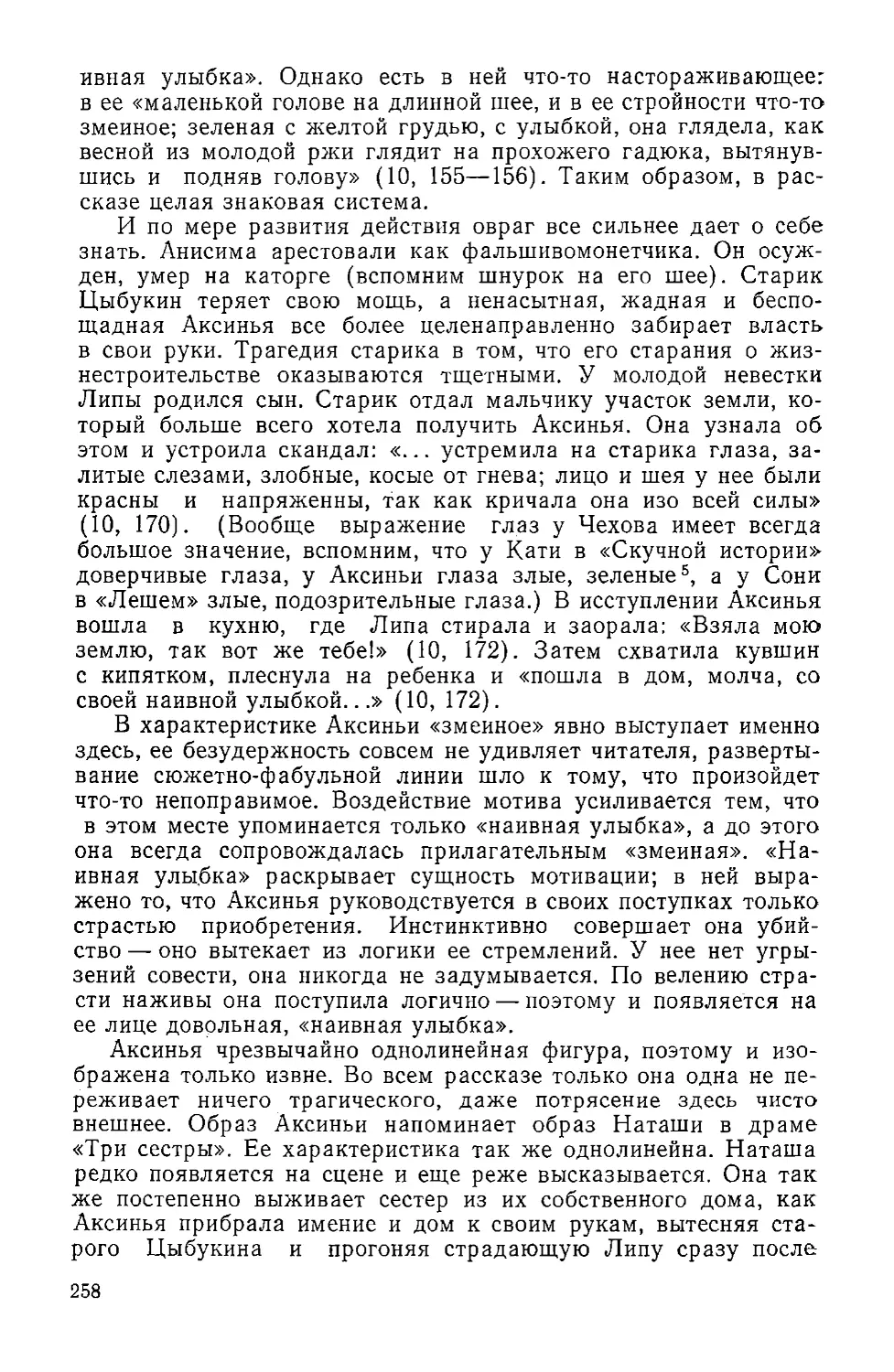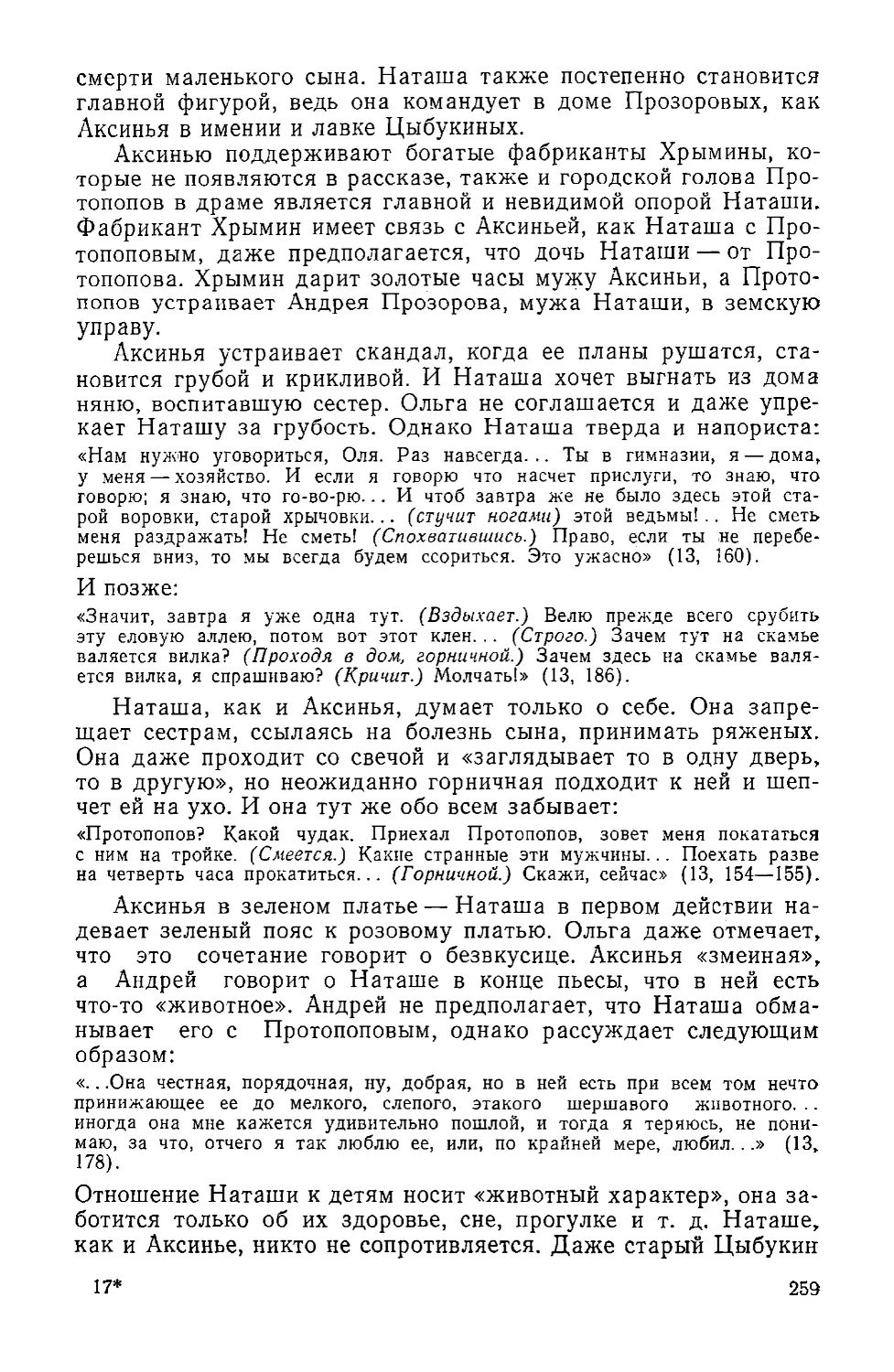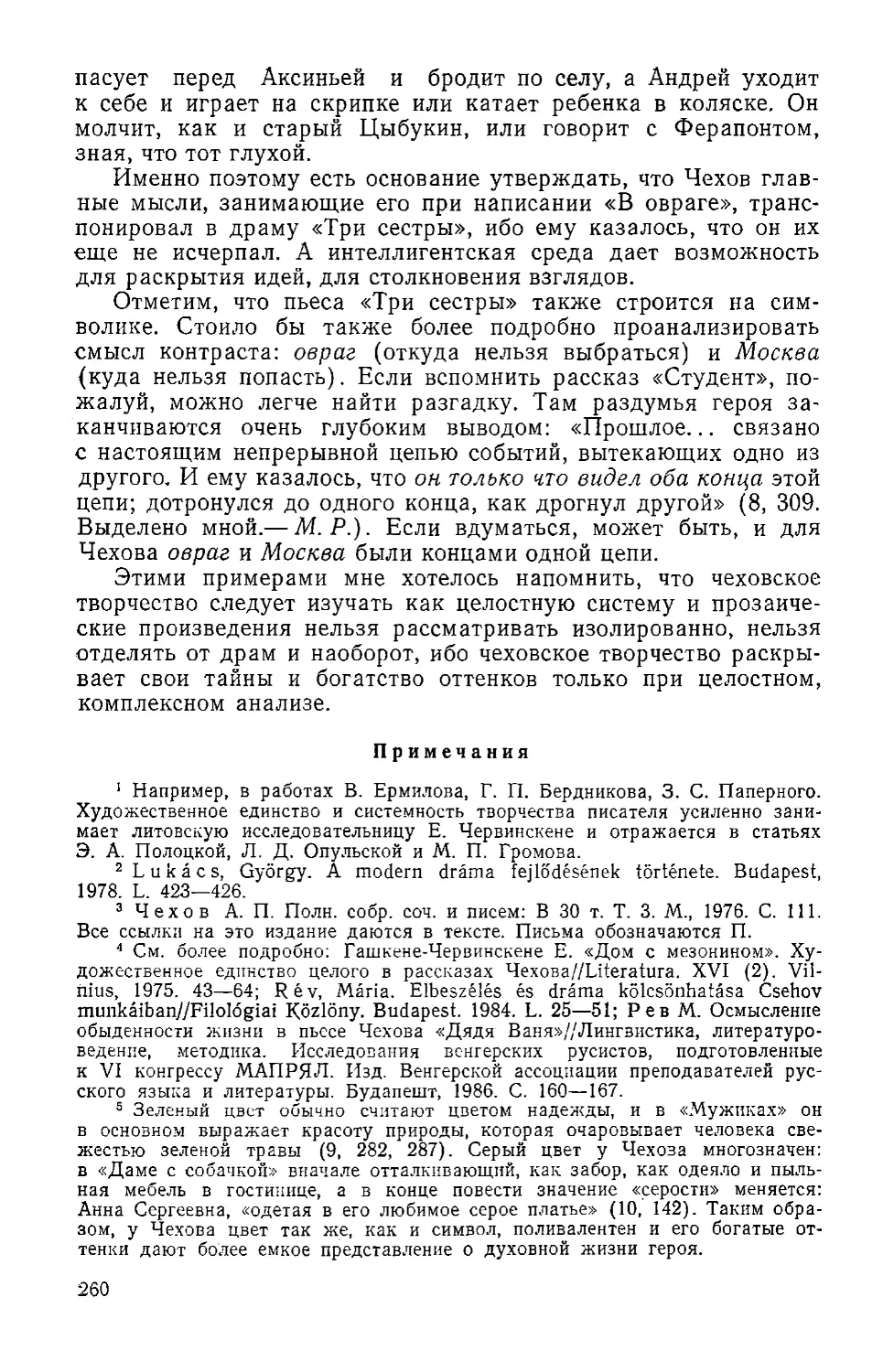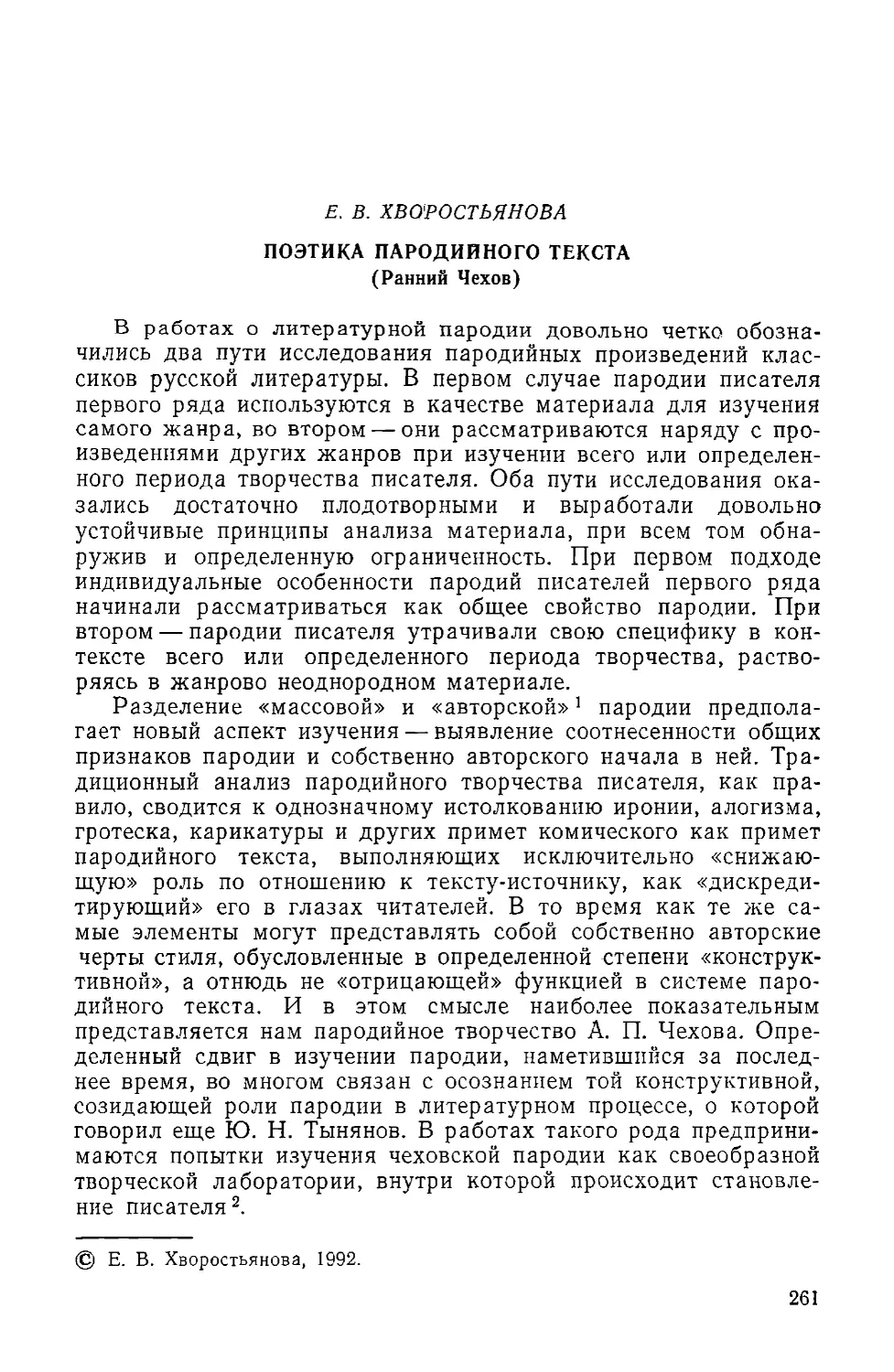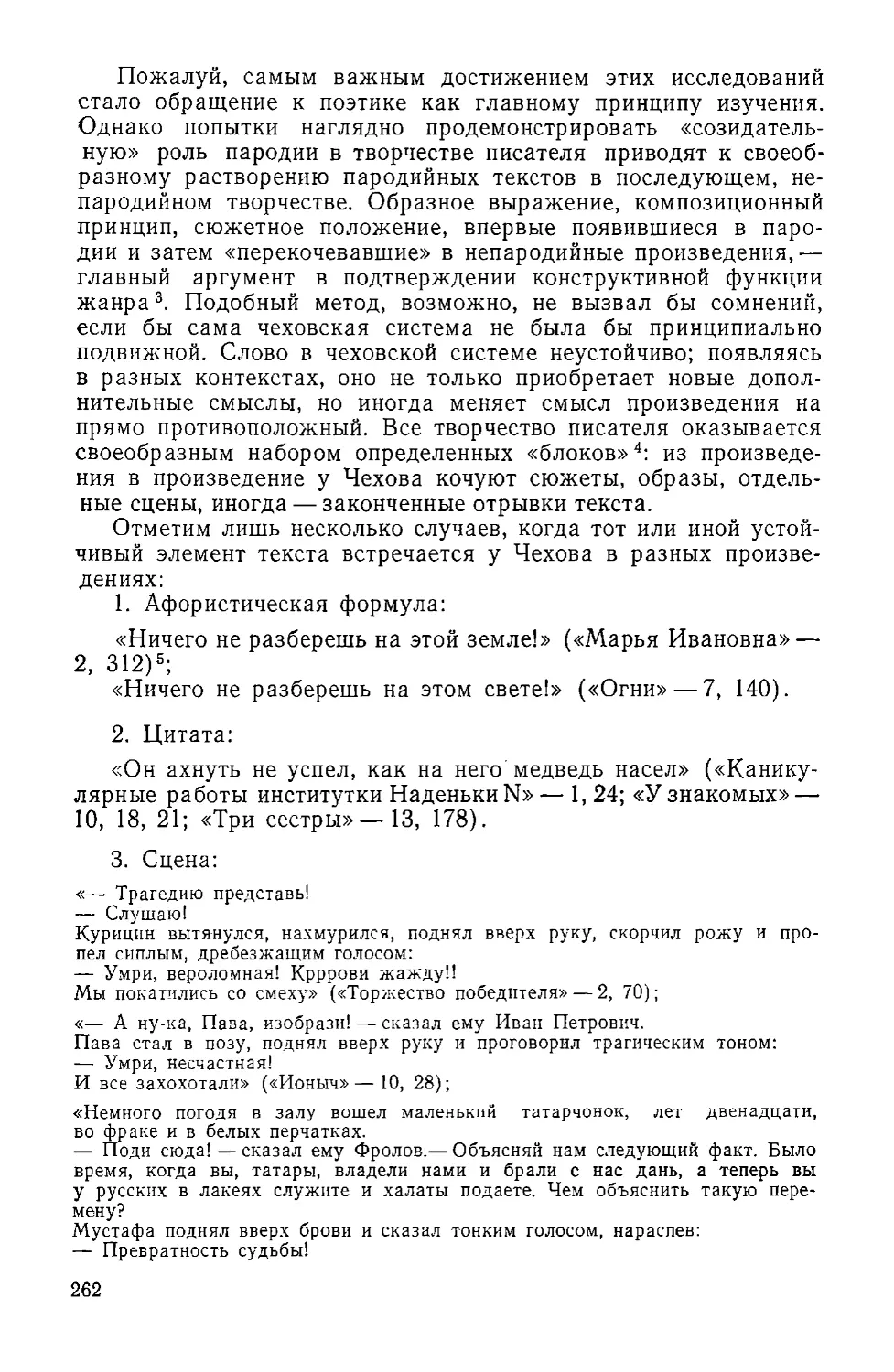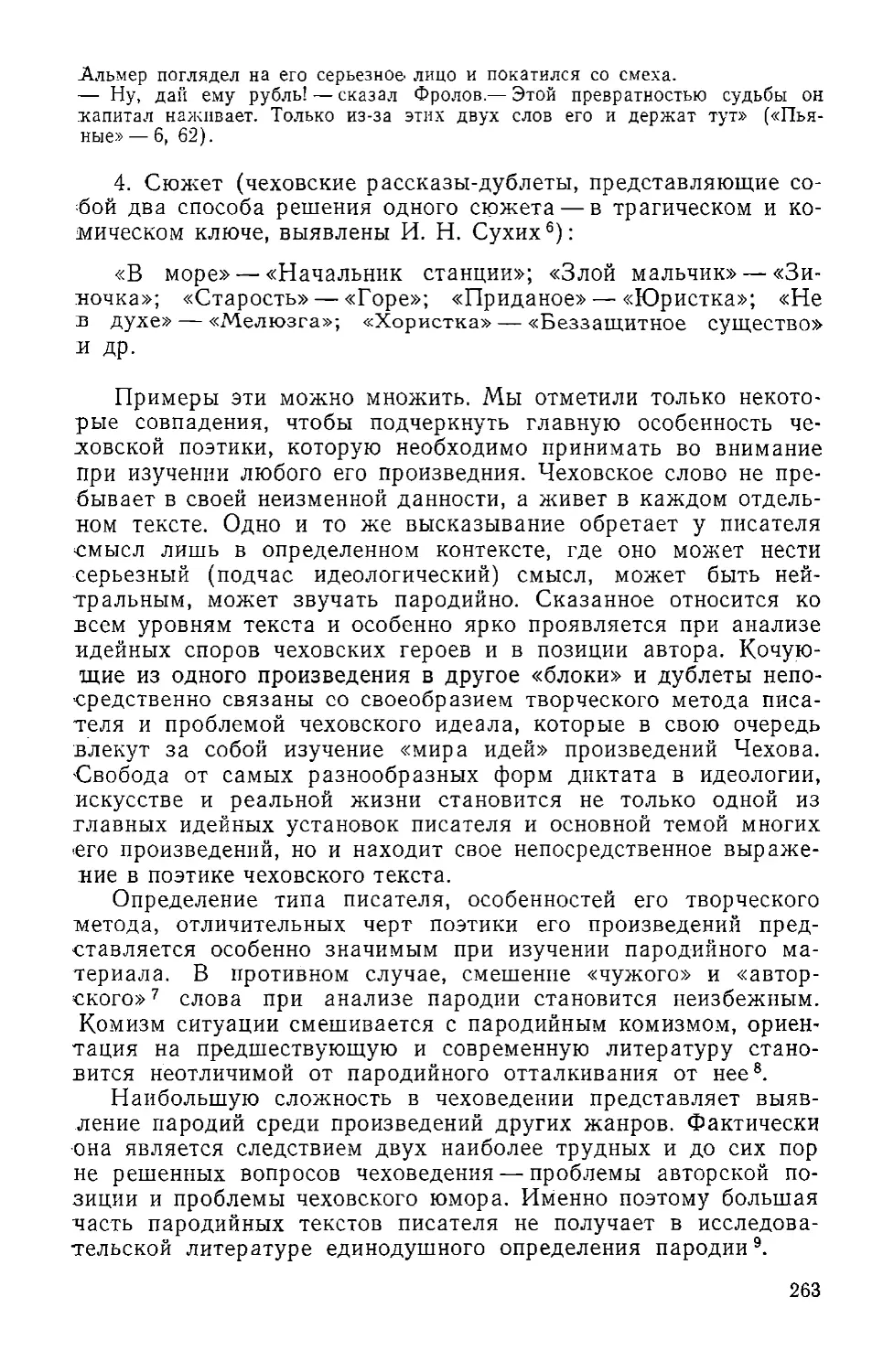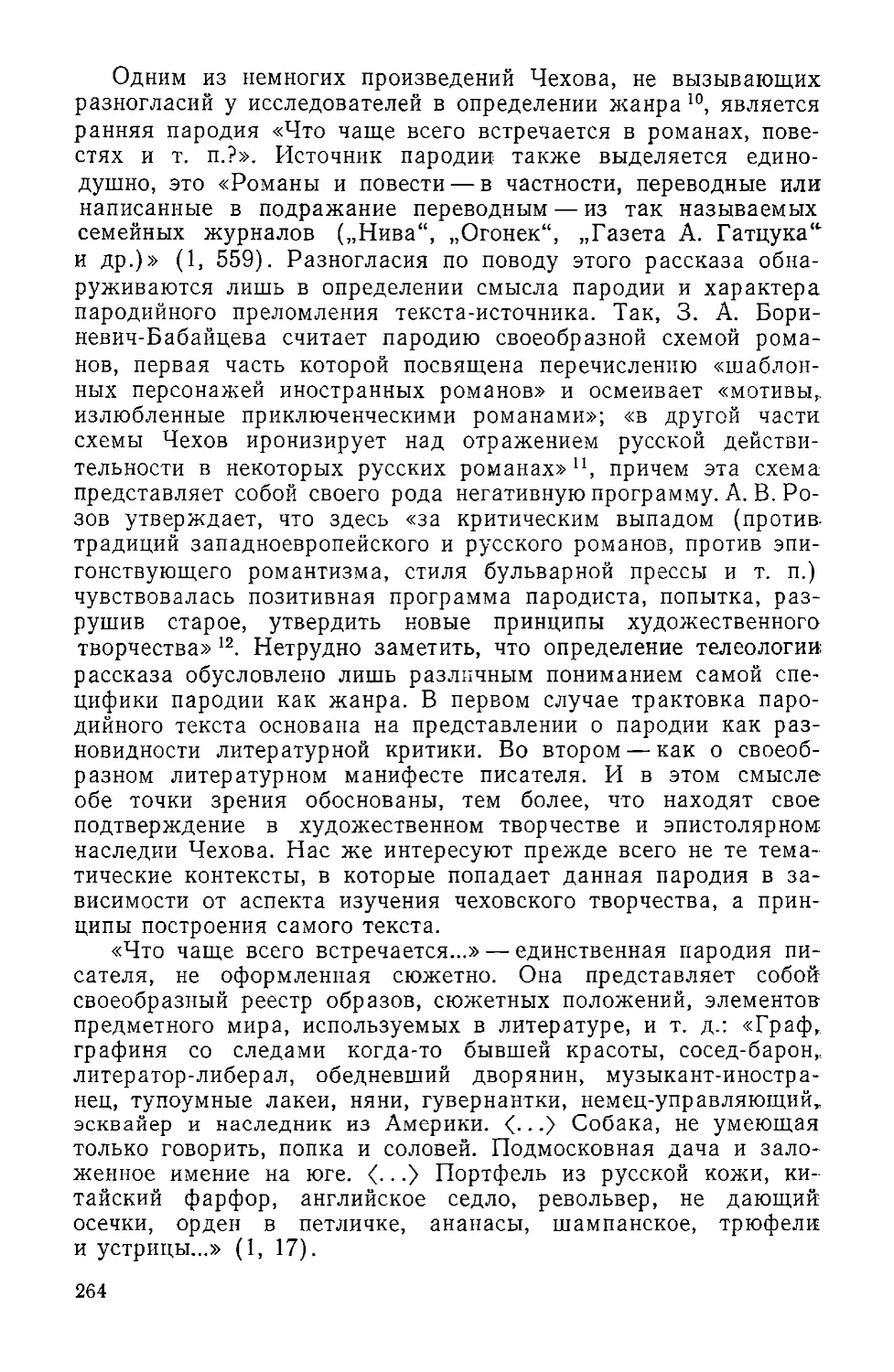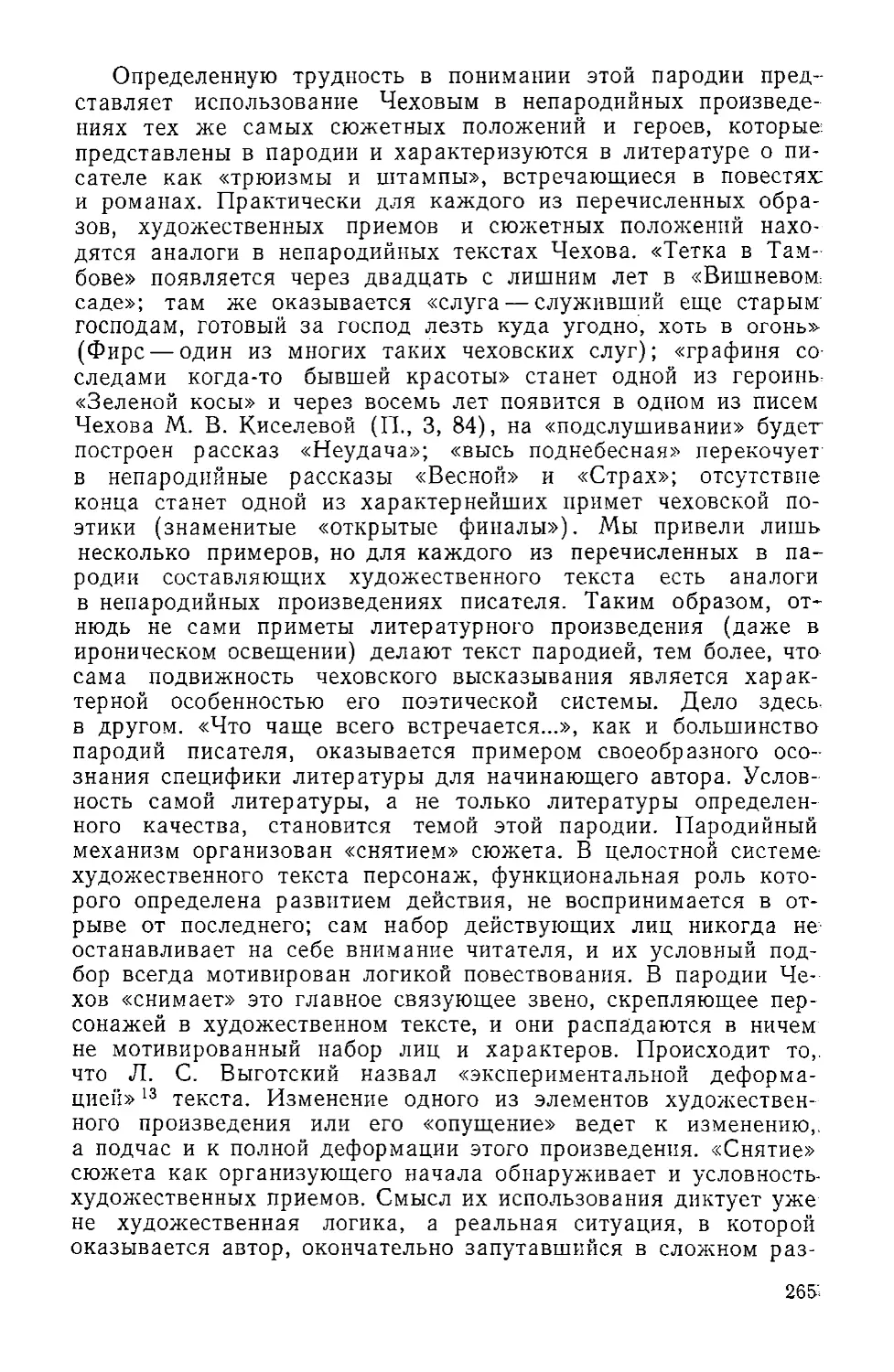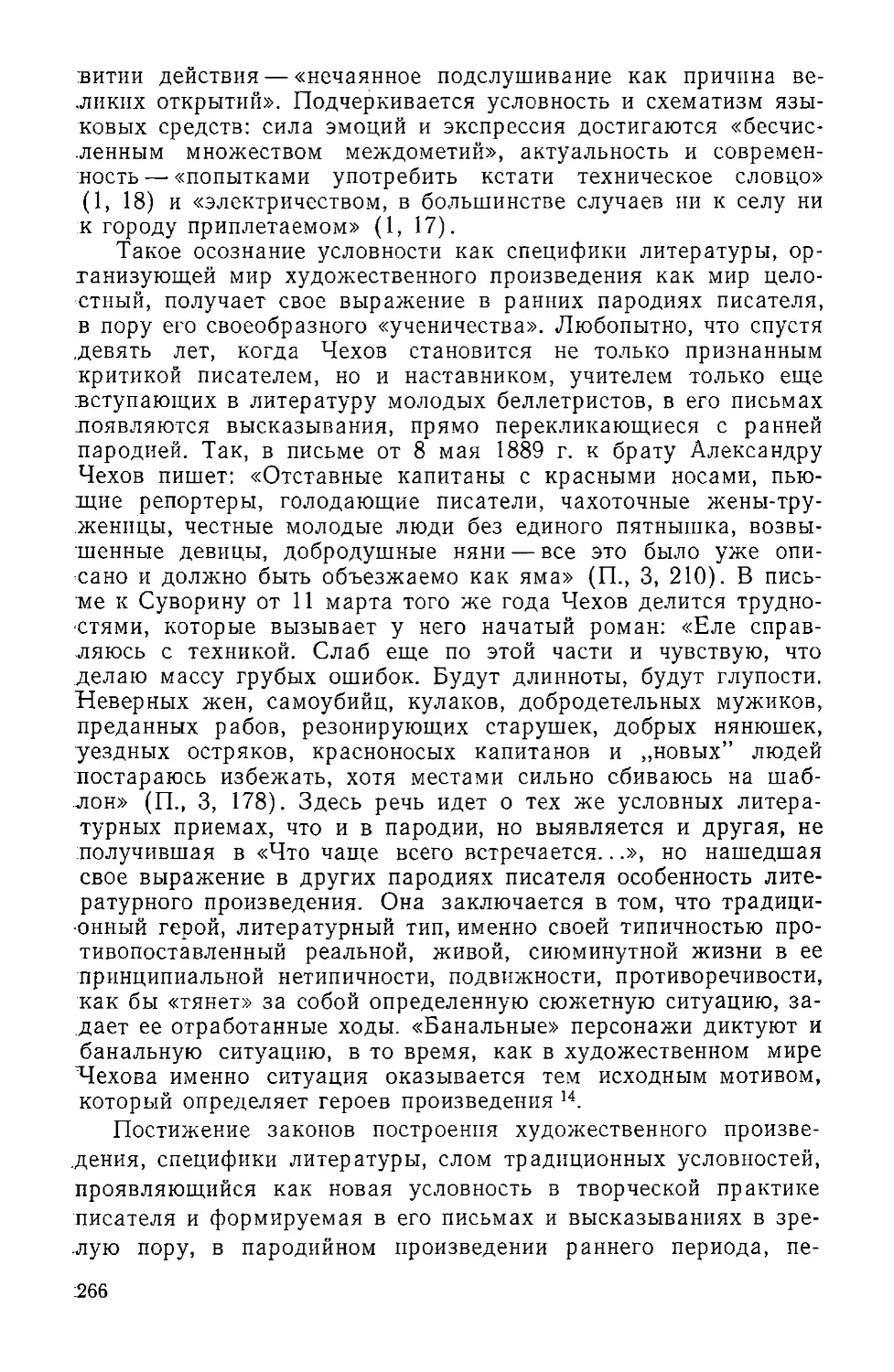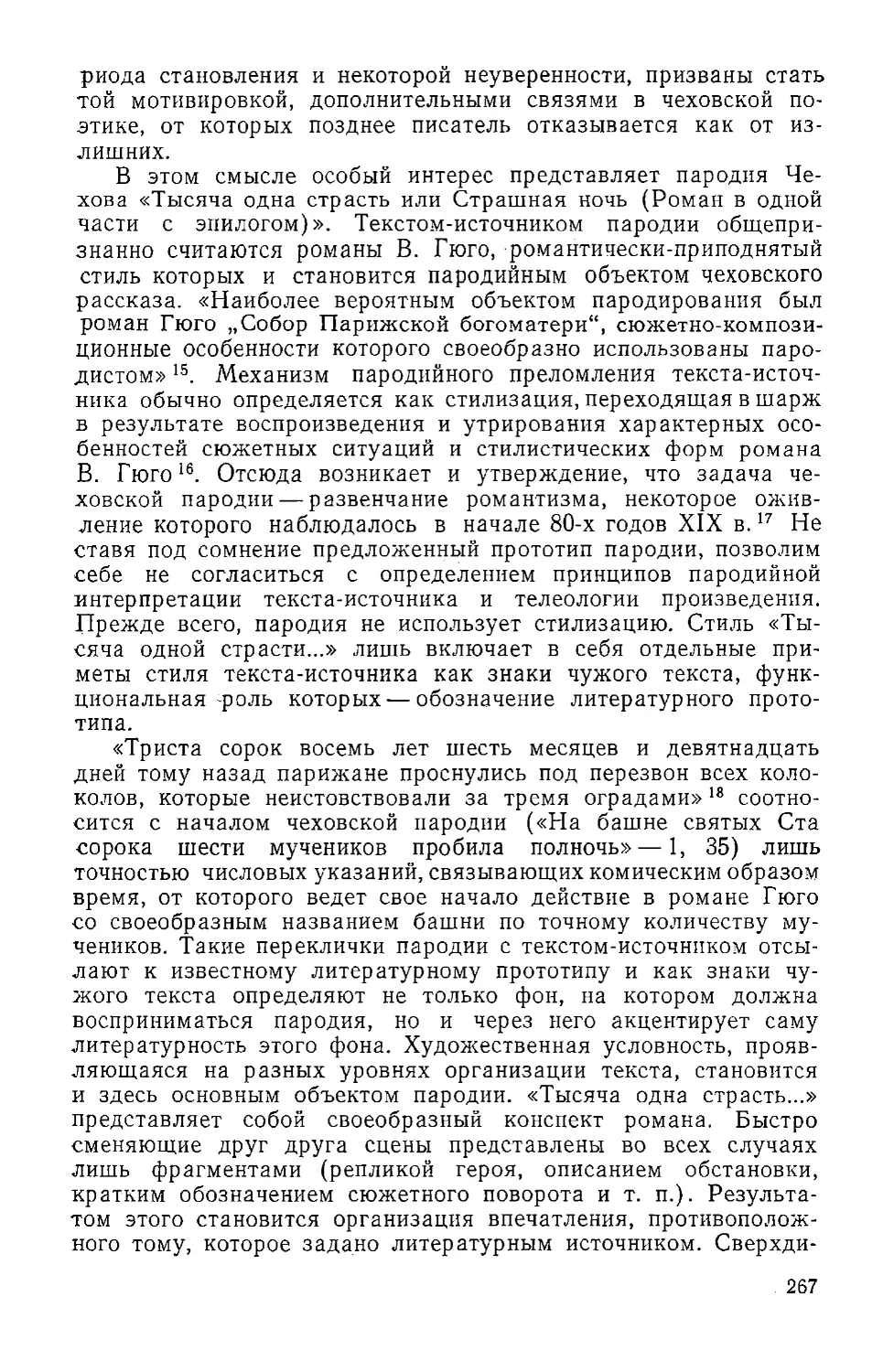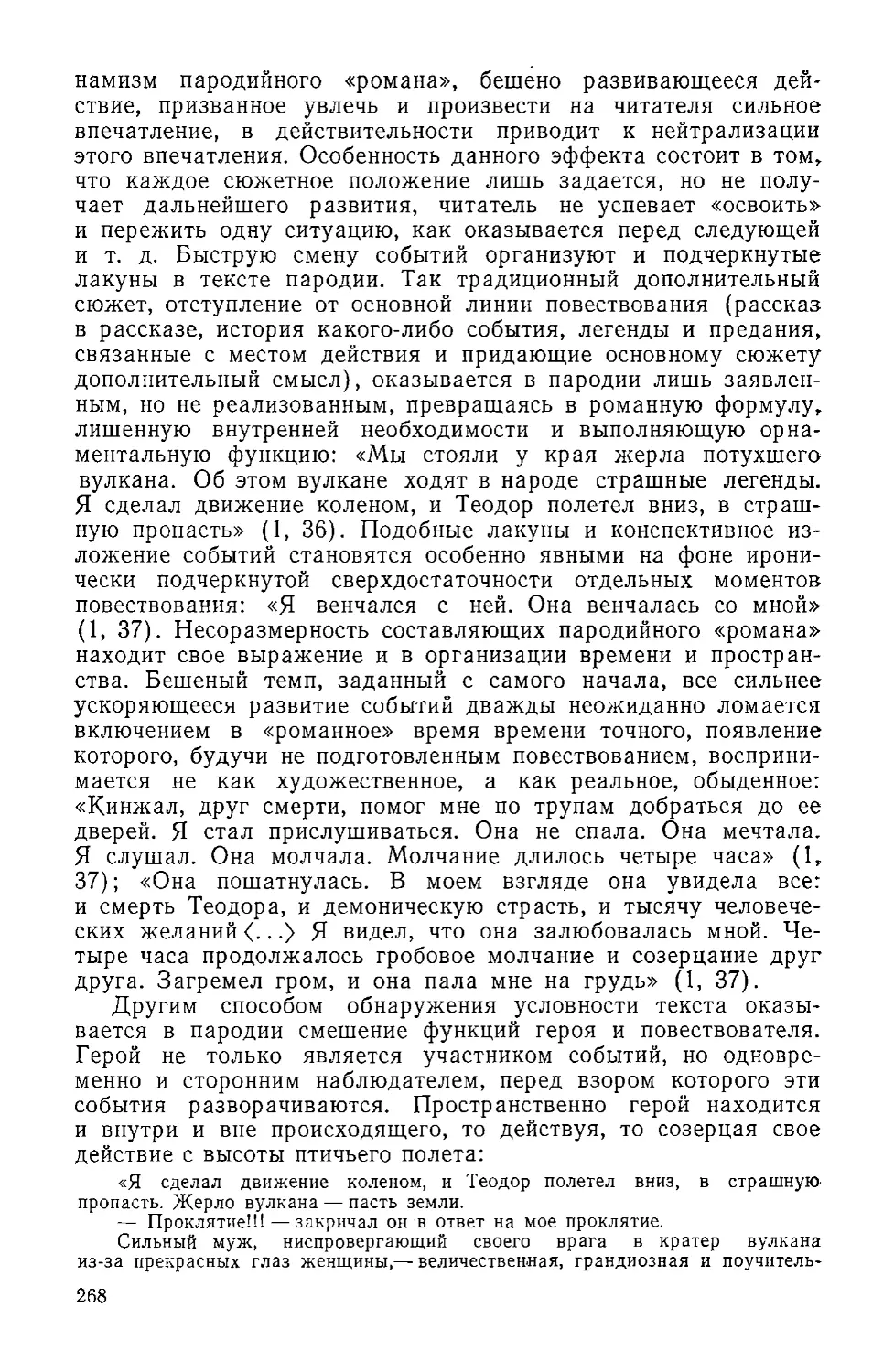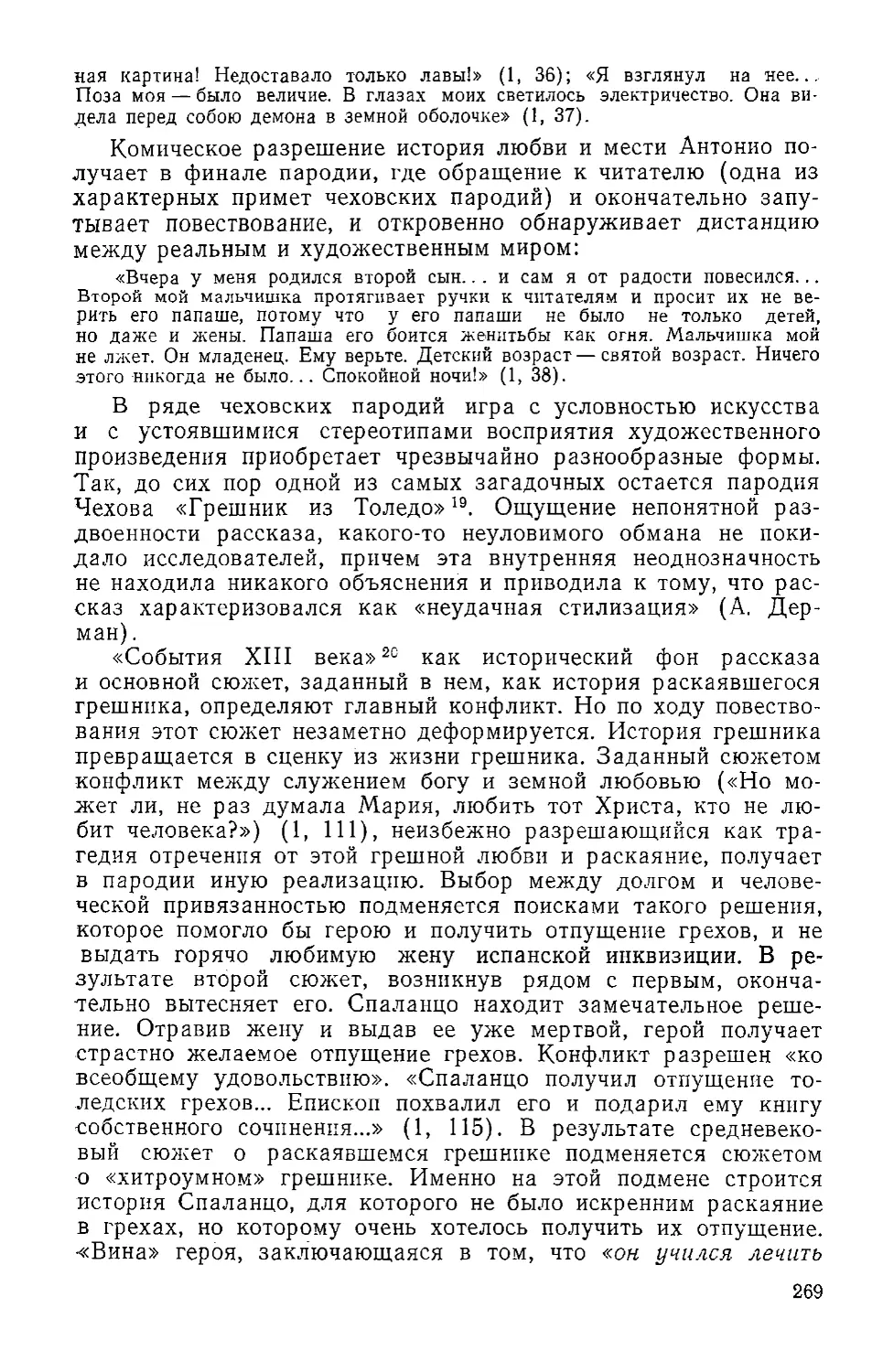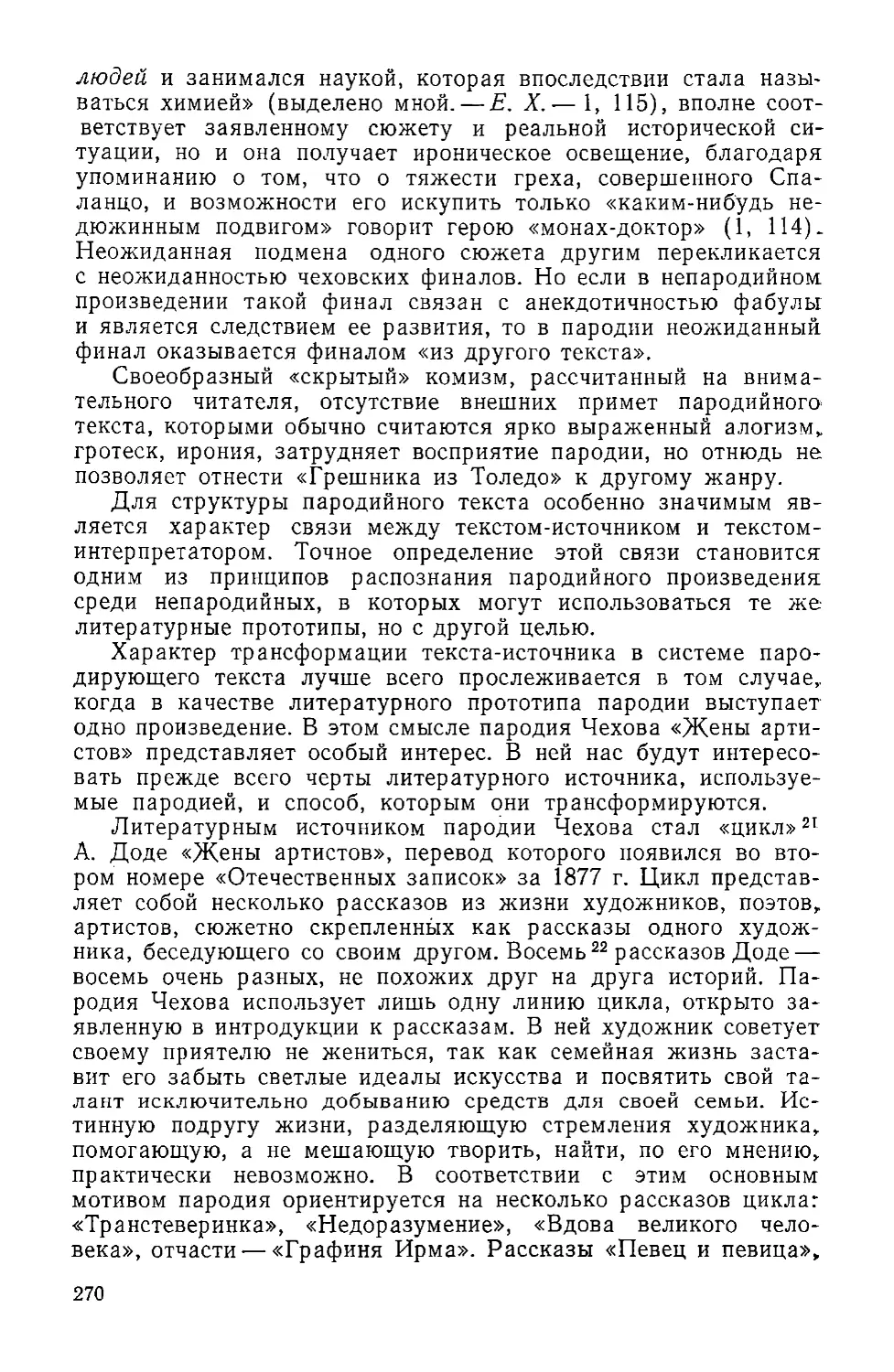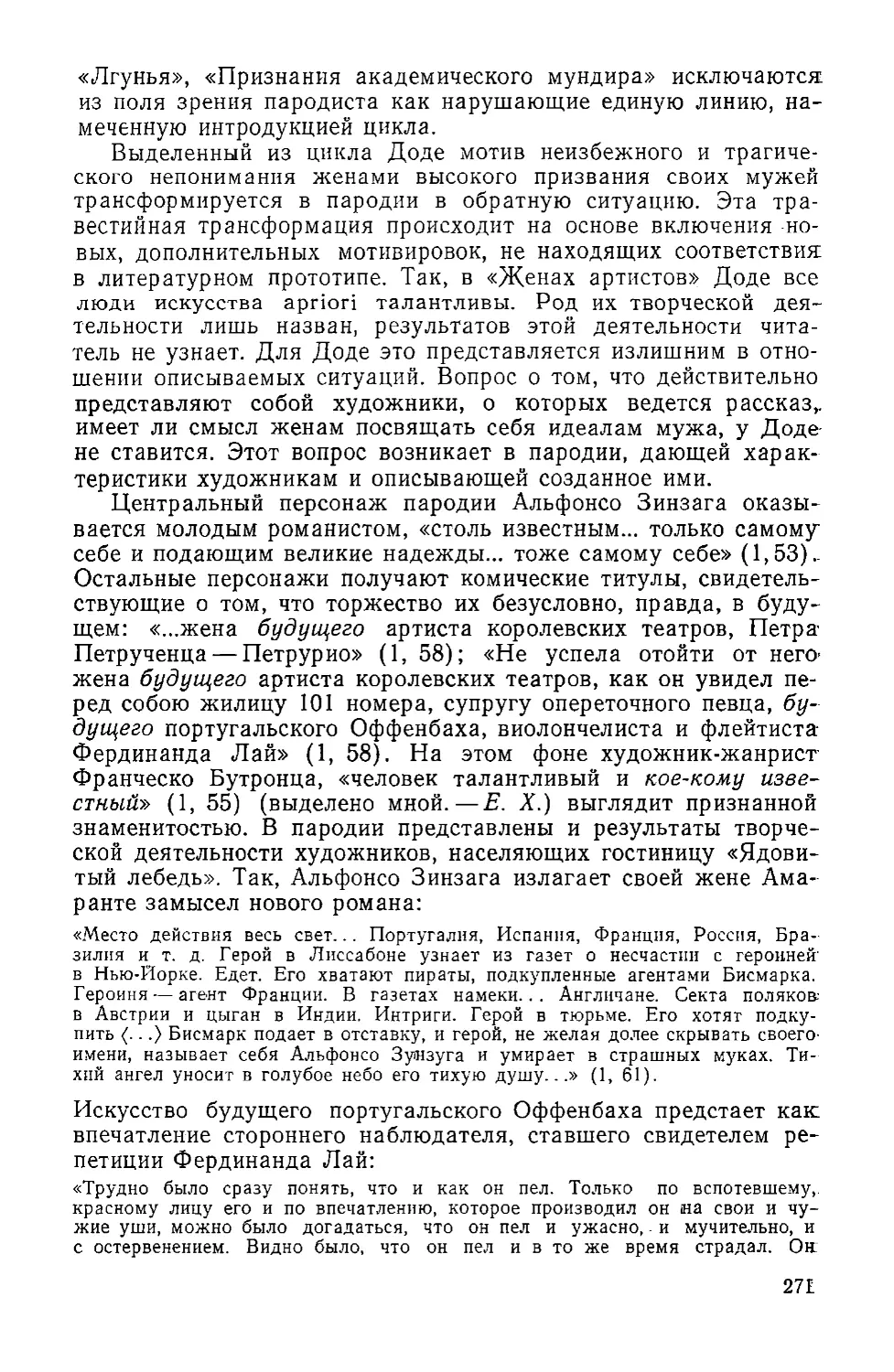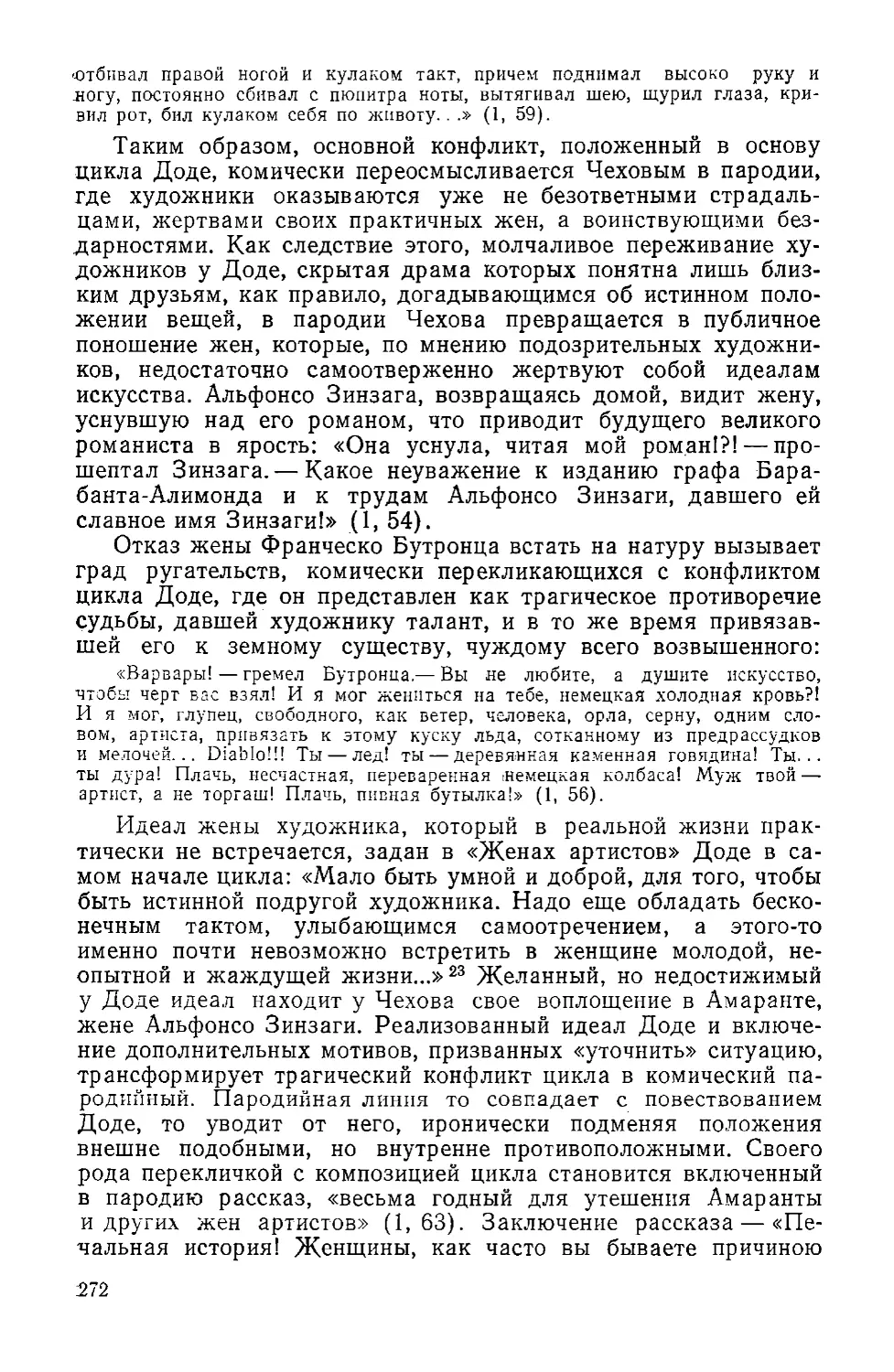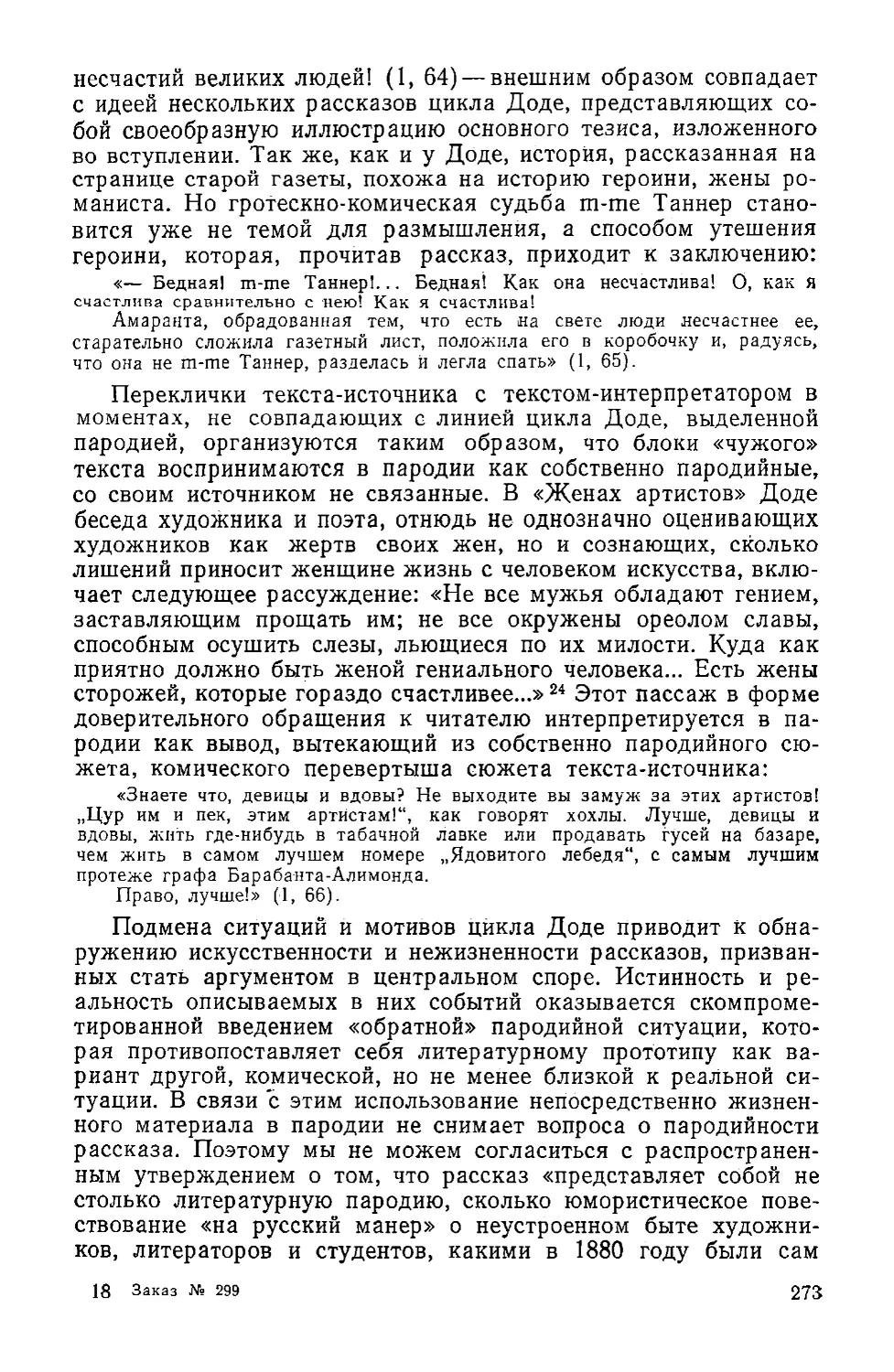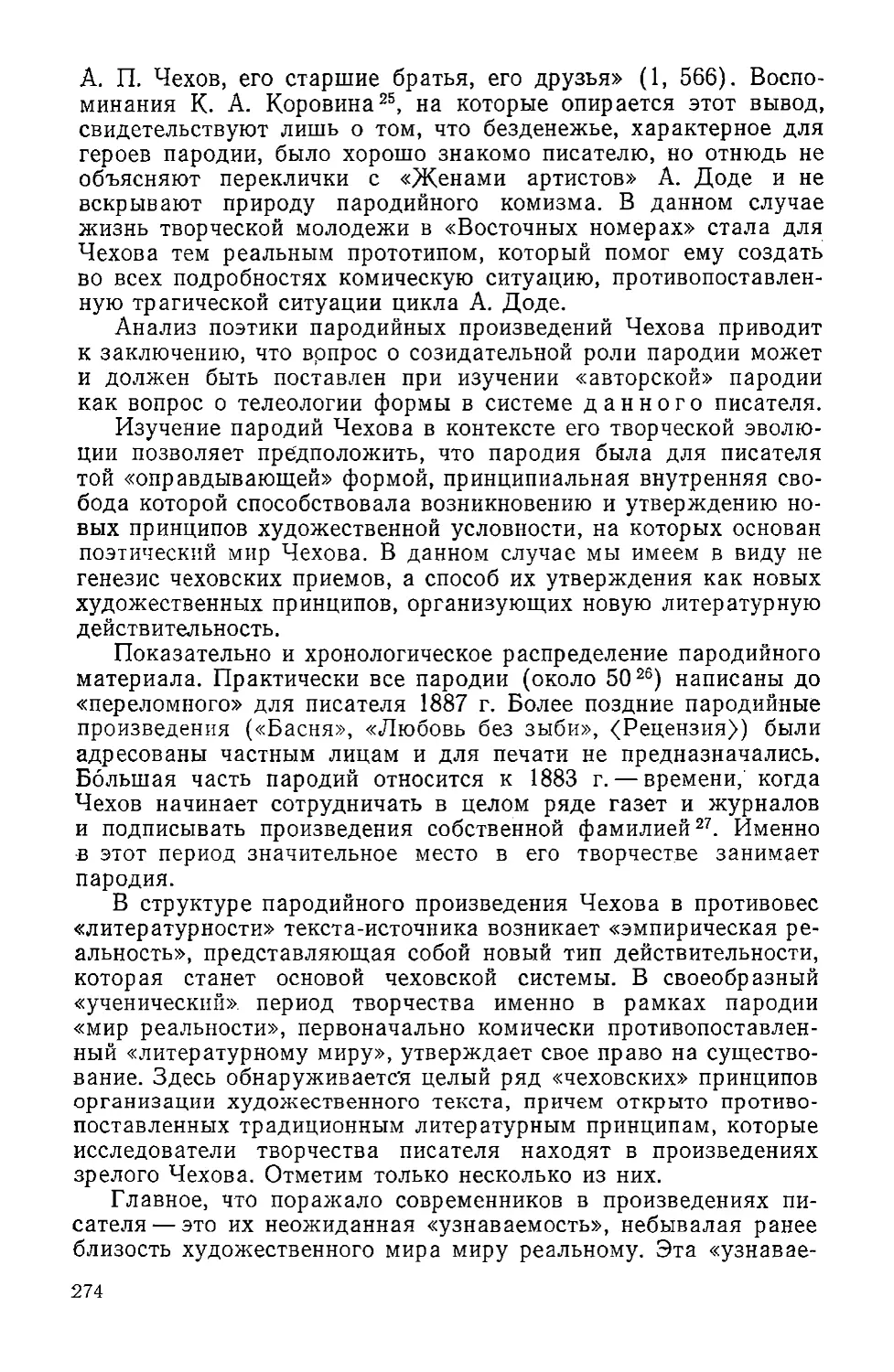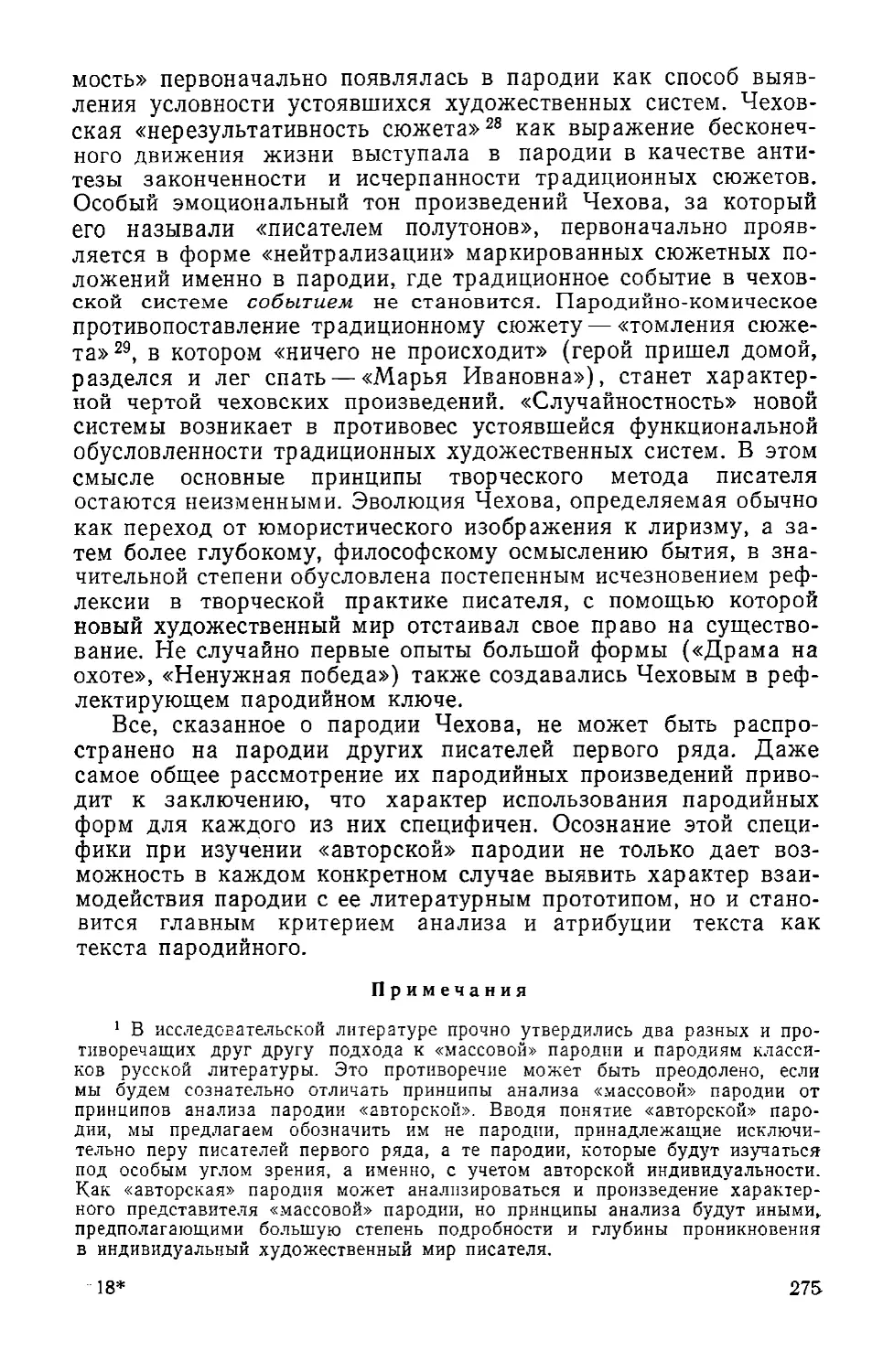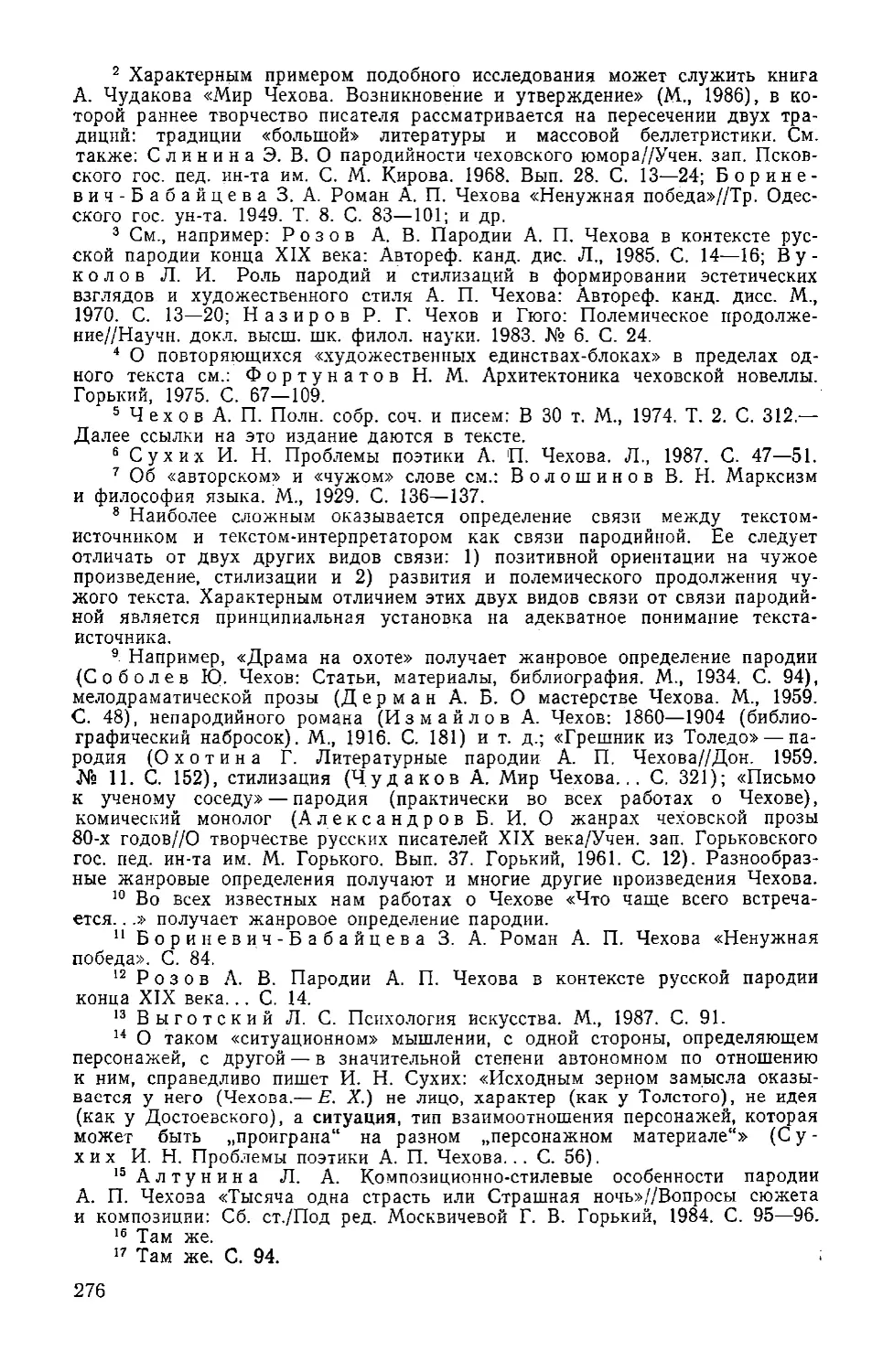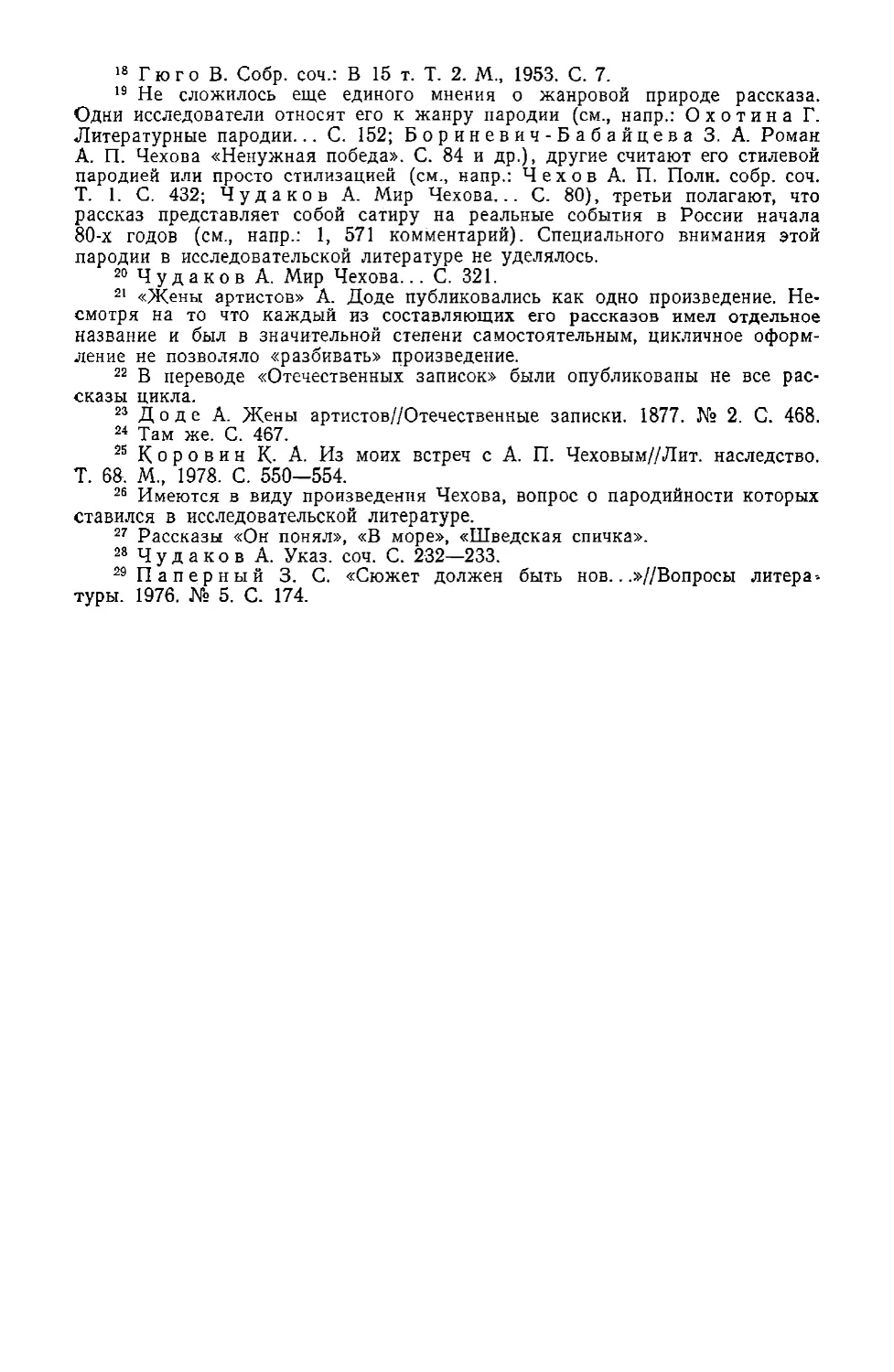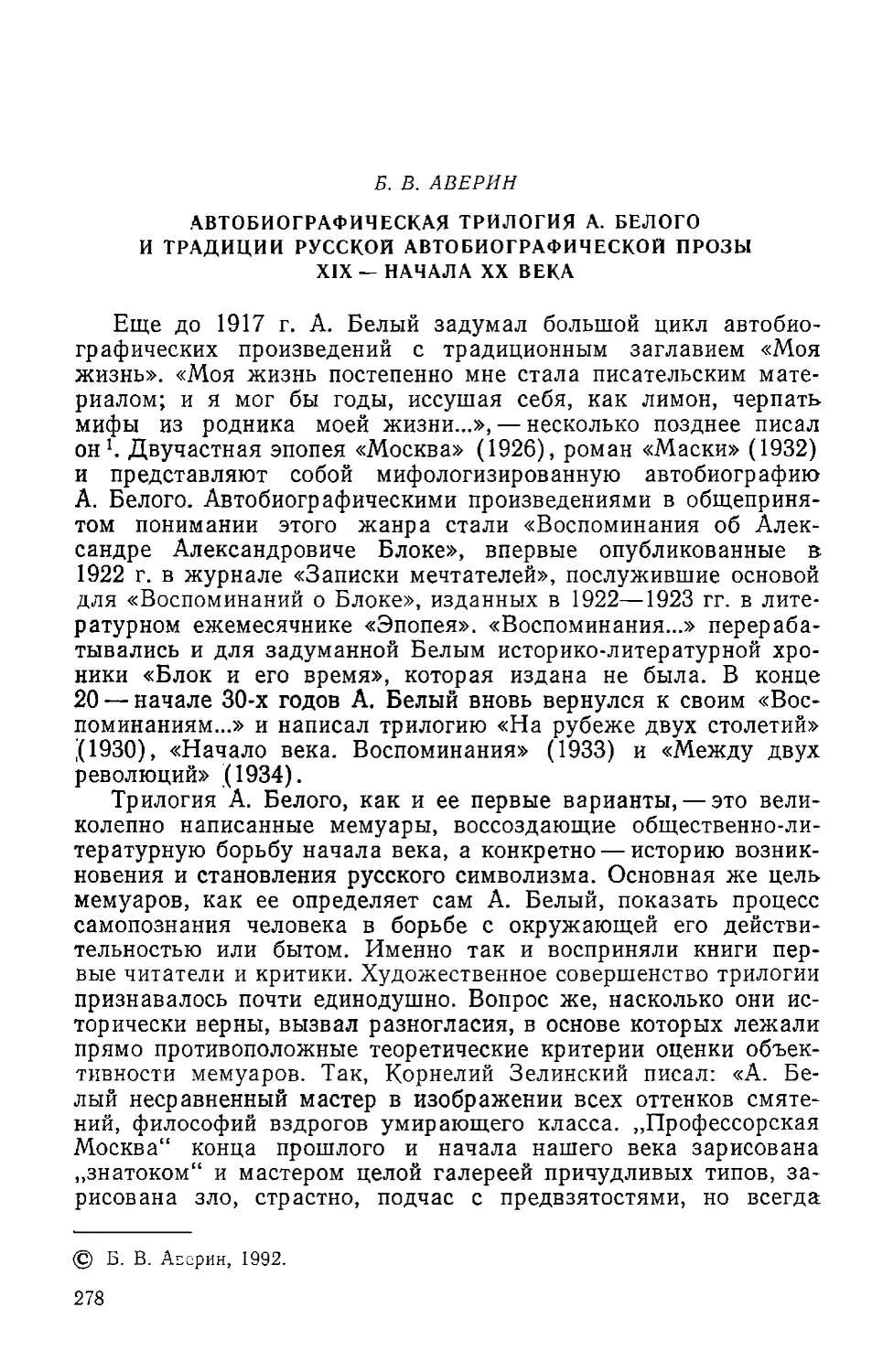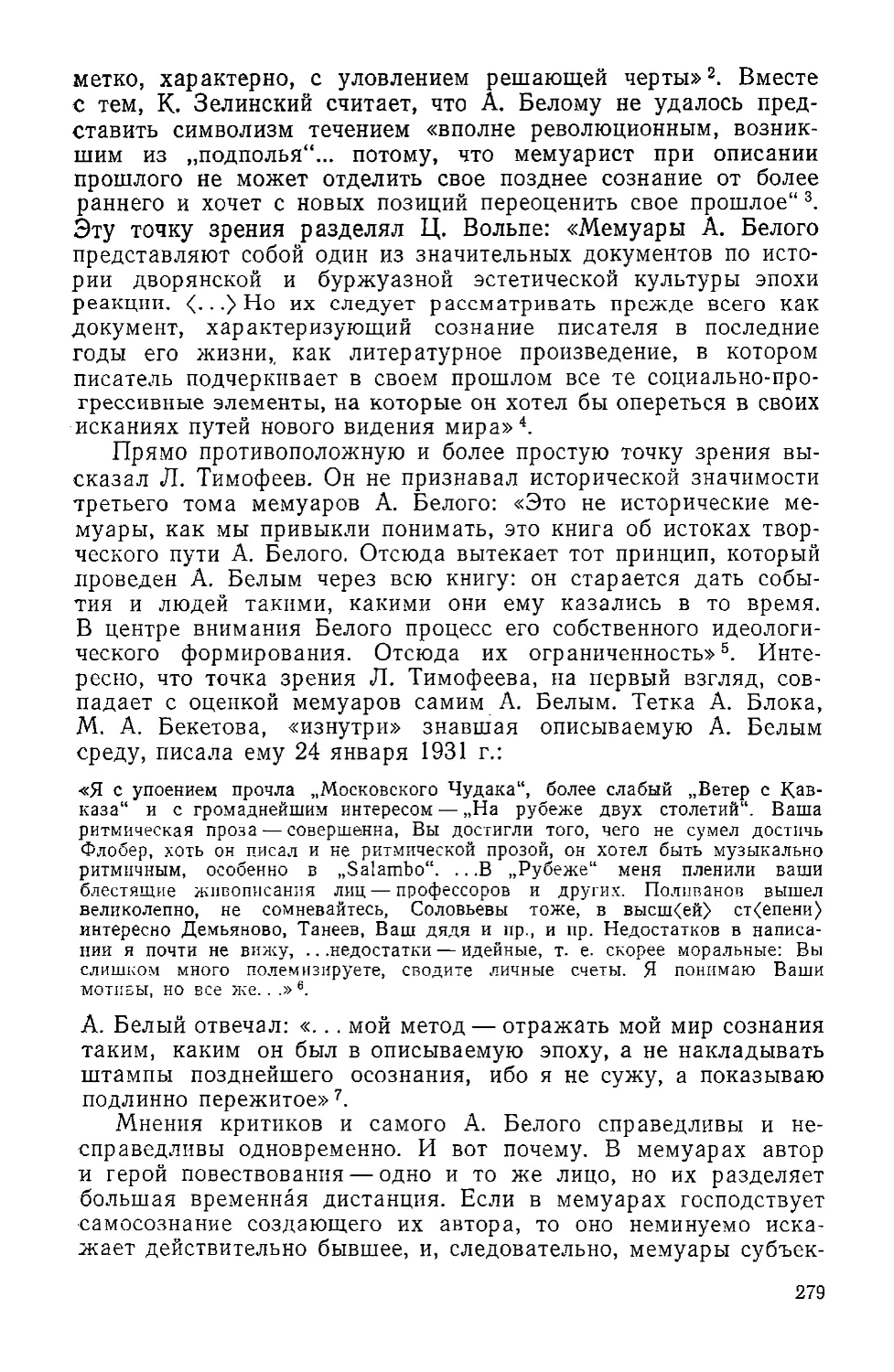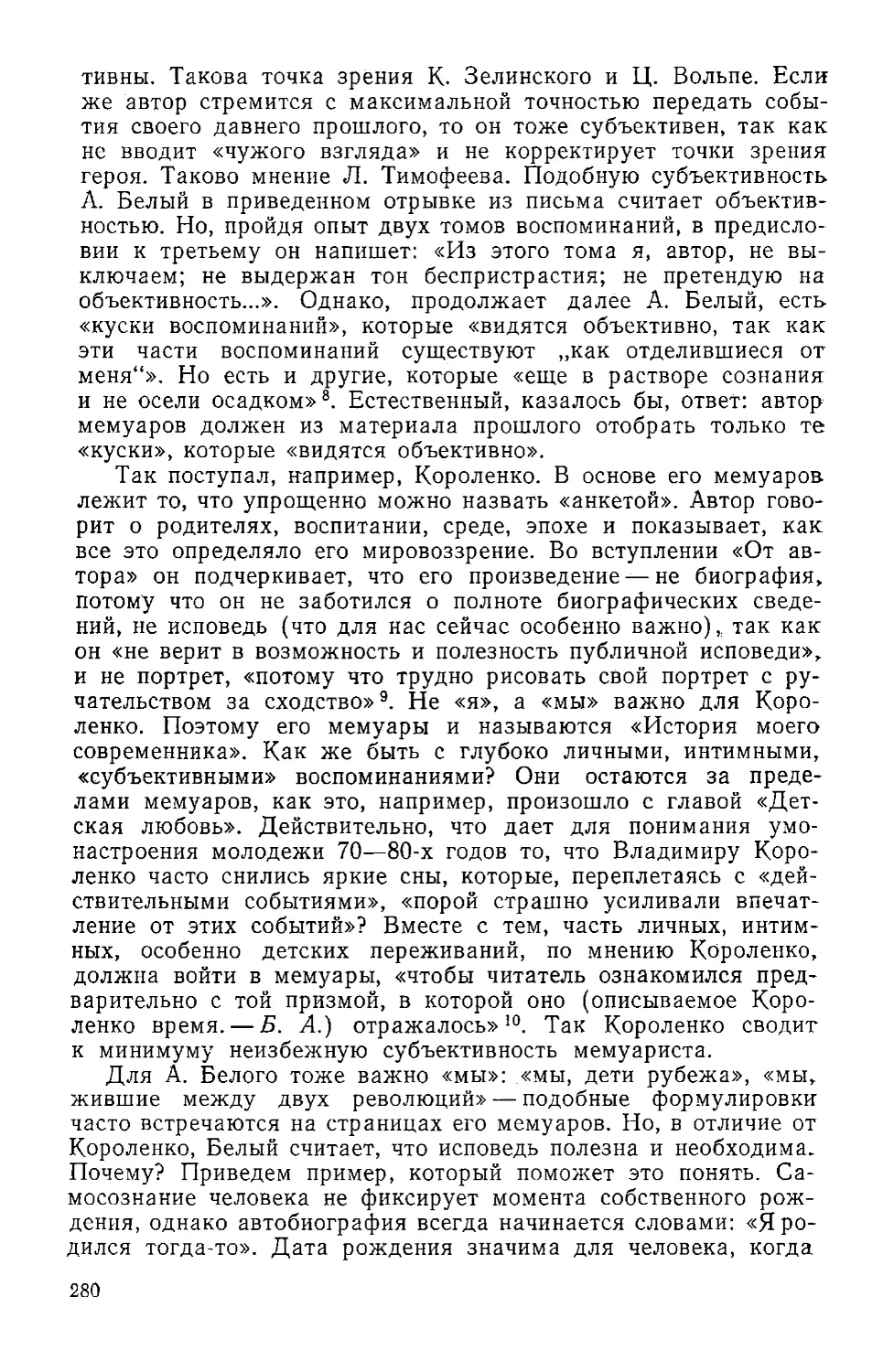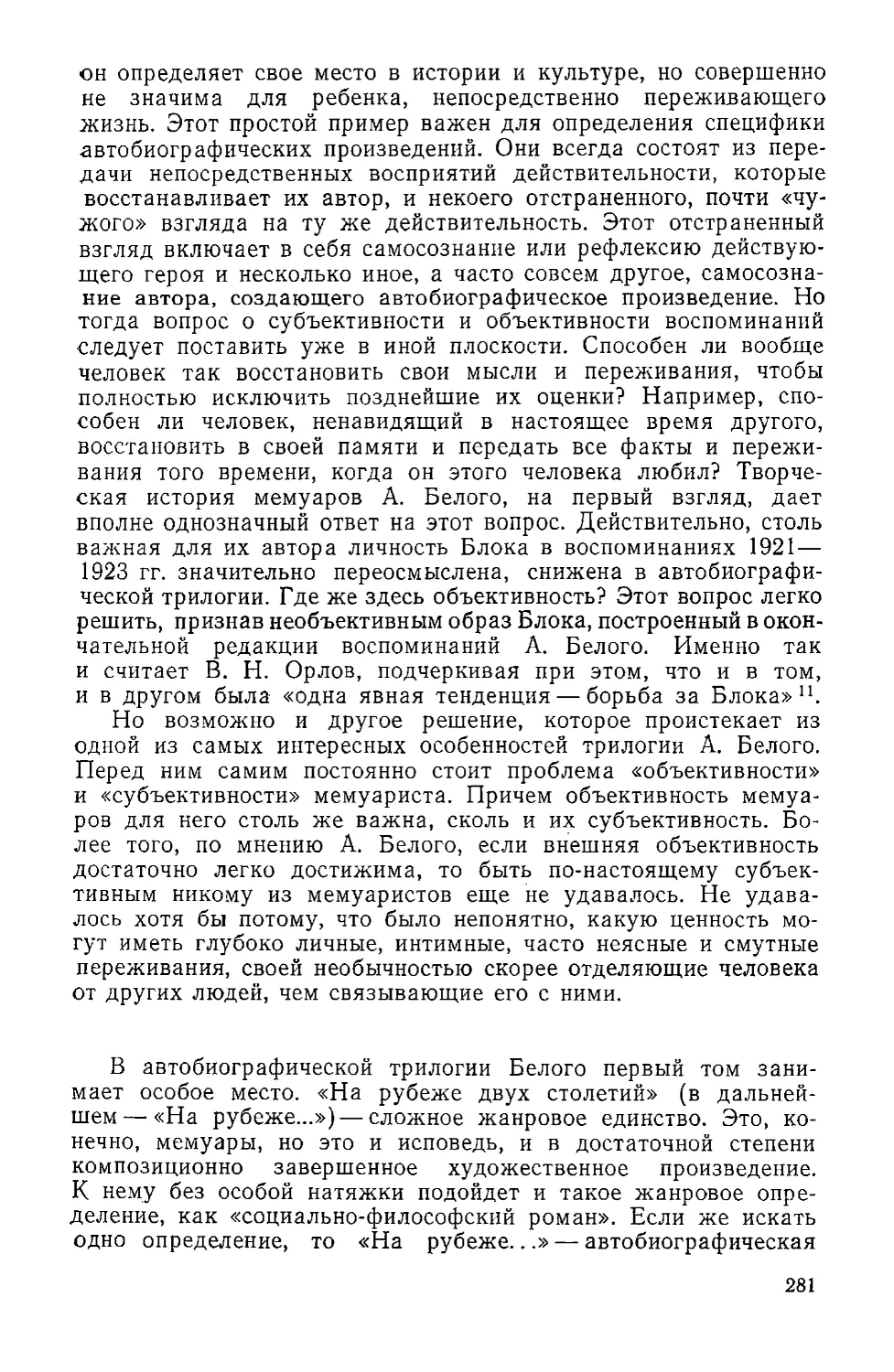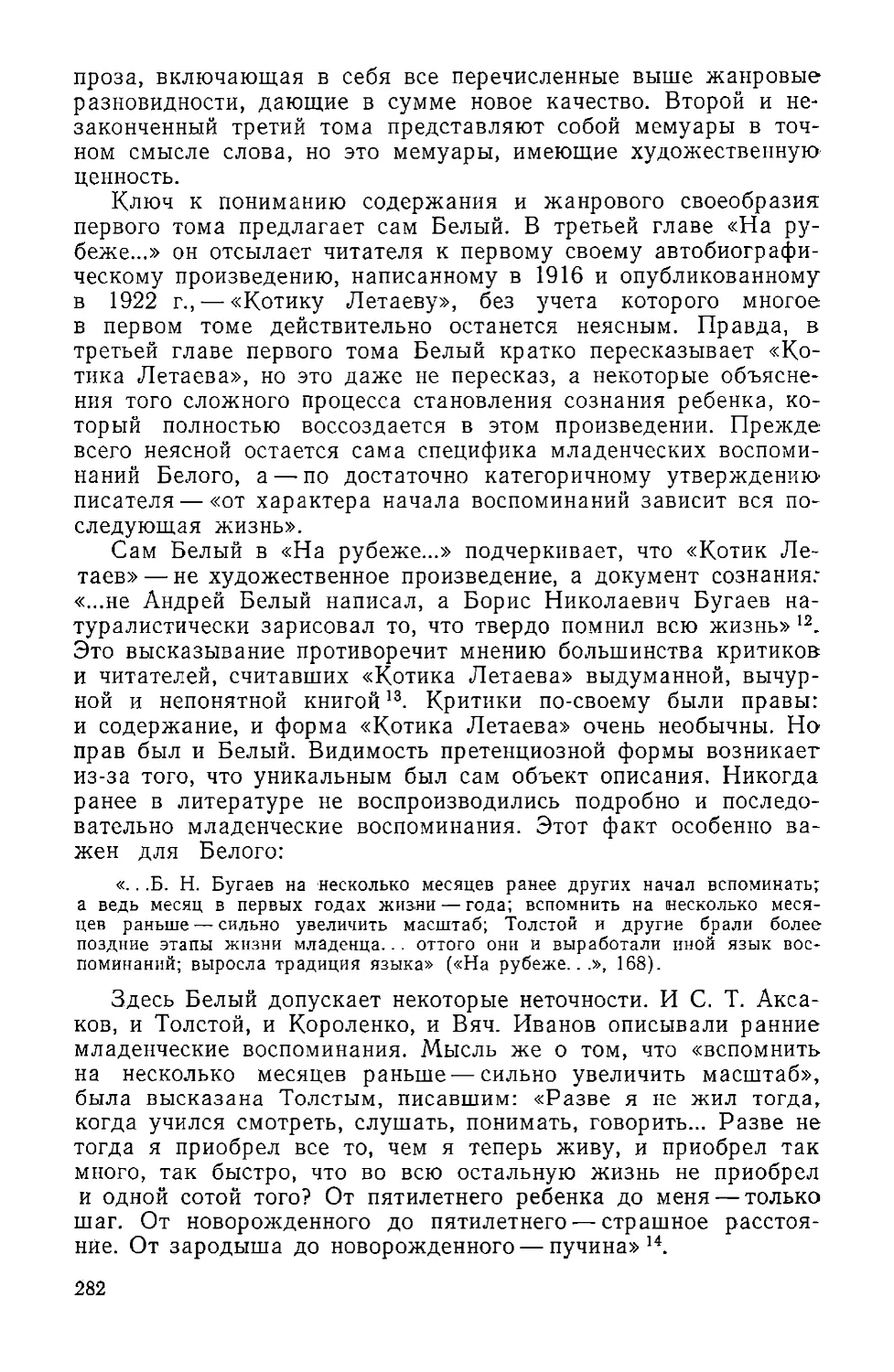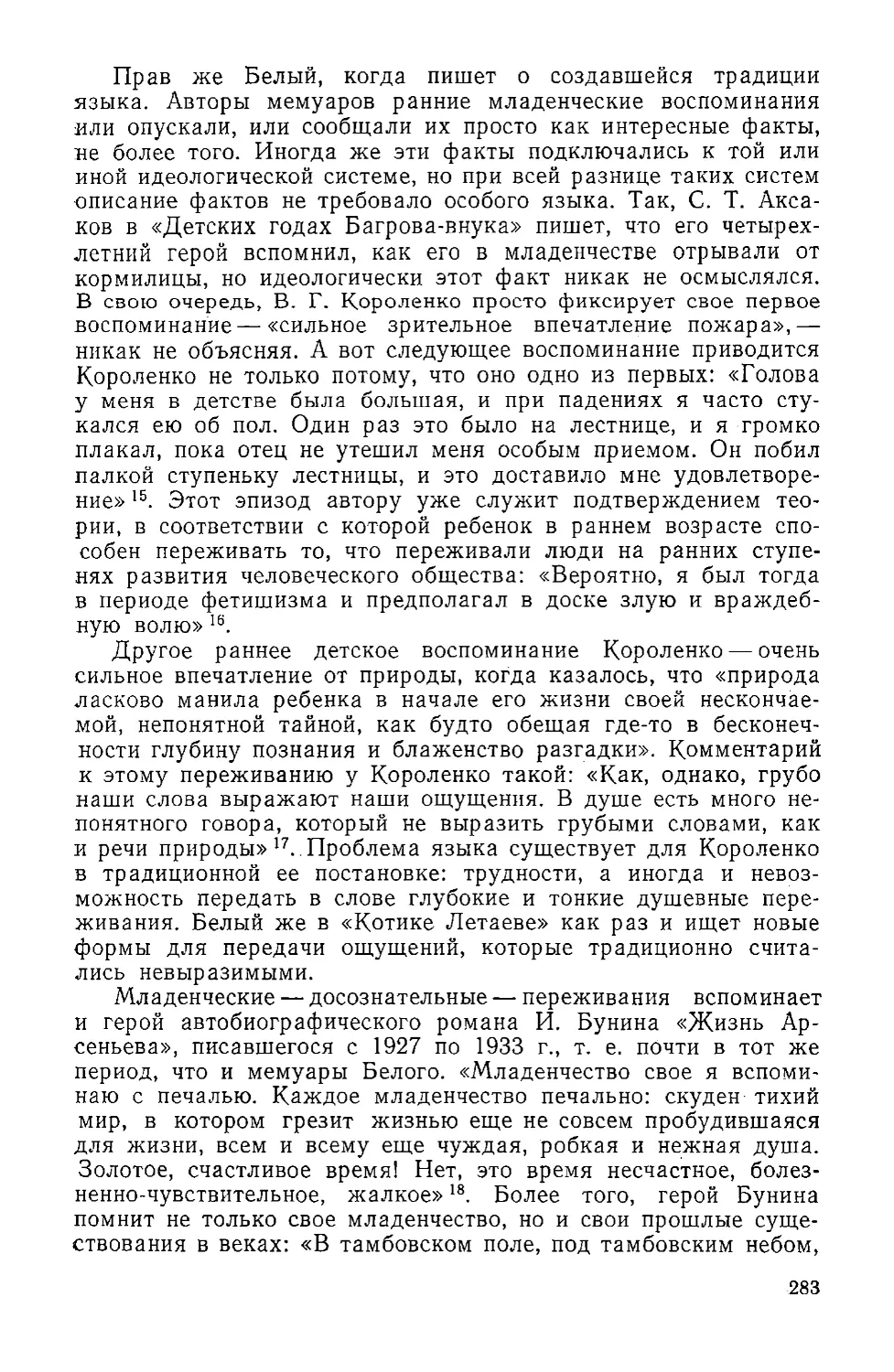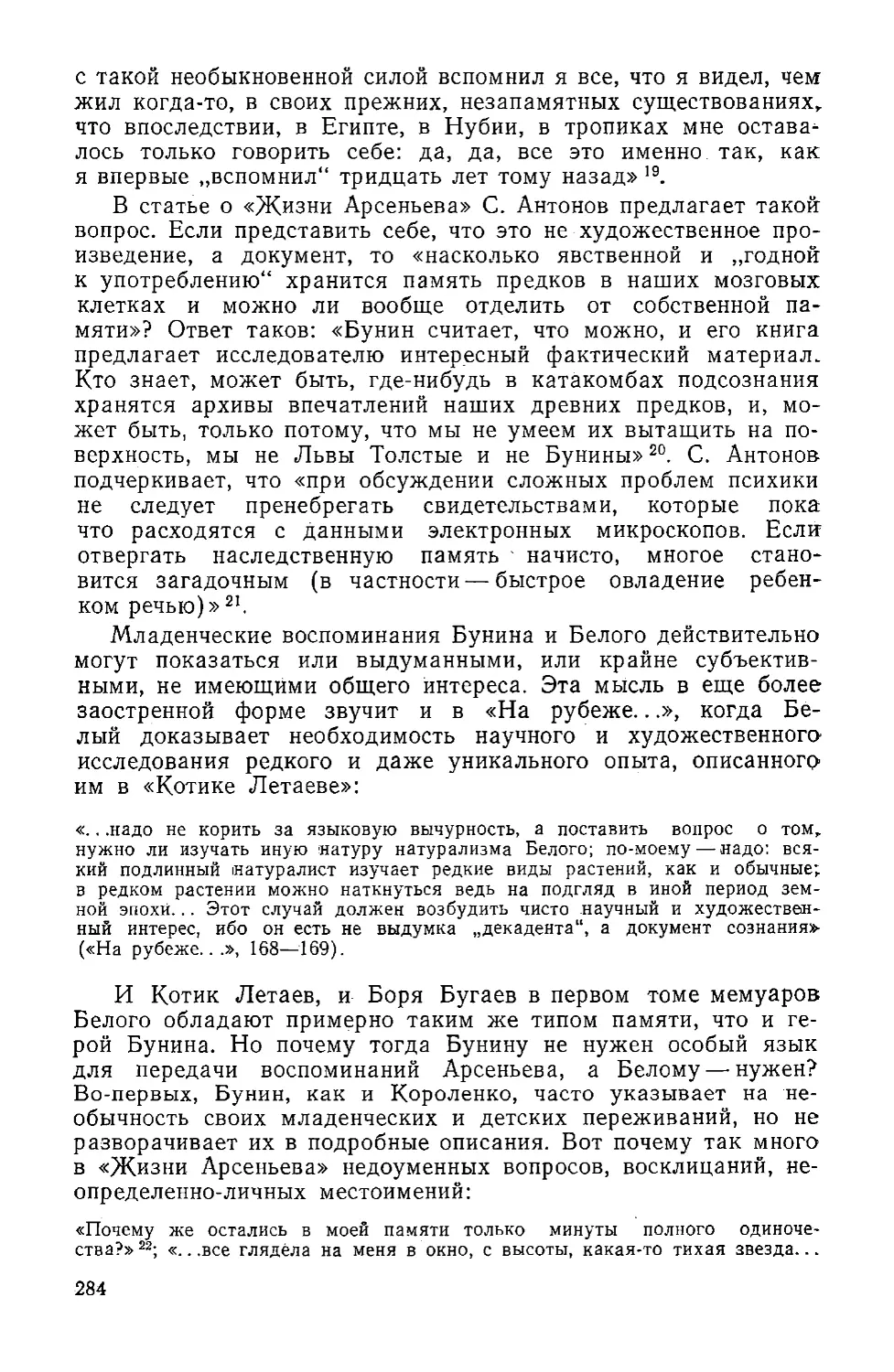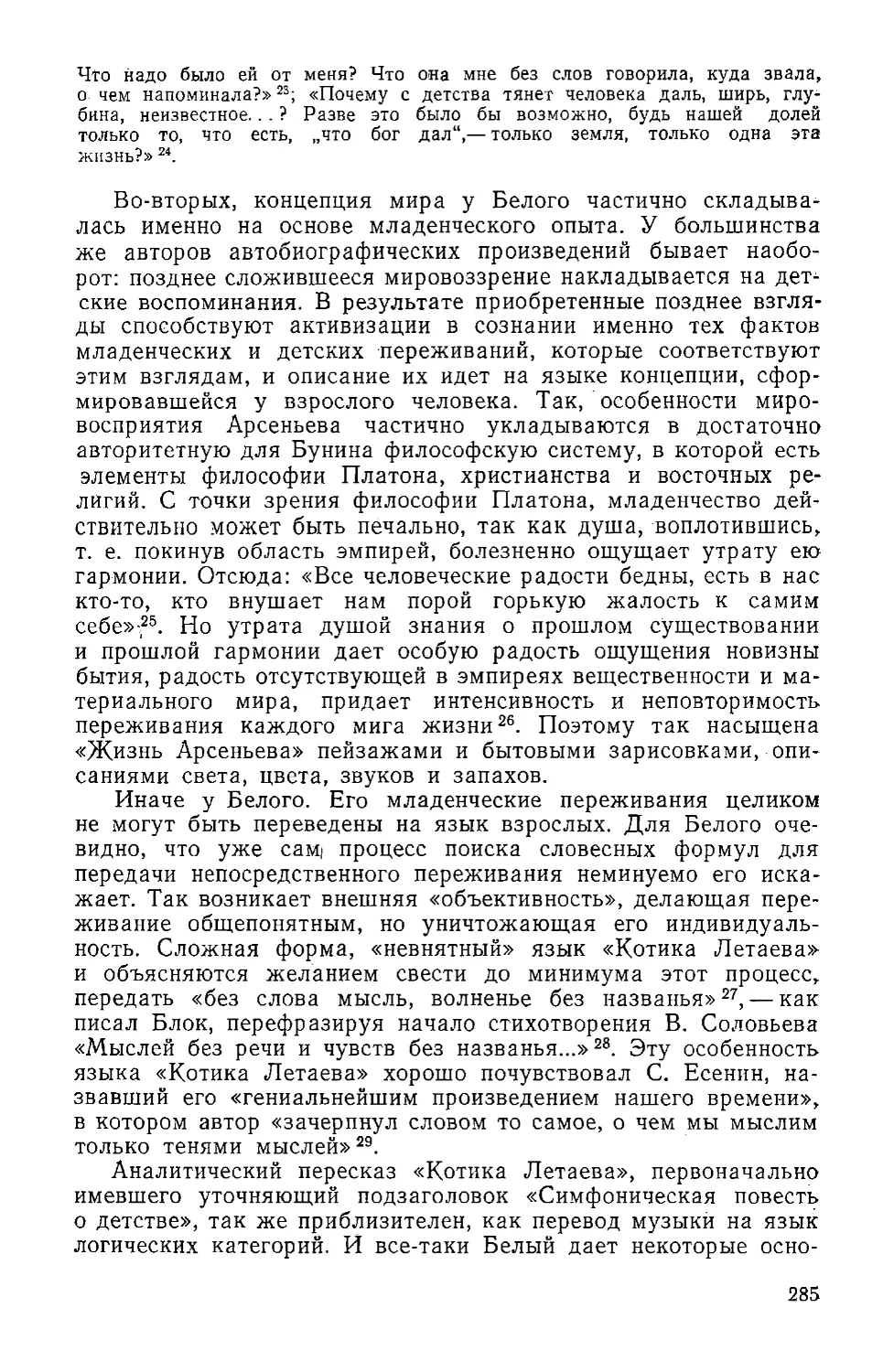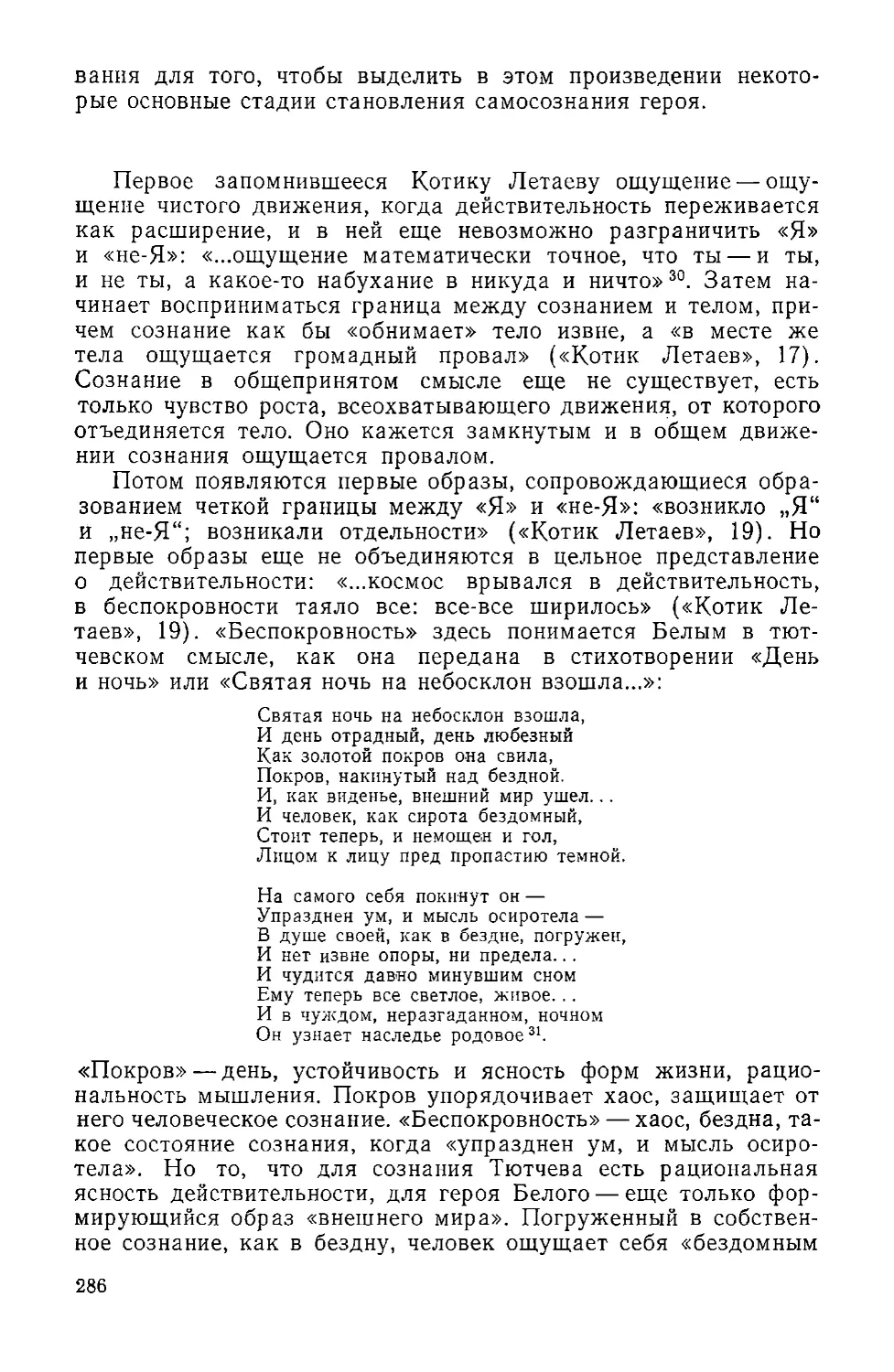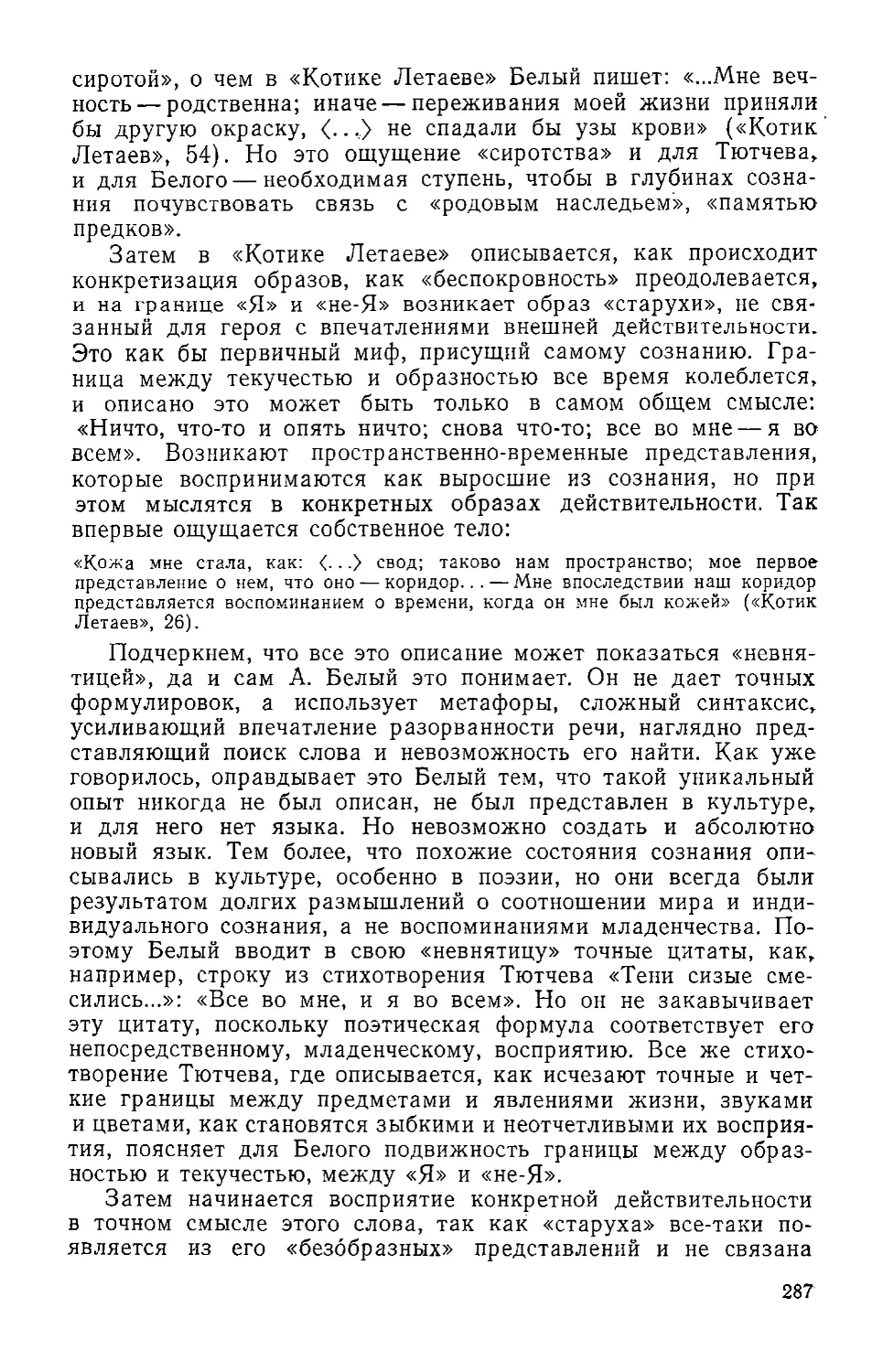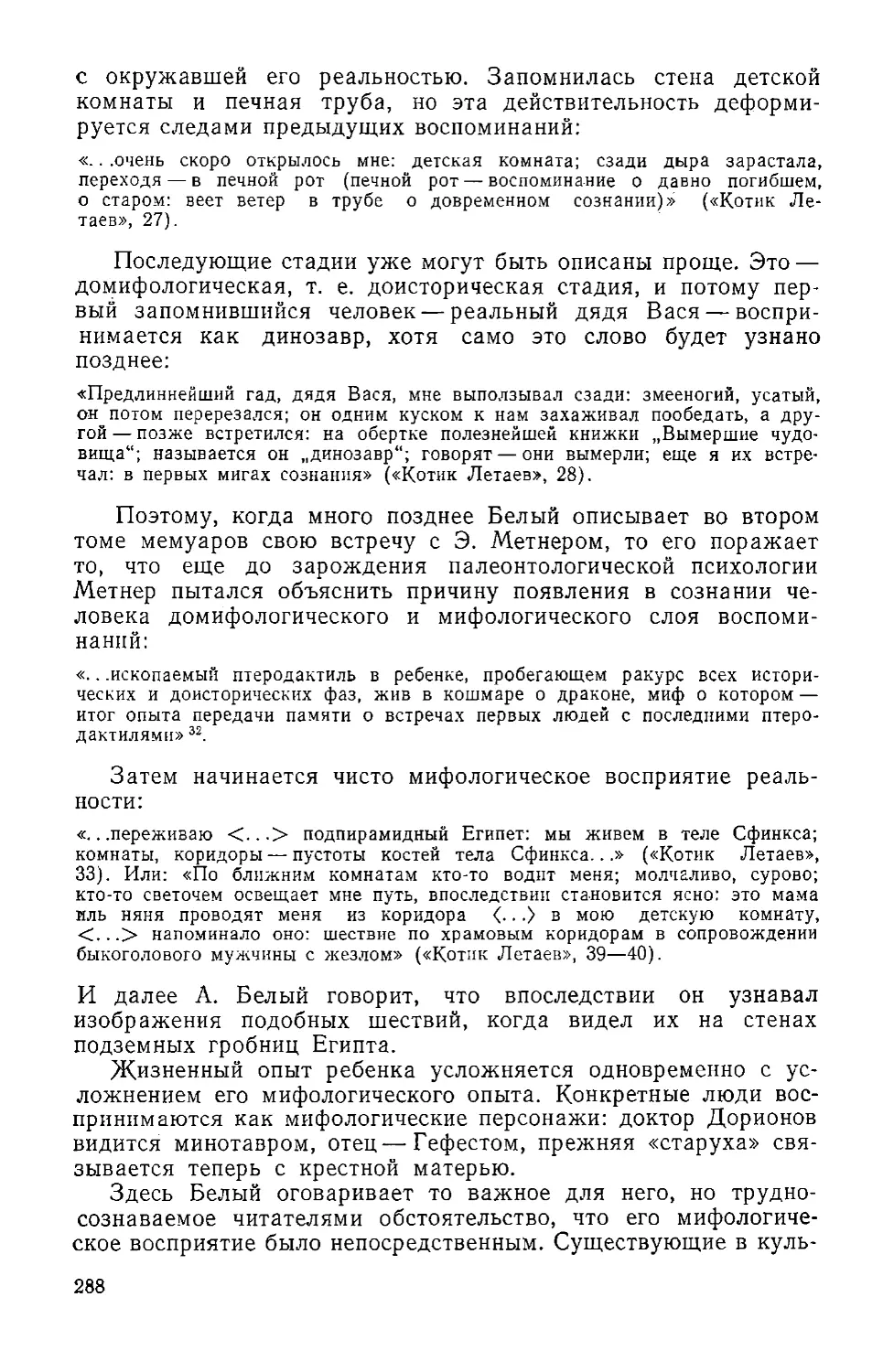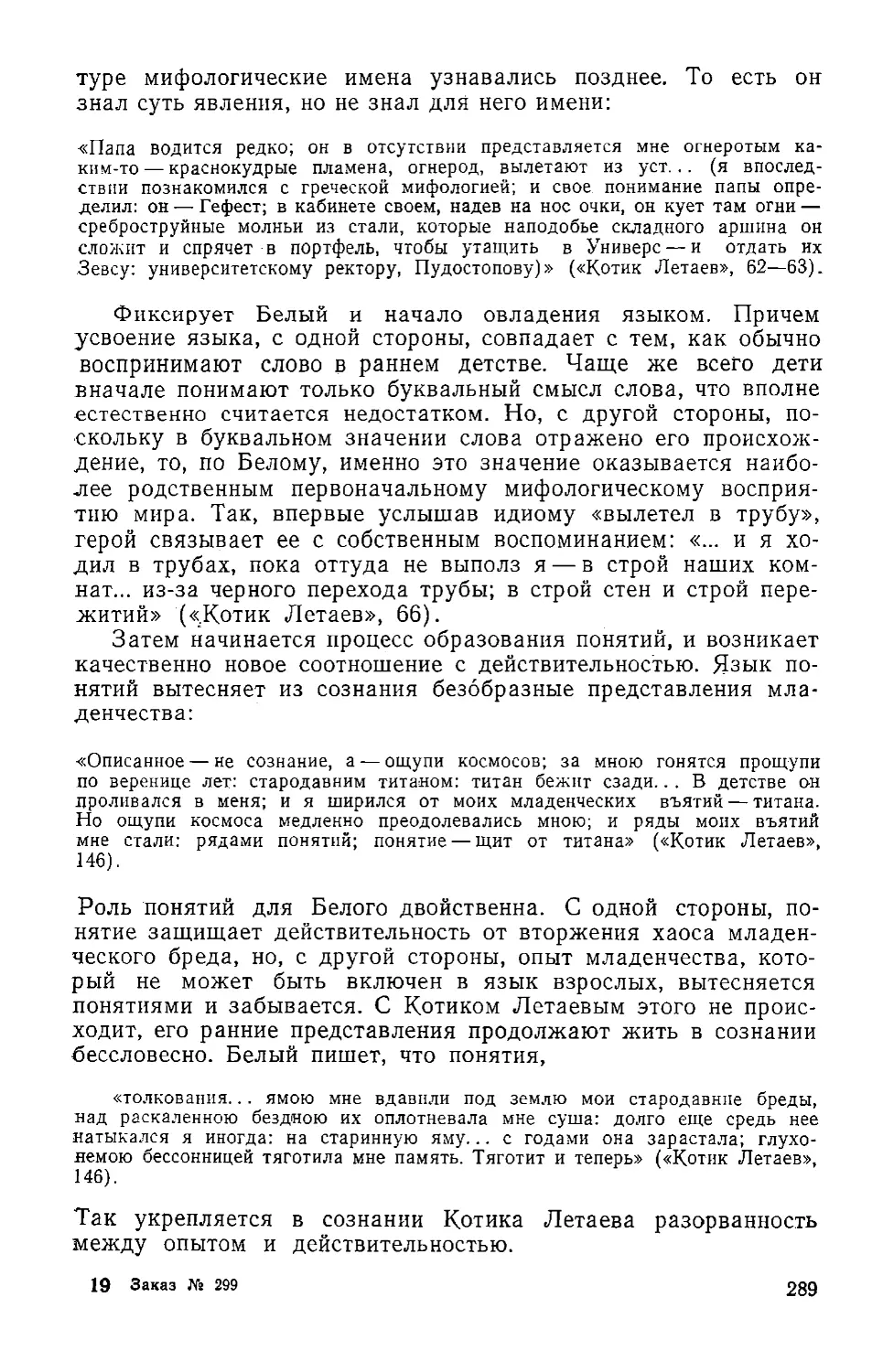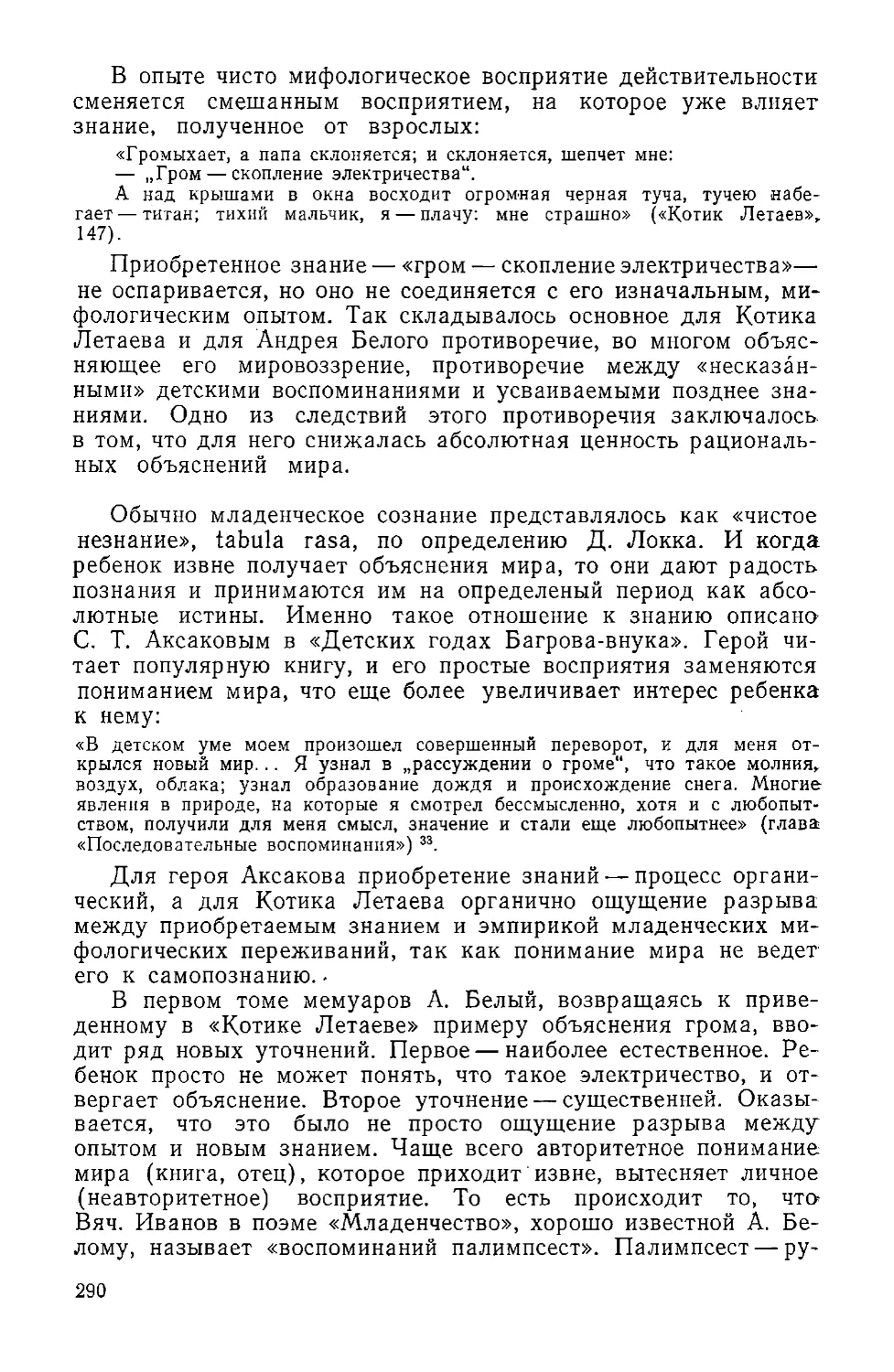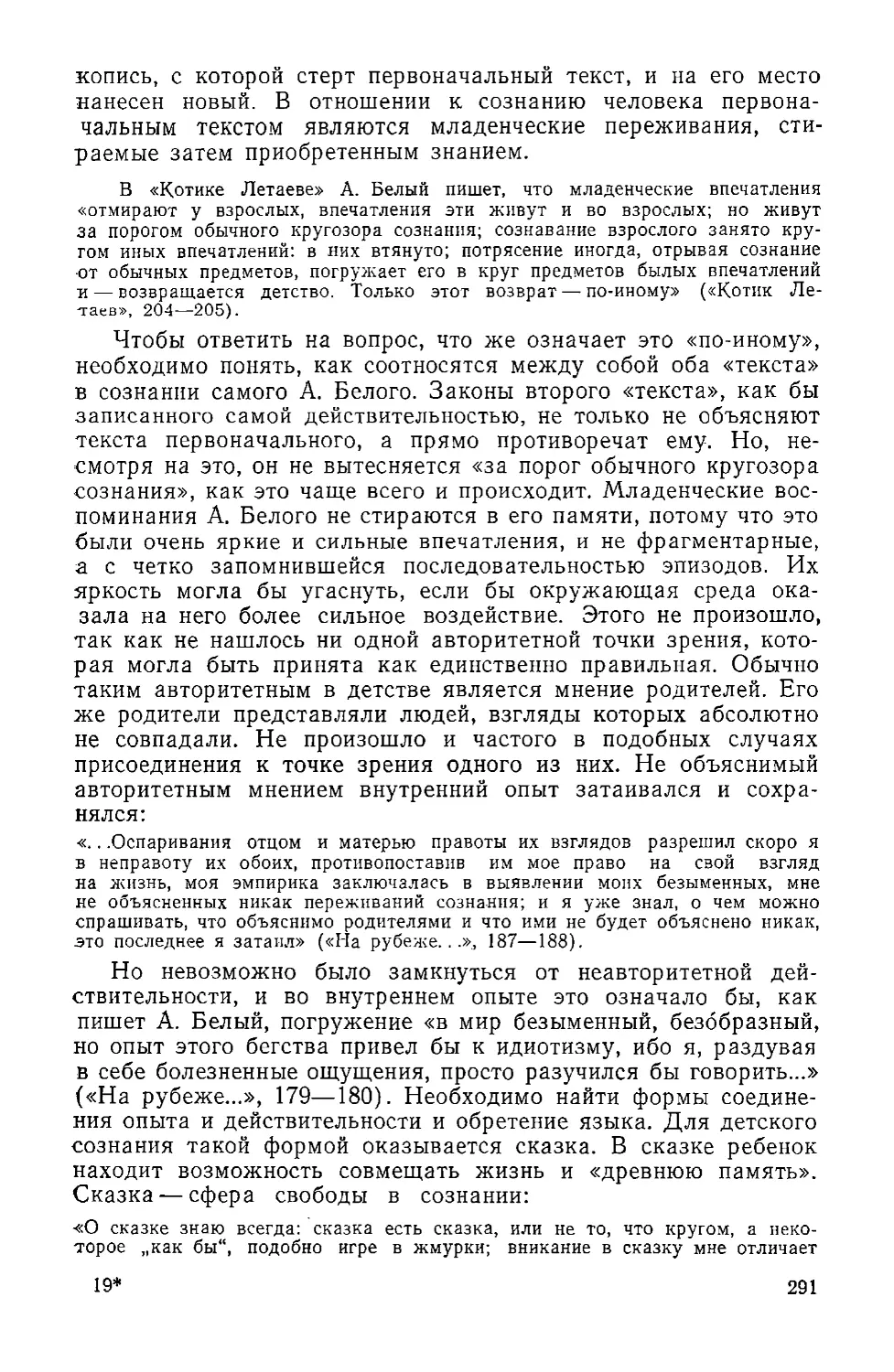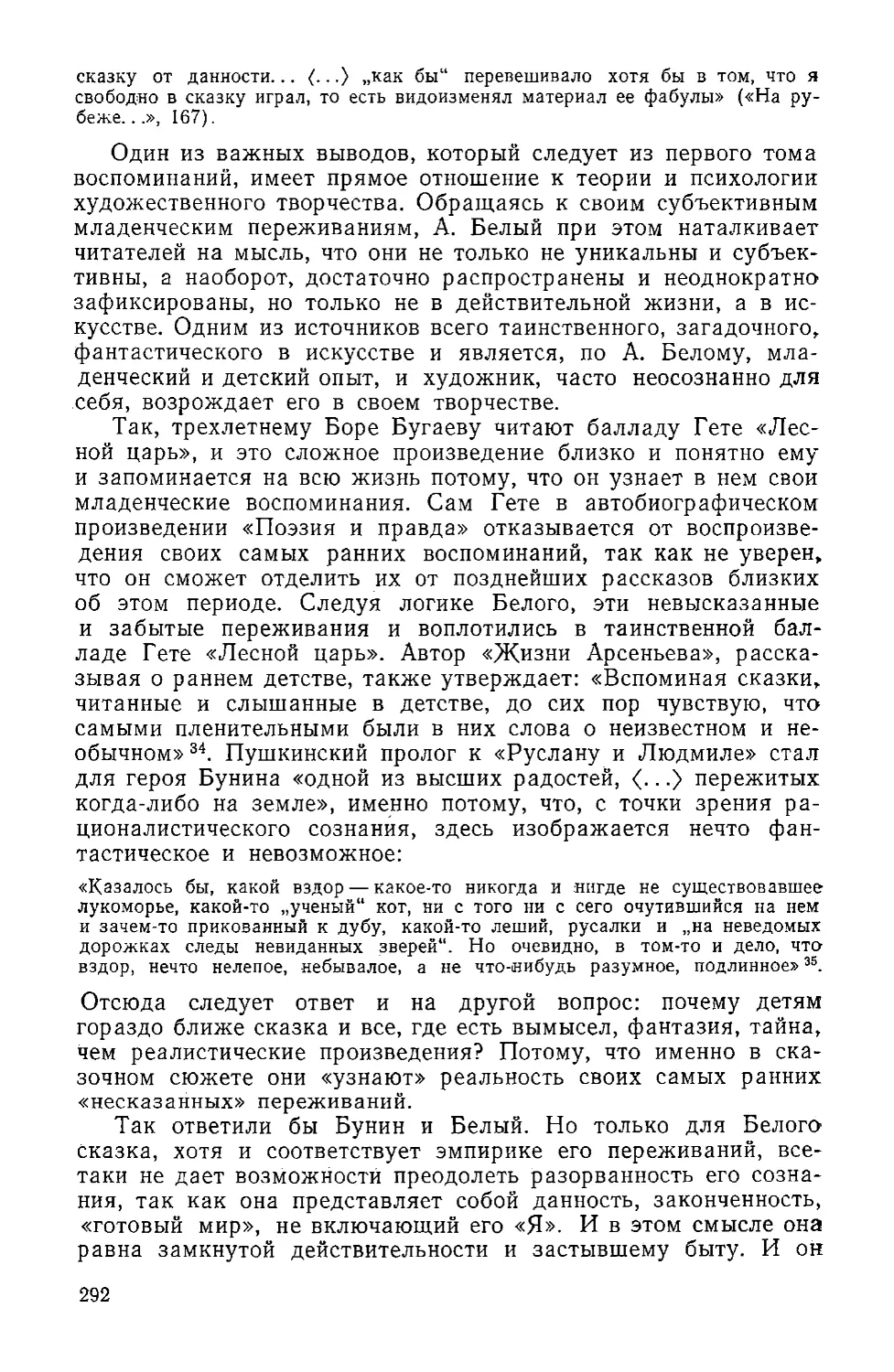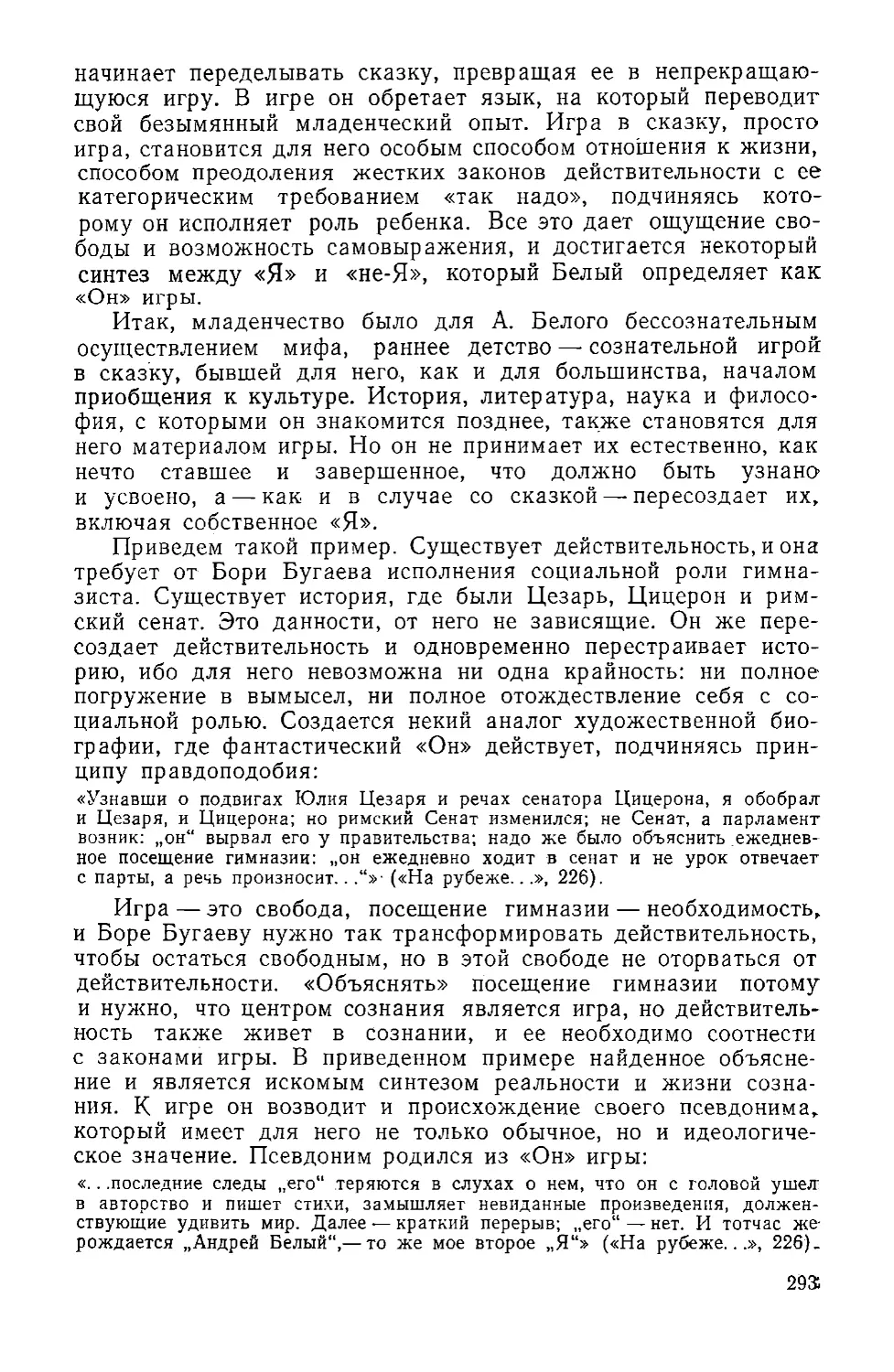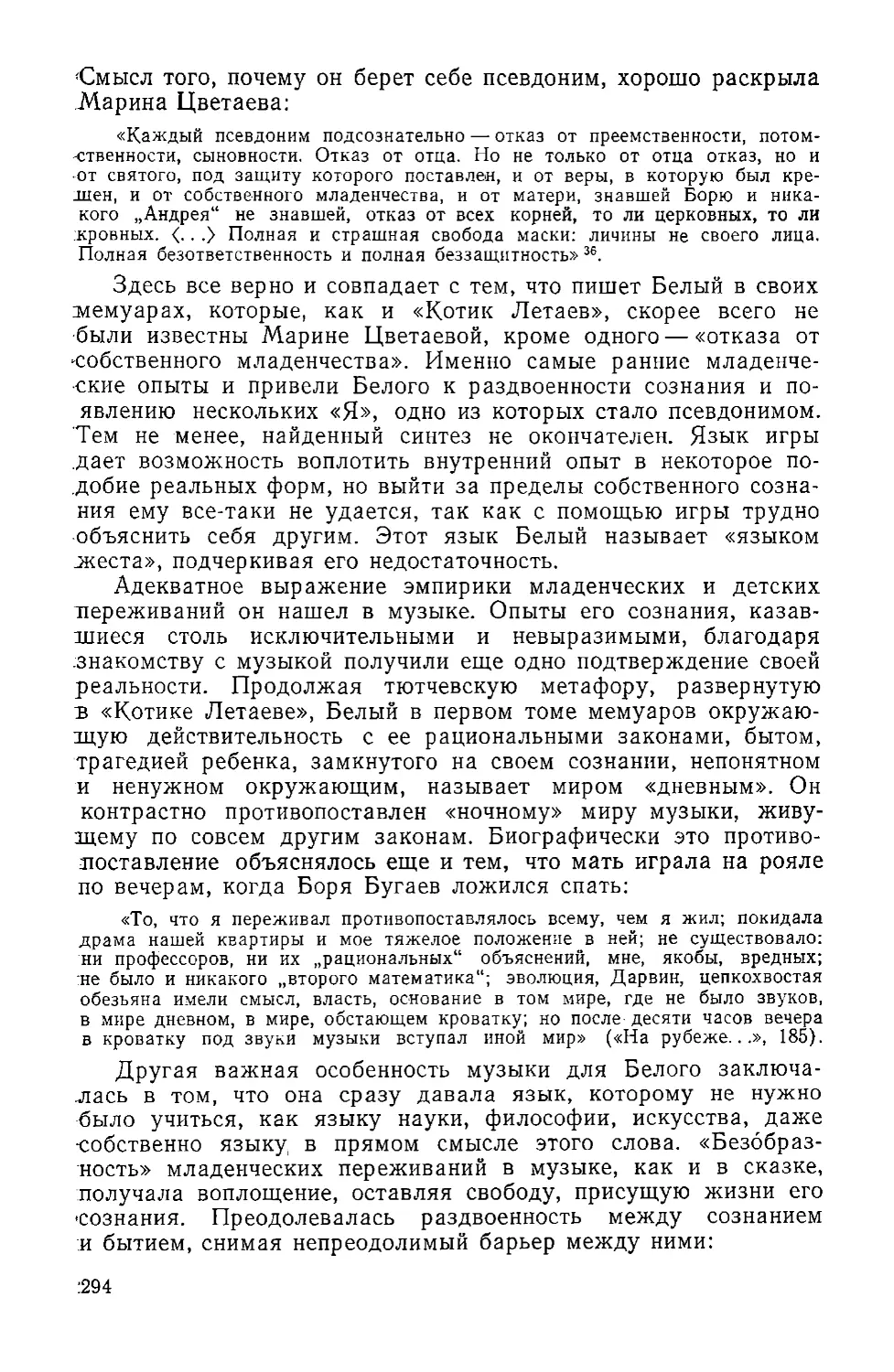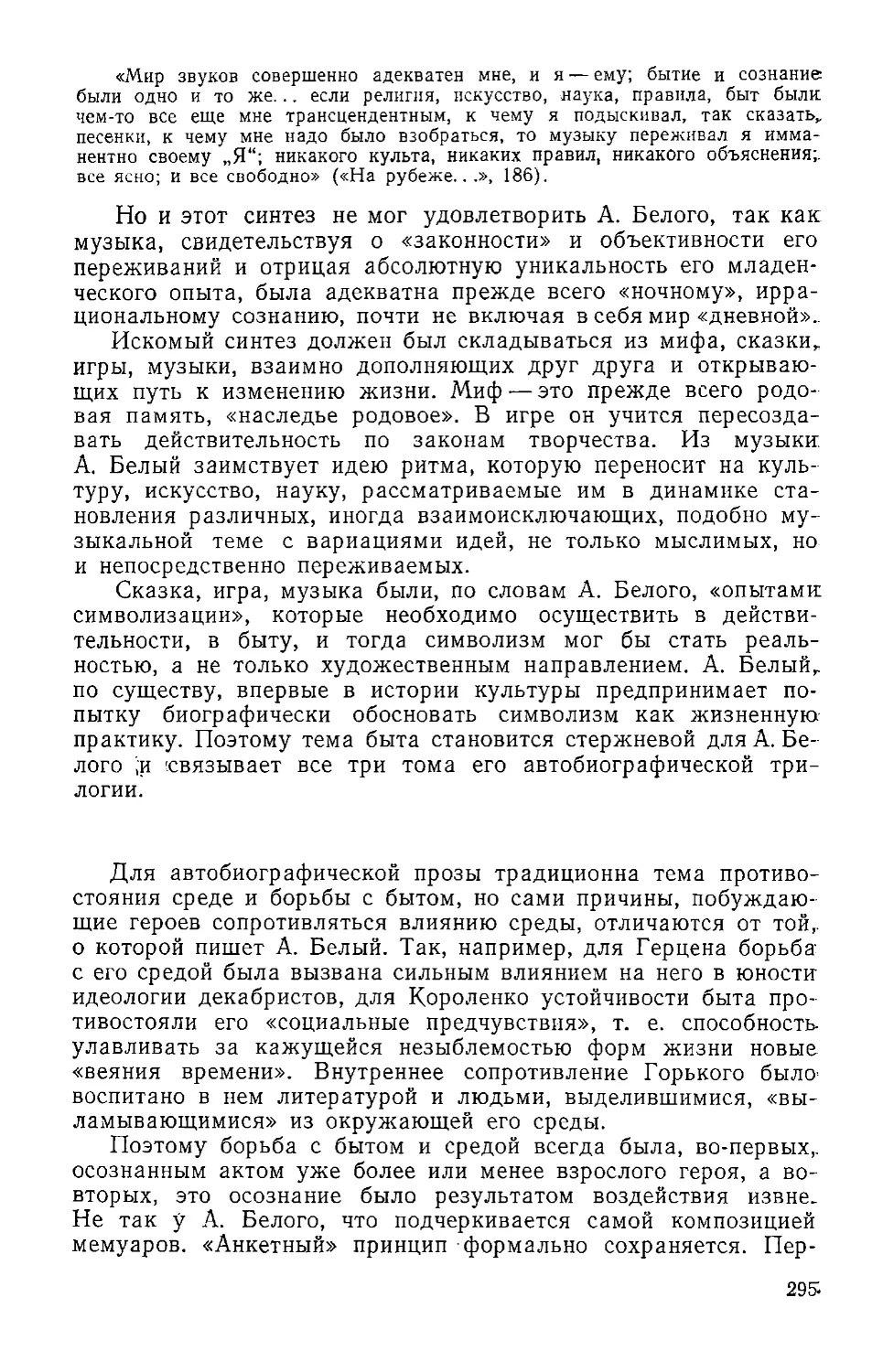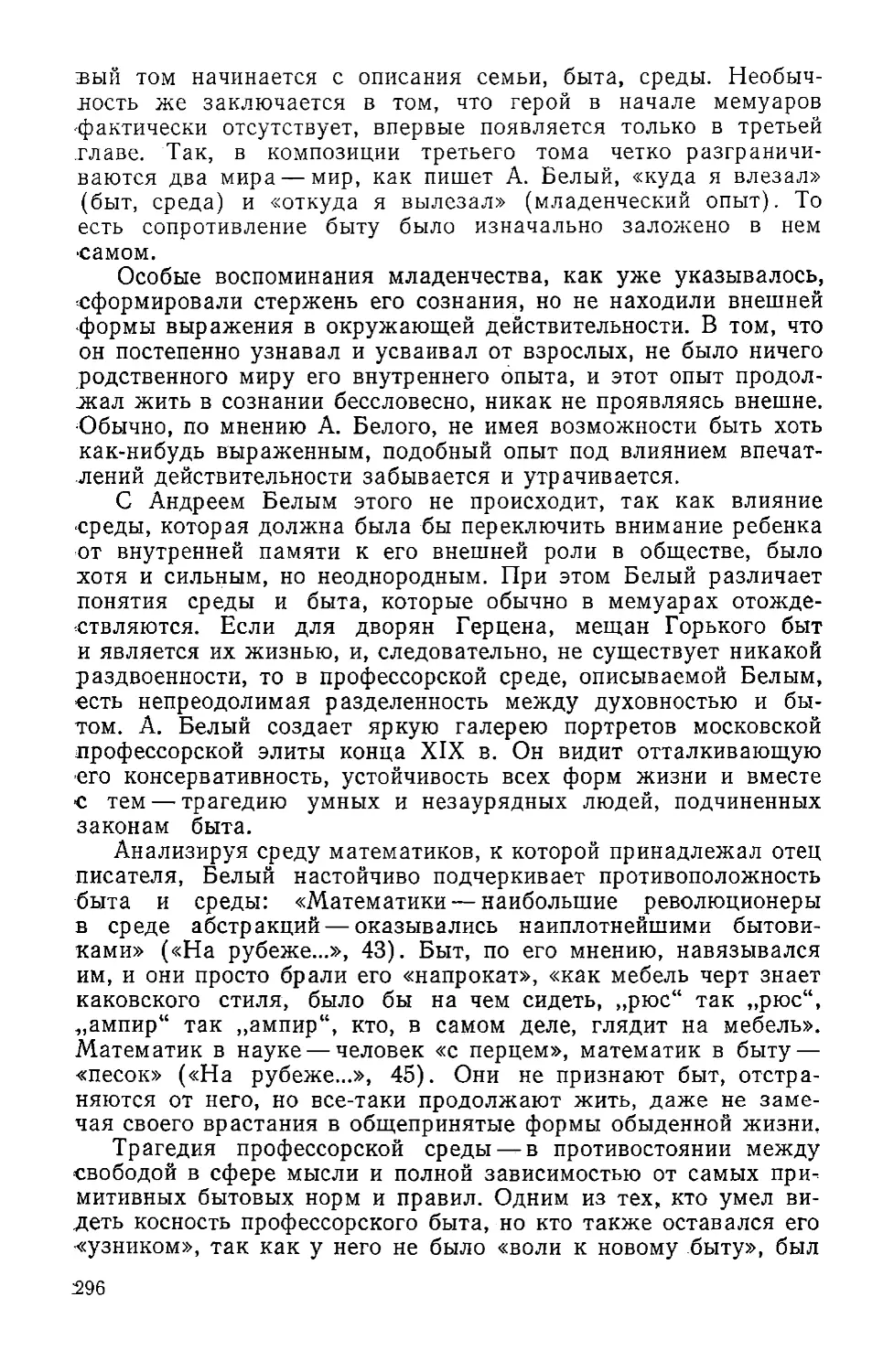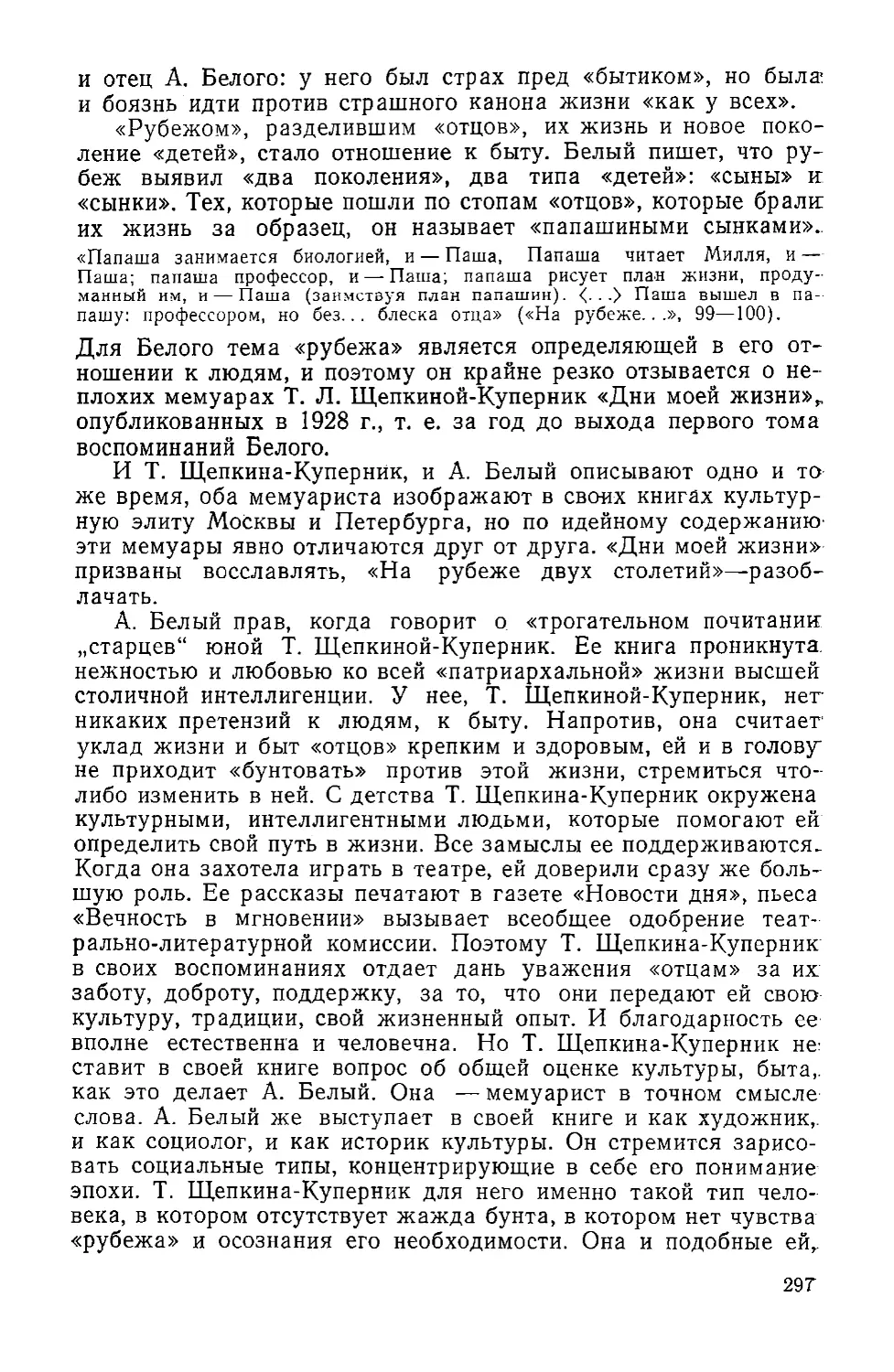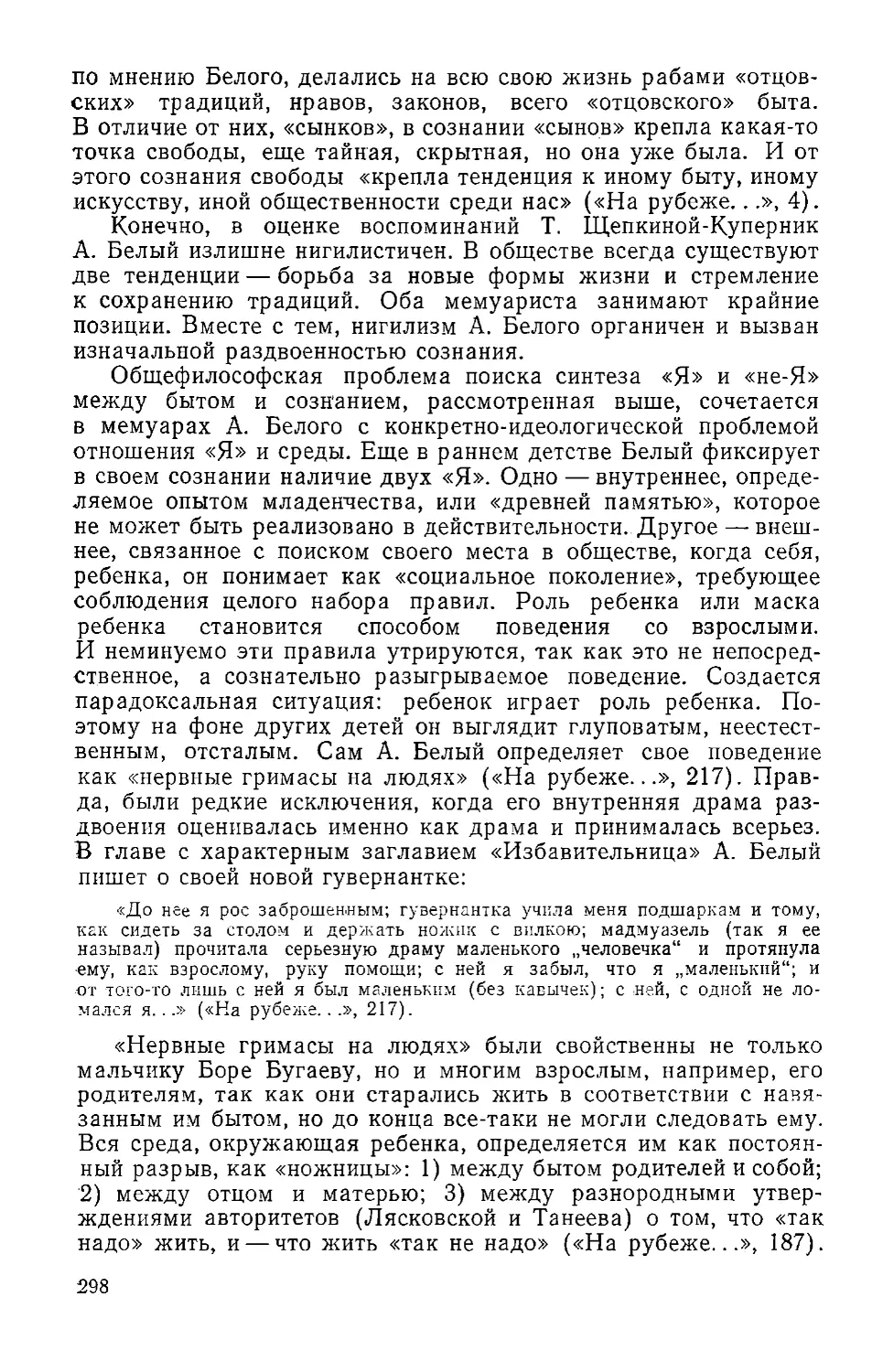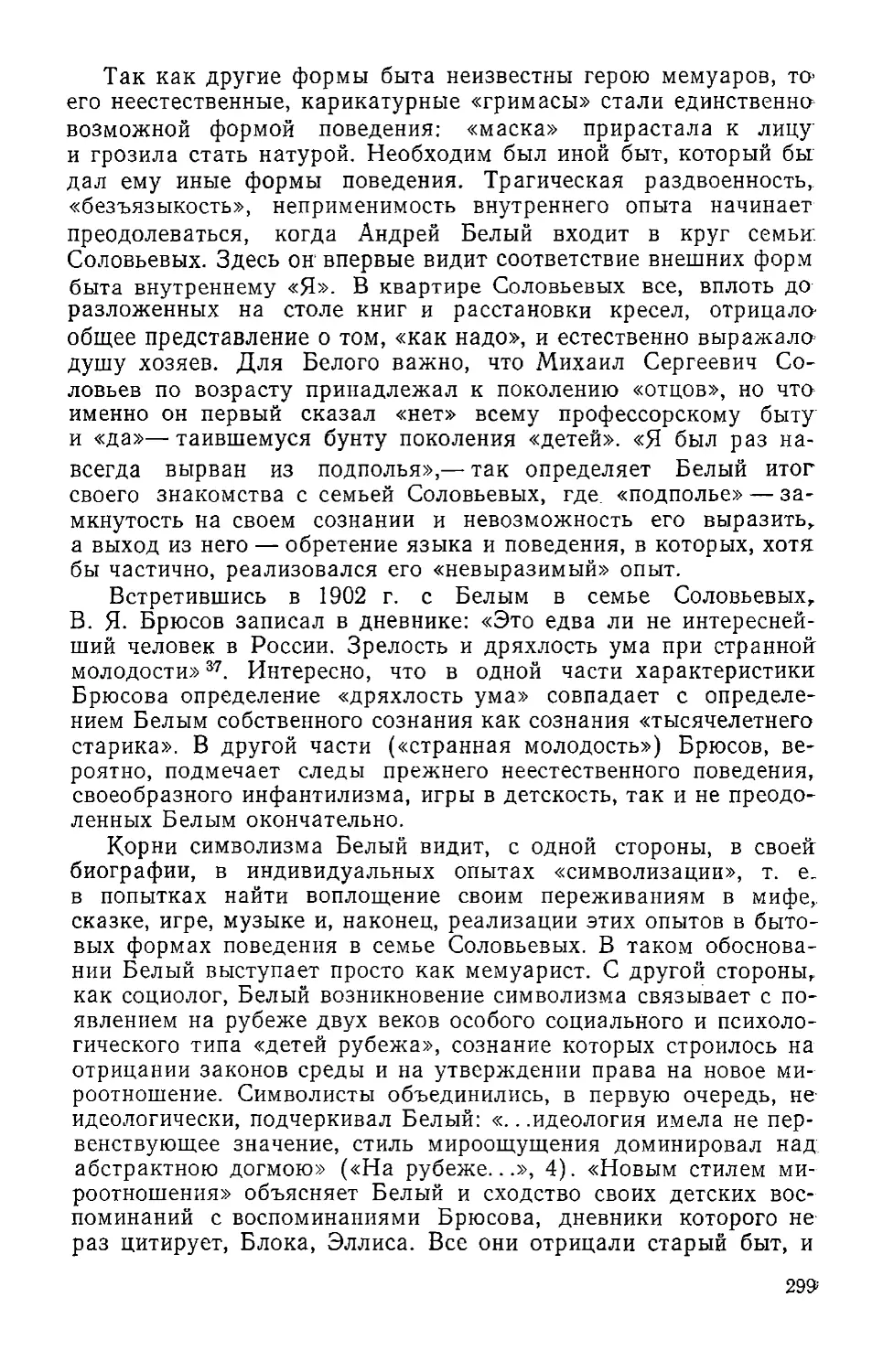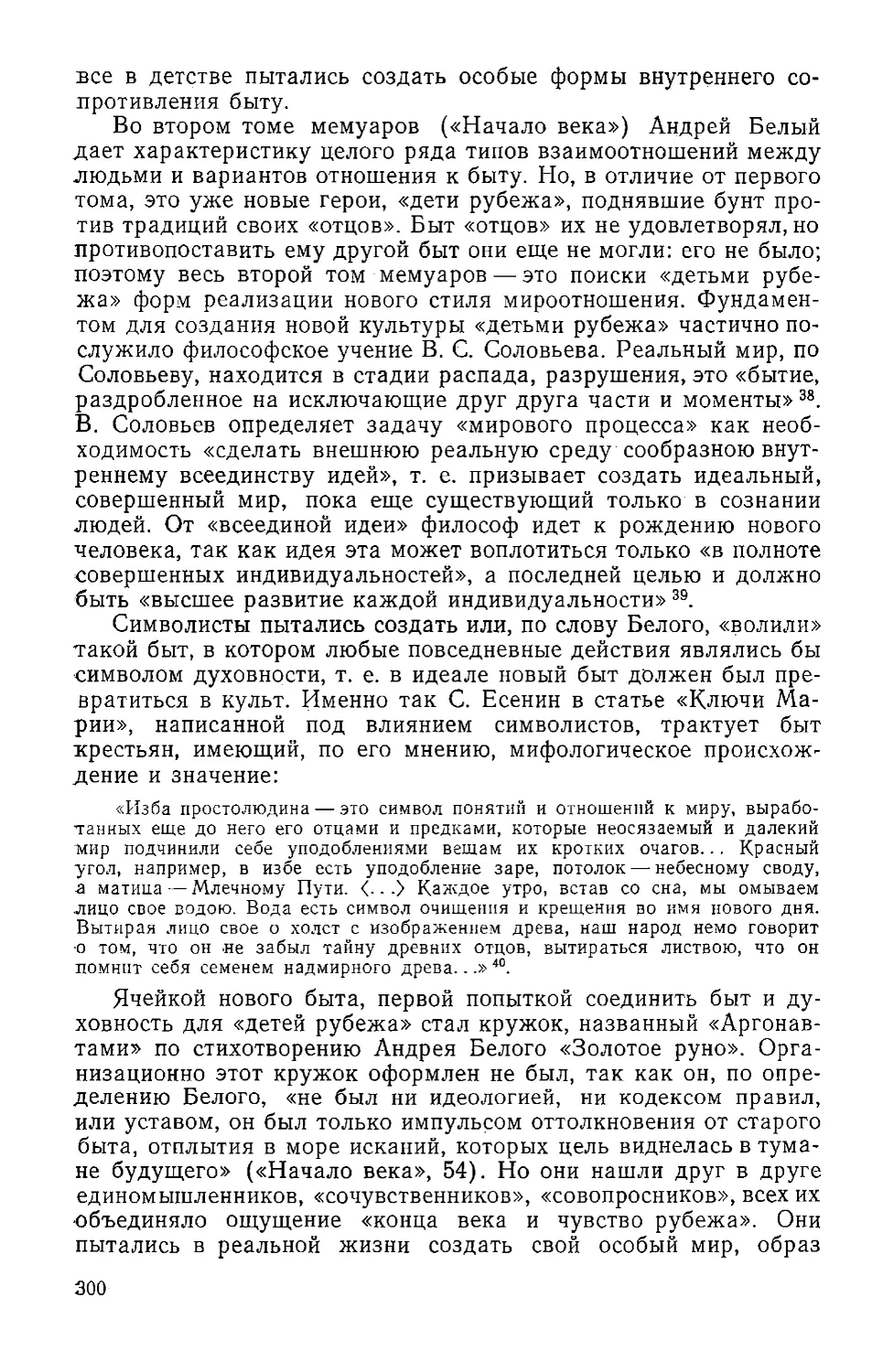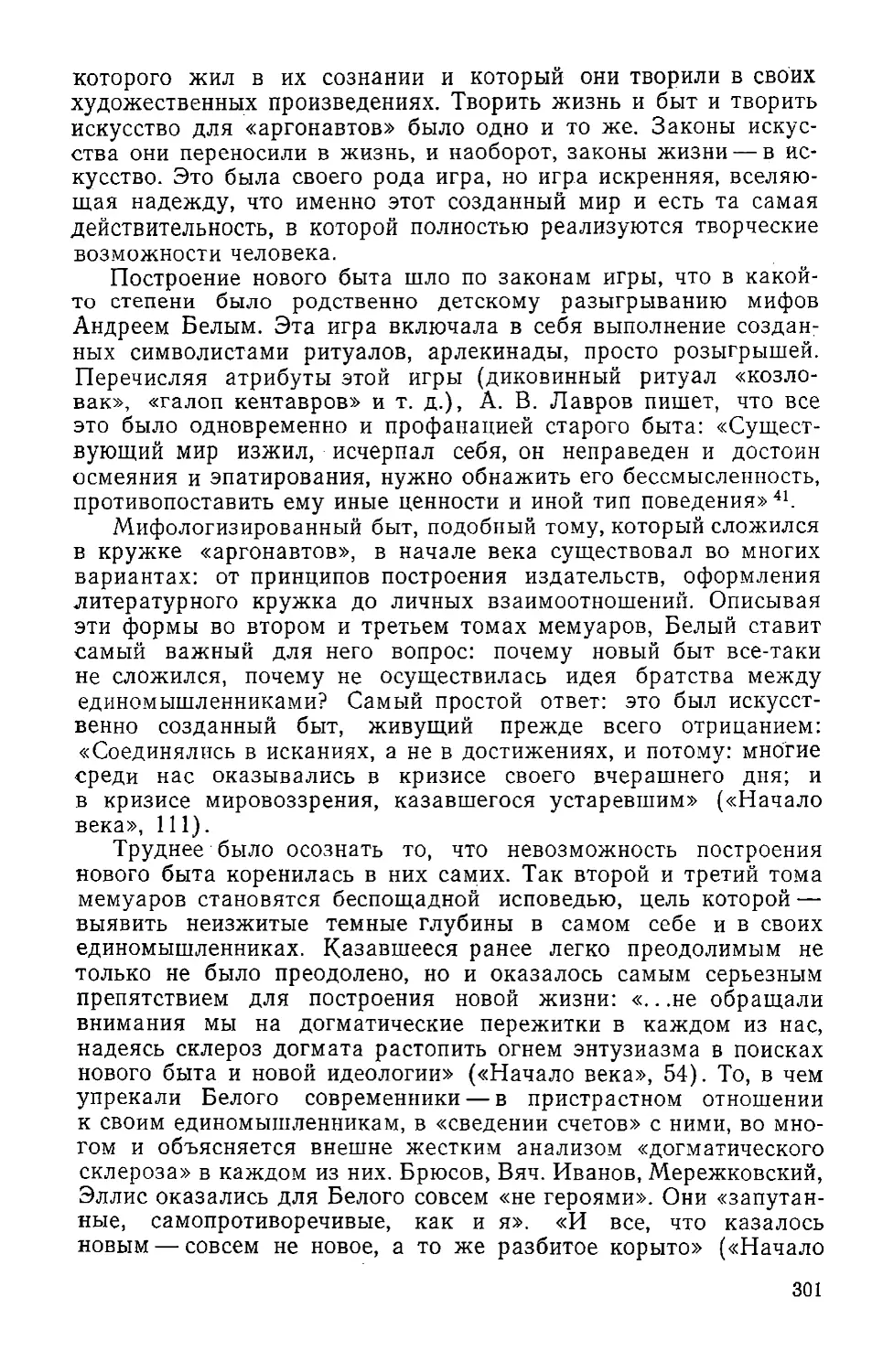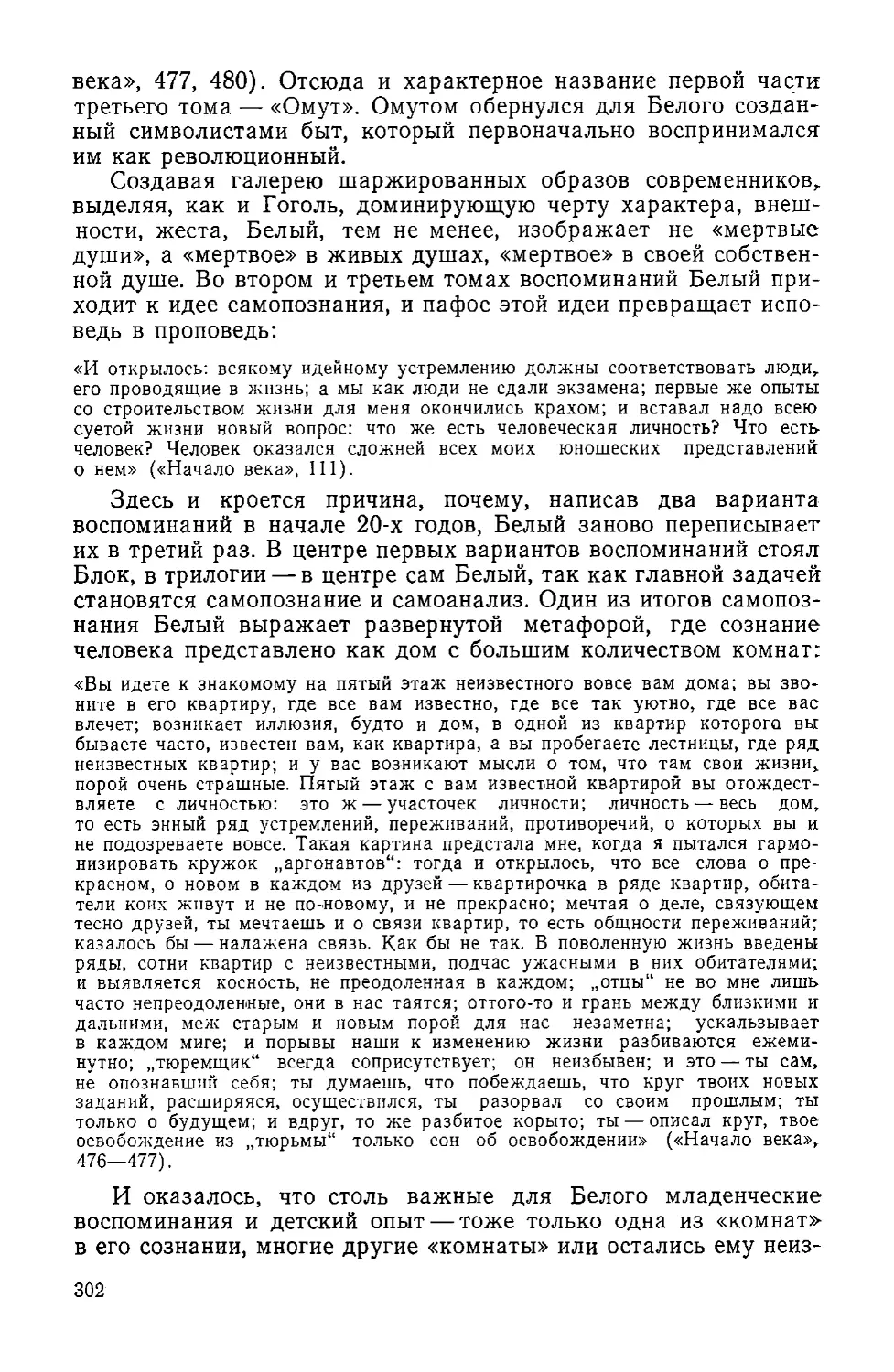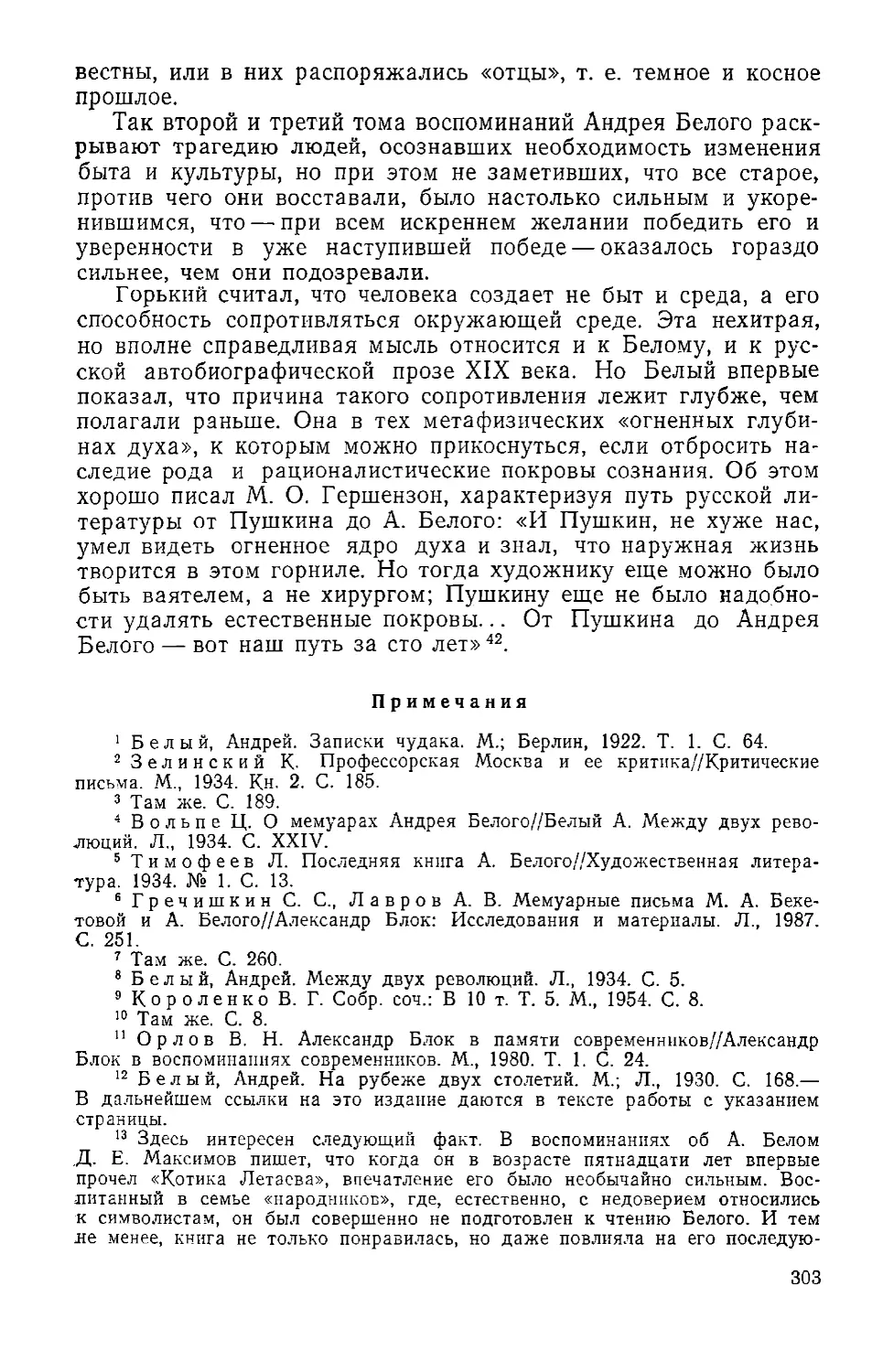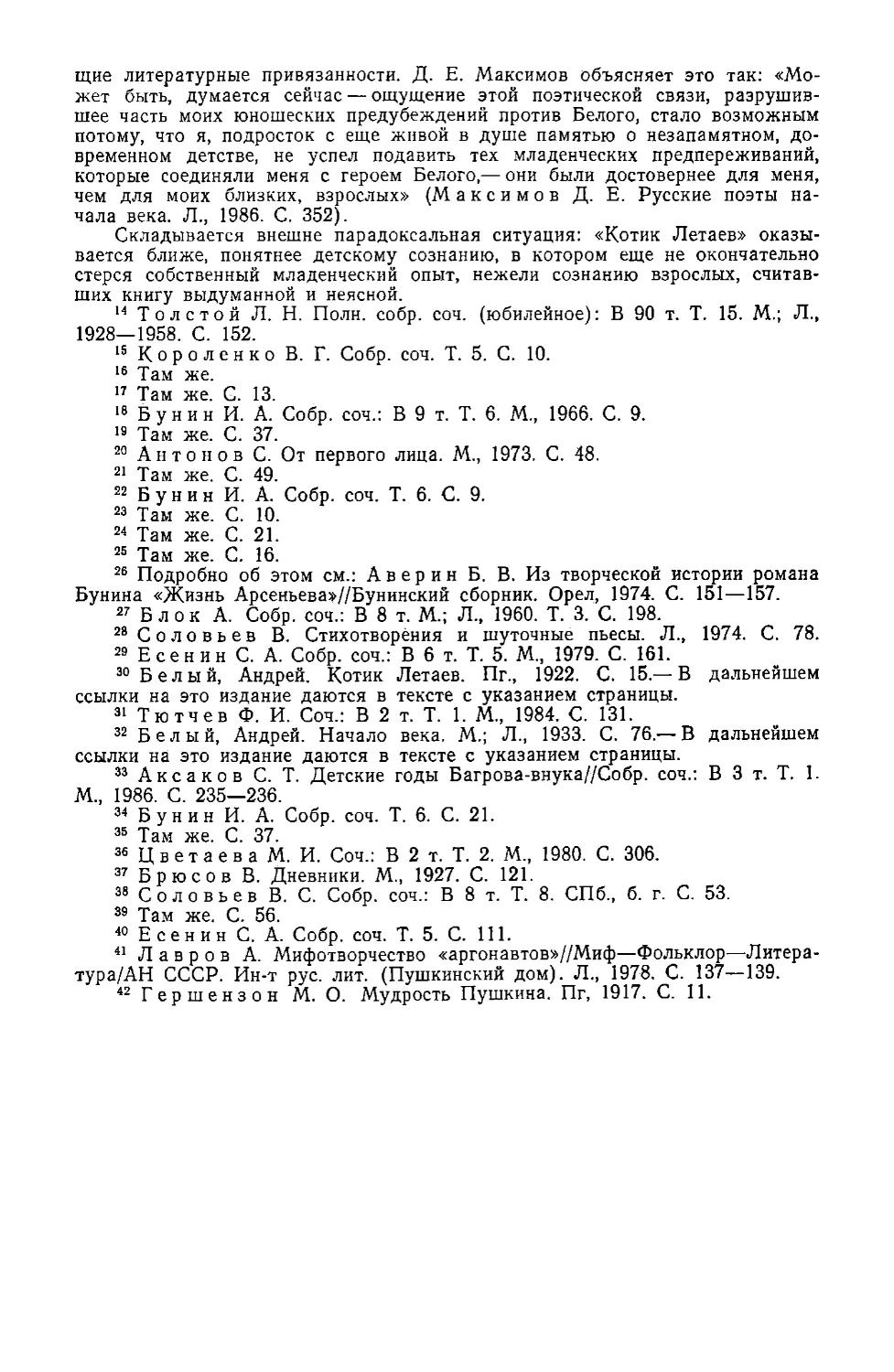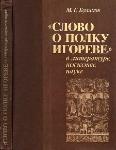Author: Маркович В.М.
Tags: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран русская литература история литературы литературоведение
ISBN: 5-288-00976-7
Year: 1992
Text
С.-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ОТ
ПУШКИНА
ДО
БЕЛОГО
Пр об лемы
поэтики
русского
реализма
XIX—н а ча ла
XX века
Межвузовский
сборник
Под
редакцией
В.
М.
Марковича
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
1992
ББК
83.3Р1
080
Рецензенты:
д-р
филол.
наук
п роф.
Я.
С.
Балицкие
(Российск.
го с.
пе д.
ун- т ), канд.
фи лол.
на ук
В.
К.
Ле бед ев
(С.-Петербургск.
ф ин .-эк он.
ин-т ).
От
Пушкина
до
А.
Бе лог о:
Про бл емы
по эти ки
русского
реализма
XIX — начала XX
ве ка:
Меж вуз.
с б./Под
ред .
Марковича
В.
М.—
С Пб.:
Изд -во
С.-Петербургск.
у н-та, 1992.— 304 с.
ISBN 5-288-00976-7
Сборник
с тате й,
подготовленных
литературоведами
С.-Петербург
ского
и
Б удап е штс кого
университетов,
посвящен
дискуссионным
и
ма
лоизученным
проблемам
поэтики
русского
ре а лизма
XIX — начала
XX века:
драматизация
прозы,
взаимодействие
лирики
и
драмы,
ро ль
романтической
ир онии
в
реалистических
художественных
системах,
взаимопроникновение
психологизма
и
грот ес ка
и
т.
п.
Эти
проблемы
рас смат ри ваю тся
на
материале
творчества
А.
Пушкина,
М.
Лермон
т ова,
Н.
Гоголя,
И.
Тургенева,
И.
Гончарова,
Ф.
Достоевского,
А.
Ч ехова
и
др.
Для
лит ера т урове дов
и
всех,
интересующихся
историей
и
т ео
рией
литературы.
4603020101-062
076(02)—92
120—92
ББК
83.3Р1
Научное
издание
ОТ
ПУ ШКИ НА
ДО
БЕ ЛОГО
П роблем ы
поэтики
русского
реализма
XIX — начала
XX века
Р едак тор
В.
С.
К изил о.
Художественный
ре дак тор
В.
В.
Пожидаев.
Обло ж ка
художника
Н.
И.
Абрамов а.
Т ехническ ий
редактор
Е.
И.
Егорова.
Корректоры
Н.
А.
Синеникольская,
О.
В.
Пук елова .
ИБ
No
3853
Сдано
в
набор
23.12.91.
Подписано
в
печать
16.03.92.
Формат
60x90716.
Пе
ч ать
высокая.
Бумага
тип.
No
2-
Гарнитура
л ит ератур ная.
Усл.-печ.
л.
19,0.
У сл.
кр-о тт.
19,19.
Уч-изд.
л.
21,08.
Ти раж
933 экз.
Заказ
No
299.
Издательство
СПбГУ.
199034,
Санкт-Петербург,
Университетская
на б.
7/9.
Типография
No
8 ордена Трудового Красного Знамени ГПО «Т ехн и ческ а я
книга»
Мининформпечати
РФ.
190000, г .
Санкт-Петербург,
Прачечный
пере
ул ок, 6.
ISBN 5-288-00976-7
© Издательство С.-Петербург
ск ого
унив ер с итет а, 1992.
СОДЕРЖАНИЕ
От
редактора
..................................................................................................
4
Бароти
Т.
(Сегедский ун -т).
Моти вы
см ерти
и
сочетания
«двух ми
ро в»
в
русской
романтической
лир ике
и
в
маленькой
тра ге дии
П у шкина
«Пир во время чумы». ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ...
5
Г ри горь ева
Е.
Н.
(С.- Пет ерб .
ун-т).
Тема
судьбы
в
р ус ской
лирике
первых
десятилетий
XIX века... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ..
25
Ковач
А.
(Будапештский ун - т ).
О
смыслообразующих
принципах
Г оголя
......................................................................................
45
Ки рай
Д.
(Будапештский ун - т) .
Сю жет
и
диалог
у
Пушкина,
Гоголя
и
Достоевского........................................................................
68.
Отрадин
М.
В.
(С.-Петерб.
ун - т). «Трудная
работа
объективирования»
(Юмор в романе И .
А.
Г онча рова
«Обломов»)...........
80
Ляпушкина
Е.
И.
(С.-Петерб.
ун-т).
Идиллические
мотивы
в
русской
лирике
начала
XIX века и роман И.
А.
Г онча рова
«Обломов»
102
Бу хар кин
П.
Е.
(С.-Петерб.
ун -т). «Образ
мира,
в
слове
явленный»
(Стилистические проблемы « Обл ом о ва»)
.........................
118
Хетеіии
И.
(Печшский ун - т) .
О
построении
по вести
И.
С.
Турге
не ва
«Ася»
...............................................................................
136
З е льдх ейи-Д еак
Ж.
(Будапештский ун - т).
Поздний
Тургенев
и
симво
листы
(К постановке проблемы).. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. 146
Столярова
И.
В.
(С.-Петерб.
ун-т).
Т р адиции
Гофмана
в
романе
Н.
С.
Лескова
«Чертовы куклы» .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .
170
Иезуитова
Л.
А.
(С.-Петерб.
ун-т).
Пов ес ть
Достоевского
«Крокодил»
194
Фейер
А.
(Сегедский ун -т).
Проблемы
поэтики
русского
романа
вто
рой
половины
XIX века.........................................................
232
Рев
М.
(Будапештский ун - т) .
О
е динств е
художественного
мир а
Че
хова
(Наблюдения и замечания) .. ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ..
252
Хворостьянова
Е.
В.
(С.-Петерб.
ун-т).
Поэтика
пародийного
текста
(Ранний Чехов)
.......................................................................
261
Аверин
Б.
В.
(С.-Петерб.
ун-т).
Автобиографическая
трилогия
А.
Бе
ло го
и
традиции
русской
автобиографической
прозы
XIX—на
чала
XX века...........................................................................
278
От
редактора
Пу блику ем ый
сборник
продолжает
серию,
начатую
книгой
«Проблемы
поэтики
русского
реализ ма
XIX века» (Л. , 1984).
Названная
кни га
б ыла
составлена
из
статей
филологов-русистов,
преподавателей
двух
с отрудни
чающ их
кафедр
—
кафедры
и стори и
русской
литературы
Петербургского
университета
и
кафедры
ру сско й
филологии
Будапештского
университета.
Сборник,
ныне
предлагаемый
читателям,
составлен
те ми
же
двумя
кафед
рами,
одн ако
по
предложению
венгерской
стор о ны
кафедре
русской
ф илоло
гии
Буд ап ешт ск ого
университета
был а
предоставлена
в озможн ост ь
п ри гла
с ить
для
участия
в
сборнике
крупнейших
рус ис тов
из
друг их
университетов
Вен гр ии
—
Печского,
Сегедского.
Такое
расширение
авторского
к олле кти ва
позволит
чит ате лю
ши ре
познакомиться
с
современной
венгерской
ру с исти
ко й,
получить
более
полное
представление
о
ее
исканиях
и
достижениях.
В
центре
в нима ния
а вт оров
сборника
и
на
этот
раз
проблемы
поэтики
русского
реализма
XIX — начала XX
века.
Но
теперь
это
в ним ание
бол ее
последовательно
направляется
на
проблемы
дискуссионные
или
ма ло изучен
ные.
Та к,
малоизученный
вопрос
—
о
проникновении
психологизма
в
гротеск
ную
поэтику,
о
соединении
методов
изображения,
часто
считавшихся
несо
вме сти мыми ,—
рассматр ива ет ся
в
статье
Л.
А.
Иезуитовой.
Некоторые
а вторы
с бо рника
с
разных
стор он
и
на
разном
материале
исследуют
трудную
проблему
взаимодействия
(или взаимопроникновения)
жанровых
и
родовых
форм
в
реалистической
лите рат уре.
Ста тьи
Т.
Бароти
и
Е.
И.
Ляп у шкин ой
выясняют,
в
частности,
глубинную
с вязь
меж ду
ро
мантической
ли ри кой
и
драматургией
или
прозой
реалистического
н ап равле
ния.
Од на
проблема
соприкасается,
таким
образом,
с
др уго й,
не
мен ее
в аж
ной
и
все
еще
недостаточно
и зучен ной.
Реч ь
иде т
о
со отнош ен ии
и
связях
реализма
с
другими
л и тера турн ыми
направлениями,
предшествующими
и
последующими.
Наряду
с
традиционной
уже
проблемой:
ре ал изм
и
роман
тизм
(ей,
кроме
на зва нных ,
посвящена
стать я
И.
В.
Столяровой)
—
важное
м есто
в
сборнике
занимает
вопрос
о
соот н ошен ии
символизма
с
реалисти
чес кой
тр ад ици ей.
Статьи
Ж.
Зельдхейи-Деак,
Б.
В.
Ав е рина
уст ан авл иваю т
на лич ие
разнообразных
и
оч ень
органичных
связей
между
двумя
направле
ниями,
которые
дол го
считались
непримиримо
враждебными
друг
другу.
Немало
места
уделено
и зучен ию
сложнейших
вопросов
о
смыслообразо-
ва нии
в
реалистической
художественной
системе,
о
соотношении
различных
ее
компонентов,
об
эволюции
реалистического
метода,
о
соприкосновениях
поэтики
и
философии
литературы,
о
различных
ти пах
художественных
тек
стов
в
реалистической
литературе
(статьи А .
К ова ча,
Д.
Кирая,
М.
Рев,
А.
Фейе ра,
Е.
Н.
Григорьевой,
П.
Е.
Бух арк и на,
М.
В.
От ради на,
Е.
В.
Хво-
ростьяновой).
Авторы
сборника
надеются,
что
р езульт аты
их
исс ле дов аний
п ослу жат
уг луб ле нию
и
об острен и ю
интереса
к
историко-литературным
и
историко-тео
ре тич ес ким
проблемам,
все
еще
ожидающим
свое го
реше ни я.
В.
М.
Маркович
Т.
БАРОТИ
МОТИ ВЫ
СМ ЕРТИ
И
СОЧ ЕТАНИЯ
«ДВУХ МИРОВ»
В
РУ ССК ОЙ
РОМАНТИЧЕСКОЙ
ЛИРИКЕ
И
В
МАЛЕНЬКОЙ
ТР АГЕ ДИИ
П УШ КИНА
«ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ»
Основной
зад ачей
настоящей
статьи
яв ля ется
ан ализ
и
толко
вание
некоторых
мотивов
пьесы
«Пир во время чумы»
в
соотне
сенности
с
анализом
э тих
мо тив ов
в
лирике
р у сских
поэ тов -
романтиков.
О
«Маленьких трагедиях»
И.
Д.
Ермаков
когда-то
писал:
«Уничтожение и смерть физическая,
связанная
с
духовной
смертью,
но,
конечно,
прежде
всего
ду хо вная
смерть,
—
вот
то
общее,
что
роднит
и
об ъе ди няет
все
э ти,
как
будто
бы
совер
шенно
ра злич ные
по
своему
содержанию
маленькие
д р амы».1
В
«Пире во время чумы»
смер ть
яв ляетс я
не
просто
необходи
мым
компонентом
жанра:
сценическая
история
не
заканчива
ется
смертью
гла вн ого
действующего
лица,
Вальсингама.
Смерть
выполняет
здесь
не
просто
фу нк цию
ф она
или
развязки
проис
ходивших
событий,
а,
яв ля ясь
де йств енны м
психологическим
фактором,
выступает
как
средство
худож ест ве нног о
ан а лиза
возмож нос тей
в
поведении
действующих
л иц.
Для
интерпретации
художественной
мысли
четв ер той
ма
ленькой
трагедии
Пушкина
мы
сч и таем
наиболее
целесообраз
ным
исследование
указанного
выше
мотива
смерти
и
связан
ного
с
ним
мотива
сочетания
дв ух
мир ов:
в едь
текст
пьесы
«Пир
во
время
чумы»
представляет
с обой
совокупность
разных
чело
веческих
ответов
на
общий
воп рос ,
обозначаемый
этими
мо
ти вам и.
Мотив
сочетания
двух
миров
не р едко
встречается
и
в
рус
с кой
романтической
лирике.
Этот
мотив
неотделим
от
мотива
«смерти», он часто обозначает положительное или отрицатель
ное
осуществление
контакта
людей
(бывших друзей или влюб
лен ны х), находящихся в двух разных мирах ( в
эт ом , «земном»
и
в
и ном , «небесном») и разлученных смертью одного из них .
©Т.
Бар от и, 1992.
5
Часто
(примеры тому мы находим в стихотворениях Пушкина,
Лермонтова
и
Баратынского)
изображение
«иного мира»
слу
жит
для
создания
лирической
точки
зрения,
противоположной
всему
эмпирически-земному,
а
также
для
художественной
оценки
эмпирически-земной
сферы
жизни.
В
этих
случаях
лири
ческий
герой
в
форме
фантастически-поэтического
видения
или
сна
пер ежив ает
и
и зоб ража ет
свою
собственную
смерть.
Мы
считаем,
что
выделенные
нам и
мотивы
смерти
и
сочета
ния
двух
миров
являются
органическими
эл еме нт ами
таких
произведений,
поэт ом у,
идя
путем
ан али за
этих
м от ивов
и
их
художественной
фу нк ции
в
произведениях
отдельных
по эт ов,
мы
сможем
раскрыть
важные
эл е менты
поэ тик и
разных
авторов
и
у ка зать
при
эт ом
на
су ществ енн ые
различия
их
манер
—
на
фо не
объ еди няющ их
эти
манеры
общих
з ако нов
романтиче
с кого
стиля.
Согласно
нашему
пони мани ю,
все
значительные
произведе
ния
Пушкина
(начиная с конца 10- х
и
начала
20-х
годов)
не за
висимо
от
жанровых
особенностей
строятся
на
более
или
м енее
одинаковой
сист ем е
ценностей.2
На
это
положение
мы
будем
опираться
при
сопоставлении
«Пира во время чумы»
и
несколь
ких
п у шки нских
стихотворений,
а
также
стихотворений
поэтов-
романтиков
Ж уко вск ого,
Батюшкова,
Баратынского
и
Лер мо н
т ова.
При
выборе
стихотворений
для
анализа
мы
руководство
вались
наличием
в
них
мо ти вов
«смерти»
и
«сочетания двух
м и ров».
Исследователь
элегического
жанра
в
русской
литературе
И.
Л.
Альми
определяет
гл авные
этапы
развития
этого
жанра
вплоть
до
его
внутреннего
ра зр уше ния
и
рождения
внежанро
вого,
индивидуального
лирического
«я»
в
лирике
отдельных
поэтов-романтиков.3
По
мысли
исследователя,
пр оцесс
эволюции
элегического
жанра
отра жа ет
процесс
идеологического
высвобождения
л ич
ности,
под
знаком
которого
шло
развитие
русской
поэзии
пер
вой
тр ети
XIX в.4
Благодаря
эт им
новым
веяниям
меняется
и
темат и ч еская
основа
традиционной
интимной
элегии,
и
сам
ха
р актер
элегической
«скорби» .
И.
Л.
Альми
пишет: «В начале XIX
века
в
литературу
хлы
нула
волна
меланхолии,
настроений
разочарования,
мыслей
о
непрочности
человеческого
бытия,
которые
были
обусловлены
в
конечном
итоге
кра хом
просветительства,
потрясениями
фран
цу зско й
буржуазной
р ево лю ции.
Эта
волна
не
только
по дняла
эл еги ю,
но
и
д ала
ей
особое
содержание».5
Меланхолические
настроения
нашли
непосредственное
выражение
в
элегии
«ме
дитативной», т.
е.
в
элегии
«общего разочарования» . « Общ ее
р аз оч ар ов ание» («мировая скорбь», по определению Г.
А.
Гу
ков ског о)6 и служившие выражению меланхолических настрое
6
ний
мотивы
непрочности
жизни
и
смерти
были
новыми
явле
ниями
в
русской
литературе,
отражающими
с опос тавл е ние
мира
и
человека,
которое
так
х ара ктер но
для
мироощущения
роман
тизма
и
предромантизма.
Однако
по
мере
тог о
как
схема
«общего разочарования»
наполняется
конкретно-психологическим
содержанием,
зам кн у
тый
жанр
ме дитати вн ой
элегии
постепенно
разрушается.
С ти
хотворения
Пушкина
начала
20- х
годов,
произведения
молодого
Баратынского
и
других
поэ то в,
сохраняя
генет ическ у ю
с вязь
с
элегическим
жанром,
как
справедливо
указывает
Ал ьми,
ф ак
тич е ски
находятся
уже
за
его
пределами,
будучи
свободным
выражением
индивидуального
чувства,
индивидуальной
ав тор
ской
поэтики,
а
также
психологически
точного
изображения
«лирического героя».
В
зрелой
лирике
русских
поэтов-роман
тиков
(Жуковского,
Батюшкова
и
П ушкин а,
а
также
в
ранней
лир ике
Баратынского
и
Лермонтова)
все
переживания
лир иче
ского
героя
приобретают
своеобразную
«лирическую равно
правность» (И.
Л.
Ал ьм и), стирается разница между лирикой
интимной
и
общественной.
Стихотворения
молодого
Жуковского,
еще
близкие
по
тону
и
размерам
к
риторическим
од ам
классицизма,
уже
проникнуты
тре вожн ым и
и
гл уб око
личностными
размышлениями
о
смерти
и
добродетелях
человека.
Примерами
могут
с лужи ть
два
одно
име нных
стихотворения
«Добродетель» (1789),
стихотворения
«К Тибуллу на прошедший век» (1800), а также «Че лов ек»
(1801), представляющие собой поэтическую
и
мировоззренче
ск ую
д иск уссию
с
ан г лий ским
поэтом-сентименталистом
Юнгом,
по ним аю щим
человека
с
его
мг нове нной
жизнью
как
ничт оже
ство .
Особо
в ыде лим
че ты рнад ца тую
строфу
стихотворения
«Человек», состоящего из
19 строф.
Пер вые
восемь
строф
—
поэ т ическ ий
перевод
стихотворения
Юнга,
где
п оэт
пишет
о
ничтожности
человека:
Чего
ж
искать
т ебе
в
сей
пропасти
мучений?
Ск о рей,
скорей
в
ничто!
Ты
неб ом
по з абыт,
Оди н
пер ун
его
лишь
над
тобой
гр ем ит;
Его
пр о клят ием
навеки
отягченный,
Твое
убе ж ище
ли шь
см ер ть!1
Н ачи ная
с
девятой
строфы,
Жуковский
вступает
в
полемику
с
разочарованием
английского
поэта:
Так
в
гордости
своей ,
с леп ой,
неправосудной,
Безумец
восстает
на
не бо
и
на
рок...
(26).
В
четырнадцатой
строфе
читаем:
Познай
себя,
поз най !
Коль
в
де рзком
ослепленье
За хоче шь
ты
с ебя
на
край
миров
вознесть,
Сравнишься
со
Творцом
—
ты
неприметна
перст ь:
Но
ты
велик
собой ;
сей
мир
т вое
владенье,
Ты
духом
т варей
властелин
! (27).
7
Последняя
с трофа
является
поэтическим
ответом
молодого.
Жуковского
Юн гу.
Вырисовывающаяся
в
этой
поэтической
ди с
куссии
проблема
смерти
и
в
с вязи
с
ней
особое
ос мы сл ение
человеческой
жизни,
останутся
центральными
темами
русской
р о манти че ской
поэзии.
В
эт ом
ст ихо т во рении
Ж уко вско го
можно
ука за ть
на
еще
одну
интересную
деталь.
П ервые
восемь
строф
входят
в
стихо
творение
как
подчеркнуто
чужой
текст,
как
¡голос чужого со
з нания,
от
которого
соб ст венны й
го лос
поэта
отмежевывается,
отталкивается
в
диалектической
о ппози ции
дв ух
про тиво по лож
ных
мироощущений.
Установка
на
чужое
слово
п одч ер кива
е тся
и
эпиграфом
на
английском
языке,
и
гра фи че ски
—
цита
т ой,
и
двумя
примечаниями
самого
Ж уковс ко го,
и,
не
в
последнюю
очередь,
внутренней
полемикой
дв ух
голосов,
столкновением
дв ух
различных
по ним аний
смертности
человека,
разных
худож еств ен ны х
взглядов
на
мир,
приведших
к
проти
в оп оложн ому
разрешению
проблемы
разочарования.
В
пе р вой,
«цитатной»,
части
стихотворения
от
мысли
о
м гно венно сти
человеческой
жизни,
от
«ничтожности»
человека,
который
и зо
бражен
«игралищем судьбы», «волнуемым
страстями» (раз
мышления
о
мгновенности
жизни
если
и
не
совпадают
по л
ностью
с
разочарованием,
то
являются
стимулами
такого
ра зоча ров ан и я), поэт приходит к отказу от унижающей чело
в еческо е
достоинство
и
нич его
не
дающей
и
не
су лящ ей
чело-
.веку жизни:
Че го
ж
искать
те бе
в
сей
пропасти
мучений?
Ск оре й,
ско рей
в
ничто!
Ты
небом
позабыт..
.
Твое
уб еж ище
л ишь
смерть!(26).
Из
четвертой
строфы
«цитатной»
части
явствует,
что
чел ов ек
«дерзкой мыслию за небеса стремится», но он «ра з би т,
в
пыли,
добыча
он
червям».
В
эт ой
части
стихотворения
конечное
разочарование
мотивируется
трагическим
осознанием
п ропа сти
меж ду
мечтаниями
человека,
пафосом
его
индивидуалистиче
ского
самоутверждения
как
личности,
вмещающей
в
с ебя
и
от
крывающей
в
себе
вселенную,
и
трагической
его
подчинен
ностью
всевластию
Судьбы.
Инте ре сно ,
что
в
вышеприведенной
четырнадцатой
строфе,
начинающейся
с лова ми
«Познай себя,
познай!»—
второй,
«настоящий»
голос
не
в о сст анавли вает
тра гич еск и
потерянную
уверенность
в
себе
личности.
Чело век
не
мо жет
«сравниться со Творцом»,
ведь
он
—
«неприметна
персть».
Мы
видели,
что
самоутверждающаяся
личность
в
пе р
вой
части
не
может
примириться
именно
с
этим,
но
стар аетс я
восстановить
иерархию
ценностей,
«космос»,
миропорядок,
ос нов анн ый
на
религиозном
убеждении.
Под
знаком
вер ы
в
за
гробную
ве чную
жизнь
разр ешае тся
внутренний
конфликт
8
человека,
и
стихотворение
кончается
примирением
в
ре лигиоз
ном
духе:
Муж ай ся !..
Твой
рай
и
ад
в
тебе!..
Брань,
бр ань
твоим
страстям!
—
Перед
тобой
отверст
бессмертья
ве чный
храм;
Ты
смерти
слом иш ь
серп
могучею
рукою,—
Могила
—
к
вечной
жиз ни
путь!
Внутренний
п ро цесс
открытия
поэтической
правды
о
жизни
л ир иче ским
субъектом
ст их от во рений
Баратынского
происходит
под
знаком
«разума»:
Напрасно
мы,
Дельвиг,
ме чтае м
найти
В
сей
жиз ни
блаженство
прямое:
Небесные
бог и
не
д еля тся
им
С
зем ны ми
детьми
Прометея.
Похищенной
искрой
созданье
сво е
Дерзнул
ож иви ть
безрассудный...
(Дельвигу, 1821)8.
Для
лирического
субъекта
стихотворения
Пушкина,
начина
юще го ся
словами
«Надеждой сладостной младенчески дыша .. . »
(1823), человеческие ценности,
которые
в
их
полном
и
чис том
осуществлении
явились
бы
достижением
иде ал а,
неотделимы
от
повседневных
рад осте й
и
г орес тей
человека.
Указанное
сти
хотворение
Пушкина
по
те ме
и
выра женно й
в
нем
мысли
тесно
свя зан о
с
другими
стихотворениями
поэта
1823 г.,
развиваю
щ ими
тем у
разочарования
(психологического или политиче
ск о го ), как например, «Кто,
вол ны,
вас
о с т ан о вил. ..», «Бывало,
в
сладком
о сле пл ен ье. ..», «Свободы сеятель пустынный. ..»,
а
также
«Демон» .
Лирический
гер ой
пу шкин ско го
стихотворения
«тщетно»
предается
«обманчивой мечте»
не
пот ом у,
что
он
ра зочаро ва лс я
в
близких
сердцу
идеал ах ,
т аких
как
«мысли вечны», «память»
и
«любовь»,
а
пот о му,
что
«младенческая», «сладостная на
деж да», которую
герой
во
второй
части
стихотворения
уже
«презирает», называет « о бма нч иво й
меч той », сулит ему пости
жение
идеала
в
чистом
виде
в
ино м
мире,
куда
можно
проник
нут ь,
толь ко
пройдя
через
смерть.
Но
как
бы
ни
манило
лири
ческого
героя
чистое
и
полное
присутствие
и деала
в
ин ом
мире,
Где
смерти
нет ,
где
нет
предрассуждений,
Где
м ысль
одна
плывет
в
неб есно й
чи с тоте, — (2, 156)9..
классически-уравновешенный
«ум»
его
препятствует
тому,
чтоб ы
«оставить этот мир»
и
сокрушить
«жизнь,
уродливый
кумир»,
вед ь
герой
знает,
что
без
полног о
эмпирически-непосредствен-
но го
и
ду шев но
открытого
участия
в
сей
жи зни
не
мож ет
идти
речи
о
внутреннем
осуществлении
иде ал а.
Отметим
еще
од ин
пов ор от
той
же
темы.
Мы
найдем
его
в
стихотворении
Жу ковс ког о
«Голос с того света» (1815), пред
ставляющем
собой
поэтическое
переложение
стихотворения
Шиллера
«Текла.
Посмертный
голос».
Уже
са мо
назв ание
сти
хотворения
ук азыв ает
на
то,
что
во пр еки
горестному
собы
9
тию
—
смерти
г ер оини
и
разобщенности
влюбленных
—
созда
ется
ко нта кт
двух
«прекрасных душ».
Она
в
состоянии
дать
утешение
ем у,
оставшемуся
жи вым
в
это м
мире;
ее
кончина
и
переход
в
мир
иной
не
приносят
разочарований;
мечты
и
веро
ва ния
двух
любящих
душ,
ныне
разобщенных,
не
изменились,
а,
ско р ее,
оправдались:
.. .Сб ыл ося
все;
я
в
стороне
с вид анья;
И
знаю
здесь,
сколь
ваш
прекрасен
свет.
Друг,
на
зем ле
великое
не
т щетн о;
Буд ь
тверд,
а
здесь
те бе
не
изменят;
О
милый,
здесь
не
бу дет
безответно
Ничт о,
никто:
ни
мысль,
ни
вздох,
ни
вз гляд.
Не
унывай:
ми н увшее
с
тобою;
Нез р има
я,
но
в
мир е
мы
одном;
Буд ь
вер ен
мне
пр екр асн ою
душо ю;
Сверш и
од ин
начатое
вдвоем
(265).
Голос
с
т ого
света
зд есь
становится
голосом
утешения.
Пер
вая
строка
последней
строфы
(«Не унывай:
минувшее
с
то
бою.
..») является основной поэтической формулой Жуковского:
поэтическая
способность
воспоминания
о
прекрасном
прошлом
дает
возможность
душе
романтически
мечтательного
г ероя
жит ь
пол ной,
радостной
жизнью.
По эт
пише т
об
этом
и
в
стихотво
ре нии
«Мотылек и цветы» (1824):
О
м илое
воспоминание
О
т ом,
чего
уж
в
мир е
не т!
О
ду ма
се рдца
—
упование
На
луч ш ий,
н еиз менн ый
св ет!
Блаж ен ,
кто
вас
с реди
губящего
Волненья
ж изни
сохранил
И
с
вами
низость
настоящего
И
пренебрег
и
позабыл
(370).
Стихотворение
«9 марта 1823» было написано Жуковским
по
поводу
известия
о
смерти
Ма ши
Протасовой.
Первые
четыр е
строки
первой
строфы
представляют
собой
лирическое
воспо
м инан ие
о
по сле дней
встрече
лирического
г ероя
с
во з люб
л е нной:
Ты
предо
мн ою
Стояла
тихо.
Тв ой
взор
унылый
Был
по лон
чувс тва
(365).
По
сравнению
с
«настоящим временем»
второй
строфы,
пе
редающей
грустно-смиренные
переживания
лирического
субъ
екта,
приведенное
начало
первой
строфы
—
это
прошлое,
то ч
нее,
первый
временной
план
прошлого.
В
пято й
строке
оп исание
углубляется
в
более
да лекое
прошлое,
которое
мы
условно
бу
дем
называть
вторым
планом
прошлого:
Он
мне
напомнил
О
милом
прошлом,..
Он
был
пос ледн ий
На
здешнем
све те
(365).
10
Для
всего
стихотворения
характерна
приглушенность
то на
и
переживания,
сочетающаяся
со
смир ением,
охватывающим
всю
вселен ную
—
и
«звезды небес»,
и
«тихую ночь» .
Слово
«тихо» («стояла тихо») означает не способ действия,
и
даж е
не
просто
состояние
субъекта,
а,
как
гла вно е,
кл ючев ое
слово
сти
хотворения
(повторяющееся трижды в тексте), выражает до
мин анту
вопреки
всем
усл ов иям
(разобщенности в жизни и
в
конечном
счете
во пр еки
смерти)
объединяющего
героев
чи
с того,
смиренного,
пол но го
глубоким
человеческим
содержанием
чувства
любви,
чу вс тва,
с пос об ного
торжествовать
не
тол ько
над
обстоятельствами,
над
временем,
но
да же
над
смертью
и
над
пропастью,
отделяющей
мир
земной
от
«иного»
мира.
В
п еред ающи х
последнюю
встречу
строках
контакт
между
участниками
лирического
события
чи сто
духовный,
и
он
осуще
ствляется
во
взоре,
вер н ее,
во
встрече
взоров
и
взаимном
по
ним ани и.
В
о пи сании
ничего
предметного
не т,
и
да же
слово
«взор», носитель чистой духовности,
субъективизируется
и
ста
новится
дальше
выражением
главного
содержания
по эзии
Жуковского
—
чувства
и
сердечного
переживания.
Полный
чувства
в зор
яв ляется
спо нт анным
побудителем
выше
уже
от
меченного
в
двух
других
стихотворениях
акт а
воспоминания:
Он
мне
напомнил
О
м илом
прошлом..
.
Он
был
пос лед ний
На
зде ш нем
свете.
Пос ле
воспоминания
о
«милом прошлом»
поэ т
в
заключи
те льны х
дв ух
строках
первой
строфы
опять
в озвра щае тся
в
на
стоящее
и
упоминает
«здешний свет», который она,
умирая,
по
кидает:
Ты
удали лась ,
Как
т ихий
ангел;
Т воя
мо ги ла,
Как
рай,
спок ойн а!
Там
все
земные
Воспоминанья,
Там
все
святые
О
н ебе
мысли.
Звезды
небес,
Тихая
ночь!
..
(365).
Стихотворение
имеет
как
бы
два
центра
—
два
момента
вос
поминания,
в
первой
и
второй
с троф ах.
Главным
яв ляе тся
пер
вый,
напоминающий
уже
приведенные
выше
строки
из
стихо
творе ни я
«Мотылек и цветы» (мы понимаем их как основную
фор мул у
мышления
Жуковского).
Напомним:
О
ми лое
воспоминание
О
то м,
чего
уж
в
мир е
нет!
О
думы
сердца
—
упование
На
л учш ий,
н еиз мен ный
све т! (370).
И
Принимая
во
внимание
значение
этих
слов
и
вос прин и мая
его
по
аналогии
со
значением
стихотворения
«Воспоминание»,
мы
считаем,
что
душа
лирического
героя
стихотворения
«9 марта 1823» «обогревается», углубляясь в так называемый
второй
план
прошлого.
Там,
в
более
дальнем
прошлом,
она
чувствует
себ я
б лиже
к
внутреннему
постижению
и деала
(5-я
и
6-я
строки
первой
строфы).
И
внутренняя
теплота,
гармония
это го
мелькнувшего,
тайно-неопределенно
переживаемого
мира
излучает
столько
эн ерг ии,
что
л и р ический
герой
—
по
аналогии
со
сти хо тв ор ением
«Воспоминание»
—
в
возвышающем
душу
акте
воспоминания
переносит
эту
гармонию
и
в
пл ан
настоя
щего.
Жуковский
об
этом
пишет
во
второй
части
заключитель
ной
строфы
стихотворения
«Мотылек и цветы».
Блажен,
кто
вас
ср еди
губящего
Волненья
жизни
сохранил
И
с
вам и
низость
настоящего
И
пренебрег
и
по за был
(370).
(Забегая немного вперед,
отметим,
что
з апе ча тл енный
в
вы-
шецитированных
строках
«механизм»
внутреннего
«умиротворе
ни я»
мы
находим,
к он ечно
же,
в
другой
худож ес твен ной
функ
ции,
и
в
од ной
из
строф
«Гимна чуме»
Вал ь синг ама.)
Но
те
пе рь
мы
хотим
только
ука за ть
на
то,
что
в
момент
воспомина
ния
о
«милом прошлом», «думой
сердца»
л ир иче ский
герой
преодолевает
«низость»
не
только
«настоящего» .
Благотворное
влияние
воспоминания
и
«упования на лучший,
не изме нны й
свет»
распространяется
и
на
так
наз ыва ем ый
первый
план
прошлого,
т.
е.
на
то
время,
ког да
героиня
еще
бы ла
в
живых.
И
зде сь
нет
ничего
удивительного:
у
Жуковского
в едь
важна
субъективная
сторона
описания,
не
предмет
описания,
а
только
его
внутреннее
отношение
к
нему,
внутреннее
переживание.
Еще
од но
изменение
з апечат л ено
в
структуре
стихотворения:
условным
побудителем
воспоминания,
т.
е.
душевного
возвыше
ния,
акта
«пренебрежения»
и
«забвения» «низо с т и
настоящего»,
в
«настоящем»
стихотворения
я вляетс я
уже
не
«полный чувства
взо р
унылый », а могила.
И
в
са мом
деле:
Там
все
земные
Воспоминанья,
Там
все
святые
О
небе
мысли.
С
этого
момента
скорбное,
но
смиренное
(«тихое») чувство
расширяется,
наполняя
с обой
всю
в сел енну ю:
до
«звезд небес».
Современник
Жуковского
К.
Н.
Батюшков,
как
известно,
тоже
м ного
переводил,
в
том
ч исле
элегии
Тибулла,
сонеты
и
канц о ны
Петрарки,
стихотворения
Парни
и
др.
Не кот орые
его
стихотворения
носят
на
себе
отпечаток
ант ично го
«эпикурей
ск ого»
мировоззрения
(стихотворения « М ой
г ен ий », «Элизий»
и
др .).
Для
сопоставления
романтической
элегии
и
мал е нькой
12
тра ге дии
Пушкина
нам
ка жетс я
чрезвычайно
важным
то,
как
Батюшков
в
очерке
о
Петрарке
(1815) размежевывает христи
анское
поэтическое
мировоззрение,
с
од ной
стороны,
и
яз ыче
ско е
миропонимание
древних
поэт ов
—
с
другой.
Поэтому
мы
позволим
себе
привести
обширную
цитату.
Батюшков
пишет
о
П етр арке: «.. .Д ля
н его
Лаура
бы ла
нечто
невещественное,
чис т ейший
ду х,
излившийся
из
недр
божества
и
облекшийся
в
прелести
зем ны е.
Д р евние
стихотворцы
бы ли
идолопоклонни
ками;
они
не
им ели
и
не
могли
иметь
сил
возвышенных
и
отвле
ченных
понятий
о
чи сто те
душевной,
о
непорочности,
о
надежде
увидеться
в
лучшем
мире,
где
нет
ничего
земного,
преходящего,
ни зко го
(выделено мной .
—
Т.
Б .).
Они
н аслажд али сь
и
воспе
вали
св ои
наслаждения;
они
страдали
и
описывали
ревность,
тоску
в
ра злуке
или
надеж ду
близкого
свидания...
и
вечные
сожаления
о
юности,
улетающей
как
призрак,
как
сон...
Ти
булл,
за д умчи вый
и
нежный
Ти бу лл,
любил
напоминать
о
смерти
своей
Делии
и
Немезиде.
„Ты будешь плакать над
умирающим
Тибуллом;
я
по жму
руку
т вою
хладеющею
рукою,
о
Дел и я!“...
Но
после
смерти
всему
ко нец
для
поэта,
самый
Элизий
не
есть
верное
ж илище .
Каждый
по эт
п ередел ы вал
его
по-своему
и
переносил
ту да
грубые,
земные
наслаждения.
П ет
рарка
напротив
то го:
он
надеется
увидеть
Ла уру
в
лоне
боже
с тва,
по сред и
ангелов
и
святых;
ибо
Лаура
ес ть
ан гел
непороч
ности;
сам ая
смерть
ее
—
торжество
жизни
над
смертью» (150—
151) .10
В
связи
с
пр ив еденно й
ц итато й
мы
хотели
бы
сделать
не
сколько
замечаний.
Во-первых,
что
ка саетс я
представления
античных
поэт ов
об
Эл изии
—
в
эт ом
Батюшков
пра в.
Но
сам
поэт
находит
в
земных
наслаждениях
убе жи ще
от
всегда
и
ве зде
преследующей
его
угро зы
смерти.
Мотивы
смерти,
скоро
течности
жизни
и
радости
то
и
дело
встречаются
в
стихотворе
ни ях
Батюшкова
д аже
в
его
пе рвый,
так
называемый
эпикурей
ский
период
творчества.
В
«вакхическом»
стихотворении
«Ве
селый
час»
веселый
зво н
бокалов,
шум
«веселья и забавы»
не
может
за глушит ь
мотива
смерти:
Жизнью
дай
лишь
н аслади ть ся;
Полной
ча шей
радость
пить:
Ах!
не
дол го
веселиться
И
не
в еки
в
сча сть е
жить!
Но
к
концу
стихотворения
скорбная
т ема
как
бы
снимается.
.. .Заране
должно
ли
кр у шит ься?
Умру,
и
все
умрет
со
мной! .. (229).
В
русской
рома нти чес кой
поэзии
мы
находим
еще
один
сво е
образный
вариант
мотива
со четан ия
дв ух
миров
с
ре зко
отли
чающимся
от
других
вариантов
содержанием.
Мы
постараемся
показать
на
примере
н ес коль ких
стихотворений
Лермонтова
тр евожн ые
искания
индивидуума,
высвободившегося
из-под
13
опеки
трансцендентального
мира,
гордого,
не
принимавшего
и
не
призна ва вшег о
вне
сферы
земной,
человеческой
жизни
ни
какого
«небесного»
разрешения
своей
судьбы,
и
в
то
же
вре мя
име нно
во
имя
человеческого
достоинства,
во
имя
своего
плато
нически
по ним аемо го
представления
о
чел ов еке
(своей « ид еи»
о
человеке)
отвергающего
и
презирающего
реальное
б ытие
и
ничтожное
состояние
человека.
Такая
тр е бова те льнос ть
лежи т
в
основе
лермонтовского
демонизма:
гордый
дух,
воплощаясь
в
герое
повествовательно-лирического
произведения,
отвергает
б ыт о во г о, «ничтожного»
человека
во
имя
«человека», достой
ного
своего
имени,
в
ко не чном
счете
не
менее
совершенного,
чем
«сверхчеловеческое», божественное или демоническое,
совершен
ство.
Главное,
одн ак о,
то,
что
лермонтовская
метафизика
и
тра нсце нде нт ально сть
имеют
исключительно
земную
направлен
ность:
носящийся
над
земным
миром
и
окидывающий
его
пр е
зрительным
ок ом
л ермон товск ий
герой
при
всем
том
зан ят
мыслью
только
о
земном
су ществ о ван ии
человека.
Не
случайно
поэтому,
обратившись
к
переводу
из
Гейне,
Лермонтов
выби
ра ет
такое
изображение
сочетания
дв ух
миров,
где
св ида ние
в
од ном
мире
по л юбивш их
друг
друга
на
земле
людей, «рас
ставшихся
в
безмолвном
и
гордом
с т ра д ань е», заканчивается
трагически:
.. .И
см ерть
пришла:
на сту пило
за
гробом
свиданье...
Но
в
ми ре
но вом
друг
друга
они
не
узнали.
Поэт
как
бы
не
пр из нает
«потустороннего»
излечения
по
следствий
земн ых
ран,
последствий
человеческого
несовершен
с тва
в
земной
жизни.
Эта
же
фор му ла
вопло щае тс я
в
разных
поэтических
об ра зах
и
ситуациях
во
мно гих
лермонтовских
стихотворениях,
в
том
ч исле
и
в
стихотворении
1830—1831 гг .
«Ангел» .
Лирическим
центром
стихотворения
я вляется
«душа»,
в едь
о на,
а
не
«ангел»
пер ежив ает
трагизм
вышеприведенной
ф орм улы
лермонтовского
п ереж ивани я.
По
ан ало гии
с
пережи
ваниями
лирического
субъекта
этого
стихотворения
душе
ирра
циональным
путем
сообщается
«образ совершенства»,
чтобы,
«дав предчувствия блаженства» («Он пел о блаженстве без
грешных
духов...»), не дать «ей
счастья
н ико г да» («и звуков
неб ес
заменить
не
могли
ей
скучные
песни
земл и»).
У
Лермон
то ва
неоднократно
звучит
отказ
от
кажущегося
Жуковскому
во зможн ым
спасения,
умиротворения,
высшего
ра зр еше ния
земн ых
человеческих
проблем
в
ин ом
мире.
С
м от ивом
сочетания
д вух
мир ов
мы
нередко
встречаемся
в
сценической
и
несценической
истории
первых
дв ух
маленьких
трагедий
Пушкина,
они
играют
весьма
важн ую
роль
в
форм и
ровании
ха рак тер а,
идеологии
де йств ую щих
лиц
и
в
развитии
драматического
конфликта.
Примером
могут
служить
слова
14
барона
Филиппа,
з аканч иваю щие
его
монолог
пе ред
денежными
сундуками
во
второй
сцене
«Скупого рыцаря»:
О,
если
б
мог
от
взоров
недостойных
Я
с крыть
подвал!
О,
если
б
из
моги лы
Прийти
я
мог
сторожевою
тенью
Сидеть
на
сундуке
и
от
живых
Сокровища
мои
хранить,
как
ныне !.. (V, 346).
Сал ьер и,
размышляющий
об
отравлении
Моцарта,
в
первой
сцене
говорит
о
гениальном
композиторе
как
о
явлении
из
иного
мира:
Что
пользы,
если
Моцарт
бу дет
жив
И
новой
высот ы
еще
достигнет?
Что
пользы
в
не м?
Как
не кий
херувим,
Чтоб
возмутив
бескрылое
желань е
В
нас,
чадах
праха,
п осле
улет ет ь!
Так
улетай
же!
чем
ск оре й,
тем
луч ше
(V, 362).
В
«Каменном госте»
тоже
немало
преломлений
мотива
соче
тания
двух
мир ов.
Та к,
уже
в
самом
нач але
трагедии
Дон
Гуан
(для «традиционного»
Дон
Жуана
со вер шен но
неожиданным
образом)
внутренне
п ере живает
сочетание
миров,
когда
живо
в сп омина ет
о
своей
умершей
возлюбленной,
Инезе.
Этот
мотив
звучит
в
словах
Доны
Анны,
испытывающей
противоречивые
чу вств а:
Диего,
перестаньте:
я
грешу,
Вас
слуш ая ,—
мне
вас
любить
не льз я,
Вдова
должна
и
гробу
быть
верна
(V, 402).
Своеобразным
воплощением
данного
мотива
яв ляет ся
отно
шение
Гу ана
к
уб ито му
им
Командору,
переносящееся
со
сце
нического
действия
на
п рошл ое
—
когда
Дон
Альвар
еще
был
жив.
В
настоящем
же
и зображ ае тся
его
вражда
(в первую
очередь
психологическая)
со
с тату ей
Командора,
появляющейся
как
символ
к ары
в
ко нце
четвертой
сцены.
В
четвертой
пьесе
«Маленьких трагедий», «Пир во время
чумы», чума (смерть)
фигурирует
не
только
в
заглавии
произ
ведения,
а
яв ляетс я
главным
динамическим
элементом
развития
драматического
ко нфлик та .
Непреодолимая
враждебная
сил а
—
смерть
—
становится
центральной
проблемой
для
каждо г о
жи
в ого
человека,
парализуя
свободную
умственную
и
психическую
деятельность.
Однако
смерть,
согласно
художественной
мысли
Пушкина,
по-разному
осмысливается
участниками
пира
и
св я
щенником.
Описывая
реакции
отдельных
героев
на
общее
бе д
ствие,
Пушкин
и
в
этой
трагедии
оценивает
их
с
по зиц ий
вы
сокого
гу ма низм а,
достойных
человека,
способного
по бед ить
физическую
и
духовную
смерть.
При
этом
в
худож ес твен н ой
структуре
произведения
иг рает
весьма
важную
роль
отмеченная
нами
во
многих
произведениях
русской
эл ег ичес кой
поэзии
проблема
сочетания
дв ух
миров.
15
Уже
в
са мом
начале
пьесы
в
сл овах
Молодого
человека
и
в
ответе
на
них
Пр едседат ел я
обнаруживается
разное
понима
ние
смерти,
вернее,
разное
отношение
к
ней.
Молодой
чел ов ек
предлагает
пиру ющ им
в ыпить
в
память
весел ьч ака
Джаксона,
выбывшего
первым
из
их
круга.
Его
слова
показывают,
с
одн ой
стороны,
отношение
Молодого
человека
к
уме ршему
Джаксону,
с
другой
проливают
св ет
и
на
его
отношение
к
миру,
на
внут
реннюю
причину,
побудившую
его
участвовать
в
пире.
Он
на
поминает
пиру ющ им
о
Джаксоне:
..
.чьи
шутки,
по вести
с мешн ые. ..
Застольную
беседу
о живля ли
И
раз го няли
мрак,
который
ны не
З ара за,
гостья
наша,
посылает
На
самые
блестящие
умы
(V, 413).
А
несколько
позднее,
когда
Луизе
стало
дурно
при
п ояв ле
нии
телеги
с
мертвыми
телами,
Молодой
человек
по дбадр и
вает
ее:
...Развеселись — хоть
улица
вся
на ша
Б е змолвн ое
убе жи ще
от
смер т и,
Приют
пиров,
нич ем
не
возмутимых...
(V, 417).
Эти
слова
свидетельствуют
о
понимании
жизни
как
бег ст ва
от
страха
преследующей
человека
смерти.
Та кой
поворот
темы
хар акте рен
для
лирики
Батюшкова.
Когда,
од н ако,
Молодой
че ло век
пр едла гает
выпит ь
в
па
мять
Джаксона,
С
веселым
звоном
рюмок,
с
восклицанием,
Как
будто
б
был
он
жив, —
Пр едсед атель ,
возражая
е му,
подчеркивает
потерю
человека
и
друга,
предвещая
таким
образом
постановку
центральной
п ро
блемы,
ставшей
впоследствии
стержнем
о сно вного
конфликта
п роизв еде ни я.
Он
говорит:
Он
выбыл
первый
Из
круга
н ашего .
Пускай
в
молчанье
Мы
выпьем
в
честь
его
(V, 414).
З десь
намечается
второй
вар и ант
о смы сле ния
смерти
и
вы
работки
внутреннего
отношения
к
ней
личности.
Условно
этот
второй
вариант
мы
тоже
будем
называть
бегством,
а
именно,
бегством
как
преодолением
ст р адания ,
горечи
и з-за
потери
доро
го го
и
близкого
человека.
И
этот
поворот
темы
тоже
легко
находит
себе
соответствие
в
русской
лирике
первой
трети
XIX в.
Третье
действующее
л ицо
маленькой
трагедии
—
Мери,
которая
по
просьбе
Председателя
исполняет
«родимую», т.
е.
шотландскую
н арод ную
песню .
Первые
две
строфы
в
некоторых
деталях
описания
опустошающего,
гибельного
действия
ч умы
на помин аю т
песню
Мери
из
Вильсоновой
тра ге дии
«Чумный
го род »,11 состоящей из шестнадцати строф,
но
остальные
три
строфы
пушкинские.
Начало
ср едне й,
тре тье й
строфы
—
обра
16
зец
смиренного
приятия
смерти
—
в
некоторой
степени
предве
ща ет
позицию
Священника:
..
.Поминутно
ме р твых
носят,
И
с те нания
живых
Боязливо
бог а
просят
Успокоить
души
их! (V,415).
Мер и
в
последних
д вух
ст ро фах
воспевает
жертвенный
альтруизм
в
л юбви.
Д же нни,
заразившись
чумой
и
умирая,
ду
мает
только
о
сп асении
Эд мон да
и
просит
его
удалиться
и
сохранить
сво ю
жизнь.
.. ,Я
молю:
не
приближайся
К
те лу
Дженни
ты
своей,
Уст
умерших
не
касайся,
Следуй
издали
за
ней
(V, 415).
Такое
самоотверженное
чувство
Дженни
вызван о
ее
у бе
ждением
в
возможности
сочетания
д вух
мир ов
и
их
ко нт акта
посредством
ни чем
не
победимой
взаимной
любви:
И
когда
з араза
мине т,
Посети
мой
бедный
прах;
А
Э дмонда
не
покинет
Дженни
даже
в
н еб есах! (V, 415).
Это
созвучно
лирическим
мотивам
«Сельского кладбища»
Жу
ковского
и
намечает
тем у
загробной
связи
любящих
д уш.
Но
проследим
за
дальнейшим
развитием
действия.
Хо тя
Председатель,
поблагодарив
«задумчивую»
Мери
за
«жалоб
ную
пе с ню», называет песню « ун ылой
и
приятной», он не может
принять
поз ицию
ее
ли р ическо й
героини.
Заключительные
слова
гим на
Вал ь синг ама
пр едла гаю т
другой
в ари ант
человеческого
поведения
пе ред
лицом
смерти:
Бокалы
пе ним
дружно
мы,
И
девы-розы
пье м
дыханье,—
Быть
м ожет. ..
полное
Чу мы ! (V, 419).
В
словах
Пр едседат еля ,
сл еду ющих
за
песней
Мери
и
св я
за нных
с
ней,
сле ду ет
выделить
од ну
дет аль :
..
.Н ет,
ничто
Так
не
пе ча лит
нас
среди
весел ий,
Как
т ом ный,
сердцем
повторенный
звук! (V, 416)—
говорит
Председатель.
Из
этого
сл еду ет,
что
Пр едседате ль
от
носится
к
пе сне
как
к
литературному
явлению,
но
его
отн ош е
ние
к
народной
песне
двойственное:
в о-пер вых ,
будучи
по это м,
он
не
принимает
ее
мыс ли,
а
во-вторых,
как
участник
пира,
он
спосо б ен
чувствовать
отраженную
в
ней
п ечал ь.
Песня
Мери
—
своего
рода
«произведение в произведении»
и,
как
таковое,
играет
немалую
роль
в
хар акт ери ст ике
и
психологии
отдельных
героев.
Способность
Пр едс едат еля
к
«повторению сердцем том
ного
звука», т.
е.
к
восприятию
и
внутреннему
«повторению»
лите ра ту рной
«печали» «среди веселий», свидетельствует о его
человеческом
величии
и
о
высокой
степени
его
внутренней
св о-
2 Заказ No 299
17
боды,
не
зависящей
от
вне ш них
обстоятельств,
от
угрозы
смерти.
«Жестокая», по словам Председателя,
ревнивая
Луиза,
на
первый
вз гл яд,
не
обращающая
внимания
на
царящую
вокруг
смерть,
не
спосо б на
к
пониманию
чужой
боли
и
переживанию
о тра же нных
в
литературном
произведении
чувств.
По
ее
рев
нивым
и
недоброжелательным
по
отношению
к
Мери
словам
Ва ль синг ам
ск ло нен
предполагать
в
ней
«мужское сердце», но,
когда
она
падает
в
обморок,
выявляется,
чт о:
.. .нежного
слабей
жестокий,
И
страх
жи вет
в
душе,
страстьми
т оми мой ! (V, 417).
Зат ем
с леду ет
гим н
Председателя.
Тепер ь
становится
ясн ым
псих оло ги зм
комментирующих
пес ню
Мери
слов
Вальсингама.
А
в
споре
со
Священником
вы яв ля ется,
что
Ва льс ингам ,
на
шедший
уб ежище
в
веселом
пире,
бежит
не
от
угрозы
смерти,
а,
ско р ее,
от
своих
внутренних
с тр ада ний,
вызванных
потерей
бл изких :
нежно
любимой
им
жены
Матильды
и
ма тери .
Но
в
весел ом
пированье
он
не
может
полностью
забыть
св ою
пе
чаль,
и
в
то
же
время
наряду
с
этими
чувствами
в
его
душе
во зника ет
чувство
пр о теста
против
судьбы.
Значит,
Вальсин-
гамом,
с тавши м
поэтом
накануне
ночью
.. .Прошедшей
ночью,
как
расстались
мы.
Мне
ст ран ная
нашла
охот а
к
рифмам
Впервые
в
ж из ни! .. (V, 418),
руководит
в
первую
оч е редь
то
же
чувство
негодования
из-за
недостойной
человека
судьбы,
какое
мы
отмеч ал и
в
его
же
словах
о
песне
Мери.
В
репликах
Вальсингама
после
пе сни
Мер и
мы
различали
несколько
сосуществующих
оттенков
чу в
ств а
и
мысли
(негодование,
бо язнь
страдания
и
печали,
но
в
то
же
время
неж ела ние
забыть
в
веселье
пира
о
своей
потере
и
поэтому
стремление
к
«переживанию сердцем»
выраженной
в
народной
песне
п еч али).
Так
и
здесь ,
в
г имне
П р едсед ател я,
звуч а щем
в
первую
очередь
гимном
человеку,
страстным
утвер
ждением
его
достоинства,
мы
также
находим
разные
оттенки
чу вс тва,
сопутствующие
его
глав н ой
мысли.
Но
прежде
чем
начать
более
подробный
анал из
гимна
и
сл еду ющег о
за
ним
спора
Валь си нг ама
со
Св яще нн иком,
мы
хотели
бы
отметить,
что
в
от л ичие
от
многих
исследователей
п уш кинско го
произве
дения,
мы
не
сч ит аем
грандиозный
гимн
центром,
вершинной
точкой
маленькой
трагедии,
а
толь ко
одним,
хотя
и
оче нь
важ
ным
элементом
вне шне го
и
внутреннего
развития
драматиче
ского
конфликта.12
Мы
хотели
бы
прежде
всего
отметить
с ле
дующее:
хотя
ги мн
Вальсингама,
особенно
3-я
его
ст ро фа,
и
об нару ж ивает
некоторую
схожесть
с
гим ном
Пр едседат еля
в
трагедии
Вильсона,
идеи
дв ух
гимнов
так
различны
и
худо
ж ест венн ая
мысль
Пушкина
так
оригинальна,
что
ссылка
Пу ш
к ина
на
вильсонову
трагедию
пр едст авля ет ся
чут ь
ли
не
мисти
фикацией.
В
вильсоновой
трагедии
гим н
Пр едседат ел я
состоит
18
из
п яти
строф,
которые
картиной
гибели
в
морском
сражении
д вух
флотов
во
время
бури,
сражения
между
дву мя
армиями
в
горах
и
картинами
«настоящей смерти»,
представляемой
«Королем смерти»
—
чумой,
напоминают
аналогичные
мотивы
в
пуш к инск ом
произведении.
Но
художественное
значение
этих
мотивов,
поэтическая
функция
двух
образов
в
структуре
двух
произведений
разные.
В
гимне
Председателя
в
трагедии
Виль
сона
тоже
им ее тся
некоторый
положительный
оттенок
по
отно
шению
к
смерти,
напоминающий,
с кор ее,
к ар тины
из
серии
Голь
б ейна
«Пляски смерти»
или
же
вызывающий
в
памяти
поним а
ние
смерти
в
некоторых
местах
у
Державина
—
как
последней
ин ст а нции,
как
залог а
возможности
более
справедливой
оце нки
человека,
чем
оценка,
основывающаяся
на
по ня тии
земного
величия
и
общественной
иерархии.
У
Державина
угрожающий
образ
смерти
ча сто
выполняет
фу нк цию
пре дупр ежд ения
власть
имеющим:
перед
смертью
все
люди
равны.
Так
и
ги мн
П ред се
дателя
у
Вильсона
з аканч и вает ся
упоминанием
о
смерти
благо
творной,
приводящей
к
бо л ьшей
справедливости
в
жизни.
Сх одн ый
моти в
у
Державина
звучит
более
отвлеченно,
у
Вильсона
он
имеет
более
практическое
зна чен ие:
со
смертью
богатого
и
старого
купца
д еньги
попадают
к
нуждающимся
в
них
молодым
людям,
со
смертью
старого,
ненавистного
мужа
молодая
вдова
свободна
св яза ть
св ою
жизнь
с
жизнью
мол о
дого
любовника,
и
т.
д .13
У
Пушкина
нет
ничего
подобного.
Гимн
Пр едседат еля
дей
ств ител ь но
представляет
собой
гимн
Человеку.
В
предпослед
ней ,
пятой
строфе
гимна
В аль синг ама,
которая
сл еду ет
за
стро
фой ,
на чина юще йся
словами
«Есть упоение в бою ... »,
мы
ч ит аем:
..
.Все,
все,
что
гибелью
гроз и т,
Для
сердца
смертного
таит
Неизъяснимы
наслажденья
—
Бессмертья,
может
быт ь,
залог!
И
счастлив
тот,
кто
средь
волненья
Их
обретать
и
ведат ь
мо г.
И
дал ее:
Итак ,—
хвала
т ебе,
Чума,
Нам
не
с тра шна
могилы
тьма,
Нас
не
смутит
твое
призванье!
Бо калы
пе ним
дружно
мы,
И
девы-розы
пь ем
дыханье,—
Б ыть
может...
по лное
Ч умы! (V, 419).
Содержание
пятой
строфы
гимна
М.
Ц вета ева
называет
«кощунственным».
П оним ая
«неизъяснимы наслажденья»
как
декадентское
«наслаждение уничтожением», М.
Цветаева
пи
ше т: «.. .Какого
бессмертия?
В
боге?
В
таком
соседстве
один
звук
этого
сл ова
дик.
Залог
б ессме р тия
самой
природы,
с амих
стихий
и
нас,
поскольку
мы
—
они,
она
—
строка,
если
не
ко
щунственная,
то
явно
языческая...
В
чем
кощунство
песни
2*
19
Вал ьси нгам а?
Х улы
на
бога
в
ней
нет,
толь ко
хва ла
Чуме.
А
есть
ли
сильнее
кощунство,
чем
эта
песня?
Кощунство
не
в
том,
что
мы,
со
страха
и
отчаяния,
во
вр емя
Чумы
—
пируе м
(так дети,
со
ст р аха,
смеются!), а в том,
что
мы
в
песне
—
апогее
Пира
—
уже
утратили
с трах,
что
мы
из
кары
делаем
—
пир,
из
ка ры
дел аем
—
дар ,
что
не
в
страхе
бо жием
растворяемся,
а
в
блаженстве
уничтожения.
Если
(как тогда верили все,
как
верим
и
мы,
читая
Пуш
кина)
Чум а
—
во ля
божия
к
нас
покаранию
и
пок о ре нию,
то
есть
именно
бич
божий.
Под
бич
бро сае мс я,
как
лис тва
под
луч,
как
листва
под
дождь.
Не
радость
уроку,
а
радость
уд ару.
Чистая
радость
удар у
как
таковому.
Радость?
Мало!
Бл аженст во ,
равного
которому
во
всей
ми
рово й
поэ зии
не т.
Бл аженст в о
полной
отдачи
сти хи и,
будь
то
Любовь,
Чума
—
или
как
их
еще
зо вут ».14
Такое
понимание
гимна
Вальсингама
не
исключает
возможности
д а льне йшего
толкования.
Как
мы
видели,
зде сь
все
пс ихо ло гично ,
сло ва
Пр едседат еля
определяются
доминантой
его
психо ло гич еск ог о
состояния:
негодованием
и
бунтом
против
подавляющей
и
уни
чтожающей
человека
вражеской
с илы
слепого
рока.
Пы тая сь
уг а дать
значен ие,
логику
об раза
«бессмертности»
смертного,
перед
угрозой
гибели
нашедшего
«неизъяснимы наслажденья»
в
своем
с ер дце,
формально
можно
прийти
к
выводу:
пережива
ние
смерти,
ее
мужественное
и
тве рд ое
приятие
мож ет
быть
д олей
только
смертного
человека,
и,
таким
образом,
в
наи
большей
и
глубочайшей
проблеме
каждого
живого
существа
бессмертные
б оги
не
в
состоянии
участвовать.
Здесь
к рое тся
огромная
возможность
для
проявления
чи сто
человеческого,
но
достойного
бессмертных
существ
в ел ичия.
Не
от казыв аяс ь
от
подобного
вывод а,
мы
хотели
бы
предложить
и
другое
понима
ние
гимна,
в
свете
которого
мы
представляем
себе
и
тол ко ва ние
остальной
части
произведения.
По
словам
Валь си нг ама, «счастлив тот,
кто
ср едь
волненья
неизъяснимы
на сл аж день я» «обретать и ведать мог» .
Здесь
поэтическая
пр авда
поэта,
на строи вше г ося
на
чужую
грусть,
на
ч ужой,
общий
страх,
и
сопротивление
парализующему
сво
бодн ую,
живую
ду шев ную
жизнь
пок а
еще
живого
человека
«дуновению Чумы» .
Поэтому
Пр едседат ел ь
с чита ет
достойной
бессмертия
победой
человека
то,
что
он
не
поддается
общему
с траху,
а
«среди волненья»
находит
в
себе
мужественную,
сво
бодн ую
душу,
открытую
л юбви
и
дружбе.
Душевное
возрожде
ние,
осв обож ден ие
ду ши
от
комплексов
и
возрождение
для
чув с тва,
не
входит,
однако,
в
«телеологию»
гимна
Председа
теля.
Ст ав
«поэтом»
благодаря
принуждающей
си ле
внутрен
н его
негодования,
и
вопл ощая
это
негодование
в
художе
ственном
пр о изв едени и,
он
сам
еще
далек
от
во зро жд ения
свободного
и
не винног о
чу вств а
любви.
20
Внутреннее
негодование,
побудившее
Вальсингама
к
напи
санию
гимна,
понимаемого
нами
не
как
выражение
бл ажен ст ва
уничтожения,
а
как
сопротивление
«бичу божию»
—
это
лите
ра ту рный
ответ
на
песню
Мери.
«Жестокая»
Луиза
не даром
называет
Мери
«слезливой»:
Мери
в
о т личие
от
Председателя
не
спосо б на
понять
ею
же
испо л няему ю
песню,
отождествляя
свою
судьбу
с
отраженной
в
песне
судьбой
людей:
она
становится
сентиментальной
(Пред
седатель
имеет
полное
право
назвать
ее
песн ю
«жалобной»),
потому
что
ей
немного
жаль
и
себя,
т.
е.
сюжет
песни
она
п ере
жи вает
с
собственной
горестной
точки
зре ни я:
...Они
свою
любили
слушать
М ери;
Самой
себ е
я,
кажется,
в нимаю,
П оющей
у
родимого
порога.
Мой
голо с
слаще
был
в
то
время:
он
Был
голосом
н еви нн ости
(V, 416).
А
перед
нами
свирепство
смерти,
жизнь
кучки
людей
на
краю
пропасти,
кризисное
положение
чел о ве ческих
ценностей.
Старые
ценности
потеряли
св ою
д ей ственну ю
моральную
силу,
но вых
еще
не т,
и
это т
вакуум
представляет
собой
не
только
фон
к
кон ф ли кту,
но
и
действенную
психологическую
мотивацию
поступков
и
м ыслей
д ейств у ющих
лиц.
З десь
нет
прямых
соот
в етств ий
лир ике
юного
Лермонтова,
да
их
и
не
может
быть,
по
тому
что
она
со вер шенн о
неизвестна,
но
есть
эмоциональное
созвучие
ее
общему
духу.
Д ра мати ческ ий
конфликт
достигает
своего
апогея
после
по
я вл ения
Священника.
Священник
з нает
од ну
систему
ценн ост ей
и
пр ед лаг ает
ее
пирую щим
как
спаси тел ьн у ю.
Слова
Свящ е н
ника
посл е
песни
Мери
опять
на пом ина ют
о
возможности
со че
тания
д вух
миров:
Я
заклинаю
вас
святою
кровью
Сп асит ел я,
распятого
за
нас:
Прервите
пир
чудовищный,
когда
Желаете
вы
встретить
в
небесах
Утраченных
возлюбленные
души
(V, 420).
Эти
с лова
недалек и
по
смы слу
от
стихотворения
Ж уко вс кого
«Человек»:
Тв ой
рай
и
ад
в
тебе!. ..
брань,
бр ань
тв оим
страстям!
—
Пе ред
тоб ой
отверст
б ессме ртью
ве чный
храм;
Ты
смер ти
сломи шь
серп
м ог учею
рукою,—
Могила
—
к
вечн ой
жизни
путь.
«Правда»
Священника,
т.
е.
правда
религиозно-смиренного
приготовления
к
смерти
неприемлема
для
Вал ь синг ама;
его
требованиями
к
жизни
рук овод ят
не
обстоятельства,
а
влечение
молодости:
Дома
У
нас
печальны
—
юность
любит
радость
(V, 420).
С вященн ик,
стараясь
повлиять
на
Вальсингама,
напоминает
то му
сцену
недавней
смерти
его
мате ри,
и
наряду
с
эт им
вводит
21
и
новую
перспективу,
заставляя
Председателя
смотреть
с
не
бесной
точки
зрения
на
св ои
поступки;
Иль
думаешь,
она
теперь
не
плачет,
Не
плачет
горько
в
самы х
небесах,
Взирая
на
пи ру ющего
сын а,
В
пи ру
разврата,
сл ыша
го лос
твой,
Поющий
б ешен ые
песни,
между
Мольбы
святой
и
тяжких
воздыханий?(V,421).
В
своем
ответе
Вальсингам
отвергает
предложенную
Свя
щенником
возможность
спасения:
.. .Тень
матери
не
вызовет
меня
Отселе,—
поздно,
слышу
голос
твой,
Мен я
зовущий,—
признаю
усилья
Мен я
сп аст и...
старик,
иди
же
с
миром;
Но
прок лят
будь,
кто
за
тобой
пойдет!(V,421).
Но
по сле
этого
следует
гла вн ый
д овод
Священника:
Матильды
чис тый
дух
т ебя
з овет ! (V, 422).
Эти
слова
зас тав ляют
вспомнить
ситуацию,
созданную
в
сти
хотворении
Жуковского
«Голос с того света» .
Из
заключающих
спор
ответных
слов
Председателя
яв ствуе т,
что
упомянутая
Св ященн ико м
точка
зрения
любимых
и
потерянных
близких,
обитающих
в
ино м
мире,
по
существу,
не
чужда
и
Вальсингаму,
она
яв ляе тся
как
бы
вторым,
до
сего
момента
«героически-н аси ль ств ен но »
подавленным
внут ре нним
голосом
его
совести
и
души.
Но
человеческое
ве ли чие
Вальсин
гама
заключается
именно
в
том,
что
он
не
мог
в
се бе
оконча
тельно
побороть
этот
второй
го лос
души,
пр иве дший
его
к
внут
реннему
смятению,
столь
значительно
отличающему
сознание
чело век а
Вальсингама,
оставленного
в
конце
трагедии
од ин
на
од ин
со
своей
в
человеческом
масштабе
неразрешимой
пробле
мой,
со
своими
ра зм ышле ниями
и
страданиями,
от
поэта
Вал ь
сингама,
сверхчеловека,
в
сопротивлении
и
бунте
обретающего
сво е
демоническое
бессмертие.
Ответные
с лова
В аль синг ама
свидетельствуют
о
том,
что
ему
самому
не
чу ждо
ощущение
с вязи
земли
и
н еба, «нашего»
и
потустороннего
миров:
О,
если
б
от
очей
ее
б ессмертны х
Скрыть
это
зрелище!
Мен я
когда-то
Она
считала
чистым,
гор ды м,
вольным
—
ч
И
зн ала
рай
в
объятиях
моих..
.
Где
я?
Святое
чадо
св ета!
виж у
Те бя
я
там,
куд а
мой
падший
дух
Не
досягнет
уже...
(V, 422).
Герой
маленькой
тра ге дии
ок азыв ает ся
в
положении
ли
рического
ге роя
стихотворения
Жу ко вско го.
И
появляется
в оз
можность
взглянуть
на
«Гимн Чуме»
с
ино й
точки
зр ени я.
Слова
В аль синг ама
(«скрыть это зрелище») свидетельствуют о пере
оценке
своей
прежней
по зиции.
Перед
его
требовательной
со
вестью
—
как
и
пе ред
«ее бессмертными очами»
—
выясняется,
22
что
поэтическая
«правда»
его
ги мна
не
есть
абсолютная
правда.
Ко гда
Ва ль синга м
отвергает
пре дл ожение
Священника
сле
довать
за
ним ,
он
это
делает
не
только
повинуясь
тре б ованиям
жи зни
(«юность любит радость»), но,
бы ть
может,
ст ар аясь
остаться
тем
«чистым,
гордым,
во ль ным», независимым от при
теснений
рока
человеком,
каким
«она считала»
его.
Поэтому
он
и
не
способен
изм ен ить ся,
да же
во
имя
небесной
их
встречи,
измениться
в
предложенном
С вящен ни ком
см ысл е.
Но
В аль-
сингаму,
б ывш ему
когда-то
«чистым,
гордым,
вольным», т.
е.
жившему
полной
жизнью,
нельз я
о ст авать ся
таким
же,
вед ь
условия,
сформировавшие
его
таким,
по
существу,
изменились:
для
не го,
в
отличие
от
пиру ющ их
товарищей,
важ но
не
сви ре п
ство
чу мы
и
угроза
смерти,
а
в
первую
очередь
отсутствие
Матильды.
На
это
он
реагирует
своим
-гимном,
своим
бунтом,
формой
которого
является
п ир.
П ир,
однако,
для
Вал ь синг ама
им еет
и
дру гое
зн ачени е:
возможность
самообмана,
ил л юзии
встречи
с
умершей
возлюбленной.
В
первом
своем
ответном
монологе
он
говорит:
.. .Я
здесь
уд ерж ан
Отч аянье м,
воспоминаньем
стра шны м,
Сознаньем
беззаконья
моего,
И
ужасом
той
мертвой
пустоты,
Которую
в
моем
до му
встречаю
—
И
новостью
сих
бешен ых
веселий,
И
благодатным
ядо м
этой
чаши,
И
л аска ми
(прости меня,
г ос подь)
Погибшего,
но
милого
созданья...
(V, 421.— Выделено
мной.—
Т.
Б .).
В
таком
смысле
следует
понимать
и
его
тайно-загадочные
сл ова
пе ред
песней
Мери:
Спой,
Мери ,
нам
уныло
и
протяжно,
Чтоб
мы
п отом
к
веселью
обр а тил ись
Безумнее,
как
тот,
кто
от
зе мли
Был
отв леч ен
каким-нибудь
виденьем
(V, 414).
Приведенные
в ыше
слова
Вальсингама
о
его
желании
«скрыть это зрелище» «от очей ее небесных»
указывают
на
то,
что
в
нем
самом,
в
его
душе
тоже
ест ь
про тиво поло жная
его
поведению
и
■основному пафосу « гим на»
оц ен ка,
полностью
разделяющая
моральную
правоту
оц енки
с
высоты
«очей ее
не бе с ных».
Это
з на чит,
что
если
в
глазах
умершей
Матильды,
т.
е.
перед
собственной
совестью
и
самооценкой,
он
хочет
остаться
«чистым,
гордым,
вольным», то он не может принять
ни
предложенного
священником
религиозного
сп асени я,
ни
ил
люзорно-мечтательного
уто лен ия
своих
страданий,
осуществля
ющегося
«и новостью бешеных веселий», «п благодатным ядом
этой
чаши».
Позиция
лирического
героя
Жуковского
оказалась
неприемлемой.
Трагический
герой
дол жен
остаться
в
одиноче
стве,
непонятном
уже
для
пиру ющ их,
со
своими
ничем
не
во с
23
п о лняе мыми
ут ра той
и
горем.
Пер ед
зрелищем
охватившего
человека
чистого
стр адани я
Священник
склоняет
го ло ву:
«Уходит.
Пир
продолжается.
Пр едседат ел ь
остается,
погру
женный
в
глубокую
заду мчиво с ть» .
Так
сходятся,
разом
достигая
кульминации
и
разрешения,
мно гие
противоречивые
мотивы
и
тем ы
русской
лирики
20—
30-х
годо в.
Примечания
1 Ермаков И.
Д.
Этюды
по
пси хол оги и
творч ес тва
А.
С.
Пушкина.
М.;
Пг„ 1923.
С.
39.
2 См.
об
это м
нашу
ст атью: Nézopont és értékelés Puskin «Belkin
elbeszéleseiben» és «Don Juan kovendége» c. kisdrámajábán//Studia Poética 1.
Szeged, 1980. P . 292—299.
’Альми
И.
Л.
Элегии
Е.
А.
Баратынского
1819—24
гг.//Учен .
зап.
Ленингр.
пе д.
ин-та
им.
Герцена.
Л. , 1961.
Т.
219.
4 Там же.
С.
26—30 .
5 Там же.
С.
26.
6 Гуковский Г .
А.
Пушкин
и
русские
р о м антики.
Саратов,
1946.
С.
10.
7 Жуковский В .
А.
Собр.
с оч.:
В
4 т./Подг.
текста
и
примеч.
В.
В.
Петушкова.
М.;
Л.,
1950.
Т.
1.
С.
26.— Вс е
ссылки
на
это
издание
в
те ксте.
8 Баратынский Е.
А.
Поли.
соб р.
стихотворений.
Л.,
1957. — Все
ссылки
на
это
из да ние
в
тек сте .
9 Пушкин А.
С.
Поли.
со бр.
со ч.:
В
10 т.
3-е
изд.
М. , 1963.
Т.
2.— Все
ссылки
на
это
и здан ие
в
те к сте.
10 Батюшков К.
Н.
Петрарка:
Оп ыты
в
стихах
и
прозе.
М.,
1977.
С.
150—151, 164.— В се
ссылки
на
это
и здан ие
в
тек сте.
11 Wilson, John. The City of the Plague and other poems. Edinburgh;
London, 1816. P. 45—47.
12 Ср.
на пр.:
Ус тюжа нин
Д.
Маленькие
трагедии
А.
С.
Пу ш кина.
М. , 1974.
С.
92—93; Цветаева М .
Мой
Пушкин.
М. , 1967.
С.
223; Ива
нова
Н.
Б.
«Гимн чуме»
и
поэзия
Тю т чева// Йзв.
АН
СССР.
1975.
В ып.
3.
С.
273—275; и др.
13 Wilson, John. The City of the Plague... P . 50—53.
14 Цветаева M .
Мой
Пушкин.
С.
220—226.
Е.
Н.
ГРИГОРЬЕВА
ТЕМ А
СУДЬБЫ
В
Р УССКОЙ
ЛИРИКЕ
ПЕРВЫХ
ДЕ СЯТ ИЛЕТ ИЙ
XIX ВЕКА
В
советском
литературоведении
категория
«судьбы», время
от
времени
входящая
в
литературу
первой
тр ети
XIX в.,
до
не
да внего
времени
трак тов ал ась
как
своеобразный
по эт ич еский
«псевдоним»
социально-исторической
детерминированности
че
ловека.1
Св едени е
тем ы
к
проблемам
узкосоциальным
об ед няло
ее,
так
как
понятие
«судьба»
стан ов ил ось
синонимом
«среды»,
«быта» .
Не
уч иты валс я
философский
аспект
проблемы:
лир иче
ск ая
тема
судьбы
открывает
возможность
поставить
человека
в
прямые
отношения
с
универсальными
стихиями
и
з акон ами
бытия.
А нализир уя
данную
тем у
в
л ирике
Пушкина
и
Жуков
ского,
в
частности,
п редст авл яет ся
возможным
поставить
во
пр ос
о
религиозных
взглядах
дв ух
поэтов.
Понятие
«судьба»
пришло
в
литературу
нового
времени
из
античности.
В
мировоззрении
древнего
гр ека
роль
эт ой
кате
гории
была
огромна.
Исследователь
Гомера
И.
В.
Увар ов
в
статье
1915 г.
писал: «Судьба (для
древних.
—
Е.
Г.)
есть
не что
безли чн о е,
неумолимое,
безжизненное.
Она
есть
п ре дста
вительница
необходимости,
абсолютно
не
за вис ит
ни
от
чьего
произ во ла
и
не
под ле жит
ничье м у
произволу».
Такое
же
пр ед
ставление
встречается
и
в
лирике
предшественников
и
совре
менн ико в
Пушк ина .
Но
если
в
античности,
как
отмеча л
Ува ров,
«на Судьбу можно жаловаться и ее можно оплакивать,
но
с
ней
нельзя
спорить,
ее
нельзя
умо лят ь,
в
сил у
ее
безличности
и
не о пр едел е нно сти »,2 то новое время внесло изменение в такое
отношение
к
судьбе.
В
стихотворении
Пушкина
«Опытность» (1814) возникает
об раз
поэта,
который
отдается
под
покровительство
б ога
любви
Эрота,
про тиво пос тавл яя
его
Парке.
Смерть,
посланная
Па р
ко й,
прервет
те чение
жизни,
но
пока
человек
жив,
наслажде
ни е—
его
единственная
цель.
Никакого
трагизма
в
трактовке
тем ы
здесь
нет ,
он
снимается
иронией.
Такая
позиция
от дел яет
Пушкина
от
его
ближайших
п ред шеств енн ико в.
Батюшков
в
«Моих Пенатах» (1811) утверждает культ наслаждения как
своеобразный
способ
полемики
со
смертью:
П ока
бежит
за
нами
Бог
вр емен и
сед ой
И
губит
луг
с
цветами
©Е.
Н.
Григорьева,
1992.
25
Безж алост ной
косой,
Мой
д руг!
скорей
за
счастьем
В
пут ь
жиз ни
пол ети м;
Уп ье мся
сладострастьем
И
смерть
опередим...3
А
Пушкин
не
устанавливает
со
смертью
никаких
драмати
ческих
отношений.
В
чем-то
Пушкин
с леду ет
зд есь
Державину,
который
в
последней
строфе
оды
«На смерть князя Мещерского»
(1779) снимал весь трагизм описанной им ситуации:
Сей
день,
иль
завтра
ум ер еть,
Перфильев!
должно
нам
конечно,—
Почто
тер зать ся
и
скорбеть,
Что
смертный
друг
твой
жил
не
вечно?
Жизнь
ест ь
н ебес
мгн овен ный
дар ;
Устрой
ее
себе
к
покою,
И
с
чистою
тво ей
душею
Бл агосл овля й
судеб
удар.4
Со в паде ние
Пушкина
с
Державиным
показательно,
но
ду
мается,
что
истоки
аналогичной
поз иции
у
двух
поэтов
совер
шенно
раз лич ны.
Литературоведы
неоднократно
у каз ывал и,
что
в
тв орч ест ве
Державина
вп ерв ые
в
русской
литературе
возни
кают
предромантические
тенденции,
так
как
он
первым
из
русс ки х
поэтов
изобразил
человеческую
личность.5
Это
бес
спорно,
но
при
этом
мировоззрению
Державина
сво йст венны
как
бы
дв а,
пока
еще
дос таточн о
автономных
д руг
от
др уга
уровня:
некий
абсолютный
и
никак
не
связанный
с
человеком
уровень
высших
сил
бытия
(Бога,
Судьбы,
всеобщего
мир ово го
закона
жизни
и
смерти)
и
и ной,
собственно
человеческий
уро
ве нь,
где
живет ,
ст радает ,
радуется
и
—
н епр ем енно
—
покоря
е тся
закону
высшему
человеческая
личность.
Между
этими
двумя
уровнями
у
Державина
еще
нет
т ого
драматического
напр я жени я,
без
которого
не возм ожно
представить
се бе
роман
тическое
сознание.
Отс юда
в озмо жно сть
недраматического
ре
шен ия
темы
судьбы.
Но
если
в
державинском
творчестве
еще
нет
тех
мучительных
противоречий,
из
которых
с о ткано
роман
ти ческо е
сознание,
то
П у шкин,
уже
прошедший,
вернее,
прохо
дящий
школу
романтизма,
не
мог
не
з нать
этого
др ам атизм а,
и,
зн ачи т,
основания
его
поз иции
не
мог ли
совпадать
с
держа
винскими.
Однако
жанровая
пр иро да
дружеского
послания
не
способствовала
выявлению
это й
пушкинской
по зиции,
потому
что
жанровая
сфера
послания
захватывала
лиш ь
тот
уровень,
который
в
наших
рассуждениях
о
Державине
обозначен
как
уровень
собственно
ч ел о веч еский.
Д ружес кое
послание
еще
не
з нало
тогда
прорыва
к
высшему,
универсальному
уровню,
по
этому
ранний
Пушкин
с
легкостью
у сваивает
ту
свободу
тона,
иронического
отношения
к
теме,
которая
б ыла
сво йс твен на
Батюшкову
в
этом
жанре.
Но
заметим,
что
Пушкин
не об ыч айно
заостряет
иронические
повороты
тем ы.
Например,
в
стихотво-
26
рении
«Блаженство» (1815) на вопрос « Как
могу
б орот ься
с
р ок ом ?» следует ответ:
Миг
б лаже нст ва
ве к,
л ови;
Помни
дружбы
наставленье:
Без
в ина
здесь
нет
в есел ья,
Нет
и
счастья
без
любв и ...6
А
«Могущий рок,
в селенно й
властелин»
из
неоконченной
поэмы
«Монах»
.
. .весь
день
был
на
работе,
И,
весь
в
жару,
в
грязи,
в
пыл и
и
в
поте,
Предупредить
сп ешил
восход
луны
(I, 24).
Переосмысление
традиции
здесь
явн о
травестийное,
на
грани
издевки.
Для
в сех
п оэт ов- роман тик ов
бы ла
чрезвычайно
важна
те ма
судьбы
поэта,
являвшаяся
ответвлением
основной
философской
темы.
Батюшков-поэт
уходил
от
трагедии
бытия
в
меч ту,
кото
рая
да вала
ему
относительную
сво б оду
от
сил
судьбы
(«Мечта», 1803).
Одн о
из
ранних
стихотворений
Жу ко вског о
«К поэзии» (1804) перекликается с «Ме чтой».
В
т екст ах
этих
дв ух
ст ихо т во рений
есть
п очти
дословные
совпадения.
Жуков
ский,
обращаясь
к
поэ зии:
Чу дес ный
дар
богов!
О
пламенных
сердец
в есел ье
и
люб овь ,
О
прелесть
тихая,
души
очарованье
—
Поэзия!
С
тобой
И
скорбь,
и
нищета,
и
мрачное
изгнанье
—
Теряют
ужас
свой!
7
Батюшков,
для
которого
М ечта
в
данном
случае
в
сущности
синоним
поэтического
вооб р аж ения:
О
с ла дкая
мечта!
О
не ба
дар
благ ой !
Средь
дебрей
каменных,
средь
ужасов
природы
В
краях
изгнанников...
Я
счастлив
был
с
тобо й
(228).
При
таком
явном
сходстве
инт ер есно
проследить
моменты
различия:
пок а зат ел ьно,
что
в
тексте
Батюшкова
понятие
«судьба»
ни
ра зу
не
упоминается,
тогда
как
Жуковский
прямо-
вводит
его
в
текст
стихотворения:
Друг
Феба,
с
ясною
душей
В
убогой
хижине
своей,
Забывший
рок ,
з а бвенный
ро ко м,—
Поет,
мечтает
и
—
блажен! (37).
Герой
Жу ковс ког о
—
не
только
«забвенный»
роком,
но
и
за
бывший,
отринувший
его.
Сила
поэта
так
ве лика ,
что
ему
не
ну жно
«унижением Фортуну обольщать», так как « С тезя
к
бе с
смертию
судьбой
от кр ыта
на м!».
27
Пу шкин ский
поэ т
об ладает
не
мен ьше й
свободой,
чем
герой
Жуковского.
В
мечтах
все
ра дос ти
земные!
Судьбы
всемощнее
поэт
(I, 182) —
восклицает
он
в
«Послании к Юдину».
Такое
совпадение
по
зици й
лирических
героев
раннего
Пушкина
и
Ж уко вско го
ка же тся
неслучайным.
Попытаемся
выяснить,
каковы
основа
ния
эт их
сходных
трактовок
и
в
какой
то чке
в нешн ее
сходство
оборачивается
глубоким
и
принципиальным
различием.
В
своем
ан ализ е
мы
будем
иметь
в
вид у,
что
трак тов ка
тем ы
судьбы
в
творчестве
Батюшкова
пр едстав ляет ся
наиболее
бли зко й
к
собственно
античным
пр ед ст авле ниям
и
мож ет
служить
не ким
традиционным
ф оном
для
решений
его
ближайших
современ
ник ов
и
последователей.8
В
знаменитых
элегиях
Ж у ковс кого
«Сельское кладбище»
(1802), «Вечер» (1806) образный строй,
ка за лось
бы,
совпадает
с
эл егия ми
Ба т юш ко ва : «всемощная судьба», «рок судил»
—
узнаваемая
лексика,
да
и
по
мысли
Жуковский
зде сь
как
будт о
повторяет
Батюшкова.
Но
уже
в
эт их
произведениях
мо жно
найти,
в
сущности,
совсем
иную
ра зработ ку
темы.
Всемощныя
су дьбы
незыблемы
ус та вы:
И
путь
величия
ко
гробу
нас
ведет !
—
восклицает
Жуковский
в
«Сельском кладбище», и это воскли
цание
вполне
может
б ыть
пер енесен о
в
элегии
Батюшкова,
но
в
этом
же
тексте
оказывается,
что
юный
поэ т
—
герой
элегии
Жу ковс ког о
—
оставил
на
земле
вс е , «что в нем греховно было,
/С надеждою,
что
жив
его
спаситель
—
бог » (33).
В
элегии
две
точки
зрения
на
глобальные
проб л емы
бытия,
на
жизнь
и
см ерт ь:
тре пе щущее ,
мечущееся
человеческое
со зна ние:
И
кто
с
сей
жизнию
без
го ря
ра сставался ?
Кто
прах
свой
по
се бе
забвенью
п редавал?
Кто
в
час
последний
свой
сим
м иром
не
пленялся
И
взо ра
томного
назад
не
о бр ащал? (31).
И
высшая
мудрость,
которую
дает
христианство:
Л юбов ь.
..
Окрест
библейскую
мораль
изобразила,
По
к оей
мы
должны
учиться
уми рат ь
(31).
Важно
здесь
это
«должны учиться» .
Не
умеем,
не
можем,
но
долж н ы.
Эти
кол ебан ия
между
эмоциями
слабого
человека
и
христианским
долгом
(не навязанным,
но
глубоко
и
иск ренне
принятым)
будут
характерны
для
всего
р ешен ия
тем ы
судьбы
в
творчестве
Жуковского.
Батюшкову
удавалось
противопоставить
судьбе
любовь,
по
эзию,
дружбу
—
но
эта
весьма
ограниченная
свобода
л ирич е
ского
ге роя
от
сил
судьбы
была
мотивирована
либо
жанровыми
р аз личия ми,
ли бо
особым
миром,
в
котором
разве ртыв алась
т ема
(«Таврида»), либо,
наконец,
противостояние
б ыло
смя г
28
чено
неназыванием
сил
судьбы
(«Мечта»), В элегии «В е ч ер»
(1806) Жуковский как бы вослед Батюшкову пишет:
Мне
рок
судил:
бре сти
неведомой
стез ей ,
Быть
другом
мирных
сел,
любить
красы
природы,
Д ышать
над
сумраком
дубравной
тишиной
И,
взор
склонив
на
пенны
воды,
Творца,
друзей,
любовь
и
сч а стье
воспевать.
О
песни,
чи стый
плод
неви нн ости
сердечной!
Бл ажен ,
ко му
да но
цевницей
оживлять
Ч асы
сей
жиз ни
ск оротеч ной! (49).
В
кон тек сте
данного
стихотворения,
да
и
вообще
творчества
Ж уко вск ого,
состояние
б лаж енст ва
гер оя,
услышавшего
голос
рока,
о казыв аетс я
ест ест венным
и
закономерным;
он
потому
и
блажен,
что
ему
открылось
веление
рок а.
Т р адиция
п од разу
мевал а,
что
рок
всегда
ос уж дает
человека
на
горести,
испыта
ния ,
пот е ри.
На
фо не
этой
традиции
«осуждение»
героя
на
не
ведомый
остальному
мир у
пут ь
дружбы,
л юбви,
наслаждения
природой,
благодатную
тишину
тво рче с тва
выглядит
не
то лько
неожиданным,
но
воспринимается
как
своеобразный
парадокс.
Самое
п он ятие
рок а
здесь
совсем
не
античное,
се ман тич ески
оно
скорее
бли же
к
христианскому
Пр о виден ию.
Такое
же
смысловое
наполнение
находим
и
в
стихотворении
«Человек»
(1802).
В
сущности,
и
здес ь
работает
та
же
схема.
Страша
щийся,
часто
ропщущий
че ло век
и
христианский
мыслитель
—
вот
два
полюса,
с
которых
ид ет
оценка
бытия
и
самого
закона
жизни,
судьбы,
рока.
Но
в
данном
случае
эти
позиции
р езко
противопоставлены
и
первая
категорически
осуждается:
В
страданиях
своих
ты
не бо
ук оряе шь
—
Творец
тво й
не
тиран:
ты
стр аж дешь
от
себя;
Он
благ:
для
счастия
он
в
мир
п ризва л
те бя;
Из
чаш и
радости
ты
гор ест ь
вы пив ае шь:
Ужели
рок
виновен
в
том?(27).
Лирическое
«я»
Жуковского
в
данном
тексте
становится
судьей,
обвинителем
человеческих
за блу ждени й.
В
монологе
звучат
мысли
и
определения
судьбе,
року,
которые
в
дальнейшем
будут
присущи
Баратынскому
(«Судьба
—
невид им ый,
бесчувствен
ный
т и ран ,¡Необоримая
ко
счастию
преграда»; «Игралище
судьбы,
волнуемый
стра стям и,/Как ярым вихрем лист,
—
ужас
ный
жребий
твой/Бороться
с
горестью,
болезньми
и
соб ой!» —
с.
26 (выделено мной.
—
Е.
Г.) ).
Жуковский
как
будто
пред
чувствует
тот
ад
рефлексии,
в
который
п огр узи тся
Баратын
ский,
и
ви дит
во зможн о сть
выхода
из
не го:
от каз
от
страс тей
(что полностью совпадает с Баратынским)
и
вер а
—
вот
п уть,
который
настоятельно
пр едл агает
Ж уко вский.
Интонация
«прокурора», знающего закон и требующего подчинения ему,
в
которой
написано
стихотворение,
совсем
не
свойственна
поэт у
и,
по яви вш ись
о днаж ды
в
стихотворении
«Человек», она
никогда
больше
не
во зни кнет.
Жуковский
на чи нает
своей
ли
29
рикой
тот
п уть
а нали за
человеческой
души,
который
продолжат
Пушкин
и
Достое вс кий :
л и риче ский
герой
Жуковского
—
обык
нове нный
человек,
в
душе
которого
есть
и
слабость,
ст рах,
не
доумение
перед
жизнью,
но
есть
и
Бог,
вера,
христианский
стоицизм.
Однако,
как
правило,
д аже
в
рамках
одного
т екста
Жуковский
находит
в озможн ос ть
вы хода
из
состояния
дисгар
монии
или
же
надеется
обрести
его
в
бу ду щем
(«На смерть
А.
И.
Тургенева», 1803).
Этот
мотив
покорности
судьбе
бу дет
х ар акте рен
и
для
ли ри
ков
пушкинского
окружения.
Философствующий
Баратынский,
пыт аяс ь
на йти
возможность
гармонии
в
человеческой
жизни,
скаж ет : «Учусь покорствовать судьбине я своей» .
Для
него
это
не избе жная ,
невольная
покорность.
Тогда
как
ранний
Пушкин
снимает
иро ние й
самую
серьезность
проблемы
(«Послание
к
Гал ичу », 1815).
Развитие
этого
мотива
в
стихотворениях
«Платонизм» (1819), «Товарищам» (1820) приводит к тому,
что
готовность
бы ть
послушным
своей
судьбе
ок азыв аетс я
у
Пушкина
условием
н езав исимо сти .
В
о тл ичие
от
Баратын
ского,
Пушкин
готов
следовать
судьбе
по
доброй
воле,
а
по
то му
в
эт ой
покорности
нет
ни каког о
трагизма.
Ве дь
судьба
совсем
не
ограничивает
свободы
поэта,
на
этом
эт апе
творче
ства
Пушкина
послушание
судьбе
не
противоречит
ос уще ствле
нию
его
идеалов.
Покорность
судьбе
—
условие
свободы.
Та кая
по зиц ия
была,
видимо,
св язан а
с
философскими
представле
ниями
Вольтера,
как
известно,
оказ авш его
большое
вл ия ние
на
взгляды
юного
Пушки на .
Личная
свобода,
по
Вольтеру, «со
стоит
в
в озможн ости
поступать
согласно
своим
желаниям,
но
ж елан ие
обусловливается
объективной
дейс твите ль н ость ю
пр и
роды,
ее
законами.
Ч ело век
может
«желать»,
но
не
может
«желать желать».9
Для
раннего
Пушкина
тоже
очень
важно
по нятие
закона
—
природного
и
общественного,
согласного
с
природой.
В
свете
вольтеровской
философии
понятна
и
ло
гична
на
первый
взгляд
противоречивая
строка
«Деревни»
(1819): «Свободною душой закон боготворить»...
Для
Пу ш
кина
тут
нет
никакого
противоречия:
св обода
человека
в
п од
чинении
истинному
закону.
Как
мы
видим,
ранний
Пушкин
и
Жуковский
совпадают
в
недраматическом
тоне
решения
темы
судьбы,
но
основания
этих
решений
сов ерш енно
различны.
Для
Жуковского
это
вера.
Пушкин
же
в
эт от
период
так
пр ие млет
жизнь,
что
все
ее
проявления
привлекательны
для
него:
даж е
«в слезах сокрыто
насл аж день е» («Князю А .
И.
Горчакову», 1818).
Такого
пол
ного
приятия
жи зни
мы
не
найдем
ни
у
одного
из
современни
ков
Пуш кин а.
Думается,
что
такая
тракт овка
темы
в
раннем
пуш кинс к ом
творчестве,
с
одн ой
стороны,
определяется
об щими
зако нами
жанра
дружеского
послания
(а лицейский Пушкин
—
прежде
всего
авто р
п ос ла н ий), жанра,
создающего
особый
г ар
монический
м ир,
который
в
той
или
иной
мер е
укр ы вал
от
сил
30
судьбы,
а
с
другой
стороны,
являлась
результатом
особенностей
мировосприятия
юного
Пушкина.
Однако
уже
в
1819 г.
мировосприятие
поэта
мен яетс я.
В
не
оконченном
наб рос ке
«Нет,
не т,
на пра сны
ва ши
пени...»
впер
вые
глубокая
грусть
вы зв ана
не
с лож нос тью
любовного
чув
ств а
или
разлукой
с
любимой
(«Разлука», 1816), но общим
т ечен ием
жизни.
И
сраз у
же
н ам ечает ся
новая
трансформация
темы
судьбы.
Тайные,
неведомые
человеку
«судьбы»
преподно
сят
ему
ча шу
жизни,
но
не
сама
неизвестность
судеб
огор ча ет
поэта,
не
со знан ие,
что
чаша
иссякнет,
а
невозможность
да же
сей час ,
когда
для
н его
«все новы заблужденья»,
отдаться
жизни
полностью,
неизбежность
тяги
сердца
к
мину вше м у.
В
стихотворениях
начала
юж ной
ссылки
осуществляется
по
степенный
переход,
намеченный
в
1819 г .;
судьба
становится
«непримиримой», теперь он не может следовать ей,
добровольно
покоряться
ее
в оле
и
при
эт ом
быть
счастливым.
Тос ка
поэта
по
оставленным
друзьям
оборачивается
тоской
по
уходящей
молодости.
Дальнейшее
движение
лирической
мысли
углубляет
те му
разочарования:
Я
пережил
св ои
желанья,
Я
разлюбил
свои
мечты;
Остались
мне
од ни
страданья
Плоды
сердечной
пустоты
(II, 27).
И
все
это
произошло
«под бурями судьбы жестокой» .
Такая
трактовка
темы
явно
бл изка
Баратынскому.
Геро й
знаме нито г о
«Признания» (1823) разлюбил и говорит об этом холодно и
бесстрастно.
Он
еще
грустит,
.. .но
и
грусть
минует,
зн аменуя
Судьбины
полную
поб еду
на до
мн ой .10
Чу вства
преходящи,
воспоминания
безжизненны,
душевный
пламень
угасает.
И
все
это
предопределено
«всевидящей», на
смешливой
судьбой.
Трагизм
обостряется
тем,
что
п отеря
спо
собности
любить
вы зв ана
не
особенностями
характера
лириче
ского
героя,
не
исключительностью
ситуации,
но
самым
об ыч
ным
и
всеобщим
—
ходом
времени.
Таков
закон
судьбы,
общий
для
всех
л юдей,
и
Бар ат ынск ий
с
ним
соглашается:
Не
властны
мы
в
самих
себе
И,
в
молодые
наши
леты,
Да ем
поспеш ные
обеты ,
Смеш н ые,
м ожет
быть,
всевидящей
судьбе
(101).
Таким
образом,
судьба
у
Баратынского
—
си ла,
отнимающая
у
человека
способность
любить,
радоваться,
убивающая
на
де жды
юности,
приводящая,
в
ко нце
к онцов ,
к
сердечной
пу
стоте.
Совпадение
очевидно.
В
элегическом
творчестве
этого
пери
ода
Пушкин
приближается
к
яр ко
рома нт иче ской
трактовке
темы:
противоречие
между
ид еа лом
и
ре альн ос тью
пережива
ет ся
необыкновенно
ост ро,
а
достижение
и деала
невозможно.
31
Разработка
т емы
теперь
пр едст авл яет ся
как
на хожд ение
неких
вариантов
приспособления,
ненадежного
равновесия,
которого
стремится
достичь
личность,
чтобы
сделать
свое
существование
терпимым,
н айти
в
жизни
некие
ценности,
способные
если
не
укр ыть
от
воли
судьбы,
то
хоть
отчасти
заслонить
человека
от
этой
гнетущей,
разрушительной
силы.
Впрочем,
до
1821 г.
жан р
послания
еще
остается
той
об
ластью,
где
царят
ирония
и
легкость
и
где
тема
судьбы
по-
прежнему
окрашена
шутливым
оптимизмом,
во сп еван ием
чув
ственных
радостей
(«Из письма к Гнедичу», «В .
Л.
Да в ыдов у»,
«Юрьеву»—1821).
Своеобразное
завершение
этого
переход
ног о
периода,
которому
свойственен
«батюшковский»
пр инцип
жанровой
р азра ботки
тем ы,
мо жно
усмотреть
в
философском
послании
«Чаадаеву» (1821), которое напоминает традиционное
дружеское
послание
л ишь
тем,
что
им еет
адр есата .
Послание
«Чаадаеву»
—
это
подведение
неких
и тогов
и
осознанное
рас
ставание
с
юн ост ью.
Ли ри чес кий
герой
Пушкина
приходит
к
мысли
о
необходимости
отк аза
от
страстей.
Эт от
вар иан т
противостояния
судьбе
был
ра зраб отан
в
творчестве
Баратын
с кого:
по кой
может
быть
о бр етен
ценой
отк аза
от
«тишины
сердечной»,
мину ты
которой
б ыли
да ны
поэту
среди
«забав
юности».
Сто и че ская
позиция
о казыв аетс я
ущербной
(Баратын
ский
называл
ее
«покой,
на
с части е
похо жий»), так как она
св язан а
с
сознанием
необходимости
отк аза
от
б езу мств
м оло
до сти
и
тоской
по
тому,
что
им
сопутствует
—
искренности,
све
же сти
чу вс тв.
По-иному
зазвучала
те ма
покорности
судьбе
—
теп ерь
это
не
добровольное
следование
ей,
никак
не
ограничивающее
свободы
личности,
но
един ст венно
возможный
способ
суще
ствования
(«К Овидию», 1821).
П рав да,
в
этой
вынужденной
покорности
н ам ечает ся
некоторое
противостояние
судьбе
—
Пушкин
говорит
о
бессмертии
творений
поэта.
Причем
эта
тр а
диционная
для
дружеского
послания
тема
(см .
«Городок»,
1815) теряет жанровую привычность и звучит,
напо лненна я
эмоционально
подлинным
смыслом.
Покорствуя,
лирический
герой
сможет
надеяться
на
благосклонность
судьбы,
как
это
бу дет
в
неоконченном
наброске,
посвященном
бегству
из
Ми
х ай лов ско го: «Презрев и голос укоризны .. .» (1824).
Или
нахо
дить
утешение
в
закон ах
человеческой
пс их оло гии,
не
менее
универсальных,
чем
законы
судьбы
(«Если жизнь тебя об
манет.
..», 1825).
Тем
не
м енее
очевидно,
что
герой
п уш кинско й
лирики
этого
периода
далек
теперь
от
б е зогляд ного
п рия тия
жизни
и
судьбы.
В
«Телеге жизни» (1823) судьба человека предстает в ряде
картин,
рисующих
юно сть ,
зрелость
и
старость.
С.
Л.
До нс кая
счита ет,
что
в
этом
стихотворении
«человек активно,
по-разному
в
разные
периоды
своего
краткого
пу ти
относится
к
бегу
те
ле ги
ж изн и».11
С
эт им
утверждением
трудно
согласиться:
вр яд
32
ли
Пушкин
хотел
изоб р азит ь
в
«Телеге жизни»
активное
отно
шение
че лове ка
к
действительности,
времени,
истории,
Картина
зде сь
явно
ин ая.
Отношение
человека
к
окружающему
в
раз
ные
периоды
его
жи зни
так
же
пре доп редел е но,
как
и
законы,
по
которым
«ямщик
—
седое
время»
го нит
лошадей.
Недар о м
эта
схема,
по
которой
юности
соответствует
нет ерпение,
ле гко
м ыслие,
зрел ост и
—
трезвость,
старости
—
ж ела ние
покоя,
у
Пушкина
не
допускает
исключений.
Возможно,
именно
по
этому
так
горько
звучит
стихотворение.
Как
пише т
А.
М.
Гу
ре в ич , «Пушкину становится ясно,
что
не
человек
п одчин яет
себе
объективные
законы
бытия,
а,
наоборот,
естественный
и
неизбежный
ход
событий,
„судьба“
п о дчиняет
се бе
в олю
л ич
н о сти».12
Осознание
этого
проходит
через
все
творчество
Пу ш
ки на
20- х
годов,
причем
в
элегическом
жанре,
как
отмечает
В.
А.
Грехнев,
поэтическая
мысль
дви жет ся
от
«конкретно -
исторических
впечатлений
в
гл оба ль ный
и
завершающий
п ла н» .13 Такая трансформация происходит в конце стихотворе
ния
«К морю» (1824):
Мир
опус те л...
Теперь
куда
же
Меня
ты
выне с,
океан?
Судьба
зе мли
повсюду
та
же:
Где
капля
благ а,
там
на
страже
Уж
просвещенье
иль
тиран.
Комментируя
эти
строки,
В.
А.
Грехнев
п и шет: «Итог пушкин
ских
размышлений
над
историей
зву чит
как
безысходная
и
всеохватывающая
и ст ина,
отметающая
даж е
призрак
на
де жд ы».14
Но
последние
строфы
стихотворения
«К морю»
дают
пример
очень
характерного
для
зр ело го
Пушкина
дв ижен ия
поэтической
мысли:
Прощай
же,
море!
Не
забуду
Тв оей
торжественной
красы
И
долго,
дол го
сл ыш ать
буду
Т вой
гул
в
вечерние
часы.
В
леса,
в
пу ст ыни
молчаливы
Перенесу,
тобою
полн,
Тв ои
скалы,
т вои
заливы,
И
блеск,
и
тень ,
и
говор
в олн
(II, 200).
Эти
строки
не
сто ль ко
нейтрализуют
трагический
и тог
пу шкин
ского
ра зо ча ро в ани я , «сколько уравновешивают картину бы
тия ,
и
на
ст ыке
их
с
э тим
и тогом
рождается
образ
особой
пуш
кинской
полноты
жизнеощущения,
которое
с
равной
степенью
глубины
и
силы
восприятия
объемлет
„и
блеск,
и
тень
жи зн и “».15
Такая
неоднозначность
мировосприятия,
способность
почув
ствовать
и
выразить
«лед и пламень»
бытия
становится
едва
ли
не
основной
особенностью
творческой
поз иции
поэта.
В
пер
вых
стихах,
написанных
на
лицейскую
годовщину
(1825), тема
судьбы
звучит
глубоко
оригинально
и
поис т ине
многозначно.
У
современников
Пушкина
судьба
дея те льн а.
Она ,
как
правило,
3 Заказ No 299
33
враждебна
человеку
и
активно
вмешивается
в
его
жизнь.
Пуш
кин
впервые
пр едставл я ет
судьбу
равнодушно-пассивной
си лой:
Увы,
наш
круг
час
от
ча су
ре де ет;
Кто
в
гробе
с пит,
кто
дольний
сиротеет;
Судьба
глядит,
мы
вянем;
дни
бегут;
Невидим о
склоняясь
и
хлад ея,
Мы
близимся
к
н ачалу
своему..
.
(II, 277).
Судьба,
не
вм ешива ясь
в
течение
жизни,
наблю дает
за
ней
как
бы
со
стороны.
Ее
вмешательство
и
не
требуется:
жизнь
тече т
по
раз
и
навсегда
установленным
з ако нам,
они
вечны
и
н еп рел ожны.
Это
пон и мает
и
автор.
Он
не
с пор ит,
так
как
спор
б ессмысл енен,
но
гл убо кая
печаль
слышится
в
этих
строках.
Говоря
пушкинскими
с ло в а ми, «бывают странные сближе
ния»: в 1807г.
В.
А.
Жуковский
в
письме
к
Александру
Ив а
новичу
Тургеневу
писал
по
поводу
смерти
неве ст ы
Андрея
Ивановича
Тургенева,
К.
М.
Соковниной: «Веселись,
брат,
наш
круг
час
от
час у
уменьшается.
Многих
уж
н ет,
а
те,
которые
остались,
ж ивут
розно
и
не
радуются
жизнью.
По
крайней
мере
я
давно
разучился
ею
р адо ват ься.
Что
из
этого
выйдет,
не
знаю ,;
но
смерть
всего
лу чш е ».16 Не будем утверждать,
что
Пу шки ну
мо гло
бы ть
известно
это
письмо,
но
тем
показательнее
это
невольное
словесное
совпадение,
которое
вскрывает
оче нь
серьезные
различия
поз иций
двух
по этов .
Как
мы
попытались
показать,
из
поэтов
пушкинского
окружения
Ж уков ско го
мо жно
было
бы
назв ат ь
наиболее
последовательным
поэтом-христиа
нином.
Пре обл адаю щее
отношение
лирического
героя
Жуков
ского
к
Божьей
воле,
подчиняющей
с ебе
человека,
можно
сфор
мулировать
словами
из
«Светланы»: «Благ зиждителя закон».
Закономерна
поэтому
и
устойчивость
в
лирик е
Жуковского
мотива
радостного
перехода
в
ино й
мир
(см.
«Тургеневу,
в
от
вет
на
его
письмо», 1813).
Человеческое,
частное,
с ию минут ное
всегда
у
Ж ук овск ого
по беждает ся
бо ж еств ен ным,
общим,
ве ч
ным.
В
каж дом
его
стихотворении
речь
ид ет
о
двух
способах
о смы сл ения
жизни
и
ее
законов.
Особенно
показательна
в
эт ом
смысле
элегия
«На кончину ее Величества королевы Виртем-
б ер гск ой » (1819).
Смерть
ю ной
Екатерины
нарушает
естествен
ный
(в человеческом восприятии)
ход
вещей
и
потому
з ако но
мер ен
ро пот
близких,
потрясенных
неожиданной
и
безвремен
ной
кончиной.
Смятение
че лове ка
в
данном
случае,
как
нигде
ранее,
внятно
и
близко
л и риче скому
«я»
Ж ук овс кого.
«Судьба,
сви репый
и стр еб ител ь », унесла жизнь молодой и любимой всеми
женщины.
Это
воспринимается
Жу ковс ким
как
непреложный
закон
земного
мира:
Прекрасное
погибло
в
пышном
свете...
Таков
у дел
прекрасного
на
свете! (315).
Т екст
элегии
сопровожден
подробными
авторскими
ко ммент а
риями,
в
которых
Жу ко вский
воссоздает
реальную
картину
про исшед ш ей
трагедии.
Однако,
обращаясь
к
стихотворению,
34
читатель,
вслед
за
автором,
поднимается
на
такой
уровень
обоб
щ ения,
что
за
конкретной
су дьб ой
встает
вообще
судьба
че лове ка
в
мире,
ситуация
д елае тся
всео бщей,
узнаваемой,
а
от того
еще
более
тр аги че ской
и
безысходной.
Таков а
пер вая
ча сть
эле гии
(15 строф) .
Суд ьба
здесь
—
основная,
резко
враждебная
си ла,
она
не
толь ко
жес то ка,
но
и
коварна:
И
нас
г убя
с
холодностью
ужасной,
Еще
Су дьба
смеяться
любит
нам...
(317).
От
1-й
к
15-й
строфе
ид ет
постепенное
нагнетание
чувства
от
чаянья,
эле гия
выстроена
«крещендо», точкой
«фортиссимо»
пр едст авл яет ся
14-я
с троф а.
Но
Жуковский
изм е нил
бы
себе,
если
бы
эле гия
заканчивалась
на
такой
ноте.
16- я
ст рофа
—
это
ре зкая
смена
инт о на ции.
Уже
не
обезумевший
от
отчаянья
в дов ец,
не
потерявшая
любимую
дочь
мать,
не
чел ов ек,
р азда в
ленный
горем,
—
говорит
мудрец,
постигший
законы
бытия,
принявший
их
раз
и
н авсегда
и
покорившийся
им.
Здесь
уже
нет
мес та
ро пот у,
осуждению
выс ших
сил
бытия.
Ок азыв аетс я
(в точном соответствии с христианской моралью), что
«не
с часть е
нам
учитель,
а
не
вр аг» (с.
319).
Особенно
важна
для
Жуковского
мысль,
высказанная
в
19- й
строфе:
изм уч енна я
страданиями
человеческая
душа
спо со бна
свободно
п рости ть ся
с
над еждами ,
т.
е.
в
чем-то
отка за ть ся
от
своей
человеческой
сущности
и
Т огда ..
.
тогда
с
сей
с ветл ой
выш ины
Вся
промысла
ей
видима
дорога;
Она
полна
понятного
ей
б ога
(320).
Жуковский
говорит
о
в озмо жн ости
че лове ка
достичь
невозмож
ного,
по зна ть
непознаваемое,
заглянуть
в
тайное
тайных,
соеди
ниться
с
Богом.
Эта
способность
д ана
не
исключительным
лич
ностям,
не
толь ко
одному
поэту,
но
каж до му
человеку,
способ
ному
отрешиться
от
надежды ,
полностью
предать
себ я
в
руки
Б ога
и
безгранично
верить.
Это
удивительное
состояние
души
описывает
Жуковский
в
«Цвете завета», «Славянке», «Невыра
зи мом»
и
других
стихотворениях.
Таким
образом,
по
Жуков
скому,
человек
способен
достичь
своего
и деал а,
в
особом
со
с то янии
он
может
соединиться
с
Богом,
постичь
небесную
ж изнь,
т.
е.
можно
говорить
о
р еализ ации
идеала
Жу ко вско го.
Для
рома н тик ов
поис к
ид еала
был
всегда
связан
с
поиск о м
некой
земли
обетованной,
которая
укрыла
бы
поэта
от
ос таль
но го
мира
и
где
ду ша
поэта
может
ж ить
в
согласии
и
гармонии.
Это
все гда
по иск
че го- то
внешнего,
которое
бы
соответствовало
строю
души
поэта
(«Таврида»
Батюшкова, «Родина»
Баратын
ск ог о).
Для
Жуковского
же
достижение
идеал а,
п уть
к
идеалу
не
связан
с
уходом
из
реального
ми ра,
наоборот,
он
стр еми тся
о ткр ыть
это т
мир
для
се бя,
постичь
его
ко не чный
смысл,
найт и
в
нем
божественное
начало
и
пр ин ять
его
во
всей
его
полноте.
Смысл
этого
мира
для
Жуковского
в
его
духовности.
Че лове к
з
35
для
н его
состоялся
лишь
тогда,
когда
он
постиг
эту
духовность.
И так,
ид еал
Жуковского
по
самой
своей
природе
ино й,
чем
у
поэт о в,
его
современников,
он
скорее
внутри
человека,
чем
вне
е го.
Возможно,
именно
с
этим
связаны
с поры
о
п ри над леж
н ости
Ж уко вско го
к
сентиментализму
или
романтизму.
Идеал
у
роман ти ков
был
принципиально
недостижим,
более
того,
даже
намек
на
его
ре а лиза цию
ставил
под
со мнени е
его
высоту.
Жу
к о вский
же
в
сущности
все
свои
лирические
произведения
строит
по
одной
схеме:
раздираемое
противоречиями,
мяту
щееся
человеческое
сознание
приводится
поэтом
к
такой
точке
отрешения
от
чел о ве ческих
стр асте й,
к
такому
про ник но ве нию
в
тайное,
к
такому
слиянию
с
«душой»
природы,
что
человек
оказывается
способным
п ост ичь
Бога,
вн ять
е му,
почувствовать
тайный
смысл
и
гармонию
-мироустройства.
Характер
и деала
Ж ук овс кого
таков,
что
он
исключает
самую
возможность
его
снижения,
дискредитации,
так
как
не
по дл ежит
опошлению
способность
души
подняться
на
божественный
уровень,
она
находится
в
абсолютной
области,
не
имеет
низкого
дубл я.
Жу
ковский
воз выша ет
своего
лирического
героя,
каждый
раз
про
водя
его
по
дороге
страданий,
ропота,
недоумения
к
отк а
зу
от
страстей,
а
затем
к
при ят ию
мира
и
диа ло гу
с
Богом,
что
для
Жуковского
и
е сть
счастье.
О
т аких
мгновениях
он
пишет:
И
не
теб е
ль
всегда
она
внимала
В
чи стей шие
минуты
бытия,
К огда
судьбы,
святыню
пос тига л а,
Когда
ли шь
бог
свидетель
был
ея ? (333.— Выделено
мной.—
Е.
Г.)
Тогда-то
душа
и
спо соб на
понять
тайное
тайных
бытия
и
ей
открывается
с вято сть
судьбы.
Это
опре дел е ние
(святая судьба)
невозможно
ни
у
одного
из
поэт ов
пушкинского
круга.
Для
Жу
ковского
нет
противоречия
ме жду
Богом
и
судьбой:
с вято сть
Б ога
определяет
с вято сть
судьбы.
В
эт ой
то чке
и
наблюдается
расхождение
Пушкина
и
Жуковского:
для
Жуковского
судьба
включена
в
область
божественного,
для
Пушкина
эта
сила
еди
новластна,
никакого
отношения
к
бож ес твен н ому
она
не
имеет,
да
и
самого
Бога
в
пушкинской
к а ртине
мира
еще
нет .
Заметим,
что
в
«19 октября» (1825) судьба предстает силой,
враждебной
поэту
и
его
друзьям,
но
в
чем-то
преодоленной
ими.
Для
стихотворения
характерна
уверенность
в
то м,
что
идеал
человеческих
от нош е ний,
счастье,
ис тинн ая
дружба
уже
бы ли
в
прошлом,
во
времена
лицейского
братства.
Поэтому
верн ост ь
эт им
идеалам ,
со
временем
по луч ивш им
абсо л ютно е
значе
ние,
—
это
критерий
оценки
че лове ка
и
того ,
насколько
с мог
он
противостоять
судьбе,
пытавшейся
на
протяжении
вс ех
эти х
лет
разрушить
его,
разъединить
членов
«святого братства».
Следуя
традиции
дружеского
послания,
Пу шкин
о ткр ыто
про тив опо -
36
ст авля ет
судьбу
дружескому
ед ин ству
и
утве рждае т
бес си лие
ее
это
ед инст во
разрушить:
Друзья
мои,
прекрасен
наш
сою з!
Он
как
д уша
неразделим
и
вечен
—
Неколебим,
свободен
и
беспечен
Срастался
он
под
сенью
дружных
муз.
К уда
бы
нас
ни
бросила
судьбина,
И
счастие
куда
б
ни
по вело ,
Все
те
же
мы:
нам
целый
мир
чужбина;
О теч ество
нам
Ц арс кое
Се ло
(II, 274).
Поэт
рассказывает
о
своем
пути ,
проделанном
в
год ы
разлуки.
«Запутанный в сетях судьбы жестокой», он искал утешения
в
новой
дружбе
и
не
нашел
ег о.
Обращение
к
друзьям
юности
знаменует
во звр а щение
поэ та
в
родной
круг,
где
все
свои.
Этот
круг
так
же
противостоит
су дь бе,
как
и
о кр ужав шим
его
лю
дям ,
которые
так
и
не
стали
ему
р од ными.
Пр ичем
для
Пуш
кина
дружеский
круг
—
не
абстр актн ы е
идеальные
друзья-
«маски» (Ю.
Н.
Тынянов)
д руже ск ого
послания,
но
конкретные,
реальные
люди
с
разными,
биографиями
и
разным
положением
в
обществе.
«Фортуны блеск холодный»
не
и зменил
кн.
Г орча
кова:
судьбе
противостоит
верность
человека
и деалам
юности
не
только
в
беде,
но
и
в
славе,
почете,
бо г атстве .
И
нако н ец,
об раща ясь
к
Дельвигу,
Пушкин
пишет:
.. .твой
голос
пробудил
Сердечный
жар ,
так
д олго
усыпленный,
И
бодро
я
с удьбу
благословил
(II, 275).
Это
благословение
судьбе
за
то,
что
в
жизни
есть
ис тин но
верные
друзья,
за
то,
что,
даже
по ник нув
«под бурею главой»,
поэт
не
чувствует
се бя
одиноким,
зак люча ет
стр оф у,
которая
на чинае т ся
с тих ом : «Когда постиг меня судьбины гнев. ..».
Тема
обретает
подлинную
многозначность:
суд ьба
и
б еспо
щадна,
и
б ла гос кло нна,
так
как
при
в сех
невзгодах,
на
которые
она
обрекает,
она
д ает
и
оп ору,
возм ожн ос ть
противостоять
этим
невзгодам.
Это
стихотворение,
с
моей
точки
зрения,
вкл ю
ча ет
в
себ я
романтическое
пр ед с та вление
о
судьбе,
встречав
ш ееся
у
современников
Пушк ина .
Так,
например,
и
Баратын
ский
награждал
судьбу
эпитетом
«благая»
за
то,
что,
несмотря
на
враждебность,
она
обеспечивает
че лове ка
«снами золотыми»
в
начале
ж изни
(«Дорога жизни», 1825); Веневитинов благо
дар ил
судьбу
за
то,
что
она
наградила
его
поэтическим
даром,
и
это
неизмеримо
з начит ель нее
в сех
несч аст ий,
посланных
ему
той
же
судьбой.
Но
это
романтическое
пр ед с та вление
совме
щается
с
представлением
о
судьбе
как
мироп орядке ,
т.
е.
с
по
няти ем,
сема нт ически
близким
объективным
з ако нам
бытия.
Пушкин
воспринимает
их
как
данность,
что
не
отменяет
же ла
ния
проникнуть
в
смысл
э тих
законов.
37
Неким
поиском
смысла
отмечен
еще
один
важный
мот ив
в
трактовке
Пушкиным
тем ы
судьбы,
раз рабо тка
которого
на
чинается
в
стихотворении
«Дар напрасный,
дар
случайный.
..»
(1828).
Хар акт ер на
сама
постановка
вопроса:
если
ж изнь
обя
зательно
за ко нчит ся
смертью,
то
непонятно,
заче м
она
дается
человеку.
Эт от
вопрос
бу дет
лежать
в
основе
бунта
героев
До
стоевского
Ипполита
Терентьева
и
Кири лл ова ,
которые,
не
на
ход я
отве та
на
этот
раздирающий
сознание
вопрос,
придут
к
необходимости
отк аза тьс я
от
жизни.
Если
в
стихотворении
1819 г.
«Нет,
н ет,
на прас ны
ваши
пе ни.. .»
эпитет
«тайные»
от
носился
лишь
к
судьбе
человека,
которому
не извест но
течен ие
собственной
жизни,
то
теперь
он
относится
к
миропорядку
вообще.
Поэт
не
понимает,
в
чем
смысл
бытия.
Именно
это
для
нег о
тепер ь
яв ляетс я
т айно й.
Все
стихотворение
звучит
как
полемика
с
христианской
доктриной:
ма ло
того ,
что
поэту
не
известно,
кто
вызвал
его
к
жизни,
но
в ажно,
что,
по
его
м не
нию ,
это
сделано
«враждебной властью», так как,
в ыз ывая
человека
к
жизни,
верховные
силы
бытия
отдают
душу
чело
века
во
власть
страстей,
а
ум
обрекают
на
вечные
сомнения.
Христианство
в
данном
случае
—
не
пр едм ет
шутливо-траве-
стийной
игры,
которая
бы ла
свойственна
Пушкину
и
особенно
хар актер на
для
начала
его
тво рче с тва
(такая игра достаточно
подробно
описана
В.
Ходасевичем
в
статье
«Кощунства Пуш
к ина»17).
Пушкин
не
иронизирует,
но
вступает
в
полемику
в
самом
серьезном
тоне.
Недаром
стихотворный
отклик
митро
полита
Филарета
начинался
строками:
Не
напрасно,
не
случайно
Жизнь
от
бога
нам
д ана,
Не
без
по ли
б ога
тайной
И
на
казнь
осуждена
(III, 507).
Пушкин
по
поводу
ответа
Филарета
писал
Е.
М.
Хит ро во:
«Стихи христианина,
русского
епископа,
в
ответ
на
скептические
куплеты!
—
эт о,
пра во,
б ольша я
уда ч а!».
Не изв естн о,
насколько
сер ь езен
Пушкин
в
вы ра жении
восторга
по
пово ду
ответа
Фи
ла рета ,
ва жно,
что
полемика
с
христианской
доктриной
здесь
очевидна.
Несмотря
на
ироническое
определение
«скептические
куплеты»,
стихотворение
чрезвычайно
серьезно,
но,
действи
тельно,
пронизано
крайним
скептицизмом,
который
распростра
няется
не
т олько
на
догмы
христианства,
но
и
на
отношение
к
чел о веческ о му
существованию,
общ ему
миропорядку.
Скеп
сис
здес ь
—
единственная
ре альн ос ть,
которая
остается
поэту.
По
просьбе
Е.
М.
Хит ров о
Пушкин
на пис ал
стихотворение,
яв
ляющееся
ответом
Филарету.
Эти
те ксты,
связанные
био г р афи ческим
сюжетом,
да ют
пример
характерного
для
Пушкина
движения
поэтической
мысли:
дойдя
до
абсолютного
«минуса», дисгармонии,
отрица
ни я,
Пушкин
находит
в озможн ос ть
некой
гармонизации,
урав
новешивания
этого
«минуса», при этом не отменяя его пол
38
н ос тью.
Образ
серафима,
обладающего
«силой кроткой и духов
н ой», приближается к образу ангела.
И
так
же,
как
«Ангел»
противостоит
«Демону»,
стихотворение
«В часы забав иль
праздной
скуки...»
противостоит
стихотворению
«Дар напрас
ны й,
дар
случайный...».
Скепсис
поэта,
как
в
первом,
так
и
во
втором
случае
побежден.
Но
если
здесь
проблема
раз р ешена
для
поэта
(недаром образ серафима отсылает к пушкинскому
«Пророку», 1826), то в стихотворении «Б ро ж у
ли
я
вдоль
ули ц
ш ум ны х.. .» (1829) Пушкин вводит иную точку зрения
—
не
л ич
ностную,
а
общечеловеческую,
вводит
вселенский,
общемировой
масштаб,
и
с
эт ой
поз иции
в идна
возможность
гармонии.
Од ни
поколения
сменяют
другие.
Так
устроен
мир.
Н еоб ход има
м уд
рость
в
его
приятии.
Если
мыслить
в
ма сшт абах
существования
человечества
в
целом,
то
п олуча ет ся,
что
мир
устроен
гармо
ничн о.
Если
же
судить
о
нем
с
точки
зрения
отдельного
чело
века,
то
приходишь
к
мысли,
что
.гармония
невозможна.
Пу ш
кину
в
к онце
концов
удает ся
совместить
эти
две
чрезвычайно
трудно
совместимые
по з иции.
Он
—
личность,
смер тн ый
чело
век,
но
мыслит
-.себя
как
час ть
це лог о,
вечного
чело в ечеств а.
И
эта
позиция
да ет
ощущение
гармонии,
возможности
мудрого
примирения
и
приятия
закономерностей
бытия,
даж е
собствен
ной
смерти.
Противопоставление
краткости
человеческой
жизни
и
вечности
природы
снимается
мыслью
о
вечности
человечества
в
целом.
Природа
мож ет
противостоять
одному
человеку,
но
все
человечество
и
пр иро да
как
целое
одинаково
вечны
и
обра
зу ют
единство
высшего
порядка.
Сходный
пр инцип
действует
в
стихотворении
«К вельможе»
(1830).
Здесь
звучит
зн аком ая
мысль
о
т ом,
что
жизнь
каждого
ч ел овека
по дчи нена
судьбе.
По
отношению
к
данному
от дел ь
ному
человеку
она
выступает
традиционно
негативной
силой,
обрекает
на
неведомую
смерть,
лишает
покоя.
Но
с
точки
зр е
ния
человечества
в
целом
смена
поколений
представляется
в
виде
к ругоо борот а,
и
здес ь
нет
м еста
судьбе
как
негативной
силе.
Во
всел енско м
м асштабе
н ев озмож но
оценивать
мироустройство
в
категориях
«хорошо»
—
«плохо». «Оборот
во
всем
к ругооб ра з
ный»
чел ов ече ства
напоминает
вечный
круговорот
природы,
где
смерть
и
жизнь
сменяют
др уг
д руга
постоянно,
где
все
закон о
мерно,
вз аимо связ ано
и
подчинено
высшей
гармонии.
Эту
фо р
мулу
Е.
А.
Тоддес
соотносил
с
античными
пр едст авл ения ми. 18
Чел о век
—
част ь
целого
гармонического
мира
—
такое
представ
ление
о
мироустройстве,
возможно,
пришло
к
Пушкину
из
ан
тичности.
Но
античное
мировосприятие
не
д ает
при
эт ом
совме
ще ния
личностного
и
общего
масштабов
пе ре жива ния
бытия,
тогда
как
для
Пушкина
именно
совмещение
э тих
полярных
точек
зрения,
в зг ляда
извне
и
изнутри
бу дет
ха ракт ер но
и
в
«Евгении Онегине», и в стихотворении «В но вь
я
посетил...»
(1835).
Эта
позиция
отразилась
в
письме
П.
А.
Плетневу
от
22 июля 1831 г. : «Дельвиг умер,
Молчанов
умер;
погоди,
умрет
39
и
Ж уковс кий,
умрем
и
мы.
Но
ж изнь
все
еще
богата;
мы
вст ре
тим
еще
но вых
знакомцев,
новые
созреют
нам
друзья,
до чь
у
тебя
будет
расти,
выра с тет
невестой,
мы
будем
старые
хр ычи,
жены
н аши
—
старые
хрычовки,
а
детки
будут
славные,
моло
дые,
веселые
р ебя та;
а
ма льчи ки
станут
повесничать,
а
дев
чон ки
сентиментальничать;
а
нам
то
и
лю бо» (X, 368).
Тем
не
менее,
с
точки
зрения
единичного
человека,
миропо
рядок
по-прежнему
может
представляться
хаосом.
Такая
пози
ция
вырисовывается
в
стихотворении
«Бесы» (1830): жизнь
—
бесконечное
кружение
стихий
без
смысла
и
це ли.
Отношение
ч ел овека
к
окружающему,
его
р еакция
на
мир
—
стра х,
тоска.
Если
в
послании
«К вельможе»
Пушкин
говорит
о
«кругообраз
ном
обороте»
жизни,
то
через
все
стихотворение
«Бесы»
п рохо
дит
тема
непонятного,
чуждого
человеку
«кружения»
враждеб
ных
сил
бы тия
и
б ессмыслен но го ,
страшного
кр ужения
самого
человека
—
игрушки
в
руках
эт их
сил.
Так
да ет
се бя
знать
р аз личие
дв ух
масштабов
восприятия,
двух
его
ис хо дных
то чек,
которыми
попеременно
о казы вают ся
то
вечное
обновление
че
ловечества,
то
к о нечная
и
необратимая
жизнь
одного
че ло века.
Различие
это
оборачивается
противоречием,
не
ра зре ши мым
в
рам ках
сложившегося
к
нач алу
30- х
го дов
пушкинского
миро
восприятия.
Видимо,
эти
рам ки
становятся
для
Пушкина
стес
нит ел ьным и,
и
начинаются
поиски
выхода.
Темны
жизненные
законы
для
человека
в
ст ихо т во рении
«Стихи,
с оч ине нные
н очью
во
время
бессонницы» (1830).
Пу ш
кин
решает
тем у
судьбы,
ввод я
традиционный
образ
Парки,
но
трактовка
его
теперь
далека
от
традиционной:
Ход
ча сов
л ишь
однозвучный
Раздается
близ
меня,
Парки
ба бье
лепетанье,
Спящей
ночи
тр епе тань е,
Жизни
мы шья
беготня
(III, 197).
Грозная
Парка
элегий
Батюшкова
становилась
смешной
и
не
страшной,
по падая
в
мир
др ужес ко го
послания.
Теперь
П уш
кин
отказывается
от
э тих
традиционных
жанровых
мотивиро
вок.
В
сов ершен но
серьезном
контексте
лирико-философской
медитации
Парка
превращается
в
лепечущую
бабу,
чем
до
стигается
отнюдь
не
комический
эф фек т.
Пушкин
как
будто
нарочито
отказывается
от
все й
пр ед шеств у ющей
романтической
традиции,
образ
перестает
б ыть
условным,
приобретает
зримую
реа льн ост ь.
Причем
здесь
Парка
лишена
ореола
таинственности.
Она
не
вызывает
ни
страха,
ни
тем
более
священного
трепета,
которые
была
пр из вана
внушать
э лег ичес кая
П арка
Б атюш
ков а.
Обр аз
ее
вызывает
антипатию
и
чувство
едва
ли
не
фи
зической
н епр иязни .
Это
сн иже ние
р аспр ост р аняет ся
и
на
по
нятие
«жизнь». « О дно зву ч ный
жизни
шу м»
превращается
40
в
«жизни мышью беготню».
Реакция
человека
на
этот
«ше
пот»
—
тре вог а,
скук а.
В
сравнении
с
«Бесами»
заметно,
что
снижение
касае тся
и
реакции
че лове ка
на
жизненные
законы:
они
вызывают
не
тоску,
острое
душевное
страдание,
но
скуку,
не
с трах,
но
тревогу.
Однако
«и в жизни мышьей беготне»
лирический
герой
мучительно
пытается
найт и
некий
скрытый
смысл:
Я
понять
т ебя
хочу,
Смысла
я
в
т ебе
ищу
—
эти
слова
можно
отнести
ко
все му
последующему
лирическому
творчеству
Пушк ина .
Здесь
точка,
мож ет
бы ть,
самого
глубокого
перелома.
Поиск
смысла
в
устрой ств е
ми роз д ания
сочетается
с
поиском
духовных
ценностей,
способных
помочь
личности
про
ти в остоять
непон ят ным
и
представляющимся
бессмысленными
з ако нам
судьбы.
В
том
же
30- м
году
Пушкин
пише т
сво й
знаме
нитый
черновой
на бросок:
Два
чувства
дивно
близки
н ам,
В
них
об ретает
сердце
пи щу
—
Любовь
к
родному
п епелищу ,
Любовь
к
отеческим
гр об ам.
На
них
основано
от
века
По
воле
бога
са мого
С амос тоя нье
человека,
Залог
величия
его
(III, 2.14, 468).
Это
пер вый
пу шкин ск ий
те кст,
в
котором
появляется
мысль
о
божественной
гармонии
мира.
И
это
очен ь
важно.
Те ма
вы
водится
на
со вер шенно
новый
виток:
после
1830 г.
слово
«судьба»
уходит
из
п у шкинск ой
лирики.
Мотив
испытания
судьбы
переходит
в
другие
жан ры
пушкинского
творч еств а.
В.
А.
Гр ех нев
счита ет,
что
«он запечатлен в гимне Председа
теля
(«Пир во время чумы»), в фаталистическом эксперименте
Сильвио
(эпизод второй дуэли в «Вы с тре л е»),
в
отв ажн ом
своеволии
героев
«Метели», в грозном жесте Евгения («Мед
ный
в сад ни к»), в мифическом единоборстве Наполеона с чумой
(«Герой»), в
самоубийственно-жутком
вызове
До н- Г у ана».19
Что
же
ка сает ся
лирики,
то
тема
продолжает
зв уча ть
неназван
н ой,
за
иск л юч ением
по сл еднег о
стихотворения,
написанного
на
лицейскую
годовщину
1836 г.,
где
просто
повторяется
тради
ционное,
найденное
уже
в
1825 г.
отношение
к
судьбе
как
объективному
миропорядку.
«Романтическая»
судьба
уходит
из
пушкинской
лирики.
И
оче нь
показательно,
что
те
строки
стихотворения
«Вновь я посетил.. .», где она появляется в при
вычном
для
романтиков
зв учани и,
Пушкин
не
включает
в
око н
чательный
текст.
Обр ащ аясь
к
т ворче ству
Пушкина
последних
лет
его
жиз ни,
ис сле д оват ели
неоднократно
от ме чали
интерес
его
к
вопросам
религии,
евангельским
и
би бл ейски м
обр аз ам.
Не
будем
сей час
касаться
вопроса
свя зи
христианской
тематики
с
проблемой
религиозного
сознания
Пушк ина .
Скажем
лишь,
что
на
этот
41
счет
су щ еству ют
прямо
противоположные
точки
зр ен ия:
Е.
Г.
Кислицына
в
статье
«К вопросу об отношении Пушкина
к
ре лиг и и »20 утверждала,
что
он
всегда
был
атеистом;
С.
Л.
Франк
сч ит ал ,21 что Пушкин был истинным христианином;
В.
Гиппиус
в
книге
«Пушкин и христианство» 22 показывал,
что
Пу шкин
умо м
стремился
к
вере,
но
не
мог
обрести
ее
сердцем.
Ост ав аясь
в
пределах
художественного
творчества,
можно
с
уверенностью
ска за ть
лишь
сл еду ющее:
поис ки
смысла
су ще
ствования
отдельной
личностью
(а как мы постарались пока
зать,
это т
мотив
всегда
был
связан
у
Пушкина
с
темой
судьбы)
приводят
лирического
героя
Пушкина
к
хри сти ан ству.
Стихо
творения
«Родрик» (1835), «Странник» (1835), так называемый
«Каменноостровский цикл» (1836), «Памятник» (1836)— эти
текс ты,
в
до стато чно й
степени
описанные
в
р абот ах
Н.
В.
И змай лова ,23 Ю.
М.
Лотмана,24 Г.
П.
Ма когон ен к о,25
В.
П.
Ста рка,26 Е .
А.
Тоддеса,27С.
А.
Фо ми чев а, 28 свидетель
ствуют
о
том ,
что
лирический
герой
Пушкина
обретает
такие
этические
основания
своего
бытия,
которые
приводят
его
к
осо
зн анию
смысла
его
частной
жизни
и
тем
самым
д ают
ощущение
гармонической
включенности
в
общий
миропорядок.
Та ким
образом,
вопрос
о
смысле
жизни
был
решен
своеобразной
тр а нсфо рм ацией
темы
судьбы
в
христианскую
тему.
Естественно,
возникает
вопрос,
повторяет
ли
Пушкин
в
своих
ре шени ях
тот
религиозный
идеал,
который,
как
мы
говорили,
был
дости жи м
для
лирического
ге роя
Жуковского.
По
мыс ли
Жуковского,
победа
в еры
над
сомнением—главный
ит ог
зем
ного
пу ти
'человека,
зал ог
будущей
вечно
прекрасной
жизни,
но
жизни
за
гробом.
Земную
жизнь,
таким
образом,
нужно
прожить,
с тра дая
во
имя
жизни
небесной,
ибо
з акален ный
испытаниями,
лишениями
и
горем
человек
может
до сти гну ть
совершенства,
открывающего
п уть
в
мир
небесной
гармонии.
Отсюда
и
стоическое
отношение
поэта
к
жизни,
которое
он
выразил,
ска зав
в
ст ихо т вор ении
«На кончину ее Величества
королевы
Ви р темб ер г с ко й »: «Несчастье нам учитель,
а
не
вр аг », отсюда и мотив радостного приятия смерти:
..
.кончины
сла дкий
час
Моей
люб имою
мечтою
становится
(76).
В
отличие
от
Жуковского,
Пушкин
о бра щает
сво й
вз ор
не
к
небу,
и
не
в
загробном
ца р стве
в иди тся
ему
опр авд ание
человеческой
жизни,
но
в
самой
этой
жизни,
здесь,
на
земле.
Земная
ж изнь
для
н его
обладает
безусловной
ценностью
(вспомним,
что
для
Ж ук овс кого
она
—
лишь
преддверие
и
по дгот ов ка
к
будуще му).
У
Пушкина
она
мо жет
быть
нетлен
ной,
а
у
Жуковского:
Под
гибелью
Сатурновой
косою
Возможно
ли
нетленного
искать?
Оно
нас
ждет
за
дверью
гробовою..
.
(«К А.
Н.
Арбеневой»)
42
Жизнь
на
земле
у
Жуковского
не
з нает
под линно й
радости
и
подлинного
счастья
(«А на земле,
где
опытом
жестоким/Мы
учены
лиш ь
горестям
одним.
..») —
такова
наиболее
уст ойчи
вая
тема
его
лирики.
У
Пушкина
жизнь,
напротив,
включает
и
радость,
и
счас тье,
но
ценность
ее
не
сводится
лишь
к
ним,
она
и
в
стр адан ия х
тоже.
Ничто
одн означ ное
не
мож ет
с тать
основанием
для
гармонии
—
гармония
ес ть
именно
сопряжение
самых
разнородных
с тихи й,
поэ том у
для
возникновения
гармо
нии
страдание
о казы вает ся
столь
же
необходимым,
сколь
и
сч аст ье,
и
ра до сть,
и
наслаждение.
Именно
поэтому
страдание
н и когда
не
вызывало
у
Пушкина
то го
стоического
отношения,
которое
бы ло
характерно
для
по зици и
Жуковского.
Высш ее
зна чение
страданий
Пушкин
обосновывал
по-иному.
Согласно
мыс ли
поэта,
только
п уть
страданий
может
позволить
сохра
нить
ду шу
в
том
смысле,
в
котором
об
эт ом
говорил
Христос:
«Сберегший душу свою потеряет ее,
а
потерявший
..
сбережет»
(Матфей,
гл.
10,
ст.
39).
Только
п от еряв ший
(искушенный
в
стр адания х
и
испытаниях)
сбережет.
Вот
почему
«Я жить
хочу,
чт об
мыслить
и
страдать».
П рох одя
путем
ст р адан ия,
че
ловек
обретает
в озмож но сть
понять
и
пр и нять
душу
другого
человека,
и
т олько
на
эт ом
пут и
постигается
х р ист ианская
истина
о
милосердии.
Таким
образом,
пушкинские
отношения
с
Богом
не
з амыка лись ,
как
у
Жуковского,
на
собственном
«я»
человека,
а
решали
проблему
отношений
человека
с
человеком.
В
этом
смысле
Пу шк ину
бл изка
мысль
Чаадаева
о
том,
что
«в христианском мире все. ..
спо соб ст вует .
..
установлению
сов ерш енно го
строя
на
з ем ле».29
В
заключение
обратимся
к
пушкинскому
письм у
Вязе мс к ому
1826 г.
У
Вязе мс к ого
ум ер
сын,
и
Пушкин
утешает
ег о: «Судьба
не
перестает
с
тобою,
проказить.
Не
сер дис ь
на
нее,
не
ведает
бо,
что
творит.
Пр едстав ь
с ебе
ее
огромной
обезьяной,
которой
дана
полная
воля.
Кто
посадит
ее
на
цепь?
не
ты,
не
я,
никт о.
Делать
н еч его,
так
и
говорить
н е чего» (X, 206—207).
Казалось
бы,
что
может
бы ть
более
ан ти христи ан ски м,
чем
признание
зависимости
ж изни
человека
от
воли
огромной,
б ессмысл енн ой
обезьяны,
и
как
это
должно
по дт верж дать
привычное
мнение
о
безрелигиозности
пушкинского
сознания.
Но
попытаемся
вни
мательно
вчита ть ся
в
эти
строчки.
Ч елов ек
бесси лен
против
слепой
и
жест ок ой
силы
судьбы,
которая
может
сделать
с
ним
все,
что
уг од но.
Но
при
эт ом
она
не
понимает,
что
творит,
она
бессмысленна,
а
человек
осознает
эту
бессмысленность
и
по
тому
ок азы вает ся
сильнее
судьбы.
Единственное,
что
он
мо жет
противопоставить
ее
ж есто ко сти,
—
прощение,
как
Христос,
ко
торый
просит
за
своих
го нит е ле й: «Прости им,
От че,
ибо
не
знают,
что
т в орят» (Лука,
гл.
23, ст.
34).
Власти
обезьяны
над
человеком
противостоит
воспринятый
им
опы т
Хри с та.
43
П рим еча ния
1 Крайним выражением таких представлений является статья А.
С.
Ма
каренко
«Судьба».
См.
Уч.
за п.
Удмуртского
пе д.
и н-та
им.
10-л ети я
УА О.
Ижевск, 1955.
Вып.
10.
С.
221.
2 Уваров И.
В.
Зев с
и
Судьб а
(по Гомеру)//Филологич .
за п.
Вып.
2.
Во ро н еж, 1915.
С.
245.
3 Батюшков К.
Н.
Полное
со бр ание
сти хотв ор ени й.
Б-к а
поэта.
Боль
шая
серия.
Л., 1964.
С.
141.— Да ле е
все
ссыл ки
на
это
издание
в
текс те.
4Державин Г.
Р.
Стихотворения.
Б-ка
поэта.
Большая
серия.
Л.,
1957.
С.
87.
5 См.,
н апр.:
Серман
И.
3.
Ру сск ая
поэз ия
второй
по лови ны
XVIII века.
Державин//История
р усск ой
поэ зи и:
В
2т.
Т.
1.
Л., 1968.
С.
120—151.
6 Пушкин А.
С.
Поли.
соб р.
соч.:
В
10 т.
Т.
1.
М. , 1962.
С.
62. — Да
лее
все
ссылк и
на
это
издание
в
тексте
с
указанием
тома
и
страницы.
7 Жуковский В.
А.
Соб р.
соч. :
В
4т.
Т.
1.
М.;
Л., 1959.
С.
36. —
Да лее
все
ссылки
на
это
издание
в
те кст е.
8 См.
об
э том:
Г ри горье ва
Е.
Н.
Тема
судьбы
в
лирике
А.
С.
П уш
кина
1813—1830 гг. //В ес тни к
Ленингр.
ун-та.
1985.
No
23.
С.
89—94.
9 Державин К .
Н.
Вольтер.
М ., 1946.
С.
127.
10 Баратынский Е .
А.
Поли.
собр.
стихотворений.
Б-ка
поэта.
Боль
шая
серия.
Л., 1957.
С.
100.
11 Донская С .
Л.
К
истории
стихотворения
«Телега жизни»//Пушкин.
Исследования
и
материалы.
Л., 1974.
Т.
7.
С.
219.
12Гуревич А.
М.
На
подступах
к
рома нт изму
(О русской лирике
1820- х
гг. )//Проблемы романтизма .
М. , 1967.
С.
228.
13 Грехи ев В.
А.
Лирика
Пушкина.
О
поэтике
жанров.
Гор ь ки й, 1985.
С.
139.
14 Там же.
С.
143.
15 Там же.
16 Цит.
по
кн .:
Веселовский
А.
Н.
В.
А.
Жук овс к ий.
Поэзия
чувс тва
и
«сердечного воображения».
Пг ., 1918.
С.
88.
17 Ходасевич В .
Кощунства
П ушкин а/ /Сов ре менн ые
записки
(Па
риж ). 1924.
No
19.
18 Тоддес Е.
А.
К
вопросу
о
каменноостровском
цикле//Проблемы
пуш
кинов е дения:
Сб.
на уч,
трудов.
Р иг а, 1983.
С.
44.
19 Грехи ев В.
А.
Болдинская
лирика
А.
С.
Пушкина.
Гор ь ки й, 1977.
С.
11.
20 Кислицына Е .
Г.
К
вопросу
об
от н ошении
Пу шк ина
к
ре ли-
гии//Пу шк инекий
сборник
памяти
профессора
С.
А.
Венгерова.
М.;
Пг., 1923.
С.
233—269.
21 Франк С.
Л.
Религиозность
Пушкина//Франк
С.
Л.
Этю ды
о
П уш
кине .
М юнхен , 1957.
С.
8—29.
22 Гиппиус В .
Пушкин
и
христианство.
Пг., 1915.
23 Измайлов Н .
В.
Очерки
творчества
Пу шк ина.
Л ., 1975.
С.
213—269.
24 Лотман Ю .
М.
Истоки
«толстовского направления»
в
ру сско й
ли те
ратуре
1830- х
гг .//Уч.
зап.
Тартуского
гос.
ун-та.
Вып.
119.
Труды
по
русской
и
славянской
филологии.
V.
Т арт у, 1962.
25 Макогоненко Г .
П.
Творчество
А.
С.
П ушки на
в
1830-е
г оды
(1833—1836).
Л. , 1982.
26 Старк В.
П.
Стихотворение
«Отцы пустынники и жены непорочны»
и
цик л
Пуш кин а
1836 г ./ /Пушк ин.
Исследования
и
материалы.
Л. , 1982.
Т.
10.
С.
200.
27 Тоддес Е.
А.
Указ.
с оч.
28Фомичев С.
А.
Последний
лирический
цикл
Пушкина//Временник
Пушкинской
комиссии.
1981.
Л. , 1985.
29ЧаадаевП.
Я.
Сочинения
и
пи сь ма:
В
2т.
Т.
2.
М. , 1914.
С.
119.
А.
КОВ АЧ
О
СМ Ы СЛО ОБ РА ЗУЮЩИХ
ПРИНЦ ИПА Х
ГОГОЛ Я
Н ас тоящая
статья
не
претендует
на
ис черп ы вающ ее
рас
смотрение
в сех
проблем
поэтики
Н.
В.
Гоголя,
возникающих
в
свя зи
с
выдвинутой
в
заглавии
темой.
Тот
богатый
фо нд
науч
ных
знаний
и
методов,
анал изо в
и
ин терп ретац и й,
с
которыми
должен
иметь
д ело
современный
исследователь
Гог ол я,
об язы
вает
к
в дум чиво му
освоению
с амой
истории
исследования
предмета.
Но
в
то
же
время
не
меньшую
ответственность
нала
гае т
на
нас
текст
Гоголя
как
последняя
инстанция
проверки
достоверности
любой
и н терп рета ции
и
любого
метода
анализа.
Цель
н ашей
работы
—
поставить
вопрос
о
принципах
поэтиче
ской
мотивации
у
Гоголя
с
точки
зрения
по эт ики
жанра
и
п ро
верить
достоверность
такого
подхода.
В
связи
с
тем,
что
мы
постараемся
выделить
так ие
устойчивые
свойства
мотивации,
которые
характеризуют
поэтическое
мышление
Гоголя
как
та
ковое,
не зав и симо
от
того ,
в
к акой
внешней
форме
оно
вопло
щено,
ли шь
попутно
ка саясь
вопроса
о
трансформациях
эт их
свойств,
мы
решили
обратиться
к
таким
различным
по
жан ру
и
форме
произведениям,
как
«Записки сумасшедшего», «Нос»,
«Шинель», «Ревизор».
Им енно
разнообразие
материала
помо
жет
оценить
достоверность
и
убедительность
аргументации,
а
также
акси о мати чно сть
методологических
установок
исследо
вания.
Детально
мы
проанализируем
лишь
«Записки сумасшед
ш его».
Применительно
к
остальным
произведениям
мы
ограни
чи мся
демонстрацией
результатов
тех
разборов,
которые
оста
лись
в
лаборатории
исследователя
или
же
опубликованы
им
ранее.
Выбор
«Записок сумасшедшего»
в
качестве
объекта
описа
ния
и
создания
«теоретической модели», некоего
инварианта
пра вил
об раз ов ания
т екста
и
мир а,1 а также их взаимной обус
ловленности
—
именно
эту
обусловленность
мы
н аз ываем
поэти
ческой
мотивацией,
—
с
од ной
стороны,
определяется
чрезвы
чайной
сложностью
речевого
воплощения
эти х
пра вил,
особой
условностью
текста,
которая,
как
нам
каж ется,
не
получила
еще
сколько-нибудь
успокоительного,
методологически
обосно
ванного
объяснения.
С
другой
стороны,
очевидно,
что
услов
ность
на званно й
повести
п очти
что
обнаженно
репрезентирует
©А.
Ковач, 1992.
45
ис к онно
гоголевские
пр инципы
мотивации,
и
к
тому
же
играет
весьма
значительную
ро ль
в
эволюции
эт их
принципов.2
Первое,
что
бросается
в
глаза
при
анал изе
«Записок сума
сшедшего»
—
это
последовательное
пе реи менов ан ие
вещей ,
л иц,
событий
—
в
ко не чном
итоге
всего
окружающего
Поприщина
мира .
Оно
снач ал а
каж ется
совершенно
произвольным,
словно
в ыпадает
из
любой
известной
читате лю
системы
осмысления.
Однако
сама
эта
произвольность
по-своему
очень
п осл едов а
т ел ьна,
нарушения
бытовой
логики
и
речи
обнаруживают
сво ю
повторяемость,
на руше ния,
как
таковые,
системны.
В
основе
нарушений
лежит
условность:
образы
восприятия
Поприщина,
отмеченные
в
записках,
герой
соотносит
не
с
р еа
лиями
наблюдаемого
мира,
как
делает
это
читатель,
не
с
су ма
сш ед шим
домом,
с
которым
имеет
реальную
с вязь
читательское
восприятие.
Он
соотносит
их
с
воображаемым
королевским
двором
в
Исп ани и.
Коль
скоро
текст
записок
фиксирует,
следо
вательно,
не
с вязь
сл ова
с
его
конвенциональным
значением
(как это происходит в механической памяти), а связь образов
восприятия
с
об раз ами
воображения,
в
з апис ках
создается
р яд,
выстраивающий
над
реалиями
вторичный
условный
м ир,
некий
с ем античе ский
универсум.
В
результате
образы
в осп рияти я
субъекта
записок
(«я увидел множество людей с выбритыми
го лов а ми » (3, 169)3 открепляются от слов,
от
на званий,
при
ложимых
к
ним
по
правилам
речевого
узуса,
и
читатель
при
нужден
производить
сложную
интеллектуальную
деятельность.
С
одной
стороны,
он
должен
во сст анавл иват ь
об ыч ную
связь
возникающих
в
тексте
образов
с
реали ям и
сумасшедшего
дома,
а
с
другой
—
вс лед
за
Поприщиным
п овто рять
те
операции
мысли,
которые
у стан авли ваю т
нестандартную
их
с вязь
(«это
должно
бы ть
или
гра н ды,
или
солдаты,
потому
что
они
бреют
головы» (3,169)).
И
наконец,
читатель
должен
понять
ав тор
скую
интенцию
этих
нарушений,
смысл
совершаемого
переиме
нования
мира.
В
интерпретациях
повести
эта
авторская
интенция
осм ы сля
ется
обычно
как
уравнение
сумасшедшего
до ма
с
государством,
т.
е.
обращается
внимание
на
символическую
роль
п ри ема.
Не
исключая
такой
возможности,
мы
—
с
точки
зрения
жа нр овой
поэтики
«Записок»
—
считаем
необходимым
рассмотреть
также
и
сюжетную
роль
переименования
мира.
Мы
пр едл аг аем
рас
смотреть
это
переименование
как
сюжетообразующий
поступок
Поприщина,
т.
е.
обратить
внимание
на
то
о бст оя
тельство,
что
переименование
отношений
мира
к
ге рою
и
отно
шений
героя
к
миру
приводит
говорящего
к
раскрытию
н овых
признаков
мира,
а
отсюда
и
к
смене
по зиц ий
по
отношению
к
своему
«я».
Если
воспринимать
текст
з апис ок
Поприщина
в
качестве
описания
вс ех
этих
от ноше ний
и
пре об ра зо ваний
и
в
то
же
врем я
по мнит ь
о
том,
что
текст
—
лишь
час ть
персо
нажа,
то
тек ст ооб разу ющ ую
практику,
акт
с озд ания
з апис ок
—
46
и
сопутствующее
пре вр аще ние
субъекта
действия
в
су бъе кт
текста,
ге роя
в
рассказчика
—
не
только
возможно,
но
и
не
избежно
рассм ат р иват ь
в
качестве
главнейшего
мотива
сюжета.
С
н ашей
точки
зрения,
те
тематические
мо тив ы,
которые
послужили
доминантой
са мых
известных
ин терп рета ци й
пове
сти
(например,
карьеризм,
сервилизм,
выг од ный
бр ак,
а
пос ле
крушения
лож ных
ам би ций
—
с ми ре ни е), являются не сюжет
ными,
а
досюжетными
эле ме нта ми
по
отношению
к
со здан ию
записок
как
последнему
«фабульному»
поступку
героя,
который
реализуется
в
качестве
описания
и
осмысления
их,
в
качестве
проз рен ия
эт ой
текстообразующей,
я
бы
ск азал, «нарративной
личности».
Именно
«поведение рассказчика»
мотивирует
рас
ши фров ку
«поведения героя»,
а
ра с шифр овка
как
механизм
прозрения
составляет
основной
жанровый
предмет
моделиро
вания.
Вед ь
нельзя
же
забывать:
мы
имеем
де ло
с
«записками»,
т.
е.
самоописанием
Поприщина,
а
не
с
его
бытовыми
де й
ствиями.
Зап иски ,
как
фор ма
повествования
и
как
жанр
само
познания,
детерминируют
структуру
и
содержание
тем,
мотивов,
сюжета
пове с ти
—
св ойст ва'
текста
и
мира,
равно
как
и
их
внут р енню ю
связь,
обусловленность.
Насколько
нам
известно,
эта
сторона
поэ тик и,
жанровые
регуляторы
построения
и
смысла
повести
Гоголя
с ис те матичес ки
не
изу ча лас ь.
Прежде
чем
раскрыть
н овые
признаки
мира,
прежде
чем
пер енест и
их
из
сферы
нерасчлененных
восприятий
и
впечатле
ний
в
записки,
в
план
расчлененного
текста,
а
впо с ле дствии
и
на
ступень
осмысления,
Поприщин
как
ра сска зч ик
до лжен
как-то
отметить
пр оявле ния
э тих
признаков.
З адача
реализу
ется
в
п е рвой , «мадридской»
за писи
словами
«странный- » —
при
менительно
к
предмету
обозн ачен ия,
и
«не понимаю»
—
приме
ни тел ьно
к
самоописанию.
Эта
двойственность
в
обозначении
повторяется
во
в сех
случаях,
ког да
отмеченные
образы
восприя
тия
нарушают
ожидание,
управляемое
воображением: «Мне
по ка за лась
странною
необыкновенная
скорость»; «Странная
земля
Исп ан ия»; «Мне показалось чрезвычайно странным об
хождение
государственного
кан цлер а» (3, 169) и т.
д.
Е сли
попытаться
оп ред ел ить
общее
с войс тво
и
назначение
подобных
выск а зываний,
то,
по-видимому,
можно
установить,
что
эпитет
«странный»
появляется,
как
правило,
там,
где
переименованный
элемент
мира
становится
с об ытийно
су щест венн ым
(но не
осмысленным)
для
говорящего.
В
отношении
к
текст ов ой
прак
тике,
т.
е.
со здан ию
моде ли
мира
в
«записках», такая операция
м ысли
п редва ря ет
описание
и
раскрытие
сюж етн ой
фу нкции
данного
элемента,
вс ех
тех
деталей,
которые
уже
подверглись
переименованию.
Они
теперь
подвергаются
определению
с
точки
зрения
их
зна чимос ти
как
для
хода
внеш них
событий,
так
и
для
актов
расшифровки
смысла
«странного».
При
эт ом
новое
наименование
дается
не
по
принципу
включения
в
класс,
как
это
происходило
в
сл учае
с
«бритыми» (на основании отсут
47
ствия
в о л о с), а в соответствии с характером действий отмечен
н ого
(«Испании», «земли», «канцлера», «короля», «этикетов
д вор а », «народных обычаев»
и
т.
д.).
Проиллюстрируем
текстообразующие
правила
повести.
Как
известно,
человек
с
палкой
сн а чала
наз ван
«государственным
ка нц лер ом »; после этого делается заметка о его « ст ранн ом
обхождении»
и
воспроизводится
поступок: «...он
то лк нул
меня
в
небольшую
к ом нату
и
ск азал:
„Сиди тут,
если
ты
будешь
называть
себя
королем
Фердинандом,
то
я
из
тебя
выбью
эту
охоту“» (3,169).
Процитировав
сл ова
«канцлера», Поприщин
описывает
действия
«странного»
ч ел ове ка : «.. .канцлер
ударил
меня
два
раза
палкою
по
сп и не.. .» (там же).
Неожиданным,
непредсказуемым,
а
потому
под ле жа щим
названию
и
осмысле
нию ,
яв ляется
несоответствие
имени
с
действ ием
но си
те ля
имени.
Поприщин
описывает
непредсказуемые
действия
и
одновременно
обозначает
неадекватность
эти х
дейс твий
зва
нию
действующего
лица ;
и,
наконец,
в
качестве
третьей
опера
ции
текстообразования,
ме няет
назв ание
дейст во ват ел я
со
гласно
логик е
его
действий,
согласно
смыслу
поведения
(«гоне
ния ») : «государственный канцлер»
превращается
в
«великого
инквизитора».
С
точки
зрения
ав торской
инте нции
очевидно,
что
важно
здесь
со б ст венно
не
совпадение
воображения
с
р еа
лиями;
что
связанная
с
эт им
н есо вп аден ием
психологическая
мотивация
(болезнь)
ли шь
вспомогательный
инструмент;
что
поэтически
з на чима
в ы текающ ая
из
эт ой
условности
в озмож
ность
текстообразования
—
переименование
ми ра
и
субъекта
по
призна к у
действия,
в
отличие
от
тог о
узуса
б ыто вой
реч и
и
логики,
который
господствует
в
доте кстов ом
мир е
реалий,
в
де
партаменте.
Все
проявления
основного
п риз нака
мира,
еще
не
осмыслен
ные
у частник о м
событий,
но
уже
отмеченные
им
в
з ап исках
(«странный»), во второй половине первой, «мадридской», записи
переводятся
в
план
чистого
вооб р аж ения,
отграниченного
от
непосредственных
ощущений.
Происходит
превращение
логики
внешних
событий
в
мот ив
внутренней
речи,
на
уровне
которой
моделируется
«предвидение»
космического
со бы тия.
Предметом
да нн ого
фрагмента
текста
яв ляе тся
не
дом
сумасшедших
(не
предметная
си ту аци я), не «И сп а ни я» (не воображаемая ситуа
ци я), а сама функция воображения как дешифрующего меха
низма,
самый
механизм
прозрения
—
на
фиктивном
материале.
Зд есь
образно
ощутимым
д ела ется
тот
признак
мира,
п роявле
ния
которого
в
предметных
ситуациях
р ассказ ч ик
определял
эпитетом
«странный». Так им об р азо м,
эпитет
соединяет
в
п арал
ле лиз ме
ра злич ные
планы
мира
и
т екста
—
предметную
ситуа
цию
и
д во йную
ее
текстовую
т ра н сфо рм ац и ю: «сумасшедший
д о м» -> «Испания» -> «земля» .
Эти м
трансформациям
соо тв ет
ствуют
следующие
операции
п розрен ия:
обозначение
образов
восприятия
->
выделение
несовпадения
имени
с
дей ствие м
48
создание
фиктивной
модели
действия.
На
границе
переключе
ния
со
второго
плана
на
третий
«странная земля Испания»
преобразуется
в
«странное явление» .
Очевиден
пр инцип
тран с
формации:
на
уровн е
чис того
во обр а же ни я, «творческой фан
тазии»
Поп рищи на
устраняются
все
п редметн ы е
свойства
но
сителя
«странного», но запоминается отмеченная на предше
ствующем
уровне
функция
его
в
сопровождении
устойчивого
эпитета
«странный»: место « с т ранн ой
зе мли
Испании»
зде сь
зани мает
действие
(«земли»
во о бще)
как
«странное явле
ни е ». «Странная
земля»
п редп ол агает
возможность
стр анн ых
событий.
Вот
полное
выс к азы вание : «Завтра в семь часов со
вершится
странное
явление:
з емля
сядет
на
лу ну» (3,169).
По
своей
предикативной
функции
образ
во ображ ения ,
на
зываемый
«землей»,
противопоставляется
как ому-то
другому,
который
именуется
«луной».
По
пр из накам ,
которые
выделяет
Поприщин,
земля
—
«вещество тяжелое», луна же
—
шар ,
пр ед
ст авляю щий
с обой
«необыкновенную нежность и непрочность» .
Их
связывает
наступающее
с об ытие : «земля сядет на луну».
Прич ем
д анное
соб ы тие
предвещается
в
качестве
прогноза.
Вслед
за
тем
детализируется
разрушительный
ха рак тер
действия
«земли» (она « м о жет,
нас ев ши,
размолоть
в
муку
нос ы
на ши»
(3, 170)),
и
р еакция
Поприщина
—
«сердечное беспокойство»
по
поводу
будущего,
а
также
решение
противодействовать, «не
допустить
зе мле
сесть
на
луну».
В
роли
спасителя
«луны»
он
спешит
«в залу государственного совета», чтобы предпринять
соответствующие
мер ы.
Ит ак,
два
ми ра
противопоставлены
друг
другу
как
угр ож а
ющ ий
угрожаемому.
Однако
они
со единен ы
в
другом
аспекте
—
в
о смы слении
этой
о ппозиц ии
Поприщиным.
Он
объясняет
ее
как
орга ни ческ ую
связь
ча сти
и
целого:
на
земле
ж ивут
л юди,
на
лун е
же
неотъемлемые
их
ча сти
—
«носы», в силу чего они
не
могут
видеть
эту
часть
своего
лица.
И
более
то го.
Как
раз
п от ому,
что
для
л юдей
я вляется
неощутимым,
недоступным
то,
что
пр едс тавл яет
их
су щест венн ый
недостаток
(без которого
они
«не могут жить»), может наступить катастрофа: «земля»
угрожает
себе
само й.
«Нос»
не
просто
символизирует
отсутствие
существенного
человеческого
качества,
но,
как
сюжетный
мотив
в
прозрении
Поприщина,
яв ляется
метонимическим
субститутом
ощущения
отсутствия:
тр ев огу
вызы вае т
не
о тсу тс твие
качества,
а
осмысление
его
как
дефицита.
Ит ак,
в
предсказуемой
коллизии
открывается
автоколлизия,
в
описании
которой
слово
«луна», а точнее,
ее
референт
в
ка
честве
аналога
пр едикат а,
обозначает
такую
то чку
зрения,
ко
торая
отсутствует,
которой
нет
«на земле», но которая могла
бы
о б еспечит ь
релевантную
п озиц ию
для
автономного
сам о
познания.
Выдвинутую
выше
интерпретацию
по дт верж дает
повторяемость
«носологической»
метонимии
в
тексте
«записок»
Поп рищи на ,
равно
как
и
некоторые
межтекстовые
параллели.
4 Заказ No 299
49
«Нос»,
приобретающий
у
Поприщина
самостоятельное
су ще
ствование
в
изолированном
от
человека
пространстве,—
это
с южет но
р еал изо в анная
ча сть
лица,
возвращается
внимание
чи
тателя
назад
к
первой
части
записок,
к
стандартному
тек сту .
Там
в
поисках
признаков
человеческого
достоинства
и
крите
рие в
самоутверждения
лично с ти
Поприщин
уп омин ает
«нос»
рядом
с
другой
частью
л ица
—
«глазом» .
Вот
как: «...ведь. ..
не
прибавится
третий
глаз
на
лбу.
В едь
у
него
же
нос
не
из
золота
сд ела н,
а
так
же,
как
и
у
меня» (3,164).
Напомним,
что
процитированный
фрагмент
входит
в
высказывание,
в
котором
в
первый
раз
ставит
Поприщин
вопрос
не
только
о
критериях
оценки
авторитетных
в
престижном
мире
лиц
(камер- ю нк ер а,
генерала
и
др .), но впервые задается вопросом также и о само
оценке
и
самоопределении: «кто я таков?»(3,164).
З десь
воз
никает
у
него
дог ад ка
о
то м,
что
обманывал
он
се бя
как
раз
по
той
пр ичине ,
что
применял
к
себе
критерии
с ам оу твер жд ения,
гарантированные
сознанием
принадлежности
к
престижному
ап па рату
(«.. .служба
благородная...
и
все
на ча льник и
на
вы.
Да,
признаюсь,
если
бы
не
благородство
с лужб ы,
я
бы
давно
оставил
департамент»
—
3, 154), сознанием утверждения,
и ду
щего
от
«государственного человека»
и
его
дочери.
З десь
же
явно
вы сказ ывае тся
основная
дог ад ка
Поприщина
об
отсутствии
автономного,
им
сами м
выработанного
принципа
самоопреде
л ен и я: «Может быть,
я
сам
не
знаю,
кто
я
так ов » (3, 164).
Именно
этот
отсутствующий
принцип ,
отсутствующий
язык
са-
моописания
и
самопознания
вырабатывается
в
процессе
со зда
ния
«записок» .
Текст
порождает
язык
самоопределения
и
вы
ступает
по
отношению
к
дотекстовой
недостаче
гер оя
как
о пи
сан ие
недостачи
и
в
то
же
время
как
восполнение
ее.
Отс ут
ствующий
чле н
—
«третий глаз на лбу»
—
в
отличие
от
двух
наличествующих,
но
не
зр ящих
носа
оказывается
атрибутом
самоощущения.
И
как
таковой,
как
замещение
отсутствующего
пр изн ака
становится
сю жет но
ре а лизова нным
фак том
во
второй
половине
повести,
в
нестандартном
тексте
воображения
Попри
щина.
На
«луне»
находится
как
раз
то,
и з-за
о тс утс твия
че го
че
ловек
не
видит
себя,
а
потому
и
грозит
себе
не
заме тн ым
для
себя
истреблением
самой
«нежной и непорочной»
стороны
личности
—
ее
творческой
самоидентификации.
В
таком
же
духе
определяется
вз аимо свя зь
двух
шаров
как
части
и
целого
в
некоторых
мифологических
представлениях.
Согласно
мифологии
индусов,
например,
лу на
—
глаз
земли,
пункт
самонаблюдения.4
Если
с уть
создания
з апис ок
как
найденного
языка
достовер
ного
самопознания
закл юч ает ся
в
осмыслении
недостачи,
в
по
и ске
и
восполнении
ее,
то
в
повести
«Нос»
атрибут
самоутвер
жде ни я, «нос», является средоточием таких,
неоспо р имы х
для
Ковалева,
эмблем
признанности
(«в глазах иных»), которые
нат ал киваю т
на
самооправдание,
а
не
на
самопознание.
Е сли
50
Поприщин
обнаруживает
недостачу
в
своем
внутреннем
мире ,
об на жая
ее
изнутри
средствами
творческой
ф ант азии,
то
Ко
в алев
«видит»
носителя
эмблем
престижных
во
внешнем
мир е
ценностей
у
с ебя
«под носом», на главной улице,
на
Нев ском
проспекте.
Та
фигура,
которой
Ко вал ев
приписывает
во пло ще
ние
признаков
своего
с ам оу твер жд ения,
описана
Го го лем
сле
дующим
о б ра зом: «Он был в мундире,
ши том
золотом,
с
боль
шим
стоячим
воротником.;
на
нем
б ыли
замшевые
панталоны;
при
боку
шпага.
По
шляпе
с
плюмажем
можно
б ыло
заклю
чит ь,
что
он
считался
в
ранге
статского
со в етни ка» (3, 44).
На
этот
набор
д еталей
(ведь сам носитель деталей «с п ря та л
совер
ше нно
лицо
свое»
за
вещественной
дет алью
—
«в большой стоя
чий
во р о тни к») Ковалев переносит название «н ос», указывая
на
отсутствующий
у
него
признак.
П рав да,
д е йствия
но си теля
н азв ания
и
здесь
не
соответствуют
имени
(«ехал с каким - ни
будь
ви зит о м », «поглядел», «закричал», «сел и уехал»
и
т.
д .),
однако
осмысление
это го
н есо о тветств ия,
в
отличие
от
того,
что
мы
видели
в
«Записках сумасшедшего», должно производиться
читателем.
Ковалев
переносит
имя ,
р асск аз чик
дем онс трирует
неадекватность
переноса,
читатель
обнажает
смы сл
неадекват
но го
переноса.
Все
эти
фу нк ции
текст оо бр азо ван ия
и
порожде
ния
см ысла
в
«Записках сумасшедшего»
п ер енесе ны
в
пла н
внутренней
ре чи
Поприщина
и
определяются
как
индивиду
ально
выработанный
способ
самопознания
и
со о тветс тву ющее
прозрению
переименование,
нестандартное
описание
мира.
В
«Носе»
продемонстрирована
модель
по выш ения
ине рции
бы
товых
по нят ий
в
самоописании,
в
«Записках сумасшедшего»
же
—
модель
ее
эффективного
преодоления.
Та
функция,
которую
выявил
«спаситель луны», тут же пере
но сит ся
из
сферы
воображения
в
п ред метны й
мир
и
реализу
ется
в
не м:
второй
удар
палкою
«государственного канцлера»
актуализируется
как
выход
из
тематического
параллелизма,
установленного
ме жду
«странными»
мирами
—
«Испании»
и
«земли» .
Входя
в
сюжетный
пл ан
действия,
поступок
в торг а
ется
в
сферу
реалий
как
некий
«эпический ответ»
на
догадки
Поприщина.
Особенно
эффективно
де йс твует
э тот
механизм
(оправдания прозрений), если учитывать,
что
удар
палкою
вы
ст упа ет
как
пов торяющ ийс я
сюжетный
мот ив,
отсылающий
к
началу
«предвидения»
и
тем
самым
обрамляющий
начало
и
конец
параллелизма.
Таким
образом,
приближение
од ного
мира
к
д руг ому
при
посредстве
эпитета
«странный»
одновременно
реализует
переход
в
описании
мира
с
одного
я зыка
(переимено
вания
предметного
мира
согласно
«рыцарской»
к ульту ре)
на
другой
(кодом которого является экспликация действия пере
именованного
и
смена
по зици и
рассказчика
к
нему).
Так
созда
ются
параллелизмы
текста
(рассказывания),
тогда
как
на
уровне
предметной
ситуации
(рассказываемого)
этот
паралле
л изм
нарушается,
созда в ая
установку
субъекта
текста
на
4*
51
сеоя
самое—на
систему
сюжетных
нарушений
эквивалентов
текста.
Так,
стоит
лиш ь
еще
од ин
раз
повторить
у дар
палкою,
чтоб ы
этот
смыслопорождающий
механизм
привести
в
дейс твие ;
чтобы
отмеченный
уже
один
раз
поступок
по сле
повторения
был
бы
расшифрован,
т.
е.
чтобы
еще
раз
было
бы
отк р ыто
несовпа
дени е
имени
с
д ейс твием
носителя
имени.
Авторефрентивность
этого
акта
особ о
п од че рки ва ет ся: «Я открыл ...».
Если
«стран
ны й»
поступок
в
«странной земле Испании»
сначала
приписы
в ался
ритуалу
чужой
культуры
(«это рыцарский обычай при
вст у пл ении
в
высокое
звание»
—
3, 169), то при повторении он
служит
откреплению
культурного
кода
от
дейст во вател я
и
оп ре
дел ению
дей ст во ва теля
по
при знак у
действия.
Так
преобразу
ет ся
—
согласно
пов торяюще муся
поступку
—
чел ов ек
с
палкой
из
«государственного канцлера»
в
«великого инквизитора» .
Но
переименованию
и
осмыслению
п редш еств ует
смена
по
з иции
Поприщина
по
отношению
к
предмету
описания.
Она
зафиксирована
им
в
начале
второй
зап иси
из
«Мадрида».
То,
что
до
сих
пор
бы ло
л ишь
«странным», но объяснимым,
теперь
становится
полностью
не ле пым
и
непонятным.
Это
высказыва
ется
прежде
всего
в
связи
с
«обхождением», которое Поприщин
н азыв ает
«обычаями и этикетами двора», обнажая на самом
дел е
расширение
об ла сти
и
форм
го не ния: «выбрили мне го
ло ву », «начали мне на голову капать холодною водою»
и
т.
д.
Одновременно
По пр ищин
мен яет
стан:
если
в
предшествующей
записи
он
противопоставлял
с ебя
«народу очень умному» («Я,
как
король,
остался
од ин») (3, 170), то здесь он противопо
ставляет
се бя
«королю»
и
недвусмысленно
соотносит
этот
св ой
поступок
с
прозрением,
об наж аю щим
корни
«безрассудности
королей».
Пере мес тивш ис ь
из
категории
«небритых»
в
группу
«бритых», т .
е.
в
состав
«народа очень умного»,
Поприщин
с
эт ой
новой
по зиции
изменяет
оценку
роли
«короля» .
Но
тем
самым
совершилась
новая
смена
по з иции
Поприщина-рассказ-
чик а
—
на
это т
раз
по
отношению
к
себе
самому
как
герою
(«испанскому королю»).
С
новой
по з иции
разграничивается
«я»
р ассказ ч ика
и
его
ро ль
«короля», роль,
которая
сн ач ала
«непостижима», хотя и в этом случае выделена,
изображена
(«Для меня не постижима. . .», «Только я все не могу понять,
как
же
мог
король
подвергнуться
инквизиции»).
Нетрудно
предвидеть,
что
осмысление
«непостижимого», но уже описан
н ого,
отмеченного
произойдет
всл ед
за
очередной
встречей
с
палкою.
И
действительно,
тр етий
повтор
—
третье
нарушение
—
р еали зу ется
в
предпоследней
за пис и,
порождая
новое
прозре
ние
в
структуру
действия
описываемого.
Новый
признак
мир а
определяется
словом
«бессилие»
и
объясняется
автоматизмом,
отсутствием
деесп осо бно ст и
и
са мо стоят ельн ой
стратегии
дей
ств ия.
Таки м
образом,
к
основному
пр изнак у
прикр епля ет ся
новый:
к
агрессии
—
инерция.
Причем
пе рвый,
ос нов ной,
уходит
52
на
роль
вт ор ост епенно го ,
вторичного,
производного,
а
второй
занимает
его
место.
Агрессия
осмысляется
теперь
в
качестве
симптома
более
ва жного
и
глубинного
свойства
структуры
мира
—
его
бессилия.
Вот
как
сформулирован
этот
ит ог
п ро
зрения
ра с с ка з чико м: «Но я совершенно пренебрег его («вели
ког о
инквизитора». —
А.
К.)
бессильною
злобой,
зная,
что
он
дейс тву ет,
как
машина,
как
орудие
англичанина» (3,171).
Пе
ред
читателем
возникает
нов ая
п а раллель
с
о с новным
свойством
«земли»
—
этого
«тяжелого вещества», инертного в своей агрес
сивности
и
лишенного
какой-либо
точки
зрения
на
св ой
само
разрушительный
механизм.
Определение
инертного
действия
достигается
параллелиз
мом
—
«как машина»/«как орудие англичанина», второй член
которого
маркирует
с вязь
(макропараллель)
двух
абзац ев:
концовки
данной
и
последних
строк
пр еды ду щей
записи
(«но
я
знаю,
приятель,
что
тебя
водит
англичанин.
Это
уже
и звест но
всему
свету,
что
когда
Англия
нюхает
табак,
то
Франция
чи
х а ет» (3, 171).
Ит ак,
прежде
осмысления
вы стр аив ает ся
образ
ная
модель
го нения
и
его
детерминированности.
Получается
с леду ющий
ряд :
испан ск ий
король
—
ма рио нетк а
и нкви зи ции;
инквизиция
—
Фр анц ии;
Франция
—
А нг лии,
и
в есь
э тот
кау
зальный
ряд
сво йст вен
«земле», макроструктуре мира,
описы
в аемог о
Поприщиным.
Теперь
о каз ывает ся
совершенно
умест
ным
и
лишенным
парадокса
«алогическое»
высказывание: «Я
от крыл,
что
Китай
и
Испания
совершенно
одна
и
та
же
з емля...» (3, 169).
Понятно,
что
Испания
и
Китай
«разные го
с уд а рс тва», если подходить к ним с точки зрения обычных по
нятий—
географических,
этнических,
политических,
культур
ных
и
т.
п.
Но
в
сфере
поэтического
языка
Гоголя,
по
з акон ам
смыслопорождающих
правил
«записок сумасшедшего»,
они
могут
быт ь
уравнены.
Если
пр ид ержи вать ся
эти х
законов
в
прочтении
т екста
и
той
условности,
которую
они
образуют
при
создании
как
будто
«алогических»
высказываний
«сума
сш е д ш е го », при построении индивидуального языка этих выска
зываний,
то
«одна и та же земля»
предстанет
перед
на ми
в
ка
чест ве
обозначения
цело го
кл асса
явлений
или
хотя
бы
одного
общего
для
них
п риз нака
(неработоспособного в бытовой ком
м уник ац ии), который 1) сначала обозначается - изо лир у е тс я
при
помощи
эпитета
«странный»; 2) затем переводится в иной се
миотический
стату с,
в
образную
модель
действия
«земли»;
3) и,
наконец,
эксплицируется,
осмысляется
в
качестве
прозре
ния
субъекта
записок.
Последний
реализует
все
эти
п рев раще
ния
между
планом
рассказываемого
мира
и
планом
текста
рассказывания,
произведенные
по
пр инци пу
сближения
знаков
с
предметами
согласно
признаку
действия
обозначенного.
Не
со бл юден ие
э тих
законов
поэтического
(повествовательного)
мышления
грозит
опасностью
ока заться
наивным
или
б езг ра
мот ным
относительно
требования,
исх од ящег о
от
всякого
худ о
53
жественного
произведения,
—
применять
в
его
понимании
тот
индивидуальный
способ
смыслообразования,
который
заложен
в
указанных
выше
мотивациях
взаимосвязей
акто в
изображе
ния
с
объектами
изображаемого
мира.
Поэтическая
мотивация
порождает
таки е
вы сказ ыв ания ,
которые
с
точки
зрения
быто
вой
мотивации
мышления
к ажут ся
«алогическими» .
Но
именно
эту
точку
зрения
критикует
текст,
когда,
устанавливая
пр авил а
своей
индивидуальной
мотивации,
всячески
оговаривает
неком
пет ент но сть
применения
каких-либо
иных
правил.
Оди н
из
са
мых
по каз атель н ых
сигналов
такого
рода
гла си т: «. . .только
по
нев еже ству
считаю т
их
за
разные
государства» (3,169).
Е сли
при
это м
удовлетворяться
объяснением,
что
«алогизм»
служит
до сти жен ию
«комического эффекта», то это будет свидетель
ствовать
о
том
«невежестве», от которого предостерегает про
цитированное
выше
предупреждение.
Предполагаемые
в
высказывании
Поприщина
«они» (кото
рые
«по невежеству считают») —
это
все
те
персонажи,
ко то
рые
остались
за
пределами
зап исок ,
в
предметной
ситуации,
—
без
языка
самоописания
и
самопознания.
Поприщин
же
не
тольк о
участник
событий,
но
и
расск аз чик ,
открывающий
в
п ро
цессе
создания
з аписо к
вну т ренний
смысл
событий:
его
за
писки—
т акая
часть
мира,
которая
возведена
в
ра нг
модели
действия
це лого,
к
потому
история
с оз дания
этой
части
—
текста
записок
—
ес ть
доминантное
сюжетообразующее
собы
тие ,
определяющее
жанр
повести,
а
с
другой
стороны,
такой
поступок
личности,
из обра же нный
Гоголем,
па
основании
кото
рого
автор
противопоставляет
это
событие
тотальной
агрессии
«недвижущегося», недееспособного,
ине рт ног о,
а
пот ому,
в
ко
не чном
счете,
бессильного
целого.
Ввиду
сказанного,
эпитет
«сумасшедший»
мож ет
быть
осмыслен
в
двух
системах.
В
предметном
зн аче нии
сл ова
это
обозначение
применимо
к
больному.
В
сюжетно-нарративном
плане,
согласно
выработанным
в
записках
пр ав илам,
эпитет
«сумасшедший»
до пу скает ,
перенос
этого
свойства
на
мир.
И
действительно,
что
ес ть
абсурднее
«силы бессилия»? Это
самый
не л епый,
самый
«алогический»
та втол огизм ,
—
он
часто
противоречит
н ашим
п оняти ям
о
смысле
жизни
или
де йст ви
тельности,
но
это
отнюдь
не
мешает
действительности
б ыть
та
ковой.
И
даж е
напротив,
чем
больше
про т иво реч ий,
тем
легче
поддаваться
ее
законам,
не
зам ечая
самообмана.
Вот
в
чем
может
заключаться
одно
из
возм ожн ых
прочтений
повести
Го
голя.
Нетрудно
заметить,
что
«сила бессилия»
—
одн о
из
уст ой
ч ивых,
лейтмотивных
в
творчестве
Гоголя.
Но
это
еще
не
вс е.
Ведь
дел о
не
толь ко
в
т ом,
что,
с оздав ая
записки,
Поприщин
обнажает
обманы
мира
и
с вои
самооб
маны,—Гоголь
не
сводит
поведение
расс казчи ка
к
разоблаче
нию
или
саморазоблачению.
Самая,
быть
может,
глубокая
мысль
Гоголя
заключается
в
то м,
что
текстообразующую
д ея
54
тельность
Поприщина
автор
представляет
нам
в
таком
ка че
стве,
которое
мотивирует
его
но вое
поведение
в
предметном
мире,
им
самим
описываемом.
В
этом
смысле
мы
и
сч ит аем
необходимым
воспринимать
«записки»
как
сюжетный
поступок,
ибо
они
реализованы,
с
одной
стороны,
как
текст
описания
и
осмысления
мира ,
но
с
другой
стороны,
как
мо тив
для
хо да
со
бытий,
смены
отношения
к
м иру
и
к
са мому
себе.
Текст
как
новый
мотив
в
поведении
Поприщина
обусловли
вает,
например,
его
дерзость
«пренебрегать»
злобой
и
пр есл е
дованием
«великого инквизитора» .
Это,
пр авда,
не
бунт .
Но
во
всяком
случае
не
меньше
бунта:
с охран ен ие
своей
автономии
в
условиях
преследования
путем
удвоения
мира
посредством
его
раздвоения
на
маску
и
существенность.
Поприщин
от ст аи
вает
свою
са мос тоя тельн ост ь
через
строение
мира,
совершаемое
им
в
условиях
всеобщего
разрушения.
Поэтому
он
сам
тоже
удваивается:
как
субъект
действия,
как
жертва
ударов
и
пр е
следования
Поприщин
о тчаянно
вз ыв ает
о
пом ощ и;
но
как
суб ъект
тек ста
он
«пренебрегает»
ею
(«нет,
бр ат,
не
на
дуешь!
знаем
мы
т е бя. . .» (3, 171)); он изображает мир и цити
рует
себя
в
момент,
когда
этот
мир
его
избивает;
он
строит
модель
гонения,
строит
пам ятник ,
неистребимый
«палкою» .
Это
да же
больше
бунта.
Отсюда
из вестно е
двуязычие
стиля
записок,
которое
выпа
дает
из
кругозора
исследователя,
если
его
интерпретация
учи
тывает
лишь
пл ан
поведения
Поприщина
как
действующего
лица
и
игнорирует
его
поведение
как
создателя
записок.
При
эт ом
рассмотрение
сюжета
обычно
кончается
на
«лирическом»
воз зва нии
о
с пасени и
«беспомощного»
человека,
а
такая
редук
ция
неизбежно
приводит
к
логизации
под л инно го
смысла
по
вести,
—
к
выводу
о
п ассив ном
непротивлении
как
идеологиче
ск ой
программе
самого
Гоголя.
Но
при
эт ом
зачастую
не
до
читывается
текст
до
конца,
не
осмысливается
последняя
ф раза
рас ска зчи ка : «А знаете ли,
что
у
алжирского
дея
под
самым
носом
ш ишк а» (3, 172).
А
ведь
она
контрастно
противопостав
лена
словам
действующего
л ица,
молившего
о
спасении.
Чрез
вы чай но
важное
значение
ее
обусловлено
тем,
ч то,
с
одной
стороны,
это
противопоставление
выделено
как
последний
сю
жетный
акт
субъекта
т ек ст а , «спасающего луну»
и
находящиеся
там
«носы», а с другой,
как
мот ив,
завершающий
систему
повторов.
Слово
«нос»
в
последнем
высказывании
Поприщина
в озв ра щает
читательское
вос прия тие
к
предыдущим
употребле
ния м
и
осмыслениям
то го
же
слова,
т.
е.
з авер шает
поэтиче
ск ую
сист ему
и
текст
повести
в
це лом
на
том
уровне,
на
кото
ром
читатель
мог
воспринимать
деятельность
текстообразую
щего
на чала,
—
становление
субъекта
записок,
ст ано в
ление
«нарративной личности»,
для
которой
и
«титулярный
советник», и «дворянин», и «король», и «дей»
оста ютс я
пр ед
метом
описания
и
осмысления.
Правда,
оттого
«ему нет места
55
на
свете!
его
го нят !» (3,172) (даже говорит эта нарративная лич
нос ть
о
себе
как
герое
с
дистанцией,
как
о
«нем», объекте,
по
отношению
к
которому
она
ес ть
творец,
субъект).
Но
з ато
Поприщин
создает
се бе
место
на
«луне», в творческом мире,
в
тексте
о
«свете», его вытеснившем из своих границ.
Анализом
р ассказ ыв ания
и
р ассказ ы ваем ог о,
выявлением
принц ипов
сюжетной
мотивации
их
в за имоотн ошен ия
и
взаимо
действия
все
еще
не
исчерпан
предмет
исследования,
осмысляе
мый
в
рамках
поэтики
жанра.
Остается
еще
рассмотреть
во
прос
о
несовпадении
памяти
героя-рассказчика
и
собственно
лите ра ту рной
памяти
автора/читателя.
Поскольку
у
нас
нет
возможности
рассмотреть
весь
комплекс
возможных
межтексто
вых
и
внутритекстовых
сопоставлений,
мы
о гра ничива емс я
во*
просом
об
о с новных
принципах
внутренних
параллелизмов,
вы
текающих
из
ж анр овой
структуры
пове ст и
и
определяющих
зако ны
(и смысл)
в осп роизв еде ния
чужих
те ксто в.
В
связ и
с
ра бото й
прозрения
и
памяти
героя-рассказчика
бросается
в
гл аза
необыкновенная
«забывчивость»,
легкость
нарушения
памяти,
в
том
чи сле
и
на рушени е
устойчивой
с вязи
слов
(и понятий)
с
предметами.
Оч евид но
также,
что
это
свой
ство
органически
связано
с
другой
особенностью
условности
повести
—
с
ле гко
возбудимым
воображением
говорящего.
Ра з
личие
между
нарративной
памятью
автора/читателя
и
па мять ю
су бъек та
текста
можно
б ыло
бы
сформулировать
следующим
образом.
Герой-рассказчик,
как
носитель
прозрения,
трансфор
мируется
в
соответствии
с
мотивами
«открытия»
все
но вых
и
новых
признаков
изображаемого
им
предмета.
Установка
на
выражение
новых
смыслов
не р азры вно
с вяза на
с
особенностями
условности
повести,
о
которых
мы
уже
говорили
выше.
Согласно
двойному
механизму
—
легкости
нарушения
моторной
памяти
и
легко
в озб удимому
воображению
—
при
смене
по зи ций
ра с
сказ ч ика
по
отношению
к
пр ед мету
рассказывания,
забвению
подвергается
способ
экспликации
смысла.
Установка
на
п ро
изводство
смыслов
за глушае т
память
о
средствах
производ
ства.
При
эт ом
от м еченно сть
фор м
«забвения сумасшедшего»
выступает
как
сигнал
на р ра тивной
памяти
для
читателя,
в оз
вращая
назад
к
уже
применяемым
средствам
«открытия», к раз
личным
тип ам
повторов
повествовательного
т екста
и
сю жета ,
а
также
к
межсюжетным
и
межтекстовым
параллелям.
Де
шифр овка
в нут р еннего
мира
произведения
(сюжет прозрения)
сопровождается
накоплением
смыслов
и
к ульту рн ых
ценно ст е й,
и
кроме
того
—
что
самое
главное
—
она
развивает
особое
уме
ние
накоплять
и
осмыслять
значимость
накопленного
для
ста
новления
личности
именно
«по-гоголевски»
неповторимо,
так,
как
оно
диктуется
внутренним
параллелизмом
текста,
повество
вания,
сюжета
«исповедальной»
по
жанру
повести.
56
Обратимся
к
некоторым
примерам.
Остановимся
на
самом
заметном
(но тем не менее не изученном)
фонологическом
повторе,
сближающем
две
осн ов ные
ситуации
Поприщина: «де
партаментскую»
и
«испанскую» .
Р ечь
идет
о
словах
—
«э- к, -и -в- о- к-и »І«э-т- и- к-е- т-ы»
—
столь
яв но
параллельных
по
звуковой
манифестации
и
организации,
что
нет
надобности
аргументировать
правомерность
сопоставления.
Второй
чле н
возникает
в
следующем
с о че т а нии : «этикеты двора».
Именно
в
этой
синтагматической
форме
ок азыв ает ся
обусловленным
сближение
с
предыдущей
р еализ ацией
звукоряд а: «при-д вор - ны е
штуки
и
экивоки».
Здесь
вводится
третий
элемент
сопоставле
ния
(«штуки»), нарушающий закон фонологического повтора
и
одновременно
устанавливающий
лексический
параллелизм.
Общий
для
элементов
превращенного
повтора
эпитет
—
«при
дворные»
—
подтверждает
сближение
и
на
уровне
синтагмати
ческих
сопоставлений.
Как
мы
увидим
ниже,
закон
сближения
и
нарушения
сбли жаем ы х
последовательностей
действует
на
уровне
более
крупных
ед иниц
текста
и
в
пла не
с ин такс иче ских
конструкций
и,
в
конце
ко нцо в,
управляется
сюжетно-жанро
вы ми
свойствами
повести.
«Штуки»
и
«экивоки»
—
сл ова
с
весьма
стертым
предметным
значени ем
—
соединены
в
один
кл асс
понятий
при
помощи
эпи
те та
«придворные»
и
сл ужат
определению
логической
установки
субъекта
текста
на
познавательную
цел ь
(«Хотелось бы мне
узнать...» —3,159).
Однако
первое
слово
представляет
соб ой
возобновление
более
раннего
применения
с
указ анием
су бъ екта
де йс тв ия : «штуки начальника отделения».
Если
пер вый
член
сбл ижаем ы х
ед иниц
отсылает
назад
(к департаментской си
туац ии
и
главному
антагонисту
г еро я),
то
второй—«эки
вок и»
—
экстраполирует
систему
повторов
вперед,
на
«эти
ке т ы» (и соответственно на ситуацию «и сп анско г о
двора»
с
новым
антагонистом).
Получается
согласованный
с
сюжет
ной
композицией
прозрения
(но не доступный для носи
теля
прозрения)
ряд
превращенных
повторов: 1)«штуки на
ч ал ьника
отдел е ни я», 2) «придворные штуки и экивоки», 3) «эти
кеты
двора».
Целесообразно
будет
напомнить,
что
«этикеты двора» (равно’
как
и
варианты
—
«рыцарский обычай», «народные обычаи»)
применяются
в
качестве
определения
признака
действия,
по
от
н оше нию
к
действиям
нового
антагониста
героя,
к
ударам
палкою,
т.
е.
слу жат
выделению
сюжетного
повтора,
ко тор ый
пол уч ит
впоследствии
осмысление
(«гонит»).
Осмысление
при
знака
действия
р еали зу ется
в
прозрении
героя,
однако
не
р ас
пространяется
на
параллельную
сит уацию ,
резко
отмеченную
на
в сех
уровнях
лингвистической
манифестации,
в озв ра щаю
щей
после
осмысления
второй
(«испанской») ситуации назад
к
первой
(«департаментской»).
Проиллюстрируем
данную
сим
ме т рию,
управляющую
работой
памяти
читателя,
теперь
уже
на
57
уровне
си нтакси чес ки х
конструкций,
сб л ижаю щих
два
в ыска зы
ван ия
р ассказч и ка:
«Как будто я не знаю,
чьи
здесь
штуки.
Это
штуки
началь
н ика
отделения.
В едь
поклялся
же
человек
непримиримою
не-
навистию—и
вот
вредит
(экспликация признака действия.—
А.
К ,.)
да
и
вредит,
на
каждом
шагу
в ре ди т» (повышенный
повтор
эк сплик ации. —
А.
К.)
(3, 164).
А
вот
и
непо лны й
в ар иант
высказывания:
«О,
это
б естия
Полиниак!
Поклялся
вредить
мне
(повтор .
—
А.
К.)
по
смерть.
И
вот
гон ит
(нарушение повтора.
—
А.
К.)
да
гонит
(повтор нарушения и повышение частоты новой экс
пликации.—
А.
К .).
Но
я
зн аю,
что
те бя
во дит
англичанин.
Англичанин
большой
по лит ик » (3, 171).
Очевидно,
что
все
параллелизмы
рас сказ ы ван ия
текста
на
рушаются
или
устраняются
в
соответствии
с
повторами
(поступ
ков
и
ситуаций)
на
уровне
рассказываемого
мира,
т.
е.
согласно
п ов торам
нарушений,
организующим
сюж етн ую
последователь
ность
сближаемых
или
эквивалентных
элементов:
организация
текста
сбл иж ает
или
ур ав нивает
«департаментскую»
ситуацию
с
«испанской», организация мира ( сюже т)
сопоставляет
их,
об
нажая
смысловую
нетождественность.
Поэтому
повторяемость
в
тексте
повествовательного
произведения
«сюжетогенна», па
р алл ели змы
плана
выражения
в
нем
не
просто
нарушаются,
но
и
претерпевают
превращения
в
соответствии
с
сю жетн ой
мотивацией
свя зи
текста
и
мира,
р ассказ ыв ани я
и
рассказывае
мого.
Ко ль
скоро
в
да нном
случае
ре чь
ид ет
о
нарративной
модели
самоописания,
об
«исповедальной»
форме
пр озре ни я,
эта
мотивация
сопряжена
с
осмыслением
все
новых
и
новых
признаков
сменяющихся
ситуаций
носителя
записок.
Наша
ил
люстрация
свидетельствует
о
то м,
что
признак
действия
а нта
гониста
Поприщина
переносится
с
ми к рост рук туры
мира
на
его
макроструктуру
(департамент
—
государство
—
з е м ля), перено
сится
одновременно
с
пов ыш ени ем
осязаемости
действия: «вре
д ит»
«гонит».
При
эт ом
де йстви е,
означенное
словом
«эки
во ки », приобретает конкретный,
значимый
для
героя,
смысл.
А
ре а лизов анный
в
мире
смысл,
в
свою
очередь,
конкретизи
рует
кр уг
значений,
приложимых
к
слову
«этикеты» .
Точно
также
«государственный человек»
-> «государственный канц
лер»«великий
инквизитор»,—
это
такой
ряд
нарративного,
управляемого
сюжетом
(превращенного)
повтора,
в
котором
смена
названий
и
эпитетов
производится
по
закону
сближения
знаков
с
носителями
зна ков
согласно
признаку
действия.
При
эт ом
предикации
по дчиняетс я
не
только
план
содержания,
но
и
обозначающий
ка честв о
антагониста
устойчивый
эпитет:
ко
ре нь
глагола
«удар - пл»
воспроизводит
фонический
сегмент
прила га тел ьног о
«гос- р дя р-с т венн ый». (Следует
напомнить,
что
между
этими
с лова ми
нет
этимологической,
семантической
св язи .)
Вопреки
своему
стандартному
грамматическому
назна
58
чению
быть
обозначением
качества,
свойства,
эпитет
выбран
автором
так,
чтобы
в
плане
выражения
имелся
повтор,
сближа
ющ ий
пр илаг атель но е
(со значениями « в аж ны й», «мудрый»,
«незаменимый», «значительный», «авторитетный»
и
т.
п.)
с
гл а
голом,
выбранным
для
обозначения
сюжетной
фу нкци и
антаго
ни ста
(имеющим набор эквивалентов: «выбить из головы», «вы
б рить
г о ло ву », «капать на голову водой», «ударить палкой по
с пи н е», «гонять», «вредить»
и
т.
п.).
Вто р ое,
управляемое
нар
ративным
со знан ием ,
обозначение
—
фонический
повт ор ,
уста
навливающий
п а раллели зм
ме жду
членами
«государственный»
и
«ударил»
—
мен яет
статус
слова:
оно
становится
функцио
нальным
не
как
эпитет,
а
как
криптограмма.
В
интерпрета
ции
—
или
в
прозрении
героя
—
это
зн ачит,
что
смысловая
эк с
пл ика ция
поведения
а ктан та
должн а
происходить
не
по
зн аче
н иям,
закрепившимся
в
моторной
памяти
читателя
в
с вязи
с
л ексемо й
«государственный», а по нарушающим эту автома
тическую
св язь
(слова с ценностями)
пр авил ам,
которые
опре
деляют
«неожиданное»
сближение
атрибута
и
предиката.
То
же
самое
мы
наблюдаем
в
других
с луча ях.
Та к, «про
клятая
палка»
как
устойчивый
атрибут
а нта гонис та
—
не
что
и ное
как
материализованный
в
м ире
гер оя
эпитет,
характери
зующий
в ре дите л я, «начальника отделения»
вот
как: «прокля
тая
цапля ».
Замена
действ оват еля
явно
связана
с
экспликацией
фу нк ции: «цапля»
—
«вредит», «палка»
—
«гонит».
Совершенно
понятно,
что
э кспли кац ия
происходит
в
си лу
повышения
ощути
мости
действия,
в
результате
того,
что
в
р еал изац ии
гонения
(«удары палкою») становится обнаженной структура мира,
не
обнажающая
себя
в
дотекстовой
реальности,
там,
где
мир
и
герои
общаются
на
стандартном
языке
и
обмен ив аю тся
«зна
ками
благорасположенности».
Только
создание
индивидуаль
ного
автономного
способа
подхода
к
миру
(а не применение
уже
го то вых
шаблонов)
и
понимания
ег о,
т олько
умение
про
изв о дить
средства
осмысления,
то лько
«записки»
д елают
в оз
можным
это
обнажение.
Таки м
образом,
сюжет
прозре ни я
реализует
систему
все
более
глубокого
осмысления
закономерностей
ми ра,
то гда
как
параллелизмы
текста,
не
ощущаемые
субъектом
прозрения,
вос
станавливают
соотношение
этих
закономерностей
с
формами
их
бытования
в
«престижном мире».
Нарративная
память
посто
я нно
от сыла ет
от
экстраординарных
реализаций
фун кции
анта
го нист а
(макроструктуры)
назад,
к
ординарным
воплощениям
той
же
функ ции
в
первой
половине
повести
(микроструктуре) . .
След ова те льно, «этикеты двора»
и
«народные обычаи»
не
пр о
сто
уравниваются
с
«придворными штуками и экивоками», обес
печ и вают
не
просто
сюже т ную
эквивалентность,
но
к
тому
же
эксплицируют
св язь
двух
ситуаций
как
отношение
нерасшифро
ванн о го
(«экивоки») мотива к мотиву расшифрованному («эти
ке ты»).
Но
д ело
не
исчерпывается
экспликацией,
кол ь
скоро
59
толь ко
постоянные
возвращения
от
экстраординарных
фо рм
(исключительных,
фантастических,
алогических)
го н ения
к
ор
динарным
фор ма м,
его
бытовым
(«департаментским») проявле
ния м,
пр ивыч ным,
а
потому
неощущаемым
героем,
могут
обеспе
чивать
более
или
менее
полное
прочтение
повести.
При
э том
в ажно
и
восприятие
автоматизма,
инерц ии
бытовых
меха ни змов
гонения,
возведенных
в
степень
ритуализованного
поведения
в
«благоустроенном государстве».
Именно
бытовая
ритуализован-
нос ть
г о нения
и
самогонения
вы ража етс я
весьма
экспрессивно
в
выборе
так их
лексических
е ди ниц,
как
«этикеты», «народные
об ы чаи».
Соответственно,
в
одном
плане
открыто
говорится
о
бессилии,
нед ееспо со б ност и
изображенного
мира,
тогда
как
в
другом
—
о
с иле
властвующей
в
нем
инер ции,
о
живучести
отжившего.
Эта
ид ея
«Записок сумасшедшего»
ок азал ась
весьма
значи
тель н ой
для
дальнейшего
творчества
Гоголя.
Ро ст
бессилия
и
соответствующий
рост
агрессии
яв ляе тся
м ар киров анным
мо
тив ом
пове с ти
«Шинель», текст которой завершается микросю
жетом,
подытоживающим
смысл
макросюжета,
смы сл
«жизни
после
см ер т и», живучести отжившего.
В
этом
резко
выделенном
финальном
отры вк е
повествуется
о
в стр ече
будочника
с
приви
д ением .
На
втором
плане,
в
сюжете
анекдота,
включенного
в
рас сказ
о
встрече
с
привидением
и
нарушающего
повествова
н ие,
да ется
модель
си лы
бессили я: «Но,
будучи
по
природе
своей
несколько
бессилен,
так
что
од ин
раз
обыкновенный
в зрос лый
поросенок,
ки ну вшись
из
какого-то
частного
дома,
сшиб
его
с
ног,
к
величайшему
смеху
стоявших
вокруг
извоз
чиков
(модель бессилия .
—
А.
К .), с которых он вытребовал
за
такую
издевку
по
грошу
на
табак
(авторитет бессилия .—
А.
К.)
—
итак,
будучи
бессилен,
он
не
посмел
остановить
е го ...»
(3, 142).
Дво йно е
испытание
бу до чник а,
в
плане
«обыкновен
ного»
предстающего
недоразвитым
сущ ест вом ,
а
в
плане
«исклю
чительного»—
носителем
сверхразвитого
воображения,
поро
ждает
сюж етны й
п ара ллели зм.
Выход
из
параллелизма
обн а
жает
действительное
бессилие
авторитетного,
с
одной
стороны,
а
с
другой
—
воображаемый
рост
а втор ите та,
рост
силы
бесси
лия.
Именно
в
соответствии
с
эт ой
ант ино м ией
признаков
мира
Гоголь
удваивает
изображаемое
и
об ра зно
воплощает,
с
одн ой
стороны,
б ессил ие
в
фигуре
бу до чни ка,
а
с
другой
—
рост
его
фиктивной
си лы
в
его
же
вооб р аж ении
(в фигуре призрака).
Р еальн ый
носитель
ине рции
послушно
сле дуе т
за
призрачным
своим
авторитетом: «Итак,
будучи
бессилен,
он
не
посмел
остано
вит ь
его,
а
так
шел
за
ним
в
темноте...» и т.
д.
Подчеркнем,
что
призрак
есть
ф акт
воображения
будочника,
точно
так
же
как
«ревизор»
—
городничего,
«нос»
—
Ковалева,
«король»
—
По-
прищина.
Носитель
п ри знака
бессилия,
не
выд е ржа вший
и спы
т ания
«поросенком», «как машина», «как орудие»
подчиняется
переживанию
и
ощущению
увеличения
ине р ции,
усиления
ра-
60
ботоспособности
ди сфу н кц ии: «Привидение,
однако
же,
бы ло
уже
гораздо
выше
ростом...» (3,142).
При
этом,
чт об
не
б ыло
не
доразумений,
чтобы
бы ло
яс но,
что
речь
и дет
об
ав томоде ли
(анео «мертвеце
в
ви де
ч и но вн ик а »), Гоголь наделяет носи
теля
роста
недостатка
(«привидение»
как
акт
со знания
будоч
ника)
атрибутами,
уже
изве стн ым и
из
первой,
н ефант асти че
с кой
части
повести,
—
«кулак», «усы», т.
е.
атрибутами
самого
бу до ч ника.
Повтор,
однако,
неполный
—
воспроизведенные
эл е
менты
сопровождаются
эпитетами,
выражающими
новое
свой
ство,
р ост : «такой кулак,
какого
и
у
живых
не
най деш ь », «пре
огромные
усы».
В ыра же н и е: «привидение вдруг оглянулось,
и
ос тан овясь ,
с про с ило », явно свидетельствует об автореферентив -
ной
роли
«привидения», т .
е.
о
том ,
что
в
этом
образе
своего
воображения
хотя
бы
на
од ну
се ку нду
носит ель
бесси л ия
ув и
дел
с ебя
самого,
а
то чне е,
тот
пр из нак
поведения,
который
обеспечивает
силу
бессильному,
э кспа нсию
нед ееспо со б ног о,
живучесть
отжившего,
значительность
незначительного.
Эта
мысль
лежит
в
основе
всех
с юже тных
мотивов
«Шинели»,5 по
сл ед ний
из
которых,
про ана лиз иро ва нный
выше,
выявляет
за коны
нарративного
смыслообразования
и
построения
текста,
обнажает
оди н
из
творческих
пр инципов
Гоголя.
Следует
обратить
внимание
на
уже
изв естны й
нам
механизм
предикации
грамматического
уровня,
на
при емы
собственно
сюжетной
мотивации
связей
плана
выражения
и
содержания.
Финальной
сюжетной
фу нк ции
со о тв етству ет
выраженное
суще
ствительным
«рост» (от глагола « р асти»), соединенным в один
мотив
с
не
имеющим
статуса
экзистенции
феноменом
как
семан
тическим
эк вивал енто м
не
только
имени
«привидение», но и
эпитета
«бессилен» .
В
сем ан тичес ко й
дешифровке
это
можно
прочесть
та к: «растет бессилие неэкзистирующего феномена» .
В
контексте
всей
повести
к
этому
следует
прибавить
еще
один
мотив,
дополняющий
смысловой
ми р: «страх города вызван
ростом
бессилия
не экзи стир у ющ его
ф ено м е на», которому соот
ветствует,
как
мы
ви дел и, «воображаемая сила» .
Как
раз
эти
семантические
при знак и
интегрирует
Гоголь
в
мотиве
«взрос
лый
по ро с ено к», устанавливая параллелизм повторами в лин
гвистической
манифестации:
эпитет
«вз -р ос-лы й»
своим
корнем
слова,
а
«по-рос-енок»
фонически
с о чета ются
с
«рост- о м».
Но
в
мотиве
заключен
оксюморон,
поскольку
л ексем а
’поросенок’
означает
—
недоразвитое,
невзрослое
существо.
Синтагма
«взрослый поросенок»
м оде ли рует
объект
с
се м античе ской
анти
номией,
которая
мож ет
быть
дешифрована
т ак: ’достигшая
крайнего
предела
развития
не хв ат ка’,
’абсолютная
н едо раз
витость’,
’полное отсутствие определенных
признаков’;
в
фи
н але
«Шинели»
—
’полное отсутствие признаков силы и экзи
стенции’.
Нет
со мнени я:
знаменитый
финал
«Шинели»,
равно
как
и
вся
повесть,
подчиняется
смысловой
экспликации
при
учете
роли
сюжетного
параллелизма
(«привидение»/«поросе
61
н о к»/«будочник») в организации не только плана содержания,
но
и
всех
у ро вней
лингвистической
манифестации
(повторы
фон ем,
морфем,
синтагм,
с инта кс ически х
конструкций,
абз ацев ).
Ос новные
принципы
поэтического
мышления
Гоголя,
в ыяв
ленные
на
материале
повествования
от
первого
лица
и
фиктив
ного
третьего
лица,
о бнар у жив аются
также
и
в
драматургии
писателя.
Обр ащая сь
к
примерам
из
«Ревизора», следует под
черкнуть
непосредственную
эво лю цио нную
с вязь
и
даже
зави
симость
пьесы
от
«Записок сумасшедшего».
Дело
в
том,
что
монолог
Поприщина
—
это
пер вая
полностью
«драматизирован
ная
модель»
в
творчестве
Гоголя,
если
признать
конструктивным
признаком
др амы
о тсу тств ие
объективного
повествователя
и
связанную
с
ним
персонификацию
изображаемого
мира.
Пр а
в да, «записки»
как
внутренний
мо нол ог,
как
монодрама
е сть
все-таки
повествовательная
персонификация,
а
не
сценическая.
Тем
не
менее
текст
з апис ок
как
ча сть
мира,
те ксто м
же
воспро
изведенного,
есть
модель
структуры
мир а
целого.
Именно
здесь
соприкасается
исповедальное
повествование
с
драмой
и
оп ре
деляется
эволюция
поэтической
системы
от
«записок»
к
сцен е,
от
роли
Поприщина
в
создании
этой
модели
к
ро ли
Хлестакова
в
создании
сценич еск ог о
варианта
ее.
На
сцене
персонифицированный
д ублик ат
мира
(Города)
возникает
на
глазах
зрителя
по
ходу
со б ытий
благодаря
то му,
что
Хл еста ков ,
потрясенный
стра хом,
начинает
действовать
сообразно
ожиданию
Города.
Извес тно ,
что
это
ожидание
на
правлено
на
появление
тайного
ревизора.
В
сил у
целого
ря да
поступков-уподоблений
Хлестаков
в
своем
у сло вном
поведении
воплощает
на
сцене
не
св ою
личность
(хотя сама способность
к
адапт ации
одн о
из
ва жнейш их
свойств
его
досценического
х ар ак тер а), а другую,
ему
не извест ну ю,
ту,
которая
укрепилась
в
моторной
памяти
Города.
Свойства
этой
жест ко й
памяти
о
т ипич ном
ревизоре
и
на х одят
сво ю
наглядную
инкарнацию
в
сценическом
дубликате
о ригина ла ,
наличествующего
в
«го
лове»
городских
чиновников.
Перед
нами
несомненно
психоло
гическая
драма,
и ли,
по
выражению
Го г о л я, «душевный город»;
драма
встречи
неосмысленного
содержания
ду ши
с
ее
собствен
ной
сущностью,
воплощенной
в
сценическом
образе
Х лест акова.
Ве дь
дел о
именно
в
том,
что
уподобление
Хлестакова
«душев
ном у
г ор од у » (а вовсе не ревизору,
о
котором
он
и
п оня тия
не
имеет ),
свойствам
его
стандартного
мышления
и
де йс твия м,
уподобление,
реал из о ванно е
в
поступках,
жестах,
словах,
де
ла ет
доступным
для
зрения
и
сл уха
все
то,
что
в
жизни
не
под
дается
орга нам
восприятия,
да
и
самонаблюдению
по ддает ся
очень
нелегко.
В
обр азе
Хлестакова
ощутимой
становится
для
мира
обычно
неощутимая
структура
действия,
закономерности
автоматизмов
памяти,
мысли,
мечты,
амб иц ии,
вся
си сте ма
мо
тивов
поведения.
Таким
об раз ом
то,
что
со ставл яет
тайну
Го
рода,
переводится
в
ряд
поступков
Хлестакова,
становится
от
62
крытым
для
осмысления
(Хлестакову)
и
самоосмысления
(го
родничему).
То
же,
что
составляет
«инкогнито»
Хлестакова,
остается
тайной
для
Города
(ведь разоблачается лишь «н ере -
ви зо р », а не суть Хлестакова), но открывается перед зрителем:
у
Хлестакова
нет
никакой
тайны,
кро ме
того,
что
он
медиум
самоописания
Города,
т.
е.
воплощение
структурных
при нципо в
а втор а.
Отсюда
вся
условность,
н еп рав доп одобнос ть ,
весь
ги
пе рбол изм
эт ой
фигуры.
Если
искать
в
ней
тип
личности,
а
не
т ипичный
акт
поэтической
мысли,
как
это
часто
дел ал ось
ин
терпретаторами
Гоголя,
то,
конечно,
нетрудно
пр ийти
к
выводу
о
то м,
что
основной
прие м
автора
—
р аз руше ние
личности.
На
самом:
же
дел е,
в
гиперболических
про яв ле ниях
Хлестакова
Гоголь
экстериоризирует
«душу»
Города.
Но
и
это
еще
не
все.
Ибо
посл е
обнажения
«души»
Города
сам
Хлестаков
начинает
осмысливать
—
но
не
столько
себя ,
ск ольк о
закон
мира ,
им
с амим
обнаженный.
Та
«часть»
персо
нажа,
которая
наз ывает ся
в
Городе
«ревизором»
и
заключена
в
границы
пространства
и
времени
сцены,
яв ляе тся
не
типичным
мелким
чино вник ом
и
не
т ипичны м
ревизором
(наоборот,
Х ле
стаков
оче нь
не
похож
ни
на
тог о,
ни
на
д ругог о)
—
эта
«часть»
мира
яв ляетс я
идеальной
поэтической
моделью
(дра
ма тическо й)
тог о
же
ми ра,
частью
которого
он
и
осознает
се бя
на
выходе
из
параллелизма
(уподобления)
с
ни м.
А
здес ь
и
нач инае тс я
становление
личности
типично
гог оле в
ской,
т.
е.
той,
которую
Гоголь
де лал
предметом
своей
«антро
пол ог ии»
в
искусстве.
Он,
на ве рное,
первый
в
мировой
литера
ту ре
сумел
найт и
признаки
личности
в
таких
з абит ых
су ще
ствах,
которых
даже
«естествонаблюдатель», тот,
кто
обяза
тельно
посадит
на
бул авк у
«обыкновенную муху»
для
расс м от
рения
в
микроскоп,
пропускал
вниманием.
Хлестаков,
кроме
того,
что
несет
чисто
поэтическую
фу нк цию
экспликации
за кон ов
мира
в
на гляд ной
модели,
воплощает
в
себе
и
трансформацию,
осознает
себ я
как
раз
в
той
роли,
ко
торую
воплощал
в
д ейств ии
непроизвольно,
по
замыслу
автора
и
желан ию
Города.
Эта
роль
теперь
превращается
в
автоном
ное ,
осмысленное
д ейс твие,
в
мотив
следующих,
постсцениче
ских,
поступков: «...хочу
заняться
ли те ра турой ».
Нет
сомнений
в
том,
что
установка
на
литературу
не
что
иное
как
обращение
к
опи са нию
той
роли,
которая
уже
реализована
и
завершена.
Об
эт ом
явно
свидетельствует
пис ьмо
к
другу
литератору
в
Пе
т ербург .
Именно
э тот
сюжетный
мотив
указывает
на
па ралле ль
с
Поприщиным,
когда
участник
предметного
ми ра
и
действия
преобразуется
в
создателя
тек ста
о
мире.
Прозрение
Хлестакова
—
это
осмысление
онтологической
не
обходимости
литературы.
У
Гоголя
это
не
только
акт
о см ысле
ния
мира,
но
и
доказательство
неизбежности
того,
что
в
таком
мире
долж на
появиться
такая
культурная
функция,
которую
несет
искусство,
в
том
числе
данная
пьеса.
Жа нр
комедии,
пре-
63
ображенной
в
психологическую
дра му
(вот реализация гоголев
с кой
программы
синтеза
«высокого»
и
«низкого», эффекта ко
медии,
достигшего
катарсической
си лы
тр а ге дии ), есть органи
ческая
часть
т ого
ми ра,
в
качестве
модели
которого
он
во зник.
Мотив
онтологической
не избеж но сти
гоголевского
и скус ства
др амы
встречается
не
т олько
в
о писан ии
мира
(Хлестаковым),
но
и
в
самом
предметном
мире.
Повторение,
а
точнее,
перенесе
ние
этого
мотива
с
пл ана
дуб ли ката
в
план
о ригин ала ,
в
сю
жет
Города,
осуществляется
в
финальном
монологе
Городни
чего.
Он
был
внесен
в
тек ст
по сле
о смы сл ения
Гоголем
причин
недоразумений,
цар ящ их
в
публике,
в
театральной
и
ли те ра
турной
ж изни
по
поводу
«Ревизора», и опубликован во втором
из дани и
пьесы
(1841).
Этот
моно ло г,
подобно
концовке
«Ши
не л и», эксплицирует именно творческий принцип автора,
р ас
к ры вает
программу
мотивации
сю жет а.
Гор од ничий,
собственно,
осмы сл яет,
что
послужило
материалом
для
комедии:
перед
нами
автоколлизия,
а
не
недоразумение,
обман,
мир аж.
По
это му
и
на
уровне
жестов
подчеркивается
автореферентность,
об раще ннос ть
угр озы
на
себя,
а
не
на
«обманщика»: «(В ис
ступлении.)
Вот,
смотрите,
смотрите,
весь
мир,
все
христиан
ство,
все
смотрите,
как
одурачен
го ро дн ичий!
Дурака
ем у,
ду
рак а,
старому
по д ле цу! {Грозит самому себе кулаком)» (4, 88).
(Вспомним:
грози т
себе
кулаком
«привидения»
и
будочник!
А
ве дь
«ревизор»
тоже
пр ив идени е!) Вторая угроза адресована
творцу
бу ду щего
т екста
о
нем
(Достоевский,
считавший
«Реви
зора»
переломным
моментом
в
эволюции
Гоголя,
поворотом
к
«серьезному»
предмету,
над
которым
больше
нельзя
смеяться,
сказал
бы:
творцу
«невысказанного будущего слова»):
«Мало того,
что
пойдешь
в
посмешище
—
найдется
щелкопер,
бумагомарака,
в
комедию
т ебя
вст ав ит.
Вот
что
обидно...
Я
бы
вс ех
этих
бумагомарак!
У,
щелкоперы,
либералы
п р окляты е!
чертово
семя!
Узлом
бы
вас
всех
за
вязал,
в
муку
бы
стер
вас
вс ех
да
черту
в
подкладку!
в
ша пку
ту ды
ему!..
.
(Сует кулаком и бьет каблуком в пол ...)» (4, 88).
Совершенно
очевидно:
две
уг розы
направлены
на
два
ра злич
ных
субъекта,
порожденных
сценич еск им
д ейств ием
в
полн ом
соответствии
со
стремлениями
Городничего.
Первый
есть
ре
зультат
пре вр аще ния
Хлестакова-чиновника
(досценический
статус)
в
«ревизора», в зеркало для самонаблюдения город
ничего
и
«душевного города»
в
це лом
(сценическая трансфор
м а ци я); а второй—р езуль тат
прозрения
Городничего,
осо з на
ния
неизбежности
новой
трансформации,
возникновения
«зер
кала»,
о т ражаю щего
Городничего
для
мира ,
т.
е.
догадки
о
появлении
той
фу нкци и,
которую
уже
взял
на
се бя
пережив
ший
последнюю
(послесюжетную)
св ою
тра нс форм а цию
Хл е
стаков.
Этот
нед ост упн ый
персонажам
па раллелизм
обращен
Гоголем
на
аудиторию,
на
зри тел ьный
зал
—
в
качестве
драма
тического
к ода
для
са м опоз нания ,
в
качестве
«зеркала», воз
64
вра щаю ще го
вос при ятие
с
выхода
из
п ар аллели зма
на
ситуа
цию
его
зарождения,
отмеченного
известным
эпиграфом.
Что
же
ка сае тся
агрессивной
настроенности
городничего
против
еще
даж е
и
не
существующей
личности,
против
потен
циального
комедиографа,
то
зд есь
мы
опять-таки
с
полным
правом
м ожем
ук азат ь
на
один
из
гл авных
мо ти вов
Гоголя
—
на
мотив
агрессии,
возникшей
от
сознания
невозможности
про
тиводействовать,
от
сознания
собственного
бессилия,
в
данном
с л учае,
бессилия
перед
искусством.
О с новные
закономерности
поэтического
мышления
Гоголя,
которые
мы
отметили,
рассм атрив ая
«Записки сумасшедшего»,
«Шинель», «Ревизор», нетрудно обнаружить и при анализе дру
гих
произведений
—
«Носа», «Мертвых душ»
и
т.
д.
Но
такая
задача
д олжна
быть
предметом
монографического
изучения.
В
заключение
мы
ограничимся
о бо бщением
с к аза нного
выше.
В
современных
исследованиях
по
по э тике
Гоголя
инт енс ивно
разра баты ваютс я
вопр ос ы,
которые
были
поставлены
в
данной
работе.
И
вполне
обоснованно
внимание
обращается,
сосредо
точивается
прежде
всего
на
особенностях
гогол ев ско й
услов
ности,
в
том
числе
«нефантастической фантастики»
как
приема
гротеска
и
комического
в
по ве ство в ании
(Ю.
В.
М ан н),;6 или
как
принципа
«раздвоения»
рассказываемого
ми ра,
порождаю
ще го
«сюжетный абсурд»
и
«деформацию образа человеческого»
в
ви де
пространственного
распадения,
у дал ения
«внешнего
че лове ка
от
внутреннего» (С.
Г.
Бочаров).7
За
этими
концеп
циями
стоит
очень
бо гат ая
иссл едо ват ель ская
традиция
(И.
Мандельштам,
Ю.
Н.
Тынянов,
А.
Бе лый,
А.
Слонимский,
В.
Виноградов,
Г.
Гуковский,
Г.
Поспелов,
Ю.
Лотман
и
мн.
д р.).
Но
богатства
тво рч ес тва
Гоголя,
конечно,
неисчер
паемы,
даже
если
обратить
на
не го
лучшие
д ос тиже ния
на уч ной
мыс ли.
К
то му
же
наука
развивается,
вырабатывая
новые
ме
тоды
анализа
и
и нт ерп ретац ии
ли те рату рн ого
произведения.
Если
подходить
к
произведениям
Гоголя
с
точки
зр ения
поэт ик и
жанра
—
сюжетной
мотивации
единства
целого,
то,
кроме
«деперсонификации»
и
«удвоения», придется еще гово
рит ь
о
з ако нах
пре вр ащ ения
раздробленных
элементов
и
двой
ников
предметного
мира
в
систему
вы р ажения
иных
качеств,
обнаруживающую
новую
целостность
на
более
высо ко м
уровне,
на
котором,
как
мы
показали,
меняется
их
стату с.
Придется
поставить
вопр ос :
как
целое
нового
уровн я
определяет
транс
формацию
«элементов»
и
«двойников».
Как
мы
стар ал ись
пока
зать,
в
с вязи
с
этим
у
Гоголя
действует
при нцип
превращения
не-образного
феномена
—
структурных
свойств
изображенного
мира
—
в
со б ственн о
образный,
нагля д ный
модус.
В
сфере,
ко
торая
называется
в
специальной
литературе
«фантастической»,
«исключительной», «алогической», «гиперболической», происхо
5 Заказ No 299
65
дит
не
р аспаден ие
на
части,
а
возведение
части
в
ранг
модели
цело го .
В
«фантастическом»
добавлении,
в
соб ст венно
сюжет
ных
де йст виях
актантов,
названных
«королем», «носом», «реви
зо р о м», «мертвецом»
и
т.
д ., воспроизводятся
приз нак и
действия
мира
в
индивидуальной
форме.
В
них
персонифицируется
не
поведение
су масш едшег о ,
амбициозного
или
робкого
ч ино в ника,
а
зако н
ми ра
—
в
части
этого
мира.
Превращение
Поп рищи на
в
«короля», Ковалева в « но с», Хлестакова в «р ев и зора», Башмач-
кина
в
«мертвеца»
происходит
таки м
образом,
что
атрибуты
мира
автор
переносит
на
персонаж.
Часть
и
целое
мен яются
места ми
и
функциями,
в
результате
чего
то,
что
бы ло
неощу
тимым
свойством
целого,
становится
ощутимым
признаком
в
по
ступках
персонажа
(мир кажется населенным «п ат риота ми»,
а
на
самом
дел е
все
«лезут ко двору»,—
обнаруживая
эту
основ
ную
фу нкцию
«прикидывающегося мира»,
Поприщин
демон
стративно
повторяет
ее
в
своих
поступках
«короля»).
В
эт ом
смысле
«ревизор», «мертвец», «король», «нос»
—
суть
лишь
та
кие
произвольные
назв ани я
час ти
ми ра,
некоторых
по
ступков
персонажа
(анепростоудвоенияи «распадения»
че
л о века) , в которых сосредоточены и персонифицированы зако
номерные
свойства
ми ра
как
цело г о.
Они
и
«показывают»
миру
его
же
структуру.
Эта
ча сть
—
повествовательная
или
сцениче
ск ая
модель
законов,
действующая,
однако,
как
личность.
Именно:
мо де ль,
действующая
как
личн ость,
а
не
модель
личности.
Она
создается
внутри
и зо бра жаемо го
мира
и
пр едст авл яет
с обой
персонифицированный
дуб ли кат
неличност
ных
конструкций
текста
и
ми ра
(речевой манифестации выска
зываний,
тона,
же ст ов,
поступков,
дет алей
п ортр ета
и
простран
с тва
и
т.
п .), неличностных,
но
тип ич ных
или
симптоматичных
для
от ноше ний
между
и з обр ажаем ыми
лицами.
В
«фантастиче
ских»
об ра зах
поведения
как
бы
личности—
как
бы
ревизора,
мертвеца,
к ор оля,
вно вь
воплоща е тся
развоплощенная
целост
ность,
т ипичнос т ь
—
в
атипичном,
не
характерном
для
Хлеста
кова,
Ба шмач кина ,
Попри щи на,
Ковалева
по вед ении
и
истории
развития
этого
непредсказуемого
поведения
вплоть
до
его
совпадения
со
структурой
ми ра,
так
что
этот
мир
в
лице
«фан
тастического»
своего
двойника
осознает
с ебя
действователем,
субъектом
быта,
ис то рии
и
культуры.
Примечания
1 В начале анализа целесообразно будет раскрыть содержание основных
терминологических
обозначений
(текст,
м ир,
сюжет,
п амять), употребляемых
в
раб оте
и
им еющих
индив идуа ль ный
о ттен ок,
объясняемый
как
своеобразием
повести
Г ого ля,
так
и
нарратологической
зада чей
исследователя.
Текст
пони
мается
как
смыслообразующее
построение,
базирующееся
на
операции
двой
ного
обозначения,
которое
реализуется
как
в
пл ане
высказывания
(«записки»), так и высказываемого (оп и са нн ый
в
«записках»
ми р).
Пос ле днее
осуществляется
в
превращении
обозначаемых
объектов
в
средства
втор и чно го
обозначения.
Этот
превращенный
п овто р,
порождающий
мир
«записок», со
66
стоит
из
одного
референтивного
(предметного)
обозначения
(«департамент»)
и
одного
иносказательного
воспроизведения
т емы
референтивного
ми ра
(«Ис
пан ия »).
Первое
же
зак лю чает ся
в
да льне йш ей
трансформации:
в
пр евращ е
нии
бытовых
«записок»
в
нарративный
те кст
—
повесть.
На
в сех
уровн ях
лингвистического
и
пре дме тно го
воплощения
см ысл ов
мы
обнаруживаем
смыс
лообразующую
оп ерац ию
превращенного
повтора,
на зна че ние
которого
закл ю
чается
в
т ом,
что
при
воспроизведении
элемента
высказывания
или
высказы
ваемого
должен
бы ть
эксп лицир о ван
признак
действия
данного
элемента,
в
отличие
от
пе рвого
появления
его,
когда
тот
выступает
носителем
име ни
и
атрибутов.
Сюжетогенность
на ррат ив ного
текста
состоит
именно
в
то м,
что
при
воспроизведении
каждый
участник-референт
обозначаемого
мира
ли
шается
признаков,
в ыра жен ных
их
и мен ами
и
эпите там и,
и
пре об ра зует ся
в
носителя
не отмечен но го
прежде
признака
дей ств ия.
Это
относится
и
к
са
мому
говорящему:
не
только
мир
дешифруется
Поприщиным,
но
и
гер ой
—
рассказчиком.
Так
корреляция
субъект-объект
меняется
на
н овую:
субъект-
субъект.
Отсюда
сюжетом
пов ест и
Гоголя
следует
признать
не
фабульное
«действие в мире», не процесс распадения умственных способностей Попри -
щина,
а
преобразование
участника
описываемого
им
ми ра
в
суб ъек т
описания,
в
создателя
«записок» .
Й,
наконец,
мы
вводим
по нят ие
нар рат ив ной
п ам яти,
ко тора я
отличается
и
от
бы тов ой
механической
связи
между
сл ово м,
образ ом
и
предметом,
и
от
полного
ее
отрицания
(«сумасшедший»), и строится опять-
т аки
по
принципу
эксп лика ции
сюжетно-предикативных
связей
между
ними.
2 Рассмотрение корреляции « пис ем
собачонок»
и
«записок» (т.
е.
текста
цитирующего
и
цитируемого,
как
особой
разновидности
условности)
и
оп ыт
целостного
ана лиза
«Записок сумасшедшего»
мы
предпринимали
в
статье:
П овес ть
Н.
В.
Гоголя
«Записки сумасшедшего»: Текст,
м ир,
сюжет,
па-
м я ть/ZStudia Slavica. Tomus XXXIII. Budapest, 1987. 1—4 . S. 183—206.
3 Гоголь H.
В.
Собр.
соч.:
В
7т.
М ., 1984—1987.— Все
ссылки
на
это
издание
в
тексте.
4 Веселовский А.
Н.
Психологический
п араллелизм
и
его
фо рмы
в
отражении
поэтического
стиля//Поэтика:
Труды
русских
и
советских
поэти
ческ их
школ/Под
ред .
Д.
Кирая
и
А.
Кова ча .
Бу да пе шт, 1982.
С.
604.
5 Об этом см.
наш
анализ:
Модель
ин ерции
мышления
в
«Шинели»
Г o гo л яZZStudia Russica. VII . Budapest, 1984. S . 159—171.
6 Манн Ю.
Поэтика
Гоголя.
М. , 1978.
7 Бочаров С.
Г.
З агадк а
«Носа»
и
тайна
ли ца/ /Гог о ль:
история
и
со
временность:
К
175-летию
со
дня
poждeни яZCocт .
В.
В.
Кожинов,
Е.
И.
Осет
р ов,
П.
Г.
Палам арчу к .
М. , 1985.
С.
180—212.
5*
Д.
КИРАН
СЮЖЕ Т
И
ДИАЛОГ
У
ПУШ КИНА,
ГО ГОЛЯ
И
ДОСТОЕВСКОГО
М.
М.
Бахтин
в
работах
о
Достоевском
подробно
и
убеди
тельно
показал,
что
его
романы
построены
полифонически,
что
идеологизм
его
героев
не
сведен
к
какому-либо
единому
фокусу,
а
распределен
равноправно
между
партиями
голосов
героев.
И
хо тя
неоднократно
предпринимались
попытки
опровергнуть
это т
взгляд
на
конструктивный
п ринцип
построения
романа
Достоевского,
вплоть
до
по пыт ки
уличить
Бахтина
в
неверном
понимании
музыкальной
полифонии
(метафора Бахтина имеет
в
в иду
по лифонию
м уз ыка льных
инструментов,
их
самостоя
тельных
функций
в
о р кест р е), идея Бахтина до сих пор про
должает
влиять
на
исследовательскую
мысль,
и
влияет,
несом
ненно,
плодотворно.
Пр ав
был
Бахтин
и
в
историческом
смысле
не
то лько
по
от ноше нию
к
концепции
«идеологического романа»
Б.
М.
Энг ел ьгар дт а,
утверждающего
монологизм
романа
До
стоевского,
но
и
по
отношению
ко
всем
еще
господствующим
к он цепц иям
религиозных
философов
конца
прошлого
ве ка
и
начала
нынешнего
столетия,
ко нц епц иям
символической
кр и
тики,
а
о тчаст и
и
по
отношению
к
социологической
ко нце пции
структурных
п ринципов
романной
модели
Достоевского.
Достоевский
—
религиозный
философ,
Достоевский
—
идео
лог
мещанства
—
эти
теории
не
удовлетворяли
Бах т ина,
пришед
шего
в
конце
20- х
год ов
к
обоснованию
диалогического
мышле
ния,
к
преодолению
гегелевской
ко нцеп ции
ис кусс тва,
к
разра
ботке
пр инципо в
поэ ти ки
и
риторики
текста,
к
по ним анию
ли
тературного
искусства
как
спо со ба
создания
онтологического
мышления
в
ре чевы х
жа нрах.
Д иа логич ност ь
Бахтин
усматри
вает
не
только
на
уровне
роман ног о
целого,
но
и
на
уровне
пер со наж а.
Наряду
с
множественностью
идеологических
язык ов
ром ан
у
Достоевского,
по
Бахтину,
характеризуется
еще
и
ди а
логи че ски
ориентированным
голосом
каждого
из
героев
его
ро
мана.
Правда,
д и алогич н ость
каж дог о
отдельного
голоса
ро
ма на
пр едст ав лена
Бахтиным
как
стремление
персонажа
за щи
ти ть
свою
па ртию
в
споре
с
чужими
определениями
своего
«я»
—
в
условиях,
ког да
автор
(повествователь)
не
стремится
ни
ог ра
ничивать
его
в
своем
праве,
ни
заве ршать
изв не
своей
пове
с твова т ельной
властью,
ни
с ни мать
значения
его
вы сказ ывани я.
©Д.
Кир ай, 1992,
68
И
в
этом
пункте
придется,
на
наш
взгляд,
оп ред ел ить
пре
дел
проникновения
Бахтина
в
модель
романного
мышления
До
стоевского
и,
вид имо ,
в
модель
литературного
мышления
во
обще.
Говоря
об
амбивалентности,
дилемности
мышления
Ра с
кольникова,
Бахтин
ука зыва ет
на
дуализм
его
сло ва,
наличие
в
нем
двойной
мы сли
—
скрытой
и
явной,
причем
содержание
его
ре чи
определяют
мысли
явные,
но
орг аниз уе т
ее
скрытая
мысль.
По
этой
схеме
Бахтин
заключает,
что
Раскольников
заранее
знал
всю
сумму
рождающихся
в
нем
идей,
все
буду
щие
определения,
но
не
хотел
верить
им
и
при знат ь
их
суще
ствование.
Очеви дна
недостаточность
такого
определения
внут
ренней
мотивации
дв ижен ия
героя
(его внутреннего диалога)
в
«Преступлении и наказании»
и
необходимость
обосновать
иное,
чем
у
Бах тин а,
представление
о
поэтическом
кл юче
ро
мана
как
структурного
целого
и
поэтике
пер со нажа,
в
частности
о
х арак тере
его
внутреннего
диало г а.
Обоснование
это
требует
экску рса
в
область
исторической
и
герменевтической
поэтики
диалога.
Целесообразно
поставить
вопрос
т ак:
почему
художественная
модель
мышления,
лите ра турны й
текст
(а речь пойдет в первую
очере дь
о
повествовательных
текстах)
не
мож ет
обойтись
без
трансформации
самого
диалогически
мыслимого
предмета
и
диалогического
мышления
о
нем?
Русская
класси ка
XIX в.
дае т
бог аты й
м ат ериал
для
исследования
в
этом
направлении.
Св язь
ди алог а
и
сюжета
у
Достоевского
настолько
органична,
что ,
не
принимая
ее
во
внимание,
н ев озм ожно
понять
и
с отой
доли
э сте
ти ческо й
и
поэтической
ценности
его
романов,
их
семантиче
ского
б ога тс тва.
П ред ше стве нника ми
Достоевского
в
этом
отно
шении
были
Пушкин
и
Гоголь,
а
продолжателями
—
Толстой
и
Чехов.
У
Пушкина
би огра фи чна
не
тольк о
концепция
ха ракте ра,
но
прежде
всего
концепция
сюжета,
нов ы
функции
ге роя
в
опре
делении
мира
и
самого
с ебя,
равно
как
и
определения
его
из вне,
данн ые
другими
героями,
а
также
автором.
Семантическая
насыщенность
соб ст венно
сюжетного
развития
«Онегина»
по
значению
не
меньше
демонстративно
открытого
отношения
ав
тора-повествователя
к
ге рою.
Это
ест ест вен но
в
условиях,
когда
развитие
и
трансформация
отношения
героини
к
герою
даны
как
основное
связующее
звен о
сюжетной
истории,
а
трансформация
внутреннего
движения
г ероя
—
Онег ина
—
дана
скорее
«овнеш -
не нно», через наблюдение за событийными и психологическими
процессами
этого
дв иже ния,
т.
е.
по сюжет но.
При
этом
постоян
ное
сопоставление
внутреннего
дви жени я
г ероя
с
открыто
о це
ненны м и
м оде лями
поведения
(традиционными или антитради -
ционными)
и
ок ружа ю щего
г ероя
мира
(деревня
—
провинция
и
69
св ет
—
город—метрополия,
салоны
и
бо льш ая
Россия)
ока зы
в ается
принципиально
ва жн ым.
Открытое
авторское
отношение
(«роман в стихах») поро
ждает
множественность
прочтений
О нег ина
как
типа
и
его
прин
ципиальной
тр анс фор ма ции,
мотивы
которой,
как
известно,
по
ве ство ва те льно
не
даны.
Мот ивы
отчасти
скрыты
в
ненаписан
ной
главе
о
путешествии
Онегина.
Без
открытого
отношения
автора
к
герою
читатель
в
само м
де ле
должен
бы
был
конста
тировать
немотивированность
резких
пер ем ен
в
поведении
Оне
ги на.
Исс ледо ват ель ская
то чка
зре ния
на
этот
сюжетный
прием
Пушкина,
как
известно,
дв о яка:
одн и
объясняют
его
возмож
ность
принципиальной
открытостью
романа,
другие
—
или
же
однозначным
«отрицательным»
отношением
автора
к
герою,
или
повествовательной
раздвоенностью
а в торской
по зиции.
В
д ей
ствительности
же
постоянное
авторское
присутствие
и
в торж е
ние
в
сюжетный
текст
романа
не
позволяет
о дн озн ачно
опреде
лить
персонаж
и
его
«сюжет», а потому переносит определение
мен яющи х ся
отношений
героя
на
объективный
смысл
сюжета
романа,
где
важна
фун кц ия
влия ния
О нег ина
на
окружающих
и
окружающих
на
него,
а
также
на
внесюжетное,
так
сказать,
литературное
определение
его
—
в
связи
с
по ст оя нным
автор
ским
отриц ан ие м
прежних
литературных
и
су щест ву ющих
быто
вых
пр ед ст авле ний
о
«герое». Такая
авторская
концепция
героя
и
его
романа,
где
сю жет
и
ха рактер
не
могут
бы ть
прочитаны
без
у чета
первенствующего
значения
эт ой
неразрывной
свя зи:
внутрисюжетной
и
внесюжетной
фу нкций
поведения
пер со н ажа*
мно же стве нн ости
его
определений
в
синх ро нном
пл ане
и
измен
чивости
в
диахроническом,—
целостна
и
органична.
Подобное
соотношение
сюжетного
и
а в тор ского
нач ал
ха
ракт ер но
и
для
третьего
оп ред ел яющег о
структурного
и
мод е
лирующего
пр инц ипа,
пронизывающего
текст
романа,—
диало
гизма.
С юж етная
загадка
фа б ульн ого
происшествия
в
романе
состоит
в
н ев озм ожно сти
ди алог а
для
героя.
Диалог
н еос уще
ствим
ни
в
деревне,
ни
в
более
цивилизованных
условиях
бо ль
шого
с вета,
ни
в
ус лови ях
провинциальных
городов
(отрывки
из
«Путешествия Онегина»).
Несинхронность
мышления
Оне
гина,
с
одной
стороны,
и
Татьяны
или
Ленского
—
с
другой,
приводит
к
трагическому
поступку
(убийство Ленского на
д уэ ли), рождает непоправимый душевный надлом в героине,,
устремленной
не
то лько
к
о смысл ению
загадки,
кто
же
такой.
Оне ги н,
но
и
к
о см ыслению
собственного
положения
и
судьбы..
Амбивалентность
мышления
Татьяны
выдер ж ана
Пушкиным
до
конца.
Первая
ее
по пы тка
объясниться
в
любви
(«Пись
м о»)—
на
самом
дел е
стремление
оп ред ел ить
свое
«я»
и
«я»
Онег и на,
а
последняя
п о пытка
(беседа с Онегиным)— с тр е м
ление
объяснить
свой
выб ор
соб ст венно й
би ог раф иче ской
исто
рией.
Ее
отказ
от
О нег ина
—
их
неудавшийся
ди алог
—
ест ь
70
как
бы
стр емл ени е
к
завершению
собственной,
внутренне
диа
логичной
мысли
Татьяны
о
себе
и
о
другом,
об
Онегине.
Сю-
жетно
—
в
первом
случае
—
это
порождает
не
только
непрестан
ное
стремление
героини
угадать
характер
предмета
своей
любви,
но
и
стремление
оп ред ел ить
соотношение
«я»
—
другие.
Приближение
к
оконч ател ь ном у
определению
—
«я»
и
Онегин
(насколько оно релятивно,
выя сняет с я
из
сл ез,
сопутствующих
второму
объяснению)—предвещают
события.
Первое
объ я сне
ние,
по
сюжетной
мысли
автора,
по сеял о
в
ду ше
героя
зерно,
из
которого
выросла
позднее
его
безумная
страсть,
и зображе н
ная
в
8-й
главе.
Настоящий
диалог
и
мог
бы
н ачат ься
с
этой
зл ой
для
Онегина
минуты,
но
Пушкин
оставляет
рома н
не за
вершенным
и
диалог
неначатым
принципиально,
намеренно.
Продолжение
романа,
кон е чно,
могло
бы
быть
мотивировано
только
эт ой
«речью»
и
потерей
последней
надеж ды
на
счаст ье.
И
вр яд
ли
Татьяна
о ст алась
бы
верна
своему
выбору,
если
бы
Онегин
после
потери
эт ой
последней
на дежды
оказался
бы
в
кругу
декабристов,
а
потому
если
и
не
на
эшафоте,
то
в
Сибири.
Недоговоренное
прозвучало
в
ино м
контексте
—
в
«Борисе Го
дунове»—
в
знаменитой
сцене
диалога
Отрепьева
и
Марины.
Требование
внутреннего
и
внеш нег о
подвига
жизни
звучит
в
устах
Тат ь яны
в
таком
ко н те ксте,
который
не
оспаривается,
не
пародируется
ав торск ой
иро нией,
как
не
оспаривается
и
внутренняя
лиричность
первого
объяснения
Тат ь яны
и
вли яние
героини
на
Онегина.
Диалогизмом
оценок
пронизано,
как
уже
ска зано ,
авторское
отношение
к
Оне г ину,
точнее,
к
определе
ния м
его
поступков,
же ст ов,
причуд
и
странностей.
Чем
дальше
разв ертыв ае тся
текст
романа,
тем
положительнее
оценка
Он е
гина,
и
соответственно
тем
ближе
она
авторской
самооценке,
при
сохранении
всей
амбивалентности
со дер жани я
этой
оценоч
ной
бл изо сти
и
интимности.
Спо р
Пушкина
с
романтическим
представлением
или
кл ас сиц ис тичес кой
манерой
пре д ст авле ния
человека
шел
одновременно
со
спором
о
сюж етн ой
фу нкци и
ге
ро я,
объясняющей
последствия
такого
«сюжетогенерирующего»
поведения
человека.
Сюжет
«Евгения Онегина»
дан
Пушкиным
также
в
п олем и
ческом
плане
по
сравнению
с
грибоедовским
«Горе от ума» .
Пут ь
т уд а, «где оскорбленному есть чувству уголок», Пушкин
пр едст ав ил
в
«Евгении Онегине»
как
неизбежное
развитие
вн утре нне
неразрешимой
др амы
и
как
результат
не воз мож н ости
найти
непосредственные
причины,
которые
мо гут
вы зват ь
кон
к рет ное
сопротивление
или
разочарование
личн ос ти,
как
это
б ыло
у
Чацкого.
На обор от,
чем
глубже
нат у ра,
тем
больше
у
Пушкина
гер ой
сам
«виноват»
в
несчастном
исходе
своей
■судьбы .
К
концу
ис то рии
Пушкин
подводит
к
понима нию
двух
тр аги чески
несложившихся
биографий.
В
ситуации,
когда
ге
роиня
вынуждена
была
осознать
трагедию
своей
жизни
как
результат
р ешен ия,
принятого
из
послушания,
герой
отк рыва ет
71
для
се бя
грозную
правду
своей
биографии:
он
рас трат ил
силы
на
недостойные
его
ума
и
характера
дела
и
впереди
может
б ыть
только
од но
рациональное
и
нравственно
отв еча юще е
его
вл е
чениям
дело
—
поступать
достойно,
а
не
мелко
и
беспо л езно.
Тургенев,
Толстой,
Достоевский,
каждый
по-своему
продол
жая
Пушкина,
получили
уже
«готовым»
ге роя
ро ма на,
н ового
русского
интеллигента,
рядом
с
которым
ок азыв ает ся
пробу
жденная
им
героиня
и
которого
!в конце пути ждет каторга или
душ евн ое
потрясение,
воскресение
или
перспектива
обретения
смысла.
От
пу шки нско й
борьбы
за
нового
литературного
героя,,
а
потому
и
от
авторской
открытости
в
определении
своего
ге
роя
и
возм ожн ых
смыслов
его
«сюжетной»
функ ции
(биографи
ческой
ист ор ии)
в
р ом анах
Достоевского
и
Толстого
не
оста
ется
и
следа.
Со о тве тствен но
все
разнообразие
то чек
зрения
текста,
разделенных
между
героями
и
автором-повествователем,,
вмещается
в
собственное
слово
о
мир е
и
са мооц ен ку
героя.
Роман
«Бесы»
особенно
б лизок
«Евгению Онегину»
в
ра с
крытии
самоопределения
и
определения
мира
через
вну т ренн юю
речь,
жесты,
психологически
выявленные
поступки
героя,
моти
вированность
которы х
да ется
с
ра зных
по зиций,
но
которые,,
в
ко нце
к онцов,
идентифицируются
в
сюжетогенерирующих
(и
заодно
объясняющих)
словах,
жестах
и
поступках
ин тел лек
туа льн ого
осмысления
мира
и
самоосмысления
Ставрогина
—
«крестоносного»
Онегина,
пр ишедшег о
к
еще
более
трагическому
концу
своей
романной
истории.
Мысль
о
то м,
куда
ведет
духов
ное
«скитание», одинокая оппозиция против « всеси лия»
зла
в
ис
ка женно й
азиатской
отста л ость ю
провинциальной
Рус и
и
в
сош ед шей
с
пут и
цивилизации
метрополии,
порождающей
не
объяснимые
и
странные
поступки
лучшей
час ти
русской
интелли
генции,
мысль
эта
задана
Пушкиным.
У
Достоевского
диалогизм
еще
более
четко
подчинен
психо
логически
прослеженной
внутренней
трансформации
ге роя
и
смысловому
значению
его
сюжетной
фу нк ции.
В
«Бесах», од
нако,
налицо
не
только
пушкинское
трагическое
начало
(как
логическое
завершение
сначала
о ппозиц ии
в
одиночку,
п отом
как
протест
лич ного
начала
против
нетерпимого,
однако
всеми
принимаемого
п оряд ка), но и гоголевское,
жи вущ ее
ря дом
и
мотивирующее
обострение
конфликтного
смы сла ,
вырастающего
до
общественного
скандала.
Необходимо
выделить
оче нь
важное
звено
в
цепи
изученной
нам и
литературной
преемственности.
Это
творчество
Г ого ля.
Соо т нош ение
диалога
и
сюжета
в
столь
разных
по
жанру
и
ху
дожественным
целям
текстах
Гоголя,
как
«Мертвые души»
и
«Ревизор»,
обнаруживает
тот
же
принцип
уравновешивания
этих
строительных
«материалов»
ха рак тер а,
который
мы
на
блюдали
в
«Евгении Онегине».
Как
в
«Мертвых душах», так и
72
в
«Ревизоре»
сюжетная
функция
героя
создает
как
бы
два
не
смыкающихся
ряда,
между
которыми
как
будто
осуществля
ет ся
диалог.
На
самом
же
д еле
ди ало га
нет
и
и дет
отчаянная
борьба,
чтобы
такого
диал ог а
и
не
получилось,
чтобы
он
под
менился
лжедиалогом,
умалчиванием
или
лжеконтактом.
Функ
ции
«плутовства поневоле» (у Хлестакова)
и
п лут овс тва
«умыш
ленного» (уЧичикова)
обнаруживают
некую
п ар аллель,
а
при
рода
ди алог а
—
и
тем
самым
основная
его
функция
смыслогене-
рирования
—
и
тут
и
там
строго
подчинена
сюжетному
началу.
И
в
том
и
в
другом
тексте
спрятаны
намерения
диалогизирую
щих
сторон,
а
если
они
выговариваются,
то
это
как
бы
м оно лог
на
сторону,
контакт
л ишь
с
пос то р онним
н аблюдат елем
—
читателем
или
зрителем,
а
не
с
п арт не ром.
То
ес ть
перед
нами
«мышление про себя», «открытие», «осознание», «про
зр ен ие».
Лжедиалог
еще
более
скрывает
изначальное
намерение
су бъ екта
диал ог а,
уводит
от
д ос тиже ния
им
результ ата
(«Мерт
вые
ду ш и») или приводит к достижению незаслуженных и не
о жида нно
эффективных
результатов
(«Ревизор»).
Р е зультат
-словесного
поступка
ни
в
т ом,
ни
в
друг ом
тексте
не
адекватен
изначальному
намерению
его
субъекта,
что
и
в ыяв ляет
органи
чески
антидиалогическую
установку,
характерную
для
всех
д иа
логизирующих
собеседников:
Хлестакова
и
Городничего,
Чичи
кова
и
ч ино вник ов,
помещиков.
Но
при
этом
и
та
и
другая
сторона
пребывает
в
постоянном'
диало г е
с
тем
намерением
диалогического
партнера,
которое
он
заподозрит
в
со беседни ке :
реплики
Хлестакова
выдержаны
в
так тик е
«не дать себя пой
мать
как
п л у та», как будто намерение Городничего в этом и
должно
заключаться
(ср .
п отом
у
Чехова
в
рассказах
«Тонкий
и
то лс ты й», «Человек в футляре», «Смерть чиновника»).
То
же
■самое происходит с Городничим,
опасающимся
хитрости
Хл ест а
ко ва,
якобы
ревизора,
стремящегося
уличить
его
в
плутовстве
и
мошенничестве.
Создаются
лжепредставления
о
происходя
щем ,
они
и
руководят
словесными
и
бытийными
поступками
диа логиз ирую щих
сторон.
Собственно,
диалогизируют
ма ски,
на деты е,
чтобы
спрятать
изначальное
намерение
говорящих.
Возникает
ложный
ряд
событий,
которые
при
обнаружении
их
несостоятельности
с ни маются
как
напр ас ные
в
их
жизненном
зн ачен ии,
но
тем
самым
по дтв ерж даются
и
утверждаются
в
их
интеллектуальном
значении,
как
некий
написанный
бытовыми
поступками
текс т,
как
нек ий
сюжет,
который
создан
ими
и
стал
общественным
фактом
помимо
их
н ам ере ни я, «поневоле».
Итак,
диалог
зд есь
обр азу ет
избыточное
д виже ние
—
лже-
сюжет,
ряд
поступков,
который
окажется
не
действительным,
а
только
симптоматичным;
то
ес ть
такой
сюжет,
который
вы
сту п ает
не
в
роли
бытового
пр ео браз о вания
прежних
от нош ений
диалогизирующих
ед иниц
или
отношения
сторон
к
бы ту
и
бы та
к
ним,
а
в
роли
текста.
73
Раз у меетс я,
есть
существенная
разница
в
семантике
диало
гической
функции
гл авн ого
ге роя
и
его
сюжетной
фу нк ции
в
«Мертвых душах»
и
в
«Ревизоре».
Параллельные
лже сюжет
ные
л инии
Городничего
и
Хлестакова
не
смыкаются,
ибо
ни
т а,,
ни
другая
сторона
не
проникают
в
то,
что
же
происходит
на
самом
де ле:
Хлестаков
не
догадывается
о
«сюжете» (плутов
стве)
Городничего,
и
наоборот,
Городничий
не
догадывается
об
истинном
«сюжете»
плутовства
Хлестакова.
А
когда
об нар у
жи вае тся
«обман», то он оказывается самообманом со стороны
Городничего,
надеявшегося
на
успех
своего
плутовства,
а
со
стороны
Хлестакова
—
невольным
плутовством,
обморочиванием
людей,
ж елающ их
«провести»
его
в
качестве
под ли нн ого-
ре
визора.
«Мертвые души»
в
этом
смысле
построены
несколько
ин аче.
Плутом
ок ажетс я
соб ст венно
ли шь
Чичиков,
а
в
другом
лагере
окажется
л ишь
один
плут
из
помещиков
Ноздрев
и
один
из
чи
новников
(юрисконсульт), но они партнеры Чичикова в том
смысле,
что
од ин
из
них
—
Ноздрев
—
догадывается
о
плутов
с тве
другого
пл ута
—
Чичикова
по
своему
плутовскому
инс тинк
ту.
Подобным
образом
построено
отношение
дв ух
с о бы тийных
рядов
сюжета
чи но внико в
и
сюжета
Чичикова:
плут-Ноздрев
сорвал
п лан
другого
плута,
а
плут-чиновник
освободил
такого
же,
как
он
сам ,
плута.
Второй
том,
вид имо ,
строится
по
такому
принципу:
плут
(Чичиков)
делает
вид,
что
он
исправился,
т.
е.
веде т
квазиистинные
диалоги
с
целью
нако н ец -то
достигнуть
ж елаемо го
ре зуль та та
—
ста ть
смирным,
но
зажиточным
поме
щик ом
или
ч иновник ом .
Иными
словами,
параллельные
ряд ы
тут
стремятся
к
одной
и
той
же
цели,
но
уже
не
только
в
пе р
спективе,
как
в
первом
томе,
айв
момент
изображения
собы
тий ;, плут у^ж е
не
нуждается
в
плутовстве
как
средстве
обм ан а,
ма ск ир овки , «окольных путей»
мошенничества.
Чичиков
в
этом
смысле
«исправляется»
—
ведет
открытый
диа лог,
уподобляется
другим
его
участникам
—
например,
смеется
над
теми
же
слу
чаями,
что
и
остальные
(ср.
Кос тан жогло,
слушающего
анекдот
о
чиновнике
и
молодой
не мк е).
Небезынтересно
в
том
же
ас пек те
равновесие
ди алог а
и
сю
ж ета
как
фу нк ций
пер со нажа
в
«Записках сумасшедшего»
и
«Шинели» .
И
здесь
духовная
тр ансф о рмаци я
—
интеллекту
альная
вплоть
до
осознания
своего
движ ения
как
ненужного,
лжеи з быто чн ого,
«напрасного»
—
за мыка ет
кольцом
начало
и
ко нец
истории/Но
в
отличие
от
Городничего
и
Чичикова,
у
По-
пр ищ ина
и
Акакия
Акакиевича
происходит
ис тинно е
вторжение
в
смы сл
своего
бы та
и
бытия.
Поприщин,
который
ведет
диалог
с
несуществующими
партнерами,
ведет
его
таким
образом,
что
все
глубже
проникает
в
мотивы
своего
помешательства.
Акакий
Акакиевич,
который
не
в ыд ержал
«экзамен»
на
повышение
в
ч ине,
вместо
переписки
на чинае т
окольными
путями, «неофи
циально»
на
сво й
страх
и
риск
сдават ь
экз амен
по
духовной
74
эма нс ипаци и;
чем
дальше,
тем
больше
вживается
он
в
новую
роль,
что
и
оборачивается
в
ко нце
ис то рии
его
нападением
на
Значительное
лицо,
де йств ием
потусторонней
с илы,
мстящ ей
за
то,
что
его
стр адан ия,
его
попытка
эмансипации
на
св ой
страх
и
риск
оказалась
нед ейст вен ной .
И
в
«Записках сумасшедшего», и в « Шинел и»
вну т ренний
диалог
как
функция
персонажа
—
упомянуть
о
сюжете
—
со
зда ет,
хотя
в
конечном
итоге
и
н есу щест ву ющий
(Поприщин)
или
же
напрасный
(Акакий Акакиевич), «сюжет».
Не
м он олог-
сказ
со здает
сюжет,
а
именно
внутренний
диалог
героя,
при
в сем
то м,
что
в
первом
случае
у
него
(у Поприщина), собст
ве нно,
нет
диалогического
партнера,
а
во
втором
(у Акакия
Акакиевича)
нет
словесных
жестов
для
внешнего
выражения
своего
внутреннего
диалога.
Сю жет
в
«Шинели»
как
раз
и
создается
этим
о ппо зиционным
диалогом
пер со нажа,
т.
е.
все
его
бытовые,
интеллектуальные,
а
впоследствии
и
обобщенно-бытийные
(символические)
же сты
исходят
из
его
«предприятия», приключенческого « сюже та», ко
торый,
как
почти
всегда
у
гоголевских
героев,
окажется
просто-
напросто
нереально-избыточным,
т.
е.
опять
ока же тся
«текстом»,
«написанным»
как
бы
неофициальным,
«незаконным»
движе
н ием
пер со наж а,
его
приватной
эмансипацией.
Достоевский
непосредственно
продолжает
Гоголя,
ко гда
в
«Бедных людях»
и
«Двойнике»
соз дает
сюжет
за
счет
ложн о
избыточного
дви жени я
персонажа.
В
«Бедных людях»
создается
иллюзия,
что
вот-вот
начнется
подлинная
история
ге роя
(хотя
на
самом
дел е
она
кончается). А
персонаж
к о лебл ется
в
своем
выборе:
уцепиться
ли
ему
за
своего
д и алогич ес кого
партнера
или
же
удовлетвориться
возможностью
«сочинять»
письма,
т.
е.
иметь
собеседника
для
«диалогического»
упорядочения
пе реж и
того
и
испытанного
(при сохранении иллюзии,
будто
эта
альтер
натива
су ще ству ет
отдельно,
не сли тно
для
него).
А
в
«Двой
нике »
Достоевский
сохраняет
персонажу
иллюзию,
что
после
его
скандального
поведения
«третьего дня»
он
еще
может
иметь
шансы:
смирения
(иллюзия патриархальности),
или
борьбы
(иллюзия юридических отношений), или же лицедейства,
м аски
(иллюзия возможности плутовства) .
Вот
почему
в
«Двойнике»,
как
и
в
«Бедных людях», созданное интеллектуальными и быто
вы ми
поступками
окажется
несвершившимся,
напрасным,
не
по
лучившим
признания
бытовым
«текстом»,
порожденным
внут
ре нним
(но для постороннего наблюдателя всегда вполне по
н ятным
типологическим)
движением
героя,
интеллектуальным
стремлением
—
диалогом.
И
в
том
и
в
друг ом
случае
«овнешненный» (письма Девуш
кина)
и
скрытый
(внутренняя подвижность Голядкина)
диалог
с оздае т
сюжет,
ложность
которого
доступна
л ишь
внешнему
на
75
блюдателю
(Вареньке,
на ча льс тву,
Голядкину-второму),
по
добно
тому,
как
это
б ыло
в
«Ревизоре» (только там этот внеш
ний
взгляд
—
не
оппозиционная
герою
сторона,
а
сторона
вне
текста).
Сказитель
у
Гоголя
со з дает
не
«сюжет»
—
сюж ет
сп лете н
из
инт ел ле кту ал ьной
(диалог)
и
экзистенциальной
(поступки)
фу нкци й
персонажа,—
а
сказ.
Ска з
Г оголя
как
бы
нарочно
за
ст авля ет
нас
не
за мечать
вну тр енню ю
«ступенчатую»
эма нсипа
цию
г ероя
(например,
Акакия
А каки ев ич а), чтобы постоянно
поддерживать
«удивление»
перед
будто
бы
«неожиданными»
внутренними
и
внеш ними
его
поступками,
п од гото вляя
тем
са
мым
естественность
в
повествовательном
пл ане
фантастического
возмездия
Акакия
А ка ки ев ич а, «реальность»
его
загробных
по
хождений,
разбойничьих
нападений,
нереальных
в
чисто
фа буль
ном
плане.
В
отличие
от
Гоголя,
Достоевский
обычно
де лает
главных
героев
«сказителями»
их
со бст вен ных
приключений;
они
«скази
тели»
в
упомянутом
вы ше
смысле,
т.
е.
недопонимают,
не
осмыс
л ивают
до
кон ца
и
не
связывают
во ед ино
з венья
истинных
п си
хологических
событий,
за
их
словом
сохраняется
повторяющийся
эффект
удивления.
Отсюда
и
многословие,
которое
ни
в
каком
отношении
не
яв ляется
д иа логом
о
су ще стве
дел а,
а
тем
более
диалогом
повествователя
с
героями.
Скорее,
наоборот,
это
зна
комый
нам
словесный
и
м ысленны й
самообман
героя-повество
в а теля,
только
без
плутовских
целей.
Об ман
получается
из
яв
н ого
раздваивания
настоящей
цели
ге ро я : «делать жизнь» (что
ему
не
под
силу )
или
же
делать
«текст»
о
жизни
(более доступ
ное
его
влечениям
и
возможностям).
И
тут
о пять
со здает ся
два
сюжета.
Однако
на
это т
раз,
во-
перв ых ,
они
не
параллельны,
а
во-вторых,
исходят
из
одн ой
и
той
же
и нст анци и:
один
п одозре вае мы й,
нежеланный,
другой
создаваемый
ил л юзией
и
необоснованными
стремлениями.
В
ди ало ге
двойной
мысли
героя
постоянно
угрожает
во змож
ность
того ,
что
желанное
ока жется
несу щест ву ющ им,
а
неже
ланн ое
—
не избе жны м.
Диалог
у
героя
Достоевского,
пр ав да,
неуверенно,
но
со
здае т
альтернативу
его
в озмож н ого
быта-бытия;
но
герой
по
сто ян но
обманывает
себя,
будто
бы
он
во лен
«выбрать»
ту
или
иную
ал ьте рна тиву,
а
потому
экспрессивно
пер ежи вает
выбор
(и выбирает в конце концов желанный,
однако
иллюзорный,,
то
есть
о казав ший ся
ложным,
з ато
утешающим
своей
интеллек
ту альн ост ью).
В
больших
романах
это
з аменя етс я
превраще
нием
событийного
ряд а
сюжетной
функции
ге роя
в
мотивацию’
для
инте лле кту а ль ного
ряда,
для
понимания
им
своего
«текста»,,
сотканного
из
установки
на
«понимание», а не на реальное « це
левое»
пер ед ел ывание
своей
жизни
(за исключением Ставроги
на ). Внутренние диалоги героя Достоевского так же,
как
у
П уш
кина,
проникают
в
су щест во
сюжета,
прочтение
в
конечном
76
итоге
всегда
ока жется
адек ват ным ,
но
пла тить
за
это
прихо
дится
трагически
много,
несоразмерно
инте лле к туа льным
и
нравственным
при обре тен иям.
Собственно,
литературность
фу нк ции
героя
в
сюжет но м
пл ане
от
Пушкина
до
Достоевского
все
во з растает .
Под
лит е
ра турнос ть ю
мы
понимаем
здесь
такое
расширение
зна че ния
интеллектуальной
трансформации
героя,
которое
или
вызывает
открытое
э сте тич еское
переосмысление
традиционного
литера
турного
мышления
со
стороны
автора
в
непрерывной
диал ог ич е
с кой
оценке
и
п ере оце нке
ге р о я, «сюжетного действия»
м от ивов
оценок
его
поступков
(как у Пушкина)
или
у кры тие
ди алог а
во
внутренние
жесты,
во
внутреннюю
речь
героя
(так у Го
го ля ), когда создается лжесюжет,
функционирующий
для
са
мо го
героя
как
осознание,
а
не
как
переделывание
своего
пут и,
своей
судьбы,
вследствие
чег о
и
у дваив аетс я
(«Шинель», «Ре
в и зор») или утраивается («Мертвые души») сюжетное действие
героя,
образуя
параллельные
с юже тные
р яды,
каж дый
из
ко
торых
представляет
нов ую
фазу
в
повествовательном
осмысле
нии
героя.
Повествовательное
слово
при
эт ом
создает
новые
литературные
формы
множественности
определений,
из
которы х
ни
од но
не
претендует
на
осмысление
совокупности
сюж етны х
линий
персонажей,
зато
комп ромети рует
устре мл енн ость
п ов ест
вователя
(или хроникера)
к
такому
осмыслению.
У
Достоевского,
поскольку
он
в озвра щае тся
к
«онегинским»
интеллектуальным
типам
в
мотивации
центральных
персонажей,
а
в
мотивации
второстепенных
—
к
по э тике
сюжета
Гоголя,
по
лучает
развитие
и
та
и
другая
семантическая
функция
сюжет
ного
и
повествовательного
акта .
Повествовательная
функция
р асп редел я ется
м ежду
повествователем
и
гер о ем,
поэтому
рез ко
возрастает
диалогическое
дей ств ие
героев,
как
сло весное,
так
и
жестовое.
Своим
диалогическим
м ышл ением
они
со здают
столь
же
всестороннее
и
притом
мен яющ ее ся
определение
своего
«я»
и
«я»
окружающих,
како е
Пушкин-автор
соз давал
своим
отношением
к
гер оям.
Отсюда
большая
философичность
и
идео
логичность
внутренней
и
внешней
реч и
героев
у
Достоевского,
но
одновременно
и
сюжетная
функция
акт а
преодоления-
ими
своей
идеологической
предвзятости
и
выработки
более
адекват
ного
понимания
с ебя
и
мира.
И
растворяется
это
у
Достоевского
не
в
эмансипации
внеш
них
поступков,
ско р ее,
в
мировосприятии
героя,
диалогически
отсек ающ ег о
св ое
понимание
от
всех
внешних,
множественных
и
так
или
иначе
н еадекват ных
определений,
в
том
числе
и
оп ре
делений
повествователя.
Эффект
незавершенности
получается
именно
благодаря
эт ой
борьбе
за
преодоление
агрессии
—
на
вязчивости—
множества
разных
определений
путем
обострения
«слуха»
героя
к
сложным
глубинным
связям
природы
человека
и
природы
окружающего
его
мира,
основам
и
н ача лам
жизни,
архетекстам.
77
Сюжет
романа
Достоевского
—
как
функция
диа ло га
всех
героев
—
и
состоит,
соб ст венно ,
в
этом
инт елле кт уа ль ном
пре
одолении
героем
вс яко го
идеологизма
в
понимании
мира,
со
храняемого
дру гими
гер оям и
до
конца
сюжетного
действия.
Так
соз дается
почва
для
иного
понимания
с юже тных
событий
эт ими
другими
г еро ями
и
повествователем.
Подобно
то му,
как
Татьяна
в
с ильно й
внутренней
борьбе
пытается
повторно
определить
Он е
гина
и
ис тинно е
его
отношение
к
себе,
бь ются
в
пои ска х
опреде
л ений
герои
«Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов».
Раскольников,
Мыш кин,
Ставрогин
каждый
по-своему
погло
щены
преодолением
преград,
с вязы ваю щих
их
внутреннее
и
вн ешне е
д виж ение
с
остатками
идеологического
понимания
ими
мира ,
стремясь
выработать
адекват но е
понимание
ег о.
У
Раскольникова
и
Мышкина
этот
пр о цесс
сосредоточен
во
кр уг
неразрешимых
дилемм
двойных
мыслей,
когда
ве ра
в
яв
ные
мысли
теряется
по
мере
у глуб ления
уверенности
героя
в
действительности
скрытых.
Происходит
пре вра щение
сознания
героя
из
предмета
изображения
с
пункта
наблюдения
повество
вателя
и
дру гих
пе рс онаж ей
в
фу нкц ию
«повествователя», ин
терпретатора
своего
и
чужих
сюжетных
действий
—
как
реа льн о,
так
и
психологически
происходящих.
В
«Бесах»
эта
схема
выгля д ит
несколько
иначе.
К
тому
вр е
мени,
как
герой
вступает
в
романное
действие,
все
вн ешн ие
определения
и
соответственно
важ ные
связ анны е
с
ним
ожида
ния
уже
«готовы».
Ка сае тся
это
не
толь ко
Ве рхове нс ко го
и
его
«учеников - сам озв ан ц ев »,
но
и
претендующих
на
его
любовь
к
с ебе— Даш и,
Марии
Тимофеевны,
Лиз аветы .
Вот
почему
борьба
С та вр огина
есть
не
столько
борьба
против
«идеологического»
понимания
себя
и
мир а
(он с самого начала понимает себя и
внеш ний
закон
объективного
мира
неизменно
адекватно), на
оборот,
тут
борьба
героя
с
постоянным
вмешательством,
агр ес
с ивным
навязыванием
ему
различных
ролей,
более
того,
лову
шек,
попав
в
которые
ему
непременно
пришлось
бы
эти
роли
разыграть.
Это
и
создает
истинную
активность
его
диал ог ич е
ского
проникновения
в
существо
з ако нов
движен ия
трагических
событий,
все
более
решительно
требующих
его
интеллектуаль
ной
и
экзистенциальной
проникновенности
и
активности.
А
в
ко нце
своей
борьбы
он
выбирает
самую
кр ай нюю
форму
ан
типоступка
—
само у бий ство ,
чтобы
избежать
и
в
с амом
де ле
навязанной
ему
роли
—
оп р авдать
лжедействия
Верховенского
и
стать
предметом
милосердия
Даш и.
Возв раща ясь
к
метафоре
о
превращении
в
«текст»
дей ств ия,
оказавшегося
«напрасным»,
несвершимым
и
непризнанным
—
как
это
выявилось
в
сюжетах
Гоголя
—
можно
б ыло
бы
сказать,
что
тек сто м
для
Ст авро гина
ока жетс я
не
его
собственное
де й
ствие.
В
окон чате л ь ном
варианте
«Бесов», в котором писатель
не
захотел
опубликовать
главы
«У Тихона»
и
«Исповедь Став
рогина», видно,
насколько
существенно
были
пе ре дел аны
главы,
78
чтобы
еще
яснее
выступила
эта
установка
сюжета:
не
стол ь ко
идеологическое
обострение
дра м ати зма
внутренних
духовных
противоречий
гер оя,
с ко лько
усуг убл е ние
его
реа льн ого
и
ин
теллектуального
положения,
усугубление
противоречия
чело
века,
выработавшего
адек ват ны й
взг ляд
на
мир
и
самого
себя
в
кругу
людей,
одержимых
идеологическими
стремлениями,
не
расстающимися
с
ним и
до
конца
их
сюжетного
д ейств ия.
Сход н ая
тра ге дия
доведения
своего
понимания
мира
до
в оз
можной
адекватности
изображена
в
ситу а ции
Ивана
Карама
зова.
Неправильное
прочтение
его
мыслей
и
пре вра щен ие
их
в
свой
«текст»
Смердяковым
также
приводит
к
трагедии
и
ре
шительному
шагу
Ив ана,
принятию
ответственности
на
се бя
(явка с повинной на суд), как в свою очередь в «Б ес а х»
при
нял
ви ну
на
с ебя
и
Ставрогин.
Итак,
диал ог
во
всех
расс мотрен н ых
нами
с луча ях
играет
подчиненную
роль,
изображая
не
слово
гер оев ,
а
—
с
помощью
с лова
—
трансформацию
их
сознания
и
судеб,
более
ад ек ват ного
понимания
мир а
и
себя.
М.
В.
ОТРАДИН
«ТРУДНАЯ РАБОТА ОБЪЕКТИВИРОВАНИЯ»
(Юмор в романе И .
А.
Гончарова
«Обломов»)
Комическое
в
художественной
си сте ме
Гончарова
точнее
всего
можно,
на
наш
взгляд,
оп ре дели ть
как
«юмор».
В
юморе
обнаруживается
своеобразное
диалектическое
ед инств о
утвер
ждения
и
отрицания.
Как
писал
П.
В.
Анненков
еще
в
1849 г;,
«никогда настоящий юмор не увечит окружающую действитель
ность,
чт обы
похохотать
над
ней:
он
тол ько
ви дит
обе
стороны
е е»1.
Юм ор
от лича ет ся
особым,
с ложным
отношением
к
объекту:
вне шняя
комическая
тра ктов ка
сочетается
в
нем
с
внутренней
серьезностью.
Юм ор
—
неоднозначное,
противоречивое
отноше
ние
и
к
изображаемой
жизни,
и
к
субъекту
повествования.
«Юмор мыслится как рефлексия субъекта,
способного
поставить
себя
на
место
комического
объекта
и
приложить
к
с ебе
мерку
идеального
м асш таб а»2.
Но
тем
не
менее
юмор
не
отказыва
ется
судить
мир.
В
этом
пла не
ему
чужд
тот
субъективизм,
под
черкнутая
незакрепленность
от но ш ения,
которая
яв ляется
основ
ным
признаком
романтической
иронии.
Юмор
обнаруживает
что-то
п оложи тель ное ,
какие-то
элементы
идеала
в
самом
объ
екте,
в
комически
изображаемой
д ейств ител ь но сти.
Высокое
и
даже
ид еа льное
в
ге роях
и
в
жизненных
явлениях
обн аруж и ва
е тся
не
вопреки
юмору,
а
благ од аря
ему .
Критики
XIX в.
не
ра з,
хотя
и
вс коль зь,
писали
об
особой
роли
комического
в
художественной
системе
Гончарова.
Так,
А.
В,
Дружинин
в
своей
рецензии
на
роман
«Обломов»
с
у див
лением
отметил: «...Какими
простыми,
часто
какими
ком иче
ским и
средствами
достигнут
такой
небывалый
результат!»3
Более
подробно
и
аргументированно
о
необходимости
и зуч ать
комическое
искусство
Гончарова
пи сал
Д.
С.
Мережковский.
По
его
мнению,
в
русской
литературе
XIX в.
автор
«Обломо
ва»— «п ер вый ...
великий
юморист
после
Гоголя
и
Грибоедова»4.
Тяго тени е
пис ате ля
к
одной
из
фо рм
комического
свидетель
ствует
об
определенном
подходе
к
явлениям,
к
жизни
в
целом,
в
этом
проявляется
существенная
сторона
его
мировоззрения,
его
ко нцепц ия
д ейств ител ь но сти.
В
наш ем
случае
важно
отм е
тить,
что
«юмор
—
ко нц епци я,
объ един яющ ая
объективизм
с
ум е
р енным
релятивизмом»5.
©М.
В.
От р ад ин, 1992.
80
В
романе
«Обломов»
нет
голоса,
который
воспринимался
бы
как
голос
всезнающего,
бе за пе лл яционно
судящего
а втора .
Ни
од на
внешняя
по
отношению
к
герою
точка
зре ния
не
подается
как
абсолютно
объективная;
мнения,
характеристики,
данные
в
романе
от
лица
повествователя,
подвергаются
существенной
коррекции
ходом
сюжета.
Как
отметил
еще
Ин.
Ан ненс к ий,
пи
савший
о
«трудной работе объективирования»
в
«Обломове»,
«резонерство Гончарова чисто русское,
с
юмором,
с
готовностью
и
над
со бой
п ос ме ятьс я»6.
Жан
Поль
писал: «Юмор
—
д ух,
который
все
проникает
и
не
видимо
одушевляет...
и
вместе
с
тем
не
може т
б ыть
ук азан
пальцем
в
отдельных
частях
п роизв еде н ия»7То есть юмор есть
внутреннее
свойство
художественной
системы.
Конечно,
даж е
такая
особая
роль
юмора
еще
не
делает
романное
искусство
Гончарова
явлением
уникальным.
Существует
мнение,
что
име нно
в
роман е
юмор
«нашел ...
сво е
классическое
осуществ
л ен ие»8.
Исключительная
роль
юмора
в
художественной
системе
Гонч ар ова
роднит
его
со
мн оги ми
романистами,
может
быть,
больше
всего
с
глубоко
почитавшимся
автором
«Обломова»
(«наш общий учитель») Диккенсом .
Но
сразу
можно
ск азать
и
о
существенном
отличии
Гончарова
от
Диккенса.
У
Д иккен са
д аже
в
пределах
одного
произведения
м ожно
на йти
ра зличн ые
формы
комического,
в
част но ст и,
и
юмор,
и
сатиру.
Кроме
того,
у
Д иккенса
одновременно
с
комическим
может
присутство
в ать
и
некомическое:
трогательное,
элегическое,
п атети че ск ое9.
У
Гончарова
комическое
перекрывает
в се,
трогательное
или
элегическое
возникает
не
помимо
юмора,
а
бла год аря
ему .
Развитие
романного
искусства
Гончарова
отмечено
возраста
нием
в
нем
рол и
юмора.
Так,
в
«Обыкновенной истории»
есть
персонаж
—
Лизавета
Александровна
—
который
су ществ у ет
вне
комического
о с веще ния:
ни
для
других
героев,
ни
для
повество
вателя
ее
поведение,
ее
вз гля ды
не
являются
к оми чными.
В
«Об
ломове»
таких
исключений
уже
нет .
Пр ежде
всего
нас
будут
интересовать
фу нк ции
многочислен
ных
комических
п ара лле лей
й
сопоставлений
в
романе
«Обло
мов ». Роман
«Обломов»
—
соч етан ие
(и в художественном плане
оче нь
з на чимое)
разнородных
сюжетных
с труктур,
в
которых
проявлены
принципиально
несовпадающие
к о нцепции
мира.
Го
во ря
о
приемах
композиции,
использованных
в
«Обрыве», и
о
задачах,
стоявших
перед
писателем
и
потребовавших
таких
решений,
Т.
И.
Райнов
писал,
что
картина
жиз ни
в
гончаров
с ких
романах
включает
в
себя
изображение
двух
принципиально
о тл ичных
жизненных
состояний,
противопоставлявшихся
еще
и
в
античной
филос о фии: «бытия»
и
«бывания», «пребывания»
и
«изменения»10.
Для
до стиж ения
полноты
изображения
Гонча
р ов,
по
мнению
Т.
Р айно ва,
ис пол ь зует
два
принципа
компози
ции:
пр инцип
сопричастного
сосуществования
и
пр инцип
драма
тического
взаимодействия.
Пр ин цип
драматического
вз аим од ей
6 Заказ No 299
81
ств ия
«требует направленного развития действия к определен
ной
фазе,
ра звя зке
и
определенного
—
нарастающего
—
хода
действия
в
стремлении
последнего
к
разрешающей
ситуации»11.
«Поэма любви», то есть вторая и третья часть романа « Об
ломов»
и
построены
по
такому
принципу .
Но
то лько
учи т ывая
оба
композиционных
принципа
ро мана
Гончарова
можно
понять,
какую
роль
играет
«событие»
в
развитии
темы,
в
раскрытии
то го
типа
сознания,
носителем
которого
яв ляетс я
Обломов.
Части
романа
(первая и четвертая), построенные по принципу
«сопричастного сосуществования», где изображается «изб ег аю
щая
событий»
жизнь,
также
очень
важны
для
п оним ан ия,
с мыс ла,
который
не сет
в
себе
художественный
мир
романа.
«Поэма любви»
как
ча сть
сюжета
рас крыв ает
в
героях
мно
гое,
да же
можно
ска зат ь,
наиболее
су щес тве нно е,
но
не
все.
По
отношению
к
жизни,
изображенной
по
принципу
сопричаст
ного
с осущ ест вова ни я,
замкнутой,
сориентированной
на
природ
ное,
цикличное
время,
в
которой
«каждый день как вчера,
а
вчера
как
з ав тр а», история любви Обломова
—
исключитель
ное
событие,
ан о м али я, «болезнь».
Главного
гер оя
можно
по
нять
до
конца
только
тогда,
ко гда
нам
р аскр оетс я
смысл
обоих
типов
существования,
к
которым
он
ок аза лся
причастен.
Ро ман
в
целом
и
отдельные
его
части
под
напором
«случай
ностей»,
исключительных
событий
имеют
тенденцию
превра
щаться
в
«историю», в « с юж е т», в котором легко различимы
хронологическая
последовательность
событий
и
причинно-след
ств енн ые
с вязи
между
ними.
Но
какие-то
силы
мешают
полной
реализации
этой
тенденции,
тормозят
это
пр е враще ние
(менее
успешно
во
2-й
и
3-й
ч ас тях), стремятся замкнуть сюжет в коль
цо.
П осл едняя
фра за
романа
(«И он рассказал то,
что
з десь
н ап и са н о») отсылает читателя к началу,
нам
как
бы
предлага
ется
перечитать
роман,
оказывается,
что
сюжет
«замкнут»
сам
на
себ я,
ему
так
и
не
у дает ся
пре вр атит ься
в
«историю», собы
тия
которой
однократны
и
св яз аны
с
определенным
временем
и
местом,
которая
имеет
начало,
развитие
и
конец.
Смысл
сопоставления,
лежащего
в
основе
романа,
явн о
не
сводится
к
сравнению
дв ух
любовных
ис тори й.
Сопоставление
двух
типо в
жизни,
в
одном
из
которых
гл авно е
цикличность,
п овт оряемос ть
с обы ти й , «пребывание», а в другом
—
направлен
ное
движение,
г лавенст ву ющ ая
роль
«случайности», «измене
н и е», «становление», сопоставление « ск а зки»
и
«истории», двух
миров,
центрами
которых
являются
носители
этих
резко
проти
вопоставленных
с о знаний
—
Обломов
и
Штольц,—
вот
та
ко н
струк ци я,
на
которой
держится
весь
роман
«Обломов» .
Названное
сопоставление,
смысл
которого
постигается
посте
пенно,
выводит
наше
сознание
к
универсальному
противоречию.
На
эт ом
уровне
можно
увидеть
связь
Гончарова
с
некоторыми
его
предшественниками,
прежде
всего
с
Пушкиным,
которого
также
волновала
проблема, «как сочетать „устойчивость“
с
по-
82
стоянным
движением,
необходимым
условием
совершенствова
ния », «как сообразовать „ э лл ин с к ую“
округлость,
цикличность
с
библейской
векторностью,
с
це ннос т ной
направленностью»12.
«Изменчивость»
—
«устойчивая неизменность»
—
эта
антино
мия
бы ла
очень
важна
Пушкину.
«В противоречивой теории, —
пише т
Ю.
Н.
Чумаков,—
примирить
эти
крайности
де йст ви
тельно
трудно.
Но
в
по эзии
они
легко
могут
составить
а мб ива
л ен тную
антитезу,
в
которой
отождествляется,
не
снимаясь,
обновление
и
постоянство...
Может
быть,
самое
главное,
что
от крыв ает
нам
пу шкин ский
роман,—
это
нетождественное
то
ждество
становления
и
пребывания»13.
Смысл
сопоставления
дв ух
ти пов
сознания,
д вух
миров
не
получ а ет
окончательного
п роясне ни я
и
к
концу
гончаровского
романа.
«Спор»
как
бы
продолжается,
хотя
И льи
Ильича
уже
нет.
«Чем крупнее замысел произведения, —
пи сал
Б.
М.
Эйх ен
ба ум,—
тем
тесн ее
свя зан о
оно
с
самыми
острыми
и
сложными
проблемами
действительности,
тем
труднее
поддается
благопо
лучному
„заканчиванию“
его
сюжет,
тем
е стеств енн ее
оставить
его
„открытым“» 14.
Сю жет
«Обломова» «о т к рыт»
в
том
см ыс ле,
что
в
ито ге
сопоставлений,
которые
читатель
проследил,
у
н его
нет
твердого
зна ния ,
какой
из
миров
более
«прав», более зако
номерен.
Сопоставление
остается
жить
в
со знан ии
читателя,
и
в
этом
смысле
мо жет
быть
понята
отс ыл ка
на
по сле дней
стра
ни це
романа
к
его
началу:
нам
предлагается
еще
раз
пойти
по
это му
кругу.
Сопоставление
двух
т ипов
сознания,
споры
между
Штольцем
и
Обломовым,
казалос ь
бы,
должны
сделать
ос но вой
сюжета
диалогический
конфликт
15.
Но
по
х ара ктеру
и
смыслу
сопостав
лен ия
д вух
героев
сюж ет
романа
нельзя
свести
к
развертыва
нию
диалогического
конфликта.
Глубинная
суть
этих
характе
ро в,
смысл
обособленных
миров,
центрами
которых
они
яв ля
ются,
изм ен ени я,
которые
п роис ходят
с
ними,
не
раскрываются
до
кон ца
в
спорах
Обломова
и
Штол ьца
и
в
тех
событиях,
ко
торы е
вызыва ю т
эти
споры
или
призваны
проиллюстрировать
их.
Способы
жи ть,
мировоззрение,
внутренний
мир,
идеалы
двух
героев
романа
настолько
различны,
что
их
«лобовое»
сопостав
лен ие
мало
что
д ало
бы
читателю.
Многозначность,
глубина
сю
же тных
линий
Обломова
и
Штольца
об нар уж иваю тся
через
их
постоянное,
углубляющееся
сопоставление.
В
развертывании
и
углублении
этого
сопоставления
гром адн ую
ро ль
играет
стихия
комического.
Контрастные
п ары
мы
находим
и
у
многих
предшественников
и
современников
Гончарова:
можно
вспомнить
произведения
Сер ван теса,
Стерна,
Жан
П оля,
Кара мзи на ,
Жуковского,
Ба
тюшкова.
На
бл изос ть
к онт растног о
сопоставления,
которое
дано
в
«Обыкновенной истории»
и
в
очерке
Н.
М.
Кара мзи на
«Чувствительный и холодный», указал Р .
И.
Иванов-Разумник 16.
Ю.
В.
Манн
отм е тил
существенное
о тл ичие
в
повороте
ко н
6*
83
фликта,
который
содержится
в
э тих
двух
произведениях.
У
Гон
чарова
с
т еч ением
времени
меняются
оба
персонажа,
между
ними
нет
принципиального
отличия,
каж дый
из
них
представ
ля ет
лишь
«различную фазу единого круговорота жизни» 17.
Совсем
иначе
у
Карамзина:
там
деление
героев
абсолютно
и
окончательно,
оно
обусловлено
самой
природой
и
никакой
кор
рекции
не
поддается.
Может
показаться,
что
такое
же
абсолютное
р аз дел ение
представлено
и
в
«Обломове» .
Об
Илье
Ильиче
или
Штольце
нельзя
сказа ть ,
что
кто-то
из
них
проходит
фазу
развития,
ко
торая
уже
пройдена
другим.
Но
ко м ически е
сопоставления,
да н
ные
в
романе,
убеждают
читателя,
что
герои,
противопоставлен
ные
на
социально-типологическом,
уровне,
на
другом,
универ
сальном,
уровне
обнаруживают
не со мне нную
общность
и
един
ство.
Юмор
Гончарова
приз ва н
показать
нам
относительность
то г о, «нижнего», деления.
Ит ак,
основой
для
комизма
в
художественной
системе
Го н
чарова
яв ляетс я
сознание
относительности
да же
самы х
убеди
тельных
противопоставлений.
И
наоборот:
сближение,
обнару
же ние
сх о дства
не сет
мысль
о
скрытом,
но
существенном
от
личии.
Уже
на
одной
из
первых
страниц
романа
читателя
преду
пр еждают
об
опасности
пенковщины
—
слишком
прямолиней
ного,
упрощенного
т олк о вания
человека.
Иль я
Ильич
с
негодо
ванием
говорит
о
литературе,
которая
с треми тся
дат ь
лишь
«го
лую
физиологию
общества».
Ратуя
за
сердечное
отношение
к
че
ло ве ку,
за
высокое
искусство
(«он испорченный человек,
но
че
ловек
все
же,
то
ес ть
вы
сам и.
Извергнуть!
А
как
вы
извергнете
из
кр уга
человечества,
из
л она
природы,
из
милосердия
бо
жи я ?») 18, герой Гончарова « пе рес к азы ва ет»
вы вод
К.
С.
Ак
сак о ва,
который
писал
о
«Мертвых душах»: «На какой бы низ
кой
ступени
ни
стояло
лицо
у
Гоголя,
вы
всегда
пр изна ете
в
нем
человека,
своего
брата,
созданного
по
образу
и
подобию
бо
жи ю» 19.
Х оть
Обломов
в
споре
с
Пенки ны м
и
излишне
патетичен
(«далеко хватил»), но по сути автор,
конечно,
солидарен
с
ни м.
Чт обы
преодолеть
пенк овщ ину ,
надо
создать
универсальный
ме
тод
объективного
изображения
человека.
Т айна
чужого
созн ан ия,
чужого
существования
—
оди н
ив
стержневых
мот иво в
«Обломова» .
Все
основные
герои
романа
ст алк ивают ся
с
этой
проблемой
(Ольга пытается разгадать
Ил ью
Иль ич а,
Шт ольц
—
Агафью
Матвеевну,
Обломов
—
«брат
ца»
и
так
да лее). Многочисленные комические ситуации
(в них,
как
правило,
отражаются
напряженные,
др ам ат ическ ие
отноше
ния )
с вяза ны
с
тем,
что
тот
или
ино й
герой
быва ет
излишне
самоуверен,
категоричен
в
своих
пр едставл ениях
и
суждениях
о
др угом
человеке.
Тайна
разгадана
не
до
конца
или
совсем
не:
разгадана.
Да же
если
ре чь
ид ет
об
оче нь
близком
человеке.
84
Так
Штольц,
рассказ ываю щи й
в
эпилоге
«литератору»
о
жизни
Обломова,
вроде
бы
все
знающий
о
жиз ни
пок ойн ого
друга,
тем
не
менее
как
бы
продолжает
разгадывать
обломовскую
тайну.
Ком ич ески й
проигрыш
этого
мотива
да ется
в
начале
ром ан а.
Доктор
советует
Илье
Ил ьичу
побольше
дви гать ся,
съездить
за
границу,
в
Тироль,,
в
Е ги пет,
Англию,
Америку,
поменьше
ду
ма ть
(читатель постепенно будет догадываться,
какова
с тепе нь
непонимания
пациента
в
этих
речах
доктора), то есть в сущ
нос ти
О блом ову
дает ся
совет
стать
другим
человеком.
Ка ждый
герой
романа
«Обломов»
ок азыв ает ся
в
зо не
коми
ческого
о све щени я.
Но
не
каждый
из
них
способен
на
себ я
по
смотреть
с
иронией,
увидеть
смеш ное
в
себе.
Обломов
обычно
в идит
в
себе
смешное,
п орой
да же
пр еу ве личива ет
это
качество'
в
себе.
«Любить меня,
смешного,
с
сонным
взглядом...» (170)—
д умает
он
об
отношении
Ольги
к
нему.
Но
когда
Ил ья
Ильин
утрачивает
эту
«отвагу», способность так,
иронически,
смотреть
на
себя,
он
действительно
становится
смешон.
Как
писал
А.
Бе рг
сон,
ко м ическ ий
персонаж
«смешон ровно настолько,
на с колько-
он
не
со зна ет
се бя
таковым.
Комическое
бессознательно»20.
Один
из
примеров
—
Ил ья
Ильич,
произносящий
ре чь
пе ред
За
ха ром
о
себе
и
о
«другом» . Во
в сех
сл уча ях,
когда
Илья
Ильин
проявляет
с ебя
как
ч е ловек
сосл овны й,
как
барин,
его
слова
и
поступки
подаются
как
смешные,
а
его
ам биц ии
как
несостоя
тельные.
Но
отношение
автора
к
герою
не
сводится
к
осмеиванию'
в
нем
всего
барского
и
возвеличиванию
всего
«естественного»,,
общечеловеческого.
Та кой
взг ля д,
бытующий
в
гончароведении,.
все-таки
ведет
к
упрощению
худож ес тве нн ого
смысла
романа.
Об
Илье
Ильиче
ск азан о,
что
он
учился
в
университете,
жил
в
свете
и
в
отличие
от
отца,
который
считал
грехом
приобретать
больше,
чем
приобреталось
«само собой», «понимал,
что
приоб
ретения
не
то лько
не
грех,
но
что
долг
вс яко го
гражданина
честным
трудом
по ддер жи вать
общее
благосостояние» (53).
НО'
иро нич еский
за ряд,
заложенный
в
этой
фразе
(«долг всякого
гражданина»
—
эти
слова
яв но
не
адекват ны
настоящим
мыслям
Ил ьи
Ильича
о
себе), свидетельствует,
что
эта
истина
осталась
для
н его
«чужой» .
Труд
во
имя
собственного
обогащения
ни
когда
не
мо жет
стать
целью
его
жизни,
ее
смыслом.
Бездеятельность,
неспособность
тру дить ся
в
О бл омове
абсо
лютная.
Не
зря
его
зо вут
И лья
Ильич.
А
в
его
родительском
доме
и
в
домике
на
Выборгской
стороне
Ил ьин ская
пятница
—
гла вны й
пр аз дник
года.
В
д ень
И льи- проро ка
работать
счита
лось
страшным
грехом.
Так
в от,
бездеятельность
Обломова
в
одном
пла не
—
в
сравнении
с
о смы сленно й
деятельностью
—
барская
лень,
смешная
беспомощность.
А
в
сравнении
с
дело ви
тостью
хищника
«братца»
—
это
бескорыстие
и
человечность.
Вс по мним
про
«план», над которым бьется Обломов,— « но вый,,
свежий,
сообразный
с
потребностями
вр ем ени » (53).
Как
истин-
85
ному
сыну
Обломовки,
умение
пла нирова т ь,
ра ссч и тыв ать,
ан а
лизировать,
предвидеть
то,
чего
еще
не
б ыло,
совершенно
не
свойственно
Ил ье
Ильичу.
Мотив
«планирования», «расчета»,
когда
он
возникает
в
связ и
с
И льей
Ильичем,
всегда
звучит
ко
мически.
В
раздумьях
над
планом
Обломов
силится
б ыть
на
стоящим
помещиком,
хозяином,
т ре звым
практиком.
Как
авт ор
такого
плана,
он
ограничен,
консервативен
и
яв но
смешон:
ду
ма ет
о
«полицейских мерах», которые надо ввести в Обломовке,
о
то м,
что
«грамотность вредна мужику»
—
«выучи его,
так
он,
пожалуй,
и
пахать
не
ста нет» (132) 21.
Усилия
Обломова
со
здать
план
обречены
на
неудачу,
ибо
т акая
задача
подразуме
вает
умение
соотносить
же лаемо е
с
реальностью,
понимание
процессов,
происходящих
«сейчас», в их исторической конкрет
ности,
способность
у гад ыват ь,
чем
«завтра»
будет
отличаться
от
«сегодня»
и
от
«вчера».
Эта
деятельность
И льи
Ильича
ока
жется
сов ерш енно
бе спл о дной
еще
и
потому,
что
само го
Обл о
м ова
мог
бы
удовлетворить
такой
«план», который позволил бы
построить
жи знь
в
Обломовке
в
соответствии
с
его
мечтой.
А
утопическая,
вырастающая
в
сознании
И льи
Ильича
по
во ле
его
во об ражен ия,
в
соответствии
с
норма ми
искусства,
а
не
жизненной
логи ки
и
р асчет а
мечта
никогда
не
совпадет
с
«пла
ном».
Дум ать
о
«плане»
для
Обломова
—
тяжелый
труд.
В
романе
неоднократно
комически
обыгрывается
н еспосо б ност ь
г ероя
пл а
нир оват ь,
предугадывать
объективный
ход
жизни.
Вот
Илья
Ильи ч
представляет
себе,
как
п роиз ойдет
его
объяснение
с
Ол ь
гой: «...она
вспых нет ,
улыбнется
до
дна
души,
по том
в згляд
ее
нап ол нит ся
слезами» (216).
А
в
жизни
произошло
все
иначе:
«Ни порывистых слез от неожиданного счастья,
ни
стыдливого
согласия!
Как
это
понять!» (223)—змея
сомнения
мучает
Илью.
Вот
Илья
Ильич
в ообра жа ет
себя ,
как
он
объ я вит
о
своей
же
нитьбе
За ха ру: «.. .он поклонится в ноги и завоет от радости,
дам
ему
двадцать
пять
рубл ей .. .» (229).
А
в
реальной
жизни
Обло
мову
пришлось
врать
своему
слуге,
что
ни
о
какой
же нитьб е
и
речи
не
могло
бы ть,
и
в ыгон ять
его
из
дому,
когда
должна
была
появиться
там
Ол ьга
И ль инск ая.
Промахи
И льи
Ильича
в
пла нир ова нии
такого
род а
объясняются
его
неумением
понять
человеческую
натуру
—
в
том
числе
и
свою
—
в
ее
изменчивости,
«текучести».
«Голова его,—
сказа но
в
романе
об
Ил ье
Ильиче,—
п ред
ставляла
сложный
архив
мертвых
дел,
лиц,
эп ох,
цифр,
рели
ги й,
ни чем
не
связанных
политико-экономических,
математиче
ских
и
других
истин,
задач ,
положений» (53).
Все
эти
с веде ния
не
ожив аю т
в
герое
как
конкретное
знание.
Он
чувствует,
что
накапливание
но вых
с ведени й
не
сделает
его
ни
умнее,
ни
сч а
стл иве е.
Поэтому,
скажем ,
вынужденные
(по заданию Ольги)
поиски
свед ений
о
двойных
зве здах
превращаются
для
Обло
м ова
в
муку.
В
нем
живе т
своеобразный
нигилизм
по
отноше-
36
нию
к,
говоря
современным
яз ык ом,
информации
и
к
чужим:
мн ениям .
К
истине,
с
его
точки
з ре ния,
накопление
знаний
не
ведет.
У
О блом ов а, «выборгского Платона», есть потребность
«взлететь над познанием».
Предпочтение
цельного
знания
конкретному,
синтеза
ан а
лизу,
вера
в
то,
что
искусство,
в
частности,
п о эзия,
лучший
с по
соб
познания
и
что
в
этом
смысле
оно
мо жет
заменить
науку,—
эти
черты
мировоззрения
Обломова
го вор ят
о
нем
как
о
я вном
р о манти ке.
Штол ьц
впервые
произносит
слово
«обломовщина», услышав
рас ск аз
И льи
Ильича
о
его
мечте,
же ла нном
существовании..
Обычно
«обломовщина»
понимается
прежде
всего
как
зависи
мость
ге роя
от
но рм
и
традиций
определенного
уклада
жизни,,
п рояв ляю щаяся
в
его
псих и ке
и
поступках.
Но
мечта
И льи
Ильича
—
это
не
толь ко
«память», воссоздание с помощью фан
тазии
того,
что
б ыло
в
реальной
Обломовке.
Не
менее
важно
и
то,
что
мечта
—
это
и
плод
творческих
усилий
героя,
его,
так
сказат ь ,
поэтических
дум.
Грезы
Ильи
Ил ьича
о
буд ущ ей
жизни
в
Обломовке,
его
ра сск аз
о
своей
мечте
Штольцу
обра
зу ют
особый,
поэтический
сюжет
в
романе,
который
имеет
ва ж
н ейшее
значение
для
понимания
героя.
Мечта
Обломова
противостоит
действительности
не
только'
как
«память», как прошлое настоящему,
но
и
как
желанное
—
существующему.
Романтическое
начало
в
мечте
героя
обнару
живается
легко.
Как
писал
Ф.
Ш елли нг,
настоящий
романтик
стремится
«всему существующему противопоставить свою дей
ствительную
свободу
и
спрашивать
не
о
том,
что
ес ть,
но
что
во зможн о»22.
В
отличие
от
«плана»,
мечта
—
это
для
И льи
Ил ьича
свободное
творчество,
в
мечте
он
демиург
же лан ного
мира.
О
тех
же
событиях
Обломов
совсем
иначе
думает,
когда
это
не
«план», а свободное творчество.
С каж ем,
о
мужиках,,
у шедш их
из
Обломовки.
Обломов,
как
сказан о
у
Го нч аро ва,,
«углубился более в художественное рассмотрение»
этого
собы
тия: «Поди,
ч ай,
н очью
ушли,
по
сырости,
без
хлеба» (76).
Комический
эффект
возникает
и
оттого,
что
Обломов
—
автор
«плана»
не
так
оценивает
событие,
как
Обломов-«художник»..
«И что тревожиться?
—
усп ок аи вает
Илья
Ильич
сам
себя,—
скоро
и
пл ан
по дос пе ет.. .» (76).
Насколько
б еспом о щен
Обломов
в
своем
планировании,
на
с тольк о
он
свободен,
раскован
в
св оей
мечте;
мышление
его
ста
новится
образным,
по этич ным
и
одновременно
конкретным,
точ
ным.
Гла вное
в
этой
умственной
деятельности
И льи
Ильича
—
воображение,
которого
так
боится
Штольц.
Способность
жить
воображением,
верить
в
во об раж аемый
м ир,
стрем ить с я
к
не
му—
э тим
качеством
на дел ены
мног ие
литературные
герои,
ко
торы е
генетически
в
большей
или
меньшей
степени
связаны
с
сервантесовским
Дон
Кихотом.
Это
«чудаки» (герои Филь
динга,
Смоллета,
Стерна,
Гольдсмита,
Дик к е нса ), которые не
87
хотя т
или
не
могут
приспособиться
к
н ормам
жизни
буржуаз
ног о
общества.
И
гл авное
качество
носителей
этого
ти па
созна
ния
обозначено
в
наз вании
романа
о
Дон
Кихоте,
которое,
по
мнению
Л.
Пинского,
надо
переводить
не
как
«хитроумный»,
.а
как
«одаренный живостью и тонкостью воображения»23.
Мышление
Обломова
по
п рирод е
своей
не
аналитическое,
а
образное,
поэтическое,
поэтому
ме чта
так
явственно
оживает
в
его
разговоре
со
Штольцем,
так
легко
рождаются
у
него
.ассоциации,
сравнения,
образные
ход ы.
В
ответ
на
сл ова
Штоль
ца : «Да ты поэт,
И лья!» Обломов говорит: «Да,
по эт
в
жизни,
потому
что
жизнь
ес ть
поэзия.
Вольно
людям
и скаж ать
ее !»
(140).
В
этих
словах
Ил ьи
Ильича
очень
важная
правда
не
только
о
нем
самом,
но
и
всех
трех
главных
героях
гончаров
ск их
романов:
Ал ек сандр е
Адуеве,
Обломове
и
Райском.
Все
■они склонны смешивать жизнь и « поэ зию», склонны ждать,
что
жизнь
преобразится
по
нормам
искусства.
М ечта,
поэтическое
переживание
так
много
ме ста
занимает
в
духовном
мире
Обломова,
что
можно
сказат ь ,
используя
слова
Т ютчева :
ду ша
его
ж ивет
«на пороге двойного бытия»
—
и
«здесь», в контакте с «трогающей»
ее
жизнью,
и
«там», в «меч
те» .
В
сущности,
Иль я
Ильич
хочет
вернуться
не
в
реа льн ую
Обломовку,
а
в
Обломовку
своей
мечты.
В
реальной
Обло-
мовке
гончаровскому
ге рою,
человеку
—
по
сравнению
с
его
предками
—
уже
другого
духовного
опыта,
человеку,
душа
к ото
рого
нуждается
в
поэ з ии,
в
том,
чтобы
одновременно
со
стуком
кухонных
ножей
звуча ла
Casta diva, уже не обрести гармонич
ной
жизни.
Как
не
обрел
ее
Александр
Адуев,
вернувшийся
из
П ете рбург а
в
сво ю
у садь бу
Грачи.
«Память»,
со еди нивш ись
в
мечте
Обломова
с
«поэзией»,
дала
полнокровный,
яркий
образ
его
идеала.
Речь
Обл омов а,
обращенная
к
Штольцу,
в
которой
рисуется
желанная
жизнь,—
это
как
бы
устный
ва ри ант
дружеского
послания.
Здесь
нахо
дим
знак ом ые
по
поэтическим
произведениям
ситуации,
де т али,
особый
ст рой
чувств.
«Жизнь,
зафиксированная
в
дружеском
послании,—
пи шет
исследователь,—
жизнь
неофициальная,
не
регламентированная
никакими
нормами,
протекающая
в
стороне
от
большой
жиз ни»24.
Так,
скажем ,
в
пуш к инск ом
«Послании
к
Юдину»
на ходи м
целый
ряд
дет ал ей
обломовской
мечты: «Не
з наю
з авт ра,
ни
вчера,
.. .укрыться в
мирно м
уголке,
.. .на холме
домик
м ой,
.. .веселый
сад,
.. .тюльпан
и
роз у
поливаю,
.. .со
седи
шумн ою
толпою,
.. .хлеб-с о ль
на
чистом
п ок рывал е,
.. .во
плен
о т дался
я
мечтам».
И
н ак онец : «.. .судьбы
всемощнее
п оэт ». Вот и Обломов внешние причины,
меш ающ ие
ему
обрести
покой
(болезни,
угроза
п ереез да
на
другую
квартиру,
письмо
•старосты), называет судьбой.
А
в
мечте
судьба
над
ним
не
в ластн а.
Больше
всего
Ил ью
Ильича
удручает
то,
что
время
во
все
вносит
перем ены.
Он
хотел
бы,
чтобы
этот
де нь, 1 мая,
с
кото -
58
poro начинается роман,
был
об ычным
днем,
одн им
из
многих,,
пох од ил
на
«вчера»
и
на
«завтра» .
Но
«случайности»
ра злич
но го
рода:
визит ы
гос те й,
т ре б ование
х оз яина
дома
съехать-
с
квартиры,
приезд
Штольца
(хотя Обломов искренне рад.
е му)
—
превращают
этот
ден ь
в
исключительный,
внося
в
ци
кл ичес ко е , «круговое»
существование
И льи
И льича
стихию
со
бытийности,
втягивая
г ероя
в
поток
времени.
Не
то лько
вне шн яя,
но
и
внутр енняя
жизнь,
да же
чувства,
даже
такая
любовь,
как
любовь
его
и
Ольги,
не
за сты вает ,
а
меняется
со
временем,
обретает
новые
фор мы
и
новый
смы сл,
и
при
этом
что-то
ут ра чивае т.
А
Обломов
хочет
«вечного лета»,,
«вечного веселья», «вечного ровного биения покойно -сча стли в ог о
се рд ц а », «вечно наполненной жизни», «вечного нравственного
з д оровья». Желанное состояние покоя рисуется поэтическому со
знанию
Обломова
как
бесконечно
длящийся
день,
когда
душа,
погружена
в
атмосферу
любви
и
одновременно
испытывает
у ми
ротв оря ющ ее
воздействие
природы.
Поэтические
формулы,
не
однократно
повторенное
Обломовым
слово
«вечно»
отсылают
к
поэ зии,
в
частности
к
Лермонтову,
к
сти хо тв ор ению
«Выхожу
о дин
я
на
д орог у.. .».
Это
состояние
желанного
покоя
гр ез илос ь-
и
лермонтовскому
г ерою:
Что б
всю
ночь,
вес ь
день
мой
слу х
лелея,
Про
любовь
мне
сл адкий
голо с
п ел,
Надо
м ной
чтоб
ве чно
зеленея
Темный
дуб
склонялся
и
ш умел.
Может
быть,
самая
существенная
черта
с оз нания
Обломова,,
ярк о
проявившаяся
в
его
мечте,
зак лю ча ется
в
том ,
что
он
—
«времеборец» .
Так
в
о дной
статье
был
назван
Афанасий
Фет25,
с
поэ з ией
которого
«творчество»
И льи
Ильича
имеет
общие
черты.
Как
и
у
Фета ,
в
мечте
гончаровского
героя
га рм ония
ри
сует ся
как
достижимая,
но
в
ограниченном,
суженном
мир е
и
как
результат
победы
над
временем:
В се,
все
мо е,
что
прежде
было;
В
мечтах
и
снах
нет
време ни
оков,—
писал
Фет.
С
опытом
Фе та
може т
б ыть
сопоставлена
и
поразительная'
конкретность
в
описании
людей
и
ситуаций,
которую
находим
в
мечте
Обломова.
Когда
в
картине,
рисуемой
Иль ей
Ильичем,,
возник аю т
таки е
подробности:
Захар
«с приятным звоном рас
став ляет
хрус та ль » (62), «из кучи (в оз
с
сеном.
—
М.
О.)
тор
чит
шап ка
мужика
с
цветами
да
дет ска я
гол овк а» (141), «ту
ма н,
как
опрокинутое
м оре,
висит
над
р ож ь ю» (141), «лошади
вз др аги вают
пле чо м» (141),—
то
эти
подробности,
оставаясь
де талями
поэтического
ми ра,
дают
описываемой
к ар тине
уд иви
тельную
ко нкр етно сть
и
жи зн ен нос ть26.
Сознание
Ил ьи
Ильича
принципиально
анти исто рич но .
Геро й
Гончарова
не
хочет
и
не
может
принять
то,
что
мудро
и
просто
принял
и
выразил
Пушкин: «И сам,
подвластный
общему
за
89/
кону,
переменился
я».
Ничего
не
делающий,
никуда
не
спеша
щий,
лежащий
на
д иване
Иль я
Ильич
«почти с ужасом»
заме
ча ет,
что
прошел
еще
час: «одиннадцать часов скоро» (15).
«Утонуть в раздумье»
—
для
него
это
зна чит
перестать
заме
чать
те чение
времени,
а
с ле дова т ельно
—
так
настроено
его
со
з нание —
и
не
зависеть
от
времени,
то
есть
«пребывать,
а
не
находиться
в
процессе
становления»27.
Жизнь,
сориентирован
ная
на
ли нейно е,
необратимое
время
оборачивается
для
Обл о
м ова
ск у кой.
Та к,
скучным
ему
кажется
существование
его
гос те й.
Если
о
времени,
фиксируемом
по
часам,
Обломов
говорит
с
ужасом,
то
сл едит ь
за
тем,
как
заходит
солнце,
как
гаснет
день,
для
н его
наслаж дени е.
Зах од
солнца,
как
и
всякое
пов то
ряющееся
природное
явление,
не
несет
ему
горького
чувства
утраты.
В
его
мечте
вре мя
год а
рисуется
как
«вечное лето»,
время
суток
ф и ксируе тся
по
естест венны м,
при вычн ым,
повторя
ющимся
приметам: «то обед,
то
завтрак
принесет
какая - нибу дь
кр асно щ екая
прислужница» (63).
Это
то
чувство
времени,
кото
рое
было
с
юмором
оп исан о
в
пятой
главе
«Евгения Онегина»:
.. .Люблю
я
час
Определять
обедом,
чаем
И
ужином.
Мы
вре мя
з наем
В
деревне
без
больших
сует :
Желудок
—
верный
наш
брегет.
Но
для
Пушкина
это
ос обое , «деревенское», цикличное время
не
исключает
другого,
лине йног о,
исторического,
и
переключе
ние
сознания
в
другую
временную
си стему
не
оборачивается
страданием,
воспринимается
как
привычное
и
понятное.
В
период
развития
«поэмы любви»
Илья
Ильи ч
живет
в
по
то ке
линейного
времени
и
принимает
это
как
естественное
св ое
состояние.
Это
з нак
его
максимального
отступления
от
обломов
с ких
начал.
Оказав шись
в
«домике»
на
Выборгской
стороне,
Обломов
так
ле гко
и
быстро
«прирастает»
к
этому
месту
в
ча
стности
и
потому,
что
время
здесь
фиксируют
и
пе ре живаю т
по-обломовски.
Это
соответственно
о тра жае тся
и
на
речи
пове
ствователя,
описывающего
ж изнь
в
«домике» .
С каж ем,
наступ
ление
осени
комически
обозначается
через
такую
«природную»
по др о бн о ст ь : «Цыплята не пищали больше,
они
давно
ста ли
пожилыми
курами
и
прятались
по
к ур ят ник ам» (266).
Обломовское
и
штольцевское
сознание,
с
точки
зрения
вос
прият ия
времени,
противопоставлены,
как
сознания
л юдей
дв ух
разных
э пох.
Обломов
тяготеет
к
то му
тип у
жизни,
который
можно
об озн ачи ть
как
добуржуазный,
средневековый.
Для
че
ловека
такого
типа
со зна ния
сама
воз можн ос ть
д роб ить
время
противоестественна:
время
как
бы
утрачивает
с вою
целост
но сть.
«Если циклическое время неуничтожимо и непреходяще,
линейное
время
необратимо
и
безвозвратно
утрачивается,
пр о
исходит
„эрозия времени“, —
так
хара ктери зует
такой
тип
со
з нания
ис след ова тель28.
і90
Есл и
Обломов
хочет
«выпасть»
из
потока
времени,
чтобы
не
чувствовать
зависимости
от
него,
то
Штольц
стремится
«со
вп асть »
с
э тим
потоком,
отдаться
ему,
дв игат ься,
так
ска зать, ,
со
скоростью
времени.
Для
Штольца
обломовская
мечта
—
«скука»
и
п от ому,
что
ж изнь,
н арисо ванн ая
Илье й
Ильичом,
строится
на
ос нове
ц икли ч но го , «замкнутого»
времени.
А
ц ель
Шт ольца
—
на пра влен ное
и
равномерное
движение.
Но
и
у
Штольца,
как
и
у
Ил ьи
И льич а,
сохраняется
чувство
несво
боды,
зависимости
от
времени
как
от
вне шн ей
и
д аже
враждеб
ной
силы.
Такое
в осп рияти е
времени
неизбежно
приводит
Штол ьца
к
мыс ли : «как успеть?».
Штольц,
как
с казан о
в
ро
мане,
живе т
с
«ежеминутным,
никогда
не
дремлющим
контролемъ
издержанного
времени» (128).
Он
хотел
бы
п ро жить
двести
—
триста
лет.
Чем
резче
обозначается
противопоставленность
этих
д вух:
типов
сознания,
тем
очевиднее
обнаруживающиеся
сов п аден ия.
Штольцевское
и
обломовское
начало
ока зы вают ся
двумя
г ра
ням и
ед иного
человеческого
сознания,
по ка
тщетно
пытающе
гося
«победить время», то есть найти вариант свободного,
тв ор
ческого
отношения
к
жизни,
ощутить
ее
одновременно
и
как
пок ой
и
как
движение,
как
пребывание
и
как
становление.
Жизнь
—
согласно
мечте
Обло м ова, —
преобразившись
по
за
конам
и ск усс тва,
станет
покоем,
не
временным
этапом
на
пути
к
какой-то
цели,
не
дорогой,
а
домом,
не
движением,
а
пребы
ва нием .
Пространство
«свернется», образовав не тесный,
но
и
не
слиш к ом
просторный,
залитый
солнцем,
теплый
мир,
вре м я,,
как
по
велению
Иисуса
Навин а
(это сравнение дано в романе)
остановится,
и
любовь
как
«полдень повиснет над любящими,,
и
ничто
не
двинется
и
не
дохнет
в
ее
а тм осфе ре» (207), жизнь
освободится
от
«случайностей»
и
станет
счастьем.
М ечта
Обломова
утопична
не
тольк о
по тому,
что
это
«бар
ская»
мечта.
Реальная
жи знь
не
может
организоваться
по
н ор
мам
и ску сств а.
Кроме
т ого,
та
«правда»
о
человеке,
к отора я
уже
найд ена
искусством
пр едш еству ющ их
времен,
не
ес ть
окон
чательная
и
абсолютная
«правда», ибо человек находится в по
то ке
времени,
в
движении
истории,
он
меняется,
его
н адо
от
кр ы вать
«заново»
и,
так
с казать ,
на
другой
глубине.
Для
этого
нужно
искусство,
основными
качествами
которого
яв ляе тся
ис
торизм
и
св обод а
от
жестких
жанровых
канонов.
Лирическому
со знан ию
—
к
э тому
выводу
приводит
Гончаров
своего
ч ит ате
ля—
доступна
не
вся
правда
о
человеке.
Максимальными
в оз
мо жн остям и
для
раскрытия
че лове ка
в
его
внутренней
противо
речивости,
в
соотнесенности
его
вне шне й
и
внутренней
жизни:
о блад ает
роман.
Александр
Адуев,
Обломов,
Рай ски й
—
ни
один
из
этих
героев
не
способен
увидеть
мир
как
романист.
Хотя
каждый
из
них
нес ет
в
себе
какое-то
тв орче с кое
начало.
Обломов,
строя
мир
желанной
жизни,
в ооб раж ает
членов
этого
сод ру ж ества
(он сам,
жена,
Штольц, «еще два,
три
прия
91
те ля») в соответствии с элегическими нормами.
Таким
«персо
нажам»
неведомы
ст их ийные
чу вства ,
например,
любовь-страсть.
Погружающийся
в
мечту
Иль я
Ильич
до
пор ы
до
времени
не
подозревает,
что
«повсюду страсти роковые», что в себе самом
сег о дняш ний
человек
не сет
ст ихи и,
которые
могут
разрушить
или
п омеш ать
построить
же ла нную
гармонию.
Так,
Обломов
хо
чет,
чтоб ы
б ыло
«вечное и ровное течение чувства» (160), его
пугает
любовь-страсть,
в едь
по сле
такой
любви
остается
«дым,
смрад,
а
счастья
не т!» (160).
Но
по
ходу
сюжета
герой
неожи
данно—
это
дает
комический
эффект
—
обнаруживает
в
себе
способность
именно
так
полюбить,
«заболеть»,
пог рузи ть ся
в
«душевный антонов огонь»29.
Сти хийнос т ь,
непредсказуемость
Обломов
обнаруживает
и
в
себе,
и
в
Ольге.
В
мечта х
жена
ви дел ась
Илье
Ильичу
«как воплощение це
лой
жизни,
исполненной
неги
и
торжественного
покоя,
как
сам
покой» (159).
Ольга,
показалось
ему,
и
есть
«тот идеал вопло
щенного
покоя». Но
реальная,
а
не
воображаемая
О льга
совсем
не
жаждет
«утонуть в раздумье».
Она
и наче
чувствует,
ина че
лю бит,
и
наступает
мо мент ,
когда
в
глазах
ее
Иль я
Ильич
ви
дит
«страсть» .
Оказ ыв ается ,
что
самая
бо льш ая
за гадка
для
Об лом ова
—
он
сам
и
О льга: «Зачем она любит меня?
За чем
я
люблю
ее ?»
(264).
Целостность
человека,
за
которую
ратует
Обломов
в
спорах
со
Штольцем,
которой
он
не
находит
в
своих
петербургских
зна
комых
и
которой
он
в
полной
мере
наделяет
героев
своей
мечты,
утрачена
и
пока
недостижима.
И
виноват
в
этом
не
только
Пе
тербург.
Раз др обл енно сть
человека
о казы вает ся
следствием
не
только
вл ияни я
на
н его
внешних
си л,
условий
жизни,
но
и
ре
зультат ом
тех
внутренних
процессов,
пер емен,
которые
происхо
дят
в
нем
самом.
Мечта
Обломова,
при
вс ей
поэтичности
моти
вов
и
конкретности
детал ей ,
ее
наполняющих,
никогда
не
мо
жет
с тать
реальностью,
потому
что
в
ней
нет
сам ой
главной
«правды»
—
современного
человека
с
его
с тих иями
и
противоре
чия ми.
Для
сделавшего
жизненный
выбор,
оставшегося
в
«домике»
на
Выборгской
стороне
Обломова
Casta diva —
это
враждебная
«покою»
сила,
ненужное
н апря ж ение
в
жизни,
символ
изменчи
вости
чел о вече ских
чувств.
Ве дь
когда
О льга
пела
Casta diva,
ему
«в один и тот же момент хотелось умереть,
не
пробуждаться
от
звуков,
и
сейчас
же
сердце
жа ждало
ж изн и» (154). А теперь,
угощая
Штоль ца,
Обломов
говорит
об
Ол ь ге : «Она споет Casta
diva, а водки сделать не умеет так!
И
пирога
такого
с
цыпля
тами
и
гри б ами
не
сделает» (339).
Теперь
для
Обломова
Casta
diva и пироги символы двух различных и даже резко противо
положных
сфер
жизни.
Такое
исключительное
чувство,
ког да
одновременно
хочется
92
и
умереть
и
жи ть,
максимальное
удаление
от
«раздумья», «по
к оя », поднятое над бытом,
не
может
б ыть
«вечным», вспыхнув,
оно
неизбежно
ид ет
к
спаду,
как
бы
самоуничтожается.
«Откро
ве ние », слияние родственных душ почти неизбежно ведет к ох
лаждению.
Обломов
столкнулся
с
мучительной
проблемой,
ра з
решить
которую
пытаются,
говоря
его
с лов ами , «эти передовые
лю ди», «да сбиваются в сторону» (160).
Альтернативой
любви-
с тра сти , «вечным»
чувством,
знакомым
Ил ье
Ильичу
по
Обло-
мовке,
оказывается
любовь,
символом
которой
является
не
Casta
diva, а «п ирог и».
А
такое
«вечное»
чувство,
отмеченное
неиз
бежным
угасанием
духовности,
тоже
ока зы вает ся
не по лным,
ущербным.
Ограниченность,
слабость
каждого
из
эти х
вариан
тов
любви
объясняется
не
чьей-то
виной,
не
частными
причи
на ми,
а
ограниченностью
самой
человеческой
н атуры .
И
вно вь
у
Гончарова
оказывается,
что
в
контрастно
противоположных
началах
обнаруживается
единая
осно ва.
Любовь
Штольца,
точн е е,
пут ь
Шт ольц а
к
любви
—
это
и
ес ть
попытка
п реодол е ть
ограниченность
человеческой
натуры,
обрести
ис тин ную
любовь.
Как
и
Обломов,
Ш тольц
хочет
выйти
из-под
власти
с луч айнос ти.
Только
если
Ил ья
Ильич
ме чтае т
скрыться
от
случайностей
в
кр угов ороте
замкнутой,
повторяю
щей
сам ое
се бя
жизни,
то
Штольц
хочет
научиться
предуга
ды вать
сл учай ност и,
научно
предопределять
их.
Вер а
в
позна
ние,
в
способность
че лове ка
постигать
законы
ж изни
—
гл авн ое
в
его
мировоззрении.
Как
и
Обломов,
Штольц,
как
правило,
одновременно
п ода
ст ся
и
в
серьезном
и
в
комическом
плане.
Комическое
звучание
темы
любви
в
случае
со
Штольцем,
в
своем
по вед ении
ориен
тирующемся
прежде
всего
на
конкретное
зн ан ие,
обусловлено
тем,
что
любовь,
традиционно
толк ов ав шаяс я
и
поэтически
осм ысля вш ая ся
как
стихия,
н епо дв ласт ная
разуму,
у
этого
ге
роя
становится
предметом
си стем ати че ско го
описания
и
иссле
дования.
Штольц
строит
особую
классификацию:
любовь
рыц ар
ская ,
пастушья,
вер т ер ов ская,
любовь
сатиров
и
т.
д.
Он
созна
тельно
противопоставляет
с ебя
традиции,
которая
толь ко
сти
хийн ое,
неподвластное
разуму
чувство
(вспомним А .
К-
Тол
ст ого: «Коль любить,
так
без
р ас с уд ку») принимала как истин
ную
любовь.
Што льц
и
«среди увлечения чувствовал землю под
ногами» (129), он не верит в «поэзию
страстей».
Противоречие,
дающее
комический
эффе к т,
основано
на
том,
что
ту
дозу
чувства,
которую
позволяет
себе
Штольц
(«то,
что
не
подвергалось
анализу
опыта,
практической
истины,
было
в
глазах
его
оптический
об ма н» (128)), он принимает за настоя
щую
любовь,
на
основе
анализа
которой
можно
делать
выводы
и
об о бщен ия.
Любовь
Што ль ца
принципиально
не
катастро
фична,
он
как
экспериментатор
привил
с ебе
вирус,
но
явно
не
в
смертельных
дозах,
чтобы
не
утратить
возможность
наблюдать
и
фиксировать
свои
переживания.
Зло,
но
точно
сказал
о
Штольце
93
В.
Ф.
П е ре ве р зе в: «Он горит ровным светом электрической
ла мп оч ки»30.
Рассказ
о
жизни
Ольги
и
Шт ольца
на
дач е
в
Крыму,
как
и
ме чта
Обломова,
воспринимается
как
особый
жанр:
это
тоже
нравственно-психологическая
утопия,
рассказ
о
желанном,
о
том,
как
два
че лове ка
не
бессознательно,
а
с илой
воли
и
разум а
освободили
св ою
любовь
от
стихийности,
катастрофичности.
«Разгула диким страстям быть не могло:
все
б ыло
в
них
гар
мония
и
т иш ин а» (351),—
пише т
Гончаров.
Юмо р
вновь
объединяет
противоположности,
резкие
кон
трасты,
выявляет
подспудные
связ и
и
общность.
В
отношении
к
любви-страсти
Што льц
сов пад ает
с
Обломовым.
Оба
они
(один силой мечты,
фантазии,
«поэзии», другой
—
разум а
и
воли)
стремятся
п ре одоле ть
противоречие,
заложенное
в
при
ро де
человека.
О
глубоком
сходстве,
да же
тождественности
этих
героев
писал
В.
Ф.
Пе р е ве р з е в: «Обманутые полярным разли
чием
этих
образов,
олицетворяющих
антитезу
ине рции
и
де я
тель н ос ти,
мы
совсем
не
с пра шивае м
с ебя:
а
нет
ли
какого-либо
сходства
в
этом
различии? <...>
полярная
противоположность
не
только
не
исключает
сходства,
но
да же
непременно
предпо
лагает
диалектическое
ед инст во,
тождество
противоположно
стей»31.
В
ря ду
комических
мот иво в,
использованных
Гончаровым
для
характеристики
Шт ольца
и
Обломова,
надо
отметить
мотив,
«стены»
и
«бездны».
«Бездна»
—
это
тайна,
необъяснимое.
«Бездна»
—
это
при
зна к
не
обломовской,
а
«исторической»
жизни.
В
ч астн ости, ,
«бездна»
—
это
и
та
неизвестность,
в
которую
может
увлечь
че
ловека
любовь-страсть.
Об
этой
«бездне»
пишет
Иль я
Ильич
в
письме
к
Ольге.
Этот
образ
неоднократно
возникает
в
его
сознании,
в
диалогах
с
О льг ой.
Тре зв ое
отношение
к
явлениям
жизни,
которые
символизи
рует
«бездна»,—
че рта
сознания
Штольца.
«.. .О н,—
ска зано
об
этом
геро е,—
не
способен
был
воо ружить ся
той
отвагой,
ко то
ра я,
закр ыв
глаза,
скакнет
через
безд ну
или
бросится
на
стену
на
авось.
Он
измерит
бездну
(очень показательный для стиля
повествования
о
Ш тольц е
оксюморон.
—
М.
О.)
или
стену,
и
если
нет
верного
средства,
то
отойдет».
Тол ько
«бездна»
или
«стена»
могут
поме шат ь
Штольцу,—
об
этом
он
говорит
О льг е,—
спасти
Иль ю
Ильича.
И
опасения
Штольца
сбываются.
При
ехав
в
очередной
раз
в
«домик»
на
Выборгской
стороне,
он
узна ет :
Аг афья
Матвеевна—жена
Обломова,
ма льчи к,
к ото
рого
он
видит,—
их
сын.
Дал ее
с к а за но : «Штольц изменился
в
лице
<.. .>
Перед
ним
вдруг
„отверзлась бездна“,
воздвиглась
„каменная стена“,
и
О бло мова
как
будто
не
ст ал о» (375).
Та
кой
непреодолимой
преградой
в
глазах
Шт ол ьца
оказался
ме
щанский
быт
«домика» . « В
чем
же
заключается
смысл
этого
безнадежного,
отчаянного
при г овора ?
—
писал
иро нич еск и
об
94
этом
«поражении»
Штольца
А.
В.
Дружинин,—
Илья
Ильич
же
нился
на
Пшеницыной
(и прижил с этой необразованной жен
щиной
ре бе нка )»32.
Каждый
из
д вух
тип ов
сознания,
которые
находятся
в
центре
вн иман ия
романиста,
ок азы вает ся
несостоятельным
в
как их- то
жизненных
ситуациях,
у
к аждо го
из
них
есть
«бездны».
О
«без
дне»
говорит
Штольц,
объ ясн яя
Ольге
ту
тоску,
которую
она
в
се бе
обнаружила.
«Это, — .го вори т
Штольц,—
грусть
души,
во
прошающей
жизнь
о
ее
та й не» (357).
Т акие
сомнения,
поясняет
Што л ь ц, «приводят к „без дне“,
от
которой
не
допросишься
ни
чего» (358).
И
принципиальный
для
не го
в ывод : «Мы не Титаны
с
тобой
<.. .>
мы
не
пойдем,
с
Ман фр едам и
и
Фаустами,
на
дерзкую
борьбу
с
мятежными
в опрос ами» (358).
Мечтающий
прожить
двести
—
тр иста
л ет,
получить
фаустовское
долголетие,
Шт ольц
не
хочет
брать
на
с ебя
груз
фаустовских
проблем
и
■сомнений.
Штольц
на
каком-то
уровне
предпочитает
не
разре
ша ть
проблему,
а
сня ть
ее.
Раз
«бездна», «стена», то нечего и
мучаться33.
Шт ольца ,
верящего
в
познание,
в
науку,
в
безграничные
в оз
можн ост и
человека,
которому,
по
словам
этого
героя,
даже
да но
мен ять
свою
природу,
чит ате ль
может
принять
за
одного
из
тех
духовных
скит ал ьцев,
знакомых
по
мир ов ой
литературе,
главным
отличием
которых
была
готовность
«пройти полный
круг
человеческого
бы тия»34.
Но
для
Што льца
духовность,
ко
тора я
ведет
к
«безднам», уже излишняя.
Большой
м ир,
казав
шийся
Штольцу
освоенным
(«Выучил Европу как свое имение»
(143)), ставит перед героем вопросы,
которые
он
пре дп очитае т
не
замечать.
В
конце
ко нцов
Ш то льцу
удается
ос в оит ь, «одо
машнить»
л ишь
небольшой
«уголок»
мира ,
то
есть
получить
то,
о
чем
мечтал
и
Иль я
Ил ьич.
Пр инц ип
сход ств а
несходного,
дающий
к ом ич еский
эффект,
обнаруживается
и
в
стиле
романа.
Речь
повествователя
в
рома
нах
Гончарова
не
имеет
яркой
стилистической
окрашенности.
Как
показал
В.
К.
Фаворин,
авторская
речь
у
Гончарова
и
мо
нолитна,
и
разнообразна.
Монолитна
п ото му,
что
«элементы
языка
пе рс онаж ей
нео быкн о венн о
искусно
вплетаются
в
ав тор
ск ий
контекст».
А
разн ооб разн а
по то му,
что
«формы этого про
никновения
многосторонни:
от
едва
уловимых
зачаточных
ф орм
—
через
различные
в иды
собственной
прямой
ре чи
—
к
внутренним
монологам
или
непосредственно
к
ре пликам
пер
сонажей»35.
Но
если
понимать
стиль
как
«систему словесного выражения
ми ро п он им ания »36, то важно посмотреть,
в
каких
отношениях
на ходятся
стили
гл авны х
героев:
Обломова
и
Штольца.
Как
отметил
Н.
И.
Пруцков, «творец „Обломова“
воспроиз
вод ит
не
душевные
п ро цессы
в
их
внутреннем
движении,
а
об
раз
мы слей,
образ
ч у вст во ван ий»37.
По
т ипу
мышления
и
ч ув
ствования
Обломов
и
Штольц
ре зко
отличаются
друг
от
друга.
95
Обломов
—
«поэт».
Мышление
его
—
об разн ое,
а
образность
эта
очень
конкретна.
О
любви,
скаж ем ,
д умает
так:
это
—
«горячка,
ска кан ье
с
порогами,
с
прорывами
пло тин,
с
наводнениями»
(265). Р ечь пове ст вова те ля,
посвященная
Обломову,
строится
по
такому
же
при нципу .
В
авторской
ре чи
у
Гончарова,
сориентированной
на
стиль
гер оя,
как
правило,
есть
до ля
иронии.
Возникает
и
совпадение
и
расхождение,
столкновение
ст ил ей,
точек
зрения,
что
д ает
комический
эффект
и
позволяет
достичь
объемности
изображе
ния .
Вот,
например,
как
сказ ано
о
сущ ес твов ан ии
И льи
Ильича
на
Выборгской
стороне: «И здесь,
как
в
Обл омов ке ,
ему
у да
вал ось
дешево
отделываться
от
жизни,
выт орг ова ть
у
ней
и
за
страховать
себе
невозмутимый
п окой » (367).
Обломов
говорил:
«трогает жизнь», «удалиться на покой», а повествователь: «от
де латься
от
жи зн и», «выторговать», «застраховать»
п окой.
Стиль
Што льца
су щест вен но
отл ичае тс я
от
обломовского.
Его
речь
более
рассудочна,
она
также
часто
бывает
образной,
но
это
образность
аллегорического
или
риторического
пла на.
Соответственно,
этими
чертами
отмечено
и
авторское
повество
вание,
посвященное
Штольцу.
«Как мыслитель и как художник,
он
ткал
ей
разумное
существование» (353),—
сказ ано
об
отно
ше нии
Шт ольца
к
Ольге.
Речь
повествователя,
формально
ни
когда
не
дающая
отрицательной
оценки
поведения
Штольца,
очень
часто
содержит
в
себе
проявленный
че рез
стиль
комиче
ский
зар яд.
«Он,—
пи шет
Гончаров
о
Штольце,—
упрямо
оста
н авли ва лся
у
порога
тайны,
не
обнаруживая
ни
веры
ребенка,
ни
сом нени я
ф ата,
а
ожидал
по явле ния
закона,
а
с
ним
и
кл юча
к
не й» (129).
Хар акт ер
рассудочных,
не
неожиданных,
по
меркам
искусства
—
банальных
сравнений,
содержащихся
в
речи
по вес твова тел я,
очень
п оказ ате лен.
В
несовпадении
двух
стилей
(обломовского и штольцевского)
нет
ничего
неожиданного.
Для
нашей
темы
важны
как
раз
от
клонения
от
этой
закономерности,
то
есть
подчеркнутое
сбл иж е
ние
стилей,
и
—
следовательно
—
точ ек
зрения
резко
противопо
ложных
г еро ев.
Так,
скажем ,
и
Шт ольц
и
Обл омо в
(его мысли
даны
в
форме
н есо бств енн о- пр ямой
р еч и ), размышляя о скры
тых
в
Ил ье
Ильиче,
но
не ре а лизов анных
по тенция х ,
упот реб
ляют
оди н
и
тот
же
об раз
—
«золото» .
В
речах
и
мыс лях
обоих
гер оев
очень
часто
появляется
обр аз
«бездны» .
Ком ич еский
эфф ек т,
возникающий
от
таких
сти лис тически х
рифм ,
р або тает
на
то
же
за дан ие:
ра зруша ть
заявленную
контрастность
героев,
подчеркивать
относительность
их
противопоставления.
Ре чь
повествователя
и
героев
находится
в
постоянном
взаи
модействии.
В
«Обломове»
почти
н ев озм ожно
вы чле нить
«чис
тое »
авторское
слово.
В
повествовании
через
стилевую
диффуз-
ность
да ется
одновременно
не
одна,
а,
по
крайней
мере,
две
точки
зрения
на
событие,
поступок
героя.
Ни
один
из
представ
ленных
в
романе
стил ей
не
может
претендовать
на
то,
что
96
именно
он
наиболее
адекв атно
отра жа ет
жизнь,
что
именно
он
представляет
вы с ший,
объективный
взгляд
на
изображенный
ми р.
В
речи
гон чар овс к ого
повествователя
обычно
оче нь
трудно
вычленить
тот
словесный
ря д,
с
которым
могут
б ыть
напрямую
свя з аны
авторские
интенции.
Эт им,
в
частности,
очевидно
объяс
няется
тот
уже
отмеченный
факт,
что
«объективная»
проза
Го н
ча рова
не
поддается
стилизации.
Иванушка-дурачок,
Галатея,
Ил ья
Муромец,
Платон,
Иису с
Навин,
Г ам лет,
Дон
Кихот,
Балтазар,
Поллион,
старцы-пустын
ни ки—
с
этими
фольклорными,
мифическими,
лите ра тур ны ми
и
историческими
персонажами
сближен
в
том
или
ин ом
отношении
Обломов.
Степень
нагруженности
отдельных
сопоставлений
ра з
лична.
Некоторые
из
них
возникают
в
сознании
героев
и
имеют
более
субъективный
характер.
Скажем,
сравнение
Ильи
Ил ьича
с
Галатеей,
которое
приходит
на
ум
Ольге.
Но
большинство
сравнений
даются
в
романе
как
авторские,
они
в
какой-то
ст е
пени
«поддержаны»
сюжетом.
Некоторые
сопоставления
легко
могут
возникнуть
в
созна
нии
читателя,
хотя
впрямую
в
романе
они
не
з аявл ены.
Так
Об
ломов,
п ри шедший
в
у жас
от
слов
Захара,
что
«свадьба
—
дело
об ыкно ве нно е» (252), Обломов, «сбежавший»
от
Ольги
за
Неву,
на
Выборгскую
сторону,
напоминает
Подколесина38.
Об
Илье
Ил ь иче,
н авсег да
оставшемся
в
«домике»
Пш ени-
цыной,
сказано,
что
он
«постепенно укладывался в простой и
широкий
гроб
остального
своего
существования,
сделанный
со б
ственными
руками,
как
старцы
пус т ынные ,
которые,
отворотясь
от
жизни,
копают
себе
м ог илу » (368).
Это
сравнение
поддер
жи вает
серию
комических
мо тив ов,
кот орые
позволяют
вз гля
н уть
на
ис то рию
И льи
Ил ьича
как
на
своеобразное
жи тие
ис
тинного
об лом овца.
Пройдя
сквозь
ряд
испыт ан ий
и
«соблаз
н ов » (попытки подготовить себя к полезной общественной дея
тельности,
о
которых
напоминает
ему
Штольц,
служба
в
депар
таменте,
любовь
к
Ол ьге), герой сумел сохранить верность ког
да-то
открывшейся
ему
«правде» .
Но
«домик»
Пшеницыной
одновременно
срав ниваетс я
не
то лько
с
гробом
праведного
ст ар ца,
но
и
с
«норой», «болотом»,
«приютом спокойствия и лени» .
Эти,
столь
различные,
во
мно
гом
противоречащие
д руг
другу
сравнения,
вносят
в
сюжет
до
полнительные
обертоны,
которые
делают
рас сказ
о
жи зни
Обл о
мова
в
«домике»
многозначным,
придают
изображению
объ ем
нос ть.
Почти
кажд ое
из
использованных
для
характеристики
ге роя
сопоставлений
вызывает
улыбку,
но
в
то
же
время
каждое
из
них
вно сит
какой-то
штрих,
обозначает
новую
гра нь
в
об ра зе.
Са мо
обилие
сопоставлений,
их
смысловой
«разброс»
нав одя т
на
мысль
об
особой
природе
художественного
образа
у
Гонча
ров а.
Л.
Я.
Гинзбург,
говоря
о
ме то дах
социально-моральной
типизации
в
р у сском
романе
сер един ы
XIX в.,
пишет: «У Гон
7 Заказ No 299
97
чарова...
гл авны е
его
герои
каж дым
своим
проявлением
демон
стрируют
пр ису щее
им
ос но вное
моральное
с войс тво
или
группу
свойств,
и
в
эти
свойства
все гда
включено
их
социальное
опре
де ле ние
(эту установку широко использовал Добролюбов) .
Бе
зала берн ость
и
лень
Об ломов а
—
это
помещичья
л ень,
тогда
как
энергия
и
практичность
Шт ольца
—
это
сво йств о
разночинца
из
иностранцев»39.
Это
с пра вед ливое
наблюдение,
но
надо
доба
вить,
что
к
социально-типовой
характеристике
не
сводится
авторский
замысел
в
обрисовке
героя.
Многочисленные
сопо
ставления
делают
ощутимым
не
только
конкретно-исторический,
но
и
универсальный
смысл
обломовской
судьбы.
Необычный
масшт аб
художественного
обобщения,
данный
в
романе
и,
в
ча
стн ос ти,
в
образе
гла вно го
героя,
был
отмечен
еще
в
XIX в.
Д.
И.
Писарев
писал,
что
«в этом романе разрешается обшир
н ая,
общечеловеческая
психологическая
задача»40.
Об
этом
же,
но,
може т
бы ть,
с
излишней
категоричностью
писал
и
Вл.
Со
лов ь е в: «В сравнении с Обломовым Фамусовы и Молчалины,
О не гины
и
Печорины,
Маниловы
и
Собакевичи,
не
говоря
уже
о
гер оях
Островского,
все
имеют
лишь
специальное
значение»41.
Понимание,
что
смы сл
глав н ого
гончаровского
сопоставле
ния
шире,
чем
сопоставление
«помещика»
и
«разночинца из
и н остр ан цев », что Обломов
—
это
и
тип
(что обнаруживается по
явственно
различимому
набору
черт,
которыми
над е лил
его
автор), и в то же время
—
обобщение
совсем
иного
ма сшт аб а,—
позволяет
поставить
вопрос
о
трагическом
нач але
в
эт ом
образе.
Противоречие,
лежаще е
в
основе
сюжета
романа
«Обломов»,
прочитывается,
по
крайней
мере,
в
двух
ракурсах.
Один
из
них
—
социально-исторический.
Иль я
Ильич
не
мож ет
принять
жи знь
в
ин ых
формах,
кро ме
как
в
привычных
ему
формах
бар
ского
существования.
Такая
жизнь
самим
ходом
общественного
развития
была
обречена
на
коренную
переделку.
Не
способный
освободиться
от
привычек
сословного
мышления,
беззащитный
перед
хищными
«братцами», Обломов может быть смешон или
вызывать
жалость,
но
ни
в
коей
мере
не
может
трактоваться
как
трагический
образ.
Но
ес ть
и
другой
ра кур с.
Обломов
—
особый
тип
сознания,
которое
не
приемлет
ид ею
пути ,
постепенного
преобразования
жизни
в
соответствии
с
идеалом,
с
уче том
объе кти в ных
у сло вий
жизни
и
объективного
ход а
времени.
Порыв
к
гармонии,
мечте,
к
жизни,
совпавшей
с
идеалом,
который
был
рожден
свободной
творческой
фантазией,
воспринимается
не
как
чер та
«чудаков»,
время
от
времени
по являю щихс я
в
литературе,
а
как
потреб
ность,
ж ив ущая
в
каждом
человеке,
в
людях
вообще.
Такому
пор ыву,
такому
соз нанию ,
такому
ге рою
противостоит
не
рок ,
не
какие-то
вр аж дебные
лич но
ему
силы,
а
объективный
ход
жизни.
Жизнь
н ико гда
не
мо жет
ст ать
только
«пребыванием»,
потому
что
она
всегда
процесс,
д в и же н и е, «становление».
Та
кое
со зна ние,
такой
гер ой
неизбежно
оказывается
в
непреодо-
98
лимом
конфликте
с
жизнью.
В
эт ом
смысле
и
можно
говорить
о
трагизме
обломовского
существования.
Несовпадение
И льи
Ильича
с
жизнью,
неспособность
героя
учитывать
ее
объективные
законы
выявляются
с
помо щь ю
ра з
нообразных
комических
средств.
Трагическое
напряжение,
до
стигнутое
с
по мощ ью
юмора,
с
его
же
помощью
и
преодолева
ется.
«Юмор, —к ак
отметил
В.
Дибел иу с, —
это
способность
в
противоречиях
бытия
усматривать
светлую
сторону,
но
эти
противоречия
мог ут
сами,
по
своей
природе,
иметь
серьезный
и
даже
трагический
характер»42.
Трагическое
напряжение
ник ог да
не
прорывается
«на поверх
ность»
в
«Обломове» .
Юм ор
да ет
чи тател ю
возможность
пере
ж ить
своеобразный
катарсис,
принять
с
улыбкой
сообщения,
ко
торые
в
другом
освещении
могли
бы
вызвать
совсем
другие
чу вства .
Даже
изв ести е
о
смерти
ге роя
не
тольк о
не
потрясает
на с,
но
оно
по дано
так,
что
не
вызывает
чу вс тва
б оли
и
жа
лости.
Эм оц ия,
которая
в ладеет
в
это
время
читателем,—спо
койная,
э лег ическая
грусть,
которая
в
финальной
сцене
гасится
с
помо щь ю
комизма
сцены
с
За харом .
Читатель
п р иведен
в
спо
к ойн ое , «мудрое»
сост оя ние,
в
котором
он
может
(и ему как бы
п ре дла гае тся)
начать
чтение
романа
зано в о.
О
смерти
Ил ьи
Ильича
сообщается
как
о
то м,
что
уже
слу
чилось
и
случилось
давно,
три
год а
назад.
«Эта композиция,—
писал
о
приеме
такого
временного
сдвига
Л.
В.
Выготский,—
несет
в
себе
разрушение
того
напр я жени я,
которое
пр ису ще
эти м
событиям,
взя тым
сами
по
с е бе »43. Выбор особого ракурса
в
повествовании
о
смерти
гер оя
проявился
и
в
стиле.
Именно
здесь
«домик»
наз ван
«приютом лени и спокойствия».
Этот
об
раз
воспринимается
как
ярко
маркированный,
стилевой,
форм и
рующий
.определенную
—
элегическую
эмо цию.
Ри тори чески е
вопр ос ы: «Что же стало с Обломовым?
Где
он?
Где?»—
и
от
вет,
который
содержит
и
такие
единые
в
стилевом
отношении
по д ро б но сти: «ближайшее кладбище», «скромная урна», «по
к ой», «затишье», «ветви сирени,
посаженные
дружеской
рукой»,
«ангел тишины» (376)—под де р живаю т
и
делают
более
кон
кретным
это
элегическое
чувство.
Ко мич еск ий
«кивок»
на
тра
д ицию
кладбищенской
элегии
снимает
напряжение
в
повество
ва нии.
Стереотипная
те ма
романтической
поэ зии:
во зл юбл ен
ная
или
др уг
на
могиле
героя.
В
этом
элегическом
сюж ете
дей
ствующими
лицами
оказываются
сугубо
прозаические
персо
нажи
романа
Агафья
Мат веевн а
и
Захар.
Агафья
Мат веевна
в
«безутешном горе», «выплакала все глаза», «проторила тро
пинк у
к
могилке» (378).
У
Захара,
когда
он
подходит
к
«мо
гил к е», «слезы так и текут» (382). Это неожиданное комическое
сопоставление
приводит
к
выво д у,
что
«прозаические»
персо
нажи
сравнения
с
поэтическими
гер оям и
выдерживают.
Их
чув
с тва,
та кие
внешне
неяркие,
оказываются
на
удивление
стой
к ими.
7*
9$
Су дьба
Обломова
с
ее
трагическим
смыслом
—
оче нь
суще
ственная
правда
о
жизни,
но
все-таки
не
«вся»
жизнь.
Ч ит атель
подготовлен
к
тому,
чтобы
п р инять
ит ог
художественного
осмыс
ления
тра гич ес кого
противоречия.
Жизнь
шире,
чем
это
проти
воречие,
она
«обтекает»
его,
не
останавливаясь.
Как
и
пор ывы
к
гармонии,
ж елани е,
чтобы
идеал
стал
реальностью,
так
и
по
нимание,
что
жизнь
не
может
чудом
преобразиться,
что
идеал
всегда
впереди,—
оказываются
равно
пр исущ и
ед ино му
челове
ческому
со з нанию.
С кепт ици зм
Гончарова,
проявившийся
в
известном
пись ме
его
к
И.
И.
Льховскому
(«.. .неутомимое
стремление
к
идеа лам
,<...>
ведет
к
абсолютизму,
потом
к
отчаянию,
зане
между
де й
ствительностью
и
идеалом
л ежит
<.. .>
бездна,
через
которую
еще
не
найден
мост,
да
едва
и
построится
ко гд а») 44, в художе
ственном
м ире
его
ром ан ов
никогда
не
проявляется
так
резко.
Юмо р
не
только
по рожде н ие
этого
скептицизма,
но
и
способ
преодоления
его .
С
пом ощ ью
ис кусств а
художник
получает
во з
можность
сн ять
остроту
в
пе ре жива нии
явственного
несовпаде
ния
и деала
и
действительности,
обозначить
относительный,
а
не
абсолютный
хара ктер
этого
н есов па ден ия.
Вот
почему
искусство
Гончарова
по
сути
своей
опт имис тич но .
Пр им еча ния
1 Анненков П.
В.
Ру с ская
ли тер ат ура
в
1848 году//Со вр е м ен ник, 1849.
No
1.
Отд .
III.
С.
8—9 .
2 Сретенский Н.
Н.
Историческое
введение
в
по эт ику
ко мич еск ого.
Ч.
1.
Ростов
н /Д, 1926.
С.
34.
3 Дружинин А.
В.
Литературная
критика.
М. , 1983.
С.
304.
4 Мережковский Д.
С.
И.
А.
Го н ча ров : (Критический этюд)//Труд .
1890.
Т.
VIII.
No
24.
С.
593—594.
5 Дземидок,
Богдан.
О
ко ми ческ ом.
М. , 1974.
С.
112.
6 Анненский,
Иннокентий.
Книги
отражений.
М ., 1979.
С.
264.
7 Цит.
по:
Ср етенск ий
Н.
Н.
Указ.
со ч.
С.
38.
8 Верли,
М акс.
Общее
литературоведение.
М. , 1957.
С.
120.
9 См.
об
этом:
П инс кий
Л.
Р еали зм
эпохи
Возрож ден ия.
М ., 1961.
С.
198.
10Райнов Т.
И.
«Обрыв»
Гончарова
как
художе с тве нн ое
целое//Во-
просы
теории
и
психологии
творчества.
Т.
7.
Хар ько в, 1916.
С.
48—61.
11 Там же.
С.
73.
12 Непомнящий В.
Поэзия
и
судьба.
М. , 1983.
С.
338.
13 Чумаков Ю .
Н.
Поэтическое
и
универсальное
в
«Евгении Онегине»//
Б олдй нск ие
чтения/Под
р ед.
акад.
М.
П.
Алексеева
и
др.
Горький,
1978.
С.
87.
14 Эйхенбаум Б .
М.
Статьи
о
Лермонтове.
М.;
Л. , 1961.
С.
183—184.
15 О диалогическом конфликте у Гончарова см. :
Манн
Ю.
В.
Философия
и
по эти ка
«натуральной школы»//Проблемы типологии русского реализма/По д
р ед.
Н.
Л.
Степанова
и
У.
Р.
Фох та.
М. , 1969.
С.
241—306.
18 Иванов-Р азу м ни к
Р.
И.
Ис тори я
р усск ой
общественной'
мысли.
Т.
1.
СПб ., 1911.
С.
210.
17 Манн Ю.
В.
Поэтика
русского
роман ти зма.
М. , 1976.
С.
283.
18Гончаров И.
А.
Обломов.
Л ., 1987.
С.
26.— Д алее
ссылки
на
это
изд ани е
даются
в
тек сте.
100
19 Аксаков К -
С.,
Акса ков
И.
С.
Ли терату рн ая
критика.
М. , 1981.
С.
147.
20 Бергсон А .
Собр.
со ч.:
В
5т.
Т.
5.
С П б., 1914.
С.
104.
21 По мнению Д.
Н.
Овсянико-Куликовского,
убеждения
О бломова- кр е
постника,
который
«пропекает»
Захара
и
сомневается,
на до
ли
заводить
школы
для
кр ес тьян, «весьма близки к тем,
которые
возвестил
миру
Го голь
в
„Выбранных местах из переписки с друзьями“» (Овсянико-К улик ов
ски й
Д.
Н.
Собр.
соч.
Т.
7.
СП б ., 1911.
С.
242).
22 Цит.
по:
Берковский
Н.
Я.
Романтизм
в
Германии.
Л.,
1973.
С.
37.
23 Пинский Л .
Реа лиз м
эпохи
Возрож ден ия.
С.
309.
24Манн Ю.
В.
Поэтика
русского
романтизма.
С.
145.
!5 Недоброво Н.
В.
Времеборец
(А.
Фе т )//Вестник Европы .
1910.
No
4.
С.
235—245.
26 О конкретности Фета см. :
Бух ш таб
Б.
Я-
А.
А.
Ф ет//А.
А.
Фет.
Стихотворения
и
поэмы.
Л., 1986.
С.
40—47.
27 Гуревич А.
Что
е сть
время//Вопросы
литературы.
1968.
No
11.
С.
167.
28 Там же.
С.
174.
29 Так же комически Гончаров показывает,
как
Ал екс андр
Адуев
неожи
да нно
для
се бя
обнаруживает
перемену
сво их
чувств:
в друг
разлюбил
Юлию,
вдруг
обнаружил
в
себ е
до нж уановск ие
склонности
в
истории
от ношен ий
с
Лизой.
30 Переверзев В.
Ф.
Гог оль .
Достоевский:
Исследования.
М ., 1982.
С.
396.
31 Там же.
С.
399.
32 Дружинин А.
В.
Ука з.
со ч.
С.
311.
33 Тут можно вспомнить,
что
гер ой
п ове сти
Ф.
М.
Достоевского
«Записки
из
п о д п ол ья» (1864) заметит,
что
«стена»
для
людей ,
которых
он
н аз ывает
«деятелями», имеет «ч т о-т о
успокоительное,
нравственно-разрешающее
и
окон
ч атель н ое ». (Достоевский
Ф.
М.
Поли.
собр.
соч.:
В
30 т.
Т.
5.
Л.,
1973.
С.
103.)
34БочаровС.
Г.
Характеры
и
об сто ят ельст ва// Теори я
литературы.
М.,
1962.
С.
405.
35ФаворинВ.
К.
О
взаимодействии
авторской
ре чи
и
речи
персона
жей
в
языке
трилогии
Гончарова//Изв.
АН
СССР.
От д.
лит-ры
и
языка.
1950.
Т.
IX.
Вы п.
5.
С.
352.
36 Гинзбург,
Лидия.
О
старом
и
нов ом.
Л., 1982.
С.
96.
37 Прудков Н.
И.
Мастерство
Гончарова
—
романиста.
М.;
Л.,
1962.
С.
99.
38 На эту параллель указал И.
Анненский.
С м.:
Анненский
И.
У каз,
соч.
С.
266.
39 Гинзбург,
Лидия.
О
л ите ра турном
герое .
Л ., 1979.
С.
125.
40 Писарев Д.
И.
Литературная
критика:
В
3т.
Т.
1.
Л., 1981.
С.
39.
41 Соловьев В.
Собр.
с оч.
Т.
3.
С Пб. , 1912.
С.
191.
42
Дибелиус
В.
Проблемы
литературной
формы.
Л.,
1928.
С.
131.
43 Выготский Л .
С.
Психология
искусства.
М. , 1968.
С.
202.
44 Гончаров И.
А.
С обр.
со ч.:
В
8т.
Т.
8.
М ., 1980.
С.
253.
Е.
И.
ЛЯПУШКИНА
ИДИЛЛИЧЕСКИЕ
МОТИВЫ
В
РУССКОЙ
ЛИРИКЕ
НАЧАЛА
XIX ВЕКА
И
РОМ АН
И.
А.
ГОНЧАРОВА
«ОБЛОМОВ»
Идилл ия
—
не
как
узкое
жанровое
понятие,
но
скорее
как
определенная
концепция
жизни,
которая
о св аива лась
разными
жанрами
(в данной статье нас будут интересовать прежде всего
поэтические
ж анр ы),—
обнаруживает
свое
присутствие
в
романе
И.
А.
Гончарова
«Обломов»
с
несомненностью,
причем
на
со вер
ше нно
ра злич ных
уров н ях
—
от
сюжетных
ходов
до
стилистиче
ских
особенностей
тех
фр агм ен тов
текста,
которые
«обслужива
ются»
словом,
поч ер пну тым
из
идиллических
жанров.
Очевидно,
что
идиллическая
традиция
так
или
и наче
входит
в
поле
худож ес тве нн ого
сознания
автора,
он а,
таким
образом,,
как
бы
участвует
в
создании
романа,
выпо лня я
определенное
т ворче ское
зад ан ие
(например,
сюжетные
мотивировки,
интер
претация
характеров).
Однако
эт им
присутствие
идиллической
традиции
в
романе
Гончарова
не
исчерпывается:
она
становится
и
объектом
исследования
в
не м,
являясь
од ним
из
существен
ных
элементов,
определивших
тот
тип
сознания,
носителем
ко
торого
яв ля ется
И лья
Ильич
Обломов
и
которое
можно
обо
з на чить
как
лирическое
сознание.
В
статье
будет
ра ссм отр ен
именно
этот,
последний,
аспект
проблемы.
Реч ь
пойдет
о
том,
как
герой,
пытающийся
выс тро ить
свое
по веде ние,
св ою
жи знь
в
соответствии
с
н ормами
поведе
ния
и
жизни
лирического
героя,
существует
в
жан ре
романа.
О
роли
поэзии
в
формировании
духовного
мира
Иль и
Ильича
Об лом ова
говорит
не
только
автор
(«Зато поэты задели его за
живое»
—
52) сам Илья Ильич настаивает на том,
что
он
«поэт в жизни,
потому
что
жизнь
есть
п оэ зия» (140), обнару
живает
это
и
Штольц: «Даты поэт,
Иль я!» —
говорит
он
своему
другу,
когда
тот
рассказывает
ему
об
идеале
жизни
(140).
Илья
Ильич
предстает
перед
читателем
в
романе
в
тот
момент,,
когда
все
его
по пыт ки
государственной
деятельности
потерпели
фиаско,
когда
роль
в
о бществ е
окончательно
не
уд алас ь
и
когда
жизн ь
его
св елась
к
лежанию
до ма
на
диване.
Вс е,
что
к аса ется
какого
бы
то
ни
б ыло
деятельного
участия
в
жизни,
вынесено-
как
бы
за
рамки
романа.
Но
вместе
с
тем
леж ани е
на
диване
сопровождается
у
не го
«внутренней волканической работой
©Е.
И.
Ляпушкина, 1992.
102
пылкой
головы
и
гуманного
с ер дц а» (56). «Обломов, —
пише т
Гончаров,—
л юбил
уходить
в
с ебя
и
жить
в
созданном
им
мир е » (54).
Сама
ситуация,
когда
герой
живет
в
мире,
созданном
его
воображением,
есть
своего
род а
цитата
из
поэзии
начала
века,
в
которой
оппозиция
«действительность
—
мечта»
час то
оборачи
валась
оформлением
эс тетическо й
утопии.
Может
бы ть,
как
ни
како й
другой
поэт,
здесь
Илье
Ильичу
близок
Батюшков,
в
тв ор
честве
которого
победа
над
несовершенством
жизн и
путем
со
здания
ее
эс тетичес ко го
э квив але нта
—
тема
те м.
Но
подобный
«ход»
мы
встретим
и
у
молодого
Пушкина,
и
у
Жуковского,
и
у
Вязе м ско го.
М ечта
зд есь
никогда
не
сопутствует
реальной
жиз ни,
она
всегда
уводит
от
не е.
Обращение
к
мечте
означает
ра зрыв
с
миром.
Это
очен ь
точно
сформулировал
Батюшков
в
о дном
из
писем
к
Г не д ичу : «...поэзия, —
писал
он
в
1811 г .,—
сие
вдохновение,
сие
нечто,
изнимающее
д ушу
из
ее
обыкновен
ног о
состояния,
делает
любимцев
своих
несчастными
счастлив
цами.
И
ты
часто
н а слажд аеш ься,
потому
что
ты
пишешь,
и
ты
смотришь
на
мир
с
отвращением,
потому
что
ты
пишешь»2.
Об
ласть
мечты
и
область
действительности
никогда
не
пер есека
ются,
и
мечта
н ико гда
не
указывает
на
п ути
изменения
жизни.
Св язь
поэта
с
реальным
миром
носит
как
бы
«отрицательный»
хара кте р:
он
уходит
от
него,
отворачивается
от
него
и
о бр ащает
свой
в зор
к
м иру
мечты.
З десь
он
и
демиург,
и
гл авное
дейст
вующее
лицо,
и
з рит ель
одновременно.
Он
творит
и
любуется
своим
творением.
Он
п ереж ивае т
любовь,
счастье,
н асл аждени е,
рад ост ь,
но
все
это
возникает
не
в
результате
его
живого
ко н
такта
с
ре а льным
миром,
а
в
результате
с оз ер цания
т ого
ми ра,
ко торый
создается
воображением.
Фантазия
заменяет
соб ой
ж ивую
ж изнь,
все
пер еж и вания
носят
чи сто
э стетиче ский
ха
рактер.
Он
смеется,
и
плачет,
и
испытывает
те
или
иные
ощуще
ния
подобно
тому,
как
смеет ся
и
плачет
зритель
в
театре:
не
пот ом у,
что
ему
весело
или
грустно,
а
п отом у,
что
верно
найден
пут ь
к
его
сердцу.
Происходит
все
время
своего
род а
подмена
непосредственных
чувств
«сладкими думами»
о
них,
и
эти-то
думы,
а
не
сами
чу вст ва
и
приносят
счасть е:
Счастлив,
счастлив,
кто
цветами
Дни
любови
ук рашал;
Пел
с
беспечными
друзьями,
А
о
счастии...
мечт ал !
(К.
Н.
Батюшков.
«К Петину», 281)3;
Он
счастлив,
пог рузя сь
о
счастье
в
сладки
ду мы!
(К.
Н.
Батюшков.
«Мечта», 256);
В
тени
дубравы,
над
потоком,
Друг
Феба
с
ясною
душей,
В
убогой
хижине
своей,
Забывший
рок ,
забвенный
роком,—
По ет,
мечтает
и
—
бла ж ен!
(В.
А.
Жуков ск ий.
«К Поэзии», 37) 4.
103
По
сут и
д ела
име нно
т акая
подмена
происходит
в
жизни
Ил ьи
Ильича:
он
«любил уходить в себя и жить в созданном
им
мире» (54).
Не
подлинник,
а
созданная
им
самим
имитация
д оста вляет
ему
наслаж дение:
«Лицо Обломова вдруг облилось румянцем счастья:
ме чта
была
так
ярка,,
жива,
поэтична,
что
он
мгновенно
повернулся
ли цом
к
подушке...
Полежав
ничком
минут
пять,
он
мед лен но
опять
повернулся
на
спину.
Л ицо
его
сияло
кротким,
трогательным
чувством:
он
был
с час тли в» (62).
В
поэзии
уход
в
«счастливый край»
мечты
от
горя
и
несч а
сть я
понятен
и
закономерен:
Под
небом
сладостным
полуденной
страны
Забудем
слез ы
лить
о
жребии
жестоком...
(К.
Н.
Батюшков.
«Таврида», 232),
но
по эт
стремится
т уда
даже
тогда,
когда
сама
жизнь
д обра
к
нему:
Кто
в
жиз ни
не
любил,
Кто
раз
не
з аб ывался ,
Л юбя,
ме чтам
не
пре давался,
И
счастья
в
них
не
находил?
(К.
Н.
Батюшков.
«Мечта», 257).
Показательно,
что
поэт
находит
счастье
не
в
самой
любви,
а
в
мечтах
о
ней.
Это
у ход
из
мира ,
в
котором
страдание
и
наслаж
дение
име ют
равные
пр ава.
Освободиться
от
страданий
мо жно
ценой
отказа
от
счастья.
Мечта
—
легкий
посох
поэта,
с
которым
он
уходит
от
жизни
всегда
одной
дорогой
—
«забвения тропой»:
Но
я
и
счастлив
и
богат,
Когд а
с ниска л
себ е
свободу
и
спокойство,
А
от
су ет
уш ел
забвения
т ропой!
(К.
Н.
Батюшков.
«Мечта», 259);
Мечтанье
легкокрыло!
О,
будь
же
ты
со
мной,
Дай
руку
сладострастью
И
с
чаш ей
круговой
Вед и
мен я
ко
счастью
Забвения
тропой..
.
(А.
С.
Пушкин.
«Городок», 1, 108)5.
Освобождение
от
собственного
опыта
переживаний
становится
условием
с ча стья,
свободы
и
«спокойства»
поэта,
и
пот ому
оно
благоприятно
для
него.
Это
стремление
уй ти
от
жизни
оборачи
вается
возможностью
пре одол е ть
несовершенство
эмпирической
ре альн о сти
и
раствориться
в
надмирной
стихии,
совершить
вос
хождение
к
высшей
гармонии,
которая
пре вра титс я
из
предмета
абстрактного,
инт ел ле к туа льного
знания
в
факт
лич но го
опыта.
При
эт ом
искусство
ставит
се бя
в
положение
альтернативы
по
отношению
к
живой
жизни.
А.
С.
Пушкин
выразил
это
в
«По
слании
к
Ю дину », сказав:
В
мечтах
все
ра дост и
зем ные!
Судьбы
всемощнее
по эт
(1, 182),
104
По бег
от
жизни
в
мечту
мог
исчерпать
судьбу
лирического
гер оя,
ча сто
именно
этот
по бег
с та новил ся
спасительным
ит огом
его
и сканий ,
но
он
не
може т
ста ть
исходом
для
романного
ге
роя,
для
которого
в стреч а
с
жизненной
реальностью
неизбежна,
и
нет
силы,
которая
могла
бы
пре одол еть
эту
неизбежность.
«Нет,
жизнь
т рога ет,
куда
ни
уй ди,
так
и
жж ет» (187),—
ду
мает
Ил ья
Ильич.
Гармония,
о
которой
мечтает
Обломов,
во
площена
в
предельно
конкретных
о бразах,
и
эта
конкретность
об ус ло влена
той
поэтической
традицией,
в
русле
которой
и
со
зд ает ся
мир
его
мечты.
Речь
иде т
о
традиции
др уж еског о
по
слания.
Др ужес кое
послание
б ыло
тем
жанром,
который
ле гко
и
органично
совместил
'в себе поэзию и прозу жизни,
счастливо
избежав
при
это м
к акого
бы
то
ни
б ыло
диссонанса,
противо
ре чия,
разностилья.
О
двойственной
п рирод е
жанрового
о бъект а
по с лания
подробно
писал
В.
А.
Грехнев,
убедительно
показав
ший,
что
ни
один
другой
жан р
не
зн ал
столь
органичного
соеди
нения
бытового
и
д уховн ог о6.
Практически
вс е,
из
че го
с клады вае тся
идиллия
д руже ск ого
послания,
вошло
в
мир
мечты
И льи
Ил ьич а.
Уютн ый
уг олок
—
будь
то
«отдаленный неги кров»
или
«безвестностью счастливый
у г о ло к», «укромная хижина»
или
«смиренная хата»
—
все
это
воплотилось
для
гончаровского
ге роя
в
его
земном
раю
—
в
Об-
ломовке.
В
э тот
уг олок
уединяется
поэт:
От
шума
вдалеке,
Живу
я
в
городке,
Безвестностью
счастливом.
(А.
С.
Пу шки н.
«Городок», 1, 100).
В
Обломовке
со бир аетс я
поселиться
сам
Ил ья
Ильич:
так
ска
зать, «функции», роль поэта в мире мечты он берет на себя.
Впрочем,
у един ение
не
подразумевает
одиночества:
учас тие
др у
зей—
непременный
элемент
эт ой
жизни:
Друзья
мои
сердечны!
П ридите
в
час
беспечный
Мой
до мик
навестить
—
Поспорить
и
попить!
(К.
Н.
Батюшков.
«Мои Пенаты», 267),
Быть
может,
к
нам
в
обитель
Заманим
мы
друзей...
(П.
А.
Вяземский.
«К подруге»)7.
А
вот
как
откликается
это
в
мечте
Ильи
Ильича: «Он думал
о
маленькой
к оло нии
друзей,
которые
поселятся
в
дерев ен ьках
и
фе рма х,
в
пятнадцати
или
двадцати
вер ста х
вокруг
его
де
ревни,
как
попеременно
будут
каждый
де нь
с ъ езжатьс я
друг
к
д ругу
в
гос ти,
обедать,
ужинать,
танцевать» (62).
В
дружеском
послании
«любимцы муз»
предаются
и
искус
ствам,
и
«жирным обедам», и одно нисколько не противоречит
другому:
О
Галич,
верн ый
друг
бокала
И
жирных
утренних
пи ров,
105
Тебя
зов у,
мудрец
ленивый,
В
приют
поэзии
сч аст ливы й.. .
(А.
С.
Пушкин.
«К Галичу», 1, 128).
У
Батюшкова
в
послании
«К Жуковскому»
читаем:
Так
ты,
краса
певцов,
Среди
забав
невинных
В
отчизне
золотой
Прелестны
гимн ы
пой!
и
тут
же:
Теб е
подносит
вины
И
портер
вып исной ,
И
сочны
апел ьси ны ,
И
с
трюфлями
пирог,
Ве сь
Амальтеи
рог,
Вовек
не ист ощимы й,
На
жирный
тво й
о бе д ! (275—276).
То
же
у
Ил ьи
И льича :
«А тут то записка к жене от какой- нибу дь
Марьи
Петровны,
с
книгой,
с
но
тами,
то
прислали
ан анас
в
п ода рок
или
у
самого
в
парнике
созрел
чуд о
ви щный
арбуз.
..
До
обеда
приятно
заглянуть
в
кухню,
открыть
кастрюлю,
понюхать,
посмотреть,
как
свертывают
пирожки,
сб ив ают
с ливки .
Потом
лечь
на
кушетку;
жена
вслух
читает
что-нибудь
но вое;
мы
останавливаемся,
спо
ри м .. .» (140—141); «На кухне стучат в пятеро ножей;
сковорода
гр ибо в,
котлеты,
ягоды...
тут
музыка...
Casta diva... Casta diva!» (141—142).
Хар акт ер ист ика,
данная
В.
А.
Грехневым
дружескому
посла
нию : «Своего рода „иде ол о г ическо е
поле“
открылось...
жанро
вому
зрению
послания,
особый
участок
бытия,
в
котором
жизнь
бы ла
пр ониз ана
отсветами
и с кус ств а»8,—по лно с тью
приложима
к
воображаемому
ми ру
Ил ьи
Ил ьича
Обломова.
Действительно:
жиз нь,
пронизанная
искусством.
Подобные
переклички
мыслей
И льи
И льича
с
поэтическими
строками
неслучайны:
очень
мно
гие
его
представления
о
сча стл ив ом
житье-бытье
—
это
вариа
ции
на
тему
дружеского
послания,
множество
формул
и
общих
мест
этого
жанра.
Особо
остановимся
на
вопросе
о
хара кт ере
любовных
пере
ж иваний
в
дружеском
послании
и,
соответственно,
в
мечте
ге
роя
романа.
В
послании
любовь
нес ет
только
наслаждение
и
по
к ой,
это
р ов ное,
неизменное
и
спокойное
чувство,
оно
пер еж и
в ается
легко,
его
т емная
сторона
этому
м иру
не ве дома.
Лю бовь -
страсть
не
должна
проникнуть
сюда:
она
разрушит
и дил лию.
У
Жуковского
в
послании
«К Батюшкову»
читаем:
Любовь
—
святой
хранитель
Иль
грозный
истребитель
Душевной
чистоты.
Отв ер гни
сл ад остраст ья
Погибельны
мечты
И
не
восторгов
—
счастья
•
В
прямой
ищи
люб ви;
Восторгов
исступленье
—
Минутное
забвенье;
Отринь
их,
разорви
Л аис
кова рны х
уз ы! (1, 130—131).
106
Илья
Ильич
и
это т
ур ок
поэзии
воспринял
как
прилежный
ученик.
«Норма любви»
для
н его
—
«вечное и ровное течение
чув с тва », а страсти оставляют после себя «ды м,
смрад,
а
сч а
стья
нет!
Воспоминания
—
один
только
с тыд
и
рвание
волос. ..
Это
фейерверк,
взрыв
бочонка
с
порохом,
а
потом
что? (Ср.
у
Ж уков ско го: «Восторгов исступленье —/ М ин у тное
з абвень е». —
Е. Л.)
Оглушение,
ослепление
и
опаленные
во лос ы!
...
Да,
ст рас ть
надо
ограничить,
задушить
и
утопить
в
же ни т ьбе» (160).
Избежать
страсти
—
вот
способ
сделат ь
любовь
«святым хра
нителем», а не «грозным
истребителем»
счастья.
Ил ья
Ильич
строит
свой
мир
в
соответствии
с
философией
времени,
выра б ота нной
дружеским
по сл ани ем.
«Не знаю завтра,
ни
вчера»
—
вот
формула,
в
которой
сказался
культ
мгновения
—
но
мгновения
не пре ходящег о,
и зъят ого
из
контекста
времени
и
тем
самым
приравненного
к
вечности.
«Будет вечное лето,
веч
ное
веселье,
сладкая
еда
да
сладкая
лен ь »,—
ду мает
Обломов
(62).
С
этим
связана
и
установка
на
постоянство
жизни;
такой
мир
не
мо жет
и змен ить
человеку,
поэтому
он
на деж ен.
Дружба,
любовь,
искусство
—
вот
немногочисленные
пок ро
вители
поэта
в
его
уе д ине нии,
но
они
сполна
обеспечивают
ему
с часть е,
радость
и
гармонию,
поэтому
он
сознательно
с тара ется
укрыться
от
вм ешат ель ств а
в
свою
судьбу
любых
других
сил
в
мире,
недосягаемом
для
эти х
сил
и
стихий.
Понятно,
что
су
ществование
в
рамках
выбранного
мира
очень
ог р аниченн о,
но,
как
пише т
Жуковский:
С
кем
милая
и
друг,
Тот
в
уго л
свой
з абв енный
Обширныя
вселенной
Всю
прелесть
уместил.
(В.
А.
Жуков ск ий.
«К Батюшкову», 1, 130).
Забвенный
уголок,
воспринятый
как
в селен ная, —
это
и
есть
ид ил лия,
которую
Жан-Поль
определил
как
«полноту счастья
в
ограничении»9.
В
определенном
смысле
т акая
ограниченность
об ор ач ивает ся
свободой
и
независимостью
от
тех
сил,
которые
царят
за
пределами
за мк нуто го
мира.
Не да ром
в
эт ой
жизни
И лья
Ильич
«находил столько премудрости и поэзии,
что
и
не
ис черп ае шь
никогда
без
к ниг
и
учености» (53).
Таким
об ра зом,
созданный
по
закон а м
искусства,
идеал
Ил ьи
И льича
сориентирован
на
определенную
поэтическую
тра
дицию.
Стремление
воплотить
этот
иде ал
в
жизнь
терпит
кр ах
—
как
всякий
э стети ч еский
эксперимент
над
ж изнь ю.
Жизнь
по
сто янн о
ставит
гер оя
в
таки е
обстоятельства,
условия,
которые
могут
бы ть
проигнорированы,
не
учтены,
не
осмыслены
тем
или
ин ым
литературным
жанром.
Никакая
жанровая
т р адиция
не
в
состоянии,
интерпретируя
жизнь,
исчерпать
все
ее
многооб
разие
до
конца.
С
этим
и
сталкивается
Иль я
Ильич.
Дружеское
послание
как
жан р
проповедовало
«хоровую
иде ол о г ию» (термин В.
А.
Г р ех нева), а это значит,
что
оно
не
107
зам ечало
«другого»
с
его
отличным
от
твоего
сознанием.
Общ
ность
мироощущения
всех
персонажей
пос лани я
приобретала
а бсо лю тный
характер,
а
психологическая
разноликость
мира
не
принима л ас ь
во
внимание.
Илья
Ильич,
восприняв
такую
ло гику
искусства,
ошибается
не
тольк о
в
других,
но
и
в
себе.
В
любви
Ил ья
Ильич
больше
всего
страшился
страсти^
а
между
тем
именно
ст рас ть,
а
не
ровное,
спокойное
чу вст во-
оказалась
органична
ему:
взгляд
Ольги
«встретился с его взгля
дом,
устремленным
на
нее:
взгляд
этот
был
неподвижный,
почти
безумный;
им
глядел
не
Обломов,
а
стр асть » (159).
Илья
Ильи ч
в
бу дущ ей
же не
своей
«не хотел видеть трепе
та.
..
с лыш ать
го р ячей
мечты,
внезапных
слез,
томления,
изне
мо ж ен и я» (159), но однако когда он сделал предложение Ольге,
«у него шевельнулась странная мысль .
Она
смотрела
на
него
с
спокойной
гордостью
и
твердо
ждала;
а
ему
хотелось
бы
в
эту
минуту
не
гор д ости
и
тв ер дос ти,
а
с лез
ст ра сти,
охмеляющего
сч ас тья,
хоть
на
о дну
минуту,
а
потом
уж
пу сть
потекла
бы
жизнь
невозмутимого
по к оя !» (223).
Иль я
Ильич
по сел ил
в
своем
раю
Штольца
—
человека,
ко
торому
мн огое
в
обломовском
мир е
чуждо.
Эт от
мир
по
прир оде
своей
таков,
что
в
нем
нет
места
ничему
и ера рхиче скому.
Ни
в
отношении
к
мир у,
ни
в
отношении
к
человеку
здесь
не
при
менима
та
сис тем а
оценок,
которая
подразумевает
восхождение
от
низ шег о
к
высшему.
З десь
все
равновелико.
Этот
мир
в
вы с
шей
степени
демократичен.
Но
именно
это
каче ств о
Ш толь цу
не
св ойст венно :
в сп омним
хо тя
бы
его
реакцию
на
жен ить бу
Ильи
Ил ьича
на
Агаф ье
Матвеевне
П ш е ницыно й: «Погиб!» —
скажет
он
Обломову
в
ответ
на
и звест ие
о
н ей.
Илья
И льич
как
будто
не
замечает,
что
у
л юдей,
его
окру
ж аю щих,
есть
своя,
не
с ов падающ ая
с
обломовской,
правда
о
жизни,
и,
об раща я
их
в
сво ю
веру,
он
тем
самым
посягает
на
их
свободу,
подавляет
их
духовную
прир од у.
В
мире
мечты
Обломова,
вслед
за
миро м
д руже ск ого
посла
ния ,
время
теряет
свои
пр ава
(Ю.
В.
Манн
пи сал
о
д во йном
бе гс тве
в
послании:
не
то лько
от
л юдей,
но
и
от
в ре мени10);
однако
свобода
от
времени,
несущ его
перемены,
возможна
лишь
в
искусстве
—
жизнь
же
обречена
на
диктат
времени.
Так,
мо
тив
перемены
сопровождает
всю
историю
л юбви
Ил ьи
Ильича
и
Ольги.
И
наконец
Ил ья
Ильич
с
ужасом
замечает,
что
он
не
в
силах
ос тан ов ить
прекрасное
мг нов ение :
«Боже!
Сире ни
поблекли,—
ду мал
он ...
—
вчера
поблекло,
письмо
тоже
поблекло,
и
эт от
ми г,
лучший
в
моей
жи зни...
и
он
поблек!..
Что
ж
это
т ак ое?..
И
любовь
то же. ..
любовь?
А
я
думал ,
что
она ,
как
знойный
п ол
день ,
повиснет
над
любящимися
и
ни что
не
двигается
и
не
дохнет
в
ее
атмо
сфере:
и
в
любви
нет
покоя,
и
она
движется
все
куда-то
вперед,
вперед.. *
И
не
родился
еще
Иисус
Навин,
который
бы
сказал
ей:
„Стой и не дви-
жис ь!”» (207).
Жизнь,
таким
образом,
вно вь
разоблачает
жа нр,
обнажая
всю
иллюзорность
и
условность
тех
допущений,
на
которых
э тот
ж анр
держится.
108
Идиллический
мир
дружеского
послания
всегда
оценивается
на
фо не
другой
жизни.
По сти г нуть
всю
ист инн ост ь
спокойного,
бе зм яте жного
и
беззаботного
существования
может
л ишь
иску
шенное
во
лжи
«большого»
ми ра
созн ан ие.
Истина
здесь
прояв
ляет ся
как
таковая
с
тем
большей
очевидностью,
чем
ярче
кон
трастирует
с
ней
ее
противоположность;
с
этим
связ ан
мотив
бе гс тва
гер оя,
его
спас ения
от
мира
суеты,
пороков
и
тщ еты
в
мир
истинного
сча сть я.
Мотив
этот,
впрочем,
разрабатывался
не
только
дружеским
посланием,
но
и
д ру гими
ж анр ами,
в
ча
стности,
элегией,
по-своему
осваивающей
те му
идиллического
существования.
Вопрос
о
принципиальных
различиях
между
э тими
двумя
жанрами
в
трактовке
темы
бу дет
рассмотрен
ниже.
Пока
же
важнее
увидеть
их
сходство:
оба
жанра
используют
од ин
и
тот
же
сюжетный
ход ,
причем
история
гер оя
дружеского
послания
и
героя
элегии
может
сводиться
просто
к
б ег ству
из
большого
мира
в
малый
(как в большинстве элегий и посланий
Батюшкова,
в
посланиях
Вяземского,
как
в
некоторых
посла
ни ях
П у шкин а); она может разворачиваться и по схеме « ис то
рии
блудного
сына», когда побег в малый мир есть возвращение
на
ро д ину,
когда - то
пок инут ую
гер оем
во
имя
мира
большого
(два послания Пушкина к Галичу, «Простите,
верные
дубра
вы !»; «Опустевшая деревня»
Ж уко вс кого ; «Сельская элегия»
Баратынского).
В.
А.
Гр ех нев
пише т : «Если элегия обостренно
внимательна
к
временным
аспектам
бытия,
то
раннее
дружеское
послание—к
пр о стр ан ст в енным»11.
Замечание
это,
может
быть,
чересчур
категорично:
в
элегии
противопоставление
большого
мира
малому
не
нос ило
программного
ха ра ктер а,
она
мо гла
просто
не
к ас аться
эт ой
темы,
но
там,
где
она
осв аи вает
ее,
она ,
ко не чно,
не
менее
вним ат ел ьна
к
прос тран ств ен ны м
аспек
там
бы тия,
чем
дружеское
послание
(см. ,
например: «Элегия из
Т и бу лла», «Тибуллова элегия XI...», «Воспоминание», «Тав
ри да»
К.
Н.
Б а тюшко ва ). Важно,
что
и
в
элегии,
и
в
дружеском
послании
ма лый
мир
все гда
открыт
для
г ероя
и
всегда
готов
при н ять
е го;
отсюда
можно
уйт и,
но
э тот
уход
не
станет
роко
вым,
возможность
вернуться
о ста не тся,
причем
такое
воз вр а
щ ение
не
повлечет
за
соб ой
су щест в енных
утрат
—
и
в
э том
смысле
герой
обла да ет
известной
свободой
перехода
от
одного
об раза
жизни
к
другому.
Когда
Гончаров,
описывая
Обломовку
в
«Сне Обломова»,
г о во р ит : «Измученное волнениями или вовсе незнакомое с ними
серд це
так
и
просится
спрятаться
в
этот
забытый
всеми
у голок
и
жи ть
никому
не
ведо м ым
счастьем» (80), то,
по
су ти
д ела,
он
предлагает
формулу,
истинность
которой
была
многократно
подтверждена
поэзией
начала
века;
формулу,
которая
б ыла
«закреплена»
за
эт ой
поэзией.
Приведу
пример
из
«Опустевшей
деревни»
Ж уко вско го:
Я
в
св ете
странник
был,
пеш ец
уед инен ный!
—
Вл ача
участок
б ед,
творцом
мне
уделенный,
109
Я
сладкою
с ебя
надеждой
обольщал
Там
кончить
м ирно
век,
где
жизни
дар
прия л!
В
стране
м оих
отц ов,
под
с енью
дре в
знакомых,
Исто р гш ись
из
толпы
заб от ами
гн етомы х,
Свой
тусклый
пла м енник
от
траты
сохранить
И
дни
отшествия
покоем
озлатить!
Бл ажен ,
кто
ю ных
лет
заботы
и
волненья
Венчает
в
старости
беспечной
т иш иной! (1, 41—42).
Если
следовать
этой
логике,
то
окажется,
что
идиллическое
счастье
може т
бы ть
основано
на
н еведе ни и,
оно
как
бы
откры
ва ет
человеческую
жи знь
(«вовсе незнакомое с волнениями
сердце»), но оно
—
это
счастье
—
желанно
и
для
то го,
кто
стре
мится
освободиться
от
с тр а даний,
от
какого-то
опыта
душевных
пер е жива ний,
кто
стремится
вернуться
к
своим
ис тока м;
оно
оказывается
последним
пристанищем
для
позн ав шег о
бури
сердца
(«измученное волнениями сердце»).
О но,
таким
обра
зом ,
знаменует
начало
и
конец
пути,
который
весь
прол ега ет
между
дву мя
с о стоян иям и: «измученное волнениями или вовсе
незнакомое
с
ни ми
с ер дце ...».
Но
в есь
роман
Гончарова
м ожно
прочесть
как
ис то рию
о
том,
что
человеку
не
дано
вернуться
к
своему
началу.
То,
что
б ыло
ле гко
для
лирического
героя,
оказалось
невозможно
для
ге роя
романа.
Соотношение
малого
и
большого
миров
в
романе
и
в
лирическом
тексте
ок азы вает ся
принципиально
ра зли чны м.
Иль я
Ильич
не
может
вернуться
в
Обломовку
не
п отом у,
конечно,
что
план
переустройства
его
им ения
не
готов.
В
этот
мир
нельз я
вернуться,
из
н его
можно
лишь
уйти,
до рога ,
сое
диня ющ ая
два
мира,
и дет
только
в
од ном
направлении
—
из
ма лого
в
большой.
М.
М.
Бахтин
писал
о
романном
герое,
что
он
всегда
или
больше
своей
судьбы
или
меньше
своей
человеч
ности
12.
А
в
Обломовке
л юди
как
бы
совпали
и
с
тем
и
с
др у
гим ,
и
в
этом
за лог
той
гармонии,
в
которой
они
существуют.
Но,
как
пишет
Гончаров, «Илья Ильич уж был не в отца и не
в
деда» (53), и,
о кажи сь
он
в
Обломовке
после
Петербурга,
он
неизбежно
столкнулся
бы
с
тем,
что
это
ра внов еси е
наруше
но
—
именно
в
этом
смысле
ему
не
дано
возвращения.
Можно
было
бы
возразить:
последние
годы
жизни
Ил ья
Ильич
прово
дит
на
Выборгской
стороне,
в
которой
он
все
время
пытается
разг ляде ть
черты
сход ств а
с
миром
своего
детства
и
которая
в
конце
концов
воспринимается
им
как
повторение
Обломовки.
В
данном
случае
не
столь
даже
важно,
в
какой
степени
Выборг
ская
сторона
и
Обломовка
совпадают.
Гораздо
более
сущест
вен ным
о казыв ает ся
вопрос
о
том,
как
соо тн осит ся
Выборгская
сторона
с
идеалом
Ил ьи
И льич а,
потому
что
именно
это
соотно
ш ение
объяснит
н е воз можн ость
для
романного
героя
т ого
в оз
вращения,
которое
так
ле гко
дается
г ерою
лирических
жан ро в.
На
Выборгской
стороне
жизнь
Иль и
Ильича
оказалась
за
хваченной
с тих ией
бы та
и
л ишенно й
духовности
(вспомним,
110
что
именно
в
сопряжении
эти х
двух
сил
ему
виделось
когда-то
счастье), и здесь-то
и
пр ояви лос ь
неравенство
Ильи
Ильича
своей
человечности.
Он
уш ел
на
Выборгскую
сторону
от
с тр ада
ний
большого
мира ,
но
тем
самым
ушел
и
от
счастья,
й
в
конце
к онцов
от
самой
жизни:
«Он торжествовал внутренно,
что
уше л
от
ее
докучливых,
мучительных
тр ебо ва ний
и
гроз,
из-под
того
горизонта,
под
которым
блещут
молнии
ве
ликих
радостей
и
раздаются
внезапные
удары
великих
ск орб ей,
где
играют
ложн ые
надежды
и
великолепные
призраки
счастья,
где
глож ет
и
снедает
человека
собственная
мы сль
и
у би вает
страсть,
где
падает
и
торжествует
ум,
где
сражается
в
непрестанной
битве
человек
и
уходит
с
поля
битвы
истер
за нный
и
все
недовольный
и
не насыт имы й.
Он,
не
ис п ытав
наслаждений,
добы ва ем ых
в
борьбе,
мыслен но
отказался
от
них
и
чу вст вовал
покой
в
душ е
то лько
в
за бы том
уголке,
чуж дом
движения,
борьбы
и
жиз ни» (367).
Таким
образом,
традиционно
осм ысл енн ый
поэ зие й
как
ра
достный,
уход
героя
зд есь
приобретает
трагическое
звуч ани е.
Пушкинское
«Я жить хочу,
чт об
мыслить
и
страдать...»
с лы
шит ся
за
таким
поворотом
сюжета,
но
истина
эта
вы рас тает
как
бы
над
судьбой
г ероя,
как
ответ
на
нее
для
чит ат еля,
но
не
для
самого
героя.
Сам
Ил ья
Ильич,
живя
в
доме
Агафьи
Ма тв ее вн ы, «решил,
что
ему
некуда
больше
и дти,
нечего
искать,
что
идеал
его
жизни
осу щ ес тви лс я» (367).
Но
иногда, «если
з акипи т
еще
у
не го
во обра же ние,
восстанут
забытые
воспоми
нания,
неисполненные
мечты,
если
в
сов ести
зашев елятся
упреки
за
прожитую
та к,
а
не
ина че
жи знь
—
он
с пит
не спо к ойно,
про
сыпается,
вскакивает
с
постели,
иногда
плачет
холодными
сл е
зами
безнадежности
по
светлом,
н авсегда
угаснувшем
и деале
жизни,
как
плачут
по
дорогом
усопшем,
с
горьким
чувством
со
знания,
что
недовольно
с делал и
для
н его
при
жи зни » (368).
Илья
Ильич
как
будто
сам
не
може т
решить
для
себя,
дей ст ви
тельно
ли
идеал
его
жизни
осуществился
или
он
навсегда
угас.
Смысл
судьбы
ге роя
не
р аскр ывает ся
ни
од ним
из
дв ух
утвер
ждений,
он
возникает
скорее
в
том
идеологическом
прос тр анс тве
художественного
текста,
которое
образуется
между
этими
по
люсами.
Сознание
не
может
окончательно
принять
ни
ту,
ни
другую
оценку,
оно
как
маятник,
который
качнется
вправо
р овно
на стол ь ко,
насколько
откл он итс я
влево.
В
калейдоскопе
сменяющих
друг
друга
зн аче ний
рожда ется
мысль
о
бесконечном
поиске
смысла
ж изни
и
о
невозможности
исчерпать
его
одно
значным
решением.
Поэтому
нельзя
ответить
на
во прос
о
том,
осуществилась
ли
мечта
Обломова:
она
и
осуществилась
и
не
осуществилась
одновременно.
Вопрос
о
в озможн о сти
воплощения
и деала
в
жизни
решается
Гончаровым
и
на
примере
судеб
двух
других
героев
романа
—
Ольги
и
Штольца.
Поселившись
после
свадьбы
в
Крыму,
Анд
рей
и
О льга
все
время
как
бы
кон трол и руют
св ою
жизнь,
чтобы
111
она
не
превратилась
в
облом ов ск ое
«переползание изо дня
в
день », они страшатся обломовской апатии ( и мен н о
к
этому
сводится
их
упрощенное
и
да же
несколько
искаженное
пр ед
ставл ение
о
мечте
И льи
Ильича).
А
между
тем
мног ие
черты
его
идеал а
воплотились
в
семейной
идил л ии
Штольцев,
опис а
ние
которой
порой
до
мельчайших
подробностей
совпадает
с
тем
«узором жизни», который некогда чертил себе Обломов.
Штольцы
«поселились в тихом уголке» (347) —
о
таком
уеди
не нии
мечтал
и
Ил ья
Ильич.
Когда-то
Штол ьц
упрекнул
своего
друга
в
том,
что
его
идеал
—
та
же
Об лом овк а:
—
Ты
мне
рисуешь
одн о
и
то
же,
что
бывало
у
дедов
и
от цов.
—
Нет,
не
т о,—
ото зв ался
Обломов,
п очти
обидевшись,—
где
же
то?
... Ты
слыши шь:
нот ы,
кни ги,
рояль,
изящная
м еб ель ? (141).
Штольц
не
учел,
что
Обл омов у
важна
эстетическая
зн ачи
мость
бы та
и
в
его
со зна нии
поэтизируется
то,
что
традиционно
закре п лялось
за
прозой
жизни.
По зже
так ое
превращение
п ро
изошло
и
в
жизн и
самого
Штольца,
когда
он
с
Ольгой
по се
ли лся
в
Крыму:
«.. .среди
эт ой
ра знове ков ой
м ебели,
ка рт ин...
в
океане
книг
и
нот
веяло
теплой
жизнью,
ч ем-то
раздражающим
ум
и
эстетическое
чувство;
.. .Сре ди
всего,
на
почетном
мест е
блистал,
в
золо те
с
инкрустацией,
фл иге ль
Эрара»
(347).
Как
видим,
все
те
же
«ноты,
книги,
рояль,
изящная
меб ел ь».
Иль я
Ильич
мечтал
уйт и
от
общества,
от
света,
не
понимая,
«чего там искать», не находя там « инт ересо в
ума,
сердца», видя
в
«этих членах света и общества»
одних
мертвецов
(137).
В
бу
дущей
жизни
в
своем
име нии
ви дел ась
ему
возм ожн ос ть
осво
бо жде ния
от
суеты
св ета
с
его
«вечной беготней взапуски»,
«вечной игрой дурных страстишек,
особенно
жадности», сплет
нями,
пересудами
и
т.
д.
(136). Такое же неприятие света
и
же
лан ие
укрыться
от
н его
в
семейной
жи зни
открылось
впослед
ст вии
в
О л ь ге: «Суета света касалась ее слегка,
и
она
спеш ил а
в
свой
уголок
сбыть
с
души
какое-нибудь
тяжелое,
непривыч
ное
впечатление» (354).
Илья
Ильич
ме чта л, «обняв жену за талью,
углубиться
с
ней
в
бесконечную
темную
аллею;
идти
ти хо,
задумчиво,
молча
или
думать
вслух,
мечтать,
считать
мину ты
счастья
как
биение
пульса
...
искать
в
природе
соч ув стви я...» (140).
Все
это
осу
ществилось
в
ж изни
Штольцев:
и
прогулки
по
аллеям
«Он
повел
ее
за
талию
опять
в
аллею»
—
355); и молчаливое взаимо
понимание
(«И молчание их было
—
иногда
задумчивое
сча
стье»—351; «...они
молча
сидели
рядом,
глядели
од ними
г лаза ми
и
одной
душой
на
этот
творческий
б леск
и
без
слов
п они
мали
др уг
друга»
—
352); и мысли и мечты вслух («По комна
там
разносились
их
звонкие
голоса,
доходили
до
сад а,
или
тих о
п еред ава ли
о ни,
как
будто
рисуя
друг
перед
другом
узор
своей
112
мечты,
неуловимое
для
я зыка
первое
движение,
ро ст
возникаю
щей
мысли,
чуть
слышимый
шепот
души»
—
351); и общение
с
природой
(«Их чуткие души не могли привыкнуть к этой кра
соте:
земля,
небо,
море
—
все
будило
их
чувство»
—
352).
Што льца м
удалось
и збеж ать
стр а сти : «разгула диким стра
стям
быт ь
не
могло:
все
б ыло
у
них
гармония
и
ти ши на» (351).
И
вместе
с
тем
любовь
их
сохраняла
св ою
сил у
и
не
ста рела ,
поэтому,
например,
Ол ьга,
встречая
мужа,
бросалась
к
нему
на
гру дь
«всегда с пылающими от радости щеками,
с
блещущим
взглядом,
все гда
с
одинаким
жаром
нетерпеливого
счастья,
не
смотря
на
то,
что
уже
пошел
не
первый
и
не
второй
год
ее
за
м уже ст ва» (347).
О дним
сл овом ,
они
достигли
той
«нормы
лю бв и », о которой задумывался когда- то
И лья
Ильич,
и
кото
рую
он
определил
как
«вечное и ровное течение чувства» (160).
Даж е,
казалос ь
бы,
чи сто
обломовская
установка
на
веч ност ь
и
неизменность
не
только
чувств,
но
и
самой
жизни
—
счастли
в ой,
идеальной
жизни
—
находит
отклик
в
идиллии
Штольцев:
«Штольц был глубоко счастлив своей наполненной,
волную
щейся
ж изнь ю,
в
которой
цве ла
не увя д аемая
весна
(вспомним,
как
мечтал
Илья
Ил ьи ч: «... будет
вечное
ле т о...». —
Е. Л.), и
ревниво,
деятельно,
зорк о
возделывал,
бер ег
и
лелеял
ее» (360).
По
сут и
де ла
в
семейном
укладе
Ольги
и
Андрея
ос ущ ест
ви лся
идеал
их
друга;
им
удалось
выстроить
жизнь
в
с оотв ет
ствии
со
своими
представлениями
о
то м,
какою
она
должна
быть.
Гончаров,
описывая
образ
жизни
Штольцев,
неоднократно
н асто йчив о
обр ащае т
внимание
чи тат еля
на
то,
что
эти
люди
у зн али,
что
такое
счастье
в
настоящем
времени,
они
со зна ют
себя
абсолютно
счас тли вы ми.
Но
именно
в
тот
момент,
когда
в
главах,
посвященных
супружеству
Ольги
и
Андр ея,
мотив
осуществленной
гармонии
бы тия
н абир ает
с илу
и
гото в
уже
пр и
да ть
определенную
ине рцию
ч ита тел ьск ому
восприятию,
неожи
данно
возникает
но вая
тема,
существенно
меняющая
смысл
этой
час ти
романа.
Как
ни
п ред усмотри тел ьны
б ыли
Штольцы,
как
ни
старались
они
обуздать
жизнь,
подчинить
ее
своей
воле,
она
все-таки
не
далась
им,
и
они
не
избежали
тех
испы т ани й,
которые
она
им
приготовила.
Они
стол кн ул ись
с
тем,
что
н ев оз можно
п ред уга
д ать
до
ко нца
все
дв ижен ия
человеческой
ду ши
—
ни
в
другом,
ни
в
самом
себе,
потому
что
человек
по
п ри роде
своей
не ожи-
да нен.
Конечного
знания
о
человеке
не
дано
—
Штольцы
опро
метчиво
не
уч ли
этого.
Когда-то,
еще
до
вст р ечи
с
Ольгой,
же нщина
видел ась
Об
ломову
«как идеал,
как
воплощение
целой
жизни,
исполненной
неги
и
торжественного
покоя,
как
сам
п окой » (159).
После
з нак омс тва
с
Ольгой,
когда
она
«минутно являлась в его вооб
ражении,
там
возникал
и
тот
образ,
тот
идеал
воплощенного
покоя,
счастья
ж изни;
это т
идеал
точь-в-точь
был
—
Ольга!
Оба
образ а
сходились,
сходились
и
сливались
в
од ин» (161).
Как
8 Заказ No 299
113
и
Обломов,
Што льц
увидел
полное
совпадение
Ольги
с
и деало м
женщины.
Но
его
идеал
был
совсем
другим:
«Он пророчески вглядывался вдаль,
и
там,
как
в
ту ма не,
появлялся
ему
об раз
чувства,
а
с
ним
и
женщины,
одетой
его
цветом
и
си яю щей
его
крас
ками,
о браз
такой
простой,
но
светлый,
ч истый. ..
С начала
ему
снилась-
в
э том
об разе
будущность
женщины
вообще;
когда
же
он
увидел
потом,,
в
в ыр осшей
и
созревшей
Ольге,
не
только
роскошь
расцветшей
к расот ы,,
но
и
силу,
готовую
на
жизнь
и
жажду щу ю
разу мени я
и
борьбы
с
жизнью,
все
за да тки
его
мечты,
в
нем
возник
давнишний,
почти
забытый
им
образ
любви,
и
стала
сн ить ся
в
этом
об разе
Ол ьга» (3491—350).
Для
Обломова
Оль га
оказывается
воплощением
«торжест
венного
покоя»,
а
для
Штольца
—
с и лы, «жаждущей борьбы
с
жи зн ь ю», и какое бы богатое содержание эти две формулы
ни
вмещали
в
себя ,
они
все-таки
остаются
фо рмул ами ,
тщетно
претендующими
на
полное
определение
человека.
Уже
сама
противоположность
оценок
не
может
не
насторожить:
за
э тим
кроется
указание
если
не
на
ошибочность
их,
то
по
крайней
ме ре
на
односторонность,
неполноту,
несостоятельность
в
во
про се
и счер пы ваю щей
интерпретации
личности.
И
действительно,
в
Ольге
от крыло сь
то,
че го
не
подозревали
в
ней
ни
Об ломов ,
ни
Штольц,
ни
да же
она
сама.
Среди
с пок о йной,
счастливой,
наполненной
жизни
ее
стал и
посещать
«смущение,
боязнь ,
том
ление,
как ая-то
глухая
грусть», ее беспокоили «какие-то
смут
ные,
туманные
во прос ы», она замечала,
что
душа
ее
«просит и
ище т
че го- то» (354).
Ольга
испытывает
тоску,
которая
вызвана
не
какими-то
житейскими
дел ами
—
на
житейском
уров не
все
в
ее
ж изни
благополучно.
Это
тоска
сове ршен но
иного,
м етаф и
зического
свойства.
Штольц
определил
ее
как
«грусть души,
вопрошающей
жизнь
о
ее
та йн е» (357).
Поняв
природу
этого
чувства,
Штольц
усп ок аи вает
Ольгу: «Мы неТитаны с тобой...
мы
не
пойдем,
с
Манфредами
и
Фаустами,
на
дерзкую
борьбу
с
мятежными
вопросами,
не
примем
их
вы зова ,
склоним
головы
и
смиренно
переживем
трудную
м и н уту» (358).
Есть
вечные
вопросы,
над
которыми
бьются
л юди
во
все
вре
м ена
и
которые
никогда
не
дают
им
покоя.
В
са мой
природе
человека
—
задаваться
этими
вопросами,
и
поиски
ответов
на
них
всегда
мучительны;
Ів
этом
смысле
че лов ек
обречен
на
муки.
Можно
не
б ыть
Фаустами
и
Манфредами,
можно,
как
Штольц,
сознательно
отк азат ься
от
р еше ния
эт их
вопросов,
но
вед ь
все
равно
они
трев ожат
и
сму ща ют
душу
и
ук рыт ься
от
них
не
дано,
именно
поэтому
Штольц
п ре длаг ает
Ольге
стоиче
ск ую
по з ицию
—
есть
к
чему
относиться
стоически.
Ш тольц ы
стал кивают ся
с
тем,
что
невозможно
жить,
мыслить
и
при
этом
не
страдать,
недаром
Андрей
говорит,
что
горечь,
которая
му
чает
Ольгу,
это
«расплата за Прометеев огонь» (358).
Ощущение
своей
причастности
к
общечеловеческим,
мировым
проблемам
неизбежно
ведет
к
переосмыслению
собственной
ча
стной
жизни,
относительность
г армон ии
которой
становится
оче
114
видной.
На
уровне
обыденной
житейской
правды
сча стье
Штоль
цев
бесспорно.
Но
взглянув
на
сво ю
жизнь
не
как
на
замкнутое
в
самом
се бе
существование,
а
как
на
ч асть
ж изни
в селе нско й,
изменив
ма сшт аб
видения
и
оце нив
свою
жизнь
как
п ребыв а
ние
в
мире,
а
не
в
доме,
осознав
свои
взаимоотношения
с
этим
миром,
они
обнаруживают,
что
полное ,
ни чем
не
омраченное
счастье
вообще
недостижимо.
Инте р есн о,
что
Гончаров
п осел ил
Штольцев
на
юж ном
бе
рег у
Крыма.
Обр аз
юга
был
чр езвы чайн о
значим
для
русских
романтиков;
с
ним
часто
св язы ва лся
мотив
бегства,
спасения,
ос во бо жде ния,
п реод олен ия
ко нфликт а
с
действительностью13.
Осмысленное
в
свет е
эт ой
традиции
пребывание
Ольги
и
Ан д
рея
именно
в
Крыму
на полняе т ся
особым
з на чени ем.
Они
как
будто
действительно
свободны
здесь
от
бед,
горя,
несч аст ий
-(вспомним «Тавриду»
Батюшкова:
Под
небом
сладостным
полуденной
страны
Забудем
сл езы
ли ть
о
жре бии
жесто ко м...)
Но
сознание
того,
что
м ир,
оставленный
за
пределами
этой
страны,—
мир
трагический,
их
не
покидает,
и
более
т ого,
они
понимают,
что
им
не
избежать
суровых
ис пыт а ний:
«Она (Ольга.—
Е.
Л.)
боязливо,
вслед
за
мужем,
глядела
в
да ль
жизни,
туда,
где ,
по
словам
его,
настанет
пора
„испытаний“,
где
жду т
„горе и
тр уд “...
там
видела
она
цепь
ут рат,
лишений,
омываемых
слезами,
неиз
бежных
жертв,
жизнь
поста
и
невольного
отречения
от
рождающихся
в
праздности
прихотей,
во пли
и
ст оны
от
новых,
теперь
неведомых
им
чу вств » (359).
Зд есь
мы
внов ь
ст ал ки ваемся
с
тем,
что
различные
решения
одного
и
то го
же
вопроса
—
вопроса
о
возможности
обретения
гармонии
в
результате
ухода
из
большого
мира
в
ма лый
—
об ус
ловлены
различиями
жанров,
которые
этим
вопросом
задаются.
Друж еск ое
послание
може т
просто
прои г нори рова ть
всякую
конфликтность
д вух
миров;
как
отметил
Ю.
В.
М анн,
ос обе н
ность
этого
жанр а
состоит
в
т ом , «что в нем бегство
—
от
шу ма,
от
светской
жизни
—
обосновывалось
п рогра ммн о,
как
необхо
димый
шаг ,
который
должен
совершить
и
по эт
и
его
друг,
адресат
послания
...
Это
вовсе
не
разрыв,
не
конфликт,
но
скорее
„вдохновенное и уютное отъединение поэта от общества
и
людей“ 14.
Это
наслаждение
спокойствием,
тиш ино й,
не
без
налета
с ам од ово льст ва»15.
Сейчас
и
здесь
существующий,
в
высшей
с тепе ни
конкретный
счастливый
мир
др ужес ко го
по
слания
если
не
отмен яет,
то
возводит
большой
мир
в
ту
ст епень
абст рак тн ост и,
отдаленности
—
во
времени
и
пространстве,—
когда
сознание
о каз ывает ся
способным
легко
от
н его
отк азать с я
вообще.
В
элегии
уход
из
большого
мира
всегда
как
бы
спровоциро
ван
сам им
этим
миром,
гер ой
вынужден
у йти
от
той
б оли,
кото
рую
причиняет
ему
э тот
мир,
а
разрыв
ле гко
не
д ается .
З десь
возникает
сит уац ия,
подразумевающая
необходимость
выб ора ,
8*
115
поэтому
она
уже
конфликтна.
В
наиб ол ее
обобщенном
ви де
ко нфлик т
э тот
можно
обозначить
как
конфликт
двух
типо в
бы
тия.
В
пр еделах
частной
судьбы
он
поддается
преодолению.
Но
именно
разрешимость
его
в
результате
осуществленного
выбора
в
рамках
отдельной
человеческой
жизни
предполагает
невоз
можность
его
разрешения
в
более
универсальном
масш т абе
жизни
во об ще,
ибо
в
этом
измерении
само
наличие
выб ора
по др азу мев ает
не
что
ин ое
как
сосуществование
дв ух
в р аждеб
ных
др уг
др угу
с тих ий,
ни
одна
из
которых
не
в
состоянии
пр е
одолеть
другую.
В
отличие
от
лирического
героя
элегии,
герой
романа
не
может
освободиться
от
этого
к онфлик та
ни
на
каком
уровне,
потому
что
его
ч аст ная
жизнь
лишена
автономии,
она
рано
или
поздно
обнаружит
св ою
с вязь
с
миром,
свою
зависимость
от
мира
и
одновременно
ответственность
за
него.
Поэтому
герой
романа
обречен
на
то,
ч тобы
вечно
воплощать
свой
идеал
и
никогда
его
не
воплотить
—
такова
ло гика
этого
жан ра.
История
семейной
жи зни
Штольцев
показала,
что
осуществ
лен ная ,
воплощенная
эст ет ическ ая
гармония
утрачивает
св ой
абсолютный
характер,
присущий
ей
в
сфере
художественной,
потому
что
га рм ония
жизни
—
явле ние
и ного
свойства,
она
под
р азум ев ает
не
то лько
н аслажд ени е,
но
и
ст ра да ние.
Ит ак,
роман
Гончарова
продемонстрировал,
что
всякая
по
пытка
организовать
жизнь
в
соответствии
с
з ако нами
искусства
ведет
к
неу дач е.
Во-первых,
п от ому,
что
взгляд
на
жизнь
сквозь
призму
литературной
традиции
ок азыв ается
неспособен
охва
тить
ни
чужое,
ни
собственное
сознание
во
всем
многообразии
и
противоречивости
его
прояв л ен ий
(поэтому первыми прегра
дам и
на
п ути
к
во пл ощ ению
мечтаемого
мира
стали
про тот ипы
тех
образов,
которые
этот
мир
на се лили
—
Ольга,
Штольц,
сам
Илья
Ильич).
А
во-вторых,
по тому,
что
жизнь
не
д ает
в озмож
нос ти
обойти
те
объективные
з ак оны,
которые
ж анр
предпочи
тае т
и
им еет
право
не
замечать.
При
вс ей
несо мненно й
цен
нос ти
той
роли,
которую
искусство
играет
в
жизни
людей,
су
щес тв ует
некий
пре дел ,
за
которым
оно
перестает
б ыть
плодо
творным
для
человека.
Оно
о каз ывает ся
бессмысленным,
как
толь ко
начинает
противопоставлять
се бя
живой
жизни.
Жи знь
закрывает
к
себе
доступ
тому,
кто
сам
от
нее
отвернулся.
Судьба
И льи
Иль ича
Обломова
—
свидетельство
этому.
Но
замечательно,
что
не
это
ок онч ат ельн ый
приговор
ге рою.
Гончаров
описывает
могилу
И льи
Ильича
в
духе
той
самой
по
этической
традиции,
которая
б ыла
так
близ ка
ге рою:
«Что же стало с Обломовым?
Где
он?
Где?
—
На
бл ижай шем
кладбище
под
ск ромн ой
урной
покоится
тело
его,
между
кустов,
в
затишье.
Ветви
сир ени ,
по с аже нные
дружеской
рукой,
дре мл ют
над
м ог илой,
да
безмятежно
пахнет
пол ынь.
Ка жется ,
сам
ангел
тишины
охр ан яет
сон
его» (376).
116
Это
как
бы
выраженное
в
слове
впечатление,
которое
Илья
Ильич
произвел
на
ж изнь,
и
своего
род а
реабилитация
героя
автором.
Са ма
жизнь
сохранила
и
ок азал ась
способной
проя
вит ь
то
поэтическое
начало,
которое
бы ло
заключено
в
Илье
Ильиче
Обломове.
И
зд есь
сказались
те
сложн ые
взаимоотно
ш ения
между
поэзией
и
жизнью,
которые
не
сводятся
к
одно
значному
противопоставлению
одного
другому,
но
которые,
мо
жет
быть,
можно
об озна чить
т ак:
жи знь
не
сводима
к
п оэзи и,,
но
она
и
поэзия
то же.
Примечания
1 Гончаров И.
А.
Обломов.
Л.,
1987. — Все
ссылк и
в
тек сте
на
э то;
издание.
2 Цит.
по:
К оше лев
В.
К онс та нтин
Батюшков.
Странствия
и
страсти,
М ., 1987.
С.
123.
3 Батюшков К.
Н.
Опыты
в
стихах
и
прозе.
М., 1977.— Все
сс ылки :
в
тексте
на
это
издание.
4 Жуковский В.
А.
Собр.
со ч.:
В
4т.
Т.
1.
М.;
Л.,
1959.— Все
ссылк и
в
тексте
на
это
издание.
5 Пушкин А.
С.
Поли.
собр.
соч .:
В
10 т.
2-е
изд.
М.,
1959.— Все
ссылки
в
тексте
на
это
издание.
5 Грехнев В .
А.
Лирика
Пушкина:
О
по этике
ж анров.
Горький, 1985,
7 Вяземский П .
А.
Соч.:
В
2т.
Т.
1.
М. , 1982.
С.
60.
8 Грехнев В .
А.
Указ.
со ч.
С.
27.
9 Жан -П оль.
Приготовительная
школа
эстетики.
М. , 1981.
С.
263.
10Манн Ю.
В.
Поэтика
русского
рома нт изма .
М. , 1976.
С.
148.
11 Грехнев В .
А.
У каз.
со ч.
С.
51.
12Бахтин М.
М.
Эпос
и
роман//Бахтин
М.
М.
Вопросы
ли тер ату ры
и
эстетики.
М. , 1975.
С.
479.
13 Об этом см.:
Ко р овин
В.
И.
Романтизм
в
русской
литературе
пе р
вой
половины
XIX—20- х
го дов
XX века//И сто ри я
ром ан тизм а
в
рус ск ой
лит ератур е/О тв.
р ед.
А.
С.
Курилова.
В
2т.
Т.
1.
М. , 1979.
С.
209—212.
14 Винокур Г.
О.
Избранные
работы
по
русскому
языку.
М.,
1959,
С.
375.
15Манн Ю.
В.
У каз.
соч .
С.
145, 148.
П.
Е.
БУХАРКИН
«ОБРАЗ МИРА,
В
СЛОВЕ
ЯВЛЕННЫЙ»
(Стилистические проблемы « О б ло мо ва»)
Понимание
неразрывной
свя зи
между
категориями
стиля
и
ж анра
—
общее
место,
банальность
современной
науки
о
ли
тературе.
Особенно
т есно
сопряжено
прозаическое
слово
XIX в.
с
жанром
романа:
не
случайно
вдумчивый
анализ
романа
часто
заставляет
внимательно
вглядываться
в
сти ль
и,
напротив,
ис
следование
стиля
приводит
к
изучению
особенностей
романного
жа нра! .
Глубоко
содержательное
понимание
литературного
стиля,
ведущее
к
осмыслению
внутренней
сущности
художе
ственного
т екста,
находит
в
последнее
время
все
больше
и
больше
сторонников.
Однако
мно г оч исленно сть
работ
такого
ро да
не
о зн ачает
полной
исчерпанности
данного
аспекта
изуче
ния
русской
пр озы
XIX в.
Еще
осталось
немало
белых
пятен,
невысветленных
фигур.
К
ним
относится,
в
частности,
И.
А.
Г он
чаров.
Н ельзя
сказать,
что
Гончаровым
не
занимались.
Привлекал
внима ние
и
стиль
писателя.
И
все
же
не
вполне
проясненными
остаются
сти ли стичес ко е
своеобразие
его
творческой
манеры,
место
гончаровских
р ома нов
в
истории
как
русских
прозаиче
ских
ст ил ей,
так
и
русского
романа.
При
обращении
к
изучению
ст иля
какого-либо
отдельного
литературного
произведения
возм ожн ы
два
п одход а.
Первый
со сто ит
в
тщательном
и
всеохватывающем
анал и зе
т екста
(бу
дет
ли
это
произведение
полностью
или
отдельный
его
фраг
мент,
неважно).
При
нем
постигается
целостный
ху до жест вен
ный
мир
сочинения,
раскрываются
соотношения
элементов,
с ти
листическое
ед инст во
текста.
Своего
рода
образцовым
приме
ром
такого
стилистического
ан али за
может
служить,
если
вести
речь
в
масш т абах
евр оп ейско й
науки,
книга
Эриха
Ауэрбаха
«Мимесис» .
Второй
подход
пр едпо лагает
не
последовательное
иссле
дование
всех
уровней
стиля,
а
сосредоточение
на
каких-то
оп ре
деляющих,
у зловых
проблемах.
В
конечном
счете
и
он
приводит
к
освещению
стиля
произведения
в
целом:
углубление
в
какую-
ни будь
час тно сть ,
если
оно
дей ств ен но
и
по дл инно
науч но
(что,
впрочем,
од но
и
то
же)
ведет
к
вы в одам
широким
и
общим.
К
тому
же
проблемный
анализ
им еет
и
некоторое
преимуще-
<© П.
Е.
Бухаркин, 1992.
118
ств о:
он
бывает
подчас
более
острым,
более
концептуальным,,
чем
целостный
разбор,
иногда
оборачивающийся
определенной
в ялос тью
и
интеллектуальной
пресностью.
Две
проблемы
оказываются
центральными
при
обращении
к
стилю
«Обломова»: 1) отношение Гончарова к стилистиче
ским
традициям,
прежде
всего
пу шкин ск ой
и
гоголевской;
2) связь стиля с романной формой .
Проблемы
эти
тесно
с вя
з аны
между
собой,
и
их
решение
в
«Обломове»
обусловлено
глу
б инны ми
основами
гончаровского
творчества.
П редс тав ля ется
поэ том у,
что
их
рассмотрение
раскроет
и
сти ли стичес кое
свое
о бр азие
знаменитого
романа,
и
его
м есто
в
движе нии
рус с кой
прозы.
Простота
и
непринужденность
—
без
сомнения,
приметней
шие
особенности
повествовательной
манеры
«Обломова» . « Нет
там
моря,
нет
вы со ких
го р,
скал
и
пропастей,
или
дремучих
лесов
—
нет
ничего
гра нд иозн ог о,
дикого
и
угрюмого»2—
это-
описание
Обломовки
т очно
ха рак теризу ет
ст иль
романа
в
це
ло м,
ро м ана,
где
все
рез ко
выделяющееся,
бьющее
в
глаза
т ща
тельно
избегается.
Вот
характерный
и
типичный
о бр азец
этого1
слога:
«Полдень знойный;
на
неб е
ни
облачка.
Солнце
стоит
н епод вижно -
над
головой
и
жжет
т раву.
Воздух
перестал
струиться
и
висит
без
движе
ния.
Ни
дерево,
ни
во да
не
шелохнутся;
над
деревней
и
пол ем
лежит
не
возмут им ая
тишина
—
все
как
будто
вымерло.
Звонк о
и
далеко
раздается:
человеческий
го лос
в
пустоте.
В
д вад цати
са женях
слышно,
как
пролетит
и
про жу жжит
жук ,
да
в
густой
траве
кто-то
все
храпит,
как
будто
к то-
нибудь
завалился
ту да
и
сп ит
с ла дким
с н ом» (4, 115—116).
Перед
нами
не
впечатляющий
и
к расочн ый
литературный
пейзаж
в
дух е
романтизма
или
Тургенева,
а
простой, «разго
во рный»
рассказ.
Уже
пер вая
фраза,
состоящая
из
двух
крат
ких
простых
предложений,
объединенных
бессоюзной
связью,,
со з дает
ритм
повествования,
главное
в
котором
—
естествен
нос ть.
Второе
предложение
—
простое,
но
осложненное
однород
ными
пр едикатам и
—
смягчает,
за ме дляет
д виже ние
реч и,
п ри
дает
ему
большую
плавность.
Тако ва
же
роль
и
третьего
—
идентичного
предыдущему.
Четв е ртая
фраза
продолжает
разви
тие
этого
спокойного
ритма:
она
состоит
из
трех
простых
пр ед
ложений,
со ед иненных
бессоюзной
св язь ю.
За тем
—
самое
клас
сическое
простое
пр ед ложе ние
с
определительными
и
обстоя
тельственными
членами.
И
з аве ршае тся
все
с л ож носочи не нной
фразой,
пер вая
и
вторая
часть
которой
осложнены
однотип
ными
подчинительными
пр едл оже ниям и.
Свободно
чередуются
здесь
си н такси чес кие
конструкции
ра зн ого
тип а,
но
все
же
огра
ниче нные
известными
пре де лам и,
ос таю щи еся
в
об лас ти
не при
нужденной
и
раскованной
беседы.
Конечно,
вст реч аю тся
в
романе
предложения
более
сложные,,
распространенные,
состоящие
из
4—5
частей.
Но
и
в
этих
с лу
1.19?
ча ях
синтаксическая
структура
остается
по
существу
простои;
сложное
цел ое
распадается
на
простые
составляющие:
«Штольц был немец только вполовину,
по
отц у:
мать
его
была
р ус
ска я;
веру
он
исповедовал
православную;
природная
речь
его
была
русская:
он
учился
ей
у
матери
и
из
книг,
в
университетской
аудитории
и
в
играх
с
деревенскими
мальчишками,
в
толках
с
их
отцами
и
на
м оско вски х
база
ра х» (4, 158).
Эта
сложносочиненная
ф раза
состоит
из
пяти
пр ост ых
п ред
ложений.
Од ни
из
них
—
нераспространенные
(«мать его была
р усс ка я»),
другие
более
развернуты,
например,
последнее,
с
мерным
повторением
об стоя тельс тв ен ных
членов,
с
па рал ле
лизмом
скрепляющего
их
союза
«и» .
Бессоюзная
связь,
объеди
няющая
эти
пр едло жен ия
в
од но
целое,
менее
действенна,
чем
союзная,
пау зы
между
отдельными
пре д ложе ниям и
гл уб же.
Не
возникает
ощущения
чег о- то
сложного
и
ухищренно
построен
ного,
скорее
наоборот:
связанные,
но
все-таки
отдельные
пр о
сты е
части.
Это
оче нь
напоминает
разговор.
Кстати,
на
не го
указывает
и
бессоюзность,
особенно
свойственная
как
раз
р аз
говорной
ре чи.
К
эт ой
же
области
пр ивычн ог о
и
ест ест вен но го
пр инадлеж ит
и
лексика
романа
—
литературно
нейтральная,
не
привлекаю
щая
внимания.
Разве
что
из р едка
промелькнет
не
вполне
обычное,
может
быть,
слишком
разговорное
слово
—
«храпит»,
«завалился» . Да
и
то
после
Гоголя,
после
«натуральной школы»
особой
экспрессии
слова
эти
не
содержат.
Лексич еск ая
про
стота,
отсутствие
поэтических
изысков
в
высшей
степени
свой
с тве нны
ст илю
«Обломова» .
Мало
в
нем
метафор,
не много
и
эп ите то в: «большой дом», «приятная наружность», шаткая эта
же р к а », «серый сюртук», «настойчивый взгляд», «пожилой гос
по дин », «практический урок».
Эпитеты
эти
призва ны
не
по
разить,
а
объяснить,
уточнить,
при
этом
передающиеся
ими
состояния
и
свойства
самые
что
ни
на
есть
знакомые.
Такая
стертость
сохраняется
и
в
том
с луча е,
когда
появляются
не
сколько
эпитетов
с ра з у: «тяжелые,
неграциозные
ст ул ь я», «бар
ск ого
широкого
и
покойного
б ыта », «считали ее простой,
н еда ль
ней ,
неглубокой».
Р ече вая
ненавязчивость,
спокойное
движе ние
пове ст вова ния
сохраняются
и
здесь,
все
да ется
с
опорой
на
самый
не прит яза тел ьный
ра зго вор.
Отсу тс твие
эффектов,
св оео бр азная
обыденность
особенно
з аметн ы
в
описаниях
природы:
«Уже полдень давно ярко жег дорожки парка .
Все
сидели
в
те ни,
лод
холстинными
навесами;
только
няньки
с
детьми,
группами,
отважно
хо
дили
и
сид ели
на
траве,
под
полуденными
лучами» (4,223).
Данный
пейзаж
сл еду ет
после
любовного
объяснения
гла вн ых
героев,
но
их
взволнованность
не
влияет
на
ви ден ие
окру жа ю
щего:
непотревоженное
и
весьма
трез вое .
Так
же
бу дет
и
даль ше,
в
других
немногочисленных
пейзажах
ро ма на: «Листья
■облетели,
видно
все
насквозь,
вороны
на
деревьях
кричат
так
120
неприятно.
Впрочем
яс но,
де нь
хорош,
и
если
зак утаться
хор о
шенько,
так
и
тепло» (4,338).
Уже
осень
—
не
толь ко
в
при
роде,
но
и
в
отношениях
между
влюбленными.
Обломов
нач и
нает
тяготиться
своей
любовью.
Но
изображение
природы
и
зде сь
то
же:
заурядно,
без
эм оций,
просто.
И нтона ция
устной,
речи ,
некоторая
обрывочность,
свойственные
безы ску сств енн о й
беседе,
отчетливо
звучат
в
последней
ф разе
с
ее
«впрочем»,
час тым и
п ау зами
(вызванными запятыми), сугубо разговорной
концовкой
—
«так и тепло».
Простота
и
гибкость,
разнообразие
в
п р еделах
бытовой
речи
—
то,
что
отличает
повествовательную
манеру
«Обло
мова»—
проявляются
не
только
в
речи
автора,
но
и
его
гер ое в.
Конечно,
речь
последних
индивидуа л изи р ова на ,
есть
у
них
с вои
излюбленные
словечки
и
обороты.
Но
основа,
ф он,
на
котором
выступает
личностное
своеобразие,
те
же,
что
в
подсистеме
ав
торской
речи.
«Все знаю,
все
пон имаю ,
но
силы
и
во ли
нет .
Дай
мне
воли
и
ума
и
ве ди
меня
к уда
хочешь.
За
тобой
я,
мож ет
бы ть,
пойду,
а
оди н
не
с двин усь
с
ме ста » (4, 189).
Это
сл ова
Обломова,
его
ре плик а
в
напр яже нно м
и
страстном
разговоре
со
Штольцем.
Но
речь
его
отливается
в
те
же
фразы,
естествен
ные
и
простые,
что
и
авторское
повествование.
Да,
гер ои
«Об
ломова»
—
разные
люди,
но
они
сти ли стичес ки е
единомышлен
ники.
Слово
автора
и
слово
его
героев
имеют
од ин
общий
«фундамент,
гл уб око
уходящий
в
бытовую
повседневную
речь»3.
Впрочем,
безыскусственность
стиля
«Обломова»
на
самом'
дел е
иску сн а.
Заботливо
из бег ает
писатель
повторов,
разнооб
ра зит
инт о наци он ный
рисунок
предложения.
Приведенные
выше
примеры
показывают,
как
это
делается:
простые
предложения'
чер еду ютс я
с
более
сложными,
сочинительная
связь
сменяется'
подчинением.
Эти
смены
смягчают
отрывистость,
в
то
время
как
обилие
кратких
фраз
стя ги вает
повествование,
сохраняет
свой
ственный
всему
роману
упругий
ритм,
не
да ет
ему
растекаться^.
Уделяется
немало
внимания
и
звуковой
инструментовке.
Иногда
возникают
даж е
со зву чи я: «Слушая постукивание маят
ника,
треск
кофейной
мельницы
и
пе ние
кана ре ек» (4, 350)..
Н астой чив о
повторяется
глухой
согласный
«к»
—
«постукива
ние», «маятника», «треск», «кофейной», «канареек».
А
в
сло ве
«канареек»
—
обрамление
звуком
«к», и широкое течение глас
ных
а—а—ее
—
все
со з дает
ощущение
конечного
звукового
аккор да,
торжественно
и
гармонично
завершает
фр азу.
За
ка
жу щейс я
простотой
ск ры вает ся
из ощрен ное
мастерство,
чувст
вуется
опытная
рука
знаменитого
ро ма нис та.
Это
мастерство
прекрасно
ощущалось
современниками
пи
сат ел я,
не
раз
отмечавшими,
что
проза
Гончарова
—
б ли ста
тел ьное
искусство,
сознательно
рядящееся
в
простые
одеж ды .
Пожалуй,
перв ым
сказал
об
этом
В.
Г.
Белинский.
И
подобный
взгляд
на
гончаровский
стиль
по
сущ ес тву
доминировал
на
протяжении
многих
десятилетий.
Так,
например,
поч ти
одно -
121:
временно
с
Белинским
В.
П.
Боткин
писал
об
«Обыкновенной
истории»
следующее
(кстати сказать,
в
письме
к
то му
же
Бе
линскому): «...
по вест ь
Гончарова
просто
пора зи ла
меня
своею
свежестью
и
простотою...
Эт ой
изящной
легкости
и
мастерству
рассказа
я
в
русской
литературе
не
знаю
ничего
подобного»4.
В
ко нце
столетия
подобное
представление
о
стиле
Гончарова
перешло
и
в
филологические
исследования.
Особенно
подробно
под
таким
углом
зрения
стиль
п исател я
был
изучен
Андре
Ма
зоном
5.
Однако
ест ест вен но
возникающий
вопрос
об
историче
ских
истоках
этого
стиля
оставался
обойденным
и
не
привлекал
достаточного
внимания.
Несомненно,
повествовательная
манера
Гончарова
г л убоко
ор игиналь на,
но
она
возникла
не
в
стороне
от
путей
русского
прозаического
слова,
опиралась
на
опреде
ле нные
тра диции,
им ела
св ои
источники.
Од ним
из
них
был
речевой
бы т,
та
речевая
среда,
что
сформировала
яз ыко вое
сознание
писателя6.
Но
б ыли
источники
и
лит ера ту рные :
с ози
дая
свой
стиль,
Гончаров
ориентировался
и
на
чис то
художе
ственные
образцы.
Первое
место
из
них
пр инад леж ал о,
бе с
спорно,
Пушкину.
В
Пушкине
Гонч ар ова- ст илист а
п ри влекали
предельная
тр ез
вость,
о тсу тс твие
вс яческ их
эффе кт ов,
простота.
«Пушкин
—
рассказ ы вает 7» —
хара ктери зов ал
пушкинскую
прозу
Б.
М.
Эй
хенбаум.
Это
«искусство,
рассказывания»,
интонация
ус т ного
повествования
с
ее
ненарочитостью
несомненно
ведут
к
гонча
ров ск ой
повествовательной
манере.
Конечно,
между
этими
двумя
прозаическими
ст илям и
весьма
много
от лич ий.
Проза
Пушкина
несравненно
строже
и
суше,
логичней.
Ритм
ее
стр еми тель ны й
и
у пр угий,
«ее идеал и предел
—
нер ас прос тр ане нное
простое
предложение»8.
Стиль
«Обломова»
гораздо
мягче,
в
нем
больше
воздуха
и
меньше
целеустремленного
л ако низ ма.
Это
как
бы
•сочетание
пу шкин ско й
прозы
с
«непринужденным совершен
ством»
его
же
поэзии9.
Как
ни
странно,
прозаик
Гончаров
ин
тересовался
прежде
всего
стилем
Пушкина-поэта.
И
не
слу
ч айно
в
поисках
предшественников
писателя
критики
ук азыв али
именно
на
поэзию
Пушкина,
не
случайно
А.
В.
Дружинин
го
ворил
«о влиянии поэзии Пушкина,
л юбим ейшег о
из
его
(Гон
ча р ова.—
П.
Б.)
у чи тел ей »10, на самые основы гончаровского
творчества.
Конечно,
в
сознании
Гончарова,
как
и
других
реалистов
се
редины
XIX столетия,
не
б ыло
размежевания
пу шкин ск ой
по
эзии
от
прозы.
Пушкин
воспринимался
как
единое
целое.
Но
с
точки
зрения
исторической
сти ли стики
влияние
Пушкина-про
заи ка
и
Пушкина-поэта
на
становление
п роза ич еск ого
стиля
ок азы вают ся
различными.
Если
видеть
в
ст иле
способ
по нима
ния
и
воссоздания
жизни,
то
для
прозы
1840—1860- х
годов
важной
была
именно
проза
Пушкина.
В
ней
на ходил и
уд иви
тельную
широту,
умение
включить
в
повествование
ра зные
субъектные
ти пы
сознания.
Этому
учился
у
п у шкинск их
пове-
122
стей,
в
частности,
Достоевский,
да
и
не
тольк о
он:і.
Есл и
же
говорить
о
внеш них
формах
стиля,
о
том,
что
можно
н азва ть
повествовательной
манерой,
то
тут
р ешаю щая
роль
принадле
жит
Пушкину-поэту.
Ка к.
уже
говорилось,
стилистическая
атмо
сфера
«Обломова»
яв но
ориентирована
на
пу шки нску ю
поэ зию. .
Однако
и
глубинные
основы
пу шкин ско го
проза ичес ког о
сл ов а,,
о тр аже нное
в
нем
мировидение
также
не
прошло
для
Гонча
ров а
даром.
Пуш кин ски е
традиции
проявились
не
только
в
со
вершенной
непринужденности
и
естественности
повествователь
ной
ман еры
«Обломова», но и в самых
основах
его
стиля,,
которьіе
заключены
во
фламандстве.
Но
здес ь
они
перекрещи
вались
с
влиянием
иного
плана,
не
менее
мо щным
и
ж изн ен
ным,
с
традициями
Гоголя,
что
приводило
в
результате
к
син
тезу
необычному
и
своеобразному:
тв орчес ки
усв аи вая
уроки
предшественников,
Гончаров
ока зыва лся
особенно
ориги
нальным.
Пожалуй,
именно
фламандство
придает
стилю
«Обломова»
неповторимость
и
редкое
своеобразие.
Что
же
стоит
за
этим
п одр ажан ием
фл ам андским
мастерам,
что
заключается
в
эт ом
понятии,
которое,
впе рвы е
употребленное
А.
В.
Дружининым,
неоднократно
использовалось
в
ра ботах
о
писателе
и
стало-
почти
что
термином?
-С ам
Дружинин
довольно
подробно
р азъ
ясняет
использованное
им
слово:
в
«Обломове», пишет критик,
«нет ничего лишнего,
тут
не
найдете
вы
неясной
черты
или
слова,
сказанного
попусту,
все
мелочи
обстановки
необходимы,
все
законны
и
пр екр ас ны».
Множество
мелких
д еталей
пр ивл е
кает
внимание
писателя,
но
они
«необходимы,
ибо
содействуют
целости
и
высокой
поэзии
глав н ой
задачи.
Тут
сходство
г.
Гон
чарова
с
фламандскими
мастерами
бьет
в
глаза...
„У этих
последних“...
детали
их
созданий
слиты
с
целостью
впечатле
ния ,
не
могут
б ыть
оторваны
от
идеи
картины».
То
же
видим
и
в
«Обломове»: «Видно,
тво ря
малую
частно с ть ,
ху до жник
не
даром
отдавался
ей
всей
душою
своею
и,
д олжно
быть,
творче
ский
дух
его
отражался
во
всякой
подробности
мощного
произ
ведения»12.
Ит ак,
ф лам андст во
—
это
ин тер ес
к
б ыт овым
подробностям,
то,
что
имел
в
виду
П у шкин: «Фламандской школы пестрый
с ор !» Но не только.
В
рассуждении
Дружинина
есть
оче нь
важ
ная
мысль:
о
неразрывной
с вязи
дет алей
с
общей
картиной.
И
действительно,
сущность
фла ман дств а
«Обломова»
и
заклю
чается
в
том,
что
деталей-то
в
романе
собственно
и
нет,
что
все
описываемое
в
нем
и зоб ражае тся
с
одинаковыми
тщательностью
и
вниманием.
З десь
«Обломов»
подхватывает
стилистические
мелодии
«Обыкновенной истории», где впервые проявилось гон
чаровское
фламандство13.
Недаром
в
нем
п очти
дословно
по
вторяется
ча сть
начальной
фразы
предыдущего
романа,
фразы,
123
я вив шейся
своего
ро да
дек лар ацие й
ф л аман дст в а: «Однажды
летом,
в
деревне
Грачах,
у
небогатой
по м ещицы
Анн ы
П ав
ловны
Адуевой
все
в
доме
поднялись
с
рассветом,
нач ин ая
г
хозяйки
до
цепной
собаки
Барбоса»
—
«Обыкновенная исто
р и я» (1, 3); «...Начиная
с
братца
до
це пной
собаки»
—
«Об
ломов» (4,393).
Че ловек ,
животные,
неодушевленные
предметы,
обстановка
оказываются
рав н ыми
в
глазах
повес твова те ля,
в
одинаковой
степени
заслужи в ают
внимания.
Между
ними
легко
перекидываются
мостики,
говоря
о
люд ях,
щедро
захва
тывает
Гончаров
и
я влен ия
ин ого
порядка.
«Прошли чужие,
пролетела
птица» (4, 218)—
т ипич нейш ий
пример
этого
сти ля,
где
люди
и
звери,
важное
и
незначительное
пр ивод ятс я
к
об
ще му
з нам енат елю,
становятся
равнозначными.
Мильтон
Эре,
ха рак тери зуя
структуру
«Обломова», отмечал,
что
в
гончаровском
романе
«ритмы жизни соответствуют рит
мам
природы,
наделяя
роман
свойством
ощутимой
жизни...
Лю
бовь
Обломова
к
Ольге
—
это
любовь
лета.
Она
ув яда ет
ос ен ью,
одновременно
со
смертью
зеленого
мира.
Зи ма
являетс я
свиде
телем
ее
угасания,
а
падающий
снег
безвозвратно
хоронит
на
дежды
Обломова»14.
Параллелизм
такого
рода
действительно
чрезвычайно
х ар актер ен
для
стиля
«Обломова» .
Точнее,
это
не
параллелизм, ■ а
чувство
нераздельности
природы
и
человека,
макро-
и
микрокосмоса,
одушевленного
и
неживого.
Так,
о пи
сывая
внешность
человека,
авт ор
тщательно
живописует
не
только
черты
его
лица,
но
и
детали
одежды:
«В комнату вошел пожилой человек,
в
серо м
сюртуке,
с
прорехою
под
мышкой,
откуда
торчал
клочок
рубашки,
в
сер ом
же
жилете,
с
мед
ными
пуговицами,
с
голым,
как
колено,
черепо м
и
с
необъятно
широкими
и
густыми
русыми
с
про сед ью
бак е нба рда ми,
из
которых
каждой
стало
бы
на
три
бороды» (4,11).
Кстати,
и
в
лице
прежде
всего
ин тер есу ет
писателя
внешняя,
менее
одушевленная
час ть
—
не
гл аза,
не
о бщее
выражение
лица,
а
голый
череп,
б акенб арды .
Чел о век
ок азы ва ется,
тем
са мым,
неразрывно
спаянным
с
миро м
окружающих
вещей,
ста
новится
частью
э того
мира .
Не
случайно
в
изображение
людей
органично
вплетаются,
так
сказать,
животные
мо тив ы.
То
герой
ср авнив ает ся
с
медведем:
«Захар повернулся,
как
медведь
в
берлоге» (4,95).
То
рас ска з
незаметно
переходит
в
повество
ва ние
о
скотном
дворе,
о
птичнике,
что
не
раз
происходит
в
«Сне Обломова», в котором звери
—
равноправная
составляю
щая
обломовской
жизни.
К оне чно,
такое
единс т во
ми ра,
недифференцированное
вос
пр ия тие
действительности
окрашены
в
«Обломове»
в
ирониче
с кие
тона.
Недаром,
вы деля я
бакенбар ды
За хара,
писатель
вно
сит
в
повествование
шутливую
ноту: «...
из
которых
каж дой
ст ало
бы
на
три
бороды».
З десь
—
именно
шутка,
мягкий
ю мор,
обильно
сдабривающий
м ногие
страницы
«Обломова» .
124
Смех
часто
сопровождает
фл ам андст во.
Юмористически
ок
рашенное,
проявляется
оно
в
«Обломове»
широко
и
по-разному.
Не
толь ко
в
соед инен ии
материального
и
духовного,
но
и
в
столкновении
слов
разных
сем ан тичес ки х
г ру пп, «высоких»
и
«низких»: «Обломов всегда ходил дома без галстука и без жи
лета ,
потому
что
любил
простор
и
приволье» (4,8);«Зеркала
...
могли
бы
сл ужи ть
скорее
скрижалями
для
записывания
на
н их,
по
пыли,
каких-нибудь
заметок
на
память» (4,9).
Простор
и
приволье
объединяются
с
жиле том ,
скрижали
существуют
среди
пыли
для
каких-то
з аме ток
—
подобные
неожиданные
со
поставления
позволяют
взглянуть
на
мир
под
необычным,
про-
заически-бытовым
углом
зрения,
по-новому
ощутить
связь
ве
щей
межд у
собой,
у ви деть
внезапное
ед инст во
торжественного
и
приземленного.
Пох ожи м
целям
служа т
также
отн осящ иес я
к
ф л амандст ву
частые
случаи
снижения
повествования,
когда
высокое,
поэтич
ное
внезапно
опускается
на
зем лю.
Вот
Обломов
размышляет
о
стр асти .
Любовь
—
«это фейерверк,
взр ыв
бо ч онка
с
п орохом :
а
потом
что?
Оглушение,
ослепление
и
опаленные
волосы»
(4, 211).
Или
описывается
воодушевление,
с
каким
герой
пише т
.любов н ое
письмо: «...
пе ро
летало
по
ст ра ницам .
Глаз а
сияли,
щеки
горели.
Письмо
вышло
длинно,
как
все
любовные
письма:
любовники
страх
как
болтливы» (4,261).
В
обоих
случаях
про
исходит
прозаизация
традиционно
возвышенного.
Тре звы й
вз ор
повествователя,
практически
приземленная,
бытовая
то чка
зрения
обнаруживает
в
нем
смешное
и
нелепое.
Так ово
фламандство
«Обломова» .
На
первый
взг ляд
оно
весьма
напоминает
Гоголя,
заставляет
вс по мнить
характерные
че рты
гоголевского
стил я.
Еще
Ю.
Н.
Тынянов
отмечал
в
каче
с тве
его
особенности
перечисление
«подряд,
с
одинаковой
инто
н ацией,
предметов,
не
вяжущихся
д руг
с
другом»
І5.
О
сопо
ставлении
несопоставимых
п ред метов
как
о
важном
свойстве
стиля
Гоголя
пише т
и
новейший
исследователь
его
прозы: «Од
ним
из
самых
излюбленных
и
характерных
для
поэтики
Гоголя
приемов
иронического
повествования
бы ло
столкновение
и
объ
еди нен ие
в
одном
ряду
неоднородных
предметов
и
явлений»16.
Не
так
ли
поступает
и
Гончаров,
не
и дет
ли
он
вслед
за
своим
великим
предшественником?
Не т,
несмотря
на
всю
видимую
бл и зость
гончаровского
фл а-
мандства
и
гоголевского
стиля,
перед
нами
—
я вл ения
ра зн ого
порядка.
В
основе
гоголевских
сопоставлений
человека
с
жи вот
ными
или
неодушевленными
предметами
л ежит
осуждающая
мысль,
герой
низводится
на
уровень
скота
или
мебели.
То,
что
Собакевич
был
похож
на
ср едне й
величины
медведя,
свидетель
ствует
о
потере
им
человеческой
души,
о
глубочайшей
замут-
ненности
внутреннего
его
существа.
Характеризуя
стиль
Гоголя
в
целом,
С.
Г.
Бочаров
писал
о
«выпытывании натуры», о «в ы-
щс кан ност и»
как
об
определяющих
чертах
гоголевского
слога.
125
Некий
оттенок
враждебного
преследования
и
выслеживания
со*
стороны
автора
ощутим
в
этом
стиле17.
И
сопоставление
не
сопоставимого
но сит
тот
же
отпечаток
подозрительности,
позво
ля ет
увидеть
то,
что
сокрыто
от
вне шн его
мира,
что
прячется
и
таится
в
глубине.
Совсем
иной
смысл
у
ф л амандст ва
«Обломова» .
Не
прини
зит ь,
а
уравнять,
тесно
связать,
показать
ед инст во
человека
и
окружающего
его
мира.
Все
во
Вселенной
ж ивет
единой,
согла
сованной
жизнью;
лю ди,
коровы,
соба ки ,
зеркала
—
час ть
од
ного
це лог о.
Поэтому-то
человека
можно
назвать
муравьем:
«В воскресенье и в праздничные дни тоже не унимались эти
трудолюбивые
муравьи» (4,115).
Поэтому-то
п р едметы
обс та
новки,
отд ельн ые
детали
вне шно ст и,
животные
так
же
важны
писателю,
как
важнейшие
п ереж ивания ,
мысли
и
чувства
пер
сонажей.
Поэтому-то
смотрит
на
жизнь
Гончаров
нед иффе ре н
цированным
взглядом,
зах ва тыв ая
гл авное
и
в торосте пе нн ое,
равняя
их.
Как
на
кар т инах
ф л амандск их
и
голландских
ху
дожников,
в
«Обломове»
человек
прямо-таки
сл ит
с
ок ружа ю
щей
его
действительностью,
отр ажае тся
в
н ей,
а
она
—
в
н ем.
В
отличие
от
Гоголя
Гончаров
не
осуждает.
Дв иже ние
идет
не
в низ
по
вер тик а ли,
а
вверх,
не
человек
опускается
до
уров
ня
бессловесной
твари,
м ебел и,
или
домашней
ве щи,
а
наоборот,,
мелочи
бы та
поднимаются
до
человека.
И
это
крайне
важно.
Объединяя
«в один ряд неоднородные предметы», Гоголь остав
ляе т
их
неоднородными.
Именно
их
неоднородность,
то,
что
р аз
номасштабные
в ещи
ставятся
рядом,
и
вызывает
убийственный
эф фек т,
направленный
на
иерархически
высший
предмет
сопо
ставления.
А
у
Гончарова
эта
неоднородность
пр опа дае т.
В
м ире
«Обломова»
неоднородные
предметы
оказываются
одно
родными
(хотя эта однородность и ослабляется иронией,
пр и
дающей
ей
определенную
двусмысленность), даются как бы
в
одинаковом
масштабе.
Такая
равномасштабность
предметного
мира
и
отд еляе т'
окончательно
Гончарова
от
Гоголя,
при ближ ая,
в
то
же
время,
к
мир у
пу шки нско й
прозы.
Ве дь
именно
я вле ние
равномасштаб-
ности
лежит
в
основе
поэтики
прозы
Пушкина,
как
убедительно
показал
А.
П.
Чудаков,
выступает
одним
из
определяющих
ее
сво йст в
18.
Конечно,
однородность
повествования
у
Пушкина
и
у
Го н
чарова
весьма
различны.
В
пушкинской
прозе
ра в но мас штаб
ность
дана
открыто,
на
определенном
от ре зке
текста
предметы
не
только
по
существу,
но
и
внешн е
—
одного
из ме ре ния.
В
«Обломове»
же
все
гораздо
затейливее,
не
так
явно.
П у шкин
ская
равномасштабность
пропущена
зд есь
сквозь
призму
гого
левского
стиля
и
сопрягаемые
п р едметы
с
вне шне й
точки
зре
ния
разной
в е личины.
Недаром,
говоря
о
по э тике
прозы
П уш
кин а,
А.
П.
Чудаков
пр оти вопо ст авляе т
ее
именно
Гончарову:
«В крупномасштабный пушкинский пейзаж не может вторг-
126
нуться
явление
мелкое,
например
хлопающая
ставня
или
писк
нувшая
пичужка
в
огромном
засыпающем
лесу,
как
у
Гонча
ров а
(«Обломов»)»19.
Но
дело-то
в
том,
что
в
«обломовском»
стиле
как
бы
нет
мелкого
и
крупного,
все
одинаково:
и
м ален ь
кая
пичужка,
и
ог ро мный
лес.
Внешне
разномасштабные
пред
меты
«обломовского»
мира
внутренне
одномасштабны,
по
мерке
'фламандства
—
все
од ной
в е личины.
Такое
уравнение
разномасштабных
явлений
во
фламандстве
«Обломова»
во
многом
связ ано
с
его
идилличностью.
Харак
теризуя
хронотоп
идиллии,М.
М.
Бахтин
пи сал : «Строго говоря,
идиллия
не
з нает
быта.
Все
то,
что
яв ля ется
бы том
по
отноше
нию
к
существенным
и
неповторимым
биографическим
и
исто
рическим
событиям,
здес ь
как
раз
и
яв ляетс я
самым
существен
ным
в
жиз ни»20.
Ко не чно, «Обломов»
выходит
из
рамок
идил
лии;
есть
в
нем
«неповторимые биографические события» .
Но
■идиллическая основа романа несомненна.
От
нее
и
ид ет
это
внимание
Гончарова
к
мел о чам,
это
умение
заметить
их
важ
ность,
описать
с
тем
же
вниманием,
что
и
я вл ения
событийного
плана.
Итак,
не
только
манера
повес твова ния
«Обломова», с ее не
принужденной
естественностью,
указывает
на
Пушкина.
К
Пу ш
кин у
отсылает
нас
и
фламандство,
вы ра зившее
самые
гл у бин
ные
основы
гончаровского
стиля.
Эта
связь
не
случайна,
тут
не
просто
симпатии
и
ученичество,
а
доста точн о
четкая
позиция,
определенный
выбор:
между
Пу шкины м
и
Гоголем.
Не
раз
и
вполне
спр аве дливо
говорилось
о
вер ност и
Гончарова
гог оле в
скому
направлению,
о
его
п рямой
с вязи
с
творчеством
Гоголя21.
О днако
сам
писатель
вы ска зыв ался
несколько
по-другому:
«Пушкин,
го вор ю,
был
наш
учитель
—
и
я
воспитывался,
так
сказать,
его
поэзиею.
Гог оль
на
меня
влиял
гораздо
поз же
и
ме ньш е ...» (8, 77).
Это
не
пустые
слова:
вызванный
к
жизни
гениальным
гоголевским
даром,
Гончаров,
как
представляется,
■осмотревшись,
отошел
от
творческих
принципов
Гоголя
и
в
по
исках
иной
опоры
обратился
к
пу шк инск им
тр а дициям .
Не
про
ст ое
развитие
художественного
метода,
а
скрытая
полемика,
усвоение
и,
одновременно,
преодоление
—
в от,
пож алу й,
с уть
■отношения Гончарова к гоголевскому искусству .
И
здесь
писа
тель
был
не
о дин ок.
По
существу
такой
же,
по
мнению
С.
Г.
Бо
ч аров а,
бы ла
позиция
и
Достоевского22.
Для
вы шедш их
из
«натуральной школы»
Гончарова
и
До
ст оев ског о,
как
и
для
более
поэт ичног о
Тургенева
ориентиром
и
примером
сл ужил
именно
Пу шки н,
а
не
Гоголь
(при всем их
пиетете
к
нему).
Гоголевская
жес т кос ть,
взгляд
сверху
вниз,
свойственный
отношению
автора
к
г ероям,
в
определенной
мере
от талки в ал.
Реалистам
середины
столетия
не
хва тало
у
Гоголя
мягкости,
умения
допустить
в
св ой
мир
жи вых
людей
с
их
соб
ственными
голосами,
не
хв ата ло
«протеизма», то есть того,
что
в
изобилии
б ыло
у
Пушкина.
Им енно
у
Пушкина
Гончаров
на-
127
учился
быть
писателем,
который,
воспользовавшись
словами
Д р у ж ин ин а, «ласково отнесся к жизни действительной»23.
Гончаровское
фламандство
глу бо ко
оригинально.
Однако
оно
достаточно
органично
вписывается
в
об щее
развитие
русской
литературы.
В
нем
отчетливо
проявилась
та
эпичность
«Обло
м ов а», какую писатель считал важнейшей чертой своего та
ланта.
Тяготение
к
эпосу,
изображение
колле кти в но сти
народ
ного
сознания,
поглощающий
все
ин тер ес
к
родине
в
це лом
—
ва жне йшие
черты
вел ик ой
русской
прозы
XIX столетия.
Столь
разные
худ ожн ик и,
как
Пу шкин,
Гоголь,
Островский,
Некрасов,
Л.
Толстой,
каж дый
по-своему,
воплощали
ид еи
внутренней
мо
нолитности
н ар ода,
его
положительные
идеалы,
показывали,
как,
несмотря
на
центробежные
сил ы,
русские
люди
сохраняют
потенциальное
единство,
возможность
слиться
в
о дно
целое24.
Среди
этих
эпических
писателей
одно
из
первых
мест
занимает
Гончаров.
У
него
эпичность
перерастает
границы
только
че ло
веческого
общества,
распространяется
на
мироздание
в
целом.
Созданное
им
ф лам андст во
запечатлело
не
просто
цельность
н ар ода,
но
и
целостность
мира
вообще,
ми ра,
где
нет
ничего
отчужденного,
где
нет
перегородок,
мира,
живущего
од ной
жизнью.
Гончарова
счи та ли
выдающимся
бытописателем,
ху
дожником,
раздумывавшим
над
судьбами
России
и
ее
народа.
Но,
ду мает ся,
он
был
к
тому
же
и
философом
в
более
широком
и
прямом
смысле
слова.
В
«Обломове»
по
существу
отсутствуют
отвлеченные
философские
споры,
нет
и
серьезной
авторской
мысли
такого
рода.
Но
художественно,
образно,
посредством
ф л амандст ва
Гончаров
ясно
и
отчетливо
выражает
идею
един
с тва
всей
в сел енно й,
в ыраж аясь
научным
языком,
органических
и
неорганических
ее
элементов.
Не
нужно
забывать,
что
прой
дет
всего
несколько
десятилетий
пос ле
«Обломова», и в России
появится
В.
И.
Вернадский,
научные
и деи
которого
окажутся
очен ь
и
очень
созвучными
худ оже ств ен ной
философии
фламанд
ства.
Мир
«Обломова»
оказывается
миром
большого
философ
ского
напряжения.
«Невозмутимый строй во всем» (Тютчев), свойственный фла-
мандству,
связан
с
эпосом
и
идиллией.
Он и,
слив аясь,
и
приво
дят
к
недифференцированному,
все
в
рав ной
мере
ох в аты ваю
ще му
взгляду
на
мир,
л ежа щему
в
основе
«обломовского»
фла
мандства.
Впрочем,
эпическое
начало
лежит
в
основе
не
одного
гон
ча ров ск ого
ф л амандст ва.
Эп ос
мож ет
проявляться
не
только
в
мировоззренческих
особенностях
стил я,
в
словесной
картине
мира,
но
и
во
вне ш них
особенностях
жанра,
в
его
емкости
и
широте
охвата
д ействи тел ь но сти.
Здесь
уже
мы
имеем
д ело
со
второй
из
заявленных
в
начале
статьи
проблем
—
с
вопросом
о
с вязи
стиля
и
романной
формы.
128
Надо
с казать ,
что
Гончаров
более
мно гих
д ругих
своих
со
временников
размышлял
над
жанром
романа.
И
неизменно
утверждал
его
особую
всеобъемлемость
и
широту.
«...
Все
ухо
дит
в
роман,
в
рамки
которого
укладываются
большие
эпизоды
жизни,
иногда
ц елая
жи зн ь» (8, 211),—
писал
он
в
статье
«На
мерения,
задачи
и
и деи
романа
„Обрыв“».
Подобное
богатство
содержания,
диктуемый
эпи чнос т ью
разм ах
видел
писатель
и
в
собственных
р ома н а х: «Белинский сказал мне однажды . ..
„что другому стало бы на десять повестей,
у
не го
уклад ыва ется
в
одн ом
ро ма не !“ Это сказал он про самую краткую из моих
книг—„Обыкновенную
историю“! Что сказал бы он об „Обло
мове “,
об
„Обрыве“,
куда
уложилась
и
вся
моя,
так
ск азать,
собственная
и
мн ого
других
жи зне й» (8, ИЗ).
Это
стремление
широко
охв ати ть
действительность
вла с тно
проявляется
не
тольк о
в
идеях
и
обра за х,
но
и
в
стиле
«Обло
м о ва ». Уже в первой фразе романа:
«В Гороховой улице,
в
одном
из
больших
домов,
народонаселения
кото
рог о
стало
бы
на
це лый
уездный
город,
лежал
утром
в
п остели,
на
своей
квартире,
Илья
Ильич
Обломов» (4,7)
—
указание
на
т ипично с ть
и
всеобщность
изображаемого.
То,
о
чем
пойдет
ре чь,
кас аетс я
не
только
одного
Обломова,
но
и
всей
страны.
Недаром
—
«в одном из больших домов» .
Домов,
подобных
обломовскому,
в
Петербурге
немало,
и
происходит
там
то
же
самое.
Да
и
не
только
в
Петербурге
—
п оказ анно е
относится
ко
всей
Ро ссии ,
на
что
намекает
сравнительный
об о
рот
«народонаселения которого стало бы на целый уездный
город».
Само
имя
существительное
«народонаселение»
прим е
нит ель но
к
данному
контексту,
хоть
и
иро ниче с ки,
а
переводит
повествование
в
ино й,
более
к ру пный
масштаб
—
не
просто
об и
тат ели
дома,
а
насе лен ие,
народ,
то
есть
общность
общенацио
нального
ха ракте ра .
А
далее—прямое
сопоставление:
дом
как
уездный
город;
то,
что
в
нем
случается,
происходит
и
во
многих
горо да х
огромной
страны.
Гончаров
вообще
любит
сравнительные
обороты,
укрупняю
щие
повествование,
усиливающие
впечатление,
так
сказать,
в се-
российскости
изображаемого: «Между тем он учился,
как
и
д ру г ие» (4, 63); «Он стал юношей,
как
все» (4,65).
В
ин ых
же
случаях
этому
укрупнению
служит
непосредственно
авторское
слово: «...в
на ших
отдаленных
Об ло мовка х,
в
каждом
за жи
точном
с е ме йс т ве » (4, 43); «Сколько Штольцев должно явиться
под
русскими
и ме нам и» (4, 171).
Но,
как
бы
ни
увлекался
писатель
типичностью
создаваемой
картины,
он
никогда
не
забывал
и
о
д еталях,
постоянно
уг луб
лялся
в
ч астн о сти,
в
мелочи,
в
бы т.
В
той
же
первой
фраз е
на
звана
ул ица,
охарактеризован
дом
(«большой»), указано даже
конкретное
положение
гер оя
и
вре мя
(«лежал утром в по
ст ели »), уточнено место
—
«на своей квартире».
И
такого
ро да
9 Заказ No 299
129
тщательн ая
детализация
зам етн а
всюду.
«Он,
как
то лько
про
снулся,
тотчас
же
вознамерился
встать,
у мыт ься
и
напившись
ч аю,
подумать
хорошенько,
кое-что
сообразить,
з аписать
и
во
обще
за нять ся
эт им
д елом
как
следует» (4,10).
Недолгое
со
бытие,
кр ат кие
размышления
героя
о п исаны
подробно,
оказы
ваются
расчлененными,
разложенными
на
составляющие,
про
стое
становится
с ложны м.
Д ее прича ст ный
оборот
«напившись
чаю»
еще
более
детализирует
повествование,
ука зыва ет
на
одно
временность
самых
обычных,
бытовых
дейс твий
и
отвлеченных
размышлений.
Как
позднее
столь
высоко
це ним ый
им
Лев
Тол
стой,
Гончаров
совмещает
эп ическ ую
широту
и
предельную
кон
кр етно с ть,
изображение
целой
эпохи
русской
жизни
и
проник
новение
в
судьбу
отдельного
человека,
в
самый
мелкий
и
крат
кий
миг
его
существования.
Два
п ути
выбирает
Гончаров
для
р еше ния
эт ой
двуединой
задачи.
Первый
—
создание
крайне
у глубле нн ых
образов-типов,
каждый
из
которых
обобщает
какую-либо
сто р ону
дейст вит ель
ности.
И
действительно,
в
«Обломове»
немало
литературных
героев,
хо ть
и
предельно
конкретных
и
полнокровных,
но
вместе
с
тем
представляющих
тако е
широкое
обобщение,
что
в
изве ст
ных
г ран ицах
речь
может
идти
о
символах.
Этот
гончаровский
символизм
был
за ме чен
уже
его
со в ремен ник ами 25, неодно
кратно
писали
о
нем
символисты,
особенно
Д.
С.
Мережков
ский ,
становился
он
объ ек том
анализа
и
в
литературоведческих
работах26.
Однако
о
его
воздействии
на
стиль
«Обломова»
не
говорилось,
а
мно гое
в
стиле
романа
как
раз
символизмом
и
обусловлено.
В
частности,
именно
он
определяет
обилие
глаго
лов
несо вер ш енног о
вид а,
явно
доминирующих
в
яз ыке
«Обло
мова».
Уже
в
первых
тр ех
абзацах
романа
из
семнадцати
г ла
голов—
одиннадцать
несо верш енно го
ви да : «лежал», «гуляла»,
«порхала», «садилась», «пряталась», «теплился», «переходила»,
«помрачался»,
«светилась»,
«вглядывалась»,
«пропадала» .
Сра зу
же
создается
определенная
глагольная
интонация,
под
держиваемая
и
в
дальнейшем.
«Если на лицо набегала из души
туча
заботы,
взгляд
туманился,
на
лбу
являлись
складки,
на
ч и налась
игра
сомнений,
печали,
испу га;
но
редко
тревога
эта
застывала
в
форме
определенной
идеи,
еще
реже
превращалась
в
намерение» (4,8)—
все
предикаты
в
данном
сложном
пред
ло же нии
—
глаголы
несовершенного
ви да.
Или
другой
пример
на
той
же
странице:
заканчивая
фразу,
писатель
рн овь
ставит
глагол
в
том
же
в иде
—
«чего всякий день не делалось» (4, 8).
Грамматические
формы
приобретают
в
худож ес твен н ом
тек
сте
э стетиче ску ю
функцию,
становятся
в
некотором
смысле
но
сителями
содержания27.
С еман тиче ски
насыщенным
оказыва
ет ся
и
несо верш енн ый
вид
в
«Обломове».
Незаконченность
д ей
ствия,
его
неограниченная
длительность,
свойственные
несовер
шенно м у
в и ду28, часто заключают в себе указание на много
кратность,
повторяемость.
А
это
в
худ оже ств енн ом
тексте
может
130
обернуться
представлением
об
общераспространенности,
при
вычности
обозначенных
дей стви й
и
состояний.
Во
всяком
слу
чае
о ттен ок
подобных
значений,
некий
символический
смысл
свойственен
глагол ьн ым
форм ам
«Обломова» .
Не
ставящие
жестких
гр аниц
проц ес сам ,
ими
называемым,
гла го лы
несовер
шен но го
вида
на
речевом
уровне
в ыражают
определенную
бес
конечность
того,
о
чем
говорится
в
романе,
что
содержит
ук а
з ание
на
глубину
и
неисчерпаемость
см ысл а,
то
есть
на
его
сим
воли чнос т ь.
Тяг от ение
к
несовершенному
в иду
свя зано
и
с
еще
од ной
важн ой
чертой
«обломовского»
стиля
—
с
некоторой
его
р ас
щепленностью.
«Глаголы несовершенного вида не обладают . ..
признаком
целостности
д ейс твия »29.
Но
зде сь
уже
ра з говор
пе
реходит
к
анали зу
второго
пути,
по
которому
шел
Гончаров,
стре мясь
запечатлеть
всю
русскую
жизнь
в
ее
с ложно сти
и
полнот е .
Путь
э тот
состоял
в
изо бр аже нии
различных
сфер
дей
ствительности,
разных
начал
человеческого
бытия.
Если,
созда
вая
символические
или
предельно
типически-обобщенные
об
разы,
Гончаров
шел
по
п ути
интенсивного
углубления
в
пред
мет,
передавая
чере з
частное
об щие
конфликты
эпохи,
то
в
данном
случае
способ
был
экстенсивным,
то
есть
из ображ ал ась
жи знь
в
ее
многообразии
и
широте.
Позднее
именно
по
этой
дороге
пошел
Лев
Толстой.
Однако
Толстому
удалось
при
экс
т енсивном
изоб ра же нии
действительности
передать
благ одар я
единому
цельному
стилю
внутреннее
е динст во
жизни.
У
Гонча
ров а
же
такой
монолитности
нет.
В
стиле
«Обломова»
слож
ность
и
противоречивость
воспроизводятся
не
как
единство,
а
скорее
как
параллельность.
В
жизни
рядо м,
не
сл ивая сь
в
один
цельный
поток,
су ществ у ют
разные
состоя ния,
положе
ния
и
сцены.
Не
сл у чайно
так
час то
появляется
в
романе
в
це
лом
довольно
редкий
зна к
препинания
—
точка
с
за пято й.
Уже
на
самых
первых
страницах
их
более
чем
до стато чн о:
«По стенам,
око ло
ка р тины,
лепилась
в
в иде
фестонов
па ут ина,
напи
танная
пыл ью;
зеркала,
вмес то
того,
чтобы
отражать
предметы...» (4,9);
«На диване лежало забытое полотенце;
на
столе
редкое
утро
не
стояла
не
убранная
со
вчерашнего
ужина
т а релк а» (4, 9); «Фамильные портреты
остались
д ома
и,
ч ай,
валяются
г де-нибу дь
на
чердаке;
пре да ния
о
старин
ном
быт е
и
важности
фамилии
все
гл охн ут ... » (4, 11); «Без этих капризов
он
как-то
не
чувст во вал
над
собо й
ба р ина;
без
них
ни что
не
воскрешало
молодости
его.
..» (4, 11).
Точка
с
запятой
—
зн ак
своеобразно
дв ой стве нны й,
да же
двусмысленный;
с
одной
стороны,
запятая
свидетельствует
о
не
разорванности
изображаемого,
отдельные
со бы тия,
поступки,
в ещи
связываются
зап ят ой
между
собой,
соединяются,
стано
вятся
частями
одного
целого.
С
другой
стороны,
точка
отделяет
их
др уг
от
друга,
проводит
между
ними
границу.
В
результате
сложность
передается,
но
раздробленно,
кар ти на
распадается
на
отдельные
части,
хот ь
и
соотнесенные
др уг
с
другом,
но
не
сливающиеся.
9*
131
Этой
раздробленности
способствует
и
обилие
запятых
в
тек
сте
романа.
Так,
в
толь ко
что
приведенных
примерах
из- за
уточнений,
детализации,
вводных
слов
все
время
по явля ютс я
запятые.
Сохраняется
это
и
в
дальнейшем,
на
протяжении
всего
«Обломова»: «Он был мрачен,
иногда
вздыхал,
вдруг
пожимал
плечами,
качал
с
со кр уш ением
го ло вой» (4, 255), «...
он,
не
дож ид аясь
вопросительного
и
жаждущего
взгляда,
спешил
бросить
пе ред
не й,
с
огне м
и
энергией,
новый
з апас,
но вый
ма
териал» (4,414).
Разбивая
плавно е
интонационное
движе ние
фра зы,
заставляя
делат ь
паузы,
запятые
в
данном
случае
играют
ину ю
роль,
чем
в
со ст аве
другого
зна ка
—
точки
с
запятой.
Там
они
указывали
на
со от несенно сть
разделенного,
зд есь
же
запятые
сами
отде
ля ют
части
предложений
о дну
от
другой,
способствуя
расщепле
нию
«обломовского»
ст иля.
Эта
расщепленность
проявляется
не
то лько
в
си нтак си ческо м
строе
романа,
она
захв аты вае т
стиль
в
цело м,
обнаруживается
и
на
образно-содержательном
уровне.
Н адо
сказать,
что
Гончаров
сам
ощущал
определенную
сти лис тическу ю
неровность
своего
создания.
В
статье
«Лучше
поздно,
чем
никогда»
он
писал,
ка са ясь
развития
образа
глав
ного
ге р о я: «И образ его немного,
так
сказат ь ,
т ро нулся
от
этого,
немного
поте рял
целости
ха рак тер а:
в
портрете
оказалось
пят но» (8, 79).
Пятно
оказалось
не
т олько
в
порт рете
героя,
це ло сть
потерял
не
т олько
его
ха ракте р,
но
и
стиль
романа
вообще.
Наряду
с
фламандством
возникает
стилистическая
ли
ния
совсем
и ного
род а,
генетически
связанная
с
р о ма нтически м
стилем30.
Само
по
себе
появление
в
«Обломове»
элементов
романтиче
ского
стиля
не
случайно.
Еще
в
«Обыкновенной истории», вы
смеи вая
не ис т овый,
перенапряженный
и
вульгарный
романтизм
Адуева-младшего,
писатель,
в
качестве
некоего
неопределенного
идеала,
равно
противостоящего
и
выспренности
племянника,
и
холо дн ому
практицизму
дяди,
вы двига л
поэтический,
высокий
романтизм
или,
вер нее ,
романтизированный
р еали зм,
реалисти
ческий
стиль,
гл уб око
впитавший
в
себя
одухотворенность
и
поэтичность
романтического
искусства
31.
Он
проявлялся
в
не
скольких
п ейза жах
и
эпизодах
«Обыкновенной истории», неся
в
с ебе
положительный
з аряд
романа.
Эта
линия,
хотя
и
с
иными
це лям и,
нашла
развитие
и
в
«Обломове» .
От
нее
и
проникли
в
ром ан
совсем
иные
мелодии,
противоположные
фламандству,
звучащие
наперекор
ему.
Иногда
звуки
эти
бы ли
чистыми
и
звонкими:
«Между тем наступил вечер.
Засвет или
лампу,
которая,
как
луна,
скво
зи ла
в
трельяже
с
плющом.
Сумрак
скрыл
очертания
лиц а
и
фигуры
Оль ги
и
набросил
на
нее
как
будт о
флеровое
покрывало;
ли цо
бы ло
в
тени :
слы
шался
только
мягкий,
но
си ль ный
голос,
с
не рвн ой
др ожью
чувства» (4,
202—203).
Вечер,
лампа,
заменяющая
луну,
полуосвещенная
фигура
132
молодой
де вушк и,
ее
пение,
страстное
и
волнующее,—
все
не
обычайно
далеко
от
флам ан дств а
и,
напротив,
крайне
близко
романтической
традиции.
«Сумрак», «флеровое
п окр ыв ало»,
«нервная дрожь»
—
л екси ка
здес ь
совсем
иная,
чем
на
других
страницах
«Обломова» .
Она
заставляет
вспомнить
изысканную
прозу
Тург ен ев а.
Пожалуй,
ниг де
Гончаров
не
п рибли жалс я
так
близко
к
своему
знаменитому
современнику,
как
в
эт ой
и
в
по
добных
сценах
«Обломова» .
Возникают
сквозные
поэтические
образы,
ключевые
слова,
сопровождающие
Ольгу
на
протяже
нии
поч ти
всего
романа
—
з намени т ая
ветка
сирени
или
атмо
сф ера
света,
с
которой
связана
ге ро иня32.
Но
д алеко
не
всегда
романтические
мелодии
«Обломова»
зв учат
верно
и
зах в аты ваю ще.
Ча сто,
сл ишко м
част о
появля
ютс я
фа льшивые
нот ы,
романтический
ст иль
становится
в ялым
и
безжизненным.
Иногда
ка жется,
что
из
рук
Гончарова
перо
вы хва тил
Александр
Ад у ев: «Он испустил радостный вопль и
упал
на
траву
к
ее
ногам» (4,296).
Б аналь но стей
и
штампов
немало
при
описании
л юбви
Об л омова: «Свидания,
разговоры—•
все
это
бы ла
одна
песнь,
одни
звуки,
од ин
св ет .. .» (4, 253).
Слишком
на вязч иво
зде сь
повторение
(«одна песнь,
одни
звуки,
од ин
св е т»), чрезмерно возвышенно,
а
потому
к ажет ся
неуме
с тно
напыщенным
слово
«песнь».
Или
«...
иногда
на
свежем
лице
ее
вдруг
св еркал а
игра
сердечных
мол ний» (4, 208): «Игра
сердечных
молний»
—
и
тут
н атян утая
поэтичность,
заставляю
щая
вспомнить
Марлинского
или
Бенедиктова.
Гончаров
сам
чувствовал,
что
во
мно гих
любовных
сценах
«Обломова»
в зял
неверный
тон .
Более
чем
самок рити чно
писал
он
об
этом
в
письме
к
И.
И.
Льховскому
(2) 14 августа 1857 г. :
«Женщина,
любовь
героя,
О льга
Сергеевна
И ль инская
—
может
быть,
такое
уродливое
порождение
вялой
и
обессиленной
фан
тазии,
что
ее
надо
бросить
или
из мен ить
совсем» (8,292).
Не
которая
в ялост ь
и
обессиленность
фа нтаз ии
действительно
за
метны
на
многих
ст р аницах
романа.
И
это
делает
особенно
ощути мой
стилистическую
его
двуплановость,
о тсу тс твие
цел о
стности
стиля.
Экстенсивное
воспроизведение
жизн и
обернулось
определен
ной
нецельностью
романного
стил я.
С вя зано
это
в
изве ст ной
мере
с
чрезмерной
объективацией
авторской
по з иции,
которая
оборачивалась
уклончивостью
и
рел яти ви зм ом.
В
конце
концов
вопрос
о
положительном
на чале
в
романе
до
конца
я сным
так
и
не
становился.
В
этом
достоинство
«Обломова», романа,
по
зволяю ще го
различные
интерпретации,
стимулирующего
созна
ние
соприкоснувшегося
с
ним
человека.
Но
б ыла
и
слабость,
пр иво дящ ая
к
нарушению
стилистического
единства.
Обращение
к
важнейшим
стилистическим
проблемам
«Обло
мова»
приближает,
как
пр едст авля ет ся,
к
более
точному
пони
133
м анию
бессмертного
романа,
делает
осязаемой
его
словесную
плоть.
Кроме
то го,
оно
заставляет
задум атьс я
над
одной,
весьма
существенной,
чертой
его
стилистической
структуры.
Д ело
в
том,,
что
в
романе
обнаруживается
целый
конгломерат
неувязок.
Так,
Гончаров,
к азалос ь
бы,
традиционен,
но
именно
тогда *
когда
связь
«Обломова»
с
гоголевским
сти лем
ка же тся
наибо
лее
заметной,
писатель
ока зы ва ется
особенно
оригинальным
и
независимым.
Или
другое
—
я вле ния
и
предметы
с ов ерш енно
разного
типа,
весьма
и
весьма
отличные
друг
от
друга
по
зна
чению,
по
вну т ренним
и
вне шним
своим
м асш табам ,
ст ано вя тся
равнозначными.
Среди
всех
э тих
раз нор еч ий
о с новным
и
глубинным
является,
пожа луй,
следующее:
с
одной
стороны,
фламандство
пр едпол а
гает
ид ею
единства,
неразрывной
спаянности
всего
со
всем.
Це
лостность
и
н едел имо сть
жизни
—
вот
суть
заключенного
bö
фламандстве
смысла.
С
другой
же
стороны,
в
масш т абе
стили
стического
целого
романа
мы
вид им
некий
разнобой
и
раз об
щенность.
Данные
противоречия
ра с поло жены
в
самых
го р ячих
точках
стилистической
ст руктуры
«Обломова», в ее смысловых узлах,
укрупняя
эти
узлы,
делая
их
особо
зна чимы ми.
Некоторые
из
эти х
несогласованностей
преодолеваются,
несовместимые
факты
при
внимательном
изучении
видятся
вполне
совместимыми.
По
следнее
же
противоречие—между
фламандством
и
стилистиче
с кой
нецельностью
—
не
находит
своего
р аз реше ния.
Но
не
сни
маясь,
он о,
как
и
противоречия
разрешенные,
за раж ает
роман
внутренней
силой,
прид а ет
ему
огромное
напр яже ние .
Струк
тура
«Обломова»
о казыв аетс я
противоречивой,
но
эта
противо
речивость
делает
ее
ос обо
э сте тиче ски
д ей ственно й.
Равновесие
не
всегда
и
не
во
всем
на йдено .
И
несмотря
на
о бидны е
ху до
жественные
просчеты,
име нно
это
отсутствие
равновесия
пр и дает
«Обломову»
жизнь
в
веках,
движ ет
роман
во
времени.
Ве дь
противоречие
—
ист оч ник
всякого
д виже ния.
Примечания
1 Невозможность исследования романа без рассмотрения его слова
стала
очевидной
после
работ
М.
М.
Бахтина.
2 Гончаров И .
А.
Соб р.
соч.:
В
8т.
Т.
4.
М.,
1953.
С.
102.— Все
ссылки
на
это
из да ние
в
текс те.
3 Чичерин А.
В.
Очерки
по
истории
русского
литературного
стиля.
2-е
изд .
М ., 1985.
С.
158.— Надо
отметить,
что
вопрос
о
взаимодействии
реч и
автора
и
речи
персонажей
в
«Обломове»
—
сл ож ная
проблема,
требующая
специального
рассмотрения.
Очень
содержательные,
хоть
и
краткие
сооб ра
жения
на
эт от
сч ет
см.
в
статье:
Ф аво рин
В.
К.
О
взаимодействии
автор
ско й
речи
и
речи
персонажей
в
язык е
трилогии
Го нчаро ва/ Изв.
АН
СССР.
Отд.
ли т.
и
яз.
T. IX. 1950.
Вы п.
5.
С.
351—361.
4Боткин В.
П.
Литературная
критика.
Публицистика.
Письм а .
М.,
1984.
С.
268—269.
5 Mazon, André. Un maître du roman russe. Ivan Gontsharov. Paris,
1914. P. 299—308.— Итоги
наблюдений
Мазона
бы ли
изложены
В.
Е.
Ев
геньевым-Максимовым.
С м.:
Евгеньев-Максимов
В.
Е.
Гон ча ров.
Жизнь.
Личность.
Творчество.
М ., 1925.
С.
159—164.
134
6 См.:
Чиче рин
А.
В.
Очерки
по
ист ор ии
русского
литературного
стиля.
С.
155—159.
7 Эйхенбаум Б.
М.
П робл емы
поэтики
Пушкина//Эйхенбаум
Б.
М.
О
поэ зи и.
Л ., 1969.
С.
30.
8 Гуковский Г .
А.
Пушкин
и
проблемы
реалистического
стиля.
М.,
1957.
С.
336.— Подо бно го
ро да
суждения
о
пушкинской
прозе
высказывались
также
А.
3.
Лежневым,
А.
С.
Орловым,
А.
В.
Чичериным
и
др.
9 Чичерин А.
В.
Указ.
соч.
С.
371.
10 Дружинин А.
В.
Литературная
критика.
М. , 1983.
С.
296.
11 О влиянии пушкинской прозы на формирование стиля Достоевского
см .:
Бочаров
С.
Г.
О
художественных
мирах.
М., 1985.
С.
161—209.
12 Дружинин А .
В.
Ука з.
соч .
С.
301—302.
13Остиле «Обыкновенной
истории»
см .-.
Бухаркин
П.
Е.
Ст иль
«Обык
новенной
ис т ории»
И.
А.
Гонча ров а/ /Воп росы
русской
литературы.
Львов,
1979.
В ып.
1(33).
С.
69—76.
14 Ehre, Milton. Oblomov and his creator. The life and Art of Ivan
Gontsharov. Princeton, 1973. P . 164.
15 Тынянов Ю .
H.
Достоевский
и
Гоголь
(К теории пародии)//Тыня>
нов
Ю.
Н.
Поэтика.
История
литературы.
Кин о.
М ., 1977.
С.
202.
16ЕреминаЛ.
И.
О
языке
художественной
прозы
Н.
В.
Гоголя.
М.,
1987.
С.
64; см.
также
С.
19, 123—126.
17 Бочаров С.
Г ..0
сти ле
Гог оля/ /Те ор ия
литературных
ст илей.
Типоло
гия
сти лев ого
развития
нового
времени.
М ., 1976.
С.
410—418.
18Чудаков А.
П.
К
поэт ике
пушкинской
прозы//Болдинские
чтения.
Гор ьк и й, 1981.
С.
54—68.
19 Там же.
С.
59.
20 Бахтин М.
М.
В оп росы
лит е ра туры
и
эстетики.
М. , 1975.
С.
374.
21 См.:
П руц ков
Н.
И.
Мастерство
Гончарова-романиста.
М.;
Л.,
1962; см .
т акже:
Це йтли н
А.
Г.
Гончаров.
М ., 1950.
С.
390—394.
22 См.:
Бочаров
С.
Г.
О
худож ес т ве нных
мирах.
М ., 1985.
С.
161—209.
23 Дружинин А.
В.
Ук аз.
соч.
С.
301.
24 См.:
Берковский
Н.
Я.
О
ми ро вом
значении
ру с ской
литературы.
Л , 1975.
С.
30—54.
25 См.,
н апр.,
с т.:
Чуй к оВ.
И.
А.
Гончаров.
Опыт
литературной
харак -
теристикиДНаблюдатель.
1891.
No
12.
С.
109—127 .
25 Евгеньев-Ма кс и мо в
В.
Е.
Указ.
со ч.
С.
151—155. — В
св язи
с
поэтикой
контраста
рассматривается
символизм
«Обломова»
в
книге
М.
Э ре.
Пр ав да,
исследователь
с кл онен
видеть
в
романе
скорее
ал лего ри ю,
а
не
сим
волизм.
Во
всяком
случае
на
это
указывают
его
интерпретации
си мволи чес к их
образов.
С м.: Ehre, Milton.
Ор.
cit. P . 195—219.
27 О художественной содержательности грамматических форм писалось
много.
Среди
прочи х
можно
на зва ть
статью
Р.
Яко бсо на
«Поэзия грамма
тики
и
грамматика
поэ зи и» (Poetic. Poetyka.
Поэтика.
Варшава.
1961.
С.
397—417 .)
и
работ ы
столь
противоположного
Якобсону
А.
В.
Чичерина,
уже
в
н ачале
1950-х
годов
обратившегося
к
данной
проблеме
(суммарный
взгляд
Чич ер ина
по
этому
вопросу
см .:
Чичерин
А.
В.
Заметки
о
стили
стической
роли
грамматических
ф орм/ /Слово
и
образ.
М ., 1964.
С.
93—101).
28 Общую характеристику несовершенного вида глагола в русском языке
с м.:
Ру сск ая
грамматика.
М., 1982. T. 1.
С.
583—586.
29 Там же.
С.
583.
30 О стилистической неровности « О бл о мо ва»
писал
А.
В.
Чичерин.
См .:
Чичерин
А.
В.
Очерки
по
ис тори и
русского
литературного
сти ля.
С.
163—164.
31 Реализм как художественный метод обладает особой широтой,
может
вкл юч ать
в
с ебя
эле ме нты
других
худож ес тв е нных
систем,
перерабатывая
их,
подчиняя
общему
реалистическому
духу.
Из
мно г очи сленн ых
работ
на
эту
тем у,
пожалуй,
лучшая
—
Фри длен дер
Г.
М.
Поэтика
русского
ре али зма.
Л. , 1971.
32 См.
о
световом
ореоле
Оль ги
в
кн . : Ehre, Milton.
Ор.
cit. P. 183.
135
И.
ХЕТ ЕШИ
О
ПОСТРОЕНИИ
П О ВЕСТИ
И.
С.
ТУ РГЕНЕ ВА
«АСЯ»
Современники
И.
С.
Тургенева
ча сто
упоминают
в
письмах
и
мемуарах
о
то м,
что
этот
писатель
был
замечательным
собе
седником,
часто
отмечается
и
од на
особенность
возникновения
тургеневских
произведений.
Анне нк ов
пи ше т: «Тургенев обладал
способностью...
обдумывать
нити
бу ду щих
р ассказ ов
так
же
точно,
как
создавать
с цены
и
намечать
подробности
описаний,
не
прерывая
горячих
бесе д
кругом
се бя
и
часто
уча с твуя
в
них
весьма
д еяте льн о» I Эти особенности,
несомненно,
оказывают
влия ние
на
своеобразие
фор мы
повествования
у
Тургенева.
В
роли
пове ст вова те ля
оче нь
ча сто
оказывается
рас ск азчи к
—
участник
или
герой
р ассказ ы ваемо й
им
истории.
Изложение
подчас
ведется
в
форме
устного
сообщения
слу ш ат елям
(«Анд
рей
Ко ло со в», «Ася»), в других случаях это «лж ед иал ог», со
держащий
в
с ебе
испо вед ь
«лишнего человека» («Гамлет Щи-
гровского
уезда»),
характерна
также
форма
воспоминаний
(«Яков Пасынков», «Поездка в Полесье»).
Общей
чертой
этих
форм
повествования
я вляетс я
то,
что
все
они
дают
г ероям
Тур
генева
возможность
для
непосредственной
исповеди,
непосред
ственного
самоанализа
и
самораскрытия.
Обращение
писателя
к
любой
из
этих
ф орм
каждый
раз
приводит
к
тому,
что
произ
в еден ие
можно
р ас ск азать
или
прочитать
«не переводя дыха
ния», как делал это не раз сам Тургенев в кругу своих француз
ск их
и
русских
друзей-писателей.
Структура
его
повестей
и
рас
сказ ов
целеустремленна
и
напряженна.
Композиция
сюжета
строится
на
норме,
заключающей
в
себе
исходное
положение,
кат ас тро фе,
нарушающей
эту
норму,
и
финале,
наступающем
вследствие
катастрофы2.
Эти м
Тургенев
продолжает
т р адиции
евр оп ейско й
новеллистики.
Ра знов иднос т ь
жанра,
выработанного
писателем,
одинаково
пригодна
как
для
раскрытия
внутреннего
мира
его
г еро ев,
так
и
для
выражения
непосредственного
присутствия
в
нем
автор
ского
«я» .
Это
лирическая
по вест ь
(реже
—
рассказ), которая,
кроме
эп ич еско го
изображения
действительности,
включает
в
себя
и
размышления,
чувства
автора
(повествователя), свя
занные
с
изображаемым
им
миром,
и
отношение
к
нему.
Рас
сказчики
произведений
Тургенева
в
большинстве
с лучае в
бл изки
©И.
Хетеши, 1992.
136
ему
по
происхождению,
во спит ани ю,
поэтому
зачастую
посред
ством
р ассказ ыв аемо й
истории
он
говорит
и
о
самом
себе.
В
то
же
время
между
автором
и
рассказчиком
сохраняется
и
известная
д ис танц ия,
которая
способствует
выра же нию
разли
чия
между
их
точками
зрения
или
же
вы раж ению
критического
отношения
писателя
к
рассказчику.
В
повести
«Ася»
(1857) автора и героя соединяют друг
с
другом
не
только
общность
воспитания
и
образа
жизни,
но
и
сходство
био г р афи ческих
мо т ивов.
Писатель
п ереж ивает
период
тв орче ског о
и
жизненного
кр изис а,
и,
так
же,
как
и
гос по дин
Н.,
и щет
покоя
в
маленьком
немецком
городке.
«Здесь почти ни
кого
нет,
и
я
мо гу
предаваться
полнейшему
уединению
и,
по
возможности,
р абот ать
(чего я уже не делал более года)»
(П ., 3, 122)3,—
пишет
Тургенев
с
немецкого
к уро рта
Зинциг.
В
его
словах,
несмотря
на
меланхолию,
н амеч ается
уже
и
из
ме нени е
настроения,
ч увс твуе тся
намерение
на йти
выход
из
прежнего
состояния.
В
таком
же
духе
пише т
он
и
сестре
Тол
стого,
Марье
Н ик ола е вне: «Не много изведал я веселого в те
чен ье
этого
год а
—
и,
к аж ется,
окончательно
состарился,—
но
что
говорить
об
этом...
На до
Вам
ск азать,
что
я
в
течение
год а
пера
в
руки
не
бра л
—
и
не
знаю,
скоро
примусь
л и?»
(П. , 3, 127).
Его
письма
проникнуты
чувством
одиночества,
п ре
ждевременной
старости
и
творческой
неуверенности,
но
в
июл е
он
пишет
уже
о
том,
что
«кое-что
нач ал» (П., 3, 130). « Есл и
не
ошибаюсь,
пр и везу
с
с обою
повесть,
которую
я
здесь
начал
и,
бог
даст ,
к ончу» (П ., 3, 126).
Речь
ид ет
об
«Асе», работу над
которой
он
заканчивает
в
ноя бре
в
Риме,
испытывая
—
подобно
св оим
героям
—
непостижимые
к а призы
любви.
«Ты видишь,
что
я
здесь,—
пиш ет
он
в
а в густе
Анненкову
из
Куртавнеля,
где
находился,
чтобы
быть
как
можно
ближе
к
семье
Виардо,—
т.
е.
что
я
сдела л
именно
ту
глупость,
от
которой
ты
предосте
ре гал
меня...
Но
поступить
и наче
было
не во зм о жно » (П .,3,145).
Он
так
же
не
в
состоянии
противостоять
течению
жизненного
потока,
как
и
его
инт елле кту а ль ные
герои.
Родство
душевного
склада
автора
и
его
г ероя
делает
возможным
ощутимое
с бли
ж ение
их
то чек
зрения.
Первое
предложение
повести
рисует
ту
ситуацию,
в
которой
происходит
повествование
о
событиях: «Мне было тогда лет
дв ад цать
пять,—
начал
Н.
Н .,—
д ела
давно
м инувш их
дней ,
как
в ид ите » (5, 149)4.
Событие
и
повествование
о
нем
относятся
к
разным
временным
планам.
Неоднородно
и
п рост ранс тво:
ме
сто
рассказа
о
событии
неопределенно,
а
место
совершения
со
бытий
наз ван о
точ но.
Такого
рода
обрамление
встречается
у
Тургенева
не
впер вы е.
Он
ис польз овал
это т
композиционный
прие м
и
в
«Андрее Колосове», но там начало произведения изо
б илова ло
подробностями,
а
присутствие
автора
было
более
о че
видным,
в
то.
время
как
в
«Асе»
ли шь
косвенно
угадывается,
что
автор
яв ляется
слушателем
р ассказы ваемо й
истории.
З десь
137
нет
нуж ды
в
акцентировании
авторского
присутствия,
потому
что
по
сравнению
с
«Андреем Колосовым», где авторская пози
ция
с кры вал ась
за
по зици ей
рассказчика,
в
«Асе»
в згляды
их
значительно
б лиже
др уг
к
другу,
и
мы
с
большим
основанием
мож ем
говорить
о
переплетении
их
точек
зрения.
Е сть
р аз ница
и
в
финале
произведений:
в
«Андрее Колосове»
условный
ав
то р—
хотя
и
в
сжатом
в иде
—
однозначно
в озв ращал
себе
«слово»
от
р ассказ чи ка,
тем
самым
завершая
повесть
с
в неш
ней
п оз иции.
В
«Асе»
нет
нужды
в
э то м: «слово», «точка зре
ния »
остается
«словом»
рассказчика,
только
единственный
намек
(«я должен сознаться») и использование оборотов устной речи
(вопросы,
в ос клица ния)
указывают
на
то,
что
реч ь
идет
о
по
вествовании
перед
слушателями.
То
ес ть
трансформация
внеш
ней
поз иц ии
(обрамление)
во
внутреннюю
(главная история),
а
потом
опять
во
внешнюю
в
«Андрее Колосове»
про исх од ит
так ,
что
пробивает
себе
дорогу
точка
зрения
сн ач ала
условного
автора,
п отом
рассказчика
и
в
ко нце
ко нцов
опятъ
условного
автора.
В
«Асе»
же
внешняя
позиция
(«начал Н.
Н.») уже
в
перв ом
предложении
меняется
на
внутреннюю,
а
обратн ой
смены
поз иций,
ожидаемой
в
ко нце
произведения,
не
происхо
дит.
Условный
автор
не
получает
обы чн ой
роли,
р еали зу ется
со
вместная
позиция
рассказчика
и
автора.
Р ас сказч ик
вспоминает
о
случившемся
двадцать
лет
назад,
когда
ему
б ыло
двадцать
пять .
Трансформация
временных
планов
из
настоящего
в
прошлое,
а
пот ом
о пять
в
настоящее
по казы вает ,
что
настоящее
яв ля ется
сл едств ием
прошлого.
Ощу
щается,
что
р ассказ ч ик
оценивает
се бя
в
прошлом
с
поз иции
на сто яще го.
Его
ви де ние,
таким
образом,
более
объективное,
но
в
то
же
время,—
поскольку
речь
идет
о
воспоминании,—
и
более
ли р ическо е,
элегическое.
Точка
зрения
писат еля
практически
отождествляется
с
этой
более
объективной,
но ся щей
хар ак тер
воспоминания
поз иц ией
ра сс казчи ка,
которая
—
в
силу
своей
временной
дистанцированности
и
смысловой
сл ож ности
—
по
зволяе т
ему
вы ра зить
не
тольк о
свое
со чу вст вие,
но
и
свое
со
мнение
и
критику.
Время
в
эт ом
произведении
Тургенева
течет
неровно.
Пис а
тел ь
выхватывает
из
жизни
героев
определенные
эпизоды,
соот
в етству ющ ие
разным
стадиям
любовной
истории.
Первый
пе
риод
включает
в
себ я
три
дн я.
Это
стадия
знако мст в а,
неосо
знанного
влечения,
период
«нормы», по терминологии Фишера.
Сам
герой-рассказчик
об рис ован
с
«психологической точки зре
ния », ведь
«авторская точка зрения опирается на ...
индиви
ду а льное
сознание
(восприятие)»5, и позиция автора в отно
шении
своего
г ероя
являетс я
внутренней.
Иначе
обстоит
дело,
когда
речь
и дет
о
других
пер со наж ах
повести.
Художника
Га
гина
и
Асю
читатель
видит
с
точки
зрения
господина
Н.,
т.
е.
с
вне шне й
по зи ции
по
отношению
к
эт им
персонажам.
В
пер
вых
шести
г лав ах,
составляющих,
по
существу,
экспозицию
про -
138
извед е ния,
чи тат ель
может
узнать
о
брате
и
сестре
тол ько
то,
что
знает
о
них
господин
Н.
Он
описывает
внешность,
поведе
ние ,
с лова
и
жесты
Аси
и
Гагина.
Рассказчик,
собственно,
не
знает
Асю,
судит
о
ней
по
внешним
признакам
и
потому
в идит
лиш ь
странность,
капризность,
загадочность
и
противоречивость
поведения
де вушк и.
В
основном
внешней
яв ля ется
и
по зи ция
рассказчика
по
отношению
к
Га г ину.
В
экспозиции
только
намечается,
а
по том
усиливается
и
д ру
гая
тен денц ия:
совмещение
по зи ций
автора-писателя
и
р ассказ
чика
да ет
возможность
р ассказ чи ку
—
с на чала
то лько
местами,
а
поз же
все
чаще
и
чаще
—
выступать
в
роли
«всевидящего»
а вт о р а6, вследствие чего он уже в состоянии непосредственно
раскрыть
внутренние
качества
остальных
персонажей.
Позиция
«всевидящего»
вытекает
из
того,
что
в
переплетении
точек
зре
ния
писателя
и
ра сс казчи ка
доминирует,
в
сущности,
писатель
ск ая
позиция,
за
с ловам и
рассказчика
прослеживаются
слова,
взгляды
самого
автора.
З нач ение
любовной
ис то рии
уже
в
начале
произведения
вы
ходит
за
тематически
ограниченные
рамки.
Писатель
об ращает
бо льш ое
вни ман ие,
например,
на
изображение
национальных,
русских
черт
своих
гер о ев.
Наряду
с
господином
Н.
и
Гаг ин
оказывается
представителем
интеллигенции
1830- х
годов.
Их
разговоры
в
значительной
мере
способствуют
р асши ре нию
сю
же та
произведения
и
выво дят
его
за
рамки
личной
сферы
жизни.
И
опять
важную
роль
играет
переплетение
точек
зрения
автора
и
персонажей
—
любых
персонажей,
которые
выступают
как
субъекты
з вуча щей
в
произведении
речи .
Когда
герой
н аме
ка ет
на
не заве рше ннос ть
произведений
Гагина,
художник
от ве
чает
так:
«Не учился я как следует,
да
и
проклятая
сл ав янс кая
распущенность
берет
свое.
П ока
м ечта ешь
о
работе,
так
и
паришь
орлом;
з емлю,
кажется,
сдви
нул
бы
с
места,—
а
в
и сполнен ии
тотчас
слабеешь
и
у ста ешь » (5, 157).
Неспособность
к
у пор ной
ра бот е, «проклятая славянская распу
щ енно ст ь»,
мечтательность,
нерешительность
в
практических
делах
характеризуют
не
только
его,
но
и
все
его
по к ол ение.
На
д еле
это
—
не
мысли
Гагина,
а
размышления
самого
а втора ,
то чка
зрения
которого
на
вре мя
расходится
с
позицией
госпо
дина
Н.,
чтобы
слиться
со
сло вам и
и
оц ен ками
ху до жник а.
Когда
же
речь
ид ет
об
определении
гр аж данско го
поведения
и
характера,
сл ова
Тургенева
сливаются
уже
со
с лова ми
гос
подина
Н.:
«Это была прямо русская душа,
пр авди ва я,
честная,
простая,
но,
к
сожале
нию,
немног о
вялая,
без
цепкости
и
внутреннего
жар а.
Молодость
не
кипе ла
в
нем
клю чом;
она
светилась
тихим
светом» (5, 160).
Рассказчик
ви дит
опять
г ла зами
«всевидящего»
писателя,
его
вне ш ние
наблюдения
—
согласно
приему
тургеневской
«тайной
психологии»
—
у каз ывают
на
внутренние
качества:
139
«Без горького,
постоянного
труда
не
бывает
художников...
а
т руд ит ься,
думал
я,
глядя
на
его
м ягкие
черты,
слушая
его
н еспешн ую
ре чь,—
нет!
трудиться
ты
не
буд ешь ,
сжат ь ся
ты
не
сум ееш ь» (5, 160).
Тургенев
оче нь
часто
уже
в
начале
произведения
дае т
полный,
закон чен ны й
п ортрет
второстепенных
л иц.
Сплетение
поз ици й
писа те ля
и
расс казчи ка
приводит
к
тому,
что
господин
Н.
надел я ет ся
характерными
для
а втора
чуткостью
и
наблюдательностью.
Этими
качествами
он
превышает
других
героев-интеллигентов
тургеневских
повестей
и
рассказов
1840—50- х
годов
(«Андрей Колосов», «Гамлет Щигровского
уе зд а », «Дневник лишнего человека», «Затишье», «Переписка»,
«Яков Пасынков»).
Ус ил ена
в
нем
и
склонность
к
сам о набл ю
дению,
самоанализу,
рефлексии,
которая
б ыла
ха ракте рн а
для
прежних
героев.
Здесь
Тургенев
использует
прием
«явной»
пс и
хологии,
причем
герой
сам
р аскр ы вает
перед
нами
свой
внут
ренний
ми р.
После
относительно
широкой
экспозиции
Тургенев
включает
в
ход
событий
двухнедельный
«психологический перерыв» .
Этот
способ
обращения
со
временем
приводит
к
тому,
что
в
следую
щей
(VI) главе начинается изображение уже новой стадии сю
жетного
развития
—
инт енс ивно го
развертывания
событий
и
чув с тв.
Писатель
сгущает
в
повести
события
всего
четырех
дней,
в
теч ен ие
которых
происходит
драматическое
напр яж ение
и
за
вершение
сюжета.
Отметим
несколько
ва жне йших
моментов
сюжетной
динамики
—
в
их
соотношении
с
характером
пове
ствования.
Изменение
чувств
героя
Тургенев
изобра жае т
с
помощью
двух
мот иво в.
Мотив
«молодая вдова»
появляется
уже
в
перв ой
главе.
Господин
Н.
пребывает
на
берегу
Р ейна
пот ом у,
что
по
сле
разочарования
в
молодой
вдове
хочет
«вылечить»
не
очень
глубокую
ра ну
своего
сердца.
Этот
мотив
в новь
появляется
и
после
знакомства
с
Асе й: «...
в
течение
вечера
я
ни
разу
не
вспомнил
о
м оей
жес токо й
красавице...
Что
же
это
значит?..
Ра зве
я
не
влюблен?»(5,156),—
раздумывает
герой.
Новые
пе
реживания
постепенно
з ат мевают
старые,
и
память
о
вдове
все
больше
и
больше
тускнеет.
О
«жестокой красавице»
узнает
и
Ас я,
но
мотивация
ее
поведения
н амекает
на
во зни кно вен ие
у
нее
еще
неосознанного
чувства.
Образ
девушки
все
больше
и
больше
зан имает
воображение
героя,
и
память
в
вдове
по
мере
этого
мер к нет: «.. .достал
одну
из
ее
записок.
Но
я
уже
не
рас
к рыл
ее,
мысли
мои
тотчас
приняли
ин ое
на пра вле ние.
Я
начал
думать...
об
Асе» (5, 162).
И
тогда
параллельно
с
прежним
появляется
новый
м от ив: «сестра ли она его?
.. .она
ему
не
сес тра» (5,162).
Тургенев
соче тае т
зде сь
два
приема
психологи
чес к ого
изображения:
герой
исповедуется
в
своих
чувствах
и
мыслях,
но
автор
не
описывает
подробно
процесс,
происходя
щий
в
его
душе,
а
удовлетворяется
демонстрацией
жеста
(он
роняет
записку
вдовы)
и
мысли
(«она ему не сестра»), отра
140
жающих
во зн икно ве ние
нового
чу вс тва.
Мо тив
«молодая вдова»
ж ивет
до
тех
пор,
п ока
яв ляе тся
психологически
обоснованным.
Когд а
Ася
полностью
захватывает
воображение
господина
Н.,
он
больше
не
может
в о скр есить
память
о
вдове
и
прощается
с
ней
навсегда.
Существование
мотива
«сестра»
де лаетс я
ненуж
ным
после
сближения
ге роя
и
Аси.
Однако
господин
Н.
не
доводит
до
своего
сознания
значение
дв ух
мотивов,
не
отдает
себе
отчета
в
своем
чувстве
и
в
чу в
ств е
Аси.
Тургенев
приводит
ра сска з
Гагина,
со д ер жащий
в
себе,
по
су щест ву , «предысторию»
Аси,
улавливая
тонким
компози
цио нным
чутьем,
характерным
для
не го,
необходимость
этого.
После
разговора
брата
и
сестр ы,
случайно
подслушанного
и
неверно
истолкованного
г еро ем,
уже
яв ляетс я
псих оло ги ческ и
обоснованным
трехдневное
отсутствие
господина
Н.
Этот
новый
«перерыв»
подготавливает
качественное
изменение
событий.
Неосознанный
внутренний
п ыл,
а
по том
рожда ю щаяс я
п ер
вая
любовь
служат
причино й
противоположных
на стр о ений
Аси,
волнение
ее
чувств
у див ляет
и
ее
самое.
В
то
время
как
герой
не
стр еми тся
к
р азг адыв анию
своих
чу вс тв,
Ася,
напротив,
как
и
другие
ге р оини
Тургенева,
стремится
понять
таинственный
процесс,
происходящий
в
ее
душе.
Короткое
отсутствие
госпо
ди на
Н.
и
ра сска з
Га гина
об
Асе
разрушают
препятствия
между
героем
и
героиней:
господин
Н.
оче нь
многое
понимает
в
ха рак тере
девушки,
и
это
значит,
что,
хотя
мы
вид им
Асю
и
в
дальнейшем
с
его
поз иций,
эта
по зи ция
о казыв ает ся
уже
не
вне шне й,
потому
что
—
вследствие
совмещения
точек
зрения
писател я
и
расс казчи ка
—
он
рас кры вае т
и
т акие
черты
в
ге
роине,
которые
относятся
к
ее
внутреннему
миру .
Пок а
госпо
дин
Н.
в
н ачале
произведения
видит
ее
«извне», бросаются
в
глаза
ее
странности,
необычные
жес ты.
Рассказ
Гагина
о
ней
уже
приближает
нас
к
пони манию
ее
внутреннего
мира ,
и
то,
что
мы
узнаем,
дает
почувствовать
в озмо жн ость
трагического
финал а.
В
воо бра жен ии
Аси
возвышенные
чело в ечески е
стремления,
высокие
нравственные
идеалы
не
противоречат
н адежде
на
осу
ществление
лич но го
счастья,
напротив,
они
предполагают
друг
друга.
За роди в шаяся,
хотя
еще
и
не
осознанная
любовь
по мо
гает
ей
в
определении
с воих
идеалов.
Стремление
ощутить
во
сторг
полета,
самозабвенное
упо ение
вальсом
являются
лири
ческ им и
выражениями
желания
сч ас тья
и
полноты
жизни.
Она
требовательна
к
себе
и
нуждается
в
помощи
для
осуществления
своих
стремлений.
«Скажите мне,
что
я
должна
читать?
ск а
жите,
что
я
должна
делать?» (5,179),—
спрашивает
она
у
Н.
Однако
господин
Н.
не
герой,
каким
считает
его
Ася,
он
не
спо
собен
с ыграт ь
роль,
которая
ему
отводится.
В
к онце
концов
Ася
осознает
природу
своих
чу вст в,
но
эт о,
хотя
и
ложится
бреме
нем
на
ее
душу,
не
п ар ализу ет
ее
воли
и
способности
к
де й
ствию.
141
Господин
Н.
пер ежи вает
во зни кно ве ние
любви
иначе.
В на
ч але
он
набл юдает
Асю
как
художник.
Героиня
все
более
и
бо
лее
привлекает
его
внимание,
но
он
беспечно
наслаждается
с воим
положением
и
не
стремится
понять
природу
душевных
движений,
происходящих
в
их
сердцах.
Его
слова
точно
отра
жают
различие
между
душевным
состоянием
героев:
«Бодро шел я по знакомой дороге,
беспрестанно
п осмат ривая
на
издали
бе
левший
домик;
я
не
то лько
о
будущем
—
я
о
з авт раш нем
дне
не
думал;
мне
б ыло
очень
хорошо.
Ася
покраснела,
когда
я
вошел
в
комнату;
я
заме
ти л,
что
она
опять
пр ина ряд илас ь,
но
вы ражен ие
ее
лица
не
шло
к
ее
на
ряду:
оно
б ыло
печально.
А
я
пришел
таким
веселы м!» (5, 178).
Для
господина
Н.
возникающая
любовь
еще
означает
эстетиче
ско е
н аслаж дение,
а
для
Аси
—
таи нств енно е,
тяжелое,
отве т
ственное
и спыт а ние.
У
героя
возникает
жаж да
счастья,
однако
она
не
соч ет ает ся
с
выс ок им
нравственным
стремлением,
как
у
Аси.
Это
различие
между
гер оем
и
героиней
способствует
появле
нию
дистанции
между
рассказчиком
и
автором.
О
тождестве
по
зиций
автора
и
рассказчика
мы
можем
говорить
только
до
встречи
Аси
с
героем
у
фр ау
Луизы.
Н ачи ная
с
этого
мо мен та,
ав торс кая
оценка
во
многом
отличается
от
оценки
р асска зчи ка.
Критический
тон
связан
и
с
новым
посещением
Гагина.
Любовь
Аси
приводит
в
см у щение
господина
Н.: «...
неизбежность
ск о
рого,
почти
мг но венно го
решения
терзала
меня...» (5,184).
Та
кое
поведение
побуждает
Гагина
уехать
—
оценка
господина
Н.
пол уча ет
выражение
в
самом
сюж етн ом
действии,
в
его
куль
м инации.
И
в
повести
«Ася», как и в «Рудине»
и
«Фаусте», свидание
со ст авля ет
кульминационный
момент
произведения.
Похожа
и
ситуация:
инициатива
принадлежит
женщине.
Господин
Н.,
под об но
своим
предшественникам,
удивляется,
колеблется,
не
может
решиться
на
серьезный
поступок.
Тургенев
исследует
нравственно-психологический
облик
своих
героев,
и
свидание
является
завершающим,
ок он чат ел ьным
эпизодом
в
эт ом
иссле
довании.
Сцена
объяснения
протекает
с
драматической
б ыс тро
то й,
и
р ассказч ик,
сообщая
факты,
ра зоб лача ет
самого
себя.
Господин
Н.
еще
до
с вида ния
измучен
противоречивыми
ч ув
ствами.
Он
любит
Асю,
но
все-таки
собирается
проститься
с
не й.
В
первый
момент
о бъяс нения
он
по чти
уступает
своим
ес тест
венным
чувствам,
но
начинает
говорить
его
«гамлетовский»,
рефлексирующий
разум,
п р епятств у ющий
освобождению
его
по
рывов.
Обнаруживается
его
неспособность
пр ин ять
решение,
в зять
на
себя
ответственность,
он
вдруг
становится
щепетиль
ным
в
вопросах
своей
чести
и
самолюбия.
Наст у пает
решитель
ный
момент,
но
ге рой
не
готов
к
пр о изнесен ию
окончательного
слова,
упуская,
таким
образом,
навеки
возможность
с ча стья.
О
ду шев ном
состоянии
Аси,
о
глубине
ее
чувств
и
теперь
свидетельствуют
вн еш ние
пр оя вления
э мо ций:
ее
холодные
рук и,
142
бл едны е
губы,
отрывистые
предложения,
частое
дыхание,
по
том
—
в
короткие
моменты
сч аст ья
—
ее
шепот,
преданный
вз гляд ,
а
наступление
драматического
поворота
пр едсказы вает
ее
внезапное
рыдание
и
падение
на
колени.
Все
это
подчерки
вает
увеличение
дистанции
между
героем
и
героиней.
Краска
стыда
на
лице
Аси
и
ее
р ыд ание
являются
не
только
следствием
ее
разочарования.
Ася
осознает,
что
господин
Н.—
не
герой,
что
в
обмен
на
свою
преданность
она
получает
половинчатые
чув ст ва
и
малодушие,
а
в
обмен
на
свое
бескорыстие
—
эгоизм.
В
это й
стадии
повествования
по зиц ии
автора
и
г ер оя-расс каз
чика
расходятся.
Но
в
финале
их
точки
зрения
снова
сблизятся,
и
прои зойд ет
это
на
уровне
философского
осмысления
расска
занной
истории.
Природа
в
«Асе»
и меет
та кую
же
фу нк цию,
как
и
в
«По
ездке
в
Полесье»
и
«Фаусте» . Е е измене ния
отра жают
волнения
человеческой
души
как
психологическая
параллель.
Луна
при
стально
глядит
на
место
действия
с
ч ис того
неба,
и
город
чув
ствует
э тот
взгляд,
-тихо
волнующий
душу.
Природа,
жи вущ ая
своей
самостоятельной
жизнью,
отвечает
трепету
человеческой
души
и
тщательно
бережет
единс тво
своей
гармонии.
Это
ощ у
щает ся
в
первый
вечер
з нако мст ва
г ероя
и
ге ро ини,
ко гда
гос
подин
Н.
садится
в
лодку,
что бы
переехать
через
Рейн.
«Вы
в
лунный
столб
въе ха ли,
вы
его
разбили...» —
кричит
ему
де
вушка.
Через
несколько
мину т,
как
только
господин
Н.
прича
лил
к
др угом у
берегу,
водное
зерк ало
разгладилось
и
«лунный
столб
оп ять
тянулся
золотым
мостом
через
всю
реку» (5,156).
Гармония
тол ько
на
миг
прерывается,
ра з руше ние
«лунного
с толба »
толь ко
мгновение
колеблет
гармонию
в
природе,
но
к
тому
времени,
как
человек
переплывает
реку,
она
в о сста
навливается.
В
душах
Аси
и
господина
Н.
что- то
шевельну
лось:
нея сны й,
ин ст инкт ив ный
по иск
дороги
к
счастью.
Это
таинственное
звучание
природы
сохраняется
до
конца
произ
в едения .
Любовь
как
я влен ие
жизни
природы
подчинена
тем
же
зага
дочным
силам.
Ася
не
осознает
в
себе
капризной
и гры
таин
ст венных
си л,
и
о т части
эт им
вы званы
час тые
изменения
ее
на
строений.
Бессознательно
она
стре мит ся
к
полноте
жизни,
не
зная,
что
это
—
по
к о нцепции
автора
—
недостижимо.
Ее
стра
стный
танец
в ыраж ает
именно
это
же лани е
счастья.
Ко гда
же
она
осозн ае т,
что
влюблена,
ново е
чувство
бременем
ложится
на
ее
душу.
Тургенев
выражает
это
о пять
тол ько
при
помощи
«тайной психологии»: «.. .хоти т е,
я,
по-вчерашнему,
сыграю
вам
ва льс?» —
с пра шива ет
Гагин.
«—Нет,
нет, —
во зрази ла
Ася
и
стиснула
руки,—
сегодня
ни
за
чт о !..—
Ни
за
ч то,—
повторила
она ,
б л едн ея» (5, 180).
М ежду
«вчера»
и
«сегодня»
по я вля ется
огромное
психологическое
расстояние,
за
это
время
Ася
осо
з нает
сво е
чувство.
143
И
в
душе
господина
Н.
вспыхивает
ж ажда
счастья.
Правда,
стремления
к
полноте
жизни,
св ой ственно го
А се,
у
него
нет,
по
своему
психологическому
скл аду
он
не
может
не
относиться
скепти чески
к
достижению
этой
полноты.
Когд а
жажда
счастья
захватывает
его
целиком,
п ри рода
опять
дает
о
себе
знать:
«Въехавши на середину Рейна,
я
попросил
перевозчика
пус тит ь
лодку
вни з
по
течению».
Как
будто
бесконечный
жизненный
поток
уносит
г ероя
с
собой,
против
его
во ли,
и
он
оказывается
бесси ль ны м
п роти в остоять
ему.
Этот
мотив
«жизненного потока»
со
с воим
неудержимым
течением
звучит
и
в
других
произведе
ниях
Тургенева
(«Дым», «Вешние воды»).
Господин
Н.
ощущает
это
так:
«Я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце ...
по днял
глаза
к
не бу
—
но
и
в
н ебе
не
бы ло
покоя:
испещренное
звезд ам и,
оно
все
шеве
лилось,
двигалось,
содрогалось;
я
склонился
к
ре ке ...
но
и
та м,
и
в
эт ой
тем ной ,
холодной
глубине,
то же
колыхались,
дрожали
зве зды ;
тревожное
оживление
мне
чудилось
повсюду
—
и
тр ево га
росла
во
мне
са мом» (5, 177).
З десь
речь
и дет
не
тольк о
о
т ом,
что
беспо ко йс тво
души
героя
«проецируется»
на
природу.
Бесконечная
пр иро да
ведет
се бя
весьма
беспокойно
и
шлет
предупредительные
«сигналы»
тогда,
ког да
че лов ек
хочет
разгадать
ее
тайну,
когда
героям
кажет ся ,
что
их
малая
сила
поднимается
до
безграничности
природы.
То
сча сть е
и
гармония,
к
которым
стре митс я
чел ов ек,
уже
про
тивор е чат
воле
природы,—
считает
Тургенев,—
поэтому
непре
менно
р ассеи вает ся
обманчивая
возможность
осуществимости
счастья.
Ася
не
мож ет
пойти
на
ко м пр о м и сс: «Умереть лучше,
чем
жит ь
та к. ..» (5, 180),—
говорит
она .
Когда
приходит
разоча
рование,
она
пок ид ает
героя.
Счастье
недостижимо
и
для
госпо
д ина
Н.
Через
двадцать
лет
он
подводит
итоги
своего
жи зн ен
ного
опыт а:
«У счастья нет завтрашнего дня;
у
него
нет
и
вчерашнего;
оно
не
пом нит
прошедшего,
не
думает
о
будущем;
у
него
ест ь
настоящее
—
и
то
не
день,
а
мг новени е» (5, 191—192).
Однако,
хотя,
по
мнению
Тургенева,
судьбой
человека
управ
ляют
непостижимые
законы
природы,
жизнь
не
я вляет ся
без
условно
ф ат аль ной.
Есть
момент,
ко гда
чел ов ек
дол жен
сделать
выбор.
Своими
колебаниями
и
нерешительностью
господин
Н.
ли шает
самого
себя
и
Асю
возможности
с ча стья.
«Осужденный
на
одиночество
бессемейного
бобыля,
доживаю
я
скучные
го д ы.. .» (5, 195),—
говорит
он
о
своем
настоящем,
т.
е.
он
яв
ляется
чел о век о м, «потерпевшим кораблекрушение», как и Па
вел
Александрович
Б., герой повести «Фауст».
Такое
философское
истолкование
природы,
жизни,
любви
и
человеческой
судьбы
свойственно
миропониманию
не
столько
господина
Н.,
сколько
самог о
Тург ен ева .
Сплетение
то чек
зре
ния
расс казчи ка
и
автора
предопределяет
«вкрапление»
эт их
144
мыслей
в
миросозерцание
господина
Н.,
и
по
существу
они
яв
ляются
размышлениями
одновременно
и
самого
героя,
и
автора.
Ли ри ч еская
фо рма
повествования
с тира ет
в
этот
момент
г ра
ницу
ме жду
ним и.
Примечания
1 Анненков П.
В.
Литературные
воспоминания.
М. , 1960.
С.
424.
2 Норма,
к атастро фа,
ф инал
—
терминология
Фи шера .
См .:
Фишер
В.
Пове с ть
и
роман
у
Тургенева//Творчество
Тургенева:
Сб.
ст ат ей /Под
ре д.
И.
Н.
Розанова
и
Ю.
М..
Соколова.
М. , 1920.
С.
3—40.
3 Тургенев И .
С.
Поли.
с обр.
со ч.
и
писем:
В
28 т./Гл.
ред .
М.
П.
Алек
сеев.
Л ., 1960—1968. — С сыл ки
на
письма
по
этому
изд ани ю.
4 Тургенев И.
С.
Поли.
соб р.
с оч.
и
писем:
В
30 т.
М.,
1978. —
Ссылки
на
сочинения
по
этому
изданию.
5 Успенский Б.
А.
Поэтика
композиции:
Структура
художественного
текста
и
типология
композиционной
формы.
М. , 1970.
С.
109.
6А.
В.
Чи чери н
обр ащ ает
внимание
на
то,
что
между
определениями
«писатель все видит»
и
«все знает»
есть
значительное
различие.
В
том,
что
он
видит,
есть
известная
з агад ка.
См.
об
этом:
Чиче рин
В.
А.
Ри тм
об
раза.
М. , 1980.
С.
31.
Ю
З аказ
No
299
Ж.
ЗЕЛЬДХЕИИ-ДЕАК
ПОЗДНИЙ
ТУ РГЕН ЕВ
и
символисты
(К постановке проблемы)
В
настоящей
статье
я
хотела
бы
лиш ь
поставить
некоторые
проблемы,
важные
для
освещения
той
роли,
которую
сыграл
поздний
Тургенев
в
подготовке
н овых
художественных
веяний
рубе жа
XIX—XX
вв.,
и
прежде
всего
русского
символизма
А
На
рубеже
двух
веко в
во
многом
ме ня ются
симпатии
и
ан
типатии
чита ющ ей
публики.
К асает ся
это
и
оценки
творчества
Тург ен ева .
С
1890-х
годов
в
печати
начинают
появляться
н екото
рые
ре зко
от рица т ельные
суждения
о
нем:
ч асть
критиков
и
чи
т ат елей
счи тае т,
что
по
сравнению
с
произведениями
Толстого
и
Достоевского
тургеневские
творения
явл я ются
устарелыми.
Не
редко
появляются
недо бро жел ател ьны е
м нения
о
личности
писа
теля,
преувеличиваются
его
чело в ечески е
не дос татки .
Х отя
та
кие
вы сказы ван ия
по рою
имеют
место
и
в
ст атья х
критиков-
символистов
(например,
у
Мер ежк ов ск о го ), большинство крити
ков-символистов
высоко
оценивает
тв о рчес тво
Тургенева,
вер
нее,
определенные
а спек ты
этого
тв орче ств а.
В
первой
части
статьи
я
остановлюсь
на
наиб о лее
характер
ных
критических
работах
символистов
или
близких
к
ним
лите
ра то ров,
в
которых
появляются
новые
оценки
Тургенева
по
сравнению
с
критическими
статьями
прошлых
десятилетий
или
по
сравнению
с
оценками,
исх о дящим и
от
других
лите ра тур ных
на правл ений
той
же
эпохи.
Заслуживает
внимания
статья
талантливого
эссеиста
и
поэта
С.
А.
Андреевского,
которого
в
изве ст ном
смысле
можно
счи
тать
пре дт ечей
символистов.
В
статье
«Тургенев» (1892) Анд
ре евск ий
выступает
против
утилитарной
критики
1860—1880- х
годов,
оценивавшей
литературные
произведения,
в
том
числе
и
творения
Тург ен ев а,
с
точки
зрения
непосредственной
политиче
ско й
пользы2.
В
то
же
вре мя
Андр еевс кий
выступает
и
против
тех,
кто
считает
Тургенева
«отставшим»
от
но вых
требований.
Крит ик
пиш ет
о
том,
что
Тургенев
представляется
чит ате лю
конца
XIX в.
несколько
слащавым,
иск усст венным
и
манерным,
несмотря
на
поучительную
простоту
язы ка
и
его
художествен
ное
стремление
к
пр авд е.
Критик
с читае т,
что
Тургенев
—
поэт,
и
эт им
объясняются
все
его
каж у щиеся
недостатки
и
все
его
неоценимые
достоинства.
По
мнению
Андреевского,
рядом
©Ж.
Зел ьдх ей и-Деак, 1992.
146
с
Пу шки ным
и
Лермонтовым
Тургенев
всег да
о ст авался
вер ным
кр асот е,
в
то
же
вре мя
удивлял
публику
нео быкн о венн о
чутким
пониманием
современности.
Исследователь
высоко
ставит
и
те
произведения
Тургенева
{прежде всего «З а писк и
охотника»
и
ром ан ы), в центре кото
рых
ст оят
общественные
вопросы,
но
гл авное
внимание
он
обра
ща ет
на
позднего
Тургенева,
на
«таинственные повести»
и
на
«Стихотворения в прозе».
Он
пишет
с
большой
любовью
о
«До
вольно»
и
особенно
о
«Призраках» .
Оче нь
верным
я вляется
ок онч а тел ьный
вывод
Андреевского,
согласно
которому
«исто
рический»
Тургенев
—
чуткий
отразитель
изве ст ной
обществен
ной
эпохи
—
уже
исследован
вдоль
и
поперек.
Но
Тургенев
«вечный», Тургенев -по эт
не
в стре тил
еще
д олжн ого
изучения
и
объяснения,
не
за служи л
еще
подобающего
поклонения
и
во
сторга.
Лирическое
э ссе
Андреевского
б ыло
написано
в
1892 г., одно
временно
с
серией
до кладо в
Д.
С.
Мережковского
«О причинах
упадка
и
о
но вых
течениях
со вр еменно й
русской
литературы».
Эти
доклады,
напечатанные
в
1893 г .,
с читали сь
впо сл едст вии
программным
документом
русских
символистов.
В
них
Мереж
ко вс кий,
естественно,
рассматривает
тургеневское
творчество
л ишь
в
свя зи
со
своей
к о нцепцией
русской
литературы
в
цело м.
Он
зове т
к
борьбе
с
традициями
реализма
(отождествляемыми
им
с
н ат урали зм ом), выступает против подчиненности искусства
утилитарным,
дидактическим
за дача м.
В
от л ичие
от
Андреев
ского,
Мережковский
счи тае т
устарелыми
романы
Тургенева,
которыми,
по
его
мнению,
Тургенев
только
от дал
дань
мод е.
«Разработка политических тем,
жгучие
вопросы
д ня,
улавлива
ния
разных
веяний
в
больших
ро ман ах
Тургенева
с
такими
сен
сационными
заглавиями,
как
„Новь“,
„Отцы и дети“,
„Нака
нуне“,
„Вешние воды“,
начинают
ст аре ть,
дел ают ся
условными
и
чуж дыми
нам,
отодвигаются
на
второй
пла н,
и
пе ред
нами
все
более
и
более
выступает
другой,
немодный
и
з ато
не
с та
реющий
Тургенев...
автор
таких
произведений,
как
„Живые
мощи“,
„Бежин
луг“,
„Довольно“,
„Призраки“,
„Собака“
и
в
особенности
„Песнь торжествующей любви“
и
„Стихотворе
ния
в
пр о з е“»3. По мнению Мережковского,
Тургенев
—
утон чен
ный
ске пт ик
и
в
то
же
время
властелин
полуфантастического,
ему
одному
доступного
мира.
В
упомянутых
произведениях
Тур
генев,
считает
Мережковский,
подобно
Фету,
Тютчеву,
Ма йк ову,
Полон с ком у
продолжал
дело
Пушкина.
Он
—
великий
худ ож
ник-импрессионист,
истинный
провозвестник
но во го,
идеалисти
ческого
искусства.
Он
раздвинул
пределы
русского
понимания
красоты,
завоевал
целые
об лас ти
еще
невед ом ой
чувствитель
ности,
отк рыл
новые
звуки,
новые
стороны
русского
языка.
Восприятие
Мережковским
женских
образов
Тургенева
как
чи
сто
идеальных,
фантастических
вид е ний,
не
мог ущ их
существо
ва ть
в
реальности,
перекликается
с
той
восторженной
характе
10*
147
ристикой,
которую
дал
им
К.
Д.
Бальмонт
в
это
же
время
в
стихотворении
«Памяти И .
С.
Тург ен ев а» (1894) и впослед
ствии
в
статье
«Рыцарь Девушки- Ж енщины» (1918)\
К
«таинственным повестям»
Тургенева
было
с
детских
лет
привлечено
внимание
А.
Б елого : «Несколько раз ворвались из
пресного
нынеш не го
ми ра
я рч айшие
переживания:
по дс луша н
ное
чтение
вслух
„Призраков“
Тургенева,
отры в ков
из
„Демона“
и
„Клары Милич“»5.
В
центре
лирических
эсс е
И ннок ен тия
Анненс к о го,
пос вяще н
ных
«Кларе Милич»
и
«Странной истории» («Умирающий Тур
генев»
и
«Белый экстаз») 6, т.
е.
опя ть-т ак и
по зд ним
повестям
Тургенева,
находятся,
г ла вным
образом,
такие
черты
эти х
про
изв еден ий ,
которые
созвучны
собственной
лирик е
Анненского.
На
Клару,
например,
он
смотрит
как
на
симв ол.
По
его
мн е
н ию,
Кла ра
—
это
символ
тра ги зма
красоты,
которая
хочет
жить
и
ждать
воплощения.
Со
смертью
Клары
еще
раз
уходит
от
л юдей
Кр асо та,
невоплощенная
и
нелюбимая.
Этот
мотив
н ев озмож н ости
счастья
и
обреченности
красоты
органически
вп л ет ается
в
творческий
мир
Ан ненс к ого
—
критика
и
поэта,
разработавшего
в
с воих
произведениях
поэ ти ку
«невозможно
с ти»
и
«невозможного»7.
Уже
из
приведенных
выш е
высказываний
критиков-символи
стов
яс но,
чти
при
наличии
некоторых
общих
че рт
(скажем,
все
они
обращают
внимание,
гл авн ым
образом,
на
«таинственные
пове с ти»
и
на
«Стихотворения в прозе»
Тургенева)
их
суждения
далеко
не
однородны.
Например,
не
все
символисты
счи та ют
Тургенева
мистиком.
Даже
Мережковский
приводит
цитату
из
письма
Т урге не в а: «Я преимущественно реалист. . .
ко
всему
сверхъестественному
отношусь
равнодушно,
ни
в
какие
абсо
люты
не
верю»
—
и
толь ко
потом
д обав ляет: «Так в сознании,
но
не
так
в
во ле,
в
тво р честв е:
тут
про ника ет
он
в
т акие
г лу
би ны
религиозного
духа
народного
(„Живые мощи“), в какие,
может
бы ть,
не
пр оник али
ни
Л.
Толстой,
ни
Дост оев ский . .. »8.
Г.
И.
Чулков
ф ормул ируе т
свое
мнен ие
более
однозначно
(чтобы не сказать
—
грубо), когда он пишет о том,
что
Тургенев
никогда
не
мог
решительно
отвергать
религиозно-мистическое
начало:
всю
свою
жизнь
он
с тоял
в
некоторой
оппозиции
по
отношению
к
господствовавшему
материалистическому
движе
нию,
но,
как
осторож н ый
человек,
он
всегда
маскир о вал
св ои
тайные
ре ли гио зные
чаяния
полуулыбкой
культурного
евро
п ей ц а, «западника»
и
вольнодумца.
Одн ако ,
по
мнению
критика,
«умирающему писателю было уже все равно,
и
тогда
он
на пи
сал
„Клару Милич“,
в
которой
воплощено
то,
что
мучило
Тур
генева
где-то
в
глубине
сердца..
.»9.
Совсем
другие
поз иц ии
за ни мают
по
этому
вопросу
Андреев
ский
и
И.
Анненский.
По
мнению
Андреевского,
Тургенев
«со
зна в ал,
что
гра ницам и
вид имой
природы
и
действительности
зам ык ае тся
вся
жизнь
человека.
Поэтому
он
так
болезненно
148
л юбил
и
эту
родную
природу,
и
эту
драгоценную
жизн ь.
Нечто-
подобное
утверждает
И.
Анн енс к ий,
когда
пиш ет
о
повести
«Клара Милич»: «Я не думаю,
чтобы
Тургенев,
несмотря
на
свою
склонность
к
мистицизму
да же,
верил
в
бессмертие,—
оче нь
уж
он
старался
в
нем
уверять
других,
не
себ я
ли?»10
Но
лучшим
примером
того,
что
об
оценках
произведений
Тургенева
си мвол ис тами
нельзя
говорить
как
о
мнении
«модер
нистской
критики»
вообще,
являются
сравнительно
недавно
оп у
бликованные
С.
С.
Гречишкиным
и
А.
В.
Лавровым
письма
мол о
дого
Брюсова,
об ра ще нные
к
сестре,
Н.
Я.
Брюсовой,
и
посвя
щенные
разбору
произведений
Тургенева11.
Брюсов,
в
отличие-
от
большинства
других
символистов,
вовсе
не
считает
«таин
ст венн ые
повести»
и
«Стихотворения в прозе»
Тургенева
луч
ш ими
произведениями
писа те ля.
Гречишкин
и
Лавров
совер
шенно
спр аве дливо
з ам еч аю т: «Казалось бы,
так
называемые
„таинственные
повести“
Тургенева.
..
должны
были
вызвать-
у
Брюсова,
ст реми вш ег ося
в
своей
новеллистике
развивать,
схо д ные
мот ивы,
наибольший
ин те рес
и
наиболее
высокую
оценку.
А
между
тем
эти
произведения
расценены
им
как
н аи
менее
удавшиеся.
Романтические
и
предсимволистские
тенден
ции,
прослеживаемые
в
творчестве
Тургенева,
не
находят
у
Брю
со ва
того
сочувственного
отклика,
какой
обнаруживается
у
др у
гих
символистов»12.
В
отличие
от
некоторых
других
символистов,
например
от
Ме ре жков с кого,
Брюсов
старается
анализировать
произведения
Тургенева
в
исторической
перспективе,
он
не
пытается
модер
низировать
пис ате ля,
видя
в
Тургеневе
прежде
всего
м аст ера
реалистического
ис кусс тва,
а
наивысшие
его
д ос тиже ния
усм ат
ривает
там,
где
Тургенев
наиболее
последователен
в
выр аж ении
идей
и
художественных
пр инципо в
своего
времени13'.
Все
эт о-
надо
учиты ва ть ,
говоря
об
отношении
символистов
к
творчеству
Тургенева.
Целесообразно
также
более
дифференцированно,
чем
это
де
лалось
до
сих
пор,
р ассмат р иват ь
вопрос
об
односторонности
оце нок
произведений
Тургенева
символистами.
Правда,
ко гда
мы
читаем
некоторые
статьи
о
Тургеневе,
написанные
в
1860—
1880-е
го ды
и
сравниваем
их
с
интерпретацией
Турге не ва,
на
пример,
Мережковским,
то
создается
впечатление,
что
речь
ид ет
о
дв ух
разных
писателях.
«Один»
создавал
ценны е
романы
на
актуальные
политические
темы,
типические
образы
русской
дей
ствительности
тех
времен.
Главная
же
за слуг а
«другого»
в
том,,
что
он
был
автором
полуфантастических
р ассказ о в,
лирически-
импрессионистических
стихотворений
в
прозе.
Мережковский
и
некоторые
другие
символисты
были
действительно
односторон
ними,
когда
оценивали
Тургенева
с
«одного боку».
Но
наши
упреки
будут
несправедливыми,
если
мы
не
учтем
другую,
не
менее
бросающуюся
в
глаза
односторонность
«утилитарных»
критиков
второй
половины
XIX в.,
назв авш их
цен ным и
лишь
149
про изве д ения
«актуально -п оли ти чес ки е»
и
считавших
п оло сой
упадка
последние
два
десят ил ет ия
ж изни
Тург ен ева .
Поэтому
несомненная
за слуг а
символистов
в
то м,
что
они
обратили
вн и
мани е
читателей
на
тогда
еще
мало
исследованного
и
оценен
но го
«вечного»
Тургенева
(так называет автора « т аинст ве нны х
повестей»
и
«Стихотворений в прозе»
Андреевский).
Зада ча
тургеневедения
—
дат ь
более
точное
и
более
объективное
пред
ставление
об
отношении
символистов
и
родственных
им
по
духу
критиков
к
творчеству
Тургенева
в
целом.
О
близости
поздних
произведений
Тургенева
к
символизму
писали
не
только
сами
символисты,
но
—
в
разные
десятиле
тия
—
и
литературоведы
других
направлений.
А.
М.
Скабичев
ский,
например,
в
начале
ве ка
говорил
о
п оздн их
произведениях
Тургенева
как
о
далеких
от
строго
реалистического
ти па.
Целый
ряд
э тих
произведений
носят,
по
мнению
критика,
полуреали
ст ич ески й,
полусимволический
характер.
«Присоедините к ми -
ст иче ски -ф ан тасти чес кому
и
эксцентрическому
нач алу
значи
тельную
дозу
пес сими зма,
особенно
р езко
проявляющегося
в
„Довольно“
и
многих
стихотворениях
в
проз е, —
и
вы
согласи
тесь
со
мною,
что
на ши
символисты
имеют
некоторое
право
сч и
та ть
Тургенева
солидарным
с
известными
принципами
их
школы»14.
Гораздо
позже,
в
1918 г .,
С.
И.
Родзевич
приходит
—
на
ос
н ове
тщательного
ра збо ра
«Призраков», «Песни торжествую
щей
л ю б ви», «Клары
Милич »
и
некоторых
стихотворений
в
прозе
—
к
подобному
же
результату,
который
по дт вер жд ается
им
и
пластическими
п ар аллелям и
между
поздними
тургенев
скими
произведениями
и
западноевропейскими
литературными
явлениями15.
Он
отмеча ет,
что
Тургенев
был
зна ком
с
пр ои зве
д ени ями
английских
символистов
—
Россети
и
Суинберна,
что
ему
несомненно
б ыли
известны
нашумевшие
в
1857 г.
«Цветы
зла»
Бодлера
и
вообще
иде и
символизма,
исхо д ивш ие
из
кружка
Малл арм е.
Ро дзе вич
инт ересно
сопоставляет
«Клару Милич»
с
«Верой»
Вилье,
указывая
на
сходные
черты
и
на
различия
16,
ср ав нива ет
стихотворение
в
прозе
«Конец света»
со
«Слепыми»
Метерлинка
и
т.
д.
В
це лом
Родзевич
приходит
к
трезвому
вы
воду,
по
которому
сближение
некоторых
по зд них
рассказов
и
•стихотворений в прозе Тургенева с символизмом обусловлено
неопределенной
теорией
и
далеко
от
программности
мн огих
со
временных
символических
произведений.
В
статьях
Л.
В.
Пумпянского
очень
много
тонких,
ве рных
наблюдений
и
инт ер есны х
сопоставлений
расс каз ов ,
по вест ей
и
«Стихотворений в прозе»
Тургенева
с
западноевропейскими
произведениями
17.
Но
в
то
же
время
в
этих
статьях
отражаются
вульгарно-социологические
взгляды
авт ор а.
Он,
например,
ука
зывает
на
с вязь
«таинственных повестей»
с
р у сским
«импрессио
1150
низ мо м,
дилетантством
и
де к ада нс о м» («идеологические иеро
глифы
социальной
реакционности»)18.
Как
вид но
уже
из
э того --
полупредложения,
Пумпянский
оценивает
новые
русские
лите
ратурные
веяния
рубежа
XIX—XX
вв.
(по идеологическим сооб
ражениям)
абсолютно
отрицательно,
и,
таким
образом,
тот
факт,
что
Тургенев
готовил
для
них
почву,
тоже
освещается
Пум
пя нск им
в
отрицательном
плане.
Хот я
ученый
не
оспаривает
худ ож еств е нную
силу
«таинственных повестей» («Клару Ми-
лич», например,
он
пр ямо
наз ыв ает
шед евро м), но все же эту
группу
произведений
Тургенева
он
с чит ает
идеологически
вред
но й.
Он
уп р екает
писателя
в
«притязательно-д ог мат и че ск ом
и,
следовательно,
реа кц ион ном
характере
его
таинственного...»19.
Точка
зре ния
Пумп янск ог о
несомненно
предвещает
отноше
ние
определенной
ча сти
советских
литературоведов
к
«таин
ственным
повестям»
в
последующие
десятилетия.
Вообще, «та
инственные
повести»
и
«Стихотворения в прозе»
исследовались-
в
СССР
в
1940—1950-е
годы
весьма
ма ло.
«Таинственные пове
ст и»
считал и сь
второстепенными
и
несколько
«подозритель
ными»
произведениями,
что
б ыло
связано,
не
в
последнюю
очередь,
с
не
особенно
положительным
отношением
и
к
ли те ра
турной
фантастике
вообще.
Предысторию
такого
отношения
к
фантастическому
надо,
пожалуй,
искать
в
вы сказ ы вания х
Бе
линского,
которого
настраивает
против
литературной
фантастики,,
наверное,
то,
что
она
исторически
восходит
к
«мечтательному»
романтизму.
В
разгаре
полемики
против
романтизма
Белинский
принципиально
отрицал
фантастическое
начало
в
литературе,
к оторое
он
счи тал
иррациональным,
мистическим.
Об
этом
св и
детельствуют
многие
его
вы сказы ван ия
(о «Портрете»
Гоголя,
о
«Сильфиде»
и
«Саламандре»
Одое вског о ,
о
«Двойнике»
До
ст о евско г о ) 20. Это осуждающее отношение к таинственным,
фан
т асти че ским
элементам
продолжается
в
суждениях
многих
радикальных
писателей
и
критиков
1860—1880-х
годов
о
«таин
ств енн ых
повестях»
Тургенева.
В
качестве
примера
можно
пр и
вести
мне ние
А нто но вича
и
Писар ева
о
«Призраках», Салты
кова-Щедрина
о
«Собаке»,
резкую
кри ти ку
Михайловским
«Песни торжествующей любви»
и
т.
д .21
В
советское
время,
точнее,
начиная
с
30- х
годов,
такое
чисто
«идеологическое»
отношение
к
фантастическому,
таинственному
продолжалось
в
теч ение
десятилетий.
При
этом
не
обращалось
внимание
на
художественные
функции
«таинственного», а мно
гих
исследователей
интересовал
прежде
всего
вопрос,
был
ли
Тургенев
мистиком.
Если
да,
то
его
«таинственные повести»
оцениваются
как
вредные.
Если
нет,
то
надо
д ока зать,
что
в
них
нет
ничего
по-настоящему
таинственного
и
все
кажу щи еся
таин
ст венным и
моменты
могут
получить
ра циона льное
объяснение22..
С
одной
стороны,
правы
исследователи
(Г.
А.
Бялый,
А.
Б.
Му
ратов,
Л.
Д.
Усманов,
М.
А.
Турьян), связывающие «таинствен
ное »
у
Тургенева
с
б оль шим
интересом
писателя
к
новым
ре
15Е
зультатам
есте ствен ны х
нау к
и
к
явлениям,
не
по лу чи вшим
еще
науч но го
объяснения.
Но,
с
другой
стороны,
это
во все
не
объясняет
все
«таинственные»
элементы
в
рассказах
Тургенева
(вспомним,
например,
появление
из
сна
«отца»
героя
в
рассказе
«Сон»
или
воскресение
Муция
в
«Песне торжествующей любви»).
Из
вы шес каз а нного
следует,
что
важная
ча сть
т вор чес тва
Тургенева,
готовящая
почву
для
символистов,
долгое
в ремя
отодвигалась
на
второй
план.
К
сч аст ью,
в
1970-е
годы
отно
шение
к
фантастическому,
таинственному
за м етно
меняется
—
об
этом
св идете л ьств у ют,
например,
одновременно
вы шедши е
статьи
Н.
В.
Измайлова
«Фантастическая
по вест ь»
и
Ю.
В.
Ма нна
«Эволюция гоголевской фантастики»23.
В
дальней
шем
в
Советском
Союзе
увидели
свет
многочисленные
работы,
расс мат ри вающ ие
«таинственные
повести»
дифференциро
ва нно, —
из
них
я
отмечу
ли шь
к нигу
А.
Б.
М урат ова24, а также
прим еч ания
и
вводные
статьи
в
замечательном
академическом
изд ании
Полного
собрания
сочинений
и
писем
Тургенева25.
Но
вопрос
о
свя зи
позднего
Тургенева
с
символистами
долго
не
ставился
еще
и
по
другой
прич ине ,
а
именно
п от ому,
что
—
опять-таки
по
внелитературным,
идеологическим
с ообр аже
ния м
—
новаторская
роль
символистов
в
процессе
развития
рус
ско й
литературы
не
получала
должной
о ценк и.
(И в этом отно
ше нии
произошли
большие
сдвиги
—
я
имею
в
виду,
например,
работы
Д.
Е.
Максимова, 3.
Г.
М инц,
А.
В.
Лаврова,
Л.
Сила рд ,
Л.
Долгополова,
С(і
Ильева
и
дру ги х 26.)
И,
наконец,
объективное
решение
проблемы
б ыло
невоз
можно
до
тех
п ор,
пока
—
в
годы
пресловутой
«борьбы против
ко см опол ит из ма», определенное
влия н ие
которой,
стремление
к
«изоляционизму»
чувствуется
иногда
даже
в
н аши
дни
—
было
исключено
или
затруднено
сопоставление
русских
произ
в еде ний
с
западноевропейскими.
Это
особенно
осложняло
уясне
ние
того,
как
мог
Тургенев,
начиная
уже
с
1860- х
годов,
гот о
вит ь
поч ву
для
будущего
хода
литературного
развития.
П равд а,
к
из уч ению
«таинственных повестей»
ведут
разные
пути.
Книга
немецкого
ученого
В.
Кошмала,
например,
до ка
зывает
плодотворность
анализа
«таинственных повестей»
и
«Стихотворений в прозе»
в
контексте
внутреннего
развития
твор че ст ва
Тургенева27.
Также
необходимо
и
ва жно
изучение
места
«таинственных повестей»
в
русской
литературе28.
Несо
мненно
прав
А.
Б.
Муратов,
ког да
пише т
в
связи
с
поз д ним
творчеством
Тургенева: «Дело было не в том,
что
у
Тургенева
„хватило“
материалов
только
для
двух
романов,
а
в
то м,
что
всегда
чуткий
к
новым
тен де нци ям
времени
писатель
почувство
вал
н ас тоят ельн ую
потребность
в
по иск ах
новых
тем
и
новых
путей
в
и скусс тв е»29.
Однако
од ним
тольк о
складом
таланта
Тургенева
не
может
б ыть
объяснен
тот
факт,
что
именно
он
создал
рассказы
(и стихотворения в прозе), в известном смысле
предваряющие
русскую
литературу
эпохи
«рубежа веков» .
152
Мне
кажет ся,
что
абсолютно
необходимо
ра ссм атри ва ть
по здн ие
р ассказ ы
и
повести
Тургенева
с
точки
зрения
его
взаи
моотношений
с
нем ецки ми
и
французскими
писателями.
Свое об
разная
роль
Тургенева
в
русской
литературе,
безусловно,
свя
за на
с
его
«двойной»
жи знь ю:
до
кон ца
своих
дней
он
писал
на
русском
языке,
в
большинстве
случаев
о
русских
г ероях,
все
время
внимательно
следил
за
русскими
со бы тиям и,
за
русскими
литературными
дискуссиями,
за
появлением
нов ых
талантов,
но
в
то
же
время
он
был
теснейшим
образом
связ ан
с
современ
ной
ему
немецкой
и
особенно
французской
литературами;
он
был
акти вны м
уча стнико м
французской
литературной
жи з ни,,
членом
кружка
«пяти», близким другом Флобера,
обр азу я
как
бы
мост
между
французской
и
русской
литературами30.
Не
в
последнюю
очередь
эт им
о бъяс няет ся,
на
мой
взгляд,,
ро ль
Тургенева
в
подготовке
будущего
движе ни я
русской
ли
тературы:
самобытный
и
оригинальный
писатель,
он
одн им
из-
первых
отреагировал
на
такие
тенденции,
которые
уже
в
50—
70- е
годы
прошлого
столетия
получили
во
французской
ли тера
туре
более
определенное
выражение,
чем
в
России,
где
подобные
веяния
возникли
несколько
позже,
на
рубеже
дв ух
стол е тий ..
В
современной
Тургеневу
русской
литературе
р о мант ич еская
таин стве нно сть
уже,
а
таинственность,
характерная
для
импрес
си онист о в,
символистов
еще
не
играла
настоящей
ро ли.
В
то
же-
время
«таинственные повести»
Турге не ва,
получив
столь
отр и
ца тел ьную
о ценку
в
русской
критике
60-80-х
годов
XIX в.,
вовсе-
не
зв уч али
диковинкой
в
Западной
Европе,
где
уже
в
предшест
вующие
десятилетия
уси лив ал ся
инт ерес
к
«таинственным»
явлен и ям
человеческой
психики.
В
новеллах
лич но
з н ак омого-
с
Тургеневым
Т.
Шторма,
например,
много
близких
к
тургенев
ск им
повестям
таинственных
м оти в ов31.
В
европейской
литера
туре,
предшествующей
тургеневским
«таинственным повестям»,,
также
как
и
в
современной
им
литературе,
нередко
получали
место
таинственные,
фантастические
элементы.
Я
им ею
в
виду,,
например,
некоторые
произведения
Бальзака,
Мер и ме,
Готье,
Нодье,
Нерваля,
Вилье,
Мопассана
(Франция), Джорджа Эллио
та
и
Генр и
Джеймса
(Англия). (Вопрос
о
воз можн ом
во з дей
с твии
«таинственных повестей»
Тургенева
на
произведения
по
добного
характера
Мопассана
и
Джеймса
еще
должен
быть
из учен 32.)
Весьма
характерно,
ч то,
ког да
Мериме
н апеч атал
в
собствен
ном
пе рев оде
пять
повестей
Тург е не ва,
три
из
них
—
«Призраки»,.
«Собака»
и
«Странная история»
—
были
из
круга
«таинствен
ных
повестей».
Выпу щ енный
Этце ле м
сборник
рассказов
Турге
нева,
увидевший
све т
в
т еч ение
д вух
лет
(1873—1874) в трех
из да ниях,
как
на
это
указывает
заглавие,
содержит
не ма ло-
«таинственных»
или
примыкающих
к
ним
рассказов33.
О
раз
нице
между
оценкой
«таинственных повестей»
русскими
и
фран
цуз скими
писателями
свидетельствует,
между
прочим,
след у ю-
153
щий
факт:
д аже
бл изк ий
к
Тургеневу
Анненков
п рен ебр ежи
тельно
отозвался
о
предстоящем
переводе
повести
«Стук. ..
стук...
стук...»
на
ф ра нцузс кий
язык
в
письме
Стасюлевичу:
«...
пускай
переводят,
тем
более,
что
сл абые
вещи
Тургенева
на
вкус
русской
публики
оказываются
хорошими
на
вкус
фра н
цу зско й» (10, 505).
А
вот
отзыв
Флобера
об
этом
же
произве
дении
и
о
«Несчастной», примыкающей к группе « т аи нс т вен ны х
повестей»: «Я не думаю,
что
Вы
когда-нибудь
п оказали
с ебя
лучшим
поэтом
и
лучшим
психологом.
Это
—
ч удо,
шедевры!
И
какое
ис ку с ст во!»34
Достоевский
и
С тра хов
б ыли
е дино ду шны
в
т ом,
что
«Не
счастная»
—
слабый
рас ска з.
Страхов,
констатируя
мастерское
ис пол нен ие
Тургеневым
отдельных
мест
этого
произведения,
считает,
что
«Несчастная»
—
од на
из
самых
несовременных
ве
щей
Тургенева,
написанных
«сентиментально-рома нти ческ им
ст ил ем », и Достоевский разделяет это мнение (10, 460).
В
то
же
время
по
мнению
Флобера
рассказ
—
«первоклассное про
изв еден ие», герои которого (ос о бе нно
героиня)
его
оча р ова ли,
и
некоторые
сцены
(например,
похороны
Су сан ны)
вызвали
его
в о схищ ен ие35.
По
мнению
Мер им е, «нет ничего более ужасного
по
правдивости,
чем
эта
по вест ь » (10, 460); Мопассан причис
ляет
«Несчастную»
к
шедеврам
Тургенева,
а
о
рассказах
п иса
тел я
и
о
таин стве нно м
вообще
он
отзывается
следующим
обра
зо м : «Никто лучше великого русского писателя не умел пробу
дит ь
в
ду ше
трепет
перед
неведомым,
по каз ать
в
причудливом
таинственном
рас ска зе
целый
мир
пугающих,
таинственных
об раз ов»36.
Время
импрессионистической,
символистской
фантастично
сти
наступало
в
русской
литературе
на
рубеже
XIX—XX
вв.
Б оль шой
интерес
к
гипнозу,
галлюцинациям,
снам
и
переход
ным
со сто яни ям
ме жду
сном
и
яв ью,
играющий
такую
важную
ро ль
в
поздних
тургеневских
рас ска зах
и
повестях,
а
также
в
некоторых
стихотворениях
в
прозе
Тургенева,
характеризует
на
«рубеже веков»
главным
об ра зом
символистов,
но
кроме
них
и
писателей,
не
относящихся
к
их
гр уппе ,
например
Леонида
Андреева
или
Алек сея
Ремизова.
Ближе
всего
к
тургеневскому
пониманию
таинственного
(несмотря на то что,
как
мы
видели,
молодой
Брюсов
не
любил
«таинственных повестей»
Тургенева)
стоит,
по жа луй,
именно
Брюсов37.
Например,
в
рассказах
«Теперь,
когда
я
проснулся»,
«Мраморная головка», «Защита»
и
в
некоторых
других
импрес
сио ни стиче ски х
произведениях
Брюсова
в
центре
внимания
на
ходятся
галлюцинации
героев,
в
них
стирается
грань
между
сн ом
и
явью,
жизнью
и
фантазией.
В
них
нередко
повествуется
■о фантастических переживаниях,
интерпретацию
которых
Брю
сов,
как
часто
и
Тургенев,
в
большинстве
случаев
пр едо ст ав ляет
читателям.
Это
сходство,
очевидно,
свя зан о
и
с
общностью
ис
точников.
Брюсов
одн им
из
первых
указал
(в уже цитирован-
154
них
ранних
письмах)
на
связь
между
«таинственными пове
стями»
Тургенева
и
произведениями
Эдгара
По
38.
Сам
же
Бр ю
сов
тоже
испытывал
в
некоторых
своих
произведениях
влияние
американского
писат е ля.
В
предисловии
к
«Земной оси»
он
да же
извиняется
за
это: «Никто не знает лучше меня и острее
меня
не
чувствует
недостатков
эт ой
книги.
Я
со знаю,
что
в
та
ких
ра сск азах,
как
„Республика Южного креста“
или
„Теперь,,
ког да
я
проснулся“
сли шк ом
сильно
сказы в ае тся
в лия ние
Эдгара
По. . .»39.
В
этом
же
предисловии
Брюсов
указывает
и
на
другую
особенность
большинства
св оих
р ассказ ов ,
а
именно
на
то,
что
в
них
он
преломляет
события
«сквозь призму отдель
ной
ду ши », смотрит на них « гл азами
другого». «Мне
казалось,
нужным
в
большинстве
случаев
дать
говорить
за
с ебя
другому:
итальянскому
новеллисту
XVI века,
фельетонисту
бу дущи х
ст о
летий,
пациентке
психиатрической
лечебницы,
утонченному
ра з
вратнику
грядущей
Революции
и
т.
д.
Само
соб ой
разумеется,,
б ыло
бы
в
высшей
степени
невер н о
отождествлять
все
эти
раз
ные
„я“
с
лично с тью
ав т ора»40.
Такой
же
пр инци п
хара ктери
зу ет
и
ча сть
р ассказ ов
и
повестей
Тургенева,
в
том
числе
и
не
которые
поздние
произведения:
в
«Собаке»
события
передаются
суеверным
помещиком,
в
«Песне торжествующей любви»
—
ит а льянс ким
летописцем
старых
времен,
в
«Странной истории»
и
в
«Несчастной»
—
молодым
дв оряни ном ,
наблюдающим
за
происшествиями
со
стороны.
В
результате
этого
метода
оба
автора
как
бы
скрываются
за
своими
нарраторами
и
не
д ают
объяснения
изображаемых
явл ени й
от
своего
имени41.
Тургенева
можно
сопоставить
прежде
всего
со
«старшими»
символистами42.
Так,
например,
Д.
Е.
Максимов
указывает
на
склонность
Брюсова,
Мережковского,
Минского
к
ал л его риз му43.
Такая
же
те нд енц ия,
наме чав шая ся
в
русской
литературе
уже
раньше
(Салтыков-Щед р ин,
Га р шин,
То лс то й), характеризует
некоторые
поздние
повести
Тургенева
(например,
аллегория
смерти
в
«Призраках», аллегорические сны,
предсказывающие
смерть
ге роя
в
повести
«Степной король Лир», в « С ме рт и
Чер
топханова»
и
т.
д. ).
Особенно
м но го чи сленны
аллегорические
образы
в
«Стихотворениях в прозе», определенный дидактизм
которых
противоречит
и м пре ссио нис тским
чертам
этих
ми ниа
тю р.
На
нечто
подобное
указывает
Д.
Е.
Максимов,
характери
зуя
поэзию
Б р юс ова : «Суггестивная выразительность импрес
сионистического
сти ля
давалась
Брюсову
д алеко
не
всегда,,
хотя
он
и
старался
ею
овладеть.
Эмоционально-импрессионисти
ческие
формы
Брюсов
отяжел ял
логикой,
которой
они
по
сво ей
с ути
были
чужды»44.
Максимов
пи шет
о
то м,
что
ин тер ес
Б рю
сова
«к таинственному», к загадочным явлениям не подлежит
сомнению.
Однако
этот
инт ер ес
глубоко
отличался
от
того-
«чувства тайны»
и
культа
тайны,
которые
б ыли
характерны
для
поэтов
соловьевской
ориентации.
«Тайна», которую он страстно
искал
во
всех
пр оя вления х
природы
и
жизни,
была
лишена,
1551
в
отличие
от
их
«тайны», «априорно постулируемого религиоз
ног о
содержания»45.
И
Тургенева
и
Брюсова
их
тайны
п ри вле
кают,
как
позитивистов,
с
познавательной
стороны,
и
в
то
же
вре мя
изображение
«таинственных»
явлений
служит
у
обоих
•созданию определенных настроений,
т.
е.
яв ляется
художествен
ным
пр иемо м.
Интересно,
что
Брюсова
да же
в
спиритизме
при
тягивало
его
в нешн ее
сходство
с
экспериментальной
на укой46.
Как
Тургенев
в
«Кларе Милич», так и Брюсов изображает об
щение
мертвых
с
жи выми 47.
Ра зница
между
ними,
о днак о,
в
то м,
что
Тургенев
неоднократно
отзывается
иронически
о
сп и
ритизме
(например,
в
письмах
и
в
романе
«Дым»); но в «К л аре
Милич»
он
да ет
возможность
двойного
объяснения:
читател ю
предоставляется
ре шение
т ого,
и дет
ли
ре чь
о
гал л юцин ация х
Аратова
или
Клара
все-таки
является
ему
и
уводит
с
с обой
на
тот
свет.
Бли же
всего
к
методу
изображения
импрессионистской,
сим
волистской
прозы
рубежа
XIX—XX
вв.
подходит,
по жал уй,
«Сон»
Тургенева48.
Сны
играли
большую
роль
не
только
в
п ро
изведениях
Тургенева,
но
и
в
творениях
его
современников
(Тол
сто го,
Д остое в ског о), однако в отличие от них в повести « С он»
об раз,
во зникши й
во
сне,
переходит
в
действительность.
Это
единственный
такой
с лучай
в
творчестве
Тургенева,
и
он
во все
не
характерен
для
русской
литературы
1870-х
годов.
Распро
страненным
такой
переход
сна
в
действительность
станет
уже
в
прозе
рубежа
веков,
в
чем
можно
убедиться,
перелистав
ве
дущие
журналы
эпохи.
Так,
например,
герой
рассказа
Соло
гу ба
«Рождественский мальчик»
так
же,
как
и
ищущий
своего
отц а
герой
«Сна», следуя зову таинственного мальчика,
отправ
ляется
и
находит
ту
улицу
и
тог о
мальчика,
которого
он
видел
во
сне.
Так
же
встречаются
сон
и
действительность
и
в
ра сск азе
С.
Ауслендера
«Филимонов день», в центре которого
—
в осст а
ние
декабристов.
В
прозе
рубежа
веков
гер ой
н ер едко
живет
двойной
жизнью,
и
трудн о
с казать,
которая
из
них
—
н ас тоя
щая
жизнь
и
которая
—
сон .
Так
строится,
например, «Флор и
разбойник»
М.
Кузмина,
нет
острой
грани
между
сно м
и
явь ю
в
рассказе
Брюсова
«В башне», и т.
д.
Подобного
произведения
Тургенев
не
со здал,
такой
адекватностью
сна
и
действительно-
•сти не отличается даже « Со н», ближе всего подошедший к рус
ской
прозе
рубежа
веков.
В
произведениях
Тургенева
с
самого
н ачала ,
но
особенно
в
по зд ний
период
большую
роль
играет
роковая
любовь,
к ото
рая
упод об ляе тся
непреодолимой
болезни.
Крупный
венгерский
кр ити к,
Антал
Серб,
писал
об
этом: «Он [Тургенев]
р асс матр и
вает
любовь,
по до бно
Бо длер у
и
поэтам
конца
столетия,
как
роковую
болезнь,
разрушающую
структуру
души»49.
Такой
ро
ковой
с илой
из ображ ается
любовь
и,
например,
в
«Огненном
ан гел е»
Брюсова,
в
«Алтаре победы»
и
в
др угих
его
произве
д е ниях.
По
мнению
Л.
К.
Долгополова,
двойственность
проти
456
вопоставленных
д руг
др угу
ж енс ких
образов
«Вешних вод»:
ми лой,
чис той
Джеммы
и
р азвр ащенн ой ,
агрессивной
Полозо
в ой—
воплоща е тся
вно вь
в
др аме
Бл ока
«Песнь судьбы»50.
Заслуживает
внимания,
что
Тургенев
ча сто
обращается
к
символам
или
к
ал лего рия м
тогда,
ко гда
пи шет
об
о с новных
закономерностях
жизни.
Об
аллегориях
смерти
уже
бы ла
ре чь
выше .
В
«Песне торжествующей любви»
музыкальный
мотив
становится
символом
страсти,
но
и
кроме
этого
символического
ле йт мо тива
появляются
п р едмет ы- си мвол ы 51. «Песнь
т оржес т
вующей
любви»
Тургенева
—
первая
в
русской
литературе
ст и
ли зац ия
итальянской
новеллы
эпохи
Возрождения52.
Это
про
изве дени е,
по до бно
мног им
другим
поз д ним
рассказам
Турге
н ева,
не
б ыло
по
достоинству
оце не но
современной
писателю
русской
критикой.
Но
Тургеневым
была
со здан а
традиция,
ко
тора я
пр одолж алас ь
опять-таки
на
рубеже
XIX—XX
в в.,
ко гда
по
инициативе
художников,
пр ежде
всего
представителей
группы
«Мир искусства», началась настоящая волна «ре трос пе к
тивных
стилизаций».
Сомов,
Бакст,
Бену а,
Д об ужинск ий
и
дру
гие
художники
с оздав али
целый
ряд
картин,
которые
воссоз
д ают
не
то лько
атмосферу
разных
прошедших
периодов
жизни
России,
Франции,
Италии,
но
и
некоторые
художественные
осо
бенно ст и
искусства
изображаемой
эпохи.
Наряду
с
ху до жни
ками
и
писатели
создают
многочисленные
и
очень
интересные
сти л из ации
разных
типов.
Поэ тому
р у сский
ру беж
XIX—XX
вв.
не
без
основания
наз ываю т
эпохой
с тилиз ации53.
Наряду
со
с тилиза цией
разных
э пох
(например,
античности:
Б акст,
Серов,
Брюсов,
Ку зми н;
мира
фольклора
и
древней
русской
истории:
Рерих,
Нар бу т,
Ремизов,
Сологуб;XVIIIиначалаXIX
в.:
Со
мо в,
Бенуа,
Серов,
Добужинский,
Кузмин,
Мережковский,
Ау с-
л ендер ,
Брюсов,
Садовской)
поя вляю тс я
и
стилизации
Возро
ждения
(Сомов,
Брюсов,
Гумилев,
Мережковский,
Ауслендер).
Ср еди
них
выделяется,
н а п ри м ер, «В подземной тюрьме»
Б рю
сова,
где,
так
же
как
и
в
стилизации
Во зр ожд ения
у
Мережков
ского,
Ауслендера,
возникают
ас соц иа ции
с
«Песнью торже
ствующей
любви»
Т урге не ва.
«Песнь торжествующей любви»
—
самая
изве ст на я,
но
вов се
не
единственная
ст ил изац ия
Тургенева.
В
1877 г.
увидели
свет
в
переводе
Тургенева
«Легенда о святом Юлиане Милостивом»
и
«Илиада»
Флобера.
Кропотливо
раб ота я
над
переводом
фло
беровских
тексто в,
Тургенев
пересоздал
их
на
русском
языке,
ор ие нтиру ясь
на
русскую
житийную
литературу
и
на
былину,
и
искусно
сотворил
а рх аизир ованны й
русский
текст54.
Эти
пе
реводы
пр едстав ля ют
для
нас
инт ерес
не
только
как
стилиза
ции:
они
одновременно
свидетельствуют
о
то м,
что
Тургенев
в сяче ски
хотел
по пуляр изиро ва ть
в
России
«другого Флобера»,
которого
его
фр анцу зс кие
современники
не
оценили
по
заслу
гам
и
которого
то
и
де ло
пр от иво пос тавля ли
автору
«Госпожи
Бовари».
Тургенев
—
очевидно,
первым
в
России
—
о бращ ает
157
внимание
на
такие
произведения
Флобера,
которые
позже
полу
чили
особенно
высокую
о ценку
у
импрессионистов,
символистов..
«Искушение святого Антония»
и
«Иродиада»
ока зали ,
напри
мер,
сильное
воздействие
на
Оскара
Уайльда,
«Саламбо»
и
«Иродиаде»
отдали
дан ь
все
последующие
стилизаторы.
Не
м огу
считать
случайностью,
что
Брюсов
писал
3.
И.
Гржебину:
«.. .напечатаете ли
вы
переводы
Тургенева
„Юлиана“
и
„Иро
диады“?
Соблазнительно
потягаться
с
Тургеневым,
но
и
оп а сно . ..»55.
Тургенев
при ло жил
огромное
усил ие,
чтобы
напеч атат ь
на
русском
языке
«Искушение святого Антония» (этот план не осу
ществился).
По
замечанию
Н.
Мостовской,
Тургеневу
был
б ли
зок
ске птиц изм
произведения
Флобера,
и
в
то
же
время
его *
пр ив лек ала
художественная
символика,
фа нт асти ка,
сов падаю
щая
с
его
собственными
п о исками
в
1870—1880-е
год ы56.
Инт е
ресно,
что
Тургенев,
который
вскоре
н ачал
работать
над
своими
стихотворениями
в
прозе,
называет
«Искушение святого Анто
ния» «фантастической поэмой в прозе»57.
Еще
более
вырази
тельно
свидетельствует
о
стремлении
Тургенева
представить
многостороннего
Флобера
тургеневское
пре дис л овие
к
пе ре во
дам
легенд
французского
п исател я
(предисловие написано
в
форме
письма
к
редактору
журнала
«Вестник Европы»): «Ле
генды
эти,
бы ть
может,
во збуд ят
некоторое
изумление
в
ру с
ски х
читателях,
которые
не
то го
ож ида ют
от
человека,
п ро
возглашенного
гла вою
французских
реалистов
и
наследником
Бальзака.
Но
я
полагаю,
что
яркая
и
в
то
же
вре мя
гармони
чески
стройная
поэзия
этих
легенд
возьмет
св ое
и
п об едит
пре
дубеждение
чи та тел ей» (15, 212).
В
эт ом
предисловии
Тургенев
явно
отождествляет
себя
с
Флобером:
в
последние
деся т иле тия
ж изни
он
ча сто
жаловался
на
то,
что
русские
кр ит ики
исходят
при
о ценке
его
нов ых
произведений
из
его
более
ранних
тв о
ре ний,
считая
их
какой-то
«нормой»
и
рассматривая
его
позд
нейшие
попы тк и
и зобража ть
явления
мира
по-но вом у
как
от
ход
от
эт ой
норм ы.
В
1877 г .,
например,
он
пише т
Флоберу
по
поводу
восприятия
«Нови»: «Газеты находят,
что
я
выдохся,
и
б ьют
меня
мо ими
же
старыми
сочинениями
(какВасбьют «Гос
по жой
Бовари»)» (П., 12,432).
Это
относится
не
только
к
«Нови», но и к поздним рассказам Тургенева.
В
ито ге
мож но
ск аза ть,
что
продуманная
и
интенсивная
деятельность
Турге
нева,
направленная
на
популяризацию
современной
ему
фран
цу зско й
литературы
в
Ро сс ии,
продолжится
программным
обр а
щен ием
старших
символистов
(особенно Брюсова)
к
той
же
французской
литературе.
Я,
конечно,
вов се
не
желала
чре змерн о
сближать
или
ото
жд еств лять
художественные
приемы
позднего
Тургенева
и
п ред
ставителей
литературы
рубе жа
веков,
Тургенев,
например,
более
подробно,
чем
Брюсов,
описывает
бытовую
среду
героев,
г ал
люцинации
которых
он
передает
читателю,
более
тщ ательн а
158
объясняет
эти
га л люцина ции
предысторией
не
только
данных
•героев,
но
и
их
предков.
Р азуме етс я,
у
Тургенева
и
реч и
не
мо
жет
бы ть
о
т аких
не
сво йст венны х
классической
русской
ли те
ратуре
эротических
элем е нтах ,
которые
вводятся
в
русскую
ли
тературу
лиш ь
на
рубеже
XIXиXX
столетий.
У
Тургенева
фан
тастическое,
таинственное
никогда
не
вопл ощае т ся
в
т аких
гротескных
сценах,
как,
например,
в
«Огненном ангеле»
Б рю
сова,
и
в
его
творениях
(в отличие от Брюсова)
полностью
от
сутствуют
элементы
нау чн ой
фа нт аст ики.
В
этом
отношении
русским
предшественником
Бр юс ова
можно
с чи тать
не
Турге
нева,
а.
В.
Одоевского.
Вопрос
связи
«Стихотворений в прозе»
Тургенева
с
русской
литературой
рубежа
веков
ма ло
изу ч ен.
Л.
Н.
Иссова
за нима
е тся
историей
этого
жанра
у
Тургенева,
Гаршина,
Короленко
и
Бунина
58.
Румынский
исследователь
А льбе рт
Ковач
в
статье
«Жанр стихотворения в прозе в русской литературе конца
XIX —
начала
XX века»
в ов лекает
в
к руг
исследования
произ
ведения
Горького,
А.
Белого
и
Р емизова59.
Наряду
с
разбором
целого
ряд а
произведений
Горького,
которые
отвечают
требо
ваниям
этого
жанра,
А.
Ковач
утверждает,
что
«Песнь о Со
кол е»
и
«Песнь о Буревестнике»
тоже
являются
стихотворе
н иями
в
прозе.
Мне
кажет ся,
что
эти
произведения
ни
в
к оем
случае
не
могут
б ыть
рассмотрены
как
продолжение
указанной
жанровой
л инии,
так
как
обе
эти
«Песни»
—
метричны,
а
Тур
генев
определил
св ои
миниатюры
как
«стихотворения без рифмы
и
р аз мер а» (13, 600).
К
именам,
упомянутым
в
статье
Ко вач а,
можно
добавить
целый
ряд
других
имен
авторов
той
же
эпохи.
В
рамках
настоящей
статьи
я
не
могу,
конечно,
дат ь
исчерпы
вающий
анал из
этой
сложной
темы,
хочу
лиш ь
ук азать
на
те
аспекты
это й
проблемы,
изучение
которых
могло
бы,
на
мой
взгляд,
при вест и
к
интересным
выводам.
Жанр
стихотворения
в
прозе
был
внесен
в
русскую
литера
туру
(да и в литературу целого ряда стран средне-во ст о чн ой
Европы)
Тургеневым
в
1870—1880-х
годах.
Определенные
пред
посылки
его
возникновения
были
созданы
ходом
развития
ру с
ско й
литературы
и
некоторыми
чертами
предшествовавшего
творчества
Тургенева.
Эт о,
о днак о,
не
противоречит
несомнен
но му
факту,
что
ге нет ич ески
жа нр
восходит
к
фр анцу зск ой
ли
тературе,
к
стихотворениям
в
п розе
Бертрана
и
Бодлера60.
Позже
жа нр
был
ис польз ован
такими
русскими
писателями,
как
Гаршин,
Короленко,
Я.
Полонский,
к
которым
скоро
присоеди
нился
молодой
Горький.
Среди
мног их
прич ин
обращения
э тих
писателей
к
сравнительно
новому
в
русской
литературе
жа нру
можно
упомянуть
поиски
ими
но вых
по
сравнению
с
класси ч е
ским
реализмом
путей,
возоб нов л ен ие
определенных
романтиче
ских
традиций
(жанр стихотворения в прозе восходит к роман -
159
ти зм у), наконец,
характерное
для
70—90- х
годов
ст рем лен ие
со
зд ава ть
сжатые,
предельно
кр атки е
произведения,
в
которых
большую
роль
играет
иносказание
и
которые
часто
в ыражают
лирические,
мимолетные
в печа тл ения,
настроения.
Не
желая
теперь
подробно
останавливаться
на
жанровых
приметах
стихо
творения
в
прозе ,
отмечу
тол ь ко,
что
это т
жанр
вполне
мог
уд о
влетворить
именно
та ким
требованиям:
мог
сжат о
и
очень
вы
р аз ите льно,
ча сто
в
символической,
аллегорической
форме
во
плотить
мы сли
об
общих
за кон ах
м ироз да ния,
о
противоречиях
человеческого
существования,
п ер едават ь
лирико-эпическими
средствами
эпизоды
жизни,
и
—
не
в
последнюю
очередь
—
«останавливать мгновенье».
Стихотворения
в
прозе
Тургенева
одновременно
связаны
с
русским
лит ера т урным
процессом
70—80- х
годов
и
го тов ят
поч ву
для
новых
литературных
явлений.
Б.
Эйхенбаум
пи шет
в
с вязи
с
романом
«Анна Каренина», что Толстой ориентиру
ется
здесь
«на метод философской лирики,
усваивает
ее
им
прессионизм
и
символику.
Интересно,
что
в
это
же
время
Тур
генев
пише т
св ои
„Senilia“.
Это
воздействие
поэзии
на
прозу
приго товляе т
будущий
ход
от
реа лизм а
к
символизму»61.
П ро
цес с
лиризации
прозы
продолжался
и
на
рубеже
XIX—XX
в в.,
и
«Стихотворения в прозе»
Тургенева,
о
которых
не д аром
так
во схи щен но
отозвался
М ер ежко вск ий,
воплощают
ту
«новую
вп е чат ли т ельн ос ть», которая,
по
мнению
Ме ре жковс к ого,
яв ля
е тся
одной
из
характерных
черт
символизма.
Всем
эт им
(имно
гими
другими
причинами)
объясняется,
что
са мое
значительное
развитие
жанра
в
России
после
Тургенева
наблю дает ся
у
сим
волистов.
В
дальнейшем
я
укажу
ли шь
на
некоторые
примеры,
без
всякой
претензии
на
полнот у .
По
всей
вероятности,
в
1890-е
годы
б ыли
написаны
те
до
сих
пор
не
напечатанные
стихотворения
в
прозе
И.
Анненского
(«Autopsia»), которые долго считались самостоятельными про
изведениями
писателя.
А.
Федоров
в
своей
монографии
об
Ан
ненск ом
указывает
на
то,
что
на
самом
деле
это
—
переводы
строфических,
метрических,
рифмованных
стихотворений
и таль
янс кой
писательницы
Ады
Негри.
Ученый
безусловно
пр ав,
когда
предполагает,
что
Анненский
перевел
эти
ст ихи
стихо
творениями
в
прозе
потому,
что
тургеневский
ц икл
пользовался
в
это
вре мя
большой
популярностью
в
России62.
Но
к
этому
необходимо
добавить,
что
Анне нс кий
и
другие
символисты,
ко
нечно,
хорошо
з нали
стихотворения
в
прозе
Бодлера.
Пос ле
э тих
ранних
переводов
Анненс к им
б ыли
написаны
и
самостоятельные
стихотворения
в
прозе,
которые
очень
отлича
ются
от
э тих
переводов
по
содержанию
и
по
настроениям.
«Autopsia» —
это
по смер т ный
монолог
молодой
девушки
из
ра
бо чей
ср еды,
в
котором
она
говорит
о
страданиях
рабочих
лю
дей.
Самостоятельные
стихотворения
в
пр озе
Анненского,
ув и
девшие
св ет
лишь
после
смерти
поэта,
зап ечатлев аю т
су бъек
160
тивные
переживания,
содержат
изобилующие
эпитетами
(глав
ным
образом
цветовыми)
им пр есси они сти ч еские
пе йза жные
к ар
тины,
то
в
аллегорической,
то
в
символической
форме
повест
вую т
—
как
и
лири ка
Анненского
—
о
собственной
душе
поэта63.
С
точки
зрения
наш ей
темы
б ыло
бы
весьма
по л езно
иссле
довать
не
на печ ата нные
еще
рукописи
В.
Брюсова.
В
его
с ти
хотворении
в
прозе
«Отдаленные дни» (1898) редактор « Неиз
данной
прозы»
Брюсова
И.
М.
Брюсова
п и шет : «Мы позволим
себе
продемонстрировать
здесь
о дин
из
ранних
р ассказ ов,
вер
нее
—
од но
из
стихотворений
в
п р о з е» 64 (выделено мной.—
Ж.З.).
Основываясь
на
это й
форму лиро в ке,
можно
предпола
гать,
что
сред и
ненапечатанных
рукописей
Брюсова
ес ть
и
дру
гие
миниатюры
этого
же
жанра.
Стихотворение
в
прозе
«Отда
ленные
дни»
вполне
соответствует
тематике
том а,
содержащего
исторические
произведения
писателя;
оно
отражает
сновидение
пл енно го
дикаря
о
каком-то
новом,
н езна ком ом
ему
будущем
мире.
Эта
сжатая
миниатюра
соче тает
им пр ессио н ист ич еские
элементы,
лиризм
сна
с
грубыми
подробностями
действительно
сти.
Брюсов
придает
прозаическому
тексту
повторением
слов
определенную
ритмичность.
Благодаря
всем
эт им
чер там
сжатая
миниатюра
соответствует
жанровым
пр и знакам ,
которые
впер
вые
в
России
б ыли
воплощены
в
цикле
Тургенева.
В
связ и
с
эт ой
темой
необходимо
остановиться,
хотя
бы
ко
ротко,
на
некоторых
произведениях
А.
Б е лого,
прежде
всего
на
его
«Симфониях» (1900—1908).
По
мнению
М.
Л.
Гас пар о ва,
на
«Симфонии»
А.
Бе лого
повлиял
жан р
стихотворений
в
пр оз е65.
А.
Ковач
пра в,
ко гда
он
указывает
на
то,
что
«Симфонии»
Белого
нел ьзя
счит ать
стихотворениями
в
прозе,
однако
невоз
можно
с оглас и ться
с
тем,
что
этот
исследователь
пишет
о
влия
нии
некоторых
стилистических
особенностей
миниатюр
Турге
нева
и
Горького
на
«Симфонии»66.
Ближе
к
истине
Лена
Си
лард,
которая
связывает
«Симфонии»
с
экспериментальным
романом
XX в.
Она
же
указывает
на
то,
что
ритмика
их
тек
ста
воз ник ла
отча сти
под
влиянием
прозы
Н иц ше67.
Мы
не
мо
жем
считать
«Симфонии»
стихотворениями
в
прозе
не
только
п отом у,
что
их
объ ем
значительно
превышает
обыкновенный
об ъем
малой
прозы
этого
жанра,
но
и
пот ому ,
что
в
весьма
сложно
построенных
«Симфониях» (текст которых является
о тчасти
метричным)
создается
целая
система
л ей тмоти вов
и
сюж етны х
элементов,
связывающих
между
собой
отд е льные
«Симфонии», что
выходит
за
рамки
жанровых
особенностей
ци кла
стихотворений
в
прозе.
Все
же
А.
Белый
играл
заметную
роль
в
развитии
жанра
стихотворений
в
прозе:
в
его
первом
напечатанном
сборнике
(«Золото в лазури») мы находим целый цикл миниатюр68, ко
торые
сам
автор
называет
«лирическими отрывками в прозе»69.
«Лирические отрывки в прозе»
Андрея
Белого
б ыли
напи
с аны
—
кроме
несколько
более
позднего
«Аргонавты»
—
в
1900 г.
11 Заказ No 299
161
Они
тесно
связаны
со
сти хотв орен иями
сборника
«Золото в ла
зу ри », в котором они напечатаны.
Как
стихотворения,
так
и
эти
лирические
миниатюры,
«передали настроение московского
к ружка
соловьевцев,
называвших
с ебя
аргонавтами
и
охвачен
ных
п р едчув ств ием
будущей
з ари »70.
Как
стихотворения,
так
и
прозаические
отрывки
Белого
нео бык но венн о
богаты
кра с
ками,
отмечены
изобилием
цветовых
эпитетов,
характерных
для
импрессионистской
по этик и,
мно г оч исленным и
синонимами
од
ного
основного
цвета
и
особенно
с ложн ыми
эпитетами,
которые
играют
большую
роль
в
создании
импрессионистических
эф фек
тов
стихотворений
в
прозе
Тургенева
и
п олуча ют
большое
рас
пространение
у
Бал ь монт а.
Л.
Силард
права,
когда
указыв ае т
на
то,
что
«обилие цветовых эффектов,
построенных
на
ср авне
ниях
с
драгоценными
камнями,
тканями,
говорит
о
бл изо сти
с ецесси о»71.
Именно
т акие
черты
характеризуют,
например,
«Видение», где рисуется образ будущего Царя,
появляющегося
как
будто
во
сн е.
В
«Волосатике»
автор
опять
и зображ ает
«не
то
сон,
не
то
дейс тви те ль но ст ь»72.
Он
уводит
читателя
в
мир
Др евн его
Рима,
описывает
пир
веселых
юн ошей
и
девушек
на
мраморн ой
т ер расе,
рядом
с
бездной,
поросшей
роза ми .
В
э той
бездне
скрывается
Волосатик
—
жу ткий
паук,
зл ой
гном,
дух
пропасти,
желающий
погубить
их.
Пирующие
ощущают
прибли
ж аю щееся
з ло,
веселость
сменяется
зловещими
предчувствиями,
но
их
спасает
заря,
восходит
красное
золото
солнца,
и
они
про
должа ют
вес елы й
п ир.
Ф олькло рн ый
элемент
(сказка о Ревуне,
ца ре
горных
ветров)
переплетаются
с
по ве ство ва нием
о
таинственном
старике
в
ми
ниатюре
«Ревун»; в первобытные времена уводит «С с о ра»,
в
центре
которой
борьба
человека-дикаря
с
ора н гутан гом ;
в
центре
«Этюда»
стоит
Адам,
напрасно
зовущий
Каина,
чтобы
благословить
ег о.
С
наш ей
точки
зрения,
особенного
внимания
заслуж ив ае т
«Сон», предвещающий гибель земли.
Это
—
излюбленная
тема
символистов,
и,
таким
образом,
«Сон»
тематически
связ ан
с
«Концом света»
Тургенева.
Как
у
Тургенева,
так
и
у
Бе лого
гибель
земли
описывается
от
первого
лица
лирическим
героем,
свидетелем
эт их
печальных
событий.
Вообще,
с
точки
зрения
фо рмы
«Сон»
своей
эмоциональной
возвышенностью,
анафори
ческой
ко м поз ицией,
большим
вниманием
к
ритму
фразы,
к
зв у
ч анию
текста,
пер ек лик ается
с
тургеневскими
стихотворениями
в
прозе.
Другой
выдающийся
символист,
Ф.
Сологуб,
тоже
писал
ст и
хотворения
в
прозе,
связанные
с
его
по эзи ей
и
прозой,
рисую
щи ми
мир
а бсурд ны м,
мрачным
и
выражающими
мысль
о
бла
женстве
н еб ытия.
Радо ст ь
н ебы тия
получ ае т
выражение,
на
пример,
в
п розаи чес кой
ми ни атюре
«Будущие»,
повествующей
о
сча сть е
еще
не
рожд енн ы х,
а
впоследствии
о
траг и чес кой
судьбе
чет ыр ех
из
них ,
родившихся
на
свет.
«О,
отрадное
место
162
н ебыти я,
зачем
из
тебя
уходит
Воля!»73—
таким
восклицанием
за в ершаетс я
это
стихотворение
в
прозе,
н о сящее
лирический
ха ракте р
и
ритмизованное
девятью
анафорами
и
другими
син
таксическими
и
фонетическими
приемами.
Мрачными
декадентскими
настроениями
характеризуется
миниатюра
«Дрова»,
в
которой
участники
роскошного
пира
вдруг
замечают,
что
плита,
где
готовится
вкусная
ед а,
вместо
дро в
топится
человеческими
телами: «Их много...
Ходят
мимо.
Наши
дворники
их
ру бят »,—
объясняет
пов ар74.
Эта
жуткая
миниатюра
производит
очен ь
сильное
впечатление
именно
тем,
что
в
ней
са мые
простые,
обыкновенные
явле ния
неожиданно
переходят
в
абсурд.
Та кой
метод
из о браж ения
во все
не
харак
терен
для
Тург ен ев а,
и
в
России
получает
ра спр ост ра нение
пр е
имущественно
на
рубеже
веков.
Достаточно
перелистать
издания
символистов,
чтобы
най ти
большое
количество
стихотворений
в
прозе
или
близких
к
ним
по
ж анру
миниатюр,
многие
из
которых
представляют
собой
переход
от
стихотворения
в
прозе
к
ма лень ком у
лирическому
рассказу.
В
альм ана хе
«Северные цветы», например,
об ращ ает
на
себя
в ниман ие
ф ант асти ч еская,
аллегорическая
миниатюра
ставшего
в
дальнейшем
знаменитым
литовского
поэта
И.
Бал т
рушайтиса
(«Легенда о факелах») 75, который на рубеже веков
нередко
печ ат ался
в
изд аниях
символистов.
В
эт ом
же
альма
на хе
напечатан
целый
маленький
цикл,
состоящий
из
десяти
стихотворений
в
п розе
(«Образы»).
По дпи сь
«А.
М.
Д.»
указы
вает
на
Александра
Михайловича
Добролюбова
76.
Нет
ничего
удивительного
в
т ом,
что
в
молодости
бл и зкий
к
символистам
Добролюбов
писал
и
стихотворения
в
прозе,
ведь
он
вооб ще
занимался
поэтическими
экспериментами.
На
с тра ницах
этого
же
альм ан аха
ув идел а
св ет
лирическая
миниатюра
В.
Розанова
«Мимолетное»77; в ней,
как
и
во
многих
других
произведениях
писателя,
маленькие,
незначительные
яв ле ния
жизни
вызывают
мр ачн ые
мыс ли
о
бесцельности
существования,
о
грусти
стар ею
щего
человека,
настроения
которого
символизируются
в
ко нце
миниатюры
(в известном отношении близкой к стихотворениям
в
прозе)
метафорой
дер ев а,
лиш енно го
листьев.
Эта
лирическая
миниатюра,
как
и
некоторые
более
по здни е
произведения
писа
теля,
фиксируют
отрывистые,
внезапно
сменяющие
друг
друга
мысли
и
настроения
Розанова.
Много
стихотворений
в
п розе
или
близких
к
ним
миниатюр
б ыло
опубликовано
в
одном
из
ведущих
орга н ов
символистов,
в
альманахе
«Гриф»; примерами могут служить миниатюра
А.
Миропольского
«Пришлец»78, напоминающая легенду, «фан
тазия»
Н.
Табецкого
«Crescendo... line!»79, которая,
несмотря
на
сравнительно
большой
объ ем,
несомненно
нос ит
определен
ные
стил ис тически е
черты
стихотворения
в
прозе.
Эл еме нты
с ти
хотворения
в
прозе
и
ма ле ньк ого
лирического
рас ск аза
перепле
таются
в
возвышенной,
описывающей
галлюцинацию
о
Христе
11*
163
«Последней ночи»
Нин ы
Пе тров ской 8 0. Полностью соответствует
традиционным
тургеневским
требованиям
жанра
сильно
ритміЭ
зованное
анафорами
и
прочими
повторениями
слов
стихотворе
ние
в
прозе
А.
Куренского
(«Она не была похожа на дру
г их »81).
В
«Грифе»
увидели
св ет
и
некоторые
миниатюры
А.
Ремизова.
В
альманахе
«Белые ночи»
тоже
немало
лирических
мини
атюр.
Из
них
безусловно
стихотворениями
в
прозе
являются
шес ть
миниатюр
Е.
Лундберга
(«Ночные»82).
Это
чрез вы чай но
сжа тые
произведения,
большинство
которых
носит
афористи
ческий
х аракте р
(как и целая группа стихотворений в прозе
Т у р генева).
Они
отра жают
одиночество
лирического
героя,
его
страх
перед
прозаическим
миром,
что
также
сбл иж ает
их
с
оп
ределенной
группой
тургеневского
цикла.
Прив еде нн ые
примеры
вов се
не
даю т
по лно го
п ред ста вле
ния
о
роли
жанра
в
символистских
из дани ях.
Мне
хотелось
лишь
обратить
внимание
на
факт,
что
стихотворения
в
прозе
и
близкие
к
ним
лирические
миниатюры
стали
органической
частью
ма тери ала
этих
альманахов.
Ср еди
авторов
миниа тю р
есть
и звес тные
или
ставшие
впоследствии
известными
писатели,
ес ть
и
второстепенные
имена,
важные
тем
не
менее
для
харак
теристики
литературного
процесса.
Отдельную
работу
можно
б ыло
бы
посвятить
разнообраз
ным
м ин иатю рам
А.
Рем из ова.
Его
«Плача» (1903),
которая
яв ля ется
стилизацией
пл ача
зырянской
девушки
перед
заму
же ство м,
питается
фольк лорн ыми
источниками,
в
то
же
время
отличается
гармоничным
построением,
с
двумя
рядами
анафор,
проходящих
через
весь
тек ст,
эмоциональной
насы щенно ст ь ю,
изобилием
сравнений,
метафор,
мелодичностью.
Всеми
этими
особенностями
«Плача»
несомненно
с вяза на
с
традицией
стихо
творений
в
пр оз е83.
Некоторые
стихотворения
в
прозе,
написанные
Ремизовым,
были
напеч атан ы
в
упомянутом
альманахе
«Гриф».
Такими
яв
ляются
«Молитва»
и
«Последний час» (1904)84. « Мо л ит в а»
—
выраженное
в
поэтической
форме,
возвышенное
обращение
к
Богоматери,
в
котором
писатель
(как и во многих более позд
них
своих
произведениях
других
жанров)
жа лует ся
на
страш
ный
мир,
где
по беж дает
зл о,
где
«глухие,
ослепленные
люди»
обижают
поэта,
где
тоска
пое т
ему
темные
песни.
В
«Молитве»
в ыраж ается
страх
одинокого
человека,
живущего
во
враждеб
ном
мире
и
возлагающего
единственную
н ад ежду
на
Б ог ома
терь.
Этот
очень
с жа тый,
эмоционально
нас ыщ енны й
текст
по
рою
тя гот еет
к
метрическому
звучанию,
оставаясь,
однако,
пр о зой.
Дактилическое
окончание
некоторых
предложений
вно
сит
в
это
изобилующее
поэтическими
тропами
стихотворение
в
прозе
определенный
фол ьклорн ый
характер.
В
центре
«Последнего часа», как и в центре «К онц а
света»
Тургенева,—
гибель
земли.
После
введения,
состоящего
из
не
164
скольких
чис то
номинальных
абзац ев,
следует
вставное
метри
ческое
стихотворение,
в
котором
л ир иче ский
гер ой
прощается
с
теми,
кто
о бидел
его,
с
вла ст ною
и
дико ю
толпой.
По сле
эт ой
вст авки
продолжается
прозаический
тек ст,
н асы щенн ый
поэти
ческ им и
тропами.
Является
ж ен щина
с
чер ным и
цветами
из
отвердевшей
крови
в
ру ке,
и
перед
эт ой
фигу ро й,
сим во лиз и
рующей
смерть,
все
па д аю т, «скошенные косой неумолимой».
Эта
миниатюра
уже
предвещает
более
поздние
произведения
Ре
мизова,
в
которых
поток
чувств
част о
переплетается
с
галлюци
наци ям и,
а
явь
—
с
эле ме нта ми
сна.
Дальнейшей
з адач ей
исследователей
русского
стихотворения
в
прозе
бу дет
определение
того,
можно
ли
от нест и
к
этому
жанру
циклы
миниатюр,
в
которых
Рем из ов
с
малейшими
под
роб нос тям и
зафиксирует
собственные
сны
(имеются в виду
«Бедовая доля», «С очей на очи»
и
«Кузовок»).
В
дополнение
к
изложенному
следует
заметить,
что
ср еди
стихотворений
в
прозе
многочисленных
авторов
рубежа
XIX—
XX вв.
нет
ни
одного
цикла,
подобного
многостороннему
«Зепіііа»
Тургенева,
который
нередко
и
не
без
основания
назы
ва ют
«калейдоскопом» .
Даже
маленькие
циклы
стих о тв ор ений
в
прозе
рубежа
веков
могут
быть
сопоставлены
ли шь
с
той
или
иной
гр уп пой
внутри
«Стихотворений в прозе»
Тургенева.
Бро
сает ся
в
глаза
и
другое:
в
то
время
как
стихотворения
в
прозе
были
последними
произведениями
Б ертра на
и
Тургенева,
со
ставляя
и тог
их
творч еск их
и ска ний,
в
русской
литературе
ру
бежа
веков
—
как
видно
бы ло
из
приведенных
примеров
—
не
мало
писателей,
напротив,
начинали
свою
творческую
деятель
ность
стихотворениями
в
прозе,
предвещающими
некоторые
элементы
их
позднейшего
творчества,
произведений
другого
жанра.
Мы
видели,
что
не
всегда
ле гко
провести
грань
между
сти хотв орен иями
в
прозе
и
маленькими
имп рессио нистич еск и-ли-
рическими
ра сс казами
конца
XIX —
начала
XX в.
Это
обстоя
тельство
наводит
на
мысль
о
том,
что
стоило
бы
и з учать
проник
новение
элементов
стихотворения
в
прозе
в
другие
жанры.
Пр имеч а ния
1 При разработке этой темы я получила большую помощь от Г.
А.
Вя
лого,
М.
И.
Дикман,
А.
В.
Лаврова,
Д.
Е.
Максимова,
К.
Д.
Муратовой
и
Л.
Силард,
которым
приношу
благодарность.
2 Андреевский С.
А.
Тургенев.
Его
индивиду ал ьно сть
и
поэзия//Ли-
тературные
оче рки.
С Пб ., 1910.
С.
262—318.
3 Мережковский Д.
С.
Поли.
собр.
соч .
СПб.;
М.,
1912.
Т.
15.
€. 250.
4 Бальмонт К.
Д.
Рыц арь
Девушки-Женщины//Тургенев
и
его
время:
1-й
сб . /Под
ред.
Н.
Л.
Бродского.
М.;
Пг., 1923.
С.
16—25.
5 Белый Андрей .
Почему
я
ст ал
символистом
и
поч ему
я
не
перестал
им
б ыть
во
всех
фаза х
моег о
идейного
и
художественного
ра звити я.
Цит.
по:
165
Гречишкин
С.
С.,
Лавр ов
А.
В.
Брюсов
о
Тургеневе//Тургенев
и
его
современники/Отв.
ред .
М.
П.
Алексеев.
Л ., 1977.
С.
173.
6 Анненский,
Иннокентий.
1) Умирающий Тургенев//Кни га
отраже
ний
I.
СПб ., 1906.
С.
61—73; 2) Белый экстаз// Книга
отражений
II.
СПб .,.
1909.
С.
33—41 .
7 Ашимбаева H.
Т.
Тургенев
в
критической
прозе
И.
Анн ен с кого// Изв .
АН
КазССР.
1984.
С ер.
филол.
С.
55.
8 Мережковский Д.
С.
Поэт
вечн ой
женственности:
Нев ое нный
д н евн и к, 1914—1916.
Пг ., 1917.
С.
75.
9 Чулков Г.
И.
Памяти
Тур ген ева// П ок ры вало
Из иды:
Кр итич е ские
очерки .
М. , 1909.
С.
169—177.
10 Анненский,
Иннокентий.
Умирающий
Тургенев.
С.
69.
11 Гречишкин С.
С.,
Лавров
А.
В.
Указ.
со ч.
С.
170—189.
12 Там же.
С.
172.
13 Там же.
С.
173.
14 Скабичевский А .
М.
Но вые
течения
в
сов реме нн ой
литературе//
Скабичевский
А.
М.
Соч.
СП б., 1903.
Т.
2.
С.
930—931.
15 См.:
Родзевич
С.
И.
Ром ан тик
реализма:
Тургенев
и
сим воли зм //
И.
С.
Тургенев:
К
столетию
со
дня
рождения:
Статьи.
К иев, 1918.
С.
79—138.
16 С.
И.
Родз евич
о шибоч но
пре дполаг а л,
будто
в
«Вере»
от рази ло сь
знак омст во
с
«Кларой Милич» .
Л.
Н.
Назарова
правильно
указывает
на
то,
что
скорее
можно
доп ус тить
обратное,
так
как
расск аз
«Вера»
до
включения
в
сборник
«Contes cruels», т .
е.
еще
до
создания
«Клары Милич», неодно
кратно
печатался
во
французских
журналах.
С м.:
Тургенев
И.
С.
Поли,
соб р.
со ч.
и
писем:
В
28 т.
Соч.
Т.
13.
М.;
Л ., 1967.
С.
585.
17 См.,
напр.:
Пумпянский
Л.
В.
Тургенев
и
Флобер//Тургенев
И.
С.
Соч.:
В
10 т.
Т.
10.
Л. , 1930.
С.
18.
18 Пумпянский Л .
В.
Группа
«таинственных повестей»//Тургенев И.
С.
Соч.
Т.
8.
М.;
Л, 1929.
С.
XVI.
19 Там же.
20 Белинский В.
Г.
Поли.
собр.
соч.
М ., 1953—1959. T. 1.
С.
303—304;
Т.
8.
С.
313—314.
Т.
10.
С.
41.
21 Тургенев И .
С.
Поли.
собр.
соч.
и
писем:
В
28 т.
М.;
Л.,
1961—1968.
Т.
9.
С.
479, 502; Т .
13.
С.
570.— Д але е
при
с сыл ках
на
это
издание
в
тексте
указываются
номер
т ома
и
страница.
Письма
обознача
ются
П.
22Такоеотношениек «таинственным
повестям»
наблю дает ся
д аже
сего
дня
в
некоторых
раб отах ,
напр.:
Поддубная
P.
Н.
Концепция
фантасти
ческого
в
позднем
творчестве
Тург ен ева // Вос ьмой
межвузовский
тургеневский
сборник:
И.
С.
Тургенев
и
р усск ая
литература/Отв.
р ед.
Г.
Б.
Курляндская.
Курск, 1980.
С.
64—84; Осьмакова Л .
Н.
О
по этик е
«таинственных по
вестей»
Т ург енева/ /И .
С.
Тургенев
в
современном
мире/Отв.
ред.
С.
Е.
Шата
лов.
М„ 1987.
С.
220—231.
23 Измайлов Н.
В.
Фантастическая
повесть//Русская
повесть
XIX века/
Под
ред.
Б.
С.
Мейлаха.
Л.,
1973.
С.
134—169; Манн Ю .
В.
Эв о люция
гоголевской
фантастики//К
истории
русского
романтизма/Под
ред .
Ю.
В.
Ма нн,
И.
Г.
Неупокоева,
У.
Р.
Фохт .
М ., 1973.
С.
219—258.— В
это м
же
г оду
по
я вил ась
книга
американской
ис сле до ва тел ьницы
М.
Ледковски
(Lеd
к
о
ѵ-
sky, Marina. The Other Turgenev. From Romantism to Symbolism//Colloquium
Slavicum 2. Würzburg, 1973) и моя статья «„Таинственные повести“
Тургенева
и
русская
ли тер ат ура
XIX века» (Studia Slavica Hung. 1973.
С.
347—364),
в
которых
ставится
проблема
связи
«таинственных повестей»
с
русскими
с им
во ли стам и.
24 Муратов А .
Б.
Тургенев-новеллист.
Л., 1985.
166
25 Имеется в виду Поли.
соб р.
соч .
и
писем
в
28 т.
(гл .
редактор
изда
ния
М.
П.
Ал екс ее в).
23 Максимов Д .
Е.
Поэзия
и
проза
Ал.
Блока.
Л ., 1981; Минц 3.
Г.
О
некоторых
«неомифологических»
текстах
в
творчестве
русских
символи-
стов//Ученые
записки
Тартусского
университета.
Вып.
459.
Блоковский
сбор
ник
Ш.
Та рт у, 1978.
С.
76—120; Лавров А.
В.
Мифотворчество
«аргонав -
т о в»//Миф—фольклор—литература/По д
ре д.
В.
Г.
Базанова.
Л.,
1978.
С.
137—170; Долгополов Л .
Андрей
Белый
и
его
роман
«Петербург».
Л ., 1988; Ильев С.
Ар хите кто ника
«Огненного ангела»
Валерия
Брюсова//
В.
Брю со в.
Проблемы
мастерства.
Ставрополь, 1983.
С.
103—114.
27 Koschmal, Walter. Vom Realismus zum Symbolismus. Zu Genese
und Morphologie der Symbolsprache in de Späten Werken I. S. Turgenevs. Am
sterdam, 1984.
28 См.:
Зельдхейи-Деак
Ж.
«Таинственные повести»
Т ур генева...
С.
95; Муратов А.
Б.
По здни е
п овести
и
р асск азы
И.
С.
Тургенева
в
ру сско м
литературном
п роц ессе
второй
половины
XIX — начала XX
в .//
Проблемы
поэтики
рус ско го
ре али зма/О тв .
ред .
Г.
П.
Макогоненко,
В.
М.
Мар
кович,
М.
Рев.
Л. , 1984.
С.
77—98 .
29 Муратов А.
Б.
Поздние
повести
и
р асс казы
Тургенева...
С.
95.
30 Недаром он шутя писал перед возвращением из Спасского в Париж
М.
Г.
С ав ин о й: «Что же касается до меня,
то
я
те лесн о
хо тя
еще
здесь
—
но
мы слен но
уже
там
—
и
чувствую
уже
французскую
шкуру,
нарастающую
под
отстающей
русск ой» (П„ 13/1, С.
111).
31 См.,
например: Laagе,
Karl Ernst. Theodor Storm und I. Turgenev//
Heide in Holsten X. 1967; Тиме Г.
А.
Н овелла
наст р ое ния
в
творчестве
И.
С.
Тургенева
и
Т.
UlTopMa//Zeitschrift für Slawistik. XXXII. 1987.
S. 423—433.
32 Началом этой работы может считаться статья Дэссе Р .
Dessaiх,
Robert. Turgenev and Maupassant as Fantasts//Russian Literature. Oct. Amster
dam, 1977. P . 325—339 .
33 Etranges Histoires.
Издание
первое
и
второе—
1873, третье— 1874.
34 Flaubert, Gustav. Lettres inédites à Tourgeneff. Monako, 1946.
P. 57.
35 Ibid. P. 58.
33 Мопассан,
Ги
де.
Поли.
соб р.
со ч.
Т.
10.
М.,
1950.
С.
338—339 .
37 См.:
Зельдхейи-Деак
Ж.
Тургенев
и
новые
художе с тв ен ные
иска
ния
кон ца
XIX — начала XX
в ека/ZStudia Russica. 1983.
С.
113—122 .
38 См.:
Гречишкин
С.
С.,
Лавров
А.
В.
Указ.
соч.
С.
184.
39 Брюсов В.
Земная
ос ь:
Рассказы
и
драматические
сцены.
М. , 1907.
С.
8.
40 Там же.
С.
9.
41 О сказовой манере у Тургенева см. :
Рыбникова
М.
А.
Один
из
приемов
композиции
у
Тургенева//Творческий
путь
Тургенева/Под
ред.
Н.
Л.
Бродского.
П г.,
1923.
С.
202—225; Бахтин М.
Проблемы
поэтики
Дост оевск ог о.
М ., 1972.
С.
327.
42 На это обратил мое внимание Д .
Е.
Максимов.
43Ма ксимов Д.
Е.
Брюсов:
Поэзия
и
позиция.
Л. , 1969.
С.
98—99 .
44 Там же.
С.
91.
45 Там же.
С.
52.
43 Там же.
С.
54.
47 См.:
К
ш
и
ц
о
в
а,
Дануше.
Романтические
поэмы
И.
С.
Тургенева.
Slavics. Debrecen. XXIII. 1986.
С.
219.
48 См.:
Зельдхейи-Деак
Ж.
«Сон»
Тургенева.
К
проблеме
поэтики
«таинственных noBecTeü»//Studia Slavica Hung. XXVIII. 1982.
С.
285—298.
167
49 Szerb, Antal. A vilâgirodalom tôrténete. Budapest, [1941] 1962. C . 687.
50 Долгополов Л.
К.
Поиски
н ового
ге ро я: ‘Проблема публицистич
ности
и
трансформации
жанра//Русская
п овесть
XIX века/П о д
ред.
Б.
С.
Мейлаха.
Л., 1973.
С.
459.
51 Woodward, James. The Symbolism and Rhythmical Structure of
Turgenev’s «Italian Pastiche»//Welt der Slaven. 1973. 18. P . 368—385.
52 См.:
Г
а
б
eльM. О.
Песнь
торжествующей
любви:
Опыт
анализа//Твор-
ческий
п уть
Тургенева.
Пг.,
1923.
С.
202—225; Муратов А.
Б.
Повесть
Тургенева
«Песнь торжествующей любвиѴ/Studia Slavica Hung. XXI. 1975.
С.
123—137.
53 О стилизации см.:
Бахтин
М.
Проблемы
поэтики
Достоевского.
С.
323—325; Шубин Э.
А.
Художественная
проза
в
го ды
реакц ии/ /С уд ьбы
русского
реали зма
в
начале
XX века/П о д
ре д.
К.
Д.
Муратовой.
Л., 1972.
С.
84—96; Зельдхейи- Деа к
Ж.
К
проблеме
стилизации
в
русской
прозе
начала
XX BeKa//Hungaro-Slavica. 1978.
С.
389—402.
543аборовП.
Р.
Из
тво рче ск ой
лаборатории
Тур ген ева- переводч ик а/ /
Тургенев
и
его
современники.
С.
129—136.
55 Брюсов В.
Письма
к
пе те рбу р гским
и
московским
литераторам//Брю-
сов
Валерий.
Лит.
наследство.
М. , 1976.
Т.
85.
С.
669.
56 Мостовская Н.
Н.
Тургенев
об
«Искушениях святого Антония»
Г.
Флобера//Тургеневский
сборник.
Ш/П од
ред .
Н.
В.
Изм айл ова
и
Л.
Н.
На
за ровой .
Л., 1967.
С.
142—143.
57 Там же.
С.
147.
58Иссова Л.
Н.
Ж анр
стихотворения
в
прозе
в
русской
литературе
(Тургенев,
Гар шин ,
Короленко,
Бун ин ): Автореф .
канд.
дис с.
Воронеж, 1969.
59КовачА.
Жа нр
стихотворения
в
прозе
в
русской
литературе
конца
XIX — начала XX BeKa//Romanoslavica. XIX. 1979.
С.
263—283.
60 О жанре стихотворения в прозе см. ,
н а пр и мер : Bernard, Suzanne.
Le poème en prose de Baudelaire jusque à nos jours. Paris, 1959; Nies, Fritz.
Poesie in prosaischer Welt. Untersuchungen zum Prosagedicht bei Aloysius
Bertrand und Baudelaire. Heidelberg, 1964; Левина H. P .
Стихотворения
в
прозе:
Автореф.
ка нд.
дис .
Л ., 1970.— О
связи
«Стихотворений в прозе»
с
французской
лит ер ат урой
с м.:
Богданович,
Нана.
Покуша
е дне
кнъижевне
паралеле:
Песме
у
прози
Тургенева
и
Ш.
Бодлера//Летопис
Ма
тице
Срп ск е.
1955. 6.
С.
562—574; Lo Gatto Maver, Anna. Quelques
hypothèses sur les modèles français des «Poèmes en prose»//Cahiers Ivan
Tourguéniev-Pauline Viardot-Maria Malibran/Гл.
ред
A.
З виг ильс ки.
N7.
Paris, 1983. P. 52—57; Пестерев В.
A.
Ж анр
стихотворения
в
пр озе
И.
С.
Тургенева
и
Ш.
Бодлера//Роль
русской
кла сс ики
в
развитии
и
вз аи мо-
обогащении
ж ан ров.
Орджоникидзе, 1986.
С.
119—129.
81 Эйхенбаум Б.
М.
Лев
Толстой.
Сем идес ятые
го ды.
Л.,
1974.
С.
185.
62 См.:
Федоров
А.
И.
Анненский.
Л. , 1984.
С.
80—82.
'6 3 См.:
П осм ертн ые
ст ихи
Инноке нтия
Анн ен ск ого.
Пб .,
1923.
С.
95—107.
64 Брюсов В.
Я.
Неизданная
проза.
М.;
Л ., 1934.
С.
6.
65 Гаспаров М.
Л.
Стихотворение
в
прозе//Краткая
литературная
эн
ц икл опе дия.
М. , 1972.
Т.
7.
С.
205.
63 Ковач А.
Указ.
соч .
С.
281.
67 Силард Л .
1) О структуре « Вт ор ой
сим фон ии»
А.
Бе ло г о/ZStudia
Slavica Hung. XIII. 1967.
С.
311—322; 2) О влиянии ритмики прозы
Ф.
Ницше
на
ри тмик у
прозы
А.
Б ел о го: «Так говорил Заратустра»
и
«Симфо-
нии»//Там же.
19.1973.
С.
289—313.
68 Белый А.
Золото
в
лазури.
М ., 1904.
С.
177—210.
168
39 Андрей Белый — Брюсову//Б рюсов
В.
Лит.
наследство.
М ., 1976.
Т.
85.
С.
363.— Греч ишк ин
и
Лавров
у к азывают
на
то,
что
в
«Золото в лазури»
вошли
не
все
«лирические отрывки в прозе»; ненапечатанные «от рывк и»
хра
нятся
в
ГБЛ
(там же .
С.
364).
70 Силард Л.
Андрей
Белый//Русская
литература
ко нца
XIX — начала
XX века (1890—1917)/Под ред .
Ле ны
Силард.
Budapest, 1983.
Т.
1.
С.
290.
71 Там же.
72 Белый А.
Золото
в
лазури .
С.
179.
73 Сологуб Ф .
Собр.
со ч.
С П б., 1913.
Т.
10.
С.
72—73.
74 Там же.
С.
124.
75 Северные цветы .
М ., 1902.
С.
84—88 .
76 Там же.
С.
89—95.
77 Северные цветы.
М. , 1903.
С.
151—153.
78 Гриф.
М„ 1904.
С.
71—73.
79 Там же.
С.
135—138.
80 Там же.
С.
51—54.
81 Гриф.
М, 1905.
С.
147—148.
82 Белые ночи.
СП б., 1907.
С.
166—171.
83 Ремизов А.
Соч.
С Пб ., 1911.
Т.
6.
С.
68—69.
84 Гриф .
М, 1904.
С.
39—40, 42.
И.
В.
СТОЛЯРОВА
ТРАДИЦИИ
ГОФМАНА
В
РОМАНЕ
Н.
С.
Л ЕСКОВА
«ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»
Творчество
Н.
С.
Л ескова
изучается
ныне
главным
образом
в
контексте
русского
литературного
процесса,
с вязи
нас ле дия
писателя
с
европейскими
литературами
только
еще
начинают
привлекать
внимание
исследователей.
Меж ду
тем
э тот
аспект
представляется
оче нь
важным,
так
как
при
всей
своей
тесной
с раще нн ости
с
эмпирикой
русской
жизни,
традициями
н арод
ной
ку льт уры
и
историей
отечественной
литературы,
оно
ак
тив но
вбирает
в
себя
опыт
мир ово го
иску с ства
и
п орой
открыто
ори ен ти рован о
на
этот
опыт
(вспомним название ранней по
в ести
Леско ва
«Леди Макбет Мценского уезда»
и
первоначаль
ное
н азван ие
повести
«Очарованный странник»
—
«Чернозем
ный
Теле мак »).
В озмож нос ть
рассмотрения
«Чертовых кукол»
в
с вязи
с
гоф ма новс кой
традицией
подсказывают
письма
Ле с
ко ва
редактору
и
издателю
журнала
«Русская мысль»
В.
М.
Лаврову,
где
должен
был
быть
помещен
эт от
роман.
В
письме
от
5 октября 1887 г.
Лесков
замечает,
что
его
новое
произведение
нап ис ано
в
ос об ой,
несколько
условной
ли тера
турной
м ан е ре: «.. .все отдает то
баснею
и
стариною,
то
вдруг
хватишься
и
чувствуешь
—
вед ь
это
что-то
свое.
Так
все
и
на
писано—вроде
„Серапионовых братьев“
Го ф ман а»1.
В
свя зи
с
эт им
литературным
при знан и ем
естественно
встают
во про сы:
что
застав ило
Лескова
использовать
в
его
по зд нем
зл ободн е вном
романе
«прием» (выражение писателя
из
т ого
же
письма)
Гофмана?
Что
ре а льно
имеет
в
виду
Ле с
ков,
говоря
о
близости
сист ем ы
повествования
в
«Чертовых
куклах»
той ,
которую
разработал
Гофман
в
«Серапионовых
бра тьях»?
Пр ежде
всего
об ращает
на
себя
внимание
общий
компози
ционный
принцип,
который
лежи т
в
основе
обоих
сопоставляе
мых
в
этой
статье
произведений.
И
у
Гофмана,
и
у
Л еско ва
в
центре
изображения
не
один
какой-либо
характер,
а
с оюз
друзей,
причем
это
содружество
творческих
личностей:
писате
лей
и
композиторов
у
Гофмана,
художников
у
Леско ва,
пове
р яющих
в
общении
др уг
с
другом
истинность
тех
или
иных
ис
поведуемых
ими
верований
и
принципо в.
Вс туп ая
в
«Серапионово братство», герои
Гоф ма на
да ют
©И.
В.
Столярова, 1992.
170
друг
д ругу
право
всесторонне
и
нел иц епр иятно
обсуждать
свои
произведения,
а
ст ало
быть,
и
выр а женно е
в
них
то
или
и ное
отношение
к
ис ку сству
и
действительности,
к
реальному
и
фа н
тастическому,
к
любви
и
ее
метаморфозам,
к
внутренней
с во
боде
лица
и
ограничивающей
ее
власти
«предопределения»
и
т.
п.
Снова
и
снова
постулируют
они
общую
для
всех
ро ман ти
ков
мысль
о
том ,
что
самое
д ра гоце нное
в
искусстве
—
это
пр о
явле ние
в
нем
им енно
а вт орског о
личностного
начала,
то
свое
образное
о свещени е
событий,
которое
дает
именно
этот,
а
не
иной
писатель.
«Дух поэта, —
н аст аивает
Л ота р,—
должен
не
только
воспринять
вереницу
пестрых,
вечно
движу щих с я
п ро
исшествий,
но
и
переработать
их
в
своем
мозгу,
откуда,
как
осадок
или
экстракт,
образующийся
при
химических
процес
сах ,
п олуча ю тся,
наконец,
те
живые,
принадлежащие
всем у
миру
и
жизни
дивные
об ра зы,
в
к оторы х
мы ...
узнаем
живу
щих
среди
нас
лю де й»2.
В
центре
в сех
р аз говор ов
«серапио -
нов »
вокруг
толь ко
что
прочитанного
именно
это т
момент
ор и
гинальной
переработки
художником
тех
явлений
и
ф ак тов,
ко
торы е
даю т
ему
ж изнь
или
искусство.
Таким
образом
в
гоф-
мановском
повествовании
все
вре мя
соединяются
друг
с
другом
два
плана
—
непосредственного
художественного
из о браж ения
деятельности
только
что
возникшего
«литературного союза»
и
а нал итиче с ких
размышлений
о
тех
сочинениях,
которые
прочи
тываются
на
общих
собраниях,
вызывая
п очти
всякий
раз
об
ширные
дружеские
диску ссии .
Та кой
способ
о рга низа ции
повествования,
орг ан иче ски
сое
диняющий
в
себе
и
соб ст венно
художественный
момент,
и
мо
ме нт
аналитического
и
оце но чног о
в ыска зыв ания ,
очевидно,
как
нельз я
более
отв еча л
творческой
з адач е,
которую
ставил
перед
со бой
Лесков
в
романе
«Чертовы куклы»: создать произведение
учительного
пафоса,
призванное
противостоять
глубоко
ложным
и
оп асны м,
на
его
взгляд,
пр ед ст а влениям
и
умонастроениям,
во з о бладавш им
в
восьмидесятых
годах
в
худож ес твен н ой
ср еде,
поднять
значение
личности
художника
—
служителя
ид еал а,
укрепить
л юдей
в
их
приверженности
высшим
духовным
цен
ностям.
В
свете
такого
за мысл а
во зможн о сть
прямой
де клара ци и
тех
или
ин ых
взглядов,
столь
естественно
возникающая
для
героев
в
системе
гофмановского
романа,
являла
соб ой
для
Лескова,
разумеется,
особую
ценность
и
привлекательность.
Од нако,
следует
заметить,
что
расстановка
гла вн ых
дейст
ву ющих
лиц
в
«Чертовых куклах»
все
же
несколько
ин ая,
чем
в
«Серапионовых братьях» .
Ес ли
герои-литераторы
Гофмана,
ра змышляя
об
иск усст ве,
вы сказы ваю т
обычно
родственные
друг
другу
суждения,
корректируя
и
развивая
их,
то
гер ои-
художники
у
Леск ов а
з ани мают
прямо
противоположные
по
з иции.
Используя
излюбленный
им
прием
контраста,
одного
из
этих
героев,
Мака,
Лесков
сразу
представляет
читателю
171
как
аскета
и
мыслителя,
задумывающегося
«над служебными
цел ями
иску сс тв а» (8, 488).
М аку
противостоят
в
романе
Фе-
буф ис
и
Пи к,
при
вс ей
своей
одаренности
отличающиеся
край
ним
инфантилизмом
и
именно
поэтому,
по
логике
ро м ана,
не
ж елаю щие
пр из нават ь
над
собой
и
своим
иск усст вом
д и ктата
гражданских
интересов
и
требований,
придерживающиеся
ли
нии
«самодовлеющего искусства» .
По
язвительному
слову
по
в ество вател я,
это
художники-«прихотники», следующие в своей
жизни
и
деятельности
ли шь
случайным
порывам
своих
«худо
жественных
натур».
Они
чужды
зовам
своего
времени
и,
сами
того
не
зам ечая,
вступают
в
резкий
конфликт
с
ним.
Существенно
и
д ругое
отличие
в
сюжетно-композиционной
о рга низа ции
сопоставляемых
романов.
Критерием
ис т иннос ти
или
ложности
тех
или
иных
общеэстетических
в оззре ний
в
ро
ма не
Гофмана
выступает
литературная
практика.
Пооче редн о
представляя
на
суд
друг
другу
свои
произведения,
в
которых
находят
наиболее
полное
воплощение
их
взгляды
и
устремле
ни я,
друзья-литераторы
п олуча ют
в озмо жн ость
сделать
наибо
лее
зримыми,
очевидными
живые,
плодотворные
начала
своих
поз иций,
а
также
и
их
уязвимые
стороны.
В
романе
Леско ва
все
обстоит
иначе.
Истинность
ил и,
нао
борот,
роковая
несостоятельность
исповедуемых
его
гла вн ыми
ге роям и
взглядов
и
убеждений
р аскр ывает ся
не
столько
в
ходе
их
профессиональных
споров
и
б есед
д руг
с
другом,
ск ол ько
в
ходе
жизни
каж до го
из
них,
в
их
личной
и
творческой
судьбе,
которая
осмысливается
как
прямое
производное
от
занимаемых
ими
гражданских,
моральных
и
эстетических
по з иций.
Фебуфис,
Пик
и
Мак
на
глазах
читателя
как
бы
ставят
эксперименты
на
самих
себе,
при ходя
то
к
самым
горьким
разочарованиям
и
р аская нию ,
то
к
возвышающим
их
прозрениям.
При
эт ом
вооруженный
наиболее
глубоким
и
верным
взгля до м
на
жизнь
Мак
об лада ет
способностью
на пе ред
у гадыват ь
ход
событий
и
безошибочно
пр едсказ ыв ать
их
последствия
для
обоих
своих
друзей.
Стоит
тол ько
Фебуфису,
возбудившему
своими
своеволь
ными,
дерзкими
выходками
озлобление
римских
влас т ей,
пр и
нять
с обл азнит ельно е
приглашение
посетившего
его
мастерскую
заезжего
ге рц ога,
а
з атем
и
уехать
вместе
с
ним
в
его
стра ну,
как
Мак
немедленно
пророчит
ему
саму ю
жалкую
и
не ле пую
погибель.
По
словам
Мака,
из
его
друга
наверняка
п ри гото вят
«шнель -кл епс » (8, 515), и так оно потом и случается.
Прочитав
первое
письмо
Фебуфиса,
посланное
еще
с
дороги
и
исполнен
ное
лучших
н аде жд,
Мак
с
мрачной
язвительностью
охлаждает
пыл
собравшихся
друзей
этого
художника
и
в
п ику
им
заяв
ля ет,
что
поведение
Фебуфиса
напоминает
ему
анекдот
о
бес
печном
турке.
Падиш ах
велел
посадить
его
на
ко л.
Тот
сказал:
«„Это недурно для начала“
и
ст ал
оп у ска тьс я» (8, 522—523).
«Фебуфис сел на кол и опускается» (8,523),—
грозно
пророчит
Мак,
уди вл яя
тем
самым
еще
не
подозревающего
ничего
дур
172
ного,
склонного,
как
и
Фебуфис,
к
прекраснодушным
иллюзиям
маленького
Пика.
Этот
мрачный
взг ляд
Ма ка
на
положение
художника,
ставя
ще го
себ я
в
зависимость
от
сильных
мира
с его,
находит
п ря
мую
поддержку
и
в
развитии
сюжета:
вся
история
пребывания
Фебуфиса
в
стране
ге рцо га
на
правах
фаворитного
худ ож
ника—
это
история
неуклонного
приб лиже ния
его
к
самому
б ес
славному
и
фантасмагорически
нелепому
концу.
Разуверив
ши сь
в
собственных
творческих
возможностях,
оказ авш ись
в
не
поправимо
ложном,
унизительном
положении,
он
кончает
с
собой.
Есл и
Фебу фи с
терп ит
моральный
и
творческий
крах,
то
его
стар ш ий
товарищ
Мак,
напротив,
в
финале
романа
(в его вто
рой
части)
п ереж ивает
состояние
необ ык но венно го
духовного
подъема.
Поверив
с вои
взгляды
и
горьким
опыт ом
друга,
и
соб
ственным
опыт ом ,
он
сознает
с ебя
человеком,
которому
окон
ча тел ьно
открылись
правда
и
ис тина .
Теперь
ему
надл ежи т
пе
рейт и
в
сферу
действия.
В
э то т-то
кульминационный
момент
своей
жизни
он
и
зовет
своих
оставшихся
в
живых
друзей
отрешиться
от
с та рых,
изживших
себя
ложных
романтических
представлений
и
составить
новый
союз
—
«союз экономии сил»
—
с
тем,
чтобы
употребить
все
сил ы
на
борьбу
за
освобождение
н аро да,
за
обновление
жизни
на
н ач алах
свободы,
равенства
и
братства.
Таким
образом,
Лесков
в
несравненно
большей
степени,
чем
Гофман,
определенен
и
категоричен
в
св оей
ав торск ой
по зиции.
Он
не
только
вар иантно
развивает
изве стны е
эс тетическ ие
взгляды
и
представления
о
высшем
смысле
жизни
и
искус
стве,
но
чрезвычайно
настойчиво
ведет
своего
читателя
к
тому,
чтобы
одни
из
эти х
идей
и
представлений
он
расценил
как
един
ст ве нно
верные
и
достойные,
а
другие
как
глу бо ко
ошибочные
и
опасные,
роковым
образом
обрекающие
че лове ка
и
худож
ника
на
поражение
в
«борениях жизни» .
Об
увлечении
Леско ва
тво р чество м
немецк ог о
романтика,
о
его
ж елани и
сблизить
свою
манеру
рассказа
с
гофмановской
свидетельствует
ряд
прямых
перекличек
отдельных
мо т ивов
и
ситуаций,
возникающих
в
«Чертовых куклах», с теми,
которые
имеют
место
в
«Серапионовых братьях».
Та к,
в
главе
«Синьор
Ф о р мик а», повествующей о жизни прославленного итальянского
художника
Сальв атора
Розы,
история
его
ко нфликт а
с
р им
ским
обществом
п редст ав лена
Гофманом
в
ситуациях,
в
значи
тельной
мере
предопределяющих
те,
в
которых
у
Леско ва
бу
дет
передана
аналогичная
история
Фебуфиса,
повлекшая
за
с обой
его
отъезд
из
Ри ма.
Ж елая
уязвить
св оих
вра гов,
Саль
ватор
пиш ет
две
большие
ка р тин ы , «приведшие в ярость весь
Р и м»: «На одной,
изображавшей
непостоянство
всего
земного,
тотчас
же
узнали
в
гла вн ой
фигуре
одну
известную
публичную
женщину
со
всем и
зн ака ми
ее
рем ес ла,
бывшую
л юбо вни цей
од
173
ного
кар дин ал а» (3, 192—193).
На
другой
ка рт ине
была
пред
ст авлен а
богиня
с ча стья,
щедрой
рукой
раздающая
свои
дары.
На
страницах
лесковского
романа
Фебу ф ис
предпринимает
аналогичную
выходку,
«скандализовавшую»
весь
Рим.
Взбе
ше нный
любовной
изменой,
он
на пис ал
и
выставил
у
себя
в
мастерской
«неприличную картину,
вроде
из вестно й
кла сси
ческой
„Pandora“» (8,496).
На
эт ом
полотне
он
изобразил
кр а
сивую
даму,
ж ену
одн ого
из
иностранных
дипломатов,
в
объ
ятиях
зн амен итог о
ка рди н ала,
а
себя
поставил
рядом
с
ни ми
вместо
сатира.
«Картина эта представлялась забавною и едкою
всем,
кроме
н ераз гов орчив ог о
Мака» (8, 496).
Она
в ызва ла
цел ую
бур ю,
художнику
угрожали
на ем ным
убийством.
Мн ого
по зже,
совершая
свой
остроумно
задуманный
побег
из
страны
герцога,
Фебуфис
ис пол ь зует
тот
же
способ
мести
и
дар ит
на
по сле док
молодому
полицейскому
сатирический
набросок,
где
стра ж
порядка
изображен
в
в иде
лопоухого
осла.
В
гофмановской
новелле
«Девица Скюдери»
немаловажную
ро ль
в
р а звитии
а ва нтюрн ой
фабулы
играет
некая
пот аен ная
д верь
в
стене,
благ ода ря
которой
о пасны й
пр ест уп ник,
похи
титель
бриллиантов,
на
глазах
св оих
преследователей
вдруг
ис
че зае т.
Специальное
расследование,
проведенное
м ног оо пытным
начальником
полиц ии
Дегрэ,
ничего
не
дает.
Только
в
финале
рас ск аза
р аскр ывает ся
секрет
неуязвимости
п рест упн ика,
ис
пользовавшего
дверь,
искусно
за де к орир ова нную
в
стене.
Во
второй,
еще
не
опубликованной
ча сти
романа
Леско ва
«Чертовы куклы»3,
в
которой
за м етно
нарастает
напряжен
ность
событий,
обыгрывается
похожая
ситуация
с
потаенной
дверью.
Предупрежденный
о
грозящем
ему
бесчестии,
Фебу фис
поздним
вечером
покидает
бал,
где
еще
царит
веселье,
и
долгое
время
безотрывно
следит
за
маленькой
чуть
заметной
дверью
в
стене
герцогского
дворца,
не
появится
ли
оттуда
его
жена.
В
гофмановской
новелле
«Эпизод из жизни трех друзей»
об раща ет
на
се бя
внимание
образ
тридцатидвухлетней
девицы,
отличающейся
«перезрелой наивностью» .
Мар це лл
предупреж
дает
Александра,
чтобы
тот
не
попался
на
ее
крючок: «Я знаю
по
опыту,
что
т акие
наивненькие
особы
обладают
иногда
ил и,
ве рн ее,
всегда
кошачьей
натурой
и
умеют
выпускать
преострые
когти
из
бархатной
лапки,
которой
так
ласково
гладят
до
с вад ьб ы» (1, 129).
Этот
коварный
же нски й
тип
как
бы
заново
о ж ивает
в
ро
ман е
Лескова
под
именем
«маленькой Пеллегрины», сначала
успешно
разыгрывающей
из
себя
перед
Пиком
наивну ю
инст и
тутку,
неспособную
отличить
«букана»
от
«букашки», а затем
искусно
овладевающей
его
волей,
так
что
художник
и
гла зом
не
успел
моргнуть,
как
оказался
в
роли
ее
жениха.
Однако
если
все
указанные
выше
сюжетные
переклички
и
прямые
за имс тв ования
носят
довольно
частный
и
локальный
характер,
то
несравненно
большее
зн ачен ие
имеет
близость
174
Леско ва
Гофману
в
развитии
темы
человека-куклы,
предельно
обезличенного
и
легко
управляемого,
как
некий
иг ро вой
авто
ма т,
чужой
волей.
Из вес тно,
что
эта
тема
акти в но
разра бат ы
валась
с
гоголевских
времен
и
в
русской
сати р е.
И
происходило
это
не
только
под
влиянием
творчества
немецкого
р оман т ика,
чьи
произведения
были
очень
популярны
в
Ро с сии.
Сам а
ру с
ская
действительность
с
ее
нивелирующими
личность
социаль
ными
процессами,
грубым
диктатом
власти
неизбежно
порож
дала
подобный
метафорический
об раз.
Стар ш ий
лит ера ту рный
современник
Л еско ва,
Салтыков-Щедрин
заме чал,
что
одна
из
самых
трудных
и
насущных
за дач
литературы
—
проникнуть
в
«тайну человека- кук лы» 4, и в целом ряде своих произведений
стремился
решать
эту
задачу.
Лесков
в
своем
по здн ем
романе
ставит
перед
собой
по доб
ную
же
творческую
цель.
В
движении
к
ней
он
во
многом
с ле
дуе т
Г офма ну
и
в
то
же
время
проявляет
большую
самостоя
тельность
и
оригинальность.
Н аибол ее
близок
он
немецкому
романтику
в
тех
главах
«Чертовых кукол», в которых изобра
жает
придворные
круги,
св иту
герц ог а,
увлекшего
за
собой
та
ла нт ли вого
художника
Фебуфиса.
Ин тер есно
в
эт ом
от нош ении
письмо,
в
котором
Фебу фи с
рассказывает
своим
друзьям
о
по
ра зивше м
его
по ве дении
в
острой
кризисной
ситуации
людей,
составляющих
ближайшее
окружение
герцога.
Стоило
этому
правителю
прогневаться
на
художника,
позволившего
себе
«по
править»
до пу щен ную
им
несправедливость,
как
Фебуф ис
т от
час
заметил,
что
из
всей
ма ссы
придворных
на
не го
уже
не
смотрит
ни
один
человек,
все
стремятся
д ерж ать
своих
коней
как
можно
плотнее
к
гер цог у.
Но
вот
тот
меняет
св ой
гне в
на
милость,
и
Фебуфис
снов а
набл юдает
пора з ител ьное
е дин ство
реа кц ии:
«Это произвело на всех действие магическое.
..
все
л ица
на
мен я
просияли,
а
все
се р дца,
к азало сь,
хотели
выпрыгнуть
ко
мне
на
тарелку
и
смешаться
с
маленькими
кусками
особливым
сп особ ом
приготовленной
мол одой
бара
нины» (8,522).
Черты
кукольности
и
автоматичности,
унижающей
человече
ск ую
личность,
являет
собой
чут ь
р анее
этой
сцены
и
один
из
на
иболее
высокопоставленных
сановников,
в
своих
непроизволь
ных
конвульсивных
движ ени ях
более
по хо жий
на
мари оне тку,
чем
на
жи вое
лицо.
«Старец носил превосходно взбитый на голове парик,
блистал
б елейши ми
зубами
и
был
подрисован
и
за шну рова н
в
к орс ет.
Л ета
его
был и
неиз
вес тн ы,
но
он
держался
бодро,
хот я
и
вз др агив ал
т очно
под
у дар ами
воль
това
столба.
Что бы
маскировать
это
непроизвольное
движение,
он
от
вре
мен и
до
в ремен и
делал
то
же
самое
нар очн о» (8, 503).
Безобразный
в
своей
фальши
облик
этого
старца
—
своего
рода
концентрированное
воплощение
фантасмагории
той
социальной
действительности,
в
которой
он
занимает
столь
почетное
поло
жение.
175
Одна ко,
в
отличие
от
Гофмана,
в
унизительном
положении
кук лы,
послушно
выполняющей
чужую
волю,
у
Ле скова
оказы
ваются
не
только
л юди
чиновны е,
занимающие
те
или
иные
ка
зенн ые
должности,
но
и
худ ожни к и,
которые
у
Гофмана
пред
ставляют
со бой
обычно
особый
разряд
персонажей,
противостоя
щих
по
самой
своей
природе
куклам
и
автоматам.
Именно
та
кая
судьба
постигает
и
щедро
одаренного
Фебуфиса,
которому
все
пророчили
большое
будущее,
и
иск ренне
преданного
ис
кусству
Пика.
В
молодости
каж дый
из
них
был
твердо
уверен
в
своей
внутренней
свободе,
но
приходит
время,
и
их
самочув
ств ие
резко
мен яет ся,
возникает
гнетущее
ощущение
св оей
крайней
несамостоятельности,
зависимости,
загнанности
в
ту
пи к.
Как
по дсказ ы вает
логи ка
разви тия
сюжета,
эта
оскорби
те ль ная
для
достоинства
Фебуфиса
и
Пика
перемена
соверша
е тся
во
многом
вследствие
проявленной
каждым
реб яче ско й
беспечности,
с тих ийнос ти
существования,
а
также
недостаточ
ной
твердости
ха ракте ра.
Эт от
нравственно-этический
аспект
те мы
человека-куклы
особенно
занимает
Леско ва.
Поясняя
з ам ысел
своего
нового
произведения,
писатель
зам ет ил
о днаж ды
в
письме
к
В.
М.
Лаврову,
что
он
наз ывает
эту
вещ ь
«Чертовыми кук
ла ми» «по характеру бесхарактерности лиц,
в
нем
действую
щи х» (11, 431).
В
по э тике
романа
эта
те ма
получает
самое
мн о
гообразное
преломление.
Не
случайно,
в
ч астн о сти,
что
о
всех
действиях
Фебуфиса,
замышляемых
им
после
переезда
в
страну
герцога,
сообщается
об ычно
с
помощью
глаголов
сосла гате ль
но го
наклонения:
ху до жник
хотел
б ыло
сдел ат ь
что-либо,
но
не
сделал.
Так,
рассказывая
друзьям
в
письме
о
пе рвом
кон
фликте
с
герцогом,
Фебуфис
пр изна етс я,
что
в
ответ
на
грозное
повеление
этого
правителя
показать
ему
только
что
сделанный
рисунок
он
«хотел было отказать,
но
улыбнулся
и
молча
подал
ему
свой
альбом» (8,519).
Позже,
в
разгар
семей
ной
ссоры
с
женой,
он
«хотел разразиться громкими упрека
ми,
но
вместо
того
извин ил ся,
сделал
несколько
незначитель
ных
вопросов
и
несколько
раз
посмотрел
на
черного
Ра по»
(8,557).
«Вы не то делаете,
что
хо ти те»,—
гл асил
б ибл ей ский
эпи
гра ф,
предпосланный
Лесковым
к
ранним
предварительным
наброскам
к
роману.
Именно
эту
нравственную
болезнь
—•
аморфность
натуры,
недостаток
воли,
бесп ло дну ю
порыви
стость
—
болезнь,
по
убеждению
писателя,
типич ну ю
для
людей
эпо хи
безвременья,
и
исследует
он,
повествуя
о
жи зни
гла вных
героев
своего
романа.
В
поведении
Фебуфиса,
его
жестах
и
поступках
постоянно
выявляется
разлад
между
его
непосред
с тве нной
реакцией
(чаще всего верной и естественной)
на
то
или
и ное
проявление
д и ктата
чужой
воли
и
п ос леду ющим
от
кликом
на
нег о.
В
малых
и
больших
ж ите йски х,
столкновениях
герой
Леско ва
не
проявляет
должного
само обл адания
—
кач е-
176
ст ва,
которое
писатель
всегда
особенно
высоко
це нил
в
людях.
Ж елая
всячески
по выс ить
в
глазах
читателя
значение
этого
качества,
Лесков
сно ва
и
снова
использует
в
повествовании
именно
это
слово
«самообладание»
и
его
производные,
сообщает
ему
фу нк цию
лейтмотива,
призванного
концентрировать
на
се бе
читательское
внимание.
Только
в
нач але
восемнадцатой
главы
«Чертовых кукол»
это
слово
звучит
дваж ды.
Од ин
раз
—
во
внутреннем
монологе
Фебуфиса,
взволнованного
и
оскорб
ленного
конфликтом
с
женой,
которая
упорствует
в
своей
от
чужде н н ости
от
него.
Он
ловит
себ я
на
том,
что
ощуща ет
стр ах
пе ред
это й
к раси вой
женщиной,
избалованности
и
кап р изам
которой,
очевидно,
нет
м е ры, «точно так же,
как
не
ви дно
меры
ее
упорству
и
самообладанию,
которых
совсем
нет
у
Фебуфиса»
(8, 556).
Чуть
ниже
это
ключевое
сл ово
употреблено
при
о пи
сании
поведения
Фебуфиса
в
момент
пр иез да
гостей,
родных
его
жены.
Он
встал,
чтобы
приветствовать
их
«ивтожевремя
показать
первое
проявление
своего
равнодушия
и
своего
само
о бл адания » (8, 557).
О дна ко,
как
ясно
из
контекста,
подобная
по пы тка
обуздать
свои
чувства
—
всего
лишь
пустая
претен
зия,
быстро
обнаружившая
св ою
несостоятельность.
Вскоре
Фе-
буфис
теряет
выдержку,
вступает
в
новое
объяснение
с
женой,
тут
же
принимающее
грубые
и
оскорбительные
для
нее
формы,
а
затем
впадает
в
состояние
афф ект а
и
не
только
о бр ащает
к
ней
с вои
безумные
угр озы
сжечь
ее,
но
и
в
самом
де ле
п од
жигает
портьеры
у
дверей
ее
спальни.
Подобную
же,
а
может
быть,
и
еще
большую
мягкотелость,
чр езмер ну ю
уступчивость,
склонность
к
п рим ир ению
с
действи
тельностью
проявляет
и
«маленький Пик» .
Повествование
о
нем
также
изобилует
всякого
рода
мо да льн ыми
и
противительными
конструкциями:
хотел
одного,
а
делает
н ечто
пр ямо
противо
положное.
Та к,
мы
уз нае м,
что
услышав
от
своей
молодой
жены
страшное
признание,
Пик
«хотел ее оттолкнуть,
но
вместо
то го
принял
же ну
под
руки,
отвел
ее
в
спальню,
по мог
ей
раз
деться
и
ск азал: „Раз что все было так,
то
это
предается
забве
н ию “» (8, 548).
В
то
же
вре мя
гофмановская
по
своим
литературным
исто
кам
тема
человека-куклы
принимает
в
романе
«Лескова не
толь ко
нравственно-психологический,
но
и
злободневный
соци
ально-политический
повор от .
Из нач аль но
при сущи е
Фебуфису
душевная
м ягкот ело сть,
отсутствие
ясного
сознания,
к
чему
он
призван,
подвластность
вне ш ним
влияниям
—
все
эти
сла бос ти
чрезвычайно
усиливаются
в
нем
с
мо ме нта
рокового
переезда
в
страну
герцога,
где
безгранично
властвует
од на
воля,
во ля
пр авит еля ,
где
нет
среды,
которая
благоприятствовала
бы
р аз
вит ию
личности
и
таланта
молодого
ху до жник а.
Новую
напря
женность
поэтому
обр ет ает
в
лесковском
романе
коллизия:
творческая
личность
—
окружающее
ее
общество,
художник
—
диктат
государственной
вла ст и,
б есцер емонн о
вторгающийся
12 Заказ No 299
177
в
святая
святых
его
деятельности.
Не
только
в
«Серапионовых
б ра тья х», айв значительно более ранних своих произведениях
(«Музыкальные страдания Иоганна
Кре йсл ера ,
кап ельмей
с те ра») Гофман,
как
и
другие
романтики,
охотно
об ращался
к
такого
ро да
коллизиям,
ос мыс ли вая
их
как
глубоко
трагиче
ские.
Сочувствие
писателя
обычно
на
стороне
ар тистиче ско й
личности
с
ее
душевной
утонченностью,
чистотой
помыслов,
способностью
п ереж иват ь
возносящие
ее
почти
к
надземным
сферам
состояния
творческих
озаре ний .
По
мысли
Гофмана,
та
кая
личность
в
усл ов иях,
где
властвуют
расчет,
низкие
страсти,
иерархия
от нош е ний,
роковым
образом
осуждена
на
унижения,
одиночество
и
ги бель .
Тра ги зм
ее
судьбы
неизбежен.
В
отличие
от
Гофмана
Лесков
от казыв ается
от
принципа
контраста
в
о св ещении
фигур
художника
и
мец енат а- власт и
те ля.
Писатель
ра скрыв ает
не
только
тр агед ию
таланта,
лишен
ного
возможности
творчески
реализовать
се бя,
но
и
с трашн ый
пр о цесс
постепенного
вт я гива ния
ярк о
одаренного
человека
в
паутину
мелочных
забот,
интересов
и
от нош е ний,
в
которых
он
мало-помалу
теряет
свою
личность,
а
вместе
с
тем
рас трач и
в ает
отпущенный
ему
талант.
Есл и
в
былые
времена
Фебуфис
не
без
гордости
говорил
о
себе,
что
он
«оригинальный чело
век», а не «рабская
к оп ия » (8, 500), то в развращающей атмо
сф ере
существования
при
д воре
герцога
он
незаметно
для
се бя
лишается
творческой
самостоятельности
и
вскоре
становится,
по
злому
слову
Шер а, «величайшим мастером по утвержден
н ому
герцогом
о бр аз цу» (8, 536).
Покорно
высл ушивае т
он
три
виальные
по
мысли
и
грубо
бесцеремонные
по
то ну
наставитель
ные
речи
своего
высокого
покровителя,
который
в ажно
п ро воз
гл аш ает,
что
«задачи искусства
—
это
героика
и
п ас тораль ,
вера,
семья,
мирная
буколика,
без
всякого
сованья
носа
в
общ е
ственные
вопросы...
Обществ енн ые
во пр осы
иску сс тва
не
к аса
ют с я» (8, 538).
Вынужденный
сосредоточить
ве сь
и нт ерес
своего
существования
на
маленьком
пятачке
придворной
жизни,
все
больше
втягиваясь
в
пучину
ее
и нтр иг,
художник
незаметно
для
себ я
все
больше
нисходит
до
уров ня
призрачно-кукольного
существования.
Оценочный
комментарий
пов ест вова те ля
помо
га ет
ч ита телю
лучше
осознать
это
качество
жизни
«фаворит
ного
а рт и ст а », не оставляющей для него возможности обрести
свое
истинное
п риз в ан ие: «Все это похоже на игру живыми
ш ашкам и
и
при
пустоте
жизни
делает
интерес.
Фебуф ис
ст ал
чу вст вовать
э тот
интерес» (8,534).
Однако
по зже
этот
ложн ый
инт ерес
не
может
не
вызвать
у
талантливого
художника
состоя
ния
глубокой
депрессии
и
жел ани я
уйти
из
жизни.
Та
метаморфоза,
которую
претерпевает
в
романе
Фебуфис,
а
затем
и
его
самоубийство
бросают
св ой
компрометирующий
от
с вет
на
все
имеющие
место
в
романе
наивные
по пытк и
как-то-
идеал из иро ва ть
строй
от нош е ний,
существующий
в
самодержав
ном
государстве
герцога.
Склонный
к
прекраснодушию
и
миру
178
с
действительностью
друг
Феб уфис а, «маленький»
Пик ,
пише т
одн ажд ы
Маку:
«Ах,
др уг!
М ожет
быть ,
спасение
им енно
здесь,
где
стоит
в оле
захоте т ь,
чтоб
что-.нибудь
сделалось,
и
оно
сейчас
же
ст ан ови тся
возможным,
а
не
за
хо теть —
все
станет
невозможным?
И
все
это
о тто го,
что
жизнь
удержана
в
удобной
фо рм е?» (8, 531).
Подоб ны е
капитулянтские
мысли
посещают
иногда
и
Фебу
ф иса,
который
пытается
успокоить
свою
совесть
тем,
что
деспо
тизм
общественный
ничуть
не
лучше
д е спот изма
государствен
ног о.
П ока за тельна
в
романе
р еакция
Ма ка
на
такого
ро да
рассуждения:
прочитав
в
письме
Пик а
приведенную
в ыше
с ен
тенцию,
он
тут
же
прекратил
чтение
и
нач ал
собирать
на
это
письмо
мастихином
загустевшие
б ыло
на
его
палитре
краски.
По
логике
сюжета
горькая
и
ж алкая
участь
«чертовой
куклы»
в
системе
отношений,
существующей
в
тоталитарном
государстве,
неминуемо
угот ова на
не
только
мяг ким
по
при
род е
характера
людям,
занимающим
относительно
скромное
и
за висимо е
положение.
Как
это
ни
пар адо ксал ьно ,
она
грозит
и
самому
монарху,
в ен чающ ему
соб ой
зд ание
социальной
пира
миды.
Интер е сно
заметить
в
эт ой
связи,
что
в
структуре
ха
рактеров
ге рц ога,
с
од ной
стороны,
и
Фебуфиса
—
с
другой,
имеет
место
принцип
зеркального
взаимоотражения.
Внешне
в
сил у
разности
официальных
положений
это
герои-антиподы.
Однако
по
склад у
натур
и
ха рак теру
поведения
они
сродни
друг
другу.
По
ходу
событий
постепенно
становится
все
более
ясным,
что
у
каж до го
из
них
твердость
и
независимость
харак
тера
(качества,
на
обладание
которыми
оба
претендуют)
под
менены
элементарным
детским
упрямством,
а
внутренняя
сво
бода,
которой
оба
они
похваляются,—
ре бяч еск ой
импульсив
ностью
поведения,
кап риз ам и,
самолюбивой
жаждой
во
что
бы
то
ни
стало
взять
верх
над
д руг им,
выи гра ть
в
соперничестве.
В
кр и тическ ие
моменты
противостояния
(сцены аудиенции)
ре
акции
и
поступки
героев
оказываются
чрезв ы чай но
подобными
друг
другу.
В
момент
первой
дорожной
ссоры
и
художник
и
герцог
вмиг
преисполняются
чувствами
взаимной
злости
и
н енав ист и.
Во з
му щ енный
тем,
сколь
высокомерно
и
равнодушно
обошелся
герцог
с
услужившим
ему
смельчаком-горцем,
Фебу ф ис
в
письме
к
друзьям
р ассказ ы ва ет: «Это было сделано так грубо,
что
меня
взбесило» (8,517).
Подобную
вспышку
гнева
тут
же
позволяет
себе
и
герцог
в
отношении
худ ожника .
З амет ив,
что
покороб
ленный
произошедшей
сценой
Фебуфис
дерзнул
наградить
юношу,
раздобывшего
мед
диких
пчел,
герцог
пришел
в
ярость.
«Взгляд его засверкал бешенством,
а
ме жду
губ
выступила
с винцо вая
полоска» (8,518).
Вр ажд уя
между
собой,
герцог
и
Фебуфис
повторяют
друг
друга
и
в
самых
мелочных
подчас
движениях
и
ж естах .
В
той
же
сцене
в
ответ
на
требование
ге рцо га
Фебуфис
с
ул ы бкой
подает
ему
свой
ал ьбо м,
где
он
12*
179
запечатлел
только
что
произошедшее.
Увидев
ком про ме тир у
ющи й
его
н аброс ок,
герцог
«с холодной и злой улыбкой» (8,
519) говорит художнику,
что
он
хорошо
рисует,
но
пло хо
обду
мывает
св ои
поступки.
Державный
меценат
и
доверившийся
ему
художник
по до бны
др уг
другу
и
в
кульминационные
моменты
развития
их
отно
шений,
с
наибольшей
по лнот ой
раскрывающие
сущность
их
на
тур.
Интер ес но
соотнести
с
эт ой
точки
зрения
сцену
аудиенции
у
герцога
из
второй
ч асти
романа
со
сценой
самоубийства
гла в
ного
героя.
В
первой
из
них
под
влиянием
испо лненных
досто
ин ства
слов
Фебуфиса,
не
желающего
больше
тер пе ть
многооб
разные
унижения,
герцог
вдруг
чувствует
с ебя
виноватым
и
пристыженным.
Под
влиянием
этих
чувств
он
совершает
неожи
данный
для
всех
и
самого
с ебя
«красивый», по- те а тр ал ьно му
эффектный
поступок:
стремительным
движением
в клад ывае т
в
руки
Фебуфиса
зар яж енны й
пистолет,
обрывает
пуговицы
с
во рота
своей
белой
ру ба шки
и,
тяже ло
дыша,
стоит
перед
ним
с
открытой
грудью,
ожидая
з ас луже нной
кары.
Он,
непо
правимо
разбивший
семейную
жизн ь
х уд ожника ,
с б ивший
его
с
пут и
истинного
с луж ения
искусству,
готов
принять
смерть
во
искупление
своей
вины.
Этот
шаг
гер цо га,
в
котором,
при
вс ей
его
вне шне й
броскости
и
экстравагантности,
можно
увидеть
последний
всплеск
соб ст венно
человеческих
чу вств, —
почти
са
моубийство,
которое
не
состоялось
только
потому,
что
Фебу ф ис
не
посмел
спустить
курок.
В
сцене
самоубийства,
которым
завершает
свой
земной
пут ь
Ф ебу фис,
художник
обнаруживает
не
меньше
не рв ной
взвин
ченности
и
в ле чения
к
ярк ой,
театральной
зрелищности,
к
со з
данию
вок руг
своей
гибели
возвышающего
ее
ореола
с об ытия
ужасного
и
таинственного.
С
помощью
сб ереж ен ной
золотой
бу
лав ки
жены,
обмоченной
в
ра ст вор
краски
с
картины
Кранаха,
Фебу фи с
в ыка лывае т
у
с ебя
на
груди
фигуру
др ако на
и
ум и
р ает.
Д ело
не
только
в
«характере бесхарактерности»
натур
обоих
героев,
но
и
в
актив н о
влияющей
на
них
системе
отношений,
установлений,
норм
практической
нр авс тве нно сти,
существую
щих
в
абсолютистском
государстве
герцога.
Долгое
вре мя
пыта
ющийся
с охран ить
св ою
независимость
Фебу фи с
в
конце
концов
чувствует
с ебя
там
уже
совсем
не
тем,
кем
он
приехал
в
страну
герцога,
самонадеянно
приняв
его
предложение.
Именно
по э
тому,
собрав
остаток
си л,
он
бежит
из
его
владений.
Сам
гер
цог,
выслушав
очередной
д оклад
сановника
о
поднадзорном
худ ожн и ке,
замечает: «Да,
мы
умеем
портить».
Однако,
как
по
казывает
ход
событий,
и
это т
уверенный
в
своем
могуществе
пра вите ль,
как
и
Фебу фи с,
выну жд ен
пережить
мучительное
сост о яние
вну тр енней
несво бо д ы,
истоки
которой
в
кричащем
неравенстве
их
положений,
которое
сам о
по
себе
начисто
исклю
чает
возможность
иск реннег о
человеческого
сб лиже ния
и
180
дружбы.
У бед ивши сь
в
беспло дно ст и
своих
попыток
по-дру
жески
сблизиться
с
Фебуфисом,
герцог
о бр ащает ся
к
своему
«достопочтенному»
советнику
с
знаменательной
просьбой:
«Не можешь ли ты разъяснить мне,
с тар ик,
одно
странное
и
страшное
поло
жение,
которое
меня
неотступно
преследует
и
м учит ?..
От чего
это
все
так
ск лад ыва ется ,
что
я,
в
моем
по -в идимо му
самом
свободном
и
независимом
положении,
несвободен? ..
Отчего
я
так
часто
принужден
при бли жать
к
себе-
и
отличать
та ких
люд ей,
в
кот ор ых
не
вижу
достоинств
и
презираю
их,
а
должен
отдалять
тех,
которых
мог
бы
уважать
и
хотел
бы
видеть?»
Льстивый
демагогический
ответ
со ветни ка: «Вы жертвуете
своими
симпатиями
пользам
страны» (8,16)—
не
в
сил ах
за
глушить
в
герцоге
сердечную
тоску.
На
минуту
он
пе рест ает
бы ть
жи вым
манекеном
и
становится
лицом
страдающим.
Од
нак о
тут
же
справляется
с
этой
«слабостью»
и,
как
это
явс т
вует
из
его
следующих
реп л ик,
сно ва
чувствует
себя
пре жде
всего
лицом
официальным,
вписанным
в
сист ему
социально-по
л ити ческих
отношений,
господствующих
в
его
государстве.
Ле
дяным
холодом
веет ,
в
частности,
от
его
слов,
сказан ны х
по
поводу
в о зможн ого
возвращения
на
родину
жены
Фебуфиса,
недавней
любовницы
герцога: «У меня и без нее есть поддан
ны е,
и
все
они
не
имеют
никаких
прав
там,
где
выше
всего
мое
право» (там же).
Итак,
зловещие
черты
кукольности,
которые
в
лесковском
романе
проявляются
во
внешности
и
поведении
многих
героев,
занимающих
самые
разные
социальные
по ложе ния, —
это
не
только
следствие
природной
бесхарактерности
эти х
л юдей,
но
и
п роду кт
от нош е ний,
культивирующихся
в
тоталитарном
го су
дарстве,
жестко
регламентирующих
жизнь
и
поведение,
сти ра
ющ их
индивидуальности,
превращающих
даже
ярко
одаренных
людей
в
«рабские копии»
самих
себя .
Н а следуя
от
Гофмана
тему
ч ело века—к уклы ,
Лесков
с
осо бой
целенаправленностью
исследует
в
«Чертовых куклах»
ее
политический
асп ект .
Са мый
институт
государственности,
который
не
был
предметом
особого
художественного
осмысления
в
«Серапионовых братьях»
Гоф
мана,
высвечивается
в
романе
Леско ва
как
сила,
враждебная
человеческой
природе,
неизбежно
ее
калечащая
или
даже
унич
тожающая.
Такая
по зи ция
отразила
поворот
в
общих
в оззре
н иях
писателя,
ощутимо
проявившаяся
в
1880-х — 1890-х
годах.
Все
глубже
проникаясь
в
это
вре мя
христианскими
и деями
и
настроениями,
Лесков
не
раз
заявляет
в
своих
письмах
и
пуб
л и цис тически х
статьях
(«Обуянная соль», 1891) о том,
что
п ред
писываемые
государственными
з акон ами
отношения
господства
и
под ч инения
не
отвечают
заповедям
Христа
о
любви
и
равен
стве,
а
всякого
ро да
уставы
о
«пресечении», охраняя права соб
ственников,
вопиюще
противоречат
нач алам
братственного
уч а
стия
и
сострадательности,
составляющим
живую
душ у
христи
анск ой
этики.
Альт ерн ат и вой
государственной
ор ганиз ации
в
«Чертовых
куклах»
выступает
свободный
союз
друзей-единомышленников.
181
решивших
примкнуть
к
освободительному
движению,
возглав
ляемому
легендарным
Гарибальди.
«Союз экономии сил»,—
так
наз ыва ет
его
Мак,
горячо
убежденный
в
то м,
что
толь ко
под
эгидой
такого
союза
может
быть
спасена
человечность,
обре
тен а
ист ина,
сохранено
достоинство
каждого
из
его
друзе й.
При
очевидном
резком
несходстве
идеологических
мот иво в
.лесковского
романа
с
теми,
которые
развиваются
в
«Серапио-
новых
братьях»
Гофмана,
можно
заметить,
что
во
второй
ч асти
«Чертовых кукол»
сно ва
отчетливо
дает
с ебя
зна ть
на ме ре нная
•опора писателя на традиции немецкого романтика.
Ход
собы
тий
представлен
в
д ымке
окружающей
их
атмос фе ры
фан тас ти
ческой
таин ств енно сти ,
ж иво
воздействующей
на
с амочув ст вие
те ро ев,
их
по веден ие
и
поступки.
Ос обе нно
заметно
присутствие
это й
атмосферы,
навевающей
ассоциации
с
гофмановскими
но-
■веллами,
в
главах,
повествование
в
которых
ведется
от
лица
Шера,
доверительно
и
в
то
же
время
не
без
известной
самоиро-
нии
рассказывающего
подвергнутому
домашнему
аресту
Фе бу-
ф ису
«странную»
и ст орию
из
д алеки х
времен
своей
юности.
.Для
романтической
тр а диции
хара ктерн а
уже
сама
пейзажная
заставка
этой
истории.
Место
действия
совершенно
н епр едск а
зуе мых,
удивительных
событий
—
за броше нн ый
замок
в
дико м
.лесу,
обветшавшее
готическое
строение
с
высокими
зубчатыми
башнями
и
обрушившейся
мес тами
кр ыш ей,
овеянное
с траш
н ыми
поверьями.
В
нем
на
несколько
долгих
лет
поселилась
»семья одной почтенной,
широко
образованной
и
ригористически
строгой
в
своих
моральных
возз ре ния х
дамы,
про тив
воли
гер
цога
не
по же лавшей
остаться
в
столице
и
в
о тсу тств ие
муж а
продолжать
участвовать
в
светской
жиз ни.
Череда
исключитель
ных
событий,
нарушивших
пок ой
ее
уединенного
приб еж ища,
бе
рет
свое
начало,
как
это
часто
случается
в
романтических
но
веллах
Гофмана,
в
грозовую
н очь,
когда
разыгравшаяся
буря
с
корнем
вы ламы в ает
мо гучи е
дер евья ,
словно
предвещая
на
двигающиеся
катастрофу
и
несча стья .
«И сейчас жутко вспом
нит ь »,—
при знае тс я
Шер,
ярк о
живописующий
этот
мрачный
разгул
«демонических сил», который не мог не устрашить всех
об итат е лей
замка.
Далее
в
ра сск азе
звучит
то же
типично
го ф-
мановская
тема
ду шев ной
потрясенности
молодого
человека,
занимающего
скромное
место
домашнего
учителя
в
семействе
ба роне ссы
(в этом романтически настроенном юноше,
чело в еке
в
ту
пору
оче нь
хрупкой
душевной
ор га низа ции,
без
труда
уг а
дывается
сам
Ш ер).
Под
влиянием
причудливого
л унно го
осв е
щения,
у жасающ его
р ева
бури
и
грозных
ра зряд ов
молний
он
вдруг
в па дает
в
некое
с омна мбул иче ское
состояние.
В
течение
долгого
времени
ему
становится
трудн о
отличить
реальные
впе
ча т ления
от
галлюцинаций.
С
момента
эт ой
бо л езни
в
его
- сер дце
вспыхивает
чувство
п лато н ическо й
любви
к
ба р оне ссе,
и
в
то
же
время
он
оказывается
в
пл ену
столь
же
неодолимого
чувственного
влечения
к
ее
подруге
Камилле,
которая,
как
не
182
уловимый
призрак,
является
к
не му
по
ночам,
га сит
но чник
и
со
всей
присущей
ей
непомерной
силой
обрушивает
на
не го
поток,
любовных
лас к.
Такая
экспозиция
рассказа
Ше ра
напоминает
собой,
в
част
нос ти,
начало
одной
из
«серапионовых»
новелл
Гофмана
«Зло
ве щий
го с ть », события которой разыгрываются в подобную же. -
непроглядно
темную,
бу рную
ночь.
Родственны
ра сс казу
Шера
и
многие
другие
гофмановские
новеллы
того
же
цикла.
Преам
булы
к
ним
со держ ат
обычно
полушуточные-полусерьезные
ра з
говоры
друзей-литераторов
о
присутствии
неких
высш их
сил -
в
человеческой
жизни,
о
привидениях,
о
сомнамбулизме,
о
ве
щих
снах ,
галлюцинациях,
гр анича щих
с
ясновидением,
и
т.
ш
Кстати,
в
ходе
од ной
из
т аких
б есед
высказывается
мысль
о
том,,
что
именно
бо ле знь,
физическая
слабость
человека
со зд ает
н аи
более
благоприятные
предпосылки
для
того ,
чтобы
он
оказался
способным
к
контакту
с
сверхчеловеческими
силами.
«Самые
чудесные,
са мые
ж ивые
с ны,—
говорит
Ло тар ,—
яв ляютс я
обыкновенно
во
вре мя
бо л езней.
Дух
в
эт их
случаях
как
бы-
пользуется
бессилием
своего
физического
сотоварища,
т ела,
и
дел ает
его
своим
послушным
ра бо м» (1, 120).
Юноша,
о
котором
рас ска зыв ает
Шер ,
претерпевает
своя
странные
злоключения
в
дал еко м
лесно м
замке,
познает
неве
домые
ему
прежде
состояния
отключенности
сознания,
зыбк ог о
существования
между
сн ом
и
бодрствованием,
под ч инения
своей
во ли
другой
именно
во
время
тяжелой
и
долгой
болезни.
Ч уть,
выздоровев,
он
снова
з абол евает ,
и
снова
все
повторяется
сн а
чала.
В
таком
демонстративном
следовании
Леск ов а
Гофману,,
а
вместе
с
тем
и
родственной
его
творчеству
традиции
«готиче
ского
ром а на», «черной»
литературы
следует,
пож алу й,
усмот
реть
две
совершенно
разные
и
даж е
противоборствующие
т ен
д енции:
увлечение
гофмановской
фа нтас тик ой
и
полемику
с
неш
Лесков,
как
и
Гофман,
не
приемлет
узко
рационалистического
взгляда
на
ж изнь,
который
с
развитием
просветительской
идео
логии
пол уч ил
еще
большие
пр ава,
чем
во
времена
за рожде ни я
и
ра сцвет а
р о ма нтическо й
школы.
Подобный
вз гляд
представ
ляется
пи са телю
неоправданно
игнорирующим
сло жнос ть
чело
веческой
природы
(достаточно вспомнить в этой связи извест
ный
ра сск аз
Л ескова
«По поводу Крейцеровой сонаты», в ко
тором
он
вел
открытую
полемику
с
Л.
Толстым).
Отталкиваясь-
от
этого
воз зр е ния,
Лесков,
как
и
Гофман,
проявляет
все
нара
ст а ющий
ин тер ес
к
таинственным
я вл ениям
в
ж изни
че лове ка
и
природы,
не
поддающимся
простому
логическому
истолкова
нию.
В
целом
ряд е
своих
поздних
сочинений
он
намеренно
стремится
осл ож нить
возникающую
психологическую
ко л лизию, ,
заглянуть
за
«занавес», отделяющий здешний,
земной
мир
от-
высших
сфер,
проникнуть
в
об лас ть
подсознательного,
в
сферу
см ут ных
чувств,
не ясн ых
томлений,
сн едаю щих
душ у
«греш
н ых»
желаний.
В
ст атья х
и
письмах
он
часто
с
удовольствием-
183:
обыгрывает
слова
Г амл ета: «Есть на свете,
друг
Г орац ио,
та
кие
ве щи,
которые
и
не
с нилис ь
нашим
муд рец ам».
В
1880—
1890- е
годы
эт от
инт ер ес
Ле скова
по ддер жи вает ся
и
усилива
ет ся
т еми
новыми
исканиями
в
русской
литературе,
которые
позднее
д али
основания
критикам
за гово ри ть
о
свойственных
ой
в
это
вре мя
романтических
тенденциях
(Короленко,
Гар
шин) .
И
вообще
Лескову
всегда
импонировала
в
ро ма нтичес ко й
литературе
яркая
оригинальность
хар актер о в,
сила
страстей,
отча янн ая
дерзостность
поступков
гер о ев,
особенно
притяга
те льны е,
на
его
взгляд,
в
соотношении
с
аморфностью
господ
ствующего
в
современности
типа.
Поэтому
в
явной
стилизации
рассказа
Шер а
под
романтическую
лю бо вную
повесть
непосред
ственно
ощутимо
сочувственное
отношение
автора
к
гофманов-
е кой
литературной
традиции.
Вместе
с
тем
в
к о нтексте
лесковского
романа
эта
вст авная
но вел ла
значима
не
сама
по
себе,
а
служит
гла вн ым
образом
лишь
контрастным
ф оном
для
повествования
о
Фебуфисе,
в
жизни
которого,
как
наст аивае т
ав тор,
все
происходит
совсем
иначе,
чем
у
Шера
в
пору
его
молодости,
когда
во
вс ех
остро
пережитых
любовных
приключениях
он
был
лицом
страдатель
н ым,
а
з начи т,
и
морально
б езо тв етств енны м.
В
сущности,
нравственно-дидактические
з адач и,
которые
ставят
пе ред
с обой
в
этой
вставной
гл аве
автор
и
его
ра ссказч ик,
прямо
противо
п олож ны
др уг
друг у,
вследствие
чего
слово
повествователя
становится
двуголосым,
а
лиризм
ра зъед ает ся
изнутри
потаен
ной
иронией.
Погружаясь
в
свое
дав нее
прошлое,
Шер
не
просто
от дае тся
дорогим
для
не го
воспоминаниям,
он
«политикует»
и
поч ти
не
скр ыв ает
от
Фебуфиса,
крайне
подавленного
уходом
жены,
св оих
намерений
примирить
его
с
новым
положением
обманутого
супруга,
приглушить
остроту
его
нравственной
ре
акци и
на
произошедшие
со бы тия,
внушающие
художнику
ч ув
ст во
гадливости.
Ле йт мотив
всего
ра сск аза
Шера
—
спекулятив
ная
ид ея
о
том,
а
так
ли
уж
все
это
важно
(верность,
постоян
ство,
преданность
в
любовных
отношениях), если человек во
обще
крайне
несво б од ен
в
них,
ес ли
существуют
«ураганные»
страсти,
порывам
которых
он
не
в
силах
противостоять,
если
при
вс ей
добродетели
он
мож ет
вдруг
самым
непредвиденным
об разом
подвергнуться
воздействию
сверхъестественных
си л,
испытать
на
себ е
власть
роковой
череды
событий,
в
которые
он
вовлечен
не
своей
волей?
Поэ то му
на
протяжении
всего
своего
п ове ствов ан ия
Шер
с
опорой
на
ро ма нтичес ку ю
тради
цию
всячески
акцентирует
момент
вмешательства
во
внутрен
нюю
жизнь
ю ноши
э тих
таинственных
иррациональных
начал,
сообщающих
ей
совсем
новое
содержание
и
направленность.
Ит ак,
молодой
человек
из
рас ск аза
Шера
—
это
с трад аю щая
ж ерт ва,
а
не
вершитель
событий,
поэт ом у,
несмотря
на
всю
двусмысленность
ро ли,
которую
он
принужден
играть,
он
вне
суд а
и
заслуживает
толь ко
сочувствия
и
сострадания.
184
Весьма
несущественной,
относительной,
п очти
призрачной
оказывается
и
«вина»
др угих
участников
и
участниц
п ере да
ваемой
Шер ом
истории.
Кам илл а,
ввер гн увш ая
молодого
чело
века
во
время
его
болезни
в
пучину
чувственных
удовольствий,,
оказывается
способной
совершить
высо кий
подвиг
«добротолю-
б ия»: ценой собственной жизни она спасает бедных жителей
ближней
деревни
от
угрожающей
им
э пидем ии
черной
оспы.
И
э тот
ее
подвиг
нач ист о
см ыва ет
все
то,
в
чем
мо жно
было
бы
укорять
ее,
пр ев р ащает
ее
из
грешницы
в
подвижницу.
В
то
же'
время
становится
очевидным,
что
баронесса,
которая
пыталась
удержать
Камиллу
в
ее
любовных
порывах,
д елает
это
не
столько
вследствие
свойственного
ей
ригоризма
и
чистоты
нравственного
чув ств а,
но
и
под
влиянием
тщетн о
по давл я емых
ею
мук
ревности.
Ее
сердце
тоже
влечется
к
молодому
чело
веку.
Несмотря
на
то
что
душевный
покой
утерян,
у сили ем
воли
ей
все
же
уда ется
сконцентрировать
все
сил ы
ду ши
на
ожида
нии
мужа,
который
вот-вот
дол жен
вернуться
из
далек ог о
пла
вания.
Но
ког да
до
желанной
встречи
оста ютс я
считан ны е
дни
и
часы,
ба роне ссу
постигает
страшный
удар
судьбы:
захв аче н
ный
по рыво м
страсти,
ее
муж
не
возв ращае тся
к
ней.
П отря
сенная
случившимся,
баронесса
чуть
не
сходит
с
ум а,
но
через
некоторое
вре мя
смиряется
с
положением
в ещей
и
уступает
притязаниям
всемогущего
гер ц ога,
становится
его
любов ни це й..
И так,
злой
рок,
зл ая
су дь ба,
дьявольское
н аважд ени е,
не
кое
коварное
стечение
обстоятельств,
власть
природы
—
вот
силы,
которые,
по
убеждению
Шера,
сплошь
и
рядом
берут
верх
над
желаниями
и
волей
людей,
а
следовательно,
гер ои
р ассказ анно й
им
истории
не
могут
б ыть
нравственно
ответст
венны
за
тот
или
ин ой
поворот
св оей
судьбы
и
нике м
не
могут
быть
осуждены
за
непоследовательность
своего
поведения.
Та
кова
по зиц ия
именно
Шер а,
но
не
автора
романа.
Как
видно-
из
контекста,
Лесков
вводит
в
повествование
эт от
«романтиче
ский»
рассказ
полицейского
директора
по
принципу
доказатель
ства
«от противного»: писатель стремится вызвать у своего чи
тателя
чувство
активного
внутреннего
сопротивления
той
спе
к уляти в ной
нравственной
фил ос о фии,
которую
столь
хитро
умн о
и
увлеченно
развивает
Шер ,
маскируя
св ою
псих ич еску ю-
ата ку
на
художника
под
дружескую
исповедь.
Потаенная
свое
корыстная
цель
Ше ра
—
изм ен ить
свойственный
Фебуфису
взгляд
на
вещи,
внести
в
его
сознание
«коварную»
идею
относи
тельности
п о нятия
о
нравственном
и
безнравственном,
грехопа
д ении
и
подвижничестве
и
та ким
путем
подавить
б унт
оскор
бленного
художника
и
склонить
его
к
м иру
с
действительностью.
Эта
тщетно
скр ываемая
«сверхзадача»
искусного
рассказ
чика
не
укр ы вает ся
от
внимания
Фебуфиса,
который
проявляет-
насмешливо-критическое
отношение
к
в ажно му
гос тю.
А
глав
ное
—
столь
наст о йч иво
внушаемая
Шером
ид ея
об
условности
границ
меж ду
добром
и
злом ,
о
невинности
л юдей,
не
по
своей
18&
во ле
попадающих
п орой
в
ложн ые
положения
и
совершающих
■опрометчивые поступки,
входит
в
прямое
противоречие
и
с
жи з
ненной
историей
Фебуфиса,
как
она
осмысляется
в
роман е,
и
той
мыслью
о
недопустимости
мелких
уступок,
частн ых
ко м
промиссов,
которую
он
под
прямым
вл иян ием
Мака
деклари
ру ет
в
своей
к а ртине
под
названием
«Немножко бросься вниз!».
Итак,
вопреки
каким
бы
то
ни
б ыло
поп ы ткам
Шера,
используя
т ра диционно
романтические
пр е дс та вления,
искусственно
набро
си ть
некий
фле р,
мистифицирующий
действительный
смысл
и
пр ич ины
происходящих
событий,
вс ей
логикой
сюжета
своего
романа
Лесков
настойчиво
вну шае т
читателю
мысль
о
том,
что
в
своей
жа лкой
и
страшной
судьбе
виноват
не
кто
ино й,
как
сам
Фебу фи с,
совершивший
в
с вое
вре мя
непоправимо
ложный
шаг.
Чем
б лиже
к
финалу,
тем
все
более
напр яже нны м
стано
вится
в
романе
противоборство
этих
д вух
систем
и
оце нок :
су
губо
романтической,
г оф ман ов ской,
и
реал и сти ческ ой.
Совсем
в
д ухе
Гофмана
представлено
у
Ле сков а
особое
в ле
че ние
его
гл авн ого
ге роя
к
картинам
великого
немец ко го
живо
писца
Кранаха,
од ной
из
которых
суждено
сы гра ть
роковую
р оль
в
его
жизни.
Известно,
что
в
худ оже ств енн ой
системе
гофмановских
произведений
и,
в
частности,
тех,
которые
вошли
в
со став
цик ла
«Серапионовы братья», картины занимают осо
бое
место.
Они
обычно
не
только
служат
обстановочной
де
талью,
но
и
об лад ают
чудодейственной
способностью
прямого
вм ешат ельст в а
в
ж изнь
г еро ев,
сообщающего
ей
совершенно
но вый
см ысл
и
новое
на пра вле ние.
В
своей
ярк ой
статье
о
Г оф
мане
Н.
Я.
Берковский
пи сал : «У Гофмана новеллы бывают
рас сказа ны
по
ка рти не : „Фермата“, „ Д ож
и
догоресса“,
где
ис
кусство
не
только
завершает
действительность,
но
еще
и
пред
шествует
ей.
Цитаты
из
мир ово го
искусства,
ссылки
по
поводу
тех
или
ины х
реальных
эп и зодов
на
картины...—
од ин
из
обы
чае в
р ассказ ыв ани я,
принятых
у
Гофмана.
Примеры
зд есь
весьм а
мно гоч ис ле нны» 5.
Подобный
«обычай»
использует
и
Лес ков .
С
самого
начала
повествования
в
«Чертовых куклах»
возникает
те ма
Луки
Кра
наха,
которая,
многообразно
варьируясь,
сопровождает
весь
рассказ
о
Фебу фи се.
Великий
немецкий
художник
выступает
в
романе
как
своего
рода
двойник
гла вн ого
героя,
причем
в
на
ч але
своего
пут и
сам
Фебу ф ис
претендует
на
то,
что
он
в
со
стоянии
повторить
подвиг
это го
замечательного
худ ож ника,
явив
шего
в ыс окий
о бр азец
духовной
и
нравственной
стойкости.
Будучи
близок
к
мон арху
Иоанну
Великодушному,
Лука
Кра
нах
сумел
быть
«благороднее всех высокорожденных льстецов,
окружавших
Иоанна,
и
когда
печальная
судьба
обр екл а
его
по кр овите ля
на
заточ ен ие,
его
все
бр о сили,
кроме
Луки
Кра
на ха » (8, 505).
Он
один
р ешил
добровольно
разделить
неволю
со
своим
меценатом
и
в
те чение
пяти
лет
по ддер жи вал
в
нем
186
душевные
си лы.
Восхищенный
его
поступком,
Фебуфис
пишет
к арт ину
на
этот
легендарный
сюжет:
на
его
полотне
Иоан н
Ве
ликодушный
в
своем
заточении
читает
вслух
книгу,
а
Л ука
Кр анах
с лушае т
чтение
и
пиш ет
эт юд
своей
ставшей
п отом
з на
мен и той
картины
«Поцелуй Иуды» .
Эт от
эпизод
из
жизни
Фебуфиса,
прославившего
своей
к ар
ти ной
дружбу
худ ожника
с
монархом,
очень
в ажен
для
по ни
мания
его
последующих
поступков,
и
в
то
же
врем я
он
задает
меру,
сообразно
с
которой
должно
б ыть
оценено
его
собствен
ное
поведение.
Становится
о чев идны м,
что
Фебу ф ис
столь
легко
и
быстро
решился
пр ин ять
предложение
посет ивш его
его
гер
ц ог а, «зловещего гостя» (если использовать выражение Гоф
м ан а), во многом именно потому,
что
он
искренне
воодушевлен
подвигом
Кра н аха
и
самонадеянно
рассчитывает
явить
в
дружбе
с
покровительствующим
ему
властителем
ту
же
му
жественность,
твердость
и
бл аг ород ную
высоту
духа.
К
сбли
жению
Фебу ф иса
с
герцогом
устремлено
и
вни мани е
друзей
ху
дожника,
оставшихся
в
Рим е
и
с
нетерпением
ожидающих
из
вестий
о
том,
у даст ся
ли
ему
осуществить
свои
намерения.
В
интересах
наибольшей
убе ди те льн ости
своих
конечных
выво
дов
автор
не
сп ешит
отвечать
на
это т
вопрос
от рица те льно.
Наоборот,
он
прибегает
к
приему
ретардации
событий.
Сооб
щив
о
целом
ряд е
благ,
предоставленных
художнику,
о
подчи
не нии
ему
вс ех
художественных
за ве д ений,
о
т ом,
что,
до вер и
тельно
бес еду я
с
гер цог ом
на
сам ые
ра зные
темы,
Фебу ф ис
«мог уже оказывать влияние на отношения своего могуществен
но го
протектора
к
людям
разнообразных
положений» (8,534)г
автор
з ам ечает : «Положение Фебуфиса в самом
дел е
как
будто
готовилось
напоминать
некоторым
образом
положение-
Лук и
Кр ан ах а» (8, 534).
Однако
вскоре
об нару ж ивает ся
вся
призрачность
подобного
уподобления.
В
от ли чие
от
об ычно го
для
новелл
Гофмана
сюжетного
хода:
ситуация,
представлен
ная
в
картине,
с
какой-то
магической
неотвратимостью
повто
ряется
в
ре альн ой
действительности,—
в
романе
Лескова
леген
дарная
сцена,
изображенная
Фебуфисом
с
нескрываемым
пие
тетом
к
ее
участникам,
вопл ощаю ща я
его
идеальные
пр едст ав
ления
о
возможных
отношениях
художника
и
пр авит еля,
не
мо
жет
воплотиться
в
жизнь
прежде
всего
пот ому ,
ч то,
как
пока
зывает
реальный
ход
событий,
ро ль
Кран а ха
не
по
пл ечу
Фебуфису.
Каждый
новый
его
шаг
—
это
шаг
ко
все
боль
шей
его
зависимости
от
герцога,
шаг
к
духовной
и
физ ич еск ой
гибели.
В
таком
развитии
темы
самым
непосредственным
образом
проявилась
сущность
социальной
и
э сте тическо й
по зици и
са
м ого
Л еско ва,
который
ко
времени
напи сания
романа
приходит
к
твердому
убеждению
о
необходимости
полной
отстраненности
художника
от
каких
бы
то
ни
бы ло
связей
и
контактов
с
людьми,
являющими
собой
сист ему
государственного
д ик
187
тата.
В
своих
письмах
1880 —
начала
1890- х
годов
Лесков
настойчиво
высказывает
мысль
о
том,
что
уже
прошло
то
время,
когда
в
своем
творческом
по вед ении
художнику
можно
доволь
ст во ват ься
исполнением
пр инц ипа
Державина: «И истину ца
рям
с
улыбкой
говорил».
По
мысли
писателя,
истину
следует
провозглашать
и
защищать
открыто,
без
о биняко в,
не
ст ар аясь
искусно
приноровить
ее
к
хара кте ру
венценосца.
В
статье
«Обуянная соль» (Петербургская газета.
1891. 13 янв.), вызвав
шей
горя чее
одобрение
Л.
Н.
Толстого,
Лесков
категорически
заявляет,
что
у
литературы,
для
которой
естественно
служение
гуманному
идеалу
братства
и
братственности,
не
может
быть
никакой
общей
точки
соприкосновения
с
идео ло ги ей
государ
ст венност и,
неукоснительно
защищающей
права
собственности
и
вл асть
имущих
людей.
В
свете
этих
суждений
всякий
сою з
художника
с
пр едерж ащ ей
в ласт ью
в
самой
своей
основе
ис-
куствен
и
обречен
на
развал
и
гибель.
Ясно
сознающий
в
ко нце
жи зни
свой
нравственный
и
твор
че ский
крах,
Фебуфис
напоминает
с обой
героя
значительно
■более раннего лесковского романа « Остр о в итяне»
ху д ожника
Истомина,
который
на
склоне
своих
лет
клянет
с ебя
за
то,
что
в
своих
о тно шен иях
с
людьми
смолоду
вс тава л
на
в ыс окие
ход ули,
а
п отом
шлепнулся
с
них
на
землю.
Позднее
п розрен ие
Фебуфиса
и
самая
его
смерть
опять-таки
поданы
у
Леско ва
в
двойном
контрастном
ос ве щ ении.
С
од ной
стороны,
в
ист о рии
гибели
художника
есть
нечто
мистически
ужасное.
В
духе
романтической
гофмановской
тра д иции
Ф ебу
фис
пре д ста влен
героем,
над
которым
постоянно
витает
злове
щая
тень
д ьявола ,
пов семестн о
преследующего
св ою
же рт ву.
Используя
свои
изл юбл ен ные
пр инципы
поэтики
«мелочей»,
Лесков
намеренно
сообщает
повествованию
не кий
сказочно-фан
тастический
колорит.
Лейтмотивом
рас ск аза
о
Фебу ф исе
ста
н ови тся
многозначительное
упоминание
о
«драконе»
—
извест
ной
м он огра мме
великого
Кранаха.
В
начале
второй
части
ро
мана,
оставшейся
в
рукописи,
на
дверях
жениной
спальни,
вх од
в
которую
для
нег о
все
еще
закрыт,
Феб уф ис
видит
вд руг
«ки
тайский
ко вер
с
кра сн ым
драконом
на
лучистом
фоне» (л.
36).
.Далее
сл еду ет
фра за,
не
оставляющая
сомнений
в
значении
эт ой
дет али: «Кранах заграждал вход Фебуфису» (л .
36).
Руч
кой
двери
в
эту
спальню
служит
бронзовая
фи гура
др ако на.
Чуть
позже,
перед
самым
началом
б ала
у
ге рцог а
Фебуфис
на
рисует
огненного
д рак она
на
черной
лент е,
приготовленной
для
бального
на ряда
жены,
и
бу дет
на ивно
полагать,
что
э тот
рису
нок
послужит
опознавательным
знаком
и
п омо жет
ему
в
борьбе
и
соперничестве
с
герцогом.
Однако
из
эти х
его
ул ов ок,
ко
нечно,
ничего
не
выходит,
и
вскоре
он
у беж дает ся
в
том,
что
снова,
как
дитя,
об ве ден
вокруг
пальца,
унижен,
отставлен.
Еще
позже,
уже
по
возвр а ще нии
в
Рим,
Фебуфис
видит
дра
ко на
на
ка рт ине
Кра на ха,
которую
он
берется
реставрировать:
188
«Красный крылатый дракон был выписан Кранахом очень за
ботл и во,
и
Фебуфис
во сст анав лив ал
его
с
усил ен ным
старанием
средневекового
миниатюриста».
В
финале
романа
роль
этого
дракон а
в
судьбе
Фебу ф иса
стремительно
возрастает.
Ст илиз уя
повествование
под
романти
ческую
гофмановскую
новеллу,
Лесков
со з дает
и л люзию
не по
средственного
вмешательства
в
жизнь
человека
сверхъестест
венных
демо н ически х
с ил.
В
ра сска з
о
Фебуфисе
писатель
вплетает
страшное
фантастическое
поверье
о
том,
что
в
д але
кую
старину
Кранах
яко бы
мешал
свои
краски
с
дьявольской
кровью
и
они
сохранили
ядовитость.
Как
явствует
из
разго
вор а
Феб уф иса
и
Пи ка,
этому
преданью
верит
и
Фебуфис.
Именно
поэтому
столь
уверенно
использует
он
их
для
само
убийства,
реш ив
положить
конец
своей
бесславной
жизни.
В
обстоятельствах
его
гибели
можно
усмотреть
и
проявление
страшной
мести
художнику
со
стороны
великого
Кранаха,
ко
торый
казнит
Фебуфиса
за
де рз кую
попытку
поставить
себ я
рядом
с
ним.
Однако
важн о
заметить,
что
н агнет ая
в
финале
восходящую
к
р о ма нтическо й
традиции
патетику
высокого
и
ужасного,
Ле с
к ов,
со
свойственной
ему
«коварной»
язвительностью,
тут
же
изну тр и
и
подрывает
ее,
травестирует,
заставляет
читателя
увидеть
те
же
события
в
ин ом
свете.
Слово
повествователя
приобретает
отчетливо
«двуголосый» (М.
Бахтин)
характер.
Вопреки
э стетичес ки м
принципам,
прово зг лаша е мым
гофманов-
скими
«серапионами»: ужасное не должно переходить в безо
бра зн ое,—
Лесков
намеренно
прибегает
в
финале
к
деэстетиза
ции
ужасного
и
делает
это
из
глубоких
ид ей ных
побуждений.
Становится
о че видн ым,
что
до
поры
до
времени
Лесков
словно
провоцирует
читателя
на
вос при ятие
судьбы
Фебуфиса
в
духе
романтической
тр а диции
с
тем,
чтобы
более
сокрушительно
на
нест и
в
ко нце
концов
уд ар
именно
такого
ро да
отношению
к
его
главному
герою.
Вся
логика
развития
сюжета,
а
также
кровавая
развязка
событий
с
непреложностью
св идетел ь ству ют,
что
во
всех
горестных
перипетиях
своей
жизни
виноват
сам
Фебуфис.
Его
ранняя
гибель
—
это
неминуемая
расплата
за
от
ступничество
от
служения
высшим
зада ча м
ис кусс тва,
расточи
тельство
щедр о
отпущенных
ему
художественных
си л,
мал оду
шие
в
отношениях
с
властями,
ро м а нтичес кий
эгоцентризм.
Стре мя сь
направить
мысль
читателя
в
нужное
ему
русло,
Лесков
так
обставляет
акт
самоубийства
Фебуфиса,
что
пер ед
нами
совершается
ряд
метаморфоз:
возвышенное
мг нове нно
пе
реходит
в
низкое,
прекрасное
—
в
безобразное,
ужасное
—
в
смешное.
В
основе
механизма
этих
превращений
лежит
то
нарушение
чув ства
меры,
которое,
сам
то го
не
зам еча я,
допус
кает
Фебуф и с,
желая
достичь
«красивого конца» .
Как
и
Л.
Толстой,
Лесков
всегда
придавал
большое
значе
ние
тому,
как
ведет
себя
человек
в
«интересную»
минут у
жизни,
189
перед
лицом
смерти.
По
убеждению
и
од н ого,
и
другого
писа
теля,
именно
в
та кой
кра йн ей
ситуации
с
наибольшей
полнотой
обнаруживается
истинное
су щест во
человека.
От веч ая
на
во
прос ы
своих
читателей,
и
Толстой,
и
Лесков
нер едко
давали
им
од ин
и
тот
же
совет:
решить
трудный
вопрос
так,
как
р ешили
бы
они
его
для
се бя,
зная,
что
это
последнее
их
ж ите йск ое-
де ло
—
назавтра
им
пр едсто ит
умереть.
В
эти х
обстоятельст
вах
чело в ек
способен
отрешиться
от
мелочей,
перебороть
в
се бе
слабости
и
поступить
по
выс шим
нравственным
меркам,
я вить
лучшее,
на
что
он
способен.
В
свете
эт их
представлений
мно гие
тщательно
выписанные
Лесковым
подробности
описания
самоубийства
Феб уф иса
при
обретают
оч е видный
компрометирующий
его
смысл.
Имен ие
из
этих
«мелочей»
явствует,
что
всепоглощающей
з аб отой
ху
дожника
в
последний
миг
его
жизни
оказывается
тщеславное
чувство,
суетная
забота
о
том,
чтобы
уме ре ть
«красиво» .
Как
и
на
протяжении
всей
своей
жизни,
он
начисто
отстраняется
в
своих
п омы слах
от
су деб
близких
ему
л юдей,
но
все
сбои-
сил ы
употребляет
на
то,
чтобы
как
можно
более
броско
и
эф
ф ектно
обставить
свою
смерть.
Орудием
убийства,
как
уже
упоминалось
ранее,
он
из бир ает
золотую
бу л авку
своей
невер
ной
ж ены.
Обмочив
ее
в
яд ов итую
краску,
соскобленную
им
с
картины
Кран а ха,
он
со
всем
тщанием
в ыкалы вае т
у
себя
на
груди
фигуру
др ако на,
со верш енно
такого,
какого
ставил
Лука
Кран ах
монограммою
на
своих
картинах,
а
затем
уколом
той
же
б ул авки
о стан авл ивает
свое
сер дц е.
Перед
ли цом
смерти
подобная
тщательно
вы ве ре нная
театральная
эффектность
этого
п ос леднег о
поступка
пр едст авл я ется
мелкой,
жалкой
и
никчемной,
а
его
«красота»
весьма
и
весьма
сомнительной.
Чу ть
позже
ее
сводят
на
нет
те
со быти я,
которые
выглядят
в
романе
как
п рямое
следствие
самоубийства
Фебуфиса.
Это
и
грандиозно
пыш ные
похороны,
во
время
которых
во зни кает
бе зоб разн ая
давка,
в
ней
гибнет
множество
л юдей,
пришедших
полюбоваться
на
церемонию
прощания
со
знам е нито ст ью.
Это-
и
переданная
с
натуралистическими
подробностями
страш на я
смерть
же ны
Фебуфиса,
которую
с
садистской
жестокостью
ду
шат
грабители
на
могиле
мужа.
Все
эти
события,
более
пр или
чествующие
мелодраме,
чем
роману,
б роса ют
св ой
злове щий
отсвет
на
тот
финальный
аккорд,
который
зав ерша ет
жизнь
Фе
буфиса,
и
кр айне
усиливают
общее
впечатление
нелепо сти
и
дисгармоничности
его
судьбы.
Итак,
с
самого
начала
и
до
кон ца
романа,
Лесков,
как
это
вообще
свойственно
его
художественной
манере,
с
экв илиб ри
стической
ловкостью
играет
гофмановской
романтической
фор
мой,
то
и сп ользуя
ее
всерьез,
то
превращая
ее
в
сред ств о
кри
тич еск ой
переоценки
дейс тву ющ их
лиц
и
событий.
Тем
самым
он
активизирует
сознание
читателя,
способствует
процессу
осв о-
190
вождения
его
от
рутинных
представлений
и
уст ан ов ок,
пробуж
да ет
стремление
вести
самостоятельный
поиск.
Как
уже
отм ечал ось ,
в
романе
«Чертовы куклы»
можно
наблю дать
крайне
своеобразное
сочетание
и
взаимопереплете
ние
романтических
и
полемических
по
отношению
к
ним
реали
стических
и
дидактических
т енден ций.
Причины
этого
следует
искать
в
ос обой
социально-исторической
атмосфере
1880 —
на
чала
1890- х
годов,
в
которой
был
нап и сан
роман.
Известно,
что
в
эти
годы
Лесков
с
край не й
обостренностью
п ереж ивал
нов ые
и
все
более
на гляд ные
проявления
политической
и
обществен
ной
реакции.
Писатель
был
удручен
пр оце ссами
духовного
и
нравственного
измельчания
людей,
проникающими,
по
его
на б
людениям,
уже
и
в
литературную
и
художественную
среду,
ко
торую
он
до лгие
годы
считал
хранительницей
подлинно
вы со ких
жизненных
ценностей.
Зн ам енатель но ,
что
в
од ном
из
газетных
обозрений
конца
1860-х
годов
Лесков
горячо
вступался
за
«семью»
литераторов,
критикуемую
за
внутренние
раздоры
и
неурядицы.
По
его
сл ов ам,
при
всех
св оих
слабостях,
тол ько
лю ди
этой
семьи
«всех пренебрежительнее»
относятся
к
общей
заботе
«устроиться лучше,
выгоднее
и
обеспеченнее», только
они
являют
соб ой
в
сущности
«бессребренников,
самих
с ебя
му
чащих», только они приносят «нечеловеческие
же ртв ы», желая
послужить
выс ок ой
мечте
и
истине,
готовы
положить
и
кладут
«немало своего полуголодного труда»6 на осуществление луч
ших
надежд,
воодушевляющих
общество.
Тепер ь,
в
1880-е
годы
он
вынужден
изм ени ть
свое
мнение.
В
одном
из
писем
к
И.
Е.
Репину
от
19 февраля 1889 г.
он
с
болью
замечает:
«От того,
чем
заняты
умы
в
обществе,
нельзя
не
страдать,
но
всег о
хуже
понижение
идеалов
в
литературе.
Л ите ратура
у
нас
ес ть
„соль“! Другого ничего нет,
а
она
совсем
ра ссоли лася. . .»
(11, 416).
Всего
го дом
ра ньше
Лесков
пишет
я ркую
статью
«Первенец
богемы
в
России»
о
то лько
что
умершем
мелком
литераторе
В.
П.
Бурнашове.
Его
горькая
жизнь,
преисполненная
всякого
рода
унижений,
осмысливается
писателем
как
возмездие
за
от
сутствие
глу бо ких
убеждений,
нравственную
беспринципность,
перемену
направлений.
«Теперь в литературной среде,—
заме
ч ает
Лесков,—
поя вляю тс я
молодые
люд и,
не
обнаруживающие
ни
огня,
ни
с трас тнос ти
к
каким
бы
то
ни
бы ло
идеям,
но
они
пишут
г ладко
и
по к ла дливо
в
ка кую
угодно
сторону.
Их,
к
со
жалению,
уже
мн ого
и,
может
быть,
скоро
их
б удет
еще
больше»7.
Одним
из
прояв л ени й
этого
опасного,
на
его
вз гл яд,
п ро
цесса
«падения идеалов»
в
со вр еменно м
иску сст ве
п ре дстав ля
лось
Лескову
оживление
самодовлеющего
эстетизма
и
с вя зан
ный
с
ним
рецидив
романтизма.
Отказываясь
от
тяжкой
ноши
мучительных
современных
вопросов,
отстраняясь
от
жалких
и
пошлых
картин
окружающей
его
действительности,
художник
191
предпочитает
у йти
в
мир
«чистой»
кр асо ты,
романтически
в оз
вышенных
чувств,
таинственных
видений,
фантастических
пове
р ий.
Об
эти х
явлениях
в
русской
живописи
конца
век а
с
тре
в огой
писала
и
демо кр ат ичес кая
критика.
В
частности,
близки
Лескову
по
своей
общей
эс тетичес ко й
направленности
статьи
Вс.
Гаршина
о
художественных
вы ст авк ах,
а
также
его
и зве
стная
повесть
«Художники», в которой столь резко противопо
ст авля ют ся
друг
другу
эстетическое
и
гражданское
направле
ние
в
искусстве.
Во
многом
именно
по тому,
что
кризисное
время
давало
ре
альные
основания
полагать,
что
русское
искусство
и
жи знь
тр а
гически
ра зо шлись
друг
с
другом,
что
искусство
уже
теряет
в озмож н ость
непосредственно
влиять
на
ход
жизни,
в
которой
усиливаются
разрушительные
социальные
процессы,
в
р ус ской
литературе
этой
поры
возникают
парадоксальные
явле ния.
Мно
гие
талантливые
русские
писатели,
отличающиеся
обостренной
совестливостью
и
наибольшей
близостью
народным
судьбам,
независимо
др уг
от
друга
приходят
к
мысли
о
необходимости
выхода
за
рамки
художественности
в
область
прямого
учитель
ства,
проповедничества
и
практического
с луже ния
голодным
и
униженным
лю дям.
Этот
базаровский
в зрыв
против
«эстетики»
со
всей
силой
проявил
себя,
в
частности,
в
тра кт ате
Л.
Толстого
«Что такое искусство», многие положения которого,
как
изве
стно,
б ыли
сочувственно
восприняты
и
поддержаны
Лесковым.
Критическая
переоценка
со бст вен ных
возможностей
со вре
менного
и ск усс тва,
возникшая
в
умонастроениях
целого
р яда
демократически
настроенных
русских
писателей,
и
повлекла
за
со бой
заметный
рост
дидактических
тенденций
(который в это
вре мя
становится
общей
особенностью)
в
литературе
1880- х
го
до в.
Они
отчетливо
даю т
себя
знать
в
сочинениях
Л.
Толстого,
Щедрина,
Гаршина,
Короленко,
Гл.
Успенского.
Не
случайно
поэтому
они
сильны
и
в
романе
Лескова
«Чертовы куклы», ге
рои
которого
проходят
знаменательный
пут ь
от
чисто
художе
ственной
деятельности,
не
имеющей
сколько-нибудь
определен
ной
направленности,
к
п рямом у
вмешательству
в
жизнь,
к
уча
стию
в
ряда х
армии
Г ар ибал ьди
за
освобождение
народа.
Важ
ным
шагом
на
эт ом
пути
становится
критическая
переоценка
того
самого
романтизма
в
жизни
и
иск у сст ве,
который
долгое
время
влад ел
их
умами
и
сердцами,
мешая
взгля нуть
в
л ицо
действительности,
увидеть
ее,
какая
она
есть,
и
самоопреде
лит ьс я,
найти
в
ней
свое
место.
«Пусть будет предан забвению весь романтический бред и
пусть
вечно
ж ивет
про ст ой
здравый,
разум
и
забота
о
водворе
нии
правды
и
милости
в
жизни» (л.
105),—
заявляет
Мак,
при
зывая
своих
друзей
соединить
си лы
на
борьбу
за
высокую
вне-
личную
цель
общего
освобождения.
И
Пик
и
Марчелла
с
во о
душевлением
откликаются
на
его
призыв.
Союз
заключен.
192
Прим еча н ия
1 Лесков Н.
С.
Собр.
соч.:
В
11 т.
Т.
11.
М. , 1958.
С.
431.— Все
ссылки
на
это
из да ние
в
тек с те.
2 Гофман Э.
Т.
А.
Соб р.
со ч.:
В
3т.
Т.
2.
М. , 1929.
С.
76—77. — В се
ссылки
на
это
из да ние
в
те ксте.
3 ЦГАЛИ.
Ф.
275.
Оп.
1.
Ед.
хр.
89.
Л.
72.— В
да льне йшем
ссылки
на
эту
рукопись
в
тексте.
(О находке окончания романа см. :
Столя
ров а
И.
В.,
Шел
а
ев
а
А.
А.
К
творческой
ист ори и
р омана
Н.
С.
Лес ко ва
«Чертовы куклы»//Русская литература.
1971.
No
3.
С.
102—113.)
4 Салтыков- Щед р ин
М.
Е.
Собр.
со ч.:
В
20 т.
Т.
16/1.
М .., 1974.
С.
116.
5 Берковский Н.
Я.
Романтизм
в
Германии.
Л., 1973.
С.
493.
6 Русские общественные заметки// Б ир жев ые
ведомости.
1869. 7
сент .
7 Цит.
по:
Н.
С.
Лесков
о
литературе
и
ис к усстве.
Л ., 1984.
С.
37.
13 Заказ No 299
Л.
А.
ИЕЗУИТ OBA
ПОВЕСТЬ
ДОСТОЕВСКОГО
«КРОКОДИЛ»
В
фантастической
жизни
и
все
от
правления
фантастические.
Но,
по-
н аше му,
это
ст радани я,
это
безвы
ходные
муки.
А
по-вашему,
все
фра
зеры.
..
Ф.
М.
Дос тоев ски й.
По
поводу
элегической
за метки
«Русского вестника»
О
эп играфе
Да же
мн огок ратн ое
чтение
«Крокодила»
не
может
избавить
читателя
от
ощущения
его
загадочности.
Живые
л ица
и
печат
ные
органы
спорят
как
в
лихорадке
и
сразу
о
т ыся чах
вещей,
в
условиях
вполне
фантастических:
пассажный
кр окод ил
пр огло
тил
некоего
Ивана
Матвеича,
что
не
помешало,
однако,
дейст
вию
р азви в аться
дальше
вокруг
съеденного,
но
здравствующего
чиновника.
С оздав ала сь
обстановка
«игры во всю», когда не
возм ожн ое
воспринималось
как
действительное.
Местом
дейст
вия
повести
автор
избрал
П асс аж.
Просвещенные
читатели
только
что
п об ывали
в
нем
совместно
с
ге роя ми
романа
«Что
дел ат ь ?», а читатели попроще знали «ш ут ку»
Петра
Татаринова
«Прогулка по Пассажу»:
Что
за
чудное
с озда нье
Небылица
на
Руси;
Зд есь
т орг овля
и
гу л янье:
Че го
хочешь,—
ли шь
спроси!
Читателям
«Крокодила»
могли
быть
знакомы
лубочные
рас
сказы
из
жизни
путешественников
по
Африке.
Главным
дейст
вующим
лицом
непременно
ока зыв а лся
в
них
заглатывающий
л юдей
крокодил,
и
не пре ме нно
же
лубочный
ге рой
чудесным
образом
сп асался
от
смерти
в
его
ут робе2 .
Такого
рода
окру
жение
стимулировало
художественные
поиски
Достоевского
и
по мога ло
повести
свободно
войти
в
сознание
своего
времени,
как
до
того
помогли
прижиться
гоголевскому
«Носу»
носоло
гические
а не кдоты
и
литературные
поделки
о
приключениях
носов.
Недаром
Достоевский
избрал
«Нос»
себе
за
образец.
Идею
повести
организует
сюжет
о
то м,
как
чиновника
про
глот ил
крокодил,
и
о
последствиях
«проглота» .
Чтобы
читатель
об рат ил
внимание
на
пассажную
коллизию,
Достоевский
избрал
эпиграф,
который,
очевидно,
должен
был
напомнить
ему
о
чем-
то
похожем:
Ohe, Lambert! Où est Lambert!
As-tu vu Lambert? *
* Эй,
Ламбер!
Где
Ламбер?
Видел
ты
Л амб ера ? {фр.)
©Л.
A.
Иезуитова, 1992.
194
Исследователи
уже
занимались
эпиграфом.
М.
П.
Ал ексе ев
указал
на
д есятки
французских
материалов,
способных
пролить
на
нег о
свет:
«Дневник»
Э.
Гон кура , «Музей
ра зго во ров»
Р.
Александра,
газетное
обозрение
Р.
Ла нж ерон а , «Двухнедель
ная
хроника»
Э.
Фо р када, «Настоятельное предупреждение»
пр е
фекта
по лиции
Б уате ля;
в
них ,
в
свою
очередь,
говорилось
о
множестве
публикаций
периодической
п ечати
1864 г.
М.
П.
Ал ексеев
сделал
с пра вед ливое
предположение
о
том,
что
к акая-т о
их
ча сть
могла
б ыть
известна
Достоевскому
из
од ной
или
н еско ль ких
иностранных
газет.
Ученый
не
ставил
задач и
об ъясн и ть,
почему
возник
именно
этот
эпиграф.
По ст ар аемся
понять
это,
опираясь
на
приведенные
им
факты.
Возгласы,
ку п
леты,
ин сценир о вки
о
Ламбере
первопричиной
своей
имели
ис
то рию
о
то м,
как
ночью
9 июля 1864 г.
некая
женщина,
присут
ств о вавш ая
на
э кзер циц иях
пиротехнической
школы
в
Венсенне
бл из
Па риж а,
потеряла
мужа.
Ее
безн адеж ны е
крики:
«Не!
Lambert! As-tu vu Lambert?» послужили поводом к целой эпи
демии
поисков
Ламбера;
она
дли лась
во
Франции
не
од ин
год
и
приобретала
то
характер
пошлой
не ле пой
игр ы,
то
свойства
по л итиче ских
тайных
знаков.
Т а к , «Маленькая газета»
в
но
мере
от
18 августа 1864 г .
во пр о ша ла : «Является ли Ламбер
баснословным
персонажем?
Мифической
личностью?
Политиче
ским
символом?
А бс тра кц ие й?» Газета добавляла,
что
в
Ла м
бер е
видели
«намек то на Бисмарка,
то
на
прусского
короля,
то
на
папу
римского,
ил и,
по
меньшей
мере,
на
кардинала
Анто
нел ли.
. .»3.
По иски
Ламбера
пр е врат ились
в
массовую
клоу
наду,
грозившую
спокойствию
Франции;
вот
почему
в
интере
сах
безопасности
в
дело
вм ешал ась
полиция.
В
найденных
М.
П.
Алексеевым
свидетельствах
кра сн ой
нитью
проходят
два
мотива:
неожиданно
пропавшего
супруга
некоей
женщины
(1),
сумасшедших
волнений
народа
и
версий
пе чати
по
поводу
его
личности
и
исчезновения
(2).
Но
это
же
основные
сю жетн ые
мотивы
«Крокодила»!
Т.
И.
Ор нат ская
решительно
считает,
что
французские
ис
точники
эпиграфа
Достоевскому
не
б ыли
из ве стн ы4; с нашей
точки
зрения,
это
н ев ероятн о
ввиду
приведенного
ею
же
факта:
ст атьи
À.
А.
Гол оваче ва
в
«Эпохе».
О бъя сняя
отношение
статьи
Го лова чева
к
повести
Достоевского,
Т.
И.
Ор нат ская
идет
всл ед
за
В.
С.
Нечаево й5: Достоевский как редактор готовил
к
пе чати
статью
Головачева,
из
нее
и
узн ал
о
шу тке
с
Ламбе
ро м,
которую
з атем
использовал
в
«Крокодиле».
Ду ма ется,
дело
об стоял о
сложнее.
В.
С.
Н еч аева
доказала
участие
До
стоевского
не
только
в
редактировании
декабрьского
внешне
политического
обозрен ия,
айв
его
создании.
Ее
основной
аргумент
—
н али чие
набросков
к
«Политическому обозрению»
в
«Записных книжках»
Дос тоев ског о.
Следуя
за
ее
логикой,
можно
поставить
вопрос
и
о,
хотя
бы
частичном,
авторстве
Достоевского
в
сентябрьском
политическом
обозрении
(это
13*
195
б ыла
ст атья
Г олов аче ва).
Ведь
безымянный
автор
декабрьского
политического
обозрения
(мы знаем,
что
это
не
был
Головачев)
сослался
на
се нтя бр ь ско е : «.. .известный
всем
про цесс
три
на дца ти,
о
котором
мы
уже
беседовали
с
нашим
читателем...»
Если
это ,
как
утверждала
Неч аева,
писал
сам
Достоевский,
не
значит
ли,
что
тем
самы м
он
указал
на
свое
ав торст во
в
обеих
статьях?
Далее.
В
черновых
набр о сках
«Записных книжек»
ле
том
1864 г.
(может быть,
под
влиянием
парижского
происше
ствия
с
Лам бер ом ?) появилась черновая запись о пропавшем
м уже
(о муже,
съеденном
крокод ил ом,
о
реакции
газеты
«Весть», о действиях через Управу благочиния
—
5, 322 6).
Не
о тсюда
ли
протекли
све ден ия
о
Л амбер е
в
сентябрьское
поли
ти ческо е
обозрение
«Эпохи», к тому же в толковании,
необхо
димом
Достоевскому?7
Но
отл ожи м
на
время
ра зго вор
о
статье
Голова че ва
и
при
в едем
три
другие
источника,
обнаруженные
Т.
И.
Ор на тско й:
две
анон им ные
з ам етки
«Голоса»
и
одну
с татью
«Санкт - Пет ер
бургских
ведомостей».
В
откликах
русских
г азет
содержится
сообщение
о
таинст
ве нной
про па же
человека,
что
имеет
отношение
и
к
повести
об
исч езну вшем
ч ино внике .
Первым
по ве дал
о
Ла мб ере
а ноним
«Голоса» . 12
а вгус та
в
рубрике
«Отовсюду»
он
привел
два
фа кта.
Первый:
у
дверей
парижских
театров
слышались
н еис
товые
к рик и: «Ау,
Ламбер!
Здравствуй,
Ламбер!
Не
ви дал
ли
Л ам бе ра?» На другой день крики раздавались на улицах с та
кой
си лою,
что
«полиция заподозрила в этом какой -то
р ево лю
ционный
лозунг
и
серьезно
обеспокоилась...
Эта
бе с смыс лен
ная
шутка
превратилась
даж е
в
инструмент...
п ресл едо ва
ния»8.
Итак:
пропал
некто;
с
точки
зрения
полиции,
эта
про
па жа
революционного
свойства
и
заслуживает
надзора.
Нельзя
ли
усмотреть
во
всем
этом
предварение
события,
подсказку
од
ной
из
возможных
версий
его
истолкования
в
том
же
«Кроко
ди л е»? Второй факт,
приведенный
анон имо м
«Голоса»: у поч
тенной
дамы» (ср.
в
заг лав ии
чернового
наброска
«Крокодила»:
«почтенный господин») «вдруг»
пропал
муж;
напрасно
она
в зыв ала
к
окружающим
—
«никто не мог сообщить о нем ни
малейших
сведений».
Как
видим,
и
второй
ф акт
из
газетной
корреспонденции
им еет
касател ьст во
к
сюжетным
пер ип етиям
«Крокодила», невольно их экспонирует .
Второй
по
времени
напечатания
была
зам етка
Ви ктора
Алек сандр ова
в
«Санкт- П ете рб ург ск их
ведомостях»
от
14 ав
густа.
В
ней
сно ва
говорилось
о
потерянном
барыней
муже
и
о
разноголосье
«всего Парижа», тщетно звавшего Ламбера.
Ис
ка ли:
отец
своих
сыновей,
приятеля,
торг ов ц а: «Для чего это?
Почему
эт о?
Что
за
вздо р
—
ни
с
того,
ни
с
сего
кричать
ка
кое-то
и м я!» 9 Заметка Александрова не прибавила новых све
дений,
но
усилила
эмоциональное
напряжение
по
случаю
во з
никших
в
Париже
недоумений
из-за
ис чезно ве ния
Ламб ер а.
196
21 августа вновь вступил в разговор аноним « Го л оса»
и
вно вь
в
руб ри ке
«Отовсюду»
бе зогляд но
перебирались
варианты
слухов
о
пр опа же
то
ли
мужа,
то
ли
сторож ев ой
собаки
воен
ного
гарнизона,
то
ли
чьего-то
кучера...
«Угадай,
если
можешь,
и
выбирай,
есл и
с ме е шь !» Аноним пускался в обсуждение того,
какой
литературной
обработки
достоин
сюж ет
о
пропавшем
Ламбер е:
песенки,
вод еви ля
или
трагедии?
Вокруг
исчезновения
неведомого
Ламбера
созд ава лас ь
обстановка
абсу рд а
10.
И
снова
мы
чувствуем,
как
перекликаются,
смыкаются
в
по
вест и
эпиграф
с
ос новным
рассказо м ,
как
они
тяготеют
друг
к
другу,
как
заставляют
сосредоточиться
на
вовсе
не
бе с
смысленно-шутливом
вопросе:
кто
герой,
куда
и
почему
он
де
вался?
«Голос»
и
«Санкт -П ет ер бур гс кие
ведомости»
ото зва ли сь
на
факты
французской
жизни
и,
по-видимому,
повлияли
на
в оз
ник нов е ние
фабулы
«Крокодила», что и сказалось на эпиграфе:
в
свернутом
ви де
он
отсылает
нас
к
разноголосице
га зе тных
сообщений
о
пропаже
Л а мб ера. «Политическое обозрение»
в
сен
тябрьской
книжке
«Эпохи», вышедшей в свет 28 ноября,
пред
ложило
но вые
факты
и
такое
их
о свещ ен ие,
которое,
мы
ду
маем,
намеренно
и
целенаправленно
бросало
све т
на
ряд
вну -
тр ир о сси йских
событий,
в
свою
очередь
отразившихся
в
«Кро
ко дил е».
Вступительные
с лова
обозрения
программны: «...наше
обозрение
не
должно
б ыть
летописью
событий...
Жур нал ...
должен
с осред оточи вать
свое
внимание
на...
важных
фак тах,
в
которых
выражается...
характеристика
политической
жи зни
в
том
или
ино м
государстве;
он
должен
представлять...
оценку
этих
фактов
и
их
значение
в
общественной
жизн и...»
Политиче
ский
обозреватель
анализировал
предвыборное
движе ние
в
за
к оно да тел ьный
корпус
Франции
Людовика
Наполеона.
За
п ро
явле ние
политической
самостоятельности
т р инадцат ь
депутатов-
либералов
б ыли
преданы
суд у.
Пр о цесс
над
ними
произвел
много
шума,
посаженные
на
скамью
подсудимых,
они
тем
са
мым
б ыли
поставлены
на
пьедестал
в
общественном
мнении,
поскольку
пр оц есс
был
грубейшим
нарушением
сущности
права
Фр анц ии.
(Ср.
в
«Крокодиле»: «Я у всех на виду,
и
хоть
спря
танный,
но
первенствую»
—
5, 194.)
В
статье
Голова че ва
ре чь
шла
о
процессе,
в
котором
главен
с тво вало
г осуда рстве нн ое
беззаконие;
оно
о бъяви ло
легальных
общественных
дея телей
политическими
п рес туп ник ами
и
вело
се бя
с
ни ми,
как
с
преступниками.
У слов ием
успеха
процесса
бы ла
глух ота
и
немота
народа
и
распространявшиеся
р епт иль
ной
печатью
не леп ые
слухи.
Венчали
дел о
жестокий
приг ово р
власти
и
полное
бесправие
осужденного
лица,
не
могшего
во с
пользоваться
гласностью.
П амят уя
о
то м,
как
час то
по дце нзур
ная
печать
пр ибегал а
к
искусному
двоеречию,
не
правильно
ли
будет
и
нам
воспринять
эту
статью
Го лов ач ева
(но и Достоев
ск ого
ж е!) в качестве первого прикровенного отклика «Эпох и»
197
на
политические
процессы
сер един ы
60-х
годов
и,
в
перв ую
оче
редь,
в
качестве
весьма
определенного
протеста
«Эпохи»
против
высочайшего
приговора
по
делу
Чернышевского.
Как
ле гко
убе д и ться,
множество
реалий
политических
пр оцессо в,
и
в
ос о
бенности
де да
Чернышевского,
попало
в
политическое
обозрение
«Эпохи», чтобы затем перейти в повесть Достоевского.
Вопросы
обозревателя
о
средствах
борьбы,
допустимых
в
цел ях
право
судия,
о
предательски
успокоившейся
публике
и
п ечати
з вуч али
как
гр аж дански- л ир ич еская
публицистика
о
своем,
российском,
сокровенном.
В
обозрении
приводился
отры вок
о
пропавшем
Ламб ере ,
зат ем
пер е шедший
в
эпиграф
повести,
и
тем
экспо
нировался
его
тайный
смысл:
указание
на
мужа,
пропавшего
во
чреве
крокодила,
и
на
все
то,
что
по том
произошло.
Объяснения
эпиграфа
исследователями
зависели
от
понима
ния
ими
проблематики
«Крокодила».
В.
С.
Неч аева
на зв ала
тем у
Л ам бера
«парижской шуткой», имевшей «усп ех,
несмотря
на
свою
бессмысленность», и за то же перенесенной в «Кро
ко дил », где так много споров,
с
точки
зрения
Достоевского,
бессмысленных
и.
Т.
И.
Орнатская
та кже
нашла
восклицания
о
Л амбер е
чем-то
эф ем ер н ым : «Достоевский как бы предлагает
провести
п араллель
между
ра с прос тр анившейс я
во
Франции
эпидемией
идиотских
лозунгов
и
недалекими,
с
его
точки
зр е
н ия.
..
истинами,
испускаемыми
либ ер альны м
чино внико м
из
чрева
крокодила»12.
Бо лее
осторожно
и
точно,
чем
о ни,
но
чрез
мерно
лаконично
пояснила
эпиграф
Е.
И.
Кийко ,
воспринявшая
«шутливый эпиграф»
к
повести
о
«необыкновенном событии»
как
стремл е ни е
Достоевского
подчеркнуть
«парадоксальный ха
рактер
повествования» (5,387).
При
вс ех
различиях
авторы
толкований
эп игр афа
исх о дят
из
мысли
о
том,
что
«Крокодил»
—
по ве сть
на
тему
идеологических
споров
60- х
годов.
Острее
всех
исследователей
эту
мысль
сформулировал
В.
А.
Туниманов:
«Не пресловутый пасквильный мотив,
а
идеологический
спо р
Достоевского
с
Чернышевским»13.
Мне
представляется,
что
ис т олко ват ели
эпиграфа
и
основной
темы
«Крокодила»
сузили
понимание
объема
содержания
повести,
пренебрегли
наличием
в
ней
фабульно-сюжетного
строя.
Чтоб ы
пояснить
суть
дела,
придется
коротко
остановиться
на
истории
изучения
«Кроко
дила ».
О
толковании
«Крокодила»
По вест и
не
повезло:
ее
первым
критиком
стал
обозреватель
«вседневной жизни» « Го л оса» . 3
апреля
1865 г .,
р овно
через
нед елю
после
выхода
в
свет
второй
книг и
жу рн ала
«Эпоха»,
где
был
напечатан
«Крокодил», он назвал повесть бестактной
и,
как
бы
сочувственно,
предупредил,
что
о
ней
«ходят уже
толки,
весьма
неблаговидные
для
репутации
ж урна ла...
и
для
самого
г.
Достоевского...».
Особенное
внимание
о бр ащал ось
на
198
четвертую
главу
«о
го с под ине,
проглоченном
крокодилом,
а
равно
и
о
хорошенькой
супруге
го спо дин а,
ко кетк е,
радую
щейся,
что
муж а
крокодил
проглотил,
и
отказывающейся
с ле
довать
за
ним
в
утро бу
крокодила,
а
равно
и
о
том,
что
госпо
дин
н амер евал ся
проповедовать
из
утробы
крокодила,
днем
в
маг ази нах
пассажа,
а
вечером
в
салоне
же ны,
для
чего
имеет
в
вид у,
что
крокодила,
в
утро бе
которого
он
пребывает,
будут
приносить
по
в ече рам
в
салон
его
хорошенькой
супруги-ко
кетки».
Рецензент
с
укоризной
писал,
обращаясь
к
автору:
«. . .вы будете всеми осуждены наверно,
и
другими
и
недругами,
и
услуги
не
окажете
никому»14.
И та к, «Голос»
выдвинул
против
Достоевского
обвинение
в
издевательстве
над
судьбой
у зник а,
имени
которого
наз ват ь
никто
не
мог,
но
которое
б ыло
у
всех
на
устах.
Помимо
того,
в
обозрении
было
уделено
внимание
нап ад кам
Достоевского
на
«Голос», вроде: «Все это не может быть выкуплено плохень
к ими
ос тро тами
на
счет
„Волоса“
и
„Санкт-Петербургских
изве
с т и й“. ..» (заметим и запомним:
убийственные
«остроты»
кос*
нулись
«Листка»
и
«Волоса», а отнюдь не « Изв ести й», здесь
обозреватель
как
бы
ненароком
оговорился).
Последняя
ф раза
отклика
(«...
и
услуги
не
о кажет е
никому»)
казалась
зага
доч но й.
В
«Дневнике писателя» 1873 г.
Достоевский
назвал
з аметку
«Голоса»
странной
и,
сославшись
на
скверную
па м ять,
пере
ск азал
ее
т ак: «Напрасно,
дескать,
автор
„Крокодила“
всту
пает
на
такой
путь;
это
не
принесет
ему
ни
че сти,
ни
ожид ае
мой
выгоды
и
п роч.,
и
проч.
Затем
несколько
самых
туманных
и
неприязненных
колкостей».
О
своем
восприятии
ре цензии :
«Я прочел мельком,
ничего
не
понял,
в идел
только,
что
много
яду ,
но
не
знал,
за
чт о.. .» (21, 28.
Выделено
мной.—
Л.
И .).
Как
увидим
ни же,
Достоевский
намеренно
переиначил
слова
обозревателя,
и
очен ь
хорошо
понимал,
за
что
на
него
напали.
Более
всего
важн о:
в ерсию
«Голоса»
о
надругательстве
над
Чернышевским
Достоевский
отверг.
Од нако
эта
версия
неожиданно
для
Достоевского
бы ла
подхвачена
«свистунами» (сотрудниками « С вис тка»
и
«Искры»)
и
самим
«Современником» (см .
об
этом: 21,28,24).
В
«Днев
нике
писателя»
вер сию
«Голоса»
Достоевский
назвал
«пошлей
шей
сплет ней», «подлой клеветой», «низостью», утверждал,
что
она
мо гла
зародиться
вследствие
«угрюмой,
мнительной
ту
пости,
засевшей
в
какой-нибудь
голове
с
направлением» (21,
24, 28).
Писатель
зн ал
о
клевете
«Голоса», но другого от него
жда ть
не
мог.
И
вдруг
получилось,
что
«Голос»
и
«Современ
ник»
ока зал ись
единодушны.
Что -то
же
в
самом
«Крокодиле»
породило
эту
версию,
злонамеренную
в
одном
случае
и
ошибоч
ную
в
другом,
ч то- то,
в
чем
Достоевский
не
рисковал
публично
приз нать ся,
есл и
бы
и
хотел.
Для
нас
бесконечно
ва жно,
что
все
современники
Чернышевского
—
и
его
враги
(«Голос»), и
199
его
поч ти
друзья
(«Современник») увидели в « п рав див о й
по
вести»
какое-то
сходство
героя
с
самим
Чернышевским,
фа буль
ных
мот и вов
с
пе ри пети ями
его
судьбы.
И
хотя
это
показалось
им
карикатурой,
но
карикатурой
безусловно
узнаваемой.
Ва жно
и
то,
что
версия
А.
А.
Кр ае вс кого
(тоесть «Голоса»)
о сталась
в
науке,
и
в се,
писавшие
о
«Крокодиле», считали необ
ходимым
о
ней
упомянуть,
чтобы
опровергнуть.
Согласно
другой
вер сии , «Крокодил»
посвящен
идеологиче
скому
сп ору
Достоевского
с
Ч ер ны ше вским.
Она
появилась
в
1920- е
годы
и
прошла
дл ин ный
пу ть
развития.
Наш и
совре
менники—
Л.
М.
Розенблюм,
Е.
И.
Кийко,
В.
А.
Туниманов
—
при
вс ех
частны х
от личи ях
их
док азательств
в ыск азали
точку
зрения,
согласно
которой
«Крокодил»
объясняется
как
полеми
ческое
произведение,
объектом
спора
в
котором
являются
ид еи
Чернышевского,
публицистов
«Современника»
и
«Русского
слова», а также «Русского
ве стн ик а», «Голоса», других перио
ди че ских
и зда ний
60- х
годов.
В.
А.
Туниманов
прав,
ко гда
счи
та ет
опрометчивым
об ъявит ь
одн и
мо тивы
спора
главными,
а
другие
второстепенными,
одн и
—
сердцевиной
спора,
другие
—
его
фоном.
Достоевский
«одновременно полемизирует с широ
ким
комплексом
идей,
представляющим
с обой
теоре ти ческ ое
или
доктринерски-теоретическое
целое.
Расщ епи ть
это
целое
и
выделить
кон кретн ы е
полемические
выпады...
возможно,
хотя
и
не
всегда...
и
чаще
всего
условно
и
с
оговорками»15.
Обе
существующие
в ерсии
истолкования
«Крокодила»
одно
сторонни.
Первая
искала
надругательства
над
Чернышевским,
вторая
свелась
к
поискам
объек тов
конкретной
идейной
поле
мики
или
типологии
доктринерского
соз на ния.
В
обоих
случаях
игно рир овала сь
художественная
пр иро да
«Крокодила»,
пропа
д ала
специфика
и
полнота
художественного
содержания.
Как
всякое
произведение
искусства,
к
тому
же
гротескной
природы,
«Крокодил»
являет
соб ой
сложный
сплав
временного
и
вечного,
комического
и
т раг ич еског о,
ре альн ого
и
фантастического.
На
возможность
такого
подхода
к
повести
в
свое
время
ук а
зал
Н.
К.
Михайловский,
но
его
точка
зрения
не
нашла
союз
ников
и
продолжателей.
В
«Записках современника» (февраль
1881) через восемь лет после страстной отповеди Достоев
ского
всем,
кто
хоте л
сделат ь
из
него
злобного
па ск ви лянта,
Михайловский
на стаи вал
на
несомненном
наличии
ино ск аз ания
в
«Крокодиле», этом « о бо р ван но м
р ассказ е», и предлагал лю
дям,
понимающим
литературную
жизнь
1860-х
годов,
дога
даться
о
его
подлинном
смысле.
«.. .Дело
совсем
не
в
мелких
шпил ька х,
которые
автор
мимоходом
всаживает
в
св оих
лите
ратурных
противников,—
писал
Михайловский,—
а
в
каком-то
го раз до
более
общем
и
беспокойном
нед о во ль с тве», в желании
«карать,
будить
с ов ес т ь», хотя Михайловскому не совсем ясно
—
чью ,
п оск ольку
у
Достоевского
«виноват не Сидор,
не
Иван,
а
„общий порядок“» 16.
200
В
науке
н аших
дней
общепринят
ан ализ
худож ес тве нн ого
произведения,
исходящий
из
понимания
системного
единства
его
художественных
ур овне й.
Если
постараться
представить
геометрическую
схему
ан али за
поэтики
«Крокодила», вообра
жение
создаст
образ
нескольких
кон цен три рован ны х
окружно
стей,
помещающихся
од на
в
другой.
В
эпицентре
мы с ленно
сконструированного
шара
окажется
образ
центрального
п ер
сон ажа
Ивана
Матвеича
и
история
его
злоключений,
а
на
пери
ферийных
ок ру жнос тях
—
миражные
ви ден ия
жизни,
р а зличные
ее
сф еры
смешанных
времен.
Н езам ыс лова тая
ф ант асти ч еская
шутка
обернулась
сложным
художественным
целым,
в
котором
сл иты
резко
р аз личим ые
несо вмест имо ст и,
разнородные
планы
повествования:
с юже т ный , «эмпирический» (реальный),
идей
ных
отвлеченностей
(сатирический)
и
потаенно-метафизиче
ск ий
(трагический) .
Для
ан али за
«Крокодила», как и
всего
ряда
«петербург
ских»
произведений
русской
литературы
от
Пушкина
и
Гоголя
до
Андреева
и
Белого,
кл ючев ым
для
понимания
ед ин ства
тр ех
планов
может
сл ужи ть
выражение
Ап.
А.
Григорьева
«мираж
ная
жи знь ».
Критик
оперировал
им,
дава я
дополнительные
по
яс нения: «фантастическая жизнь Петербурга», или: «та жизнь,
в
которой
все
может
случиться» 17.
Под
пером
Ап.
Г ри горье ва
по няти е
«миражная жизнь»
обретало
значение
художественной
форм улы
—
по
отточенности
и
емкости
вкладываемой
в
не го
мысли.
В
«Крокодиле», как в большинстве петербургских книг
Достоевского,
художественным
аналогом
«миражной
жизни»
яв ляет ся
странный
и
страшный
со н:
он
явственнее
любой
ре
альности,
которая,
в
свою
очередь,
фантастичнее
сна.
Т ему
сна
словесно
разрабатывал
р ассказ ч ик
Семен
Семеныч; «сон»
—
это
и
сама
«миражная жизнь», и
способ
рассмотрения
вещей,
бл и зкий
автору
повести.
Как
обы ч но,
играя
значениями
слов,
одновременно
пр ин адл еж ащих
разным
пл анам
повествования,
и
их
контекстами,
Семен
Семеныч
произносит: «Порой мне,
право,
казал о сь,
что
все
это
к акой -то
чудовищный
со н,
тем
бо
л ее,
что
и
д ело- то
шло
о
чудовище...» (5,193).
В
сл еду ющ ей,
четвертой,
главке
тема
яви
и
сна
подхватывается: «И,
о днако
ж,
это
был
не
сон ,
а
настоящая,
несомненная
действительность.
Иначе
—
стал
бы
я
рас сказ ыв ат ь! ..» (5, 193).
За
три
года
до
создания
«Крокодила»
Достоевский
в
форму
«фантастического сна»
отлил
пародийную
статью
«со свистом,
с
превращениями
и
переодеваниями»
—
«Щекотливый вопрос».
«Магнетическим сном»
названы
здес ь
спо ры
г азе тно-журн аль
ных
пол ем ист ов.
«Это было видение,
со н,
мечта,
что
угодно,
но
фак т
тот,
что
она
нам
представилась...» (20,35). «Обиженный
ниг илист »
сравнил
га зет ные
би твы
со
зверинцем,
который
ему
привид е лс я
как
бы
во
сн е: «Это сон!
Это
невыносимо!
Прочь
из
этого
зв ерин ца !» (20, 48).
Пу ть
прозре ния
истинного
положе
ния
вещей
через
сознание
его
фантастичности
(или «сн а»
на
201
яв у)
избрал
Достоевский
и
в
«Крокодиле», придав теме сна
и
образу
з веринца ,
где
гло та ют
живых
лю дей,
художественную
многоплановость,
кач ес твен но
отличавшую
по вест ь
от
статьи.
Таким
о бр а зом , «сон», «мираж»
в
повести
—
величины,
ха
рактеризующие
петербургскую
действительность,
антиномичную
по
своей
природе.
Художественное
исследование
«миражной
жизни»
предполагает
особый
ск лад
миров осп рияти я
автора,
ко
торый
должен
быть
способен
ощутить
«сверхнатуральность»
(слово Мейерхольда)
жизни
и
связать
все
планы
художествен
но го
мира
гротескной
формой
«синтеза экстрактов противопо
ложностей» 18.
Для
выполнения
эт ой
задачи
писатель
создает
поле
псих оло г ическ о го
напряжения,
как
бы
неожиданно
с ме
шива ет
планы,
осуществляет
подмены,
делает
таинственные
на меки,
превращения
и
н еп рав допод оби я.
В
публицистических
стат ья х
1861—1865 гг.
внимание
авт ора
вс ецел о
отдано
пр е дмету
конкретных
споров;
в
«Крокодиле»
же
лишь
нам ече ны
словесные
з наки
множества
споров
(«отго
л о ски»), и таким способом создан обобщающий образ «орги и
личных
пе ре бра нок
и
клеветливых
импровизаций»19 за не
ск олько
лет
сразу.
Обр аз
спора
нужен
в
«Крокодиле»
как
фон
протекания
сюжетно-фабульной
коллизии.
А
поскольку
она
«чудовищна» (человека сожрало чудовище,
и
он
пропал
«без
ос татк а»!), то полемика вокруг дел текущей жизни
каж ет ся
особенно
бес см ы сл енны м, «дурным»
сно м.
Пл ан
полемических
в ып адов
против
идейных
от вл еченн ост ей
коллективными
усилиями
исследователей
Достоевского
изучен
с
тщательностью.
Пл ан
фабульный
отражен
в
кривом
зеркале
клеветы
«Голоса» .
Вопрос
о
н али чии
пл ана
«метафизического»,
трагического
едва
н ам ечен
са мим
Достоевским
в
«Дневнике
писателя».
П о стар аемся
показать
со дер жание
«эмпирического»
п лана
с
учетом
его
отношения
к
дв ум
другим
пла нам .
Сделать
это
нелегко,
так
как
в
тексте
планы
эти
не
существуют
порознь
и
о дна
и
та
же
е дин ица
поэтики
одновременно
может
пребы
вать
во
в сех
тр ех
пл анах
и
иметь
не
одну,
а
две
или
три
эст е
тические
функ ции.
Анализ
«Крокодила»
осложнен
тем,
что
он
—
шифрованная
литература.
Без
ри ска
ошибиться
мо жно
сказат ь ,
что
ключом
к
шифру
повести
яв ляет ся
су дебн ый
про цесс
или
судебное
дело
Чернышевского
—
главного
узника
российского
Мертвого
до ма
едв а
ли
не
дв ух
третей
XIX в.
Для
Достоевского
в
этом
де ле,
как
в
узл е,
сплелись
н ити
противоречий
о бщест вен ной
жизни:
мечтатели-утописты,
ж ел авшие
сделать
счастливым
че лове че
с тво
посредством
теорий,
заговоров
и
переворотов;
народ,
ради
которого
они
готовы
жертвовать
со бой
и
который
не
готов
идти
открытым
ими
путем;
верховное
правительство,
же сто ко
ка рав
шее
за
малейшие,
пусть
да же
тео рети ческ ие
попыт к и
изменить
установленный
ход
вещей...
Отражение
э тих
противоречий
в
словесных
боях
теоретиков
ст ало
сатирическим
ф оном
для
202
раз вер т ыв ания
пл ана
эмпирического,
облеченного
в
одежды
фан та ст иче ск ого;
сочетание
о боих
этих
планов
отбрасывало
в
художественную
и
историческую
перспективу
гус тую
тень
трагического.
О
гротескной
сю жет ике
«Крокодила» .
Достоевский
и
Чернышевский
В
п ете рбург ск их
ми ра жах
один
за
другим
исчезали
как
во
сне
п оэт
М.
Л.
Михайлов,
журналист
Д.
И.
Писарев,
во льны й
типографщик
Н.
А.
Серно-Соловьевич,
связной
А.
И.
Герцена
П.
А.
Ветошников,
отставной
поручик
В.
А.
Обручев,
публи
цис т
Н.
В.
Шелгунов,
другие.
Должна
была
наступить
оч е редь
«отставного титулярного советника», его неволи ждали,
ее
пр ед
чувствовали,
торопили...
Почти
за
год
до
его
за глота
в
сен
тя бре
1861 г.
А.
В.
Никитенко
з аписал
в
дн евни ке: «Произве
де но
несколько
арестов.
Гов орят,
в зят
и
великий
проповедник
соц иали зм а
и
материализма
Чернышевский»20.
Мыслитель
во
чреве
кр око дила
—
эту
ситуацию
Достоевский
пе рене с
в
повесть
н епо ср едст венно
из
жизни,
она
заставляла
вспомнить
о
судьбе
и
само го
автора
«фантастической
сказки»,
то лько
в
конце
1859 г.
возвр атившег ос я
«из глубины сибирских руд».
Наиболь
шее
отношение
повесть
имеет
к
главной
жертве
те рр ора
60-х
годов
—
Чернышевскому.
Ос н овой
колли зи и
Достоевский
избрал
ж изнен ный
драмати
ческий
момент:
лишение
свободы
мечтателя-социалиста,
су
дебный
процесс
над
ним.
Писатель
в
основном
ра бота л
не
с
фак
тами
действительности,
хот я
неустанно
искал
правдивых
о
ней
св едений ,
а
с
отражением
процесса
в
версиях
правительствен
ных
сообщений
и
печати,
в
отблеске
д руже ст ве нных
и
враж
дебных
слухов,
мнений,
спл етен,
молвы.
Процесс
изображен
в
по вест и
в
в иде
куска
живой
жизни,
воспринятой
одновре
менно
из
многих
«углов».
Подвижной
предстала
в
повести
по
зиция
автора;
жел ани е
б ыть
правдивым
«до дна»
за ста вля ло
его
искать,
менять,
уточнять
точки
зрения,
намеренно
остав
лять
без
явного
ответа
им
сам им
поставленные
вопросы.
Му
чи ли
его
и
проблемы
«проклятые»,
неразрешимые.
В
«Кро
кодиле»
не
найти
открытых
рассуждений,
тем
более
на зид а
ний:
все
спрятано
в
по дтекс т
и
требует
«сверхнатурального»
понимания
сист ем ы
иносказаний.
Анализ
«Крокодила»
целесообразно
начать
с
объяснения
подзаголовка:
работа
над
ним
отражала
п уть
авторских
поис
ков
по таенно го
языка.
Достоевский
предполагал
осуществить
по весть
в
в иде
забавной
истории.
Пе р вонач а льный
подзаголо
вок
должен
был
н ас троить
на
веселый
л ад: «Неслыханное при
к лю чение,
или,
вернее
ска зать :
пассаж
в
П асс аже,
состоящий
в
том,
как
некий
почтенный
господин
пассажным
крокодилом
203
был
проглочен
живьем
и
что
из
этого
вышло.
Семеном
Захо
жим
доставлено» (5, 328).
В
окончательном
тексте
Достоев
ск ий
и зм енил
невесомое
«приключение»
на
значимое
«необык
нов енно е
с о быт ие »; на месте нейтрального «п оч те нно го
госпо
дина»
появился
«господин известных лет и известной наруж
нос ти », о котором рассказывалась « спр аведл ивая
повесть» (так
автор
оце нил
значение
предпринятой
ра бо ты).
Взамен
не й
тральных
слов
«проглочен живьем»
ста ло: «проглочен живьем,
весь
без
остатка», что внесло трагические ноты в как бы смеш
ное
объявление.
Новый
п од за го лово к: «Необыкновенное собы
т ие,
или
пассаж
в
Пассаже,
сп р аведл ивая
повесть
о
то м,
как
оди н
господин,
известных
лет
и
известной
н аружн ос ти,
пассаж
ным
к рокодил ом
был
проглочен
жи вье м,
в есь
без
остатка,
и
что
из
этого
вы шл о» (5, 180).
В
одно м
из
прижизненных
ва
риантов
повести
доставителя
Семена
Захожего
сменил
Семен
Стрижев
—
наблюдателем
и
соучастником
события,
автором
«справедливой повести»
оказ ыв ался
теперь
журналист
из
«Эпохи»: «стриж».
В
окончательном
тексте
повести
и
«Дневника»
значимые
тем ы
подзаголовка
Достоевский
сделал
лейтмотивными.
Почти
навязчиво
звуча ла
тема
«необыкновенного
события»;
она
странно
двоилась:
речь
будто
бы
шла
о
чем-то
фантастическом,
будто
бы
и
не
бывшем,
во
всяком
случае
не
могшем
б ыть
по
з ако нам
житейской
логики
и
обыденного
сознания,
но
вместе
с
тем
н аст олько
общеизвестном,
что
и
н амека
достаточно,
чтобы
распознать
в
эт ой
не вер о ятно сти
ту
реальность,
кот о
рая
может
случиться
вопреки
за конам
жизненного
правдопо
добия.
Подзаголовок
наст р аивал
читателя
на
сверхъестествен
ное
самой
жизни.
Из
«Предисловия редакции»
читатель
узн а вал
о
то м,
что
«невероятный рассказ»
о
крокодиле
—
«отъявленная дичь», но
и
действительность,
хо тя
и
невер оя тная ;
о
том,
что
толком
ни
че го
нельзя
узнать
из-за
о тс утс твия
г л асн о сти: «.. .никто,
ре
шительно
ник то
ни
слова
не
слыхал
и
не
читал
о
ч ем -нибу дь
на
это
п ох оже м.. .» (5, 344).
Говорилось
о
пропаже
«прогло
ченного
живьем
г о сп оди на»: его, «к величайшему сожалению
и
к
величайшей
досаде
редакции,
совсем
не
оказывалось»
(читай:
осуж д ен
без
гласности
и
«съеден без остатка»).
Ре
дакция
намекала
на
необходимость
довериться
рассказчику,
услышать
им
сказанное:
он
«не мог солгать и,
стало
быть,
все
сообщенное
им,
сп рав едл ив о».
Если
же
читатель
сочтет
рас
ск аз
за
выдумку
или
ло ж ь, «это уж нам неприятно» (5, 344—
345), ибо повесть
—
едва
ли
не
единственная
в озмо жн ость
уз
нать
о
Событии:
оно
под
запретом.
В
одной
из
пе чатн ых
редакций
«Крокодила»
существовало
«Письмо
неизвестного
сочинителя
к
Ф.
Д остое вс кому»,
в
центре
которого
была
та
же
тема
Соб ы ти я: «Милостивый
государь,
спеш у
сообщить
Ва м,
как
чл ену
редакции
жу р
204
нала
„Эпоха“,
ис тор ию
об
одн ом
из
сам ых
необыкновенных
и
даже,
смею
сказ ат ь,
н ев ероятн ых
событий,
которое
мо жет
обогатить
не
только
од ну
ва шу
„Эпоху“,
но
д аже
всю
на шу
эпоху.
П рошу
вас
н емед ленно
предать
его
гласности» (5,346).
Через
оболочку
сло весног о
каламбура
и
иронии
проступала
т ре вога
автора,
придавшего
Событию
историческую
значи
мость.
В
заключительных
словах
Семена
Семеныча
т еме
нео
быкновенного
Со б ытия
бы ло
придано
высокое
звучание
с
от
тенком
легкой
и рони и : «Но чувствую,
что
я
не
впра ве
передать
собственные
прозаические
мои
ощущения
ввиду
такого
замеча
тельного
и
оригинального
со бы ти я» (5, 207).
В
тоне
и
стилистическом
ключ е
«Крокодила»
говорилось
о
Соб ыт ии
и
в
«Дневнике писателя»: «Засим произошел арест
Чернышевского
и
его
ссылка.
Ни когд а
ничего
не
мог
я
узнать
о
его
де ле:
не
зн аю
и
до
сих
пор...» (21,26).
Автор
«Днев
ника»
наде вал
на
себя
шутовскую
маску,
которую
носил
Се
мен
Семеныч:
запретная
фамилия
произносилась
во
всеуслы
шание,
Событие
под
предлогом
ничего-не-знания
фактически
именовалось
тайным
делом.
Второе
ключевое
слово
повести,
ра вное
по
значи мо сти
слову
«Событие»,— « П р оц есс» (или « Д ел о»); игра с его скрытыми
значениями
также
образует
подтекст.
Семен
Се ме ныч
в
ми
нут у
на чала
События
во
всеуслышание
произнес: «Я все время
сто ял
непо д виж но
и
у спел
разг лядет ь
весь
происходивший
пе
р едо
мной
про це сс » (5, 182).
За тем
сл едо вала
как
бы
реали
зованная
метафора
процесса:
ф изи ческо е
ис чезно в ение
Ив ана
Матвеича
от
ног
до
головы,
пока
он
не
был
проглочен
«уже
без
ос т а т к а », его смешное на миг возвращение,
чтобы
узник
ис чез
«на этот раз уже навеки» (5, 182).
Желание
закрепить
слово
«процесс»
в
памяти
читателя
заставило
автора
повто
рить
его
уст ами
Семена
Семеныча,
наблюдавшего
по веден ие
ж ен ы : «Не могу даже и подумать,
до
какой
степени
было
сильно
волнение
Елены
Ивановны
в
продолжение
всего
п ро
цесса» (5, 183).
Сам
Иван
Матвеич
произносил
це лую
тираду
о
том,
что,
несмотря
на
окружающую
его
ноч ь,
он
надеется
п ро жить
в
чудовище
«по крайней мере тысячу лет»
при
усл о
вии,
есл и
тыс ячу
лет
прож ивет
крокодил
и
есл и. ..
Иван
М ат
ве ич
не
переварится
естественным
процессом
пищеварения
в
своей
темнице.
Впрочем,
Ел ена
Ивановна
долго
н аде ялась
на
успех
глас ног о
судебного
процесса.
Чтоб ы
читатель
в осп ри
нял
обертоны
смысла
с лова
«процесс», Достоевский окружил
его
по ясн яющи ми
сл ов ами: «несчастный узник»,
«темница»,
«вспороть!», «погибший муж»; он на тысячу ладов повторял их,
по ка
не
укрепятся
в
памяти
и
не
реализуют
себя
в
контексте.
Важная
деталь:
в
черновых
набр о сках
«почтенный госпо
д ин»
должен
был
вылезти
невредимым
из
утробы
чудовища
(так бывало в лубке,
во-первых,
такого
конца
ожидали
в
дел е
Чернышевского,
в о-в торых).
Текст
повести
как
бы
случайно
205
обрывался
на
полуслове.
Создавалось
впе чатл ен ие,
что
опуб л и
ковано
неоконченное
произведение.
Значимость
этого
умыш
ленного
приема
Достоевский
р аскры л
в
«Дневнике писателя»:
«Крокодил»
—
только
пер вая
ча сть
«этого
шутовского
рас
сказа
—
он
неокончен.
Когда-нибудь
непременно
докончу,
хотя
я
уже
з абыл
о
нем
и
теперь
должен
пе речи тать ,
чтобы
припом
н ит ь» (21, 28).
Иным и
словами,
какие-то
внешние
обстоятель
ств а
в
с вое
вре мя
повлияли
на
форму
концовки
(то были при
гов ор
и
ссылка ), теперь другие обстоятельства побудили писа
те ля
обратиться
к
повести,
и
от
них
за висит
возможность
ее
завершения.
Необходимо
объяснить,
почему
Достоевскому
пон адоби л ось
опубликовать
«Нечто личное»
в
1873 г.
Напомним,
что
зимой
1870 г.
Г.
А.
Л опа тин
приехал
в
Сиб ир ь,
чтобы
освободить
Че р
нышевского;
в
1871 г.
он
был
арестован
в
Иркутске;
летом
1873 г.
бежал
за
границу.
Это
б ыла
последняя
попытка
осво
бодить
Чернышевского.
Если
верна
версия
о
«Крокодиле»
как
гротескной
пародии
на
пр оц есс
по
д елу
Чернышевского,
то
по
нят но,
о
каком
именно
окончании
повести
говорил
Достоев
ский,
в
январе
1873 г.
публикуя
«Нечто личное»: как вся Рос
си я,
он
жда л
исхода
борьбы.
Вот
тогда-то
он
возвратился
к
по
вести,
чтобы
разъяснить
ее
содержание
и
снять
подозрение,
что
он
окарикатурил
великого
преступника,
и
чтобы
в
но вых
у сло виях
вы сказ ать
с вое
отношение
к
Чернышевскому
и
к
его
дел у
(«Пора сказать обо всем этом хоть одно слово,
тем
более,
что
оно
теперь
кс тат и»
—
21, 24) .
Пользуясь
средствами
эз оп ов
ского
языка,
Достоевский
повторил
почт и
через
дв ад цать
л ет,
что
Чернышевский
—
кр уп ный
мыслитель,
выдающийся
г раж
д анин
и
бороться
с
ним
полицейскими
средствами
—
гн усн о.
Характеристики
персонажей
(«кукол», «масок») и развитие
фабулы
«Крокодила»
в
острой
форме
гротеска
воспроизводили
слухи
о
«деле»
Чернышевского.
При вед ем
некоторые
ос но вные
факты,
поддающиеся
несомненной
расшифровке.
«Господин известных лет и известной наружности»
—
в
эт их
словах
можно
уловить
намек
на
Чернышевского,
на
его
попу
лярность
и
еще
более
на
его
биографию,
созданную
полицей
скими.
Обр аз
Ив ана
Ма твеи ча
противоречив,
мозаичен:
он
окружен
со чу вст вием
и
восхищением,
заразительным
смехом
и
злобным
сарказмом,
п огру жен
в
атмосферу
клев е ты
врагов
и
сочувствия
д рузей .
Процесс,
или
Событие,
сламывают
героя
в
ничто;
претензия
героя
на
достоинство
и
в осхож ден ие
под
воздействием
«естественного закона»
пре твор яет ся
в
противо
положное—
трагикомическое
п адени е;
герой
во
власти
Соб ы
тия
не
у ничт ожа етс я,
од на ко,
смехом,
не
дискредитируется
им,
а
возвышается
до
трагической
безнадежности.
И ван
Матвеич
отправился
смотреть
крокодила,
им ея
бил ет
для
выезда
за
границу
и
разрешение
на
тр ех месячны й
отпуск.
З десь
Достоевский
со един ил
отголоски
молвы
о
фактах
био-
206
графин
Чернышевского.
После
ре чи
на
похоронах
До бролю
бова
тот,
преследуемый
надзором,
н амер евал ся
уехать
за
г ра
н ицу
(насаждались слухи:
с
целью
сговора
с
Герценом).
Но
минис тр
внутренних
дел
П.
А.
Валуев
и здал
циркуляр
о
не
выдаче
ему
заграничного
паспорта.
В
то
же
время
после
рас
пространения
ряд а
прокламаций,
в
том
чис ле
и
«К барским
кр ес т ья н ам», а также ввиду боязни популярности его лекций
в
Вольном
университете
воз ник ла
ид ея
из олиро ва ть
Чернышев
ского,
выслав
его
за
границу;
и
тогда
в
январе
1862 г.
от
ми
нистра
народного
просвещения
А.
В.
Головнина
последовало
предложение
совершить
заграничную
командировку;
в
конце
апреля
во е нный
губ ерн а тор
Петербурга
кн.
А.
А.
Суворов
че
рез
адьютанта
пос ов етова л
Чернышевскому
уехать
за
границу.
Сам
Чернышевский
закрытие
«Современника»
расценил
как
начало
политического
террора
и
для
успокоения
вокруг
с ебя
обс тан овки
оформил
бумаги
для
отъезда
в
Саратов,
месяца
на
три .21
Фабульный
мотив
отпуска
обыгран
в
повести:
Семен
Тимофеич
о тка зался
хлопотать
за
Ивана
Матвеича,
так
как
тот
считался
в
длительном
отпуске.
Ситуация
отпуска
получила
в
пове с ти
иносказательное
знач ени е:
она
н аме кала
на
пребы
вание
в
крокодиле.
По-видимому,
биографичен
и
фабульный
мотив
посещения
крокодильника.
Ива н
Матвеич
от пра вилс я
туда
из
«любопыт
ства»
и
был
про гл оче н.
Для
уг адыв ания
иносказательного
на
мека
можно
в спо мнит ь,
как
15 (16) июня 1862 г .
Чернышев
ский
побывал
на
приеме
у
генерала
А.
Л.
Потапова,
началь
ник а
штаба
кор пус а
жан дарм ов
и
управляющего
III отделе
ние м.
Чернышевский
предполагал
уладить
инцид е нт
с
ротм и
стром
Любецким,
публично
оскорбившим
Ольгу
Сок ратовн у.
Потапов
принял
его,
чтобы
вбли зи
посмотреть
на
во зм утит еля
российского
спокойствия
и
лич но
познакомиться
со
своей
бу
дущей
жертвой.
Одн ако
на
прямой
вопрос
о
намерениях
По та
по ва
на
его
счет,
тот
заверил
Чернышевского,
что
претензий
к
нему
не
имеет,
и
отпустил,
чтоб ы
арестовать
спустя
несколько
д н ей.22
И ван
Матвеич
пошел
в
крокодильник.
О
посещении
говорилось: «Таким образом,
все
шло
прекрасно
и
ни чего
нельзя
бы ло
п ре двид еть ... » (5, 182).
Особо
придется
ск азать
о
проделках
«кокетки -ж ены » .
Под
маской
благородного
негодования
«Голос»
радостно
смако вал
скандальный,
как
ему
казалось,
мотивчик.
Велико
ис к уш ение,
как
то
почти
е дино ду шно
сдел али
на ши
исследователи,
з ая
вить,
что
Елена
Ивановна,
обольстительная
жена
чиновника,
обожающая
ухаживания
мужчин,
ле гко
относящаяся
к
скучно
мудреным
занятиям
мужа,
к
Ольге
Сократовне
касательства
не
имела.
Как
не
имели
отношения
к
Чернышевскому
сл ова
Ив ана
Ма тве и ча : «Прощай же,
будь
спо кой на
и
не
отказывай
себе
в
развлечениях» (5, 136).
И
сразу
же
возникнут
«но»:
жен а
Достоевского
(и об этом помнил В.
А.
Туниманов)
ра с-
207
суждала
о
т ом , «что дама,
вы став ленная
тут,—
ж ена
Черны
шевского»23.
В.
А.
Туниманов
вспомнил
и
о
набросках
к
ро
ману
«Идиот», где упомянута история с оскорблением Ольги
Сок рат овны
ротмистром
Любецким24.
Оба
случая
указывают
на
осведомленность
Достоевского,
ес ли
не
относительно
фа кт ов,
то
относительно
мо лвы.
Вопрос
о
«кокетке-ж ен е»
необходимо
рассматривать
с
дв ух
сторон.
О дна:
имеет
ли
«кокетка -ж е на »
касательство
к
Ольге
Сократовне?
Друг а я:
за чем
Достоевскому
понадобилось
ввести
жену-кокетку
в
повесть?
Обр аз
«дамы-конфетки»
безусловно
связан
с
молвой
об
Ольге
Сократовне.
И
молву
эту
со здав ало ,
как
известно,
самое
б лизк ое
Чернышевскому
сем ейст во
Пыпи-
ных :
д остат очно
перечитать
полудокументальную
к нигу
В.
А.
Пыпиной25.
Так
счита ли
и
некоторые
друзья
Чернышев
ского.
Сошлемся
на
воспоминания
жу рнали ста
Н.
Д.
Но виц
к ог о: «Возле Ольги Сократовны
гр уппир ова лся
кружок
за
роялью,
оттуда
доносился
смех,
шутки.
Д ам очка
она
была
довольно
пустая,
но
особенной
предосудительности
я
никогда
не
замечал
в
н ей.
Мужа
она
называла
канашечкой,
относи
ла сь
к
нему
шутли в о»26.
Са мое
пора зите льно е
закл юч ает ся
в
т ом,
что
к
эт ой
молве
причастен
сам
Чернышевский.
В
романе
«Пролог» (1865—1870), который можно рассматривать как ав
то р ский
комментарий
и
к
«делу»
Чернышевского,
и
к
пове с ти
«Крокодил», Волгина твердит мужу о том,
что
он
надоел
ей
с воими
умными
разговорами,
кабинетной
жизнью,
и
отк р ыто
предпочитает
им
игр у
в
ло то;
сокрушается
из-за
т ого,
что
он
ни
о
чем
не
мо жет
говорить,
кроме
к ниг
и
общественных
дел,
которые
она
наз ы вает
глупостями;
постоянная
ситуация
в
ро
мане:
все
окружающие
Волгину
мужчины,
в
том
числе
друзья
мужа,
как
правило,
влюблены
в
нее
и
пытаются
за
ней
приво
л окн уть ся.
Защита
Ольги
Сократовны
вну чк ой
М.
М.
Чернышевской
и
академиком
М.
В.
Неч кино й
вне сла
но вые
акценты
в
при
выч ный
образ,
однако
ни чего
изм ени ть
не
могл а:
сл ишк ом
ве
ли ка
си ла
предания.
И,
если
свериться
с
ним ,
жен а
Ив ана
Мат
в еича
п оходил а
на
же ну
Н и колая
Га вр ило вич а27.
Зачем
Достоевскому
б ыло
добиваться
между
ним и
сходства?
Писатель
сознательно
ис поль зова л
отголоски
биографической
ситуации,
по-видимому,
в овсе
не
желая
компрометировать
О льгу
Сок ратов ну.
Достоевскому
понадобились
у з наваемы е
де
та ли
биографии
Чернышевского:
поход
в
крокодильник
с
биле
том
для
выезда
за
границу
в
руках,
общеизвестные
черты
его
«милой нелепости», обращения к жене из «р е то р ты»
—
из
недр
чудовища.
Читатель
должен
был
догадаться,
что
речь
шла
о
гла вн ом
узнике
стр аны .
Достоевский
хотел
показать
траги-
ч ески -см ешно е
самой
жизни:
как
«хотения»
женской
натуры
далеки
от
рационалистических
конструкций
мечтателей.
«Обык
новенная»
хор ошень ка я
же нщина
и
не обы кно венн ый
человек,
208
возникающая
на
эт ой
почве
коллизия:
он
зовет
ее
на
подвиг,
она
хочет,
пусть
ма лен ьк их,
радостей.
Достоевского,
как
вид но,
нимало
не
зан и мал
«пасквильный мотив», но на площадке лич
ной
жизни
рационалиста
он
вел
спор
с
и деями
женской
эма н
сип аци и
романа
«Что делать?».
Достоевский
ра сс чит ывал
на
то,
что
читатель
знаком
с
диспутом
о
женской
свободе,
само
стояте л ь ности
и
независимости
в
духовной
жи зни
в
эконо
мических
отношениях,
развернутом
на
страницах
«Эпохи»
в
1864 г.
H.
Н.
Страховым
(No4) и Н.
И.
Соловьевым
(No 12) по следам романа «Чт о
делать?».
Еле на
Ив ановна
выведена
в
повести
и
как
женщина
весе
лого
нрава,
не
же лающ ая
подчиниться
намерению
мужа
сде
лать
ее
хоз яй кой
интеллектуального
салона,
н овой
Евгенией
Тур,
и
как
человек
иного,
высокого,
поте нциал а,
с
которым
мог
вест и
тайный
р аз говор
знаменитый
узник.
Вообще
же
об
раз
Елены
Ивановны
мо жет
быть
до
конца
прояснен
при
усло
вии
пол ного
раскрытия
потаенных
сторон
образа
Ивана
Ма т
веича.
Чтобы
сюжет
«Крокодила»
конструировал
судебное
прохож
дение
«Дела»
Чернышевского,
Достоевский
также
использовал
известные
факты
деятельности
Чернышевского,
со бст вен ные
впечатления
о
нем
и
его
работе,
самомалейшие
св едени я
о
про
цессе
и
слухи
во круг
него.
Посл ед ние
черпались
отовсюду.
Источником
для
многих
служила
переписка
Чернышевского
с
сем ейст во м
Пы пины х.
Отсюда
Достоевским,
видимо,
взято
несколько
м от ивов.
Главный
—
версия
Чернышевского
для
су
де й:
он
преследуется
за
легальные
статьи,
вины
за
ним
не т,
де ло
должно
окончиться
быстро
и
благополучно.
Приведем
не
которые
отрывки.
Из
письма
С.
Н.
Пыпина: «...судя
по
обви
нению.
..
дело
это
должно
окончиться
пустяками»28.
Из
писем
Е.
Н.
Пыпиной
29:
2 октября 1862: «Теперь они решили обвинить его на основании всех его
статей...» (С.
301); 23 октября 1862: «Только и имеем сведений,
что
сод ер
жится
в
чистой,
светлой,
сухой
комнате
(это говорил Потапов Некрасову)
и
ему
не
нужно
ни че го,
то
есть,
из
домашних
вещей. ..» (С.
301); 9 ноября
1862: «.. . О
Николе
все
твердят,
что
скоро
он
будет
на
свободе...» (С.
302);
18 декабря 1862: «.. .О
себе
он
говорит,
что
сыт,
тепел,
зд оров,
гуля ет ,
за
нимается
и
совершенно
спокоен...» (С.
303); 24 декабря 1862: «... От
Ни
ко ли
еще
имеем
п ись мо;
оно...
так ое
же
сп ок ойн ое,
как
и
прежние
его
письма...» (С.
303); 1 января 1863: «. . .В
э тот
вечер
пр ишло
пис ьмо
от
Ни
колая
Га ври ловича ...
спок ойн ое;
шутит,
т олк ует
о
сво их
делах:
переводит,
пишет
повесть:
наделает
шуму » (С.
304); 25 января 1863: «О Николе нет
слу хо в. ..» (С.
304); 12 февраля 1863: «. . .О
Нико ле
опять
и дут
с лухи,
что
скоро
кончится
его
де ло
высылкой
его
отсюда...
Мн ого
и
давно
говорят
всякую
всячину» (С.
304); 19 февраля 1863: «О деле нет ничего нового и
ве рн ого...» (С.
304).
Несколько
другой
ва ри ант
находим
в
воспоминаниях
Н.
Я.
Николадзе: «...Он
пр ибавл ял ,
вероятно,
для
у спо ко ения
жены,
что
если
даж е
его
арестуют,
то,
убедившись,
что
на
прасно,
его
скоро
должны
будут
выпустить.
„Не могут же меня
14 Заказ No 299
209
судить
за
ст атьи ,
дозволенные
цензурой?
Других
вин
за
м ной
нет “»30.
Сотни
глаз
следили
за
Ч ерн ы шев ским.
Знавшие
его
«вины»,
д ог адыв авш иеся
о
них
и
счи тавш ие
его
же р твой
произвола,—
все
надеялись
на
благополучный
исход,
но
д ень
ото
дня
на
дежда
становилась
все
более
зы бко й,
несмотря
на
уверенность,
которую
ста рался
внушить
б лиз ким
мужественный
узн ик.
До
сто евск ий
изобразил
нисходящую
кривую
настроений
—
от
пер
воначальной
веселости
и
полног о
спокойствия,
к
скрытой
тре
воге,
до
полной
безнадежности
и
мужественного
стоицизма
с
оттенком
бр авады
—
самого
уз ника ;
колебания
нас тр о ений
друзей
и
врагов.
Больше
всех
распространяла
вест и
нел егаль н ая
печать.
Так,
уже
в
нач але
сентября
1862 г.
как
ответ
на
арест
Черны
шевского
появилась
пр о кламац ия
Н.
И.
Утина
«К образован
ным
классам», где говорилось: «Теперь. . .
гла вн ый
вопрос...
состоит
в
том ,
сколько
невинных
жертв
поглотит
это
правитель
ство.
<.. .>
Чес тн ые
люди
не
дол жны
и
не
могут
оставаться
ра в
нодушными
зрителями
такого
н еестеств ен но го
положения
(вы
делено
мно й.—
Л.
И. ).
О по мните с ь!»31.
О снов ную
ро ль
в
про
паг анде
дел а
Чернышевского
в зял
на
себ я
«Колокол» .
Он
зна
комил
читателей
с
личностью
и
деятельностью
Чернышевского,
объяснял
мо тивы
ареста,
анализировал
обвинения
вла с ти,
о пи
сывал
процедуру
гражданской
казни
и,
наконец, 1
января
1865 г.
опубликовал
«Сенатскую записку»
со
своими
по яс не
ниями .
От сюда,
в
частности,
впервые
попали
в
печать
сведе
ния
о
«бывших приятелях Чернышевского», «людях либераль
н ых»,
просивших
вла сте й
избавить
их
от
Чернышевского
«ради общего спокойствия»32.
Достоевский
не
прошел
мимо
большинства
пунктов
«Сенатской записки», начиная от мольбы
бывших
либеральных
друзей,
кончая
толкованием
интимной
пе
р еписк и
с
жено й.
По
слухам
Достоевскому
м огла
ст ать
из вестно й
реакция
гр.
А.
К.
Толстого,
осмелившегося
замолвить
слово
у
государя
за
несчастного
и
несправедливо
осужденного
и
получившего
отповедь
благоволившего
к
нем у
ц ар я33.
Достоевского
м огли
о по вести ть
об
отношении
из вестн ог о
историка
С.
М.
Соловьева
и
его
друзей-либералов
сороковых
годов
Е.
Ф.
К орша
и
Н.
X.
Кетчера;
убежденные
государственники,
они
б ыли
«вы
ведены
из
себя»
сам ой
возможностью
су дебно го
разбиратель
ств а
за
несо вер шенны е
и
фальсифицированные
преступления
и
за
ле гальн ую
деятельность.
Любопытен
обр аз
Чернышевского,
который
соз дал
со
слов
отца
В.
С.
Соловьев.
Это
и
«замеча
тельно
умный
и
толковый
со беседник,
скромный
и
л юбезный »,
и
«совсем другой,
неприятный
ч ело в ек»: «непогрешимый ора
тор,
которого
можно
то лько
почтительно
слу шат ь»; Чернышев
ск ий
—
порождение
незрелого
общества,
которое
его
б езу
держно
м и лов а ло, «а сегодня,
еще
не
прочихавшись
от
фими-
210
ама», он «уже
на
ка торг е:
зачем
прорицательствовал
с
раз
решения
предварительной
ценз ур ы».
Мнение
В.
С.
Соловьева
ха рак терно
для
кругов
мыслящей
интеллигенции.
Как
Д ос тоев
ский
в
концовке
«Крокодила», а затем в «Дн ев ни ке
писателя»
1873 г. ,
В.
Соловьев
и
в
1898 г.
считал
д ело
Чернышевского
не
ясным
и,
обра батыв ая
воспоминания
отца,
заявил
о
своем
намерении
вернуться
к
де лу,
все
еще
тайному,
к
«благород
но му
образу
мудрого
и
справедливого
человека».
Вслед
за
от
цом
он
хотел
док азать,
что
Чернышевский
был
«граждански
уби т
не
за
какое-нибудь
политическое
преступление,
а
ли шь
за
свои
мысли
и
убеждения».
В.
Соловьев
был
с оглас ен
с
И.
С.
Ак саков ы м,
что
«в деле Чернышевского не было ни
суда,
ни
ошибки,
а
б ыло
только
заведомо
неправое
и
наси л ь
ственное
деяние,
с
зар ан ее
составленным
намерением.
Бы ло
ре
шено
изъять
человека
из
среды
живых
—
р еше ние
б ыло
испол
нено .
Искали
поводов,
поводов
не
нашли,
обошлись
и
без
по
водов»
М ного
содействовал
распространению
правды
о
деле
Чернышевского
и
его
защите
П.
Л.
Лав ро в.
Но
об
этом
—
осо
бая
речь.
Что
зн ал
о
пр о цессе
Чернышевского
Достоевский?
Кажется,
в се,
вплоть
до
прокламации
«Барским крестьянам» .
С виде те ль
ст во
тому
прежде
всего
«Нечто личное»
Достоевского
и
в ос
поминания
Чернышевского
«Мои свидания с Достоевским».
«Нечто личное»
Достоевского
и
«Мои свидания с Досто
евски м»
Чернышевского
подтверждают,
что
Достоевский
ста
ра лся
узнать
пр авду
о
степени
участия
Чернышевского
в
по
жарах,
в
составлении
революционных
прокламаций
«К моло
дому
по к оле нию»
и
«Барским крестьянам» . Д ос то ев ск и й
отстаи
вал
право
Чернышевского
на
ле галь ную
деятельность,
хотя
не
был
солидарен
с
его
более
чем
радикальной
программой,
и
категорически
не
принимал
в озможн ос ти
ее
осуществления
ре
волюционными
средствами.
Косвенным
свидетельством
всезнай
ств а
Достоевского
является
осведомленность
Вар вары
Пет
ро вны
Ставрогиной
в
«Бесах»
о
заграничных
запрещенных
и зда ниях
и
да же
начавшихся
тогда
прокламациях, «о вчераш
ней
ссылке
та кого- то,
о
каком-то
ск ан дале
в
П ассаж е», «о кре
стьянской
ре форм е
и
прокламациях...» (12,20,22).
Наконец,
воспоминание
литератора
Ив.
Захарьина
о
фигурировавшем
на
сл едств ии
письме
А.
Н.
Пл ещ еева
убеждает
в
том ,
что
«в литературных кружках того времени знали не только о том,
что
письмо
подложное,
но
да же
и
то,
каким
путем
сам
Черны
ш ев ский
доказал
его
подложность», и,
главное,
о
том,
что
За
харьин
узнал
обо
всем
этом
в
апреле
1864 г .,
находясь
в
ре
дак ции
«Эпохи» 35.
Среди
множества
источников
информации
Достоевского
не
обходимо
учитывать
подцензурные
статьи
Чернышевского:
До
стоевский
чи тал
их
с
вни мани ем,
разг а ды вал
аллюзии.
Приве
дем
один
прим е р.
Политический
обзор
Чернышевского
«Прибы
14*
211
тие
неаполитанских
пленников
в
Анг лию .—
Можно
ли
н азва ть
их
страдавшими
не
по
собственной
их
вине»
будет
спр аведл и
вым
н аз вать
источником
зна ния
о
политических
убеж дени ях
Чернышевского
и
одн им
из
литературных
протосюжетов
«Кроко
д ила».
В
статье
рассказывалось
о
неаполитанских
из гнанни
ках,
в
том
чис ле
о
популярном
политике
Поэрио.
Они
б ыли
брошены
в
темницу
за
участие
в
ре вол юц ии,
в
которой
не
уч а
ствовали.
Король,
желая
спасти
жизнь
и
престол,
просил
их
п ри нять
на
с ебя
правление;
вно вь
укрепившись,
он
решился
наказать
своих
бывших
министров
«за либеральные мнения»:
преступны
были
не
их
деяния,
а
«образ их понятий».
Зат ем
Чернышевский
назвал
главный
аргумент
обвинения
—
подлож
ное
п ись мо, «написанное по распоряжению обвинителей каким-
то
господином,
по лу ч ившим
за
это
денежное
вознаграждение».
И
хотя
обвиняемые
доказали
по дложн ос ть
письма,
а
ули к
не
оказалось
—
они
б ыли
осуждены:
«Разве не бывает таких процессов,
в
которых
убеждение
судей
о
винов
ност и
или
невиновности
подсудимого
с оставл яет ся
на
основании
впечатления,
производимого
всею
его
жизнью,
его
личностью
и
совокупностью
тысяч
ме л
ких
фактов,
из
которых
каждый
сам
по
себ е
не
со ст авляет
юридического
доказательства,
но
которые
все
вместе
прои звод ят
нравственное
впечатле
ние
его
виновности
или
неви нов ност и ».
Чернышевский
у бе ждал
читателей
в
то м,
что
Поэрио
и
его
товарищей
справедливо
ос уди ли
за
«образ мыслей,
враждеб
ный
господствующему
порядку»; «...как
вра ги
правительства
они...
мог ли
быть
подвергнуты
смертной
казни,
но
правитель
ство
смяг чил о
это
н аказ ани е,
заменив
его
заключением
в
к ре
п ос ть»; они «.. .сами
были
виноваты
в
своих
не счасти ях ,
со
вершенно
заслуженных»36.
Чернышевский
в
присущей
ему
по
луиронической
манере
пояснил
приговор
либеральным
мини
страм,
судимым
с
точки
зрения
«неотъемлемых прав»
Ферди
нанда
II.
Говоря
о
них ,
он,
оказалось,
предсказывал
судьбу
с вою
и
своих
товарищей,
ког да
они
ст олкн утс я
с
враждебной
правдой.
Пророчества
публициста
сбы лис ь
и
были
отображены
в
«Прологе»
на
примере
судеб
Соколовского
и
Волгина.
Для
нас
важна
не
только
полнота
фактов,
и звестны х
До
стоевскому,
а
и
его
безусловное
знание
то го,
что
за
«делом»
все
сл едил и,
все
ег о,
сколько
б ыло
можно,
обсуждали.
О
ме
ханике
у знани я
на пис ал
в
«Андрее Кожухове»
С.
М.
С тепн як-
К рав чин ск ий: «От мужа к жене,
от
пр ияте ля
к
приятелю
во л
ну ющие
известия
быстро
расп р ост р анял ись
по
городу.
Х отя
га зет ные
отчеты
б ыли
очень
кратки
и
часто
умышленно
и ска
же ны
цензурою,
тем
не
менее
в се,
кто
интересовался
делом,
имели
о
нем
довольно
подробные
св едения » 37.
Кажется,
самым
по лным
свидетельством
осведомленности
Достоевского
о
«деле»
Чернышевского
и
о
п оз иции
пис ате ля
может
служить
«Кроко
дил», а затем и «Нечто
ли чное ».
Мы
уже
убедились
в
том,
что
фабула
повести
осуществля
212
лась
чер ез
иску сст во
полуслова,
н ам ека,
на
потаенных
ассо
циа циях
с
су дебным
процессом
вообще,
с
де лом
Чернышевского
в
частности.
Приведем
еще
пример.
Преб ыван ие
во
чр еве
кро
кодила
толкуется
в
повести
как
теплая,
уютная
жизнь.
За
эт ой
емкой
формулой
многое
скрывается.
Это
и
свидетельство
же
лезной
вол и
мыс лит ел я,
продолжающего
работать
несмотря
ни
на
чт о.
По
н абл юден ию
Н.
В.
Шелгунова,
в
нач але
60-х
годов
Петропавловская
крепость
утратила
об раз
темницы
и
стала
«рабочим кабинетом»
для
узников.
П.
Е.
Щеголев
по дсчита л,
что
Чернышевский
на пис ал
в
тюрьме
около
205 печатных ли
стов:
беллетристики,
на учны х
с татей ,
переводов,
автобиогра
фий,
су деб ных
показаний
и
объяснений.
«.. .Мало того,
что
к ра
мольные
авторы
писали
в
крепости,
о ни,
будучи
ее
пленниками,
продолжали
печататься.
Это
уже
бы ло
поражением
само й
ид еи
Петропавловской
крепости»38.
Пл енн ики
чувствовали
с ебя
сов
сем
т ак,
как
Ив ан
Матвеич
во
чреве
кр ок од ил а: «.. .питая
со
бою
кр ок од ила,
я,
обратно,
получаю
от
н его
питание;
следо
вательно—
мы
взаимно
кормим
др уг
друга»
(5, 197).
С.
Г.
Стахевич
вспоминал,
как
Чернышевский
приравнивал
Петропавловскую
крепость
к
с ибир ским
каторге
и
ссы л ке:
«Как для журналиста эта ссылка для меня просто-та ки
по
ле зна:
она
уве личива ет
в
публике
мою
известность;
выходит
—
ос обог о
ро да
ре кл ама»39.
Вспомним
Ивана
Ма т ве ича: «...я
у
всех
на
виду,
и
хоть
спрятанный,
но
пер венств ую !» (5, 194).
У троба
кр око дила
—
образ
многофункциональный.
Иван
Матвеич
сдела л
ее
рабочим
ка бин етом,
но
она
и
«реторта»,
в
которую
запрятался
рационалист-мечтатель
от
«почвы»; он
не
проникся
со знан ием
того,
что ,
с
точки
зрения
будущей
судьбы
общественного
де ятеля,
она
—
и
гибель
«навеки».
«Несчастный узник»
упов ал
на
д ейс твия
конторы
надзира
теля,
на
поддержку
сослуживцев
и
нач аль ст ва
(«самого Анд
рея
Ос и п ыча »), на отзывы публики и мнения газет и журна
ло в;
он
ждал
европейских
телеграмм.
К онт ора
надзирателя
себя
не
оп р авдал а.
Сослуживцы
же
показали
се бя
разно.
Се
мен
Семеныч,
расск аз чи к,
др уг -вра г,
«отчасти родственник»,
пер ежив ал,
сочувствовал
и
хлопотал
более
всех.
Но
и
раздра
жался
до
зл о бы : «надеялся ему что-т о
док азать,
за
что-то
отомстить» (5, 199).
И ван
Матвеич
не
хотел
слышать
о
том,
что
навеки
утрачена
свобода
и
достичь
чего-либо
поучениями
из
неволи
—
горячка,
безг ра нично с ть
самолюбия,
а
н аде жда
процессом
«перевариться»
во
что- то
хорошее
—
пустое: «Тут
н адо
пл акат ь,
а
не
кур аж ит ься» (5, 194).
Семен
Семеныч
отчасти
прод о лжил
прежде
скрытую
поле
м ику
Достоевского
с
Чернышевским;
в
сво е
время
Достоев
ский
не
счел
возможным
ее
опубликовать,
и
она
сохранилась
в
его
записных
к ниж ках
и
тетрад ях
1861—1865 гг.: «. . .вы
честны
и
в
основании
верны...
мы
вам
сочувствовали
и
мы
ре
шились
лучше
м олча ть,
хо тя.. .
у
нас
иногда
щемило
в
душе,
213
читая
ваше
ш у то вс тво ...» (20, 155).
В
«Крокодиле»
Достоев
ски й
прежде
таимое
сдел ал
п очти
явным.
Напомним
неско ль ко
его
позиций.
Он
всегда
подчеркивал,
что
у
Чернышевского
б ыли
св ои
идеи,
но
бы ла
и
на ив ная
претензия
на
положение
учи тел я
Канта
и
Ге ге ля : «Мы вам это часто говорили» (20, 154).
До
сто евск ий
в идел
истинность
идей
Чернышевского,
но
и
прене
брежение
тем,
что
русское
общество
«отнюдь не готово!» к их
осуществлению.
По
убеждению
Достое вс кого,
пут ь
достижения
социалистических
идеалов
в
нравственных
переменах;
по
Че р
нышевскому,
он
воз мо жен
через
насильственное
изменение
эко
номического
быта.
(В «Крокодиле»
он
на зван
«экономическим
принципом».)
Достоевский
уп рек ал
Чернышевского
в
любви
к
«одному общечеловеческому и отвлеченному»
и
в
небр еже
нии
ко нкр е тным
человеком.
Более
всего
вол нова ло
Достоев
ского
то,
что
революционеры
своей
работой
вызову т
пролитие
крови
и
что
«вся эта кровь. . .
и
вся
эта
подземная
работа
ни
к
чему
не
приведут
и
на
их
же
головы
о бр уш ат ся» (20, 175).
По
су щес тву
все
пр ете нзии
Достоевского
остались
в
силе,
но
ситуация,
в
которую
попал
И ван
Матвеич,
пр идал а
им
тра
гический
отсвет.
Однако
Семен
Семеныч
не
может
бы ть
отож
дест вл ен
с
Достоевским.
Это
образ
собирательный;
в
нем
есть
черты,
в раж дебны е
Достоевскому.
Между
автором
«Кроко
ди ла»
и
Семеном
Семеныч ем
существует
значимое
отличие:
авт ор
вознамерился
стать
св оеоб разной
совестью
событий,
Се
ме ну
Семены чу
он
отвел
роль
информатора,
секр ет ар я,
в
неко
тором
смысле
доверенного
ли ца
героя
и
его
антагониста.
Во
всяком
сл уча е,
Семен
Сем еныч
б лиже
всех
других
сослужив
цев
к
Ивану
Матвеичу,
есл и
не
по
его
по з иции,
то
по
ее
пони
манию.
И ное
де ло
«старший родственник», Тимофей Семеныч .
Се
мен
Семеныч
не
успел
рот
открыть,
а
Тим о фей
Семеныч
«уже
все
знает»
и
с
ходу
заявляет
св ою
поз ицию: «Я сторона- с
и
вв языва ть ся
ни
во
что
не
намерен» (5, 187).
По
приходе
Се
мена
Семеныча
он
в ы казал
«видимое беспокойство»: провел
в
кабинет,
затворил
двери,
принял
строгий
официальный
вид.
Об
Иване
Матвеиче
он
суд ит
сурово,
н ам екая
на
преступную
его
в и ну: «представьте,
я
всегда
полагал,
что
с
ним
непре
менно
это
случится.
..
Ив ан
Матвеич
во
все
т еч ение
службы
клонил
к
такому
рез уль тат у. ..
Прыток-с,
за но счив
да же.
Все
прог ресс. ..
а
вот
куда
прогресс-то
приво дит !» (5, 187).
Дока
зат ель ство м
вины
узника
были
для
него
«излишняя образован
н ос ть», «идеи»,
с тр емле ние
поб ыв ать
на
родине
Ви л ьге льма
Телля
—
все,
что
«плохо рекомендует»
Ив ана
Матвеича
с
поли
тической,
как
видно,
стороны.
На
просьбу
о
помощи
Тимофей
Сем ены ч
отв еч ал
у к ор и зно й : «сам виноват», а для исправле
ния
советовал
подольше
полежать
в
крокод ил е,
на
досуге
по
думать.
Р ечи
Тимофея
Семеныча
повторяли
«правые»
выска
зывания
К.
Д.
Кавелина
или
А.
В.
Никитенко,
мнение
214
М.
Н.
К атко ва, «Русского вестника»
и
сто ящ их
за
ним
ох ра
нительных
с ил.
Последний
из
сослуживцев,
проявивших
свою
по зицию ,
был
«чудак»
Прохор
С а ввич.
Он
уловил
определяющую
черту
про
ц есса:
пресса
и
п роч, «крокодилов очень жалеют.
Хи-хи-хи!»,
над
ними
«тщетно проливают слезы» (5, 206—207), а о прогло
чен ном
—
ни
слова.
Мн ения
газет
в
повести
пр едс та вили
«Листок»
и
«Волос».
В
черновых
набросках
газет
б ыло
великое
множество.
Они
до лжны
бы ли
вести
ожесточенные
споры
на
злободневные
темы.
Остались
дв е;
обе
выделены,
поскольку
да ли
грот ес кн о
нелепое
изложение
«дела»: «Листок», «газетка
б езо
всякого
на прав ле ния »,
изложила
гастрономическую
историю
о
съ еде
нии
кр око дила
г ос по дином
N («Я хоть и предчувствовал что-
нибудь
в
эт ом
роде,
тем
не
менее
опрометчивое
изв ести е
с му
т ило
меня»
—
5, 205). «Волос»
сообщил
о
возмутительном
факте,
как
некто
сам
вл ез
в
паст ь
крокодила
и
тот
был
вы
нужден
его
п р о гл о т и т ь, «хотя бы из чувства самосохранения»;
репортер
мимоходом
з амеч ал,
что
э тот
случай
«мы заранее
предсказывали» (5,205).
Почему
Достоевский
в ыста вил
эт их
прорицателей?
Потому,
что
именно
они
имели
касат ел ьст во
к
процессу
Чернышевского.
Дело
в
том,
что
12 июня 1862 г.
А.
А.
Краевский
(«Голос») и В.
Д.
Скарятин
(«Русский ли
сток»)
обратились
к
министру
народного
просвещения
А.
А.
Головнину
с
провокационным
письмом
по
поводу
слухов
о
я кобы
п ред стояще м
закрытии
«Современника»
и
«Русского
сл о ва»; авторы письма спешили донести министру о направле
нии
об оих
журналов,
приведшему
их
к
«учениям,
какие
за яв
лены
в
тайной
прокламации
„Молодая Россия“»40.
По-види
мому,
Достоевский
зн ал
об
этом
факт е
и
захотел
вставить
его
в
повесть.
В
первоначальном
варианте
было: «Газета „Весть“.
Над о
д ейст воват ь
через
Управу
б ла г очин ия» (5, 322).
Газета
ст ала
н азы вать ся
«Вестью»
в
сер е дине
1863 г .;
в
момент
обра
щ ения
Скарятина
к
министру
она
н азыв алас ь
«Русским лист
ком».
Достоевский
вернул
ей
прежнее
название,
но
не
забыл
Управу
благочиния.
Последняя
уже
фигурировала
у
Гоголя
и
Герцена.
О
пр о паже
но са
майор
Ковалев
н амер евал ся
снестись
с
Управой
благочиния
не
потому,
якоб ы,
что
она
им ела
прямое
отношение
к
по лиции,
но
пот ом у,
что
ее
распоряжения
могли
бы ть
гораздо
быстрее,
чем
в
иных
местах.
Герцен
воскресил
память
об
Управе
благочиния
в
свя зи
с
характеристикой
ре
во лю цио нной
ситуации
60- х
годов.
В
статье
«Nouvelle phase
de la littérature russe» («Новая фаза русской литературы»),
опубликованной
газ ет ой
«La Cloche» в мае 1864 г .,
рассказав
о
революционерах,
и зъят ых
из
жизни
в
1861—1863 гг. ,
он
пи
с ал:
правительство
«приостанавливает журналы,
бросает
в
кр е
пость
Чернышевского,
самого
выдающегося
публициста,
оно
угрожает
одн им
и
подкупает
других,
и
таким
об ра зом
ему
уда
215
е тся
создать
литературу
порядка
и
моральной
управы
бл аго
чиния,
ка кой
до
тех
пор
никогда
не
существовало
в
Рос с ии» 41.
О
создании
моральной
управы
благочиния
поведал
Салтыков-
Щедрин
в
апрельской
книжке
«Современника»
за
1863 г. : «Не
давно.
..
случилось
мне
вычитать
в
одн ой
убогой
московской
га зет ке
(«Наше время» .—
Л.
И.)
такую
хар акт ер ист ику
„Сов
р еменн ика“,
что
в
нем...
дейс тву ют
одни
эпиго ны,
и
что
„даже
так
назы ваем ы е
нигил ис т ы,
побойчее,
за мо лкл и“...
Только
жаль,
что
вы
уж
оче нь
скромны,
не
назвали
„нигилистов по
бо йчее “
по
именам
и
не
доложили
вашим
чит ат елям
о
пр ич ине
их
молчания.
Ч его
доброго,
они
ве дь
могут
под умать ,
что
это
вы
заставили
их
замолчать»42.
Достоевский
вс та вил
в
пов ест ь
гла вны х
осведомителей
от
печати ,
по
вине
которых
замолкли
н игилис ты .
С
«Русским ли
стком»
Достоевский
уже
беседовал
в
с вязи
с
его
фискальными
ш агами
по
поводу
прокламаций
и
п ожа ров.
В
статье
«О новых
литературных
фактах
и
новых
т етр адя х» (Время.
1863.
No
1)
он
назвал
статью
Скарятина
«прямой клеветой» (20, 61).
По
нятна
и
его
характеристика
«Голоса»
в
«Нечто личном» («ни
чести,
ни
ожидаемой
выгоды»), и обвинение «Голоса»
в
клевете
на
автора
«Крокодила»: с больной головы ответственность сва
ли вала сь
на
здоровую.
Из
вс ех
откликнувшихся
на
съедение
И вана
Матвеича
одна
безудержно
смелая
Елена
И ва новна
треб ов ала
спасения
своего
несчастного
мужа.
Небылицам
газетных
рептилий
она
противо
поставила
живую
быль
крокодиловой
агрессии.
Рядом
с
ее
именем
Достоевский
поставил
имя
П.
Л.
Лаврова:
в
«самом
сердце
П асс ажа»
Елена
Ива новна
твердила
ще к отли вое
слово
«вспороть»
и
там
же
«в ту же самую минуту господин Лавров
читал
пу б личную
л екц ию» (5, 184).
В
дей стви те л ь ности
Ла в
ров
такие
лекции
читал
зд есь
в
1860 г.
В
Вольном
универси
тете
Чернышевский
и
Лавров
должны
б ыли
читать
лекции
одновременно:
оди н
по
политической
экономии,
другой
—
по
фи
лософии.
Но
де ло,
ка жется ,
не
в
од них
лекциях,
а
в
том,
что
че лов ек
близких
Чернышевскому
убеждений,
его
младший
со
ратник,
Лавров
«в одном из бывших в начале 1865 г.
с обра
ний
Лит е ра турно го
фонда...
предложил
выдать
денежное
посо
бие
Чернышевскому
и
хо дат айств оват ь
у
правительства
о
пе
ресмотре
его
дел а,
решенного
будто
бы
незаконно
и
явн о
при
страстно»43.
Пр едседат ель
Л ите рат ур ного
фонда
Е.
П.
К ова
л евс кий
отк лони л
пре дло жение
Лаврова;
Достоевский
со сто ял
секретарем
обще ства .
Имя
Лаврова
понадобилось
Достоевскому
в
качестве
знака
о
человеке-единомышленнике,
усердно
хлопо
тавшем
о
печатании
ста тей
и
переводов
узника,
а
потом
из да
те ле
труд ов
Чернышевского
в
России
и
в
эмиграции.
В
пре ди
словии
к
«Письмам без адреса»
Лавров
назвал
Чернышевского
«жертвой высочайшего произвола,
высочайшей
ненависти», и,
пользуясь
возм ожн ос тя ми
во ль ной
печати,
сказал
о
Чернышев
216
ск ом
то,
на
что
намекал
Достоевский
в
подцензурной
печати:
«.. .Его
уважало
все
мыслящее
в
России,
все
искренно
же лав
шее
бл ага
России.
Его
горячо
любили
все
близко
знавшие.
Ему
верила
русская
молодежь...
Его
ненавидели
лицемеры
лите
рат уры,
пош л яки
прессы,
лак еи
русского
правительства,
враги
русского
народа»44.
Стиль
поведения
Ива на
Матвеича
повторял
стиль
поведе
ния
зн аме нитог о
узник а:
твердое
спокойствие,
о тс утс твие
уни
зи тел ьных
просьб
о
смягчении
участи.
Он
намерен
разраба
тывать
важные
п робл емы
н ау ки: «Изобрету новую собствен
ную
теорию
экономических
отношений» (5, 194); «Я изобрету
теперь
целую
социальную
с ис те м у» (5, 197); «Давеча,
как
вы
ушли,
я
тотчас
же
принялся
изобретать
и
изобрел
уже
три
си
стемы,
теперь
из готов л яю
четвертую» (5, 197).
Пл аны
Ив ана
Матвеича
становились
все
более
обширными,
а
его
п р етензии
—
все
более
не поме р ными:
«. . .буду,
так
сказат ь,
ка ф едрой,
с
которой
начну
поучать
ч ело ве чество . ..»
(5, 194); «...в ес ь
я
проникнут
великими
идеями,
только
теперь
мог у
на
до
с уге
мечтать
об
улу чшен ии
судьбы
в сего
ч ело веч ест ва» (5, 194); «Опровергну
все
и
бу ду
нов ый
Ф урье» (5, 194); «Если не Сократ,
то
Диог ен
(то есть
му др ец- ас кет,
проповедующий
из
бо чк и.—
Л.
И.), или то и другое вместе,
и
вот
будущая
ро ль
моя
в
ч ело ве чест ве» (5, 199).
За
репликами
Ивана
Матвеича
у гады ваю тся
фа кты
из
жизни
Чернышевского
в
Петропавловской
крепости.
Во -пер вых ,
речь
шла
о
сочинении
«нового Фурье»
—
романе
«Что делать?»;
в
«Крокодиле»
немало
внутренних
цита т
из
романа,
на
кото
рые
указала
Е.
И.
Кийко;
ситуация
«спасения человечества»
из
утробы
крокодила,
в
частности,
восходит
к
жизненному
факту:
фурьеристские
теории
Чернышевского
получили
оформле
ние
в
рома не ,
написанном
в
остроге.
Во-вторых,
Достоевский
использовал
и ст орию
с
пис ьм ом
Чернышевского
к
же не
в
Са
ра тов
от
5 октября 1862 г.,
фигурировавшем
на
следствии
в
ка
чест ве
уличающего
документа.
В
заключении
Се ната
от
10
ию ля
1863 г.
по
дел у
Чернышевского
в
качестве
его
нескром
нос ти
приводились
с лова : «.. .наша
с
тоб ой
жизнь
принадле
жит
истории,
пройдут
сотни
л ет,
а
на ши
имена
все
еще
будут
м илы
л юдям ».
Он
наз ыв ает
себя
в
этом
письме
вторым
Ар и
сто теле м. 45 Попробуем разобраться.
Чернышевский,
зная
о
лю
бопытстве
охранников,
тем
не
менее
сообщал:
«.. .Скажу
те бе
одно:
на ша
с
тобой
жизн ь
п ринад лежит
и стори и:
п рой
дут
сотни
лет,
и
на ши
имен а
все
еще
будут
м илы
людям;
и
будут
вспоми
нать
о
нас
с
благодарностью,
когда
уже
забудут
почти
всех,
кто
жил
в
одно
в ремя
с
нами.
Так
н адобн о
же
нам
не
уронить
себя
со
с то роны
бодрости
харак тера
перед
людьми
(Выделено мной.—
Л.
И.), которые
будут
и зучат ь
на шу
жизнь».
Дальше
Чернышевский
говорил
о
намерении
написать
«Ис
тори ю
материальной
и
умственной
жизни
чел ове че ст ва », «Кри
тический
сл ова рь
идей
и
фак то в», «Энциклопедию знаний
и
жизни»
и
другие
с оч ине ния.
217
«Со времен Аристотеля не было сделано еще никем того,
что
я
хоч у
сделать,
и
бу ду
добрым
учителем
людей
в
течение
веков,
как
был
Арис то
т ель.
(Достоевский откликался в « За п и сн ых
кни жка х »: «Чернышевский —
Аристотель»
—
20, 177.)
А
впроч ем ,
я
заго вор ил
о
сво их
мыслях:
они
секр ет,
ты
никому
не
го
в ори
о
т ом,
что
я
сообщаю
теб е
о дной
(тех,
которые
б удут
читать
это
пись мо
до
тебя,
я
не
счит а ю,
потому
что
они
этими
вещами
не
занимаются).
Но
я
рас сказал
теб е
это
для
того,
чт обы
ты
ви дела,
как
далек
я
от
вся к ого
уны
ния,—
о
нет,
мой
друг,
редко
когда
бы вал
я
так
сп ок оен
и
доволен,
как
в
это
время.
С мотри
же,
будь
и
ты
спокойна
и
бодра—только
это
и
нуж но
мн е,
чтобы
я
был
в
хор ошем
расположении
духа»46.
Письмо
п олно
тайнописи
и
недоступно
угадыванию
тех,
к
кому
оно
попадет
в
руки
до
Ольги
Сократовны.
Но
именно
они-то
и
бе рутся
за
его
расшифровку:
п ров окат ор
В.
Д.
Ко
стомаров
перетолковывает
письмо
в
духе,
необходимом
для
судей.
Чернышевский,
познакомившись
с
мат ер иалам и
следствия,
предложил
свою
версию
пр о чт ения:
«В дело введено мое письмо к жене»; оно « да л о
тем у,
вошед шую
в
письмо
г.
К остом арова
к
Соколову,
и
несколько
строк,
в
которых
я
назы
ваю
себя
Аристотелем,
много
раз
пов торяю тс я
потом
в
де ле,
как
уличение
ме ня
в
н еп омерн ом
самолюбии,
и
наведения
тем
на
мы сль,
что
человек
с
подобным
самолюбием
не
мож ет
не
быт ь
врагом
общественного
п орядка .
В
чи сле
м оих
слабостей
е сть
гордость
—
качество,
противоположное
мелкому
само люби ю,
хот я
бы
и
непомерному,—
но,
все -т аки,
качество,
им еюще е
свои
забавные
стор он ы.
Я
люблю
смеяться
над
св оими
сл або стя ми.
Все
мои
ста ть и,
все
мои
письма
к
людям
близким
наполнены
моим
иронизированием
над
собою.
Может
быть,
это
недостаток.
Но
до
него
нет
дела
уголовному
с ледстви ю.
Ирония
не
предмет
XV тома свода законов ... »
Следственные
органы,
писал
Чернышевский,
«дали юриди
ческий
смы сл
ироническому
отрывку».
Всю
первую
часть
письма
Чернышевский
наз ы вал
иронизированием
над
сам им
со
бой
(«я излагаю план таких ученых работ,
для
исп олнен ия
которых
нужно
несколько
сот
лет
работать
ден ь
и
ночь ,
работ,
которых
не
в
состоянии
ис по лнить
никт о
на
свете;
в
этой
част и
письма
я
называю
с ебя
продолжателем
Ар исто тел я» 47).
Однако
Чернышевский
р аскры л
следствию
не
все
тайное
в
тексте
пи сьм а.
Первые
строки
его
продиктованы
не
одним
желанием
ск азать
слова
уте шен ия.
Это
призыв
сохранить
бо д
рость,
напоминание,
что
в
этом-то
и
состоит
их
р ево л юцио нный
долг.
Зат ем
он
подсмеивался
над
своим
положением:
до
сих
пор,
говорит
Чернышевский,
я
был
беден
и
ра бо тал
для
т ого,
чтобы
жить.
«Теперь средства к жизни будут доставаться мне
ле гч е» (читай:
я
с ижу
и
буду
сид еть
на
казенном
довольст
в ии) , «восьмилетняя деятельность доставила мне хорошее имя»
(из-за
не го -то
я
и
нах ожус ь
в
Алексеевском
рав ели н е). «Итак,
у
меня
бу дет
оставаться
время
для
трудов,
о
которых
я
давно
мечтал...»48.
В
эт ой
части
действительно
есть
иро ния
над
са
мим
собой,
но
в
чем
она?
Чернышевский
перечислил
дл инн ый
сп исок
тру до в,
которые
он
намерен
написать
в
остроге.
Тем
самы м
он
намекал
своему
умному
другу,
сколь
долгим
может
218
ока заться
его
пребывание
в
неволе.
И
не
иро ния
ли
это
судьбы:
для
создания
об стоя тельн ых
трудов
мыслителю
предоставля
ется
острог?
Пи сьмо
Чернышевского
со
сло вам и
прощания
и
призывом
к
мужеству
Достоевский
ис польз ова л
в
качестве
п ро
тотекста
повести;
он
приб авил
к
его
действительному
со
держанию
смысл,
приданный
ему
сл едстви ем .
В
чтении
две
н оты
слились
в
одну,
поражающую
своим
дисгармоническим
звучанием.
Что-то
похожее
происходит
и
с
характеристикой
главного
героя.
В
облике
И вана
Матвеича
бросались
в
глаза
неприят
ные
черты
—
резкий
визгливый
голос ,
командные
инто на ции,
вызывающе
независимая
манера
п ов ед ения.
В
записных
книж
ках
встречаются
схожие
наблюдения
самого
Достоевского
о
Чернышевском.
Однако
в
«Нечто личном»
Достоевский
сче л
нужным
подчеркнуть,
ч то,
хотя
многие
находили
манеру
Ч ер
нышевского
д ержат ься
непр ият но й,
ему ,
Достоевскому,
он
был
мил
душевной
мягкостью,
деликатностью.
Поэ тому
на пр аши
вается
вывод,
что
Достоевский
здесь,
как
и
в
случае
с
Еленой
Ив анов ной ,
сознательно
шел
за
взгля до м
и
мне ние м
толпы,
ус
та ми
которой
ха ракт ери зова лся
«преступник» .
Ива н
Ма т веич
желчен,
раздра жи теле н ,
слышит
одного
се бя,
из
ре торты
уго
варивает
человечество
на
братство.
Эти
черты
проявлялись
в
прототипе
в
момент
борьбы
с
инакомыслящими.
В
«Прологе»
Чернышевский,
хара кте ри зуя
Волгина,
сообщал
о
его
манере
взвизгивать
пронзительным
ультрасопрано,
а
во
вре мя
с меха
ви зг
и
рев,
им
издаваемые,
бывали
оглушительны;
когда
он
по
нимал,
что
исполниться
все,
как
нужно,
в
практическом
де ле
не
может,
его
охватывала
злоба
на
свое
бессилие...
Враги
Чернышевского
намеренно
выдавали
эти
особенности
за
посто
янны е
и
ос но вные
качества
его
души.
Изрядное
количество-
примеров
легко
наб ра ть
из
доносов
Вс.
Костомарова.
По
его -
характеристикам,
Чернышевский
«беспрестанно хихикал своим
визгливо-дребезжащим,
неприятным
гол ос ом », «был непомерно
злобен
и
заносчив.
..»49.
Достоевский
мог
воспользоваться
и
некоторыми
официальными
сообщениями,
вроде
о тчета
по лк ов
н ика
Ду рно во
о
по вед ении
Чернышевского
во
вре мя
граждан
ской
к а зни : «При чтении приговора преступник стоял надменно,,
об раща я
взгляды
на
публику»50.
Сведения
подобного
род а
До
стоевский
шарж иров ал,
сатирически
заострял.
Следовательно,,
не
карикатуру
на
неприятные
личные
качества
«великого»
или
«гениального»
человека,
как
н азы вал
Достоевский
Чернышев
с кого
в
воспоминаниях,
хотел
вывест и
он
в
«Крокодиле», а ка
рикатуру
на
тех,
кто
намеренно
пр и давал
эт им
кач ест вам
«юридическое значение» .
Концовка
«справедливой повести»
в
привычном
смысле
от
су тст ву ет,
з ато
вид но,
как
ее
дей ств ие
внезапно
остановлено..
Семен
Семеныч
н апр авил ся
в
крокодильник
проведать
друга,
до
не го
не
дошел,
но
я сно
было,
что
н ад ежда
И вана
Матвеича
21»
на
протестующие
отзывы
печати,
защиту
друзей,
на
видное
об
щес т венн ое
положение
жены
и
т.
п.
стали
гранями
«миражной
ж изн и»: в ней укоренилась привычка безгласности ( тайн ы й
с уд), а выступление в форме фантастической сказки как бы
оборв а но
на
полуслове.
Художественную
завершенность
«Крокодил»
обретал
бл аго
да ря
отры в ку
из
«Дневника писателя»; «Нечто личное»
—
это
продолжение
«Крокодила», разъяснение позиции автора спустя
восемь
лет.
«Крокодил»
—
с ка зк а; «Нечто личное»
—
воспоми
н ание
о
т ом,
как
и
почему
с озд авала сь
ск азк а.
В
обоих
случаях
Достоевский
прибег
к
яз ыку
недомолвок.
«Нечто личное»
имеет
подобие
свободной
композиции,
присущей
нежданно
пришед
шему
на
ум
«литературному»
во с помина нию.
Случайно
пи са
телю
вспомнилась
старая
история,
и
ему
вдр уг
потребовалось
сн ять
с
«Крокодила»
обвинение
в
клевете
на
Чернышевского;
для
этого
ему
захотелось
поведать
о
своих
встречах
с
Черны;
шевским,
а
заодно
и
пересказать
«Крокодила», чтобы все уве
рились,
что
эти
две
в ещи
якобы
не
имели
друг
к
др угу
ни
ма
л ейш его
отношения;
а
под
конец,
совсем
уж
ни
к
селу ,
ни
к
го
роду,
упомянуть
об
институте
присяжных
пов ерен ны х.
Однако
вольность
композиции
—
мн имая.
«Нечто личное»
—
яркий
при
мер
энергической
публицистики
на
тему
об
отношении
к
Че р
нышевскому,
его
заслугам,
о
принципиальных
несогласиях
с
ним
и
о
в о спр иятии
его
процесса.
1.
О пис ание
встреч
с
Чернышевским
позволило
Достоев
скому
рассказать
об
отсутствии
св язи
между
петербургскими
пожарами
и
р ево люци онно
наст ро ен ной
мол оде жь ю,
св язи,
ко
торую
отыскали
«Русский вестник»
и
«Русский листок»
по
личному
указанию
министра
П.
А.
Вал у ева
(в свое время До
стоевский
у казани ю
не
подчинился,
на писа л
о
правде,
которую
узнал,
стать ю
«Пожары», а ее запретила цензура).
Достоев
скому
требовалось
напомнить
о
том,
что
история
с
по ж арами
послужила
поводом
к
аресту
тех,
кто
«усиливались возжечь
нравственный
п ожар
правительственного
и
социального
пере
в о р о та », поскольку Валуев поставил в прямую зависимость по
жары
и
арест
Чернышевского
51.
2.
Уп ом инан ие
Достоевским
прокламации
(«К молодому по
колению»
или
«Молодая Россия») было вызвано
необходи
мостью
уличить
правительство
в
фаб ри кац ии
политической
ак
ции
с
пожарами.
Оно
понадобилось
ему
и
как
претензия
к
мо
лодым
революционерам,
которые
брались
бун това ть
Россию,
не
име я
должного
«уровня образования,
развития
и
хоть
ка
кого-нибудь
понимания
дейс тви тель н о сти » (21, 25).
Разговор
о
прокламации
давал
автору
«Дневника»
повод
продолжить
сп ор
с
Чернышевским,
на чаты й
в
«Крокодиле»^ Как считал
Достоевский,
Чернышевский
звал
к
революции
вопреки
оче ви д
ности,
не
принимая
в
расчет
неготовность
народного
сознания
к
перевороту,
не
учитывая
пс ихо ло гии
об щест венно г о
д виже ния,
220
которое
не
пойдет
прямым
путем,
предначертанным
разумом,
хот я
бы
и
самым
бла гор одн ым.
Однако
Достоевский
далек
от
того ,
чтобы
видеть
в
революционном
движении
легко мыс лие
«безответственных шалунов» (Н .
М.
К а тк ов); он писал: «Явле
ние
это
представлялось
мне
не
единичным,
не
глупенькой
пр о
делкой.
..
л иц,
до
которых
нет
дела»; и хотя сам «давно
уже
душой
и
сердцем»
не
согласен
«со смыслом»
движения,
он
при
знает
за
ним
историческую
неизбежность
(21, 25).
3.
Сло жное
отношение
к
Чернышевскому
проявилось
в
бл и
стательном
пересказе
«Крокодила» .
Достоевский
нач ал
его
с
того,
что
сд елал
явный
намек
на
связь
сказки
с
судьбой
Че р
ныш евск ог о:
знакомство
их
об орва лос ь,
так
как
«произошел
арест
Чернышевского
и
его
сс ылк а.
Никогда
ничего
не
мог
я
узнать
о
его
де ле;
не
знаю
и
до
сих
п ор» (читай:
никогда
ниг де
официально
не
говорилось
правды
о
его
де ле,
а
по
т о му ) : «года полтора спустя мне вздумалось написать одну фан
тасти че ску ю
сказ ку. . .» (21, 26).
Умелым
пересказом
До сто
евски й
наносил
ретушь
на
тек ст
«Крокодила»; тон пересказа
выдер ж ан
в
духе
болтовни
Семена
Семеныча.
Сквозь
нее
про
рывалось
ненароком
нечто,
ск азан ное
всерьез:
герой
характе
ризовался
как
гениальный
человек;
его
про цесс
—
как
случай,
не
име вш ий
себе
подобных;
герой
залезал
в
крокодила
не
по
глупой
случайности,
а
«вследствие каких- н и буд ь
запрещенных,
л ибер аль ных
т енден ций» (21, 27).
О
са мом
чи нов нике
гов ори
лось,
что
он
«среднего круга» (Чернышевский подписывал офи
циальные
бумаги
в
крепости
словами
«отставной титулярный
сов етн и к»).
Достоевский
обращал
внимание
на
«комические
положе
н и я», в которые то и дело попадал чиновник,
уповавший
сп асти
человечество,
находясь
во
чреве;
все
они
проистекали
по
п ри
чине
«наивного упрямства»
героя,
его
безудержной
вер ы
в
ра
зум,
в
силу
отвлеченного
якобинства,
н едоо ц енки
им
ма сшта
бов
пр ожорли в ост и
крокодила
и
тотальности
окружающей
не
моты.
В
тек сте
«Крокодила»
об сужда лась
оп асна я
в озмож
нос ть
того,
что
крокодил
«переварит»
И вана
Матвеича;
в
«Дневнике» «п е рев а ри в ан ие»
назв ано
«процессом»,
и
тогд а
комизм
положения
переходил
в
св ою
противоположность
—
тр а гизм:
«На осторожный,
но
ядовитый
вопрос
друга:
„А ну как если он неожидан
ным
каким-нибудь
п роц ессом ,
которого,
в прочем ,
следует
ожидать,
п ерева
рится
во
что-нибудь
такое,
че го
не
ож идает “, —
вели ки й
человек
отвечает,
что
уже
думал
об
этом;
но
с
негодованием
будет
сопротивляться
этому
весьма
возможному
по
зак он ам
природы
я влен ию » (21, 27—28).
«Сам бывший каторжник», Достоевский провидел утопизм
революционных
на деж д.
Однако
посягнуть
на
развенчание
ге
роического
безумства
в
момент
совершения
неправосудия
пи
сатель
не
желал
и
не
мог.
Поэтому
смех
в
повести
не
каса лся
смысла
д виже ния,
а
затрагивал
пар адоксы
положения.
221
В
«Дневнике писателя», наротив,
Достоевский
говорил
о
св оих
несогласиях
с
Чернышевским
подробно
и
ясно.
Рассказ
об
от
ношении
Чернышевского
к
прокламациям
молодых
революцио
неров,
история
с
клеветой
прессы
на
«Крокодила»
содержала
указания
на
«уклонения ума»
этого
гения
и
на
то,
что
«можно
очень
уважать
человека,
расходясь
с
ним
во
мнениях
ради
ка льно » (21, 29).
На
ко нец
гл авы
«Нечто личное»
Достоев
ский
перенес
скрытый
спо р
с
Чернышевским
о
своевременности
суда
присяжных.
Достоевский
использовал
этот
разговор,
чтобы
противопоставить
друг
др угу
спешащих
к
насильствен
ному
переустройству
общества
революционеров
и
почвенников,
которые
настаивают
на
идее
спасения
народа
самим
народом,
его
созревшей
для
прогресса
во л ей : «Именно
—
довольно
вм е
шат е ль ст ва!..» (21, 31).
«Крокодил»—
повесть-гротеск
Ф ант аст ич еская
пов ест ь
«Крокодил»
и
литературные
в ос
поминания
«Нечто личное»
воссоздавали
грани
«миражной
жи зн и » XIX столетия;
отда ва я
должное
личности
Чернышев
ского,
сочувствуя
его
трагической
судьбе,
разоблачая
ведение
процесса,
направленного
на
уничтожение
вольной
мысли
и
гражданской
свободы,
они
являлись
в
то
же
вре мя
яростным
спором
о
п утях
к
н арод ному
благу;
это
несогласие
Достоев
ского
с
волюнтаризмом
и
утопизмом
главнейшего
нигилиста.
Ядро
повести
образует
столкновение
парадоксов
обществен
ной
жизни
с
пар адо ксами
об щ еств енног о
сознания;
это
столк
нове ние
отливается
в
форму
«странного и страшного»
об ще ст
ве нно го
явления,
имя
которому
—
процесс.
По
письмам
Досто
евск ог о
1864 г.
к
брату
М иха илу
Михайловичу
можно
судить,
насколько
серьезно
внимание
писателя
б ыло
приковано
к
ев
ропейским
су дебны м
процессам.
В
«Объяснениях по делу пе
трашевцев»
Достоевский
доискивался
прич ин
внутреннего
ко
мизма
положения
русского
фурь ер ис та
и
видел
его
в
несчаст
ном
и
трагическом
отрыве
русского
социалиста
от
«почвы».
Д ело
Чернышевского
и
пр оцесс ы
шестидесятников
заставили
Достоевского
заново
пережить
и
передумать
все
стороны
и
все
анти ном ии
процесса
как
я вле ния
российской
действительности.
Достоевский
использовал
строительный
мат ер иал
Г огол я,
в
первую
очередь, «Носа».
Работая
над
«Предисловием редак
ц и и», он применил гоголевский прием путаницы:
р едакци я
пе
чатает
р асс каз,
не
сомневаясь,
что
он
сочинен
Достоевским;
она
не
думает,
что
соо б щ ивший
его
ч инов ник
мог
со лга ть
(сле
д оват е льно,
он
говорит
правду?) и «такой
де рзос тн ой
лжи
еще
не
бы ло
с лыхан о
в
литературе,
кроме
правдивой
ис то рии
о
том ,
как
проп ал
нос
у
майора
К ов алева» (5, 335).
В
опубликован
ном
«Предисловии»
говорилось
приблизительно
то
же:
редак
ция
не
нашла
ни чего,
что
могло
бы
пролить
свет
на
пассаж но е
222
событие
—
никто
не
слыхал
о
ч ем -нибу дь
похожем
—
прогло
че нн ого
господина
не
оказывалось
—
о
событии
не
писали
га
з еты—
р едакц ия
пр осит
читателя
всему
поверить
—
и
т.
д.
В
«Дневнике писателя»
Достоевский
назвал
«Крокодила»
фан
тастической
сказкой
и
д об авил : «вроде подражания повести
„Нос“».
Как
не ког да
Гоголь,
Достоевский
«прятался»
за
с лова
о
ш ут к е: «Это была литературная шалость,
исключительно
для
см еху. .. » (21, 26).
Композиция
«Крокодила»
д олжна
была
повторить
комп о
зицию
«Носа»: в центр поставлено необыкновенное событие,
лишающее
одн ого
ге роя
ам биц ии,
положения
(«носа»), дру
гого—
обычной
человеческой
судьбы
(«съеден без остатка!»).
Там
и
там
фантастическое
происшествие
пер едавал о
меха ни ку
общественного
устройства,
представленную
через
призму
мне
ний,
слухов,
ан ек дотов
—
всего,
что
сост ав л яет
социальную
пс ихо ло гию
общ еств а.
Обсуждение
пропажи
(носа,
ч ино вник а),
поиски
выхода
из
положения
(обращение к печати,
полицмей
стеру,
Управе
благочиния,
значительным
лицам
и
др.
си лам
петербургской
жизни)
им ело
в
«Крокодиле»
множество
наме
ренн ых
словесных
и
ситуативных
повторов,
общее
стилевое
со
ответствие.
Однако
их
несовпадение
обнаруживается
уже
на
композиционном
уровне:
исч езну вш ий
мар та
25 числа нос воз
вратился
на
св ое
место
апреля
7 числа;
некий
господин
был
проглочен
13 января текущего 1865 г. ,
но
вылез ти
из
утробы
ему
не
пришлось:
го го лев ская
композиция
не
срабатывала,
дей
ст вие
обрывалось.
Достоевский
«преодолел»
фабулу
гого лев
ской
повести:
в
«Крокодиле», «Тритоне», «Бобке»
он
разраба
тывал
новый
тип
концовки,
который
должен
был
стать
важным
элементом
поэтики
трагического
гротеска,
выр аже нием
иного
ти па
миросозерцания,
иной
эстетики
*( «трагического»).
И
во
обще
б ыло
бы
ошибкой
думать,
что
«Крокодил»
есть
пародия
«Носа»
или
его
с тилиза ция;
он
маскируется
в
одежды
па ро дии
И
стилизации,
чтобы
спрятать
за
ними
фа кт
па ро д иров ания
жизни.
Ю.
Н.
Тынянов
писал
в
связ и
с
«Дядюшкиным сном»:
«Тонкая ткань стилизации -п а род ии
над
трагическим,
развитым
сюжетом...
составляет
гротескное
своеобразие
Достоев
ск ого» 52.
Это
определение
точно
соответствует
художествен
ном у
составу
«Крокодила».
В
нем
в скры ты
противоречия
между
рационалистически-отвлеченной
утопией
со циа лис та
и
живой
—
прекрасной
и
безобразной
—
жизнью,
обращающей
утопию
в
а нтиу то пию.
В
оформлении
образов
персонажей
и
сюжетных
сит уаций
много
шаржа,
карикатуры,
того
преувеличения
смешной
ст о
рон ы
дела ,
за
которым
скрываются
стороны
«многоводных рек
п о лем ики» (20, 128).
Но
в
отличие,
скаж ем,
от
фельетонного
романа
«Щедродаров»
они
не
являются
целью
изображения.
Напомним,
что
Достоевский
отверг
жанровое
определение
«Крокодила»
как
карикатуры;
р авно
отверг
он
и
попытку
оп ре-
223
делить
его
как
аллегорию
на
процесс
Чернышевского,
хотя
в
данном
случае
необходимо
объяснение.
В
предисловии
к
пе
реводу
«Собора Парижской богоматери»
писатель
о бсу ждал
п робл ему
жанровой
с пеци фики
романа
и
предупреждал
от
опасности
свести
его
к
алле гори и ;
в
пр им ене нии
к
роману
Гюг о
это
к азалось
ему
нарочитой
примитивизацией.
Однако
мер ца
ние
ал легор и и,
ее
элементы
он
видел:
«Но кому не придет в голову,—
писал
он ,—
что
Квазимодо
ест ь
олицетворе
ние
народа
французского,
глухого
и
об езобра же нног о,
о дар енн ого
только
страшной
физической
силой,
но
в
котором
пр о сыпае тся
нако не ц
любовь
и
жаж да
справедливости,
а
вместе
с
н ими
и
сознание
св оей
правды
и
еще
не
початых,
бесконечных
сил
свои х» (20, 28—29).
Та кже
и
в
«Крокодиле»
в
голову
читателю
обязательно
придет
мысль
о
глубинной
с вязи
между
судьбой
Ивана
Ма т
веича
и
судьбой
русского
мечтателя-утописта,
хотя
бы
и
Чер
нышевского.
Условное,
исключительное
положение,
в
которое
Достоев
ск ий
п остав ил
Ивана
Матвеича,
выдумано
писателем
не
для
противопоставления
фа нтас т ики
действительности,
а
в
утв ерж
дение
фантастичности
реальнейшей
действительности,
в
кото
рой
все
перевернуто
до
неправдоподобия.
В
то лкова нии
эсте
тической
природы
фантастического
писатель
исходил
из
соб
ственной
фо р м у л ы: «В фантастической жизни все отправления
фантастические» (19, 173), «а
ме жду
тем
они
действ ит ел ь
ность,
потому
что
они
факты...
Они
поминутны
и
ежедневны,
а
не
искл ючи т ел ьн ы» 53, они и есть субстрат двуликой полноты
жизни.
Достоевский
повторял,
что
только
ис т инные
происше
ствия,
описанные
во
вс ей
исключительности
их
случайности,
«носят на себе характер фантастический,
по чти
невероятный»,
но
они-то
и
дают
возможность
открыть
«общие,
вечные
и,
ка
жется,
вовеки
неисследимые
гл у бины
дух а
и
ха рак тера
чело
веческого» (21,82).
Таким
образом,
ж анр
повести
един
в
своей
дв ули кос ти.
«Крокодил»
—
это
«фантастическая сказка»
и
в
то
же
вре мя
«справедливая повесть»; ее предмет
—
фантастическое
сам ой
жизни,
принявшее
форму
аллегории
—
олицетворения
судьбы
мечтателя-социалиста,
пребывающего
во
власти
Мертвого
дома.
Структура
повести-сказки
целиком
основана
на
художе
ственной
условности.
Композиция
представляет
собой
множе
ство
наложенных
др уг
на
друга
с мещ ающи хся
пло ск ост ей.
Все
художественные
элементы
связаны
с
использованием
гиперболы
и
литоты,
шаржа
и
карикатуры,
фантастического
в ым ысла
и
политического
плаката.
При
множестве
изобразительных
плоскостей
в
повести
три
основных
пл ана
изображения:
пародийно-публицистический
—
фо новый;
фантастико-фактический
—
сюж етн ый;
метафизиче
ский
—
трагедийный.
Первый
реализ ован
средствами
ремини
с ц енций,
пародирования
и
самопародирования
масок.
См ешен ие
224
кажущихся
противоположностей
приближает
его
к
пре дел у,,
равному
утрате
видимой
логики,
к
а бсурд у.
Носители
и дей
(«куклы») удалены от « жи во й
жи зн и », крайняя степень их уда
ленн ост и
приобретает
формы
фантасмагорического,
где
коми
ческое
преобразуется
в
трагическое.
Второй
план
изображения
—
сюжетно-фантастический.
Это
план
реализованного
по дте кст а,
он
н асы щен
политическими
на
меками
и
аллюзиями,
преимущественно
с
процессом
Чернышев
ск ого.
Трагическое
положение
героя
содержит
несколько
взаи-
мопересекающихся
идей.
Герой
и
государство:
он
посягнул
на
его
основы
во
имя
спасения
человечества,
оно
сильно
на
столько,
что
проглотит
его
«без остатка»
и
«переварит»
в
нечто,
чего
герой
не
ожидает,
чему
сопротивляется
и
чего
не
желает
(род политической аллегории) .
Ге рой
и
общество:
он
рассчиты
в ает
на
его
поддержку,
оно
пр едает
его
вследствие
своего
не
доразвития,
несо в ер шен ства
и
консерватизма.
Герой
и
че ло
вечество
(народ,
«почва», «живая жизнь»): оно не подозре
вает
о
его
существовании,
их
вековечный
разрыв
чреват
тр а
гедией
для
обеих
сторон.
Все
три
поз иции,
особенно
пос ле дня я,
делают,
как
ни
парадоксально,
самую
трагедию
г ероя
смешной.
Третий
план
из об ражен ия
—
трагический
—
«надстраивается»
над
первыми
двумя,
в ыра стает
из
них
как
их
с уб с танция:
смешное
пародии
и
карикатуры,
смешное
фантастического
тр а
гически
неразрешимо
в
си лу
ве чных
«ножниц»
ход а
ис тори и,
пут ей
развития
общественного
сознания,
неизбежного
столкно
вения
жизненных
противоречий.
Достоевский
—
автор
«Крокодила»
проявил
не вид анно е
у мение
«синкретического»
письма:
один
и
тот
же
образ,
слово,
фразу,
сит у ацию
он
включал
в
несколько
планов
и
ко нтекс то в,
придавал
им
нарочитую
двусмысленность
и
многозначность,
иг рал
тексто м
и
подтекстом,
если
под
текстом
подразумевать
кал амбур но е
звучание
журнальной
полемики,
абсурдной
с
точки
зрения
подтекста:
потаенного
смысла
того,
что
за
кл юч ала
в
себе
ф ант аст ич еская
фабула.
Нервом
повести
яв
ляется
его
зи гзаг ообразн а я
фа бу ла,
организованная
по
прин
ципу
превращений
и
переходов
неожиданного
в
нелепое,
бреда
в
каламбур,
случайного
в
умышленное;
все
в
ней
обыденно
и
фантастично,
просто
и
на
ходулях;
каж дый
отрезок
фабулы
вк люч ен
во
все
три
п лана
изображения,
наг руж ен
множест
вом
значений.
В
ж изни
героя
все
шло
прекрасно
и
в
один
миг
он
был
проглочен
крокод ил ом;
он
проглочен
крокодилом,
но
тот
не
сд елал
ему
никакого
повреждения,
и
герой
чувствует
себ я
нормально
настолько,
что
собирается
поучать
человече
ство;
ему
хорошо,
а
ж ена
счи тае т
его
нес час тны м
и
требует
убить
крокодила
и
освободить
супруга;
ему
ка жется ,
что
все
нормально,
а
оказывается,
что
он
съеден
без
остатка;
он
спо
коен
и
н аме рен
работать,
но
ему
гроз ит
сжиться
с
к ро код илом
и
б ыть
переваренным
им
каким-нибудь
неожиданным
образом;
16 Заказ No 299
225
герою
хорошо,
но
он
надеется
на
защиту
общества;
друзья
жалеют
его,
они
же
злорадствуют
и
торжествуют;
ж ена
тре
бует
освободить
суп руг а,
но
она
же
готова
утешиться
с
че р
номазеньким
и
хочет
ра звода ;
герой
рассчитывает
на
протесты
печати,
а
газеты
пишу т
небывальщину
и
чуш ь;
хозяин
кроко
ди ла
обеспокоен
его
судьбой,
боится
его
смерти,
но
он
же
с ча
стлив,
что
может
с орва ть
ог ро мный
денежный
куш
и
вдо ба вок
чин
полковника
(то и другое из вознаграждений и наград,
во
стребованных
предателями,
в
част но ст и,
в
деле
Ч ер нышевс ког о);
на чал ьс тво
приходит
в
затруднение
вследствие
небывалости
и,
добавим,
незаконности
переселения
ге роя
в
недра
чудовища,
но
оно
же
чувствует
се бя
в
своем
праве,
ибо
подозревает,
что
чин овник
ок аза лся
во
чр еве
крокодила
ввиду
запрещенных
ли
бе ральн ых
тенденций
и
т.
д. 54
Смешное
в
«Крокодиле»
яв ляе тся
принадлежностью
всех
элементов
текста
—
слова,
детали ,
ситуации
—
и
универсаль
ным
цементирующим
началом
всей
повести.
Смешны
я зыко вые
каламбуры,
от
которых
ид ут
импульсы
к
внутреннему
содер
жанию.
Иногда
они
выглядят
невинно,
как
смех
ради
смеха.
Таков
каламбур
Тимо фе я
Се м ены ч а: «Как сын отечества го
в орю,
то
ес ть
говорю
не
как
„Сын отечества“,
а
просто
как
сын
отечества
гов о рю» (5, 190).
И
только
во
взаимодействии
с
определением
в
качестве
сына
отечества
Ив ана
Матвеича
становится
ясны м
ироническое
значение
это й
язык ов ой
игры.
Каламбур
мож ет
создать
ситуацию
иг ры
смыслами.
Когда
И ван
М атвеи ч
«со слезами»
просил
у
Тимофея
С еменыч а
руко
вод ст ва
и
помощи,
тот
ответил
репликой: «Ну,
это
слезы
кр о
к одил овы. .. » (5, 188).
Когда
же
газета
«Волос»
сообщила
о
некто
толстом,
з аст ав ившем
крокодила
себ я
проглотить,
она
пож але ла
о
млекопитающем,
принужденном
проглотить
та
кую
мас су
и
тщетно
проливавшем
слезы.
Кал амбур
подменяет
од но
значение
другим,
вследствие
чего
создается
тре в ожа щая
восприятие
атмосфера
алогизма.
Она
и
о бр ащает
внимание
на
полноту
п от аенног о
значения.
Еле на
Ивановна
потребовала
вспороть
крокодила,
что
Семен
Семеныч
истолковал
т ак:
уп р аш ивала , «вероятно,
в
самозабве
ни и—
к ого- то
и
за
что-то
выпороть» (5,183).
Очевидно,
что
глаголы
«вспороть»
и
«выпороть»
ра зл ичны
по
значению.
Се
мен
Семеныч
вдруг
утратил
элементарное
чувство
с еманти ки
сл ова,
чтоб ы
Достоевский
через
игр у
сл ов
ввел
разговор
о
«ре
троградном
желании»
выпороть
роз га ми
крокодила
(вспомним
известную
полемику
между
Достоевским
и
«Современником»
об
уложении
о
наказ ани и
гимназистов
розгами)
на
место
«просто-
зап росто»
же лани я
вспороть
ножом
брюхо
ненасыт но го
чудо
вища,
что
н ебезо пас но
для
существующего
законопорядка.
Од ин
из
каламбу р ов
—
«Порой мне,
право,
казалось,
что
все
это
какой-то
чудовищный
сон,
тем
более,
что
и
де л о-то
шло
о
чу д овище » (5, 193)—игр ае т
переходом
прямого
плана
зна
226
чений
в
переносный,
сплавляет
смешное
со
страшным
и
явля
е тся
од ним
из
центральных
высказываний
о
предмете
п ов ест
вования
и
о
худ оже ств ен ной
то чке
зрения
автора.
Достоевский
любит
пользоваться
двумя
противоположными
приемами,
посредством
которых
он
достигает
перевода
планов
из
серьезного
в
смешной
и
из
смешного
в
серьезный.
Нередко
он
«вдруг»
в став ляет
слова
и
фразы,
означающие
не что
бол ь
шее,
нежели
они
должны
были
бы
зн ачи ть
в
обы чн ом
расс каз е,
написанном
«исключительно для смеха» .
Свидетель
и
хр они
кер
со бы тия
Семен
Семеныч,
которому
редакция
просила
ве
рить,
такими
сл ова ми
говорит
о
своей
миссии: «Я все этовремя
стоял
неподвижно
и
успел
ра зг ляд еть
весь
происходивший
пе
редо
мн ой
про цесс
с
таким
вниманием,
ка кого
даже
и
не
за
помню...» (5,182).
Вын ут ая
на
минуту
из
смешного
ра с
с каза,
фра за
может
быть
воспринята
как
откровенное
призна
ние
сопереживающего
и
проникнутого
чувством
гр аждан ск ой
ответственности
публициста.
Часто
употребляется
и
обыгрыва
ет ся
определение
ге роя
—
«несчастный узник» .
Вы п адает
из
смехового
контекста
стр ашная
по
своему
намеку
на
беспросвет
ность
фраза
Ив ана
Ма тве ича: «Меня окружает непробудная
но ч ь» (5, 186).
У силенно е
обрастание
эпитетами
существитель
ного
«случай»
выделяет
его
из
мас сы
д ругих
слов
и
застав
ляе т
читателя
доискиваться
его
тайного
смысла.
Семен
Семе
н ы ч: «.. .случай самый необыкновенный,
и
общим
правилом
для
всех
прогрессистов
его
никак
не льзя
положить» (5,187).
Ти мо
фей
Семеныч
применяет
к
слову
«случай»
эп итеты
подозритель
ный,
небывалый
и
пл охо
рекомендующий,
дав ая
ему
тем
самым
подобие
политической
оценки
с
по з иций
«кудакствующего док
тринера».
И,
наоборот,
нередко
вполне
серьезные
вещи
вдр уг
п ерех о
дят
в
смешной,
ча ще
всего
б ыт овой
рег ист р
и
тем
самым
ста
вят
под
у дар
серьезность
серь езн ог о.
Герой
претендует
на
пер
венст во,
на мере н
стать
кафедрой,
поучающей
человечество,
он
воспринимает
се бя
мыслителем
масш т аба
Фурье
или
Сократа
и
т.
п.,
а
Елена
И ва новна
зрительно
пр едст авл яет
беспомощ
ность,
когда
его,
великого
человека,
принесут
в
ящике
в
са
ло н,
и
заливается
ве сел ым
с ме хо м: «Это очень смешно!» Лег
кий
сд виг
планов
—
и
серьезно-трагическое
переключается
на
сме шное .
Герой
во
чреве
одержим
самолюбивыми
ме чтан иям и
и
головокружительными
прожектами,
а
друг
Семен
Се ме ныч
задает
ему
к ова рные
вопросы
о
пита нии
и
физиологических
от пра вле ниях,
вполне
бытовых
заботах;
происходит
столкнове
ние
духовного
и
телесного,
п аря щих
идей
и
при мит ивно й
фи
зиологии,
что
оборачивается
тревогой
за
бу ду щее
героя,
кото
рому
угрожает
«перевариться»
процессом.
Иван
Матвеич
зовет
же ну
на
подвиг
—
поместиться
ряд ом
с
ним
в
недрах
чудовища;
Елена
же
Ивановна
представляет
себе
бы то вую
сторону
сов
местного
«лежания», и ей становится противно,
скучно
и...
15*
227
с меш но.
Гер ой
говорит
и
ду мает
о
вселенской
л юбви
к
чело
вечеству,
а
обыкновенную
супружескую
любовь
позабывает,
на
что
ж ена
отвечает
негодованием
и
смехом.
Достоевский
—
мастер
создания
подтекста,
переносного
з на
чения
слов
и
словосочетаний,
достигаемого
посредством
их
синтаксического
выделения,
педалирования,
многозначительного
повтора.
Описывая
«процесс»,
Семен
Семеныч
приговаривает:
«На этот раз уже без остатка»
или
«в этот раз уже навеки»
(5, 182).
Особое
значение
при да но
местоименному
существи
те льн ому
«это»: «он уже все это знает»; «с ним непременно
это
случится».
Широко
употребляется
в
п от аенном
знач ени и
мест о именно е
прилагательное
«такой»
и
наречия
«там»
и
«туда»: «во все течение службы своей именно клонил к та
ко му
рез уль т ат у. .. »; «пусть себе там полежит»; «хорошо,
если
он
там
на
время
п о л еж и т»; «всякий туда полезет даром
деньги-то
бр ать » (5, 187, 180, 192).
Переносное
значение
создают
разного
рода
экспрессивные
восклицания.
И ван
Матвеич
хотел
съездить
на
родину
Виль
гельма
Телля.
Ре пли ка
Тимофея
Семеныча:
«Вильгельма
Телля?
Гм!» (5, 188).
В
этом
«гм!» скрыто осуждение Тимо
фея
Семеныча.
Семен
Семеныч
н азыва ет
героя
несчастным
узн иком ,
на
что
Тим оф ей
Семеныч
реагирует
фр азо й: «Да- с,
вот
теперь
и
к
уз ник у!
. . .Э-эх,
легкомыслие!» (5, 192).
И
снова
весь
о бъем
содержания
и
модальности
выражен
через
инт о нацию
восклицания.
По жалу й,
самое
характерное
для
функции
смеха
в
«Кроко
диле»
за ключ ает ся
в
том,
что
в
каж дой
отдельно
взятой
ситуа
ции
одномоментно
встречаются
несколько
об ъек тивн о
сущест
вующих
и
су б ъекти вно
воспринимаемых
планов
комических
положений,
несколько
подвижных
плоскостей
и
м еняющи х ся
ракурсов
изображения.
Создается
о щу щение
какофонического
на гром ожд ения
никогда
не
могущих
слиться
голосов,
каждый
из
которых
ведет
сво ю
лейттему
текста
или
п о дте кста.
Разви
тие
комических
положений
«проглатывания», «лежания на
бок у», «спасения»
и
других
представляет
характерные
пр имер ы
так их
контрапунктических
сочетаний.
Герой
проглочен,
да
еще
и
без
остатка,. а
ж ена
желает
вспороть
брюхо
чудовища;
старш ий
родственник
и
п очти
на
ч ал ьник
рад,
что
геро й
п оле жит
во
чреве
для
всеобщего
покоя
и
в
на зид ание
пр очи м;
кр око дильщик
и
др.
у сил енно
твердят
о
ненарушимости
экономических
интересов
и
о
действии
эко
номического
принципа.
«Лежание на боку»
для
героя
пр ият но
(«тепло и мягко», «нет бабьих дрязг», «можно соснуть»), оно
же
окружает
его
непробудным
мр ак ом,
из
которого
нет
выхода,
оно
же
сулит
каф едр у
проповедника
великих
теорий,
оно
же
мо жет
обернуться
каким-нибудь
процессом,
который
пер ева
рит
его
в
н ечто
неожиданное
и
нежелательное.
Сп асен ие
несча
стного
в
од но
и
то
же
время
недопустимо
без
вознаграждения
228
владельца
частной
собственности,
необходимо
с
точки
зрения
с пасе ния
человечества
и
возможно
лишь
с
разрешения
по
лиции.
Итак,
композиция
«правдивой повести» (она же « фан таст и
ческая
сказка») как целого осуществлена на основе принципа
какофонического
многоголосья.
Между
планом
трагической
судьбы
героя,
составляющим
подтекст
повести-сказки,
и
планом
комических
положений
посрамленного
разума,
служащим
ак
ко мпан емен том
для
развития
темы
тра г иче ской
судьбы
героя,
не
существует
привычных
«серьезных»
иерархических
отноше
ний.
Человеческая
трагикомедия
им еет
вид
хаоса,
которым
властвует
гомерический
вс епр о ни кающий
и
очищающий
смех,
направленный
на
дисгармоническое
сложение
жизни,
а
не
на
отдельных
но сит елей
трагического.
В
повести-сказке
не
высме
ивается
«умник»; звучит сокровенный смех над «горе м
ума»
—
религией
умников
—
вместе
с
плачем
над
их
трагическими
судьбами
и
со-чувствием
им.
Дисгармония
жизни
жертвует
героями,
ушедшими
далеко
вперед
от
остального
человечества,
оторвавшимися
от
«живой жизни»
во
имя
ее
же
сп равед ли
в ого
и
разумного
устройства.
Ро ль
универсального
смеха
в
трагическом
гротеске
и
во
всем
творчестве
Достоевского
ве
лика.
Фантасмагория
жизни
(«чудовищный
со н») вступает
в
противоречие
с
«телесными»
и
духовно-нравственными
на
чалами
человеческого
существования,
создает
трагические
«процессы»
и
подвергается
осмеянию
в
н адеж де
на
исцеление.
Цемен ти р у ющим
элементом
в
гротеске
Достоевского
служит
не
фантастическое
или
пар адоксал ьн ое,
а
смех.
Гротеск
До
ст о евско го
передает
взаимосвязь
исторического
и
фантастиче
ск ого,
объединенных
сложной
диалектикой
трагического
в
смеш
ном
и
смешного
в
трагическом.
Смех
—
местоположение
автора
в
произведении,
его
художественная
точ ка
зрения,
выражение
его
по зиции,
способ
противостояния
трагедиям
миражной
жизни.
П рим еч ания
'Татаринов П.
П рогу лка
по
Пассажу.
2-е
изд.
СПб.,
1851.
С.
3.
2 В собраниях лубков середины века не удалось отыскать книжки с этим
сюжетом.
До
нас
дошли
три
и зда ния
из ве стн ого
во
второй
половине
века
лубочника
Н.
М.
Пазухина
(см. :
Па зух ин
Н.
М.
В
пасти
крокодила.
Рас
сказ
из
жизн и
путешествий
по
Африке.
М. , 1889, М. , 1891.
М..
1894).
По з дние
д аты
печатания
книжки
Пазухина
не
должны
смущать,
так
как
он
любил
работать
с
бродячими
сюжетами
лубочного
р ынка
(«На краю света.
Р ас сказ
из
жизни
п у теше стве нн и к а», «Убийство на дне моря.
Р а ссказ
моряка»
и
т. п.).
3 Алексеев М.
П.
Об
одном
эпиграфе
у
Достоевского//Проблемы
теории
и
истории
литературы.
М ., 1971.
С.
370.
4 Орнатская Т .
И.
«Крокодил». «П о др о сто к» (Дополнения к коммен
т ар ию )//Достоевский:
Материалы
и
ис сл едо ва ния.
Т.
7.
Л ., 1987.
С.
169.
5 Нечаева В.
С.
Журнал
М.
М.
и
Ф.
М.
Достоевских
«Эпоха»
(1864—1865).
М „ 1975.
С.
81—85.
6 Достоевский Ф .
М.
Поли .
собр.
соч.:
В
30 т.
Л. , 1972—1989. — В се
ссылк и
на
вто
издание
в
те кст е.
229
7 См.:
Головачев
А.
А.
Политическое
обозрение//Эпоха.
1964.
No
9.
С.
1,5.8.
8 <Б.
п.)
Отовсюду//Голос.
1864. 12
ав г.
No
230.
С.
1.
9 Александров В .
Наполеонов
день
в
Париже//Санкт-Петербургские
вед о мост и.
1864. 14
ав г.
No
179.
С.
1—2 .
10 <Б.
п.>
Отовсюду//Голос.
1864. 21
авг.
No
230.
С.
1.
11 Нечаева В.
С.
Ука з.
соч .
С.
83.
12 Орнатская Т .
И.
Ука з.
соч.
С.
171.
13 Туниманов В .
А.
Тв орч ест во
Достоевского.
1854—1862.
Л., 1980.
С.
271.
14 <Б.
п.>
Вседневная
жи знь // Голос .
1865. 3
аи р.
No
93.
15 Туниманов В.
А.
Указ.
соч.
С.
273.
16 Михайловский Н.
К.
Поли.
соб р.
соч.
4-е
изд .
Т.
5.
СП б ., 1908.
С.
424.
17 Григорьев А.
А.
Достоевский
и
школа
сентиментального
реализма//
Н.
В.
Гог ол ь.
Материалы
и
ис сл едо ва ния.
Т.
1.
М.;
Л., 1936.
С.
232.
18 Мейерхольд В .
Э.
Балаган//О
театре.
С П б., 1913.
С.
169.
19 Писарев Д .
И.
П ос мо тр им !//Соч.:
В
4т.
Т.
3.
М.,
1956.
С.
438.
20 Никитенко А.
В.
Дне вник:
В
3т.
Т.
2.
М., 1955.
С.
211.
21 См.
об
это м:
П орох
И.
В.
Процесс
Чернышевского
и
общественность
Ро ссип / /Дело
Чернышевского.
Саратов,
1968.
С.
1—68,
НО—146; Яро
славцев
Я-
А.
А.
В.
Головнин
и
Н.
Г.
Чернышевский//Чернышевский
и
его
эпоха.
Революционная
ситуация
в
России
в
1859—1861 гг .
М.,
1979.
С.
119—133; Ланщиков А.
Л.
Н.
Г.
Чернышевский.
М. , 1982.
С.
215—250.
22 Ланщиков А.
Л.
Указ.
соч.
С.
241—242; Чернышевская Н .
М.
Летопись
жиз ни
и
деятельности
Н.
Г.
Чернышевского.
М ., 1953.
С.
257—260.
23 Ф.
М.
Достоевский.
Но вые
материалы
и
ис сл едо ва ния.
Лит ера
турное
наследство.
Т.
86.
М. , 1973.
С.
235.
24 Туниманов В .
А.
Указ.
соч.
С.
270.
25Пыпина В.
А.
Любовь
в
жизни
Чернышевского.
Ра змыш ле ние
и
воспоминания
(По материалам семейного архива).
П г., 1923.
26 Новицкий Н .
Д.
О
Введенском,
Че рн ыше в ском,
С ерак овско м//
Н.
Г.
Чернышевский.
1828—1928.
Не изда нн ые
текс ты ,
материалы
и
стать и .
Сар ат ов , 1928.
С.
296.
27 См.:
Чернышевская
М.
М.
Ол ьга
Со крат овна
Чернышевская.
Вступит,
статья
акад.
М.
В.
Не чк ино й/ /Чер ныш евс кий
и
его
эпоха.
С.
241—247 .
28ПыпинаВ.
А.
Указ.
со ч.
С.
42.
29 Пыпина Е.
Н.
Письма//Н.
Г.
Чернышевский.
1828—1928.
Не из да нные
тек сты ,
материалы
и
статьи.
Сар ат ов, 1928.
С.
301 и сл.
30 Николадзе Н.
Я.
Воспоминания
о
шестидесятых
годах//Н.
Г.
Чер
нышевский
в
во с пом инания х
современников.
М ., 1982.
С.
253.
31 Дело Чернышевского .
С.
52—53.
32 Сенатская записка// Кол ок ол.
1865. 1
янв.
No
193.
С.
1581.
33 См.:
Захарьин
(Якунин)
И.
Н.
Гр.
А.
А.
Толстая.
Лич ные
впечат
л ения
и
воспоминания//Вестник
Европы.
1905.
No
4.
С.
634—635.
34Соловьев В.
С.
Из
литературных
воспоминаний.
Н.
Г.
Чернышев-
ский//Соловьев
В.
С.
Пись ма :
В
3т.
С П б. , 1908—1911.
Т.
1.
С.
271—282.
35Захарьин (Якунин)
И.
Н.
О
подложном
письме
в
«деле»
Черны
шевского.
Письмо
в
редак ц ию // Новое
время.
1904. 23 ноября (6 декабря) .
No
10321.
С.
5.
33 Современник .
1859.
No
3.
С.
148—154.
37 Степняк-Кра вчи н с к ий
С.
М.
Собр.
соч .
Часть
IV.
П г., 1917.
С.
208.
38 ЛанщиковА.
П.
Указ.
со ч.
С.
239—240.
39СтахевичС.
Г.
Среди
политических
преступников//Н.
Г.
Чернышев
ский
в
во с пом инаниях
современников.
С.
291.
40 Чернышевская М.
Н.
Указ.
соч.
С.
258.
41 Герцен А.
Н.
Соб р.
со ч.:
В
30 т.
М ., 1954—1965.
Т.
18.
С.
173.
230
42 Салтыков-Щ едри н
М.
Е.
С обр.
со ч.:
В
20 т.
М.,
1965—1977.
Т.
6.
С.
56.
43 Материалы для биографии П .
Л.
Лаврова.
Вы п.
1.
Пг.,
1921.
С.
87.
См.
также:
А нтон ов
В.
Ф.
Ранний
Лавров
в
освободительной
борьбе//Освободительное
движение
в
Ро ссии .
Вы п.
4.
С арат ов , 1975.
С.
3—18;
Итен бе рг
Б.
С.
Н.
Г.
Чернышевский
и
П.
Л.
Лавро в/ /Ч ерн ы шевски й
и
его
эпоха.
С.
148—163.
В.
А.
Мысляков
пу тем
сопоставления
печатных
и
архив
ных
до ку мен тов
установил,
что
в
ф еврал е- март е
1865 г.
Лавров
п редлаг ал
Лит
фонду
т ребоват ь
от
царя
освобождения
Чернышевского
и
что
6 марта пра
вление
Литфонда
отвергло
его
предложение.
(См.:
Р ус ская
л итер атура.
1980.
No
1.
С.
147).
44 <Б.
п.>
Предисловие
от
редакции//Вперед!
Цюрих,
1874.
Т.
II.
С.
251, 250.
45 Дело Чернышевского .
С.
341.
46 ТахМ же.
С.
264—265.
47 Там же.
С.
386—387.
48 Там же.
С.
264—265.
49ЛемкеМ.
К.
Политические
п роц ессы
М.
Л.
Михайлова,
Д.
И.
Писа
р ева
и
Н.
Г.
Чернышевского.
С Пб. , 1906.
С.
256.
50 Чернышевская Н .
М.
Ука з.
соч.
С.
331.
51 Дело Чернышевского .
С.
22.
52 Тынянов Ю .
Н.
Достоевский
и
Го голь
(к теории пародии)//Поэтика.
История
литературы.
Кин о.
М., 1977.
С . ,211.
53 Достоевский Ф.
М.
Письмо
к
Н.
Н.
Страхову
от
26 февр.
1869 г.//Достоевский
Ф.
М.
П исьм а:
В
4т.
М.;
Л ., 1928—1959.
Т.
2. 1930.
С.
169—170.
54 О некоторых комических (ф анта сти ч еск их)
положениях
с м.:
Ефи
мов а
3.
С.
Проблема
грот ес ка
в
творчестве
До ст оевско го/ /Н аучн ые
записки
к афед ры
истор ии
европейской
литературы.
Днепропетровск,
1927.
Вы п.
2.
С.
164.— Т о чка
зрения
Ефимовой
р азви та
в
статье:
Сафиулин
Я-
Г.,
Мазина
Л.
М.
Э.
По
и
Достоевский//Романтизм
и
ре а лизм
в
литературном
взаимодействии.
Казан ь, 1982.
С.
48—57.
А.
ФЕИЕР
ПРОБЛЕМЫ
ПОЭТИКИ
РУССКОГО
РОМ АНА
ВТ ОРОЙ
ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА
В
настоящей
статье
мы
не
отделяем
д руг
от
друга
разные
уровни
произведения
и
не
иссле ду ем
их
как
обособленные
пла
сты
некоего
описываемого
феномена
в
свете
подсказанных
фен о
мено л ог ией
критических
о г рани чений.
Мы
убеждены,
что
о тдел ь
ные
явле ни я
в
ис то рии
раз вит ия
мыс ли,
отдельные
осмысленные
тексты
в
конечном
итоге
не
имеют
качества
предметности
(точ
не е,
реализующая
их
предметность
не
относится
к
их
сущности).
В
невещественных
по
св оей
природе,
идейных
произведениях
раскрывается
не
сама
непосредственная
действительность
как
неаутентичное
бытие,
а
запрос
человека,
направленный
на
пре
вращение
бытия
в
нечто
ау тен тич ное,
программа
аутентичного
по в еде ния,
приуроченная
к
запечатленному
в
про изве де нищсо -
с то янию
проблем,
которые
выдвинуты
историей
развития
мысли.
Отделение
зап ро са
на
аутентичность
и
аутентичного
поведения
от
неаутентичности
бытия,
интерпретация
той
или
ино й
истори
ческой
фор мы
аутентичного
поведения
—
«веры»
или
«идеи», на
шедших
выражение
в
определенных
текстах,—
могут
бы ть
осу
ществлены
п ото му,
что
в
формировании
идеи
(в отличие от иде
ал истиче ско г о
пр ед с та вления
об
идее,
существующей
от вл еченно
от
пространства
и
времени)
мы
признаем
роль
опыта
бытия,
независимого
от
интеллекта,
приур оч е нног о
к
конкретному
месту
и
времени
в
истории
раз вит ия
мыс ли.
Опыт
бытия,
а
также
описание
исторической
роли
иде й
дел ают
возможным
выход
из
г ер мене втическо г о
круга,
позволяют
полностью
раскрыть
досто
вер ный
смысл
те кс та.
Ср еди
вопросов
поэтики
романа
второй
пол о вины
XIX в.
представляется
необходимым
прежде
всего
проанализировать
содержание
и
пр и мен ение
термина
«реализм».
Определение
«реалистический»
в
с вязи
с
«большим»
романом
содержательно,
оно
обозначает
действительные
особенности
поэтики
произве
дения.
Однако
нел ьзя
ск азать,
что
термин
«реализм», много
значный
и
неточный,
б езу преч но
со о тветс тву ет
той
роли,
к ото
рая
ему
отводится.
Несмотря
на
философско-эстетическое
по
ни ма ние
определения
«реалистический», чаще всего выдвигае
мое
на
первый
план,
нельзя
з абыв ать
о
том,
что
оно
имеет
и
©А.
Фейер, 1992.
232
значен ие,
отн осяще еся
к
поэтике,
и
ук азы вает ,
если
иметь
в
ви ду
роман,
на
то,
что
данное
произведение,
находясь
на
низ
шем
уровне
в
кл ас си ци стическо й
и ерархи и
жанров,
в
от лич ие
от
произведений
более
высокого
сти ля,
вы р ажающ их
и деа ль
ные,
духовные
устремления,
обращает
внимание
на
зависимость
человека
от
обстоятельств.
Нельзя
сказ ат ь,
что
так
по нята я
р еа
листическая
проза
стоит
вне
аристократической
по
своей
иерар
хи чнос ти
кл асс ици стическо й
системы
поэтики
и
отражает
како й-
то
ин ой,
«плебейский»
взгляд
на
вещи.
Носители
кл ассиц и
стического
взгляда,
для
которых
пр ив лекател ь на
любая
при чуд
ливость,
считают
падение
героя
приключенческого
романа
аб
солютно
п рав омерн ым
феноменом
человеческого
бытия
и
вовс е
не
отказываются
от
того ,
чтобы
представить
сознательного
но
сителя
идеальных
устремлений
в
положении
жал ком ,
унизи
тельном.
Классицистическому
представлению
о
мире,
прини
ма юще му
и
ужасные
«провалы», и головокружительные успехи
героя,
чуждо
лиш ь
нарушающее
иерархический
п оряд ок
в оз
в едени е
в
норму
движе ни я
между
вер хни м
и
нижним
по люс ом,
возведение
в
принцип
поэ тик и
со един ен ия
двух
полюсов
(интел
лектуального
и
житейского).
Х отя
такой
запрос
и
по являе тс я
в
классическом
английском
романе
XVIII в. ,
од нако ,
подчерки
вая,
с
од ной
стороны,
временную,
воспитательную
роль
погру
жения
героя
«на дно», а с другой стороны,
желая
непременно
обеспечить
для
героя
в озмо жн ость
во звра ще ния
к
идеальным
ценностям,
эти
произведения
не
нарушают
обязательных
для
своего
времени
норм
по эт ики.
Романтизм,
по-своему
соединяю
щий
полюса
действительности
и
ид еала,
восстает
против
иерар
хических
ограничений,
и,
от рица я
классицистические
пр едс тав
ления,
ищет
однородного
объяснения
вещей.
Однако
односто
ронняя
спиритуализация
жизненных
вопросов
уводит
романти
ков
от
ими
самими
поставленной
цели,
и
в
первой
тр ети
XIX в.
кла ссици стич ес кий
подход,
исследующий
противоречия
со
спо
койной
бес пр истр ас тно сть ю,
проявляет
се бя
параллельно
с
ро
ма нтичес ким
как
ал ьт ер нат ива,
уравновешивающая
романтиче
ск ую
субъективизацию
проблем.
Лишь
складывающийся
в
се
редине
ве ка
монистический
роман
со з дает
предпосылки
для
со еди нени я
романтического
субъективного
запроса
и
кла сси
цистического
взгляда,
свободного
от
субъективной
п редв зя
тости.
Вв иду
исторической
преемственности
романного
жанра
опре
деление
«реалистический», в применении к поэтике,
м ожно
от
не сти
к
монистическому
большому
ром ан у,
так
как
он
признает
—
хотя
теперь
уже
на
равных
правах
с
идеальными
устремле
ниям и—
объективную
детерминированность
человека.
Од нако
с
тех
пор
как
романтизм
восстал
против
всякого
окостенения
жизни
и
мысли,
складывалось
(а ко времени возникновения мо
нистического
романа
уже
сложилось)
тако е
ф илос офс ко- э сте
тическое
понимание
реализма,
согласно
которому
р еалист и че
233
ское
произведение
должно
с чита ть
своей
з адач ей
не
поиск
идеально
сконструированных
фо рм
и
решений,
а
ра с кры тие,
показ,
демонстрацию
органически
воспринятой
д е йствите льно
ст и.
Если
прежним
представлениям
о
реа ли зме,
характерным
для
XVIII в. ,
сопутствует
субстанциальное
мышление,
в
свете
которого
все
п рев ратнос ти
человеческой
жизни
не
касаются
ид еа льно го
яд ра
человека,
не
влияют
на
его
духовно-душевную
цельность,
и
потому
исследованию
связей
между
экзистенциаль
ной
и
интеллектуальной
сферами
не
придается
решающего
значения,
то
другому,
внушенному
романтизмом,
взгляду
соот
ветствует
по лярн ое
(диалектическое)
мышление
немецкой
клас
сической
ф ил о со фии , «двуголосость» «большого»
романа
озн а
чает
одновременную
правомерность
двух
эти х
способов
мышле
ния ,
переходное
равновесие
между
кл а сси ческой
и
роман
тической
точками
зре ния.
Пон яти е
«реализм»
у
Г.
Лукача,
например,
раскрывается
прежде
всего
под
знаком
философской
эстетики,
п редпо л агая
в
а нализ иру емо м
произведении
отражение
действительности,
предопределенной
о р ган ическими
(диалектическими)
законами.
Но
ощ ущ ение
ос обой
ро ли
«большого»
романа
второй
поло
ви ны
XIX в.
с
точки
зрения
ис то рии
развития
мысли,
а
также
о щу щение
многосложности,
проявляющейся
в
эт ом
жанре ,
за
став ляет
Л ука ча,
введя
понятие
«большой реализм», отделить
по няти е
«большой»
роман ,
широ к ая
ко мпо зиц ия
которого
п озво
ляе т
показать
уравновешенность
философского
и
поэтического
восприятия
действительности,
от
произведений,
копирующих
действительность,
толкующих
ее
как
деградирующе
действую
щую
на
человека
и
в
то
же
время
имеющую
универсальную
значимость,
объективную
данность.
Лу кач
отделяет
реализм
от
натурализма,
от
натуралистической
прог рам мы.
Вопрос
о
т ом,
на с колько
правомерна
данная
им
не га тивна я
оценка
натура
лизма,
как ова
д ей ствите ль ная
эстетическая
и
историческая
цен
нос ть
натурализма,
мы
оставляем
в
стороне,
но
полагаем,
что
с
точки
зрения
зн ачимо с ти
существует
определенное
различие
между
«большим»
роман ом
и
натурализмом,
во
м ногом
неспр а
ве дл иво
зачисленным
Лукачем
в
разряд
кризисных
явлений.
Пр озор ливо
признавший
особ ую
роль
романа
второй
по ло вины
XIX века Лукач,
не
имея
в
своем
распоряжении
сре дст в
для
то чно го
описания
исторического
процесса
развития
мыс ли
и
поэтому
абсолютизируя
эту
роль,
пос тав ил
перед
«декадент
ским»
настоящим
(разумеется,
кр айне
упр оща я
проблему)
как
пример
для
подражания
идеал
«большого»
романа,
п ре вр ащен
ный
им
в
догму.
Огл яды вая сь
на
прошлое,
Лукач
находит,
что
классический
английский
роман,
например,
в
пол ной
мере
от ве
ча ет
требованиям
«большого реализма», т .
е.
в
определенной
мере
критик
рас суж дал
неисторично
и
непоследовательно,
ви дя
особенности,
характерные
для
романа
второй
половины
XIX в.,
уже
в
XVIII столетии.
Но
как
бы
ни
был
глух
Лу кач
к
лите
234
ратурно-художественным
явле ниям
рубежа
веков
и
нашего
вре
мени,
его
бесспорной
заслугой
яв ляет ся
то,
что
он,
не
считаясь
со
вкусом
времени,
склонным
преувеличивать
значение
н овых
явлений,
ч асто
оставаясь
в
одиночестве
среди
критиков
своего
уро вня ,
отстаивал
ту
вполне
правомерную
(хотя позитивно им
не
сформулированную)
точку
зрения,
согласно
которой
роман
второй
половины
XIX в.,
бер у щий
на
с ебя
зада чу
формирова
ния
идейной
по зиции
и
одновременно
сохраняющий
требование
гуманистической
универсальности
мышления,
до
сих
пор
остается
для
нас
непревзойденным
образцом.
Другим
краеугольным
камнем,
на
котором
строится
концеп
ция
«большого»
романа
у
Л ук ача,
яв ляется
отмеченная
им
«рево
люционность»
творчества
Толстого
и
Дост оев ског о,
в
своей
сущности,
как
он
полагал,
подготавливающего
р е волю цию.
В
связи
с
этим,
согласно
его
мнению,
р усск ий
роман
второй
по
ловины
XIX в.
з ан имает
совершенно
особое
место
по
сравнению
с
другими
подобными
европейскими
явлениями.
Если
п он ятие
«большой реализм»
б ыло
призвано
служить
глав н ым
образом
тому,
чт обы
обоз на чить
место
романа
второй
по л овины
XIX в.
в
пр о цессе
развития
жанра,
то
мысль
о
ре
волюционности
творчества
русских
писателей
имела
целью
п ро
л ить
с вет
на
первостепенную
роль
русского
романа
этого
пе
ри ода
в
истории
всей
литературы
нового
времени,
чтобы
кр и
т ика
мог ла
поставить
Толстого
и
Дос тоев ског о,
как
создателей
«большого»
романа,
в
один
ряд
с
Гет е
и
Шекспир о м .
Язык
со
цио ло гии,
как
правило,
непр иго д ен
для
интерпретации
худ оже
ственных
произведений.
Но
у
Лукача,
о к азав шись
исторически
плодотворным,
приводит
иногда
к
мучительным
осложнениям.
Так,
например,
в
отличие
от
эпо хи
Ше к спира
или
Толстого,
в
эпоху
Гете
в
Герм ан ии
не
б ыло
такой
«революции» (или ре
волю ционн ой
сит у аци и),
которую
можно
б ыло
бы
мыс л енно
связать
с
творчеством
писателя.
Между
тем
Гете
ра ссм атр и
вает ся
как
один
из
титан о в
«большого реализма» .
Однако
воз
нагр аж дением
за
подобные
ошибки
служит
то,
что
привлече
нием
социологического
в згл яда
на
в ещи
Лукачу
удалось
пре
одолеть
ограниченность
спиритуализма,
выйти
из
его
проблема
тики,
движущейся
в
замкнутом,
идеальном
пространстве,
и
на
мгновение
об на жить
ту
истину,
что
гуманистическая
проблема
т ика
ис кусс тва,
как
об
этом
свидетельствуют
самые
значитель
ные
художественные
произведения
послеренессансной
эпо хи,
в
св оей
сущности
о тк рыта
и
что
ощущаемый
по
временам
опы т
эт ой
открытости,
нерешенности
проблем
жизни
и
сознания,
при
отсутствии
гр аниц
определенных,
им ею щих
силу
решений,
всегда
таи т
в
себ е
в озмо жно сть
катастрофы,
ее
опасность.
Ве р
не е,
в
определенных
положениях,
при
определенных
условиях
ощущение
катастрофы
должно
считаться
с
точки
зрения
исто
рии
развития
мысли
неизбежным,
об яза те льным .
235
Р еа лизм
создателей
русского
классического
романа
в
кон
цепции
Лукача
оз н ачал
одновременно
с
потребностью
выхода
из
зам кн уто го
идеалистического
представления
о
мире,
так же
и
оп ыт
признания
главенства
общественной
практики,
господ
ствующей
над
индивидуальной
сферой
массового
бытия.
Про
тиворечивость
же
таким
об ра зом
созданного
Лукачем
п он ятия
«реализм»
вытекает
из
философско-эстетических
о гр аничен ий
и
из
присущей
мышлению
Лукача
умозрительности.
Практику,
эту
сферу
б езл ично го
человеческого
бытия,
Лукач ,
по дчин яяс ь
принуждению
инте лле кт а,
определяет
как
«объективную реаль
н ост ь», и вместо того,
чтоб ы
сделать
необходимые
выводы
из
неаутентичности
бытия,
из
относительности
роли
интеллекта,
он,
не
желая
отк азать ся
от
запроса
гуманистической
универсаль
ности,
вводит
в
т ео р етическ ое
мышление
эсхатологический
мо
мент,
провозглашая
«революционную»
борьбу
про тив
практики
этого
неаутентичного
бытия.
После
этого
не
приходится
у див
ляться,
что
его
понятие
«реализм»
становится
формальным.
От
чаян но
борясь
с
«плоско»
к опиру ющ им
действительность
нату
ра лизм ом
(при этом преувеличивая опасность),
он
сам
не
вольно
в
определенной
мере
распространяет
натуралистические
пре д ст а вления
на
назва нных
им
реалистами
Шекспира
и
Г ете.
И,
наконец,
сущ ест венным
слагаемым
к онце пции
«большого
реал и зма»
у
Лукача
я вляется
сближение
им
романа
второй
пол ов ины
XIX в.
в
его
самых
значительных
об разца х
(имеются
в
ви ду
романы
Толстого
и
Достоевского)
с
перв ост епенным и
достижениями
гуманизма
Нового
времени
и,
одновременно,
взгляд
на
эти х
писателей
как
на
по след них
пол ноц енных
пред
ставителей
благородной
литературной
традиции.
Но
ит ого вос ть
русского
романа,
как
этого
и
следовало
ожидать,
Лукач
объяс
ня ет
исключительно
социологически,
и
в
соответствии
с
за н имае
мой
им
позицией
говорит,
имея
в
в иду
современное
ему
на
ст оящ ее,
об
«измене»
гуманистическому
наследию.
Кр и тик,
стоя
щий
на
позициях
ин т елле кту ал изма,
несмотря
на
человеческую
п рав омернос ть
представляемых
им
запросов,
не
по ни мает
про
и зо шедшег о
в
истории
развития
мысли
переворота.
Лу кач
не
способен
увидеть,
что
мышление,
признавшее
роль
практики,
но
не
осознавшее
традицию
как
опыт
бытия,
пока
еще
действи
тельно
не
имеет
в озможн ост и
пр едстав лят ь
полноту
гум анизм а,
реа лиза ци я
этого
запроса
возможна
лишь
пут ем
волюнтари
стическим.
Характерной
европейской
традицией
яв ляется
предположе
ние
об
о смысл ен ност и
индивидуального
существования,
о
бе з
ус л овной
способности
индивидуума
б ыть
носителем
гуманной
проблематики
в
целом.
В
XVII и XVIII вв .,
когда
в
Европе
ве
дущую
роль
играли
фра нцу зск ие
и
английские
мыслители,
ка ж
дый
человек,
в
соответствии
с
субстанциальной
к онце пцие й
мышления,
считался
в
пр инципе
индивидуумом,
каж дый
чело
век,
в
соответствии
с
актуальными
ф орма ми
критического
мы
236
шления,
считался
обладающим
способностью
пр евра тит ь
с вое
существование
в
осмысленное,
полное.
Субстанциональным
п од
ходом
к
проблемам
объясняется
тот
факт,
что
ведущим
жа н
ром
классицизма
была
трагедия,
что
в
то
время
именно
т ра
гедия
ста ла
выразителем
программы
гуманистической
у ниве р
сальности.
Ведь
согласно
за кона м
трагедии,
для
того,
кто
поднимается
на
трагические
высоты,
житейские
проб ле мы
не
ре
альны,
так
как
трагический
ко нфли кт
по
своей
сути
вклю ча ет
в
с ебя
целиком
всю
гуманную
проблематику,
а
трагический
ге
рой
представляет
человечество
в
целом.
Немецк ая
класс ика
в
духе
свой ственн ой
ей
диалект и ки
наделяет
индивидуальными
способностями
к
превращению
существования
в
осмысленное
лиш ь
ограниченное
чис ло
избранных.
Эти
лю ди
иду т
к
цели,
по
гружаясь
в
жизнь,
следуя
ее
путями
и
входя
в
значимое
для
их
развития
и
самоосуществления
соприкосновение
с
другими,
в овсе
не
трагически
настроенными,
лю дь ми.
Немецкое
мышле
ние
не
б ла гопр иятс твуе т
строгим
жа нр овым
формам
трагедии,
но
герои
немецкой
классики
все
же
являются
пол ноц е нными
представителями
трагической
проблематики,
так
как
согласно
классицистическому
взгляду,
герой,
движимый
идеальными
устремлениями,
может
переходить
границу
между
интеллекту
альной
и
житейской
сферами
по
св оей
и ниц иати ве,
в
и збран
ный
им
момент
и
в
пр изнава ем ой
им
мере.
Он
может,
таким
образом,
без
ущерба
для
своей
духовно-душевной
цельности
погр ужа тьс я
в
жизненный
поток,
который
обычно
нивелирует
человека.
Согласно
демократическим,
по
сравнению
с
кла сс и
цизмом,
пре д ст авле ниям
роман ти ков
гр а ница
между
идеалом
и
действительностью
проходит
не
между
двумя
категориями
людей,
не
между
теми,
кто
пр изва н
к
духовному
руководству,
и
теми,
кто
ему
п одчин яется ,
а
внутри
личности
каж до го
че ло
века ,
и
потому
романтики,
стремясь
придать
значительность
личности,
которой
постоянно
угрожает
оп асност ь
бессмыслен
н ого
духовного
и
душевного
распада,
никогда
не
переживают
дейс твите л ьн ой
трагической
проблематики
человеческого
су
ществования.
То,
что
пер ежив ает
романтик,
ес ть
не
более,
чем
ч аст ная
драма
его
собственного
ущемленного
действитель
ностью
су щес тва.
Мо нист ич еск ий
большой
роман,
родившийся
всле д
за
крушением
прежнего
дуалистического
представления
о
мире,
с
одной
стороны,
под об но
классицистическому
роману,
стремится
представить
гуманную
проблематику
в
целом,
а
с
др у
гой
стороны,
в
определенной
мер е
присоединяясь
к
д ем ократи
ческому
зап росу,
выр аж енном у
романтизмом,
пытается
действи
тельно
осуществить
при нцип,
согласно
которому
каждый
чело
век
может
бы ть
носителем
т раг ич еског о.
Зн ачени е
романа
второй
половины
XIX в.
в
ис то рии
развития
мысли
заключается
в
т ом,
что,
применяя
аналитический
метод,
он
по две рга ет
кр ити ческо му
испы танию
убеждение,
согласно
которому
существование
инди
видуума
безусловно
осм ысл енн о,
подвергает
испыт анию
тот
при
237
сущий
европейской
культуре
о пыт
бытия,
который
до
сих
пор
счи т ался
некой
метафизической
реалией
—
и
т аким
об ра зом
по дг от авл ивает
произошедшее
в
XX в.
крушение
метафизически
обоснованного
личностного
представления
о
мире.
Тот
фа кт,
что
роман
второй
пол о вины
XIX в.
начинает
заме
щать
трагедию,
может
бы ть
о смы слен
как
эм анс ипация
ро
ма нно го
жанра.
Роман,
обнаруживший
инт ер ес
к
ярким
при
кл юче ни ям,
з а пут анным
и
сложным
интригам,
удовлетворяю
щий
элементарную
жаж ду
впечатлений
или
преследующий
вос
питательные
цели,
по
традиции
сос ред оточив ал
свое
внимание
на
в оп росах
житейского
ха рак тера.
Обычно
определяемый
как
«проза», роман в эпоху романтизма,
не
изм еня я
этой
своей
на
правленности,
становится
открытым
для
интеллекта,
вбирает
в
себя
определенные
поэтические
качества
и
в
результате
по
вышается
в
ранге.
Однако
романтизм,
который,
как
известно,
ратов а л
за
ослабление
кано н ов
поэтики
классицизма,
в
конеч
ном
итоге
не
отменил
пр еж нюю
строгую
ие рархи ю
жа нр ов.
Примечательно,
что
эле гия
и
песня ,
строй
и
проблематика
ко
торых
стали
определяющими
для
нового
субъективного
романа,
все
еще
считались
второстепенными
жанрами
по
сравнению
с
одой,
трагедией
или
эпос о м.
Вместе
с
тем
житейская
сфе ра
играла
подчиненную
ро ль
по
сравнению
с
интеллектуальной
в
дуалистической
к о нцепции,
стремящейся
с пирит уал изирова т ь
гуманный
фе ном ен
в
целом.
Приведем
л ишь
два
наиболее
по
казательных
примера:
как
бы
ни
был
важен
в
творчестве
Гет е
или
Пушкина
прозаический
роман,
эти
писатели,
не
ж елающ ие
ограничиться
л ишь
личной
сферой,
с вои
самые
сокровенные
мысли
выражают
в
поэтических
жа нра х,
хотя
и
в
прозаиче
ских
произведениях
эт ой
эпо хи
«сырые»
проявления
жизни
уже
в
определенной
степени
облагораживаются.
А
вот
формирую
щийс я
в
сер еди не
XIX в.
«большой»
рома н
играет
особую
роль
потому,
что
его
создатели
бер у тся
за
изображение
т ого,
что
прежде
относилось
к
сфере
тра ги чес кого
или
эпического,
осу
щест вля я
это
изображение
присущими
прозе
средствами.
Историческое
значение
«большого»
романа
не
может
бы ть
поколеблено
тем
фактом,
что
гораздо
ра ньше
се реди ны
XIX в.
Ра бле
и
Сервантес
создали
первостепенные
по
зна ч ению
романы,
охва тыва ю щие
всю
гуманную
проблематику.
Дело
в
том,
что
их
романы
еще
не
брали
на
се бя
стабильное
выполнение
задач
эпики,
трагики.
Эти
чужд ые
роману
за дачи
лишь
вр ем енно
в ста вали
перед
ним
в
неожиданно
создавшемся
кризисном
по
ложении,
и
потому
их
гротескный,
сатир и ческий
тон
опосредо
ванно
означал
потребность
в
восстановлении
по доб ной
прежней
сис тем ы
ценностей,
знаменовал
хара кте р
сложившегося
поло
жения.
Вбирающий
в
себ я
качества
трагедии
«большой»
роман
XIX в., разумеется,
не
трагедия.
Самое
глубо ко е
р аз личие
между
двум я
жа н рами
заключается
в
том,
что,
по
сравнению
с
героем
238
трагедии,
гл авный
герой
«большого»
романа
с
его
катастрофи
чес кой
судьбой
не
являетс я
тем,
с
кем
свя зан о
пер е жива ние
ка
тарсиса.
Если
стержнем
всей
композиции
«большого»
романа,
как
и
в
трагедии,
яв ляе тся
широкоохватная
программа
гум а ни
стической
универсальности,
то
са ми
изображенные
в
романе
персонажи
оказываются
в
целом
неспособными
представлять
эту
п рогр ам му.
Действующие
ли ца
в
«большом»
романе,
не
смотря
на
предъявляемые
ими
к
сам им
се бе
требования,
ос та
ются
внутри
той
измельчающей,
принижающей
их
желания
и
намерения
частной
сферы,
которая
яв ля ется
со
времен
роман
тиз ма
уделом
человека,
счи тающег о
се бя
равным
со
всеми
д руги ми
людьми.
Герой
романа,
отвергающий
роман ти ческое
самоутешение,
но
в
то
же
время
не
ви дящи й
в озмож нос ти
исполнять
гуманистические
зада чи,
нивелированный
под об но
друг им ,
не
только
неспособен
под
ударами
судьбы
осмыслить
свое
положение,
но
его
самым
глубоким
переживанием
стано
витс я
ощущение
бессмысленности
человеческого
существования.
В
«Анне Карениной»
тем нота ,
обступающая
героиню,
когда
«догорает свеча», темнота,
символизирующая
ее
духовно-душев
ную
гибель,
более
черна,
безысходна
и
бессмы с лен на,
чем
то
молчание,
которое
сопровождает
гибель
Гам лет а.
Это
тайное
многозначительное
мол ча ние
есть,
как
его
называет
Люсьен
Гольдман,
цитируя
Пас каля,
мол ча ние
«скрывающегося Бога»,
который
в
любой
момент
может
за го вори ть1.
Ть ма
же,
погло
щающая
Анну,
соответствует
впечатляющей
к а ртине
«смерти
Б ога », нарисованной Ф.
Ницше.
Однако,
в
противовес
бессмыс
ленной
сит у ации,
изображаемой
в
«большом»
романе,
в
п ро
тивовес
катастрофической
судьбе
героя,
с ама
ко мпо зиц ия
ро
мана,
его
структурированное
эстетическое
целое
все
же
дае т
читателю
все
необходимое
для
катарсического
переживания.
Са мая
п ок азате льн ая
особенность
включающего
в
се бя
траги
ческое
содержание
романа
второй
половины
XIX в.,
отличаю
щая
его
от
трагедии,
закл юч ает ся
име нно
в
таком
разделении
точек
зрения
героя
и
читателя.
Для
романа
второй
пол ов ины
XIX в.
характерна
тенд енц ия
рационализирования
человеческого
феномена.
Е сли
в
жа нра х,
соответствующих
нормам
более
высоких
ст ил ей,
последний
во
пр ос
человеческого
бытия
—
уравновешивание
отношений
между
ин т еллек том
и
традицией
—
считался
«тайной», представлялся
не
поддающимся
анали з у,
и
такое
положение
вещей
отра жалось
в
искусственных
жанровых
ог ран и чени ях,
то
создатель
«боль
шо го»
романа
чувствует
себ я
призванным
максимально
выявить
смы сл оос уществ л яющ ую
способность
интеллекта
и,
безусловно
вер я
в
такую
его
роль,
стремится
ориентироваться
с
пом ощ ью
аналитического
метода
во
в сех
самы х
с ложн ых
вопросах
чело
веческого
бытия.
Р оман
второй
половины
XIX в.
ос мыс лял
такую
полноту
ориентации
как
со един ен ие
субъективной
и
объективной
точек
зре ния.
Стремясь
превзойти
достижения
ро
239
манной
прозы
первой
половины
ве ка,
уже
проникнутой
анали
тическим
духом
—
либо
до
предела
самораскрывающейся,
испо
ведальной,
л ибо
подчеркнуто
беспристрастно
обращающейся
с
темой
«объективной»
—
роман
второй
половины
века ,
ставя
перед
соб ой
задачу
преодолеть
односторонность,
стремился
до
стичь
совершенного
равновесия
этих
дв ух
точек
зрения:
по ка
зать
героев
и
события
одновременно
и
«снаружи»
и
«изнутри».
Одной
из
самых
примечательных
особенностей
сложно
ст рук ту
риров ан ной
поэтики
романа
второй
по ло вины
XIX в.
яв ляе тся
иллюзия
объективности
—
способ
изложения,
сохраняющий
ви
ди м ость
незаинтересованности
и
в
то
же
в ремя
позволяющий
включать
в
авторское
повествование
субъективное
содержание,
отн осящ ееся
к
со зн анию
героя.
Это
способ
из ло жения ,
который
открывает
возможность
все
осветить,
все
аналитически
учесть.
Он-то
и
со зд ает
впечатление,
будто
авт ор
все
знает,
обладает
неограниченной
к ом пет енцией.
О
то м,
что
это
всезнание
автора
не
яв ляетс я
настоящим,
свидетельствует,
одн ак о,
катастрофа
героя,
изображенная
как
непостижимо
бессмысленная.
Но
пр и
нятие
ил лю зии
вс е знания
не
бес пол езно :
та ким
образом
откры
вается
в озмож ность
почувствовать
границы
того
в згл яда
на
вещи ,
который
выдает
себ я
за
безусловный.
П ос кольку
понима
ние
относительности
в озмож носте й
интеллекта,
условности
его
смыслоосуществляющей
роли
ст авит
предел
аналитическому
исследованию
жизненных
вопросов,
поразительное
«сооружение»
«большого»
романа
парадоксальным
образом
становится
совер
шенным
именно
за
счет
аналитического
вы явле ния
этого
пре
де ла.
В
этом,
как
мы
полагаем,
сле ду ет
видеть
значение
«боль
шого»
романа
в
истории
литературы.
В
ру сск ом
романе
второй
по ло вины
XIX в.
роль
посредника
между
катастрофическими
по
своему
хара ктеру
фа ктам и
жизни
и
художественным
целым
структуры
текста,
о тв еча ющей
требо
ваниям
к ата рсиса ,
выполняют
пов торяющи ес я
мотивы
(напри
мер,
мотивы
«бездны»
и
«свечи»
в
«Анне Карениной»), пре
красно
вписывающиеся
в
ткань
непосредственного
изображения,
и
в
то
же
вре мя
получающие
большую
смысловую
нагрузку,
хотя
и
без
сознательных
усилий
со
стороны
автора.
Эти
мотивы
никогда
не
пр етен ду ют
на
то,
чтобы
читатель
зам ет ил
их
осо
бое
место,
их
повторяемость.
Им
вряд
ли
во зм ожно
придавать
по-настоящему
символическое
зна чени е,
и
со
стороны
читателя
было
бы
излишне
так
воспринимать
их.
Их
формирование
и
упорядочение
в
авторском
повествовании
происходит
абсолютно
спонтанно,
и
если
все
же
и
можно
заметить,
что
в
процессе
ав
торской
работы
над
текстом
происходит
их
систематизация,
то
прич иной
тому
яв ляе тся
вовс е
не
искусная
и гра
словами,
а
по
ст епенн ое
нащупывание
ко нцеп ции
романа
как
целого,
поиск
адек ват ны х
ср едств
для
ее
выражения,
поис к
соподчиненности
проблем,
мыслей
и
слов,
делающий
ощутимым
порядок,
к ото
рый
скрывается
за
кажущейся
пестротой.
На
действительную
240
сущность
таких
мотивов
нам
удаст ся
пролить
свет
в
том
сл учае ,
если
мы
увидим
в
них
реализацию
таких
нераскрытых
вт ори ч
ных
значений,
которые
авторское
повествование
предпочитает,
не
умалчивая
о
них
вовсе,
все
же
скрыть.
Если
в
тех
произ
ведениях,
в
которых
лишь
ф ормируе тся
ко м поз ицио нный
прин
цип
«большого»
романа
(у Толстого это произведения,
п ред
шествующие
роману
«Анна Каренина»), где из- за
о тсу тств ия
твердых
композиционных
рамок
ид ет
процесс
сл ишко м
скру
пулезного
ан али за
проблем
и
самоцельно
тщательного
и зобра
жения
подробностей,
что
свидетельствует
об
определенной
наив но ст и,
то
в
романе
«Анна Каренина»
каждый
момент
пове
ствования
в
сущности
им еет
означенное
мотив а ми
второе
зна
чение,
убедительно
свидетельствующее
об
организованности
ма
териала,
о
его
самодвижении.
Так
обогащенный
текст
по
своей
мотивной
завершенности
конкурирует
с
оформленностью
лириче
ского
прои зв еден и я.
Но
именно
конкурирует,
а
не
уподобля
етс я
лирике.
Создатели
неоромантического
ром а на,
считая
устремления
своих
великих
пр ед шеств енни ков
изжитыми,
пы
таются,
устранив
эпические
элементы,
вно вь
лиризовать
роман
ный
жанр;
создатели
же
романа
второй
половины
XIX в.,
несмотря
на
безусловные
иллюзии,
с
поразительным
размахом
стремятся
встроить
прозаически-эпические
начала,
сохранив
в
полной
ме ре
их
исконный
вес,
их
массивность,
в
по эт ическ и
зако нчен ну ю,
бесконечно
утонченную
композиционную
систему.
В
сф ере
авторского
повествования
мотивы
призваны
к
тому,
чтобы
сделать
ощутимым
предел
понятийного
вы раж ения
про
блем.
Символы
же
в
романах
Толстого
и
Достоевского
вып ол
няют
ту
же
роль
по
отношению
к
г ероям,
к
их
изображенным
в
произведении
сознаниям.
В
то
вре мя
как
в
соответствии
с
по
з ицией
всезнающего
повествователя
г ран ица
между
раскрытыми
и
не раск рыты ми ,
непосредственно
на зва нным и
и
мот ивно
озна
че нны ми
качествами
не
может
быть
осознанной,
и
авторское
намерение
никогда
не
в идит
в
ней
какого-либо
препятствия
для
своего
грандиозного
начинания,
психологизированные
сим во лы,
относящиеся
к
со зн анию
героев,
свидетельствуют
о
п роявл ен ии
какого-либо
находящегося
вне
личностных
возможностей,
сверх
личностного
фактора.
На
композиционный
пр инцип
русского
романа
второй
поло
вины
XIX в.
проливает
св ет
соед инени е
в
романе
«Анна Каре
нина»
дв ух
историй
—
истории
Ан ны
и
истории
Левина.
С
точки
зрения
роли
персонажей
или
романного
действия,
свя зь
ме жду
этими
двум я
историями
не
более
тесна,
чем
между
д вумя
лю
быми
частями
бальзаковской
«Человеческой комедии» .
Но
мы
должны
считать
компонентом
художественного
воздействия
такую
отдаленность
двух
линий
ро ма на,
д руг
другу
подчинен
ных
и
по
своему
эпическому
местоположению
зара нее
пре д по
лагающих
параллельность.
Толстой
выявляет
возможности,
т ая
щи еся
в
мотивной
завершенности
романа,
когда
намеренно
за
16 Заказ No 299
241
остряет
вопр ос
о
с вязи
между
двумя
историями
и
в
то
же
время
оставляет
его
загадочно
открытым.
Впечатление
за гад очно ст и,
если
смотреть
на
ве щи
с
точки
зрения
традиционных
читатель
ских
требований,
создается
за
счет
оттеснения
на
задний
пл ан
первичных
эпических
приемов.
Если
же
подходить
к
воп рос у
с
точки
зрения
н ов ого,
более
сложного
и
утонченного,
способа
построения
романа,
то
оно
создается
тем,
что
мотивные
намеки
не
превращаются
и
не
могут
превращаться
в
сознательные
фак
торы
п и сат ельс кого
или
читательского
видения.
Мы
имеем
зде сь
де ло
с
последовательной
системой:
с
од ной
стороны
пере
кличка
мо тив ов,
а
также
параллельность
образов
и
ситуаций
со еди няют
две
э пич ески
отдаленные
л инии
действия,
с
д ру
гой—
сама
загадочность,
рожда ющ аяся
из
непроясненности
мо тив ов,
не
нарушая
требования
загадочности,
помогает
почув
ствовать
их
действенность,
их
связующую
роль.
Если
счита ть,
что
х ар актер
художественного
произведения
(в отличие от произведений научных)
рождается
из
нер азр еш и
мости
поставленных
в
нем
вопросов
и
в
то
же
время
(в отли
чие
от
произведений
религиозного
характера)
из
переживания
полноты,
открывающейся
для
непосредственного
восприятия,
то
тща те льно
построенный
«большой»
роман
является
в
своем
идеальном
во пл о щении
примером
эстетически
со вер шенно го
до
стиж ени я.
Роман,
который
ли шь
по сле
своей
эмансипации
во
второй
половине
XIX в.
стал
по
своей
внутренней
сути
способным
со
отве тс тво ват ь
высшим
эс тетичес ким
запросам,
резко
обострил
проблему
эстетизма
и
уже
не
догматически
ма нифе стир ова л,
но
аналитически,
конкретно
по ка зал
демонизм
к расот ы,
не
зна ю
щей
своих
пределов.
Пока
классицистическая
иерархия
жан
ров
в
соответствии
с
нормативным
мышлением
ограничивала
изображение
пре крас ног о
определенными
норма ми
по эт ики,
проблематичность
красоты
ос тав алась
скрытой;
ког да
же
в
ре
зультате
пе рев орота,
совершенного
романтиками,
была
осознана
существенная
роль,
которую
играет
в
сфере
эстетического
изо
бр ажени я
жизненный
фак тор ,
скл ады вают ся
условия
для
разли
чения
художественной
полноты
и
гуманистической
универсаль
ности.
Таким
образом,
роман
второй
половины
XIX в.,
макси
мально
используя
все
в озможн ости
романного
жан ра,
не
толь ко
во
всей
по лно те
вос при ни мает
эс тетич е ский
подход
к
проблемам
жизни,
но
и
благодаря
своим
«прозаическим»
данным
стан о
вится
способным
к
тому,
чтоб ы
обна р уж ить
границы
художе
ственности,
т.
е.,
достигнув
максимального
эстетического
ре
зу льтата,
напр а вить
внимание
на
недоступные
для
эстетического
видения
человеческие
проблемы.
Лев
Толстой
как
самый
значительный
художник
эпохи
в
полной
мере
выявляет
в озможн ости
«большого»
романа.
Эт им
о бъ ясня ется
тот
факт,
что,
в
отличие
от
Флобера,
он
не
при
нимает
во
внимание
сомнительность
универсальной
действен
242
но сти
кат ар си са,
не
удовлетворяется
с по ко йным,
бес стра стн ым
показом
обесценивания
ценностей
и
совершенной
эстетической
обработкой
своего
произведения,
а,
перенапрягая
разум,
как
бы
пытается
применить
аналитический
метод
Флобера
к
м иру
«от
в ерж е нны х», сентиментально воспринятому Гюго.
По
сравнению
со
с д ер жанным
Флобером,
русский
писатель
пытается
достичь
невозможного.
Вместо
ра внов ес ия
ин телл ек
ту ал ьно
обработанной
поэтической
струк туры
он
ищет,
созн а
вая
кризис
ценностей,
истинных,
т.
е.
универсально
трагических
р ешений.
В
то
время,
как
Толстой
в
«Анне Карениной»
наивно,
упря мо
и
удивительно
последовательно
о т стаив ает
программу
универсального
зна че ния
гуманистической
иде и
крас оты ,
т.
е.,
говор я
инач е,
шиллеровскую,
гетевскую
программу
эстетиче
ского
воспитания,
Флобер
осторожно
и
разумно
считается
с
со
циально-историческим
опытом
XIX в.,
обнаружившим
утопизм
эт ой
прог ра ммы .
Русского
писат еля
его
упорство
приведет
в
дальнейшем
к
отрицанию
и скус ства ,
фр а нцузс кий
же
писатель
бу дет
вынужден
за
свою
покорность
требованиям
р ассу дка
за
платить
су жен ием
своего
мир а,
для
него,
в
конечном
счете
р аз
рушительным.
Парадоксальное
противостояние
мироощущений
Флобера
и
Толстого
объясняется
вну т ре нним
распадом
той
картины
мира,
которая
о рга низуе т
«большой»
роман.
С
од ной
стороны,
еще
вли яте льн о
пре д ста вле ние
о
безусловной
ценности
индивидуального
существования,
а
с
другой
уже
ощущается
на
опыте
необоснованность
этого
предположения.
Хотя
автор
«Анны Карениной»
стремится
к
максимальному
использованию
э стети че ских
воз можн осте й
романа
и
достигает
в
этом
стремлении
успеха,
все
же
о тсу тстви е,
катарсиса
в
судьбе
Анны,
обрисованной
как
трагическая,
делает
его
цел ь
несколько
сомнительной.
А
временами
наблюдаемое
социологически-сухое
или
хрон и ка льн о-п лос кое
обмельчание
левинской
истории,
при
званной
пролить
св ет
на
действенные
нормы
человеческого
су
ществования,
уже
едва
ли
не
п рямо
указывают
на
иллюзор
ность
поставленной
цели.
Недостатки
самого
совершенного
пр о
изведения
Толстого-художника
с
особой
п ла стично сть ю
дают
по
чувствовать,
что
между
проблемами
иску сс тв а,
науки
и
религии
нет
резкой
грани,
и
поэтому
воп ро сы
человеческого
бытия
не
им еют
чисто
художественного,
чисто
научного
или
чисто
религи
озного
решения.
Разочаровавшиеся
в
в озмож ности
сугубо
эс те
ти чески х
решений,
но
по- пре жне му
выдвигающие
требования
гуманистической
универсальности
создатели
романа
второй
по
ловины
XIX в.
—
Толстой,
Достоевский,
Тургенев
—
после
своих
лучших
ро ма нов
не
случайно
пишут
т акие
произведения,
в
ко
торых
они
не
ставят
исключительно
или
в
первую
очередь
ху до
жественных
целей.
Ставя
перед
со бой
прежде
всего
фил ос оф
ские
или
религиозные
задачи,
они
стремятся
ра зобрать с я
во
вс ем
комплексе
накопившихся
за
века
европейской
культ уры
и
настоятельно
требующих
освещения
проблем.
Это
явление
мо
16*
243
жно
вполне
по нять ,
если
иметь
в
виду,
что
такие
выдающиеся
мыслители
века,
как
Кьеркегор,
Ни цше
или
Вл.
Соловьев,
дв и
гая сь
в
противоположном
направлении,
приходят
к
сходным
результатам:
неудовлетворенность
философскими,
научными
ре
шениями
по бу ждает
их
обращаться
к
художественным
методам.
Такие
диалогические
по
своей
с ути
ре шен ия
вы зва ны
к
жизни,
с
одн ой
стороны,
невозможностью
непосредственного
с озерц а
ния
универсальной
гармонии,
красоты,
а
с
другой
стороны,
тем,
что
из-за
о тс утс твия
суждений,
обладающих
универсальной
зн а
чи мост ью,
все
звучащие
в
искусстве
утверждения
понижаются
в
своем
ранге,
о тн осятся
лишь
к
определенным
образом
мо
тивированным
персонажам,
а
также
не
в
последнюю
очередь
—
индивидуальным
поискам
истины,
отрицающим
всякий
догма
т изм.
Подобные
сочетания
си сте матиче ски
повторяются
в
евро
пейской
культуре
—
если
иметь
в
виду
произведения
Платона,
Лу киана,
Ни ко лая
К уза нског о,
Эразма
Роттердамского,
Воль
тера,
Дидро,
Руссо
—
с
самого
на чала
ее
существования.
Раз
ница
заключается
в
том,
что
только
во
второй
по ло вине
XIX в.
п о тряс ение
ос нов
поколебало
и
с по койную
ясность
фи лос офст
вующего
мудреца,
до
сих
пор
в
соответствии
со
своим
положе
ни ем
л ишь
улыбавшегося
при
в иде
беспокойства
обычного
сред
н его
человека.
Для
нас
самым
глав н ым
уроком,
извлеченным
из
собственно
философских
романов,
является
то,
что
ли те ра
турные
формы
в
них
не
воплощают
непосредственно
эстетиче
ско е
совершенство.
Художественное
совершенство
в
сф ере
по
сл едн их
вопросов
человеческого
бытия
достигается
за
счет
осо
бого
равновесия
ищу ще го
интеллекта
и
жизненной
традиции,
а
приемы
поэтики
являются
лиш ь
подчиненными
э стети ч еским
целям
средствами
формирования
и
показа
этого
равновесия,
т.
е.
своеобразным
тех нич еск им
э л ементо м.
При
этом
художе
ственные
приемы
не
обязательно
ведут
к
эстетическому
совер
шенству,
и
э стети ческо е
ка честв о
не
выводимо
непосредственно
из
поэтических
приемов,
не
сводимо
исключительно
к
ни м.
С тремл ен ие
к
гуманистической
универсальности
у
Толстого,
и
вообще
в
русском
романе
второй
половины
XIX в.,
связ ано
с
особенностями
русской
ку льт уры
и
пр олив ает
свет
на
насу щ
ные
проблемы
э той
кул ь туры
в
то
в ремя.
Следует
о тдел ить
культурно-историческую
обусловленность
гуманистической
про
граммы
«большого романа»
от
волюнтаристического
морализма.
Со вер шен но
очевидно,
что
Толстой,
под об но
другим
современ
ным
ему
ру сск им
романистам,
з ан имает
в ысок омор альн ую
по
зицию,
когда,
признав
ограниченность
эс тетич е ских
возможно
стей
и
не
боясь
вытекающих
из
это го
признания
конфликтов,
отстаивает,
казалось
бы,
поколебленную
э тим
открытием
пр о
грамму
гуманистического
универсализма.
Это
зн ачит,
что
с
эти
ческой
точки
зрения
можно
высоко
оце нит ь
стремление
автора
«Анны Карениной»
последовательно
включить
в
мир
пре крас
ного
все
сферы
человеческого
суще ств ован и я.
244
Во
французской
культуре,
которая
уже
раньше
нашла
метод
упорядочения
проблем,
вытекающих
из
относительности
иде й,
способ
регулирования
бесформенной
жизненной
практики,
про
грамма
гуманистической
универсальности,
сформулированная
на
вводящем
в
заблуждение
языке
интеллектуализма,
с
одн ой
стороны,
освобождается
от
катастрофических
противоречий,
а
с
другой
стороны,
неизбежно
мельчает
и,
в
противовес
своему
назначению,
несет
в
себе
не
универсальную
истину,
а
лиш ь
во з
можность
сохранения
вну т реннег о
равновесия.
Так им
образом,
ре чь
ид ет
не
о
том,
что
Флобер
—
как
иногда
это
объясняют
с
волюнтаристско-морализирующих
по зиций
—
«трусливо»
от
казался
от
принципа
гуманистической
универсальности.
Фран
цузский
писатель-рационалист,
занимая
несомненно
ограничен
ную,
но
вполне
ясную
индивидуалистическую
поз ицию ,
и
при
этом
безусловно
веря
в
осмысленность
св оей
гуманистической
программы,
проявляет
достойную
уважения
интеллектуальную
смелость,
ког да
несмотря
на
отсутствие
ожи д аем ого
результата,
несмотря
на
очевидную
невозможность
разрешения
открывше
гося
противоречия,
последовательно
остается
на
занятой
пози
ц ии,
воздерживаясь
от
каких-либо
отчаянных,
необдуманных
шагов.
Русский
же
романист
в идит
перед
соб ой
совершенно
другую
задачу.
Для
не го
б ыло
бы
неприемлемой
непоследова
тельностью,
непозволительным
компромиссом
приз на ние
тщет
ности
ус ил ий,
напр авлен ных
на
достижение
универсальной
истины
и
ограничивание
себ я
какими-либо
с ухо
рациональными
форм ам и
мышления.
Задача
достижения
гуманистической
п ол
ноты
—
ввиду
неопределенности
«русской идеи»
в
сер един е
XIX в.—
оказывается
нерешенной,
поэтому
в
художественном
целом
трагического
романа
самые
высокие
духовные
ценности
предстают
беззащитными
ж ер твами
низкой
или
бесформенной
практики.
Однако
русскому
мышлению,
нащупывающему
св ои
особые
возможности,
как
раз
и
необходим
под об ный
опыт:
оно
должно
убедиться
в
то м,
что
не
приурочивание
к
русской
куль
туре
абстрактных,
общеевропейских
формул
гуманизма,
а
выра
ботка
методов
их
собственной
и нтер пр етац ии
н асу щно
необхо
д имы
русской
культуре.
В
результате
этого
волевого
напора
русских
писателей-романистов
в
период
самоопределения
рус
ск ой
кул ь туры
снова
становятся
ощутимыми
те
универсальные
жизненные
перспективы,
которые
так
не пос редс тв енно
откры
вались
в
творчестве
Дан те
или
Гете
и
которые
были
поч ти
за
быты
ев ро п ейским
мышлением,
о тт оч ившим
до
совершенства
с вои
аналитические
способности,
но
одновременно
односторонне
абсолютизировавшим
значение
интеллекта.
Таким
образом,
в
то
время
ка к.
русские
писатели-романисты
б ыли
заняты
решением
с пеци фич еских
за дач
своей
культуры,
их
произведения
открыли
возможность
для
т ого,
чтобы
Европа
снова,
на
более
выс ок ом
по
сравнению
с
немецкой
классикой
уровне,
ок азал ась
лицом
245
к
лицу
с
общей
для
всех
и
все
еще
неисчерпаемой
прог рам мой
гума н исти чес кой
универсальности.
Одной
из
самы х
характерных
особенностей
романа
второй
половины
XIX в.
яв ля ется
расцвет
в
нем
психологизма,
так
на
зываемой
диалектики
души.
Непосредственный,
конкретный,
по
др обн ый
пластически-аналитический
показ
процессов
сознания
обусловлен
основополагающим
к ом по зицио нным
принципом
жанра,
яв ля ясь
следствием
монистической
к онце пции,
соеди
няющей
инте лле кт уа льны е
и
жизненные
моменты.
Во
вс ех
пр еж них
роман н ых
к омпоз ици ях
из о браж ение
мыслительных,
чувственных
фак то ров
всегда
б ыло
более
или
менее
фиктивным,
риторическим.
Отсутствовало
непосредственное
изображение
психических
процессов,
а
отказ
от
не го
оправдывался
тем
не
высказанным
признанием,
согласно
которому
невозможно
и
не
нужно
пытаться
уловить
с июм инут ное
в
его
п реход ящ ей
упр о
щенности.
Только
о тказ авши йся
от
искусственных
оговорок
д уа
лизма
роман
второй
половины
XIX в., роман,
признавший
осмыс
ленность
индивидуального
существования
без
эт их
искусствен
ных
ограничений,
сделал
реальное
изображение
псих ическ их
процессов
вполне
це нным.
Вместе
с
тем
для
историко-литера
турного
понимания
этого
единс т венно г о
в
своем
роде
феномена,
ж елател ь но
увидеть,
что
изображение
ду ши
или
д ейс твит ельно
сти
в
натуральном
по зи тиви стск ом
св ете
нельзя
счит ать
уни
ве рса льно й
худ оже стве нн ой
з адачей .
Х отя
очарование
«боль
шого»
романа
несомненно
порождено
такой,
созданной
особыми
приемами
поэтики,
иллюзией,
вряд
ли
было
бы
разумно,
н аивно
погрузившись
в
это
зрелище,
забыть
о
то м,
что
его
выз ва ло
к
жизни.
Покоряющее
богатство
изображения
ду ши
у
Флобера
объяс
няется
безжалостной
по сле дов ате льн ость ю
р аци он али зма,
ра
дикализмом
ума ,
не
признающего
никаких
границ.
Французский
писатель
оказывается
способным
до
конца
выявить
возможно
сти
п си хол ог изма,
потому
что
он,
полагаясь
на
субстанциональ
ную
безусловность
мыслящего
«я», не боится проследить путь
са мых
высоких
устремлений,
перенесенных
в
самые
ужасные,
в
самые
жалкие
за кут ки
жизни.
Флобер
не
сомневается
в
том ,
что
как им- то
причудливым,
и
одновременно
п ри водящ им
в
от
чаяние,
образом
самые
банальные,
са мые
прозаические
прояв
л ения
нашего
существования
соприкасаются
с
р евни во
обере
гаемыми
н ами
ценностями.
Совершенство
толстовского
и зобра
ж ения
ди алект ики
души
и меет
совсем
иной
источник.
Как
свидетельствует
пример
английского
романа,
эмпириче
ская
модель
мышления,
которая
характеризуется
определенной
сдержанностью
по
отношению
к
субстанциональной
при роде
индивидуума,
к
его
интеллектуальным
в озмож но стя м,
не
благо
приятствует
об о ст рению
противоречий,
обнаженных
раз умн ым
умозрением.
Х отя
Толстой,
следуя
своим
скло н но стям
и
подчи
ня ясь
природе
м атер иа ла,
отдает
предпочтение
не
фра нц уз
246
скому,
а
английскому
роману,
его
психологический
анали з
углубляется
и
обогащается
как
раз
в
той
мере,
в
какой
он
от
клоняется
от
мо дел и,
предложенной
именно
английскими
образ
цам и.
Укорененный
в
русской
культуре,
ищущий
в
середине
XIX в.
ответов
на
осн ов опол аг аю щие
вопр ос ы,
выдвинутые
рус
ск ой
культурой,
писатель
и
мыслитель
воспринимает
как
узкую
и
неприемлемую
английскую
модель
у ре гул иро вания
от ноше ний
между
интеллектом
и
традицией,
модель
не йт ра лиза ции
ката
строфических
проявлений
практики,
которая
складывалась
на
протяжении
XVII в.,
Толстой
и щет
другого,
лучшего
р ешени я,
поскольку
не
в идит
относительности
своей
идеи.
И
так
как
он
счита ет
своим
моральным
долгом
поиск
решения
самого
луч
шего,
п ос кольку
он
верит
в
то,
что
на йти
так ое
решение
можно,
то,
несмотря
на
свой
эмпиризм,
отказывается
от
всякой
осто
рожности
и
с
траг и чес кой
край ност ь ю
н ап рав ляет
все
усилия
на
выявление
природы
истины,
до бра
и
кр ас оты
в
целях
разре
шен ия
по с ледних
вопро с ов
человеческого
существования.
Такая
к рай ность
коренным
об ра зом
отл ичае т ся
от
отва жн ого
и
после
довательного
рационализма
Флобера,
так
как
здесь
речь
ид ет
не
о
какой-либо
ясной,
принятой,
несмотря
на
нег ати вны й
оп ыт,
разумной
определенности,
а
о
таком,
основывающемся
на
спон
танном,
непосредственном
опыте,
чувством
и
волей
мотивиро
ванном
«прыжке в неизвестность», с которым в дальнейшем пи
сатель
не
будет
знат ь,
что
ему
делать,
и
неизбежным
след ст
вием
которого
(если иметь в виду эсхатологические перспек
т ивы)
я вляется
пр иня тая
в
н адежде
на
бу ду щее
просветление
катастрофа.
Исход я
из
этого,
нужно
признать,
что
с
точки
зре
ния
места,
занимаемого
То лст ым
в
русской
ку льту ре
и
тех
за
дач,
которые
он
решал,
Толстой
должен
б ыть
поставлен
в
од ин
ряд
не
со
своим
современником
Флобером,
а
с
Шекспиром,
по
трясенным
разгулом
темных
си л,
ощущением
с ти хийных
ката
строф.
Толстовское
изображение
души
именно
поэтому
не
тол ько
покоряюще
точн о,
до
предела
адекватно,
не
только
призвано
осветить
поиск
возможного
и
осм ысленно г о,
но
одновременно,
выходя
за
п реде лы
возможностей
разум а,
называющего,
оце
нивающего
вещи
и
я вле ния,
есть
трагическое
нач ин ани е,
сохра
н яющее
требование
изменения
положения
ве щей
да же
и
при
отсутствии
возможностей
для
этого.
Это
трагическое
начинание
указывает
на
э сха тол ог ич ескую
цель.
Готовность
к
выявлению
в озмож ност ей
анал иза ,
вытекающая
из
монистической
к онце пции
«большого»
романа,
из
самого
его
исторического
положения,
л ишь
с
од ной
стороны
характеризует
складывающийся
метод
изображения
душевных
процессов.
Вы
сок ая
степень
п си хол ог изма,
достигнутая
в
«большом»
романе,
пр едпо л агает
не
толь ко
макс им ум
анал ит из ма,
но
и
завершен
ность,
устойчивость
к о нцепции
индивидуума,
личности.
Это
двойное
требование
«большой»
ром ан
выд вига ет
в
тот
короткий
247
интервал
ис то рии
развития
мысли,
ког да
анализ
уже
обрел
спо
собность
охв ати ть
все
проявления
ж изни
личности,
но
не
за
тронул
сам у
лич но сть
как
носителя
эт их
проявлений.
Мы
гов о
рим
о
высшей
степени
психологизма
не
то лько
п от ому,
что
в
ро
мане
второй
половины
XIX в.
дается
предельно
точный
анализ
душевных
процессов,
но
и
п отому ,
что
этот
анализ,
следуя
соб
ственной
логике,
все
же
признает
известные
границы.
Следо
вательно,
если
мы
признаем,
что
у
Толстого
происходит
преодо
ление
возможностей
интеллекта,
то
нам
непрем енно
ну жно
иметь
в
вид у,
что
автор
«Анны Карениной»
пробуждает
сомне
ние
в
с иле
интеллекта,
не
преодолевая
личностного
пр едст ав
ления
о
мире,
не
исчерпывая
гуманных
возможностей,
не
пока
зы вая
недостаточность
своего
ан али за
для
решения
человече
ских
проблем.
Характерно,
что
Чехов,
который
и
сам
п ри дер
живается
лично с тно го
пре д ст а вления
о
мире,
но
в
отличие
от
Толстого
уже
не
верит
в
его
силу
и
действенность,
во здерж и ва
ется
от
введения
в
св ои
произведения
неизбежно
догматиче
ского
в
данных
условиях,
т.
е.
эс тетическ и
неприемлемого,
осу
ждения
интеллекта.
Совершенному
развертыванию
из о браж ения
ду ши
ставят
пределы
не
то лько
определенные
исторические
усл ов ия
ра зви
тия
мыс ли,
при
которых
может
существовать
л ичн остн ое
пр ед
ставление
о
мире,
но
и
ре ал ьные
способности
личности.
Ведь
конкретные
индив иду ум ы
могут
обладать
переживанием
един
ства,
придающим
смысл
анализу,
только
в
случае
счастливого
стечения
определенных
обстоя тель с тв .
Хо тя
все
кр у пней шие
художники
второй
по ло вины
XIX в.
считают
способность
ин ди
видуума
бы ть
но сит елем
смыслоосуществляющего
принципа
бытия
абсолютной
нормой
и
анализируют
де йств ен н ость
этог о
принципа
именно
в
эт ом
ас пек те,
они
одновременно,
в
зависи
мости
от
с воих
л ичных
впечатлений
и
опыта,
ли бо
уверены
в
во зможн ос ти
осуществления
эт ой
нормы,
ли бо
с омне ваю тся
в
этом,
ли бо
полагают,
что
знают
тот
путь,
который
ведет
к
до
стижению
поставленной
цели,
л ибо
говор ят
о
своей
неуверен
ности.
Проблематику
Толстого,
созданный
им
художественный
мир
характеризует
та
уверенность,
согласно
которой
—
в
слу
чае
до стато чно й
просвещенности
и
ожидаемых
от
каждо го
мо
ральных
усилий
—
пе ре жива ние
единства
мо жет
бы ть
добыто
со
дна
души,
воскрешено,
и
таким
образом
в
рамк ах
личност
ного
представления
о
мире
при
его
полном
ос у щес твле нии
не
мож ет
быт ь
препятствий
для
разрешения
гла вных
проблем
человеческого
бытия.
Романы
же
современника
Толстого,
Досто
евского,
пронизаны
по тр ясающи м
сомнением
в
т ом,
что
при
са
мых
счастливых
сте че ниях
обстоятельств
чел ов ек
мо жет
по-
настоящему
увидеть
с тоящи е
перед
ним
задачи,
разобраться
в
себе
самом
и
в
окружающем
мире.
Поскольку
со м нения
До
стоевского
исходят
не
из
признания
им
относительности
ли ч
ностного
пр едс т авле ния
о
мире,
а
из
отрицания
исторической
248
де йств ен нос ти
такого
представления,
его
тво р ческие
достиже
ния,
хотя
и
во
мн огом
о ттен яют
тво р честв о
Толстого,
но
все
же
по
сравнению
с
п осл едним
являются
достижениями
второ ст е
пенными.
В
то
вре мя
как
Толстой
идеально
использует
все
имеющиеся
в
его
распоряжении
возможности,
предоставленные
историей
развития
мысли,
Достоевский
постоянно
вп адает
в
противоречия
с
сам им
собой,
к огда
подчеркивает
иррацио
на ль ные
повороты
душевного
процесса,
значение
тайно г о
на
чала
в
чел о вече ских
душах
и
судьбах,
ко гда
ж дет
«чудесного»
решения
вначале
поставленных
им,
а
затем
о казав ших ся
нераз
решимыми
проблем.
Хотя
русский
«большой»
роман,
под об но
западноевропейским
произведениям
этого
жанра,
стр о ится
на
пр инципе
безусловно
сти
индивидуального
существования,
он
по
своей
внутренней
сущности,
в
от лич ие
от
западноевропейского
романа,
не
п р есле
дуе т
цел и
по казат ь
прежде
всего
разнообразие
индивидуальных
существований.
Обычно
герои
русского
романа
второй
половины
XIX в.,
и
в
особенности
герои
Толстого
и
Достоевского,
подни
маю тся
над
сферой
случайного,
серого
существования
не
за
сч ет
особенностей
хар ак тер а,
а
за
счет
того ,
что
он и,
ос озн ав
свое
положение
и
увидев
св ою
человеческую
задачу,
выказывают
максимальную
готовность
к
тому,
чтобы
побороть
бессмыслен
ность
своей
жизни.
Эти
два,
к азалос ь
бы,
противостоящих
др уг
др угу
подхода
подсказаны
двумя
противонаправленными
ко н
цепциями
индивидуальности:
активной
и
п ассивн о й.
В
то
время
как
а ктив но
настроенный
индивидуум,
движимый
п ре дс тавле
нием
о
какой-то
будущей
цели,
оценивает
л ишь
пройденный
пут ь
своего
развития,
позитивно
уловимые
черты
своей
ин див и
дуальности,
пассивно
настроенный
индивидуум,
который
на
ме
сто
будущих
в озмож ност ей
ставит
настоящее,
считает
позитив
ными
факторами
и
те
метафизические
р еа лии,
которые
пока
еще
н ев озможн о
выявить
в
мире
явлений.
Пассивной
кон цеп
цией
индивидуума
о бъясн яет ся
то
об сто ятел ьств о,
что
герои
Толстого
и
Достоевского
живут
не
в
какой-либо
определенной
лока льно й
социальной
среде,
что
они
заняты,
в
сущности,
не
решением
собственных
проблем,
а
вопросами
общечеловеческого
значения.
Поэтому
русский
роман
по
сравнению,
на при ме р,,
с
современным
ему
французским
«романом карьеры»
имеет
фи
лософский,
утопический
характер.
В
то
же
время
этот
утопи-
чески-философский
роман
способен
дат ь
живое
изо бр аже ние, ,
конкретный
анализ,
он
свободен
от
всяких
искусственных
из
мышлений.
Та ков
па рад окс
русского
романа.
В
соответствии
с
эмпирическим
хар акт ер ом
английской
куль
туры
английский
роман
обнаруживает
т енденц ию
к
тому,
чтобы
за
непосредственным
изображением
дат ь
почувствовать
напря
женность
м ора льно -фи лос офск их
схем.
Однако
ан г лий ский
эм
пиризм,
п р инадлеж ащ ий
за па дной
активной
модели
индивиду
ального
осуществления
смысла
бытия,
ли шь
в
отношении
меры
249-
самостоятельной
активности
индивидуума
отк лоня етс я
от
ра
циона лизм а.
Поскольку
различие
этих
дв ух
моделей
не
осо
знается,
внимание
английских
романистов
направляется
не
на
сложную
иг ру
их
взаимостолкновений
и
не
на
по сле дов а тельн ое
изо бра ж ение
эт ой
игры,
а
на
ограничивающие
индивидуальные
начинания
и
в
то
же
вре мя
мудро
принятые
во
внимание
п ре
пятствия.
Поэтому,
в
то
время
как
русский
роман,
оперирую
щий
метафизическими
конструкциями,
в
совершенстве
ра зра ба
тывает
связ ь
между
абстракциями
и
явлениями
и
до
предела
обн а жает
ее,
используя
все
возможности
иллюзионистской
изобразительной
техники,
в
английском
романе
страстное
стрем
ление
к
ан али зу
сдер ж ивает ся
иногда
сухим
морализмом
и
ра с
судочностью.
Здесь
мы
хотели
бы
заметить,
что
немецкое
м ыш
ление,
которое,
подобно
русскому,
считается
с
пассивной
кон
цепци ей
индивидуального
осущ ес твл е ния
смысла
бытия,
но
одновременно—в
соответствии
с
рационалистической
позицией—
пр идер ж ивает ся
активной,
западной
модели,
которую
счита ет
относительной,
в
конечном
итоге
не
создает
больших
монисти
ческих
композиций
и,
разрабатывая
уже
им еющ иеся
в
его
рас
поряжении
интел ле кту а льные
возможности,
зам ещае т
«большой
реализм»
бидермайерским
по
своему
хара ктеру
«поэтическим
реализмом».
Осо знани е
различия
между
активной
и
пассивной
моде л ями
индивидуального
осуществления
смысла
бы тия,
происходящее
в
ру сск ом
м ыш лении,
с
ос обой
силой
обострило,
с
одн ой
с то
р оны,
пр обле му
оригинальности
культуры,
проблему
ее
органи
ческого
развития,
а
с
другой
стороны,
кажущуюся
противостоя
щей
ей
п робл ему
всеобщего
прогресса,
единства
всего
человече
ства .
Гениальность
Толстого,
значение
его
тво рч ес тва
заклю
чается
в
том,
что
именно
он
в
самой
полной
мере
о со знал
эти
проблемы
и
предложил
предельно
вы р ажаю щие
специфику
русской
к ультур ы
—
и
в
то
же
время
наиболее
способствующие
движению
вперед
европейского
мышления
на
данном
уровне
развития
мысли
—
решения.
Х отя
Достоевский,
по до бно
Тол
стому,
придерживается
пассивной
к о нцепции,
спонтанно
дей
ств ую щей
в
русской
к ультур е,
он
не
в идит
реальных
возможно
с тей
для
преодоления
противоречий
между
ра зным и
культурами,
не
берет
на
себ я
задачу
создания
интеллектуальной
мо д ели,
уравновешивающей
конфликт
м ежду
национальными
интере
са ми
и
прогрессом.
Тургенев
же,
хот я
и
верит
в
возможность
у ре гул иро вания
противоречий,
становится
«западником»,
по
тому
что
не
приз нае т,
по
случайным
по
отношению
к
проблеме
при чинам
биографического
свойства,
первичность
пасси вн ой
мо
д ели
в
русской
культуре
и
предлагает
решения,
нап равл енные
не
на
духовное
возрождение,
а
но сящие
в
первую
оч еред ь
практический
социальный,
политический
характер.
Интересно,
что
Достоевский,
тож е
искавший
в
начале
своего
пути
соци
альных,
политических
ре ш ений,
сначала,
подобно
Тургеневу,
не
250
признавал
«русской идеи», особой русской «Ду ши», и только
дво й ствен но сть
его
натуры,
его
изначальное
«безверие»
побу
дило
его
к
тому,
чтобы
начать
искать
«Душу», которую,
по
его
представлению,
и меет
лишь
народ,
и
попытаться
овладеть
новой
верой,
способной
сменить
либеральные
убеждения.
Тургенев,
в
отличие
от
Толстого
и
Достоевского,
стремится
к
созданию
местного
колорита
и
к
передаче
духовной
атмос фе ры ,
характер
ной
для
эпохи.
Его
герои
—
не
носители
отвлеченных
мет аф и
зически х
идей,
а
живы е
люди,
занятые
своими
проблемами.
Однако
произведения
этого
«западника»
все
же
в
полной
ме ре
русские
роман ы ,
так
как
в
от ли чие
от
западных
образцов
они
гово рят
не
просто
о
случайном
конце
какой-либо
карьеры,
а
о
принципиальной
невозможности
гармонического
осуществле
ния
в
русских
у с ловиях
активных
начинаний
и
в
то
же
вр емя
об
их
необходимости.
И
если
«западнический»
взгляд
и
об ъяс
н яет
поражение
так
называемого
лишнего
человека
существова
нием
непреоборимых
препятствий
на
пу ти
прогресса,
эти
п ро
изведения
все
же
представляют
дело
общечеловеческого
пр о
гресса,
опосредованно
го' в орят
о
своеобразных
чертах
русской
культуры.
При меч а ния
1 Goldman, Lucien. Le dieu caché. Éditions Gallimard. Paris, 1956.
М.
РЕВ
О
ЕД ИНСТВЕ
Х УДОЖЕ СТВЕННОГ О
МИ РА
ЧЕХО ВА
(Наблюдения и замечания)
В
большинстве
монографий,
посвященных
тво р честв у
А.
П.
Чехова,
эпические
и
драматические
жанры
р асс ма три
ваются
почти
всегда
отдельно
Г
Чехов
творил
в
такую
эпоху,
когда
границы
романа
и
но
ве ллы
размываются,
в
рассказах
на зрев ает
драма.
М ногие
сх о дные
черты
в
равной
степени
характеризуют
и
рас ск аз,
и
роман,
и
драму.
Видимо,
поэтому
Георг
Лукач,
стр ем ясь
со зд ать
теорию
жанров,
м ало
зани м ался
Чеховым
и
его
творчеством.
В
к ниге
«История развития современной драмы», написанной
в
нач але
века,
он
уделил
Чехову
всего
несколько
страниц2.
Ме жду
тем
творчество
Чехова
интересно
тем,
что
сост ав л яет
единую
систему.
Исходным
на чал ом
яв ляе тся
авторское
отно
ш ение
к
миру,
которое
присутствует
всюду
как
системообразую
щая
осно ва.
А
ведь
пр изна ки
этого
своеобразного
отношения
к
мир у
опре дел ить
не
так
уж
легко.
В
некоторых
исследованиях
слова
и
мы сли
героев
Чехова
все
еще
интерпретируются
как
непосредственные
вы сказы вани я
автора.
А
иногда
устанавлива
етс я
на сто лько
большая
дис та нция
между
автором
и
его
произ
в еден иям и,
будто
раздумий,
суждений
самого
со здат еля
в
них
совсем
н ет.
Исследователи
не
всегда
у читы вают,
что
автор
изо
бражает
в
с воих
созданиях
не
чужой
ми р,
в
них
всегда
опосре
дова н но
высказываются
заветные
идеи
и
чувства
самого
пи са
теля.
Чехов
именно
такой
художник,
который
не ре дко
возвра
щается
к
о днаж ды
найденным
мотивам,
сред и
них
особое
значение
приобретают
чел ов ечно сть
и
способность
по ни мать
дру
гого
человека.
В
1883 г.
Чехов
на пис ал
маленький
расс каз
«Осенью»,
вскоре
он
вернулся
к
той
же
т еме
и
создал
драматический
этюд
«На большой дороге» (1885).
Одиночество,
которое
чувствует
обыкновенный
человек,
а
не
только
исключительная
личность,
очень
яр ко
показано
и
в
рас ск азе
«Тоска», где Иона Потапов
свое
горе
—
смерть
сы на
—
может
ра сска зать
то лько
своей
ста
рой
лошади.
В
более
сложной
форме
мотив
о ди но чества
по я вля ется
в
пьесе
«Иванов» .
Сам
писатель
в
своем
письме
от
30 декабря
1888 г.
ра зъясн яе т
Су вор ину: «К утомлению,
скуке
и
чувству
вины
приб авьт е
еще
одного
врага.
Это
—
одиночество...
Всем ...
©М.
Рев, 1992.
252
нет
де ла
до
его
чувств
и
перемены
в
нем .
Он
о дин ок.
Д ли нные
зимы,
длинные
веч ер а,
пустой
са д,
пустые
комнаты...
бо льн ая
же на...
Уехать
не куда. .. » (П ., 3, 111)3.
Такое
одиночество
приводит
чеховских
героев
к
б езыс ход
ному
отчаянию,
которое
иногда
ведет
к
трагическому
концу
(как в истории Иванова).
А
в
более
позднем
творчестве
Чехова
подобная
же
ситуация
яв ля ется
нача ль ным
моментом
осмысле
ния
самим
героем
своего
положения
(«Учитель словесности»,
«Дама с собачкой»).
В
«Невесте»
мотивы
о дин оче ства
и
поиска
выхода
из
него
звучат
настолько
сильно,
что
героиня,
уходя
из
своего
пыльн ог о,
провинциального
го род а,
все-таки
воз вра ща
етс я
обратно.
Пос ле
возвращения
все
ка жетс я
ей
на сто лько
от
талкивающим,
что
она
уходит
второй
раз: «Она пошла к себе
на верх
уклад ывать с я,
а
на
другой
ден ь
утром
простилась
со
своими
и,
живая,
веселая,
покинула
город
—
как
п олаг ала,
н авс егд а» (выделено мной.—
М.
Р.
10, 220).
Пожалуй,
именно
одиночество
с тарог о,
больного
человека
привели
знаменитого
ученого,
Николая
Степановича,
героя
«Скучной истории»
к
постоянному
недовольству.
Сам
писатель
обращает
на
это
внимание
в
своем
письме
к
Суворину
от
17 ок
тября
1889 г.: «...
мне
только
хотелось
вос по льзо вать ся
своими
знаниями
и
из об ра зить
тот
зак о лдо ван ный
круг,
попав
в
ко то
рый,
добрый
и
ум ный
человек,
при
всем
своем
жел ании
при
ни мать
от
Бога
ж изнь
такою,
какая
она
есть,
и
мыслить
о
всех
по-христиански,
волей-неволей
ропщет,
брюзжит,
как
ра б,
и
бра
нит
людей
даже
в
те
м инуты ,
когда
принуждает
себя
отзы
ваться
о
них
хор ошо .
Х очет
вс ту пить ся
за
студентов,
но,
кроме
лицемерия
и
жителевской
ругани,
ничего
не
выходит...» (П.,
3, 266).
Николай
Степанович,
который
удачно
прожил
жизнь,
оценивает
это
сам
и
п они мает
св ое
положение:
«. . .мечты
мои
сбыли сь .
Я
по луч ил
боль ше ,
чем
смел
ме чтать .
Три дца ть
лет
я
был
любимым
профессором,
имел
превосходных
товарищей,
пол ьзова лс я
п очет ною
и звестн ость ю.
Я
люби л,
жен ил ся
по
страстной
любви,
им ел
детей.
Од ним
с лово м,
если
ог ля нутьс я
назад,
то
вся
моя
жи знь
представляется
мне
красивой,
талантливо
сделанной
композицией.
Теперь
мне
ост ает ся
не
испор
тить
финала.
Для
этого
нуж но
умереть
по-человечески...
Но
я
порчу
финал»
(7, 284).
Не
считая
своей
зад ач ей
подробный
анали з
повести
«Скуч
ная
и сто ри я», хочу обратить внимание на сходные моменты,
сб лижа ю щие
ее
с
комедией
«Леший», которая была задумана
автором
еще
ра ньше
и
над
которой
он
работал
в
течение
более
д лит ель ного
времени.
В
обоих
произведениях
значительное
ме
сто
занимают
проб л емы
таланта
и
известности.
Серебряков
в
«Лешем»
также,
как
и
Николай
Степанович,
профессор,
но
не
такого
з ак ала.
Оба
они
больны
и
стары,
но
Н и колая
Степано
вич а
не
ин тер есу ет
известность,
она
даже
мешает
ему,
а
Се
ребряков
любит
известность
и
успех
и
счи тае т
себя
несчастным,
когда
вынужден
жить
в
пр ов инции
без
во схи щенны х
поклонни
253
ко в.
Он
больше
напоминает
п омощн ика
Николая
Степановича
—
Петра
Ива но ви ча,
которого
Николай
Степанович
считает
трудо
любивым,
но
неталантливым
человеком.
Герой
«Скучной исто
р ии»
даже
подчеркивает,
думая
о
н ем,
что
«это ломовой конь»,
который
«напишет много сухих,
очень
приличных
рефе рат ов.. .
но
пороха
не
выдумает.
Для
пороха
нужны
фан тази я,
изобрета
тельность,
умение
у г адыва ть,
а
у
Пе тра
Ивановича
нет
ничего
подобного» (7,261).
Жизнь
Сер ебр яко ва
тоже
бы ла
тяжелой,,
ценой
огромных
усилий
он
добился
уче но го
зв ания .
Жен е
он
ра сск азыв ает,
что
«работал день и ночь,
как
во л,
голодал
и
то
мился,
что
жи ву
на
чужой
счет.
Потом
был
я
в
Гейдельберге
и
не
ви дел
Гейдельберга;
был
в
Париже
и
не
видел
Пари жа .
Все
вре мя
си дел
в
ч еты рех
стенах
и
раб о тал. . .» (12, 147—148).
Разница
между
Николаем
Сте пано в ичем
и
Серебряковым
еще
и
в
том,
что
Серебряков
не
скр ы вает
своего
эго изма
и
го
тов
продать
име ние
дочери,
где
живут
еще
м ать
первой
жен ы
и
ее
сын,
упра вл яю щий
име ние м,
Жорж
В ойницк ий.
Он
на
столько
себялюбив,
что
об
их
судьбе
со вер шенно
забывает.
А
Николай
Сте пано ви ч
лишь
себе
пр изнае т ся
в
своем
эгоизме,,
причем
это
он
констатирует
как
изменение
в
х ара кте ре.
В
«Лешем»
Елена
Анд ре евн а,
размышляя
о
талан те,
вспо
минает
не
мужа,
а
Хрущова
(«лешего»).
Она
говорит
Соне?
«Ты знаешь,
что
значит
талан т?
Смело сть,
сво бод ная
голова,
шир ок ий
раз
ма х.
..
посадит
дерево...
и
уж
загадывает,
что
будет
от
это го
через
тысячу
лет,
уж
сн ится
ему
счастье
человечества.
..» (12, 160).
Тут
инт ересно
отметить,
что
говоря
о
тал ан те,
Елена
Андреевна
использует
те
же
пон яти я,
что
и
Николай
Степанович.
Тот
п од
черкивает
«умение угадывать», а Елена Андреевна,
характери
зуя
Хрущова,
считает
привлек ат е ль ным
сво йств о
«загадывать» .
Там
—
фантазия
и
изобретательность,
тут
—
смелость,
свободная
голова.
Таким
образом,
писатель
изучает
определенные
че рты
л юдей
с
разных
сторон
их
пр оявле ния .
С
такой
точки
зрения
н ели шне
сопоставить
«воробьиную»
ночь
из
«Скучной истории»
и
грозовую
ночь,
ко гда
никто
не
с пит
в
д оме
Серебряковых.
Такую
же
страшную
н очь
пережи
ваю т
и
действующие
ли ца
«Лешего».
Страшны
не
гром,
молния
и
дождь,
а
тре вога ,
беспокойство
каждого
человека,
как
це пная
реа кция
ох ват ываю щие
всех.
У
Николая
Степановича
ясная
голова,
он
отме чает ,
что
погода
великолепная,
замечательно-
пах нет
сеном.
В
то
же
время
его
мучит
боязнь
смерти,
да же
возникает
мысль
поз ват ь
же ну
или
дочь,
затем
он
вз веш ивает ,
что
будут
они
д елать ,
если
войдут
к
нему.
Бе зотч ет ный
живот
ный
ужа с
Н и колая
Степановича
кончается
тем,
что
жен а
про
сит
его
посетить
дочь,
которой
плохо.
Лиза
стонет,
он
стар аетс я
успокоить
ее,
жену;
забывает
о
том,
что
болен
и
скоро
умрет.
Приходит
к
нему
Кат я,
которая
взволнована,
как
и
все
в
доме
Ни к олая
Степановича.
Она
п ред лаг ает
ему
средства,
чтоб
он
лечился,
уехал
отдыхать.
Ее
жертву
Н ико лай
Степ ано в ич
не
254
принимает,
это т
поступок
об ижает
Катю,
она
предполагает,
что
ее
бескорыстное
стремление
не
понято
и
дружба
отв е ргн ута.
Это
означает,
что
всем
одинаково
пло хо.
У
Серебрякова
сходная
ситуация:
ему
нездоровится
и
св о
ими
капризами
он
всем
в
до ме
портит
настроение.
Елена
Ан д
реевна
прямо
в ыск азы вает
с вое
чувство
Во йницк ом у: «Профес
сор
ра здра жен ,
мне
не
верит,
вас
боится;
С оня
злится
на
отца
и
не
говорит
со
мною;
вы
ненавидите
мужа
и
открыто
прези
р аете
св ою
мать;
я
нуд ная,
тоже
раздражена...» (12,151).
И
Хр ущ ов,
который
извне
оценивает
обстановку
дома
Сере бря
ко вых,
возмущен
тем,
что
на
его
лоб
хотят
прилепить
«ярлык»,
затем
объясняет
Сон е,
что
гла вное ,
чтоб
видели
в
нем
«прежде
всего
чел ов ека » (12, 157).
Оказывается,
что
же лани я
Николая
Ст е пановича
и
Хрущова
направлены
на
те
же
животрепещущие
п робле мы
и
выражены
п очти
теми
же
словами.
Однако
если
р ассужд ения
Ни ко лая
Степановича
более
обоснованы
и
не
на
с то лько
однолинейны,
в
высказываниях
Хрущова
опре де ле нная
п рямоли н ейн ость
ощущается.
Для
прим ер а
можно
пр ивести
его
афористическую
фразу: «...
бездушие
выдают
за
глубокую
муд р ост ь.. .» (12, 179).
О тчасти
такие
слова
мотивируются
мо
лодостью
Хрущова
и
его
резкими
суждениями,
которые
он
сам
в
дальнейшем
подвергает
кр и тике.
Сле дуе т
однако
обратить
внимание
и
на
то,
что
пр ямо та
свойственна
не
то лько
Хрущову,
но
вызвана
высокомерием
и
резкостью
Серебрякова.
Не
сл у
ча йно
он
находит
п рофес с ора
настолько
ан ти патич ным: «...
да,
не
с умасш едши е
те,
которые
под
ученостью
прячут
свое
ж есто
кое,
каменное
сер д це. .. » (12, 179).
Не
случайно
видоизменение
этой
метафоры
прозвучит
п отом
еще
раз
из
уст
Елены
Андре
евны: «Ну,
бери
ме ня,
статуя
командора,
и
проваливайся
со
мной
в
свои
двадцать
шесть
унылых
к ом на т!» (12, 197—198).
Это
означает,
что
Серебряков
не
толь ко
эгоистичен,
но
и
мн и
тел ь н о-вы с окомерен
и
равнодушен.
С
ироническим
оттенком
р ас
сказывает
ему
Федор
Иванович
Орловский
ис то рию
о
фи лине :
«Иду я раз с охоты,
смотрю
—
на
дереве
филин
сидит.
Я
в
н его
трах
бе ка син нико м!
Он
сидит...
Я
в
не го
д е вятым
н ом ером ...
Сидит...
Ничто
его
не
берет.
Сидит
и
тол ько
гл азам и
хл опа ет».
Серебряков
не
воспринимает
з наче ния
охотничьего
предания.
Настолько
с амоув ерен ,
что
без
малейшего
сты да
спрашивает:
«К чему же это относится?» После этого ничего не остается как
с каза ть : «К филину» (12, 196).
Хрущов,
ха ракт ериз уя
Сере бря
кова,
снова
использует
образ
пт ицы
в
качестве
ме та форы: «Во
мне
сид ит
леший,
я
мелок,
бездарен,
слеп,
но
и
вы,
профессор,
не
о ре л !» Этим подчеркивается отсутствие свободного полета и
размаха.
Подобные
характеристики
встречаются
и
в
«Скучной
истории».
Николай
Степанович,
вспоминая
басню
И.
А.
К ры
лов а
«Орел и куры», цитирует:
Орлам
случается
и
ниж е
кур
спускаться,
Но
кур ам
никогда
до
облак
не
подняться...
255
Однако,
анализируя
с вое
положение,
он
иронически
оценивает
и
свое
по вед ение: «И досаднее всего,
что
курица
Г некке р
оказы
вается
гораздо
умнее
орла-профессора» (7,296).
Несмотря
на
явно е
сходство,
тут
выступает
и
явно е
отличие.
О
Серебрякове
гов ор ят
другие,
он
же
их
со вер шенно
не
по ни
мает,
да же
представить
себе
не
может,
что
о
нем
от озва ли сь
подобным
образом.
А
Николай
Степанович
трезво
оценивает
создавшуюся
ситуацию.
Эти
различия
но сят
явно
оценочный
хара кте р,
в
котором
доминируют
разные
уровни
кул ьтуры
и
ува
жение
к
своей
и
чужой
личности,—
т.
е.
становятся
о це ноч ными
пр из накам и
с
явным
в ыра же нием
си м патий
самого
ав то ра.
В
дальнейшем
Чехов
более
утонченно
п ол ьзует ся
з на ковой
системой.
Его
характеристики
становятся
настолько
насыщен
ными
знаковостью,
что
выступают
уже
в
качестве
символов.
Символы
Че хова
отнюдь
не
отвлеченны,
они
носители
конкрет
ных
признаков
и
свойств,
но
вместе
с
тем
и
неисчерпаемы.
Так,
уб ыток,
—
символ
«зря
прожитой
жизни»
в
«Скрипке Рот
ш и льд а », где значение слова все более углубляется и трансфор
мируется.
Почти
идентичное
содержание
выражает
крыжовник
в
о дно име нном
рассказе,
где
эта
кислая ,
зеленая,
незрелая
ягода
—
цел ь
и
ит ог
всей
жизни.
Писатель
охватывает
единство
многообразия
внешнего
и
внутреннего
ми ра
своих
героев
во
взаимосвязях,
переходах,
в
постоянном
движении
и
изменении.
Так
становятся
символами
и
Мисюсь
из
«Дома с мезонином»,
и
з намени та я
чай ка
в
своей
многозначности4.
С
точки
зрения
единства
художественного
мира
Чехова
ис к
лючительно
интересно
сопоставить
ра сс каз
«В овраге»
и
пьесу
«Три сестры».
В
перв ый
момент
параллели
ка жутся
неожидан
ными,
даже
ду м ается,
что
гораздо
больше
общего
ме жду
«Да
мой
с
собачкой»
и
«Тремя сестрами», однако внимательное,
«медленное чтение»
обнаруживает
сходные
черты,
родственные
мотивы
и
параллельные
знаки
в
худ оже стве нн ой
сист ем е
этих
д вух
произведений.
В
«Трех сестрах»
Маш а
м ех а нически
по
вто ряе т
первые
строки
из
«Руслана и Людмилы»:
У
луко морья
дуб
зеле ны й,
Златая
ц епь
на
дубе
том...
Она
сама
не
понимает,
почему
повторяет
настолько
навязчиво
эти
стихи.
Она
не
продолжает,
но
ког да
появляется
ее
муж,
читатель
может
продолжить:
И
дне м
и
ночью
кот
ученый
Все
ходит
по
цеп и
кр уго м.
..
Сразу
же
выясн яе тс я
при чина
ее
внутреннего
недовольства,
не
удовлетворенности,
которые
не
высказаны,
но
см ысл
которых
ясе н
всем:
Маш а
не
свободна.
Заглавие
рассказа
«В овраге»
многозначно,
сам
овра г
вы
ступает
здесь
как
метафора,
ибо
большинство
действующих
лиц
охвачено
такими
страстями,
которые
толкают
их
все
больше
256
вн из,
в
овраг,
где
господствуют
бедность,
бо ле знь,
нечистота.
Рассказ
построен
по
принципу
контраста.
В
доме
Ц ыбук ин ьтх
все
чис то,
уютно,
даже
в есел о.
В
их
лавке
же
вонь,
масло
—
горькое,
мясо
—
тухлое,
всюду
—
обман,
а
милостыня
жены
Цыбукина
действует
как
предохранительный
кла па н.
Вместе
с
острой
постановкой
соц и аль ных
вопросов,
в
рас ск азе
высту
пают
на
передний
пла н
мо ра льное
поведение
че лове ка
и
нр ав
ственное
осмысление
жизни.
При
эт ом
усиливается
символиче
ско е
значение
оврага
как
с и мвола
греха,
обмана
и
да же
уби й
ства.
Тут
самое
страшное
то,
что
овраг
воспринимается
как
есте
ст венны й
порядок
жизни.
Итогом
оказывается
та
необыкновенно
сильная
драматическая
ситуация,
которая
пр онизыв ает
все
про
изв еден ие.
В
эт ом
рассказе
яр ко
выступает
специфика
по вество ват ель
ной
манеры
Чехова.
Об ычно
всегда
говор ят
о
роли
детал ей
у
русского
писателя,
но
о
«минус-п рие ме »
—
опускании
зве нь ев
по
хо ду
разве ртыва ния
действия
—
почти
не
упоминается.
На
пример,
здесь
Липа
выходит
зам уж,
но
о
ней
мы
ма ло
знаем.
Готовятся
к
свадьбе,
и
б ыло
бы
закономерно
показать
краси
вую
невесту.
Но
Ч ехов
ха рак тери зу ет
другую
невестку
Ц ыбу
кина,
Акс ин ью,
которой
сшили
«светло-зе лен ое
с
желтой
грудью»
платье
(10, 151).
А
жених
Анисим
приехал
во
всем
нов ом,
на
нем
был
«вместо галстука красный шнурок»
и
в
по
д арок
он
привез
«новенькие»
ден ьг и,
которые
«сверкали на
с олнц е» (10, 151).
А
душ евн ое
состояние
невесты?
О
ее
пережи
в аниях
сказ ано
предельно
лаконично.
Очевидно
мастерство
Че
хо ва
в
компоновании
разных
звеньев.
Переходы
от
лаконич
ного
рисунка
чут ь
ли
не
к
мозаичной
д етали зац ии
усиливают
драматическую
атмосферу
произведения.
Таким
образом,
из
многих
нитей,
идущих
рядом,
выделяется
то
одна,
то
другая,
и
все
это
ведет
к
со вм ещению
разных
пла нов,
к
сочетанию
лирич
нос ти
и
драматизма
с
гротеском.
Вместе
с
тем
Чехов
так
об но
вл яет
ха рак тер
повествования,
что
границы
романа
и
новеллы
исчезают,
драма
в ырабат ыв ает ся
в
рассказе,
и
совмещение
одно
временности
и
последовательности
в
равной
степени
характери
зу ют
и
рас ска з,
и
роман,
и
драму.
В
таком
кон текс те
даже
ди а
логи,
как
это
часто
п р инято
считать ,
не
снижают
драматического
н ак ала.
В
дополнение
к
сказанн ом у
необходимо
отметить
роль
по
вторений
и
градаций.
Автор
снова
подчеркивает,
чт о : «Анисим,
в
черном
сюртуке,
с
красным
шнурком
вместо
галстука»
(10, 153) пошел на свое венчание .
З десь
ва жно
не
со четан ие
черного
с
красным,
имеющее
б ог атое
и
разнообразное
толкова
ние
в
литературоведении;
важно,
что
развязный
и
беспощадный,
легкомысленный
и
самодовольный
человек
стоит
в
церкви
на
своей
с ва дьбе
со
шнурком
на
шее .
И
мож ет
бы ть
впервые
в
жизни
задумывается.
Такой
же
повтор
дается
в
характери
стике
Аксиньи:
у
нее
«наивные глаза», на лице постоянно «н а
17 Заказ No 299
257
ив ная
улыбка».
Одна ко
есть
в
ней
что- то
настораживающее:
в
ее
«маленькой голове на длинной шее,
и
в
ее
ст ро йно сти
что-то
змеиное;
зеле н ая
с
желтой
грудью,
с
улыбкой,
она
гл яд ела,
как
весной
из
молодой
ржи
глядит
на
прохожего
гадюка,
вытянув
ш ись
и
под няв
го ло ву » (10, 155—156).
Таким
образом,
в
рас
сказе
ц елая
знаковая
система.
И
по
мере
развития
действия
овраг
все
сильнее
дает
о
себе
знать.
Анисима
арестовали
как
фальшивомонетчика.
Он
осуж
ден,
умер
на
каторге
(вспомним шнурок на его шее) .
Старик
Цыбукин
теряет
свою
мощь,
а
нена сы тна я,
жадна я
и
беспо
щадная
Аксинья
все
более
целенаправленно
забирает
власть
в
свои
руки.
Трагедия
ст ар ика
в
том,
что
его
старания
о
ж из-
нестроительстве
оказываются
тщетными.
У
молодой
невестки
Липы
род илс я
сын.
Старик
отдал
ма льчик у
участок
земли,
ко
торый
больше
всего
хотела
получить
Аксинья.
Она
узнала
об
этом
и
устроила
ска ндал : «...
устремила
на
ст ар ика
глаза,
за
ли тые
слезами,
злобные,
косые
от
гнева;
л ицо
и
шея
у
нее
б ыли
красны
и
напряженны,
так
как
кр ич ала
она
изо
вс ей
с илы»
(10, 170). (Вообще
выражение
г лаз
у
Чехова
им еет
всегда
большое
значение,
вспомним,
что
у
Ка ти
в
«Скучной истории»
доверчивые
глаза,
у
Аксиньи
глаза
злые ,
зеленые5, а у Сони
в
«Лешем»
злые,
подозрительные
гл аза.)
В
исступлении
Акси нь я
вошла
в
кухню,
где
Ли па
с ти рала
и
заорала: «Взяла мою
землю,
так
вот
же
тебе!» (10, 172).
Зат ем
схватила
кувшин
с
кипятком,
плеснула
на
ребенка
и
«пошла в дом,
молча,
со
своей
наивной
ул ыбк о й...» (10, 172).
В
характеристике
Аксиньи
«змеиное»
явн о
выступает
име нно
здесь,
ее
безудержность
совсем
не
у дивл яет
читателя,
разверты
ван ие
сюжетно-фабульной
линии
шло
к
тому,
что
произойдет
что-то
непоправимое.
Воздействие
мотива
усиливается
тем,
что
в
этом
месте
упоминается
только
«наивная улыбка», а до этого
она
всегда
сопровождалась
прилагательным
«змеиная». « На
ивна я
улы.б ка»
рас кр ыв ает
сущность
мотивации;
в
ней
в ыра
же но
то,
что
Аксинья
руководствуется
в
своих
поступках
только
страстью
п риоб ретен ия.
Инстин кти вно
совершает
она
убий
ство
—
оно
вытекает
из
логики
ее
стремлений.
У
нее
нет
угры
зен ий
совести,
она
никогда
не
з адумы в ает ся.
По
велению
стра
сти
наживы
она
поступила
логично
—
поэтому
и
по я вля ется
на
ее
лице
дов о ль ная, «наивная улыбка».
А ксин ья
чрезвычайно
однолинейная
фи гур а,
поэтому
и
изо
б раж ена
тол ько
извне.
Во
всем
рас ск азе
толь ко
она
одн а
не
пе
режи ва ет
ничего
тра ги чес ког о,
даж е
по тряс ен ие
здесь
чисто
внешнее.
Обр аз
Аксиньи
напоминает
образ
Наташи
в
драме
«Три сестры».
Ее
характеристика
так
же
однолинейна.
На таша
редко
появляется
на
сцене
и
еще
реже
высказывается.
Она
так
же
постепенно
выживает
сестер
из
их
собственного
дома,
как
Акси нь я
пр ибр ала
име ние
и
дом
к
своим
рукам,
вытесняя
ст а
ро го
Цыбукина
и
п рого няя
страдающую
Липу
сра зу
после:
258
смерти
ма лен ьк ого
сына.
Наташа
также
постепенно
становится
гла вн ой
фиг ур ой,
ве дь
она
командует
в
доме
П роз оров ых,
как
Аксинья
в
имении
и
лавке
Цыбукиных.
Аксинью
поддерживают
бога ты е
фабриканты
Хрымины,
ко
торые
не
появляются
в
р ассказ е,
также
и
городской
голова
П ро
то попов
в
др аме
является
главной
и
невидимой
оп орой
Нат аши .
Фабрикант
Хрымин
и меет
связь
с
Аксиньей,
как
Наташа
с
П ро
то по пов ым,
да же
пр едпол аг ает ся,
что
д очь
Наташи
—
от
Про
топопова.
Хрымин
дарит
з олоты е
часы
м ужу
Ак с иньи,
а
Прото
поп ов
у ст раи вает
Андрея
Прозорова,
мужа
Нат аши ,
в
зе мск ую
управу.
А ксин ья
у ст раи вает
скан дал ,
ко гда
ее
планы
рушатся,
ста
новится
грубой
и
крикливой.
И
Наташа
хочет
выгнать
из
дома
няню,
воспитавшую
сестер.
Ол ьга
не
сог л аш ается
и
да же
упре
кает
На ташу
за
грубость.
Однако
Наташа
тверда
и
на порис та :
«Нам нужно уговориться,
О ля.
Раз
навсегда...
Ты
в
гимназии,
я
—
дома,
у
мен я
—
хозяйство.
И
есл и
я
говорю
что
насчет
прислуги,
то
знаю,
что
го ворю ;
я
знаю,
что
го-во-рю...
И
чтоб
завтра
же
не
было
здесь
этой
ст а
рой
воровки,
старой
хрычовки...
(стучит ногами)
эт ой
ведьмы! ..
Не
сметь
ме ня
раздражать!
Не
с ме ть! (Спохватившись.)
П раво,
если
ты
не
пе ребе
решься
вн из,
то
мы
всегда
будем
ссориться.
Это
ужа сн о» (13, 160).
И
позже:
«Значит,
завтра
я
уже
одна
тут.
(Вздыхает.)
Велю
прежде
всего
с ру бить
эту
еловую
а ллею,
потом
вот
э тот
кл ен.
..
(Строго . )
З ачем
тут
на
скамье
валяется
в илка ? (Проходя в дом,
г орни чной. )
Зач ем
здесь
на
скамье
валя
е тся
вилка,
я
спрашиваю?(Кричит.)
Мо л ча ть!» (13, 186).
На таш а,
как
и
Аксинья,
ду мает
только
о
себе.
Она
запре
щает
сестрам,
ссылаясь
на
болезнь
сына,
принимать
ряженых.
Она
да же
проходит
со
свечой
и
«заглядывает то в одну дверь,
то
в
др у г у ю», но неожиданно горничная подходит к ней и шеп
чет
ей
на
ухо.
И
она
тут
же
обо
всем
забывает:
«Протопопов?
Какой
чудак.
П ри ехал
Протопопов,
зове т
ме ня
покататься
с
ним
на
тройке.
(Смеется .)
Ка кие
странные
эти
мужчины...
П оеха ть
разве
на
четверть
часа
прокатиться...
(Горничной. )
Скажи,
сейчас» (13, 154—155).
А ксин ья
в
зеле но м
платье
—
Наташа
в
первом
де йств ии
на
дев ает
зеленый
по яс
к
розовому
платью.
Ол ьга
да же
отмечает,
что
это
сочетание
говорит
о
б езвк уси це.
Аксинья
«змеиная»,
а
Андрей
говорит
о
Наташе
в
конце
пьесы,
что
в
ней
есть
что-то
«животное» .
Андрей
не
предполагает,
что
На таша
обма
нывает
его
с
Протопоповым,
однако
рас сужд ае т
следующим
образом:
«.. . Она
честная,
порядочная,
ну,
добрая,
но
в
ней
есть
при
вс ем
том
нечто
пр ин ижаю щее
ее
до
мелкого,
слепого,
этакого
шершавого
животного.
..
ино гда
она
мне
кажется
у див ител ьно
пош лой,
и
тогда
я
теряюсь,
не
пони
маю,
за
чт о,
отчего
я
так
люблю
ее,
или,
по
кр а йней
м ере,
люб и л...» (13,
178).
Отношение
Наташи
к
детям
нос ит
«животный характер», она за
ботится
только
об
их
зд оров ье,
сн е,
прогулке
и
т.
д.
Н ата ше,
как
и
Аксинье,
никто
не
сопротивляется.
Даже
старый
Ц ыб укин
17*
259
пасует
перед
Аксиньей
и
бродит
по
селу,
а
Андрей
уходит
к
себе
и
играет
на
скрипке
или
ка тает
ребен ка
в
коляске.
Он
молчит,
как
и
ст арый
Цы буки н,
или
говорит
с
Ферапонтом,
зна я,
что
тот
глу хо й.
Именно
поэтому
есть
основание
утверждать,
что
Чехов
глав
ные
мысли,
занимающие
его
при
написании
«В овраге», транс
понировал
в
дра му
«Три сестры», ибо ему казалось,
что
он
их
еще
не
исчерпал.
А
инте ллиге нтс ка я
среда
дает
возможность
для
раскрытия
идей,
для
столкновения
взглядов.
Отметим,
что
пьеса
«Три сестры»
также
строится
на
сим
волике.
Стоило
бы
также
более
подробно
проанализировать
смысл
контраста:
ов раг
(откуда нельзя выбраться)
и
Мо сква
(куда нельзя попасть) .
Есл и
вспомнить
рас сказ
«Студент», по
жалуй,
можно
легче
найти
разгадку.
Там
раздумья
г ероя
за
канчиваются
очен ь
глубоким
в ыв о до м : «Прошлое...
связано
с
настоящим
непрерывной
цепью
событий,
вытекающих
о дно
из
другого.
И
ему
казалось,
что
он
только
что
видел
оба
конца
эт ой
це пи;
дотронулся
до
од ного
конца,
как
дрогнул
другой» (8,309.
Выделено
мно й.—
М. Р.).
Если
вдуматься,
может
быть,
и
для
Чехова
ов раг
и
Москва
бы ли
концами
одной
цепи.
Этими
примерами
мне
хотелось
напомнить,
что
чеховское
творчество
следует
и зуча ть
как
целостную
сист ем у
и
прозаиче
ские
произведения
нельзя
р ассмат р ива ть
изолированно,
нельзя
отделять
от
д рам
и
наоборот,
ибо
чеховское
творчество
р аск ры
вает
св ои
тайны
и
бо га тство
оттенков
только
при
целостном,
комплексном
анализе.
Пр име ча ния
1 Например,
в
работах
В.
Ермил ов а,
Г.
П.
Б ердн иков а, 3.
С.
Паперного.
Художественное
единство
и
си ст емно сть
творчества
писателя
уси ленн о
зани
ма ет
литовскую
исс ле до ва тел ьницу
Е.
Червинскене
и
о тр ажае тся
в
статьях
Э.
А.
Полоцкой,
Л.
Д.
Опульской
и
М.
П.
Громова.
2 Lukacs, Gyorgy. A modern drama fejlodesenek tortenete. Budapest,
1978. L . 423—426.
3 Чехов А.
П.
Поли.
соб р.
с оч.
и
писем:
В
30 т.
Т.
3.
М. , 1976.
С.
111.
Все
ссылки
на
это
из да ние
даются
в
тек сте.
Письма
обозна ча ютс я
П.
4 См.
более
подробно:
Га шк ене -Чер в инске не
Е.
«Дом с мезонином».
Ху
дожественное
единство
целого
в
ра сск азах
Ч ех ова/ZLiteratura. XVI (2). Vil
nius, 1975. 43—64; Rev, Maria. Elbeszeles es drama kolcsonhatasa Csehov
munkaiban//Filologiai Kozlony. Budapest. 1984. L. 25—51; Рев M.
Осмысление
обыденности
жизни
в
пьесе
Чехова
«Дядя Ваня»//Лингвистика,
литературо
ведение,
методика.
Исследования
венгерских
русистов,
подготовленные
к
VI конгрессу МАПРЯЛ.
Из д.
Венгерской
ассоциации
преподавателей
рус
ского
языка
и
литературы.
Будапешт, 1986.
С.
160—167.
5 Зеленый цвет обычно считают цветом надежды,
и
в
«Мужиках»
он
в
о сновном
выражает
красот у
природы,
которая
очар овы вает
человека
све
жестью
зеленой
травы
(9, 282, 287).
Серы й
цв ет
у
Ч ехова
многозначен:
в
«Даме с собачкой»
вначале
отталкивающий,
как
за бор,
как
одеяло
и
пыль
ная
ме бель
в
гостинице,
а
в
конце
по вести
зна ч ение
«серости»
меняется:
А нна
С ер геев на , «одетая в его любимое серое платье» (10, 142).
Та ким
обра
зом,
у
Чехов а
ц вет
так
же,
как
и
си мво л,
поливалентен
и
его
богатые
от
тен ки
д ают
более
емк ое
пр едс та вл ение
о
духовной
жизни
героя.
260
Е.
В.
ХВО'РОСТЬЯНОВА
ПОЭ ТИКА
ПАР ОД И ЙНОГО
ТЕКСТА
(Ранний Чехов)
В
р аботах
о
лит ера т урной
пародии
довольно
четко
обозна
чились
два
пу ти
исследования
п ародий н ых
пр о изве дений
клас
сиков
русской
лите ра ту ры.
В
первом
случае
па роди и
писат еля
первого
ряда
используются
в
качестве
материала
для
изу ч ения
самого
жанра,
во
втором
—
они
рассматриваются
наряду
с
п ро
изведениями
др угих
жанров
при
изу че нии
всего
или
определен
ного
периода
твор че с тва
писателя.
Оба
пути
исследования
ока
зал ись
достаточно
плодотворными
и
выработали
довольно
устойчивые
при нципы
ан ализ а
ма тери ала,
при
всем
том
обна
ружив
и
определенную
ограниченность.
При
первом
подходе
индивидуальные
особенности
п арод ий
писателей
первого
ряда
начинали
рассматриваться
как
о бщее
свойство
пародии.
При
втором
—
п арод ии
писателя
утрачивали
свою
специфику
в
кон
текс те
всего
или
определенного
периода
тво рч ес тва,
рас тв о
ряясь
в
жанрово
неоднородном
материале.
Разделение
«массовой»
и
«авторской»1 пародии предпола
гает
новый
аспект
изучения
—
выявление
соотнесенности
общих
признаков
п арод ии
и
соб ст венно
а вт орског о
начала
в
ней.
Тр а
диционный
анализ
пародийного
тво рче ст ва
писателя,
как
пра
вил о,
сводится
к
одн озна чному
истолкованию
иро нии,
ал ог изма,
гротеска,
карикатуры
и
других
примет
комического
как
примет
пародийного
текст а,
выполняющих
искл ючите ль н о
«снижаю
щую »
роль
по
отношению
к
тек сту -исто чн ику ,
как
«дискреди
тирующий»
его
в
глазах
читателей.
В
то
время
как
те
же
са
мые
элементы
могут
представлять
соб ой
соб ст венно
авторские
черты
стил я,
обусловленные
в
определенной
степени
«конструк
тивной», а отнюдь не «отрицающей»
фун кц ией
в
системе
п аро
д ийног о
текста.
И
в
эт ом
смысле
наиболее
показательным
пр едст авля ет ся
нам
пародийное
творчество
А.
П.
Че х ова.
Опре
деленный
сдви г
в
изучении
пародии,
наметившийся
за
послед
нее
время,
во
мног ом
св язан
с
осознанием
той
конструктивной,
созидающей
роли
п арод ии
в
литературном
процессе,
о
которой
говорил
еще
Ю.
Н.
Тынянов.
В
работа х
такого
рода
предприни
маются
по пытк и
изу чен ия
чеховской
пародии
как
своеобразной
творческой
лаборатории,
внутри
которой
происходит
становле
ние
п исат ел я2.
©Е.
В.
Хворостьянова, 1992.
261
Пожалуй,
самым
важным
достижением
этих
исследований
ст ало
обращение
к
по э тике
как
главному
при нципу
изучения.
Однако
попыт к и
наглядно
продемонстрировать
«созидатель
ну ю»
ро ль
пародии
в
творчестве
писателя
приводят
к
с вое об
р аз ному
растворению
пародийных
тексто в
в
последующем,
не
пародийном
творчестве.
Образное
выражение,
композиционный
принцип,
сюжетное
положение,
впервые
появившиеся
в
паро
дии
и
затем
«перекочевавшие»
в
непародийные
произведения,—
главный
аргумент
в
подтверждении
конструктивной
фу нкции
жанра3.
Подобный
метод,
возможно,
не
вызвал
бы
сомнений,
если
бы
сама
чеховская
сис тема
не
была
бы
принципиально
подвижной.
Слово
в
чеховской
си стем е
неустойчиво;
появляясь
в
разных
контекстах,
оно
не
только
приобретает
но вые
допол
нительные
смыслы,
но
иногда
меняет
см ысл
произведения
на
прямо
противоположный.
Все
тв о р чество
писателя
о каз ыв ается
свое об ра зным
набором
определенных
«блоков»4: из произведе
ния
в
произведение
у
Чехова
кочуют
сюж еты ,
об ра зы,
отдель
ные
сцены,
иногда
—
законченные
отры вк и
текста.
Отметим
лишь
несколько
случ аев ,
ко гда
тот
или
иной
устой
чивый
элемент
текста
встречается
у
Чехова
в
разных
пр оизве
дениях:
1.
Афористическая
фор му ла:
«Ничего не разберешь на этой земле!» («Марья Ивановна»
—
2, 312)5;
«Ничего не разберешь на этом свете!» («Огни»
—
7, 140).
2.
Цитата:
«Он ахнуть не успел,
как
на
него
ме дв едь
на сел» («Канику
лярные
работы
институтки
Наденьки
N» — 1, 24; «У знакомых»
—
10, 18, 21; «Три сестры»—13, 178).
3.
Сцен а:
«— Трагедию представь!
—
Сл ушаю!
Курицин
вытянулся,
нахмурился,
поднял
вверх
руку,
скорчил
рожу
и
про
пел
сиплы м,
дребезжащим
голо сом :
—
Умри,
вероломная!
Крррови
жажду!!
Мы
пока тил ись
со
см еху» («Торжество победителя»
—
2, 70);
«— А ну-ка,
Пава,
изобрази!
—
ска зал
ему
И ван
Пе трови ч.
П ава
ст ал
в
п озу,
поднял
вверх
руку
и
проговорил
трагическим
тоном:
—
Умри,
н есча стн ая!
И
все
за хох ота ли » («Ионыч»— 10, 28);
«Немного погодя в залу вошел маленький татарчонок,
лет
двен адца ти ,
во
фраке
и
в
белых
перчатках.
—
По ди
сюда!
—
сказал
ему
Фролов.—
Объясняй
нам
с ледую щий
фа кт.
Было
время,
когда
вы,
тат ары ,
влад е ли
нами
и
брали
с
нас
да нь,
а
теперь
вы
у
русских
в
лакея х
служите
и
ха латы
подаете.
Чем
о бъяс нить
та кую
пере
мену?
Мустафа
по днял
вверх
бр ови
и
сказал
тонким
гол осом,
нараспев:
—
Превратность
суд ьбы!
262
Альмер
пог ляде л
на
его
се рье зное
лицо
и
покатился
со
смех а.
—
Ну,
дай
ему
рубль!
—
ск азал
Фролов.—
Этой
превратностью
судьбы
он
■капитал наживает .
Только
из- за
этих
двух
сло в
его
и
держат
тут» («Пья
ные»—6,62).
4.
Сюжет
(чеховские рассказы- ду блет ы ,
представляющие
со-
•бой два способа решения одного сюжета
—
в
трагическом
и
ко-
імическом
ключе,
выявле н ы
И.
Н.
Сух и х6):
«В море»
—
«Начальник станции»; «Злой мальчик»
—
«Зи
н очк а»; «Старость»
—
«Горе»; «Приданое»
—
«Юристка»; «Не
в
духе»
—
«Мелюзга»; «Хористка»
—
«Беззащитное существо»
И
Др.
Пр име ры
эти
можно
множить.
Мы
отметили
тол ько
не кото
рые
совпадения,
чтобы
подчеркнуть
гла вн ую
особенность
че
ховской
поэт ик и,
которую
необходимо
принимать
во
внимание
при
изучении
любого
его
произведния.
Чеховское
слово
не
пр е
бы вает
в
своей
не изм е нной
данности,
а
ж ивет
в
каж дом
отдель
ном
тексте.
Одно
и
то
же
вы сказ ы вание
обретает
у
писателя
смысл
лишь
в
определенном
ко нтек сте ,
где
оно
может
нести
серьезный
(подчас идеологический)
см ысл,
может
бы ть
не й
тральным,
може т
зву чат ь
пародийно.
Сказанное
относится
ко
в сем
уров ням
текста
и
особенно
ярк о
проявляется
при
ан али зе
идейных
споров
чеховских
героев
и
в
по зиц ии
авт ор а.
Кочую
щие
из
од ного
произведения
в
др угое
«блоки»
и
дубле т ы
непо
средственно
связаны
со
своеобразием
творческого
мет ода
писа
теля
и
проблемой
чех о вско го
и деал а,
которые
в
свою
очередь
влекут
за
с обой
изу ч ение
«мира идей»
произведений
Чехова.
Свобода
от
самых
разнообразных
фор м
ди к тата
в
идеологии,
иску сс тве
и
реальной
жи зни
становится
не
толь ко
одной
из
гл авны х
ид ейн ых
установок
писателя
и
основной
темой
мног их
его
пр о изв едени й,
но
и
находит
свое
непосредственное
выраже
ние
в
по э тике
чеховского
текста.
Определение
типа
писа те ля,
особенностей
его
творческого
метода,
отличительных
чер т
поэтики
его
произведений
пр ед
ставляется
особенно
зна чимы м
при
изучении
пародийного
ма
териала.
В
противном
с луча е,
смеш ение
«чужого»
и
«автор
ск ог о»7 слова при анализе пародии становится неизбежным.
Комизм
си ту ации
смешивается
с
пародийным
комизмом,
ориен
та ция
на
предшествующую
и
сов рем енн ую
литературу
стано
вит ся
неотличимой
от
пародийного
отталкивания
от
нее 8.
Наибольшую
сложность
в
чеховедении
пр едст авл яет
выяв
ление
п арод ий
с реди
произведений
других
ж а нров.
Фактиче ски
она
яв ляе тся
следствием
дв ух
наиболее
т руд ных
и
до
сих
пор
не
решенных
вопросов
чеховедения
—
проблемы
авторской
по
зиции
и
проб л емы
чех о вско го
юмора.
Им енно
поэтому
б оль шая
часть
п ародий н ых
те ксто в
писателя
не
п олуча ет
в
и сслед ова
тельской
литературе
единодушного
определения
пародии9.
263
О дним
из
нем ног их
произведений
Чехова,
не
вызы ваю щих
раз но г ласий
у
исследователей
в
определении
ж анра10, является
ранняя
пар од ия
«Что чаще всего встречается в романах,
пове
ст ях
и
т.
п. ?».
Ис то чник
пародии
также
вы дел я ется
едино
душно,
это
«Романы и повести
—
в
част но сти,
переводные
или
написанные
в
по др аж ание
переводным
—
из
так
называемых
семейных
журналов
(„Нива“, „ О гоне к“,
„Газета А.
Гатцука“
и
др .)» (1, 559).
Разногласия
по
поводу
этого
рассказа
обна
ру ж ивают ся
ли шь
в
определении
смысла
п арод ии
и
характера
пародийного
преломления
текста-источника.
Так, 3.
А.
Бори-
невич - Бабайцева
счи тае т
п арод ию
своеобразной
схемой
рома
нов ,
пер вая
ча сть
которой
посвящена
перечислению
«шаблон
ных
персонажей
иностранных
романов»
и
осмеивает
«мотивы,,
излюбленные
приключенческими
ром ан а м и»; «в другой части
схем ы
Чехов
и рони зируе т
над
о тр аже нием
русской
действи
тельности
в
некоторых
русских
ром ан ах»11, причем эта схема
представляет
соб ой
своего
рода
нега т ивн ую
программу.
А.
В.
Ро
зов
утверждает,
что
зд есь
«за критическим выпадом (п р от ив-
традиций
западноевропейского
и
русского
романов,
против
эпи
гонствующего
романтизма,
стиля
бу льва рн ой
прессы
и
т.
п.)
чу вст вова ла сь
позитивная
программа
пародиста,
попытка,
раз
рушив
старое,
утвердить
новые
пр инципы
художественного
творчества»12.
Нетрудно
заметить,
что
определение
телеологии
рассказа
обусловлено
лиш ь
ра зличным
пониманием
самой
спе
цифики
п ароди и
как
жанра.
В
перв ом
случае
тра ктов ка
п аро
д ийно го
текста
основана
на
представлении
о
пародии
как
раз
новидности
литературной
критики.
Во
втором
—
как
о
св ое об
разном
литературном
манифесте
писателя.
И
в
эт ом
смысле'
обе
точки
зрения
обоснованы,
тем
более,
что
находят
сво е
по дт ве рж дение
в
худож ес тв енн ом
творчестве
и
эпистолярном
наследии
Че хо ва.
Нас
же
ин тер есу ют
прежде
всего
не
те
тема
тиче ски е
к он тексты ,
в
которые
по падает
данная
пародия
в
за
висимости
от
аспекта
изучения
чеховского
творчества,
а
прин
ци пы
построения
самого
текста.
«Что чаще всего встречается. .. » —
единственная
пародия
пи
с ате ля,
не
оформленная
сюжетно.
Она
представляет
собой
своеобразный
реест р
образов,
сюжетных
положений,
эле мент ов
предметного
мир а,
используемых
в
литературе,
и
т.
д .: «Граф,
графиня
со
следами
когда-то
бывшей
кр асо ты,
сосед-барон,.,
литератор-либерал,
о бедневши й
дворянин,
музыкант-иностра
не ц,
тупоумные
лакеи,
няни,
гувернантки,
немец-управляющий,,
эсквайер
и
нас лед ник
из
Америки.
<...)
Со бака,
не
умеющая
только
говорить,
попка
и
соловей.
Подмосковная
дача
и
зало
женное
име ние
на
юге.
<.. .>
Портфель
из
русской
кожи ,
ки
тайский
фарфор,
английское
седло,
р ево льве р,
не
дающий
осечки,
орден
в
пе тл ичке,
ананасы,
шампанское,
трюфели
и
устрицы...» (1,17).
264
Определенную
трудность
в
понимании
эт ой
п ароди и
п ред
став ляет
использование
Чеховым
в
непародийных
пр ои з веде
ниях
тех
же
самых
сюжетных
положений
и
героев,
которые;
представлены
в
п ароди и
и
характеризуются
в
литературе
о
пи
сателе
как
«трюизмы и штампы», встречающиеся в повестях:
и
романах.
Практически
для
каждо г о
из
перечисленных
обра
зо в,
художественных
приемов
и
сюж етны х
положений
нахо
дятся
аналоги
в
непародийных
текст ах
Че хов а.
«Тетка в Там
бове»
по явл яет ся
через
двадцать
с
лишним
лет
в
«Вишневом;
сад е»; там же оказывается « сл уг а
—
служивший
еще
старым'
господам,
го то вый
за
господ
лезть
к уда
уг од но,
хоть
в
ого нь»
(Фире
—
од ин
из
многих
т аких
чеховских
сл у г); «графиня со-
следами
когда-то
бывшей
красоты»
станет
одной
из
ге рои нь;
«Зеленой косы»
и
чер ез
восемь
лет
появится
в
одн ом
из
пи сем
Че хова
М.
В.
Киселевой
(П., 3,84), на «подслушивании»
будет
построен
рассказ
«Неудача»; «высь поднебесная»
перекочует
в
непародийные
рас ск азы
«Весной»
и
«Страх»; отсутствие
конца
станет
од ной
из
характернейших
примет
чеховской
по
этики
(знаменитые «открытые
фи налы »).
Мы
привели
лишь
несколько
примеров,
но
для
каждого
из
перечисленных
в
па
родии
составляющих
художественного
текста
есть
ан а логи
в
непародийных
произведениях
писателя.
Таким
образом,
от
ню дь
не
сам и
приметы
литературного
произведения
(даже в
ироническом
освещении)
делают
текст
пародией,
тем
более,
что
сама
под ви жн ость
чеховского
вы сказы ван ия
является
хара к
терной
особенностью
его
поэтической
системы.
Дело
здесь-
в
другом.
«Что чаще всего встречается...», как и большинство
па роди й
писателя,
оказывается
примером
своеобразного
осо
з нания
сп ециф ики
литературы
для
начинающего
автора.
Усл ов
нос ть
самой
литературы,
а
не
только
литературы
опр е дел ен
но го
качества,
становится
темой
этой
пародии.
Пародийный
механизм
организован
«снятием»
сюжета.
В
цел остн ой
сист ем е;
художественного
текста
персонаж,
функциональная
роль
кото
рого
определена
развитием
действия,
не
воспринимается
в
от
рыве
от
последнего;
сам
наб ор
де йству ющ их
лиц
никогда
не.
о ст анавл ивает
на
с ебе
внимание
читателя,
и
их
условный
п од
бор
всегда
мотивирован
логикой
повествования.
В
пародии
Че
хов
«снимает»
это
главное
связующее
звено,
скрепляющее
п ер
сонажей
в
худ оже ств ен ном
тексте,
и
они
распадаются
в
ни чем
не
мотивированный
наб ор
лиц
и
характеров.
Происходит
то ,,
что
Л.
С.
Выготский
назвал
«экспериментальной деформа
цией»13текста.
Изменение
одного
из
элементов
художествен
ного
произведения
или
его
«опущение»
ведет
к
изменению,,
а
подчас
и
к
полной
деформации
этого
произведения.
«Снятие»
сюжета
как
организующего
начала
обнаруживает
и
условность-
художественных
приемов.
Смысл
их
использования
диктует
уже
не
художественная
ло гика ,
а
реальная
ситуация,
в
которой
оказывается
ав тор,
окончательно
запутавшийся
в
сложном
раз
265- .
витии
действия
—
«нечаянное подслушивание как причина ве
ликих
открытий».
Подчеркивается
условность
и
схематизм
язы
ковых
средств:
си ла
эмоций
и
экспрессия
достигаются
«бесчис
ленным
множеством
ме ж до мети й », актуальность и современ
ность
—
«попытками употребить кстати техническое словцо»
(1,18)и «электричеством,
в
большинстве
слу чае в
ни
к
селу
ни
к
городу
приплетаемом» (1,17).
Такое
осознание
условности
как
сп ециф ики
литературы,
ор
ганизующей
мир
художественного
произведения
как
мир
цел о
стный,
получает
свое
выражение
в
ранних
пародиях
писателя,
в
по ру
его
с во еоб разн ого
«ученичества» .
Любопытно,
что
спустя
.девять
лет ,
ког да
Чехов
становится
не
толь ко
признанным
критикой
писателем,
но
и
наставником,
у чит елем
только
еще
вступающих
в
литературу
молодых
беллетристов,
в
его
письмах
появляются
в ы сказы вания ,
пр ямо
перекликающиеся
с
ранней
пародией.
Так,
в
письме
от
8 мая 1889 г.
к
брату
Александру
Чехов
пи шет : «Отставные капитаны с красными носами,
пью
щие
репортеры,
голодающие
писатели,
чахоточные
жены-тру-
.женицы,
честные
молодые
люди
без
единого
пятнышка,
возвы
шенные
девицы,
доб родушны е
н яни
—
все
это
бы ло
уже
о пи
са но
и
д олжно
быть
объезжаемо
как
ям а» (П., 3, 210).
В
пись
ме
к
Суворину
от
И
марта
т ого
же
года
Чехов
делится
тру д но
стями,
которые
вызывает
у
нег о
н ачаты й
р о ман : «Еле справ
ляюсь
с
техникой.
Сл аб
еще
по
этой
части
и
чувствую,
что
де лаю
мас су
грубых
ошибок.
Будут
длинноты,
будут
глупости.
Неверных
же н,
самоубийц,
кулаков,
добродетельных
мужиков,
преданных
рабов,
резонирующих
старушек,
добрых
нянюшек,
уездных
остряков,
к расн онос ых
капитанов
и
„новых”
людей
постараюсь
избежать,
хотя
местами
сильно
сб иваю сь
на
шаб
л он» (П., 3, 178).
З десь
речь
ид ет
о
тех
же
условных
литера
турных
приемах,
что
и
в
пародии,
но
выявляется
и
д руг ая,
не
получившая
в
«Что чаще всего встречается ...», но нашедшая
св ое
выражение
в
других
пародиях
писателя
особенность
лите
ра турног о
произведения.
Она
за клю чаетс я
в
то м,
что
традици
о нный
геро й,
литературный
тип,
именно
своей
типичностью
про
тивопоставленный
реальной,
живой,
сиюминутной
жизни
в
ее
принципиальной
не т ипично с ти,
подвижности,
противоречивости,
как
бы
«тянет»
за
с обой
определенную
сю жетн ую
ситуацию,
за
да ет
ее
отработанные
хо ды.
«Банальные»
персонажи
дикту ют
и
банальную
ситуацию,
в
то
время,
как
в
худож е ств ен ном
м ире
Чехова
именно
ситуация
ок азыв ает ся
тем
исходным
мо тиво м,
который
определяет
героев
произведения
14.
Постижение
законов
построения
художественного
про изве
дения,
специ фи ки
литературы,
сл ом
традиционных
условностей,
проявляющийся
как
новая
условность
в
творческой
практике
писателя
и
формируемая
в
его
письмах
и
вы сказы вани я х
в
зр е
лую
п ору,
в
пародийном
произведении
раннего
периода,
пе
266
риода
с та новле ния
и
некоторой
неуверенности,
приз ва ны
стать
той
мотивировкой,
дополнительными
связями
в
чеховской
по
этик е,
от
которых
позднее
писатель
отказывается
как
от
из
лишних.
В
этом
смысле
особый
интерес
представляет
пародия
Че
х ова
«Тысяча одна страсть или Страшная ночь (Р ома н
в
од ной
час ти
с
эпилого м)».
Текстом-источником
па роди и
общепри
знанно
считаются
романы
В.
Гюго,
романтически-приподнятый
стиль
которых
и
становится
пародийным
объектом
чеховского
рассказа.
«Наиболее вероятным объектом пародирования был
роман
Гю го
„Собор Парижской богоматери“,
сюжетно-компози-
ци онн ые
особенности
которого
своеобразно
использованы
паро
дистом»15.
Механизм
пародийного
преломления
текста-источ
ника
обычно
определяется
как
стилизация,
переходящая
в
ша рж
в
результате
воспроизведения
и
утрирования
характерных
осо
бенностей
сюж етны х
ситуаций
и
с тил исти чески х
форм
романа
В.
Гю го 16.
Отсюда
возникает
и
утве ржд ение ,
что
задача
че
ховской
пародии
—
р аз венч ание
романтизма,
некоторое
ожив
ление
которого
наблюдалось
в
начале
80-х
годов
XIX в.17 Не
ставя
под
сомнение
предложенный
прототип
пародии,
позволим
себе
не
согласиться
с
определением
принципо в
пародийной
интерпретации
текста-источника
и
телеологии
п роиз ве ден ия.
Пр ежде
всего,
па р одия
не
использует
стилизацию.
Сти ль
«Ты
сяч а
одной
страсти...»
лишь
включает
в
с ебя
отдельные
при
меты
стиля
текста-источника
как
з наки
чужого
текста,
фу нк-
циональная
роль
которых
—
обозначение
литературного
прото
типа.
«Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать
дн ей
тому
н азад
парижане
проснулись
под
перезвон
всех
коло
колов,
которые
неистовствовали
за
тремя
оградами»18соотно
сится
с
на чал ом
чеховской
па роди и
(«На башне святых Ста
сорока
шести
мучеников
пробила
полночь»
—
1, 35) лишь
точностью
числовых
указаний,
с вяз ыва ющих
комическим
об ра зом
время,
от
которого
ведет
св ое
начало
действие
в
романе
Гюго
со
своеобразным
названием
ба шни
по
точному
количеству
му
чеников.
Такие
переклички
пародии
с
текстом-источником
отсы
л ают
к
изв ес тному
литературному
прототипу
и
как
знаки
чу
ж ого
текста
определяют
не
только
ф он,
на
котором
должна
восприниматься
пародия,
но
и
через
не го
акцентирует
с аму
литературность
этого
фон а.
Художественная
условность,
прояв
ляющаяся
на
разных
уровнях
организации
текста,
становится
и
здесь
ос но вным
объ ек том
пародии.
«Тысяча одна страсть . ..»
представляет
соб ой
своеобразный
ко нс пект
романа.
Быстро
сменяющие
дру г
дру га
с цены
представлены
во
всех
случаях
лишь
фрагментами
(репликой героя,
описанием
обстановки,
кратким
обозначением
сюжетного
поворота
и
т.
п.).
Результа
том
этого
становится
ор ган из ация
вп еча тл ения,
про тивополо ж
ног о
тому,
которое
зада но
литературным
источником.
Сверхди-
267
намизм
пародийного
«романа»,
бешено
р аз виваю щееся
дей
ствие,
призванное
увлечь
и
произвести
на
читателя
сильное
впечатление,
в
действительности
приводит
к
не йтр ализ а ции
этого
впечатления.
Осо б енно сть
данного
эффекта
состоит
в
то м,
что
ка ждое
сюж етн ое
положение
лишь
задается,
но
не
полу
ча ет
дальнейшего
развития,
читатель
не
успевает
«освоить»
и
пережить
о дну
ситуацию,
как
ок азыв ает ся
перед
сл еду ющей
и
т.
д.
Б ы струю
смену
с об ытий
организуют
и
подчеркнутые
лаку ны
в
тексте
пародии.
Так
традиционный
дополнительный
сюж ет,
отступление
от
основной
лин ии
повествования
(рассказ
в
рассказе,
ист ор ия
какого-либо
события,
легенды
и
предания,
связанные
с
местом
действия
и
придающие
основному
сюжету
дополнительный
см ы сл), оказывается в пародии лишь заявлен
ным,
но
не
реализованным,
превращаясь
в
романную
фо рму лу,
лиш енну ю
внутренней
необходимости
и
выполняющую
орна
мен тал ь ную
ф унк ци ю: «Мы стояли у края жерла потухшего
в ул кана.
Об
этом
вулкане
ходят
в
народе
страшные
легенды.
Я
с делал
д виже ние
коленом,
и
Теодор
полетел
в низ,
в
страш
ную
пропасть» (1,36).
Подобные
лакуны
и
ко нсп екти вно е
из
ложение
событий
становятся
особенно
явными
на
фо не
ирони
чески
подчеркнутой
сверхдостаточности
отдельных
моментов
повествования: «Я венчался с ней.
Она
венчалась
со
мной»
(1, 37).
Несоразмерность
составляющих
пародийного
«романа»
находит
свое
выражение
и
в
ор ганиз ации
времени
и
простран
ства.
Беш ены й
темп,
заданный
с
самого
на чала,
все
сильнее
ускоряющееся
развитие
событий
дважды
неожиданно
ломается
в клю чение м
в
«романное»
время
времени
точного,
появление
которого,
будучи
не
подготовленным
повествованием,
восприни
мается
не
как
художественное,
а
как
реальное,
обыденное:
«Кинжал,
друг
смерти,
пом ог
мне
по
трупам
добраться
до
ее
дверей.
Я
ст ал
прислушиваться.
Она
не
спал а.
Она
мечтала.
Я
слушал.
Она
молчала.
Молчание
длилось
четыре
часа» (1,
37); «Она пошатнулась.
В
моем
взг ляде
она
увидела
все:
и
смерть
Те одор а,
и
демоническую
страсть,
и
ты сячу
че лове че
ски х
желаний
<...)
Я
видел,
что
она
за люб овала сь
мной.
Че
ты ре
ча са
продолжалось
гробовое
мол чан ие
и
со зе рцание
др уг
друга.
Заг ре мел
гром,
и
она
пала
мне
на
грудь» (1,37).
Другим
способом
обнаружения
условности
текста
ок азы
вает ся
в
пародии
смешение
функций
героя
и
повес твова т еля.
Герой
не
только
яв ляе тся
участником
с об ытий,
но
одновре
ме нно
и
сторонним
н аблюд ателем ,
перед
взором
которого
эти
со бы тия
разворачиваются.
Пространственно
герой
находится
и
внутри
и
вне
происходящего,
то
действуя,
то
созерцая
с вое
действие
с
высоты
птичьего
полета:
«Я сделал движение коленом,
и
Теодор
полетел
вн из,
в
страшную
пропасть.
Жерло
ву лк ана
—
пасть
земли.
—
Проклятие!!!—закричал
он
в
ответ
на
мое
проклятие.
Си льн ый
му ж,
ниспровергающий
св оего
вр ага
в
кратер
в улк ана
из-за
прекрасных
гла з
женщины,—
величественная,
грандиозная
и
поучитель-
268
ная
кар тина !
Не дос т авало
только
л ав ы!» (1, 36); «Я взглянул на нее. . .
Поза
моя
—
б ыло
величие.
В
глазах
мо их
светилось
электричество.
Она
ви
дела
перед
собою
демона
в
земной
оболочке» (1,37).
Комическое
разрешение
история
любви
и
мести
Антонио
по
лу чает
в
финале
пародии,
где
обращение
к
чи тат елю
(одна из
ха ракт ерных
примет
чеховских
пародий)
и
окончательно
запу
тывает
повествование,
и
откровенно
обнаруживает
дистанцию
между
ре альн ым
и
худож еств ен ны м
миром:
«Вчера у меня родился второй сын..
.
и
сам
я
от
радости
повесился...
Второй
мой
мальчишка
протягивает
ручки
к
читателям
и
просит
их
не
ве
ри ть
его
папаше,
потому
что
у
его
папаши
не
бы ло
не
только
детей,
но
даже
и
жены .
Папаша
его
бо ится
же нит ьбы
как
огня.
Мальчишка
мой
не
лжет.
Он
младенец.
Ему
верь те.
Детский
в оз раст
—
святой
возраст.
Ничего
этог о
нико г да
не
было...
Спокойной
ночи!»(1,38).
В
ряд е
чеховских
пародий
иг ра
с
условностью
искусства
и
с
устоявшимися
стереотипами
восприятия
художественного
произведения
приобретает
чрезвычайно
разнообразные
фор мы.
Так,
до
сих
пор
од ной
из
самых
загадочных
остается
пародия
Чехова
«Грешник из Толедо»19.
Ощу щен ие
не по нят ной
р аз
двоенности
рассказа,
какого-то
неуловимого
обмана
не
поки
дало
исследователей,
причем
эта
внутренняя
неоднозначность
не
находила
никакого
объяснения
и
приводила
к
то му,
что
р ас
сказ
ха рак тери зов ался
как
«неудачная стилизация» (А.
Дер-
ман).
«События XIII
ве ка»20 как исторический фон рассказа
и
основной
сюжет,
з аданны й
в
не м,
как
история
р аскаяв шег ос я
грешника,
определяют
гл авн ый
конфликт.
Но
по
ходу
повество
ван ия
э тот
сюж ет
незаметно
деформируется.
История
грешника
превращается
в
сц енку
из
жизни
грешника.
Заданный
сю жето м
ко нфлик т
между
служением
богу
и
земной
любовью
(«Но мо
жет
ли,
не
раз
думала
Мария,
лю бить
тот
Христа,
кто
не
лю
бит
ч е ловек а ?») (1, 111), неизбежно разрешающийся как тра
гед ия
отречения
от
эт ой
грешной
л юбви
и
р аская ние,
п олуч ает
в
пародии
ину ю
реализацию.
Выбор
между
долгом
и
челове
ческой
привязанностью
подменяется
поисками
такого
решения,
которое
по мо гло
бы
герою
и
получить
отпущение
грехов,
и
не
выдать
горячо
любимую
же ну
испанской
и нкви зи ции.
В
ре
зу льт ате
второй
сюж ет,
возникнув
ряд ом
с
перв ым,
оконча
тельно
вытесняет
его .
Спаланцо
находит
за мечат ел ьн ое
р еше
ние.
От рави в
же ну
и
выдав
ее
уже
мертвой,
герой
п олуча ет
страстно
же лаем ое
отпущение
грехов.
Конфликт
разрешен
«ко
всеобщему
удовольствию». «Спаланцо
получил
отпущение
то
ле дски х
грехов...
Епис к оп
по хва лил
его
и
под ар ил
ему
к нигу
-собственного
с о чине ния... » (1, 115).
В
резуль тате
средневеко
вый
сюжет
о
раскаявшемся
грешнике
подменяется
сюжетом
о
«хитроумном»
грешнике.
Именно
на
эт ой
подмене
строится
история
Спа ланцо ,
для
которого
не
б ыло
искренним
раскаяние
в
грех ах,
но
которому
очень
хотелось
получить
их
отпущение.
«Вина»
героя,
за ключа ющаяся
в
том,
что
«он учился лечить
269
людей
и
зан им ался
наукой,
которая
впоследствии
с тала
назы
ваться
хим ие й» (выделено мной .
—
Е.
X.— 1, 115), вполне соот
ветствует
заявленному
сюже ту
и
реальной
исторической
си
туации,
но
и
она
получает
ироническое
о св еще ние,
благодаря
упоминанию
о
том,
что
о
тяжести
греха,
сов ерш енно го
Спа -
ланцо,
и
возможности
его
искупить
тольк о
«каким-н и будь
не
дюжи нны м
под виго м»
говорит
герою
«монах -д окто р » (1, 114).
Неожиданная
подмена
од ного
сюжета
другим
пер екл ик ается
с
неожиданностью
чеховских
финалов.
Но
если
в
непародийном
произведении
такой
финал
свя зан
с
анекдотичностью
фабулы
и
яв ляе тся
сл едст вием
ее
развития,
то
в
па ро дии
неожиданный
финал
о казыв аетс я
фи на лом
«из другого текста».
Своеобразный
«скрытый»
ко ми зм,
рассчитанный
на
внима
тельного
читателя,
отсутствие
в нешни х
примет
пародийной}
текста,
которыми
обычно
счи таю тся
ярко
выраженный
алог изм ,,
г ротес к,
ирония,
затрудн яет
восприятие
пародии,
но
отнюдь
не
позвол яе т
отнести
«Грешника из Толедо»
к
другому
жанру.
Для
струк туры
пародийного
текста
особенно
значимым
яв
ляется
х ар актер
свя зи
между
текстом-источником
и
текстом-
интерпретатором.
Точн ое
определение
этой
связи
ст а новитс я
о дним
из
пр инципо в
р аспоз нан ия
пародийного
произведения
ср еди
непародийных,
в
которых
могут
ис польз оват ься
те
же
литературные
прототипы,
но
с
другой
целью.
Характер
трансформации
текста-источника
в
системе
паро
дирующего
текста
лучше
всего
пр о слеж ивает ся
в
том
с л учае,,
когда
в
качестве
литературного
прототипа
пародии
выступает
од но
произведение.
В
этом
смысле
па род ия
Чехова
«Жены арти
с тов»
представляет
особый
интерес.
В
ней
нас
будут
интересо
ват ь
прежде
всего
черты
литературного
источника,
испо льзу е
мые
пародией,
и
сп ос об,
которым
они
трансформируются.
Литературным
ис то чник ом
п ароди и
Чехова
стал
«цикл»21
А.
Доде
«Жены артистов», перевод которого появился во вто
ром
номере
«Отечественных записок»
за
1877 г.
Ц икл
представ
л яет
с обой
несколько
рас ск азов
из
жизни
художников,
поэтов,,
артистов,
сю жет но
скрепленньіх
как
ра сск азы
од ного
худож
ника,
беседу ющег о
со
своим
другом.
Восемь22
рассказов
Доде
—
восемь
очен ь
разных,
не
похожих
друг
на
друга
ис то рий.
Па
род ия
Чехова
и спо льзуе т
лишь
одну
линию
цикла,
отк р ыто
за
явленную
в
интродукции
к
ра сс казам .
В
ней
ху до жник
сов е тует
своему
приятелю
не
же нитьс я,
так
как
семейная
жизнь
заста
вит
его
забыть
св етл ые
идеалы
искусства
и
посвятить
св ой
та
лан т
и скл ючител ь но
добыванию
сред ств
для
св оей
семьи.
Ис
т инную
подругу
жизни,
разделяющую
стремления
художника,
помогающую,
а
не
м ешающу ю
творить,
найти,
по
его
мнению,
практически
невозможно.
В
соответствии
с
э тим
ос нов ным
мотивом
пар од ия
орие нти руетс я
на
несколько
рассказов
цик ла?
«Транстеверинка», «Недоразумение», «Вдова
ве лик ого
чело
век а», отчасти
—
«Графиня Ирма».
Рассказы
«Певец и певица».
270
«Лгунья», «Признания академического мундира»
исключаются
из
поля
зр ения
пародиста
как
нарушающие
единую
линию,
на
меченную
интродукцией
цикла.
Выделенный
из
цик ла
До де
мотив
неизбежного
и
трагиче
ского
непонимания
женами
высокого
призвания
своих
мужей
трансформируется
в
па ро дии
в
об ратн ую
ситуацию.
Эта
тр а-
вестийная
трансформация
происходит
на
основе
включения
но
вых,
дополнительных
мотивировок,
не
находящих
соответствия
в
литературном
про то типе .
Так,
в
«Женах артистов»
До де
все
л юди
и ску сства
аргіогі
талантливы.
Род
их
творческой
де я
тельности
лиш ь
наз ва н,
результатов
этой
деятельности
чита
тель
не
узн ае т.
Для
Доде
это
пр едст авл я ется
изл ишни м
в
отно
ше нии
описываемых
сит уаций.
Вопрос
о
том,
что
действительно
пр едставл я ют
собой
художники,
о
которых
вед ет ся
рассказ,,
имеет
ли
см ысл
женам
посвящать
себя
идеалам
мужа,
у
Доде-
не
ставится.
Этот
вопр ос
возникает
в
пародии,
дающей
харак
те рис тики
художникам
и
о пи сыв ающей
созданное
им и.
Центральный
персонаж
пародии
Альфонсо
Зинзага
оказы
вае тся
молодым
р о мани сто м, «столь известным...
толь ко
самому
себе
и
п о дающим
великие
надежды...
тоже
самому
себе»(1,53)..
Остальные
персонажи
п ол учают
комические
титулы,
свидет ел ь
ствующие
о
том,
что
торжество
их
безусловно,
п рав да,
в
буду
щем : «...жена
б удущег о
артиста
королевских
театров,
Петра
Петрученца
—
Петрурио» (1, 58); «Не успела отойти от него-
ж ена
б удущег о
а рт иста
королевских
театров,
как
он
увидел
пе
ред
собою
жилицу
101 номера,
супругу
опереточного
певца,
бу
дущего
португальского
Оффенбаха,
виолончелиста
и
флейтиста
Фердинанда
Лай» (1, 58).
На
этом
фоне
художник-жанрист
Франческо
Бут р он ца , «человек талантливый и кое- к ом у
изве
ст ный » (1, 55) (выделено мной .—Е .
X.)
выглядит
признанной
знаме нит ость ю .
В
пародии
представлены
и
результаты
творче
ск ой
деятельности
художников,
на се ляю щих
гостиницу
«Ядови
тый
лебедь».
Та к,
Альфонсо
Зинзага
излагает
своей
же не
А ма
ранте
замысел
ново го
романа:
«Место действия весь свет ...
Португалия,
Испания,
Ф ра нция,
Россия,
Бр а
зил ия
и
т.
д.
Герой
в
Лиссабоне
узнает
из
газе т
о
несчастии
с
героиней'
в
Нью-Йорке.
Едет.
Его
х ват ают
пир а ты,
подкупленные
а ген тами
Бисмарка.
Героиня
—
аге нт
Франции.
В
газ етах
на меки. ..
Англичане.
Сек та
поляков;
в
А встри и
и
цыган
в
Индии.
Интриги.
Г ерой
в
т юрь ме.
Его
хотят
подку
пить
(...) Бисмарк
подает
в
отставку,
и
герой,
не
желая
долее
скрывать
св оег о-
име ни,
называет
себя
Альфонсо
Зунзуга
и
умирает
в
страшных
муках.
Ти
хий
ан гел
уносит
в
голубое
не бо
его
тихую
душу...» (1,61).
Иску сств о
будущего
португальского
Оффенбаха
предстает
как
впечатление
стороннего
н аблюд ате ля,
ставшего
св идетел ем
ре
пе т иции
Фердинанда
Лай:
«Трудно было сразу понять,
что
и
как
он
пел.
Только
по
в спо тев шему ,,
кра с ному
л ицу
его
и
по
впечатлению,
к оторое
производил
он
на
свои
и
чу
жие
уши,
можно
б ыло
догадаться,
что
он
пел
и
ужасно,
и
мучительно,
и
с
о ст ервен ен ием.
Вид но
было,
что
он
пел
и
в
то
же
время
страдал.
Он:
27Е
-отбивал
правой
ног ой
и
кулаком
такт,
при чем
по днима л
высоко
руку
и
логу,
постоянно
сбивал
с
пюпитра
но ты,
вытягивал
ше ю,
щурил
глаза,
кр и
вил
р от,
бил
кул а ком
се бя
по
животу..
.» (1, 59).
Таким
образом,
ос но вной
кон фли кт,
пол оже нн ый
в
основу
цикла
Доде,
комически
пер еос мы слива ет ся
Чеховым
в
пародии,
где
художники
оказываются
уже
не
безответными
страдаль
цами,
ж ер твами
своих
п рак тичн ых
жен,
а
во инст вую щ ими
бе з
дарностями.
Как
следствие
этого,
м ол ча ливое
п ереж ивание
ху
дожников
у
Доде,
с крыта я
драма
которых
понятна
лишь
бли з
ким
друзьям,
как
правило,
догадывающимся
об
ист инн ом
поло
же нии
вещей,
в
пародии
Чехова
превращается
в
публичное
по но шение
же н,
которые,
по
мне нию
подозрительных
художни
к ов,
недостаточно
самоотверженно
жертвуют
собой
идеал ам
ис кус ства .
Альфонсо
Зин зага ,
во зв ращая сь
домой,
видит
жену,
уснувшую
над
его
романом,
что
приводит
будущего
великого
романиста
в
я рост ь: «Она уснула,
читая
мой
роман!?!
—
про
шептал
Зинзага.
—
Ка кое
н еуваж ение
к
и здан ию
графа
Ба ра-
банта-Алимонда
и
к
трудам
Ал ьфо нсо
Зи нз аги,
да вше го
ей
славное
имя
Зин за ги!» (1, 54).
Отказ
жены
Франческо
Бутронца
встать
на
натуру
вызывает
град
ругательств,
комически
перекликающихся
с
конфликтом
ци кла
Доде,
где
он
представлен
как
трагическое
противоречие
судьбы,
да вшей
художнику
тала н т,
и
в
то
же
время
привязав
шей
его
к
земному
существу,
чуждому
всего
возвышенного:
«Варвары!— грем ел
Бут рон ц а.—
Вы
не
любите,
а
ду шите
и ск усство,
чтобы
черт
вас
вз ял!
И
я
мог
жениться
на
теб е,
нем ец кая
холодная
к ров ь?!
И
я
мо г,
глупец,
свободного,
как
ветер,
человека,
орла,
серн у,
одним
с ло
вом,
артиста,
привязать
к
эт ому
куску
ль да,
сотканному
из
пре драс с удков
и
мелочей...
Diablo!!! Ты — лед!
ты
—
деревянная
камен ная
говядина!
Ты...
ты
дура!
Плачь,
несчастная,
переваренная
не мецк ая
колбаса!
Муж
тв ой
—
а рти ст,
а
не
торгаш!
Плачь,
пив ная
бут ыл ка!» (1, 56).
Ид еал
жены
худ ож ника,
который
в
реальной
жизн и
пр ак
тически
не
вст р ечает ся,
задан
в
«Женах артистов»
Д оде
в
са
мом
начале
ци кл а: «Мало быть умной и доброй,
для
т ого,
чтобы
бы ть
истинной
подругой
художника.
На до
еще
облада ть
беско
нечным
тактом,
улыбающимся
самоотречением,
а
этого-то
именно
почти
невозможно
встретить
в
женщине
молодой,
не
опытной
и
ж ажду щей
жи зн и... »23 Желанный,
но
недо стиж и мый
у
Д оде
идеал
находит
у
Че хова
с вое
воплощение
в
Амаранте,
жене
А ль фонсо
Зинзаги.
Реал из о ванны й
иде ал
Доде
и
включе
ние
д опо лни тел ьных
мотивов,
приз ва нных
«уточнить»
ситуацию,
трансформирует
трагический
конфликт
ци кла
в
комический
па
ро д ийный.
П аро дий ная
линия
то
со впадает
с
повествованием
Доде,
то
уводит
от
не го,
иронически
подменяя
положения
вне шне
подобными,
но
внутренне
противоположными.
Своего
ро да
перекличкой
с
композицией
ци кла
становится
включенный
в
пародию
рас сказ , «весьма годный для утешения Амаранты
и
других
жен
ар тисто в» (1,63).
Заключение
рассказа
—
«Пе
чальная
история!
Ж е нщины,
как
часто
вы
бываете
причиною
272
несчастий
великих
людей! (1, 64)—
вне шним
образом
сов падает
с
идеей
нескольких
рассказов
цикла
Доде,
представляющих
со
бой
своеобразную
иллюстрацию
основного
тезиса,
изложенного
во
вст у пл ении.
Так
же,
как
и
у
Д оде,
история,
рассказанная
на
с тр анице
старой
га зет ы,
похожа
на
историю
героини,
же ны
ро
маниста.
Но
гротескно-комическая
судьба
m-me
Таннер
стано
вится
уже
не
темой
для
размышления,
а
способом
утешения
героини,
которая,
прочитав
ра сс каз,
приходит
к
заключению:
«— Бедная! m-me
Таннер!...
Бедная!
Как
она
несчастлива!
О,
как
я
счастлива
сравнительно
с
не ю!
Как
я
сча стли ва !
Амаранта,
обрадованная
т ем,
что
е сть
на
с вете
люди
несчастнее
ее,
старательно
сложи ла
га з етный
ли ст,
п оложи ла
его
в
коробочку
и,
радуя сь,
что
она
не
m-me
Таннер,
разделась
й
легла
спать» (1,65).
Переклички
текста-источника
с
текстом-интерпретатором
в
моментах,
не
совпадающих
с
линие й
цикла
До де,
выделенной
пародией,
организуются
та ким
образом,
что
блоки
«чужого»
тек ста
воспринимаются
в
пародии
как
собственно
пародийные,
со
св оим
ис то чник ом
не
связанные.
В
«Женах артистов»
Доде
беседа
художника
и
поэта,
отнюдь
не
однозначно
оценивающих
художников
как
жертв
своих
же н,
но
и
сознающих,
ск ольк о
л ишен ий
приносит
же нщине
ж изнь
с
человеком
ис кусс тва ,
вклю
чает
следующее
ра с с у жде ни е: «Не все мужья обладают гением,
заставляющим
прощать
им;
не
все
окружены
ореолом
славы,
способным
осушить
слезы,
льющиеся
по
их
милости.
Ку да
как
приятно
до лжно
быт ь
женой
гениального
человека...
Есть
же ны
с тороже й,
которые
гораздо
с час тлив ее...»24 Этот пассаж в форме
доверительного
обращения
к
читателю
интерпретируется
в
па
родии
как
вывод,
вытекающий
из
собственно
пародийного
сю
жета ,
комического
перевертыша
сюжета
текста-источника:
«Знаете что,
де вицы
и
вдовы?
Не
выходите
вы
замуж
за
э тих
артистов!
„Цур им и пек,
этим
ар т ист ам!“,
как
гов орят
хохлы.
Лучше,
де вицы
и
вдовы,
жить
где -нибу дь
в
табачной
лавк е
или
продавать
г усей
на
базаре,
чем
жит ь
в
самом
лучшем
номере
„Ядовитого
лебе дя“,
с
са мым
лучшим
прот е же
гр афа
Бараб ан та-А л имо нд а.
Право,
лучш е!» (1, 66).
Подм е на
си туац ий
и
мотивов
ци кла
Д оде
приводит
к
обн а
ружению
искусственности
и
нежизненности
ра сск азо в,
призван
ных
стать
аргументом
в
центральном
споре.
Истинность
и
ре
альн ос ть
описываемых
в
них
событий
ок азыв ается
скомпроме
тированной
вв едени ем
«обратной»
пародийной
ситуации,
кото
рая
пр отивопо ст авляе т
себя
лит ера ту рно му
прототипу
как
ва
р иант
другой,
комической,
но
не
менее
близкой
к
реальной
си
туации.
В
с вязи
с
этим
использование
непосредственно
жизнен
ного
материала
в
пародии
не
снимает
вопроса
о
пародийности
рассказа.
П оэтом у
мы
не
можем
согласиться
с
распространен
ным
утве ржде ние м
о
то м,
что
рас ск аз
«представляет собой не
столько
литературную
пародию,
с к олько
юмористическое
пове
ствование
«на русский манер»
о
неустроенном
бы те
художни
ко в,
литераторов
и
студентов,
какими
в
1880 году были сам
18 Заказ No 299
273
А.
П.
Чехов,
его
старшие
бр ат ья,
его
друзья» (1,566).
Воспо
минания
К.
А.
К ор овина25, на которые опирается этот вывод,
свидетельствуют
лишь
о
то м,
что
безденежье,
характерное
для
героев
пародии,
б ыло
хорошо
знакомо
писателю,
но
отнюдь
не
объясняют
переклички
с
«Женами артистов»
А.
Дод е
и
не
вскрывают
природу
пародийного
комизма.
В
данном
случае
жизнь
творческой
молодежи
в
«Восточных номерах»
ста ла
для
Чехова
тем
реальным
прототипом,
который
по мог
ему
создать
во
вс ех
подробностях
комическую
ситу а цию,
противопоставлен
ную
трагической
ситуации
цик ла
А.
Доде.
Анализ
по э тики
пародийных
произведений
Чехова
приводит
к
заключению,
что
вопрос
о
созидательной
роли
пародии
мо жет
и
должен
быть
поставлен
при
изучении
«авторской»
па роди и
как
вопрос
о
те лео ло гии
формы
в
си стем е
да нно го
писателя.
Изучение
пародий
Чехова
в
контексте
его
творческой
эво лю
ции
позволяет
предположить,
что
пародия
бы ла
для
писа те ля
той
«оправдывающей»
формой,
пр инципиа льна я
внутренняя
св о
бода
которой
способствовала
возникновению
и
утверждению
но
вых
принципов
художественной
условности,
на
которых
о сно ван
поэтический
мир
Чехова.
В
данном
случае
мы
имеем
в
ви ду
не
генезис
чеховских
приемов,
а
способ
их
утверждения
как
нов ых
художественных
пр инципо в,
организующих
новую
литературную
действительность.
Показательно
и
хронологическое
распределение
пародийного
ма тер иала .
Практически
все
пародии
(около 50 26) написаны до
«переломного»
для
писателя
1887 г.
Более
по здн ие
пародийные
произведения
(«Басня», «Любовь без зыби», (Рецензия))
б ыли
адресованы
частн ым
лицам
и
для
печати
не
предназначались.
Большая
ча сть
пародий
относится
к
1883 г.
—
времени,
ко гда
Чех ов
начинает
сотрудничать
в
целом
ряд е
газет
и
журналов
и
подписывать
произведения
соб ст венно й
фа мил ией27.
Именно
-в
эт от
пе риод
значительное
место
в
его
творчестве
за нимает
па ро дия.
В
структуре
пародийного
произведения
Чехова
в
противовес
«литературности»
текста-источника
возникает
«эмпирическая ре
а льно сть », представляющая собой новый тип действительности,
которая
станет
ос н овой
чеховской
сист емы.
В
своеобразный
«ученический», период творчества
именно
в
рамках
пародии
«мир реальности», первоначально комически противопоставлен
ный
«литературному миру», утверждает свое право на существо
вание.
Здесь
обнаруживается
целый
ряд
«чеховских»
принципов
организации
художественного
текста,
приче м
открыто
противо
поставленных
традиционным
литературным
принципам,
которые
исследователи
т вор чес тва
писателя
нах о дят
в
произведениях
з ре лого
Че хова .
Отметим
тол ько
несколько
из
них.
Главное,
что
п оража ло
современников
в
произведениях
пи
с ателя—
это
их
н ео жиданн ая
«узнаваемость», небывалая ранее
близость
художественного
мира
миру
ре альн ом у.
Эта
«узнавае
274
мость»
пе рво на чал ьно
появлялась
в
па ро дии
как
способ
выяв
ления
условности
устоявшихся
художественных
систем.
Чехов
ская
«нерезультативность сюжета»28 как выражение бесконеч
ного
движе ния
жизни
выступала
в
пародии
в
качестве
анти
т езы
зак ончен н ост и
и
исчерпанности
традиционных
сюжетов.
Особый
эмоциональный
тон
произведений
Чехова,
за
который
его
н азыв али
«писателем полутонов»,
первоначально
прояв
ля ется
в
форме
«нейтрализации»
маркированных
сюжетных
по
ложений
име нно
в
пародии,
где
традиционное
со бы тие
в
чехов
ск ой
системе
событием
не
становится.
Пародийно-комическое
противопоставление
традиционному
сюжету
—
«томления сюже
т а»29, в котором «н ич его
не
п ро исх од ит » (герой пришел домой,
разделся
и
лег
спать
—
«Марья Ивановна»), станет характер
ной
чертой
чеховских
произведений.
«Случайностность»
новой
сист ем ы
возникает
в
противовес
устоявшейся
функциональной
обусловленности
традиционных
художественных
систем.
В
этом
смысле
основные
принципы
творческого
метода
писат еля
оста ются
неизм енны ми.
Эво люц ия
Чехова,
определяемая
обычно
как
переход
от
юмористического
изображения
к
лиризму,
а
за
тем
более
глубокому,
философскому
о см ыс лению
бытия,
в
зна
чительной
степени
обусловлена
постепенным
исчез нов ени ем
р еф
лексии
в
творческой
пр акт ике
писателя,
с
помощью
которой
но вый
художественный
мир
отстаивал
свое
право
на
существо
вание.
Не
случайно
первые
опыты
большой
формы
(«Драма на
о хот е », «Ненужная победа») также создавались Чеховым в реф
лектирующем
пародийном
ключе.
Все,
сказанное
о
пародии
Ч ех ова,
не
может
быть
распро
странено
на
па род ии
других
писателей
первого
ряд а.
Даже
са мое
общее
рассмотрение
их
пародийных
произведений
приво
дит
к
зак л ючен ию,
что
хар ак тер
использования
па родий ны х
фор м
для
каж дог о
из
них
специфич ен.
Осознание
эт ой
специ
фи ки
при
изучении
«авторской»
пародии
не
только
да ет
во з
можность
в
каждом
конкретном
случае
выяви ть
хара ктер
взаи
модействия
пародии
с
ее
литературным
прототипом,
но
и
стано
вит ся
главным
критерием
ан али за
и
атри буци и
текста
как
текста
пародийного.
Примечания
1 В исследовательской литературе прочно утвердились два разных и про
тиворечащих
д руг
другу
подхода
к
«массовой»
пародии
и
па родия м
к ласси
ков
русской
литературы.
Это
противоречие
може т
быть
преодолено,
если
мы
будем
сознательно
отличать
принципы
ан али за
«массовой»
па р одии
от
при нц ипов
анализа
пародии
«авторской» .
Ввод я
по нятие
«авторской»
паро
дии,
мы
предлагаем
обозначить
им
не
па ро дии,
принадлежащие
исключи
тельно
п еру
писателей
пе рвого
ряда,
а
те
пародии,
которые
будут
изучаться
под
особым
угл ом
з ре ния,
а
именно,
с
учетом
авторской
индив иду а льн ос ти.
Как
«авторская»
п ароди я
може т
ан ал изи роват ься
и
произведение
характер
ного
представителя
«массовой»
пародии,
но
принципы
ан али за
будут
иными,
пре дпол а гающ ими
бол ьшу ю
сте пен ь
подробности
и
глубины
проникновения
в
индив иду ал ьный
художественный
мир
писателя.
18*
275
2 Характерным примером подобного исследования может служить книга
А.
Чу дако ва
«Мир Чехова.
Возникновение
и
утверждение» (М., 1986), в ко
торой
раннее
творчество
писателя
рассматр ива ет ся
на
пересе чен ии
двух
тра
диций:
традиции
«большой»
литературы
и
массовой
беллетристики.
См.
также:
С л инина
Э.
В.
О
пародийности
ч ех овс кого
юмора//Учен.
за п.
Пск ов
ского
гос.
пе д.
ин-та
им.
С.
М.
Кир ов а.
1968.
Вып.
28.
С.
13—24; Борине -
в
ич
-
Б
а
б
айцев
а
3.
А.
Роман
А.
П.
Чехова
«Ненужная победа»//Тр.
Оде с
ского
гос.
ун-та.
1949.
Т.
8.
С.
83—101; и др.
3 См.,
например:
Розов
А.
В.
Парод ии
А.
П.
Чехо ва
в
контексте
рус
ск ой
пар о дии
ко нца
XIX века:
Автореф.
ка нд.
ди с.
Л ., 1985.
С.
14—16; Ву
кол ов
Л.
И.
Р оль
па р одий
и
с тил иза ций
в
формировании
эстетических
взглядов
и
художественного
стиля
А.
П.
Ч ехова:
Автореф.
канд.
д исс.
М.,
1970.
С.
13—20; Назиров Р .
Г.
Чех ов
и
Гюго:
Полемическое
продолже-
ние // Нау чн.
докл.
высш .
шк.
филол.
науки.
1983.
No
6.
С.
24.
4 О повторяющихся « х удо ж е ств енных
единствах-блоках»
в
пределах
од
ног о
текста
с м.:
Фортунатов
Н.
М.
Архитектоника
чех овск ой
новеллы.
Гор ьк ий , 1975.
С.
67—109.
5 Чехов А.
П.
Поли.
соор.
соч.
и
писем:
В
30 т.
М. , 1974.
Т.
2.
С.
312. —
Далее
ссылк и
на
это
из да ние
даются
в
тексте.
6 Сухих И.
Н.
Проблемы
поэтики
А.
П.
Чехова.
Л., 1987.
С.
47—51.
7Об «авторском»
и
«чужом»
слове
с м.:
Волошинов
В.
Н.
Марксизм
и
философия
языка.
М. , 1929.
С.
136—137.
8 Наиболее сложным оказывается определение связи между текстом -
источником
и
текстом-интерпретатором
как
связи
пародийной.
Ее
следует
отличать
от
дву х
других
видов
св язи: 1) позитивной ориентации на чужое
произведение,
с тил иза ции
и
2) развития и полемического продолжения чу
жого
т екс та.
Характерным
отл ичи ем
э тих
д вух
видов
связи
от
связи
пародий
ной
я вля ется
пр инципиал ьная
установка
на
а декват но е
понимание
текста-
источника.
9 Например, «Драма на охоте»
получает
жанровое
определение
пародии
(Соболев Ю.
Чехов:
Ст ать и,
материалы,
библ ио гр афи я.
М. , 1934.
С.
94),
мелодраматической
прозы
(Дерм ан А.
Б.
О
мастерстве
Ч ехова.
М. , 1959.
С.
48), непародийного романа ( Изм ай ло в
А.
Ч ех о в: 1860—1904 (библио
гр афич ес кий
на бр осо к).
М. , 1916.
С.
181) и т.
д. ; «Грешник из Толедо»
—
па
родия
(Охотина Г.
Литературные
пар о дии
А.
П.
Чехова//Дон.
1959.
No
11.
С.
152), стилизация ( Чуд ако в
А.
Мир
Чехова...
С.
321); «Письмо
к
ученому
со седу »
—
па род ия
(практически во всех работах о Чехове),
комический
монолог
(Александров Б .
И.
О
жанр ах
чеховской
прозы
80- х
го дов/ /О
творчестве
русских
писателей
XIX века/Уч ен.
за п.
Горьковского
г ос.
пе д.
ин-та
им.
М.
Горького.
Вып.
37.
Горь к ий , 1961.
С.
12).
Разнообраз
ные
жанровые
определения
получают
и
многие
другие
произведения
Чехова.
10 Во всех известных нам работах о Чехове « Что
чаще
всег о
вст реча
ется.
..»
получает
жанровое
определение
пародии.
11 Бориневич-Б абай цева
3.
А.
Р оман
А.
П.
Чехова
«Ненужная
по бе да».
С.
84.
12Розов А.
В.
Па родии
А.
П.
Чехо ва
в
контексте
русской
пар о дии
конца
XIX века. ..
С.
14.
13 Выготский Л.
С.
Психология
искусства.
М. , 1987.
С.
91.
14Отаком «ситуационном»
мышлении,
с
о дной
стор он ы,
определяющем
персонажей,
с
другой
—
в
значительной
степени
автономном
по
отношению
к
ним,
справедливо
пи шет
И.
Н.
С ухи х: «Исходным зерном замысла оказы
вает ся
у
него
(Чехова. —
Е.
X.)
не
л ицо,
характер
(как у Толстого), не идея
(как у Достоевского), а ситуация,
тип
взаимоотношения
персонажей,
ко т орая
может
б ыть
„проиграна“
на
разном
„персонажном
материале“» (Су -
хих
И.
Н.
Проблемы
поэтики
А.
П.
Чехова...
С.
56).
15 Алтунина Л.
А.
Композиционно-стилевые
особенности
пародии
А.
П.
Чехова
«Тысяча одна страсть или Страшная ночь»//Вопросы сюжета
и
композиции:
Сб.
ст ./П од
р ед.
Москвичевой
Г.
В.
Горький, 1984.
С.
95—96.
16 Там же.
17 Там же.
С.
94.
276
18 Гюго В.
Собр.
соч.:
В
15 т.
Т.
2.
М. , 1953.
С.
7.
19 Не сложилось еще единого мнения о жанровой природе рассказа.
О дни
исследователи
отн осят
его
к
жанру
пар о дии
(см. ,
напр.:
О
х
о
т
и
н
а
Г.
Литературные
пародии...
С.
152; Бориневич- Бабай це ва
3.
А.
Роман
А.
П.
Чех ова
«Ненужная победа» .
С.
84 и др.), другие считают его стилевой
пародией
или
прост о
с тилиз а цией
(см. ,
напр.:
Чехов
А.
П.
Поли.
соб р.
соч.
Т.
1.
С.
432; Чудаков А.
Мир
Чехова...
С.
80), третьи полагают,
что
рассказ
п ред ставля ет
соб ой
сатиру
на
реальные
с о бытия
в
России
начала
80-х
годов
(см. ,
на пр. : 1, 571 комментарий) .
Специального
в ниман ия
этой
пародии
в
исследовательской
литературе
не
уделялось.
20 Чудаков А.
Мир
Чехова...
С.
321.
21 «Жены артистов»
А.
Доде
публиковались
как
од но
произведение.
Не
смотря
на
то
что
каждый
из
составляющих
его
р асск азов
и мел
отдельное
название
и
был
в
значительной
ст епе ни
самостоятельным,
цикличное
оформ
ление
не
позволяло
«разбивать»
произведение.
22 В переводе «О теч еств ен н ых
записок»
были
опубликованы
не
все
рас
сказ ы
цикла.
23 Доде А.
Жены
артистов//Отечественные
записки.
1877.
No
2.
С.
468.
24 Там же.
С.
467.
25Коровин К.
А.
Из
м оих
встреч
с
А.
П.
Чехов ы м/ /Ли т.
наследство.
Т.
68.
М„ 1978.
С.
550—554.
26 Имеются в виду произведения Чехова,
вопрос
о
пародийности
которых
стави лс я
в
исследовательской
литературе.
27 Рассказы « Он
п оня л», «В море», «Шведская спичка».
28 Чудаков А.
Указ.
со ч.
С.
232—233.
29 Папер ный 3.
С.
«Сюжет должен быть нов. . .»//Вопросы литера- -
туры.
1976.
No
5.
С.
174.
Б.
В.
АВЕРИН
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ТРИ ЛОГИЯ
А.
БЕЛОГО
И
ТРАДИЦИИ
Р УСС КОЙ
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ
ПРО ЗЫ
XIX—
НАЧАЛА
XX ВЕКА
Еще
до
1917 г.
А.
Белый
зад ума л
большой
ци кл
автобио
графических
произведений
с
тради ци онн ым
заглавием
«Моя
жизнь» . «Моя
ж изнь
постепенно
мне
ста ла
писательским
мате
риалом;
и
я
мог
бы
го ды,
иссушая
себя,
как
лимон,
черпать
м ифы
из
ро дн ика
мое й
жизни...», —
несколько
п оздне е
писал
он1. Двучастная эпопея «М о сква» (1926), роман « М аски» (1932)
и
представляют
собой
мифологизированную
а втоб иогр афию
А.
Белого.
Автобиографическими
произведениями
в
общеприня
том
понимании
этого
жа нра
ст али
«Воспоминания об Алек
сандр е
Александровиче
Блоке»,
впервые
опубликованные
в
1922 г.
в
журн а ле
«Записки мечтателей», послужившие основой
для
«Воспоминаний о Блоке», изданных в 1922—1923 гг .
в
лите
ратурном
ежемесячнике
«Эпопея». «Воспоминания...»
перераба
тывались
и
для
задуманной
Бе лым
историко-литературной
хро
ники
«Блок и его время», которая издана не была.
В
конце
20—
начале
30- х
годов
А.
Белый
вновь
вернулся
к
своим
«Вос
поминаниям...»
и
написал
трилогию
«На рубеже двух столетий»
,'(1930), «Начало века.
Воспоминания» (1933) и «Между
дву х
р ево л юц ий» (1934).
Трилогия
А.
Белого,
как
и
ее
первые
варианты,
—
это
в ели
колепно
на писа нные
мемуары,
воссоздающие
общественно-ли
тературную
бор ьбу
начала
века,
а
конкретно
—
историю
возник
новения
и
становления
русского
символизма.
Основная
же
цель
мемуаров,
как
ее
о пр еделя ет
сам
А.
Белый,
по каз ать
пр о цесс
самопознания
человека
в
борьбе
с
окружающей
его
действи
тельностью
или
бытом.
Именно
так
и
восприняли
книги
пер
вые
читатели
и
критики.
Художественное
совершенство
трилогии
пр изн авало сь
почти
единодушно.
Вопрос
же,
насколько
они
ис
то р ически
верны,
вызвал
разногласия,
в
основе
которых
лежали
пр ямо
противоположные
теоретические
критерии
оценки
объ ек
тивности
мемуаров.
Так,
Корнелий
Зе линский
писал: «А.
Бе
лый
несравненный
мастер
в
из о браж ении
всех
оттенков
смяте
ний ,
философий
вз дро гов
умирающего
кл асса.
„Профессорская
Мо скв а“
конца
прошлого
и
начала
нашего
века
зарисована
„знатоком“
и
ма ст ером
целой
гал ер еей
причудливых
типо в,
за
рис ована
зло,
страстно,
подчас
с
предвзятостями,
но
всегда
©Б.
В.
Аверин, 1992.
278
метко,
характерно,
с
уловлением
решающей
черты»2.
Вместе
с
тем ,
К.
Зе линск ий
счи тае т,
что
А.
Белому
не
удалось
п ред
ставить
символизм
течением
«вполне революционным,
в оз ник
шим
из
„подполья“...
потому,
что
мемуарист
при
описании
прошлого
не
может
отде л ить
свое
п оздн ее
со зна ние
от
более
раннего
и
хочет
с
но вых
поз ици й
переоценить
свое
прошлое“ 3.
Эту
точку
зр ения
разделял
Ц.
В о ль пе: «Мемуары А.
Белого
пр едставл я ют
с обой
од ин
из
з на чите льных
документов
по
исто
рии
дворянской
и
буржуазной
э стетиче ско й
культуры
эпох и
реакции.
<.. .> Но
их
следует
рассматривать
прежде
всего
как
документ,
характеризующий
сознание
писателя
в
по сл едние
годы
его
ж изн и,,
как
литературное
произведение,
в
котором
писатель
подчеркивает
в
своем
прошлом
все
те
социально-про
грессивные
элементы,
на
к отор ые
он
хотел
бы
опереться
в
сво их
исканиях
путей
нового
видения
м и ра»4.
Прямо
противоположную
и
более
простую
точку
зрения
вы
сказ ал
Л.
Т имо феев.
Он
не
признавал
исторической
значи мо с ти
третьего
т ома
мемуаров
А.
Б е лого: «Это не исторические ме
муары,
как
мы
привыкли
понимать,
это
книга
об
истоках
твор
ческ о го
п ути
А.
Белого.
Отсюда
в ыт екает
тот
принцип,
который
проведен
А.
Белым
через
всю
книгу:
он
ст ар ается
дат ь
соб ы
тия
и
людей
такими,
какими
они
ему
ка зали сь
в
то
в ремя.
В
центре
внимания
Белого
про цесс
его
собственного
идеологи
ческ о го
формирования.
Отс юда
их
о гр ани ченно сть »5.
Инт е
ресно,
что
то чка
зрения
Л.
Тимофеева,
на
первый
вз гл яд,
с ов
падает
с
оценкой
мемуаров
самим
А.
Белым.
Тетка
А.
Блок а,
М.
А.
Бекетова,
«изнутри»
знавшая
описываемую
А.
Белым
среду,
писала
ему
24 января 1931 г .:
«Я с упоением прочла
„Московского Чудака“,
бо лее
слабый
„Ветер с Кав
каза“
и
с
громаднейшим
интересом
—
„На
рубеже
дв ух
столетий“.
Ва ша
ритмическая
п роза
—
совершенна,
Вы
до с тигли
того,
чего
не
сумел
достичь
Фл обе р,
хоть
он
писал
и
не
ри тмич еско й
п роз ой,
он
хотел
быть
музыкально
рит м ичн ым,
о собен но
в
„ЗаІашЬо“.
.. .В
„Рубеже“
ме ня
п лен или
в аши
блестящие
жив опи са ния
лиц
—
профессоров
и
других.
Поливанов
в ышел
великолепно,
не
сомневайтесь,
Соловьевы
тоже,
в
высш<ей>
ст(епени)
интересно
Д емь ян ово,
Танеев,
Ваш
дядя
и
п р.,
и
пр.
Недостатков
в
н апи са
нии
я
поч ти
не
виж у,
.. .недостатки — идейные,
т.
е.
скорее
моральные:
Вы
слишком
много
полемизируете,
св од ите
личные
счеты.
Я
пон и маю
В аши
мотивы,
но
все
же..
.»6.
А.
Белый
отвечал: «... мой
метод
—
отра жа ть
мой
мир
сознания
таким,
каким
он
был
в
описываемую
эпох у,
а
не
накладывать
штампы
по зд нейше го
осоз на ния,
ибо
я
не
сужу,
а
показываю
подлинно
пе реж итое »7’.
Мнения
критиков
и
самого
А.
Белого
спр а ве дливы
и
не
сп р аведли вы
одновременно.
И
вот
почему.
В
мемуарах
автор
и
герой
повествования
—
одно
и
то
же
лицо ,
но
их
разделяет
большая
временная
дистанция.
Если
в
мемуарах
господствует
самосознание
создающего
их
а втор а,
то
оно
неминуемо
иска
жа ет
действительно
бывшее,
и,
следовательно,
мемуары
су бъек
279
тив ны.
Такова
т очка
зрения
К.
Зелинского
и
Ц.
Вольпе.
Если
же
автор
стремится
с
максимальной
точностью
передать
собы
тия
своего
давнего
прошлого,
то
он
тоже
субъективен,
так
как
не
вводит
«чужого взгляда»
и
не
корректирует
точки
зрения
г ероя.
Так ово
мне ние
Л.
Тимофеева.
Подо бну ю
субъективность
А.
Белый
в
приведенном
отры в ке
из
письма
считает
о бъек тив
н остью .
Но,
пройдя
опыт
д вух
томов
воспоминаний,
в
предисло
вии
к
тре ть ему
он
н апиш ет: «Из этого тома я,
автор,
не
вы
ключаем;
не
выдержан
тон
беспристрастия;
не
претендую
на
объективность...».
Однако,
прод олж ает
далее
А.
Белый,
е сть
«куски воспоминаний», которые « в ид ятся
объективно,
так
как
эти
част и
воспоминаний
существуют
„как отделившиеся от
меня “».
Но
есть
и
друг ие ,
которые
«еще в растворе сознания
и
не
осели
осадком»8.
Естественный,
к азалос ь
бы,
ответ:
автор
мемуаров
должен
из
материала
прошлого
отобрать
только
те
«куски», которые « в идя тс я
объективно».
Так
поступал,
например,
Короленко.
В
основе
его
мемуаров,
ле жит
то,
что
упрощенно
можно
наз ват ь
«анкетой» .
Автор
го во
рит
о
ро дите лях ,
воспитании,
среде,
эпохе
и
показывает,
как
все
это
определяло
его
ми ров оззрен ие .
Во
вступлении
«От ав
тор а»
он
подчеркивает,
что
его
произведение
—
не
биография,
потому
что
он
не
заботился
о
полноте
биографических
сведе
ний ,
не
исповедь
(что для нас сейчас особенно важно), так как
он
«не верит в возможность и полезность публичной исповеди»,
и
не
по р тр ет, «потому что трудно рисовать свой портрет с ру
чательством
за
сходство»9.
Не
«я», а «мы»
важ но
для
Коро
ленко.
Поэтому
его
мемуары
и
называются
«История моего
современника».
Как
же
б ыть
с
гл уб око
личными,
инт им ными,
«субъективными»
воспоминаниями?
Они
остаются
за
преде
лами
ме муаров ,
как
это,
например,
произошло
с
главой
«Дет
ска я
любовь».
Де йс твите льно,
что
дает
для
понимания
умо
настроения
молодежи
70—80-х
годов
то,
что
Вла дим иру
Ко ро
ленко
часто
снились
яркие
сны,
которые,
переплетаясь
с
«дей
ствительными
с об ыт и ям и», «порой страшно усиливали впечат
ление
от
эти х
с об ытий»? Вместе с тем,
час ть
личны х,
интим
ных,
особенно
детских
переживаний,
по
мнению
Ко роле нк о,
должна
войти
в
ме муа ры , «чтобы читатель ознакомился пред
вар ите льно
с
той
призмой,
в
которой
оно
(описываемое Коро
л енко
время.
—
Б.
А.)
от ражалось »10.
Так
Короленко
сводит
к
минимуму
не избе жную
субъективность
мемуариста.
Для
А.
Белого
тоже
важно
«мы»: «мы,
д ети
р уб ежа», «мы,
жившие
между
дв ух
революций»
—
подобные
формулировки
часто
встречаются
на
страницах
его
ме муаров .
Но,
в
отличие
от
Короленко,
Белый
с читае т,
что
испо в едь
по лез на
и
необходима.
Почему?
Приведем
пример,
который
поможет
это
понят ь.
Са
мосознание
человека
не
фиксирует
момента
собственного
рож
дения,
однако
автобиография
всегда
на чинае т ся
сл ов ами: «Я ро
дился
то гд а-то».
Да та
рождения
значима
для
человека,
ко гда
280
он
определяет
свое
место
в
истории
и
культуре,
но
сов ершен но
не
значима
для
ребенка,
непосредственно
переживающего
жизнь.
Этот
простой
пример
в ажен
для
определения
с пециф ики
автобиографических
произведений.
Они
всегда
состоят
из
пере
дач и
непосредственных
во сп р иятий
действительности,
которые
во сст анав лива ет
их
автор,
и
н еко его
отстраненного,
по чти
«чу
жог о»
в зг ляда
на
ту
же
действительность.
Этот
отстраненный
взгляд
включает
в
с ебя
самосознание
или
рефлексию
действую
щег о
героя
и
несколько
иное,
а
часто
совсем
другое,
самосозна
ние
авт о ра,
создающего
автобиографическое
произведение.
Но
тогда
вопрос
о
суб ъ ектив н ости
и
об ъек тивн ос ти
воспоминаний
сл еду ет
поставить
уже
в
ино й
плоскости.
Способен
ли
вообще
че лове к
так
восстановить
св ои
мысли
и
переживания,
чтобы
полностью
исключить
позднейшие
их
оценки?
Например,
сп о
собен
ли
человек,
ненавидящий
в
нас то ящее
время
другого,
восстановить
в
своей
памяти
и
передать
все
факты
и
пережи
ва ния
то го
времени,
когда
он
этого
человека
любил?
Тво рч е
ская
история
мемуаров
А.
Б е лого,
на
первый
вз гл яд,
дает
вполне
однозначный
ответ
на
этот
вопрос.
Действительно,
столь
важная
для
их
автора
личность
Бло ка
в
воспоминаниях
1921—
1923 гг.
значительно
переосмыслена,
снижена
в
авт о био гр афи
ческой
трилогии.
Где
же
здесь
объективность?
Этот
вопрос
легко
решить,
призна в
необъективным
образ
Блока,
построенный
в
око н
чательной
редакции
воспоминаний
А.
Белого.
И менно
так
и
считает
В.
Н.
Орлов,
подчеркивая
при
этом,
что
и
в
том,
и
в
другом
была
«одна явная тенденция
—
борьба
за
Блок а»11.
В
автобиографической
трилогии
Белого
пер вый
том
зани
мает
особое
место.
«На рубеже двух столетий» (в дальней
шем—
«На рубеже. . .») —
сло жно е
жанровое
единство.
Это,
ко
нечно,
мемуары,
но
это
и
исповедь,
и
в
достаточной
степени
композиционно
завершенное
художественное
произведение.
К
нему
без
особой
нат я жки
подойдет
и
такое
жанровое
опре
деление,
как
«социально-ф ил ософ с кий
роман».
Есл и
же
искать
од но
определение,
то
«На рубеже ...»—
автобиографическая
Но
возможно
и
другое
решение,
которое
проистекает
из
одной
из
са мых
интересных
особенностей
трилогии
А.
Белого.
Перед
ним
самим
постоянно
стоит
проблема
«объективности»
и
«субъективности»
мемуариста.
Причем
объективность
м емуа
ров
для
не го
столь
же
важна,
сколь
и
их
субъективность.
Бо
лее
тог о,
по
мнению
А.
Б е лого,
если
внешняя
об ъ екти вн ость
достаточно
легко
достижима,
то
быть
по-настоящему
субъек
тивным
никому
из
мемуаристов
еще
не
удавалось.
Не
удава
лось
хотя
бы
пот о му,
что
было
непонятно,
какую
ценность
мо
гут
иметь
глубоко
личные,
интимные,
часто
не ясны е
и
смутные
пе ре жив ания,
своей
необычностью
скорее
отделяющие
человека
от
других
людей,
чем
связывающие
его
с
ними.
281
проза,
включающая
в
с ебя
все
перечисленные
выш е
жанровые
разновидности,
дающие
в
сумме
ново е
кач еств о.
Второй
и
не
законченный
третий
тома
представляют
с обой
мемуары
в
точ
ном
смысле
слова,
но
это
ме му ары,
и мею щие
художественную
ценность.
Кл юч
к
пониманию
со дер жани я
и
жанрового
сво ео браз ия
первого
т ома
п ред лаг ает
сам
Белый.
В
тре тье й
главе
«На ру
бе же.. .»
он
отсылает
читателя
к
первому
своему
авт оби ог р афи
ческому
произведению,
на пис ан ному
в
1916 и опубликованному
в
1922 г., — «Котику
Лет аеву »,
без
уче та
которого
многое
в
пе рвом
томе
действительно
останется
неясным.
П рав да,
в
тре тье й
главе
первого
том а
Бе лый
кратко
п ер есказ ы вает
«Ко
тика
Ле таев а», но это даже не пересказ,
а
некоторые
об ъяс не
ния
то го
сложного
процесса
становления
сознания
ребенка,
ко
торый
полностью
воссоздается
в
этом
произведении.
Прежде-
всего
неясной
остается
сам а
специфика
младенческих
воспоми
на ний
Бе л ого,
а
—
по
доста точн о
ка те гори чн ому
утверждению
писателя
—
«от характера начала воспоминаний зависит вся по
следующая
ж изн ь».
Сам
Белый
в
«На рубеже. . .»
подчеркивает,
что
«Котик Ле-
таев»
—
не
художественное
п ро и зведе ние,
а
д окумен т
сознания.*
«...н е
Андрей
Белый
на писа л,
а
Борис
Ник ола е вич
Бугаев
на
туралистически
зарисовал
то,
что
твердо
помнил
всю
жизнь»12.
Это
высказывание
противоречит
мнению
большинства
кр итиков
и
читателей,
считавш их
«Котика Летаева»
выдуманной,
вычур
ной
и
непонятной
к ни гой13.
Критики
по-своему
б ыли
правы:
и
содержание,
и
фор ма
«Котика Летаева»
очень
необычны.
Но-
прав
был
и
Бе лый.
Видимость
претенциозной
формы
возникает
из-за
то го,
что
уникальным
был
сам
объект
описания.
Ни ко гда
ранее
в
литературе
не
воспроизводились
подробно
и
последо
вательно
младенческие
воспоминания.
Этот
ф акт
особенно
ва
жен
для
Бе лого :
«...Б.
Н.
Бугаев
на
несколько
месяцев
ранее
других
начал
вспоминать;
а
ве дь
мес яц
в
первых
годах
жиз ни
—
года ;
вспомнить
на
нес ко лько
меся
цев
раньше
—
силь но
увеличить
масштаб;
То лстой
и
другие
брали
более
поздние
этапы
жиз ни
младенца...
от того
они
и
вы работ али
и ной
язы к
вос
поминаний;
выросла
традиция
язы ка » («На рубеже. .. », 168).
З десь
Белый
допускает
некоторые
неточности.
И
С.
Т.
Акса
ков,
и
Толстой,
и
Короленко,
и
Вяч.
Иванов
описывали
ранние
младенческие
воспоминания.
Мысль
же
о
том,
что
«вспомнить
на
несколько
м есяце в
раньше
—
сильно
увеличить
масштаб»,
была
высказана
Толстым,
п иса вши м: «Разве я не жил тогда,
когда
учился
смотреть,
слушать,
понимать,
говорить...
Разве
не
тог да
я
приобрел
все
то,
чем
я
теперь
живу,
и
приобрел
так
мно го,
так
быстро,
что
во
всю
остальную
жизнь
не
при обрел
и
одной
сотой
т ого?
От
пятилетнего
ребенка
до
меня
—
то лько
шаг.
От
новорожденного
до
пятилетнего
—
страшное
рас стоя
ние.
От
зародыша
до
новорожденного
—
пу чина »14.
282
П рав
же
Белый,
когда
пише т
о
создавшейся
традиции
языка.
Авторы
мемуаров
ранние
младенческие
воспоминания
или
опускали,
или
сообщали
их
просто
как
интересные
факты,
не
более
того.
Иногда
же
эти
факты
подключались
к
той
или
иной
идеологической
системе,
но
при
вс ей
разнице
таких
систем
опис а ние
фактов
не
требовало
особого
языка.
Так,
С.
Т.
Акса
ков
в
«Детских годах Багрова- в нука»
пишет,
что
его
четырех
летний
герой
вспомнил,
как
его
в
младенчестве
отрывали
от
кор ми лиц ы,
но
идео л о г ически
это т
фа кт
никак
не
осмыслялся.
В
св ою
очередь,
В.
Г.
Короленко
просто
фиксирует
свое
первое
воспоминание—«сильное
зрительное
впечатление
пожара»,—
никак
не
объясняя.
А
вот
следующее
воспоминание
приводится
Короленко
не
только
потому,
что
оно
од но
из
пе рв ых: «Голова
у
м еня
в
детстве
была
большая,
и
при
падениях
я
часто
сту
кался
ею
об
пол .
Од ин
раз
это
бы ло
на
лестнице,
и
я
громко
пл ака л,
пока
от ец
не
утешил
меня
особым
прие мо м.
Он
побил
палкой
ступеньку
лестницы,
и
это
доставило
мне
удовлетворе
н ие» 15.
Этот
эпизод
авт ору
уже
служит
подтверждением
т ео
рии,
в
соответствии
с
которой
реб е нок
в
раннем
возрасте
спо
собен
переживать
то,
что
пер еж и вали
лю ди
на
ранних
ступе
нях
развития
чел о вече ског о
об щ ест в а: «Вероятно,
я
был
тог да
в
периоде
фетишизма
и
предполагал
в
дос ке
злую
и
враждеб
ную
во лю» 16.
Другое
раннее
детское
воспоминание
Короленко
—
очен ь
сильное
впечатление
от
природы,
когда
к азалось ,
что
«природа
л аско во
манила
ребенка
в
нач але
его
жизни
своей
нескончае
м ой,
не понят но й
тайной,
как
будто
о бещая
где-то
в
бесконеч
ности
глубину
познания
и
блаженство
разгадки».
Комментарий
к
этому
переживанию
у
Короленко
такой: «Как,
однако,
грубо
н аши
с лова
в ыр ажают
наши
ощущения.
В
душе
ес ть
м ного
не
понятного
говора,
который
не
вы ра зить
грубыми
словами,
как
и
реч и
прир о д ы» 17.. Проблема
языка
сущ еств уе т
для
Короленко
в
традиционной
ее
постановке:
трудности,
а
иногда
и
невоз
можность
передать
в
слове
глубокие
и
тонкие
душевные
пере
жи ван ия.
Бе лый
же
в
«Котике Летаеве»
как
раз
и
ищет
новые
фо рмы
для
передачи
ощущений,
которые
традиционно
счита
л ись
не вы р азимы ми.
Младенческие
—
досознательные
—
пе ре жива ния
вспоминает
и
герой
автобиографического
романа
И.
Бунина
«Жизнь Ар
се н ье ва », писавшегося с 1927 по 1933 г.,
т.
е.
п очти
в
тот
же
пери од ,
что
и
мемуары
Белого.
«Младенчество свое я вспоми
наю
с
печалью.
Каждое
младенчество
печально:
ску ден
тихий
м ир,
в
котором
грезит
жизнью
еще
не
совсем
про б уд ившаяс я
для
жизни,
всем
и
всему
еще
чуждая,
робкая
и
неж ная
душа.
Золо тое,
счастливое
время!
Нет,
это
вре мя
несчастное,
болез
ненно-чувствительное,
жалкое»18.
Более
того ,
герой
Бунина
по мнит
не
только
свое
младенчество,
но
и
свои
прошлые
суще
ствования
в
ве ка х: «В тамбовском поле,
под
тамбовским
небом,
283
с
такой
необыкновенной
силой
вспомнил
я
все,
что
я
видел,
чем
жил
ког да- то,
в
своих
прежних,
незапамятных
су щес тво ва ниях,
что
впоследствии,
в
Египте,
в
Нуби и,
в
т ропи ках
мне
остав а
ло сь
только
говорить
себ е:
да,
да,
все
это
именно
так,
как
я
впервые
„вспомнил“
тридцать
лет
тому
наз ад» 19.
В
статье
о
«Жизни Арсеньева»
С.
А нт онов
предлагает
такой
вопр ос .
Если
представить
себе,
что
это
не
художественное
про
изведение,
а
документ,
то
«насколько явственной и
„годной
к
употреблению“
хранится
память
предков
в
на ших
мозговых
кл ет ках
и
можно
ли
вообще
отде л ить
от
собственной
па
мя т и»? Ответ таков: «Бунин считает,
что
можно,
и
его
книга
предлагает
исследователю
интересный
фактический
материал.
Кто
знает,
может
быть,
гд е-ни бу дь
в
катакомбах
подсознания
хранятся
архивы
впечатлений
наших
древних
предков,
и,
мо
жет
бы ть,
только
пот ом у,
что
мы
не
умеем
их
вытащить
на
по
верхность,
мы
не
Ль вы
Толстые
и
не
Бун и ны »20.
С.
Ант он ов
подчеркивает,
что
«при обсуждении сложных проблем психики
не
следует
пренебрегать
свидетельствами,
которые
пока
что
расходятся
с
данными
электронных
микроскопов.
Есл и
отвергать
наследственную
память
начисто,
мно гое
стано
в ится
загадочным
(в частности
—
быстрое
овладение
ребен
ком
ре чью )»21.
Младенческие
воспоминания
Бунина
и
Белого
действительно
могут
п ок азать ся
или
выдуманными,
или
крайне
суб ъек ти в
ными,
не
имеющими
общего
интереса.
Эта
мысль
в
еще
более
заостренной
форме
звучит
и
в
«На рубеже .. . »,
когда
Бе
лый
д оказы вае т
необходимость
научного
и
художественного*
исследования
редкого
и
да же
уникального
опыта,
описанного'
им
в
«Котике Летаеве»:
«.. .надо
не
корить
за
языковую
вычурность,
а
поставить
вопрос
о
т ом,
н ужно
ли
изучать
ин ую
натуру
натурализма
Белого;
по-моему
—
надо:
вся
кий
подлинный
натуралист
и зуча ет
редкие
виды
растений,
как
и
обычные;
в
редком
растении
можно
наткнуться
ведь
на
подгляд
в
ино й
период
зем
ной
эпохи...
Э тот
случай
должен
возбудить
чисто
научный
и
художествен
ный
интерес,
ибо
он
ест ь
не
выду мка
„декадента“,
а
документ
сознания»-
(«На рубеже. .. », 168—169).
И
Котик
Лет аев,
и
Боря
Бугаев
в
первом
то ме
мемуаров
Белого
обладают
примерно
таким
же
т ипом
памяти,
что
и
ге
рой
Бунина.
Но
почему
тогда
Бунину
не
нужен
особый
язык
для
передачи
воспоминаний
Арсеньева,
а
Белому
—
нужен?
Во-первых,
Бунин,
как
и
Короленко,
часто
указывает
на
не
обычность
св оих
младенческих
и
детских
переживаний,
но
не
разв орачи ва ет
их
в
подробные
описания.
Вот
почему
так
мног о
в
«Жизни Арсеньева»
нед о у менных
вопросов,
восклицаний,
не
определенно-личных
местоимений:
«Почему же остались в моей памяти только минуты полного одиноче
ст в а?» 22; «.. .все
глядела
на
ме ня
в
окн о,
с
высоты,
ка кая-то
тихая
звезда...
284
Что
на до
был о
ей
от
меня?
Что
она
мне
без
сло в
говорила,
куда
звала,
о
чем
на по мина ла ?»23; «Почему с детства тянет человека даль,
ширь,
глу
бин а,
неизвестное..
.?
Разве
это
б ыло
бы
возможно,
будь
на шей
долей
только
то,
что
есть,
„что
бог
дал“,—
только
земля,
только
о дна
эта
ж изнь?» 24.
Во-вторых,
концепция
ми ра
у
Белого
частично
складыва
л ась
именно
на
основе
младенческого
опыта.
У
большинства
же
авторов
автобиографических
произведений
бывает
наобо
рот:
позднее
сложившееся
мировоззрение
накладывается
на
д ет
ские
воспоминания.
В
результате
приобретенные
п оздне е
взгля
ды
способствуют
а к тивиз ации
в
сознании
именно
тех
фактов
младенческих
и
детских
переживаний,
которы е
соответствуют
этим
вз гляда м,
и
описание
их
ид ет
на
языке
к онце пции,
сфор
мировавшейся
у
вз рослог о
человека.
Так,
особенности
миро
восприятия
Арсеньева
ч астич но
укл адыв ают ся
в
до ст аточ но
авторитетную
для
Бунина
философскую
систему,
в
которой
ес ть
элементы
фил осо фии
Платона,
хр ис тианс тва
и
восточных
ре
лигий.
С
точки
зрения
философии
Платона,
младенчество
де й
ствительно
мо жет
бы ть
печально,
так
как
душа,
воплотившись,
т.
е.
покинув
область
эмпирей,
болезненно
ощу ща ет
утрату
ею
гармонии.
О тсюда : «Все человеческие радости бедны,
ес ть
в
нас
кто-то,
кто
вну шае т
нам
п орой
горькую
жалость
к
самим
се б е»:?5.
Но
утр ата
душой
знания
о
прошлом
существовании
и
прошлой
гармонии
да ет
особую
радость
ощущения
новизны
бытия,
радость
отсутствующей
в
эм пире ях
вещественности
и
ма
териального
мир а,
придает
инт енсивно сть
и
неповторимость
переживания
каждого
мига
жизни26.
Поэтому
так
насыщена
«Жизнь Арсеньева»
пейзажами
и
бытовыми
зарисовками,
опи
саниями
света,
цвета,
звуков
и
запахов.
Иначе
у
Белого.
Его
младенческие
переживания
целиком
не
могут
б ыть
п ер еве дены
на
язык
в зро слых.
Для
Белого
о че
видно,
что
уже
са мі
процесс
поиска
словесных
формул
для
передачи
непосредственного
пер ежив ани я
неминуемо
его
иска
жает.
Так
возникает
внешняя
«объективность», делающая пере
живание
общепонятным,
но
уничтожающая
его
инди ви ду аль
нос ть.
Сложная
форм а, «невнятный»
язык
«Котика Летаева»
и
объясняются
ж елани ем
свести
до
минимума
это т
процесс,
передать
«без слова мысль,
волненье
без
названья»27,—
как
писал
Блок,
перефразируя
начало
стихотворения
В.
Соловьева
«Мыслей без речи и чувств без названья.. .»28.
Эту
особенность
языка
«Котика Летаева»
хорошо
почувствовал
С.
Есенин,
на
звавший
его
«гениальнейшим произведением нашего времени»,
в
котором
а втор
«зачерпнул словом то самое,
о
чем
мы
мыслим
только
тенями
мыслей»29.
Ан али тиче ск ий
пересказ
«Котика Летаева», первоначально
имевшего
уточняющий
подзаголовок
«Симфоническая повесть
о
д етств е», так же приблизителен,
как
перевод
музыки
на
язык
ло г иче ских
категорий.
И
все-таки
Белый
д ает
некоторые
осно
285
в ания
для
того,
чтобы
выделить
в
эт ом
произведении
некото
рые
о с новные
стадии
становления
самосознания
героя.
Перв ое
запомнившееся
Котику
Летаеву
ощущение
—
ощ у
щение
чис тог о
движения,
когда
действительность
переживается
как
расширение,
и
в
ней
еще
н ев озмож но
разграничить
«Я»
и
«не - Я»: «...о щущ е ние
математически
точное,
что
ты
—
и
ты,
и
не
ты,
а
какое-то
набухание
в
никуда
и
ничто»30.
Зате м
на
чинает
восприниматься
граница
между
со зна нием
и
тело м,
при
чем
сознание
как
бы
«обнимает»
тел о
извне,
а
«в месте же
те ла
ощущается
громадный
п ров а л» («Котик Летаев», 17).
Сознание
в
общепринятом
смысле
еще
не
существует,
есть
только
чувство
роста,
всеохватывающего
д виже ния,
от
которого
отъединяется
тело.
Оно
ка же тся
замкнутым
и
в
общем
движе
нии
сознания
ощущается
провалом.
Потом
появляются
первые
образы,
сопровождающиеся
обра
зованием
четкой
границы
между
«Я»
и
«не -Я »: «возникло „Я“
и
„не- Я“; возникали отдельности» («Котик Летаев», 19).
Но
первые
образы
еще
не
объединяются
в
цельное
представление
о
дей ств ите л ь нос ти: «...космос
врывался
в
действительность,
в
беспокровности
таяло
все:
в се- все
ш ир ил ос ь» («Котик Ле
т ае в», 19). «Беспокровность»
здесь
понимается
Бе лым
в
тют
чевском
смысле,
как
она
передана
в
стихотворении
«День
и
ночь»
или
«Святая ночь на небосклон взошла.. .»:
Святая
ночь
на
небосклон
взошла,
И
день
о тр адный,
де нь
любезный
Как
золотой
покров
она
свила,
Покров,
накинутый
над
бездной.
И,
как
вид ень е,
вне шн ий
мир
ушел...
И
человек,
как
сирота
бездомный,
Стоит
теп ер ь,
и
н емо щен
и
г ол,
Лицом
к
л ицу
п ред
пропастию
т емной .
На
самого
себя
покинут
он
—
Упразднен
ум,
и
м ысль
осиротела—
В
душе
своей,
как
в
бездне,
погружен,
И
нет
из вне
опо ры,
ни
предела...
И
ч у дится
да вно
минувшим
сном
Ему
теперь
все
све тлое,
живое.
..
И
в
чуждом,
неразгаданном,
ночном
Он
узнает
наследье
род овое 31.
«Покров»
—
ден ь,
устойчивость
и
ясно ст ь
фо рм
жизни,
рац ио
нальность
мышления.
Покров
упорядочивает
хаос,
защи щает
от
него
человеческое
со зн ание . «Беспокровность»
—
хаос,
бездна,
та
кое
состояние
сознания,
ког да
«упразднен ум,
и
мысль
осиро
тела».
Но
то,
что
для
сознания
Тютчева
есть
рациональная
ясн о сть
действительности,
для
ге роя
Белого
—
еще
тол ько
фор
мирующийся
образ
«внешнего мира» .
Погруженный
в
собствен
ное
сознание,
как
в
бездну,
человек
ощу щае т
се бя
«бездомным
286
сиротой», о чем в «Котике
Летаеве»
Белый
пише т: «...Мн е
в еч
ность—
родственна;
ина че
—
пер ежи вания
мое й
ж изни
приняли
бы
другую
окраску, <.. .>
не
спадали
бы
узы
к р ови» («Котик
Л ет аев», 54).
Но
это
ощущение
«сиротства»
и
для
Тютчева,
и
для
Белого
—
необходимая
ступень,
чтобы
в
глубинах
созна
ния
почувствовать
с вязь
с
«родовым наследьем», «памятью
предков».
З атем
в
«Котике Летаеве»
описывается,
как
происходит
к он кр етиз ация
об раз ов,
как
«беспокровность»
преодолевается,
и
на
границе
«Я»
и
«не- Я»
возникает
образ
«старухи», не свя
занный
для
г ероя
с
впечатлениями
вне шне й
действительности.
Это
как
бы
первичный
м иф,
прису щ ий
са мому
сознанию.
Гра
ница
между
текучестью
и
образностью
все
время
колеблется,
и
оп исано
это
мо жет
быть
то лько
в
самом
общем
см ысл е:
«Ничто,
что-то
и
опять
ничто;
снова
чт о-т о;
все
во
мне
—
я
во
всем».
Возникают
прос тран ств ен но- време нн ые
представления,
которые
воспринимаются
как
выросшие
из
сознания,
но
при
это м
мыслятся
в
ко нкр етн ых
обр азах
де йстви тел ь но сти.
Так
впервые
ощущается
собственное
тело:
«Кожа мне стала,
как: <...>
свод;
т аково
нам
пространство;
мое
первое
представление
о
нем,
что
оно
—
коридор...
—
Мне
впоследствии
наш
коридор
представляется
воспоминанием
о
в ремени ,
когда
он
мне
был
ко ж ей» («Котик
Летаев», 26).
Подчеркнем,
что
все
это
описание
может
показаться
«невня
тицей», да и сам А.
Белый
это
понимает.
Он
не
дае т
точных
ф ормул иров ок,
а
и сп ользуе т
метафоры,
сложный
синтаксис,
усиливающий
впечатление
разорванности
речи,
на гляд но
пред
ставляющий
поиск
с лова
и
невозможность
его
найти.
Как
уже
говорилось,
оправдывает
это
Белый
тем,
что
такой
у ника льный
опыт
никогда
не
был
о писан,
не
был
представлен
в
культуре,
и
для
него
нет
язык а.
Но
н ев озмож но
создать
и
абсолютно
новый
я зык.
Тем
более,
что
похожие
состояния
сознания
о пи
сывались
в
культуре,
особенно
в
по эз ии,
но
они
всегда
были
результатом
долгих
размышлений
о
соотношении
мира
и
инди
видуального
сознания,
а
не
воспоминаниями
мл аде нч ес тва.
По
этому
Белый
вводит
в
свою
«невнятицу»
точные
цитаты,
как,
например,
строку
из
стихотворения
Тютчева
«Тени сизые сме
сились...»: «Все во мне,
и
я
во
всем».
Но
он
не
закавычивает
эту
ци тату ,
поскольку
поэтическая
фор мул а
со о тв етству ет
его
непосредственному,
младенческому,
восп рият ию .
Все
же
стихо
тв орен ие
Тютчева,
где
описывается,
как
ис чезаю т
точные
и
чет
кие
границы
межд у
предметами
и
явле ниям и
жизни,
з ву ками
и
цветами,
как
становятся
зы бки ми
и
нео тчетл ив ым и
их
восприя
ти я,
поясняет
для
Белого
подвижность
границы
между
образ
ностью
и
теку ч ес тью,
между
«Я»
и
«не -Я ».
За тем
начинается
в осп рияти е
конкретной
действительности
в
точном
смысле
этого
слова,
так
как
«старуха»
все-таки
по
я вляе тся
из
его
«безобразных»
представлений
и
не
связана
287
с
окружавшей
его
реальностью.
Запомнилась
стен а
детско й
комнаты
и
печная
труба,
но
эта
действительность
деформи
руется
следами
пре дыд ущи х
во спо ми нан ий:
«.. .очень
скоро
открылось
мне :
д е тская
комната;
сзади
дыра
зарастала,
переходя
—
в
печной
рот
(печной рот — воспоминание о давно погибшем,
о
старом:
веет
ве тер
в
трубе
о
довременном
со знан ии )» («Котик Ле-
та е в», 27).
П осл едую щие
с тадии
уже
могут
быть
описаны
проще.
Это
—
до миф ологиче ск а я,
т.
е.
до исто риче ск ая
ст адия,
и
потому
п ер
вый
запомнившийся
человек
—
ре а льный
дя дя
Вася
—
воспри
нимается
как
динозавр,
х отя
само
это
слово
будет
узнано
позднее:
«Предлиннейший гад,
дя дя
Вася,
мне
вы ползыв а л
сзади:
змееногий,
усатый,
он
потом
перерезался;
он
одним
куском
к
нам
захаживал
пообедать,
а
дру
гой—
позже
встретился:
на
обертке
п олез не йшей
к нижки
„Вымершие чудо
в ища“; называется он „д ин оза вр“; говорят — они вымерли;
еще
я
их
встре
чал:
в
первых
ми гах
с оз на ния» («Котик Летаев», 28).
Поэтому,
ког да
мн ого
поз днее
Белый
описывает
во
втором
томе
мемуаров
св ою
встречу
с
Э.
Метнером,
то
его
п ора жает
то,
что
еще
до
зарождения
палеонтологической
психологии
Метнер
пыт алс я
объяснить
пр ичину
появления
в
со зна нии
че
ловека
домифологического
и
мифологического
слоя
воспоми
наний:
«.. .ископаемый
птеродактиль
в
реб енк е,
пробегающем
ракурс
в сех
истори
ческих
и
доисторических
фаз,
жив
в
кошмаре
о
драконе,
миф
о
котором
—
ит ог
опыта
передачи
памяти
о
встречах
первых
людей
с
последними
пт еро
дактилями»32.
З атем
начинается
чи сто
мифологическое
в осп рияти е
реаль
ности:
«... пе реж ив аю
<...>
подпирамидный
Египет:
мы
живем
в
те ле
Сфинкса;
комнаты,
коридоры
—
п ус тоты
костей
те ла
Сф инк с а. ..» («Котик Летаев»,
33).
И ли : «По ближним комнатам кто -то
водит
ме ня;
молчаливо,
сурово;
кто-то
свет оче м
освещает
мне
путь,
впоследствии
становится
ясно:
это
мама
иль
няня
прово дя т
меня
из
к оридора
<.. .>
в
мою
дет ску ю
комнату,
<.. .>
на пом инал о
оно:
ше стви е
по
храмовым
коридора м
в
сопровождении
быкоголового
мужчины
с
же з л о м» («Котик Летаев», 39—40).
И
далее
А.
Белый
говорит,
что
впоследствии
он
узнавал
изображения
подобных
шес твий,
когда
видел
их
на
с тенах
подземных
гробниц
Египта.
Жизненный
опыт
р ебенк а
усложняется
одновременно
с
ус
ложнением
его
мифологического
опыта.
Конкретные
люди
во с
п рин имаю тся
как
мифологические
персонажи:
доктор
Дорионов
ви ди тся
минотавром,
отец—Гефестом,
прежняя
«старуха»
с вя
зывается
теперь
с
к рест ной
матерью.
З десь
Б елый
оговаривает
то
важное
для
него,
но
тр у дно
сознаваемое
чит ате лям и
обстоятельство,
что
его
мифологиче
ско е
в осп рияти е
было
непосредственным.
Существующие
в
к уль
288
туре
мифологические
имен а
у з нав ались
позднее.
То
есть
он
знал
суть
явле ния,
но
не
зн ал
для
не го
имени:
«Папа водится редко;
он
в
от су тс твии
пр едст авляет ся
мне
огнеротым
ка
ким-то
—
к рас н окудрые
пламена,
огнерод,
вылетают
из
уст...
(я впослед
ствии
п ознак омилс я
с
греческой
мифологией;
и
свое
понимание
папы
о пре
делил:
он
—
Геф ест;
в
к абинет е
своем ,
надев
на
нос
очки,
он
к ует
там
огни
—
среброструйные
молн ьи
из
стали,
которые
наподобье
складного
аршина
он
сложит
и
спрячет
в
портфель,
чтобы
ут ащ ить
в
У нив ере
—
и
отдать
их
Зевсу:
у ниве р ситет ско му
ректору,
П удост оп ову )» («Котик Летаев», 62—63).
Фиксирует
Белый
и
начало
овладения
яз ык ом.
Пр ичем
усвоение
язы ка,
с
од ной
стороны,
со впадает
с
тем,
как
об ычно
воспринимают
слово
в
раннем
д етств е.
Ча ще
же
всего
дети
вначале
понимают
толь ко
буквальный
смы сл
слова,
что
вполне
ест ест вен но
считается
недостатком.
Но,
с
другой
стороны,
по
скольку
в
бук ва льн ом
зн ачен ии
слова
отражено
его
происхож
дение,
то,
по
Белому,
именно
это
значение
оказывается
наибо
лее
родственным
первоначальному
мифологическому
во спр ия
тию
мира.
Та к,
впервые
ус лыша в
идиому
«вылетел в трубу»,
ге рой
св языва ет
ее
с
со б ст венным
воспоминанием: «...
и
я
хо
дил
в
трубах,
пока
оттуда
не
выполз
я
—
в
строй
н аших
ком
нат...
из-за
черного
перехода
трубы;
в
строй
стен
и
строй
пере-
жит ий» («Котик Летаев», 66).
Затем
начинается
процесс
образования
по нят ий,
и
возникает
качественно
новое
соотношение
с
дейст вител ь но сть ю.
Язык
по
н ятий
вытесняет
из
сознания
безобразные
представления
мл а
денчества:
«Описанное — не сознание,
а
—
ощуп и
космосов;
за
м ною
гонятся
п рощ упи
по
веренице
лет :
стародавним
титаном:
титан
бежит
сзади..
.
В
дет ст ве
он
пр оли ва лся
в
меня ;
и
я
ширился
от
м оих
младенческих
въятий
—
ти та на.
Но
ощуп и
космоса
медленно
преодолевались
мною;
и
ряд ы
мо их
въятий
мне
стали:
рядами
понятий;
понятие
—
щит
от
ти та на » («Котик Летаев»,
146).
Роль
понятий
для
Белого
двойственна.
С
одной
стороны,
по
нятие
защ ищае т
действительность
от
вт орж ения
хаоса
млад ен
ческого
бреда,
но,
с
другой
стороны,
опыт
младенчества,
кот о
рый
не
может
быть
включен
в
я зык
в зрос лых,
вытесняется
понятиями
и
заб ыва ется .
С
Котиком
Лет аев ым
этого
не
проис
ходит,
его
ранние
п редст авлен ия
продолжают
жит ь
в
сознании
бессловесно.
Белый
пишет,
что
понятия,
«толкования. ..
ямо ю
мне
вдави ли
под
зе млю
мои
старод ав ние
бреды,
над
раскаленною
бездною
их
оплотневала
мне
су ша:
дол го
еще
средь
нее
на тыкал ся
я
иногда:
на
старинную
яму...
с
годами
она
зарастала;
глу хо
немою
бессонн иц ей
тяготила
мне
па мят ь.
Тяготит
и
т еп ерь » («Котик Летаев»,
146).
Так
укрепляется
в
сознании
Котика
Ле таев а
разорванность
между
опыт ом
и
действительностью.
19 Заказ No 299
289
В
опыте
чисто
мифологическое
восприятие
действительности
сменяется
смешанным
восприятием,
на
которое
уже
вли яет
знание,
полученное
от
взрослых:
«Громыхает,
а
папа
склоняется;
и
склоняется,
шеп чет
мне :
—
„Гром — скопление электричества“.
А
над
крышами
в
окна
восходит
ог ром ная
черная
туча,
тучею
на бе
гает—
тита н;
т ихий
мальчик,
я
—
плачу:
мне
стра шно » («Котик Летаев»,
147).
Приобретенное
зна ние
—
«гром
—
скопление
эл ектр и чест ва»—
не
оспаривается,
но
оно
не
соединяется
с
его
изначальным,
ми
фологическим
оп ытом .
Так
складывалось
о сн овное
для
Кот ика
Ле та ева
и
для
Андрея
Белого
противоречие,
во
мн огом
объяс
няюще е
его
ми ров оззре ни е,
противоречие
между
«несказйн -
ными»
д етск ими
воспоминаниями
и
усваиваемыми
по здне е
зна
ниям и.
Одно
из
следствий
этого
противоречия
зак люч алос ь,
в
том,
что
для
него
снижалась
абсолютная
ценность
рациональ
ных
объ ясне ни й
мира.
Обычно
младенческое
сознание
представлялось
как
«чистое
н езна ние», tabula rasa,
по
определению
Д.
Ло кка.
И
ко гда
ре б енок
изв не
получает
объяснения
мира,
то
они
даю т
радость
поз нания
и
при н имаю тся
им
на
определеный
период
как
абсо
лютные
истины.
Именно
такое
отношение
к
знанию
описан»
С.
Т.
Аксаковым
в
«Детских годах Багрова- вну ка» .
Герой
чи
та ет
популярную
книгу,
и
его
простые
вос при ятия
заменяются
п о ним анием
мира ,
что
еще
более
увеличивает
интерес
ребенка
к
не му:
«В детском уме моем произошел совершенный переворот,
и
для
меня
от
крылся
новый
мир...
Я
узнал
в
„рассуждении о громе“,
что
та кое
молни я,
воздух,
об лак а;
узн ал
образ ован ие
дождя
и
происхождение
снега.
Многие
явле ни я
в
природе,
на
которые
я
смотрел
бессмы сленн о,
хотя
и
с
любопыт
ст вом,
получили
для
мен я
см ысл,
значение
и
стали
еще
люб оп ытне е» (глава
«Последовательные воспоминания») 33.
Для
героя
Аксакова
приобретение
знаний
—
пр о цесс
органи
ческий,
а
для
Котика
Летаева
органично
ощущение
разрыва
между
приобретаемым
знанием
и
эмпирикой
младенческих
ми
фологических
пе ре жив аний,
так
как
понимание
мира
не
ведет
его
к
само по зна нию .
-
В
первом
т оме
мемуаров
А.
Белый,
в озвра щаяс ь
к
приве
денному
в
«Котике Летаеве»
примеру
объяснения
грома,
вво
дит
ряд
новых
у то чне ний.
Первое
—
наиболее
ест ествен но е.
Ре
бено к
просто
не
может
понять,
что
т акое
электричество,
и
от
ве рг ает
объяснение.
Второе
уточнение
—
су щес тве нней .
Оказы
ва ется ,
что
это
б ыло
не
просто
ощущение
раз рыв а
между
опытом
и
новым
зн ани ем.
Ч аще
всего
ав торите тн ое
понимание
мир а
(книга,
о те ц), которое приходит извне,
вытесняет
личное
(неавторитетное)
восприятие.
То
есть
происходит
то,
что-
В яч.
Иванов
в
поэме
«Младенчество», хорошо известной А.
Бе
лому,
называет
«воспоминаний палимпсест» .
Палимпсест
—
ру
290
копись,
с
которой
стерт
первоначальный
тек ст,
и
на
его
место
нанесен
но вый.
В
отношении
к
со зна нию
че лове ка
пер вон а
чальным
текстом
являются
младенческие
пе ре жива ния,
с ти
раемые
затем
приобретенным
знани ем .
В
«Котике Летаеве»
А.
Белый
пиш ет,
что
младенческие
впечатления
«отмирают у взрослых,
впечатления
эти
живут
и
во
взрослых;
но
жи вут
за
порогом
обычного
кругозора
сознания;
соз нава ни е
взрослого
з анято
к ру
гом
иных
впечатлений:
в
них
втянуто;
по тр яс ение
иногда,
от рыва я
сознание
•от обычных предметов,
погружает
его
в
кру г
предметов
бы лых
впечатлений
и
—
возвращается
детство.
Только
эт от
возврат
—
по -ино му » («Котик Ле-
та ев», 204—205).
Чтобы
ответить
на
вопрос,
что
же
означает
это
«по- ин ом у»,
необходимо
понять,
как
с оотнос ятся
между
с обой
оба
«текста»
в
сознании
самого
А.
Белого.
Законы
второго
«текста», как бы
за писа нно го
само й
действительностью,
не
тольк о
не
объясняют
те кста
первоначального,
а
пр ямо
противоречат
ему.
Но,
не
смотря
на
э то,
он
не
вытесняется
«за порог обычного кругозора
со зна ния», как это чаще всего и происходит.
Младенческие
в ос
поминания
А.
Белого
не
стираются
в
его
памяти,
потому
что
это
бы ли
очень
яркие
и
сильные
впеча тл ения,
и
не
фра гм ента рные ,
а
с
четко
запомнившейся
п осле дов ат ельн ост ью
эпизодов.
Их
яркость
мо гла
бы
угаснуть,
если
бы
окруж аю щая
среда
ока
зала
на
не го
более
сильное
в о здейст вие.
Этого
не
произошло,
так
как
не
нашлось
ни
од ной
авторитетной
точки
зрения,
кото
рая
могла
б ыть
принята
как
единственно
п рав иль ная.
Обычно
таки м
авторитетным
в
детстве
яв ляет ся
мне ние
род ите ле й.
Его
же
родители
представляли
л юдей,
взгляды
которых
абсолютно
не
совпадали.
Не
произошло
и
частого
в
подобных
сл у чаях
присоединения
к
то чке
зрения
одного
из
них.
Не
объяснимый
ав тори тетны м
мнением
внутренний
о пыт
затаивался
и
сохра
нялс я:
«.. .Оспаривания
отц ом
и
матерью
правоты
их
взглядов
разрешил
с коро
я
в
неправоту
их
обоих,
противопоставив
им
мое
право
на
свой
взгляд
на
жиз нь,
моя
эм пирика
зак лю чалась
в
выявлении
м оих
безыменных,
мне
не
об ъяс ненных
никак
переживаний
сознания;
и
я
уже
зна л,
о
чем
можно
спрашивать,
что
объяснимо
родите лями
и
что
ими
не
бу дет
о бъяс нено
никак,
это
последнее
я
за та ил» («На рубеже. ..», 187—188).
Но
н ев озмож но
б ыло
замкнуться
от
неавторитетной
де й
ствительности,
и
во
внутреннем
опыте
это
означало
бы,
как
пише т
А.
Белый,
погружение
«в мир безыменный,
безобразный,
но
о пыт
этого
бе гст ва
привел
бы
к
идиотизму,
ибо
я,
раздувая
в
себе
болезненные
ощущения,
просто
разучился
бы
говорить...»
(«На рубеже .. .», 179—180).
Необходимо
найти
формы
соедине
ния
опыта
и
действительности
и
обретение
языка.
Для
детско г о
со знан ия
такой
формой
о каз ывает ся
ск азка.
В
сказке
ребенок
находит
возможность
совмещать
жизнь
и
«древнюю память» .
Сказка
—
сфера
свободы
в
сознании:
«О сказке знаю всегда:
сказ ка
ест ь
ск азк а,
или
не
то,
что
кр уго м,
а
неко
торое
„как бы“,
подобно
иг ре
в
жмурки;
вникание
в
сказку
мне
отличает
19*
291
ска зку
от
данности...
(...) „как бы“
перевешивало
хотя
бы
в
т ом,
что
я
св обо дно
в
ска зку
играл,
то
ес ть
видоизменял
м атери ал
ее
фабулы» («На ру
беже...», 167).
О дин
из
важных
выводов,
который
следует
из
первого
том а
воспоминаний,
имеет
прямое
отношение
к
теории
и
псих о ло гии
художественного
тв орче ств а.
Обращаясь
к
своим
субъективным
младенческим
переживаниям,
А.
Белый
при
этом
наталкивает
читателей
на
мысль,
что
они
не
только
не
уник ал ьны
и
су бъек
тивны,
а
наоборот,
доста точн о
распространены
и
неоднократно
зафиксированы,
но
только
не
в
действительной
жизни,
а
в
ис
кусстве.
Одним
из
ис т очник ов
всего
таинственного,
загадочного,
фантастического
в
искусстве
и
является,
по
А.
Белому,
мл а
денческий
и
де тски й
опыт,
и
художник,
час то
неосознанно
для
себ я,
возрожда ет
его
в
своем
творчестве.
Так ,
трехлетнему
Бо ре
Бу г аеву
чи тают
ба лл аду
Гете
«Лес
ной
ц ар ь », и это сложное произведение близко и понятно ему
и
зап о мин ается
на
всю
жизнь
пот ом у,
что
он
узнает
в
нем
свои
младенческие
во сп о мина ния.
Сам
Гете
в
автобиографическом
пр о изве дении
«Поэзия и правда»
отказывается
от
воспроизве
дения
своих
са мых
ран них
воспоминаний,
так
как
не
уверен,
что
он
сможет
отделить
их
от
позднейших
рас ска зов
близких
об
этом
периоде.
Сле дуя
логике
Б елого ,
эти
не выс ка зан ные
и
забытые
переживания
и
воплотились
в
таинственной
бал
лад е
Гете
«Лесной царь».
Автор
«Жизни Арсеньева», расска
зыв ая
о
раннем
детстве,
также
у тв ер ждает : «Вспоминая сказки,
читанные
и
слышанные
в
детстве,
до
сих
пор
чувствую,
что
самы ми
пленительными
были
в
них
слова
о
неизвестном
и
не
обычном»34.
Пу шк инск ий
пролог
к
«Руслану и Людмиле»
ста л
для
г ероя
Бунина
«одной из высших радостей, <.. .>
пер ежиты х
когда-либо
на
з ем ле », именно потому,
что,
с
точки
зрения
ра
ционалистического
сознания,
здесь
и зоб ражае тся
не что
ф ан
тастическое
и
невозможное:
«Казалось бы,
какой
вздор
—
какое-то
ни ко гда
и
нигде
не
существовавшее
лукоморье,
какой-то
„ученый“
кот,
ни
с
то го
ни
с
сего
очутившийся
на
нем
и
зачем-то
прикованный
к
дубу,
какой-то
леший,
рус ал ки
и
„на неведомых
до р ожках
след ы
нев иданных
з вер ей“.
Но
очевид но,
в
том-то
и
дело,
что
вздор,
нечт о
нел епое ,
небыва л ое ,
а
не
что-нибудь
разумное,
по дл ин н ое»35.
Отсюда
сл е дует
ответ
и
на
другой
вопрос:
почему
детям
гораздо
б лиже
сказка
и
все,
где
есть
вымысел,
фа н тазия,
тайна,
чем
реалистические
произведения?
Потому,
что
именно
в
ска
зочном
сюжете
они
«узнают»
ре а льнос ть
своих
самых
ранних
«несказанных»
переживаний.
Так
ответили
бы
Бунин
и
Белый.
Но
толь ко
для
Белого
сказка,
хотя
и
с оотве тств уе т
эмпирике
его
переживаний,
вс е-
таки
не
дает
в озможн ости
п реод олет ь
разорванность
его
созна
ния,
так
как
она
представляет
соб ой
данность,
законченность,
«готовый мир», не включающий его «Я».
И
в
этом
смысле
она
равна
замкнутой
действительности
и
застывшему
быту.
И
он
292
начинает
переделывать
сказку ,
пре в ращая
ее
в
неп рекр ащаю
щуюся
и гру.
В
игре
он
обретает
язык,
на
который
переводит
свой
безы м ян ный
младенческий
опыт.
Иг ра
в
сказку,
просто
игра,
становится
для
н его
особым
способом
отношения
к
жизни,
способом
преодоления
жестких
законов
действительности
с
ее
катег о р ически м
требованием
«так надо»,
п од чи няясь
ко то
р ому
он
исполняет
р оль
ребенка.
Все
это
дает
ощущение
сво
бод ы
и
возможность
самовыражения,
и
достигается
некоторый
син тез
между
«Я»
и
«не -Я », который Белый
определяет
как
«Он»
игр ы.
Ит ак,
младенчество
было
для
А.
Белого
бессознательным
осуществлением
мифа,
раннее
детство
—
сознательной
игрой
в
сказку ,
бывшей
для
него,
как
и
для
большинства,
началом
приобщения
к
к ульту ре.
История,
литература,
наука
и
фи лос о
фия ,
с
которыми
он
зна ко мит ся
позднее,
также
становятся
для
нег о
материалом
игры.
Но
он
не
принимает
их
ест ественно ,
как
нечто
ставшее
и
завершенное,
что
должно
быть
узнано
и
усвоено,
а
—
как
и
в
случае
со
сказкой
—
пересоздает
их,
включая
со бст вен ное
«Я» .
Приведем
такой
приме р .
Существует
действительность,
и
она
требует
от
Бори
Бугаева
и спо л нения
социальной
ро ли
гимна
зиста.
Существует
история,
где
бы ли
Це зарь,
Ци це рон
и
р им
ский
сен ат.
Это
данности,
от
нег о
не
з авис ящие.
Он
же
пере
со зд ает
действительность
и
одновременно
пер ест р аи вает
ист о
рию,
ибо
для
нег о
н ево змож на
ни
о дна
к рай ность :
ни
полное
погружение
в
вымысел,
ни
пол ное
отождествление
себ я
с
со
циальной
ролью.
Создается
некий
анало г
худож ест вен ной
био
графии,
где
фантастический
«Он»
дейс тву ет,
п о дчи няясь
прин
ци пу
правдоподобия:
«Узнавши о подвигах Юлия Цезаря и речах сенатора Цицерона,
я
об об рал
и
Це за ря,
и
Цицерона;
но
рим ск ий
Сенат
изменился;
не
Сенат,
а
парламент
возник: „он“
вырвал
его
у
правительства;
надо
же
бы ло
объ яснит ь
ежеднев
ное
посещение
ги мна зии: „он ежедневно ходит в сенат и не урок отвечает
с
парты,
а
речь
пр оиз н ос ит ...“»- («На рубеже... », 226).
Игра
—
это
свобода,
по сещени е
гимназии
—
необходимость,
и
Боре
Бу гаеву
нуж но
так
тра нсф ор мир ова ть
действительность,
чтобы
остаться
свободным,
но
в
эт ой
свободе
не
оторваться
от
действительности.
«Объяснять»
по сещен ие
гимназии
потому
и
нужно,
что
центром
сознания
яв ляетс я
игра,
но
действитель
нос ть
также
ж ивет
в
сознании,
и
ее
необходимо
соотнести
с
з акон ами
игр ы.
В
пр ив еденно м
примере
найденное
объясне
ние
и
я вляется
искомым
си нт езом
реальности
и
жизни
с озна
ния.
К
игре
он
возводит
и
п рои схож ден ие
своего
псевдонима,
который
им еет
для
не го
не
только
обычное,
но
и
идеологиче
ск ое
значен ие.
Псевдоним
родился
из
«Он»
игры :
«.. .по след ние
след ы
„его“
теряются
в
слухах
о
нем,
что
он
с
го ло вой
ушел
в
авторство
и
пишет
стихи,
замышляет
не вида нные
пр оиз в еде ния,
до лж ен
ствующие
удивить
мир.
Далее
—
краткий
п ер еры в; „его“
—
н ет.
И
тотчас
же-
рождается
„Андрей Белый“, —
то
же
мое
второе
„Я“» («На рубеже...», 226).
293:
Смы сл
тог о,
почему
он
берет
себ е
псевдоним,
хорошо
р аскр ыла
АІ а рина
Цветаева:
«Каждый псевдоним подсознательно — отказ от преемственности,
потом-
-ственности,
сыновности.
Отказ
от
отца.
Но
не
только
от
о тца
отказ,
но
и
•от святого,
под
защиту
которого
поставлен,
и
от
вер ы,
в
которую
был
кре
ще н,
и
от
собственного
младенчества,
и
от
матери,
знавшей
Бор ю
и
ника
кого
„Андрея“
не
знавшей,
отказ
от
всех
к орн ей,
то
ли
церковных,
то
ли
кровных.
<.. .>
Полная
и
страшная
с воб ода
маски:
личины
не
св оего
лица.
Полная
безответственность
и
полная
беззащитность»36.
З десь
все
вер но
и
сов падает
с
тем,
что
пиш ет
Б елый
в
своих
.■мемуарах,
которые,
как
и
«Котик Летаев», скорее всего не
•были известны Марине Цветаевой,
кроме
одного
—
«отказа от
- соб ств енн ого
младенчества».
Именно
самые
ранние
мл аденч е
ские
опыты
и
привели
Белого
к
раздвоенности
сознания
и
по
я вл ению
неско л ь ких
«Я», одно из которых стало псевдонимом.
Тем
не
менее,
н айденны й
синтез
не
окончателен.
Язык
иг ры
. дает
возможность
воплотить
вн ут ренни й
о пыт
в
некоторое
по
добие
ре а льных
форм,
но
вый ти
за
пре дел ы
собственного
созна
ния
ему
все-таки
не
уд ается ,
так
как
с
помощью
иг ры
трудно
■объяснить себя другим .
Этот
язык
Белый
называет
«языком
.жеста», подчеркивая его недостаточность.
Адекватное
выражение
эмпирики
младенческих
и
детских
переживаний
он
нашел
в
музыке.
Опыт ы
его
сознания,
казав
ши еся
столь
исключительными
и
не в ырази мы ми,
благ ода ря
.знакомству с
музыкой
получили
еще
одн о
подтверждение
св оей
реальности.
Продолжая
т ют чевс кую
метафору,
развернутую
в
«Котике Летаеве», Белый в первом томе мемуаров окружаю
щую
действительность
с
ее
рациональными
законами,
бытом,
трагедией
ребенка,
замкнутого
на
своем
со знан ии,
не поня тно м
и
ненужном
окружающим,
наз ы вает
миро м
«дневным» .
Он
контрастно
противопоставлен
«ночному»
м иру
музыки,
живу
щему
по
совсем
другим
законам.
Биографически
это
противо
по ст авлен ие
об ъя снял ось
еще
и
тем,
что
ма ть
играла
на
рояле
по
вечерам,
когда
Боря
Бугаев
ложился
спать:
«То,
что
я
п ереж ивал
противопоставлялось
всем у,
чем
я
ж ил;
покидала
драма
нашей
квартиры
и
мое
тя жело е
положение
в
ней;
не
существовало:
ни
профессоров,
ни
их
„рациональных“
объяснений,
мн е,
якоб ы,
вредных;
не
бы ло
и
ника ко го
„второго математика“;
эволюция,
Дарвин ,
цепкохвостая
обезьяна
им ели
см ысл,
вл ас ть,
основание
в
том
мире,
где
не
бы ло
звуков,
в
мире
дневном,
в
мире,
обстающем
кроватку;
но
после
десяти
часов
вечера
в
кроватку
под
зв уки
музыки
вступал
иной
м и р» («На рубеже... », 185).
Другая
важная
особенность
музыки
для
Белого
заключа
лась
в
том,
что
она
ср азу
давала
язык,
которому
не
нужно
бы ло
учи ть ся,
как
языку
науки,
философии,
ис кусс тва,
да же
■собственно языку в прямом смысле этого слова.
«Безобраз
ность»
младенческих
пер е жива ний
в
музыке,
как
и
в
сказ ке,
лолучала
воплощение,
остав ляя
свободу,
присущую
жизни
его
«сознания .
П ре одо лева лась
раздвоенность
между
сознанием
и
б ыт ием,
снимая
непреодолимый
барьер
между
ними:
294
«Мир звуков совершенно адекватен мне,
и
я
—
ему;
бытие
и
сознание
были
одно
и
то
же...
если
религия,
искусство,
наука,
правила,
быт
были
чем-то
все
еще
мне
тр а нсценде нтным ,
к
ч ему
я
подыс кива л ,
так
сказать,,
песенк и,
к
ч ему
мне
на до
б ыло
взо бра тьс я,
то
музыку
п ережи вал
я
им ма
нентно
своему
„Я“; никакого культа,
ника ких
правил,
ника ко го
объяснения;,
все
ясно;
и
все
св об од н о» («На рубеже..
.», 186).
Но
и
этот
синтез
не
мог
удовлетворить
А.
Бе лог о,
так
как
музыка,
свидетельствуя
о
«законности»
и
объ ек тив нос ти
его
переживаний
и
о тр ицая
абсолютную
уникальность
его
мла ден
ческого
опыта,
б ыла
адекв атн а
прежде
всего
«ночному», ирра
циональному
со зн анию,
по чти
не
включая
в
се бя
мир
«дневной» . .
Искомый
синтез
должен
был
с клады вать ся
из
мифа,
сказки,,
игр ы,
музыки,
взаимно
дополняющих
друг
друга
и
открываю
щих
п уть
к
изм енен ию
жизни.
Миф
—
это
прежде
всего
родо
вая
па м я т ь, «наследье родовое».
В
игре
он
учится
пересозда
ва ть
действительность
по
з акон ам
творчества.
Из
музыки.
А.
Белый
заимствует
идею
ритма,
которую
переносит
на
куль
туру,
искусство,
науку,
р ассматр и ваемы е
им
в
динамике
ста
новления
различных,
иногда
взаимоисключающих,
подобно
му
зыкальной
тем е
с
в ар иаци ями
иде й,
не
тольк о
мыслимых,
но
и
непосредственно
переживаемых.
С каз ка,
иг ра,
му зыка
были,
по
словам
А.
Б ел ог о, «опытами
си мвол из аци и»,
которые
не обх о димо
осуществить
в
действи
тель н о сти,
в
быту,
и
тогда
символизм
мог
бы
стать
реаль
н ос тью,
а
не
толь ко
худ оже ств ен ным
направлением.
А.
Белый,,
по
существу,
впервые
в
истории
к ульт уры
предпринимает
по
пы тку
биографически
обосновать
символизм
как
жизненную
практику.
По э тому
те ма
быта
становится
стержневой
для
А.
Бе
ло го
;и '.связывает
все
три
том а
его
автобиографической
три
логии.
Для
автобиографической
прозы
тр ад иционна
тема
противо
сто ян ия
среде
и
борьбы
с
бытом,
но
сам и
прич ины,
побуждаю
щие
героев
сопротивляться
влиянию
среды,
от лич аю тся
от
той,,
о
которой
пиш ет
А.
Белый.
Так,
например,
для
Герцена
борьба
с
его
средой
б ыла
вызвана
сил ьн ым
влиянием
на
него
в
юности
идеологии
декабристов,
для
Короленко
устойчивости
бы та
про
тивостояли
его
«социальные предчувствия», т.
е.
способность
улавливать
за
кажущейся
незыблемостью
фор м
жи зни
новые ,
«веяния времени» .
Внутреннее
сопротивление
Горького
было^
воспитано
в
нем
литературой
и
людьми,
выделившимися, «вы
ла мыва ю щимис я»
из
окружающей
его
среды.
По это му
борьба
с
быт ом
и
средой
всегда
была,
во-первых,,
осознанным
актом
уже
более
или
менее
вз рослог о
героя,
а
во-
вторых,
это
осознание
бы ло
результатом
воздействия
извне.
Не
так
у
А.
Б е лого,
что
подчеркивается
самой
композицией
мемуаров.
«Анкетный»
при нцип
формально
сохраняется.
Пер-
295
пый
том
на чинае т ся
с
описания
семьи,
быта,
среды.
Не обы ч
ность
же
заключается
в
том,
что
герой
в
начале
мемуаров
'фактически отсутствует,
впервые
по я вл яется
тольк о
в
тр еть ей
главе.
Так,
в
композиции
третьего
тома
четко
разг ран ич и
ваются
два
мир а
—
мир,
как
пишет
А.
Б елый , «куда я влезал»
(быт,
среда)
и
«откуда я вылезал» (младенческий опыт) .
То
ес ть
сопротивление
быту
б ыло
изначально
заложено
в
нем
■самом .
Особые
воспоминания
м ладен ч ест ва,
как
уже
указывалось,
с форми ров али
стержень
его
с оз нания,
но
не
находили
вне шне й
•формы выражения в окружающей действительности.
В
том,
что
он
постепенно
узнавал
и
у сваив ал
от
взрослых,
не
было
ничего
родст ве нног о
миру
его
внутреннего
опыта,
и
этот
о пыт
про д ол
жал
жить
в
сознании
бессловесно,
никак
не
проявляясь
вне шне .
Об ыч но,
по
мнению
А.
Белого,
не
им ея
возможности
б ыть
хо ть
как-нибудь
выраженным,
подобный
опыт
под
влиянием
впечат
л ений
действительности
за быв аетс я
и
утрачивается.
С
Ан др еем
Белым
этого
не
происходит,
так
как
влияние
среды,
которая
должна
бы ла
бы
пер екл ючи ть
внимание
р ебенка
от
внутренней
памяти
к
его
в нешн ей
роли
в
обществе,
бы ло
хотя
и
сильным,
но
неоднородным.
При
этом
Белый
различает
понятия
с реды
и
быта,
которые
обычно
в
мему ар ах
отожде
ств ляю тс я.
Есл и
для
дворян
Герцена,
мещан
Горького
быт
и
яв ляетс я
их
жизнью,
и,
следовательно,
не
сущ ес твуе т
никакой
раз дво енно ст и,
то
в
профессорской
среде,
описываемой
Белым,
ест ь
непреодолимая
раз делен ност ь
между
духовностью
и
бы
то м.
А.
Белый
со здает
яр кую
га лере ю
портретов
московской
профессорской
элиты
конца
XIX в.
Он
видит
отталкивающую
его
консервативность,
устойчивость
в сех
фор м
жизни
и
вм есте
с
тем
—
трагедию
умных
и
незаурядных
л юдей,
под чине нных
зак она м
быта.
А нализ иру я
среду
математиков,
к
которой
принадлежал
отец
писателя,
Белый
настойчиво
подчеркивает
противоположность
быта
и
с ре ды: «Математики
—
наибольшие
революционеры
в
среде
абстракций
—
оказывались
наиплотнейшими
бытови
ка м и» («На рубеже...», 43).
Бы т,
по
его
мне нию ,
навязывался
им,
и
они
просто
бр али
его
«напрокат», «как мебель черт знает
каковского
с тиля,
б ыло
бы
на
чем
сидеть,
„рюс“
так
„рюс“,
„ампир“
так
„ампир“,
кто,
в
самом
деле,
глядит
на
мебель».
Математик
в
н ауке
—
человек
«с перцем», математик в быту
—
«песок» («На рубеже. . .», 45).
Они
не
признают
б ыт,
отстр а
няются
от
не го,
но
все-таки
продолжают
жи ть,
даж е
не
заме
чая
своего
врастания
в
общепринятые
формы
обыденной
жизни.
Тр аг едия
профессорской
среды
—
в
противостоянии
м ежду
свободой
в
сфере
мысли
и
полно й
зависимостью
от
самых
при
митивных
бытовых
но рм
и
пра вил .
Од ним
из
те х,
кто
ум ел
ви
де ть
косность
профессорского
быта,
но
кто
также
остав а лся
его
«узником», так как у него не было «во ли
к
новому
быту», был
296
и
отец
А.
Б е лого:
у
н его
был
стр ах
пред
«бытиком», но была
и
боязнь
ид ти
против
страшного
канона
ж изни
«как у всех».
«Рубежом», разделившим
«отцов», их жизнь и новое поко
ление
«детей», стало отношение к быту.
Белый
пишет,
что
ру
беж
выя вил
«два поколения»,
два
типа
«детей»: «сыны»
и:
«сынки». Те х,
которые
пошли
по
стопам
«отцов», которые брали:
их
жизнь
за
образец,
он
наз ывает
«папашиными сынками» ..
«Папаша занимается биологией,
и
—
П аша,
Папаша
читает
Милля,
и
—
Паша;
пап аша
пр офе ссо р,
и
—
Паша;
папаша
рисует
план
жизни,
проду
ман ный
им,
и
—
Паша
(заимствуя план папашин) . <. . .>
Паша
вышел
в
па
пашу:
профессором,
но
без...
блеска
отц а » («На рубеже.. .», 99—100).
Для
Белого
т ема
«рубежа»
яв ляетс я
определяющей
в
его
от
нош е нии
к
людям,
и
поэтому
он
крайне
резко
отзывается
о
не
плохих
мем уар ах
Т.
Л.
Щепкиной-Куперник
«Дни моей жизни» г
опубликованных
в
1928 г. ,
т.
е.
за
год
до
выхода
первого
тома
воспоминаний
Бе лог о.
И
Т.
Щепкина-Купернйк,
и
А.
Белый
описывают
одно
и
то
же
время,
оба
мемуариста
и зображ аю т
в
своих
книгах
культур
ную
эли ту
Москвы
и
Петербурга,
но
по
ид ейном у
содержанию-
эти
мемуары
явн о
отличаются
друг
от
дру г а . «Дни моей жизни»
призваны
восславлять,
«На рубеже двух столетий» —ра зоб
лачать.
А.
Белый
прав,
ко гда
говорит
о
«трогательном почитании
„старцев“
юн ой
Т.
Щепкиной-Куперник.
Ее
книга
проникнута,
нежностью
и
любовью
ко
все й
«патриархальной»
жизни
выс шей
столичной
интеллигенции.
У
нее,
Т.
Щепкиной-Куперник,
нет
никаких
претензий
к
людям,
к
быту.
Напротив,
она
с чи тает
уклад
жизни
и
быт
«отцов»
крепким
и
здоровым,
ей
и
в
г олову
не
приходит
«бунтовать»
против
этой
жизни,
с треми ть ся
что-
л ибо
изменить
в
ней.
С
детства
Т.
Ще пкина -Ку перник
окружена
культурными,
интеллигентными
людьми,
которые
помогают
ей
определить
св ой
пут ь
в
жизни.
Все
замыслы
ее
поддерживаются.
Когд а
она
зах оте ла
играть
в
театре,
ей
доверили
сразу
же
боль
шую
роль.
Ее
рас ск азы
печатают
в
газете
«Новости дня», пьеса
«Вечность в мгновении»
вызывает
всеобщее
одобрение
теат
рально-литературной
комиссии.
По это му
Т.
Щепкина - Ку пер ник
в
своих
воспоминаниях
отдает
дан ь
уважения
«отцам»
за
их
заботу,
доброту,
поддержку,
за
то,
что
они
передают
ей
свою
к ульту ру,
традиции,
свой
жизненный
оп ыт.
И
благодарность
ее
вполне
естественна
и
человечна.
Но
Т.
Щепкина-Куперник
не:
ставит
в
своей
книге
вопрос
об
общей
о ценке
культуры,
быта,,
как
это
делает
А.
Белый.
Она
—
мемуарист
в
точ ном
смысле
слова.
А.
Белый
же
выступает
в
своей
к ниге
и
как
художник,,
и
как
социолог,
и
как
историк
культуры.
Он
стре мит ся
зари со
ва ть
социальные
типы ,
концентрирующие
в
се бе
его
понимание
эпох и.
Т.
Щепкина - Ку пер ник
для
него
именно
такой
тип
че ло
века,
в
котором
отсутствует
жажда
бунта,
в
котором
нет
чу в ства
«рубежа»
и
осознания
его
необходимости.
Она
и
подобные
ей.
297
по
мнению
Б елого,
делались
на
всю
с вою
жи знь
рабами
«отцов
с ких»
традиций,
нравов,
законов,
всего
«отцовского»
быта.
В
отличие
от
н их, «сынков», в сознании «с ын ов»
кр епла
ка кая-то
точка
свободы,
еще
тайная,
скрытная,
но
она
уже
была.
И
от
этого
со зна ния
свободы
«крепла тенденция к иному быту,
иному
ис кус ству ,
ино й
общественности
среди
н ас» («На рубеже. . .», 4).
Конечно,
в
оценке
воспоминаний
Т.
Щепкиной-Куперник
А.
Белый
излишне
нигилистичен.
В
обществе
всегда
существуют
две
тенденции
—
борьба
за
н овые
формы
жиз ни
и
стремление
к
сохранению
традиций.
Оба
мемуариста
занимают
крайние
поз иции.
Вме сте
с
тем,
нигилизм
А.
Белого
органичен
и
вы зван
изначальной
раздвоенностью
сознания.
Общефилософская
проблема
поиска
синтеза
«Я»
и
«не-Я»
меж ду
бытом
и
с озн ан ием,
рассм о т ренн ая
выше,
соч ет ает ся
в
мему ар ах
А.
Белого
с
конкретно-идеологической
проблемой
отношения
«Я»
и
среды.
Еще
в
раннем
детстве
Белый
фиксирует
в
своем
сознании
наличие
д вух
«Я» .
Одно
—
внутреннее,
опреде
ляемое
опытом
младенчества,
или
«древней памятью», которое
не
может
быть
реализовано
в
действительности.
Другое
—
внеш
нее,
свя занно е
с
по ис ком
своего
места
в
обществе,
когда
себя ,
ребенка,
он
понимает
как
«социальное поколение», требующее
соблюдения
целого
набора
пр авил.
Роль
ребенка
или
маска
ребенка
становится
способом
поведения
со
взрослыми.
И
неминуемо
эти
п рав ила
утрируются,
так
как
это
не
непосред
ственное,
а
сознательно
разыгрываемое
по вед ение.
Создается
парадоксальная
ситуация:
ребенок
играет
роль
ребенка.
По
этому
на
ф оне
других
де тей
он
вы гля дит
глупо в атым ,
неестест
венным,
отсталым.
Сам
А.
Белый
определяет
свое
по ведени е
как
«нервные гримасы на людях» («На рубеже .. .», 217).
Прав
да,
б ыли
редкие
исключения,
когда
его
внутренняя
драма
раз
двоения
оценивалась
именно
как
драма
и
принималась
всерьез.
В
главе
с
характерным
заглавием
«Избавительница»
А.
Белый
пише т
о
своей
нов ой
гувернантке:
«До нее я рос заброшенным;
гувернантка
учила
м еня
подшаркам
и
том у,
как
сидеть
за
столом
и
держать
ножик
с
вилкою;
ма дм уазел ь
(так я ее
н азы вал)
прочитала
серьезную
драму
маленького
„человечка“
и
п ротян ула
ему,
как
взрослому,
руку
п омощи ;
с
ней
я
забыл,
что
я
„маленький“; и
от
того-то
лиш ь
с
ней
я
был
ма л еньким
(без кавычек); с ней,
с
од ной
не
ло
малс я
я.
..» («На рубеже . .
.», 217).
«Нервные гримасы на людях»
были
сво йст венны
не
только
мальчику
Боре
Бугаеву,
но
и
мног им
взрослым,
например,
его
родителям,
так
как
они
старались
ж ить
в
соответствии
с
на вя
занным
им
бытом,
но
до
конца
все-таки
не
могли
следовать
ему.
Вся
среда,
окруж ающа я
ребенка,
определяется
им
как
по стоя н
ный
разрыв,
как
«ножницы»: 1) между бытом родителей и собой;
2) между отцом и матерью; 3) между разнородными утвер
ждениями
авторитетов
(Лясковской и Танеева)
о
т ом,
что
«так
надо»
жить,
и
—
что
жи ть
«так не надо» («На рубеже.. .», 187).
298
Так
как
другие
формы
б ыта
н еизв естн ы
ге рою
ме муаров ,
то>
его
неестественные,
карикатурные
«гримасы»
стали
единственно
возм ожн ой
формой
пов ед ени я: «маска»
п ри раста ла
к
лицу
и
грозила
стать
натурой.
Необходим
был
ино й
б ыт,
который
бы
дал
ему
иные
формы
п о веде ния.
Трагическая
раздвоенность,
«безъязыкость»,
неприменимость
внутреннего
опыта
начинает
преодолеваться,
ко гда
Андрей
Бе лый
входит
в
круг
семьи:
Соловьевых.
З десь
он
впервые
в идит
соответствие
вне шн их
ф орм
бы та
внутреннему
«Я» .
В
квартире
Соловьевых
все,
вплоть
до
разложенных
на
столе
к ниг
и
расстановки
кр есе л,
отрицало-
общее
представление
о
т ом , «как надо», и естественно выражало
душу
хозяев.
Для
Белого
важно,
что
Михаил
Сер ге евич
Со
ловьев
по
возрасту
принадлежал
к
поколению
«отцов», но что -
именно
он
перв ый
сказал
«нет»
всему
профессорскому
быту
и
«да»—таившемуся
бунту
поколения
«детей» . « Я
был
раз
на
всегда
вырва н
из
п одп олья»,—
так
опр ед е ляет
Белый
итог
своего
з нако мства
с
семьей
Соловьевых,
где
«подполье»
—
за
мкнутость
на
своем
со знан ии
и
невозможность
его
выразить,
а
выход
из
не го
—
обретение
языка
и
поведения,
в
которых,
хотя
бы
частично,
реализо вался
его
«невыразимый»
опы т.
Встретившись
в
1902 г.
с
Белым
в
семье
Соловьевых,
В.
Я.
Брюсов
з аписал
в
дн ев ник е: «Это едва ли не интересней
ший
человек
в
Ро сс ии.
Зрелость
и
дряхлость
ума
при
странной
молодости»37.
Интересно,
что
в
одной
части
характеристики
Брюсова
определение
«дряхлость ума»
со впадает
с
определе
ни ем
Бе лым
собственного
сознания
как
сознания
«тысячелетнего
старика».
В
другой
части
(«странная молодость») Брюсов,
ве
роятно,
подмечает
следы
прежнего
неест ест венно го
поведения,
своеобразного
инфантилизма,
игры
в
детско сть ,
так
и
не
п ре одо
ленных
Белым
окончательно.
Кор ни
символизма
Белый
вид ит,
с
одной
стороны,
в
своей
биографии,
в
индивидуальных
опытах
«символизации»,
т.
е_
в
попытках
найт и
воплощение
своим
пе реж ивания м
в
мифе,
сказке,
игре,
му зыке
и,
наконец,
р еали заци и
этих
опытов
в
бы то
вых
формах
поведения
в
семье
Соловьевых.
В
таком
обоснова
нии
Белый
выступает
просто
как
мемуарист.
С
другой
стороны,
как
социолог,
Белый
возникновение
символизма
связывает
с
по
явлением
на
рубеже
двух
веков
особого
социального
и
психоло
гического
типа
«детей рубежа», сознание которых строилось на
отрицании
з ако нов
среды
и
на
ут вержд ении
права
на
но вое
ми-
роотношение.
Символисты
объединились,
в
первую
очередь,
не
идеологически,
подчеркивал
Бе лый : «.. .идеология
имела
не
пе р
венствующее
зн ачен ие,
стиль
мироощущения
д омин иро вал
над.
абстрактною
до гм ою » («На рубеже...», 4). «Новым
стилем
ми-
роотношения»
объясняет
Белый
и
сходство
своих
детских
в ос
поминаний
с
во сп о мина ниями
Брюсова,
дневники
которого
не
раз
цитирует,
Б лока,
Эллиса.
Все
они
отрицали
старый
б ыт,
и
29$
все
в
де тс тве
пытались
создать
особые
формы
внутреннего
со
про тивл ения
быт у.
Во
втором
т оме
мемуаров
(«Начало века») Андрей Белый
дает
хар акт ер ист ику
целого
р яда
т ипов
взаимоотношений
между
людьми
и
вариантов
отношения
к
бы ту.
Но,
в
отличие
от
первого
тома,
это
уже
нов ые
ге ро и, «дети рубежа», поднявшие бунт про
тив
традиций
своих
«отцов». Б ыт «отц ов»
их
не
удовлетворял,
но
противопоставить
ему
другой
быт
они
еще
не
могли:
его
не
бы ло;
поэтому
весь
второй
том
мемуаров
—
это
поиски
«детьми рубе
жа»
форм
ре ализ ац ии
нового
стиля
мироотношения.
Фундамен
том
для
создания
новой
к ульту ры
«детьми рубежа»
частично
по
с лужило
философское
учение
В.
С.
Соловьева.
Р еальн ый
мир,
по
Соловьеву,
находится
в
стадии
рас па да,
р аз ру шения,
это
«бытие,
раздробленное
на
и скл юча ющие
д руг
друга
части
и
моменты»38.
В.
Соловьев
определяет
зад ачу
«мирового процесса»
как
необ
ходимость
«сделать внешнюю реальную среду сообразною внут
реннему
всеединству
идей», т.
е.
приз ывае т
создать
идеальный,
совершенный
ми р,
пока
еще
существующий
только
в
со знани и
людей.
От
«всеединой идеи»
философ
ид ет
к
рождению
нов ого
человека,
так
как
ид ея
эта
может
воплотиться
только
«в полноте
совершенных
и ндив ид у ал ь но стей », а последней целью и должно
быть
«высшее развитие каждой индивидуальности» 39.
Символисты
пытались
создать
и ли,
по
слову
Бел о г о, «волили»
так ой
быт,
в
котором
любые
повседневные
действия
являлись
бы
символом
духовности,
т.
е.
в
идеале
новый
быт
должен
был
пре
вратиться
в
культ.
Имен но
так
С.
Есенин
в
статье
«Ключи Ма
рии »,
на пис анно й
под
влиянием
символистов,
трактует
быт
крестьян,
имеющий,
по
его
мнению,
мифологическое
происхож
де ние
и
значение:
«Изба простолюдина — это символ понятий и отношений к миру,
выр аб о
танных
еще
до
него
его
отцами
и
предками,
которые
неосязаемый
и
далекий
мир
подчинили
с ебе
уподоблениями
вещам
их
кр от ких
очагов...
Красный
уг ол,
например,
в
избе
ес ть
уподобление
заре,
потолок
—
небесному
своду,
а
матица
—
Млечному
П ути.
<.. .>
Каждо е
утро ,
вст ав
со
сн а,
мы
омываем
лицо
свое
во дою.
Вода
е сть
символ
очищения
и
крещения
во
имя
нового
д ня.
Вытирая
ли цо
свое
о
холст
с
изобра же ние м
древа,
наш
н арод
немо
говорит
•о том,
что
он
не
забыл
тайну
древних
отцов,
вытираться
ли ство ю,
что
он
пом нит
себ я
семенем
на дмир но го
д рева. ..» 40.
Ячейкой
нового
быта,
первой
попыткой
соединить
быт
и
ду
ховность
для
«детей рубежа»
стал
кружок,
названный
«Аргонав
тами»
по
стихотворению
Ан дрея
Белого
«Золотое руно» .
Ор га
низационно
э тот
кружок
офор мле н
не
бы л,
так
как
он,
по
опре
делению
Б е лого,
«не был ни идеологией,
ни
кодексом
правил,
или
уставом,
он
был
только
импульсом
оттолкновения
от
старого
быта,
отплытия
в
море
иск аний,
которых
цель
виднелась
в
тума
не
бу ду ще го » («Начало века», 54).
Но
они
нашли
др уг
в
друг е
е ди ном ы шл е нни ко в, «сочувственников», «совопросников», всех их
•объединяло ощущение « ко нца
века
и
чувство
руб е жа».
Они
пытались
в
реальной
жиз ни
создать
сво й
особый
ми р,
образ
300
которого
жил
в
их
сознании
и
который
они
творили
в
св оих
художественных
п рои звед ен иях.
Творить
жи знь
и
быт
и
творить
искусство
для
«аргонавтов»
было
од но
и
то
же.
Законы
искус
ст ва
они
переносили
в
жизнь,
и
наоборот,
законы
жизни
—
в
ис
кусство.
Это
была
своего
рода
игр а,
но
игра
искренняя,
всел яю
щая
надеж ду ,
что
именно
эт от
созданный
мир
и
есть
та
са мая
действительность,
в
которой
полностью
реализуются
творческие
возм ожнос ти
человека.
Построение
нового
бы та
шло
по
закон ам
игры,
что
в
какой-
то
степени
б ыло
родственно
детскому
разыгрыванию
мифо в
Андр ее м
Белым.
Эта
игра
вклю ч ала
в
с ебя
выполнение
создан
ных
символистами
ритуалов,
арлекинады,
просто
розыгрышей.
Перечисляя
атрибуты
эт ой
игр ы
(диковинный ритуал « к оз л о-
вак », «галоп кентавров»
и
т.
д.), А.
В.
Лавров
пишет,
что
все
это
б ыло
одновременно
и
профанацией
старого
бы та: «Сущест
вующий
мир
изжил,
исчерпал
себя,
он
неправеден
и
достоин
осмеяния
и
эпатирования,
нужно
обнажить
его
бессмысленность,
противопоставить
ему
иные
ценности
и
ино й
тип
п ов еден и я»41.
Мифологизированный
быт ,
под об ный
то му,
который
сло жи лся
в
кружке
«аргонавтов»,
в
начале
века
существовал
во
многих
вариантах:
от
при нципо в
построения
издательств,
оформления
литературного
кру жка
до
личных
взаимоотношений.
Оп исы вая
эти
формы
во
втором
и
третьем
томах
мемуаров,
Белый
ставит
самый
ва жный
для
н его
во пр ос:
почему
новый
быт
все-таки
не
с лож ился,
почему
не
осуществилась
и дея
брат ств а
между
единомышленниками?
Самый
простой
ответ:
это
был
искусст
в енно
созданный
быт ,
живущий
прежде
всего
отрицанием:
«Соединялись в исканиях,
а
не
в
достижениях,
и
п от ому:
многие
среди
нас
оказ ы вал ись
в
кризисе
своего
вче раш нег о
дн я;
и
в
кри зи се
мировоззрения,
каз ав шего ся
ус та ре вш и м» («Начало
век а», 111).
Труднее
бы ло
осознать
то,
что
невозможность
построения
нового
бы та
к оре нилас ь
в
них
самих.
Так
второй
и
третий
том а
мемуаров
становятся
беспощадной
исповедью,
цель
которой
—
выя вит ь
неизжитые
темные
глубины
в
самом
себе
и
в
своих
единомышленниках.
Каз ав ш ееся
ра нее
легко
преодолимым
не
только
не
б ыло
преодолено,
но
и
ока за лось
самым
серьезным
препятствием
для
построения
новой
жизни: «...не
о бр ащали
внимания
мы
на
догматические
пережитки
в
каждом
из
на с,
н адея сь
склероз
до гма та
рас топи ть
огне м
энтузиазма
в
п ои сках
нового
быта
и
новой
ид ео л ог ии» («Начало века», 54).
То,
в
чем
упрекали
Белого
современники
—
в
при стра стном
от ноше нии
к
своим
единомышленникам,
в
«сведении счетов»
с
ним и,
во
мно
гом
и
о бъя сняет ся
внешне
жестким
анализом
«догматического
склероза»
в
каждом
из
них.
Брюсов,
Вяч .
Иванов,
Мережковский,
Эллис
оказались
для
Белого
совсем
«не героями». Они « з апу т ан
ные,
самопротиворечивые,
как
и
я». «И
вс е,
что
казалось
новым
—
совсем
не
новое,
а
то
же
разбитое
корыто» («Начало
301
века», 477,480).
Отс юда
и
характерное
наз ван ие
первой
части
третьего
тома
—
«Омут».
Омутом
обернулся
для
Белого
создан
ный
символистами
бы т,
который
первоначально
во с приним алс я
им
как
революционный.
Создавая
галерею
шаржированных
образов
современников,,
вы деля я,
как
и
Гог ол ь,
доминирующую
черту
ха рак тера ,
вне ш
ности,
жеста,
Белый,
тем
не
менее,
и зображ ает
не
«мертвые
души», а «мертвое»
в
живых
д уш а х, «мертвое»
в
своей
собствен
ной
душе.
Во
втором
и
тре тье м
томах
воспоминаний
Белый
при
ходи т
к
ид ее
самопознания,
и
паф ос
этой
иде и
пр ев р ащает
испо
ведь
в
проповедь:
«И открылось:
вс як ому
идейному
устремлению
должны
соответствовать
л юди,
его
проводящие
в
жизнь;
а
мы
как
люд и
не
сдали
эк замена ;
первые
же
опыты
со
строительством
жиз ни
для
мен я
окончились
крахом;
и
в ставал
на до
всею
суетой
ж изни
новы й
воп рос:
что
же
ест ь
человеческая
личность?
Что
ест ь
человек?
Человек
оказался
сложней
всех
мои х
ю ношеск их
представлений
о
не м» («Начало века», 111).
Здесь
и
кроется
причина,
почему,
написав
два
варианта
воспоминаний
в
начале
20- х
годов,
Белый
заново
переписывает
их
в
тре тий
раз .
В
центре
первых
вариантов
воспоминаний
стоял
Блок,
в
трилогии
—
в
центре
сам
Белый,
так
как
гла вн ой
за даче й
становятся
самопознание
и
сам о анал из.
Один
из
итогов
самопоз
нания
Белый
выражает
развернутой
метафорой,
где
сознание
человека
представлено
как
дом
с
большим
количеством
к ом нат:
«Вы идете к знакомому на пятый этаж неизвестного вовсе вам дома;
вы
зво
нит е
в
его
ква рти ру,
где
все
вам
известно,
где
все
так
уютно,
где
все
вас
влеч ет;
возникает
иллюзия,
бу дто
и
до м,
в
одн ой
из
ква рт ир
к оторого
вы
быв ае те
часто,
известен
вам,
как
квартира,
а
вы
пробегаете
лестницы,
где
ряд
неизвестных
к варт ир;
и
у
вас
возникают
м ысли
о
том ,
что
там
свои
жизни,
порой
очень
страшные.
Пяты й
этаж
с
вам
известной
квартирой
вы
отождест
вляете
с
личностью:
это
ж
—
участочек
личности;
ли чн ость
—
весь
дом,
то
ест ь
э нный
ряд
устремлений,
пер еж ив аний,
противоречий,
о
кот о рых
вы
и
не
под озр евает е
вовс е.
Та кая
картина
пр едст ала
мне,
когда
я
пытался
гармо
низировать
кружок
„аргонавтов“: тогда и открылось,
что
все
с лова
о
пре
красном,
о
н овом
в
каждом
из
друзей
—
ква рти рочка
в
ряде
квартир,
обита
тели
ко их
живут
и
не
по-новому,
и
не
прекрасно;
мечтая
о
деле,
связующем
т есно
друзей,
ты
мечтаешь
и
о
связи
квартир,
то
ест ь
об щно сти
переживаний;
казалось
бы
—
нал ажена
св язь.
Как
бы
не
та к.
В
поволенную
жизнь
в ве дены
ряд ы,
сотни
квартир
с
неизвестными,
подчас
ужасными
в
них
обитателями;
и
выявляется
косность,
не
преодоленная
в
каждом;
„отцы“
не
во
мне
лишь
час то
непреодоленные,
они
в
нас
таятс я;
оттого-то
и
гр ань
между
близкими
и
дал ьними,
меж
старым
и
но вым
п орой
для
нас
незаметна;
ускальзывает
в
каждом
миге;
и
порывы
на ши
к
из ме нению
жизни
ра зби ваю тся
ежеми
ну т но; „тюремщик“
всегда
соприсутствует;
он
неи зб ывен ;
и
это
—
ты
сам,
не
опознавший
себя;
ты
думаешь,
что
по бе жда ешь,
что
к руг
твоих
новых
заданий,
расширялся,
осуществился,
ты
разорвал
со
свои м
пр ошлы м;
ты
только
о
будущем;
и
вдруг,
то
же
ра збит ое
корыто;
ты
—
описал
круг,
т вое
освобождение
из
„тюрьмы“
только
сон
об
освобождении» («Начало века»,
476—477).
И
о казало сь ,
что
столь
важные
для
Белого
младенческие
воспоминания
и
детский
о пыт
—
тоже
только
одна
из
«комнат»-
в
его
сознании,
многие
другие
«комнаты»
или
ост али сь
ему
неиз
302
ве с тны,
или
в
них
р асп оряжали сь
«отцы», т.
е.
темное
и
косное
прошлое.
Так
второй
и
третий
том а
воспоминаний
Андрея
Белого
раск
рыва ют
трагедию
людей,
осознавших
необходимость
изменения
быта
и
культуры,
но
при
этом
не
заметивших,
что
все
старое,
против
чего
они
восставали,
б ыло
настолько
с иль ным
и
укоре
нившимся,
что
—
при
вс ем
иск рен нем
ж ел ании
победить
его
и
уверенности
в
уже
н асту пи вшей
победе
—
о казалось
гораздо
сильнее,
чем
они
подозревали.
Горький
считал,
что
человека
создает
не
быт
и
среда,
а
его
способность
сопротивляться
окружающей
среде.
Эта
нехитрая,
но
вполне
справедливая
мысль
относится
и
к
Белому,
и
к
рус
ской
автобиографической
прозе
XIX века .
Но
Белый
впервые
п ок азал,
что
причина
такого
сопротивления
л ежит
глу бже ,
чем
полагали
р ань ше.
Она
в
тех
метафизических
«огненных глуби
нах
д ух а», к которым можно прикоснуться,
если
отбросить
на
следие
рода
и
рационалистические
покровы
созн ани я.
Об
эт ом
хорошо
писал
М.
О.
Гершензон,
ха рак теризуя
п уть
русской
ли
тературы
от
Пуш ки на
до
А.
Белого: «И Пушкин,
не
хуже
нас,
умел
видеть
о гне нное
яд ро
ду ха
и
знал,
что
наружная
жизнь
творится
в
это м
го рн иле.
Но
тогда
художнику
еще
можно
было
бы ть
ваят елем ,
а
не
хирургом;
Пу шки ну
еще
не
бы ло
надобно
сти
уда лять
естественные
покровы...
От
Пушкина
до
Ан дрея
Белого
—
вот
наш
п уть
за
сто
л е т»42.
Пр име ча ния
1 Белый,
Андре й.
Записки
ч удак а.
М.;
Берлин, 1922.
Т.
1.
С.
64.
2 Зелинский К.
Профессорская
Москва
и
ее
кри тик а// Крит иче ски е
пи сь ма.
М. , 1934.
Кн.
2.
С.
185.
3 Там же.
С.
189.
4 Вольпе Ц.
О
мемуарах
Андрея
Белого//Белый
А.
Между
д вух
рево
люций.
Л. , 1934.
С.
XXIV.
5 Тимофеев Л.
Послед няя
книга
А.
Белого//Художественная
л итер а
тура.
1934.
No
1.
С.
13.
6 Гречишкин С.
С.,
Лавров
А.
В.
Мемуарные
письма
М.
А.
Бе ке
товой
и
А.
Белого//Александр
Блок:
Исследования
и
материалы.
Л.,
1987.
С.
251.
7 Там же.
С.
260.
8 Белый,
Андр ей.
Между
дву х
р еволю ци й.
Л ., 1934.
С.
5.
9 Короленко В .
Г.
Собр.
соч.:
В
10 т.
Т.
5.
М. , 1954.
С.
8.
10 Там же.
С.
8.
11 Орлов В.
Н.
Александр
Бло к
в
памяти
современников//Александр
Бло к
в
во сп ом инаниях
современников.
М. , 1980.
Т.
1.
С.
24.
12 Белый,
Ан дрей.
На
рубеже
дв ух
сто летий .
М.;
Л.,
1930.
С.
168.—
В
да льне йше м
ссылк и
на
это
и зда ние
даются
в
тек сте
раб оты
с
ук азани ем
страницы.
13 Здесь интересен следующий факт.
В
во с пом инания х
об
А.
Белом
,Д.
Е.
Максимов
пишет,
что
когда
он
в
возраст е
пятнадцати
лет
впервые
про чел
«Котика Летаева», впечатление его было необычайно сильным.
Вос-
литанный
в
семь е
«народников», где,
е стествен н о,
с
недоверием
отн оси ли сь
к
символистам,
он
был
с овер шен но
не
подготовлен
к
чтению
Белого.
И
тем
ле
менее,
книга
не
только
понравилась,
но
даже
по влиял а
на
его
последую
303
щие
литературные
пр ивя з анно сти.
Д.
Е.
Максимов
объясняет
это
так: «Мо
жет
бы ть,
думается
сейчас
—
ощущение
это й
поэтической
связи,
разрушив
шее
часть
мо их
юношеских
предубеждений
против
Белого,
стало
возможным
потому,
что
я,
подросток
с
еще
живой
в
ду ше
па м ятью
о
незапамятном,
до
временном
детстве,
не
успел
подавить
тех
младенческих
предпереживаний,
которые
соединяли
меня
с
героем
Белого,—
они
бы ли
достовернее
для
мен я,
чем
для
моих
близких,
взрослых» (Максимов Д.
Е.
Рус ск ие
поэты
на
ч ала
ве ка.
Л., 1986.
С.
352).
С клад ывает ся
внешне
парадоксальная
си ту аци я: «Котик Летаев»
оказы
вается
ближе,
понятнее
детскому
сознанию,
в
котором
еще
не
окончательно
стерся
собственный
младенческий
оп ыт,
нежели
сознанию
взрослых,
счит ав
ших
книгу
выдуманной
и
н еяс ной.
14 Толстой Л.
Н.
Поли.
соб р.
соч.
(юбилейное): В 90
т.
Т.
15.
М.;
Л.,
1928—1958.
С.
152.
15 Короленко В .
Г.
Собр.
соч .
Т.
5.
С.
10.
16 Там же.
17 Там же.
С.
13.
18 Бунин И.
А.
Собр.
со ч.:
В
9т.
Т.
6.
М. , 1966.
С.
9.
19 Там же.
С.
37.
20 Антонов С .
От
первого
лица.
М. , 1973.
С.
48.
21 Там же.
С.
49.
22 Бунин И.
А.
Собр.
со ч.
Т.
6.
С.
9.
23 Там же.
С.
10.
24 Там же.
С.
21.
25 Там же.
С.
16.
26 Подробно об этом см. :
Аверин
Б.
В.
Из
твор ч еской
истор ии
романа
Бунина
«Жизнь Арсеньева»//Бунинский сборник .
Ор ел, 1974.
С.
151—157.
27 Блок А.
Собр .
со ч.:
В
8т.
М.;
Л. , 1960.
Т.
3.
С.
198.
28 Соловьев В.
Стихо т во ре ния
и
шуточные
пьесы.
Л.,
1974.
С.
78.
29 Есенин С.
А.
Соб р.
соч.:
В
6т.
Т.
5.
М. , 1979.
С.
161.
30 Белый,
Андр ей.
Котик
Ле таев.
П г.,
1922.
С.
15.— В
да льне йш ем
ссылки
на
это
издание
даются
в
тексте
с
указ ан ием
страницы.
31 Тютчев Ф.
И.
Со ч.:
В
2т.
Т.
1.
М ., 1984.
С.
131.
32 Белый,
Ан дрей.
На чало
ве ка.
М.;
Л., 1933.
С.
76.— В
даль нейш ем
ссылки
на
это
из да ние
даются
в
тексте
с
указ ан ием
страницы.
33 Аксаков С .
Т.
Детские
год ы
Багрова-внука//Собр.
со ч.:
В
3т.
Т.
1.
М ., 1986.
С.
235—236.
34 Бунин И.
А.
Собр.
с оч.
Т.
6.
С.
21.
35 Там же.
С.
37.
36 Цветаева М .
И.
Соч.:
В
2т.
Т.
2.
М., 1980.
С.
306.
37 Брюсов В.
Д нев ники.
М. , 1927.
С.
121.
38 Соловьев В.
С.
Собр.
соч. :
В
8т.
Т.
8.
СПб.,
б.
г.
С.
53.
39 Там же.
С.
56.
40 Есенин С.
А.
Соб р.
со ч.
Т.
5.
С.
111.
41 Лавров А.
Мифотворчество
«аргонавтов»//Миф—Фольклор—Литера -
тура/АН
СССР.
Ин- т
рус.
лит.
(Пушкинский дом) .
Л ., 1978.
С.
137—139.
42 Гершензон М .
О.
Мудрость
Пушкина.
Пг, 1917.
С.
11.