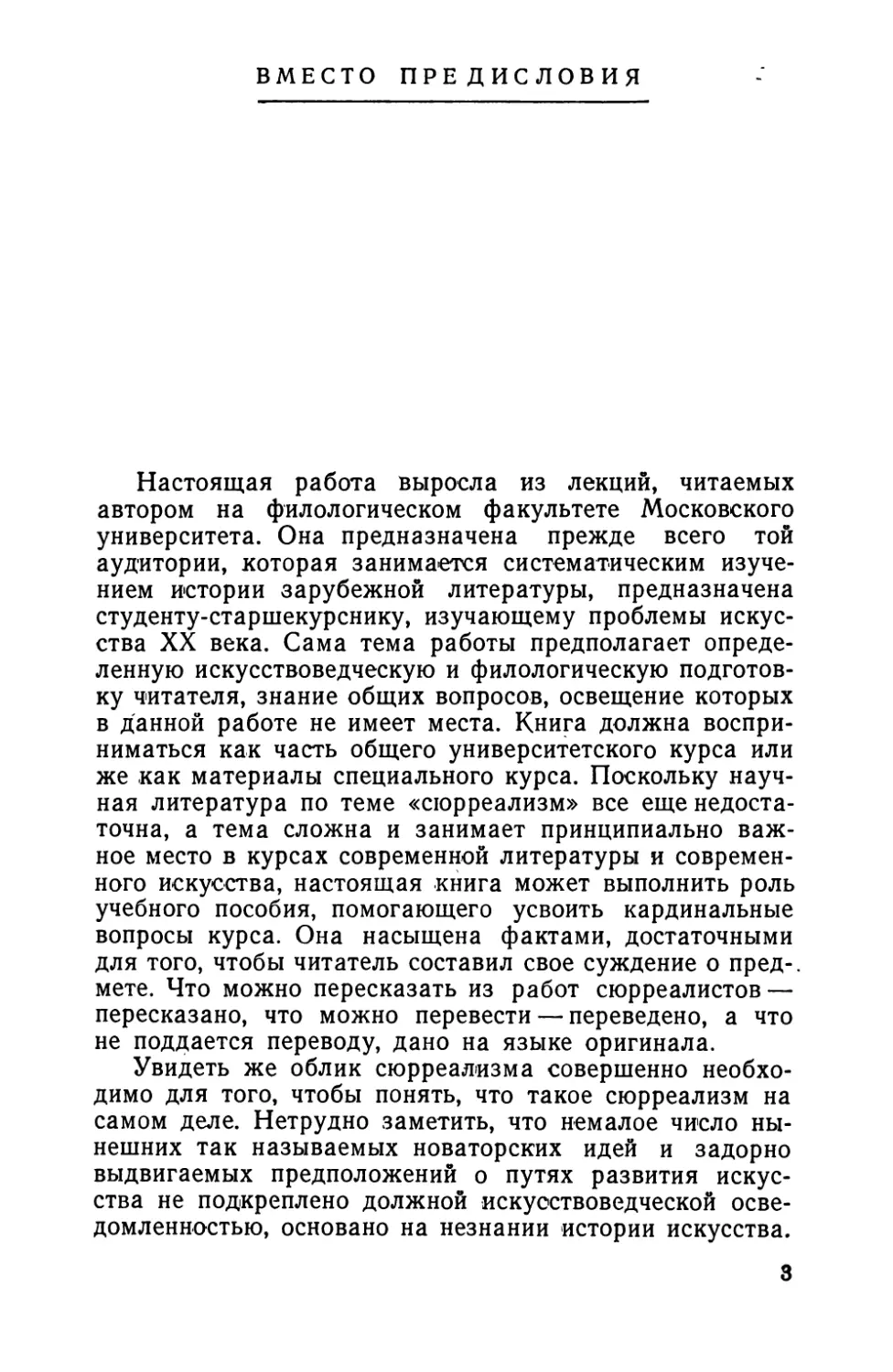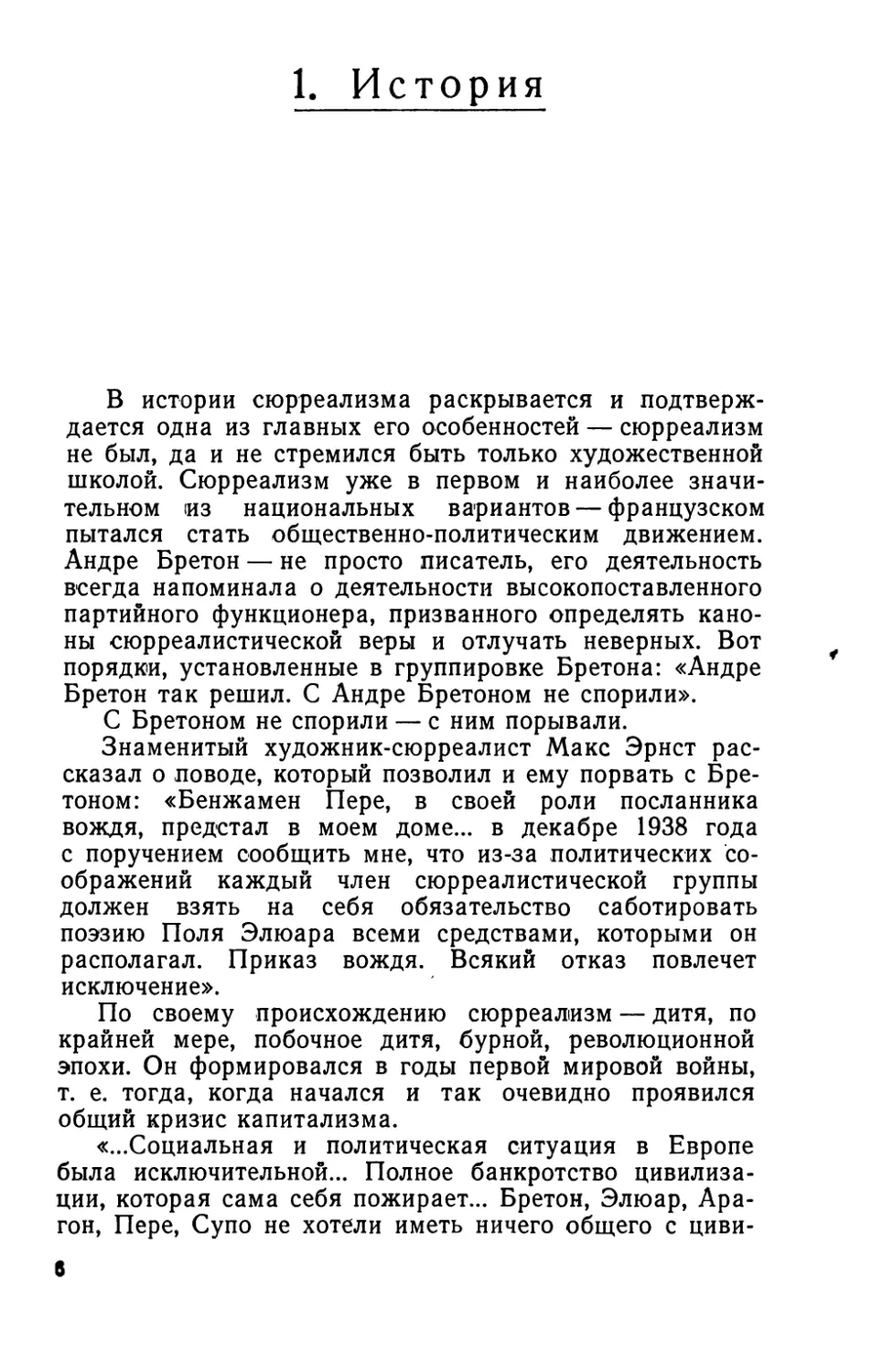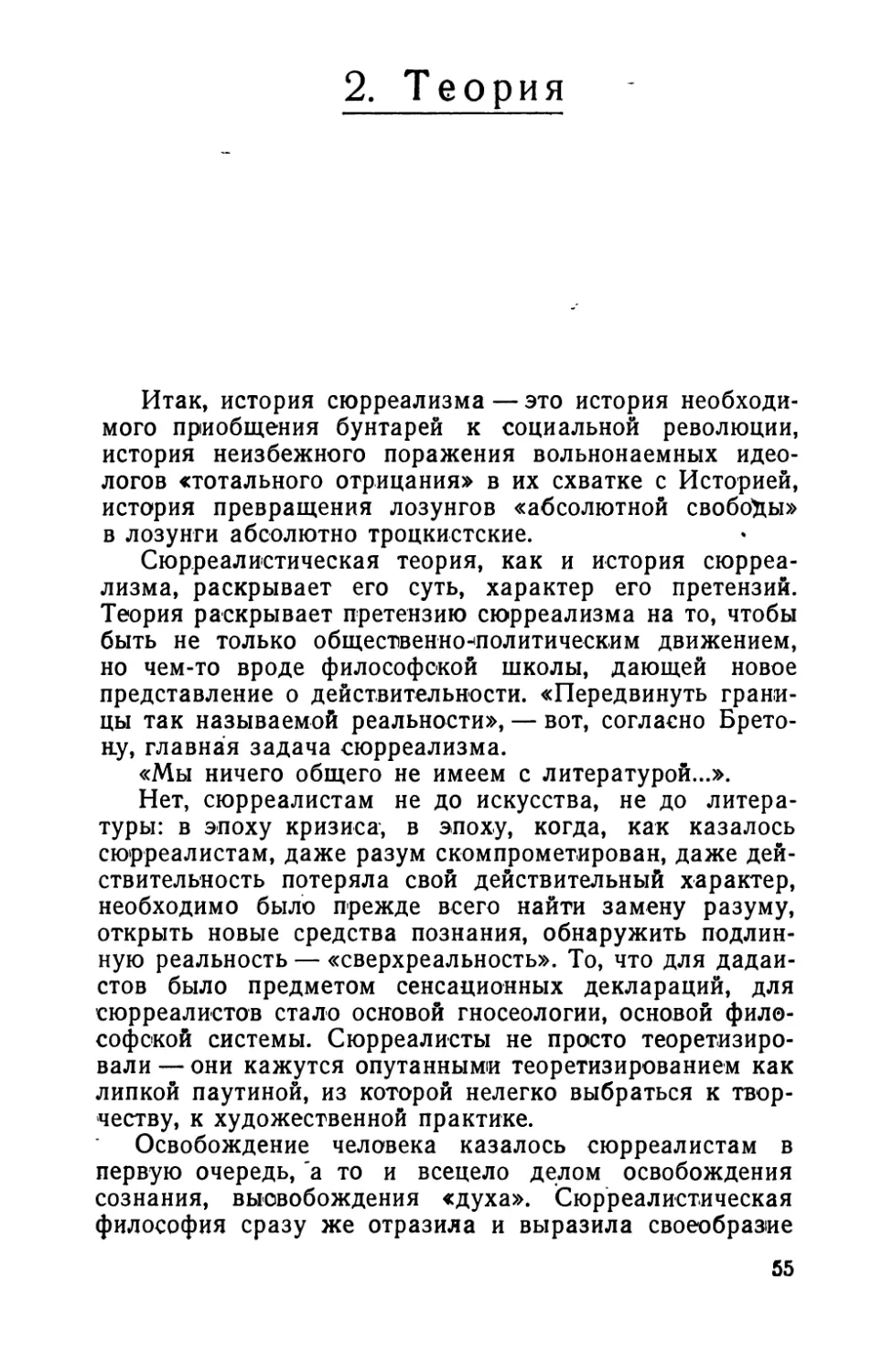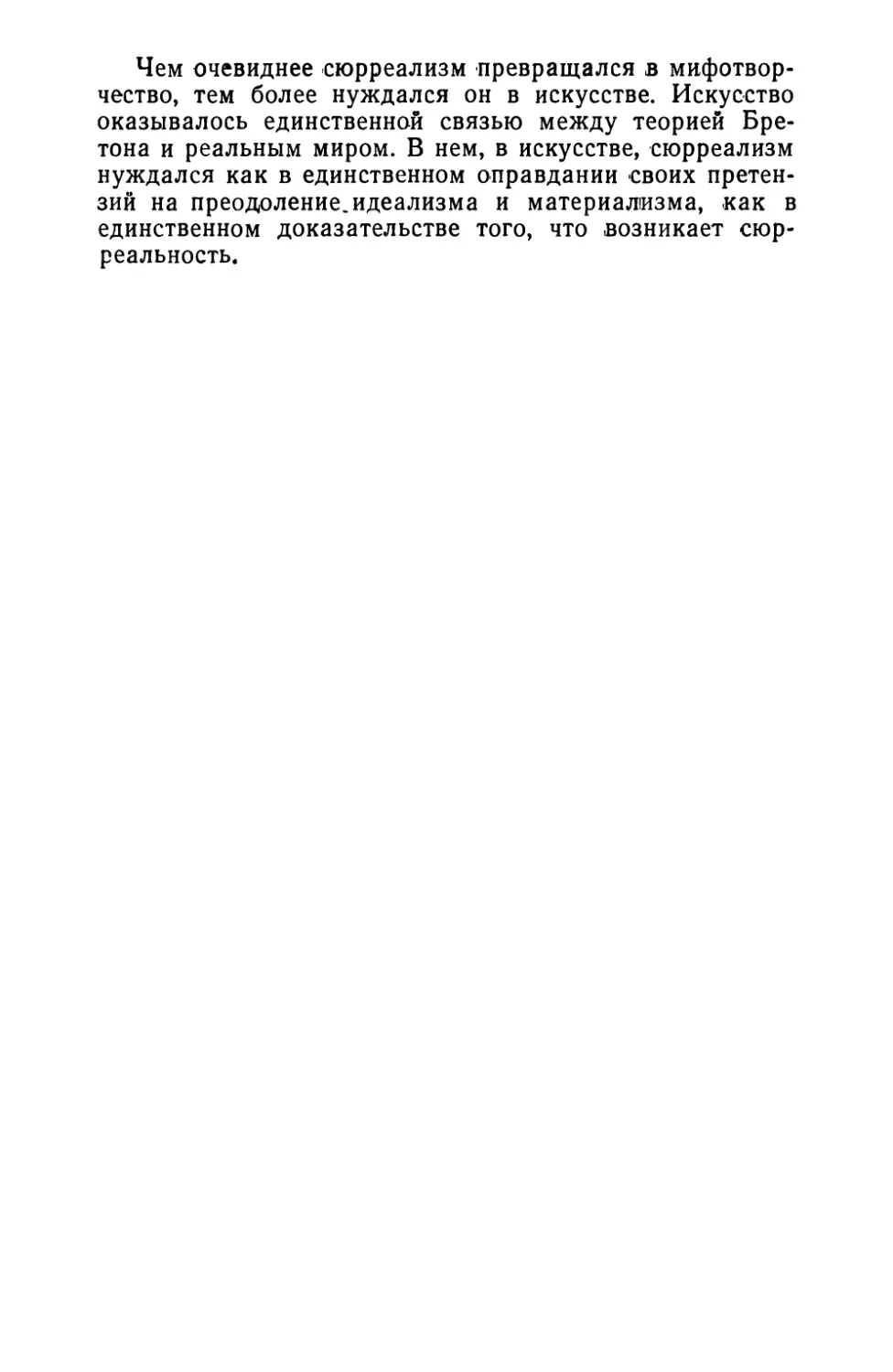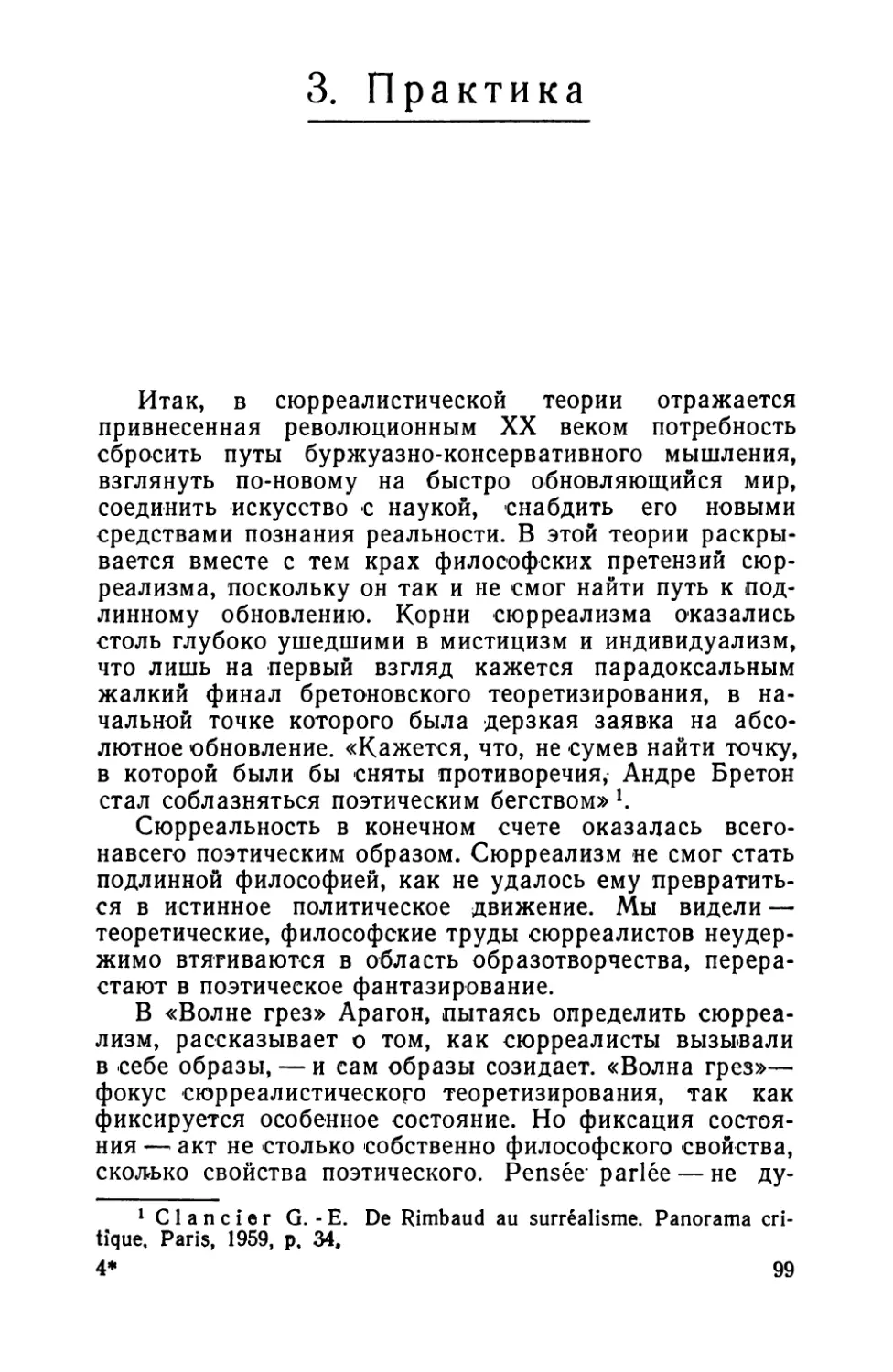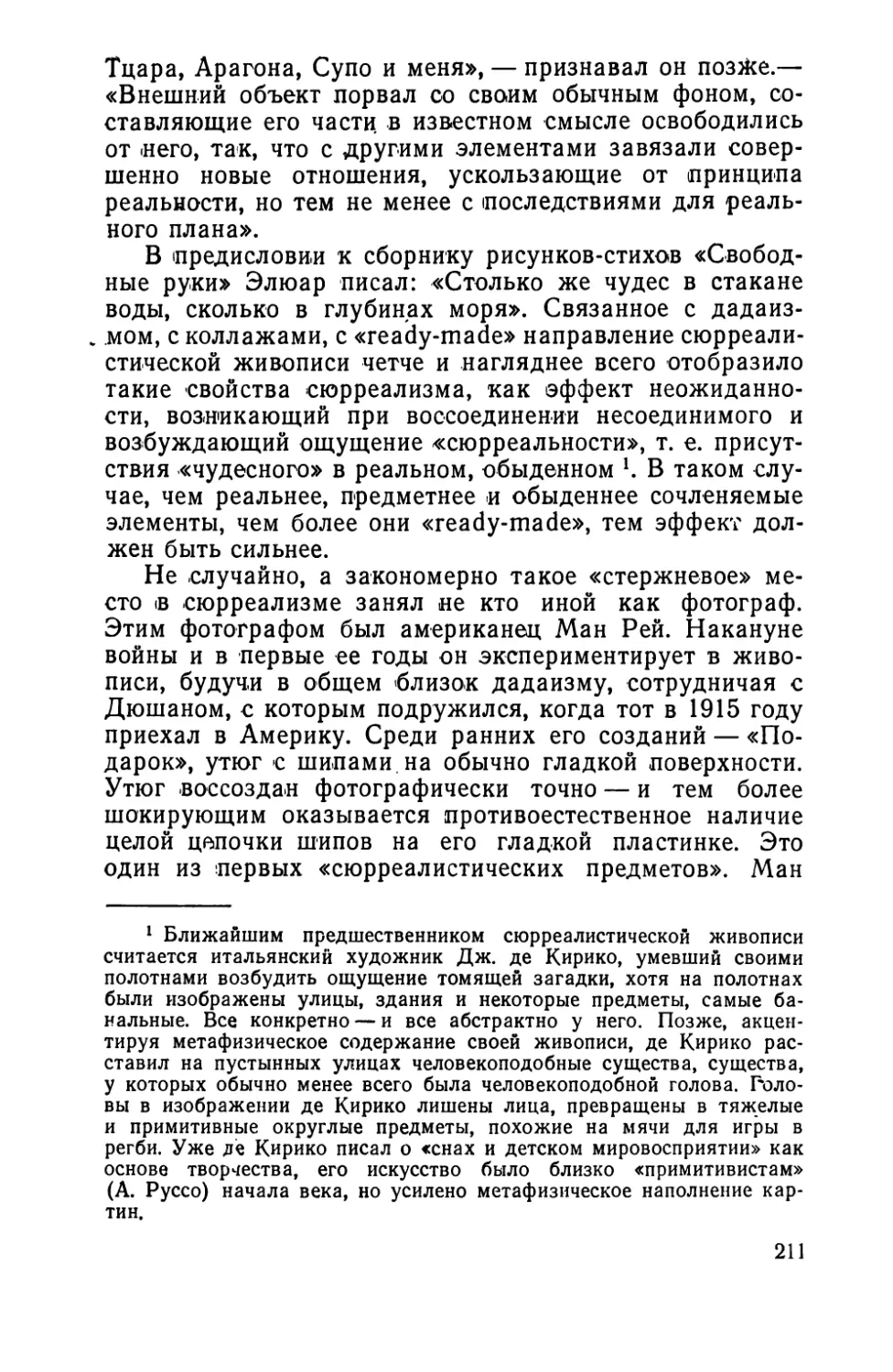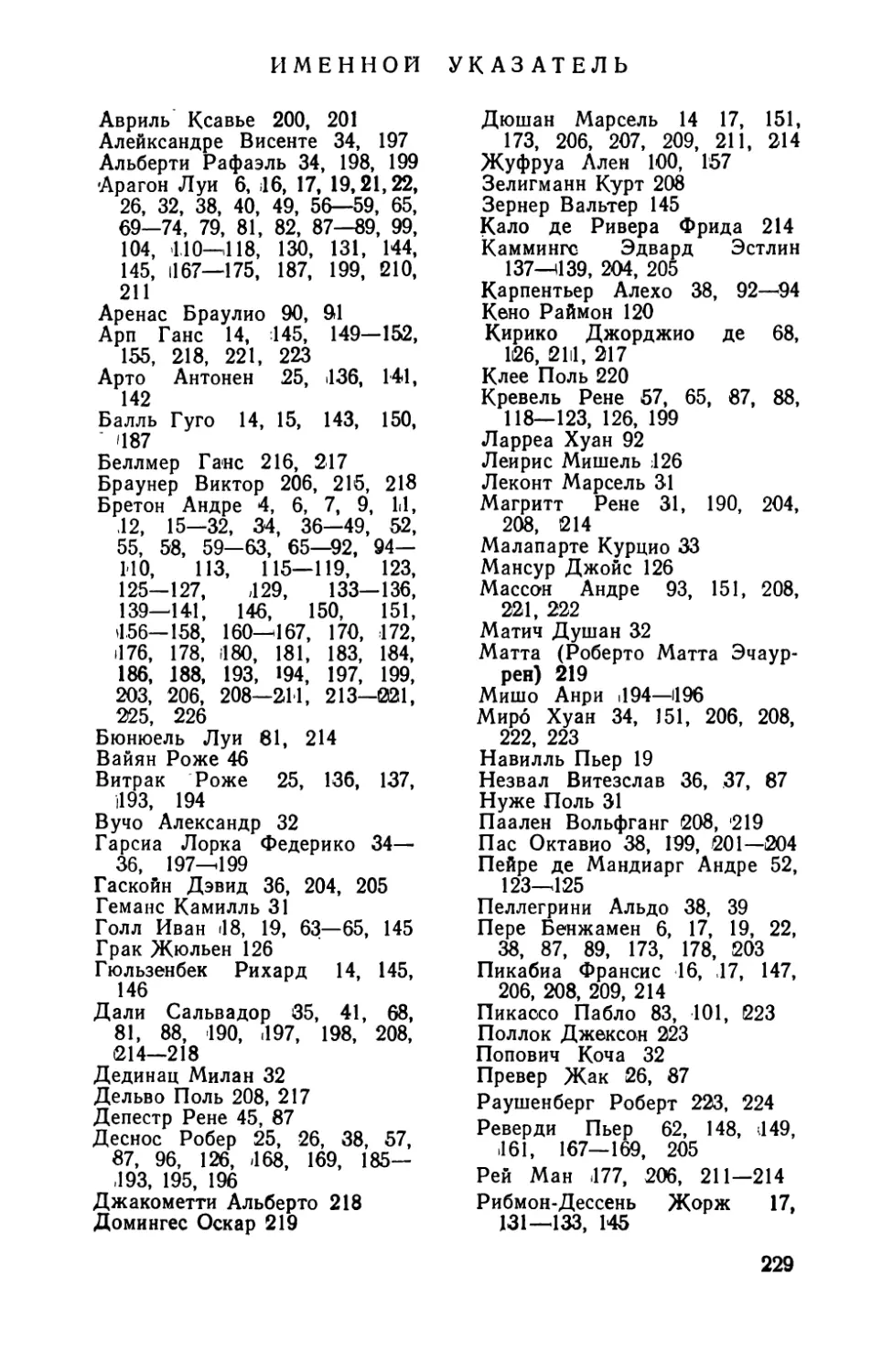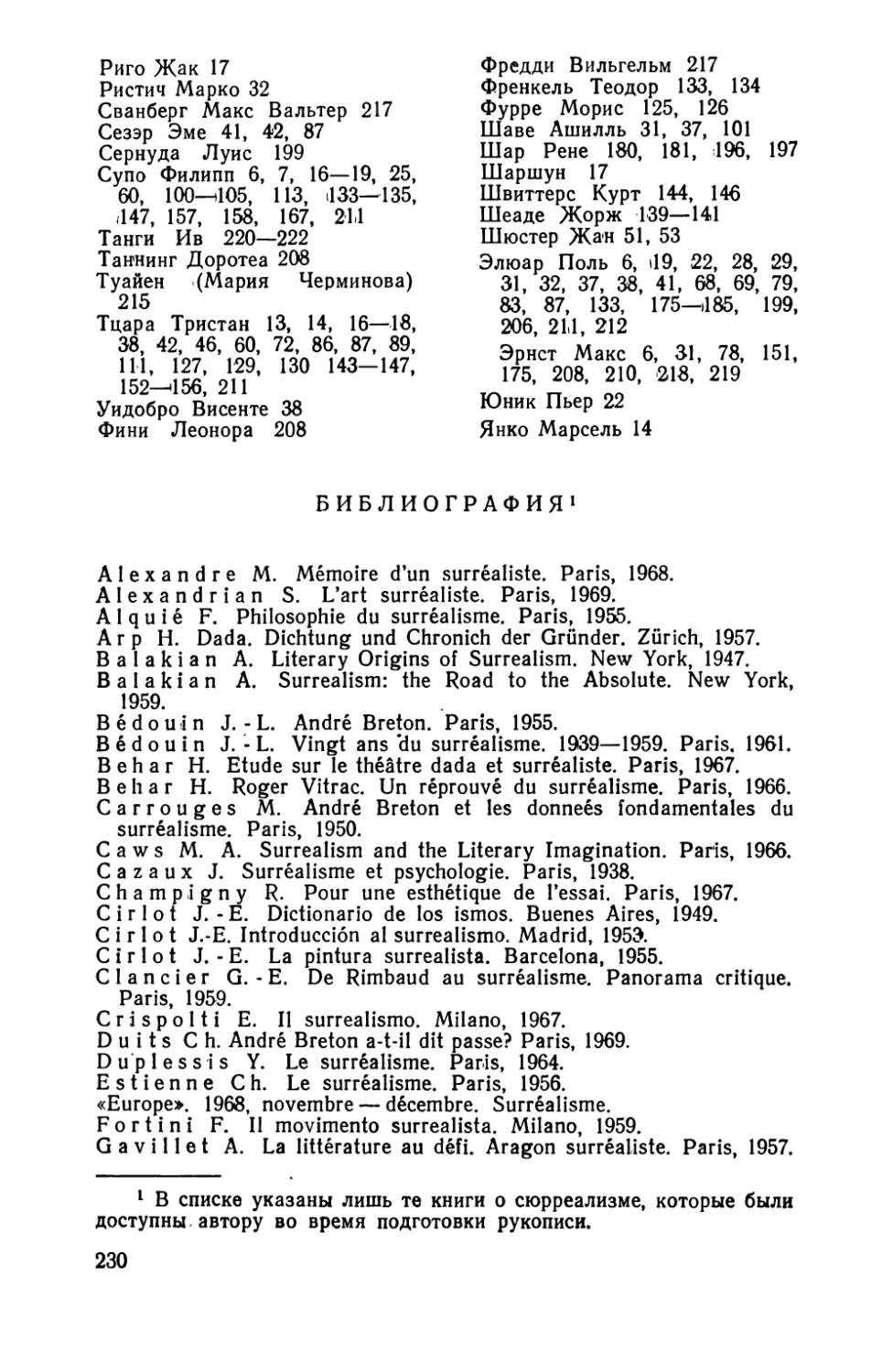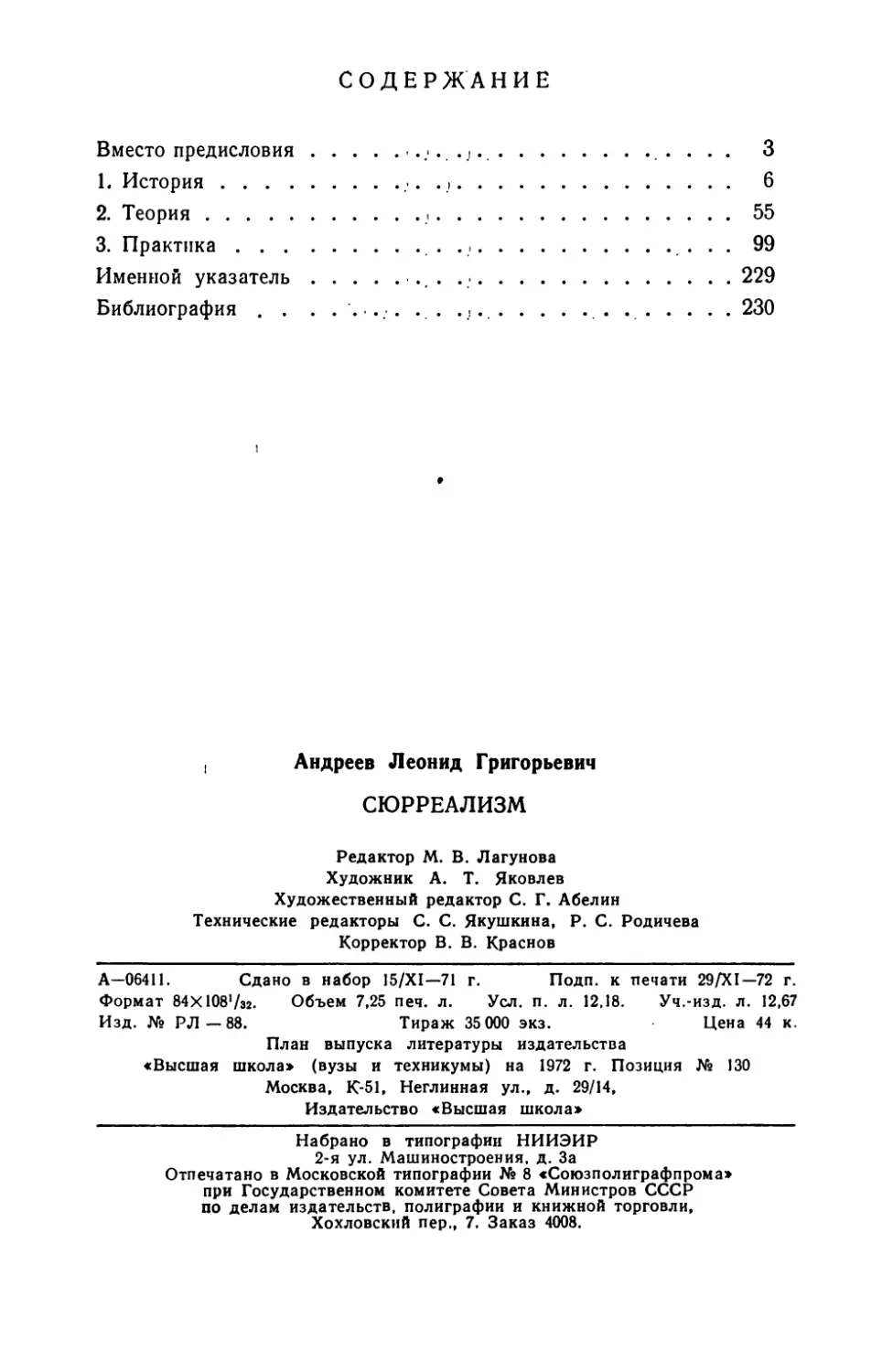Author: Андреев Л.Г.
Tags: художественная литература филология литературоведение сюрреализм издательство высшая школа
Year: 1972
Text
Л.Г. АНДРЕЕВ
Л. Г. АНДРЕЕ;В
СЮРРЕАЛИЗМ
Ф
ИЗДАТЕЛЬСТВО < ВЫСШАЯ ШКОЛА»
МОСКВА— 1972
Разрешено к изданию
Министерством высшего и среднего
специального образования СССР
в качестве пособия по спецкурсу
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Настоящая работа выросла из лекций, читаемых
автором на филологическом факультете Московского
университета. Она предназначена прежде всего той
аудитории, которая занимается систематическим изуче¬
нием истории зарубежной литературы, предназначена
студенту-старшекурснику, изучающему проблемы искус¬
ства XX века. Сама тема работы предполагает опреде¬
ленную искусствоведческую и филологическую подготов¬
ку читателя, знание общих вопросов, освещение которых
в данной работе не имеет места. Книга должна воспри¬
ниматься как часть общего университетского курса или
же как материалы специального курса. Поскольку науч¬
ная литература по теме «сюрреализм» все еще недоста¬
точна, а тема сложна и занимает принципиально важ¬
ное место в курсах современной литературы и современ¬
ного искусства, настоящая книга может выполнить роль
учебного пособия, помогающего усвоить кардинальные
вопросы курса. Она насыщена фактами, достаточными
для того, чтобы читатель составил свое суждение о пред-,
мете. Что можно пересказать из работ сюрреалистов —
пересказано, что можно перевести — переведено, а что
не поддается переводу, дано на языке оригинала.
Увидеть же облик сюрреализма совершенно необхо¬
димо для того, чтобы понять, что такое сюрреализм на
самом деле. Нетрудно заметить, что немалое число ны¬
нешних так называемых новаторских идей и задорно
выдвигаемых предположений о путях развития искус¬
ства не подкреплено должной искусствоведческой осве¬
домленностью, основано на незнании истории искусства.
3
А как раз она и позволяет поставить сюрреализм на
место, на исторически обусловленное и действительно
занятое сюрреализмом место. Сделать это, однако, не
просто в силу сбивающих с толку необузданных претен¬
зий сюрреализма и в силу того, что сюрреализм нередко
используется в полемических целях, в целях, например,
осуждения реализма как чисто условное обозначение
свободы и творческих дерзаний, без точного понимания
смысла и подлинных судеб этого феномена. Конечно,
объективная научная оценка сюрреализма немыслима
без учета и его претензий, и его дерзости, без учета того
будоражащего воздействия, которое он десятки лет ока-
зывал на художников разных стран.
Но что же дал сам сюрреализм? Чем он на самом
деле стал в политике, в философии, в искусстве, там, где
он пытался быть всем? Объективно представленная
история сюрреализма, точно воспроизведенные и по до¬
стоинству оцененные продукты сюрреалистического
творчества позволят читателю почувствовать себя уве¬
реннее среди современной разноголосицы, перед лицом
различных и даже прямо противоположных мнений.
«Сюрреализм мертв!» — «Сюрреализм вечен!» —такова
амплитуда колебаний критической мысли, обсуждающей
жгучую проблему сюрреализма. Амплитуда эта возник¬
ла не в финале полувековой истории сюрреализма. Уже
в 1927 году один из первых отлученных от сюрреализма
участников сюрреалистического движения категорически
заявил: «сюрреализм умер от тупого сектантства его
адептов». Когда отгремела вторая мировая война, каза¬
лось совершенно очевидным, что сюрреализм — нечто
довоенное, факт истории. В 1947 году Жан-Поль Сартр
заключает: «история сюрреалистической попытки пока¬
зала, что она обречена на неудачу». Другому француз¬
скому писателю, Клоду Мориаку, было ясно, что «сюр¬
реализм не переживет своего создателя, Андре Бретона».
И аргентинец Г. де Торре не сомневался, что в сюрреа¬
лизме «имеет значение лишь личность Андре Бретона»,
что после войны «сюрреализм не ожил и не может
ожить», и итальянец Ф. Фортини считает, что «сюрреа¬
лизм — конец, а не начало» и т. д.
«Сюрреализм мертв» — такой вывод, казалось бы,
напрашивался, назревал, несмотря на то, что два пер¬
вых послевоенных десятилетия был жив и как всегда
активен Бретон, несмотря на то, что из рядов — быстро
4
редевших — его сторонников раздавались неизменные
возгласы: «Сюрреализм вечен!».
А в самое последнее время внезапно не то чтобы
ожил сюрреализм, но необычайно оживился интерес
к нему. «Сюрреализм жив» — заявлено ныне. Заявлено,
конечно, поклонниками сюрреализма, которым невыно¬
сима сама мысль о его возможной смерти и которые
обычно не смотрят фактам в лицо. Впрочем, сегодня они
указуют и на факты — на стены студенческого Латин¬
ского квартала в Париже, где в мае 1968 года, во время
бурных событий, во время уличных схваток появилось
слово «сюрреализм» как лозунг, как призыв.
Так что же, «сюрреализм вечен»?
1. История
В истории сюрреализма раскрывается и подтверж¬
дается одна из главных его особенностей — сюрреализм
не был, да и не стремился быть только художественной
школой. Сюрреализм уже в первом и наиболее значи¬
тельном из национальных вариантов — французском
пытался стать общественно-политическим движением.
Андре Бретон — не просто писатель, его деятельность
всегда напоминала о деятельности высокопоставленного
партийного функционера, призванного определять кано¬
ны сюрреалистической веры и отлучать неверных. Вот
порядки, установленные в группировке Бретона: «Андре
Бретон так решил. С Андре Бретоном не спорили».
С Бретоном не спорили — с ним порывали.
Знаменитый художник-сюрреалист Макс Эрнст рас¬
сказал о поводе, который позволил и ему порвать с Бре¬
тоном: «Бенжамен Пере, в своей роли посланника
вождя, предстал в моем доме... в декабре 1938 года
с поручением сообщить мне, что из-за политических со¬
ображений каждый член сюрреалистической группы
должен взять на себя обязательство саботировать
поэзию Поля Элюара всеми средствами, которыми он
располагал. Приказ вождя. Всякий отказ повлечет
исключение».
По своему происхождению сюрреализм — дитя, по
крайней мере, побочное дитя, бурной, революционной
эпохи. Он формировался в годы первой мировой войны,
т. е. тогда, когда начался и так очевидно проявился
общий кризис капитализма.
«...Социальная и политическая ситуация в Европе
была исключительной... Полное банкротство цивилиза¬
ции, которая сама себя пожирает... Бретон, Элюар, Ара¬
гон, Пере, Супо не хотели иметь ничего общего с циви¬
6
лизацией, потерявшей смысл своего существования», —
писал знаток сюрреализма,7 автор наиболее известной
«Истории сюрреализма» Морис Надо. Жажда перемен,
которую ощутили сюрреалисты, была отражением до
крайности обострившегося кризиса буржуазного уклада.
Один из основоположников сюрреализма, Филипп Супо,
ныне вспоминает:. «По правде сказать, мы жили в тума¬
не. Тем не менее, я помню, что я начал „по секрету"
бунтовать. Бунт был бессознательным, если можно так
выразиться» *.
Происхождение сюрреализма сказалось в его проти¬
воречивости и в той настоятельности, с которой сюрреа¬
листы пытались соединить в нечто целое принципы, са¬
мым категорическим образом от жизни уводившие, с
принципами, к жизни, к общественной практике возвра¬
щавшими. Крайнее выражение первого рода устремле¬
ний — «автоматизм», попытка опереться уже не только
на индивидуальное сознание, но и на подсознание. Край¬
нее выражение устремлений второго рода — оформление
сюрреализма как политического течения, превращение
художественной школы в нечто подобное политической
цартии.
Генеалогию сюрреализма определить нетрудно. Сами
сюрреалисты достаточно четко указывали на свое родо¬
словное древо. Его основная ветвь шла от романтизма
начала XIX века, точнее говоря, от того крыла роман¬
тизма, преимущественно немецкого, которое было отме¬
чено печатью мистики и иррационализма и которое
предваряло «чистое искусство» середины прошлого ве¬
ка, — к декадансу конца века, к символизму. Среди
имен, наиболее часто упоминаемых сюрреалистами, —
имя Новалиса. В первом же манифесте сюрреализма
Бретон категорически советовал не забывать Новалиса,
не забывать таких его умозаключений: «есть собы¬
тия, которые развиваются параллельно реальным».
Далее в ряду наиболее почитаемых имен — Жерар де
Нерваль, Бодлер, Лотреамон, Рембо. Лотреамон и
Рембо — это уже непосредственные предшественники,
это преддверие сюрреалистической эстетики.
Связь с символизмом XIX века вскрывается и на
ряде других увлечений сюрреалистов. Так, сюрреалиста¬
ми буквально был открыт Раймон Руссель. Руссель пуб-
1 «Еигоре», 1968, поуетЪге— бёсешЬге, р. 3,
7
ликовал свои произведения ,с конца прошлого столетия.
Однако до сюрреалистов они не имели никакого успеха,
к ним относились как к чудачествам не вполне нормаль¬
ного человека. Руссель не был сумасшедшим — он был
идеалистом. Он был достойным преемником идеалисти¬
ческого направления эстетики XIX века, завершением
романтическо-символистской традиции. Завершением
потому, что идеализм был не просто системой взглядов
Русселя, но его жизненным принципом, не только миро¬
воззрением, но укладом жизни. Руссель просто-напросто
не выносил реальности. Он не выносил других людей и
жил одиноко, без близких людей. Он ничего не хотел
делить с другими, все пытался организовать для своего
личного пользования. Не в грубо материальном смысле
слова — Руссель был богат, но довольно безразличен к
возможностям, которые предоставляются богатством, —
а в смысле сугубо философическом.
Руссель пытался создать мир для себя, свою реаль¬
ность, отличную от подлинной. Его претензии напоми¬
нают о поисках Марселя Пруста, относящихся к тому
же времени. Но Руссель пошел дальше Пруста, он шел
по пути символистов, искавших потусторонность с по¬
мощью намеков, с помощью суггестивной поэзии. Уже
символисты пытались лишить слово определенного смыс¬
ла, сделать слово бессмысленным знаком, намекающим
на извечную тайну. Для Русселя мысль о том, что за
словами нет никакой реальности — мысль исходная, по¬
стулат его творчества. Реальны для Русселя только
слова, только слова — подлинная реальность, а произве¬
дение превращается в комбинацию слов, из себя самих
творящих эту подлинную реальность, реальность произ¬
ведения искусства. Слово, фраза отрываются у Русселя
от контекста, превращаются в строительный материал
особого мира, где царит полный произвол, где господ¬
ствует «я», порвавшее всякие связи с реальным миром.
Руссель пытался из достояния народа, из средства
общения превратить язык в свое личное достояние. Рус¬
сель попытался сделать язык средством самовыражения,
сделать французский язык языком Раймона Русселя.
Его произведения в стихах и в прозе — загадки, обрыв¬
ки действительности в особом мире Русселя, мире, где
нет (и это напоминает о Прусте) объективных понятий
времени и пространства, где все постоянно удваивается,
так как нет действий, а есть, как говорят специалисты
8
по творчеству Русселя, одни лишь «позы», застывшие
моменты, созидаемые именно словом: Руссель пытался
убедить читателя, что в его произведениях все, похожее
на реальность, появляется лишь потому, что произнесен¬
ное слово, только слово, есть реальность.
Презирая реальный мир, в 1933 году Руссель покон¬
чил с собой.
Философский фундамент сюрреализма, его эстетика
«модернизировались» относительно романтизма и симво¬
лизма за счет субъективно-идеалистических школ нача¬
ла века, за счет интуитивизма Бергсона, за счет фрей¬
дизма. Разве «автоматическое письмо», главное звено
в механизме сюрреалистического искусства, не родствен¬
но тому процессу вчувствования в «длительность», т. е.
в подлинную суть, который описывал Анри Бергсон?
И в том, и в другом случае, и у Бретона, и у Бергсона,
главным противником оказывается разум, его необхо¬
димо исключить из процесса познания, дабы процесс
этот увенчался успехом. Описания сюрреалистического
творческого акта в манифестах сюрреализма очень на¬
поминают описания работы интуиции в трудах Бергсона.
И те, и другие близки, с другой стороны, тем рассказам
о деятельности «инстинктивной памяти», которые запол¬
няют страницы знаменитого романа Марселя Пруста
«В поисках утраченного времени». Пруст — не сюрреа¬
лист, само собой разумеется. Но в этой близости берг-
сонианства, сюрреализма и Пруста раскрывается карди¬
нальное значение интуитивизма для формирования фран¬
цузского модернизма начала XX века.
Близка философии Бергсона и та «точка», открытие
которой Бретон считал главной задачей сюрреализма,
поскольку в этой точке стирается грань .времен («ста¬
рым и мрачным фарсом» называл Бретон понятие вре¬
мени) и через то, что есть, открывается путь к истинной
сущности, к тому, что словно бы и есть, но чего все же
нет. «Длительность» в системе Бергсона — тоже суще¬
ствование вне времени, обволакивающее материю недо¬
верием к реальному ее существованию, атмосферой
релятивизма, благодаря которому все расползается —
«материя исчезла».
В целом сюрреализм как философия, как мировоз¬
зрение вписывается в то широкое наступление на мате¬
риализм, которым отмечен рубеж XIX—XX веков. На
нем лежит печать кризиса буржуазной философии, о ко¬
9
тором в свое время писал В. И. Ленин. «Материя исчез¬
ла» — так можно выразить основное и типичное по
отношению ко многим частным вопросам затруднение,
создавшее этот кризис» 1. Печать кризиса и в том, что
сюрреализм — это одна из многих попыток «выскочить»
из «двух коренных направлений в философии», материа¬
листического и идеалистического, попыток, разоблачен¬
ных В. И. Лениным. Печать кризиса, наконец, в том, что
философские основы сюрреализма можно считать разно¬
видностью «научной поповщины» — если воспользовать¬
ся определением Ленина, — и сюрреализм со своей сто¬
роны доказал, что «научная поповщина» идеалистичес¬
кой философии есть простое преддверие прямой попов¬
щины»2.
Особенностью сюрреализма как философии нашего
века была претензия на всеобъемлющее значение выдви¬
нутых им принципов, стремление к выработке всеохва¬
тывающей концепции, преодолевающей односторонность
идеализма и механического, вульгарного материализма.
В этом свойстве сюрреализма сказалась эпоха — модер¬
нистские школы начала XX века, наследуя символизму,
опираясь на выработанные прошлым веком системы
идеалистической эстетики, как правило, спорили с сим¬
волизмом, не принимая ухода символизма с земли,
ухода в мир иной, потусторонний. И кубизм, и футуризм,
и даже абстракционизм претендовали на «модерность»,
убеждали в своих теснейших связях с новым веком,
улавливая, однако, в действительности как якобы самые
главные ее признаки то развитие точных наук, матема¬
тики, физики, то вторжение машин и развитие скоро¬
стей, в общем, что угодно, но не социальное содержание
эпохи. Сюрреализм — в этом ряду, он тотчас же под¬
ключился к этому процессу модернизации идеалистиче¬
ской эстетики, преодоления односторонности субъектив¬
но-идеалистических основ модернизма. Сюрреализм по¬
пытался вырваться за пределы «чистого искусства»,
наследие которого довлело над художественными поис¬
ками в начале века, особенно во Франции.
В основе сюрреализма лежит противоречие исходно¬
го интуитивизма, спонтанности, субъективизма и стрем¬
лении В. И. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 18. Материализм и
эмпириокритицизм, с. 273.
2 Т а м же, с. 361-
10
ления выбраться к внешнему миру, навести мосты к
реальности. Реальность понимается при этом с натура¬
листической прямолинейностью и нередко с натурали¬
стической дотошностью копируется. Бретон с интересом
относился к опыту натурализма XIX века. Интуитивизм
и натурализм — какие, казалось бы, различные литера¬
турно-философские традиции1 Однако и той, и другой
нашлось место в эклектической окрошке, которую пред¬
ставляет собой философия сюрреализма, попытавшегося
подняться над материализмом и идеализмом. Законо¬
мерной, причинно-следственной связи установить между
разными составными частями этой философии было не¬
возможно — в философии сюрреализма ключевое место
занял «случай», случай выводил к внешнему миру, к
«предметам», наделяя их поэтическим значением, т. е.
смыслом, непосредственно рожденным исходными субъ¬
ективистскими позициями сюрреализма.
Над сюрреализмом как течением XX века, формиро¬
вавшимся в бурные годы мировой войны и революций,
тяготела социальная практика, она неудержно влекла
к себе, вторгалась в унаследованные от прошлого сто¬
летия философские и эстетические идеи. Нечто подобное
произошло с экспрессионизмом. Экспрессионизм, сло¬
жившийся несколько ранее сюрреализма, предварял его,
т,ак как тоже основывался на мысли о некоей первона¬
чальной субстанции, заложенной в глубинах человечес¬
кого духа, независимой от человека, от его сознательной
деятельности, свободной от деформирующего влияния
внешнего мира, от неподлинного социально-историческо¬
го бытия. Только спонтанный, автоматический акт, лишь
экспрессионистическое выхлестывание «нутра» в состоя¬
нии приоткрыть истину, обнажить духовную субстанцию.
Однако мировая война вынудила многих экспрессиони¬
стов обратиться к внешнему миру, сосредоточить вни¬
мание на фактах социальной действительности — возник
так называемый «левый экспрессионизм», воссоединив¬
ший исходный субъективизм с критикой милитаризма,
с призывом к братству, с социальной, хотя и утопиче¬
ской, программой. Такое воссоединение попытался осу¬
ществить и сюрреализм, хотя некоторая социальная
активность была ему свойственна с момента появления,
она таилась в нигилизме дадаистов.
Одновременно с сюрреализмом в нескольких нацио¬
нальных потоках развивалась экзистенциалистская кон¬
11
цепция действительности. Их сближает стремление быть
мировоззрением, ответить на поставленные новым вре¬
менем вопросы. Общее между ними и в том, что для
сюрреализма и экзистенциализма внешний мир — нечто
порочное, абсурдное. Сюрреалисты и экзистенциалисты
делали вывод из наблюдений над состоянием буржуаз¬
ного общества эпохи общего кризиса. И сюрреалисты,
и экзистенциалисты испытывали отчуждение, остро
чувствовали отрыв личности от опорочившей себя, ли¬
шенной смысла, «бога» буржуазной системы, отрыв,
который влек за собой вывод экзистенциализма и сюр¬
реализма об абсолютной свободе индивидуума. Но
экзистенциализм ограничивается выявлением, пережи¬
ванием факта абсурдности бытия — сосредоточиваясь
при этом на проблеме «экзистирования», на проблеме
личности в мире, который не может быть изменен, кото¬
рый увековечивается в безысходно-пессимистической
концепции «абсурдного мира».
Сюрреализм, беря этот мир за исходное, пытается
его преодолеть — сначала расщеплением, разрушением
иллюзии реальности в искусстве, дадаистской дезинте¬
грацией составляющих иллюзию элементов, «расстрой¬
ством всех чувств» а 1а Артюр Рембо, «черным юмо¬
ром», а затем созиданием иного мира, истинного. Вслед¬
ствие этого сюрреализм еще более романтичен, нежели
экзистенциализм; не случайно пристрастие сюрреализма
к романтизму. Дальними предшественниками сюрреали¬
стов по перестройке мира были высокоценимые ими
авторы «черных романов» с их тайнами, замками, при¬
видениями, всевозможными чудесами. Желание быть
современным, желание создать истинную реальность —
и «черные романы»...
Не удивительно: истинная реальность была для сюр¬
реалистов «сюрреальностью». Неизбежным было поэто¬
му превращение сюрреалистической «научной поповщи¬
ны» в «поповщину прямую». Пытаясь подняться над
односторонностью субъективно-идеалистической фило¬
софской традиции, сюрреалисты сумели «возвыситься»—
до объективного идеализма, преодолеть односторонность
интуитивизма — на путях мистики. К традиции интуи¬
тивизма и спонтанности философская генеалогия сюр¬
реализма никак не сводима. «Только перелистывая книги
Бретона, поражаешься тем, что приходится много раз
читать наиболее известные имена алхимии и герметиз-
12
ма» *. Естественно, поскольку «существование высшей
точки..., эта кардинальная идея сюрреализма происходит
из герметической традиции..., эта идея по происхожде¬
нию религиозная». «Энтузиазм Бретона к «восхититель¬
ному XIV веку», золотому веку алхимии..., обнаруживает
глубокую связь, которая существует между алхимией
и сюрреализмом».
Сами сюрреалисты очень дорожили различием меж¬
ду чудесами («прямая поповщина») и сюрреалистичес¬
ким чудесным («поповщина научная»). Дорожили, ибо
желали быть современными, ибо к тому их побуждала
эпоха, революционная эпоха, опровергавшая выводы
идеализма и субъективного и объективного, властно
требовавшая от художника найти путь от созерцания
к действию, от описания истории к активному на нее
воздействию.
Подчиняясь этим требованиям, так четко предъяв¬
ленным искусству первой половиной нашего столетия,
сюрреализм соприкоснулся с политическими движения¬
ми современности и сам попытался стать политическим
движением.
Установить точную дату рождения сюрреализма нет
возможности. Приходится напоминать о его предшест¬
венниках и самых близких родственниках — довоенных
модернистских школах, особенно о французском кубо-
футуризме. В качестве памятной даты сюрреалистиче¬
ской генеалогии может быть названо 14 июля 1916 года.
В этот день, в разгар мировой войны, на земле нейтраль¬
ной Швейцарии, в городе Цюрихе, в «Кабаре Вольтер»
был оглашен «Манифест господина Антипирина» — пер¬
вый манифест дадаизма. Составителем манифеста был
румын Тристан Тцара. Жаропонижающее лекарство,
средство от головной боли, часто употреблявшееся Тца¬
ра,— антипирин — фигурировало в названии мани¬
феста не случайно. Оно должно было подтвердить, что
«дада ничего не означает», оно должно было привлечь
внимание к той нарочитой и грубой бессмыслице, кото¬
рую дадаисты бросали в лицо своим слушателям или
читателям. Бессмыслица была вопиющей, но она демон¬
стрировала тотальный кризис, лежавший в основе
дадаизма, и жажду «все вымести», вскормленную
1 Саггои^ез М. Апскё Вге1оп е( 1ез Зоппёез Гоп4агпеп1а1ез
Ни зиггёаНзше. Рапз, 1950, р, 21.
13
нестерпимым отвращением к буржуазному обществу, —
отвращением, которое по-анархистски распространялось
на все и вся, создавая гротескную, уродливую маску
торжествующего идиотизма: «Посмотрите на меня хо¬
рошенько! Я идиот, я шутник, я враль! Посмотрите на
меня хорошенько! Я отвратителен, мое лицо невырази¬
тельно, я маленького роста. Я поХож на всех вас».
«Я пишу манифест и я ничего не хочу, я говорю меж¬
ду тем кое-что и я в принципе против манифестов, как
я и против принципов», — заверял Тцара читателей, что¬
бы подвести к главному своему умозаключению, к глав¬
ному принципу дадаизма: «дада ничего не означает»;
«порядок=беспорядку», «я=яе мне», «утверждение=от¬
рицанию».
«Где и когда, собственно говоря, возникло Дада,
сегодня почти так же трудно установить, как и место
рождения Гомера». Впрочем, — «Дада возникло из
«Кабаре Вольтер», а «Кабаре Вольтер» основал Балль
1 февраля 1916 года». Так полагают историки дадаизма.
«Дада было основано весной 1916 года Гуго Баллем,
Тристаном Тцара, Гансом Арпом, Марселем Янко и
Рихардом Гюльзенбеком в одном маленьком трактире,
«Кабаре Вольтер». В начале 1916 года они пустили в
оборот найденное в словаре и импонировавшее своей
случайностью, своей бессмысленностью слово «дада».
«Публикация, в которой впервые было напечатано слово
«дада», называется «Кабаре Вольтер» и появилась она
в мае 1916 года в Цюрихе». Немного позже, в 1917 году,
там же возник журнал под названием «Дада».
Что же касается формирования «духа дада» и его
отражения в искусстве, то это факты более ранние, ка¬
нуна войны, начала войны. Есть, например, мнение, что
«Марселя Дюшана следует рассматривать как зачина¬
теля движения дада». «В начале 1910 года Пикабиа
познакомился с молодым, еще неизвестным художни¬
ком Марселем Дюшаном... Из этого союза возникнет
новое отношение к тогдашним проблемам искусства и,
более того, общественное поведение, в котором следует
видеть истинное начало дадаизма». Предполагается, что
«первый преддадаистский манифест появился в 1915 го¬
ду в «Акцьон». Назывался этот манифест — «1трег1шеп-
Изтиз», от немецкого слова «шрейтеп!», что означает
«дерзкий, наглый». Хотя напечатан он был в «Акцьон»,
журнале экспрессионистов, категорически объявлялось:
14
«Мы не хотим называться экспрессионистами! Мы не хо¬
тим называться футуристами!». Документ этот действи¬
тельно весьма вызывающий, и вскоре появившиеся
манифесты дадаизма предвосхищают не только дерзкое
название, но и афоризмы вроде такого: «С талантами
легко стать полными идиотами!»,.
Определение дадаизма попытался дать основатель
«Кабаре Вольтер» Балль: «Дадаист: инфантильное су¬
щество, донкихотствующее, завязшее в игре слов и грам¬
матических фигур». Он же писал: «То, что мы называем
Дада, это дурашливая игра в ничто (ет Ыаггепзр1е1 аиз
бет Ы1сН1з)». Определял дадаизм и Андре Бретон:
«Дада, признавая только инстинкт, а рпоп отрицает
возможность объяснения. По его мнению, мы не должны
сохранять никакого контроля над собой. Не может быть
и вопроса об этих двух догмах: мораль и вкус».
Второй памятной датой в генеалогии сюрреализма
является 24 июня 1917 года — день постановки пьесы
Гийома Аполлинера «Груди Тирезия» («Без шашеИез
бе Т1гёз1аз»). Талантливый и восприимчивый поэт, Апол¬
линер был перекрестком основных поэтических маги¬
стралей Франции начала века. Одна из них связывала
его поэзию с кубизмом и затем шла к дадаизму, к сюр¬
реализму.
Пьеса Аполлинера называлась «Груди Тирезия,
сюрреалистическая драма в двух актах и с прологом».
Так было введено понятие «сюрреализм» — «надреа-
лизм», «сверхреализм» («зиг» — по-фр. «над»). Позже,
в первом «Манифесте сюрреализма» Бретон напишет:
«В знак уважения к Гийому Аполлинеру... Супо и я,
мы обозначили словом сюрреализм новый способ чисто¬
го выражения».
В предисловии к драме, поясняя смысл своего неоло¬
гизма, Аполлинер сообщил, что имеет в виду «возвра¬
щение к природе», но «без подражания на манер фото¬
графий», ибо «театр не жизнь». «Новую эстетику»
Аполлинер противопоставил искусству «иллюзий», оста¬
вив иллюзии на долю кино. Само по себе понятие это
достаточно неопределенно; явно осуждая натуралисти¬
ческую похожесть на жизнь, Аполлинер замахивался и
на отражение реальности в реалистическом искусстве.
Недоставало ясности и «новой эстетике». Из предисло¬
вия к пьесе Аполлинера проистекала определенным
образом только потребность в «свободе воображения
15
драматурга». В Прологе пьесы представший пред зри¬
телем Директор труппы обещает «новый дух в театре»,
соединение «звуков, жестов, цветов, криков, шумов, му¬
зыки, танца, акробатики, поэзии, живописи». Вслед за
автором Директор повторяет — «Театр не должен быть
искусством иллюзий». А для сего — «драматург поль¬
зуется всеми миражами, которые есть в его распоряже¬
нии..., не считается со временем и пространством... Его
пьеса — его мир, внутри которого он бог-творец».
«Груди Тирезия» — и есть творение, задачей кото¬
рого было показать право творца на ничем неограничен¬
ное приложение фантазии. Грудь Терезы превращается
в воздушные шарики, красный и голубой; они улетают,
держась на ниточке; у Терезы тут же вырастают борода
и усы, она становится мужчиной, Тирезием, меняется
одеждой с мужем; вот она уже генерал Тирезий, депу¬
тат Тирезий, тогда как муж нашел способ с помощью
силы воли производить детей (40.050 штук в день);
в конце Тереза возвращается, «чтобы любить». Нетруд¬
но заметить, что аполлинеровская шутка предваряет
скорее дадаистские, чем сюрреалистические фантазии.
И не только «Груди Тирезия»: «Аполлинер своими кали-
грам'мами без сомнения вдохновил Пикабиа на создание
его первых поэм-рисунков».
Тристан Тцара, приступив к делу, немедля написал
Аполлинеру (тот после ранения находился в госпитале),
приглашая его сотрудничать в «Дада». Ответ он полу¬
чил, но от сотрудничества Аполлинер уклонился, хотя
дадаисты не переставали выражать ему свое восхище¬
ние. Объяснил он свое поведение в письме Тристану
Тцара от 6 февраля 1918 года: «Я полагаю, что для
меня может быть компрометирующим... сотрудничество
в журнале — независимо от его духа, — в котором со¬
трудничают немцы, какими бы антантофилами они
ни были».
Дадаистам были совершенно чужды подобные опасе¬
ния. Наоборот, сама разноплеменность их группировки
в те годы, в разгар войны, была вызовом шовинизму и
вражде, протестом против войны. Организаторы сюрреа¬
листического движения Арагон, Бретон, Супо были зна¬
комы с Аполлинером, тоже им восхищались, а потому
не обращались к характерному для дадаистского перио¬
да вызывающему тону даже тогда, когда говорили о
совершенно им чуждом отношении Аполлинера к войне.
16
В 1920 году Бретон писал об Аполлинере как
о «сюрреалисте», ссылался на то, что поэзия для Апол¬
линера — «продукт деятельности, названной им сюрреа¬
листической».
С концом войны нейтральная Швейцария перестала
быть центром дадаизма. В 1917—1918 годах группиров¬
ки дадаистов возникли в нескольких крупных, городах
Европы — в Берлине, Кельне и др. С 1919 года центр
передвинулся в Париж. В марте 1919 года в Париже
Андре Бретон, Луи Арагон и Филипп Супо предприняли
издание журнала «Литература». Они пригласили Три¬
стана Тцара и тот переехал во французскую столицу,
вслед за Пикабиа и Дюшаном. Теперь в Париже дадаи¬
сты, получив подкрепление в лице организаторов «Лите¬
ратуры», ставят свои скандальные спектакли, предна¬
значенные эпатировать публику, демонстрировать абсо¬
лютный нигилизм.
Вот описание одного из спектаклей, причем из самых
мирных: «...Сцена представляла собой погреб, свет был
погашен и доносились стоны... Шутник, из-за шкафа,
ругал присутствующих... Дадаисты, без галстуков, в бе¬
лых перчатках, вновь и вновь появлялись на сцене —
Андре Бретон хрустел спичками, Г. Рибмон-Дессень
каждую минуту кричал: «Дождь капает на череп!», Ара¬
гон мяукал, Ф. Супо играл в прятки с Тцара, в то время
как Бенжамен Пере и Шаршун ежесекундно пожимали
друг другу руки. Сидя на пороге, Жак Риго громко
считал автомобили и драгоценности посетительниц...»1.
В Берлине обстановка была иной. Германия бурлила,
и в Берлине деятельность дадаистов сразу же приобрела
более отчетливое политическое направление. Дадаисты
сблизились в Германии с левыми экспрессионистами
(Гросс, Хартфильд). «В 1919—1920 годах Дада достигло
апогея в Берлине: с первых же недель 1919 года объяв¬
ление Веймарской республики дало возможность пока¬
зать свою оппозицию правительству, которое,... только
что в пользу буржуазии обратило пролетарскую рево¬
люцию. Демонстрации учащались, становились все более
бурными, и к ним все менее терпимо относилась поли¬
ция: выставка в Галерее Неймана в апреле 1919 года,
вечера Дада в зале Майстера в мае и в театре „ГМе
ТпЪипе“ в декабре, публикация манифестов и брошюр
1 Ни^пе! О. Ь’ауеп1иге с1ас1а (1916—1922). Рапз. 1957, р. 84.
17
(„НштаЬ! ЬиггаЫ ЬиггаЬ!" Рауля Османа), создание
Центрального Революционного Дадаистского Совета,
'выработка программы политического действия» К
Берлинские дадаисты выбрасывали тогда такие ло¬
зунги: «Дада борется на стороне революционного про¬
летариата!». Не удивительно, что из группы берлинских
дадаистов вышел “Джон Хартфйльд, который уже в
1920—1921. годах использовал некоторые технические
приемы дадаистского искусства для политической
пропаганды, а вскоре превратил фотомонтаж в сильней¬
шее оружие революционной, антифашистской публи¬
цистики.
С 1921 года более о Дада и дадаистах в Берлине
не слышно. А в Париже голос дадаизма не умолкает,
звучит по-прежнему вызывающе, дерзко.
Однако Бретон все заметнее отдаляет й отделяет
себя от дадаизма, от Тцара. Демаркационную линию
провести довольно трудно. Но вот уже в октябре
1919 года в журнале «Литература» появились отрывки
из «Магнитных полей». Бретон позже скажет, что «сюр¬
реализм... начинается в 1919 году с публикацией в жур¬
нале «Литература» первых глав «Магнитных полей»,
произведения, написанного совместно Филиппом Супо
и мною, произведения, в котором автоматизм как опре¬
деленный метод в первый раз открыто проявляется».
Следует учесть, однако, что Бретон мог и не упомя¬
нуть некоторых фактов из истории сюрреализма, с его
персоной не связанных. Жена немецкого экспрессиони¬
ста Ивана Голл а напоминает, что Голл уже в 1918 году
писал: «Произведение искусства должно сюрреализиро-
вать реальность. Только то является поэзией, что ведет
речь об ирреальном. Искусство должно быть созиданием,
а не имитацией... Поэт должен воспеть сюрреальность,
а не реальность». Между Бретоном и Голлом была та¬
кая вражда, что дело доходило тогда до потасовок,
инициатором которых, судя по всему, был Бретон.
Первые шаги сюрреализма не были никем замечены.
«Публикация «Магнитных полей» прошла совершенно
незамеченной», — свидетельствует Супо. А постановки
первых сюрреалистических пьес былц «полным прова¬
лом..., ни малейшего скандала. Молчание».
1 ЗапоиШе! М, Ваба & Рапз. Рапз, 1965, р. 38.
18
Важнейшей датой истории сюрреализма стал
1924 год — в этом году был опубликован первый «Ма¬
нифест сюрреализма» («МашГе51е с1ц зиггёаНзше»). Он
был написан Бретоном и стал документом всего
течения. В эрм же году появились первые номера
журналов «Сюрреализм» (И. Голл) и «Сюрреалисти¬
ческая революция» (П. Навилль, Б. Пере). Новая школа
была создана, сюрреализм стал фактом — со своей про¬
граммой, прессой и даже особенным исследовательским
центром. Роль такого центра выполняло «Бюро сюрреа¬
листических исследований» (Париж, улица Гренель, 15).
Тот же 1924 год помечен в истории сюрреализма еще
одним документом — коллективным произведением сюр¬
реалистов, памфлетом «Труп» («1Лп сабауге»). Этим
издевательским памфлетом сюрреалисты помянули
только что скончавшегося Анатоля Франса. «Отпразд¬
нуем день, когда хоронят коварство, традиционализм,
патриотизм, оппортунизм, скептицизм, реализм и бес¬
сердечность!» — призывал Бретон (другие части памфле¬
та были подписаны Супо, Элюаром и Арагоном). Набор
различных «измов» обозначал ниспровергавшуюся сюр¬
реалистами буржуазность.
Первые же шаги себя осознавшего и о себе заявив¬
шего сюрреализма ознаменовались следующим програм¬
мным манифестом от 27 января 1925 года: «Мы ничего
общего не имеем с литературой... Сюрреализм — не но¬
вое или более легкое средство выражения, не метафи¬
зика поэзии. Он средство тотального освобождения
духа...
Мы твердо решили совершить Революцию... Мы спе¬
циалисты по Бунту...».
Заметим, как сильно сдвинул сюрреализм акценты
в западноевропейском модернизме — или, точнее говоря,
как жизнь передвинула эти акценты. Длительной тра¬
дицией была ставка на искусство как на нечто спаси¬
тельное, единственно достойное в недостойном буржуаз¬
ном мире. Одно из примечательных на этот счет призна¬
ний принадлежало еще Теофилю Готье, чье творчество
сыграло -роль первостепенного по значению источника
«чистого искусства» XX века: «Искусство для нас не
средство, но цель». Эти слова относятся к 1856 году.
В 1925 году сюрреализм торопится отмежеваться от
искусства, не возлагает на него особых надежд,
в лучшем случае соглашается, что искусство — не цель,
19
а средство. «Твердо решив совершить революцию», сюр¬
реалисты сделали шаг вперед и от дадаистов, никакими
революциями не озабоченных, постольку, поскольку и
мысли о каком бы то ни было целесообразном преобра¬
зовании они не допускали. Бретон в дадаистский
период писал: «Мы не верим, естественно, в возмож¬
ность хоть какого-нибудь социального преобразования,
хотя мы и ненавидим выше всего консерватизм и объяв¬
ляем себя сторонниками революции, какой бы она ни
была... «Мир любой ценой!»—таков был лозунг Дада
во время войны, как во время мира лозунг Дада —
«Война любой ценой!».
Так в первой половине 20-х годов в недрах фран¬
цузского сюрреалистического движения призыв дадаи¬
стов к уничтожению довольно быстро трансформировал¬
ся в призыв к революции. Эта особенность французского
сюрреализма обеспечила ему авторитет в кругах бун¬
тарски настроенной интеллигенции, сразу же опреде¬
лила особое место сюрреализма в ряду других школ
европейского модернизма начала века. Несомненно,
сюрреализм сыграл значительную роль в духовной жиз¬
ни зарубежной интеллигенции в силу того, что дерзко
заявил о себе как о месте сбора тех, кто понял — кризис
буржуазной цивилизации зашел так далеко, что созида¬
ние возможно только на основе радикального обновле¬
ния, на основе бунта, на новых путях.
Но сюрреализм сохранял при этом теснейшие связи
с дадаизмом. Об анархизме, патологическом цинизме
дадаистов и напоминает издевательский памфлет
«Труп», призывавший надругаться над покойным писа¬
телем всех, кто не успел или позабыл это сделать. Про¬
возглашенная сюрреалистами революция была первона¬
чально отчаянно крикливой вследствие того, что была
преимущественно словесной. «Мы бунтари духа», — за¬
являли сюрреалисты. Что же это значило? Это означа¬
ло, что «политический.и социальный» бунт был для них
«простым спором». Декларировав «абсолютное преобра¬
зование» и «тотальное освобождение», сюрреалисты, как
все идеалисты, в ранг задач банально-второстепенных
низводили выполнение социально-политических задач
революции — т. е. тех задач, которые абсолютно необхо¬
димы для реального освобождения и плоти, и духа.
Тотальный размах сюрреалистической революционности
был следствием анархического, чисто воображаемого
20
освобождения от социальных обстоятельств. В своем
революционном манифесте сюрреалисты поэтому и за¬
махнулись на Историю, ;на законы Истории.
Бытие они представили в виде чисто-поля, где разгуля¬
лась воля молодецкая ничем не обусловленных чудо-
богатырей. Картина заманчивая, конечно, но иллю¬
зорная.
Бунт этот возвещает освобождение «я» — абсолют¬
ное, тотальное, поскольку «я» сбрасывает с себя (в своем
воображении) путы общественного существования, бре¬
мя социальных, моральных, политических, семейных
норм и связей, передвигается в иную плоскость, в плос¬
кость «гёуе». «Кёуе» — одно из центральных понятий
сюрреализма. Это французское слово означает и «меч¬
ту», и «грезу», и «сновидение», оно означает существо¬
вание за пределами логики и нравственности, в особом
мире, в мире расковавшейся личности1. Вход в этот
мир открывается довольно просто: «сюрреализм — это
переулок очарований сна, алкоголя, табака, эфира,
опиума, кокаина, морфия». Вот так сюрреализм и ока¬
зывается в роли силы, «разбивающей цепи», освобож¬
дающей человека. В сущности каждый захмелевший
вправе счесть себя сюрреалистом или же по-сюрреали-
стически свободным человеком! «Я никогда не искал
ничего другого, кроме скандала, и я искал его ради него
самого», — писал тогда Арагон.
Арагон в те времена лишь «пожимал плечами» при
упоминании о русской революции, казавшейся сюрреа¬
листам «министерским кризисом». Революция требова¬
ла, кроме прочего, революционного порядка — для
Элюара истинная, сюрреалистическая революция/ озна¬
чала «беспорядок и безумие». Андре Бретону не изменял
его «вкус к провоцированию (зепз с!е 1а ргоуосаНоп),
в коем он признает необыкновенную действенность».
В апреле 1925 года сюрреалисты обратились с пись¬
мом к главным врачам лечебниц для душевнобольных.
Душевнобольные были объявлены в этом письме «жерт¬
вами социальной диктатуры», сюрреалисты потребовали
их освобождения во имя «индивидуальности, которая
суть человека». Соответственно, с другой стороны, по их
1 По этой причине — надо предупредить читателя — в настоящей
работе во всех случаях употребляемые русские аналогии слова
«гёуе» — будь то «греза», «мечта» или «сон» — не точны,' приблизи¬
тельны.
21
заявлению — «все индивидуальные акты антисоциаль¬
ны». Иными словами, «я» — синоним свободы и антаго¬
нист общества, а поэтому оно адекватно безумию, ибо
безумие есть свобода от ума, свобода, которая вызывает
репрессивные меры общества.
Возвестив о своем бунтарстве, сюрреалисты предло¬
жили первоначально форму индивидуалистического
бунта, т. е. ответили на наиболее распространенные сре¬
ди западной интеллигенции иллюзии. Бунт сюрреали¬
стов лег в самую обкатанную колею — колею освобож¬
дения личности, освобождения «я». По этой колее дви¬
гается и экзистенциализм, и фрейдизм. Они обладают
на первый взгляд поразительной, а на самом деле есте¬
ственно проистекающей из их сущности способностью
поворачиваться своей критической стороной то к реак¬
ционной буржуазии, то к революционному пролетариату.
Они питают идеологию «третьего пути». Свой индиви¬
дуализм они нацеливают то на обезличивающий конфор¬
мизм буржуазии, то на коллективистскую мораль
социализма, в качестве условия освобождения личности
предполагающую освобождение коллектива, класса,
общества.
Но положение, как известно, обязывает. Назвав себя
революционерами, сюрреалисты оказались во власти
той объективной логики борьбы, которую они вначале
столь легкомысленно сбросили со счетов. Забегая впе¬
ред, скажем, что в 1927-году пятеро виднейших сюрреа¬
листов — Арагон, Бретон, Элюар, Пере, Юник — всту¬
пили в Коммунистическую партию Франции. Это не
было очередным экстравагантным поступком преемни¬
ков дадаизма. Напротив, этот акт был логичен, законо¬
мерен — в той мере, в какой антибуржуазность сюрреа¬
листов была искренней и неподдельной. Этот акт был
логичен и в силу логики борьбы.
В силу этой логики они оказываются рядом с комму¬
нистами, против буржуазии, поскольку осудили в
1925 году войну в Марокко, рядом с коммунистами, а
потом и в компартии, которая — как признал тогда Бре¬
тон—«в революционном смысле — единственная сила, на
которую можно рассчитывать».
В обращении к «сюрреалистам-некоммунистам»
(1927) вступившие в партию сюрреалисты сами-указали
на закономерность своего движения к политической ор¬
ганизации революционного пролетариата, поскольку это
22
движение определялось принятием ими тогда револю¬
ции как «факта конкретного». Они даже противопоста¬
вили свой шаг «чистому протесту» сюрреализма как
более высокую форму бунтарства. Уже осенью 1925 го¬
да в своем манифесте «Революция прежде всего и всег¬
да!» («Ьа Кеуо1и1юп (ГаЪогб е1 1ои]оигз!») они признали:
«...Мы не утописты — Революцию мы понимаем именно
в социальной ее форме», — хотя такое признание соци¬
альной революции уживалось с пренебрежением к «по¬
литическим и социальным спорам», в начале того же
документа выраженным. Сюрреалисты отмежевывалиеь
от «европейской цивилизации» и выше всего поставили
«свою любовь к Революции». \
Так, в 1925 году в сюрреалистическом движении
наметилось одно из главных раздиравших это движение
противоречий, противоречие анархо-индивидуалистичес-
кой, «дадаистской» основы сюрреализма и неизбежного,
обусловленного обстоятельствами, все усиливавшегося
тяготения к социальной политической революции. Во
внутрь сюрреалистической группировки был перенесен
столь характерный для нашего времени спор — и этот
спор изнутри взрывал, раскалывал группировку.
Акт вступления в компартию группы сюрреалистов—
один из моментов развертывания этого спора, момент
чрезвычайно важный. Другое дело, что акт этот не был
лишен декларативности, он вовсе не означал той капи¬
тальной внутренней перестройки, которая бы освободила
сюрреализм от тяготевшего над ним противоречия, не,
привел к существенным сдвигам в философии и эстетике
сюрреализма.
Вот другой пример. В сентябре 1926 года Андре
Бретон опубликовал довольно обширное разъяснение
овоей позиции. Он сообщал, между прочим, что Анри
Барбюс, заведовавший отделом литературы в «Юмани-
те», предложил ему, Бретону, сотрудничество. Бретон
ответил инвективой. Роман Барбюса «Огонь» он назвал
«большой газетной статьей», а самого «г-на Барбюса»—
«если не реакционером, то по крайней мере ретроградом,
что, может быть, не лучше». «Вот человек — писал Бре¬
тон, — который пользуется влиянием, ничем не оправ¬
данным: он и не человек дела, и не светоч разума, и
буквально ничто». При такой безапелляционной харак¬
теристике Барбюса, характеристике, скорее напоминаю¬
щей смертный приговор, трудно даже учитывать неко¬
23
торые верные возражения Бретона. Например, Бретон
обратил внимание на то, что Барбюс в те годы чрезмер¬
ное, отправное значение придавал форме — Бретон по¬
требовал идти от революционного содержания к форме,
к слову. «Да здравствует социальная революция и толь¬
ко она!» — восклицает Бретон. Прекрасно, но полемика
с Барбюсом свидетельствовала о том, что Бретон, при¬
зывая к социальной революции, накануне вступления в
партию в полной мере сохранил те навыки цинической,
скандальной, «дадаистской» журналистики, которые
нашли себе применение и в надругательстве над па¬
мятью Анатоля Франса. Приемы, не предполагавшие
никаких «устаревших» нравственных понятий, говорили
о сохранении Бретоном анархической позиции. Недаром
он Лотреамона поставил рядом с Лениным. Бретон был,
конечно, прав, когда возражал попыткам сектантской
и вульгарно-материалистической недооценки духовной
жизни, якобы ничего не значащей перед лицом проблем
зарплаты и экономической .эксплуатации пролетариата.
Он был прав в споре с сектантством. Но какое сто¬
кратное сектантство и какой крайний нигилизм про¬
являл сам Бретон в отношении, например, к Франсу и
Барбюсу!
Во втором манифесте сюрреалистов («Зесопб таш-
Гез1е би зиггёаНзше») в декабре 1929 года Бретон, уже
член КПФ, писал: «Мы не можем избежать наиболее
жгучей постановки вопроса о социальной системе, в ко¬
торой мы живем, я хочу сказать, вопроса принятия или
непринятия этой системы». Он повторял, что «для осво¬
бождения человека, первого условия освобождения ду¬
ха», можно рассчитывать «лишь на пролетарскую Рево¬
люцию». Верные выводы!
Но там же: «сюрреализм не побоялся стать догмой
абсолютного бунта, тотального неподчинения, саботажа,
возведенного в правило, и если он чего-либо ожидает,
то только от насилия. Простейший сюрреалистический
акт состоит в том, чтобы с револьвером в руке выйти на
улицу и стрелять наугад, сколько можно, в толпу». Эти
нашумевшие слова уже не раз объявлялись простой
опиской Бретона, его очередной бравадой. Но это не
описка. Видно, что на прочную и незыблемую анархист¬
скую основу наслоились лозунги пролетарской револю¬
ции и сосуществуют с прежней основой, не меняя ее. Не
удивительно, что Бретон не смог привести к одному
24
идеологическому знаменателю и своих строптивых со¬
ратников, хотя и пытался осуществить эту задачу с по¬
мощью достаточно крутых мер.
Казалось (особенно в беспощадной с обеих сторон
перепалке с А. Арто), что Бретон пытается в конце
20-х годов вовлечь сюрреалистов в процесс воссоедине¬
ния с коммунистическим движением (с июля 1930 г.
Бретсш выпускает журнал «Сюрреализм на службе ре¬
волюции»), пытается социально активизировать своих
единомышленников — на что некоторые из них отвечали
категорическим несогласием. Например, А. Арто с пре¬
небрежением писал о «социальном плане, материальном
плане» бытия и повторял, что сюрреализм для него
всегда был и остается «новым сортом магии», «подсозна¬
тельным, до которого рукой подать». Но вчитаемся во
«Второй манифест»: столь, казалось бы, далеко ушед¬
ший от Арто Бретон (особенно, если принять во внима¬
ние оскорбительные взаимные характеристики, создаю¬
щие впечатление абсолютного расхождения) говорит
теми же, что и Арто, словами о целях и смысле сюрреа¬
лизма («наша задача — все яснее увидеть то, что без
ведома человека ткется в глубинах его души...»).
Вот Робер Деснос, порывая с Бретоном, и сказал
ему: «Верить в сюрреальность — значит вновь мостить
дорогу к Богу. Сюрреализм в том виде, в каком он
сформулирован Бретоном, — это одна из наиболее
серьезных опасностей для свободной мысли, хитроум¬
нейшая западня для атеизма, лучшее подспорье для
возрождения католицизма и клерикализма».
Эти слова прозвучали в «Третьем манифесте сюрреа¬
лизма» («Тго151ёше ташГе$1е би зиггёаНзше»), написан¬
ном Десносом в 1930 году в знак его демонстративного
разрыва с Бретоном. Уход из группы Десноса, одного
из самых блестящих поэтов, примыкавших к сюрреализ¬
му, был серьезным ударом для группировки. Впрочем,
разваливаться она начала раньше. С Бретоном не спо¬
рили, с ним порывали... В 1925 году Бретон отлучил от
сюрреализма Роже Витрака, в 1926 году — Ф. Супо,
А. Арто. Затем наступила очередь других вероотступни¬
ков. В 1929 году Бретон устроил настоящую проработку
своим строптивым соратникам: во «Втором манифесте
сюрреализма» приведен длинный список отлученных от
сюрреализма. Ответом был крайне резкий «Труп», еще
один памфлет, но уже адресованный самому Бретону,
25
от группы его вчерашних единомышленников (среди
еих такие крупные имена, как Робер Деснос и Жак
Превер).
. А вслед за этим разразилось «дело Арагона», кото¬
рое закончилось таким ударом, от которого француз¬
ская группировка сюрреалистов уже не смогла опра¬
виться, — уходом крупнейшего писателя, неоспоримого
козыря сюрреализма в 20-е годы.
В 1927 году, вступив в компартию, Арагон, по его
признанию, оставался сюрреалистом. Но затем, особен¬
но после посещения СССР в 1930 году и участия в меж¬
дународной Конференции революционных писателей
(в Харькове), Арагон, по его же словам, преодолевает
«социальную безграмотность» индивидуализма, преодо¬
левает анархизм. В данном случае пребывание в ком¬
партии привело к существенной перестройке мировоззре¬
ния — политических, затем и философских, и эстетиче¬
ских взглядов. «Дело Арагона» обнаружило в полной
мере логическую последовательность и взаимосвязан¬
ность всех этих аспектов французского сюрреализма
20-х годов, — истинное преобразование одного из них
повлекло за собой качественное видоизменение всех
прочих.
В 30-х годах Бретон и его группа неустанно повто¬
ряют слова верности революционному движению и диа¬
лектическому материализму. В 1932 году в специальном
послании, осуждавшем Арагона, сюрреалисты писали:
«Можно видеть, как в недрах сюрреализма произошла
глубокая эволюция, которая привела нас к диалектичес¬
кому материализму... Закономерное следствие этого —
наше все более эффективное участие в борьбе револю¬
ционного пролетариата». Сюрреалисты — в рядах соз¬
данного в 1932 году Объединения революционных писа¬
телей и художников, их имена возле имен Барбюса,
Роллана, Вайяна-Кутюрье.
Но вот в 1933 году Барбюс и Роллан призывают всех
людей, независимо от политических взглядов, объеди¬
ниться для борьбы против войны, чей зловещий, лик
вновь возник перед человечеством. И что же? Сюрреа¬
листы осудили этот призыв, осудили во имя революции,
ссылаясь на авторитет Ленина, цитируя его, чтобы дока¬
зать, что Барбюс и Роллан заняты примирением враж¬
дебных классов, тогда как нужно показывать их непри¬
миримые противоречия. В условиях 30-х годов тот не¬
26
истощимый запас анархизма и нигилизма, который свой¬
ствен был сюрреализму, несколько меняя свои формы,
все заметнее превращается в политическое левачество
и ультра-революционное сектантство. При этом сюрреа¬
листы верно напоминали о противоречиях и ошибках
Барбюса и Роллана, особенно в 20-е годы, не забывали,
что Барбюс написал «Иисуса» и был руководителем дей¬
ствительно путаного журнала «Монд», а Роллан был
«апологетом Ганди» — но ничего более ни у того, ни у
другого не нашли, не заметили их эволюции, не заме¬
тили «Прощания с прошлым» Роллана. Борьбу за
мир сюрреалисты отождествили с пацифизмом, за¬
числили в разряд разоружающих мелкобуржуазных
иллюзий.
В феврале 1934 года, во время фашистских провока¬
ций, сюрреалисты призвали всех тружеников к антифа¬
шистскому объединению. Но в следующем, 1935 году,
еще одно и чрезвычайно значительное международное
мероприятие ясно показало существенные и непримири¬
мые расхождения между политической и идеологической
программой французских коммунистов и сюрреалистов.
Это был Конгресс в защиту культуры.
Один из самых главных вопросов, обостривших про¬
тиворечия между компартией и сюрреалистами, и был
вопрос об отношении к культуре, о защите культуры, о
национальной культуре. К преодолению сектантства
и защите национальной культуры от фашистского вар¬
варства призвал, как известно, VII Конгресс Коминтер¬
на. Это стало генеральной линией коммунистического
движения.
От имени коммунистов Франции Поль Вайян-Ку-
тюрье, писатель и один из руководителей партии, за¬
явил на пленуме ЦК КПФ 16 октября 1936 года: «Мы
продолжаем Францию. И потому, что мы продолжаем
Францию, мы хотим спасти культуру». Вайян-Кутюрье
говорил: «Коммунистическая партия прежде всего пар¬
тия мира». И среди ее целей — искусство, от которого
коммунисты требуют одного — «быть свободным, быть
искренним и быть человечным».
Само собой разумеется, все это было неприемлемо
для Бретона, все это мешало давно начатой сюрреали¬
стами стрельбе по культуре. Правда, в 30-е годы Бретон
не раз напоминал знаменитые ленинские слова о том,
что пролетарская культура должна быть результатом
27
ранее накопленных знаний. Но взглянем хотя бы в те
проскрипционные списки, которые составляли сюрреа¬
листы, рекомендуя не только и не столько «что читать»,
сколько «что не читать». Среди последних — и Рабле,
и Мольер, я Вольтер, и Бальзак, и Мериме, и Верлен,
и Пруст, и Барбюс, и Мориак, и многие другие. В‘отли¬
чие от списка рекомендованных, описок нерекомендован-
ных завершался многообещавшим «и т. д...., и т. п......
Культура вызывала у сюрреалистов органическую, ис¬
конную неприязнь, неприязнь, заключенную в сути,
в глубинах «авангардизма».
В 30-е годы это и выразилось в открытом возмуще¬
нии лозунгом защиты национальной культуры. «Мы,
сюрреалисты, мы не любим наше отечество», — говорил
Бретон в речи на Конгрессе в защиту культуры (точнее,
намеревался сказать — слова ему не было дано, а текст
зачитал Поль Элюар). Можно понять, как складывалась
неприязнь к «отечеству» у сюрреалистов, преемников
дадаизма, вскормленного ненавистью к мировой войне
и ко всем проявлениям шовинизма, ура-патри'отизма.
В 20-е годы слово «отечество» фигурирует среди наибо¬
лее бранных слов, сюрреалистами употреблявшихся.
А коммунисты заявили: «Мы продолжаем Францию...».
Сюрреалисты повторяли при этом — «пролетарии не
имеют родины», «враг в собственной стране». Они обру¬
шились на коммунистов за то, что те якобы «изменили
лозунгу: превращение войны империалистической в вой¬
ну гражданскую». Они выступили против всяких догово¬
ров между социалистической страной и капиталистиче¬
скими странами, осудили договор, заключенный между
СССР и Францией, — а ведь это был договор о ненапа¬
дении, усложнявший положение агрессивных, фашист¬
ских государств!
Среди слов и политических лозунгов, которые повто¬
ряли в 30-е годы сюрреалисты, были и правильные,
революционно звучавшие. Надо это признать. Но их
повторяли без учета ситуации, без учета развития об¬
щества и конкретного соотношения сил. Поэтому эти
лозунги все более уподоблялись церковному катехизису,
который снабжает вопрошающего все теми же из века
в век повторяющимися ответами, все менее удовлетво¬
ряющими жажду познания. Независимо от субъектив¬
ных намерений, объективное значение сюрреалистиче¬
ской догматики было все менее революционным — легко
28
представить себе, какую роль играло сектантство в
условиях 30-х годов, перед лицом наступавшего
фашизма!
Другим пунктом разногласий было отношение к СССР.
В те годы, в атмосфере грозовой, предвоенной, в годы
быстрого и угрожающего продвижения фашизма, отно¬
шение к единственной стране социализма, в труднейших
условиях совершавшей свой невиданный революционный
эксперимент, было пробным камнем революционно¬
сти. Бретон и Элюар уже в 1933 году были исключе¬
ны из компартии за одобрение антисоветских выступ¬
лений.
Сюрреалисты в 30-е годы отстаивали необходимость
развития различных тенденций революционного движе¬
ния. Дело не только в том, что в конкретных условиях
30-х годов этот призыв к разделению, дроблению про¬
летарского движения выглядел странным образом на
фоне очевидной и жизненной необходимости объедине¬
ния для борьбы против фашизма и войн. Дело и в том,
что сюрреалистический призыв к свободному обмену
мнений оборачивался на самом деле последовательным
выражением одной, только одной, весьма определенной
тенденции — этой тенденцией был троцкизм.
Еще в 1925 году Бретон познакомился с книгой Троц¬
кого о Ленине. Отмечается огромное влияние ее на Бре¬
тона. Эта книга содействовала «политизации» сюрреализ¬
ма. В еще большей степени она содействовала интересу
Бреггона к троцкизму. В этом нет ничего удиви¬
тельного. Бретон был для этого подготовлен опытом
дадаистско-сюрреалистического, анархистского бун¬
тарства, а со второй половины 20-х годов, в 30-е годы
революционность Бретона и его единомышленников все
более отдает именно троцкизмом. Бретон сближался с
троцкистами, сотрудничал с ними все теснее, его все
труднее отделить от политического троцкистского .на¬
правления, — ив какой-то момент это неминуемо долж¬
но было кончиться разрывом с компартией.
В свете дальнейших событий Бретона легко превра¬
тить — что нередко и делается — в прозорливого поли¬
тического деятеля, одним из первых начавшего борьбу
против культа личности Сталина. Никакой, однако, про¬
зорливости тут не было. Рассуждения о культе диктова¬
лись анархизмом и близостью к Троцкому, диктовались
той враждебной линией, которую троцкизм проводил
I
29
относительно Советского Союза, чутко регистрируя
прежде всего недостатки. Бретон пытался взбудоражить
общественное мнение, указав ему на развивающуюся
«советскую ортодоксию» и «идолопоклонство». Он про¬
тивопоставлял всему этому свободу мысли. Но как
странно звучал призыв к свободе в устах столь нетер¬
пимого, догматически мыслившего человека, каким был
сам Бретон! («Андре Бретон так решил. С Андре Брето¬
ном не спорили...»). Как странно слышать речи об
«идолопоклонстве» и «ортодоксии» из уст французских
сюрреалистов-троцкистов, которые, например, в своем
программном политическом манифесте 1935 года «Контр¬
атака». Боевое объединение революционной интелли¬
генции» («Соп1ге-а1^ие». Ш10П бе 1и11е без т!е11ес-
1ие1з гёуо1иИоппа1гез»), призывая к революции, заявили
о намерении «заставить служить себе оружие, созданное
фашизмом, умеющим попользовать органическое стрем¬
ление людей к эмоциональной экзальтации и к фанатиз¬
му». Программа Народного фронта в этом документе
категорически осуждалась за «буржуазность». Сюрреа¬
листы-троцкисты — борцы против «ортодоксии», за «сво¬
бодное развитие различных тенденций» — предлагали
более радикальное средство: «создание больших и силь¬
ных соединений, дисциплинированных, фанатичных, спо¬
собных в нужное время осуществлять безжалостную
власть». «Смерть рабам капитализма!»: «смерть» —
как лейтмотив звучит это слово в манифесте троцкист¬
ского, бретоновского «свободомыслия».
Борьбой на два фронта — против буржуазии и про¬
тив коммунистических партий — завершается политиче¬
ская история французского сюрреализма 30-х годов.
Бретон и оставшиеся ему верными сюрреалисты во вто¬
рой половине этого бурного десятилетия надеялись на
создание политического и идеологического движения,
авторитетом для которого должен был стать Троцкий,
а ареной деятельности — весь мир. Попытка придать
сюрреализму характер международный, оформить сюр¬
реализм как движение интернациональное, раскрылась
в призыве (в июле 1938 года) к созданию «Междуна¬
родной федерации независимого революционного искус¬
ства» (инициаторами были Троцкий и Бретон) с оргцен-
тром в Париже, на рю Фонтен, 42 (т. е. по месту жи¬
тельства Андре Брегона). «Федерация» эта, однако,
стала разваливаться, едва успев объявить о своем суще¬
ствовании,
30
В 30-е годы группа французских сюрреалистов силь¬
но поредела; пополнялась она литераторами весьма
скромного дарования, которых привлекала скорее поли¬
тическая ориентация Бретона, чем причины, связанные
с искусством. Рядом с именем Бретона почти до конца
десятилетия, неизменно стояло имя лишь одного значи¬
тельного писателя — Поля Элюара.
Однако в 30-е годы сюрреализм перестает быть явле¬
нием преимущественно парижским, как то было в пред¬
шествовавшее десятилетие. Другое дело — место и зна¬
чение сюрреализма в национальном искусстве. Напри¬
мер, «Макс Эрнст, ведущий немецкий сюрреалист, во
Франции и в Соединенных Штатах известнее, чем
у нас» *.
Как указывалось выше, и в 20-е годы среди имен
сюрреалистов попадались нефранцузские, но все же
группировка Бретона была первоначально менее разно¬
племенной, чем швейцарская группировка дадаистов.
Помимо парижской, в 20-е годы сложилась — в прямой
связи с парижской — заметная группа сюрреалистов в
Бельгии. Уже в 1924 году в Бельгии поэты П. Нуже,
К. Геманс, М. Леконт основали сюрреалистический жур¬
нал «Корреспонданс»; появились и другие издания.
В марте 1934 г. бельгийский поэт Шаве организовал
сюрреалистическую группу «Разрыв» («Кир1иге»). Из
сюрреалистов Бельгии особенно выделился художник
Рене Магритт.
К середине 20-х годов проявило себя сюрреалистиче¬
ское течение в Югославии, точнее говоря, в Сербии,
Дети обеспеченных родителей, будущие сербские сюр¬
реалисты учились в Париже. Автор первой истории серб¬
ского сюрреализма пишет, что «сербский сюрреализм
имеет то достоинство, что он развивался не после фран¬
цузского, не как его ветвь, как то было в большинстве
стран, но одновременно с ним»2. Однако далее вопрос
уточняется таким образом: «сербский сюрреализм... ро¬
дился под прямым влиянием французского движения...
Молодые сербы избрали движение французского аван¬
1 О е г о 1/ё К. О. ОеиЬсЬе Ма1еге1 ипзегег 2ей, \У1еп — Мйп-
сЬеп — Вазе1, 1956, 3. 77.
2Кар1ёг1с-Озтапав1с Н. Ье зиггёаНзше зегЬе е4 зез
гаррог!з ауес 1е зиггёаНзше (гап^а1з. Рапз, 1968, р. 10.
гарда, наиболее новое н современное, перенесли его в
Сербию и содействовали его развитию в то же время,
что и их французские товарищи».
Предсюрреалистский период в Сербии связывается с
появлением в Белграде в 1922 году журнала «Пути»,
выдвинувшего очень неопределенную программу «мо¬
дерной» литературы. Журнал перепечатывал произве¬
дения французских модернистов, в их числе Бретона.
Редактор «Путей» Марко Ристич все более увлекался
Бретоном. Он первтгтгознакоштл Сербию с идеями бре-
тоновского «Манифеста», стал пропагандистом сюрреа¬
лизма в Югославии. В декабре 1924 г. в журнале «Сви¬
детельства» публикуется первый автоматический текст
на сербском языке. Затем последовало издание несколь¬
ких произведений, принадлежащих сербским поклонни¬
кам парижского сюрреализма. Это были стихи Марко
Ристича, Александра Вучо, Милана Дединаца. Их соз¬
датели неизменно «продолжали ездить в Париж, почти
как на паломничество, и там вдохновлялись... Милан
Дединац жил в Париже в период, предшествовавший
рождению его «Публичной птицы». Марко Ристич начи¬
нает там писать свою книгу «Без меры».
В 1930 году публикация коллективного труда «Не¬
возможное» знаменует возникновение в Белграде сюр¬
реалистической группировки. Среди участников изда¬
ния — Бретон, Элюар, Арагон и другие французы.
Декларация написана Марком Ристичем и Душаном
Матичем от имени тринадцати объединившихся писа¬
телей. От определения сюрреализма группа воздержа¬
лась, «поскольку сюрреализм — это таинственная духов¬
ная область, которая не поддается статической фикса¬
ции», но было признано, что без французского
сюрреализма белградский не существовал бы. В 1931 г.
появилась теоретическая работа К. Поповича и М. Рис¬
тича «Эскиз феноменологии иррационального», важней¬
ший манифест сербского сюрреализма, пытавшийся
соединить психоанализ с диалектическим материализ¬
мом, несколько пригладить острые углы жестких брето-
новских дефиниций 20-х годов, легализовать сознание,
наметить выход из подсознания к морали и практичес¬
кому действию.
Сюрреалистическая группировка в Белграде дала о
себе знать тремя номерами журнала «Надреализм данас
32
и овде» («Сюрреализм сегодня и здесь»), вышедшими
в июне 1931 года, в январе и июне 1932 года. Журнал
этот остался вместе с тем свидетельством быстро нара¬
ставших и обострявшихся разногласий. Последний его
номер завершил краткую историю сербского сюрреали¬
стического движения.
Правда, некоторые из его участников, примкнув в
30-е годы к революционному коммунистическому дви¬
жению, а в годы войны — к партизанам, сохранили вер¬
ность своим" юношеским увлечениям и 'вернулись к ним
уже после 1945 года, в условиях социалистической Юго¬
славии.
В Италии влияние сюрреализма заметить трудно.
«В Италии не было сюрреалистической группы в соб¬
ственном смысле слова; журнал «ЗиггеаНзто», издавав¬
шийся писателем Курцио Малапарте, не был органом
какого-нибудь объединения, но подборкой различных
международных документов этого движения» К
«Отсутствие реального исторического развития сюр¬
реализма как течения в Испании» констатирует автор
большого труда об испанском сюрреализме2. «В отли¬
чие от Франции никаких манифестов, или высказываний,
или намерений охарактеризовать теорию..., никакой
группы, организующей движение», к тому же «фрей¬
дистская психология никогда не пускала корни в ис¬
панской литературе».
Все это никак не смущает автора монографии, спе¬
циалиста из США, из Мичиганского университета.
Монография снабжена необходимой для ее появления
теоретической посылкой. «Эта книга отвергает тезис,
согласно которому писатели оказываются сюрреалиста¬
ми только тогда, когда сознательно подражают перво¬
начальной французской группе, или же произведение
может именоваться сюрреалистическим лишь в случае
соответствия эстетическим заявлениям Андре Бретона
и его сообщников».
Чему же, однако, надо «соответствовать», чтобы
стать испанским сюрреалистом? Отказ от «априорных
дефиниций» ведет к созданию крайне аморфного поня¬
1А1ехапс1г1ап 5. Ь*аг1 зштёаНз1е. Рапз, 1969, р. 134.
2 I И е Р. ТЬе ЗиггеаНз! Мос1е т ЗрашзЬ Ы1ега1иге. Апп Аг
Ьог, 1968, р. 1.
2 Л. Г. Андреев.
•зз
тия, какого-то «безбрежного сюрреализма», к которому
относимо все, что может быть принято за «элементы
сюрреализма». В отклике на американскую книгу об
испанском сюрреализме мадридский журнал справедливо
замечал, что при таких критериях оценок «вся испан¬
ская литература сюрреалистична ауап1 1а 1е11ге, ибо
суть выражение характера народа абсурдного, вздор¬
ного, иррационального, анархического и т. д.» *. Дей¬
ствительно, приходится нередко встречаться с такой
точкой зрения, согласно которой испанская литера¬
тура говорила на языке сюрреализма, сама того
не ведая.
Так, в американской монографии о сюрреализме ока¬
зывается Антонио Мачадо — «хотя Мачадо не был
сюрреалистом», но все же автор склонен видеть в его
искусстве «первые элементы современного кошмара».
Там же Висенте Алейксандре — «хотя Алейксандре по
сути романтик», страстно желающий «освободиться от
темной половины своего существования». В. Алейксандре
представлен типичным испанским сюрреалистом: он —
«сюрреалист, не знающий об этом». Центральное место
занимает Гарсиа Лорка, «Ода Сальвадору Дали» кото¬
рого «прямо ведет нас на грань сюрреалистических деб¬
рей», а сами эти «дебри» — сборник стихотворений
«Поэт в Нью-Йорке». К числу произведений сюрреали¬
стических отнесен сборник стихотворений Рафаэля
Альберти «Об ангелах». Установлено сходство между
«эсперпенто»2 Валье-Инклана и сюрреализмом: «Тиран
Вандерас» Валье-Инклана — «важнейший роман в
Испании, использующий сюрреалистическую тех¬
нику», основанную на «принципе иррациональной логи¬
ки», какой бы абсурдный . и гротескный элемент ни
появлялся, он трактуется как если бы был естествен¬
ным».
Видно, как все здесь смешано. Конечно, об испан¬
ском сюрреализме говорить можно. К сюрреализму
имело отношение искусство Хуана Миро, жившего, прав¬
да, в 20—30-е годы в Париже; в 30-е годы одной из
главных фигур сюрреализма стал испанец Сальвадор
* «1п$и1а», МасШ, 1970, Ыг. 284—288.
2 Эсперпенто (от исп. «езрегреп1о» — «страшилишс, посмеши¬
ще, пугало») — жанр новелл Валье-Инклана.
34
Дали. Что же касается, литературы, то выделение соб¬
ственно сюрреалистического пласта крайне затрудняет¬
ся вследствие специфической романтической традиции,
необычайно живучей в испанской поэзии, и особенно
вследствие сильного и очень усилившегося как раз к
концу 20-х годов влияния «гонгоризма». Гонгорой увле¬
кались тогда многие испанские поэты, и именно «гонго-
ризм» нередко принимается за испанский сюрреализм.
Нетрудно отсечь от сюрреализма некоторые приписы¬
ваемые ему произведения — «Тиран Бандерас», напри¬
мер, не сюрреалистическое, а реалистическое произве¬
дение, и «пугало», изображенное Валье-Инкланом,
остается типическим образом тирана. В общем все же
испанский сюрреализм столь неопределенное понятие,
что испанский журнал признавал: «невозможно напи¬
сать фразу «испанский сюрреализм» из страха, как бы
наименование не соответствовало призраку».
Известный испанский литератор Г. Диас-Плаха под¬
тверждает этот вывод своим рассказом о литературной
жизни Испании конца 20 — начала 30-х годов. Студен¬
ческие литературные группировки Барселоны были в
20-е годы увлечены модернизмом, французскими шко¬
лами. Среди них фигурировал и сюрреализм. «Из Па¬
рижа нас держал в курсе «сражений» сюрреализма
Сальвадор 'Дали». В барселонских авангардистских
журналах печатались французские дадаисты и сюрреа¬
листы. Среди молодежных групп была, по свидетельству
Диае-Плахи, группа «йе 1оз зиггеаНз1аз», вдохновляв¬
шаяся С. Дали, хотя тот бывал в Барселоне наездами
(жил в Париже). В 1928 году барселонские авангарди¬
сты издали «Манифест» против всяческой традиционно¬
сти, за всевозможные новинки, среди которых -г- кино,
автомобиль и пр. Шумные манифесты испанских
авангардистов подтверждают, что собственно сюр¬
реализм не выделился в Испании в четко обозначен¬
ную школу, принципы его и границы были бесформен¬
ными.
Даже Гарсиа Лорка, один из этапов поэзии которого
обычно связывают с сюрреализмом, писал в то именно
время следующее: «Мой дорогой Себастьян, посылаю
тебе два стихотворения. Хотел бы, чтобы они тебе по¬
нравились. Отвечают моей новой «спиритуалистской»
манере, чистая обнаженная эмоция, освобожденная от
логического контроля, но с чрезвычайной поэтической
2*
35
логикой. Нет, не сюрреализм...!» *. Несколько позже он
пишет, что его «зиепо» («сны», «грезы») питаются
«реальностью жизни, любви, повседневных встреч с дру¬
гими людьми» и что «сверхреальность» или «сверхфор¬
мы» он избирает с тем, чтобы «лучше понять реаль¬
ность».
Для Гарсиа Лорки поэзия была «чем-то таким, что
бродит по улицам» — реальность, а не сверхреальность
увлекала этого поэта.
В 1935 году англичане заявили в «Первом англий¬
ском манифесте сюрреализма», что «повсюду есть сюр¬
реалистические группировки», а вот в Англии нет. «Ма¬
нифест» этот возвещал о создании «организованного»
сюрреалистического английского движения. Повторя¬
лись при этом французские догмы сюрреализма, цити¬
ровался, естественно, Бретон. «Мы заявляем о полном
согласии с принципами сюрреализма, теми, что были
впервые изложены Андре Бретоном». Вместе с тем,
«рассчитывая для освобождения человечества только на
пролетарскую революцию, мы возвещаем о нашем без¬
оговорочном присоединении к историческому материа¬
лизму Маркса, Энгельса и Ленина». «Первый англий¬
ский манифест сюрреализма» был подписан Дэвидом
Гаскойном. «Недолговечный сюрреалистический журнал
начал выходить — с достаточным опозданием — в 1936
году, но сюрреалистическое движение, хотя и оказало
свое влияние на Дэвида Гаскойна и других молодых
поэтов 30-х годов, никогда не было в Англии значи-
тельным»2.
Заметной сюрреалистической группой была в начале
30-х годов чехословацкая. Ее появление было подготов¬
лено активностью «авангардизма» в Чехословакии
(«поэтизм») и связями чешских «авангардистов» с фран¬
цузскими, даже известной ориентацией чехов на фран¬
цузские примеры. В 1934 году Витезслав Незвал стал
во главе группы сюрреалистов.
Возникновение сюрреалистического очага в Чехосло¬
вакии привлекает внимание двумя обстоятельствами,
1 Сагс1а Ьогса Р. ОЪгаз сотрЫаз. МабгМ, 1962, р. 1620.
2 О а 1 с Ь е з О. ТЬе Ргезеп! Аде т ВгШзЬ Ы1ега1иге. В1оотшд-
1оп, 1958, р. 53.
36
весьма характерными длц распространения сюрреализ¬
ма. Первое состоит в том, что Незвала и других сюрреа¬
лизм увлек своим афишированным бунтарством, своей
заявкой на революционность, на антибуржуазность1.
Не успев появиться на свет божий, чешская группа сюр¬
реалистов обратилась не куда-либо, а в Центральный
Комитет компартии Чехословакии, дабы засвидетельст¬
вовать свои революционные намерения. И быстрый рас¬
пад группировки (в 1938 году), отход Незвала от
сюрреализма связан был су разочарованием в революци¬
онных возможностях сюрреализма, в политической линии
Бретона.
Другое обстоятельство — решающее значение фран¬
цузского примера и активная роль Андре Бретона в на- *
саждении сюрреализма. Никак нельзя сказать, что
появилось несколько самостоятельных очагов сюрреа¬
лизма, связанных с национальными традициями. Нет,
все шло из Парижа, и сюрреализм не столько распро¬
странялся «своим ходом», в силу своей привлекательно¬
сти, сколько именно «насаждался» Бретоном, с 30-х го¬
дов приложившим свои организационные способности
к делу выращивания международного сюрреалистичес¬
кого движения. Весной 1935 года Бретон и Элюар по¬
явились в Праге, где выступили с докладами о сюрреа¬
лизме и чтением стихов. В докладе 29 марта Бретон
очень высоко оценил прилежание чешских поклонников
' и пропагандистов французского сюрреализма, выразив
надежду на превращение Праги во второй сюрреалисти¬
ческий Париж. Бретон появляется и в других местах,
где находятся сочувствующие ему, подбадривает и аги¬
тирует.
К 30-м годам вопрос о сюрреализме возникает приме¬
нительно и к литературе Латинской Америки. Ранее,
в 20-е годы речь могла идти, как правило, о творчестве
писателей, оказавшихся в Европе, в ближайшем сосед¬
стве с французскими модернистами и под их влиянием.
1 См. также о бельгийском сюрреализме: «Ашилль Шаве, круп¬
нейший бельгийский сюрреалист..., будучи адвокатом, солидаризиро¬
вался с трудящимися во время больших забастовок 1932 года в ка¬
менноугольном валлонском бассейне. Именно в это время он открыл
сюрреализм, дух и смысл которого показались ему связанными с
борьбой за освобождение человека». («Ье Огареаи гоиде», 1969,
12 бёсетЪге).
37
Первое место занимает здесь, конечно, чилиец Уидобро.
Он был одним из организаторов журнала «Норд-Сюд»,
и опыты французских кубистов, сюрреалистов нашли
отклик в его поэзии. Уидобро увлекала наукообразность
тогдашнего модернистского искусства и идеи «отделения
правды искусства от правды жизни», идеи «чистого
творчества». Однако Уидобро был убежден, что «чисто¬
го автоматизма не существует». Уидобро отталкивали
крайности сюрреализма.
В 1928 году в Париже появился кубинский писатель
Алехо Карпентьер. Как только он приехал, Деснос пред¬
ставил его Бретону, который пригласил Карпентьера
сотрудничать в «'Сюрреалистической Революции». В ре¬
дакции он познакомился с Арагоном, Тцара, Элюаром,
Бенжаменом Пере, со всей сюрреалистической группой.
Но имя Алёхо Карпентьера — среди тех, кто подпи¬
сал «Труп», памфлет на Бретона. Впоследствии Кар¬
пентьер отмежевался от сюрреализма, резко осудив
самый принцип сюрреалистического творчества.
Во второй преимущественно половине 30-х годов,
к концу десятилетия, в Латинской Америке появляются
собственно сюрреалистические группировки. В 1938 году
такая группировка сложилась в Чили вокруг журнала
«Мандрагора». Но крупнейшим чилийским поэтам сюр¬
реализм был чужд, — сюрреалисты атаковали Неруду,
а тот называл сюрреалистов «разрушителями». Тогда же
соответствующая группа появилась в Мексике. Там вы¬
делился Октавио Пас, признавшийся позже, что Андре
Бретон увлекал его больше, чем национальная мекси¬
канская литература. Пас сотрудничал в Париже с бре¬
тоновской группой. Заметное влияние оказал сюрреа¬
лизм на поэзию Аргентины, где еще в 1926 году Альдо
Пеллегрини организовал первую испаноязычную сюр¬
реалистическую группу, правда недолго существовав¬
шую (впрочем, как и все латиноамериканские сюрреа¬
листические объединения).
Некоторые из латиноамериканских сюрреалистов не
просто переносили опыт французской школы в родные
края — они даже писали по-французски. Такая откро¬
венная ориентация на французские образцы означала,
что и в испаноязычной культуре сюрреализм не смог
пустить глубоких корней, которые бы обеспечили сюр¬
реализму долгожительство в странах Латинской Аме¬
38
рики. «Сюрреалистические формы Повествования, — пи¬
шет исследователь латиноамериканской литературы, —
не соответствуют состоянию культуры большинства
стран; в ее почве с трудом пускают корни формы запу¬
танные; психологическая интроспекция не адаптируется
сознанием, обращенным во вне. То, что ему соответ¬
ствует— что возникает, — это реализм живописный и со¬
циальный»1. И реализм, в котором «характеры, кон¬
фликты, проблемы—все национально».
Правда, этому выводу, как кажется, противоречит
следующее заявление Альдо Пеллегрини: «Французское
влияние, наиболее заметное в новой американской
поэзии — влияние сюрреализма»2. Но в первом случае
речь шла о прозе, во втором — о поэзии. Кроме того, во
втором случае высказывается сторонник сюрреализма,
так что возможны преувеличения. И, наконец, следует
учесть стороннее, латиноамериканское восприятие сюр¬
реализма, не совсем соответствующее тому, чем он был
на самом деле. Как вообще модернизм, сюрреализм
увлекал порой тем, что «возбуждал». Вот и Пеллегрини
ценит сюрреализм за «ошеломляющую свободу выраже¬
ния», за «экспериментальный характер». И здесь, таким
образом, привлекала претензия сюрреализма на рево¬
люционность. Воспользовавшись этим призывом к сво¬
боде, латиноамериканские .поэты действовали затем уже
по-своему.
В 30-е годы организуются международные выставки
сюрреализма — в Копенгагене (1935), в Нью-Йорке и
Лондоне (1936), в Токио (1937), в Париже (Г938) и др.
Парижская выставка была, пожалуй, кульминационным
моментом развития сюрреализма, распространения его
влияния, которое, к тому же, переходит за рамки соб¬
ственно сюрреалистического движения, — возникло
стремление к «внешнему подражанию произведениям,
созданным художниками-сюрреалистами».
При всей энергии Бретона, при всем его стремлении
выдать желаемое за действительное, создать впечатле¬
ние исключительной жизнеспособности сюрреализма,
отождествить сюрреализм с духом юности и т. п., на
протяжении 30-х годов сюрреалистическое движение
1 2иш Ре1с1е А. Ьа паггаПуа еп Ызрапоатепса. Мабпб,
1964, р. 30.
2 Р е 11 е ^ г 1 п 1 чА. АпЫо^а бе 1а рое$1а ухуа Ытоатепсапа.
Вагсе1опа, 1966, р, 9.
39
скорее начинает гаснуть, чем разгораться. Изменилось
время. «Социальные условия, — писал в 30-е годы Ара¬
гон, — которые сделали возможным... бегство от реаль¬
ности, к магическим образам, то, что называют «Париж¬
ской школой», эти социальные условия ныне не суще¬
ствуют». «Ныне» для Арагона — это время Народного
фронта, время социальной борьбы, вовлекающей худож¬
ников. Действовали и заложенные в сюрреализме про¬
тиворечия, сказывалась невозможность привести в строй¬
ную, логическую систему тогдашние политические, фило¬
софские и эстетические лозунги Бретона — лозунги
пролетарской революции и «автоматического письма».
Призывая к революций, Бретон подталкивал своих
соратников на путь, который уводил их из мира под¬
сознательного, из мира «грез» и «автоматического пись¬
ма» — без чего Бретон сюрреализма не мыслил. Прико¬
вывая художников к «автоматическому письму», Бретон,
напротив, отгораживал искусство от общественно-поли¬
тической борьбы, в которой видел тогда смысл движе¬
ния. Пытавшиеся оставаться художниками едино¬
мышленники Бретона оказывались в положении рас¬
кольников или же преобразовывали движение в чисто
художественное, а значит лишали его претензий на ре¬
волюционное, пытающееся соперничать даже с комму¬
нистическим, т. е. лишали сюрреализм того, в чем видел
смысл сюрреализма Бретон.
Вторая мировая война, конечно, помешала «естест¬
венному» развитию сюрреалистического движения. Но
не только и не столько в ней дело. Сюрреализм в том
виде, в каком его мыслил Бретон — ив каком он дей¬
ствительно сюрреализмом является — чах сам по себе.
Единственно подлинная форма сюрреализма грозила
остаться при одном правоверном — Андре Бретоне.
Единственно правоверная форма сюрреализма сама из
себя творила вероотступников. Чтобы существовать,
сюрреализм вынужден был менять форму, хотя в этом
и не сознавался, чтобы не признаться в самоотречении.
Война не просто затруднила деятельность сюрреали¬
стов на территории Франции и других стран Европы.
Война, оккупация, Сопротивление — все это оказалось
аргументом против сюрреализма. Споры об «отечестве»
перестали быть только теоретическими. Так лихо при¬
гвожденные сюрреалистами • к позорному столбу за
«обуржуазивание», коммунисты гибли, защищая родную
40
землю от фашистов, а не забывавшие напомнить о своем
антифашизме сюрреалисты во главе с Бретоном пере¬
брались подальше, в Америку. Не случайно Бретон в
годы войны окончательно потерял последнего своего
приверженца из числа крупных французских писа¬
телей — Поля Элюара. Элюар вернулся в компартию
в 1942 году, и это было актом разрыва с анархизмом и
политическим левачеством, с сюрреализмом в искусстве.
Элюар вновь оказался рядом с Арагоном, но уже в ином
лагере, в лагере реализма. И в лагере писателей под¬
полья, писателей антифашистского Сопротивления.
Почти одновременно Бретон порвал с Дали, но по
причине противоположной. Дали откровенно славил фа¬
шизм, стал поклонником генер'ала Франко и Гитлера,
в котором увидел нечто родственное сюрреализму, «су¬
щество параноическое», а выше всего' ценил деньги,
цинично признавая: «главное иметь много денег. Я живу
там, где денег побольше». Дали компрометировал сюр¬
реализм, и Бретон отлучил его от своей веры. Но это
не помешало Дали оставаться сюрреалистом, что само
по себе ставило под сомнение важнейший, исходный для
Бретона тезис об органической революционности сюр¬
реализма, о том, что сюрреализм есть некая гарантия
революционности — и политической, и философско-эсте¬
тической.
Отбыв в марте 1941 года от ставших негостеприим¬
ными берегов воюющей 'Европы, Бретон прибыл на
Мартинику. Там он нашел единомышленника в лице
Эме Сезэра, предпринявшего издание журнала «Тропи¬
ки», в котором и обосновалась часть прибывших в Аме¬
рику сюрреалистов. И снова — во-первых, сюрреализм
воспринят как символ освобождения, во-вторых, решаю¬
щее значение для возникновения мартиникского его
очага имело появление Бретона. Позже и Сезэр оставит
сюрреализм — подобно множеству других.
Но и само обращение Эме Сезэра к сюрреализму
было весьма специфическим — и в то же время показа¬
тельным для увлечения сюрреализмом в странах Латин¬
ской Америки, да и во многих других местах. «Более
властный постулат влечет Сезэра к сюрреализму: в той
мере, в какой тот предлагает..., благодаря автоматиче¬
скому письму, прояснить подсознательное..., антильский
негр, разъединенный с самим собой чуждой ему куль¬
турой, может видеть в сюрреализме возможность обре-
41
сти свою подлинную личность» 1. Больше того, сюрреа¬
лизм показался Сезэру «кодом», «шифром», в котором
можно было бы укрыться от вишийской цензуры, и при
этом сказать обо всем — «о коррупции властей, о гневе
свободных людей, о грядущем очищении». Если еще
представить себе, что мысли и чувства Сезэра всегда
питались мыслями и чувствами народа, то понятным
станет не только быстрый отход Сезэра от сюрреализма,
но и то, что, увлекшись сюрреализмом, он увидел в нем
скорее то, что ему нужно было, чем то, чем был на са¬
мом деле сюрреализм. Сезэр «прибег к услугам сюрреа¬
лизма», а не следовал ему.
Европейские сюрреалисты' несколько оживили сюр¬
реалистическое движение' в Америке — в Мексике,. Чили,
Венесуэле. Но истинно весомым оно стало лишь в
США2, где в августе 1941 года появился Андре Бретон,
где оказались и некоторые другие из европейских его
приверженцев. С 1942 года ими издается журнал с бра¬
вурным названием «УУУ»—«Тройное В», т. е. «трой¬
ная победа» (V — от лат. «укропа», фр. «У1с{01ге»).
Не до побед было, однако, сюрреалистам. Тем более,
что с момента появления на американском континенте
Бретон заметно меняет свою программу. В переменах
выразилось то фиаско, которое потерпело сюрреалисти¬
ческое движение как движение политическое, взявшее
на себя смелость преобразовать мир, совершить соци¬
альную революцию, оставаясь при этом движением сюр¬
реалистическим, со всеми вытекающими отсюда проти¬
воречиями, двусмысленностями и органической слабо¬
стью. Не признавая поражения (что характерно вообще
для Бретона), сюрреалисты мало-помалу ретировались
с поля социальных сражений так, как они ретировались
с полей сражавшейся Европы3.
Позже, уже после войны, сюрреалисты открыто за¬
явят об изменении своей социально-политической лози-
1 Кез1е1оо1 Ь. Аше Сёзане. Рапз, 11962, р. 31.
2 До того времени американцы знакомились с европейской но¬
винкой. «В 1931 году имела место первая исключительно сюрреали¬
стическая выставка в Америке, но все экспонаты были европей¬
скими». (Л а п 1 з 5. АЬз1гас1 апб ЗиггеаПз! Аг1 т Атепса. Ые\у
Уогк, Л944, р. 87).
3 Тристан Тцара писал, что в журнале «УУУ» даже в форме
ребуса читатели не смогли бы обнаружить слов и образов, касаю¬
щихся войны и оккупации. (Т г а г а Т. Ье зиггёаНзше е! Гаргёз-
диегге. Рапз, 1948, р. 74),
42
ции: «С нетерпением Желая ускорить приближение цар¬
ства свободы, мы одно время присоединились к мерам,
подготавливавшим... пролетарскую революцию... Сего¬
дня мы поднялись на иной уровень для того, чтобы тру¬
диться во имя приближения царства свободы. Мы ищем
ключ, мифический по его сути...»1.
Бретон выдвигает лозунг — «Пригрезить револю¬
цию», или «Грезить о революции» (Кёуег 1а Кёуо1иГюп).
Как истинные идеалисты, сюрреалисты противопостав¬
ляют марксистской теории революции идею «тотальной
революции», делая-,акцент на тотальном преобразовании
психологии, и не считаясь с тем, что такое преобразова¬
ние немыслимо без революционной перестройки матери¬
альных условий бытия человека. Сюрреалисты пообеща¬
ли кардинально изменить взгляды, верования, — пере¬
ставив человека с ног на голову, точнее, закрепив его
в этом неестественном, но предпочитавшемся сюрреали¬
стами положении.
Это не было движением вперед — хотя, конечно, как
движение вперед изображалось в трудах некото¬
рых историков и теоретиков сюрреализма2, — это похо¬
же было на возвращение назад, к периоду до сближения
с коммунистическим движением, до «политизации» сюр¬
реализма, к исходной точке начала 20-х годов. В «Про¬
легоменах к третьему манифесту сюрреализма» («Рго-
1ё§отёпез а ип {го181ёте ташГезГе ди зиггёаПзте», 1942)
Бретон озабочен не столько «прекращением эксплуата¬
ции человека человеком», сколько «проблемой отноше¬
ний мужчины и женщины». И не случайно: ведь уже
в 30-е годы в эссе «Безумная любовь» («Ь’ашоиг Гои»,
1937) Бретон пообещал преобразовать мир, используя
для этого «половую любовь и единственный двигатель
мира — желание». С подозрением относившийся некогда
к поэзии Бретон и в «Безумной любви» и в «Пролегоме¬
нах» заговорил о свободе языком поэта — образным,
загадочным, туманным. Пренебрежение к истории, свой¬
ственное сюрреализму на его «юношеском» этапе, вновь
1 В 6 Л о и 1 п Л. - Ь. Уте! апв Ли зиггёаПзте. 1939—1959, Ра¬
пз, 1961, р. 310.
* Следует иметь в виду одну особенность: значительная часть
работ о сюрреализме принадлежит' участникам сюрреалистического
движения. Трудов о сюрреализме за рубежом немало, но изучение
сюрреализма должным образом не отделилось еще от его реклами¬
рования.
43
Возвращается в манифесты Бретона, как и ставка йй
абсолютную свободу «я». «Индивидуальное сопротивле¬
ние — единственный ключ от дверей тюрьмы», — пишет
Бретон в 1942 году и тем самым замыкает кривую двад¬
цати лет своего движения, замыкает иллюзорным осво¬
бождением индивидуума в мире, остающемся несво¬
бодным.
А тем временем, далеко от тех берегов, к которым
причалил Бретон, шла война... Бретон размышлял о
войне в статье «Черный свет» (1943). Не цели, не осно¬
вания войны, а ее «структура» интересовала Бретона.
Он, правда, осудил фашизм, «жестокую мистику» мили¬
таризма. Осудил попутно, по пути своих отвлеченных и
не лишенных претенциозности рассуждений о «супер¬
структуре» и «инфраструктуре». На фоне такого очевид¬
ного, такого недвусмысленного факта, как война, перед
лицом такой очевидности, как фашизм, теоретизирования
Бретона насчет человеческого любопытства, потребности
в детскости и пр. кажутся особенно неуместными и
уклончивыми.
«Три лика Зверя» — Гитлера, Муссолини и Микадо
Бретон заклеймил в 1942 году в речи «Положение сюр¬
реализма между двумя войнами». Заклеймил опять-таки
попутно, в очередном славословии сюрреализма как
символа свободы и юности, в очередном повторении
идеи о всемогуществе основанного на фрейдизме «авто¬
матизма», «объективной случайности» и вторжения в
«мифическое бытие».
.В эссе «Тайна 17» («Агсапе 17», 1944) Бретон раз¬
мышлял о духе Сопротивления; он классифицирует
участников Сопротивления на высшую и низшую кате¬
гории и предупреждает о том, что Сопротивление — это
еще не все. Определяя.здесь свободу как оппозицию вся¬
кому угнетению, Бретон напоминает, что свобода — не
«состояние», что она динамична. По. классификации
Бретона, освобождение Франции — всего лишь негатив¬
ная, не созидательная идея, борьба против болезни, но
не само здоровье, коим является истинная, высшая идея
свободы. Эта высшая идея оказывается составной
частью бретоновского «нового мифа», «созиданием све¬
та», чем заняты поэзия, любовь, «смыкающиеся на наи¬
менее обнаруженной точке человеческого сердца».
Бретон слишком далеко забрался в поисках идеаль-
( ного места для размышлений. Вот он в море, у берегов
44
Канады, у какой-то Дырявой Скалы... Место это, по всей
вероятности, поэтическое, навевающее грезы, но из этого
прекрасного далека трудна судить о Сопротивлении,
развернувшемся на земле Европы. Все, что может ска¬
зать Бретон о величайшем сражении современности —
«скандальное состояние дел», скомпрометировавшее
«мужчину» и «его принципы». «Мужскую систему» об¬
щества Бретон мечтает заменить «женской системой»,
царством любви и доброты.
Бретон вернулся во Францию весной 1946 года. На¬
кануне возвращения ему удалось зажечь еще один очаг
сюрреализма — на Гаити. Известный французский писа¬
тель появился там в ореоле не только своей известности,
но и своей афишированной, акцентированной революци¬
онности, что, как мы видели, нередко прокладывало
путь сюрреализму. Вокруг тамошнего поэта Рене Депе-
стра возникает не столько литературное, сколько поли¬
тическое движение, в котором сюрреализм Бретона
играет роль повода для проявления давно накопивше¬
гося и искавшего себе выход возмущения местной дик¬
татурой. Депестр тоже прибег к услугам сюрреализма,
а не пошел за ним. Печать Гаити писала о сюрреализме
как об «антифашистском движении, не пропускавшем
случая подтвердить свою веру в законные стремления
человека к социальной справедливости и свободе».
Так воспринимали сюрреализм на Гаити, так очень
часто его воспринимали в странах, где сюрреализм был
новинкой, где искали повода для выявления потребности
в протесте и обновлении, где принимали сюрреализм
вначале «по одежке», по дерзким и волновавшим чувст¬
ва призывам Бретона.
Во Франции его воспринимали иначе. Во Франции
он не был новинкой. Во Франции он был промерен мер¬
кой Сопротивления, меркой тех бед, которые обруши¬
лись на Францию, меркой Освенцима и Бухенвальда.
Понятна поэтому та резкость и непримиримость, с
которой оценил сюрреализм Жан-Поль Сартр. Это про¬
изошло в апреле и мае 1947 года, в статьях, опублико¬
ванных в журнале «Без Тетрз тобетез»' и относивших¬
ся к циклу «Что такое литература?». Сартр тогда, под
влиянием войны и Сопротивления, заявил об ответствен¬
ности писателя, об его «ангажированности», вовлечен¬
ности в борьбу, о неизбежной зависимости человека от
общественных обстоятельств, от исторической ситуации.
45
Сюрреализм же для него был примером «абсолютного
бунта», напоминающего поэтому «фейерверк». Сартр
не сомневался в искренности намерений сюрреалистов,
в их отвращении к буржуазии. Но «они разрушают бур¬
жуазное существование и сохраняют его со всеми нюан¬
сами»; «тотальное уничтожение, о котором сюрреализм
мечтает... никому не причиняет зла именно потому, что
оно тотально. Это абсолют, место которого вне истории,
это поэтическая фикция». И приговор: «Сюрреалисты
остаются паразитами класса, который они оскорбляют,
их бунт вне революции».
В 1947—1948 годах с резким осуждением сюрреализ¬
ма выступил Тристан Тцара,, в конце 20-х — первой
половине 30-х годов поддерживавший Бретона. Тцара
увидел вырождение сюрреализма: вслед за попытками
«связать мечту и действие», перебросить мост к револю¬
ции сюрреалисты занялись «заумным колдовством».
Тогда же еще один видный французский писатель,
тоже из бывших сюрреалистов, тоже прошедший через
Сопротивление, сказал — «сюрреализм против револю¬
ции». Этим писателем был Роже Вайян. В 1948 году он
издал под таким названием небольшую книгу. Р. Вайян
отметил как симптоматичный факт то, что первые заяв¬
ления Бретона по возвращении во Францию были опуб¬
ликованы в «Фигаро». «Так кончился «заговор молча¬
ния», который буржуазная пресса противопоставляла с
1925 года дерзостям сюрреалистической группы и ее
руководителя...»'. Бретон, заявивший в своем первом
манифесте об «абсолютном неконформизме сюрреализ¬
ма», публикуется в «Фигаро». Вайян высказал ту же,
что и Сартр, мысль о социальном паразитизме сюрреа¬
лизма, о его мелкобуржуазной способности жить
«еп тагде», «вне» и «возле» подлинного дела. «Война
вынудила нас пересмотреть многие из наших взгля¬
дов»,—писал Вайян. Война подорвала это состояние
«еп тагде», вынудила «принять бой»; «примечательно,—
продолжает Вайян, — что среди подписавших «Сюрреа¬
лизм в 1947 году», кроме Бретона, не?' почти никого из
сюрреалистов 1925 года». А подписавшие —это те, кто,
как и сам Бретон, сумели и в годы войны оказаться
«еп та где», вне подлинной борьбы. И тем самым пре-
1
1 V а П1 а п й К. Ье зиггёаНзте соп1ге 1а гёуо1и(юп. Рапз,
1948, р. 11.
46
- вратиться в вирус, который буржуазный организм уже
может усваивать и даже использовать в «своих целях.
Действительно, после 1945 года, во взбудораженной
войной Европе, которая переживает момент «вовлечен¬
ности» искусства в политику, в заботы человеческие,
Бретон, отступающий даже от своих собственных дово¬
енных лозунгов, приготовившийся «грезить революцию»,
кажется шагающим не в ногу со временем, кажется ана¬
хронизмом.
Подтвержденный в 1947 году в резкой форме разрыв
с коммунистами лишь усиливал это впечатление. Пре-
небрежирльное отношение к такой реальности, как Со¬
ветский Союз, раскрывало утопизм сюрреализма, все
более склонявшегося к чисто мифическому освобожде¬
нию личности. Считая главной бедой национализм, Бре¬
тон ставит под сомнение патриотическую деятельность
коммунистов, в тоне извинения пишет даже о тех ску¬
пых похвалах, которые он в годы войны адресовал борю¬
щейся Франции, «французскому духу».
Несмотря на' броские лозунги, которые продолжал
выдвигать Бретон, несмотря на все его попытки орга¬
низационно укрепить ослабевшие ряды его единомыш¬
ленников (от парадной Международной парижской вы¬
ставки 1947 года до VIII Международной выставки
1959 года, привлекшей внимание благодаря дополни¬
тельным средствам, использованным сюрреалистами, —
ее темой был эротизм), сюрреалистическое течение ис¬
сякает и в Париже и в других центрах, разбивается на
едва заметные ручейки. «Бретон остался в одиночестве,
с горсткой приверженцев, рассеянных по всему свету,
без реального на мир влияния» '.
«Выше всего — независимость», — повторял Бретон.
Звучали слова эти красиво, но она, эта независимость,
все более смахивала на независимость приживалок, жи¬
вущих воспоминаниями о былом величии. Так, редакторы
выходившего с 1948 года сюрреалистического журнала
«Неон» (он просуществовал совсем немного), деклари¬
ровали свой аполитизм — и в то же время не забыли
‘напомнить о том, что Бретон сохраняет приверженность
«тотальной революции». Под крылом выдвинутого Бре¬
тоном в «Неоне» лозунга и созревал аполитизм сюр-
1 В о 1 з <1 е Г Г г е Р. 4е. Ше Ыз(о1ге У1уап1е с!е 1а НИёга(иге
д’аиригсГЬш. Рапз, 1968, р. 321.
47
реалистов нового набора. Этим лозунгом были туман¬
ные и поэтические призывы «Мау1^иег. ЕуеШег. Осси1-
1ег». («Странствовать. Пробуждать. Заниматься оккуль¬
тизмом»).
«Новый» курс сюрреалистов чисто словесно расши¬
рял проблему свободы до метафизики «абсолютного
бунта», до колдовской зауми оккультных «чудес»— а
в области практического действия Бретон и его немно¬
гочисленные сподвижники не выходили за пределы Мел¬
кой возни в анархических и троцкистских группиров¬
ках. На обуржуазивание «чистого бунта» указал даже
Альбер Камю. В конце 1951 года, после появления
книги Камю «Бунтующий человек», между ним и Бре¬
тоном произошел обмен раздраженными репликами.
Анархические призывы Бретона, его апелляция к
«тотальной свободе» в изменившихся социальных усло¬
виях кажутся такой очевидной «поэтической фикцией»,
что превратить их в послевоенной Европе в знамя, спо¬
собное воодушевить и объединить целое движение, не
удавалось. Удалось привлечь к себе лишь незначитель¬
ное число политиканов или же художников, способных
оценить возможности «автоматического письма» — но
это значит ввести сюрреализм к чисто литературной,
относительно камерной по задаче и по значению школе.
Это и значит вернуть сюрреализму его значение,
освободив от неподтвержденных делом претензий Бре¬
тона и его поклонников, всегда сопротивлявшихся «су¬
жению» сюрреализма. Бретон и его сторонники попы¬
тались возложить на сюрреализм задачи, которые он
не в состоянии был выполнить в силу своей «надреали-
стической» сущности. Вот противоречие, которое про¬
низывает всю историю сюрреализма. ПаэтомУ'и обще¬
ственно-политические задачи, сформулированные Бре¬
тоном в 30-е годы, выполняли лишь те сюрреалисты,
которые сюрреалистами переставали быть. Коль скоро
Бретон отстаивал сюрреализм, «автоматизм» и оккуль¬
тизм, — он сам «сужал» движение, обрекал его на по¬
степенное истощение. «Тотальная свобода» расширяла
сюрреализм чисто словесно, делая его «поэтической
фикцией», — в схватке с Историей Бретон потерпел со¬
крушительное поражение. А по мере истощения сюрреа¬
листического движения все выше поднималась фигура
самого Андре Бретона — первого и последнего предста¬
вителя международного сюрреализма... Не случайно и
48
интерес к проблеме сюрреализма вновь несколько ожи¬
вился в 1966 году, тогда, когда умер Бретон, — когда
возник вопрос, умер или нет вместе с ним сюрреализм.
Впрочем, дело не только в смерти Бретона и естест¬
венном стремлении подвести в связи с этим итоги. Дело
в том, что в 60-е годы несколько оживился интерес к
сюрреализму в силу целого комплекса и социально-по¬
литических, и собственно художественных причин.
Вот и Арагон вдруг заметил, что слова «реализм» и
«сюрреализм» имеют общий корень, и попытался оце¬
нить возможности сюрреализма применительно к «экс¬
периментальному роману» («Гибель всерьез», «Бланш,
или Забвение»). Вообще сюрреализм как бы ожил под
пером сторонников «реализма без берегов». Сюрреализм
даже превращается в «берега» этого «безбрежного реа¬
лизма». Так, Пьер Дэкс в книге «Новая критика и со¬
временное искусство» (1968) все мировое искусство раз¬
деляет на «традиционное», или «устаревшее», и «совре¬
менное», для которого «реальность—только на полотне».
«Современное» возникло благодаря усилиям символи¬
стов и кубистов. Сюрреализм, по мнению Дэкса, «обоб¬
щил» этот процесс осовременивания искусства.
Филипп Соллерс, вдохновитель парижского журнала
«Тель кель», органа сегодняшних «авангардистов», про¬
вел прямую линию к сюрреализму, к Бретону. Вслед за
сюрреалистами, группа «Тель кель» попыталась навести
мосты к социальной революции. Имя Бретона поставле¬
но рядом с именем Маркса. «Письмо и революция», —
так называется интервью Соллерса от апреля 1968 года.
«Революция здесь теперь», — заявляет его группа в мае
1968 года. «Антироман на службе революции», — зву¬
чит наиновейший лозунг. «Сюрреализм на службе рево¬
люции» — это уже было...
Как и сюрреалисты, современные литературные
структуралисты гларным средством социального преоб¬
разования считают свой философско-художественный
принцип, — в данном случае это принцип «письма»:
«Письмо как функция социального преобразования», —
так называется, например, статья, Ф. (юллерса («Ьа
МоиуеИе сгШяие», 1968, тагз). Мы свидетели новой
фазы в эволюции парижской «школы письма». Раздра¬
женно повернувшись вначале «спиной к истории», она
резко изменила позицию в последнее время. Новые вре¬
мена вынуждают писателей осознать свою роль в обще¬
49
стве — чего, например, стоят майские события 1968 года
в Париже! Но эстетика сегодняшнего «авангардизма»
сложилась в длительной традиции чисто эстетической
революционности, да еще обработанной аполитичным
«антироманом»„50-х годов. Получается такое же, как и
у сюрреалистов 30-х годов, противоречивое и странное
сочетание.
Как от идеи социальной революции перебросить мост
к изъятому из социальных условий и идеологий перво¬
элементу «письма» (у сюрреалистов соответственно —
«автоматического письма»), к литературе чисто лабора¬
торной и камерной, «чистой»? Как связать социальный
нигилизм, лежащий в основе структуральной эстетики,
с гуманизмом и пафосом утверждения, лежащими в ос¬
нове социальной революции? Как можно устоять на
столь неестественно раздвинутых ногах! Чтобы их сдви¬
нуть и обрести большую устойчивость, «школа письма»
в последнее время и пытается навести мосты от идеи
социальной революции к самой сути эстетики «письма».
Предлагается считать началом или даже аналогией
социальной революции —-само «письмо», его нетради-
ционность. Вот так, например: «Именно изменение пись¬
ма приводит мир в состояние производить мир иным
образом». Или вот:* «Двойное изменение — изменить
жизнь, изменить мир», «(Не Ше11 уегапйегп», как бук¬
вально писал Маркс, — проходит через знаки на бу¬
маге».
Современным «антироманистам», по-боевому настро¬
енным, кажется, что, взрывая язык, они подводят смер¬
тельную мину под буржуазное общество. Они уверены,
что истинная революция начинается с того момента,
когда язык заменяется «письмом», когда с пролетариа¬
том начинают говорить на непривычном, невнятном язы¬
ке. По их мнению, адресовать пролетариат к внятности,
к доступности —значит воспитывать конформизм, на¬
правлять не по революционным, а по проторенным
дорогам. Чем менее понятен текст, тем он революцион¬
нее. Синонимом порицаемой буржуазности стал для
«школы письма», вслед за языком, роман. Парижским
«авангардистам» кажется, что «оспорить повествователь¬
ные формы — это уже означает подвергнуть сомнению
буржуазную идеологию», ибо «капиталистический пе¬
риод покоится прежде всего на примате слова над
письмом».
9
50
Однако стоит ли забывать о том, что попытки покон¬
чить с буржуазией путем ликвидации или языка, или
романа, или поэзии делались многими и задолго, до
появления «Тель кель»? Стоит ли забывать о том, что
невозможно заметить того потрясения, которое испытало
буржуазное общество вследствие этих попытрк? И о
том, что довольно легко увидеть ущерб, нанесенный
этими попытками искусству? «Чтение, отрешенное от
смысла», «литература, как нечто закрытое, подвергаю¬
щее сомнению все гуманистические концепции акта твор¬
чества», — с таким искусством не выйдешь к обществу,
не выйдешь к подлинной, а не словесной революции.
Как не удалось это сделать и сюрреализму.
Не случайно, должно быть, и сами сюрреалисты ныне
не очень-то настаивают на принципах сюрреализма,
предпочитают самые туманные и неопределенные рас¬
суждения о том, что есть сюрреализм. Сюрреалисты
пытаются оживить сюрреализм и возбудить внимание
к нему за счет социально-политических событий послед¬
них лет. Один из последних адептов и руководителей
сюрреализма Жан Шюстер пишет о «благоприятных
объективных условиях — обновлении революционной
мысли и действия» Действительно, с оживлением анар¬
хизма сейчас как бы оживился сюрреализм, или скорее
интерес к нему. Его поклонники с гордостью напомина¬
ют, что на стенах домов Латинского квартала в Париже
в мае 1968 года можно было прочитать слова «Бретон»
и «сюрреализм». Это верно, но это еще раз подтверж¬
дает органическую связь сюрреализма с анархизмом.
Недаром такой нашумевший теоретик современного
левачества, как Герберт Маркузе, именно в сюрреализ¬
ме нашел подходящую для его целей, для его программы
доктрину. «С сюрреалистами бретоновского типа автора
«Опыта об освобождении» роднит ощущение безвыход¬
ности тупика, в который завела мир капиталистическая
цивилизация, и убеждение в том, что выход из него
возможен только в форме прорыва, который был бы
полным, окончательным и абсолютным разрывом со всем
реально существующим... Но главное, что роднит Мар¬
кузе с сюрреалистами подобного типа, это убеждение
в том, что энергию — положительное содержание! — та-
1 «Ье Мопбе», 1969, 4 ос1оЬге.
51
кому «социальному перевороту» даст человеческое под¬
сознание, либидозный порыв... Вся культура буржуазной
эпохи, возникающая, стало быть, как результат извест¬
ной репрессии, известного давления на либидозный по¬
рыв индивида, представляется ему чем-то насквозь
фальшивым, достойным лишь осмеяния ,и уничтожения...
Как и Бретон, Маркузе сначала отождествил политиче¬
скую революцию с эстетической (художественной), а за¬
тем все время занимался «подменой тезиса», ставя на
место одной революции — другую... Маркузе (как и
Бретон) находится в ситуации постоянного колебания
между эстетизацией политики и политизацией искус¬
ства» К
Разве не красками самого отчаянного анархизма
окрашены были университетские стены в памятном мае
1968 года? Вот некоторые из начертанных на стенах
лозунгов: «Ничего», «Здесь спонтанируют», «Изобретай¬
те новые половые извращения», «Освободитесь от Сор¬
бонны (спалив ее)», «Никаких экзаменов», «Да здрав¬
ствует насилие», «Насилуйте вашу а1ша ша1ег» и т. п.
И рядом совершенно сюрреалистические лозунги, сюр¬
реалистические и по сути, и по вызывающему тону, по
шокирующей броскости: «Фантазия берет власть»,
«Мечта — это реальность», «Будьте реалистами, требуй¬
те невозможное», «Мои желания это и есть реальность»,
«Надо систематически исследовать случай», «Наслаж¬
дайтесь здесь и сейчас», «Все — дада», «Да здравствует
сюрреализм». Вот и поздний французский сюрреалист
Андре Пейре де Мандиарг стал сочинять листовки, ко¬
торые разбрасывались во время майских событий в Па¬
риже. На листовках изображена роза и воспроизведены
стихи о «Розе для Революции», со ссылками на Фиделя
Кастро и с надеждой на Латинский квартал, где, по
убеждению сюрреалиста, пустила корни эта красная
роза, «столь безмерная, что Францию всю она покроет».
Одновременное оживление анархизма и сюрреализма
не подтверждает, а опровергает тезис о некоей абсолют¬
ной революционности сюрреализма, тезис, на котором
сторонники сюрреализма особенно сейчас настаивают,
надеясь, что сюрреализм выживет хотя бы за счет от-
1 Давыдов Ю. Сюрреалистический революциоиаризм Гербер¬
та Маркузе. «Вопросы литературы», 1970, № 9.
52
блеченных и туманных определений его революционно¬
сти и его прогрессивности. Таких, например: «сюрреа¬
лизм — это ностальгия и надежда», сюрреализм — это
реализация лозунга «каждому по его желаниям».
Последняя фаза сюрреализма — превращение его
в нечто загадочное. «Сюрреализм — загадка», — пишет¬
ся в специальном номере журнала «Эрон».
Он отождествляется то с «искусством воображения»
(разве, однако, искусство обходится без воображения?),
то «со всем странным», то со всем, «что эпатирует бур¬
жуа». В одной из статей сообщается, что вообще «все
сюрреалисты», но не знают об этом, как г-н Журден не
знал, что говорит прозой.
В «юбилейном» — посвященном 50-летию выхода в
свет «Магнитных полей» — номере газеты «Монд» от
4 октября 1969 года прямо говорится, что нынешний
сюрреализм «не может быть понят», что он «не имеет
программы». Именно такой, безликий, сюрреализм его
приверженцы считают вечным — в отличие от «истори¬
ческого», смерть которого очевидна даже приверженцам
сюрреализма. Жан Шюстер сообщает, например, сле¬
дующее: «Констатируя отсутствие какой бы то ни было
связи в сюрреалистическом движении, в феврале месяце
(1969 г. — Л. А.) некоторое число моих друзей и я сам
решили предоставить его судьбе, которая нас более не
касается». И далее: «Номер 7 журнала «Аришбра»,
датированный мартом 1969 года, но подготовленный в
январе, — последняя манифестация сюрреализма как
организованного движения во Франции».
Кажется, ясно. Но Шюстер завершает свое сообще¬
ние словами «сюрреализм жив». При этом «историчес:
кому» сюрреализму противопоставляется сюрреализм
«вечный», т. е. безликий.
Само это противопоставление говорит о смерти
«исторического» — т. е. единственного, существовавше¬
го на самом деле сюрреализма. Ведь «вечный», т. е.
безликий, лишенный программы, превращенный в сим¬
вол надежды, — это не сюрреализм, это плод воображе¬
ния сторонников сюрреализма, которым не под силу
мысль о его кончине.
Совершенно прав автор одной из статей в посвящен¬
ном сюрреализму номере журнала «Эроп»: «Сюрреа¬
лизм умер окончательно. А то, что он укрывается ныне
в оккультизме, в алхимии, в изотеризме, это побуждает
53
нас видеть в нем движение, которое история обогнала.
По нашему мнению, истинные сюрреалисты — это те,
которые поняли, что поиски сюрреальности открывают
дверь обскурантизму и реакционной мифологии». Ведь
даже в случае с парижской «школой письма», противо¬
речия и метания которой так напоминают нам о проти¬
воречиях и метаниях сюрреализма, речь не идет о воз¬
рождении сюрреалистического движения. Речь идет об
оценке наследия сюрреализма, о дележе этого наслед¬
ства — а когда делят наследство, значит в доме есть
покойник.
2. Теория
Итак, история сюрреализма — это история необходи¬
мого приобщения бунтарей к социальной революции,
история неизбежного поражения вольнонаемных идео¬
логов «тотального отрицания» в их схватке с Историей,
история превращения лозунгов «абсолютной свободы»
в лозунги абсолютно троцкистские.
Сюрреалистическая теория, как и история сюрреа¬
лизма, раскрывает его суть, характер его претензий.
Теория раскрывает претензию сюрреализма на то, чтобы
быть не только общественно-политическим движением,
но чем-то вроде философской школы, дающей новое
представление о действительности. «Передвинуть грани¬
цы так называемой реальности», — вот, согласно Брето¬
ну, главная задача сюрреализма.
«Мы ничего общего не имеем с литературой...».
Нет, сюрреалистам не до искусства, не до литера¬
туры: в эпоху кризиса, в эпоху, когда, как казалось
сюрреалистам, даже разум скомпрометирован, даже дей¬
ствительность потеряла свой действительный характер,
необходимо было прежде всего найти замену разуму,
открыть новые средства познания, обнаружить подлин¬
ную реальность — «сверхреальность». То, что для дадаи¬
стов было предметом сенсационных деклараций, для
сюрреалистов стало основой гносеологии, основой фило¬
софской системы. Сюрреалисты не просто теоретизиро¬
вали — они кажутся опутанными теоретизированием как
липкой паутиной, из которой нелегко выбраться к твор¬
честву, к художественной практике.
Освобождение человека казалось сюрреалистам в
первую очередь, а то и всецело делом освобождения
сознания, высвобождения «духа». Сюрреалистическая
философия сразу же отразила и выразила своеобразие
55
сюрреалистической революции — как чисто духовной,
индивидуалистической, расковывающей личность с по¬
мощью «гёуе», с помощью «сна, алкоголя, табака, эфи¬
ра, опиума, кокаина, морфия».
Правда, сюрреализм попытался вырваться из плена
индивидуализма, пытался найти способ воссоединения
субъективного и объективного, личного и общественно¬
го. Сюрреалисты, повторяем, искали всеобъемлющую
концепцию: для них и идеализм, и материализм были
узки и однолинейны. Они хотели протянуть нити от са¬
мых глубин «я» к космосу и обратно, связать все и вся
в один узел, найти «ключ», которым можно было бы
отпереть вселенную, все ее помещения.
Что же получилось из этой дерзкой затеи?
Эссе Арагона — «Волна грез», или «Волна снов» —
«Ше уа^ие бе гёуез» — появилось осенью 1924 года.
Этот небольшой «этюд» можно считать фокусом, изна¬
чальным пунктом сюрреалистической теории. В нем за¬
фиксировано то мгновение, когда человек становится
сюрреалистом, то состояние, которое знаменует начало
его освобождения — и одновременно начало философ¬
ствования. Заметим, что у порога лежит в качестве обя¬
зательного и решающего звена полное, категорическое
отключение от внешнего мира. Сюрреалистическое тео¬
ретизирование начинается тогда, когда удастся усыпить
разум — тогда и набегает «волна грез».
«Временами я внезапно теряю нить своей жизни...
Эти моменты, когда все ускользает от меня, когда огром¬
ные трещины возникают в дворце вселенной, — я бы
ради этих моментов пожертвовал всей моей жизнью...
Тогда я улавливаю во мне случайное, я улавливаю
сразу же, каким образом я себя превосхожу: случайное
это и есть я...».
Итак, открытие истины — это возвращение к «я»,
погружение в «я». Этот процесс знаменует у Арагона
выключение «я» из сковавшей его косной, как казалось
сюрреалистам, системы внешних ценностей — «родина,
честь, религия, добро, трудно узнать себя среди этих
бесчисленных вокабул». Расковавшееся «я» обнаружи¬
вает, «что сущность вещей никоим образом не связана
с их реальностью, что есть иные, кроме реальных, свя¬
зи» — обнаруживает «случай, иллюзию, фантастику,
грезу». Вот их-то Арагон «соединяет и согласовывает
в одном понятии — сюрреальность». «Жульничеством»
56
йменует Арагон приспособление этого понятия к чисто
литературным целям: сюрреализм, по мнению писателя,
меняет основы существования, погружает как бы в море
бытия, населенное, правда, «акулами безумия».
Арагон рассказывает, как сюрреалисты, собираясь
вместе, «открывали странные области себя самих», про¬
никая в бессознательное и вызывая оттуда образы; ко¬
торые «становились реальностью». «Они обретали ха¬
рактер видимых, слышимых, осязаемых галлюцинаций.
Мы испытывали всю силу образов. Мы теряли власть
над ними. Мы становились их владением, их обрамле¬
нием».
Сюрреализм для Арагона — автора «Волны грез» —
это особого рода деятельность, которая завершается
обнаружением особого рода «внутренней материи» или
«душевной материи» «таНёге тепЫе). Эта «материя»,
с одной стороны, близка сновидениям, галлюцинаци¬
ям, образам, рожденньщ душевными заболеваниями,
с другой — отличается от мысли. Но Арагон, опреде¬
ляющий сюрреализм, признается, что понятие сюрреа¬
лизма убегает, как горизонт от движущегося человека.
Сюрреализм — «поглощение понятий», понятий реально¬
сти и ирреальности, сюрреализм — «общий горизонт
религий, магий, поэзии, грезы, безумия, опьянения и
жалкой жизни».
Первой фазой формирования этой туманности, кото¬
рой так и остается сюрреализм в «Волне грез», Арагон
считает «смутное чувство сюрреальности», посещавшее
сюрреалистов еще на стадии дадаизма. Потом — «эпи¬
демия сна обрушилась на сюрреалистов» (после такого
эпохального для сюрреализма события: «Это случилось
на берегу моря, где Рене Кревель встретил даму, на¬
учившую его спать особым гипнотическим сном, скорее
похожим на сомнамбулическое состояние»). Так, к концу
1922 года «семь или восемь человек живут только этими
мгновениями забвения... Они засыпают повсюду... В ка¬
фе, под шум голосов, при ярком свете, в толкотне,
Робер Деснос не успеет закрыть глаза, как уже гово¬
рит..., и тотчас же возникает пророчество, тон магии,
откровения, тон Революции, тон фанатика и апостола».
Это и есть сюрреализм — состояние, плодящее сюр¬
реальность, начало всех начал. Тут и революция, тут и
философия, тут и поэзия. «Свобода начинается там, где
рождается чудесное». Все начинается, когда открыто
это «чудесное».
57
«Произносимые грезы» (гёуез раг1ёз) —симуляция?
Или нет? Этот вопрос мы находим уже в «Волне грез»
Арагона. Находим и ответ — какая разница? Разве
«симулировать не значит мыслить?» «А то, что мыслит¬
ся, то существует» (Е1 се яш ез1 репзё, ез1).
Конечно, трудно пройти мимо еретического предпо¬
ложения Арагона о том, что сюрреалистические грезы—
симуляция. Это предположение нам важно заметить по¬
тому, что оно сразу же уточнило место Арагона среди
теоретиков сюрреализма. Оно отделяет его в нашем вос¬
приятии от Бретона, не допускавшего ереси и принимав¬
шего сюрреализм всерьез.
Впрочем в «Волне грез» « Арагон серьезен. Но он
поэтичен. Для него «греза» — реальность, но реальность
поэтическая, и такой же реальностью становится дитя
«грезы» — сюрреализм. Повсюду грезы, мечты, сновиде¬
ния — «презы, грезы, грезы, на каждом шагу область
грез расширяется», расширяется безгранично, уподоб¬
ляясь на наших глазах не чему иному, как поэтической
фантазии.
Становясь реальностью, сюрреализм для Арагона
остается плодом грез — не больше того, созданием по¬
этической фантазии, «песнопением». Не удивительно,
хотя и неожиданно,— Арагон не возлагает особых
надежд на это создание. «Волна грез» завершается
тоскливой нотой: «Я ничего не жду от мира, я не жду
ничего от ничего... Великая бесцельность, пенящееся
море, я твоя источенная скала. Вздымайся, вздымайся,
дитя луны, о прилив: я тот, кто изнашивается, и -пусть
меня уносит ветер...».
Какое уныние у самых истоков сюрреализма, провоз¬
глашенного универсальным «ключом», действенным
средством освобождения духа и орудием тотальной ре¬
волюции! Это уныние в еще большей степени отделяет
Арагона от Бретона и служит комментарием к катего¬
рическому тону и самоуверенному теоретизированию
автора первого манифеста сюрреализма. Так же как
нежелание что-либо утвердить (сочетающееся, правда,
порой с дадаистской категоричностью), ощутимое в пре¬
дисловии к книге «Либертинаж» (тот же 1924 год).
«Никакой литературный опыт не является окончатель¬
ным», — писал Арагон. Все — лишь «вечное движение...».
И даже «то, что проходит через мою голову, пусть за¬
держивается там .так недолго, что и я сам никогда не
58
вспомню о моей мысли». И вновь унылый тон: «Будущее
сегодня более темно для меня, чем когда-либо... Я знаю,
что умирает, но я не верю, что нечто однажды возро¬
дится...».
И это было опубликовано в 1924 году, в год выхода
первого «Манифеста сюрреализма» Андре Бретона!
Бретон прежде всего определяет в «Манифесте» про¬
тивников сюрреализма, определяет тоном прокурорским,
выносящим приговор и не предполагающим даже воз¬
можности апелляции. Это — «реалистическая позиция»,
враждебная «всякому интеллектуальному и нравствен¬
ному порыву». Ее последствие — «обилие романов»,
стиль «простой информации» и «общие места» описаний.
В роли примера у Бретона фигурирует отрывок не из
чего иного, но из «Преступления и наказания» Достоев¬
ского. Бретону не нравится, что характер — всегда
нечто «изготовленное», что писатели обуреваемы жела¬
нием «сводить неизвестное к известному, к классифици¬
руемому».
Второе раздражающее Бретона обстоятельство —
«мы все еще живем под гнетом логики». Бретон надеет¬
ся, что «■свои права вновь обретет воображение». И осо¬
бые надежды возлагает Бретон, на «открытия Фрейда».
Как и Арагон, Бретон хочет привлечь внимание к зна¬
чению «гёуез», грез и сновидений (ссылаясь и на то, что
в своей жизни человек спит не меньше, чем бодрствует).
Нет никаких оснований, полагает Бретон, отказывать
«грезам» в праве решать фундаментальные проблемы
жизни. И далее следует основополагающий вывод Бре-
тона:~«Я верю в грядущее разрешение этих двух состоя¬
ний, по, видимости столь противоречащих друг другу, —
греза и реальность, в некоей абсолютной реальности,
в сюрреальности, если можно так сказать».
Нацелившись на определенную позитивную задачу,
пытаясь построить некую систему, обосновать ее и ут¬
вердить, сосредоточив свой пафос на этом утверждении,
Бретон сразу же отделил себя от дадаизма с его тоталь¬
ным нигилизмом.
На завоевание сюрреальности Бретон отправляется,
воспев «чудесное»: «Чудесное всегда прекрасно, любое
чудесное прекрасно, лишь чудесное будет прекрасно».
Только на «чудесное» надеется Бретон как на средство
обновления романа. Отправляется он, вооружившись
фрейдизмом и приемами психоанализа: «Будучи погло¬
59
щен в это время Фрейдом и освоив его методы, которые
я имел возможность, хотя и редко, но применять на
больных во время войны, я решил добиться от себя того,
чего пытаются добиться от них, а именно, скороговорки,
столь быстрого, сколь возможно, монолога, о котором
разум пациента не высказывает никакого критического
суждения, монолога, не стесненного, следовательно, ни¬
какой недомолвкой и который будет, насколько это
возможно, произносимой мыслью (репзёе раг1ёе)».
Понятие репзёе рапёе устанавливает теснейшую
связь сюрреализма не только с фрейдизмом, но и с да¬
даизмом, категорически осудившим разум, а известной
фразой Тцара — «мысль рождается во рту» — предва¬
рившим бретоновское понятие «произносимой мысли»,
мысли, возникающей при произнесении, в процессе гово¬
рения, мысли, которая не желает ничего общего иметь
с разумом, с сознанием, с осознанием.
«В 1919 году мое внимание привлекли фразы..., кото¬
рые в полном одиночестве, при приближении сна, стано¬
вились доступными сознанию, но без того, чтобы было
возможным обнаружить намеренное их предопределе¬
ние... Я сначала ограничился тем, что их запомнил.
Позже Супо и я решили намеренно вызвать в себе со¬
стояние, при котором они возникали. Для этого доста¬
точно абстрагироваться от внешнего мира».
Так возникает понятие «автоматизма», занимающее
ключевые позиции в бретоновской философии, в концеп¬
ции сюрреалистического искусства. И в ставшем знаме¬
нитым определении сюрреализма в первом «Манифесте»:
«Сюрреализм. Чистый психический автоматизм, имею¬
щий в виду выражение, или словесно, или письменно,
или любым другим способом, реального функциониро¬
вания мысли. Диктовка мысли, при отсутствии какого
бы то ни было контроля со стороны разума, вне ка¬
кой бы то ни было эстетической или моральной озабо¬
ченности...
Сюрреализм основывается на вере в высшую реаль¬
ность некоторых форм ассоциаций, которыми до него
пренебрегали, во всемогущество грез, в незаинтересо¬
ванную игру мысли. Он стремится окончательно разру¬
шить все другие психические механизмы и заменить их
при решении главных проблем жизни».
Ниже — определение художника: «Мы, не занимаю¬
щиеся никакой фильтрацией, ставшие глухими прием¬
60
никами стольких эхо, скромными регистрирующими
аппаратами...». И вызывающе Бретон «возвращает
талант, нам предоставленный». Далее следуют «рецеп¬
ты» сюрреалистического творчества: «Приведите себя,
насколько можете, в состояние наиболее пассивное, или
воспринимающее. Абстрагируйтесь от вашего гения,
ваших талантов и талантов всех прочих. Скажите себе,
что литература — одна из самых печальных дорог, ко
всему ведущих. Напишите быстро, без заранее намечен¬
ной темы, достаточно быстро, чтобы не сохранить в па¬
мяти и не пытаться перечитать. Первая фраза придет
в совершенном одиночестве... Достаточно трудно выска¬
заться по поводу следующей... Продолжайте, сколько
вам нравится...».
Ко всем вышеприведенным «рецептам» возвращают
нас некоторые из нынешних «антироманистов». Напри¬
мер, Н. Саррот, когда она прикладывает свои «тропиз-
мы» к акту художественного творчества. Вот как выгля¬
дит это творчество в романе Саррот «Между жизнью и
смертью» (1968). «В наиболее потаенных уголках нас
что-то едва трепещет... Ждать, когда наметятся в густо¬
те тины эти неуверенные продвижения, эти свертывания,
до тех пор пока вновь нечто не высвободится...
Можно оказать, что там что-то вроде биения, некая
пульсация... Это увеличивается, развертывается... Это
имеет силу, нетронутую свежесть молодых побегов, пер¬
вых трав, это растет все с той же сдержанной силой,
проталкивая вперед слова...». Такой «натуральный»,
почти физиологический, из подсознания, из недр орга¬
низма проистекающий поток лишь на более поздних
стадиях своего высвобождения получает у Саррот обра¬
ботку со стороны сознания. Но и тогда «не следует ни
с кем считаться. Никакое мнение не должно учитывать¬
ся. Ничье. Ни о чем... Пусть его забудут, это все, что
он требует, пусть его оставят... Он здесь ни в ком не
нуждается».
Еще более абстрактен, внесоциален, биологичен,
основан на работе подсознания акт творчества в изобра¬
жении представителя «молодежной» ветви «антирома¬
на», т. е. группы «Тель кель», Ф. Соллерса. Вот как это
получается в романе «Драма» (1965): «Внезапно сигнал
дан в недрах самой материи — торжественное мгнове¬
ние, вынуждающее прислушаться эти головы-антенны,
темные и послушные. Мгновение вибрации, в которое
61
весь круг поляризируется... Они должны вновь достичь
и коснуться биологической точки, где происходят расхо¬
дования, перемещения, потребления или переходы, где
продолжение означает невозможность повторения, где
они могут действовать в том, что их тела совершают и
разрушают...».
На подсознание как на источник творчества писатели
из группы «Тель кель» указывают и в своих манифестах.
В одном из интервью, например, Филипп Соллерс
ссылался на то, что тело постоянно «говорит» в состоя¬
нии сна, в состоянии гёуе, и вот ,из этого-то языка сле¬
дует создать роман, «обнаружить подсознание», «схва¬
тить пульсацию языка в его органической основе»
(«Аг1$», 1965, 10—16 тага).
В статье метра современного литературного структу¬
рализма Р. Барта о романе Соллерса «Драма», статье,
которая играет роль манифеста структурализма, ключе¬
вое значение отводится не чему иному, как спонтанно¬
сти, возвращению к «истинному» языку. Этот «истин¬
ный» язык по Барту — предшествующий сознанию, сво¬
бодный от искажающих его подлинность значений, от
стереотипов, возникающих якобы тогда, когда слово
нечто обозначает.
Для Андре Стилй связь сюрреализма и этой группы
современных писателей кажется очевидной. Труды
последних представляются ему «более систематизиро¬
ванным, рациональным, организованным» занятием тем
же, что проделывали сюрреалисты с помощью «автома¬
тического письма». («Ь’НишапИё», 1970, 8 ]апу1ег).
Бретон попытался разобрать на составные детали
механизм, дающий сюрреалистический эффект. Он край¬
не рационалистичен, он действительно как бы видит
некий механизм с отделяемыми и сочленяемыми частя¬
ми — что странным образом сочетается с настойчивым
утверждением грез, чудес, стихийности, бессознательно¬
сти творчества. Особое значение в механизме сюрреали¬
стического творчества занимает приводимое в «Манифе¬
сте» рассуждение французского поэта Пьера Реверди
об образе как результате «сближения двух реальностей,
более или менее удаленных». Бретон тоже считает, что
именно «от сближения, до некоторой степени неожидан¬
ного, двух слов вспыхивает особенный свет, свет обра¬
за». Впрочем, «неожиданность» сближения должна быть
не «до некоторой степени», так как «искра» возникает
62
в меру удаленности составных частей. Исходная точка
для Бретона даже не Реверди, а определение, данное
прекрасному Лотреамоном: «Прекрасное как неожидан¬
ная встреча на операционном столе швейной машины и
зонтика». А само их сближение — результат «сюрреали¬
стической деятельности», оно не совершается сознатель¬
но, с какой-нибудь определенной целью. Разуму отво¬
дится в этом процессе роль третьестепенная, не творче¬
ская — он может лишь попытаться констатировать
достигнутый эффект и убедиться в «высшей реальности»
возникших образов.
Оценивая сюрреалистические образы, Бретон на са¬
мую высокую ступень ставит те, которым свойственна
«самая высокая степень произвольности», которые труд¬
но перевести на «обычный язык». Они «приводят разум
в замешательство», но это и хорошо, полагает Бретон.
Разум возвращается на стадию детства — а она,
эта стадия, «приближает более всего к истинной
жизни».
Позже, повторяя и подтверждая свою мысль о том,
что единственный способ открытия сюрреалистической
истины — сопоставление, сочленение того, что здравый
смысл не способен сопоставить (он повторял это много¬
кратно), Бретон писал, что самое ненавистное для него
слово «допс» («итак», «следовательно»), слово, обозна¬
чающее последовательность, связность, наличие причин
и следствий, пояснений, обозначающее присутствие ло¬
гики и разума. В состояние экзальтации, напротив, при¬
водило Бретона слово «сотте» («как»), означающее это
всемогущее соотнесение, сравнение, но сравнение, кото¬
рое основано не на сходстве, не на подобии, а на раз¬
личии, на шокирующем несходстве.
Почти одновременно с бретоновским был написан
еще один манифест сюрреализма. Он был напечатан в
первом номере журнала «Сюрреализм», изданного в Па¬
риже в том же 1924 году Иваном Голлом. «Реальность—
основа всякого великого искусства», — писал Голл. «Пе¬
ремещение реальности в высший (художественный)
план учреждает Сюрреализм... Самые прекрасные обра¬
зы это те, что сближают удаленные элементы реальности
наиболее прямым и наиболее быстрым образом. Образ
стал самым ценным атрибутом современной поэзии».
Близость манифесту Бретона бросается в глаза, но она
кончается, как только Голл принимается за фрейдизм.
63
«Некоторые из бывших дадаистов... утверждают «всемо¬
гущество сна» и делают из Фрейда новую музу. Пусть
доктор Фрейд пользуется снами, чтобы излечивать зем¬
ные расстройства! Но применять его доктрину к поэти¬
ческому миру— не значит ли смешивать искусство и
психиатрию?».
Иван Голл накануне войны примыкал к берлинской
группе экспрессионистов. В годы войны в Швейцарии
он сблизился с антивоенной эмиграцией, с Р. Ролланом.
После войны переводил на немецкий, язык русских по¬
этов (Блока, Маяковского и др.), французских писате¬
лей и писал свои «сюрдрамы»: «Мафусаил, или Вечный
бюргер», «Тот-ито-не-умирает», «Страхование от само¬
убийства».
В 1919 году Голл написал «Письмо покойному поэту
Аполлинеру», в котором слово «сюрреализм» звучит
неоднократно как обозначение наследия только что
скончавшегося поэта, наследия, высоко ценимого авто¬
ром письма. Но само по себе это понятие в письме Гол-
ла туманно, расплывчато. «Лишь тот «счастливый музы¬
кант», кто чувствует себя так тесно слитым с каждым
маленьким человеком из своего народа, для которого
каждая уличная встреча становится святым чудом, для
которого самые незначащие встречи, лишь потому, что
они существуют — имя, жест, заурядная речь прохоже¬
го,— достигают вечной ценности. Этому факту, доказан¬
ному веками поэзии, Горацием, Гансом Саксом, Шек¬
спиром, Уитменом, Тагором — тому факту, что малей¬
шее повседневное событие может высвободить глубочай¬
шую мелодию, ты, Гийом, придал смысл теоретический
и, вместе с тем, дал имя: сюрреализм...».
Видно, как окрасился в глазах Голла сюрреализм
тонами свойственного ему, пацифисту, демократизма и
сочувствия к людям. Сюрреалистом Голл так и не стал—
влияние французского модернизма «легло» на лево-экс¬
прессионистический фундамент творчества Голла, не
лишив его потребности говорить о своей ненависти
к кровавому миру. Утверждая, что «сюрреализм пред¬
ставляет собой сильнейшее отрицание реализма», он в
самом этом отрицании реализма усматривал возмож¬
ность «рассечения» реальности под углом зрения поли¬
тической сатиры. «Алогизм», «юмор» — все это для
Голла «лучшее оружие против фраз, которые управля¬
ют всей жизнью». Так он писал в предисловии к драме
64
«Мафусаил» (1919): «Алогическая драматургия имеет
целью осмеять наши повседневные законы». Острие свое¬
го сюрреализма Голл направлял против лицемерной
поверхности, против «маски» и видел в драме могучее
средство преобразования человека.
Разум и логика — объект нападок Арагона в «Пре¬
дисловии к современной мифологии» (предисловие к
книге «Парижский крестьянин» — «Ье Раузап бе Рапз»,
1926). Правда, он не столь категоричен, как Бретон.
Арагон, пожалуй, не столько ниспровергает разум,
сколько теснит его, предоставляя место заблуждению,
случаю, воображению и чувствам как способу открытия
истины. «Современная мифология» сюрреализма вновь
не укладывается у Арагона в подобные бретоновским
дефиниции, остается туманностью — «восхитительными
садами абсурдных верований, предчувствиями, одержи¬
мостью и горячкой», «неизвестными и изменчивыми бо¬
гами...». «В песчаных замках как вы прекрасны, колон¬
ны из дыма!» — вот какое ненадежное сооружение мыс¬
лит себе Арагон.
В эссе «Дух против разума («Ь’Езрп! соп!ге 1а
Ка1зоп», 1927) Рене Кревель тоже азартно атаковал
традиционный, «декартовский» рационализм, ставший,
по его убеждению, бастионом самодовольного мещани¬
на, оправданием устаревших общественных учреждений
и духовного консерватизма. Его привлекает «дух», кото¬
рый «разбил путы и выпрыгнул за барьеры», за пре¬
делы посредственности и поверхностной «внешности».
Всякий культ внешней благопристойности и отделанно-
сти его раздражает: «что весит наряднейшая фраза в
сравнении с обнаженной мыслью, с гениальной стено¬
граммой «Сезона в Аду» (имеется в виду произведение
Рембо). Поэзия, по Кревелю, — революция, ибо истин¬
ная поэзия «разрывает цепи, приковывающие ее к скале
условностей». При этом Кревель разделывается с реа¬
лизмом, ссылаясь на «Манифест» Бретона, а «езрп!» в
его представлениях «не согласуется с внешним миром и
отказывается следовать за очертаниями объектов, за
фактами».
Теория Кревеля в 20-е годы «вторична» по отноше¬
нию к теории Бретона и Арагона; Кревель цитирует и
того, и другого обильно, считая их мысли откровениями
и. ни с чем не сравнимыми открытиями, освобождающи¬
ми, наконец, езрп!, начинающими борьбу «духа» против
«разума».
3 Л. Г. Андреев.
65
Необходимо заметить, что Бретон Почти тотчас же
после того, как были сформулированы положения об
«автоматизме», написал следующее: «Вторжение эле¬
мента сознания подчиняло сюрреализм человеческой во¬
ле, литературной преднамеренности, и делало его
использование все менее и менее плодотворным».
Бретон вслед за этим сообщал, что он «полностью
потерял интерес» к «автоматическому письму», опошлен¬
ному вездесущим разумом. Но к этому заявлению надо
отнестись критически. Что предложил Бретон в его за¬
мену?— «Запись снов» (гёсИз йе гёуез). В дальнейшем
будет показано, как в художественной практике сюрреа¬
листы на самом деле были непоследовательны и сделали
правилом измену сюрреалистическим догмам. Но сюр¬
реализма нет и не может быть без этих догм. Изменяя
догмам, сюрреалисты изменяли сюрреализму. Не слу¬
чайно, а закономерно Бретон в финале своего пути
скажет о своей преданности тому, с чего он начал, что
показалось ему ключом к истине: «В 1919 году мое вни¬
мание привлекли фразы..., которые в полном одиноче¬
стве, при приближении сна, становились доступными
для сознания...».
«Записи снов»? Что же, они были поисками выхода
из сразу же наметившихся в теории и практике сюрреа¬
лизма затруднений. Но они не противоречили «автома¬
тизму» и не могли отменить его. Да и не пытались.
Поспешное заявление Бретона о его разочаровании
в «автоматическом письме» обнажило истину — созна¬
тельность сюрреалистического «автоматизма», неизбеж¬
ную его преднамеренность.
«Быстрота письма должна была совершенно исклю¬
чить подделку, не давая возможности автору задумать
результат. Но вот и эта быстрота записи, хранительница
подлинности текста, в свою очередь становится объектом
выбора, столь важного, что он определяет смысл, при¬
роду того, что будет написано. Выбор, который позво¬
ляет автору предвосхитить неподдающееся контролю» *.
Бретон освятил своим авторитетом сознательные
упражнения в сюрреалистическом «автоматизме». Он
сам стал осторожно, но настойчиво вводить «преднаме¬
ренность» и «элементы сознания» в лабораторию сюр-
1 С Ь а т р 1 к п у К. Роиг ипе езШШяие (Зе Геззай Рапз, 1967,
р. 153. _ ..
66
реализма. Так возникали нюансы, важные для Бретона:
стараясь несколько ослабить путы «автоматического
письма», Бретон позже с большей охотой настаивает на
понятии «автоматизма», чем на понятии «автоматичес¬
кого письма». Важные для Бретона нюансы не делают
эти понятия- принципиально различными, просто понятие
«автоматизма» не так сковано набором обязательных
приемов, оно менее определенное, более широкое.
В статье 1935 года «Безграничные пределы сюрреа¬
лизма» («ЫшКез поп ГгопБёге с1и зиггёаНзте») Андре
Бретон, уже прошедший этап «политизации» сюрреализ¬
ма, писал о продвижении французской и испанской
революции и о необходимости для сюрреализма не те¬
рять из виду «авангард истории». В этих целях он
напомнил о верности диалектическому материализму,
что не помешало ему далее размышлять об «отставке
логического разума» и о торжестве фрейдизма, об
«объективной случайности» — и об «автоматизме». До¬
статочно ясно, что теперь Бретон не так уж держится
за «автоматическое письмо»: «обращением к автоматиз¬
му во всех его формах и ни к чему другому можно на¬
деяться решить, вне экономического плана, все антино¬
мии, которые, существуя до социального порядка, в коем
мы живем, рискуют не исчезнуть вместе с ним... Это
антиномии бодрствования и сна (реальности и сновиде¬
ния), разума и безумия, объективного и субъективного...,
жизни и смерти, наконец» К
Все антиномии решает «автоматизм». Вот она, корен¬
ная для теории Бретона и сюрреализма вообще форму¬
ла. «Автоматизм» как всемогущий «ключ», связывающий
личное с общественным, субъективное с объективным,
жизнь с поэзией. На, это и делал ставку сюрреализм.
Вновь и вновь Бретон будет возвращаться к «авто¬
матизму» как к основе, исходному принципу сюрреализ¬
ма. В статье «Происхождение и художественные пер¬
спективы сюрреализма» от 1941 года Бретон ищет,
например, новые аргументы в пользу «автоматизма».
И категорически заявляет: «Если автоматизм перестает
проявляться, хотя бы подспудно, возникает риск отхода
от сюрреализма...». «Автоматизм прямо ведет в ту об¬
ласть..., в которой, как показал Фрейд, царит вневремен-
1 «Ьа КоиуеИе Кеуие Ггап$а1зе», 1937, I Гёупег.
3*
67
ность и замена внешней реальности психической реаль¬
ностью, подчиненной только принципу наслаждения».
Среди антиномий, волновавших Бретона, одна долж¬
на быть выделена особо. Это «антиномия разума и
безумия». С самого начала, с момента увлечения Фрей¬
дом, среди способов выключения разума сюрреалистов
особенно привлекли всевозможные болезни, облегчав¬
шие выполнение основной задачи. В первом своем мани¬
фесте Бретон ссылался на утверждение Аполлинера, что
такой авторитет для сюрреалистов, как художник де
Кирико, рисовал под влиянием мигреней и прочих болез¬
ненных ощущений. Интерес сюрреалистов ко всяческой
патологии, особенно к расстройствам душевным, был
постоянным и твердым. Закономерно поэтому, что клю¬
чевое место занял в 30-е годы «паранойя-критический
метод» Дали. В сущности, с сюрреализмом возникло
(скорее развилось) патологическое направление модер¬
низма, сделавшее незаметной границу между творче¬
ством нормальных модернистов и ненормальных людей.
Было немало и специальных выставок картин, написан¬
ных душевнобольными. Специальная отрасль эстетики,
одновременно являющаяся и отраслью психиатрии, уста¬
новила «подобие произведений шизофреников, паранои¬
ков, сумасшедших» и произведений модернистов, в том
числе и в первую очередь сюрреалистов.
Одно из многих свидетельств особого интереса сюр¬
реалистов к патологии—'Произведение Бретона и Элюа¬
ра «Непорочное зачатие» («ЬЧттаси1ёе сопсер1:юп»,
1930). Это полутеоретическое произведение, откровенно
экспериментальная проза, «лаборатория» сюрреалисти¬
ческих опытов. Намеренность и обдуманность здесь не
скрыты: авторы, напротив, предупреждают читателя, что,
будучи людьми нормальными, сознательно, не посягая
на «равновесие разума», предлагают варианты болез¬
ненного состояния. Предложены всего-навсего «симуля¬
ции», а «симуляции» похожи на изображение, воспроиз¬
ведение, они, следовательно, не являются всемогущим
принципом письма, особой литературной техникой. Та¬
ким образом, в задаче «Непорочного зачатия» таится
отступление от сюрреалистического догмата, таится
уступка «традиционному» пониманию задач искус¬
ства.
Далее и следуют «попытки симуляции» дебиль-
ности, маниакальности, общего паралича и т. д. Сюрреа¬
68
листичны здесь темы, то значение, которое придается
болезненному состоянию, патологии, извращениям, со¬
стоянию, при котором бессилен разум. Сюрреалистична
проникающая «потоки сознания» одержимость, как пра¬
вило, эротически окрашенная. Выполнение задачи зави¬
сит от ловкости рук — Бретон и Элюар были достаточно
«ловкими», одаренными писателями, чтобы придумать
весьма похожие на подлинные «документы» душевной
патологии.
«Симуляция» удалась. Но именно симуляция — сюр¬
реализм же .менее всего был заинтересован в том, чтобы
показаться симуляцией. Он изо всех сил пытался утвер¬
дить свою «идентичность» — но неотвратимо скатывался
к «приему», к технике письма. «Непорочное зачатие» —
одно из тех произведений Бретона, где не скрывается
рационализм, преднамеренность сюрреалистического
творческого акта, где Бретон пытался ввести в «автома¬
тизм» сознательность.
В 1928 году появился еще один примечательный до¬
кумент сюрреалистической теории — «Трактат о стиле»
(«ТгаИё йи з!у1е») Луи Арагона. В нем господствует
дадаистское озорство, тон вызывающий, циничный, сар¬
кастический. Может даже показаться, что всерьез при¬
нимать этот трактат нет оснований. Тем более, что
теоретические его положения формулируются так, на¬
пример: «Что касается меня, то я топчу ногами. Затоп¬
тан синтаксис. Вот различие между синтаксисом и
мной». А вот способы «попирания ногами синтаксиса»:
«Фразы ошибочные или неправильные, несоединимость
частей меж собой, забвение уже сказанного, непреду¬
смотрительность относительно дальнейшего, разногла¬
сие, невнимание к правилам, каскады, неправильности»,
среди которых «смешение времен, замена предлога
союзом, непереходного глагола переходным» и т. д.
вплоть до — «кладу локти на стол, не вытираю ноги».
Если «локти на стол» можно отнести к дадаистской
браваде, то прочие «неправильности» следует принимать
всерьез.
Рядом с бретоновокими трудами «Трактат» Арагона
кажется шуткой. Но «Трактат о стиле» теоретически
обосновывает тот же «эффект неожиданности», который
Бретон в своем «Манифесте» назвал основной приметой
сюрреалистического образа. Где, собственно говоря, гра¬
ницы тех экспериментов, которые такой эффект могут
69
дать? Таких границ нет, это было доказано и до Брето¬
на, доказано Аполлинером, чей принцип «удивления»,
несомненно, лег в фундамент бретоновской эстетики, а
особенно дадаистами, которые увлекались именно все¬
возможными неожиданностями. «Трактат о стиле» свя¬
зан больше с аполлинеровско-дадаистской линией, чем
собственно бретоновской, но и бретоновскому манифес¬
ту не особенно противоречил, хотя и придавал сюрреа¬
листическому эффекту преимущественно формальный
характер, характер словесной «игры». «Трактат о сти¬
ле», так сказать, санкционировал формализм в недрах
сюрреализма.
Но разве не подталкивал к формализму Бретон, хотя
как будто и сопротивлялся этому, хотя и повторял, что
«поэзия к чему-то ведет», что она — не цель, а средство?
«Соотнеся гласные -с цветом, они (очевидно, символи¬
сты— Л. А.) впервые сознательно, и принимая послед¬
ствия, отвратили слово от его обязанности значить. Оно
родилось в этот день для конкретного существования»,—
вот о чем с удовлетворением писал Бретон. Но все же
главное начинается, по его мнению, ныне, благодаря
сюрреализму, ибо ранее «не были уверены, что слова
живут своей собственной жизнью... Их освободили от
мысли и ожидали, не очень в это веря, что они начнут
диктовать свою волю мыслям. Теперь дело сделано: вот
они оправдали ожидание». Оправдали ожидание — сло¬
ва опережают мысль, слова формулируют мысль, слова
живут своей собственной жизнью. «Самовитое» слово
сюрреализма немногим отличается от распоясавшегося
слова у дадаистов, от словесной игры, лишенной какого
бы то ни было смысла. На «практике» сюрреалистов мы
сможем в этом убедиться.
Сейчас же необходимо обратить внимание на эти
два «этажа» сюрреалистической теории, один из кото¬
рых был обоснованием чисто внешней, формальной игры
•в «удивления» — «этаж» дадаистский, а другой мечтал
быть основанием новой философии — «этаж» собственно
сюрреалистический. «Этажи» одного здания, органиче¬
ски связанные воедино.
«Трактат о стиле», как и «Волна грез»—создание
поэта, прежде всего поэта. Но не только о волнах фан¬
тазии теперь речь. «Трактат о стиле» — это «поэт и тол¬
па», это раздраженная реакция поэта .на современность,
в которой он не видит ничего, кроме туповатых лисате-
70
Лей и таких же читателей, кроме «всеобщей кретиниза-
дии», кроме серого фона, на котором яркими пятнами
вспыхивают огни арагоновского сарказма. Арагон желч¬
но осмеивает своего безымянного противника, манекена,
привыкшего двигаться лишь от А до Б, самодовольного,
уткнувшего нос в иллюзии, одурманенного церковью.
Впрочем, порой физиономия этого противника, именуе¬
мого «тупостью», проясняется — когда, например, Ара¬
гон пишет с возмущением о казни Сакко и Ванцетти,
казни восхищающих Арагона людей, которые «ни от чего
не отреклись, ни в чем не поддались слабости».
Поэзия — это возможность выразить себя иным язы¬
ком, чем язык «манекенов». Противопоставляя «тупо¬
сти» поэзию, Арагон противопоставляет своему против¬
нику и юмор как «условие поэзии». «Образ — это про¬
водник юмора... и силу образа составляет юмор».
Юмор — стихия «Трактата о стиле». Эта стихия касает-^
ся даже Фрейда, который появляется здесь «чрезвы-~
чайно накрашенным» с тем, чтобы «подновить одряхлев¬
ших писателей». Юмор, правда, относится скорее к моде
на Фрейда, чем к самому Фрейду, но во в'сяком случае
Арагон далек от того, чтобы делать из фрейдизма —
подобно Бретону — философскую подпорку своему трак¬
тату о стиле. Ранее Арагон писал о «волне грез» — те¬
перь он пишет о «волне фрейдизма». Фрейдизм, как все
моды, участвует в «кретинизации» человека. Среди
желчно комментируемых Арагоном имен — Мадемуазель
Стайн. Очевидно, это Гертруда Стайн — небезызвестная
представительница американских поклонников европей¬
ских мод в Париже, теоретик американского модер¬
низма.
Снова, размышляя о стиле, Арагон возвращается к
снам и грезам. Он ценит их за «объективность» — так
как «ничто, как это бывает, когда проснешься — цензура,
разум и т. п., не вклинивается меж реальностью и спя¬
щим». «Чистоту грезы», ее «бесцельность» защищает
Арагон от всякой литературщины. Сюрреализм, по его
словам, — это и есть такая защита. Хотя вы и не знаете,
что будете писать, — это не значит, что из-под пера сюр¬
реалиста возникает нивесть что. Вот когда вы, уверяет
Арагон, стараетесь что-либо сказать, тогда-то и появит¬
ся нивесть что, ибо воцарится «ваша субъективность».
А в сюрреализме все объективно, «смысл образуется
вне вас».
71
Стиль не Сводится к рецептам, напоминает Арагой.
Сюрреалистическое произведение должно быть хорошо
написанным. Так, как писал Лотреамон — «великий че¬
ловек сюрреализма».
Вступая в заметное противоречие со своими же ре¬
комендациями, как именно надо «топтать синтаксис»,
Арагон осуждает еще одну моду — моду на сюрреа¬
лизм, осуждает подделки под сюрреализм, осуждает
тех, кто полагает: «достаточно освоить трюк и тотчас же
из-под пера потекут тексты большого поэтического зна¬
чения». Арагон возмущен: «под предлогом того, что речь
идет о сюрреализме, первая попавшаяся собачонка счи¬
тает допустимым приравнивать свое свинство к истинной
поэзии».
Противоречие? Да, постольку, поскольку могло пока¬
заться, что и Арагон предлагал всего-навсего «трюк»:
«топчите» синтаксис, путайте глаголы — и получится
поэзия. Это раздавался голос сюрреалиста, для которого
могло не казаться зазорным «забыть о таланте». Теперь
же заговорил поэт, истинный поэт, ущемленный ясно
обозначившейся в сюрреализме, подкрепленной автори¬
тетом самого Бретона, тенденцией называть поэзией что
угодно, нивесть что, и о талантах говорить с презре¬
нием.
Нельзя забывать об этом противоречии (в свете даль¬
нейшей судьбы Арагона. При всей поддержке, которую
Арагон в 20-е годы оказывает Бретону, при всей близо¬
сти их позиций, в теоретических работах Арагона не¬
трудно увидеть то, что его отделяло от Бретона, постоян¬
но возвращая нашу память к той пессимистической ноте,
которой Арагон отметил появление сюрреализма. Арагон
•порвет с сюрреализмом не только как политический
деятель, но и как поэт, озабоченный инфляцией искус¬
ства, озадаченный той заразной болезнью попирания
поэзии, которая отравила своим ядом самого Арагона —
иначе он не звал бы с такой лихостью «топтать синтак¬
сис». Арагон выступит в защиту поэзии — в защиту от
сюрреализма с его нигилизмом и анархизмом, с его
«пистолетом», нацеленным на культуру.
В 20-е годы сюрреалисты, особенно Бретон, пытались
подвести серьезную научную, философскую основу под
то, что для дадаистов было способом эпатажа, что оста¬
валось для Тцара чисто стихийным, интуитивным актом.
Даже Фрейд не помог избежать возникшего при этом
72
в сюрреализме противоречия — противоречия между
принципом «автоматизма», как кардинальным принципом
творчества, и крайней рационалистичностью, наукооб¬
разностью теоретизирований Бретона. У Арагона это
противоречие выражено слабее, поэт предпочитал отда¬
ваться «волнам грез», предоставляя себя во власть фан¬
тазии. Арагон размышляет о сюрреализме как поэт. Не
случайно он вновь и вновь возвращается к понятию
«чудесного» как центральному в его концепции сюрреа¬
лизма.
Прямая линия прочерчивается от «Волны грез» на¬
чала 20-х годов до завершающей это десятилетие рабо¬
ты «Живопись бросает вызов» («Ьа Решайте аи АеП»,
1930), где Арагон вновь главным образом печется о
«чудесном». «Чудесное» для Арагона — противополож¬
ность машинальности, привычности. «Чудесное» — это
отказ от одной реальности, рождение другой реальности.
Отказ этот этичен, ибо «чудесное — материализация
нравственного символа в сильнейшей оппозиции к мора¬
ли мира, в котором оно появилось». Современное «чудес¬
ное» идет от Рембо, Лотреамона, оно уже не примета
феерии, а черта окружающего. В этом, полагает Арагон,
немаловажна роль Фрейда, так как он «взглянул на
непонятное скандальным взором сексуальности», «пер¬
вым признал странный механизм сублимации, и в обра¬
зах сна, безумия, поэзии научил читать нравственные
требования человечества». Приметой «современных чудес»
Арагон считает «удивление» и «отчужденность». «Чу¬
до»—это «внезапный беспорядок, поразительная дис¬
пропорция». Оно не таит в себе ничего божественного,
ничего от религии — Арагон вновь и вновь повторяет,
что сюрреализм атеистичен. Нынешнее «чудо» для Ара¬
гона — соединение реального и чудесного, их сплав, их
связь, которая и есть сюрреализм.
Хотя Арагон продолжает увлекаться «чудесным»,
перемены в его позиции заметны. Повторяя общеприня¬
тое сюрреалистами определение сюрреализма — эффект
неожиданности, возникающий при соединении удаленных
величин, «чудеса в реальности», — Арагон в конце 20-х
годов уже не отключается от реальности так категори¬
чески, как то было в пору создания «Волны грез». И не
только не отключается — рядом с аморфным и метафи¬
зическим понятием сюрреалистической «всеобщей реаль¬
ности» в его произведениях все отчетливее проступают
73
социально-конкретные черты буржуазной современно¬
сти, буржуазии, затеявшей войну в Марокко, погубив¬
шей Сакко и Ванцетти. Соответственно дадаистско-сюр-
реалистический юмор перерастает в сатиру, перерастает
уже в прозе Арагона второй половины 20-х годов — под¬
готавливая последовавшее в 30-х годах утверждение
реалистического метода.
Во «Втором манифесте сюрреализма» Андре Бретон
в качестве главной задачи сюрреализма определил по¬
иски «пункта сознания, в котором перестают восприни¬
маться как противоречия жизнь и смерть, реальное и
воображаемое, прошлое и будущее, коммуникабельное
и некоммуникабельное, высокое и низкое». Вот уточнен¬
ная главная задача сюрреализма. Освобождение созна¬
ния от рабства означает достижение «тотального пони¬
мания» — на путях преодоления «абсурдного различия
прекрасного и отвратительного, истинного и ложного,
доброго и злого», что и побуждает сюрреализм стать
«доктриной абсолютного бунта», вооружиться револьве¬
ром для «стрельбы наугад». «Тотальная» потребность
интеллекта порождает «тотальные» практические сред¬
ства — Бретон продолжает, так сказать, стоять на голо¬
ве, полагая, что такая позиция удобнее всего для тоталь¬
ного преобразования. Он по-прежнему считает, что все
дело в «головокружительном погружении в нас, систе¬
матическом прояснении потайных мест» — и в то же
время видит в сюрреализме гарантию преодоления идеа¬
лизма. Бретон полагает, что сюрреалистическая «гёуе»,
автоматически возникшая, позволяет возвыситься и над
идеализмом, и над «узким материализмом», позволяет
совершить воссоединение сюрреализма с «принципом
исторического материализма». Бретон с возмущением
писал о тех коммунистах, которые убеждены были и
осмеливались , уверять Бретона в том, что марксизм и
сюрреализм несовместимы.
Для Бретона всегда немаловажным было отделить
«чудесное» от «чудес». Он соглашался, что сюрреалисти¬
ческий принцип сопоставления удаленных явлений имеет
общее с мистикой, поскольку тоже «нарушает законы
дедукции» с тем, чтобы показать связь явлений, «меж
которыми разум не в состоянии навести мост». Но такое
поэтическое уподобление, такая сюрреалистическая ана¬
логия, по утверждению Бретона, категорически отли¬
чается от мистической, ибо не предусматривает наличия
74
ЙебиДимого мира. Она эмпирична, она не разыскиваем
«потустороннее».
Но грань между сюрреалистическим «чудесным» и
заурядными «чудесами» всегда была зыбкой и все более
стиралась. Здесь уже проявлялась логика позиции, не¬
умолимая логика избранной и упорно развиваемой кон¬
цепции.
Мы уже видели как Бретон, подняв знамя социаль¬
ной революции, не выпустил из рук свой анархистский
«пистолет»; мы видели, к чему это привело Бретона-
политика.
Бретон-философ, поднявший к началу 30-х годов зна¬
мя диалектического материализма, знамя гениальной,
и по его славам, рожденной «сильнейшей головой XIX
столетия» (имеется в виду Карл Маркс) философии, ни
в коей мере не отступил от основ сюрреализма. К чему
же это привело? Нет оснований сомневаться в искрен¬
ности Бретона, восторгающегося Марксом. Удалось ли
ему «обогатить», «достроить» здание марксизма с по¬
мощью сюрреализма? Несовместимость этих двух фило¬
софий легко увидеть по тем результатам, которых до¬
бился Андре Бретон. Поскольку он оставался сюрреали¬
стом, марксизм в его устах остался чистой декларацией,
временным лозунгом, а сюрреализм все дальше отодви¬
гал Бретона не только от марксизма, но вообще от ма¬
териализма, от науки, от знания, от интеллектуальной
свободы в сторону идеализма, мистики и мракобесия —
в сторону «прямой поповщины».
Бретону казалось на рубеже 20—30-х годов, что он
прививает коммунистической идеологии вакцину свобо¬
домыслия и безграничной широты взгляда. Но то, что
он «прививал», было все теми же «плодами психической
деятельности, насколько возможно отвлеченными от
желания что-либо значить, насколько возможно осво¬
божденными от идей ответственности, всегда готовых
сыграть роль тормоза, насколько возможно независи¬
мыми от всего того, что не есть пассивная жизнь интел¬
лекту,—* этими плодами являются автоматическое пись¬
мо и речь во сне (гёсйз бе гёуез)».
Как же соединить, однако, социальную революцию
и ниспровержение одряхлевших общественных систем с
философией, основанной нъ «пассивном» состоянии ин¬
теллекта, сумевшего освободиться от всякой ответствен¬
ности и от «желания что-либо значить»?!
75
Бретон попытался — скорее пообещал — соединить
несоединимое. И вот уже во «Втором манифесте сюр¬
реализма» он находит «примечательную аналогию сюр¬
реалистическим изысканиям — в изысканиях алхимиков»
и провозглашает «глубокую, истинную оккультацию
сюрреализма». Бретон намерен привлечь внимание сюр¬
реалистов к таким «наукам», как астрология, метапси¬
хология.
Итак, в одном и том же документе — ни более, ни
менее, как обещание обогатить коммунистическое движе¬
ние свободомыслием, и оккультизм, астрология как
практические способы достижения свободомыслия!
И в довольно обширном труде «Сообщающиеся со¬
суды» («Ьез Уазез соттишсап{з», 1932) Бретон радеет
о «синтетической позиции», в которой воссоединятся
«потребность радикального преобразования мира и по¬
требность наиболее полной его интерпретации». Превос¬
ходное намерение, что и говорить! Бретон не жалеет
резких характеристик для устаревшего, консервативного
буржуазного мира. Бретон то и дело цитирует Маркса,
Энгельса. Однако такую «синтетическую позицию» Бре¬
тон находит только у «некоторых». А эти «некоторые»—
это, конечно, «мы», т. е. Бретон и его единомышленники,
пытающиеся, по словам Бретона, в «тугой узел» связать
революционную практику с «практикой объяснения ми¬
ра». Что же предлагает, однако, «практикам революции»
носитель «революционной теории» Андре Бретон? Да
все то же, что предлагалось и в первом манифесте сюр¬
реализма, в 1924 году, до того, как Бретон ощутил
вкус к социальной революции, что в неизменном почти
виде повторялось им потом: Бретон указует перстом на
спящего, Бретон напоминает о сне, этой фундаменталь¬
ной способности человека. Бретон убежден, что «весь
мир воссоединяется, в своем существенном принципе, из
него и вокруг него», вокруг осуществляющего «фунда¬
ментальную способность», т. е. спящего человека. Надо
выявить, зовет Бретон, связующую ткань, обеспечиваю¬
щую обмен между внутренним и внешним миром, бодр¬
ствованием и сном. От ограниченных, по его убеждению,
задач перестройки внешнего мира Бретон уходит в
«суть» — в глубины «я». Он погружается в «гёуе», ибо
там истина.
Так Андре Бретон пускается в толкование своих
снов... Пользуется он выработанной Фрейдом символи¬
76
кой, а также своими воспоминаниями. Доказывается
при этом, что сны отражают «прожитую жизнь» и в них
нет никаких намеков на присутствие «религиозных чу¬
дес». Бретон ищет реальные, житейские аналогии ситуа¬
циям и образам своего сновидения. Объясняя сны, Бре¬
тон порой убедителен, порой же отдается фантазирова¬
нию, придавая ему, однако, наукообразную внешность
с помощью фрейдистского кода. Например, толкование
сцены 'выбора галстуков весьма убедительно интерпре¬
тируется давившим на горло воротником пижамы (боле¬
ло горло) и отвращением Бретона к галстукам, но
совсем неубедительно истолковывается сексуальными
аналогиями, извлеченными из трудов Фрейда о снови¬
дениях.
Отыскивая аналогии сна и реальности, Бретон хочет
убедить, что это «сообщающиеся сосуды», граница меж¬
ду которыми чисто условная, формальная. Сны в его
истолковании не лишены даже причинных связей, их
время и пространство реальны. С другой стороны, эпи¬
зодами из своей жизни Бретон намерен показать, сколь¬
ко в реальности неожиданного, случайного, как часто
причинность ставится жизнью под сомнение, так же как
и идея времени. Во сне полно отсветов реальности —
а из глубин сна можно увидеть и даже предвидеть ре¬
альность. Все перемешалось, а в этой смеси господствует
«желание» (с!ёз1г).
«Какими бы ни были дополнения и сомнения, кото¬
рые в дальнейшем познала сюрреалистическая концеп¬
ция любви, очевидно, что одним из первых ферментов
поисков Бретона было стремление существовать в люб¬
ви и достичь через любовь счастья...» К
Помимо этого: «Если сюрреалисты не переставали
отдавать предпочтение «желанию» и восторгаться его
всемогуществом — его «великой силой» (которой отда¬
вал честь Аполлинер) — так это потому, что оно в их
глазах является единственным, истинным средством про¬
никновения в тот мир ночи, о котором говорит Бретон...,
наиболее ослепительной из всех ночей, потому что она
испепеляет в своем блеске и своей мощи успокаивающий
порядок социально возникающих условий человеческого
существования»2. И далее: «Эротическое чудесное
1 А1 ч и 1 ё Р. РЬПозорЫе ди зиггёаПзте. Рапз, 1955, р. 17.
2 /«Еигоре», 1968, поуетЪге — йёсетЬге, р. 26.
77
(1е тегуеШеих зёхие1) —это открытие, легко обнаружи¬
ваемое в большинстве из проявлений сюрреалистической
активности. Это проекция желания на вещи и на суще¬
ства, это принцип эротизации всей реальности...». И, на¬
конец: «Совершенно ясно, что в основе сюрреалистиче¬
ской позиции — антигуманизм, ставящий под сомнение
все, что человек может создать в рамках цивилизации
и «культуры», социально организованной жизни».
Эротику сюрреалисты подняли до уровня важнейше¬
го философского и поэтического принципа. Позже, ком¬
ментируя VIII международную выставку сюрреализма,
выставку специально эротическую, Бретон писал
(в статье, названной «Эротизм — это единственное ис¬
кусство по мерке человека»): «Можно сказать, что ...
в общем характеризует и определяет сюрреалистичес¬
кие произведения в первую очередь их эротическое со¬
держание» (1еигз 1трНса1юп5 его^иез) К
Поднимая эротику до философского уровня, сюрреа¬
листы просто-напросто снижали философию до уровня
эротики. И красноречивым откровением звучат поэтому
слова Макса Эрнста: «Обнаженность женщин мудрее,
чем поучения философов».
А вот строки из стихотворения Бретона, которые
можно воспринимать как конечный вывод поисков сюр¬
реализма:
«Поэзия делается в постели как любовь
Ее смятые простыни — это заря...».
Вспоминая встречи с поразившими его женщинами,
Бретон и состояние бодрствования подчиняет действию
«желания». Бретоновские «гёуез» все заметнее приобре¬
тали эротические оттенки, — наряду с оттенками оккуль-
тистскими, колдовскими. Во «Втором манифесте сюрреа¬
лизма» Бретон писал о любви с неменьшей горячностью,
чем о выкладках астрологов, в любви он был склонен
увидеть «место идеальной оккультации всякой мысли».
Женщина занимает привилегированное положение среди
сюрреалистических «чудес», в мире питающего искус¬
ство «тегуеШеих».
Видно, что никакой особо новой науки из занятий
Бретона не получается, получается более или мен^е за¬
нятное сочинительство, с одной стороны, категорически
1 «Аг1з», 1959, 23—29 бёсешЬге.
78
отвергающее мистику, с другой — нацеливающее на тол¬
кование снов как на главную, истинно научную и боевую
задачу, задачу современного Свободомыслия.
Да, именно сочинительство. Философия Бретона в
30-е годы все больше походит на «волны грез», одоле¬
вавшие Арагона в 20-е годы, грозит перейти или даже
переходит в образотворчество. Обещана новая, револю¬
ционная, исчерпывающая интерпретация мира — а «Со¬
общающиеся -сосуды» завершаются славословием поэзии.
Совсем недавно Бретон с презрением писал об искус¬
стве, о поэзии, как занятии второстепенном рядом с по¬
исками истины. Но вот, найдя истину, Бретон заговорил
ритмической прозой, и его «исчерпывающая интерпрета¬
ция мира» несется на крыльях воображения. И остает¬
ся ему надеяться «только на поэтов». Почему же? Такая
уж у Бретона истина, такая наука — наука о снах, о
грезах, наука, в которой главным средством познания
оказывается воображение, а познаваемым объектом —
изолированный, вырванный из социальных обстоятельств
индивидуум, превращенный фантазией Андре Бретона
в систему «сообщающихся сосудов», главным из кото¬
рых оказывается подсознание, откуда и вырываются
силы желания, «безумной любви», стимулирующей че¬
ловеческую активность.
«Безумная любовь» — так называется эссе, в кото¬
ром, отсылая читателя к Фрейду, Бретон размышляет
о преобладании сексуальности во впечатлении, остав¬
ляемом искусством. Искусством «подлинным», т. е. от¬
данным «конвульсивной красоте». «Конвульсивная кра¬
сота» не возникает обычными логическими путями —
нужен образ, создаваемый «автоматическим письмом»,
нужна та беспричинность, случайность, которых так
много в обычной жизни. Так появляется еще одно из
главных понятий сюрреализма — понятие «объективного
случая» (Ьазагб оЬ]весШ).
Бретон напоминает об опросе, осуществленном им и
Элюаром, опросе, в котором выяснялось значение слу¬
чайной встречи в жизни. Комментируя этот опрос, Бре¬
тон с удовлетворением сообщает, что жизнь населена
случайностями, в которых не найдешь причин и целей,
что в сознании людей встречи сочетаются со стихийным,
непредвиденным, даже неправдоподобным. Своим иссле¬
дованием Бретон обнаруживает присутствие «общего
знаменателя в сознании человека», его «желание», Бре¬
79
тону хочется показать, «какие предосторожности и какие
уловки желание, занимаясь поисками своего объекта,
прилагает в стихии подсознательного, и, коль скоро
объект этот найден, какими способами оно располагает,
чтобы донести его до сознания».
Бретон рассказывает о своих прогулках, которые вен¬
чались внезапными встречами с невиданными ранее
предметами, о существовании которых минутой ранее
он и не подозревал, вспоминает сюрреалистические игры
в 'предположения и догадки, вспоминает внезапные ком¬
бинации и аналогии. Случайно найденные предметы
расшифровываются, интерпретируются наподобие сно¬
видений, в подсознании ищется скрытый за ними смысл,
они становятся образами-символами, рождающими
ассоциации, © конечном счете сексуально окрашенные
(так, приобретение случайно обнаруженной в лавке де¬
ревянной ложки кустарного производства оказывается
«удовлетворением полового инстинкта»). Реальные пред¬
меты для сюрреалиста — образы желания, слепки
всемогущего, всепроникающего желания.
Бретон видит «загадочные связи материального и ду¬
ховного», связи, которые — хотя он, по его уверению,
считает внешний мир не зависящим от внутреннего, са¬
мостоятельно существующим — ставят под сомнение
привычное различие объективного и субъективного и
возможность рационального познания, носят характер
откровения, вызывающего сильнейшую эмоциональную
реакцию. «Объективный случай» — это и есть бретонов-
ское сцепление субъективного и объективного, господ¬
ство субъективного в объективном мире.
А вот пример такого, сугубо «философского» по зна¬
чению, откровения, такого «объективного случая»:
29 мая 1934 года «вошла молодая женщина», — и вдруг
Бретон вспоминает свое стихотворение «Подсолнечник»,
написанное летом 1923 года. В стихотворении все было
предугадано, описана встреча, которая случится через
одиннадцать лет! Женщина была реальной — «14 августа
я женился на всемогущей распорядительнице ночи под¬
солнечника».
И точно так же, как в «Сообщающихся сосудах»,
Бретон отдается образотворчеству, отдается фантазии,
которая, однако, обещает не покидать землю, воссоеди¬
няя грезы и реальность в «сюрреальности». Философия,
за исходное принявшая житейские случайности, непред¬
80
виденные, но предусмотренные всесильным «желанием»
встречи, завершается поэтической картиной абсолютизи¬
рованной плотской любви, ставшей реализацией «грез»
и одновременно земным раем, достигнутым счастьем.
Так стимулы, исходящие из подсознания эротические
порывы волей Бретона превращаются в средство преоб¬
разования реальности, даже социальной реальности —
преобразования, которое, конечно, не может обойтись
без помощи фантазии, без помощи сочинительства.
Творится миф любви, реальность приобретает зыб¬
кость, ненадежность, ее омывают волны воображения,
подстегнутые желанием. «Золотой век», царство обоже¬
ствленной любви Бретон изображает в «Безумной люб¬
ви», «срисовывая» его с кадров сюрреалистического
фильма Бюнюеля и Дали «Золотой век». Сюрреализм —
это и есть систематизация эмоционального, «лирического
поведения», в котором ставится под сомнение причин¬
ность и обусловленность (воцаряется «случай»), ставится
под сомнение разделение на объективное и субъектив¬
ное. Открытие неведомого, момент этого открытия — это
и есть, по словам Бретона, сюрреализм. Сюрреализм —
это «конвульсивная красота», вызывающая эротическую
реакцию.
Итак, Бретону не удалось в 30-е годы соединить диа¬
лектический материализм с сюрреализмом, с философи¬
ей, основанной на абсолютизации эротических порывов
и случайных встреч. Настаивая на последнем, он все
очевиднее продвигался в сторону псевдонауки и мистики.
Самое существенное открытие Бретона — это откры¬
тие естественной связи, существующей между автома¬
тизмом сна и появлением поэзии. К такому выводу
пришли некоторые исследователи сюрреализма.
Настаивая на своем, сюрреалистическом, понимании
поэзии, искусства вообще, Бретон создавал в 30-е годы
еще одно, .непреодолимое в рамках сюрреализма проти¬
воречие. Противоречие гражданской политической по¬
зиции, к коей звал Бретон, и сути искусства, созданного
«автоматизмом сна».
Это противоречие было вскрыто уже во время дис¬
куссии, вспыхнувшей в 1930 году после появления поэмы
Арагона «Красный фронт». Речь шла .не о недостатках—
впрочем, достаточно очевидных — поэмы Арагона, речь
шла о взаимоотношении социально-политических и твор¬
ческих позиций. Бретон в этой дискуссии придерживался
81
весьма двусмысленной, питавшейся идеями Троцкого,
позиции, согласно которой художник «не прямо служит
революции». Иными словами, одна часть в художнике,
та, которая к искусству отношения не имеет, служит
революции, а другая, собственно творческая, не служит,
ибо вообще искусство не только «безразлично к сюже¬
ту», но даже вовсе не приемлет «априорного сюжета»,
«внешнего объекта». А в поэме Арагона доминировал
«внешний объект» — тема революции, социалистической
перестройки России.
Андре Бретон говорил в одной из своих речей в сере¬
дине 30-х годов: «Искусство всей своей эволюцией в на¬
ше время призвано понять, что его ценность заключает¬
ся только в воображении, независимо от внешнего
объекта, его породившего. Иначе говоря, все зависит от
свободы, с которой это воображение себя обнаруживает,
и только себя». Принцип «обнаружения только себя» —
принцип сложившейся к тому времени, вполне опреде¬
ленной художественной традиции. Сюрреалисты «абсо¬
лютно свободно» двигались в колее этой традиции. Как
бы Бретон ни клялся, что его бунт, «абсолютный бунт»,
не нуждается в предшественниках, предшественники
были, родственники без труда подыскивались. Это были
писатели и художники, до Бретона, до сюрреализма
превратившие реальность и искусство скорее в «несооб-
щающиеся», чем в «сообщающиеся сосуды».
Бретон вернулся к определению сюрреалистического
искусства в большой статье «Сюрреализм и живопись»
(«Ье зиггёаКзте е1 1а рет!иге», 1928). «Нет реальности
в живописи», — писал Андре Бретон. Само собой разу¬
меется, что в прямом смысле слова ее нет. Бретон вос¬
ставал против примитивного копирования реальности,
против натурализма в искусстве. Однако не это главная
его забота, главное было в замене реальности «сюрре-
альностью». Историю живописи XX века Бретон рас¬
сматривал как историю все более очевидного недоверия
к «модели», к «внешнему объекту». «Не забудем, -т- пи¬
сал он, — что для нас сама реальность поставлена под
сомнение». В то время, когда «сам внешний мир кажет¬
ся все более и более подозрительным», понимание искус¬
ства как «имитации» этого внешнего мира должно быть,
полагает Бретон, пересмотрено. Живопись должна ори¬
ентироваться на «чисто внутреннюю модель» — иначе
она обречена, с точки зрения сюрреалиста. Начато это
82
Лотреамоном, Рембо, Малларме (Элюар особеннб на¬
стаивал на примере де Сада и Лотреамона); благодаря
им «сознание собой одержимо», благодаря им «понятие
дозволенного и недозволенного стало эластичным», а
слова «семья, родина, общество кажутся мрачными шут¬
ками». Вот и признанная Бретоном художественная
традиция. Сюрреализм должен также «пройти там, где
прошел или пройдет Пикассо», — хотя Бретон категори¬
чески против обозначения Пикаюсо «этикеткой», в том
числе этикеткой «сюрреалист».
Итак, реальность «под сомнением», искусство — от¬
тиск «внутренней модели». Таков исходный момент бре-
тоновской концепции искусства, ограничивший его рам¬
ками «искусства для искусства» — как бы ни видел
Бретон опасности такого ограничения, а он, судя по все¬
му, ее видел в 30-е годы. Хотел того Бретон или нет —
вероятнее всего, вовсе не хотел, — но его декларации об
«абсолютной свободе творчества», столь заманчивые
с виду, неминуемо претворялись в анархически-легко-
мысленное обращение с искусством и в выработку соб¬
ственной, очень узкой и догматической, системы правил
сюрреалистического образотворчества.
Бретон пообещал свободу для художника, но, проти¬
вопоставив искусство действительности, надел на худож¬
ника цепи ремесленного «приема», сюрреалистической
техники. Бретон хотел избежать опасностей, таящихся
и в «чистом искусстве» и в искусстве прямолинейно-про¬
пагандистском, но предложенный им путь возвращал в
тупики и «чистого искусства» и пропагандистско-сюр¬
реалистического искусства, а не выводил на просторы
неограниченной свободы.
Определяя искусство в «Сообщающихся сосудах»,
Бретон повторяет прежние свои рецепты «сопоставления
двух объектов, насколько возможно удаленных один от
другого», освещения их светом внезапности, т. е. вновь
настаивает на «рецепте», на «приемах». А приступ край¬
него раздражения он испытывает по поводу того, что
«лидер конструктивизма в СССР Сельвинский» напи¬
сал поэму, посвященную жизни и нравам завода.
В «Заметках о поэзии» («Г^о{ез зиг 1а роёз1е», 1936),
подписанных Бретоном и Элюаром, поэзия определяется
как нечто прежде всего и главным образом неопреде¬
ленное. При всей неопределенности, уклончивости,
юмористичности афоризмов этих «Заметок» ясно, что,
83
по мнению их создателей, «сознание и пробуждение уби¬
вают», а вот «сон грезит и ясно видит», что сюжет «так
мало значит для поэмы, как имя для человека»; мы
пишем «то, что не хотели» и что «не хочет того, что хо¬
тели мы». «Поэзия — это курительная трубка».
Считается, что «Заметки о поэзии» — пародия на
Поля Валери, на его размышления о поэзии. Конечно,
можно отправить афоризмы «Заметок» в разряд много¬
численных сюрреалистических острот. Однако они впол¬
не вписываются в сюрреалистическую концепцию искус¬
ства, превосходно сочетаясь с такими определениями:
«Поэт — это тот, кто ищет систему непонятного и нево¬
образимого, выражением которой будет охотничья уда¬
ча — слово, разногласие слов, синтаксическая шутка...».
«Какая радость писать, не зная, что такое язык, гла¬
гол, сравнение, изменение мысли, тона, не зная струк¬
туры времени произведения, условий его завершения,
совершенно не зная ни почему, ни как! Красить зеленым,
голубым, белым, быть попугаем...».
«Быть попугаем», «поэзия — курительная трубка» —
это, конечно, остроты, это продукты сюрреалистического
юмора. Но их появление возможно было только потому,
что сюрреалисты всерьез, а не в шутку считали главной
задачей искусства сближение удаленных предметов. Вот
где граница освобождения искусства, отмеренная Бре¬
тоном!
Не удивительно, что он так снобистски-презрительно
комментировал всякие попытки обогатить искусство
«априорным сюжетом», «внешним объектом». Один из
таких брезгливых комментариев — рассуждение о про¬
летарском искусстве во «Втором манифесте сюрреализ¬
ма». Для Бретона мысль о том, что искусство — «отра¬
жение больших течений, определяющих экономическую
и социальную эволюцию человечества», — всего-навсего
«вульгарное суждение». Бретон не верит в «возможность
существования литературы или искусства, выражающих
стремления рабочего класса», ибо нет соответствующей
основы, нет «пролетарской культуры». Такое отношение
к социалистическому искусству было заимствовано Бре¬
тоном у Троцкого. Здесь же он приводит длинную вы¬
держку из статьи Троцкого от 1923 года, в которой про¬
летарская культура объявлялась делом далекого и не¬
определенного будущего. По примеру Троцкого, Бретон
в финале «Сообщающихся сосудов» предпочитал мечтать
84
о грядущем поэте, о поэте, который, наконец, выполнит
рекомендации лидера сюрреалистического движения.
В составленном в 1938 году Троцким и Бретоном
манифесте «За независимое революционное искусство»
(«Роиг ип аг! гёуо1и1юппа1ге тбёрепбапЬ) искусство
«истинное» определялось как выражение «внутренних
потребностей человека», что «не может не быть револю¬
ционным». Ниспровергая «готовые модели» и «директи¬
вы», ратуя за свободу искусства, Троцкий и Бретон про¬
возглашали абсолютную свободу, «анархистскую свобо¬
ду» искусства. Мы видим, однако, что лозунг этот и
в теории, и на практике предполагал ограничение
свободы «сюрреалистическим пониманием ее «чистоты»,
ее «конвульсивной красоты», сюрреалистическим пони¬
манием «потребностей человека». И сколько бы раз
Бретон ни открещивался от «чистого искусства», — а он
это делал много% раз, и не случайно, — анархистский
призыв к абсолютной недетерминированности творческо¬
го акта сеял двусмысленность или же недвусмысленно
определял место «абсолютно независимого сюрреализ¬
ма» в тогдашней политической и эстетической борьбе.
Из сказанного ясно, почему эстетические позиции
компартии и сюрреалистической группы не только не
смогли сблизиться, но и резко разошлись в 30-х годах,
почему революционная партия не приняла тогда архи-
революционной эстетической программы сюрреалистов,
а предпочла социалистический реализм. Предпочтения—
не случайность. Социально-политические, философские,
идеологические позиции коммунистического движения
ориентировали на роллановскую традицию «нового ис¬
кусства для нового общества». От Роллана с его лозун¬
гом правды, с его тоской по высоконравственному, геро¬
ическому искусству — прямой путь к социалистическому
реализму, прямой путь к Барбюсу, к его «Огню», к прав¬
доискательству этого художника, с которого обычно на¬
чинают писать историю французского социалистического
реализма. Это традиция гуманизма и реализма, тра¬
диция, чуждая нигилизму и «чистому искусству». Ниги¬
лизм был уделом сюрреализма с его призывом к абсо¬
лютной свободе искусства. «Простейший сюрреалистиче¬
ский акт состоит в том, чтобы с револьвером в руках
выйти на улицу и стрелять наугад, сколько можно,
в толпу» — вот уродливая реализация абсолютной сво¬
боды. Бретону с его сюрреалистическим пистолетом в
85
руках, е его иДеаЛоМ «койбуЛьсивнои красо1Ы», Койечйб,
было не в ногу с коммунистическим движением, особен¬
но в 30-е годы, когда коммунисты, освобождаясь от сек¬
тантства, выдвинули лозунг единого фронта, когда ком¬
партия боролась за Народный фронт. Тем более не по
душе Бретону был выдвинутый компартией эстетический
лозунг, в котором политическая революционность соеди¬
нялась с национальной традицией, с принципом реализ¬
ма,— т. е. лозунг национальной формы социалистичес¬
кого реализма.
Бретон писал, размышляя о позиции Рембо перед ли¬
цом Коммуны: «Искусство в своем развитии в наше
время призвано понять, что его качество покоится толь¬
ко в воображении, независимо от внешнего предмета,
который его порождает». Комментируя эту мысль своего
метра, Ж.-Л. Бедуен, единомышленник Бретона, заклю¬
чает: «Отсутствие в творчестве Рембо социальных или
политических императивов — условие его революцион¬
ной действенности».
Вот так соотнесено революционное искусство и рево¬
люционная действительность в теории намеренных со¬
вершить социальную революцию сюрреалистов!
Но «в своем развитии в наше время» искусство по¬
казало совсем не то, что захотели увидеть Бретон и его
поклонники. Оно показало противоестественность раз¬
деления художника на две части — понимающую свою
ответственность и оберегающую свою безответствен¬
ность. Оно показало хрупкость тех темниц из «слоновой
кости», куда вот уже сто лет под разными предлогами
загоняются художники.
Не удивительно, что так много недавних соратников^
Бретона резко и непримиримо осудили его в 30-е годы.
Коренной вопрос разногласий, главную проблему сфор¬
мулировал тогда Тристан Тцара: «Можем ли мы разде¬
лить себя самйх надвое, с одной стороны, думая и дей¬
ствуя во имя освобождения страны, с другой — думая
и творя в соответствии с безжизненным абсолютом?» !.
И Тцара, примкнувший к сюрреалистическому дви¬
жению в конце 20-х годов, отходит от него, особенно с
1936 года, со времени событий в Испании. Тцара был в
осажденном Мадриде, был на фронтах народно-револю¬
ционной войны. Он приобщает свою поэзию к развер-
1 Т г а г а Т. Ье зиггёаНзше е! Гаргёз-^иегге. Рапз, 1948, р. 33.
86
нувшейся борьбе, поэзия для него теперь — «действие».
Вскоре она станет поэзией Сопротивления. «Тогда-то мы
обрели свою цельность», писал об этом времени
Тцара.
То же самое можно сказать и об Арагоне, и о Дес¬
носе, и о Превере, Незвале, Сезэре, Депестре и др.
Качественная внутренняя перестройка происходит на
протяжении 30-х годов с Элюаром. Даже тогда, когда
он еще был сюрреалистом, до того момента, когда Бре¬
тон направил Пере с поручением мобилизовать против
Элюара сюрреалистический актив, — даже тогда видны
признаки этой перестройки.
Поль Элюар увлекался мыслью о поэзии как сред¬
стве создания «общности». Он отбросил «чистую по¬
эзию» и выразил надежду на то, что «башни из слоновой
кости будут разрушены». Он потянулся к «другим»,
увидел в поэзии средство «вдохновения». Он говорил,
что «сюрреализм, являясь инструментом познания, ...
трудится над тем, чтобы показать, что мысль присуща
всем, он трудится над тем, чтобы сократить различия
между людьми, а во имя этого он отказывается служить
абсурдному порядку, основанному на неравенстве, на
обмане, на низости».
«Одиночество поэтов сегодня исчезает. Вот они люди
среди людей, вот они братья». Такой сильный вывод
Элюара был, конечно, подготовлен и его прошлым, де¬
мократическим началом его поэзий в 10-е годы, в годы
первой мировой войны, и его настоящим, т. е. его поли¬
тической эволюцией в 30-е годы (приведены слова из
речи 1936 г.).
Но и тогда он еще говорил, что поэзия только
«самой себе подчиняется», а человеку, «наконец ставше¬
му собой, достаточно закрыть глаза, чтобы открылись
двери чудес».
Поистине трагические противоречия раздирали в
30-е годы Рене Кревеля. Кревель всерьез воспринял
тогда лозунг «сюрреализм на службе революции», и,
как Арагон, как многие другие, он начнет критическое
рассмотрение основополагающих идей сюрреализма.
В мае 1935 года он выразит сомнение в праве худож¬
ника «удалиться в свои сновидения, сотворить из них
убежище». «Пламя внутренней жизни, — говорил Кре¬
вель, — каким бы ярким оно ни было, не может само
по себе ни осветить существующий мир, ни выковать
57
тот мир, который должен быть... Это пламя, если оно
упорно будет питаться лишь собой, вскоре угаснет...».
В памфлете «Фортепьяно Дидро» («Ье с1ауест (1е
ОМегоЬ, 1932) Кревель со страстью атаковал церковь,
ее «тощий гуманизм» и ее «евангелическую поэзию»,
академическое красноречие и самодовольный официаль¬
ный республиканизм. Для Кревеля все это — товар на
«капиталистическом и клерикальном базаре». Кревель
разделывается с объективизмом, с «так называемой ли¬
тературной нейтральностью». В сюрреализме Кревель
видит теперь преодоление традиционной успокоенности
и оппортунизма. В сюрреализме он видит подтвержде¬
ние требования Маркса и Энгельса превратить неулови¬
мую вещь в себе в вещь для других, видит возрождение
человека, его всесторонности.
Сюрреализм для Кревеля — освобождение; не шко¬
ла, но «порыв ветра», разбивающий стены многолетнего
буржуазного лицемерия. Кревель взялся за буржуазное
государство; цитируя теперь уже не столько Бретона и
Арагона, сколько Энгельса и Ленина, он бьет по огора¬
живающим это государство стенам традиционных и кос¬
ных идей.
«Сюрреализм на службе революции», — заявляет
Кревель. «Поэзия — путь к свободе», — продолжает он.
Но станцией отправления для него остается по-прежне¬
му бретоновское определение автоматизма. Кревель был
намертво прикован к этой условности, — хорошо пони¬
мая в то же время, как опасна «диктатура детали», и
обрушиваясь на «фетишизм орудия труда», на односто¬
ронность как на свойство буржуазного мышления, как
на обскурантизм. «Антиобскурантизмом» для Кревеля
оказывался не кто иной как Сальвадор Дали (брошюра
«Дали, или Антиобскурантизм», 1931), расковавший
воображение и предоставивший права «искренности».
Паранойя, считал Кревель, открывает безграничные
пути. «Пусть цвет, стиль, контур и 1иШ ^иап^^ не выхо¬
дят более из чердаков эстетики». С цветом и стилем
с помощью Дали Кревель мог, конечно, успешно покон¬
чить, но полагать, что это и есть путь к свободе и рево¬
люции, значило проявлять заурядную сюрреалистичес¬
кую односторонность и буржуазный обскурантизм. Зна¬
чило оказаться в тупике.
Кревель был человеком искренним, горячим и пря¬
мым. Из тупика он выбрался, убив себя.
А Бретон? Бретон, блюдя Независимость искусства,
его «абсолютную свободу», атаковал писателей и писа¬
тельские объединения, поставившие перед собой обще¬
ственно-политические задачи. Бретон считал «гнусным»
даже самое слово «еп^а^ешепЬ, которое вот-вот, в годы
Сопротивления, станет лозунгом чуть ли не целого по¬
коления писателей, осознавших свою ответственность
перед обществом. «Искусство также не имеет родины,
как и трудящиеся», — твердили троцкисты. Вот и сюр¬
реалисты сочли необходимым направить удар на поэзию
Сопротивления. Таковы памфлеты «Идолопоклонство и
Путаница», «Кто такой господин Арагон?», «Бесчестие
поэтов» — ответ на'знаменитый манифест патриотиче¬
ской поэзии «Честь поэтов».
«Бесчестие поэтов» было написано одним из самых
правоверных сюрреалистов, Бенжаменом Пере. Пере,
сидя в Мексике, прочитал «Честь поэтов», сборник сти¬
хов, изданных в Париже подпольно. В Мексике, в при¬
личном отдалении от полей сражения, Пере поучает
поэтов-патриотов, говорит, что они отошли от истинной
поэзии. «Поэзия не имеет родины, ибо она принадлежит
всем временем, принадлежит всем». Из подлинной поэ¬
зии, уверяет Пере, дыхание свободы исходит, даже если
свобода «не возникает в своем политическом или соци¬
альном смысле». Верный бретоновским лозунгам неза¬
висимости искусства, Пере освобождает понятие свобо¬
ды от социально-политического содержания, делает его
абсолютным — и бессодержательным.
«Оскорблением поэтов, погибших в годы оккупации»
назвал «Бесчестие поэтов» Тристан Тцара.
Борьба в Европе шла не на жизнь, а на смерть, был
поставлен вопрос о существовании не того или иного
направления, даже не французской культуры как тако¬
вой, а о существовании самой Франции. Отражением
этой борьбы стал лозунг «еп&а^етепЬ, лозунг ответ¬
ственности. И в это время сюрреалисты, сделавшие ре¬
волюционность и борьбу против любого угнетения глав¬
ным своим козырем, атакуют поэзию, ставшую не только
отражением, но даже актом борьбы против угнетателя,
причем не воображаемого, не из области философских
понятий, а более чем конкретного, придавившего солдат¬
ским сапогом Францию. Это одно из самых наглядных
подтверждений того факта, что сюрреалистический прин¬
цип абсолютной свободы, автономии поэзии в конкрет¬
89
ных Социальных условиях Подталкивал К конкретной
политической позиции, которая скорее работала на угне¬
тателя, чем содействовала борьбе с угнетением.
А разве не об этом говорит поддержка Бретоном
мексиканского художника Тамайо, в котором он выше
всего ценил «технические поиски» и поиски «вечной Мек¬
сики» — в пику социально-политической, революционной
заостренности знаменитой мексиканской живописи?
Знакомство с сюрреалистической теорией основы¬
вается, главным образом, на< французском материале и
преимущественно на теоретических работах Андре Бре¬
тона. Это оправдано — без особого риска можно ска¬
зать, что теория сюрреализма и теория Бретона почти
одно и то же. Нельзя забывать и о том, что Бретон за¬
нимался насаждением своих теорий и карал вероотступ¬
ников. «Церковные» порядки содействовали теоретичес¬
кой монолитности сюрреализма.
Сюрреалисты других стран, как правило, повторяли
Бретона, пересказывали его труды, ссылались на него.
Правда, порой .возникали и специфические нюансы, —
они заметны, например, в документах испаноязычного,
латиноамериканского сюрреализма.
К важнейшим документам латиноамериканского сюр¬
реализма принадлежит манифест чилийской группы
«Мандрагора», напечатанный в декабре 1938 года в пер¬
вом номере одноименного журнала. Написан он был
Браулио Аренасом. Поэт, по мнению Аренаса, «видит
необходимость в том, чтобы быть управляемым, быть
поглощенным, быть вдохновленным» тем образом, тем
своим представлением* которое воздействует «из глу¬
бин его собственного внутреннего мира». Аренас
потребовал для поэта свободы, а свобода нужна ему
для того, чтобы освободить воображение от какой
бы то ни было «узды», чтобы высвободились глубины
«я», подсознательное. Вслед за европейскими сюрреали¬
стами Аренас надеется на сны («зиепо»; испанское «зиепо»
равнозначно французскому «гёуе»—.это и «сон», и «сно¬
видение», и «мечта»), которые помогут «завоеванию
ирреальности, до сего времени ускользавшей». Помимо
этого, Аренас настаивал на особенном, поэтическом зна¬
чении «неистовства» (1игог), считая признаком коренно¬
го обновления искусства способность «жить возбужден¬
но, настороже, подкарауливая ежесекундно неизвестное».
Такое состояние «бдительности» и «бодрствования»
90.
Аренас усматривал в поэвии, которая по сути своей
«птица ночная», особенно внимательна к сновидениям,
к снам.
Манифест Аренаса называется «Мандрагора, черная
поэзия» («Мапйгадога, роез1а педга»). Сюрреалистиче¬
ская поэзия отождествилась в его представлении с ле¬
гендарным растением, якобы загадочным и чудодейст¬
венным. А также с черным цветом — «поэзия черна как
ночь, как память, как желание, как страх, как свобода,
как воображение, как инстинкт, как красота, как позна¬
ние, как автоматизм...». Мы видим здесь типично «евро¬
пейский», «бретоновский» набор понятий, отождествляе¬
мых с поэзией. Вполне «европейскими» оказываются и
последующие уподобления, построенные на основе «шо¬
кирующего» сочленения взаимоисключающих понятий:
«черный как ясность, как снег, как молния». Аренас
пытается представить себе поэзию на таком уровне, на
котором исчезает граница «нравственного и безнрав¬
ственного, преступления и порядочной жизни», где царят
«сумеречный дуализм и бесконтрольный автоматизм».
Б. Аренас предложил, кроме того, понятие «поэтиче¬
ского страха» (1еггог роеМсо), имея в виду то «инстинк¬
тивное ощущение, которое вынуждает человека разыски¬
вать генетические корни своей судьбы в тайных источ¬
никах подсознательного», имея в виду прямую связь
поэзии и «феноменов сна, ясновидения, безумия», при¬
спосабливая к целям поэзии «бред, автоматизм, любовь,
случай, преступление и вообще все действия, санкциони¬
рованные медициной и религией». Аренас (предпочитает
те «ночные» состояния, когда человек беспомощен и без¬
защитен, когда он в когтях «поэтического страха» и
«падает от одного сна к другому, пока в глубинах не
встретит... маленькое свадебное растение, мою ман¬
драгору». Эти размышления Аренаса соответствуют
бретоновской концепции поэта как пассивного «регистри¬
рующего аппарата», орудия в руках мощных сил — под¬
сознания, инстинктов и т. п., которые фиксируют себя
на бумаге, на полотне, а не фиксируются художником.
Латиноамериканские сюрреалисты, как видно, в об-
щем-то шли за Бретоном, повторяли догматы француз¬
ской сюрреалистической веры. Однако, вкрадывались и
свои, «национальные», интонации, интонации, рожден¬
ные особыми условиями. Так у Аренаса, в некоторых
других документах латиноамериканского сюрреализма
91
нередко' заметно «романтическое» восприятие идей Бре¬
тона, их поэтическое переложение. Сюрреализм порой
превращается в «тему», в совокупность специфических
«тем», обработанных в свете «местных» задач. Сюрреа¬
лизм возбуждает у американцев интерес к «чудесному»,
но «чудесному» не столько сюрреалистического толка,
сколько «местному», к особенностям «латиноамериканиз-
ма», к специфической культуре с ее традиционными чер¬
тами.
Такое «латиноамериканское» осмысление сюрреализ¬
ма можно видеть, например, в статьях мексиканского
сторонника Бретона X. Ларреа. Сторонник-то сторонник,
но, знакомя соотечественников с французским сюрреа¬
лизмом, пропагандируя его, Ларреа сразу же оговари¬
вается насчет ограниченности сюрреализма, его неосу¬
ществленных претензий. Ларреа видит узость сюрреа¬
лизма, но видит ее потому, что смотрит на сюрреализм
глазами латиноамериканца, которому важна особенная
Реальность Америки. Ларреа предпочитает поэтому Ру¬
бена Дарио как поэта, отразившего специфичность кон¬
тинента. Сюрреализм же оказывается в его интерпрета¬
ции лишь частицей более широкого целого. Кроме того,
Ларреа воспринимает европейский сюрреализм в пер¬
спективе романтического искусства. Романтизм XIX века
для него — предшественник сюрреализма, прямо опре¬
деляющий его особенности.
Осмысление своих, «местных», задач и национальной
специфики вело и к более категорическому размежева¬
нию, к отмежеванию от сюрреализма. Это характерная
тенденция и ее обязательно надо принимать во внима¬
ние. Тогда будет ясно, насколько произвольно причис¬
ление к сюрреализму некоторых писателей, причисление,
совершаемое по той причине, что у писателей этих мож¬
но отыскать или «чудесное», или еще что-либо из примет
сюрреализма.
Характерный пример — кубинец Алехо Карпентьер.
В его романах «чудесное» действительно присутствует.
Но это «чудесное» — иного толка, нежели сюрреалисти¬
ческое. Различию сам Карпентьер придавал значение
первостепенное. Важнейшим в этом смысле документом
можно считать предисловие Алехо Карпентьера к его
роману «Царство мира сего» («Е1 гето бе ез!е типбо»,
закончен в 1948 году). Вспоминая о своей поездке на
Гаити, Карпентьер делится возникшим у него желанием
92
соотнести «только что пережитую чудесную реальность»
с «истощающей претензией на возрождение 'чудесного-,
которая характеризует некоторые европейские литера¬
туры последних тридцати лет», с «чудесным», созданным
«приемами фокусника, воссоединяющего предметы, ко¬
торые никогда не смогут встретиться, — старая и выду¬
манная история о случайной встрече зонтика и швейной
машины...». Занимаясь постоянно производством чудес¬
ного, «чудотворец превращается в бюрократа», — ехид¬
но и справедливо замечает Карпентьер. Возник сюрреа¬
листический «кодекс фантастики». Но когда, пишет
далее Карпентьер, сторонник такого искусственного
«кодекса» художник-сюрреалист Андре Массон попы¬
тался рисовать сельву Мартиники «с невероятным пере¬
плетением ее растений и непристойной спутанностью
некоторых плодов, чудесная правда пожрала художни¬
ка, оставив его бессильным перед белой бумагой». Пе¬
ред лицом этой «чудесной правды», этих «правдивых
чудес» не пасуют художники Америки — Карпентьер
пишет о кубинце Ламе, показавшем «магию тропической
растительности». И об «обескураживающей бедности
воображения, например, какого-нибудь Танги, который
с двадцатых годов рисует все те же каменные личинки
под все тем же серым небом».
Карпентьер размышляет о чудесном, которое суть
«открытие реальности, расширение категорий реально¬
сти», а не сюрреалистическая «литературная уловка,
быстро наскучившая». На Гаити, пишет Карпентьер, ему
удалось соприкоснуться с «чудесной реальностью» (1о
геа1 тагауШозо). Эта «чудесная реальность» — достоя¬
ние не только Гаити, но всей Америки: «чудесная реаль¬
ность встречается на каждом шагу в жизни людей, впи¬
савших даты в историю континента». Помимо этого,
«тогда как танцевальный фольклор в Западной Европе
совершенно потерял магический смысл, редким является
в Америке коллективный танец, который не заключал
бы в себе глубокий ритуальный смысл».
Все вышесказанное — комментарий Карпентьера к
роману «Царство мира сего». Комментарий, который за¬
ставляет противопоставить этот роман, как и другие его
произведения, сюрреализму, а не подсоединить к нему,
как то иногда делается. «Царство мира сего» основано,
предупреждал автор, «на чрезвычайно точной докумен¬
тации, которая... сохраняет историческую правду собы¬
93
тий, имена персонажей, в том числе второстепенных,
мест, вплоть до улиц». «Что есть история Америки, как
не хроника чудесной реальности?».
Карпентьер — это уже не сюрреалистическая теория.
Но комментарии кубинского писателя вносят определен¬
ность и в сюрреалистическую теорию, помогая уточнить
ее границы.
Со времени второй мировой войны, как мы видели,
Бретон открыто заявляет о мифической, «поэтической»
природе сюрреалистической революционности. Строя
свои мифы, он уже «грезит», не стесняясь, уже не столь¬
ко пытается воссоединить «грезы» с реальностью,
сколько увести человека «за эти смешные барьеры, ему
поставленные», а это по Бретону «так называемая сов¬
ременная реальность» и «будущая реальность, которая не
большего стоит». Такое намерение Бретон сформулиро¬
вал в 1942 году в «Пролегоменах к третьему манифесту
сюрреализма».
Теперь уже «нынешняя конвульсия планеты» служит
для Бретона основанием, чтобы указать на несовершен¬
ство современных средств познания. Предполагая усо¬
вершенствовать эти средства, Бретон предупреждает,
что не намерен остерегаться «обвинений в мистицизме».
Вслед за этим Бретон «открывает окна на безграничные
пейзажи утопии».
Путешествие в мир утопий, к которому Бретон при¬
глашает, начинается с того, что он предупреждает нас
о возможности существования других существ, недо¬
ступных человеческому разуму, ощущаемых нами лишь
через «страх и чувство случайности». Мысль свою Бре¬
тон подтверждает авторитетом Новалиса (к его автори¬
тету, как мы знаем, Бретон обращается не впервые),
которому тоже казалось, что человек — просто-напросто
паразит, живущий на теле некоего животного, не подо¬
зревая об этом.
«Пролегомены» на этом предположении обрываются.
Однако и этого достаточно, чтобы ощутить, в какой сте¬
пени «новый мир» Бретона — создание фантазии и ми¬
стицизма. Впрочем уже в «Безумной любви», еще не
приглашавшей с такой, как ныне, откровенностью пере¬
шагнуть «смешные барьеры» реальности, Бретон писал:
«Так все происходит, как если бы мы были жертвами
умелых махинаций каких-то сил, остающихся пока
крайне загадочными». Сначала причинность заменена
94
случайностью, потом случайность объяснена дьявольщи¬
ной...
Как и «Безумная любовь», гимном любви кажется
написанная осенью 1944 года «Тайна 17». Бретон ищет
утешений — он их находит в поэзии, обращенной к Веч¬
ности. «Жестокий век» Людовика XIV он видит через
полотна Ватто, через гимн природе и любви. Утешения
ой находит в любви — «истинной панацеи». «С помощью
любви и только с ее помощью осуществляется в самой
высокой степени слияние существования и сущности...,
а вне ее они разделены, всегда в тревоге и во вражде».
«Любовь, поэзия, искусство, только их усилием будет
возвращено доверие, и мысль человеческая выйдет в
открытое море». «Крылья» философии Бретона — любовь
и поэзия. Сам жанр его эссе — это философствование
по поводу, это размышление, рожденное чувством, осно¬
вывающееся на лирической картине, это инспирирован¬
ное иллюстрацией откровение.
Науку Бретон судит строго. Вообще для него куль¬
тура человеческая основана на произволе и рутине;
слишком много идей, «апломб» которых не оправдан их
истинным значением; обучение таково, что способность
человека к самостоятельному суждению не развивается,
воспитывается школярство, впитываются идеологические
клише. Бретон ждег изменений, он ждет «свежести» —
особенно от идеи «спасения с помощью женщины».
«В любви человеческой покоится вся сила обновления
мира».
И главной задачей искусства должна быть подготов¬
ка царства «женщины — ребенка». В «Тайне 17» есть
такой, идеальный, образ — это прекрасная Мелюзина,
символ Женщины, вечной молодости, напоминание о той
случайной встрече с женщиной, которая стала открове-
• нием для Андре Бретона.
В «Тайне 17» Бретон не скрывает, что доверяет
поэзии исследование обширных пространств бытия, при¬
знается, что «ничего не может», пока не объявятся «ге¬
нии, владыки поэтической сути вещей»; на них, только на
них, надеется Бретон перед лицом непрочной, разламы¬
вающейся реальности. И уплывает на волнах фантазии,
отдается сюрреалистическим грезам, для которых экзо¬
тический край Дырявой Скалы вполне подходящее ме¬
сто. Вполне подходящее для операций «высокой магии»,
метафизирующнх реальность.
95
«Тайна 17» отличается от предшествовавших доку¬
ментов бретоновской теории резко сгустившейся атмос¬
ферой магического действа. Здесь много символов —
начиная от названия, много аллегорических картин, зна¬
менующих приобщение к скрытым сущностям, символи¬
ческих соответствий, взаимопроникновений, «магических
ночей». И Мелюзина обращается в колдунью, в медиума,
и сам Бретон не скрывает близости к магам, не скры¬
вает своего интереса к появляющимся в решающую
минуту на страницах «Тайны 17» звездам.
В очередном разъяснении своей позиции под назва¬
нием «Ажуры» («Аригз») Бретон сюрреалистическую
суть вновь видит в поэзии, равно как и в любви; «акт
любви, точно так же как картина или поэма, обесцени¬
вается, если со стороны отдающегося им не предпола¬
гается состояния транса». Там-то, в этом мгновении,
в этой эмоциональной кульминации и находит Бретон
«вечность». А затем он предается «высокой магии»,
пишет о волнующих его загадочных совпадениях,
оккультных свойствах парижской башни Сен-Жак, пере¬
воплощениях Единственной, — не только любимой жен¬
щины, но и медиума.
Итак, чисто эмоциональное мгновение, любовный
«транс» — и в то же время оккультизм. Повседневное,
рядовое явление, уличные встречи, «объективный слу¬
чай», незначащие на первый взгляд происшествия —
и вдруг возникающее прозрение загадочных сущностей,
творимый миф, в котором подспудно, как кардинальный
принцип, живет желание.
В 40—50-е годы ясно стало, насколько пророческими
были прозвучавшие в 1930 году предостережения Дес¬
носа: «верить в сюрреальность — значит вновь мостить
дорогу к богу». Так было всегда, всегда сюрреализм
«мостил дорогу к богу», пропуская в науку алхимию, но
особенно на этапе создания «новой мифологии», на эта¬
пе превращения Бретона в мага. Закономерно то, что
католики вдруг увидели в Бретоне «своего». Близость
сюрреализма религии признают и многие сторонники
сюрреализма, но из дружеских объятий, раскрытых сюр¬
реализму в послевоенные годы католиками, они, как
правило, стараются освободиться. Понятное желание
избавиться от содружества с католиками, компромети¬
рующих пророков современного свободомыслия, ничего
не меняет в том, что дружеские чувства церковников
96
возникли не случайно, а в силу действительной близости
«новой мифологии» Бретона и старой, как мир, религи¬
озной веры.
«Бретон —' мистик» — это свое убеждение старатель¬
но и на многих фактах подтверждает Клод Мориак в
книге об Андре Бретоне.
Уже в июне 1948 года потребовался специальный
манифест сюрреалистов, в резкой форме осуждавший
церковников, «тявок господа бога», за их попытки при¬
способления сюрреализма к своим целям. С возмуще¬
нием писали сюрреалисты, что некий бенедиктинец в
июле 1947 года сообщил: «Программа Бретона свиде¬
тельствует о стремлениях, которые совершенно парал¬
лельны нашим». Но чем, собственно говоря, возмущался
в этих словах маг, поклонник алхимиков Бретон, заня¬
тый оккультацией сюрреализма?!
И искусство стало для Бретона в конце концов всего
лишь обретенной магией — «Магическое искусство»
(«Б’аг! та^ие») — так называется один из позднейших
плодов бретоновской эстетики (1957). Сюрреалистичес¬
кие «неожиданности» обосновываются теперь аналогией
с алхимией (например, в статье Бретона «О сюрреализ¬
ме и его живых произведениях», 1953). Бретон, призна¬
вая довольно быстрый отход сюрреалистов от практики
«автоматического письма», говорил об их движении в
«производящую слово основу» — а это невозможно, по
его убеждению, без помощи оккультной философии, тоже
занятой «прорастанием языка».
Как видим, философский вызов, дерзко брошенный
Андре Бретоном и его единомышленниками, не привел
к ожидавшимся результатам потому, что Бретон наме¬
рен был одним махом «решить все антиномии», среди
которых были и такие, которые даны в объективной
действительности, в природе вещей и «примирению» не
подлежат. В конце концов Бретон решил подняться
над идеализмом и материализмом. Примирение этой
антиномии удавалось, как известно, только в вооб¬
ражении.
Закономерно, что Бретону не удалось похитить огонь
для человечества. Он даже попутно ухитрился погасить
иные из светочей, зажженных до него.
Закономерно и то, что свою задачу Бретон с наиболь¬
шим эффектом реализовал в царстве воображения —
в сюрреалистическом искусстве.
4 л. Г. Андреев.
97
Чем очевиднее сюрреализм превращался в мифотвор¬
чество, тем более нуждался он в искусстве. Искусство
оказывалось единственной связью между теорией Бре¬
тона и реальным миром. В нем, в искусстве, сюрреализм
нуждался как в единственном оправдании своих претен¬
зий на преодоление.идеализма и материализма, как в
единственном доказательстве того, что возникает сюр¬
реальность.
3. Практика
Итак, в сюрреалистической теории отражается
привнесенная революционным XX веком потребность
сбросить путы буржуазно-консервативного мышления,
взглянуть по-новому на быстро обновляющийся мир,
соединить искусство с наукой, снабдить его новыми
средствами познания реальности. В этой теории раскры¬
вается вместе с тем крах философских претензий сюр¬
реализма, поскольку он так и не смог найти путь к под¬
линному обновлению. Корни сюрреализма оказались
столь глубоко ушедшими в мистицизм и индивидуализм,
что лишь на первый взгляд кажется парадоксальным
жалкий финал бретоновского теоретизирования, в на¬
чальной точке которого была дерзкая заявка на абсо¬
лютное обновление. «Кажется, что, не сумев найти точку,
в которой были бы сняты противоречия, Андре Бретон
стал соблазняться поэтическим бегством» 1.
Сюрреальность в конечном счете оказалась всего-
навсего поэтическим образом. Сюрреализм не смог стать
подлинной философией, как не удалось ему превратить¬
ся в истинное политическое движение. Мы видели —
теоретические, философские труды сюрреалистов неудер¬
жимо втягиваются в область образотворчества, перера¬
стают в поэтическое фантазирование.
В «Волне грез» Арагон, пытаясь определить сюрреа¬
лизм, рассказывает о том, как сюрреалисты вызывали
в себе образы, — и сам образы созидает. «Волна грез»—
фокус сюрреалистического теоретизирования, так как
фиксируется особенное состояние. Но фиксация состоя¬
ния — акт не столько собственно философского свойства,
сколько свойства поэтического. Репзёе* раг1ёе — не ду¬
1 С 1 а п с 1 в г О. - Е. Ое ЩшЬаис! аи зиггёаНзше. Рапогата сп-
Ндие. Рапз, 1959, р, 34.
4*
99
мание» не осознание, а выхлестывание «я», фиксируемое
в образе. Чем, собственно говоря, отличается процесс
производства философских категорий сюрреализма от
производства сюрреалистических стихов? Чем «Волна
грез» отличается от сюрреалистической прозы? Ответить
на этот вопрос нелегко — четкую границу между сюр¬
реалистической теорией и практикой, повторяем, прове¬
сти невозможно, особенно в сфере прозы. Теоретические
труды сюрреалистов можно в той или иной степени от¬
нести к разряду сюрреалистической прозы. Сюрреали¬
стическая проза, в свою очередь, как правило, в той или
иной степени принадлежит к разряду теории.
Бретон третировал романы как устаревшую форму
искусства; он почувствовал, скольким реализм обязан
роману. Ясно, кроме того, что с наименьшим эффектом
принцип «удивления», принцип неожиданности мог про¬
явить себя именно в прозе. «Автоматическое письмо» и
проза кажутся трудно сочетаемыми понятиями. Проза
побуждает вдумываться, не ограничиваться чисто эмо¬
циональным восприятием, — а в этом сюрреализм не
заинтересован. Сюрреализм, пытающийся свести на нет
роль разума в создании искусства, до крайности огра¬
ничивает возможности рационального его познания. «По¬
нять» — это желание довольно трудно прилагается к
сюрреалистическому искусству. Скорее — «ощутить»,
«почувствовать».
При всем том, первым сюрреалистическим текстом
считается текст прозаический — «Магнитные поля» Бре¬
тона и Супо. Однако «Магнитные поля» доказывают
невозможность сюрреалистического эпоса — и опреде¬
ляют ограниченные пределы, в которых затем развива¬
лась сюрреалистическая проза.
«Магнитные поля» («Без СЬатрз тадпё^иез») 1 —
противоположность какой бы то ни было повествова¬
тельной форме. Этот текст выдает неудержимое стрем¬
1 Понять и пояснять сюрреалистические выдумки чаще всего не¬
возможно. Но, может быть, небесполезно послушать Алена Жуфруа,
одного из сторонников Бретона, сообщавшего о «Магнитных полях»
следующее: «Бретон дал мне понять, что автоматическое письмо
(о котором он сказал, что его история была историей постоянного
невезения) соответствовало некоему голосу, передаче слова, которое
мобилизует психофизическое поле мысли — его «магнетизирует». Этот
голос, независимый от мыслящего субъекта и его непосредственного
окружения, надо поймать (поставить антенну мысли, чтобы слышать
ч передавать)». («Без БеЦгез 1гапда1зе5», 11968, 2—9 ша1).
100
ление к дроблению, к распаду на детали, на элементы,
на отдельные образы. «Магнитные поля» — цикл миниа¬
тюр, каждая из которых в свою очередь распадается,
не обладая никакой внешней связью. Лишь три из этих
миниатюр отличаются относительной внутренней связно¬
стью («Зеркало без амальгамы», «В 80 дней», «Белые
перчатки»), да к тому же близки друг другу: там появ¬
ляется не то, что персонаж, скорее неясная тень какого-
то человека (или каких-то людей), куда-то бегущего по
пустынным улицам какого-то города, в чем-то (скорее —
во всем) разочарованного, загадочного, бледного, по¬
давленного чем-то, находящегося во враждебных отно¬
шениях с окружающими людьми, пугающего их даже
своим смехом. Временами эта тень обретает облик
истинного сюрреалиста («В 80 дней»), т. е. существа,
производящего «гёуез», начиненного снами и грезами.
Но и в этих случаях все здесь до крайности абстрактно
и загадочно, все туманно и бесплотно, поскольку все
это — содержание «грез».
«Магнитные поля» — это и есть описание «гёуез»,
то ли сновидений, то ли грез: «мы пальцами прикасаем¬
ся к этим неясным звездам, кои населяют наши грезы».
«Магнитные поля» критика обычно именует первым об¬
разцом «автоматического письма».
Но давно было подмечено при этом, что даже самые
нелогичные, самые бессмысленные фразы, призванные
запечатлеть стихийную работу подсознательного, Брето¬
ном построены весьма логично. Бретон явно уважал
синтаксис, и иррациональное старательно, рационально
им обработано (впрочем, он уверял, что подсознание его
порождает фразы, синтаксис которых «абсолютно пра¬
вилен»). К доработке или переработке своих текстов
Бретон обращался нередко — а как совместить это за¬
нятие с «автоматическим письмом»? 1.
«Магнитные поля» прежде всего ставят под сомнение
самую возможность буквального выполнения требований
сюрреализма, особенно в области прозы. Вот почему уже
на первой стадии развития сюрреализма, уже в «Маг-
1 «Пикассо однажды говорил мне, — делится воспоминаниями
автор работы о бельгийском сюрреалисте Шаве, — что сюрреалисти¬
ческие рукописи героического периода, которыми он владел, все бы¬
ли перечеркнуты и переправлены. Бретон пытался объясниться по
поводу этих «починок». Думаю, что никогда он не был столь мало¬
убедительным». (М!дие1 А. АсЫИе СЬауёе. Рапз, 1969, р. 5),
101
нитньих полях» более или менее последовательные по¬
пытки создания произведения методом «автоматического
письма» соединяются с описанием грез, границу реаль¬
ного и нереального снимающих, или же с изображением
человека, во власти грез находящегося. Это и стало
основным направлением, по которому двигалась сюрреа¬
листическая проза.
Но все, что можно выжать из принципа «автомати¬
ческого письма», «Магнитные поля», пожалуй, выжима¬
ют. Бессвязность — один из господствующих в «Магнит¬
ных полях» приемов, один из главных источников
особенного сюрреалистического эффекта, производимого
текстом. «Неожиданность» — это столкновение внешне
несвязных образов, подчеркнутый алогизм, употребле¬
ние эпитетов из разных смысловых рядов. На основе
принципиальной несвязности покоится все сооружение
«Магнитных полей». Само собой, разумеется, что на та¬
кой основе построить повествование невозможно, и ком¬
позиционным принципом становится монтаж. Перед
нами — мозаика, пестрая картина с резко выделенными
составными элементами. Доминирует случайность, слу¬
чайность абсолютизируется. Можно при этом предпола¬
гать, что в глубине, подспудно лежит какая-то связь,,
что образы возникают в результате неких субъективных
ассоциаций. Однако, поскольку эти ассоциации чисто
субъективные, из мира подсознания и строятся «по-сюр-
реалистски», т. е. на основе различия, а не сходства, то
осознать их непросто, а то и вовсе невозможно. Таким
образом, значительная, главная часть смысла произве¬
дения остается неосмысленной, остается достоянием со¬
зидающего произведение сознания или подсознания,
тайной художника.
Поэтому сюрреалистическое произведение, даже про¬
заическое, побуждает спросить: а есть ли в нем смысл
вообще? Нагнетая образы, созидая их на основе сугубо
субъективных ассоциаций, чисто словесных ассоциаций,
стремясь поразить читателя совмещением несовмести¬
мого, «Магнитные поля» превращаются в ребус, в шифр.
Произведение это кажется игрой в замысловатые и за¬
тейливые уподобления неуподобляемого. Обескуражи¬
вающая трудность заключается в том, что расшифровы¬
вать эти «поля» с самого начала представляется делом
бесполезным — за шифром может не быть ничего, текст
может быть просто-напросто «акробатическим танцем»
102
(определение взято из текста «Магнитных полей»). Фор¬
мализм неизбежно рождается сюрреалистическим прин¬
ципом «неожиданности», формализм вынашивается и в
чреве «Магнитных полей».
Другой сюрреалистический прием — это создание
более или менее связных, но загадочных по существу
своему картин, содержащих нечто противоестественное,
абсурдное или причудливое. Возникает конкретный
образ чего-то крайне абстрактного. Порой, когда чи¬
таешь «Магнитные поля», кажется, что создатель их не
уходит за черту обычного города, обыденных улиц.
Однако это улицы сновидений и грез. Поэтому на ре¬
альных, как будто, не на фантастических улицах, вы¬
страиваются, громоздятся странные фантасмагорические
образы, подчиняясь игре воображения, вырвавшегося
из-под контроля разума.
Мир в «Магнитных полях» оказывается загадочным
и нелогичным по сути своей. Все здесь символично, все
намекает на нечто. Ведь «Магнитные поля» — это «зер¬
кало без амальгамы», в нем не столько отражается мир,
сколько просвечивает, просматривается что-то, за плос¬
костью зеркала скрытое. «Магнитные поля» — это цар¬
ство всепроникающей метафоричности. Сюрреализм
предпочитает уподобление неуподобляемого, предпочи¬
тает противоестественные уподобления, не уточняющие,
поясняющие, а зашифровывающие и озадачивающие.
Границы метафоры в «Магнитных полях» трудно опре¬
делить — ведь это не реальность, это сверхреальность,
это реальность, чреватая нереальностью. «Реальное» мо¬
жет оказаться поэтому созданием фантазии, просто со¬
поставлением, символом нереальных грез. Конкретное
совмещается с крайней отвлеченностью— и «поля» эти
кажутся созданием естествоиспытателя, творящего в ла¬
боратории опыт, схемой мира, в которой преобладают
начала и стихии, пространство, природа, человек как
таковой, вне времени и места, вне социальной, нацио¬
нальной и прочей конкретизации. Крайний схематизм
уживается с крайней усложненностью, прециозностью,
вычурностью.
Метафоры «Магнитных полей» тяготеют к реализа¬
ции, причем тоже шокирующей. Появляются странные
существа — олицетворенные понятия или ощущения.
Фиксируются нелепые поступки^. Вселенная кажется
обезумевшей, или, точнее, обезумевшим кажется созда¬
103
тель «Магнитных полей», взирающий на действитель¬
ность сквозь призму своих лихорадочных, бредовых ви¬
дений. Внешний мир здесь — слепок с ощущения, обра¬
стающий сюрреалистической замысловатостью, обретаю¬
щий сюрреалистическую фантасмагоричность.
«Наш скелет просвечивал как дерево через последо¬
вательные всходы плоти, где крепко спят детские жела¬
ния»,— таков, так сказать, подстрочник одного из
множества примеров трудно переводимого сюрреалисти¬
ческого образотворчеетва, трудно переводимого или вовсе
непереводимого и на язык разума.
Возникает вновь и вновь вопрос — а надо ли его пе¬
реводить на этот язык? И можно ли его перевести?
Можно ли понять то, в возникновении чего разум уча¬
стия, возможно, не принимал или принимал весьма
скромное? Можно ли осмыслить то, что создается как
нарочитая бессмыслица, на основе свободных ассоциа¬
ций, не зависящих от смысла слов? Не будет ли более
правильным просто отдаться впечатлению, ощутить
прикосновение гёуез, которые призваны выполнить роль
суггестивную, призваны то вызывать беспокойство,
тревогу, то настраивать на лад сюрреалистического
юмора? 1 «Магнитные поля» близки символизму, и не
только сюрреалистической устремленностью к загадоч¬
ному, к нереальному, но и тем, что это произведение
суггестивное, намекающее, адресованное скорее эмоци¬
ям, чем разуму. Главным оказывается не мысль, а обес¬
смысленный образ, суггестивная сила слова как таково¬
го. Как и символизм, сюрреализм предпочитает поэзию.
По сути своей, «Магнитные поля» ближе жанрам лири¬
ческим, чем эпическим. Скорее это стихотворение в
прозе, чем собственно проза. Плод сюрреалистических
грез и превращается в поэзию: последние фрагменты
«Магнитных полей» написаны уже стихами.
Кроме того, читая «Магнитные поля», порой испы¬
тываешь нарастающее желание увидеть, представить
1 Арагон писал: «Я хотел бы, чтобы «Магнитные поля» читали
так, как путешественник смотрит из окна поезда, не оспаривая ни¬
когда то, что видит... Позвольте вести вас... У нас уже не возраст
«почему». («Ьез ЬеИгез Ггап^зез», 1968, 9—15 та[), Прелесть, кра¬
сота «Магнитных полей» —по убеждению Арагона —в игебисНЫ-
Шё, в «неприводимости» к какому бы то ни было знаменателю, к
какой-нибудь классификации. Да, но называется же это «сюрреа¬
лизм»? Значит «знаменатель» есть. К тому же вопросы задают не
только в детстве.
104
себе возникающие образы. Происходит перерастание,
преобразование повествования в изображение, в замкну¬
тую, статично-описательную миниатюру. Многие из этих
образов кажутся прямыми предшественниками грядущей
сюрреалистической живописи, описанием странных кар¬
тин, шокирующих зрителя своей противоестественностью.
Например: «Окно, пробитое в нашем теле, открывается
на наше сердце. Видно огромное озеро, где в полдень
опустились золотистые стрекозы, душистые как пионы».
Одновременно с первым манифестом сюрреализма
было опубликовано произведение Бретона под назва¬
нием, которое можно перевести и как «Растворимая ры¬
ба» («Ро155оп зо1иЫе»). Это довольно большое по объ¬
ему произведение в прозе, в общем несколько более
связное, нежели «Магнитные поля». Оно тоже состоит
из большого числа (32) небольших фрагментов. Но каж¬
дый из них обладает более или менее выраженной связ¬
ностью. Кроме того, все они написаны от первого лица,
и вся эта «Растворимая рыба» может восприниматься
как дневник сновидений Андре Бретона. Правда, карти¬
ну портит рассудочность, склонность к философствова¬
нию, противоречащая иррациональности сна.
В еще большей степени, чем «Магнитные поля»,
«Растворимая рыба» кажется не столько созданием
автоматизма, «скороговорки», сколько описанием
«гёуез», изображением такого внутреннего состояния,
благодаря которому фантазия деформирует реальность.
И в «Растворимой рыбе» нередко читатель натыкает¬
ся на жутковатые картины, на подробные описания
странностей, предваряющие живопись сюрреалистов.
Вот «я» встречает на своем пути «осу с талией красивой
женщины, спросившую у меня дорогу». «Я» дает осе
советы, а та, «поглядев на меня с тем, без сомнения,
чтобы засвидетельствовать свое ироническое удивление,
приблизилась ко мне и сказала на ухо: «Я возвра¬
щаюсь». Это странность простейшая, несложная, почти
фарсовая, «дадаистекая».
А вот «через стенки крепко заколоченного ящика
человек медленно пропускает одну руку, потом другую,
затем обе сразу. Потом ящик спускается вдоль берега,
руки больше нет, а человек, где же он?» Здесь стран¬
ность усложняется, она более сюрреалистична; загадоч¬
ное содержит в себе некую «тайну», поражает и вызы¬
вает ощущение кошмара.
105
Далее рассказывается о том, как некий охотник
наткнулся на нечто вроде газовой лиры, которая «без¬
остановочно трепетала и одно крыло которой было столь
длинным, как ирис, тогда как другое, атрофированное,
но значительно более сверкающее, было похожим на
дамский мизинец с надетым чудесным кольцом. Цветок
отделился и закрепился основанием воздушного стебля,
который был глазом охотника, на корневище небес.
Затем палец, приблизившись к нему, предложил прове¬
сти его в место, где никогда не бывал человек». Так
охотник «достиг края французской земли», потом он вы¬
стрелил в странное создание. Вскоре нашли труп охот¬
ника: «Он был почти нетронут, за исключением ужасно
сверкающей головы. Она покоилась на подушке, исчез¬
нувшей, когда ее подняли, сделанной из множества
маленьких бабочек, голубых как небо. Возле тела бро¬
шено было знамя цвета ириса, а бахрома этого истре¬
панного знамени трепетала как длинные ресницы».
Приведен классический для сюрреализма эпизод.
Составляющие его детали — более или менее реальны.
Но они поставлены в неестественные, даже противоесте¬
ственные взаимоотношения. Из этих взаимопроникнове¬
ний складываются «двойные» или «тройные» образы.
Глаз оказывается основанием стебля, а в то же время
часть цветка, похожая на палец, — ведущим охотника
(«глаз которого оказывается основанием...»), указующим
перстом. Затем ресницы (глаз — основание) осыпали
труп охотника, ресницы цвета ириса, — а на ирис было
похоже растение, опиравшееся ранее на глаз, значит
и на ресницы. И голова покоилась на подушке из бабо¬
чек цвета неба — а на корневище небес ранее опирался
цветок... Все это непонятно, но жутко. И чем непонятнее,
тем страшнее.
А вот рассказчик натыкается на необыкновенной
красоты женщину, лежащую на постели. «Я был крайне
счастлив тем, что застал последнюю конвульсию и тем,
что, когда я к ней приблизился, она перестала дышать.
Странная метаморфоза происходила вокруг этого без¬
жизненного тела: если простыня, натянутая за четыре
угла, растягивалась на глазах и достигала великолепной
прозрачности, серебряная бумага,, которой обычно была
обита комната, напротив, съеживалась. Она служила
только тому, что пудрила парики двух опереточных ла¬
кеев, которые странным образом терялись в зеркале.
106
Напильник из слоновой кости, подобранный мной на по¬
лу, немедленно обнаружил вокруг меня некоторое коли¬
чество восковых рук, которые пребывали подвешенными
в воздухе, прежде чем устроиться на зеленых подуш¬
ках».
Этот отрывок тоже типичен. В нем сгущен эротизм
как основа символики. Сюрреалистическая «загадка»
со всеми ее несообразностями передает томительную
атмосферу желания, усиленного фрейдистским комплек¬
сом желания смерти объекту эротических устремлений.
В той мере, в какой в «Растворимой рыбе» описы¬
вается то, что как бы виделось во сне или грезилось
наяву, бретоновская проза наталкивает читателя на
зрительное восприятие, побуждает все это увидеть.
Иногда фрагменты «Растворимой рыбы» кажутся дей¬
ствительно добросовестным воспроизведением сновиде¬
ний — фантастическим полетом на автомобиле, полетом
над пространством, над земными измерениями и поня¬
тиями. Порой создание Бретона напоминает романтиче¬
ские новеллы со жгучей тайной и символическими обра¬
зами. Таков, например, фрагмент, повествующий о зага¬
дочном зеркале, отражающем «неизведанную глубину»,
отражающем не только формы, но и «субстанции». При
желании можно принять это зеркало за символ сюрреа¬
листического искусства. Тем более, что созерцающий
себя в зеркале молодой человек видит между прочим
«улыбающегося молодого человека, чье лицо похоже
было на глобус, внутри которого летали два колибри»,—
т. е. -возникает типично сюрреалистический образ. Таков
же фрагмент о таинственной вуали, сдернутой с таин¬
ственной незнакомки и ставшей словно бы носителем
жизни, средоточием любви, заменой исчезнувшей жен¬
щины.
Заметим попутно, что в этом, как и во многих других
фрагментах, возникают чувственные ассоциации, настой¬
чиво звучит тема любви и наслаждения, появляется
образ влекущей к себе женщины. Вся сюрреалистиче¬
ская странность двадцать шестого фрагмента вообще
может быть истолкована как развернутая метафора,
иллюстрирующая силу любви. В начале встреча (слу¬
чайная, само собой разумеется) с женщиной. А затем
рассказчик уносится на крыльях любви, на крыльях же¬
лания. Париж остается далеко позади — вот уже
Нью-Йорк, у входа в который не статуя Свободы, а Лю*
107
бовь, вот Аляска и Индия. Вот Постель любовников
планирует над Новой Гвинеей.
Фрагменты Бретона знакомят читателя все с новыми
странностями, со странными видениями, странными
людьми, странными поступками. Не всегда легко пред¬
ставить себе то, что пригрезилось Бретону, не все кар¬
тины зрительно определенные. Очень часто странность
диктует самую манеру письма, странным становится
текст. Как и в «Магнитных полях», странное возникает
в «Растворимой рыбе» из 'бессвязности, из невозможно¬
сти для читателя определить принцип взаимосвязи ча¬
стей, фраз, из навязчивой ассоциативности. К тому же
отдельные фразы иногда содержат нечто неясное, зага¬
дочное, очевидную нелепость. Невозможности нагромож¬
даются, наращиваются.
Все это усиливается употреблением нарочито непод¬
ходящих эпитетов («растворимая рыба»), взаимоисклю¬
чающих понятий, употреблением сравнений, которые ка¬
жутся невозможными, шокируют читателя. Текст насы¬
щен замысловатыми метафорами, нередко разрастаю¬
щимися. Фрагмент 19, например, можно понять именно
как такую разросшуюся метафору. Речь идет о каком-то
потоке или источнике. Все, что этот поток делает, ка¬
жется реализацией, буквальным осуществлением таких
метафор, как «ручей бежит», «вода играет». Метафора
приобретает свою собственную жизнь, образ оживает,
начинает действовать как живое существо, как полно¬
правный персонаж — со странными, уродливыми чер¬
тами.
В меру изобретательности писателя, сюрреалистиче¬
ская доктрина Бретона открывала путь к необузданному
фантазированию и к экспериментированию с образом и
словом. Проза Бретона и кажется экспериментом. Не¬
возможно отделаться от ощущения надуманности, искус¬
ственности, когда разбираешь его ребусы. Нет подлин¬
ного поэтического огня, недостает дыхания. Недаром и
в варианте «Растворимой рыбы» сюрреалистическая
проза Бретона не нашла в дальнейшем подтверждения
и развития.
«Надя» («№сУа», 1928)—свидетельство неуклонного
продвижения бретоновской прозы к связности, к «нор¬
мальным» повествовательным формам, а значит — воль¬
ного или невольного отступления от догматов сюрреали¬
стической веры, столь дорогих Бретону. Отступления в
108
сторону принципов аморфных, уклончивых, непоследова¬
тельных.
Вновь это подобие теоретического манифеста, точнее
говоря, — иллюстрация к тезису. «Надя» — книга о
«себе». Бретон с величайшим презрением пишет в ее
начале об устаревшей претензии «выводить на сцену
персонажей», отличных от авторов. У него же намерение
рассказать о «нескольких наиболее заметных эпизодах
собственной жизни», эпизодах, которые введут в «мир
внезапных сопоставлений, ошеломляющих совпадений»,
в мир неожиданного и случайного, в мир фактов «чистой
констатации», но выполняющих роль «сигнала». «Расте¬
рянным свидетелем» этих фактов именует себя писатель,
и в их «некоммуникабельности» усматривает особенное
и несравнимое наслаждение.
«Чудесное в повседневном». Все в «Наде» вроде бы
досконально. Приложены даже фотографии тех париж¬
ских улиц и зданий, той повседневности, которая вот-вот
станет сюрреальностью. Достоверность подтверждается
ежеминутно: «Можно быть уверенным во встрече со
мной в Париже, после полудня, на бульваре Бон-
Нувель, между типографией «Матен» ;и бульваром
Страсбург».
Но прогуливающийся Бретон замечает относитель¬
ность этой безусловной реальности, находит «двойное
дно». Вот вывеска на одном отеле читается, если рас¬
сматривать ее под иным углом зрения, совсем иначе.
А вот «4 октября прошлого года», пройдя улицу
Лафайет, Бретон увидел «молодую женщину, очень бед¬
но одетую». Бретон заговорил с ней. Это была Надя, пот
лучившая имя от русского слова «надежда». Перед нами
демонстрация «объективного случая», философской по
значению случайной встречи. Далее документальность
сохраняется: датируются последовавшие встречи с На¬
дей, точно указываются «адреса», места встреч, прило¬
жены фотографии. Девушка оказывается со странностя¬
ми — то страх какой-то ее охватывает, то задумчивость
необыкновенная, то приговаривает она что-то не вполне
понятное, то рисует сюрреалистические картинки. Потом
они расстались; вскоре выяснилось, что Надя в психиат¬
рической больнице, — но «они заперли Сада, они запер¬
ли Ницше, они заперли Бодлера», т. е. ни о какой ненор¬
мальности факт этот не говорит, просто подключает
героиню к сюрреалистической традиции.
109
Итак, мы узнаем сюрреалистическое «чудесное в пов¬
седневном». Но тайна в «Наде» — не плод «автоматиче¬
ского письма»; еще дальше, чем «Растворимая рыба»,
произведение отошло от этой доктрины Бретона. Даже
эффекты «внезапных сопоставлений и ошеломляющих
совпадений» больше декларированы Бретоном, чем осу¬
ществлены. В соответствии с теорией нового этапа, эта¬
па 30-х годов, Бретон ищет «пункт», в котором стирает¬
ся граница реального и нереального — реальность па¬
рижских улиц освещена светом той странности, которую
излучает Надя. Однако история с Надей, рассказанная
достаточно «традиционно», вне техники «автоматизма»,
может быть воспринята просто как «роман», как исто¬
рия кратковременного увлечения необыкновенной и по
всем признакам ненормальной девушкой. Если забыть,
что она — иллюстрация к теоретическим опусам Брето¬
на, растворявшим искусство прозы в теории сюрреали¬
стического образотворчества.
Первый образец прозы Луи Арагона — роман «Анисе,
или Панорама» («Ашсе! ои 1е Рапогаша», 1921). Позже
Арагон скажет, что «Анисе» был написан «до сюрреа¬
лизма». Появление романа Арагона в ту пору, когда
впервые было заявлено о несовместимости сюрреализма
и романа, кажется особенно неуместным. Этот факт —
еще одно пояснение грядущего разрыва Арагона с сюр¬
реализмом: Арагон-художник был предназначен для
создания романов, а это свое предназначение он смог
выполнять только вопреки сюрреализму, контрабандой
или после открытого отхода от сюрреализма.
Заметим, что «Анисе, или Панорама» обнаруживает
то особое предпочтение, которое отдавал Арагон искус¬
ству, поэзии, и тот дух дадаистского озорства, «игры»,
что сказывается и в его теоретических трудах, и в его
поэзии. Герой романа Анисе («Анисе — это я», — при¬
знается позже Арагон) вдруг оказался поэтом, а понято
это было тогда, когда Анисе в своем поведении обна¬
ружил склонность к «малоприличным крайностям». Тем
паче эта склонность проявляется тогда, когда Анисе
вступает в кружок почитателей Мирабеллы («символ
современной красоты», по комментарию Арагона), и
право на то, чтобы созерцать ее, добывает ограблением
парижских музеев и сожжением награбленных художест¬
венных шедевров на верху Триумфальной арки. Затем
он оказывается на пороге преступления, готов убить
110
мультимиллионера, ставшего мужем Мирабеллы, а до
того вступает в банду, — что поделать, красоте требуют¬
ся деньги, но их-то у Анисе нет. Впрочем, понятие о пре¬
ступлении не свойственно герою — он ведь художник,
он порвал все социальные связи, стал над обществом,
над моралью. Он «все делает не как люди».
Если «Анисе, или Панорама» написан «до сюрреализ¬
ма», то явно «накануне сюрреализма». Довольно боль¬
шой и довольно многословный роман кажется не имею¬
щим отношения к принципу «автоматизма». Но в нем
содержится социально-нравственная и философская ос¬
нова, на которой формировался сюрреализм, он показы¬
вает человека, который мог стать и становится сюрреа¬
листом. Дух анархизма, культ любви, власть желания—
все это мы найдем вскоре в сюрреализме. Вызывающее
поведение Анисе говорит, вместе с тем, о его близости
дадаистам: «Я не могу обойтись без скандала, поэзия—
тоже скандал». «Анисе, или Панорама» — это, пожалуй,
роман о дадаисте, и в нем немало автобиографического,
немало намеков на литературную ситуацию Франции
рубежа 10—20-х годов. Но это не дадаистский роман —
тотальный нигилизм дадаистов несовместим вообще с
эпической формой. «Анисе» — модернизированный ро¬
мантический роман, с аллегорическими фигурами, с про¬
тивопоставлением искусства и повседневности, с кон¬
фликтом исключительного героя и «прочих», героя и
«слабой разумом» толпы.
Дух дадаизма витает и в следующем прозаическом
произведении Арагона — «Приключениях Телемака»
(«Ьез ауеп1игез бе Тё1ёп^ие», 1922). Как в сюрреали¬
стической прозе, здесь немало резких сдвигов, эффект¬
ных соотнесений несоотносимого. Однако в сюрреализме
бессвязность суггестивна, призвана выполнить роль на¬
мека на некую сюрреальность; бессвязность в сюрреа¬
лизме связана с символической его сутью. В «Приклю¬
чениях Телемака» бессвязность дадаистского толка —
т. е. более внешняя, чисто формальная, выявляющая
дерзость «играющего» художника, его озорство, его не¬
обузданный произвол. Древний миф резко осовремени¬
вается, совмещается с материалом автобиографическим,-
герои модернизируются и снижаются, приземляются.
Ментор среди многих своих поучений произносит такое,
что можно счесть манифестом дадаизма, почти что
копией манифестов Тристана Тцара, а в главе 2-ой бук¬
111
вально приводится один из манифестов Дада. Ментор
говорит о «Системе Дд», системе, основанной на следую¬
щей посылке: «Система Дд делает вас свободными:
разбивайте все... Вы хозяева всего, что разобьете. При¬
думали законы, мораль, эстетику, чтобы внушить вам
уважение к бьющимся вещам. Все, что бьется, должно
быть поломано... Ломайте святые идеи, все, что вызы¬
вает слезы, ломайте, ломайте...».
Дух разрушения проявляет себя и в одном из самых
показательных образцов арагоновской прозы 20-х го¬
дов— в книге «Либертинаж» («Ье ЫЬегЬпаде», 1924).
Здесь, именно здесь находится известное заявление Ара¬
гона: «Я никогда не искал ничего другого, кроме скан¬
дала, и я искал его ради него самого». И хотя он име¬
нует Дада «старым легендарным чудовищем», все для
него, начиная от «Дада, войны, живописи, женщин, дру¬
зей», все лишь «повод для скандала».
Сборник «Либертинаж» состоит из двенадцати про¬
изведений, которые по большей части трудно отнести к
какому-нибудь законченному и определенному виду по¬
вествования. Многие из них в свою очередь рассыпаются
на составные элементы, превращаясь в пеструю мозаику,
в собрание миниатюр («Параметры», «Удушенья», «Па¬
риж ночью», «Француженка»).
«Либертинаж» — весомое доказательство противоре¬
чий Арагона 20-х годов, противоречий анархического
нигилизма и преданности искусству. Конечно, Арагон
«скандалит». Вот он предлагает шуточный вариант ро¬
мана под названием «Какая божественная душа», роман
в двух частях и двадцати одной главе. И все они поме¬
щаются на нескольких страницах — «главы» не превы¬
шают нескольких фраз. Вот, например, гл. VII. «Как это
красиво! — сказал Виктор. Да, — подтвердила Мария.
Роберт сказал: Вот собор. Действительно, это была цер¬
ковь». На этих нескольких страницах чего только не про¬
исходит с героями, которые с «улицы Монторгейль» на¬
правились в Санкт-Петербург, попали в Сибирь, но за¬
тем благополучно вернулись на свою улицу. «Скандалит»
Арагон и иначе. Он настойчиво населяет свою книгу
разного рода нелепостями, он может изобразить некую
Матисс, у которой лишь одно ухо и прочие несообраз¬
ности в портрете, у которой туалет, похожий на храм,
а из оного можно проникнуть в тайник, хранящий наи¬
новейшие орудия убийства... «Скандалит» Арагон и с
112
помощью эротики, пронизывающей почти все фрагменты
его произведения.
Но как бы ни декларировал автор свое право на
скандал, как бы он ни озорничал, демонстрируя полную
свободу от каких бы то ни было правил и условностей,
из-под пера Арагона выходят довольно связные произ¬
ведения, смысл которых можно определить. Даже «Па¬
раметры»— эта мозаика разорванных, изолированных
эпизодов,—©се-таки связана воедино переходящими из
эпизода в эпизод персонажами, что превращает миниа¬
тюры в звенья некоей цепи, в детали некоей картины.
«Париж ночью» связан иначе, не событиями в жизни
персонажей, а судьбой рассказчика, приключениями «я»
на улицах Парижа, «случайной» встречей с «демоном»,
инспирирующей интенсивное, безудержное образотворче-
ство, толкающей к перевоплощениям, к ассоциациям, в
которых ощутима власть навязчивого, не оставляющего
ни на минуту желания.
Текст «Француженки» внешне раздроблен еще боль¬
ше, вплоть до таких «частей»: «Всю ночь я промечтала».
Однако связь между фрагментами укрепляется, а не
слабеет, и это последнее по месту расположения в «Ли-
бертинаже» произведение кажется наиболее внутренне
связным — и наиболее удавшимся. «Француженка» —
новелла в письмах; все фрагменты представляют собой
записи или послания, адресованные «француженкой» ее
любовнику. Перед читателем дневник эмоций, картина
сильного чувства, властвующего над женщиной, явно не¬
заурядной, исключительно откровенной, одаренной спо¬
собностью к самоанализу. Эта арагоновская Эмма Бо-
вари томится от чувства одиночества, от безотрадной
жизни с нелюбимым мужем. Нельзя, правда, сказать,
что это образ реалистический; героиня заключена в
очень узкие рамки конфликта даже не столько психоло¬
гического, сколько физиологического. Эротизм «Либер-
тинажа» особенно сгущается во «Француженке», и Ара¬
гон, не стесняясь, ставит свою безымянную героиню в
положение малодостоверное.
Отличие «Либертинажа» от «Магнитных полей», как
от образца сюрреалистической прозы, ощутимо даже
тогда, когда текст Арагона ближе всего к тексту Брето¬
на и Супо. Есть у Арагона фрагменты очень бессвязные
(«Ье Огапб Тоге»), но и они написаны не методом «ав¬
томатического письма», а скорее с помощью очень ра¬
113
ционального, очень обдуманного симультанизмачто
позволяет писателю сплести в клубок несколько линий,
несколько тем.
В целом несвязность «Либертинажа» — скорее дада-
истского, чем собственно сюрреалистического толка.
Странностей и у Арагона множество, но они больше по¬
хожи на озорство, на «скандал», чем на открытие «сюр-
реальности». «Тайн» за странностями немного, а если
они и есть, то обычно приобретают характер романти-
чески-детективных историй, написанных с явным нажи¬
мом. Образ аморального Сверхчеловека (во фрагменте
«Когда все окончено») и его сподвижников, занятых
кражами как делом высокоинтеллектуального свойства,
позволяющим решить загадки бытия, — скорее юмори¬
стическое, чем серьезное изображение идей, которые так
или иначе соприкасались с самой основой сюрреалисти¬
ческой доктрины, с ее анархизмом, индивидуализмом,
аморализмом. «Тайны» в миниатюрах «Либертинажа»—
часто нелепости, или результат фрагментарности, неза¬
вершенности, принципиальной незначительности, случай¬
ности того, что изображено. К «тайнам» Арагона часто
поэтому хочется поставить вопрос — «Ну и что же?»
Например, к такой миниатюре: «Мария стирает белье,
Ролан проходит мимо. Она что-то крикнула, он не по¬
нял. Он приблизился». Следующая фраза написана уже
в соответствии с намерением Арагона «топтать» фран¬
цузский язык и непереводима2. Факт тот, что «он за¬
брызган мылом». Ну и что же? — хочется спросить.
Если в «Либертинаже» и возникает некая «сверх¬
реальность», то это царство желания, дьявольских иску¬
шений и острого наслаждения. Арагоновская «сверх¬
реальность» не философского толка, скорее это мир чув¬
ственных образов. Во фрагменте «Девушка с принципа-
1 Симультанизм (от франц. 31гпиИапё — «одновременный») —
широко распространившийся в искусстве XX в. принцип композиции,
основанный на сочленении, «монтировании» в одно полотно событий,
происходящих одновременно, иногда и в разных местах. Последова¬
тельный показ предмета заменяется одновременностью его раскры¬
тия.
2 Забавный аспект нововведений Арагона: «Арагон имел боль¬
шие затруднения с печатниками и корректорами, которые ни за что
не хотели пропускать орфографические ошибки, намеренно им на¬
саждаемые. Нужно было набирать четыре или пять раз до того, как
ему удавалось добиться текста без ошибок, то есть с ошибками, ко¬
торых он требовал». (А1ехапс!ге М. Мёгшмге (Тип зиггёаНз1е.
Рапз, 1968, р. 60).
114
ми» героиня, Селин, вдруг теряет ощущение реальности,
сталкивается внезапно с «новыми и неизведанными за¬
конами». Однако это превращение героя в философский-
символ похоже на маскарад, на розыгрыш, оно скорее
юмористическое, чем серьезное. Знакомя нас с Селин
(«первой встречной женщиной» — вновь подчеркнута
случайность происшедшего), Арагон сообщает, что «она
верила в две истины: бессмертие души и всемогущество
любви». Вторая демонстрируется постоянно, что касает¬
ся первой, то с ней герои Арагона соприкасаются из¬
редка и в таком состоянии, которое заставляет подо¬
зревать употребление «алкоголя, табака, эфира, опиума,
кокаина, морфия» в целях открытия «сверхреальности».
Всемогущество любви утверждается в центральном
произведении арагоновской прозы 20-х годов — в «Па¬
рижском крестьянине». Арагон буквально поет славу
любви — «пришло время учредить религию любви».
К женщине все время возвращается мысль писателя:
весь мир — ее отпечаток, все ею пронизано, все описа¬
ния, будь то попадающиеся по пути парикмахерские,
кафе или лавчонки, Женщина — «резюме чудес». Если
Бретон при всем эротизме его произведений за женщи¬
ной пытался увидеть тайну, то Арагон за всеми тайнами
видел желанную женщину. В этом немалое различие.
«Парижский крестьянин» заключает в себе порази¬
тельное на первый взгляд противоречие. Эта книга Ара¬
гона в целом — манифест сюрреализма, декларация его
принципов. «Парижский крестьянин» — одно из самых
очевидных подтверждений того, что теория и практика
сюрреализма сочетались вместе, порождая особый
жанр сюрреалистической прозы. Манифестом нужно
считать не только теоретическое к нему введение, не
только «Предисловие к современной мифологии», а всю
книгу, во плоти которой содержится манифестация
принципов сюрреализма.
Арагон декларирует сюрреализм, обосновывает сюр¬
реализм, поясняет сюрреализм. Случай и заблуждение
он считает вратами истины. Мир реальный, «внешний»
он не считает «данным мне» — и уверяет, что это «я его
задаю» в роли исходного условия так, как математик
задает исходный постулат задачи. Все, что описано, что
изображено в «Парижском крестьянине», — все это счи¬
тается представлениями, только лишь представлениями,
«способом мышления». «Все уничтожается при созерца-
115
нии», — т. е. реальный мир, по обещанию Арагона, по¬
глощается сознанием, растворяется в нем. Остается
лишь «я», лишь фантазия,* л ишь образ, который и «уни¬
чтожает вселенную». Остается «сверхреальность», гос¬
подство субъективности и фантазии, царство всемогу¬
щего образа. И действительно, такое растворение реаль¬
ности в образотворчестве, в ассоциациях Арагон демон¬
стрирует время от времени на страницах «Парижского
крестьянина».
Поразительно, однако, то, что декларирующий сюр¬
реализм и созидающий сюрреальность «Парижский
крестьянин» —* столь реален, так прочно стоит на земле.
Объяснить это только тем, что сюрреализм вообще пы¬
тался создать особенный эффект, сочетая чудесное с по¬
вседневным, конкретное с абстрактным, — невозможно.
Арагон, конечно, как и Бретон, стремился к такому эф¬
фекту, эффекту «чудесного повседневного». Однако чу¬
десами наделял повседневное Бретон, Арагон же скорее
наделяет повседневное поэзией.
И неудивительно: «резюме чудес» — женщина, за
всем сущим он видит облик любимой женщины. «Жела¬
ние» — составная часть сюрреализма, это мы знаем. Но
в «Парижском крестьянине», в еще большей степени,
чем раньше, чем в «Либертинаже», любовь перестает
быть сюрреалистическим «йёз1Г», сочетающим эротику
с метафизикой, и становится обычным, земным, челове¬
ческим чувством, растворяющим метафизику в реально¬
сти. Поэтому в «Парижском крестьянине» так много
сильных страниц, рассказывающих о любви, о влюблен¬
ных, об улицах и садах, по которым ходят женщины и
ходят влюбленные. Достаточно «наблюдать за проходя¬
щими мимо женщинами», писал Арагон, чтобы ощутить
себя на подступах к «современной мифологии».
Вот «парижский крестьянин», странствующий по го¬
роду и непринужденно болтающий о своих впечатлениях,
наблюдает улицы, проходящих женщин. Так появляется
отлично написанный городской пейзаж с зарисовками
парижского быта. Сюрреальность? Нет, скорее реаль¬
ность. «Автоматического письма» нет и в помине. Ассо¬
циативность порой есть, местами даже очень сгущенная,
навязчивая. Есть — местами — «игра», безудержная игра
в образотворчество (например, в эпизоде с парикмахер¬
ской, где все уподобляется, все приравнивается к бело¬
курым волосам), тогда-то и воздвигаются «колонны из
116
дыма», чисто словесная основа чисто поэтической сюр-
реальности. Но «во всех случаях, за ассоциациями — не
тайны, не мистическая «сверхреальность», а любовь, все¬
могущее желание, чувственное отношение к реальности.
И одержимость белокурыми волосами разрешается про¬
сто — образом знаменитой блондинки, покорившей Па¬
риж Нана.
«Парижский крестьянин» написан не столько в тра¬
дициях заумных «Магнитных полей» и даже «Раствори¬
мой рыбы», сколько в традициях Аполлинера, его «сти¬
хов-прогулок», «стихов-разговоров». Только это прогулка
не в стихах, а в прозе. Однако в прозе лирической, очень
субъективной, очень капризной и прихотливой. Тоже без
цели, без плана, повинуясь случаю. Тоже с явным жела¬
нием вобрать в произведение современность, создать
картину современного города. И тоже с желанием —
и умением — придать поэтическое звучание всему, что
случайно попадается по пути странствующего «крестья¬
нина», всему незначительному, повседневному: улочкам,
парикмахерским, чистильщикам ботинок, публичным
домам и т. п. Такое желание густо насыщает книгу Ара¬
гона точно, старательно, по-натуралистически изобра¬
жаемой повседневностью, создающей прочное материа¬
листическое основание арагоновского «мифа». И пусть
Арагон отправляется от сознания, от «я», конструируя
схему своего мифа — в его основании оказывается «чув¬
ство природы». И пусть Арагон природу назовет слепком
со своих представлений — писатель так старательно и
поэтично этот «слепок» воссоздает, что именно он при¬
обретает истинное художественное значение, - он, а не
лишенное вымученности сюрреалистическое словотвор¬
чество. А у Бретона, в его прозе—все иначе: те же па¬
рижские улицы превращаются в «растворимую рыбу»,
исчезают, поглощаемые сюрреалистической грезой, тво¬
рящей все новых и новых чудищ, все новые и новые
странности. «Парижский крестьянин» Арагона бродил
по истинным парижским улицам и встречал там пари¬
жанок, а не похожих на женщин ос.
«Парижский крестьянин» завершается прославлением
поэзии: «К поэзии стремится человек». «Поэтическое
познание» приобретает для Арагона столь же фундамен¬
тальное, основополагающее значение, как и любовь. Он
призывает отдаться «поэтической деятельности в ущерб
всякой другой». Ключевое значение в сюрреалистиче¬
117
ской мифологии занимает у Арагона искусство, точнее,
•образ как форма поэтического познания. («Сюрреализм
вступает в свои права» тогда, когда возникают «повсюду
образы»). Причем образ, «предполагающий материали¬
зацию», а потому противостоящий осуждаемой теперь
«чистой мысли», образам абстрактным, бедным и бес¬
плодным. «Бесконечное в конкретном», в конкретном
чувственном образе, «фигуративном». «Лес чувств» Ара¬
гон изображает, рисуя не что иное как лес, сад («чув¬
ство природы в Бют-Шомон»).
Сочетание в «Парижском крестьянине» преданности
так понятому искусству и такой потребности в сильном
чувстве, в чувстве любви — первопричина парадоксаль¬
ного на первый взгляд отодвижения от сюрреализма
(вместе с тем и от дадаизма) книги, призванной просла¬
вить сюрреализм. Можно сказать, что продвижение
Арагона в сторону реализма впервые стало заметно в
«Парижском крестьянине». Конечно, «Парижский кре¬
стьянин» — еще не реализм, далеко не реализм. Но если
представить себе предшествующее произведение, при¬
зывавшее «скандалить» («Либертинаж»), и последующий
теоретический «Трактат о стиле», где Арагон звал «топ¬
тать синтаксис», то «Парижский крестьянин» покажется
«неуместным»: «скандалов» и внешних эффектов, запла¬
нированных неправильностей в этом произведении
совсем немного. Они преимущественно обретают форму
«коллажей», т. е. вмонтированных в текст вырезок из
газет, объявлений, афиш, коих множество. Но коллажи
воспринимаются не только и не столько как «неправиль¬
ности», сколько как деталь модернизированного город¬
ского пейзажа, изображаемого порой по-натуралистиче¬
ски досконально.
Творчество Рене Кревеля, одного из самых заметных
французских сюрреалистов первого, так сказать, поко¬
ления, также свидетельствует об отсутствии четкой и
определенной концепции сюрреалистической прозы. Не¬
которые книги Кревеля сближались с романом, обнару¬
живая склонность писателя к производству устаревших,
по мнению законодателя сюрреалистических мод Брето¬
на, персонажей. Другие же .создания этого писателя
близки жанру сюрреалистического трактата в формах
откровенно-условной художественной прозы.
Из числа наиболее напоминающих роман творений
Рене Кревеля можно назвать «Трудную смерть» («Ба
118
шог1 сШПсПе», 1926). Есть здесь персонажи, есть интри¬
га, весьма к тому же увлекательная. Главный персо¬
наж — молодой человек по имени Пьер. Его «трудной
смертью», его добровольным уходом из жизни завер¬
шается роман. Это очень «кревелевский» герой. Плод
безумного отца и патологически злой, нетерпимой, деспо¬
тической матери, он пытается выбраться к тому, что
именует свободой. Для этого он рвет с «семьей, со своей
матерью. Он дерзает отдать чувство, на которое рассчи¬
тывает обожающая его Диана, мужчине, красавцу-му-
зыканту Артуру. Идеал, однако, не выдержал испыта¬
ния — страстное чувство Пьера натолкнулось на цинизм
мелких людей, на реальность, трагикомически коммен¬
тирующую испепеляющие Пьера страсти. После унизи¬
тельной для героя сцены, в которой изображен Артур,
развлекающийся с мужчинами-проститутками, Пьер
находит для себя свободу — в самоубийстве. Только так
смог он самоутвердиться.
Героем «Трудной смерти» руководит сила, которая
неизменно привлекала Кревеля — сила плоти. Именно
плоть, ее красоту, ее силу видит Пьер в Артуре. Специ¬
фический эротизм пропитывает произведения Кревеля,
во многом определяя расстановку образов и их харак¬
теристику. Появляющиеся в начале книги дамы — мате¬
ри Пьера и Дианы — несут в себе черты социальных
типов, особенно мать Пьера, чванливая и лицемерная.
Однако главным различием этих женщин оказывается
их темперамент, что, надо сказать, позволяет Кревелю
написать достаточно комическ^шсцены.
Что от сюрреализма в «Трудной смерти» Рене Кре¬
веля? Скорее это произведение, соседствующее с сюр¬
реализмом, созданное соратником Бретона, чем сюрреа¬
листическое произведение. Объединяют его с бретонов-
ской прозой излюбленные сюрреализмом темы и мотивы,
навязчивый эротизм, юмор. Но сама по себе эротика или
сам по себе юмор не превращают иокусетво в сюрреали¬
стическое. Тем более сюрреализм не вправе монополи¬
зировать эротику или юмор.
Так, однако, бывает. Нередко причисляют к сюрреа¬
лизму творчество писателя, в группировке Бретона побы¬
вавшего, тот или иной документ сюрреалистов подпи¬
савшего, тем более, если у этого писателя можно разыс¬
кать или юмор, или тему желаний, или что-нибудь
подобное. Один из немалого числа примеров — Раймон
119
Кено. С Бретоном он в 20-е годы сотрудничал, опубли¬
ковал тогда несколько «проб пера» в сюрреалистическом
духе. Но потом возникли романы, ознаменовавшие, по
словам Кено, «полный отказ от всякой сюрреалистиче¬
ской атмосферы». Романы, полные юмора и эротики, а
также стихи Кено, озорные и дерзкие, создавались, воз¬
можно, не без влияния дадаизма и сюрреализма 20-х
годов. Да и сам Кено позже признал влияние сюрреа¬
лизма на его творчество. Но вопрос о влиянии сюрреа¬
лизма, о степени влияния — это другое дело, это особый
Еопрос. Он выходит за границы сюрреализма — и за
пределы данного труда.
В «Трудной смерти» занимают свое место грезы,
гёуез. Однако они служат не характеристике сюрреаль-
ности, а характеристике Пьера, существа странного,
болезненного. Монстры его грез — это плоды начинаю¬
щегося безумия, плоды одержимости.
На роман похож и «Вавилон» («ВаЬу1опе», 1927)
Кревеля. В этом его произведении плоть совершенно
распоясалась, желания разрушают устои благопристой¬
но-семейного уклада и заводят трагикомический хоровод
страстей. Папа маленькой девочки вдруг сбежал с кузи¬
ной. Затем бегут служанка и садовник, обокрав предва¬
рительно хозяев. Бабушка, порицавшая любовников, не
скупясь на выражения, вдруг сама стала молодиться
и в свою очередь исчезает с мужчиной, который увивал¬
ся вокруг овдовевшей из-за легкомыслия мужа матери
девочки. Но и она вскоре находит себе нового мужа.
И даже грезы самой девочки (грезы в «Вавилоне» не
столько сюрреалистические, сколько девичьи) приобре¬
тают эротические оттенки.
Еще бы — ведь сбежавшая первой кузина вырастает
в символ, отождествляется со стихиями, путь ее именует¬
ся «триумфальным». Сама природа, буквально все полу¬
чает эротически окрашенные уподобления. «Вавилоном»
становится город, сравниваемый с распутной женщиной
в обычных для Кревеля резких и откровенных образах.
«Повсюду вырастают непристойные растения», — так
видится мир в книге Кревеля. «Вселенная обретает свой
ритм», и ритм этот определяется не чем иным как все¬
могущим желанием. Женщины превращаются в послан¬
ниц планет и звезд; картина расширяется до космичес¬
ких масштабов, до абстрактных начал бытия. А плоть
оказывается солнцем этой вселенной.
120
Рене Кревель противопоставляет обожествленное же¬
лание комической, незначительной фигуре проповедника
(он незначителен даже физически — карлик), так же
как и образу «позитивиста», превратившегося в рогонос¬
ца после тридцати лет жизни со своей женой. Длинные
речи этого поклонника разума и наблюдения смешны,
как смешно и надоедливо повседневное, «нормальное»
существование, против которого бунтует даже бабушка,
сменившая дедушку на первого приглянувшегося кава¬
лера.
Но этот космос распоясавшихся страстей неизменно
получает у Кревеля и грубо-земную характеристику.
Отвлеченная декламация вдруг сменяется сценами при¬
земленными, по-натуралистически прямолинейными.
«Космос» эротики оборачивается нечистой улицей, на
которой распоряжаются проститутки. Бабушка явно
сходит с ума на почве эротической одержимости. Юмор
Кревеля затрагивает все, он прикасается даже к любов¬
никам, о которых тот же Кревель может писать напы¬
щенно, риторично.
Ближе к сюрреализму те произведения Рене Кревеля,
которые дальше от романа. «Мое тело и я» («Моп согрз
е{ Ш01», 1925)—вовсе не роман, а что-то вроде дневни¬
ка чувств, сентиментальное эссе. Это размышление
в ряду других сюрреалистических произведений художе¬
ственно-теоретического жанра, но в котором все опреде¬
ляется не разумом, а «чувственным шоком», открываю¬
щим путь ко всем проблемам — вплоть до проблемы
революции. «Тело» диктует тут миропонимание; откры¬
тие плоти, изучение тела, реакции тела, — вот что зани¬
мает писателя. Чувственное, «телесное» мироощущение
несовместимо с чем-либо законченным, систематизиро¬
ванным, рационализированным. Все здесь в сфере на¬
стоящего времени, в сфере непосредственного ощуще¬
ния — Кревель с презрением пишет о памяти. «Тело»
предпочитает неотделанность, грубоватость, примитив¬
ность. «Жест лучше мысли». Язык чувств, «сердечный»
язык точнее слов. Искусство лживо — «ясное недоста¬
точно», оно не может передать с точностью то, что
«достаточно и неясно». «Достаточна и неясна» мечта,
сновидение. Кревель предпочитает гёуез; «ночь стоит
больше, чем день», — убеждает он, созерцая «неулови¬
мые испарения» и признавая неспособность человека
придать этим «испарениям», этим «грезам» сколько-ни¬
121
будь отчетливую видимость. Возможно, поэтому Кре-
вель не очень-то и пытался воспроизводить сны и грезы
в своих произведениях.
В еще большей степени напоминает о сюрреализме
текст книги Кревеля «Вы безумны?» («Е^ез-уоиз
1оиз?», 1929). Граница между реальным и нереальным
здесь действительно становится зыбкой. Кревелю уда¬
лось написать жутковатую книгу, книгу не просто изо¬
бразившую человека, которому с полным правом можно
адресовать вопрос «Не безумны ли вы?»: отделить миро¬
восприятие героя от мировосприятия автора в этой кни¬
ге почти невозможно. Безумным кажется и воссоздаю¬
щее мир сознание, сознание автора. Возникает голово¬
кружение от соприкосновения с зыбкой, причудливой
материей. Можно предположить, что все описанное в
этой книге чудится нездоровому герою, который попал
в больницу и то ли видит сны, то ли бредит, будучи во
власти лихорадки. Границы яви и бреда смещаются;
подхлестнутое болезнью воображение пускается в путь,
в мир невероятных происшествий, в мир сказок. Эти про¬
исшествия нанизываются, цепляются одно за другое,
превращаются во вставные новеллы, обретают «реаль¬
ность», перерастают в плоть произведения.
Мироощущение здесь тоже чувственное, плотское.
Безымянный герой книги, этот «он» (И), этот «человек»
(ГЬотте) вступает в непосредственное общение со сре¬
дой, с природой, со стихиями, с шумами, светом, с Го¬
родом, выступающим в роли еще одного говорящего и
обезличенного персонажа. В видениях доминируют жен¬
щины, грезы сексуально окрашены.
Рене Кревель фиксирует процеос выхода «сути» из
оболочки. Вырывается из подсознания примитивное,
могучее плотское начало, грубое и дерзкое, все передви¬
гая, смещая и извращая. А эти извращения и есть
«суть». Кревель устраивает целый парад половых извра¬
щений, показывая их обилие, их характерность для об¬
щества, их обыденность. Плоды своей фантазии он сме¬
шивает с подлинными фактами.
В конце книги выбивающаяся из «нутра» стихия раз¬
ламывает и само произведение. Кревель сообщает, что
«он» — это Кревель. Маски сброшены, «персонажи»
исчезают, сыграв свои роли. Отброшена иллюзия, сорван
покров «художественного произведения».^Кревель заго¬
ворил от себя и о себе, не нуждаясь в искусстве. Тут-то
122
и появляется Андре Бретон: на него, на его Манифест
ссылается Кревель, размышляя о прорыве искренности,
взрыве инстинктов и страстей, ^^^рержении притаивших¬
ся в человеке вулканов. Бретон укрепляет Кревеля в
мысли об «абсолютной справедливости» этих «вулка¬
нов», об их существовании вне интеллекта, вне морали.
Фрейдистско-сюрреалистический «взрыв» Кревель
воспроизводит в книге «Вы безумны?» весьма впечат¬
ляюще. Однако и сюда просачивается стихия иронии.
«Сюрреальность» в произведении Рене Кревеля слишком
часто смахивает на коллекцию несообразностей, кажется
розыгрышем, нарочитым нагромождением метафор.
Несвязность прозы Кревеля — явление в большей степе¬
ни стилистическое. Стиль Кревеля — стиль каскада, рез¬
ких перебросов, эффектных скачков, осуществляемых
не без самоиронии.
Совершив «взрыв», Кревель полагает, что освободил
человека, у которого до того были слишком «короткие
руки», который был «в клетке» (епсадё). Кревель раз¬
думывает далее о «спасении для всех», о всеобщем осво¬
бождении. Но предлагается Кревелем такое «освобож¬
дение», которое вынуждает обратиться с вопросом «Вы
безумны?» к любому и каждому... Как плотной, непро¬
биваемой завесой закрывает Кревель этим вопросом
выходы из своей книги, делая ее безысходной, настраи¬
вая на зловещий лад.
Вскоре, летом 1935 года, Рене Кревель и покончил с
собой...
Из писателей-сюрреалистов Франции следует упомя¬
нуть А. Пейре де Мандиарга, члена сюрреалистического
содружества уже после второй мировой войны. Творче¬
ство Пейре де Мандиарга заслуживает упоминания в
силу того, что оно показательно для более поздней фазы
сюрреализма. Сознание человека для Пейре де Ман¬
диарга — «непрочный экран», то и дело разрываемый,
так что возникает «абсолютная прерывистость образов»,
а порой вихри опрокидывают «жалкий аппарат», и вот
тогда наступает «час ясновидения», который одновре¬
менно «час идиотизма», ибо и то и другое — «облик того,
что иногда именуют мистицизмом». Пейре де Мандиарг
тоже, как то и положено сюрреалисту, писал о «погло¬
щении реальности чудесным».
Для позднего сюрреализма характерно не столько
то, что Пейре де Мандиарг повторял все те же азбучные
123
положения сюрреалистической эстетики, а то, что сюр¬
реализм -стал материалом для эпигонских литературных
упражнений. Писатель очень одаренный, он ловко сочи¬
нял на известные сюрреалистические темы. То Пейре де
Мандиарг пишет «стихи в прозе» для демонстрации
«неконтролируемого письма», то сочиняет каламбуры в
духе дадаистской поэзии. Более всего он написал произ¬
ведений прозаических. Его новеллы — разнообразные
иллюстрации к теме «чудесного повседневного», самые
разнообразные. Реальность может казаться непрочной,
может таять на глазах, заменяясь чем-то вроде «сюрре¬
альности» просто потому, что повествование идет от кон¬
ца к началу: настоящее все время «проваливается» в
прошлое в новелле «Сабина» (сб. «Бесстыдная дверь»,
«Рог1е бёуег^опбёе», 1965). Очень часто писатель прибе¬
гает к услугам «гёуез», рисуя свой очередной персонаж
в состоянии то ли сна, то ли грез, вследствие чего реаль¬
ность тоже начинает вдруг рассеиваться как туман, за¬
меняясь состоянием, которое можно принять и за реаль¬
ность, и за мечты или же сновидения. Так, в новелле
«Пламя угля» (в сб. «Пламя угля», «Реи <3е Ъга1зе»,
1959) некто Флорин торопится на бал, спешит, взбегает
по лестнице. Все как будто реально, хотя заметны неко¬
торые странности в происходящем. Флорин прибежала,
танцует — и вдруг спрашивает себя: не сон ли все это?
И действительно, очнулась, но не в постели, а в повозке.
Руки и ноги ее связаны, видны какие-то люди. Потом
остановка, люди сходят, и в бока Флорин вонзились
ножи. Читатель оставлен один-на-один с загадкой: то ли
это «второй этаж» сна, приснившийся кошмар, то ли это
кошмарная реальность.
В новелле «Родогуна» (тот же сборник «Пламя
угля») в заброшенном бараке какой-то бродяга уселся,
закусывает. И вдруг — наплывает иная реальность, явь
и сон перемешиваются, возникают воспоминания о встре¬
че со странной красавицей Родогуной. Порой происхо¬
дят и еще более невероятные, совершенно немыслимые
истории. Например, учитель находит камень, в котором
обнаруживает трех живых, но малюсеньких женщин.
Пейре де Мандиарг эксплуатирует — и чем дальше,
тем больше —эротизм сюрреалистического искусства.
Многие его произведения густо напичканы эротикой,
ситуации определяются общеизвестными фрейдистскими
комплексами. В новелле «Алмаз» (сб. «Пламя угля»)
девица прилегла на диван, и вот уже поплыли перед
глазами «смутные предметы, не имеющие бытия». Сняв
с -себя одежду, она прижимается к роскошной драгоцен¬
ности и вдруг оказывается внутри нее. Вскоре там ока¬
зался и мужчина, в костюме Адама. Они соединяются,
дабы выполнить какое-то мистическое предначертание.
Процесс соединения описан так подробно, что не без
основания можно сказать: именно он, этот процесс, а не
мистическое предначертание, более всего занимает
автора.
Все фрейдистские комплексы демонстрируются в но¬
велле «Кровь ягненка» (сборник «Черный музей», «Ье
шизёе по1г», 1946). Героиня новеллы, девочка Марсели-
на, обожает кролика — но жадно его пожирает. Потом
она с садистским наслаждением растворяется в атмос¬
фере бойни, погружается в стадо предназначенных для
заклания баранов и ягнят, погружается настолько, что
сама превращается в животное, уже не говорит, а блеет.
Творчество Пейре де Мандиарга демонстрирует по¬
степенное возвращение сюрреалистов к формам искус¬
ства, ими некогда осужденным. Даже Бретон, все далее
отходя от собственных рескрипций, в последние годы
прямо или косвенно признал существование сюрреали¬
стического романа. В 1949 году он предпринял издание
серии произведений под общим названием ни более, ни
менее как «Откровение», с целью открыть «новые пути».
Серию открывало произведение немолодого, но совер¬
шенно неизвестного Мориса Фурре. В течение последо¬
вавшего десятилетия было опубликовано несколько ро¬
манов Фурре, причисленного самим Бретоном к сюрреа¬
листическим прозаикам. Что же делает романы Фурре
сюрреалистическими? Автор книги о сюрреалистическом
романе, вышедшей в США, пишет следующее: «Фурре
атакует условности реализма. Результат этого — сюр¬
реализм... Созданным Фурре персонажам остается лишь
одно доказательство их существования, предоставленное
в виде игры в зеркала любезным автором, который про¬
извольно отводит зеркало жестом самоубийства, в то
время как его персонажи... начали верить в свою соб¬
ственную реальность» К Как видим, определение сюрреа¬
листической сущности романа здесь не совпадает с из-
1Ма11Ье^5 Л. - Н. ЗиггеаНзт ап4 1Ье Ыоуе1. Апп АгЬог,
1966, р. 157.
125
вестными определениями сюрреализма. Сюрреализму
отводится чисто негативная роль (с чем не соглашался
Бретон), сюрреализм оказывается просто-напросто наи¬
менованием для приемов, которым надлежит доказать,
что «материя исчезла», что нереальны персонажи и
устарел реализм.
Но так понятие сюрреалистического романа не стано¬
вится более определенным, а сам роман — более весо¬
мым явлением искусства. Не случайно в монографии о
сюрреалистическом романе приводятся такие произведе¬
ния, которые даже по мнению ее автора «могут позво¬
лить говорить о провале сюрреалистического романа»
(упоминаются «Вавилон» Р. Кревеля, «Свобода или
Любовь» Р. Десноса, «Эбдомерос» Ж. де Кирико,
«В Аргольском замке» Ж. Грака, «Аврора» М. Леириса,
«Лежащие удовлетворенные» Ж. Мансур и «Голова
негра» М. Фурре). Р. Руссель, которого сюрреалисты
считали величайшим авторитетом, писал, что в произве¬
дении должны быть только «чисто воображаемые ком¬
бинации». Подобными забавами увлекались прозаики,
именуемые сюрреалистическими романистами. Как не¬
когда Руссель соединял близкие по звучанию, но дале¬
кие по смыслу слова, или соединял несоединимое с по¬
мощью соединительной частицы «а», так и его последова¬
тели просто-напросто нагромождали нелепости, а то и
вовсе «утаивали» от читателя часть сведений, часть фак¬
тов, делая текст загадочным. Такого рода упражнения—
дело ремесленников от литературы, и нет ничего удиви¬
тельного в том, что даже авторитет Бретона не извлек
Мориса Фурре из полного и заслуженного забвения.
♦ *
♦
Что касается сюрреалистической драматургии, то, как
кажется, сформулированные Бретоном принципы «авто¬
матического письма» и «автоматизма» исключают самую
возможность драматургии, предполагающей некое дей¬
ствие, поступки и разговор. Как мыслимо «действующее
лицо» с позиций сюрреализма? Андре Бретон и осудил
театр как таковой, счел драматургическую форму уста¬
ревшей, не соответствующей задачам сюрреализма, уво¬
дящей от этих задач в сторону изображения персонажа,
«игры», воссоздания на сцене некоей реальности, тогда
как надо искать «сюрреальность».
126
Однако тот же Бретон особое, «сюрреалистическое»
значение придавал диалогу — «к диалогу формы сюр¬
реалистического языка лучше всего приспособляются».
В первом своем манифесте Бретон писал, что «поэтичес¬
кий сюрреализм... старался до сего времени восстано¬
вить диалог в своей абсолютной истинности». Что же
это за «истинный диалог» и почему он так пришелся по
вкусу сюрреализму? По словам Бретона, этот диалог
«освобождает собеседников от обязанности быть вежли¬
выми»; «каждый из них продолжает свой разговор с
самим собой», менее всего заботясь о том, чтобы навя¬
зать его своему собеседнику.
Первым сюрреалистическим «диалогом» Бретон счи¬
тал фрагмент «Магнитных полей», называемый «Барье¬
ры». Здесь видно, почему диалог привлек Бретона — он
содействует окончательному дроблению текста на куски,
на отдельные фразы, на реплики. «Диалог» сюрреали¬
стического толка делает наглядным главный сюрреали¬
стический прием — сочленение удаленных явлений. Бес¬
связность особенно, конечно, поражает, когда на ее
основе строится диалог, разговор, в котором каждый из
разговаривающих абсолютно пренебрегает словами сво¬
их собеседников и твердит свое. Так и высекается
«искра» сюрреалистического образа, сюрреалистического
эффекта внезапности и удивления.
Легко представить себе и нетрудно получить чисто
внешние эффекты от такого рода несвязных диалогов.
Драматургия в силу своей специфики могла взять
преимущественно, если можно так сказать, формальную
сторону сюрреалистического метода — а это значит, что
она могла быть скорее дадаистской, чем собственно
сюрреалистической.
Так оно и случилось. Вспомним, что дадаисты очень
любили устраивать «спектакли» — и что им пришел ко¬
нец, как только дадаизм был вытеснен сюрреализмом.
Вспомним, что дадаистские «спектакли» отличала преж¬
де всего бессвязность. Они были импровизациями, и каж¬
дый участник упрямо твердил или делал свое, не обра¬
щая внимания на других.
Первым «официальным» текстом дадаизма была
пьеса Тцара «Первое небесное приключение г-на Анти¬
пирина» («Ьа ргегшёге ауегйиге сё1ез1е бе Мопз1еиг
АпБругше», 1916), ставшая классическим образцом
текста, лишенного связности и логики. Персонажи в этой
127
пьесе «не слышат» друг друга; каждый декламирует
свое, не заботясь о смысле и стилистическом оформле¬
нии своих высказываний. Пьеса похожа на дадаистские
«спектакли», в которых не было ни заранее разработан¬
ного сценария, ни заготовленного текста. Театр превра¬
щается в озорную игру.
Игры очень любили и дадаисты, и сюрреалисты 20-х
годов, «дурашливые» игры, ■ призванные найти эффект
внезапных сочетаний.
Вот игра, названная «Изысканный труп». Группа
сюрреалистов расселась за столом. Каждый, пряча от
соседей, пишет на листке существительное — тему фра¬
зы. Листок передается соседу слева — и получается от
соседа оправа. Не видя написанного на полученном ли¬
стке существительного, сюрреалист добавляет к нему
прилагательное или какое-нибудь определение. Добав¬
ляются и другие члены предложения. Игра закончена —
оглашается результат. Первой, так составленной фразой,
была следующая: «Изысканный труп выпьет новое ви¬
но». Фраза и стала наименованием сюрреалистических
игр.
Другая игра — диалог по-сюрреалистски. Ответы не
зависят от вопросов, используют их как трамплин, отно¬
сящий в сторону, и чем дальше, тем игра удачнее. При¬
меры:
Что такое самоубийство? — Много оглушающих звонков.
Что такое встреча? — Это дикарь.
Что такое радость жизни? — Это шарик в руках школьника.
Что такое разум? — Это облако, съеденное мухой.
Что такое живопись? — Это маленький белый дым.
Еще игра, для двоих сюрреалистов. Каждый пишет
фразу, начинающуюся на «если» или «когда», и, без вся¬
кой связи с первой фразой, пишет вторую в условном
наклонении или в будущем времени. Затем играющие
складывают свои фразы вместе. Вот примеры результа¬
тов, таким образом достигнутых:
Если бы не было гильотины,
Осы снимали бы свой корсет.
Когда аэронавты достигнут седьмого неба,
Статуи себе подадут холодные ужины.
Если осьминоги носили бы браслеты,
Корабли волокли бы мухи.
128
Все эти «игры» очень похожи и на дадаистско-сюр-
реалистические спектакли, и на пьесы дадаистов и сюр¬
реалистов. Диалог дадаистского и сюрреалистического
театра на таком именно принципе и основан, на принци¬
пе сформулированного Бретоном отказа от «взаимной
вежливости», отказа от ответов на вопросы.
«Трагедия в 15 актах» Тристана Тцара «Платок из
облаков» («Ье шоисЬо1г бе пиа^ез»),поставленная впер¬
вые в 1924 году, написана несколько иначе. Она может
восприниматься как пародия на высокую классическую
трагедию. Главные персонажи — Поэт, Банкир и его
жена. Возникает трагедия любви, завершающаяся убий¬
ством Банкира и самоубийством Поэта. Все здесь, на
первый взгляд, серьезно, драматично, величаво — и до
крайности нелепо. Дадаистское озорство выявляется не
только в очевидной нелепости, фальшивой напыщенности
основного «трагедийного» плана спектакля, но и в том,
что он, этот план, комментируется группой действующих
лиц, выполняющих роль античного хора, ощущающих
себя носителями божественной мудрости. А комменти¬
руется таким образом: «Время от времени мы получаем
в подбородок удар кулаком. Это и есть слово, которое
посылает нам бог, чтобы мы не забыли о нем».
Комментаторы назойливы. Они то произносят бес¬
смысленные монологи, то снижают высокую трагедию
озорной игрой слов, чаще всего — своей неугомонной
болтовней. Область подсознательного и сфера грез, к ко¬
торой причисляют себя комментаторы, приобретает
освещение карикатурное. Шутливо обсуждают они и
проблемы искусства, в том числе театрального.
Надо обратить внимание на то, что в невыгодном
освещении выставлен в «Платке из облаков» Поэт, на¬
чиная от первых же реплик («я не люблю мужчин, я не
люблю женщин, я люблю любовь, то есть чистую
поэзию», «я так много плакал искренне, что в конце кон¬
цов уже не могу отличить истинных слез от притвор¬
ных»), высокопарных и пустых деклараций, вплоть до
последнего акта, до последних витиеватых слов, за кото¬
рыми следует отправляющий Поэта на тот свет вы¬
стрел — и непочтительный комментарий. В промежутке
он участвует в нелепой интриге, страдает, как сообщают
комментаторы, «не ведая от чего». Особенно нелепым
Поэт оказывается благодаря остроумному использова¬
нию второго плана, т. е. комментаторов.
5 Л. Г. Андреев
129
«С. Вот он!
A. Он на берегу моря.
B. Он идет.
C. Он останавливается и вздыхает.
В. Он делает жест, который означает «мужество».
Е. Он говорит «тем хуже».
А. — и направляется к лесу».
Затем Поэт произносит монолог со свойственной ему
напыщенностью. Вот его начало: «Жить, умереть. На¬
право, налево. Стоя, лежа. Вперед, назад. Вверху, вни¬
зу...». Возникающие аналогии с «Гамлетом» Шекспира—
одно из средств создания эффекта «удивления».
Весьма любопытно, что Тцара не просто создал кари¬
катурный образ поэта. Ведь это поэт, который «прини¬
мает поэзию за реальность, а реальность за мираж».
А комментаторы сопровождают его действие такими
словами: «Поэт, будучи жертвой своей любви, или ми¬
ража своей любви, или образа своей любви, или просто
любви, возвращается в Париж». Слова эти не абрака¬
дабра, но характеристика поэта, реальность принимаю¬
щего за мираж, а поэзию за реальность.
В «Либертинаже» Арагона есть две пьески. «Зер¬
кальный шкаф одним прекрасным вечером» напоминает
о «Грудях Тирезия» Аполлинера и о дадаистских «спек¬
таклях». В начале пролога французский солдат встре¬
чает обнаженную женщину в шляпке с цветами и дет¬
ской коляской на плечах. Между ними завязывается
беседа о предметах серьезных и печальных: женщина
обеспокоена тем, что времена тяжелые и возможна вой¬
на. Потом появляются Президент Республики и Черный
Генерал. Президент в свою очередь жалуется на беспо¬
койное время. Затем на сцене возникают и другие пер¬
сонажи, один другого экстравагантнее,— среди них
Теодор Френкель (известный дадаист), сообщающий
Президенту, что пьеса начинается и что Президент на¬
доел всем своими ламентациями.
Зеркальный шкаф появляется в следующей сцене.
На нем распята Ленора. Входит Жюль и возвещает о
том, что купил молоток. Ленора умоляет не открывать
шкаф, так как «солнце и звезды погаснут, дождь войдет
в мои кости». Жюль справляется, отчего она остается
распятой, тогда как надо бы приготовить еду — а та
кричит от страха всякий раз, когда Жюль упоминает
о молотке. Какая, однако, тайна в шкафу? — вопрошает
130
Жюль, мучаясь от ревности и никак не решаясь его от¬
крыть. После долгих и страстных дебатов он открывает,
наконец, шкаф. Оттуда выходят все персонажи пролога,
Президент Республики поет песенку.
Другая пьеска — «У подножия стены». Появляется
голый (но в розовом галстуке и в цилиндре) Спикер,
красноречиво рассуждающий о любви. Следует душе¬
раздирающая любовная оцена с участием служанки по¬
стоялого двора Мелани и очередного приезжего, Пьера.
Пьер насмехается над бедной влюбленной; объяснение
завершается гибелью Мелани. Но вслед за тем в ее
одежде появляется мадмуазель Амюз, как бы вышедшая
благополучно из испытания. И в одежде других персо¬
нажей выходят на сцену другие люди, затевающие дис¬
куссию столь бессмысленную, что она кажется предвест¬
ником «антидрамы», которая нашумит через 30 лет,
в начале 50-х годов. Затем Спикер беседует с Фредери¬
ком—своим двойником. Это, собственно, один человек,
но как бы раздвоившийся. Разговор идет о любви. В нем
принимает участие ручная тележка.
Если и не все сцены столь же очевидно бессмыслен¬
ны, то впечатление необузданного выявления фантазии
оставляет пьеса в целом, весь составляющий ее каскад
быстро сменяющихся, коротких сцен-кадров. Вся эта
фантастическая панорама может быть истолкована как
проекция внутреннего мира во внешний мир, как мате¬
риализация чьих-то грез, чьих-то желаний. Тем более,
что все сцены в той или иной степени получают эротиче¬
скую окраску и над всей пестрой картиной господствует
образ Мелани, приобретающей значение пророка, возве¬
стившего о торжестве всепроникающего желания.
Любовь, грезы — все это, конечно, близко сюрреализ¬
му. Но открывает ли пьеса Арагона особую материю,
сверхреальность? Такого впечатления не возникает.
Пьески Арагона близки именно дадаистской драматур¬
гии, например, драматургии одного из самых заметных
дадаистов Жоржа Рибмон-Дессеня. Рибмон-Дессень
писал по поводу своей пьесы «Китайский император»:
«То, что я пишу, не управляется моим размышлением.
Это возникает само по себе (1ои1 зеи1), почти без меня,
во всяком случае без контроля». Такой принцип творче¬
ства вполне соответствует бретоновскому «автоматизму»,
однако, свидетельствует о родственной близости дадаиз¬
ма и сюрреализма, поскольку театр Рибмон-Дессеня
5*
131
скорее дадаи'стский, чем сюрреалистический: в нем ца¬
рит дух анархизма и нигилизма, на сцене демонстри¬
руется немыслимое, спектакль крайне эксцентричен, сме¬
шивается реальное и нереальное, «высокое» и «низкое»,
трагедия и фарс.
Если учесть при этом, что подсознательное строго
контролировалось, то возникала «игра», преднамерен¬
ность которой более чем очевидна.
Пьеса Жоржа Рибмон-Дессеня «Китайский импера¬
тор» («1/етрегеиг с!е СЫпе», 1916) поначалу — образец
дадаистского юмора. Онана получает от филиппинского
короля подарок — ящик, из которого выходят два госпо¬
дина, Ироник и Экинокс (в шляпах, смокингах, шот¬
ландских юбках и т. п.). Они разыскивают Китайского
императора, поскольку посланы они ему в подарок. Со¬
общают, что король в настоящее время особенно озада¬
чен новостью, сообщенной ему одним миссионером: но¬
вость состоит в том, что дважды два — четыре, а три
плюс три — шесть. К тому же король потрясен тем, что
невозможно отличить просто четыре от четырех, возник¬
ших путем сложения двух и двух. Императора найти не
удается. Эсфера (правитель в Китае) уговаривают стать
императором. Время от времени диалог прерывается
бессмысленными репликами персонажей, выкрикиваю¬
щих слова, как если бы они друг друга не слышали.
Потом уговаривают стать императором Вердикта, кото¬
рый сознается, что ни писать, ни читать не умеет, и во¬
обще «не умен», а Эсфер говорит, что и «вовсе идиот».
Императором стал Эсфер. С этого момента он неви¬
дим даже для дочери его Онаны, которая изнемогает от
безделья, капризничает, своевольничает. Министры по
очереди произносят монологи, благодаря которым ста¬
новятся похожими на карикатуры, осмеивающие кипу¬
чую деятельность этих распорядителей и учредителей.
Велеречивые монологи перемежаются с натуралистичес¬
кими сценами любви. Министр мира произносит особен¬
но длинную речь, в конце которой славит войну, бряцает
оружием. Война и разразилась. Нелепые приказы изда¬
ют министр войны и генералы. Экинокс и Ироник де¬
рутся между собой; все охвачены эпидемией взаимного
уничтожения.
Сцены, изображающие умирание, муки, издеватель¬
ства, садизм, завершают пьесу Рибмон-Дессеня, из обыч¬
ной дадаистской клоунады превращающейся к концу в
132
страшный символ кровавой бойни, всеобщего безумия.
Все вынесено «а сцену: на сцене убивают, мучают, на
сцене висит отрубленная голова Онаны. Реплики, вна¬
чале бессмысленные, приобретают к концу иную окраску,
в них фиксируется и отражается абсурдный, обезумев¬
ший, сорвавшийся с цепи мир. Зловеще звучащие даже
в силу своей бессмысленности реплики завершаются
фразой — «старая женщина умерла вчера от голода в
Сен-Дени». Такая конкретная справка, по-газетному
точная, звучит внезапно, словно напоминая, что все фан¬
тастическое, все невероятное в этой пьесе — правда, все
происходит на нашей земле, а не в сказочном мире Ки¬
тайского императора.
Пьеса Рибмон-Дессеня «Китайский император» —
одна из сильнейших и социально содержательных про¬
изведений дадаизма. Она близка левому немецкому экс¬
прессионизму, также соединяет лаконизм, схематизм
языка с крайней экспрессией, абстрактное с конкретным,
а этим конкретным тоже является кровавая бойня.
Положение дел с сюрреалистической драматургией
таково, что автор большого «Этюда о дадаистском и
сюрреалистическом театре» умозаключает: «Сюрреали¬
стический театр кажется преимущественно результатом
индивидуальной инициативы, доводимой до конца* вне
самого движения». На сцене оказываются лишь «сюр¬
реалистические темы», и их-то приходится разыскивать
в пьесах «преимущественно кратких, редко представляв¬
шихся, трудно доступных, затерянных в маленьких жур¬
налах» К
Показательно, что даже авторы «Магнитных полей»,
Бретон и Супо, не создали в драматургии ничего подоб¬
ного этому образцу сюрреалистической прозы. Бретон
писал вместе с Супо пьесы, но тоже в эпоху дадаизма.
Скетч Бретона и Супо «Вы меня позабудете» («Уоиз
т’оиЪНегег») был представлен 27 мая 1920 года на оче¬
редной манифестации дадаистов. Бретон играл Зонтик,
Супо — Халат, Элюар — Швейную машину, а Френ¬
кель — Неизвестного. Навеяна «система образов», оче¬
видно, Лотреамоном, его фразой о встрече Зонтика и
Швейной машины. Набор действующих лиц позволяет
предполагать, вместе с тем, что пьеса скорее будет да-
1 В е Н а г Н. Е1ис1е зиг 1е 1Нёа1ге дайа е! зштёаНз1е. Рапз,
1967, р. 30.
133
даистской, чем собствен^’ сюрреалистической. Так оно
и получилось. В начале Халат вопрошает Зонтик, «что
это за дерево, за молодой леопард, которого я ласкал,
возвращаясь?» На это Зонтик отвечает, что очень жа¬
леет «гонщиков-велосипедистов, распростертых в этот
час в лужах весенней воды». Вопрос Халата повторяется
настойчиво, но Зонтик, словно не слыша, твердит свое.
Входит Швейная машина, возникает общая беседа, в хо¬
де которой Неизвестный прокатывает по сцене бочку,
что остается без всякого комментария. (Больше Неиз¬
вестный-Френкель на сцене не появлялся). В разговоре
выделяется голос Швейной машины, столь болтливой,
что к концу сцены Зонтик и Халат ее выдворяют. Впро¬
чем, драматические, даже трагедийные интонации, воз¬
никли в беседе странных персонажей скетча сразу же.
Они создают, однако, не трагический, а комический эф¬
фект, акцентированный и высокопарным тоном реплик,
и очевидными банальностями, сочетаемыми с по-брето-
новски изощренными, прециознымн образами. По
сравнению с обычными дадаистскими фарсами в скетче
Бретона и Супо больше суггестивности, больше загадоч¬
ности, напоминающей «Магнитные поля», но не создаю¬
щей вместе с тем никакой особенной «сюрреальности».
Многозначительные намеки в скетче все же восприни¬
маются как элемент озорной дадаистской игры.
Пьеса Бретона и Супо «Пожалуйста» («541 уоиз
р1аИ») была опубликована осенью 1920 года. Внешне
она менее экстравагантна, чем предыдущий скетч.
Действуют, во всяком случае здесь, не Зонтик и тому
подобное, а Поль, Валентина и Франсуа. В первом акте
вычерчивается обычный «треугольник» — муж (Фран¬
суа), жена (Валентина) и «третий» (Поль). Франсуа,
устав от суетливой жизни Парижа, отбывает в Женеву.
Он необдуманно оставляет наедине своего друга и свою
жену, уже открывших (до появления на сцене Франсуа)
спектакль «долгим поцелуем» и признанием Поля, на
которое, правда, Валентина отвечает сюрреалистиче¬
ски — загадочной, уклончивой и напыщенной репликой:
«Поль: Я тебя люблю (Долгий поцелуй).
Валентина: Молочное облако в чашке чая...»
Не успел Франсуа закрыть за собой дверь, предва¬
рительно выразив надежду, что жена не* будет скучать
134
в обществе его друга, как на сцене воцаряется всемогу¬
щее Желание («Может быть, ничто не существует, кро¬
ме желания», — высказывается Валентина). И вновь на¬
чинается объяснение в любви, вновь до крайности витие¬
ватое. Конец ему кладет внезапно появляющийся с ре¬
вольвером в руке супруг.
Во втором акте демонстрируется бюро некоего
Летуаля, который решает даже такие задачи: «Какое
время займет падение капли воды, разбившейся перед
падением на десять равных и независимых сферических
капелек». Кроме того, он с давнего времени замечает,
что «все деревья теряют свои листья», о чем сообщает
кому-то во время своих не лишенных странности теле¬
фонных разговоров. Деятельность этого учреждения,
напоминающего «бюро сюрреалистических исследова¬
ний», прерывается появлением инспектора полиции, аре¬
стовывающего Летуаля.
Третий акт переносит в кафе, где некто Максим дает
проститутке Жильде советы, вроде тех, что волновали
только что Летуаля: «созерцайте полет птиц и закаты
луны». На советы Максима Жильда отвечает с отменной
велеречивостью, декламируя различные сентенции и
мечтая при этом «о лесах». В финале она предуп¬
реждает размечтавшегося собеседника о том, что у нее
сифилис.
В четвертом акте на сцене театральный зал и сцена,
на которой появляются два безымянных персонажа, но
в этот же момент один из зрителей вскакивает и с воз¬
мущением кричит: «С некоторых пор, под предлогом
оригинальности и независимости, наше искусство саботи¬
руется бандой индивидуумов, число которых каждый
день возрастает и которые, в большинстве, не что иное,
как бесноватые лодыри или шутники».
Таким внезапным трюком, вскрывающим условность
театра, завершается пьеса Бретона и Супо, принадлежа¬
щая, конечно, к созданиям «шутников», т. е. скорее к
традиции дадаистских «спектаклей», разыгрывавших
зрителя, чем к намечавшейся сюрреалистической. От
последней, от линии «Магнитных полей» здесь некото¬
рые образы и темы, но принимать их всерьез, как темы
т* образы «сюрреальности» нет оснований. Слабые пьесы
Бретона и Супо никаких новых путей, само собой разу¬
меется, не определяли даже в сфере дадаистской дра¬
матургии.
135
Все же попытки вывести на сцену не реальность, а
сюрреальность делались. Мы имеем дело, однако, не
столько с применением принципа «автоматического пись¬
ма», повторяем, особенно трудно реализуемого именно
в сфере драматургии, сколько с попытками подмены
объективной реальности сновидениями, грезами, с по¬
пытками прямой проекции на сцену подсознательного.
Бретон среди первых, еще в середине 20-х годов, отлучил
от сюрреализма Арто и Витрака, в немалой степени
из-за их преданности презираемому Бретоном театру.
Арто и Витрак задумали тогда создать театр Альфреда
Жарри. Имелись в виду постановки пьес Жарри,
Стриндберга, Витрака, Русселя. Об этом было сообщено
Антоненом Арто в журнале «ЫоиуеПе геуие каща'1$е»
1 ноября 1926 года, а также в брошюре «Театр Альфре¬
да Жарри. 1-й год, сезон 1926/1927 гг.»:
В июне 1927 года театр поставил пьесу Витрака
«Тайны любви» («Без Муз1ёге5 с1е Гатоиг»)—«ирони¬
ческую пьесу, которая конкретизировала на сцене трево¬
гу, двойное одиночество, преступные задние мысли и
эротизм любовников. Впервые в театре была показана
подлинная мечта» К Витрак всевозможными способами
уничтожал иллюзию реальности, к которой привык зри¬
тель традиционного театра — первая сцена «Тайн люб¬
ви» происходит не на сцене, а в зрительном зале, затем
на сцене появляется сам автор, возникает «театр в теат¬
ре». Воцаряется могучая страсть, которую сопровожда¬
ют преступления, садистская жестокость, разного рода
нелепости и «тайны».
В июне 1928 года в театре Арто и Витрака, на пред¬
ставлении пьесы Стриндберга, сюрреалисты группы Бре¬
тона устроили настоящую обструкцию. Пришлось вме¬
шаться полиции. В конце 1928 года постановкой пьесы
Витрака «Виктор, или Дети у власти» («У1с1ог ои 1ез
ЕпГап1з аи роиу01г») театр Альфреда Жарри прекратил
свое недолгое существование.
Вот описание одной из картин еще одной пьесы Вит¬
рака «Отрава» («Ро150п», 1923): «Сцена представляет
собой комнату, пол которой покрыт кусками штукатур¬
ки. Из кувшина с водой, стоящего на туалетном столике,
вырывается струя черной жидкости. Простыни на посте-
1 В е Ь а г Н. Ко^ег УНгас. 1Лп гёргоиуё с1и зиггёаПзте. Рапз,
1966, р. 136.
136
ли выдают огромный предмет. Слышен звон будильника.
Открывается дверь, и появляется голова лошади. Она
мгновение покачивается, и кровать таинственно раскры¬
вается. Оттуда исходит густой дым, моментально затем¬
няющий комнату. Когда он рассеивается, можно видеть
хвост, ниспадающий с потолка на брильянт необычной
величины, появившийся на постели. Персонаж пересе¬
кает сцену, потирая руки, и направляется к зеркальному
шкафу, перед которым на мгновение останавливается».
Едва этот «персонаж» нарисовал на зеркале свой силуэт,
как из шкафа прямо в объятья к нему бросается жен¬
щина, а вскоре оттуда же выходят двенадцать солдат и
один офицер, прицеливающиеся в любовников. В конце
персонаж преследует свою даму с молотком в руке — на
сцене садизм, жестокость и эротизм.
В пьесе «Вход свободный» («Еп1гёе НЬге», 1922)
автор предупреждает, что на сцене — не что иное, как
«гёуез», каждый персонаж «грезит» очередную сцену.
Диалог рассыпается; каждый из персонажей следует
только своей внутренней логике, облик действующих лиц
меняется в зависимости от очередной «грёзы» — мадам
Роз одновременно оказывается редкой птицей, прости¬
туткой, служанкой. Атмосфера не «дадаистская», не ко¬
мическая, на сцене вновь царство эротики и жестокости.
И все же даже театр Витрака не смог освободиться
от довлевшего над сюрреалистическим театром дадаиз¬
ма. Недаром и от него к «антитеатру» 50-х годов протя¬
гивается прямая линия, побуждающая к прямому сбли¬
жению К
Заслуживает внимания пьеса писателя США
Э. Э. Каммингса «Его» («Шт», 1927). Пьеса насыщена
ужасающими нелепостями. Занавес открывается, на сце¬
не две нарисованные человеческие фигуры, которым при¬
даны живые, выглядывающие в отверстия головы. По¬
том одна из них исчезает и появляется на сцене, оказав¬
шись головой Доктора. Доктор представляется сидящим
на сцене трем дамам. Дамы в одинаковых масках, вя¬
жут и болтают о приручении гиппопотамов, имеющих
обыкновение петь, сидя на руках у своего хозяина. Док¬
тор знакомит дам с «Н1гп», с этим «Его», сообщая, что
1 Н. ВеЬаг в указанном сочинении приводит пример такого сбли¬
жения; «Виктор» содержит почти все темы, на изобретение которых
Ионеско претендует через двадцать пять лет» (стр. 196).
137
под этим именем скрывается «Еуегутап», «обыкновенный
человек», «человек как все».
Вслед за этим Его объясняется в любви Меня («Ме»),
другому главному персонажу пьесы, женского рода.
Временами речь Его становится совсем невнятной. Его
странен, говорит сам с собой. Своей возлюбленной он
сообщает, что все — лишь метафоры, лишь подвижные
и изменчивые «напряжения». И действительно — персо¬
нажи пьесы словно бы парообразны, иллюзорны, измен¬
чивы. Ненадежна и материальная среда — Каммингс
предупреждает в ремарках, что одна из стен невидима,
потом появляется невидимое окно.
Его, оказывается, пишет пьесу — о человеке, который
пишет пьесу, в свою очередь о человеке, пишущем пьесу.
Таким образом, сразу же выстраивается бесконечная
цепь подобий, герой оказывается звеном в цепи бесчис¬
ленных .повторений, как бы одним из отражений во мно¬
жестве зеркал. Кто именно отражается — остается неяс¬
ным, остается неясным, где реальность, а где — ее отра¬
жение. Далее следуют сцены, которые представляют
собой «театр в театре», т. е. показанное в начале как
некая реальность заменяется бесконечной цепью «поста¬
новок», «спектаклей». Очевидно, это сцены не из пьесы
Каммингса, а из пьесы Его, или же из пьесы, которую
сочиняет герой пьесы, сочиненной Его. Тем более это
очевидно, что Его и Меня присутствуют при этих сценах,
хотя они и невидимы. Временами раздаются их голоса,
они делятся впечатлениями. Если Его и Меня исчезают,
то Доктор появляется в каждой из сцен, многократно
повторяясь и преображаясь, постоянно меняя свое лицо
или свою маску. Будучи персонажем пьесы Каммингса
Доктор тем самым выступает в роли актера; нечто сы¬
гранное само играет — снова возникает двусмыслен¬
ность, «материя исчезает», реальность растворяется в
этих бесконечных инсценировках.
В последующих сценах Каммингс причудливо соеди¬
няет крайнюю абстрактность, общую неопределенность
места и времени действия с реальными, даже социально
конкретными обстоятельствами жизни США. Голос Его
возвещает: «стану миллионером», — и вот Доктор во
исполнение этого желания (сцена из пьесы, которую Его
пишет?) пытается разбогатеть, продает средство (мни¬
мое) для спасения жизни; маска вдруг обретает облик
типичного американского дельца, по-американски шум¬
138
но, цинично делающего дело. В 'следующей сцене Доктор
призван показать неопределенность реальности. Появ¬
ляется некто Вилл в маске Доктора. Доктор сообщает
ему, что он, Вилл, на самом деле Доктор. Вилл стреляет
в Доктора, но падает сам, а Доктор требует, чтобы тре¬
тий персонаж, здесь присутствующий, Билл, арестовал
себя за убийство — т. е. Билл неожиданно оказался
Биллом, хотя Вилл не перестал быть Доктором (однако,
не убитым, несмотря на сходство с Биллом, вследствие
которого Вилл и погиб).
Далее нелепости нарастают, герои временами гово¬
рят на странном языке, в котором с трудом угадывается
исковерканный до неузнаваемости английский. И вдруг
сквозь, явную абракадабру пробивается нечто вполне
определенное. Вот на сцене Муссолини (его тоже
играет Доктор), считающий, сколько коммунистов он
сжег живыми. Вот сцену заполняет толпа, которая тре¬
бует еды у Джентльмена (его играет Доктор). Вот Его
с ужасом говорит Меня, что приходится одеваться в
одежды, которые носят все, тем более, что жизнь сво¬
дится к приобретению вещей, к мечтам об их покупке.
В конце пьесы вновь появившиеся Его и Меня назы¬
вают все, что было, словом «йгеат», английской анало¬
гией французского «гёуе». С трудом они восстанавливают,
что было вначале пьесы — в начале сна. Но комната
та же, и герои те же, ничто не переменилось в состоянии
бодрствования. Почему же там сон, а здесь явь? И где
их границы? Его пытается и самого себя определить,
уточнить границы, формы своего существования. Рас¬
стается он со зрителем, поделившись следующим пара¬
доксом: за невидимой стеной люди, они думают, что он
реален, и герой полагает, что и сам в это поверит. Не
поверите, замечает Меня, ибо эт,о правда.
Пьеса Каммингса ближе к дадаизму, чем к сюрре¬
ализму, несмотря на то, что все происшедшее именуется
сном. «Его» не столько воссоздает сюрреальность, сколь¬
ко с помощью средств, разработанных дадаистскими
фарсами, вселяет сомнение в реальности, делает дву¬
смысленной саму материю.
Андре Бретон, сменив позже гнев на милость, при¬
числил все же несколько пьес к рангу сюрреалистичес¬
ких. Среди них «Господин Боб’ль» («Мопз1еиг ВоЬЧе»,
1951) ливанца Жоржа Шеаде. Герой пьесы — странный
персонаж. Он все время пребывает в состоянии глубокой
139
задумчивости, словно бы общается с какой-либо сюрг-
реальностью. Похож он на мага или на колдуна. Проис¬
ходящее на сцене тоже весьма странно. Г-н Боб’ль от¬
правляется в путешествие с неясной целью на далекий
остров. Вслед за этим митрополит Николай играет ь
карты со слугой Боб’ля Арнольдом в присутствии боль¬
шой фотографии его странствующего хозяина, всем»
обожаемого и обожествляемого. На обратном пути г-»
Боб’ль заболел, попал к незнакомым людям. Они пора¬
жены невнятными речами героя, воссоздающими в бре¬
ду странный и восхитительный мир, мир грез или снов..
На сцене появляются картины этих бредовых видений
г-на Боб’ля, возникают преданные ему соотечественни¬
ки, возносящие к нему мольбы. Г-н Боб’ль отходит в мир*
иной, окруженный ореолом святого.
Очень средняя по -своим достоинствам пьеса Шеаде
не стала весомым аргументом в пользу сюрреалистичес¬
кой драматургии. Да и к сюрреализму она может быть
отнесена лишь при весьма расплывчатом истолковании
сюрреалистических принципов в драматургии — несмот¬
ря на признание ее Бретоном. Никакого «автоматизма»
в «Г-не Боб’ле», конечно, нет и в помине. Бретон снизо¬
шел до признания пьесы Шеаде, возможно, потому, что
она напоминает о его «Наде». Г-н Боб’ль не менее -стран¬
ное существо, чем Надя, и оставляет впечатление то ли
душевнобольного человека, то ли чародея, общающегося
с потусторонним миром. К тому же и сны, видения вос¬
производятся на сцене.
При всем этом, «Г-н Боб’ль» скорее напоминает о
традиции романтической драматургии К Вся эта история
воспринимается как сказка о добром человеке, который
был покровителем бедных и влюбленных, -создал на зем-
1 Пьеса «Пыль из солнц» («Ьа роизз1ёге де зо1еПз», 1926) Р. Рус¬
селя, с восторгом принятая французскими сюрреалистами 20-х го¬
дов, — тоже сказка с банальным сюжетом, с чудесами, позволяю¬
щими героям этого произведения пройти по следам их умершего-
родственника, чтобы найти спрятанный им клад и попутно победить
отрицательного персонажа, ростовщика, тоже занятого поисками
клада. «Пыль из солнц» — что-то вроде «Синей птицы» Метерлинка»
но без значительного философского и этического содержания, кото¬
рое есть в пьесе бельгийского драматурга, да к тому же выполнен¬
ная писателем меньшего дарования. Пьеса эта к сюрреализму мо¬
жет быть причислена только в том случае, если зачислять в сюрреа¬
лизм все, что рассказывает о чудесах, о разных небылицах. Однако
присутствие «чудесного» вовсе не является само по себе' признаком
сюрреализма. Мы это уже видели в случае с Карпентьером.
140
ле райский уголок, деревеньку Паоло Скала. Наряду с
чертами исключительного романтического героя, Г-н
боб’ль несет на себе черты избранника богов. Мало-по¬
малу он приобщается к лику святых — появившись в
Паоло Скала, он объявил о своей любви к молитвам,
потом опрощается, предается трудам, умерщвлявшим
*его плоть и возвеличивавшим его дух. Кончина г-на
Боб’ля настолько похожа на обычную процедуру
появления очередного святого, что только Бретон позд¬
него этапа, балансировавший на грани религии, мог при¬
знать пьесу, объявить ее «своей»,’ сюрреалистической.
Впрочем, все в «Г-не Боб’ле» так неестественно, так
фальшиво и сентиментально, что при случае все это
сооружение можно выдать за плод сюрреалистического
юмора.
Что касается Арто, ставшего одной из ключевых фи¬
гур модернистской драмы последних десятилетий, то он
был теоретиком, а не практиком. Арто безапелляционно
заявлял, что его идея «театра жестокости», «чистого
театра» «исключительно теоретическая» и что никто
никогда не пытался придать ей «хоть малейшую реаль¬
ность». Сама же мысль о «театре жестокости» появилась,
возможно, не без влияния сюрреализма. Так, обновление
театра Арто мыслил себе на путях «освобождения по¬
давленного подсознательного», на путях «истинной сво¬
боды», которая суть «свобода секса»; он отождествлял
театр с метафизикой и алхимией. Особенно настаивал
Арто на ликвидации психологического театра («покон¬
чим с психологией») и на замене слова «конкретным
языком» жестов, танца, декораций и т. п., на чисто эмо¬
циональном воздействии драмы. О дадаизме и сюрреа¬
лизме напоминает судорожный анархизм Арто: «совре¬
менный театр пришел в упадок, потому что он порвал с
духом глубокого анархизма, который в основе всякой
поэзии». О сюрреализме напоминает и мысль Арто о
том, что театр — «двойник» не «повседневной реально¬
сти», но иной, «нечеловеческой, а бесчеловечной», мысль
о том, что театр — некое подобие бодрствования, смысл
которого раскрывается лишь во сне, бодрствования, где
распоряжается, как и во сне, «я».
Но как бы ни была связана мысль Арто с сюрреа¬
лизмом, сам Арто относился к сюрреализму критически,
был убежден, что сюрреализм не дал позитивных резуль¬
татов. Практическая реализация его заветов не рождает
141
собственно сюрреалистическую драму. Среди его наслед¬
ников называют современный «антитеатр».
Здесь, в этой точке, в этом явлении современного
театра сходятся традиции дадаистского и сюрреалисти¬
ческого театра, традиции А. Арто и отчасти экспрессио¬
нистической драмы. Надо учитывать и то, что «анти¬
театр» — театр «постэкзистенциалистский», т. е. возник¬
ший после сильной вспышки экзистенциализма. В неко¬
торых вариантах «антитеатра» (Беккет) зависимость от
экзистенциализма кажется совершенно очевидной. Ее
можно обнаружить и в вариантах несколько менее оче¬
видных (Ионеско). В отличие от экзистенциалистской
литературы, рассказывающей об абсурдности бытия в
произведениях отнюдь не абсурдных, «антитеатр» попы¬
тался стать составной частью этой тотальной абсурдно¬
сти, ее наглядным свидетельством. Вот тут-то и ожила
наследие театра 20-х годов, дадаизма и сюрреализма.
О нем сразу же напомнила пьеса, открывшая в 1950 го¬
ду десятилетие шумного успеха «абсурдной драмы»,—
это была «Лысая певица» Эже'на Ионеско. «Я отпрыск
сюрреализма», — сообщил Ионеско.
«Все поставить под сомнение» — этот лозунг Ионеско
вполне в духе дадаизма и сюрреализма 20-х годов, так
же как и ссылки классика «антитеатра» на «спонтан¬
ность художественного процесса», что не помешало ему
рационально обработать свой творческий опыт, в резуль¬
тате чего появились рецепты создания «антидрамы»:
соединение «реализма и фантастики», «прозы и поэзии»
и т. п. «Ставя все под сомнение», Ионеско создал скорее
дадаистский, чем сюрреалистический спектакль. «Лысая
певица» основана прежде всего на хорошо знакомой нам
«невежливости», на разрушении диалога, на вопиющей*
нарочитой бессмыслице. Псевдодраму «Жертва долга»
(1952) Ионеско считал драмой «сюрреализирующей»
(зиггёаПзап!), имея в виду ее иррациональность, отсут¬
ствие связности, распад характера.
Абсолютное одиночество, потеря способности к взаи¬
мопониманию и даже к общению — тема первых пьес
Артюра Адамова («Пародия», «Вторжение»). Драматург
предупреждал, что абсурдное поведение его персонажей
должно воспроизводиться на сцене как совершенно есте¬
ственное, включенное в обычную, нормальную жизнь.
И все же вспышка «антитеатра» не опровергает вы¬
вода о нежизнеспособности сюрреалистической драма¬
142
тургии. Во-первых, в «антитеатре» ожил скорее дадаизм,
чем сюрреализм. Во-вторых, «антитеатр» был не бо¬
лее, чем вспышкой, недолговечной и вряд ли перспек¬
тивной.
* *
*
Оценивая сюрреалистическую поэзию — область, в
которой сюрреализм заявил о себе более внушительно,
чем в прозе, а тем паче в драме, —следует представить
себе исходные, особенно дадаистские позиции.
Автор скрупулезного исследования на тему «Дада в
Париже» М. Сануйе считает сюрреализм просто-напро¬
сто «французской формой Дада». Он видит «духовное
братство дадаистских и сюрреалистических произведе¬
ний»: «разве не заметно, что по видимости противоречив¬
шие позиции на самом деле были столь же взаимодо¬
полняющими, как две’ стороны одной монеты». Он счи¬
тает, что «сюрреализм не привнес, в момент своего
возникновения, ничего радикально нового». И если
«единственное качество, дающее «Магнитным полям»
название «сюрреалистическое произведение», заключает¬
ся в «автоматизме» :их текста, то у дадаистов в бо¬
лее раннее время можно найти произведения такого
типа».
Верно то, что свирепость, с которой дадаисты обру¬
шились на разум, на логику, предваряет сюрреалисти¬
ческий культ иррационального, расчищает дорогу сюр¬
реалистическому «автоматическому письму».
Благодаря этому в дадаизме резко обозначилось пре¬
обладание различных форм искусства без смысла —
обозначилась формалистическая тенденция. Гуго Балль,
например, считал себя изобретателем нового рода сти¬
хов, абстрактных «стихов без слов», «звуковых поэм,
в которых колебание гласных согласуется с харак¬
тером начальной строки». Стихи эти выглядят таким
образом:
Оа1д1 Ьеп ЫтЪа
СНап^сП 1аиИ 1опш сас!оп
Оас^ата Ыт Ьеп д1а55а1а
01апс1пс11 д1аз5а1а 1иШт 1 21тЬгаЫт
В1а5за дЫаззаза 1иШт 1 21тЬгаЫт. . .
143
Вот «стихотворение» Тцара «йёШё НсШ е1 ГатШа1»—■
«дефилирование фиктивное и семейное»:
с1дг дг!1 дгбг
1а !аИ&ие
1е
р1в(1
уегге (1апз 1е пег!
ипе
ише
даготё1ге засег<Зо1а1
ёрПаЫге
е!
гтеих
с1-дИ
!аН
1пр1е 08
п’а
а с!ас!а
1Ы(1Шу1 пг1(Н<К
р1апсЬе
81ШШ
да1уапор1аз11е
га
еа
1а
еа
пЬа1(Н
соигзе
зИНе! сГепсге }аипе
е! дЦПе
А это более «внятное» сочинение Тцара тех же вре¬
мен. Называется оно «1е дёап{ Ыапс 1ёргеих йи рауза-
де» («гигант белый прокаженный пейзажа»):
1е зе1 зе дгоире еп сопз1е11а1юп (Го1зеаих зиг 1а 1ишеиг <3е оиа!е
(Запз зез роишопз 1ез аз1ёг1ез е! 1ез рипа1зез зе Ьа1апсеп1
1ез писгоЬез зе спзЗаШзеп! еп ра1ш1егз (1е шизс1ез Ьа1апдо1гез
Ъоп]*оиг запз с!даге11е 12ап1гап1га дапда
Ьоигбопс гбопс п!оип!а шЬааН шЬааН п!оип!а. . .
(соль группируется в созвездия птиц на опухоли ваты
в своих легких морские звезды и клопы балансируют
микробы кристаллизуются в пальмы мускулов качели...).
Вот «стихотворение» Курта Швиттерса «Алфавит с
конца» («А1рНаЬе1 уоп Ып1:еп»):
2 у х
шуи
1 з г ч
ропт
1 к 1 Н
8 1 е
б с Ь а
144
А вот очень похожее произведение Арагона, только
называется совсем иначе — «Самоубийство» («ЗшсМе»):
А Ь с д е!
& ь .1 з к 1
ш п о р я г
з 1 и V то
ху 2 *
Заметим попутно, что одно из них написано «по-не-
мецки», немецким дадаистом, другое принадлежит фран¬
цузской дадаистской поэзии!
Дадаисты практиковали еще жанр «симультанных
стихов» (51ти1{апдесПсМе), которые были плодом кол¬
лективного творчества, а не индивидуального. Вот один
из многих примеров. Авторы —Арп, Зернер, Тцара.
УоПа зад!е дег дга! депп ег зргасН де1аиПд [гап2бз15сЬ
даз тПсЬНед ]езе ГйВе \уипдегтПд ЬпсМ дег д1зсЫ аиз дет дагт дег
!а1Ьеп киЬ ипд ]е\г\ посН 1ттег зтд (Не \уете Ыаи дег ар1з 1ок дел
з1асЬе1 уоп дег 21еде1еске т дгезет зтпе зрагеп даВ тап. . .
Заметно, что дадаизм весьма успешно ликвидировал
национальную специфику, вплоть дЪ ликвидации нацио¬
нальных языков, вплоть до ликвидации языка вообще,
до его замены «бессмысленными звуковыми сочетаниями.
Однако в стихах некоторых немецких дадаистов
(Р. Гюльзенбек и др.) при всей их близости стихам
французских единомышленников изредка можно встре¬
тить отклики на немецкую национальную трагедию, на
трагедию войны. Там чаще интонации трагические, а не
только буффонные, там возникают то и дело нотки сати¬
рические, возникают образы кайзера, военщины и т. п.
Как и в дадаистской драматургии («сюрдрама» И. Гол-
ла, пьесы Рибмон-Дессеня) здесь заметна близость ле'
вому немецкому экспрессионизму.
В 1916 году появилось, например, одно из самых
приметных произведений дадаизма — стихотворение
Гюльзенбека «5сНа1аЬеп—5сНа1аЬа1—5сНа1ате2ота1».
В этом стихотворении даже нелепые слова и строчки
служат созданию картины «бесконечной битвы», злове¬
щей картицы, которая начинается с того, что
01е Кор!е дег Р1егде зсНшттеп аи! дег Ыаиеп ЕЪепе
\У1е дгоВе дипк1е РигригЫитеп
дез Мопдез Не11е ЗсНе&е 131 итдеЬеп уоп деп 5сНге1еп
дег Коте1еп 51егпе ипд 01е1зсНегрирреп
зсНа!аЬеп зсНа1аЬа1* зсНа1ате20пш. . .
6 Л. Г. Андреев.
145
а кончается так:
. . . 1*сЬ зеЬе (Не То1еп геИеп аи! деп ВаВ1гошре!еп ат
Таде без Мопбз
го! го! зтб д1е Кбр!е дег Р!егбе (Не т дег ЕЬепе
5сЬ\У1шшеп.
Копмиарный образ кровавых лошадиных голов, плы¬
вущих по равнине, опоясывает кошмарную картину ка¬
кого-то бедствия, чудовищного катаклизма, все уничто¬
жающей бойни. И антивоенный пафос, и крайнее эмо¬
циональное «заострение» картины, и ее отвлеченность —
все это больше похоже на левый немецкий экспрессио¬
низм, чем на дадаизм.
По этой причине читатель может ощутить некую зна¬
чительность и содержательность даже в таком стихотво¬
рении немецкого дадаиста, которое на первый взгляд
представляется обычным для дадаизма набором несвяз¬
ных слов. Автор — Курт Швиттерс.
Плоды дадаистского творчества в общем-то были
столь печальными (Бретон-дадаист предупреждал, что¬
бы от дадаизма не ждали шедевров), что Тристану Тца¬
ра -пришлось позже оправдываться: «Дада пыталось не
столько разрушить искусство и литературу, сколько
созданное о них представление. Искусство с большой
буквы, не склоняется ли оно к тому, чтобы занять на
шкале ценностей привилегированное или же тираничес¬
кое положение, которое приводит его к разрыву всех
связей с человеческой реальностью? Вот почему Дада
объявило себя антихудожественным, антилитературным
и антипоэтическим... Пребывание Дада в действительно¬
сти непосредственной, наиболее случайной и наиболее
преходящей, было его ответом поискам вечной красоты,
которые, будучи вневременными, претендовали на совер¬
шенство» *.
1 Из предисловия к книге: Н и д п е 1 О. Ь’ауепк1ге (1ас1а
(1916—1922), Рапз, 1957, р. 7.
ОгаЬеп
ОгаЬеп
Ет Вет
Огепгеп
Огепгеп
Огепгеп
Ет Вет
Ет
Вет
(границы
границы
границы
одна нога
одна
нога
рвы
рвы
одна нога).
146
В этом разъяснении все-таки звучат интонации, свой¬
ственные позднему, совсем уже не дадаистскому этапу
деятельности Тцара. Нам же сейчас важно авторитетное
свидетельство о попытках Дада быть течением анти¬
художественным — попытках, которые в общем увенча¬
лись успехом. Вопрос о причинах, к тому побуждавших,
можно оставить в данном случае в стороне.
Тристан Тцара дал характеристику дадаистской ху¬
дожественной технике. Намеренное «обесценивание ис¬
кусства» вело к употреблению средств, не принадлежав¬
ших к сфере искусства. Ими были коллажи, «геабу-
табе», случайные предметы, а также разломанный
синтаксис, отрывки фраз, дурашливые песенки, поговор¬
ки. В дело шла реклама — при этом Тцара оговаривал¬
ся, что не имеется в виду кубо-футуристское понимание
рекламы как поэтической ценности, составного элемента
некоего пластического целого. Следующий прием — сме¬
шение жанров: картины-манифесты, поэмы-рисунки,
фотомонтажи, симультанные стихи с фонетической орке¬
стровкой и т. п. «Взаимопроницаемость литературных и
художественных границ было для Дада постулатом», —
писал Тцара. Приведение эстетических категорий в «со¬
стояние беспорядка» дадаисты также ценили как одно
из самых действенных средств. Аполлинеровский прин¬
цип «удивления» может считаться принципом и дадаиз¬
ма. Правда, дадаисты придали ему оттенок скандально¬
сти и обдуманного озорства. Этот оттенок присущ и пер¬
вым же шагам сюрреалистов, художественная практика
которых так или иначе на принципе «удивления» осно¬
вана. Само собой разумеется, что реализация принципа
«удивления» затруднялась в области прозы и облегча¬
лась в сфере поэзии и живописи.
Грань между дадаистами и сюрреалистами в поэзии
не сразу стала различимой — сюрреалисты очень часто
начинали со «стихов» в духе дадаизма, со стихов, кото¬
рые должны были эпатировать и читателя, и поэзию.
Вот стихотворение Ф. Супо «Литании» (помещено в
журнале Пикабиа «Каннибал» 25 апреля 1920 года):
Андре Бретон не болен
Филипп Супо интернирован
Луи Арагон безумен
Т. Френкель болен
Андре Бретон болен
Франсис Пикабиа похож на Франсиса Пикабиа
6*
147
# Поль Элюар болен
Филипп Супо умер
Арагон (Луи) не умер
Элюар потерял свои часы
Тцара в Париже
Андре Бретон не отправляется в путешествие... и т. д.
и т. п.
На сюрреализм очень повлиял поэт, первым, пожа¬
луй, в сюрреализме разочаровавшийся. Им был Пьер
Реверди. Его стихотворные циклы появились в 1915—
1916 годах (к 1915 году относится сборник «стихов в
прозе»), а вскоре будущие главари сюрреализма позна¬
комились с руководителем журнала «Норд-Сюд», не
скрывая своего почтительного к нему отношения. Их
увлекла «типографическая» структура стихов Реверди,
попытка активизации синтаксиса, создания новых рит¬
мов путем рассредоточения слов на странице, на обозре¬
ваемом пространстве, использование пропускав как эле¬
ментов стиха. Увлек «скудный», «аскетический» стих
Реверди, вызывающая прозаичность 1 (он написал очень
много «стихов в прозе»), «предметность» угловатого сти¬
ха, наследовавшего традицию французского кубизма.
«Кубизм — это искусство, которое нас интересует и
р. которое мы верим», — писал в журнале «Норд-Сюд»
Реверди в апреле 1917 года, хотя к наименованию своей
поэзии с помощью какого-нибудь «изма» не стремился.
Отправляясь от символистов, ориентируясь на кубистов,
Реверди призывал создавать новое искусство. Во имя
этого нового искусства он сформулировал свое ставшее
обязательным для сюрреалистов правило: «образ... рож¬
1 Знаменитой стала строфа из стихотворения «Горизонт» (сб.
«Несколько стихотворений», 1916):
Моп (Ыд1 за!дпе
^ Гёспз
Ауес
Ье гёдпе (1ез У1еих го1з ез1 Пт >
Ье гёуе ез1 ип ]*атЬоп
Ьоигб
<3ш репб аи р1а!огк1
Е1 1а сепбге <3е 1оп адаге
СопПеп1 1ои1е 1а Ншнёге. . .
Особенно поразило превращение мечты в «тяжелый окорок, подве¬
шенный к потолку», и необычная функция банальной сигары — «весь
свет» в ней.
148
дается из сближения двух реальностей, более или менее
удаленных. Чем более далекими будут связи двух сбли¬
жаемых реальностей, тем сильнее будет образ, тем бо¬
лее он будет обладать эмоциональной силой и поэтичес¬
кой реальностью... Аналогия является способом созида¬
ния» (напечатано в «Норд-Сюд» в марте 1918 года). Но
Реверди обставил это правило некоторыми ограничения¬
ми (нельзя сближать ничем не связанные, противопо¬
ложные реальности). С ними не считались сюрреалисты.
Реверди всегда считал творческий акт рациональным,
контролируемым, ему чужд был антирационализм «авто¬
матического письму», культ подсознательного и мисти¬
цизм сюрреалистов. И стихотворения Реверди соответ¬
ственно поддаются расшифровке, их можно понять,
в отличие от классических созданий сюрреализма;
«невнятность» Реверди часто формальная, от необычного
синтаксиса.
Реверди — ближайший предшественник поэтического
сюрреализма, наряду с Аполлинером, наряду с дадаиз¬
мом. «Кубистическая» (Аполлинер, Реверди) и дадаист-
ская — две близкие, но не совпадавшие школы, от кото¬
рых отправлялись поэты-сюрреалисты, в той или иной
степени приспосабливая их к сюрреалистическим зада¬
чам.
Можно соглашаться, а можно и не соглашаться с
теми специалистами по дадаизму, для которых сюрреа¬
лизм ничем от дадаизма не отличается и ничем • особен¬
ным искусство не обогатил. Важно при всех обстоятель¬
ствах учитывать дадаистскую основу сюрреализма,
иметь в виду этого предшественника сюрреализма, до¬
ведшего искусство до состояния антихудожественности
и разработавшего набор чисто формальных рецептов
дадаистского стихотворчества.
Дадаизм, как мы видим, уже практиковал «автома¬
тическое письмо». Ганс Арп, например, занимался в Цю¬
рихе во времена дадаизма тем, что проецировал подсо¬
знательное: каждое утро он рисовал один и тот же
рисунок «автоматически», без всякой системы двигал
рукой и, повинуясь случаю, рассыпал по картону рас¬
крашенные бумажки. Рассказывают и о других приемах
Ганса Арпа: «он учил меня «автоматической» живопи¬
си — брал открытую бутылку чернил и белый лист бу¬
маги, опрокидывал бутылку на бумагу, делая большую
кляксу, которая, конечно, была порождением случайно¬
149
сти» 1. Чем не сюрреалистическая техника? Вспоминая
позже времена дадаизма, Арп писал:
«Мы отбрасываем все, что было копией или описа¬
нием, чтобы позволить Элементарному и Стихийному
действовать в полной свободе».
Вот дадаистский манифест Арпа, образец его словес¬
ного «автоматизма»:
Ьегз 1атрез зЫиез зог1еп1 ди Гопд де 1а тег е1 спеп1 У1Уе дада
роиг заиег 1ез 1гап5а11апПчие5 чи* раззеп! е1 1ез ргёз1деп1з дада 1е
дада 1а дада 1ез дадаз ипе дада ип дада е! 1го1з 1ар1пз а Гепсге де
СЫпе раг агр дада!з1е еп рогсеЫпе де Ысус1еНе з1пёе поиз рагН-
гопз а Ьопдге дапз Гачиапит гоуа1 детапдег дапз 1ои1ез 1ез рЬаг-
тааез 1ез дада1з1ез де газроиНпе ди 1заг е1 ди раре чш пе зоп1 уа-
1аЫез чие роиг деих Неигез е1 дегте-
Ганс Арп писал и по-немецки, и по-французски (поз¬
же— только по-французски). Мы привели образец
франкоязычного творчества Арпа.
Дадаистская поэзия Ганса Арпа — такие вот и еще
более угловатые сооружения, юмористически окрашен¬
ные нагромождения, распухающие горы слов, несвязных,
возникающих как бы «автоматически», эпатирующих
своей нескладностью, прозаичностью. «Сюрреальности»
за ними, однако, искать не следует —■ «сюрреальностью»
является сама плоть этих сооружений, сам дразнящий,
нелепый, озорной текст, порой почти совершенно в духе
«стихов без слов» Балля.
Ганс Арп говорил, что пытается разбить слово «на
атомы». Даже в конце 20-х годов, в 30-е годы, уже
примкнув к группировке Бретона, Арп сочинял по-преж¬
нему такие же «стихи».
Маиги1аш Ка1ари11 1 1ешш
I 1ашш
НаЬа ЬаЬз {арат
раррег1арарр ра1ат. . .
Ганс Арп всегда повторял, что «дада в основе вся¬
кого искусства..., дада это бессмыслица (баба ез1 запз
зепз), как и природа, дада за природу и против «искус¬
ства».
^озерНзоп М. 1л1е ашопд 1Не 5иггеаНз1з, Ые\у Уэгк, 1962,
р. 181.
150
В 1938 году он так объяснял механизм своего твор¬
чества:
Нужно сначала позволить расти формам, краскам,
словам, звукам,
а затем их объяснить...
Слова и формы действительно росли свободным, не¬
брежным потоком, как бы сами по себе, без контроля со
стороны Арпа —поэта и художника. Что касается объ¬
яснений, то вечный дадаист Арп предпочитал такие вот:
1ез р1апоз а чиеие
е* а Ше
розегН без р1апоз а чиеие
е* а Ше
зиг 1еигз чиеиез
е{ 1еигз Шез
раг сопзёчиеп!
1а 1ап^ие ез1 ипе сЬа1зе
«Бе р1апо а яиеие» — «рояль», но Арп «переводит»
словосочетание буквально, делая из рояля «пианино с
хвостом», и у него получается поэтому следующее:
Пианино с хвостами
и с головами
ставят пианино с хвостами
и с головами
на их хвосты
на их головы
следовательно
язык это стул.
Внезапный, парадоксальный, шокирующий финал ха¬
рактерен для Арпа, любившего соединять самое обыден¬
ное с несуразным, ставить обыденное в несуразную
ситуацию.
Свое искусство Ганс Арп именовал «конкретным»,
уподобляя растению, говорил неизменно о его близости
природе, об оздоровляющей его функции. Говорил Арп
о том, что «конкретное искусство» освобождает человека
от вредного для него разума. Образцами «конкретной»
живописи он считал Кандинского, Дюшана, Миро,
Эрнста, Массона, очень увлекался Бретоном, поэтами-
сюрреалистами. Аналогию между некоторыми варианта¬
ми сюрреалистической живописи и поэзией Арпа прове¬
сти можно. «Поздний» Арп любил «рисовать» стихами
забавные, «конкретные» картинки, сценки, содержащие
151
скорее очевидную «дадаистскую» нелепость, чем сюрреа¬
листические «грезы» и сны.
Жили-были три графина
первый был любезен
второй невидим
а третий из соломы...
ИЛИ
Я проснулся от глубокого без сновидений сна
с неприятными предметами на своем лице
Софи сказала мне что это большая муха ус
и маленькая мандолина ...
Можно сказать, что на основе «автоматизма» в твор¬
честве Ганса Арпа наметился постепенный переход от
дадаизма к сюрреализму. Однако Арп остался дадаи¬
стом в сюрреализме, его «автоматизм» больше дадаист-
ского толка, т. е. нацелен на чисто внешний эффект, а не
на открытие «сюрреальности».
Нечто подобное можно сказать и о поэзии Тристана
Тцара, также первоначально «творившего» в соответ¬
ствии с дадаизмом, а затем, во второй половине 20-х го¬
дов, сблизившегося с сюрреализмом.
Центральное произведение Тцара этого времени —
«Приблизительный человек» («ЬЪотте арргохипаШ»,
1925—1930). Можно назвать поэмой этот нескончаемый
поток слов, эту реку строк — без знаков препинания, без
больших букв, зафиксированную почти на полутораста
страницах, строк свободного, размашистого ритма. Из¬
редка появляются «отбивки» — словно надо перевести
дыхание. Произведение Тцара тоже производит впечат¬
ление не столько текста организованного, продуманного*
заключенного в форму, сколько свободно разрастающе¬
гося растения, — «нужно позволить расти формам, крас¬
кам, словам, звукам», как писал Ганс Арп. Эта подлин¬
ная карусель слов, нескончаемое образотворчество исхо¬
дит из центральной точки — из образа «приблизительно¬
го человека», который, «как я, как ты, читатель, и как
все прочие», человек без особых примет, если не счи¬
тать, что у него «голова полна поэзией». Внимание пере¬
ключается постоянно то к «я», «лирическому герою»,
рассказывающему о себе и о «всех прочих», то к «тебе»*
к некоему безымянному «эпическому герою», некоей
аналогии лирического «я». Это «ты» — повсюду и «за
каждым поворотом улицы, ты превращаешься в другого
самого себя», это «ты» кристаллизует окружающую
52
реальность, наматывает ленту улиц, домов, гор, планет,
звезд, обозначая бесконечную перспективу жизни.
«Ты» — обозначение многократно повторенного «я».
Словно перед «я» поставлено зеркало, точнее множество
зеркал, и поэт чаще пишет об отражении, о «•переверну¬
том» в зеркале мире. Раздвоение «я» и многократное его
повторение наделяет «приблизительного человека» ис¬
ключительной силой, пододвигает вселенную к нему
и превращает ее в зеркало «я».
«Я вижу тебя недвижным и однако движущимся
сквозь все вещи..., направляющим астрономическую цир¬
куляцию и циркуляцию ветров и вод...».
«Ты» — это точка притяжения желаний, фокус сюр¬
реалистического эротизма, некая безликая «она».
Но преимущественно «Приблизительный человек»
безличен, крайне «эпичен», описателен до предела, ста¬
тичен. Не выходя даже за порог собственного дома, «я»
превращает реальность с помощью своей фантазии в
нечто такое, что может быть названо и «сюрреально-
стью».
... через открытое окно дома входят в мою комнату
с комнатами в беспорядке пробуждения и открытые окна
графины колоколен надрываются при свежести десен
под наростом увеличивающимся сердца трава плетет свое окно...
А иногда «я» покидает стены дома. Это «я» вообще
беспрепятственно перемещается по вселенной.
... Я шагал по небу голову склонив
ч меж дымных кустарников водорослей тропинки
молочные
морские отмели термометров и планет
где растут фуражки маяки и павильоны
с граммофоном
цепь гор в золоте на животе
солнце часы и витрина мира
ножницы игл режут тень до ночи
человек укорачивается со временем бесконечно...
Картина начертана космическая; объект отображе¬
ния — пространстбо, «я» — и вселенная; вневременное,
внепространственное сооружение Тцара оперирует обра¬
зами абстрактными, «понятиями», «состояниями». Чело¬
век перемещается среди «планет и вещей», «богов и све-
тов», среди символов (да и сам он больше похож на сим¬
вол, чем на человека), обозначающих скорее его соб¬
ственное внутреннее состояние, чем реальный мир. Со¬
153
стояние это абсолютизированное, вознесенное на уро¬
вень царствующей в произведении «приблизительности»—
т. е. соотнесенности всего сущего, но соотнесенности на
основе ассоциативно-символического мышления, на осно¬
ве . нарочитой странности, шокирующей причудливости,
через которую приходится .перебираться, как через труд¬
но преодолимые или вовсе непреодолимые заграждения.
Вроде вот таких:
разбросаны на связках ключей источники под
известковыми коврами
черные ленты изречений — мародеров произрастают
всегда поблизости сна
и ребра кристаллов поют на органе остов
спинной корабля жующего силы свои...
Заметно при этом, как нагромождаются существи¬
тельные, как сооружаются глыбы из разных объектов,
иногда обыденных, каждодневных, иногда — редких, эк¬
зотических, друг от друга удаленных, порой конкрет¬
ных, порой абстрактных. Они, эти объекты, теснятся,
словно неповоротливые, тяжелые льдины при заторе.
«Поэма» Тцара по-своему драматична. Перед чита¬
телем не только абстрактный космический пейзаж, «все¬
ленная», но пейзаж, насыщенный -столь же абстрактны¬
ми катаклизмами. Как обычно у сюрреалистов, здесь
нет конкретных поводов для трагедий, уловимых их при¬
чин— приметой «сюрреальности», ее обязательным при¬
знаком является то жутковатое впечатление, которое
она призвана нагнетать. Вот и Тцара нагнетает драма¬
тизм, даже простым перечислением всяких неприятно¬
стей:
«жестокости оскорбления болезни проклятия ужасы
ады грима-сы бурь катаклизмы лавины могилы». «Про¬
рочество порядка кристаллизуется в смерти», а «я» «при¬
близительного человека» «ожидает укутанное в зависи¬
мом смирении».
В «Приблизительном человеке» нелегко установить
границу, пределы тропов. Метафорами поэт мыслит, все
содержание поэмы можно счесть за гигантскую развер¬
нутую метафору, ни начала ни конца которой невозмож¬
но обнаружить. Все поэтому «приблизительно», все
можно прочесть как троп, как художественный образ —
как «выдумку», как описание нескончаемого сновидения,
как «грезу», которая овладела реальностью и беззастен-
154
чиб>о ее деформирует, обращается с ней не как с реаль¬
ностью, но как с тропом.
«Я» в поэме Тцара открывает «двери грез» — и тогда
«языки снега лижут глыбы соли кишащих пропастей
сфер», тогда воцаряются странности. Правда, эти стран¬
ные грезы *не очень-то похожи на плод автоматической
записи внутренних озарений — уж очень они изощрены,
очень риторичны, кажутся декламацией опытного ора¬
тора.
• Впрочем, это свойство многих творений сюрреализма,
вынуждающее сомневаться в подлинности этих творений
и в осуществимости сюрреалистических правил, в данном
случае можно счесть одним из доказательств того, что
Тцара к сюрреалистической подлинности не очень стре¬
мился, будучи «дадаистом в сюрреализме» (более, одна¬
ко, сюрреалистом, чем Арп).
Можно сказать, что «Приблизительный человек» —
философская поэма в духе сюрреализма, книга сюрреа¬
листического «Бытия», в которой мир, в отличие от Биб¬
лии, не творится, но разрушается. Богу-творцу и в голо¬
ву не приходила такая возможность, которая открывает¬
ся сюрреалистами. Рядом о сюрреалистами бог кажется
материалистом: он создавал мир как объективную
реальность. Тристан Тцара превращает Вселенную в
придаток внутреннего состояния иоэта-сюрреалиста, в
аналогию этого состояния, в отпечаток грез и снови¬
дений.
Буйная фантазия (или же редкое красноречие?) рас¬
поряжается в мире, который по воле сюрреалистов ли¬
шился способности к сопротивлению, потерял объектив¬
ную логику, растерял все свой, независимые от фантазии
поэта, закономерности, стал всего-навсего образом, ме¬
тафорой, тропом.
В начале сюрреалистической «Книги бытия» — не
дело, а слово. Оно всемогуще. Оно творит мир, оно ста¬
новится реальностью, «сюрреальностью». Тцара время
от времени повторяет слова как бы в наваждении, как
бы колдуя; слова привораживают, цепляются друг за
друга, громоздятся. Пышными, тяжелыми гроздьями на¬
висают в «Приблизительном человеке» изощренные об¬
разы, похожие на экзотические растения. «Приблизи¬
тельный человек» — огромный атолл, коллекция корал¬
лов, созданных из слов, или же бездонная пещера, уве¬
шанная словесными сталагмитами и установленная сло¬
155
весными сталактитами. Вот из таких строительных дета¬
лей сооружено здание «поэмы» Тцара — пример взят
наугад:
1а содие1исЬе без шоп1адпез са1стап1 1ез езсагретеп1$ с!ез догдез
аих резШепНеЬ ЬоигбоппетегИз (Гациебисз аи1отпаих
1е бётсЬаде с!и с1е1 дга1иН ^и^ 1оззе соттипе Ьарра 1ап1 с!е ра1игез
1ез 1апдадез с!ез пиез соиг1ез аррагШопз с1ез теззадегз
(1ап$ 1еиг$ 1оиНез аппопс1а1псез с!е зиргётез с1атеигз е1 оЬзеззюпз.
«Вот сборник ... стихов сюрреалистических или же
близко причастных к выражению сюрреализма в поэзии.
Автоматизм преобладает в большинстве из них, в других
он довольствуется тем, что вызревает. Во всяком случае,
он никогда совершенно не исчезает с этих страниц и
именно его присутствию, яркому или смутному, здесь
собранные тексты обязаны своей специфической квали¬
фикацией» *.
Итак, «автоматизм», по мнению участника и истори¬
ка сюрреалистического движения, — обязательный при¬
знак сюрреалистической поэзии, ее примета.
Но «автоматизм» сюрреалистической поэзии явно
неоднороден. Он может быть более дадаистского толка
и толка собственно сюрреалистического. Как в прозе и
в драме, в поэзии сюрреалистов вскоре явственно обо¬
значились две линии. Одна из них в большей степени
связана с дадаизмом, другая — «’бретоновская» — менее.
Бретоновский «автоматизм» — в его сборниках стихов:
«Ламбард» («Мол! бе Р1ё1с», 1919), «Свет земли»
(«С1а1г бе 1егге», 1923), «Револьвер с седыми волосами»
(«Ье геуо1уег а сЬеуеих Ыапсз», 1932), «Ветер воды»
(«Ь’а1г бе Геаи», 1934), а также в стихах, в циклы не во¬
шедших, и нескольких поэмах.
Стихи появились уже в «Магнитных полях». «Первый
текст сюрреализма» завершается циклом стихотворений,
которые венчают присущую «Магнитным полям» тягу
к дроблению, к расщеплению большого прозаического
произведения на миниатюры, тягу к суггестивности.
1 Из предисловия Ж.-Л. Бедуена к сборнику «Ьа роёз1е зиггёа-
Нз1е», Рапз, ,1964, р. 24. Тот же автор там же пишет, впрочем: «Поэ¬
зия сюрреализма не составляет особую область». Отчего такое про¬
тиворечие? Оттого, что потребность в классификации сталкивается с
. боязнью признать, что сюрреализм сводится к какой-то «формуле».
Вот далее и утверждается: «Она не позволяет свести ее (поэзию —
Л. А.) к формуле», хотя определение сюрреалистической поэзии как
«автоматической» и есть «сведение к формуле».
156
Появление поэзии в прозе «Магнитных полей» зако¬
номерно и доказывает, что постольку, поскольку Бретон
и Супо пытались быть верными принципу «автоматиз¬
ма», они, так сказать, скатывались к поэзии, более, чем
проза, подходящей для реализации их замыслов.
Стихи эти, однако, стихами могут быть названы с
большим числом оговорок. Стихи и проза сюрреалистов—
взаимозаменяемы, во всяком случае очень часто взаимо¬
заменяемы. Резкой, определенной грани между брето-
новской поэзией и прозой, особенно на стадии «Магнит¬
ных полей», не существует. Держит «лесенку» строк
лишь трудно уловимый, или вовсе неуловимый внутрен¬
ний ритм, не подкрепляемый никакими внешними, уточ¬
няющими его элементами (размер, строфика, рифма
и т. п.). Свободную «лесенку» можно и «растянуть» до
прозы — а можно и вовсе рассыпать. Последнее сделать
особенно нетрудно потому, что стихи ассоциативны,
основаны на скрытых (а может быть и вовсе отсутству¬
ющих) аналогиях. Более того, как и в прозе, Бретон
предпочитает, чтобы «строительные детали» его «стихо¬
творений» скорее не подходили одна к другой, чем под¬
ходили. «Подгонять» их должен, очевидно, уже читатель,
но попробуй, подгони то, что «ничего не выражает, не
желает что-либо выражать», — как писал уже упоми¬
навшийся поклонник (он считает Бретона «самым круп¬
ным из живущих поэтов», «самым революционным по¬
этом Франции, родившимся в конце XIX века»1).
И в другом месте: «Запуски зонда»2, — так он
(Бретон. — Л. А.) говорил о стихах «Света земли»,
«Револьвера с седыми волосами», — и большая часть
этих запусков зонда приносила, по его мнению, очень
мало того, что поддается интерпретации... Перед их
«образами» он делал широкий жест рукой — выражаю¬
щий сомнение, зо всяком случае жест вопроситель¬
ный...» 3.
Что же остается в таком случае делать читателю?
Разводить недоуменно руками вслед за Бретоном? «На¬
до анализировать стихи Бретона в нелитературной пер¬
спективе» — слушая «голос», «магнетизирующий психо¬
1 Л о и 11 г о у А. 1п1го<1ис1юп аи дёгне б’Апбгё Вге1оп. В книге:
А. Вге1оп. СЫг с!е 1егге. Рапз, 1966, р. 16.
2 Может быть и «бросания лота» — соирз бе зопбе.
3 «Ьез ЬеИгез йапдаИез», 1968, 2 пш.
157
физическое пространство сознания», отражающийся
«в ритме, которого мы еще не знаем».
Итак, неведомо какое содержание в неведомо какой
форме — так читателю рекламируются «магнитные по¬
ля» бретоновского образотворчества. Читателю остается
одно — попытаться настроить себя на волну сюрреали¬
стического «передатчика» и уловить голос «сюрреально¬
сти»,* имея при этом в виду, что поэзия Бретона «ничего
не выражает».
Пожалуй, только к такому выводу можно прийти,
читая первые сюрреалистические стихи, стихи Бретона
и Супо из «Магнитных полей».
Шбеаих («Занавески»)
Зоигаёгез с!е Гагпе аргёз ехНпсНоп с!и са1оп-
1ёге Ыапс тёпсНеп без засгетеп1з
В1е11е с!и пауце
Шбеаи
ЛоНез а1&иез ёсЬоиёезП у еп а с!е 1ои1ез сои1еигз
Рпззопз еп геп1гап1 1е зснг
Беих 1ё1ез сошгпе 1ез р1а!еаих (Типе Ъа1апсе
,(Ловушки души после гашения калорифера белого' меридиан
таинств
Шатун корабля
Занавеска #
Красивые водоросли севшие на мель имеются всех цветов
Содрогания возвращаясь вечером
Две головы как чаши весов).
Надо признать, что такой жанр «стихов в прозе» или
«прозы в стихах» более всего подходит для словесного
оформления «автоматического письма»: «автоматизм»
сделал поэзию абсолютно свободной — в том смысле,
что никакие элементы «правильного» стиха не могут по¬
явиться в потоке бесконтрольно рождающихся слов.
Этот поток не может расчлениться на строфы, «влиться»
в рамки «правильных» ритмов, породить какую-нибудь
систему рифмовки. В то же время эта «свобода» выво¬
дит произведение за границы поэзии, грозит ее уничто¬
жением, растворением в жанре полупоэзии, полупрозы,
в жанре прозаической миниатюры, эксплуатирующей
некоторые, возможности поэзии/
Ьез зепИтегНз зоп! дга1иНз («Чувства бесплатны»)
Тгасе обеиг бе зоЩге
Мага13 без за1иЬгИёз риЬНяиез
Коиде без 1еугез спгпшеПез
МагсЬе беих 1етрз заитиге
158
Сарпсе без зтдез
Ног1оде сои1еиг с!и риг
(След запах серы
Болота народных здравоохранений
Краска для губ преступных
Движение два времени рассол
Каприз обезьян
Часы цвет дня).
Частое использование сюрреалистами жанра «стихо¬
творения в прозе», жанра, который чаще ближе к прозе,
чем к поэзии (нередко такие произведения, особенно
сюрреалистические, вовсе оказываются прозой, незакон¬
но поэзией именуемой), объясняется также нежеланием
сюрреалистов «писать стихи», заниматься презренным
искусством, их попыткой «передвинуть границы реаль¬
ности», слить искусство с «сюрреалистическим бытием».
Поэзия повсюду, — говорят сюрреалисты, — она доступ¬
на всем, она рождается из «автоматизма». По убеждению
сюрреалистов, сюрреалистическая поэзия — не создание
стихов, но «снятие покрова, разрыв мутной коры ис¬
кусственности, закрывающей выход непрерывному внут¬
реннему потоку». Если быть последовательным, то надо
признать, что «бессознательное не может быть выраже¬
но иначе, как бессознательно». Отсюда и берется пре¬
зрение к «поэзии», к литературной технике — «отсюда
реакция против всякой «литературы», которая рассмат¬
ривается как враг глубокой «реальности», как притвор¬
ство, -противостоящее «искренности»; отсюда эти атаки
против «техники», так как «техника — это мельница, че¬
рез которую нечистое сознание заставляет проходить
чистое подсознание» К
Само собой разумеется, что «в доктрине сюрреализ¬
ма заключено глубочайшее заблуждение». Заключается
оно в том, что «коль скоро нечто выражено, оно употреб¬
ляет «слово», «фразу», ужасные основы цивилизации»;
сюрреалистическое произведение неизбежно оказывается
не «естественным», а «сфабрикованным» с помощью ни¬
чего иного, как сюрреалистической «техники».
«Нет иного выбора: произведение искусства или ка¬
талог» 2. Поскольку сюрреалисты пытались быть собой —
они писали «каталоги». Их искусство, их проза устрем¬
1 С и I т а п п К. А. 1п1гобис1юл а 1а 1ес1иге без роё1ез {гапда1з.
Рапз, 1967, р. 205.
2 Т а м же, стр. 208.
159
лены к поэзии, точнее к поэтическим жанрам, более под¬
ходящим для «автоматического письма», для выплески¬
вания подсознания, а в то же самое время сюрреалисти¬
ческое искусство, поэзия сюрреалистов так удручающе
прозаичны, так часто напоминают «каталоги». Бретон
неуважительно относился к лиризму, видел поэзию в
рекламе и уверял, что «мир кончится не прекрасной кни¬
гой, но прекрасной рекламой».
Однако, когда сюрреалисты — намеренно или же не¬
произвольно — отступали от «автоматизма», когда, чув¬
ствуя себя поэтами, они решались писать стихи, а не
искать сюрреалистический философский камень, — тог¬
да оказывались поразительно традиционными в смысле
поэтической техники, давая основания для подобных
категорических выводов: «Сюрреалистическое предприя¬
тие... не лежит в области собственно метрических форм.
Даже удивительно, что оно оставляет их в такой степени
нетронутыми» К Впрочем, мы уже не раз сталкивались
с «правильностью» сюрреалистов и всякий раз она на¬
талкивает на мысль о неподлинности основополагающих
принципов сюрреализма, о недостоверности его «внут¬
реннего потока», той первозданной «искренности», кото¬
рую сюрреалисты намерены были воплощать бессозна¬
тельно.
На «автоматических» стихах Бретона "конца 10-х —
начала 20-х годов лежит печать кубо-футуристических
увлечений французской поэзии, увлечений коллажами
и «геабу-табе», печать той натуралистической покорно¬
сти перед прозой, которую рекомендовалось считать выс¬
шим сортом поэзии. Все хорошо, что дает эффект вне¬
запности.
Не забудем, что в первом манифесте сюрреализма
Бретон назвал «поэмой» набор вырезанных из газет на¬
званий статей, частей этих названий (каждая строка
набрана особым шрифтом — «вырезана из газеты» —
что усиливает впечатление независимости каждой из них
от контекста):
Поэма
Взрыв смеха
Сапфира на острове Цейлон
Садше прекрасные пятна
имеют поблекший свет
1 Ье уегз 1гапда15 аи XX з1ёс1е. Рапз, 1967, р. 27.
60
под замками
в изолированной ферме
Со дня на день
ухудшается
приятное
Проезжая дорога
ведет вас на край неизведанного
кафе...
И так далее — «поэма» довольно большая. В сбор¬
нике «Ламбард»—раннем, «предсюрреалистическом»—
такие же «геабу-шабе», такие же куски прозы или кус¬
ки реальности, разбросанные по странице наподобие
того, как делал это Пьер Реверди. Меж этими «куска¬
ми», меж строчками и разорванными словами — пустые
пространства, пропуски, коим Бретон придавал особое
значение. Эти пропуски, по его словам, — «движения
мысли, которые я считаю необходимым скрыть от чита¬
теля», ради «любви к неожиданностям».
Ой запз уо1е1з се р1&поп Ыапс. . .
Ь’ауепие еп тёте 1етрз 1е ОиНз1геат. . .
«Свет земли» — сборник, состоящий как из того, что
можно назвать стихами, так и из того, что является бес¬
спорно прозой, «стихами в прозе». Прозаические миниа¬
тюры близки «Магнитным полям». Это пересказ снови¬
дений с разными странностями или же просто громоз¬
дящиеся, наращивающиеся с каждой фразой странности.
СоШё сГипе саре Ъе^е, П сагасо1е зиг ГаШсНе с1е заИп ой с1еих
р1итез с1е рагасПз 1ш Неппеп! Ией сГёрегопз. Е11е, с1е зез ]‘от1игез
зрёс1*а1ез еп Наи1 йез аагз раг1 1а сНапзоп йез езрёсез гауоппап!ез.
Се яш гез!е с1и то!еиг запд1ап1 ез1 епуаЫ раг ГаиЪёрте: а сеИе
Неиге 1ез ргегтегз зсарНапйпегз 1отЬеп1 ёи ае1. 1.а 1етрёга1иге з’ез!
Ьгизяиетеп! аскшае е! сЬ^ие таИп 1а 1ёдёге1ё зесоие зиг поз 1оПз
зез сНеуеих сГапде. Соп1ге 1ез та1ёПсез а ^ио^ Ьоп се реШ сЫеп Ыеи-
а1ге аи согрз рпз йапз ип зо1ёпоТс1е с1е уегге пспг? Е1 роиг ипе Илз
пе зе реи!-11 яие Гехргеззюп роиг 1а у!е (1ёс1епсНе ипе ёез аигогез
Ьогёа1ез с1оп1 зега !аИ 1е 1ар1з с1е 1аЫе с1и Лидетеп! Оегтег?
(С надетым на голову бежевым плащом, он гарцует
на сатиновой афише, где два райские пера заменяют
ему шпоры. Она, из своих специальных сочленений на¬
верху небес выпускает песню сияющих пространств.. То,
что остается от кровавого мотора, заполнено боярышни¬
ком: в этот час первые водолазы падают с неба. Темпе¬
ратура внезапно смягчилась, и каждое утро легкомыс¬
161
лие встряхивает на наших крышах свои ангельские
волосы. Против колдовства зачем эта маленькая синева¬
тая собачка с телом, заключенным в соленоид черного
стекла? И для одного раза не может ли быть, что выра¬
жение «ради жизни» приведет в движение одно из север¬
ных сияний, из которых будет сделан ковер стола
Страшного Суда?).
Приведенное «стихотворение в прозе» (называется
оно «Частная жизнь») относится к числу законченных
прозаических миниатюр Бретона. В нем содержится
некий эпизод, картина, есть и заключение в виде вопро¬
са.. Внешняя формальная завершенность, «обыденность»
«нормального» повествования сама по себе заключает в
себе шокирующую неожиданность — оно резко контрас¬
тирует с «ненормальностью», раздражающей незавер¬
шенностью содержания. Грамматически правильные
фразы, не нарушающие законов синтаксиса, оформляют
вопиющие нелепости. В некоторых случаях можно счесть
образы метафорическими, принять их за тропы, за обра¬
зы с переносным, соотносительным значением. В других
это сделать невозможно: аналогия или совершенно упря¬
тана, или произвольна, или же ее и нет, характеристика
завершается нарочито неподходящим сопоставлением.
Неправдоподобие стало самоцелью. Богатая фантазия
автора подсказывает ему одно немыслимое событие за
другим.
«Автоматически»? Сомнительно. «Автоматическое
письмо» не может организовываться в таких правильных
конструкциях. Конечно, степень намеренности устано¬
вить невозможно, но она не уменьшается, а возрастает
от сборника к сборнику, даже в стихотворениях. Во вся¬
ком случае, от стихов «Магнитных полей» к сборнику
«Свет земли» это очень заметно. Соответственно «Свет
земли» менее «автоматичен», чем «Магнитные- поля»;
даже Бретон отодвигается от той максимально — надо
думать — возможной последовательности в осуществле¬
нии принципа «автоматического письма», которая произ¬
вела на свет божий первый текст сюрреализма. В «Свете
земли» заметнее Бретон думающий и чувствующий.
В «Свете земли» появились элементы связности, элемен¬
ты повествовательности — точно так же, как они.накап¬
ливались в больших прозаических произведениях Брето¬
на. Бретон склонен теперь к тому, чтобы поделиться в
своих стихах своими грезами.
162
Разобщенные животные путешествуют вокруг света
И спрашивают дорогу у моей фантазии
Поскольку она тоже путешествует вокруг света
Но в обратном смысле...
Бретон занялся сочинением мрачных сюрреалистиче¬
ских небылиц; иные из них — словно сказки Мюнхаузе-
на-сюрреалиста.
... Моя рука свисает с неба с цепочкой звезд
Снижающейся со дня на день
И первая ее частица сейчас исчезнет в море...
... Отправляясь я поджег прядь волос которая была прядью
бомбы
И прядь волос роет тоннель под Парижем
Если только мой поезд войдет в этот тоннель...
Как обычно у французских сюрреалистов, космичес¬
кое пространство в стихах Бретона чередуется с париж¬
скими площадями и улицами, а «чудесное» предстает
в облике «путешественницы, которая пересекла Цен¬
тральный рынок с наступлением лета». Знакомый па¬
рижский пейзаж преобразован воображением поэта,
воображением, в котором все громче звучит голос стра¬
стей, очеловечивающих даже поэзию Бретона. Правда,
женщины остаются в этой поэзии «стадом, которое гонят
животные сказочные». Но тем не менее, именно благо¬
даря им стихи Бретона все больше становятся похожими
на стихи.
Бретон редко «каламбурил» — лишь в начале твор¬
чества. Его поэтическая строка быстро стала спокойно¬
прозаической, описательной, грузной, а стихотворение —
цепью таких тяжелых фраз, нарочито неизящных, угло¬
ватых и словно бы сырых.
С’ез! аизз1 1е Ъа&ие ауес зез ЪгёсНез Ыопбез сошше ип Нуге зиг
1ез депоих б’ипе ]‘еипе П11е. Тап161 И ез! Гегшё е! сгёуе бе рете 1и-
1иге зиг 1ез гешоиз (Типе тег а р1С. 11п 1опд зПепсе а зшу1 сез теиг-
1гез. Ь’агдеп! зе беззёсНе зиг 1ез госНегз. Ршз зоиз ипе аррагепсе бе
Ьеаи1е ой бе га1зоп соп!ге 1ои1е аррагепсе аиззи Е1 1ез беих татз
бапз ипе зеи1е ра1ше. Оп уоН 1е зо1Г. ТошЬег соШег бе рег1ез без
шоп!з. 5иг ГезргЛ бе сез реир1абез 1асНе1ёез гёдпе ип агпоиг 51
р1ашШ. . .
Приведенный отрывок — это не проза, это начало
одного из стихотворений сборника «Свет земли». Стихо¬
творение умышленно переписано нами без разбивки на
поэтические строки, однако, найти принципы этой раз¬
163
бивки, почувствовать ритм стиха Бретона вряд ли кому-
нибудь удастся. Отличие от «стихотворения в прозе»
здесь разве что в сокращении описательности, в чередо¬
вании фраз разного размера, среди которых немало
кратких, в едва уловимой, подавленной эмоционально¬
сти, в налете лиризма, искавшего путь для выхода и
пробивавшегося, несмотря на запреты. А когда он про¬
бивался,' тогда возникали не лишенные силы и значи¬
тельности стихотворения. Например, «Лучше жизнь»,
с ее неожиданным пафосом, с упорным повторением за¬
главной строчки, придающей стихотворению необычную
для Бретона эмоциональную окраску и привносящей —
что тоже, конечно, необычно для сюрреалиста — опреде¬
ленную, защищаемую поэтом идею.
Но выше всего ценя воображение, которое подменяет
собой реальность и следует за всемогущим случаем (об
этом он размышлял в прозаическом введении к сборнику
«Револьвер с седыми волосами»), Бретон мало что изме¬
нил в своей поэзии после сборника «Свет земли», от на¬
чала 20-х годов к 30-м годам. И «Револьвер с седыми
волосами», и последующие циклы — тоже «магнитные
поля», тоже «запуски зонда», приносящие читателю то
менее, то более невразумительный текст, который может
быть и ничего не выражает. И уже не звучит внезапно
прорвавшееся некогда предпочтение жизни, звучат те¬
перь слова пренебрежения к ней — «я не придаю ника¬
кого значения жизни». Значение придается «морским
анемонам», которые «дышат внутри моей мысли» и про¬
исходят из «шагов, которые я не делаю». Вновь и вновь
нагнетаются сюрреалистические небылицы, знаменующие
превращение реальности в местопребывание «чудесного».
Бабочка философская
Присела на розовой звезде
И так возникло окно в ад
Мужчина в маске все стоит перед женщиной
обнаженной
чьи волосы скользнули как утром свет
на фонарь который забыли потушить...
В карусели сбивающих с толку образов сливаются
границы реального и нереального, даже границы жизни
и смерти — «только что умерли, но я живу, а между тем
души я больше не имею». «Материя исчезает», она ста¬
новится прозрачной пеленой, через которую прогляды¬
вает сбившийся с толку мир, растерявший все свои зако¬
164
номерности и предоставленный не ограниченной ничем
власти случая, всемогущей случайности. И самого себя
поэт ощущает чем-то ирреальным, потерявшим все, даже
тень свою. Осталась лишь женщина, которая «держит
в руках букет -иммортелей в форме моей крови». Стихи
содержат описание противоестественных состояний, уди¬
вительных происшествий и странных ощущений поэта,
который сам преобразуется в деталь обезумевшего, из¬
ломанного мира, почти совершенно бесстрастно фикси¬
руемого в фразах-констатациях, фразах-описаниях, фра¬
зах прозаической поэзии Бретона, для котопой и колла¬
жи не кажутся инородными телами.
В отличие от ранних стихав Бретона, стихи сборника
«Револьвер с седыми волосами», как правило, сюжетны,
в них нечто происходит, рассказывается часто некая
история. Становясь от этого чуть более понятными, чем
«магнитные поля» начала 20-х годов, стихотворения
30-х годов делают более наглядным не что иное, как тор¬
жествующую нелепицу. Именно наглядным — поэзия
Бретона сближалась с сюрреалистической живописью,
все более походила на описание картины, все заметнее
рассчитывала на эффект зрительный. Вольно или неволь¬
но, но хочется представить себе, увидеть то, что рисует
Бретон: в каждом из стихотворений, описательных, мно¬
гословных, наращивающих с каждой фразой деталь за
деталью, хотя, как правило, детали эти трудно подго¬
няются одна к другой, а то и вовсе не подходят друг
к другу.
Сборник «Ветер воды» тоже состоит из стихотворе¬
ний, воспроизводящих ту или иную историю, то или иное
приключение. Но он еще понятнее и проще, так как все
это—истории любви, все это — иллюстрации к тезису о
«безумной любви». Ссылаясь на маркиза де Сада, Бретон
провозглашает свободу в любви, свободную любовь,
и все -краски мира теперь берут начало в «ней», в же¬
ланной, весь мир становится отражением страсти
(«мир — в поцелуе»). Конечно, и здесь господствует
сюрреалистическая риторика, стихи загромождены пыш¬
ной и тяжеловесной образностью. Но все же этот цикл—
еще одно доказательство того, как полезно для поэзии
возвращение к лиризму, к истинному и искреннему
чувству.
Но лиризм был контрабандой в поэзии Бретона. За
сборником «Ветер воды» последовали поэмы «Открытый
165
простор» («Р1ете таг^е», 1940), «Фата Моргана»
(«Ра1а Мог^апа», 1940), «Генеральные штаты» («Без
Е1а1з ^ёпёгаих», 1943), «Ода Шарлю Фурье» («Ос1е а
СЬаг1ез Роипег», 1945). Наряду с привычными, довольно
сухими и рассудочными сюрреалистическими упражне¬
ниями в этих произведениях появилось и нечто новое,
зародился заметный эпический элемент, обнаружилось
желание о чем-то рассказать, даже поразмыслить, под¬
вести итоги. В «Оде Шарлю Фурье» внезапно возник
даже «герой», «эпический церой», появилась тема как
обозначение объективной реальности, о которой идет
теперь речь. Все это, само собой разумеется, противоре¬
чит сюрреалистическим принципам. Возникает и непри¬
вычная связность текста, становящегося местами более
чем «нормальным».
«... Среди мер, которые ты провозглашал, чтобы установить
равновесие в народонаселении
(число потребителей, пропорциональное производительным
силам)...».
В таких местах поэма мало общего имеет и с поэзией.
В «Оду Шарлю Фурье» хлынула проза, заполонили
текст коллажи, возникли «справки» о дружбе, о люб¬
ви, семье и т. д., появились цитаты и комментарии к ним.
Бретон присоединяется к Фурье, настаивая на том,
что «улучшение человеческой участи происходит, только
очень медленно». «Я приветствую тебя из Невады иска¬
телей золота, из земли обетованной»,—возглашал Бре¬
тон, добавляя к этому: «потому что все более и более
теряется вкус к празднеству». Кроме того, Бретон при¬
ветствовал Фурье и от имени сюрреализма, во имя сюр¬
реализма, сочтя, что тот смог понять его основополагаю¬
щие идеи («потому что ты понял»), понять, что «состоя¬
ния души сверхземные (речь не идет о том, чтобы
перенести их в иной мир, но повысить их значение в этом
мире) должны поддерживать более тесные отношения с
простыми состояниями, инфраземными, сном, чем с зем¬
ными, с бодрствованием...».
Бретон никогда не упускал возможности подтвердить
свои принципы. В 1960 году он составил цикл «Бе 1а»
из «фраз или обрывков фраз, рожденных во сне». Бретон
написал, что они обладают для него «огромной ценой».
Вот эти сюрреалистические «драгоценности»:
166
Ь’О3 6оп1 1е с^иетеп! с1е реаи гёзМе еп Ги1 ша]еиг
соште ипе тоуеппе.
(ночь с 27 на 28 октября 1951 г.).
Ьа 1ипе соттепсе ой ауес 1е сИгоп Пт! 1а сепзе.
(ночь с 6 на 7 февраля 1953 г.).
Оп сотрозега бопс ип ригпа! с1оп1 1а з1дпа1иге, сотрН-
Яиёе е! пегуеизе, зега ип зоЬЩие!.
(ночь с 11 на 12 мая 1953 г.).
51 уоиз У1Уег Ызоп Ыапс сГог пе 1аИез раз 1а соире
бе Ызоп Ыапс сГог.
(ночь с И на 12 апреля 1956 г.).
Это и есть та истина, к которой Бретон пришел в на¬
чале пути — «в 1919 году мое внимание привлекли фра¬
зы..., которые в полном одиночестве, при приближении
сна, становились доступными для сознания, но без того,
чтобы было возможным обнаружить намеренное их
предопределение... Я сначала ограничился тем, что их
запомнил. Позже Супо и я решили намеренно вызвать
в себе состояние, при котором они возникали...». Ничего
за сорок с лишним лет не изменилось — те же «ценно¬
сти», несмотря на декларированное Бретоном почти
немедленно, на заре деятельности сомнение в «автома¬
тическом письме». Это и есть истинный сюрреализм. Но
истинно значительное, созданное примыкавшими к Бре-,
тону поэтами, — мало похоже на эти «драгоценности»,
и чем меньше, тем больше похоже на истинную поэзию.
Арагон-поэт формировался под прямым влиянием
французского кубо-футуризма, под влиянием Аполли¬
нера и Реверди. Он ближе к этой линии в сюрреалисти¬
ческой поэзии 20-х годов. Первый из поэтических сбор¬
ников Арагона «Огонь радости» («Реи бе .|(ле») вышел
в 1920 году. Сборник соответствует периоду первого
образца арагоновской прозы, периоду «Анисе, или Пано¬
рамы». Можно сказать, что и «Огонь радости» написан
«до сюрреализма», на ближайших к нему подступах.
Можно представить себе, что написан он героем первого
романа Арагона, молодым человеком, склонным к «ма¬
лоприличным крайностям». В сборнике господствует
юношеский задор, стихи переполняет радость, поэт от¬
кровенно забавляется, отдается игре чисто внешних,
звуковых ассоциаций, сочиняет каламбуры, любуясь воз¬
никающими неожиданностями и эффектными нелепостя¬
ми. Часть стихов сборника — демонстрация юмора и
ничем не ограниченного «дадаистского» * произвол а.
167
\Пе йе Леап-Вар!1з!е А***
1йпе ошЬге аи шШеи (1и зо1еП йог!
зо1еП й’ог
Йеап-Ваг!
йапз Гауепие аих са!а1раз
Ма1з раМепсе
Еп се !етрз ]‘е п’ё!а1з раз пё
Ье !гат гераг!
КОЗА 1а гозе е! се дой! й’епсге 6 топ еп!апсе
Са1си1ех Соз. а
еп !опс!юп йе
Ма з'еипеззе Арёго ^и’ а рете оп! арегди
1ез д!асез й’ип са!ё (аззез йе !ап! йе тоисЬез
Леипеззе е! ]е п’а1 раз Ьа1зё !ои!ез 1ез ЬоисНез
Ье ргегшег агпуё аи !опй йи согпйог
.1 23456739 10 МОКТ
11пе ошЬге аи тШеи йи зо1еП йог! с’ез! ГоеП
Далеки от философической поэзии Андре Бретона
арагоновские каламбуры, предваряющие поэзию Дес¬
носа.
Строгий, регламентированный французский стих рас¬
сыпается под пером Арагона, который распоряжается
им, как хочет, бросая вызов каким бы то ни было «пра¬
вилам». Стих Арагона свободен, абсолютно свободен, он
отражает анархистскую настроенность поэта, его прене¬
брежение к традициям и авторитетам. Стихи нарочито
неслаженны, на фоне традиционной симметричности
бросается в глаза акцентированная ассиметрия, нет
рифмы, трудно уловим, а порой неуловим ритм. Размер
и синтаксис перестали быть строго взаимосвязаны, фра¬
за приобрела самостоятельность, оторвалась от строчки,
свободно размещается в стихотворении, дробясь, ло¬
маясь, создавая и поддерживая ассиметрию, делая поэ¬
зию прозаической. Такая прозаичность, аскетизм стихо¬
творения, его сухость близки Реверди, как и ломка
синтаксиса, непринужденное обращение со структурой,
дробление строк на части, на отдельные слова, которые
не всегда связаны друг с другом и выступают в тексте
как куоки сырой, необработанной материи, как обозна¬
чение, перечисление состояний.
Уо1ир!ё Бё]еипег йе зо1еП
йе те теигз ЗаНуе 5©ттеП
Зоппег Ма!тез
Намеренная, дадаистская «кретинизация» всего,
вплоть до собственного облика, сдерживалась в поэзии
Арагона подспудным лиризмом и пробивающимся вре¬
менами стремлением сказать что-то всерьез. Лиричес¬
кий герой сборника «Огонь радости» — завсегдатай
улиц современного шумного города; его чувства, прежде
всего чувство любви, о котором особенно часто говорит¬
ся, реализуются в обстановке заурядных меблированных
комнат и баров. Нередко эти чувства окрашены юмором.
Но порой интонации резко меняются. Так, в стихотворе¬
нии «Бледная личность» внешняя сухость и аскетизм
образа акцентируют состояние «несчастного как камни»
человека, сжавшегося от страдания, от одиночества в
м'ире, в котором нет тепла, нет сочувствия и правды.
В самом большом, посвященном Пьеру Реверди, стихо¬
творении «Утренний подъем» — те же тоскливые ноты,
то же ощущение враждебного мира, который вторгается
в минуту, когда человек еще не вполне проснулся, когда
он во власти ночных грез. Он не освободился еще от
власти сна — и он сопротивляется начинающемуся дню,
его прозе, которая здесь оказывается не кубистичеокой
стилистикой, а приметой безрадостного существования,
«узкой жизни». Поэта одолевает желание выразить раз¬
дражение, стукнуть по столу, продемонстрировать свои
чувства к «людям с квадратными челюстями» — нечто
примитивно-буржуазное вырисовывается в облике той
жизненной прозы, которой поэт противопоставляет кра¬
соту, создавая напоминающую об «Анисе» романтичес¬
кую ситуацию.
В 1970 году сборники стихов Арагона «Огонь радо¬
сти» и «Вечное движение» были изданы после почти
полувекового перерыва. В это издание Арагон включил
девять неизданных «автоматических» сюрреалистических
текстов. Тексты эти были написаны Арагоном в 1919—
1920 годах, т. е. в момент возникновения «Магнитных по¬
лей», что подтверждает значение этого момента для
истории сюрреализма, для формирования сюрреалисти¬
ческой поэтики. Образцы арагоновского «автоматичес¬
кого письма» гораздо более лиричны, чем «Магнитные
поля», они ближе «бормотаниям» Десноса. Они и напи¬
саны были — если можно сказать «написаны», скорее
«выговорены» — по большей части в кафе. Каждая из
девяти сюрреалистических миниатюр Арагона имеет на¬
звание, «тему», но тема развивается, точнее опровер-
7 Л. Г. Андреев.
169
г&ется в потоках бессвязных образов, нагнетающих
невозможные, неподходящие определения.
И все же даже эти тексты, которые Арагон считал
образцами сюрреалистического «автоматизма», недоста¬
точно для сюрреализма серьезны. Бессвязность у Араго¬
на— нелепица, за которой нет смысла искать «сюрре-
альности», за которой не возникает даже тот эмоцио¬
нальный эффект, который производят истинно сюрреа¬
листические тексты, заставляющие что-то ощущать.
Надо согласиться с тем, что «хотя Арагон не отстраняет
технику автоматического письма, он не желает согла¬
шаться с постулатами Бретона. Он не признает, что
при отсутствии контроля наше разнузданное слово об¬
нажает наше сердце, нашу внутреннюю сущность или
что при пассивном состоянии обнаруживается нечто
абсолютное и следовательно окончательное...» К С по¬
мощью «удивления» Арагон предпочитал создавать
«эффекты», а не «сюрреальность». «Сердце», внутрен¬
нюю сущность Арагон временами дает нам ощутить —
но в стихах, уклоняющихся от постулатов Бретона.
Упражнения Арагона в «автоматическом письме» не
отклонили его от кубистской, аполлинеровской традиции.
Это. подтверждается вторым сборником стихотворений
Арагона — «Вечное движение» («Ье Моиуетеп! регрё-
1ие1», 1924). Правда, в большом вводном стихотворении
«Глубокий сон» поэт излагает предпосылки сюрреали¬
стического образотворчества, рассказывает о погруже¬
нии «в подземное царство сна», что одновременно озна¬
чает «возвращение в детство». Находясь в состоянии
между сном и явью, поэт по-особенному видит мир,
осознает в «себе особые способности к его преображению
с помощью всемогущей грезы.
Но и это в общем предпосылки, не получившие долж¬
ной поэтической реализации. Подтверждения сюрреали¬
стических принципов нет даже в прозаическом фрагмен¬
те «Луи», который ничем не отличается от неопублико¬
ванных до 1970 года упражнений в «автоматическом
письме». Не случайно сборник «Вечное движение» раз¬
ностилен, «разношерстен». То возникает рифма, стихи
складываются почти по традиционным «правилам», то
они пропастью отделены от какой бы то ни было «пра¬
вильности».
1 О а V111 е I А. 1.а Ш1ёга1иге аи с1ёП. Агадоп 5иггёаНз1е. Ра-
пз, 1957, р. 163,
170
По-прежнему Арагон с увлечением отдается игре
слов, звуков, образов. В сборнике немало прозаических
миниатюр, в две-три фразы, чего-то вроде дадаистских
ребусов или загадок, немало шуточных песенок, есть
«невежливые» диалоги («Что значит говорить? Сеять
белые камни, которые съедят птицы» и т. д.), громоз¬
дятся всяческие несуразности («пожертвуем быками на
деревьях женщин тела в полях красивые трогательные
яблони...»). Уже знакомый нам алфавит, переписанный
Арагоном и названный «Самоубийство» украшает «Веч¬
ное движение». Здесь же другое известное арагоновское
антипоэтическое «геайу-табе», «стихотворение» «Став¬
ни» («Рег51еппез»).
решеппе
решеппе
решеппе
Решеппе
Решеппе
решеппе
решеппе
решеппе
Решеппе
Решеппе?
решеппе
решеппе
решеппе
Решеппе
Решеппе
Решеппе
решеппе
решеппе
решеппе
Решеппе
В финале сборника «стихотворение» «Агпёге-реп-
зёе», которое выглядит так:
Агпёге
II
Репзёе
Но смысл «Вечного движения» — не только в бес¬
смысленной, озорной игре, в отрицании. Смысл в иро¬
нии, в сферу которой все‘заметнее включается и «я»
поэта, тот самый «Луи», изо рта которого так легко
«вылетают кузнечики», тогда как ожидаются сюрреали¬
стические откровения. Смысл в сатирических интонаци¬
ях, например, «монолога» «Солнце Аустерлица» (с та¬
кими заключительными строчками: «Идеалом для нас
будет смех мой безумный и мое безумие, а солнцем —
зубы мои») или фривольных куплетов «Песни Прези¬
дента Республики».
Смысл сборника — и в пробивающемся лиризме (на¬
пример, стихотворение об Аполлинере «Благоухающий
воздух»). Смысл — в нагнетающихся тонах неуверенно¬
сти, разочарования, печали. «Я лгу и я ем», — сообщает
7*
171
поэт о своих занятиях в стихотворении «Поэзия». В сти¬
хотворении «Вид времени» (из «Вечного движения») до¬
минирует несвойственная периоду «Огня радости» го¬
речь. Там возникает облик человека, который полумерт¬
вый, полусонный влачит свои дни, теряя время, убивая
время. Утешением для него служит мысль о том, что
однажды наступит смерть и не придется более говорить
с собою по ночам, слушая жалобы камина. За¬
мыкается стихотворение коротким, как приговор, словом
«глупец».
В посвященном Бретону стихотворении «Путь бунта»
все первоначально опирается на категорическое отрица¬
ние, с которого начинается каждая строка. Подбор от¬
рицаемых понятий таков, что не остается сомнений
в том, что бунт Арагона «абсолютен», в духе авангар¬
дистской «тотальности». Тут все — от солонки до семьи
и бога. Но во второй строфе категорическому «нет» про¬
тивопоставляется столь же категорическое «да». Утверж¬
даемых ценностей меньше: к ним относятся «я» и «же¬
лание» с соответствующим антуражем.
Вот это «да» все более уверенно заявляет о себе в
поэзии Арагона. Заметно это на следующем цикле сти¬
хов «Судьбы поэзии» («Без ОезИпёез бе 1а роёз1е»),
который относится к 1925—1926 годам. Здесь воцаряет¬
ся любовь, но не в виде сюрреалистического «желания»,
а в виде нормального, вдохновляющего поэта чувства.
Надо обратить внимание на обилие «нормализующихся»
поэтических форм в этом сборнике, стихов с рифмой,
традиционной строфикой, песенными ритмами. Заметно,
что поэзия вытесняет дадаистскую и кубо-футуристскую
прозу. Ни о каком сюрреализме не приходится говорить
применительно к «мадригалам», шутливым обращениям
к женщинам, окрашенным в сентиментальные тона, при¬
менительно к любовным, нередко ироническим куплетам,
к пасторалям, в которых «гёуез» — просто любовные
и прочие томления, возникающие весной (стихотворе¬
ние «Рождение весны» и др.)*
В «Судьбах поэзии» немало стихотворений шутливых.
Арагон воспевает рыцарей в «Поэме плаща и шпаги»,
но попутно оповещает, что «уже давно метро не ходит».
Святой Себастьян, «выдернув стрелы» из .своего тела,
ищет галстук («я его сюда засунул», — уверяет святой).
Всевозможные не совсем обычные занятия в стихотворе¬
нии «Голубая мечта», которые хотя бы отчасти могли
172
сойти за странности сюрреалистические, оказываются
всего лишь шуткой, поскольку в конце стихотворения
сообщается, что предавался им «добрый король Даго-
бер». Арагон в шутливых тонах рисует «авангардист¬
ские» развлечения (стихотворение «Сила», посвященное
М. Дюшану), пишет несерьезные обращения к соратни¬
кам («К сливам», адресовано Бенжамену Пере). В «Доб¬
ром мартовском пиве» непочтительно изображен «папа¬
ша министр финансов» на фоне его дочки-«сирены».
Арагон все время сворачивает к живому, неподдель¬
ному чувству любви, покидая колею дадаистского
нигилизма и не закрепляясь в колее сюрреалистической
зауми, хотя во все эти направления его в те годы явно
влекло. Абстрактные и причудливые картины в сборнике
«Судьбы поэзии» чаще читаются как поэтические, мета¬
форические картины чувства, чем как картины «сюрре-
альности». Нередко эти картины шуточные, «розыгры¬
ши». Таково стихотворение «Где верпТины возвышаются
над сном» — диалог с этими вершинами, пригласившими
поэта к себе, но вслед за этим покорно опустившимися
на колени. Несерьезно стихотворение «Бесконечное оди¬
ночество», хотя тема его для сюрреалиста могла быть
более чем серьезной.
Наиболее сюрреалистичны два больших заключитель¬
ных стихотворения цикла «Судьбы поэзии». «Ад пере¬
полняет зал» может быть прочитано как буквальное вос¬
произведение (подобно «Утреннему подъему») момента
пробуждения, начала освобождения от ночных кошма¬
ров («меня преследуют графины...» и т. п.), выхода к
«дню», еще затуманенному рожденными в подсознании
порывами, желаниями и грезами. Второе — «Голод че¬
ловека» — гораздо более нарочито, поэт явно сочиняет
небылицы, отдаваясь как обычно игре образов и звуков,
свободно по дадаистской традиции обращаясь при этом
с языком.
... РоооИе о Го11е & гшсН
Зеле аи сле1 аизз1 51 ЦЕ 50ЬЕ1Ь
Кои1е гёго Ьогз <3ез пиадез
Спе а\%и 1е спте е! ГёсНо
О ёсЬо оо зо1еП зопоге. . .
В таких и подобных стихах смысл трудно уловить,
ибо не столько смысл определяет фразу, сколько игра
173
слов, их звуковые соответствия и смысловые несоответ¬
ствия формируют фразу, создают эффект «удивления».
«Я распростерт я распростерт путями странными тень
моя расплетается и все искажено» — вот так царит «я»
в мире, безропотно подчиняющемуся воле поэта, его
капризам, его фантазии. А далее ему остается просто
произносить любые глаголы, сочетая их не по смыслу
(нет такого объективного смысла в мире, где распоря¬
жается фантазия поэта), а по звучанию
. . . Воиде Ьоиде Ьоиде
Уегзе регсе сагеззе
ВгШег тоипг 1гетЫег. . .
Набор глаголов призван выполнить роль сюрреалисти¬
ческой «считалки», роль заклинания, «сюрреализирую-
щего» действительность.
Обратим внимание на то уныние, которое сопровож¬
дает подобного рода упражнения Арагона, на ту ноту
искренней печали, которая вырывается к концу стихо¬
творения. Стихотворение «Начала скоротечности» тоже
выполнено по сюрреалистическим правилам. Нечто зага¬
дочное и зловещее вырисовывается из действий, напоми¬
нающих о сюрреалистическом ритуале — о «казни», ко¬
торой подвергается «я», о топоре, «отрубающем послед¬
нюю минуту», о луне, которая «действительно верит, что
собаки ее растерзают». Но не «сюрреальность» приот¬
крывается в стихотворении — приоткрывается сердце
поэта, разочарованного, страдающего, абсолютизирую¬
щего свое страдание, свой разрыв с людьми, с землей,
с жизнью.
Эта интонация искренней боли нарастала в поэзии
Арагона, соседствуя с беззаботными и озорными стиха¬
ми в дадаистском стиле. В сборнике «Великое веселье»
(«Ьа ^гапс1е ^аИё», 1929) есть стихи истинно трагичес¬
кие, демонстрирующие серьезность озорного Арагона,
нараставшие противоречия Арагана-сюрреалиста, кото¬
рые вскоре вывели его за пределы сюрреализма. Да и
что от сюрреализма в таких вот признаниях (стихотво¬
рение «Без семьи»):
Быть может в звездах знак
Порой и отвечал моим потраченным напрасно поцелуям
Я это не узнаю...
174
Нет и следа «веДикого веселья» в «Стихотворений,
которое надо кричать среди руин» («Роете а спег бапз
1ез гшпез»):
Мы оба плюем мы оба
На все что любили мы
На все что любили мы оба...
Здесь горечь, подлинное страдание, здесь есть некие
«гвы» или «они», вызывающие у поэта отвращение и же¬
лание выкрикивать слова отчаяния и «плевать на все».
Здесь есть потребность в чем-то истинном, пока не най¬
денном, пока опошленном. Может быть, это поэзия, а
может быть, это любовь. Любовь не оплеванную Арагон
воспоет позже, когда порвет с сюрреализмом и когда
восстановит в своих правах поэзию.
Чтобы верно оценить сюрреалистическую фазу поэ¬
зии Поля Элюара, нужно представить себе, с чего он
начинал, что было до сюрреализма. Первые сборники
стихов Элюара — «Долг, и беспокойство» («Ье беуо1г е1
Пгцшё1ис1е», 1917) и «Стихи для мира» («Роёшез
роиг 1а ра1х», 1918). Тогда именно сложился элюаров-
ский вариант простоты в поэзии, утвердился жанр не¬
большого стихотворения, очень конкретного, афористич¬
ного, старательно очищенного от всего, без чего можно
обойтись, стиль почти разговорный, стиль непосредствен¬
ного общения — как бы видится собеседник поэта, как
бы предполагается тот человек, о котором и с которым
Элюар беседует о вещах важных словами обыденными,
простыми. Этот жанр так и перекочевал в сюрреалисти¬
ческие сборники Элюара через переходные циклы.
В 1922 году вышел иллюстрированный Максом
Эрнстом цикл «Повторения», вошедший затем в сборник
«Средоточие боли» («СарИа1е бе 1а с1ои1еиг», 1926).
Все здесь по-прежнему миниатюрно, афористично, до
предела сжато. Стихи — противоположность дадаист-
ской громоздкости и многословию. Иногда они — в две-
три строки. И просты они внешне как будто по-преж¬
нему. Но простой, порой даже вроде бы примитивный,
вроде бы инфантильный стих Элюара начинает терять
контакты с читателем, «собеседник» поэта исчезает,
стих замыкается, абстрагируясь до степени поэтической
формулы, до степени квинтэссенции, отвлеченной от ре¬
альных прототипов образа и конкретных обстоятельств.
175
«Героями» стихов оказываются абстрактные состоянии
духа и внезапные уподобления. Вот подстрочник стихо¬
творения «Открытая дверь»:
Жизнь очень приятна
Идите ко мне, если я к вам иду, так это игра,
Ангелы букетов цветы которых меняют цвет.
(Ьа У1е ез! Ыеп а1таЫе
Уепег а то1, 51 ]е уа1з а уоиз с’ез! ип ]еи,
Ьез ап^ез без Ьоичие1з боп! 1ез Иеигз сНапдеп! бе сои1еиг).
Быть может, перевод в подстрочнике плох, неточен.
Но ведь стихотворение само по себе таково, что невоз¬
можно сказать, что точно, а что нет. Поэзия Элюара
становится к началу 20-х годов суггестивной, в ней есть
недоговорка; «видимый мир» словно заслоняет ино'й,
более важный, на который намекает сама неопределен¬
ность, отвлеченность стиха, его экстравагантность, вне¬
запность ассоциативных образов. Неясно — что-то про¬
исходит в каждом из стихотворений, или же все, что в
нем сообщено, — лишь развертываемая метафора, лишь
символ, «поясняющая» часть которого снята, выпала.
Следующий цикл был посвящен Андре Бретону; в са¬
мом названии содержится заявка на сюрреалистическое
мышление поражающими антитезами — «Умирать от
неумирания» («Моипг Не пе раз гсюипг», 1924). В цикле
появляются «бретоновские» темы — любовь, сны, снови¬
дения, грезы, наслаждение. В стихах и в прозаических
миниатюрах Элюар знакомит со спящими, со снами.
Наращиваются, наплывают образы, ассоциации. В ряде
стихов Элюар описывает впечатление от полотен извест¬
ных художников-сюрреалистов; иные из его стихов со¬
держат подобие странного сюрреалистического пейзажа,
преображенное грезами пространство.
Но странное обстоятельство: второй цикл из сборни¬
ка «Средоточие боли» менее абстрактен, чем первый.
Темы любви, грез привнесли в поэзию Элюара живую,
эмоциональную струю. Обращает на себя внимание
строгая форма стихов Элюара, возрождающих изредка
даже элементы «правильного» стиха, традиционной рит¬
мики, рифму; временами сохраняется пунктуация. Стро¬
гость формы содержательна — Элюар остается поэтом-
мыслителем, он не растворяется в необузданном обра-
зотворчестве. Стихи Элюара — явно не плод «автомати¬
ческого письма»; они слишком для этого чеканны, в них
176
почти не наблюдается небрежности, неотделанности, ко¬
торые должны быть и были неизбежными спутниками
«автоматизма».
Что касается странных, смещенных образов, на пер¬
вый взгляд достаточно сюрреалистических, то иные
из них можно счесть метафорическим изображением
сильного чувства, охватившего поэта. «Возлюбленную»,
«на веках стоящую» можно представить буквально, мож¬
но «увидеть» сюрреалистическую фантасмагорию, а
можно просто-напросто представить себе, что поэт глаз
не сводит с любимой, вплоть до ощущения физического
ее присутствия «на .веках»; она словно бы «в глазу
застряла». «У нее форма рук моих» — здесь можно «уви¬
деть» двойной сюрреалистический образ, «женщину-
ладонь» (такой рисунок есть у американца Мана Рея),
а можно просто представить себе ощущения ласкающе¬
го возлюбленную поэта.
Но порой странности набегают волной, захлестывают
элюаровские миниатюры, создавая «магнитные поля» —
«проветренная икона, которая сопрягается изолирован¬
но, может предоставить решающее место наиболее лож¬
ной из овальных корон...»; «жемчужина, которую он не
дал тебе, потому что она была у него в конце жизни, он
не знал еще ее музыку, он не мог более бросать на воз¬
дух, он потерял иллюзию солнца, он не видел более
камня твоей обнаженности...». Особенно стихи в прозе
фиксируют такие вот потоки, такие загадочные эпизо¬
ды. В них часто фигурирует «она», скорее «ипе» т. е.
«некая», не столько женщина — она возникает и испа¬
ряется— сколько точка, к которой устремлены чувства
и желания поэта, опорный пуйкт, вокруг которого наг¬
нетается сюрреалистическое состояние. «Она» тоже пе¬
реносится в абстрактно-философский план, в план ка¬
тегорий и понятий, к которому тяготеет поэзия Элюа¬
ра— там действует «человек», «земля», «ночь», «он»,
«она».
Элюар постоянно объединяет абстрактное с конкрет¬
ным. Молчание он «целует в губы», ласкает «горизонт
ночи»; «потеря» имеет у него «перья», «апофеоз» —
«прекрасные белые стены» и т. п. Доминирует жанр па¬
рабол, содержание которых таит в себе нечто абсолют¬
ное и нечто поучительное, часто возникает даже замы¬
кающий вывод, сентенция. «Сюрреальность» Элюара в
общем-то очень рациональна. От сухости и сюрреали¬
177
стической заумности Элюра спасает, однако, все та же
любовь — вдруг прорвется сильная и искренняя нота, и
Элюар скажет*
. Я пою великую радость тебя воспевать...
Чистоту ожидания, невинность познания...
В 1925 году Элюар вместе с Б. Пере написал и опу¬
бликовал «152 пословицы»—152 афоризма в духе сюр¬
реализма, содержащие какие-нибудь шокирующие неле¬
пости. Среди них:
Слоны заразны.
Кюре всегда пугливы.
Холодное мясо не погасит огня.
В буфете постоянно скелет.
Я пришел, я сел, я ушел.
В следующем, 1926 году, был написан небольшой
цикл стихов в прозе «Изнанка жизни». («Без беззоиз
сГипе У1*е»). Цикл этот заслуживает упоминания, ибо
был осужден Андре Бретоном как посягающий на сюр¬
реалистические нормативы. А посягал он потому, что
Элюар расчленил входящие в цикл миниатюры на «ре¬
альные», содержащие любовную мечту, и «нереальные»,
сюрреалистические, из коих исключен «осязаемый мир»
(1е топбе зепз1Ые). Таким образом, Элюар вдруг изме¬
нил бретоновской установке на растворение поэзии в
сюрреалистическом акте и выделил ее как особую цен¬
ность. Выделилась как ценность и любовь. Заметим —
ак^ «непослушания» дал хорошие, искренние, человеч¬
ные «стихи в прозе».
В 1929 году появился сборник «Любовь поэзия»
(«Б’атоиг 1а роёз1е»), вобравший в себя некоторые цик¬
лы, опубликованные в 20-е годы. Это поэзия любви.
И вновь любовь отодвигает элюаровскую «сюрреаль-
ность», прорываясь как живое человеческое чувство че¬
рез абстрактность, изощренность и витиеватость элюа-
ровского мышления, через те «окольные» пути, которые
все время прокладывает Элюар, поскольку он тоже
сдержим страстью к свободным словесным ассоциациям
и к причудливым метафорам. «Объяснения в любви» у
Элюара выглядят, например, так:
Т01 1а зеи1е е! ]‘’еп1епс15 1ез ЬегЬез с!е 1оп пге
Т01 с’ез! 1а Ше яш Геп1ёуе
Е1 <3и Ьаи{ с!ез ёап^егз с!е тспЧ
178
§иг 1ез дЬЬез Ьгои111ёз (1е 1а р1ше с!ез уаНёе§
5оиз 1а 1игшёге 1оиг(1е зоиз 1е ае1 (1е 1егге
Ти еп!ап1ез 1а сЬи1е.
Ьез о1зеаих пе зоп1 р1из ип аЬп зиШзап*
N1 1а рагеззе т 1а {аИ^ие
1^е зоиуешг с!ез Ьо1з е! (1ез ги1ззеаих !гадИез
Аи таИп с!ез сарпсез
Аи таИп без сагеззез У151Ыез
Аи дгапб таПп (1е ГаЬзепсе 1а сЬи1е.
Ьез Ьагциез с!е 1ез уеих з’ёдагеп*
Оапз 1а <3еп1е11е с!ез сПзрагШопз
Ье дои!!ге ез1 бёуоПё аих аи1гез (1е Гё1е1пс1ге
Ьез ошЬгез ^ие 1и сгёез п’оп! раз <ЗгоИ а- 1а пиИ.
(Ты единственная и я внемлю траве твоего смеха
Ты это вершина тебя влекущая
И с высоты угроз смертельных
На спутанных глобусах дождя долин
Под тяжелым светом под небом земли
То порождаешь падение.
Птицы уже недостаточное прибежище
Ни лень ни усталость
Память о лесах и хилых ручьях
Утром капризов
Утром ласк различимых
Ранним утром отсутствия падение.
Лодки глаз твоих блуждают
В кружевах исчезновений
Пропасть раскрыта другим заглушать
Тени тобою творимые права на ночь не имеют.
Чувствуется, что поэт одержим не только «ею», не
только любовь движет его пером, но что он с наслажде¬
нием вращается в карусели слов и образов, что он при¬
частен к тому «колдовству», которое увлекло сюрреали¬
стов, колдовству чисто словесному. Эта карусель все
время крутит поэта, отвлекая его от простоты, которой
он остается, несмотря на все, предан, от желания гово¬
рить о любви сдержанно, суховато, афористично. Вот
так, например, в форме такого стихотворения в две
строки:
О’ипе зеи1е сагеззе
Ле 1е Га13 ЪгШег бе 1ои1 1оп ёс1а{.
(Одной лишь лаской
Я воспламеню в тебе весь твой блеск).
В той мере, в какой в сборнике «Любовь поэзия»
любовь все же приоткрывает действительное * чувство,
ведет скорее к некоей желанной женщине, чем к сюр¬
реалистической «тайне» в бретоновском смысле слова,
этот сборник выпадает из классического сюрреализма.
179
К тому добавляется рационализм Элюара, философич¬
ность его поэзии, о^ень уж противоречащие «автоматиз¬
му». Элюар почти неизменно обдумывает, взвешивает
свои чувства, он даже от них отвлечен, склонен их ма¬
териализовать, передвинуть в плоскость метафорическо¬
го образа. У Элюара не столько сюрреалистическое «чу¬
десное», сколько вымытый до стерильности, абстракт¬
ный мир понятий и начал, живущий своей жизнью, мир
абстрактных образов, неконкретизируемых признаков и
состояний, ставших объектом лирики, вынуждающих
двигаться вслед за поэтом в какое-то иное измерение,
в мир «сущности», к которой приобщается поэт.
Даже внутренние состояния, даже эмоции очень ча¬
сто не конкретизированы Элюаром, не прикреплены к
тому, кто их испытывает, не содействуют характеристи¬
ке какого-нибудь «я», а скорее ориентируют на некую
необозначенную сущность. Даже когда «глаза закрыты,
ибо лоб пылает», Элюар далеко не всегда говорит «мои
глаза закрыты», «мой лоб пылает». Читая его стихи, ве¬
ришь, что «присутствие мое не здесь», что «рожденная
от моей руки на моих глазах, тень мешает мне шагать»,
что «я облик свой стираю» (Л’еГГасе топ та^е). Стихи
Элюара 20-х годов явно выигрывали, когда он меньше
увлекался этим «стиранием» своего «я», когда он мень¬
ше думал, как бы оказаться «в сердце времен». Именно
тогда Элюар особенно дорожил мыслью о том, что поэ¬
ты должны погружаться в «жизнь других, в жизнь об¬
щую». А также о том, что «достаточно закрыть глаза,
чтобы открылись двери чудес», т. е. к началу 30-х годов
поэзия Элюара питалась весьма различными импульса¬
ми, среди которых преобладала пока что его привержен¬
ность Андре Бретону.
В 1930 году появился один из многих плодов кол¬
лективного творчества сюрреалистов — цикл стихов «За¬
медлить ход работы» («Ка1епИг 1гауаих»). Цикл был
написан Элюаром, Бретоном и Шаром. Писали они все
вместе — начинал один, затем подключался другой,
иногда и третий. Таким образом, организация работы
напоминает нам известные сюрреалистические игры.
Правда, текст, передаваемый от одного к другому для
продолжения, был известен. Но, прочитав стихи, нетруд¬
но убедиться, что сюрреалисты все равно относились к
поэтической «реплике» своего «собеседника» как к
трамплину и дописывали, скорее противопоставляя об¬
180
разы, разрьивая связи, чем развивая намеченную тему.
Согласие среди них было такое же, как в известной бас¬
не Крылова у лебедя, рака и щуки. Андре Бретон со¬
знался в этом, сообщив в предваряющей стихи заметке,
что стол для Бретона — это стол кафе (ибо Бретон
пьет), для Шара —стол игральный (ибо Шар не игра¬
ет), а для Элюара стол — это стол операций (ибо Элюар
шел утром по площади Оперы).
В своей заметке, вводящей в цикл «Замедлить ход
работы», Поль Элюар писал, что совместный труд был
предпринят тремя сюрреалистами с тем, чтобы «стереть
отражение личности» художника в произведении искус¬
ства. Как видим, наступление Бретона и его сподвижни¬
ков на «таланты», на искусство (оно вне индивидуаль¬
ности художника немыслимо) продолжалось. Нет ниче¬
го удивительного в том, что опровержением сюрреализ¬
ма становилось само искусство, придавить которое до
уровня сюрреалистического шаблона Бретону так и не
удалось.
Не удивительно, что и искусство субъективно пре¬
данного Бретону талантливого Поля Элюара все замет¬
нее подчинялось импульсам, отодвигавшим поэта от
Бретона. Сборник стихотворений «Непосредственная
жизнь» («Ьа У1е 1ттёсНа{е») вышел в 1932 году. Вот
здесь явно сработали импульсы, ослаблявшие связь
Элюара с сюрреализмом. Это стихи, прежде всего, о
«непосредственной жизни» в любви. Они действительно
«непосредственнее» стихов предшествовавших сборни¬
ков. Стихи лиричнее; ощутимее стала «она», любимая,
острее стало восприятие ее, поэт откровеннее о ней го¬
ворит. От чувства и мысли поэта к образу путь стал
прямее, не столь замысловат, как раньше. Более того,
появилось нечто вроде самокритики, возникает потреб¬
ность в переоценке ценностей — «я привык к самым не¬
привычным образам, я видел их там, где их не было».
Словно бы «извне» говорит Поль Элюар о необходимо¬
сти устанавливать связи «между отвесом и ветра шу¬
мом, между подковой и кончиком пальцев, между
халцедоном и зимой колючей, между сонной артерией
и спектром соли, между араукарией и головой карлика»
(стихотворение «Необходимость»).
Порою стихи сборника «Непосредственная жизнь»
преображаются в стихотворения в прозе. Стихам
Элюара нетрудно было стать прозой, поскольку его сво¬
181
бодный стих очень прозаичен, лишен почти совсем ин¬
струментовки, лишен рифм, ассонансов, подчиняется
лишь трудно уловимому, очень капризному ритму. Соб¬
ственно поэтическое у Элюара не всегда уловимо, вре¬
менами грань поэзии и прозы у него стирается. Элюар
без труда, естественно, мог заменить свободно ложа¬
щиеся на страницу «лесенки» своих стихов на прозу,
на текст без «лесенки». Разбивка на разнораз¬
мерные строчки, «лесенка» слов, разбегающихся по бу¬
маге совсем свободно, без, видимого порядка, — именно
это создает поэтический ритм. Иногда возникает — в
каждом случае своя — разбивка на строфы, на разно¬
размерные части стихотворения, порой миниатюрные,
часто в одну строку. Изредка через стихотворение про¬
дергивается «ниточка» повторяющегося образа, скреп¬
ляющая стих, которюму всегда у Элюара недостает
внешних связей. Из-за отсутствия или недостатка этих
связей стихи Элюара кажутся сыроватыми, незакончен¬
ными, способными рассыпаться или стать прозой. Ею
они частенько и становятся.
Сказав словно бы «извне», словно бы переоценивая
ценности, что он устанавливает связи между «араука¬
рией и головой карлика», Элюар определял, конечно, и
механизм своего образотворчества, еще не преодолен¬
ную тогда, в начале 30-х годов, склонность переклю¬
чать чувства в план абстрактных ассоциаций, воссоеди¬
няющих простое, даже примитивное со сложным, изы¬
сканным, склонность «умножать образ» так, что он ста¬
новится загадочным, оставаясь даже примитивным,
«здешним», не ушедшим ни к каким сюрреалистическим
«тайнам». Каждодневное, интимное и абстрактно-абсо¬
лютное, вневременное, «понятийное», космическое—вот
амплитуда образов Элюара, озадачивающая читателя
полным пренебрежением к локальности, к социально¬
исторической и всякой иной конкретизации. Озадачи¬
вающая тем более, что Элюар писал такие стихи и в
конце 20-х — начале 30-х годов, когда он был в группе
французских сюрреалистов, пришедших к выводу, что
«сюрреализм на службе революции».
Стихотворение «Критика поэзии» звучит как непод¬
готовленная, шокирующая читателя выходка сюрреали¬
ста. В этом стихотворении Элюар заявляет, что «нена¬
видит господство буржуазии» и обещает «наплевать в
лицо» человеку, который не предпочитает всем другим
182
стихам Элюара «Критику поэзии». Однако Элюар ничем
не постарался обусловить такое предпочтение стихотво¬
рения, объявляющего войну буржуазии. Наоборот, все
стихи Элюара 20-х — начала 30-х годов — «чистые»,
предельно аполитичные, т. е. бунтарские совершенно в
духе сюрреализма, заботившегося прежде всего о «чи¬
стоте» поэзии, ее независимости от социально-политиче¬
ских императивов. Элюару нечего было сердиться на
людей, предпочитавших иные, чем «Критика поэзии»,
его стихи — сюрреалист Элюар воспитывал вкус имен¬
но к «другой поэзии».
Эта «другая поэзия» создавалась Элюаром и в то
время, когда он пообещал «плевать в лицо» тем, кто не
предпочитал «Критику поэзии». Оставаясь сюрреали¬
стом, оставаясь преданным Бретону, Элюар ничего в
принципе иного создавать и не мог — такой следует сде¬
лать вывод.
В 1934 году была опубликована «Публичная роза»
(«Ьа Козе риЫЦие»). В некоторых из стихов этого сбор¬
ника обычно сдержанный поэт отдается нескончаемому
потоку слов, бесконечному цеплянию образов. Стимулом
этого красноречия является «желание», которое все вре¬
мя фигурирует как тема произведения, не только как
внутренний порьив, но и как некий объект, над которым
поэт раздумывает и который он многообразно воспроиз¬
водит. В необычных прозаических сентенциях, которые
разрывают поэтическую ткань резкими диссонансами,
Элюар, обнажая механизм своего творчества, сообщает,
что «поэтическая объективность состоит в смене, в связи
всех субъективных элементов, не хозяином, а рабом ко¬
торых поэт является». Сюрреалистический принцип
«автоматизма», инстинктивности творчества редко декла¬
рировался Элюаром с таким усердием, как в «Публич¬
ной розе». За одной сентенцией следует другая, о «гипно¬
тических созданияж», о «маленькой зеленой лошадке»
и «маленьком красном человечке». Вот и завертелся
вихрь слов, вот начинается «смертельная схватка с види¬
мостью» (1а 1иИе а тог! ауес 1ез аррагепсез) —эти слова
Элюара относимы к его сюрреалистической поэзии, к то¬
му сражению с сюрреалистическими призраками, кото¬
рые вел и этот поэт.
Драматизм, даже трагизм в стихах Элюара нагне¬
тался от «губительной очевидности», от «очевидности»,
в которой словно бы ломался механизм, благодаря чему
133
«комната моя от мира моего отделяется и знаю я только
о том, чего там нет», а не от каких-либо уловимых, кон¬
кретных причин, способных вызвать сопереживание чи¬
тателя. Драматизм «Публичной розы» — в немалой до¬
ле — плод воображения и сюрреалистического красноре¬
чия, некая «величественно-тяжкая упряжь дурной
повседневной погоды». Недаром он исчезает, как только
от метафизического сражения с «видимостью» поэт обра¬
щается к реальности, к реальности хотя бы любви.
А такая реальность нет-нет, да и проскользнет в
«Публичной розе», хотя Элюар и предупреждает —
«женщина, что устало и медленно возвращается за
ночью ночь во все мои мечты — жизнь, навязанная мне
ночью, женщина, берущая начало в моем сне». «Берет
начало во сне», — но тут же поэт, противореча себе, при¬
знает: «я говорю, что вижу тебя, я знаю тебя живую,
все живет, все видимо, нет ни капли ночи в глазах тво¬
их». И тут же «она» опять словно тает — «ее и не было
там, я уж иную предвижу» — и тогда «она» превращает¬
ся в повод, в стимул окрашенного эротикой образотвор-
чества. Но вновь утверждается завоеванная к 30-м го¬
дам непосредственность, вновь поэт лиричен и открове¬
нен, и тогда трудно сомневаться в существовании «ее»,
предмета любовных мук поэта.
Таким образом, в «Публичной розе» явно столкну¬
лись два различных понимания постоянной темы поэзии
Элюара — темы любви, две различные философские
концепции, два разных подхода к реальности.
Так было в сюрреализме не только с Элюаром. Как
никогда, декларируя принципы сюрреализма, «Публич¬
ная роза» тянулась к конкретности, к живому чувству,
к искренности и непосредственности. Сборник обнару¬
жил тяготение Элюара к связности, к повествовательно-
сти. «Роза» явно давала такие ростки, которые неумо¬
лимо отодвигали поэзию Элюара от сюрреализма, от
Бретона, несмотря на те импульсы, которые получал
Элюар при общении с главой сюрреалистического
движения.
Эти ростки и разрастались далее, пробивались через
мало что добавлявшие циклы середины 30-х годов, что¬
бы к концу 30-х годов, после Испании, после 1936 года,
мы могли бы говорить уже о том, как Элюар расставал¬
ся с сюрреализмом. Тогда оказалось, что, прозвучав не¬
ожиданно в «Критике поэзии», проклятье буржуазии
Щ
мало-помалу превращается в определяющий поэзию
принцип, в принцип, который вскоре приведет Элюара
в патриотическое подполье, а его поэзию сделает поэзией
антифашистского Сопротивления.
Более многих других сюрреалистов доверял подсо¬
знательному Робер Деснос, прославившийся своими сна¬
ми наяву, бормотанием стихов в состоянии полу¬
сна. Деснос кажется классическим воплощением сюр¬
реалистического принципа «скороговорки», репзёе раг1ёе,
мышления при выключенном разуме и выключенной
Еоле. Во всяком случае он принял в начале 20-х годов
все всерьез и все пытался осуществить буквально, на
самом деле —ежеминутно включал подсознание, отда¬
ваясь волнам грез.
Такого рода творчество было скорее устным, чем
письменным, и, очевидно, не все зафиксировано на бу¬
маге. К тому, что на бумаге зафиксировано, относится
сборник «Ррозе Селави» («Кгозе 5ё1ауу», 1923). Стран¬
ное название — псевдоним Марселя Дюшана, художни¬
ка, стоящего у истоков дадаистской и сюрреалистической
живописи.
Сразу же обращает на себя внимание одна особен¬
ность необыкновенного произведения Десноса: очень
трудно сказать, в какой степени оно является результа¬
том «бормотания», продуктом подсознания. «Ррозе
Селави» — что-то вроде сборника дурашливых погово¬
рок в духе дадаизма. Сто пятьдесят забавных афоризмов
Десноса — образец его остроумия, образец мастерской
игры слов. Иные из них — просто-напросто игра, созда¬
ние занятных звукосочетаний, чисто языковое экспери¬
ментаторство, без особенного смысла, да и просто без
смысла. Например:
Ле уоиз а1ше, б Ъеаих Ьошшез уё!из б’ороззит.
Аи У1гаде бе 1а соигзе аи пуаде, усисп 1е зесоигз бе Кгозе 5ё1ауу.
Ье 1ешрз ез1 ип а1д1е адПе Лапз ип 1ешр1е.
Ыошабез цт раг1ег уегз 1е погф пе уоиз аггё1ег раз аи рог1
роиг уепбге уоз роттабез.
Необычные звуковые сочетания, ловкое растаскива¬
ние звука по фразе и непривычное воссоединение слов
создает, конечно, некий эффект. Эффект «удивления»
здесь налицо. Если считать сюрреализмом — как это
делал Бретон — принцип извлечения новых возможно¬
195
стей из старых материалов, то поговорки Десноса можно
назвать произведением сюрреализма. Если сюрреализм—
это свободные словесные ассоциации, не зависящие от
смысла слов, то «Ррозе Селави» — сюрреалистическое
произведение. Однако насколько «автоматичны» созда¬
ния Десноса, повторяем, сказать трудно. Отыскать же
в них «сюрреальность» вряд ли удастся.
Порой афоризмы Десноса окрашены юмором. Многие
из прибауток по-дадаистскй дерзки, звучат вызывающе.
«Ррозе Селави» — произведение антицерковное, бого-
хульственное. Трудно, однако, предположить, что анти¬
клерикализм Робера Десноса был продуктом подсозна¬
ния, рождался на свет божий тогда, когда поэт отклю¬
чался от этого божьего света.
Кгозе 5ё1ауу з’ё1оппе ^ие бе 1а соп1адюп бе гёНциез зоЦ пёе 1а
гёНдюп саШоНцие. ,
Цгозе 5ё1ауу дНззе 1е соеиг (1е Лёзиз (1апз 1е ]*е (1ез Сгёзиз.
Ьа шШсе (1ез бёевзез зе ргёоссире реи (1ез (1ёИсез <1е 1а шеззе.
Ш ргё1ге <1е 5ауо1е <3ёс1аге цие 1е бёсЬе* (1ез саПсез ез1 тагциё
ди сасЬе1 (1ез (1ёНсез: те1-П <1е 1а таНсе (1апз се такЬ еп1ге 1е с1е1
е! 1ш?
ЬаНтНё — 1ез агц паПопз 1аИпез.
Ьа ШпНё — ГётапаНоп (1ез Ыппез.
(Ррозе Селави удивляется, что от заразы мощей родилась ка¬
толическая религия.
Ррозе Селави вдыхает сердце Иисуса в душу Креза.
Рать богинь мало озабочена отрадой богослужения и т. д.).
Сборник «Омоним» («Ь’аитопуше», 1923) Деснос
предварил картиной достаточно сюрреалистической: ему
пригрезилось абстрактное пространство, где в целой си¬
стеме зеркал теряется лицо поэта, волны тайн омывают
летящий автомобиль и все кругом густо насыщено эро¬
тическими образами. Но вся эта громоздкая панорама
завершается признанием в любви — к омонимам.
И начинается вновь игра слов, игра в бесконечные
каламбуры — та же «Ррозе Селави», но в стихах.
Еп аНепбагЦ
еп паНап! Га11еп1е
зоиз цие11е 1еп1е
тез 1ап1ез
опЬеНез епдепс1гё
1е5 пеуеих зПепспеих
цие пи1 пе уеи1 зоиз 1ез аеих
186
арре1ег зез соизшз ?
Еп паНап! 1ез сЬеуеих (1и зПепсе
51Х 1апсез .
регсеп* тез репзёез еп а11еп(1ап1.
В цепи омонимов (1еп1е—1ап1ез; пеуеих—пе уеи1;
зПепсе—51х 1апсез) не возникает особенного сюрреали¬
стического эффекта, хотя цепь эта и могла быть резуль¬
татом почти бесконтрольного, почти «автоматического»
бормотания. Смысла в этом стихотворении — как и в
большинстве других — можно сказать, нет, и оно очень
недалеко ушло от «стихов без слов» дадаиста Гуго
Балля.
Признав ненавидеть «формы-тюрьмы», Деснос не¬
брежно рассыпает слова по страницам «Омонимов».
Свободный их поток повинуется звуковой оркестровке,
обостренному ощущению чисто внешнего звукового
строя языка — и поэт безостановочно шутит, играя слова¬
ми, как жонглер, творя все новые .и новые каламбуры.
В следующем цикле — «Отварной язык» («Ьап§а§е
сшЬ, 1923) Деснос принимается за французский язык,
дерзко подгоняя его к своим звуковым каламбурам.
Моп ша1 теиг! та15 тез татз гттеп1
Ыоеийз, пегГз поп аппеаих. Ыи1 пог<1
Мете атоиг то1? татез, тог<1
Ыиз пёпёз поппе т Ыте.
Ой ез1 ЬПтуе зиг 1а таттетопйе ?. . .
Иногда Деснос ограничивается довольно простым
решением задачи. Например, таким: Л’а1 с1еп1 беп* с1еп1
(1еп1... — слово «бепЬ («зуб») повторяется тридцать два
раза. Но чаще он изобретает слова и словосочетания,
ломает синтаксис, путает глагольные формы, существи¬
тельное заставляет выполнять роль глагола, изображать
из себя глагол («Ь’езсаНег ^и^ Ь^Ы^оШё^ие...», «йё]к з*е
ГП1Г01Г...»), неверно согласовывает части предложения
(«\е соппайгопз», «поиз а1тег» — «я будем знать», «мы
любите»). Здесь Деснос очень близок Арагону, «топтав¬
шему синтаксис».
Иные из стихов, составляющих сборник «Отварной
язык», в большей мере, чем предыдущие произведения
Десноса, сюрреалистичны. Они больше похожи на гре¬
зы, на сновидения, иногда распоясывается и обнажает
себя подсознание, населенное желаниями. В стихах по¬
являются загадочные незнакомки, «ночные гостьи», а
видения поэта странны, порой зловещи. Деснос сочетает
187
взаимоисключающие понятия, создает абсурдные сочле¬
нения: <^е 1а Ьа15 сГагпоиг», «1ез ёЬПез йе нйсИ гезр1еп-
(Изза1епЬ, «поиз ауапсюпз йапз ипе а11ёе йёзеНе ой зе
ргеззаИ 1а !ои1е», «1а р1и1е поиз зёсЬа»— «я ее ненавижу
с любовью», «звезды полдня ярко блистали», «мы
двинулись в пустынную аллею, где теснилась толпа»,
«дождь высушил нас».
В стихотворении «В тот день, когда ночь на дворе»
(«Ш риг ^и'^\ Га1заИ пиП») цепь нагнетаемых нелепо¬
стей — не только игра слов, не просто дадаистская абра¬
кадабра. Возникает определенное настроение, ощущение
чего-то загадочного, тревожного, ощущение какой-то
опасной нелепости, воцарившейся в мире. Но тут же,
через секунду, в следующем стихотворении Деснос вновь
озорничает, и стихи, по виду сюрреалистические, кажут¬
ся мастерски выполненной, не очень-то серьезной вариа¬
цией на заранее заданную тему.
Персонаж сюрреалистических грез, загадочная незна¬
комка, воцаряется в цикле стихотворений в прозе под
названием «К таинственной» («А 1а Муз1ёпеизе», 1926).
Здесь есть все, что положено сюрреалистическому про¬
изведению — сновидения, грезы, в которых царит жела¬
ние, господствует Она, безымянная, всемогущая, таин¬
ственная, воплощение всесильного чувства Любви.
Однако то, что выходит здесь из-под пера Десноса,—
не «автоматическое письмо», не плод бормотанья. Око-
рее, это темы сюрреализма, чем сюрреализм как метод
творчества, или во всяком случае реализация «автома¬
тизма» в широком смысле слова. Деснос не творит во
сне, а рассказывает о снах, рассказывает так, как это
делает нормальный человек, т. е. описывая сон, его ха¬
рактеризуя, с сохранением дистанции и разумного к
гёуез отношения. Не случайно то и дело прорывается
ирония, а сюрреалистические образы, образы сновиде¬
ний, рационально обработанные, кажутся или слишком
реалистическими или вовсе несерьезными. «Ночью -слыш¬
на поступь прохожего и поступь убийцы и поступь поли¬
цейского и свет уличного фонаря и фонаря тряпичника»;
«И запахи неба и звезд и пенье двухтысячелетнего пету¬
ха и крик павлина в пламенеющих парках и поцелуи».
«К таинственной» можно считать просто-напросто
исповедью, признанием в любви, которое делается
поэтом, наделенным могучими, страстями и богатым во¬
ображением — и прошедшим школу Андре Бретона.
188
Воображение, Подхлестнутое страстью, творит иллюзор¬
ный мир, в котором реальная женщина оказывается
только поводом, предлогом. Поэт упивается самой стра¬
стью, ее мощью, ее изобразительной, творческой способ¬
ностью. Это не столько любовь, сколько исступленная
мечта о ней. Сюрреализм? Скорее произведение, создан¬
ное поэтом, примыкавшим к сюрреалистической группи¬
ровке и варьировавшим темы сюрреалистического искус¬
ства.
Могучие силы еще громче заявляют о себе в большом
стихотворении «Голос Робера Десноса», открывающем
сборник «Тьма» («Без ТёпёЬгез», 1927). Впрочем, и в
других стихотворениях этого сборника, то в подтексте,
а то и в тексте заключена большая, сжигающая поэта
страсть.
Сборник можно в общем считать произведением сюр¬
реалистическим. Творится «сюрреальность» — ибо поэт
всесилен, ибо он властвует над реальностью. «Ободран¬
ный стебель в руке моей — это мир». С этим «ободран¬
ным стеблем» поэт обращается без церемоний. Тем
более, что он погружается во «тьму» страстей, в бездны
желаний, которые постоянно уподобляются существам
странным, экзотическим, «сикоморам», подводным и на¬
земным чудовищам. Бури, катаклизмы, бедствия насе¬
ляют стихи Десноса. Творится мир абстрактный; фанта¬
зия поэта свободно разгуливает по вселенной, погру¬
жаясь в стихии, в бесконечность. Чувство любви
мгновенно отсылает к этим стихиям, не задерживая на
конкретном предмете любви — «никогда никто кроме
тебя, несмотря на звезды и на одиночества», и начи¬
нается мир звезд, мир одиночества.
Впрочем, есть ли такая женщина, есть ли подлинная
любовь в стихах Десноса? «Но смутная Изабелла — все¬
го лишь образ грезы сквозь лакированные листья дерева
смерти и любви». Исступленная страсть поэта несет на
себе печать искусственности, сюрреалистической наду¬
манности. «Будем мечтать», — взывает Деснос. И многие
стихи сборника «Тьма» представляют собой слепок то ли
грез влюбленного, то ли сновидений, описание того со¬
стояния, которое может быть при пробуждении, когда
границы сна и бодрствования еще не определились,
когда еще живы, еще кажутся реальностью только что
приснившиеся картины. Деснос умело конструирует
такие странные и загадочные состояния. Все в них резко
189
сдвинуто, необычно, Нелогично. Вспыхивают ассоциатив¬
ные образы, за движением которых читатель не успевает,
теряется по пути, сбивается с толку. Иногда совершенно
в духе сюрреалистической живописи: «Лебедь спит на
траве вот поэма метаморфоз Лебедь который становится
коробкой спичек и фосфор вместо галстука». «Каркас
потерпевшего крушение корабля... это корабль потерпев¬
ший крушение или изящная дамская шапочка унесенная
ветром под весенний дождь?» — вот двойной образ, на¬
поминающий о конструкциях С. Дали, Р. Магритта.
Время от времени Деснос отдается потоку образов,
словно действительно «бормочет», выключив волю и
разум.
«Сикомора необузданная знаменитая деление време¬
ни цветок молчания животное о красное красное и голу¬
бое красное и желтое кремнезем возникший из горстки
рук ночи и равнины в диких восклицаниях взора слива
звон стекла и акробатической подмышки или башен воз¬
двигнутых из конца глубина пропастей при звуке голоса
который говорит что я ее обожаю».
Форма входящих в сборник «Тьма» стихов соответ¬
ствует этой потребности поэта в свободной декламации
внутреннего потока. Стих свободен, капризен, очень
субъективен, изменчив. Кроме того, он размашист, гру¬
боват, кажется порой недостаточно обработанным, все
время перерастает в прозу, в которой, однако, тщатель¬
но продуман ритм, основанный на целой системе повто¬
ров, образных и звуковых соотношениях.
Обратим внимание на то, что приведенная выше
абракадабра завершается вдруг вырывающимся искрен¬
ним признанием. Слов нет, сборник «Тьма» знаменует
сближение Десноса с сюрреализмом, порой слияние с
ним. Да, любовь поэта обработана сюрреалистическими
кошмарами и порой превращается в выдумку. Но звучит
все-таки голос настоящей страсти, и тогда все это гро¬
моздкое сюрреалистическое сооружение воспринимается
как нечто нарочитое, как вопль раздосадованного влюб¬
ленного, который все может, может даже сюрреальность
изобрести, весь мир зажать в руке, как ободранный
стебель — но не может завоевать снисхождения дамы
сердца. «Хозяин всего, кроме любви своей дамы», поэт
выходит из себя, и распаленное его воображение творит
все новые и новые аналогии. Табуны бесчинствующих
коней, могучий голос среди безмолвия — зловещие и
190
странные картины можно расшифровать как реализован¬
ные метафоры, рисующие любовь, рисующие одолеваю¬
щее поэта чувство.
К тому же Деснос по-прежнему сохраняет вкус к па¬
радоксам, чисто словесным неожиданностям, сохраняет
тот юмор, который подтачивает здание даже «серьезных»
сюрреалистических видений. Поэтому иногда они кажут¬
ся сказками, кажутся розыгрышем читателя.
За сборником «Тьма» последовало в самом конце
20-х годов несколько поэм. К самым значительным из
них принадлежит «Сирена-Анемона» («51гёпе-Апётопе»,
1929). Она настраивает поначалу на чисто сюрреалисти¬
ческий лад. Рисуется странный, абстрактный пейзаж, в
центре которого то цветок анемона, то сирена, то жен¬
щина. Это пейзаж всей вселенной; в поэме фигурируют
небеса, звезды, земной шар. Из тьмы космоса, из пустын¬
ного мира выявляется «она», и все это сооружение вос¬
принимается как плод любовных грез. В поэме мало-по¬
малу наращивается лирическая интонация, но она не
вносит субъективистскую сумятицу. Наоборот, сообщает
поэме смысл, легко уловимое содержание. Наращивая и
расширяя метафорический образ, соотнося абстрактно¬
небесное и конкретно-земное, даже прозаическое, Деснос
раскрывает все то же чувство любви, ту же одержимость
«ею»,' загадочной женщиной. Поэма приобретает смысл
романтической тоски по «анемонам», по их свету, кото¬
рый проливается на землю.
Одним из непременных условий обновления поэзии
было для Десноса соединение «простонародного, наибо¬
лее простонародного языка с атмосферой, которую не¬
возможно передать.,.; овладеть областями, которые,
даже в наше время, кажутся несовместимыми с прокля¬
тым «благородным языком».
Эффект «неожиданности» у Десноса многим обязан
именно такому сочленению различных языковых пластов
и очень разных сфер бытия, такой амплитуде колеба¬
ния— от сфер небесных, от пространств надзвездных,
от романтической символики вниз, на землю, к натура¬
листической детализации и грубости.
Все стало серьезнее, драматичнее в стихах Десноса
конца 20-х годов. «Правильнее» стал стих, прекратилось
языковое экспериментаторство, хотя стихи Десноса «сво¬
бодные». Все время — при абстрактности образов — ри¬
суется взбудораженный мир, насыщенный катаклизмами
191
и угрозами. Через этот мир скользит вдруг возникающий
женский образ, нечто почти неуловимое, но манящее и
всесильное.
В большой поэме «Сирамур» («51гатоиг») Деснос с
первых же строк говорит о своем намерении воспеть
«идеальную и живую сирену». В отличие от недавних
призраков, он видит теперь «образ во плоти», любве¬
обильную и соблазнительную «сирену» из Лиссабона.
Стихи переходят в прозу, повествующую об «истинных»
происшествиях, о прозе жизни «идеальной и живой си¬
рены», об ее кровавых подвигах — «сирена» не только
обольстительна, но и преступна, она напоминает поэту
Фантомаса. Несмотря на конкретные приметы, «сирена»
Деоноса — по-прежнему не реальная женщина, но сим¬
вол любви, «сирамур», способная мгновенно растворить¬
ся в космическом пространстве, слиться со стихиями.
«Сирамур» — тоже воплощение одолевающей поэта стра¬
сти, выход его желаний, порабощающих все представле¬
ния о реальности, уподобляющих весь мир чувствам
поэта («вот небо нашим сердцам подобное», «вот океан
похожий на наше сердце»), множащих призрачные кар¬
тины.
И все же «Сирамур» означает заметное приближение
к реальности, к подлинному «земному» чувству, о кото¬
ром поэт все время порывается сказать, хотя это ему
еще не очень-то удается, он еще слишком увлечен своей
«сиреной», своей сказкой.
В поэме «ТНе о! 1оуе1езз №дМз» («Ночь ночей
без любви», 1930) тоже содержится признание, исповедь,
но здесь «она» еще более жестокая, чем «сирамур»,
здесь нагнетаются муки, здесь поэт просит — «погрузи
твои руки в мозг мой покорный, губы кусай, притворись,
что даешь поцелуй». Поэт, как заклинания, произносит
слова любви. Но «бормотанье» Десноса в этом случае
знаменует собой не «автоматическое письмо», а просто
одержимость, просто силу любви, крайнюю степень эк¬
зальтации. Если и есть в поэме гёуез, то это мечта о люб¬
ви. Если и есть жуткие ночи и сны, то ведь это ночи без
любимой, «ночь ночей без любви». Если Деснос и соеди¬
няет здесь удаленные или противоречащие одно другому
понятия, то это потому, что «она» — «жестокое величие»
(сгиеИе дгапбеиг), неуловимая, властвующая над влюб¬
ленным, непокорная, заставляющая поэта страдать, а
потому и любить, и ненавидеть одновременно.
192
Поэма «ТНе №дМ оГ 1оуе1езз ЬПдМз» уже собершенно
очевидно знаменует отказ Десноса от сюрреализма, дви¬
жение к реализму, к реалистической интимной поэзии.
Потом появится сборник «Обезглавленные» («Без
5апз Сои»), посвященный «людям из братской могилы
у подножья стены федератов» — стихи политические,
стихи поэта, ушедшего из сюрреализма.
«Алхимией слов» увлекался в начале 20-х годов и
Роже Витрак, внимая урокам Бретона, которым он вос¬
хищался тогда и который предвещал создание «нового
сюрреалистического языка, о котором ничего не сможет
сказать никакая грамматика».
Роже Витрак в 1925 году посвятил Андре Бретону
цикл «Темный фонарь. Сюрреалистические стихи» («Ба
1ап1егпе по1ге. Роётез зиггёаНз1е5»). В том же году,
осенью, он был исключен Бретоном из группы сюрреали¬
стов, хотя до этого времени Витрак демонстрировал вер¬
ность Бретону, в сущности повторял его мысли. В то
время на вопрос, почему он пишет, Витрак отвечал: «Пи¬
шу, как говорю, — чтобы ничего не сказать». Потом
уточнял — «чтобы достичь «я», «обнаженной тайны».
В 1923 году Витрак написал статью «Внутренний
монолог и сюрреализм», в которой противопоставил
внутреннему монологу сюрреалистические гёсПз бе гёуез,
«пересказы снов», «автоматические», бесконтрольные.
Они были для него подлинным искусством.
«Темный фонарь» — цикл «стихотворений в прозе»,
точнее — цикл несообразностей в духе сюрреализма,
сюрреалистических «афоризмов» в прозе. Вот, например,
«Гниль»:
«Река где растягиваются женщины меж муарами
желания меньше чем кончик грудей света.
Бык убаюкан детьми ландшафта где он должен пре¬
бывать восемь лет.
Там, где мы нашли увядшие скелеты путешественниц
и мозг снежного века, похожий на пирог называемый
«монахиня», но более твердый чем лоб убийц после при¬
знания.
Ничто не могло упасть в колодец, что не было бы
воздушным. Лист сикоморы там плясал в сицилийской
ткани, с кусочком серы на щеке. Мы роняли туда обру¬
чальные кольца и свинцовые когти. Но они останавли¬
вались на уровне которого никогда не достигали ласточ¬
ки, так как в той стране не было бурь.
193
Дальше находился пригрезившийся призрак. Этот
человек позволил своему телу заплесневеть в течение
его жизни которая должна была быть непродолжитель¬
ной. И ничто не волновало вершину лазурных зданий
где повисли молнии».
Под влиянием сюрреализма формировался франко¬
бельгийский поэт Анри Мишо. Вот как он «раздумывал
о феномене живописи»:... «Рисуйте без особенного наме¬
рения, машинально черкайте, и почти всегда на бумаге
появятся лица... Как только я беру карандаш, кисть, ко
мне они приходят на бумагу одно за другим, десять,
пятнадцать, двадцать... Я ли это, все эти лица? Другие
ли они? Из каких глубин пришли?
Не являются ли они просто созданием моего соб¬
ственного размышляющего мозга?... Позади лица с чер¬
тами недвижными, отсутствующими, ставшими простой
маской, другое лицо, необыкновенно подвижное, кипит,
сокращается, трепещет в невыносимом пароксизме...
Лица обреченных, порой преступников, не известных и
не абсолютно посторонних в то же время... Лица жертв,
«мои» лица, которых задавила, убила жизнь, воля, често¬
любие, вкус к прямому и к связному... Лица детства,
страхи детства, нить которых была затем потеряна...
Лица стремления и желания» К
Итак, «автоматический» акт творчества и его итог —
«двуликий» образ, за осязаемой поверхностью которого
скрывается освободившаяся с помощью искусства сущ¬
ность, «сверхреальность», запрятанная в «я», в подсоз¬
нании, во впечатлениях детства... Весь приведенный вы¬
ше отрывок созвучен самому первому манифесту сюр¬
реализма, преданному Бретоном гласности в 1924 году.
Мишо назвал, правда, свое понимание искусства не
термином «сюрреализм», а термином «фантомизм», имея
в виду под целью искусства изображение «внутреннего
фантома», «сути», а не «внешности». «Суть» Мишо кате¬
горически противопоставил «внешности», о «внешности»,
о сходстве он писал с пренебрежением, предупреждая о
своем намерении идти на любые искажения «внешно¬
сти», лишь бы верным был «портрет темпераментов».
Акт творчества для Мишо — судорожный, лихорадоч¬
ный; погружение в «суть» возбуждает художника до
1 М 1 с Н а и х Н. Еп репзап1 аи рЬёпогпёпе бе 1а рет1иге. В сб.:
Н. М 1 с Н а и х. Раззавез, Рапз, 1963, р. 89.
194
крайности. Он активно переживает свою «сюрреаль-
ность», и «сюрреальность» окрашивается тем ужасом и
отвращением, которые Мишо испытывает перед реаль¬
ностью. Поэзию Мишо нередко сравнивали с прозой
Франца Кафки. И не без основания. Мишо стоит на ру¬
беже сюрреализма, экспрессионизма и экзистенциализ¬
ма. Его не увлекает холодное бретоновское философ¬
ствование по поводу «чудесного повседневного»; повсе¬
дневное придавливает Мишо своими тяжкими плитами,
он словно бы переносит их в свою поэзию, а из этих
«строительных материалов» сооружает свой особый мир,
свою «сюрреальность», где конкретное освещается све¬
том абстрактного, абсолютного (как у Кафки). «Фанто¬
мы» Мишо — не только «сути», но и «призраки».
«Мой гнев, моя радость, мой страх, воспоминания о
них теперь целыми часами дефилируют предо мной», и
художник пишет, «чтобы кричать, кричать о несчастье,
кричать о скорби». Но крик его — «непередаваем»,
он замирает. А Мишо мучит одновременно* желание
кричать, звать и ощущение, что «голос мой — молча¬
ние».
Ставшее в его стихах абсолютным зло побуждает
поэта кричать в пустыне, побуждает его декламировать,
порождает риторику.
Наращивая эмоцию, Мишо переходит к изготовлению
из языка таких же «блюд», которые увлекали Десноса.
Вот истинно «вареный язык»:
Е! д1о е! йё&1иШ зоп р!е<^
ё! &1и &1ц еТ дН
е! Зё&1иШ за Ъги е! з’епд1идНд1о1ега. . .
дН е* &\о
А вот начало стихотворения «Будущее»:
(Зиагк! 1ез гпаН,
(Зиагк! 1ез таН,
Ьез шагеса^ез,
1ез та1ё(Нс1юп5,
(Зиапс! 1ез таЬаНаНаНаз,
Ьез шаНаЬаЬоггаз,
Ьез таНаНата1а(НЬаНа5,
Ьез ша1га!пша1гаЫНаНаз,
Ьез Нопйгевогйевагйепез,
кез ЬопсисагасНопсиз,
Ьез Ьог<1апор1ора15 йе риги рага риги,
Ьез шнпопсёрНа1ез д1оззёз,
Ьез роИз, 1ез рез1ез, 1ез ри1гёГасНопз,
Ьез пёсгозез, 1ез сагпа^ез, 1ез еп^оиИззетегИз,. #
195
Поначалу стихотворение гоже может напомнить о
Десносе, о дадаистских языковых экспериментах. Но
кончается оно воплем, и странные словообразования
Мишо воспринимаются не как плоды юмора и звуко¬
подражаний, а как зловещие видения, как наименования
неизвестных, опасных, страшных существ, угрожающих
человеку и вызывающих у поэта крик ужаса. Это кар¬
тина действительности, это представление о будущем.
Это образ несчастья, о котором не переставал говорить
Мишо.
Несчастье, мой пахарь великий,
Несчастье, присядь,
Отдохни...
Загадочное, страшное, отвратительное — все образы
Мишо, независимо от того, насколько они поддаются
расшифровке, выражают определенное состояние, его
иллюстрируют, рисуют отношение «я» к действительно¬
сти. В этом особенность поэзии Мишо, скорее отодвигаю¬
щая его от сюрреализма; чем сближающая с ним.
К бретоновской группировке в конце 20-х — начале
30-х годов примыкал французский поэт Рене Шар. Шар
«из всех современных поэтов в наибольшей степени за¬
нят сватовством слов... Слов, фатальность природы кото¬
рых обрекала на то, чтобы никогда не встречаться. Поэт
не только сопоставляет конкретное с конкретным, кон¬
кретное с абстрактным, но к тому же и абстрактные
слова друг с другом... Наше обычное восприятие мира
от этого разрушается и, на обломках, сверкает новое
Солнце» К
«Солнце» это освещает довольно абстрактные стихи
Шара. «Тайной, возведенной на престол», считает он
поэзию. Шар не увлекается известной нам сюрреалисти¬
ческой лрециозностью,’ нарочитой изощренностью образа.
Он предпочитал искусство лапидарное, афористичное, он
скорее скуп и сдержан, чем многословен и изощрен. Но
тем поразительнее загадочность его спокойных, филосо¬
фичных («идти к сути»), прозаических (Шар предпочи¬
тает форму стихотворения в прозе) миниатюр. Конечно,
это не «автоматическое письмо» — все у Шара очень ра¬
ционально, очень обдуманно. И сюрреалистическое
1 Из предисловия к книге: Р е п ё С Ь а г. Ригеиг е! туз1ёге.
Рапз, 1967, р. 11.
196
«чудесное» не удается отыскать за его образами, хотя
Рене Шар не был чужд сюрреалистическому увлечению
сновидениями. «Поэт, — писал он, — должен соблюдать
равновесие между физическим миром бодрствования и
опасной непринужденностью сна, границами познания,
в которых он размещает едва уловимое тело поэзии, без¬
отчетно двигаясь от одной к другой из этих различных
состояний». Все же некая «сюрреальность» создается
Шаром. Во-лервых, потому, что он метафизичен; улав¬
ливаемая им «суть» вне истории, вне социальных проб¬
лем. Кроме того, Шар действительно так иногда «сва¬
тает» образы и слова, что их цепочка превращается в
ребус, даже когда составляющие целое звенья конкрет¬
ны, взяты из мира природы, из обыденного мира. Тем
более, что Шар сочленяет эти «звенья» не в том порядке,
в каком они должны бы следовать, а пропуская многие
из них и резко сдвигая удаленные крайние точки.
Когда посмотришь на стихи Рене Шара, то кажется—
вот поэт, который стремится добраться до смысла, до
некоей «всеобщности», поэт, который старается поведать
о найденном читателю, поведать словом, тщательно от¬
шлифованным. Но все это больше кажется — многое из
открытий Шара не открывается читателю, ибо поэт ста¬
рательно отделывает свою поэтическую «башню из сло¬
новой кости». Правда, Сопротивление выводило Шара
из нее, — оно вывело поэта и из группировки Бретона,
оказавшегося далеко от фронтов войны.
Некоторые нюансы добавляются иноязычной, не
франкоязычной сюрреалистической поэзией. Заметным
пластом в ней лежит испаноязычная поэзия. Что касает¬
ся собственно испанской, то, повторяем, выделение сюр¬
реалистического элемента здесь крайне затруднено. Это
приводит то к слишком расширительному толкованию
самого понятия «испанский сюрреализм», то к сомнению
в его существовании.
На первый взгляд, о сюрреализме может напомнить
поэзия Висенте Алейксандре конца 20-х годов своей
изощренной метафоричностью, причудливостью сравне¬
ний, «темным», изощренным стилем. Но все же это ско¬
рее гонгоризм, чем сюрреализм. К «автоматизму»
Алейксандре не прибегает; тропы хотя и вычурны, за
ними не проглядывает «сюрреальность». Ближе сюрреа¬
листической поэтике «Ода Сальвадору Дали» Гарсиа
Лорки с ее странными пейзажами, в которых крайняя
197
абстрактность сочетается с конкретными приметами тех
или иных мест. Но здесь же, рядом — естественность и
простота, здесь же признания в том, что дружба превы¬
ше, чем искусство, признания в силе естественных при¬
вязанностей. Заметим, что дружба Гарсиа Лорки и Дали
пришлась на время, предшествовавшее превращению
Дали в знаменитого сюрреалиста.
Можно, конечно, попытаться выделить сюрреалисти¬
ческие элементы в сборнике Гарсиа Лорки «Поэт в
Нью-Йорке» («Рое1а еп Ыиеуа Уогк», 1929—1930). Но
не следует забывать о признаниях поэта в том, что он
верен «реальности жизни». Стихи здесь тоже преимуще¬
ственно «темные», внутреннее состояние поэта выражает¬
ся крайне усложненной метафорой, образом странного,
«ночного» пейзажа, когда все иначе, все не так, как
днем. Абстрактность Лорка сочленяет с конкретностью,
с конкретностью Нью-Йорка, и эта конкретность самые
отвлеченные пейзажи сборника снабжает определенным
смыслом. Не сюрреальность ощущается в стихах Лорки,
а реальность враждебного поэту чуждого мира, в котором
притаилось зло, то неясное, сливающееся с вселенной,
то вполне определенное, даже социально определенное—
как, например, в стихотворении о «зорях» Нью-Йорка,
рисующем изможденные толпы людей, живущих без на¬
дежды, обреченных на труд бесплодный и тяжелый.
Сложность поэзии Лорки на этапе сборника «Поэт
в Нью-Йорке» проистекает и оттого, что поэт сохранял
верность раз и навсегда утвердившейся в его стихах
романтической экзотике, экзотике «испанских романсе-
ро». Детали поэтической картины, созданной предшест¬
вовавшими циклами стихов, вошли в картину Нью-
Йорка — все та же луна, та же ночь, любовь, одиночест¬
во и пр. Сборник романтичен и в силу сохраняющейся
эмоциональности, в силу господствующего в нем драма¬
тизма, даже трагичности, в силу, наконец, публицистич¬
ности, с сюрреализмом несовместимой. Порой стихи —
как монолог поэта, который задыхается, переходит на
крик, на стон, будучи подавлен чуждым ему и злым ми¬
ром. К концу цикла пробивается, намечается потреб¬
ность в песне, в возвращении к ритмам ранних сборни¬
ков.
Скорее романтической традиции, чем сюрреализму,
близок и сборник стихотворений Рафаэля Альберти «Об
ангелах» («ЗоЬге 1оз апде1ез», 1930). Вновь трагедия,
198
трагедия потери себя, растворения в мире, который тоже
ничто, превращается в пустоту, безмолвие, безликость,
неспособен воплотиться. Ангелы — символы этого мира,
безликие его обозначения и олицетворение чувств поэта,
то усталости, то ненависти, то желания мести. Вновь,
как и у Гарсиа Лорки, стихи крайне экспрессивные,
лирические — это «моя трагедия», трагедия поэта. «Я»
очень активно, динамично в стихах Альберти.
«Луис Сернуда — единственный поэт своего поколения,
действительно и близко знавший поэзию французского
авангарда 20-х годов. Сернуда знал поэзию Бретона,
Арагона, Кревеля, Элюара и, более того, был во Фран¬
ции с осени 1928 г. по лето 1929 г., в то время, когда и
начал писать «Река, Любовь» *.
Нет сомнения в том, что Сернуда испытал влияние
сюрреализма и может считаться представителем испан¬
ского сюрреализма. В сборнике «Река, Любовь» («Шо,
Атог») поэт демонстрирует вкус к неожиданным, субъ¬
ективным ассоциациям, к усложненным метафорам, за¬
темняющим смысл его стихов. Сернуда уходит в свое,
подчеркнуто субъективное, чисто эмоциональное вос¬
приятие мира, он «намерен был выразить хаос чувств,
вызванный потрясением от потерянной любви». Но меру
сюрреализма даже в этом случае установить трудно,
даже наиболее сюрреалистический сборник Сернуды ро¬
мантичен, раскрывает состояние человека, уставшего от
унылого, пустого мира, человека разочарованного и оди¬
нокого. Видно, что и Сернуда — сюрреалист на испан¬
ский лад. Не случайно, его то именуют крупнейшим
испанским сюрреалистом, то ссылаются на отсутствие
«автоматизма» в его стихах и предпочитают к сюрреа¬
лизму вовсе не причислять.
Большое влияние оказал Сернуда на крупного мек¬
сиканского поэта Октавио Паса, влияние, признанное
самим Пасом.
Пласт латиноамериканской сюрреалистической по¬
эзии значителен, но тоже лишь частью подлинно сюр¬
реалистичен. Нередко под пером поэтов американского
континента сюрреализм разбивается на темы, причем
эти темы воплощаются в характерном романтическом
контексте. Вот, например, «Тахикардия» («Та^и^сагс^^а»),
сборник размышлений и сентенций о снах, написанных
1 Ношепазе а Ьшз Сегпийа. Уа1епс1а, 1962, р. 103.
199
поэтом Перу Ксавье Аврилем в 1926 году. «Все к Пам
приходит, когда мы спим», но сон часто не приходит,
бывают ночи без сна, и о них тоже размышляет Авриль.
Таким образом, «зиепо» оказывается значительной темой
этого произведения Ксавье Авриля, но не сюрреалисти¬
ческой основой образотворчества.
В сборнике Авриля «Путеводитель по снам» («Оша
с1е1 зиепо», 1925—1928)—тоже краткие размышления,
наблюдения над внутренним состоянием, импрессиони¬
стический дневник ощущений. Опять темы сна и бессо-
нйцы, а не собственно сюрреализм. Одна из миниатюр,
правда, называется «Ра15 зиггеаНз1а» («Сюрреалистичес¬
кая страна»).
1. Нау о1го 1е]’апо, уегбе, с1е1о ра1з зш потЪге, рего еп е1 яие
р1епзо 51етрге, еп е1 сПа, еп 1а гпесПа посНе; сиапбо биегто у по
биегто, у уасез еп езе ра1з ^ие Непе е1 со1ог (1е 1из шапоз заНбаз
с!е1 зиепо.
2. А уесез по зе 31 ез!а еп е1 шаг, Ъа]’о е1 шаг, ]*ип1о а 1а без-
езрегасюп, езе рааз. Ьо уео 1исНап<1о агтабо (1е гауоз, еп!ге пиЬез
у 1етрез1а(1ез. У еп гт а1истааоп, еп пц ез^ие1е^о (1е типбо.
(1. Есть другая, далекая, зеленая, под небесами страна без име¬
ни, но о ней я думаю всегда, днем, в полночь, когда сплю и когда
не сплю, и пребываешь в этой стране, которая хранит цвет твоих
рук, вышедших из сна.
2. Иногда не знаю, в море ли, под морем, возле безнадежности,
эта страна. Вижу ее в борьбе, вооруженной молниями, меж тучами
и бурями. А во мне галлюцинация, во мне скелет мира).
Но и эта «сюрреалистическая страна» — в общем то¬
же «тема». Причем, «страна» эта куда-то отодвинута,
сна «где-то», тогда как сюрреализм старается превра¬
тить в свое царство не «ту», а «эту» реальность. У Аври¬
ля скорее романтический, чем сюрреалистический образ
«иного края».
К. Авриль писал: «Безумие—мое существование.
Живу моим безумием. Безумие — моя атмосфера...
Я образ безумия. Свобода безумия» 1. Вновь это вариа¬
ции на сюрреалистическую тему, декларации, которые
не подтверждаются произведением Авриля. Его «Тахи¬
кардия»— не создание безумца, не демонстрация пато¬
логии, а добротная лирическая проза с сюрреалистиче¬
ской темой безумия. Есть у него и другие темы. Напри¬
мер, эротизм: «Где ни прохожу, наслаждаюсь. На этом
ложе, где сплю, наслаждаюсь. Возле этого неба, на гла¬
зах невесты, наслаждаюсь. Мир наслаждается».
1 А Ь г 11 X. ОШсП 1гаЬа]‘о. МабгМ, 1935, р. 82.
200
Ближе Авриль сюрреалистическому письму, его тех¬
нике в сборнике «Трудная работа» («ЭШсИ 1гаЬа)о»,
1929), состоящем из небольших стихотворений в прозе,
каждое из которых заключает в себе действительно
странноватую картину, зарисовку необычного пейзажа,
который может сойти и за сон, за грезу, за плод мучи¬
тельной бессоницы. Эти картинки порой вызывают ощу¬
щение чего-то жутковатого, чувство потерянности, беспо¬
койства, настойчиво утверждаемой поэтом ненормаль¬
ности.
Любопытный вариант более поздних (50—60-е годы)
сюрреалистических увлечений представляет собой поэ-
зйя мексиканца Октавио Паса. В цикле «Ловкие дни»
(«01аз ЬаЬПез»), да и в других, помещены стихи, темой
которых стал процесс производства «сюрреальности»
или же сюрреалистической поэзии, стихи философские,
содержащие концепцию «сюрреальности», скорее, чем ее
образ, содержащие советы, «как писать». Пас советует
«зачеркнуть то, что пишешь, написать то, что зачерк¬
нуто», рассказывая о «вхождении в материю» (еп1гас1а
еп та1епа), «говорить то, что не говорят, не говорить то,
что говорят». Игра слов в его стихах выявляет относи¬
тельность всего и воцаряющуюся растерянность, движе¬
ние бессмысленное («сатто апсЫо сатто йезап-
сЫо» —■ «пройденные дороги, дороги, по которым воз¬
вращаются»), движение, замкнутое в круг повторений
(«КереПсюпез»).
Приведем характерный пример поэзии Паса:
Ачш
М15 разоз еп ез!а са11е
Резиепап
Еп о!га са11е
Оопс1е
СНдо гшз разоз
Разаг еп ез1а са11е
Оопс1в
5о1о ез геа! 1а шеЫа
(Здесь
Мои шаги на этой улице
Звучат
На другой улице
Где
Слышу мои шаги
Проходят по этой улице
Где
Только туман реален)
Сюрреалистический эффект это стихотворение созда¬
ет, возбуждая ощущение несообразности, загадочной
нелепости происходящего. Надо обратить внимание, что
главным для поэта оказывается неопределенность реаль¬
ности, ее относительность, ее исчезновение «меж двумя
улицами».
8 Л. Г. Андреев.
201
Другой пример лирики Паса:
(В пространстве
Нахожусь
Во мне
Пространство
Вне меня
Пространство
Ни в каком месте
Не нахожусь
Вне меня
В пространстве
Внутри
Находится пространство
Вне себя
В никаком месте
Нахожусь
В пространстве
И так далее).
Здесь еще заметнее, что сюрреалистическая «стран¬
ность» поэзии Паса возникает главным образом за счет
идеалистического уничтожения реальности, за счет
«игры» чисто философского свойства. Игра слов у Паса
набрасывает тень нереальности, демонстрирует недей¬
ствительность сущего («Желанная реальность себя же¬
лает»), соседство истины и заблуждения, их неразрыв¬
ность. Его «сюрреальность» — сам процесс, сам «меха¬
низм» творчества, и он может рассказывать о том, как
Уж написано первое
Слово [не то что задумано
Но другое — то
Что ему противоречит ((Зие пе 1а (Псе, ^ие 1а согИга-
А все это стихотворение «Написанное слово» похоже
на игру в сюрреалистическое словопроизводство, напо¬
минает какую-то шуточную «считалку», лишенную смыс¬
ла, неспособную выйти за пределы одного слова, создать
больше, чем одно слово. Так возникает словесный «ла¬
биринт», отражающий лабиринт реальности, ставшей не¬
реальной.
Что не говоря произносится]
(Нее,
(Зие 5ш (1ес1г1а ез!а сНс1еп(1о1а)
И так далее, вплоть до заключительной строки, по¬
вторяющей первую:
Уж написано первое
Слово...
262
ЬаЫпгйо с!е1 о!сЗо
Ьо чие (Нсез зе безсНсе
Ое1 зПепсю а1 &п1о
Оезсмбо.
(Лабиринт слуха
То что говоришь себя отрицает
От молчания до крика
Неслышного).
В итоге «достоверность» под пером Паса превращает¬
ся в «существование меж двух скобок» (стихотворение
«Достоверность»), Материя у него «вне (времени», а «мир
невесом»; нет прошлого, нет и будущего. Есть лишь в
стихах Паса одна реальность, да и то «призрачность».
Характерные для Октавио Паса как сюрреалиста
«шокирующие» сочетания несочетаемого — это взаимо¬
исключающие понятия, даже «взаимопожирающие» по¬
нятия, утверждающие, так сказать, «отсутствие присут¬
ствия».
Андре Бретону и Бенжамену Пере Октавио Пас по¬
святил цикл стихотворений «Саламандра» («5а1ашапй-
га»). Поэт припоминает встречи в Париже, образ кото¬
рого вызывает восторг («здесь возникает время») и в
то же время желание фиксировать несбыточное («види¬
мое невидимо», «не видим ничего, но все видим»), вслед
за французскими сюрреалистами, поскольку те звали
«говорить о том, что нельзя высказать».
Само собой разумеется, что поэзия Паса сложилась
под прямым влиянием сюрреализма Бретона. Но излюб¬
ленный мексиканским поэтом прием утверждения «при¬
сутствующего отсутствия» или же «отсутствующего при¬
сутствия» вел в конечном итоге к тому, что и «сюрреаль¬
ность» попадала в разряд этого утверждаемого отсут¬
ствия; не только реальность, но и «сюрреальность»
«самосъедалась», превращаясь в пустоту, в ничто. Это
«ничто» оказывается сердцевиной и реальности, и грезы,
и сновидения. На «ничто» наталкивается поэт даже тог¬
да, когда прикасается к «ее телу», т. е. к святая святых
сюрреализма («реально лишь желание»,—повторял
Пас) —«руки мои выдумывают другое тело телу твое¬
му». «Тело» тоже «(призрачно» в стихах Паса, тоже обо¬
лочка; оно только «принцип», но принцип, который никак
не может материализоваться хоть в каком-нибудь ощу¬
тимом облике. Эротика Паса лишена эротизма.
Итак — и реальность, и сюрреальность стали пусто¬
той иод пером Паса. Но перо это — живое, острое, и пу¬
8*
203
стота заполняется забавной игрой слов, остроумной пе¬
рекличкой образов, из которых ткется зримая оболочка
неуловимой иным путем пустоты: «По дорогам страниц
пробирается слово за словом...».
В заключение несколько слов об англоязычных сюр¬
реалистах. Дэвид Гаскойн написал в 1936—1937 годах
небольшой цикл стихов, дань его увлечения французами
(он и переводил французских поэтов). Стихи эти — опы¬
ты в духе сюрреализма, изображение состояния «меж
сном и бодрствованием», но довольно связное, так что
сюрреализм тоже кажется скорее темой стихотворений
Гаскойна, чем методом, кажется изображением различ¬
ных небылиц, необычайных приключений (стихотворения
«Фантасмагория», «Истина слепа»). Гаскойн и просто
описывал полотна известных художников-сюрреалистов
(Рене Магритта, например).
Каммингс был «ближе всех» из американцев к фран¬
цузским модернистам, как уверял живший в 20-е годы
«среди сюрреалистов» американский литератор Джозеф-
сон. Каммингс тоже жил в Париже. Это, пожалуй, самый
формалистический из всех значительных американских
поэтов. Но связана его поэзия скорее с кубо-футуриз-
мом, с дадаизмом, чем собственно с сюрреализмом. Мно¬
жество написанных Каммингсом в 20-е годы стихотво¬
рений свидетельствует прежде всего о настойчивом раз¬
рушении привычного поэтического синтаксиса и вообще
синтаксиса литературного английского языка. Каммингс
рвет, терзает фразы, строки и слова, вытягивая их в
необычный, неестественный, изломанный столбец. Кам¬
мингс кромсает слова, вырывая буквы, звуки и рассыпая
их по страницам так, что они кажутся уже не обломка¬
ми языка, а какой-то особенной материей, сырыми строй¬
материалами, из коих Каммингс складывает не то рисун¬
ки, не то музыкальные фразы.
г-р-о-р-Ь-е-з-з-а-е-г
\УЬо
а)з ^(е 1оо)к
ирпсшеаШ
РРЕСОКНКА55
еп'п^ш! (о
аТЬе) : 1
еА
5 'Р
а
304
г1у1пО
геа (Ъе) ггап (сот) (е) п^Н
дгаззЬоррег...
Многие стихи Каммингса напоминают о раннем Ре-
верди.
ВиНа1о ВПГз
(1еГипс1
^Ьо изес! 1о
гНе а ^а1егзшоо1Ь-зИуег
зЫНоп
апс1 Ьгеак опе1^о!ЬгееГоигПуе
(р1*^еопз]изШкеП1а1 Лезиз
Не ^аз а Напёзоше шап
апс1 ^На1 1 ^ап1 1о кпсш 1з
Но^ (1о уои Пке уоиг Ыиееуес! Ьоу
М1з1ег Оеа1Н. . .
Даже Гаскойн и Каммингс не опровергают того вы¬
вода, что в англо-американской литературе (если не в
сфере английского языка вообще) сюрреализм не стал
сколько-нибудь значительным явлением, несмотря на
декларированное в 1935 году англичанами намерение
организовать «свой», английский, сюрреализм.
♦ *
♦
Наконец, живопись. Следует признать, что с наиболь¬
шим эффектом сюрреализм проявил себя именно в жи¬
вописи. Вполне понятно — сюрреалистические эффекты
требовали наглядности, которая возможна только в изо¬
бразительном искусстве. Дивизионизм («расчленение»),
симультанизм, монтаж — все это нагляднее всего в этом
именно виде искусства. Сочленение удаленных реально¬
стей легче всего и эффективнее всего осуществляется на
полотне. Неожиданности лучше не иметь протяжения во
времени, как то неизбежно в словесном искусстве, —
живопись располагает максимальной возможностью для
возбуждения шока, для мгновенного эмоционального
воздействия.
Именно живопись, именно «сюрреалистические объек¬
ты» казались сюрреалистам реализацией их главного
намерения: воссоединения субъективного и объективно¬
го, преодоления идеализма и материализма, их антино¬
205
мии. Картина сюрреалиста, «предмет» сюрреалистиче¬
ский — это наглядное пособие к теме «сюрреальность»,
это сама воплощенная «сюрреальность».
С другой стороны, живопись представляла не мень¬
шие, чем поэзия, если не большие, возможности для
«автоматического письма», для прямого «выбрасывания»
неоформленного словами, даже звуками подсознания на
чистый лист бумаги.
Уже приходилось замечать, что сюрреалистическое
искусство всегда тяготеет к возбуждению зрительного
эффекта.
Показательна и тесная связь сюрреалистов-писателей
и живописцев, их потребность в совместной работе, в со¬
здании произведений особого рода, воссоединяющих
возможности и живописи и поэзии. Один из образцов —
сборник «Свободные руки» («Лез Матз НЬгез», 1936),
подготовленный Полем Элюаром и Маном Реем. Причем
было сообщено о том, что Элюар «иллюстрировал» Рея,
хотя написал он небольшие тексты к иллюстрациям, к
рисункам Рея, тексты-описания сюрреалистических поло¬
тен. Цикл «стихотворений в прозе» добавил Андре Бре¬
тон к циклу полотен Миро, созданных в 1940—1941 годах,
так что получился еще один сборник рисунков-стихов
(«Созвездия»). Виктор Браунер предложил даже особое
понятие «р1с!о-роёз1е», «живо-поэзия» («р1с!о» от франц.
«ргс1ига1» — «относящийся к живописи»).
Так называемые сюрреалистические предметы или
«объекты» («оЬ|е1») — очень часто плод совместных уси¬
лий поэтов и художников.
«Всю историю сюрреалистического движения худож¬
ники и скульпторы сотрудничали с поэтами в изобрете¬
нии сюрреалистических предметов. Дюшан ... придумал
«геас1у-тас1е» или предмет обихода, который достаточно
было подписать, считая его произведением антиискус-
ства, демонстрацией потребности художника в провоци¬
ровании. В дальнейшем сюрреалисты изобрели предмет
обихода, видоизмененный или созданный с помощью кол¬
лажа разнородных предметов, затем поэму-предмет,
составленную из несвязных элементов, к которым добав¬
ляется написанный контрапункт» 1.
В еще большей степени, чем поэзия, живопись сюр¬
реализма зависит от своих дадаистских корней, от экс-
1 «Аг1з», 1959, 30 зер1ешЬге —6 ос1оЪге.
206
йериментов М. Дюшана и Ф. Пикабиа, а те, в свою оче¬
редь, органически связаны с кубизмом.
«1. Разложение форм под влиянием кубизма привело
Пикабиа и Дюшана к тому, чтобы рассматривать чело¬
веческое тело как машину, от которой они могли отде¬
лять части с тем, чтобы их перегруппировывать по свое¬
му желанию: это кончилось «орфическими» полотнами
Пикабиа, хронофотографическими опытами Дюшана
(«Обнаженная, спускающаяся по лестнице», например).
2. Дюшан выполнил первое точное воссоздание ма¬
шины как таковой, то есть не пытаясь достичь эффекта
поэтического или пластического на манер романтиков
или футуристов. Это (была его «Кофейная мельница» от
1911 года. Между этой датой и 1915 годом он нарисовал
целую серию этюдов для удивительного произведения
«Обвенчанная, обнаженная своими холостяками». Речь
идет о небольших медных пластинках, разрисованных и
отчеканенных в формах получеловеческих, полумеханиче-
ских, заключенных между стеклянной плоскостью и тол¬
стым слоем лака. Всё в этом произведении символично.
3. С тех пор пути Пикабиа и Дюшана стали парал¬
лельными. В то время как Дюшан отдавался опытам,
руководствуясь случаем и устремляясь к новой форме
искусства, — «геайу-табе» — любой предмет может стать
произведением искусства по одной той причине, что он
избран художником—Пикабиа рисовал в Нью-Йорке в
апреле 1913 года свою первую механоморфную (тёсапо-
тогрЬе) картину, в концепцию которой вторгался «лес
символов» а 1а Дюшан. Эта картина называлась «Де¬
вушка, родившаяся без матери» и состояла она из форм,
вызывающих в представлении странные механические
элементы.
4. Пикабиа воспользовался, приспосабливая ее, тех¬
никой «геабу-табе» Дюшана: он использовал фотогра¬
фии предметов или промышленных чертежей — которые
он иногда слегка ретушировал — и посвящал их в «про¬
изведения искусства», прилагая свою подпись. Здесь же
вторгается еще один принцип, чуждый первым «геабу-
табе» Дюшана: употребление текста в роли элемента
живописи. Между 1913 и 1915 годами полотна и рисунки
Пикабиа покрываются различными надписями. Назва¬
ние, прежде всего, покидает рамку или каталог, чтобы
появиться на самом полотне, неотъемлемой частью кото¬
рого оно становится. В своем усилии вызывать у зрителя
207
не только эстетическую реакцию, не только эмоцию, но
также наслаждение интеллектуальное, Пикабиа воззвал
ко всем возможным приемам. Слова и пластические эле¬
менты могли применяться к бесчисленным комбинациям:
так образуются каламбуры, ребусы, загадки — то сло¬
весные, то зрительные, то на совмещении этих двух пла¬
нов. Вот один из простейших примеров: в номере жур¬
нала «391» Пикабиа публикует найденную в каталоге
репродукцию автомобильной свечи. Он довольствуется
тем, что стирает марку, пишет на этом месте «Рогеуег»
и подписывает все это: «Портрет американской девушки
в состоянии обнаженности». Если знать мнение Пикабиа
об американках, решение просто: американская девуш¬
ка — это «.воспламенительница», которую интересует
лишь связь «Гогеуег», то есть замужество» К
Рассмотрим, к примеру, «Поэму-предмет» Андре Бре¬
тона, полотно, относящееся уже к 1936 году. В сущности,
тот же принцип. Сфотографирована пачка сигарет. Круп¬
ными буквами на ней написано — «Ледяной океан». Кру¬
гом пачки тянется лента слов — «Девушка с голубыми
глазами, волосы которой уже белы». Слова «волосы ко¬
торой» отражаются в стоящем рядом зеркальце.
Сюрреалисты увлекались «находками», так как виде¬
ли в найденном (предмете торжество столь высоко цени¬
мого ими случая и очарование внезапности, новизны.
Они тоже увлекались «геайу-тайе», «готовыми товара¬
ми», предметами массового производства, 'Создавали
композиции самых заурядных вещей, нагромождали их
•в каких-нибудь хранилищах (так называемые «коробки-
предметы»).
Надо иметь в виду, однако, неоднородность сюрреа¬
листической живописи. «Формы-матрицы, двусмыслен¬
ные, неопределенные, деформированные, интерпретирую¬
щие, симультанные, разложенные, обязанные случаю,
символические, необдуманные, с цепи сорвавшиеся появ¬
ляются в сюрреалистической живописи, будь она выпол¬
ненной с реалистической точностью или точностью фото¬
графической (Дали, Таннинг, Фини), с академической
фигуративностью или примитивизмом (Магритт, Дель¬
во), крайней схематизацией (Массон, Миро),морфоло-
гизмом или сверхсочлененностью (Эрнст, Зелигманн,
Паален), всегда в поисках торжествующей иррациональ¬
1 5 а п о и 111 е I М. Ргапслз Р1саЫа е! «391», 1. 2. Рапз, 1966,
р. 31.
203
ности, в поисках необычайного — чудесного или ужасаю¬
щего и возможно крайней противоречивости между эле¬
ментарно простым и сложным» 1.
При всей этой пестроте сюрреалистической живопи¬
си, подмеченной испанским специалистом по сюрреализ¬
му, во-первых, все ветви этой живописи так или иначе
расходятся из общего корня, из одной точки, а потому
перемежаются и пересекаются. Этой точкой был «авто¬
матизм» и поиски «чудесного повседневного»: «главное
открытие сюрреализма в том, что без предвзятого наме¬
рения карандаш бегает по бумаге», — напоминал Бре¬
тон.
Во-вторых, можно выделить две основные тенденции.
Хотя «главное открытие» сюрреализма в том, что возни¬
кало при «автоматической» беготне карандаша, преобла¬
дала тенденция, которая не кажется плодом такого
«автоматизма». Произошло это вследствие того значе¬
ния, которое приобрели «сюрреалистические объекты».
«Сюрреалистический объект» (или «сюрреалистичес¬
кий предмет») занимает очень видное место в эстетике
сюрреализма, особенно в художественной практике. Воз¬
никновение такого «объекта» или такого «предмета» для
Андре Бретона знаменовало собой осуществление сюр¬
реалистической революции, воссоединение реального,
повседневного с «чудесным», поэзии с прозой в новом
образе, в «сюрреальности». Начало этого Бретон и видел
уже в «геайу-тайе» Дюшана: предмету предназначается
новая, несвойственная ему функция. Первая тенденция
сюрреалистической живописи и связана прямо с экспе¬
риментами кубо-футуризма и дадаизма, связана с выше
охарактеризованными опытами Пикабиа и Дюшана.
Сюрреалистический эффект в этом случае родственен
эффекту «удивления», и достигается он резкими сдвига¬
ми, соединением несоединимого, очевидной алогично¬
стью. Основополагающие приемы здесь — дивизионизм и
симультанизм, монтаж. Воссоздается мир обыденный,
мир банальных вещей, «предметов», но обретающих вне¬
запно некое новое звучание, обретающих загадочную
«сюрреалистическую» сущность.
При всей родственной близости дадаистским экспе¬
риментам эта тенденция несет в себе, таким образом,
нечто сюрреалистическое. Дадаистские полотна — в об¬
1 С 1 г 1 о 1 Л.-Е. Ьа рЫига зиггеаПз1а. Вагсе1опа, 1955, р. 80.
т
щем одномерны, как и наиболее близкие им сюрреали¬
стические конструкции, вроде вышеприведенной «По¬
эмы-предмета» Бретона, хотя последние и получают ме¬
тафорический смысл. Господствует навязчивая предмет¬
ность, торжествует культ вещи как таковой («любой
предмет — произведение искусства»), предлагается про¬
тивоестественное ее разложение. Если есть аналогия, то
ничем не оправданная, чисто внешняя, навязанная объ¬
екту необузданной фантазией художника (автомобиль¬
ная свеча-американка). Можно сказать, что все это так
или иначе присуще сюрреализму. Но все же — «геабу-
тас!е» современного «поп-арта» напоминают о дадаиз¬
ме, а не о сюрреализме.
Почему же? Потому, что сюрреализм (пытается вер¬
нуть предмету отодвинутое дадаизмом «романтическое»,
метафорическое, поэтическое значение, а не просто на¬
вязать ему извне, приклеить к нему (часто буквально)
некий смысл, некое значение. Даже используя технику
дадаизма, сюрреалисты приспосабливали ее к своим
целям.
Коллаж сам по себе был придуман до сюрреалистов,
но сюрреалисты действительно «содействуют» с его по¬
мощью воображению. «Все художники, которых можно
назвать сюрреалистами, ... употребляли коллаж», —
писал Арагон. Но сюрреалисты изменили функцию кол¬
лажей. «Коллаж становится средством поэтическим, цели
которого явно противопоставлены коллажу кубистов».
Арагон писал это о Максе Эрнсте, который «лишает каж¬
дый объект его смысла, чтобы возбудить впечатление о
новой реальности». Созерцал Эрнст, по его собственным
словам, иллюстрированный каталог, когда внезапно его
озарило ощущение «неизвестного», возникшее от навяз¬
чивого сочетания противоречивых образов, ощущение
собственной «галлюцинации», которая и переносилась на
бумагу. Коллажи Эрнста — метафоры особого, сюрреа¬
листического состояния, образы, рожденные грезами, а
потому сочленяющие элементы, взятые из различных ря¬
дов, из разных состояний. При этом не забывалась зада¬
ча «шокирования» зрителя, возбуждения «удивления».
Андре Бретон прямо сопоставлял сюрреалистические
коллажи в живописи с поэзией кумиров сюрреализма —
Лотреамона и Рембо. Открытие коллажей Макса Эрнста
Бретон расценивал как событие первостепенной важно¬
сти: «Я вспоминаю о волнении, которое охватило нас,
210
Тцара, Арагона, Супо и меня», — признавал он позЖе.—
«Внешний объект порвал со своим обычным фоном, со¬
ставляющие его части, в известном смысле освободились
от него, так, что с другими элементами завязали совер¬
шенно новые отношения, ускользающие от принципа
реальности, но тем не менее с последствиями для реаль¬
ного плана».
В предисловии к сборнику рисунков-стихов «Свобод¬
ные руки» Элюар писал: «Столько же чудес в стакане
воды, сколько в глубинах моря». Связанное с дадаиз-
„ мом, с коллажами, с «геабу-табе» направление сюрреали¬
стической живописи четче и нагляднее всего отобразило
такие свойства сюрреализма, как эффект неожиданно¬
сти, возникающий при воссоединении несоединимого и
возбуждающий ощущение «сюрреальности», т. е. присут¬
ствия «чудесного» в реальном, обыденном К В таком слу¬
чае, чем реальнее, предметнее и обыденнее сочленяемые
элементы, чем более они «геабу-табе», тем эффект дол¬
жен быть сильнее.
Не случайно, а закономерно такое «стержневое» ме¬
сто в сюрреализме занял не кто иной как фотограф.
Этим фотографом был американец Ман Рей. Накануне
войны и в первые ее годы он экспериментирует в живо¬
писи, будучи в общем 'близок дадаизму, сотрудничая с
Дюшаном, с которым подружился, когда тот в 1915 году
приехал в Америку. Среди ранних его созданий — «По¬
дарок», утюг с шипами, на обычно гладкой поверхности.
Утюг воссоздан фотографически точно — и тем более
шокирующим оказывается противоестественное наличие
целой цепочки шипов на его гладкой пластинке. Это
один из первых «сюрреалистических предметов». Ман
1 Ближайшим предшественником сюрреалистической живописи
считается итальянский художник Дж. де Кирико, умевший своими
полотнами возбудить ощущение томящей загадки, хотя на полотнах
были изображены улицы, здания и некоторые предметы, самые ба¬
нальные. Все конкретно — и все абстрактно у него. Позже, акцен¬
тируя метафизическое содержание своей живописи, де Кирико рас¬
ставил на пустынных улицах человекоподобные существа, существа,
у которых обычно менее всего была человекоподобной голова. Голо¬
вы в изображении де Кирико лишены лица, превращены в тяжелые
и примитивные округлые предметы, похожие на мячи для игры в
регби. Уже де Кирико писал о «снах и детском мировосприятии» как
основе творчества, его искусство было близко «примитивистам»
(А. Руссо) начала века, но усилено метафизическое наполнение кар¬
тин.
211
Ре&,пристрастился к фотографии, всячески стараясь из¬
вести собственно живописный элемент и внедряя в сюр¬
реалистическое искусство фотографическую точность
деталей, дающих эффект неожиданности при произволь¬
ном их сочетании. Фотомонтаж сюрреалиста Рея — про¬
тивоположность творчеству реалиста Джона Хартфиль-
да, -создателя антифашистской, революционной классики
в жанре фотомонтажа.
«Шокирующего» эффекта Ман Рей добивался и без
применения фотографий. В сущности все рисунки из
сборника Рея—Элюара «Свободные руки» основаны на
соединении несоединимого, на разрушении объективных
пространственных отношений. Вот «Нить и игла», харак¬
терный для сюрреализма «двойной» образ — игла с
нитью, выполняющие одновременно роль человеческой
фигуры, — угрожающе нависающий над горным пейза¬
жем. Ощущение некоей загадки возникает, но это «чу¬
деса в стакане воды», сочиненные с помощью простой
иголки с ниткой. Вот «Тревога и беспокойство», где нет
ничего, кроме обычного горшка с цветком и обычных ки¬
стей рук, но причудливым, совсем необычным, невозмож¬
ным образом сросшихся с веткой. В «Повороте» точно
нарисованный пейзаж разламывается вторжением руки,
и положение которой, и размеры заставляют почувство¬
вать нечто загадочное и кошмарное. «Прекрасная ру¬
ка» — образец «двойного» образа, образа женщины и
руки одновременно. Сюрреалистическая противоестест¬
венность «Птичьего растения», где самым примитив¬
ным образом нарисованы птички и ствол растения,
всего-навсего в том, что птицы приросли к стволу,
возникает раздражающее сочетание недвижного ствола
с птицами в полете. «Сон» сделан еще прямолиней¬
нее— паровоз, явно летящий на всех парах, вынужден
лететь буквально. Впрочем рисунок можно считать и
реализованной метафорой («паровоз летит»). «Пара¬
нойя»— грубый и тем более «шокирующий» пример сое¬
динения несоединимого: голова и нога соединены
вместе, без туловища. Получившийся урод обрастает
дополнительной смысловой нагрузкой, поскольку во¬
дружен над земным шаром. Поэтичнее, да и понятнее
образ ожидания, тоже противоестественный (меж ладо¬
ней устроился паук), но передающий томительное и бес¬
конечное ожидание, символизирующий абсолютную
неподвижность ожидания.
2 12
В 1921 году появились первые «рейограммы» Мана
Рея: силуэты, возникавшие на бумаге от приложенных
к бумаге и освещаемых предметов, самых различных,
случайных, незначительных. Их незначительность под¬
черкивала загадочную многозначительность отброшен¬
ных и зафиксированных теней.
'Ман Рей — сюрреалистический фотограф — экспери¬
ментировал и в кино.
«В кино можно ходить, как в церковь», — уверял
Бретон; «значительное число нашего послеполуденного
времени протекало в кино», — сознаются сюрреалисты.
«Нет сюрреалистического кино» — «кино само по себе
есть искусство сюрреалистическое»: вот амплитуда мне¬
ний об отношениях сюрреализма .и киноискусства. Кино
казалось сюрреалистам идеальным воплощением их тех¬
ники, поскольку фильм — как бы цепь фотографий, ко¬
торые можно любым образом комбинировать, создавая
самые неестественные сочетания, самые фантастические
(при фотографической точности деталей) коллажи, слов¬
но бы грезы, которые обретают видимость неоспоримой
кинореальности, поток этих грез в смене кинокадров.
Самой категорической позиции придерживается участ¬
ник сюрреалистического кинодвижения и автор самого
большого труда о «сюрреализме в кино»: «Кино сюрреа¬
листично по своей сути» 1. Автор этот—страстный по¬
клонник сюрреализма, не сомневающийся в том, что уси¬
лия врагов сюрреализма («могильщиков с головами
мертвецов») «загнать его в гроб», противоестественны,
ибо сюрреализм становится «более живым, чем когда-
либо». С тем, чтобы доказать такую живучесть сюрреа¬
лизма, киноискусство и подгоняется к сюрреализму.
Просто-напросто цитируются известные определения
сюрреализма, принадлежащие Бретону, и сообщается,
что они суть определения киноискусства. При этом
имеется в виду, во-первых, что, кино производит впечат¬
ление бесспорной реальности, «предметно», а во-вторых,
что «все (возможно» в кино.
Но как ни пытается сторонник сюрреализма раство¬
рить историю сюрреалистического кино в истории кино
вообще, приходится выделить собственно сюрреализм.
Приходится при этом отделять от сюрреализма фильмы,
которые тоже основывались на убеждении, что «все воз-
1 Кугой Ас1о. Ье зиггёаПзте аи стёта. Рапз, 1963, р. 9.
213
можно», но остались фильмами приключенческими, фан¬
тастическими, бесчисленными «фильмами ужасов», а так¬
же фильмы, которые не только производят впечатление
реальности, но являются реалистическими (глава о рево¬
люционном советском кино в книге «Сюрреализм в
кино»).
И тогда возникает вопрос: почему в «сюрреалистиче¬
ском по сути» киноискусстве так мало сюрреалистиче¬
ских кинофильмов?
Были кинопопытки Мана Рея и Марселя Дюшана,
Ф. Пикабиа и Рене Клера. В 1928 году был представ¬
лен фильм «Андалузская собака» Луи Бюнюеля и
С. Дали. Затем (в 1930 г.) появился «Золотой век» тех
же авторов. Потом еще несколько фильмов Бюнюеля,
в сюрреалистичности которых критика уже сомневается.
Вот и все.
Самая, может быть, выразительная фигура «предмет¬
ного», «натуралистического» сюрреализма — бельгиец
Рене Магритт. Он особенно преуспел н создании сильно¬
го «шокирующего» впечатления путем сопоставления,
сочленения реальностей, которые не могут быть сочле¬
нены на самом деле, «взаимоуничтожаютея» от такого
соотнесения, вызывая у зрителя чувство тревоги, ощуще¬
ние абсурдности мира. Вот «Угрожающие времена»: на
небе, над точно нарисованным морем и морским берегом
нависли, выступая из воздушной пелены, огромное крес¬
ло, тромбон и обезглавленная статуя. Ужасное впечат¬
ление оставляет знаменитое «Насилие» Магритта, полот¬
но, на котором лицо женщины и ее обнаженное тело
слиты в одном образе, образе задавленного вопля, бес¬
конечного ужаса. Вот его «Терапевт»: точно выписана
фигура старого, явно уставшего человека, присевшего у
дороги с палкой в руке и мешком. Все здесь есть, все
тщательно нарисовано — но пл*ед и шляпа прикрывают
клетку с птичками, занявшую место грудной клетки, ту¬
ловища и головы. Клетка, птички, в свою очередь, нари¬
сованы с максимальной достоверностью. Вот «Красная
модель»: столь же старательно нарисованы ступни, ко¬
торые переходят, перерастают в не менее старательно
нарисованные ботинки (или наоборот — ботинки в ступ¬
ни).
Андре Бретон с восторгом писал о картинах мекси¬
канской художницы Фриды Кало де Ривера. Среди этих
картин, «полностью сюрреалистических», по мнению
214
Бретона, — «То, что дает мне вода»: обыкновенная ван¬
на, из которой выглядывают обыкновенные ноги (если
не считать того, что пальцы «замкнуты» как карточные
фигуры), окруженные множеством самых различных об¬
разов — тут и люди, и растения, и здания, и причудли¬
вые «орабли, смонтированные в причудливой компози¬
ции.
Изображением такого же рода .странностей занима¬
лась чешская сюрреалистка Туайен (Мария Черминова).
Среди ее полотен особенно известна «Спящая». Нари¬
сована фигура девушки с сачком в руках; сачок, голова
с длинными волосами, платье — все на месте, нет только
тела, нет ног, голова покоится на платье, которое рас¬
пахнулось, и видна пустота.
Образец «двойного образа», практиковавшегося сюр¬
реалистами, — «Женщина по-кошачьи» Виктора Брауне-
ра. Это портрет женщины, черты которой пробиваются
сквозь кошачий облик, или же кошка, которую фантазия
сюрреалиста вынудила принять облик женщины. Прора¬
стающий в груди этого существа большой белый цветок
придает еще одно, загадочное третье значение образу
«женщины-кошки». Браунер .вообще увлекался изобра¬
жением лиц, в разных вариантах изуродованных. Он
даже собственный портрет нарисовал, выбив себе (на
полотне) глаз. Как многие сюрреалисты, Браунер рабо¬
тал в Париже, перебравшись туда в 1930 году из Ру¬
мынии.
«Паранойя-критичеокий метод», которым Сальвадор
Дали обогатил сюрреализм к началу 30-х годов, — раз¬
новидность «фигуративного», «вещного» сюрреализма.
Сначала Дали попробовал силы в упражнениях чисто
автоматического рисования; Дали приступил к фиксации
на полотне своих снов, своих гёуез, фиксации поспешной,
чтобы не уопело вмешаться сознание. Далее и сложился
«метод стихийного иррационального познания, основан¬
ный на ассоциации феноменов бреда». В паранойе, в ду¬
шевном заболевании, Дали увидел возможность «мате¬
риализации конкретной иррациональности», при которой
«я» активно («критично») преобразует реальность, под¬
чиняя ее субъективности, превращая предмет в много¬
значный символ. Детали своих композиций Дали часто
берет из мира реального, «вещного», но превращает их
в знаки странного, загадочного мира. Эта задача сфор¬
мулирована им так: «живопись — ручная фотография
215
конкретной иррациональности и воображаемого мира
вообще». Следует обратить внимание на сочетание поня¬
тий «фотография» и «иррациональность», «конкретность»
и «иррациональность».
На полотнах Дали вызывающе нарушены и смещены
объективные пропорции, завязаны неестественные, про¬
тиворечащие здравому смыслу пространственные отно¬
шения, «персонажи» выполняют непривычные роли и в
необычном положении оказываются вещи. Один из клас¬
сических примеров-^та роль, которую предназначал
часам Дали в картине «Постоянство’ памяти». На пу¬
стынном морском берегу разбросаны циферблаты часов.
Разбросаны как тряпки, как намокшее белье. Они изо¬
гнуты, -распластаны, свернуты, смяты.
Дали, не стесняясь, хозяйничает на полотне. Его мон¬
тажи провокационны. Он кромсает природу, то ставя
точно скопированную деталь в противоестественное по¬
ложение, то сочетая ее с деталью неестественной, приду¬
манной. Дали обычно густо насыщает картину «сюрреа¬
листическими предметами», порой похожими на объедки
со -стола какого-то исполина, пожиравшего природу.
Хотя живопись Дали позже будет «отлучена» от сюрреа¬
лизма, первоначально именно она точнее всего соответ¬
ствовала представлениям Бретона о сюрреалистической
живописи как о прямом отражении сомнений в реально¬
сти реального: между существами «примысливаемыми»
(ё\^иё) и «присутствующими» различие, возможно,
ощутимо, но Бретон не считается с ним.
Художники-сюрреалисты нередко вызывают впечат¬
ление сильное, но гнетущее, тем что в неестественное
положение ставят человека. Словно издеваясь над чело¬
веком, сюрреалисты выкручивают его тело, рассекают,
меняют местами органы. Особенно часто такие операции
проделывались с женским телом, что выдает патологиче¬
ские и эротические наклонности сюрреалистов. Многие
их полотна густо наперчены самым откровенным садиз¬
мом—женское тело с головой животного, прекрасная
женская голова со звериным телом и еще более причуд¬
ливые композиции. Некоторые полотна Дали тоже кажут¬
ся зарисовкой эротических, окрашенных садизмом грез
или же ночных сексуальных кошмаров.
Эротичны полотна Ганса Беллмера (художник, пере¬
бравшийся из Берлина в Париж), на которых выкруче¬
ны, сплетены характерные линии и формы женского те¬
216
ла. Обнаженные женщины густо населяют полотна бель¬
гийца Поля Дельво. Он не коверкает, не выгибает их
тела так, как Белймер, он, наподобие де Кирико, рас¬
ставляет своих «ню» на пустынных улицах загадочного
города, тщательно .выписывая каждую фигуру. Иногда
рядом с обнаженными женскими фигурами расставлены
фигуры мужчин, старательно закутанных в тяжелые,
плотные одежды.
Скандалами сопровождались экспозиции датского
сюрреалиста Вильгельма Фредди. Одним из образцов
сюрреалистического надругательства над человеком мо¬
жет считаться картина Фредди «Золя и Жанна Розро».
Это подлинно наглядное пособие для изучения патоло¬
гичности и противоестественности тех «естественных»
импульсов, которые фиксировали сюрреалисты. На пе¬
реднем плане — большая полуобнаженная женская фи¬
гура, она увенчана омерзительной головой не то лоша¬
ди, не то коровы, к тому же разукрашенной скопищем
каких-то внутренностей или же многоножек, гадких, сле¬
пившихся насекомых. Справа от этой уродины — фигура
балансирующего, порхающего в воздухе мужчины, сле¬
ва, в глубине, еще одна уродливая фигура обнаженной
женщины, с непомерно крупной одной ногой и огромной
кистью руки.
Позже сюрреалистическая эротика сплелась с мисти¬
кой, например, на полотнах шведа Макса Вальтера
Сванберга, монтировавшего детали женского тела и фан¬
тастические .сказочные существа.
Закономерно то, что Бретон давал медицинско-фрей-
дистскую интерпретацию творчества Дали, считая в на¬
чале 30-х годов Дали показательной для сюрреалистиче¬
ской живописи фигурой. «Воспроизведение», «объекти¬
визация», по мнению Бретона, — это сублимация, позво¬
ляющая художнику высвободиться от «тирании объек¬
тов» и от неизбежного следствия такой «тирании», не¬
вроза. Сублимация с помощью «воспроизведения» —
выражение потребности в нарцистической самофиксации
и в эротизации окружающего (статья «Случай» Дали»,
1936).
Скандальные поздние композиции Дали — это тоже
«сюрреалистические объекты», но чем далее, тем более
они приобретали вид откровенно несерьезный, шутов¬
ской. Дали сочинял и «существа-объекты» с «аэродина¬
мическими свойствами». В 1938 году Дали выставил
217
«Дождливое такси»; сидевшая в такси блондинка (му¬
ляж) была облеплена настоящими улитками. В таких
экспериментах Дали подтвердилась склонность многих
сюрреалистов к созданию «объектов», «предметов», ко¬
торые несли бы печать эротизма — так происходило
«воссоединение субъективного и объективного».
На этом пути и расцвело откровенно скандальное
позднее «творчество» Дали. Вот один из «рецептов»
Дали: надо взять «воздушную кукурузу и свиней, червей
и рыб, гремящий мотоцикл, 40 литров шоколадного си¬
ропа, вооруженного метлой помощника, только в бикини
одетую брюнетку и 4,5 метра холста». Чем шокирую¬
щие «сюрреалистические предметы»? чем не коллажи?
Создание «сюрреалистических объектов» привело не¬
которых художников к тому, что можно назвать сюрреа¬
листической скульптурой. «Рельефы» (Ганс Арп), ста¬
новясь подвижными и приобретая объем, преображались
в скульптуру. Ответвление этих занятий — «намазыва¬
ние», нанесение различных материалов на плоскость
(камни, веревки и пр.). Создатель «сюрреалистических
объектов» Альберто Джакометти — самый .видный
скульптор-сюрреалист. В 1930 году Джакометти соору¬
дил «Время следов» — «подвижный и безмолвный» «сюр¬
реалистический предмет», «абсолютно воображаемый»,
по словам его создателя: подвешенный довольно боль¬
шой шарик касается лежащей на ровной поверхности
изогнутой полумесяцем формы. За сим последовали дру¬
гие объемные «предметы» Джакометти.
Сюрреалисты пытались проявить себя и в области
архитектуры, проектировали монументы и целые города.
Бретон предлагал заменить Вандомскую колонну завод¬
ской трубой, на которую взбирается обнаженная жен¬
щина. Дали спроектировал комнату, которая была
вместе с тем лицом женщины. Особенно заботились
сюрреалисты о проектировании и оформлении своих вы¬
ставок, создавая соответствующие помещения, которые
были чем-то вроде сюрреалистических «предметов» и на¬
сыщены они были предметами, в частности, сюрреали¬
стической мебелью (например, «Стол-волк» В. Брауне- 4
ра — стол занимает место туловища волка, голова и
хвост которого обрамляют этот стол).
Макс Эрнст придумал коллаж, «свой», сюрреалисти¬
ческий коллаж. Но он еще изобрел и «ГгоМаде» («нати- *
рание») — листки бумаги, покрытые графитом, прикла-
218
дываются без всякой системы на пластинки, На твердый,
с прожилками материал, который оставляет след. Воз¬
никающие при этом изображения теряли, по заявлению
Эрнста, всякую связь с материалами, с помощью кото¬
рых и на которых они отпечатывались, приобретая облик
«первоначального наваждения». Эрнст использовал раз¬
ные материалы для своих «фроттажей», пытаясь выя¬
вить скрытые за материей первоначальные импульсы, а
вместе с тем и расшифровать с помощью получаемых
образов свою собственную суть, свое подсознание.
Эрнст считал «фроттаж» приемом, соответствующим
принципу «автоматического письма». Во всяком случае
это один из многих, придуманных сюрреалистами спосо¬
бов превращения творческого акта в нечто подвластное
только случаю, в нечто чуждое какой бы то ни было
социальной и нравственной, а также эстетической зада¬
че. Были еще «фюмажи» (ими увлекался австриец
Паален) —«обкуривание» невоспламеняющейся поверх¬
ности, была «декалькомания» (О. Домингес с Канарских
островов) —"накладывание чистого листа бумаги на
лист, только что покрытый краской, которая наносится
«быстрыми и как можно менее управляемыми движени¬
ями», и т. п. Во всех случаях задача сводилась к тому,
чтобы получить неожиданный результат, который никак
не контролируется разумом, не зависит от воли худож¬
ника, даже от орудий производства — кисти, краски.
Результат этот должен был увести искусство от ка¬
кой бы то ни было содержательности, внятности. Во всех
случаях — порвать с живописью, которая казалась сюр¬
реалистам анахронизмом.‘При всех этих приемах замет¬
но прокладывающее себе путь тяготение к стихийному,
инстинктивному, к обнажению подсознания. Бретон позд¬
нее именно в декалькомании Домингеса, в упражнениях
В. Паалена видел обнадеживающее утверждение «авто¬
матизма», считая, что коллажи и «паранойя-критический
метод» слишком рациональны для истинного сюрреа¬
лизма.
С течением времени Бретон все заметнее отдавал
предпочтение «непосредственному» в живописи, тому,
что очевиднее связано с «автоматической» основой сюр¬
реалистического творчества. Так, в 1944 году творчество
чилийца Матта (Матта родился и учился в Чили, но за¬
тем отправился в Европу, где сблизился с сюрреалиста¬
ми; он был активным участником группы, когда сюрреа¬
219
листы обосновались в США), его «психологический мор-
фологизм», более или менее абстрактные полотна,
заполненные цветными пятнами или странными, челове¬
коподобными фигурами, Бретон противопоставлял «ре¬
троградной» живописи по «паранойя-критическому ме¬
тоду».
В этом же, в «автоматизме», он видел причину попу¬
лярности Ива Танги. Вот творческий акт в изображении
Ива Танги: «Моя живопись не перестает быть тем, чем
всегда была: чистой интуицией. Когда я начинаю писать
картину, я не знаю, чем она может стать... Все взаимо¬
связывается вне моего сознательного вмешательства.
Я не имею представления о целом, я не вижу его до то¬
го, как последний раз притронусь кистью. Лишь после
этого картина раскрывает себя и меня раскрывает мне
самому... Я ничего не ожидаю от моих размышлений, но
уверен в моих рефлексах»- К
Вторым из двух главных направлений сюрреалисти¬
ческой живописи, систематизирующим различную техни¬
ку, и было направление, которое на первый взгляд ка¬
жется трудно с первым, «предметным», совместимым.
Там царство точно скопированных реальных предметов,
натуралистическое их фотографирование, здесь же, на¬
оборот, никакой внешней схожести, все абстрактно,
непохоже. Это по убеждению сюрреалистов, и есть сле¬
пок с подсознания, попытка прямого его выражения.
А вместе с тем и прямой фиксации «удаленной воли» 2,
того, якобы объективно существующего «чудесного», что
сливается с подсознанием в комплексе сюрреалистичес¬
кой субъективно-объективной «тайны». Сюрреалистичес¬
кие сновидения принимали видимость то паранойя-кри-
тического блуждания субъекта .среди вещного мира, то
туманных «грез», населенных ни на что не похожими
существами. Впрочем, существа эти тоже «сюрреалисти¬
ческие объекты», хотя и мало похожие на «предметы».
Надо, однако, сказать, что склонность к созданию
таких абстракций, таких «нефигурат.ивных» образов
внутреннего состояния обнаруживали и дадаисты. Эта
склонность в истории сюрреализма постоянно сочетается
с одержимостью вещами, с «геабу-табе», назойливой «фи-
1 «Ьа чиегеИе с!и гёаНзте». Рапз, 1936, р. 185.
2 «Моя рука — инструмент удаленной воли», — писал Поль Клее,
художник, близкий сюрреализму, оказавший влияние на сюрреа¬
листов.
220
Гуративностью». Вспомним дадаиста Ганса Арпа, его
навязчивую идею, вынуждавшую художника придумы¬
вать разные способы прямой проекции подсознательного
на бумагу, на дерево. Так возникли абстрактные, рас¬
плывчатые «рельефы» Арпа, сочетания пятен, форм, изо¬
гнутых линий, за которыми «нет ничего», по словам
самого Арпа. «Автоматические» рисунки создавал Андре
Массон. Затем он изобрел «песчаные картины»: на на¬
рисованное полотно брызгал «лей, а потом посыпал пе¬
ском, который прилипал в разных местах. Правда, это
уже «техника», на «автоматическое письмо» песчаные
сооружения Массона не очень-то похожи. Строго говоря,
только такие «произведения», как «рельефы» Арпа,
рисунки Массона, можно считать плодом «автоматиче¬
ского письма». И все же сюрреалистов их кредо
подталкивало в направлении абстрактности, бесформен¬
ности, «нефигуративности». Но, становясь абстрактной,
«нефигуративной», живопись переставала убеждать в
том, что «чудесное» насыщает именно реальность, что
сюрреальность —. это воссоединение реальности и «грез».
Таким образом, и влечение к «фигуративности», к «вещ¬
ности» было неизбежным для сюрреалистов. Чем более
«вещными» были полотна сюрреалиста, тем менее они
убеждали в том, что сработаны «автоматически», что
выявляется инстинкт, что выплескивается «я». Ведь не¬
даром одно из обоснований абстракционизма сводится
к тому, что абстрактность — результат прямого выявле¬
ния подсознательного на полотне.
Такова живопись Ива Танги. На пустынном, без¬
брежном пространстве, в пустоте, чуть конкретизирован¬
ной похожестью на пески пустыни, на морской пляж, на
берег бесконечного океана, Танги разбрасывает стран¬
ные фигурки, в которых невозможно узнать что-либо или
кого-либо из реального мира. То ли это живые существа,
то ли это каменные, отточенные ветром и дождем глыбы,
то ли символы растительного, то ли животного мира.
Художник возвращает нас к какой-то изначальности,
к примитиву, к миру личинок, червячков, кораллов, око¬
стеневших существ, косточек, закорючек. Все эти эле¬
менты разбросаны на поверхности, представлены в трех
измерениях, вроде бы разыгрывают какую-то драму.
Танги и называл свои полотна соответствующим обра¬
зом: «Сцена», «Медлительные дни», «Мама, папа
ранен!».
221
«Что такое эти образы?» — спрашивал Бретон, раз¬
мышляя об искусстве Танги. Он видел их «у тех пред¬
ков, где сознание отказывается от каких бы то ни было
заимствований из внешнего мира, где человек хочет
искать аргументы только в своем собственном существо¬
вании, в сфере чистых форм... Нет ни пейзажа. Ни даже
горизонта. Есть только наше бесконечное подозрение,
которое все охватывает» К Бретон настаивал, однако, на
том, что Танги не абстрактен, но конкретен, на том, что
Танги дает возможность «увидеть».
Поселившийся в 1920 году в Париже (он вернулся
на родину, когда гитлеровцы оккупировали Францию)
испанец Хуан Миро тоже рисовал символические фигур¬
ки. Но в них больше жизни, больше поэзии и юмора.
Миро не пугает, а забавляет, особенно в начале творче¬
ства. Иногда картины Миро кажутся плодом детского,
наивного воображения, детской, а не сюрреалистической
непосредственности. Порой фигурки на его картинах
явно 'близки сюрреалистической символике, близки Тан¬
ги — тоже какой-то примитив, какие-то личинки, насеко¬
мые, жучки, правда, больше напоминающие живые су¬
щества. Некоторые полотна («Вспаханная земля») насе¬
ляют множество «смонтированных», разбросанных по
одномерному пространству предметов, каждый из кото¬
рых живет своей жизнью.
Хуан Миро жил в Париже рядом с Андре Массоном,
классиком «автоматического письма» в живописи. «Че¬
рез него я познакомился с сюрреалистами. Но я не под¬
писал ни одного из их манифестов. ...В чем состоит
влияние сюрреализма на меня? В победе над видимой
реальностью». В 30-е годы рука Миро стала выводить
фигуры, резко деформированные, кажущиеся карикату¬
рой на человека, схемой человека, нарочито искривлен¬
ной и уродливой. Затем он создал много вариантов
«созвездий», пытаясь воплотить музыку языком живо¬
писи, нарисовать созвучия цветовых пятен, фигур, линий.
Автор воспоминаний «Жизнь среди сюрреалистов»
американский литератор Метью Джозефсон писал: «Че¬
рез четверть века (после середины 20-х годов. — Л. А.)
я с ужасом обнаружил, что служители нового культа
абстрактного экспрессионизма в Америке погрузились в
тот же самый сумбур автоматизма и подсознания, кото¬
1 В г е I о п А. Ье зштёаПзте е1 1а рет1иге. Ые\у Уогк, 1945,
р. 73.
222
рый .ввели сюрреалисты. Американцы, на которых по¬
влияло искусство сюрреалистов и дадаистов, избегали,
однако, социального радикализма их предшественни¬
ков» К
Именно американцам, так сильно отставшим от евро¬
пейских новинок, довелось до крайней степени довести
крайние точки сюрреалистической живописи — тяготение
к натуралистически скопированному объекту .и тяготение
к абстрактности. «В годы второй мировой войны и еще
более в послевоенные .пятнадцать лет сюрреализм, в ко¬
тором крайние антиреалисты подозревали наличие опас¬
ных склонностей к заимствованию из реального мира
хотя бы разрозненных его деталей, был чрезвычайно
энергично оттеснен широкой волной чисто абстрактного
искусства»2. Однако традиция сюрреализма не исчезла,
она ушла в фундамент американского абстракционизма,
породив самую нашумевшую в послевоенные годы шко¬
лу американского модернизма — «абстрактный экспрес¬
сионизм» с доведенным до предела принципом интуити¬
визма, стихийности творческого акта. Разбрызгивая по
полотну краску, Поллок повторил то, что почти за пол¬
века до него делал, например, Ганс Арп. Правда, Пол¬
лок вложил в это занятие чисто американскую масштаб¬
ность. «Когда я внутри моей живописи, я не осознаю
то, что я делаю», — писал Поллок, признаваясь, что его
«привлекали некоторые европейские художники (Пикас¬
со, Миро), ибо они считали бессознательное источником
искусства».
Сошлемся на авторитет знатока и поклонника модер¬
низма, для которого «чистый автоматизм» Поллока,—
«не лишенное величия» (здесь сказывается поклонник)
«отрицание искусства живописи» (здесь сказывается
знаток)3. Итак — «отрицание искусства живописи».
Другая нашумевшая школа американского модерниз¬
ма— «поп-арт» (Раушенберг и др.)—кажется отрица¬
нием, опровержением «абстрактного экспрессионизма».
«Поп-арт» и возник как оппозиция абстракционизму, на
основе культа современности, повседневности, реально¬
сти. Но в «поп-арте» нетрудно видеть также преувели-
’ЛозерНзоп М. Ше ашопд 1Ье 5иггеаПз1з, р. 224.
2 Чегод аев А. Д. Искусство Соединенных Штатов Америки
от войны за независимость до наших дней. М., 1960, с. 100.
3 К а д о п М. Ь’ауеп1иге с!е Гаг1 аЬз1гаИ. Рапз, 1956, р. 335.
223
ченное, гиперболизированное, дадаистское и сюрреали¬
стическое преклонение перед вещью, перед «геайу-гпайе».
Старые, как XX век, коллажи вновь пошли в дело. Не¬
далеко ушли поп-артовские композиции и от сюрреали¬
стических «объектов». Показательно, что на сюрреали¬
стической выставке в Париже в 1959 году фигурировали
и поп-артисты, вокоре ставшие известными, в том числе
сам Раушенберг.
Но и на этом крыле современной живописи происхо¬
дит «отрицание искусства живописи».
Оба крыла послевоенного американского «модерна»,
развивая опыт и традицию сюрреализма, дали недву¬
смысленный ответ на вопрос о перспективности этой тра¬
диции.
* *
*
Считая искусство последним козырем сюрреализма,
логически конечным пунктом его социальных и философ¬
ских блужданий, мы вовсе не считаем сюрреализм ка¬
кой-то особенно благоприятной для искусства художест¬
венной школой. Скорее наоборот — при всем очевидном
влиянии сюрреализма на искусство. Сюрреализм стал
неоспоримым фактом искусства. Но не следует забывать
об истории сюрреализма, об истории постоянных уходов
из сюрреализма одаренных писателей. Талант и сюрреа¬
лизм оказались трудно совместимыми понятиями.
Можно понять специалиста по французской поэзии,
который писал: «По счастью, среди сюрреалистов... были
поэты». «По счастью» не только в том смысле, что, не¬
смотря на всевозможные претензии сюрреализма как в
сфере политики, так и в сфере философии, он в конце
концо-в оказался явлением искусства, только искусства.
«По счастью» и потому, что, -если окинуть взором всю
историю сюрреализма, то вырисовывается достаточно
определенный вывод: даже поэзия развивалась скорее
вопреки, чем благодаря сюрреализму. Ведь сюрреализм
покидали не политические деятели, а художники.
Да, искусство, «сюрреалистический предмет», сюрреа¬
листический образ — вот что было последним доказа¬
тельством существования «сюрреальности» и «абсолют¬
ной свободы». Сюрреализм оставил след там, где уда¬
лось отработать особый эффект неожиданности и создать
впечатление «сюрреальности» путем соединения разно¬
224
родных элементов, разрушения объективных связей, вре¬
менных и пространственных соотношений, где удалось
«поглотить» реальность, материю — т. е. в искусстве. Но
ведь «сюрреальность» в искусстве — плод воображения,
всего-навсего художественный образ. Сюрреалисты ока¬
зались «всесильными», способными на реализацию своих
претензий на «тотальность», на утверждение «нового
бытия» только в сфере воображения — бытие и на этот
раз доказало свою первичность относительно сознания.
«Новое бытие» стало всего-навсего содержанием сюр¬
реалистических произведений, в которых их создатели
действительно демонстрировали свою «абсолютную сво¬
боду», вступая в соревнование с самим богом. Но бог,
по известной легенде, творил мир— сюрреалисты же
сочиняли стихи или создавали картины.
На самом деле сюрреализм не освободил искусство
от объективных и субъективных его ограничений. Более
того, он закрепостил и огрубил творческий акт. Каждый
может быть поэтом, считали сюрреалисты. Каждый
может слушать голос своего подсознания, но будет ли
поэзией то, что сообщит голос каждого?
«Нивесть какая девица... в две минуты нацарапает
так называемое сюрреалистическое стихотворение... Но
как быть уверенным, что и настоящий поэт-сюрреалист
не довольствовался тем, что подменил какой-нибудь
уловкой внутренний голос, истинное эхо которого до него
так и не дошло? Важность этого вопроса... еще и теперь,
через двадцать лет, продолжает мучить Андре Бре¬
тона» 1.
Клод Мориак, известный современный французский
писатель из школы «нового романа», сообщающий об этих
муках Бретона, при всей своей симпатии к Бретону и к
сюрреализму не может ответить на этот поставленный
им и поистине роковой для сюрреализма вопрос. «В ка¬
кой пропорции» оказывается в искусстве сюрреализма
искусственное и подлинное?
Вопрос поистине роковой, и «невозможно установить
долю обмана и мистификации в сюрреализме». Если
«нивесть какая девица» возьмет и «нацарапает» сюрреа¬
листическое стихотворение, если и поэт-сюрреалист «ца¬
рапает» его, не вслушиваясь во «внутренние голоса», то
что же остается от всего сооружения, которое Бретон и
1 М а и г 1 а с С. Апс1гё Вге1оп, Рапз, 1949, р. 126.
•225
ёГб сподвижники воздвигали десятки лет? Тогда здаййё
рушится и из-под его обломков трудно будет извлечь
Андре Бретона.
Тогда остается только прием, оригинальный и занят¬
ный технический прием, с большим или меньшим успе¬
хом опробованный сюрреалистами. Сюрреализм «имеет
тенденцию пренебрегать открытием, что было его перво¬
начальной целью, в пользу инструмента, позволяющего
ему достичь этого открытия» К Верно, но почему это
произошло? Средства стали целью, а сюрреализм — ре¬
месленным училищем, школой технических навыков не
потому, что цель хороша, а средства — не очень. Так
полагает и Клод Мориак, показывающий несостоятель¬
ность «средств», невозможность в познании обойтись без
разума, невозможность буквального выполнения требо¬
ваний сюрреализма, их противоречивость ,и т. п. Сюр¬
реализм «искусственность и произвол называет поэзией»
не потому, что не годен поэтический инструмент, а пото¬
му, что ему так и не удалось открыть «сверхреальность»,
слишком часто оказывающуюся просто плодом вообра¬
жения, нередко больного воображения. Вот почему «мы
в потемках и Бретон вместе с нами», — как сообщает
Клод Мориак. Правда, его вполне устраивает тот факт,
что Бретон «во имя обновления» атаковал «традицион¬
ные формы познания и выражения». Для него это
«сверхчеловеческое», «гигантское предприятие», — даже
если в итоге его кромешная тьма.
Допустим, что это так, но ведь в потемках, в которые
сюрреализм погружает человека, без труда можно раз¬
глядеть истины старого мира, не только не исчезнувшие,
но даже как бы воскрешенные «сверхчеловеческим» уси¬
лием Бретона и его соратников. Сюрреализм — один из
самых любопытных казусов XX века. Это могучее уси¬
лие, использовавшее авторитет революционного века,
вдохновленное нашим веком, усилие, целью которого,
как казалось, было выполнение благородных задач —
преобразование общества, преобразование человека,
преобразование искусства — поразительно мало что
дало, как-то растворилось в атмосфере XX века.
А ведь так много было обещано! Не этими ли обеща¬
ниями и привлекателен сюрреализм? Не оказывается ли
1 М а и г 1 а с С. Апс1гё Вге1оп, р. 208.
226
появление слова «сюрреализм» на стенах «молодежных»
кварталов Парижа символом той афишированной щедро¬
сти, которой всегда отличался -сюрреализм, увлекавший
молодые сердца дерзкими, вызывающими лозунгами, в
коих все было абсолютно — абсолютная свобода, тоталь¬
ное преобразование? Была обещана беспрецедентная
искренность, «неподдельность» творческого акта, было
обещано обретение себя погружением в неизведанные
глубины «я», было обещано многое другое. Но что же
было выполнено?
Сюрреализм не оплатил по тем счетам, которые были
предъявлены ему нашим веком. Он не оправдал надежд,
которые были возложены на него немалым числом та¬
лантливых художников XX столения. Поэтому они ухо¬
дили, обретая зрелость. Сюрреализм же остался симво¬
лом скорее незрелости, чем юности.
Незрелостью отдают все ныне возрождаемые, точнее
говоря, повторяемые лозунги сюрреализма. Уже звучали
и отзвучали призывы, которые иным — по молодости
лет— кажутся свежими, а ведь -именно они привели сюр¬
реализм в то состояние, в котором он ныне пребывает и
которое .вынуждает многих наблюдательных людей
утверждать, что сюрреализм умер.
Близость движения так называемых «новых левых»
60-х годов левому, «авангардистскому» движению 10-х—
20-х годов — факт установленный. Подмечено, в частно¬
сти, объединяющее и тех, и других стремление к высво¬
бождению «нутра», .некой сути, незапятнанной прикосно¬
вением идеологий, значений, смысла. «Здесь спонтани-
руют» — спонтанируют сегодняшние крайние левые, по¬
тянув всю ниточку авангардизма, рожденного кризисом
времени первой мировой войны, от нигилизма дадаис¬
тов с их заменой искусства вещью ка.к таковой до сюр¬
реалистического фантазирования. Поиски «нутра», очи¬
щенного от -идеологий, стали явной приметой кризиса,
кризиса буржуазного общества и периодически обо¬
стряющегося ощущения безысходности.
История сюрреализма со всей очевидностью показы¬
вает, что невозможно соединить подлинно революцион¬
ную практику, последовательную борьбу против буржу¬
азного общества с такой теоретической основой, с анар¬
хически очищенным от идеологий «нутром», с фрейдизмом
как философией ,и мировоззрением, с любым вариантом
«чистого искусства».
227
Лозунги повторяются. Но история не повторяется.
К началу второй половины XX века мир не тот, каким
он был в начале века. Даже буквально повторяемые ло¬
зунги в разных условиях звучат по-разному. Анархизм—
и сюрреализм — в ходе истории без труда оставляют
одежды «юношеского», романтического бунта и преобра¬
зуются в реальность, реальность террора, мракобесия,
насилия. «Да здравствует насилие!» — звучит среди
лозунгов -сегодняшнего левачества. Сюрреализм превра¬
щается в составную часть ожесточенной политической
борьбы, где важнее намерений то, что значат они на
самом деле, где есть железная логика борьбы, подчи¬
няясь которой «сюрреализирующие» оказываются не
слева, а справа, там, где антикоммунистические прово¬
кации и политический шантаж.
Ныне сюрреализм сам себе не принадлежит. Роман¬
тическое преобразование реальности в «сюрреальность»
вело не только к «прямой поповщине», оно завершилось
обуржуазиванием бунтарского течения. Бретон и его
единомышленники так и не выбрались из колеи давниш¬
ней французской эстетической традиции, переносившей
революцию в область искусства, а потому без труда
адаптированной буржуазным обществом. Лозунги абсо¬
лютного бунта рассыпались красочным фейерверком,
оживляющим блеклые и однообразные тона нынешнего
«потребительского» общества.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Авриль Ксавье 200, 201
Алейксандре Висенте 34, 197
Альберти Рафаэль 34, 198, 199
Арагон Луи 6, 16, 17, 19,21,22,
26, 32, 38, 40, 49, 56—59, 65,
69—74, 79, 81, 82, 87—89, 99,
104, 110—>118, 130, 131, 144,
145, 1167—175, 187, 199, 210,
211
Аренас Браулио 90, 91
Арп Ганс 14, 145, 149—152,
155, 218, 221, 223
Арто Антонен 25, 136, 141,
142
Балль Гуго 14, 15, 143, 150,
'187
Беллмер Ганс 216, 217
Браунер Виктор 206, 215, 218
Бретон Андре 4, 6, 7, 9, 11,
12, 15—32, 34, 36—49, 52,
55, 58, 59—63, 65—92, 94—
1-10, 113, 115—119, 123,
125-127, 129, 133—136,
139—141, 146, 150, 151,
156—158, 160—>167, 170, 172,
176, 178, 180, 181, 183, 184,
186, 188, 193, 194, 197, 199,
203, 206, 208—211, 213-021,
225, 226
Бюнюель Луи 81, 214
Вайян Роже 46
Витрак Роже 25, 136, 137,
193, 194
Вучо Александр 32
Гарсиа Лорка Федерико 34—
36, 197—199
Гаскойн Дэвид 36, 204, 205
Геманс Камилль 31
Голл Иван 18, 19, 63—65, 145
Грак Жюльен 126
Гюльзенбек Рихард 14, 145,
146
Дали Сальвадор 35, 41, 68,
81, 88, 190, «197, 198, 208,
214—218
Дединац Милан 32
Дельво Поль 208, 217
Депестр Рене 45, 87
Деснос Робер 25, 26, 38, 57,
87, 96, 126, 168, 169, 185—
193, 195, 196
Джакометти Альберто 218
Домингес Оскар 219
Дюшан Марсель 14 17, 151,
173, 206, 207, 209, 211, 214
Жуфруа Ален 100, 157
Зелигманн Курт 208
Зернер Вальтер 145
Кало де Ривера Фрида 214
Каммингс Эдвард Эстлин
137—1139, 204, 205
Карпентьер Алехо 38, 92—94
Кено Раймон 120
Кирико Джорджио де 68,
126, 211, 217
Клее Поль 220
Кревель Рене 57, 65, 87, 88,
118—123, 126, 199
Ларреа Хуан 92
Леирис Мишель 126
Леконт Марсель 31
Магритт Рене 31, 190, 204,
208, 214
Малапарте Курцио 33
Мансур Джойс 126
Массон Андре 93, 151, 208,
221, 222
Матич Душан 32
Матта (Роберто Матта Эчаур-
рен) 219
Мишо Анри (194—1196
Миро Хуан 34, 151, 206, 208,
222, 223
Навилль Пьер 19
Незвал Витезслав 36, 37, 87
Нуже Поль 31
Паален Вольфганг 208, 219
Пас Октавио 38, 199, 201—204
Пейре де Мандиарг Андре 52,
123—125
Пеллегрини Альдо 38, 39
Пере Бенжамен 6, 17, 19, 22,
38, 87, 89, 173, 178, 203
Пикабиа Франсис 16, ,17, 147,
206, 208, 209, 214
Пикассо Пабло 83, 101, 223
Поллок Джексон 223
Попович Коча 32
Превер Жак 26, 87
Раушенберг Роберт 223, 224
Реверди Пьер 62, 148, 449,
(161, 167—169, 205
Рей Ман 177, 206, 211—214
Рибмон-Дессень Жорж 17,
131—133, 145
229
Риго Жак 17
Ристич Марко 32
Сванберг Макс Вальтер 217
Сезэр Эме 41, 42, 87
Сернуда Луис 199
Супо Филипп 6, 7, 16—19, 25,
60, 100—>105, ИЗ, 133—135,
147, 157, 158, 167, 211
Танги Ив 220—222
Таннинг Доротеа 208
Туайен (Мария Черминова)
215
Тцара Тристан 13, 14, 16—18,
38, 42, 46, 60, 72, 86, 87, 89,
111, 127, 129, 130 143—147,
152—'156, 211
Уидобро Висенте 38
Фини Леонора 208
Фредди Вильгельм 217
Френкель Теодор 133, 134
Фурре Морис 125, 126
Шаве Ашилль 31, 37, 101
Шар Рене 180, 181, 196, 197
Шаршун 17
Швиттерс Курт 144, 146
Шеаде Жорж 139—141
Шюстер Жан 51, 53
Элюар Поль 6, 49, 22, 28, 29,
31, 32, 37, 38, 41, 68, 69, 79,
83, 87, 133, 175—185, 199,
206, 214, 212
Эрнст Макс 6, 31, 78, 151,
175, 208, 210, 218, 219
Юник Пьер 22
Янко Марсель 14
БИБЛИОГРАФИЯ1
А1ехапс1ге М. Мёгшмге сГип зиггёаНзше. Рапз, 1968.
А1ехап4г1ап 5. Ь’аг! зиггёаПз1е. Рапз, 1969.
А 1 я и 1 ё Р. РЬПозорЫе с1и зиггёаНзше. Рапз, 1955.
Агр Н. Оаба. 01сМипд ипс1 СЬгошсЬ с1ег Огйпс1ег. 2йпсЬ, 1957.
В а 1 а к 1 а п А. ЬИегагу Опдтз о! ЗиггеаНзт. Ые>у Уогк, 1947.
В а 1 а к 1 а п А. ЗиггеаНзт: 1Ье Роас1 1о 1Ье АЬзо1и1е. №\у Уогк,
1959.
Вёйоидп Л. - Б. Апс1гё Вге1оп. Рапз, 1955.
Вёс1ои1п Л. - Б. Утд1 апз с1и зиггёаНзше. 1939—1959. Рапз. 1961.
ВеЬаг Н. Е1и4е зиг 1е 1Ьёа1ге 4ас1а е{ зиггёаНз1е. Рапз, 1967.
ВеЬаг Н. Родег УИгас. 1Лп гёргоиуё с1и зиггёаНзше. Рапз, 1966.
Саггоидез М. Апбгё Вге1оп е1 1ез Поппеёз ГопбатепЫез с1и
зиггёаНзше. Рапз, 1950.
С а \у з М. А. ЗиггеаНзт апс! 1Ье ЬНегагу 1тадтаИоп. Рапз, 1966.
С а х а и х Л. ЗиггёаНзше е! рзусЬо1од1е. Рапз, 1938.
СЬатр1дпу Р. Роиг ипе ез1ЬёИяие 4е Геззаь Рапз, 1967.
С 1 г 1 о 1 Л.-Е. ЕНсИопапо с1е 1оз 1зтоз. Виепез А1гез, 1949.
С 1 г 1 о 1 Л.-Е. 1п1гос1исс16п а1 зиггеаНзто. Мас1пс1, 195Э.
С 1 г 1 о 1 Л.-Е. Ъъ рт1ига зиггеаНз1а. Вагсе1опа, 1955.
С 1 а п с 1 е г О. - Е. Ое Р1тЬаис1 аи зиггёаНзше. Рапогата сгШяие.
Рапз, 1959.
СНзроШ Е. II зиггеаНзто. МПапо, 1967.
В и 11 з С Ь. Апбгё Вге1оп а-1-П сН1 раззе? Рапз, 1969.
Э и р 1 е з з 1 з У. 1.е зиггёаНзше. Рапз, 1964.
ЕзПеппе С Ь. зиггёаНзше. Рапз, 1956.
«Еигоре». 1968, поуетЬге — ПёсетЪге. ЗиггёаНзше.
Р о г и п 1 Р. II тоу1теп1о зиггеаНз!а. МПапо, 1959.
С а у 111 е ( А. Н11ёга1иге аи 4ёП. Агадоп зиггёаПз1е. Рапз, 1957.
1 В списке указаны лишь те книги о сюрреализме, которые были
доступны автору во время подготовки рукописи.
230
ОегзЬшап Н. 3. А ВПэПодгарНу о! 1Не ЗиггеаПз! Кеуо1и!юп 1П
Ргапсе. Апп АгЬог, 1969.
ОегзНтап Н. 3. ТНе ЗиггеаПз! Кеуо1и!юп ш Ргапсе. Апп АгЬог,
1969.
СЛпсПпе V. Агадоп, ргоза!еиг зиггёаПз!е. Оепёуе, 1966.
Ни&пе! О. Ь’ауеп!иге ЛаЛа (1916—>1922). Рапз, 1957.
Ни&пе! О. РеШе ап!Ьо1о&1е роёНчие с!и зиггёаНзше. Рапз, 1934.
Ше Р. ТЬе ЗиггеаНз! Мос1е 1п ЗрашзН ЬИега!иге. Апп АгЬог, 1968.
Л а п 1 з 5. АЪз!гас! апЛ ЗиггеаНз! Аг! ш Атепса. Ые\у Уогк, 1944.
Л е а п М. Н1з1о1ге Ле 1а ре1п1иге зиггёаПз1е. Рапз, 1959.
ЛозерНзоп М. ЬПе ашопд !Не ЗиггеаНз1з. Ые\у Уогк, 1962.
Кар1с121с-Озшапад1с Н. Ье зиггёаНзше зегЬе е1 зез гаррог1з
ауес 1е зиггёаНзше Ггап?а1з. Рапз, 1968.
К1!! а п д А. О’атоиг Ле роёз1е. Ь’ишуегз Лез тё1ашогрЬозез Лапз
Гоеиуге зиггёаПз!е Ле Раи1 Е1иагЛ, Рапз, 1969.
Кугой А. Ье зиггёаНзше аи стёта. Рапз, 1963.
Ьас6!е К. Тпз!ап Тгага. Рапз, 1952.
Ь а г г е а Л. Е1 зиггеаНзшо еп!ге уаер у пиеуо шипЛо. Мех1со, 1944.
Ьешайге О. - Е. Ргош СиЫзш !о ЗиггеаПзш ш РгепсЬ Ы!ега-
!иге. СатЪпЛде, 1945.
М а 11Ь е \у з Л. - Н. ЗиггеаПзш апЛ 1Ье Ыоуе1. Апп АгЬог, 1966.
Ма!!Не\УЗ Л. - Н. ЗиггеаНз! Рое!гу т Ргапсе. Ые\у Уогк, 1969.
МаиМас С. АпЛгё Вге!оп. Рапз, 1949.
М 1 д и е 1 А. АсЫИе СЬауёе. Рапз, 1969.
N а Леа и М. ЕНзЫге Ли зиггёаНзше. Рапз, 1964.
КаушопЛ М. Ое ВаиЛе1а1ге аи зиггёаНзше. Рапз, 1933.
К а у п а 1 М. Реш!иге шоЛегпе. Оепёуе, 1953.
К е а Л Н. ШзЫге Ле 1а реш!иге шоЛегпе. Рапз, .1960.
К1сЫег Н. ОаЛа-Кипз! ипЛ АпНкипз!. Ко1п, 1964.
ЗапоиШе! М. ОаЛа. 1915—1923. Рапз, 1969.
5апои111е! М. ОаЛа & Рапз. Рапз, 1965.
ЗапоиШе! М. Ргапаз Р1саЫа е! «391». Рапз, 1966.
ЗсНШегМ Р. Оаз \уаг ОаЛа. 01сЫ:ипдеп ипЛ Оокишеп!е. Мйп-
сЬеп, 1963.
Тогге О. Л е. I (^иё ез е1 зиреггеаПзшо? Виепез А1гез, 1955.
Тгага Т. Ье зиггёаНзше е! Гаргёз-диегге. Рапз, 1948. *
V а Ш а п Л К. Ье зиггёаНзше соп!ге 1а гёуо1и!юп. Рапз, 1948.
УегкаиГ XV. ОаЛа. Мопо^гарЬ о! а Моуешеп!. ЬопЛоп, 1957.
СОДЕРЖАНИЕ
Вместо предисловия . . . . . 3
К История 6
2. Теория 55
3. Практика 99
Именной указатель 229
Библиография . . . . . ... . . 230
, Андреев Леонид Григорьевич
СЮРРЕАЛИЗМ
Редактор М. В. Лагунова
Художник А. Т. Яковлев
Художественный редактор С. Г. Абелин
Технические редакторы С. С. Якушкина, Р. С. Родичева
Корректор В. В. Краснов
А—06411. Сдано в набор 15/Х1—71 г. Подп. к печати 29/X1—72 г.
Формат 84X108732. Объем 7,25 печ. л. Уел. п. л. 12,18. Уч.-изд. л. 12,67
Изд. № РЛ — 88. Тираж 35 000 экз. Цена 44 к.
План выпуска литературы издательства
«Высшая школа» (вузы и техникумы) на 1972 г. Позиция № 130
Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14,
Издательство «Высшая школа»
Набрано в типографии НИИЭИР
2-я ул. Машиностроения, д. За
Отпечатано в Московской типографии № 8 «Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
Хохловский пер., 7. Заказ 4008.
Цена 44 коп.
Г