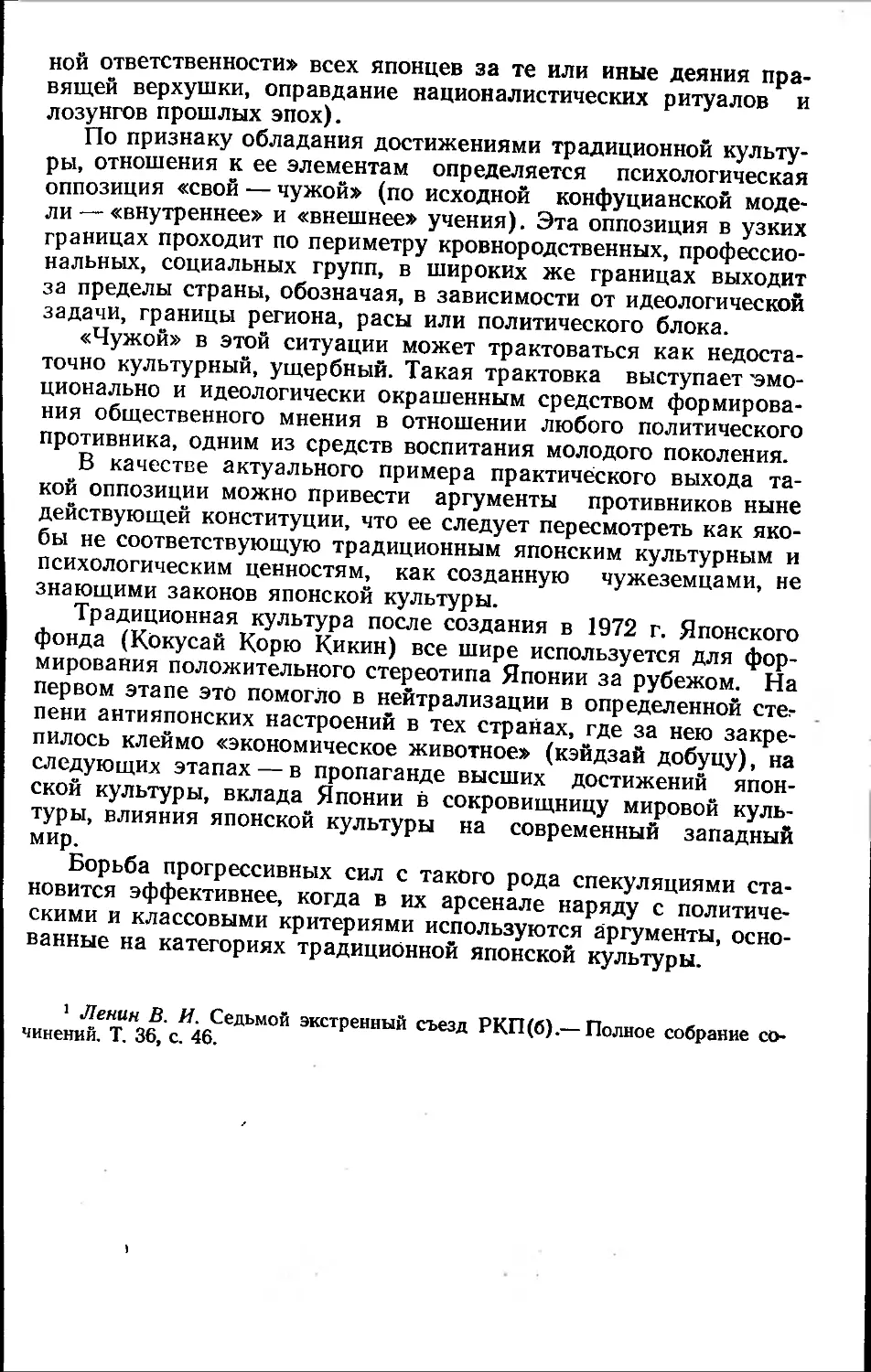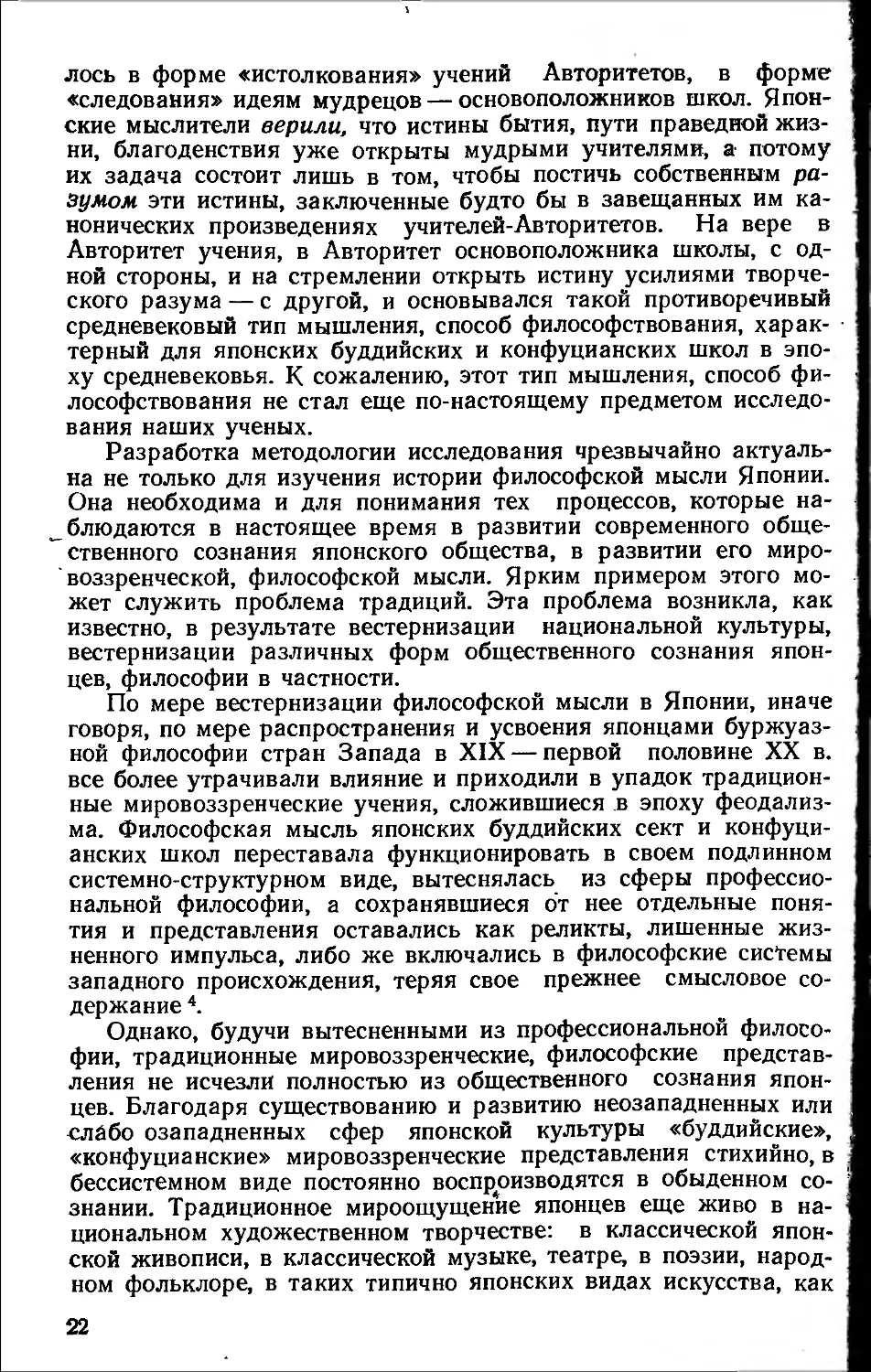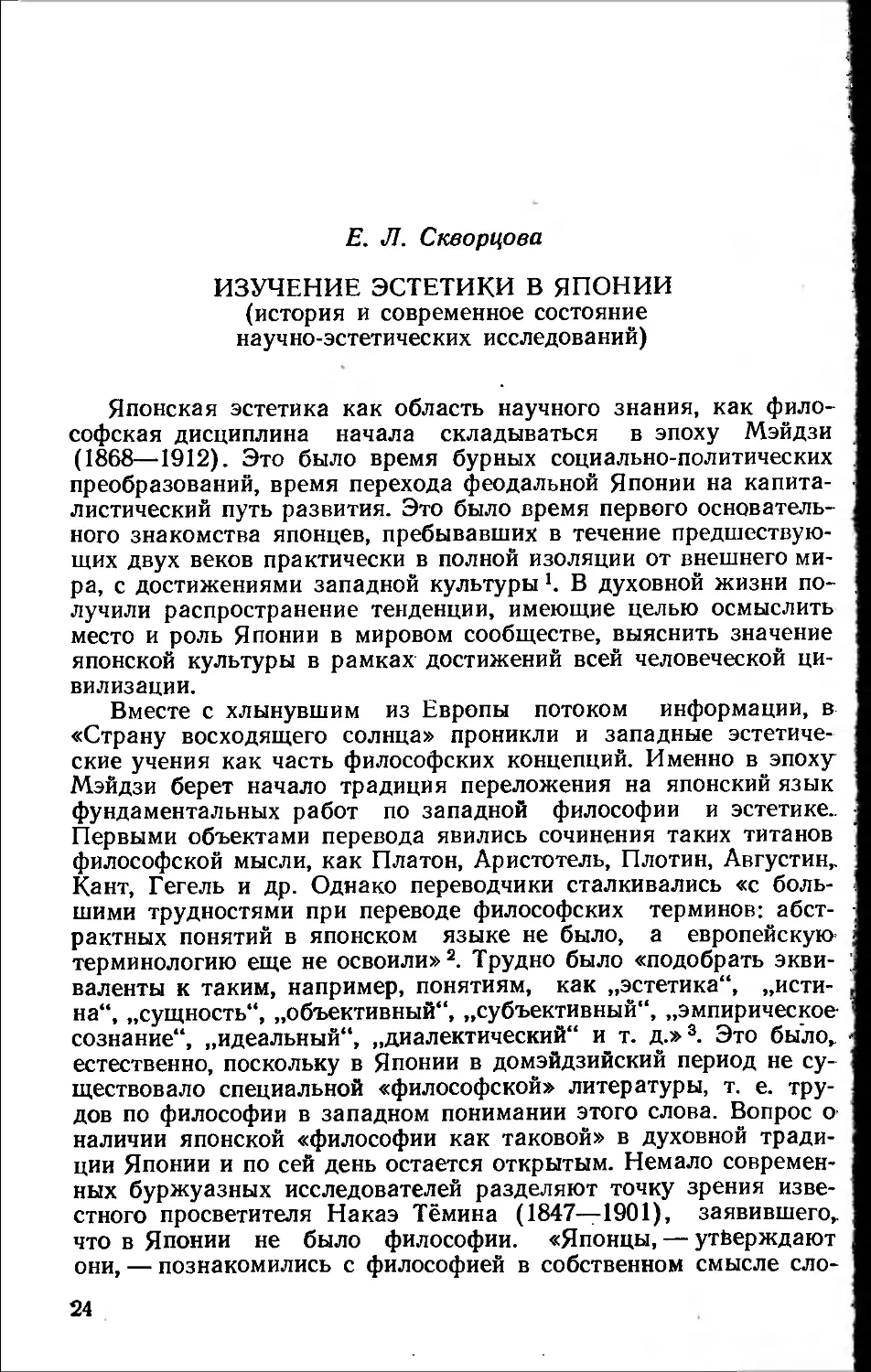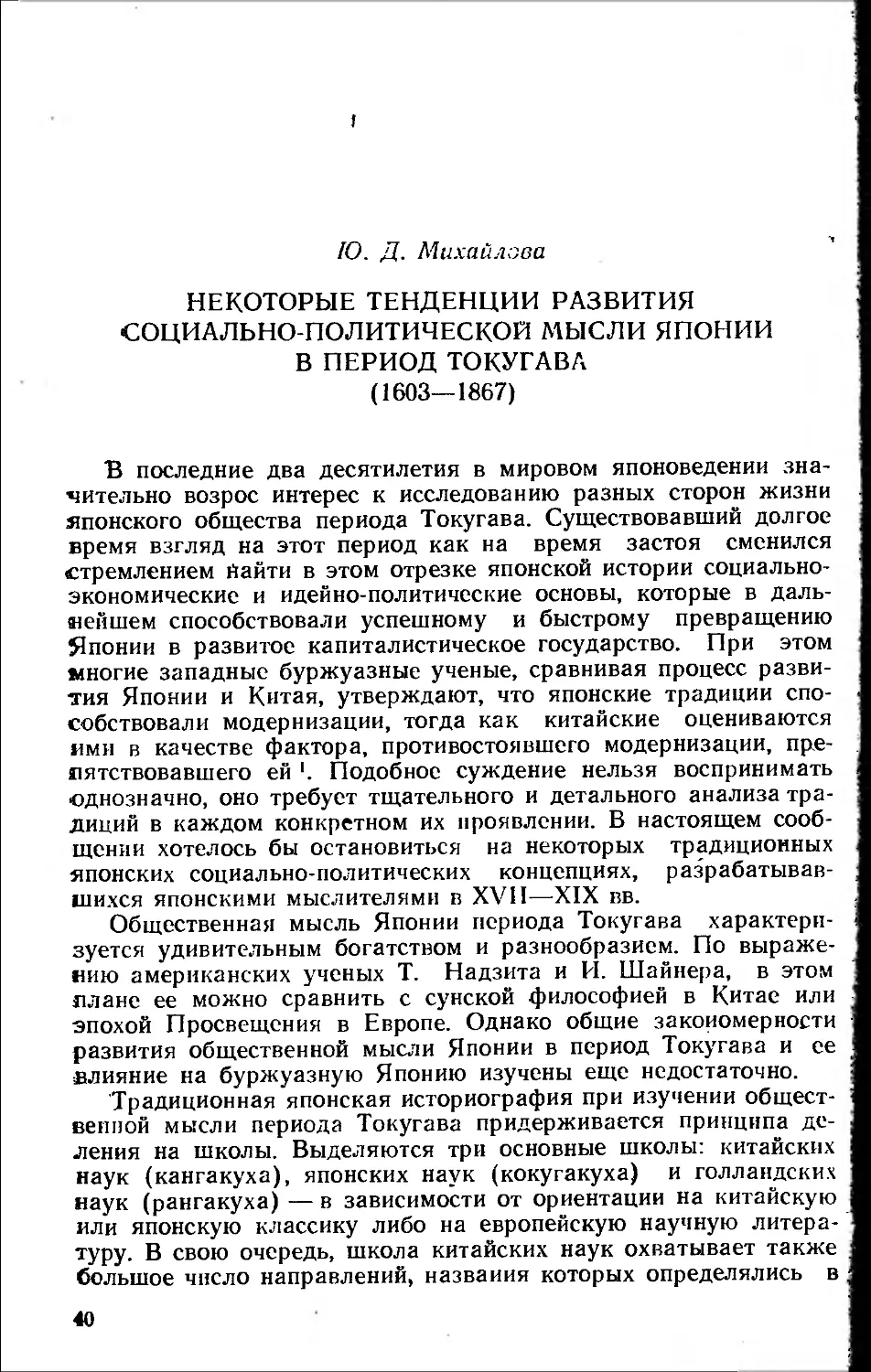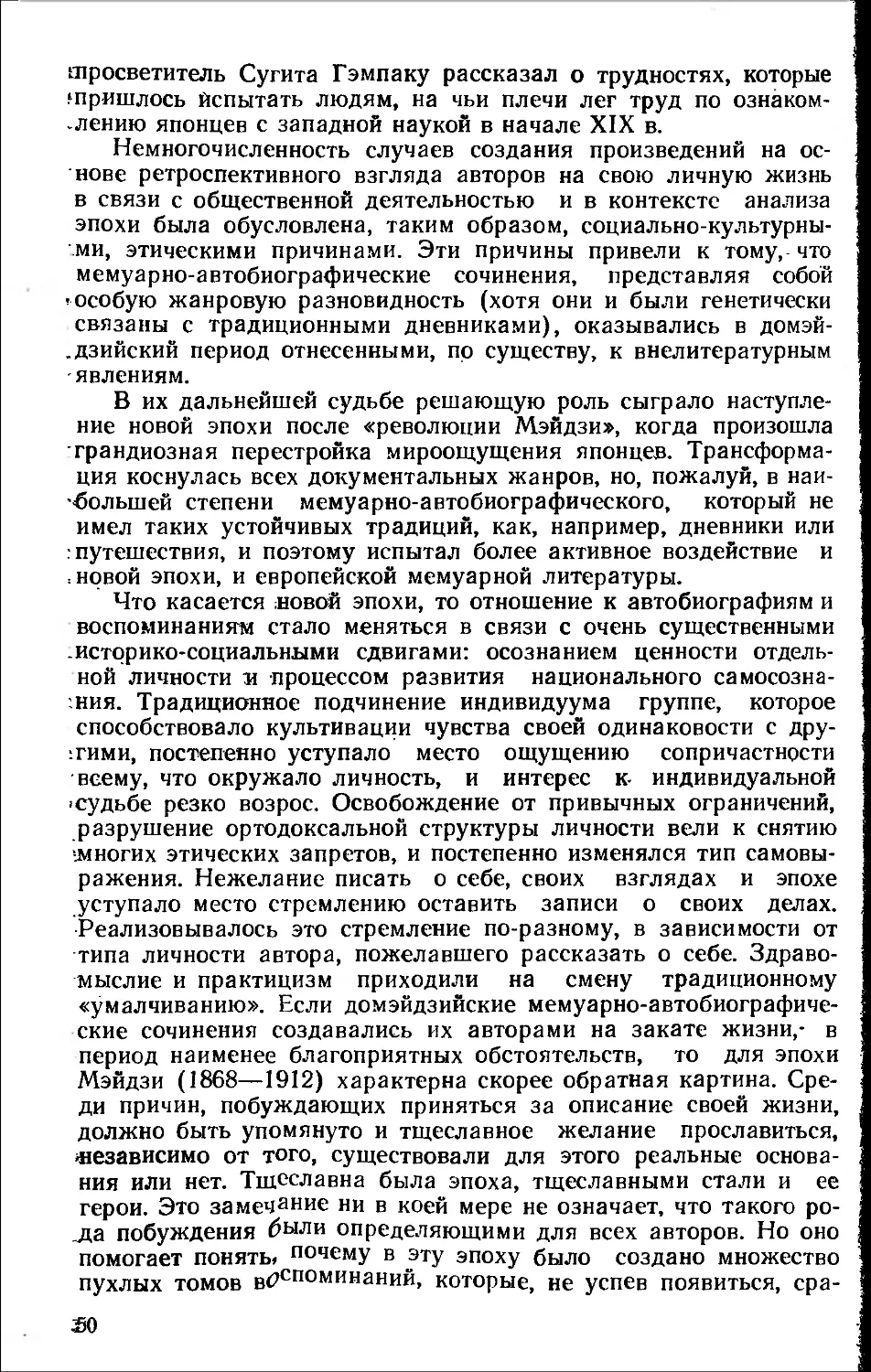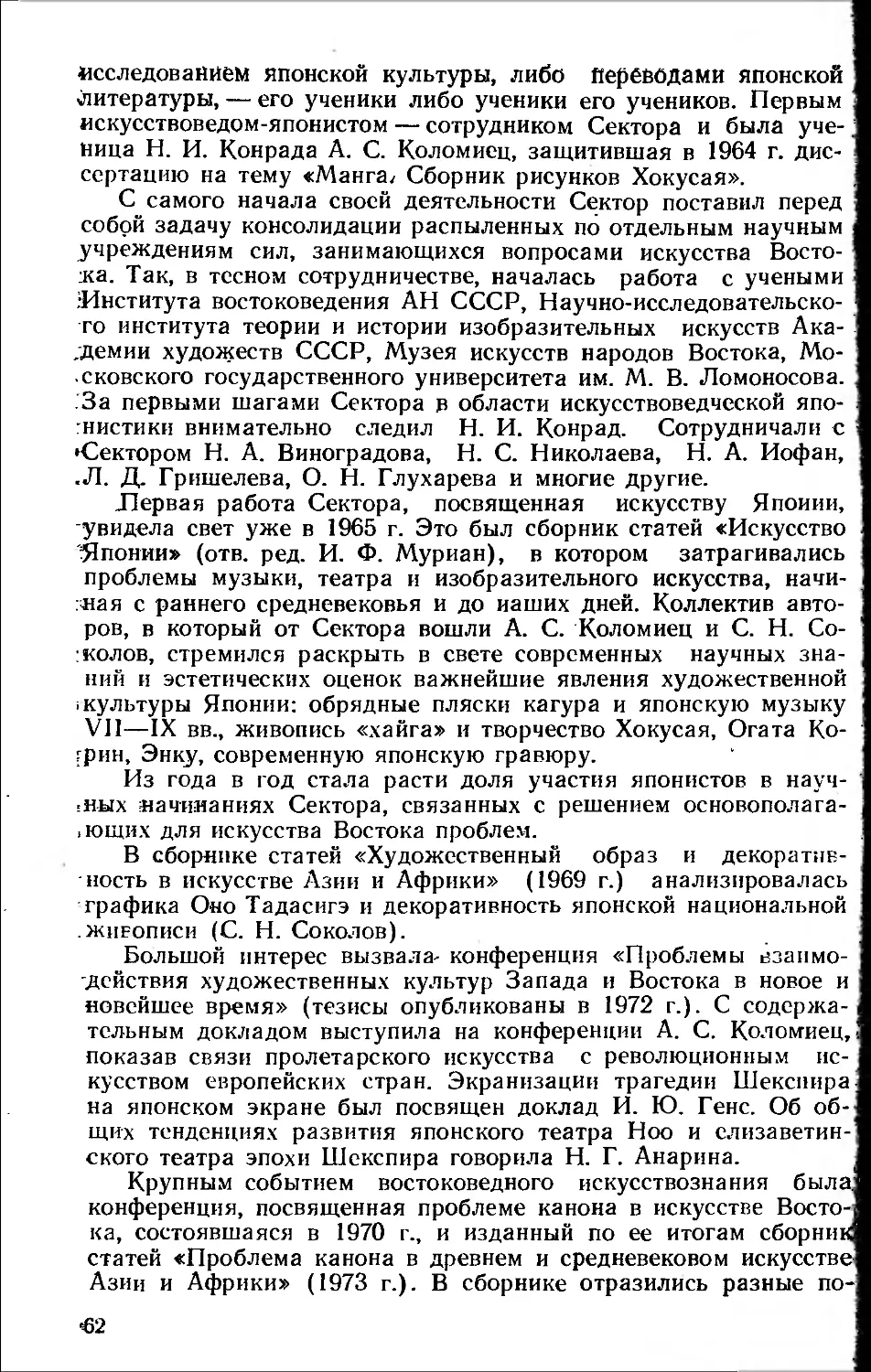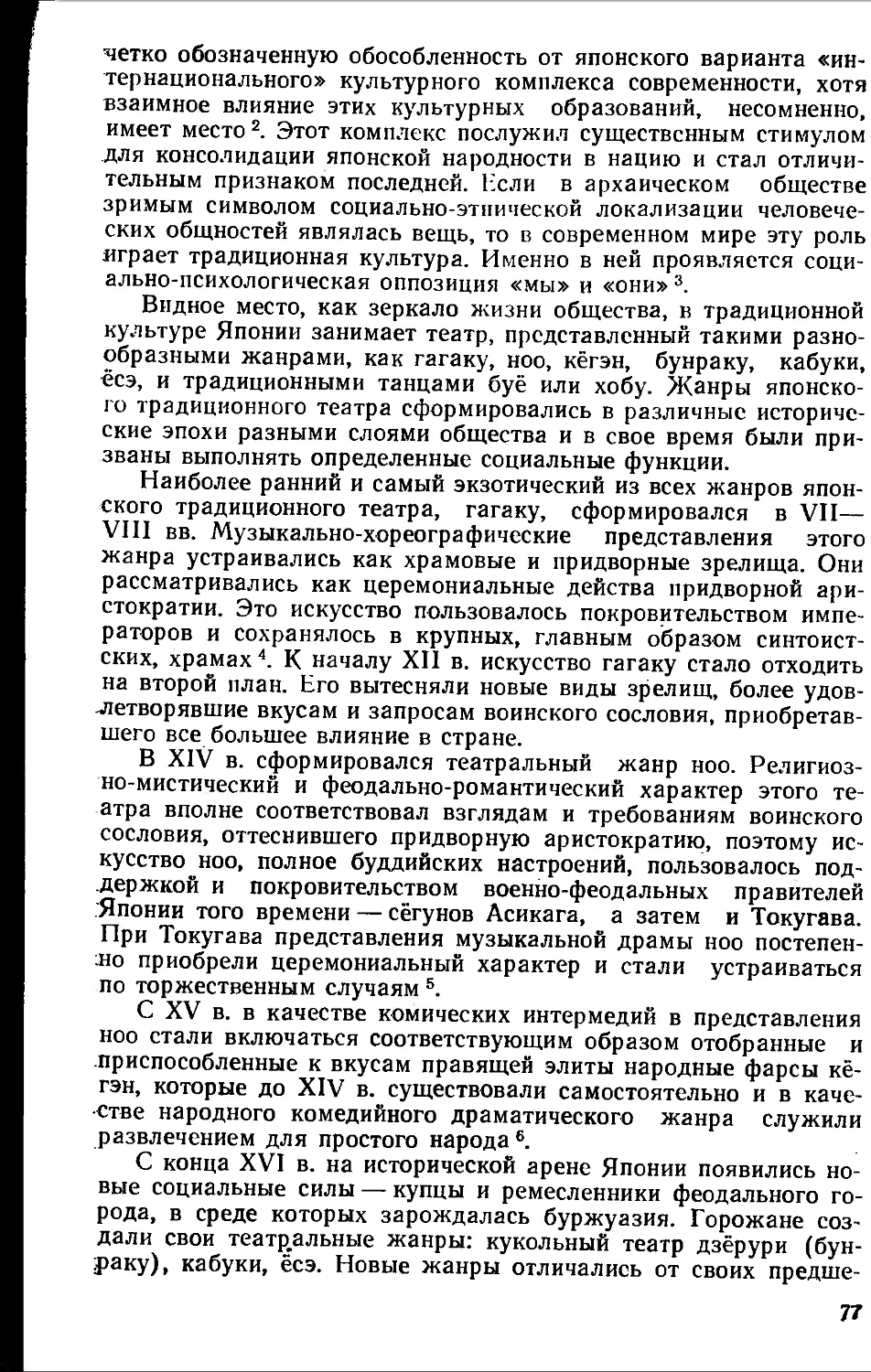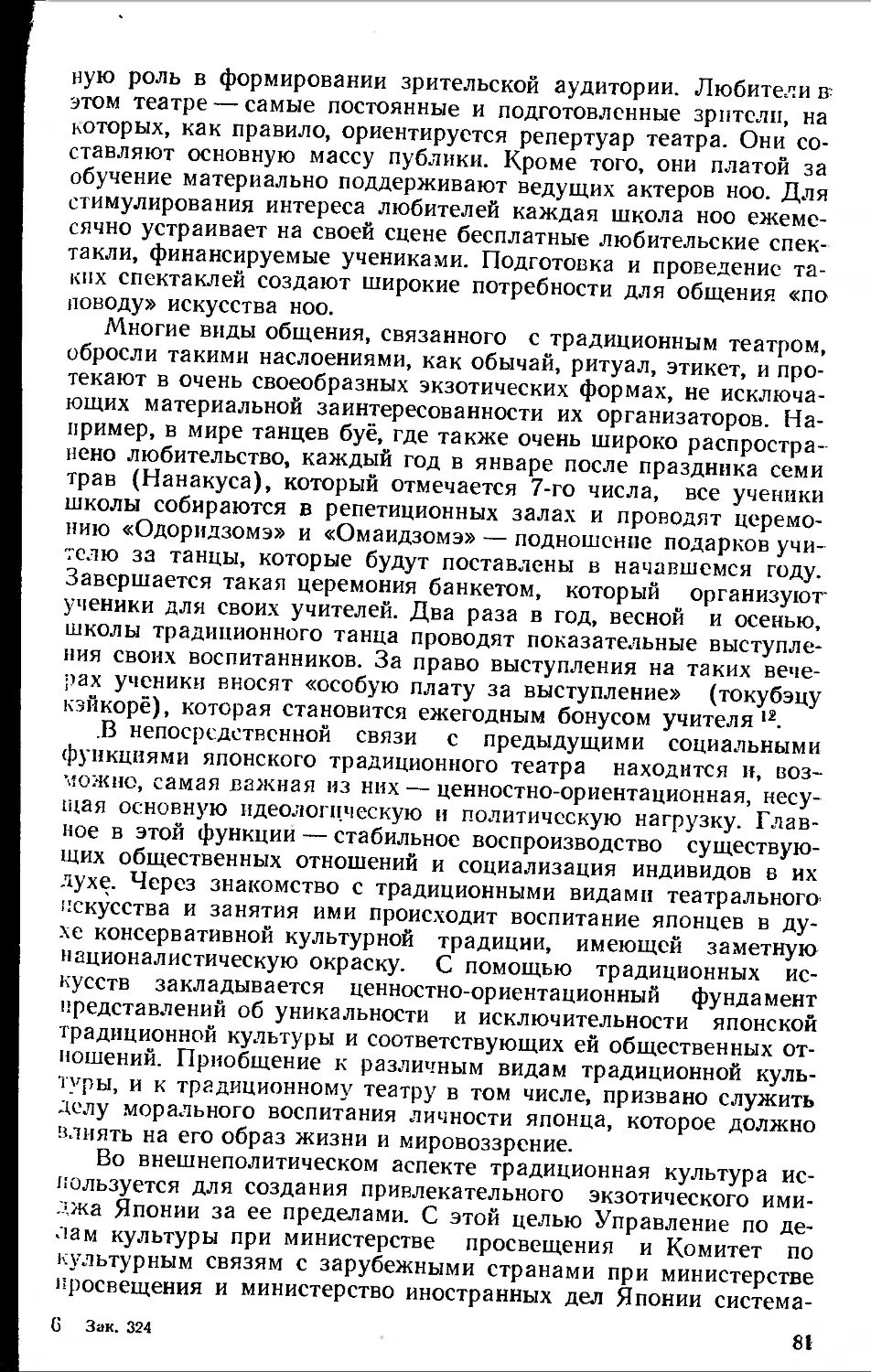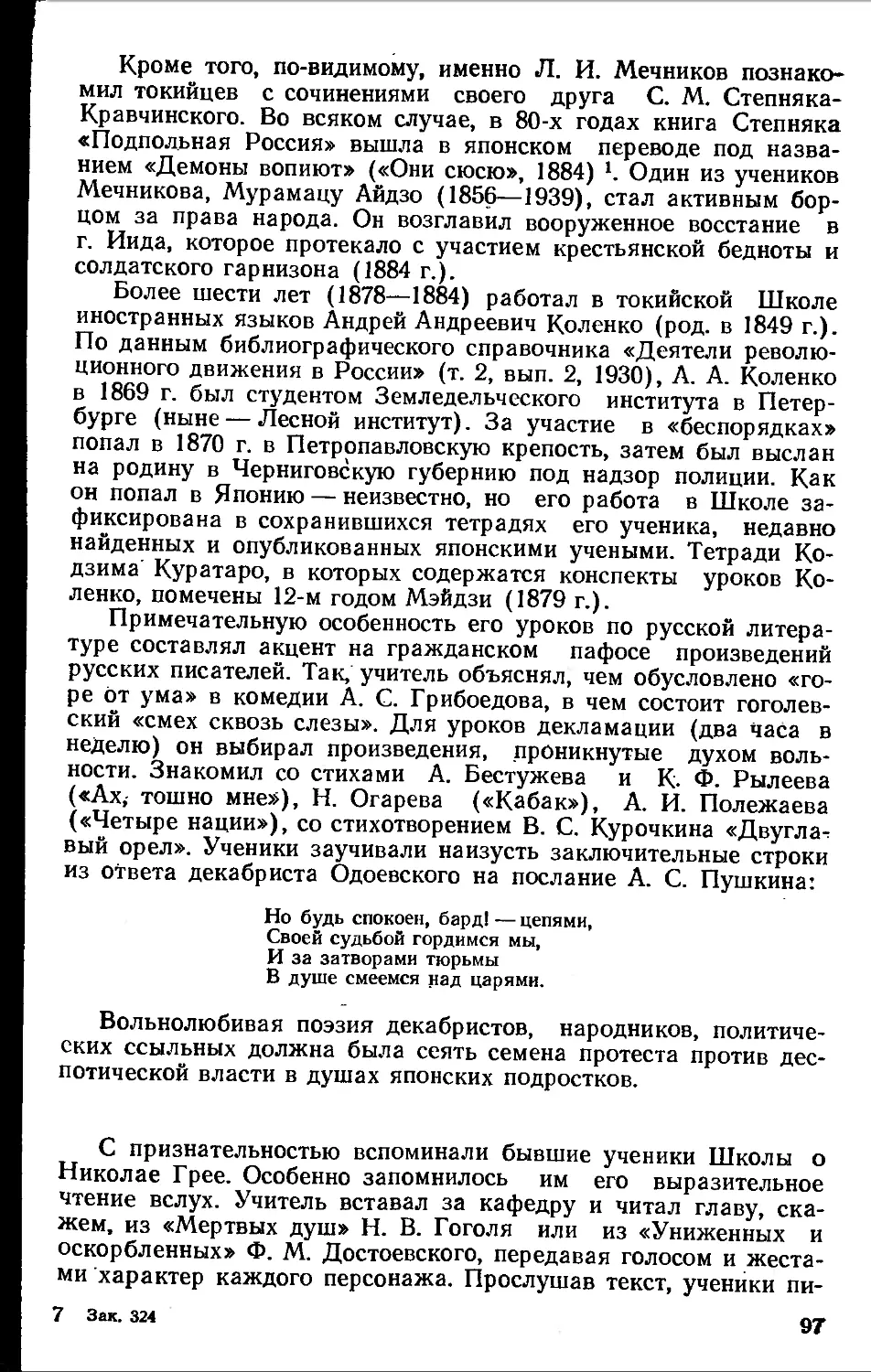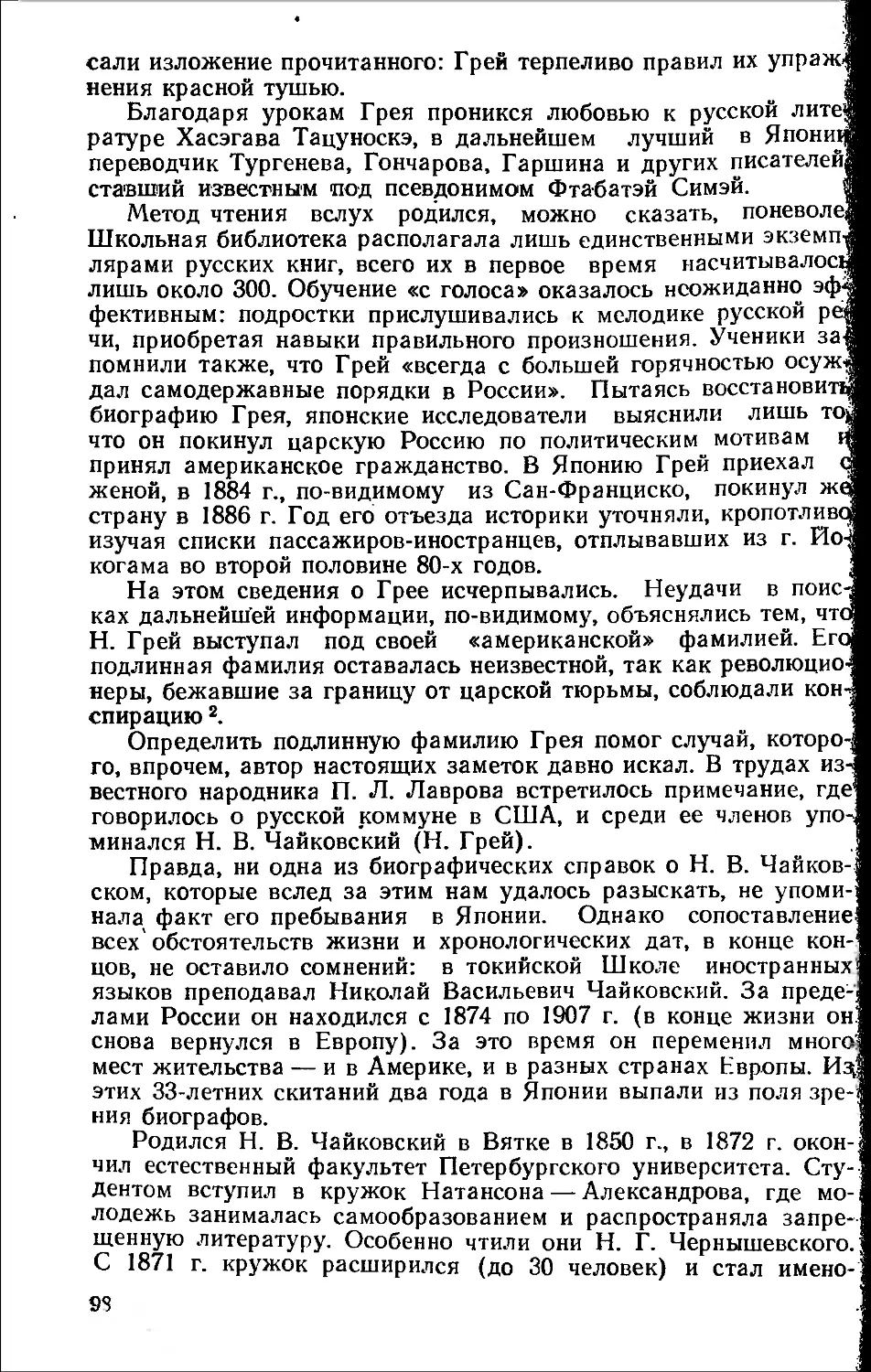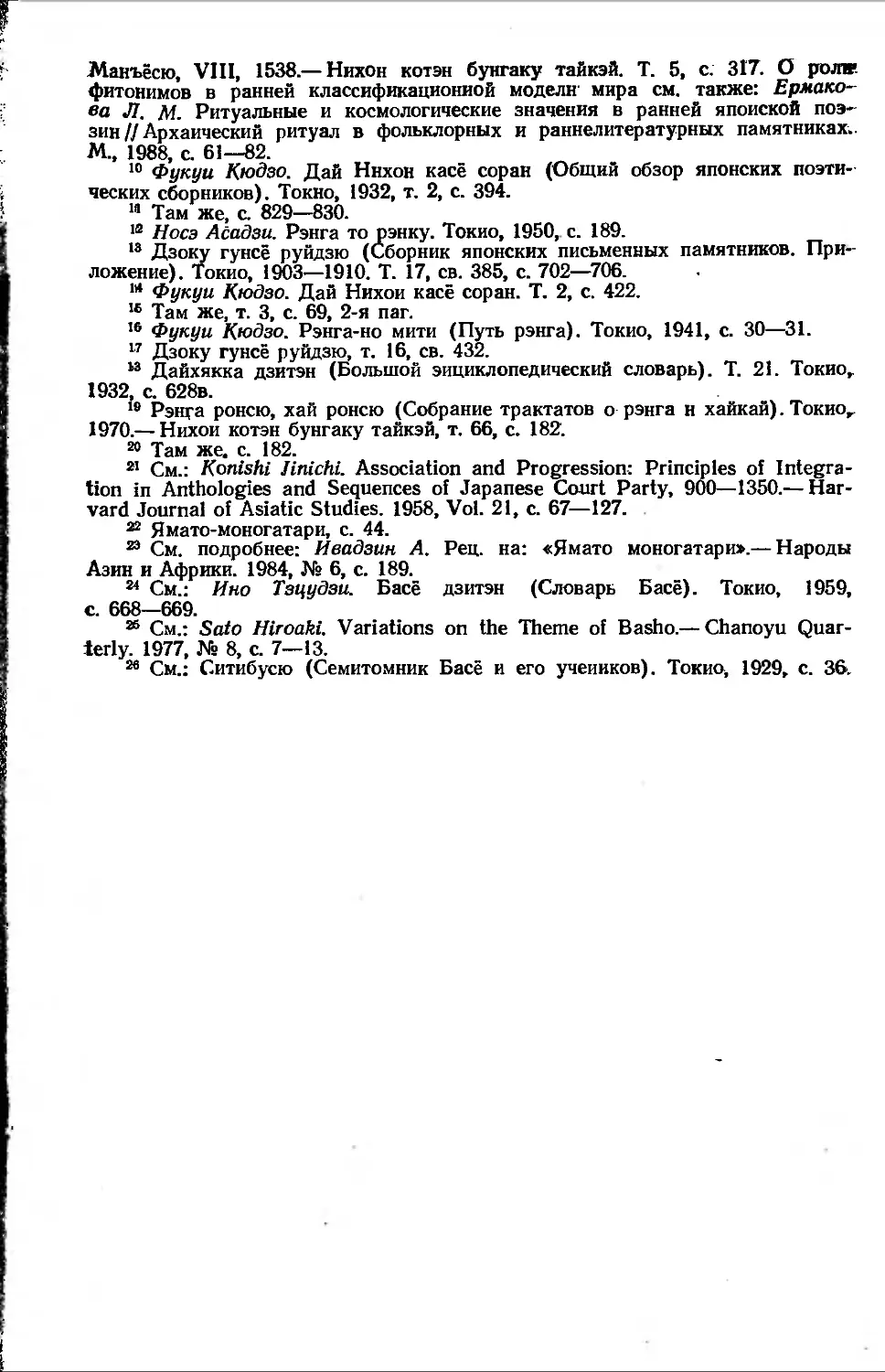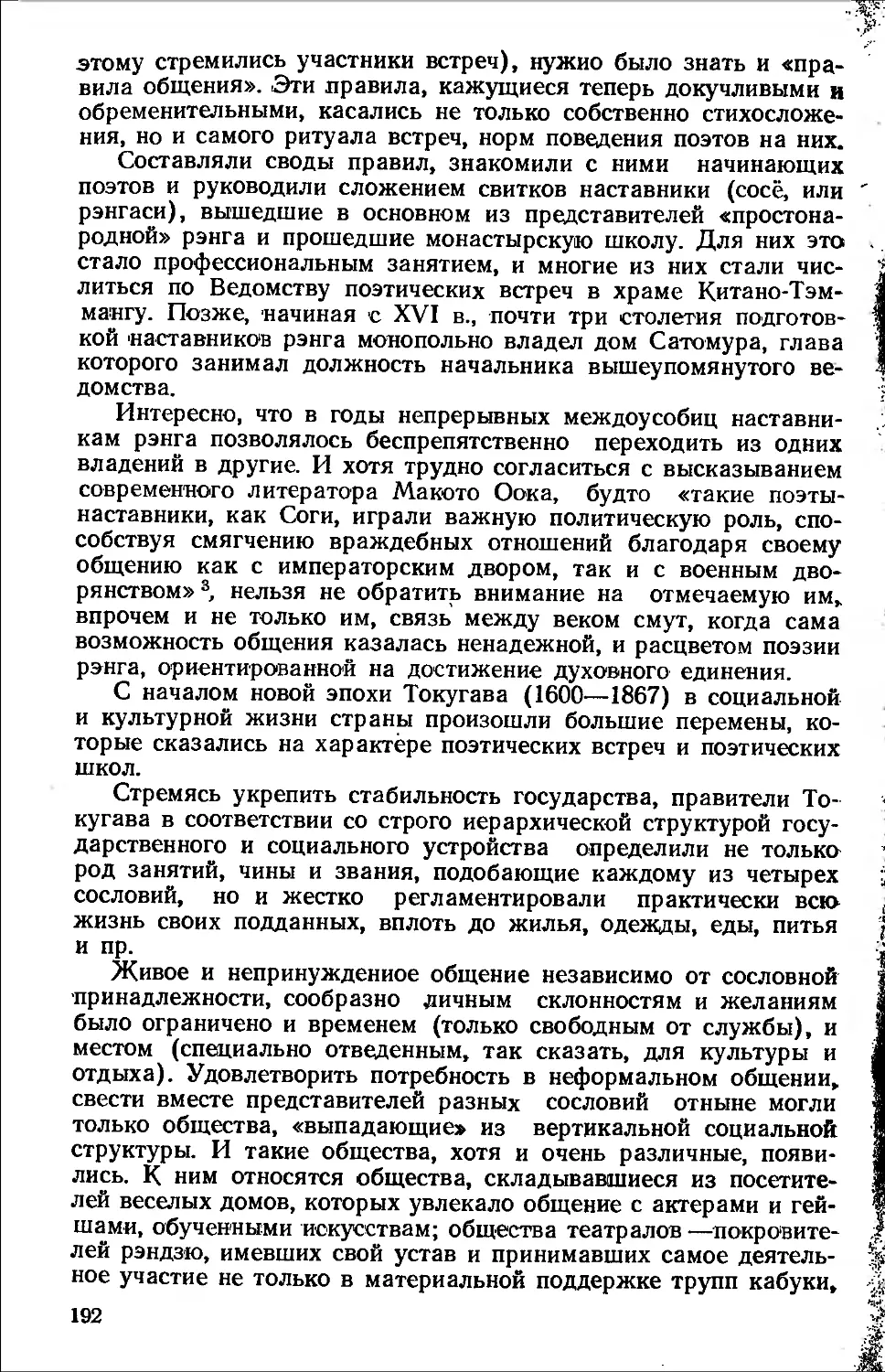Author: Косолапов В.Е. Горегляд В.Н.
Tags: япония история японии восточная литература востоковедение литература японии
ISBN: 5-02-017009-7
Year: 1989
Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Юр дел а Трудового Красного Знамени
Институт востоковедения
Япония:
идеология,
культура,
литература
8
Москв а
«НАУКА»
'Главная ^редакция восточной литературы
1989
БК 66.01 (5Я) + 85 (5Я)
Я 70
Ответственные редакторы
В. Н. ГОРЕГЛЯД, В. С. ГРИВНИН
Члены редколлегии
Л. Д. ГРИШЕЛЕВА, Н. И. ЧЕГОДАРЬ.
Утверждено к печати
Институтом востоковедения
АН СССР
Plazas
Япония: идеология, культура, литература. М.:
Я 70 Наука. Главная редакция восточной литературы,.
1989.— 197 с.
ISBN 5-02-017009-7
В сборнике представлены материалы первой международ-
ной конференции японоведов социалистических стран, посвя-
щенные проблемам идеологии, культуры н литературы Японии.
Доклады, положенные в основу статей, охватывают чрезвы-
чайно широкий круг самых разнообразных явлений культур-
ной жизни японского народа, относящихся к различным исто-
рическим эпохам. В них рассматриваются различные аспекты
материального быта, национальной психологии, философии,
искусства и литературы Японии.
я 4402000000-184 (
isbn 5-о2-о17оо^: ручная библиотека ХГТУ 1
\85(5Я)«
», 1989-
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник является продолжением публикации ма-
териалов Международной конференции японоведов социалисти-
ческих стран, состоявшейся в мае 1986 г. В отличие от первого
выпуска «Япония: экономика, политика, история» этот том со-
держит статьи, посвященные различным проблемам японской
идеологии и литературоведения, а также таких областей япон-
ской культуры, как просвещение, градостроительство, театр, му-
зыка и изобразительное искусство.
Статьи разнообразны не только по тематике, но и по харак-
теру. Все они отражают состояние современных японоведческих
исследований и могут представить интерес как для специали-
стов, так и для 'широкого читателя.
В. Н. Горегляд
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В мировом японоведении уже довольно давно привлекают к:
себе внимание работы, авторы которых стремятся определить,
место традиционной японской культуры в общемировой культу-
ре. В зависимости от целей исследования упор в них делается
то на вклад японской культуры в мировую (театр ноо, кабуки,
поэзия хайку, живопись укиёэ, икэбана, бонсай, сухие сады,.,
эстетика жилища и т. д.), то на легкость, с которой на разных
этапах своей истории японцы усваивали элементы чужеземной
культуры, приспосабливая их к устоявшимся традициям (напри-
мер, буддийскую концепцию перерождения — к синтоистскому
мировоззрению, конфуцианскую идею вассальной преданности—
к клановому принципу верности предводителю в бусидо), то на
типологические параллели с иноземными культурами (тотемизм,
отраженный в архаическом фольклоре, основные признаки фео-
дальных отношений или ранней городской культуры в Японии и
у народов Африки, Океании, Америки и Европы), то на уникаль-
ность японского культурного феномена (гомогенность и корпора-
тивность общества, устойчивость и продуктивность древнейших
традиций и многое другое).
Каждый из перечисленных аспектов существует объективно,,
но не изолированно, а в переплетении с другими. Преувеличе-
ние значения одного или некоторых из них искажает сущность,
явления в целом, приводит к неадекватным выводам, особенно
частым в тех случаях, когда предпринимаются попытки подойти -
к культуре народа с оценочных позиций и с этих позиций проти-
вопоставить ее культурам других народов. Это не позволяет
нам подменять культуру как сложное и динамичное целое' ни
одним из ее качеств или элементов.
Между тем именно такой подход на разных этапах истори-
ческого развития становился среди японских авторов определя-
ющим во взглядах на собственную культуру. Вспомним хотя
бы, что один из первых панегириков японскому «чистому и
истинному сердцу» содержится в «Сёку Нихонги» (VIII в.), что
в XIV в. Китабатакэ Тикафуса начал «Дзинно сётоки» словами:
«Великая Япония — страна богов. Ее основал небесный праро-
дитель, а богиня Солнца передала на вечное управление своим!
4
потомкам. Это верно только для нашей страны, другие страны
не знают подобных примеров». Через 400 с лишним лет, в кон-
це XVIII в., Мотоори Норинага развивает тезис о превосходст-
ве японского сердца над китайским, «самонадеянным и неистин-
ным», нашедшим отражение в китайских сочинениях, увлечение
которыми таит в себе опасность испортить древнее, истинное,
японское сердце. На рубеже XIX и XX вв. ревнителей чистоты
японской культуры стало тревожить влияние на нее Запада.
В 1907 г. Хага Ямти в «Кокуминсэй дзюкко» («10 лекций о
национальном характере») заявлял, что из-за этого влияния раз-
рушаются древние традиции японцев — некоторые перестают
почитать ками, дети судятся с родителями, не имеют у себя ка-
мидана, мужья говорят своим женам «сан».
Наконец, в наше время одной из причин возникновения ни-
хондзинрон буму японские буржуазные ученые называют «но-
стальгию по истинной Японии» в условиях «беспокойства по по-
воду нашей индивидуальности как японцев».
От начала письменной культуры Японии до конца XX в. вы-
страивается ряд, в котором можно увидеть помимо названных и
других идеологов (в частности, таких, как Нитирэн-сёнин, Яма-
га Соко, Нитобэ Инадзо, Мисима Юкио), людей, стремившихся
сформировать у японцев националистический стереотип собст-
венной культуры.
Большинство их жило в периоды, для которых были харак-
терны социальная и политическая напряженность: в обстановке
борьбы за верховную власть в конце эпохи Нара, завершившей-
ся переносом императорской столицы в новое место; в условиях
внутренней нестабильности при угрозе внешнего вторжения в
эпоху Первого сёгуната; в пору назревания кризиса феодализ-
ма, когда тщательно продуманная токугавская политическая
структура пришла в противоречие с объективным процессом со-
циально-экономического развития; в период борьбы внутренней
реакции против неокрепших прогрессивных сил Японии при ин-
тенсивном развитии в стране капиталистических отношений в
условиях, когда правящие круги толкали страну на путь внеш-
ней военной экспансии.
Независимо от того, в какой области культуры по преимуще-
ству развивались этноцентристские и националистические
идеи—те историографии, религии, социологии, литературе, поли-
тологии, — во всех случаях на передний план, выдвигалась идея
целостности Японскипт'ОбТцёст’ва, которому присуща одна и еди-
ная на всех социальных уобвнях"схём~аПТовё1ГёнияТ 'ёавдаЕТЙИрп-
воззрение, общая монолитная срдаадьнаяОрганизация_щша-уд-
зи, где по вертикали нерушимы-Даевние .отношения..удз»-яе-ка-
ми — удзико, а по горизонтали — пересекающиеся . круги ...более
тесных формирований с п'сёвдорддственными отношениями на
периферии (производственные группы, землячества, школьные
товарищества и т. п.). Истоки концепции «групповой психологи-
ческой модели» японцев можно проследить до эпохи начальной
5
государственности, а одну из существенных причин устойчивости
этого стереотипа в современных условиях обнаружить в специ-
альной направленности политики властей на протяжении мно-
гих исторических эпох.
Можно выстроить цепочки, идущие от средневековых мандо-
коро, с одной стороны, к системе «домашних чиновников» эпо-
хи родовой знати, когда при дворе «каждый кугё был, — по вы-
ражению американского японоведа Дж. К. Херста, — по суще-
ству, лидером фракции из родственников и подчиненных, инте-
рес которых представлял», а с другой стороны, к принципу па-
тернализма, пожизненного найма на капиталистических пред-
приятиях современной Японии.
Рассмотрение истории изменений и разнообразия форм од-
ного лишь этого элемента (к его формам относятся и гонингу-
ми, и паломнические группы токугавской Японии, и разного ро-
да «бацу») позволяет судить о необычайной устойчивости япон-
ского культурного комплекса в целом.
Но насколько необычайна такая устойчивость на мировом
фоне? Составляет ли японская культура в этом отношении иск-
лючение по сравнению с культурами других народов?
Говоря об экстремальных условиях, в которые может попасть
культура в случае войны, В. И. Ленин указывал: «Каковы бы
ни были разрушения культуры — ее вычеркнуть из исторической
жизни нельзя, ее будет трудно возобновить, но никогда ника-
кое разрушение не доведет до того, чтобы эта культура исчезла
совершенно. В той или иной своей части, в тех или иных мате-
риальных остатках эта культура неустранима, трудности лишь
будут в ее возобновлении» *.
История знает много примеров, когда духовная культура на-
рода на многие столетия переживает ее первоначального носи-
теля.
Почему же упорно подчеркивается именно устойчивость как
специфический призиак..японской культуры? Здесь «надо иметь
в виду два обстоятельства: 1) Наряду с устойчивостью ее ха-
рактерным признаком называют, и изменяемость, способность
принимать НТТёрёра'ба'тывать генетически и стадиально разно-
родные компоненты. 2) При постоянном внимании, которое уде-
лялось в Японии во все времена (по меньшей мере с начала
VII в., времени составления «Нихонги») определению собствен-
ной культуры на фоне сначала китайской и индо-буддийской, а
затем европейской и североамериканской, проследить устойчи-
вость и трансформацию ее основных составляющих и всего
комплекса по письменным источникам легче, чем у культур боль-
шинства других народов, меньше озабоченных этой проблемой.
Правда, возникает самостоятельная задача — адекватно опреде-
лить причины постоянства такого внимания.
В сочетании устойчивости и изменчивости элементов япон-
ской культуры нет противоречия, потому что в духовной куль-
туре рассмотрению подлежит не только единичное явление во
6
временном континууме, но и присущий ей прослеживаемый на
длительном временном отрезке принцип отношения к каждому
явлению, а именно однотипность подхода.
История Японии показывает однотипность подхода ко всем
новым элементам и на примере конфуцианства и буддизма, на-
ложившихся на синтоистский субстрат, и на примере раннего
христианства (впоследствии — какурэ кириситан, переродив-
шееся в разновидность синто при формальном сохранении от-
чужденности от него), и на примере литературных направлений
в мэйдзийской Японии, возникавших под влиянием европейских
аналогов, но быстро отходивших от них из-за появления других,
более модных влияний или из-за усиления почвеннических тен-
денций.
Из числа наиболее устойчивых, восходящих к японской пра-
культуре категорий можно выделить несколько наиболее про-
дуктивных, функционирующих, принимающих все новые формы
и используемых вплоть до наших дней для своих целей теми
или иными общественными силами.
Уже упоминалась так называемая «групповая психологиче-
ская модель японцев». Как справедливо подчеркивалось...на
Симпозиуме по альтернативным моделям понимания японского,
общества, состоявшемся в Канберре в 1980 г., «групповая мо-
дель» является образцом того, «как японская элита контроли-
рует остальное общество й управляет им».. “
Общей для всего "дальневосточного"культурного комплекса
категорией культуры является почитание предков. JB синто она
принимает форму культа и функционирует в "широком диапазо-'
не: от государственного синто до бытовых примет. В общем пла-
не культ предков предполагает отсутствие.непреодолимой гра-
ницы между миром живых й'миром мертвых. Если считать, 'что
культура'проявляется в двух уровнях"—"уровне отношений и
уровне знаков, — то знаковым проявлением этой категории
можно считать и структуру пьесы в театре ноо, и ритуальную
часть буддийского праздника поминовения усопших (бон), и су-
ществование «живого бога» как посредника между верховным
богом, или миром мертвых, и адептами, или миром живых, во
многих «новых религиях». Сюда же относится и обряд общения
посвященных с их умершими предками в синнё-эн и гэдацукай,
этих новых религиях с центрами в Токио. Причудливо транс-
формированной выступает эта категория в распространившемся
в последние годы обычае примешивать пепел от кремации умер-
ших предков в сплавы для отливки статуй будд и бодисатв, ко-
торые предполагается установить в храме для поклонения. Ша-
манизм, лежащий в фундаменте изначального синто, наряду с
почти неизменными и во всяком случае легко узнаваемыми
формами (например, использование медиума для изгнания
«злого духа» из одержимого им или заклинательная практика
в сюгэндо) легко трансформируется в новых условиях, не толь-
ко охотно перенимая суеверия и обряды других верований и ре-
7
лигий, но и используя новейшие достижения технической мысли.
Влияние этой категории древнейших традиций нельзя недооце-
нивать, особенно для неорганизованной части трудового населе-
ния и мелкой буржуазии современной Японии.
К уровню отношений можно, по-видимому, отнести и тради-
ционную детерминированность личности внутри социальной
группы. В письменных памятниках она особенно наглядно про-
слеживается в средневековых «исторических повествованиях», в
первую очередь в «Эйга моногатари» («Повесть о расцвете») и
в «Окагами» («Великое зерцало»); она отразилась и в социаль-
ном спряжении японского глагола, и в сложном, по европей-
ским понятиям, ритуале знакомства, сохранившемся в японском
быту до нашего времени.
Уровень отношений в культурных традициях проявляется в
том, в частности, что, допуская проникновение генетически
чуждых компонентов, он помогает выстроить их в порядке, свой-
ственном элементам данной культуры, и постепенно преобразует
эти компоненты по стандартам местной культуры. На такую пе-
реработку требуется время, поэтому периоды массового заимст-
вования в сочетании со сменявшими их эпохами относительной
замкнутости принимают вид культурно-исторических циклов.
Явление культуры, взятое изолированно, как правило, не
детерминируется в социальном плане. Оно служит прогрессив-
ному или реакционному делу только в конкретной ситуации, в
конкретном социально-политическом контексте.
Так, сложный комплекс древнейших и новых традиций ис-
пользуют и левые силы Японии в практической работе с трудя-
щимися. Сюда входят и чисто организационные формы, и заня-
тия в кружках икэбана, и проведение 'массовых демонстраций,
напоминающих как древние синтоистские шествия, так и сред-
невековые крестьянские выступления против феодалов. В наши
дни такие демонстрации служат не только для борьбы с поли-
цейскими кордонами, но и для укрепления духа единствами со-
лидарности у демонстрантов.
Но, как из всякого правила, и здесь есть исключения. Не-
возможна положительная интерпретация многих элементов са-
мурайского кодекса бусидо (например, харакири), кодекса по-
ведения женщины окна дайга или практики дискриминацш бу-
ракуминов.
Многовековая пропаганда этнической исключительности
японцев повлияла и на современное восприятие традиционной
культуры в общественном сознании. В подавляющем большин-
стве случаев преобладает недифференцированное положительное
отношение населения к этой культуре, что, в свою очередь, оп-
ределяет методы обработки этого сознания.
Так, в официальной пропаганде наблюдается тенденция пре-
подносить любые формы и элементы культуры, когда-либо за-
регистрированные в японской истории, как общенародные
(конкретным ее выходом представляется проповедь «коллектив-
8
ной ответственности» всех японцев за те или иные деяния пра-
вящей верхушки, оправдание националистических ритуалов и
лозунгов прошлых эпох).
По признаку обладания достижениями традиционной культу-
ры, отношения к ее элементам определяется психологическая
оппозиция «свой — чужой» (по исходной конфуцианской моде-
ли — «внутреннее» и «внешнее» учения). Эта оппозиция в узких
границах проходит по периметру кровнородственных, профессио-
нальных, социальных групп, в широких же границах выходит
за пределы страны, обозначая, в зависимости от идеологической
задачи, границы региона, расы или политического блока.
«Чужой» в этой ситуации может трактоваться как недоста-
точно культурный, ущербный. Такая трактовка выступает ’эмо-
ционально и идеологически окрашенным средством формирова-
ния общественного мнения в отношении любого политического
противника, одним из средств воспитания молодого поколения.
В качестве актуального примера практического выхода та-
кой оппозиции можно привести аргументы противников ныне
действующей конституции, что ее следует пересмотреть как яко-
бы не соответствующую традиционным японским культурным и
психологическим ценностям, как созданную чужеземцами, не
знающими законов японской культуры.
Традиционная культура после создания в 1972 г. Японского
фонда (Кокусай Корю Кикин) все шире используется для фор-
мирования положительного стереотипа Японии за рубежом. На
первом этапе это помогло в нейтрализации в определенной сте-
пени антияпонских настроений в тех странах, где за нею закре-
пилось клеймо «экономическое животное.» (кэйдзай добуцу), на
следующих этапах — в пропаганде высших достижений япон-
ской культуры, вклада Японии в сокровищницу мировой куль-
туры, влияния японской культуры на современный западный
мир.
Борьба прогрессивных сил с такого рода спекуляциями ста-
новится эффективнее, когда в их арсенале наряду с политиче-
скими и классовыми критериями используются аргументы, осно-
ванные на категориях традиционной японской культуры.
1 Ленин В. И. Седьмой экстренный съезд РКП(б).— Полное собрание со-
чинений. Т. 36, с. 46.
Б. В. Поспелов
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯПОНСКОГО БУРЖУАЗНОГО ГОСУДАРСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Одной из важных черт функционирования буржуазного госу-
дарства в Японии является активная идеологическая деятель-
ность, нацеленная на сохранение идейно-политической основы
капиталистического строя. Подобные функции выполняет госу-
дарство в любой капиталистической стране. Однако в Японии
государству как идеологическому институту принадлежит осо-
бая роль, определяемая в конечном счете спецификой развития
государственно-монополистического капитализма в этой стране.
Подобная черта была присуща политической системе Япо-
нии, начиная с революции Мэйдзи. Опираясь на заложенную в
этот период традицию абсолютистского правления, накануне и
в годы второй мировой войны государство выступило в качестве
главного элемента системы идеологического господства монар-
хо-фашистского режима. В основе его идеологической актив-
ности лежал курс на сохранение и упрочение традиционных ду-
ховных ценностей националистического толка, фактическое от-
рицание категорий и понятий политической идеологии капитали-
стического Запада.
Преобразования послевоенного периода вызвали изменения в
государственно-политической структуре Японии. На этом этапе
одной из задач государства стало идеологическое обеспечение
процесса капиталистической модернизации, осуществлявшейся
по американской модели. Идеологическая деятельность прави-
тельства в 50—60-х годах свелась главным образом к распрост-
ранению в японском обществе социально-политических взглядов
и ценностных ориентаций, пришедших с Запада. Их утвержде-
ние способствовало ослаблению традиционных политических ин-
ститутов и морально-этических представлений. Лейтмотивом
официальной идейно-пропагандистской линии в тот период стал
культ капиталистической модернизации, завершение которой
рассматривалось как «благость» для Японии.
Но такое положение длилось недолго. Кризис середины
70-х годов и сохранившиеся на протяжении всех 80-х годов низ-
10
кие темпы промышленного роста свидетельствовали о негатив-
ных последствиях быстрых темпов индустриализации. Несмотря
на общий промышленный подъем и накопление в обществе ма-
териальных ценностей, в стране обострились социальные проб-
лемы. Стала ослабевать вера в беспредельные возможности ка-
питалистического способа производства, насаждавшаяся идео-
логами господствующего класса в период промышленного бума.
Эти процессы и явления подтачивали идеологическую базу, на
которой зиждилось господство монополистического капитала,
становились препятствием для выхода из кризисной ситуации,
возникшей в японской экономике в 70-х годах.
В такой обстановке правящие круги были вынуждены пойти
на резкое изменение своей идеологической стратегии. Ее суть
заключалась в попытках объяснить негативные последствия мо-
дернизаций не структурными принципами, восходящими к капи-
талистическим общественным отношениям, а в основном спе-
цификой социальных форм, проникших в Японию из США. Ста-
ла гальванизироваться традиционная националистическая линия,
сложившаяся в период становления японского капитализма и
перерастания его в империалистическую стадию. Одна из ее су-
щественных черт заключается в противопоставлении с геополи-
тических позиций Японии как восточной страны странам Запа-'
да, в подчеркивании превосходства традиционных социальных
форм и общественных институтов над западными и необходи-
мости их сохранения в условиях наступления на японское обще-
ство западной индустриальной культуры.
Эта линия открыто оформилась в годы правления кабинета
Т. Мики. В 1975 г. в разгар экономических потрясений по лич-
ному указанию премьера при министерстве просвещения был
создан совещательный орган —так называемый Совет по изу-
чению проблем цивилизации. В его состав вошли крупные уче-
ные-философы, социологи, историки, всего около 30 человек.
Под председательством министра просвещения Нагаи Совет про-
вел серию заседаний, в ходе которых были обсуждены теорети-
ческие проблемы, связанные с определением путей развития
Японии. В частности, по рекомендации Наган членам Совета бы-
ло предложено обсудить следующие вопросы: влияние науки и
техники на общество; система коммуникаций и ее воздействие на
человека; значение традиций и оценка места японской культуры
в истории мировой цивилизации; влияние общественной струк-
туры на становление личности.
Иными словами, правительство, составляя Совет, задалось
целью наметить пути решения всего комплекса проблем, встав-
ших перед Японией в условиях спада производства и поиска
решения возникших социально-экономических проблем. В 1976 г.
материалы Совета в качестве правительственных документов
были опубликованы и представлены на обсуждение научной об-
щественности *.
Знакомство с ними свидетельствует о невысоком уровне бур-
11
жуазной теоретической мысли, на которую правительство ре*
шило ориентироваться при определении своего политического
курса в изменившихся социально-экономических условиях. Они
наглядно продемонстрировали консервативный характер тех
установок, которые были предложены в качестве исходных при
выработке практических мероприятий в ответ на создавшуюся
ситуацию.
Узость социально-политических взглядов, консервативные
мировоззренческие установки членов Совета вылились в полити-
ку отождествления кризиса, охватившего в 70-х годах мир ка-
питализма, с кризисом всей мировой цивилизации. Акцентиро-
вание резко негативного влияния модернизационного процесса
на традиционную японскую культуру свелось в документах Со-
вета к восхвалению японских национальных традиций. В работе
Совета, характеризовавшейся непомерным восхищением всем,
что уходит своими корнями в эпоху докапиталистических обще-
ственных отношений, не осталось места для трезвого, объектив-
ного анализа идеологических и политических реалий, существо-
вавших в стране. Председатель Совета — известный ученый Ку-
вабара Такэдзи, в частности, заявил: «Сейчас каждому ясно, что
мировая цивилизация находится в состоянии глубокого застоя.
Обострились не только проблемы материального характера (де-
мографическая, продовольственная, ресурсов, экономическая),
они способствовали кризису человеческих душ. В этом отноше-
нии японская цивилизация не является исключением. Страна со
специфической древней культурой прошла исключительно быст-
рыми темпами период модернизации. В связи с этим проблема
японской культуры встала с особой остротой» 2.
Не приходится говорить об ошибочности позиции японского
ученого, усматривавшего причину кризиса японской культуры в
проникновении с Запада в Японию новых социально-экономиче-
ских и политических форм. Имевшие классовое содержание, ана-
логичное тому, которое заключала в себе японская буржуазная
культура 70-х годов, они лишь углубили и обострили те проти-
воречия, которые достались Японии от периода феодализма и
которым идеологи правительства решили придать характер до-
стоинств, якобы возвышающих японский образ жизни над за-
падным.
Главным объектом критики в документах Совета стал про-
цесс научно-технического роста — именно в нем усматривалась
основная причина негативных последствий капиталистической
модернизации. Объективная в некоторых случаях констатация
антигуманистического характера использования науки и техни-
ки при капитализме не нашла в них научного объяснения, она
завершилась выдвижением рекомендаций, означавших факти-
чески отказ от использования достижений науки и человеческо-
го разума.
В качестве альтернативы научно-техническому прогрессу чле-
ны Совета выдвинули курс на гальванизацию традиционных
12
•японских институтов и возрождение реакционных идеологиче-
ских форм. Были высказаны пожелания оживить в Японии ре-
лигиозные течения, в частности буддизм, было внесено даже па-
радоксальное по своему содержанию предложение восстановить
анимизм, присущий первобытным племенам, в качестве средст-
ва воспитания населения в духе уважения к природе и ликвида-
ции на этой основе хищнического отношения к ней. В докумен-
тах Совета всемерно превозносились достоинства японского на-
ционального характера, подчеркивался некий особый гуманизм
японской культуры, ее превосходство над западной. Словом,
деятельность Совета прошла под знаком утверждения «духа
Ямато» и отрицания западной индустриальной цивилизации как
феномена, якобы разрушающего «человечность» восточного ти-
па.
Результаты работы Совета по проблемам цивилизации при
кабинете Т. Мики не удовлетворили н не могли удовлетворить
правительственные круги. Слишком далекими от политических
реалий Японии 70-х годов и запросов монополистического капи-
тала оказались интересы и взгляды его членов, не пожелавших
в своих суждениях выйти за рамки обветшалых представлений
и понятий.
Однако главную идею документов Совета, ориентированную
на возрождение традиционных ценностей и националистическо-
го тезиса об исключительности японской культуры, правительст-
во восприняло, положив ее в основу своей дальнейшей идеоло-
гической деятельности.
В 1979 г. к выработке официальной идеологической доктри-
ны приступил кабинет Охира. Этому мероприятию был придан
особый размах и значение. Для ее разработки правительство
создало специальный орган — так называемый Комитет по изу-
чению политических проблем, в работе которого на этот >раз
приняло участие уже до 200 крупнейших японских ученых.
В Комитете было создано 9 групп, каждая из которых подгото-
вила обширный доклад, освещавший ключевые проблемы япон-
ской действительности. В 1980 г. эти доклады были опублико-
ваны под общим названием «Стратегия обеспечения комплекс-
ной безопасности»3.
Новые идеологические документы японского правительства
создавали видимость большей научности и объективности в
подходе к реалиям политической и экономической жизни, чем
документы 1976 г. Но это была только видимость, ибо в основу
их легла та же стратегическая линия в сфере идеологии, кото-
рая была заложена кабинетом Т. Мики, — линия на гальваниза-
цию партикуляристских установок на основе противопоставле-
ния японской разновидности капитализма западной.
В качестве одной из главных проблем, в связи с которой ав-
торы упомянутых докладов развернули систему доказательств с
целью утверждения тезиса о превосходстве японской формы ка-
питализма, была взята структура социальных отношений в Япо-
13
нии. Утверждалось, что главной особенностью японского обще-
ства и источником экономических успехов является социальный
принцип групповой взаимозависимости («айдагарасюги»), яко-
бы пронизывающий всю жизнь японцев и создающий основу
межличностных связей на предприятиях. Он толковался как
условие «гармонии» и «взаимозависимости» в социальной иерар-
хии, как основа успешного функционирования системы капита-
листического предпринимательства. Ему противопоставлялся
принцип «индивидуализма», он рассматривался в качестве ис-
ходного социально-психологического феномена, пронизывающе-
го западное общество. Западный «индивидуализм» квалифици-
ровался как категория низшего порядка, как источник негатив-
ных явлений в высокоразвитом индустриальном обществе за-
падного типа. Давая японской системе социальных отношений
националистическое толкование, авторы документов провозгла-
шали, что только эта система может обеспечить, с одной сторо-
ны, процветание японского капитализма, а с другой — способст-
вовать оздоровлению мировой капиталистической цивилизации,,
стать социально-политическим принципом, преодолевающим по-
роки западного «индивидуализма».
Итак, во главу угла идеологической доктрины японского мо-
нополистического капитала начала 80-х годов был положен те-
зис о превосходстве японской формы социальных отношений
«айдагарасюги» и основанных на них производственных связей
и для его подтверждения использовался весь арсенал японской
буржуазной социологии. Рассуждая о «коллективизме» япон-
ского типа, теоретики из правительственного Комитета по иссле-
дованию политических проблем желаемое выдавали за действи-
тельное и, опираясь на искусственно созданную схему социаль-
ных отношений на японских предприятиях, стремились консер-
вировать те ее элементы, которые в наибольшей степени
служили системе эксплуатации, обеспечивая успешное функцио-
нирование производства в интересах предпринимателей.
Но несмотря на все попытки японского капитализма сделать
своей идеологической базой националистические теории соци-
альных отношений и обеспечить на этой основе социальную ста-
бильность, характер экономической деятельности в условиях вы-
сокоразвитого капиталистического государства, каким стала
Япония, со все большей настойчивостью разрушал принцип
«айдагарасюги», при помощи которого буржуазные идеологи
стремились камуфлировать классовые отношения.
Требования научно-технической революции, обострение меж-
империалистической конкурентной борьбы в научно-производст-
венной сфере подняли значение человеческого фактора в произ-
водственном процессе, заставили монополистический капитал
изыскивать новые пути и средства для формирования человече-
ского фактора в интересах поддержания и расширения капита-
листического производства.
В 1984—1985 гг. японское правительство и правящая Либе-
14
рально-демократическая партия предпринимают новую попытку
социального анализа японского общества и долгосрочного стра-
тегического планирования своей социальной политики. ЛДП об-
народовала новую программу, пронизанную амбициозным пла-
ном резкого повышения уровня производства и перестройки всей
социальной инфраструктуры в стране. При кабинете Я. Накасо-
нэ был вновь создан правительственный Комитет по социально-
экономическим исследованиям, который выработал новую соци-
ально-экономическую доктрину, одновременно была опублико-
вана программа экономического развития Японии до 2000 г.
Возросли масштабы идеологической деятельности господст-
вующего класса, в нее вовлекается все большее число буржуаз-
ных ученых. Если кабинет Охира привлек к выработке доктрины
обеспечения комплексной безопасности около 200 специали-
стов, объединенных в Комитете по изучению политических проб-
лем, то в работе Комитета по социально-экономическим исследо-
ваниям при Кабинете Я. Накасонэ в 1984—1985 гг. участвова-
ло уже более 500 специалистов, около 100 различных институ-
тов и учреждений. Комитет подготовил и опубликовал более
40 докладов. В них детально разработан японский вариант кон-
цепции «постиндустриального общества», развивший доктрину
комплексного обеспечения национальной безопасности. Она по-
лучила название «софтономика». Созданный японскими идеоло-
гами по аналогии с термином «экономика», этот термин озна-
чает направление развития социальных наук, исследующих
структуру и условия жизнедеятельности высокоразвитого инду-
стриального общества, опирающегося на широкую систему ин-
формации и наукоемких отраслей производства. Предполагается,
что в рамках такого общества первостепенную роль будут иг-
рать не традиционные методы промышленной деятельности,
восходящие к эпохе промышленных революций и индустриа-
лизации (hard pass), а методы, основанные на широком ис-
пользовании 1интеллектуального труда и повышении значения
качественных характеристик промышленной продукции (soft
pass).
Появление концепции «софтономики» является попыткой на-
метить пути обеспечения предпосылок для функционирования ка-
питалистической экономики в условиях научно-технической ре-
волюции, повышения роли человеческого фактора в производст-
венном процессе, серьезных изменений в социальной структуре
и ценностных ориентациях населения. Большое влияние на ха-
рактер этой концепции оказало стремление японских монополий
запять ведущее место в техническом прогрессе.
В концепции «софтономики» взят курс на изменение струк-
туры массового потребления, плюрализацию потребительских
интересов, дальнейшее расширение сферы действия социально-
психологических ориентиров, присущих высокоразвитому бур-
жуазному государству, распространение нездоровых запросов и
изощренных вкусов в повседневной жизни.
15
Повышенное внимание в концепции софтономики к человече-
скому фактору вызвано стремлением создать новый тип инже-
нерно-технического работника, способного к самостоятельной на-
учно-исследовательской деятельности, к новым научным откры-
тиям, имеющим принципиальное значение для научно-техниче-
ского прогресса. Эти задачи для японских монополий становят-
ся все более актуальными в настоящее время, когда США, ши-
роко снабжавшие в 50—60-х годах японскую промышленность
научной информацией, перешли к политике жесткого контроля
в сфере научных связей с Японией, отказывая ей в предоставле-
нии новейшей научной информации.
Новая доктрина японского монополистического капитала
имеет в основном пропагандистское значение. Много внимания
в ней уделяется пропаганде технических достижений японского
капитализма. В своих прогнозах на будущее она носит черты
типичной буржуазной футурологической теории, призванной
утвердить идею о безграничных возможностях японского капи-
тализма в условиях развития науки и техники. Вместе с тем:
нельзя не отметить, что в своих исходных идейно-теоретических
установках она с большей долей объективности, чем предыду-
щие социальные концепции господствующего класса, отражает
отдельные стороны социальной структуры современного общест-
ва, в большей мере учитывает социальные последствия процес-
са капиталистической модернизации, общего по своему классо-
вому содержанию для тех стран, которые вступили на путь ка-
питалистического развития.
Отражая реальный социальный процесс, развивающийся в
Японии в условиях ее быстрой индустриализации, доктрина, по
существу, пересматривает традиционный тезис о наличии в
Японии особой формы групповой общности «айдагарасюги» как
антипода западного индивидуализма. Косвенно признавая факт
разрушения традиционных социальных структур под напором
капиталистических производственных отношений, она провозгла-
шает рождение в Японии новой формы буржуазного индивидуа-
лизма, так называемого «мягкого» индивидуализма, якобы скла-
дывающегося в рамках традиционных социальных форм. Но на
деле новая форма межличностных связей, характеризуемая в
правительственных документах как «мягкий индивидуализм»,
противоречит «групповой общности» японского традиционного
типа. Хотя она и отличается от «жесткого», западного индиви-
дуализма, но в основе своей быстро эволюционирует в сторону
последнего, как бы демонстрируя победу капиталистического
Запада над идеализированной японской формой социальных от-
ношений «айдагарасюги».
Выше было отмечено, что одной из целей концепции софто-
иомики является повышение роли человеческого фактора. Поня-
тие «мягкого индивидуализма» как основы межличностных свя-
зей в японском обществе призвано служить этой цели. Не при-
ходится доказывать, что «мягкий индивидуализм» не создает
16
индивида как личности в подлинном значении этого слова, не
способствует рождению человека, действительно свободного от
условностей и норм, мешающих проявлению его подлинной че-
ловеческой сущности.
В руках буржуазных идеологов концепция «мягкого индиви-
дуализма» нацелена на стимулирование в человеке таких ка-
честв, которые обеспечивали бы рост и плюрализацию потреби-
тельского спроса в интересах расширения капиталистического’
производства. В то же время именно эта концепция призвана
создать новый тип инженерно-технического работника, свобод-
ного от условностей группового мышления и приспособленного
для принятия самостоятельных решений в рамках производст-
венного процесса.
Такова эволюция идейно-теоретических доктрин японского
господствующего класса за последнее десятилетие: от попытки
гальванизировать примитивные реакционные идеологические
доктрины эпохи феодализма, включая религию, и на этой осно-
ве возродить традиционный национализм, к курсу на широкое
использование буржуазных социологических теорий в целях
утверждения рафинированной националистической концепции о
превосходстве японского типа капиталистического предпринима-
тельства. А от этого курса к новой идеологической линии, при-
знающей приближение японских принципов общественных свя-
зей к западным. Ныне в ее рамках используются более утон-
ченные методы обоснования «уникальности» межчеловеческих
отношений японского типа. В частности, под категорию «мягко-
го индивидуализма» подводится специальная философская база,
предпринимаются попытки доказать особую, не имеющую се-
бе аналогов социально-психологическую структуру связи это-
го типа индивидуализма с традиционными социальными фор-
мами.
Таковы основные вехи теоретического поиска буржуазного
сознания в Японии, нашедшие отражение в идеологических докт-
ринах монополистического капитала. Действительность доказала
бесполезность усилий его идеологов найти выход из социально-
экономического и духовного кризиса на путях гальванизации
традиционных националистических концепций. Отсюда поиск
новых, «современных» форм националистической идеологии, при-
званных еще более мистифицировать реальный процесс соци-
альных изменений, создать иллюзию формирования в японском
обществе идеальных связей, якобы преодолевающих недостат-
ки социальных форм капиталистического Запада.
В документах XXVII съезда КПСС отмечаются основные
черты экономической и идеологической деятельности буржуаз-
ных государств, осуществляемой ныне в интересах укрепления
капиталистической системы. Это — технологическая перестройка
производства, постоянный контроль за состоянием умов и пове-
дением людей, целенаправленное культивирование индивидуа-
лизма и антидемократизма. В них подчеркивается стремление
2 Зак. 324 17-
империализма разжигать и провоцировать национальный эгоизм
и шовинизм в целях ослабления интернациональной солидар-
ности трудящихся. Социальная практика и идеологическая ли-
ния японского господствующего класса целиком подтверждают
эти положения.
1 Рэкиси то буммэй-ио танкю (Исследование истории и цивилизации).
Т. 1—2. Токио, 1976.
2 Там же, с. 10.
3 См.: Сого аидзэн хосё сэнряку (Доклады Политического комитета при
кабинете Охира). Токио, 1980.
Ю. Б. Козловский
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ПРОЦЕССА В ЯПОНИИ
История философской мысли в Японии изучена весьма недо-
статочно. В имеющихся на эту тему трудах немало «белых пя-
тен» и нерешенных проблем. Целый ряд вопросов освещается
пока поверхностно, без анализа фактического материала. Одна
из причин такого положения, возможно главная, состоит в том,
что история японской философии стала объектом внимания уче-
ных сравнительно недавно. Если изучение истории философии в
Китае или Индии насчитывает уже несколько столетий и миро-
воззренческая мысль народов этих стран продолжает привлекать
к себе внимание большого круга востоковедов самых различных
стран мира, то изучение истории японской философии ведется
всего немногим более полувека, и число серьезных ученых —
специалистов в этой области — считанные единицы.
Конечно, философская мысль Японии не имеет таких глубо-
ких традиций, как в Китае или Индии, странах куда более древ-
ней цивилизации; она не так богата разнообразием мировоззрен-
ческих учений. Тем не менее уже предварительное знакомство с
историей философской мысли японцев, с особенностями ее раз-
вития показывает, что она по-своему интересна, имеет, так ска-
зать, «собственное лицо», и ее изучение открывает исследовате-
лю несомненно оригинальные мировоззренческие учения по-
своему крупных мыслителей, взгляды которых позволяют по-
нять специфические черты национальной культуры японского на-
рода на разных этапах ее развития.
Больше того, можно, по-видимому, считать, что изучение
японской философии не лишено своих преимуществ. Нельзя за-
бывать, в частности, что вся история «традиционной» философ-
ской мысли японцев до ее вестернизации укладывается пример-
но в одно тысячелетие, отличается достаточной четкостью хро-
нологии и потому легче поддается 'научному анализу, нежели
история философской мысли Китая или Индии, измеряемая, по
крайней мере, двумя с половиной тысячами лет и просматривае-
мая наукой далеко не во всех звеньях и не на всех этапах свое-
го развития. Следует учитывать также, что при таком сравни-
тельно небольшом «историческом возрасте» традиционная фило-
софская мысль в Японии проходила в своей исторической эво-
люции стадии, в чем-то повторяющие черты развития философии
в других странах дальневосточного региона, а следовательно,
ее изучение дает исследователю возможность раскрывать и вы-
2*
Id
/
•являть на японском материале более глубокие, универсальные
тенденции историко-философского процесса в странах Дальнего
Востока и Юго-Восточной Азии. Данное обстоятельство выгля-
дит тем более многообещающе, если иметь в виду, что японские
исторические памятники, необходимые для исследования тради-
ционной философской мысли на различных этапах ее развития,
в основном сохранились и в настоящее время издаются, перево-
дятся на современный язык и расшифровываются учеными’.
Однако, принимая во внимание благоприятные возможности
исследования истории традиционной философии в Японии, нель-
зя не констатировать,' что их реализация осуществляется пока
что довольно слабо. До сих пор учеными не установлена доста-
точно полная периодизация истории японской философии. Не
исследован основательно вопрос о зарождении философской
мысли в средние века. Дискутируется проблема философских
традиций. Необходимо при этом подчеркнуть, что в работах
буржуазных ученых не выдерживаются, как правило, элементар-
ные принципы научного исследования философии как таковой,
зачастую не проводится различие между философским и рели-
гиозным сознанием, не получает четкого разграничения фило-
софская мысль и социологическая, политическая, этическая,
эстетическая мысль японцев в средние века, а главное — взгля-
ды философов излагаются в большинстве случаев в хронологи-
ческой последовательности, вне соотношения их с материальной
социальной действительностью, вследствие чего подлинный
смысл и содержание учений, концепций, категорий адекватно не
раскрывается. В тех же немногих трудах, которые написаны
японскими учеными, придерживающимися научных методологи-
ческих принципов исследования, освещается главным образом
позднейший этап развития традиционной философской мысли в
Японии, приходящийся на XVII — первую половину XIX в.2.
Этому же периоду посвящены и труды зарубежных исследова-
телей, в том числе и советских 3. Более же ранние этапы исто-
рии философии в Японии сколько-нибудь фундаментального на-
учного освещения еще не получили. Поэтому развернутой, це-
лостной картины исторического развития философской мысли в
Японии воссоздать пока не удается.
Уже из сказанного выше становится очевидным, какое важ-
ное значение для изучения философской мысли в Японии; в осо-
бенности ее истории, приобретает методология исследования.
Однако заявить так, на наш взгляд, было бы еще недостаточно.
Настало такое время, когда вопросы методологии исследования
истории философии в Японии, да и, по-видимому, в других стра-
нах Востока, становятся актуальными, как никогда ранее. На
повестку дня встает, как нам кажется, совершенствование само-
го понятийного аппарата, использовавшегося нами до сих пор,
критическое переосмысление таких сложившихся еще на заре
ориенталистики, давно укоренившихся понятий, как «буддизм»,
«конфуцианство», «неоконфуцианство». Эти понятия широко
.20
применяются как категории с четко установленным смысловым
значением, позволяющим рассуждать о «буддизме» вообще, о
«конфуцианстве» вообще, об их «распространении» в Японии в
ту или иную историческую эпоху.
Однако фактический материал все более убеждает исследо-
вателей в том, что за понятиями «буддизм» и «конфуцианство»
в действительности стоят сложные духовно-культурные образо-
вания, включающие философскую, социально-политическую, эти-
ческую мысль, формы религиозного сознания, другие виды ду-
ховного творчества.
Используя при изучении философской мысли в Японии кате-
гории «буддизм», «конфуцианство», мы обращаемся так или
иначе к историко-философским традициям Китая, Кореи, отку-
да, как известно, и происходило распространение философских
учений. Связь тут очевидная. Она проявляется даже в названи-
ях философских сект и школ в Японии: секты Тэндай (от кит.
«тяньтай»), Сингон (от кит. «чжэньянь»), Дзэн (от кит. «чань»),
школы сюсигаку (школа Чжуси), оёмэйгаку (школа Ван Янми-
на) и т. п. Однако и при рассмотрении китайских «оригиналов»
«буддизма» и «конфуцианства» нас ожидают новые проблемы.
Выясняется, в частности, что китайский средневековый буддизм,
если характеризовать не его религиозную догматику, а собст-
венно философскую, религиозно-философскую мысль, выглядит
не столь уж «буддизмом» в строгом смысле этого слова, что в
первые же века своей ассимиляции в Китае он вобрал в себя
идеи и принципы конфуцианских и даосских философских уче-
ний. Выясняется далее, что и конфуцианская мысль в Китае, в
свою очередь, также активно взаимодействовала в средние века
с учениями даосских и буддийских школ и сект и обогащалась
за счет их учений. Так, все более завоевывает признание тот
взгляд, что так называемые неоконфуцианские философские
доктрины сунской школы, столь повлиявшие на развитие миро-
воззренческой мысли стран Дальнего Востока, не сформирова-
лись бы столь фундаментально, не (будучи оплодотворенными,
мировоззренческой мыслью буддийских, даосских и других
школ'.
Таким образом, проникавшие в Японию из Китая и Кореи
философские учения представляли собой не просто те или иные
доктрины «конфуцианства», «буддизма», «даосизма», а уже
конкретно-исторически сложившиеся органические «сплавы»,
или «синтезы», идей «конфуцианского», «буддийского», «даос-
ского» происхождения, которые, в свою очередь, перерабатыва-
лись, переосмысливались с привнесением в них автохтонной
японской идеологии, в соответствии с социальными идейными
потребностями развития общественной мысли в Японии. Пере-
работка, переосмысление этих учений-«сплавов», учений-«синте-
зов» происходила в средневековых школах мудрости в услови-
ях господства авторитарного сознания, и потому развитие фи-
лософской мысли в Японии вплоть до Нового времени соверша-
21
лось в форме «истолкования» учений Авторитетов, в форме
«следования» идеям мудрецов — основоположников школ. Япон-
ские мыслители верили, что истины бытия, пути праведной жиз-
ни, благоденствия уже открыты мудрыми учителями, а потому
их задача состоит лишь в том, чтобы постичь собственным ра-
зумом эти истины, заключенные будто бы в завещанных им ка-
нонических произведениях учителей-Авторитетов. На вере в
Авторитет учения, в Авторитет основоположника школы, с од-
ной стороны, и на стремлении открыть истину усилиями творче-
ского разума — с другой, и основывался такой противоречивый
средневековый тип мышления, способ философствования, харак-
терный для японских буддийских и конфуцианских школ в эпо-
ху средневековья. К сожалению, этот тип мышления, способ фи-
лософствования не стал еще по-настоящему предметом исследо-
вания наших ученых.
Разработка методологии исследования чрезвычайно актуаль-
на не только для изучения истории философской мысли Японии.
Она необходима и для понимания тех процессов, которые на-
блюдаются в настоящее время в развитии современного обще-
ственного сознания японского общества, в развитии его миро-
воззренческой, философской мысли. Ярким примером этого мо-
жет служить проблема традиций. Эта проблема возникла, как
известно, в результате вестернизации национальной культуры,
вестернизации различных форм общественного сознания япон-
цев, философии в частности.
По мере вестернизации философской мысли в Японии, иначе
говоря, по мере распространения и усвоения японцами буржуаз-
ной философии стран Запада в XIX — первой половине XX в.
все более утрачивали влияние и приходили в упадок традицион-
ные мировоззренческие учения, сложившиеся в эпоху феодализ-
ма. Философская мысль японских буддийских сект и конфуци-
анских школ переставала функционировать в своем подлинном
системно-структурном виде, вытеснялась из сферы профессио-
нальной философии, а сохранявшиеся от нее отдельные поня-
тия и представления оставались как реликты, лишенные жиз-
ненного импульса, либо же включались в философские системы
западного происхождения, теряя свое прежнее смысловое со-
держание 4.
Однако, будучи вытесненными из профессиональной филосо-
фии, традиционные мировоззренческие, философские представ-
ления не исчезли полностью из общественного сознания япон-
цев. Благодаря существованию и развитию неозападненных или
слабо озападненных сфер японской культуры «буддийские»,
«конфуцианские» мировоззренческие представления стихийно, в
бессистемном виде постоянно воспроизводятся в обыденном со-
знании. Традиционное мироощущение японцев еще живо в на-
циональном художественном творчестве: в классической япон-
ской живописи, в классической музыке, театре, в поэзии, народ-
ном фольклоре, в таких типично японских видах искусства, как
22
аранжировка цветов, сады камней и т. п. Оно в значительной
мере сохраняется в моральном сознании, в эстетических нормах,
в социальной психологии людей. Традиционными мировоззрен-
ческими представлениями пронизано религиозное сознание япон-
цев. Несомненно поэтому, что традиционная идеология через
такие формы общественного сознания и художественного твор-
чества не может не оказывать влияние на массовое сознание,
на формирование его мировоззренческих принципов.
В то же время вестернизацию японской философии (а по вы-
ражению К. Маркса, философия — «живая душа» культуры, воз-
действующая на «тело» последней) нельзя рассматривать изо-
лированно от других сфер духовного творчества. Нельзя не учи-
тывать то важнейшее обстоятельство, что одновременное суще-
ствование вестернизированной философии, иных форм вестерни-
зированной культуры, с одной стороны, и слабо вестернизиро-
ванных форм общественного сознания, с другой стороны, порож-
дает дисфункции в механизмах потребления и наследования
культуры, в механизмах самого духовного творчества.
Как указанные выше, так и другие факторы, раскрывающие
разного рода взаимодействие философии с другими сферами на-
циональной культуры Японии, убедительно свидетельствуют о
том, что проблема традиций в области традиционной мировоз-
зренческой мысли оказывается не только явно недостаточно ре-
шаемой в теоретической плоскости, но и «неснятой» в практи-
ческрм отношении. Вот почему на этой проблеме в современной
Японии всячески спекулируют буржуазные идеологи, которые,
призывая в поисках преодоления социальных противоречий к
отказу от «западной идеологии», а под этим флагом и от марк-
сизма, делают ставку на возрождение «истинно национальных
мировоззренческих традиций», «японского образа мышления»
и т. п. Таким образом, отношение к проблеме традиций культу-
ры, мировоззренческой, философской мысли в частности, приоб-
ретает практический, «земной» аспект, напрямую связано с
идеологической борьбой прогрессивных и реакционных сил в
условиях современной японской действительности.
1 Достаточно упомянуть энциклопедические издания Иванами сётэн «Ни-
лон сисоси» 1960—1970 гг„ содержащие манускрипты трудов японских мысли-
телей IX—XIX вв. Выходят в свет и переводы на иностранные языки серьезных
исследований о средневековых японских мыслителях. См., например: Takaha-
shi М. The Essence of Dogen, Kegan Paul International. London, Boston, Mel-
bourne, 1983.
2 Ногата Хироси. Нихон тэцугаку сисоси (История японской философской
мысли). Токио, 1938; Нихон юйбуцурон сисоси (История японского материа-
лизма). Токио, 1936; Нарамото Тацуя. Нихон-но сисока (Японские мыслите-
ли). Токио, 1954; Саэгуса Хирото. Нихон-ио юйбуцуронся (Японские материа-
листы). Токио, 1956.
3 См.: Радуль-Затуловский Я. Б. Из истории материалистических идей в
Японии. М., 1972.
4 Пример тому — экзистенциализация буддийских категорий «пустота»,
«небытие», «карма», типичных для догматики релнгнозно-философских учений
сект Тэндай, Сингон, Дзёдо, Дзэи .и др.
Е. Л. Скворцова
ИЗУЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ В ЯПОНИИ
(история и современное состояние
научно-эстетических исследований)
Японская эстетика как область научного знания, как фило-
софская дисциплина начала складываться в эпоху Мэйдзи
(1868—1912). Это было время бурных социально-политических
преобразований, время перехода феодальной Японии на капита-
листический путь развития. Это было время первого основатель-
ного знакомства японцев, пребывавших в течение предшествую-
щих двух веков практически в полной изоляции от внешнего ми-
ра, с достижениями западной культуры *. В духовной жизни по-
лучили распространение тенденции, имеющие целью осмыслить
место и роль Японии в мировом сообществе, выяснить значение
японской культуры в рамках достижений всей человеческой ци-
вилизации.
Вместе с хлынувшим из Европы потоком информации, в
«Страну восходящего солнца» проникли и западные эстетиче-
ские учения как часть философских концепций. Именно в эпоху
Мэйдзи берет начало традиция переложения на японский язык
фундаментальных работ по западной философии и эстетике..
Первыми объектами перевода явились сочинения таких титанов
философской мысли, как Платон, Аристотель, Плотин, Августин,.
Кант, Гегель и др. Однако переводчики сталкивались «с боль-
шими трудностями при переводе философских терминов: абст-
рактных понятий в японском языке не было, а европейскую
терминологию еще не освоили»2. Трудно было «подобрать экви-
валенты к таким, например, понятиям, как „эстетика**, „исти-
на**, „сущность**, „объективный**, „субъективный**, „эмпирическое
сознание**, „идеальный**, „диалектический** и т. д.» 3. Это было,
естественно, поскольку в Японии в домэйдзийский период не су-
ществовало специальной «философской» литературы, т. е. тру-
дов по философии в западном понимании этого слова. Вопрос о
наличии японской «философии как таковой» в духовной тради-
ции Японии и по сей день остается открытым. Немало современ-
ных буржуазных исследователей разделяют точку зрения изве-
стного просветителя Наказ Тёмина (1847—1901), заявившего,,
что в Японии не было философии. «Японцы, — утйерждают
они, — познакомились с философией в собственном смысле сло-
24
ва только после буржуазной революции 1868 г. как с явлением
чисто европейского общественного сознания, до этого в Японии
господствовала буддийско-конфуцианская общественная мысль,
не содержавшая в себе философского знания»4. Разумеется,
сложно было подобрать соответствующие языковые аналоги тер-
минам западной философии. Но несмотря на трудности с перево-
дом, материал по философской проблематике, и эстетической в
том числе, постепенно накапливался.
О философской эстетике можно говорить как о мировоззрен-
ческой концепции второго порядка, «рассуждении над мировоз-
зрением»'. Особенно сильное влияние на процесс формирования
мировоззрения, формирования ценностного отношения к дейст-
вительности оказывают искусство и литература. Но в них дол-
жен быть накоплен определенный опыт, прежде чем он может
быть осмыслен философски. Данное обстоятельство обусловли-
вает необходимость достаточно длительного периода разработки
эстетических воззрений в рамках искусствоведения и литерату-
роведения, более непосредственно, чем философская эстетика,
отражающих художественную практику.
Неудивительно, что и японская эстетика вплоть до начала
нашего века развивалась преимущественно в области литерату-
роведения и искусствоведения. И не случайно японские писате-
ли и художники часто сами выступали в роли теоретиков искус-
ства и эстетиков.
Значительным препятствием для формирования эстетической
науки в домэйдзийской Японии служила неразработанность фи-
лософско-эстетического категориального аппарата, который был
бы органично присущ японской мыслительной традиции. Ведь
эстетика как наука могла возникнуть только при условии ис-
пользования такого аппарата для анализа произведений искус-
ства и творческого процесса их создания. В истории же япон-
ской духовной культуры не нашлось места эстетическим теори-
ям как конкретизированным философским концепциям. Эстети-
ческие положения хотя и содержались в неявном виде в памят-
никах буддизма, конфуцианства и даосизма, но могли быть из
них вычислены лишь в результате абстрагирования. Японская
эстетика существовала и развивалась в полном слиянии с прак-
тикой конкретных искусств. Ее сила состояла в близости, даже
неотделимости от непосредственно художественного творчества.
Трактаты по теории того или иного вида искусства сочетались
с практикой обучения методом «микики» (букв, «видеть и слы-
шать») в рамках устной традиции, передаваемой из поколения
в поколение путем непосредственного творческого контакта ма-
стера-учителя с учеником.
Однако японской художественной традиции была свойствен-
на оригинальная, по-своему необыкновенно развитая эстетичес-
кая «система», уходящая корнями во времена создания первых
поэтических антологий «Манъёсю» (760 г.) и «Кокинсю»
(922 г.). Эта «система» эстетических представлений японцев по-
25
степенно углублялась и обогащалась все новыми (либо новыми
интерфэетациями старых) понятиями прекрасного. Правда, ни
«система», ни ее «понятия» не были таковыми в европейском
понимании, поскольку были лишены логической четкости и оп-
ределенности. На протяжении веков они зиждились скорее на
метафорах и иллюзиях, нежели на дефинициях и рассуждениях,
и апеллировали скорее к интуиции и чувству, нежели к логике
и рассудку.
Однако в «рациональную» эпоху Мэйдзи систематичность и*
логика стали требованием времени, поэтому японская эстетика
необходимо должна была выйти на стезю строгого рассуждения
о прекрасном, выйти за рамки практики конкретных искусств и
таким образом последовать по стопам западной философской*
эстетики. Постепенно сформировалось философское направле-
ние и в японской эстетике.
Последняя четверть XIX в. в Японии стала периодом серь-
езного «философского» изучения западного искусства и литера-
туры. Показательно появление в 1885 г. программного трактата
«Сокровенная суть сёсэцу», с которым выступил известный пи-
сатель Цубоути Сёё (1859—1935). Цубоути «объявил искусство
самостоятельным эстетическим феноменом, выделив его в осо-
бую область духовного опыта. Но тем самым Сёё нарушил тра-
диционный взгляд на искусство как не-искусство, нарушил связь,
вещей по принципу интердиффузии всего во всем»5, характер-
ную для японской художественной традиции. Трактат Цубоути
свидетельствовал о переоценке «в западном духе» роли и пред-
назначения искусства в Японии. Аналогичные процессы проис-
ходили и в сфере живописи, где противостояние художественных
традиций Японии и Запада предстало особенно отчетливо.
Характеризуя духовную жизнь эпохи Мэйдзи, советский ис-
следователь Т. П. Григорьева верно отмечает, что «Япония про-
шла путь европейской истории за несколько десятилетий, что
привело к сосуществованию того, что в европейской литературе
развивалось в последовательном порядке»6. Та же «многослой-
ность» была характерна и для эстетического освоения действи-
тельности этого периода, когда в Японии параллельно развива-
лась как традиционная искусствоведческая, так и вновь создан-
ная философская эстетика. Последняя, правда, почти до второй
мировой войны существовала в виде комментирования философ-
ско-эстетических концепций Запада. Чтобы такое комментирова-
ние «имело хождение» в кругах мировой философско-эстетиче-
ской мысли, японским ученым нужно было освоить соответст-
вующую философскую терминологию, нужно было научиться го-
ворить «на философском языке», «двигаться в одной системе ко-
ординат» с Западом. С этой целью первые эстетики Японии за-
нялись созданием новой терминологии, которая легла в основу
японской философско-эстетической науки и продолжает исполь-
зоваться ею и по сей день. Создание новой терминологии сопро-
вождалось попытками соотнесения составляющих ее понятий с*
26
понятиями традиционной эстетики, что привело к образованию
целого направления в эстетических исследованиях.
Существует еще одно немаловажное обстоятельство, позво-
ляющее относить период рождения японской эстетической нау-
ки к эпохе Мэйдзи. Именно в это время произошло организаци-
онное оформление эстетики как самостоятельной области науч-
ного знания, когда на базе философских факультетов импера-
торских университетов Токио и Киото — крупнейших учебных
и научных учреждений страны — были сформированы исследо-
вательские центры по эстетике. Токийский Институт эстетики
был основан в 1893 г., шесть лет спустя начал работать анало-
гичный институт в Киото. Сам факт создания подобных центров
можно считать историческим событием не только потому, что
они явились учреждениями совершенно нового типа в Японии,
но и потому, что они стали единственными в мире научными
заведениями такого рода. Лишь в 1919 г. в Париже на базе
Сорбонны открылся первый в Европе Институт эстетических
проблем.
В 20-е годы в Японии процветали идеалистические формы
философии, и в первую очередь «академическая философия»
Киотоского университета. В основу «академической философии»
легло неокантианство, а ее главным теоретиком был Нисида
Китаро (1870—1945). В творчестве Нисида, отмеченном попыт-
ками совместить установки национальной духовной традиции с
элементами европейской философской мысли, эстетические
взгляды впервые оказались не растворенными в искусствовед-
ческих рассуждениях, но явились частью оригинальной фило-
софской концепции 7.
В начале 30-х годов Япония вступила в так называемый «пе-
риод мрака» («анкоку дзидай»), когда во всех областях зна-
ний стали насаждаться национал-шовинистические установки.
Эта тенденция достигла апогея в годы второй мировой войны.
Работы тех лет, касающиеся эстетической проблематики, «дока-
зывали» духовное превосходство азиатского, особенно японско-
го, искусства над любым другим. В послевоенные годы национа-
листические мотивы обнаружились в сочинениях писателя Ми-
сима Юкио (1925—1970). Эстетическим кредо Мисима стала ра-
бота «Кинкакудзи» («Золотой павильон», 1956 г.), написанная
под сильным влиянием Шопенгауэра. Будучи ярым сторонником
японского национализма, Мисима всячески подчеркивал избран-
ность и японского искусства как проявления некоей надчелове-
ческой, божественной сущности и призывал использовать его в
нолях воспитания «истинных самураев» из числа молодежи8.
Начиная с 60-х годов японская эстетика переживает период
бурного роста как в количественном, так и в качественном от-
ношении, продолжающийся и по сей день. В настоящее время в
среде японских исследователей наблюдается оживленная поле-
мика вокруг феномена национальной художественной традиции.
Чрезвычайно актуальна и проблема генезиса японского эстети-
27
ческого сознания. Изучая его, ученые-эстетики занимаются си-
стематизацией эстетических идей прошлого. При этом художест-
венное наследие рассматривается не в качестве простого конгло-
мерата подобных идей, а как достаточно стройная система
взглядов, в лоне которой решались общеэстетические и мировоз-
зренческие проблемы. Эстетики и искусствоведы Японии обра-
щаются к своим коллегам на Западе с призывами подвергнуть
переоценке значение и. достижения восточной эстетической мыс-
ли, справедливо считая существующие академические курсы
эстетики неполными и несовершенными, основанными на исполь-
зовании лишь западной методологии. По мнению крупнейшего
современного эстетика Имамити Томонобу, эти курсы даже в
университетах Японии ориентированы в первую очередь на до-
стижения западной эстетической мысли и формируют неверное
представление о «слабости» и «неразработанности» эстетических
взглядов на Востоке9. С Имамити солидарен и другой видный
ученый — Уэда Макото.
Современные японские эстетики по-своему трактуют то об-
стоятельство, что западная эстетика практически до сегодняш-
него времени базировалась на философских теориях Запада.
Использование буржуазной методологии и привлечение в каче-
стве иллюстративного материала произведений преимуществен-
но западного искусства вело к совершенно необоснованной гене-
рализации мирового искусства в целом, всех эстетических цен-
ностей, сформированных в человеческом обществе. Однако
японские ученые считают: такое положение сложилось не толь-
ко в результате инертности Запада в отношении восточной ху-
дожественной традиции, но и вследствие ряда объективно суще-
ствующих трудностей, стоящих перед исследователями япон-
ской эстетической мысли. Эти трудности заключаются в том,,
что в истории японской культуры отсутствовало то «промежу-
точное звено», способствующее художественному освоению дей-
ствительности, которым являлись на Западе эстетические тео-
рии как конкретизированные философские системы. Подобное
понимание различий между японской и западной традициями
эстетической мысли содержит как верное обобщение реально-
утвердившихся подходов в современной западной и японской
эстетике, так и простое повторение свойственной этим подхо-
дам абсолютизации исторических особенностей становления
эстетики на Западе и в Японии. Сторонники подобной генерали-
зации не учитывают тот факт, что в европейской эстетической
мысли, как и в японской, на определенном этапе эстетические
положения содержались в неявном виде в ранних историко-куль-.
турных памятниках и что, в свою очередь, японская эстетиче-
ская мысль на известном этапе пришла к формированию собст-
венно эстетических доктрин и концепций. Вероятно, особен-
ностью развития эстетики в Японии можно считать то, что за-
вершение этого процесса происходит еще и в наши дни.
Именно в таких условиях и развиваются во многом плодот-
28
верные сами по себе тенденции, связанные с попытками рекон-
струировать японскую эстетику как философскую дисциплину,,
как концептуальную систему.
Однако курсы по эстетике, читаемые сегодня в японских уни-
верситетах, продолжают основываться на принципах западной
буржуазной эстетической науки. Приложение подобных фило-
софских'схем к истории эстетической мысли Японии дает, есте-
ственно, неадекватную картину ее реального генезиса. Вряд ли
японское художественное наследие может интерпретироваться
путем навязывания ему абстрактных схем в рамках философско-
эстетической методологии Запада. В результате подобного схе-
матизма могут лишь продуцироваться искусственные аналогии'
с концепциями западной эстетики, мало что дающие как для по-
нимания действительной истории японского эстетического созна-
ния, так и для выяснения общеэстетических закономерностей
Востока и Запада 10.
Тем не менее в нынешней Японии предпринимаются усилия
для создания такого философского обоснования эстетики, кото-
рое бы не противоречило сущности японской художественной
традиции. Ученые, ставящие перед собой подобную задачу, не
просто вычленяют и интерпретируют эстетические понятия япон-
ского духовного наследия, но рассматривают их в общекультур-
ном контексте — как специфическое проявление ценностного от-
ношения японцев к миру, т. е. создают эстетическую теорию как
мировоззренческую.
Характерным примером могут служить работы Имамити То-
монобу, посвященные проблеме аутентичного развития японской
эстетической мысли. Поиск Имамити «чистой», «рафинирован-
ной» японской эстетической самобытности таит в себе опасность
признания вечности и неизменности понятий, воплощающих эту
самобытность. Однако заслуга Имамити в том, что он аргумен-
тированно опровергает европоцентристскую точку зрения, отри-
цающую наличие «полноценной» эстетики на Востоке.
Интересный поиск в сфере японской эстетики ведет другой
современный ученый — Нисида Масаеси. В своей фундаменталь-
ной работе «Нихон би-но кэйфу» («Генеалогия японского пони-
мания красоты», 1979 г.) он рассматривает истоки японских тра-
диционных категорий «моно-но авараэ», «саби», «югэн» и др., а
также границы их функционирования в сфере искусства н. Ни-
сида подробно анализирует последствия влияния экономических
и социально-политических условий на процесс становления тра-
диционных видов японского искусства и формирования в их нед-
рах эстетических категорий, подходя, таким образом, к япон-
ской эстетике с исторической точки зрения.
Что касается исследований известного эстетика Уэда Мако-
то 12, то он также рассматривает японские эстетические катего-
рии исторически, в их изменчивости и движении. Уэда удается
показать, как с изменением мировоззренческих установок ме-
нялась и система эстетических ценностей и смыслов. По мне-
29-
яию Уэда, разработка и решение подлинно эстетических проб-
лем японскими Древними и средневековыми эстетиками (мысли-
телями и художниками) неопровержимо свидетельствуют о на-
личии в истории духовной жизни Японии эстетической мысли,
вполне равноценной западной. Однако Уэда не избежал несколь-
ко прямолинейных трактовок, прежде всего неоправданно при-
писывая отдельным свойствам, характерным для японской эсте-
тической мысли древности и средних веков, исключительную
принадлежность только японской эстетической традиции и в
связи с этим отождествление ряда подобных свойств с сущ-
ностью японского эстетического мышления, якобы характерно-
го для японцев во все времена.
Если Уэда так или иначе указывает на общие закономер-
ности и исторические особенности в развитии эстетического со-
знания Японии, то такие ученые, как Идзуцу Тосико и Идзу-
цу Тоё, ставят перед собой задачу выявления «философских
структур, лежащих в основе японской культуры», причем они
идут по пути абсолютизации национально-особенного в разви-
тии японской эстетической мысли. Идзуцу стремятся показать,
каким образом понятия традиционной японской эстетики опи-
сывают некую особую реальность, служащую стержнем не толь-
ко эстетических, но и всех других воззрений японцев: религиоз-
ных, гносеологических, этических... Для этого наряду с катего-
риями буддийской философии и традиционной японской эстети-
ки они используют понятийный аппарат, выработанный несциен-
тистскими направлениями западноевропейской философии. Такое
использование имеет смысл в плане преодоления (или хотя бы
попытки преодоления) дихотомии «Восток—Запад» в отноше-
нии культурных традиций, ибо предоставляет возможности для
некоторой отстраненности, «выхода» этих эстетиков за рамки
чисто восточной «метафизики» 13. Иной вопрос, что данная по-
пытка опирается на идеалистическую философию и выводит со-
держание японской культурной традиции из определений инди-
видуального сознания, обнаруживая в конечном счете крен в
сторону того, что в западной философии называется субъектив-
ным идеализмом.
Плодотворное стремление современных японских эстетиков
дать теоретико-философское обоснование национальному худо-
жественному наследию ведет в тех случаях, когда речь идет о
работах представителей буржуазной эстетики, к использованию
теоретического опыта и идей наиболее близких им концептуаль-
но направлений западной философской <мысли. На нынешнем
этапе в качестве образцов здесь выступают феноменология и
экзистенциализм. Однако заимствуя опыт этих философских
учений, японские исследователи заимствуют и присущие им, как
и всяким идеалистическим теориям, слабости и противоречия. ,
1 В течение 1542—1639 гг., вплоть до так называемого «закрытия стра-
ны» («сакоку»), японцы общались с португальскими н датскими купцами И
30 I
миссионерами. Однако связи эти носили поверхностный характер, были спо-
радическими и не повлекли за собой глубоких изменений в японской культуре
(«Христианский век» в Японии. К проблеме взаимодействия национальных
культур.— Человек и мир в японской культуре. М., 1985, с. 118—134).
2 Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М., 1979,
с. 315—316.
3 Там же.
4 Козловский Ю. Б. Современная буржуазная философия в Японии. М.,
1977 с. 60.
3 Григорьева Т. П. Японская художественная традиция, с. 313.
6 Там же.
7 См.: Нисида Китаро. Гэйдзюцу то дотоку (Искусство и мораль).—
Нисида Китаро. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 3. Токио, 1965.
8 Мисима Юкио. Вакаки самураи-но тамэ-ни (Молодым самураям). То-
кио, 1969, с. 6.
9 Имамити Томонобу. Тоё-но бнгаку (Эстетика Востока). Токио, 1980,.
с. 1—4.
10 См.: Ямамото М. Тосэй гэйдзюцу сэйснн-но дэнто то корю (Духовные
традиции искусств Востока и Запада и их взаимовлияние). Токио, 1966; Би-но
сисо (Концепции прекрасного). Токио, 1972.
11 Нисида Масаеси. Нихон — би-но кэйфу (Генеалогия японского понима-
ния красоты). Токио, 1979, с. 28.
12 См.: Ueda М. Literary and Art Theories in Japan. Cleeveland, 1867.
10 Izutsu Toshiko, Izutsu Toyo. The Theory of Beauty in classical Aethetics
of Japan. The Hague — Boston — London, 1981, с. IX.
Г. Б. Навлицкая
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЯПОНСКОГО ГОРОДА
(70—80-е годы)
Проблемы развития современного японского города сложны
и многоплановы. Это давние и, как показала практика, трудно-
разрешимые городские коллизии: хронический жилищный кри-
зис, углубленный чрезмерной концентрацией населения и про-
мышленности, территориальная неорганизованность и растяну-
тость застройки и в связи с этим несоответствие транспортного
обслуживания условиям и потребностям растущего города, на-
конец, рост экологического загрязнения.
Среди многих попыток решения проблем стихийно развиваю-
щегося, лишенного планов градостроительства за последние де-
сятилетия стали известны попытки целевого создания новой
экологической системы города на основе реконструкции струк-
туры (морфологии) старого города или формирования нового.
В 60-е годы группа архитекторов-метаболистов сделала по-
лытку теоретически и практически обосновать пути развития
японского города в надежде архитектурно-градостроительными
методами разрешить социальные коллизии. Суть их теории за-
ключалась в системной архитектурной организации как города
® целом, так и каждого входящего в него отдельно взятого со-
оружения. Метаболистическое «дерево» с мощным «стволом»,
•образованным транспортными артериями, создание грандиозных
«метаструктур» и объединение городов в огромный урбанизиро-
ванный массив (мегалополис) представлялось этим архитекто-
рам формулой оптимальных социальных и физических парамет-
ров городского образования, созданием системы, с помощью ко-
торой можно будет преодолеть кризис города.
Однако в действительности метаболический лозунг «Не бо-
яться роста города, идти ему навстречу!» очень скоро обнару-
жил неправомерность оптимистического восприятия роста горо-
да как самоценности. Осуществлявшееся в соответствии с этим
лозунгом формирование девяностомиллионного мегалополиса,
завершение которого намечалось на 1985—2000 гг., уже в июле
1970 г., в результате быстрого развития промышленности, при-
вело ко II стадии засорения окружающей среды в Тихоокеан-
32
ском промышленном поясе, следствием чего было отравление в
Токио и его окрестностях нескольких тысяч человек. Примерно
с конца 60-х годов идея создания мегалополиса, как и вся мега-
лопслитическая концепция, стала терять свое влияние на градо-
строительную практику страны. Градоформирующим фактором
все более активно становится государственная политика регио-
нального развития, в которой к началу 80-х годов отчетливо
стала выступать ориентация на средний и малый город.
Первоначальные наметки этой политики проявляются уже в
«Новом плане комплексного экономического развития 1969 г.»,
где в противовес мегалополису выдвигаются «зоны широкой ак-
тивности», которые должны были противостоять развитию сверх-
концентрации промышленности и населения прежде всего в Ти-
хоокеанском поясе. Такой кардинальный поворот был вызван
тем, что к этому времени город, как условия жизни и высоко-
производительной трудовой деятельности, как полноценная эко-
логическая среда, оказался на грани острейших социальных
противоречий. Многомиллионный город, тем более формирую-
щийся мегалополис, с огромным скоплением населения, засоре-
нием среды, все возрастающим социально-психологическим
прессингом урбанизации, в значительной мере становился угро-
зой нормальному воспроизводству рабочей силы.
В то же время государственная политика в области образо-
вания и воспитания японца, использование религиозных воззре-
ний, целый комплекс теорий (об особом «коллективизме» япон-
цев, «семейных» отношениях на предприятиях, о «ценности жиз-
ни», о «самоусовершенствовании» и т. д.) призваны сегодня со-
действовать не только стабильности капиталистического строя,
но и непрерывному повышению производительности труда.
В этих условиях все более важным для правящих кругов стало
сохранение социального климата, определяющего успехи высоко-
индустриальной страны и места, занятого сю в капиталистиче-
ском мире.
Огромное внимание, уделяемое данной проблеме правящими
кругами страны, объясняется прежде всего тем, что за послед-
ние 10—15 лет под влиянием буржуазного Запада, а также ме-
няющихся условий жизни происходит болезненная и все уско-
ряющаяся ломка традиций во всех сферах общественного бы-
тия. Развитие индивидуалистских, потребительских настроений,
изменение системы ценностей, разрушение традиционных сте-
реотипов социальной жизни оказывают сдерживающее воздейст-
вие на трудовую отдачу работников, часть которых не видит, как
прежде, главного смысла жизни исключительно в работе. Моно-
полистический капитал, рассматривающий город прежде всего
как условие воспроизводства рабочей силы, вынужден считать-
ся в своей градоформирующей политике с этими серьезными из-
менениями в социальной обстановке. Политика регионального
развития, после отказа от ориентации на мегалополис, должна
была учитывать всю широту и многообразие процесса урбани-
3 Зак. 324 33
зации, включая перспективы развития провинциальных городов,,
типологически и функционально отличающихся друг от друга.
До последнего десятилетия формирование среднего и мало-
го города сохраняло элементы естественного, стихийного развит
тия, отражающего традиционный характер системы расселения..
Развитие же крупного, как правило, многофункционального го-
рода определялось уже сложившейся интернациональной мо-
делью. Для нее характерны многоэтажное (а в последние годы,
высотное) строительство делового центра, формирование микро-
районов за счет государственного, муниципального и фирменно-
го строительства, постепенно ликвидирующего массив жилых де-
ревянных кварталов, жилое кооперативное строительство с ис-
пользованием новейшей технической оснащенности в окраинных
районах города. Наконец, вокруг крупного города складывалась,
система экономически тяготеющих к нему городов-спутников,
также имеющих застройку западного облика. И крупный город,,
и его спутниковая система, как правило, обнаруживают сегод-
ня активно идущий процесс синтеза интернациональных, на-
циональных и региональных явлений в культуре. Это четко про-
является как в формообразовании современной архитектуры го-
рода, так и в ее общей стилевой характеристике. При этом зна-
чительные изменения претерпели как технология строительства,,
конструкции и материалы, так и в целом архитектурное проек-
тирование отдельного здания и города, в котором значительную^
роль стали играть научно-рационалистические приемы. То, что
раньше рассматривалось как чисто технические средства, теперь,
стало частью художественной культуры, нередко очень ярко и
образно интерпретирующей национальное своеобразие традици-
онного японского строительного наследия.
Это дало основания сделать вывод, встречающийся на стра-
ницах западной печати, что в результате длительного и много-
планового взаимодействия культур Востока и Запада найдена;
оптимальная перспектива развития городского образования
Японии, морфологическая система, создавшая базу разрешения-
социальных коллизий, что закономерные потребности развиваю-
щегося современного города высокоразвитой индустриальной^
страны сделали необходимым как многоэтажное строительство,,
в том числе и жилое, так и интернациональные стандарты быта..
Таким образом, признаются необходимость и правомерность пол-
ной модели города.
Однако в действительности процессы, идущие в современном,
японском городе, гораздо сложнее. Большим городом с его скла-
дывающейся интернациональной моделью не исчерпывается объ-
емность процесса урбанизации. Есть города средние и малые, ко-
торые по характеру социальной и физической структуры, как-
уже упоминалось выше, в большинстве своем еще традицион-
ны. Но и при том, что идет изменение морфологии города, вряд,
ли приемлемо видеть в этом завершение диалога между тради-
ционным и интернациональном в культуре, тем более признание:
34
победы последнего. ПсихолбгйчёсКйй стереотип организации жи-
лища одинаков как у японца, живущего в крошечной квартирке
«апато», так и у жителя многокомнатных кооперативных квар-
тир или частных, построенных в национальном стиле особняков,
усовершенствованных техническими достижениями века. Основа
различия здесь классовая, а не в том, что западные стандар-
ты завоевали большую предпочтительность. К тому же этому
противостоянию национального и интернационального, укрепле-
нию традиционных жизненных стандартов в последние годы
активно содействует правительственная политика реклами-
рования японского общества как образца для подражания раз-
вивающимся странам. Здесь прослеживается откровенная попыт-
ка навязать японскую «культурную модель» странам Юго-Во-
сточной Азии и даже объявить ее «годной» для высоконндуст-
риальных стран Запада.
Сегодня правительственная политика в области градострое-
ния особенно активно использует все разнообразие традиционно-
го наследия для разрешения социальных проблем. Не послед-
нее место в этой области занимает обращение к исследованию
давних стереотипов физической структуры города. В современ-
ных проектах формирования морфологии города закладывается
двойная цель: с одной стороны, они должны обеспечить благо-
приятные условия для воспроизводства высококвалифицирован-
ной рабочей силы, а с другой — воссоздавать разнообразные ме-
ханизмы социального контроля, свойственные старому городу.
В этих проектах отчетливо просматривается попытка конструи-
рования на традиционных принципах некоего «социального со-
дружества», «социальной гармонйи» («ва»).
В последние годы активное стремление препятствовать воз-
никновению социальной разобщенности в новых районах приве-
ло к попыткам реконструкции на современной основе традици-
онных форм физической и социальной организации японского го-
рода и деревни. Примером может служить проект восстановле-
ния в новых городах компактного жилого блока-квартала вмес-
то схемы микрорайонов со свободной планировкой. Согласно
такому проекту, шесть двух-трехэтажных домов (по три напро-
тив друг друга) образуют замкнутую систему (муко сан рёдо-
нари), фактически восстанавливающую практику создания «со-
седства», пространства социальной активности (кайвай), харак-
терную для старого города. Неформальным, межличностным
отношениям отводится значительная роль в организации жизнен-
ной практики внутриквартальной единицы. Так, предполагает-
ся, что в замкнутой системе (муко сап рёдонари) можно воспроиз-
вести практику воспитания молодого поколения, характер'ную
для большой феодальной семьи «иэ»: в такой городской общ-
ности несколько семейных пар поочередно .могут присматривать
за детьми.
Здесь делается расчет и на то, что в коллективной атмосфе-
ре будет успешнее проходить социализация ребенка. Фактиче-
3* ' 35
ски речь идет о стремлении внести определенные коррективы по-
ведения, добиться еще большей лояльности, полной идентифика-
ции (маругакаэ) с целями и задачами государственной полити-
ки. Делается расчет на то, что одинаковые требования, идентич-
ная система идеалов и мотиваций при постоянном социальном
контроле в жизненной практике должны привести к формирова-
нию личностей, способных и готовых осуществить определенный,,
нужный государству тип этических связей между индивидами и
обществом.
Таким образом, подобные проекты новой морфологии горо-
да — это ориентация на воспитание молодого поколения с от-
сутствием аутсайдеров, лиц, стоящих на социальной обочине,
вне системы закрепления неразрывными связями с группой и
групповым мышлением. Используются в этих проектах органи-
зации пространства квартала, города также разнообразные ви-
ды старой застройки, типы крестьянских домов (минка). кре-
стьянских равнинных и горных усадеб (например, ямато мунэ
дзукури).
Разнообразные формы пространственной организации, харак-
терные для традиционного городского образования, использова-
лись при реконструкции провинциальных городов, расположен-
ных вокруг Осака и Кобэ (Масай, Такасаго, Какогава, Каваси-
ни и др.).
Но наиболее серьезное вмешательство в судьбы малого и
среднего города как жизненной среды трудовых ресурсов пред-
полагают правительственные программы экономического и ре-
гионального развития, представляющие одновременно попытку
регулировать процесс урбанизации в масштабах страны. В
«Плане экономического развития на 1979—1985 гг.» значитель-
ное место было уделено перспективам развития городов. В нем
впервые появляется термин «тэйдзюкэн», который комменти-
руется составителями как «интегрированная территория». Тэй-
дзюкэн — это проект деконцентрации агломераций, создание про-
тивовесов им в виде активно и автономно развивающихся ре-
гиональных зон.
В основе предложений японских органов планирования —
комплексное развитие каждой префектуры с ориентацией на ее
историческое своеобразие, специфику экономических и демогра-
фических процессов, в расчете на обеспечение занятости в пре-
делах префектуры и, следовательно, сокращение миграционного
оттока из нее. Предполагается, что активизация жизни пре-
фектуры создаст целую иерархию городских центров различно-
го функционального назначения, в которых будут осуществлены
как разработка приемов и методов сохранения стремительного
движения к грандиозному мегалополису, так и историческая
преемственность в формировании города, попытка на базе сред-
него и малого городского образования сохранить традиционный
город.
Однако опыт предыдущих планов свидетельствует об ограни-
36
ченных возможностях государственного регулирования экономи-
ки в условиях господства монополистического капитала.
Действительность уже сегодня обнаруживает значительные
трудности в реализации подобных планов. Так, преф. Ямагата,
«лицом» которой являлось разнообразное традиционное произ-
водство, оказалась в последние годы, вследствие начавшегося
здесь строительства предприятий химической промышленности,
на пороге возникающей промышленной зоны. Район Нара—На-
гоя, сложившаяся с древности сокровищница культурно-истори-
ческих ценностей нации, в последнее десятилетие превратился в
огромную промышленную агломерацию с населением более
8 млн. Район Кинки постепенно превращается в единый урба-
низированный массив с двумя центрами тяготения — Осака и
Кобэ. По данным переписей населения 1975 и 1985 гг., в этих
префектурах осталось всего несколько населенных пунктов,
имеющих статус «мура» (деревня) и «мати» (небольшой го-
род). Судьба их подобна судьбе других «мура», находящихся в
зоне тяготения агломерации. Это ориентация на развитие агро-
промышленного комплекса и, как правило, дальнейшее превра-
щение в городское образование, профиль, функциональный ха-
рактер которого определяет центр агломерации. Этому содейст-
вует Закон о формировании городов (1980 г.), позволяющий
объединять несколько населенных пунктов. Ряд городов в райо-
не Кобэ и Осака возникли совсем недавно на базе слияния не-
скольких деревень и маленького городка.
Статистические материалы последних десятилетий, и преж-
де всего переписей, обнаруживают в центральной Японии не
только активно идущий урбанизационный процесс. Агломерации
расширяются и захватывают все новые территории с высокой
плотностью.
Создание «интегрированных территорий» не может в этих ус-
ловиях привести к исчезновению огромных агломераций, кото-
рые уже сейчас концентрируют многомиллионные массы насе-
ления (только территория между Осака и Токио сосредоточи-
вает 80% населения страны).
В то же время распространение на новые районы стереоти-
пов социальной жизни и морфологической структуры промыш-
ленных зон вполне очевидно. Кроме того, можно полагать, что
большой город, складывавшийся в течение длительного времени
как центр культуры и активной социальной жизни, не потеряет
ни своей социальной притягательности (по крайней мере, в обо-
зримом будущем), ни политической и экономической значимости
в масштабе всей страны.
Таким образом, развитие крупного города показывает, с од-
ной стороны, глубину и активность развивающегося процесса
культурного синтеза, взаимодействие интернационального и тра-
диционного, с другой — изменение генетического кода, смену мо-
дели.
Но если перспективы крупного города вырисовываются сей-
37
час с достаточной полнотой, то не менее очевидным является и
тот факт, что в развитии урбанизационного процесса, так же
как и в общих судьбах страны, серьезную роль начинают иг-
рать средний и малый город.
Перспективы развития этих городских образований в значи-
тельной мере определяются действием градоформирующих фак-
торов политического характера. В программе формирования
тэйдзюкэн фактически самое значительное место в последние
годы занимает создание технополисов — сравнительно неболь-
ших промышленных районов, концентрирующих (уже сейчас
или в будущем) ультрасовременные (сверхновейшие) отрасли
промышленности. Выделено 14 районов, где складываются буду-
щие технополисы.
В японской прессе получил широкое распространение термин
«матидзукури» (создание городов), отражающий процесс фор-
мирования, в том числе и морфологической структуры, новых
городских образований. В каждом отдельном случае здесь оче-
видна ориентация на местные условия, но вместе с тем уже
проявились и общие тенденции: центрами тяготения (базовой
системой), как правило, оказываются местные крупные города:
префектуральные или торгово-промышленные центры. Опорой
же формирования такого индустриального района становятся
средние и мелкие города и деревни. Например, технополис в
преф. Вакаяма включит десять «мати» и несколько «мура», тех-
нополис в преф. Хего формируется на основе четырех крупных
городов, 21 «мати» и нескольких деревень. Кардинально меняет-
ся судьба этой группы городов: размещение в них наукоемкого
производства, научно-исследовательских институтов, широкое
развитие инфраструктуры приводит к значительному изменению
как их морфологии, так и социального состава.
Идет уничтожение традиционной системы расселения. Об-
разцом становится застройка новых городов — спутников Токио,
Осака, Кобэ (Порт-Айленд, Порт-таун и др.) с многоэтажным
строительством и современными планировочными решениями.
Традиционное здесь вводится лишь в виде отдельных вкрапле-
ний: коммерческих сооружений, зданий сферы услуг, а также за-
стройки дорогостоящих индивидуальных домов в национальном
стиле.
Программа формирования тэдзюкэн имеет целью не только
Деконцентрацию агломераций, но и определяет фактически па-
раметры будущего среднего и малого города. Однако реализа-
ция программы, особенно в связи с планами организации тех-
нополисов, выявляет противоречивую перспективу: не столько
Рассасывание сложившихся агломераций, сколько их «выращи-
Нание> в НОвых Районах. С одной стороны, это попытка проти-
ропоСтавить сти?<ийному, неуправляемому расползанию индуст-
£ЯадЬнЫх райоН°Р их плановое размещение, с другой — распро-
«Ра11ение промР*11,Леннь1х массивов и стереотипов деловой и
*ченной праг ики Урбанизированных территорий в глубин-
ные районы страны, как правило во многом еще сохранившие
специфику традиционного морфологического и социального
уклада.
В этих условиях именно осуществление правительственных
программ урбанизации будет определять, как в общем процес-
се, так и в каждом отдельном случае, насколько среднее и ма-
лое городское образование сумеет сохранить традиционный ха-
рактер (социальную и морфологическую структуру). Технопо-
лис в этом случае представляет дальнейшую трансформацию
как физической, так и социальной системы города, на основе ко-
торого он будет формироваться. Критерии, выработанные мини-
стерством внешней торговли и промышленности для районов,
участвующих в проекте «Технополис», строго ограничивают и
размер территории будущего города (130 тыс. га) и количество
населения (150 тыс. человек). Оговаривается также, что все
производства, учреждения и бытовые службы должны быть
расположены не далее чем в 30 мин. езды от центра. Следова-
тельно, 'морфология такого города и городов-спутников долж-
на быть идентичной. Наличие производств, в основном пред-
приятий наукоемкой промышленности, предполагает застройку
по стандартным, интернациональным схемам (промышленная зо-
на, микрорайон со смешанным многоэтажным строительством).
Социальная структура таких городов, префектуральных цент-
ров промышленной технологии, определяется потребностью в
высококвалифицированном, научно-техническом персонале, т. е.
формирование значительной доли населения будет идти'не
столько на основе местного населения, сколько за счет миграци-
онного потока молодых специалистов из крупных администра-
тивных центров национального или префектурального масшта-
бов. Отсутствие «грязных» производств, политика жестких эко-
логических регламентаций, активно осуществляемая в последние
десятилетия, рассчитаны на обеспечение здесь благоприятной
для жизни и работы среды.
В то же время экология социальной среды провинциального
города, в значительной мере характеризующаяся традиционными
видами деятельности, практически полностью уничтожается.
Идет также и углубление н усложнение процесса пролетариза-
ции окружающей технополис деревни, где работа на земле со-
ставляет все меньшую долю занятий крестьянина (80% их за-
нимает наемный труд). Растет смешанная, промежуточная зона
между городом и деревней. Следовательно, вслед за изменени-
ем характера большого города, правительственные региональ-
ные программы развития начали процесс решительной смены
модели среднего и мелкого города, «хранителя» на сегодня тра-
диционной социальной и физической структуры.
!
10. Д. Михайлова
НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЯПОНИИ
В ПЕРИОД ТОКУГАВА
(1603—1867)
В последние два десятилетия в мировом японоведении зна-
чительно возрос интерес к исследованию разных сторон жизни
японского общества периода Токугава. Существовавший долгое
время взгляд на этот период как на время застоя сменился
стремлением Найти в этом отрезке японской истории социально-
экономические и идейно-политические основы, которые в даль-
нейшем способствовали успешному и быстрому превращению
Японии в развитое капиталистическое государство. При этом
многие западные буржуазные ученые, сравнивая процесс разви-
тия Японии и Китая, утверждают, что японские традиции спо-
собствовали модернизации, тогда как китайские оцениваются
ими в качестве фактора, противостоявшего модернизации, пре-
пятствовавшего ей Подобное суждение нельзя воспринимать
однозначно, оно требует тщательного и детального анализа тра-
диций в каждом конкретном их проявлении. В настоящем сооб-
щении хотелось бы остановиться на некоторых традиционных
японских социально-политических концепциях, разрабатывав-
шихся японскими мыслителями в XVII—XIX вв.
Общественная мысль Японии периода Токугава характери-
зуется удивительным богатством и разнообразием. По выраже-
нию американских ученых Т. Надзита и И. Шайнера, в этом
плане ее можно сравнить с сунской философией в Китае или
эпохой Просвещения в Европе. Однако общие закономерности
развития общественной мысли Японии в период Токугава и ее
влияние на буржуазную Японию изучены еще недостаточно.
Традиционная японская историография при изучении общест-
венной мысли периода Токугава придерживается принципа де-
ления на школы. Выделяются три основные школы: китайских
наук (кангакуха), японских наук (кокугакуха) и голландских
наук (рангакуха) — в зависимости от ориентации на китайскую
или японскую классику либо на европейскую научную литера-
туру. В свою очередь, школа китайских наук охватывает также
большое число направлений, названия которых определялись в
40
зависимости от приверженности их представителен учениям тех
или иных китайских мыслителей, по месту возникновения шко-
лы или просто по имени основателя. Сложившееся на протяже-
нии многих десятилетий, это деление на школы стало привыч-
ным в научном обиходе и, бесспорно, имеет свои преимущества.
Оно позволяет раскрыть суть учений отдельных мыслителей,
входивших в ту или иную школу, комплекс идей, присущих дан-
ной школе в целом, сопоставить учения разных школ.
Вместе с тем нельзя не учитывать, что целый ряд мыслите-
лей, живших и творивших в период Токугава, не принадлежали
к какой-либо школе. Учения многих из них были весьма эклек-
тичны, представляли собой синтез идей как китайского, так и
японского происхождения. Наконец, представители разных
школ, принципиально по-разному решавшие одни вопросы, обна-
руживали сходство в решении других. Последнее обстоятельст-
во позволяет выделить некоторые общие проблемы и линии
развития социально-политической мысли периода Токугава,
Остановимся на двух из них.
Первая — это интерпретация институтов власти император»
и сёгуна, вторая — отношение Японии и японской культуры к
чужеземным цивилизациям. Обе проблемы в своей основе свя-
заны с древними синтоистскими представлениями о божествен-
ности и вечности императорской власти, о способности импера-
тора в силу .харизматических свойств оказывать благоприятное
воздействие на положение в стране, а также о превосходстве
Японии и японцев. На протяжении веков синтоистские представ-
ления превратились в своего рода «сквозные» идеи, высказывав-
шиеся в сочинениях отдельных японских авторов. Причем осо-
бый интерес к ним проявлялся в периоды национальных кризи-
сов, как, например, во время монгольского нашествия XIII в.,
реставрации Кэмму XIV в. и т. п.
Новый этап в интерпретации «сквозных» идей наступил в пе-
риод Токугава. В это время появилось большое число работ, ав-
торы которых рассматривали вопрос о том, кто является вер-
ховным правителем страны, император или сёгун, и каковы
взаимоотношения между ними. Официальная доктрина сёгуната
Токугава, разработанная конфуцианским ученым Хаяси Радзан
(1583—1657), гласила, что сёгун правит на основании получен-
ного им «мандата Неба», является верховным правителем стра-
ны, объектом «великого морального долга» со стороны поддан-
ных. Актом получения «мандата Неба» считались битва при
Сэкигахара (1600 г.) и захват Осака в 1614 г. Токугава Иэясу,
когда он разгромил последние остатки войск сторонников Тоёто-
ми Хидэёси. Хотя концепция «мандата Неба» оставляла без вни-
мания вопрос о положении императора, Хаяси Радзан не отвер-
гал основной тезис синто о божественности и вечности импера-
торской династии, подчеркивал, что японская императорская:
династия существует на протяжении 1.30 поколений, и видел в
этом ее отличие от правящих династий Китая. После Хаяси.
'41
Радзан лишь немногие японские мыслители рассматривали сёгу-
на как единственного законного правителя страны. К их чис-
лу относились Муро Кюсо и Огю Сорай. Большинство же стре-
милось теоретически обосновать абсолютный авторитет им-
ператора и в то же время придать прочную основу власти
сёгуна.
Так, Кумадзава Бандзан (1619—1691), японский последова-
тель учения Ван Янмина, считал, что объектом «великого мо-
рального долга» является император, и мотивировал это следу-
ющим образом. Он отождествлял три регалии императорской
власти с тремя конфуцианскими добродетелями: зеркало — с
мудростью, яшму — с гуманностью, меч — с мужеством. По мне-
нию ученого, их принадлежность императорскому роду, начиная
с прародительницы императорского рода богини Аматэрасу, обу-
словливает качественно иную природу императоров по сравне-
нию с другими людьми, что и позволило вывести народ Японии
из состояния варварства и невежества. Императорская дина-
стия, таким образом, представала как источник мира, гармонии
и цивилизации.
Кумадзава Бандзан был одним из первых мыслителей перио-
да Токугава, кто четко определил отношения между императе
ром, сёгуном и подданными. По его мнению, сёгун должен пока-
зывать феодальным князьям образец почитания императора, тог-
да и они будут оказывать ему соответствующее- уважение, а
все вместе приведет к стабильности общества. «Чтобы человек,
родившийся вне сферы цивилизации (т. е. сёгун), мог управ-
лять страной, он должен... почитать императорский двор и объ-
яснять всем, в чем состоит долг господина и подданных. Тогда
иарод, увидев это, будет также оказывать ему почтение» 2, —
писал Кумадзава Бандзан. Вывод, который делал мыслитель,
состоял в том, что император стоит на недосягаемой высоте, он
небесный правитель (тэнно) и как бы освобождается от реаль-
ной политической власти. В то время как сёгун, военный пра-
витель, не может подняться до положения императора, но обла-
дает реальной властью и является фактическим правителем
страны.
По существу, те же идеи, но несколько в иной интерпрета-
ции излагались Ямадзаки Ансай (1618—1682), учение которого
основывалось на синтезе конфуцианства и синто. Ямадзаки Ан-
сай считал, что император является наивысшим выражением
Г)еба, земли и человека. Однако он не «Сын Неба», как счита-
лось в Китае, а сам и есть Небо и потому достоин абсолютного
и безусловного почитания. В противоположность конфуцианской
идее о том, что правителем становится добродетельный человек,
Ямадзаки Ансай считал, что через три синтоистские регалии
власти добродетель передается от императора к императору, и
даже если император не был добродетельным до восшествия на
престол, с получением регалий он становится добродетельным.
Ученики Ямадзаки Ансай Такэноути Сикибу (1712—1767) и
42
Ямагата Дайни (1725—1767), развивая идеи учителя, впервые
поставили вопрос о возможности «реставрации» былого прести-
жа императора, за что были подвергнуты репрессиям со сторо-
ны сёгунского правительства.
Идея почитания императора занимает центральное место в
учении школы национальных наук, и прежде всего в работах
главы школы Мотоори Норинага (1730—1801). Его учение ос-
новывалось на абсолютной вере в синтоистскую мифологию. Он1
утверждал, что император достоин почитания в силу одного свое-
го божественного происхождения, независимо от добродетелей,
«В божественной стране со времен века богов установлено де-
ление на монарха и подданных, — писал он. — Монарх почи-
тается в силу его происхождения. Почитание основывается не
на добродетелях, а на происхождении. Человек низкого проис-
хождения, сколь бы добродетельным он ни был, никогда не смо-
жет занять место императора. Поэтому статусы императора и
подданных останутся неизменными на десять тысяч лет»3. Мо-
тоори Норинага был убежден, что всем японцам от рождения
свойственно чувство любви и почитания императора, более то-
го, что оно является основой их национального характера. Та-
ким образом, в его понимании власть императора гечна и безус-
ловна, в то время как власть сёгуна условна и, следовательно,
может быть упразднена, хотя сам Мотоори Норинага к этому
открыто не призывал. В целом можно сделать вывсд, что и уче-
ные-конфуцианцы, и представители школы национальных наук
признавали за императором лишь авторитет сакрального главы
государства, в то время как осуществление политических функ-
ций отводилось сёгуну.
Свое логическое завершение проблема интерпретации инсти-
тута императорской власти получила в учении поздней школы
Мито, сложившейся в первой половине XIX в. Ее представите-
ли Аидзава Сэйсисай (1782—1863), Фудзита Юкоку (1773—
1826) и Фудзита Токо (1806—1855) выдвинули тезис о том, что
император должен объединить осуществление религиозных це-
ремоний и управление страной (сэйсай итти), как это было в
древности (характерно, что одним из первых актов правитель-
ства Мэйдзи в области религии был указ от 13 марта 1868 г. о
единстве религии и политики). Аидзава Сэйсисай объявил, что
в Японии верность императору и почитание родителей, в сущ-
ности, одно и то же, поэтому все японцы представляют единую
семью во главе с богом-отцом императором, и это якобы сви-
детельствует о наличии в Японии специфической государствен-
ной сущности (кокутай), состоящей в особо прочных связях
между императором и народом.
Вместе с тем вплоть до периода бакумацу (1853—1867) вы-
движение требования почитания императора не было тождест-
венно требованию упразднения власти сёгуна. Переход от одно-
го требования к другому произошел лишь тогда, когда над Япо-
нией нависла угроза колониального вторжения западных дер-
43
экав. И национальный фактор, стремление сохранить независи-
мость страны, сыграл здесь определяющую роль. Чтобы понять,
почему национальный фактор оказался столь действенным в
формировании антисёгунских настроений, необходимо рассмот-
реть, каким образом на протяжении периода Токугава шло со-
зревание идеи национального превосходства Японии и концепции
«изгнания варваров».
Итак, вторая проблема: отношение Японии и японской куль-
туры к чужеземным цивилизациям. Националистические идеи
имеют глубокие исторические корни в Японии. Особенности эт-
ногенеза и географического положения страны, сравнительно
большая этническая однородность населения и одноязычность
культуры, специфика производства, весь ход исторического и
социального развития Японии привели к тому, что начиная с
древности японцы четко осознавали свою отделенность от дру-
гих народов Азии. Этноцентризм стал основой для зарождения
националистических тенденций. С исконно японской религией
синто связано формирование в сознании японцев представлений
об их исключительности, поскольку, по синтоистской мифологии,
японцы, в отличие от других народов мира, божественны по
происхождению.
В то же время в течение веков Япония подвергалась влия-
нию со стороны китайской культуры. Периоды активного заим-
ствования сменялись периодами усвоения, переработки воспри-
нятого. На XVII в. пришлась очередная волна восприятия и рас-
пространения китайской культуры, на сей раз в форме конфу-
цианства. Многие мыслители видели в Китае объект для
поклонения и образец для подражания. Конфуцианство стало
официальной идеологией, господствующим идейным течением,
регулятором общественной жизни токугавской Японии.
Однако уже во второй половине XVII в. стала появляться и
противоположная тенденция — стремление к превознесению и
возвеличиванию всего японского. Усилился интерес к синто, к
древней японской литературе и истории. На этом фоне и стали
появляться идеи превосходства Японии. В сочинениях уже упо-
минавшегося Кумадзава Бандзан достаточно ясно был выра-
жен пиетет по отношению к императорской династии и к самой
Японии: «Поскольку наша страна находится под покровительст-
вом богини Солнца, — писал он, — она называется Нихон
(здесь—«Корень Солнца».— Авт.). Наша страна — основа всех
стран, источник всех земель» 4.
Националистическую окраску носило учение представителя
школы древнего конфуцианства Ямага Соко (1622—1685).
В своих сочинениях по отношению к Японии он употреблял тер-
мины «Тюгоку» (Срединное государство), «тюко» (срединный
двор), «тюка» (срединная культура), обычно относившиеся
только к Китаю. По мнению Ямага Соко, хотя «Путь совершен-
номудрых» и родился в Китае, лишь в Японии он соблюдается
должным образом. Ямага Соко выделял следующие доказатель-
44
<ства превосходства Японии над Китаем: непрерывность импера-
торской династии; Япония никогда и никем не была завоевана;
никто и ничто не превосходит Японию по следующим трем
добродетелям — мудрости, гуманности и мужеству; в Японии
всегда четко соблюдались пять норм отношений, и прежде все-
го отношения между императором и сёгуном как господином и
вассалом.
В учении Мотоори Норинага идеи божественности Японии и
ее императорской династии приобрели ярко выраженную анти-
китайскую направленность. Существование единой и непрерыв-
ной императорской династии Мотоори Норинага рассматривал
как доказательство превосходства японской государственности
над китайской. Синтоистскую идею божественного происхожде-
ния японцев Мотоори Норинага развил в концепцию о том, что
все японцы от рождения наделены «истинным сердцем» (маго-
коро), которое предполагает их естественную «хорошесть», врож-
денное знание социальных норм и обязанностей. Важнейшей из
них он считал почитание императора. По мнению Норинага, су-
ществование единой императорской династии позволяет япон-
цам сохранять их «истинное сердце», поскольку исключает борь-
бу за власть. Это также определяет превосходство японцев над
китайцами. В подобных особенностях внутренней природы и го-
сударственного устройства Норинага видел сущность «всего
японского» (Яматогокоро — букв, «сердце Ямато»), считал ее
неизменной на всем протяжении истории страны и определяю-
щей особенности развития Японии. Конечная цель рассуждений
Норинага состояла в том, чтобы развить и укрепить в сознании
японцев чувство превосходства над другими народами, прежде
всего китайцами, внушить своим соотечественникам мысль о
том, что все страны должны почитать Японию и относиться к
ней как вассалы.
Школа национальных (японских) наук отражала начальный
этап формирования национального самосознания в Японии, про-
ходившего в форме критики культуры Китая и стремления к
освобождению от китайского влияния. Идеи и деятельность
школы подготовили следующий этап в развитии национального
самосознания, принявшего уже форму противодействия давле-
нию со стороны западных держав и выражением которого ста-
ли концепции «изгнания варваров» и укрепления «кокутай».
Этот этап связан с деятельностью школы Мито.
Появление в японских водах западных кораблей, и особенно
инцидент 1824 г. (высадка экипажа английского судна на юж-
ном берегу о-ва Кюсю), послужило непосредственным толчком
к выступлению Аидзава Сэйсисай с работой «Синрон» (Новые
предложения). В ней Аидзава выражал опасения, что проникно-
вение в Японию иностранцев и иностранной культуры создаст
угрозу стабильности в стране: народ перестанет подчиняться
правителям своей страны и будет проявлять лояльность по от-
ношению к иностранцам. Представители школы Мито были не-
45
довольны тем, что сёгун не может поднять японцев на борьбу
с «варварами», организовать должный отпор им. С выражением
такого рода недовольства и связано зарождение антисёгунских
настроений.
Идеи школы Мито были развиты дальше Есида Сёин (1830—
1859). Сёин призывал к тому, чтобы все княжества, весь народ
вместе поднялись против иностранцев на защиту императорско-
го дома. Сначала он верил, что роль руководителя в этой борь-
бе возьмет на себя сёгун. В 1853 г. Есида Сёин писал: «Страна
принадлежит всему народу, она не является частным владением
правительства сёгуна. Поэтому, если иностранные варвары оск-
вернят какую-либо часть страны, правительство сёгуна должно
повести за собой всех князей, чтобы отомстить за позор, нане-
сенный стране. Только таким образом можно выразить предан-
ность императорскому дому» 5. Однако, после того как в 1858 г_
сёгунское правительство подписало договор с Т. Харрисом беа
одобрения императора, Есида Сёин открыто заявил, что «сёгун:
совершил преступление», поэтому «проведение в жизнь доктри-
ны почитания императора и изгнания варваров может стать [ е-
альным только в том случае, если существующее положение в:
стране будет изменено» 6.
По своей социальной направленности в целом учения мысли-
телей, о которых говорилось выше, отражали заинтересован-
ность их авторов в сохранении феодальных порядков, обеспечи-
вающих господство феодального сословия. Вместе с тем ряд
идей в их учениях (превосходство Японии и японцев, уникаль-
ность государственного строя и национального характера япон-
цев, единство императора и народа) импонировал различным
слоям японского общества, что создавало основу для формиро-
вания национального единства, консолидации сил, заинтересован-
ных в уничтожении сёгуната. Идеи школы национальных наук
пользовались особенной популярностью среди так называемого
слоя «сомо» (букв, «трава, то, что растет на земле»), к которо-
му относились купечество, зажиточное крестьянство, сельская
буржуазия. Школа Мито опиралась главным образом на низко-
ранговое самурайство. Как известно, именно эти слои сыграли
ведущую роль в осуществлении незавершенной буржуазной ре-
волюции 1867—1868 гг.
Анализ процесса развития концепций почитания императора
и изгнания варваров на протяжении периода Токугава позво-
ляет понять, почему буржуазная революция в Японии произо-
шла под эгидой идей не буржуазных, а традиционных по содер-
жанию. В данный исторический момент традиционные идеи сыг-
рали прогрессивную роль. Однако в дальнейшем с этими же
идеями было связано формирование наиболее реакционных черт
в политике и идеологии правящих кругов на всем протяжении
истории буржуазной Японии. В наши дни традиционные кон-
цепции почитания императора и превосходства Японии не толь-
ко открыто используются идеологами национализма и тэнноиз-
46
ма, но >и в сильно измененном виде они находят воплощение
в так называемых «теориях о японцах <и японской культуре»,
что является свидетельством их «живучести» в сознании япон-
цев.
1 Березный Л. А. Критика методологии американской буржуазной историо-
графии Китая. Л., 1968, с. 112.
2 Webb Н. The Japanese Imperial Institution in the Tokugawa Period.
N. Y—L„ 1958.
° Мотоори Норинага. Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 8. Токио,
1972, с. 153.
4 Цит. по: Earl D. Emperor and Nation in Japan. Seattle, 1964, c. 24.
299^CU^a Сёин- Дзэнсю (Полное собрание сочинений). Т. 1. Токио, 1938,
6 Есида Сёин. Дзэнсю. Т. 9, с. 330.
Д. П. Бугаева
К ВОПРОСУ О «САМОВЫРАЖЕНИИ» В ЯПОНСКИХ
МЕМУАРНО-АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
В истории японской документальной литературы нового вре-
мени отчетливо различаются два периода: до «революции Мэй-
дзи» (1867—1868) и после нее, когда проявились сильные тен-
денции к трансформации всех документальных жанров. Извест-
ные сейчас домэйдзийские мемуарно-автобиографические сочи-
нения конца XVII—первой половины XIX в. весьма немногочис-
ленны. Сам этот факт свидетельствует о том, что этот жанр был
в то время непопулярен в Японии. Не случайно авторы одного
из первых учебников по истории японской литературы, вышед-
шего в 1890 г., отметили: «На Востоке мало автобиографий».
Соображение о том, что ни политики, ни сёгуны, ни ученые, ни
писатели, которые могли бы обогатить отечественную литерату-
ру воспоминаниями, не понимали их значения для потомков, ду-
мается, можно исключить. Дело, по-видимому, в каких-то сло-
жившихся представлениях, особенностях мышления. Особую
роль играло отношение к описанию своей общественной жизни.
Если в Европе сферы жизни разграничивались скорее по прин-
ципу «высокое—низкое» («житейское»), то в Японии существо-
вали древние корни различия между «личным» («ситэки») и
«общественным» («котэки»). Общественная жизнь была строго
регламентирована, личность подчинялась интересам определен-
ного круга, группы, сословия, связана господством обязатель-
ной нормы. Освобождение личности от этой зависимости в Япо-
нии существенно затянулось по сравнению с Европой. «Самовы-
ражение» («дзико хёгэн»), когда в нем возникала внутренняя
потребность, обычно реализовывалось в сфере «личного». Ни
«личное» традиционно отражалось в личных дневниках, поэти*
ческих жанрах. Вероятно, поэтому в домэйдзийской литерату
ре продолжал активно развиваться традиционный жанр дневни-
ков и путешествий, в которых, по выражению Накамура Юки-
хико, «рассказывают о себе». В дневниках или стихах личности
с творческим потенциалом (воину, политику, общественному
деятелю) оставалась возможность высказаться с ощущением
внутренней свободы, найти отдушину, поверить мир своих
чувств. Ведь не случайно именно Японии свойственна столь вы-
48
сокая культура не только профессионального, но и любительско-
го стихосложения. Конечно, упрощенный схематизм в представ-
лении о соотношении личного и общественного совершенно не-
уместен. Из этого соотношения нельзя исключить их взаимопро-
никновение, переплетение, что и рождало подчас в любитель-
ском стихосложении крайнее напряжение чувств.
Нельзя не признать, что невозможность свободного самовы-
ражения являлась своего рода препятствием для развития ме-
муарно-автобиографического жанра, который в домэйдзийскую
эпоху не обрел традиций и устойчивой формы. Подтверждение
этой мысли мы находим и в тех немногих сочинениях, которые
могут дать хотя бы общее представление об особенностях их
существования в японской литературе. «Записки в изгнании»
(«Хайсё дзампицу», 1683 г.) Ямага Соко, «Записки, навеянные
хворостом, который подбрасывают в очаг» («Оритаку сиба-но
ки», 1716) Араи Хакусэки, «О себе» («Угэ-го хитогото») Мацу-
дайра Саданобу, «Начало голландоведения» («Рангаку котохад-
зимэ», 1814 г.) Сугита Гэмпаку, «Письменное прошение об от-
ставке» («Тайэки гансёко», 18?38 г.) Ватанабэ Кадзан— все эти
произведения были созданы в сходных обстоятельствах. Они
принадлежат людям разного общественного положения: Ямага
Соко — философ, Араи Хакусэки — историк и государственный
деятель, Мацудайра Саданобу — первый министр, Сугита Гэм-
ааку — ученый, Ватанабэ Кадзан — художник. Но их авторы
взялись за воспоминания, когда все они по разным причинам
оказались не у дел: в изгнании, в ссылке, в отставке.
Можно усмотреть закономерность в том, что потребность по-
делиться своими мыслями, воспоминаниями обостряется, когда,
люди оказываются отторгнутыми от общественной деятель-
ности, утрачивают устойчивое место в жизни и погружаются в
самоанализ.
В Японии этот фактор играл особенно существенную роль.
Удаление ст дел, разрыв с «официальной» жизнью освобождали
личность от жесткой нормы, рождали чувство внутренней сво-
боды и облегчали путь к объединению в воспоминаниях лично-
го и общественного. Для одних авторов, например для Ямага
Соко, проведшего в изгнании десять лет, воспоминания стали
своего рода завещанием, в котором выражена горечь от кру-
шения планов и вместе с тем надежда на их осуществление бу-
дущими поколениями. Художник Ватанабэ Кадзан, который был
приговорен к смертной казни, замененной ссылкой, за идеи о
вредности дальнейшей изоляции Японии, возможно, испытывал
чувство обиды, необходимость высказаться, рассказать о своих
бедах, когда он, тяжелобольной, окруженный недругами, дожи-
вал в нищете последние годы. В воспоминаниях Мацудайра Са-_
данобу, регента, первого министра, который вынужден был уйти
в отставку в результате придворных интриг, особенно ценны
так редко встречающиеся в воспоминаниях страницы, которые
посвящены его государственной деятельности. Ученый, врач,
4 Зак. 324 49.
шросветитель Сугита Гэмпаку рассказал о трудностях, которые
.‘пришлось Испытать людям, на чьи плечи лег труд по ознаком-
-лению японцев с западной наукой в начале XIX в.
Немногочисленность случаев создания произведений на ос-
нове ретроспективного взгляда авторов на свою личную жизнь
в связи с общественной деятельностью и в контексте анализа
эпохи была обусловлена, таким образом, социально-культурны-
ми, этическими причинами. Эти причины привели к тому, что
мемуарно-автобиографические сочинения, представляя собой
,особую жанровую разновидность (хотя они и были генетически
связаны с традиционными дневниками), оказывались в домэй-
.дзийский период отнесенными, пр существу, к внелитературным
явлениям.
В их дальнейшей судьбе решающую роль сыграло наступле-
ние новой эпохи после «революции Мэйдзи», когда произошла
•грандиозная перестройка мироощущения японцев. Трансформа-
ция коснулась всех документальных жанров, но, пожалуй, в наи-
большей степени мемуарно-автобиографического, который не
имел таких устойчивых традиций, как, например, дневники или
[путешествия, и поэтому испытал более активное воздействие и
.новой эпохи, и европейской мемуарной литературы.
Что касается новой эпохи, то отношение к автобиографиям и
воспоминаниям стало меняться в связи с очень существенными
.историко-социальными сдвигами: осознанием ценности отдель-
ной личности и процессом развития национального самосозна-
ния. Традиционное подчинение индивидуума группе, которое
способствовало культивации чувства своей одинаковости с дру-
гими, постепенно уступало место ощущению сопричастности
всему, что окружало личность, и интерес к- индивидуальной
^судьбе резко возрос. Освобождение от привычных ограничений,
разрушение ортодоксальной структуры личности вели к снятию
многих этических запретов, и постепенно изменялся тип самовы-
ражения. Нежелание писать о себе, своих взглядах и эпохе
уступало место стремлению оставить записи о своих делах.
Реализовывалось это стремление по-разному, в зависимости от
типа личности автора, пожелавшего рассказать о себе. Здраво-
мыслие и практицизм приходили на смену традиционному
«умалчиванию». Если домэйдзийские мемуарно-автобиографиче-
ские сочинения создавались их авторами на закате жизни,- в
период наименее благоприятных обстоятельств, то для эпохи
Мэйдзи (1868—1912) характерна скорее обратная картина. Сре-
ди причин, побуждающих приняться за описание своей жизни,
должно быть упомянуто и тщеславное желание прославиться,
-независимо от того, существовали для этого реальные основа-
ния или нет. Тщеславна была эпоха, тщеславными стали и ее
герои. Это замечание ни в коей мере не означает, что такого ро-
ла побуждения были определяющими для всех авторов. Но оно
помогает понять, почему в эту эпоху было создано множество
пухлых томов в<?споминаний, которые, не успев появиться, сра-
30
зу Же канули в Лету. Своего рода мемуарный бум был явлени-
ем временным как всякая мода, но он лишний раз свидетельст-
вовал об активной реакции на открывшуюся возможность пре-
небречь традиционной нормой, табу на самовыражение.
Помимо глубинных историко-культурных процессов большую
роль в становлении мэйдзийской мемуарно-автобиографической
литературы сыграло влияние Запада. Процесс ознакомления
японцев с опытом мировой мемуаристики в конце XIX в. еще
не прослежен исследователями, но уже ясно, что новая для
японской литературы проблема типологии мемуаров привлекла
их внимание. В Японии была хорошо известна классификация
скандинавского критика Г. Брандеса (1842—1927), в которой
выделены мемуары, представляющие собой рассказ о заблужде-
ниях автора и путях их преодоления (св. Августин), о своей
жизни со всеми радостями и горестями при абсолютном само-
раскрытии своих пороков и ошибок (Ж.-Ж. Руссо), о развитии
таланта (И.-В. Гёте), о путях достижения славы (Хайберг).
Особенно трудносочетаемым с мироощущением японцев оказа-
лось построение автобиографического образа в «Исповеди» Рус-
со. Тем не менее очевиден импульс, который был дан японской
мемуарной литературе именно э!им произведением, открывшим;
новую глубокую грань самовыражения — исповедальность. Во-
прос о допустимой степени самораскрытия решался авторами
мемуаров и автобиографий по-разному и с осторожностью.
Обратимся к трем крупным сочинениям, созданным на рубе-
же XIX—XX вв. «Автобиография старца Фуку» («Фуку о дзи-
дэн», 1899 г.) принадлежит перу крупнейшего просветителя Фу-
кудзава Юкити. Это единственное произведение в автобиографи-
ческой литературе эпохи Мэйдзи, имеющее жанровую помету
«дзидэн» («автобиография»), которая появилась под влиянием
западной документальной литературы, но не закрепилась как
признак жанровой принадлежности. Традиции здесь оказались
сильнее новых веяний. Фукудзава Юкити, выступив новатором
в одном, остался верен традиционно негативному отношению к
раскрытию своего внутреннего «я». Повествование Фукудзава
Юкити подчеркнуто бесстрастно. Он не описывает своих пере-
живаний, не рассказывает о сомнениях. Его жесткое по тону
заявление — «Никому не дано проникнуть в мой внутренний
мир» — определило построение автобиографического образа. Он
следовал определенной установке: рассказать о пути Японии к
цивилизации и о своей миссии быть на этом пути ведущим. Ос-
новным для него был критерий пользы.
Иную установку мы видим в воспоминаниях Фукуда Хидэко,
одной из выдающихся японских женщин, участницы «движения
за свободу и народные права», пережившей преследование вла-
стей, тюремное заключение, постоянное осуждение окружающих
за то, что преступила традиционные нормы поведения японки.
Она обращает к читателю взволнованные, рвущиеся из сердца
слова: «Я хочу, презрев осуждение толпы, ничего не утаивая,
4»
51
рассказать историю своей жизни». В ее воспоминаниях «Поло-
вина моей жизни» («Варавано хансёгай», 1904 г.) наряду со
страницами, посвященными «борьбе со злом», многие страницы
отданы описанию личной жизни. Удивительно смело для япон-
ки пишет она о любви, о муках ревности, о своей несчастливой
женской судьбе. Современный критик Хирано Кэн отметил, что
после произведения Фукуда Хидэко самообнажение «было запа-
тентовано в японской литературе нового времени».
«Повествование о превратности судьбы» («Сакки дэн»,
1912 г.) написано известным критиком, публицистом, писателем
Таока Рэйун. Рассказ об эпохе, о своей жизни и духовном раз-
витии он предваряет размышлениями о самораскрытии. Обра-
щаясь к мировой мемуаристике, он пишет, что если великим пи-
сателям, ученым — всем «великим» дозволено полное саморас-
крытие, то в рассказе о себе человека обычного исповедальность
недопустима. Таока Рэйун не столь скрытен, как Фукудза-
ва, и не столь откровенен, как Фукуда. В его установке ощу-
щается скорее не запрет, а склонность к осторожности при рас-
сказе о своих переживаниях. «Я уверен, что не все в жизни че-
ловека может быть проанализировано и обнародовано» — вот
установка Таока. Но это «не все» оставляло возможность отра-
зить в воспоминаниях свой внутренний мир. Автор рассказал о
нравственных муках, об угрызениях совести, о столкновении
чувства любви и долга и даже о мыслях, не всегда, в общепри-
нятом смысле слова, достойных. Может быть, даже с некоторым
вызовом он назвал один из параграфов воспоминаний — «Я сты-
жусь низости своих мыслей». Иногда автор поверяет внутренние
мотивы своих поступков, дает анализ характера и его истоков—
все это свидетельства постепенного проникновения в докумен-
тальную литературу элементов самоанализа, самораскрытия.
Таким образом, мемуарно-автобиографические произведения, не
имевшие до «революции Мэйдзи» устойчивой традиционной
структуры, после нее в силу внутренних историко-культурных
факторов и внешних влияний были вовлечены в эволюционный
процесс трансформации, в котором существенную роль играло
разрушение традиционного табу на самовыражение.
Э. Васильевова
ЯПОНИЯ В ЧЕШСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. И ИСТОКИ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ЯПОНОВЕДЕНИЯ
Изучение Японии в Чехословакии имеет сравнительно недол-
гую историю, если иметь в виду становление японоведения в ка-
честве университетской специальности и систематическое иссле-
дование японской проблематики. Условия для этого были созда-
ны в Чехословакии лишь после освобождения в 1945 г. или, точ-
нее говоря, в связи с переходом к строительству социализма.
Вообще же изучение Японии и представления о ней 1 форми-
ровались в рамках общественной мысли чешского общества за-
долго до начала систематического изучения этой страны. Образ
Японии, который создавался в чешской общественной мысли
приблизительна начиная с конца XIX в., отражал идеологиче-
ские противоречия чешского буржуазного общества.
Правда, первые сведения о Японии доходили до Чехии зна-
чительно раньше, еще в феодальную эпоху, и касались преиму-
щественно истории распространения там христианства и дея-
тельности католических миссионеров. В XVII—XVIII вв. стали
также привозиться в страну как предметы роскоши многие изде-
лия японского прикладного искусства, но они были доступны
лишь феодальной верхушке. После 1945 г. значительная часть
этих изделий вошла в коллекции музеев и стала доступна ши-
рокой публике и исследователям. Так, крупные коллекции во-
сточного искусства, в том числе и японского, находятся в быв-
ших дворянских усадьбах-музеях в городах Мнихово Градиште,
Клаштерец над Огржи, Потштат, Градец над Моравици и др. .
Предпосылки для постепенного развития отношений между
Чехией и Японией были созданы промышленной революцией и
капиталистической индустриализацией. Эти процессы проходили
в Чехии еще в то время, когда страна являлась частью Австрий-
ской империи. Природные ресурсы, благоприятные климатиче-
ские условия и наличие рабочей силы способствовали сравни-
тельно быстрому росту капиталистических предприятий именно
на территории Чехии (Богемии) и Моравии, что сказывалось и
на введении новых форм сельского хозяйства.
53
В Японии Богемия впервые упоминается в 1869 г. в журнале
«Месячник Мэйдзи» (Мэйдзи гэккан) в статье по поводу заклю-
чения договора между Австро-Венгрией и Японией. В связи с
этим отмечалось, что в Богемии имеются залежи серебра и про-
изводство стекла, что Прага — торговый центр, что там есть,
университет2.
В 1873 г. в Вене состоялась всемирная выставка, первая, в-
которой официально принимала участие и Япония3, считавшая
выставку подходящим случаем для ознакомления с опытом ев-
ропейской промышленности. После окончания выставки несколь-
ко японских специалистов посетили Чехию, где они побывали
на разных заводах. Например, в г. Будейовице японцы познако-
мились с техникой производства карандашей на фабрике фир-
мы Кардмут, являвшейся уже в то время передовым европей-
ским производителем карандашей из графита. Опыт, усвоенный
здесь японцами, был использован для налаживания производ-
ства карандашей в Японии 4.
Вслед за первой группой, в Чехию приехал в апреле 1874 г,
Хираяма Наринобу, секретарь японской экспозиции на выстав-
ке в Вене, с целью познакомиться с опытом чешской промыш-
ленности, и сельского хозяйства, в том числе с техникой выращи-
вания хмеля и развитием прудоводства. Хираяма Наринобу по-
сетил фабрики в Праге и других местностях Чехии 5.
В конце XIX в. уже начался вывоз из Чехии и Моравии раз-
личных товаров в Японию, в частности стеклянных украшений
из Яблонца, мебели из Всетина в Моравии, кожаных изделий,
карандашей, солода 6. Торговые отношения с Японией завязал
также завод фирмы Лаурин и Клемент в Младой Волеслави по
производству автомашин, предшественник современного завода
Шкода 7.
Среди иностранных специалистов и предпринимателей, рабо-
тавших в Японии в начале XX в., встречаются и чехи, приехав-
шие в эту страну прямо из Европы или же через США, куда в
то время эмигрировали в поисках работы многие чехи и слова-
ки. Из специалистов чешского происхождения, работавших в
Японии, заслуживают внимания инженеры Карел Ян Гора и ар-
хитектор Ян Летцел, оба выходцы из Восточной Чехии. Карел
Ян Гора уехал в США, где он кончил технический ВУЗ и рабо-
тал преподавателем техникума. В США он встречался с японца-
ми и начал изучать японский язык. Впоследствии он по конкур-
су получил место директора «Осака Гас Лайт Ко». Позже он .
из Осака переехал в Иокогаму, став директором торговой ком-
пании 8.
Ян Летцел (1880—1925) изучал архитектуру в пражской выс-
шей промышленно-художественной школе, будучи учеником из- ;
вестного чешского архитектора Яна Котеры. По рекомендации .
своего учителя Летцел поехал после окончания школы в Каир,
а в 1906 г. принял предложение строительной фирмы «Э. д-Ла-
ланд» работать в Японии9.
54
Впоследствии Летцел стал сотрудничать с инженером Горой,
•п они вместе основали фирму «Летцел энд Гора» по строитель-
ству и внутреннему оборудованию зданий. Летцел осуществил в
Японии ряд проектов по частным и общественным заказам и
внес значительный вклад в развитие японской архитектуры кон-
ца эпохи Мэйдзи и начала Тайсё ,0. Им построено, в частности,
;дание Промышленной палаты в Хиросиме, над которым 6 ав-
густа 1945 г. взорвалась атомная бомба и чьи руины оставлены
в'качестве памятника хиросимской трагедии.
Летцел и Гора, несмотря на то что они многие годы жили
п работали далеко от родины, не теряли с ней связь. Летцел
стал первым торговым представителем Чехословакии в Японии,
а после возвращения в Прагу стал советником министерства
торговли и представителем японо-чехословацкой торговой ор-
ганизации Судзуки н. После 1918 г. и Карел Ян Гора вернулся
на родину и работал секретарем ведомства по делам иностран-
цев ,2.
Наряду с предпринимательской деятельностью Карел Ян Го-
ра занимался изучением классического японского языка и куль-
туры. Результаты своей научной работы он публиковал на анг-
лийском языке ,3. В 1904 г. он издал в Праге в переводе на чеш-
ский язык книги проф. Нитобэ Инадзо «Бусидо» 14. Таким обра-
зом, Гору можно считать первым чешским японоведом, но пос-
ле его возвращения на родину у него, по-видимому, не оказа-
лось возможности продолжать научную работу.
С началом торговых отношений в Чехии возник и общий ин-
терес к Японии, особенно к географии этой страны и быту
японцев. В 1883 г. профессор общей географии пражского уни-
верситета Ян Палацки (1830—1908), автор географических очер-
ков по разным континентам, написал географический обзор
Японии15. Но для ознакомления широких слоев чешского наро-
да с Японией имели значение прежде всего книги чешских путе-
шественников, которые стали добираться даже до такой отда-
ленной страны, какой в начале XX в. все еще казалась Япония.
Иосеф Корженски (1847—1938), Алоиз Свойсик (1875—1917),
Барбора Элиашова (1885—1957), Ян Гавласа (1883—1964) в
своих книгах о Японии кроме личных впечатлений сообщили
много конкретных сведений о природе страны, культуре и быте
японцев, извлеченных из книг о Японии, издаваемых в разных
странах Европы 16. В 1913 г., накануне первой мировой войны,
Алойз Свойсик опубликовал объемистый труд «Япония и ее на-
род», содержавший большое количество информации о Японии,
включая исторический очерк.
В 1906 г. посетил первый раз Японию и Джо (Йосеф) Глоу-
\а, имя которого впоследствии стало широко известно чешским
читателям, интересующимся Японией. Будучи романтически на-
строенным юношей, Глоуха проявил горячий интерес к далеким
странам, особенно к Японии. Еще до посещения этой страны,
приобретя.известные знания о жизни в Японии из книг, он в
55
1905 г. напечатал роман «Сакура в порыве вихря» 17. Увлечен-
ный экзотическими романами Пьера Лоти, он изобразил в этом
романтично-трагическом повествовании любовную коллизию, ге-
роями которой были он и японская девушка, которая от несча-
стной любви к нему решается на самоубийство. Много лет спус-
тя, вспоминая об этом романе и своем первом путешествии в
Японию, он заявил: «Мне хотелось пережить по крайней мере
то, что посчастливилось Пьеру Лоти» 18.
Материальная обеспеченность (он был сыном владельцев пи-
воваренного завода в Праге) позволила Глоухе посвятить себя
полностью изучению Японии, в особенности ее искусства и лите-
ратуры. Он явился автором целого ряда повестей о романтиче-
ских приключениях в Японии, в большинстве случаев полностью
или почти полностью явившихся плодом его фантазий, которые
в свое время приобрели большую популярность и многократно
переиздавались.
Глоуха создал романтический или скорее псевдоромантиче-
ский образ Японии как идеальной страны, население которой не
затронуто пороками современной жизни. И если он наталкивал-
ся на явления, которые не соответствовали созданному нм об-
разу Японии, то он с раздражением упрекал японцев в том. что
они стремятся воспринимать западную технику и промышлен-
ность и таким образом нарушают гармонию существующего иде-
ального японского общества. В 1926 г., после второй поездки в
Японию, Глоуха с горечью писал: «Япония сломя голову амери-
канизируется. В домах ее городов визжит радио, по уликам, на
которых вырастают чудовищные бетонные небоскребы, гремят
автомобили и автобусы, звенят трамваи, в небе реют самолеты.
Люди приходят в восторг, как только они имеют возможность
нарядить себя или своих детей в тряпки, следующие европей-
ской моде, заполняют кинотеатры, соревнующиеся с прекрасным-
народным театром. Фабрики отравляют своими дымящими тру-
бами хрустально чистый воздух деревни, страна индустриализи-
руется, и промышленность, эксплуатируя обездоленных, сеет
вокруг нищету и недовольство» 19.
Жанр так называемой «жапонерии», который Глоуха и его
последователи внесли в чешскую литературу, оказал значитель-
ное влияние на восприятие чехами Японии. Такой подход к Япо-
нии не был, конечно, чисто чешской спецификой. Тут сказыва-
лось влияние Западной Европы, особенно Франции, где «жапо-
нерия» стала популярным стилем еще в конце XIX в.
В то же время нельзя не отметить заслуги Глоухн, который
посвятил много времени и средств собиранию коллекций гра-
вюр и других предметов японского искусства, старинных япон-
ских книг и изданий о Японии на разных языках. Он написал^
в частности, биографию Хокусаи20. После его смерти собранные
им коллекции и его богатая библиотека стали достоянием На-
циональной галереи и Института востоковедения ЧСАН в Пра-
ге21.
56
Однако псевдоромантический образ Японии не остался един-
ственным образом этой отдаленной страны. В начале XX в. ев-
ропейская буржуазия с опасением следила за политикой Япо-
нии, все больше чувствуя в этой стране нового, опасного сопер-
ника. Это чувство опасения стимулировало распространение вся-
кого рода расистских теорий, особенно теории о так называемой
«желтой опасности», которая якобы встает перед европейскими
нациями. Несмотря на то что чешская буржуазия не могла счи-
тать себя прямо затронутой развертывавшейся японской экс-
пансией, чешский буржуазный национализм, приобретающий в
результате растущей конкурентной борьбы все более острые
формы, начал воспринимать многое из этих теорий.
Наряду с псевдоромантическим образом Японии, как страны
гейш и сакуры, все чаще стали звучать предостережения тако-
го типа: «кровь самураев, пренебрегающих смертью, все еще те-
чет в жилах японцев» 22. Подобные идеи получили широкое рас-
пространение в чешском обществе, особенно после начала рус-
ско-японской войны. Буржуазная пресса, главным образом газета
«Народив политика», орган так называемой партии младоче-
хов, стремилась внушить читателям образ Японии как будуще-
го лидера желтой расы в ее борьбе против белой расы. Ради-
кальные мелкобуржуазные группы начали распевать на улицах
Праги и других чешских городов антияпонские песни и прово-
цировать драки и конфликты, демагогически обвиняя каждого,
кто не был согласен с их точкой зрения, в японофильстве и в
предательстве дела славян.
Именно в это время делается первая серьезная попытка по-
казать Японию не как романтический рай и не как нацию, ко-
торой традиционно свойственно стремление к захватам, а как
классово разделенную страну, где народ так же страдает от
угнетения и эксплуатации, как и в других странах капитализ-
ма. Спустя три недели после начала русско-японской войны, в
воскресенье 28 февраля 1904 г., в ответ на националистические
выступления, спровоцированные в предыдущее воскресенье мла-
дочехами, и в ответ на атаки младочешской прессы Чешская со-
циал-демократическая партия организовала в Праге, на остро-
ве Жофин, в самом центре города, митинг. В митинге приняло
участие большое количество рабочих не только из Праги, но и
из ее окрестностей. Социал-демократы выступили на митинге с
резким осуждением войны, характеризуя ее как войну империа-
листическую. Они подчеркнули, что война приносит вред не
только пролетариату России и Японии, но и пролетариату все-
го мира 23.
В напряженной обстановке 1904—1905 гг. чешские социал-
демократы сумели отстоять свою точку зрения против постоян-
ных нападок буржуазной прессы, обвиняющей их в японофиль-
стве. Газета «Право лиду», центральный орган Чешской социал-
демократической партии, помещала на своих страницах много
информации о жизни японских рабочих, о деятельности япон-
ских специалистов и, конечно, о выступлении Сэн Катаямы и-
Г. В. Плеханова на конгрессе II Интернационала в Амстердаме-
в августе 1904 г.24. Наряду с этим социал-демократическая прес-
са уделяла внимание и общим вопросам японской культуры и
жизни в Японии. Многие статьи, составленные по иностранным:
материалам, давали обширную и правдивую информацию о са-
мых различных проблемах Японии 25.
Итак, еще до первой мировой войны в чешской обществен-<
ной мысли создались разнообразные представления о Японии,,
которые продолжали развиваться и в период между первой и
второй мировой войной. В межвоенные годы псевдоромантиче-
ский образ Японии переплетался с искусственно раздуваемыми’,
опасениями перед «желтой опасностью» и с образом японцев--
как народа, стремящегося захватить разные технические секре-
ты (в том числе, например, секрет производства чешского стек-
ла), чтобы создавать конкуренцию европейским товарам на ми-,
ровых рынках. Образ Японии как опасного конкурента стал осо-
бенно выдвигаться чешской буржуазией в 30-е годы, в условиях
мирового экономического кризиса. В эти годы крупнейший пред-
ставитель чехословацкого монополистического капитала, кон-
церн обувной промышленности Батя, начал проникать на рынки
Азии, встречая сильную конкуренцию Японии. Развернулась,
ожесточенная борьба между концерном Батя и японскими экс-
портерами за индийский рынок, привлекший внимание Бати
еще в 1927 г. В 1936 г. концерну Батя наконец удалось занять,
ведущее место в продаже обуви в Индии, после того как он по-
строил вблизи Калькутты большую фабрику (в г. Батанагар)..
Продукция этой фабрики вызвала резкое снижение ввоза обуви
из Японии. Чешская и немецкая буржуазная пресса с большим
вниманием следила за борьбой концерна Батя с японским капи-
талом и расценила вытеснение японцев как большую победу26..
В то же время усиливалось воздействие на восприятие Япо-
нии чешским обществом того направления, начало которого бы-
ло положено еще в годы русско-японской войны чешскими со-
циал-демократами, т. е. направления, стремившегося давать,
правдивую картину Японии. В 20-е и 30-е годы прогрессивная
печать, особенно пресса Коммунистической партии Чехослова-
кии (КПЧ), наряду с разоблачением политики правящих кру-
гов Японии, показывала жизнь и борьбу японского пролетариа-
та и крестьянства.
Именно из среды чешской прогрессивной интеллигенции, бо-
ровшейся против нарастающей угрозы фашизма и войны, вы-
шла в 30-е годы Власта Прушкова (позже Хилска), заложив-
шая прочные основы японоведения в Чехословакии. Участие в
движении чехословацких прогрессивных студентов, организован-
ном КПЧ, и сотрудничество с антифашистской молодежью дру-=
гих стран вызвало ее интерес к странам и народам Азии27^
В 1935—1936 гг. В. Прушкова побывала в Японии, где она на-
чала заниматься японским языком и культурой. Будучи выпуск-
58
ником филологического факультета Пражского университета, она
уделяла большое внимание литературе, причем собрала много
-материалов о движении за пролетарскую литературу и культу-
ру. После возвращения в Прагу она составила первый чешский
учебник японского языка и занималась переводами японской ху-
дожественной литературы. Весной 1939 г. В. Прушкова закончи-
ла работу над переводом романа Кобаяси Такидзи «Краболов»,
по в связи с оккупацией Чехословакии фашистской Германией
перевод был опубликован лишь после войны 28.
После освобождения Чехословакии в 1945 г. Прушкова-
Хилска работала в министерстве культуры и информации, где ей
была поручена организация культурных связей со странами и
народами Востока. В 1949 г. она перешла на философский фа-
культет Карлова университета и стала преподавателем японско-
го языка и литературы, одновременно продолжая свою исследо-
вательскую работу в области японоведения.
1 Только в начале 1904 г. в чешском языке окончательно закрепилось
современное название Японии — Японско. Раньше встречались разные формы
названия этой страны в зависимости от того, с какого языка брали авторы
или газеты сведения. Японию называли то Жапон, Жапонско, то Япаи,
Япанско.
2 Ииэио Цуёси. Нихон-Чекосуробаниа бунка корю-но рэкнси то гэидзё.
Ннхон то Too сёкоку-но буйка корю ни кансару кисотэкн кэнкю (Базисные
исследования культурных отношений между Японией и Восточноевропейскими
странами). Токио, 1981, с. 24—25.
3 Lorenz R. Japan und Mitteleuropa. Von Solferino bis zur Wiener Wel-
tausstellung (1859—1873). Briinn, Miinchen, Wien, 1944, c. 141—157.
4 Инэно Цуеси. Нихон-Чекосуробанна бунка корю-но рэкнси то гэндзё.
6 Там же, с. 25—26.
6 Kerensky /. Ро druhe v Zaponsku (Второй раз в Японии). Praha, 1910,
с. 13.
7 Svojsik A. Japonsko a jeho lid (Япония и ее народ). Praha, 1913, с. 74.
8 Там же, с. 73—74.
8 Masarykiiv slovnik панспу (Энциклопедия Масарика). Т. IV. Praha, 1929,
с. 430.
10 Korensky J. Ро druhe v Zaponsku, с. 79—82. Avoisik A. Japonsko a Jeho
lid, с. 74.
11 Masarykiiv slovnik naucy. T. IV, c. 430.
12 Narodni politika. 02.05.1919.
13 Hora K. J. Notes on Kamo Chomei’s Life and Work.— TASJ. Vol. 34,
part I. Tokyo, 1906, c. 45—48.
14 Nitobe Inazo: Duse Japonska. Busido. Praha, 1904.
p ।*5 Pa'aCk6 P ^aPan- Zenrerpisny nastin (Япония. Географический очерк).
18 В число книг по Японии, изданных в Чехии в начале XX в., входит
также перевод на чешский язык произведения русского консула в Нагасаки
Де-Воллана «Япония. Страна и народ».
17 Hloucha /. Sakura ve vichrici. Praha, 1905.
13 Smejkal J. V. Milenec- Nipponu. Tri lasky Joe Hiouchy (Влюбленный в
Японию. Три любви Джо Глоухи). Praha, 1931, с. 34; Книга Шмейкала яв-
ляется попыткой создать биографию Джо Глоухи в духе его романтизма
и любви к экзотике.
19 Hloucha J. Mezi bohy a demony (Среди богов и демонов).
211 Hloucha J. Hokusai. Praha, 1949.
59
21 Краткое описание коллекции Глоухи дает Шмейкал. См.: Smejkal J. V.
Milenec Nipponu, с. 95.
22 Korensky J. Po dzuhe v Zaponsku, c. 107.
23 Pravo lidu. 03.03.1904.
24 Pravo lidu. 17.08.1904.
25 Точка зрения чешских социал-демократов по поводу русско-японской:
войны вместе с кратким очерком истории Японии и рассмотрением ес социаль-
но-экономических проблем изложена в книге: Soukup F„ Modracek F. Valka-
rusko-japonska (Русско-японская война). Praha, 1904.
26 См.: Lehar B. Dfejiny BaFova koncernu (История концерна Батя). Praha,
1960; Bata J. A. Za obchodem kolem sveta (По делам торговли вокруг света).
Zlin, 1937; Baros J. Chechoslovaci na brezich Gangu od prvopocatku az do
dnesni doby (Чехословаки на берегах Гангн с самого начала и по сей день).
Batanagar, 1946; Нихон то Too секоку-но бунка корю ни кансуру кисотэки
кэнкю, с. 43—44.
27 Hilska К Orientalists a leve studentske hnuti. Vzpominky (Востоковеды
и левое студенческое движение. Воспоминания). Zpravy CSO pri Csav.
1961/3, с. 1—8.
26 Kabeldcova К. Bibliography of Prof. Dr. Vlasta Hilska.— Hilska V. Z-
Vasiljevovaa Problems of Modern Japanese Society. Praha, 1981, c. 55—64.
И. Ю. Гене
ЯПОНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В РАБОТАХ ИНСТИТУТА ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР
В декабре 1961 г. в Институте истории искусств, ныне Все-
союзном научно-исследовательском институте искусствознания
Министерства культуры СССР, был создан Сектор искусства
стран Азии и Африки. Институт, основанный в 1946 г. по инициа-
тиве академика И. Грабаря, представляет собой уникальное для
искусствознания научно-исследовательское учреждение — в нем
комплексно изучаются все виды искусства всех континентов.
Комплексный характер института сказался и на структуре Сек-
тора искусства стран Азии и Африки, объединившего специали-
стов по изобразительному искусству, музыке, театру, кино и
эстетике. Острой была проблема кадров. Основной костяк Сек-
тора составили сотрудники, пришедшие из Музея искусства на-
родов Востока, уже имевшие опыт работы по проблематике ис-
кусства стран Азии и Африки. В дальнейшем Сектор расши-
рялся главным образом за счет подготовки кадров через аспи-
рантуру. Организация Сектора явилась началом нового этапа в
изучении искусства Японии в нашей стране.
До революции сведения о японском искусстве бывали рассы-
паны в статьях и заметках таких журналов, как «Нива», «Во-
круг света», «Всемирная иллюстрация», «Живописное обозре-
ние», «Аполлон» и др. Вышли в свет в начале века и несколь-
ко небольших книжек, посвященных искусству Японии. Однако
подлинно научное изучение японской культуры началось в на-
шей стране после Октябрьской революции. Оно связано с име-
нем и многогранной научной деятельностью Николая Иосифо-
вича Конрада, впоследствии действительного члена Академии
наук СССР. Н. И. Конрад — основоположник научного японо-
ведения в СССР. Круг его интересов был широк и разнообра-
зен, но главным образом он занимался проблемами истории и
филологии Японии. Им были разработаны многие положения
теории японской художественной культуры. В 20-е годы
11. И. Конрад написал ряд статей о классических жанрах япон-
ского театра, частично связав их с гастролями театра кабуки в
Москве в 1928 г. Сегодня практически все, кто занимается либо
Ы
исследованием японской культуры, либо Переводами японской
литературы, — его ученики либо ученики его учеников. Первым
искусствоведом-японистом — сотрудником Сектора и была уче-
ница Н. И. Конрада А. С. Коломиец, защитившая в 1964 г. дис-
сертацию на тему «Манга., Сборник рисунков Хокусая».
С самого начала своей деятельности Сектор поставил перед
собой задачу консолидации распыленных по отдельным научным
учреждениям сил, занимающихся вопросами искусства Восто-
ка. Так, в тесном сотрудничестве, началась работа с учеными
Института востоковедения АН СССР, Научно-исследовательско-
го института теории и истории изобразительных искусств Ака-
.демии художеств СССР, Музея искусств народов Востока, Мо-
сковского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
За первыми шагами Сектора в области искусствоведческой япо-
гнистики внимательно следил Н. И. Конрад. Сотрудничали с
•Сектором Н. А. Виноградова, Н. С. Николаева, Н. А. Иофан,
.Л. Д. Гришелева, О. Н. Глухарева и многие другие.
Первая работа Сектора, посвященная искусству Японии,
увидела свет уже в 1965 г. Это был сборник статей «Искусство
Японии» (отв. ред. И. Ф. Муриан), в котором затрагивались
проблемы музыки, театра и изобразительного искусства, начи-
ная с раннего средневековья и до наших дней. Коллектив авто-
ров, в который от Сектора вошли А. С. Коломиец и С. Н. Со-
колов, стремился раскрыть в свете современных научных зна-
ний и эстетических оценок важнейшие явления художественной
।культуры Японии: обрядные пляски кагура и японскую музыку
VII—IX вв., живопись «хайга» и творчество Хокусая, Огата Ко-
грин, Энку, современную японскую гравюру.
Из года в год стала расти доля участия японистов в науч-
еНых начинаниях Сектора, связанных с решением основополага-
>ющих для искусства Востока проблем.
В сборнике статей «Художественный образ и декоратив-
ность в искусстве Азии и Африки» (1969 г.) анализировалась
графика Оно Тадасигэ и декоративность японской национальной
живописи (С. Н. Соколов).
Большой интерес вызвала- конференция «Проблемы взаимо-
действия художественных культур Запада и Востока в новое и
новейшее время» (тезисы опубликованы в 1972 г.). С содержа-
тельным докладом выступила на конференции А. С. Коломиец,
показав связи пролетарского искусства с революционным ис-
кусством европейских стран. Экранизации трагедии Шекспира
на японском экране был посвящен доклад И. Ю. Генс. Об об-
щих тенденциях развития японского театра Ноо и елизаветин-
ского театра эпохи Шекспира говорила Н. Г. Апарина.
Крупным событием востоковедного искусствознания была,
конференция, посвященная проблеме канона в искусстве Восто-
ка, состоявшаяся в 1970 г., и изданный по ее итогам сборник!
статей «Проблема канона в древнем и средневековом искусстве
Азии и Африки» (1973 г.). В сборнике отразились разные по-
«2
пытки подойти к решению вопроса о роли канона в искусстве-
восточных народов на древнем и средневековом этапе. Статьи,,
посвященные японскому искусству, были построены на различ-
ных явлениях японской художественной культуры и носили как;
теоретический, так и конкретно искусствоведческий характер.
Так, статья Н. А. Иофан «Становление протоканона в изо-
бразительном искусстве Японии» посвящена введению понятия
протоканона и особенностям его на материале скульптуры ха-
нива. Автор рассматривает скульптуру ханива как релевантную-
иконографическую систему, складывающуюся в процессе осозна-
ния роли и места ритуального искусства. Свобода и живость об-
разов ханива свидетельствует о том, что иконография ханива.
продолжала разбиваться к моменту появления буддийского сти-
листического кайона.
Структуру и функции канона в классической живописи
Дальнего Востока рассматривает С. Н. Соколов. Предлагая
свою систему многослойного канона в дальневосточном искус-
стве, он иллюстрирует свою концепцию высказываниями и при-
мерами творчества дальневосточных художников от средневе-
ковья до наших дней.
Н. С. Николаева, исследуя на примере «сухого» дзэнского
сада каноническую структуру японского сада, приходит к вы-
воду, что становление канона совпадает со становлением жан-
ра. Когда развитие жанра заканчивается, канон формализует-
ся. Проследив становление японского сада ,от древности до де-
коративных садов современности, автор указывает на асиммет-
рию как одно из основных правил канонического построения
японского сада.
В статье «Иконографические каноны японской космогониче-
ской картины вселенной — мандала» Н. А. Виноградова пока-
зывает, как осмысление всеобщих законов мироздания превра-
щается в Японии в сложную, тонко и детально разработанную
систему правил и норм, отразившихся в космогонической иконе-
«мандала». Рассматривая ее эволюцию, автор получил возмож-
ность проследить изменения общих эстетических идеалов и норм1
и увидеть тс перемены, которые претерпела на протяжении
средневековья религиозная живопись.
Сборник статей по проблеме канона явился знаменательной
вехой в становлении востоковедного искусствознания, свиде-
тельством его научной зрелости. Он вошел в обиход нашего ис-
кусствознания, и ссылки на него часто встречаются в искусство-
ведческой литературе.
В перечисленных работах использовался главным образом
материал изобразительного искусства. В какой-то степени это
отражало ситуацию, сложившуюся в самом Секторе, где изуче-
нию японского изобразительного искусства посвятили себя
С. П. Соколов, А. С. Коломиец и частично И. Ф. Муриаи.
Научные интересы С. Н. Соколова отличает широкий времен-
ной диапазон. Статьи теоретического плана, опирающиеся на
63
материал дальневосточной живописи, перемежаются с конкрет-
ным искусствоведческим анализом творчества того или иного
художника. Им подготовлена монография о творчестве выдаю-
щегося мастера японской традиционной живописи Томиока Тэс-
сая. Проникновение в тайны средневековья помогли ему во
всеоружии подойти к решению одной из центральных проблем—
«синтезу искусств в художественной культуре Дальнего Востока,
реализованной в фундаментальном труде «Литература — калли- ’
графия— живопись» (1985 г.).
Автор исходит из того, что синтез, являясь одним из опре-
деляющих, конструирующих моментов в структуре художест-
венной культуры народов дальневосточного региона, широко
развился не только в зрелищных и пространственных искусст-
вах, но и лежит в основе живописной традиции. В своем иссле-
довании С. Н. Соколов ориентируется на творчество мастеров
круга «художников-интеллектуалов» («бундзинга»). Он пока-
зывает, как синтез литературы, каллиграфии и живописи в
рамках школы «бундзинга» достиг своей высшей точки в жан-
ре хайга и работах школы «укиё-э» XVII—XIX вв. С. Н. Со-
колов расшифровывает множество печатей, надписей-тем, рас-
сматривая их место в живописном произведении. Анализируя
основы поэтики каллиграфического искусства и выводя главные
методологические моменты, важные для подхода к прочтению
каллиграфии и анализа конкретных памятников, автор рассмат-
ривает каллиграфию в структуре синтетического произведения.
Главные моменты поэтики синтеза автор выявляет на примере
одного характерного произведения. Для живописи Японии им
избрана серия «монохромных бамбуков» мастера XIX в. Ва-
танабэ Кадзана.
Иной круг интересов отличал рано ушедшую из жизни
А. С. Коломиец. После защиты диссертации, посвященной Хо-
кусаю-рисовальщику, опубликованной в 1965 г„ она посвятила
себя изучению современного японского изобразительного искус-
ства, главным образом современной японской графике. А. С. Ко-
ломиец была хорошо знакома со многими мастерами современ-
ной станковой графики Японии, бывала у них в мастерских,
углубленно вникала в их труд. Это многолетняя деятельность
была реализована в монографии «Современная гравюра Япо-
нии и ее мастера»- (1974 г.). Богатый фактический материал,
связанный с японской гравюрой XX в., характеристика основ-
ных направлений развития графического искусства в довоен-
ной Японии, описание духовного и политического климата стра-
ны в послевоенные годы составили тот фундамент, на котором
А. С. Коломиец выстроила собственную концепцию бытования
в японской культурной жизни послевоенных лет станковой гра-
фики. Автор выделяет четыре ведущих направления, объеди-
няющие основную массу активно работающих мастеров гравю-
ры: направление «народной гравюры»; «традиционное направ-
ление»; «художники-декоративисты»; художники, связанные с
64
особенностями японской каллиграфии и национальной интерпре-
тацией новейших художественных течений. Значительный раз-
дел книги посвящен художникам-графикам, их творчеству и
роли в поступательном развитии гравюры. А. С. Коломиец вве-
ла в научный обиход огромный малоизвестный и неизученный
материал современного изобразительного искусства. Опа собра-
ла ценнейшую коллекцию современной японской гравюры, кото-
рая после ее кончины влилась -в японский фонд Музея искусст-
ва народов Востока.
Занимаясь вопросами японской графики XX в., А. С. Коло-
миец не прошла мимо и такого интереснейшего явления худо-
жественной жизни Японии 20-х годов, как движение за проле-
тарское искусство, внесшее неоценимый вклад в становление
современного демократического искусства страны. В общем
русле «пролетарского искусства» большое значение имела гра-
фика: агитплакат и карикатура. Доклад А. С. Коломиец
«К вопросу об определении связей пролетарского искусства
Японии с революционным искусством европейских стран», про-
читанный па одной из научных конференций Института искусст-
воведения, был первым шагом в изучении этого уникального
художественного направления. Опа успела завершить свою
большую работу по этой теме, которая в несколько сокращен-
ном виде должна увидеть свет.
Ряд интересных статей о японской средневековой скульпту-
ре .и о структуре и образе дзэнского сада принадлежат перу
И. Ф. Муриан, круг научных интересов которой обращен к даль-
невосточному ареалу и к странам Юго-Восточной Азии.
Гастроли театра кабуки в СССР в 1961 г. дали новый им-
пульс изучению японского театрального искусства. Результатом
возродившегося интереса к театру Японии был сборник статей
«Театр и драматургия Японии» (1965 г.), составленный в Ин-
ституте востоковедения Л. Д. Гришелевой. «Наступила пора
от общих работ по японскому театральному искусству, пре-
следующих главным образом цели научной информации, пе-
рейти к специальным как в плане истории, так и в плане эсте-
тики»,—писал в предисловии к сборнику Н. И. Конрад. Статьи
сборника и стали отражением исследования театра Японии на
новом уровне.
С середины 70-х годов началось .на Секторе изучение клас-
сического японского театра и в рамках Сектора искусств стран
Азии и Африки Института искусствоведения. Так, обширное пре-
дисловие Н. Г. Апариной к переводам 17 поэтических драм для
театра ноо (ёкёку) (1979 г.), сделанных Т. Делюсиной, ока-
залось первым шагом к углубленному изучению театра ноо.
В 1984 г. вышла монография Н. Г. Апариной «Японский театр
ноо». Книга открывается кратким историческим очерком, в ко-
тором прослеживается становление театра ноо. Специальный
раздел монографии посвящен самой драме но — ёкёку и крат-
ким фарсам — кёгэнам. Внимательно рассмотрено сценическое
5 Зак. 3'24 65
воплощение спектакля: устройство сцены, бутафория и аксес-
суары, костюмы и маски, музыка и сценическая речь, сцениче-
ское движение и танец и, наконец, актерское искусство. Книга-
заканчивается сведениями о судьбе театра ноо в наши дни. Ра-
бота Н. Г. Апариной является первой попыткой дать всесторон-
нюю характеристику этому яркому театральному явлению в ис-
тории мирового театра.
Н. Г. Апарина завершила работу над переводом и научным
комментарием знаменитого трактата Дзэами «Предание о
цветке».
Предметом специального исследования в Секторе стал театра
кабуки. Ряд статей на эту тему опубликовала Р. М. Кирсанова.
Ею же подготовлена диссертация «Костюм театра кабуки и-
его роль в создании художественного образа». Подготовлена hi
уже успешно защищена еще одна диссертация, связанная с ис-
кусством японского традиционного театра. Эта работа педа-
гога Ташкентской консерватории М. Ю. Дубровской «Музыка
в традиционном японском театре», которую автор выстроила на-,
материале двух театральных систем: ноо и кабуки. Впервые в.
науке подробно раскрыта музыкальная драматургия традицион-
ного театра. Необходимо отметить также диссертацию препода-
вателя МГУ Е. А. Сердюк «Истоки японской культуры периода
Эдо (1614—1868)», в которой особое внимание уделено япон-
ской театральной гравюре, и книге Л. Д. Гришелевой «Театр,
современной Японии» (1977 г.), в которой дана общая кар-,
тина театрального мира современной Японии. Все это гово-
рит о значительном успехе нашего японистического театрове-
дения.
Что же касается изучения японской музыки, то кроме уже*
упомянутой работы М. Ю. Дубровской следует отметить ориги-
нальную диссертацию заведующего кафедрой теории музыки:
Дальневосточного института искусств С. Б. Лупинасом «Пути-
развития японской инструментальной музыки (кагэн) в системе
гагаку». Впервые на анализе ладовой и ритмической структуры.-
показана национальная специфика японской традиционной му-
зыки и доказывается, что это живая, открытая эволюционизи-
рующая система.
О японском киноискусстве в Институте искусствоведения еще-
в 1956 г. была опубликована первая статья информативного
характера доктора искусствоведения Р. Н. Юренева «Японское-
киноискусство». В дальнейшем, за исключением немногочис-
ленных рецензий на выходящие на экраны японские фильмы,,
литературы о киноискусстве Японии не было. Японское кино-
искусство является предметом исследования автора этой статьи..
Ею была защищена диссертация на тему «Японское независи-
мое кино», где были выявлены идейные, художественные исто-
ки движения, показан его расцвет, исследованы причины, при^
ведшие его к упадку. Отдельные монографии были посвященьг
теме войны в японском послевоенном кино (1972 г.) и твор-
66
"честву Тосиро Мифунэ (1974 г.). Недавно увидела свет
книга (названная «Бросившие вызов») о творчестве молодой
режиссуры, пришедшей на японский экран на рубеже 60-х го-
дов. В ней рассказывается о новом поколении кинорежиссеров,
выступившем с резким отрицанием традиционного мышления в
жизни и в искусстве и внесшем в японский фильм новую тема-
тику и новую стилистику. Эти работы, а также ряд статей по-
могли подойти к более углубленному изучению вопроса: что же
представляет собой национальное своеобразие японского филь-
ма? Это и стало центральной темой только что завершен-
ной монографии «Кэнгэки и сёмингэки— классические жанры
японского кино». С изучением проблемы традиции и нацио-
нального своеобразия связаны и ближайшие научные планы
автора.
С приходом в Сектор кандидата философских наук
Е. Л. Скворцовой появилась возможность дополнить искусство-
ведческие труды Института по японистике трудами о японской
эстетической мысли. Среди уже опубликованных Е. Л. Сквор-
вдовой работ, охватывающих большой круг проблем, связанных
-с японской духовной традицией, с актуальными проблемами
японской морали, особо необходимо упомянуть «Христианский
век в Японии. К проблеме взаимодействия 'национальных куль-
тгур» и статью «К проблеме восприятия западной философии в
Японии (Экзистенциализм и японская духовная традиция)». Го-
товится также монография «Проблемы эстетической мысли Япо-
нии. Традиции и современность (1960—1980-е годы)».
Сектор искусства стран Азии и Африки Института искусст-
воведения ставил перед собой также задачу широкой популяри-
зации знания об искусстве Востока. Этой цели служили статьи
сотрудников Сектора, опубликованные в массовых журналах,
в популярной форме рассказывавшие о художественной жизни
стран Азии и Африки. Информативный и одновременно попу-
ляризаторский характер носило и серийное издание Сектора
«Сокровища искусства стран Азии и Африки», выходившее в
течение ряда лет, начиная с 1975 г. В предисловии к первому
выпуску этого издания академик Н. И. Конрад писал: «Я очень
просил бы мысль об этой серии не оставлять, усилия по ее соз-
.данию не ослаблять; тем более что развитие соответствующей
науки делает такое издание вполне осуществимым, а издание
со своей сторрны может способствовать развитию науки». Япо-
новедческие статьи серии посвящены истинно вершинным про-
изведениям и творцам японского искусства. Их темы: «36 ви-
дов Фудзи» Хокусая, гравюры Утамаро, картины Тэссая, ше-
девр Огата Корин «Красные и белые цветы сливы», образы
кабуки в гравюрах Кацукава Сюнсю, шедевры нэцкэ.
В декабре 1986 г. Сектор искусства стран Азии и Африки
ВНИИ искусствознания отметил свое 25-лет.ие. За четверть
века сделано немало в области изучения японского искусства.
Юднако предстоит сделать еще очень много. До сих пор нет
5* 6Т
серьезных, исследовательского характера работ по современ-
ному театру Японии, мало изучается современная японская му-
зыка, почти ничего не сделано в области изучения художест-
венных проблем телевидения и многое другое. Всего этого мож-
но будет добиться путем дальнейшей консолидации сил, за-
нимающихся японоведением, привлечения к исследовательской
деятельности в этой области, к участию в коллективных трудах
более широкого общественного научного актива и научных сил
из стран социалистического содружества.
В- Т. Нанивская
СИСТЕМА «МОРАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ»
в ЯПОНСКОЙ ШКОЛЕ
Си
Японии юо летОРна1а1ОГпоспСПИТаПИЯ>> начала складываться в
люпин Мчйдзи, и выпАпооп незавеРшенной буржуазной рево-
лизации масс для решении * Р°Ль важнейшего средства моби-
Дарства. Прежде всего -Х^34 растУЩего буржуазного госу-
вставала и встает пепел и ’ Которая в той или иной форме
номическпм и социальном Ш обществом, отставшим в эко-
Запада,—ЧТо ВОСрр1аЛ^в *', ^г,юшении от развитых государств
ве традиционного status Л, ®°£Рро’изводство на собственной поч-
нитания» была не тольком™ -нако система «морального вос-
ности, ее необходимость ™5Р защнтЬ1 национальной самобыт-
ных экологических условия™*тем’ что в неблагоприят-
ховные потенции проичн™ °На °РиентиРовала человека на ду-
рального воспитания» испопиГ*' В даль,,ейшем система «мо-
мент идеологического возл?йс?ВаЛЗСЬ Прежде всего как инстру-
в Формировании психологии иЯ и сыгРала решаюшую роль
тики милитаризма. И национализма и обосновании поли-
Как система в действии
Ляет собой хорошо налажен™моральпое воспитание» представ-
Дартного японца с полнымТл <<поточиое производство» стап-
Рактера», главными из котопы^б°Р°М Черт «национального ха-
"°сть, чувство национа являются социальная конформ-
Щественного долга» сознав а емСКЛЮЧИтельности « яУвсТВО *°6’
Мость в дисциплинированности ?е ПреЖде всего как необходи-
Вся история системы ' трУД°лв>бии.
вует о все более возрастаимпГЗЛЬНОГО 'воспитания» свидетельст-
аппаратом как провепеиил^ М Се примене11ии государственным
чующего сохранению стабипь>,ВРеМеНеМ инструмента, способст-
Жащего идейной опорой «пи " ^чествующего строя и слу-
Днционная философско-педагогопсеСКОГО пР°рветания. Эта тра-
-'а в условиях научно-техни^!ич^ская система не только устоя-
ступает как составная част. Л™*1 револ,°Ции, ио и активно вы-
катализаторов производите ’н.^Дарственпой идеологии, в ряду
«Моральное воспитание»\яи СНЛ современной Японии,.
Ра: тотальность, т е поакти6 спе?ивают три основных факто-
• е. практический охват им всего населения
6»
страны, гарантируемый всеобщим обязательным образованием
и массовой подготовкой учителей; унифицированность содержа-
ния и методов, что достигается централизованным управлением
школами; технология внедрения нужных государству идей, раз-
работанная таким образом, чтобы в результате воспитания они
осознавались как собственные нравственные принципы и чер-
ты характера.
Применение в государственном масштабе технологии фор-
мирования идеологических установок через регламентацию меж-
личностных отношений, полный контроль над ежедневным опы-
том ребенка и трансформация бесспорных общечеловеческих
ценностей в нужном для правящих кругов направлении позво-
лили организовать массовое «идеологическое производство»
индивидов с одинаковыми социальными установками.
Социально-психологическое манипулирование сознанием на-
родных масс осуществляется в любом современном буржуазном
государстве, однако японская форма идеологического воздейст-
вия существенно отличается от принятых на Западе.
Важнейшей особенностью системы японского «морального
воспитания» является то, что с ее помощью правящим кругам
удавалось и удается создавать искаженную картину социаль-
ной и политической действительности и внедрять в сознание на-
родных масс идею о том, что политика правительства и част-
ного капитала направлена на обеспечение не классовых, а яко-
бы общенациональных интересов. Это происходит благодаря
использованию изощренных психологических приемов, разрабо-
танных в рамках буддистской и конфуцианской традиций, поз-
воляющих формировать заданный социальный тип личности по-
средством строго целенаправленного управления психическим
развитием ребенка. В арсенале «морального воспитания» име-
ются эффективные средства манипулятивно-психологического
воздействия на личность.
Что же представляет собой система «морального воспита-
ния» с точки зрения содержания, организации и методов? Ка-
ким образом «моральное воспитание» формирует два важней-
ших с точки зрения буржуазной 'идеологии качества: социаль-
ную конформность, с одной стороны, и веру в то, что эта кон-
формность составляет содержание долга и ответственности каж-
дого перед нацией — с другой?
Хотя система называется «моральным воспитанием» и фор-
мально в ней идет речь о воспитании общечеловеческих нрав-
ственных норм, нужно иметь в виду, что их реальное психоло-
гическое содержание для индивида связывается с социальными
нормами классового общества. Современный школьный курс
«морального воспитания» определяется в документах министер-
ства просвещения как «образование с целью формирования ха-
рактера», «воспитательная деятельность, направленная на фор-
мирование моральных качеств, желательных с точки зрения
государства», «воспитание основ гражданской морали».
7Q
С самого начала принципы «морального воспитания» были1
сформулированы как принципы государственной политики. По-
казательно в этой связи высказывание первого министра про-
свещения Японии Мори Аринори: «Каждый учитель долже»
помнить, что все, что делается в сфере народного просвещения,
делается не ради учеников, а в интересах государства»1.
В современной программе курса «морального воспитания»
выделяются следующие три направления2.
Первое направление. Внедрение определенных социальных
норм в сознание молодежи в виде моральных ценностей и фор-
мирование группового сознания. Основным педагогическим сред-
ством, обеспечивающим достижение этих целей, является ис-
пользование в учебном процессе групповой трудовой деятель-
ности.
Второе направление. «Интернациональное» воспитание в
связи с ориентацией японского государства па экспансионист-
ские задачи в современных условиях широких международных
контактов. Понятие «будущего интернационального человека»
расшифровывается в контексте педагогических задач как тре-
бование еще более целеустремленного формирования нацио-
налистического самосознания, способного противостоять все
возрастающим «разрушительным» иностранным влияниям. «Мо-
ральное воспитание» в школах для японских граждан за рубе-
жом ставит своей целью предотвращение «неправильной» (не-
японской) социализации молодого поколения, растущего не на
родине. Существует даже специальный термин «кикокуго фу-
тэкио» (невозможность адаптации после возвращения, на ро-
дину) з.
Третье направление. Внедрение мысли о причастности каж-
дого ребенка к японским традициям в качестве их наследников
и будущих творцов. Воспитание в подрастающем поколении
стремления совершенствовать себя в соответствии с принципами
«морального духа» японской нации как «священного» долга
каждого по отношению к предкам нации. Создание ощущения
«причастности к японским традициям» служит в настоящее
время основой для формирования чувства «национальной иск-
лючительности». Для этого используются все возможные средст-
ва восхваления и пропаганды японской «культурной самобыт-
ности».
Особого внимания заслуживает педагогическая разработка
формирования «группового сознания» (новый термин, сменив-
ший довоенный националистический — «единство нации»), вы-
ступающего в качестве одной из главных характеристик лич-
ности «гражданина Японии», а также «японского национального
характера». Для педагогической практики задача состоит в
том, чтобы политические и идеологические цели перевести на
язык конкретных учебных задач относительно того, какие лич-
ностные качества нужно формировать в детях и какие средства
будут для этого наиболее эффективными.
71
Японская педагогика выделяет пять условий, необходимых
для выполнения этой задачи.
Первое условие. «Моральное воспитание» осуществляется не
как одностороннее внушение правил, а как образ жизни. За-
дача учителя не «учить», а «жить с детьми». Учитель управляет
процессом общения детей в конкретных условиях повседневной
жизни посредством своего участия и примера.
Второе условие. Воспитание направлено на формирование
совершенно определенных личностных качеств, без которых, как
считает японская педагогическая психология, невозможно вы-
растить «гражданина Японии». Эти качества: навык к строгому
самоанализу; способность к самостоятельным решениям и дей-
ствиям.
Третье условие. Учитель должен обеспечить, чтобы в ходе
учебного процесса ребенок осознал присутствие и интересы дру-
гих членов общества, их зависимость ст него и свою зависи-
мость от них.
Четвертое условие. Основная форма воспитания — организа-
ция групповой деятельности. При этом критерием эффективнос-
ти рассматривается не результат и качество работы отдельных
учеников, а четкое осознание каждым своей роли в общем деле.
Пятое условие. Приучать детей воспринимать проблемы
группы как проблемы своей личной жизни. На собственном
опыте школьной жизни дети должны понять, что законы и нор-
мы жизни в обществе, а также их соблюдение нужны лично
каждому человеку. Дети учатся жить по общественным нормам
сначала на опыте группового взаимодействия в своем классе,
потом в школе и, наконец, в государстве.
В педагогических учебных заведениях 'подготовке препода-
вателей «морального воспитания» уделяется особое внимание.
Все будущие учителя кроме своего предмета изучают два обя-
зательных 'курса: «мораль» и методику ее преподавания. На
епециальные уроки «морали» и связанные с ними программные
внеурочные мероприятия отводится столько же времени, сколь-
ко на ведущие предметы.
Программа курса «морали» включает 28 тем, которые’ ус-
ловно можно разделить на три группы. К первой группе отно-
сятся темы, воспитывающие лояльность через формирование
чувства принадлежности к своей социальной группе: сначала к
семье и школе, потом к государству. В качестве средства для
достижения этой цели особое внимание обращается на выработ-
ку навыков бесконфликтного социального взаимодействия.
Вторая группа тем направлена на воспитание «активной лич-
ности», умеющей подчинить все свои дела и помыслы «госу-
дарственным» целям. Нужно также иметь в виду, что «актив-
ность» здесь значит только добросовестное («активное») вы-
полнение своего «долга перед государством и обществом». Ак-
тивность вообще, как характеристика человеческой жизнедея-
тельности, безотносительно к тому ее содержанию, в котором
72
заинтересованы правящие круги, планомерно обесценивается,
т. е. преподносится как бессмысленная трата усилий, вредная
как для самого человека, так и для общества. При этом фор-
мируются готовность и умение переносить трудности и такое
отношение к труду, чтобы он рассматривался 'как вклад лю-
бого «маленького дела» в «общее великое дело».
Третья группа тем ставит задачу обучить ребенка воспри-
нимать общественные нормы поведения как внутренне необхо-
димые. Это достигается посредством акцента на «правильном
чувстве». Требуется, например, не столько формальное прояв-
ление почтительности, сколько ее реальное переживание. Это —
форма психологического обеспечения социально-политической
конформности, политического повиновения.
Таким образом, идеологическая задача воспитания «граждан-
ской морали» выполняется за счет формирования таких ка-
честв личности, которые «изнутри» обеспечивают соблюдение'
индивидом социальных норм. Эти качества в японской педаго-
гике называются «моральной природой», «моральным харак-
тером», а обладающий ими индивид считается «самостоятель-
ным», потому что сам следует принятым нормам социального
поведения.
Развитие «моральных качеств» рассматривается как пере-
ход от «отсутствия самостоятельности» к «самостоятельности»,
иначе говоря, от состояния, когда социальные нормы воспри-
нимаются как внешние, заданные взрослыми, к состоянию, ког-
да они воспринимаются как внутренние, собственные. Взрослый
человек, не достигший этого состояния (не соблюдающий со-
циальных норм), считается незрелым, несамостоятельным.
Эта «самостоятельность» опирается на определенные идео-
логические ценности, которые планомерно вносятся в сознание
ребенка. В результате достигается проявление самостоятельной
творческой активности в рамках заданных социально-классовых
норм, которые выступают для человека как его собственные
нравственные принципы.
Таким образом, в Японии «самостоятельность» личности из-
меряется ее способностью исключить критичное отношение к
социальной действительности и целеустремленно, с максималь-
ной самоотдачей вложить свои силы, знания, профессиональное
умение во все звенья иерархии взаимосвязанных социальных
общностей, в которые включен японец: в семью, школу, профес-
сиональную группу, и наконец, в государство.
Подобный тип воспитания обеспечивает возможность осу-
ществления особого типа социального контроля.
В зарубежной психологии существует два подхода к со-
циальному контролю: 1) как к системе внешней регламентации
и детерминации поведения личности, 2) как к внутреннему со-
циальному контролю — формированию «внутреннего цензора»-,
фиксирующего действующие нормы буржуазного общества.
В применении знания о ценностно-мотивационной структуре
73
поведения в странах Запада ценностные ориентации и мотивы
воспринимаются как «данное», поэтому ставится задача толь-
ко распознавать их и, значительно реже, формировать в соот-
ветствии с потребностями общества. Контроль осуществляется
ва этапе реального поведения с помощью внешних санкций,
а ценностно-мотивационная структура личности выступает лишь
как объект диагностики с целью повышения эффективности
санкций. Такой способ обеспечивает лишь узкую сферу управ-
ления поведением, тем самым вся система социального контро-
ля оказывается ненадежной и дорогостоящей. Относительно ма-
лая свобода поведения, связанная с субъективным восприятием
санкций, вызывает недоверие у индивида к социальным инсти-
тутам, ограничивающим его поведение, что приводит к рас-
согласованию ценностных ориентаций и способов их реализа-
щии на поведенческом уровне. Последнее приводит к еще более
вынужденному усилению внешнего контроля, нарушению ста-
бильности социальной системы, увеличению асоциальных де-
виантных форм поведения.
В отличие от стран Запада особенность японского способа
управления состоит в наличии априорного знания о том, что
поведение зависит от мотивов, которые определяются ценнос-
тями (базовыми ориентациями) человека. Эта взаимосвязь цен-
ностных ориентаций и конкретного поведения осознается и в
содержательном отношении, т. е. известно, от каких именно цен-
ностей зависит тот или иной способ поведения. Политическая
я идеологическая ценность «единство нации» формируется че-
рез чувство дружбы и взаимопомощи. А такое поведенческое
качество, как дисциплинированность, воспитывается как залог
социальной конформности и гарантия производственной эффек-
тивности.
Такое представление о внутренней структуре поведения оп-
ределяет стратегию управления им. Один из компонентов уп-
равления — контроль— осуществляется не на этапе реального
поведения, а на этапе формирования ценностных структур лич-
ности. Другими словами, управление переносится из внешней
сферы во внутреннюю. Идеальная модель такого принципа
управления — полный самоконтроль, уменьшающий необходи-
мость дорогостоящих социальных органов контроля.
Управление с минимальным внешним контролем создает ил-
люзию поведения со многими степенями свободы, что воспри-
нимается индивидом как доверие к нему со стороны общества
м порождает чувство ответственности. «Доверие» это крайне
специфическое, поскольку систематически и неукоснительно че-
рез контроль над системой ценностей осуществляется контроль
над мыслями и мотивами. Человеку позволяются некоторые
слабости, так как за рамки контролируемых ценностных ориен-
таций он не выйдет.
Таким образом, система социального контроля в Японии пе-
реносит его осуществление из сферы санкций в область форми-
74
рования желательных свойств личности и подразумевает не
перестройку нравственной, нормативно-ценностной структуры
личности, а ее направленное формирование на ранних этапах
социализации.
Социальная конформность, ориентация на строгое соблюде-
ние установленных в обществе норм и законов воспитывается
с самого раннего детства как естественная жизненная необхо-
димость человека, несоблюдение которой может привести к ги-
бели. В процессе «морального воспитания» связываются воеди-
но в сознании человека воспитанность, вежливость и социаль-
ная конформность. Этот же принцип воплощен в системе «по-
жизненного найма», где жизненные интересы трудящихся свя-
зываются в его сознании с процветанием фирмы.
В процессе социализации, организованном таким образом,,
учитываются все три известных пути формирования личности:
1) целенаправленный — воспитание осуществляется по заранее
разработанной программе, отвечающей целям и ценностям об-
щества; 2) стихийный, т. е. происходящий под воздействием
случайных факторов — они своевременно выявляются и направ-
ляются в нужное русло; 3) через самосовершенствование, са-
мовоспитание; этот способ фомирования личности — централь-
ный в японской педагогике.
Историческая жизнеспособность системы «морального вос-
питания», неизменное ее применение в качестве основного ин-
струмента идеологической политики обусловлены традиционной
установкой на максимальное привлечение человеческих ресур-
сов для реализации политических задач, намечаемых аппаратом
власти. При этом всегда имеется в виду обеспечивать соответ-
ствие личностных качеств индивидов тем практическим целям,
которые ставятся перед обществом на конкретном историческом
этапе.
1 См.: Карасава Т. Нихои кёику си (История японского образования).
Токио, 1962, с. 231.
2 Сёгакко гакусю сидо ёрё (Учебная программа для начальной школы).
Токио, 1977, с. 6, 10. - ’
3 Кэнкю сюроку. Дайити го. Кодзин кэнкю но матомэ (Исследовательский
сборник. № 1. Индивидуальные работы. Московская школа для японских
граждан). М., Мосукува нихоидзин гакко, 1982, с. 3.
Л. Д. Гришелева
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ЯПОНСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ТЕАТРА
Многие особенности действительности современной Японии
объясняются тем, что она является единственной в восточном
регионе высокоразвитой капиталистической страной. С одной
стороны, она выступает в качестве одного из центров междуна-
родного империализма и оказывает заметное влияние на разви-
вающиеся страны. С другой стороны, она представляет собой
восточную страну, где приходится считаться с наличием тради-
ционного уклада, и, в свою очередь, испытывает на себе влия-
ние Запада. Сочетание этих двух ликов страны вызывает боль-
шой интерес к ней и привлекает пристальное внимание исследо-
вателей.
Именно об этом говорит известный японский архитектор
Тангэ Кэндзо: «Действительность современной Японии, будучи
частью исторически обусловленной общемировой действитель-
ности, в то же время получает свои неповторимые очертания
благодаря традициям страны» *. И с этим нельзя не согласить-
ся. В японской культуре отчетливо различаются два слоя. С од-
ной стороны, это японский вариант межэтнического типа буржу-
азной культуры современного высокоразвитого капиталистиче-
ского государства со всеми присущими такой культуре чертами.
*С другой стороны, наряду с тем, что, по выражению Тангэ, со-
ставляет «современную цивилизацию», в стране сознательно со-
храняется, поддерживается и поощряется традиционная куль-
тура.
Традиционная культура в странах Востока составляет суще-
ственную часть культурного наследия нации. Ее образуют раз-
личные предметы и явления материальной и духовной культуры,
обычаи, обряды и праздники, по происхождению связанные с
разнообразными компонентами этногенеза каждой этнической
общности и содержащие ее этнические характеристики.
В Японии в обстановке длительной изоляции сложился свое-
образный культурный комплекс, детали которого соответствова-
ли природной среде, социальной обстановке, духовным и эстети-
ческим запросам японского общества феодальной эпохи. Этот
традиционный культурный комплекс и в наши дни сохраняет
76
четко обозначенную обособленность от японского варианта «ин-
тернационального» культурного комплекса современности, хотя
взаимное влияние этих культурных образований, несомненно,
имеет место2. Этот комплекс послужил существенным стимулом
для консолидации японской народности в нацию и стал отличи-
тельным признаком последней. Если в архаическом обществе
зримым символом социально-этнической локализации человече-
ских общностей являлась вещь, то в современном мире эту роль
играет традиционная культура. Именно в ней проявляется соци-
ально-психологическая оппозиция «мы» и «они» 3.
Видное место, как зеркало жизни общества, в традиционной
культуре Японии занимает театр, представленный такими разно-
образными жанрами, как гагаку, ноо, кёгэн, бунраку, кабуки,
ёсэ, и традиционными танцами буё или хобу. Жанры японско-
го традиционного театра сформировались в различные историче-
ские эпохи разными слоями общества и в свое время были при-
званы выполнять определенные социальные функции.
Наиболее ранний и самый экзотический из всех жанров япон-
ского традиционного театра, гагаку, сформировался в VII—
VIII вв. Музыкально-хореографические представления этого
жанра устраивались как храмовые и придворные зрелища. Они
рассматривались как церемониальные действа придворной ари-
стократии. Это искусство пользовалось покровительством импе-
раторов и сохранялось в крупных, главным образом синтоист-
ских, храмах4. К началу XII в. искусство гагаку стало отходить
на второй план. Его вытесняли новые виды зрелищ, более удов-
летворявшие вкусам и запросам воинского сословия, приобретав-
шего все большее влияние в стране.
В XIV в. сформировался театральный жанр ноо. Религиоз-
но-мистический и феодально-романтический характер этого те-
атра вполне соответствовал взглядам и требованиям воинского
сословия, оттеснившего придворную аристократию, поэтому ис-
кусство ноо, полное буддийских настроений, пользовалось под-
держкой и покровительством военно-феодальных правителей
Японии того времени — сёгунов Асикага, а затем и Токугава.
При Токугава представления музыкальной драмы ноо постепен-
но приобрели церемониальный характер и стали устраиваться
по торжественным случаям 5.
С XV в. в качестве комических интермедий в представления
ноо стали включаться соответствующим образом отобранные и
приспособленные к вкусам правящей элиты народные фарсы кё-
гэн, которые до XIV в. существовали самостоятельно и в каче-
стве народного комедийного драматического жанра служили
развлечением для простого народа 6.
С конца XVI в. на исторической арене Японии появились но-
вые социальные силы — купцы и ремесленники феодального го-
рода, в среде которых зарождалась буржуазия. Горожане соз-
дали свои театральные жанры: кукольный театр дзёрури (бун-
раку), кабуки, ёсэ. Новые жанры отличались от своих предше-
77
Ственников по характеру и по функциям. Это был яркий, живой Я
театр, созданный народом для народа. Основной его функцией
было развлечение, но, отражая интересы и чаяния широкого Д
зрителя, театр горожан содержал и элементы оппозиции сущест- Я
вующему порядку, за что нередко становился объектом гонений Я
со стороны властей7. _*
До XIX в. все эти виды театрального искусства бытовали от- Я
носительно изолированно, каждый в своей среде, и служили и
средством социального размежевания различных слоев феодаль- я
ного общества. Но социальные барьеры в области культуры, не- Я
смотря на строгую регламентацию феодальных властей, посто- Я
янно нарушались и постепенно размывались. Укрепление этни- Я
ческого единства способствовало взаимопроникновению культур- Я
ных традиций различных социальных слоев и стиранию четких 1
граней между ними. В ходе исторического развития и формиро- 1
вания нации все это многообразие слилось в единый общенапио-
нальный комплекс традиционной культуры, каждый из видов: 1
которой, сохранив на себе печать своего социального происхож- J
дения, стал средством консолидации японской нации и разме- g
жевания ее с другими нациями. j
Этот процесс происходил и в японском традиционном теат- 1
ре. Такая интеграция была явлением закономерным, так как, 1
несмотря на различие временных и социальных характеристик 1
различных жанров японского традиционного театра, он в целом |
принадлежит всему народу, потому что в его создании так или j
иначе участвовали все слои общества: одни как заказчики и по-
требители, другие — как вдохновители и ценители, третьи — как ;
творцы-исполнители. К концу XIX в. сословные- театральные
жанры слились в единое образование — японский традицион-
ный театр, который стал выполнять общие социальные функции.
Функции культуры вообще безграничны. Нет ни одной сфе-
ры человеческой деятельности, на которую бы они не распрост-
ранялись. Классификация этих функций — проблема сложная и
еще слабо разработанная в культурологии. Социальные функции ;
японского традиционного театра, составляющие предмет наше-
го рассмотрения, не столь всеобъемлющи, но и они чрезвычайно
многообразны. Придерживаясь предложенной советскими иссле- 1
дователями классификации функций по видам человеческой дея-
тельности (познавательная, созидательная, коммуникативная- и
оценочно-ориентационная) 8, попытаемся выделить некоторые (
наиболее важные из них, хотя расчленить социальные функции
театра довольно трудно. Ведь театральное искусство, как изве-
стно, является одним из путей реализации художественного ос-
воения мира. Художественность же —качество интегративное,
включающее органическое соединение познавательной информа-
ции, системы опенок, техники исполнения и коммуникативных
свойств, и в ходе художественного освоения мира происходит
полное влияние всех видов человеческой деятельности 9.
Познавательная функция японского традиционного театра
78
кочень существенна. В театральной традиции накоплен богатый
творческий опыт многих поколений японцев. Он, несомненно,
представляет огромный интерес вообще и для специалистов—
историков, этнографов и искусствоведов в особенности. Переда-
ча этого опыта в различных его формах от человека к человеку,
от поколения к поколению является важным актом «социального
наследования». Каждый член современного японского общества
должен освоить и усвоить этот опыт, чтобы обеспечить себе воз-
можность должного понимания с другими членами данного об-
щества.
Формы фиксации образа жизни предшествующих эпох раз-
нообразны. Самой простой из них является «опредмечивание»
человеческой деятельности: создание произведений литературы,
искусства, художественного ремесла и т. д. Зафиксированный
таким образом опыт предшествующих эпох легко поддается
хранению и изучению. «Опредмеченная» часть японского теат-
рального наследия представлена драматургией, театральными
масками, костюмами и кукольными головами, хранящимися в
театрах и музеях, а также произведениями изобразительного
искусства, запечатлевшими выдающихся мастеров сцены прош-
лого. То же, что не поддается «опредмечиванию», дошло до на-
ших дней в живой передаче от учителя к ученику. Эту часть со-
ставляют такие непременные элементы японского традиционного
театра, как игра на национальных музыкальных инструментах,
.для которых не существует нотации, пение и танец.
Созидательная функция японского традиционного театра
реализуется в художественном творчестве театральных деяте-
лей. Но ее действие не поддается непосредственному вычлене-
нию, поскольку, по словам Тангэ, который уделяет этой пробле-
'ме серьезное внимание, «традиция сама по себе не образует со-
зидательной силы. Она всегда заключает в себе декадентскую
тенденцию, способствующую формализации и повторению уже
бывшего. Для того чтобы направить ее к созиданию, необходима
свежая энергия, которая отвергает мертвые формы и предохра-
няет живые формы от неподвижности... Диалектический синтез
традиции и антитрадиции образует структуру подлинного твор-
чества» 10. '
Современная японская действительность, включающая широ-
кие международные контакты, поставляет традиционному театру
сколько угодно свежей энергии, и этот театр — не музейное яв-
ление, а живой организм. Во всех его жанрах происходит на-
следование и развитие традиций, предполагающее создание но-
вого в их русле. Трансформируются старые, появляются новые
школы, выдвигаются новые мастера. Не всегда этот процесс про-
текает гладко и бесконфликтно. В разных сферах интенсивность
его различна.
Любопытны изменения, происходящие в мире японского тра-
лиционного танца. Постепенно техника различных стилей буё
.меняется. Отмечается тенденция к общему оживлению темпа.
79
С начала XX в. в Японии развернулось движение за обновление
традиционного танца (атарасии буё ундо), появились новые ма- 3
стера буё, стремящиеся создать танцы, отражающие характер
новой эпохи. Существенным стимулом для деятельности в этом ]
направлении послужили выступления известных мастеров запад- ‘
ного танца, которые стали приезжать в Японию в 20-е годы. ;
Японские, танцы, созданные в этот период, имеют своеобразный
облик и, в отличие от классических танцев буё, называются син- :
буё (новые традиционные танцы). Делаются попытки создания
новых национальных танцев, отделенных от песенного сопровож-
дения. Это большое новшество в мире японского танца, так как i
классические буё сопровождаются музыкой с текстом и практи- ;
чески являются танцевальным изображением песенного повест-
вования. Среди создателей синбуё есть такие крупные, пользую-
щиеся всеобщим признанием специалисты, как Фудзима Сидзуэ,
Ханаяги Кинноскэ, Ханаяги Токубэй. Они чтут традиции япон-
ского классического танца и на их основе создают новые образ-
цы национального хореографического искусства ". Однако иног-
да реформаторская деятельность отдельных энтузиастов заходит
так далеко, что ставит под угрозу само существование тради-
ции. Тогда включаются охранительные тенденции, представлен-
ные активно действующими обществами (ходзонкай) охраны
традиционного искусства, например, такими, как Общество ох-
раны традиционного кабуки (Дэнто кабуки ходзонкай) и Обще-
ство охраны старинной музыки храма Касуга (Касуга когаку
ходзонкай).
Еще одной очень существенной социальной функцией тради-
ционного театра является его коммуникативная функция, обес-
печивающая духовное общение между представителями одного
поколения и духовную связь между разными поколениями.
Средства этого общения весьма разнообразны: всевозможные
праздники, спектакли, фестивали, концерты, конкурсы, показа-
тельные выступления, передачи по радио и телевидению и т. д.
Все эти мероприятия в ходе их подготовки и проведения моби-
лизуют огромные 'массы людей самой разнообразной возраст-
ной, социальной и профессиональной принадлежности, тем бо-
лее что в японских традиционных театральных жанрах очень
распространено любительство.
У социологов в ходу термин «общение по поводу искусства».
Оно включает широкий круг контактов, связанных с потребле-
нием художественной продукции и ее осмыслением. Общение
«по поводу» японского традиционного театра весьма разнообраз-
но. Эт° и общение зрителей во время широко практикуемых в
ЯпонИн коллективных посещений спектаклей, и участие в дея-
тельности обществ содействия театру (гоэнкай), и любительская
творчсская практика: занятие традиционным пением, музыкой и
танцеМ’ Устройство любительских спектаклей, в которых иногда
учасТрУюг и профессиональные актеры. Практика любительства
особе*1*10 Распространена в театре поо. Она играет значитель-
80
ную роль в формировании зрительской аудитории. Любители в
этом театре — самые постоянные и подготовленные зрители, на
которых, как правило, ориентируется репертуар театра. Они со-
ставляют основную массу публики. Кроме того, они платой за
обучение материально поддерживают ведущих актеров ноо. Для
стимулирования интереса любителей каждая школа ноо ежеме-
сячно устраивает на своей сцене бесплатные любительские спек-
такли, финансируемые учениками. Подготовка и проведение та-
ких спектаклей создают широкие потребности для общения «по
поводу» искусства ноо.
Многие виды общения, связанного с традиционным театром,
обросли такими наслоениями, как обычай, ритуал, этикет, и про-
текают в очень своеобразных экзотических формах, не исключа-
ющих материальной заинтересованности их организаторов. На-
пример, в мире танцев буё, где также очень широко распростра-
нено любительство, каждый год в январе после праздника семи
трав (Нанакуса), который отмечается 7-го числа, все ученики
школы собираются в репетиционных залах и проводят церемо-
нию «Одоридзомэ» и «Омаидзомэ» — подношение подарков учи-
телю за танцы, которые будут поставлены в начавшемся году.
Завершается такая церемония банкетом, который организуют
ученики для своих учителей. Два раза в год, весной и осенью,
школы традиционного танца проводят показательные выступле-
ния своих воспитанников. За право выступления на таких вече-
рах ученики вносят «особую плату за выступление» (токубэцу
кэйкорё), которая становится ежегодным бонусом учителя12.
В непосредственной связи с предыдущими социальными
функциями японского традиционного театра находится и, воз-
можно, самая важная из них — ценностно-ориентационная, несу-
щая основную идеологическую и политическую нагрузку. Глав-
ное в этой функции — стабильное воспроизводство существую-
щих общественных отношений и социализация индивидов в их
духе. Через знакомство с традиционными видами театрального'
искусства и занятия ими происходит воспитание японцев в ду-
хе консервативной культурной традиции, имеющей заметную
националистическую окраску. С помощью традиционных ис-
кусств закладывается ценностно-ориентационный фундамент
представлений об уникальности и исключительности японской
традиционной культуры и соответствующих ей общественных от-
ношений. Приобщение к различным видам традиционной куль-
туры, и к традиционному театру в том числе, призвано служить
делу морального воспитания личности японца, которое должно
влиять на его образ жизни и мировоззрение.
Во внешнеполитическом аспекте традиционная культура ис-
пользуется для создания привлекательного экзотического ими-
джа Японии за ее пределами. С этой целью Управление по де-
лам культуры при министерстве просвещения и Комитет по
культурным связям с зарубежными странами при министерстве
просвещения и министерство иностранных дел Японии система-
6 Зак. 324
81
-тически финансируют показ за границей японского традицион-
ного искусства: гастроли японского традиционного театра, групп
традиционного японского танца и музыки.
Все социальные функции японского традиционного театра
тесно связаны между собой, и ни одна из них не выступает в
чистом виде. Но по характеру они неравнозначны. Если первые
-.три (познавательная, созидательная и коммуникативная) имеют
в известной степени непреходящий, общечеловеческий характер,
то четвертая (ценностно-ориентационная) всегда имеет явную
:печать классовой идеологии и соответствующую политическую
окраску. И когда на основании бесспорности трех первых функ-
ций ведется широкая реклама японской традиционной культуры
в целом,)за этим почти всегда скрывается пропагандистская
щель — подключить действие четвертой функции и использовать
традиционную культуру для распространения идеалов японизма
:и рекламы японской модели социального и культурного разви-
тия.
1 Тангэ Кэндзо. Архитектура Японии. М., 1976, с. 71.
2 См.: Арутюнов С. А. Современный быт японцев. М., 1968, с 7—9.
3 Безмодин Л. И. Художественно-конструктивная деятельность человека.
М., 1975, с. 145.
4 См.: Togi М. Gagaku: Court Music and Dance. Tokyo, 1971.
‘s См.: Апарина H. Г. Японский театр ноо. M., 1984.
6 См.: Кёгэн— японский средневековый фарс. М., 1958.
7 См.: Гришелева Л. Д. Театр современной Японии. М., 1977.
8 См.: Каган М. С. Человеческая деятельность. М., 1974.
, 9 Там же, с. 120—125.
10 Тангэ Кэндзо. Архитектура Японии, с. 69—70.
11 См.: Gunji М. Buyo. The Classical Dance. N. Y.— Tokyo—Kyoto, 1971.
12 Энгэкикай. Токио, вып. 38, № 7, с. 164.
М Ю. Дубровская
МУЗЫКА В ТРАДИЦИОННОМ ТЕАТРЕ ЯПОНИИ
(на материале ноо и кабуки)
Многовековое историческое развитие и ^е^тсства
собность традиционного музыкально-сце „ Уже_
Японии отражают редкую устойчивость нац . у „
ственной традиции Двум видам «и0»™ с?едневековья (со-
театра — ноо и кабуки, возникшим в эпоху р д
ответственно в XIV и в конце XVI в ). прияа^ . .,пяссики на_
ный вклад в процесс формирования муз ^
рода. Этапные явления национальной худ кусСтва, они и в-
ноо и кабуки постоянно обогащали сме т'орчеСтва.
наше время служат стимулом компози р Р видамИ
При наличии преемственных связей*а своеоб
традиционного театра живого актер « « ИСТорико-социаль-
зен. В феномене ноо явственно проя*5*1’'и
ные факторы расцвета феодальной буржуазии Эти процес-
кабуки — выдвижение нового класса °УР У „ ‘л-.-ипХн „
сы отразились на всей системе художественной р
стилистике театральных спектаклей. м
При существовании значительного чис а у РУ,
священных зрелищным искусствам Яв ’ классическИх
освещения принципы музыкальной ДР ур в центре на-
ность других компонентов трвдиционотго те Р ( Р Р-оче_
тературно-драматургической структур”1'» в к
но на его собственно музыкальной природе ознания и в0.
Плодотворные концепции отечестве У систе-
стоковедения, молодой советской «пой™ закУономерностей
мы гагаку явились базисом для пост ногонтеатра.
музыкальной организации национал^ бежнЬ1Х исследо-
Критическое осмысление многочислен невнимания
вании ноо и кабуки выявило факт ^тРен^енциям исторического
ученых к динамически-эволюционным Д исполнительской
процесса развития искусства, абсолют Иг_
свободы звукового воплощения театра ой эво£*ции
норирование диалектической логики И р утверЖдению
зыкально-сценического искусства ЯпоН УическУого Ртрадици.
мысли о незыблемости, неизменяемое^ и
83
6*
«онного искусства во времени. Однако историческим процесс раз-
вития и современные формы бытования традиционного театра,
адаптированного к потребностям японского зрителя XX в., сви-
детельствуют о том, что при безусловно редкой сохранности и
животворности японской художественной традиции музыкально-
сценическая драматургия претерпела заметные изменения. Что
же касается исполнительской свободы музыкального спектакля
театра ноо, приведшей известного ученого Тамба Акира к оши-
бочному, как представляется, тезису об «индетерминизме музы-
кальной композиции» этого искусства, то с позиций концепции^
музыкального профессионализма народов Востока мобильность
звучащего ряда спектакля проистекает из традиции приравнива-
ния Исполнения к созданию. В процессе изучения музыкальной
драматургии классического спектакля ноо автор пришел к вы-
воду о наличии в ней структурной упорядоченности, целостности
и единства, вытекающих из функциональной природы музыки в
системе синтетического театра.
В высоком синтезе драмы, музыки и пластики ноо и кабуки
самодовлеющая роль принадлежит искусству театра. Однако му-
зыкальный ряд в японском театре издревле приравнивается по
значимости и силе художественного воздействия к самой дра-
ме. В ноо «под представлением прежде всего понимается танец:
и пение» (Дзэами), в театре кабуки «главное в пьесе — ее зву-.
чание» (Тикамацу). Всесторонне одаренные авторы драматиче-.
ской литературы ноо создавали музыку в русле единого творче-
ского процесса, избирая среди классических сюжетов нацио-
нальной художественной культуры те, что с наибольшей выра-
зительностью могли быть переданы посредством музыки и пла-
стики.
Специфическая темброво-эмоциональная палитра спектаклг
ноо складывается из мелодизированной речи актеров и хора,
звучания инструментального ансамбля и уникальных «атакую
щих выкриков» барабанщиков («какэгоэ»), которые выпол-
няют многочисленные функции: от акцентирования эмоциональ
кого тонуса сценической ситуации до опорной точки в метрорит
мическом развитии. Организующим конструктивным- началом 1
музыке ноо выступает метроритмический каркас, основа кото
рого — в партии ударных инструментов. Партия флейты нока:
трактуется автором как мелодически-активный элемент музы
калькой партитуры ноо, тогда как вокальная линия во много»
претворяет интонации сценической речи, отчасти культовой му
зыки.
Основное сценическое время спектакля ноо требует участие
музыки, более того, происходит органическое внедрение музыю
в сам речевой ряд пьесы. Необходимо подчеркнуть многоуровне
вое действие в музыке ноо художественного канона «искусств,
эстетики тождества». При соотнесении музыки с сюжетной кан
вой и сценическим действием выдвигается репрезентирующая е
роль в спектакле. Важный принцип образно-эмоциональной вы
84
разительности напевной речи актера отражает глубинное семан-
тическое значение музыки. В настоящее время, в условиях неко-
торого сужения содержательно-информативной стороны устарев-
шего текста драмы ноо, музыка наряду с пластикой «перево-
дит», разъясняет и дополняет зрителю подлинный смысл ситуа-
ции. С этим взаимосвязана фоническая действенность музыкаль-
ной партии. Немаловажна также зрелищно-символическая роль
в спектакле музыкантов и хора, когда их фигуры и жесты ста-
новятся необходимым фоном сценического действия.
В процессе изучения функциональной природы музыки в
классической драме ноо автор пришел к убеждению о наличии
в ней собственно музыкальной драматургии. Ярким отражением
стройности, цельности и единства музыкально-драматургическо-
го процесса ноо выступает принцип сквозного развития основной
музыкальной идеи спектакля, что связано с вариантными про-
ведениями лейтхарактеристики ведущего актерского амплуа си-
Широким радиусом музыкально-драматургического действия
обладает главенствующий принцип классического искусства Япо-
нии Дзё-Ха-Кю. Интерпретируемый как «вхождение — разви-
тие финал», он состоит в интенсификации музыкального ма-
териала (в ряду других выразительных средств) по мере при-
ближения к окончанию спектакля. Это создается посредством
нагнетания эмоциональной напряженности, активизации динами-
ки, темпового ускорения, учащения метроритмической пульса-
ции, уплотнения фактуры и т. д. Внезапность смен небольших
разделов многочастной композиции драмы ноо выявляет прин-
цип «динамичности монтажа». Процесс развертывания музы-
кальной мысли зиждется на общевосточном принципе «после-
довательно восходящей динамизации» музыкально-выразитель-
ных средств. J
Проведенный анализ музыкального материала пьес различ-
ном жанровой принадлежности показывает, что музыкальная
драматургия канонического, условно-символического искусства
ноо, в определенной мере обусловлена сюжетно-сценическими
поворотами действия. Чем значительнее сценический контраст
между двумя ликами ситэ, тем заметнее и диапазон изменения
его музыкального тематизма. В подобной процессуальное™ и
динамике развития проявляется органичность и достоверность
музыкального ряда как одного из ведущих компонентов выра-
жения содержания.
В структуре музыкального языка ноо нужно отметить сле-
дующие видовые признаки: многомерность и высотная вариант-
ность звуковой ткани; динамичность сложнейшей метроритмиче-
ской структуры; наличие собственных ладоинтонационных си-
стем — ёвагин и цуёгин, в которых проявились изначально при-
сущие японской музыке квартовость и тетрахордность; развитый
универсальный канон формирования восточной мелодики — «ре-
комбинации ритмоинтонационных формул» и Другое.
85
В период Нового времени повышение общественной роли
третьего сословия привело к заметной секуляризации и демокра-
тизации искусства. Прогрессивная историческая роль театра го-
родской буржуазии кабуки обуславливается его тяготением к
реализму. В этом плане показательно выявление в музыке те-
атра, наряду с чертами условий изобразительности, признаков
психологически верной характеристики героя, ситуации.
Исследование музыкально-сценической системы кабуки
вскрыло яркие признаки нового, следующего по отношению к
ноо периода развития японского профессионального искусства^
когда в недрах средневековой художественной традиции начи-
нают вызревать новые элементы: выдвижение на передний план
эмоционального начала; определяющая роль творческой индиви-
дуальности актера; ограничение функций драматурга и услов-
но— «композитора»; широта и многосоставность тематики и
жанров драматической литературы кабуки. Характерна в связи
с этим полиэлементность музыкальной стилистики кабуки.
Отмечу многослойность звучащего ряда представления кабу-
ки, насчитывающего до трех темброво-функциональных пластов
вокальной партии (при традиционном, как и в ноо, исполнении
силами только актеров-мужчин). Несколько инструментальных
ансамблей кабуки подразделяются на «музыку на сцене» и «му-
зыку за сценой» и наделены собственным музыкальным мате-
риалом и функциями в спектакле. Ансамбль «музыка за сценой»
(гэдза онгаку) в зависимости от сценической ситуации может
включать почти все традиционные музыкальные инструменты
Японии.
При наличии разнообразных формообразующих принципов
драматургии кабуки, укладывающихся во всеобъемлющую фор-
мулу Дзё-Ха-Кю, в классических пьесах театра имеет место со-
размерно выстроенная, отличающаяся многоуровневостью струк-
туры оригинальная музыкально-драматургическая композиция.
Сущность ее видится в функциональной мобильности, взаимоза-
меняемости и самостоятельной ценности компонентов музыкаль-
но-драматического содержания пьес: от крупных разделов дра- <
мы до отдельных вокальных или инструментально-танцевальных ]
номеров.
Одним из важнейших компонентов специфической музыкаль-J
ной драматургии кабуки представляется система мигрирующих (
тематических образований «гэдза онгаку». Фрагменты «музыки:]
за сценой» иногда довольно протяжные, исполняемые в кабуки |
только этим ансамблем, как правило, используются в целом ря-1
де пьес, изображая сходные сюжетные и драматургические си- I
туации. 1
Вид музыкальной драматургии театра кабуки далеко неуии-|
кальное явление в искусстве народов Востока. Скорее всего это]
традиционный общевосточный музыкально-эстетический принцип 1
«привязанности» определенного эмоционального состояния к1
нормативному ладу, макаму, pare и т. д., который находит свое- 1
86 |
'образное воплощение в музыке театра кабуки. Подобным музы-
•’кально-драматургическим каноном отличается, как известно,
профессиональный театр Китая и Вьетнама (имеются в виду
«арии» в китайском традиционном театре или «общие арии» в
традиционном театре Тео). «Музыка за сценой» осознается нами
как признак тенденции кабуки к достижению высокой степени
.музыкально-драматургической типизации, в опоре на традици-
-онные закономерности художественного восприятия японца.
Показательно в кабуки имитирование или буквальное цити-
рование музыкального материала других видов и жанров нацио-
.нального искусства.
Однако, вопреки бытующему в Японии мнению об эклектич-
ности музыки кабуки, нужно подчеркнуть, что этот театр
не только творчески ассимилировал художественные достижения
современного ему искусства, но и создал новый стиль, явив-
шийся отражением переходного этапа от канонического искусст-
ва к современному. Первостепенный вклад в формирование но-
вых музыкально-стилевых тенденций кабуки внесли многочис-
ленные школы музыкальной литературы трехструнного сямисэ-
на — излюбленного партнера певца в городском бытовом музи-
цировании эпохи. Глубокие качественные видоизменения в сфе-
ре музыкально-выразительных средств кабуки по отношению к
ноо содержатся в новом «песенном типе развития». Его прояв-
ление в процессе экспонирования тематизма можно усмотреть в
самой естественно и широко распевающейся вокально-мелодиче-
ской линии. В ходе развития музыкальной мысли известный уже
принцип канонического искусства, рекомбинации ритмоинтона-
ционных формул, обогащается вариантными изменениями тема-
тического материала. Это приводит к симметричности компози-
ции, основанной на куплетной или вариантно-строфической фор-
ме. Новый тип взаимодействия жизни и искусства нашел во-
площение в театре кабуки, воспринявшем массовую песенную
стихию города и выработавшем новый принцип развития музы-
кального материала.
Эволюция японского традиционного театра (на примере
трансформации ноо и кабуки) в сторону постепенного отхода от
нормативных установок средневекового канона — закономерный
результат исторического процесса развития национальной куль-
туры. В неуклонном прорастании в недрах исконных форм эле-
ментов нового искусства отразился позитивный характер худо-
.жественного процесса в японской классической музыке.
Н. Г. Апарина
К ВОПРОСУ О СПОСОБЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ ТРАДИЦИИ
В КЛАССИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ ЯПОНИИ
(на материале трактата Дзэами «Кадэнсё»)
Рождение театра ноо датируется серединой XIV в., когда
была создана драма ноо (ёкёку), когда деятельность актеров
(саругакухоси) приобрела широкий размах и когда их искусст-
во с центром в Киото выдвинулось на одно из ведущих мест в
культуре времени. Своими корнями театр ноо уходит в далекий
VIII век к незатейливым увеселениям бродячих актеров, которые
заимствовали многие элементы пантомимического и акробатиче-
ского искусства из Китая. Предыстория театра ноо насчитывает
по крайней мере пять столетий медленного постепенного развер-
тывания. В сравнении со временем становления время расцвета
и высокого взлета этого искусства представляется кратким
мгновением. Строго говоря, оно совпадает с жизнью и деятель-
ностью его создателей — отца и сына Канъами (1333—1384) и
Дзэами (1363—1443), т. е. длится три четверти века или около
того. Дальнейшая же истопия театра ноо — это история его от-
носительных взлетов и относительных угасаний (иногда до пол-
ного затухания его деятельности в краткую эпоху до и после ре-
волюции Мэйдзи 1868 г.); это внутри себя живая и логически
выстроенная история движения к кристаллизации драматурги-
ческого и сценического канона, к приобретению статуса класси-
ческого театра. При жизни Канъами и Дзэами театр ноо наряду
с поэзией рэнга был тем новым, свежим, современным (свое-
временным) искусством, которое с наибольшей полнотой выра-
зило эпоху. В роли универсального выразителя художественных
идеалов времени он уже более никогда не выступал, х-отя сам
в себе непрерывно развивался и пришел к крупным достижени-
ям в исканиях совершенного мастерства.
Подобная историческая судьба характерна для явлений
японского традиционного искусства. Так возникли и бытуют
.многие его формы: длительно, подспудно назревали; рождались
и пышно раецгетали; а затем — не исчезали с арены истории
1чУльтУры, но укреплялись в своих идеях и формах (создавали
канон) и продолжали жить как консервативная часть культуры
88
(без негативного оттенка в слове «консервативный»), ее живая
старина, неотделимая от современности. Мир искусства строил-
ся здесь по аналогии с миром природы *. Все новое в нем — это
-его младенчество и молодость, все старинное, древнее — зре-
лость и умудренная старость. Как природа, как человеческое об-
щество не могут существовать одними молодыми силами, так и
искусство. Но чтобы старое и древнее в нем не сделалось дрях-
лым, отжившим или отживающим, необходима некая основа не-
иссякаемости. И тогда старость обращается в долголетие, а из-
начальное и исконное понимается как высшее — таковы тради-
ционные представления японцев. Занимаясь традиционным ис-
кусством, принципиально важно для понимания его сущности
находить источники его жизненности. Можно без преувеличения
сказать, что учение Дзэами об актерском искусстве явилось
вместе с драмой ноо той сфокусировавшей в себе художествен-
ную традицию «вечной» основой, на которой театр ноо возрос
и стоит.
Сила этого учения оказалась столь значительной, что оно не
только способствовало возведению театра ноо в ранг высокого
классического искусства, но и, как известно, оказало решающее
воздействие на эстетику классического театра в целом.
История театра в Японии не находит никаких следов суще-
ствования писаний по театральному искусству до Дзэами, и по-
тому его трактаты (их двадцать четыре) считаются первыми по
времени возникновения теоретическими трудами в этой сфере
искусства. Более того, такой авторитетный ученый, как Нисио
Минору, заявляет, что «многолетний труд по изучению теории
ноо привел меня к убеждению, что Дзэами является зачинате-
лем японской национальной эстетики; он был первым, кто за-
ложил основы художественного мышления японцев»2. Нелишне
при этом напомнить, что начало мыслительного освоения теат-
ральной практики, приведшее к зарождению учения о театре
ноо, было результатом общественной роли театра, результатом
развития художественного самосознания актеров. А говоря конк-
ретнее, то, что Дзэами смог в 1400 г. приступить к изложению
теоретических основ своего искусства, было подготовлено дея-
тельностью его отца, покровительством сёгуна (оно способство-
вало кроме прочего чрезвычайному возвышению социального
статуса актеров), выходом труппы Юсакидза, а вслед за нею" и
остальных трупп актеров ноо на широкую арену столичной
жизни.
Первый и главный трактат Дзэами — «Предание о цветке
стиля» («Фуси кадэн»), или «Предание о цветке» («Кадэнсё»).
Первые пять частей написаны в 1400—1402 тг., часть VI не да-
тирована, часть VII завершена в 1418 г. С этим трактатом и
связана существеннейшая проблема, обозначенная в заглавии
нашего сообщения.
Насколько самостоятелен Дзэами в этом трактате? Кто он:
автор, интерпретатор или простой фиксатор идей отца? Дело в
89
том, что сам Дзэами в тексте «Предания» неоднократно отка-
зывался от авторства, подчеркивая, что он лишь записал гото-
вое учение, переданное ему отцом. В конце части III читаем::
«...я запечатлел в глубинах памяти переданное мне покойным:
отцом учение и записал главное, дабы укрепить дом и дать вес-
[нашему! искусству... Я просто хочу оставить для потомков уче-
ние своего дома». А часть V трактата он заключает словами:.
«Вообще говоря, в „Предании о цветке"... отнюдь не заключено-
из меня изошедшее учение. С младенческих лет, с той самой по-
ры, как я, восприняв назидания [об искусстве! от покойного от-
ца, стал взрослым вполне, и в продолжение более 20 лет я впи-
тывал стиль нашего искусства точно, как видел своими собст-
венными глазами и слышал своими собственными ушами. В ин-
тересах пути, в интересах нашего дома сделал я эти записи..
И разве они принадлежат мне?» 3.
Если принять эти утверждения за истину, то, значит, авто-
ром «Предания» можно считать Канъами, а Дзэами выступает
лишь точным и прилежным пересказчиком идей отца. Есть ис-
следователи, которые склонны придерживаться подобного мне-
ния 4. Большинство японских исследователей, однако, более реа-
листично, на наш взгляд, подходят к этой проблеме5. Прежде-
всего они учитывают тот факт, что к моменту написания трак-
тата Дзэами было уже 40 лет, а когда умер отец, ему было все-
го 22 года. В течение 18 лет до появления «Предания» Дзэами
руководил труппой, накопил богатейший самостоятельный опыт
как актер и драматург, приобрел значительное образование и,
наконец, просто возмужал и состарился (в его время 40 лет
считалось началом старости). Несомненно, в «Предании», пер-
вом теоретическом опусе Дзэами, иашли отражение те уроки,,
которые он получил от отца. Но даже если предположить, что
все первые пять частей трактата — целиком отцовское преда-
ние (по тематике и кругу идей), то и в этом случае невозможно-
не признать в них авторской руки Дзэами, так как он неизбеж-
но должен был вобрать в себя и осмыслить отцовские заветы.
Наконец, он должен был обладать литературным даром изло-
жения, ученой способностью собрать воедино и систематизиро-
вать устные наставления отца 6. «Отношения Канъами и Дзэами
в области теории напоминают кое в чем отношения Сократа и
Платона. Диалоги Платона раннего периода рассматриваются
как философия Сократа, но и как философия начального перио-
да самого Платона. Точно так мысли и идеи «Предания о цвет-
ке» следует воспринимать в целом как философию Дзэами на-
чального периода. Ведь невозможно с точностью установить,,
какие конкретно идеи принадлежат Канъами. И можно сказать
иначе: идеи «Предания» о цветке — это чрезвычайно канъами-
зированные идеи Дзэами. Причем такая точка зрения ничуть не
умаляет заслуги Канъами»7. Данное отношение к названной;
проблеме представляется нам наиболее приемлемым. Самостоя-
тельность Дзэами как автора даже в первых пяти частях «Пре—
90
Дания» никак нельзя отрицать. Нас не должна вводить в за-
блуждение подчеркнутая апелляция Дзэами к отцу как автору
трактата. Ее надо понимать не столько прямо, сколько много
глубже, связывая с совершенно определенным кругом проблем,
характерных для эпохи Дзэами, и даже еще шире — для всей
традиционной культуры. Общеизвестно, что в японском средне-
вековом обществе, как и в Китае, нравственные чувства, худо-
жественные вкусы, профессиональные и ремесленные навыки
.имели своим первоисточником религию и семью 8. Это ясно вы-
ражено у Дзэами в конце «Предания», где он утверждает: «Дом
•еще не есть дом; он становится домом через наследование. Че-
ловеческое существо еще не есть человек; человеком становятся
благодаря познанию». В таком ракурсе рассмотрения вопрос об
авторстве вообще становится не главным, а на первое место вы-
двигается вопрос о «первотворце» и учителе.
Под «домом» подразумевается не просто семья, кровное
родство. «Дом — это путь одного учения, пройденный рядом по-
колений» 9 — так формулирует данное понятие исследователь
Кониси Дзюнити. Дом всегда имеет своего основателя, прароди-
теля, и его личность становится образцом для последующих по-
колений, весь смысл существования которых состоит не в созда-
нии чего-то принципиально нового, а в попытке повторить «все-
•совершенный» опыт учителя (исконное — всегда высшее и не-
исчерпаемое), правильно унаследовать и передать его потом-
кам» 10. Дзэами утверждает в «Предании», что зачинателем
традиций театра ноо был его отец Канъами. Он мифологизирует
личность Канъами, придает ей универсальное значение. Дзэами
говорит об отце как своем родителе, как о наставнике в профес-
•сии, в которой не было ему равных, как о теоретике искусства,
как о своем духовном руководителе. Таким образом, «дом», ко-
торый олицетворяется фигурой его гениального родоначальника,
включает в себя весь спектр ценностей, на которых утверждает-
ся жизнь человека. Поэтому он является твердой социальной
опорой и незыблемой духовной основой индивида в традицион-
ном обществе. Причем для Дзэами счастливо соединились в ли-
це отца родительский дом и художественный цех, школа, что не
всегда бывало ”. В «Предании» говорится: «...даже... единствен-
ному ребенку, но человеку неспособному передавать [учение]
не стоит». В создании и передаче профессиональной традиции
мать не принимала участия, поэтому не случайно, в «Предании»,
как и в последующих трактатах, нет ни слова о матери. Этим
еще более подчеркивается тот факт, что «дом» в контексте ху-
дожественной традиции понимался не как родительский кров,
но — в согласии с представлениями времени — как профессио-
нальный и духовный очаг личности, как школа, цех, община.
«Мужское» (по китайской натурфилософии — «ян») есть сосре-
доточие всего творческого.
Не будет преувеличением сказать, что историческая «сверх-
.задача» первого по времени написания трактата Дзэами, о ко-
91
тором мы ведем речь, состояла в утверждении Канъами основа- ,
телем дома, основателем театра ноо. Это одновременно и зада- ;
ча глубоко символическая. В ней заключен главный пафос ;
«Предания»: оно называет имя первоучителя, оно утверждает
традицию, оно учреждает новое искусство, которое затем непре-
рывно осваивают все последующие поколения. Сам дух «Преда-
ния» отражает названную задачу: трактат является основопола- '
гающим, всеохватным, масштабным. Имея столь полное содер-
жание, трактат сам играет роль всеобъемлющего вместилища
традиции. Все дальнейшие трактаты й самого Дзэами, и других
авторов лишь углубляют, комментируют, толкуют темы, поня- ,
тия, категории первоначального труда. Первое, неточное долж-
но быть высшим, непревзойденнейшим ,2. Так, проблема автор- .
ства на самом деле, как мы видим, заключает в себе вопрос о <
путях становления, утверждения и передачи традиции в средне- ,
вековом искусстве.
И в свете этого нс только создатели (не побоимся сказать
во множественном числе) «Предания» Канъами и Дзэами с вс- '
ками становятся легендой, но и сам текст как бы делается свя-
щенным. Стремление придать и имени Канъами, и тексту трак-
тата родоначальное значение мы обнаруживаем даже в самом
названии труда — «Предание».
Кроме того, в трактате активно живет такое важное для рас-
крытия обсуждаемой темы понятие, как «путь» («до»). Оно зву-
чит уже во вступлении к трактату: «Помысливший вступить на
наш путь, главное, не должен отклоняться на другие пути».
Путь — это абстрактно-теоретическое расширение и углубление
понятия «дома» 710 религиозно-философского звучания, ибо путь ‘
в даосском лексиконе есть метафизический символ внутренне
обусловленной земной жизни ,3. И одновременно па языке ис-
кусства данное понятие является почти техническим термином и
заключает в себе следующие конкретные представления: '
1) профессионализм — владение высокими техническими навы-
ками; 2) универсализм — творческая идея, на которой строится
узкопрофессиональная деятельность, есть проявление общей
идеи, господствующей и в других искусствах; 3) наследование —
передача в поколениях добытой первоначальной идеи и высоких
технических навыков; 4) благородное достоинство — наследуе- j
мая идея, умение обладает высокой ценностью; порою ценится .
даже больше жизни.
Слово «путь» в японском языке до XI в. означало просто
профессию, пространство, на котором действуют. В XI в. ’
идея «до — пути» утвердилась через даосскую традицию в ли-
тературе 14. Универсальное значение слово приобретает в
XIII в., когда активно внедрялось любимое изречение
дзэнских учителей, заимствованное ими у даоссов, — «одно — во ;
всем, и все — в одном», что способствовало всецелой концент-
рации усилий человека на одном роде деятельности как способе .
достижения высшей истины 15. В эпохи Камакура—Муромати ;
92
идея пути имела уже универсальное звучание, и в таком своем
употреблении она входит в словарь Дзэами.
Итак, наши рассуждения подвели нас к тому, что первый
трактат Дзэами «Предание о цветке» канонизирует имя Канъа-
ми как легендарного создателя театра ноо, провозглашает идею
дома и идею пути как универсальных способов закрепления,
хранения и передачи художественной традиции на высоком про-
фессиональном уровне. Названные идеи являются общими для
всего классического искусства Японии. «Дом» и «путь» — един-
ственно возможные способы создания непрерывной, живой и
«практической» истории искусства в средние века не в одной
только Японии, но, скажем, и в Китае. Два эти слова в кон-
тексте средневековья синтезируют в себе высшее единство ис-
кусства и жизни в искусстве.
; «Даосская идея всеобщей связанности вещей п существ сыграла важ-
ную роль в возникновении сознания единства с природой, а отсюда н едине-
ния природы и искусства»,— пишет И. А. Боронина в своей книге «Классиче-
ский японский роман» [М., 1981, с. 65]. См. также: Григорьева Т. П. Японская
художественная традиция. М., 1979, с. 211—223; Горегляд В. Н. Дневники,
и эссе в японской литературе X—XIII вв. М., 1975, с. 208—218.
2 Нисио Минору. Учение Дзэами о театре ноо (Дзэами-ио Ноо гэрон)..
Токио, 1974, с. 434.
3 Здесь и далее выдержки из трактата цитируются в переводе автора
статьи по изданию текстов в «Большой серии японской мысли» («Ннхон сисо
тайкэй»), Токио, 1974, т. 24 («Дзэами и Дзэнтнку»).
4 Кадзума Кавасэ считает, что части 1—V трактата — это точное воспроиз-
ведение идей Канъами, а части VI и VII могут считаться самостоятельным
опусом Дзэами. См.: Кадзума Кавасэ. Кадэнсё (Предание о цветке). Токио,,
1972, с. 185.
5 См.: Нарукава Такэо. Дзэами: хана-но тэцугаку (Философия цветка
у Дзэами). Токио, 1980, с. 31—32, а также работы Коииси Дзюнити, Ногами
Тоётиро, Като Сюит».
с Некоторые исследователи полагают, что Дзэами получал теорстические-
наставления от отца постепенно, иа протяжении всего их творческого общения
(см., например, указ. соч. Кадзума Кавасэ, с. 179). Другие считают, что-
«Предание» является предсмертными речами Каиъами (см. кн.: Zeami’s Ка-
densho. Токио, 1968, с. 3).
7 Нарукава Такэо. Философия цветка у Дзэами, с. 32.
8 Такие эпохи в жизни народов один нз французских психологов XIX в.
условно назвал «эпохами господства обычая» в противовес «эпохам господ-
ства моды», которые, по его мнению, утвердились в Европе со времени после
Возрождения. (Тард Ж- Законы поражения. СПб., 1892, с. 340—342).
9 Кониси Дзюнити. Исследование по теории иоо (Ноогакурон кэнкю). То-
кио, 1972, с. 114.
10 «Существо трансляции традиционной культуры состоит в том, что с по-
мощью ряда специальных приемов духовная личность учителя возрождается
в ученике. В тех случаях, когда эта передача личности имеет место, культура
воспроизводится, в противном случае — нет». См.: Семенцов В. С. Проблема
трансляции традиционной культуры на примере судьбы Бхагавадгиты.— Худо-
жественные традиции литератур Востока и современность: ранние формы тра-
диционализма. М., 1985, с. 42.
" Известна традиция искания учителя в художественной среде в средне-
вековой Японии. Человек уходил в странствие нз родительского дома и, найдя
себе учителя, оставался жить около него и перенимать его знания. Свободно
избранный учитель (по принципу духовной потребности илн практической не-
обходимости) играл в судьбе личности не меньшую роль, чем родители. Чело-
93:
тек как бы дважды рождался: сначала через родителей, «физическим» рожде-
нием, и оно определяло его нрав, темперамент, привычки и т. д. (генетика), а
затем — рождался через учителя «метафизическим» рождением на поприще,
•что формировало его духовную жизнь.
12 Конфуций говорит в Луиь-юй: «Я передаю, ио не создаю; я верю в древ-
ность и люблю ее» (Древнекитайская философия. М., 1972, том I, с. 153). Не-
точное и в Японии, и в Китае есть и причина и цель, поэтому ему придается
такое исключительное значение. Движение, устремленное к нему, не является
движением назад. Это циклическое, круговое движение и назад — в прошлое,
.и вперед — в будущее (графически: это движение по окружности от точки,
расположенной на окружности,— чем более мы от иее удаляемся, тем ближе
к ней продвигаемся). Отсюда возникает замкнутость, завершенность, самодо-
статочность такого движения.
13 Философское и мистическое толкование дао (по-японски — до) см. в
древнем памятнике китайской мысли «Дао дэ цзин» основоположника даосиз-
ма Лао-цзы в ки. «Древнекитайская философия» (т. 1). «Дао имеет и самое'
•широкое толкование как общий закон движения природы, построения макро-
косма и более локальное — как путь жизни человека, как его внутреннее пред-
назначение, движение к истине... С понятием дао связано осознание бытия как
процесса, где. результат имеет ничтожное, преходящее, эфемерное значение,
а сам процесс как таковой составляет смысл и суть» (Николаева И. С. Япои-
ские сады. М., 1975, с. 163).
Как известно, в японском языке названия многих профессий образуются'
с помощью иероглифа «до» как второго компонента в слове. Искусство актера
называется тогда словом «гэйдо» — «путь исполнительского искусства». Осо-
знание профессии как «пути» означает, что совершенствование в ней служит
развитию самосознания и самосовершенствованию личности (см. об этом в ки.:
Гундзи М. Японский театр Кабуки. М., 1969, с. 134). Слово «путь» в подобном
контексте ие должно ассоциироваться с понятием простого движения. Путь
в искусстве — это состояние развертывания творческих потенций человека.
Переводчик «Дао дэ пзии» на эстонский язык советский буддолог Л. Мялль'
пишет: «Русское слово „путь" годится для перевода „дао" только при усло-
жни, если знать, что это ие дорога, по коротой ходят туда-сюда, а внутренняя
направленность, ход явлений, процесс природы» (Мялль JI. Светлый путь
и темный путь,— Ученые записки Тартуского государственного университета.
Текст и культура. Труды по знаковым системам, XVI, 635, с. НО). Замеча-
тельное соединение художнического, философского и жизненного представле-
ний о дао мы встречаем в классическом труде В. М. Алексеева «Китайская
поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту» (Пг., 1916).
14 Это же утверждается, в частности, в исследовании И. А. Борониной
«Классический японский роман»: «... каждая вешь, велика ли она или мала,
шмеет свое „дао“, по-своему переживает свой путь и сопричастна Абсолюту»
(с. 65).
15 Профессионализм, мастерство высоко ставшись даже в самых простых'
занятиях. Мы отсылаем, например, к «Запискам от скуки», к дану № 109,
который начинается словами: «Некий мужчина, слывший знаменитейшим дре-
волазом...» (Кэнко-хоси. Записки от скуки. Пер. В. Н. Горегляда. М. 1970
<с. 96).
Г. Д. Иванова
РУССКИЕ НАРОДНИКИ В ЯПОНИИ
70—80-х годов XIX в.
В последней трети XIX в. развитие контактов с Западом по-
родило в Японии потребность в переводческих кадрах. В связи
с этим в 1873 г. в Токио была открыта Школа иностранных язы-
ков. Она состояла из пяти отделений (английское, французское,
китайское, корейское и русское) и имела статус среднего учеб-
ного заведения. Программа Школы была рассчитана на 5 лет,
преподавали в ней как отечественные учителя, так и иностран-
цы — природные носители изучаемых языков.
Одним из первых преподавателей Русского отделения явил-
ся Лев Ильич Мечников (1838—1888), брат всемирно известно-
го биолога И. И. Мечникова.
До того как приехать в Японию, 36-летний Л. И. Мечников
уже имел за плечами жизнь, насыщенную значительными собы-
тиями Исключенный за участие в студенческих волнениях из
Петербургского университета, он уехал на Ближний Восток в
качестве переводчика, затем возвратился в Европу, участвовал
в польском национально-освободительном движении, сражался
за свободу Италии под знаменами Гарибальди, после чего обос-
новался в Женеве.
Народник и анархист по убеждениям, Л. И- Мечников вра-
щался в среде русской революционной эмиграции. Помогал не-
легально переправлять в Россию герценовский «Колокол», при-
мыкал к левому, бакунинскому крылу 1 Интернационала. Тес-
ная дружба связывала его с В. Засулич, Ткачевым, С. М. Степ-
няком-Кравчинским.
Привлекательный облик Л. И. Мечникова нарисован женой
его брата: «Талантливый, остроумный, блестящий, красивый, к
тому же необыкновенно добрый и мягкий, он производил ча-
рующее впечатление».
После поражения Парижской коммуны 1871 г. и усиления
реакции в Европе русские скитальцы почувствовали себя неуют-
но. И тут дошла весть о «революции» в далекой Японии, Меч-
никова поманил к себе «свет, забрезживший на Востоке». Заго-
ревшись идеей поездки, он, уже владевший к тому времени де-
сятью иностранными языками, в течение полугода научился го-
95
верить и даже писать по-японски. Когда Женеву посетило по-;
сольство Ивакура (1878 г.), Мечников через влиятельных руко-
водителей этой правительственной миссии добился приглашения:
на работу в Токио.
Его «Воспоминания о двухлетней службе в Японии» печата-
лись в 1883—1884 гг. в газете «Русские ведомости». Четырна-_
дцать очерков этого газетного сериала запечатлели страну, быт;
и нравы ее обитателей. Хотя только один из этих очерков рас-:
сказывал о токийской Школе иностранных языков, в сочетании;
с другими материалами, добытыми японскими историками, off
позволил восстановить довольно полную картину деятельности
Л. И. Мечникова в этой Школе.
Преподавал он математику (написанные его собственной ру-
кой конспекты по алгебре и геометрии хранятся в архиве уни-
верситета Хитоцубаси, Токио), русский язык и историю. Уче-:
никам запомнился его рассказ о бсспр’авии рабов в Древнем
Риме, о реформах Петра I в России, которые Мечников сравни-;
вал с проходившей на его глазах модернизацией Японии.
Начало пребывания Л. И. Мечникова в Японии совпало с са-.
мым разгаром «хождения в народ» в России. Передовые рус-
ские интеллигенты считали своим долгом просвещение людей
труда, порицали самодержавную власть, обрекавшую их на тем-
ноту и бесправие. Можно не сомневаться в том, что именно с
таких позиций подходил к своим занятиям в Школе и
Л. И. Мечников.
В 1875 г. директором Школы иностранных языков был на-
значен Наказ Тёмин (1847—1901), только что вернувшийся пос-
ле трехлетнего учения во Франции, где он перевел на японский
язык «Общественный договор» Руссо и в какой-то степени ис-
пытал влияние недавней Парижской коммуны. В 70-х годах
XIX в. в Японии начинало разворачиваться Движение за свобо-
ду и народные права (Дзию минкэн ундо). Наказ Тёмин стал
идейным лидером левого крыла этого движения, которое вклю-
чало крестьян, мелких предпринимателей. Лелея мечту о соци-
альном равенстве, Наказ Тёмин в памфлете «Разговор трех
пьяниц об управлении» резко критиковал правительство Мэйдзи
не способное позаботиться «о счастье каждого человека».
Два передовых мыслителя, японец и русский, нашли общий
язык. Наказ Тёмин записал в дневнике, что Мечников говори
по-французски лучше, чем сами французы. Мечников собирался
написать о беседах с «представителями передовой Японии» i
автобиографической повести для «Отечественных записок», об
этом в 1881 г. он уведомлял Салтыкова-Щедрина, тогдашней:
редактора. Но после покушения на царя журнал был закрыт, г
задуманная повесть не увидала света.
Согласно данным, собранным в Японии, Л. И. Мечников на
писал в общей сложности двадцать работ. Одна из них, «Япон
ская империя» (Женева, 1878), представляла собою энцикло
педический труд на 700 страниц.
96
Кроме того, по-видимому, именно Л. И. Мечников познако-
мил токийцев с сочинениями своего друга С. М. Степняка-
Кравчинского. Во всяком случае, в 80-х годах книга Степняка
«Подпольная Россия» вышла в японском переводе под назва-
нием «Демоны вопиют» («Они сюсю», 1884) *. Один из учеников
Мечникова, Мурамацу Айдзо (1856—1939), стал активным бор-
цом за права народа. Он возглавил вооруженное восстание в
г. Нида, которое протекало с участием крестьянской бедноты и
солдатского гарнизона (1884 г.).
Более шести лет (1878—4884) работал в токийской Школе
иностранных языков Андрей Андреевич Коленко (род. в 1849 г.).
По данным библиографического справочника «Деятели револю-
ционного движения в России» (т. 2, вып. 2, 1930), А. А. Коленко
в 1869 г. был студентом Земледельческого института в Петер-
бурге (ныне — Лесной институт). За участие в «беспорядках»
попал в 1870 г. в Петропавловскую крепость, затем был выслан
на родину в Черниговскую губернию под надзор полиции. Как
он попал в Японию — неизвестно, но его работа в Школе за-
фиксирована в сохранившихся тетрадях его ученика, недавно
найденных и опубликованных японскими учеными. Тетради Ко-
дзима Куратаро, в которых содержатся конспекты уроков Ко-
ленко, помечены 12-м годом Мэйдзи (1879 г.).
Примечательную особенность его уроков по русской литера-
туре составлял акцент на гражданском пафосе произведений
русских писателей. Так, учитель объяснял, чем обусловлено «го-
ре от ума» в комедии А. С. Грибоедова, в чем состоит гоголев-
ский «смех сквозь слезы». Для уроков декламации (два часа в
неделю) он выбирал произведения, проникнутые духом воль-
ности. Знакомил со стихами А. Бестужева и К. Ф. Рылеева
(«Ах, тошно мне»), Н. Огарева («Кабак»), А. И. Полежаева
(«Четыре нации»), со стихотворением В. С. Курочкина «Двуглаз
вый орел». Ученики заучивали наизусть заключительные строки
из ответа декабриста Одоевского на послание А. С. Пушкина:
Но будь спокоен, бард! — цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Вольнолюбивая поэзия декабристов, народников, политиче-
ских ссыльных должна была сеять семена протеста против дес-
потической власти в душах японских подростков.
С признательностью вспоминали бывшие ученики Школы о
Николае Грее. Особенно запомнилось им его выразительное
чтение вслух. Учитель вставал за кафедру и читал главу, ска-
жем, из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя или из «Униженных и
оскорбленных» Ф. М. Достоевского, передавая голосом и жеста-
ми характер каждого персонажа. Прослушав текст, ученики пи-
7 Зак. 324
97
сали изложение прочитанного: Грей терпеливо правил их упраж-
нения красной тушью.
Благодаря урокам Грея проникся любовью к русской лите;
ратуре Хасэгава Тацуноскэ, в дальнейшем лучший в Япони»
переводчик Тургенева, Гончарова, Гаршина и других писателей
ставший известным под псевдонимом Фтабатэй Симэй.
Метод чтения вслух родился, можно сказать, поневоле
Школьная библиотека располагала лишь единственными экземп-
лярами русских книг, всего их в первое время насчитывало^
лишь около 300. Обучение «с голоса» оказалось неожиданно эф-
фективным: подростки прислушивались к мелодике русской рё
чи, приобретая навыки правильного произношения. Ученики за
помнили также, что Грей «всегда с большей горячностью осуж<
дал самодержавные порядки в России». Пытаясь восстановить
биографию Грея, японские исследователи выяснили лишь то]
что он покинул царскую Россию по политическим мотивам и
принял американское гражданство. В Японию Грей приехал с
женой, в 1884 г., по-видимому из Сан-Франциско, покинул же
страну в 1886 г. Год его отъезда историки уточняли, кропотливо
изучая списки пассажиров-иностранцев, отплывавших из г. Йо-
когама во второй половине 80-х годов.
На этом сведения о Грее исчерпывались. Неудачи в поис-
ках дальнейшей информации, по-видимому, объяснялись тем, чтс
Н. Грей выступал под своей «американской» фамилией. Его
подлинная фамилия оставалась неизвестной, так как революцио-
неры, бежавшие за границу от царской тюрьмы, соблюдали кон-
спирацию 2.
Определить подлинную фамилию Грея помог случай, которо-
го, впрочем, автор настоящих заметок давно искал. В трудах из-
вестного народника П. Л. Лаврова встретилось примечание, где
говорилось о русской коммуне в США, и среди ее членов упо-
минался Н. В. Чайковский (Н. Грей).
Правда, ни одна из биографических справок о Н. В. Чайков-
ском, которые вслед за этим нам удалось разыскать, не упоми-
нала факт его пребывания в Японии. Однако сопоставление
всех'обстоятельств жизни и хронологических дат, в конце кон-
цов, не оставило сомнений: в токийской Школе иностранных
языков преподавал Николай Васильевич Чайковский. За преде-
лами России он находился с 1874 по 1907 г. (в конце жизни он
снова вернулся в Европу). За это время он переменил много
мест жительства — ив Америке, и в разных странах Европы. Из^
этих 33-летних скитаний два года в Японии выпали из поля зре-i
ния биографов.
Родился Н. В. Чайковский в Вятке в 1850 г., в 1872 г. окон-
чил естественный факультет Петербургского университета. Сту-
дентом вступил в кружок Натансона — Александрова, где мо-
лодежь занималась самообразованием и распространяла запре-
щенную литературу. Особенно чтили они Н. Г. Чернышевского.
С 1871 г. кружок расширился (до 30 человек) и стал имено-
98
ваться «чайковцы», в него входили, в частности, такие впослед-
ствии известные революционеры, как С. Л. Перовская, Н. К. Ло-
патин, Н. А. Чарушин, С. М. Кравчинский, П. А. Кропоткин.
П. А. Кропоткин позже вспоминал: «Чайковский произвел
на меня обаятельное впечатление с первого же раза. И до на-
стоящего времени, в продолжение многих лет, наша дружба не
поколебалась» 3.
После разгрома кружка Н. В. Чайковский, скрываясь от по-
лиции, странствовал по России. В Орле он столкнулся с
А. К. Маликовым, который увлек его своей идеей «богочелове-
чества» (дотолстовский вариант «непротивления злу насилием»).
С целью практической реализации этого учения об «идеальном
строе жизни» Н. В. Чайковский в 1875 г. уехал в Америку.
В Кедровой долине (близ Уитито) в штате Канзас они вместе с
Маликовым основали трудовую общину (из России к ним при-
было еще 15 человек). Здесь они по примеру сельскохозяйствен-
ной коммуны В. Фрея (1839—1888) построили общий дом, по-
сеяли пшеницу и кукурузу. Община вела крайне аскетическую
жизнь, все внимание сосредоточивалось на духовном самосовер-
шенствовании. Но не прошло и двух лет, как община распа-
лась: измученные бедностью и тоской по родине, почти все рус-
ские участники коммуны вернулись домой.
После распада коммуны Н. В. Чайковский работал плотни-
ком в Филадельфии, около года жил в религиозной общине
«шейкеров», в 1878 г. он перебрался в Париж, где произошла
его встреча с И. С. Тургеневым. «Я познакомился с Чайков-
ским, известным (более или менее) основателем новой религии
в Америке и т. п. Человек он умный и симпатичный», — писал
И. С. Тургенев редактору «Вестника Европы» Стасюлевичу
23 августа 1879 г.
Вместе с С. Кравчинским, Ф. Волховским и Л. Шишко
Н. Чайковский издавал «Листки Вольной Русской прессы». Не-
которое время он жил одним домом с П. Кропоткиным в Анг-
лии, который позже вспоминал: «Мы поселились теперь в ма-
леньком коттедже в Харро, под Лондоном. Меблировка пас ма-
ло заботила. Значительную часть ее мы смастерили с Чайков-
ским. Он тем временем побывал в Соединенных Штатах, где на-
учился немного плотничать» 4.
В Лондоне было очень трудно найти работу, Чайковский с
семьей бедствовал. Как и Л. Мечников, он ради заработка вре-
мя от времени сотрудничал в московской газете «Русские ведо-
мости». Вероятно, по рекомендации Л. Мечникова (возможно,
переданной через их общего друга Кравчинского) он и отпра-
вился в токийскую Школу иностранных языков, где можно бы-
ло рассчитывать на твердый заработок.
Преподавали в Школе и другие русские учителя: Богомолов,
Готский-Данилович... Достоверных сведений об этих людях пока
что найти не удалось.
Русскому отделению токийской Школы иностранных языков
7*
9»
исключительно повезло. На протяжении ряда лет ~~
давали выдающиеся личности. «Лев Мечников” Прег11‘
В. Г. Плеханов,—один из самых замечательных поел'1^*1
лей того поколения 60-х годов, которому много обязан?®®11’
общественная жизнь, наша наука и литература... Забьи?3 НаЩа
ких людей, как Л. И Мечников, было бы непрости/^ Та’
О «чайковцах» П. А. Кропоткин писал следующее:
впоследствии я не встречал такой группы идеально чпе*1®0 Да
нравственно выдающихся людей, как те человек двадцать Ы' и
рых я встретил на первом заседании кружка Чайковского^п
сих пор горжусь тем, что был принят в такую семью»s qbo
убеждениями, знаниями, всем своим духовио-нравственнымН'л
ликом эти люди не могли ие оказать благотворное воздейств°°
на учеников. Благодаря им и русская классическая литература I
и передовая общественная мысль России сделались достоянием
японцев, влились в их духовную жизнь. Поистине трудно пере-
оценить тот факт, что основы русистики в Японии были зало-
жены народниками-семидесятниками. Но народники не только
учили, но и учились в Японии. Так, тот же Л. Мечников отме-
чал: «И Европе, в свою очередь, не мешало бы кое-чему по-
учиться у японцев в культурно-гуманитарном отношении»6. Все
это подтверждает, применительно к Японии, слова В. И. Лени-
на: «Благодаря вынужденной царизмом эмигрантщине револю-
ционная Россия обладала во второй половине XIX в. таким бо-
гатством интернациональных связей, такой превосходной осве-
домленностью насчет всемирных форм и теорий революционного
движения, как ни одна страна в мире» 1.
Расширяется п наше представление о географическом
пространении русской революционной эмиграции. Ми х &
знали такие ее центры, как Женева, Париж, Лондон,
этот список следует включить и Токио.
рю ПОД''' г
1 Книга была изъята цензурой, а ее переводчик Мнядзак! ‘
ся тюремному заключению. п«гк1» лсгаЛЬкя(-
2 Так, Л. И. Мечников, посылая из-за рубежа стать» в Р-^ Д1^сг?и<
печать, часто подписывался вымышленными именами: з»
cap-ин, Гарибальдиец и др.
3 Кропоткин П. А. Записки революционера.
4 Там же, с. 434.
’ Там же, с. 273. .. я
4 Дело. 1877, № 2, с. 243. .н11Л>к -т 41
Ленин В. И. Детская болезнь левизны в комму
/у ,4. Иофан
протояпопская
И Ш’ГВН! ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА
проб геме формирования стиля)
, „чждой культуры существует длительный период
В истории ка будущей национальной ку льтуры
, течение «°™Р° ‘ ни формируется и зреет стиль, опредсля-
наьалливаются P культуры, ее неповторимость Наиболее
“ственно этот процесс происходит в изобразительном творч<
‘"Психологами XX в. установлено, что, чем дальше отстоит
эпоха от нашего времени, тем большее место в памяти чеюг-
чества в его представлениях о культуре той эпохи занимают
(.ведения об изобразительном искусстве. Ключом к объяснению
этой закономерности может служить то обстоятельство, что
именно изобразительное творчество явилось первым простран-
ственным воплощением изначального космизма человеческих
представлений. Сюжеты древнейшего космогонического мифа за-
печатлены в наскальных изображениях и орнаментированной ке-
рамике, в сакральных предметах из бронзы и в курганах ран-
него железного века, в первых по времени архитектурных со-
оружениях (в различных выкладках из камня, деревянных свя
тилищах и пр.).
Вообще основные параметры, описывающие любую культуру
в истории человечества, ее характер — пространство и время,
впервые зафиксированы в его изобразительном творчестве и ри-
туалах, которые в эпоху первоначального синкретизма являют-
ся неотъемлемыми частями древнего мифа, в чьих сюжетах за-
ключена вся информация, которой определялась и регламенти-
ровалась жизнь человека каменного века.
пособ изобразительного воплощения космогонического ми-
гантг™’НаЯ С нео-пита’ определяет разделение культуры этой гн-
зваиы 'LnA,54'1 Иа Два ОСНОВНЬ1Х вида, которые могут быть на-
мегалитич(Ф?а петроглифов» (в рамках которого складывается
мезолит-П „ Г. культура, продолжающая традиции палеолита и
косятся регионы ' нГц ,’асп1’снои керамики». К первому виду сг
МУ-регионы зем1ппнЛ0В0В’ °хотииков и скотоводов, ко втори-
д льцев. Региональное разделение культуры
нового каменного века включает также и ареалы «смешанной
культуры» (с преобладанием петроглифов или орнаментирован-
ной керамики. Чаще всего это регионы «полистадиальной куль-
туры» при наличии признаков «транзитной культуры»).
На протяжении тысячелетий палеолита и неолита на япон-
ской земле одни археологические культуры сменяют другие, и
вплоть до рубежа неолита и энеолита культурный комплекс поч- ,
ти ничем принципиально не выделяется еще из общей стадиаль-
ной культуры огромного ареала Дальнего Востока, Юго-Восточ-
ной Азии и Океании, откуда, как известно, происходили мигра-
ции племен на Японские острова и далее. И только лишь в са-
мом конце каменного века начинает проявляться своеобразие
сплава неолитических культур конгломерата племен, заселивших
территорию Японских островов.
Транзитный по своему характеру феномен протояпонской
культуры оказывается весьма плодотворной основой для форми-
рования неповторимой культуры народности Ямато, культуры,
наследующей динамичность и гибкость культуры «народов мо-
ря», способной активно взаимодействовать с самыми различны-
ми культурами, сохраняя уже накопленные традиции. И если
стиль таких археологических культур Японских островов, как
Инаридай, Тадо I, Каяма, Сэкияма, Морисо, Кацудзака, Отама-
дай и др. (от мезолита до раннего неолита) свойствен не этно-
су, который только еще зарождался в конце неолита, но стади-
альной культуре, времени, — стиль культур Омори, Хориноути,
Камэгаока, Ангё, Сёнохата, Онга и др. уже определенно принад-
лежит земле, «локусу».
Многократные, длительные, неоднородные и разностадиаль-
ные миграции из разных по характеру культур и регионов сфор-
мировали к началу неолита регион «смешанной культуры». При-:
чем вследствие значительно более слабого, чем в Китае или
Вьетнаме, развития земледелия (откуда оно распространяется в
другие районы дальневосточно-океанического региона) в прото-
японской культуре преобладает миф охотников и рыболовов,
что наложило сильный отпечаток на неолитическую и энеолити-
ческую керамику.
Несмотря на то что поздненеолитическая и энеолитическая
керамика дзёмон выполняет роль модели мироздания, система ее
орнамента, в отличие от вполне релевантной иерархической си-
стемы расписной керамики земледельческих регионов, не дости-
гает такого уровня, не создает своей художественной системы и
сохраняет зависимость от традиций предыдущего периода, ког-
да отношение к поверхности сосуда подобно отношению к по-
верхности скалы, и вместе с тем зачастую заимствует стадиаль-
но более поздний декор Чжоуской бронзы. Тем более что энео-
лит и бронзовый век на японской земле совпадают.
В то же время археологическая культура Яёй (объединяю-
щая Японию и Корею) обнаруживает накануне наступления
раннежелезного века тесные связи с так называемыми палео-
102
азиатскими культурами Прибайкалья, Нижнего Амура и При-
морья, где, как известно, на протяжении нескольких тысячелетий
существовали мощные очаги петроглифической культуры. Петро-
глифы, фиксирующие отдельные сюжеты, обнаружены и на се-
вере Японии (на Хоккайдо).
Керамические сосуда в дальневосточном регионе (включая
Северную Корею, Нижний и Средний Амур, Приморье, Камчат-
ку и японские острова Хоккайдо и Хонсю) не обладают еще за-
конченной художественной системой своего орнамента. На том
этапе орнамент декора сосудов фиксирует еще пока только от-
дельные представления человека об окружающем мире. Но и
здесь уже с полным основанием можно выявить целый ряд сю-
жетов мифа.
Самый важный из них зафиксирован в спирали. Как извест-
но, спираль — один из самых древних символов человечества
(одновременно магический ритуальный символ и художественно-
декоративный образ). Спираль появляется в гравировках па-
леолита и в декоре керамических сосудов. Она встречается в
Месопотамии, петроглифических композициях Судана и в кера-
мике додинастнческого Египта, на сосудах Хаджлара и в орна-
ментах керамики Сиали П1 и Тепе-Гиссар I, на крайнем Западе
(Скандинавия, Ирландия) и на Дальнем Востоке.
Но в неолетических орнаментах Дальнего Востока она несет
чисто символическую нагрузку. Здесь со спиралью связаны из-
начальные представления о змее, символизирующей Нижний,
Подземный мир, влагу, плодородие. В Океании и дальневосточ-
ном ареале широко распространено представление, что земная
твердь покоится на змее. Связь спирали с идеей плодородия по-
зволяет связать ее также и с сюжетами раннеземледельческого
мифа. По мнению академика Окладникова, с земледелием свя-
зан и среднеамурский орнамент. Вообще змея-спираль связана
с важнейшими небесными стихиями — дождем, громом, молни-
ей.
Примерно в I веке до н. э. на юге Японии сосуществуют
культуры металла и камня (средний Яёй). В районах Кинки,
Хокурику, Токай и Канто наступает железный век, а на севере
Хонсю продолжается каменный век, который на Хоккайдо за-
держивается еще очень надолго.
Сочетание, с одной стороны, стойких традиций неолита и
энеолита, а с другой — все усиливающегося притока с материка
стадиально значительно более поздней развитой и зрелой куль-
туры привели к своеобразной полистаднальности, к соединению
внутри изобразительной системы энеолита-бронзы разнородных и
достаточно противоречивых традиций, что оказывает серьезное
влияние на развитие японской стилистики последующего време-
ни. В этот период складывается сочетание в энеолитических со-
судах свободного пластического начала (несмотря на то что уже
в конце неолита появляется поворотная площадка для выравни-
вания тулова сосуда) с организованностью заимствованной чжо-
103
уской бронзы, сохраняясь и в средневековом и в новом искусстве
Японии.
На рубеже неолита и энеолита изобразительный стиль кера-
мики являет собой образец самостоятельной символической си-
стемы, переработавшей и синтезировавшей множество стадиаль-
ных и локальных заимствований в единый, неповторимый стиль.
Открытая подобно системе петроглифов, система позднего
дземона, этот последний в Евразии яркий и своеобразный фено-
мен культуры, функционально примыкающий к художественной
системе расписной керамики, демонстрирует космогоническую
систему мифа, представляя картину мироздания, свободно раз-
вертывающегося в пространстве.
Чисто символическая модель мироздания представлена гли-
няной погребальной урной с острова Хонсю. Три спирали строго
расположены по вертикали, олицетворяя три мира, на которые
делится Вселенная: небесный, земной и подземный. Движение
спирали не замкнуто краями сосуда, оно бесконечно уходит
вверх и вниз...
На конечном этапе керамика дзёмон в результате совмеще-
ния энеолита и бронзы и в то же время усиленного тиражиро-
вания сосудов эволюционирует от функциональности и знако-
вости в сторону декоративности, знаменуя разрушение системы
мифа, и к моменту наступления раннежелезного века (так назы-
ваемому кофун дзидай) уступает место феномену сакральной
ритуальной скульптуры ханива, появление которой знаменует
смену мифа древнеяпонской религией, впоследствии получившей
название синто.
Формирование японского общества бронзового и раннеже-
лезиого веков происходит в условиях, когда окружающий мир,
т. е. огромный культурный ареал Дальнего Востока и Цент-
ральной Азии, вступил уже в эпоху средневековья. Поэтому об-
стоятельства и темпы развития японского общества совершенно
иные. Оно не только идет ускоренными темпами по сравнению с
развитием позднестадиальных обществ древности, но и очень
резко (примерно через 200—250 лет) прерывается в результате
активного вторжения в Японию в VI—VII вв. вместе с буддиз-
мом совершенно иной стадиально и этнически культуры. Таким
образом, складывающаяся народность, японское общество, едва
только вставшее на путь создания варварского королевства, об-
щество, внутри которого формируются два уклада, рабовладель-
ческий и феодальный, и в то же время общество, обремененное
сложным грузом пережитков племенного строя, столкнувшись
лицом к лицу со зрелой средневековой цивилизацией, обогащен-
ной достижениями народов Китая, Кореи, Индии и Централь-
ной Азии, культурные заимствования которых уходят корнями и
в Рим, и эллинистическую эпоху, круто меняет направление
своего развития.
Погребальная скульптура ханива, в которой воплотился ду-
ховный идеал общества Ямато, принадлежит к самым ранним
104
из известных нам памятников уже собственно древнеяпонского
искусства. Она появилась в конце V в. нашей эры и получила
широкое распространение в VI—начале VII в. Период ямато в
японской истории знаменует собой переход от раннеклассового
общества, союза племен во главе с племенными вождями, к го-
сударству. Родо-племенной культ предков трансформировался в
государстве Ямато в культ предков во главе с верховным боже-
ством— солнечным предком царя Ямато. В этот период возво-
дятся погребальные сооружения курганного типа — религиозные
комплексы солярного культа эпохи раннего железа. Ямато —
период становления японской народности. По мнению этногра-
фов, антропологов, историков японцы эпохи развитого средне-
вековья ничем не отличаются от народа Ямато. Именно в этот
период, накануне распространения в Японии буддизма, возник-
ло самобытное искусство, в котором воплотился мир религиоз-
но-мифологических представлений раннего, добуддийского синто.
В антропоморфной скульптуре ханива имеется два типа изо-
бражения: 1) изображения жриц и жрецов-воинов и воинов без
жреческих регалий; 2) изображения придворных, челяди и про-
столюдинов. Первый тип может быть отнесен к иератическому,
магическому портрету. Его иконография обнаруживает полное
соответствие мифологическим сюжетам, содержащимся в «Код-
зики», «Нихонги» и других памятниках. В скульптуре ханива
таким образом запечатлен пантеон добуддийской Японии.
Интересно, что слова, обозначающие только антропоморфных
ханива (татэмоно, цутинингё, цуяку и пр.), вошли в состав
большинства имен собственных богов синтоистского пантеона,
которые зафиксированы в «Кодзики», «Нихонги» и других па-
мятниках. Все эти синонимы происходят от глагола «тацу» —
стоять. Наличие в имени божества понятия «стоять» также мо-
жет служить указанием на то, что здесь таким образом осозна-
на идея ритуального предстояния. В синтоистском молитвосло-
вии в праздник бога Ветра, происходивший в Тацута, говорится:
«На этом, князи великие, вельможи близкие, люди сотни управ
и Ямато-страны с шести вотчин посадники, вплоть до жен и
мужей, в месяц удзуки года сего... крупно собравшись, пред
Царственным Богом бьют низко челом, корморанам подобно,—
и в сей день при славном в гору подъеме расцвстного солнца
возносят хвалы» (пер. Н. Невского).
В иконографии ханива воплощено взаимодействие земного и
небесного. Стилистика скульптуры стремится к предельной вы-
разительности и обобщенности изображения деятельности чело-
века. Несмотря на небольшие сравнительно размеры (от 40 да
130 см), скульптура отличается подлинной монументальностью,,
уравновешенностью композиции, смелой передачей движения,.
Художественные приемы творцов ханива, понимание пространст-
ва вполне соответствуют японской эстетике последующих вре-
мен, когда функциональная условность изображений была: ос-
мыслена в категориях красоты и гармонии.
Е. /(. Симонова-Гудзенко
О ПОЯВЛЕНИИ БОГИНИ АМАТЭРАСУ
В ЯПОНСКОМ МИФОЛОГИЧЕСКОМ ПАНТЕОНЕ
Процесс заселения японских островов различными этниче-
скими группами, являвшимися носителями разнотипных куль-
тур, предопределил сложный синкретический характер создания
мифологического пантеона, который сегодня известен как япон-
ский. Детальный анализ древних письменных памятников по-
зволяет предположить, что в создании японской мифологии уча-
ствовали, по крайней мере, два разных культурных комплекса,
которые условно нами были названы «земными» и «небесными».
Каждый из них, видимо, имел развитую систему астральных и
хтонических богов. Однако наиболее архаический слой — описа-
ние нерасчлененного мира и мироустройства — был, вероятно,
единым для обоих комплексов, «созданных теми протоайнскими
этническими группами, которые являлись либо аборигенным на-
селением островов, либо мигрировавшим в более раннюю исто-
рическую эпоху и которые остались достаточно устойчивыми и
не были поглощены во время миграций в эпоху неолита» Куль-
турные комплексы «земной» и «небесный» возникли как бы на
следующем этапе развития человеческой общности на японских
островах. Взаимоотношения этих, по меньшей мере трех, куль-
турных комплексов и нашли отражение в японской мифологии,
неизменной, общей для всех на уровне мирообъяснения и варьи-
рующейся на- уровне мироустройства.
Включение в мифологический пантеон Аматэрасу, верховной
богини императорского рода, происходит именно на уровне со-
единения мифологических систем нескольких племенных групп.
При этом для большей значительности ее необходимо было
ввести в неизменную архаическую часть, так как повышенная
древность означала и высокий статус.
На определенном историческом этапе происходит соединение
функций богов стихий и разных племенных богов, что находит
отражение в структуре изложения мифов, т. е. происходит соеди-
нение мифов разных племенных групп в рамках одной мифоло-
гической системы.
На самых ранних этапах развития японского общества, ви-
димо, существовало мифологическое единство на уровне миро-
106
объяснения, что предопределило существование единого риту-
ального комплекса. При существовавшем-этническом многообра-
зии божества в тот исторический период, олицетворяя одни и те
же стихии и явления природы, могли иметь разное обозначение.
В дальнейшем с развитием социальных отношений, с выделени-
ем отдельных родов-племен функции богов усложняются, т. е.
многие божества становятся богами-охранителями того или ино-
го рода. Вероятно, именно в этот период и выходит на первый
план, или, возможно, даже возникает богиня Аматэрасу, как бо-
гиня одного рода-племени, который впоследствии стал импера-
торским. Во время объединения различных родов-племеи в одно
идеологическая власть над всем населением могла осуществ-
ляться только через единый ритуальный комплекс, т. е. самый
древний. Поэтому важно было не только получить звание перво-
священника самого древнего культа, что давало власть над
всеми слоями населения, включая и родо-племенную верхушку
(как известно, на ранних этапах развития человеческого общест-
ва характерно объединение духовной и светской власти), но и
ввести своего родо-племенного бога в древний пантеон. Ощуще-
ние синкретического характера Аматэрасу присутствует в куль-
туре японцев: «Аматэрасу возникла в качестве синтеза великого
божества, являвшегося божественным предком двора Ямато, я
солнечного божества Исэ. С тех пор божество солнца, главное
среди прочих божеств природы в Исэ, превратилось в божест-
венную прародительницу японского императорского дома» 2.
Следовательно, очевидно, можно предположить, что включе-
ние богини Аматэрасу, видимо клановой богини императорского
рода, в исходный пантеон — явление относительно позднее.
О позднем введении богини Аматэрасу в ранний слой япон-
ского пантеона свидетельствуют следующие моменты.
1. Упоминание другой богини Солнца без имени в первом ми-
фе «Когосюи» А Единственным божеством, имеющим имя из
трех названных в нем, является Сусаноо, что свидетельствует,
видимо, и о древности его происхождения, и о его популярности
в момент фиксации.
2. Среди «земных богов» была богиня Солнца, ее имя встре-
чается в мифе о женитьбе одного из небесных посланцев, Амэ-
вакэ-хико, на земной богине Сита-тэру-химэ4. Ее имя означает
«низ освещающая дева», т. е. это богиня Солнца, видимо, како-
го-то «земного» мифологического комплекса. Тот факт, что в
пантеоне «земных» богов уже существовала богиня Солнца, сви-
детельствует о довольно длительном развитии «земного комп-
лекса» и существовании своей мифологической традиции отно-
сительно земли и неба.
Разная запись имени Сита-тзру-химэ в «Кодзики» и «Нихов-
сёки» свидетельствует о том, что в момент фиксации миф был
еще живой. Известно, что названные памятники составлялись на
основе каких-то более архаических текстов, которые, в свою
очередь, видимо, возникли в период формирования японского
107
письменного языка. Имена в тот период записывались фонети-
чески и в разных списках, а порой даже в одном, но в разных
частях его, могли быть записаны разными иероглифами. Если же
«Кодзики» и «Нихон-сёки» составлялись в более поздний исто-
рический период, то, видимо, для авторов-составителей источни-
ков это имя, как и имя Сусаноо, могло быть чужим, незнако-
мым, что и привело к его фонетической записи в разных вари-
антах.
Запись-этого имени в «Нихон-сёки» невольно наводит на
мысль, что позже по аналогии с именем именно этой богини бы-
ло создано в общеяпонской мифологической традиции имя Ама-
тэрасу.
3. Упоминание о двойном рождении богини Солнца в тексте
«Нихон-сёки». У богов Идзанаги и Идзанами в процессе тво-
рения мира рождается тройка богов, которые впоследствии рож-
даются «второй раз» у бога Идзанаги во время обряда очищения
после возвращения его из страны мрака. Миф о «первом рож-
дении» этих богов представлен в двух вариантах полностью и в
нескольких — вариацией имен6.
На примере сравнения двух полных вариантов, видимо, мож-
но наблюдать процесс введения «пришлой богини» в устоявший-
ся мифологический пантеон. Включение в текст «Нихон-сёки»
дополнительных неполных вариантов, что в целом согласуется
со структурой памятника, демонстрирует искусственное, насиль-
ственное введение имени Аматэрасу в уже сложившуюся мифо-
логическую систему. Более того, в третьем варианте имя пред-
ставлено как слияние имен первых двух вариантов, т. е. в это
время не только миф был еще живой, но и происходило введе-
ние родо-племенной богини Аматэрасу в архаический слой ми-
фологического пантеона.
Вторым богом рождается бог Луны Цукиёми. Его имя тоже
имеет несколько вариаций записи, что свидетельствует о древ-
ности его происхождения и о том, что миф в момент фиксации
был еще живой. Эти первые два бога (Аматэрасу и Цукиёми)
были светоносными, любили друг друга, и поэтому они оба бы-
ли призваны управлять Небом. Третьим божеством рождается
Сусаноо (тоже представлены вариации имен), который от рож-
дения обладал «злыми» функциями и должен был управлять
подземным миром (Нэ-но куни).
Четвертый, полный вариант мифа о «первом рождении»
структурно иной, он предвосхищает миф о «вторичном рожде-
нии», который единственный вводит Аматэрасу в последователь-
ном мифологическом рассказе «Кодзики». Родителем богов в
четвертом, полном варианте мифа «о первом рождении» и в ми-
фе о «вторичном рождении» является один Идзанаги.
В четвертом варианте божества появляются из бронзового
зеркала, которое является одним из основных Элементов риту-
ального комплекса японцев (меч, зеркало, магатама). Божество
Солнца, Оохирумэ но мути, появляется из зеркала, когда Идза-
108
наги берет его в левую руку, когда же он берет зеркало в пря-
ную руку — появляется Цукиёми, божество Луны, и когда он,
повернув голову, смотрит в зеркало искоса, появляется Суса-
ноо6.
В мифе о «вторичном рождении» божества рождаются у Ид-
занаги во время обряда омовения: из левого глаза появляется
Аматэрасу, из правого — Цукиёми и из носа — Сусаноо 7.
Таким образом, как и в первом, так и в четвертом вариан-
тах мифа о «первом рождении» богиня Солнца именуется Оо-
хирумэ но мути, а имя Аматэрасу вводится только дополнитель-
ными вариациями имени. Первый вариант является, видимо,
наиболее древней интерпретацией появления богов Солнца, Лу-
ны и Подземного мира. В дальнейшем с развитием мифологиче-
ского сознания, с появлением понятий-оппозиций (правый/ле-
вый) появляется второй вариант, в то время как миф «о вторич-
ном рождении», являясь дальнейшим развитием мифологическо-
го комплекса, известного нам как единого, «демонстрирует же-
лание узаконить подобной интерпретацией объединение культов
Аматэрасу и Сусаноо» 8. Подобное предположение подтверж-
дают последующие сюжеты, в которых Аматэрасу и Сусаноо вы-
ступают уже не как божества, олицетворяющие разные стихии,
а как представители разных культурных комплексов. Кроме то-
го, столь популярное в мифологиях других «земледельческих»
народов противопоставление Солнце/Луна, которое, казалось бы,
должно было получить развитие и в японском материале, совер-
шенно не работает. Бог Луны, Цукиёми, практически не участ-
вует в последующих сюжетах; его роль исполняет Сусаноо.
Рассмотрение первых трех моментов свидетельствует о том,
что в менее канонизированных памятниках, чем «Кодзики», на-
шло отражение наличие двух мифологических комплексов, каж-
дый из которых имел свою богиню Солнца: «небесный» комп-
лекс — Оохирумэ-но мути, а «земной» — Сита тэру химэ. На-
личие имен у богинь, видимо, доказывает, что обе системы об-
ладали достаточно разветвленным мифологическим 'пантео-
ном. Более поздние модификации мифа эту разветвленность
снимали.
4. О позднем включении Аматэрасу в уже устоявшийся син-
тоистский пантеон свидетельствует факт ее мифического брака
с Сусаноо — верховным и, видимо, более древним божеством
этой сложившейся мифологической системы. Этой теме в источ-
никах посвящена целая группа мифов. Если рассмотреть их
структуру в разных памятниках (сюжеты, посвященные спору
богов, сокрытию Аматэрасу в Небесном гроте, ее извлечению и
изгнанию Сусаноо на землю), то бросается в глаза неодинако-
вый порядок сюжетов в разных источниках. Наиболее последо-
вательное и пространное изложение всех событий мы встречаем
в «Кодзики», а самый древний вариант, поскольку он не йоти-
рован 9, представлен в тексте «Когосюи».
По «Когосюи», Идзанаги и Идзанами решают, что раз ма-
109
•^терство Сусаноо злое и приносит несчастья, то он не может
оставаться среди богов и должен опуститься в Подземный мир.
Таким образом, в отличие от «Кодзики» и «Нихон-сёки» Сусаноо
отправляют не на землю, причем не после совершения им
страшных «аграрных» преступлений и сокрытия Аматэрасу в
гроте, а только из-за его функций, которые присущи ему с мо-
мента его рождения, т. е. практически повторяется сюжет пер-
вого варианта мифа о «первом рождении» трех божеств-Ама-
тэрасу, Цукиёми и Сусаноо10. Вероятно, авторы источников при
составлении использовали одни и те же древние материалы', или
источники были составлены в разное время, причем «Когосюи»
является самым архаичным.
Далее сюжет «Когосюи» развивается так: перед тем как уйти
из Небесной страны, Сусаноо решает проститься со слоем боже-
ственной сестрой, богиней Солнца, имя которой в первом мифе
«о возникновении мира» не упоминается. По пути его встречает
Куси Акарутамачно микото (предок рода Имубэ из Идзумо) и
преподносит ему священное ожерелье из магатама, которое Су-
саноо преподносит Аматэрасу, здесь уже богиня Солнца назва-
на этим именем. Потом, в результате спора-соревнования, из
магатама Сусаноо, подаренных Аматэрасу, родился Акацу-но
микото — один из божественных предков.
В этом варианте мы встречаемся с концепцией мифического
брака Сусаиоо и Аматэрасу при одностороннем дарении, что
может свидетельствовать о том, что Сусаноо, отдавая дар и не
получив взамен равноценного дара, тем самым устанавливает
свое превосходство над Аматэрасу, поскольку «идея, что дар,
который не возмещен равноценным даром, ставит одаренного в
унизительную и опасную для его чести, свободы и самой жиз-
ни зависимость от дарителя» н. Подобным актом дарения Суса-
ноо — божество местного культа, видимо, утверждает свое пра-
во главенства над привнесенным божеством Аматэрасу, кото-
рое претендует иа верховную власть.
Эта версия, рассказанная родом Имубэ, отражает и тот
факт, что имя Сусаноо было связано с Идзумо (там он встре-
тил Куси Акарутами, который дал ему магатама), где, возмож-
но, и был распространен культ этого бога, а Имубэ являлись
служителями этого древнего культа, а Аматэрасу, «к которой от-
правляется Сусаноо», божество другой племенной группы. Та-
ким образом, по-видимому, Имубэ являются инициаторами ми-
фического брака богов, и как следствие этого появление япон-
ских императоров от богини Аматэрасу.
Далее Аматэрасу обиделась и скрылась в гроте, ио никаких
преступлений Сусаноо не совершает.
Рассмотрим «несоответствия» в изложении этих сюжетов в
тексте «Нихон-сёки».
Первый сюжет о разделе сфер правления и первое разно-
гласие между Аматэрасу и Сусаиоо. В роли Сусаиоо в данном
парна е «Нихон-секи» выступает Цукиёми. Разногласия меж-
110
ду Цукиёми и Аматэрасу происходят из-за того, что он убивает
богиню пищи Укэ-моти.
Это более естественная для мифологического мышления
трактовка разногласий между богами, так как «аналогия с дру-
гими мифологиями предполагает, что бог, чьи родственные свя-
зи с солнцем, с одной стороны, супружеские, а с другой —
враждебные, должен быть бог Луны... и он должен выполнять
три взаимосвязанные функции — мрака бури, мглы и ночи» 12.
Во-вторых, миф об убийстве богини пищи в «Нихон-сёки» яв-
ляется первым поводом к разногласиям между богами, а в «Ко-
дзики» — последним преступлением перед спуском Сусаноо на
землю.
Сюжет о последующем споре Сусаноо и Аматэрасу представ-
лен в «Нихон-сёки» в четырех вариантах с участием 11 божеств.
Сначала разногласия между Цукиёми и Аматэрасу, а потом в
таком же сюжете место Цукиёми и Аматэрасу занимает Суса-
ноо без каких-либо объяснений. Во всех четырех вариантах
«Нихон-сёки» и в тексте «Кодзики» у Аматэрасу рождаются три
богини, а у Сусаноо — пять богов (кроме третьего варианта).
Все божества, упоминаемые в вариантах «Нихон-сёки», упо-
минаются и в тексте подобного мифа «Кодзики».
Третий вариант «Нихон-сёки» и структурно, и по количеству,
и по набору имен богов резко отличается от остальных вариан-
тов и мифа «Кодзики», но напоминает миф «Когосюи» — также
упоминается божество-посредник, который преподносит Сусаноо
магатама 13. Далее, Сусаноо дарит эти магатама своей божест-
венной сестре, а она порождает из них трех богинь. Сходство с
«Когосюи» и отличие от остальных вариантов состоит:
1) в том, что появляется божество-посредник,
2) в том, что Аматэрасу производит детей из магатама, а не
из меча.
Аматэрасу во всех вариантах порождает трех богинь, но ес-
ли Тагори-бимэ и Тагицу бимэ обязательны для всех вариантов
«Нихон-сёки» и для «Кодзики», то третья богиня бывает или
Итикисима-бимэ (первый и третий вариант «Нихон-сёки» и
«Кодзики»), или Окицусима-бимэ (второй и четвертый вариант
«Нихон-сёки»).
По «Кодзики», у Аматэрасу первой рождается Такири-бимэ-
но-микото, о которой далее говорится, что у нее есть еще имя
Окицусима-химэ-но-микото. В одном из примечаний авторами-
составителями современного издания памятника сказано, что в
«Нихон-сёки» данная богиня выступает под именем Тагори-би-
мэ
Таким образом, если брать за основу текст «Кодзики», то во
втором и четвертом вариантах «Нихон-сёки» дважды упоминает-
ся одна и та же богиня. Если же рассматривать данные вариан-
ты «Нихон-сёки» как более ранние по сравнению с «Кодзики»,
тогда в «Кодзики» мы встречаемся со случаем объединения
функций двух богинь в одной, что появляется на довольно позд-
111
них этапах «развития» религиозно-мифологического мышления. '
Структурное отличие вариантов содержится в концепциях ми-
фического брака божеств и дарения предметов, из которых оии
порождали божеств.
Таким образом, можно выделить три концепции мифическо-
го брака.
Обоюдный обмен дарами (первый вариант «Нихон-сёки»,
«Кодзики»),
Одностороннее дарение, причем Сусаноо — Аматэрасу (тре-
тий вариант «Нихон-сёки», «Когосюи»).
Заключение «брака» без обмена даров, т. е. как бы на рав-
ноправных началах (второй и третий варианты «Нихон-сёки»),
Можно предположить, что первая и третья концепции отра-
жают заключение союза между равноправными богами, в то
время как одностороннее дарение, видимо, предполагает некото-
рую форму подчинения одного бога другому (в данном случаев
подчинение Аматэрасу Сусаноо). Вторая концепция «мифиче-
ского брака» — союза, видимо, наиболее ранняя трактовка от-
ношений мифологических персонажей двух культурных комплек-
сов традиций.
Сусаноо совершает три тягчайших «преступления», и боги ре-
шают наказать его и изгнать на землю. Оскорбленная богиня
Аматэрасу скрывается в Небесном гроте.
Миф о преступлениях Сусаноо и сокрытии Аматэрасу в гро-
те структурно различается, в «Кодзики» он состоит как бы из
двух отдельных сюжетов: преступления Сусаноо и сокрытие
Аматэрасу. В тексте пяти вариантов «Нихон-сёки» два отдель-
ных сюжета «Кодзики» соединены в один. Причем пятый вари-
ант мифа выделяется порядком действий: Сусаноо отправляется
прощаться со своей божественной сестрой после того, как боги
решили изгнать его на землю за его тягчайшие преступления, и
предлагает ей спором-соревнованием установить, «злы ли его
намерения». В результате спора он порождает пять богов муж-
ского пола из своих магатама. Аматэрасу также использует
свой меч, но так и остается неизвестным — рождается у нее кто-
нибудь или нет. Этот вариант отражает процесс длительной
борьбы между Сусаноо и Аматэрасу, которые, видимо, являются
олицетворением культов разных племен.
Наиболее краткий вариант этого мифа опять представлен в
изложении «Когосюи», но в данном случае его краткость возни-
кает не за счет отсутствия мотивировок, а за счет краткости
описания. Известно, что Сусаноо совершает три преступления,
которые перечисляются, й обидевшаяся Аматэрасу скрывается
в гроте.
Таким образом, спор Сусаноо и Аматэрасу, мифический
брак-—союз между богами, видимо, это не спор верховных
«одновременных» божеств разных племенных групп, а спор Су-
саноо как более древнего верховного божества с Аматэрасу, яв-
лявшейся одновременно и божеством другого клана, и более
112
поздним, вторичным божеством- Она с трудом занимает
уже сформировавшемся мифологическом пантеоне «не
гов». Этим, возможно, и объясняется тот факт, что в р
божество одной из племенных групп, ставшей у власти,
мает место и совмещает функпни с богиней Солнца,
божеством любого древнего аграрного комплекса. и Л
Мифологический сюжет о сокрытии богини Солнца в
ном гроте и извлечении ее оттуда достаточно древен и Р У
мифологическим комплексам многих народов. Сокрытие о
было связано с нарушением нормального течения жизни, у-
ществовала необходимость извлечь его назад. ерво тну
человеку было свойственно оживление явлении природы,
му что он не мог их объяснить иначе как действиями высших су
ществ, обладающих теми же свойствами и чертами, что
Возможно, правда с некоторыми натяжками, трактовать сю
жет о мифическом браке Сусаноо и Аматэрасу и о последу
сокрытии ее в Небесном гроте как весьма распростране н
мифологиях и архаических сказках разных народов, когда « -
крытие блестящих звезд, луны и солнца темными облаками
языке метафорическом называлось похищением ненаглядных
красавиц драконами, великанами, добрыми молодцами Рм
лом, Соколом, Вороном и вступлением с ними в насильственный
и добровольный брачный союз» 15-
Что касается сюжета «Извлечение Аматэрасу из грот »,
он упоминается в «Кодзики», «Нихон-секи» и «Когосюи».
мое подробное описание его дано в тексте «Когосюи», приче
расширение произошло как за счет сюжета, так и за счет ув
личения числа участвующих божеств. Так, в «Кодзики» в д -
пом мифе упоминается 8 божеств , в «Нихон-секи» ,
«Когосюи»—17. Причем расширение текста «Когосюи» произо-
шло за счет увеличения сюжета для включения божеств-пред
ков родов ремесленников, во многих случаях предков различ
ных ветвей рода Имубэ. „ .
Таким образом, миф об извлечении богини Аматэрасу и
весь комплекс мифов о ней позволял произвести расширение с
жета и введение новых участников, т. е. он в момент фиксации
еще не стал собственно мифом. .
Введение в сюжет предков р°Да Имубэ, может быть, яв-
ляется свидетельством примирения священнослужителей культа
Сусаноо с культом новой богини, претендующей на верховное
положение в уже существующем пантеоне.
5. Верховные функции и принятие решения о покорении зем-
ли небесными богами в «Кодзики» отнесены к Аматэрасу в
«Фудоки» — к Камимируми-камируги, а во второй части «Эры
богов» «Нихон-сёки» — к Таками-мусуби. Этот факт свидетель-
ствует либо об одновременном составлении источников, но на
материале разных культурных традиций, либо о том, что источ-
ники были составлены в разное время, причем Аматэрасу бо-
113
8 Зак. 324
жество позднее, искусственно введенное в раннии, «небесный:
слой японского мифологического пантеона.
6. Миф в момент его фиксации в.разных памятниках был еш
живой, о чем говорит разная система записи одних и тех ж<
имен в разных источниках, например имя Сусаноо 17. При этол
существует две трактовки имени: от названия местности Суса j
провинции Идзумо и от глагола «сусабу» — «становиться свире-
пым, яростным». Смысл имени сохраняется, но запись его раз-
ная, т. е. важным было именно звучание имени (оно долго су-
ществовало в устной традиции). Для составителя мифологичен
ских текстов значение имени было неясным, значимая часть су-
са записывалась фонетическими иероглифами, т. е. автор-соста-
витель был, видимо, представителем иной культурной традиции,
для которого божество Сусаноо было чуждо как своим именем,
так и функциями. По-видимому, отношение к записи имен было
аналогичным записи топонимов, когда «знаками манъёгана пис-
цы заносили те топонимы, значение которых им было непо-
нятно» 18.
Имя богини Аматэрасу, которое должно бы было быть не ме7
нее древним, чем Сусаноо, и существовать в устной традиции,
всегда и везде записано одинаково и не имеет никаких вариан-
тов трактовки.
Итак, о позднем включении Аматэрасу в ранний слой япон-
ского мифологического пантеона свидетельствует:
— неединственность богини Солнца, причем у каждого комп-
лекса, «земного» и «небесного», была своя богиня Солнца;
— структура изложения сюжетов о двойном рождении боги-
ни Аматэрасу в тексте «Нихон-сёки» демонстрирует искусствен-
ное введение этой вторичной родовой-племенной богини в архаи-
ческий слой японского мифологического пантеона;
— факт мифического брака Сусаноо и Аматэрасу. Ситуация
включения Аматэрасу в цикл мифов о Сусаноо вероятнее всего
является следствием победы одного племени над другим, что,
естественно, требовало уравнения «пришлого» божества с са-
мым популярным местным архаическим божеством. В некото-
рых вариантах этого цикла Сусаноо все-таки остается верхов-
ным божеством («Когосюи», третий вариант «Нихон-сёки») или
оба божества равны (второй и четвертый 'варианты «Нихон-сё-
ки»), и только в самых канонизированных вариантах (первый
вариант «Нихон-сёки» и «Кодзики») Аматэрасу устанавливает
свое превосходство;
— принцип записи имени. Имя Аматэрасу во всех источни-
ках записано одинаково, т. е. для авторов-составителей оно бы-
ло близким и понятным по своему значению, в то время как
Имя Сусаноо, например, записано по-разному. Исключить Суса-
ноо из мифологического рассказа составители-«чужаки» не мог-
ли — миф был еще живой — и в то же время не понимали его
Смысла, а фиксировали только его звучание;
— функции верховного божества, которые согласно «Кодзи-
114
ки» и традиции исполняет Аматэрасу, в других источниках в тех
же ситуациях исполняют разные божества.
Кроме того, все изложенное выше свидетельствует либо о
разном времени составления источников, либо о разных культур-
ных традициях^ отраженных в них.
1 Иофан Н. А. Культура древней Японии. М., 1974, с. 29—30.
2 Тангэ Кэндзо. Архитектура Японии. М., 1975, с. 34.
9 Когосюи. Такахаси удзи бумн (Записки рода Такахаси). Токио, 1929,
с. 24.
* Нихон-сёки. Токио, 1972, с. 135.
5 Композиционно «Нихон сёкн» отличается от «Кодзики» тем, что в нем
кроме основной линии рассказа, во многом отличной от «Кодзики», после каж-
дого сюжета даются варнаиты из разных источников и повторы вариантов,
причем источники не называются (вариантов бывает до 11). Таким образом,
рассказ неоднороден, последовательность нарушается.
6 Нихон-сёки, с. 88.
7 Нихон-сёки, с. 95—96; Кодзики, с. 71.
8 Иофан Н. А. Культура древней Японии, с. 34.
9 Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976, с. 98.
10 См. там же, с. 4—5.
11 Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М.,
1970, с. 67.
12 Aston W. G. Sinto. N. Y., 1905, с. 138—139.
10 Ннхон-сёки, с. 108.
14 Кодзики, с. 77.
16 Афанасьев А. И. Сказка и миф. Воронеж, 1864, с. 17.
16 Кодзнки, с. 71, пр. 24.
17 Нихон-сёки, с. 95, пр. 2.
18 Попов К. А. Некоторые вопросы топонимики Харима-но-куни.— Топо-
нимика Востока. М., 1969, с. 73.
Л. М. Ермакова
СЛОВО И МУЗЫКА
В РАННЕЙ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ
В науке о возникновении и развитии японской поэтической
традиции давно у?ке установлен и общепринят тот факт, что
японская поэзия (ута, песня), как и любая другая, берет истоки
в обрядовых музыкально-пластических действах. Все же пере-
ход от древних утагаки к классической поэзии антологий пока
реально не обозначен для нас как постепенный преобразова-
тельный процесс, скорее мы привыкли мыслить его как некий
абстрактный, ничем не заполненный промежуток между старин-
ным обрядом с его поочередным пением и языческими хорово-
дами и изысканной литературной танка с устоявшимся набором
фигур и тропов.
Пожалуй, литературно-исторический материал и не дает воз-
можности заполнить этот промежуток конкретными описаниями
бытования и слышимого воплощения древнего поэтического сло-
ва. Однако оказывается возможным обнаружить рассеянные в
ранних и классических литературных памятниках указания на
то, что мелодический тип, музыкальный характер древних пес-
нопений играл немалую и вполне определенную роль в станов-
лении классических форм японской поэзии, и даже в позднее
средневековье сохранились следы глубинной взаимосвязи изощ-
ренного смысла классической танка с архаическим обрядным
мелосом.
Образцы ранней японской словесности, представленные в
древнейшей поэтической антологии «Манъёсю», как известно,
включают различные.поэтические жанры и формы: нагаута, ка-
таута, сэдока, танка. Однако эти названия, впоследствии впол-
не устоявшиеся, по-видимому, не представляли таксономической
ценности для самих творцов архаической поэзии, ’ели обра-
титься, например, к «Кодзики», то также можно обнаружить
нечто вроде поэтологической классификации, но устроенной по
иному принципу: тут мы встретим наименования хинабури —
«стиль окраины», сирагэута — песня с повышением мелодии к
концу, камугатариута — «повествование о богах», сакакура-но
ута — «песня рисового амбара» и т. д. Этот список отсылает
нас не к силлабике и строфике, а скорее к теме, цели, месту
116
происхождения песни. Принимая во внимание исторические об-
стоятельства складывания поэтической традиции, выраставшей и
в русле народно-песенной стихии, и под иноземным влиянием,
кажется правомочным предположить, что приведенные в «Кодзи-
ки» названия свидетельствовали современникам о музыкально-
хореографических особенностях исполнения данных песен — не-
даром под одним именем объединялись тексты, различавшиеся
по метру и протяженности. В пользу значимости ритуально-му-
зыкального исполнения ута говорит и то обстоятельство, что в
числе песен «Кодзики» отдельно говорится о ёмиута — песнях,
произносимых, по-видимому, речитативом, без музыкального со-
провождения и постоянного мелодического рисунка.
Не вдаваясь в специальные подробности, напомним, что за-
имствованная из Китая древняя музыкальная система наложи-
лась в Японии на имевшийся архаический национальный звуко-
ряд, было видоизменено, в частности, деление на тональности
рицу и рё (кит. люйлюй), что соответствует делению на минор-
мажор, мужское-женское, нечетное-четное, свет-тень и т. д. *. Об-
ратимся теперь к заведомо музыкальному жанру японской сло-
весности, сохранившемуся по сей день. Во время проведения
древнего ритуала камумаи, разновидностью которых стали
разыгрываемые при дворе камуасоби (игрища богов), имполня-
лись, в числе других видов, песни саибара, которые в филоло-
гической традиции принято считать архаическими, во всяком
случае, сложившимися до эпохи Нара. Сопоставим песню саиба-
ра, исполнявшуюся в тональности рицу, со сходным стихотворе-
нием «Манъёсю».
В «Манъёсю» [3154] говорится:
«Шагай, мой конь,
скорее поспешай
На горе Мацутн
Ждущую меня мою милую
поспешая, скоро увижу» —
идэ ага кома
хаяку юки косо
Мацутияма
мацураму имо-во
юкитэ хаямиму2.
Песня саибара звучит так:
Идэ ага кома
хаяку юкикаэ
Мацутияма
аварэ
Мацутияма
харэ
Мацутияма
мацураму хито во
юкитэ хая
аварэ
юкитэ хая миму 3.
117
Или еще пара в тональности рё. В «Манъёсю» [1102]: >
Чистота звука
реки Хосотани
что как пояс
на горе Мпкесз
государевых владений
Охокими-но
млкаса-но яма-но
ОбИ-ЕН сэру
хосотанигава-по отс-:>о саякэса 4.
Песня саибара [31]:
маганэ фуку
киби-но некаяма
оби-ни сэру
паёя
раненная
сайсиная
оби-ни сэру
оби-ни сэру
харэ..А
Сопоставление этих текстов показывает их сходство за выче-
том архаических явлений саибара — фольклорных повторов и
восклицательных формул. Это сходство можно объяснить, во-
первых, существованием некоего древнего текста, ставшего про-
тотипом для обоих приводимых текстов. Во-вторых, переходом
одного и того же текста из исполнительской песенной сферы в
литературно-письменную, а затем снова в исполнительскую. Но
может быть, дело все-таки в том, что здесь перед нами не прос-
то песня и стихи, а две музыкально-ритмические разновидности,
используемые в разных ритуально-целевых контекстах и соот-
ветственно исполняемые в разных мелодико-пластических ма-
нерах.
Отметим также то обстоятельство, что в песне саибара «ага
кома» топоним Мацутияма повторяется трижды, идея ожида-
ния — мацураму хито, «ждущая возлюбленная», Мацутияма —
Гора ожидания — подчеркивается архаическим повтором. Более
чем вероятно, что этот фрагмент песни воплощался в некоем
своеобразном мелодическом и ритмическом ключе. Однако в хо-
де развития литературной поэзии эвфонический усиливающий
повтор, эффектный в устном исполнении, затем стянулся в омо-
нимическую метафору (какэкотоба).
Зададимся вопросом: как же произносилось какэкотоба в
классической литературной поэзии, была ли как-то особо выде-
лена по манере исполнения эта омонимическая метафора, став-
шая на место своеобразной музыкальной модуляции и вобрав-
шая сложный двузначный смысл, объединяющий лирическое и
природно-космическое начала?
Обратимся к текстам средневековых японских теоретиков
стиха. В сравнительно позднем трактате Фудзивара Киёскэ «Ва-
118
ка сёгакусё» (1262 г. — 2-й год Котё) читаем следующую регла-
ментацию (речь идет о способе произнесения фуси — намекаю-
щего слова): «А еще — когда исполняют с добавлением (с укра-
шением), то хоть голос и меняют (коэ тагаитарэдомо), но чи-
тать надлежит, как написано»6. Что значит это указание — чи-
тать, как написано, хотя и менять голос? Скорее всего здесь
вводится ограничение в связи с наличием разнящихся между
собой манер исполнения танка, содержащих фуси, и очень ве-
роятно, что речь идет о реформе мелодики по превращению ее
в установленную интонацию. Прежде всего, исходя из приведен-
ных в трактате стихотворных примеров к этой регламентации,
уточним, что здесь имеется в виду под фуси. Все десять приме-
ров содержат какэкотоба, первый же из них начинается слова-
ми: «ёсо-ни номи кику-но сирацую», что можно перевести:
1) как «белая роса на хризантеме, что растет лишь в чужом
мне месте»; 2) как «белая роса — о тебе я лишь со стороны
слышу». Хризантема здесь — аллегория возлюбленной. Кику —
и «хризантема», и «слышать» (о ком-то, не видя его) — клас-
сический пример омонима какэкотоба (совпадающего с народ-
ной омонимической загадкой типа надзо), т. е. это сложный об-
раз, состоящий, говоря языком западной поэтики, из аллегорий,
выраженных омоннмическн. Такоё слово-намек и предлагается
читать, как написано.
Какова же могла быть альтернатива прочтения? Возможно
предположить, что так же, как ранее в песнях саибара, слово,
способное выступать в роли какэкотоба, вообще особо значи-
мое, отсылающее к дополнительному смыслу, повторялось нара-
спев дважды или трижды подчеркиваемое восклицанием «ава-
рэ!» или «харэ!». Возможно, оно выделялось повышением или
понижением мелодии, изменением темпорального рисунка и т. п.
Сейчас трудно с достоверностью говорить о конкретном его зву-
ковом воплощении. Все же до того, как было предложено «чи-
тать, как написано», фуси, видимо, читалось как пелось. И если
наши соображения относительно какэкотоба верны, то, разви-
вая далее эту гипотезу, можно допустить, что особые музыкаль-
ные характеристики сопутствовали не только омонимической ме-
тафоре, но и другим значимым архаическим приемам танка, на-
пример ута-макура, макура-котоба и др., хотя, разумеется, за-
труднительно было бы предполагать что-нибудь о конкретном
характере этих мелодических отрезков.
В поэтологических трудах средневековых японских поэтов-
теоретиков можно отыскать рекомендации и более общего ха-
рактера. Например, в трактате «Сантай вака» («Вака трех сти-
лей», 1202 г. — 2-й год Кэннин) говорится: «Весна—лето — эти
два надлежит читать грузно-громко (футоку ооки-ни). Осень—
зима — эти два надлежит читать сухо—узко (карабихосоку).
Любовь—путешествия — эти два надлежит читать особо бле-
стяще-прекрасно (котони цуяяка-ни)» 7. Здесь речь идет, пожа-
луй, не о музыкальном ладе и строе, а скоре об интонации и
119
экспрессивной манере, однако в этих наставлениях явственно
слышится отзвук музыкальной истории ута, 'намек иа некую
традиционно понимаемую без разъяснений мелодическую
окраску.
Но если указания на мелодико-интонационную манеру ис-
полнения ута в начале XIII в., когда «золотой век» письменной
литературной танка, не говоря уже о фольклорной, в сущности,,
был уже позади, представлялись весьма важными, то в эпоху
«Манъёсю» музыкальные характеристики разного рода, вероят-
но, были еще живыми и значимыми. Однако на первый взгляд
антология не содержит указаний подобного рода. Попробуем
все же рассмотреть текст под избранным углом зрения, и здесь,
особенно в первых свитках, мы встретимся с танка, имеющими
помечу «каэсиута». Исходя из содержания этих танка, можно
утверждать наверняка, что применительно к песням «Манъёсю»
каэси не означает «ответной песни», обычно каэсиута следует за
нагаута и принадлежит тому же известному или безымянному
автору. Кроме того, нередко после нагаута встречаются группы
танка с пометой «„каэсиута" из неизвестной книги». Из текстов
явствует, что каэсиута — это танка, кратко объясняющие или
дополняющие смысл предшествующей «длинной песни», нечто
вроде «припева или рефрена»8.
Пожалуй, нет сомнений, что здесь, как и в японской музыке,
слово «каэси» означает поворот, перемену, переключение с рицу
на рё или наоборот, т. е. каэсиута или ханка — это песни, ис-
полняемые в другом темпе и регистре, чем предшествующая им
нагаута. Оригути Синобу, например, полагает, что существова-
ние групп нагаута-каэсиута продолжает принятое в «Кодзики»
объединение песен в группы кумиута («сплетенные песни»), и
если к нагаута не находилось каэсиута, то, чтобы группа все же
получилась, попросту повторялась часть той же нагаута, однако-
с переменой музыкального лада9. В другом месте исследова-
тель пишет, «то, что с музыкальной точки зрения было каэси-
ута, с точки зрения литературной было танка» 10. Итак, здесь,
мы, казалось бы, обретаем ключ к пониманию музыкального
строя танка как жанра. Однако в текстах обнаруживаются фак-
ты, противоречащие этому предположению.
Точка зрения Оригути, вероятно, опирается на утверждения
различйых японских трактатов по поэтике, при этом наиболее-
раннес, как показали наши разыскания, содержится в китай-
ском предисловии к «Кокинсю», написанном предположительно-
раньше предисловия Ки-но Цураюки и, возможно, принадлежа-
щем кисти Ки-но Ёсимоти. Цураюки в японском предисловии
пишет: «Во времена вечнокрепких богов знаки ута еще не опре-
делились, пелось, как получалось, и сердце слов было трудно
различить. Наступил век людей, -и, начиная с бога Сусаноо, ста-
ли петь в три десятка слогов и еще один» и. В китайском же
предисловии происхождение пятистишия оговаривается особо.
«Во времена семи эпох богов люди были просты, чувства и
120
устремления непонятны, и вака не складывали. И только когда
бог Сусаноо прибыл в Идзумо, впервые было сложено в три-
дцать один знак. Это нынешняя каэсиута» *2. Затем это положе-
ние в столь же категорической форме было заимствовано дру-
гими авторами (в частности, императором Дзюнтоку).
Однако, несмотря на однозначность китайского предисловия,
дело обстоит, по-видимому, не так просто. Впервые с обозначе-
нием и понятием каэсиута мы встречаемся в «Кодзики», причем
отнюдь не в 'связи с танка Сусаноо. В «Кодзики» в раз-
ряд каэсиута попадают и танка, и нагаута, причем последние
даже численно больше. По-видимому, дело здесь не в стиховой
напряженности, а в ритуальной функции текста. Всякий раз по-
нятие каэсиута в «Кодзики» встречается в конструкции сидзу-но
каэсиута. Мотоори Норинага в «Кодзики дэн», ссылаясь на по-
яснения, данные в «Асакура кюдан», толкует «сидзу» прежде
всего как чистый, тихий, спокойный. Есть и другие, в том чис-
ле топонимические, толкования, тем не менее возможно предпо-
ложить связь сидзуута с обрядом усмирения души сидзумэ-но
мацури. Но тогда каэсиута можно рассматривать как часть ри-
туальных апотропеических песнопений, исполняемых в опреде-
ленном музыкальном строе и в архаическую эпоху существовав-
ших не только в виде пятистишия. По-видимому, к эпохе соз-
дания «Кокинсю» обрядово-музыкальных разновидностей танка
почти не осталось, и каэсиута или ханка, как определенно со-
хранивший индивидуальность мелодический строй, представля-
лась единственным прототипом всех современных пятистиший.
Однако и при этом остаются следы существовавших различных
мелодико-интонационных манер исполнения, и их можно разли-
чить и в предисловии Цураюки — правда, не в нем самом, а в
лриписках мелкими знаками хираганы, сделанных в тексте Цу-
раюки неизвестным переписчиком или читателем, близким по
времени к составителю антологии. Цураюки, как известно, дал
в своем предисловии к «Кокинсю» классификацию ута по шести
принципам, заимствованным из «Шицзин» в передаче Мао Хэна
и других китайских источников. Обычно считается, что эта клас-
сификация искусственна и неприменима к японской националь-
ной поэзии. Неизвестный комментатор, по-видимому, находил
эти принципы вполне приемлемыми и возражал лишь против
приводимых Цураюки стихотворных примеров. Танка, которую
Цураюки помещает в качестве образца кадзоэута (категория,
пока не вполне проясненная), кажется читателю-современнику
более похожей на тадаготоута («Песня о вещах, как они есть»),
и он возмущенно вписывает «узкими знаками» хосодзи: «Здесь
же все говорится лишь как оно есть и даже никакого сравне-
ния ни с чем не проводится. Такую песню — как же ее произно-
сить? Ее сердца не уловишь» 13. По-видимому, надо думать, что
во времена «Кокинсю» в зависимости от «сердца» песни разни-
лись и исполнительские манеры. В целом схема представляется
следующим образом. Вначале музыкально-пластическое вопло-
121
щение соответствовало ритуальным целям исполняемого текста.
Впоследствии мелодико-интонационный строй речитативной дек-
ламации должен был передавать «сердце» («кокоро») песни.
При этом, по-видимому, еще какое-то время предусматривались
особые модуляции для специфических приемов танка, представ-
ляющих собой слепки архаического мировоззрения и носящих
определенные космологические значения.
Итак, «кокоро» стало определять тип декламационной мане-
ры, причем определять без деталей, в общем, 'предполагать не-
кий мелодико-интонационный облик в целом. Близкую анало-
гию этой связи «кокоро» и произносительной манеры можно
усмотреть и в японской музыке, где «„тональность1* в конечном
счете является не звукорядом, а способом исполнения» и.
О «сердце» («кокоро»), этой центральной категории средне-
вековой японской поэтики, уже немало говорилось исследовате-
лями как о сердцевине стихотворения, его эмоциональной сущ-
ности или даже как о «психологической и познающей деятель-
ности» «динамике субъекта» 15 и т. д. Среди обширных значений
этого понятия хотелось бы подчеркнуть его сходство, но и про-
тивопоставленность понятию «тама», «тамасии» («душа»), «Та-
ма» человека может отъединяться и отлетать и для удержива-
ния ее в теле требуются специальные обряды, кроме того, «та-
ма»— субстанция, имеющаяся у каждой вещи (цветка, камня
и т. д.). «Кокоро», в отличие от «тама», — другая душа челове-
ка, которая является его неотъемлемым атрибутом, неутрачивае-
мым свойством в виде сознания, постижения, опыта. Для ран-
него периода японской поэзии, когда метафора еще не стала
органичной и характерной чертой было отождествление или сопо-
ложение явлений, обладание сердцем было отличительным при-
знаком человека — нередко в текстах мы встречаем восклица-
ния вроде «ах, если б у вишни было сердце, она бы так скоро
не осыпалась!» и т. п., т. е. «кокоро» мыслилось, по-видимому,
как та коренная часть человеческого «я», которая взаимодейст-
вует с окружающим миром, находясь в сложном соотношении с
«тама», и обретается при этом в феноменальном ряду. Таким
образом, если «тама» является объектом ритуала, то «кокоро»—
его действующий субъект, поэтому «кокоро» стихотворения —
это выражение индивидуальной воли субъекта, обращенное вна-
чале к богам, а затем в окружающий мир, к другому субъекту
и т. д. Отсюда рождаются сложности в выборе декламационной
манеры (т. е. определении «кокоро») чужих или давних стихо-
творений. «Кокоро», наследуя ритуалу, задает правила мелоди-
ко-интонационного строя стиха, однако со временем эти прави-
ла выветриваются или забываются, становятся неочевидными.
Так, в трактате «Якумо мисё» императора Дзюнтоку («Импера-
торский изборник восьми облаков», начало XIII в.) указывает-
ся: «В Манъёсю и Кокинсю есть много таких танка — их сердце
глубоко, но понять его трудно. Бывает — их читают в загадоч-
ном стиле (надзо-надзо тай-ни ёмэру), бывает — нарочно под-
122
черкивая глубину сердца. Правильное истолкование тоже глу-
боко сердцем, но не таково по стилю» 16.
Из этой выдержки следует еще одно существенное свойство
«кокоро», выявляемое через связь с омонимической загадкой
типа надзо. Само загадывание этой загадки именуется надзо-о
какэру (ср. какэ — котоба), разгадка формулируется с помощью
слова «кокоро»: «соно кокоро ва...» и т. д. Тем самым «коко-
ро» оказывается ритуальным посредником между двумя смысла-
ми загадки, а в поэзии — полем, где осуществляется взаимо-
действие человека и мира.
1 Иофан И. А. Из истории японской музыки VII—IX вв.— Искусство
Японии. Л1., 1965, с. 31.
2 Манъёсю— Нихои котэн бунгаку тайкэй (Главные произведения япон-
ской классической литературы). Т. 6. Токио, 1959, с. 317.
3 Кодай кёсю (Собрание древних песен).— Нихон котэн бунгаку тайкэй.
Т. 3. Токио, 1968, с. 380.
4 Манъёсю.—Нихон котэн буигаку тайкэй. Т. 5. Токио, 1959, с. 207.
8 Кодай кёсю, с. 399.
6 Фудзивара Киёскэ. Вака сёгакусё (Извлечения из начальной школы
века).— Нихон кагаку тайкэй. Т. 2. Токио, 1956, с. 199.
' Саитай вака (Песни трех стилей).—Нихон кагане тайкэй. Т. 3. Токио,
1956, с. 269.
8 Глускина А. Е. Заметки о японской литературе и театре. М., 1979, с. 29.
8 Оригути Синобу. Нихон буигаку си ното (Заметки по истории японской
литературы). Токио, 1958, с. 244.
18 Там же, с. 251.
11 Кокин вакасю (Сборник старых и нынешних песен).— Нихон котэн буп-
гаку тайкэй. Т. 8. Токио, 1969, с. 94.
lfi Там же, с. 334.
13 Там же, с. 95.
14 Масумото Кикуко. Гагаку. Дэнто онгаку-э но атарасип апроти (Гагаку.
Новый подход к традиционной музыке). Токио, 1968, с. 155.
ю Izutsu Toshiko and Тоуо. The Theory of Beauty in the Classical Aesthetics
of Japan. The Hague. Boston—London, 1981, c. 7.
’’ Якумо мисё (Императорский изборник восьми облаков).— Ннхои кагуку
тайкэй. Т. 3, с. 80.
М. Успенский
ГРАВЮРА УКИЁЭ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕРИОДА ТОКУГАВА
(1603—1868)
К числу новых художественных явлений, наиболее наглядно
отражающих специфику городской культуры и мировоззрения
горожан, относится в первую очередь гравюра — укиёэ.
Ксилография является самой изученной отраслью японского
изобразительного искусства XVII—XIX вв. В то же время неко-
торые существенные ее аспекты остались незатронутыми. Так,
иконографический материал гравюры, ее смысловая структура,
как правило, остаются за рамками современных исследований о&
укиёэ. А между тем анализ этих аспектов открывает еще одно
направление в изучении культуры японского города, причем тех
ее сторон, которые, по-видимому, не фиксировались литератур-
ными источниками.
Настоящая статья представляет собой попытку интерпрета-
ции ряда произведений японских художников, имеющей целью в
первую очередь обосновать правомерность такого ракурса изу-
чения гравюры. Из 'всего многообразия 'возможностей, которые
в этом плане предоставляет нам укиёэ, здесь выбрана только
одна тема — стихи в гравюре.
В ранней гравюре (XVII — первая половина XVIII в.) стихи
использовались довольно редко, причем принадлежали они чаще
всего поэтам того времени, а иногда и самим художникам или
издателям. Классические стихотворные тексты в гравюру ввел
Судзуки Харунобу (1724—1770), что соответствовало его основ-
ной цели: создать в рамках укиёэ новый, «городской» вариант
классической живописи яматоэ. Стихи в его произведениях иг-
ради роль «эмоционального фона». В целом попытка Харунобу
потерпела неудачу. Нацеленность на современность оказалас^
сильнее, и главной темой художников 70—90-х годов XVIII в.
стали театр и жизнь веселых кварталов. Все же классически*
стихи время от времени появлялись. И хотя в них древность об-
лекалась в «современные одежды» (в заголовках серий посто
янно встречаются термины «митатэ» — «подражание», «фурю» —
«в современном обличье», «экёдай» — «картины-братья»), клас-
сические стихи играли здесь ту же роль, что и у Харунобу.
124
Так, в листе Корюсая (работал в 70-е годы) в «современном
обличье» изображена Оно-но Комати. Стихи принадлежат ей
же. Это—знаменитая танка, написанная в ответ на приглашение
Бунъя Ясухидэ полюбоваться деревенскими пейзажами.
Вабииурэба'
ми-о укигуса
иэ-о таэтэ
сасоу ми араба
икан то дзо омоу
Коль затоскую,
Несчастное тело плавучей травою
С обрезанным корнем,
Лишь было б теченье,
Я думаю, вдаль поплывет
(Перевод И. А. Борониной)
Изображена сцена проводов посетителя веселых кварталов,
которая, по-видимому, воспринималась как пародия или, точ-
нее, параллель сцене прощания Комати и Ясухидэ. Стихотворе-
ние Комати образует второй план произведения, как бы сопо-
ставляет чувства персонажей гравюры с переживаниями вели-
ких поэтов древности.
Во времена Киёнага и Утамаро (80—90-е годы XVIII в.) сти-
хи в гравюрах появляются все реже. Новый импульс использо-
ванию этого приема дал указ -1842 г., запрещавший изображать
актеров и гейш. С этого времени помимо пейзажа главным жан-
ром гравюры стал мусяэ — изображения воинов. В истории гра-
вюры мусяэ — явление особого порядка. Это единственный жанр,
своим развитием обязанный поддержке правительства. Тексты
(и прозаические и стихотворные) в мусяэ XIX в. использовались
особенно широко. Но способ их сочетания с изображением был
своеобразен. Как правило, эти стихи брались из знаменитых
поэтических антологий, таких, как «Кокинвакасю» или «Хякунин
иссю». Последняя пользовалась особой популярностью. На те-
мы ее стихов создавали гравюры многие художники, в частнос-
ти Хокусай и Куниёси. Использование ими стихов в смысловой
структуре листа неодинаково, но их объединяет одна черта: пе-
ревод авторского смысла стихотворения в иной план.
Серия Хокусая называется «Хякунин иссю уба га этока»
(1835 г.). Каждый из листов серии назван по имени того или
иного старого поэта, но за немногими исключениями в них изо-
бражены сцены из современной Хокусаю жизни. Прямых ана-
логий изображению в тексте стихотворения нет, но их соедине-
ние все же не случайно.
Так, в девятом листе («Оно-но Комати») приведены извест-
ные стихи этой поэтессы:
Хаиа-ио иро-ва
уцури но кэри на
итадзура ни
вагами ё ин фупу
нагами сэси маии
Распустился впустую,
Минул вишенный цвет
О век мой недолги Й1
Век не смежая, гляжу
Взглядом, долгим как дождь
(Перевод В. Сановича)
Изображены же крестьяне, занятые повседневными делами.
Один из них подметает опавшие лепестки сакуры. Формально
125-
это единственная деталь, связующая текст и изображение.
В действительности же связь глубже: лейтмотив пятистишия Ко-
мати — бренность всего сущего — создает глубинный подтекст
незатейливой сценки, делает ее содержание многоплановым.
Таким образом, стихи у Хокусая играют примерно ту же
роль, что и у Харунобу, но если у последнего они должны были
способствовать воссозданию атмосферы минувших времен, то у
Хокусая многозначность и ассоциативность стихотворения на-
кладываются на изображения повседневности, мира обычных,
ничем не примечательных явлений. Эти сценки приобретают
второй план, на котором современность смыкается со стариной,
преходящее с неизменным.
Другой вариант использования стихов в гравюре можно ви-
деть в серии Куниёси «Огура надзораэ Хякунин иссю» (1843—
1845). Каждый из ста листов серии заключает в себе изображе-
ние знаменитого воина, сопровождаемое текстом, и стихотворе-
ние из «Хякунин иссю». Прозаические тексты взяты из «Запи-
сок» Рюкатэя Танэкадзу (1807—1858) и представляют собой
вольные пересказы эпизодов исторических сочинений («Хэйкэ
моногатари», «Тайхэйки», «Гикэйки»), В большинстве листов ло-
гическая связь между стихами и изображением отсутствует. Су-
дя по всему, она домысливалась в достаточной степени произ-
вольно.
Основой сочетания изображения и стихов могла быть, на-
пример, игра слов. В 31-м листе серии изображен Сато Тадано-
бу с доской для го. Текст: «Расставшись с господином судьей
(Есицунэ.— М. У.) в горах. Есинояма вторично отправился в
столицу, дав нерушимую клятву верности. Косиба-нюдо из-за
дочери выдал его. Когда же прибыл карательный отряд из
[дворца] Хорикава, он расшвырял врагов с помощью доски для
пашек-го, которая подвернулась ему под руку, и пал в бою. Лю-
1ям он известен как Гобан Таданобу — Таданобу—шашечная
доска».
Изображение и текст сопровождаются стихотворением Сака-
ноэ Корэнори:
Асаборакэ
ариакэ-ио пуки то
Миру мадэ ни
Есино-но сато ни
фурэру сираюкп
Раииим утром
Он кажется даже
Сиянием светлой луны,
В селении Есиио
Выпавший белый снег
(Перевод И. А. Борониной)
Помимо места действия (Есинояма) поводом к объединению
стихов и изображения служит фраза из четвертой строки: «Еси-
ноно сато» — «Селение Есино», которая может быть понята и
так: «Есино-но Сато», то есть «Сато (Таданобу) из Есино
(яма)».
Аналогично могли использоваться слова или образы стихо-
творения, хотя бы отдаленно перекликавшиеся с изображением.
126
В 25-м листе серии Куниёси изображены Урабэ Суэтакэ и Кидо-
мару— два из «ситэнно» Минамото Райко. В тексте говорится
о том, как Кинтоки попал на службу к Райко.
В стихах, принадлежащих Сандзё-удайдзину, сказано о дру-
гом:
Нани си оваба
Аусакаяма но
саиэкадзура
хито ии сирарэдэ
куруёси мо гана
Когда стяжаешь славу,
В заросли кацура
На горе Встреч
Тайно от всех
Приходи.
Ключевым словом здесь, по-видимому, является «аусакая-
ма» — «гора Встреч» — традиционная метафора свидания, встре-
чи в классической поэзии: в гравюре же перед нами первая
встреча учителя в горах Асигара.
Возможно, что иногда сопоставление стихов и изображения
скрывало в себе насмешку. В 13-м листе изображен Онивакама-
ру (Бэнкэй), сражающийся с гигантским карпом.
Текст: «Был сыном Бэнсина — настоятеля монастыря Кума-
но. Удалился в монастырь Сёсясан в провинции Харима. Изу-
чая сутры, любил и доблесть. Гулял по горам и долам. Издавна
там в старом пруду обитал черный карп. И поскольку он при-
носил вред, то как-то раз он этого карпа усмирил, выказав му-
жество и силу».
На этот эпизод накладывается стихотворение Го-Едзэя:
Цукуба иэ но
минэ ёри о нуру
мина-ио кава
кои дзо цуморнтэ
фути то иаринуру
Подобно тому, как воды рек
Стекают с горы Цукуба,
Копится в сердце любовь
И вдруг, переполнив бездну (души),
Вырывается наружу.
По-видимому, фути — бездна сопоставлена здесь со старым
прудом, где обитал зловредный карп, на которого, в свою оче-
редь, мог быть найден намек во фразе «кои дзо цуморитэ» —
«любовь, накопившись...», которая звучит так же, как «искусно
обманув карпа».
Итак, в чем причина парадоксального сочетания поэтическо-
го текста и изображения? По-видимому, объяснение этого свя-
зано с той задачей, которая стала возлагаться на гравюру пос-
ле ее реформы в 1842 г.
В целом в гравюре укиёэ можно выделить два основных на-
правления: «гравюра веселых кварталов» и «дидактическая гра-
вюра». К первому относятся жанры бидзинга (изображения кра-
савиц) и театральная гравюра; ко второму—мусяэ (историко-
героическая гравюра). «Гравюра веселых кварталов» — это ре-
зультат культурной и художественной активности самих горо-
жан, вид гравюры, появившейся по их собственной инициативе.
«Дидактическая гравюра» имела другой источник и была при-
звана играть другую роль. Как видно из самих произведений, в
127
их функции входила в первую очередь проповедь конфуцианской
(т. е. официальной) морали, и прежде всего принципа «гири» —
лояльности, преданности господину. Второй задачей была попу-
ляризация национального культурного, наследия, главным обра-
зом классической поэзии. Только это может объяснить включе-
ние в одно произведение фигуры воина — воплощения «гири» и
•старого стихотворного текста.
Такая просветительская, пропагандистская роль гравюры не-
обычна. В XVIII в. она чаще была афишей или рекламой. Пос-
ле запрета 1842 г. гравюра качественно переродилась: прежняя
независимость была утрачена, укиёэ в значительной степени пре-
вратилась в инструмент пропаганды официальных ценностей,
средство образования народа. Серия Куниёси предстает как
разброшюрованная иллюстрированная книга, в которой текст
предельно компактен, но максимально насыщен информацией.
Каждый лист выступает как «дидактический материал», рассчи-
танный на самую широкую аудиторию. И хотя запреты в облас-
ти укиёэ через несколько лет были смягчены, период их жестко-
го действия с 1842 по 1846 г. наложил заметный отпечаток на
облик гравюры и на ее смысловую структуру.
Такие задачи и объясняют не всегда понятную связь между
стихами и изображением: совсем не просто было найти сто пер-
сонажей, в биографии которых имелся бы по возможности яс-
ный намек на содержание стихотворений.
Однако для нас важен сам факт появления в гравюрах
XIX в. классических стихов. Он свидетельствует о том, что клас-
сическая поэзия была известна горожанам — гравюра как раз и
служила самым массовым средством ее популяризации. Однако
анализ роли стихов в гравюре позволяет (хотя бы до некоторой
степени) понять и специфику восприятия старых стихов в кон-
тексте новой городской культуры.
Так, гравюры Хокусая дают основания считать, что класси-
ческая поэзия воспринималась горожанами не только как насле-
дие глубокой древности, что ее образность, язык, эмоциональ-
ный строй были понятны им, более того, что стихотворение из
классической антологии могло вызывать новые ассоциации,
смыкаться с современностью, приобретая таким образом и но-
вый контекст.
Гравюры Куниёси выступают в первую очередь как инстру-
мент воспитания народа, они показывают, каковы были средст-
ва распространения классических текстов в городской среде.
Кроме того, эти гравюры свидетельствуют о том, что лириче-
ский строй классической поэзии каким-то образом мог соеди-
няться в сознании горожан с воспеванием доблести, преданности
и силы. Характер этого соединения пока не вполне понятен, од-
нако такие термины, как «надзораэ», «митатэ» и т. п., неизмен-
но появляющиеся в названиях серий гравюр, говорят о том, что
оно не было случайным, но точно фиксировало вполне опреде-
ленное понимание связи текста и изображения. Поэтому можно
428
полагать, что восприятие классических стихов горожанами пе-
риода Токугава осложнялось еще и ассоциациями с конфуциан-
скими идеалами.
Приведенные примеры анализа смысловой структуры япон-
ской гравюры (количество их может быть увеличено) свидетель-
ствуют о том, что изучение укиёэ как историко-культурного
источника может дать полезные результаты. Более того, на со-
временном уровне знаний об укиёэ именно такая постановка во-
проса представляется наиболее плодотворной.
В. С. Гривнин
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЯПОНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
После окончания второй мировой войны прошло уже болыпе-
40 лет. Японская литература в эти десятилетия переживала как.
периоды подъема, так и периоды спада. Вершины, которые ей
удалось достичь в послевоенные годы, выглядят особенно рель-
ефно, поскольку высятся над пропастью, в которую скатилась
японская литература военных лет. Тем интереснее взглянуть, с
чем она вступает в свое пятое послевоенное десятилетие. При-
чем взглянуть глазами японских критиков, публикующихся на
страницах крупнейших литературных журналов «Гундзо», «Бун-
гакукай», «Бугэй». Разумеется, не все их оценки следует прини-
мать безоговорочно, но в любом случае они помогут глубже про-
никнуть в суть литературного процесса Японии, в первую оче-
редь с точки зрения того, какое отражение в произведениях
японских писателей нашли актуальные, животрепещущие проб-
лемы современности.
В качестве объекта рассмотрения служат последние романы
крупнейших японских писателей Абэ Кобо и Оэ Кэндзабуро.
В конце 1977 г. журнал «Бунгэй» организовал беседу извест-
ных критиков, посвященную японской литературе истекшего го-
да. Все участники единодушно сошлись во мнении, что многие
молодые писатели, начавшие свой жизненный путь после войны,,
недостаточно активно реагируют на острые социальные пробле-
мы, на проблему сохранения мира на земле.
Разумеется, абсолютизировать эту точку зрения было бы не-
верно, но также неверно было бы ее игнорировать. Такое явле-
ние существует. Но это — лишь одна сторона правды. Другая
заключается в том, что в Японии были и есть писатели, ставя-
щие кардинальные проблемы современности.
Советский читатель хорошо знаком с творчеством известного*
японского писателя, лауреата многих национальных премий Абэ
Кобо. Интерес к его творчеству вполне закономерен. Произве-
дения Абэ — явление не локальное, не узконациональное, а ми-
ровое. Глубина проблем, поднимаемых Абэ, высокий художест-
венный уровень его романов давно поставили Абэ в ряд с круп-
нейшими писателями мира.
130
Конфликт между человеком и враждебным ему буржуазным
обществом, причем в сфере не материальной, а духовной, — та-
кова основная тема всех произведений Абэ.
Проблема внутреннего мира человека приобретает сейчас в
Японии особую актуальность пот°мУ> что в этой стране, как в
фокусе, сконцентрировались все или, во всяком случае, многие
-"противоречия капиталистического мира. В послевоенные годы
экономика Японии получила значительное развитие. Во всем
мире заговорили об «экономическом чуде». Но при^этсм как-то
упустили из виду другое «чудо». В стране с древнейшей культу-
рой, где первая печатная книга появилась 1200 лет назад, про-
исходит катастрофическое духовное обнищание личности. Ду-
ховное одиночество человека, отчуждение — это явление наблю-
дается вг Японии в ничуть не менее обнаженном виде, чем в лю-
^бой другой капиталистической стране.
Все это, естественно, привлекает внимание к творчеству Абэ,
поскольку его произведения не только актуальны, но и чрезвы-
чайно важны для понимания духовной атмосферы Японии, да и
не одной Японии.
Абэ волнует не просто проблема отчуждения человека, а
проблема его отношений с обществом во всей противоречивости
и сложности. Что есть человек в сегодняшнем японском общест-
ве, что он для общества и что общество для него? Писатель пы-
тался дать ответ на этот вопрос в романах «Женщина в пес-
ках» (1962 г.), «Чужое лицо» (1964 г.), «Сожженная карта»
(1967 г.). Этому же посвящен и его роман «Человек-ящик».
У Абэ нет ни одного романа, подобного «Человеку-ящику».
Дневниковые записи, мысли, высказанные и невысказанные,
смещения во времени и пространстве — все это присутствует в
романе. Герои в нем так взаимосвязаны и взаимобусловлены,
что провести между ними четкую грань порой немыслимо, да и
не всегда нужно это делать. Для Абэ первостепенна философия,
а не фабула, и этой философии подчинена форма.
Механическое соединение человека и ящика — это не просто
сложение двух разнородностей, а рождение третьей. Так же как
маска в «Чужом лице» привела к ломке всей психологии героя,
так и ящик породил существо, психологически отличное от дру-
гих людей. Ожил ящик, что скрыто в нем, никому неведомо. Че-
ловек-ящик, как ему кажется, почти совершенно не обременяет
общество, и он хочет лишь одного — чтобы и общество нс меша-
ло ему.
Когда человек не находит силы противопоставить себя этому
всеобщему безразличию, бороться с ним, у него действительно
не остается другого выхода, как забиться в нору — укрыться в
ящике. Общество отвергает меня — ну что ж, я тоже отвергаю
-общество, такова нехитрая философия человека-ящика. Скажем
сразу же — философия узкообывательская, Абэ показывает ее
несостоятельность.
Человек одинок. Он никому не нужен в буржуазном общест-
9*
131
ве» стремящемся разобщить людей, уничтожить понятие «кол-
лектив», прикрываясь идеей независимости человека. Казалось-
бы, что может быть прекраснее свободы человека, его независи-
мости? Но независимость рассматривается при этом односторон-
не. Поскольку человек независим от общества, у общества то-
же нет по отношению к нему никаких обязательств. Абэ стре-
мится вскрыть несостоятельность подобных утверждений. Он до- '
называет, что связь между человеком и обществом разорвать-
невозможно. Неважно, негативны эти связи или позитивны. Ни
один ящик, даже во сто крат прочнее картонного, не в состоя-
нии отгородить человека от общества.
«Отчуждение» становится в последние годы все более мод- ;
ным словом, когда речь идет об отношениях между человеком и ;
современным буржуазным обществом. Но вряд ли к чему-либо,,
кроме анархии, может привести бегство человека от общества
как средство разрешения конфликта. Чтобы изменить характер ;
отношений между человеком и обществом, нужно прежде всего-
изменить само общество. Сделать же это можно не путем бегст-
ва от него, а наоборот, путем активного вторжения в жизнь.
Герои Абэ терпят поражение именно потому, что не в состоянии
осознать это. К такому выводу неизбежно приходит читатель,
перед которым проходят судьбы героев, о которых рассказывает
Абэ. Хотя было бы неверно утверждать, что эту мысль он про- -
водит последовательно и достаточно ясно.
«Тайное свидание» — еще один роман о трагедии человека в
мире зла. Но если в предыдущих романах сатира Абэ сосредо-
точивалась в первую очередь на человеке, пытающемся найти
способ утверждения в обществе и не находящем его, то в этом
романе объектом осмеяния становится общество как таковое.
Сюжет романа предельно прост. Герой попадает в таинствен-
ную клинику, где разыскивает жену, которую неожиданно увез-
ла машина «скорой помощи». Клиника — мир абсурда, антимир,
в котором смешаны, поставлены с ног на голову все представ-
ления, мир, где царит безудержная жестокость.
Чтобы связать клинику с реальным ‘миром, чтобы подчерк-
нуть, что клиника и реальный мир — одно нерасторжимое целое,
Абэ превращает всех работающих в ней одновременно и в ее
больных. Больны все, всем место в клинике. Вопрос лишь в
диагнозе, хотя некоторые и затрудняются поставить его сам»:
себе. Другими словами, есть еще люди, не сознающие, что кли-
ника — единственное место, где им следует ‘быть.
Клиника — страна бюрократов. Это блестяще демонстрирует
случай с больным, попавшим в бессознательном состоянии в J
реанимационное отделение. Его там оживили и сразу же забы-
ли о нем, поскольку задача реанимационного отделения — ожив-
лять, а не лечить. Снова наступила клиническая смерть, его
вновь оживили и опять забыли о его существовании. И так'
продолжается уже много лет. Бюрократически понимаемый долг
начисто заслонил человека.
132
В клинике не лечат. Задача ее другая — тотальная слежка
и торговля порнографическими магнитофонными записями, до-
бытыми с помощью подслушивающей аппаратуры. Абэ делает
все, чтобы у читателя не создалось впечатления, будто речь
идет о лечебном учреждении. Здесь и вымышленные названия
отделений, например «хрящевой хирургии», и лаборатория линг-
вопсихологни, оборудованная детектором лжи. В общем, клини-
ка — не место исцеления страждущих. Наоборот, она рассмат-
ривает здоровье как уродство. Не случайно заместитель дирек-
тора выдвигает идею: «Хороший врач — хороший больной».
Иными словами, только человек, который ни на что не спосо-
бен и который не в состоянии исцелить себя, может исцелять
других. Поистине перед нами мир деформированных представ-
лений.
Но что в клинике действительно налажено, что делается с
любовью и размахом, на что устремлены все помыслы ее вла-
стителей— это слежка. Вся клиника забита подслушивающей
аппаратурой. Ни один шаг обитателей клиники не остается вне
поля зрения главного охранника. Если же что-то проскальзы-
вает сквозь сеть (подслушивания, на подмогу (приходят согляда-
таи. Каждый обитатель клиники считает своим долгом доносить.
Донос — норма поведения. Чтобы не огорчать власти, доносят
даже те, кто ничего не знает. Не доносить позорно.
Герои романа не только злодеи, но и жертвы того антигуман-
ного мира, который создан их руками. Они рабы системы надзо-
ра и доносов.
, Японская критика называет роман Абэ пародией на низко-
пробную литературу, заполонившую японский книжный рынок.
Это верно, но Абэ не просто пародирует такую литературу, он
показывает ее как атрибут определенного общества, заинтересо-
ванного в ее существовании. В своем романе Абэ показывает
духовную и нравственную ущербность современного буржуазно-
го общества и подчеркивает, что там, где правит не любовь, а
ненависть, выхода из лабиринта нет.
Оэ Кэндзабуро тоже хорошо знаком советскому читателю
как автор романов о молодежи. Свою приверженность теме мо-
лодежи Оэ объясняет так: «В начале своей писательской жиз-
ни я просто не знал ничего другого. Молодежь, ее мысли и на-
дежды, ее трудности проходили у меня перед глазами, — я сам
был молод, и обращение к ней было вполне естественно и зако-
номерно. Но и сейчас я не ухожу от этой темы, и в первую оче-
редь потому, что молодежь — наиболее динамичная, наиболее
остро реагирующая на события часть общества. Взяв ее в каче-
стве объекта художественного исследования, можно глубже и
полнее показать характер общества, его беды и болезни. Мне
хочется, пользуясь выражением Шкловского, показать диалекти-
ку души, показать не просто человека, а становление и разви-
тие характера. Есть ли для этого лучший объект, чем молодой
человек?» *.
133
«Объяли меня воды до души моей...» — роман о молодежи, о
«ее трагедии. В нем Оэ пытается ответить на вопрос: что застав-
ляет сегодняшнюю молодежь противопоставлять себя обществу,
«бороться против него? И в то же время писатель пытается пока-
зать, как отсутствие социальных идеалов лишает молодежь чет-
кого понимания объекта своего возмущения, лишает ее позитив-
ной программы» без которой любое противопоставление себя
обществу бессмысленно.
Человечество стоит на грани катастрофы, будь то ядерной
«ли экологической. Готовы ли люди, и в первую очередь моло-
дежь, помыслы которой должны быть устремлены в будущее, в
котором ей жить или не жить, встретить во всеоружии надвига-
ющуюся катастрофу, предотвратить ее? Это второй вопрос, ко-
торый ставит Оэ в своем романе.
Если бы художественное произведение можно было изобра-
зить в виде геометрической фигуры, то для романа Оэ «Объяли
меня воды до души моей...» следовало бы избрать треугольник.
Атомное убежище, киты, деревья — вот три вершины, от кото-
рых тянутся нити к находящемуся в центре герою, определяю-
щие, диктующие все его поступки и устремления. Происходящее
в романе неизменно возвращается к этим трем вершинам. Види-
мо, нет нужды доказывать, что каждая из названных вершин—
образ емкий и многоплановый. Атомное убежище — не просто
место, где герой собирается пережить ядерную войну. Это тот
«самый ящик, в котором попытался скрыться от людей герой
Абэ. Деревья и киты — это не просто растения и млекопитаю-
щие. Это олицетворение лучшего, что есть на земле, объект по-
клонения и защиты- Их гибель будет означать смерть всего су-
щего, и, чтобы не угасла жизнь, нужно сохранить жизнь кнтам
и деревьям. Вот почему главный герой романа, взявший себе
имя Ооки Исака (Ооки — «огромное дерево», Исана—«могу-
чая рыба»), объявляет себя поверенным китов и деревьев на!
земле.
Итак, герой поселяется в убежище. На первый взгляд чистая
случайность, сводит его с молодежью, так же как и он, но уже
по совершенно иной причине противопоставившей себя общест-
ву. Но на. самом деле их единство было предопределено внут-
ренней.опустошённостью, бесперспективностью, наконец, отсут-
ствием социальных идеалов.
Что же это за молодежь? По сложившейся в буржуазном
мире традиций всякого, выступающего против существующего
социального порядка, причисляют к коммунистам. Поэтому не
случайно полицейский агент, которого судьба столкнула с дев-
чонкой, одной из представительниц этой молодежи, тоже уверен,
что все они коммунисты. И он искренне удивлен, когда девчонка
кричит ему: «И в коммунистической стране, и в любой другой
мы будем заниматься всем, чем занимаемся сейчас!».
Какова же их программа? Предельно проста. Общество, счи-
тают они, стремится с ними разделаться. Единственный, по их
134
мнению, выход — бежать от этого общества, получив Корабл&.
Именно с этой целью они объединились в Союз свободных мо-
реплавателей.
Одновременно Оэ рисует и тех, кто правит обществом, в ко-
тором живет эта молодежь. Их фальшь, безразличие ко всем,-
кроме своей персоны, безграничная жажда власти, порочность —
все это с предельной выразительностью воплощено в бывшей
тесте героя. Трудно представить себе фигуру более омерзитель-
ную. Не существует, кажется, ни одного человеческого порока,
который не был бы ему свойствен. И в руках этого человека
власть. Правда, к тому времени, когда начинаются события в
романе, он уже болен и обречен. Но у него есть прекрасный
продолжатель — дочь, решившая вместо него выставить свою
кандидатуру в парламент, чтобы «продолжать дело отца».
В своем цинизме она, пожалуй, превосходит отца. Без тени за-
мешательства она раскрывает перед оторопевшим Ооки Исана
механизм выборов. «Выборы политика, который, подобно отцу,,
почти ни разу не приезжал в избирательный округ, — говорит
она, — фактически осуществляются руками крупных и мелких
боссов избирательного округа, правда? Это выражение полити-
ческих симпатий местных жителей к имени отца. В конце концов
именно они имеют полное право решать, кто будет преемником.
Безапелляционно называть такой порядок устаревшим было бы
не совсем справедливо».
Оэ совершенно четко расставляет акценты, прежде чем столк-
нуть две противоборствующие силы: тех, на стороне которых
власть, кто знает, чего хочет, и ни перед чем не остановится для
достижения своих низменных целей (их олицетворяют умираю-
щий политик и его дочь), и тех, кто интуитивно понимает, кто
враг, с кем следует бороться, поскольку все эти власть имущие
толкают не только их, но и весь мир к гибели, но не знают, как
бороться, более того, не знают даже, во имя чего бороться, за-
гипнотизированные идеей борьбы как таковой (их олицетворяют
Ооки Исана н подростки). Отсутствие ясного понимания цели
борьбы, но осознание необходимости самой борьбы и вынудили
Исана измыслить для себя души деревьев и души китов, к ко-
торым он взывает в трудные минуты. Эти души воплощают
укрытые в нем самом светлые идёалы. Но души деревьев и ду-
ши китов, к которым беспрерывно обращается герой, бессиль-
ны помочь ему. Так же как бессильны помочь идеалы, не мате-
риализованные в действие, неясно определяющие сущность того,
к чему необходимо стремиться, чтобы превратить идеалы в ре>-
альность.
Ситуация, с которой сталкивается читатель в романе Оэ «За-
писки пинчраннера», в полном смысле слова фантастична. Об-
лучившийся в период работы на атомной электростанции фи-
зик, которого в романе называют «отец Мори», и его умственно
отсталый сын претерпевают удивительные превращения: отец
становится на 20 лет моложе, а сын — на 20 лет старше. Они-то
135
и берут на себя миссию спасения человечества, вернее, эту мис-
сию возлагает на них некая космическая воля, которая видит,
как человечество стремительно движется к гибели. Писатель-ие-
видимка аккуратно записывает то, что ему сообщает отец Мо-
ри. Правда это или вымысел, сон или явь — неизвестно. Скорее
всего вымысел. Но не это главное, поскольку не сами события,
а их философское осмысление составляет стержень романа.
Оэ последовательно проводит в нем мысль, что человек от-
ветствен за все происходящее в мире. Не случайно, перефрази-
руя слова леди Макбет, отец Мори говорит: «О делах подобных
размышляй, не то сойдешь с ума». В «Макбете», как известно,
сказано «не размышляй». Но в нынешних условиях не размыш-
лять нельзя: такая позиция неприемлема для общественно ак-
тивного человека.
В романе Оэ превращение его героев — это метафора. Оно
олицетворяет появление нового человека, осознавшего свою от-
ветственность за будущее всех людей. Но видимо, образ пре-
вращения героев потребовался Оэ и для другого — показать,
сколь ирреально спасение человечества силами потусторонними.
Не они, а в первую очередь сами люди должны позаботиться о
своем будущем, поскольку превращение — это фактически ре-
альное, а не сказочное духовное перевоплощение людей, осо-
знавших, что жизнь или смерть человечества в их собственных
руках.
Чтобы спасти человечество, превратившиеся должны пока-
зать людям, кто их враг, сказать правду о нем и помешать ему
творить зло, приближающее человечество к гибели. В романе
Зло олицетворяет Патрон. Но люди, как это ни печально, не
видят в нем угрозы их существованию. Наоборот, они склонны
воспринимать его благодушно, даже несколько иронически. Он
кажется им, говорит отец Мори, всего лишь чертом из дурного
сна. Кончится сон — исчезнет и сам черт. Но это колоссальное
заблуждение, и если люди не прозреют немедленно, будет слиш-
ком поздно, и черт из дурного сна уже наяву разрушит мир и
уничтожит человечество.
Что представляет собой Патрон? Чтобы читатель сразу же
понял, кого он имеет в виду, Оэ буквально на первых же стра-
ницах рассказывает о сне отца Мори, в котором тот видит фа-
кельное шествие по случаю прихода Патрона к власти, воспро-
изводящее факельное шествие в фашистской Германии в озна-
менование прихода к власти Гитлера. Таким образом, сомнений
нет: Патрон сродни Гитлеру. Этот вещий сон служит как бы
прологом ко всему, что происходит в романе.
Как уже отмечалось выше, центральное место в романе зани-
мает молодежь. Оэ не просто рассказывает о ней, но и показы-
вает, сколь трудна, а подчас и бесперспективна ее борьба за са-
моутверждение в обществе, которое стремится выбросить ее за
борт.
С обманутой молодежью мы сталкиваемся в любом из рома-
136
нов Оэ. Так, «Опоздавшая молодежь» — роман о трагедии юно-
ши, «опоздавшего на войну», которому годами вдалбливали в
голову идею служения императору, служения родине, якобы
строящей новый порядок в Азии, и «обманули»: Япония капиту-
лировала, вместо того чтобы победить или, уж во всяком слу-
чае, сражаться до последнего солдата. Именно эта молодежь
становится питательной средой правого и левого экстремизма.
С обманутой, не нашедшей своего места в жизни молодежью-
встречаемся мы в романах «Футбол 1860 года» и «Объяли меня
воды до души моей...». Руководители молодежи, исходя из соб-
ственных эгоистических устремлений, предают ее, направляя на
путь левого экстремизма, иногда ярко выраженного, иногда чуть
затушеванного.
Именно такую молодежь изобразил Оэ в «Записках пинчран-
нера». Главным образом это студенты, в головах которых нево-
образимая мешанина. Малограмотные начетчики — такими пред-
ставляются они автором. Форма для них господствует над со-
держанием, которое отходит на второй план. Достаточно вспом-
нить так называемый Великий поход, организованный Корпу-
сом лососей — подпольным партизанским формированием лева-
ков. Во имя чего предпринял Корпус лососей свой поход, како-
ва его цель? Этот поход без пункта назначения. Собственно, ег"
даже нельзя назвать походом в обычном смысле слова. Он oj -
ганизован лишь для того, чтобы, создавая видимость беспре-
рывных действий, годы и годы держать в руках молодежь —
участников похода, иметь наготове людей, 'которых в любой мо-
мент можно использовать в угоду амбициозным устремлениям
руководителей.
Роман Оэ пронизывает мысль об угрозе, нависшей над чело-
вечеством, о бесперспективности пути, избранного частью япон-
ской молодежи. Но Оэ не просто предостерегает людей, он по-
казывает и источник зла, его носителей, показывает, что долж-
ны сделать люди, чтобы отвести угрозу. Именно этим объясняет-
ся большой интерес к «Запискам пинчраннера», ставшим весьма
примечательным явлением в японской литературе конца 70-х го-
дов.
В своих новых произведениях Абэ («Вошедшие в ковчег») и
Оэ («Игры современников») снова в полный голос заявили о
бедах человечества, о том пути, который оно должно избрать,
чтобы выжить.
1 Литературная газета. 04.05.1977.
К. Рёхо
РОМАН-ЭПОПЕЯ В ЖАНРОВОЙ ИЕРАРХИИ
ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Японские теоретики литературы различают три жанра по-
вествовательной прозы: новелла, повесть и роман. Первый, глав-
нейший критерий их жанрового определения — количественно-
объемный, и это сказалось в семантике терминологии: тампэн
.сёсэцу (короткая проза) — новелла; тюхэн сёсэцу (средняя про-
за) — повесть; тёхэн сёсэцу (длинная проза)—роман. Встречают-
ся иногда и такие термины, как дай тёхэн сёсэцу (большой
длинный роман), а также дайга сёсэцу (роман «полноводная ре-
жа») для обозначения явлений, выходящих за рамки обычного
романа. И основное их различие опять-таки объемное. Напри-
мер, термином дайга сёсэцу обозначают не только «Войну и
мир» Л. Толстого, «Тихий Дон» М. Шолохова, но и вообще ро-
ман крупного масштаба. Внутренние границы между романом и
эпопеей, двумя самостоятельными эпическими жанрами, оказы-
ваются размытыми.
Теория жанра, его систематика мало занимают внимание
'японских литературоведов, и трудно найти работу, специально
посвященную этой проблеме. Многообразные формы современ-
ного японского романа, его жанровые сдвиги рассматриваются
недифференцированно, и, по существу, разные явления часто
‘фигурируют под одним наименованием.
Японская литература имеет свою исторически сложившуюся
.жанровую систему. В классической прозе повествовательная
литература представлена практически одним нерасчлененным
жанром, получившим наименование моногатари — повествование
.(букв, «рассказывание» — термин, охватывающий сюжетную
прозу). В новое время возникает другое жанровое наименование,
укиёдзоси (рассказы о бренном мире), служащее для обозначе-
ния разнообразных по содержанию и форме произведений худо-
жественной прозы в городской литературе. Термин «сёсэцу», объ-
единяющий современную сюжетную прозу, утвердился в трак-
тате Цубоути Сёё «Сущность прозы» («Сёсэцу синдзуй», 1885),
положившем начало новой японской литературе. Таким образом,
и новая повествовательная проза была представлена одним не-
138
расчлененным жанром, объединялась под общим жанровым
наименованием. Фактически же в ней существовали разные жан-
ры. Лишь позднее происходит разграничение эпических жанров
на основе «количественных» критериев (т. е исходя из объема
произведений). Однако в жанровой иерархии японской литера-
туры до сих пор нет места для романа-эпопеи как самостоятель-
ного жанра.
И это не случайно. В эпическом искусстве современной Япо-
нии роман-эпопея до недавнего времени не занимал сколько-ни-
будь значительного места. Еще в начале 30-х годов Кобаяси-
1акидзи, прочитав «Тихий Дон», с грустью заметил, что в Япо-
нии нет такого «спокойного, как нескончаемая беседа осенней
ночью, как течение многоводной реки, произведения»1- Извест-
но также, что японские писатели, во многом следуя реализму
Л. Н. Толстого, не стремились по его образцам создавать рома-
ны-эпопеи. Им был близок А. П. Чехов, творчество которого, по
словам Т. Манна, воплощает «отказ от эпической монументаль-
ности».
Но жанр не остается неподвижным, от эпохи к эпохе проис-
ходит его развитие, угасание старого и зарождение нового. И в
японской литературе послевоенных лет наряду с реалистическим
романом формируется н особая жанровая разновидность эпоса,
получившая название «роман-эпопея». Происходит, хотя и с
большим опозданием, сложный жанрообразовательиый процесс,
связанный с углубляющейся тенденцией к эпопейности.
Однако в японской критике бытует мнение, что роман-эпопея
невозможен в такой литературе, как японская, развивающаяся
якобы по своим особым законам: монументальный жанр «не по
климату» японской литературе, предпочитающей анализу вещей
и-х созерцание. Споры о беспочвенности романа-эпопеи в литера-
туре Японии касались наболевших проблем соотношения тради-
ционного художественного мышления и поэтики реалистического
искусства.
Каково отношение романа-эпопеи к традиционным эпическим
жанрам, в частности к эгобеллетристике (ватакуси сёсэцу), и
что нового вносит он в жанровую структуру современного япон-
ского романа? Чем обусловлена тенденция развития в современ-
ной японской литературе романа с эпическим «центром тяготе-
ния»? Выяснение этих вопросов имеет важное значение для ос-
мысления перспектив литературного процесса в современной
Японии.
Эпопейное начало не укладывалось в русле японских худо-
жественных традиций. В основе эпоса лежит художественно ос-
военное событие, тогда как в основе лирики — настроение, ду-
шевное состояние. Не только поэзия, но и повествовательная
проза Японии всегда тяготела к лирике. Японских прозаиков!
интересовали не столько сюжет, смена событий, сколько мель-
чайшие оттенки душевных переживаний человека.
Лирическая «замкнутость» повествования во многом опреде-
13»
лила Компози«ионный стРой японской художественной прозы:
вместо монументальной структуры, обнимающей бесконечное
многообразие окружающего мира, предпочтение отдавалось ма-
лой форме повествовательной прозы — новелле, «рассказу с ла-
донь величиной», состоящему из отдельных жизненных эпизодов.
И даже романы часто производили впечатление коротких рас-
сказов, объединенных еле уловимыми ассоциативными связями.
Событийность и сюжетостроение, являющиеся необходимыми
компонентами эпического повествования, долгое время японски-
ми литераторами игнорировались.
Характерны в этом отношении споры о сюжете, разгоревшие-
ся в японской критике еще в конце 20-х годов. Акутагава Рю-
носкэ выступал тогда против сюжетной прозы, противопостав-
ляя ей «чистый» рассказ, чурающийся событийности, сюжетной
занимательности. Он и его единомышленники ратовали за «но-
веллу, органически слитую с поэзией, в которой художественное
время лишь короткий миг настоящего, не имеющий ни преды-
стории, ни продолжения в будущем. Событийность, считали
они,—удел вульгарного искусства. Примечательно, что финал
рассказа Мопассана «Фальшивое ожерелье» показался япон-
ским читателям подделкой, рассчитанной на дешевый эффект.
Правда, уже тогда многие японские писатели, в том числе Та-
нидзаки Дзюнъитиро, не разделяли подобных взглядов. Они вы-
ступали за утверждение эпического духа в японской прозе, при-
давали большое значение сюжетостроению. Тем не менее при-
веденный пример лишний раз свидетельствует о том, что эпо-
пейное начало действительно не отвечало японской художествен-
ной традиции.
Развитию монументального эпического искусства не способ-
ствовало также традиционное этико-эстетнческое учение дзэн-
буддизма. Отвергая рассудочное восприятие мира, эстетика
дзэн утверждает, что для творческого процесса важна не зара-
нее принятая формула плана произведения, его архитектоника,
без коей немыслимо монументальное искусство, а безыскусствен-
ность и непосредственность. Кроме того, дзэнский принцип ес-
тественности образа, исходящий из восприятия природы как
всеобщего начала, не отводит человеку какой-либо исключитель-
ной роли в системе мироздания. Отвергая анализ явлений ок-
ружающего мира, искусство дзэн стоит как бы над социальными
битвами, и его эстетике чужды социально-масштабные произве-
дения, ставящие целью художественное исследование много-
гранных связей человека и общества.
Не случайно и в современной Японии вплоть до конца вто-
рой мировой войны, как это утверждают японские историки лите-
ратуры, господствующим направлением была социально-замкну-
тая, своего рода «закрытая» эгобеллетристика, предельно сос-
редоточенная на интимных переживаниях эгоцентрической лич-
ности (обычно самого автора), искусственно‘вырванной из обще-
ственной среды. Авторы ватакуси сёсэцу неизменно вращаются
140
в ограниченном кругу узколичных тем и однотипных сюжетных
построений, лишенных художественного вымысла и эпической
широты.
Кумэ Macao, один из адептов ватакуси сёсэцу, заявлял о не-
возможности для истинного художника выйти за пределы собст-
венного «я» и выявить сущность себе подобных. По его мнению,
входя в контакт с другими, автор вынужден прибегать к вы-
мыслу и в результате произведение теряет свою чистоту и до-
верие читателя. По этой причине он считает «Войну и мир»
«Л. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского,
«Мадам Бовари» Г. Флобера фальшивыми подобиями жизни,
жнигами для популярного чтения. «В подлинном художественном
произведении,— заявляет Кумэ Macao,— автор не выходит за
пределы собственного „я“ и не соприкасается с жизнью других».
Налицо прямая полемика эгобеллетристики с принципами худо-
жественного реализма. Отказ Кумэ Macao от широкого охвата
жизненных явлений и творческого вымысла продиктован самой
природой эгобеллетристики, пренебрегающей принципами худо-
жественного преображения реальности и создания человеческих
типов и характеров.
Послевоенные дискуссии вокруг эгобеллетристики так или
иначе были связаны с проблемами общественного назначения
художника, расширения его социального кругозора. Примеча-
тельно в этом отношении выступление писателя Сёно Дзюндзо
во время литературной дискуссии за «круглым столом» в редак-
ции журнала «Гундзо» в 1961 г. Полемизируя с известным писа-
телем-эгобеллетристом Кабаяси Акацуки, он утверждал: «Нам
нужно освоить прием объемного изображения вселенной. Но при
этом надо не только исходить из позиций собственного „я“, но и
учитывать позиции других... Например, в романе „Война и мир“
Толстой описывает не только то, что он видел и испытал сам,
но и страдания и мечты других людей, принадлежащих к самым
различным слоям общества. Многочисленные сцены и ситуации,
казалось бы разрозненные, взаимосвязаны и образуют объем-
ный мир. Мне кажется, по этому пути нам надо идти» 2.
Однако тяготение японских писателей к эпопейности, к син-
тетичности, к широкому охвату типов и событий, к анализу мно-
госложных человеческих отношений вновь сталкивается с про-
тиводействием со стороны блюстителей «чистоты» национально-
го художественного мышления.
Критик Саэки Сёити весьма скептически настроен в отноше-
нии возможностей создания произведений эпического масштаба
в японской литературе, так как у японцев иное, отличное от ев-
ропейцев восприятие жизни и красоты. «В противоположность
европейцам,— пишет Саэки Сёити,— приверженным к структуре,
японцы всегда чувствуют себя неуютно перед симметрией. Они
находят красоту вне структуры, стараются ее несколько дефор-
мировать... К их понятию прекрасного не очень подходят произ-
ведения с четкой структурой» 3.
141
Естественно, там, где эстетизируется асимметрическое, произ-
ведения со стройной архитектоникой не находят благодатной
почвы. В Японии до сих пор пользуется популярностью литера-
турный жанр дзуйхицу (букв, «следовать за кистью»), культи-
вирующий «стихийное начало» творческого процесса. Разумеет-
ся, «бесплановый метод», пренебрегающий аналитическими ис-
следованиями и архитектоникой произведения, не способствует
развитию реалистического искусства.
Размышляя о специфике художественного мышления Запада
и Востока, Ито Сэй в статье «Возможности современной литера-
туры» (1950 г.) также подчеркивает, что закон социальной пер-
спективы, лежащий в основе реалистического искусства, естест-
вен для Запада, японская же литература, склонная к камерно-
сти сюжетов, не приемлет законов художественной логики.
«Наше искусство,— пишет Ито Сэй,— слишком долго пребывало
в мире, чуждающемся логического мышления»4. Поэтому, утвер-
ждает Ито Сэй, японский писатель полифонии предпочитает мо-
нотонность, раскрытию многогранных общественных связей —
исповедь о себе.
На конференции ЮНЕСКО (сентябрь 1968 г.), посвященной
проблеме взаимосвязей японского и западного искусства, Ито
Сэй говорил о наличии двух типов литературных произведений:
«линейных», без построения образов в «глубину», где действие
сосредоточивается вокруг главного героя, а остальные персона-
жи проходят каждый по своей линии, не соприкасаясь друг с
другом, и «оркестровых», где жизнь предстает в сложном спла-
ве судеб многих действующих лиц, а линии героев переплетают-
ся, образуя единое целое. «Линейный стиль», по мнению Ито
Сэя, в большей мере отвечает психологическому складу японцев.
Ито Сэй последовательно отвергает мысль не только о необ-
ходимости, но и о возможности прививать жанр романа-эпопеи
в ткань японской художественной культуры: «После буржуазной
революции 1868 года не раз говорили, что и в Японии, как в Ев-
ропе, пора создать роман, изображающий социальную структуру
всего общества, подобный „Войне и миру", в котором переплета-
лись бы воедино межгосударственные отношения, война, при-
дворная среда, жизнь рядовых солдат... Но попытка японских
писателей создать подобные произведения заранее обречена на
неудачу»5. Почему? Потому что, как считает Ито Сэй, форми-
рование и развитие романа-эпопеи предполагает наличие такой
социальной структуры, какая существует в Европе, тогда как
общество, в котором живут японцы, не похоже на европейское,
и переживания японцев резко отличаются от чувствований евро-
пейцев. Следовательно, пока японское общество не сравняется
с европейским по своей социальной структуре и по культуре
человеческих отношений, до тех пор не может быть и речи о ка-
ком бы то ни было сближении японского романа с европейским.
Бесспорно, японский роман обладает целым рядом специфи-
ческих черт, обусловленных особенностями развития японского
142
искусства. Правильное понимание соотношения культурных тра-
диций с идеями современной эпохи, осознание своеобразия япон-
ского художественного мышления в свете эстетических запросов
сегодняшнего дня представляют особую актуальность для со-
временного японского романа. Однако Ито Сэй, как и Саэки
Сёити, несомненно, гипертрофирует специфику японского худо-
жественного мышления, а также разрыв в социально-экономи-
ческом развитии Японии и стран Запада в наши дни, и это при-
водит в итоге к консервации самобытности, к противопоставле-
нию традиционной эстетики поэтике реалистического романа.
Критик Като Сюити, например, утверждает, что для после-
военного (поколения Японии общество, в котором оно выросло,
идентично миру, изображенному в хорошо знакомой ему литера-
туре Запада. Эстетическая мысль современной Японии все чаще
подчеркивает взаимопроникновение двух типов мышления — ху-
дожественного и логического. Интуитивная, иррациональная
концепция искусства не выдерживает проверки временем.
Характерно, что Кавабата Ясунари, удостоенный Нобелев-
ской премии 1968 г. за «писательское мастерство,, которое с
большим чувством выражает суть японского образа мышления»,
отдает себе ясный отчет в том, что традиция, не связанная с
эстетическими запросами времени, чахнет и отбрасывается.
Этому вопросу уделено большое внимание в одной из его по-
следних книг, «Введение в роман» (1970 г.), адресованной мо-
лодому поколению японских писателей.
Рассматривая литературу как «универсальное выражение че-
ловеческой жизни», Кавабата Ясунари утверждает, что «линей-
ный» тип повествования не отвечает требованиям современного
романа, и отдает предпочтение эпическому охвату многосложной
действительности. И отсюда его наставление молодым писате-
лям уделять больше внимания работе над сюжетом, понимая
под сюжетом не просто искусно сложенную «нить рассказа», а
систему событий, в которой раскрываются и социальный кон-
•фликт, и человеческие характеры. «Наша литература,— говорит
Кавабата Ясунари,— искони питается соками поэзии хокку и
танка и придает большое значение художественной атмосфере
’безыскусственности, естественности. Поэтому японские писатели
усматривали в произведениях с занимательным сюжетом эле-
менты низкопробной литературы. А так как рассказ стал основ-
ным жанром нашей повествовательной литературы — и он не
требует сложного сюжета,— то это еще более способствовало
недооценке роли сюжетостроения в повествовании. Но в совре-
менных условиях, когда жизнь общества крайне осложнена и
возникла потребность в романе, больше уже нельзя пренебре-
гать сюжетом, без него невозможно конструировать роман»6.
Тяготение современных японских писателей к эпическому ох-
вату жизненных явлений Кавабата Ясунари считает закономер-
ным процессом и утверждает, что японский роман сегодня дол-
жен развиваться по пути сочетания традиционных лирико-субъ-
143
ективных форм повествования с эпической широтой изображе-
ния действительности: «В наши дни в Японии, Азии и Европе
развертывается грандиозная созидательная работа. В сфере ро-
мана творческим процессом завладел эпический дух, объединя-
ющий субъективное и объективное видение мира, иными сло-
вами — диалектический, синтетический творческий дух. Споры
вокруг романа могут быть успешно разрешены лишь тогда, ко-
гда этот здоровый дух укоренится в сознании писателя и будет
управлять его видением мира. Я думаю, что начинающие писа-
тели не должны сковывать себя установившейся нормой субъек-
тивного искусства, им необходимо приложить все усилия к тому,
чтобы выработать в себе умение синтезировать и конструиро-
вать жизненные материалы, т. е. развить дух эпической поэ-
зии» 7.
Это чрезвычайно важное заявление старого мастера японской
литературы во многом подытоживает многолетние дискуссии о
перспективах развития современного японского романа. Очень
поучительно, что Кавабата Ясунари, преклонявшийся перед
«линейным» романом «Гэндзи моногатари», не навязывает мо-
лодым писателям своих личных вкусов и своей особой привер-
женности к традициям старой литературы и, трезво учитывая
современные тенденции развития японской литературы, совету-
ет им овладевать искусством Л. Н. Толстого — эпика.
Ярким отражением структурных сдвигов в японской литера-
туре, которые обусловили тягу писателей к широкому художе-
ственному синтезу, является концепция «тотального» романа
(дзэнтай сёсэцу), сложившаяся в японской критике послевоен-
ных лет.
Суть этой концепции, сформулированной писателем Нома
Хироси в статье «Об экспериментальной литературе» (1949 г.),
сводится к тому, что всеобъемлющее изображение человека
предполагает раскрытие в нем реального соотношения трех сто-
рон б_ытия: социального, психологического и физиологического.
Дзэнтай сёсэцу — это реалистический в своей основе роман, во-
площающий «тотальные» отношения человека и мира в противо- -
вес замкнутой конструкции эгобеллетристики. Происходит эпи-
зация романа. Конструктивным элементом становится не толь-
ко история относительной личности, но и история народа.
Соотнося человека с целым миром, стремясь не к «плоскост-
ному», а к «вертикальному», уходящему вглубь познанию дей-
ствительности, японские писатели обратились к жанру романа-
эпопеи, дающего простор для изображения значительного перио-
да исторического времени, со сложным переплетением судеб
многих действующих лиц и острым драматизмом борьбы раз-
личных общественных классов. Обращение японских писателей
к опыту Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, О. де Бальзака,
Э. Золя, Стендаля во многом способствовало утверждению рома-
на-эпопеи в послевоенной японской литературе.
Большое место в творчестве современных японских писателей
144
занимает роман о второй мировой войне. В центре их внима-
ния — изображение судьбы народа в период тягчайших нацио-
нальных испытаний. В процессе осмысления и художественной
реализации этой кардинальной темы обнаруживается тяга япон-
ских писателей к эпическому освоению истории, не только на-
стоящей, но и прошлой, а через них — и будущей. Японская кри-
тика обратила внимание на особенности художественного освое-
ния темы войны в многотомном романе Гомикава Дзюмпэя
«Война и люди», работа над которым продолжалась десять с
лишним лет (1965—1979). В этом произведении воссоздана
жизнь целой страны в трагический период ее истории: от начала
японской агрессии в Маньчжурии на рубеже 20—30-х годов до
суда Международного военного трибунала над японскими воен-
ными преступниками в мае 1946 г. Необходимость реализации
грандиозного творческого замысла обусловила обращение писа-
теля к многоплановому эпическому роману. Гомикава Дзюмпэю
была близка «оркестровая» сложность толстовской эпопеи «Вой-
на и мир».
Современный японский роман-эпопея активно осваивает все
новые и новые сферы действительности. История трех поколе-
ний японской буржуазной семьи (с конца прошлого столетия и
до краха японской империи в сорок пятом)—таков масштаб*
эпического повествования в романе Кита Морио «Семья Нирэ»
(1964 г.). Восхождение и упадок буржуазной семьи изображает-
ся в тесной связи с самим ходом истории. Роман создан под
сильным влиянием «Будденброков» Т. Манна.
Три части книги, отражающие пути трех поколений Нирэ, со*
дня основания собственной психиатрической больницы в районе
Токио еще в начале века и до полного их разорения, спустя
почти <пол1столетия, соответствуют трем важнейшим этапам япон-
ской истории XX в. Первый — процветание капиталистической
Японии, вышедшей победительницей из первой мировой войны.
На волне заметного оживления деловой жизни в стране преуспе-
вает и «дело» Нирэ. Второй — захватнические войны Японии в
Китае, ставшие прелюдией к катастрофе. Третий — Тихоокеан-
ская война и разгром японского милитаризма. Ветер истории на-
стойчиво врывается на страницы романа, направляя ход повест-
вования. Книга создает впечатление исчерпанности прежних форм
жизни. В этом идейный итог эпического повествования о трех
поколениях семьи Нирэ.
Тяготение к эпическому освоению действительности особенно
заметно в среде представителей японской демократической ли-
тературы. И это закономерно, так как постижение и изображе-
ние современного мира, художественное исследование жизни
своего народа в целом, постановка самых жгучих политических,
социальных и философских проблем современности находятся в
центре их творческих интересов.
Художественное воплощение человека и мира не в абстракт-
ном, а в конкретном общественно-историческом содержании —
ю Зак. 324
145
такова основная проблематика шеститомного эпического романа
-Сумии Суэ «Река без моста» (1961—1973), посвященного судь- '
бе отверженной касты эта.
Рассказывая об отверженных людях эта на протяжении зна-
чительного периода исторического времени, автор показывает
жизнь народа в ее многообразии, в сложном переплетении мно-
гих судеб, в столкновении интересов различных классов, соци-
альных групп. Писателя интересует также вопрос о социальных
.истоках дискриминации эта — этого странного недуга японского
общества. Для художественной реализации своего грандиозного
замысла Сумии Суэ также обращается к жанру романа-эпопеи.
Вопрос о романе-эпопее не мог не возникнуть в японской ли-
тературе послевоенного периода. Жажда осмысления историче-
-ского пути страны, судеб не только отдельной личности, но и
народа в целом выдвигает перед писателем требование овладе-
ния монументальными эпическими формами.
Было бы, однако, преждевременно утверждать, что эпопей-'
ность определяет ведущее направление японской литературы на-
ших дней. Мы констатировали лишь объективную традицию раз-.
вития современного японского романа, его потребность в расши-
рении сферы познания действительности, которая и обусловила
интерес писателей к роману-эпопее.
* Роман-эпопея как емкий, синтетический жанр, в котором про-
исходит взаимопроникновение эпики и лирики, не только не про-
тивостоит японской художественной традиции, но, напротив, пре-
доставляет, на наш взгляд, большие возможности современному
японскому роману в его поступательном развитии. Однако пер-
спектива развития этого жанра зависит прежде всего от глу-
бины постижения писателями жизни во всем ее многообразии,
в ее ведущих исторических тенденциях.
1 Кобаяси Такидзи. Дзэпсю. Т. 8. Токио, 1956, с. 230. • ’
2 Гундзо. 1961, № 3, с. 148.
3 Гундзо. 1969, № 2, с. 166.
4 Ито Сэй. Дзэнсю. Т. 13. Токио, 1956, с. 98.
5 Ито Сэй. Танидзаки Дзюнъитиро-но бунгаку. Токио, 1970, с. 252.
6 Кавабата Ясунари. Сёсэцу нюмон (Введение в роман). Токио, 1970, с. 61.
7 Там же.
Н. И. Чегодарь
К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ
ЯПОНСКОГО ПОСЛЕВОЕННОГО РОМАНА
Современная японская литература, как и всякая литература
развитого капиталистического общества, характеризуется нали-
чием многообразных художественных и идейных течений и ог-
ромным объемом литературной продукции. Вместе с тем она яв-
ляется плодом длительного развития национальной художест-
венной традиции, что еще более усложняет картину взаимодей-
ствия факторов социально-исторического состояния общества,
обновляющегося влияния традиции и самостоятельных исканий
отдельных художников. Поскольку в пределах небольшой ста-
тьи невозможно сколько-нибудь полно охватить типологические
особенности литературного процесса современной Японии, автор
рассматривает только некоторые типологические варианты япон-
ского послевоенного романа,, природа которых определяется в
первую очередь господствующими в обществе умонастроениями
и находит выражение в изменении образа протагониста и харак-
тера конфликта, лежащего в основе произведения.
Потрясение, пережитое японским народом в связи с пораже-
нием в войне, требовало осознания ошибок недавнего прошлого.
Литература стремилась дать ответ на больные вопросы времени,
и господствующим типом романа в течение первого послевоенно-
го десятилетия стал реалистический, панорамный, по определе-
нию известного советского литературоведа Д. Затонского, «цент-
робежный» роман расчета с прошлым, принявший в Японии
форму антимилитаристского романа.
Следует особо отметить тот факт, что возникновение целого
потока антивоенных произведений было беспрецедентным явле-
нием в истории новой японской литературы. Начиная с конца
XIX в. краеугольным камнем официальной пропаганды в Япо-
нии, ставшей на путь импепиалистической агрессии, был тезис
о непобедимости императорской армии, о смерти в бою за стра-
ну богов, за священную особу императора как о высшем сча-
стье для каждого японца. Малейшая критика в адрес армии
считалась недопустимой. Слова «антивоенный» и «антигосудар-
ственный» рассматривались как синонимы. Два или три появив-
шихся в начале XX в. произведения, в которых авторы осмели-
10*
147
лись высказать пацифистские настроения, были не только край-
не враждебно встречены критикой, но в обстановке шовинистиче-
ского угара, охватившего значительную часть населения после
японо-китайской и русско-японской войн, пе нашли отклика у
читателей. Таким образом, антивоенный, антимилитаристский
роман, возникший после второй мировой войны, явился практи-
чески совершенно новым для Японии типом романа.
Одним из самых талантливых и беспощадных произведений о
японской армии следует признать роман Нома Хироси «Зона
пустоты» («Синку титай»), С предельной откровенностью, на
грани натурализма, писатель рисует армейские порядки, направ-
ленные на то, чтобы выбить из солдата все человеческое и пре-
вратить его в нерассуждающий «живой механизм». Жизнь в ка-
зарме— это сплошной, ни на минуту не прекращающийся поток
физических и моральных издевательств над человеком. Попыт-
ка центрального героя — Китани отстоять себя обречена на про-
вал. Армия — это «зона пустоты», в которой гибнет все живое.
Ее существование недопустимо в цивилизованном обществе —
таков вывод, к которому Нома подводит читателя.
Оока Сёхэй в романе «Огни на равнине» («Ноби») разоблачает
преступный авантюризм японской военной клики, обрекшей на
страдания и гибель миллионы людей. Однако писатель не огра-
ничивается этим лежащим на поверхности пластом действитель-
ности. Война была бы невозможна, если бы она была исключи-
тельно следствием злой воли кучки милитаристов. Оока показы-
вает, как японские солдаты, будучи сами жертвами преступных
планов военщины, вместе с тем становятся соучастниками тво-
римых ею преступлений. Они насилуют, грабят и убивают жите-
лей оккупированных стран. Невозможно пройти войну, не запят-
нав себя преступлением. Герой романа — рядовой Тамура, че-
ловек интеллигентный, мягкий, добрый, тем не 'менее становится
убийцей. Олицетворением войны для писателя является канни-
бализм, начавшийся среди японских солдат, скитающихся без
надежды на спасение в филиппинских джунглях.
Тема каннибализма как явления, отражающего самую сущ-
ность войны, легла в основу целого ряда антимилитаристских
произведений японских писателей («Светящийся мох» Такэда
Тайдзюн, «Море и яд» Эндо Сюсаку).
Значительная часть антивоенной литературы была посвяще-
на разоблачению японской агрессии в Китае. Хотта Есиэ в ро-
мане «Время» («Дзикан») и Гомикава Дзюмпэй в романе «Ус-
(«Нингэн-но дзёкэн»)
ловия человеческого существования»
по-
казали несостоятельность иллюзий некоторых японских «сенти-
ментальных гуманистов», которые полагали, что могут сохранить
чистыми руки в оккупированном Китае.
Тема трагической судьбы японской молодежи,
царящим в стране террором и обманутой ложными
сломленной
бы-
мифами,
ла поднята Исикава Тацудзо в романе «Тростник под ветром»
(«Кадзэ-ни соёгу аси»).
-148
Особо следует отметить, что в антивоенной литературе впер-
вые был поставлен вопрос об ответственности императора за
войну. Оока Сёхай, Исикава Тацудзо, Хотта ёсиэ и ряд других
писателей прямо указывают в своих произведениях на императо-
ра как на одного из главных виновников трагедии японского на-
рода.
Острота социального видения в произведениях антивоенной
литературы определяется не только глубоко продуманной крити-
кой японских правящих кругов, но и исследованием нравствен-
ных проблем, стоящих перед личностью в условиях тоталитар-
ного режима. Антивоенная литература поставила вопрос об от-
ветственности японской интелигенции, японского народа за вой-
ну. Красной нитью через все произведения проходят мотивы ви-
ны, ответственности, соучастия, выбора решения в экстремаль-
ной ситуации. Антивоенная литература потребовала от каждого
члена общества четкого определения своей позиции и принятия
правильного решения даже в том случае, если оно не может
хоть сколько-нибудь существенно повлиять на ход исторических
событий.
Герой послевоенного антимилитаристского романа по
большей части не имеет положительной программы действий.
Его протест против реальной исторической ситуации сводится к
пассивному стремлению уклониться от соучастия в творимых на
его глазах 'преступлениях. Однако, несмотря на свои колебания,
непоследовательность и ошибки, он мыслит исторически и созна-
ет себя в качестве субъекта истории. Именно невозможность
реализовать себя в качестве социально деятельного члена об-
щества лежит в основе трагического конфликта, в который он
вступает с действительностью.
Тип реалистического панорамного романа доминировал в
японской литературе на протяжении всего первого послевоенно-
го десятилетия. Наряду с антивоенным романом этот тип романа
был также представлен произведениями, в которых раскрыва-
лись важные социальные сдвиги, происшедшие в стране после
войны, показывалась борьба прогрессивных сил за углубление
процесса демократизации японского общества. («Тихие горы»
Токунага Сунао, «Равнина Банею», «Футисо» Миямото Юрико,
«Стена человеческая» Исикава Тацудзо и др.). Эта литература
поднимала самый актуальный вопрос своего времени — вопрос
о выборе путей преодоления наследия милитаристского прошло-
го и об ответственности за будущее страны. Писатели, создав-
шие этот откровенно политически тенденциозный тип романа,
исходили из стремления содействовать превращению Японии в
подлинно демократическую страну. Их в первую очередь интере-
совал окружающий мир, закономерности жизни общества в
целом. Примыкая по характеру романного построения к антиво-
енной литературе, произведения этого типа явились вместе с
тем новым шагом в реалистическом постижении действительно-
сти и внесли важный вклад в создание комплекса послевоенных
149
ценностных ориентаций, в основе которого лежали идеи мира
и демократии.
В 60-е годы, которые можно рассматривать как время «завер-
шения формирования новой структуры японского империализ-
ма» *, многое изменилось в атмосфере духовной жизни страны.
Рассеялись иллюзии скорого создания общества, основанного
на принципах справедливости, свободы и равенства. Поражение
демократических сил в борьбе против «договора безопасности»
привело к дальнейшему укреплению японо-американского воен-
но-политического союза и усилению позиций консервативного
лагеря внутри страны. В прогрессивном лагере поражение бы-
ло воспринято не только как свидетельство собственной несо-
стоятельности, но и как несостоятельность той системы ценно-
стей, во имя которой велась борьба. Появилось ощущение утра-
ты исторической перспективы и как следствие этого стремление
уйти от острых проблем действительности. Начался процесс
смены ценностных ориентаций, которому способствовал также
ряд социально-экономических сдвигов в жизни японского обще-
ства, связанных с периодом так называемых «быстрых темпов
экономического роста» страны.
В литературе этого периода все большее место начал зани-
мать роман, в котором внимание писателя сосредоточивалось на
изображении повседневных будней, индивидуального жизненного
опыта героев. В произведениях подобного типа автор всматри-
вался уже не в окружающий мир, а в самого себя (независимо
от того, писался роман от первого или третьего лица). Пользу-
ясь определением Д. Затонского, этот тип романа следует на-
звать центростремительным. Интересно отметить, что, в сущно-
сти, такое же название эта литература получила и в японской
критике, в которой она известна как литература «устремленного
вовнутрь (интровертного) поколения» (найко сэдай). Этот тип
романа был создан в японской литературе такими писателями,
как Кодзима Нобуо, Есиюки Дзюнноскэ, Миура Сюмон и др.
Герои романа Кодзима Нобуо «Семейный круг» («Хоё кадзо-
ку») живут интересами повседневности, не задумываясь над ос-
мыслением кардинальных проблем жизни общества. Это, конеч-
но, не означает, что они могут полностью абстрагироваться от
окружающей их реальной действительности. При видимом отсут-
ствии серьезных трудностей жизнь требует от них постоянного
напряжения в погоне за знаками и символами благополучия и
престижа. Единственным прибежищем, где человек может по-
чувствовать себя в безопасности, герою романа представляется
семья. В произведении чувствуется ностальгическая нотка тоски
по добрым старым временам, когда семья служила надежной
опорой для человека, когда люди руководствовались твердыми
правилами, основанными на освященных веками традициях. Ха-
рактерная для 60-х годов тенденция возвращения к националь-
ным ценностям ощущается и в романе Миура Сюмон «Садик в
ящике» («Хако нива»). Герой романа неудовлетворен своим
150
Настоящим и не питает надежд на будущее. Представление о
Чем-то светлом, чистом для него связано только с прошлым, о
котором он тоскует, устраивая игрушечный садик в ящике. В
романе Есиюки Дзюнноскэ «Темная комната» («Ансицу») круг
интересов героя сужается до размеров темной, с вечно зашто-
ренными окнами комнаты его любовницы. Оценивая это произ-
ведение, известный критик Исода Коити обращает внимание
на заключенную в нем «позицию страстного отрицания по отно-
шению к движению внешнего мира»2.
Герои центробежного романа первых послевоенных лет были
ориентированы на будущее. Не всегда находя в себе силы ак-
тивно бороться за него, они тем не менее верили, что оно долж-
но быть лучше настоящего. Герои центростремительного рома-
на 60-х годов утратили эту веру. У них часто отсутствует даже
узколичная цель, которая придавала бы смысл их существова-
нию. Символом той жизни, которую они ведут, становится иг-
рушечный садик, «маленький, темный, ненастоящий».
Таким образом, в 60-х годах получает распространение тип
романа, в котором внимание писателя переключается с событий
.важного социально-политического значения на обстоятельства
повседневной будничной жизни. Этот роман ограничивается опи-
санием эмпирической данности, не ставя своей целью раскрытие
закономерностей бытия современного общества. Основные соци-
альные противоречия в нем проявляются в форме социально не-
детерминированных случайных обстоятельств, например болезни
или автомобильной катастрофы. Заметно сужается социальный
спектр действующих лиц этой литературы: в ней фигурируют поч-
ти исключительно представители средних слоев общества. Вни-
мание писателя сосредоточивается на психологии героев, кото-
рая раскрывается вне зависимости от конкретно-социальных оп-
ределителей характера. При этом центр тяжести переносится,
как правило, с анализа сознания, убеждений героя на сферу его
эмоциональной жизни. Однако, как бы слабо жизнь героев рома-
на этого типа ни была связана с жизнью страны, проблемы их
-существования — знамение времени. Это делает центростреми-
тельный роман по-своему актуальным.
Параллельно с центростремительным романом в обстановке
кризиса системы послевоенных ценностей в японской литерату-
ре возник новый тип романа, в котором социальная проблема-
тика, лежащая в основе литературного конфликта, приобрела
абстрактный, символический характер. Примером романа такого
типа могут служить многие произведения Абэ Кобо и Оэ Кэнд-
забуро. Искусственно сконструированная аллегорическая карти-
на мира, создаваемая в таком романе, дает возможность автору
заострить сложные этические и философские проблемы, встаю-
щие перед человеком в современном мире. Поэтому к подобно-
му построению романа прибегают также писатели, в целом при-
держивающиеся в своем творчестве несколько иной манеры
.-художественного мышления. Так, Кайко Такэсив повести «Пани-
151
ка» («Паникку») обратился к притчевой форме для того, что-
бы отразить новые грани конфликта между личностью и об-
щественным механизмом буржуазного государства на современ-
ном этапе. Явно условная ситуация в виде катастрофического
нашествия крыс дала писателю возможность показать скрытые
в обычное время пружины управления общественной жизнью
страны. Не случайно японская критика отметила это произведе-
ние как обращающее на себя внимание «силой критики, направ-
ленной на разоблачение механизма бюрократической системы» 3.
Значительно более сложный характер носит взаимоотношение
реалистических и нереалистических форм в творчестве Абэ Ко-
бо. Писатель создает свой собственный абсурдный, фантастиче-
ский мир, вплетая в него реальные приметы действительности.
При этом даже натуралистически изображенные- детали часто
приобретают аллегорический характер. В других случаях внеш-
нее подобие сознательно нарушается с целью выявления скры-
той сущности явления. Отталкиваясь от реальной действительно-
сти японского буржуазного общества, Абэ создает свою модель
мира. Сложность той формы, которую писатель избирает для
своих произведений, состоит в том, что она допускает множест-
венность толкований. Для нас, однако, в данном случае важна
то, что любое из них показывает общество, в котором живет
писатель, как уродливый, больной мир.
Многие черты послевоенной действительности, особенно пе-
риода, наступившего после поражения демократических сил в
борьбе против «договора безопасности», нашли отражение в
творчестве Оэ Кэндзабуро. В одном из своих лучших романов —
«Футбол 1860 года» («Манъэн ганнэн-но футтобору») писатель
пытается нащупать пути становления полноценной личности в
полной противоречий конфликтной обстановке современной ему
действительности. Роман Оэ чрезвычаной сложен по построению.
Современность в нем рассматривается сквозь призму прошлого.
В основе повествования лежит предание, требующее правиль-
ного истолкования. Общий образ времени предстает в драма-
тургическом, противоречивом развитии как диалектическое един-
ство борьбы и поражений, ведущих в своей совокупности к по-
стижению истины.
Не менее сложны и образы героев романа. Они формируют-
ся как реальные, конкретные и в то же время символические. В
их характерах причудливо сочетаются природные феноменаль-
ные и социально обусловленные черты. Раздумья писателя о
судьбах личности в потоке времени, о ее отношениях с общест-
вом, несомненно, тесно связаны с реальной обстановкой «эпохи
после заключения договора безопасности». Однако философское
осмысление сути и смысла жизни человека явно преобладает а
романе над эпическим отражением действительности. Еще более
философско-обобщенный характер носит роман Оэ «Объяли ме-
ня воды до души моей» («Кодзуй-ва вага тама!сии-ни оёби»).
Так же как и «Футбол 1860 года», это произведение построено
152
на противопоставлении двух жизненных позиций. Движущим
моментом в развитии повествования является состояние кон-
фликта, в котором герои находятся с окружающим миром. Со-
временная цивилизация воспринимается героями как противо-
-естественное, порочное состояние общества.
Совершенно очевидно, что центробежный роман 60—70-х го-
дов значительно отличается по содержанию и по форме худо-
жественного мышления от литературы первого послевоенного
периода. Однако при всей сложности, а иногда и при излишней
усложненности творческого почерка таких художников, как Абэ
Кобо и Оэ Кэндзабуро, их произведения, отражая существенные
черты современного этапа развития японского общества, подни-
мают важные общечеловеческие проблемы, волнующие миллио-
ны людей. Советский литературовед П. Палиевский справедли-
во указывает, что было бы ошибочно воспринимать такого рода
литературу как оторванную от социальной проблематики. Те
-болезненные и неестественные состояния, которые в ней описы-
ваются, сами по себе являются социальной проблемой 4.
В условиях угрозы термоядерного конца мира, возможной
экологической катастрофы, социальных противоречий буржуаз-
ного общества писатели стремятся передать истинную картину
мира путем сложного сочетания реалистических и нереалистиче-
ских элементов. В их произведениях нередко сосуществуют чер-
ты социологического трактата и фантастики. При этом акцент
делается скорее на универсальном, чем на конкретно-историче-
ском аспекте современности. Дисгармоничность мира передается
дисгармоничностью, разорванностью формы. Писатели отказы-
ваются от позиции всеведущего автора, о которой в свое время
говорил Теккерей. События, о которых повествуется, излагаются
•с разных, иногда диаметрально .противоположных точек зрения,
постоянно опровергаются, корректируются, уточняются, как, на-
пример, в «Футболе 1860 года».
Столь же неоднозначна бывает и характеристика героя, кото-
рая складывается, как, например, в «Сожженной карте» Абэ,
.из разрозненных сведений в виде документов, отдельных выска-
зываний знакомых и близких, разного рода умозаключений и
пр. В ряде случаев центральный персонаж остается частично
или даже полностью анонимным, неуловимым как личность (ро-
маны Абэ «Женщина в песках» и «Человек-ящик»). Подобное
построение, создавая сложную стереоскопичность картины мира,
вместе с тем влечет за собой определенные издержки, приводя
к некоторому схематизму, изначальной запрограммированности.
На центробежный роман 60—70-х годов, по-видимому, оказали
большое влияние распространенные в современном японском об-
ществе философские, идеологические и политические течения,
что объясняет его известную рассудочность. При всех несомнен-
ных достоинствах этого романа ему не хватает как историзма,
так и подлинной эмоциональной искренности и глубины. Тем не
менее роман этого типа представляет собой несомненно важную
153
веху в развитии японской послевоенной литературы. Он отразил
трагическое мироощущение современного человека и показал
сдвиги, происходящие в сознании передовой творческой интелли-
генции Японии.
В заключение необходимо заметить, что в настоящее время
темпы литературного развития настолько убыстрились, а писа-
тели располагают такой свободой выбора жизненного материа-
ла и средств художественной выразительности, что новые тен-
денции нередко возникают и получают законченное развитие в
течение нескольких лет. Поэтому в данной статье охарактеризо-
ваны только некоторые, на наш взгляд наиболее значительные,
типологические варианты японского послевоенного романа.
1 История Японии 1945—1975. М., 1978, с. 249.
2 Исода Коити. 1970 нэн-ио буигаку гайкан. Буигэй нэнкан. Токио, 1971,
с. 53.
3 Одагири Хидэо. Гэндай бунгаку си. Токио, 1975, с. 657.
4 Иностранная литература. 1966, № 5, с. 97.
М. П. Герасимова
КРИТИКА АБСОЛЮТИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ БУДДИЗМА
НА МИРООЩУЩЕНИЕ ЯПОНЦЕВ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ЯПОНИИ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
За последнее время сильно возрос интерес к японской куль-
туре, как к классическому наследию, так и к современным явле-
ниям культурной жизни. Проблема национальной самобытности
и традиций страны, которая в кратчайшие сроки сумела под-
няться до уровня высокоразвитых стран и внесла столь значи-
тельный вклад в мировую культуру, занимает многих исследо-
вателей и в самой Японии, и за ее пределами. В последнее вре-
мя в работах японских критиков и исследователей культуры и
литературы наиболее часто встает вопрос о японских традициях,
под которыми подразумевается система мировоззренческих
принципов, складывающаяся на протяжении веков и оказываю-
щая влияние на умонастроения современных японцев.
Как же толкуют сущность японской культурной и художест-
венной традиции сами японские критики? Ответить на этот во-
прос однозначно невозможно. Представители разных кругов, с
различной политической и идеологической ориентацией, по-раз-
ному подходят к проблеме национальной специфики, сохранения
национальных культурных традиций. Имеется множество точек
зрения на сущность японской традиции и на то, как она функ-
ционирует сегодня. Так, консервативные круги, отрицая демо-
кратические завоевания японского народа, всемерно превозносят
национальные особенности японской культуры и пытаются дока-
зать ее исключительность. Прогрессивные деятели культуры ста-
раются сохранить и развить то лучшее в японской традиции, что
способствует достижению гармонии, атмосферы доброжелатель-
ности, красоты.
Отражением всех этих взглядов служат работы японских
критиков, посвященные исследованию культурного и литератур-
ного наследия, а также изучению творчества отдельных писате-
лей.
В данной статье предпринята попытка проследить лишь одну
;из тенденций в литературно-критических исследовниях (которая,
впрочем, имеет многих сторонников) и ее влияние как на эсте-
155
тическое осмысление действительности, так и на пути развития-
японской литературы.
Основной особенностью этой тенденции является нарочитое
подчеркивание развившихся под влиянием буддизма отдельных
сторон традиционного мировоззрения и сформировавшейся на
его основе художественной традиции.
Следует отметить, что в Японии, вероятно в силу того, что
взаимодействие синтоизма, конфуцианства и буддизма носило
весьма своеобразный характер, за исключением специалистов-
буддологов, глубоко изучающих влияние буддийских учений на
миропонимание и художественную традицию, ныне нередко мож-
но встретить весьма далекое от их подлинного смысла толкова-
ние тех или иных буддийских категорий. Все это сказывается и
на эстетическом осмыслении действительности.
Безусловно, постичь духовную жизнь японского народа, не
учитывая влияния философии буддизма, невозможно. Японские
поэты и художники, вдохновляемые философскими принципами
этого учения, достигли высокого мастерства в умении передать
единство вечного и мгновенного, единичного и всеобщего, лежа-
щее в его основе. Однако наметившаяся за последнее время тен-
денция абсолютизировать развившиеся под влиянием буддизма
идеи трансцендентности категории «би» («красота»), а также
осознания человека как самостоятельного мира приводит в Япо-
нии к специфическим последствиям, а именно: классическое на-
следие отрывается от реальной основы, односторонне оценивает-
ся творчество писателей традиционного толка, эстетическое ос-
мысление действительности )приобретает такой характер, при ко-
тором теряется интерес к реальной жизни с ее радостями, вол-
нениями, проблемами, а в литературе все больше укореняются
экзистенциалистские тенденции.
Прежде всего рассмотрим, какое толкование и последствия
приобретает в свете данной тенденции категория «би» («красо-
та»), издревле имеющая первостепенное значение для мироощу-
щения японцев, а также развившаяся на ее основе категория
«моно-но аварэ» («очарование вещей»), более всего обусловив-
шие самобытность японского искусства.
Обобщая опыт зарубежных и советских исследователей
можно сказать, что задолго до того, как буддизм наложил свой
отпечаток на многие стороны жизни и мироощущения японцев,
из анимистических элементов синтоизма развилась категория
«моно-но аварэ», понимаемая как внутренняя суть каждой ве-
щи, как имманентная ей красота. Как эстетическая категория
«моно-но аварэ» оформилась в эпоху Хэйан, стала принципом
художественного мышления японцев и требовала от художника
умения увидеть и передать неповторимое очарование каждой
вещи или явления, определяя смысл и назначение искусства как
поиск их красоты и подлинности. Таким образом, стремление
понять сущность явления, вещи, действия, поступка, его особую,
неповторимую красоту предполагает не только эмоциональный
156
отклик, но и несет ₽ себе элемент познания, на основе которого
и выявляется «очарование вещей». В этом случае художник ак-
тивно участвует в творческом процессе, в то время как, исходя
из буддийского вероучения, художник является лишь посредни-
ком, которому удалось, и интуитивно почувствовав Истину в
момент озарения, передать ее в творческом акте, в результате
чего образ выступает как символ.
В работах многих современных исследователей японской
культуры, изучающих влияние буддизма на художественную
традицию, как правило, остается незамеченным именно позна-
вательное начало моно-но аварэ. От их внимания ускользает и
то, что моно-но аварэ обращено к чувствам человека, которые
естественным образом проявляются в обыденной жизни. Эти
исследователи, как правило, утверждают, что красота в пони-
мании японцев — внефеноменальна, т. е. что эстетическое в .по-
нимании японцев не имеет отношения к окружающей действи-
тельности, находится за пределами бытия.
Обоснованию концепции внефеноменальности красоты, как
более всего характеризующей мироощущение японцев, посвяще-
но множество работ, зачастую представляющих собой исследо-
вание творчества отдельных писателей или проблем и явлений
японского искусства. В данном случае необходимо рассмотреть
одну из таких работ, в которой в концентрированном виде пред-
ставлена концепция внефеноменальности красоты как наиболее
характерная для понимания японцами прекрасного. Эта рабо-
та— статья, принадлежащая Такасина Хидэдзи, опубликованная
во втором номере журнала «Гундзо» за 1969 год под названием
«Хиган-но би» («Запредельная красота»), Хиган (кит. биань,.
санскр. Paramita) означает «другой берег».
Буквальный перевод слова «paramita» — «.переправляться на
другой берег, на другую сторону, что означает достичь земли
(Будды) путем различных буддийских практик (обычно шести),,
помогающих переправиться из мира рождения и смерти к миру
просветления. Эти практики суть: подношение (даяние); нрав-
ственность; терпение; старание; концентрация (созерцание, ме-
дитация); правильные суждения (мудрость).
Такасина Хидэдзи (на которого ссылаются многие исследова-
тели), утверждая, что идеал прекрасного в понимании японцев
воплощен в маленькой, ростом с вершок, Кагуя-химэ, героине
анонимной повести IX в. «Такэтори-моногатари», пришедшей к
людям из лунного мира, выделяет два присущих ей свойства,
ассоциирующиеся в понимании японцев с прекрасным: нежность
(изящность) и существование вне земного бытия. Не касаясь
японских критериев прекрасного, можно сказать, что, по мнению
Такасина Хидэдзи, неизвестный автор,- живший в IX в., описал
встречу с не существующей в реальной действительности «за-
предельной» красотой, выразив характерное для японцев пони-
мание прекрасного. Далее, рассуждает автор статьи, японцам
всегда было свойственно стремление выявить эту существующую
157
вне реального мира абсолютную красоту. Отсюда утонченность
эстетического чувства, эстетизация быта, высокая художествен-
ность вкуса, проявляемая в повседневной жизни как попытка во-
плотить эту абсолютную красоту в обычных вещах.
Однако, если вспомнить, что изначально красота («би») по-
нималась японцами как неотъемлемое свойство не только каж-
дой вещи, даже самой незаметной и непривлекательной на пер-
вый взгляд, но и каждого явления и действия, происходящего в
реальной жизни, утверждение Такасина Хидэдзи о «попытке во-
плотить абсолютную красоту в обычных вещах» как характер-
ное для японцев стремление представляется неверным. Так же
неверен вывод этого автора о том, что «если в японском пони-
мании красота есть особенность, присущая только японцам, то
она заключается в том, что красота запредельна», т. е. находит-
ся за пределами реального мира, а этот «запредельный мир,
лишь смутно ощущаемый в отдельные моменты, есть подлинный,
в отличие от окружающей действительности, которая иллюзор-
на» 2.
Безусловно, не учитывая буддийскую идею иллюзорности ви-
димого мира, а подлинного мира как Небытия, невозможно по-
нять многие законы японского искусства, в том числе закон «не-
прочности вещей» (мудзё). Мудзё обусловило трансформацию
обращенной к миру человеческих чувств, к прелести повседнев-
ной жизни категории «моно-но аварэ» в категорию «югэн» («со-
кровенная красота»), предполагающую поиск неизменного в из-
менчивом мире, вечного в мире преходящего, а затем в «саби»
(«просветленное одиночество») перед ликом Вечности, придав-
шие японскому искусству элегическую окраску.
Однако все это не исключает существования в течение веков
вплоть до нынешнего времени не менее характерного, а пожа-
луй, и наиболее специфически японского понимания «моно-но
аварэ» в его первозданном виде. Именно это отличает японское
искусство от искусства других народов, также испытавших влия-
ние буддизма.
Необходимо отметить, что изначальное понимание «моно-но
аварэ» предполагает выявление в каждом явлении его особой
прелести, глубокое проникновение в область человеческих
чувств, обостренное переживание их, дающее наслаждение от
душевного состояния, вызванного острыми ощущениями, а так-
же познание неповторимого очарования каждой вещи, явления,
воспринимаемых как их истинная суть, что в общем не похоже
на буддийский принцип непознаваемости Истины и на культи-
вируемое буддизмом стремление к успокоенной созерцательно-
сти.
Таким образом, если попытаться коротко охарактеризовать
специфику художественного мышления японцев, исходя из выше-
изложенного, можно сказать, что в основе его лежит тонкое чув-
ствование, издревле свойственное японцам (о чем говорит в сво-
их работах такой известный исследователь японской культуры,
d58
как Мотоори Норинага), обостренное наслаждение красотой, в
любом ее проявлении, будь то красота природы, поступка или
вещи, и развившиеся под влиянием буддизма элегичность, сво-
еобразная недосказанность, любование отблеском нереального.
Однако, как было сказано в самом начале, в японской кри-
тике наблюдается стремление развить концепцию, согласно ко-
торой в основе японского понимания прекрасного лежит и соот-
ветственно пронизывает национальную художественную тради-
цию лишь «запредельная красота» — хиган-но би, красота, на-
ходящаяся вне реального мира.
Обоснование этой концепции среди японцев, привыкших к:
эмоциональной активности, означает попытку отказа от пережи-
ваний, утрату способности эмоционально откликаться, т. е. не-
способность жить согласно принципу «моно-но аварэ». А чело-
век, утративший способность переживать, эмоционально отклю-
чается, теряет связь с миром и людьми, уходит в себя, замы-
каясь в собственном внутреннем мире. Этому же способствует и
получившая широкое распространение абсолютизация дзэн —
буддийской идеи, согласно, которой человек осознается как'мир.
В Японии зачастую «абсолютизация этой идеи в практике ду-
ховной жизни приводит к тому, что индивидуальность замыкает-
ся в рамках предельно субъективных переживаний»,— пишет со-
ветский философ Е. Г. Яковлев3.
Абсолютизация идеи, согласно которой личность осознается:
как самостоятельный мир вместо ощущения всеобщей взаимо-
связанности вещей и осознания себя частицей единого мира
(как должно было бы быть, исходя из буддийского вероучения),
в Японии нередко приводит к крайнему индивидуализму и субъ-
ективизму, к отстраненности, замкнутости в кругу узколичных
переживаний, к игнорированию норм общественного бытня и
морали (что несовместимо с понятием истинного и должного в
буддизме). Это является причиной того, что субъективные пере-
живания отдельной личности, оторванные от социального бытия,,
являются одной из главных тем в современной японской лите-
ратуре, а «элитарная» эгобеллетристика, несмотря на попытки
ряда писателей и критиков преодолеть ее влияние, по сей день в;
определенных кругах считается высокой, «чистой» литературой.
Исходя из особенностей этого жанра, его апологеты считают
критерием наивысшей художественности отрыв от реальной дей-
ствительности, игнорирование социальных проблем современно-
го общества, что, в свою очередь, ведет к отрицанию реалисти-
ческого способа отражения действительности и к процветанию
различных новаций модернизма.
Абсолютизация идеи, согласно которой личность осознается
как мир, служит причиной того, что философской основой совре-
менного модернизма в Японии по-прежнему является экзистен-
циализм, ставящий во главу угла собственное «я» (в отличие от
буддийской философии, исходящей из преодоления «я», или
«эго»). Многие современные исследователи, как в Японии, так.
и на Западе, склонны неправомерно усматривать много общего '
в принципах буддизма (в частности, дзэн) и экзистенциализма.
Поддерживая подобную точку зрения, буржуазные мыслители
Японии пытаются доказать, что экзистенциалистские тенденции
в мировоззрении близки традиционному мышлению и эстетиче-
ским взглядам японцев. Многие представители буржуазной фи-
лософии берут на вооружение отдельные элементы буддизма и,
рассматривая цх в отрыве от учения в целом, приходят к невер-
ному пониманию, а в данном случае к отрицанию смысла чело-
веческой жизни, бытия. Неудивительно поэтому, что большин-
ство молодых писателей замыкается в собственном узком мирке,
не испытывает интереса к событиям, происходящим в жизни со-
временного японского общества, отказывается понимать его
трудности, а отчуждение, разрыв всеобщих связей, одиночество
стали одной из основных тем в японской литературе. Это обстоя-
тельство беспокоит определенную часть критиков4.
Однако, несмотря на широкое распространение различных
течений модернизма в Японии, национальная художественная
традиция по-прежнему является одной из ведущих в духовной
жизни японского общества. Не случайно одним из наиболее чи-
таемых и высоко ценимых писателей в современной японской ли-
тературе считается Кавабата Ясунари, справедливо признанный
выразителем японского способа художественного мышления.
Следуя классической японской традиции, Кавабата писал о бла-
городных душевных побуждениях (кандоби), о стремлении к
гармонии и добродетели. В своих произведениях он стремился
«открыть и донести до читателя красоту», полагая, что «чело-
веческий язык создан для выражения добра и красоты», а кра-
сота «порождает сильнейшее чувство сострадания и любви к :
людям»5.
Однако, анализируя творчество Кавабата Ясунари, многие
современные критики из числа тех, что склонны в японском-по-
нимании прекрасного усматривать лишь очарование ирреально-
го, говорят о влиянии буддизма на мироощущение писателя
только как о факторе, обусловившем основные особенности его
творческой манеры.
Влияние буддизма, в особенности дзэн, на творчество Кава-
•бата несомненно, но такие элементы буддийского мировоззре-
ния в творчестве Кавабата, как понимание эстетического как
нравственного, т. е. когда красота мыслится не только как эсте-
тическая, но и как нравственная категория, как высокое пони-
мание чувства долга (древние буддисты чувствовали гармонию
между Вселенной и человеком, призывали к «этизации» челове- .
ческой деятельности; они полагали, что Вселенная духовна, что
она управляется нравственными законами) и духовного совер-
шенства, игнорируются, и всемерно подчеркивается стремление
уйти от реальности, воспеть призрачный ирреальный мир и за- ,
предельную красоту. Для них остается незамеченным, как глу- :
€око воспроизводит Кавабата сложный мир человеческих чувств
160
и настроений, стремится открыть и донести до читателя красоту,
которую можно обнаружить в повседневной действительности, в
человеческих отношениях, как тонко и изящно передает особую
прелесть чувства человека — восторг, печаль, страх, взволно-
ванность, т. е. те стороны человеческой натуры, которые, соглас-
но принципам буддизма, следует преодолевать как избавление
от всех форм привязанности к мирскому.
Автор статьи «Запредельная красота» Такасина Хидэдзи по-
лагает, что Кавабата Ясунари, начиная свой знаменитый роман
«Снежная страна» словами «Поезд выехал из туннеля на гра-
нице двух провинций. Отсюда начиналась снежная страна», вво-
дит читателя в ирреальный мир, который, метафорически гово-
ря, находится по ту сторону туннеля. Таким образом, Такасина
Хидэдзи не замечает напряжения, которое возникает между
словами и спецификой контекста. Снег для японцев символ не
холода, чувства отчуждения, а красоты, душевности и чистоты.
Чистым белым снегом японцы любуются так же, как осенней
луной или весенним цветением вишни, и «снежная страна» вос-
принимается как страна красоты и чистоты.
Этот роман был написан в пору, когда в Японии восславлял-
ся самурайский кодекс бусидо. Роман прозвучал молчаливым
протестом против официальных установлений, против агрессив-
ного японизма. В ту пору на это требовалось определенное му-
жество. Но, рассматривая Кавабата как певца «запредельной
красоты», они не замечают или не желают замечать благород-
ные, нравственные убеждения писателя.
Справедливости ради следует сказать, что тенденция абсо-
лютизировать отдельные элементы буддийского вероучения, ко-
торые приводят к отрыву от реальной действительности, к
замыканию в собственном мире личных переживаний, к извра-
щению в толковании специфики национального художественно-
го мышления, к неверной оценке творчества писателей традици-
онного толка, встречает сопротивление со стороны других кри-
тиков, но это уже тема другого исследования.
1 См.: Бреславец Т. И. Поэтика Мацуо Басё. М., 1981; Боронина И. А.
Классический японский роман. М., 1981; Гривнин В. С. Японская литература
конца 70-х — начала 80-х годов в оценке японской критики.—’Япония 1982.
Ежегодник. М., 1983; Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М.,
3979; Рехо К- Современный японский роман. М., 1979; Философские вопросы
(буддизма. Новосибирск, 1984; Miyoshi Masao. Accomplices of Silence. The Mo-
dern Japanese Novel. Berkley, 1974; Psychology of the Japanese People. Univ, of
'Tokyo Press, 1981; Sources of Japanese Tradition. Vol. 1—2. N. Y.— L., 1964;
’Ueda Makoto. Modern Japanese Writers and the Nature of Literature. Stan-
ford, 1976; Акитэру Ринтаро. Кавабата Ясунари. Нихон буигаку-но дэнто.—
Гэидай сакка аииай. Токио, 1967; Есида Сэйити. Кавабата Ясунари то тюсэй
югэн. Токио, 1961; Есимура Тэйдэи. Кавабата Ясунари — би то дэнто. Токио,
1968; Кавабата Ясунари. Уцукусии нихон-ио ватакуси. Токио, 1971; Кавабата
Ясунари. Би-но соидзай то ходзон. Токио, 1971; Кин Д. Кавабата Ансой то ии-
хон-но дэнто. Токио, 1968; Хаяси Такэси. Кавабата бунгаку-нн окэру «таби-но
иидзю кодзо». Токио, 1974.
Д1 Зак. 324
161
2 Такасина Хидэдэи. Хигаи-но би (Запредельная красота).— Гундзо.
1969 № 2.
4 Яковлев Е. Г. Проблема систематизации категорий в марксистско-ле-
нинской эстетике. М., 1983, с. 127.
4 См.: Гривнин В. С. Японская литература конца 70-х — начала 80-х го-
дов в оценке японской критики.— Япония 1983. Ежегодник, с. 284.
6 Цит. по: Ueda Makoto. Modern Japanese Writers and the Nature of Litera-
ture. Stanford, 1976, с. 216.
В. А. Гришина
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В ЯПОНСКОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
20—30-х годов XX в.
Русская литература впервые вышла на мировую арену в ли-
це И. С. Тургенева, затем — Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевско-
го, чуть позже — А. П. Чехова и М. Горького.
Общеизвестен факт огромной популярности произведений
Ф. М. Достоевского, их разнообразного и неоднозначного воздей-
ствия на литературу многих народов, в том числе и на япон-
скую. Причем больше, нежели собственно «литературное» воз-
действие (скажем, влияние поэтики), на писателей других стран
оказали идеология Достоевского, его мировоззренческие идеи,
нашедшие отклик в сердцах представителей самых различных
литературных направлений. В этой связи нельзя не согласиться
с мнением В. Е. Ветловской, отметившей, что «мировое значение
писателя заключается... в том богатстве принадлежащих ему
идей, без которых мировая культура, назначенная формировать
и животворить людские души, заметно бы оскудела» *.
Проблему восприятия и интерпретации в Японии творчества
великого русского писателя затрагивали как японские, так и со-
ветские литературоведы, однако до настоящего времени в осве-
щении этого вопроса остается еще немало невыясненных момен-
тов.
Требования времени варьировали взгляд на творчество До-
стоевского и у нас в стрэпе, и за рубежом. В зависимости от то-
го, какие насущные задачи выдвигались перед национальной ли-
тературой в те или иные годы, соответственно расставлялись и
акценты при исследовании творчества и мировоззрения Этого пи-
сателя, тем более что творчество Ф. М. Достоевского, сложное и
противоречивое, давало возможность разных и нередко прямо
противоположных толкований. Особенно яркий и убедительный
пример для иллюстрации этого факта дает рассмотрение процес-
са восприятия и интерпретации произведений Достоевского в
Японии в 20—30-е годы XX в.
В японской литературе 20—30-е годы XX в. были временем
зарождения и наивысшего расцвета так называемой пролетар-
ской литературы. Одной из ярких фигур ее раннего периода яв-
11* 16»
ляется Хаяма Есики (1894—1945). Его произведения (романы
«Люди, живущие на море» и «Корабль без матросов», рассказ
«Проститутка» и др.) были восторженно встречены его едино-
мышленниками, как читателями, так и собратьями по перу. Да-
же представители буржуазной критики, отвергавшие пролетар-
скую литературу как нехудожественную, были вынуждены при-
знать эстетическую ценность творчества этого писателя. Пока-
зательно, что благожелательный отзыв о произведениях Хаяма
дал ярый противник «социалистической литературы», вождь нео-
сенсуалистов в Японии, писатель Екомицу Риити.
Высокая оценка, данная роману «Люди, живущие на море»-
в 20-е годы, сохранилась и по сей день. Видный прогрессивный
критик Одагири Хидэо в послесловии «Человек и литература»-
к сочинениям Хаяма называет этот роман «первым высокохудо-
жественным произведением социалистической литературы Япо-
нии»2. Мастерство и самобытность Хаяма Есики не вызывает
никаких сомнений. Вместе с тем следует отметить тот факт, что
«раскрытию», реализации таланта Хаяма в немалой степени
способствовало его увлечение русской литературой, поразившей
его воображение в ту пору, когда он только ступил на стезю
писательского труда. Особенно сильное впечатление у начина-
ющего писателя осталось после книг Горького и Достоевского.
«Я читал Горького и Достоевского не просто для того, чтобы
наслаждаться литературой,— признавался впоследствии Хаяма
в своей „Литературной биографии**, рассказывая о времени ра-
боты над романом „Люди, живущие на море**,— проникая в ее
идеи, я стремился содержание произведений сделать содержа-
нием своей жизни. Может быть, это глупо, но мне страшно хо-
телось жить так, как Челкаш и Раскольников» 3.
Приведенное высказывание Хаяма весьма примечательно.
Японский писатель объединил имена Горького и Достоевского
отнюдь не случайно, а следуя логике своего восприятия автора
«Преступления и накаазния». Причем, заметим, подобное вос-
приятие Достоевского было характерно для большинства пред-
ставителей японской пролетарской литературы 20-х годов. В чем
же смысл и особенности такого восприятия? На наш взгляд, оно-
определено двумя существенными моментами. Первый — это на-
личие мотивов критической оценки окружающей действитель-
ности, реалистически, с большой силой выразительности описы-
ваемой Достоевским. Ведь автор «Униженных и оскорбленных»,
«Бедных людей», «Господина Прохарчина» мастерски, с потря-
сающим по силе воздействия реализмом обнажил язвы и пороки
буржуазно-помещичьей России. «С самого начала творческого
пути Достоевского его волновала, по собственному признанию,
судьба „девяти десятых человечества**, нравственно растоптан-
ных и социально обездоленных в условиях современного ему
строя жизни». Эта сторона творчества гениального русского пи-
сателя неизбежно должна была привлечь внимание революцион-
но настроенных пролетарских писателей Японии. В свете оценки
164
Достоевского как писателя-реалиста, певца «униженных и ос-
корбленных» становится вполне оправданным помещение Хая-
мой его имени рядом с именем наиболее яркого представителя
критического реализма — А. М. Горького.
Однако творчеству раннего Горького были присущи и роман-
тические мотивы. В ряде его произведений героем выступал ро-
мантический бунтарь-одиночка, не приемлющий условий Окружа-
ющей среды и протестующий против враждебного ему общест-
ва с позиций индивидуализма.
В известной степени романтические тенденции присутствуют
и в некоторых ранних работах Достоевского (в частности, в по-
вести «Белые ночи»). Разумеется, эти тенденции не были веду-
щими в его творчестве, однако Хаяма, поставив в один ряд ро-
мантического Челкаша и трагического Раскольникова, тем са-
мым показал, что воспринял последнего в первую очередь как
романтического героя, индивидуалистически настроенного бунта-
ря. «Романтическая окраска» явилась вторым существенным
моментом в восприятии творчества Достоевского японскими про-
летарскими писателями 20-х годов.
Влияние Достоевского-реалиста сказалось на первом произ-
ведении Хаяма — романе «Люди, живущие на море», написан-
ном на основе собственного опыта автора. В нем писатель нео-
бычайно реалистически изображает суровую и безрадостную
жизнь моряков на судне-угольщике, которых и «люди из обще-
ства», и корабельное начальство не называют иначе как «бро-
дягами», «человеческими отбросами». Следуя за Достоевским,
Хаяма стремится «найти в человеке человека». Герои романа,
грубые, закаленные тяжким трудом матросы, ухитряются сохра-
нить среди окружающей их грязи тепло и чистоту своих душ.
Даже при общении с проститутками они видят в них в первую
очередь человека. «Нежные, ласковые женщины! Для них оии
были самой большой драгоценностью. Во все времена самые
униженные, слабые и несчастные женщины. Униженные женщи-
ны и униженные, угнетенные рабочие имеют общую судьбу...
Они тосковали по женщинам. Их женщинами были исключи-
тельно проститутки. И хотя внешне их отношения походили на
куплю-продажу, но эти отношения давали им шанс проявить ос-
тавшуюся в тех и других человечность... Какой болью в их огру-
бевших сердцах отзывалась каждая пролитая слеза!» 4.
Но главное место в романе отведено показу бунта этих от-
верженных. В море, во время шторма, старший бой получает
серьезное ранение, однако капитан корабля не желает принять
никаких мер по оказанию ему медицинской помощи. Матросы,
возмущенные повседневным произволом, грубым обращением
со стороны командного состава во главе с капитаном, предъяви-
ли начальству ультиматум, требуя прекратить беззакония, уста-
новить восьмичасовой рабочий день, регулярно оказывать меди-
цинскую помощь за счет компании. Поскольку капитану хоте-
лось поскорее, без задержки прибыть в Иокогаму, чтобы ветре-
165
тить Новый год в семейном кругу, он делает вид, что соглаша-
ется удовлетворить требования команды, однако в канун Нового
года, когда судно входит в порт и команда собирается сойти иа
берег, «зачинщиков» конфликта ждут приказ о списании с суд-
на и катер морской полиции, на котором их отправляют в тюрь-
му.
Несмотря на драматическую развязку, роман не оставляет
ощущение безысходности. Не оставляет потому, что мы видим
ростки нового крепнущего чувства собственного достоинства у
бывших «униженных и оскорбленных» героев романа. Имеющие
много общего с «маленькими людьми» Достоевского, они тем не
менее поднимаются на новую ступеньку на пути становления
человеческой личности. Герои Хаяма почувствовали свою силу,
силу коллектива, способного противостоять произволу, в их ли-
де писатель показывает зарождение классового самосознания
рабочих.
У Достоевского, разумеется, ни о каком классовом самосоз-
нании речь не идет — здесь сказалась та временная дистанция,
что отделяет русского писателя от последователя, выросшего
в другой стране и в другое время, в эпоху классовых битв. Не-
смотря на эти различия, гуманистический пафос Хаяма сближа-
ет его с произведениями Достоевского. Кроме того, следы влия-
ния русского писателя легко обнаруживаются в романе повсюду,
то в сбивчивых монологах героев, то в их страстных исповедях.
Такова, например, исповедь-монолог женщины, умной, с высо-
ким чувством самосознания, мечтающей о чистой любви.
По наблюдению М. М. Бахтина, романы Достоевского явля-
ются монологами самосознаний, а самосознание есть художест-
венная доминанта построения его произведений.
Тема падшей женщины — жертвы социальной несправедливо-
сти — находит дальнейшее развитие в рассказе Хаяма «Прости-
тутка», который автор написал в тюремной камере. В нем дей-
ствие происходит в Иокогаме и повествование ведется от лица
молодого матроса, который после долгого плавания в море, сой-
дя на берег, решил побродить по улицам портового' города. Ему
встречаются какие-то подозрительные мужчины и предлагают
купить за 50 сэн «удовольствие, до которого падки молодые».
Его привели в один из грязных домов китайского квартала, где
в углу сырой комнаты среди грязи и зловония лежала полуголая
женщина. Вид этой несчастной, при одном взгляде на которую
было ясно, что она тяжело больна и дни ее сочтены, потряс
матроса. Вначале он решил, что мужчины, приведшие его сю-
да, негодяи, торгующие телом этой женщины; оп строит различ-
ные планы, как вызволить ее и спасти, но вскоре он понял, что
мужчины, тоже оказавшиеся из-за безработицы на самом дне,
отнюдь не сутенеры, они кормят эту женщину. Рассказ заканчи-
вается словами: «Вместо проститутки я увидел мученицу. Каза-
лось^ она символизирует судьбу всего эксплуатируемого класса».
Несомненно, на мысль рассказать о судьбе женщины, вынуж-
166
денной из-за нищеты торговать собой, натолкнуло Хаяма чтение
романа Достоевского «Преступление и наказание». Образ Соин
Мармеладовой особенно и давно полюбился японцам.
Русское имя
Соня
Я дал дочурке своей.
И радостно так бывает
Порой окликнуть ее5.
Это пятистишие принадлежит поэту Исикава Такубоку, которо-
го называют предтечей пролетарской литературы. Примерно за
десять лет до появления пролетарской литературы, незадолго до
смерти, он познакомился с романом Достоевского «Преступле-
ние и наказание». К сожалению, Токубоку, имевший обыкнове-
ние тщательно записывать в дневнике впечатления о прочитан-
ном, на этот раз не оставил какой-либо записи, и это пятисти-
шие — единственное свидетельство и единственный его отклик
на роман русского писателя. Строки стиха: «И радостно так бы-
вает порой окликнуть ее», как и само по себе желание дать до-
чери имя «падшей» женщины, подсказывают, насколько образ
Сони Мармеладовой запал ему в душу.
Рассказ Хаяма «Проститутка» тоже всем своим содержани-
ем взывает к состраданию к «униженным и оскорбленным», и
хотя автор никак не раскрывает внутренний мир своей герои-
ни и это не дает возможности сопоставить его с внутренним ми-
ром Сони, а судьба ее обрисована только внешне как жертвы
социальной несправедливости, в заключительных строках рас-
сказа («вместо проститутки я увидел мученицу») писатель, ве-
роятно, не случайно употребил слово «дзюнкёся», означающее
«мученик за веру», т. е. святой мученик. Подобно тому как ка-
жется парадоксальным сочетание «блудница-праведница», когда
речь идет о Соне, так же непривычно звучит «святая мученица»
о ее японской сестре.
Влияние Достоевского ощутимо и в творчестве другого вид-
ного представителя пролетарской литературы Японии — Кобаяси
Такидзи (1903—1933). В своих произведениях, написанных как
раз в годы интенсивного знакомства с произведениями Достоев-
ского (дневник Кобаяси свидетельствует, что он прочел все
крупные романы русского писателя, за исключением «Бесов»),—
в рассказах «Снежный вечер», «Последнее», в повести «Такико
и другие», в пьесе «Арестантки» — писатель показывает судьбы
японских «униженных и оскорбленных», жизнь «девяти десятых
человечества», которая постоянно волновала русского писателя.
Он обращается к судьбе японских «париев общества» (именно
так называл Достоевский своих героев — Соню Мармеладову и
Раскольникова) и к теме «падшей женщины». Своеобразное при-
страстие пролетарских писателей к этой теме не случайно — про-
ституция в Японии была неотъемлемой чертой городской жизни
и это явление давало писателям наиболее яркий материал для
изображения нравственно растоптанных и социально обездолен-
167
ных людей. Но Кобаяси не ограничивается лишь фиксировани- з
,,ем язв и темных сторон современного ему общества (этим .за- '<
нимались и писатели-натуралисты), в его произведениях замет- j
ны напряженные поиски причин царящей вокруг социальной не- ;
справедливости, стремление найти способ преодоления людской
разобщенности. Выход, по мнению писателя, во «всеобщей люб-
ви ко всем людям». В этом явно чувствуется Достоевский. В
рассказе «Дом сомнительной репутации» есть сцена, в которой
одна из женщин читает роман «Преступление и наказание» До-
стоевского. И она признается подруге: «У меня текли слезы, я
нашла то, что искала» 6.
Симптоматично, что Кобаяси Такидзи, так же как и Хаяма,
воспринимал героев Достоевского параллельно с героями произ-
ведений Горького, рассматривая их сквозь призму романтиче-
ского бунтарства. Занимаясь проблемой «сверхчеловека», как
она поставлена у Достоевского, Кобаяси приходит к выводу, что
«Раскольников в „Преступлении и наказании** вовсе не сверх-
человек. Он, стремясь стать сверхчеловеком, совершил поступок,
свойственный сверхчеловеку. Но здесь есть несоответствие. По-
этому он и предстает человеком, которого должна спасти Соня.
Его подавленное состояние после свершенного им убийства про-
истекает от этого противоречия. Следовательно, роман „Престу-
пление и наказание** не решает сущность идей сверхчеловека и
идей человеколюбия.
Раскольников не сверхчеловек, как, например, Челкаш, Каин
и Артем у Горького»7.
«Проблемы идеи человеколюбия и идеи сверхчеловека, кото-
рые есть сейчас в моем сердце,— пишет он,— я не мог объяснить
посредством романа Достоевского „Преступление и наказание**,
так как у меня есть сомнения относительно возможности суще-
ствования сверхчеловека как тйкдВОгб, кбтбрый способен „пре-
ступить**. По этой причине мне хотелось бы непременно почи-
тать и произведения Горького».
Думается, что, делая вывод, что «Раскольников не сверхчело-
век», японский писатель правильно уловил противоречивость в
образе «еще не раскаявшегося» Раскольникова. Ведь в герое
Достоевского «горячая отзывчивость и сострадание окружающим
беднякам, глубокое чувство совести сложным образом совмеща-
ются с презрением к ним и стремлением стать выше других лю-
дей, мечта об искоренении социального зла —С злобными и
мстительными индивидуалистическими порывами». Другое Дело,
что писатель сознательно избирал этот психологически противо-
речивый тип личности, считая его сгустком важных и характер-
ных тенденций общественной жизни.
Творчество Достоевского было объектом самого 'пристального
внимания Кобаяси Такидзи. Если перелистать страницы его
диевйика, то в записях за 1926 г. будут То И дело мелькать на-
звания сочинений гениального русского писателя, иМена его мно-
гочисленных героев. «Униженные и оскорбленные» И «Двойийй»,-
168
«Записки из мертвого дома» и «Бедные люди», «Братья Кара-
мазовы» и «Преступление и наказание» — Кобаяси размышляет
над каждым из этих произведений, делится своими мыслями по
их поводу. Как видно из .замечаний Кобаяси, идеи Достоевского
оставили глубокий след в его душе. И хотя не во всех из них
Кобаяси удалось разобраться, многое в них было созвучно его
мировоззрению. Не зря он записывает следующее знаменатель-
ное признание: «В решении проблемы противоборства идей чело-
веколюбия и идей сверхчеловека мне ближе всего Достоевский».
Действительно, образ Раскольникова, пришедшего к траги-
ческой развязке как раз в ходе мучительных попыток разобрать-
ся в этой проблеме, волновал Кобаяси более, чем образ какого-
либо иного героя Достоевского. Нравственная проблематика за-
нимала важное место и в его собственном творчестве. Разумеет-
ся, этические идеалы японского пролетарского писателя несколь-
ко отличались от христиански окрашенных идеалов автора «Бра-
тьев Карамазовых». Однако осмысление нравственных поисков
последнего способствовало духовному созреванию первого.
Всем сердцем принимая Достоевского-гуманиста, Кобаяси
тем не менее не мог принять его христианской религиозности.
Как следует из дневника, старец Зосима, Алеша Карамазов, Со-
ня Мармеладова хотя и симпатичны Кобаяси, но не слишком
его впечатляют. («Алеша поверхностный, в его характере нет
глубины... Соня слабо обрисована... она словно приглажена, при-
тушевана бледными красками»,— отмечает Кобаяси.)
Христианские, а впоследствии и экзистенциалистские тенден-
ции Достоевского («в рамках собственно философской тради-
ции Достоевский — мыслитель экзистенциального склада» 8)
оказались созвучными творчеству японских буржуазных писате-
лей 30-х годов, провозгласивших идеи, прямо противоположные
идеям пролетарской литературы революционных 20-х годов.
В 1934 г. в Японии была переведена и опубликована работа
одного из «отцов» экзистенциализма, Льва Шестова, «Достоев-
ский и Ницше» (японское название — «Философия трагедии
„Хигэки-но тэцугаку*'»). Именно сквозь призму интерпретации
Шестова стал восприниматься Достоевский этими писателями,
увидевшими в творчестве автора «Записок из подполья» родст-
венные им мотивы душевного надлома, иррационализма, асо-
циальности, психологического индивидуализма и т. п.
Совершившемуся в японских литературных кругах в 30-е го-
ды «повороту» от демократизма и революционности к мелкобур-
жуазному романтизму и модернизму соответствовал и «поворот»
в восприятии Достоевского. Объектом исследования японских
писателей стал не Достоевский-реалист, Достоевский-демократ,
а Достоевский-психолог, Достоевский-«экзистенциалист».
1 Ф. М. Достоевский и мировая литература.— Иностранная литература.
1982, № 1, с. 185.
л*
12 Зак. 324
169
2 Гэндай буигаку тайкэй (Большая серия современной японской литера-
туры). Т. 37. Токио, 1967, с. 486.
3 Курахара К. Статьи о современной японской литературе. М., 1959, с. 169;
4 Гэндай бунгаку тайкэй. Т. 37, с. 51.
6 Исикава Такубоку. Лирика. М., 1967, с; 171.
6 Рёхо К. М. Горький и японская литература. М., 1965, с. 93.
7 Кобаяси Такидэи. Дзэнсю (Полное собрание сочинений)-. Т. 10. Токио»
1954, с. 51.
8 Философский словарь. М., 1983, с. 177..
А. А. Долин
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КЛАССИЧЕСКОЙ ЯПОНСКОЙ ЛИРИКИ
Традиционная японская лирика, представленная главным об-
разом двумя классическими жанрами — танка и хайку, сущест-
вовала на протяжении веков как .замкнутая, обособленная эсте-
тическая система и в том же качестве, хотя и с некоторыми
функциональными изменениями, вошла в XX в.
Поэтику танка и хайку, ориентированную во все времена на
«верность природе», характеризует в мировоззренческом плане
-прежде всего созерцательность, а в плане художественном —
предельная суггестивность, диктующая выбор изобразительных
средств. В основе классической поэтики лежит стремление к
конденсации образного мышления, к передаче при помощи не-
скольких штрихов сложных впечатлений, тончайших эмоцио-
нальных обертонов, движений души.
В противоположность поэзии Индии, Ирана, средневековой
Европы японская лирика всегда как бы противостояла эпосу,
играя роль лишь некоего аккомпанемента повествовательных
Жанров. Если проза и драматургия заметно эволюционировали
с течением времени, то лирика, обособленная от прочих компо-
нентов историко-литературного процесса, оставалась наиболее
консервативной областью художественного мира, в минимальной
степени подверженной изменениям.
Выделение за тысячу лет всего лишь двух магистральных по-
этических жанров — факт неслыханный для высокоразвитых ли-
тератур. Еще более удивительный феномен — .закрепление еди-
ного для танка и хайку, а также для всех второстепенных жан-
ров (тёка, рэнга, кёка, сэнрю и др.) поэтического метра, сводя-
щегося к чередованию силлабических интонационных групп по
5 и 7 слогов (так называемого «онсурицу»), благополучно до-
жившего до наших дней. То же самое можно сказать о клиширо-
ванности «сезонных» образов-тем и стандартном наборе поэти-
ческих приемов, удовлетворявшем художников различных эпох.
Подобная герметичность классической японской поэтики как
.системы наводит на мысль о «внеисторичности» лирики, как бы
не отражающей или почти не отражающей прогресс литератур-
но-художественного сознания ^ак составной части процесса об-
щественного развития и тем самым отличающейся от других ро-
171
лов литературы. Разумеется, творчество великих поэтов средне- %
вековья Сайге (XII в.), Рёкана (XVIII—XIX вв.), Исса (XVIII—
XIX вв.) являлось плодом породивших его конкретных историче-
ских обстоятельств, продуктом среды, формирующей миропони- ’
мание художника. Но тщетно искать у этих авторов упоминание "
об исторических обстоятельствах, реальных политических собы-
тиях, выискивать приметы времени, социальную конкретику, де-
тали биографии. Не случайно порой даже специалисты не могут
отличить танка XX в. от их аналогов, созданных девять веков
назад.
Однако очевидную «внеисторичность» классической японской
поэзии, ее ориентированность на сезонные циклы, на включен-
ность в макрокосмические метаморфозы, следует рассматривать
как результат особого исторического развития данной области
культуры. Именно в этой сфере с наибольшей полнотой реализо-
вались традиционные религиозно-философские воззрения япон-
цев: пантеистические синтоистские представления о мире и чело-
веке, корреспондирующие во многом с даосской триадой Небо—
Человек—Земля, буддийские идеи о взаимосвязи всего сущего,
об универсальности закона кармы, о перерождении, об эфемер- i
ности индивидуального бытия в бесконечном потоке рождений й
смертей, об аннигиляции личностного начала. ;
Если для европейского поэта важна прежде всего креативная
сторона творческого акта, создание прекрасного, то для япон- :
ского поэта на передний план выступает рефлективная сторона (
творчества. Рефлексия, т. е. отражение и одновременно размыт- 4
ление, как нельзя лучше определяет стержневой принцип тра- *
диционной поэтики. |
В идеале, согласно кардинальным установкам буддийской 1
философии, конечной целью любого вида творческой деятельно- э
сти является достижение состояния отрешенности (му-син),. |
растворения индивидуального эго во вселенской пустоте (кёму),. I
экстатического слияния с изображаемым объектом. Средством |
же достижения подобной цели служит недеяние (му-и), т. е. не- j
вмешательство в естественный жизненный процесс. Единствен- ’
иая задача подлинного художника — уловить ритм вселенских ;
метаморфоз, «настроиться на их волну» и отразить в произведе- !
иии искусства. Чем точнее передано то или иное действие, сос-
тояние, картина при помощи минимального количества средств,
тем совершеннее образ.
Если принять во внимание дзэн-буддийские концепции «духа
как незамутненного зеркала» или «духа — водной глади» в пси-
хологии творчества, становится понятным тематическое однооб-
разие классической живописи и поэзии. Начиная с хэйанских ;
поэтических турниров ута-авасэ и вплоть до начала XX в. сочи- )
нение стихов на заданные темы из ограниченного «сезонного» j
набора стало пробным камнем поэтического мастерства. Неза- J
метно сменяя друг друга в череде поколений, зеленеют деревья |
по склонам гор, поют весной соловьи, наливаются осенью коло? J
172
сья в поле, приходят и уходят люди. И если не меняется вид
цветущих вишен в горах Есино, алых кленовых листьев в водах
реки Тацута, зимнего снега на вершине Фудзи, то почему долж-
ны измениться воспевающие их стихи? Десятки, сотни, тысячи
танка, схожие при первом прочтении, как листья на одном дере-
ве, различались лишь в оттенках, в акцентах, в повороте темы.
Один лишь Сайге сложил сотни стихов о цветах сакуры. Всего
же .подобных стихов было сложено сотни тысяч, может быть,
миллионы...
Конечно, клишированность тем и постоянство поэтического
инструментария присущи не только японской лирике, но и любо-
му виду средневековой восточной или западной канонической
поэзии. Возможно, в Иране соловей, роза и луна были воспеты
не хуже, чем солов.ей, вишня и луна в Японии. Однако в Японии
жесткость канонических рамок в сочетании с дробностью реко-
мендаций породили немыслимую для ближневосточной традиции
серийность. В классических поэтиках мы найдем десятки тем-
образов (значимых лексических единиц) для каждого из четы-
рех времен года (киго). Не только в антологиях, но и в автор-
ских сборниках зачастую встречаются целые циклы стихов «о
кукушке», «о летнем дожде», «о первом снеге», «о бабочках»,
«о полевых работах» и т. п. Иногда стоящие рядом стихотворе-
ния варьируются только в слове или частице, как бы предостав-
ляя читателю возможность выбирать на свой вкус из серии этю-
дов.
Показательно, что большинство общепринятых поэтических
приемов в лирике танка и хайку, при всех различиях этих двух
жанров, функционируют не на композиционно-структурном и не
на синтаксическом, а на лексическом уровне. Свойственное буд-
дийской культуре сакральное восприятие слова обусловило в
японской литературной традиции исключительное внимание к
лексике как к основному инструменту поэтики. Одушевленное в
образе слово (котодама) воспринималось как носитель извечных
ценностных категорий природы, всего окружающего мира (моно-
тама). Такие популярные тропы, как энго (омонимическая ме-
тафора), какэкотоба (лексический «стержень»), юкари-котоба
(двузначное, полисемантическое слово), целиком и полностью
строятся на использовании широких возможностей японской лек-
сики, усиленных особенностями иероглифического написания
текста.
Тяготение поэтов к тропам лексического плана в рамках раз
и навсегда определенных (или слегка видоизменяющихся на ис-
торическом отрезке от 300 до 500 лет) жанров на базе единой
просодии привело к забвению нормативных для большинства ли-
тератур народов мира поэтических приемов: обычной метафоры,
сравнения, аллегории, гиперболы, литоты и т. п. Отсюда и неко-
торая «странность» японской поэзии, бросающаяся в глаза за-
падному читателю при первом знакомстве, ее явная консерватив-
ность и герметичность. Вместе с тем именно разработанность
173
тропов на лексическом уровне и придает японской лирике непов-
торимый колорит, порождая эффект «великого в малом».
Возникает законный вопрос: а не приводит ли подобная кли-
шированность тем и образных средств к нивелировке личности
автора, к стиранию творческой индивидуальности, что для «ма-
лых» жанров еще опаснее, чем для газели, касыды или шаири?
Действительно, под действием столь жестких канонических ог-
раничений диапазон поэтической фантазии и авторского художе-
ственного поиска резко сужается. Но настоящий талант, безус-
ловно, проявляется как вопреки всем традиционным регламента-
циям, так и благодаря им. Для хорошо подготовленного образо-
ванного японского читателя крупные поэты узнаваемы, несмотря
на сходство тем и изобразительных средств. Вспомним, напри-
мер, колоритную характеристику ведущих поэтов «Кокинсю»
(X в.), данную составителем этой антологии Ки-но Цураюки. В
поэтиках средневековья и нового времени также можно найти
выразительные творческие портреты поэтов, анализ особенностей
различных школ и направлений. Грамотный читатель никогда не
спутает хайку Басё и Бусона, Кобаяси Исса и Масаока Сики.
Зато читатель малограмотный спутает почти наверняка. Особен-
но это касается западного читателя, для которого разница меж-
ду авторами и даже школами, яростно боровшимися за приори-
тет, будет до смешного ничтожна.
Униформизм в классической японской поэзии можно считать
порождением сознательно культивируемого консерватизма, ибо
сознание японского деятеля культуры всегда было ориентирова-
но не на будущее (отрицание идеи общественного прогресса) и
даже не на настоящее, а на «Золотой век» прошлого. Идеали-
зация старины у японцев носила тот же характер, что и в ки-
тайской буддийско-конфуцианской традиции, постоянно апелли-
рующей к временам Яо и Шуня, бесконечно пропагандирую-
щей принцип «подражания древним». Так, для филологов
«национальной школы» (кокугаку) XVIII в., возродивших класси-
ческое наследие японской литературы раннего средневековья (ми-
фы «Кодзики» и «Нихонги», роман «Гэндзи-моногатари», поэти-
ческую антологию «Манъёсю»), наивысшей заслугой и доброде-
телью считалась верность в поэзии духу и букве «Манъёсю»
(VIII в.). Эзотерические «тайные традиции» сложения танка в
духе куртуазной поэзии «Кокинсю» дожили в кругах придвор-
ной аристократии кугэ с X до XIX в. На каждом новом историче-
ском этапе вплоть до второй мировой войны призыв к «подра-
жанию древним» наполнялся новым содержанием, и древность
становилась своего рода абсолютным критерием истины, позво-
ляющим выявить достоинства и недостатки современности. От
той же тысячелетней традиции вынуждены были отталкиваться
и поэты XX в., неожиданно оказавшиеся лицом к лицу с модер-
нистской литературой Запада.
Однако в отношении классической лирики танка и хайку не-
применимо понятие «статичность» или «стагнация», поскольку
174
жанры эти так или иначе развивались в ходе историко-литера-
турного процесса, порождая в своем лоне новые стили, школы,
течения -— пусть даже новизна их доступна лишь пониманию
специалиста. Здесь скорее подойдет понятие «кумулятивность
развития», подразумевающее активное использование старого на
каждом новом этапе художественного осмысления действительно-
сти, когда каждый автор, каждая школа имеют четкое представ-
ление о своем месте и своей роли в зоне функционирования дан-
ной традиции. Вплоть до конца XIX в. обновление поэтики для
танка или хайку означало лишь незначительное расширение
гранйЦ жанра (например, введение романтического колорита
или приниженной, бытовой тематики) и практически никогда не
предполагало смены жанрово-стилистического арсенала лирики.
Залогом сохранения устойчивого канона классической японс-
кой поэтики со всем ее набором эстетических инвариантов мож-
ЯО считать 'безотказную обратную связь между художником и
его аудиторией. Существование суггестивной лирики, тончайшей
шоэтики намека и обертона возможно было лишь в стране, где
уровень не только элитарной, но и элементарной массовой куль-
туры позволял апеллировать к общеизвестному классическому
наследию. Широкое распространение грамотности и литератур-
ных познаний было неотъемлемой чертой быта средневековой
Японии даже в периоды ожесточенных междоусобных войн, раз-
рухи и голода. Эстетизация быта, по которой мы и сегодня су-
дим о степени развития японской культуры, ее распространенно-
сти в массах, наложила отпечаток на все области человеческой
деятельности в этой стране. Недаром в Японии было, по сути
дела, изжито дилетантство как культурный феномен. Художник
мог претендовать на признание, может быть даже, на создание
собственной школы, только пройдя многолетнее обучение по ка-
нонической программе, овладев всем потенциалом знаний, на-
копленным предшествующими поколениями.
Общественное мнение не осуждало чудаков и «простаков» от
искусства, но априори предполагалось, что сначала «простак»
обязан получить приличное образование, а уж потом волен бла-
жить и юродствовать, как ему заблагорассудится. Именно так
нередко и вели себя дзэнские патриархи, бродячие монахи, от-
шельники. Сохранилась легенда о «простаке-Рёкане», великом
дзэнском поэте-отшельнике конца XVIII—начала XIX в. В на-
родной традиции Рёкан известен как блаженный, больше всего
на свете любивший играть в мячик на нитке с деревенскими ре-
бятишками. Но биографические исследования ясно показывают,
что Рёкан был великолепно образованным поэтом-эрудитом, пи-
савшим подчас очень сложные философские произведения по-
японски и по-китайски. Народный поэт иного типа был просто
немыслим для Японии.
Установлению прочной обратной связи между художником
и народными массами способствовало тесное переплетение ли-
дий профессиональной и фольклорной культуры, питавшихся от
175
обШих корней. Так, например, в коута, песнях «веселых кварта-
лов» (XVII—начало XIX в.) можно встретить и аллюзии на зна-
менитые танка классических антологий, и реминисценции драм
нОо, кабуки, дзёрури. В свою очередь, народные песни и балла-
ду дали богатый материал для драматургов эпохи Токугава, для
аВторов развлекательной прозы в жанрах «ёмйхон», «сярэбон»
и для позднейшей литературы «гэсаку». Нет ничего удивитель-
нОго в том, что гейши, актеры, а вслед за ними мелкие буржуа
и ремесленники отлично ориентировались в классическом насле-
дий и могли, например, по достоинству оценить 'в танка прием
«хонка-дори» (следование изначальной песне), а в кёка с лег-
костью выявить пародию на какой-нибудь шедевр из «Кокинсю»
идй «Синкокинсю».
Хотя жанр танка достиг наивысшего расцвета В лоне элитар-
нОй аристократической культуры эпохи Хэйан (IX—XII вв.), в
целом классическая поэзия демократична — в смысле ее доступ-
ности для народа. Считается, что зарождение и развитие жанра
хайку было плодом усилий городской интеллигенции, третьего
сословия, протестовавшего против засилья танка, жанра, моно-
полизированного на многие века придворной аристократией. При
всем том поэты хайку не отказались от классической традиции,
взяв на вооружение и творчески переосмыслив все основные ка-
тегории поэтики танка: «моно-но аварэ» (печальное очарование
бытия), «югэн» (сокровенный эстетический смысл явлений),
«макото» (истинность и искренность выражения). Заимствован-
ное из танка поэтические приемы «какэкотоба» и «энго», как и
«сезонное слово» (киго), нашли широкое применение в хайку, а
«какэтокоба» и «энго» составили также базу поэтики комиче-
ских трехстиший сэнрю и пятистиший кёка.
Так же и сформулированные великим Басё принципы поэти-
ки хайку (саби, ваби, сибуми, каруми) на века сохранили маги-
ческую силу для потомков. Их применение не ограничивалось
сферой поэзии хайку, прозы хайбун и живописи хайга. Влияние
принципов поэтики хайку охотно признавали и мастера обнов-
ленной поэзии танка XVIII—начала XIX в. — Роан, Рёкан, Ка-
гэки, Котомити. В их творчестве обнаруживается немыслимое
для ранней поэзии танка и типичное для хайку внимание к ме-
лочам повседневного быта, к жизни простого человека, чувство
юмора, граничащее шорой с романтической иронией.
Единство и преемственность национальной лирической тради-
ции в немалой степени подкреплялись также существованием
сложившейся в период раннего средневековья уникальной «эсте-
тической географией» Японии. Все достопримечательности ост-
ровов, исторические места, прославленные пейзажи, знаменитые
храмы были многократно описаны в путеводителях с приложе-
нием соответствующих гравюр и стихов. Ничего удивительного,
что Басё, отправлявшийся странствовать по Японии ш конце
XVII в., ощущал кровную связь с поэтом-скитальцем XII в. Сай-
ге и грустил над строками Сайге, посещая воспетые им места.
176
В лирические «митиюки» (описания путешествий или бегства в
драмах кабуки и дзёрури) органически входят связанные с
«эстетической географией» реминисценции классических танка.
Танка и хайку XX в. также пестрят реминисценциями средневе-
ковой классики в связи с географическими достопримечательно-
стями, поскольку путешествия («поэтическое паломничество»)
прочно вошли в жизнь поэтов и сохранили значение до наших
дней.
Итак, на более чем тысячелетнем пути развития японской
поэзии мы видим устойчивую преемственность важнейших эсте-
тических категорий и технических приемов, подвергавшихся ино-
гда модификации и наполнявшихся новым звучанием. Кумуля-
тивность японской поэтической традиции обусловлена целым
комплексом социально-исторических факторов: исключительной
стабильностью религиозно-философского буддийско-синтоистско-
конфуцианского синтеза, нормативностью этических и эстетиче-
ских идеалов, детерминированностью художественного поиска,
связанной с функционированием канона, а как результат — ус-
тойчивостью концепции мира и человека на уровне бытового и
художественного мышления. Сочетание этих факторов, с одной
стороны, способствовало кристаллизации уникальной японской
поэтической традиции в пейзажной и любовной лирике, а с дру-
гой стороны, препятствовало становлению лирики гражданской,
для которой необходимы развернутые поэтические формы. Не-
способность классической поэзии отразить духовные запросы
конкретного исторического времени, передать сущность сверша-
ющихся социальных перемен и послужила причиной так называ-
емой «поэтической революции», которая последовала вскоре пос-
ле революции Мэйдзи.
Е. С. Штейнер
СОВМЕСТНОСТЬ И КОНТЕКСТУАЛЬНОСТЬ
КАК ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЯПОНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Внимание исследователей, рассматривающих классическую
японскую поэзию, сосредоточено преимущественно на отдельных
выдающихся образцах стихотворного искусства, собранных в
официальных антологиях. Такой подход позволяет выявить те
или иные специфические приемы, проследить характер эволюции
тропики, остановиться на теме воспевания природы и т. п. При
этом стихотворение рассматривается как самодостаточное и са-
модовлеющее литературное явление — замкнутый текст, который
может сопоставляться с подобными ему самоценными монадами
из той же или другой антологии. Этот метод работы с текстами
наиболее продуктивен при изучении чисто поэтологических во-
просов, таких, как образность, ритмика (макуракотоба, какэко-
тоба и др.), а также их исторического развития. Но при этом вне
поля зрения остается, как правило, ряд важных аспектов социо-
культурного бытования поэзии, например: условия возникнове-
ния стихотворений, их назначение и место в обществе. Перечис-
ленные моменты являются экстратекстовыми к каждой конкрет-
ной миниатюре, но если подумать о возможности установления
иных, более широких рамок текста, то бытующее 'представление
о японской классической поэзии как поэзии лирической миниа-
тюры может быть значительно скорректировано.
Стихотворения, собранные в 21 императорской антологии,
составляют золотой фонд японской средневековой поэзии. К ним
(в основном к «Кокинсю», «Синкокинсю» и еще к двум-трем) и
обращаются литературоведы. Но эти антологии, как явствует из
их сути и названия, тёкусэн, т. е. «избраны и составлены». Если
исходить из интересов системного (а не качественного) подхода
к изучению живого литературного процесса, антологии малоэф-
фективны.
В иих, правда, довольно часто содержатся указания на об-
стоятельства сложения стихотворения или на его первоначаль-
ный контекст. Эти указания в форме предисловий (котобагаки)
Или так называемых «левых комментариев» (сатю) в отдельных
случаях могут разрастаться до довольно значительного объема,
178
как, например, в XVI свитке «Манъёсю», генетически предвосхи-
щая новеллистическую структуру тампэнсэй ута-моногатари
(стихи, сопровождаемые прозаическим текстом). Так, эта древ-
нейшая антология фрагментарно сохранила в своем корпусе от-
дельные песни, являвшиеся частью ритуальных игрищ кагаи
(или утагаки — «плетенки из песен»), например тексты, записан-
ные Такахаси Мусимаро в провинции Хитати ’. Подобные до-
шедшие до нас экстратекстовые данные свидетельствуют, что
поэтическое творчество изначально было сопряжено с коллек-
тивными мистериальными культами, т. е. было частью обрядо-
вого действа.
В историческое время ритуальная перекличка мужских
и женских полухорий, образовывавшая «плетенку из песен», ус-
тупила место поэтическим состязаниям утаавасэ, а структура
сомон («взаимное слушание») или мондотай (вопрос-ответ) са-
мых ранних японских поэтических текстов получила органиче-
ское продолжение в стихотворном обмене песнями — дзотока.
В хэйанское время написанные в качестве дзотока стихи замет-
но преобладали над докуэй — сложенными в одиночестве. Так,
например, в «Гэндзи-моногатари» из 795 танка подавляющее
большинство (624) относятся к дзотока и лишь 107 — к докуэй
(остальные составляют промежуточные формы). Значительную
часть хэйанских дзотока составляли так называемые рэнка или
коиута («любовные песни»). Их структура (послание-ответ) ти-
пологически соответствует «песенной плетенке». Сплетение пе-
сен символически воплощало связь влюбленных (или шире —
человеческие связи), предваряло и скрепляло их союз (мусу-
би).
Однако, когда кончалась ситуация, породившая стихи, и со-
ответственно исчезала их функциональная роль, отдельные час-
ти поэтических диалогов стали теряться. Стали вступать в силу
иные соображения, в частности соображения качества. При пе-
реписке и составлении антологий или ута-моногатари из дзотока
исключали отдельные звенья. Так, характерна в этом отношении
концовка некоторых данов в «Ямато-моногатари»: «Ответ прин-
ца уступает по достоинству этому посланию. И забыли его лю-
ди»2 или «Там во множестве были и другие люди, но стихи их
были нехороши и забылись» 3; «Августейший ответ тоже был,
но людям он неизвестен» 4.
С начала X в. получили распространение «песенные собра-
ния» (утаавасэ). Начало проведения утаавасэ не может быть
с точностью установлено. Като Сюити приводит дату впервые
зафиксированного утаавасэ— 13-й день 3-й луны 913 г.® Автор
фундаментального исследования утаавасэ Минэгиси Есиаки при-
водит спорное упоминание о комментарии Бисямондо к одной
танка из XIII свитка «Кокинсю», принадлежащей императору
Сёму (724—749). В комментарии говорится, что эта танка про-
исходит из домашнего сборника Оэ Тисато и сложена во время
утаавасэ6. Ямагиси Токухэй в работе «Истоки утаавасэ и ута-
12*
179
авасэ до ,,Кокинсю“» считает, что отдельные замечания о ран-
них утаавасэ очень важны и не лишены смысла 7.
Именно утаавасэ поставляли большую часть танка в антоло-
гии. Они являлись одним из частых и регулярных видов времяпре-
провождения, входя в дворцовый церемониал. С учетом того, что
многие знаменитые стихотворения складывались именно во вре-
мя утаавасэ, можно полнее представить психологию творческого
акта в средневековой Японии. Известнейшие лирические миниа-
тюры, воспринимающиеся как выражение интимной связи чело-
века и природы, как отголоски созерцательного одиночества или
любовного томления, чаще всего создавались на заданную те-
му, в считанные минуты, в окружении группы участников и со-
перников. Например, одна из лучших танка, «Сипкокинсю»,
миватасэба
ямамото касуму
Минасэгава
юубэ ва аки то
нани омохикэн
Увидал тогда
в дымке основанья гор,
что вдоль Минасэ,
«Вечер осенью хорош»,—
почему же думать так? 8
сложена экс-императором Го-Тоба во время 1китайско-японског0
поэтического состязания (сика утаавасэ) в 15-й день 6-й луды
2 г. Гэнкю (1205), в котором кроме него участвовали еще Дзиэн,
Тэйка, Есицунэ, Тосинари и др. Посвященные описанию впечат-
лений от весеннего вечера (сезонное слово касуму), стихотворе-
ние отнюдь не является зарисовкой с натуры или непосредствен-
ным эмоциональным откликом. Оно написано в конце лета на
заданную «весеннюю» тему.
Сочинение на определенную тему известно в японской поэ-
зии с древности. Так, еще в песнях утагаки темами часто слу-
жили названия растений и животных. Возможно, кстати, пред-
положить, что известная номинативная сэдока из «Манъёсю»,
состоящая из названий семи осенних трав 9, состоит из двух ка-
таута и является своего рода таксономическим перечнем для ис-
полнения на их основе песен двумя полухориями. Сочинение на
определенную тему получило особенное распространение с кон-
ца XII — начала XIII в. Начиная с «Сэндзайсю» (1188 г.), все
антологии составлялись из лучших стихов, написанных на ка-
кую-либо тему.
Наиболее показательным отражением контекстуальной тема-
тической заданности танка являются собрания из определенно-
го количества пятистиший: 36, 50, 100, 1000 и 10 000. Самыми
популярными были поэмы из ста песен (хякусюута). Хякусю со-
ставлялись и в одиночку, и коллективно. Индивидуальные хяку-
сю упоминаются с годов Тэнряку (947—957), групповые—с годов
Кова (1099—1104). В списках хякусю, составленных в 4 г. Эмпо
(1677 г.), значилось в общей сложности 23 400 песен 10.
Наиболее распространенными были хякусю, состоявшие из
определенного количества сезонных песен, а также любовных и
«разнообразных» (дзо). Например, в составленную при импера-
торе Хорикава в начале XII в. композицию входило по 20 танка
180
иа темы «весна» и «осень», по 15 — «зима» и «лето», 10 — «лю-
бовь» и 20 — «разнообразные». Темы для сочинения задавал
придворный поэт Оэ Масафуса, участвовали 16 человек, в том
числе сам Оэ Масафуса, Минамото Кунинобу, Минамото Куниё-
ри, Фудзивара Акасукэ, а также другие придворные, монахи,
женщины.
Средневековые дневники и хроники часто сообщают о собра-
ниях для совместного сочинения ста песен или ста строф (ран-
га).'Это занятие могло протекать в императорских покоях или
дворцах знати, но обычно происходило в главных синтоистских
и буддийских храмах и приурочивалось к определенным дням.
Особенно пышно обставлялось составление хякусю (а позднее
хякуин ранга) в храмах Китано — в 25-й день 2-й луны и 25-й
день 6-й луны и Минасэ, мемориальном храме экс-императора
Го-Тоба,— в 22-й день 2-й и 11-й луны. В храмовых церемониях
поэмы из ста песен служили в качестве хоно (кит. фэнна) —
«жертвоприношений» в обрядах хораку. Исследование феномена
«песенных собраний с целью ублажения законом» (хораку ка-
кай) и «жертвоприношений песней» (хонока) может послужить
темой самостоятельной работы, здесь же кратко отметим, что
хораку часто устраивали и в канун поминовения души покойно-
го или по установленным дням местных храмовых праздников.
В обряд усмирения души покойного, или ками, которая «радова-
лась от соблюдения закона», входило чтение сутр перед алта-
рем, затем исполнение гагаку, потом сочинение и мелодеклама-
ция ута.
Начало жертвоприношений .песней относят к годам Гэнъэй
(1118—1120), когда в честь Хитомаро перед его образом было
исполнено 14 танка; самая старая нз сохранившихся подборок
хоно ута принадлежит Камо Сигэясу, она входит в сборник
«Гэцуго вакасю» (1182—1183). Хораку регулярно совершались
в крупнейших храмах: Исэ, Касуга, Ивасимидзу, Камо, Китано,
Сумиёси, Хиёси, Минасэ и др.11. Особое распространение и по-
стоянство в коллективном и индивидуальном составлении хяку-
сю в качестве хораку и хоно' приобрело с начала эпохи Камаку-
ра. Много поэтических хораку было в эпоху Муромати, особенно
в XV в. В главных из них участвовали император или сёгун
(иногда тот и другой вместе), а также высшая светская и духов-
ная знать страны. Например, во 2 г. Какицу (1442) в храме
Камо состоялось действо, зафиксированное под названием «Ка-
модэра хораку кандзин ута», поэтический зачин которому дал
император Го-Ханадзоно. Оно было посвящено Сугавара Митид-
занэ и имело целью «нравственно воздействовать» (кандзин) на
его дух. В императорских покоях и во дворце сёгуна до начала
смуты Онин (1467) проводили ежемесячные собрания для сочи-
нения- вака, рэнга и рэнку. Впоследствии регулярность продол-
жала неукоснительно соблюдаться лишь при дворе. Как видно
из дневников кугэ, поэтические собрания играли большую роль
даже в самые критические моменты истории страны 12.
181
Темой «ста песен» (хякусюута) были четыре времени года.
Поэма начиналась образами Нового года, весенней дымки, по-
следнего снега, и заканчивалось все «сумерками года» (тоси-но-
курэ), после чего шли в разделе «смесь» (дэо) финальные мо-
литвословия (норито). Тот факт, что темой большинства ри-
туальных хякусю были по преимуществу времена года, свиде-
тельствует о том, что пейзажная поэзия на всем протяжении
средневековья не подвергалась сколько-нибудь значительной се-
куляризации. Можно сказать, несколько генерализируя, что оиа
служила в основном не выражением эстетических переживаний
отдельной личности на лоне природы, а являлась инструментом
ритуального моделирования космоса. Пейзажные зарисовки пер-
вых (в том числе и в сакральном отношении) людей государ-
ства, произносимые в определенные дни перед алтарем, коллек-
тивно воспроизводили природный годовой цикл, последователь-
но переходя от весенних образов к летним и зимним. Добавле-
ние определенного количества смеси (дзо) из несезонных песен:
о «делах» и «любви» включало человека в циклический контину-
ум природы и обеспечивало тем самым гармонизацию миропо-
рядка. Пример типологически близкого пейзажного и времен-
ного мышления можно найти в живописи. Расписные ширмы
сёхэй, служившие с середины эпохи Мурома™ важной частью
интерьера стиля сёин, имели своей темой четыре времени года.
Ширмы устанавливали парами, каждая состояла из шести ство-
рок. Вместе число створок составляло двенадцать, по числу меся-
цев. Чередование типических весенних, летних, осенних, зимних
сцен, плавно перетекавших одна в другую, представляло цикли-
ческий континуум природы. Принцип построения, используемый
в сёхэйга и хякусюута (бессюжетная изменчивость пейзажных
сцен с вплетением человеческих чувств и дел), характерен и для
рэига. О роли коллективности в поэтике рэнга много говорить
здесь не место. Отметим лишь, что хораку рэнга были чрезвы-
чайно распространены, о вере в сакральный статус «сцепленных
строф» свидетельствует множество фактов.
И рэнга, и хякусюута сочетают в своей структуре амбива-
лентные свойства фрагментарности и слитности. Каждый из уча-
стников создает в принципе законченную миниатюру — полную
танка (в хякусю) или верхнюю или нижнюю строфу (в рэнга).
Часто эти индивидуальные танка записывались на отдельных
листках бумаги — тандзаку, которые, телесно воплощая «листья
слов» (кото-но ха), складывались вместе на алтарь, служивший
местом стяжения отдельных высказываний-танка, отдельных об-
разов общей картины мира, отдельных личностей, т. е., можно
сказать, своего рода мировым древом.
Таким образом, сложение хякусю (а также сэнсю, рэнга и
т. п.) представляет собой деятельность, направленную на прео-
доление единичности, причем не только отдельного стиха-выска-
зыва1ния, но и обособленного сознания. Высказывание каждого
участника служит частью общего композиционного плана, или—
182
иа другом уровне — элементом коллективно моделируемой кар-
тины мира. Например, хораку хякусю, сложенная при участии
императора Го-Цутимикадо в храме Минасэ в 22-й день 11-й лу-
ны 4 г. Мэйо (1496), является, по сути, структурированным пла-
ном космоса. Первые десять танка посвящены десяти крупней-
шим храмам страны: Исэ, Ивасимидзу, Камо, Хирано, Мацуо,
Инарн, Касуга, Сумиёси, Хиёси и Китано. Темой следующих де-
сяти танка служат будды и бодхисаттвы: Дайнити, Сяка, Тахо
(Прабхутаратна), Амида, Якуси, Мондзю, Фугэн, Каннон, Ми-
року, Дзидзо. Далее следуют десять пространств и направлений:
небо, земля, восток, запад, юг, север, юго-восток, юго-запад, се-
веро-запад, северо-восток. Следующие десять относятся к пери-
одам времени: весна, лето, осень, зима утро, день, вечер, год,
час. Потом идут десять стихий: холод, жара, солнце, луна, вода,
сушь, гора, река, трава, дерево. Следующие группы образуют
пять цветов (зеленый, желтый, красный, белый, черный) и пять
вкусовых качеств (сладость, острота, горечь, кислота, соле-
ность). Затем идет десятка, в которую включены шесть видов
чувственного восприятия: глаз (зрение), ухо (слух), нос (обо-
няние), язык (вкус), тело (осязание), мысль; в этом же десят-
ке присутствуют четыре направления относительно субъекта:
впереди, позади, справа, слева. Далее десять видов живых су-
ществ, жуки, насекомые, чешуйчатые (рыбы и пресмыкающие-
ся), пернатые (куры), собаки, быки, лошади, кабаны, бараны,
люди. Венчают номенклатурный перечень мироздания десять за-
нятий: духовая музыка, струнная музыка, поэзия, танец, письмо,
живопись, игра «го»; винопитие (сакэ), стрельба из лука, игра
в мяч «кэмари» — и десять чисел от единицы до десяти 13. Сти-
хотворения эти не выглядели дидактическими комментариями к
отвлеченной схеме. Тема чаще всего пряталась в омофонических
словах в виде какэкотоба. Внешний уровень стихотворений был
преимущественно пейзажным и (или) любовно-лирическим. На-
пример, первая танка из названной выше поэмы ч
исусугава
ёёно нагарэ-но
мидзукара то
юку саэ тооку
нао иноро каиа
Исусу-р.еки
из века в век струи
бегущие сами,
чтоб далеко еще течь,
моленья возносят
содержит указание на храм Исэ лишь в названии реки.
Нередко хякусю составлялись по особой сложной програм-
ме: на буддийские темы, или синтоистские (например, Урабэ
Канэкуни «Синто хякусю» в 18 г. Буммэй14), или конфуциан-
ские (так называемые кёри вака), состоящие из разделов «Да
сюэ», «Лунь юй», «Мэн-цзы», «Чжун юн» ,5.
Несмотря на большей частью чисто формальную причаст-
ность содержания отдельной танка к соответствующему элемен-
ту программы хякусю и на внешнюю разрозненность мотивов, не
объединенных сквозным сюжетом, наличие целостной программы
183
позволяло авторам выступать в роли коллективного демиурга
и строить в ста строфах модели мироустройства.
Особенно показателен в этом отношении жанр амэцути-но
ута, появившийся в начале эпохи Хэйан. Амэцути, бывшая по-
добно ироха-ута учебно-мнемонической алфавитной песней, с го-
дов Тэнряку (947—957) стала служить основой для поэм, сла-
гавшихся по принципу куцукамури («венец-конец»), т. е. акро- и
телестиха. В сборнике Минамото Ситагау сохранилась такая ам-
эцути-но ута, изощренно записанная в виде квадрата сугороку-
бан с многократно, как в кроссворде, переплетенными слоговыми
знаками. Началом и концом каждой танка служили слоги из
амэцути, которая состояла из номинации основных элементов
космоса — небо, земля, звезда, пустота, горы, реки, пики, доли-
ны и т. д. Обычные для антологической поэзии темы (времена
года, любовь и разное) в буквальном смысле пронизаны гло-
бальными образами, которые служат верхней и нижней рамкой
каждого стиха. Таким образом, незамысловатые стихи о мотыге
в горном поле или цветущей сакуре несли в себе имманентный
образ первоэлементов вселенной (амэцути — тэнти). Например,
Арасадзи то утикаэсураси оямада-но навасиру мидзу-ни нурэтэ цукуру а Ах, мотыгою вновь и вновь ударяю, на маленьком горном поле в воде рисового рассадника мокрыми руками работая.
мэ мо хару-ни юки ма мо аоку иари-ни кэри има косо нобэ-но вакама цумитэмэ Насколько глаз хватает снежные поля голубыми стали. Сейчас как раз полевые побеги молодых трав срывать [отправимся].
Цукуба яма сакуру сакура-но нихофу-о ба иритэ оранэдо ёсонагара мицу Когда на горе Цукуба цветущей сакуры аромат [прольется], не лезу и не ломаю, но любуюсь со стороны.
тикуса-ни мо хокоробу хана-но нисики кана идзура аояги нухиси ито судзи Парчовым ковром распустились цветы, даже травы тикуса, узор из нитей сплели зеленые ивы 16.
При традиционной записи танка в одну вертикальную строку
текст представлял собой двухмерную плоскость, в которой верх-
няя, нижняя строки читались и по горизонтали.
Подобные по структуре (куцукамури) и по способу записи
тексты могли быть и не связаны с таксономическим набором
амэцути, например поэма Кёгоку Тамэканэ «Тамэканэкэй эндзё
эйка», сложенная для экс-ймператора Го-Нидзё во время его
ссылки на остров Садо и служившая своеобразной криптограм-
мой
184
С амэцути-ио ута, видимо, генетически и (или) типологиче-
ски были связаны и отдельные виды рэнга. Традиционно счита-
лось, что рэнга в сто строф (хякуин — букв, «сто рифм») была
воспроизведением единой схемы Вселенной. Среди ста строф
64 относились к Небу (и назывались, как и гексаграммы, кэ), а
36 относились к Земле (и назывались кин). Встречаясь и пере-
плетаясь, они образовывали сто рифм (хякуин) единого графи-
ка (или схемы, чертежа, плана) неба и земли (кэнкон итидзукэй
хякуин) ,8. Здесь несомненна связь с китайскими ляньцзюй (от
которых и перешло к рэнга название хякуин). Приспосабливая
китайские образцы к возможностям родного языка, японцы вме-
сто рифм использовали знаки азбуки годзюон, которые и служи-
ли своеобразными заместителями изофонических клаузул — ки-
тайских иньцзи.
Таким образом, очевидно, что и амэцути-но ута, и кэнкон
итидзукэй-но хякуин явились предшественниками ироха-ута и
ироха рэнга, а впоследствии — канадай хякусю и канадай рэн-
га, популярных в Муромати.
Иногда современные японские авторы причисляют поэтиче-
ские цепи с акростихами и телестихами к словесным ребусам
и игре в слова. Но можно, пожалуй, сказать, что если это и иг-
ра, то в мироустройство, или, пользуясь выражением У. Лафлё-
ра, своего рода «людизация кармы». Видимо, на определенном
этапе истории культуры магические «словесные игры» настоя-
тельно необходимы социуму. В одних случаях это приобретает
обоснование в понятии «котодама», в других—в формуле «Deus
erat verbum».
Рассмотрение японской классической поэзии в ее контексту-
альной целостности позволяет, не спекулируя чрезмерно иад
каждой танка, понять неоднократно встречающиеся в поэтиче-
ских трактатах декларации о единосущности пути Будды и пути
поэзии, например в «Сасамэгото» Синкэй 19, или слова Минамо-
то Цунэнобу: «Вака есть непосредственный путь, ведущий к про-
светлению (бодай)... Принципы истинной реальности (синнё) и
истинного бытия (дзиссо) заключены в 31 знаке»20.
На всем протяжении средневековья (особенно в XII—XV вв.)
стихотворчество оставалось в значительной степени социальным
действом, в котором коммуникативные и регулятивно-модели-
рующие мотивы преобладали над чисто эстетическими. Сочине-
ние танка (не говоря уже о рэнга) было часто коллективной мо-
литвой и жертвоприношением богам. Ритуальное воспроизведе-
ние циклического миропорядка и человеческих взаимоотношений,
включенных в природный континуум, восходит еще к «песенной
плетенке» утагаки. Древнее назначение поэзии — связывать лю-
дей между собой, а также людей и богов — сохранялось и в раз-
витом средневековом обществе.
Учет социокультурной функции стиха и осмысление поэзии
как межличностного коммуникативного процесса, имеющего це-
лью коллективное моделирование универсума, требует расшире-
185
,уия понятия самодостаточного поэтического текста. Во многих
случаях это не танка, а целостная композиция хякусю, рэнга или
особого рода сложноорганизоваиный текст, построенный сооб-
разно ритму дзимон-ута — антологии 21. Отдельная обособлен-
ная танка из того или иного цикла не может нести в себе всей
полноты заложенного в нее изначального смысла—значение вхо-
дящих в нее слов много уже. Уместно поэтому здесь вспомнить
предложенную несколько лет назад Л. М. Ермаковой такую мо-
дель танка, в которой текст «может быть представлен в виде
концентрических окружностей, из которых наименьшая будет
представлять собой непосредственную запись стиха в 31 слог,
а периферийные окружности будут расширять понятие текста за
счет различного рода семантических комплексов с разными но-
сителями, присутствующих в культуре»22 Под ближайшей к
центру окружностью Л. М. Ермакова подразумевала в контек-
сте своего исследования прозаическое обрамление стиха в жан-
ре ута-моногатари; применительно к другим жанрам этой ок-
ружностью можно считать контекст в хякусюута, рэнга, антоло-
.гиях 23.
В заключение еще раз подчеркнем игровой характер, тема-
тическую заданность и межиндивидуальную раскрытость основ-
ного потока японской поэзии. Эти ее особенности сохранялись и
в позднем средневековье. Так, знаменитое хокку Басё «Старый
пруд», образец медитативной лирики, созерцательной отрешен-
ности и одинокого саби поэта, было сложено в окружении уче-
ников на состязании кавадзу-авасэ (стихи на тему «лягушка»).
Это трехстишие может существовать по меньшей мере в трех
контекстах: в «Кавадзу авасэ», составленной Сэнка между 1681
и 1686 г.24; в виде хокку к рэнку — известно вакику (стихотвор-
ное продолжение), принадлежащее Кикаку25; в составе весен-
.него раздела сборника «Харуно хи» — здесь «Старый пруд» ок-
ружен не без умысла подобранными трехстишиями учеников26.
В последнем случае сборник в отношении формы обнаруживает
связь с древнейшим видом японской поэзии катаута мондо.
1 Манъёсю, IX, 1747—1760.— Нихон котэн баигаку тайкэй. Т. 5. Токио,
.с. 395.
2 Ямато-моногатари. Пер. со старояп., исслед. и коммент. Л. М. Ермако-
-вой. М„ 1982, с. 102.
® Там же, с. 109.
4 Там же, с. 115.
5 Kato Shuichi. The History of Japanese Literature. Tokyo. 1979, c. 152.
6 Минэгиси Есиаки. Ута-авасэ кэнкю. Токио, 1958, с. 142.
7 Там же, с. 143.
8 Синкокинсю, I, 36/Нихон котэи бунгаку тайкэй. Т. 28. Токио, 1969, с. 45.
9 Хаги-но хана,
обана, кудзубана,
надэсико-но хана,
оминаэси,
мата фудзибакама,
асагао-но хана.
лее-
Манъёсю, VIII, 1538.— Нихон котэн бунгаку тайкэй. Т. 5, с. 317. О роли*,
фитонимов в ранней классификационной модели' мира см. также: Ермако-
ва Л. М. Ритуальные и космологические значения в ранней японской поэ-
зии // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках..
М., 1988, с. 61—82.
10 Фукуи Кюдзо. Даб Нихон касё соран (Общий обзор японских поэти-
ческих сборников). Токио, 1932, т. 2, с. 394.
“ Там же, с. 829—830.
12 Носэ Асадзи. Рэнга то рэнку. Токио, 1950, с. 189.
13 Дзоку гунсё руйдзю (Сборник японских письменных памятников. При-
ложение). Токио, 1903—1910. Т. 17, св. 385, с. 702—706.
м Фукуи Кюдзо. Дай Нихои касё соран. Т. 2, с. 422.
16 Там же, т. 3, с. 69, 2-я паг.
16 Фукуи Кюдзо. Рэнга-но мити (Путь рэнга). Токио, 1941, с. 30—31.
17 Дзоку гунсё руйдзю, т. 16, св. 432.
13 Дайхякка дзитэн (Большой энциклопедический словарь). Т. 21. Токио,
1932, с. 628в.
19 Рэнга ронсю, хай ронсю (Собрание трактатов о рэнга н хайкай). Токио,
1970.— Нихои котэн бунгаку тайкэй, т. 66, с. 182.
20 Там же. с. 182.
21 См.: Konishi Jinichi. Association and Progression: Principles of Integra-
tion in Anthologies and Sequences of Japanese Court Party, 900—1350.— Har-
vard Journal of Asiatic Studies. 1958, Vol. 21, c. 67—127.
22 Ямато-моногатари, c. 44.
23 См. подробнее: Ивадзин А. Рец. на: <Ямато моногатари».— Народы
Азин и Африки. 1984, № 6, с. 189.
24 См.: Ино Тзцудзи. Басё дзитэн (Словарь Басё). Токио, 1959,
с. 668—669.
26 См.: Sato Hiroaki. Variations on the Theme of Basho.— Chanoyu Quar-
terly. 1977, Ns 8, c. 7—13.
26 См.: Ситибусю (Семитомник Басё и его учеников). Токио, 1929, с. 36.
Н. С. Шефтелевич
ОБЩИННОСТЬ ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ
Японская классическая поэзия давно уже перестала быть
.достоянием только национальной культуры, приобретя за рубе-
жом своих читателей, подражателей и исследователей.
Танка и хайку — предмет многих изысканий как японских,
так и зарубежных ученых. Однако почти обделенными внима-
нием специалистов оказались стихотворные цепочки рэнга и
рэнку, поэтические состязания утаавасэ и куавасэ. И это, види-
мо, не случайно.
Если танка и хайку привычно воспринимаются индивидуали-
стическим сознанием XX в. как произведения авторские, сугубо
самостоятельные, то стихотворные цепочки кажутся таким поэ-
тическим «атавизмом», когда одно только упоминание о совме-
стном сложении их и о многочисленных правилах, регламентиру-
ющих чуть ли не каждый стих, отвращает от них даже исследо-
вателя. При этом, вольно или невольно, танка и хайку получа-
ют как бы изолированное существование, вне связи с этими
видами поэтического творчества.
Японская поэзия на протяжении почти всей своей истории,
вплоть до конца XIX в., сохраняла черты коллективного творче-
ства и в силу этого была тесно связана с совершенно особым ли-
тературным бытом.
Один из ведущих современных исследователей поэзии хайку,
Цутому Огата, «касаясь вопроса о том, почему японцы 'культи-
вировали столь удивительно немногословный способ поэтическо-
го выражения, как ,,хайку“», объяснил это, «во-первых, тем,
что японская культура формировалась в земледельческом обще-
стве, где люди поколение .за поколением жили на одном и том
же месте, так что все хорошо знали и понимали с полслова друг
друга; во-вторых, тем, что почти вся японская литература, и ко-
нечно же поэзия хайку, создавалась и воспринималась опреде-
ленной группой, где каждый был одновременно и создателем и
потребителем» *.
Не углубляясь в этнологические экскурсы, можно тем не ме-
нее действительно говорить о том, что сохранению черт совмест-
ного творчества способствовало существование и функциониро-
вание поэзии в рамках достаточно обособленного и замкнутого
общества: группы, салона, крузкка, школы или, так сказать,
188
«цеха поэтов» — дза. Но дза — это еще и сама встреча, во время
которой складывались стихотворения. В этом смысле дза с ее
первоначальным значением «сидеть, сиденье» может быть сбли-
жена с русскими посиделками. Встреча, естественно, предпола-
гала и непосредственное общение поэтов. Можно сказать, что
дза — это общество, в котором сообща переживается искусство
общения. Не случайно сложение стихотворных свитков называ-
ли искусством соединения — цукэаи, т. е. словом, близким к цу-
киаи — дружеское общение, близкое знакомство. Сочинение
свитков называли и искусством находить общее, что связывало
бы между собой соединяемые стихотворения, выражаемым сло-
вом ёриаи, встречающимся в таких словосочетаниях, как дере-
венская сходка (мура-но ёриаи), общение друзей (накама-но
ёриаи), и т. п.
Общение, как непосредственное — во время поэтических
встреч, так и разделенное во времени и пространстве, как, на-
пример, при обмене стихотворными посланиями или сочинении
стихотворной надписи (реплики к картине) представляло все-
гда нечто вроде поэтического диалога (с участием двоих или
большего числа лиц), который требовал не только соучастия, но
и мгновенной поэтической реакции, для чего едва ли были при-
годны большие поэтические формы.
Диалог велся в рамках заданной ситуации, приуроченной к
определенному месту, а главное — к определенному времени,
благодаря чему календарность японской поэзии с течением вре-
мени привела к появлению определенных стереотипов в поэтиче-
ском мышлении.
Поэзия как всеобщее достояние той или иной «общины» не
могла знать и не знала разрыва между автором и читателем,
ибо эти понятия сливались в нечто единое, а быт, в свою оче-
редь, подчинял себе поэзию, растворял ее в формальном верси-
фикаторстве, когда стихотворение носило прикладной характер
и всегда прочитывалось «в связи...».
В эпоху Хэйан (IX—XII вв.) «цех поэтов», собственно, был
ограничен императорским окружением, для которого поэзия,
изящное и аристократическое занятие, составляла непременный
атрибут светского быта и придворного церемониала.
Из хэйанской прозы, из вступительных пояснений к стихотво-
рениям «явствует, что стихи тогда сочиняли главным образом»
«на случай», случай же могло предоставить все, что происходило
в ежедневном обиходе. Появились стихотворения-записочки, сти-
хотворения-экспромты, стихотворения-раздумья — словом, быто-
вая поэзия галантного общества. Умением слагать стихи в этом
обществе должен был владеть каждый: оно было не только эле-
ментом образования, но и требованием светского общения 2.
Если обмен стихотворными посланиями или сочинение экс-
промтов могли и не выходить за рамки бытового общения, оста-
ваясь при этом фактом личной жизни переписывающихся или
.-беседующих, то поэтические состязания (утаавасэ) явно претен-
189
довали и на определенную литературную значимость и на оп-
ределенную отрешенность от быта или, точнее, от обыден-
ности.
Утаавасэ — это последовательное сложение пар танка на за-
ранее определенную тему, по одной от участников состязания,
разделенных на две группы: левую и правую. Каждая пара про-
читанных танка оценивалась судьями (хандзя).
Судя по описаниям церемониала поэтических состязаний, они
представляли собой особое словесное действо, которое, во-пер-
вых, сохраняло элементы синкретичное™ (сочетание слова, му-
зыки, танца, живописи и магии); во-вторых, соотносилось с жиз-
нью природы, хотя уже и без конкретно-целевой направленности
обряда; в-третьих, в своем построении исходило из идеи «соеди-
нения вещей» (моноавасэ).
Существеннейшим моментом в «соединении вещей» было со-
вместное переживание: в итоге давалась оценка сравнительным
«вещам» — стихотворениям. Иначе говоря, эстетическое освое-
ние мира посредством совместного переживания соединяемых
вещей приводило к постепенному закреплению всего «того, что
радует сердце», «что утонченно-красиво», «что пленяет утон-
ченной прелестью», «что глубоко трогает сердце», «что полно
очарования» и пр. Запечатленный в произведениях Сэй-сёнагон
своеобразный эстетический кодекс в значительной мере был по-
рожден как раз этим «соединением вещей», которое весьма про-
зрачно прочитывается и в ее так называемых «перечислениях»
цветов, гор, птиц, храмов и т. д.
Смысл сравнения, соединения заключался при этом не столь-
ко в соперничестве (хотя всегда были и выигравшая и проиграв-
шая сторона), сколько в утверждении достоинств каждого сти-
хотворения. В целом утаавасэ были призваны утвердить поэ-
зию на японском языке не только «изнутри», но и в сопостав-
лении ее с поэзией на китайском языке-канси. То же происходи-
ло и в живописи Яматоэ (японской) и Караэ (китайской).
Поэтические состязания сыграли гораздо большую роль, чем
обычно предполагается, и в сознательном, целенаправленном
отборе стихотворений для «высочайших антологий», и в самом
процессе складывания поэтических канонов, и в установлении и
закреплении эстетических и поэтических критериев.
Собственно, поэтические состязания в своей совокупности
были живой, звучащей антологией определенного общества, где
авторство отступало на второй план, растворяясь в совместно
прочитанных, пережитых и оцененных стихотворениях. Приуро-
ченность состязаний к жизни природы и ставшая канонической
календарно-тематическая композиция антологий не могли не
способствовать сохранению традиции переживания поэзии «со-
обща». Традиция эта настолько прочно завладела эстетическим
сознанием японцев, что продолжает ощущаться и в наши дни,
например в деятельности многочисленных любительских круж-
ков и даже в телевизионных передачах, где подготовленные на
190
заданную тему и соответствующие определенному сезону года
стихотворения совместно читаются, обсуждаются и правятся.
Что же касается самих поэтических состязаний, то они прак-
тиковались чуть ли не до XIX в., причем не только среди при-
дворной знати. На них сочинялись кроме танка также песни на
современный лад (имаё) и поэтические свитки рэнга и хайку.
С выходом поэзии рэнга, ставшей ведущим поэтическим жан-
ром в эпоху Камакура — Муромати (XIII—XVI вв.), из импера-
торского дворца в «низы», монашескую и самурайскую среду,
общинный характер поэтических занятий стал еще более оче-
видным. Ведь само сочинение рэнга представляло собой совме-
стное сложение свитка, когда каждый из участников поэтиче-
ской встречи (рэнгакай) присоединял свое стихотворение к со-
зданному предыдущим. Свитки слагались в императорском двор-
це, в домах родовитой знати, в замках владетельных феодалов,
,в храмах и монастырях и, наконец, просто самым разным людом
«на свежем воздухе»: «под сенью цветов» или «под сенью сосен».
Поэзия в это время впервые разделилась по сословному при-
знаку на «дворцовую» (Додзё) и «простонародную» (Дзигэ), а
по эстетическому признаку на серьезно-возвышенную, «имею-
щую душу» (усин) и шуточно-развлекательную, «не имеющую
души» (мусин).
Свитки рэнга могли носить самый разный характер — утон-
ченно-изысканный, возвышению-мистический, развлекательный
или откровенно-шутливый, но при этом само сложение свитка
необходимо предполагало творческое общение понимающих друг
друга людей. И как бы ни разнились встречи, само участие в
.них означало совместное переживание духа общности, и пережи-
вание это носило явные религиозно-эстетические черты и напо-
минало о своего рода обряде причащения.
Не случайно возникновение поэтических встреч связывают с
совместным чтением сутр ко и с синтоистскими храмовыми соб-
раниями миядза, которые со временем приобрели полутеатра-
лизованный характер, сопровождались праздничными шестви-
ями, музыкой и сложением поэтических свитков, подносимых бо-
гам для успокоения их духа. Организаторами и участниками
храмовых праздников выступали мирские общины, которые по-
лучили название ко от того же совместного чтения сутр и кото-
рые складывались на основе профессиональной общности или иа
основе отношений взаимопомощи.
В образовании «цеха поэтов» как своего рода общины и од-
новременно профессиональной общности ведущая роль принад-
лежала храмам Тэммангу, посвященным богу-покровителю поэ-
зии Тэндзину. Торжественные службы в них (Тэндзин-ко) все-
гда были связаны со сложением стихотворений, сначала на поэ-
тических состязаниях утаавасэ, а затем и на встречах поэтов
рэнгакай.
Для того чтобы овладеть искусством общения, устанавлива-
ющим посредством поэтического слова родство душ (а именно к
191
этому стремились участники встреч), нужно было знать и «пра-
вила общения». Эти правила, кажущиеся теперь докучливыми и
обременительными, касались не только собственно стихосложе-
ния, но и самого ритуала встреч, норм поведения поэтов на них.
Составляли своды правил, знакомили с ними начинающих
поэтов и руководили сложением свитков наставники (сосё, или '
рэнгаси), вышедшие в основном из представителей «простона-
родной» рэнга и прошедшие монастырскую школу. Для них это
стало профессиональным занятием, и многие из них стали чис-
литься по Ведомству поэтических встреч в храме Китано-Тэм-
мангу. Позже, начиная с XVI в., почти три столетия подготов-
кой 'наставников рэнга монопольно владел дом Сатомура, глава
которого занимал должность начальника вышеупомянутого ве-
домства.
Интересно, что в годы непрерывных междоусобиц наставни-
кам рэнга позволялось беспрепятственно переходить из одних
владений в другие. И хотя трудно согласиться с высказыванием
современного литератора Макото Оока, будто «такие поэты-
наставники, как Соги, играли важную политическую роль, спо-
собствуя смягчению враждебных отношений благодаря своему
общению как с императорским двором, так и с военным дво-
рянством» 3, нельзя не обратить внимание на отмечаемую им,
впрочем и не только им, связь между веком смут, когда сама
возможность общения казалась ненадежной, и расцветом поэзии
рэнга, ориентированной на достижение духовного единения.
С началом новой эпохи Токугава (1600—1867) в социальной
и культурной жизни страны произошли большие перемены, ко-
торые сказались на характере поэтических встреч и поэтических
школ.
Стремясь укрепить стабильность государства, правители То-
кугава в соответствии со строго иерархической структурой госу-
дарственного и социального устройства определили не только
род занятий, чины и звания, подобающие каждому из четырех
сословий, но и жестко регламентировали практически всю
жизнь своих подданных, вплоть до жилья, одежды, еды, питья
и пр.
Живое и непринужденное общение независимо от сословной
принадлежности, сообразно личным склонностям и желаниям
было ограничено и временем (только свободным от службы), и
местом (специально отведенным, так сказать, для культуры и
отдыха). Удовлетворить потребность в неформальном общении,
свести вместе представителей разных сословий отныне могли
только общества, «выпадающие» из вертикальной социальной
структуры. И такие общества, хотя и очень различные, появи-
лись. К ним относятся общества, складывавшиеся из посетите-
лей веселых домов, которых увлекало общение с актерами и гей-
шами, обученными искусствам; общества театралов —покровите-
лей рэндзю, имевших свой устав и принимавших самое деятель-
ное участие не только в материальной поддержке трупп кабуки.
192
но и в выборе репертуара и оценке исполнительского мастерства
актеров; и, наконец, поэтические школы.
Разумеется, наиболее осознанным «выпадением из системы»
были поэтические школы, представлявшие собой общество еди-
номышленников. «Стать участником общества поэтов,— пишет
Цутому Огата,— значило стать человеком, освободившимся
(правда, на время.— Авт.) от привычных социальных связей,
своего общественного положения, равным образом и принятие
поэтического псевдонима символизировало отречение от своего
имени и звания, которым придавалось такое значение в мире
четырех сословий с его незыблемыми „да“ и „нет“. Благодаря
обмену участниками своими переживаниями в стихотворениях
хайку устанавливались новые отношения, в основе которых бы-
ли иные, отличные от повседневной жизни нормы» 4.
Никогда прежде поэтические школы не были столь популяр-
ными и многочисленными. В школе нуждались любители поэзии,
в первую очередь представители наиболее социально и полити-
чески бесправного городского сословия, которое желало приоб-
щиться к недоступным ему прежде культурным ценностям и ут-
вердиться в достаточно «высокой» сфере — искусстве. Нужда-
лись в ней и те, кого по разным причинам привлекало ремесло
наставника, сулившее более или менее устойчивый доход.
Любители поэзии приобретали в школе необходимые знания
и навыки стихосложения, а при определенных условиях удостаи-
вались и приобщения к тайнам учения. Благодаря школе они
надеялись увидеть напечатанными свои произведения, посколь-
ку через нее осуществлялась связь с книжными лавками и стихо-
творения для публикации в сборниках школы (наиболее распро-
страненном типе изданий) отбирались с благословения настав-
ника. Школа открывала доступ и к поэтическим собраниям.
Контакты между «учениками», их общение с наставниками
носили удивительно регулярный характер. Особое значение при-
давалось общению во время поэтических встреч, или собраний.
Встречи могли быть сугубо учебными, тренировочными, ко-
гда участники их в соответствии с требованиями наставника уп-
ражнялись в сложении стихотворений на заданную тему, в раз-
ных способах соединения стихотворений или же когда совместно
осваивался новый и еще непривычный для поэзии материал.
Были встречи полуофициальные-полудружеские, которые ча-
ще всего собирали достаточно искушенных в поэзии и близких
друг другу людей. На них обычно складывались свитки рэнку
или устраивались поэтические состязания куавасэ. Непринуж-
денности и живости поэтического общения ничуть не мешали
правила встреч, унаследованные с некоторыми послаблениями
от поэтов рэнга. Ведь суть их сводилась к одному — сполна
пережить «чужое» стихотворение и продолжить его так, чтобы
самое примечательное в нем было выражено в своем стихотво-
рении, и при этом сложить свое так, чтобы следующий автор-
мог прочитать в нем приглашение к продолжению свитка. Иначе
13 Зав. 324
193
говоря, единый эмоциональней настрой общения- требовал от*
участников встречи не исчерпывающей высказанности, не завер-
шенности поэтического выражения, а намека и недосказанности,,
таящих в себе побуждающую к сопереживанию полноту чувства..
Парадно-торжественные встречи, с участием именитых авто-
ров, продолжали традицию храмовых собраний поэтов, и наибо-
лее полно сохраняли характер словесно-ритуального действия.
Одна из разновидностей таких встреч — встречи манку (сложе-
ние 10 000 стихотворений), во время которых происходила цере-
мония «посвящения» в сан наставника, уже одной только своей
обрядовой стороной закреплявшая идею преемственности. Из-
вестно, например, что при «посвящении» в 1673 г. Ихара Сай-
каку 160 поэтов в течение 12 дней сочиняли в осакском храме
Икутама сто свитков рэнку в сто стихотворений каждый.
Под влиянием чжусианских идей с равной для всех возмож-
ностью нравственного совершенствования в поэтических встре-
чах искали возвышающего равенства душ, посредством «выправ-
ления слова» стремились уравнять мир высокой классики с поэ-
зией, именуемой шуточной и обращенной к отвергаемому и пре-
зираемому прежде миру обыденного и низкого.
Целью каждой поэтической встречи, какой бы характер она
ни носила, была слаженность свитка, переживаемая как согла-
сие душ. Естественно, в таких условиях ценилось более всего
искусство соединения стихотворений, а не сочинение хокку—пер-
вого стихотворения свитка, которое обладало наибольшей само-
стоятельностью и завершенностью. И хотя появлялись сборники
хокку, все же почти для каждого хокку не исключалась, а, на-
против, предполагалась возможность его использования в свит-
ке, причем неоднократного, спустя годы. Примечательно, что за-
мечательный поэт и непревзойденный мастер хокку Басё отда-
вал предпочтение сложению свитков. Так, надпись в составлен-
ном учениками Басё сборнике «Монах из Уда» гласит: «Есть
поэты, правда не из нашей школы, которые полагают, будто ста-
рец Басё был искусен в хокку, а в свитках он, мол, лишь вто-
рил своим предшественникам. Учитель же наш всегда говорил:
„Многие из моих учеников ничуть не хуже меня сочинают хок-
ку". У вашего же старца самое подлинное, самое сокровенное —
не хокку, а последующие стихотворения свитков» 5.
Коллективное начало в поэтическом творчестве, столь долго
сохранявшееся в японской поэзии, вызывало явную неприязнь-
у зачинателей современной поэзии хайку, стремившихся к само-
выражению и самораскрытию «я». Так, знаменитый поэт и ре-
форматор хайку Масаока Сики решительно отверг стихотворные
свитки, воплощавшие в себе идею неиндивидуального творчест-
ва. Он заявил: «Хокку — это поэзия, стихотворные свитки — не
поэзия». Собственно, именно он утвердил и общепринятый сейчас-
термин «хайку». Это понадобилось ему для того, чтобы ничто
уже не говорило о связи стихотворения со свитком и чтобы со-
здавалось и переживалось оно как сугубо самостоятельное и
194
личностное произведение, воплощающее индивидуальность по-
этического переживания.
Однако с течением времени неприятие всего того, что со-
храняло черты общинности в поэтическом творчестве, сменилось
тяготением не без влияния оказавшегося удивительно устойчи-
вым литературного быта если не к совместному сочинению (хо-
тя сейчас заметен явный интерес к рэнку), то к совместному пе-
реживанию стихотворений (опять-таки в рамках определенной
группы).
И не стоит, пожалуй, находить странным, как это делает До-
нальд Кин, что крупнейший поэт хайку Кобаяси Исса в начале
XIX в. «принимал участие в коллективном сложении нанизанных
строф»6. Странно скорее то, что до сих пор в полной мере не
осмыслен удивительный феномен японской поэзии — развитой
литературной поэзии, обладающей мощной и богатой традицией
и в то же время не порывающей со своим истоком — устным
коллективным творчеством.
1 Огата Цутому. Хёгэн то-ситэ но хайку (Хайку как способ выражения).—
Гэнго сэйкацу. 1984, № 12, с. 25.
* Конрад Н. И. Японская литература. М., 1974, с. 91.
5 Оока Макото. «Хай»-но сэйсин (О духе «шуточности»).— Гэиго сэйкацу.
1984, № 12, с. 3.
4 Огата Цутому. Дза-но хайку (О литературе дза). Токио, 1978, с. 36.
6 Рию, Цёрику. Уда-но хоси (Монах из Уда).— Хотэн хайбунгаку тайкэй
((Серия классической литературы хайкай). Т. 10. Токио, 1975, с. 245.
£ Кин Д. Японская литература XVII—XIX столетий. М., 1978, с. 255.
13*
СОДЕРЖАНИЕ
Введение ........................................................... 3
Горегляд В. И. Некоторые тенденции развития японской культуры . . 4
Поспелов Б. В. Некоторые аспекты идеологической деятельности япон-
ского буржуазного государства иа современном этапе................. 10
Козловский Ю. Б. Методология исследования историко-философского
процесса в Японии................................................. 19-
Скворцова Е. Л. Изучение эстетики в Японии (история и современное
состояние научно-эстетических исследований)........................ 24
Навлицкая Г. Б. Проблемы развития современного японского города
(70—80-е годы)..................................................... 32
Михайлова Ю. Д. Некоторые тенденции развития социально-политиче-
ской мысли Японии в период Токугава (1603—1867).................... 40
Бугаева Д. Г1. К вопросу о «самовыражении» в японских мемуарно-
автобиографических сочинениях Нового времени...................... 48-
Васильевова Э. Япония в чешской общественной мысли первой поло-
вины XX в. и истоки чехословацкого японоведения................... 53-
Генс И. Ю. Японская проблематика в работах Института искусствове-
дения Министерства культуры СССР................................... 61
Нанивская В. Т. Система «морального воспитания» в японской школе . 69'
Гришелева Л. Д. Социально-политические функции японского тради-
ционного театра.................................................... 76
Дубровская М. Юд Музыка в традиционном театре Японии (на мате-
риале ноо и каБукиЦ............................................. *<83^
Апарина И. Г. К вопросу о способе закрепления и передачи традиции
в классическом искусстве Японии (на материале трактата Дзэами
«Кадэнсё»)..................................................
Иванова Г. Д. Русские народники в Японии 70—80-х годов XIX в. . . ' 95 ’
Иофан И. А. Протояпонская и древнеяпоиекая культура (к проблеме х'~'ч
формирования стиля)................................................ЧРО
Симонова-Гудзенко Е. К. О появлении богини Аматэрасу в японском
мифологическом пантеоне.........................................JLQ6-
Ермакова Л. М. Слово и музыка в ранней японской поэзии...........(jl^.
Успенский М. Гравюра укиёэ как источник изучения городской культуры
периода Токугава (1603—1868)................................. 124-
Гривнин В. С. Актуальные проблемы современности в произведениях
японских писателей............................................... 130’ 5
К. Рёхо. Роман-эпопея в жанровой иерархии японской литературы . . 138 ||
196
Ж
_______ д
Чегодарь Н. И. К проблеме типологии японского послевоенного романа 147
Герасимова М. П. Критика абсолютизации влияния буддизма на миро-
ощущение японцев и эстетическое осмысление действительности в
Японии в настоящее время........................................ 155'
Гришина В. А. Ф. М. Достоевский в японской пролетарской литературе
20—30-х годов XX в............................................... 163
Полин А. А. Типологические особенности классической японской лирики 171
Штейнер Е. С. Совместность и контекстуальиость как формробразую-
щие характеристики японской классической поэзии.................. 178
Шефтелевич И. С. Общинность японской поэзии ....... . . . 188
Научное издание
ЯПОНИЯ:
идеология, культура,
литература
Редактор Б. Е. Косолапов
Младший редактор Н. В. Беришвили
Художник А. И. Гольдман
Художественный редактор Б. Л. Резников
Технический редактор М. В. Погоскина
Корректор Е. В. Карюкина
ИВ № 16592
Сдано в набор 25.04.89. Подписано к пе-
чати 02.10.89. А-10606. Формат 60 X90Vie.
Бумага типографская № 2. Гарнитура ли-
тературная. Печать высокая. Усл. п.
л. 12,5. Усл. кр.-отт. 12.75. Уч.-изд. л. 13,05.
Тираж 8600 экз. Изд. № 6824. Зак. № 324.
Цена 95 к.
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука>
Главная редакция восточной литературы
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21
3-я типография издательства «Наука>
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28