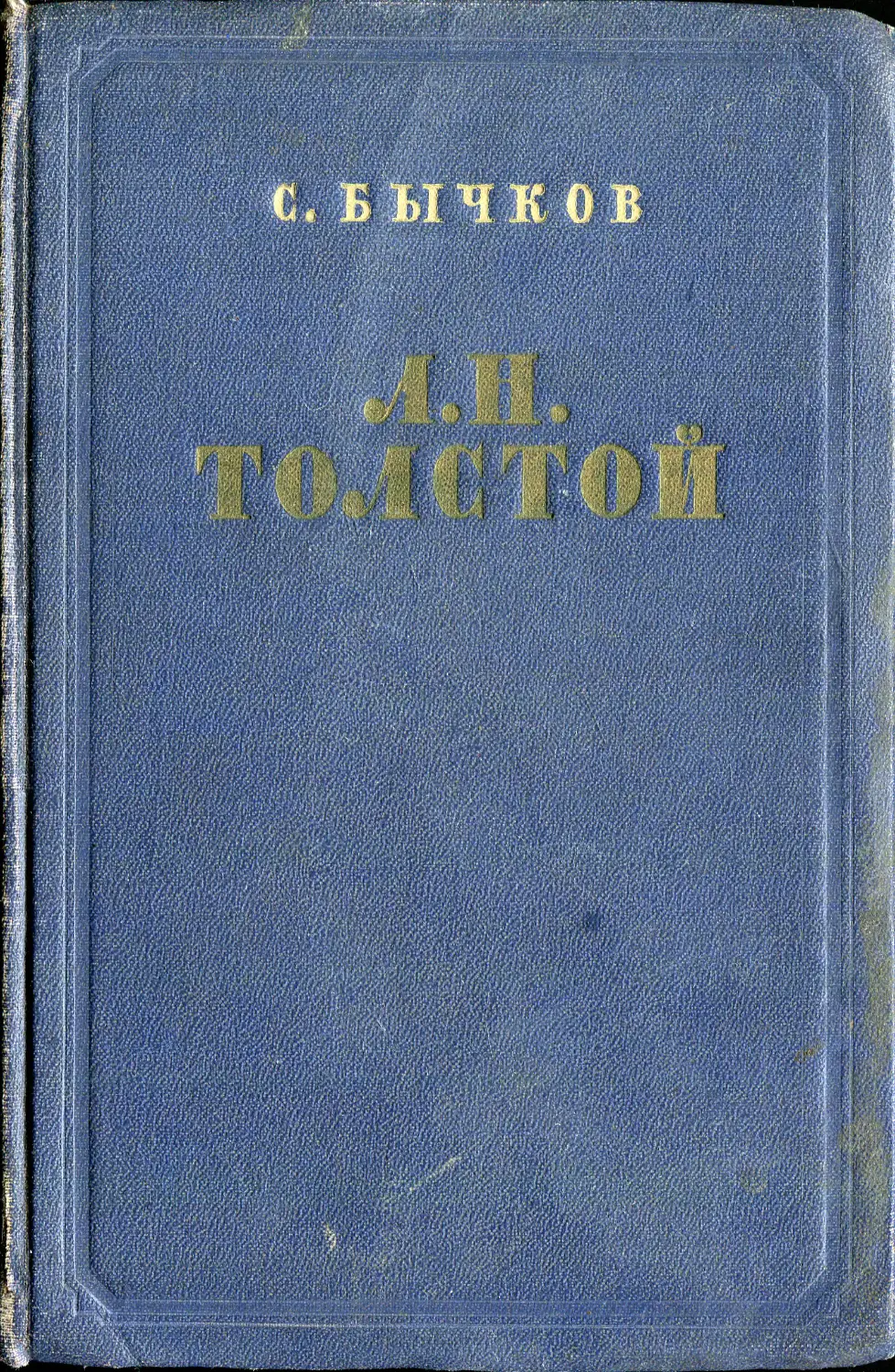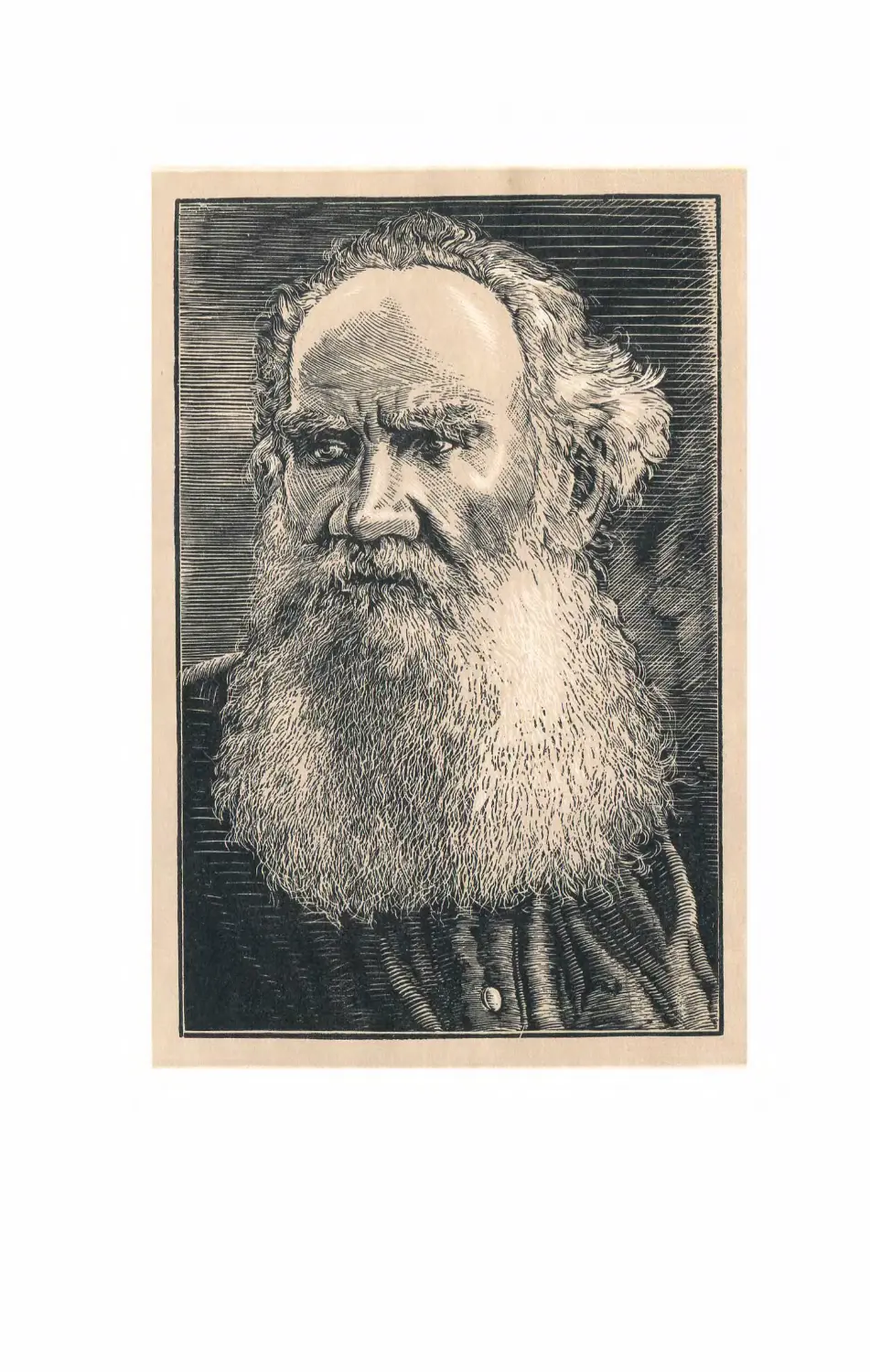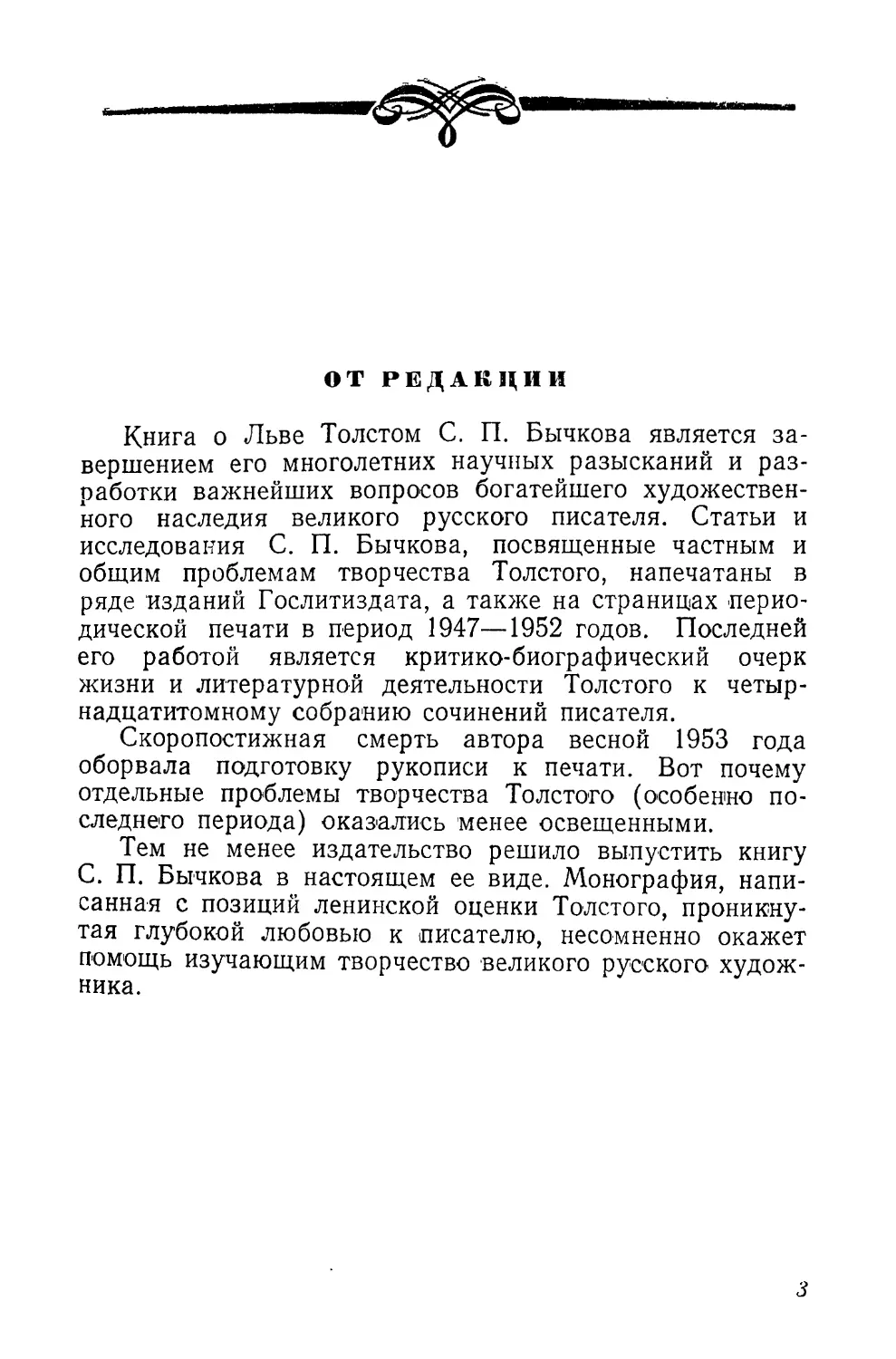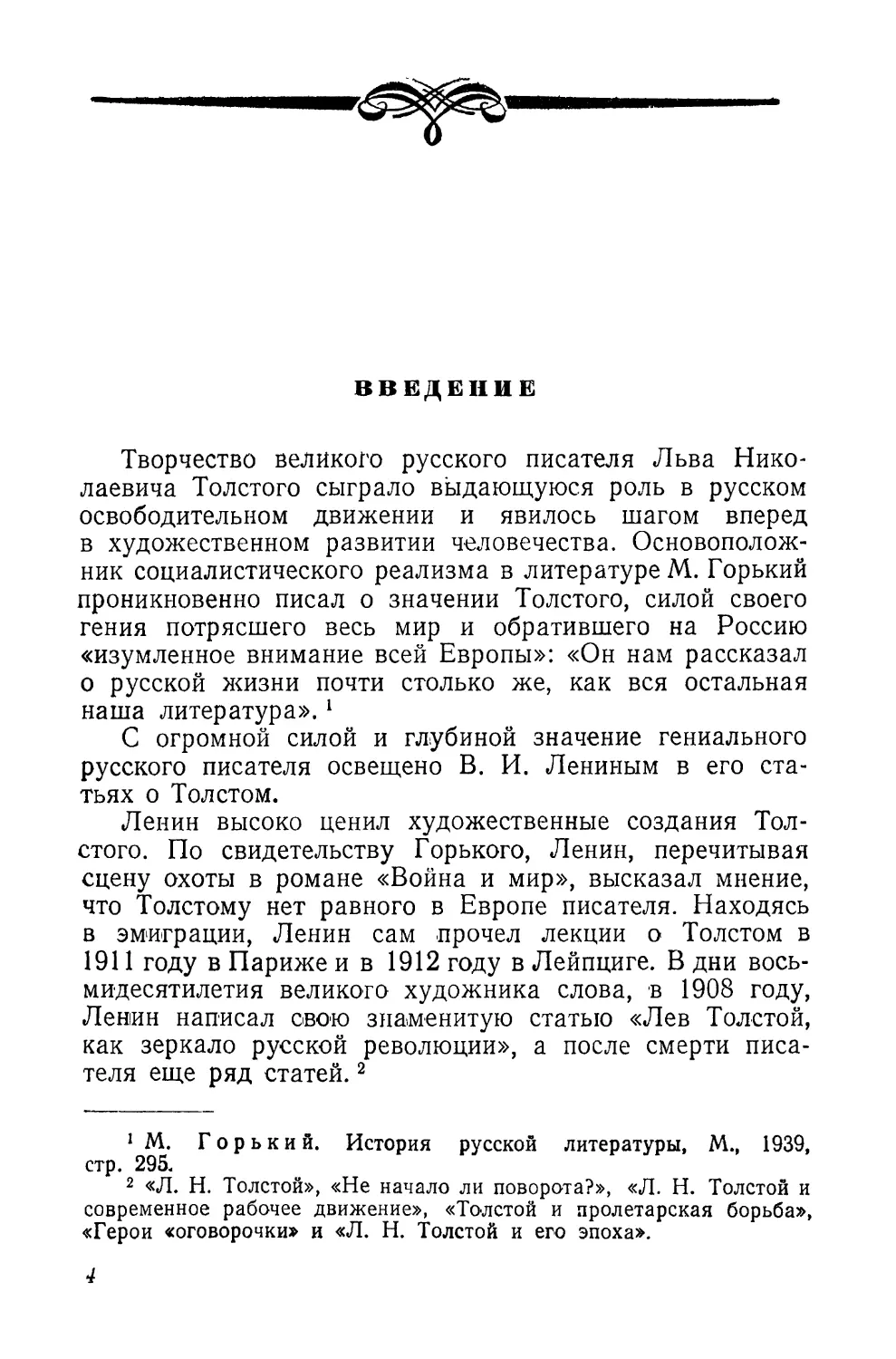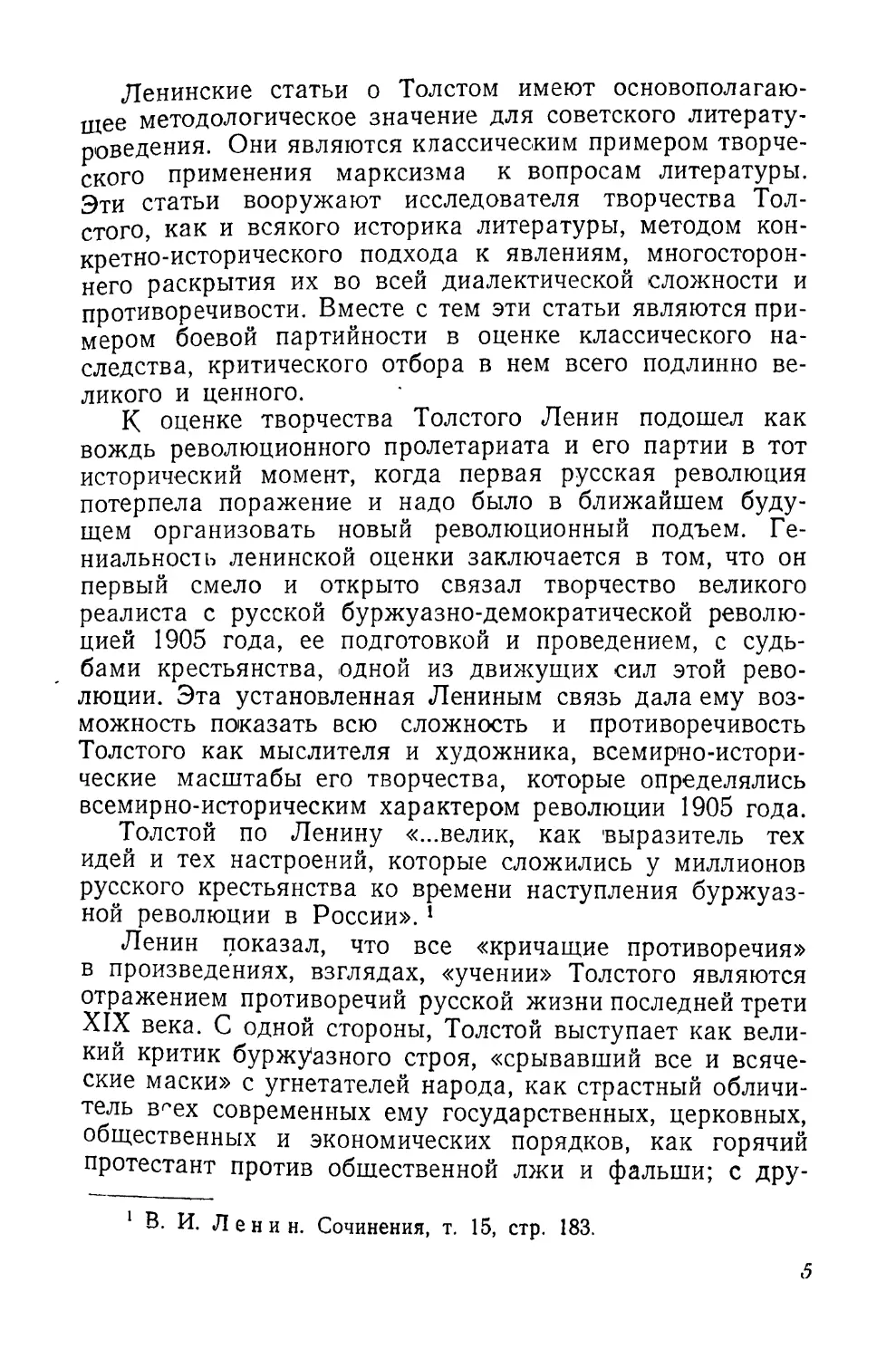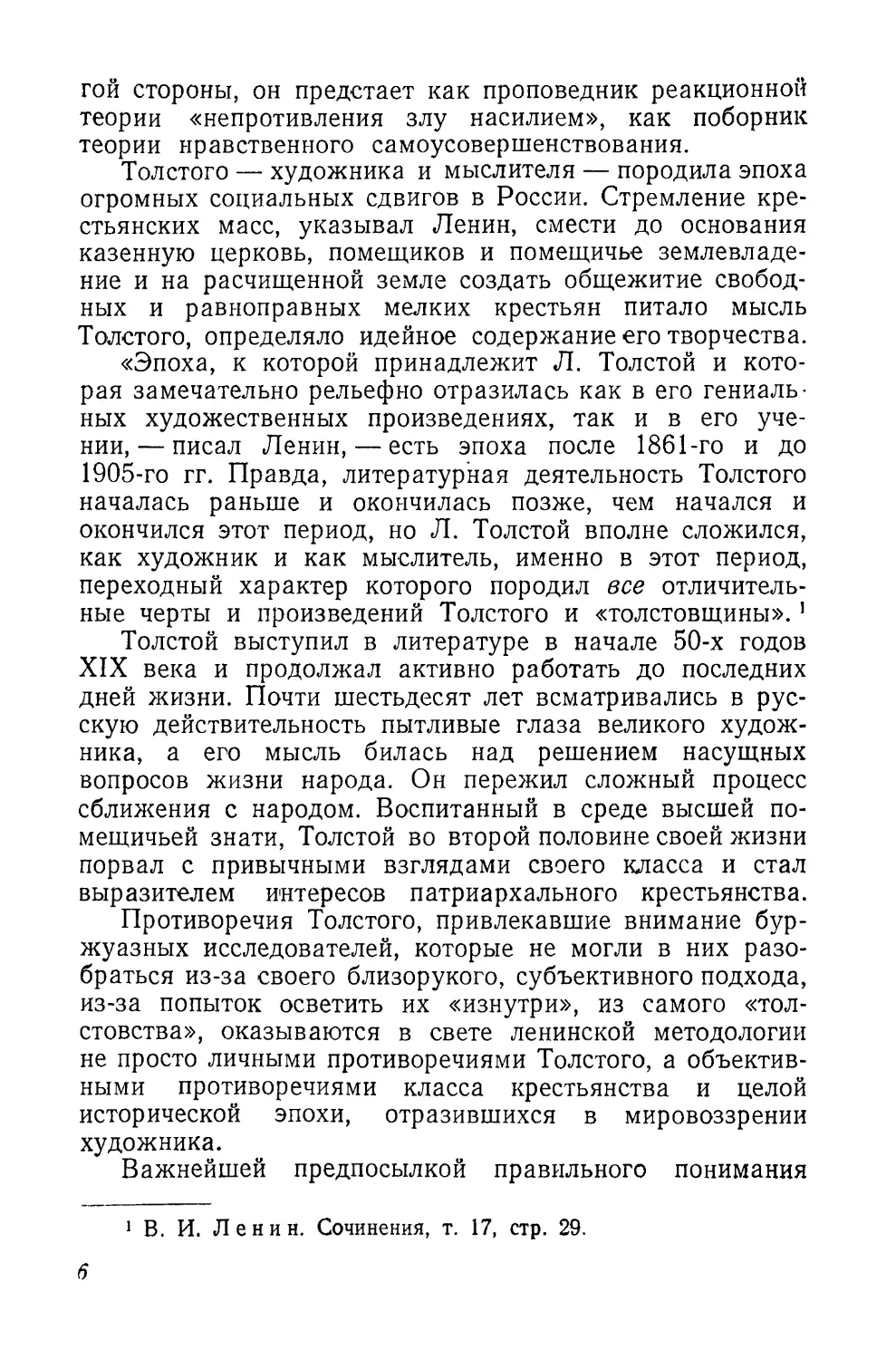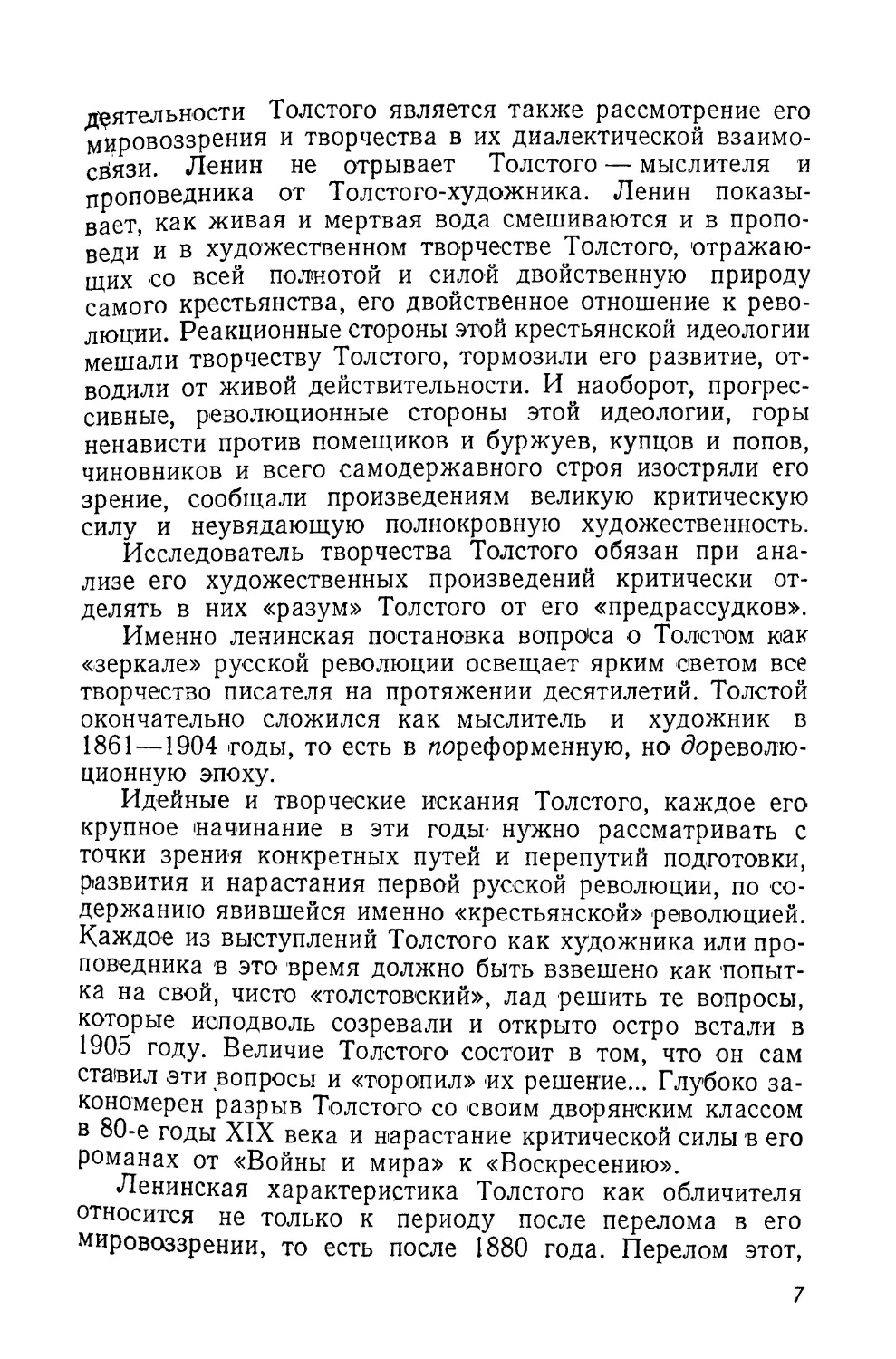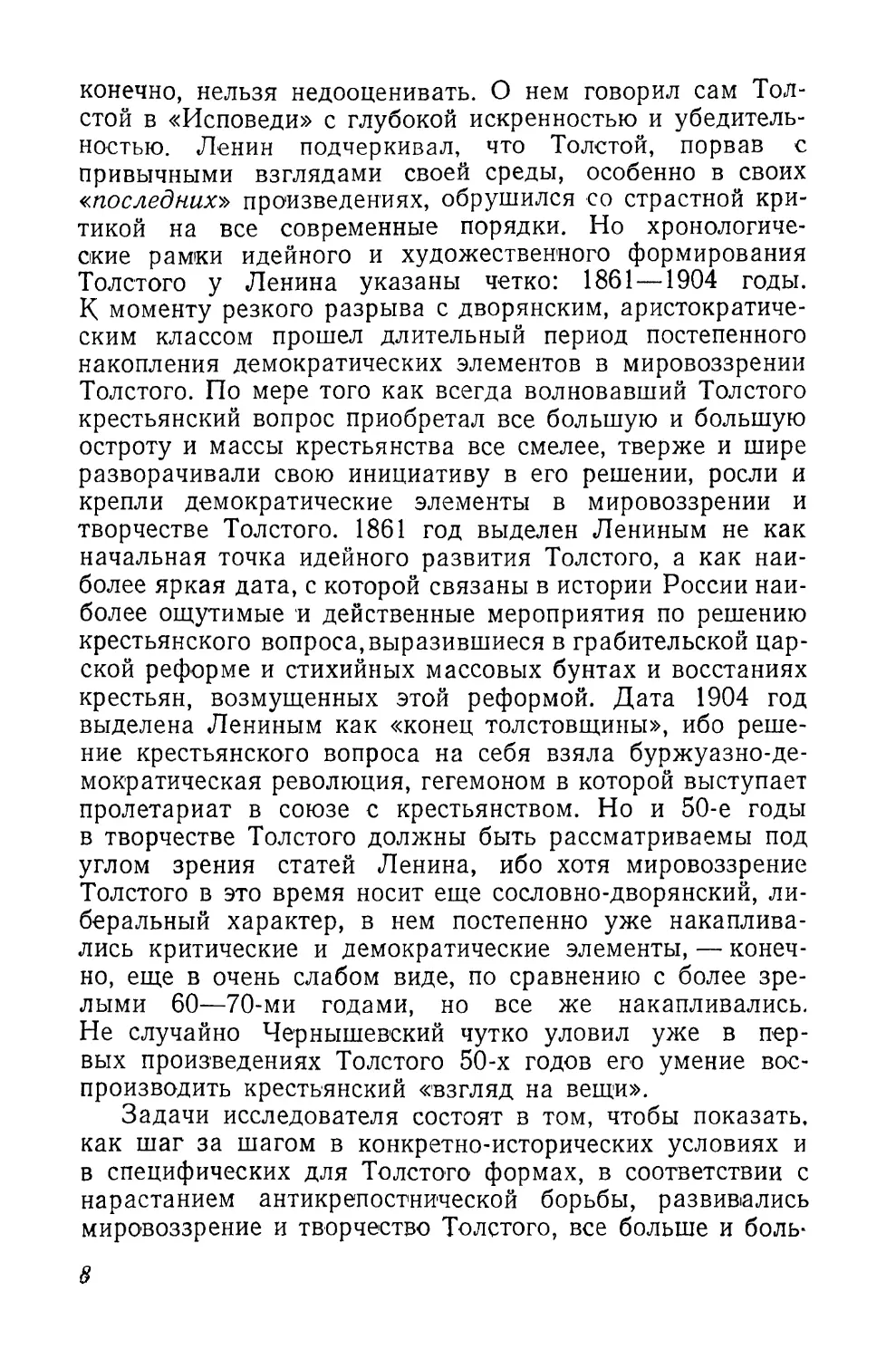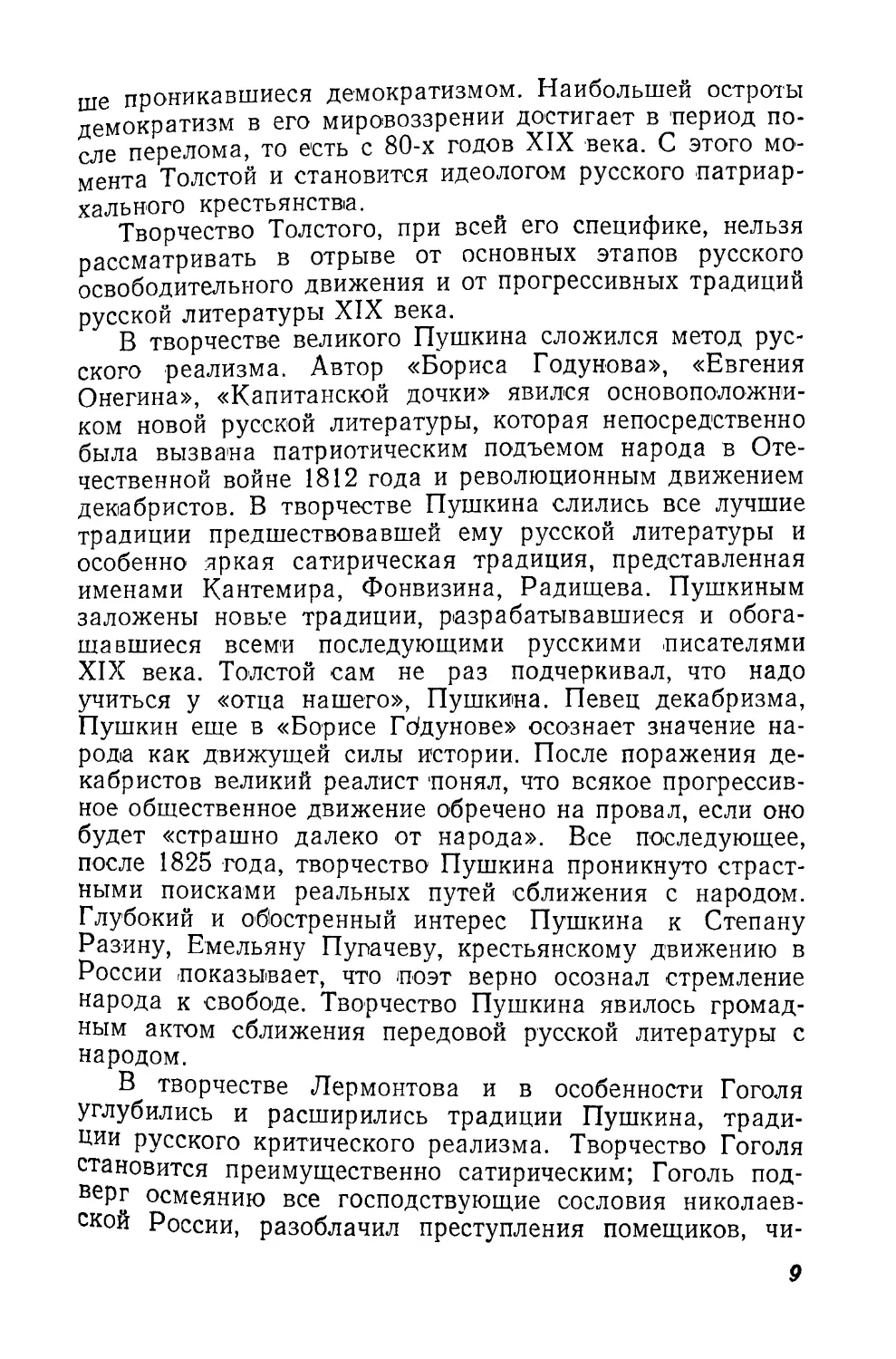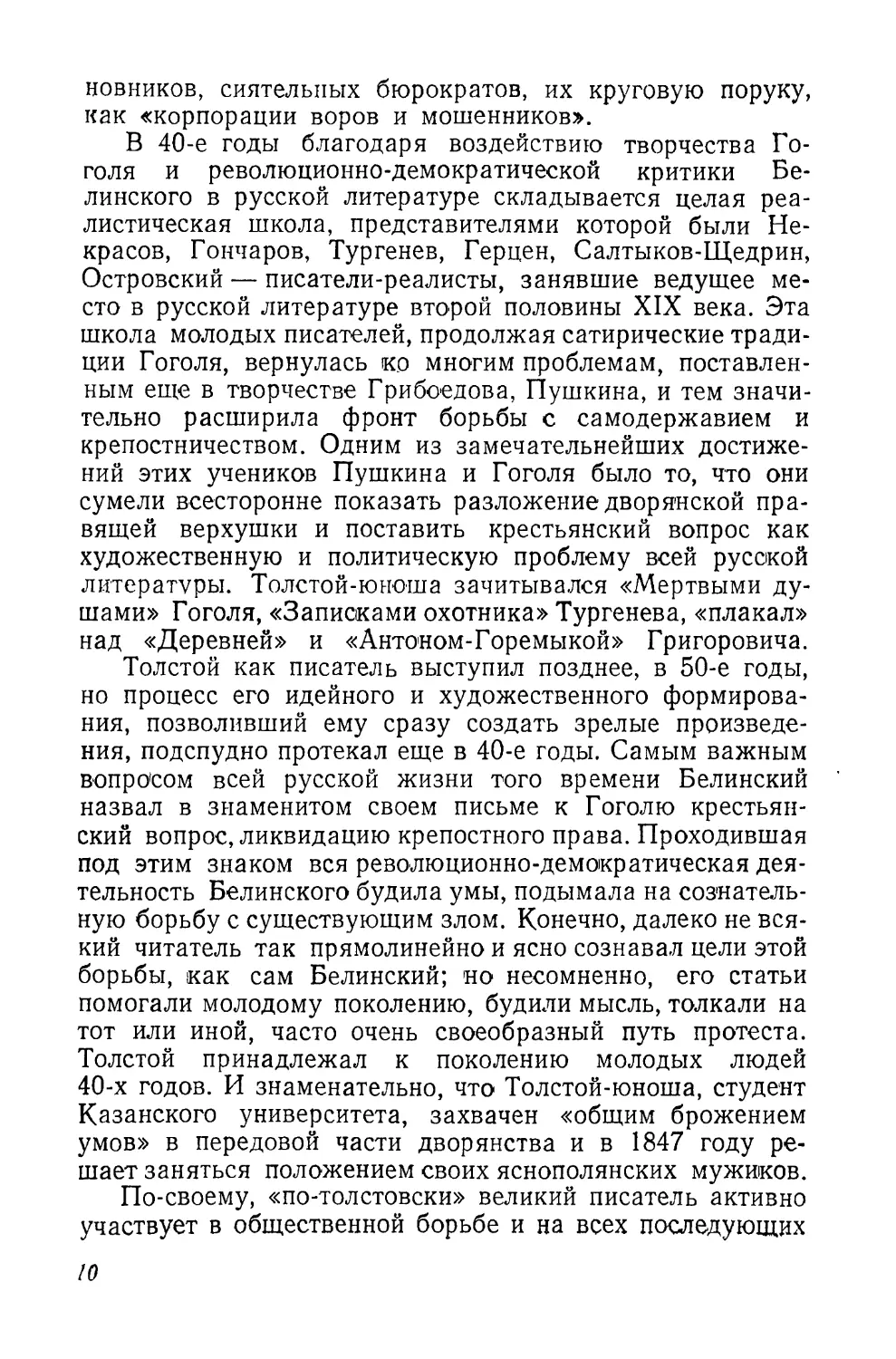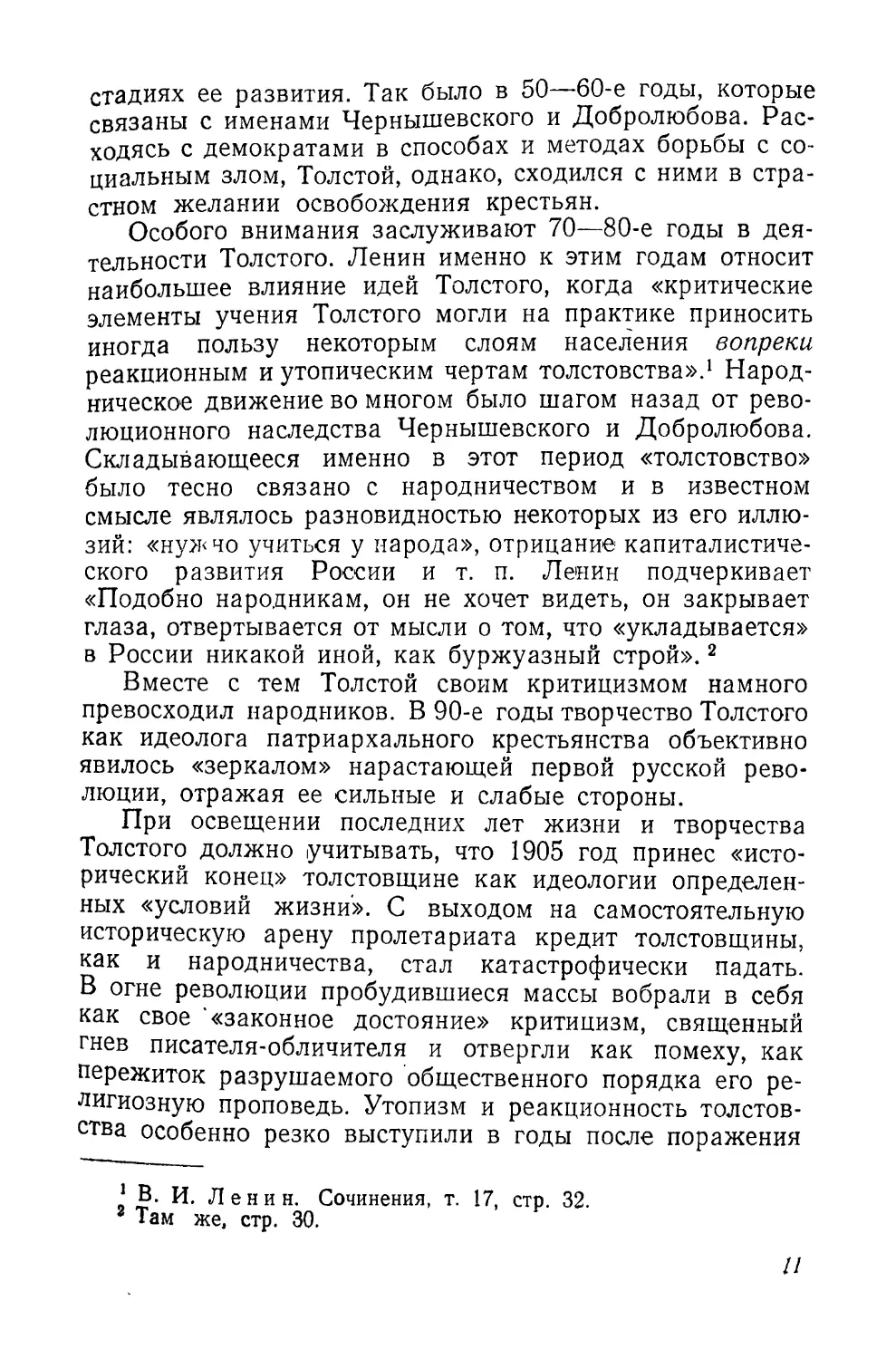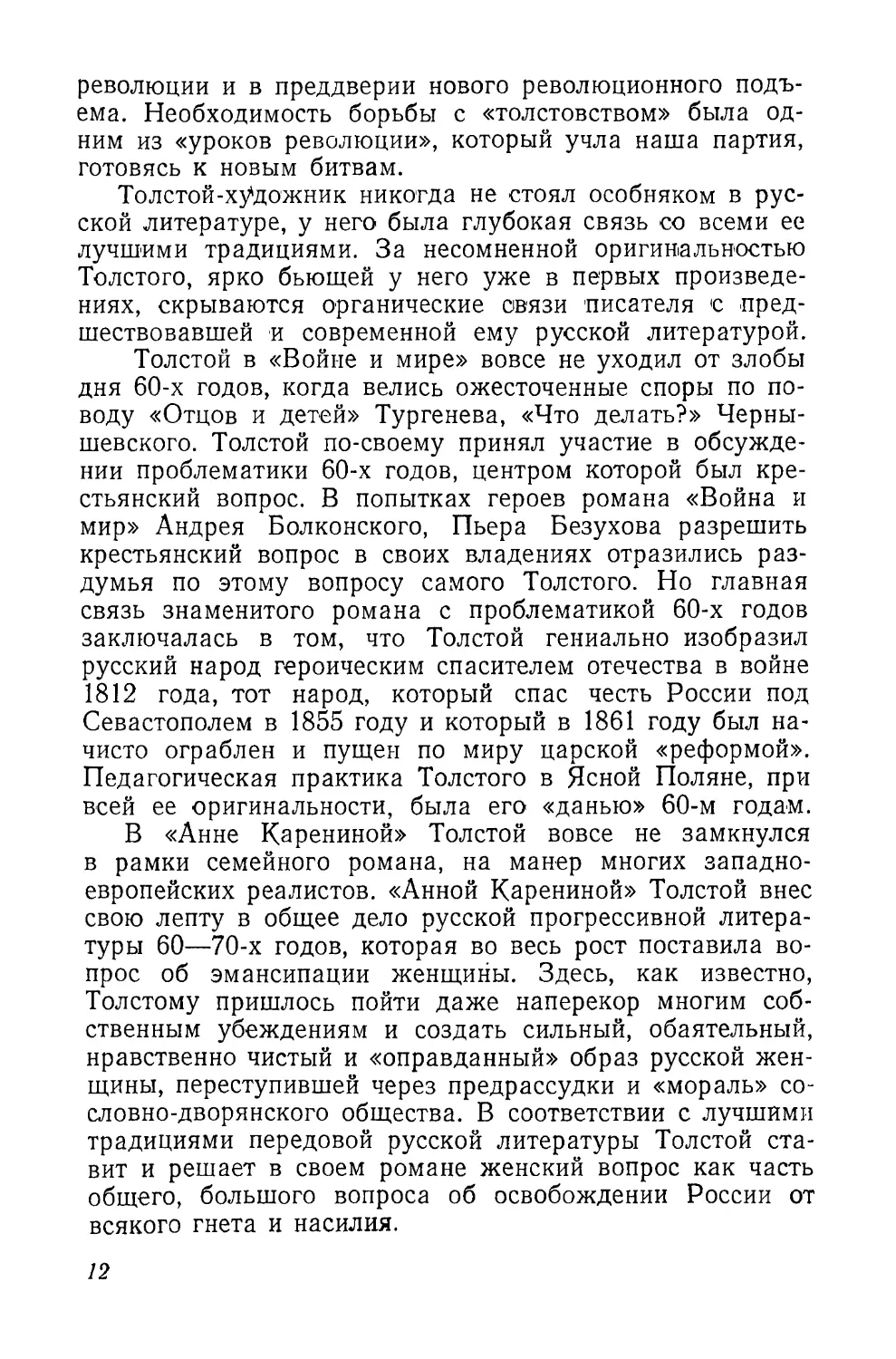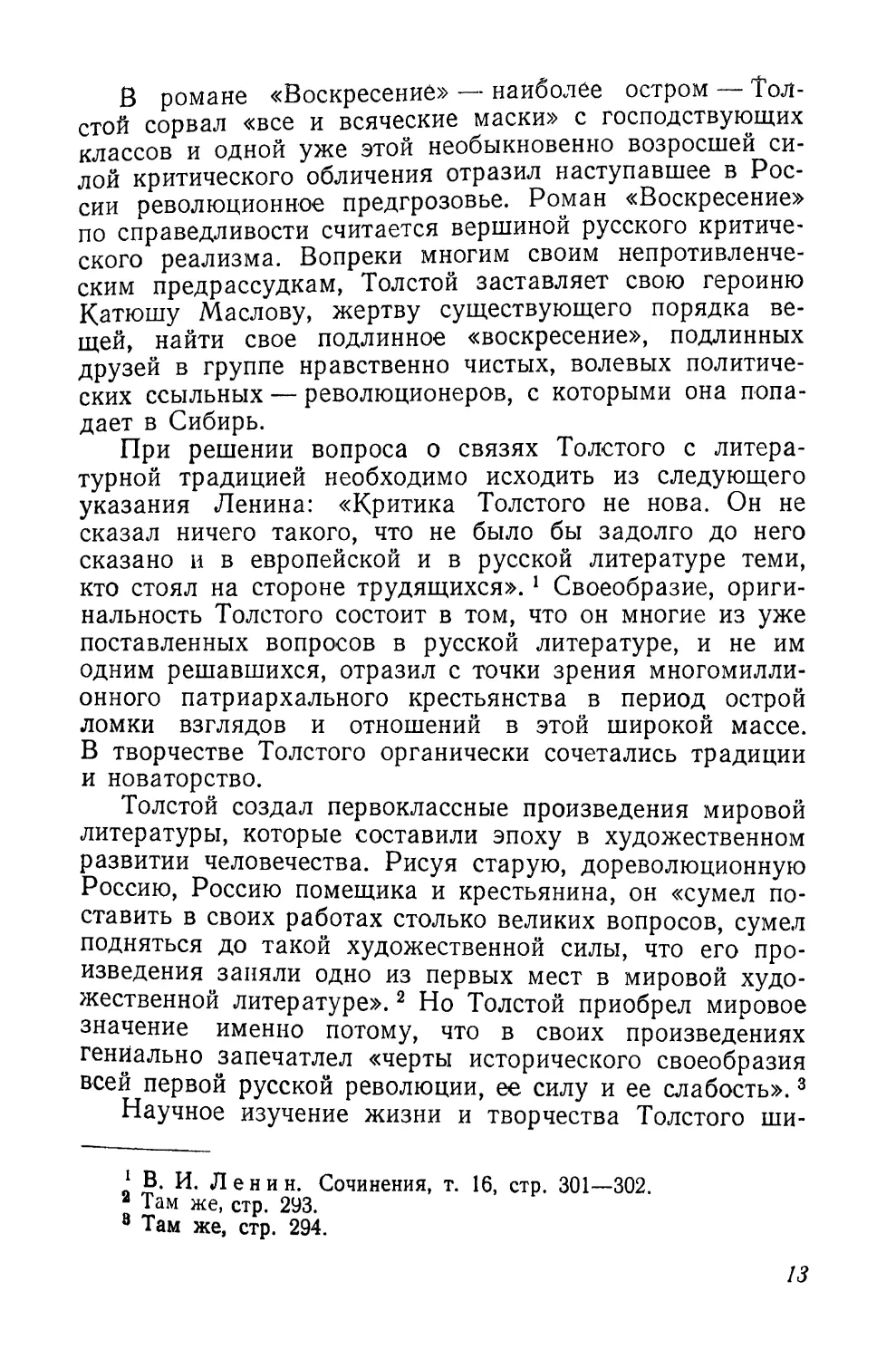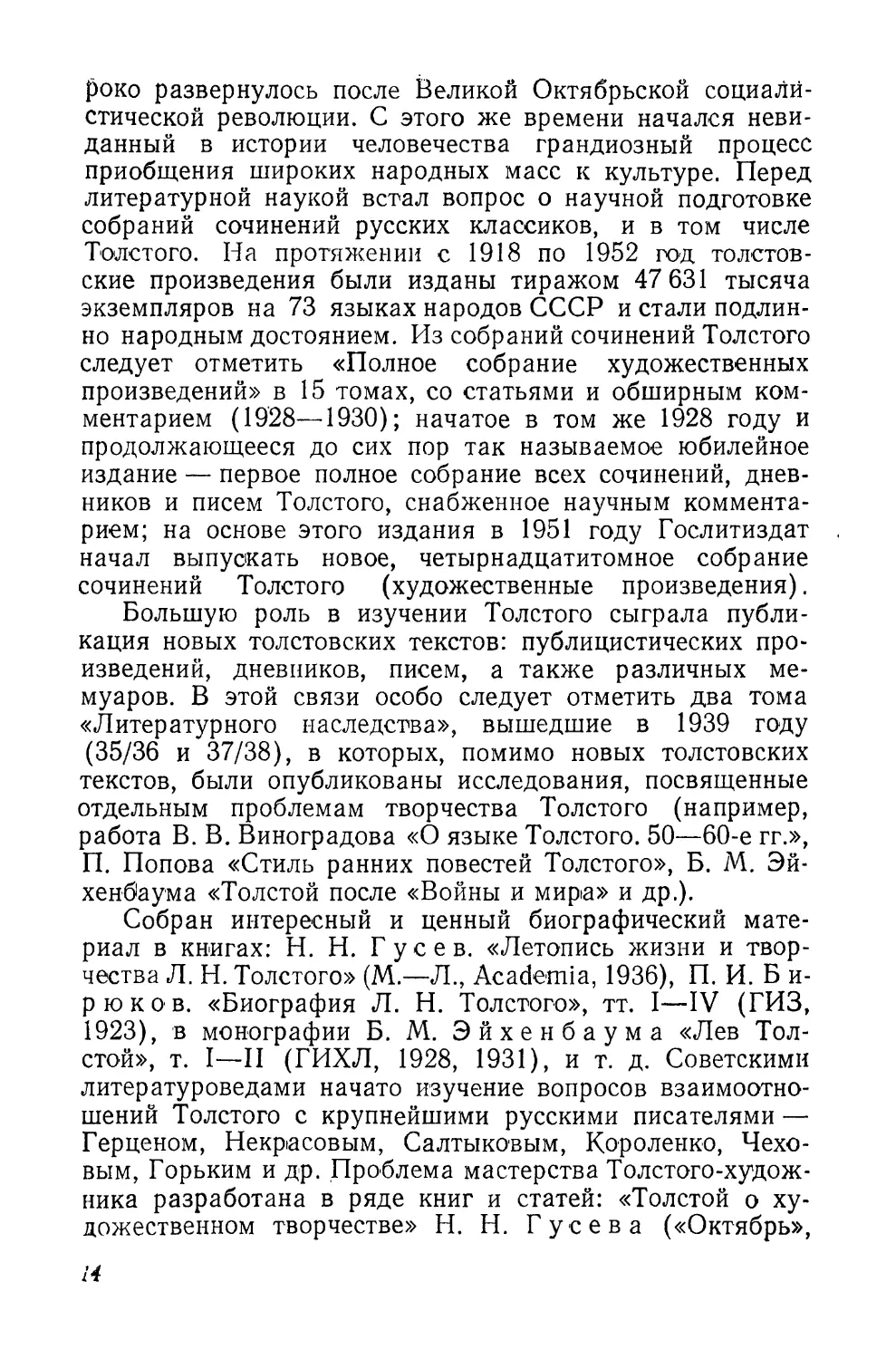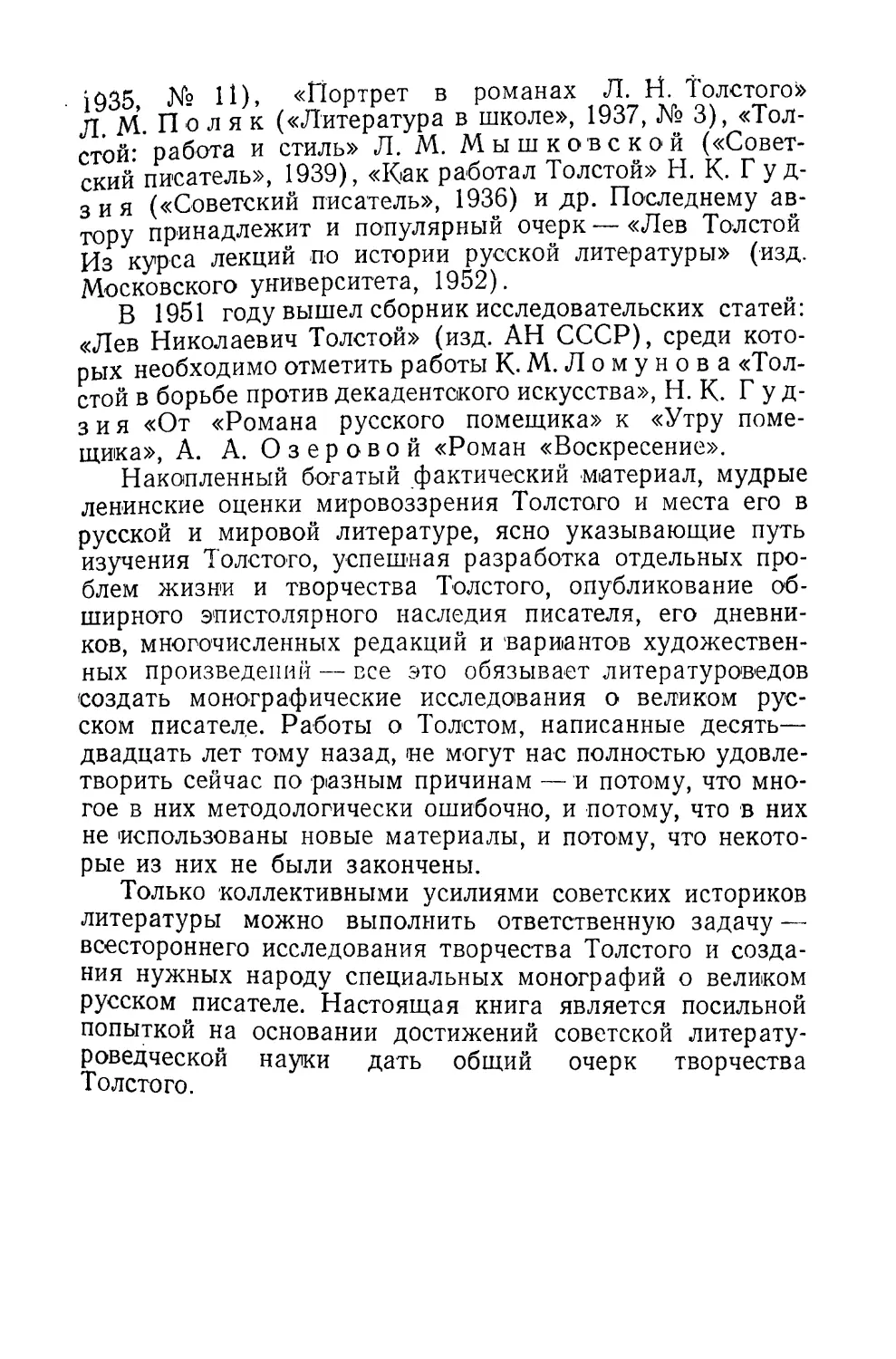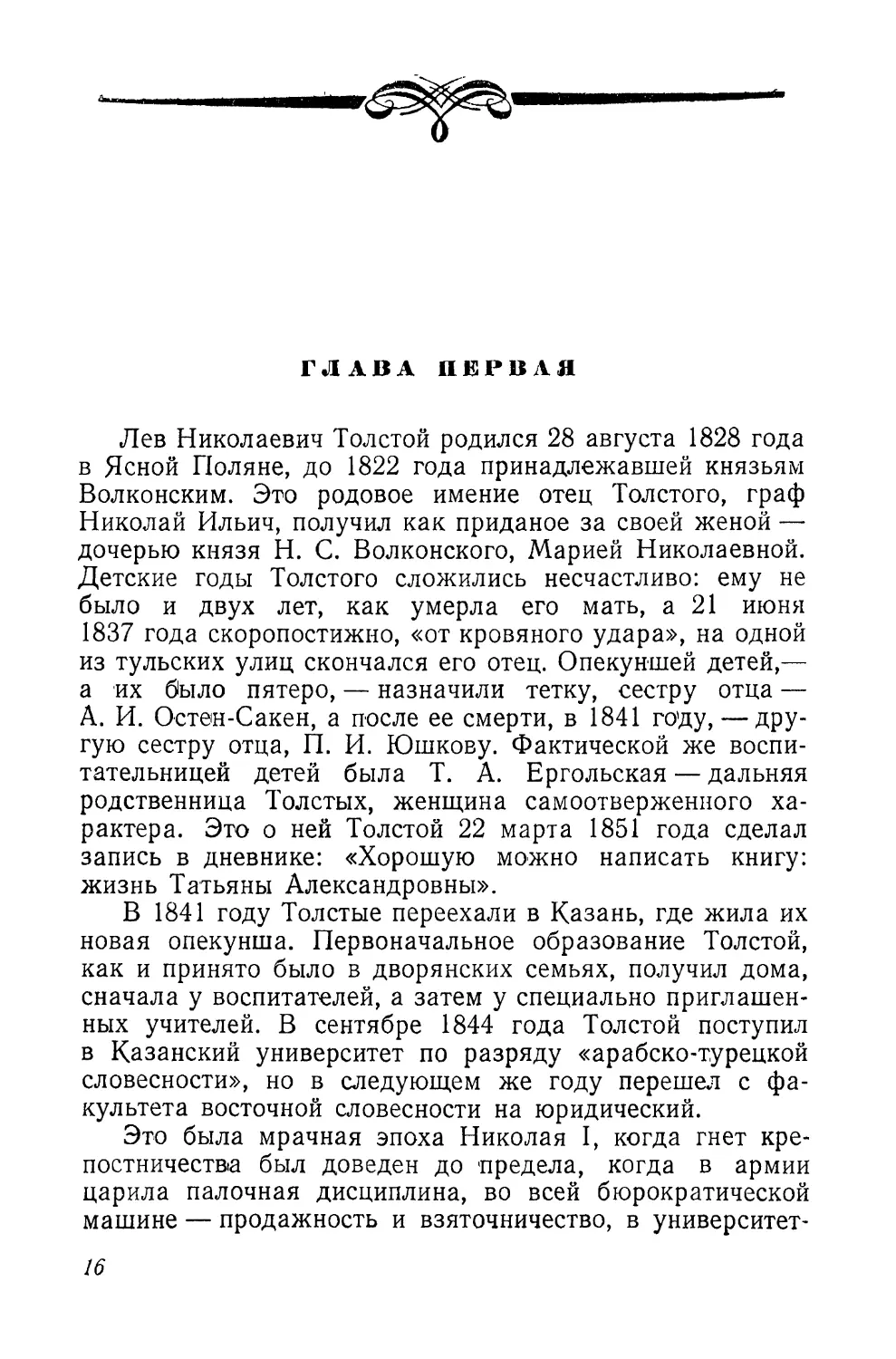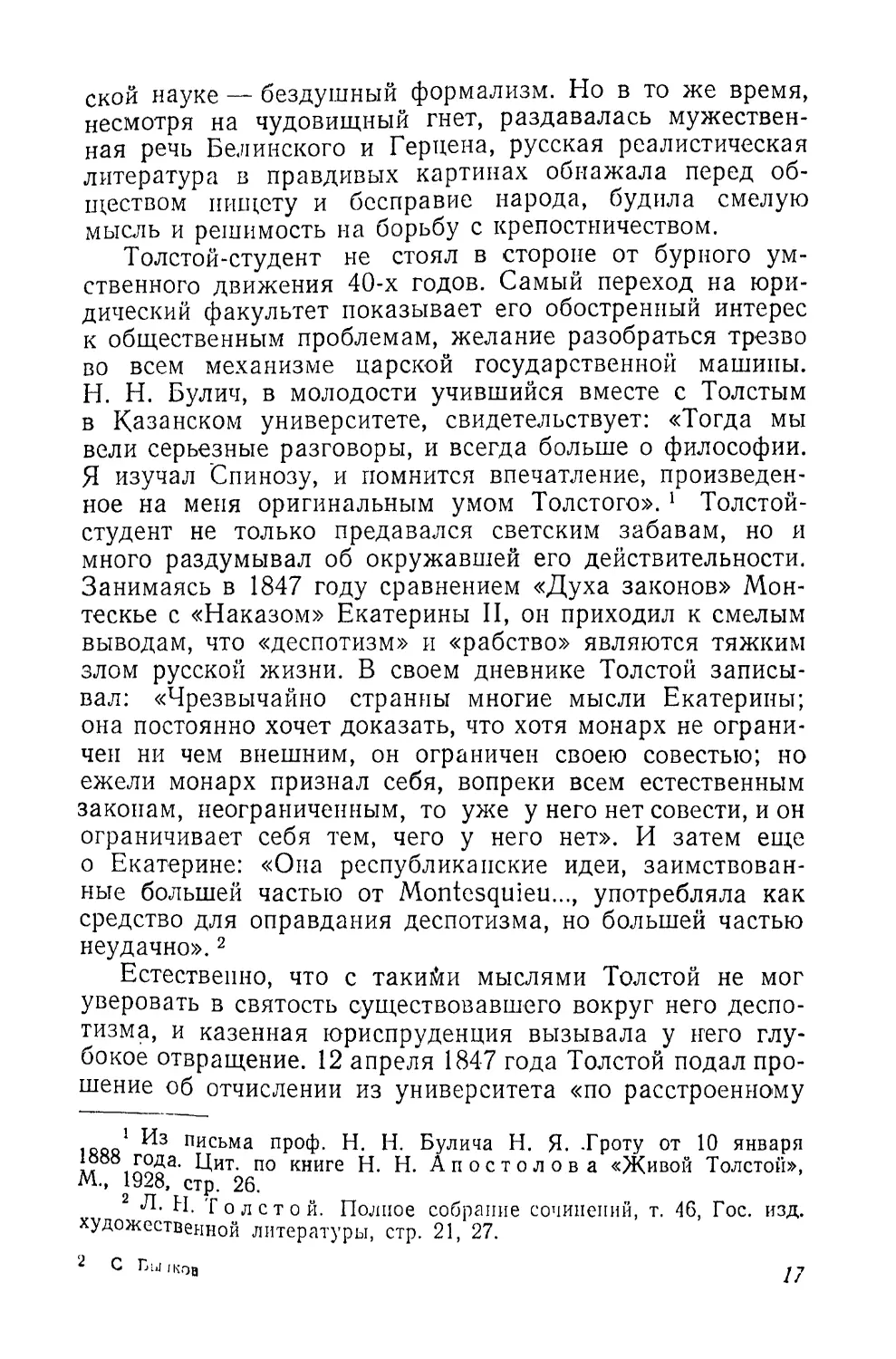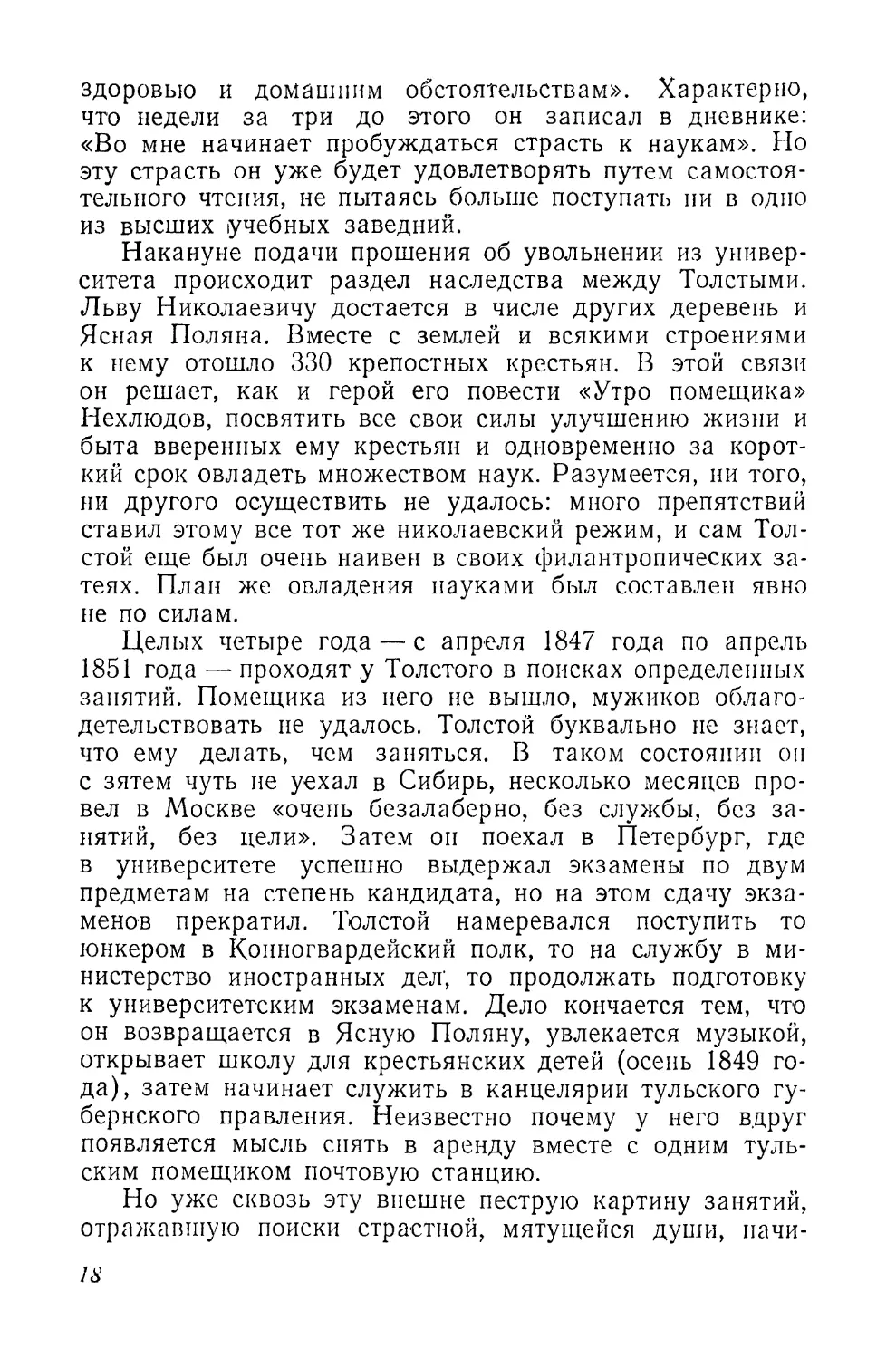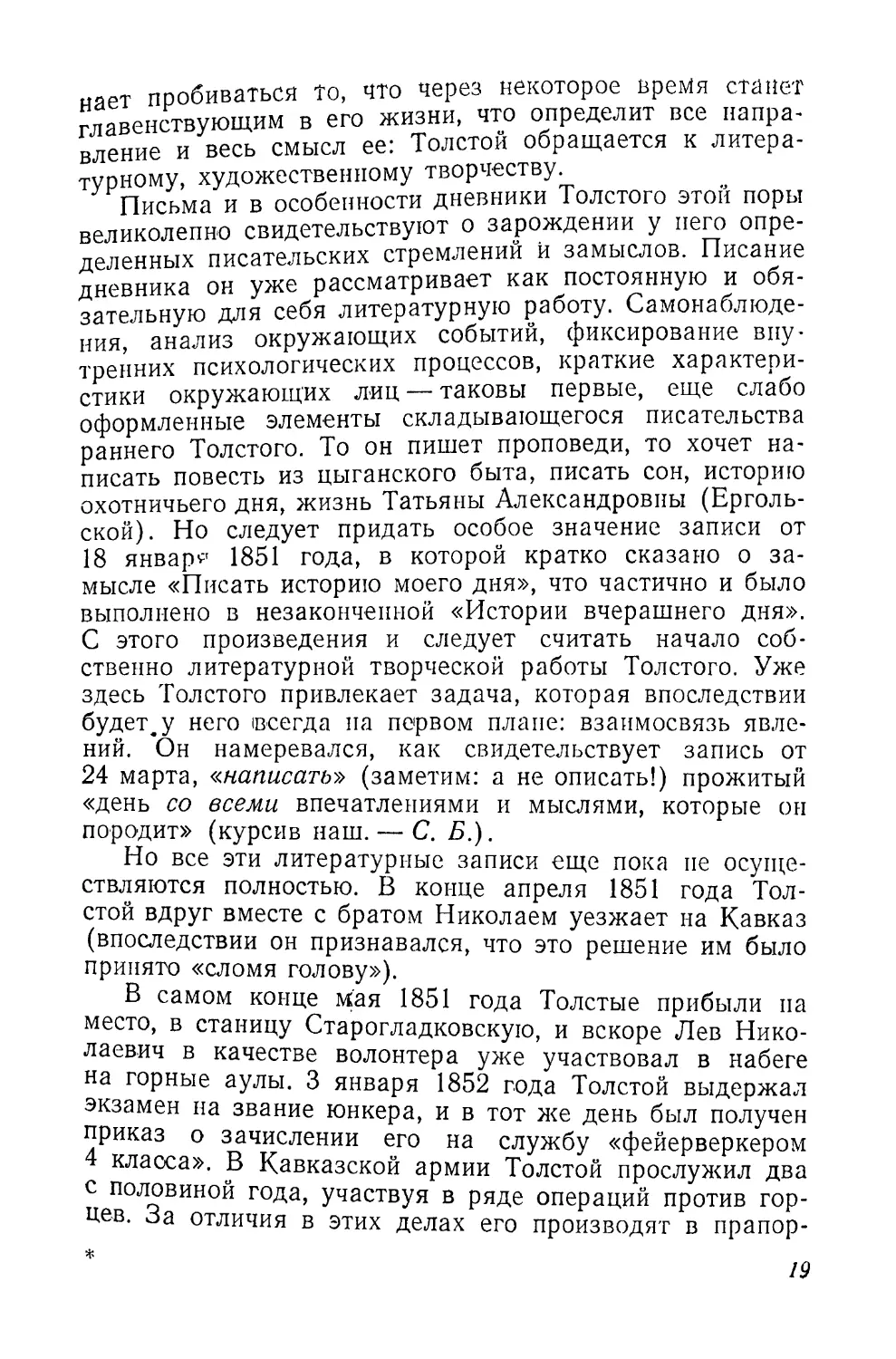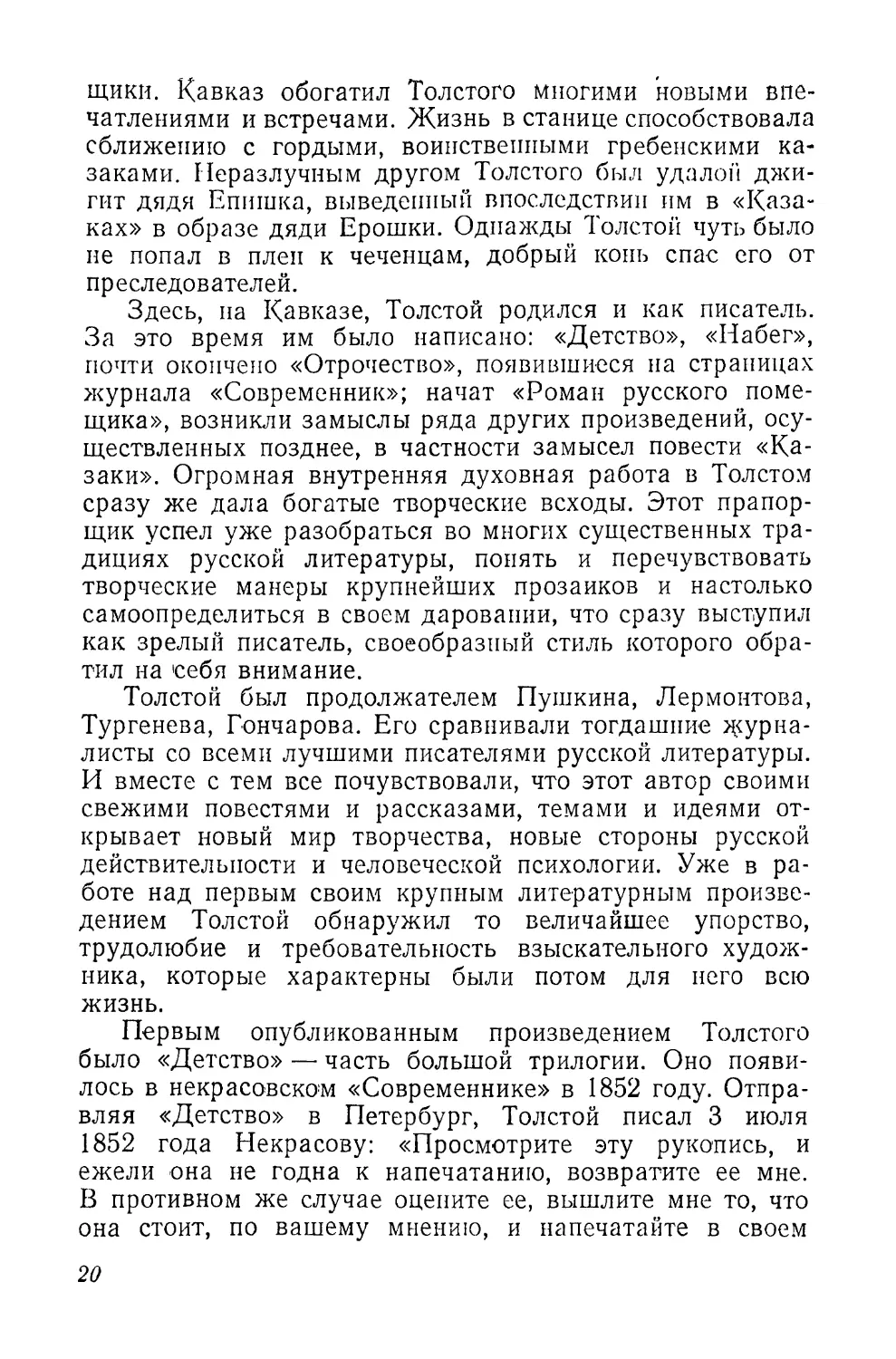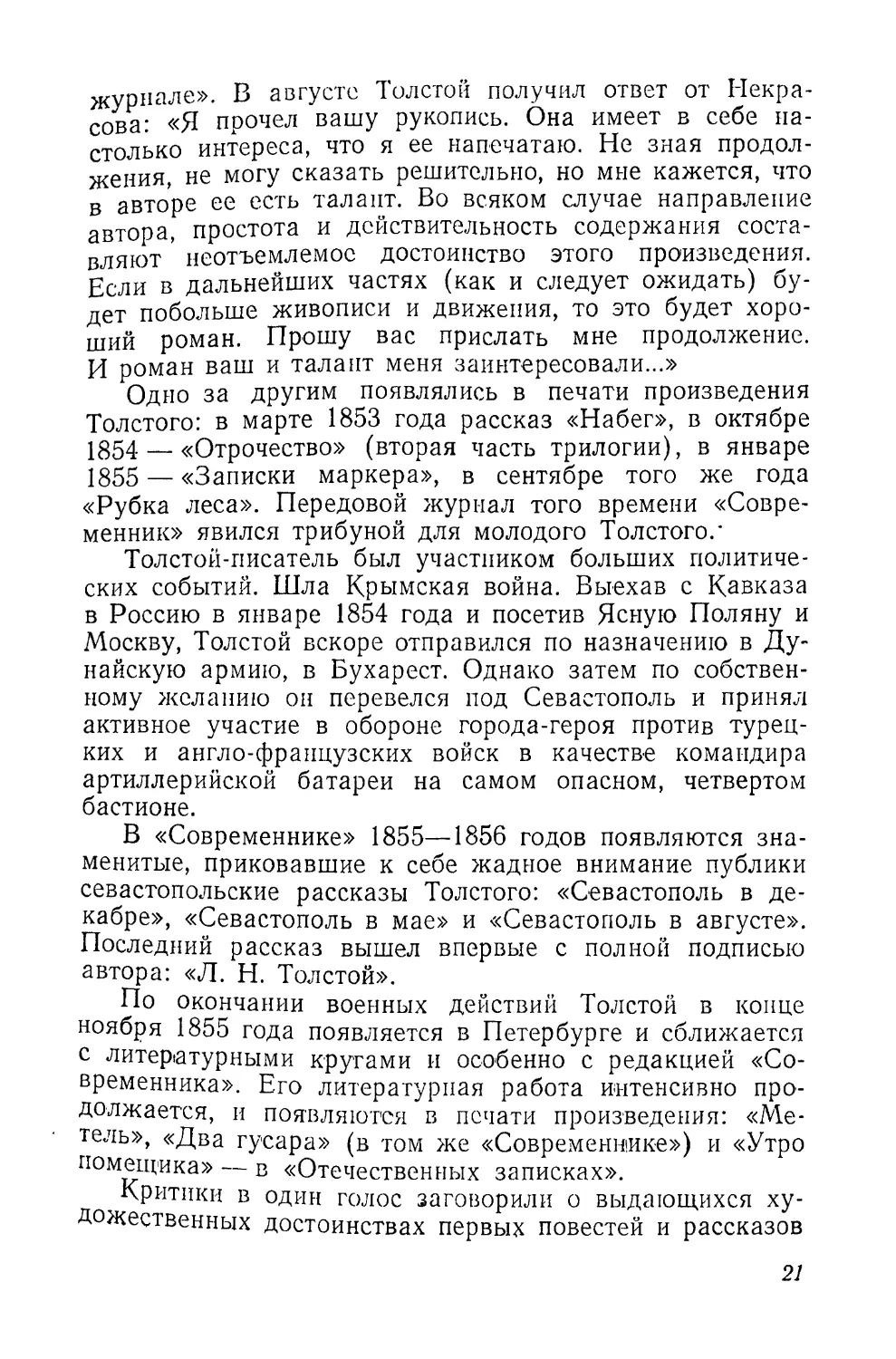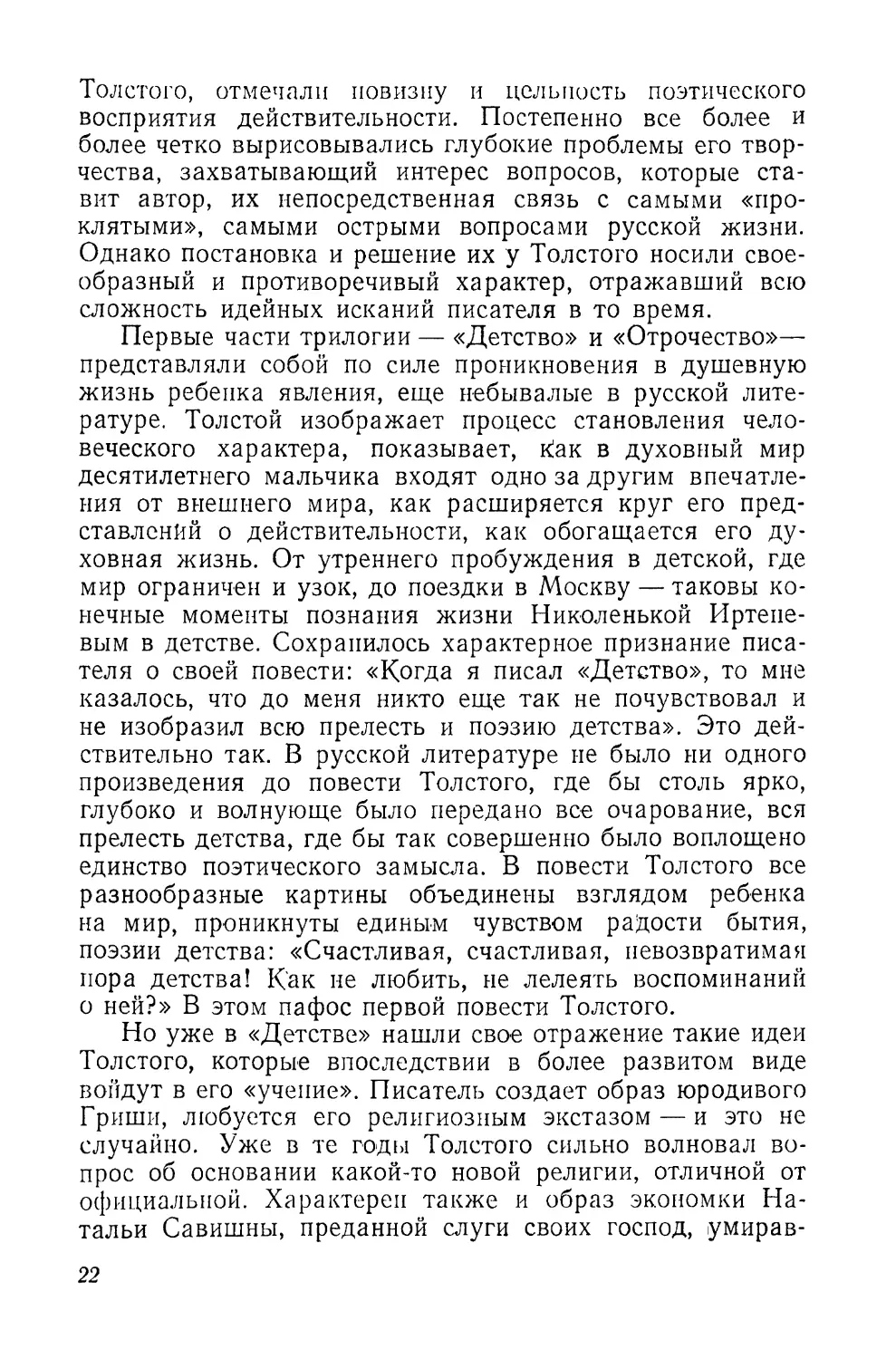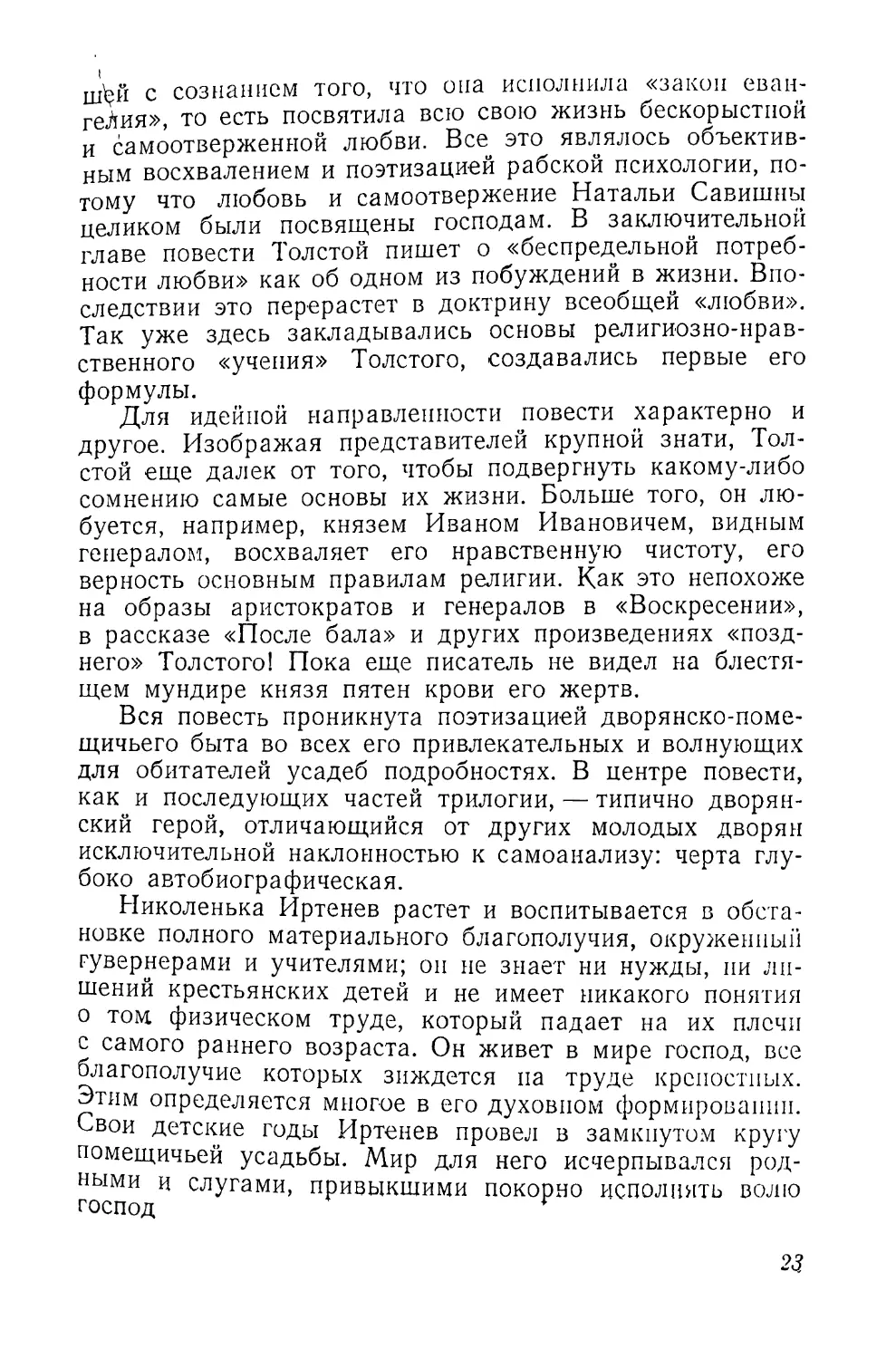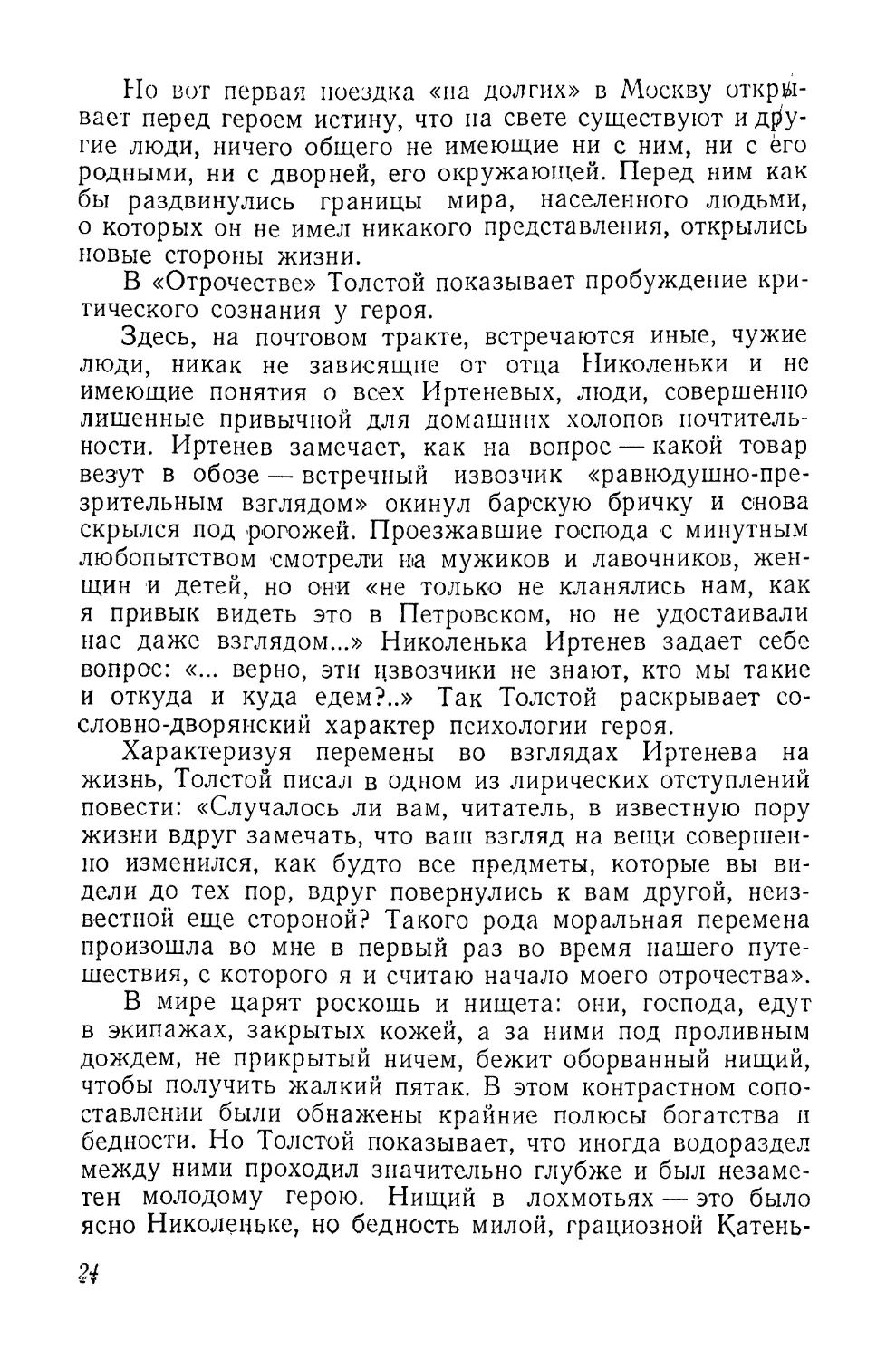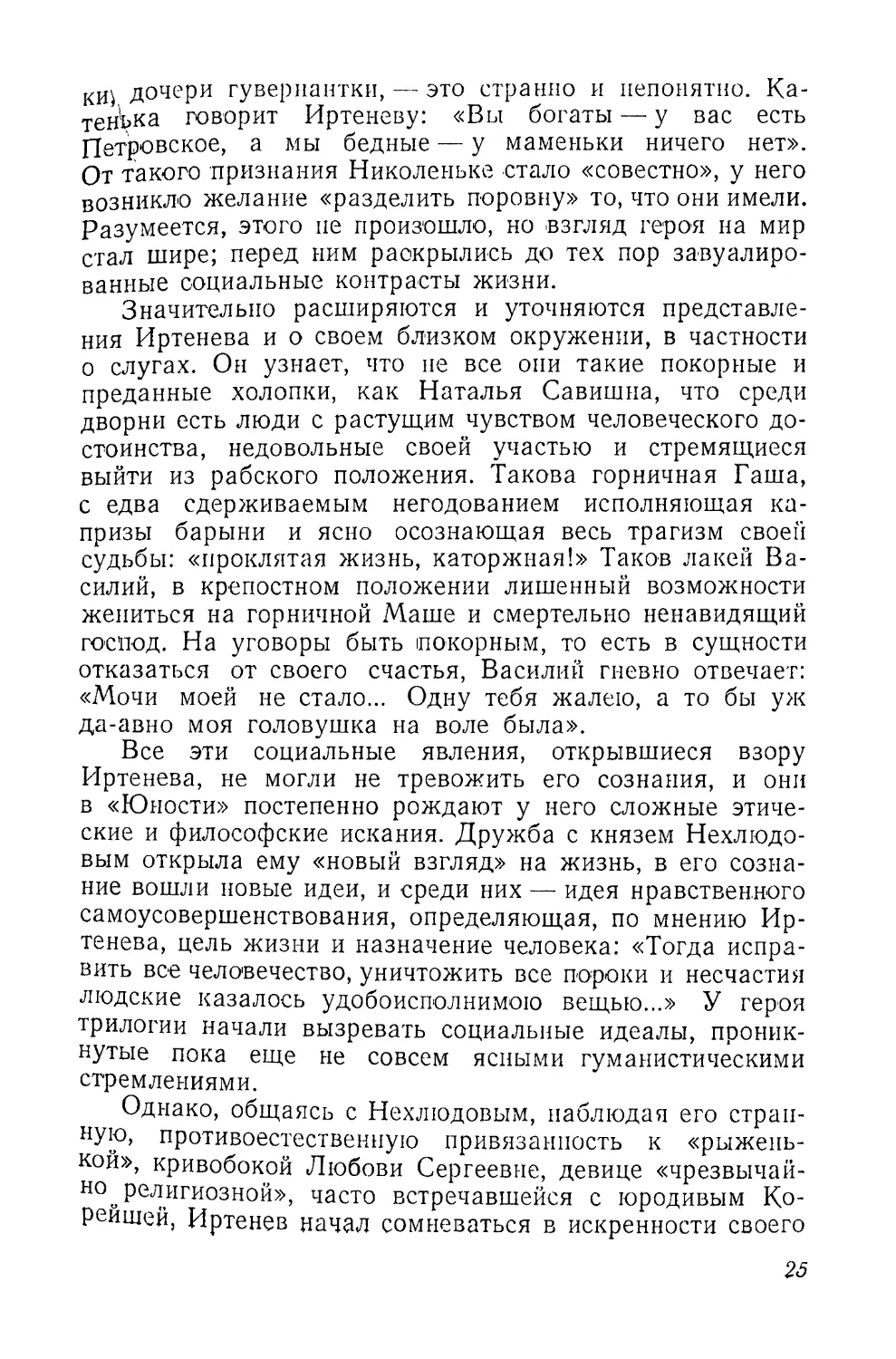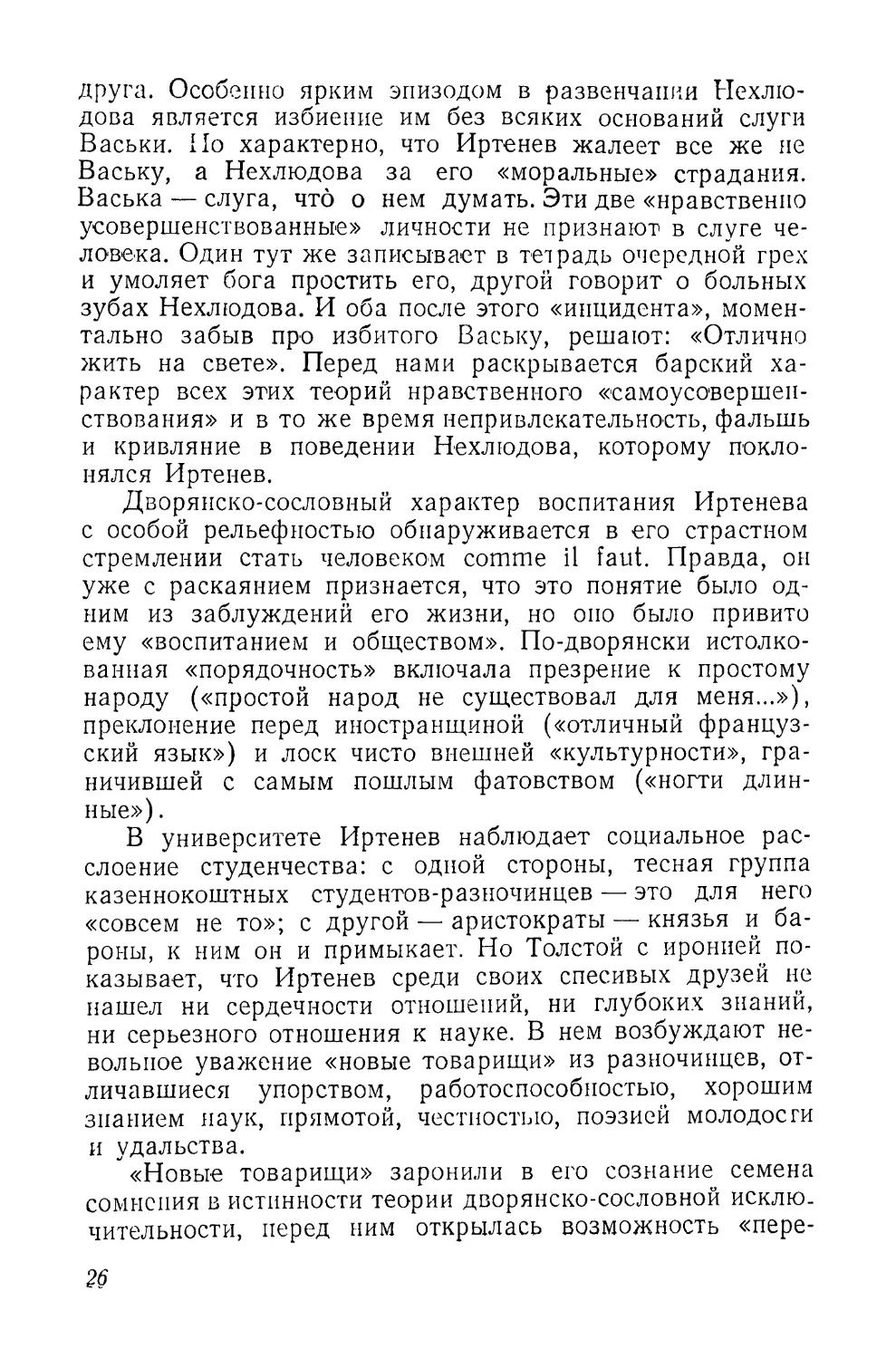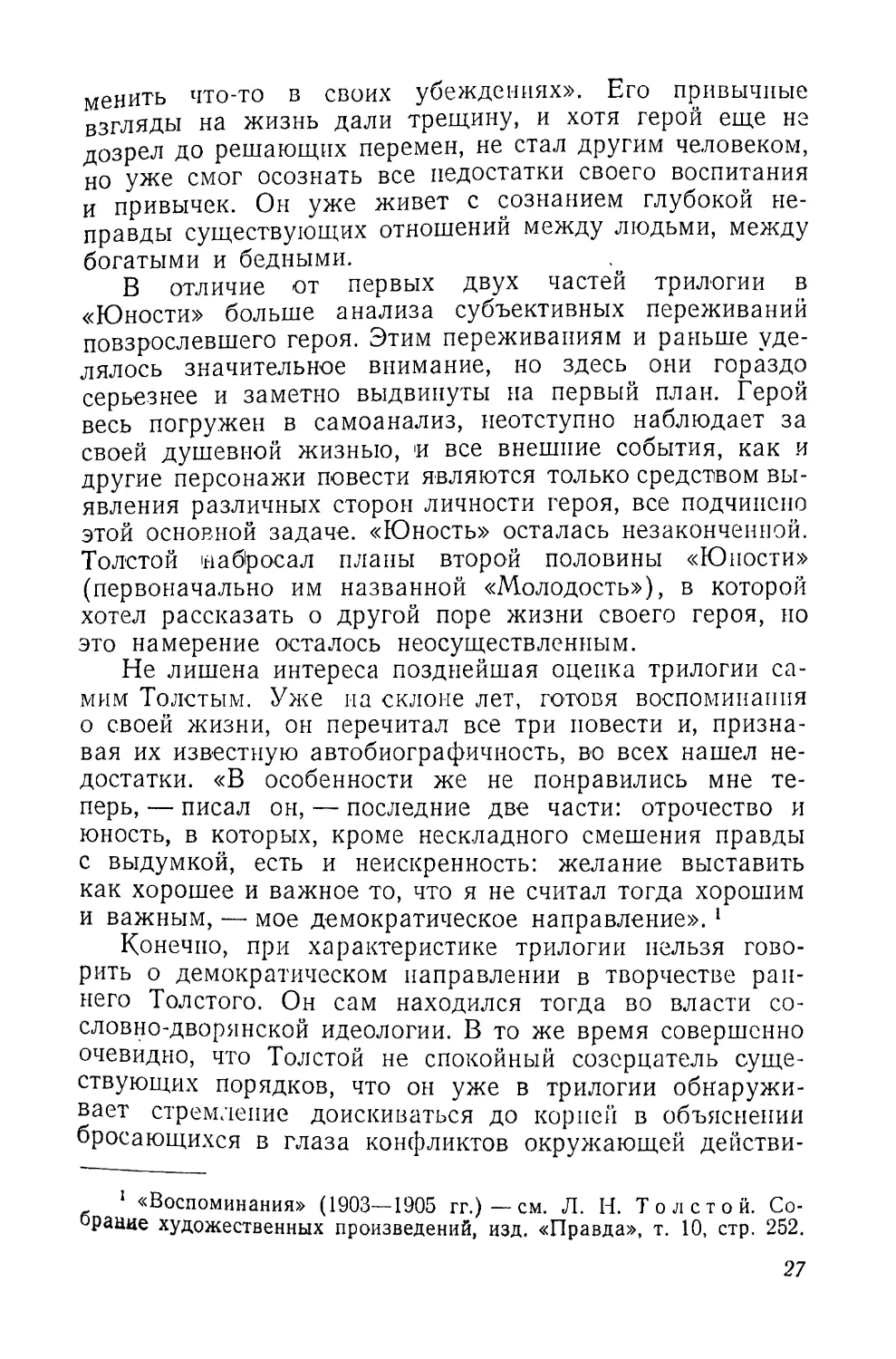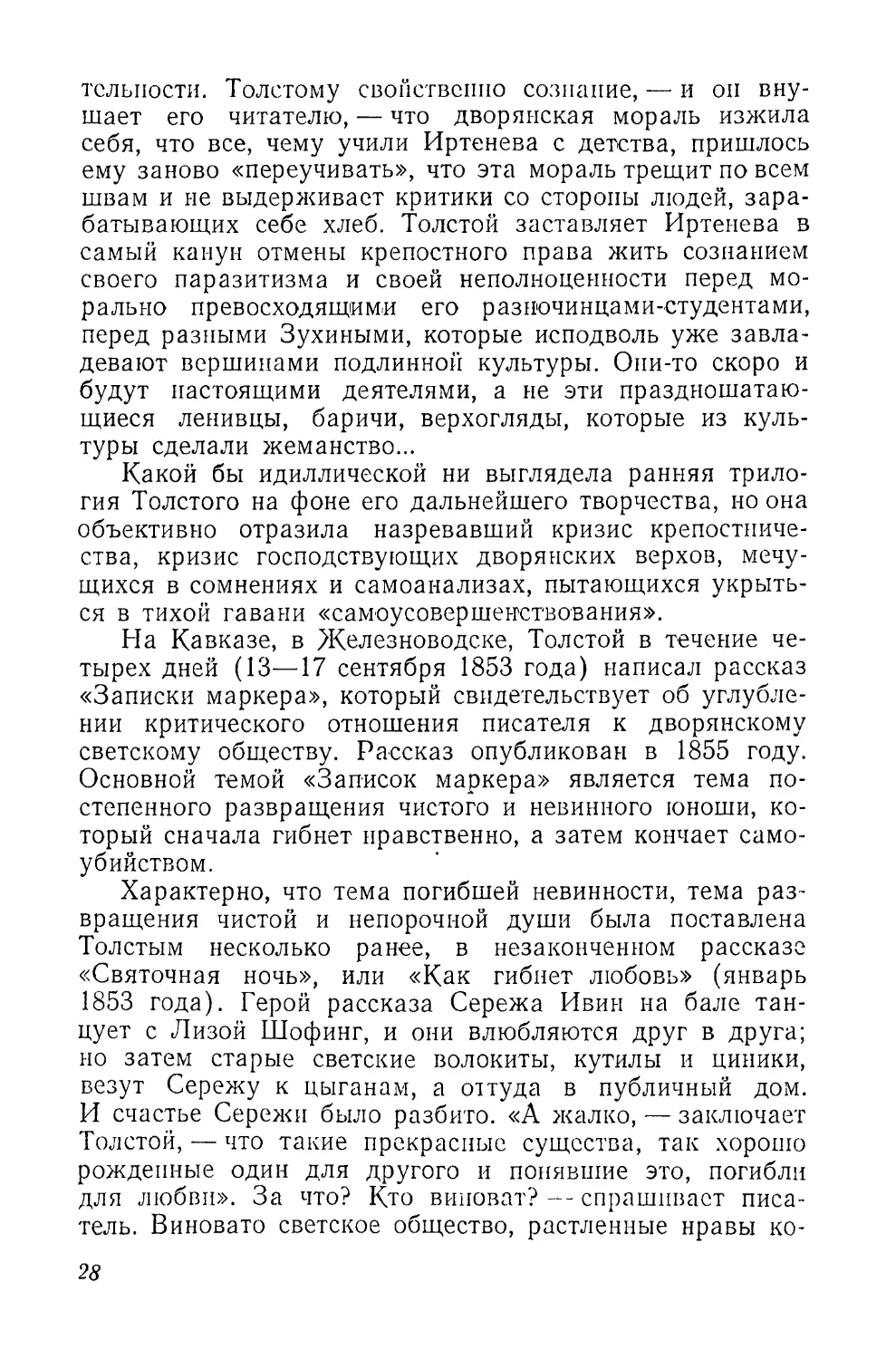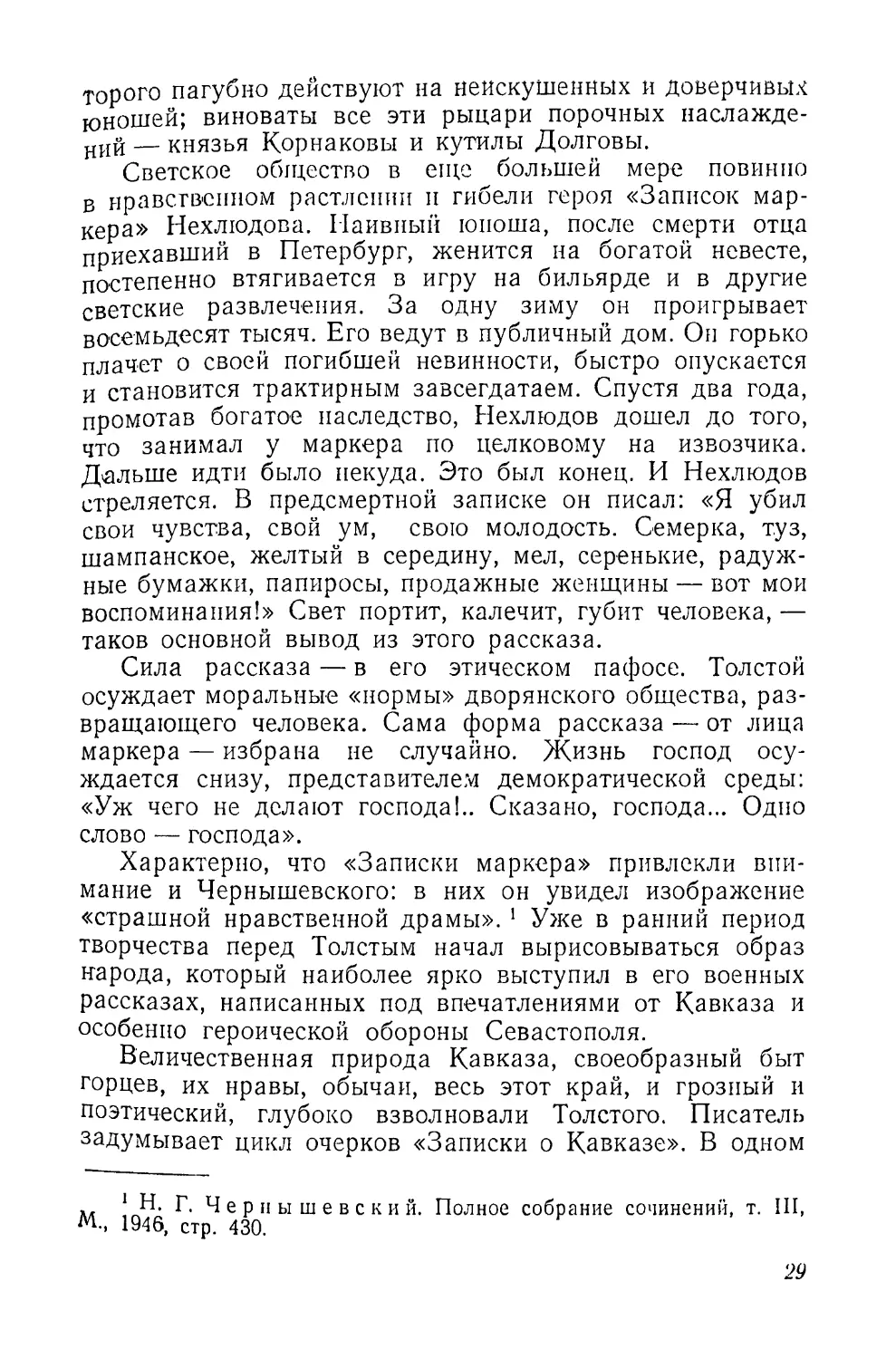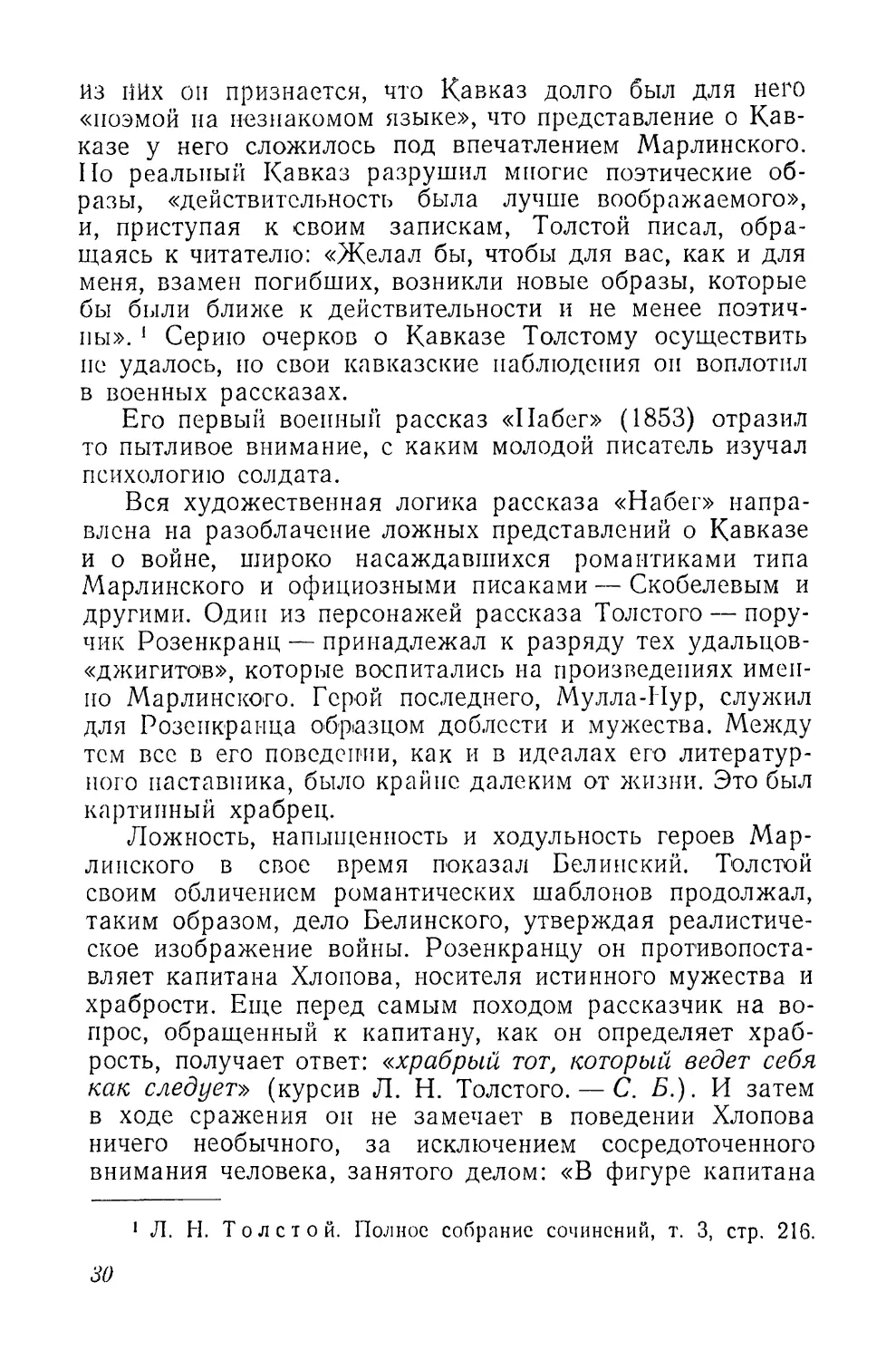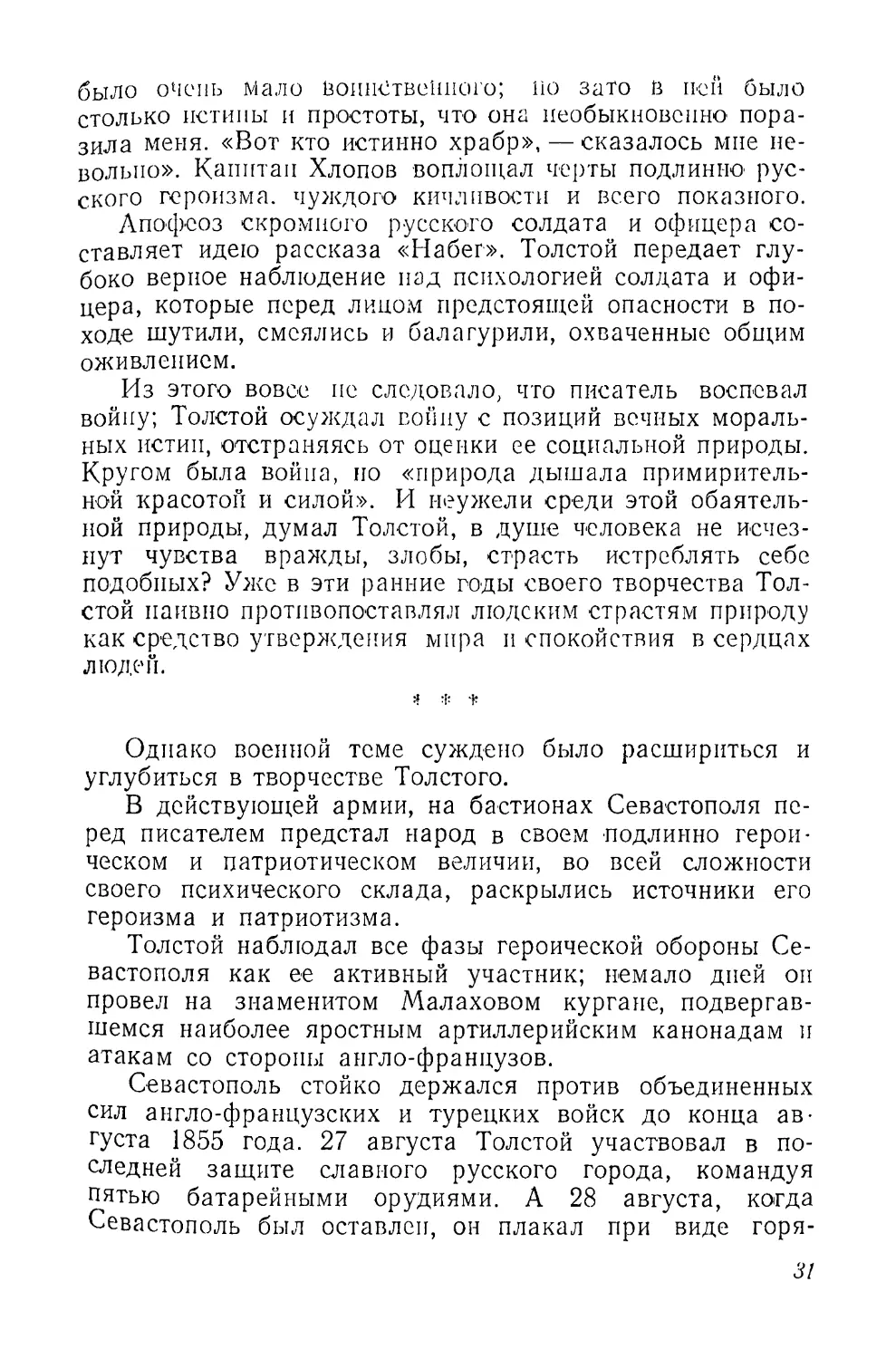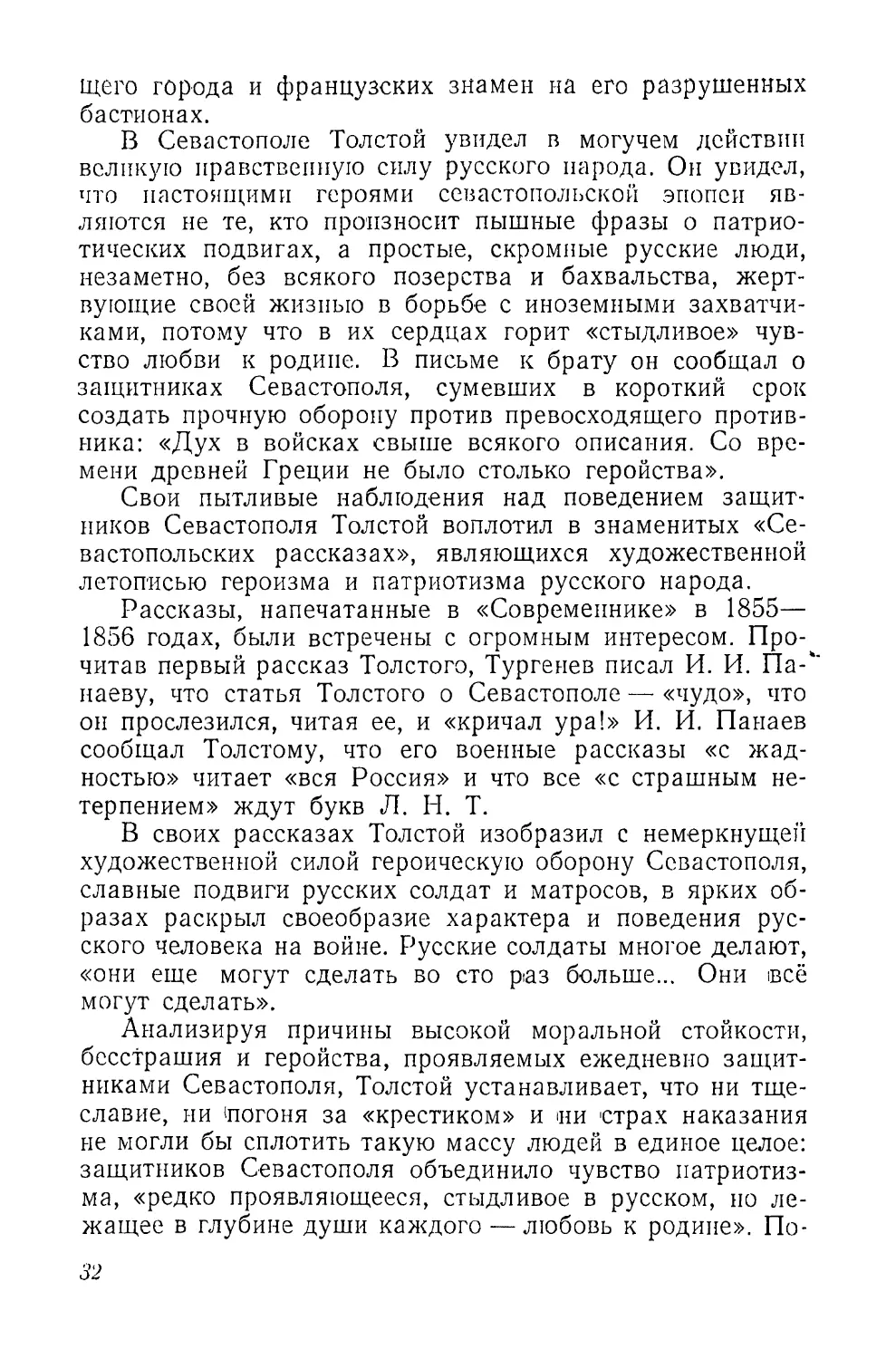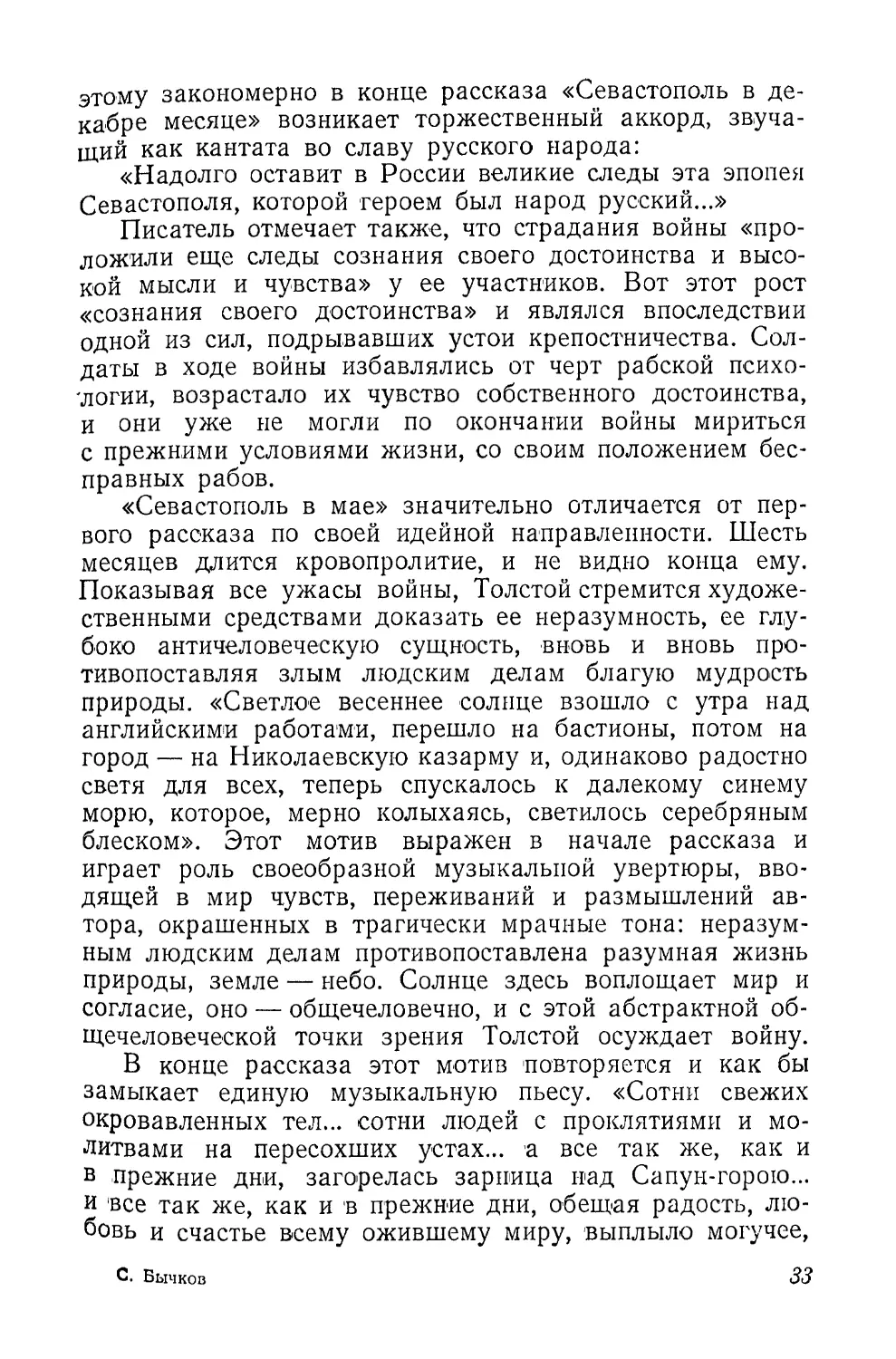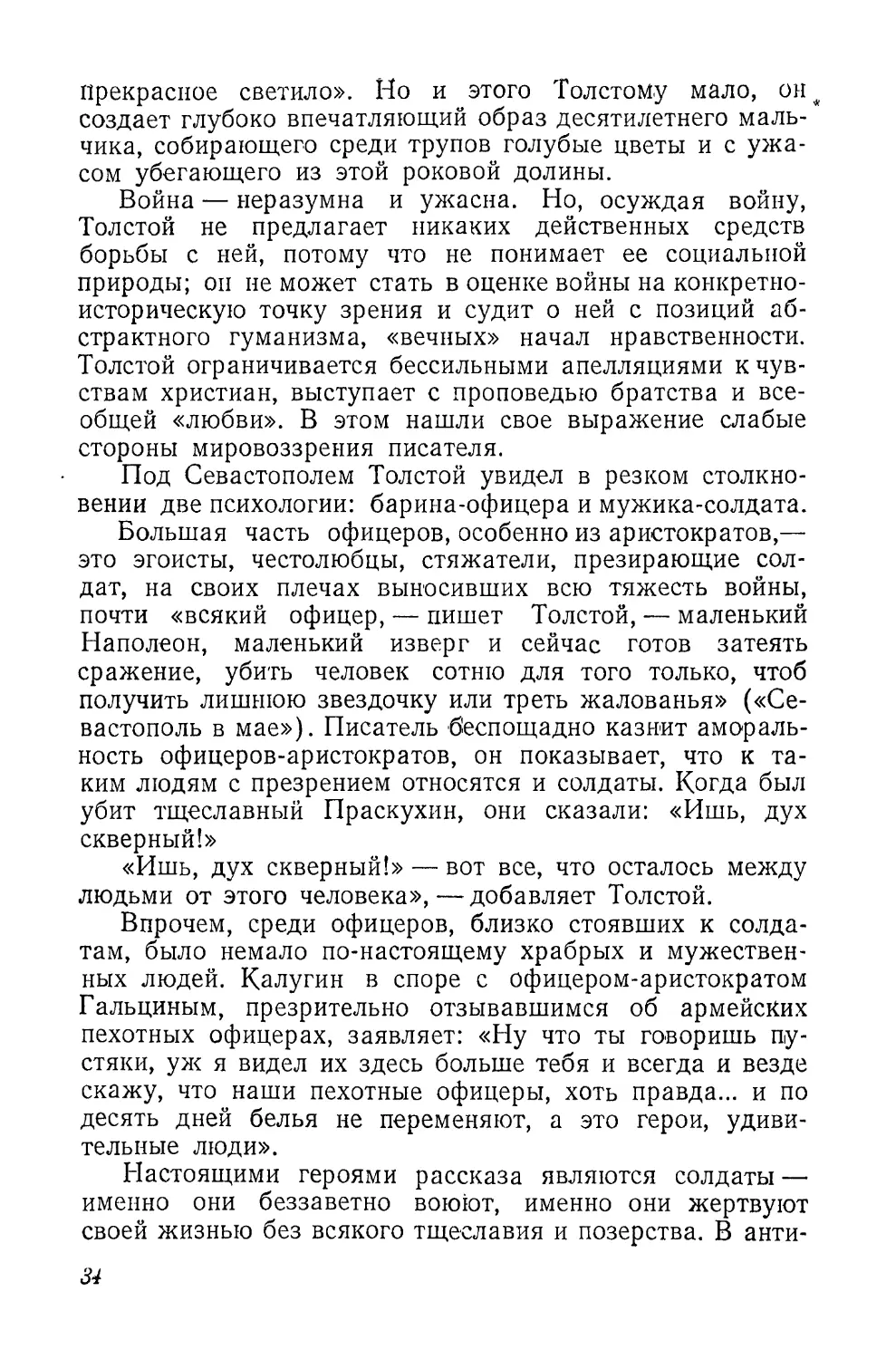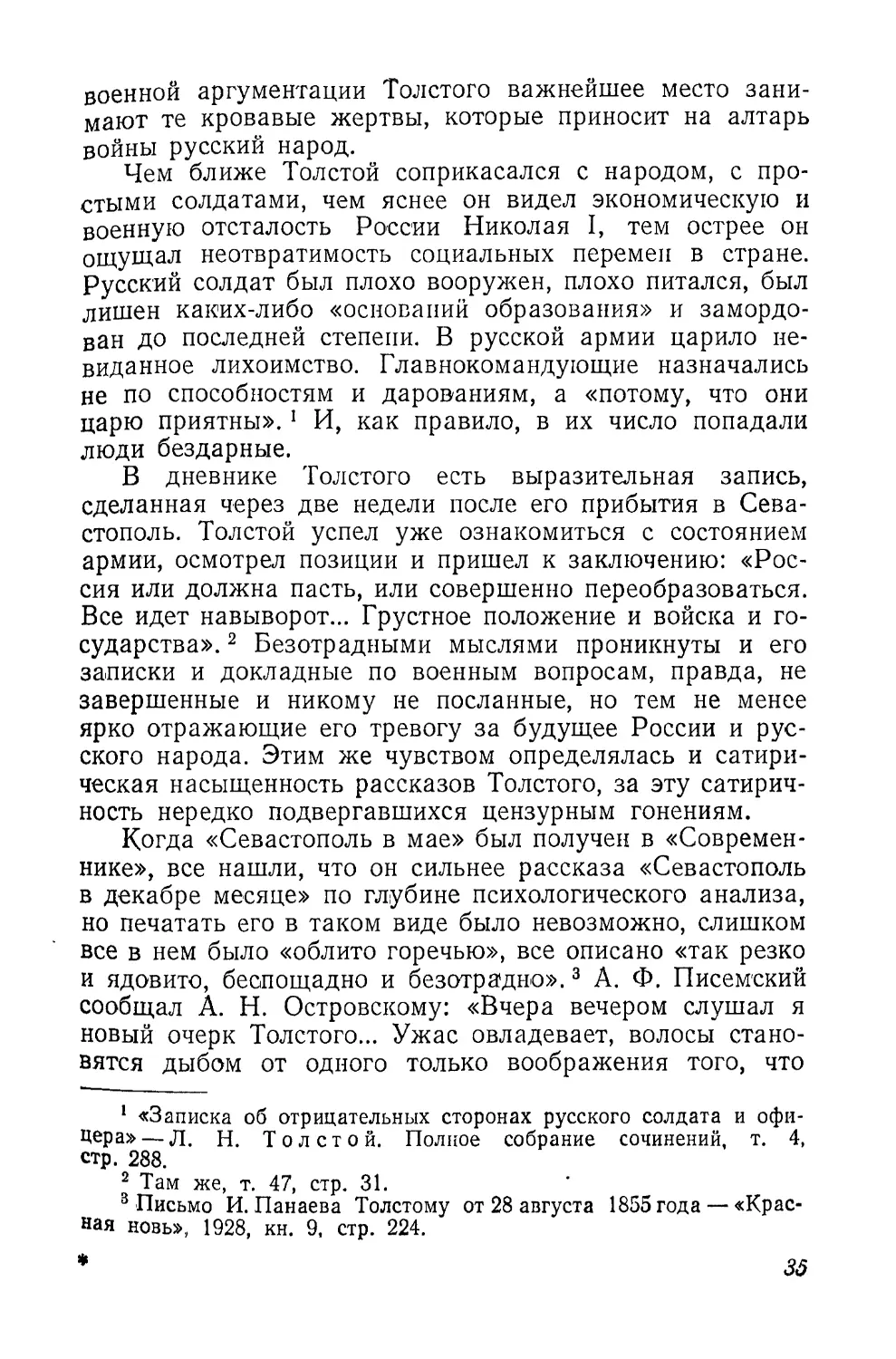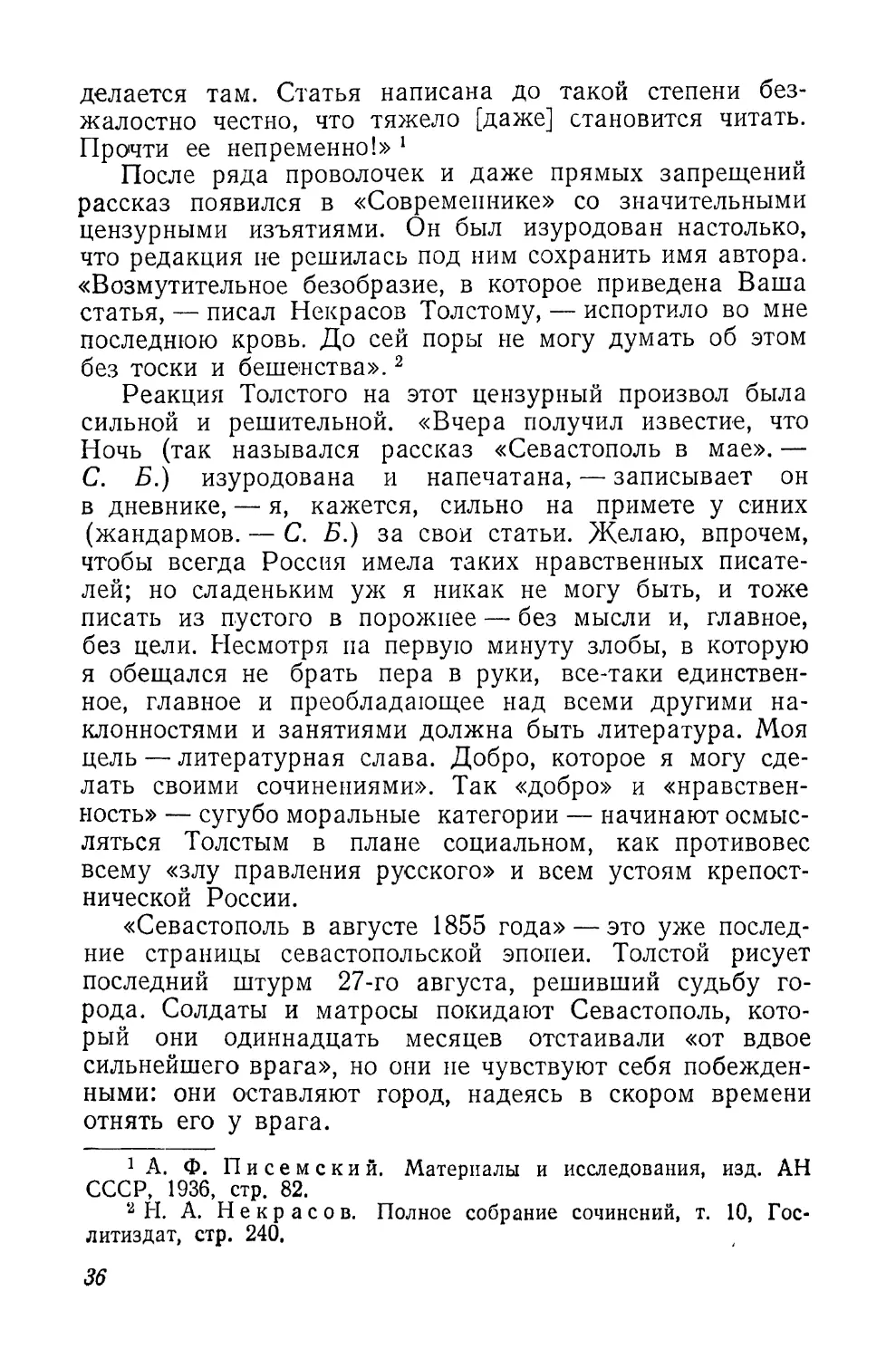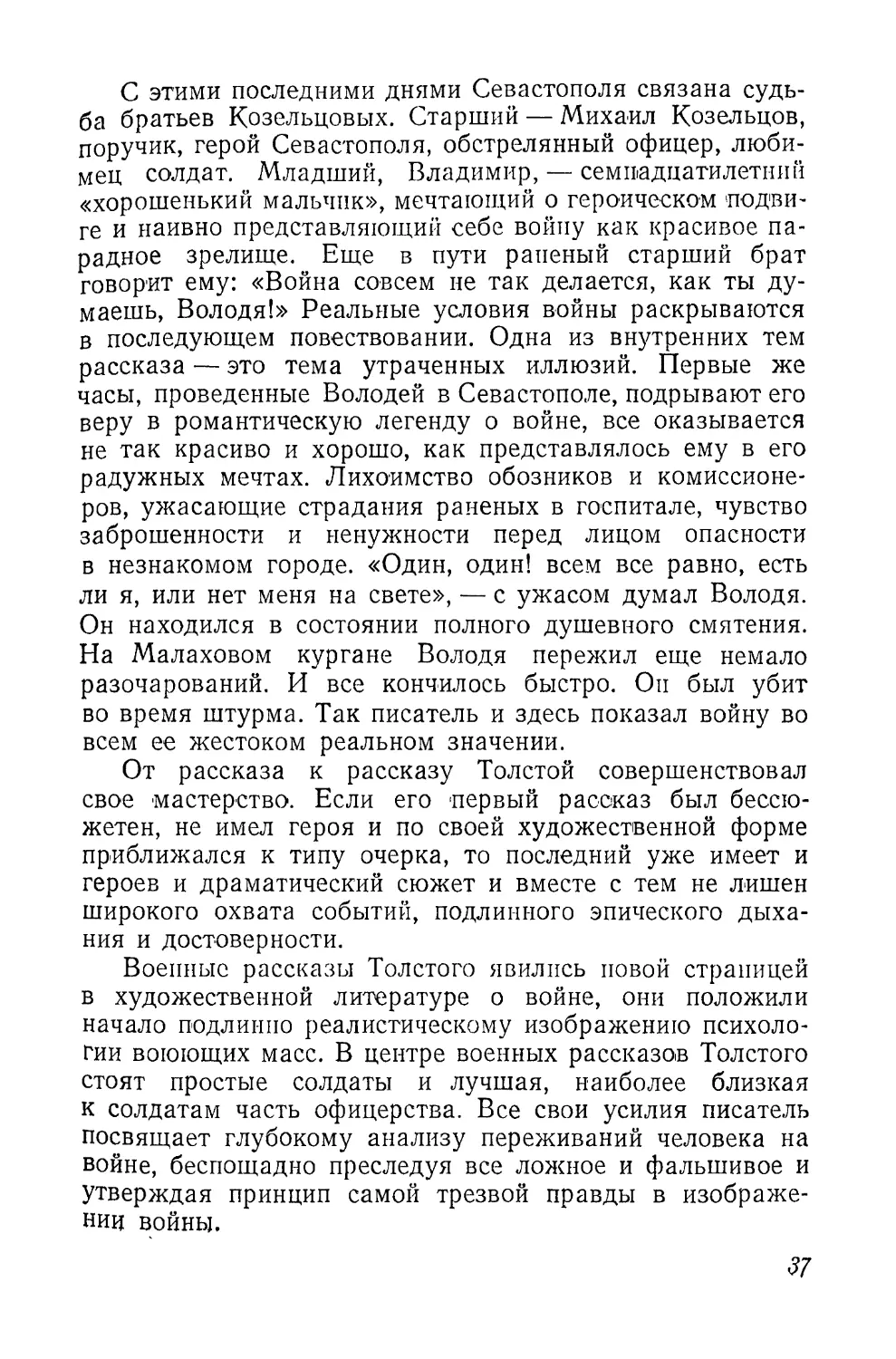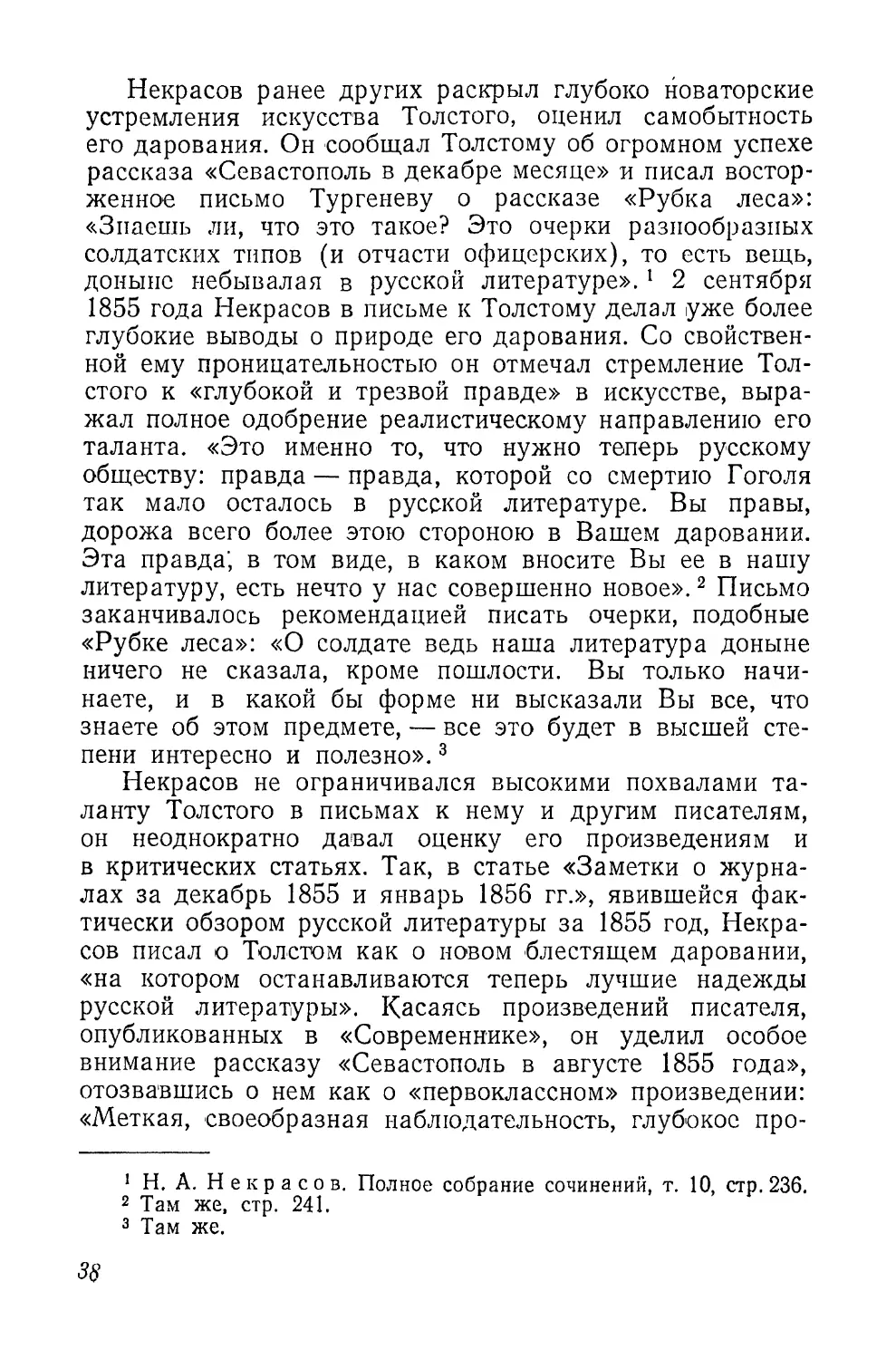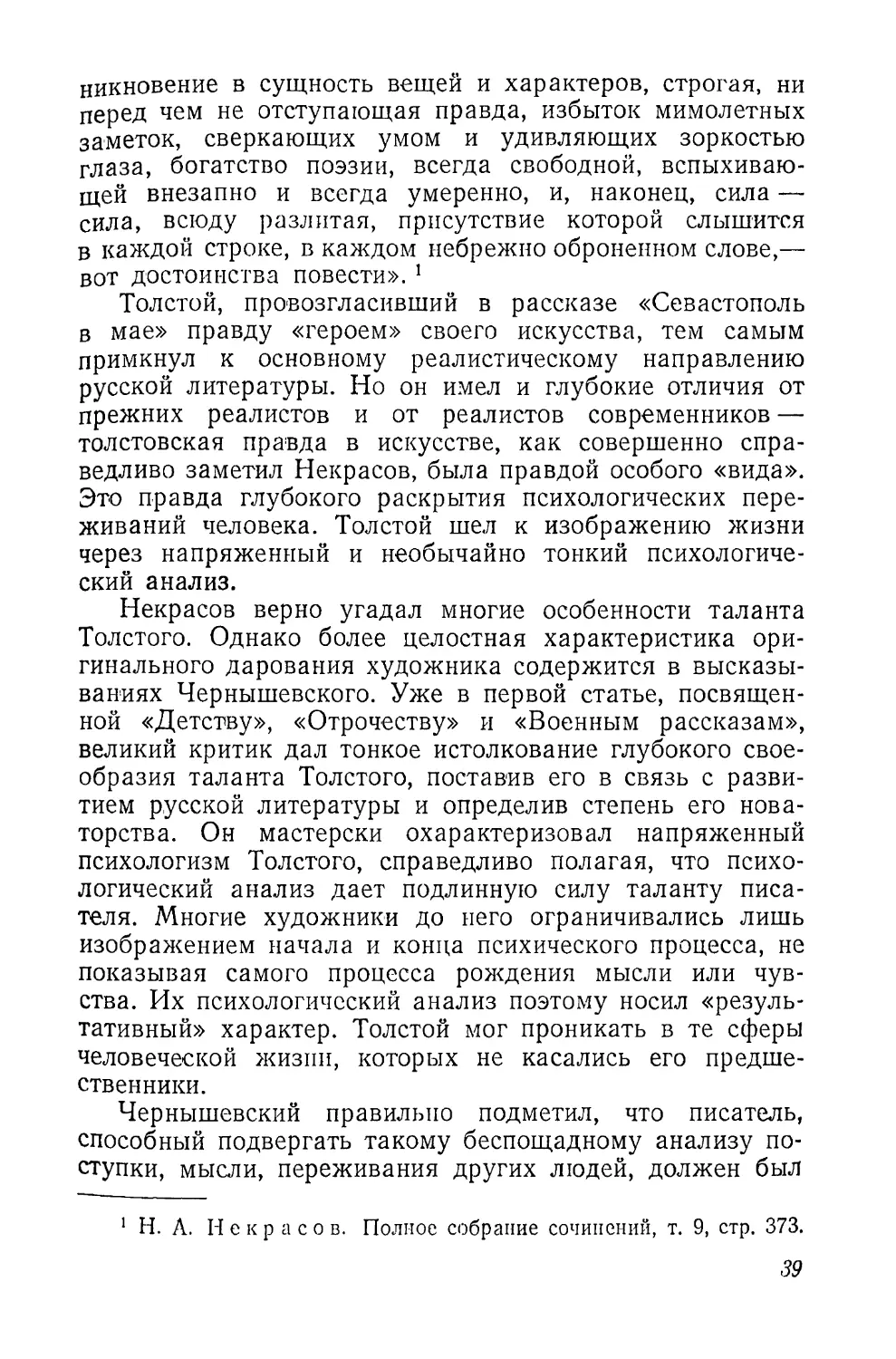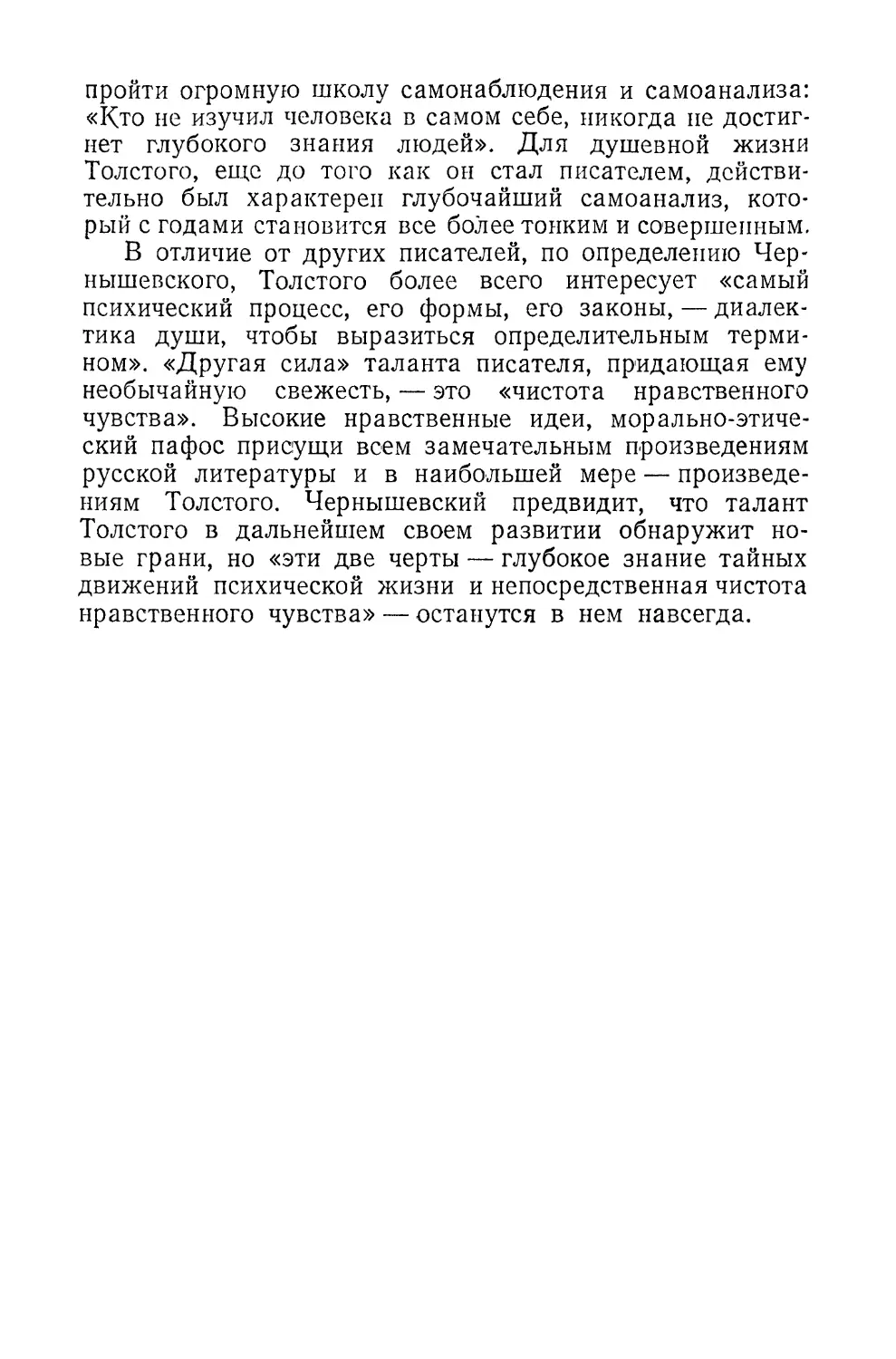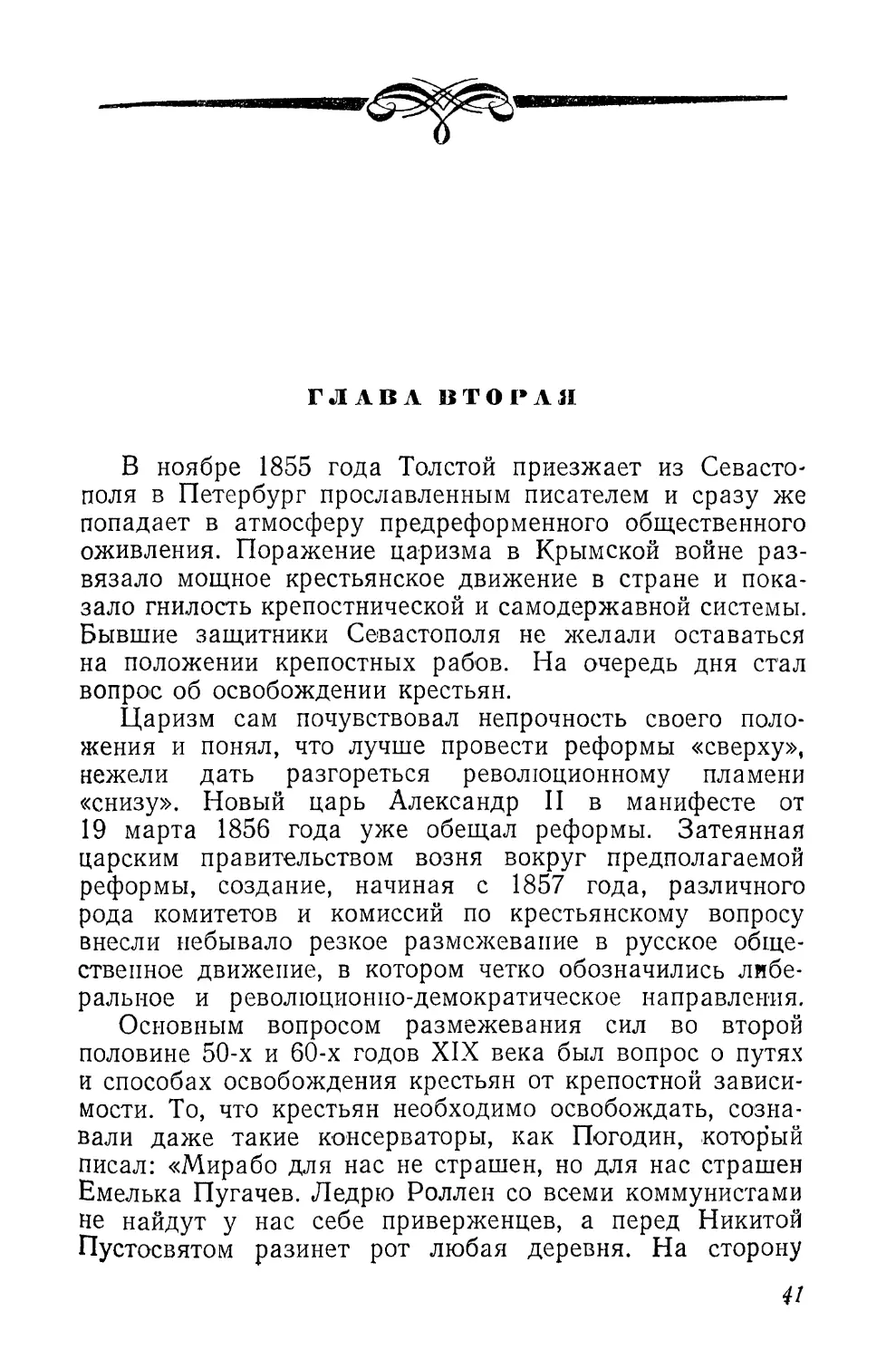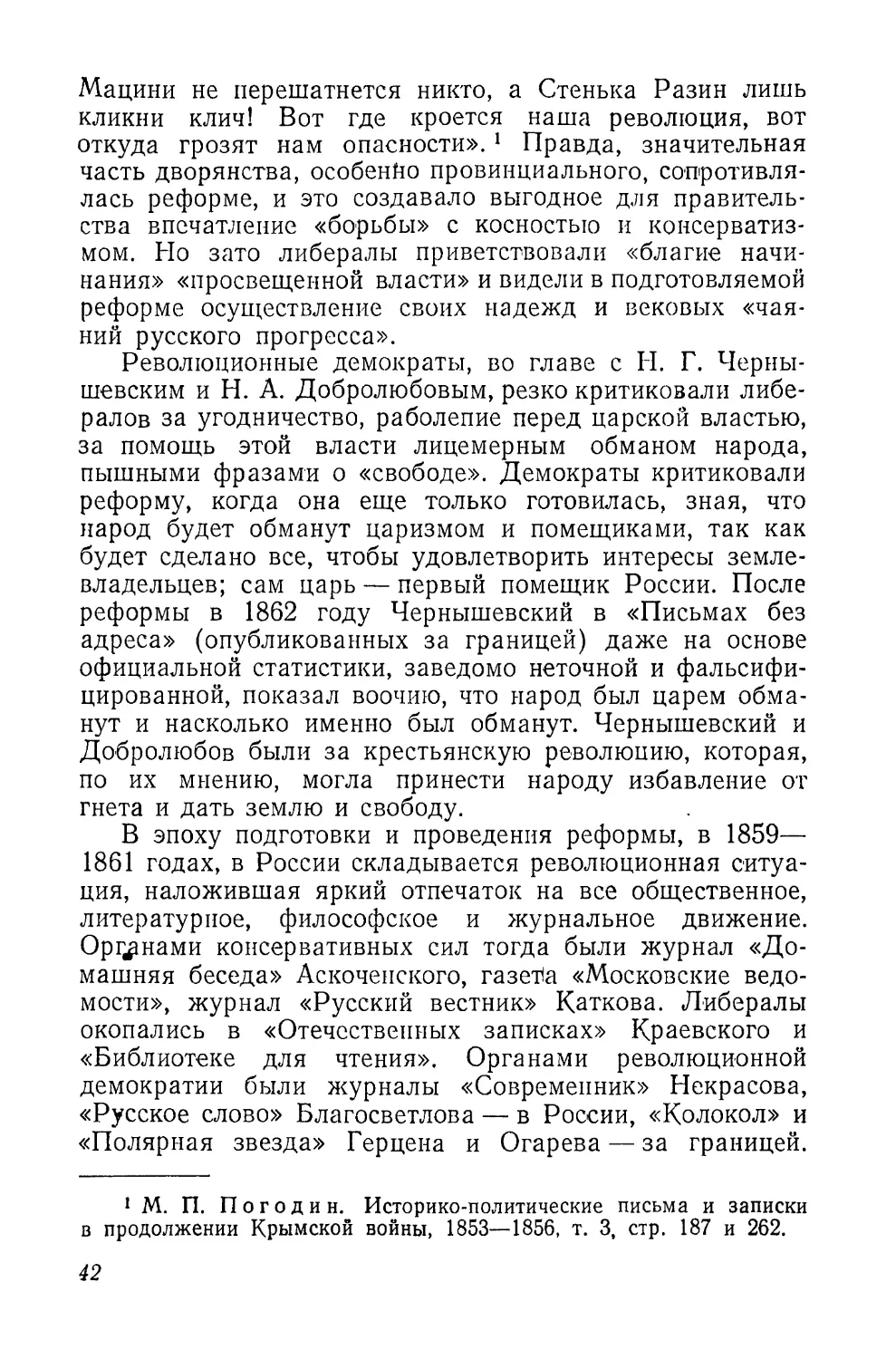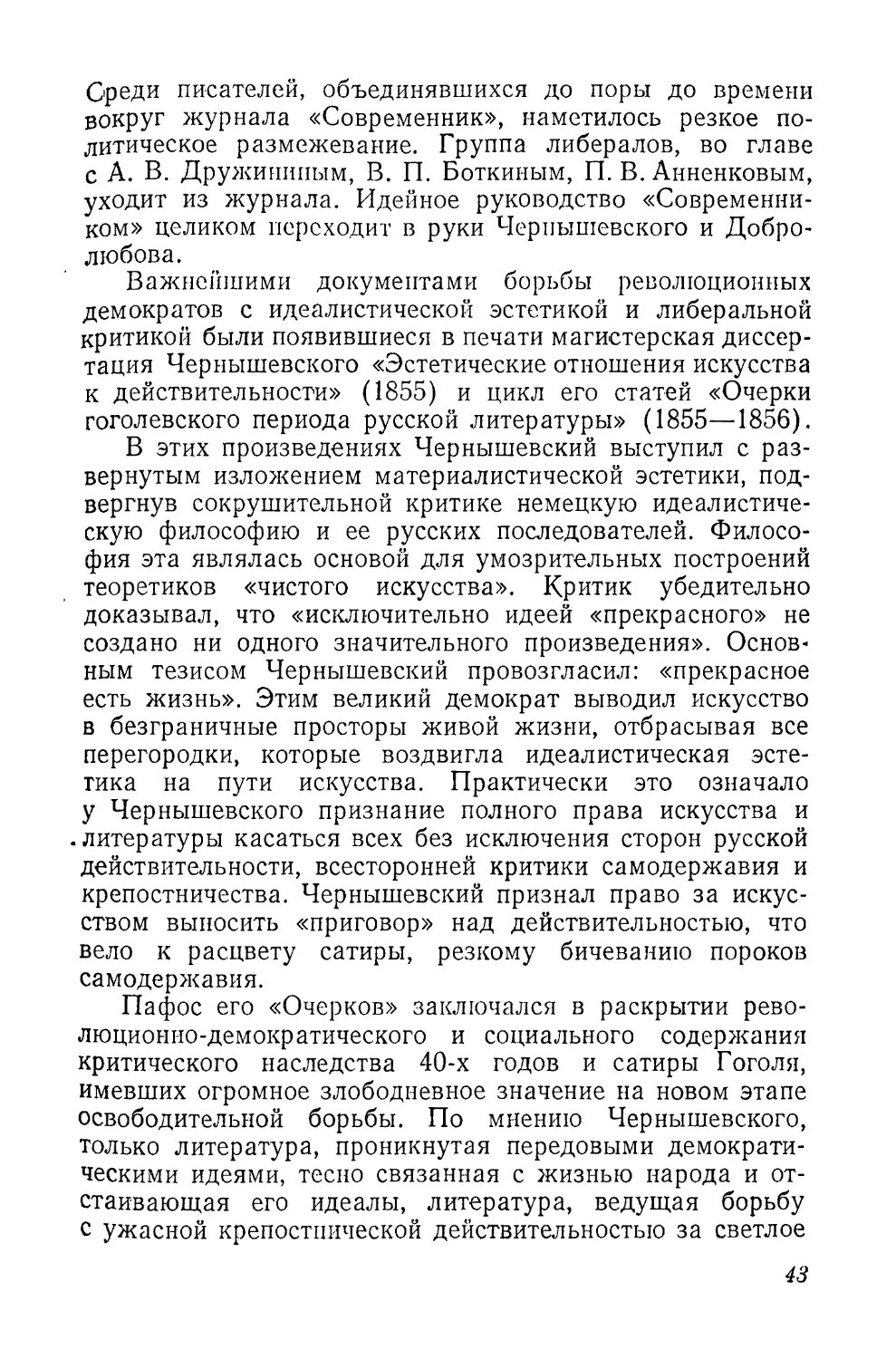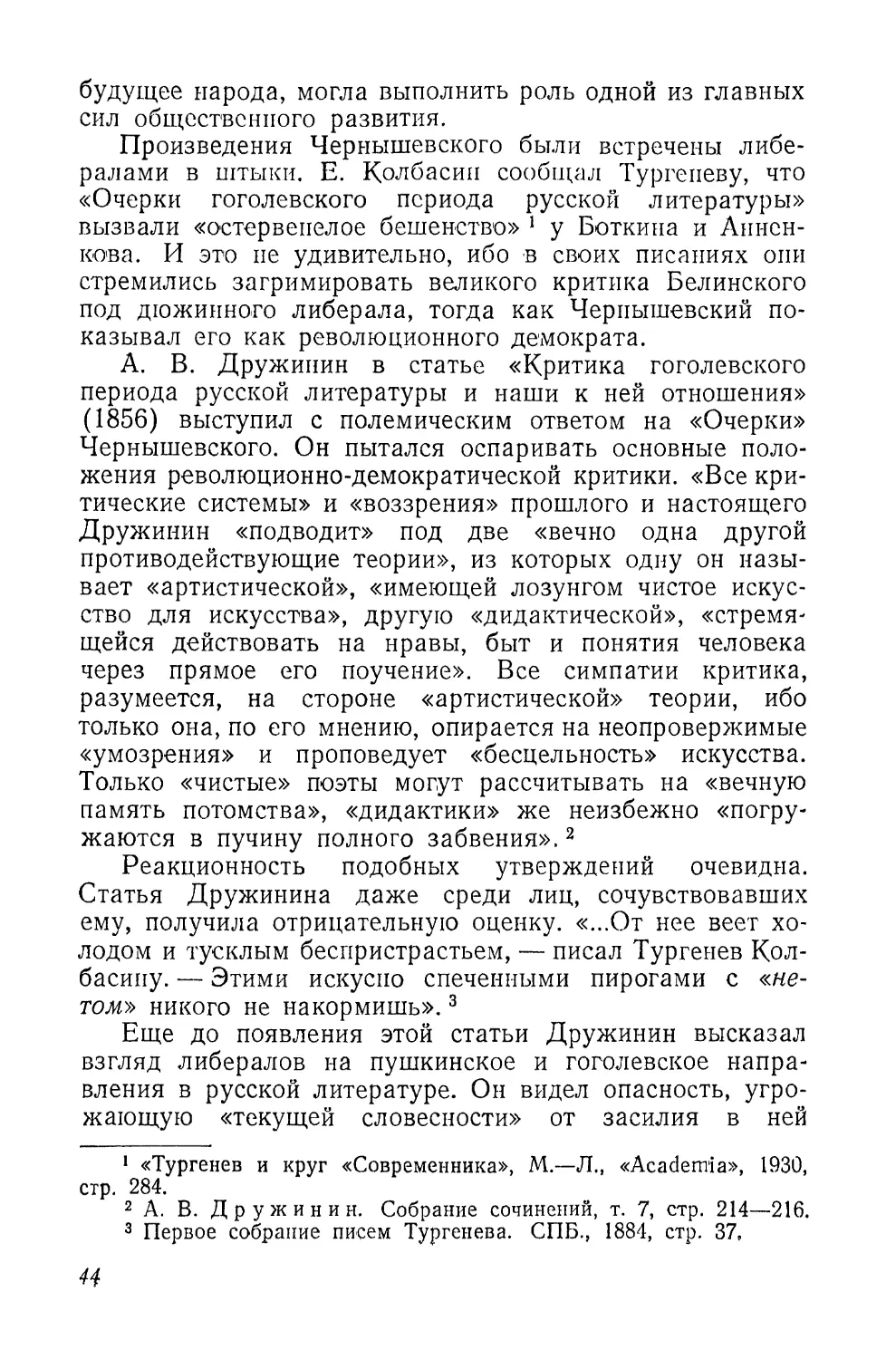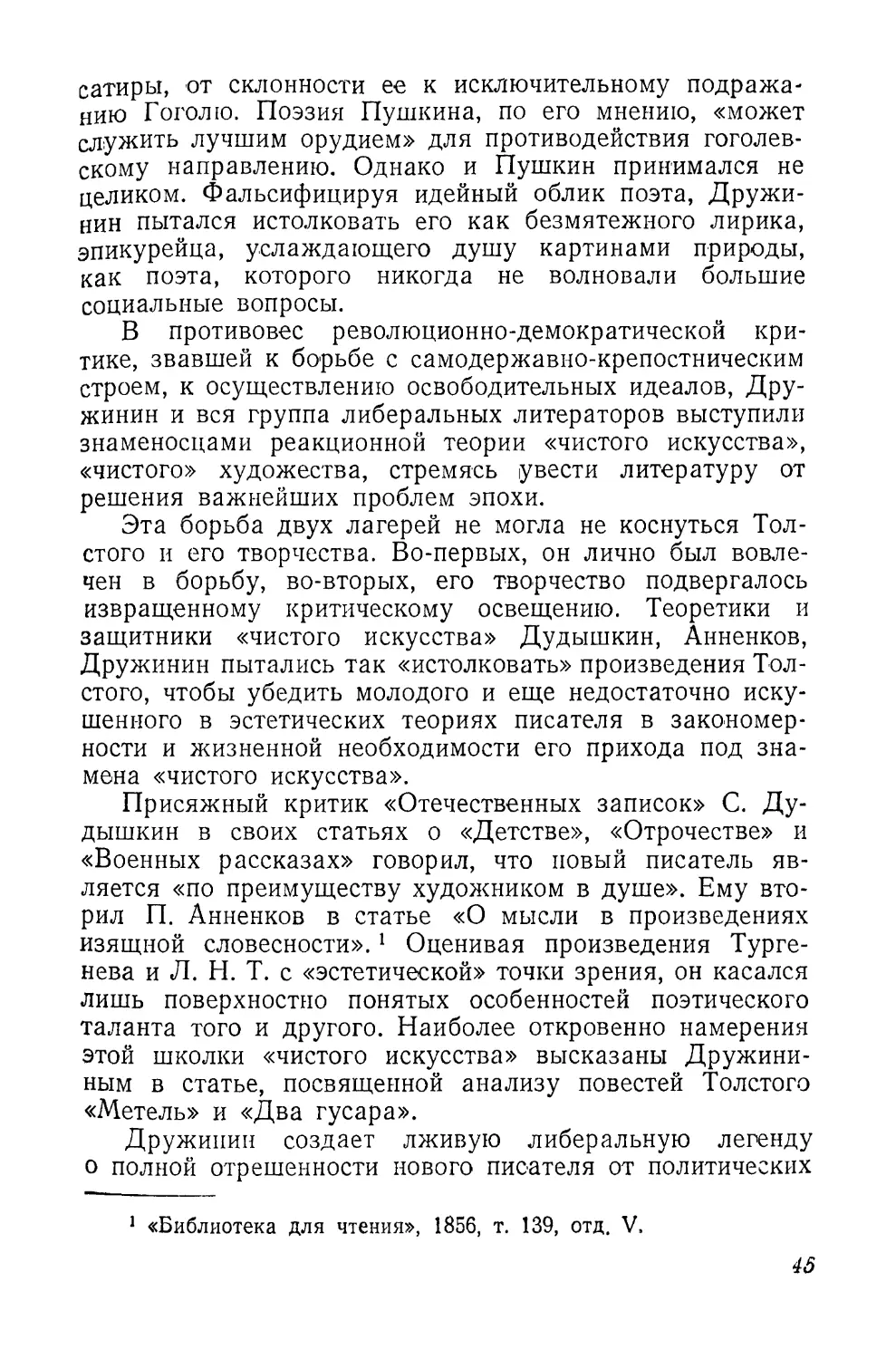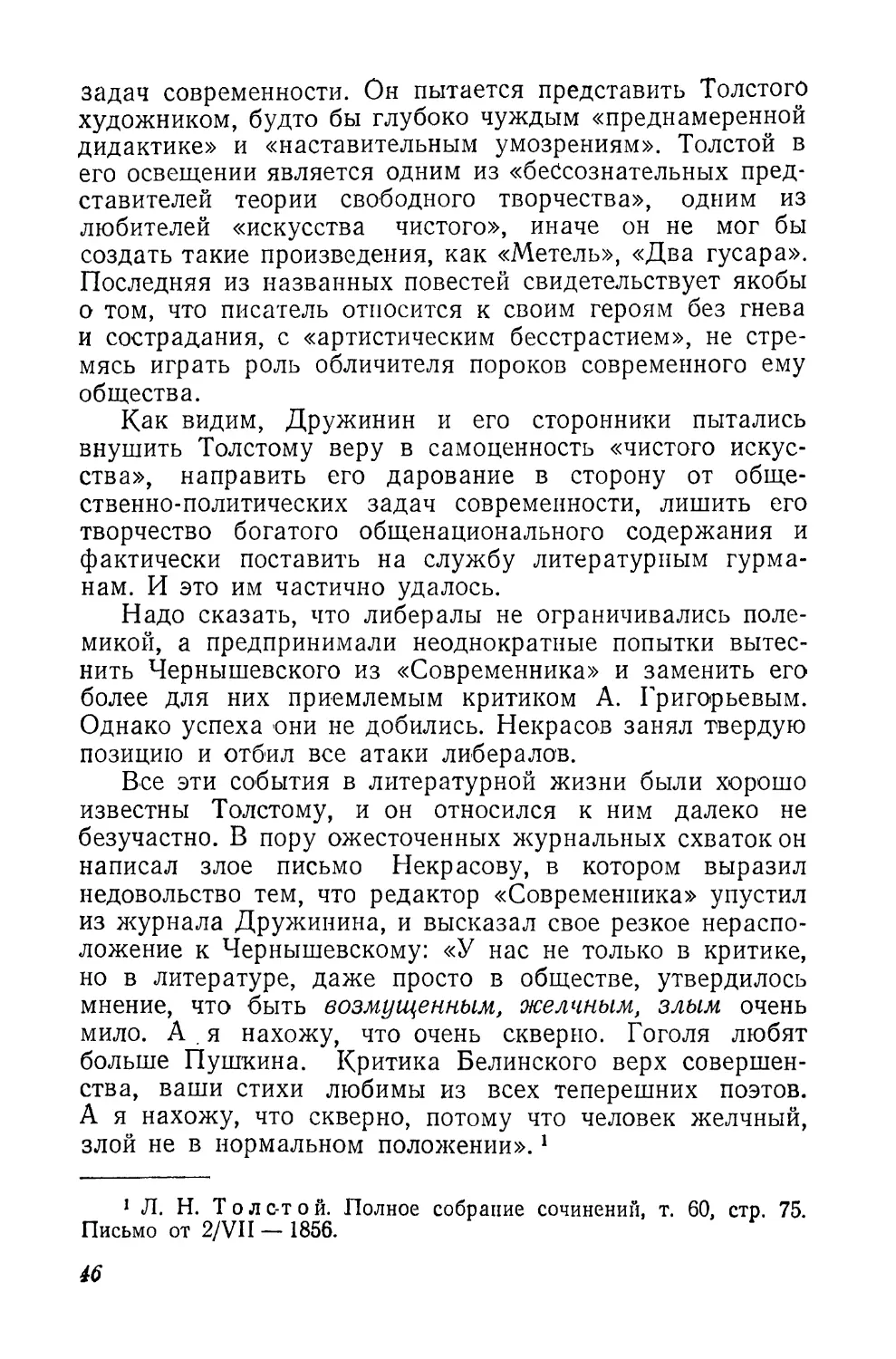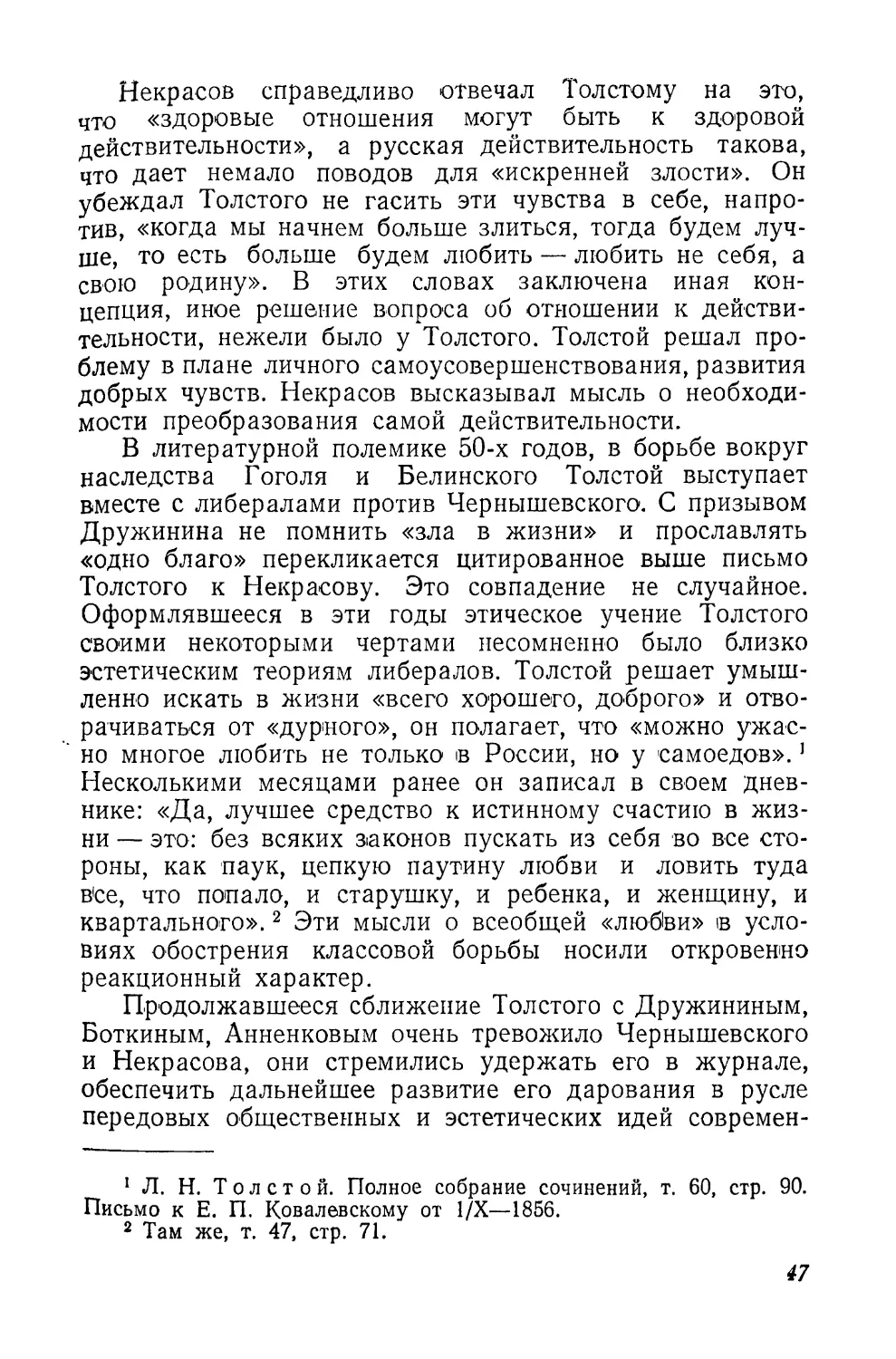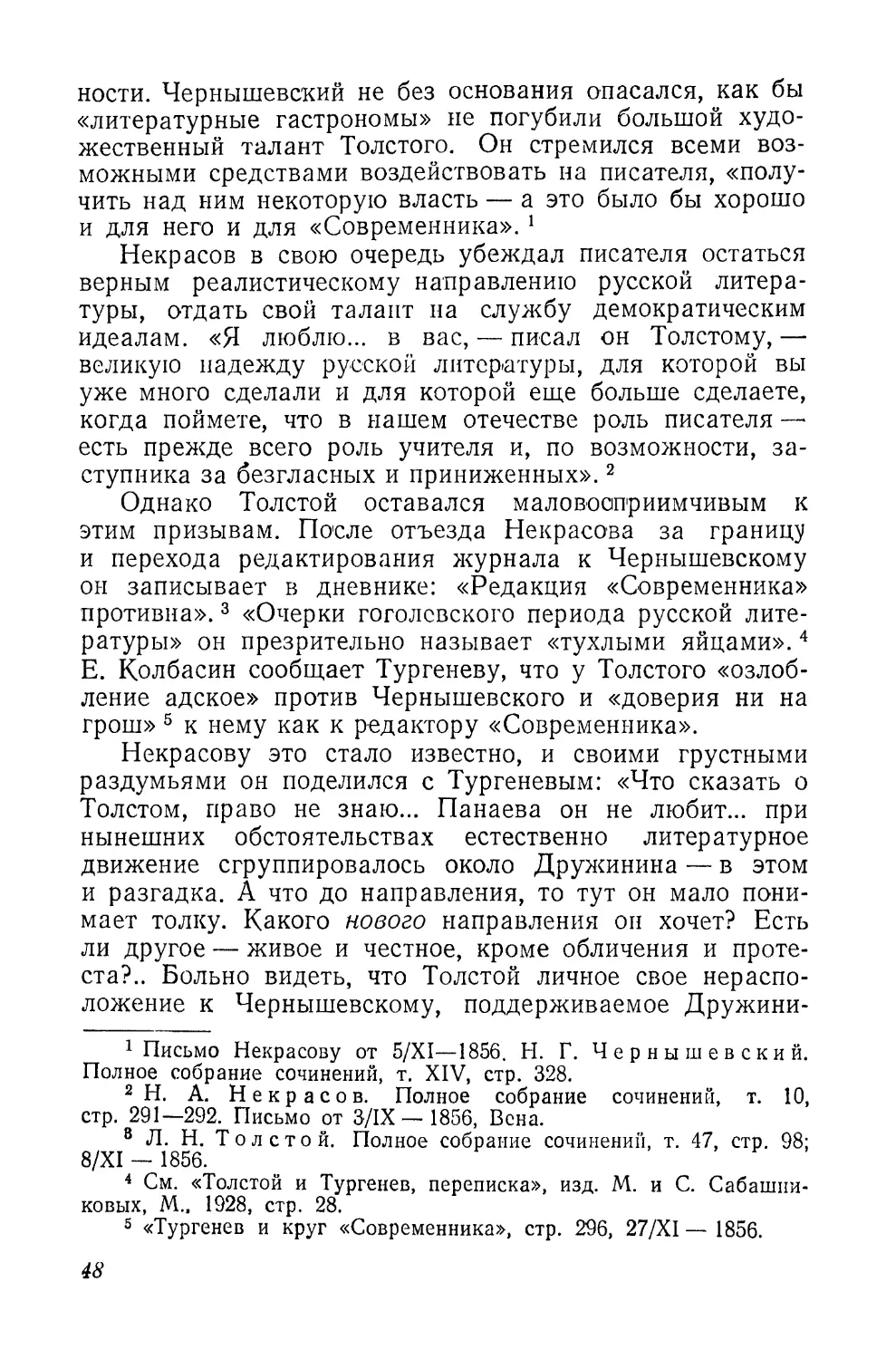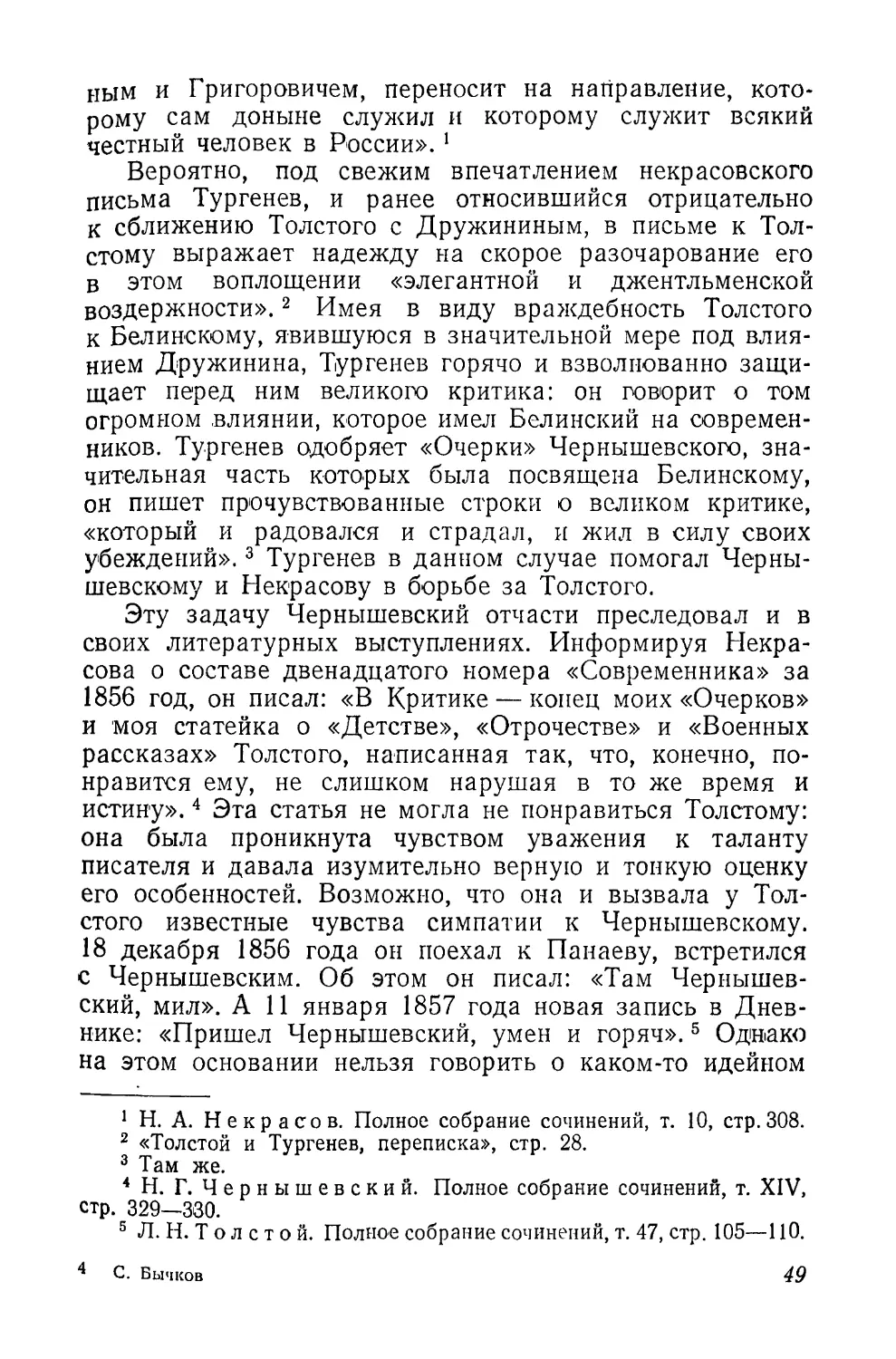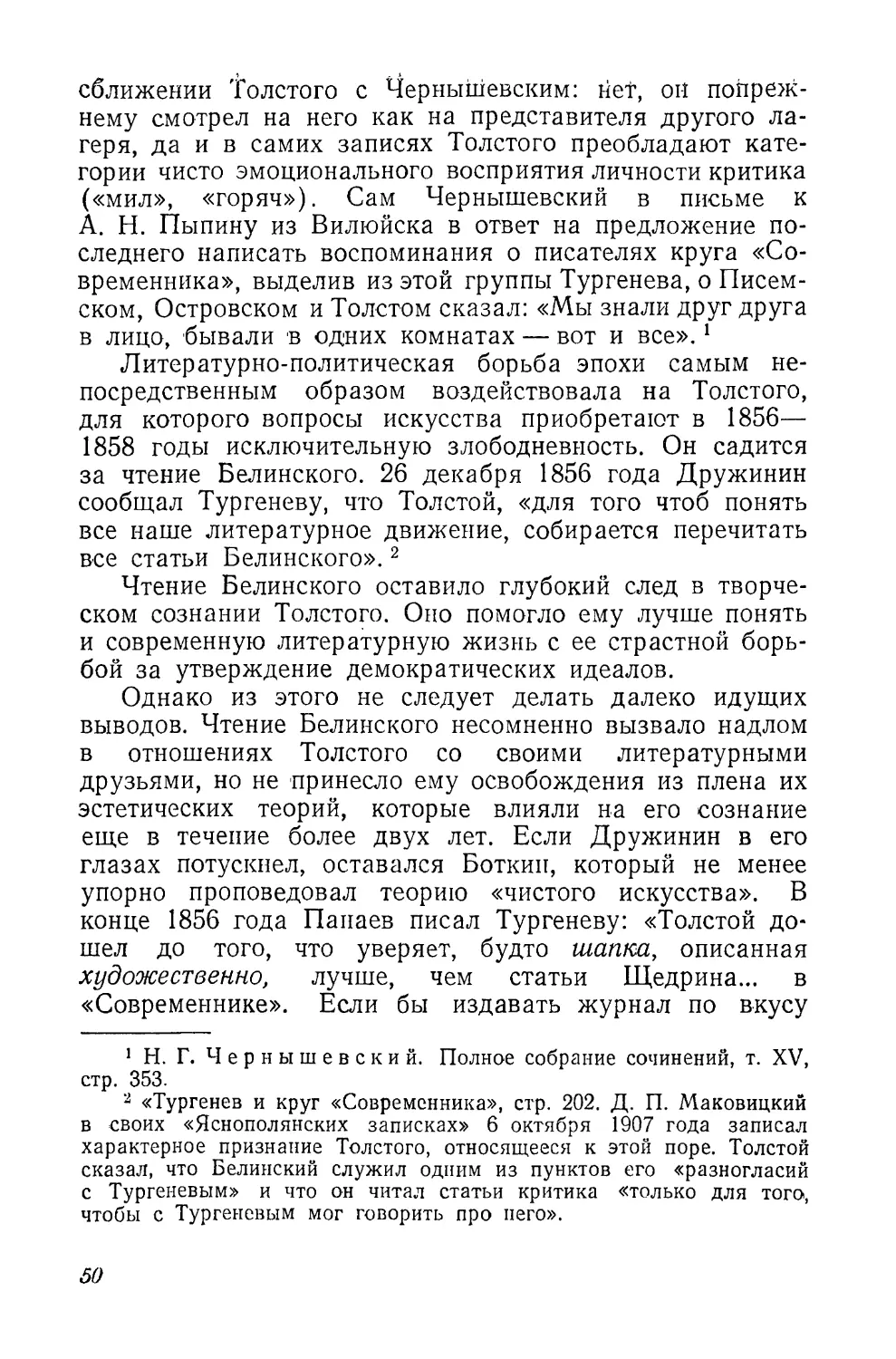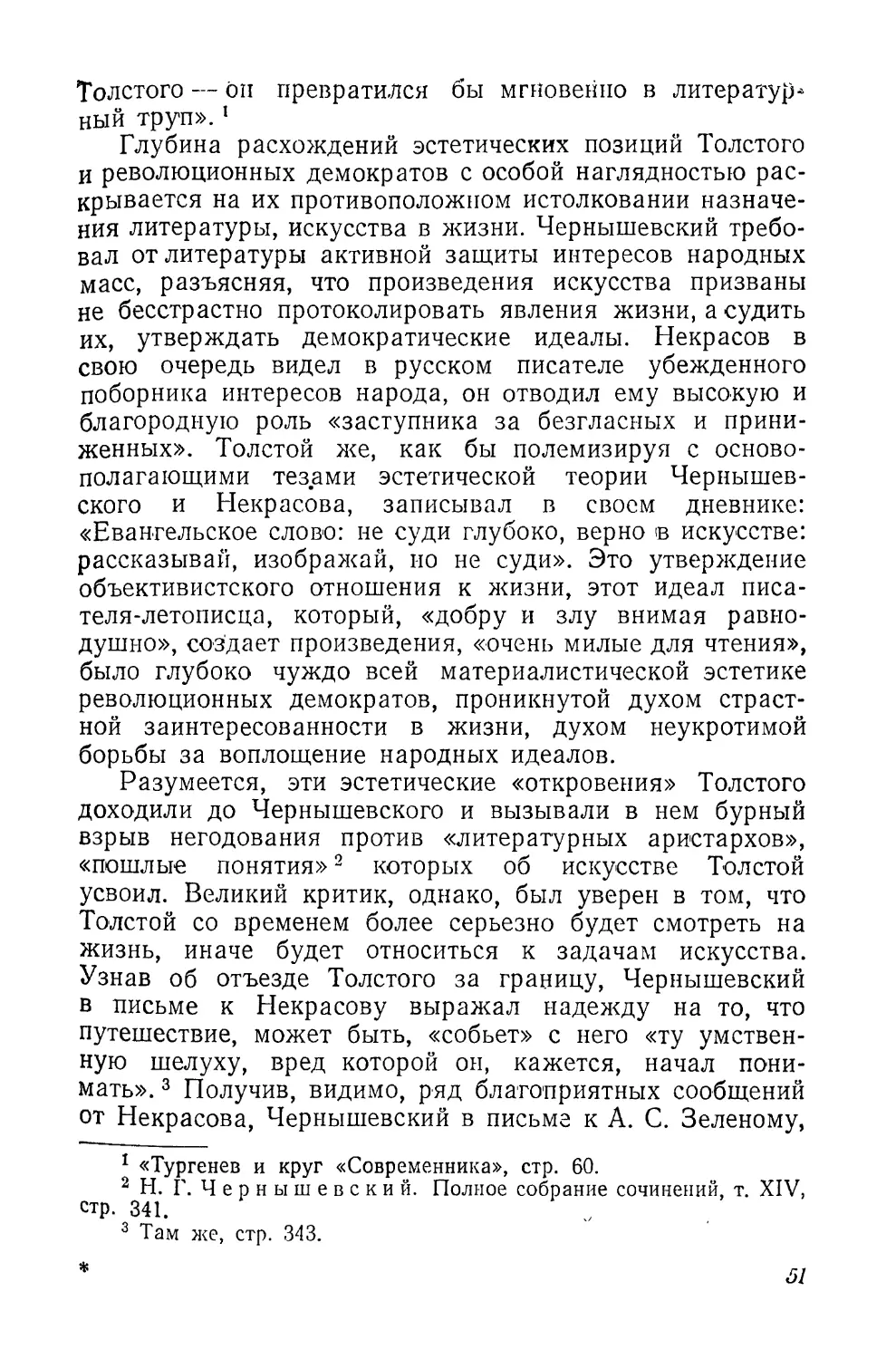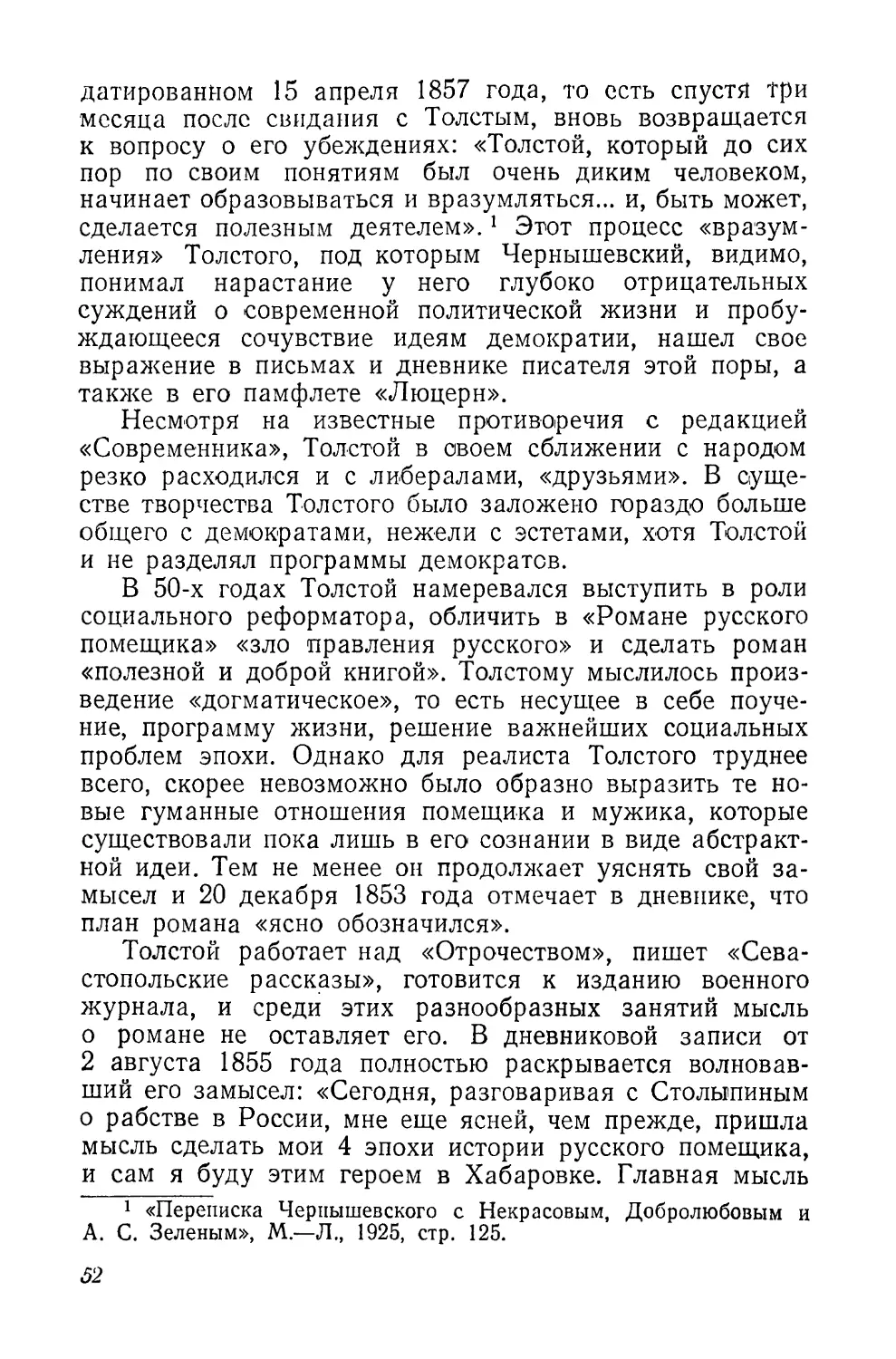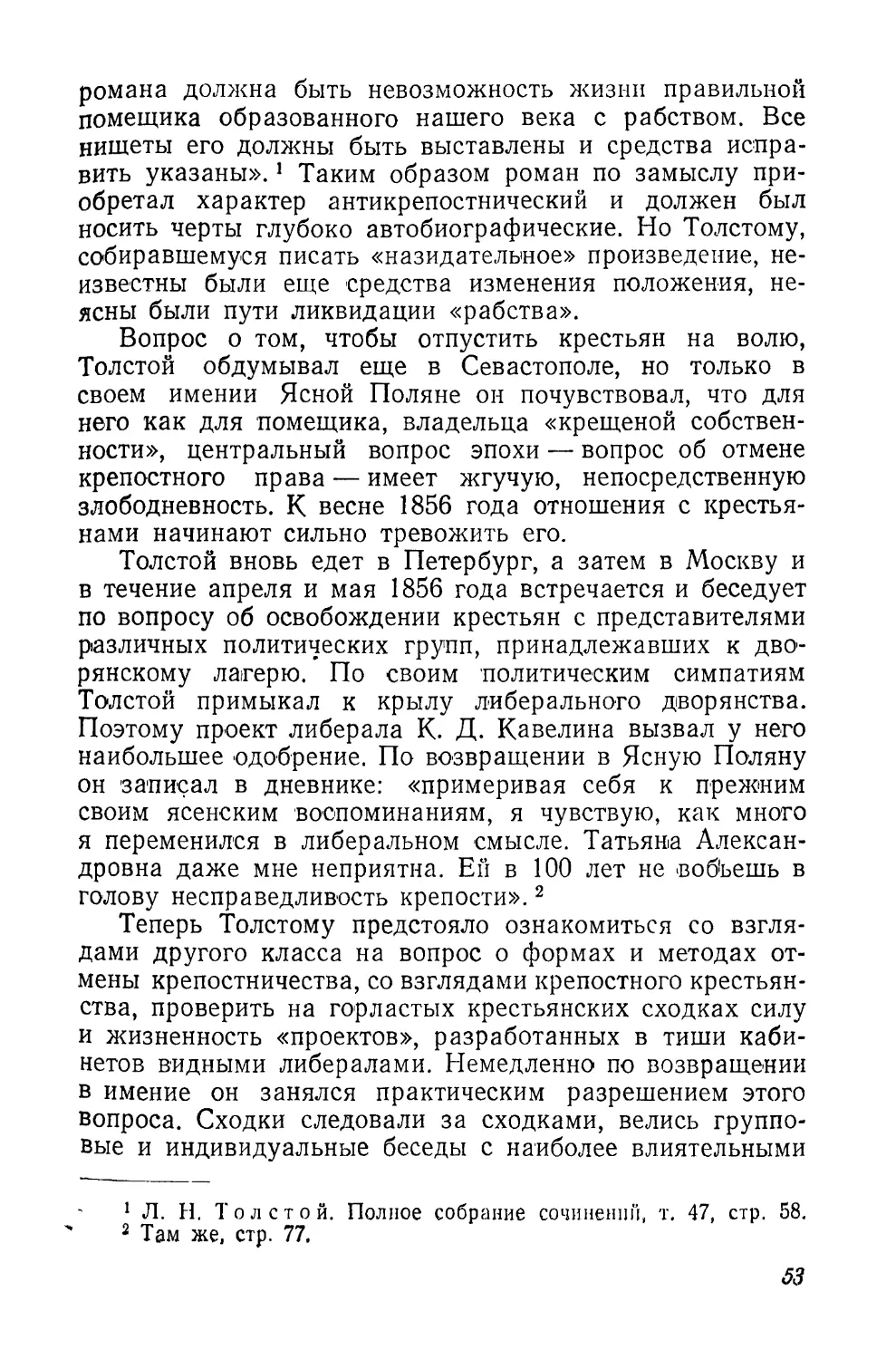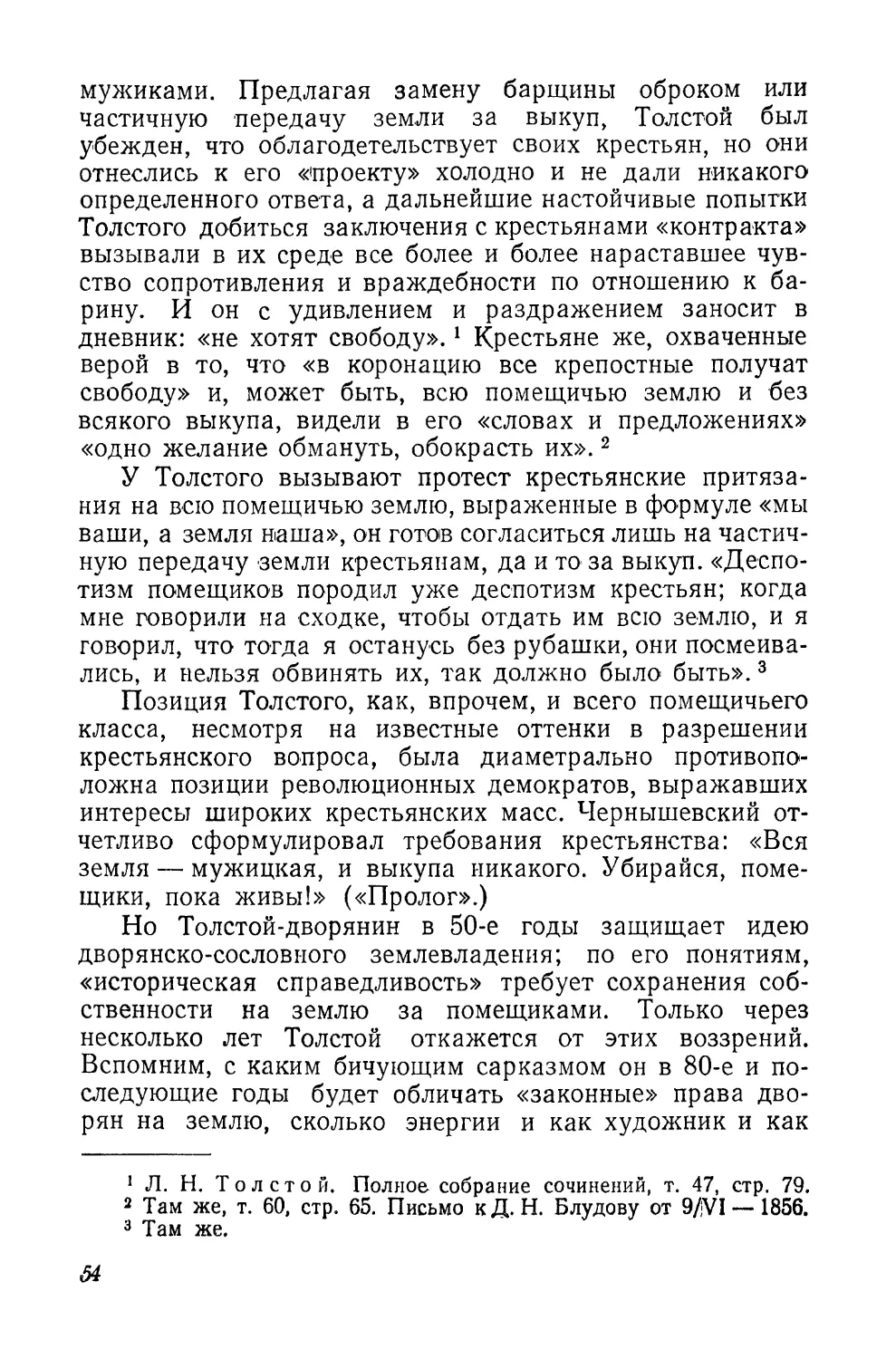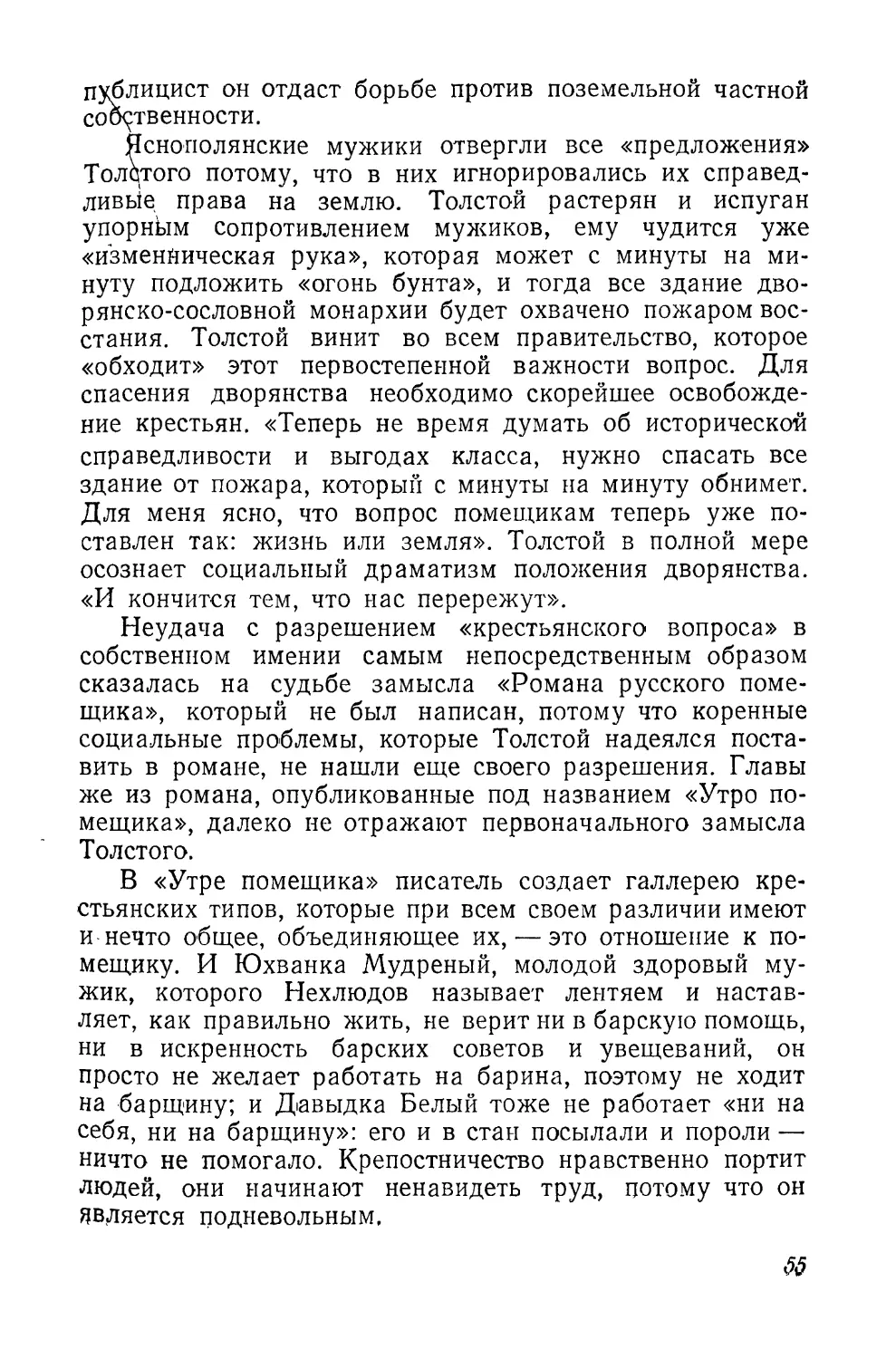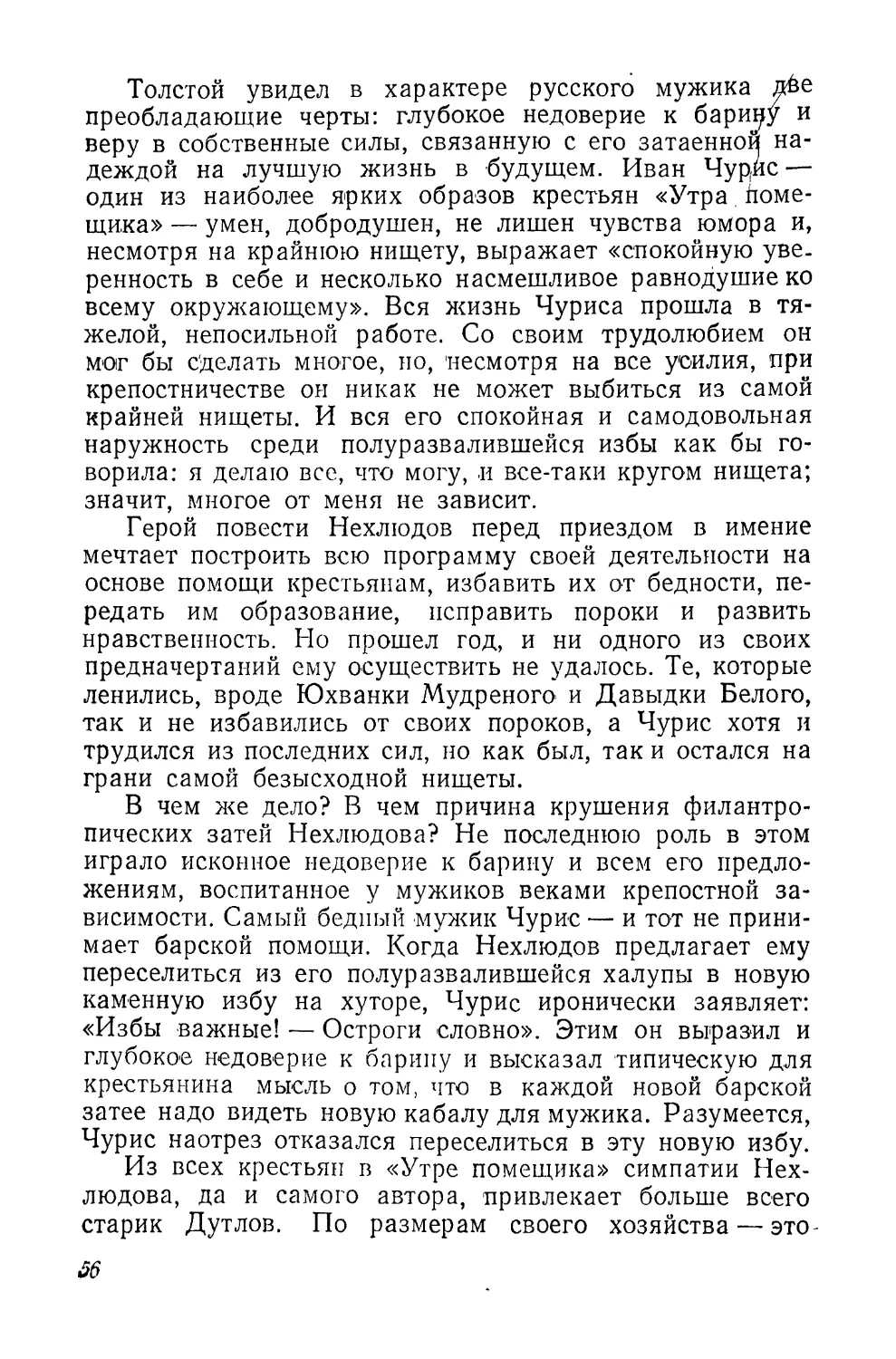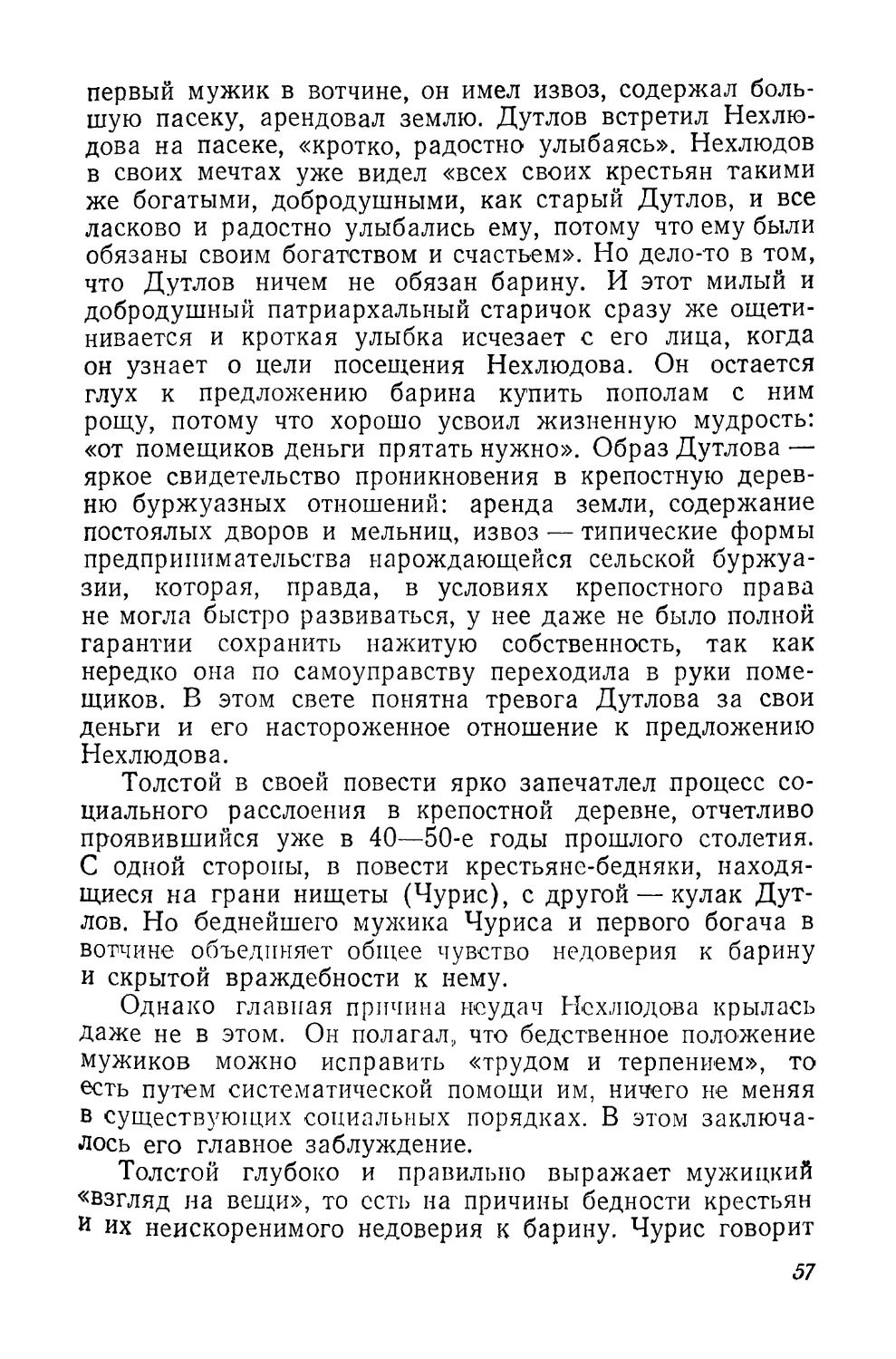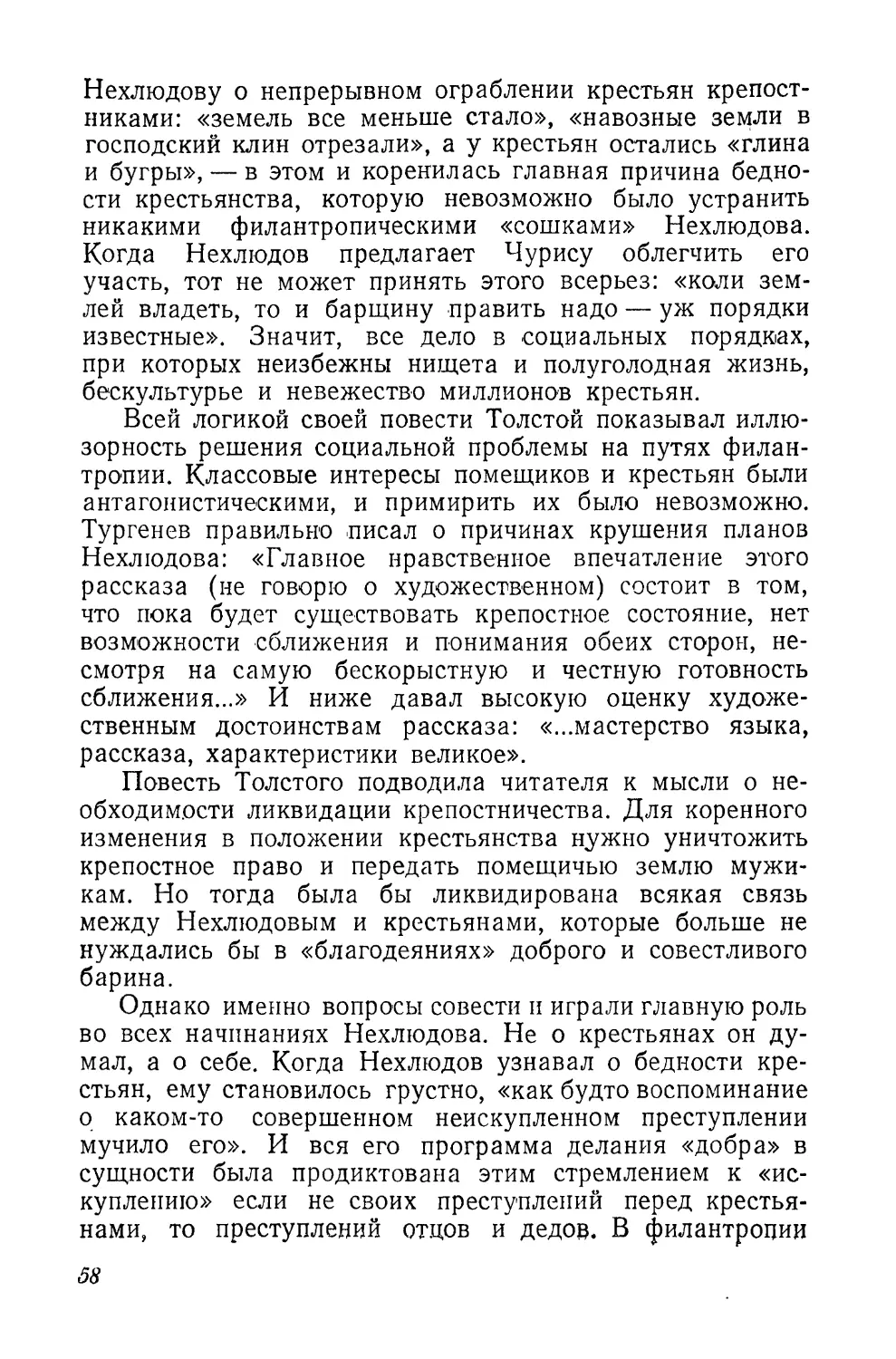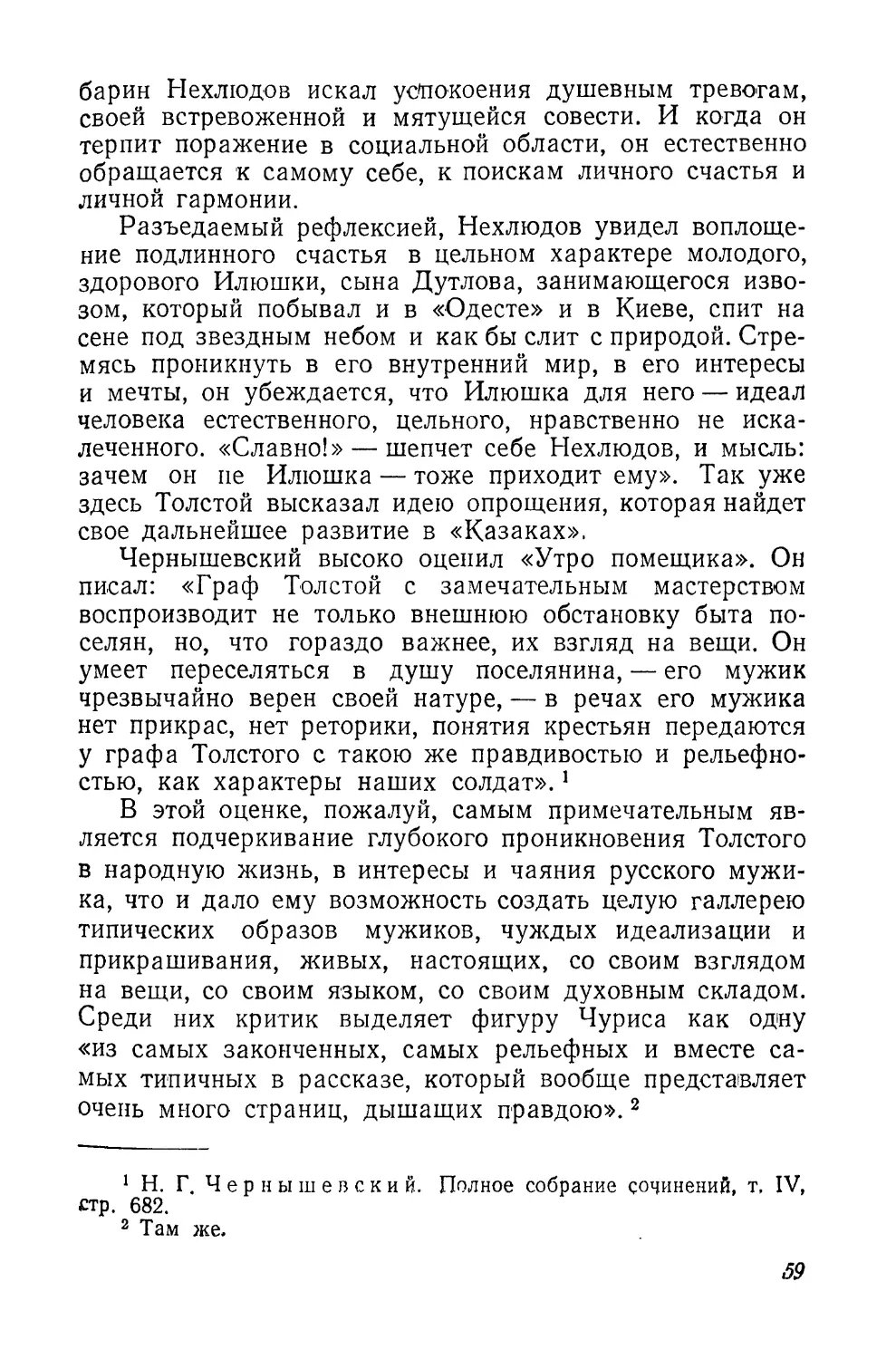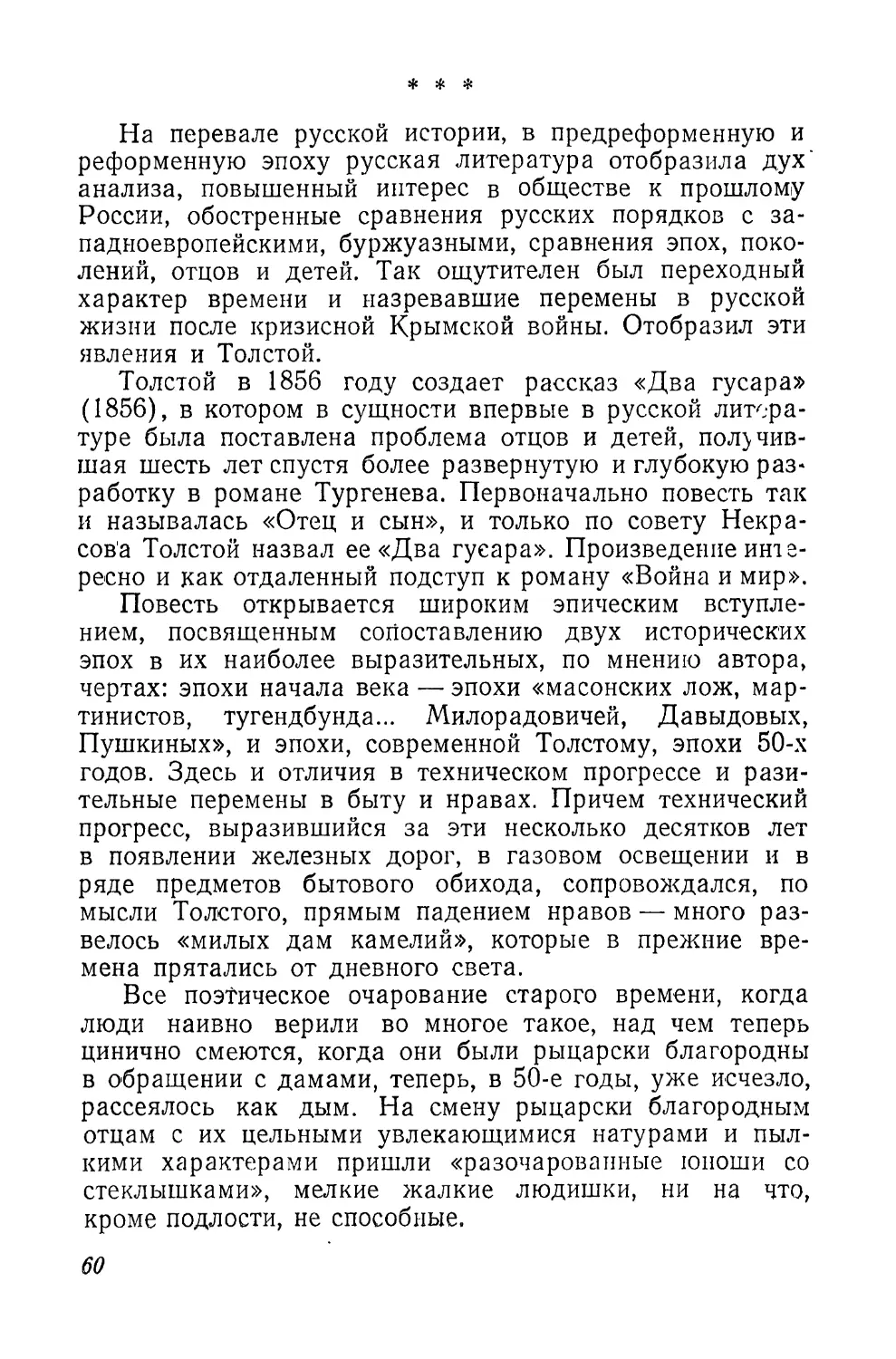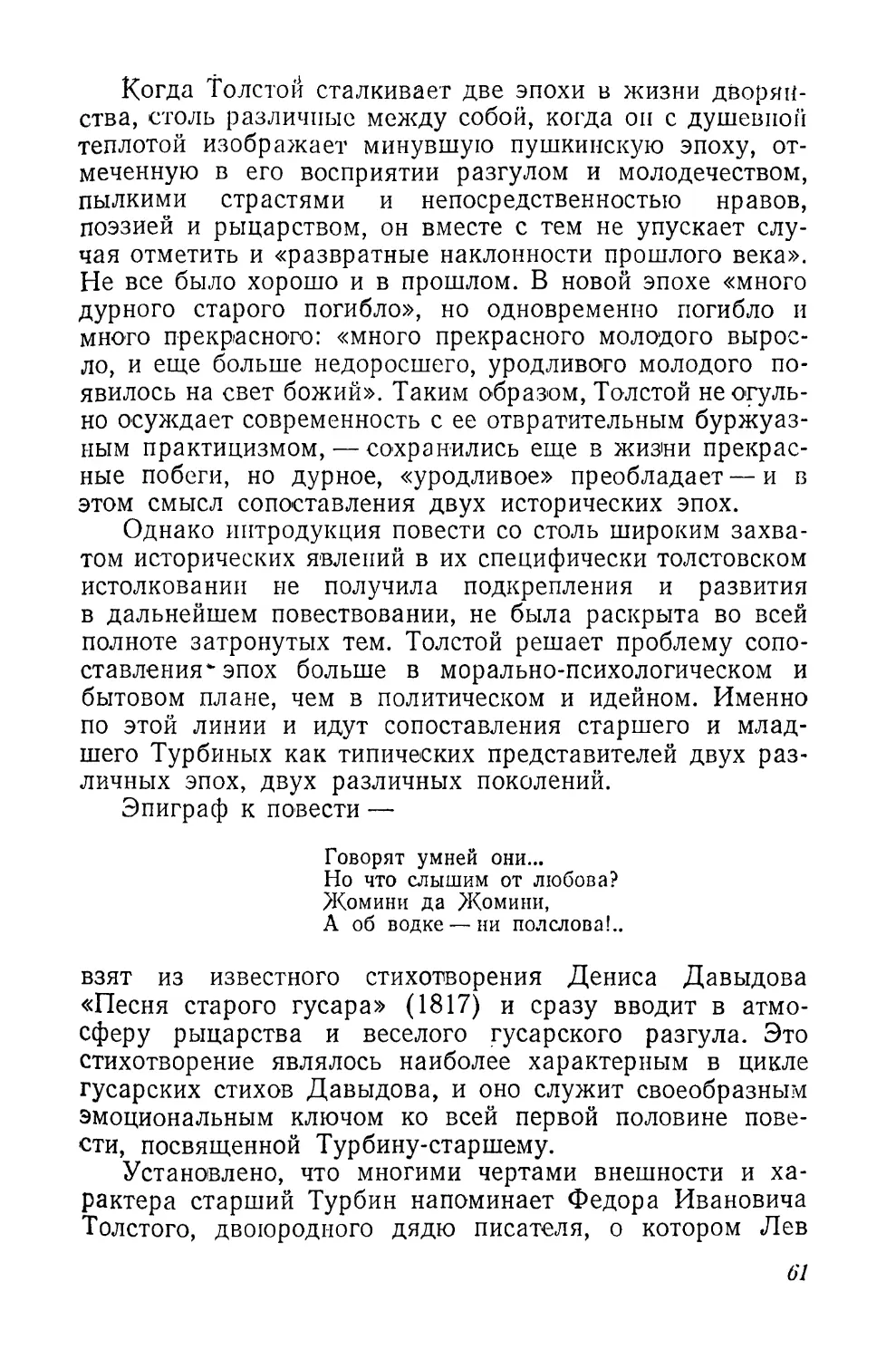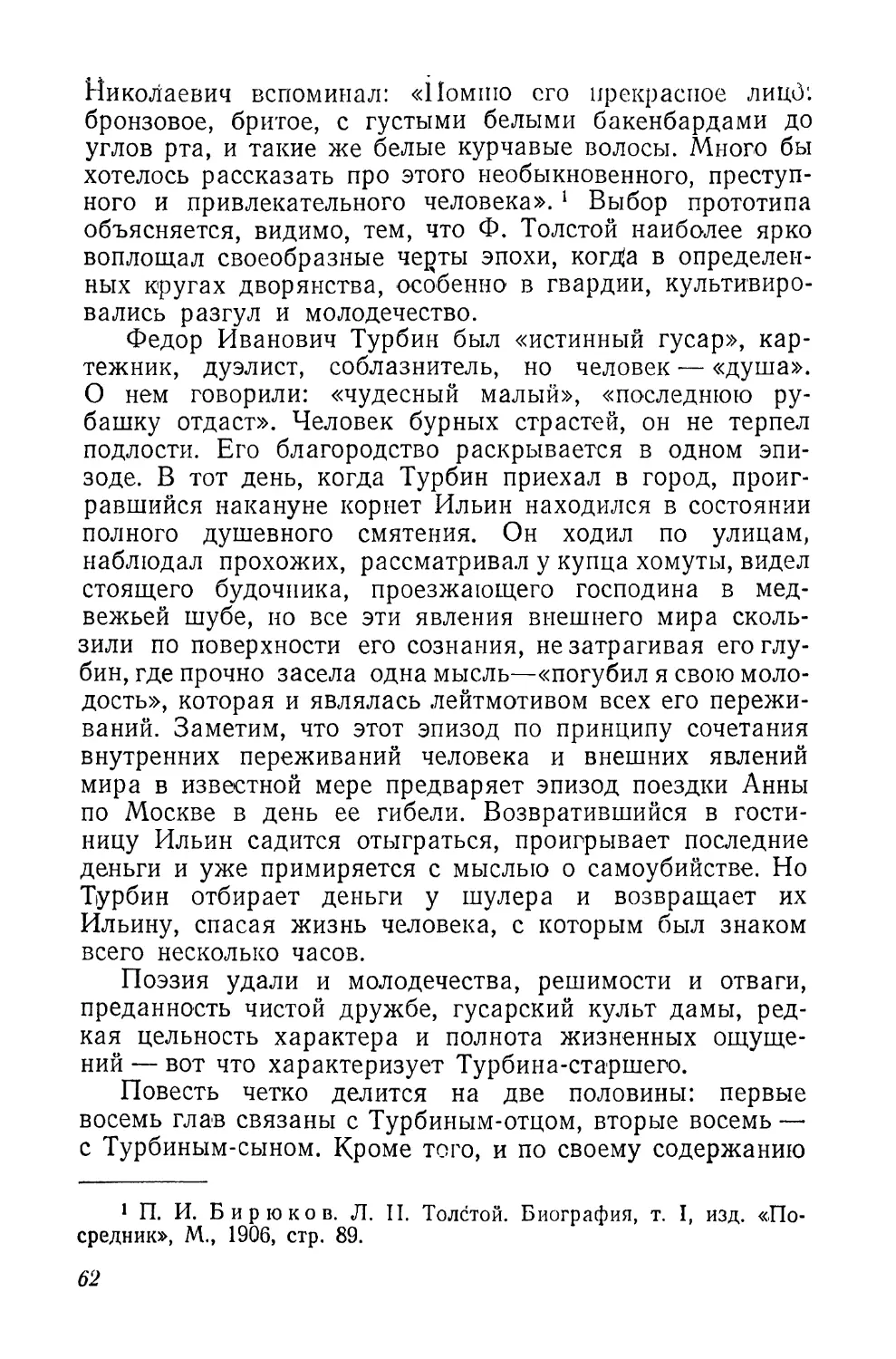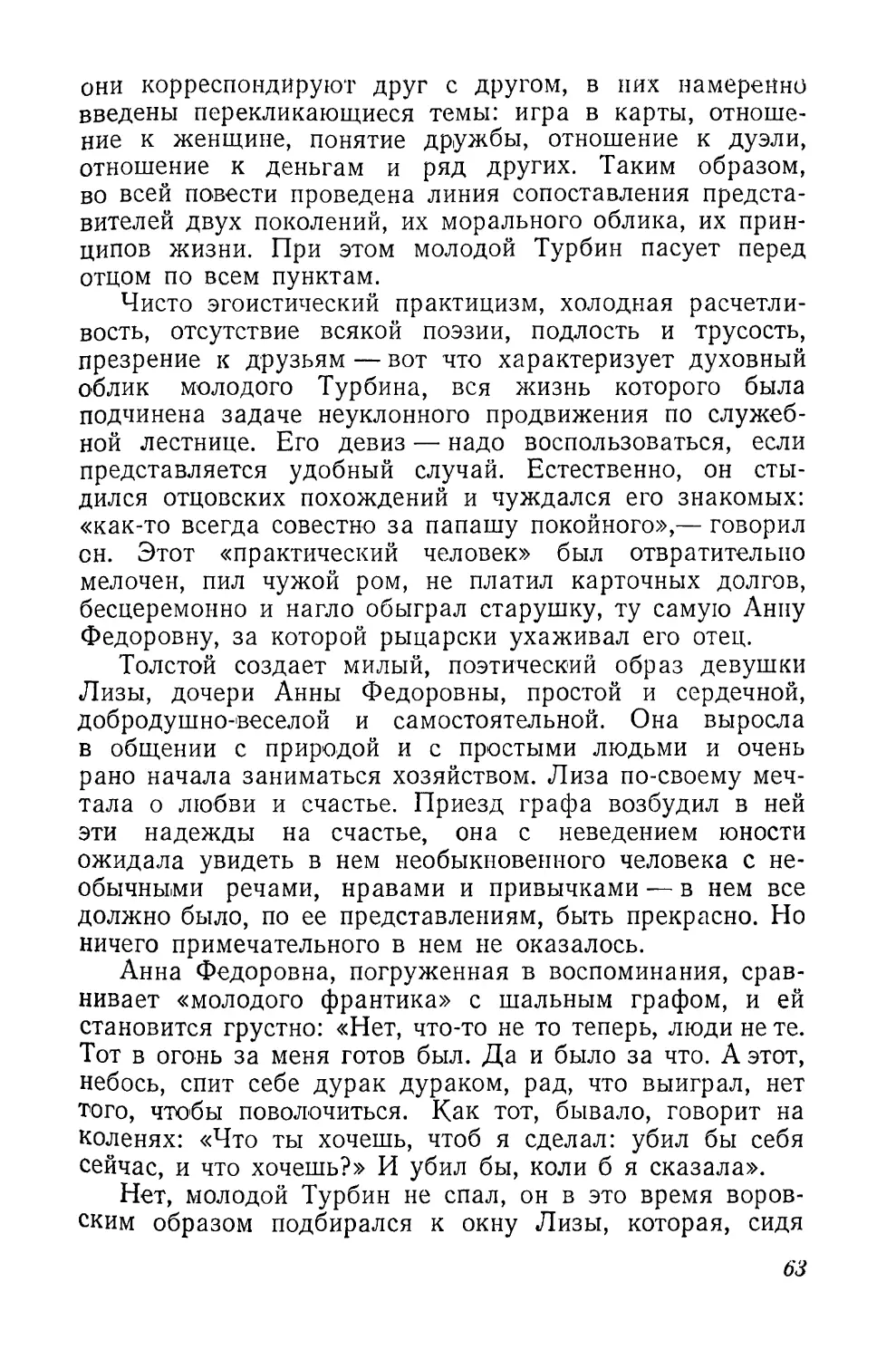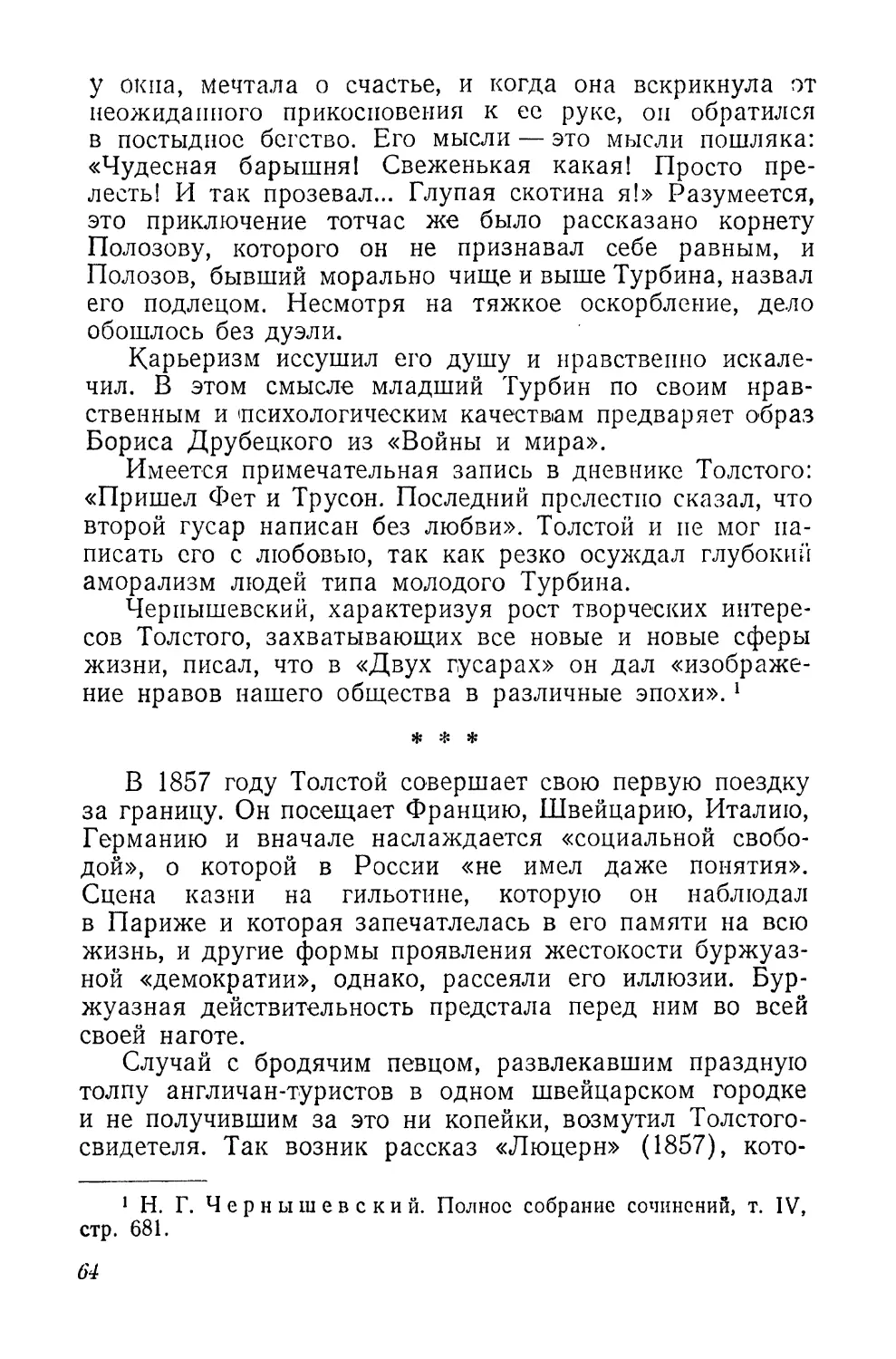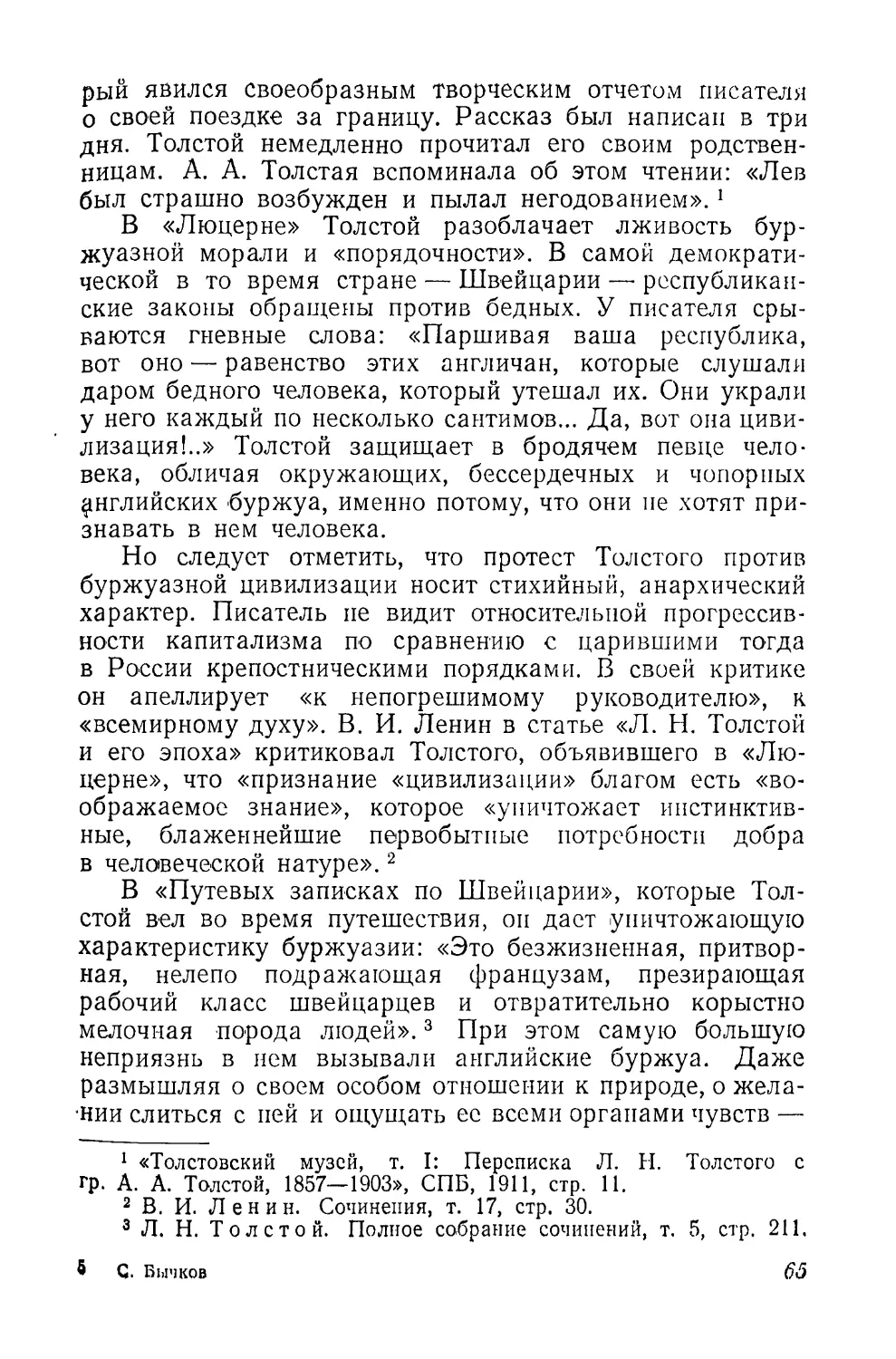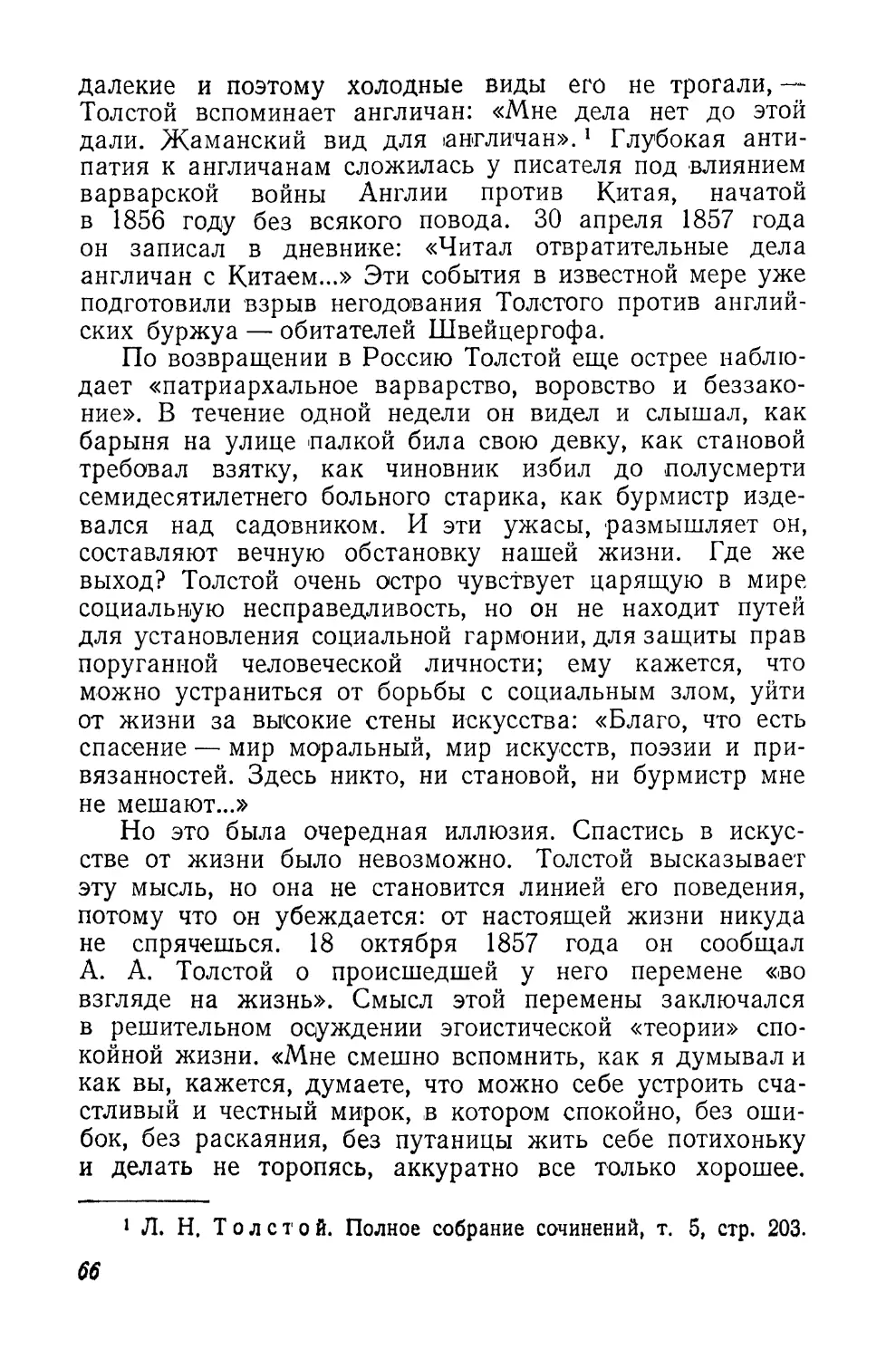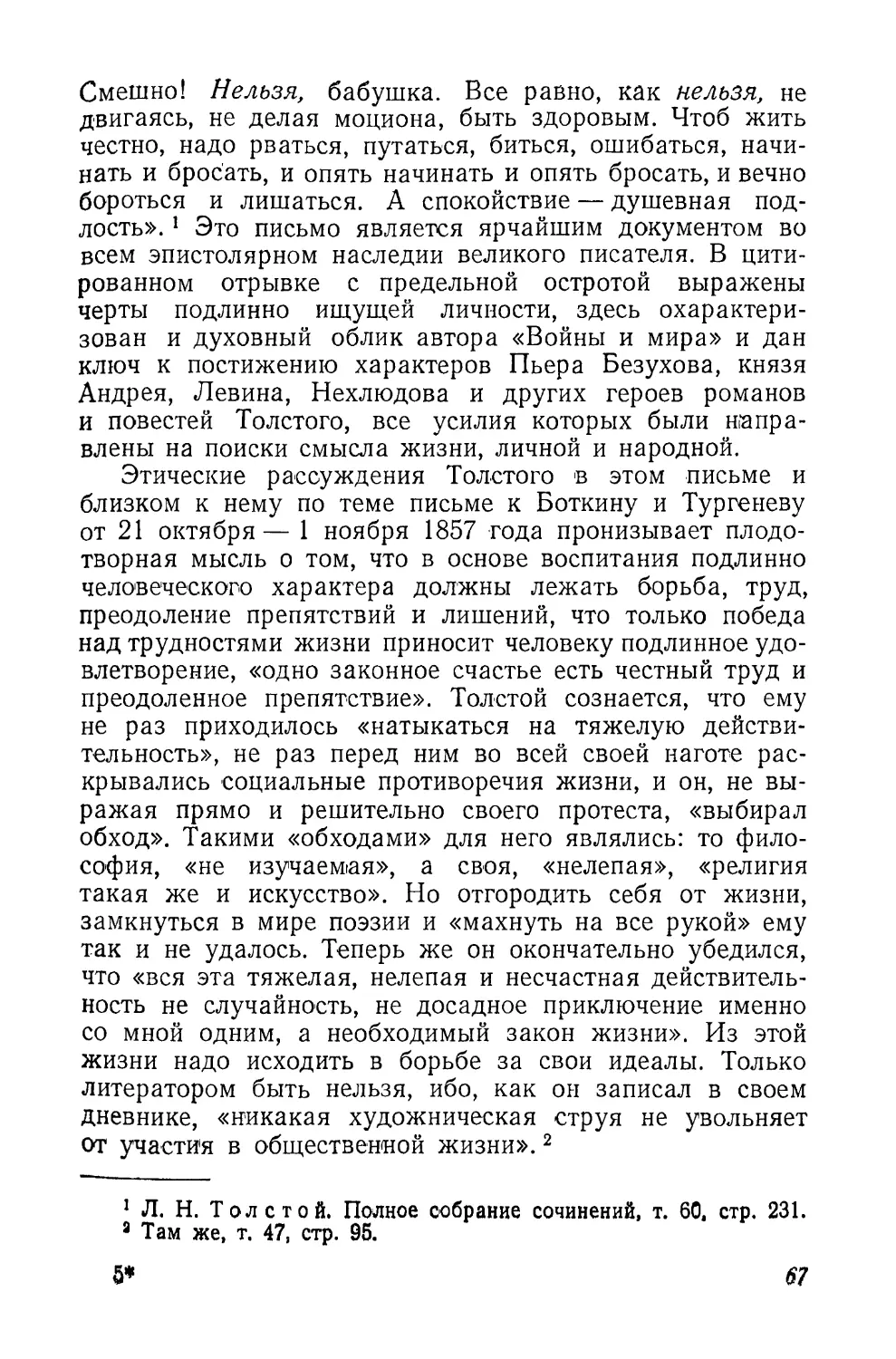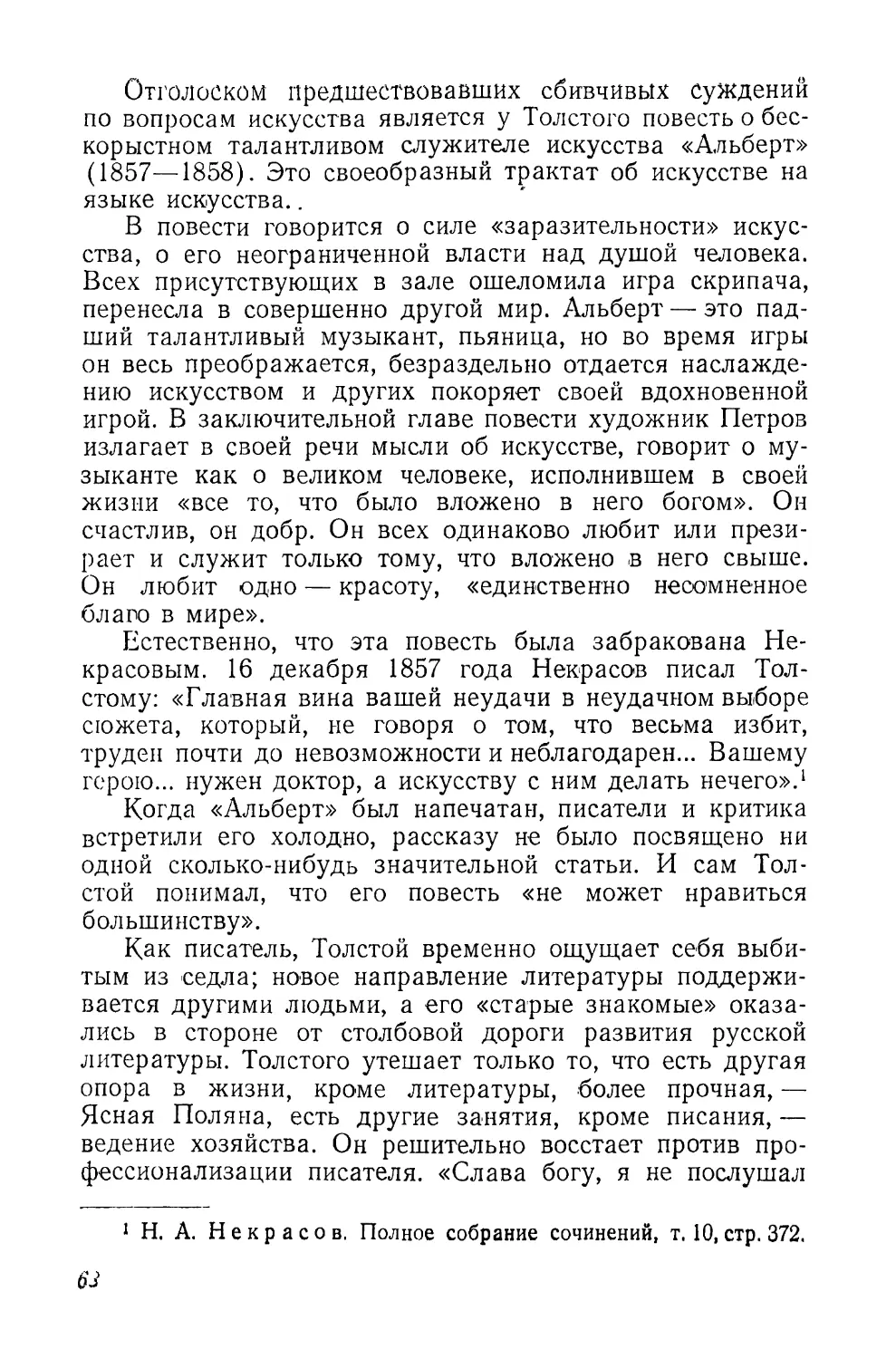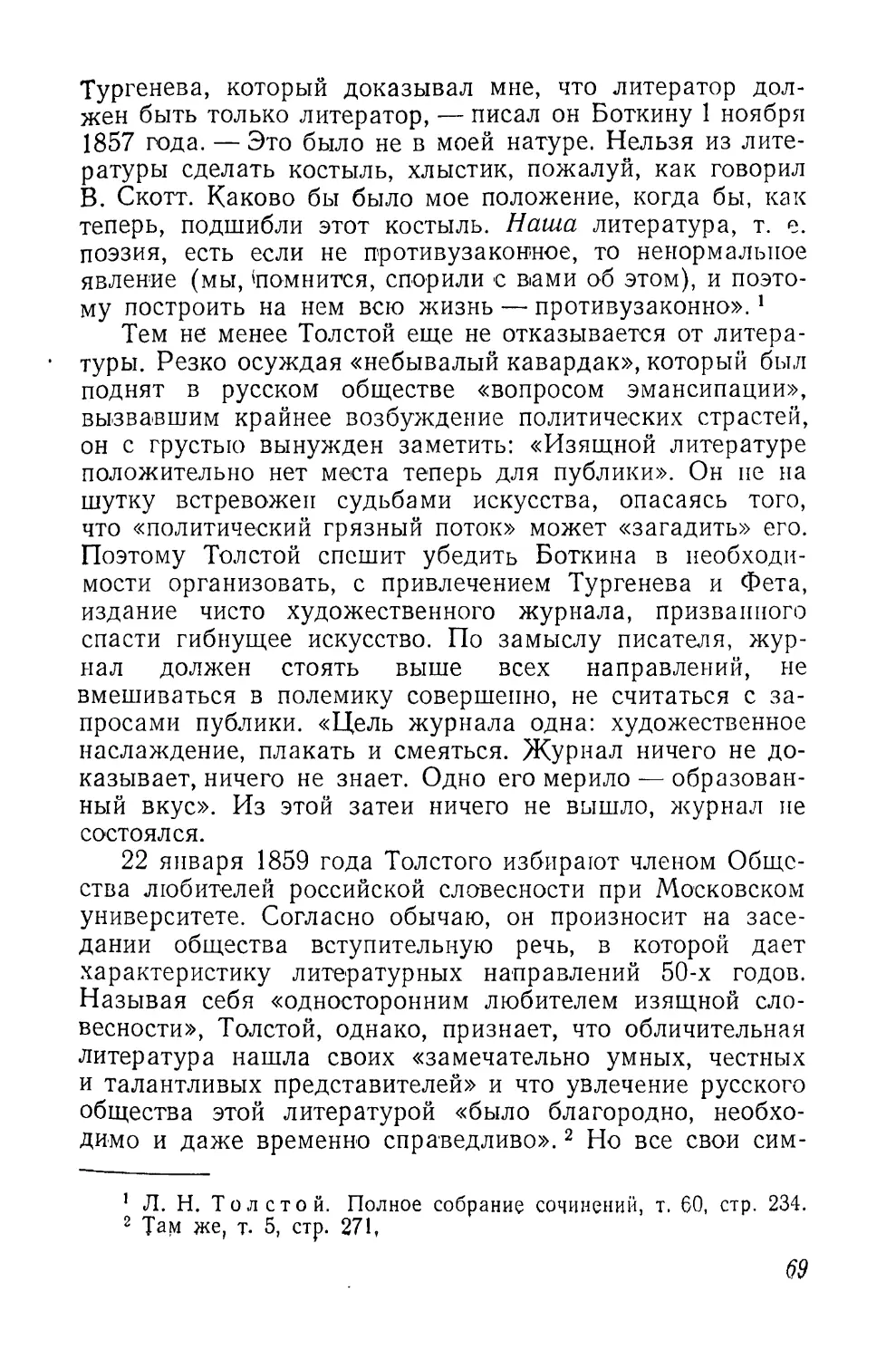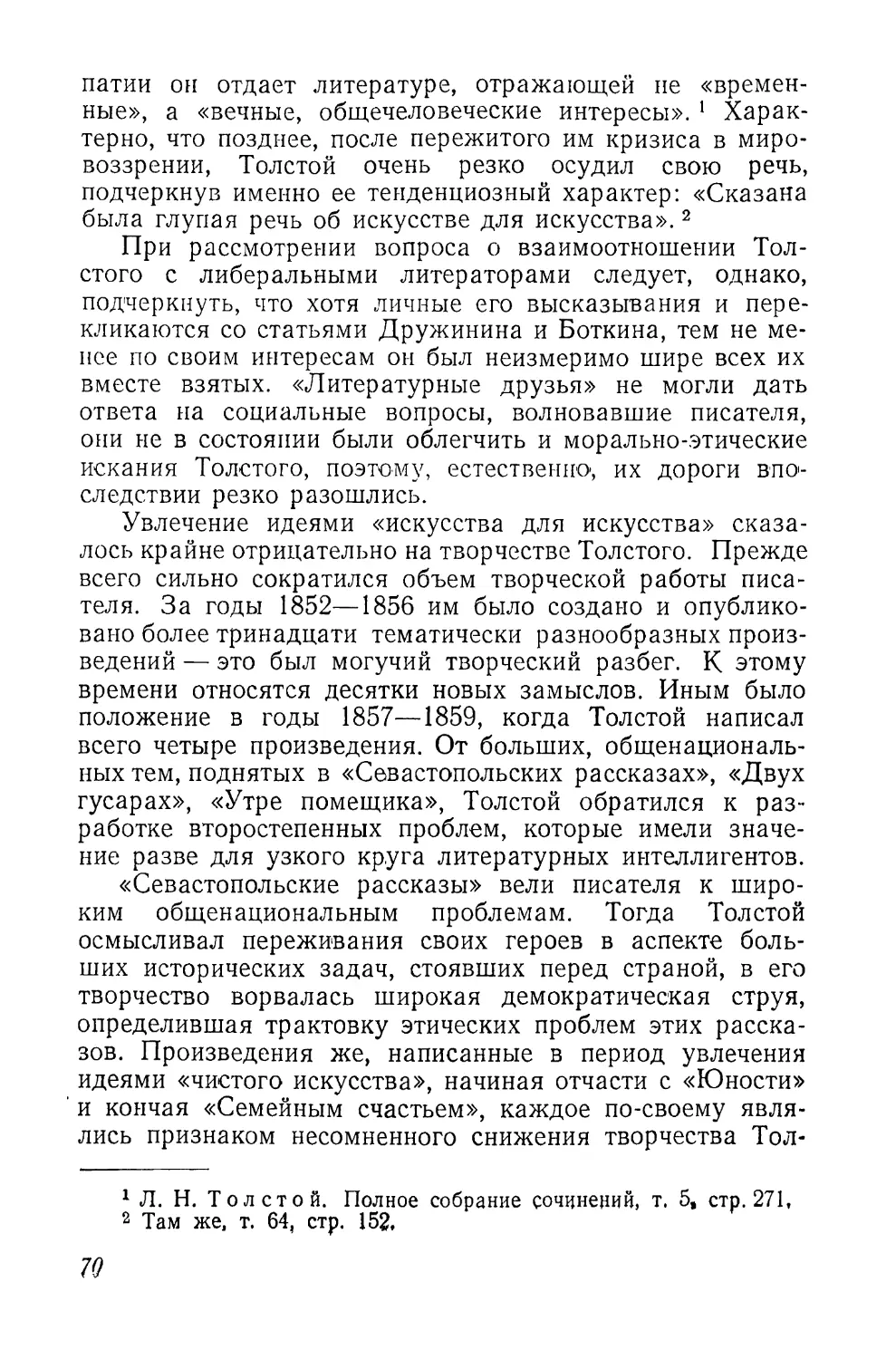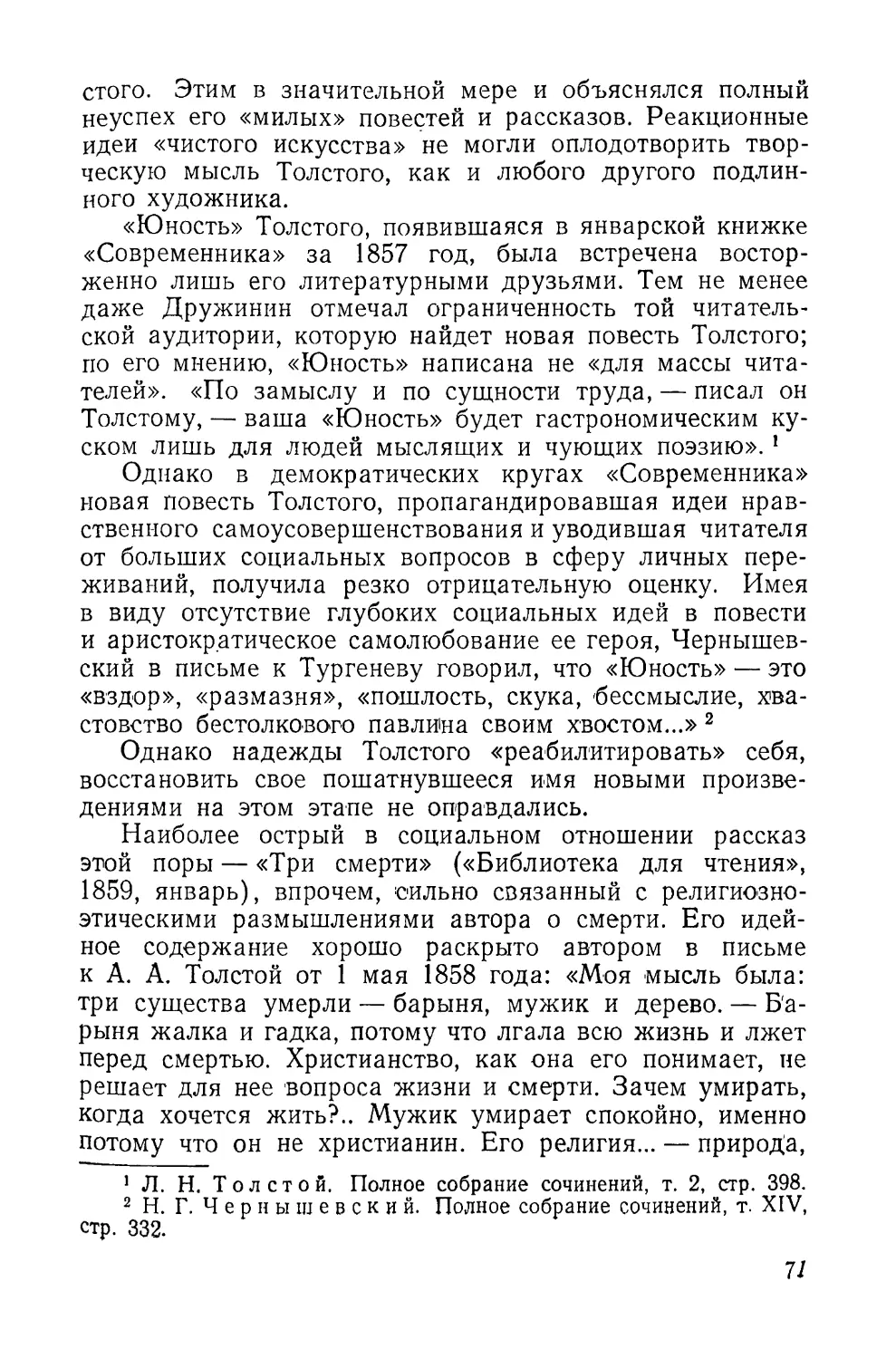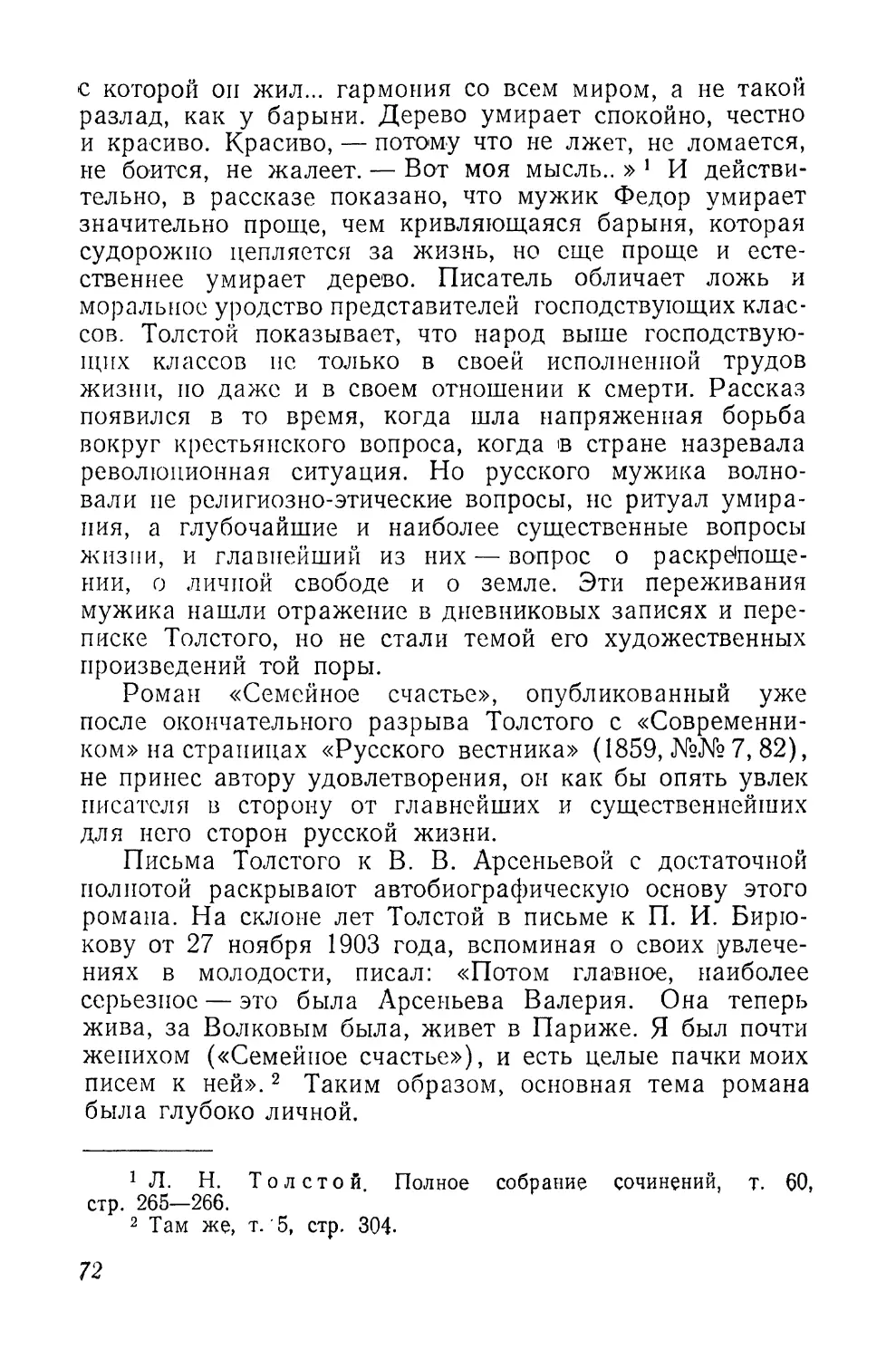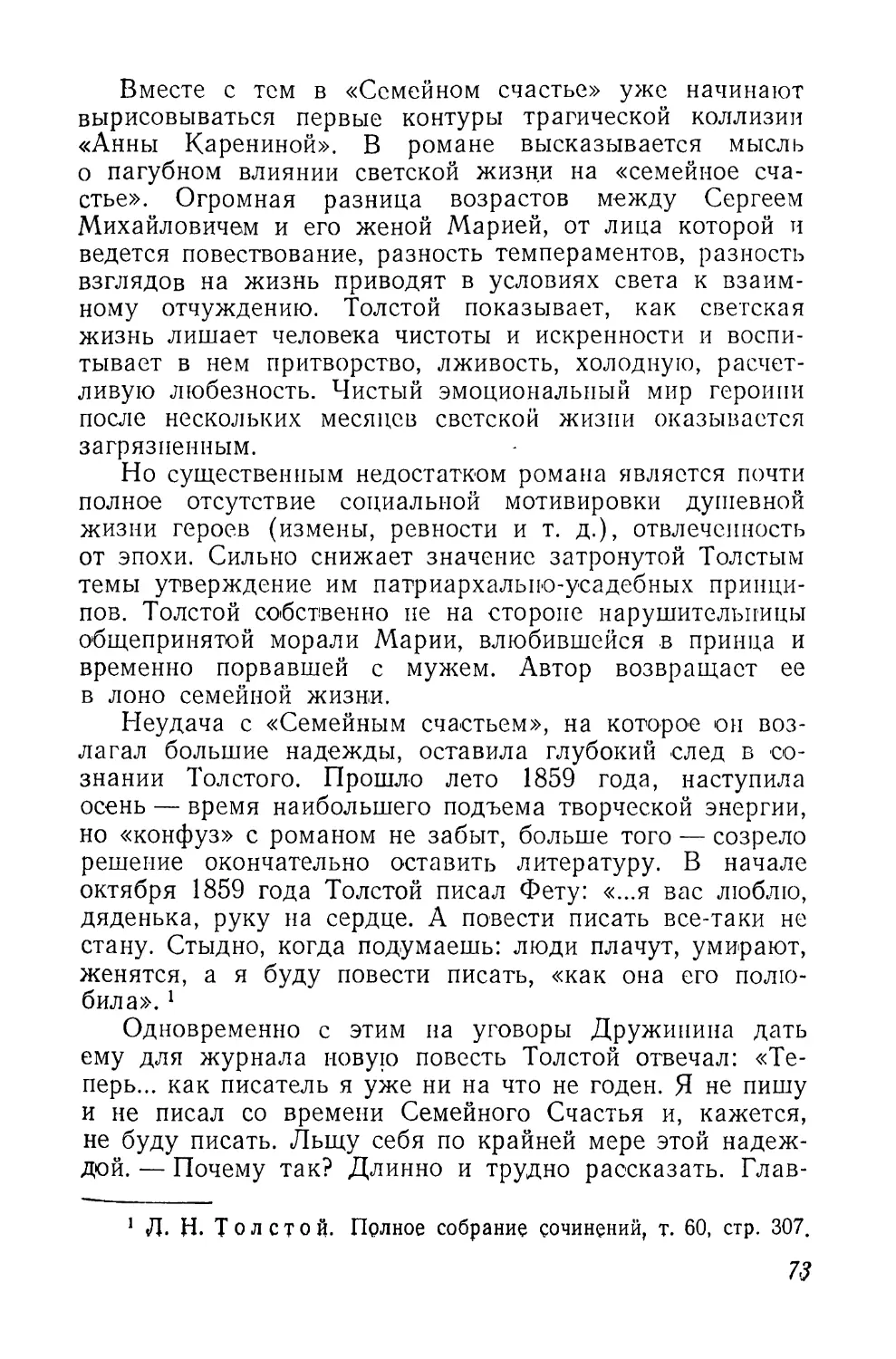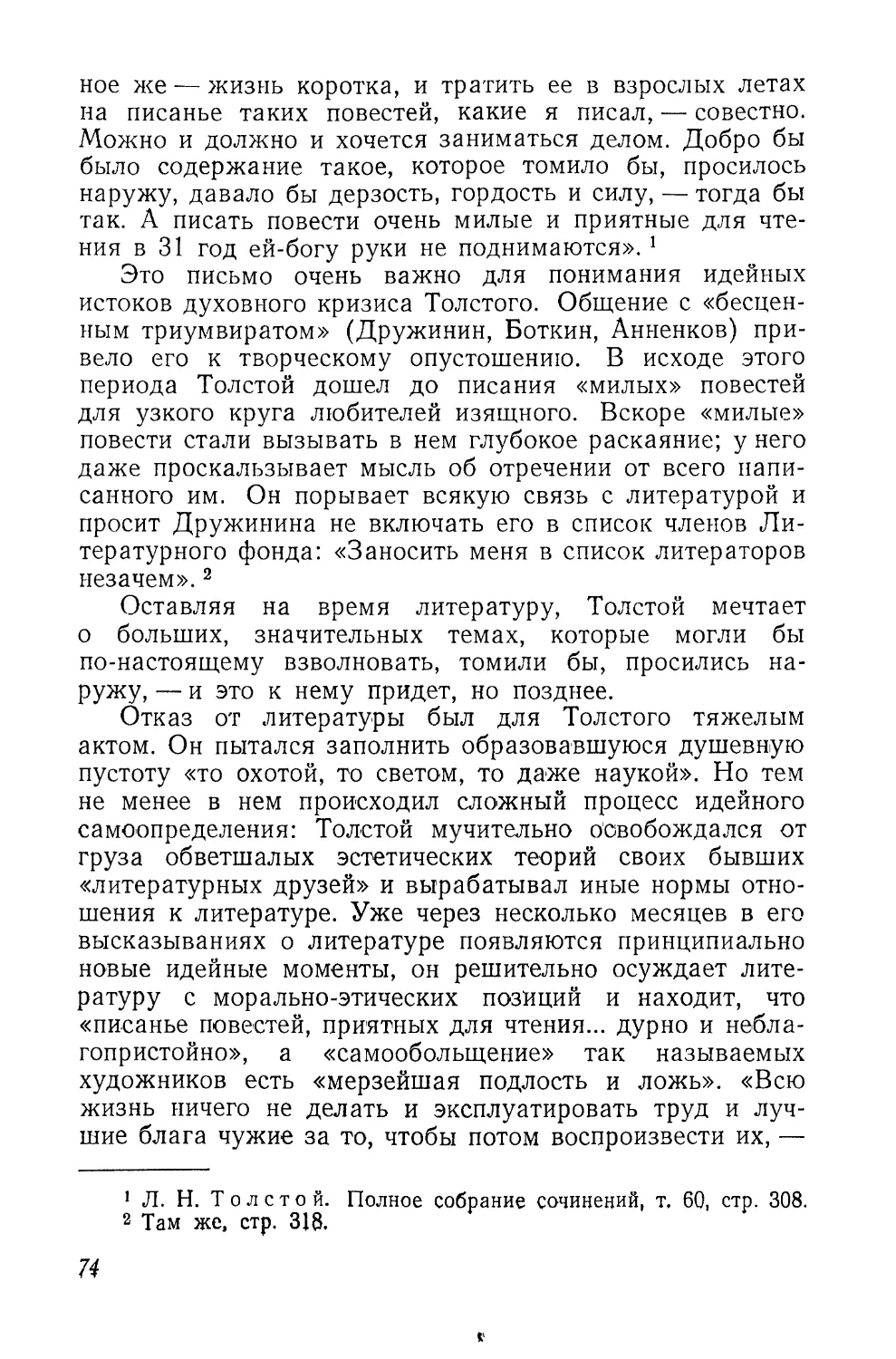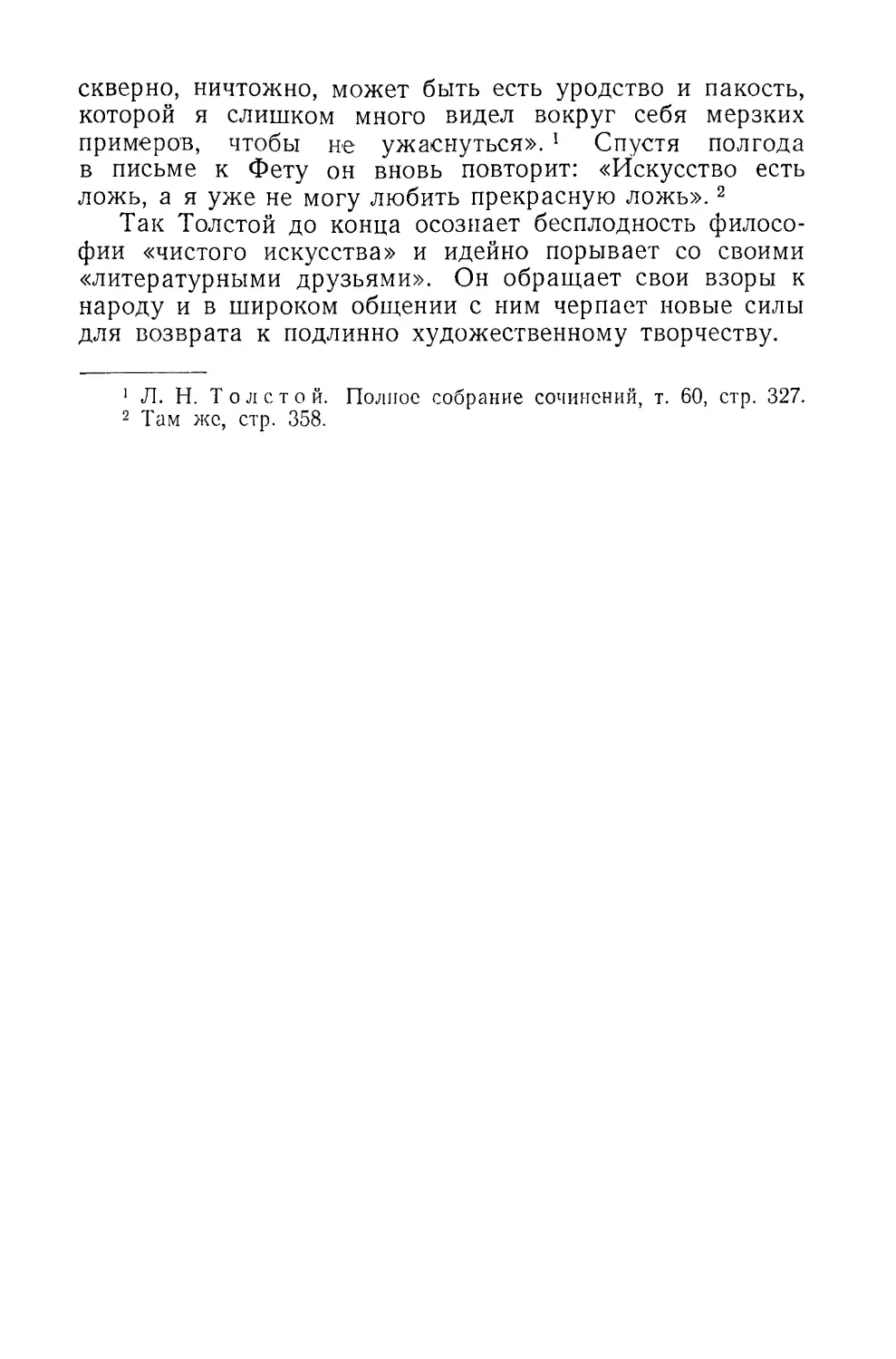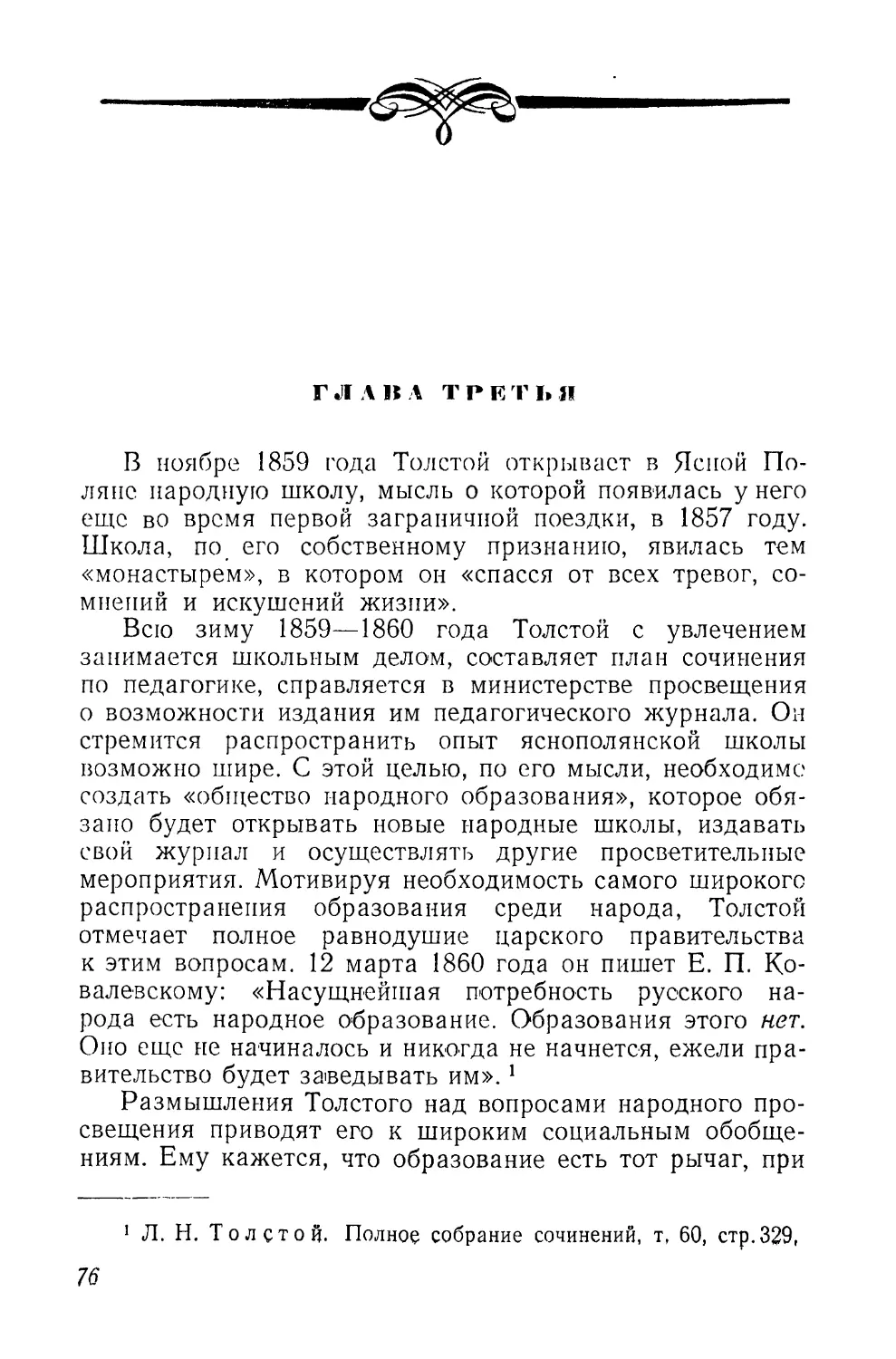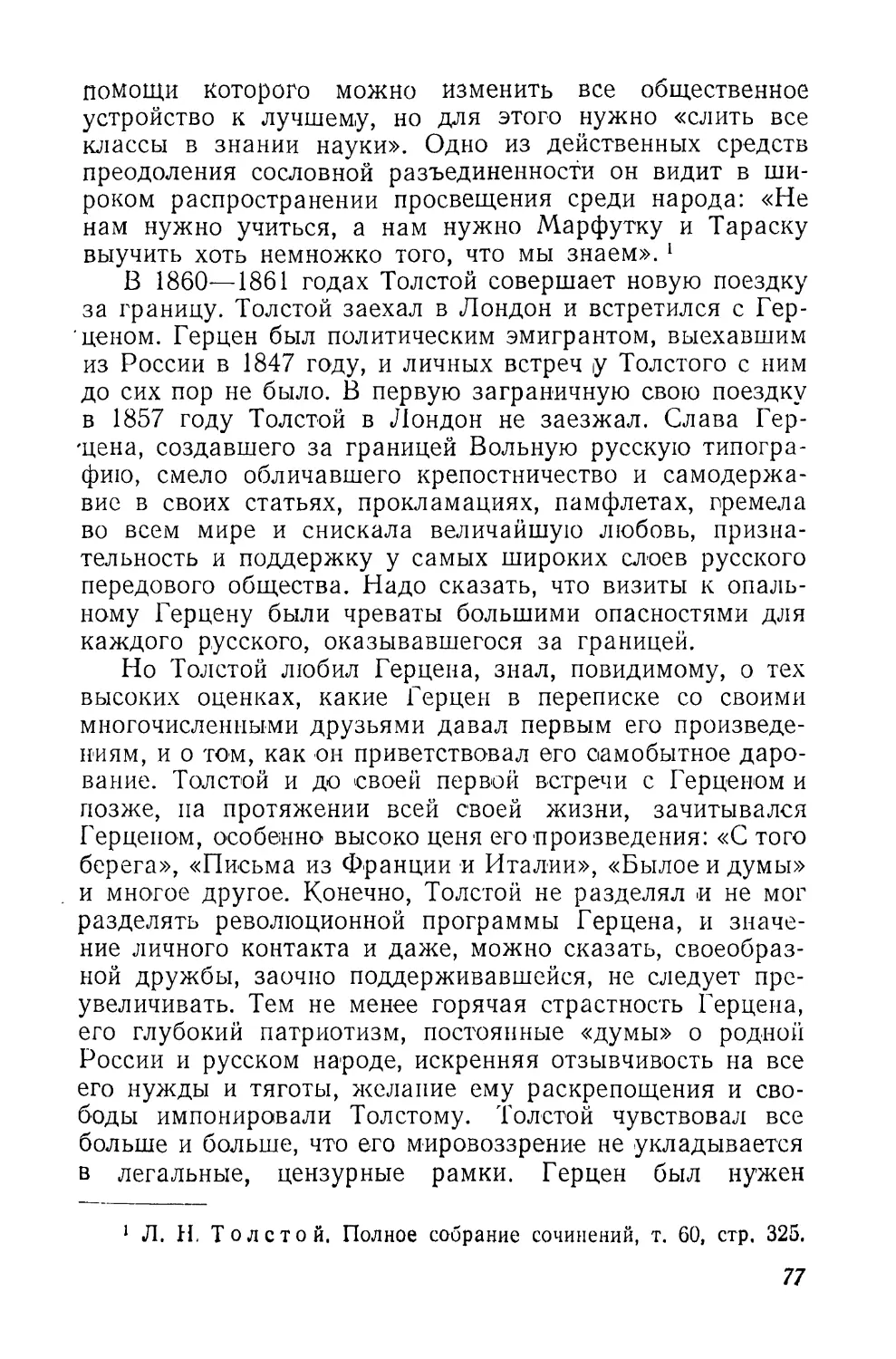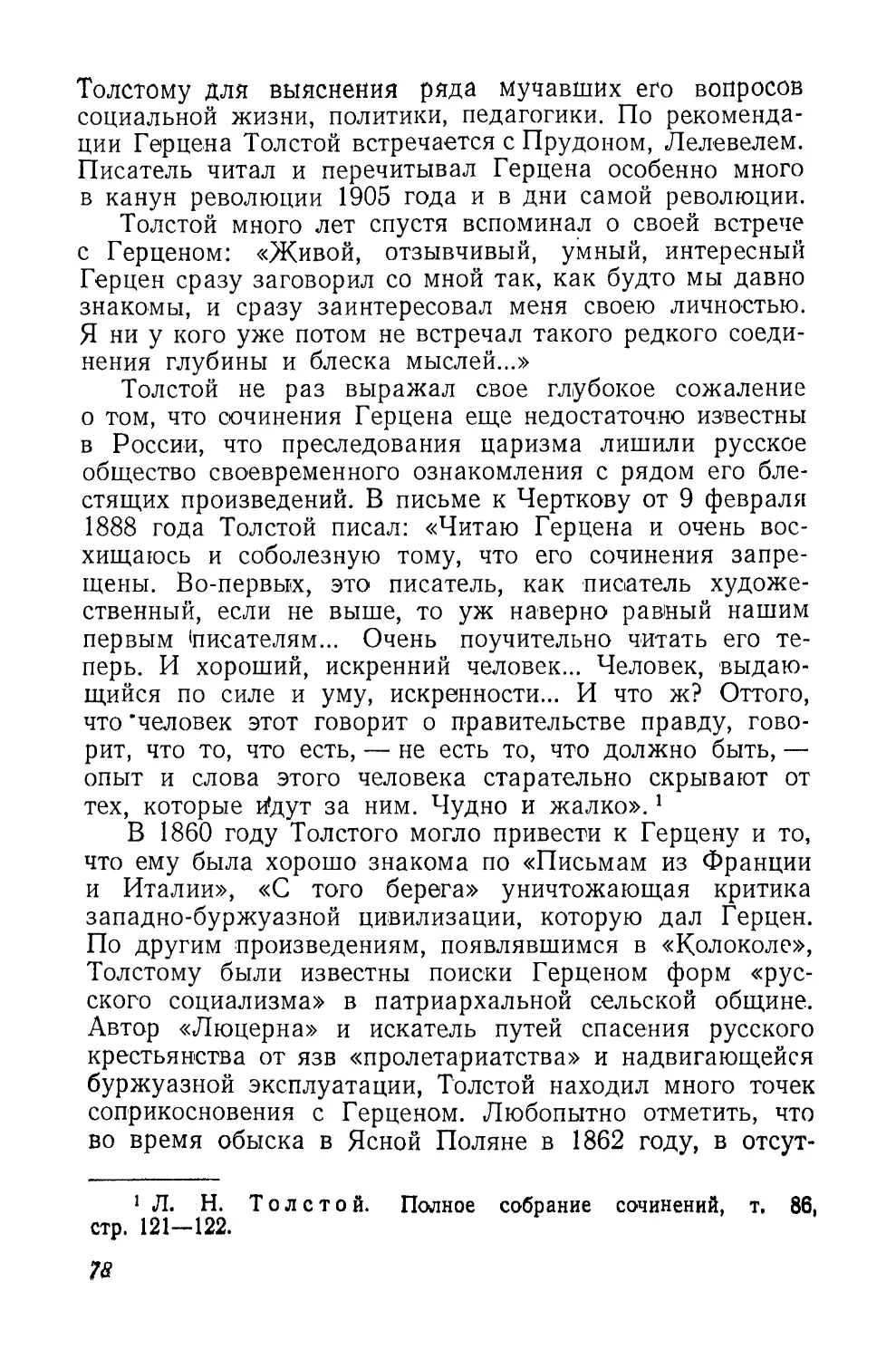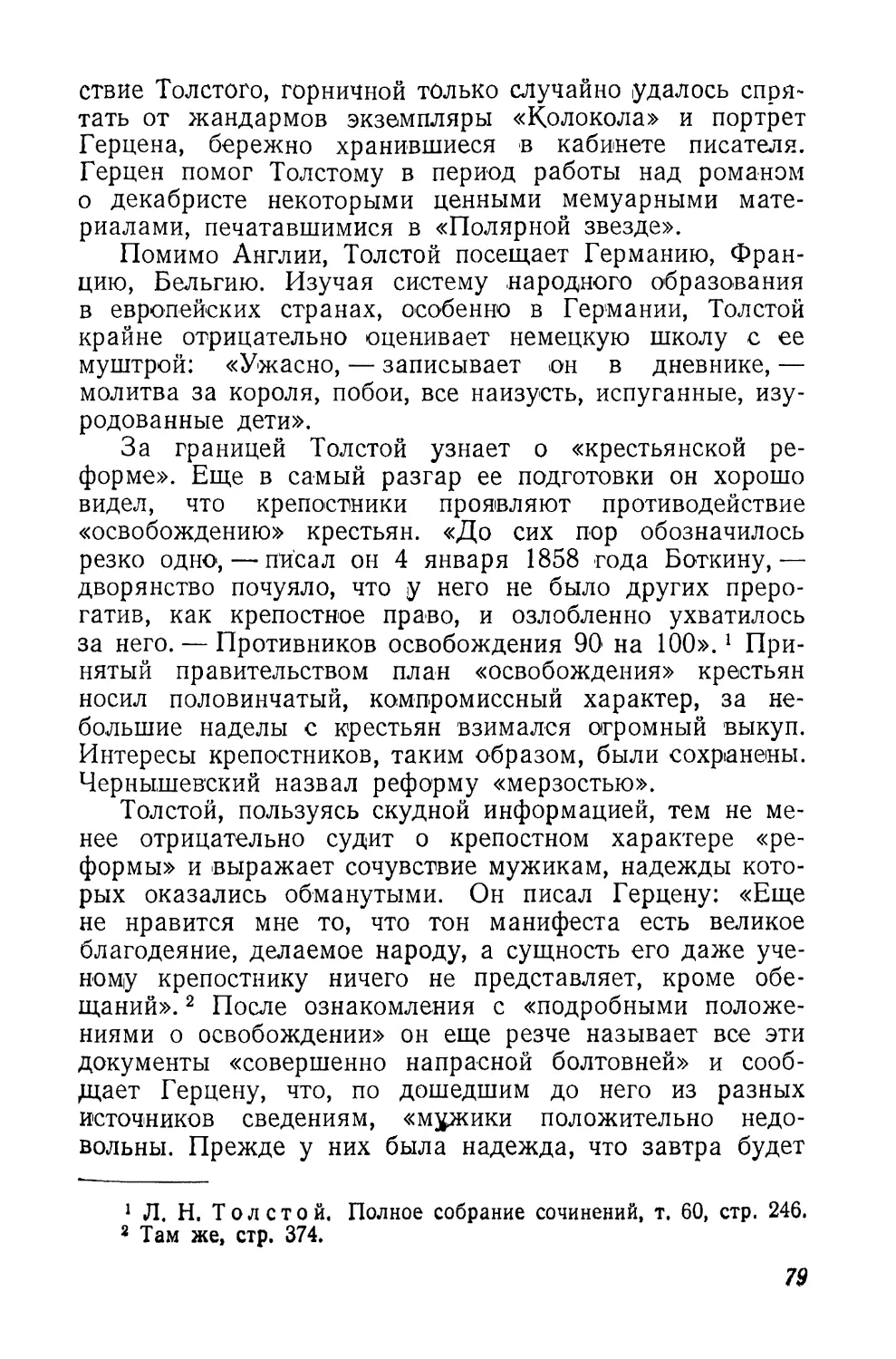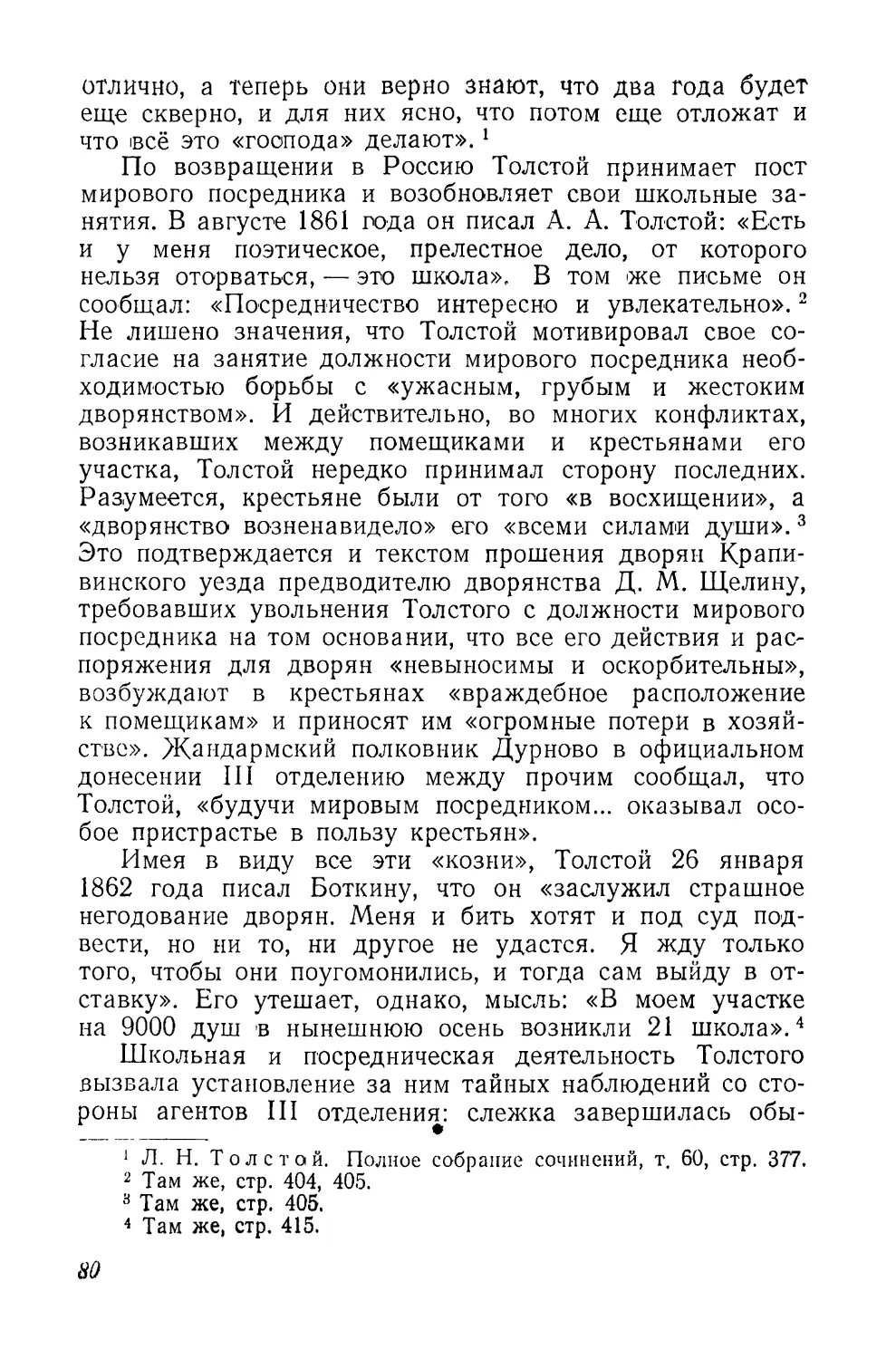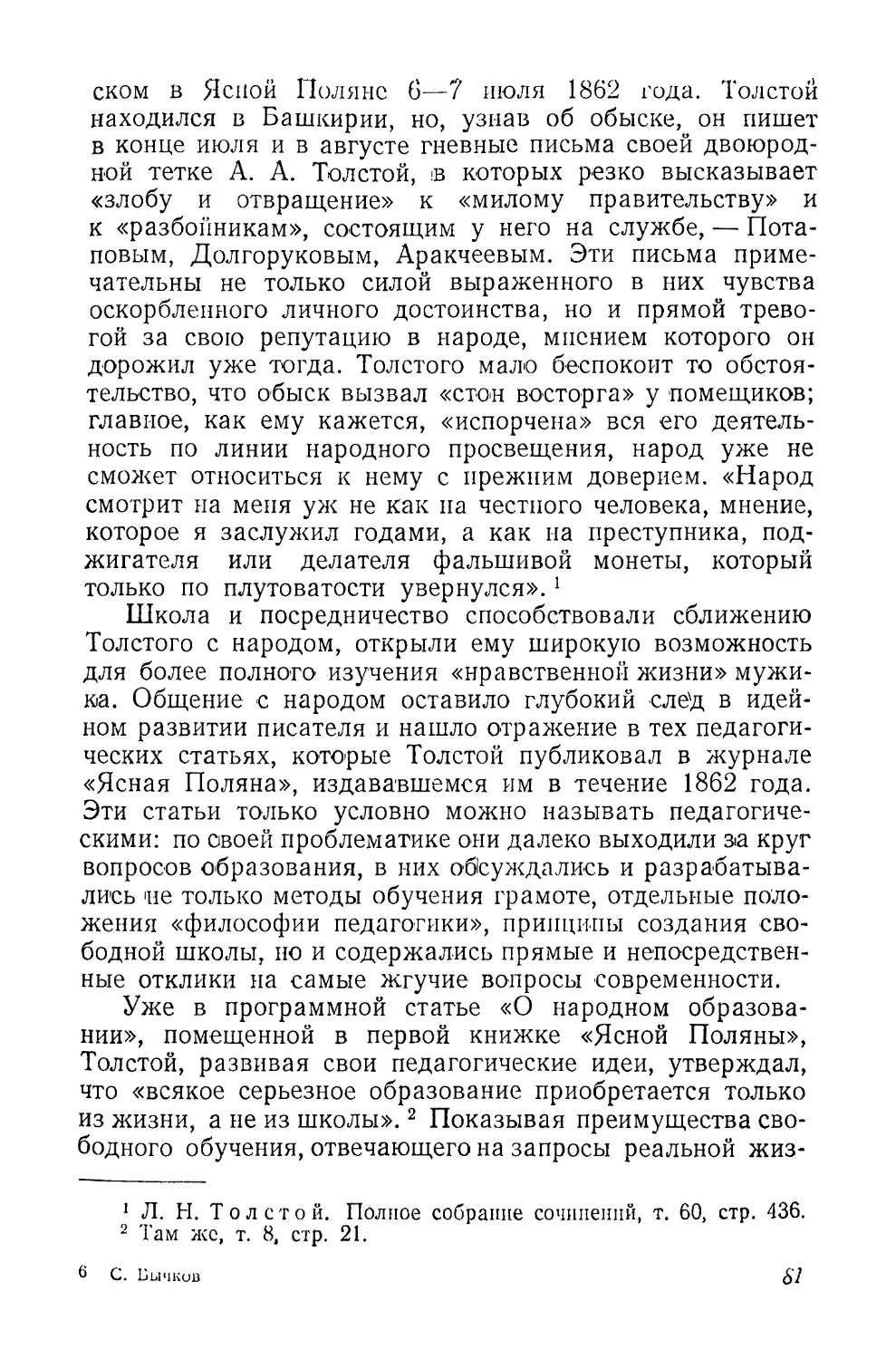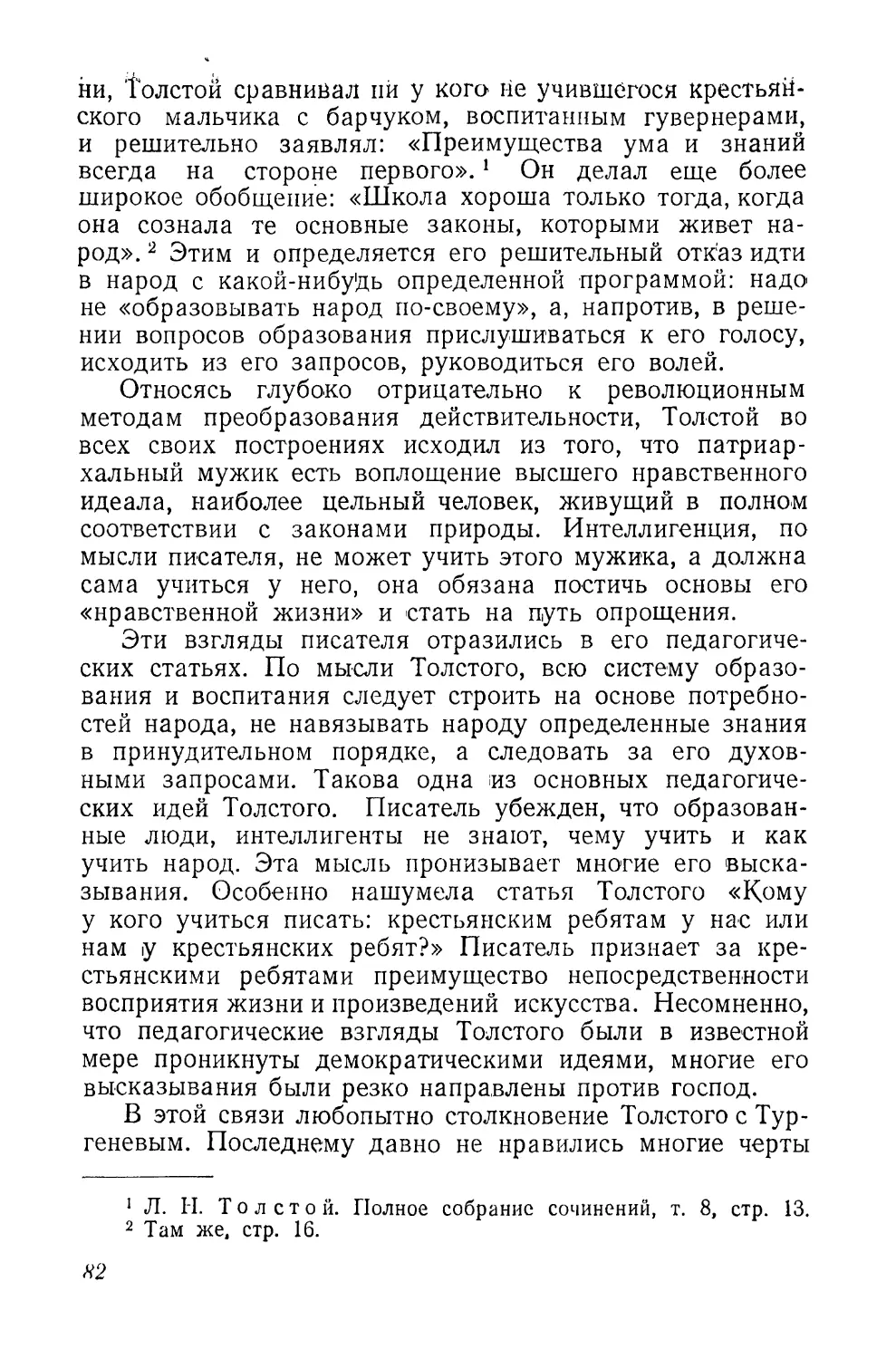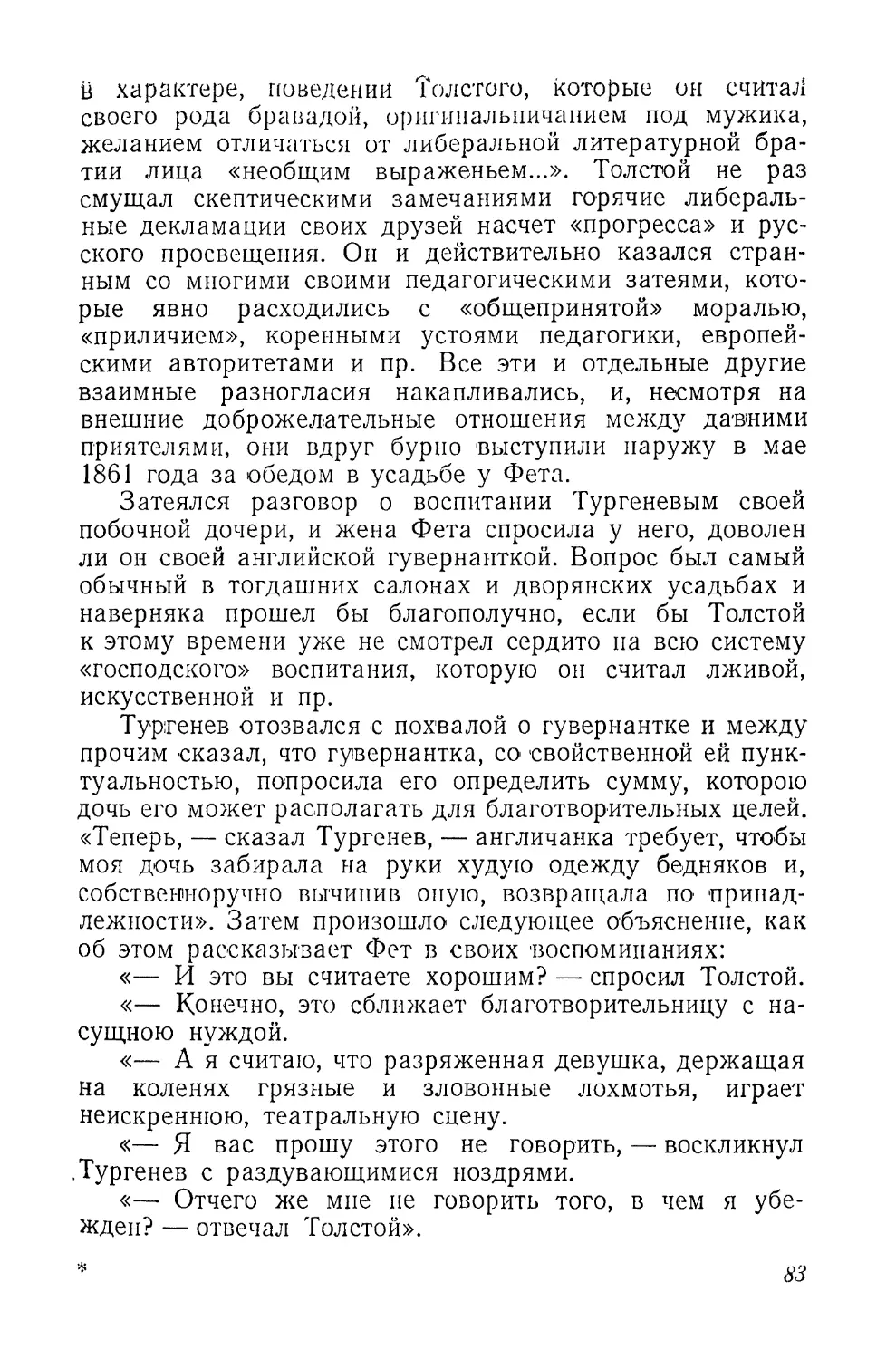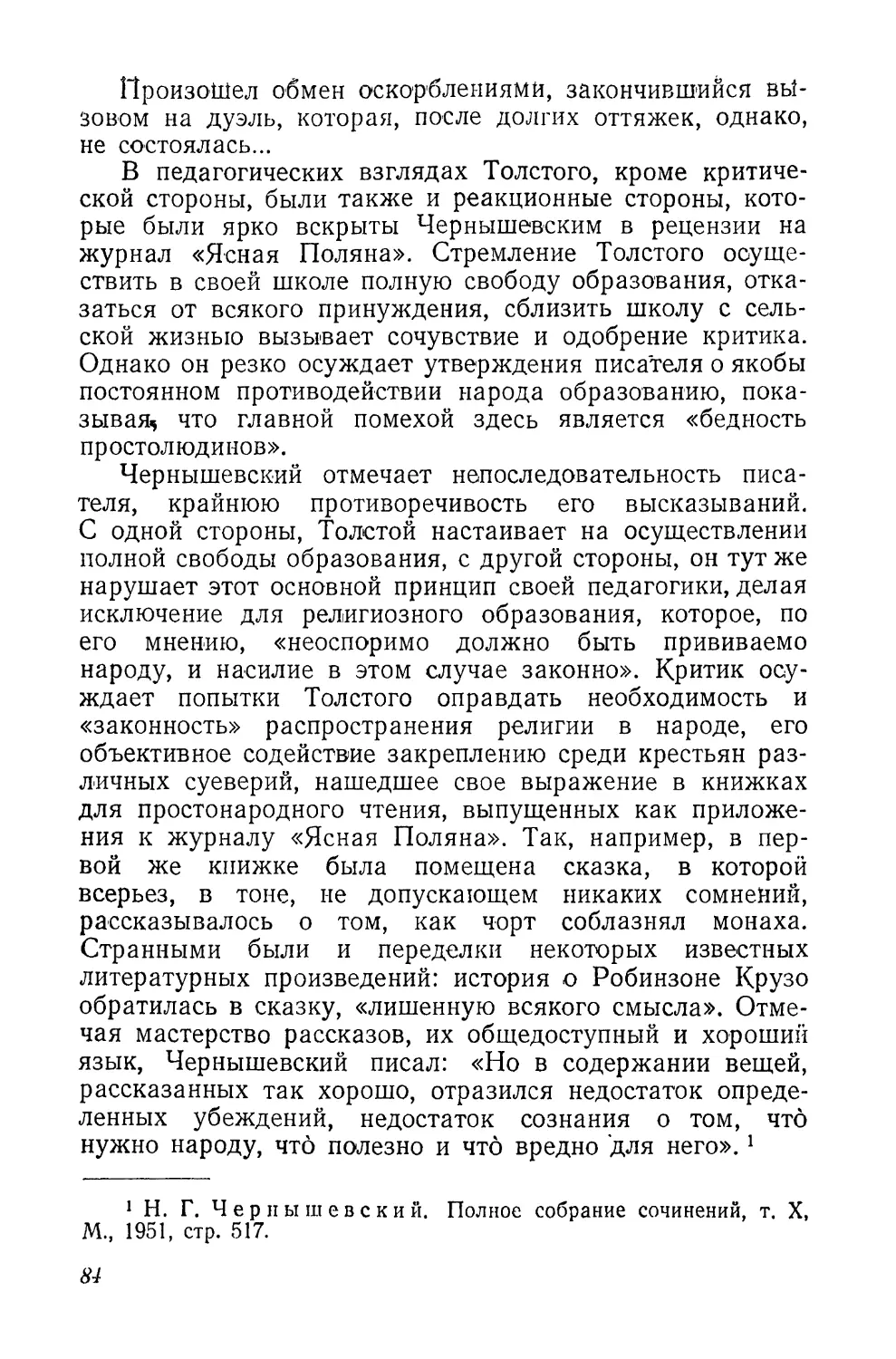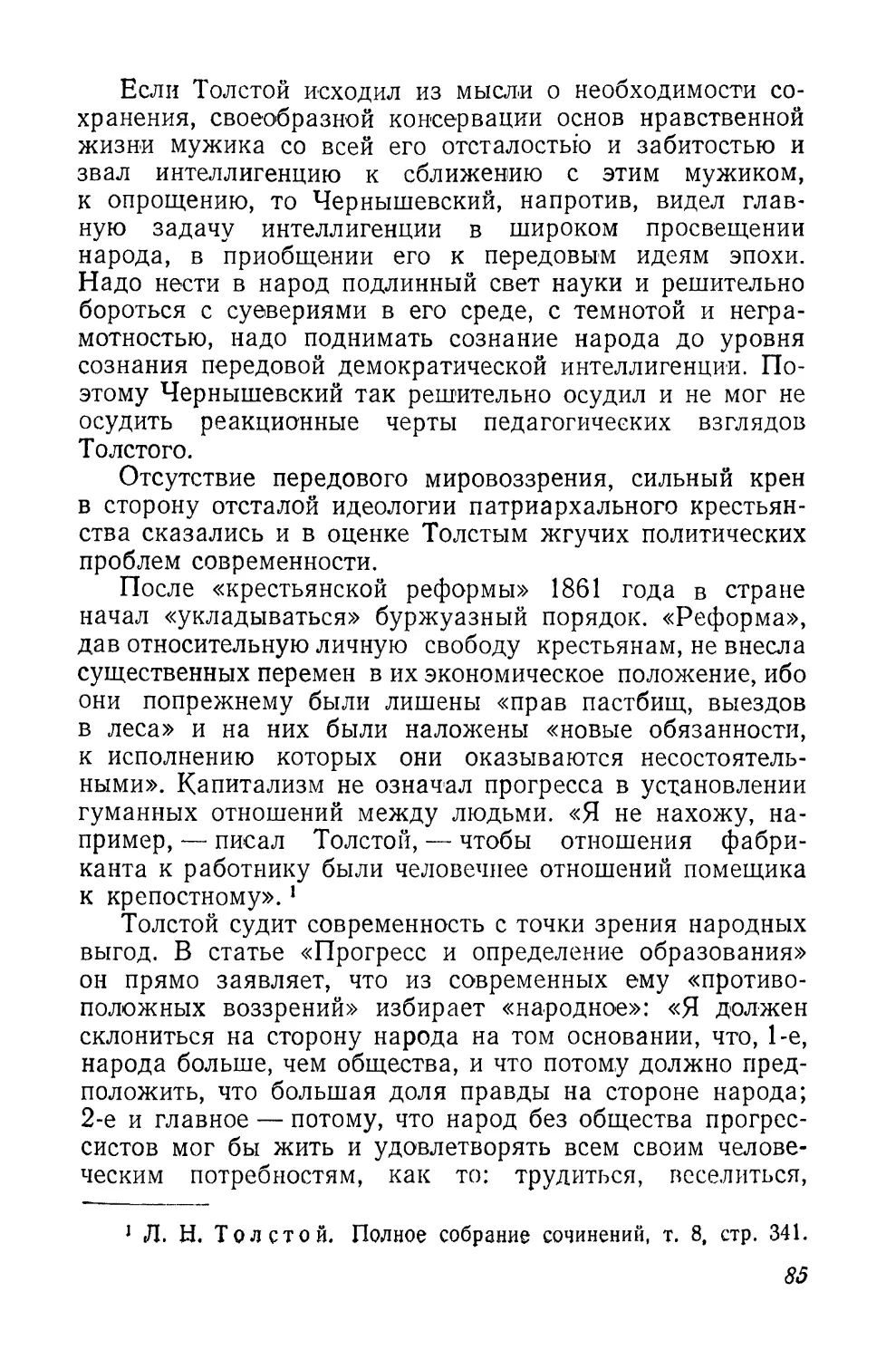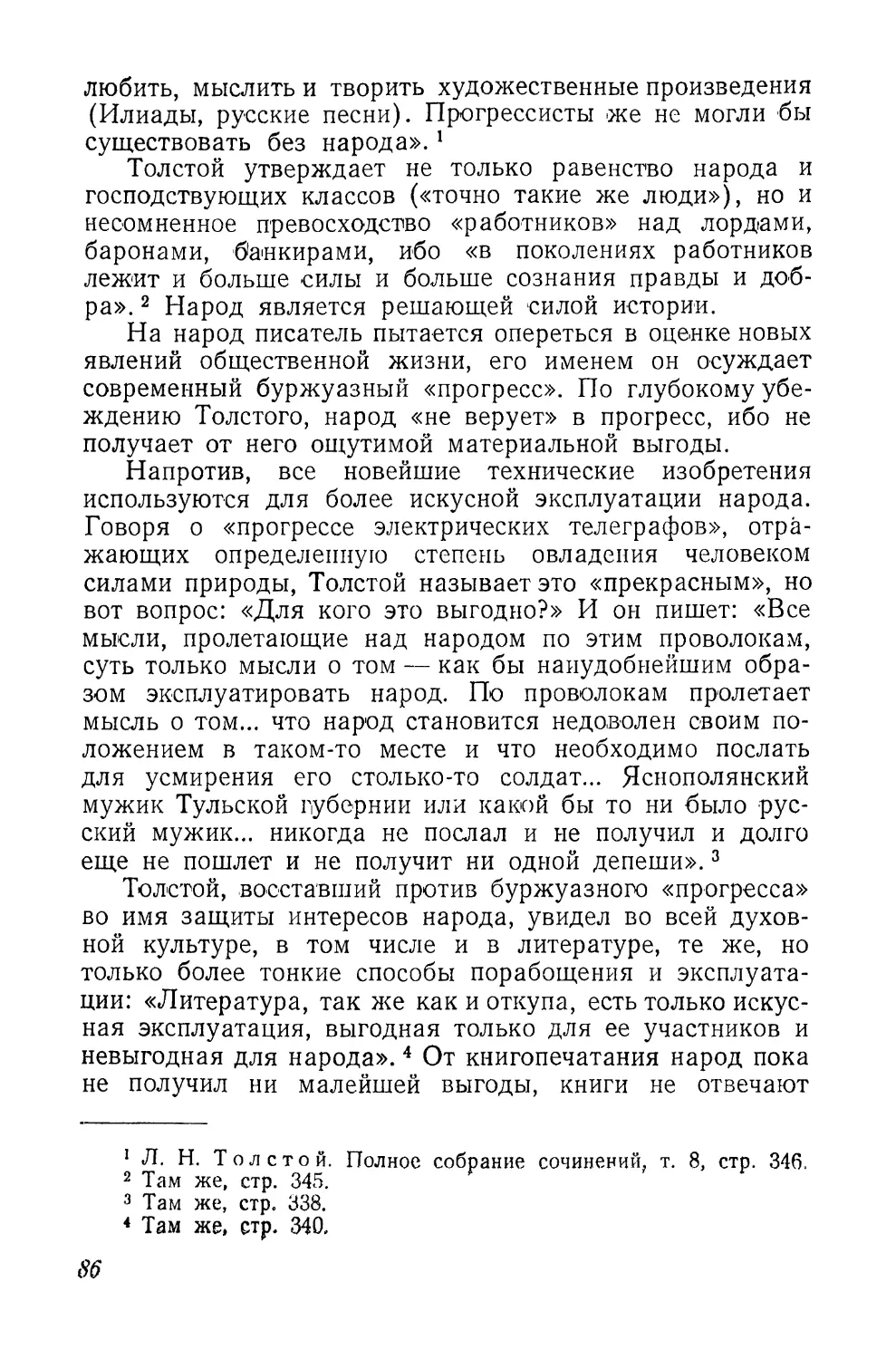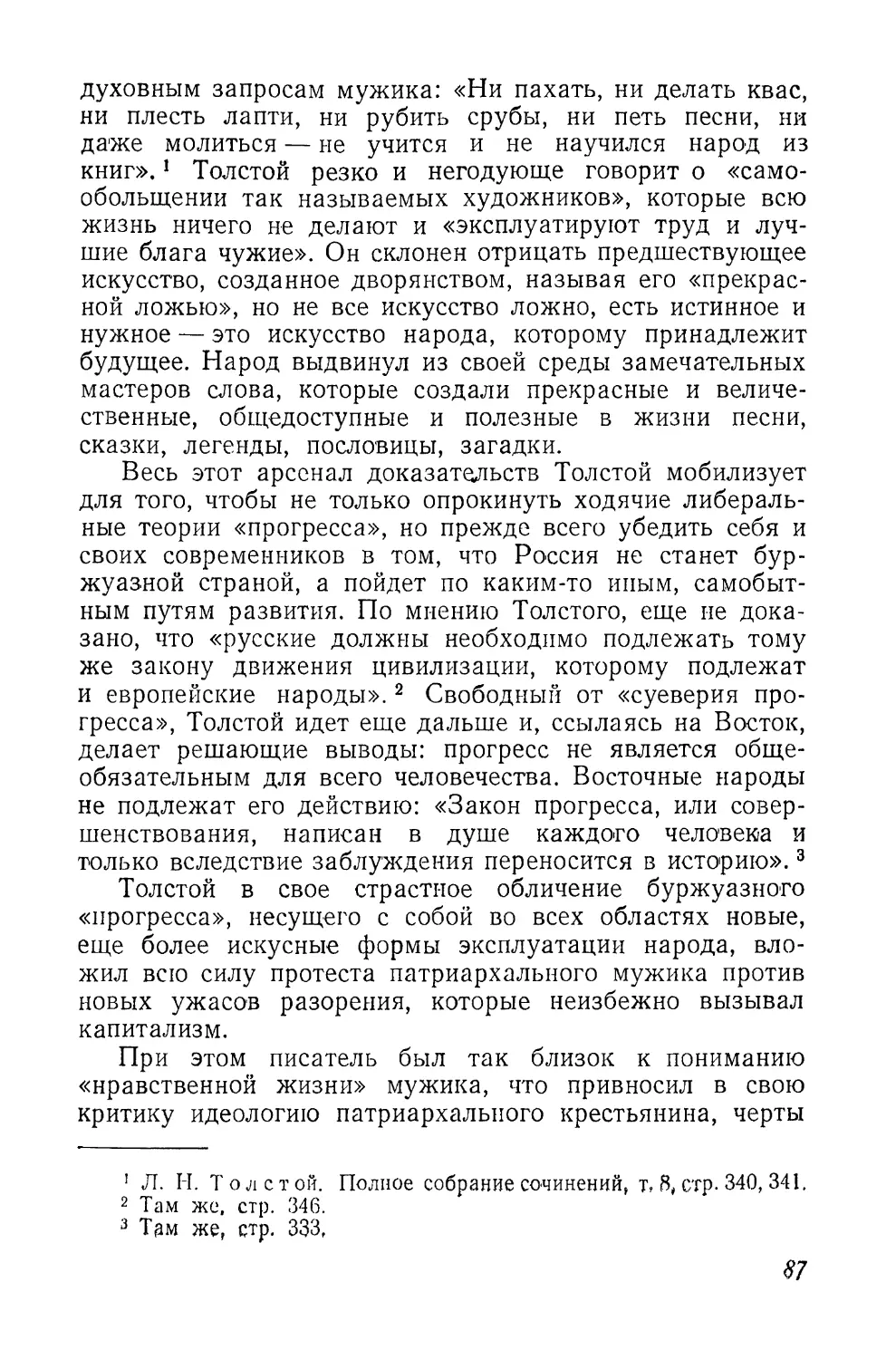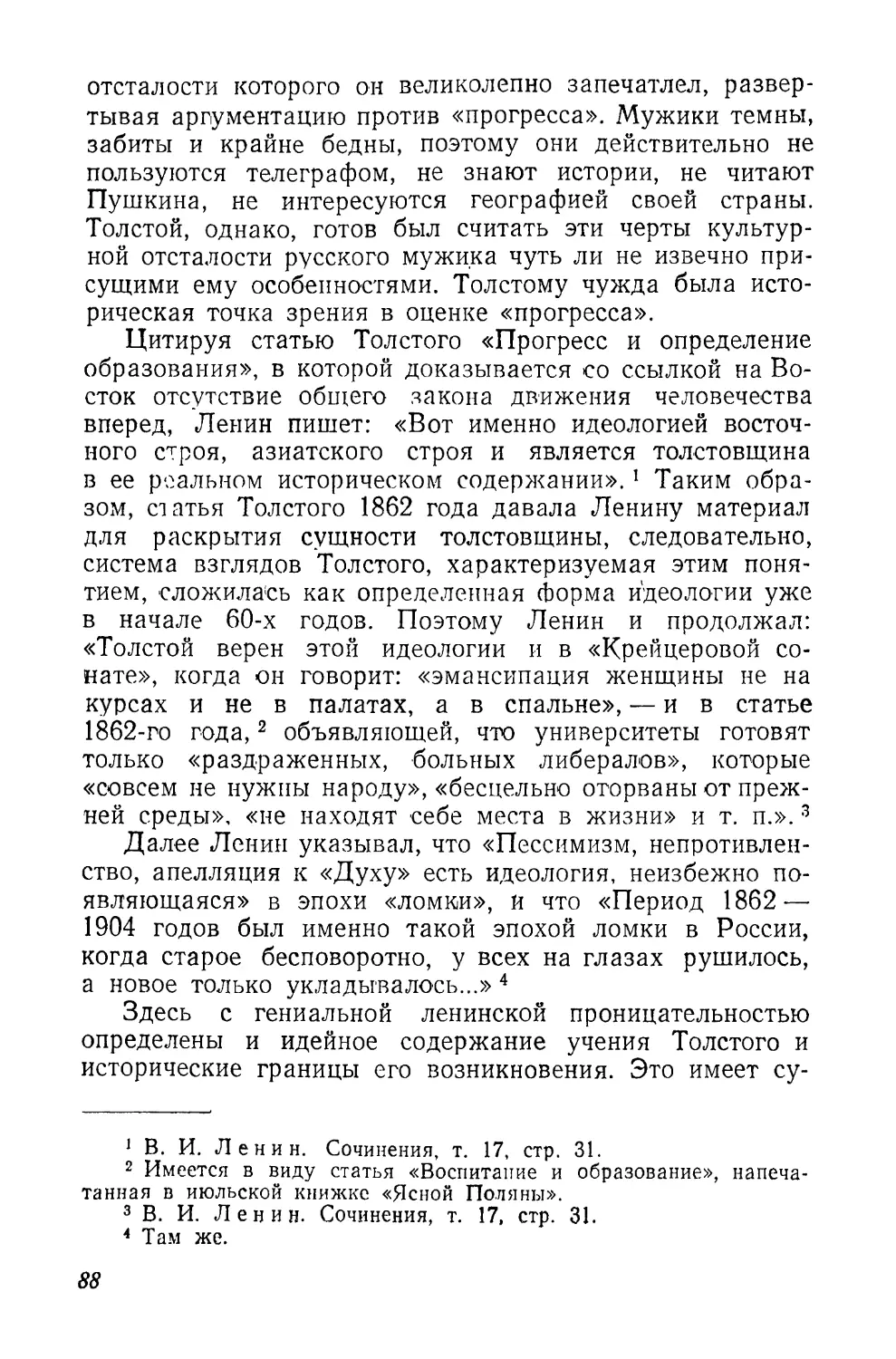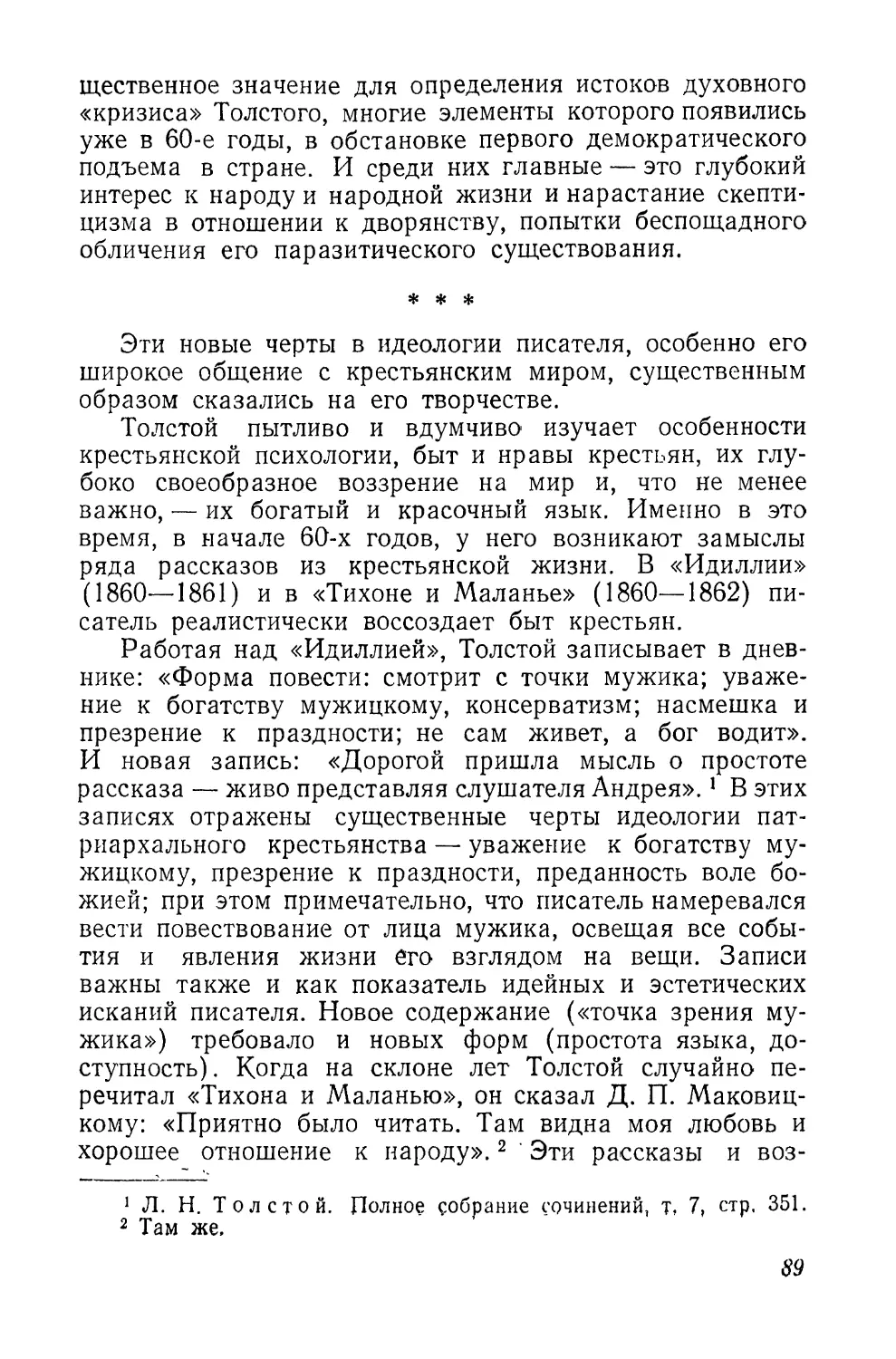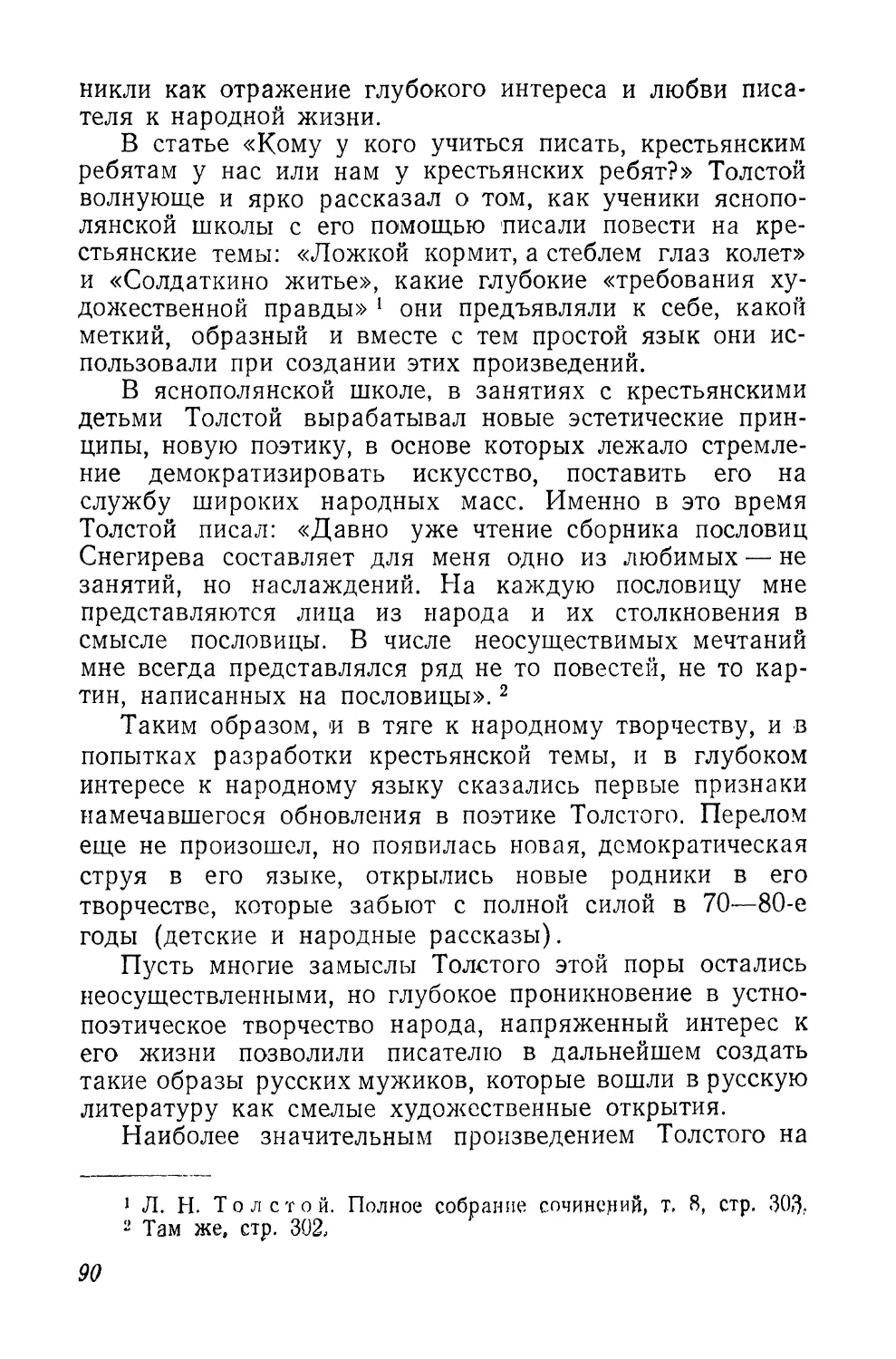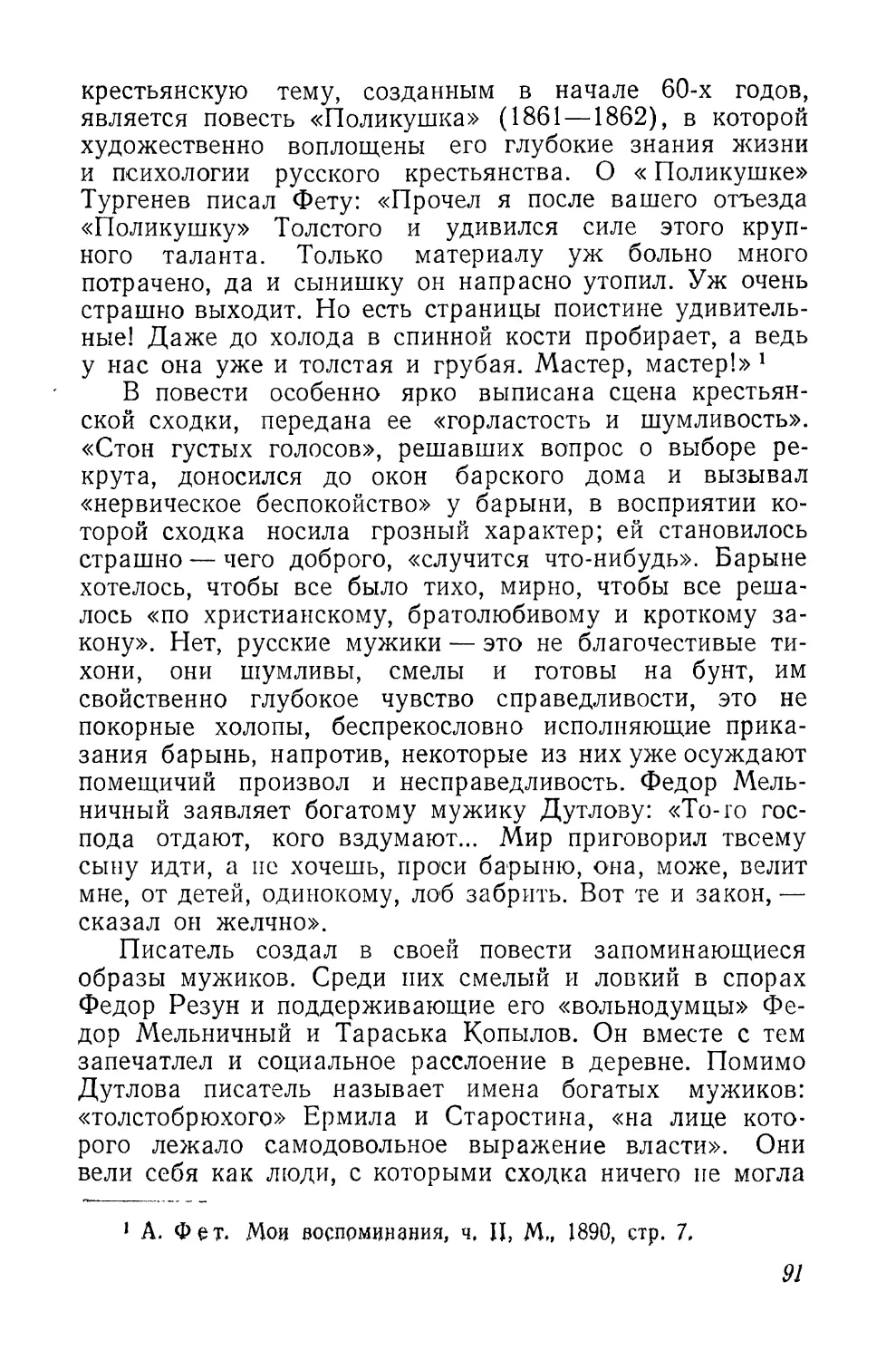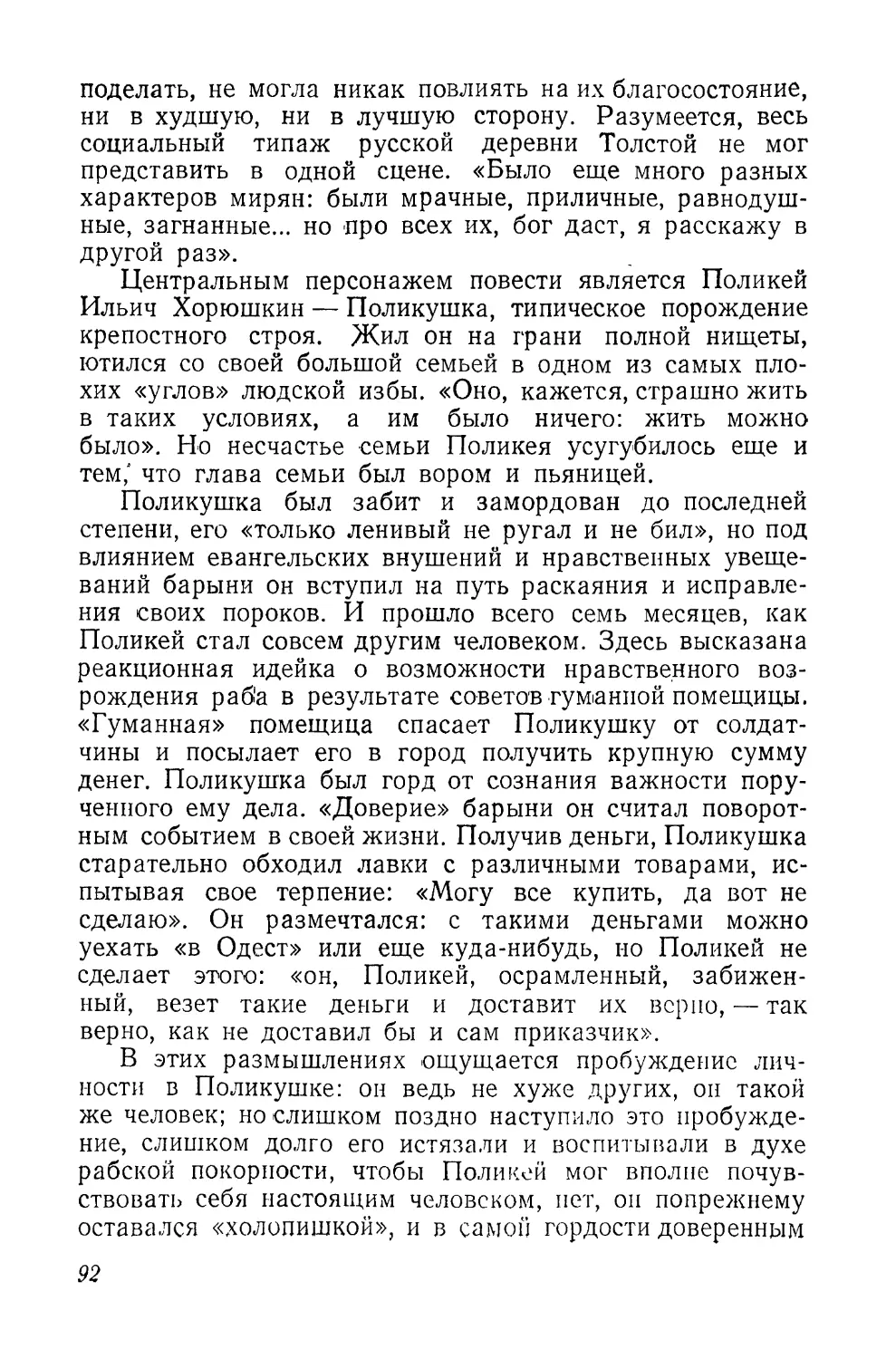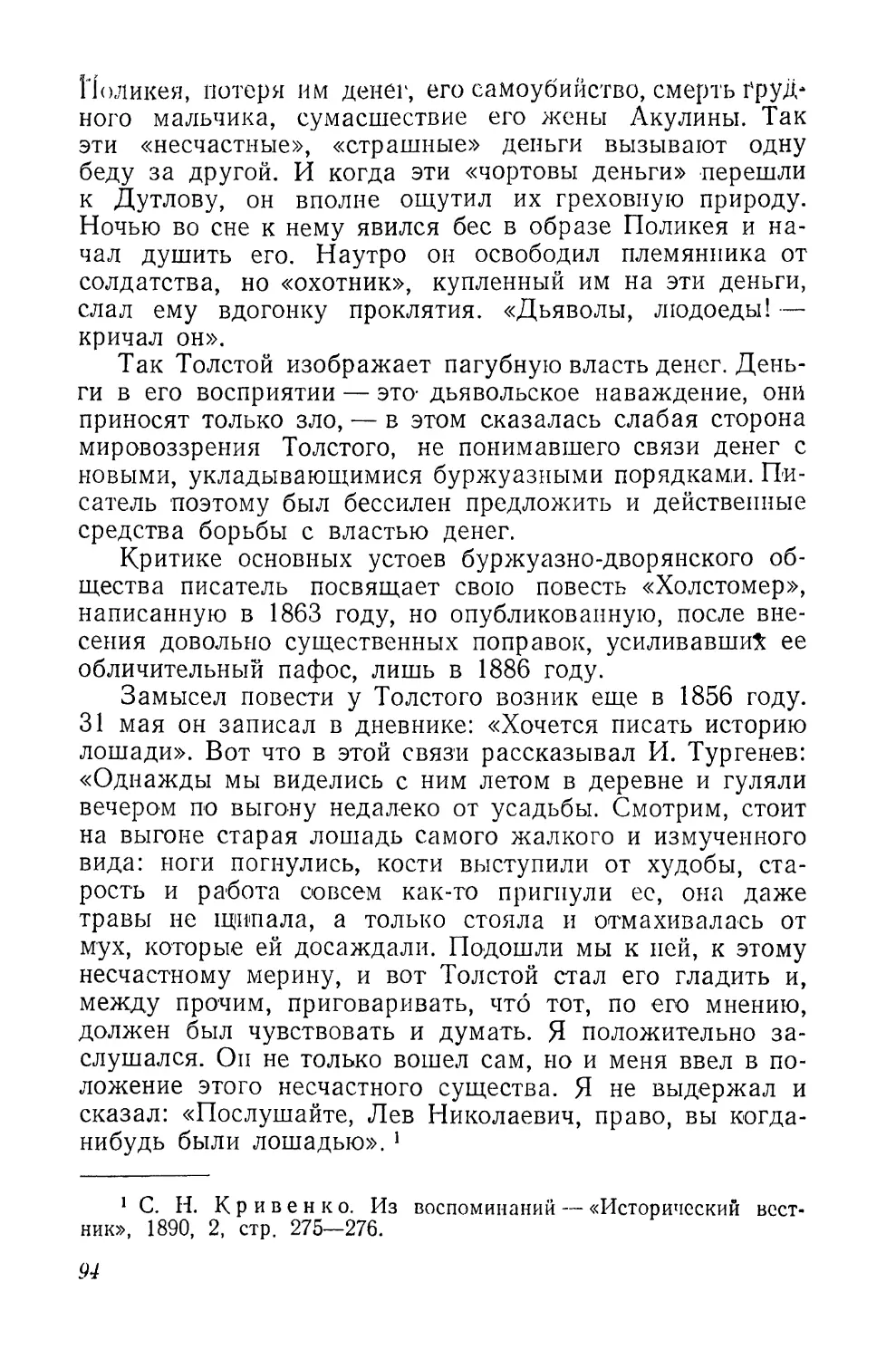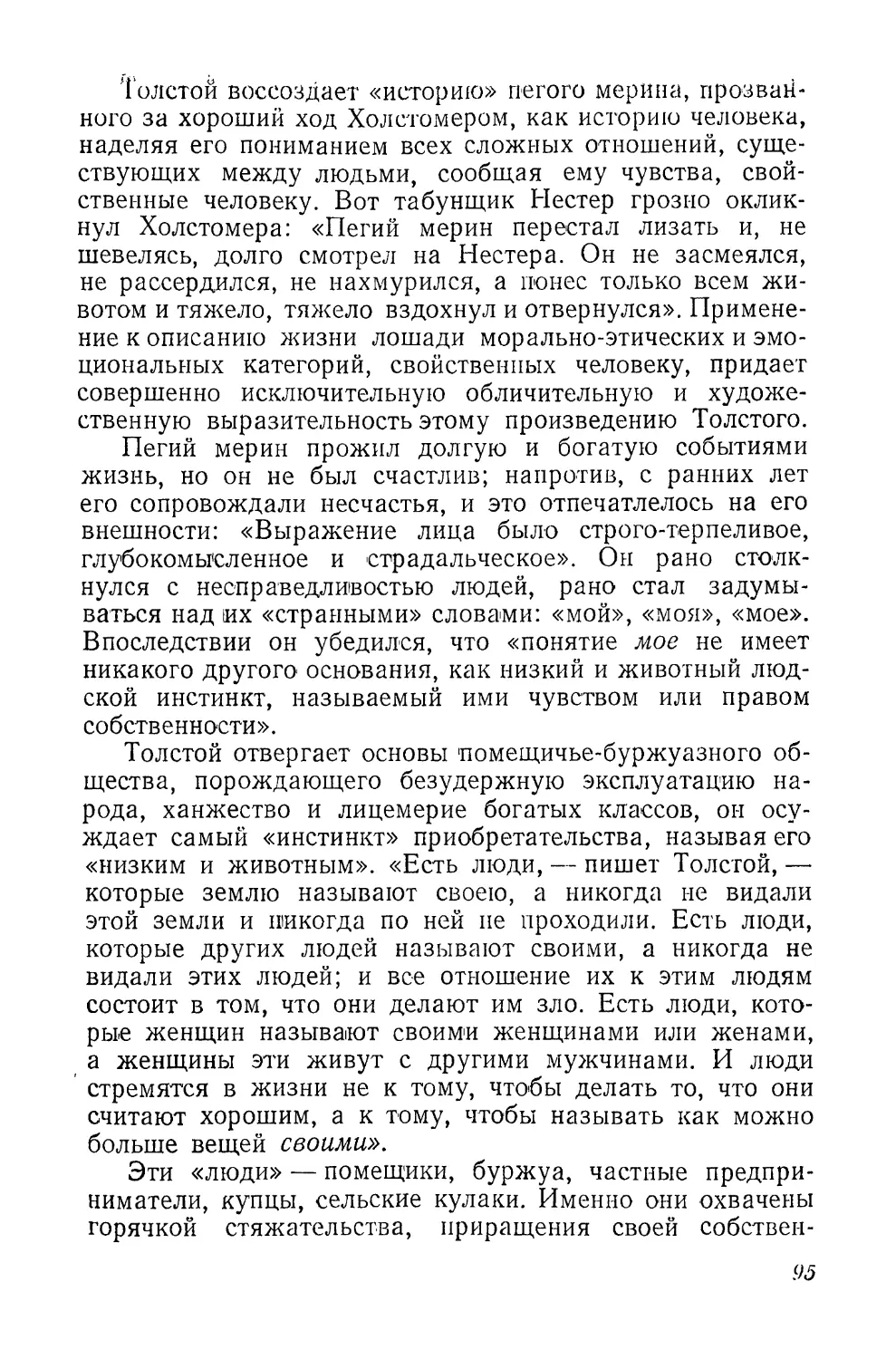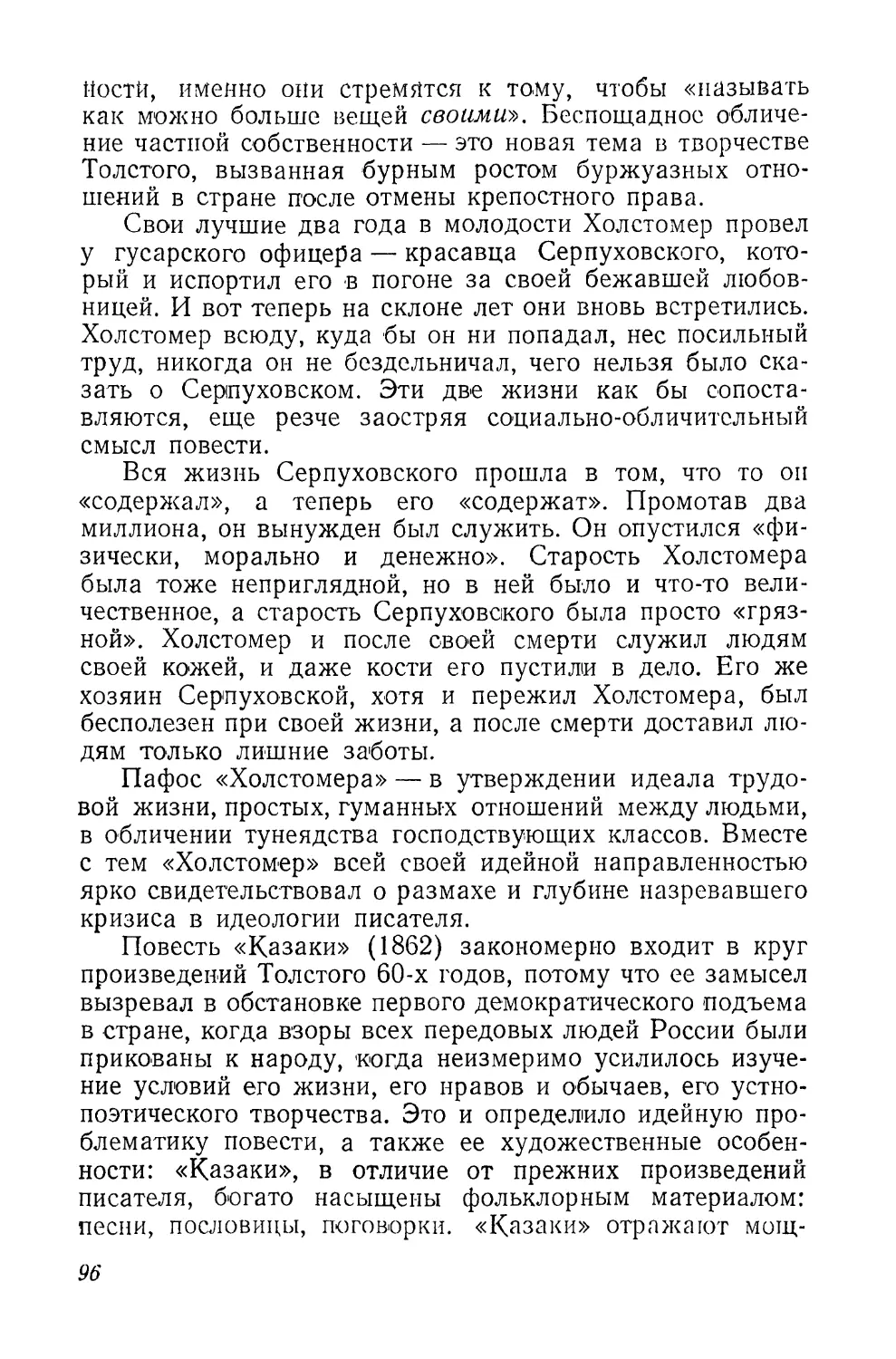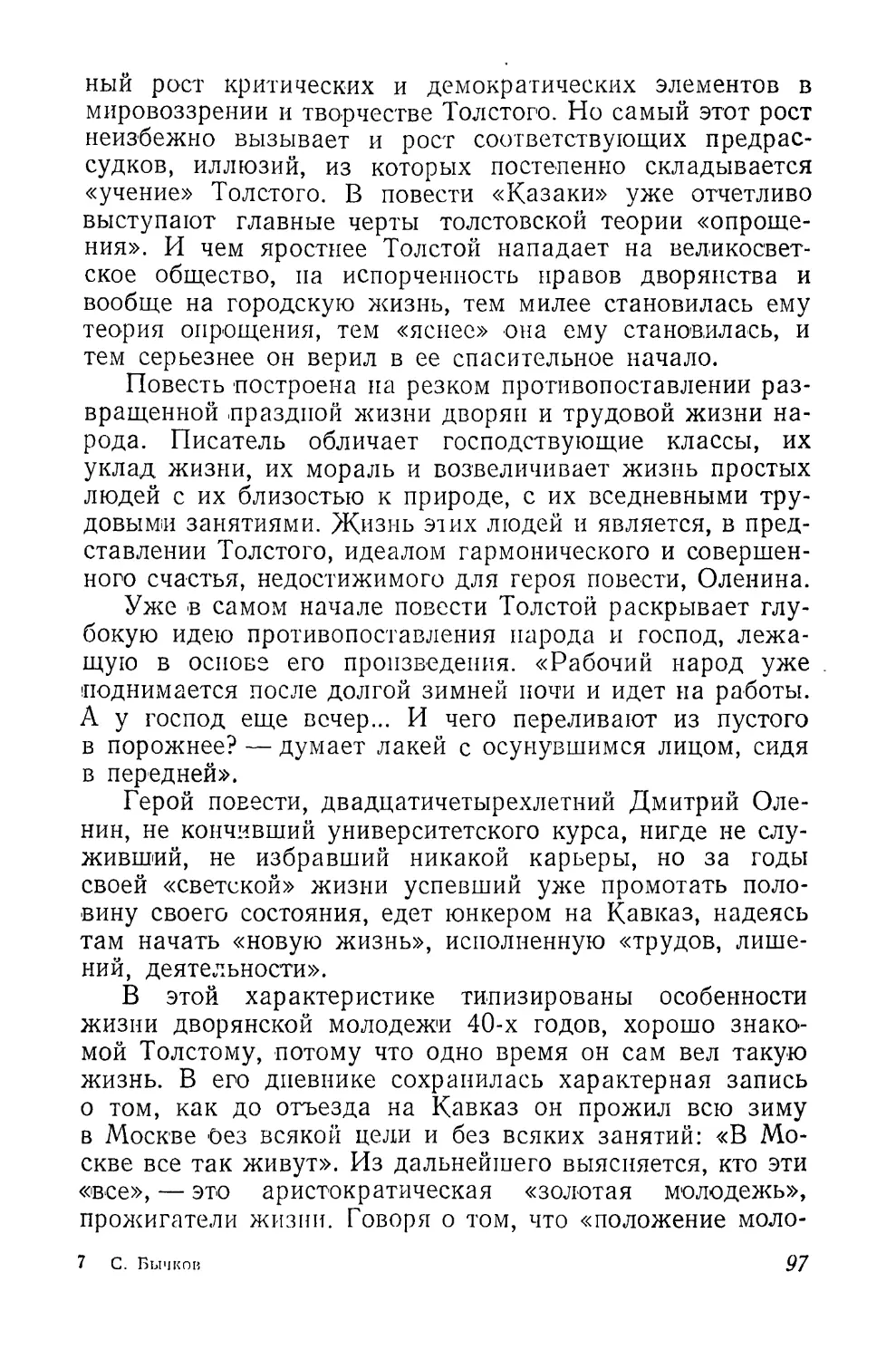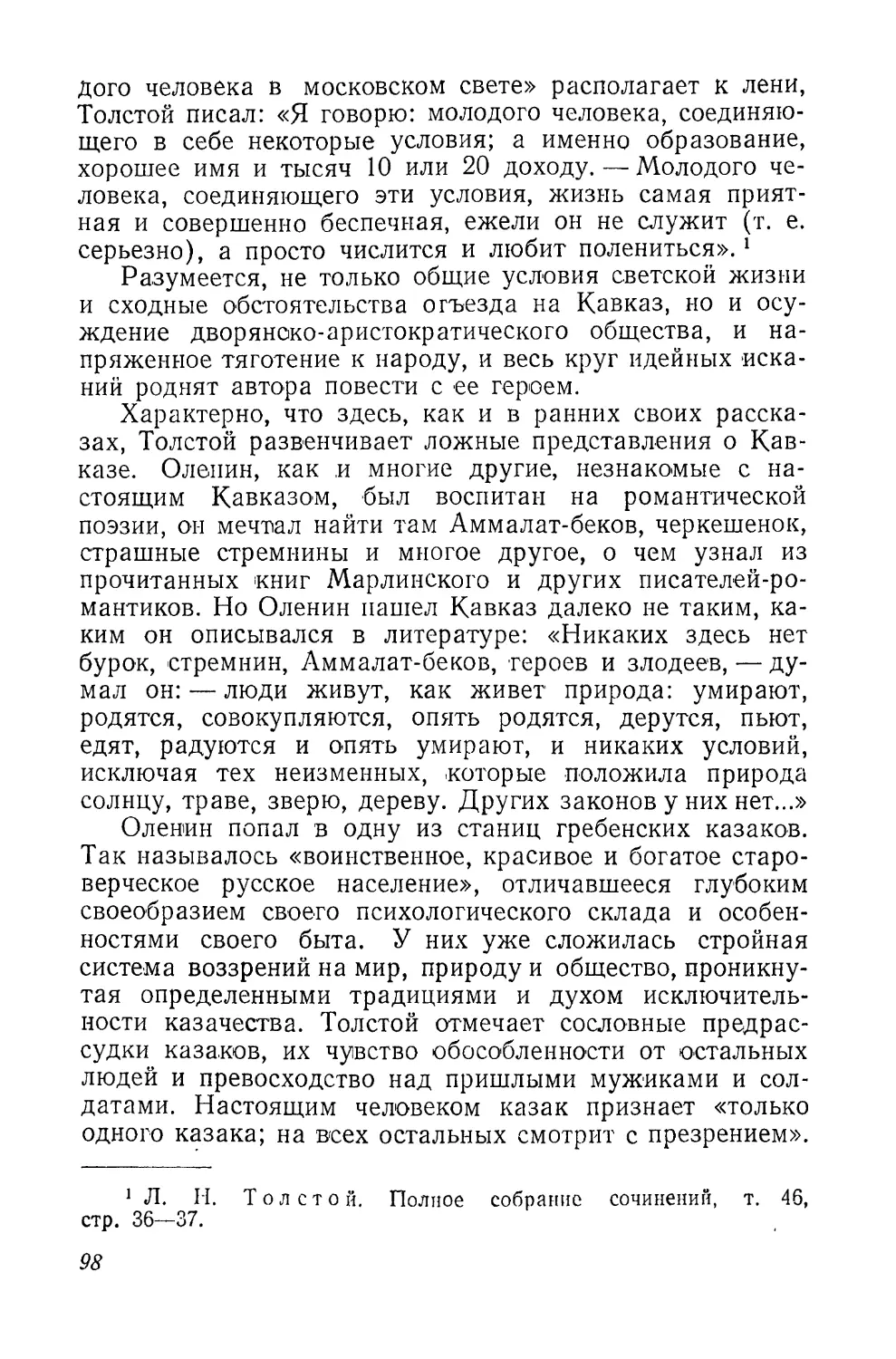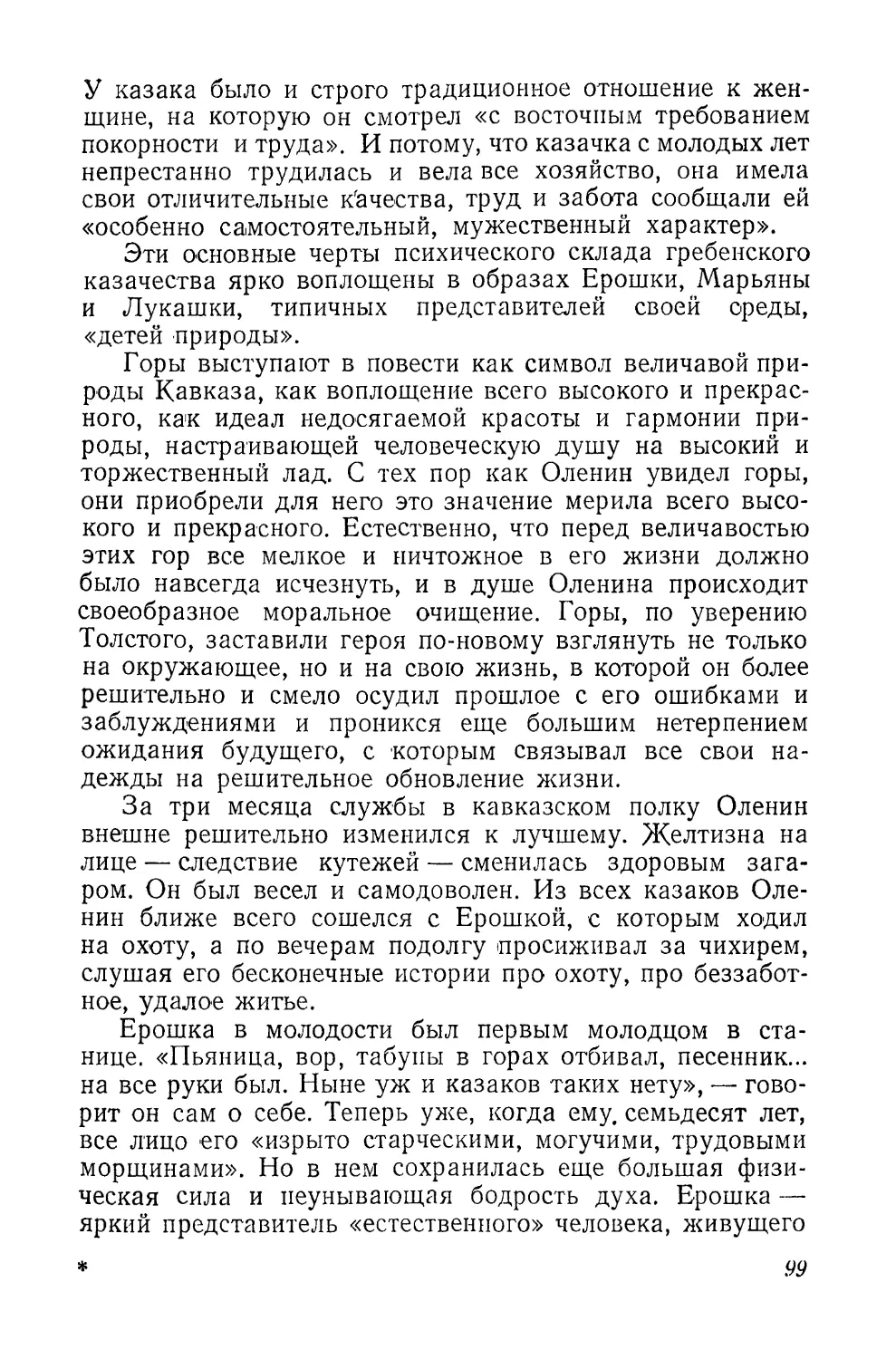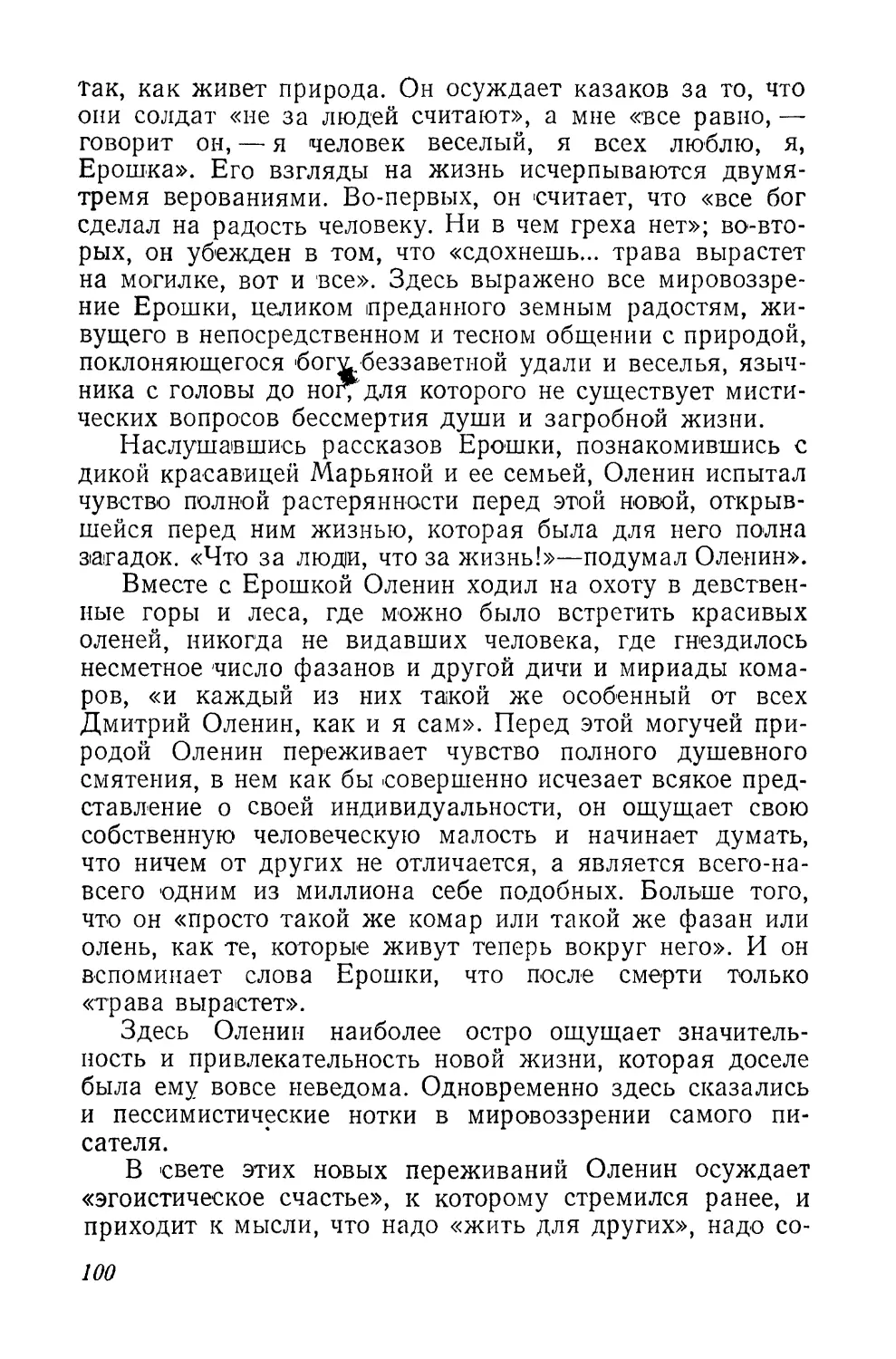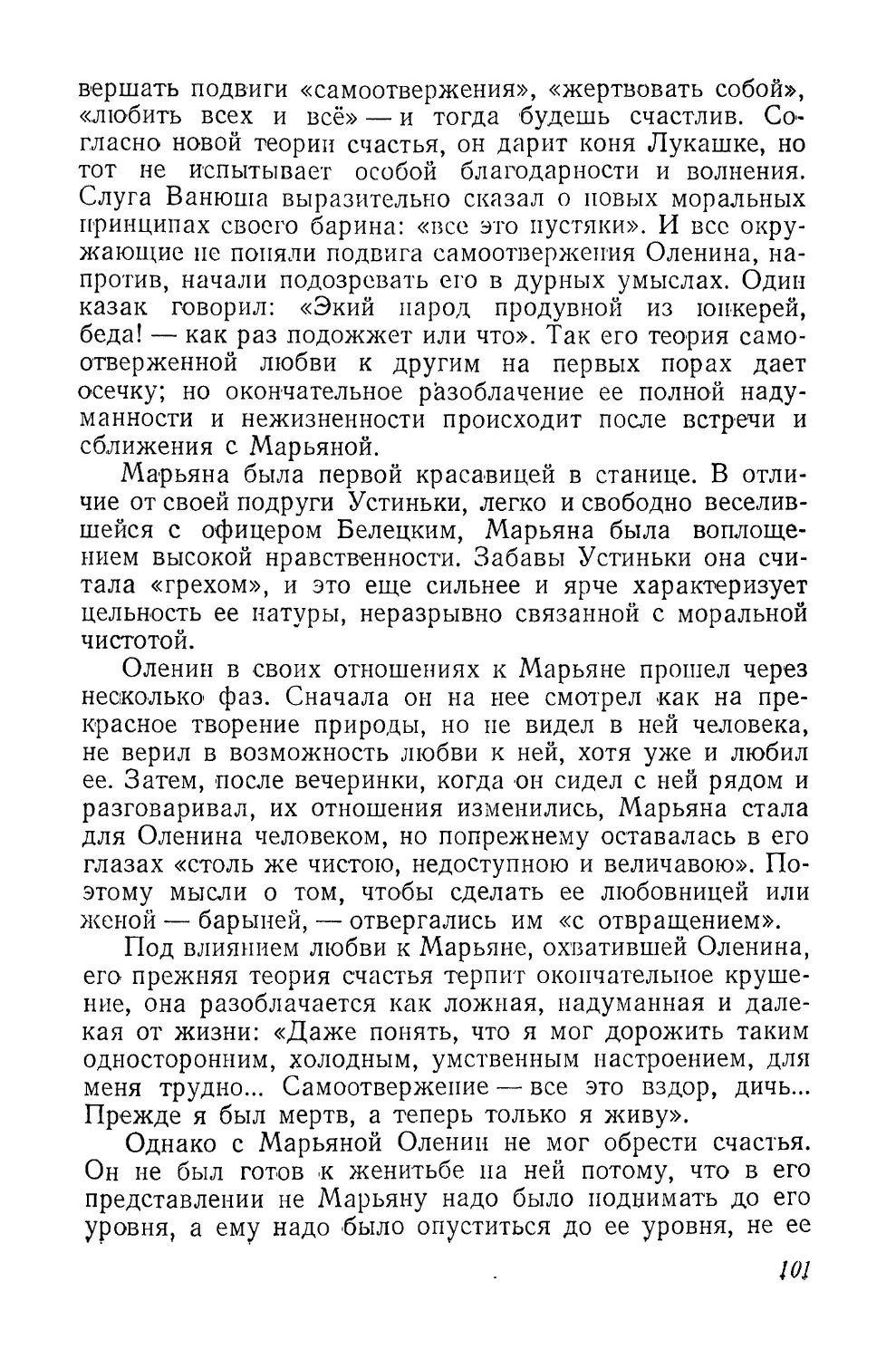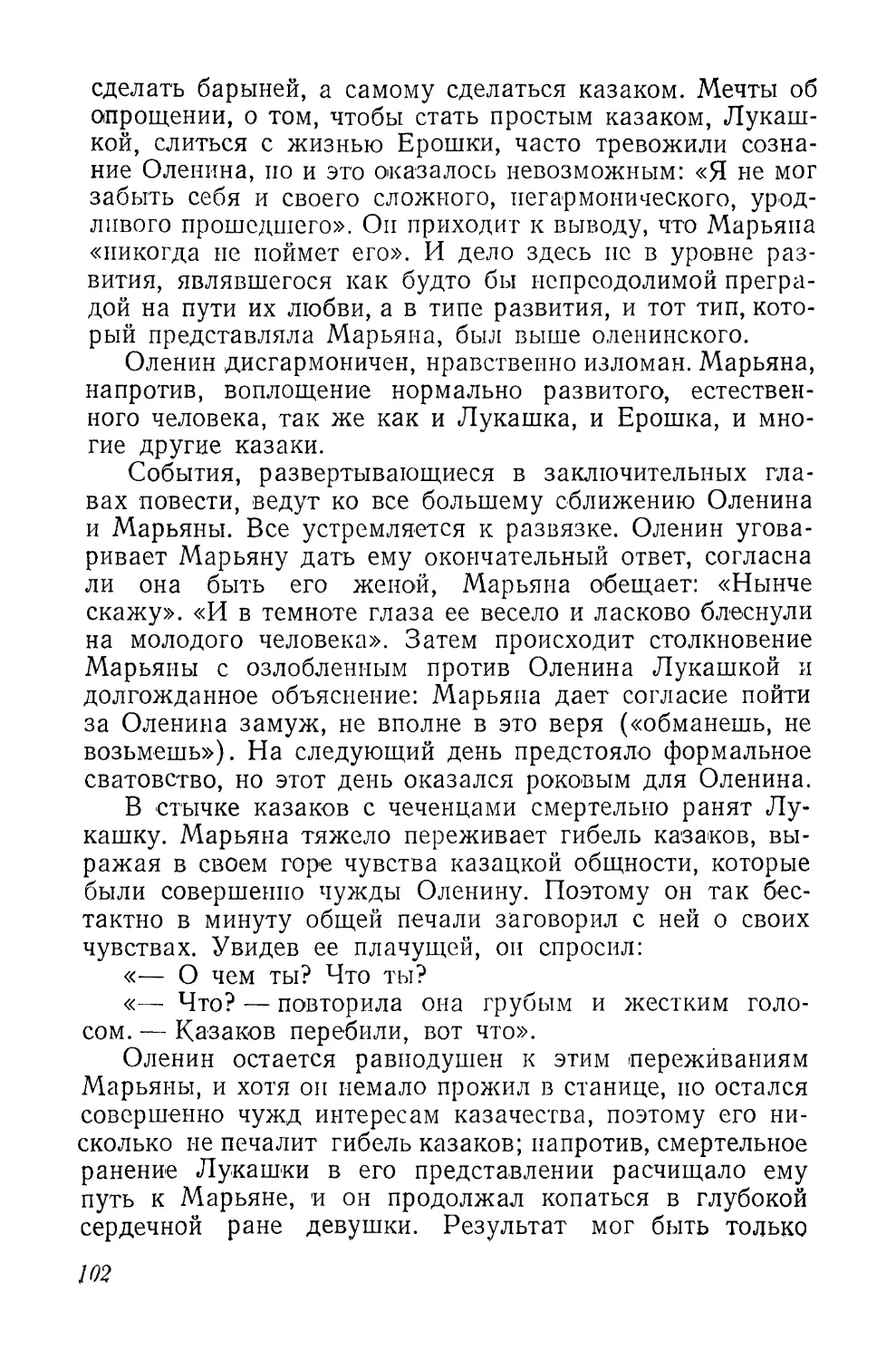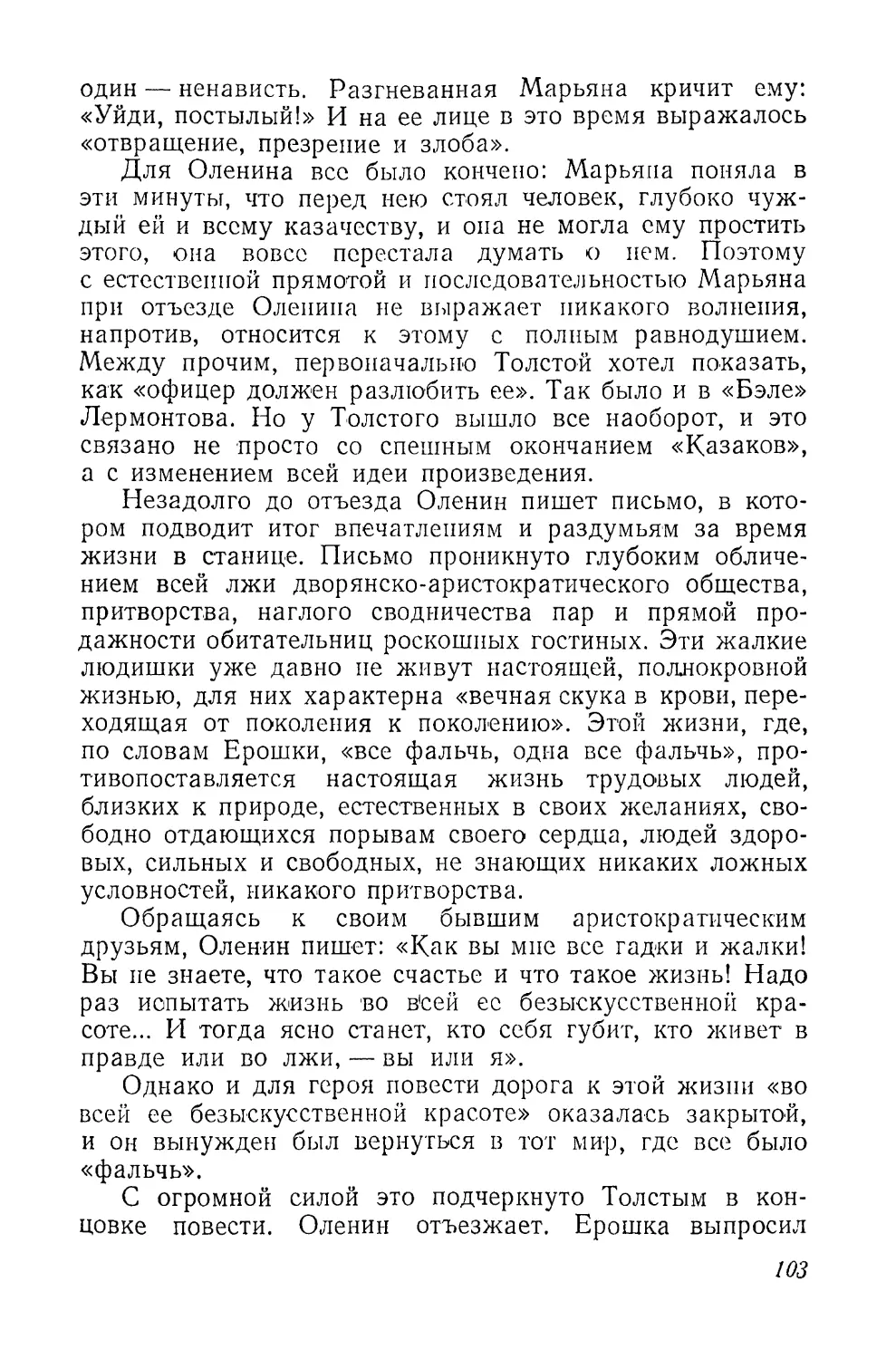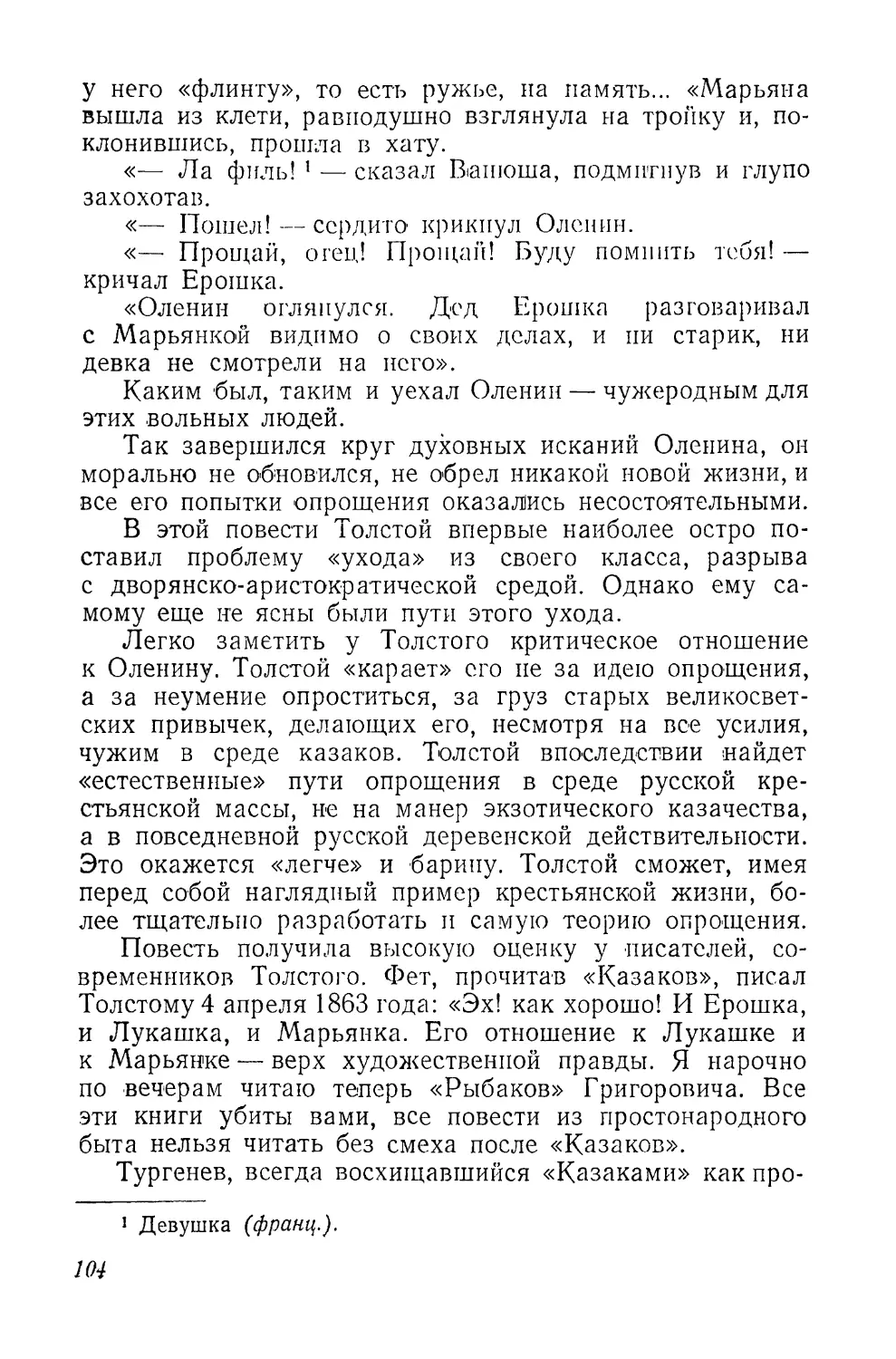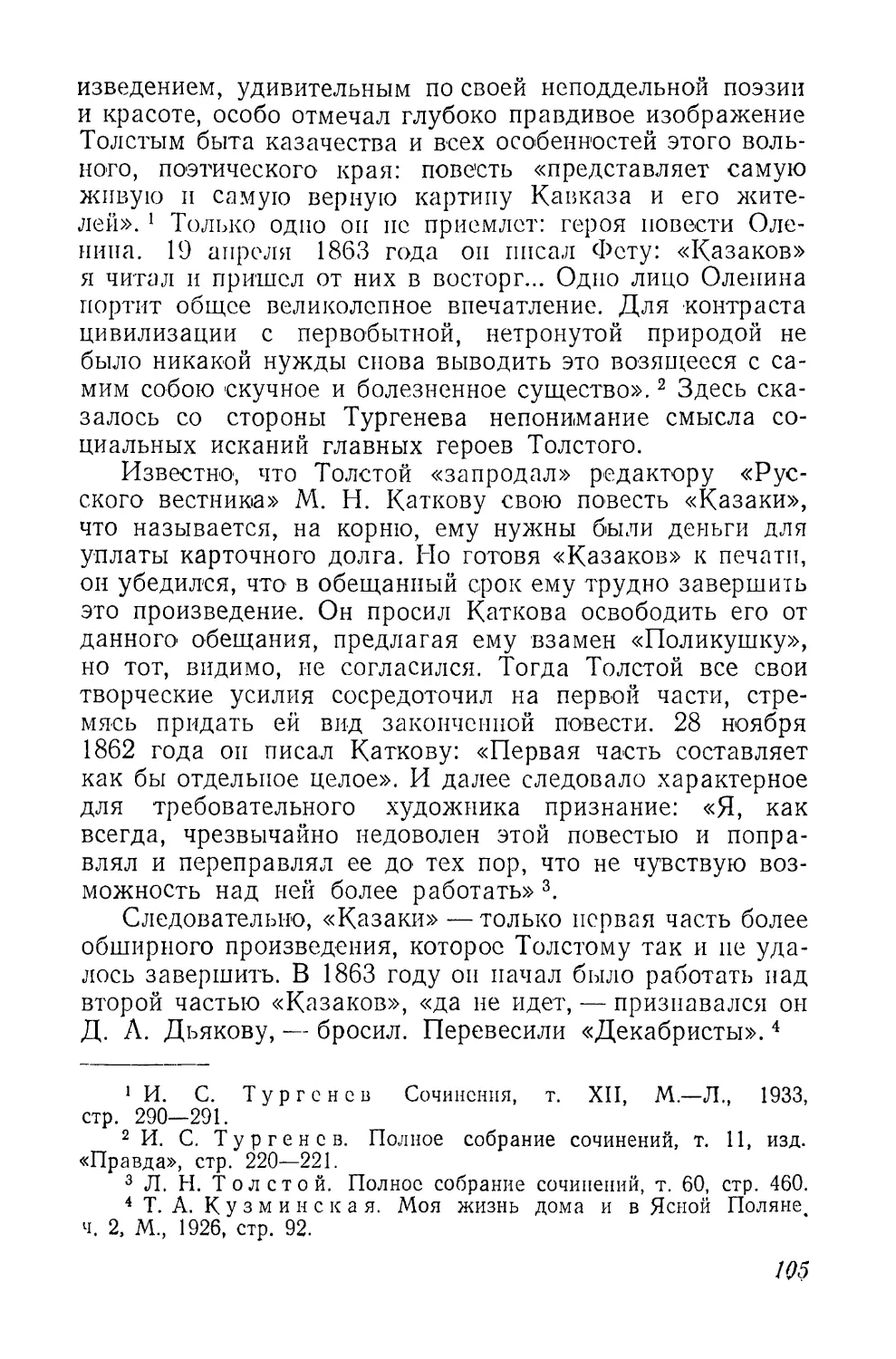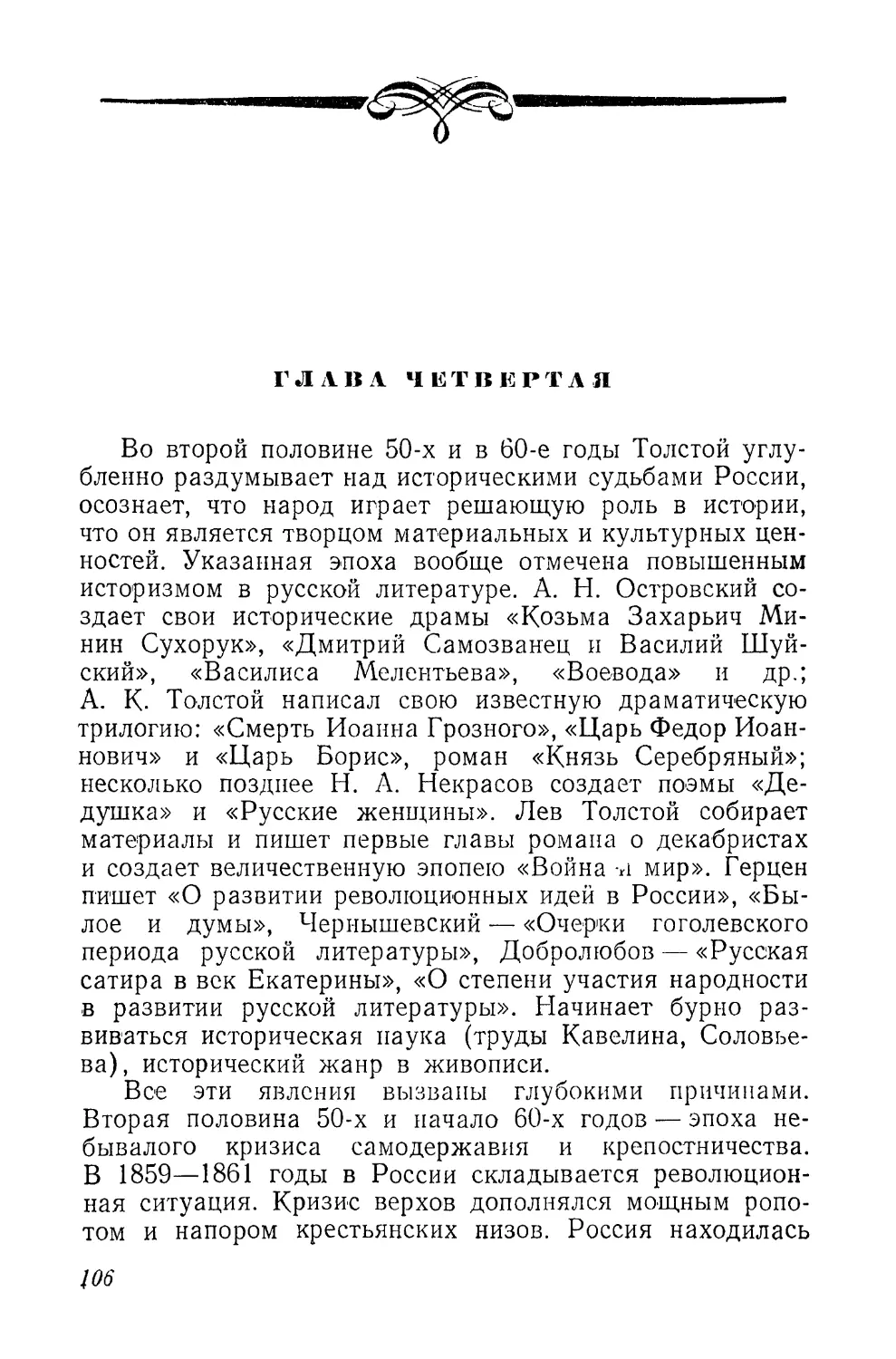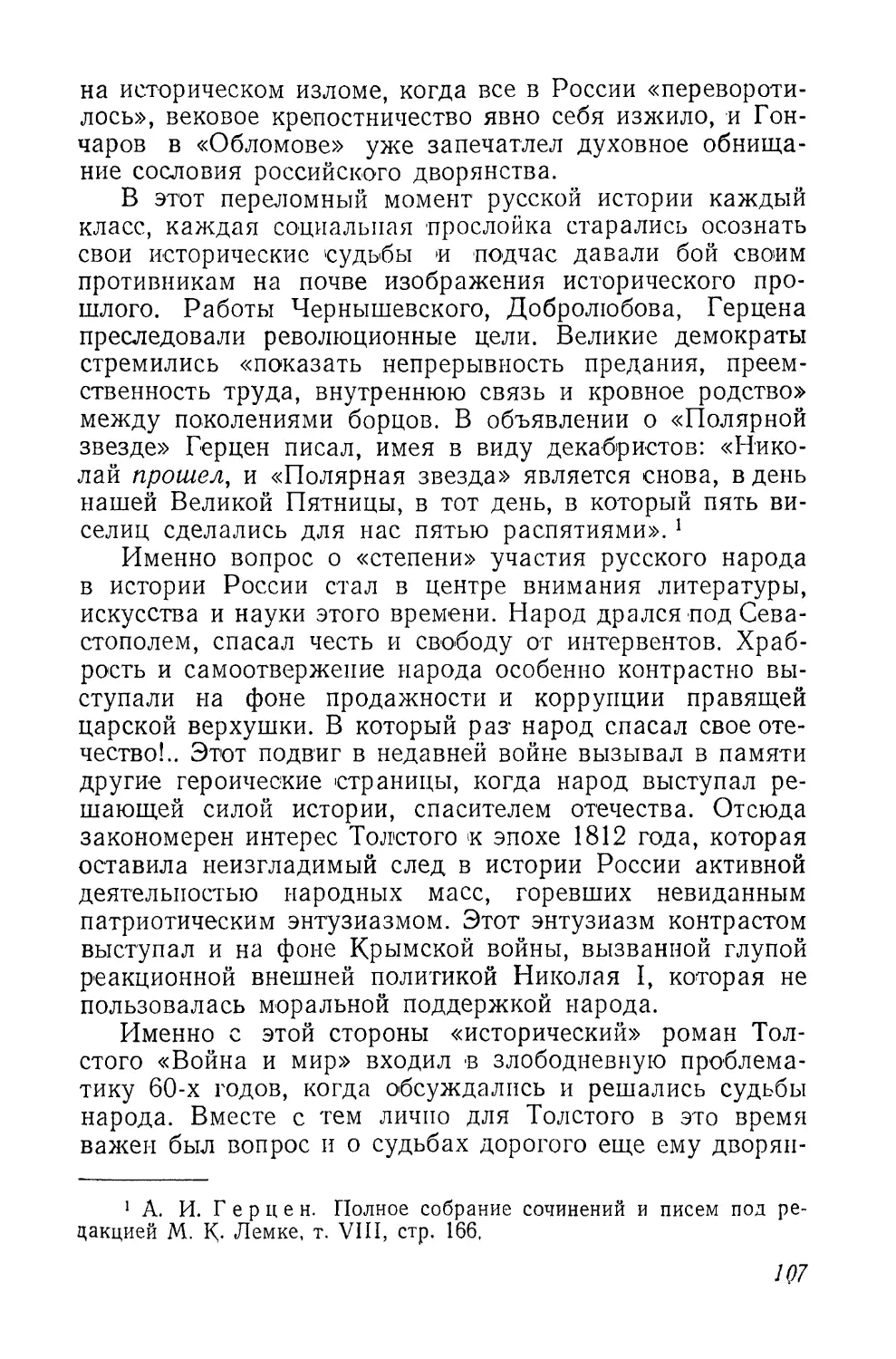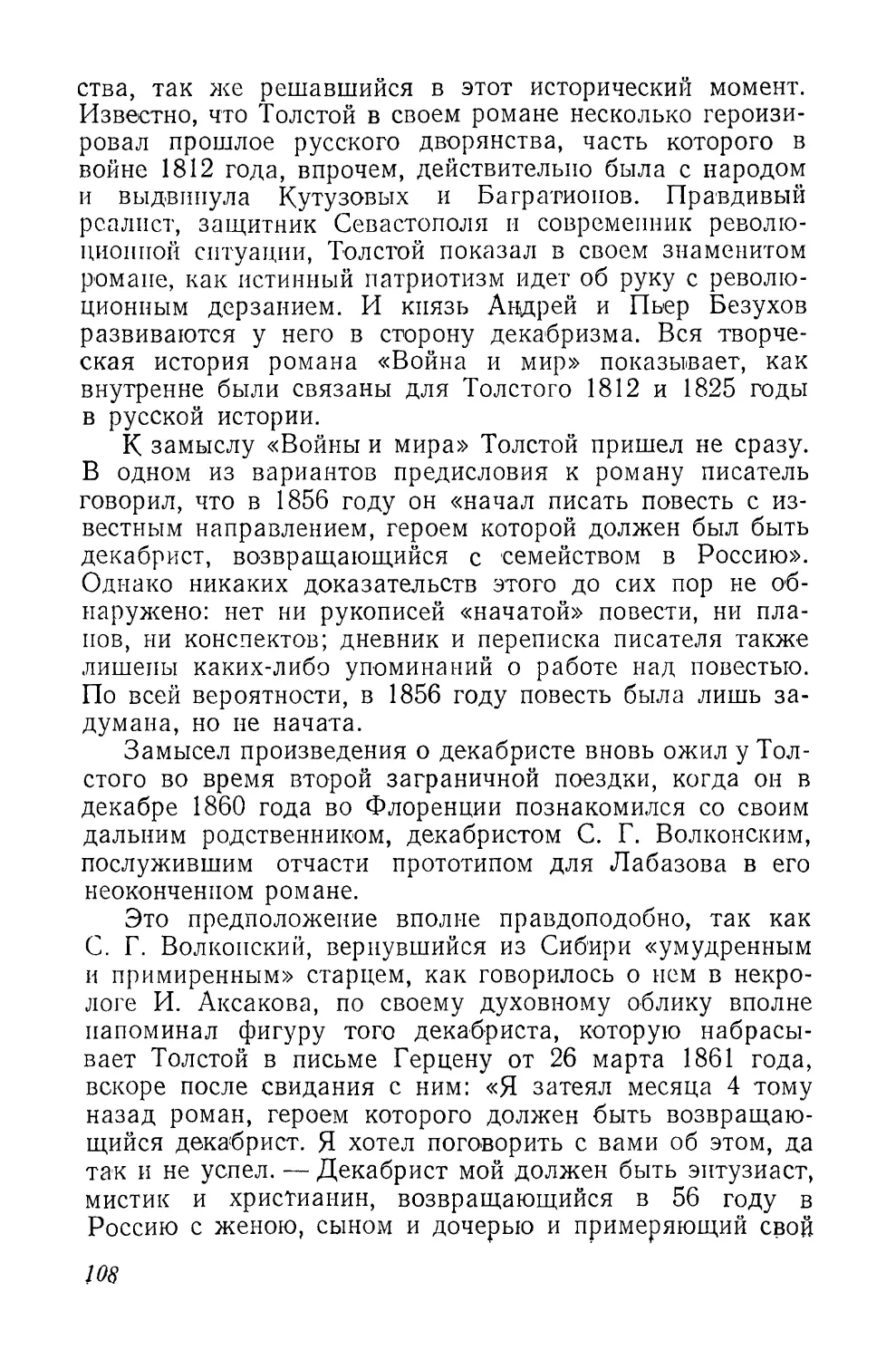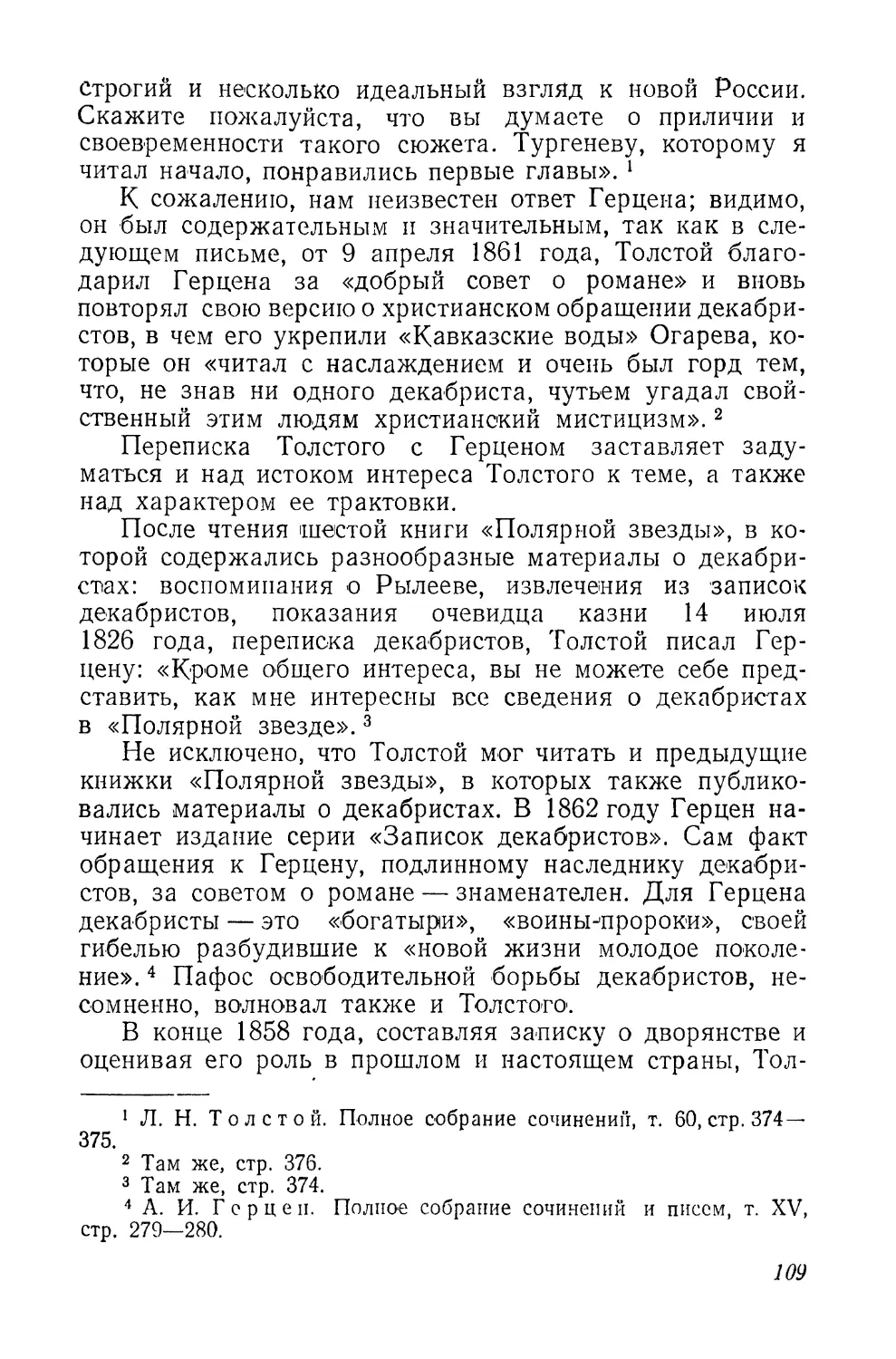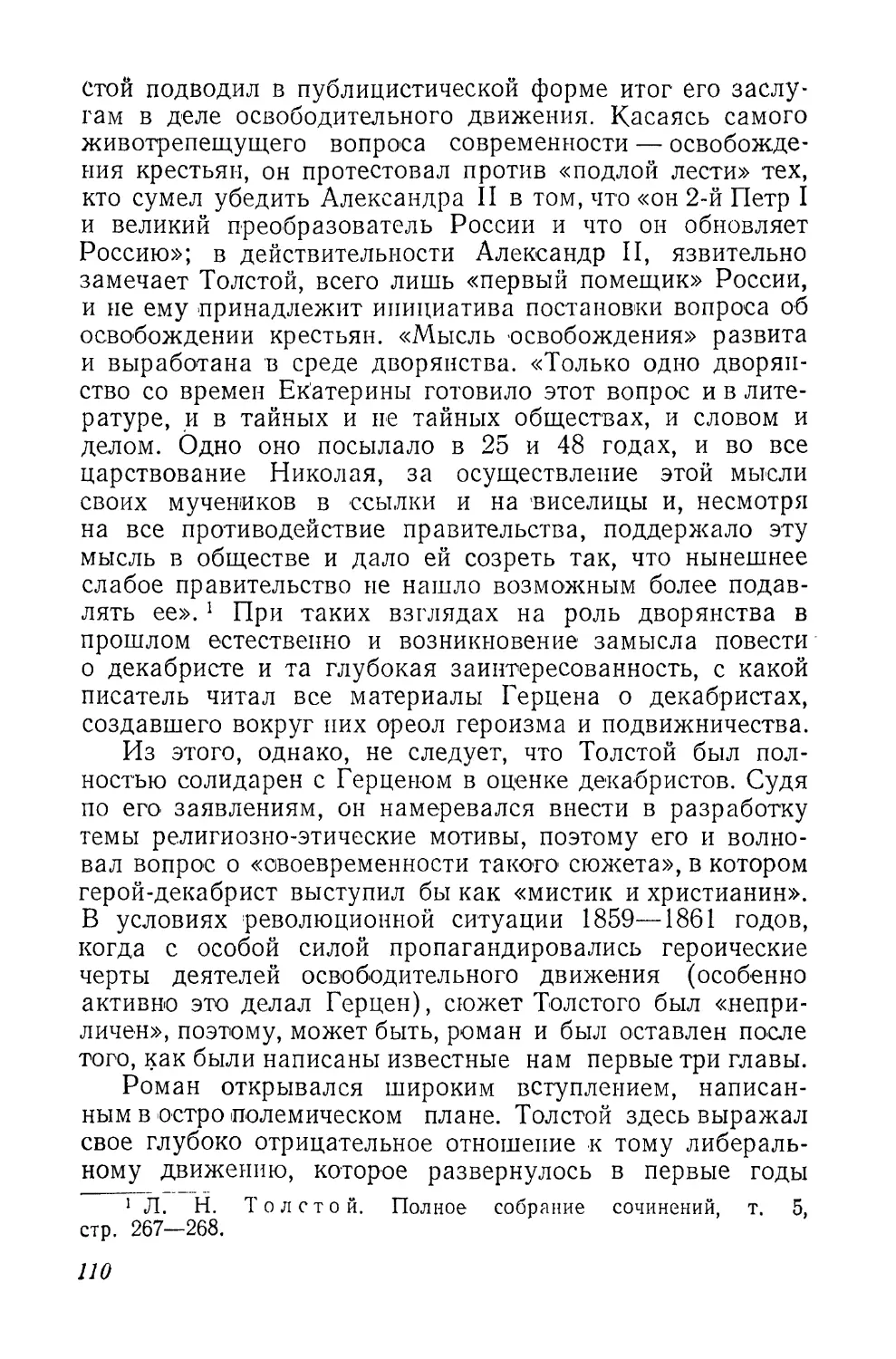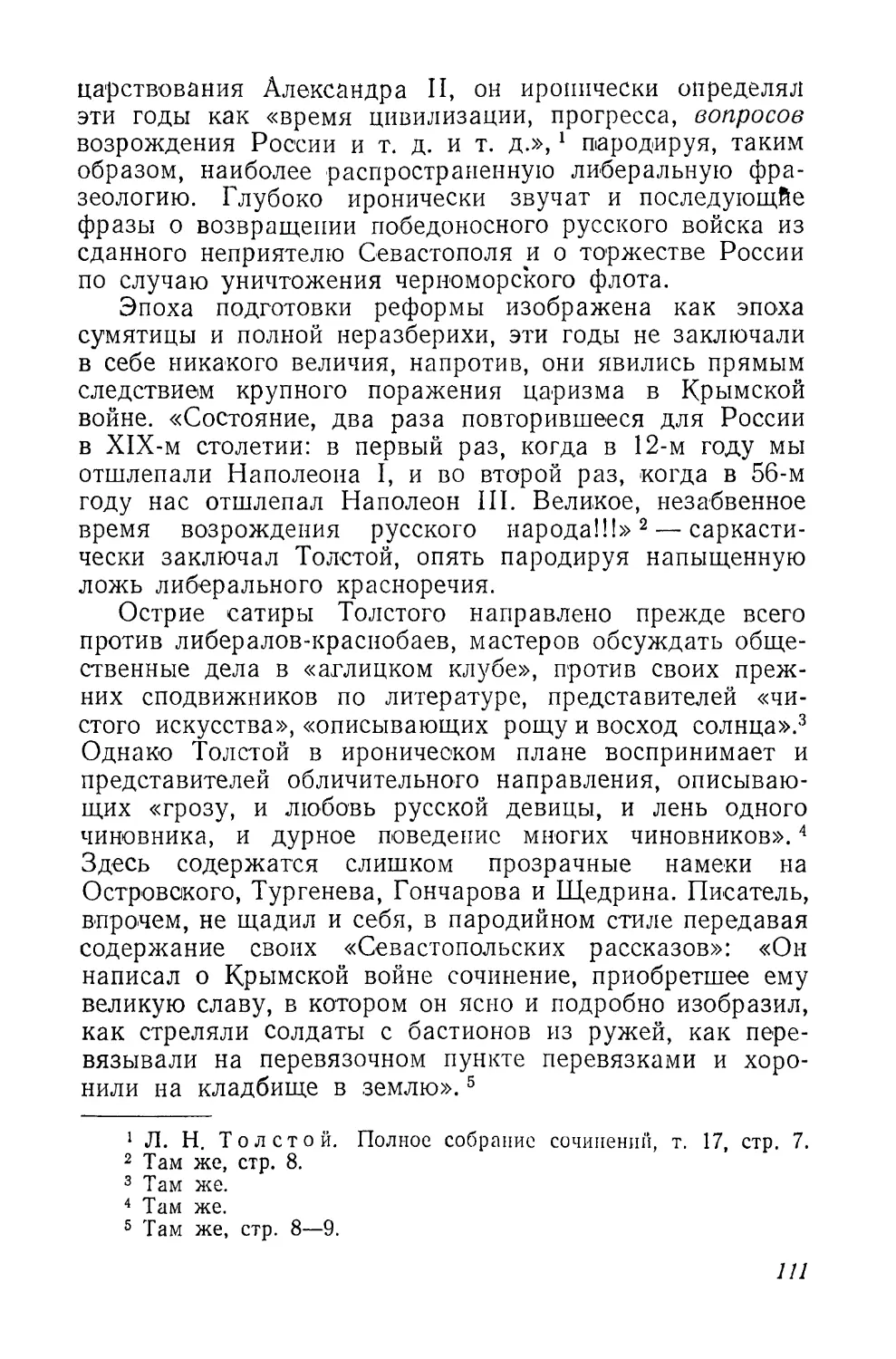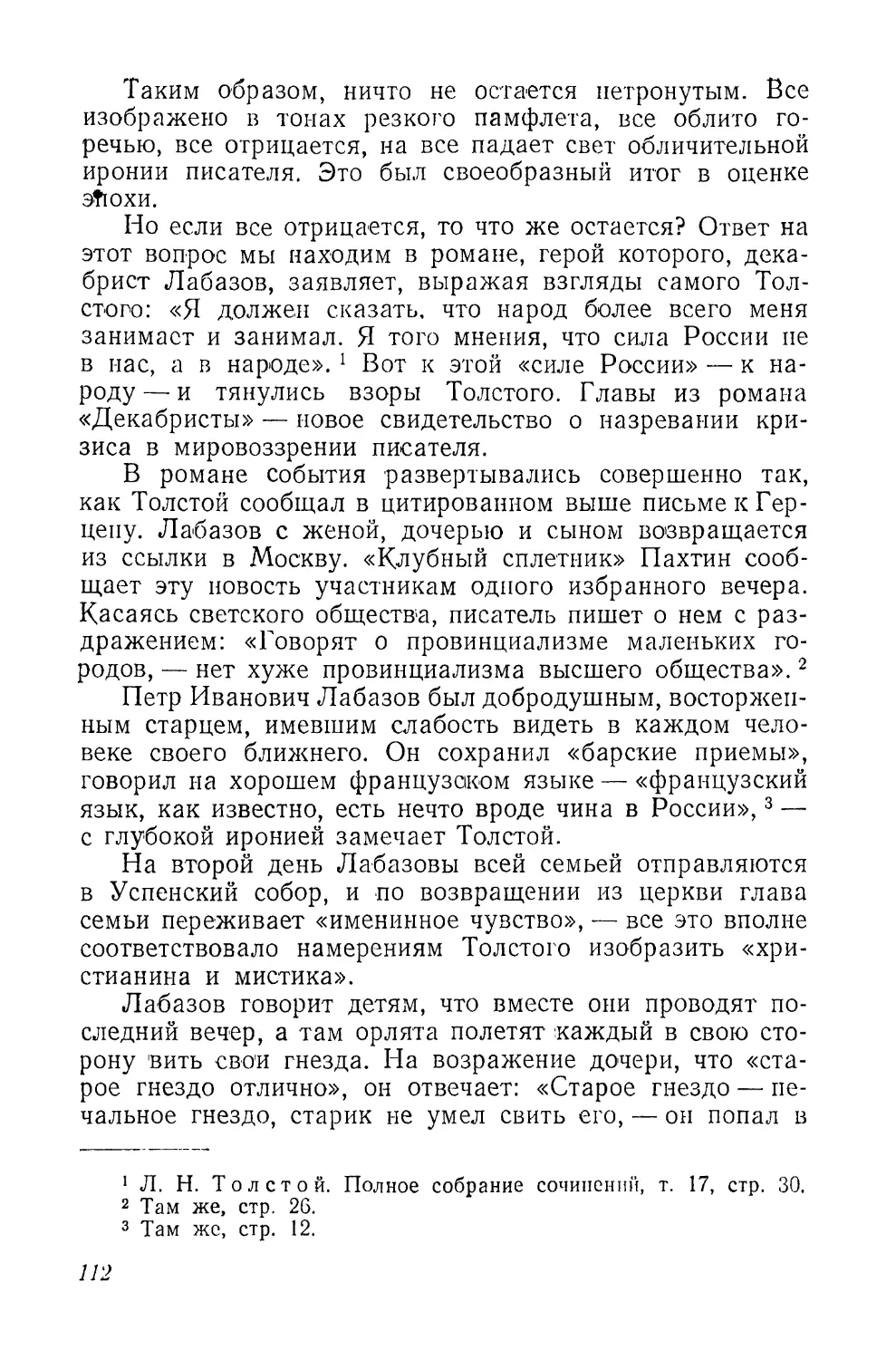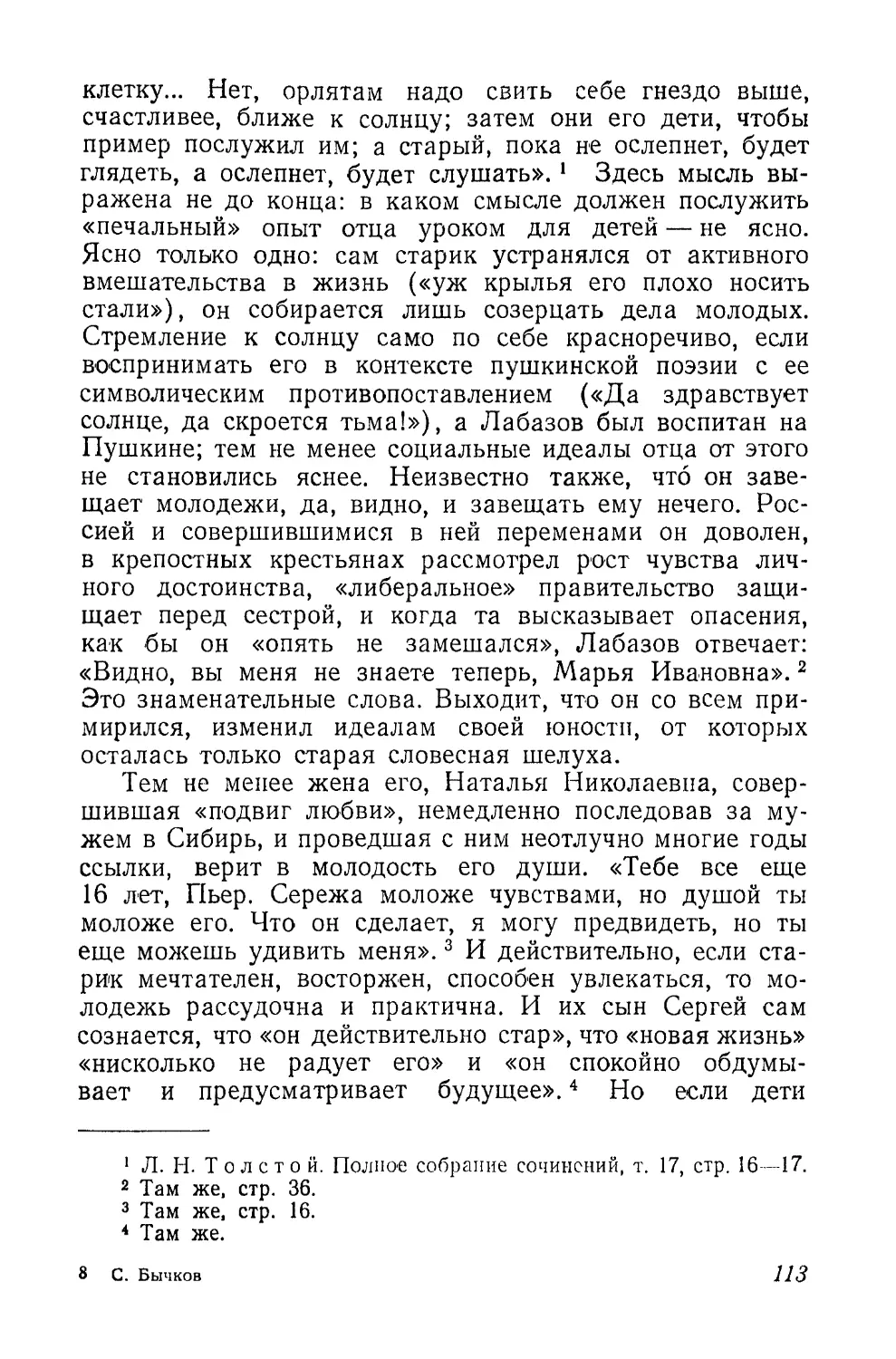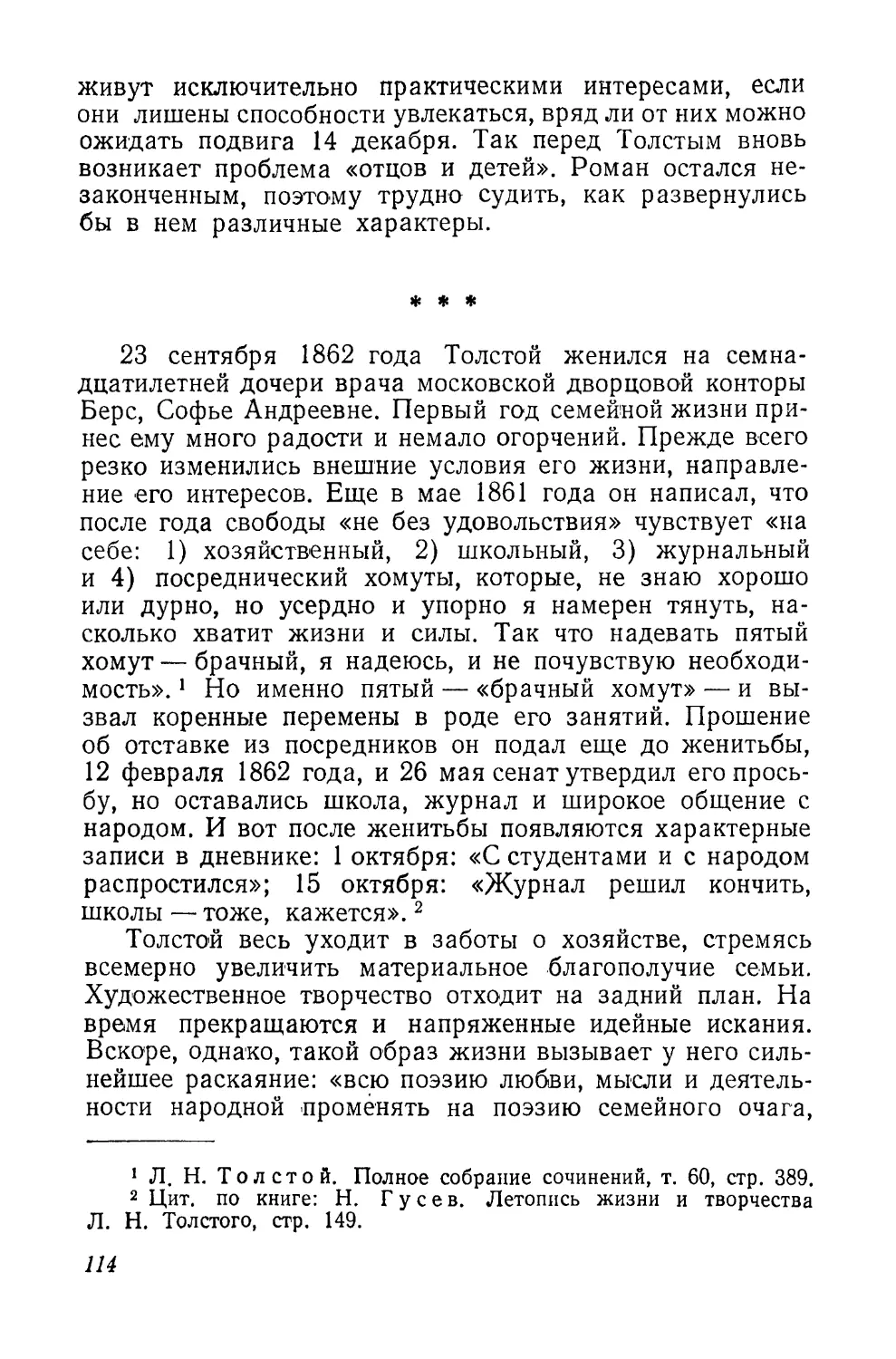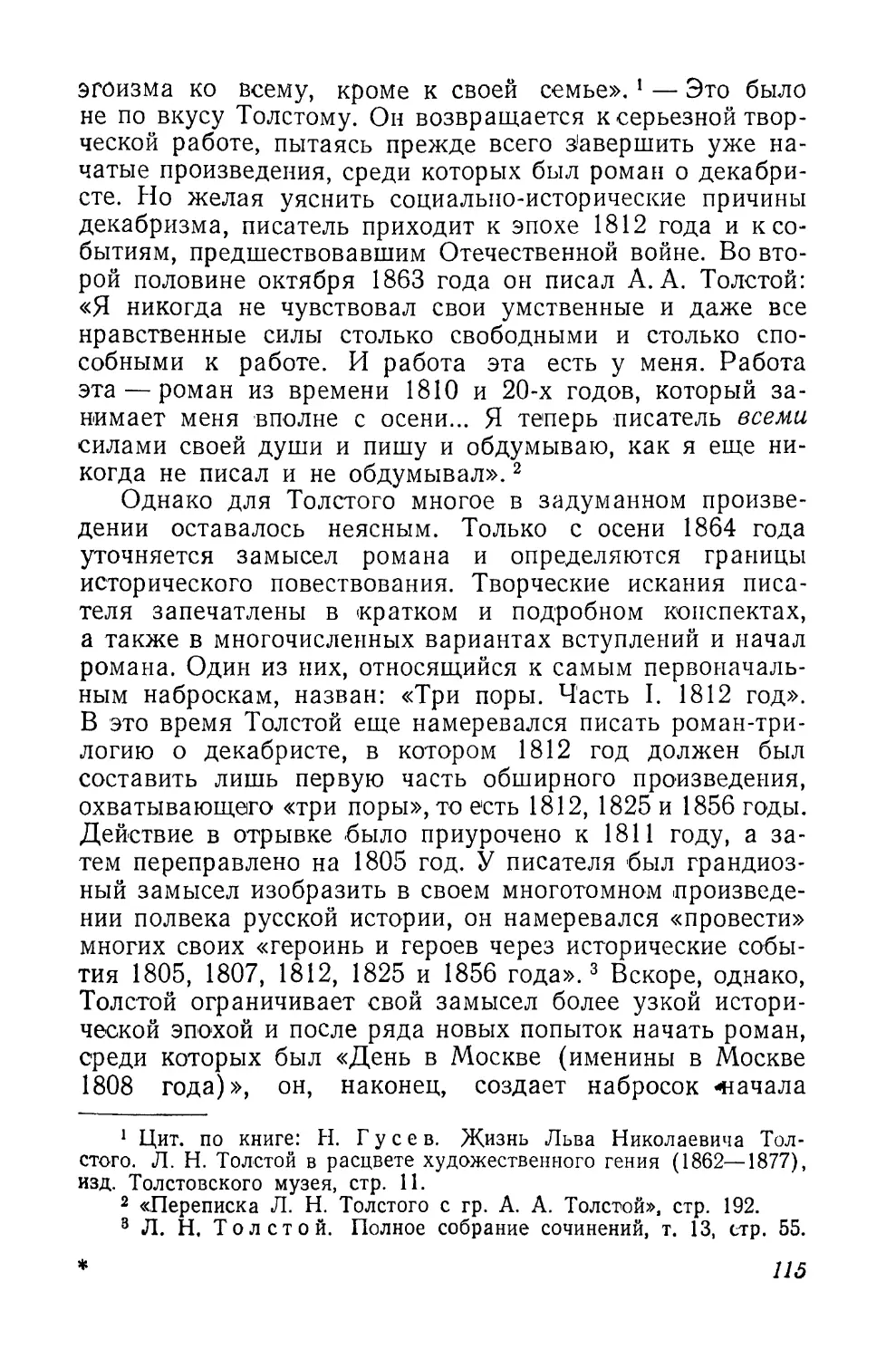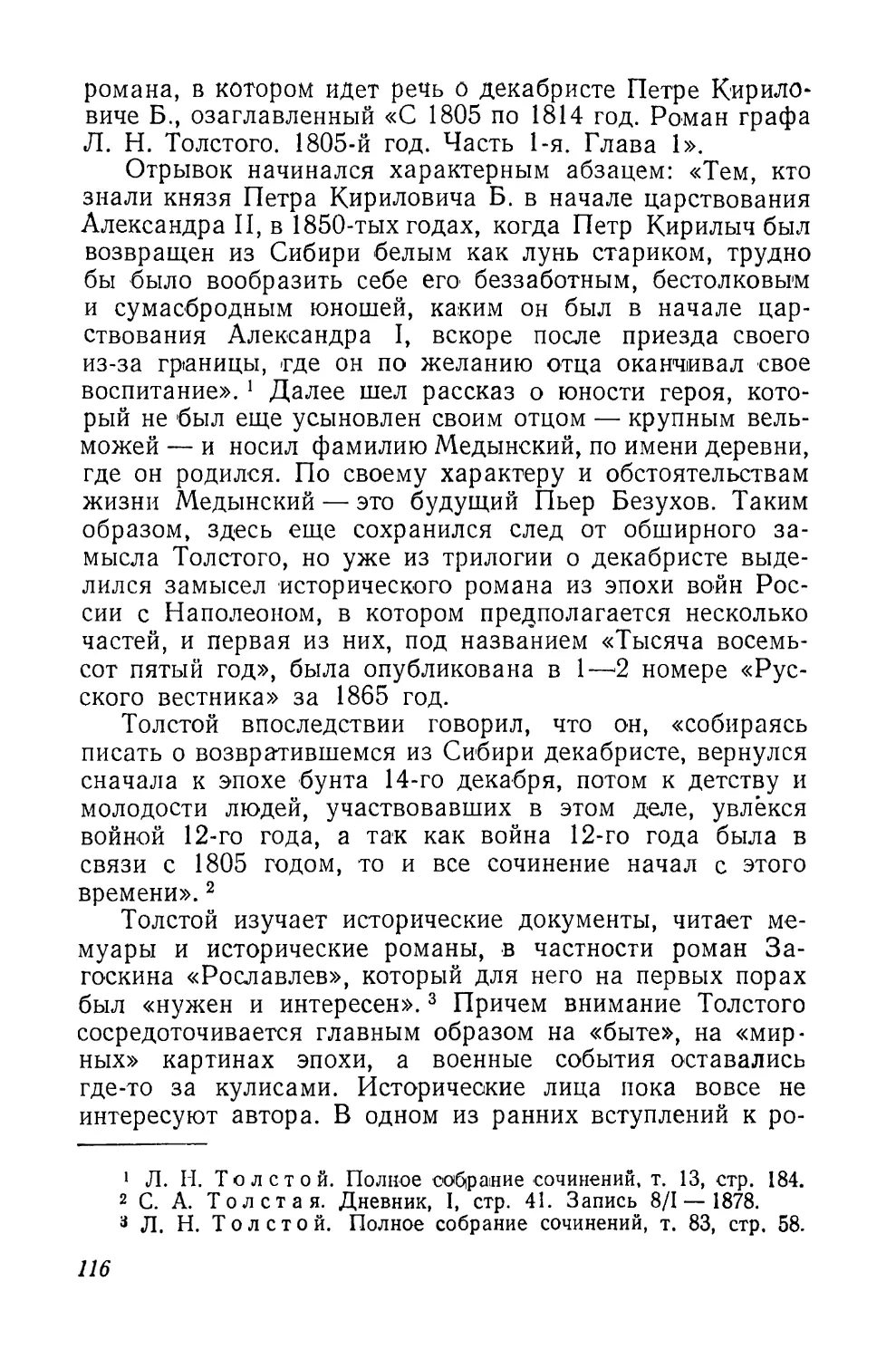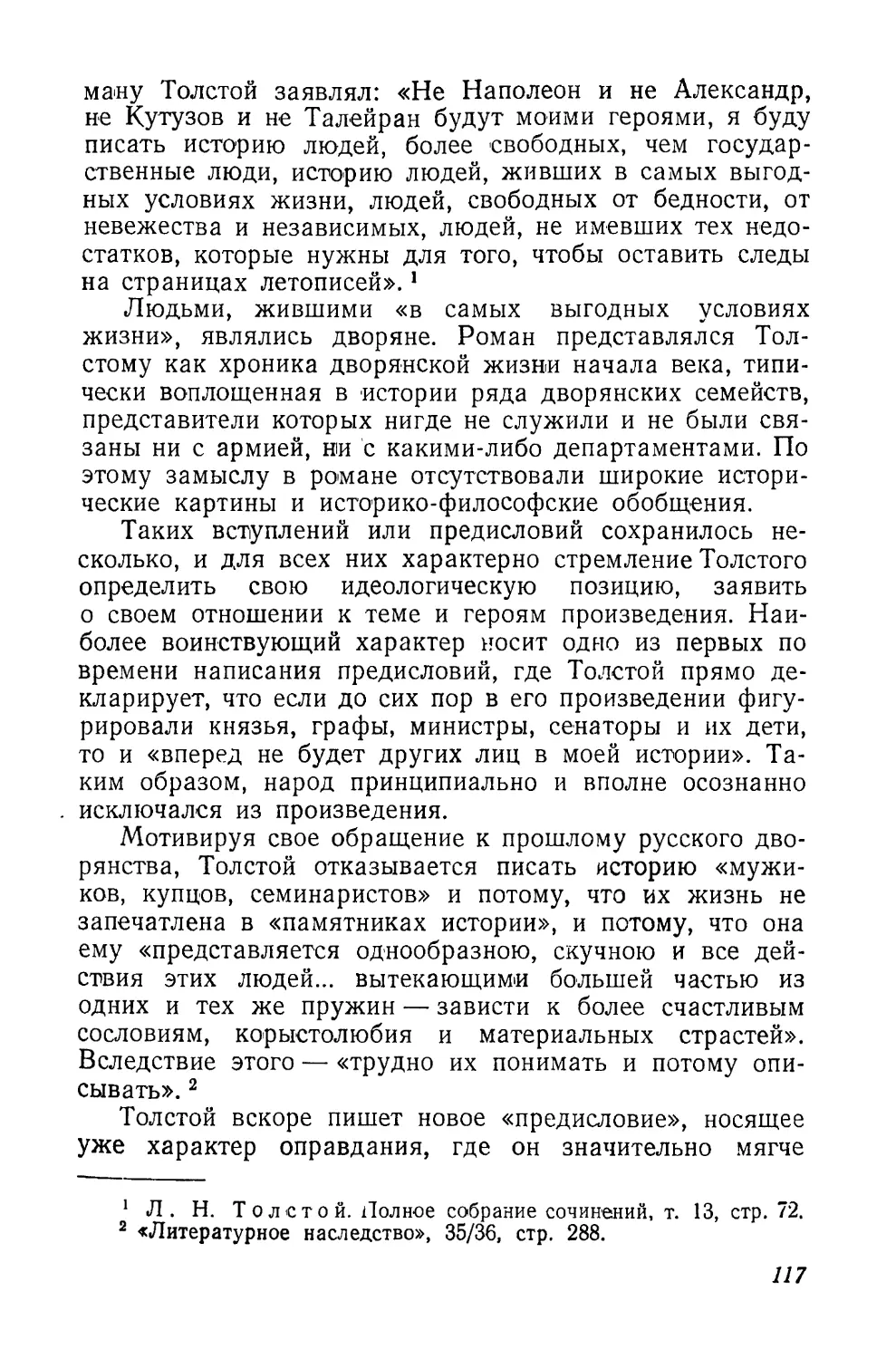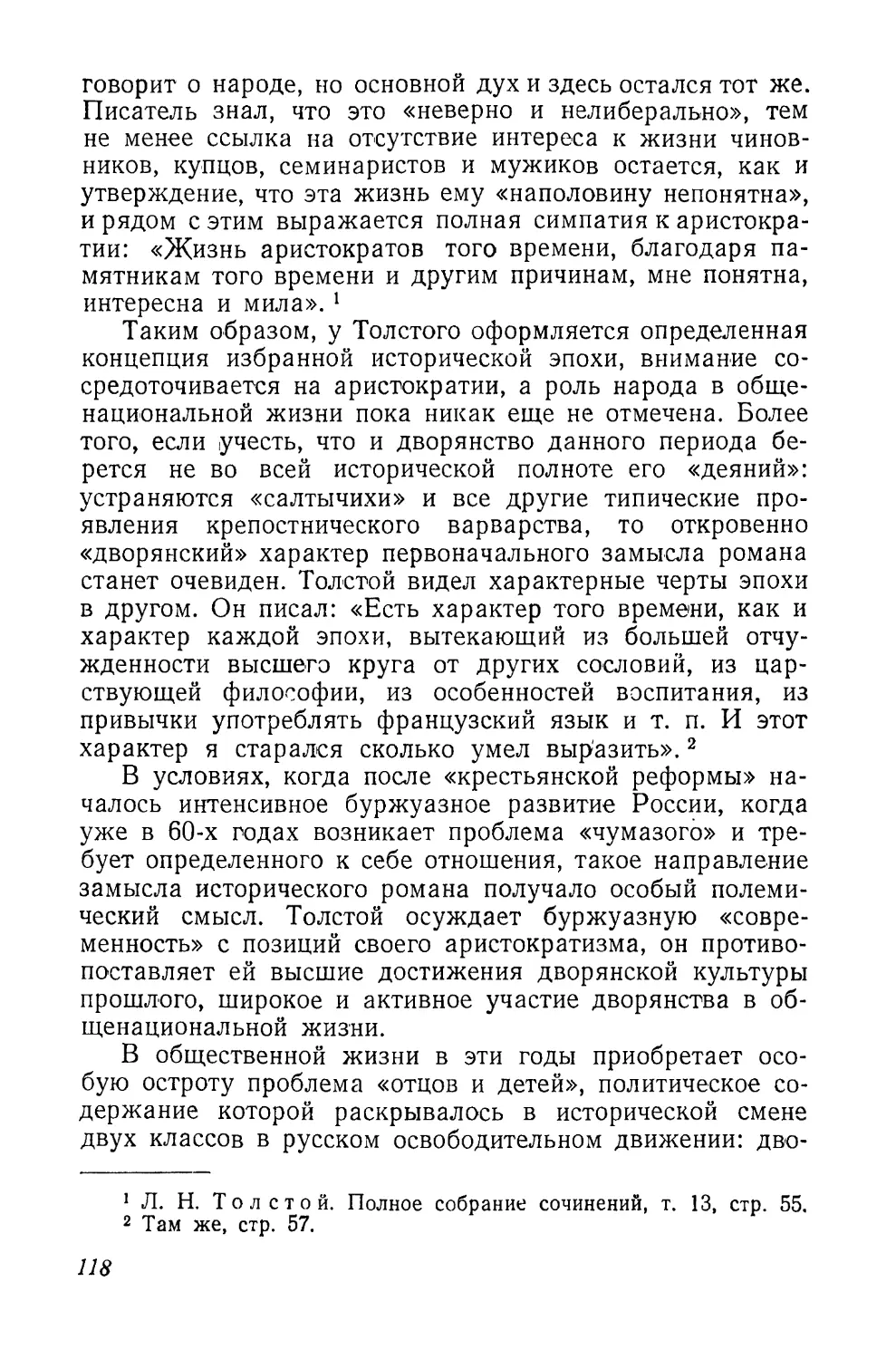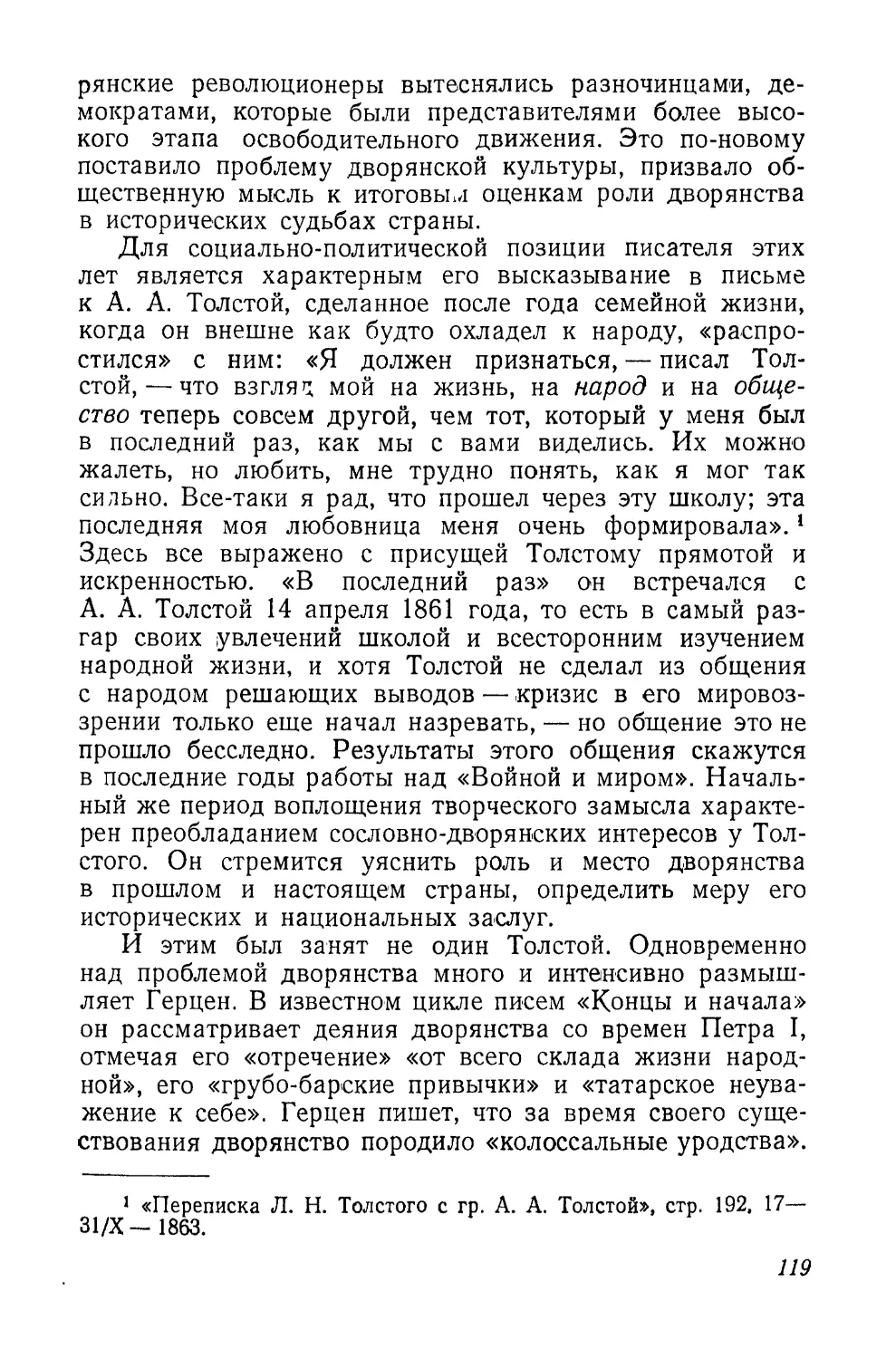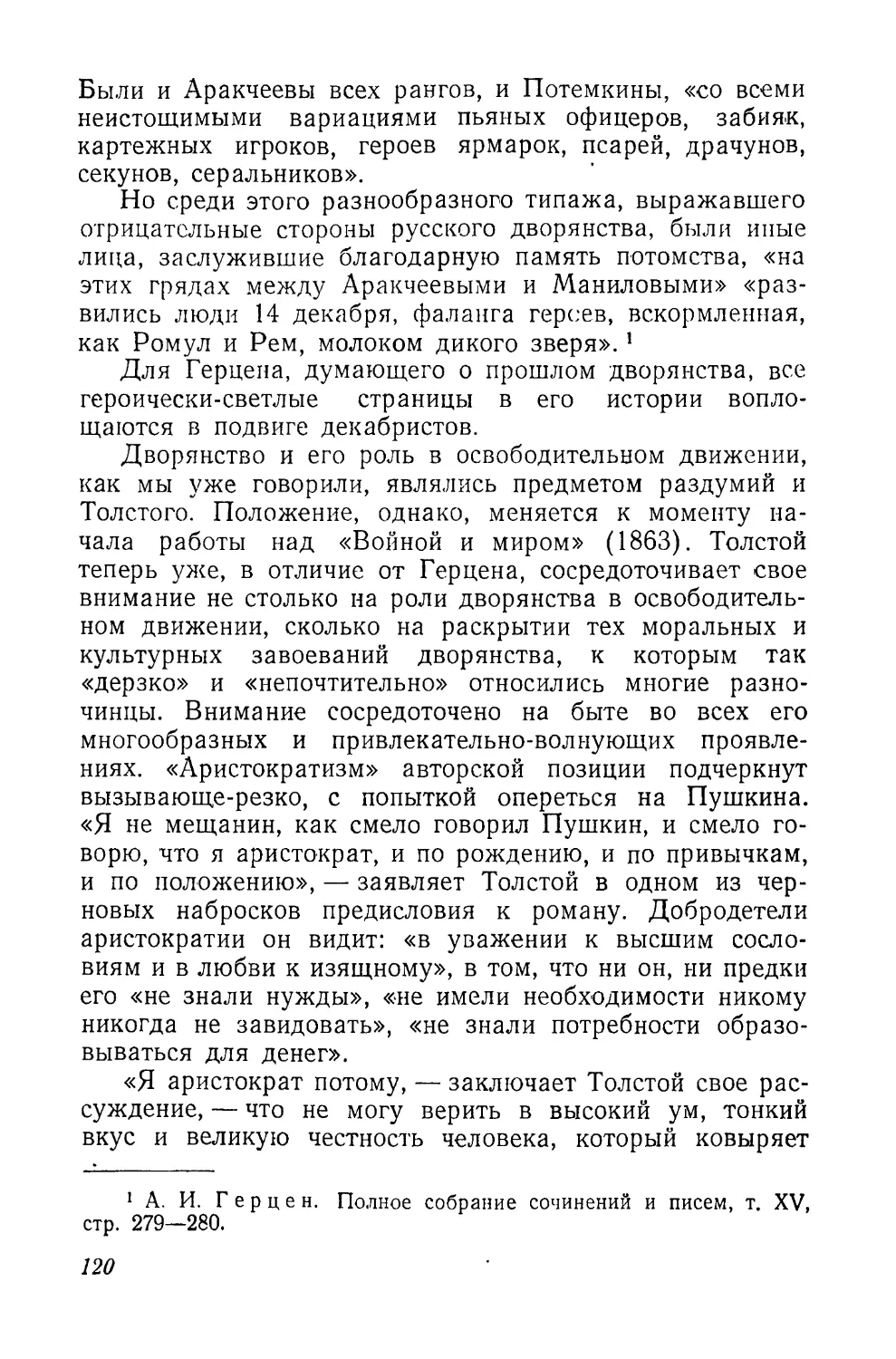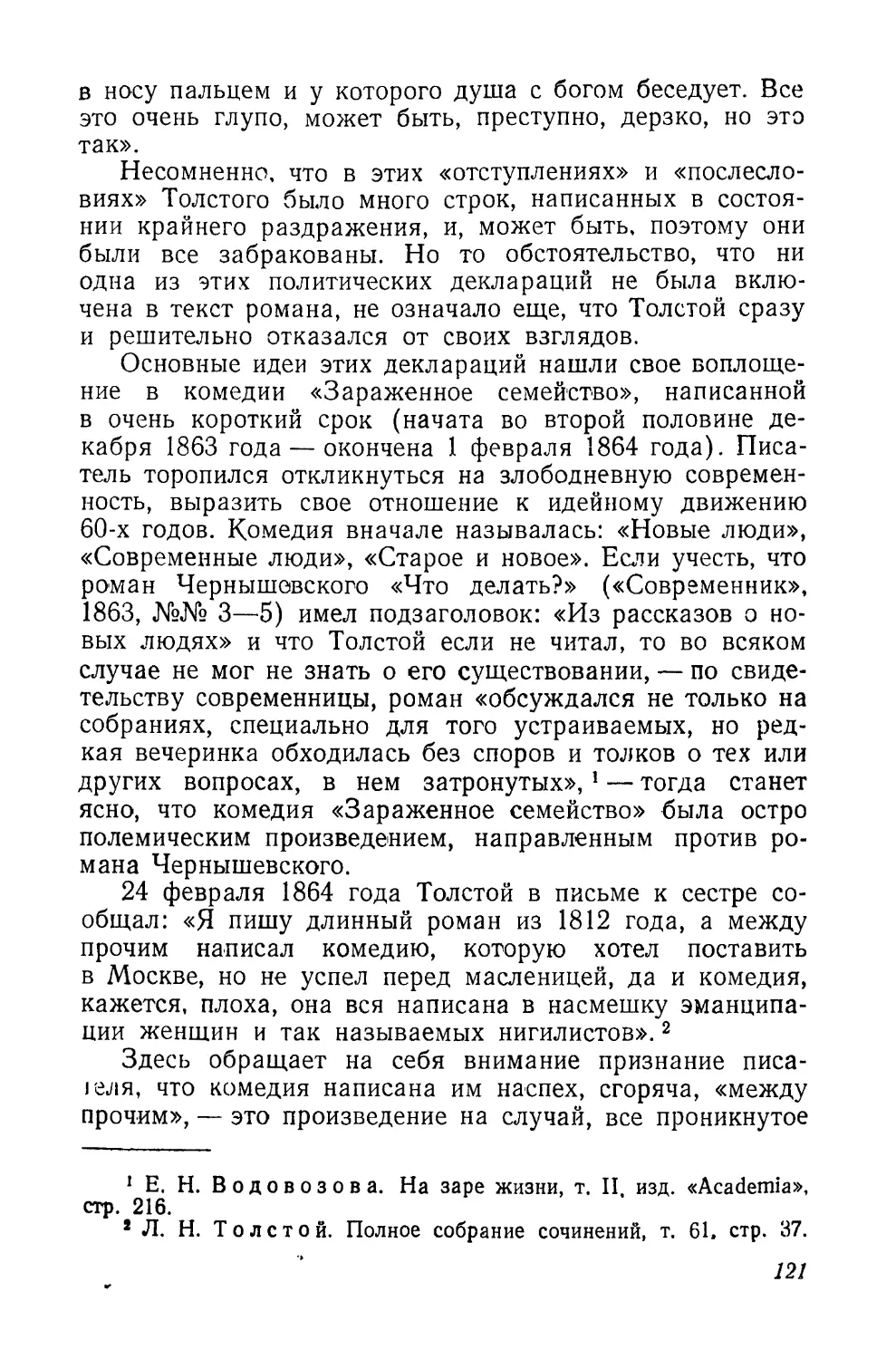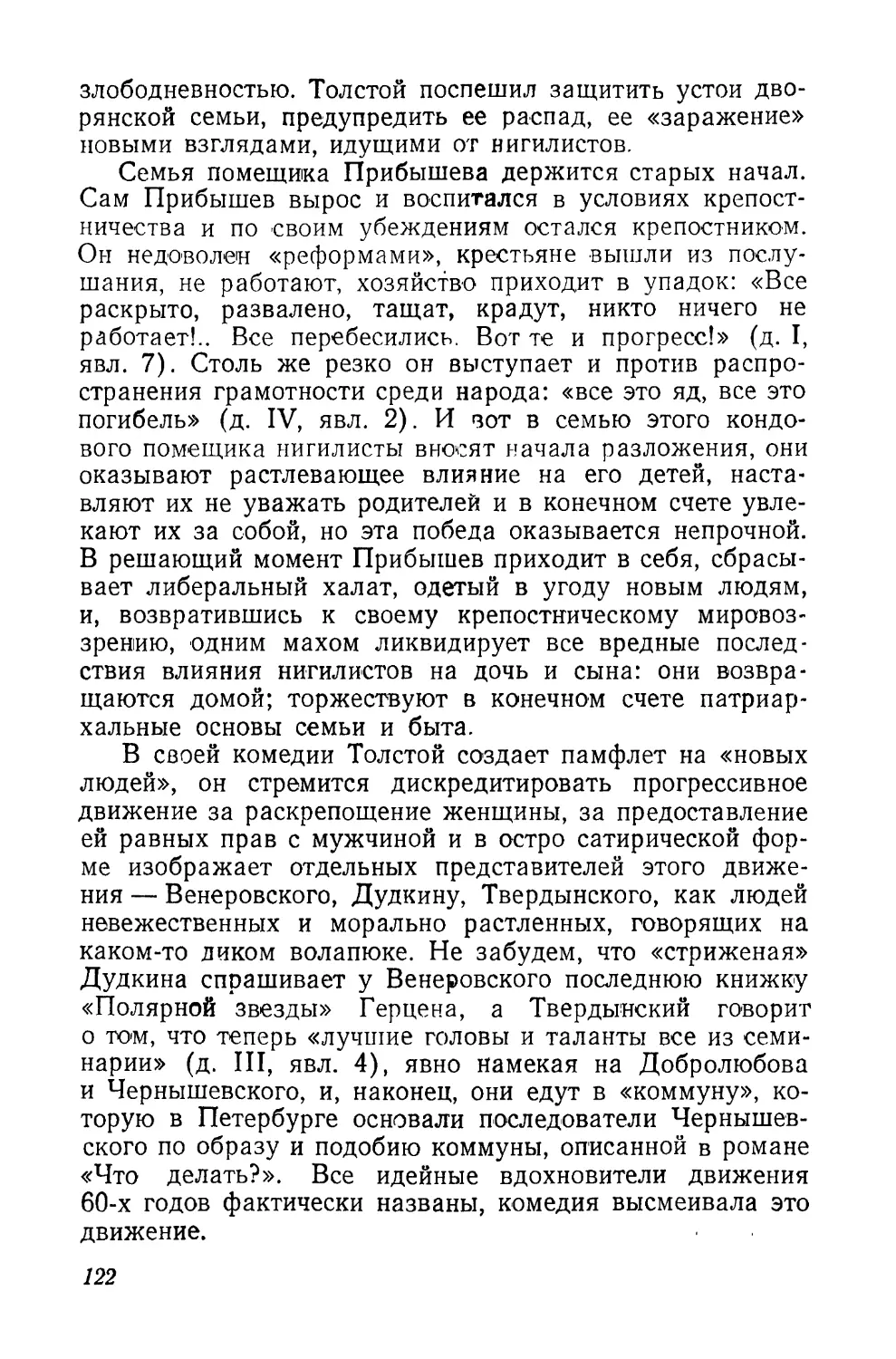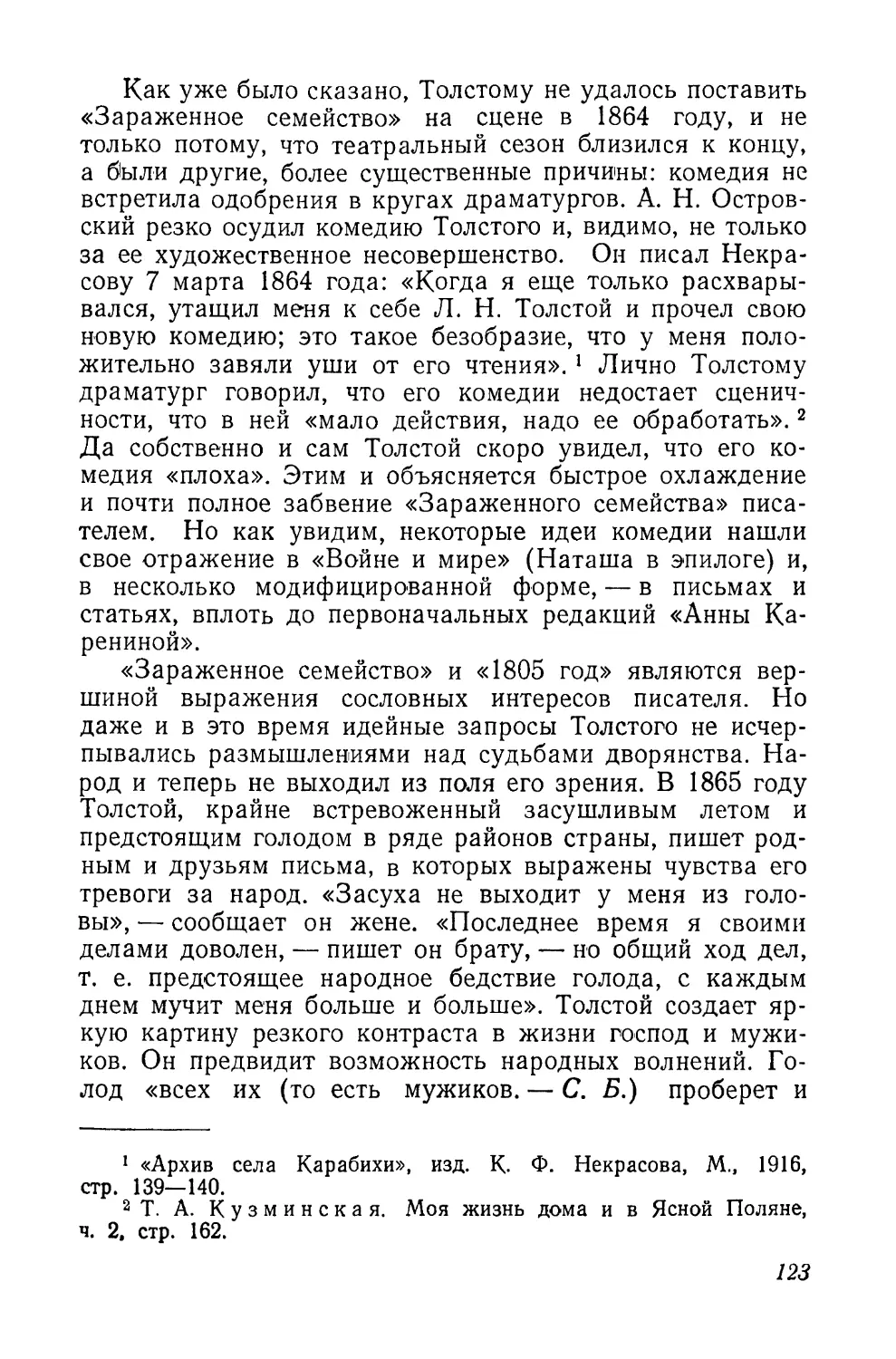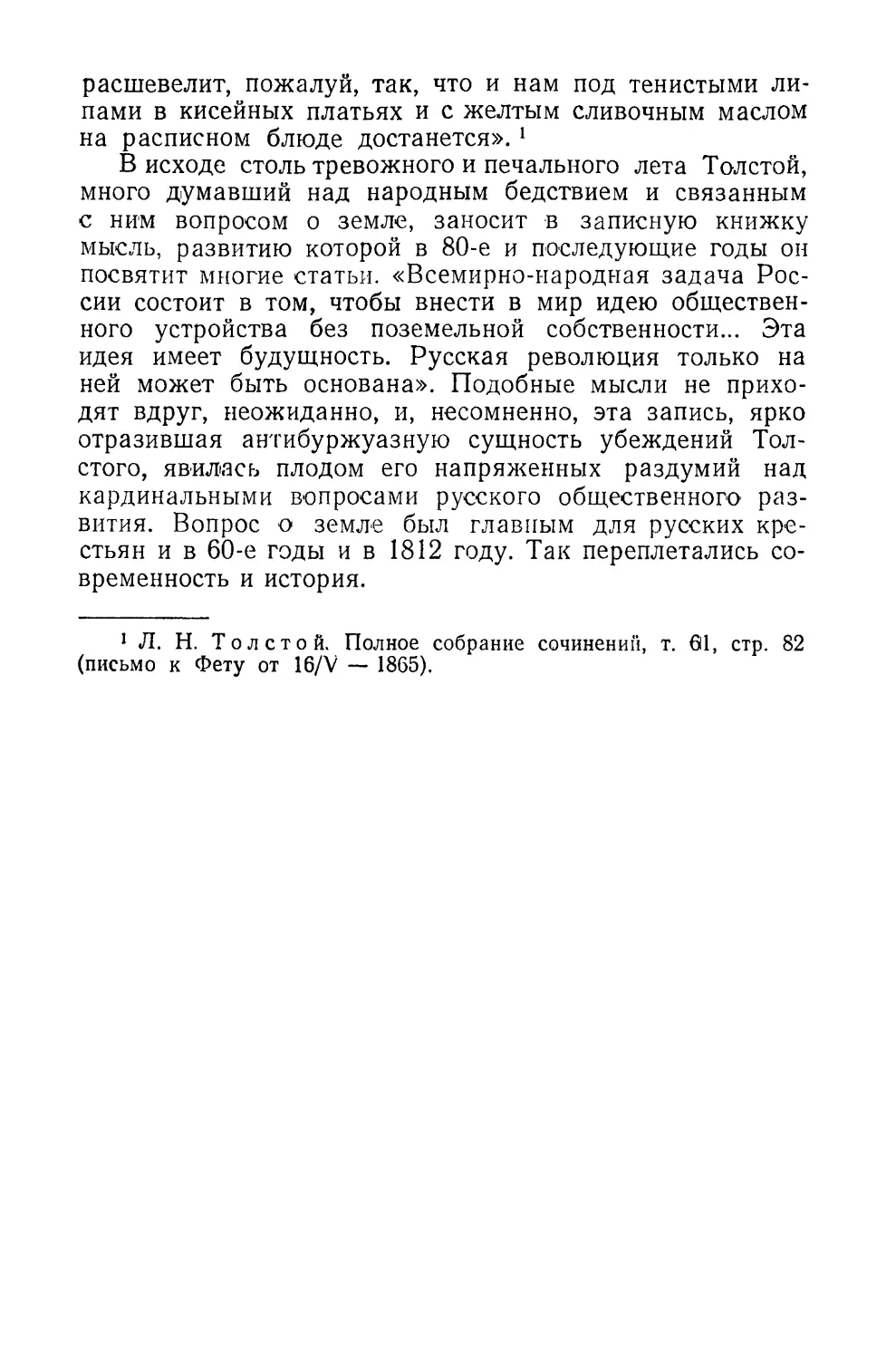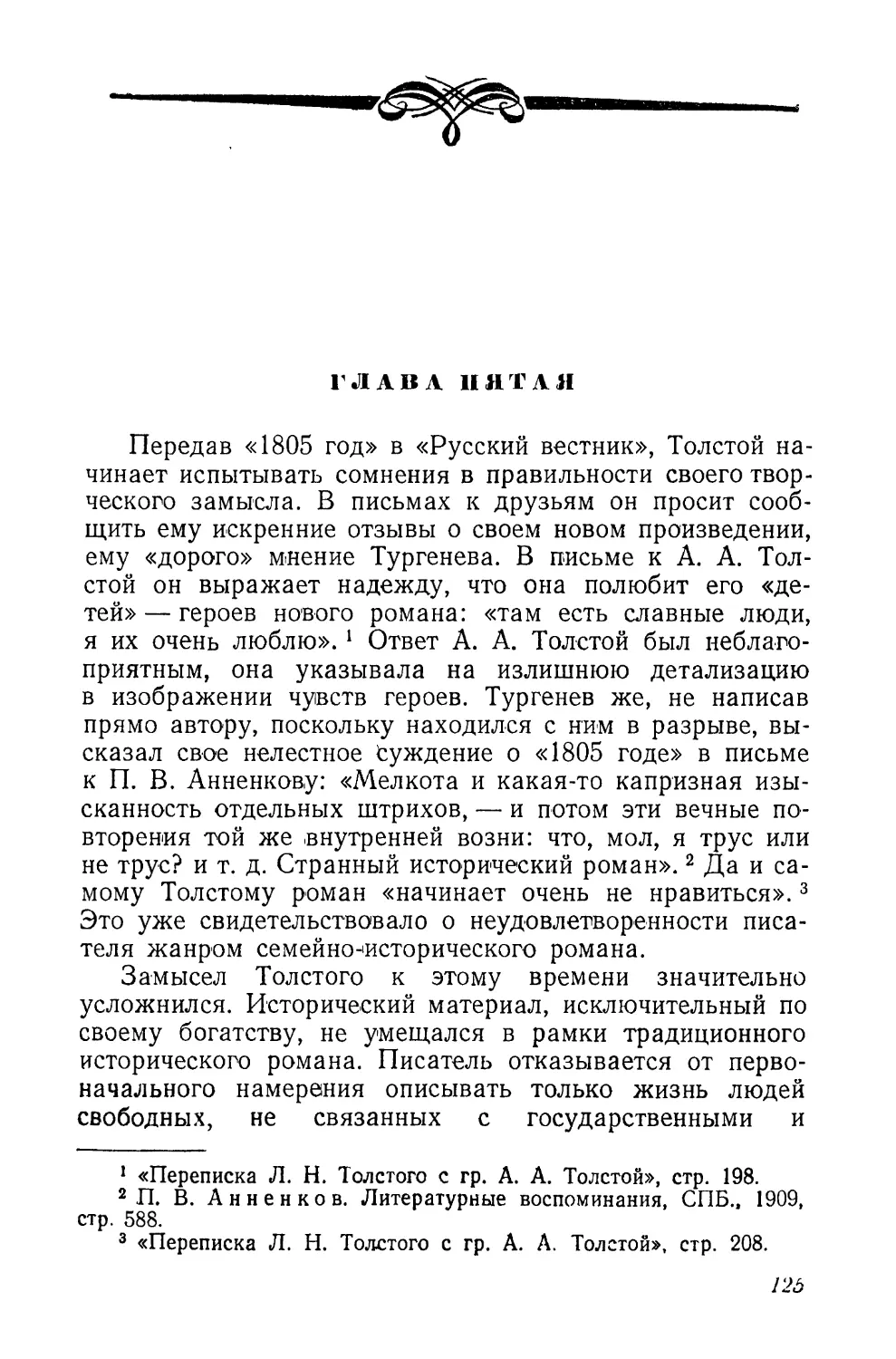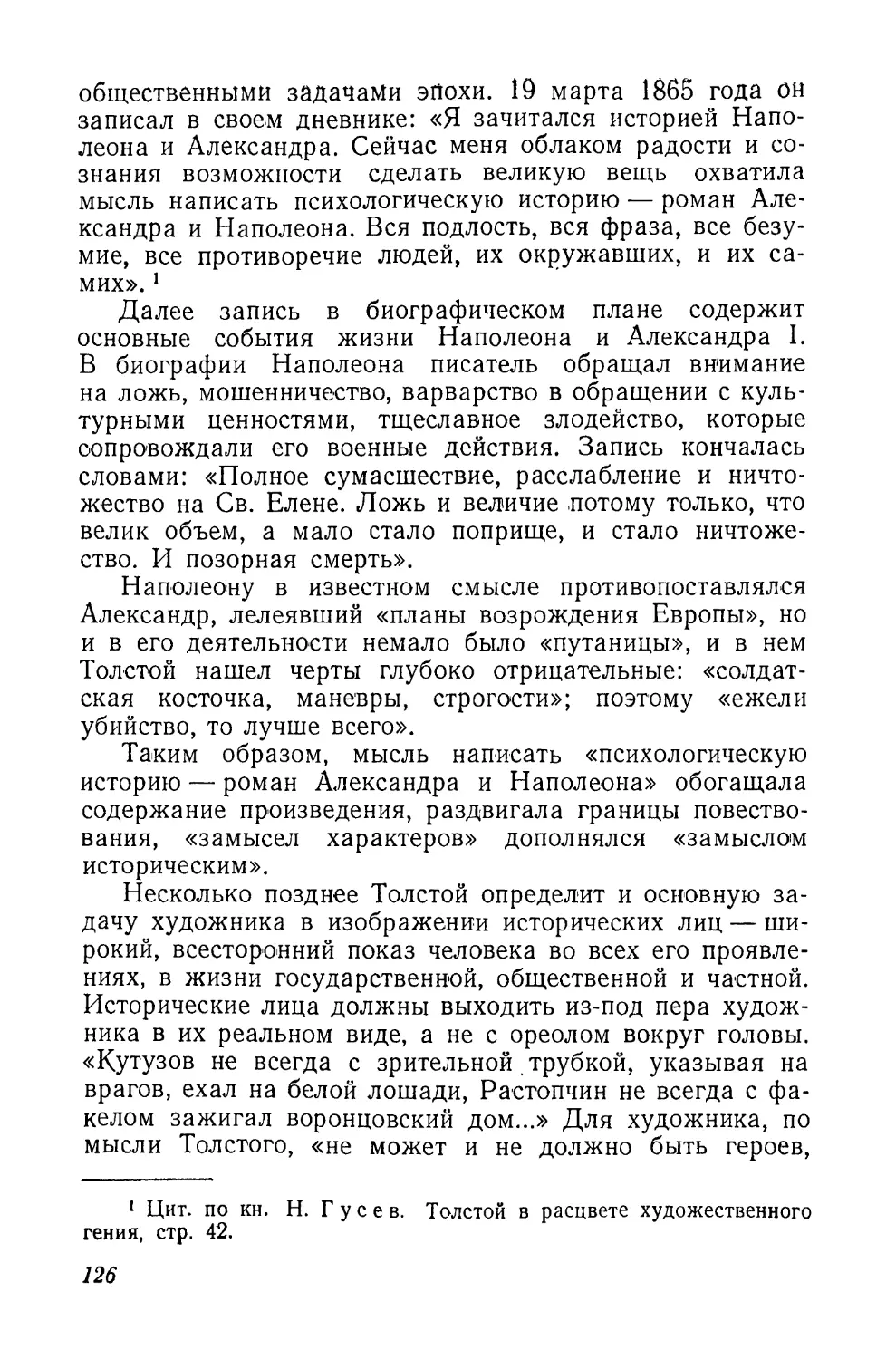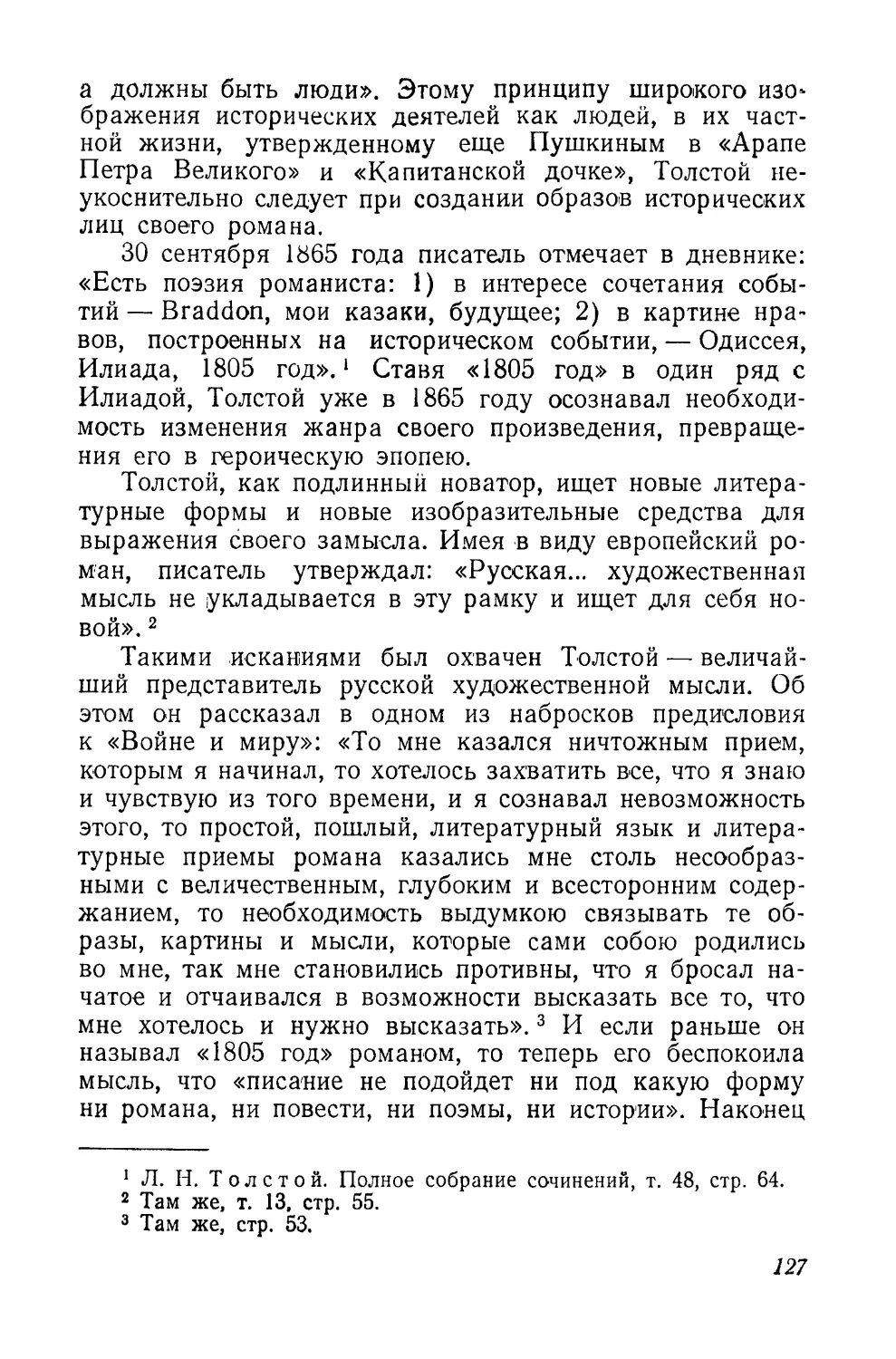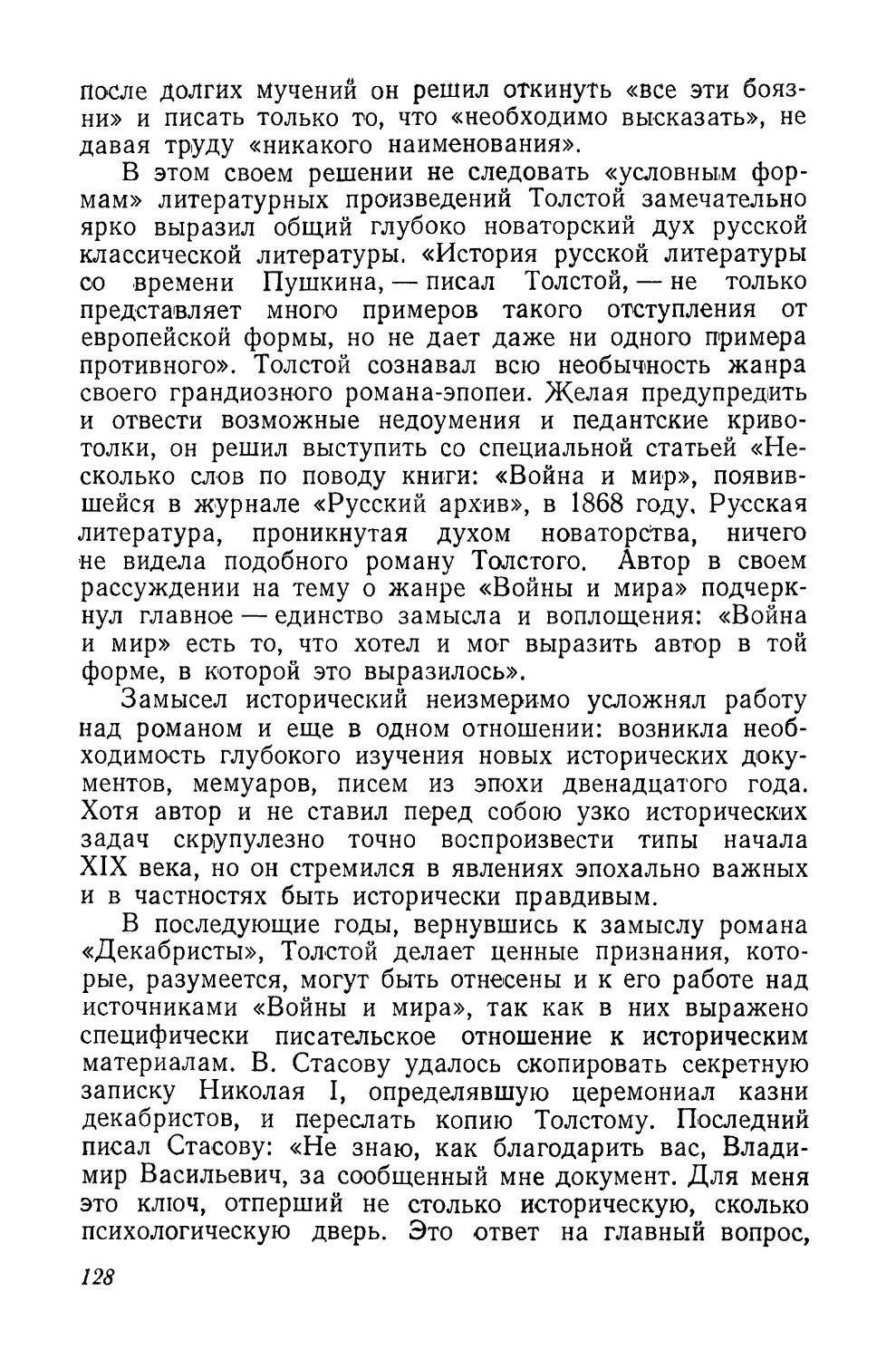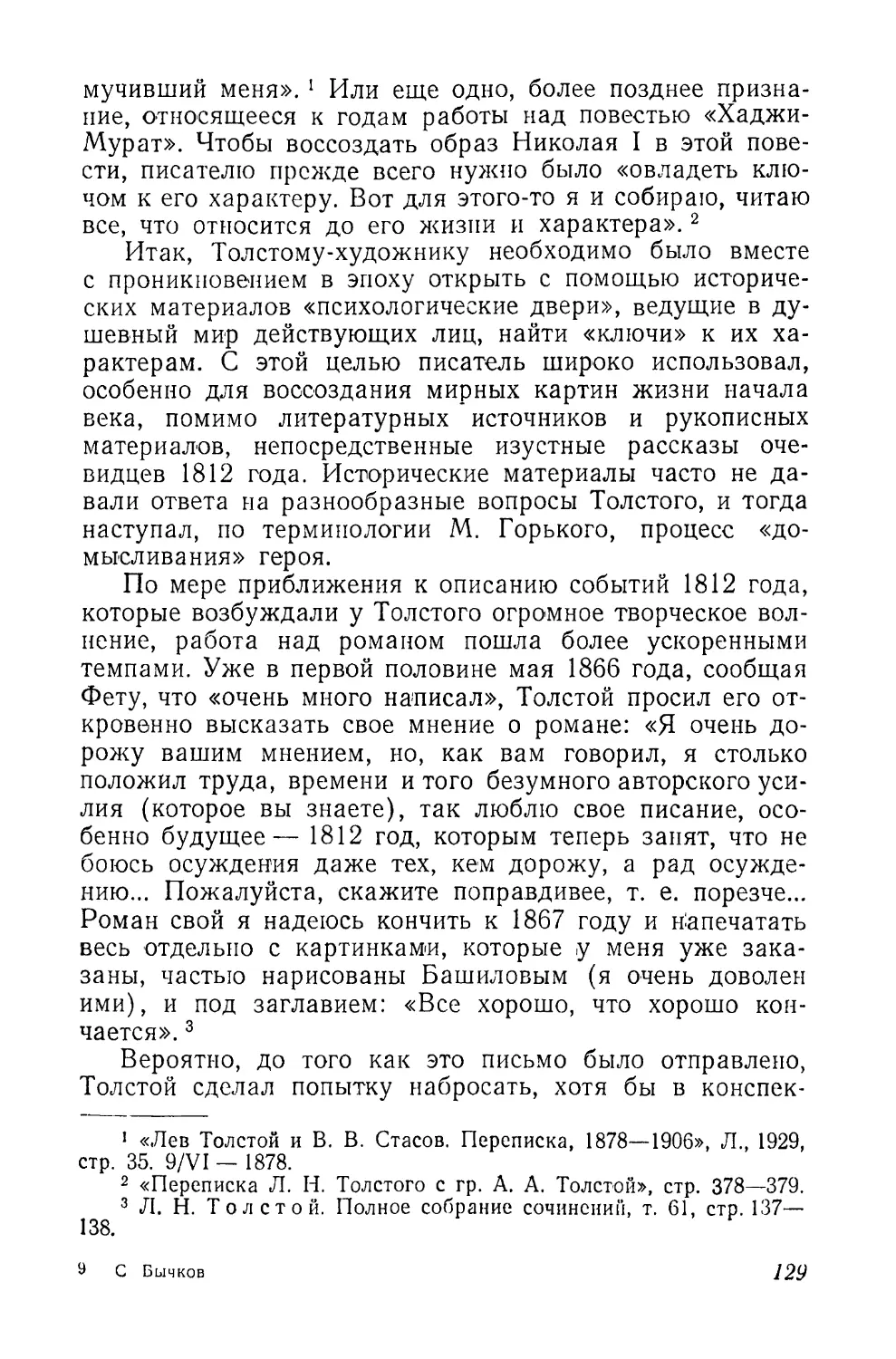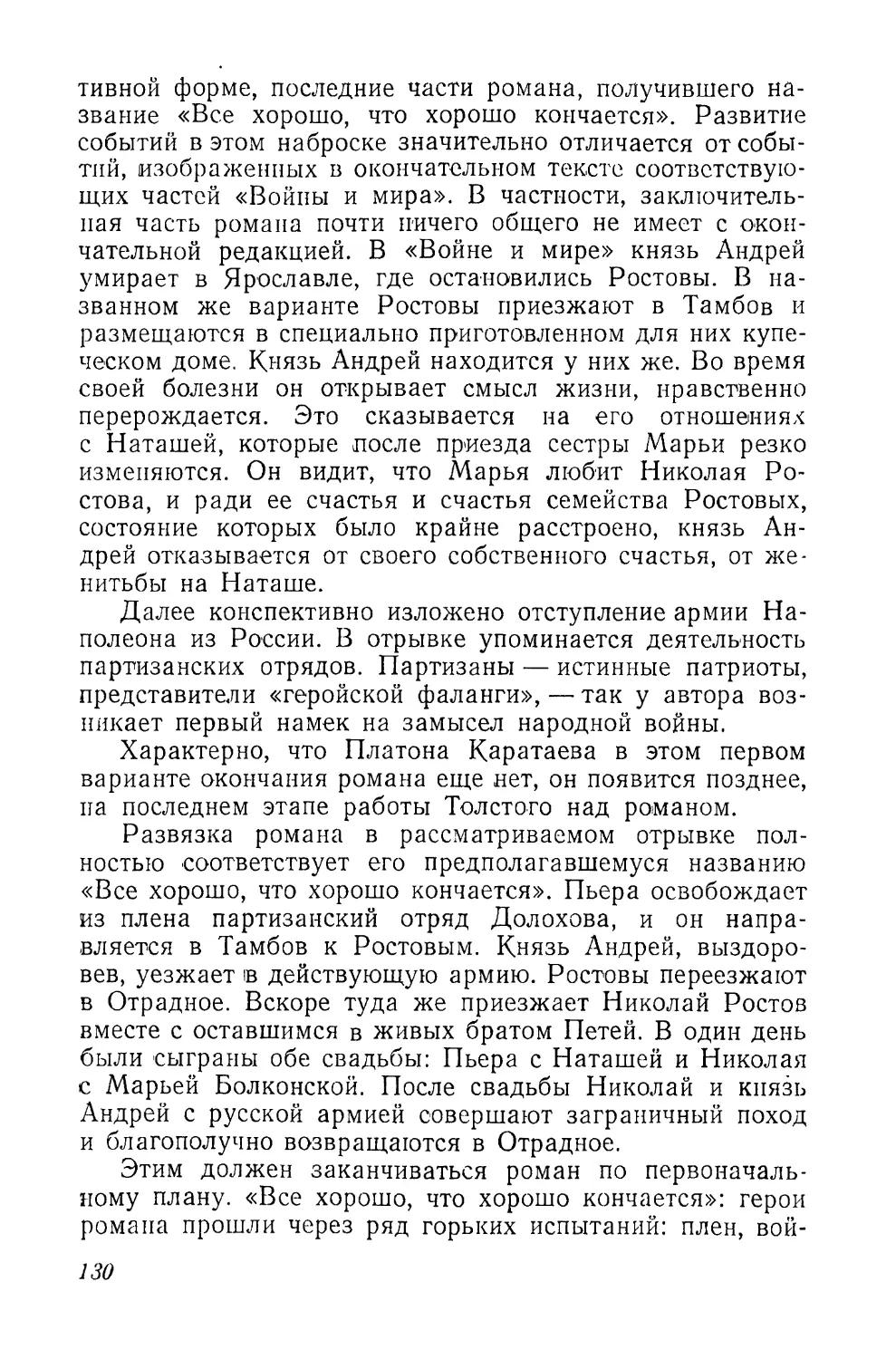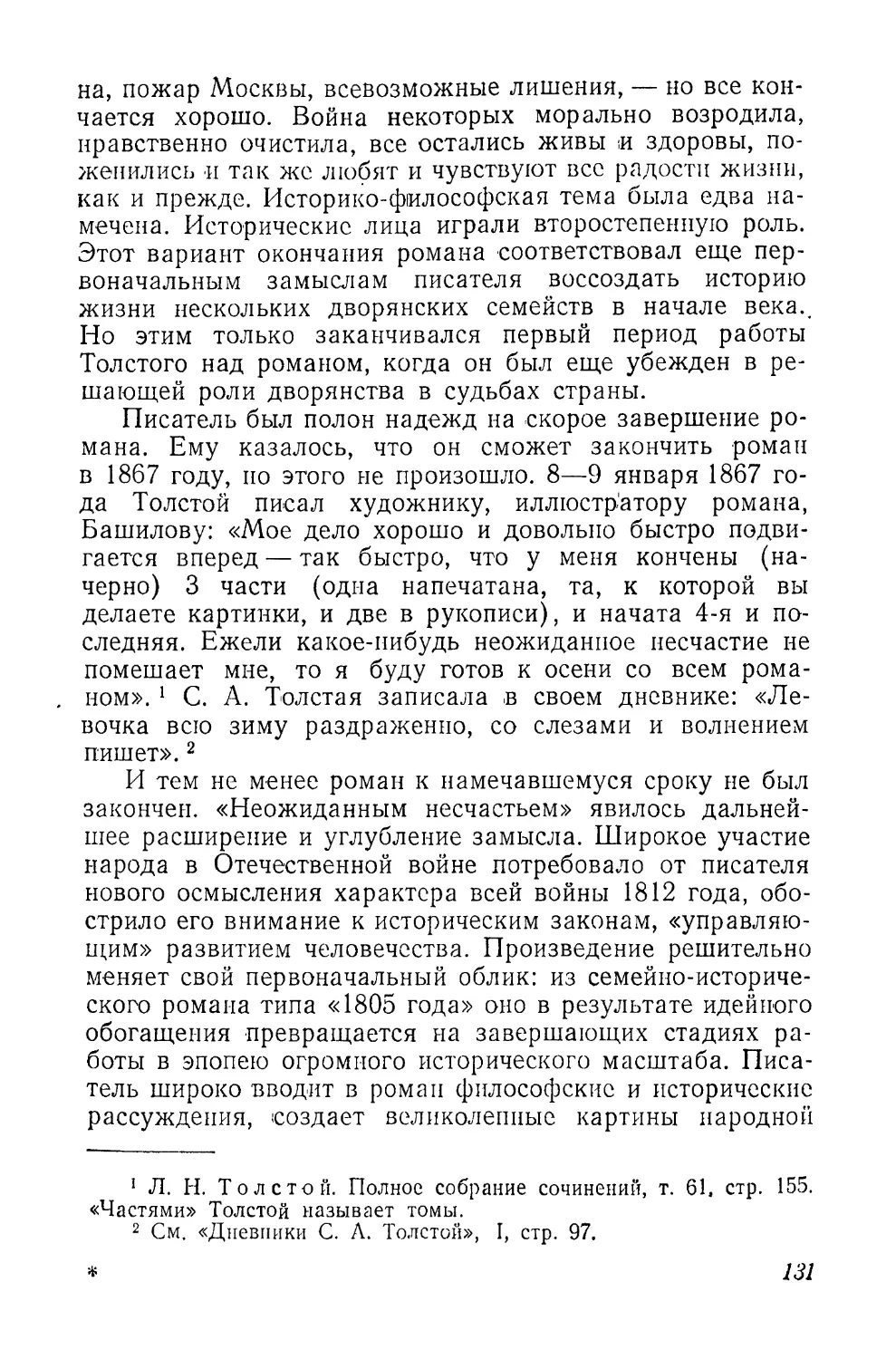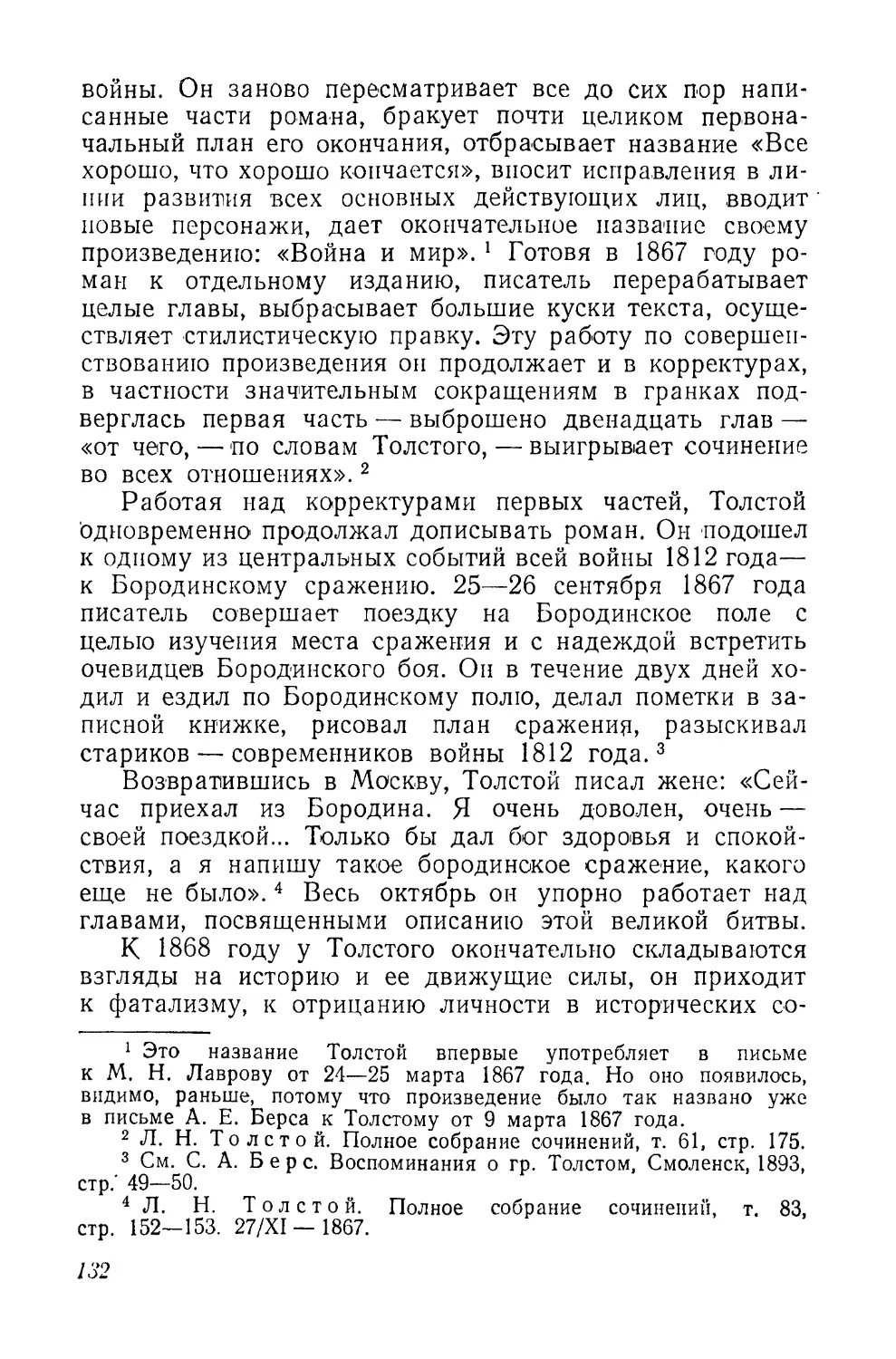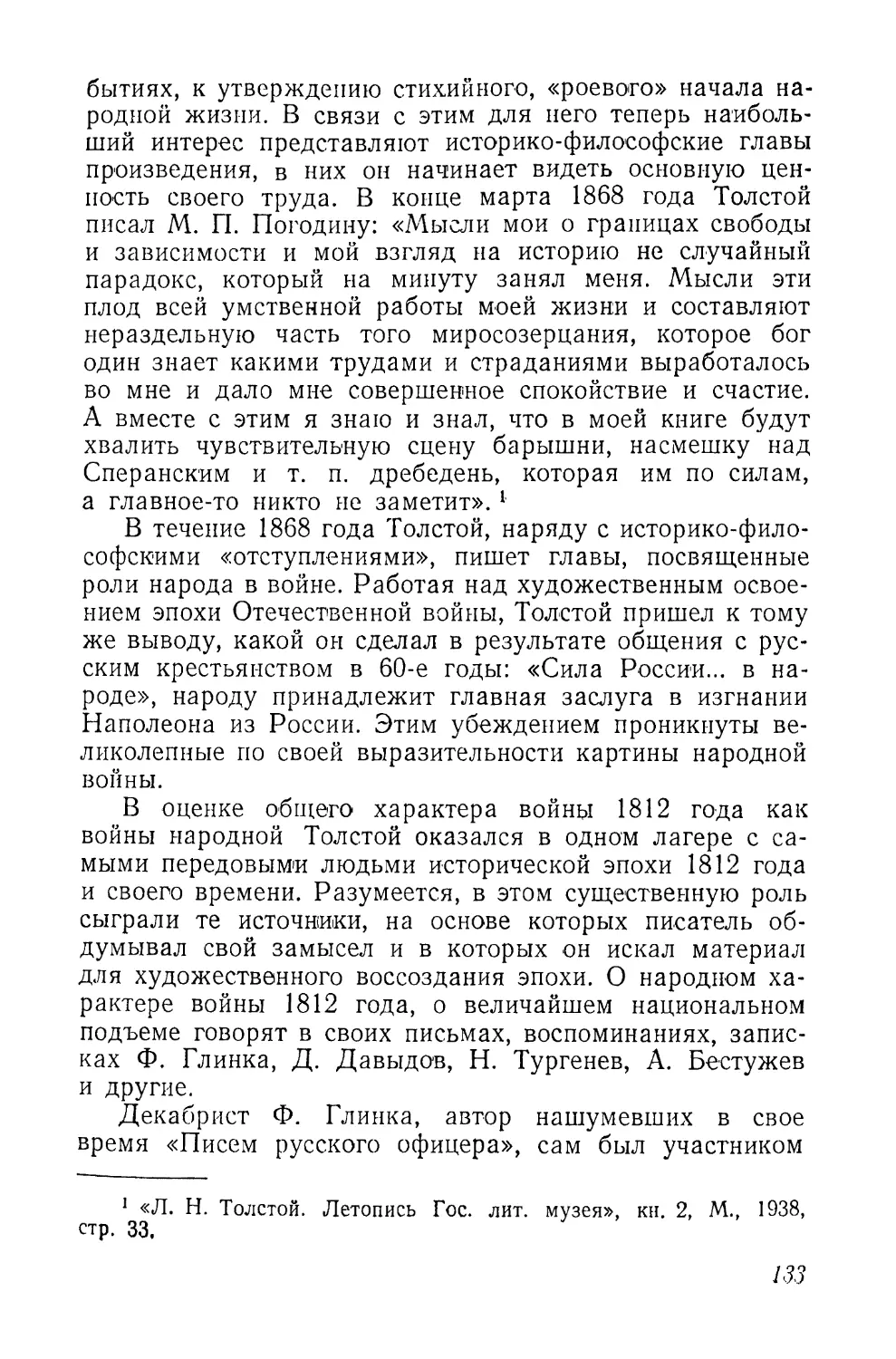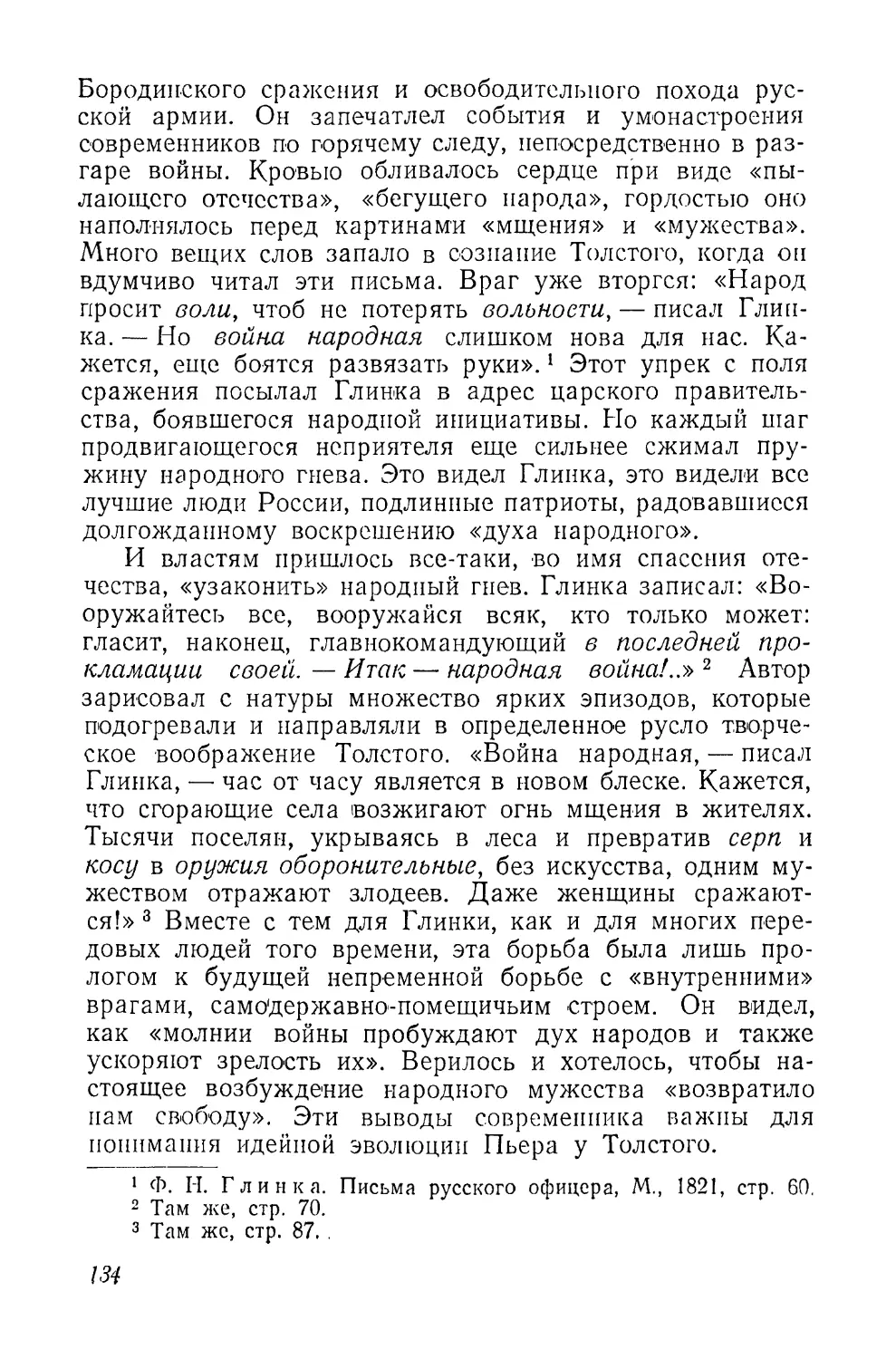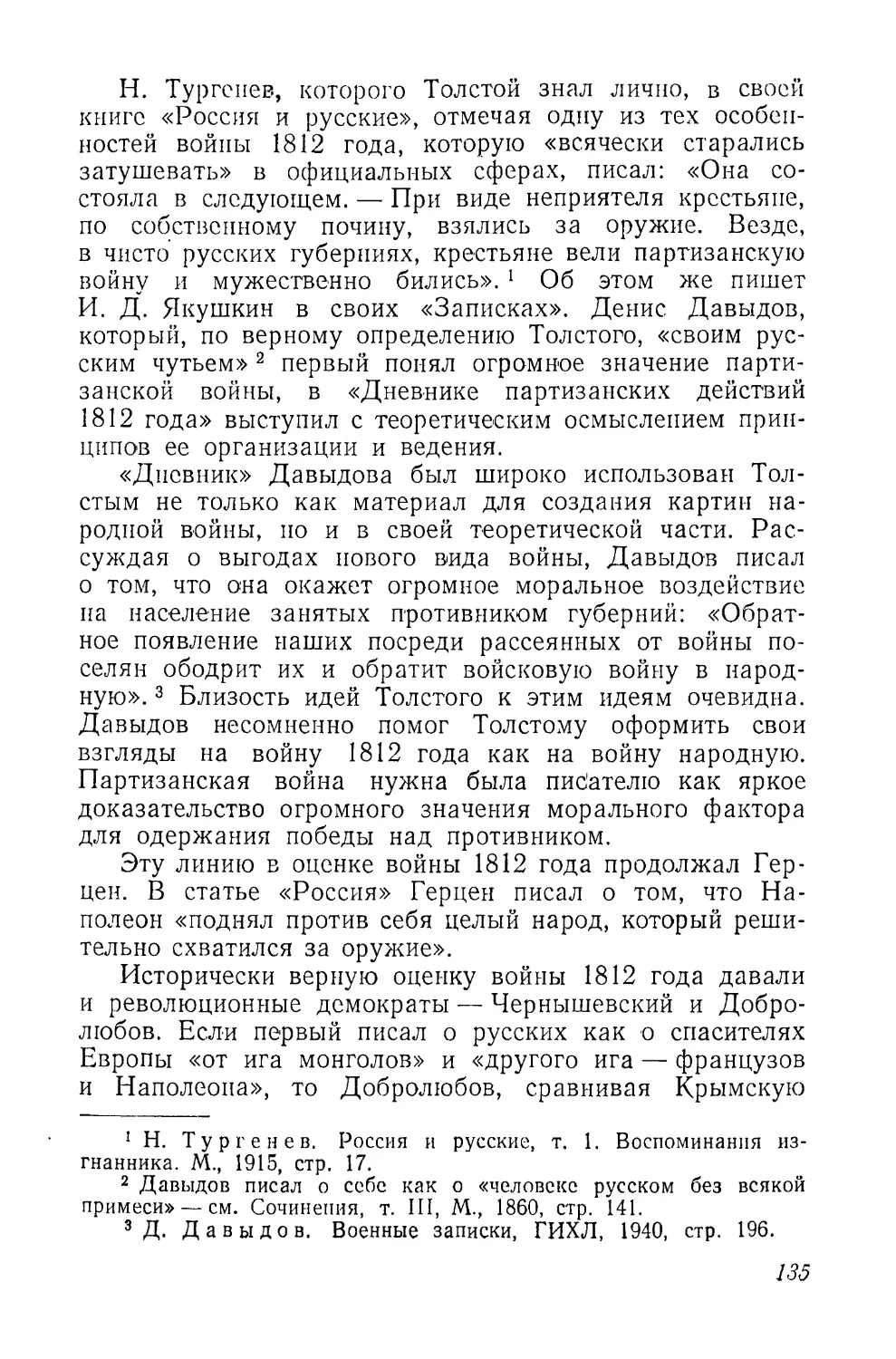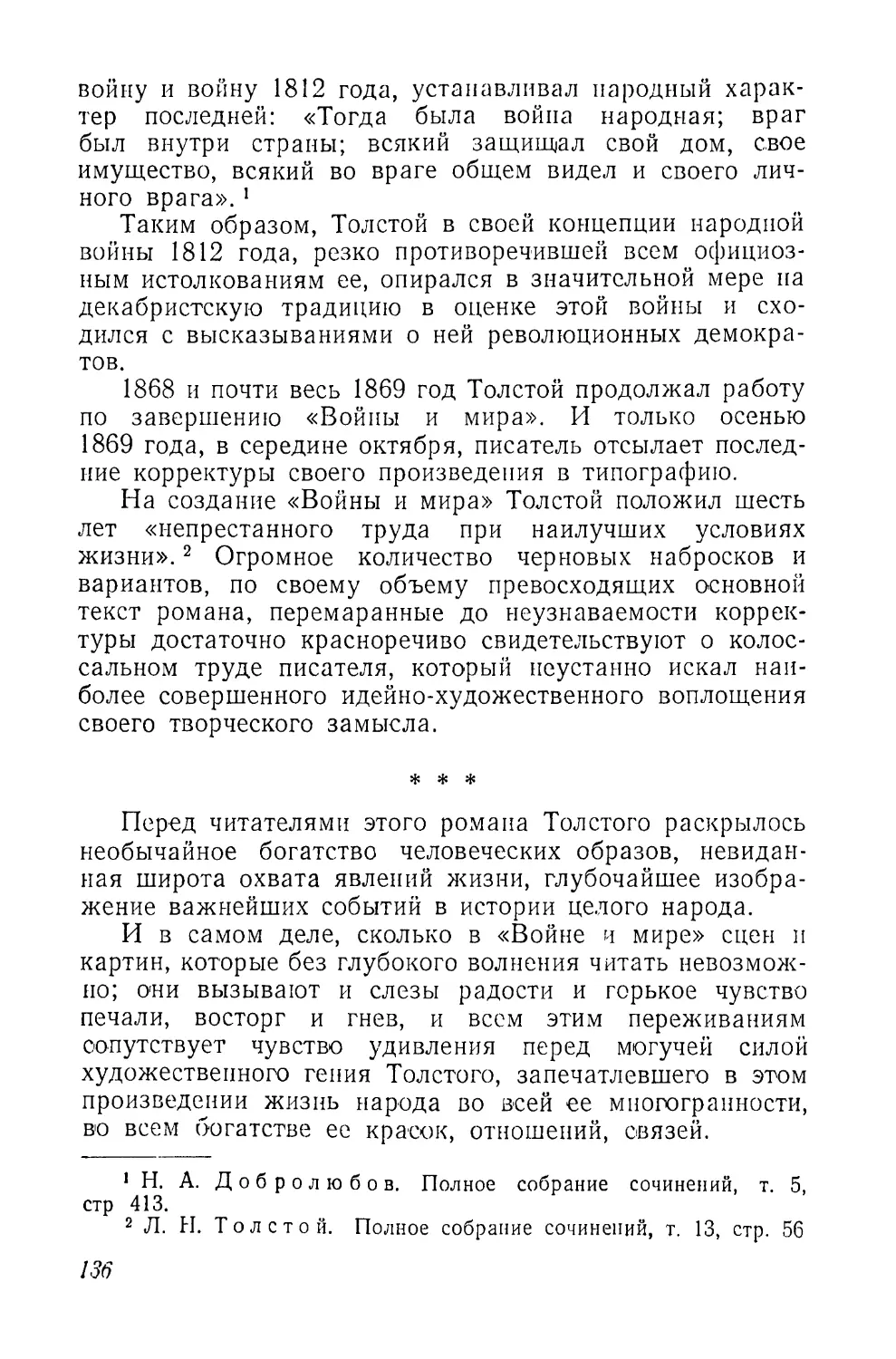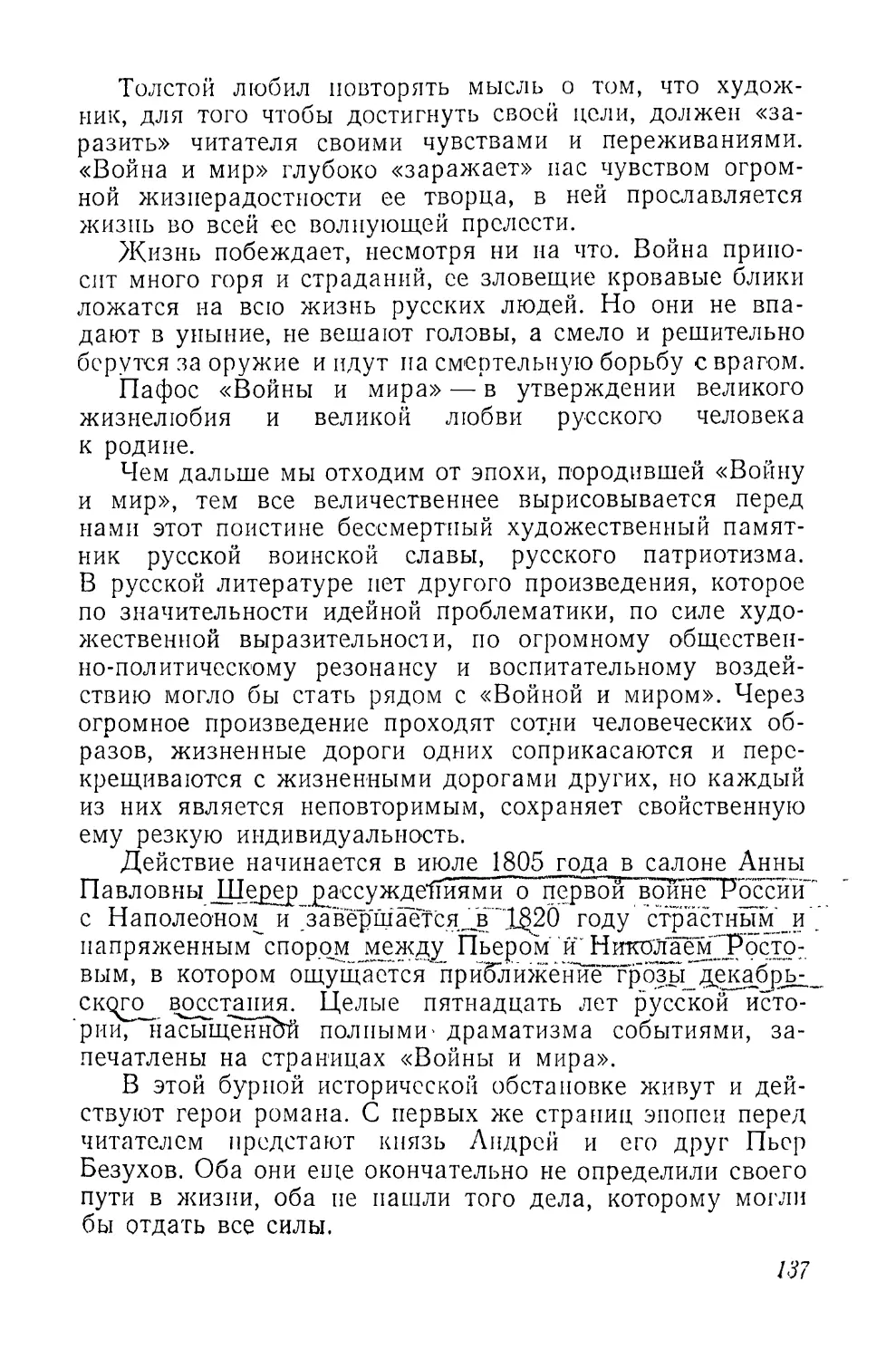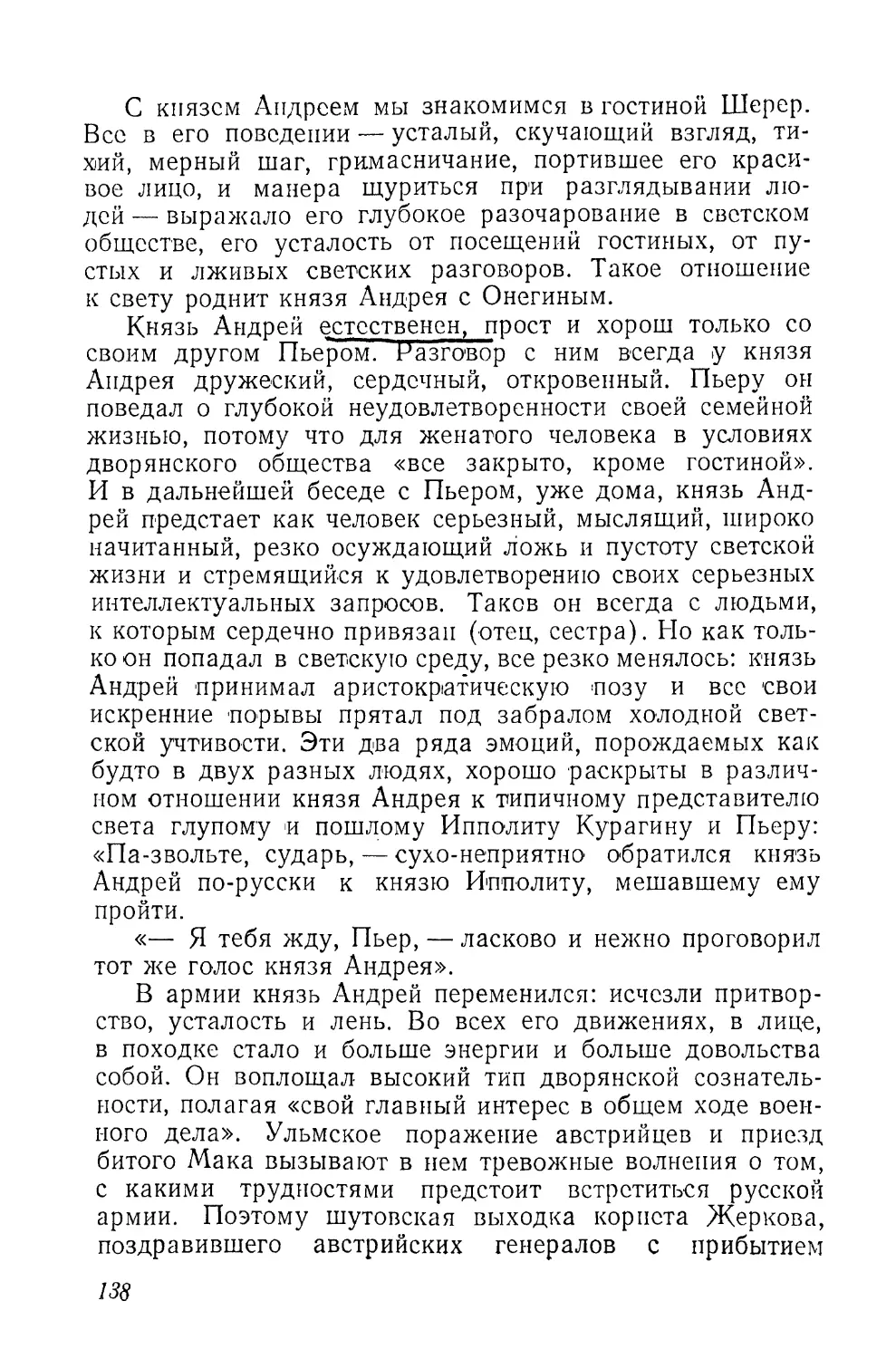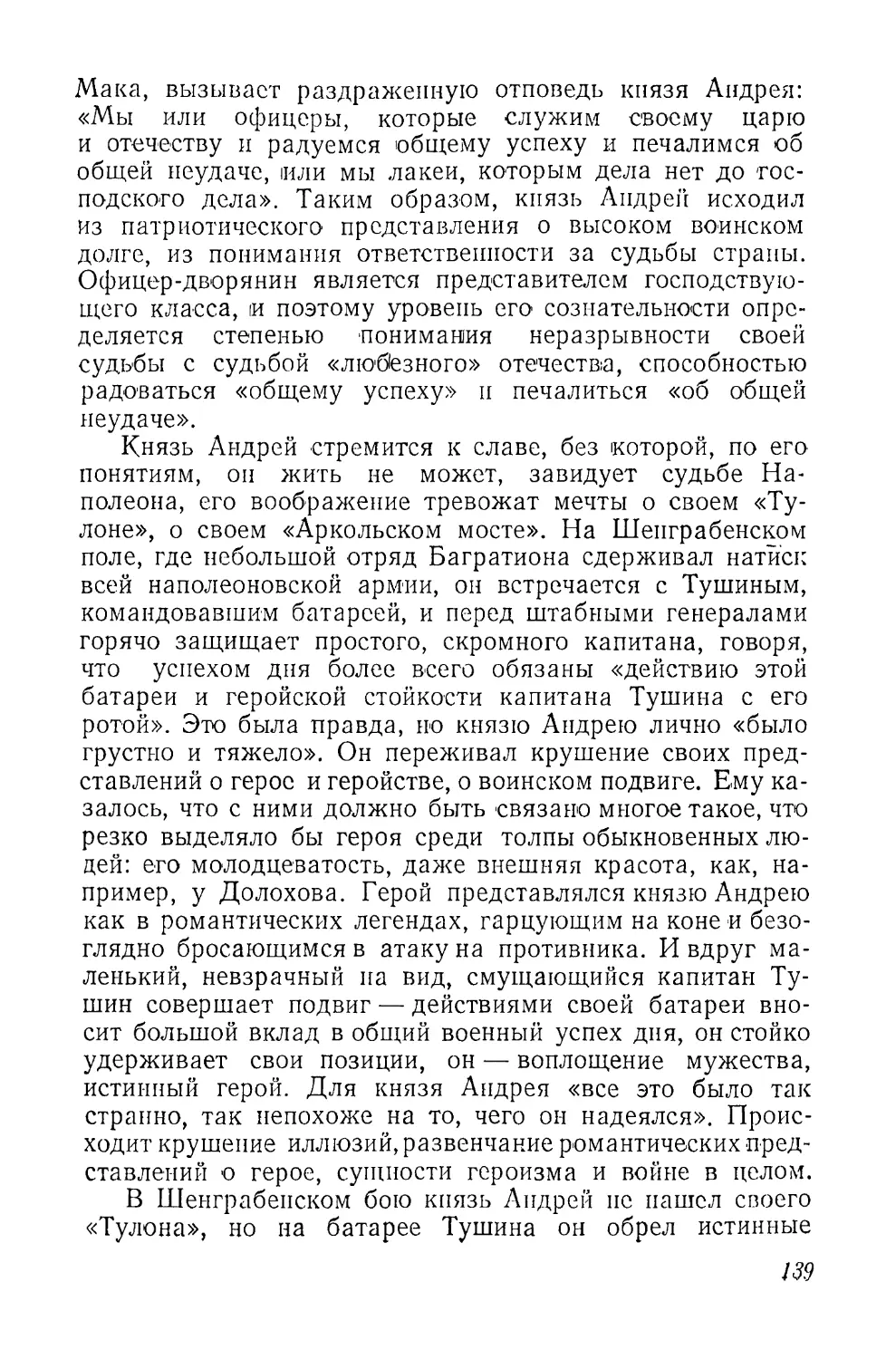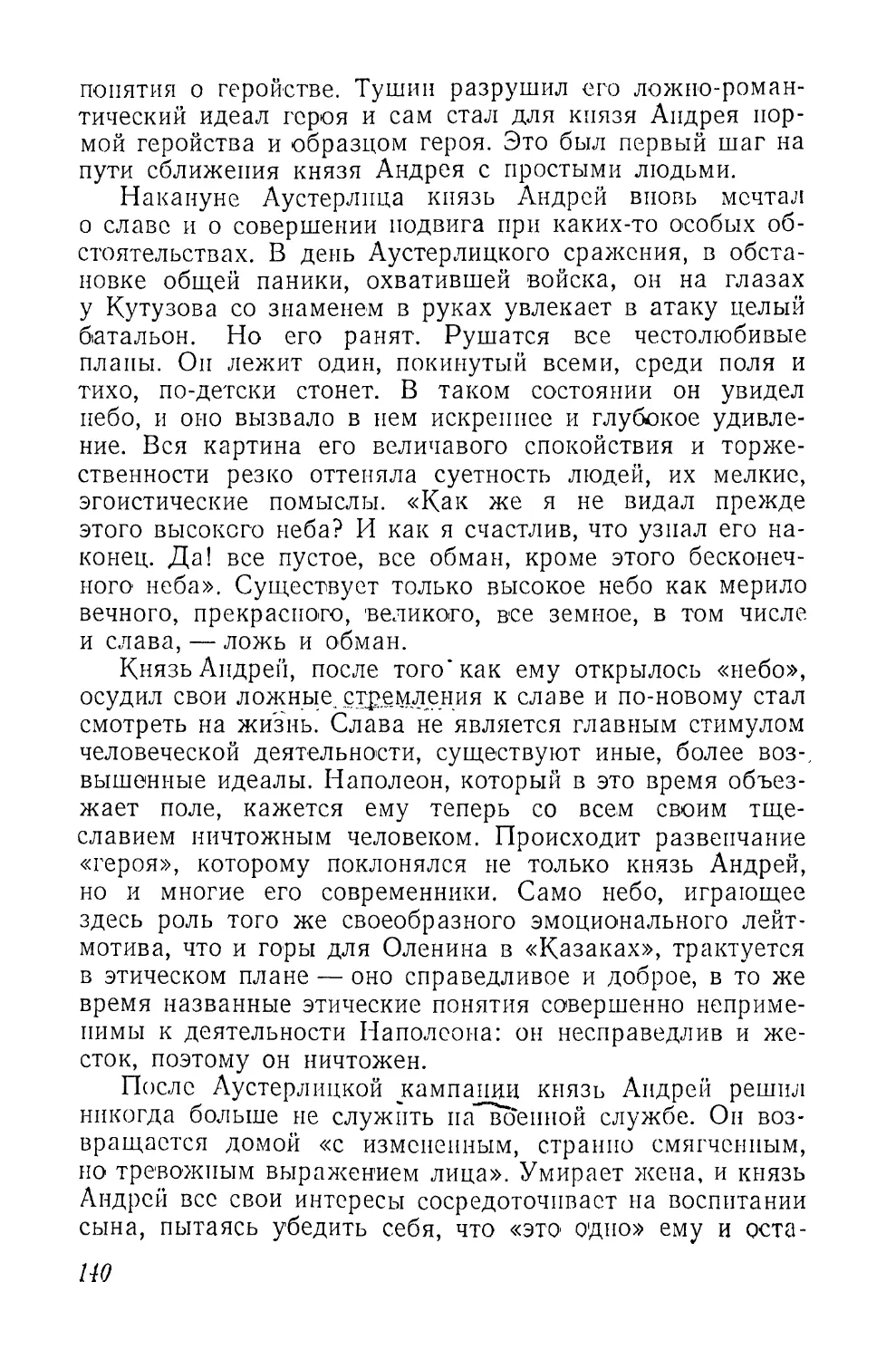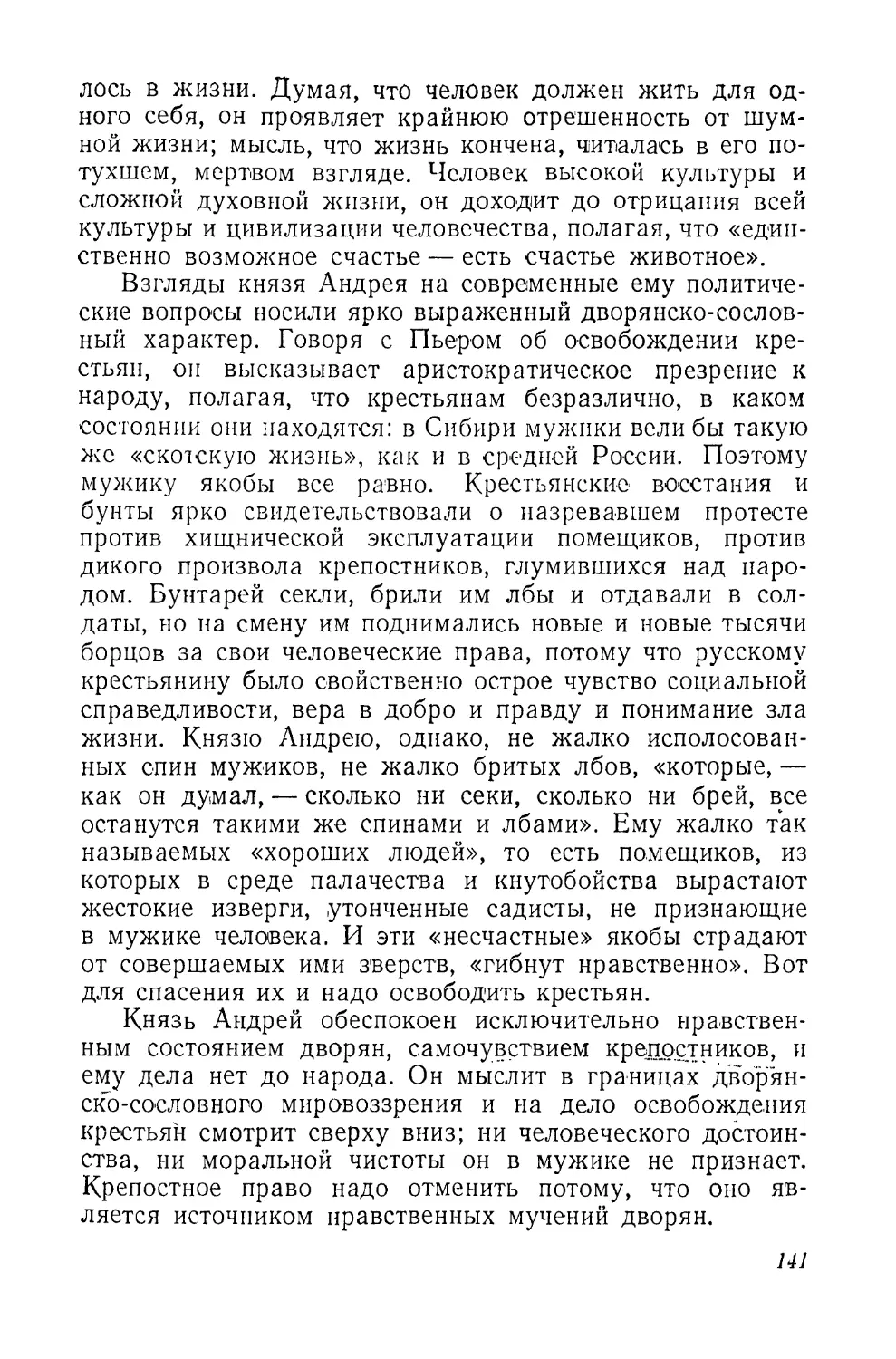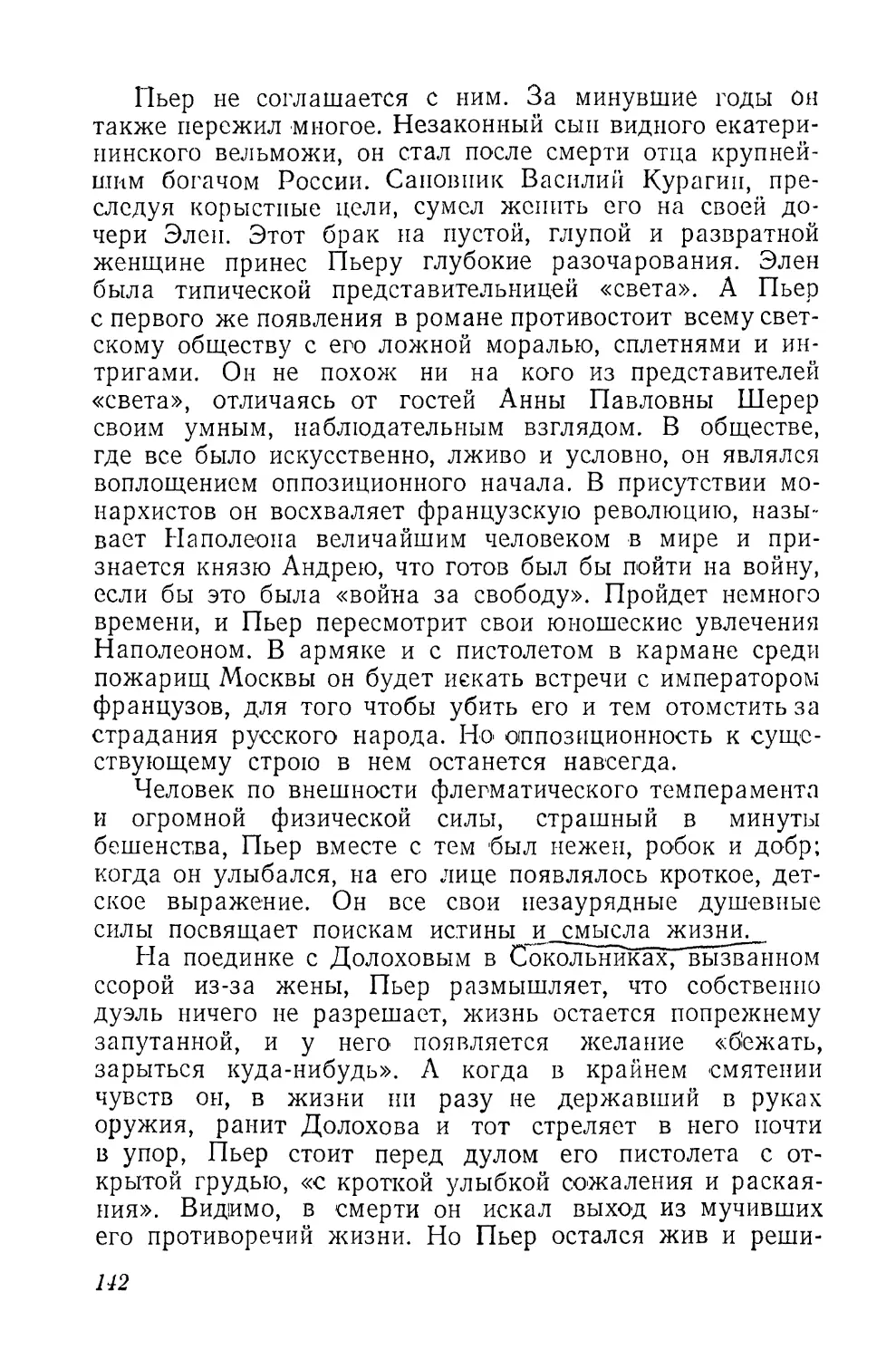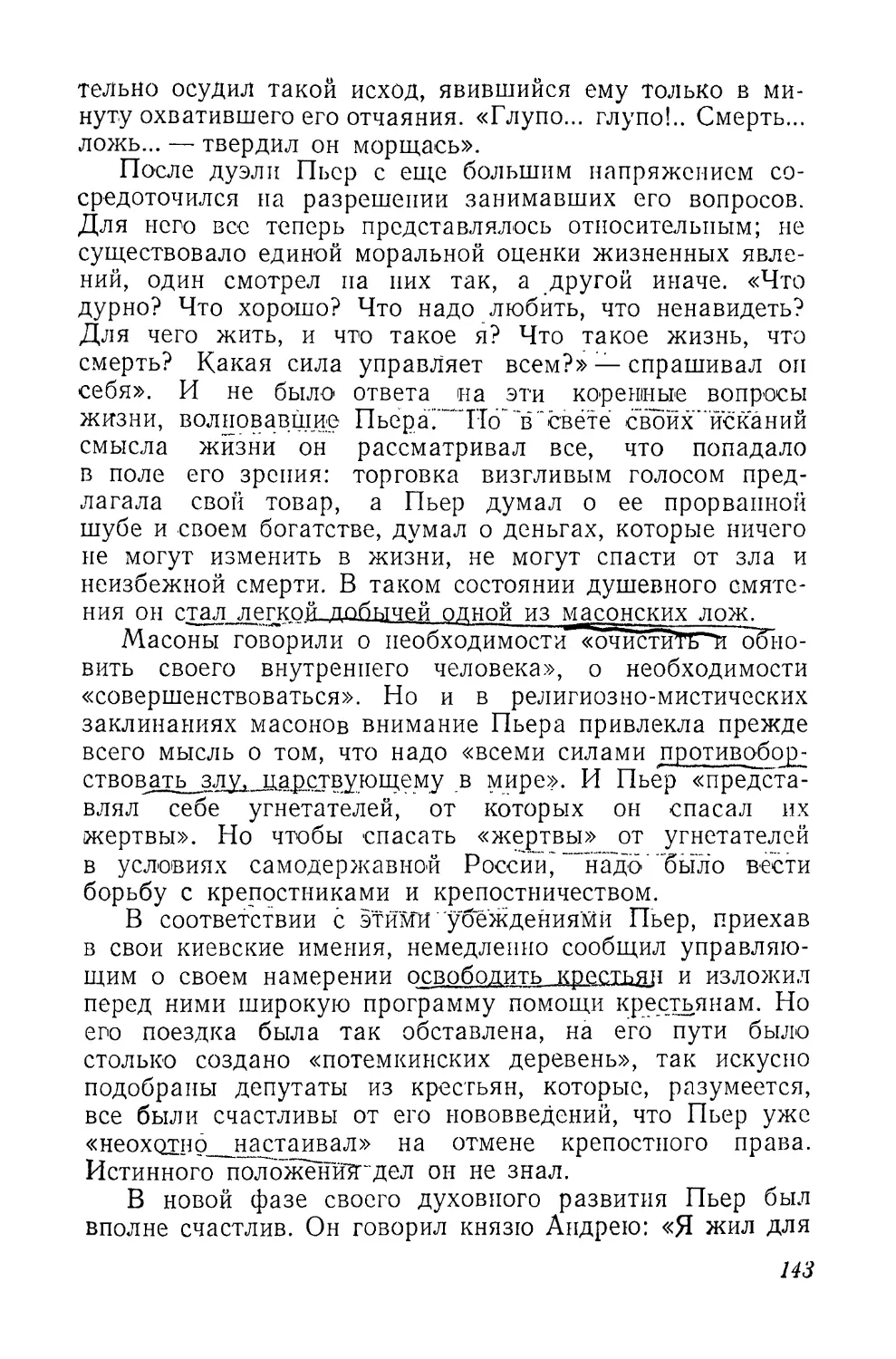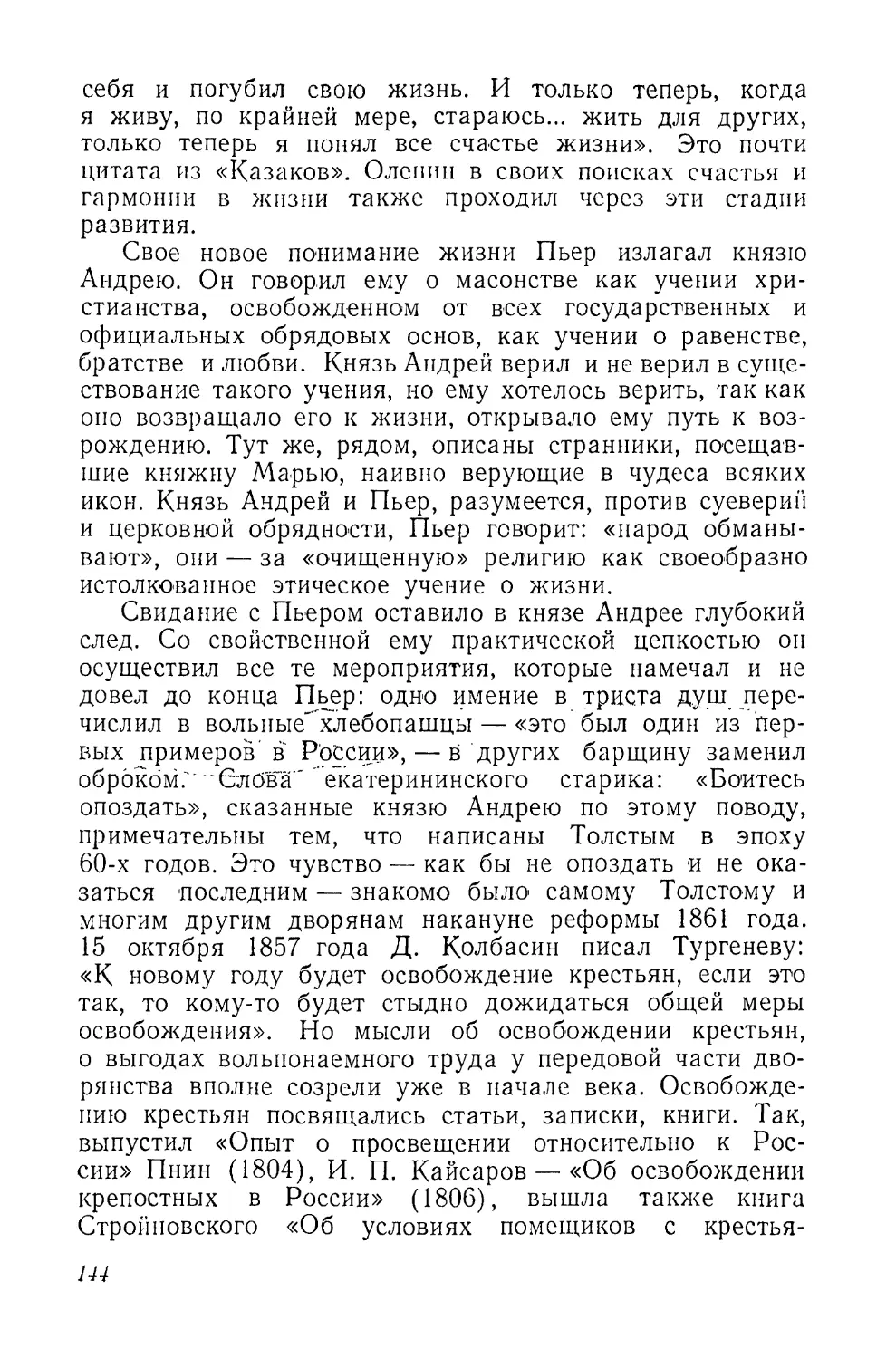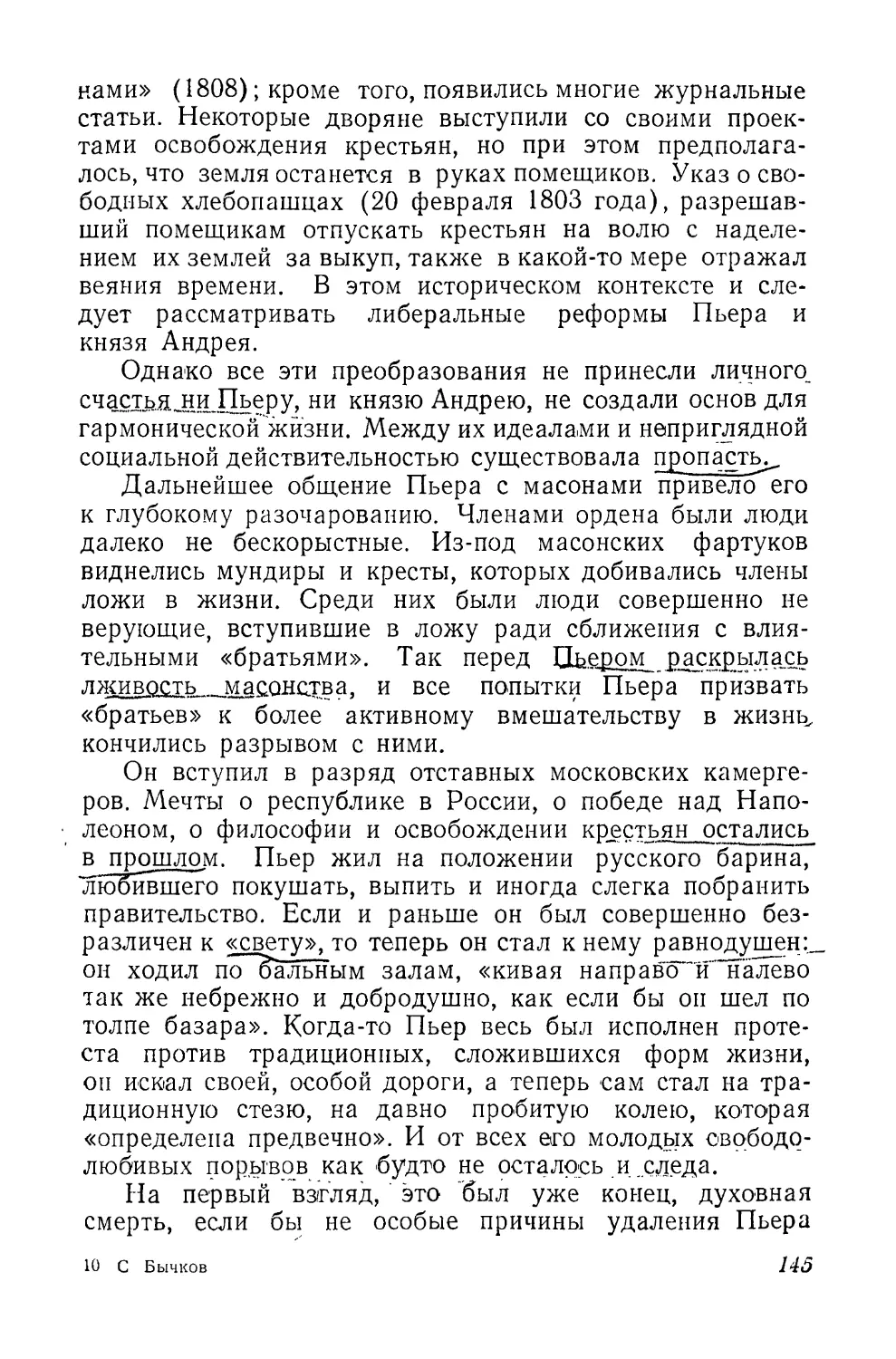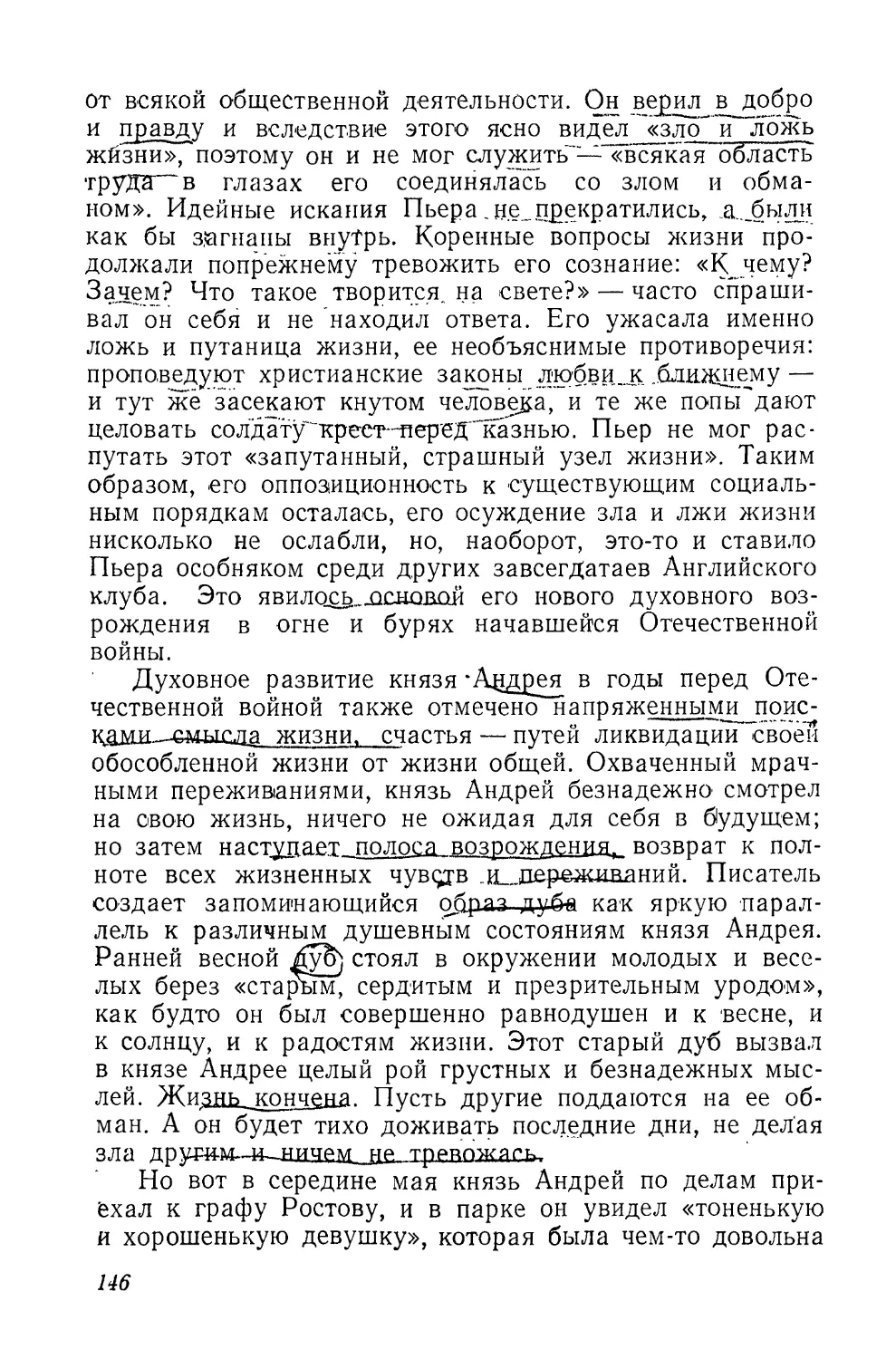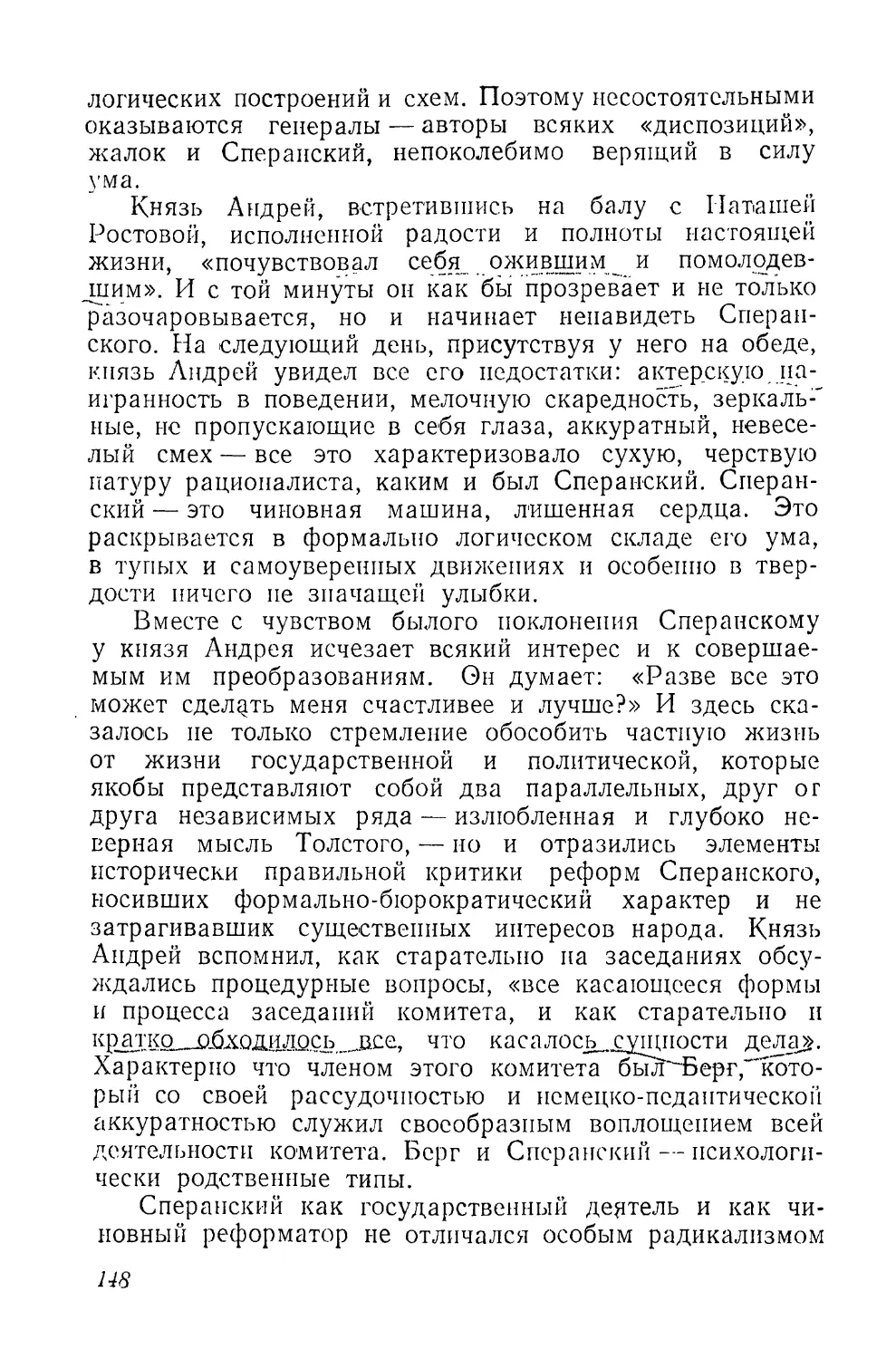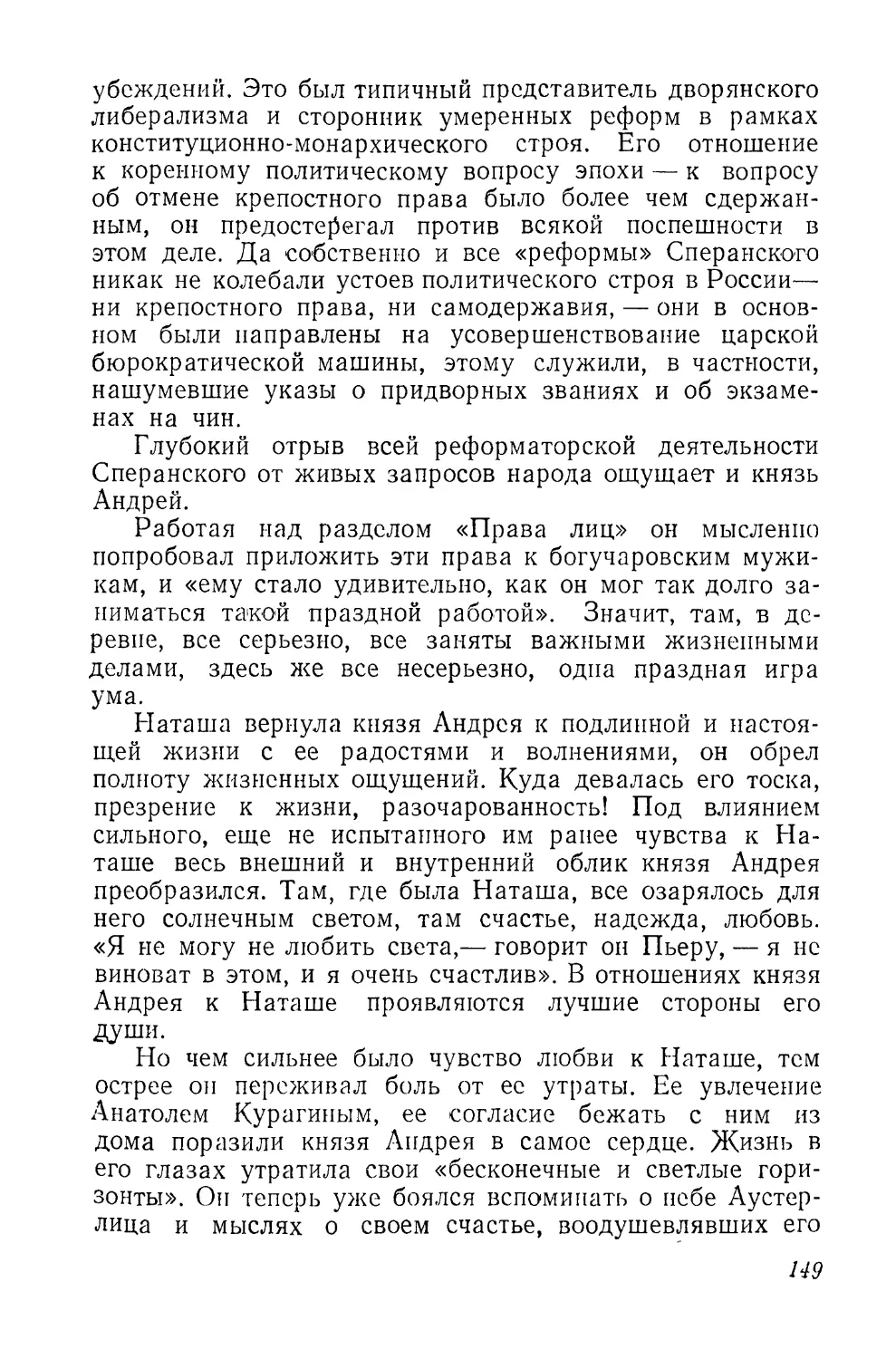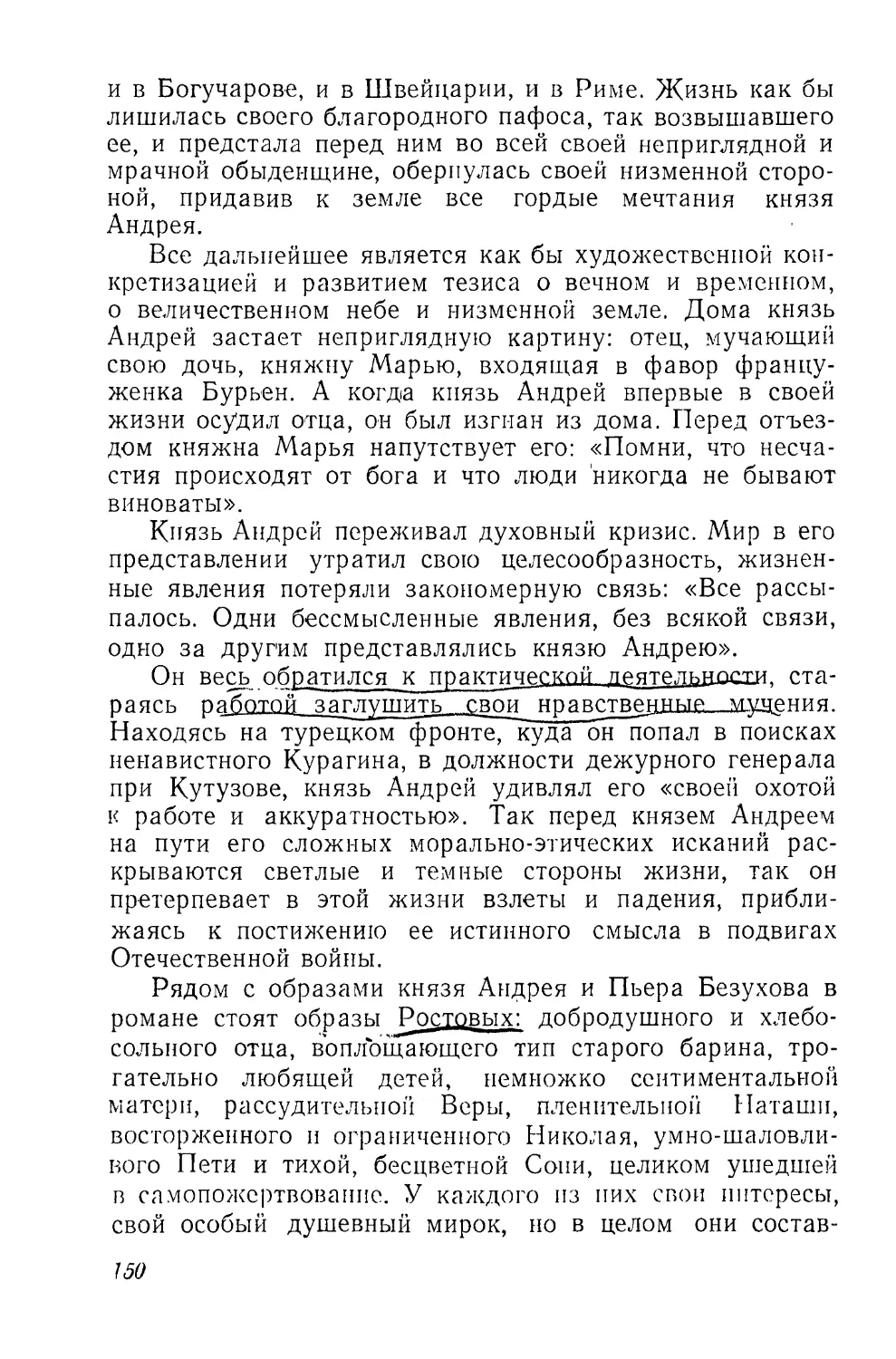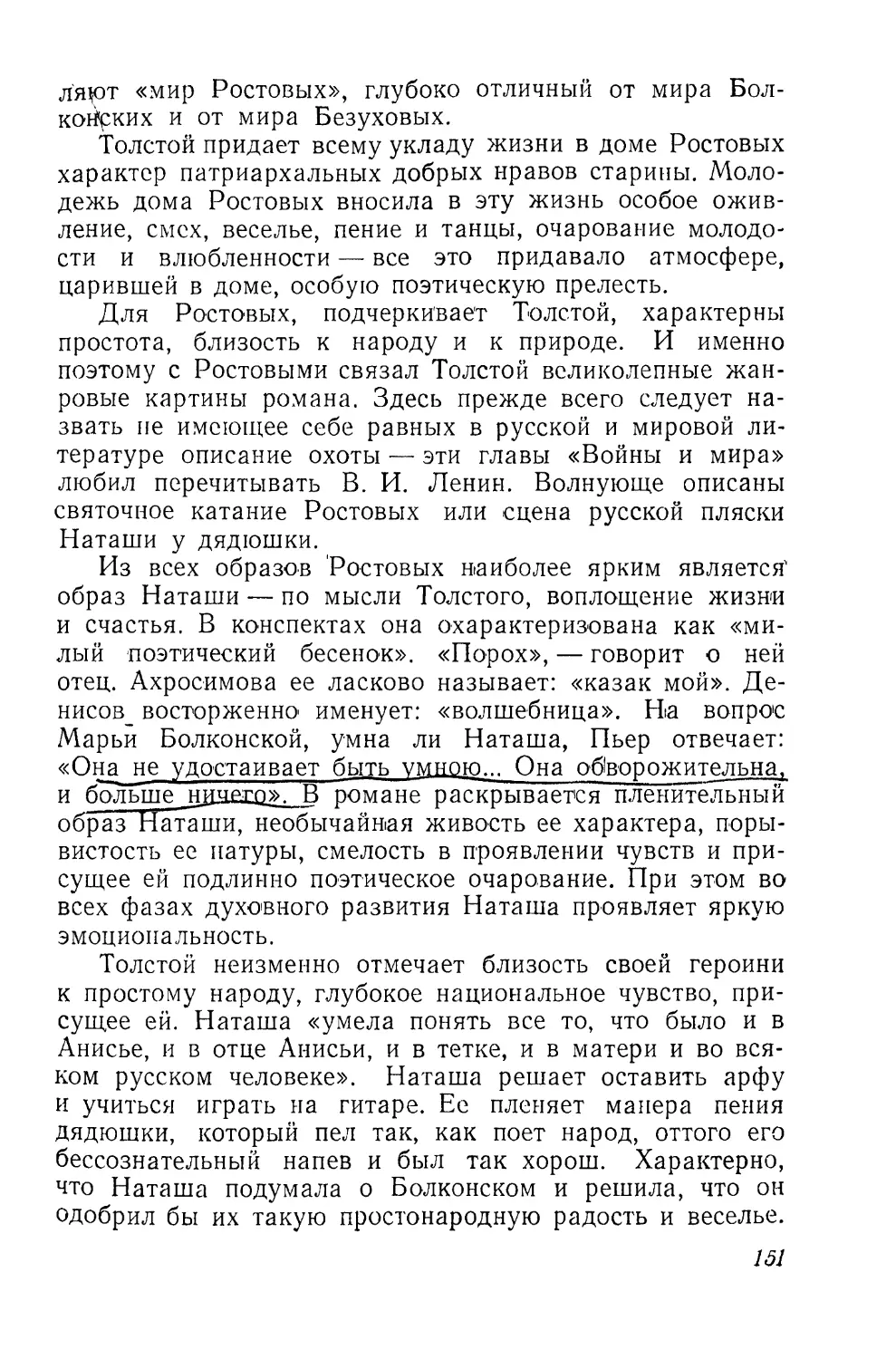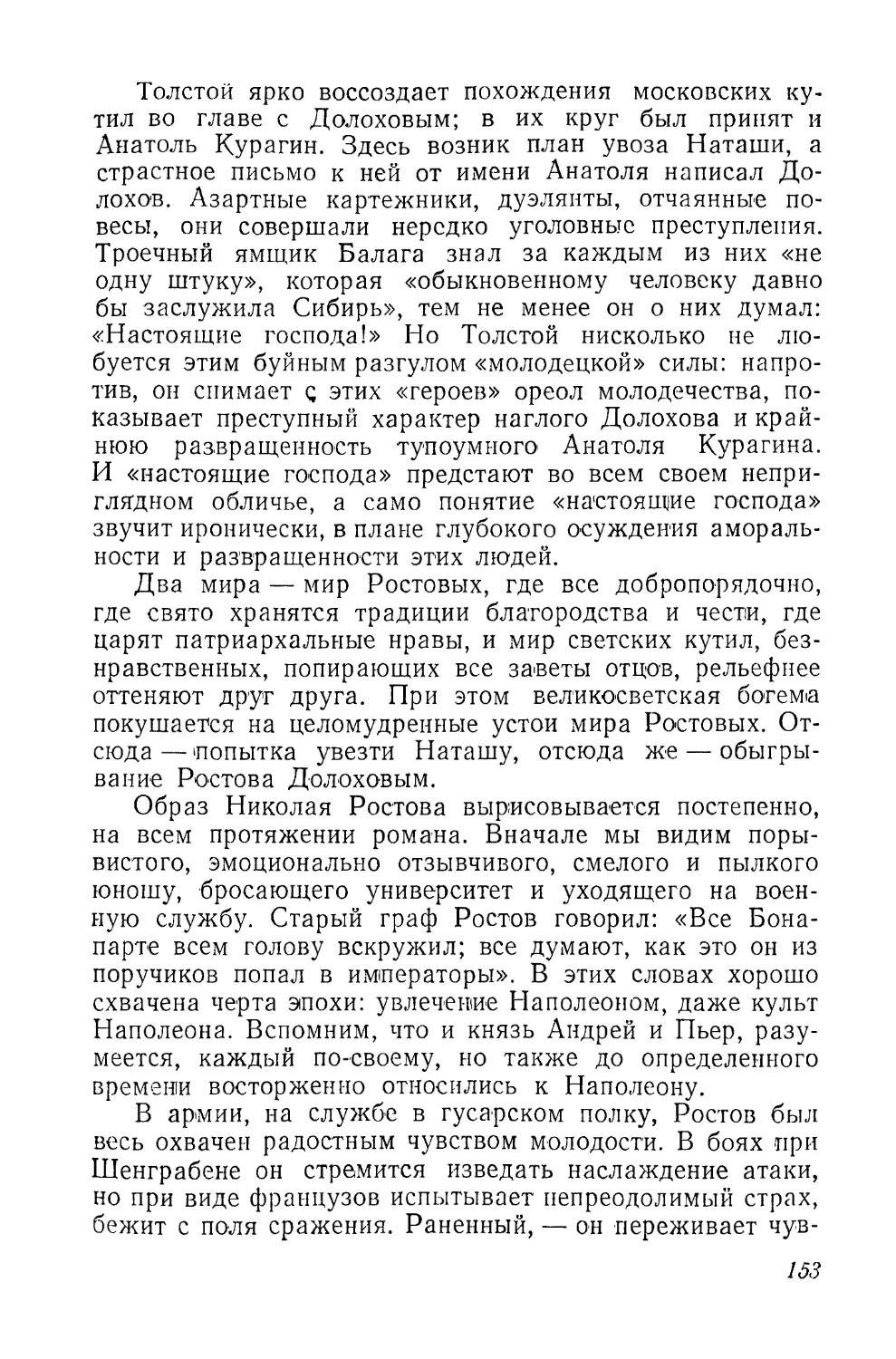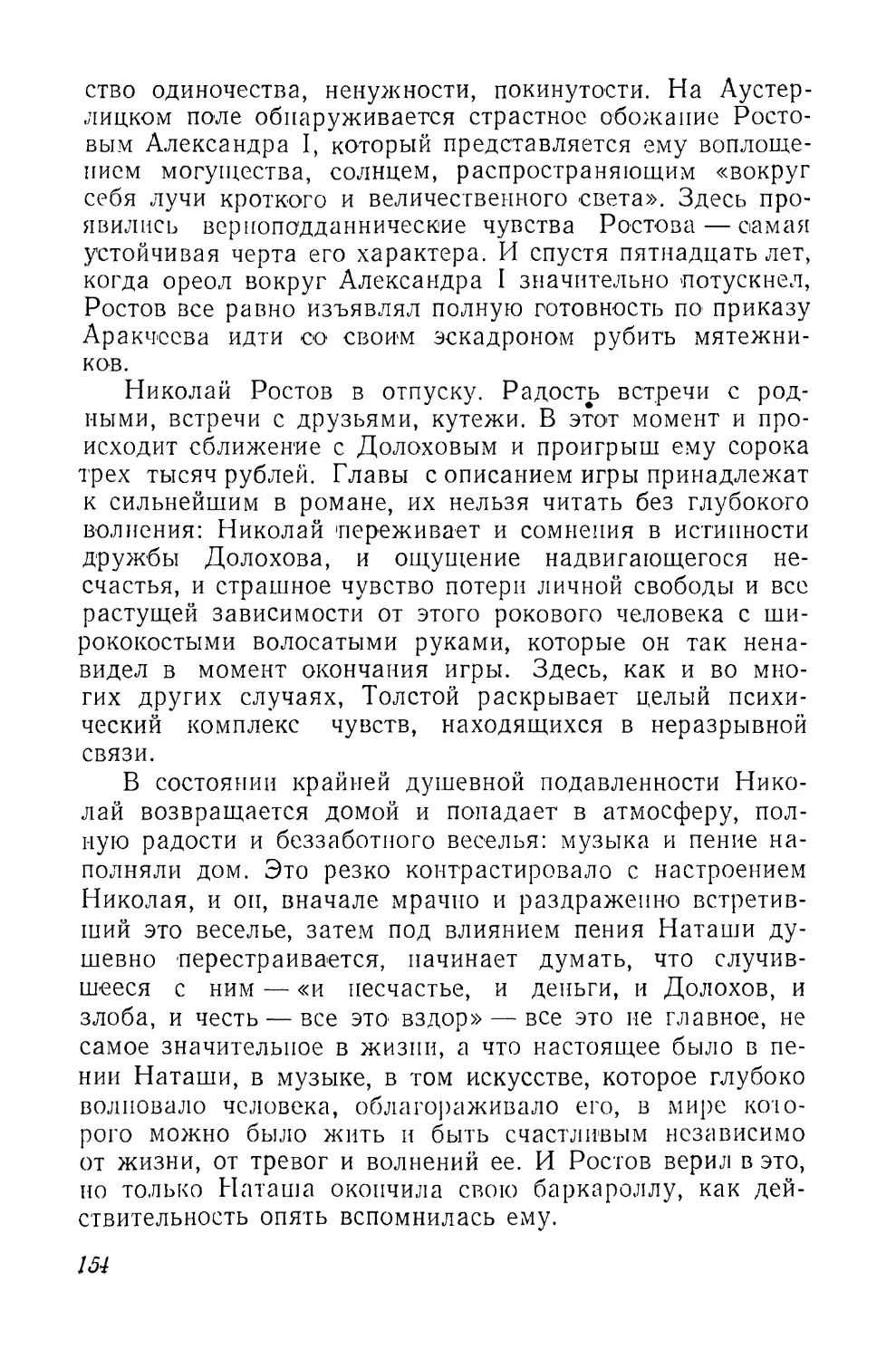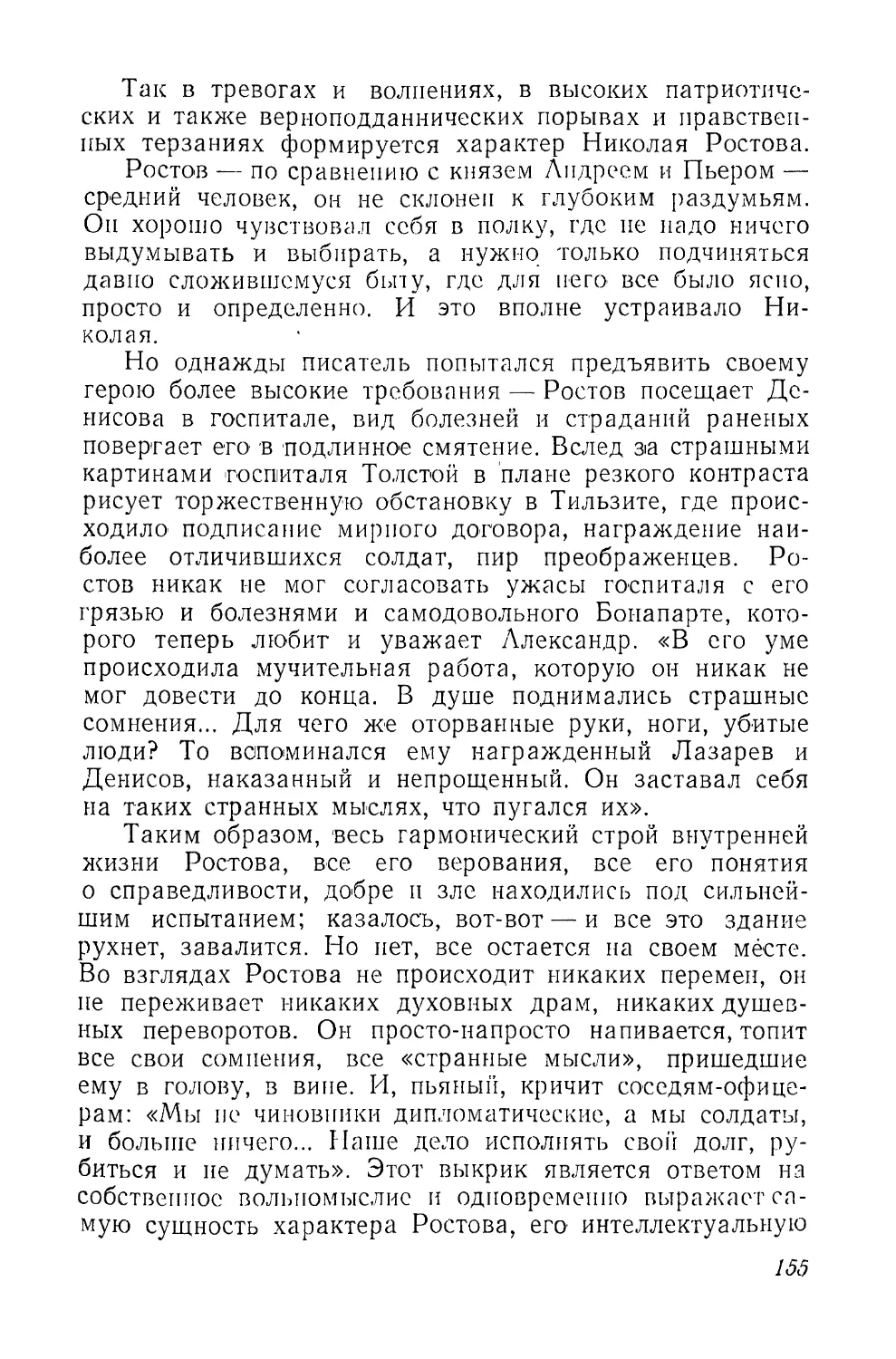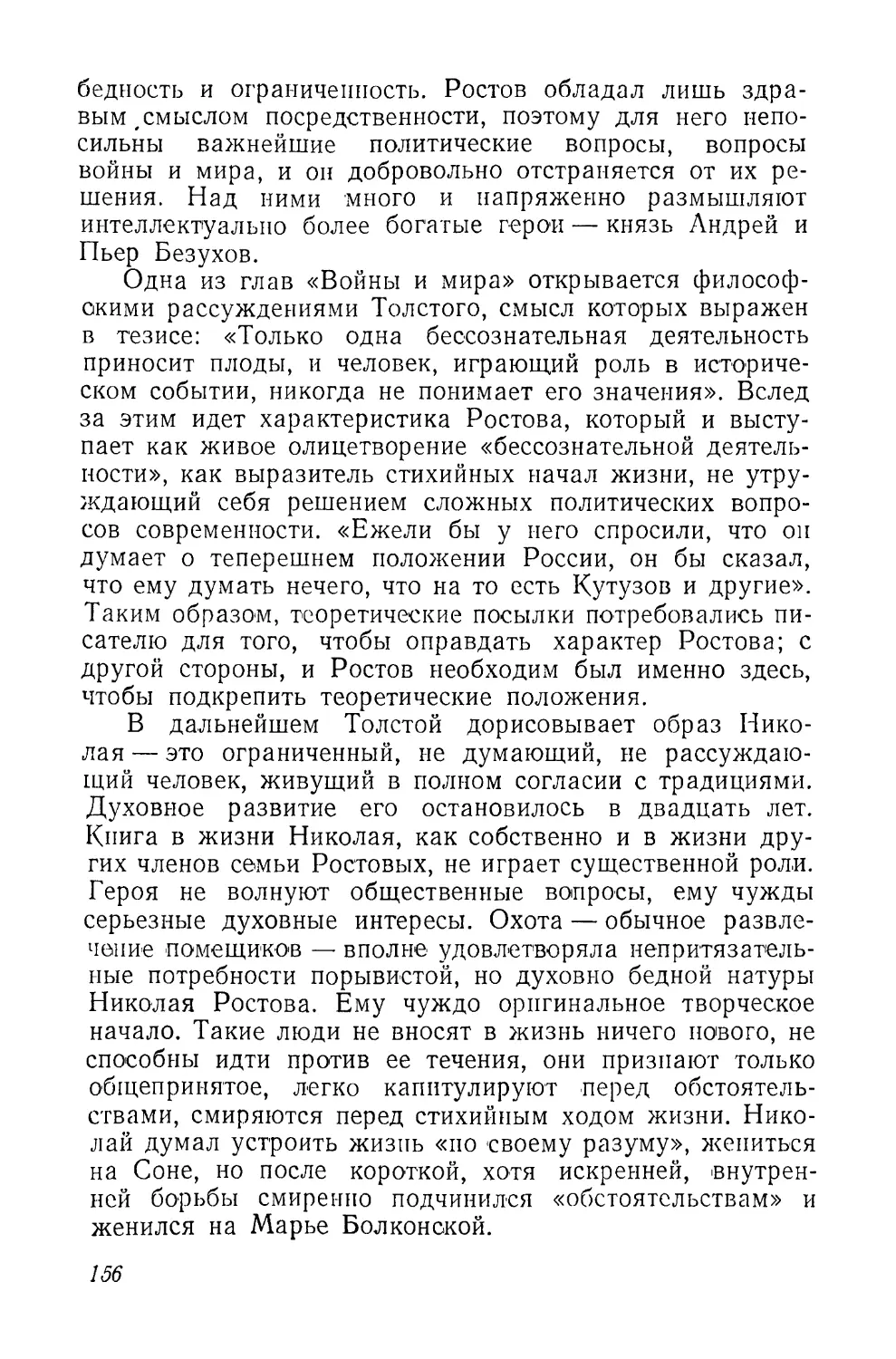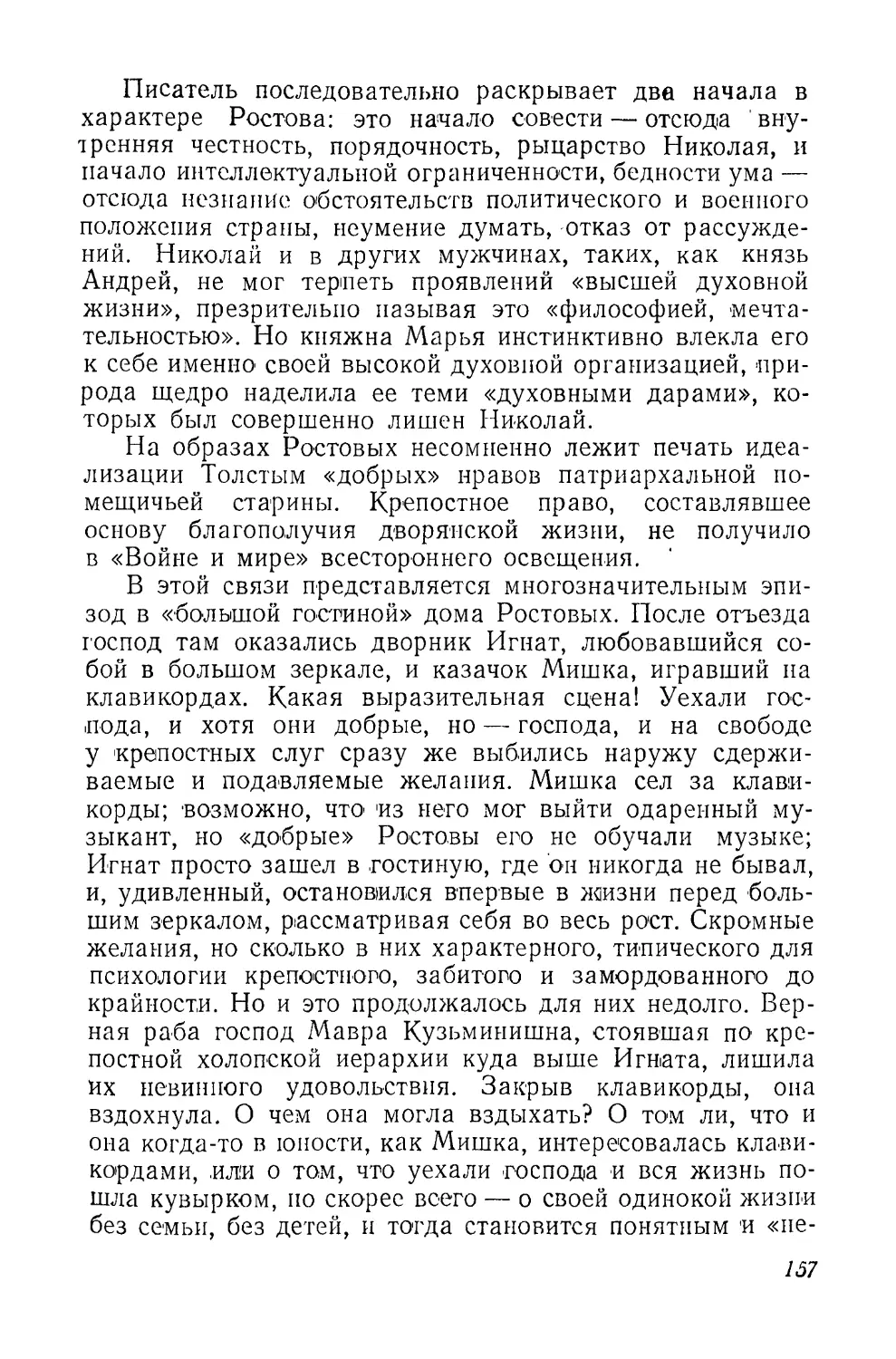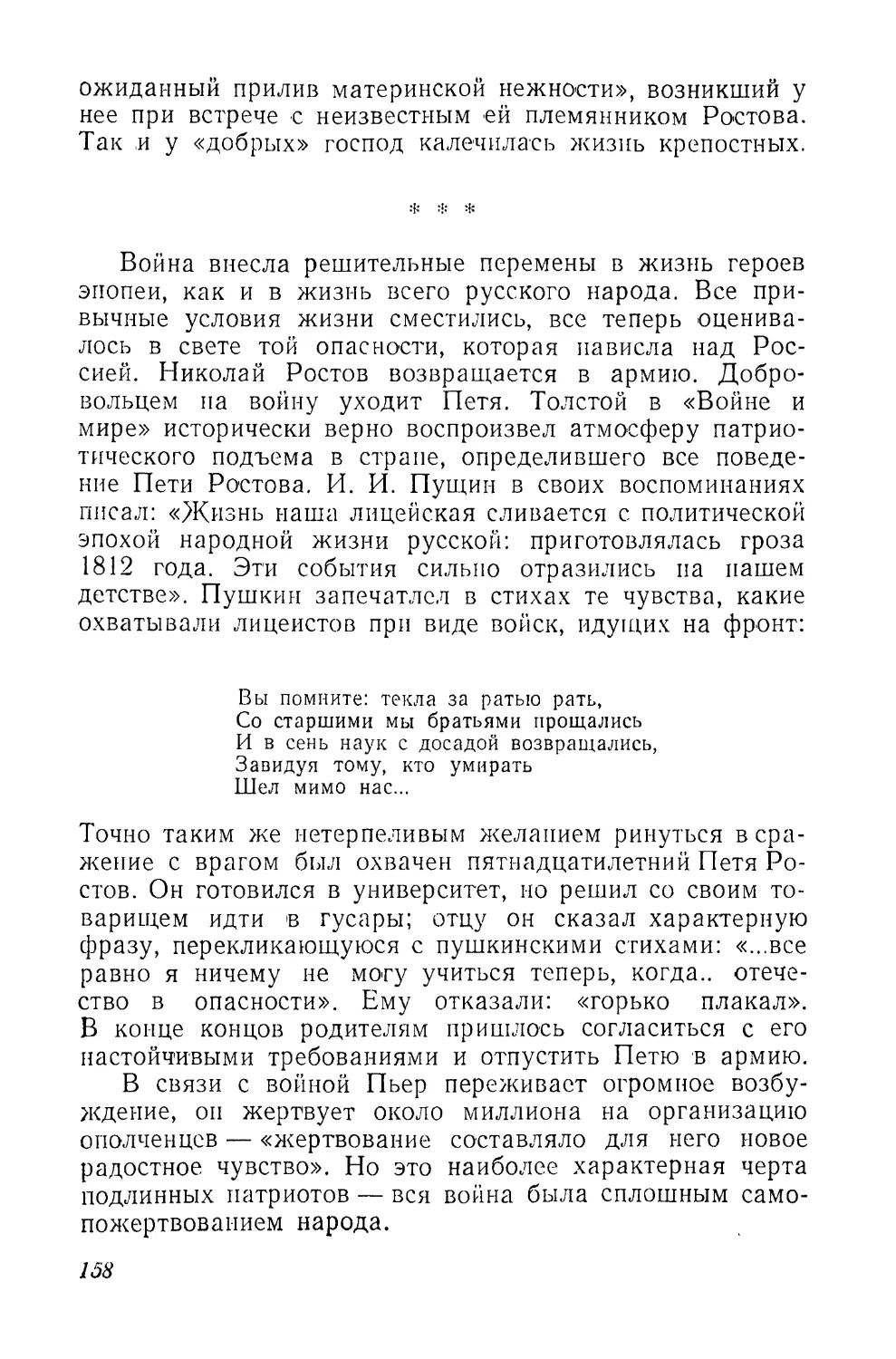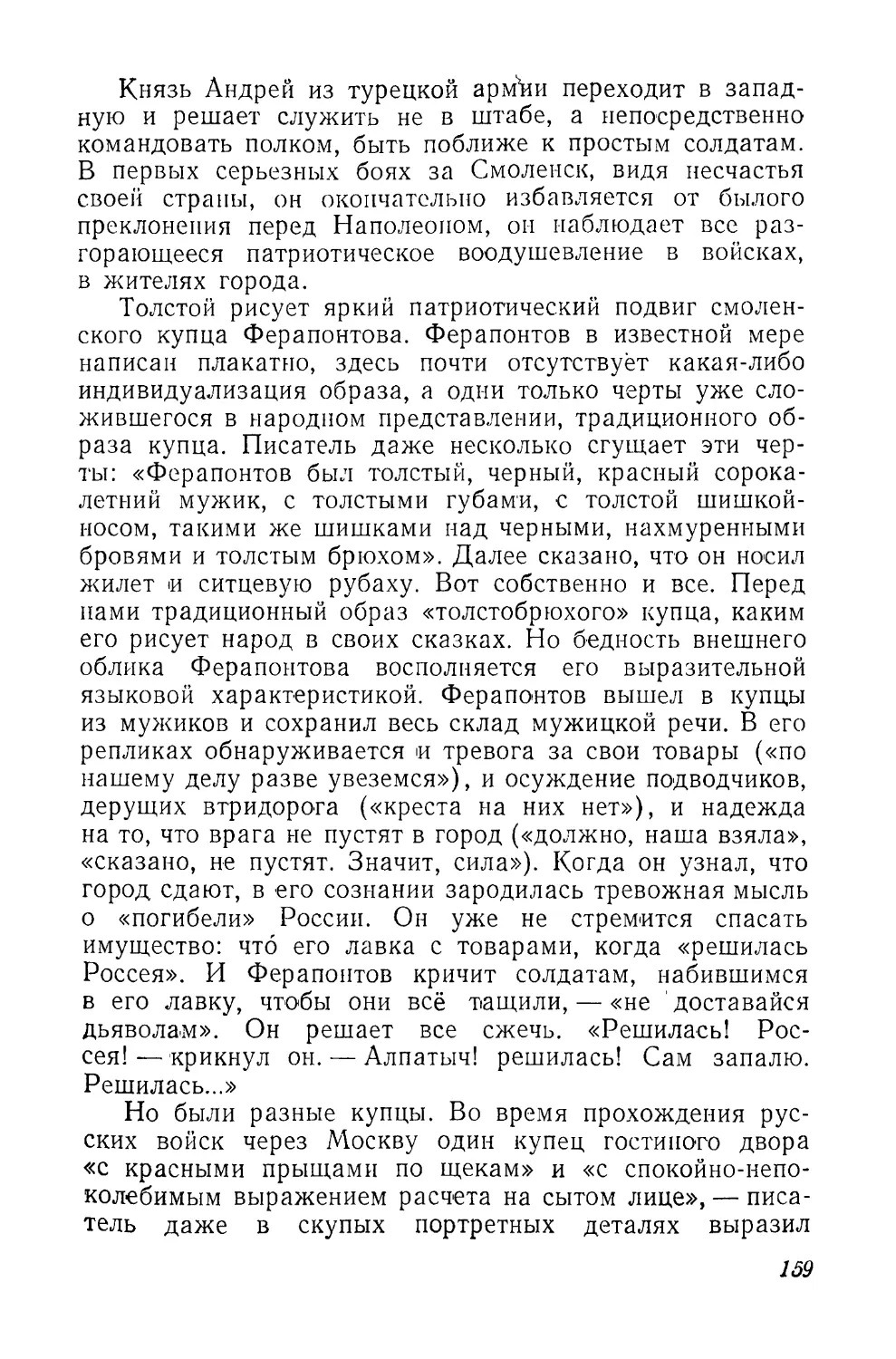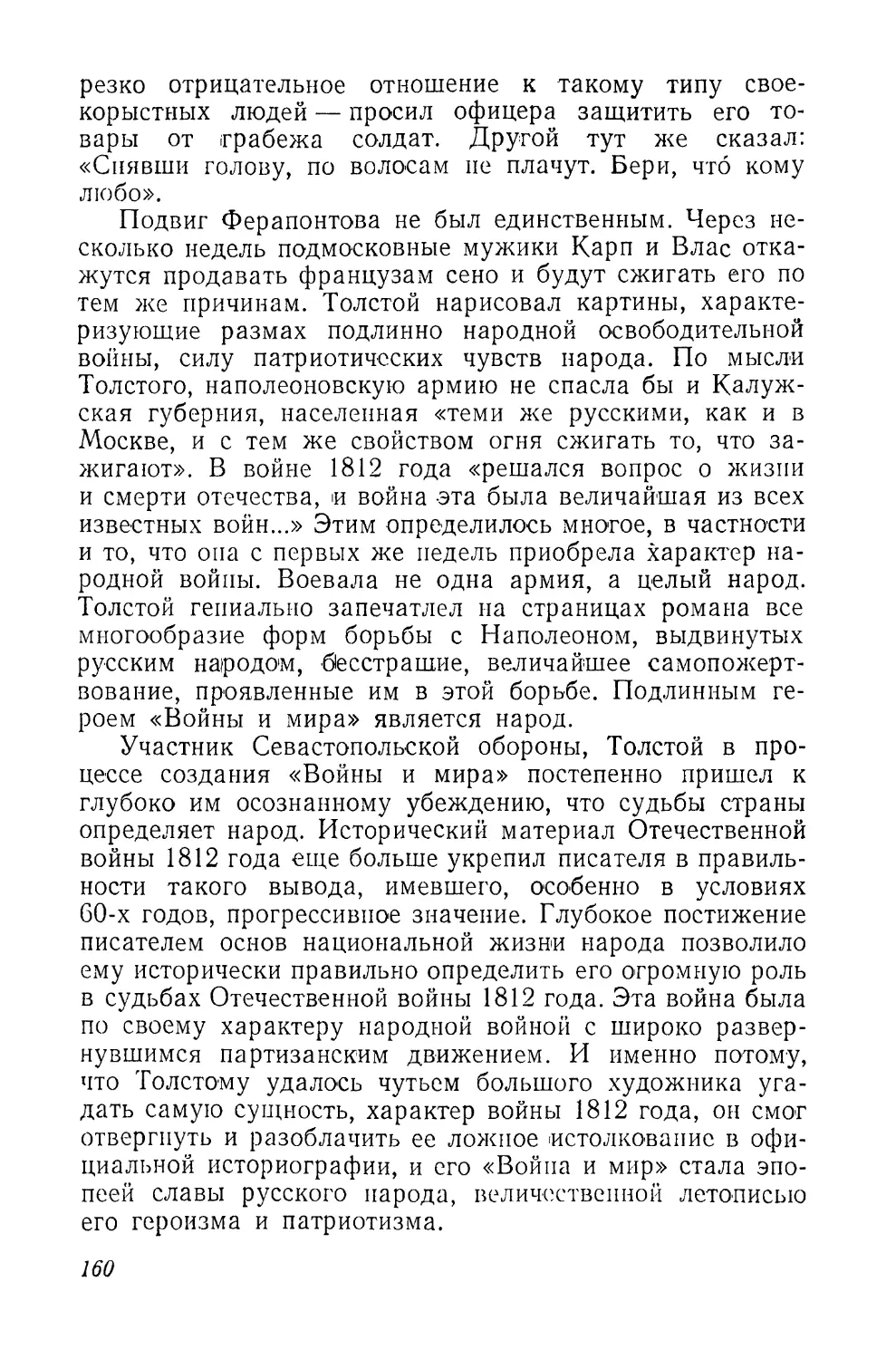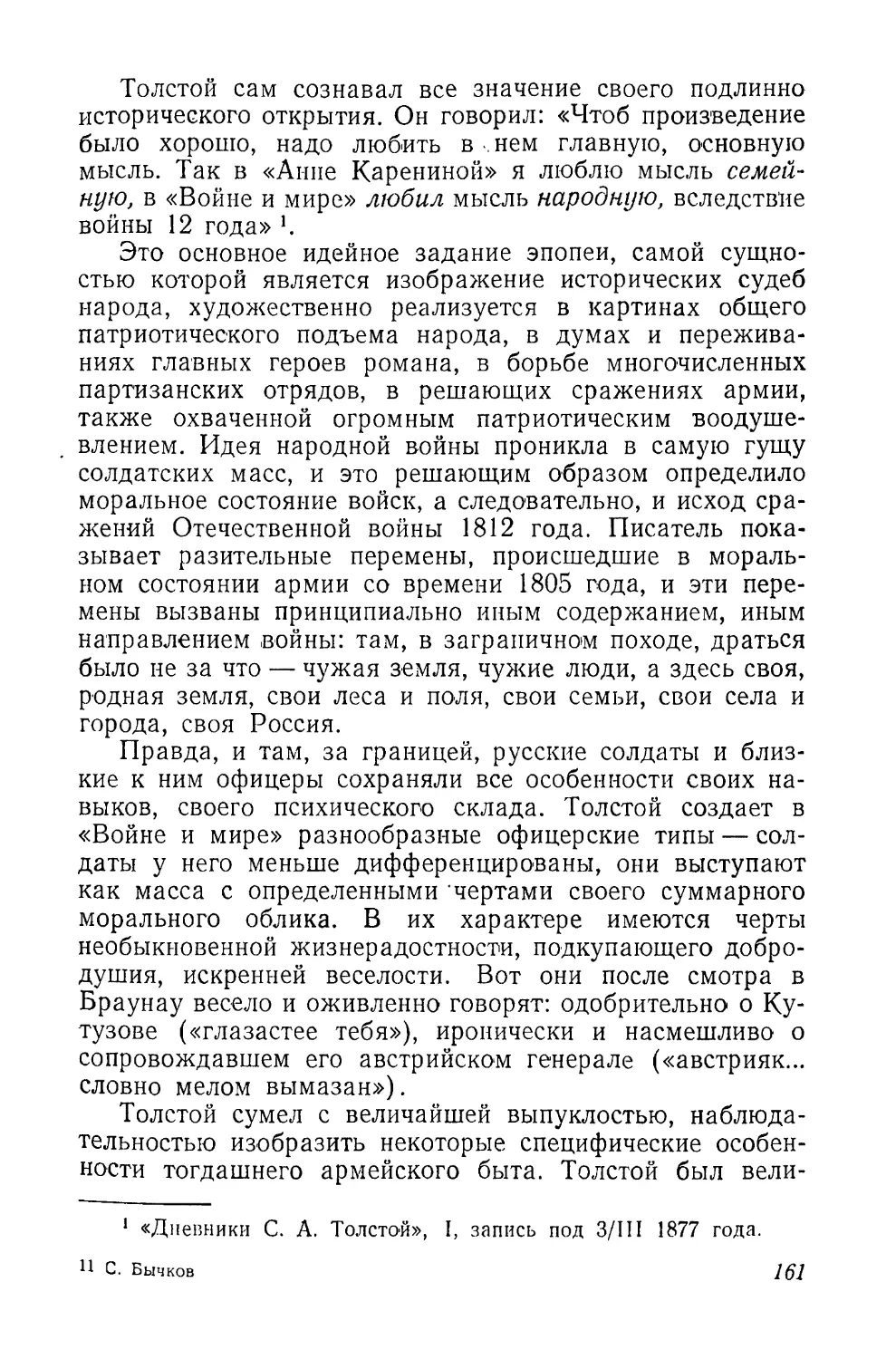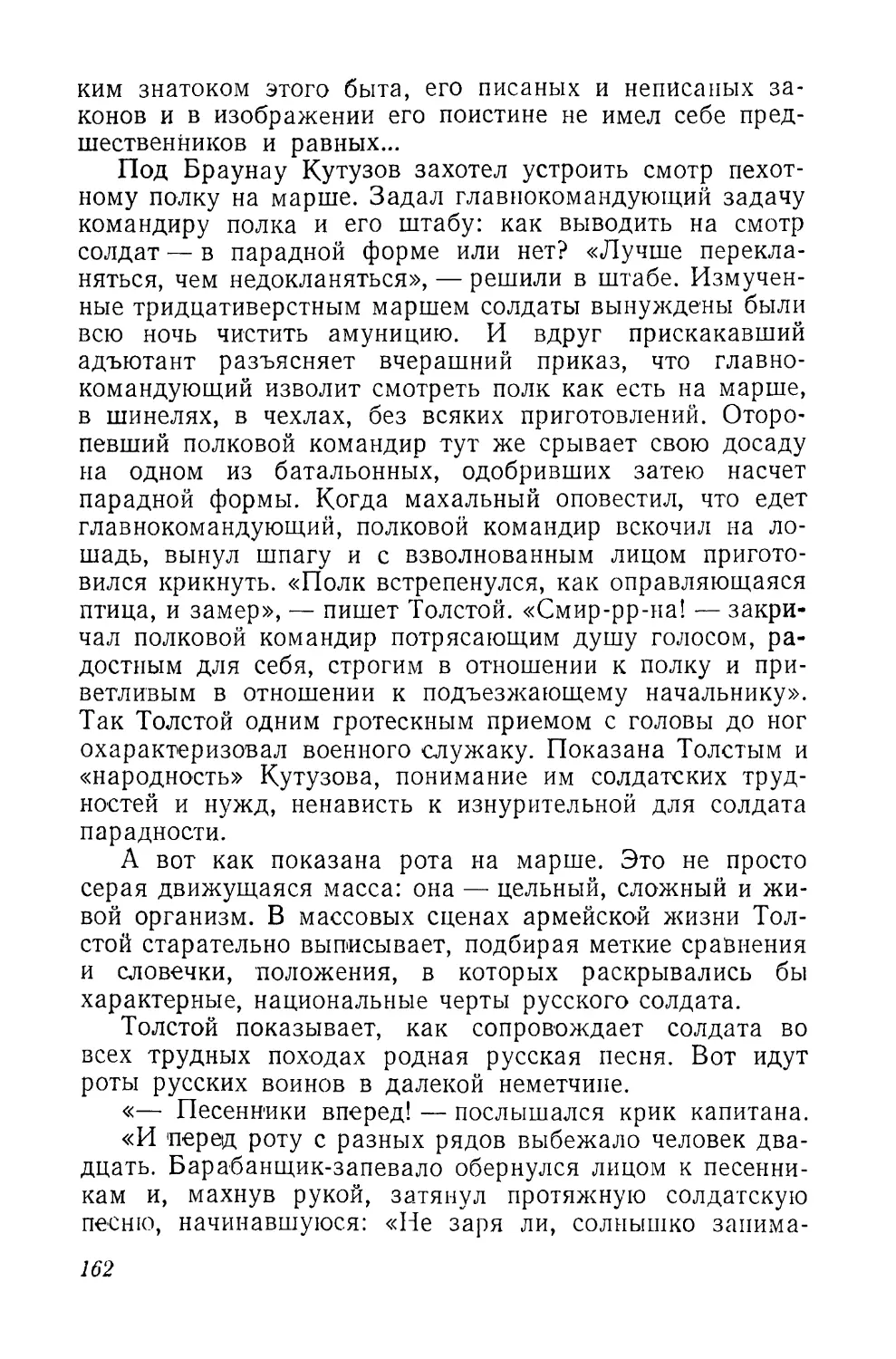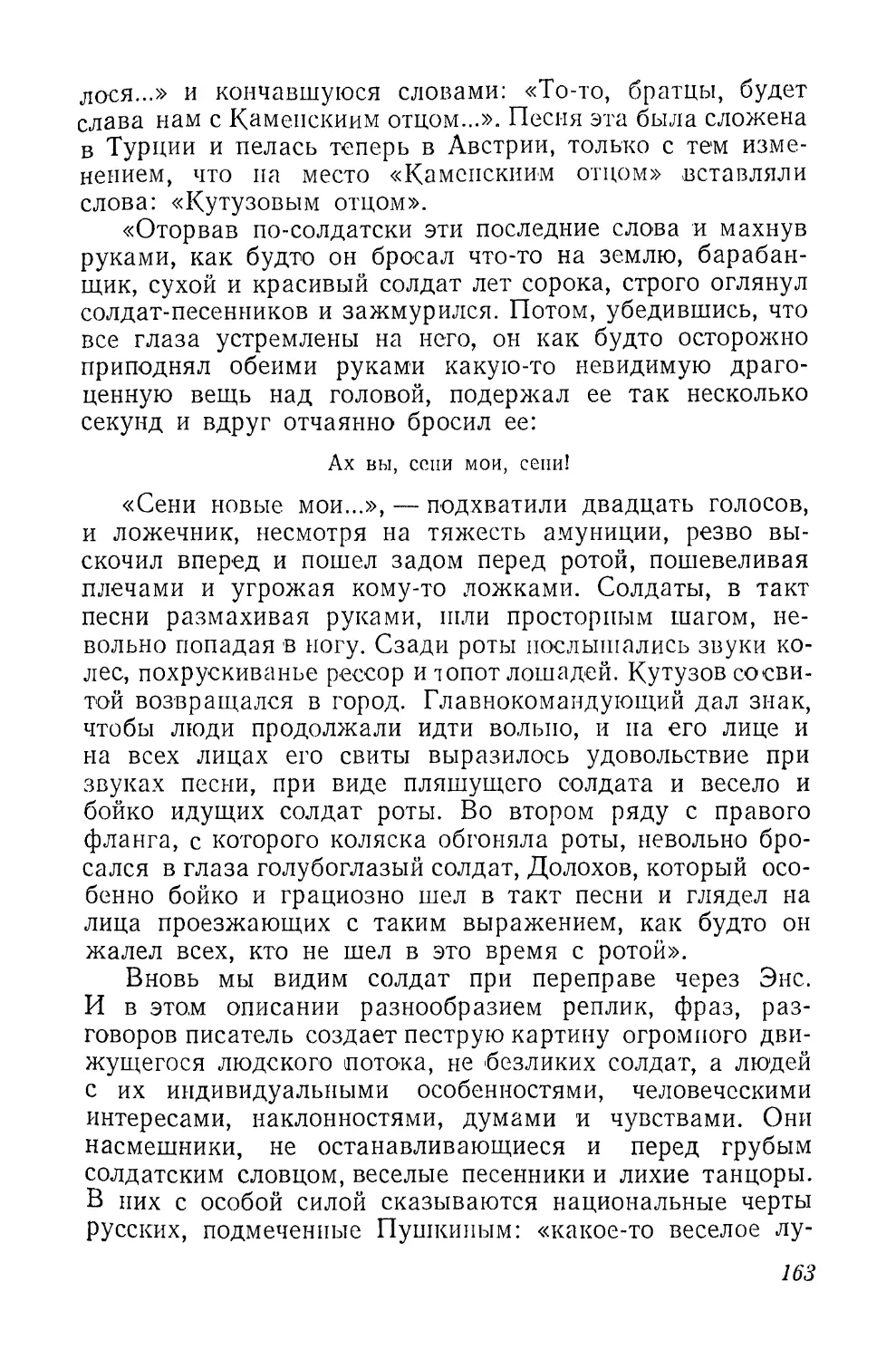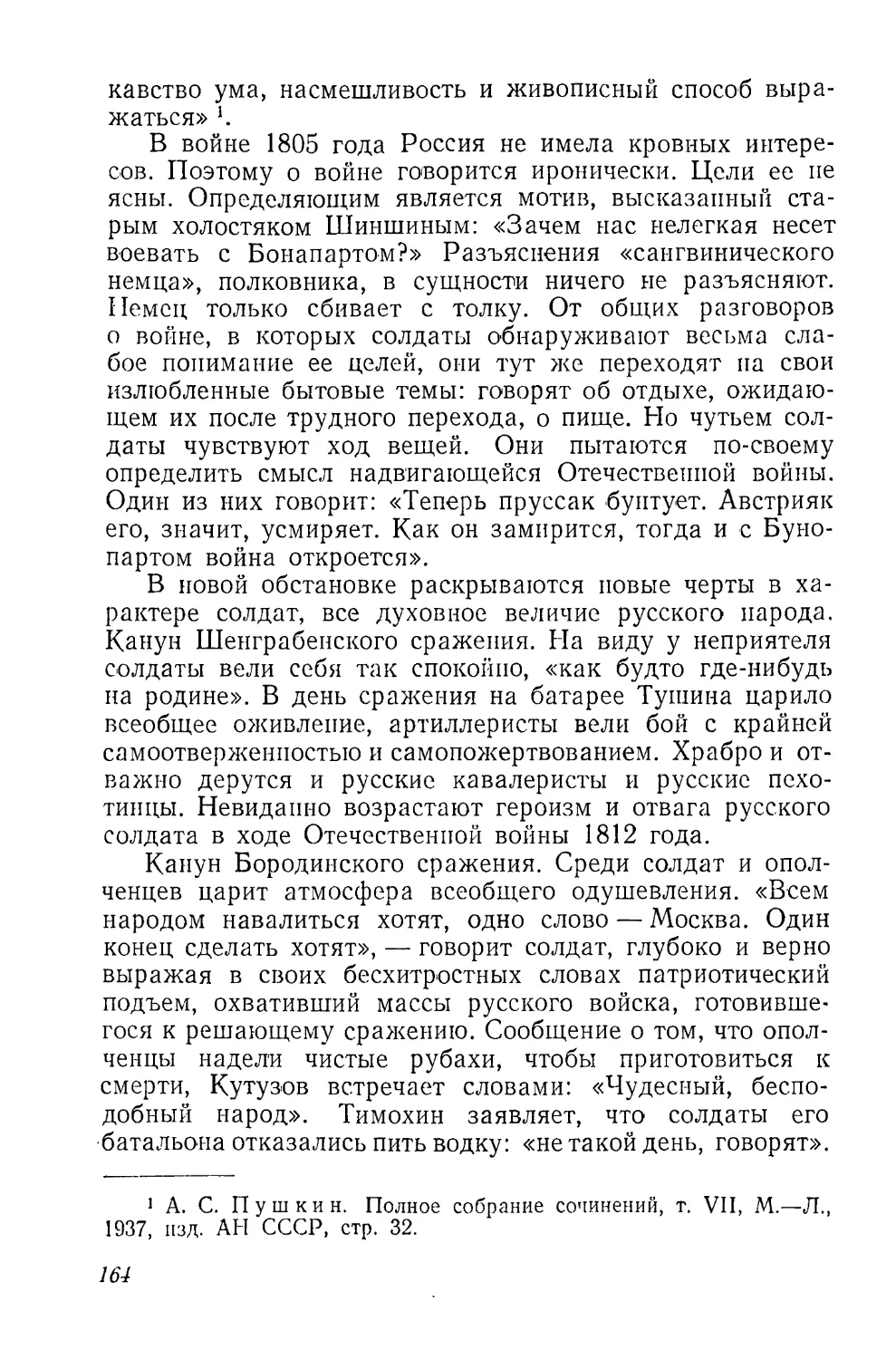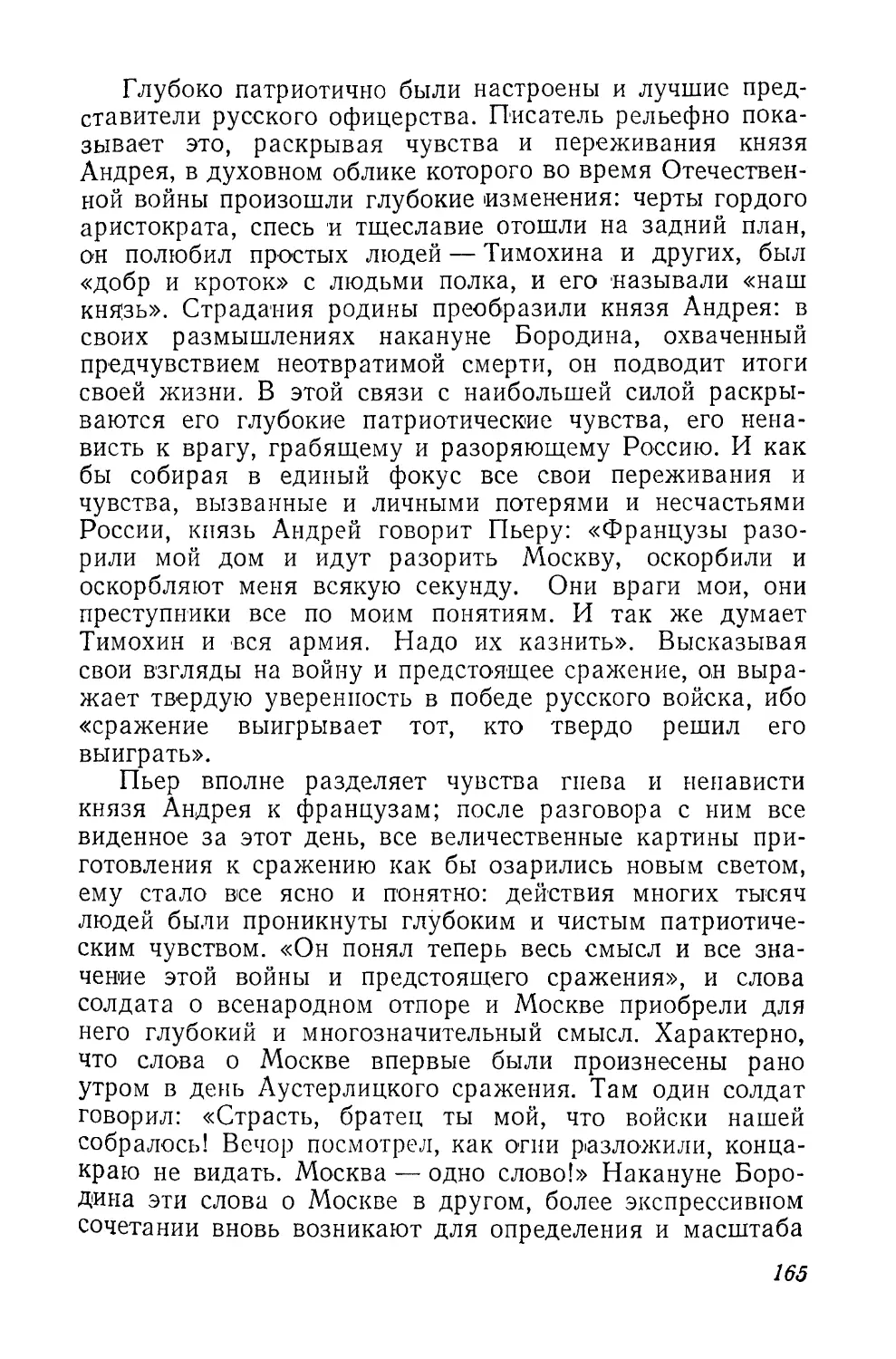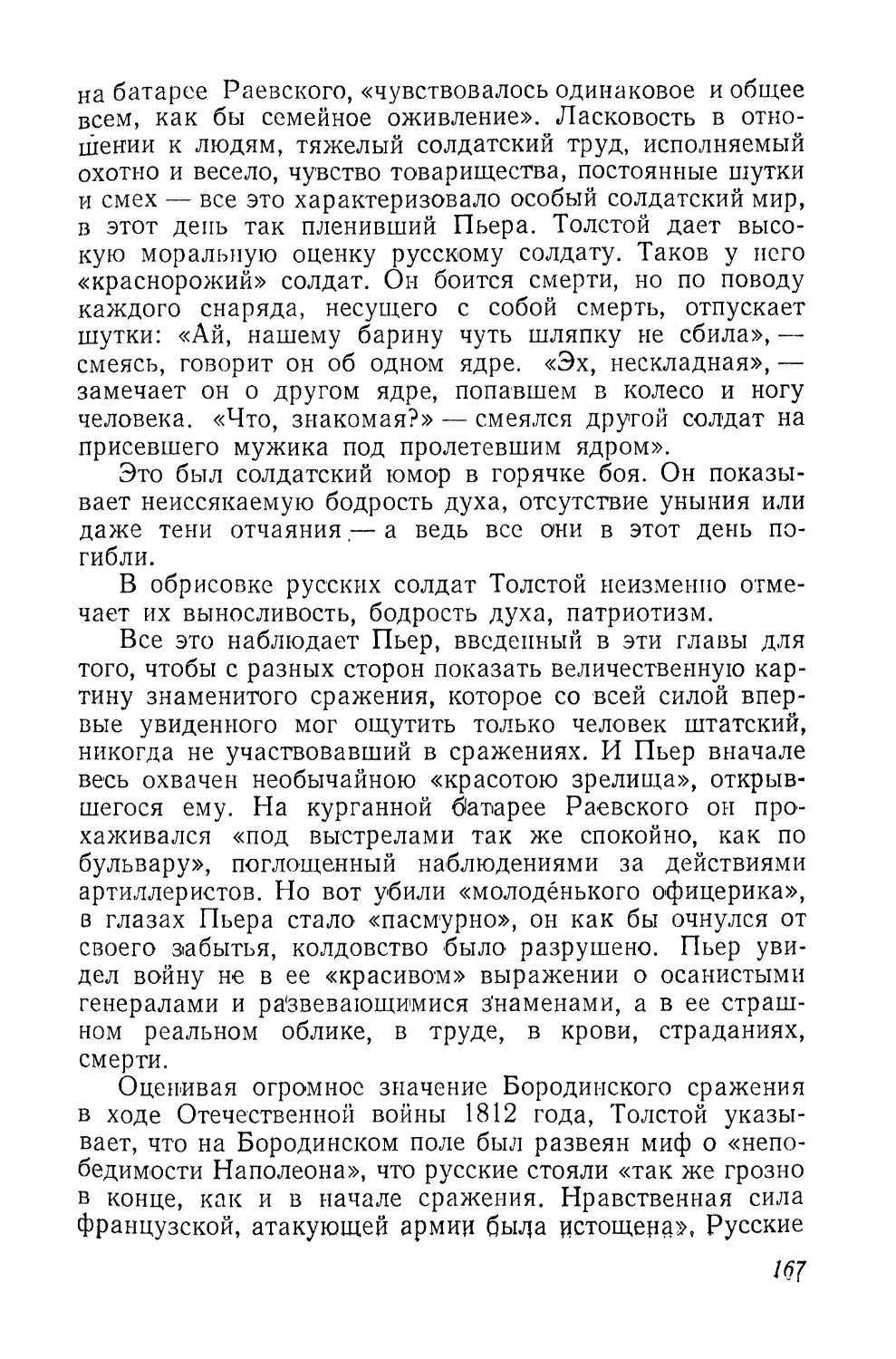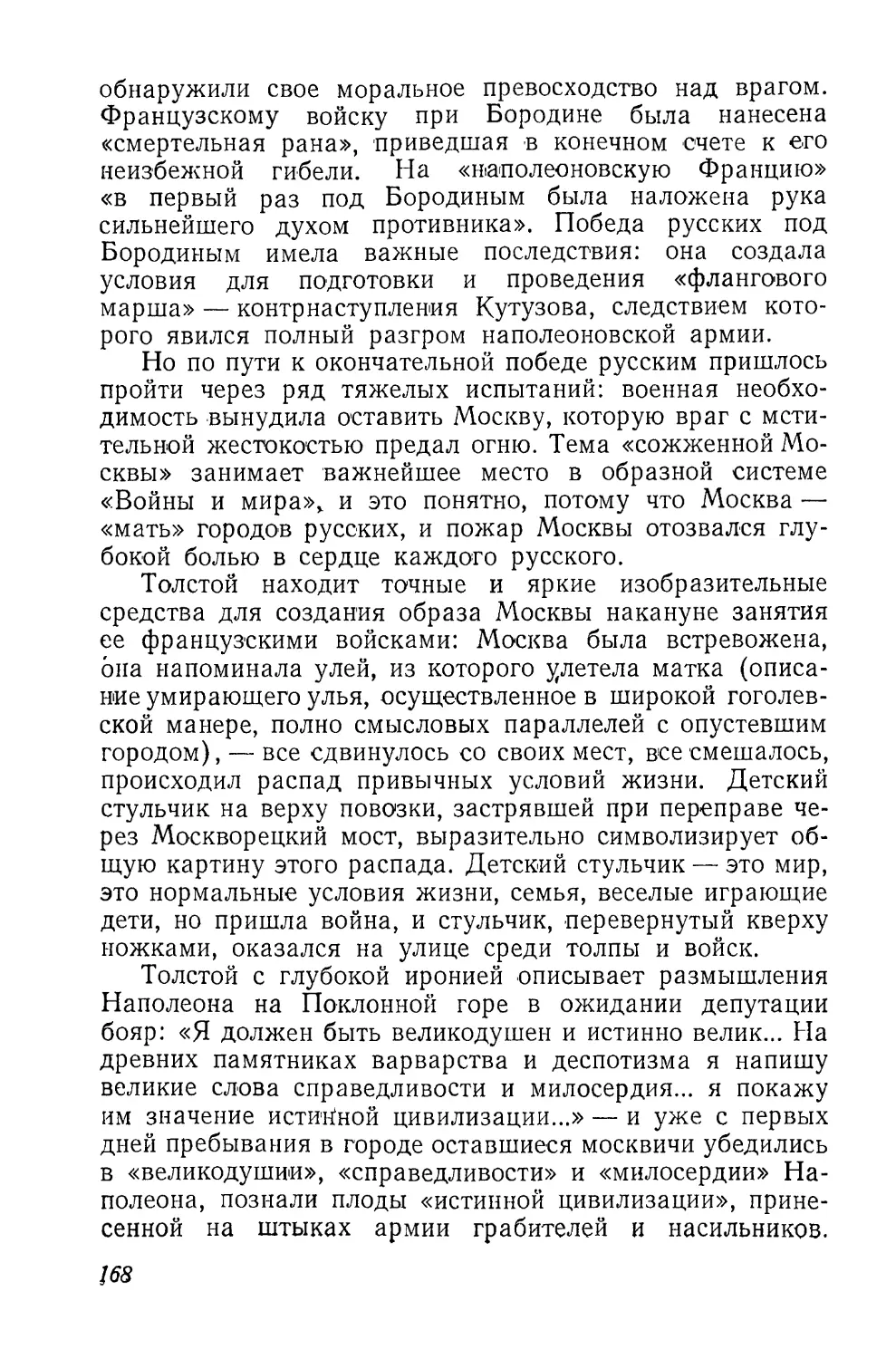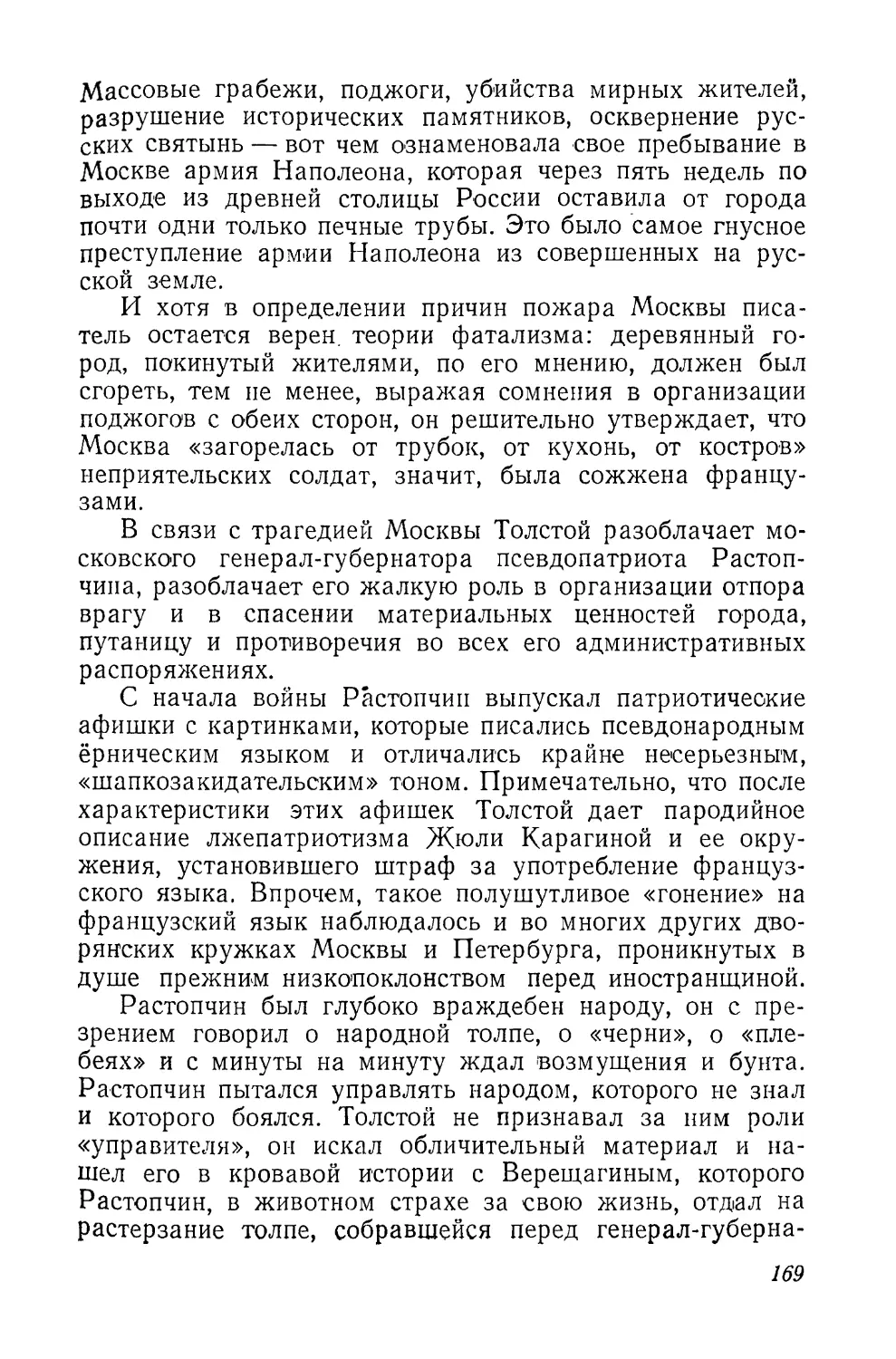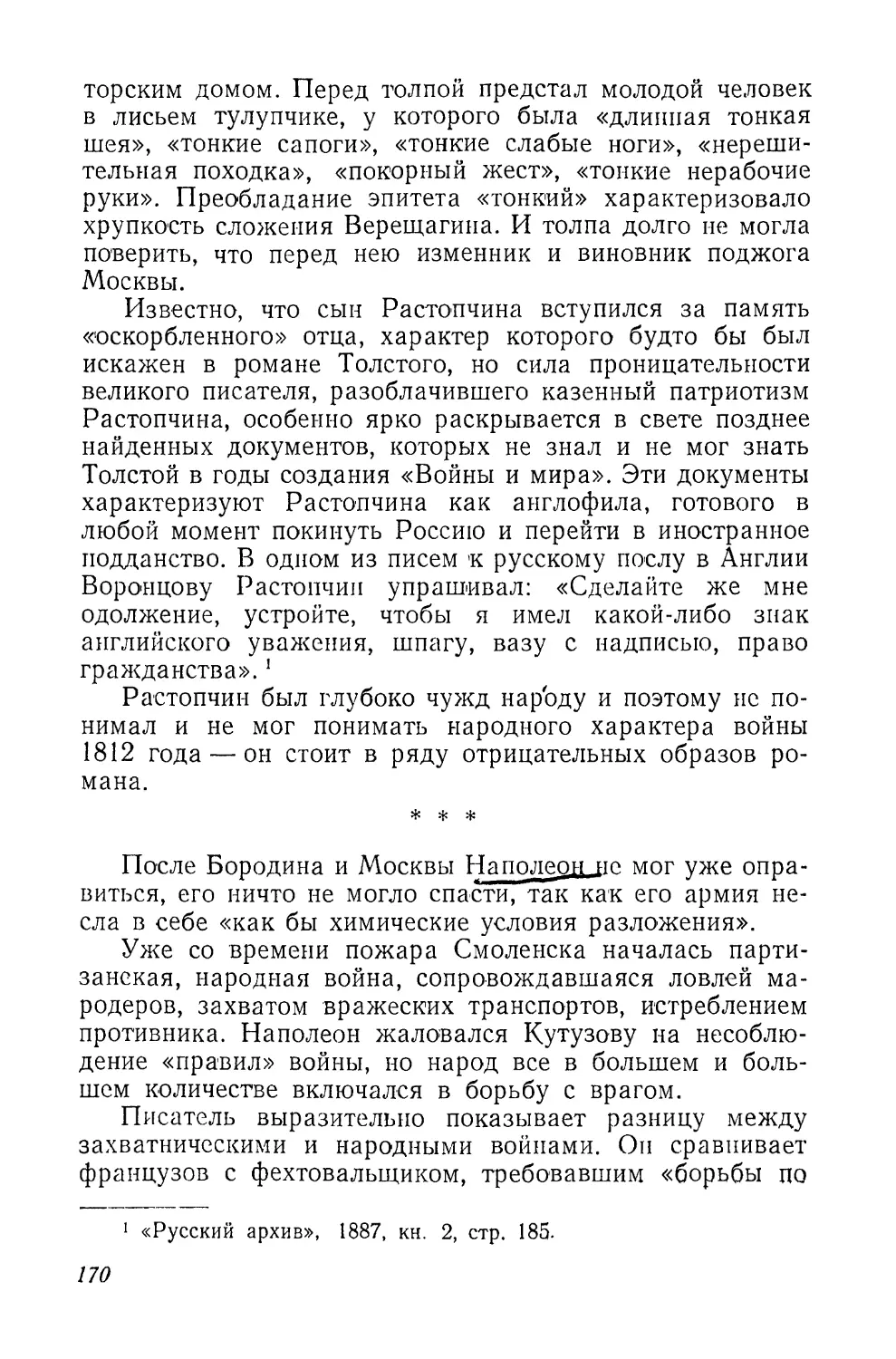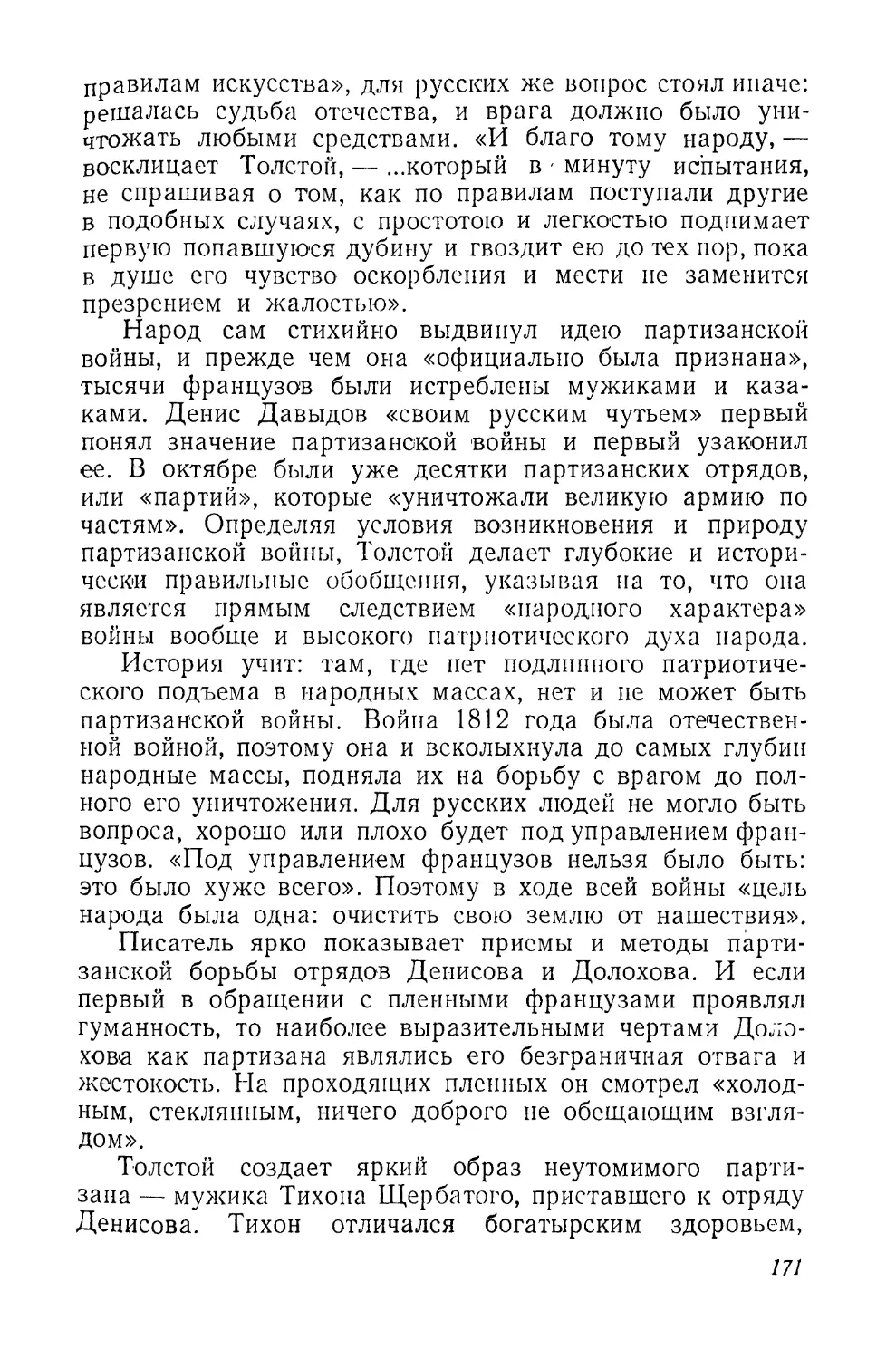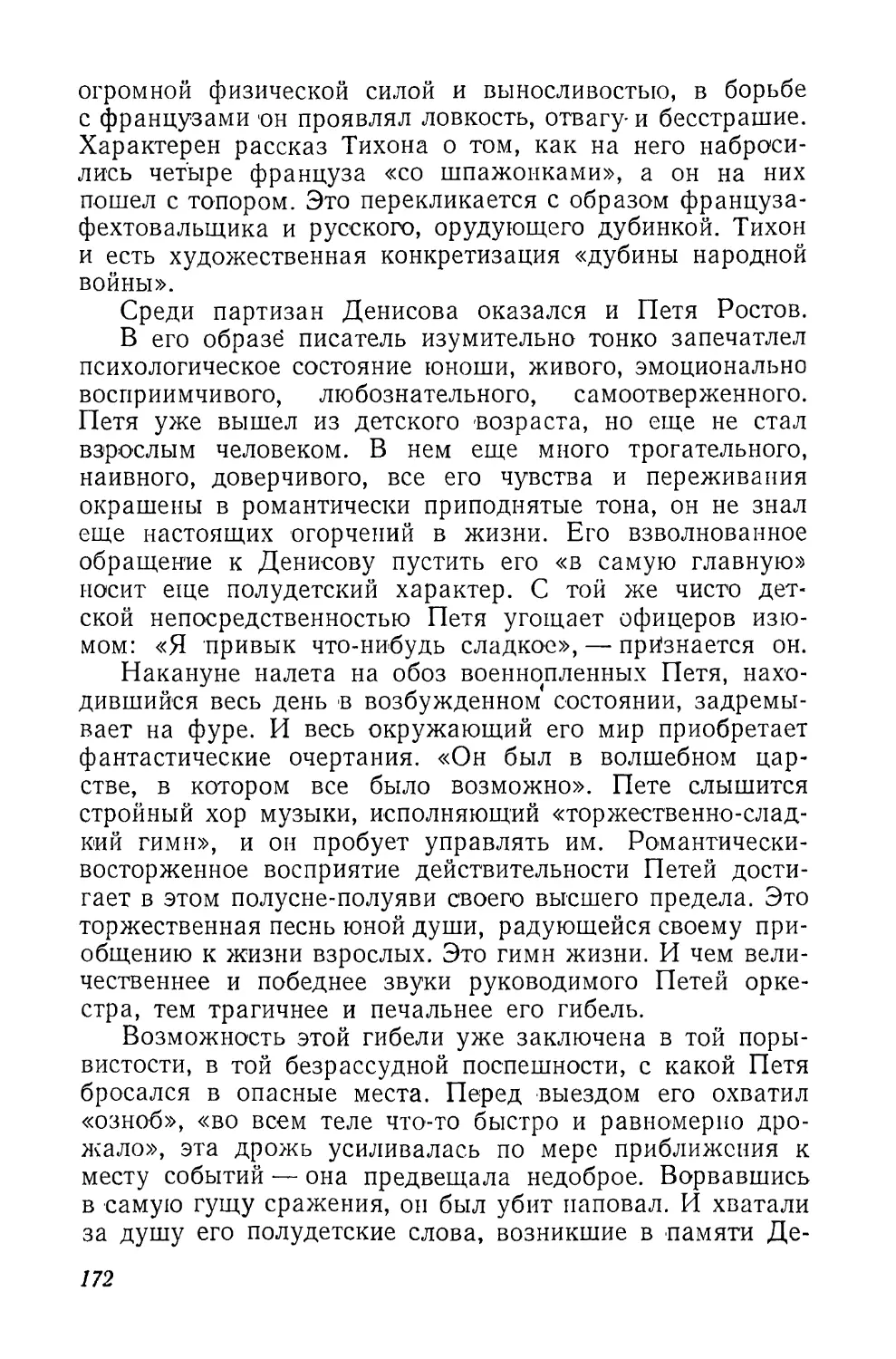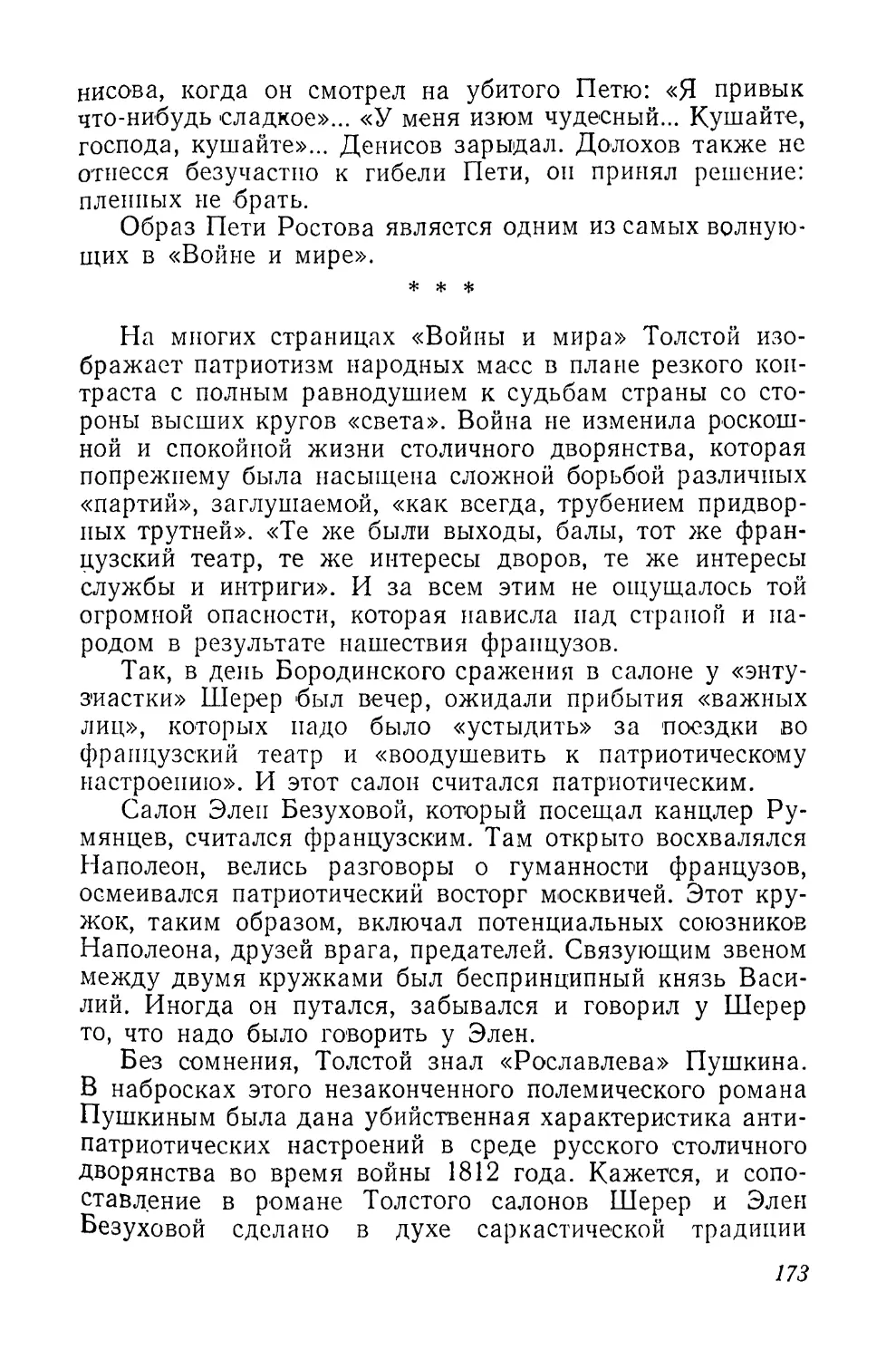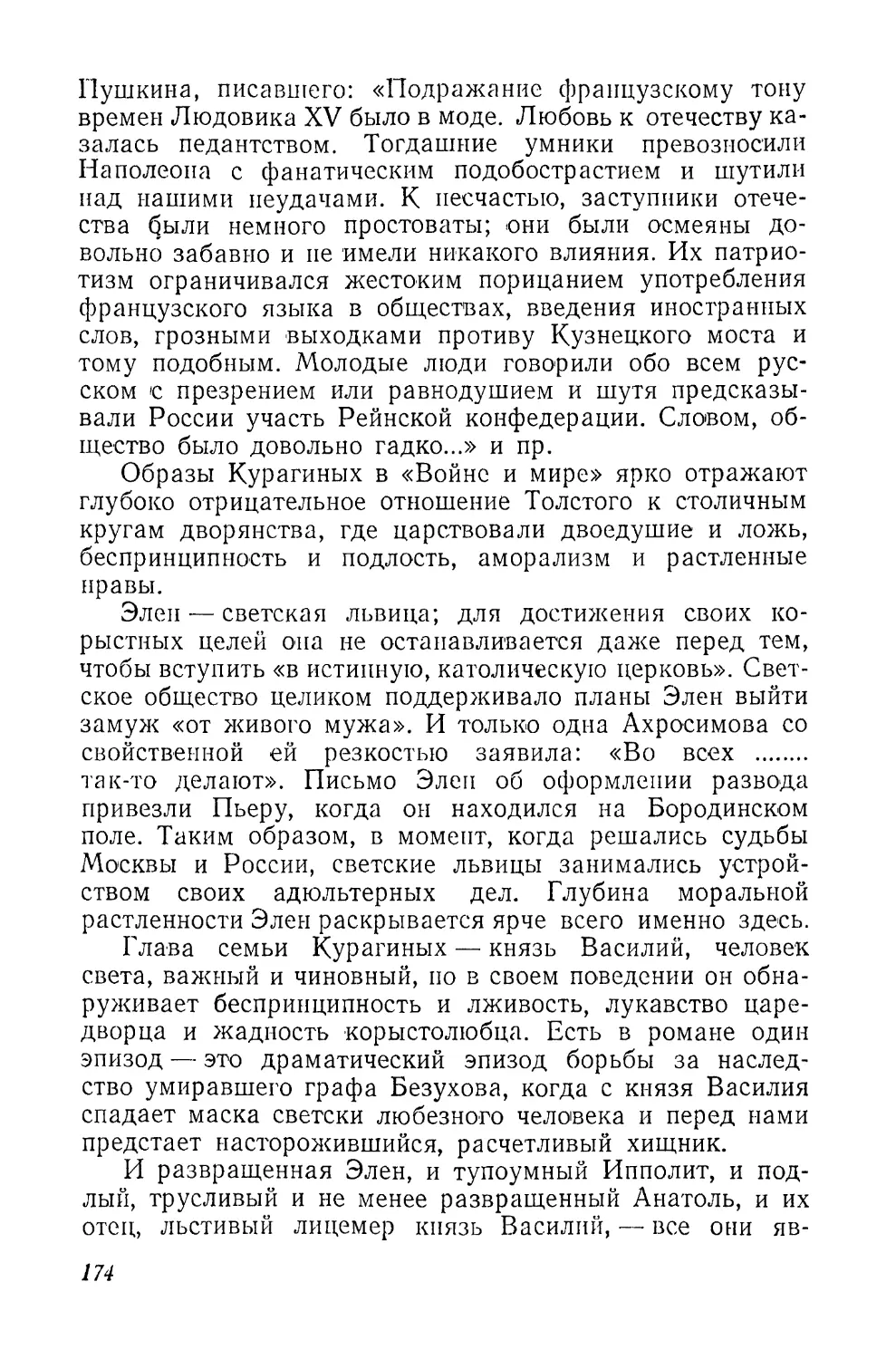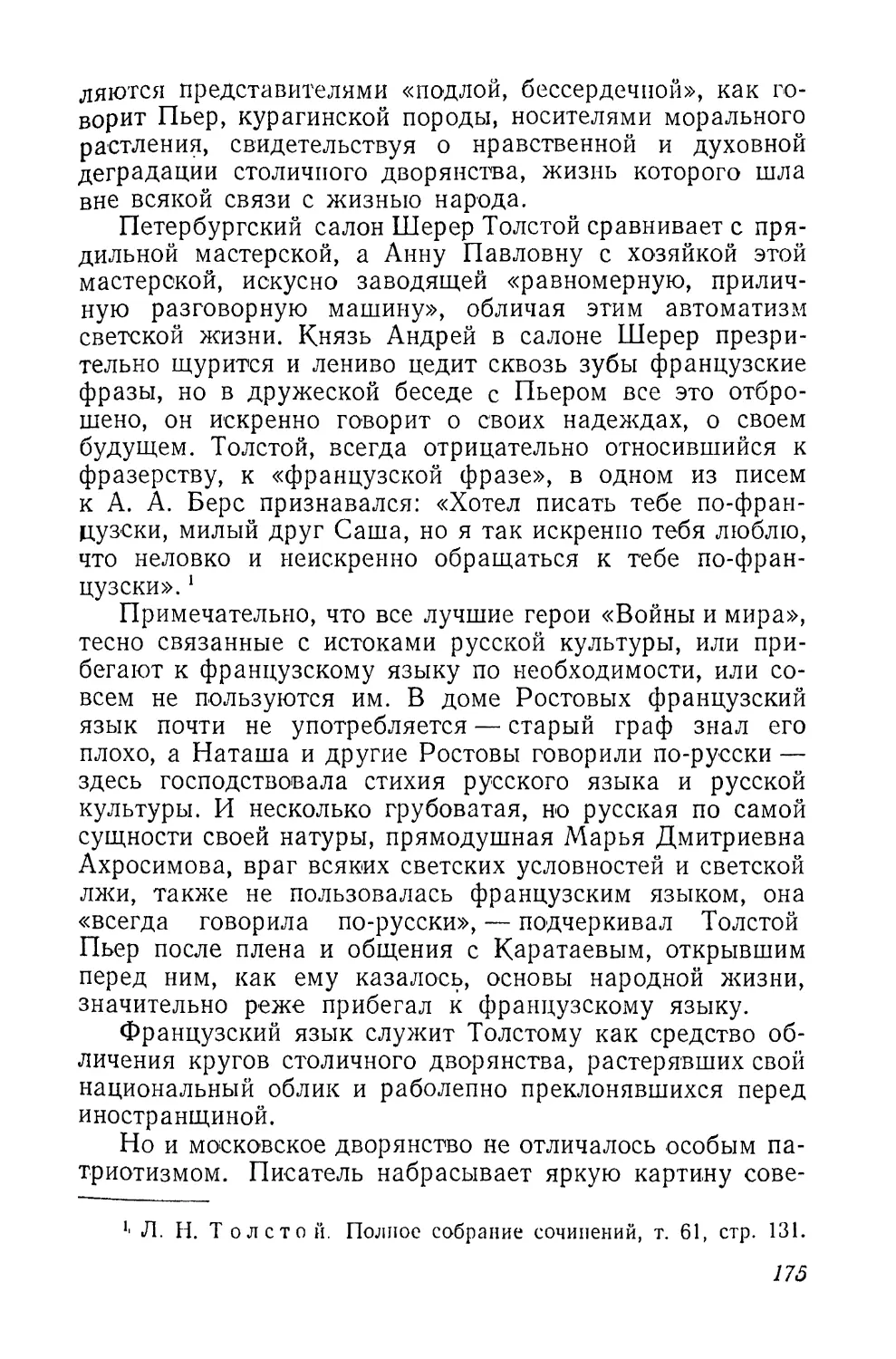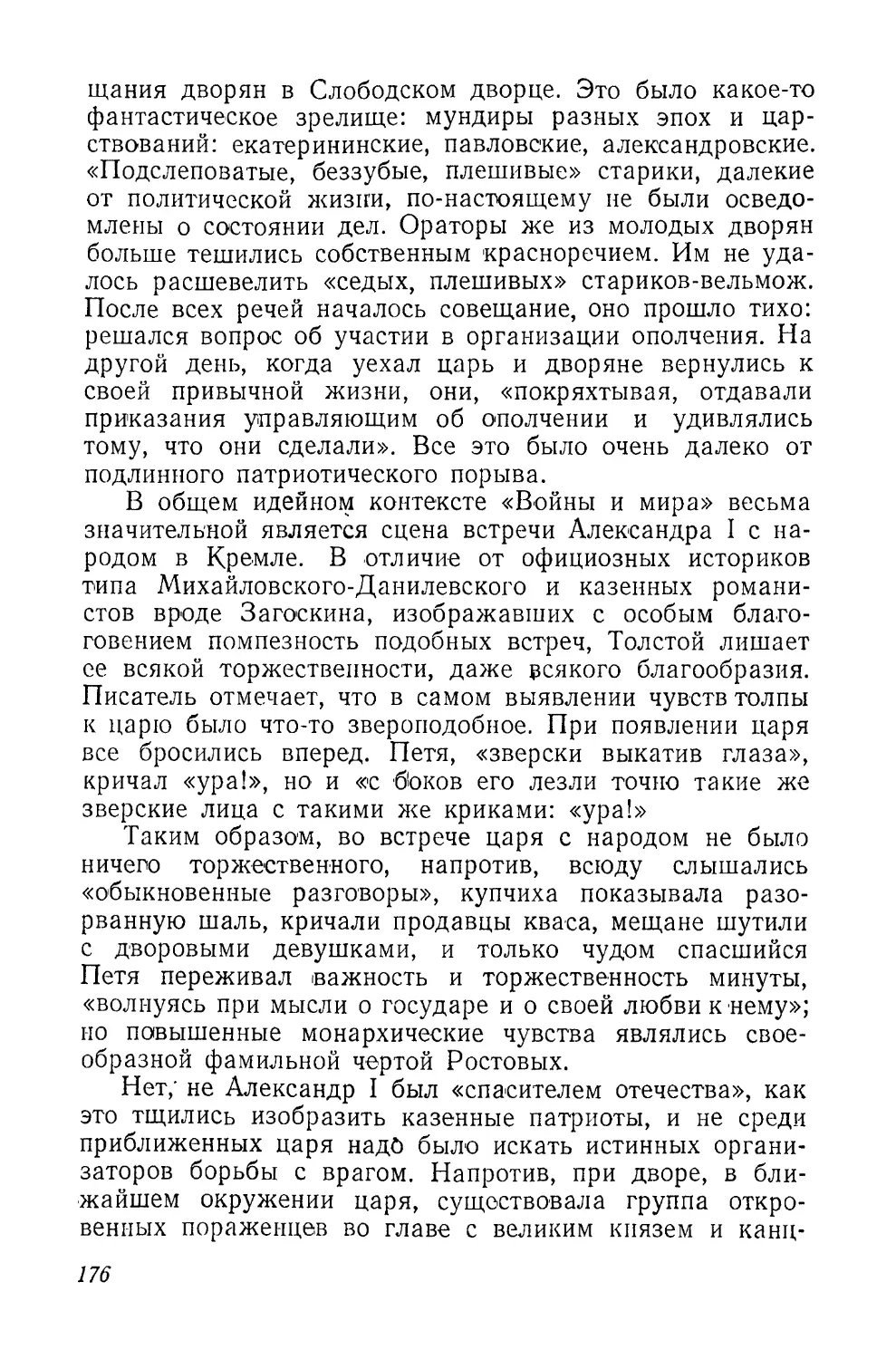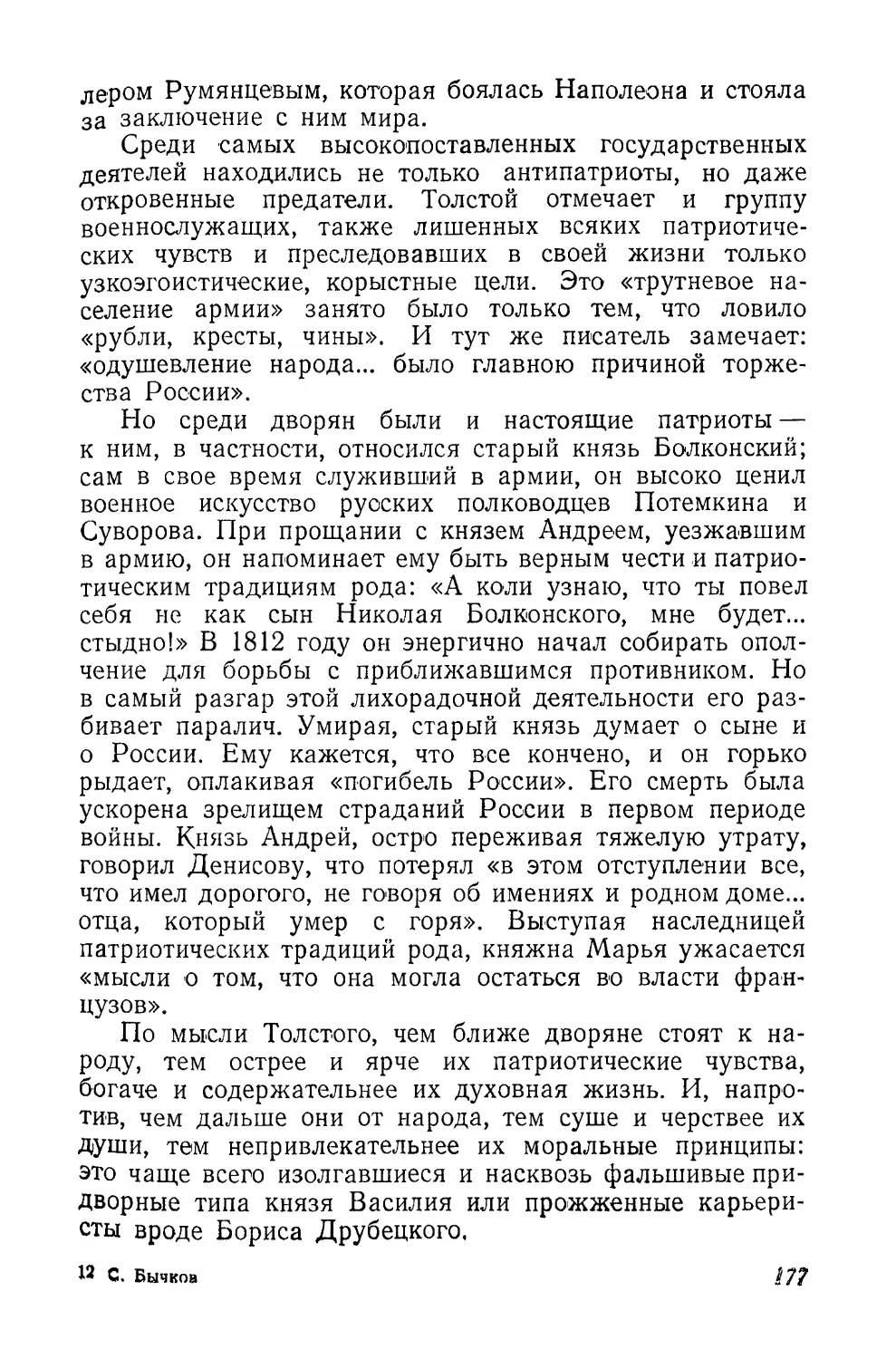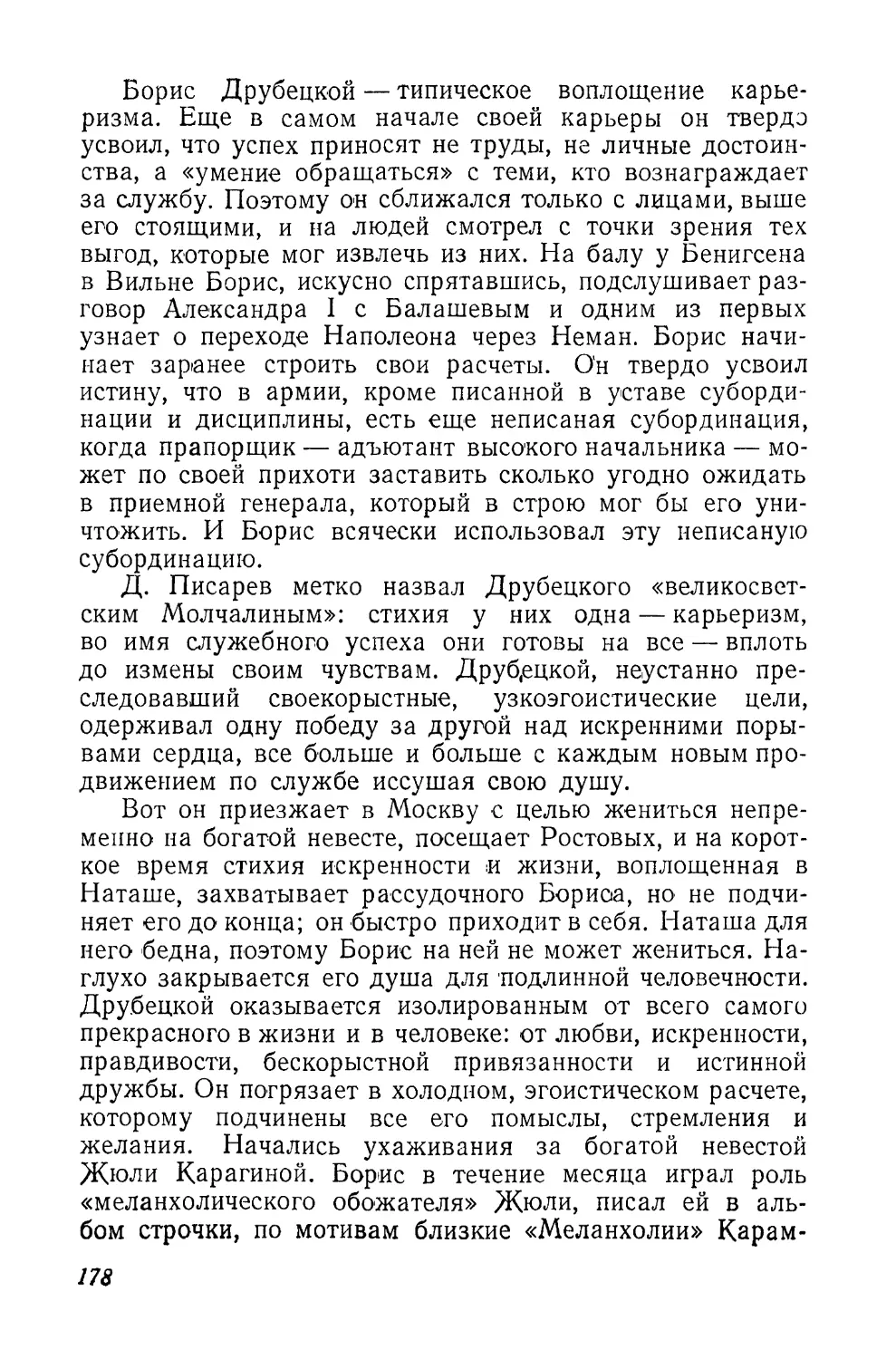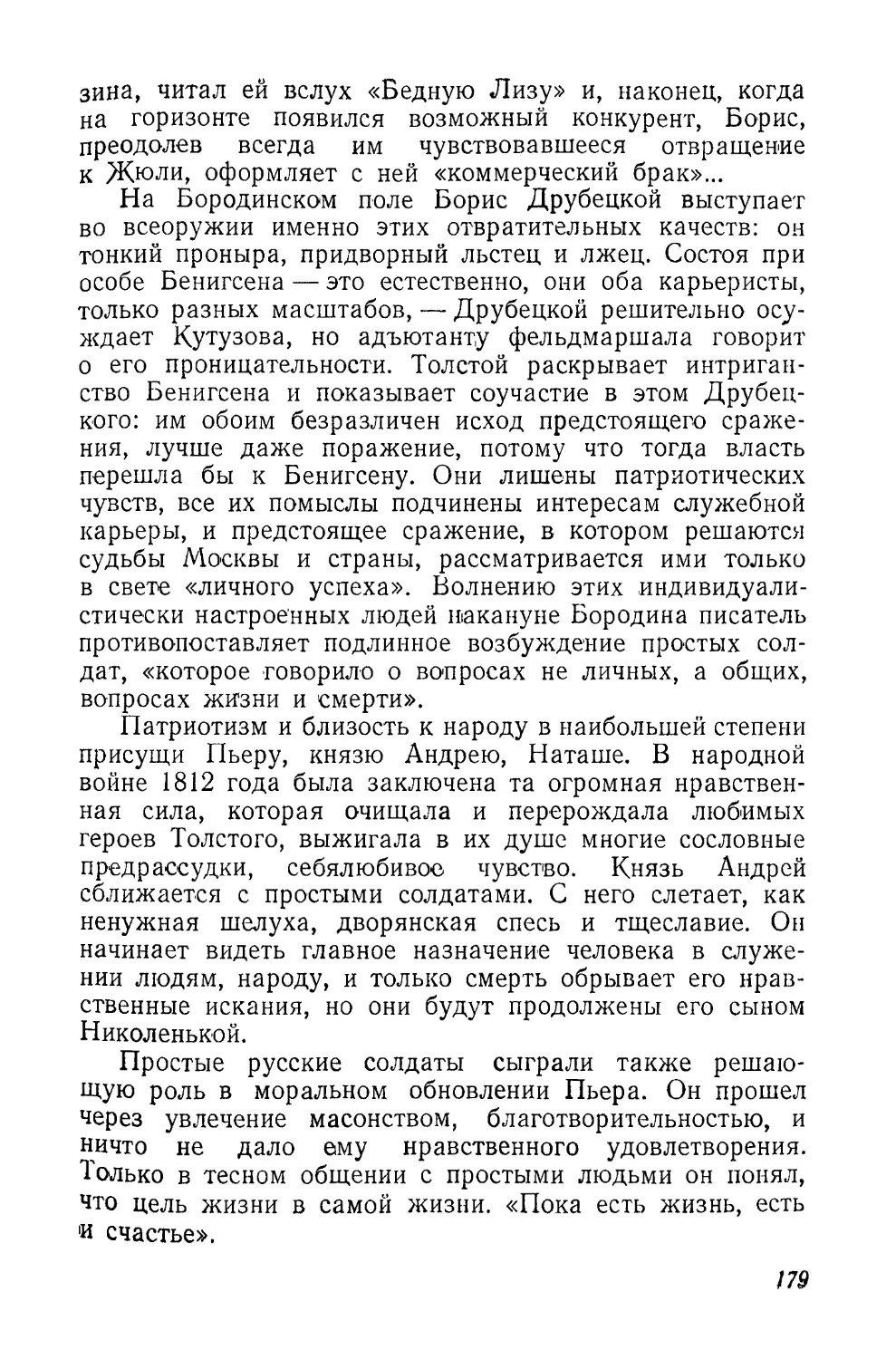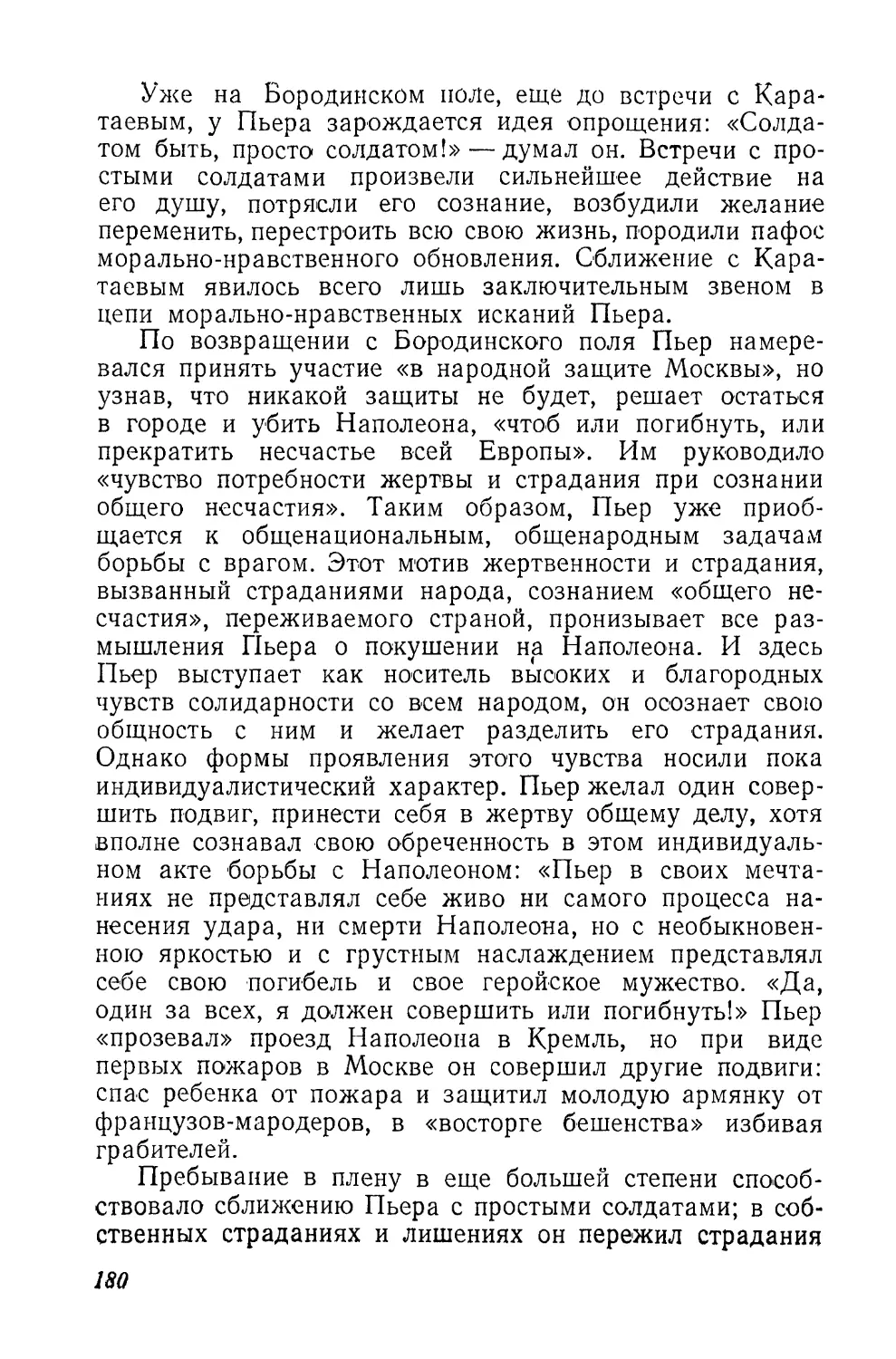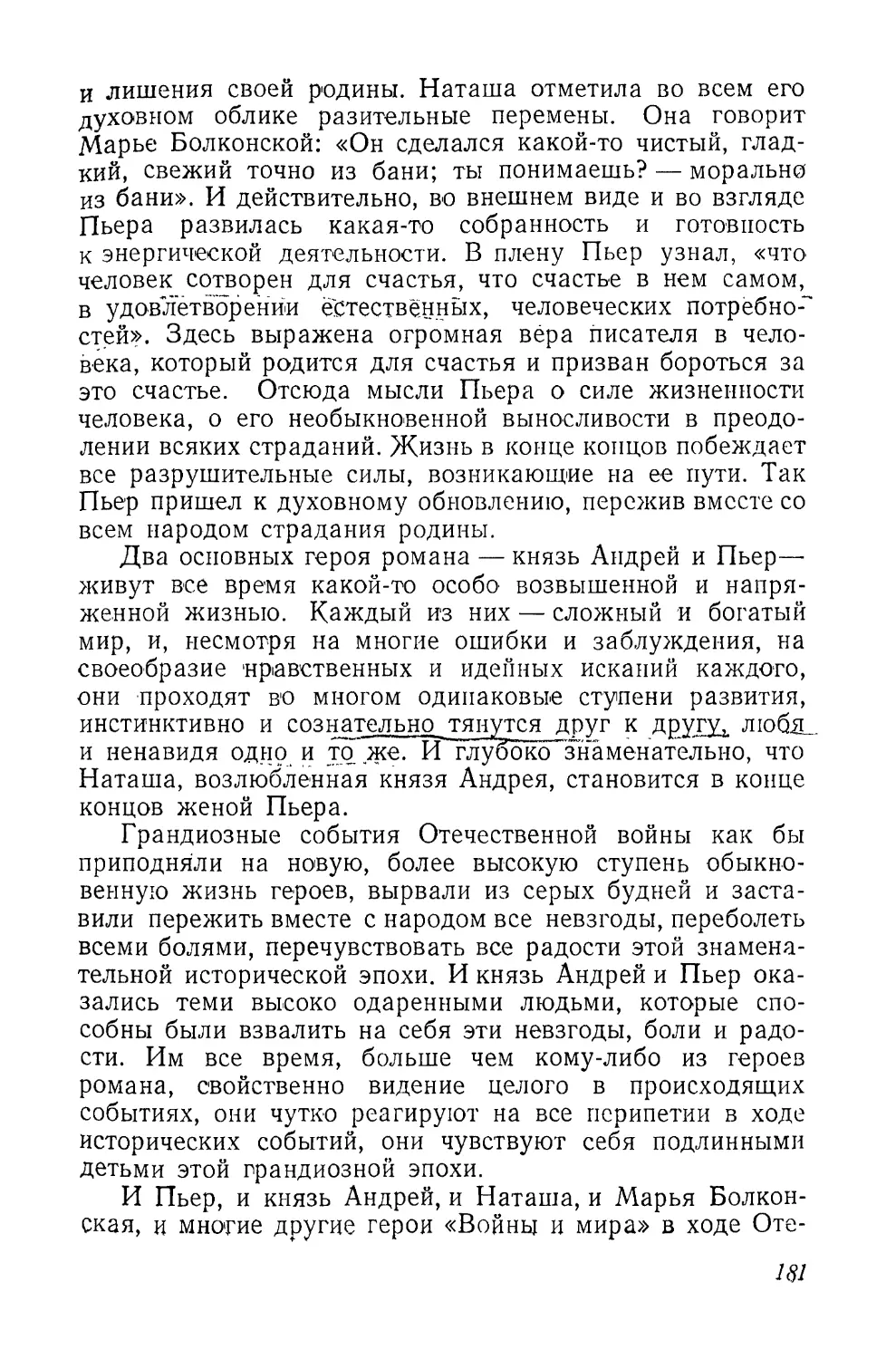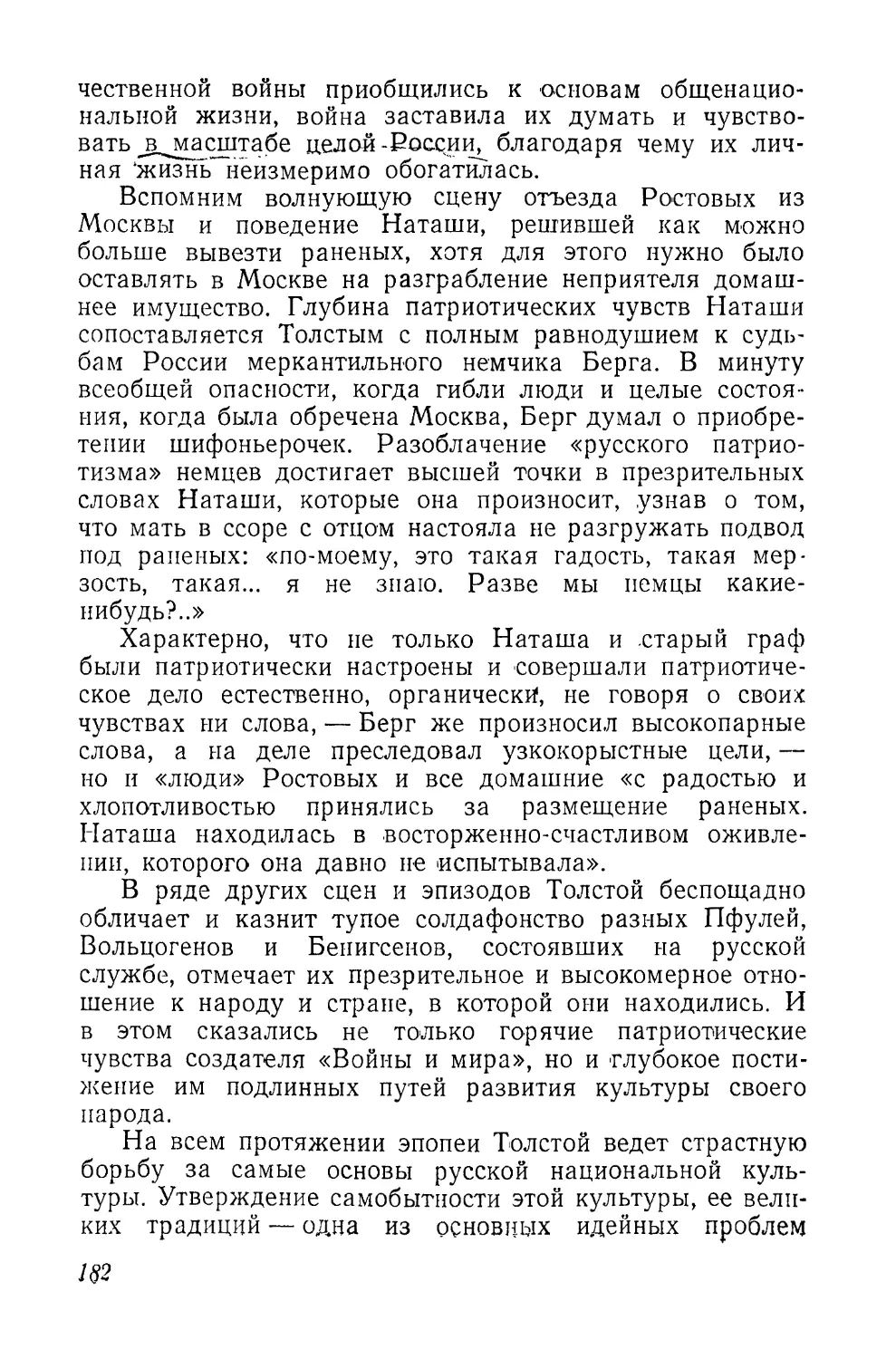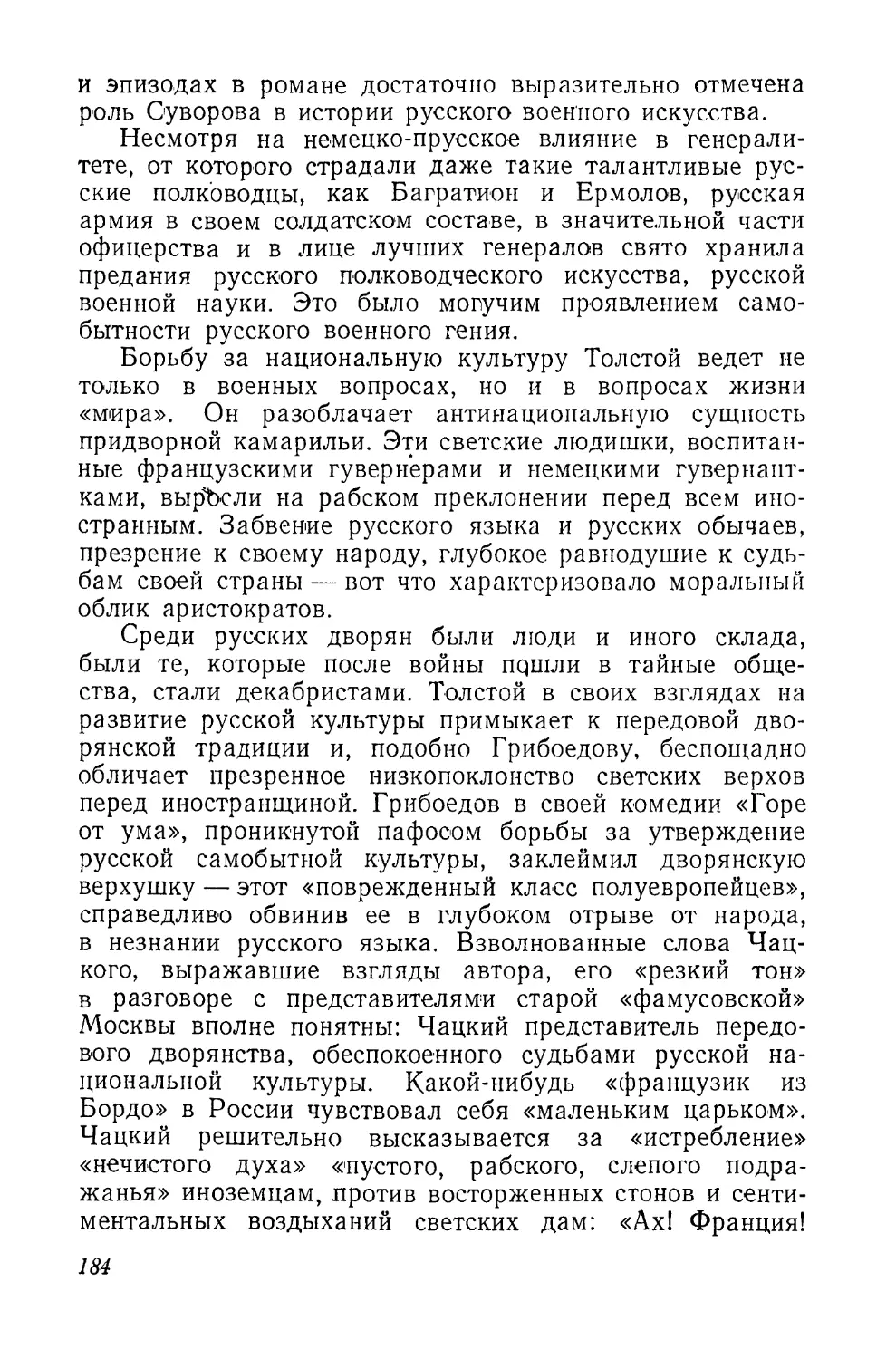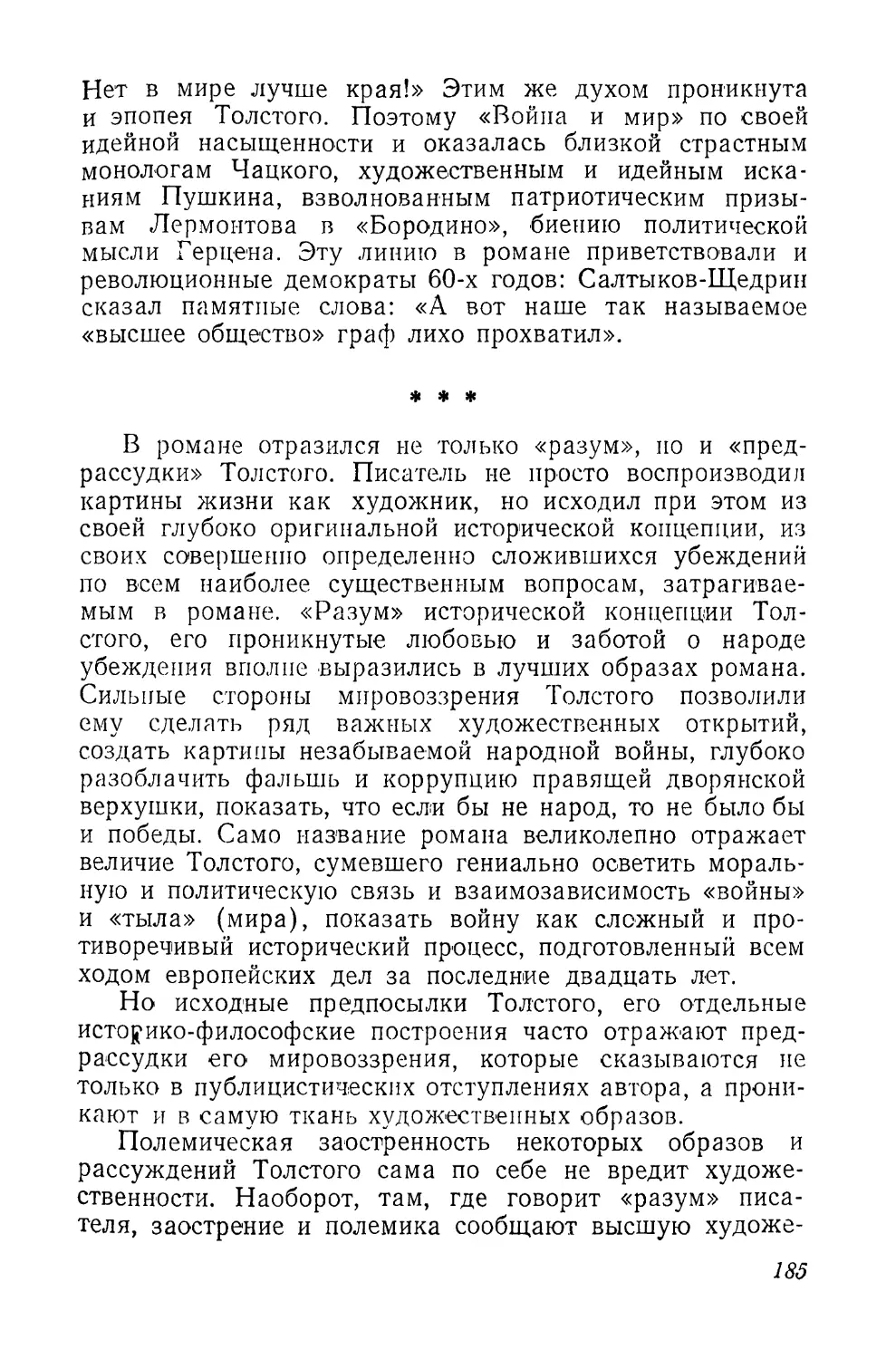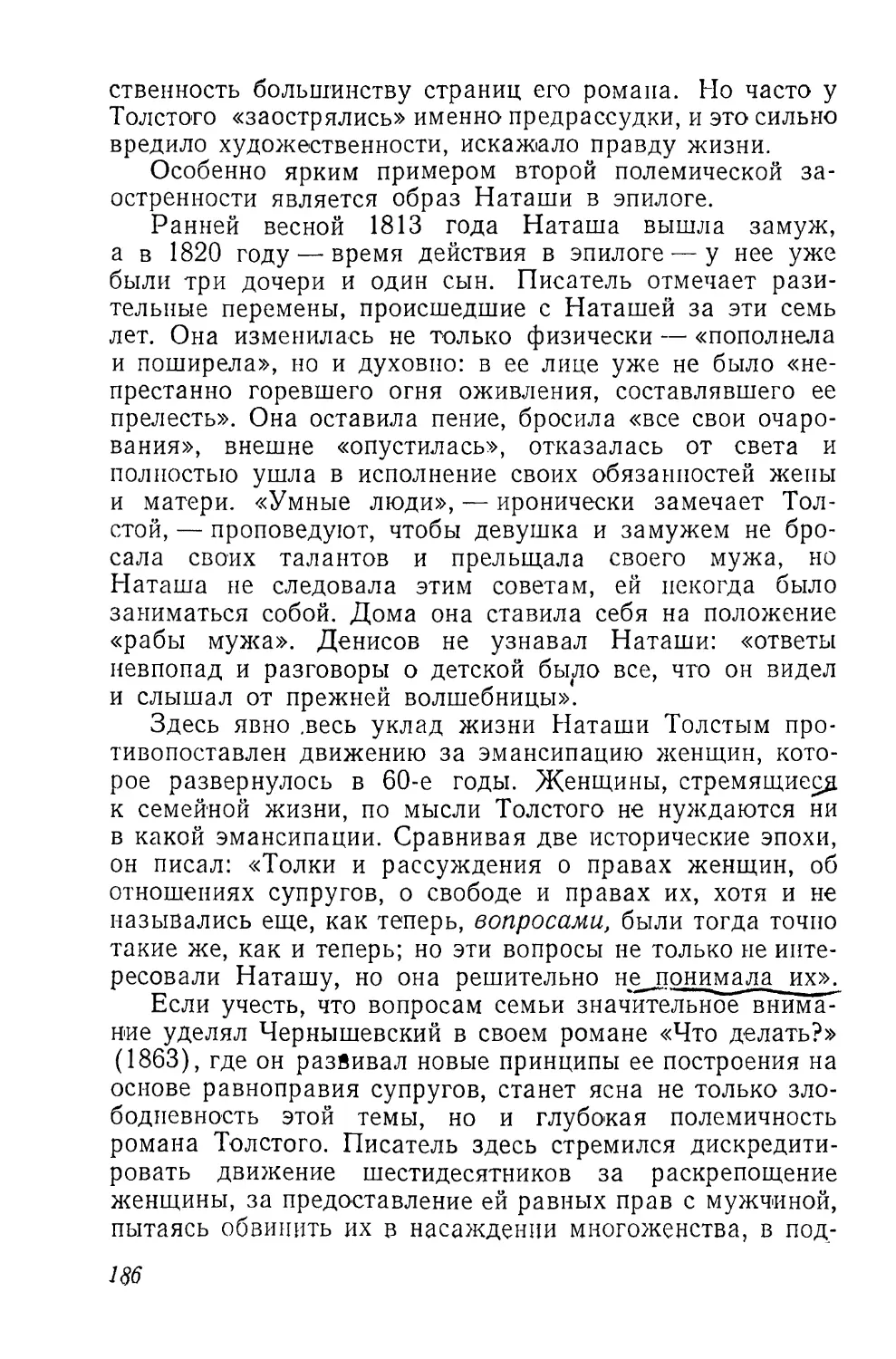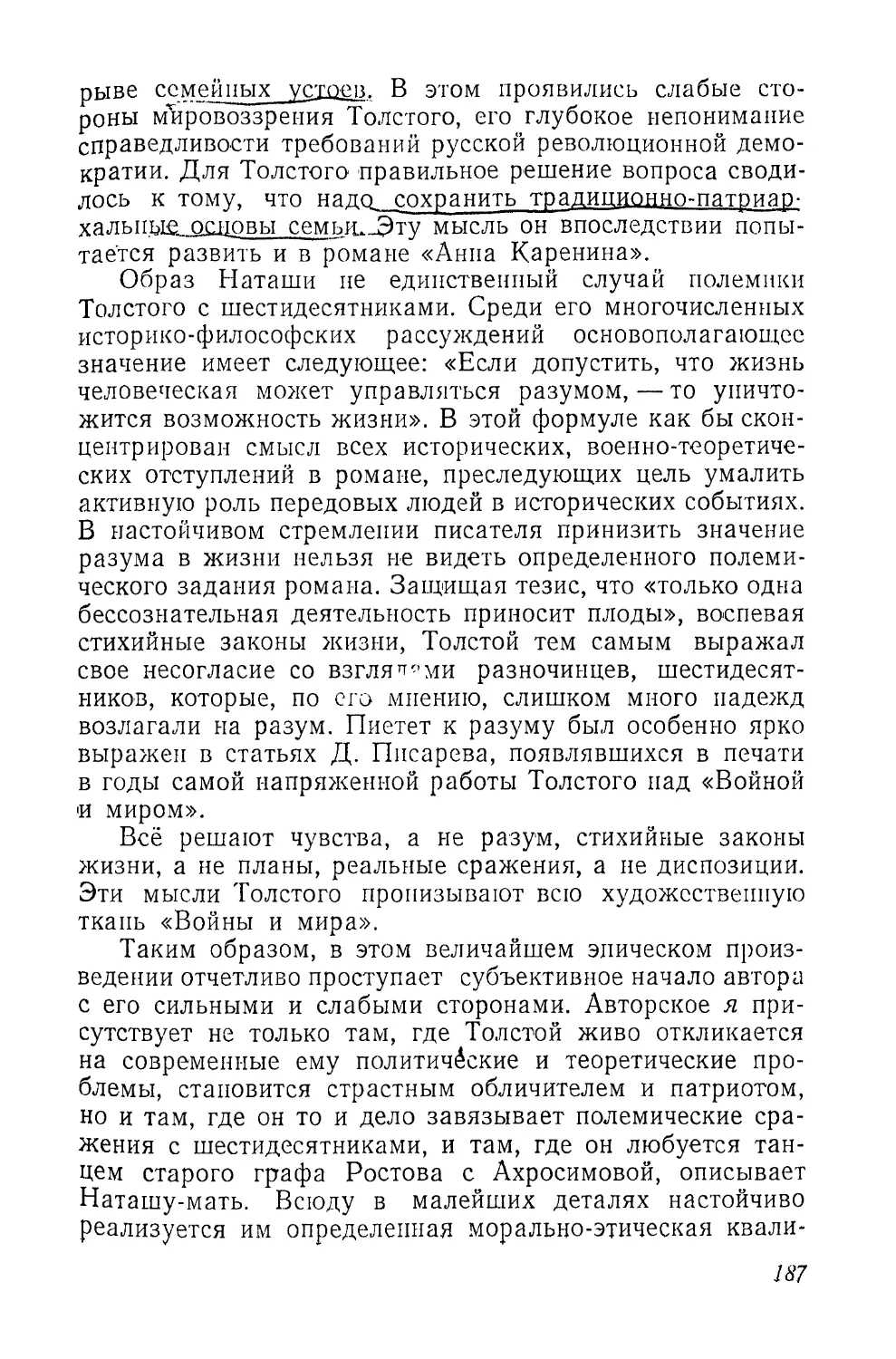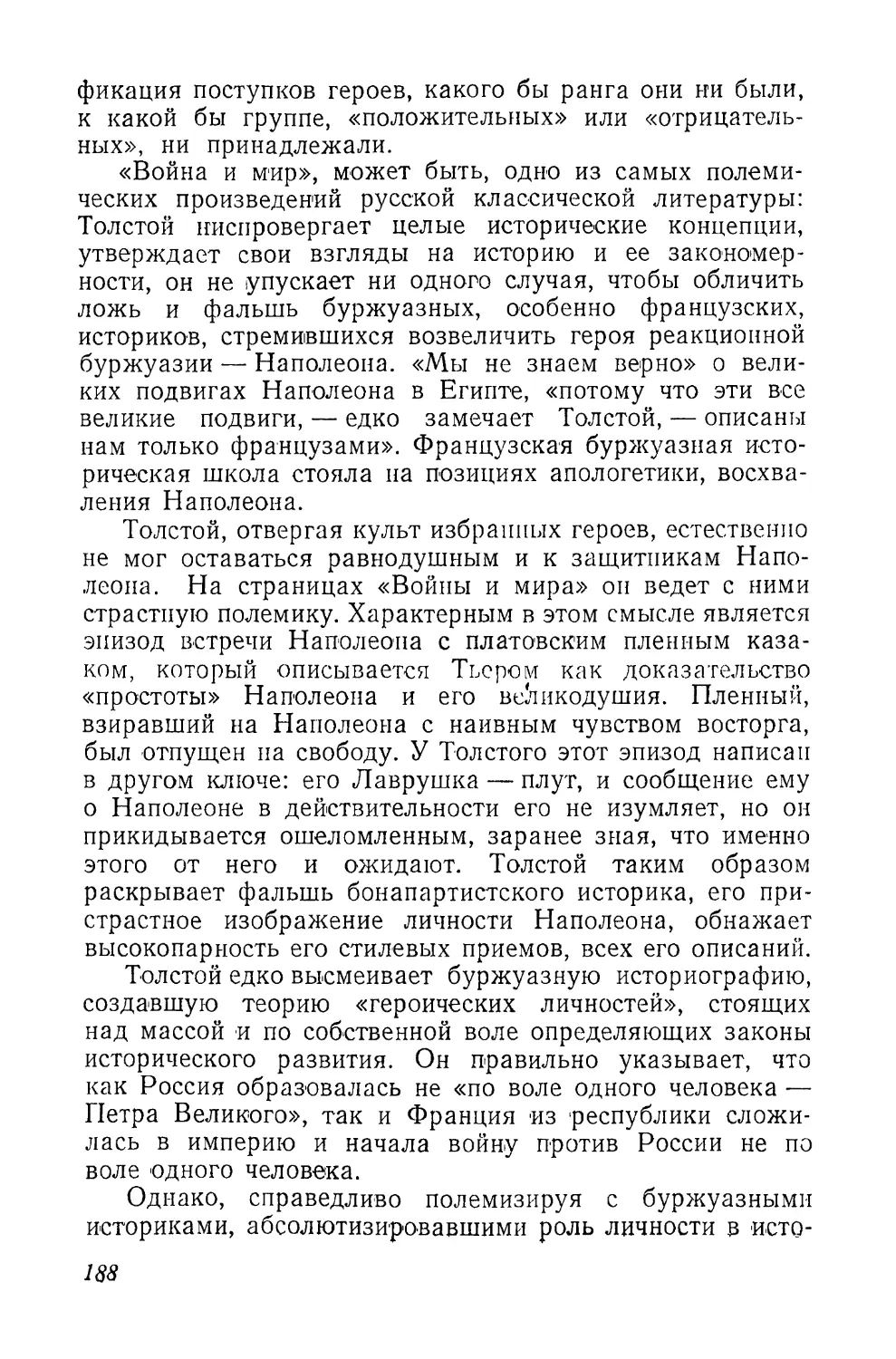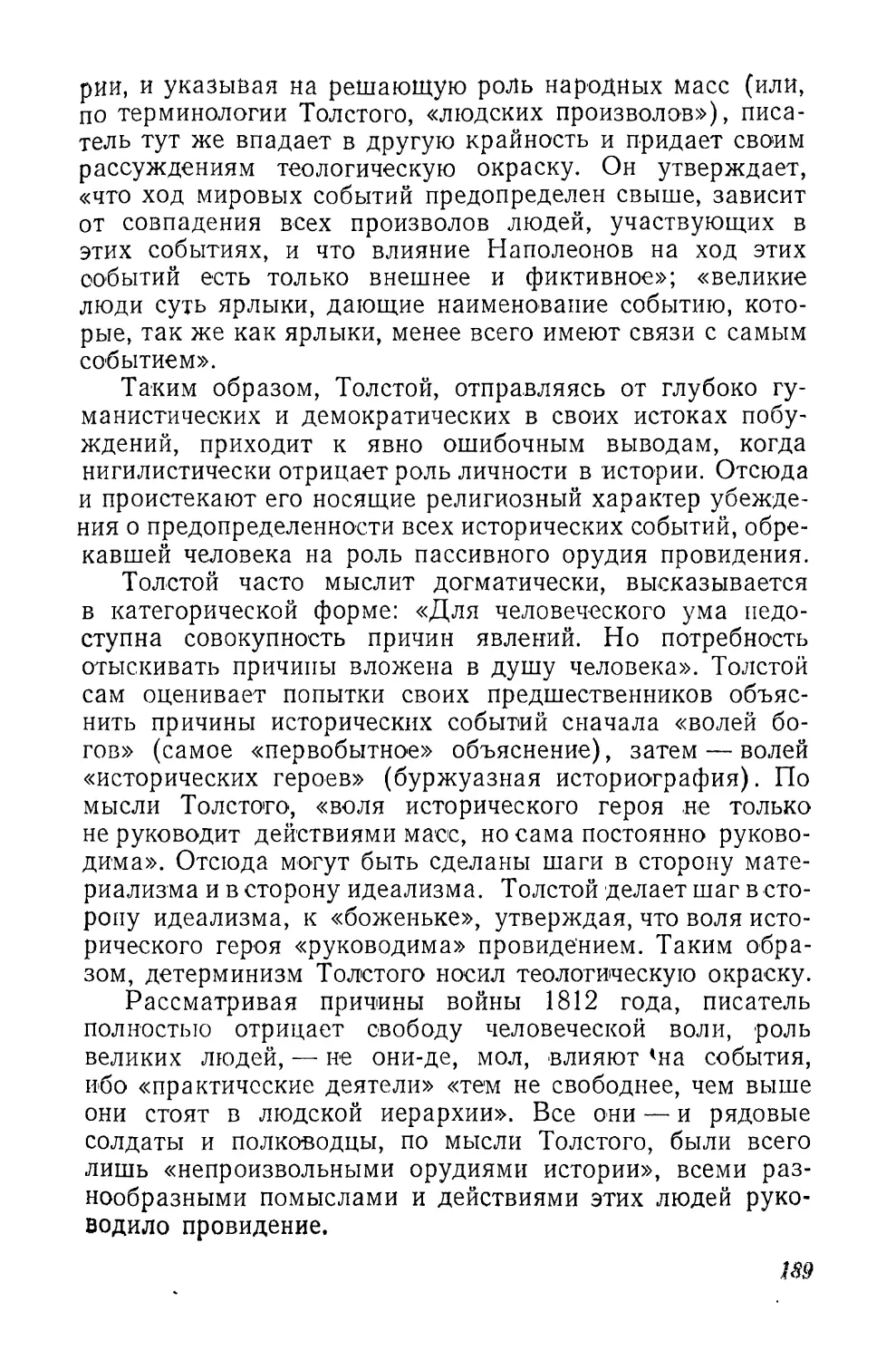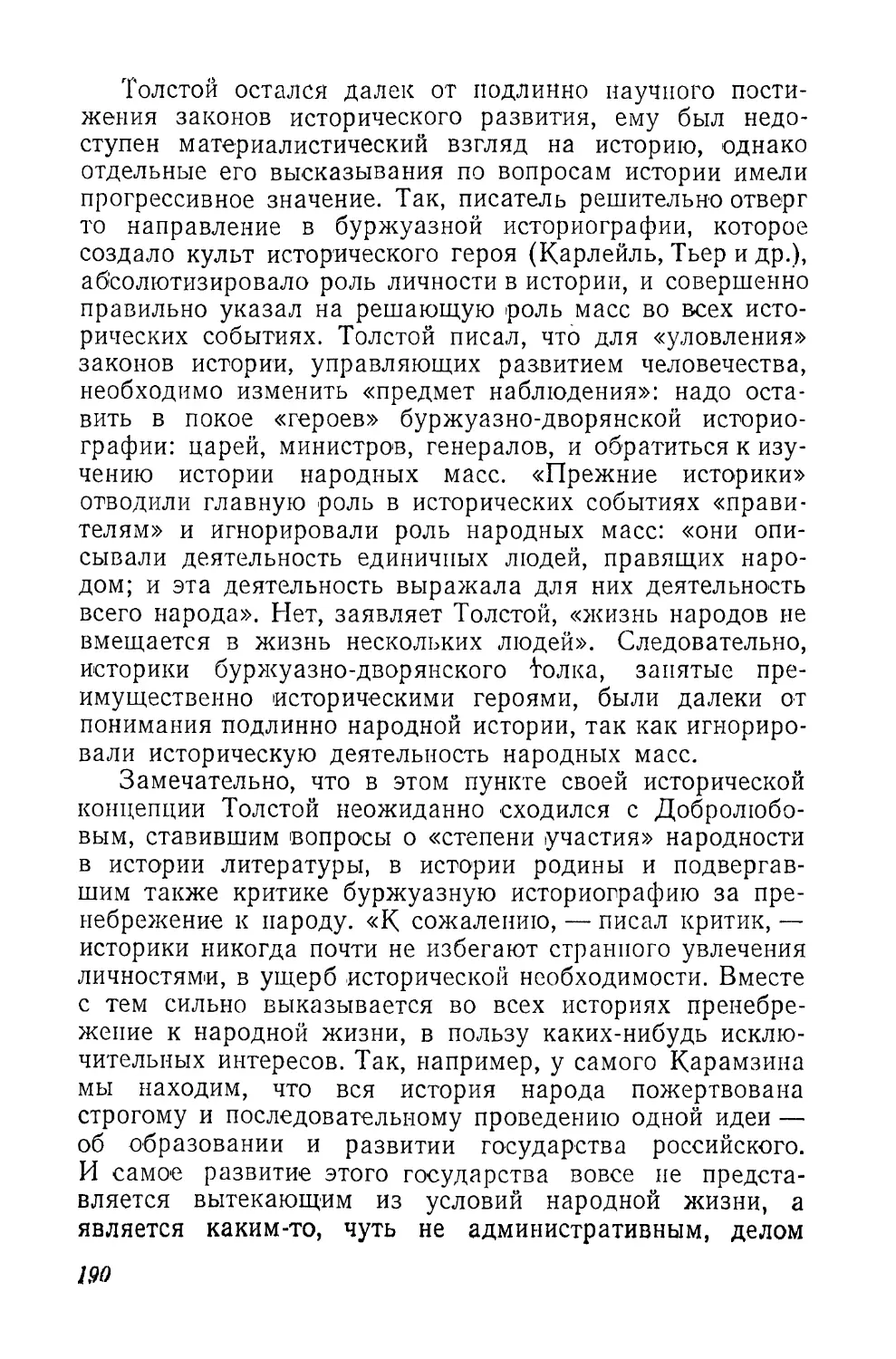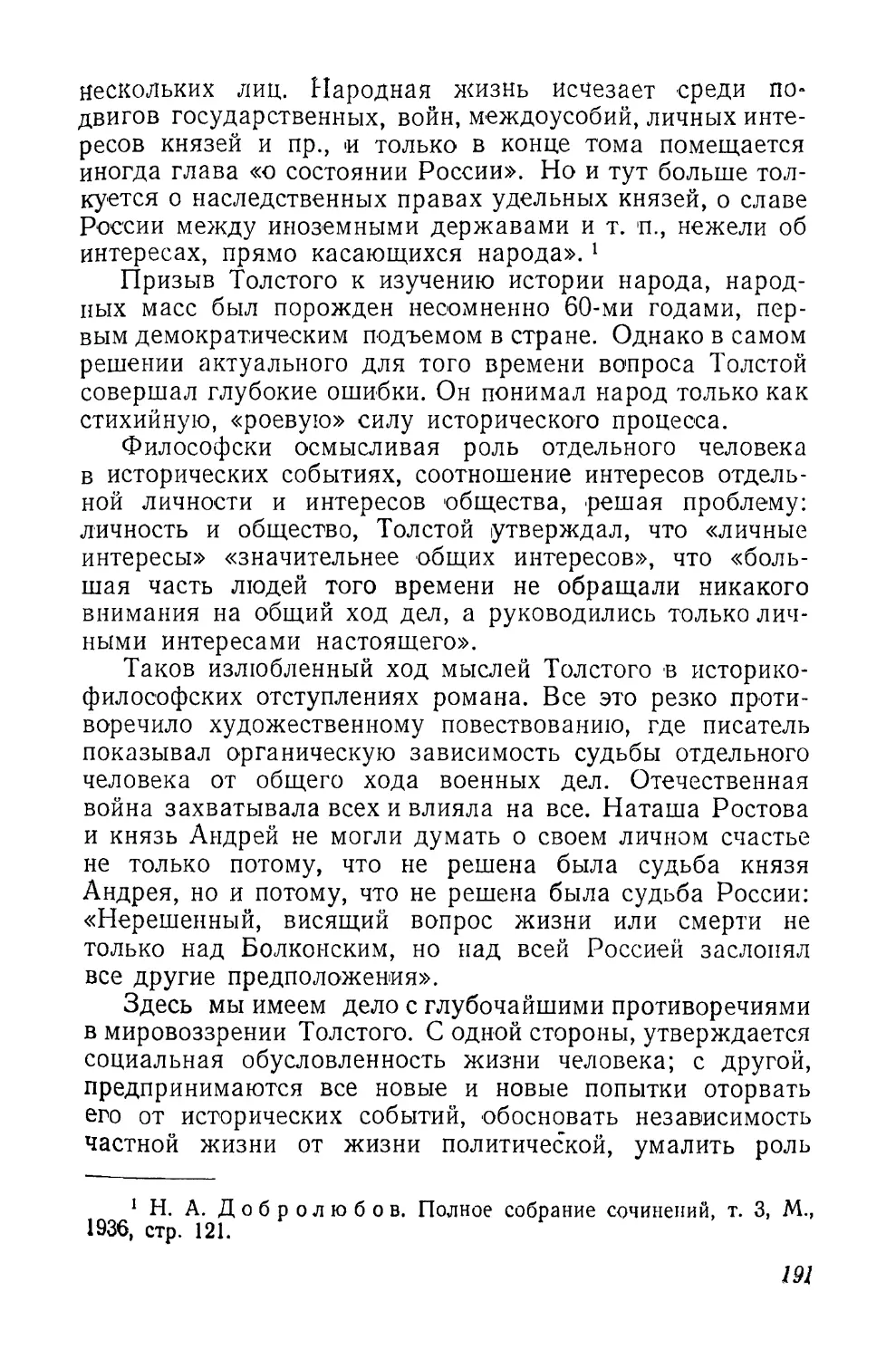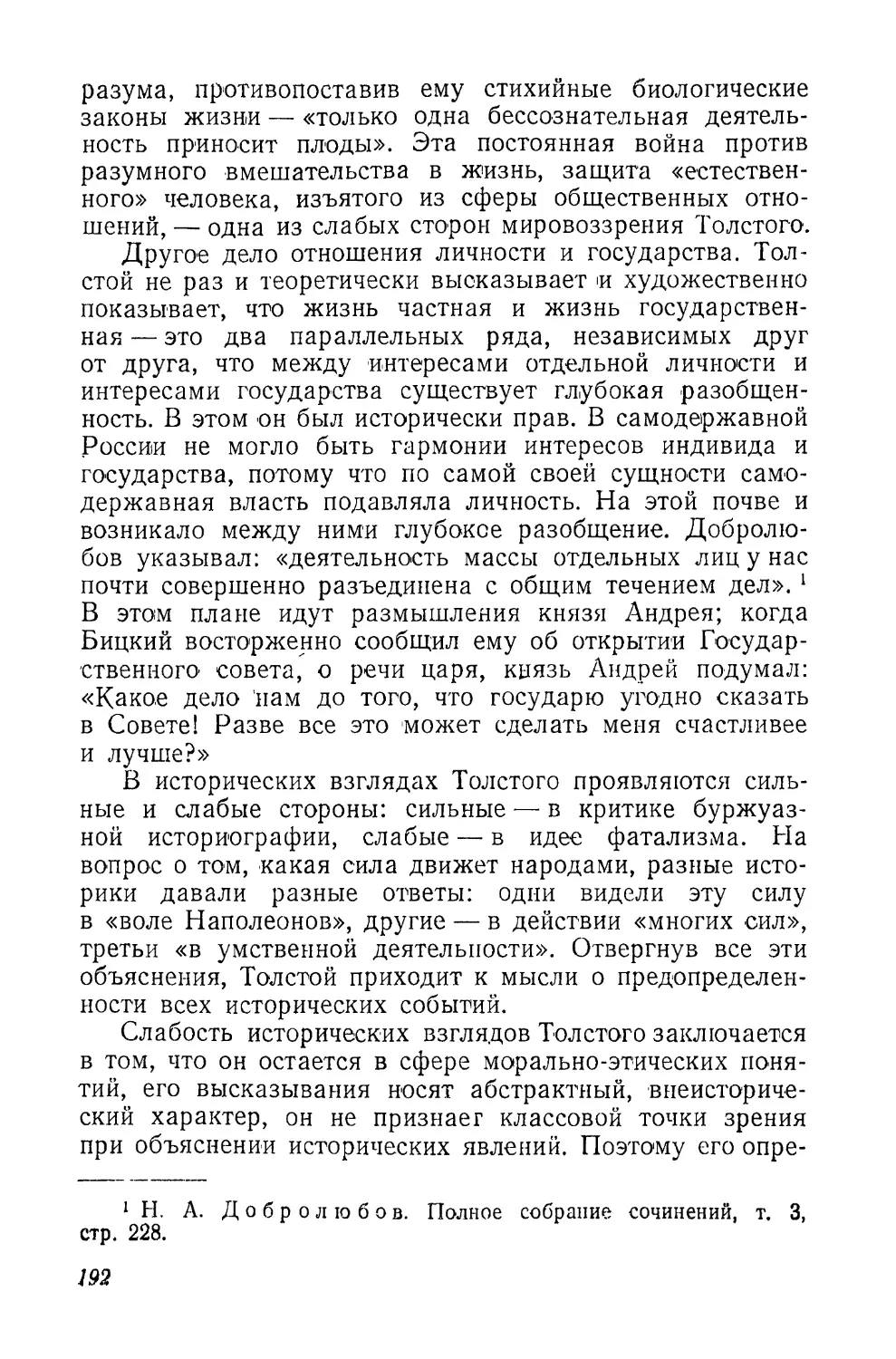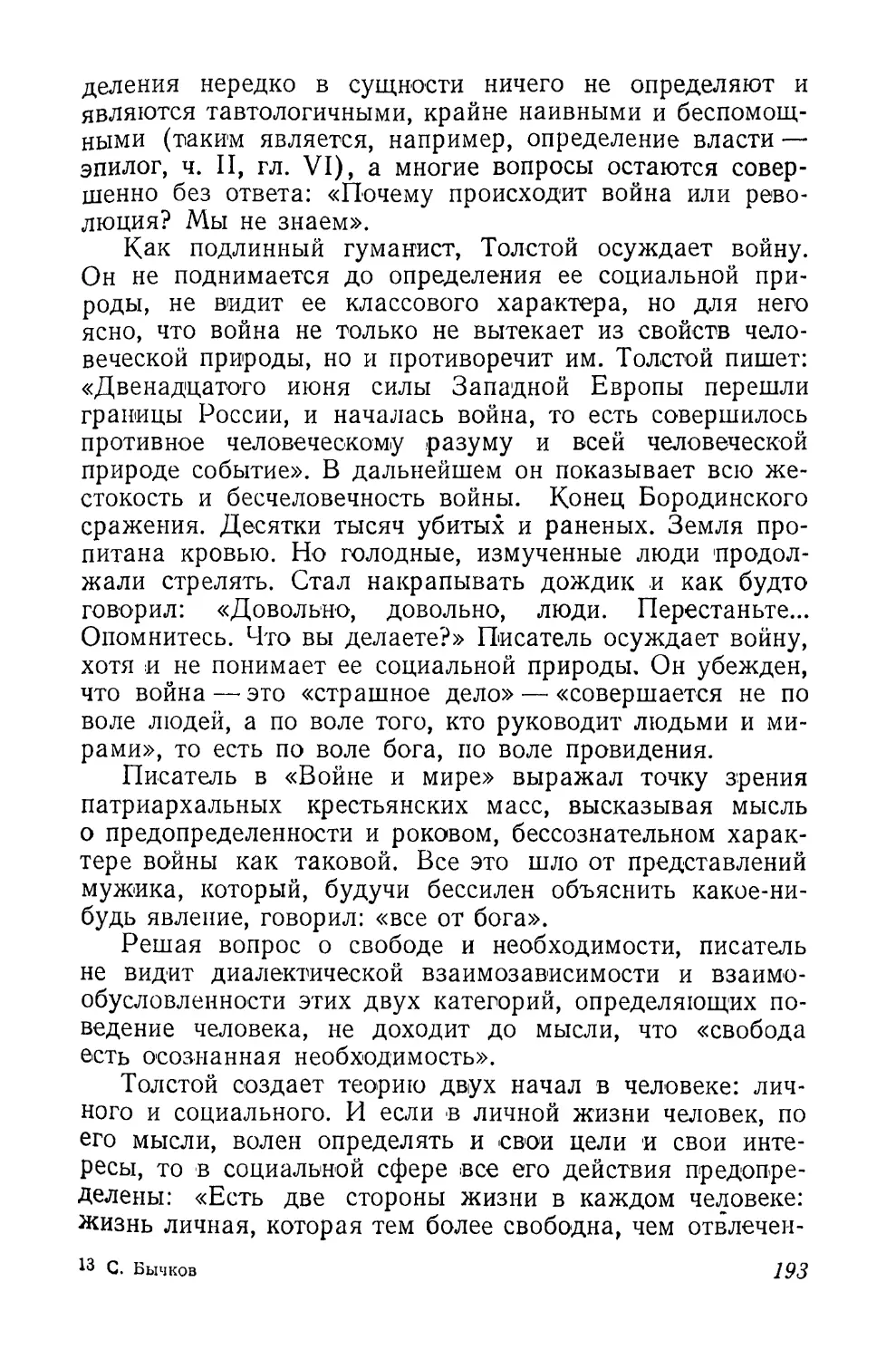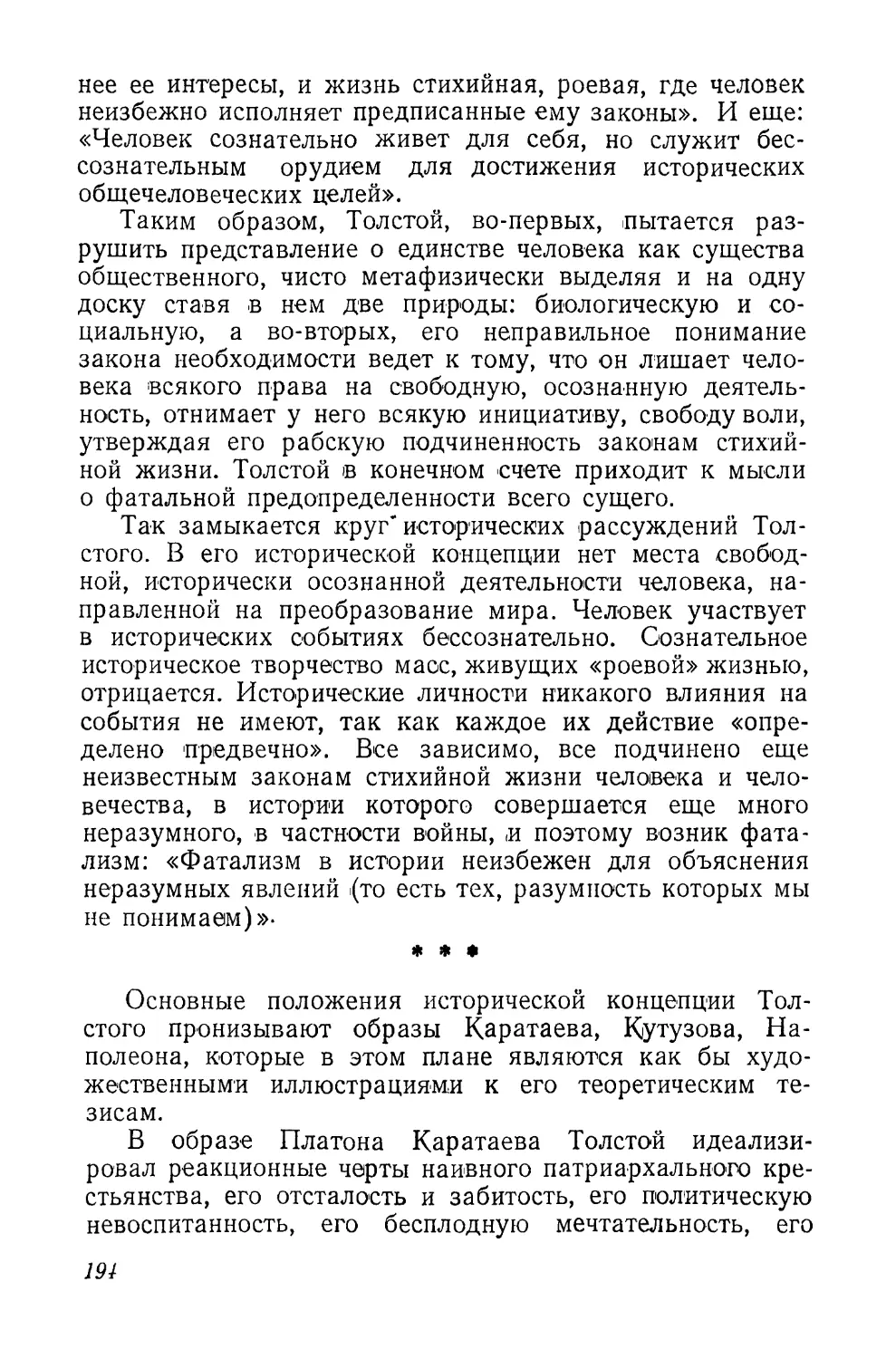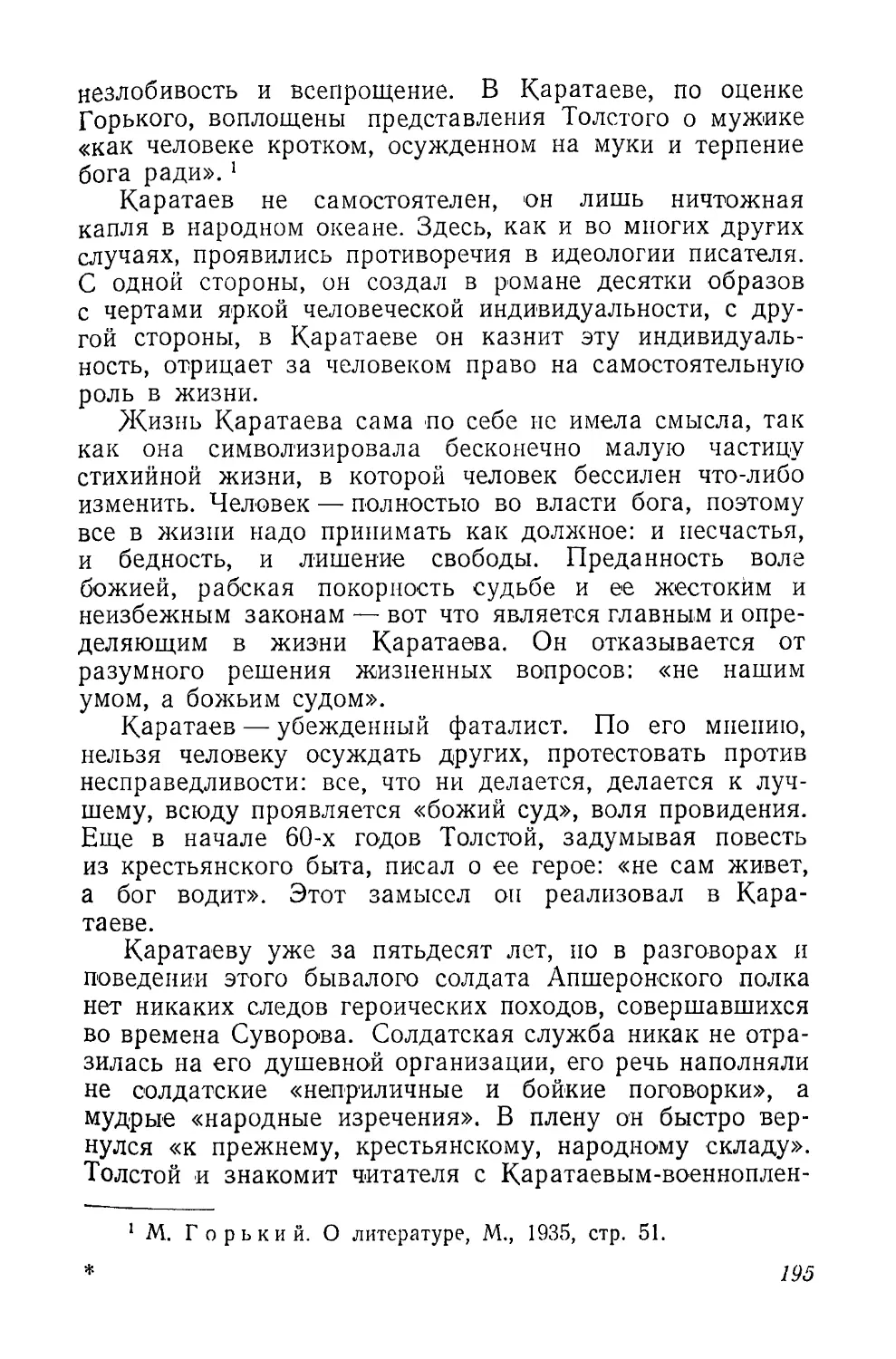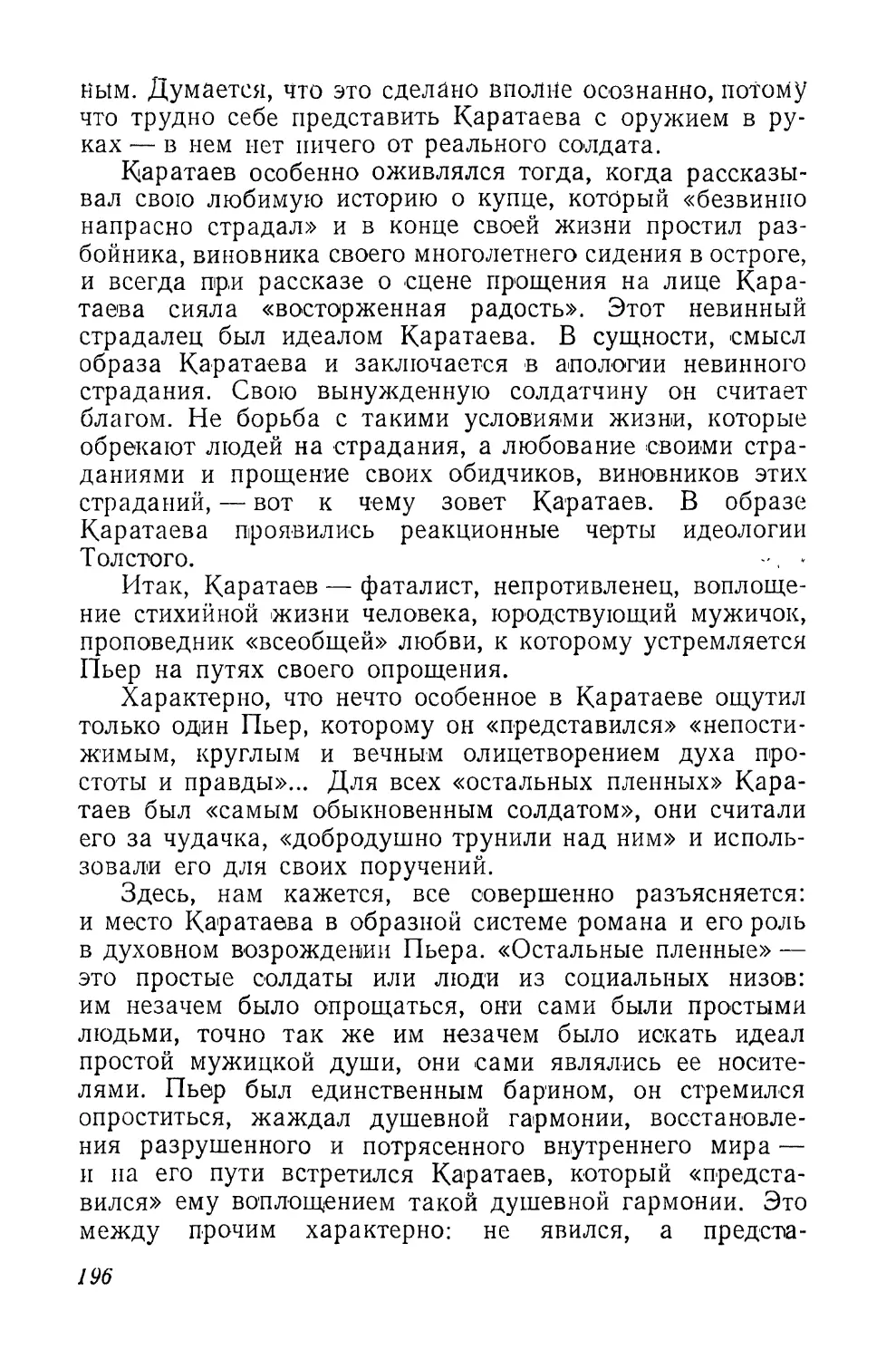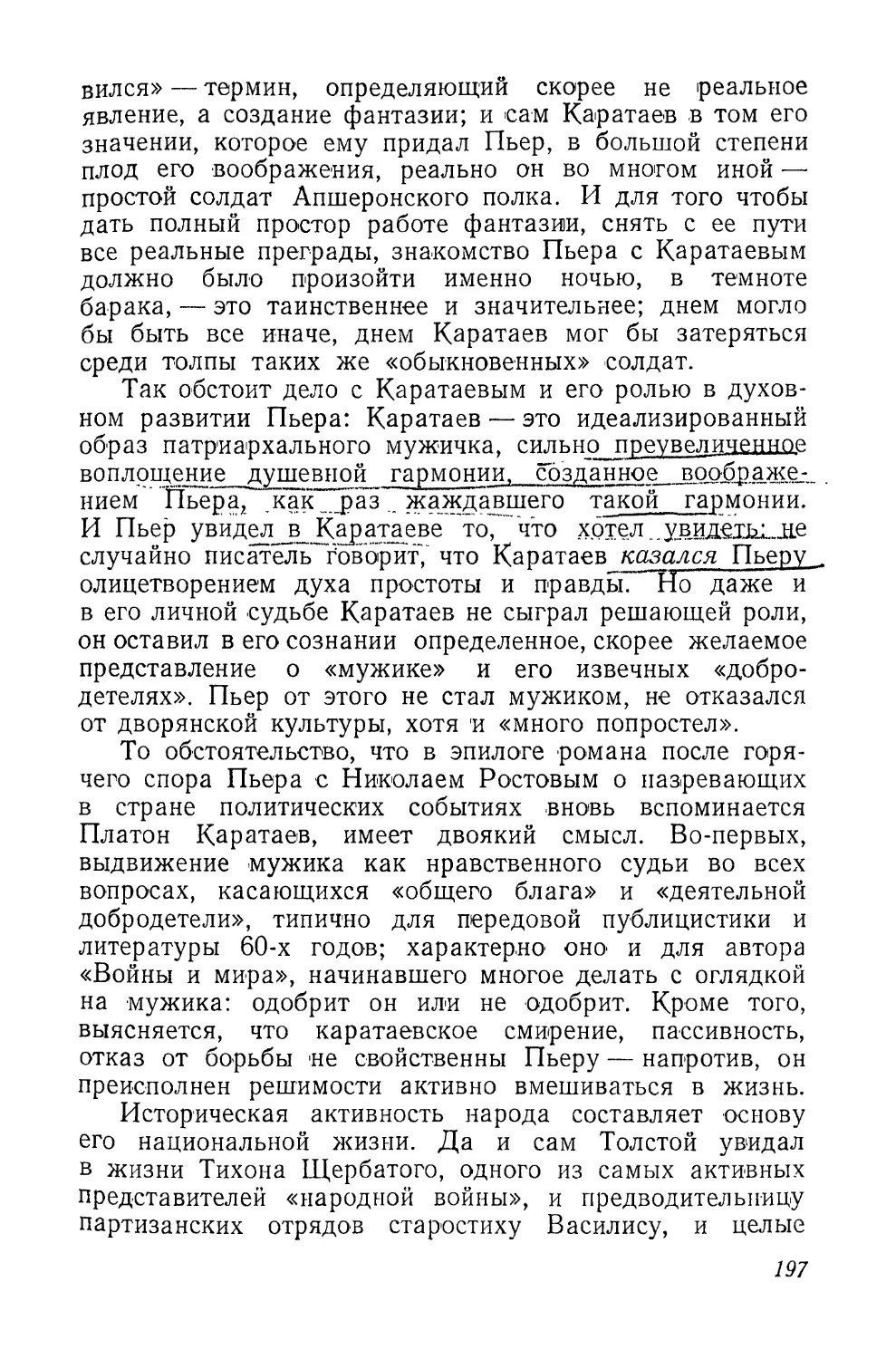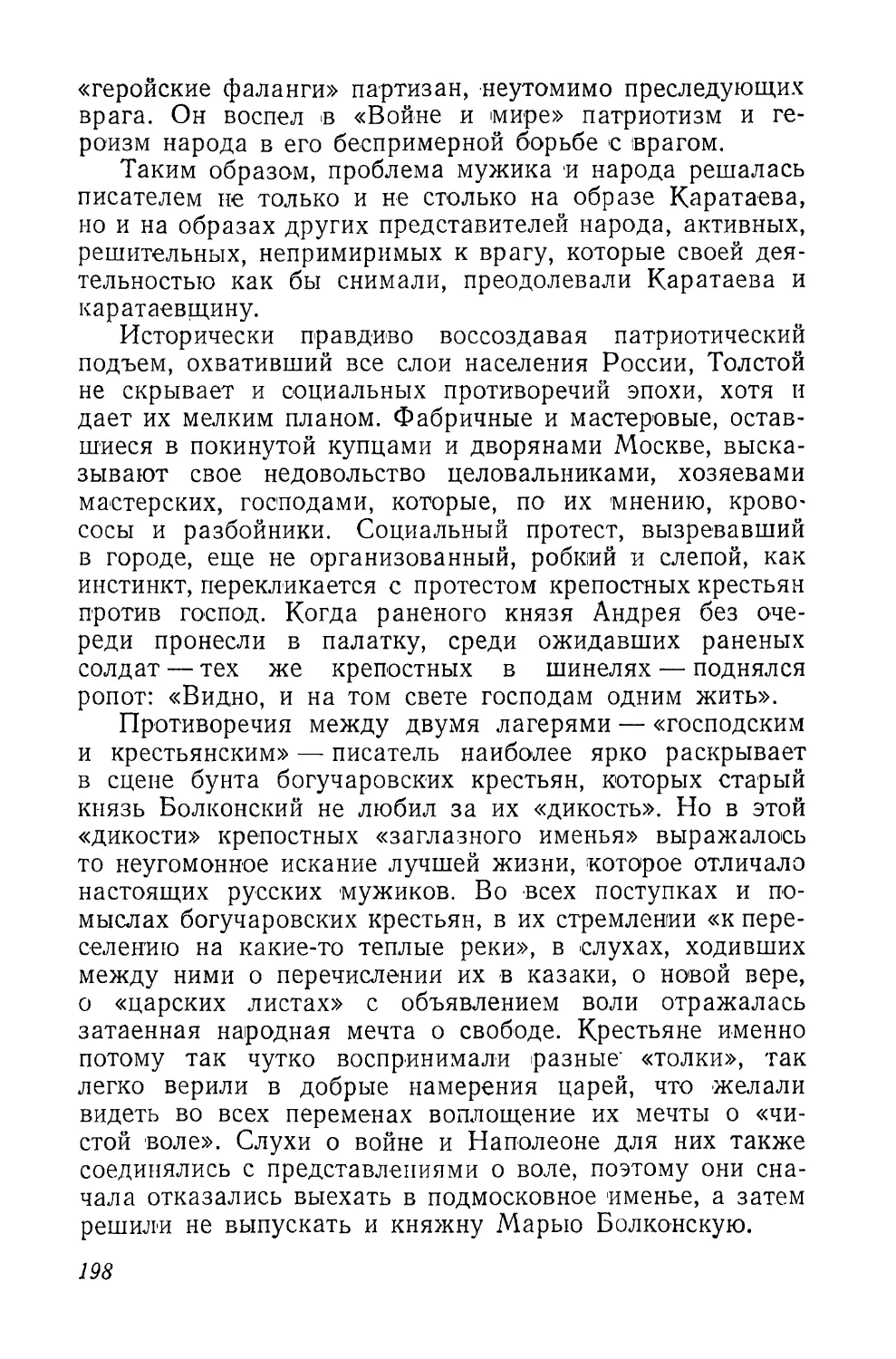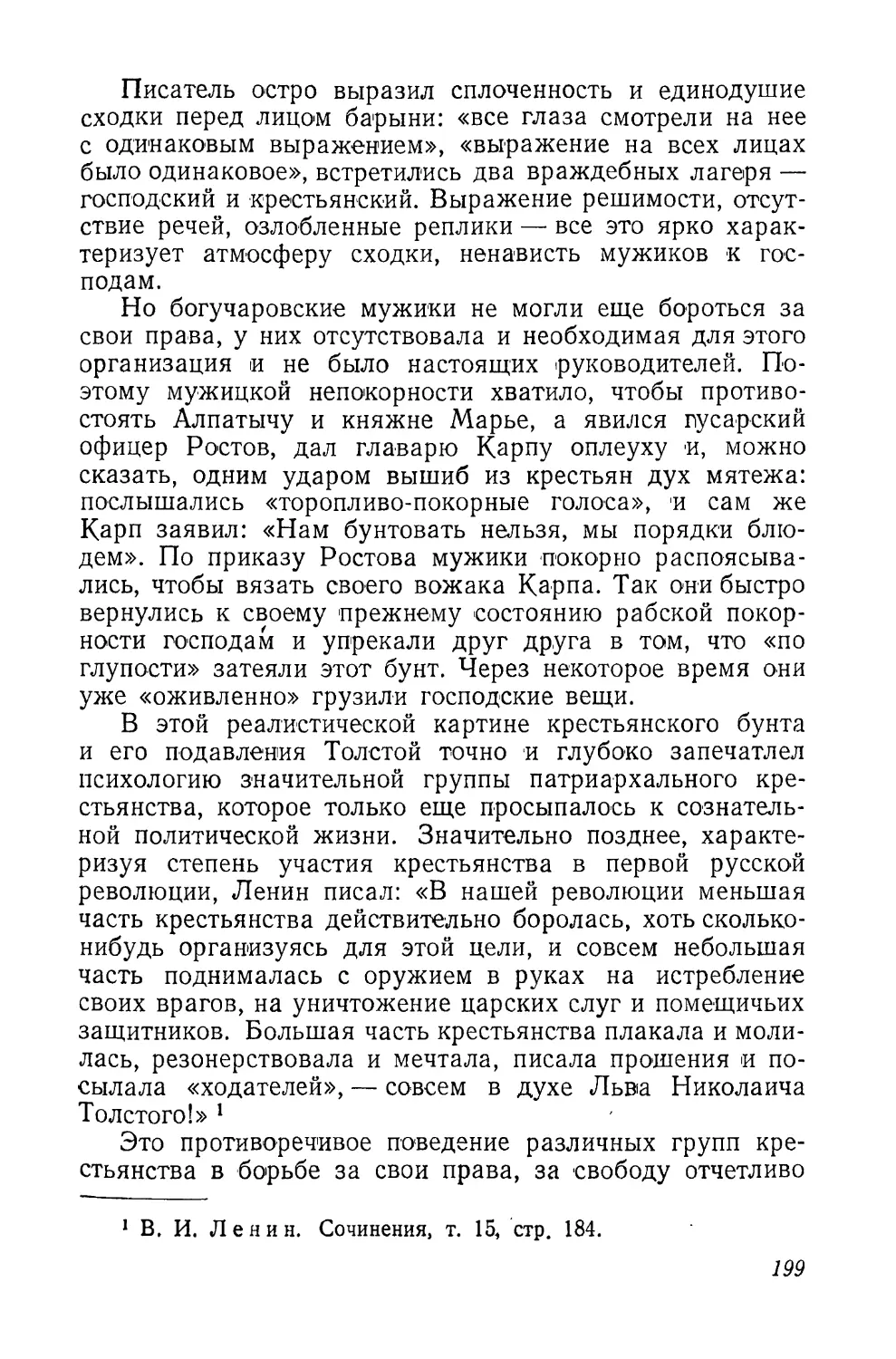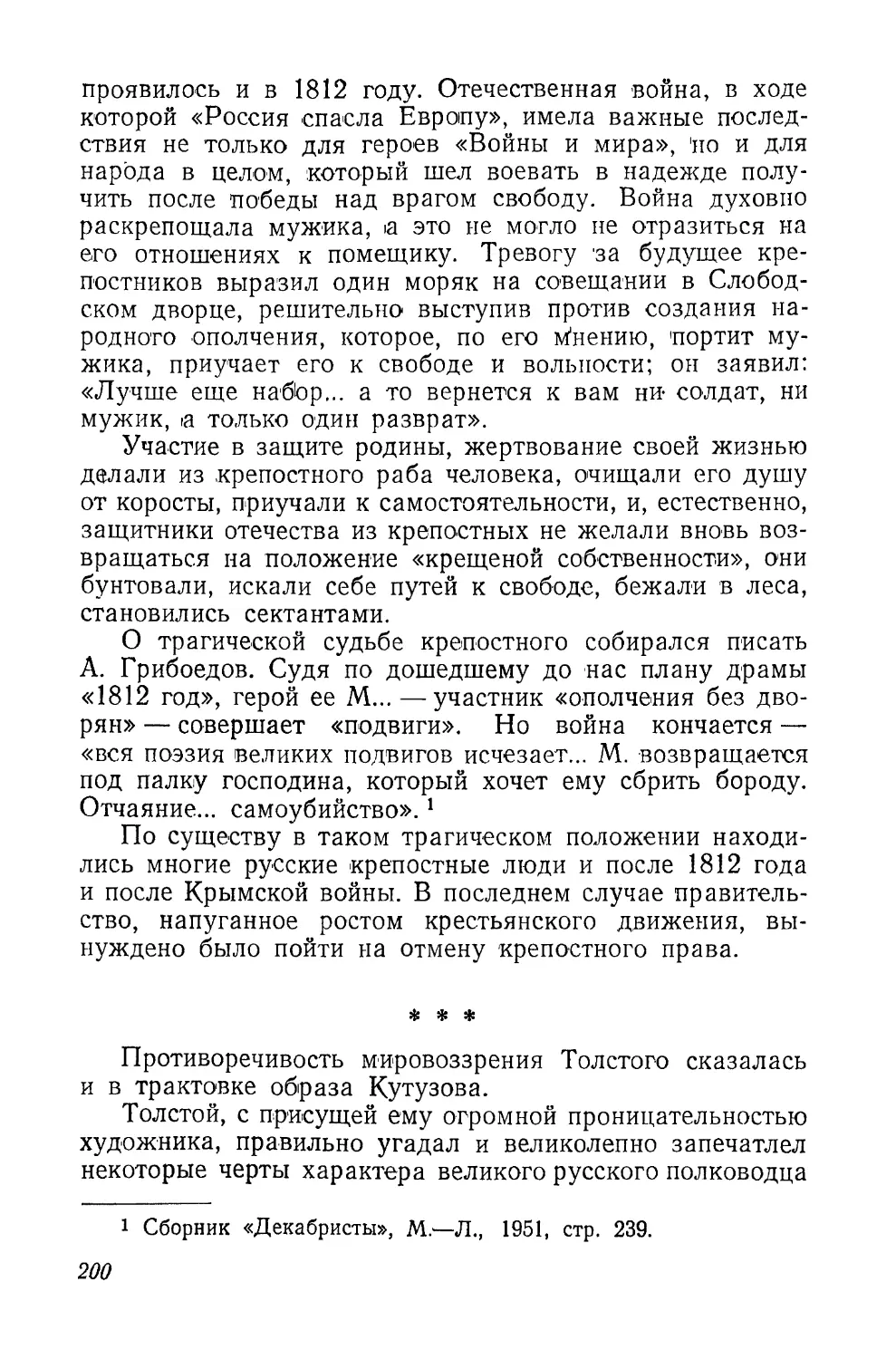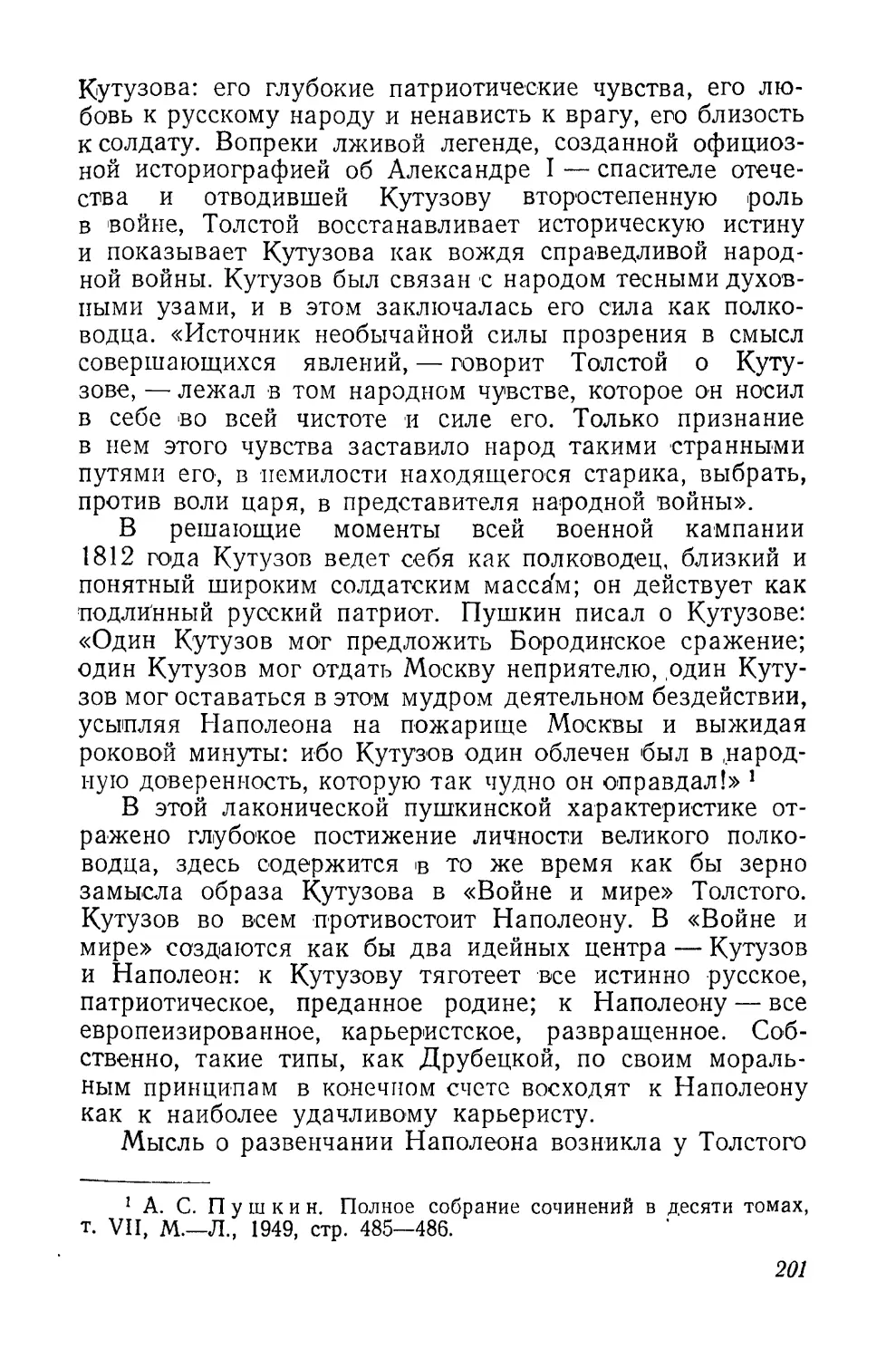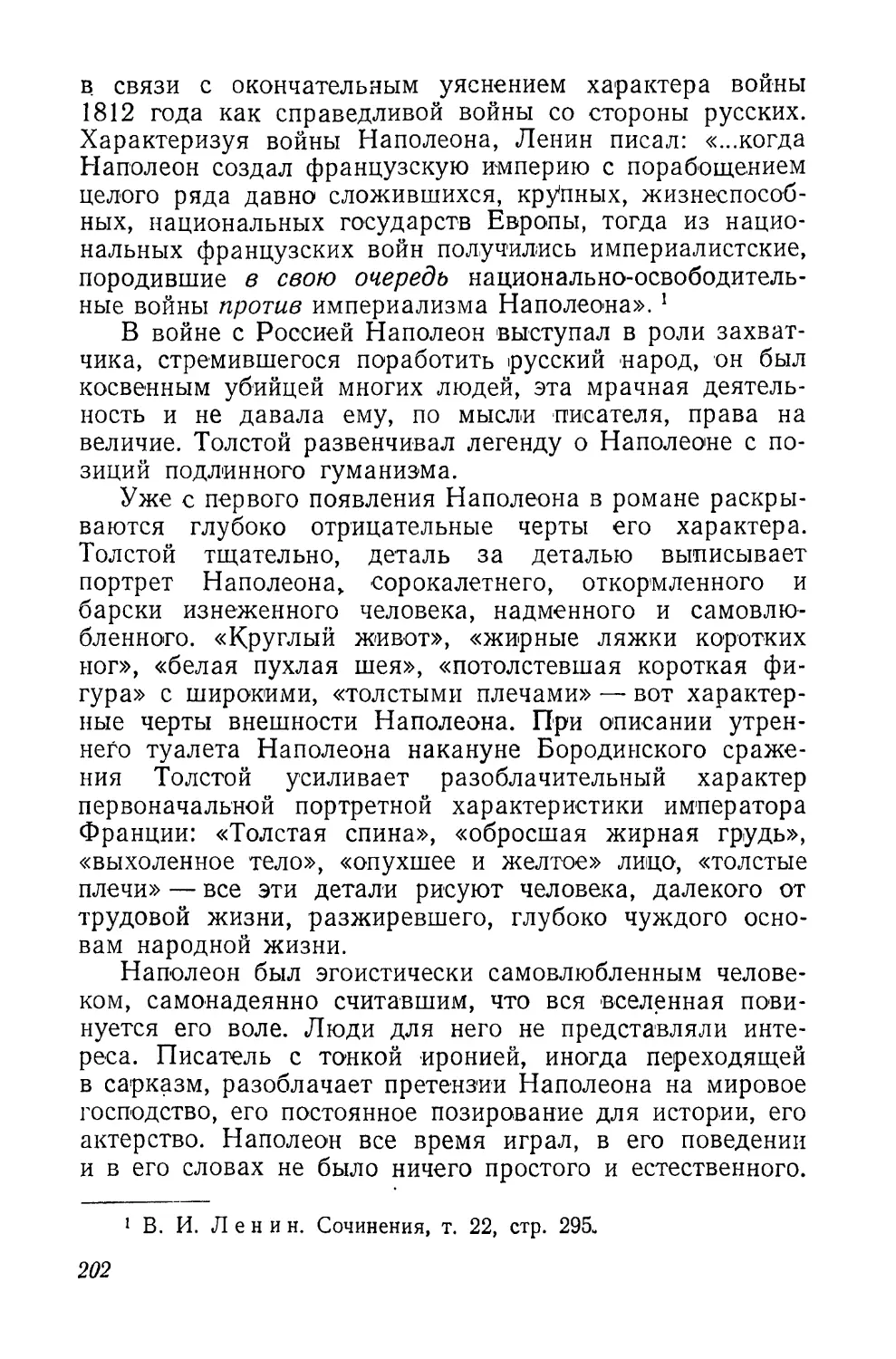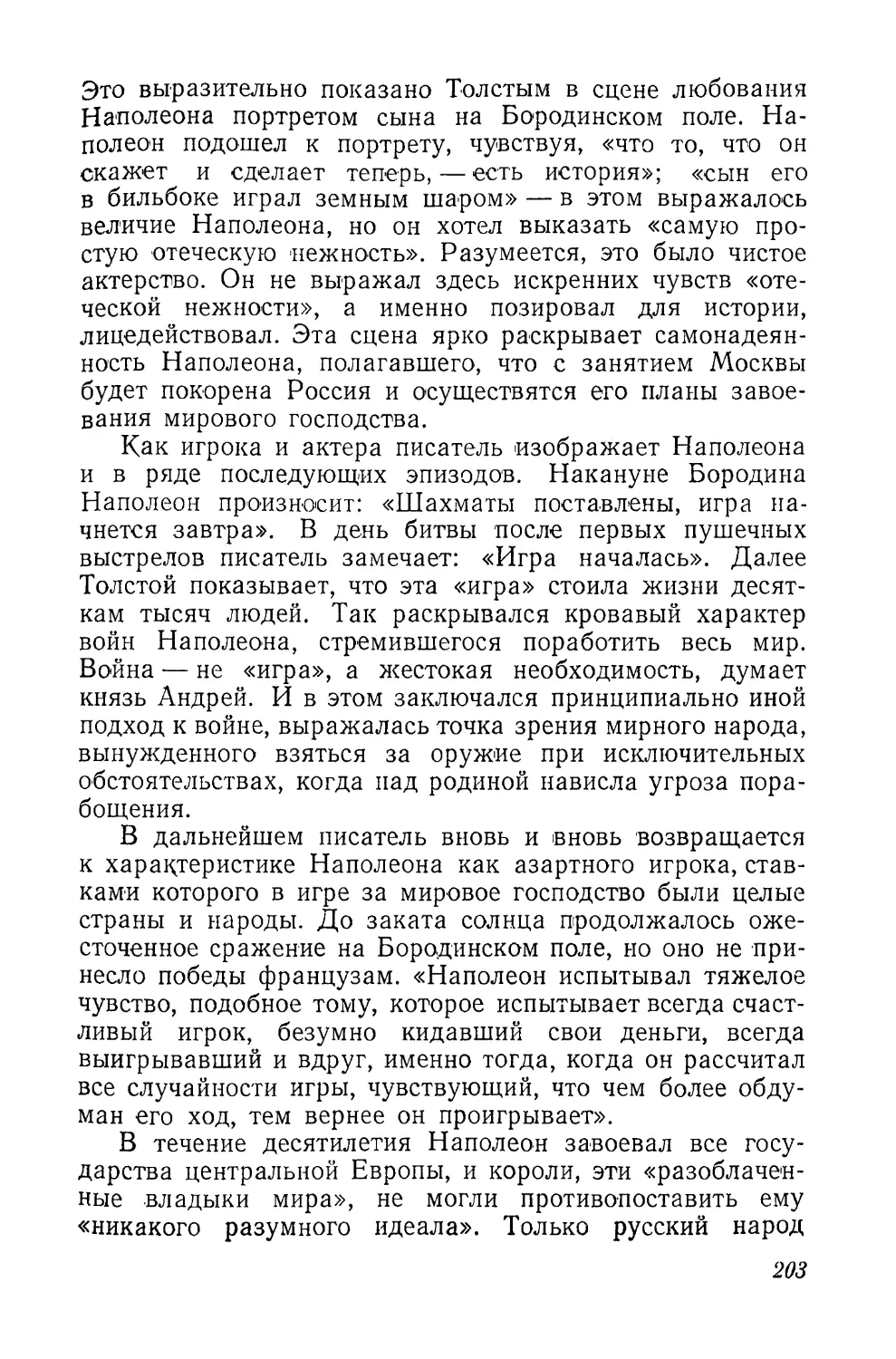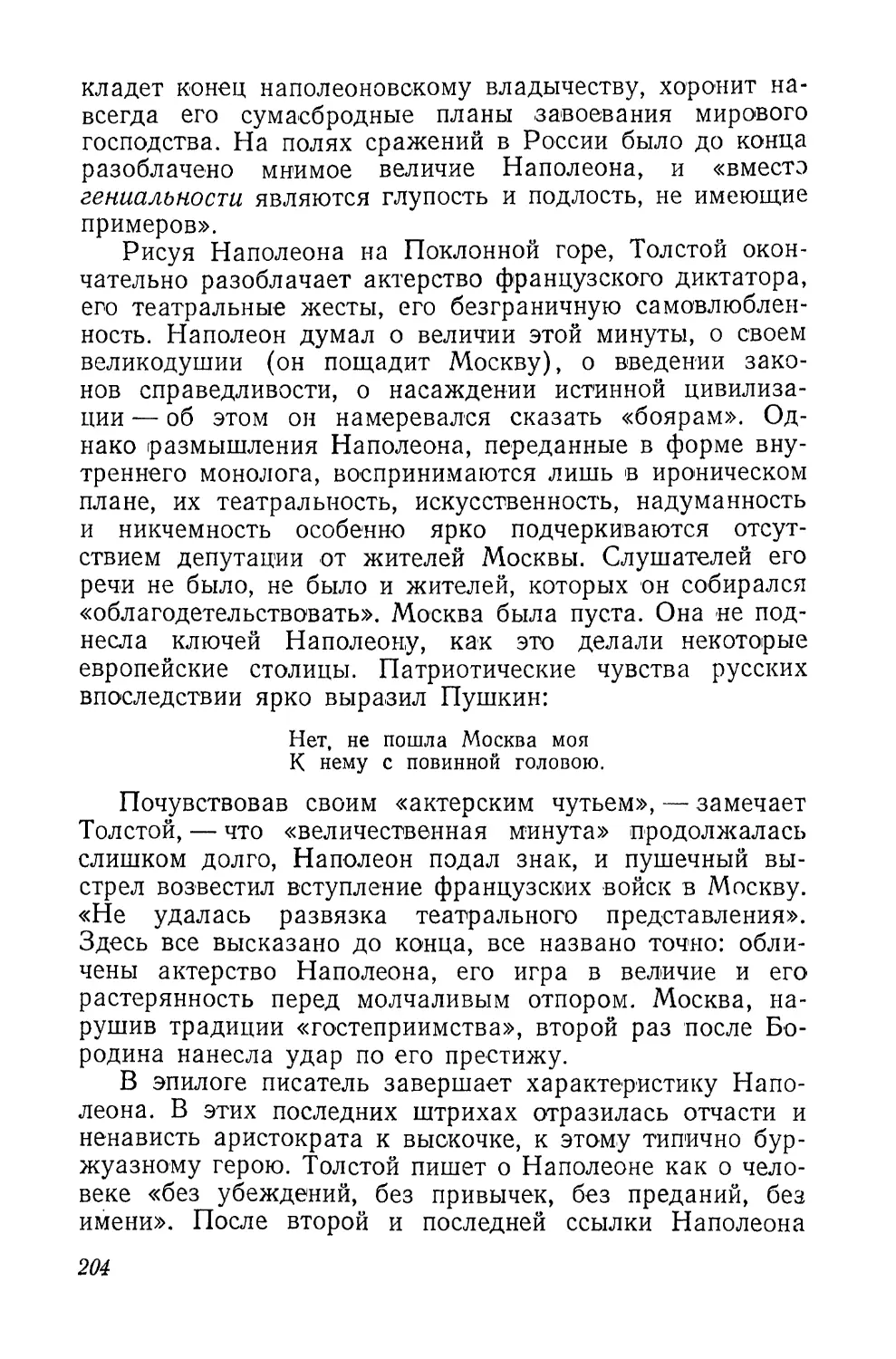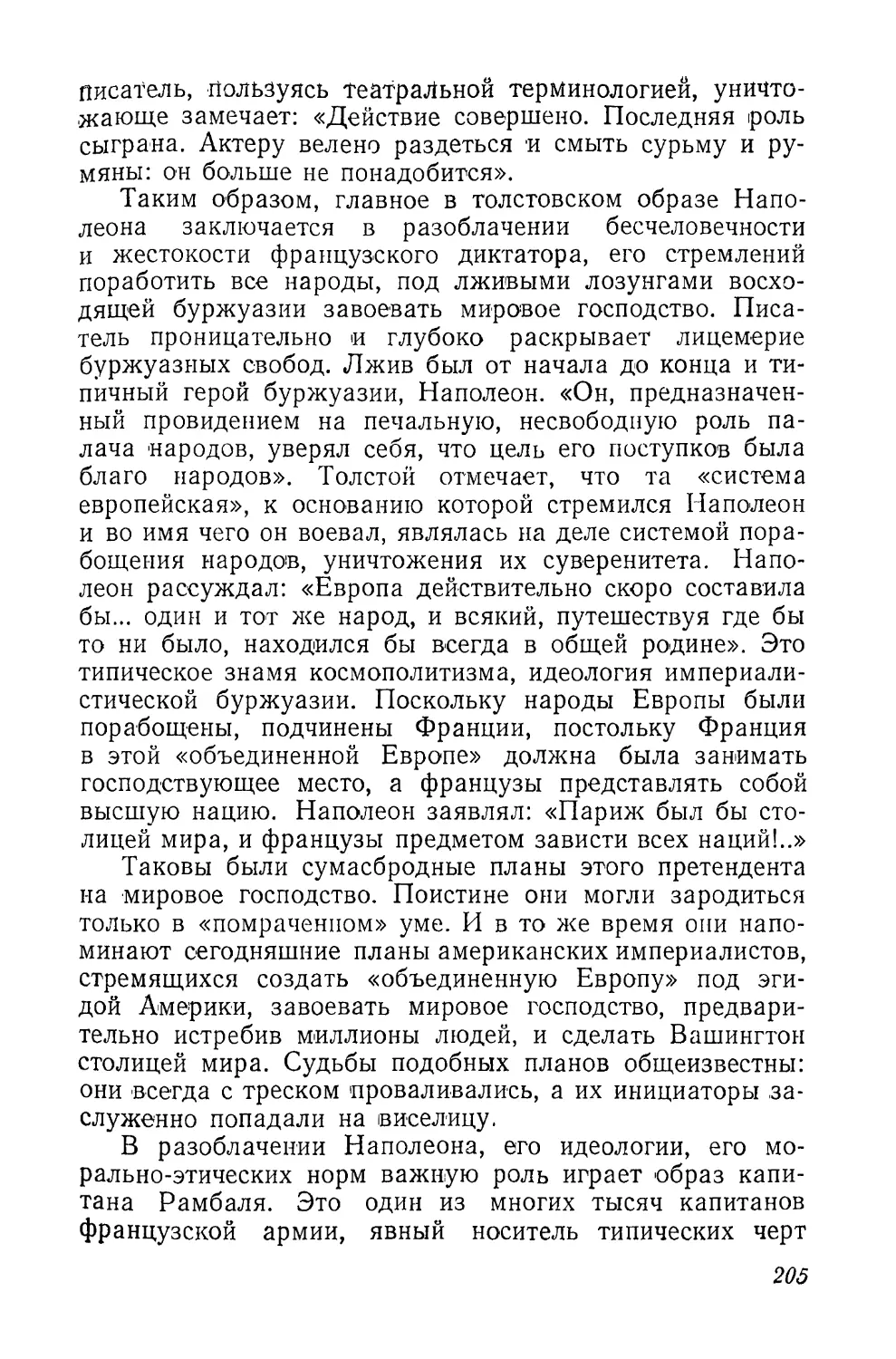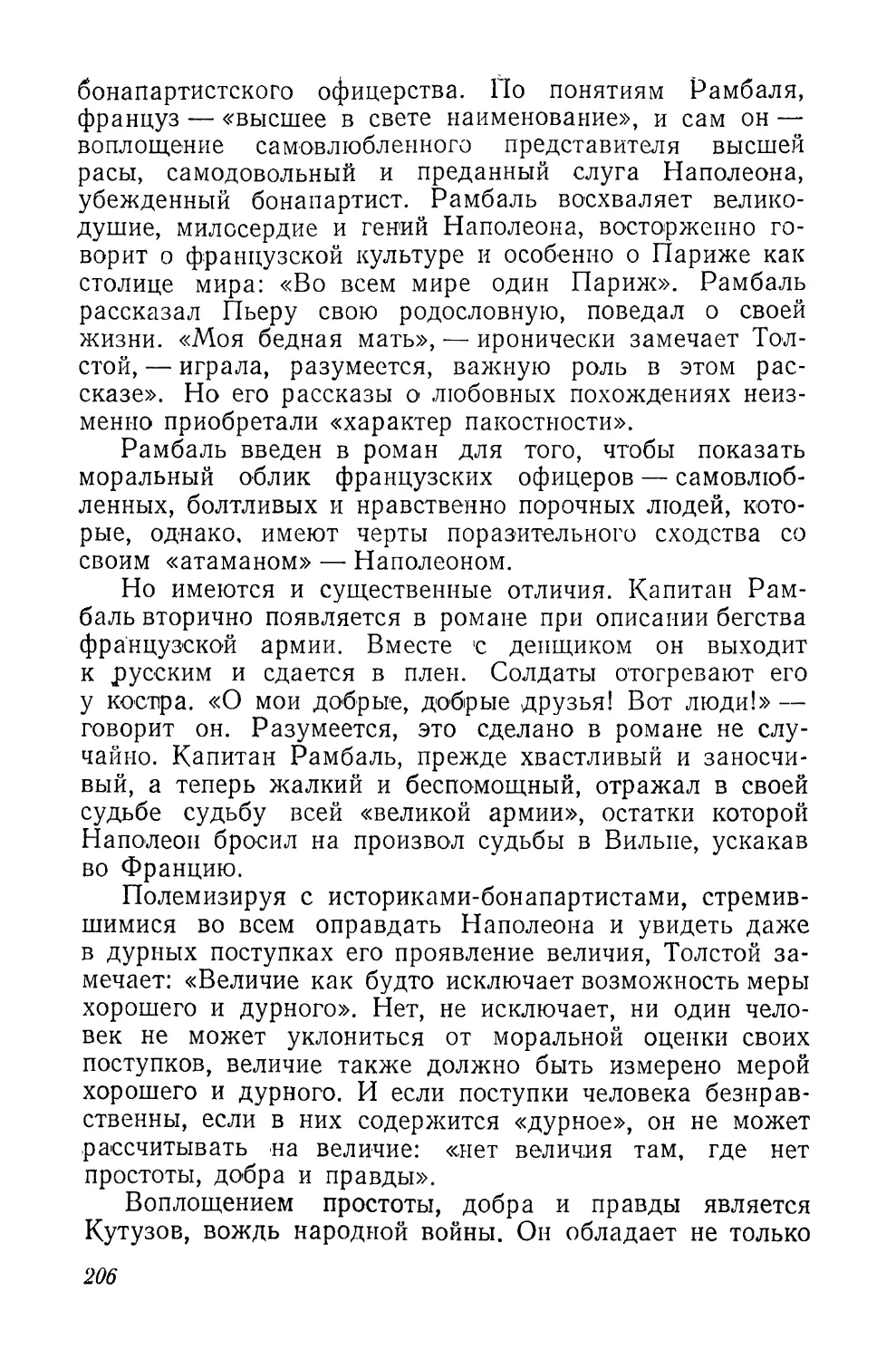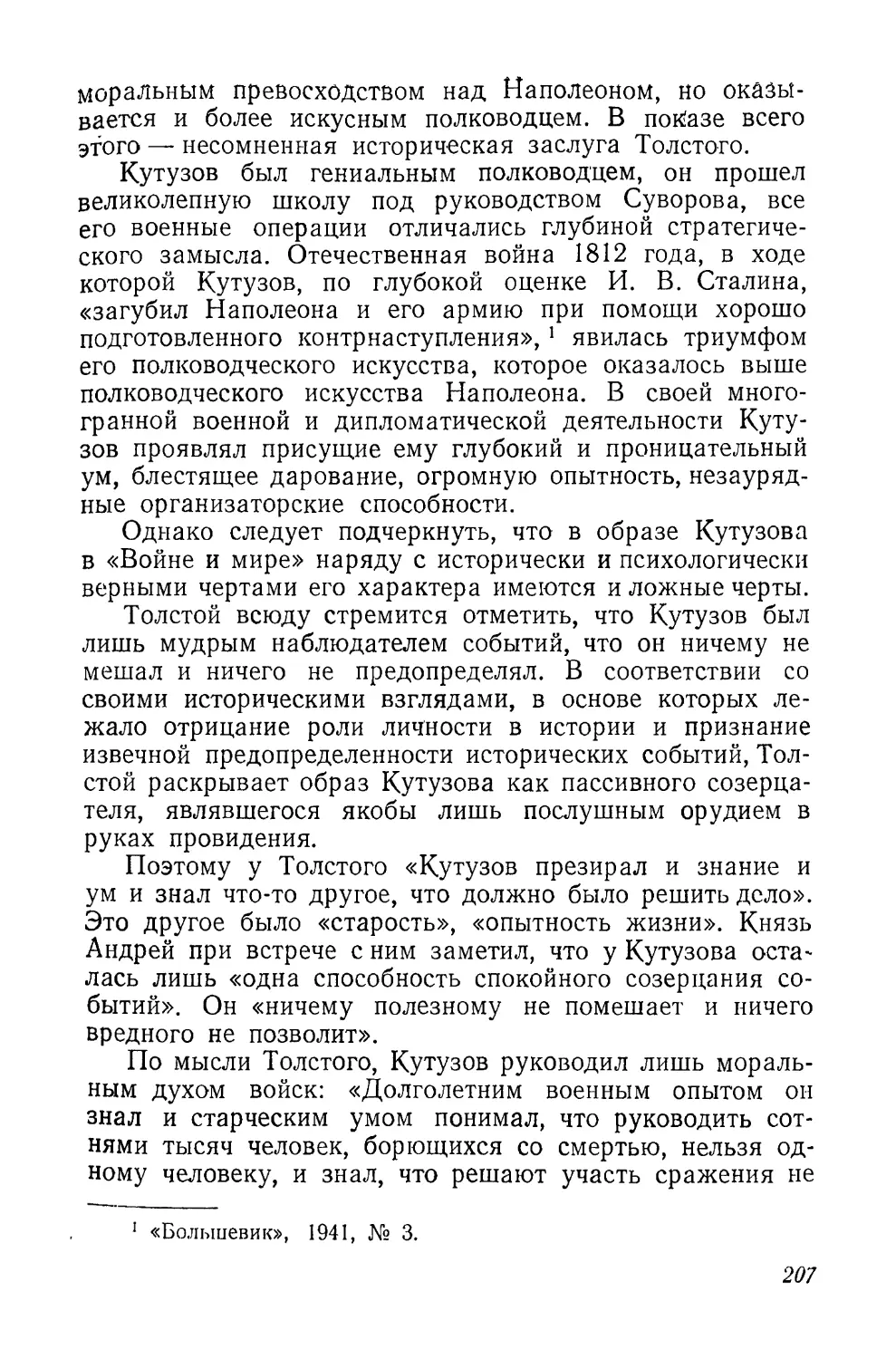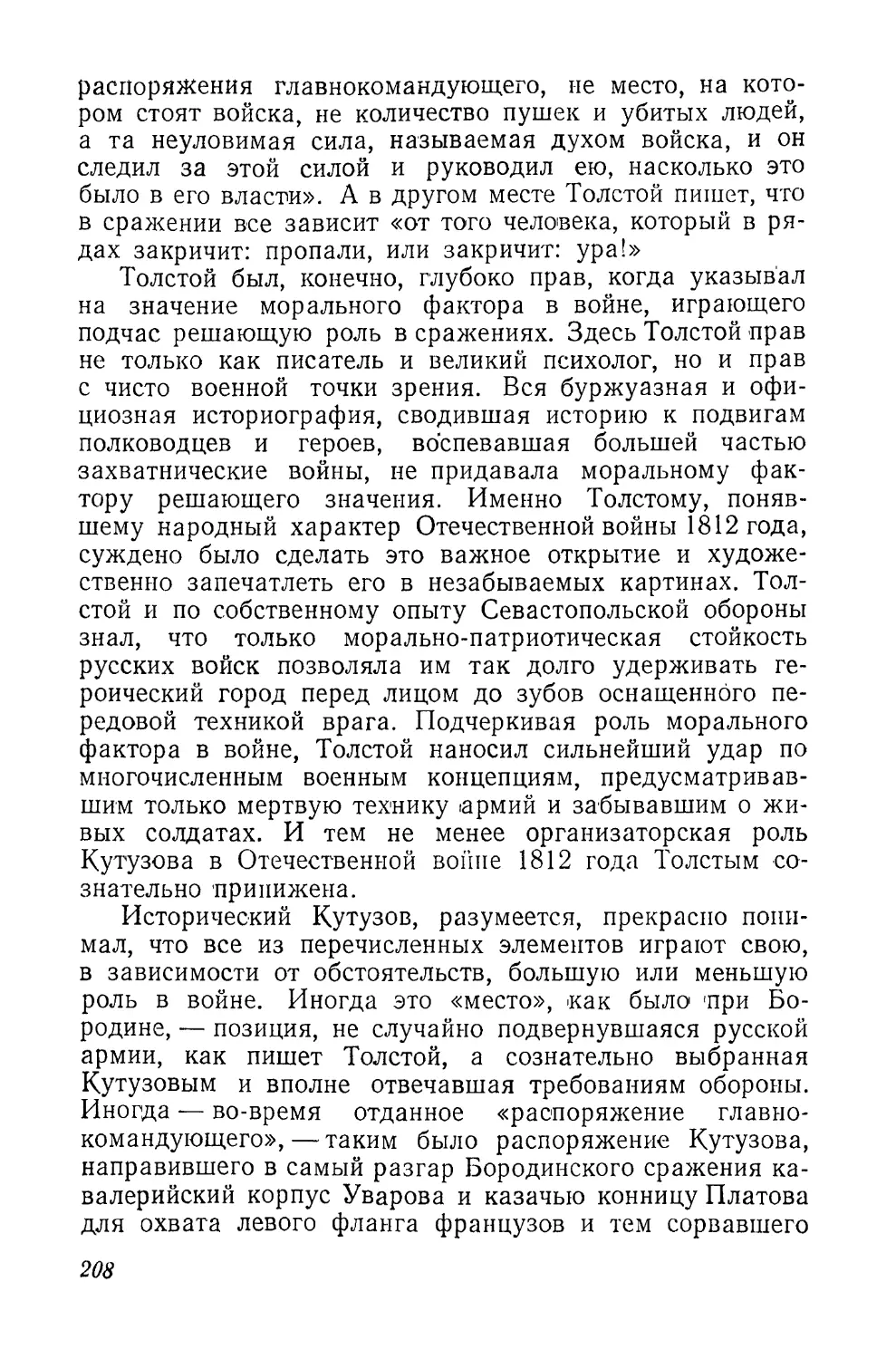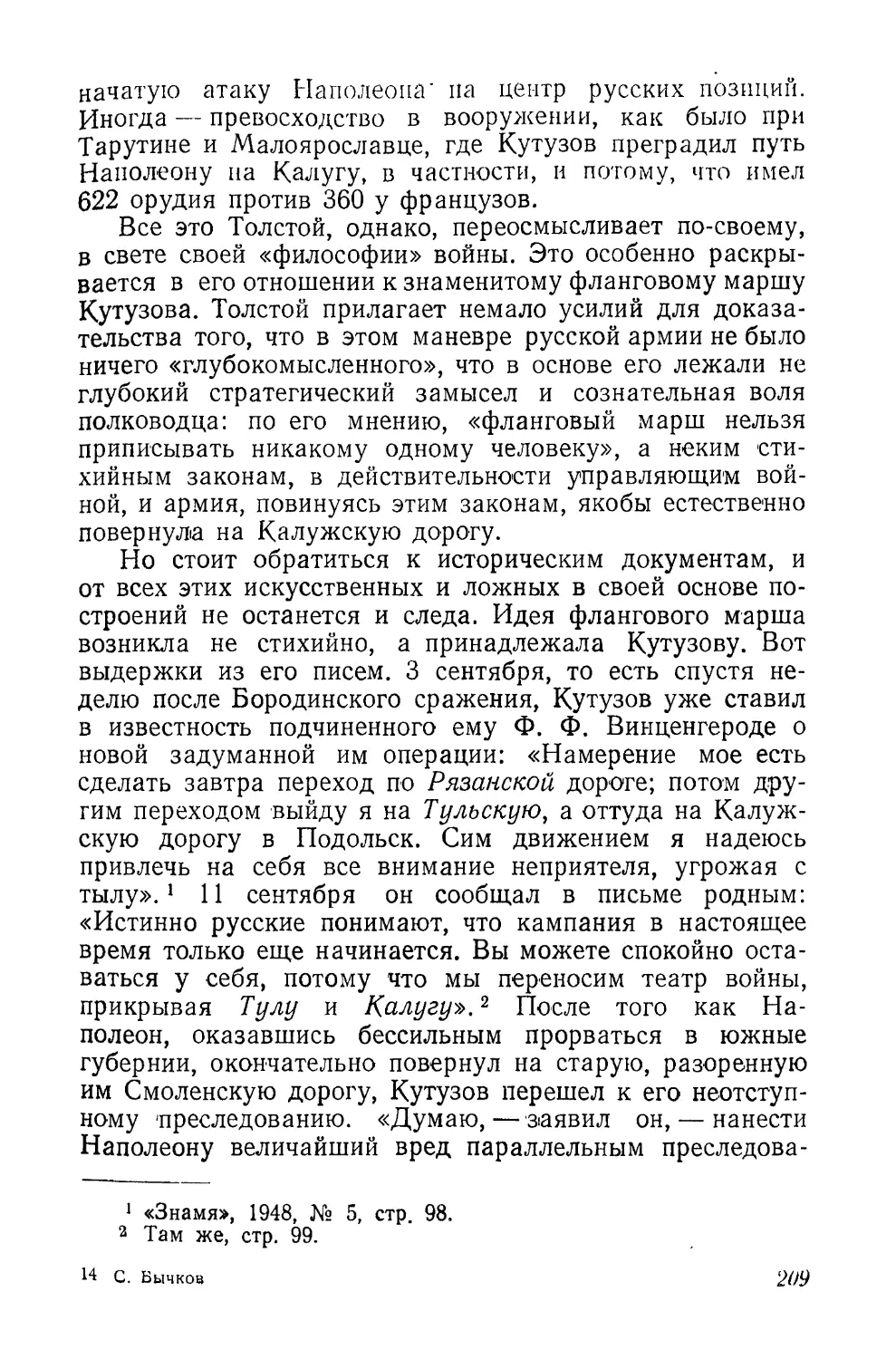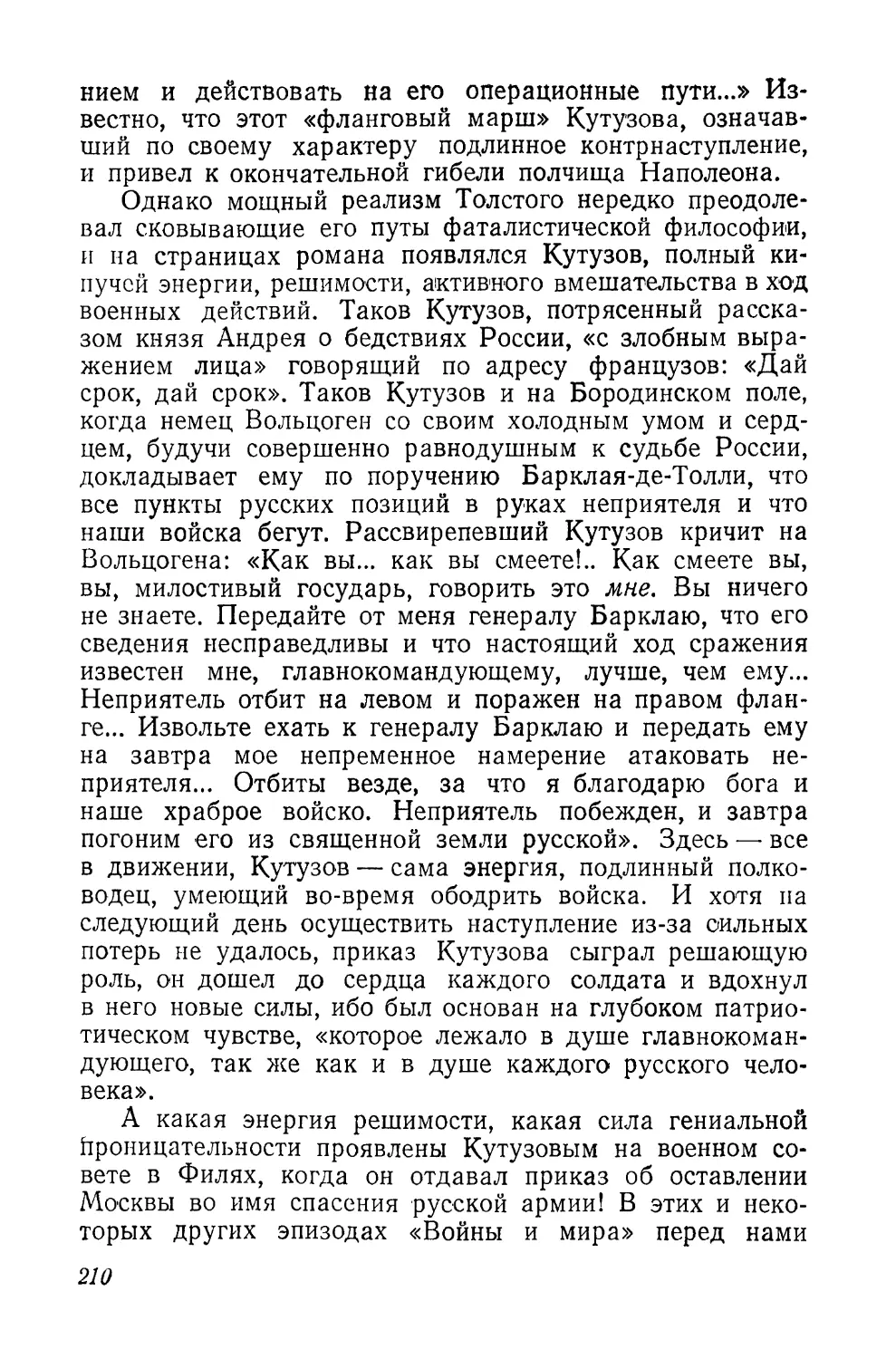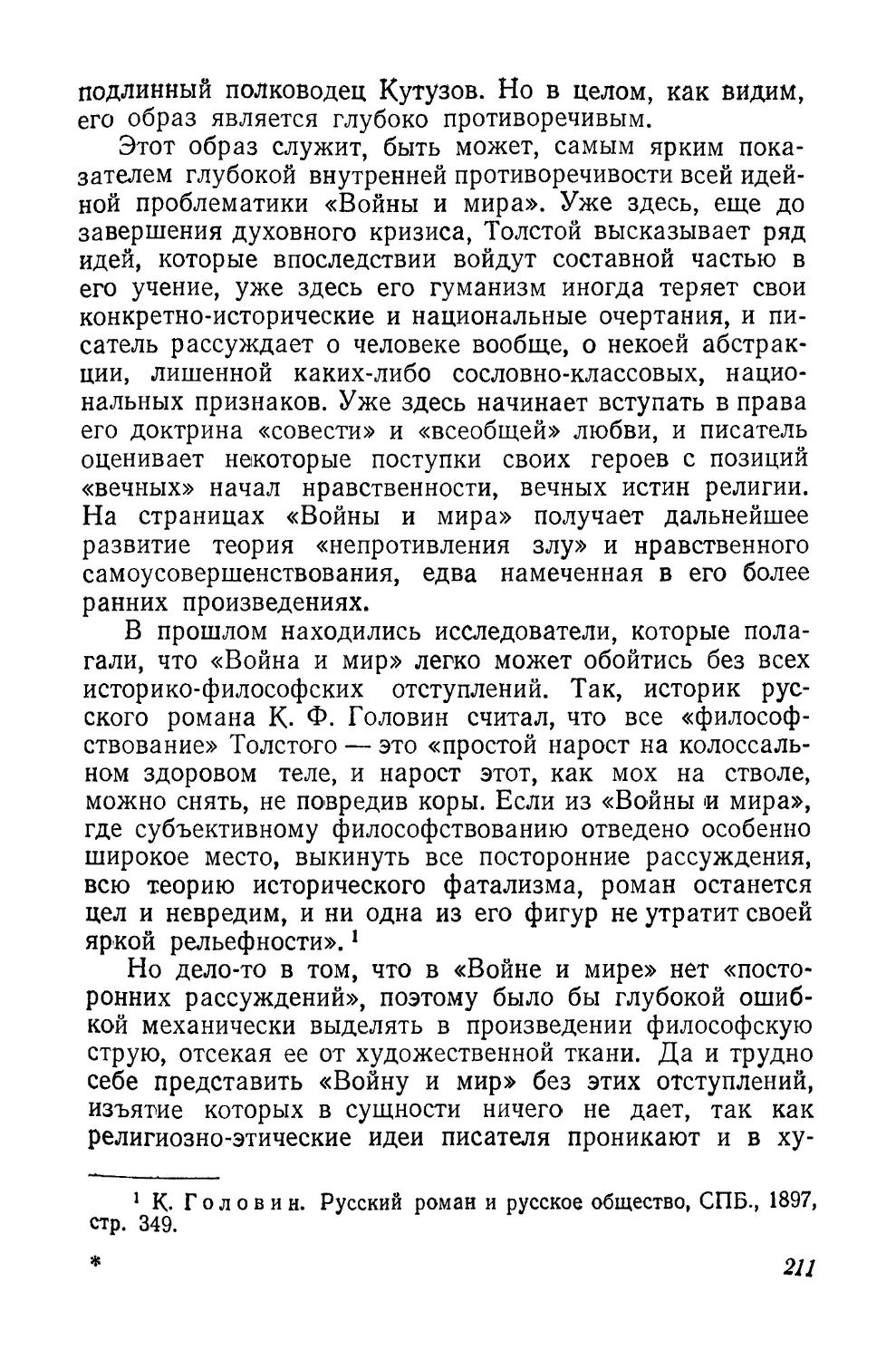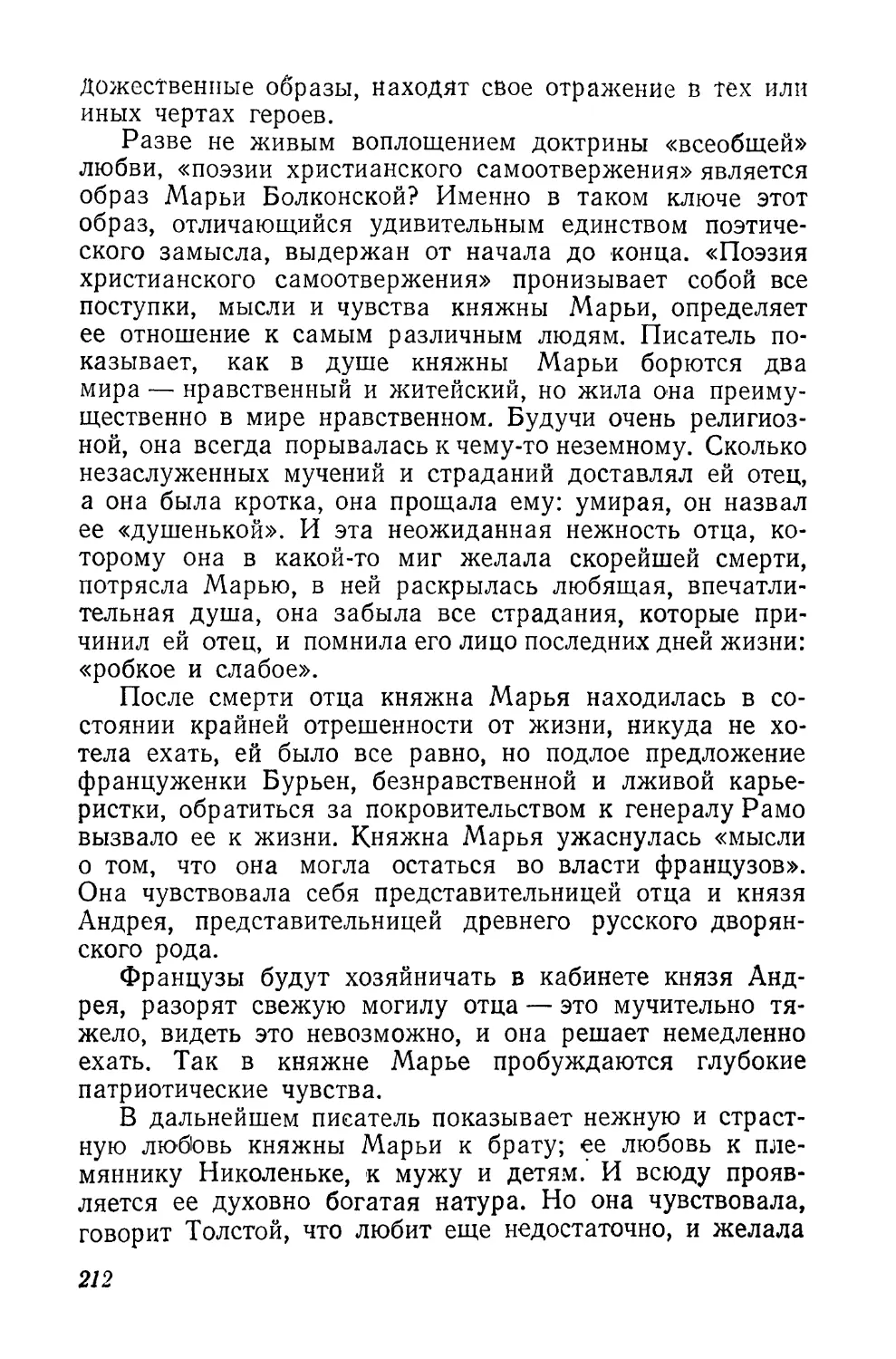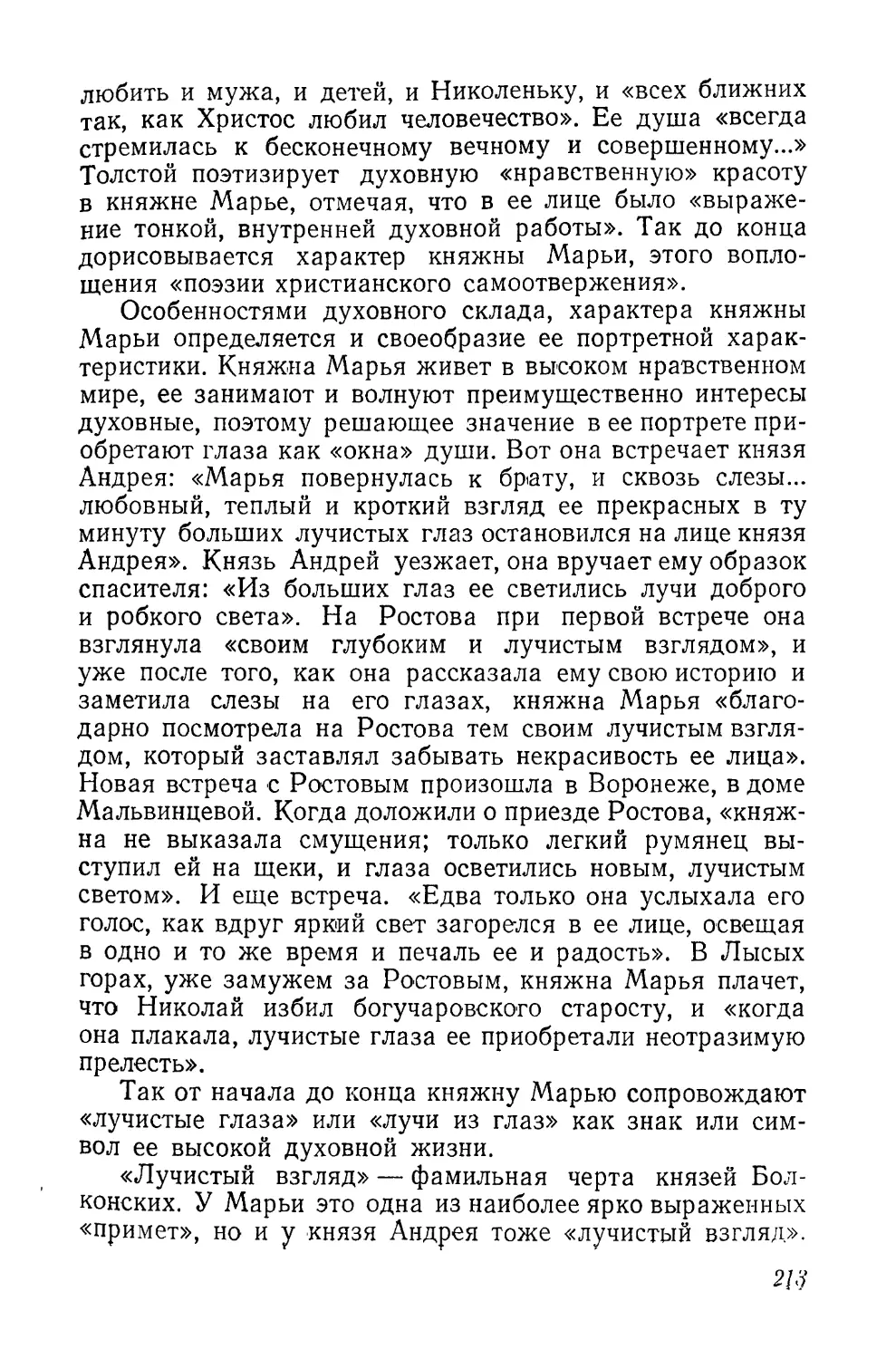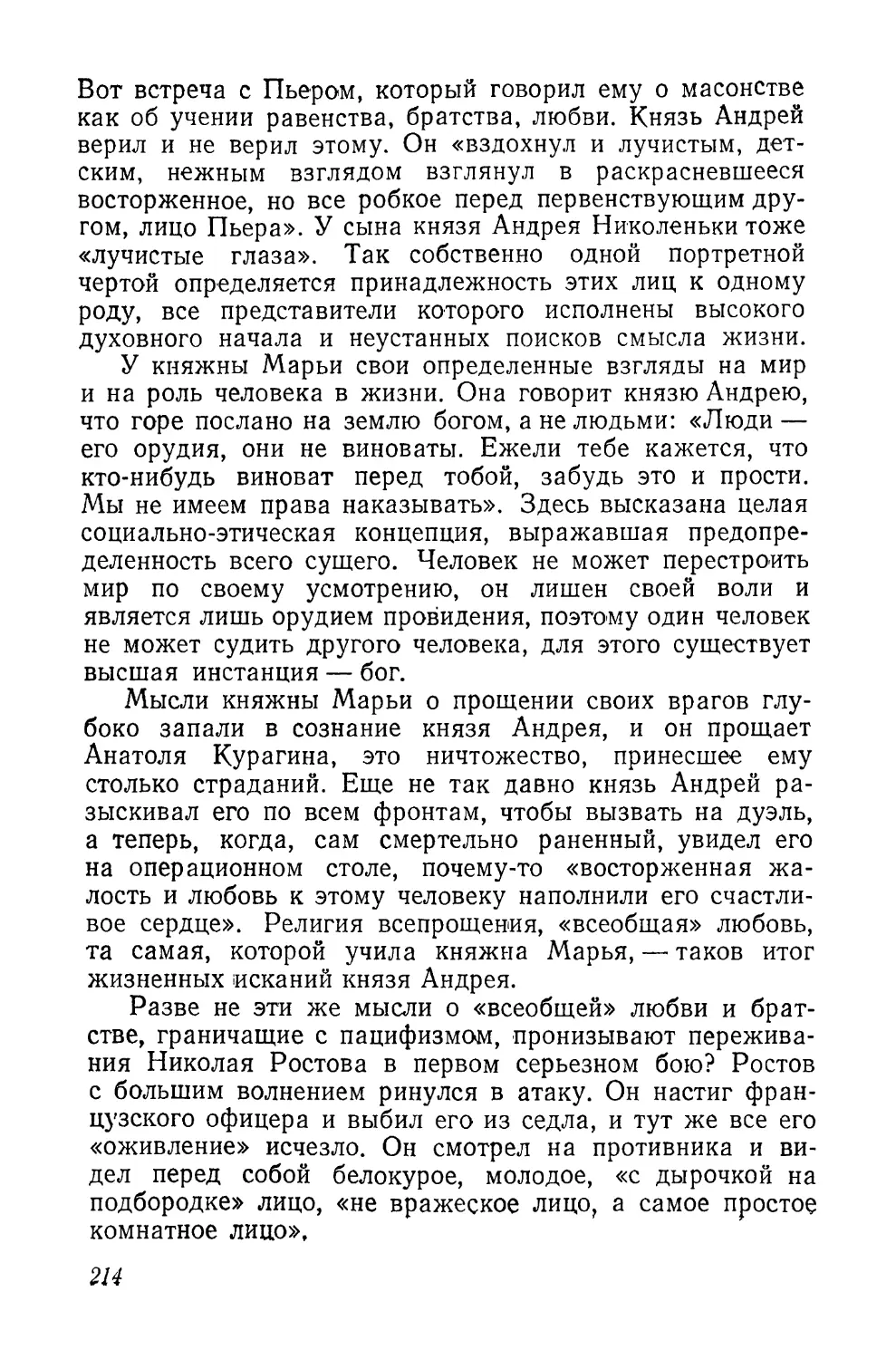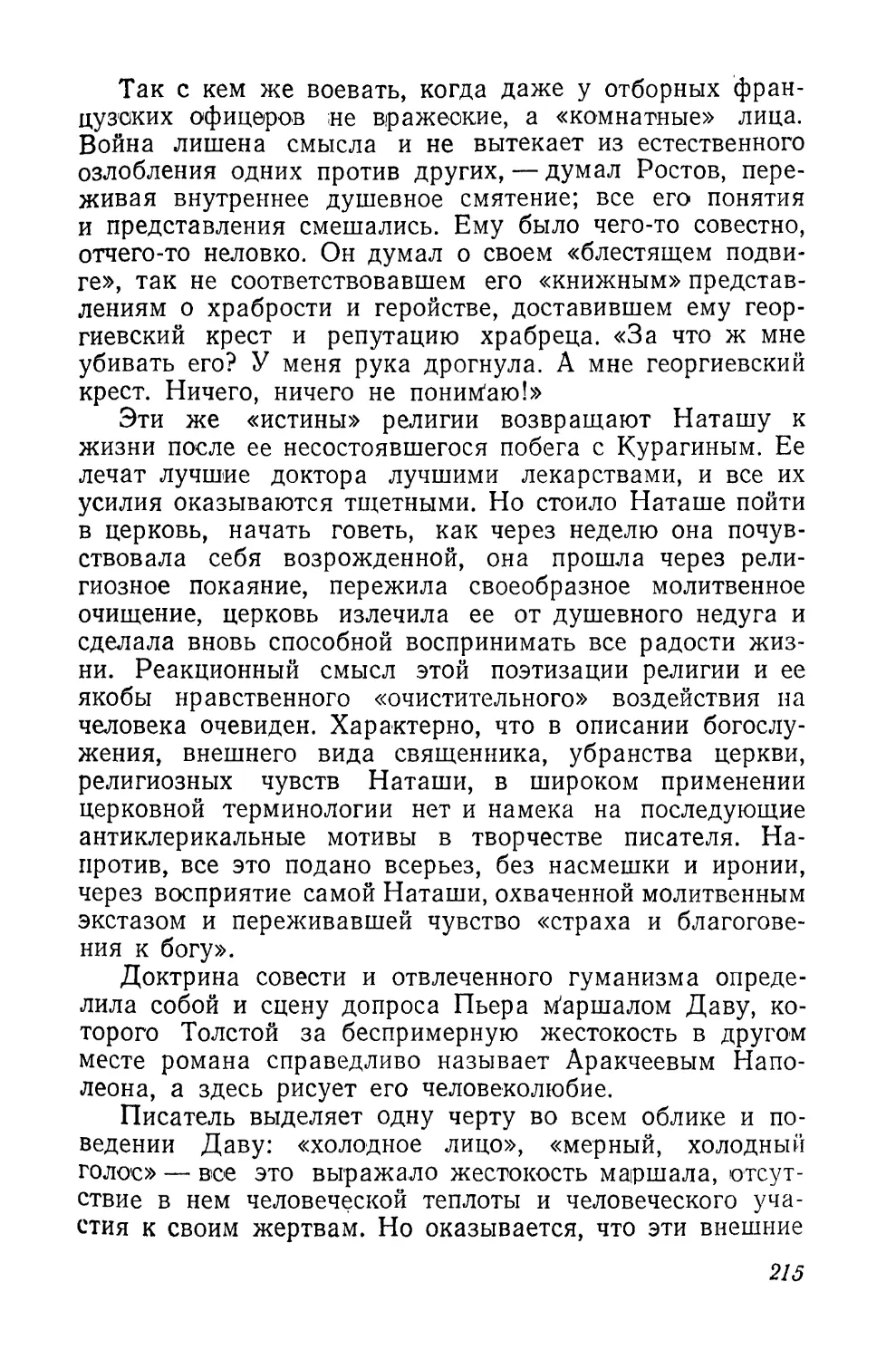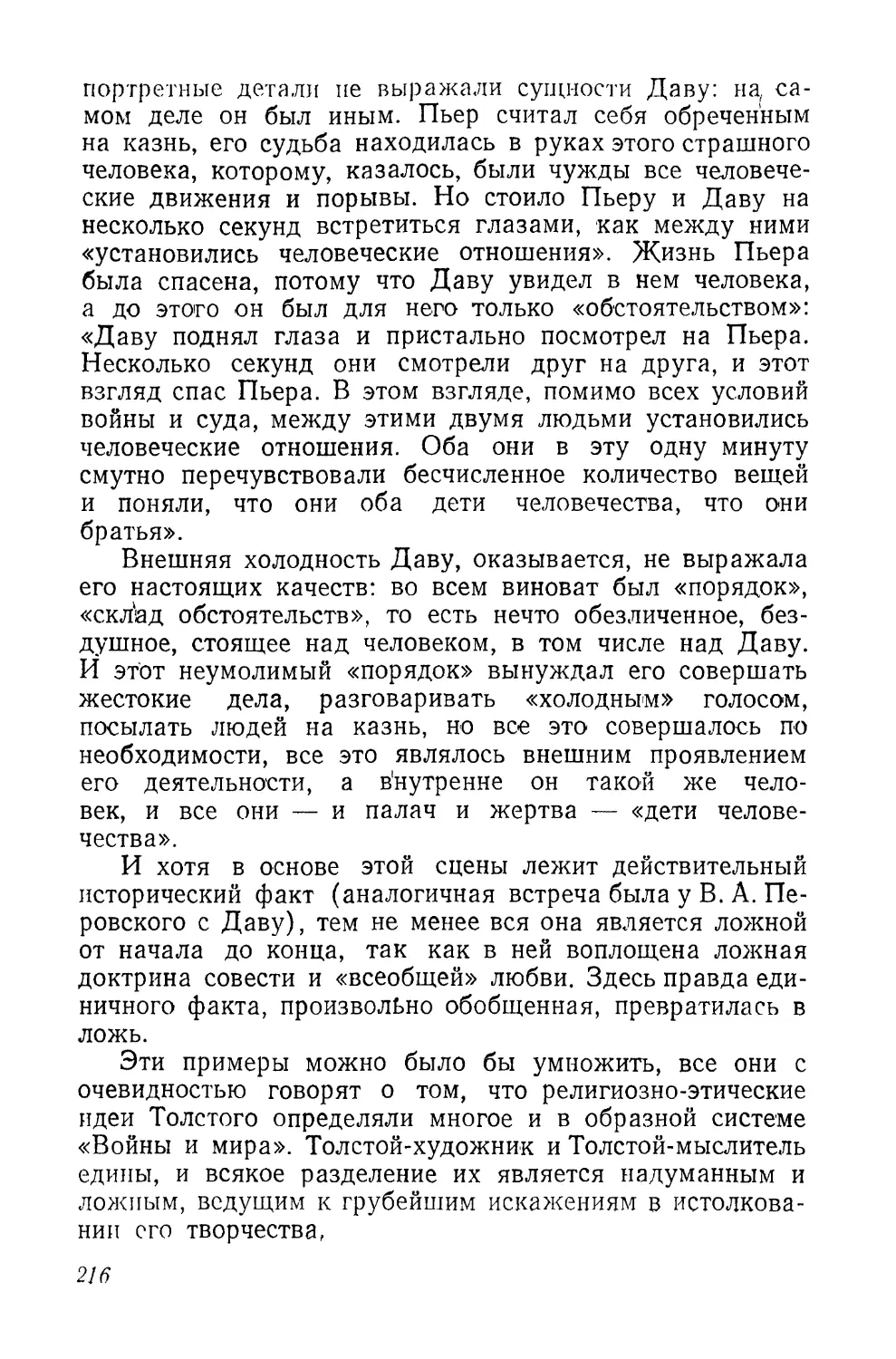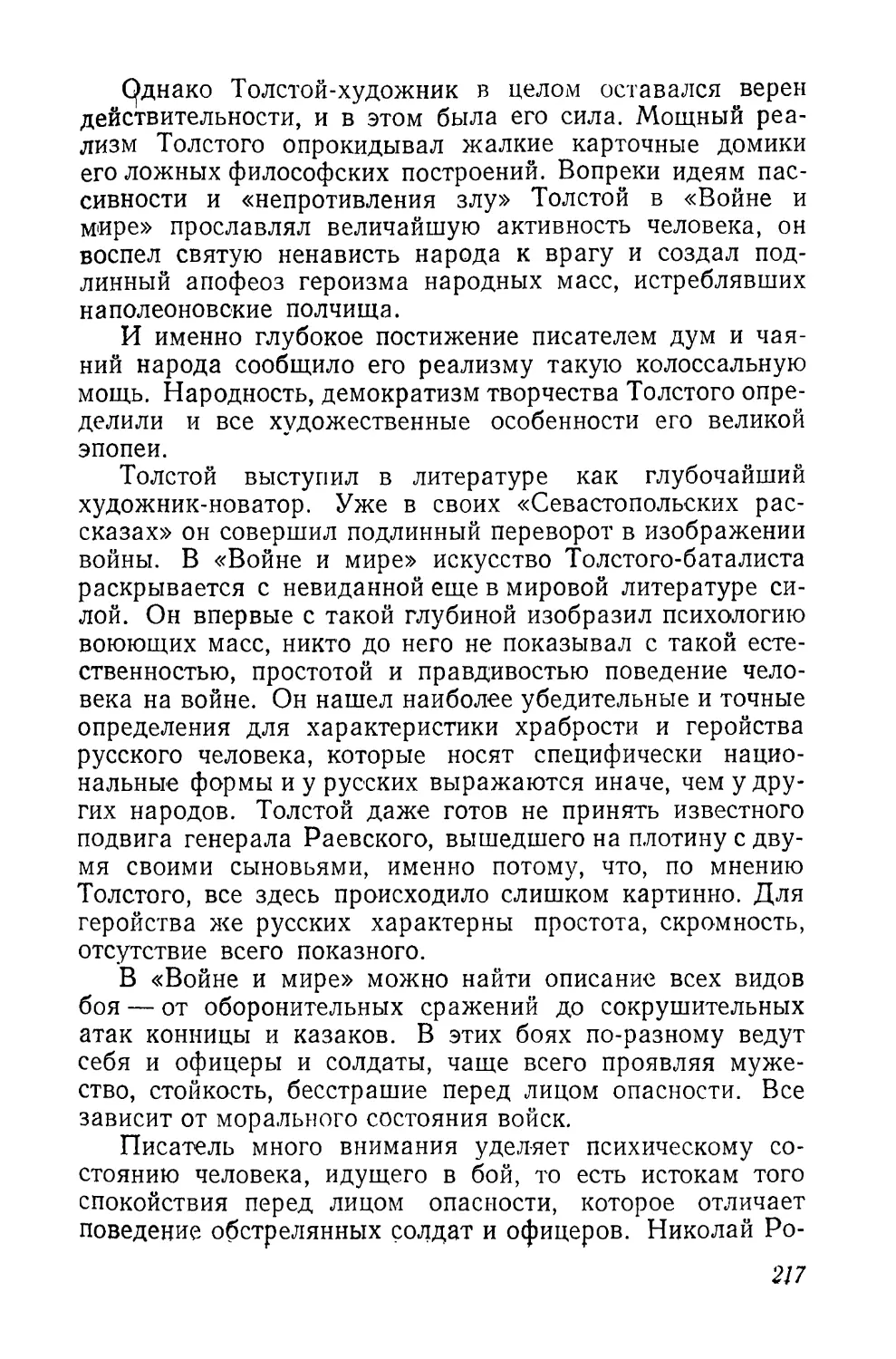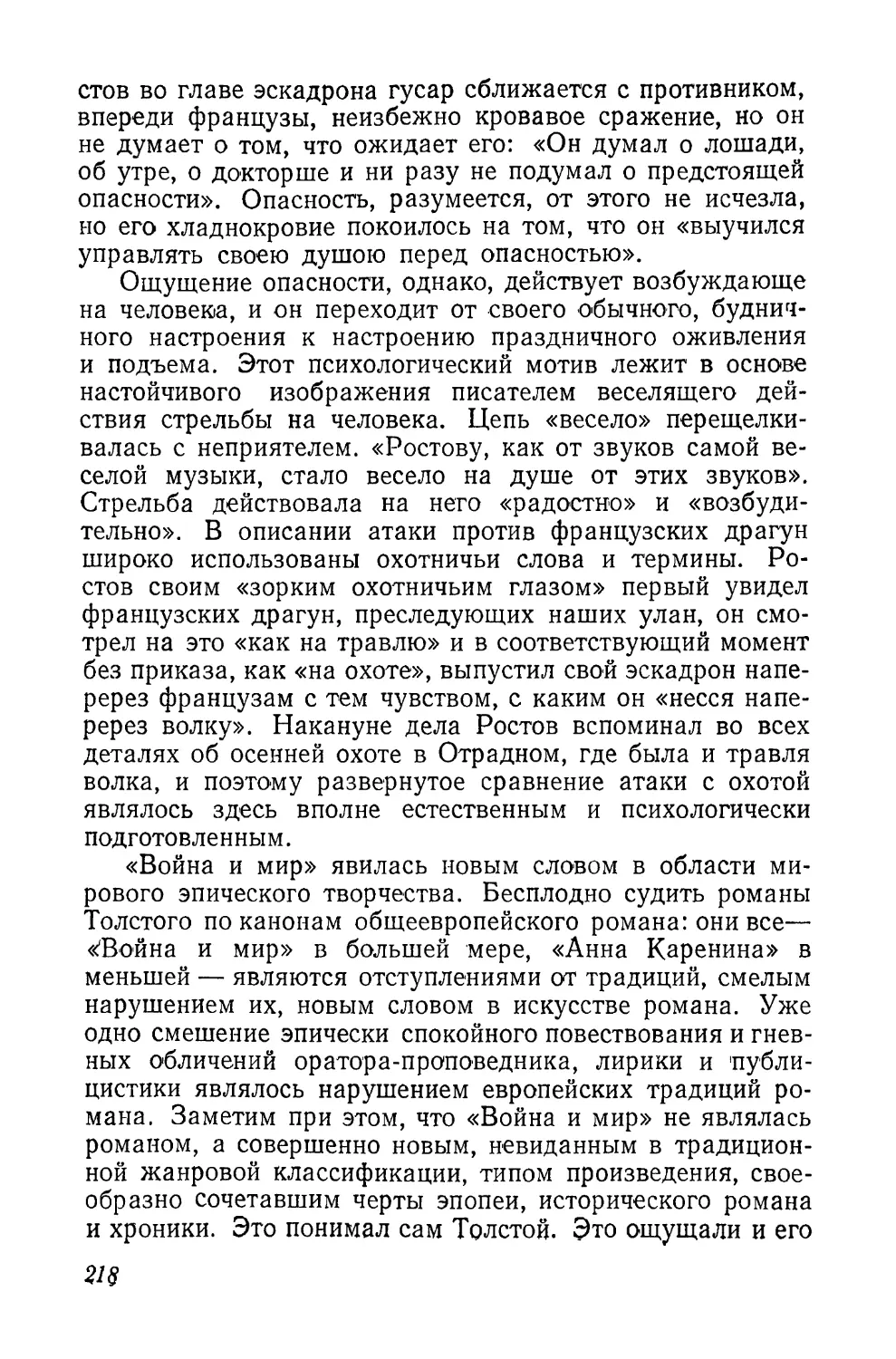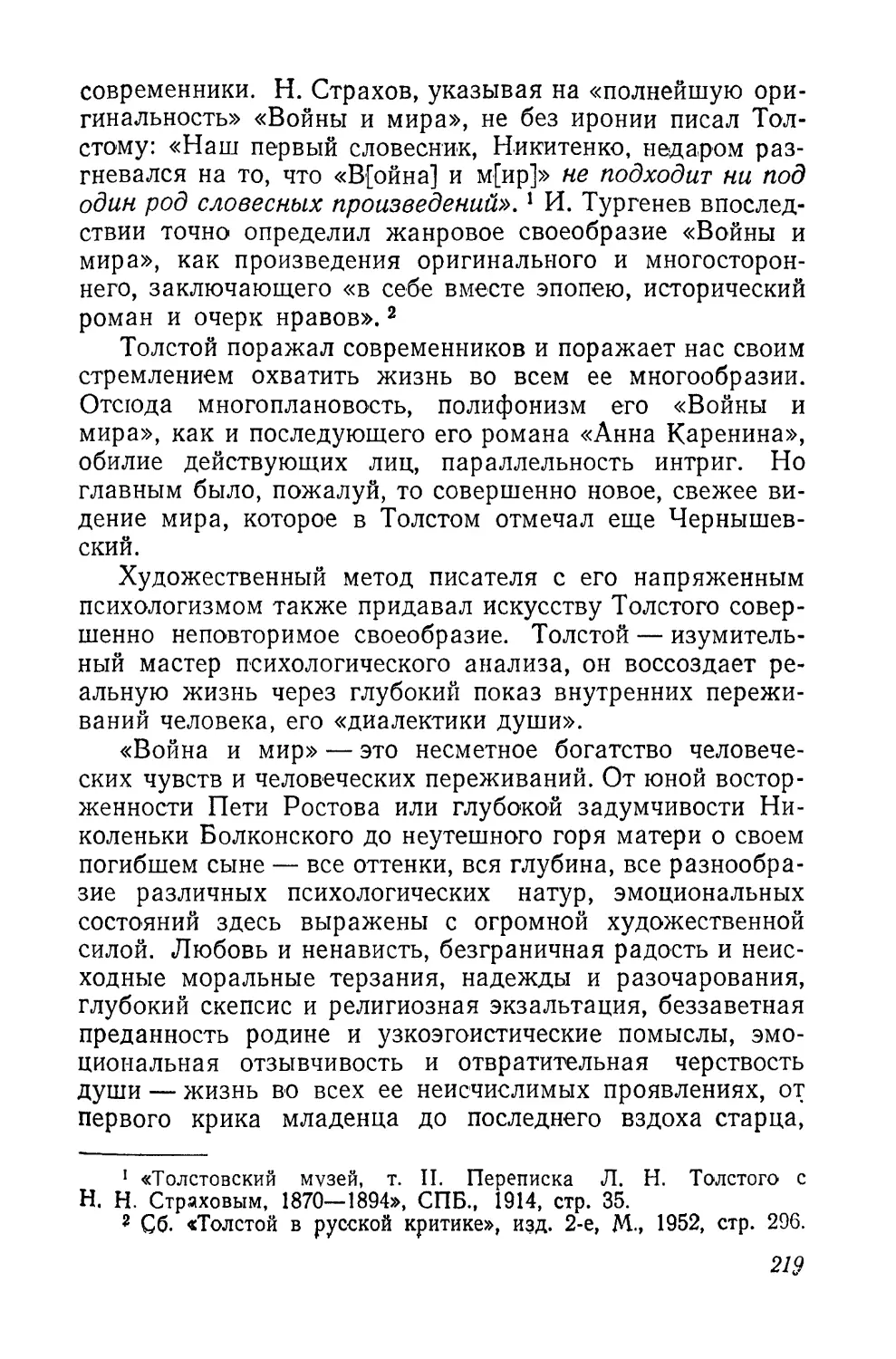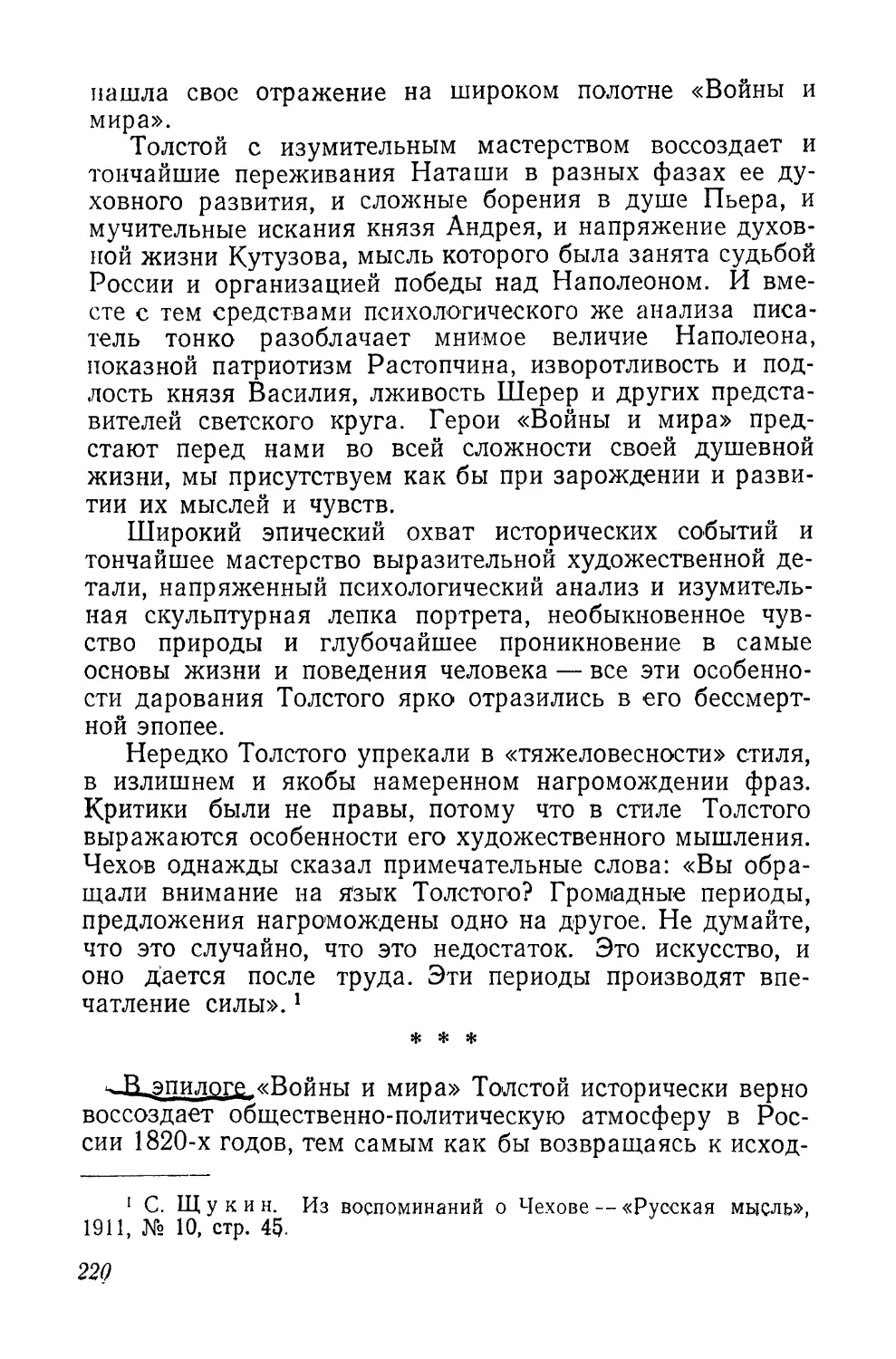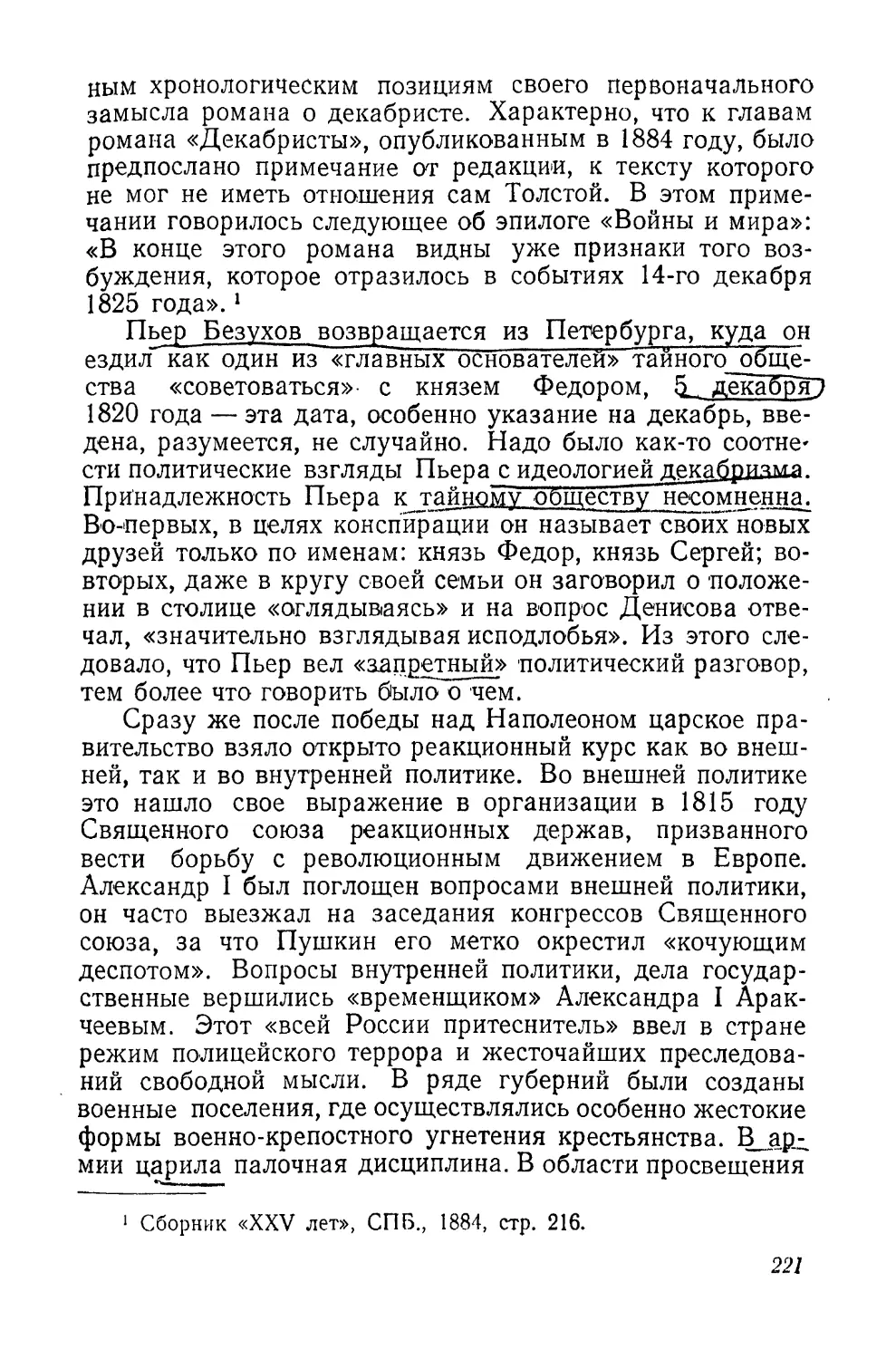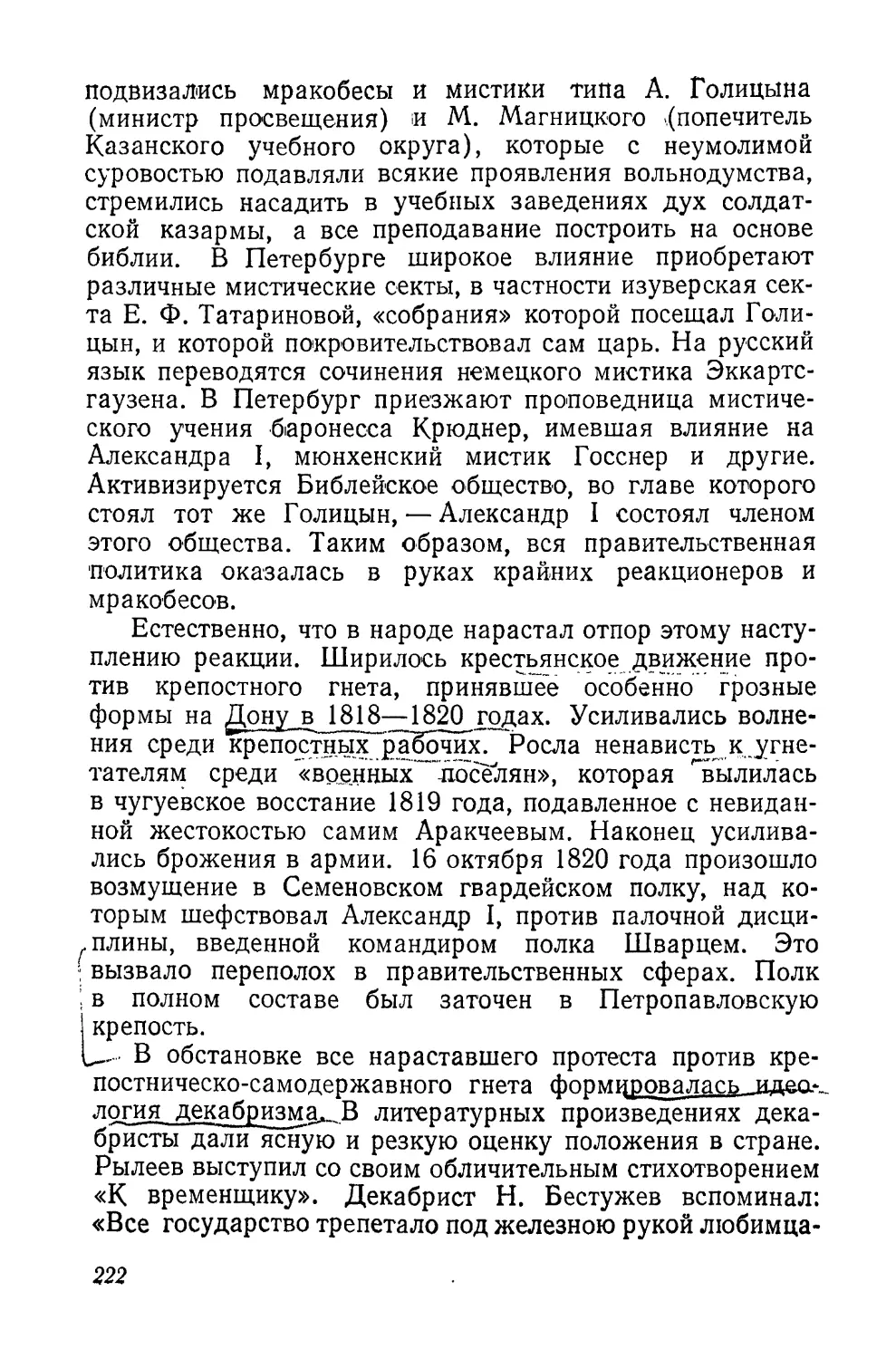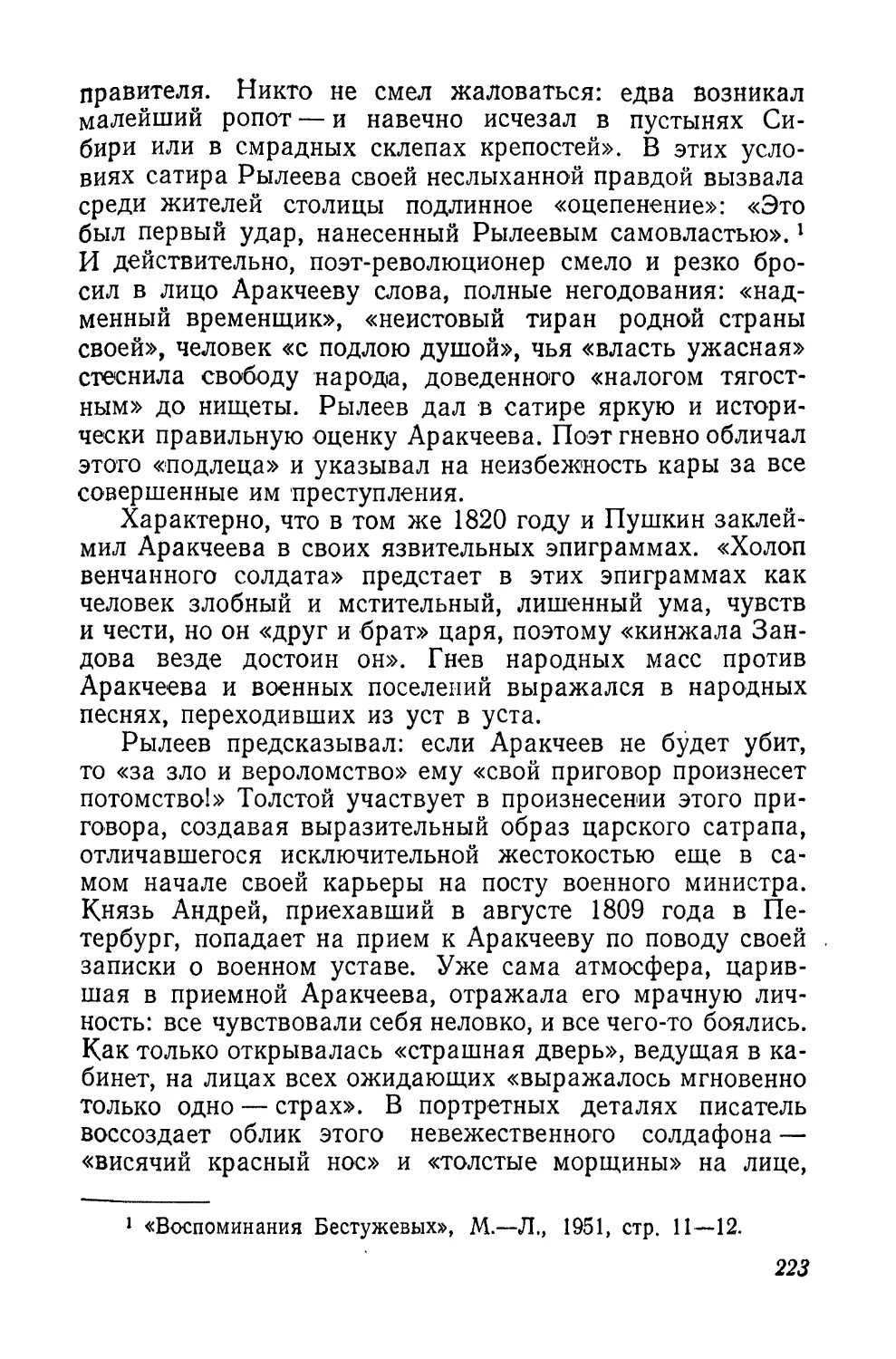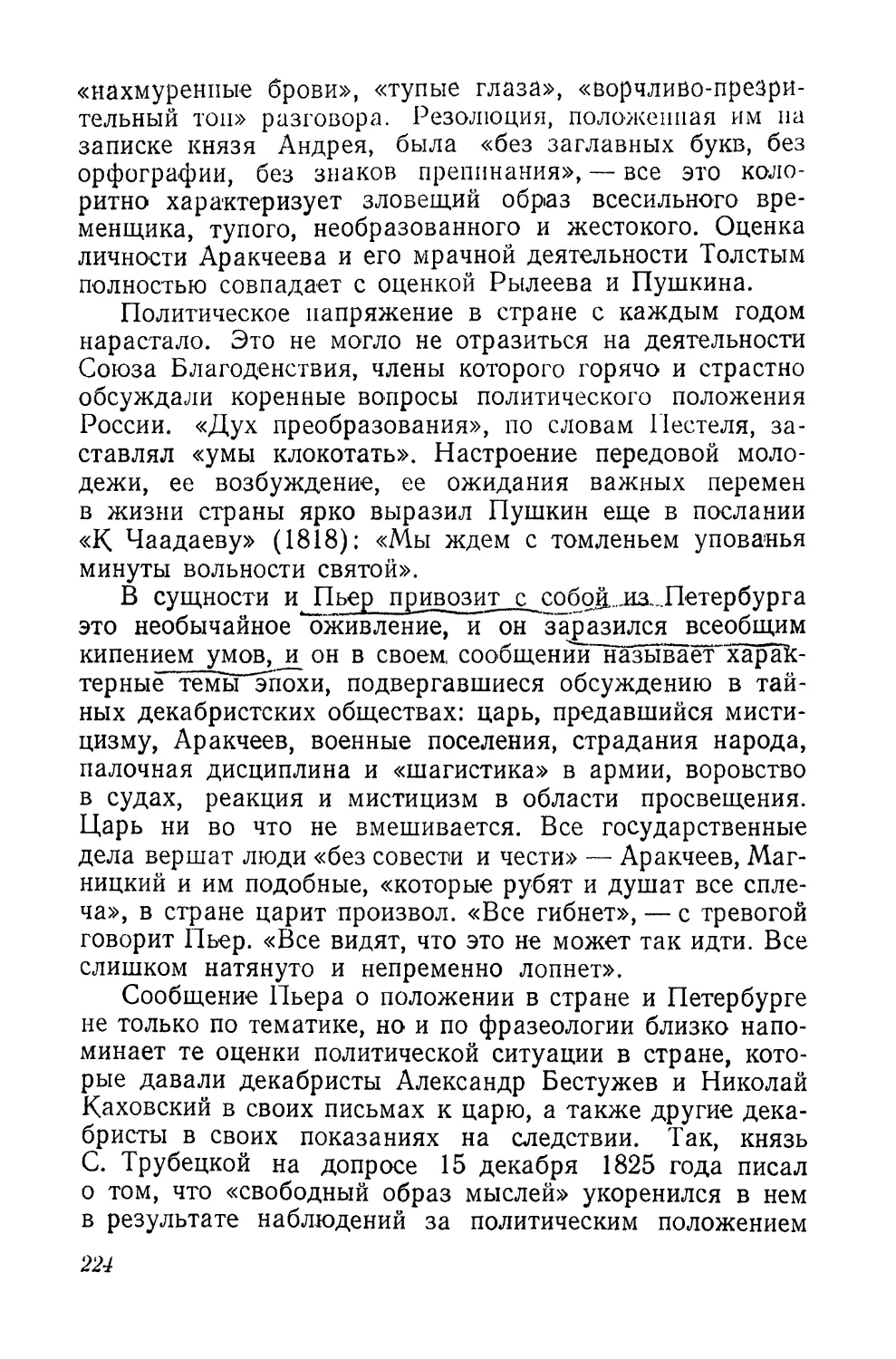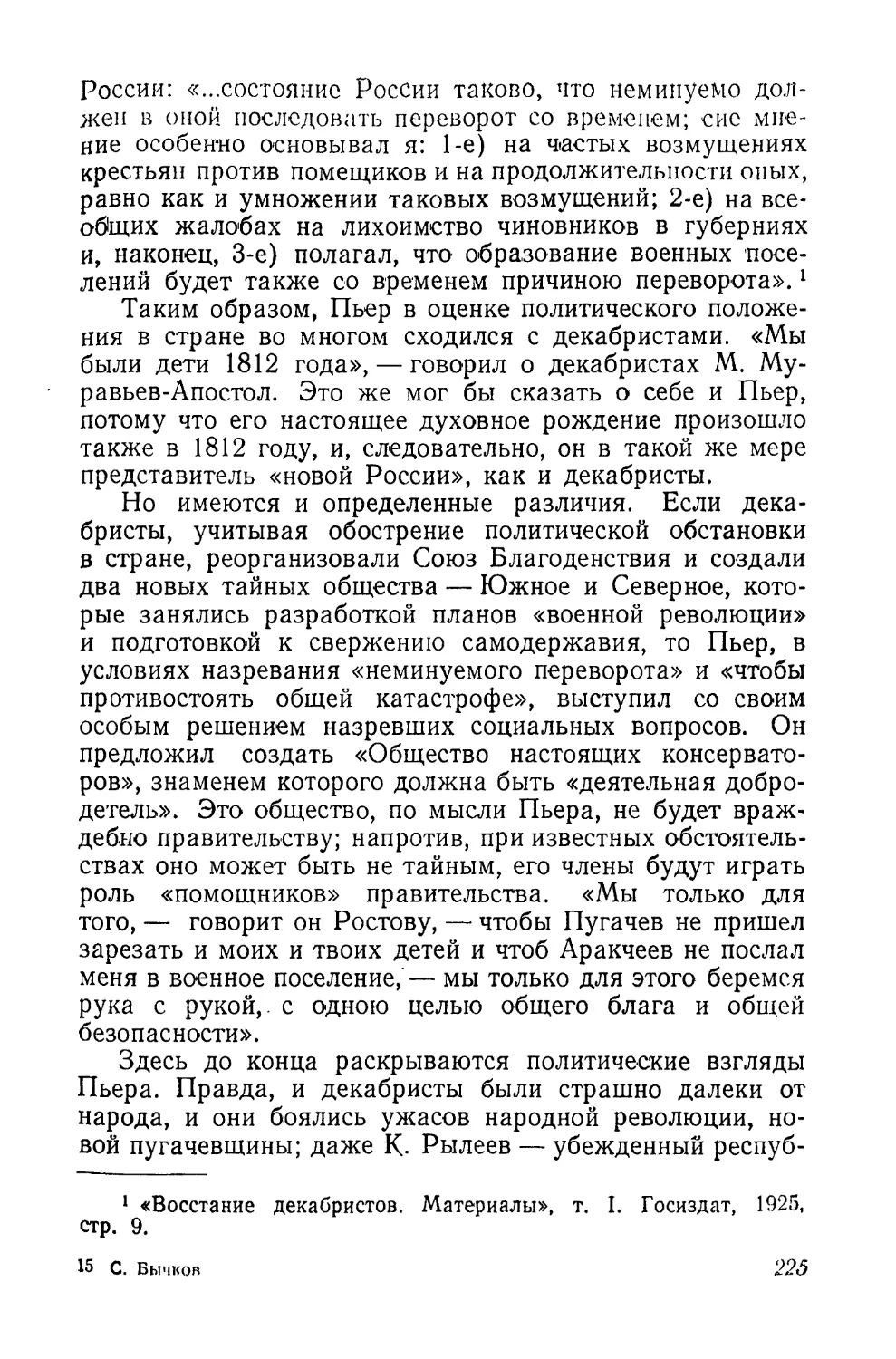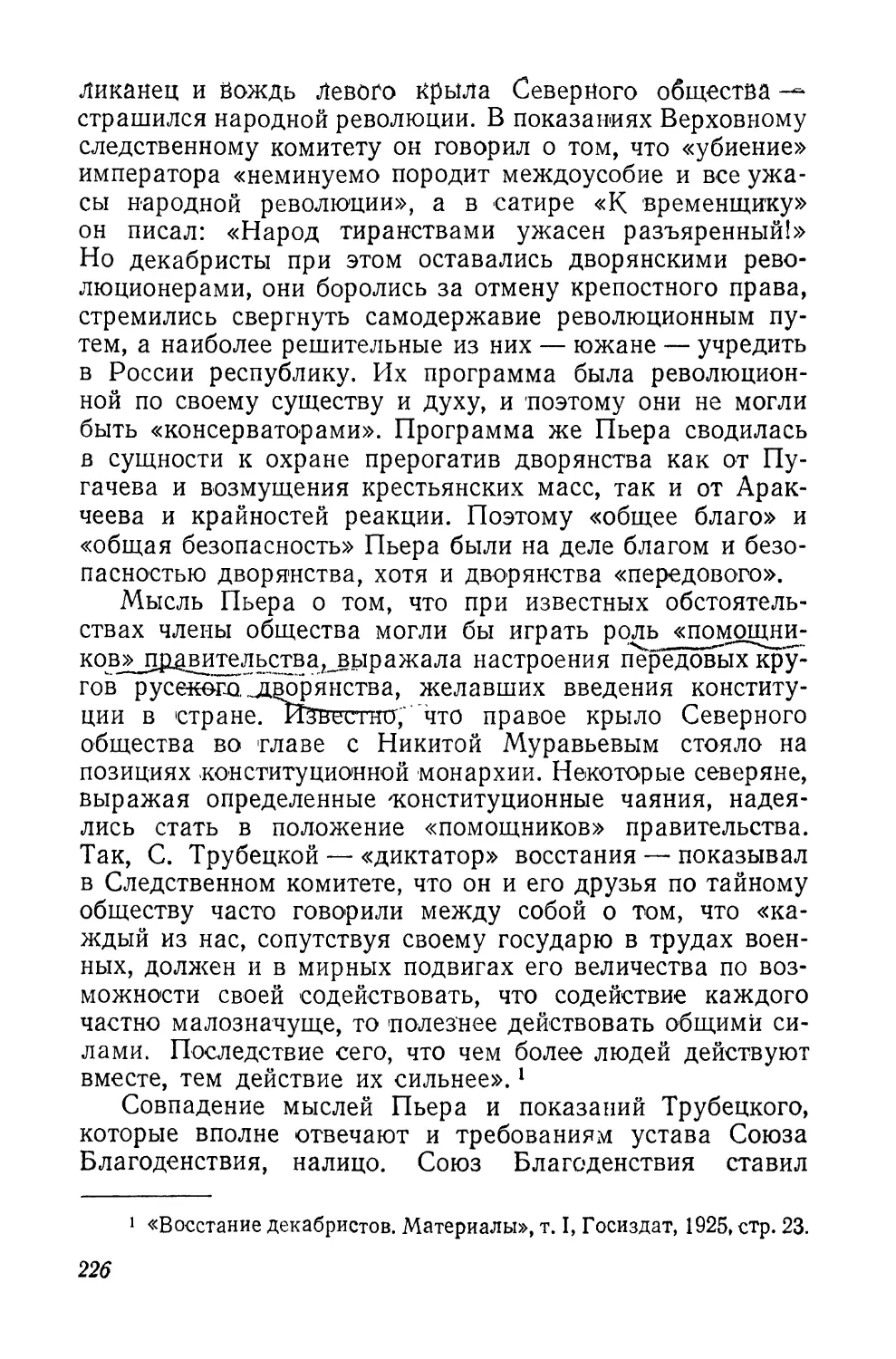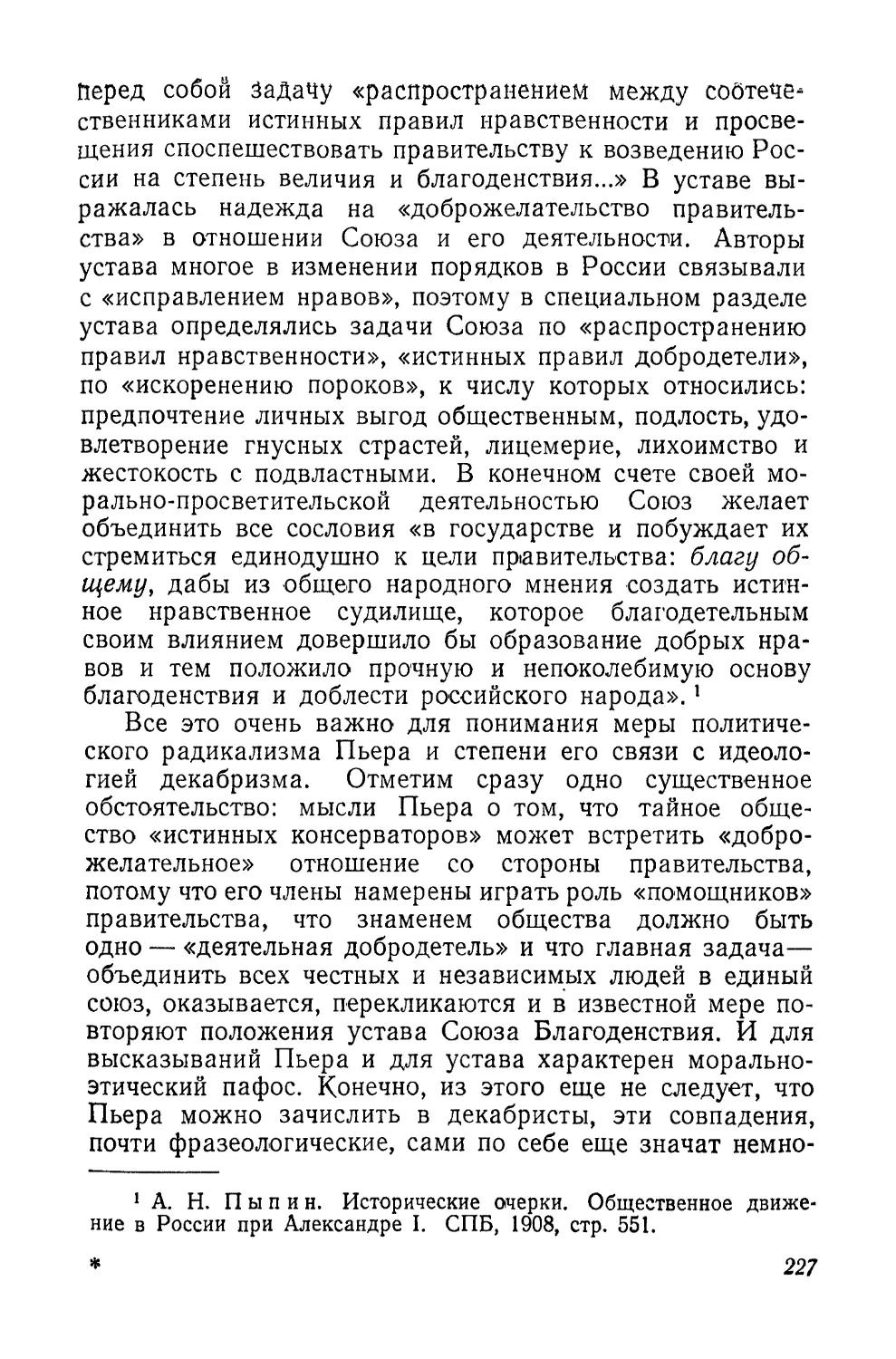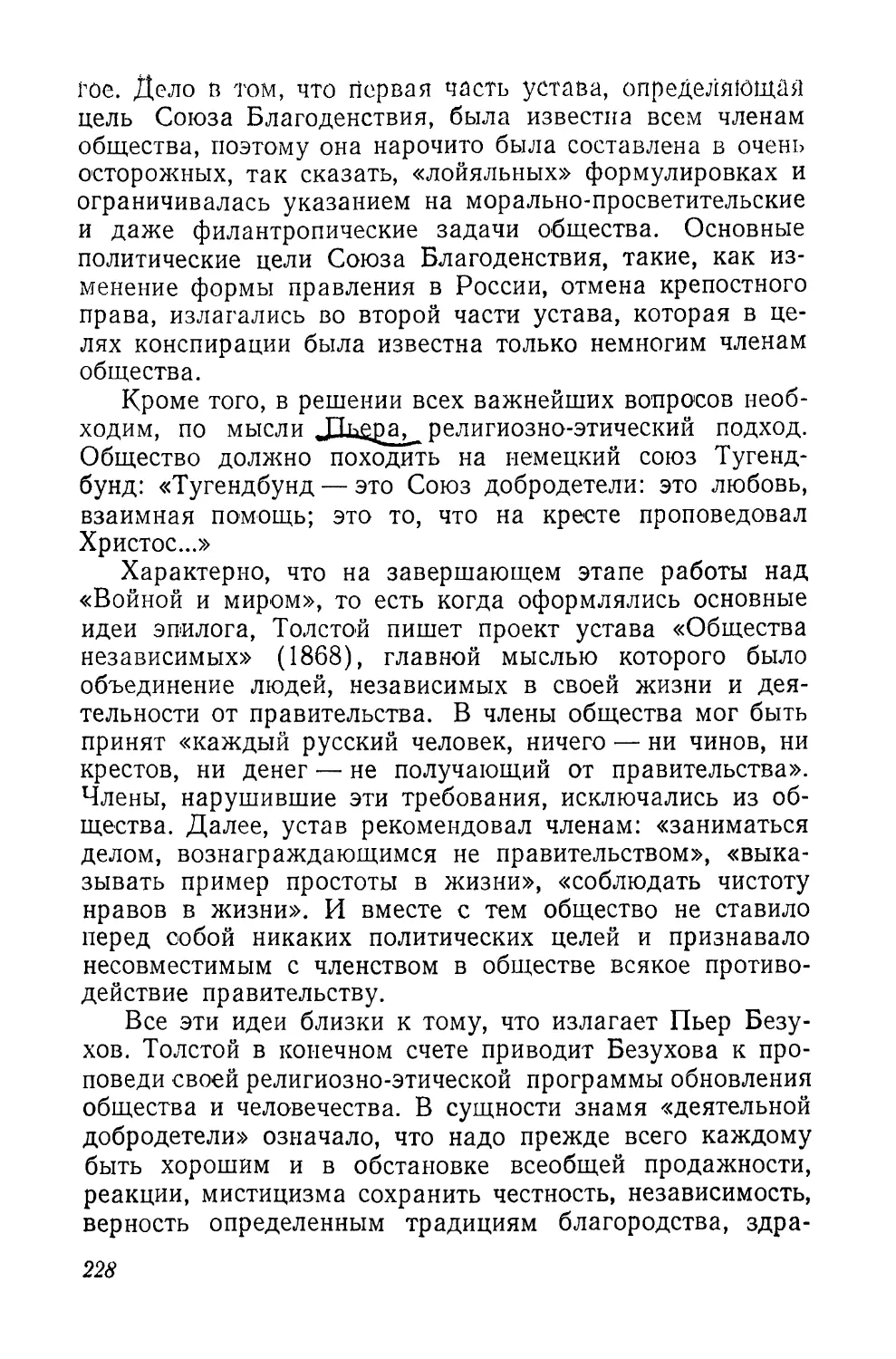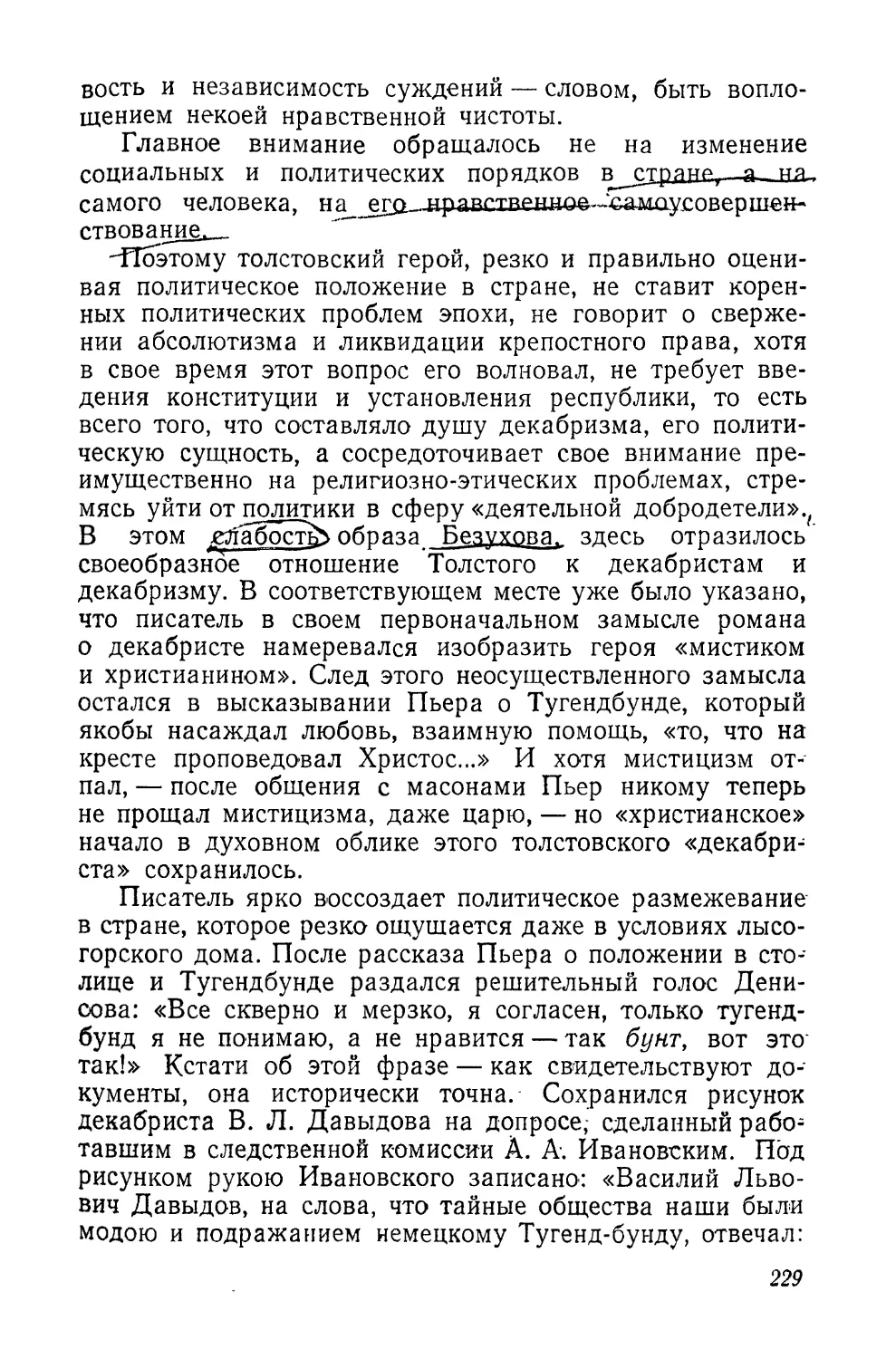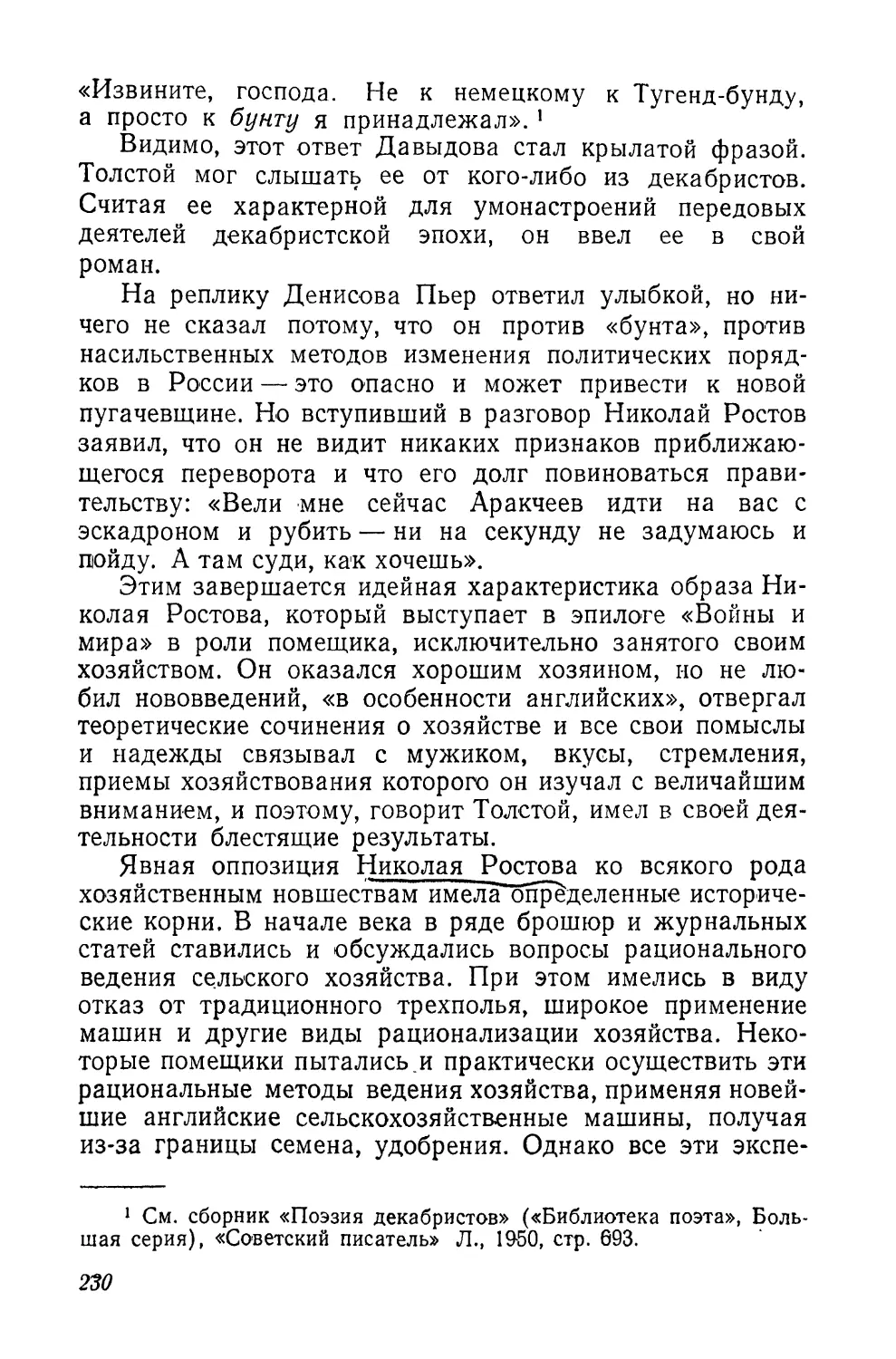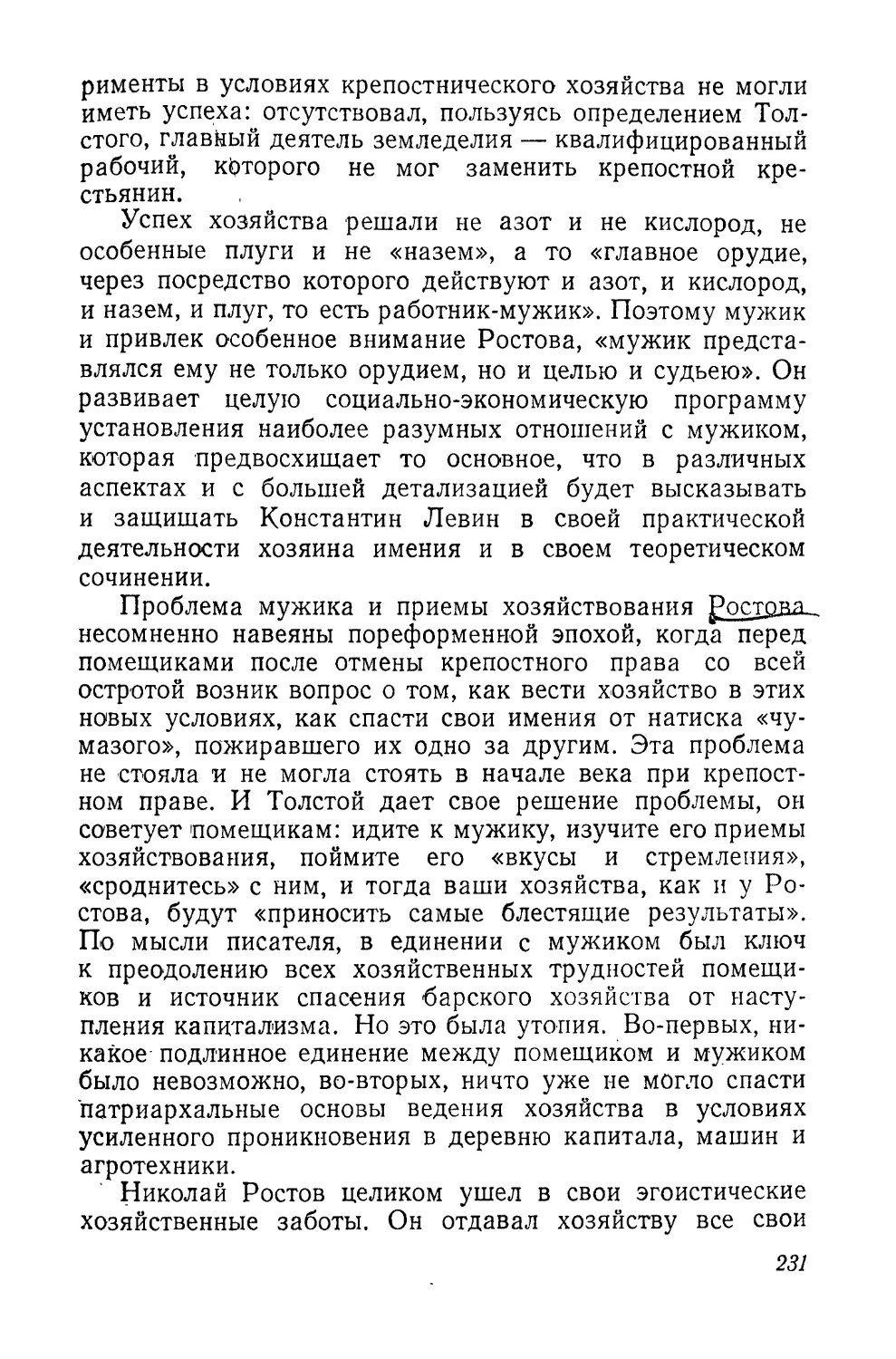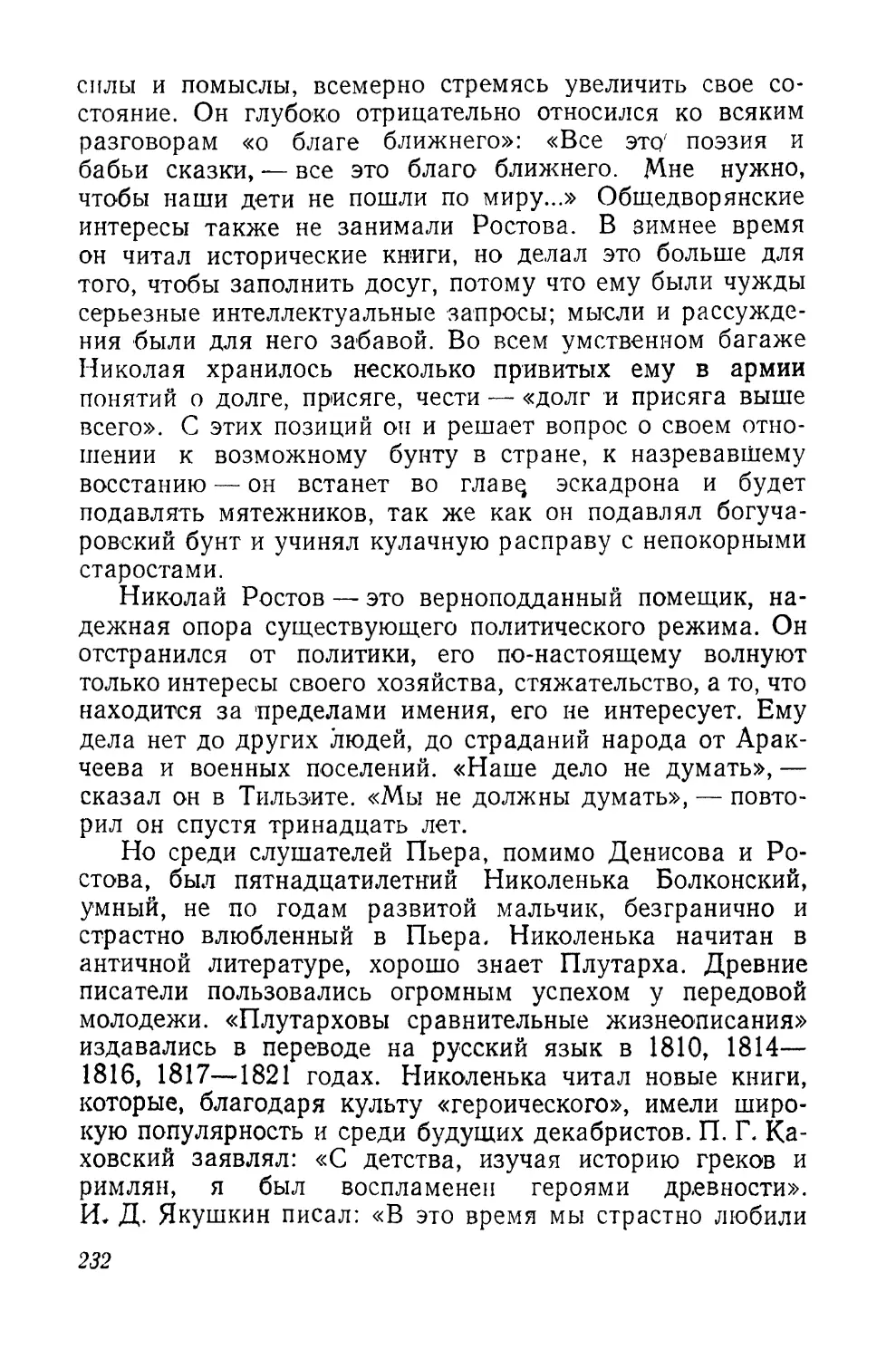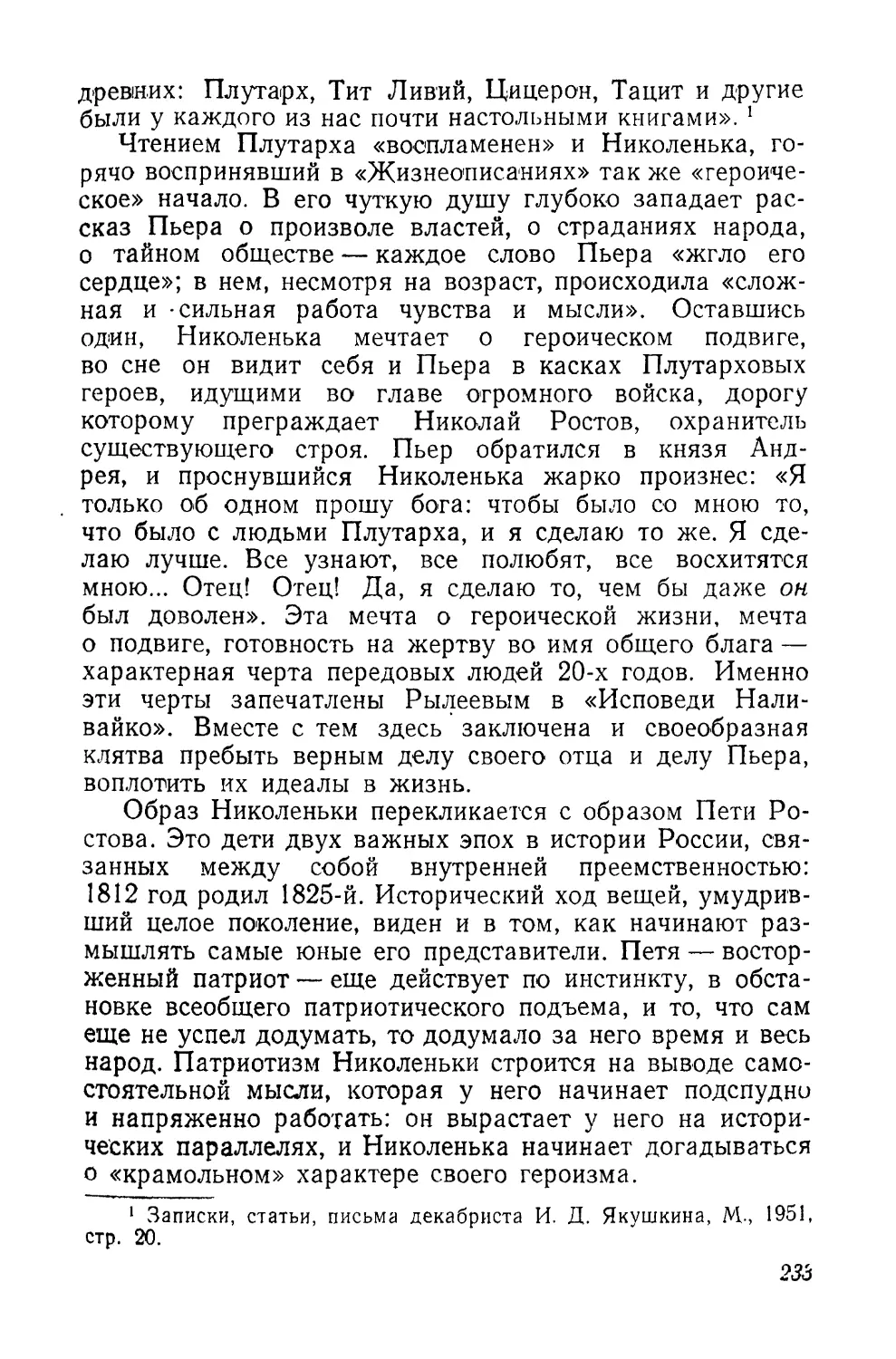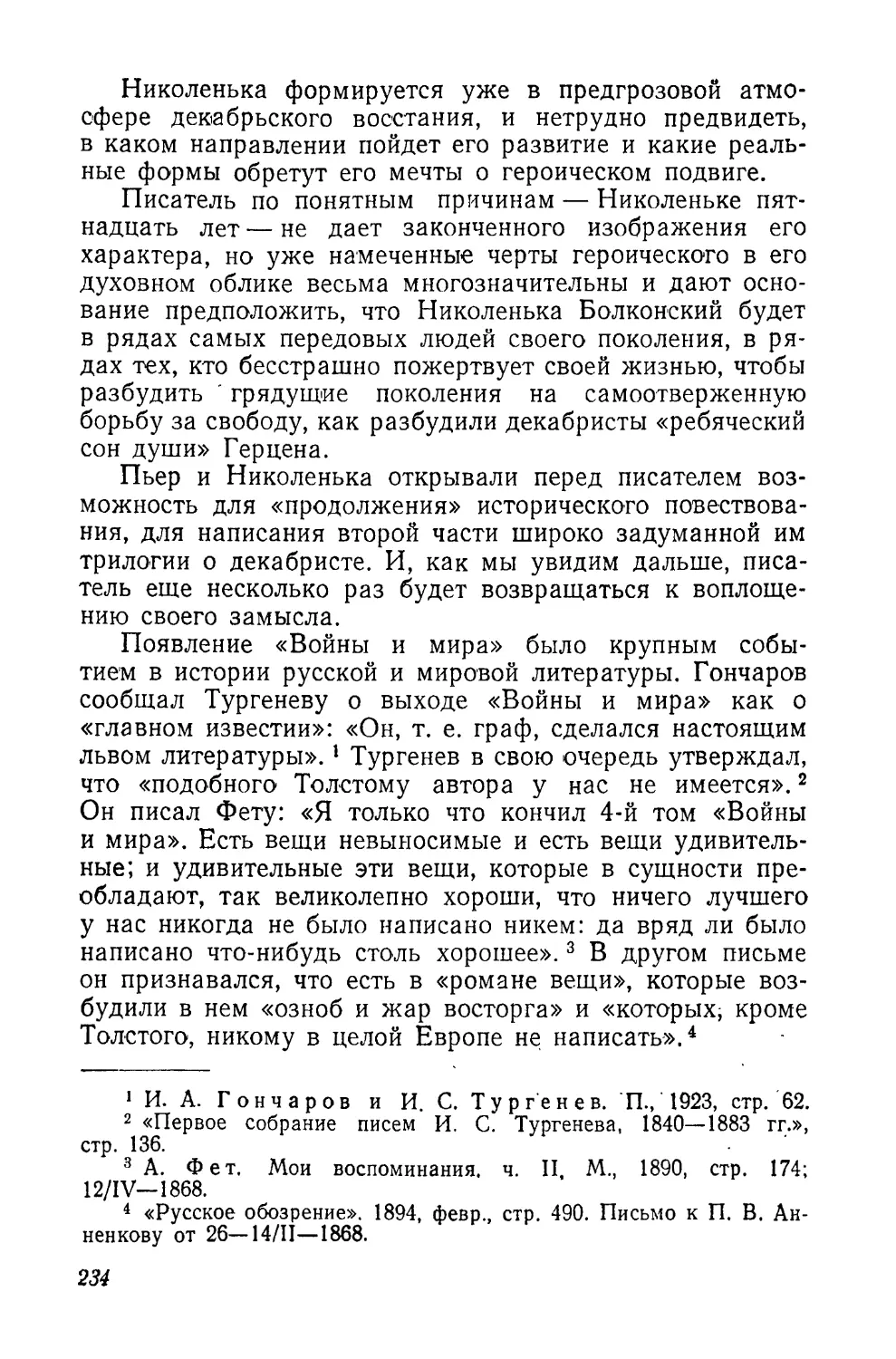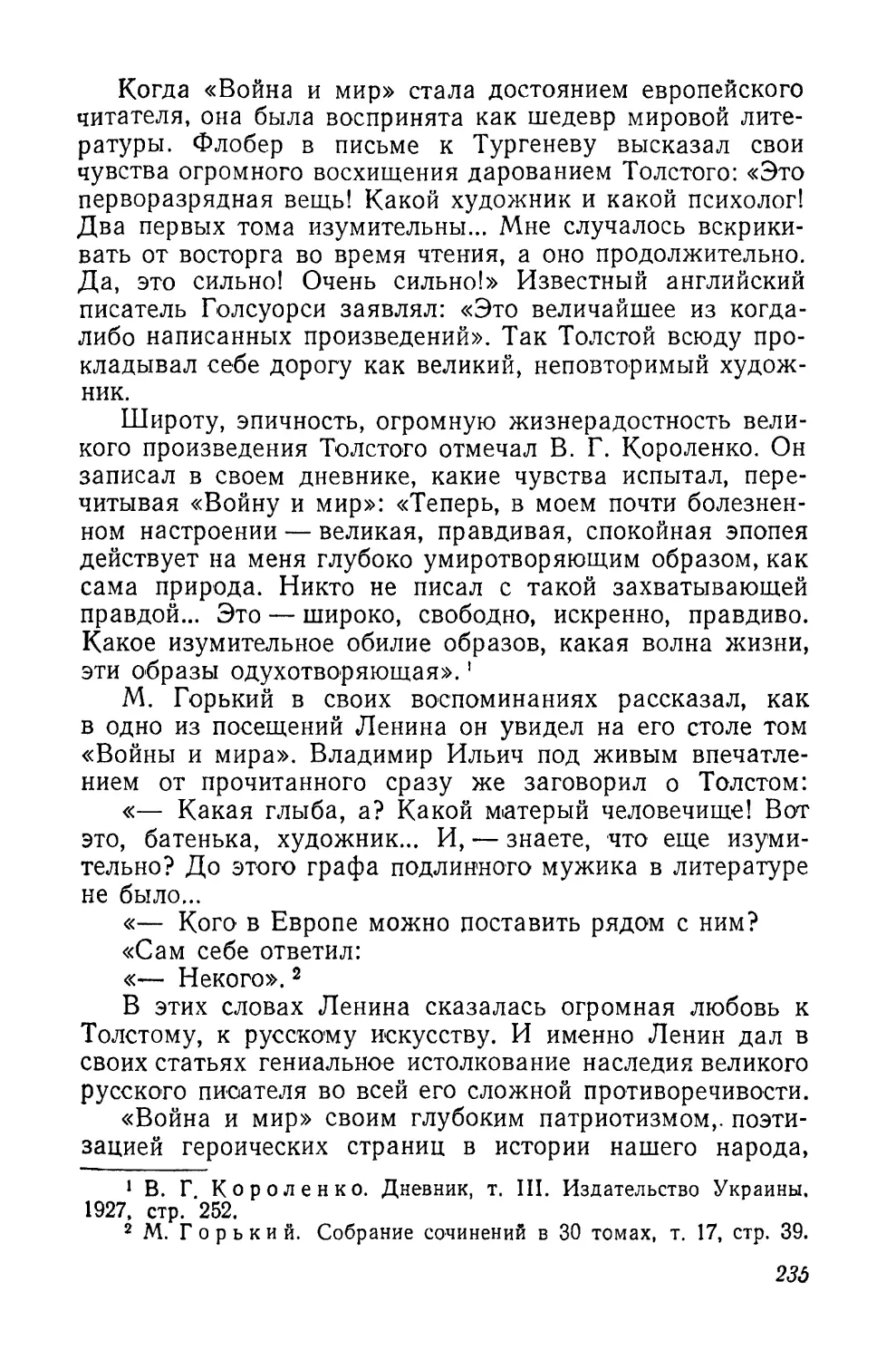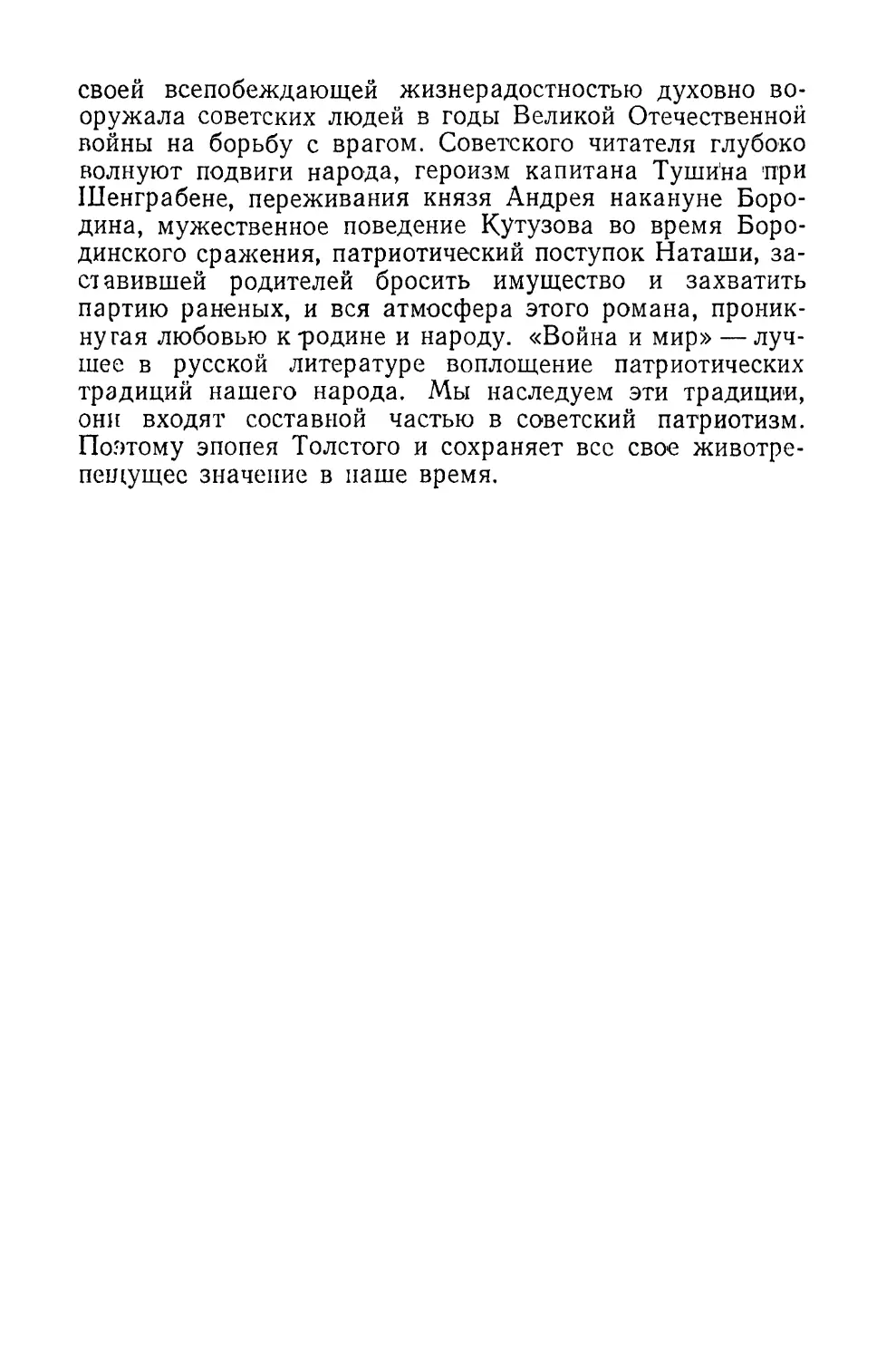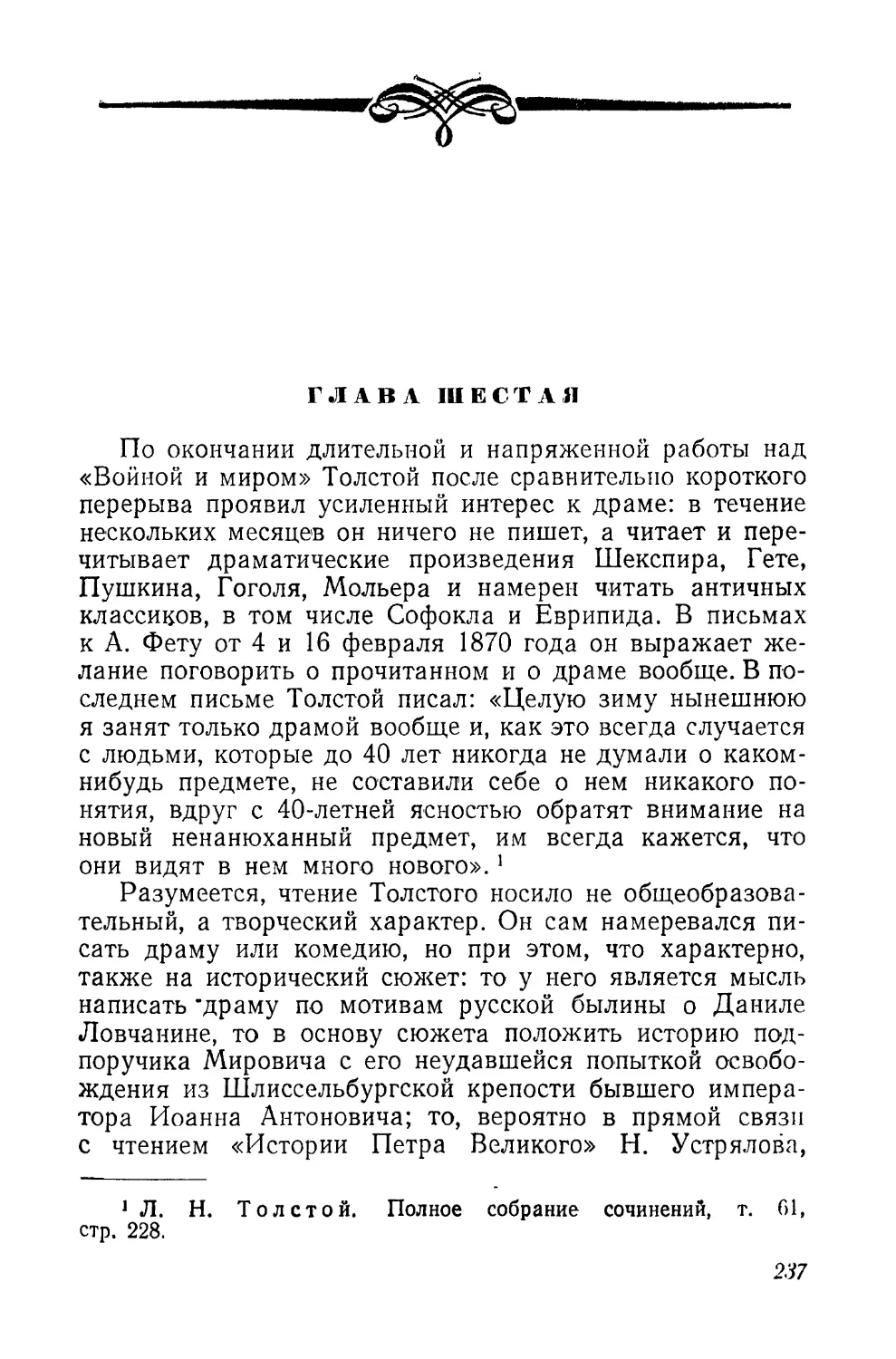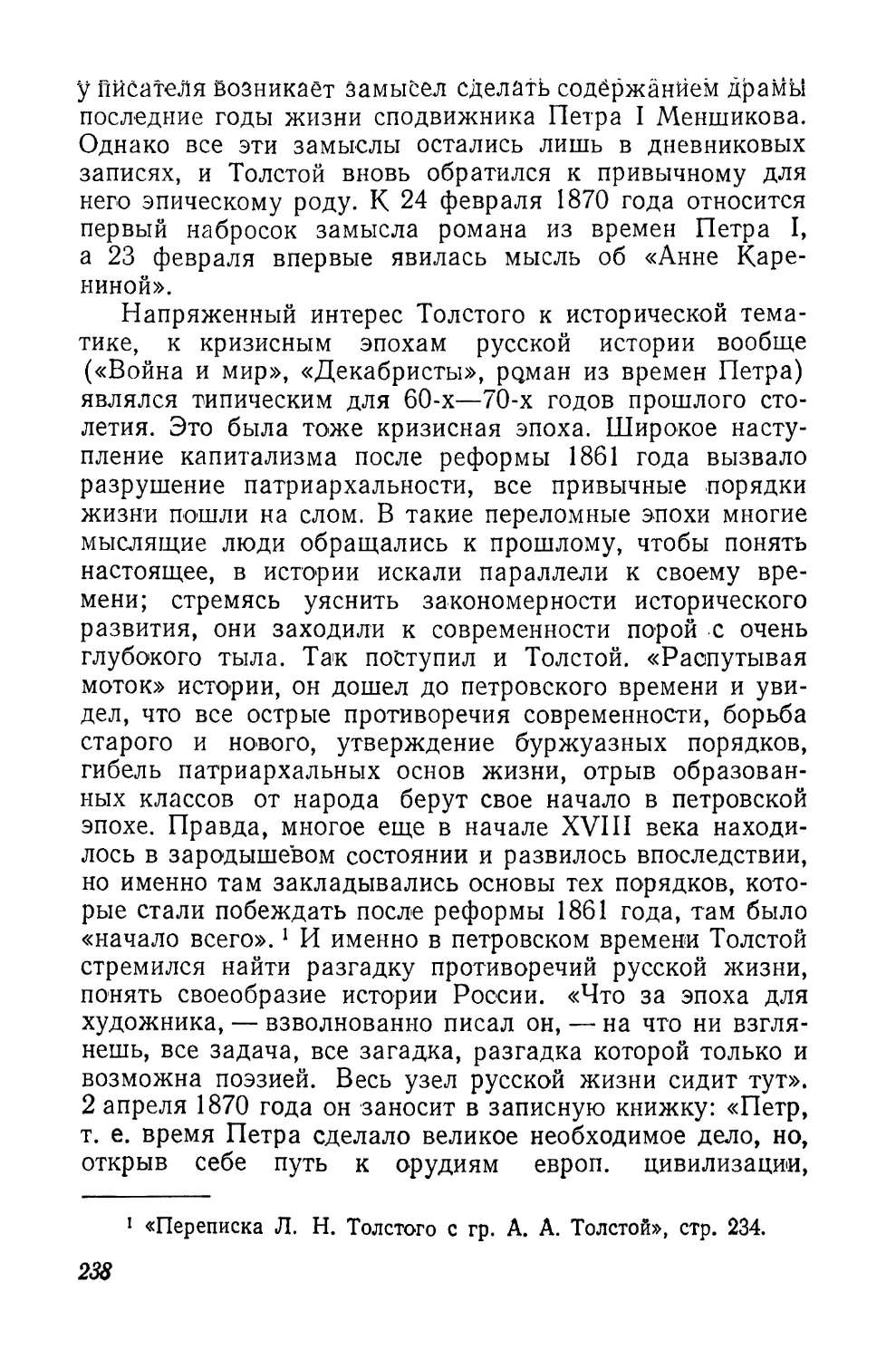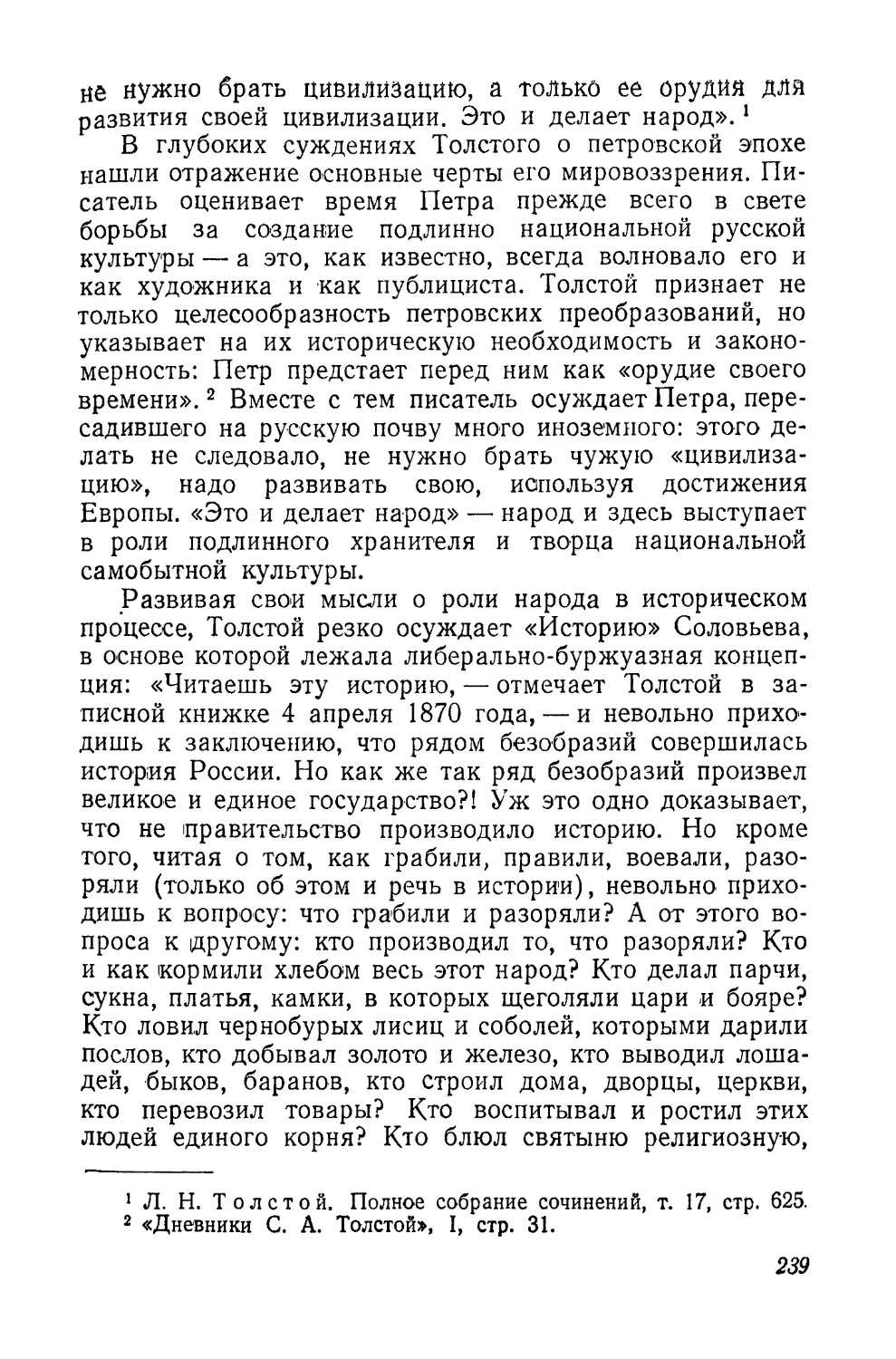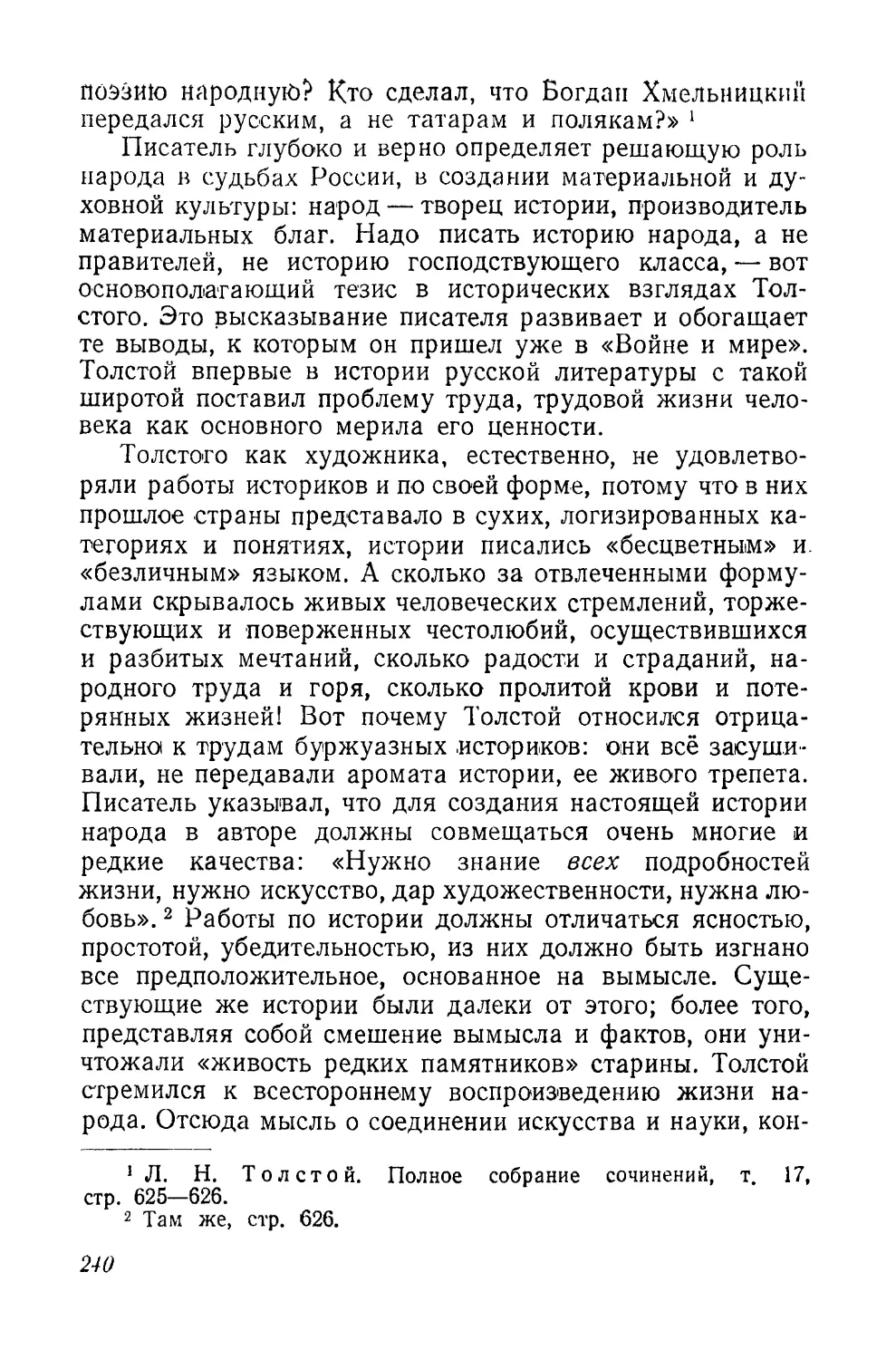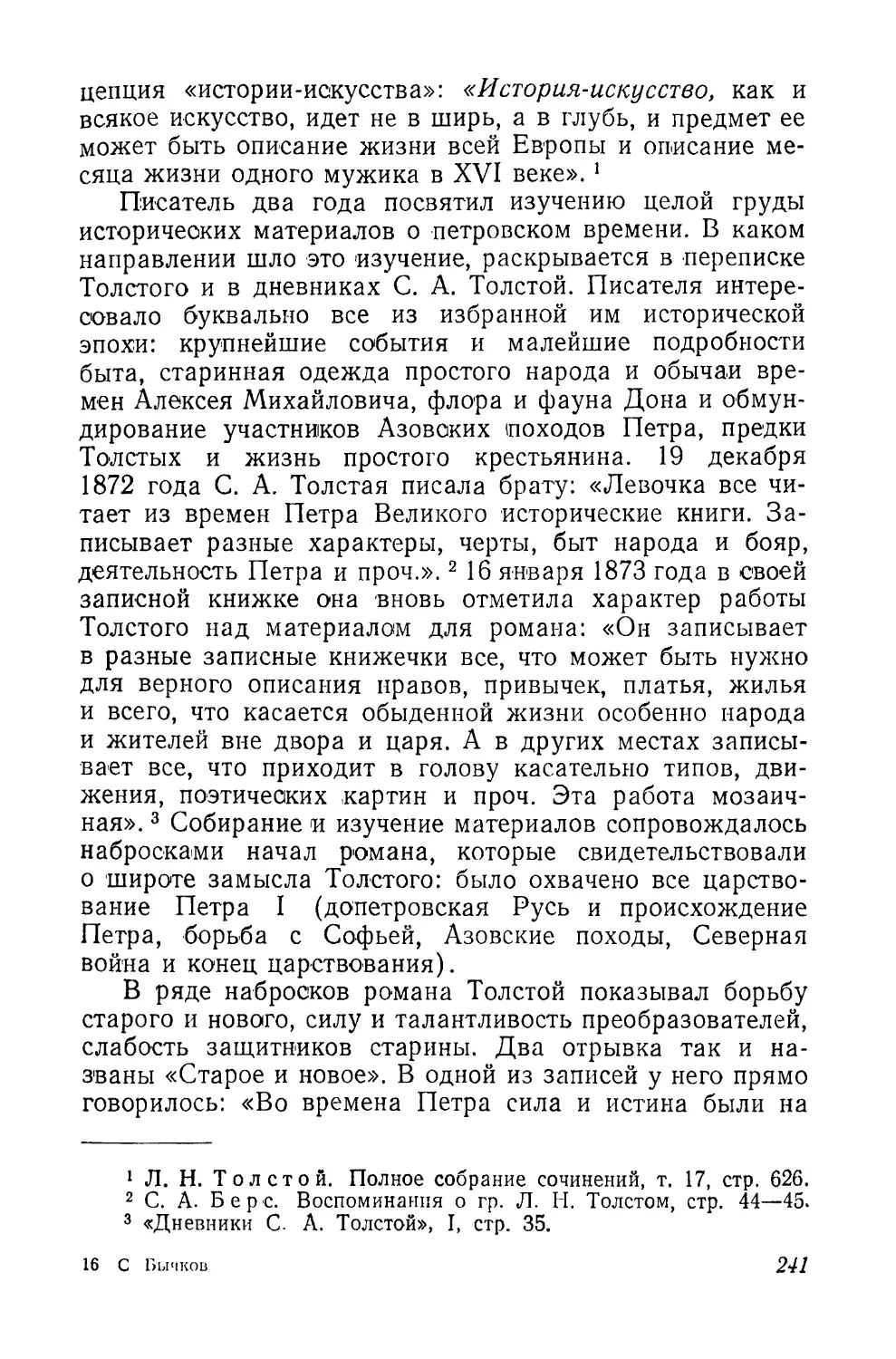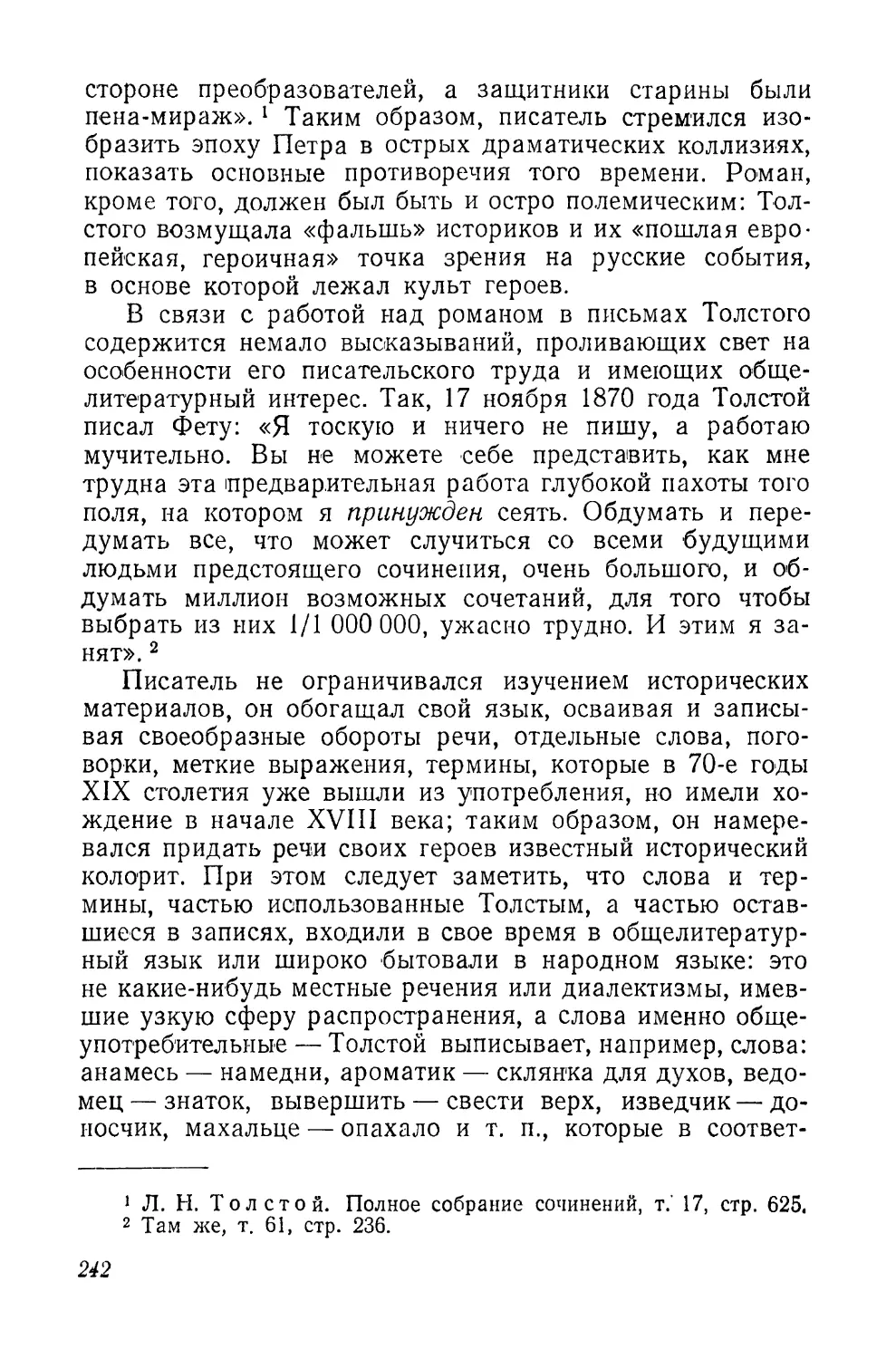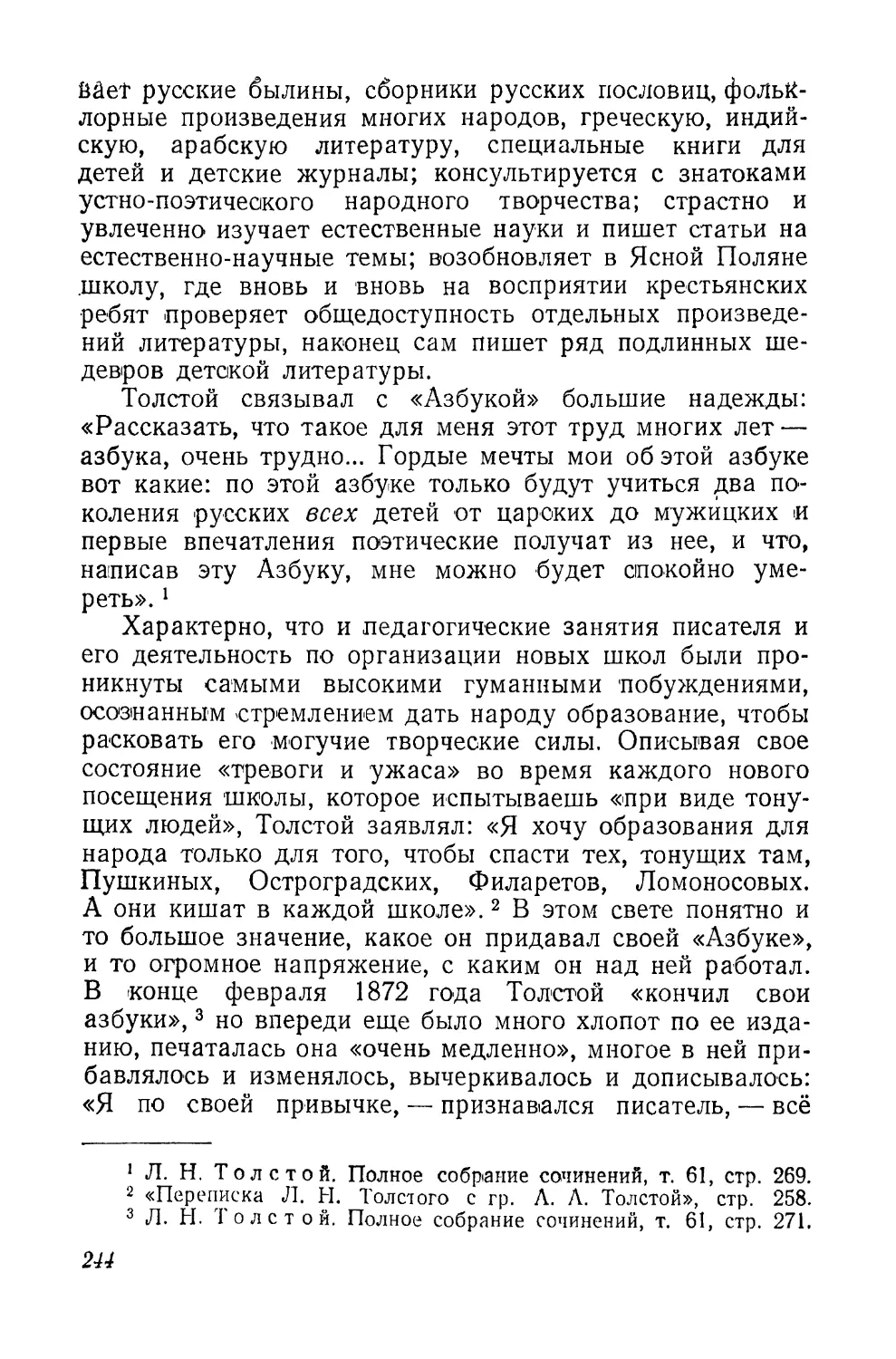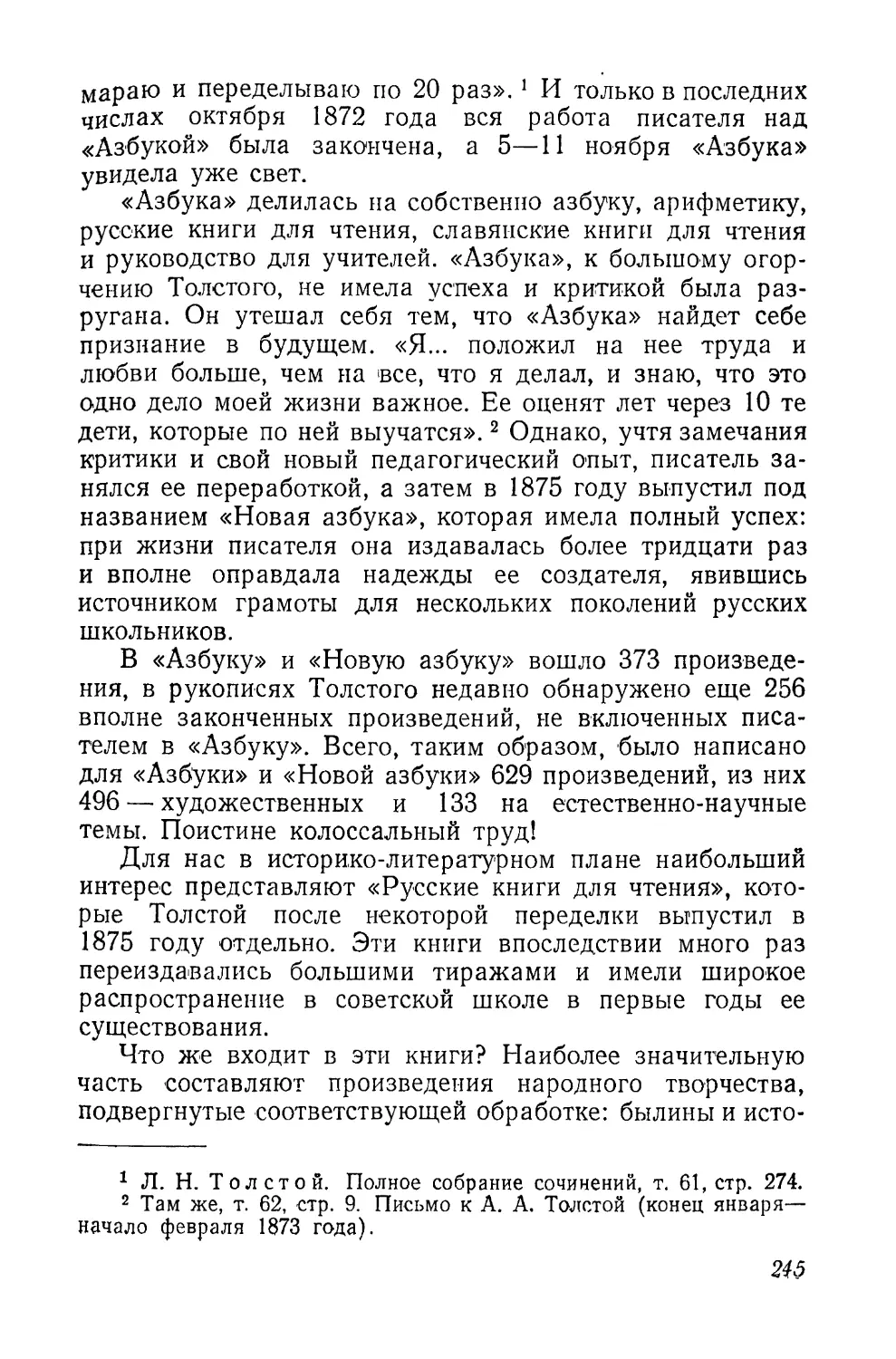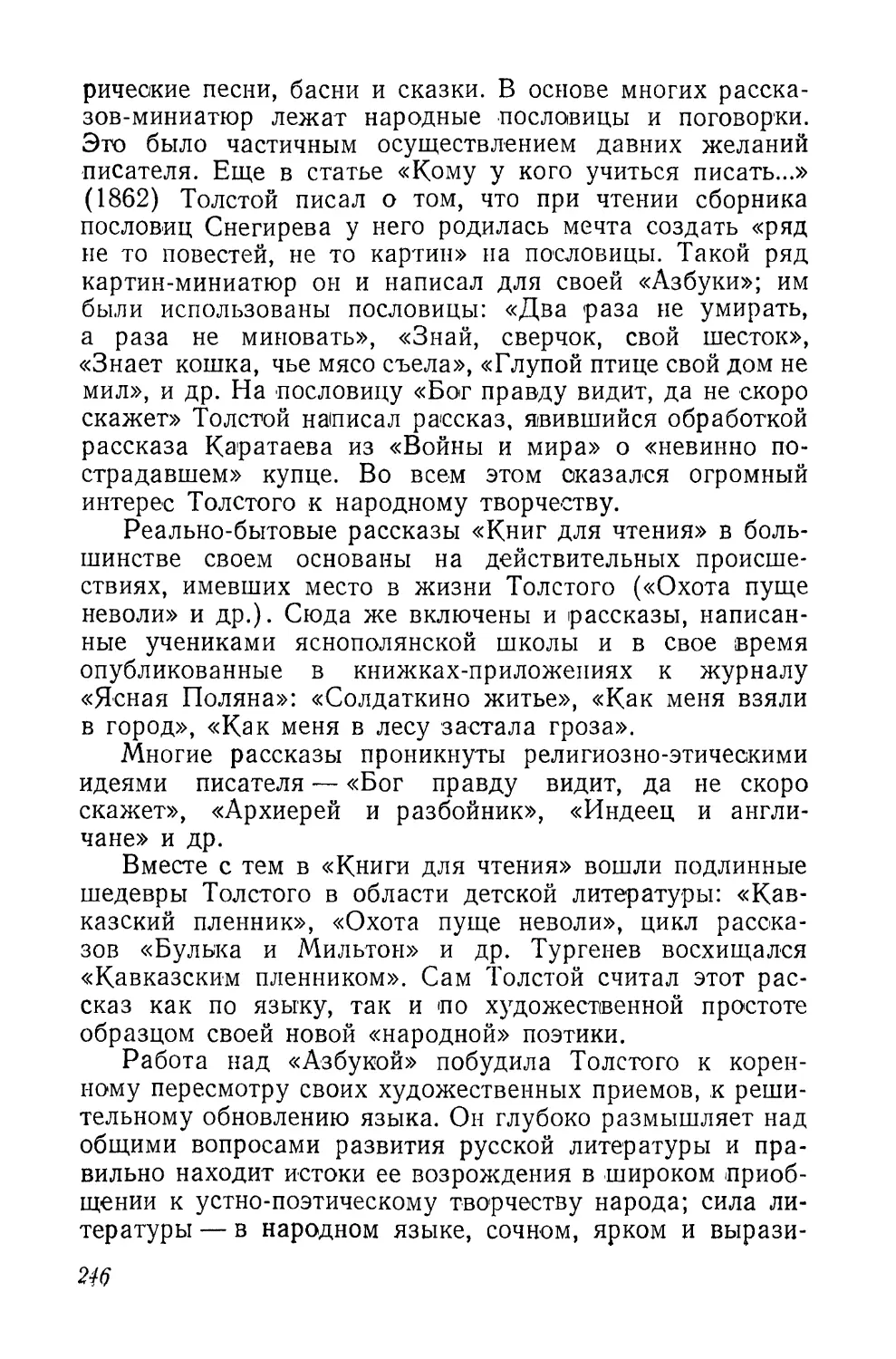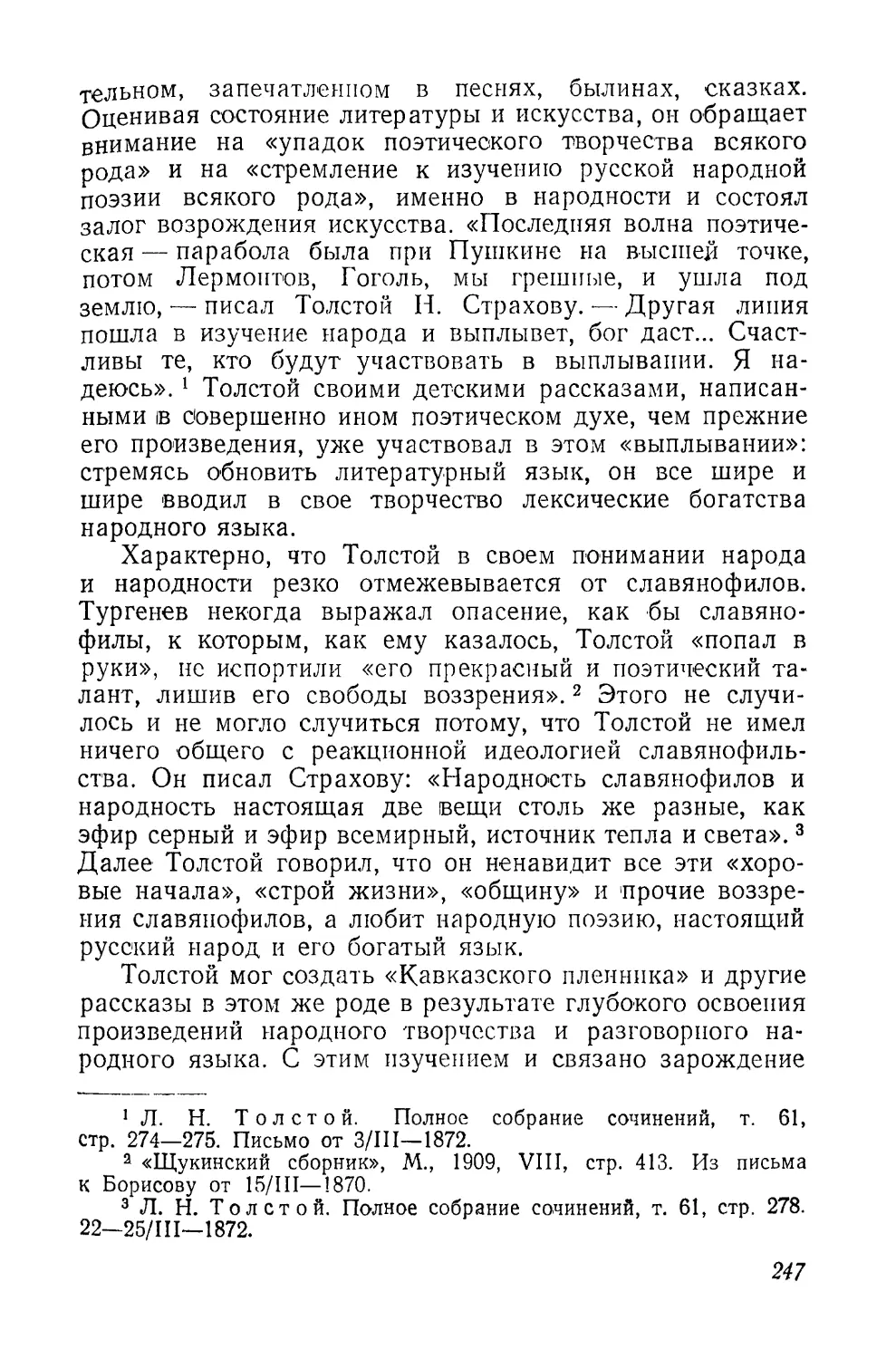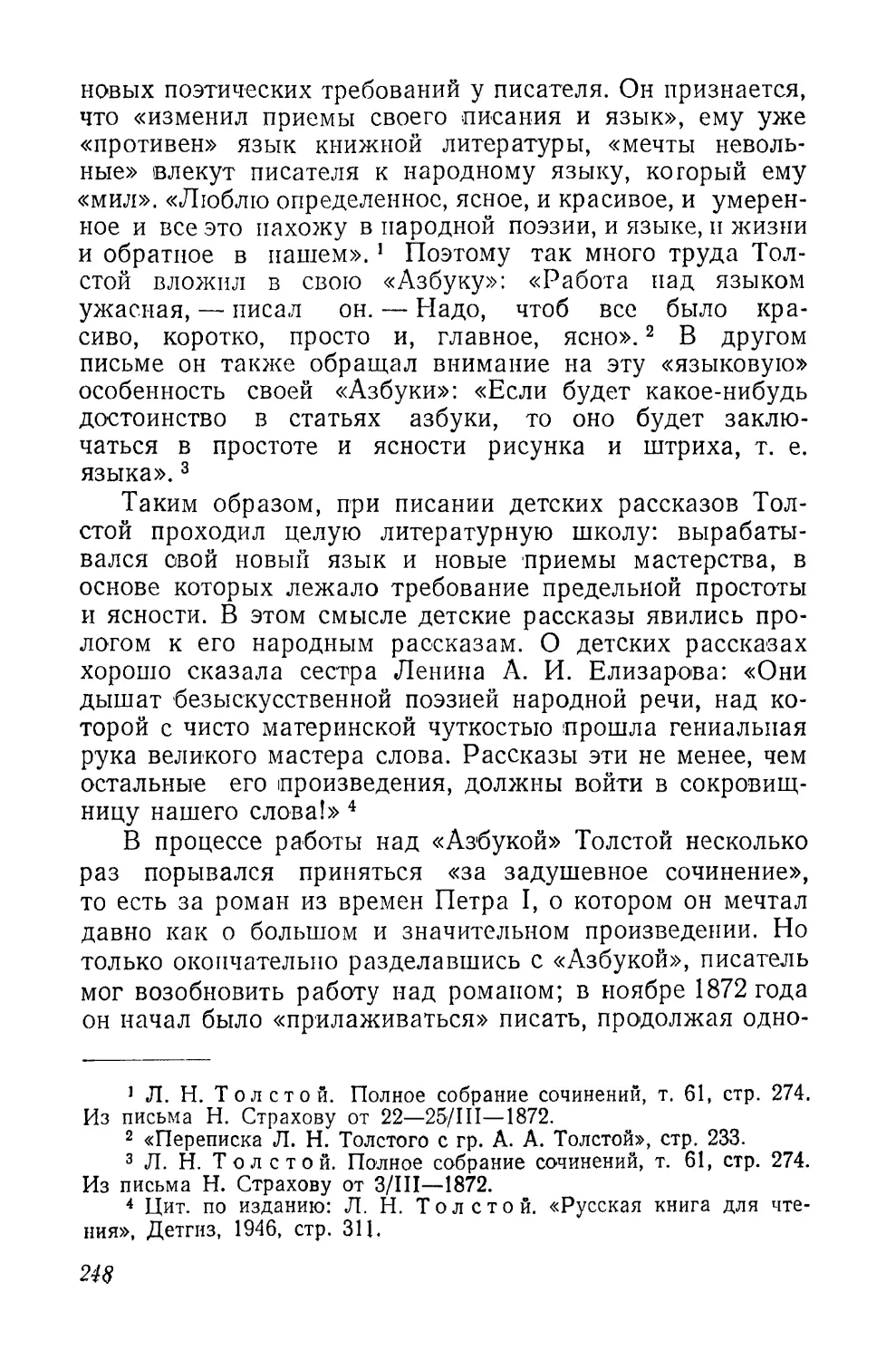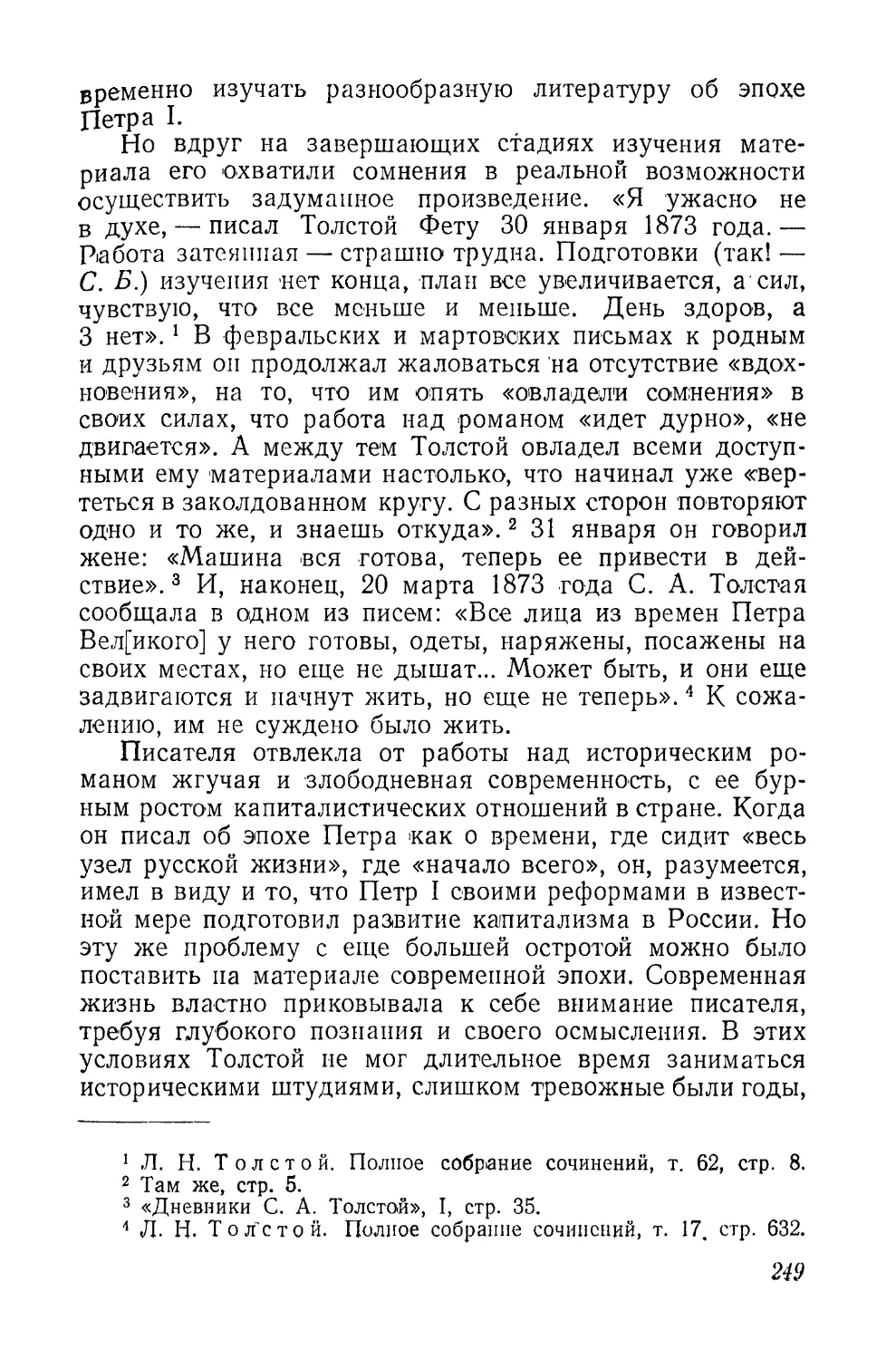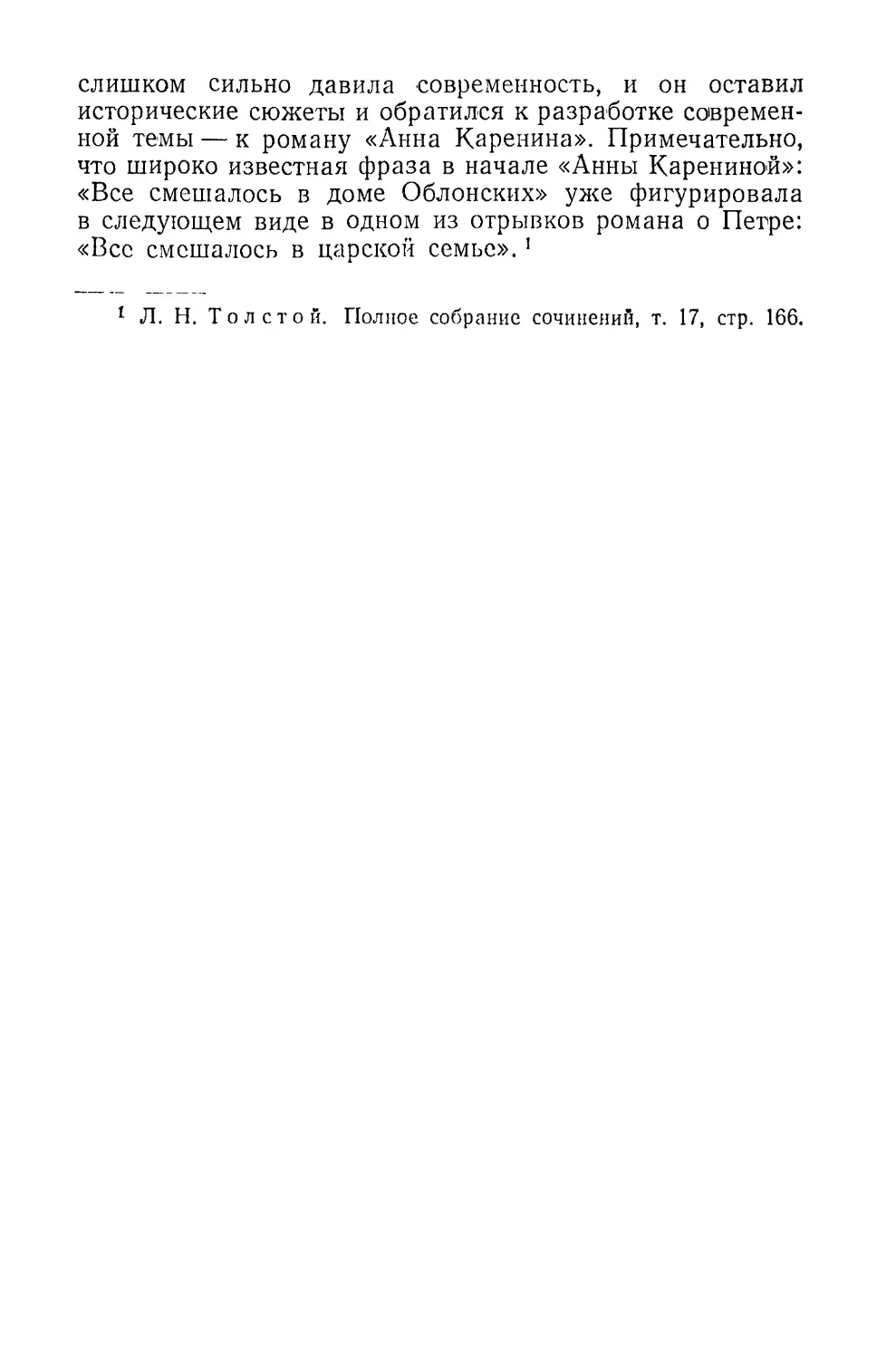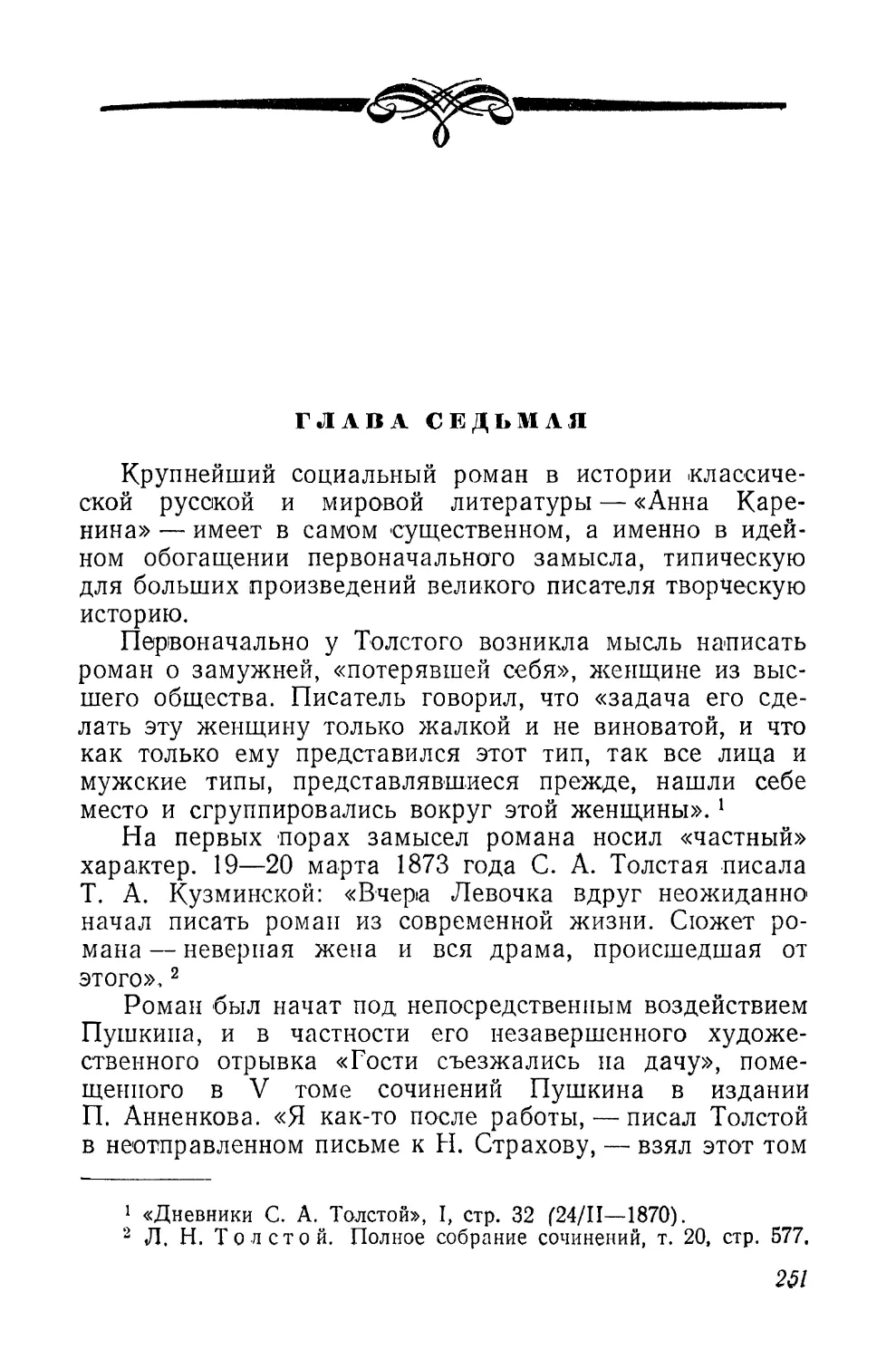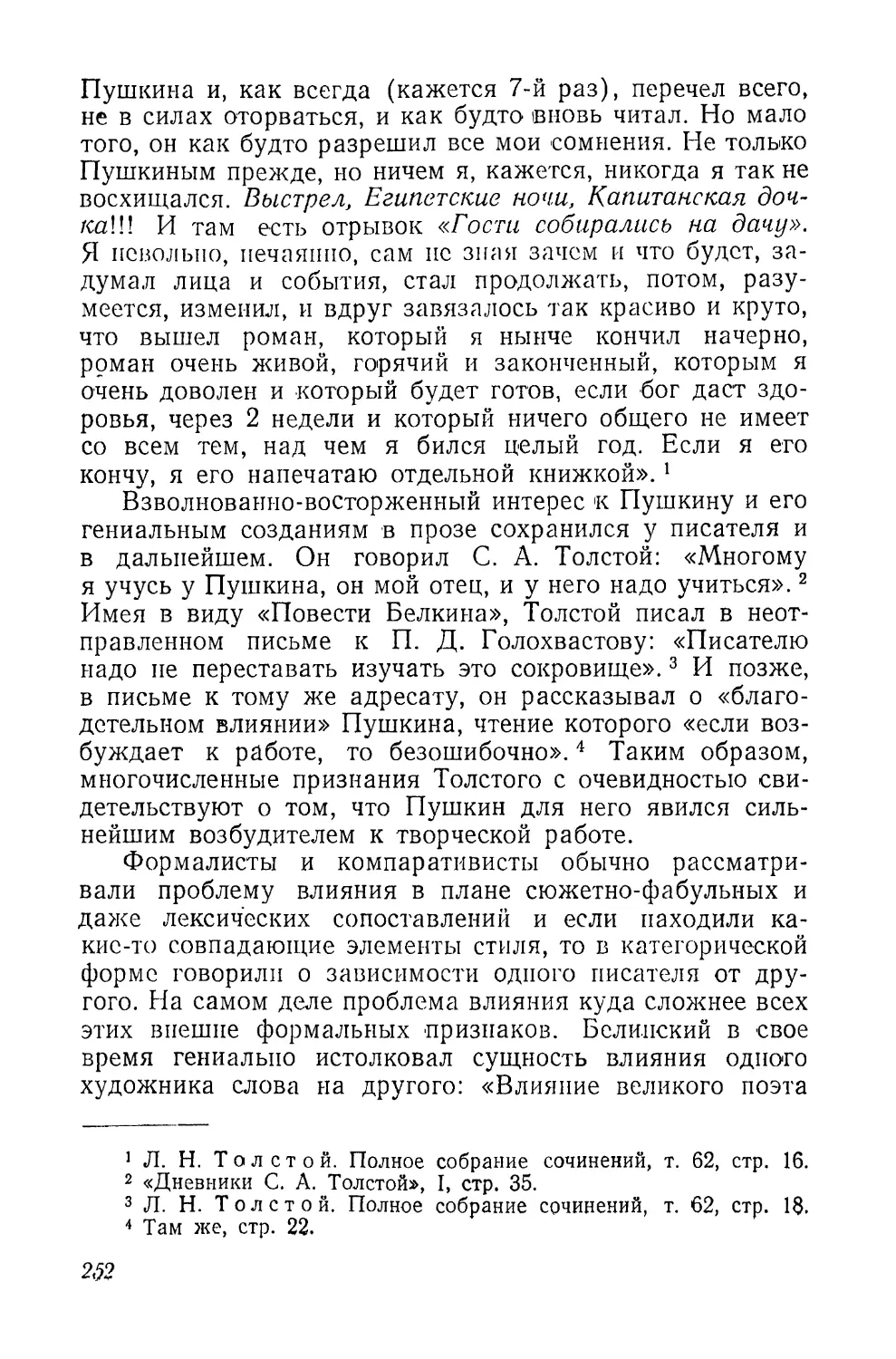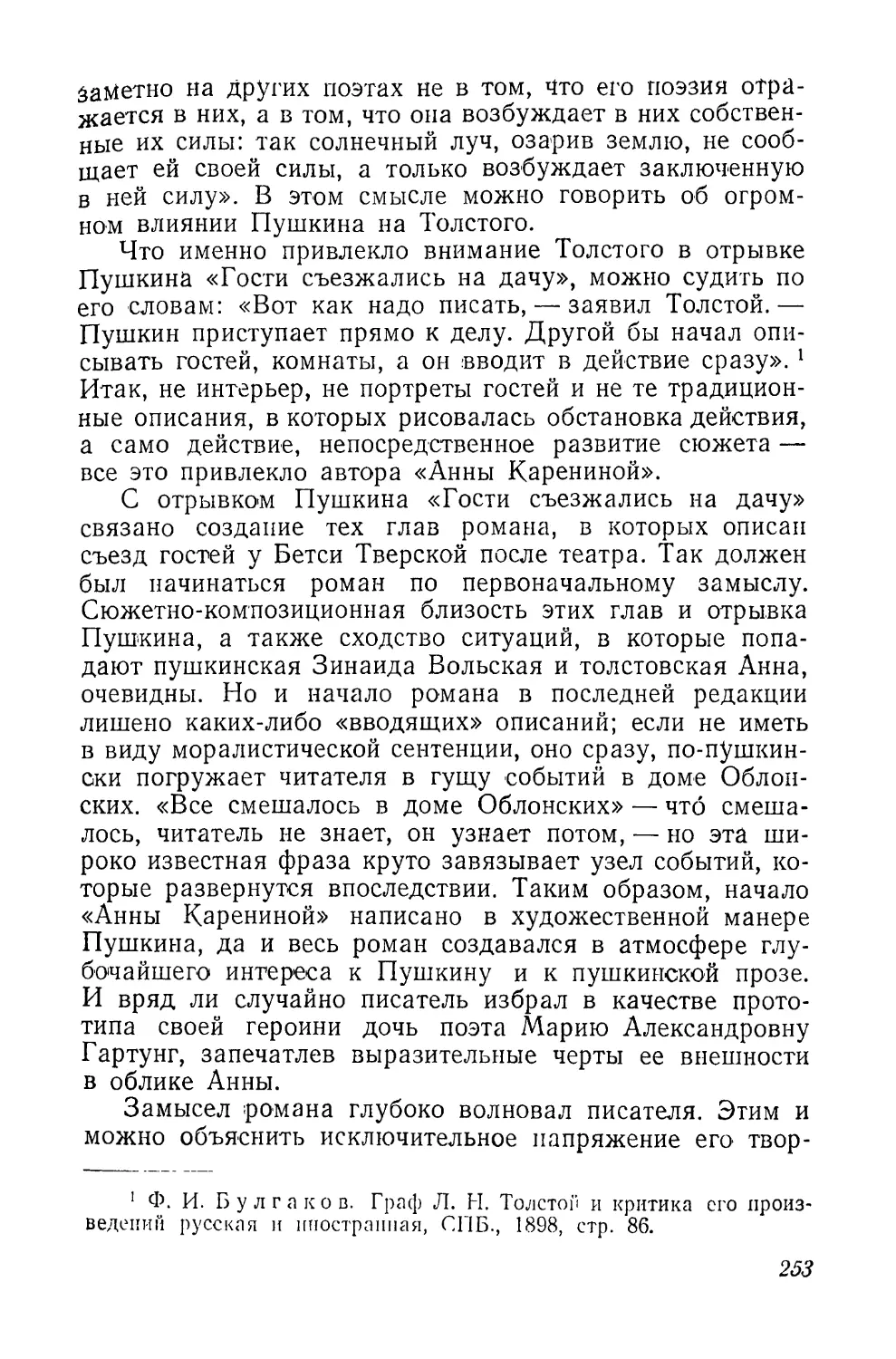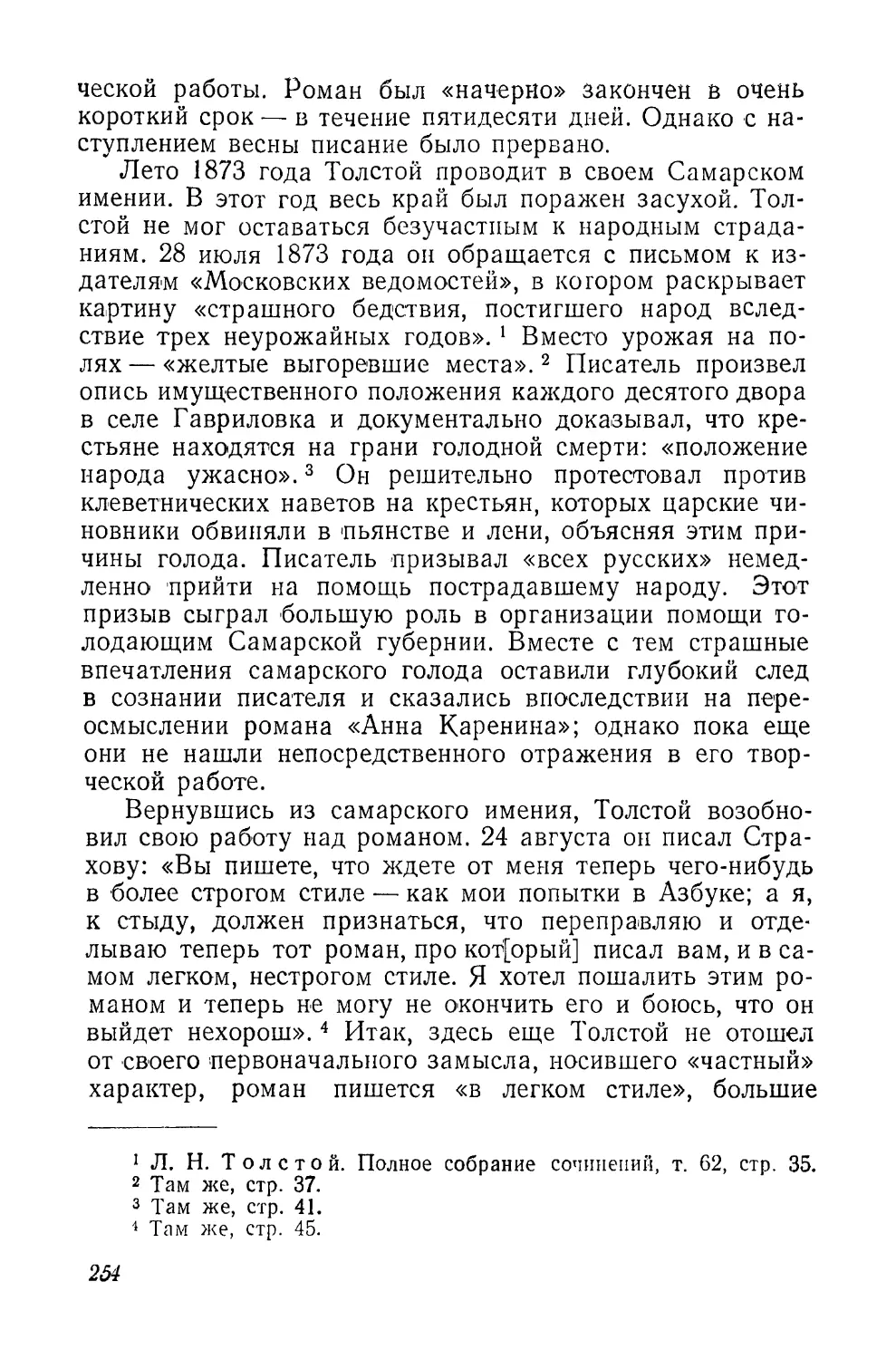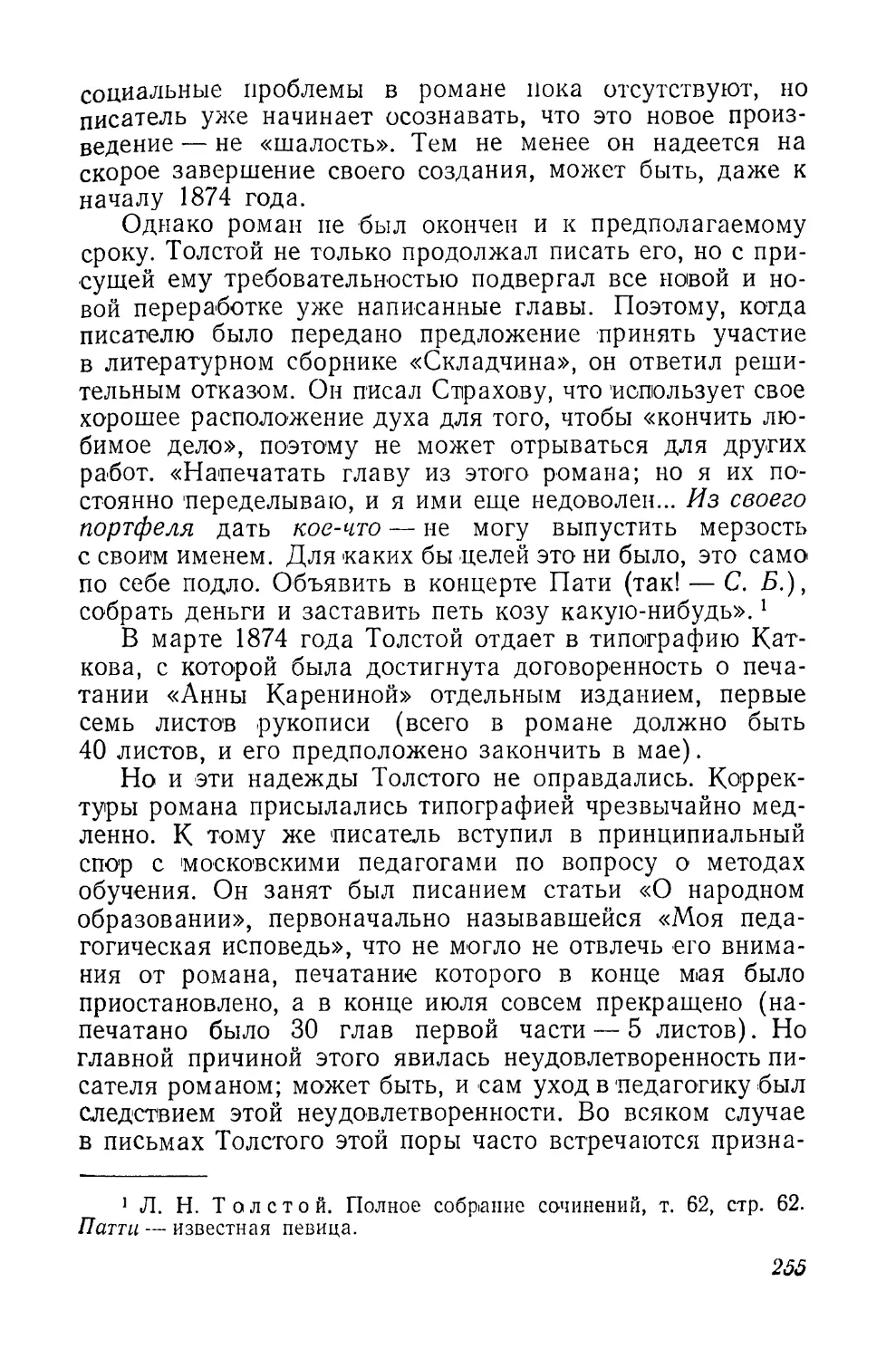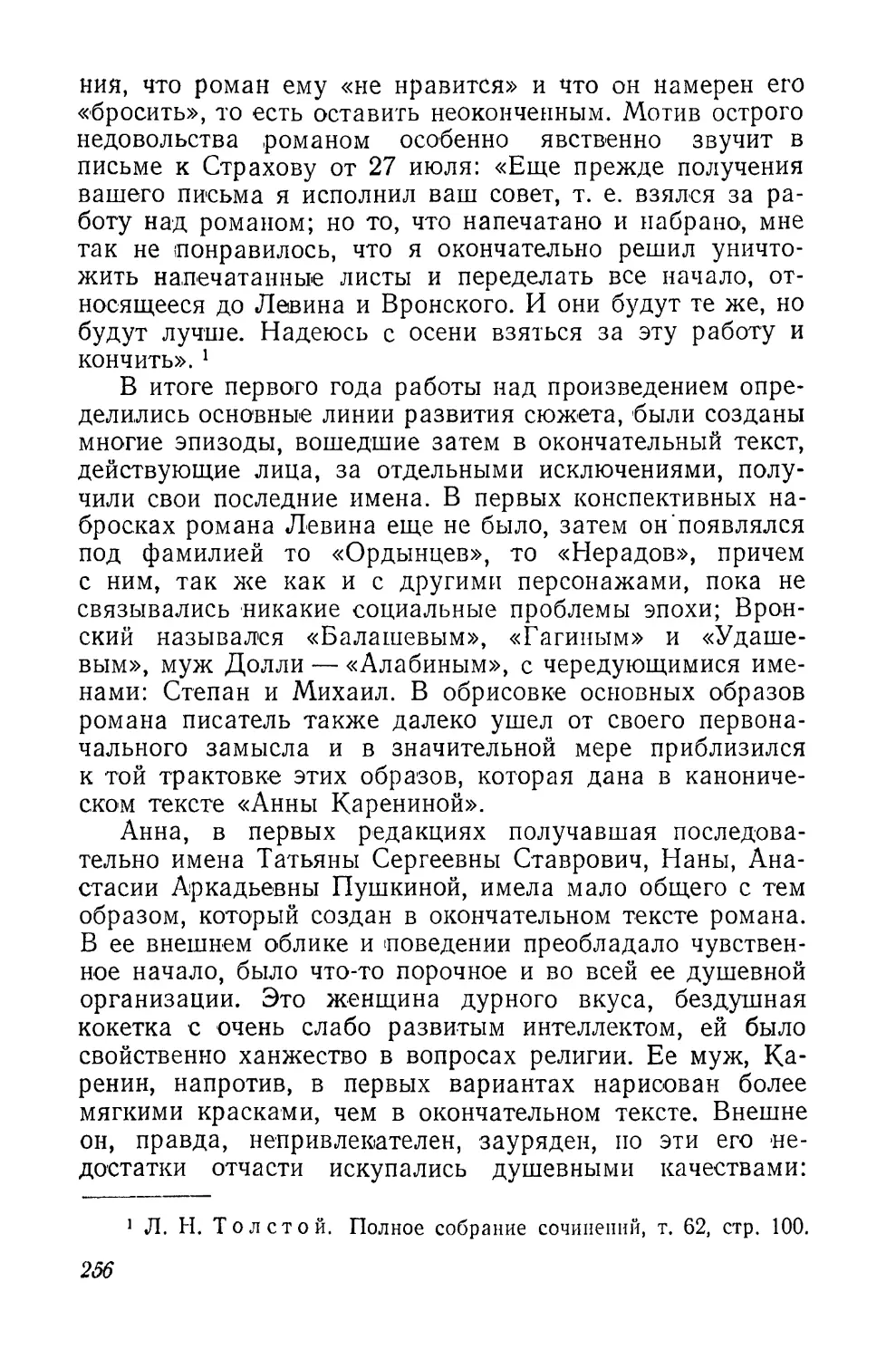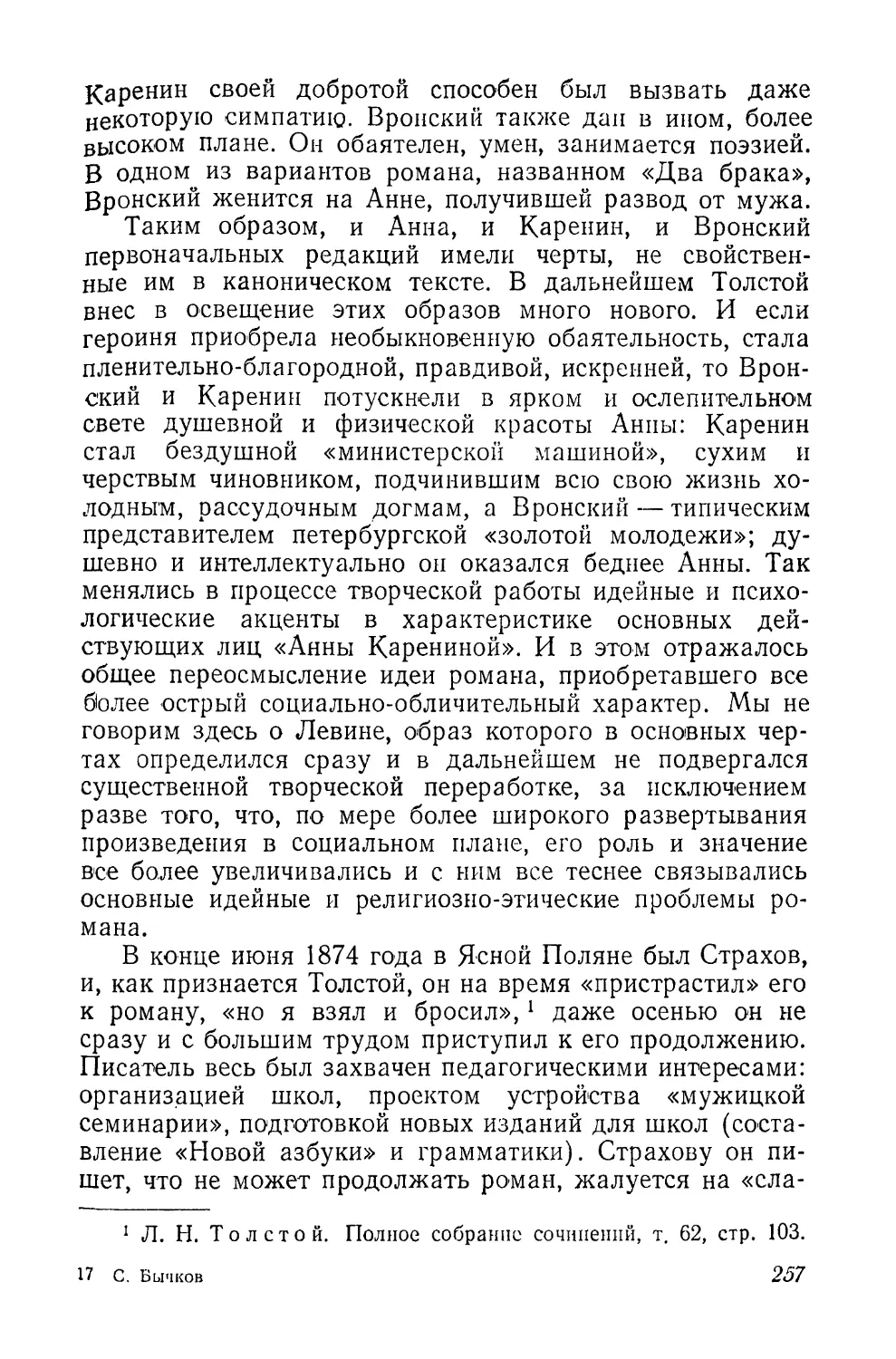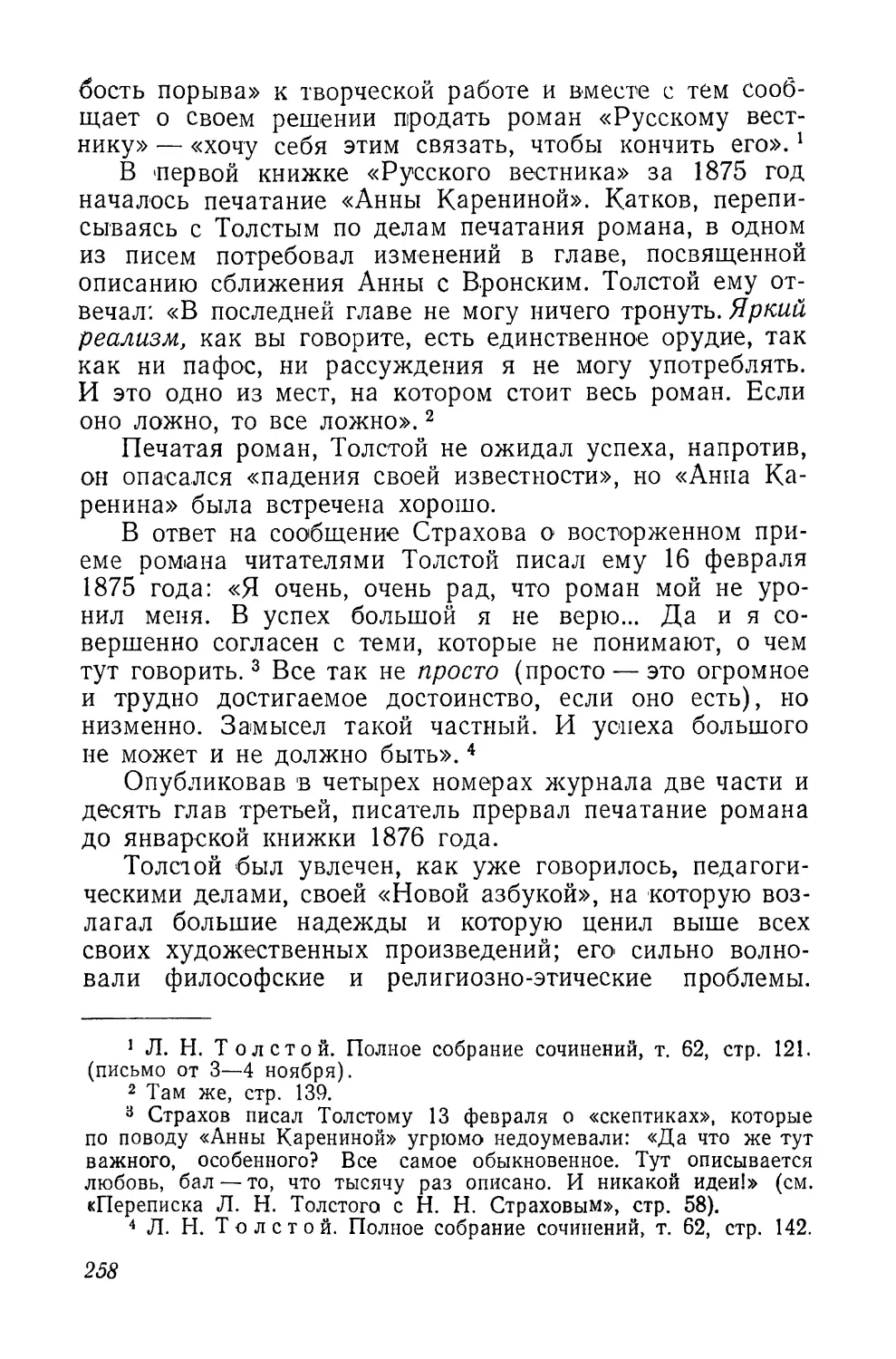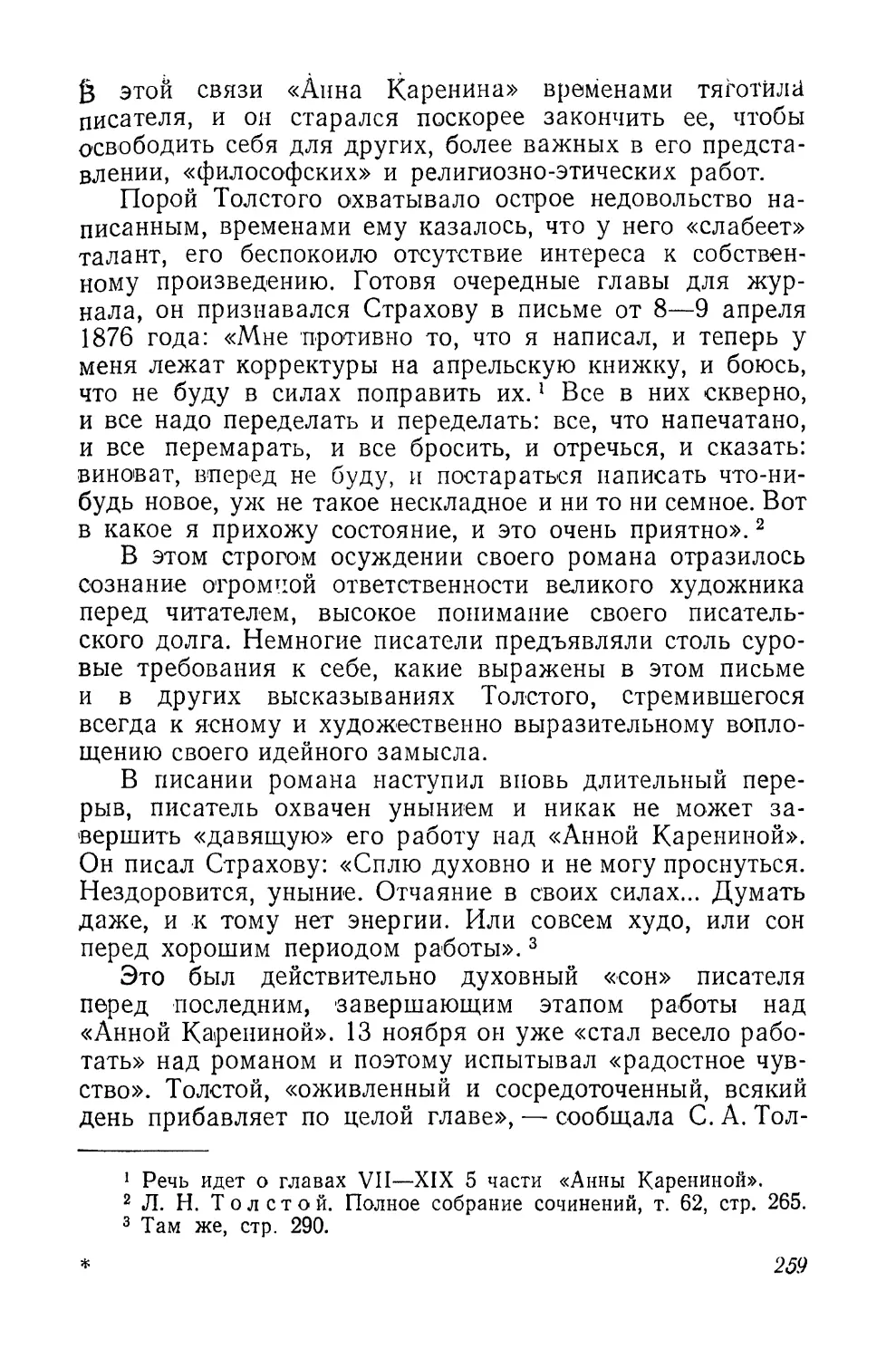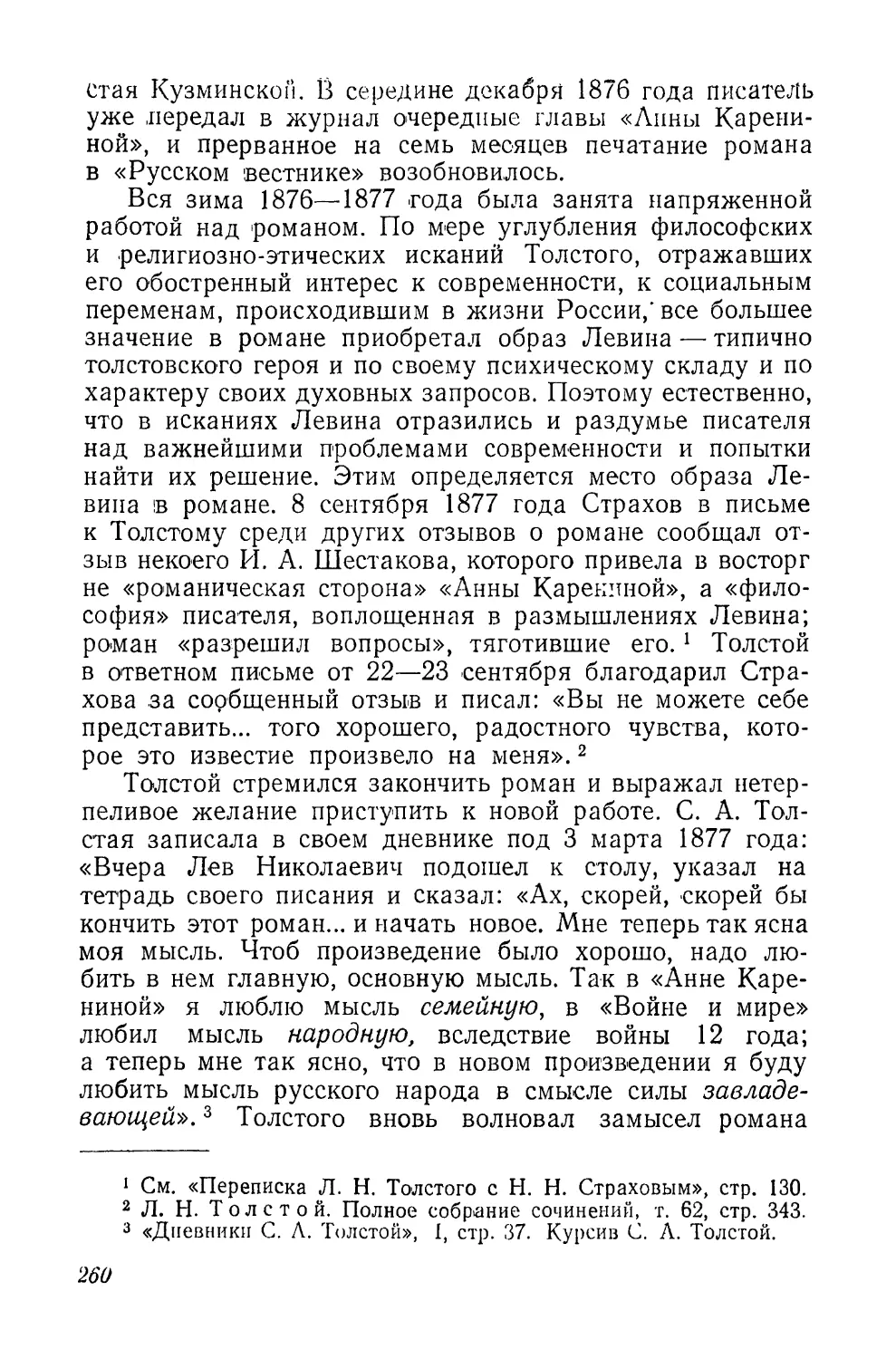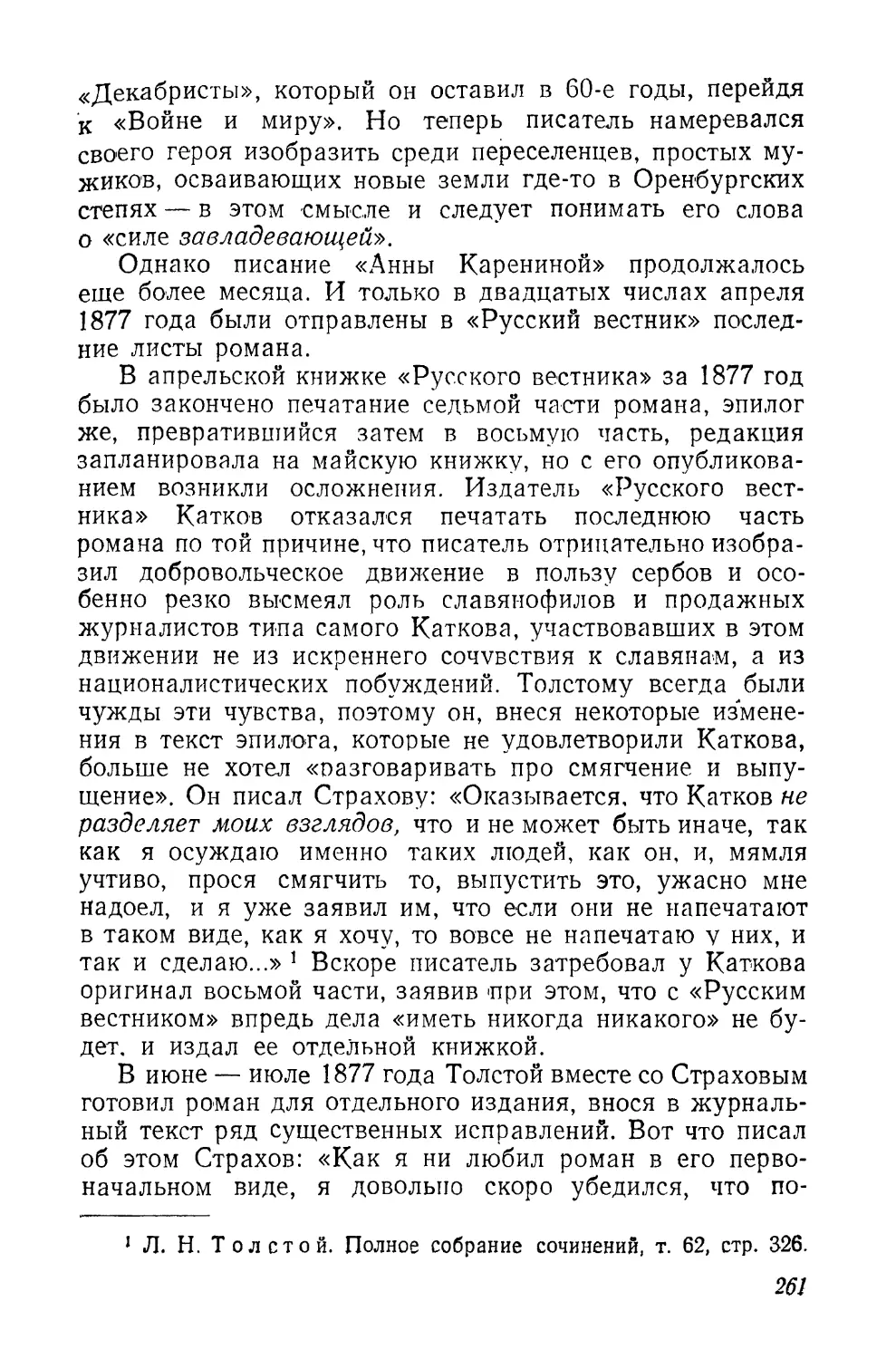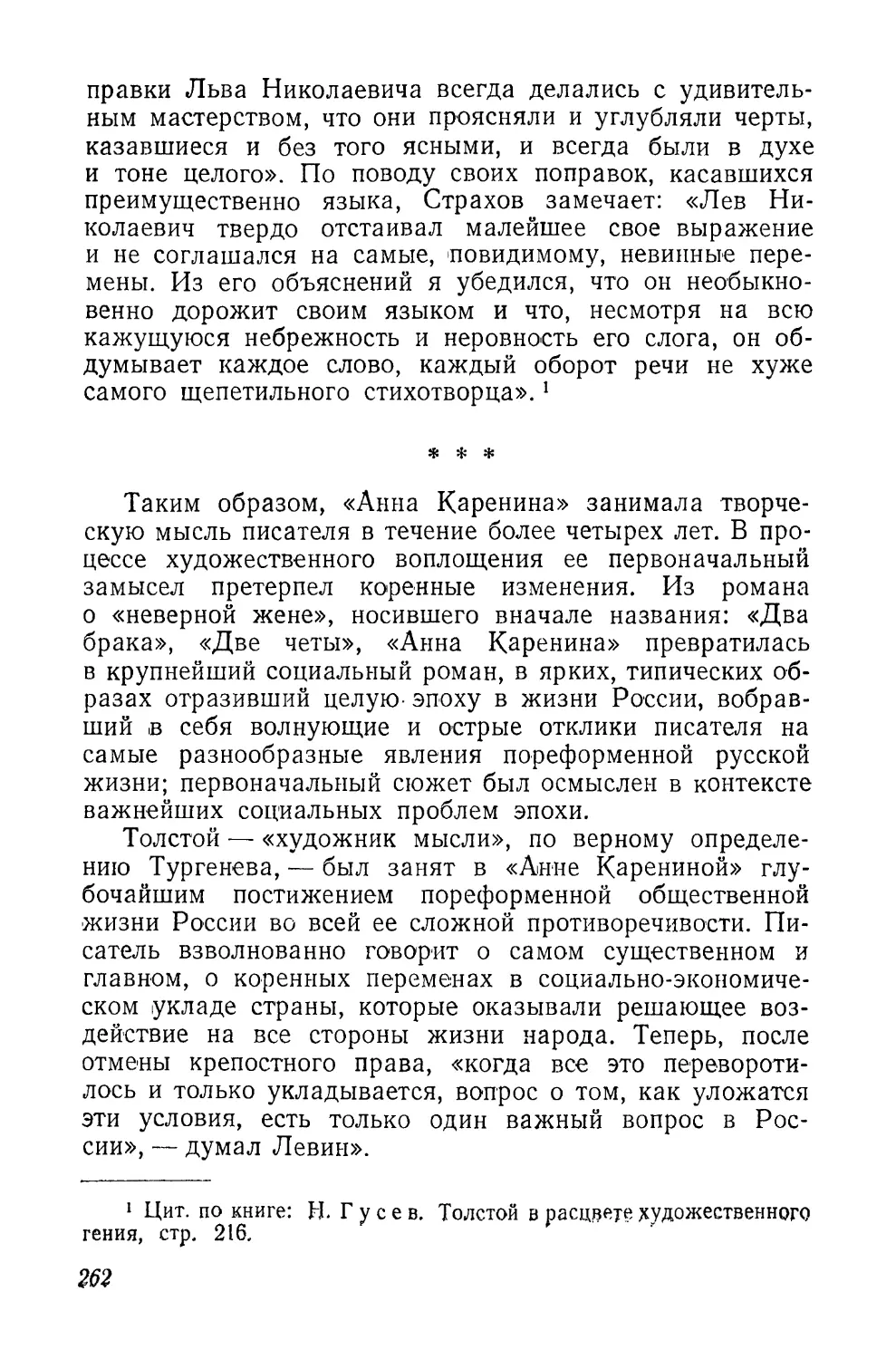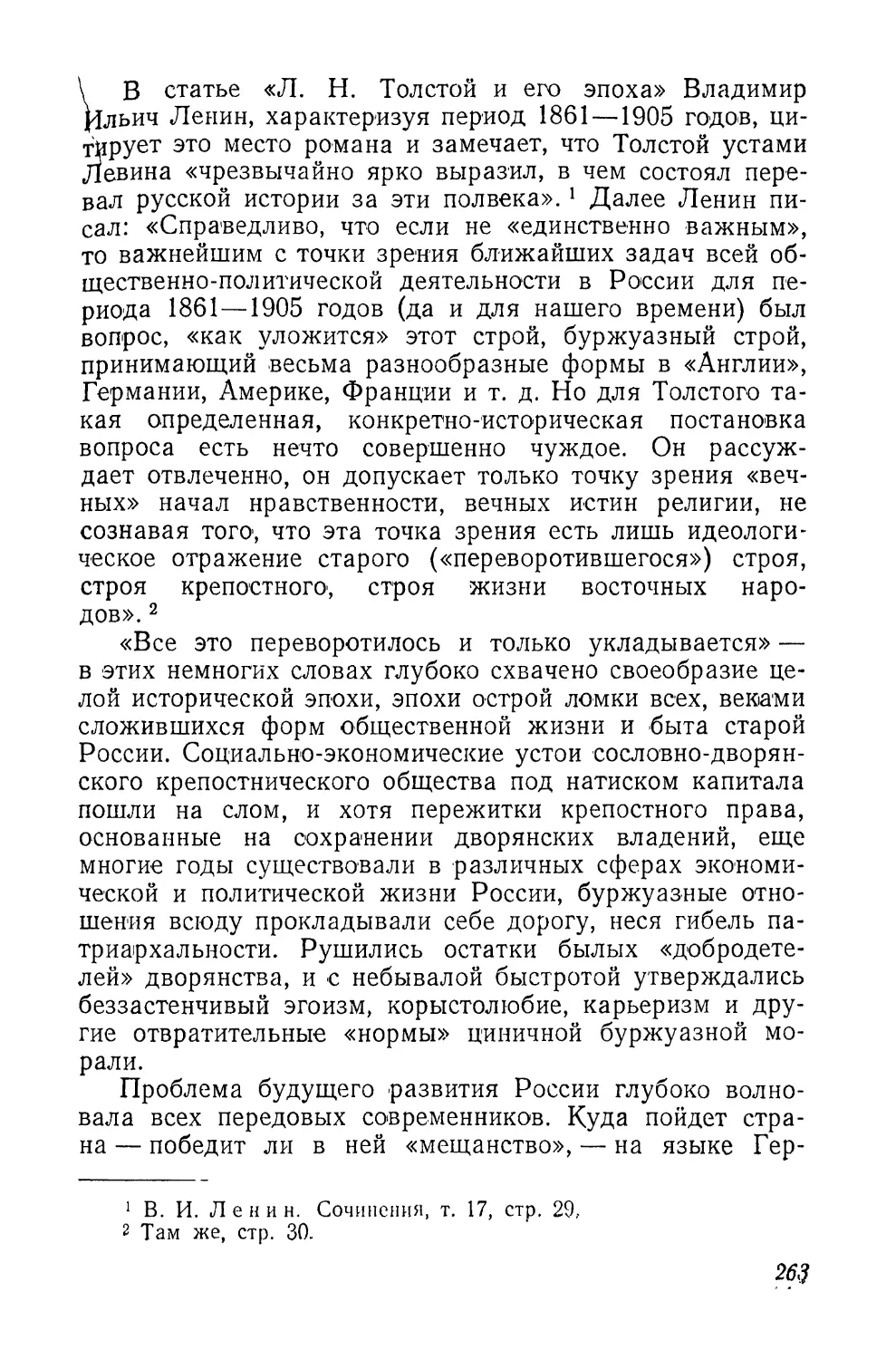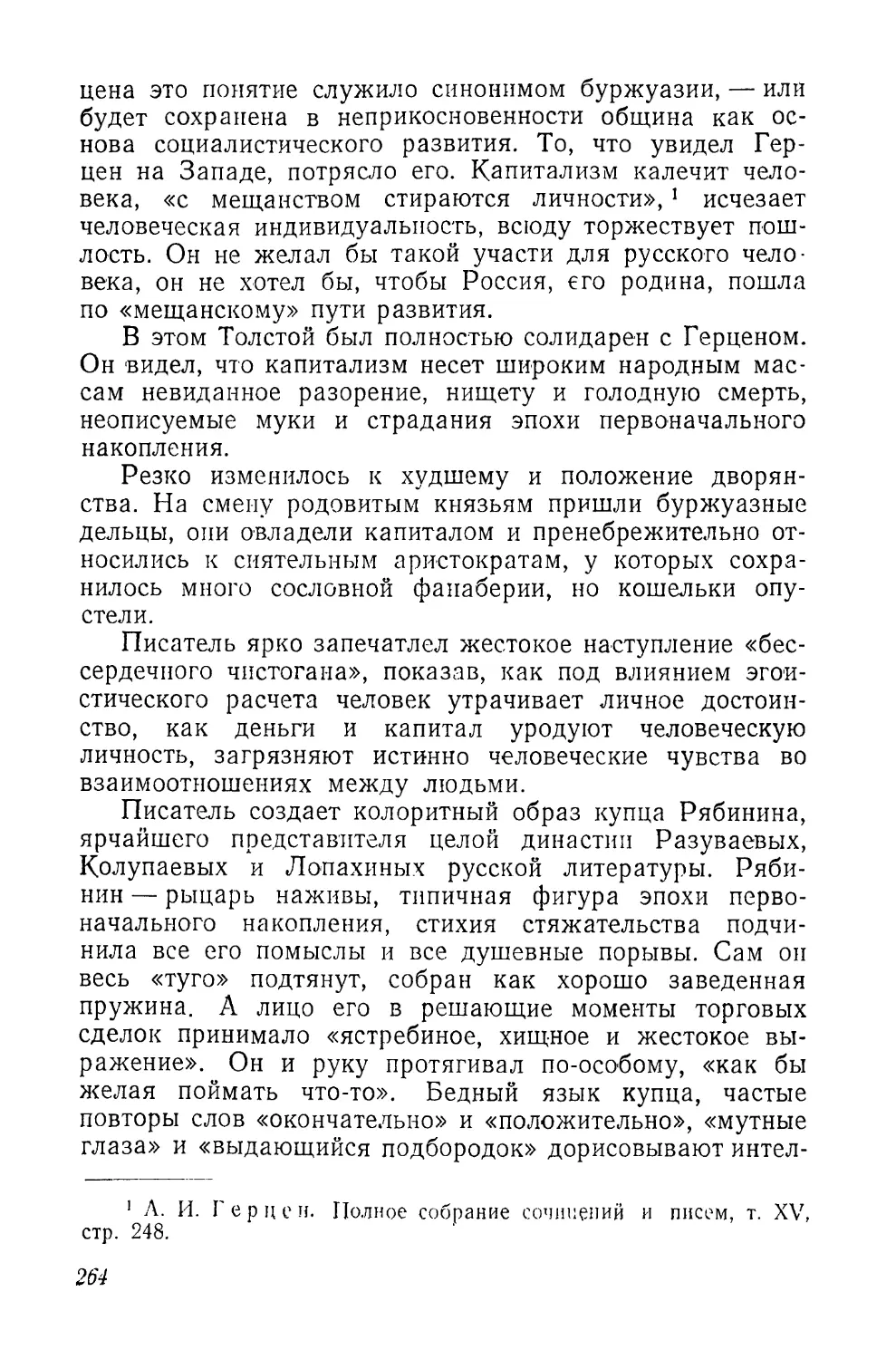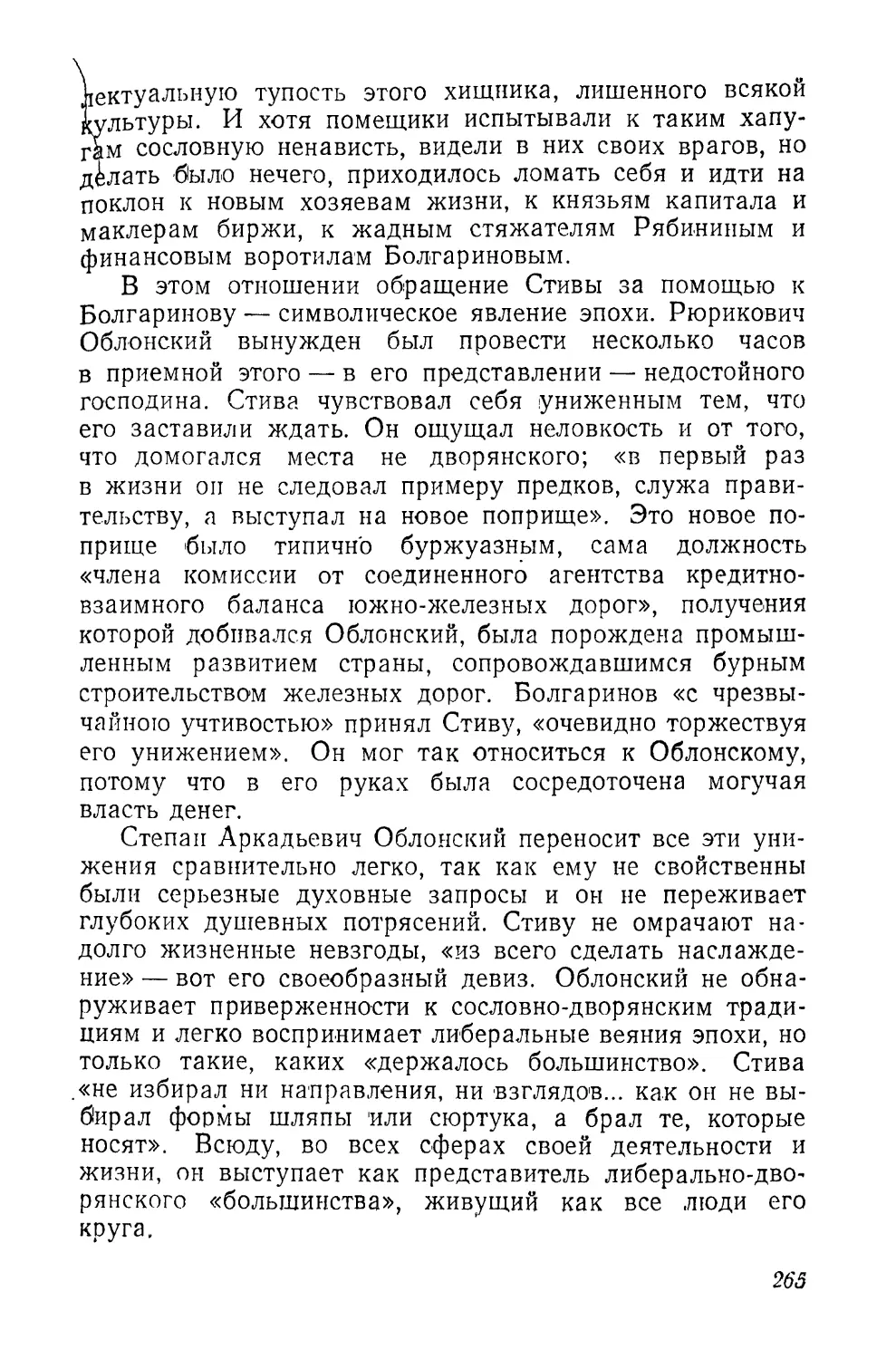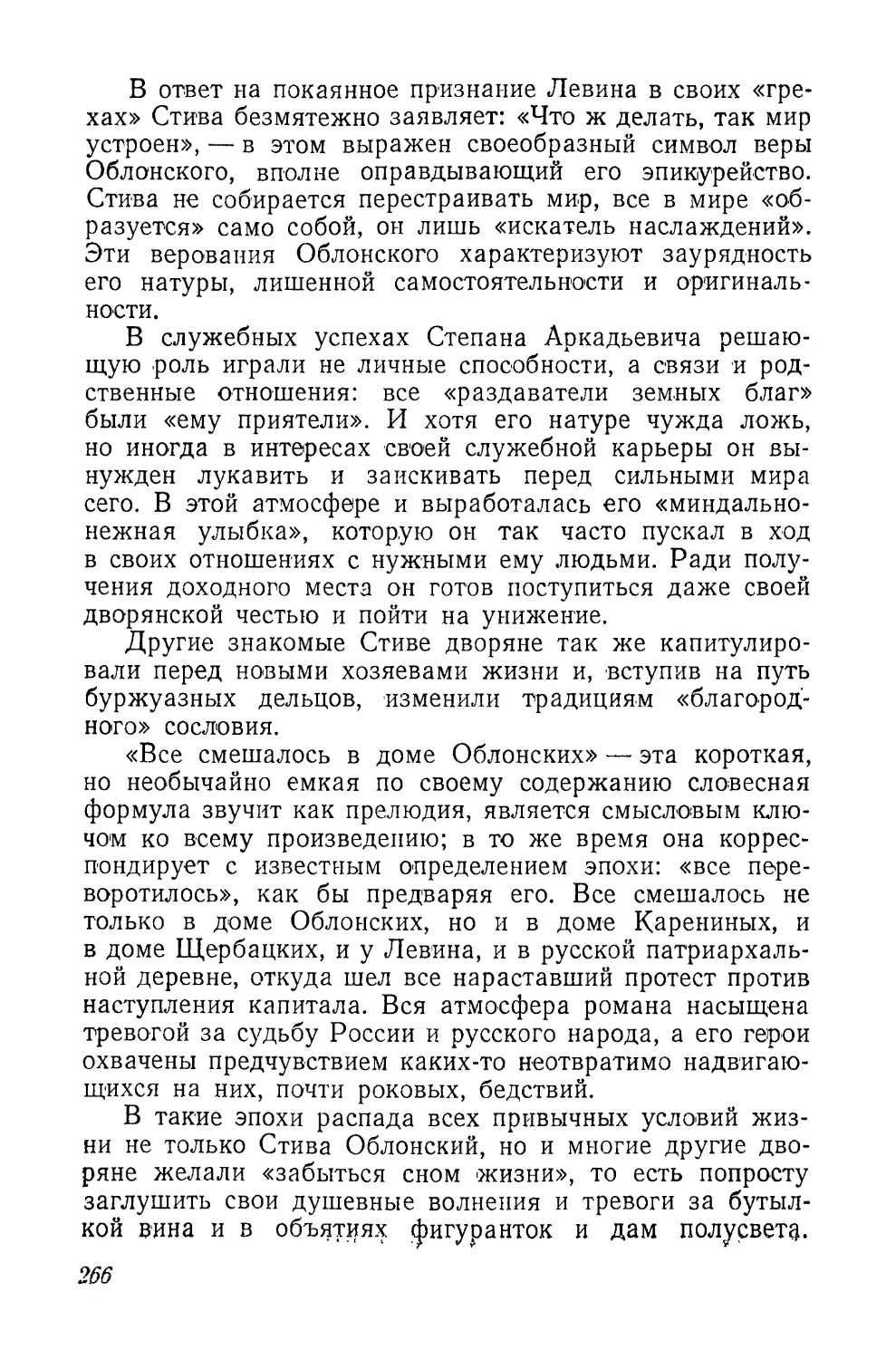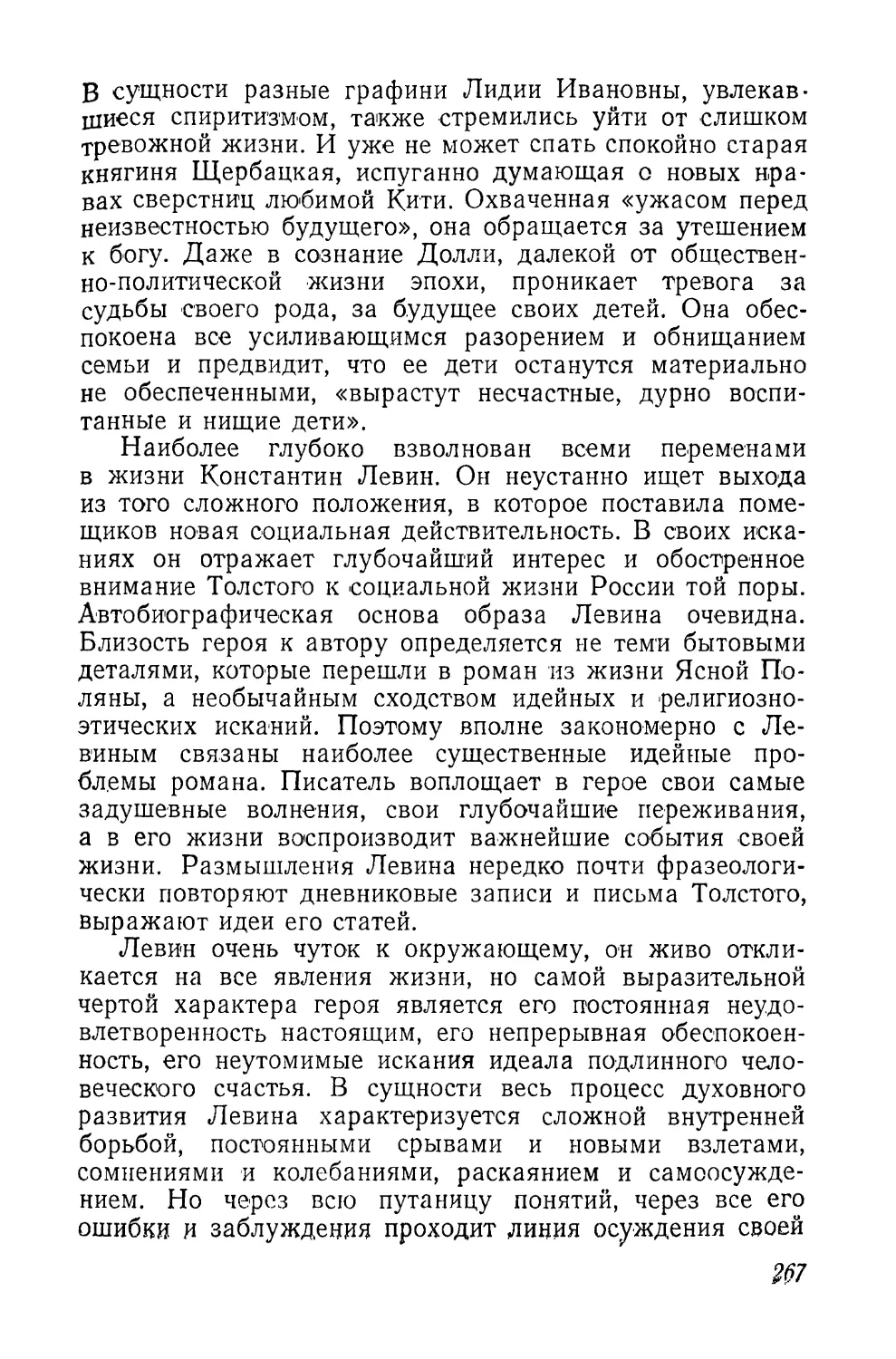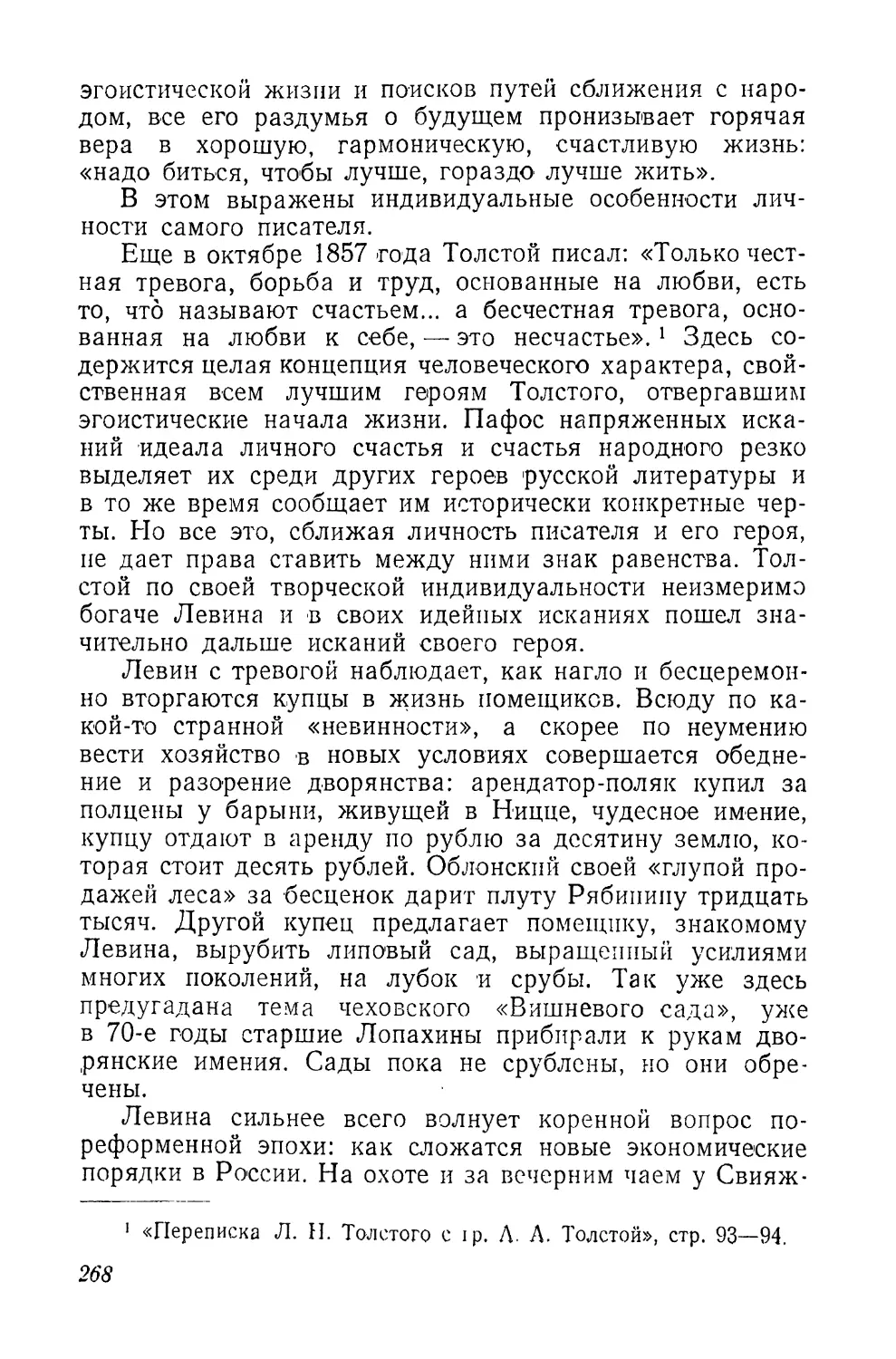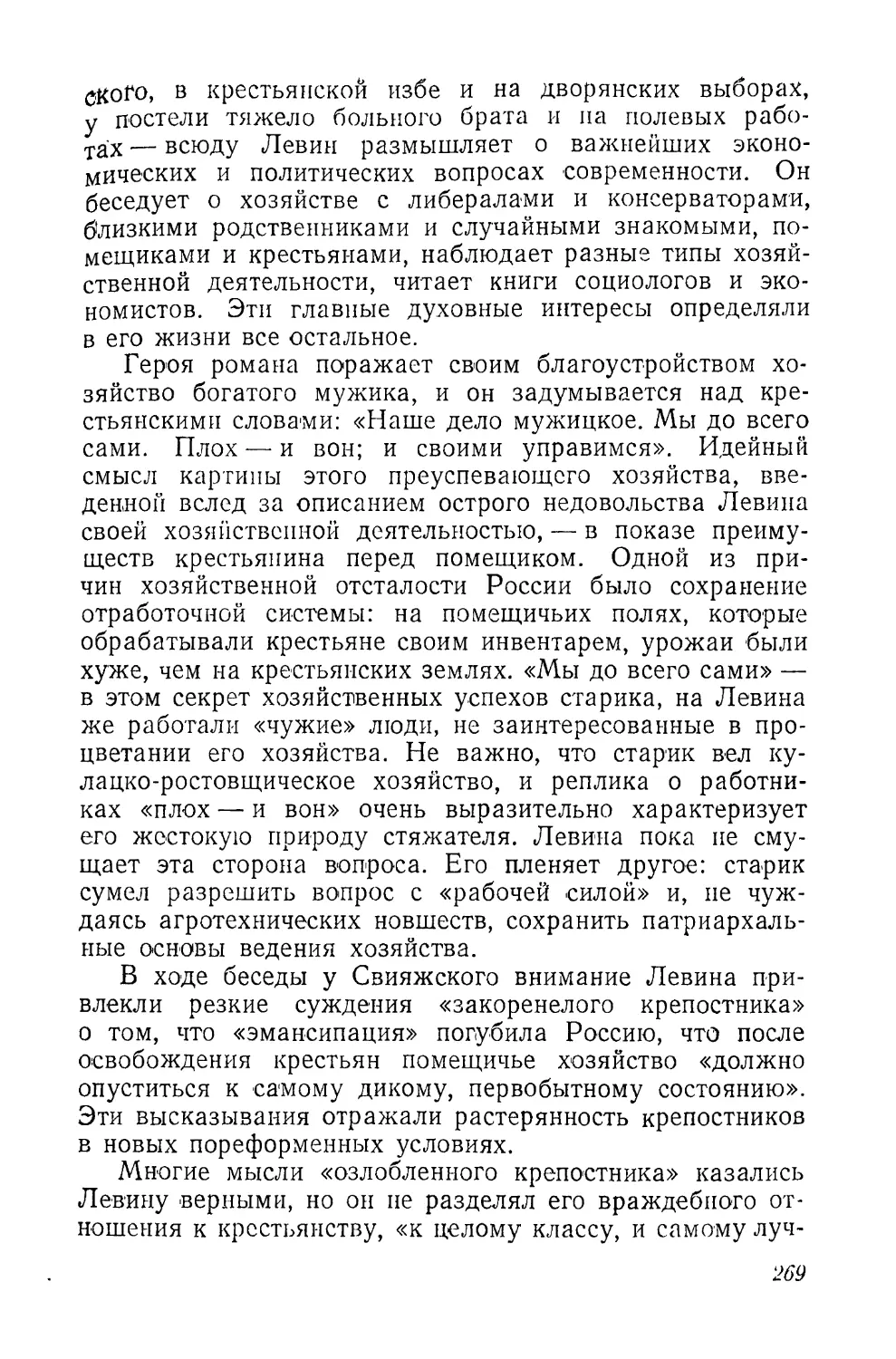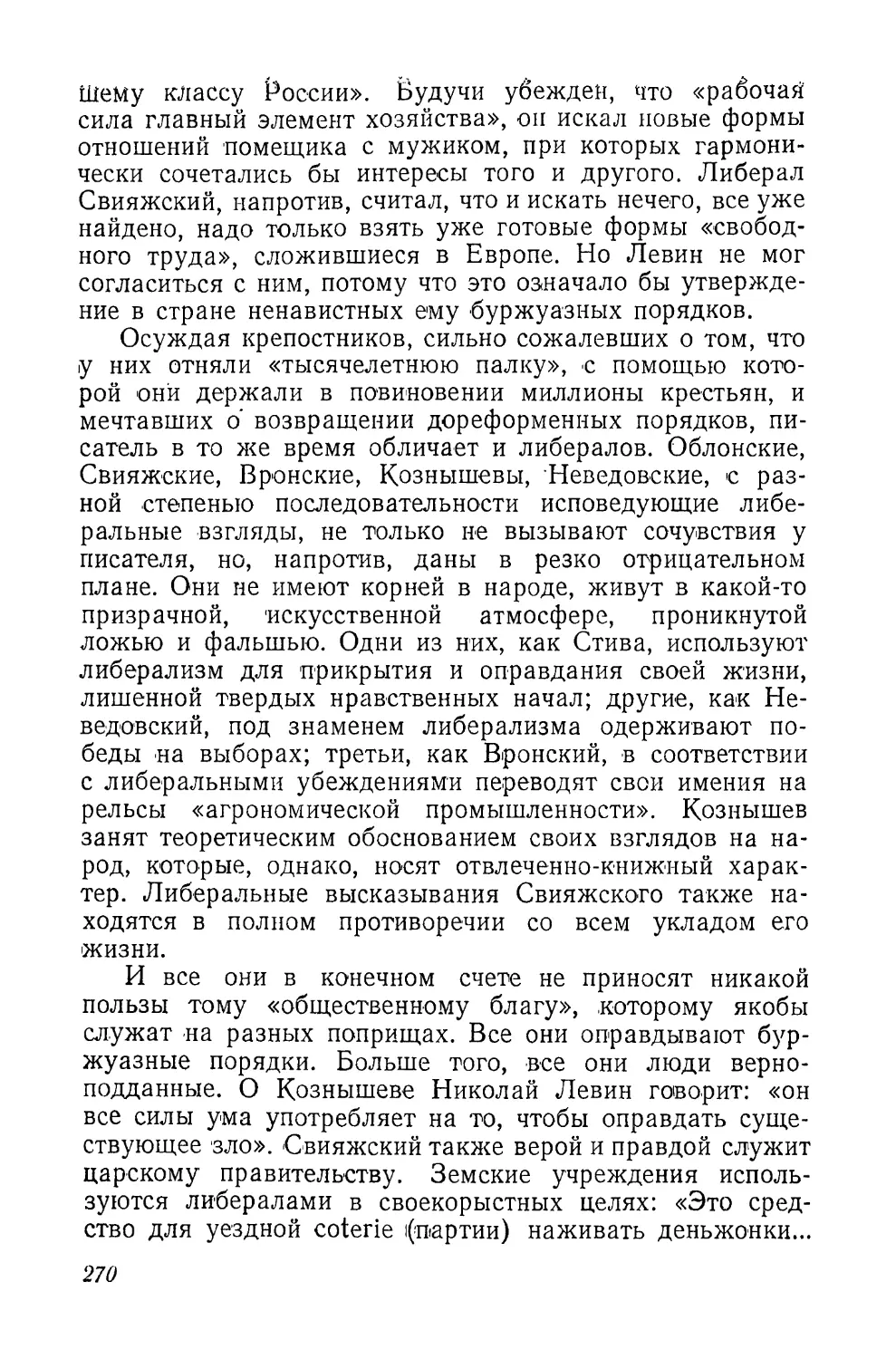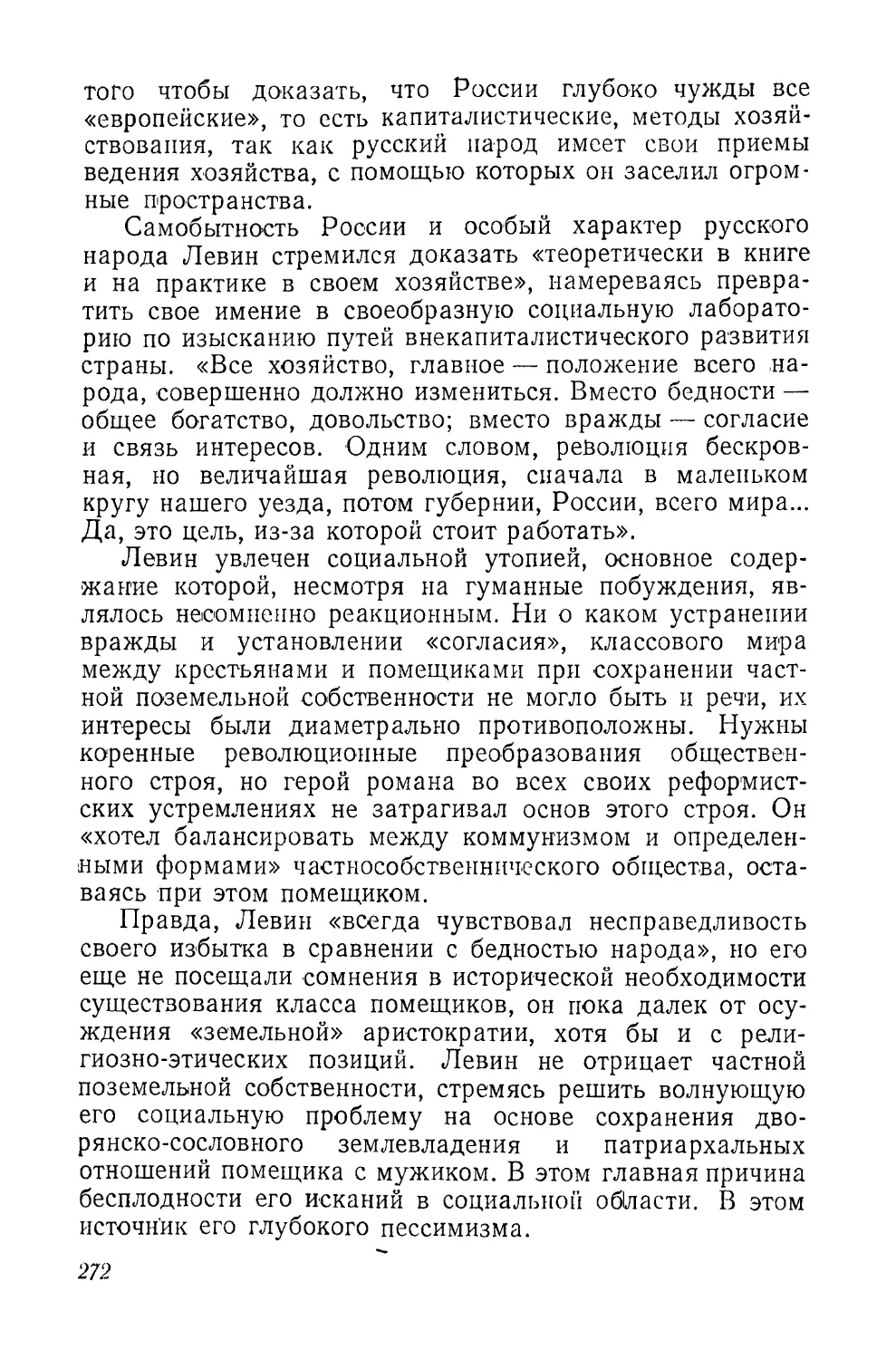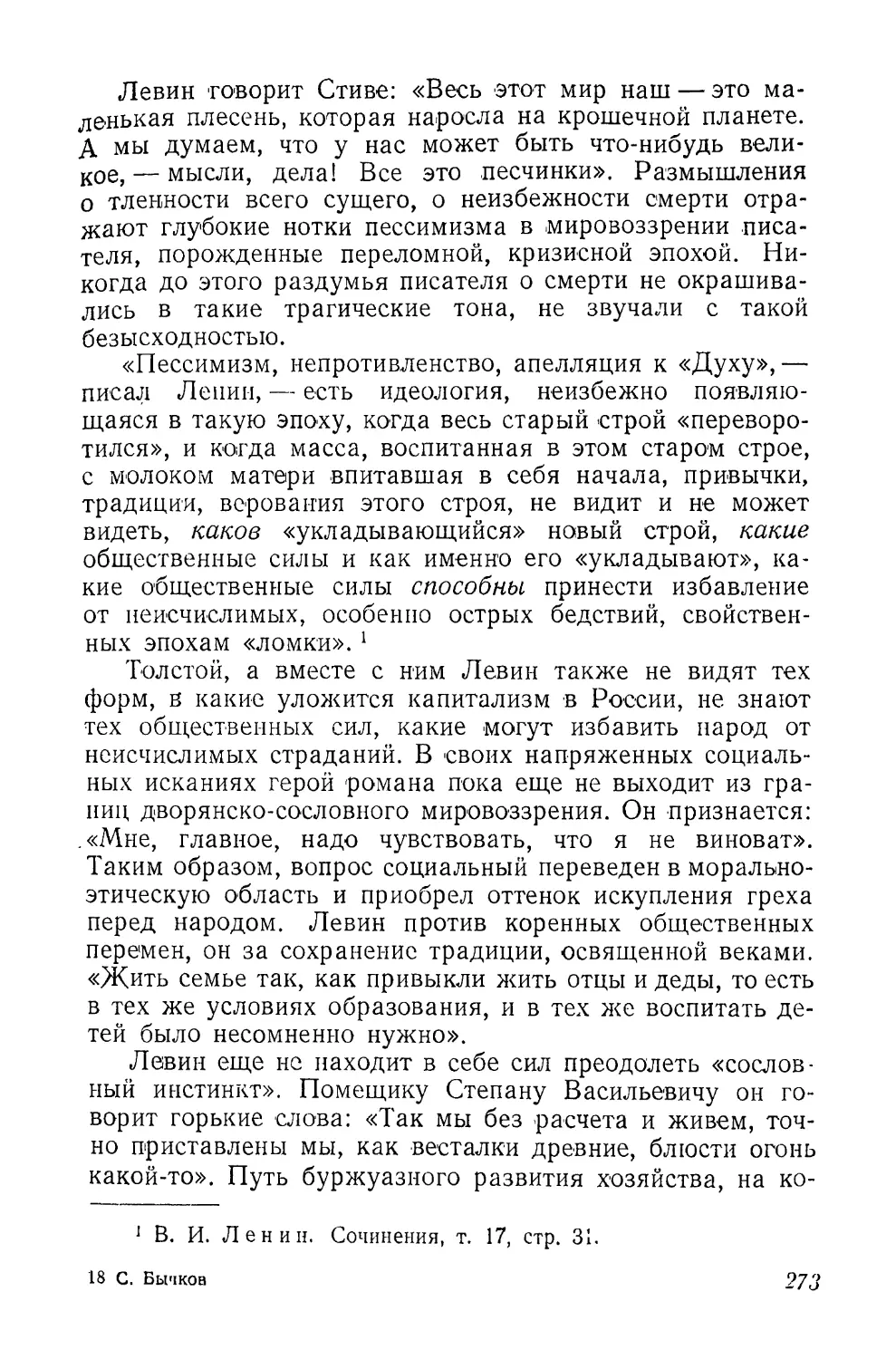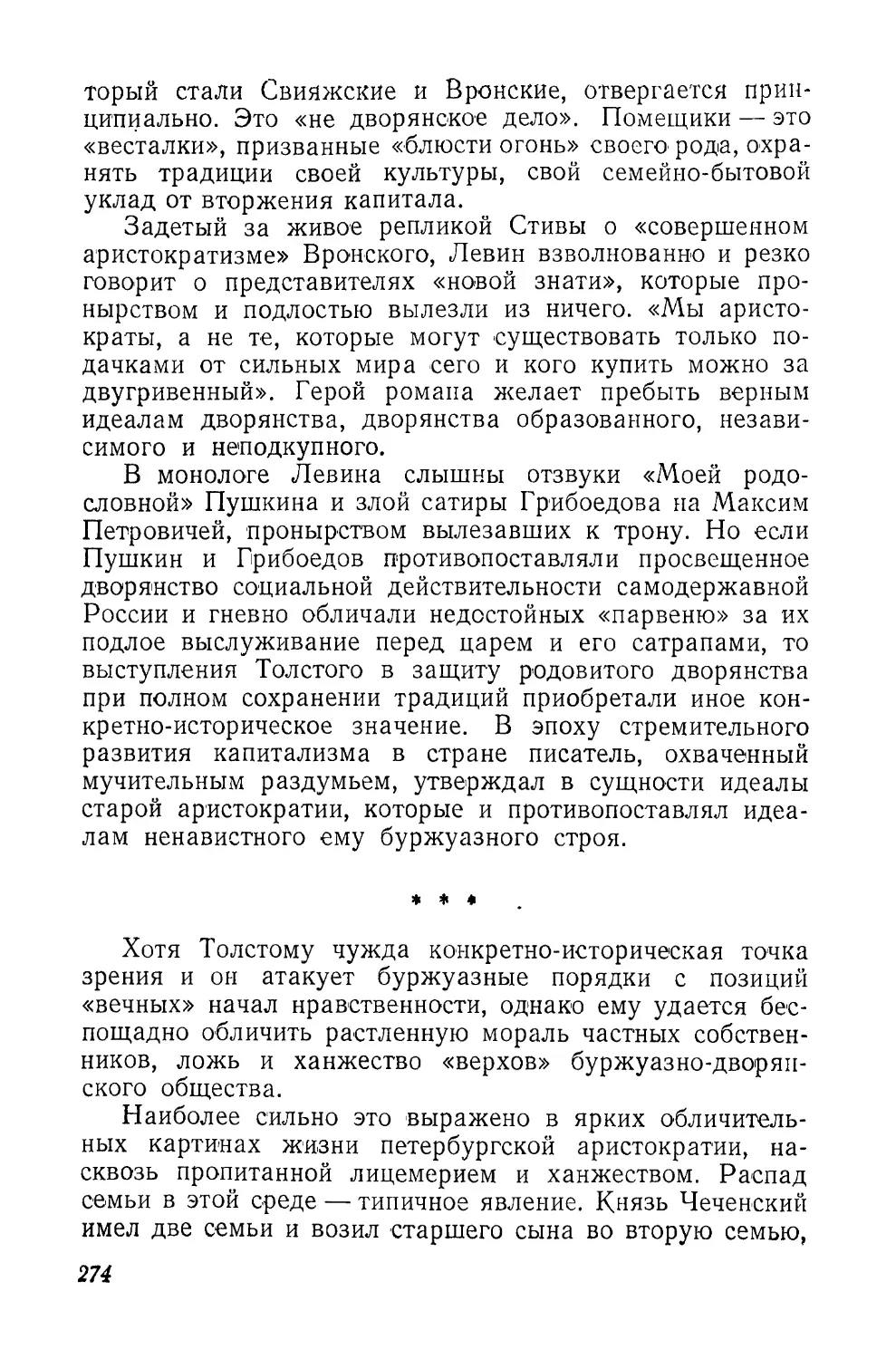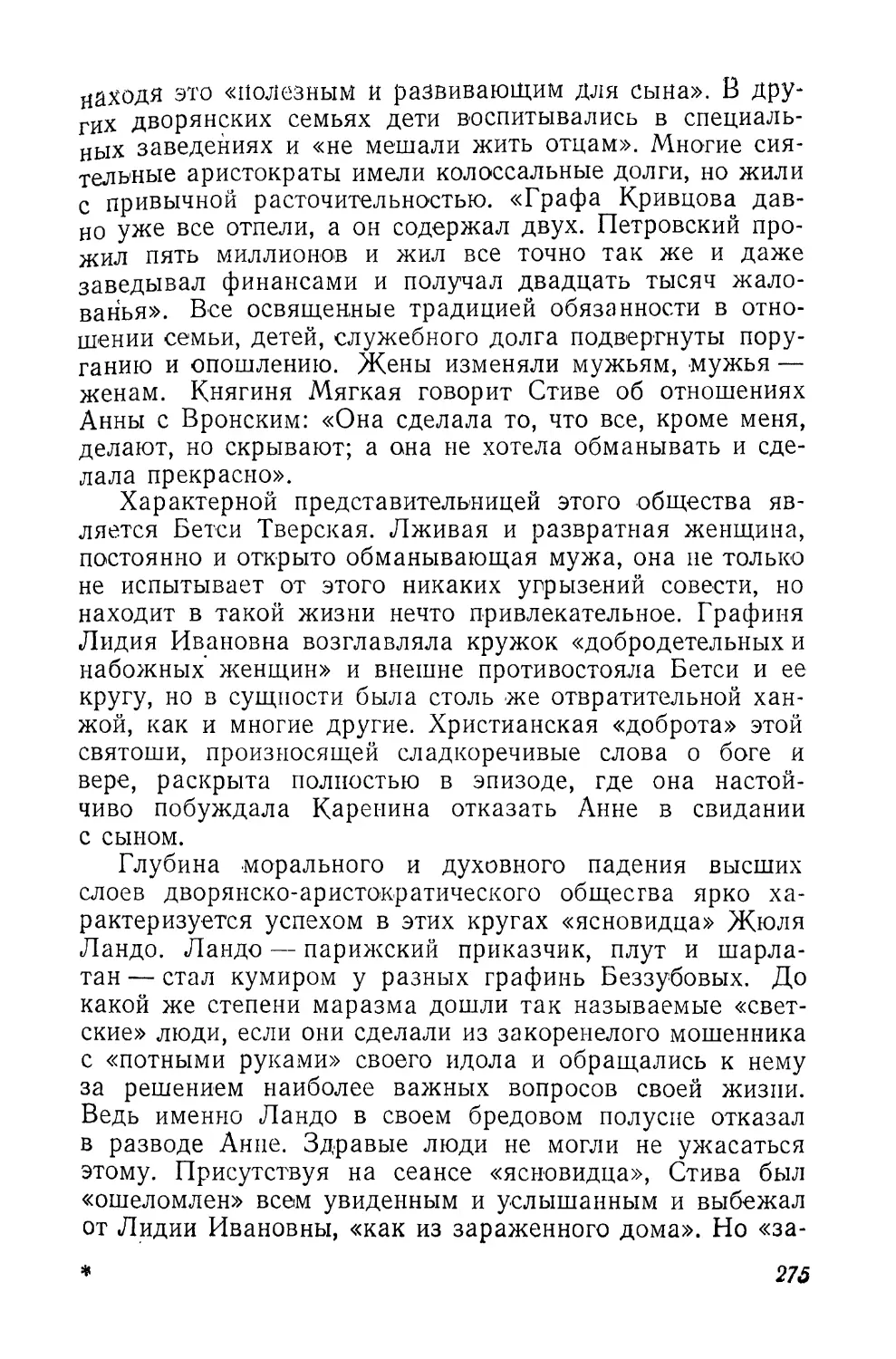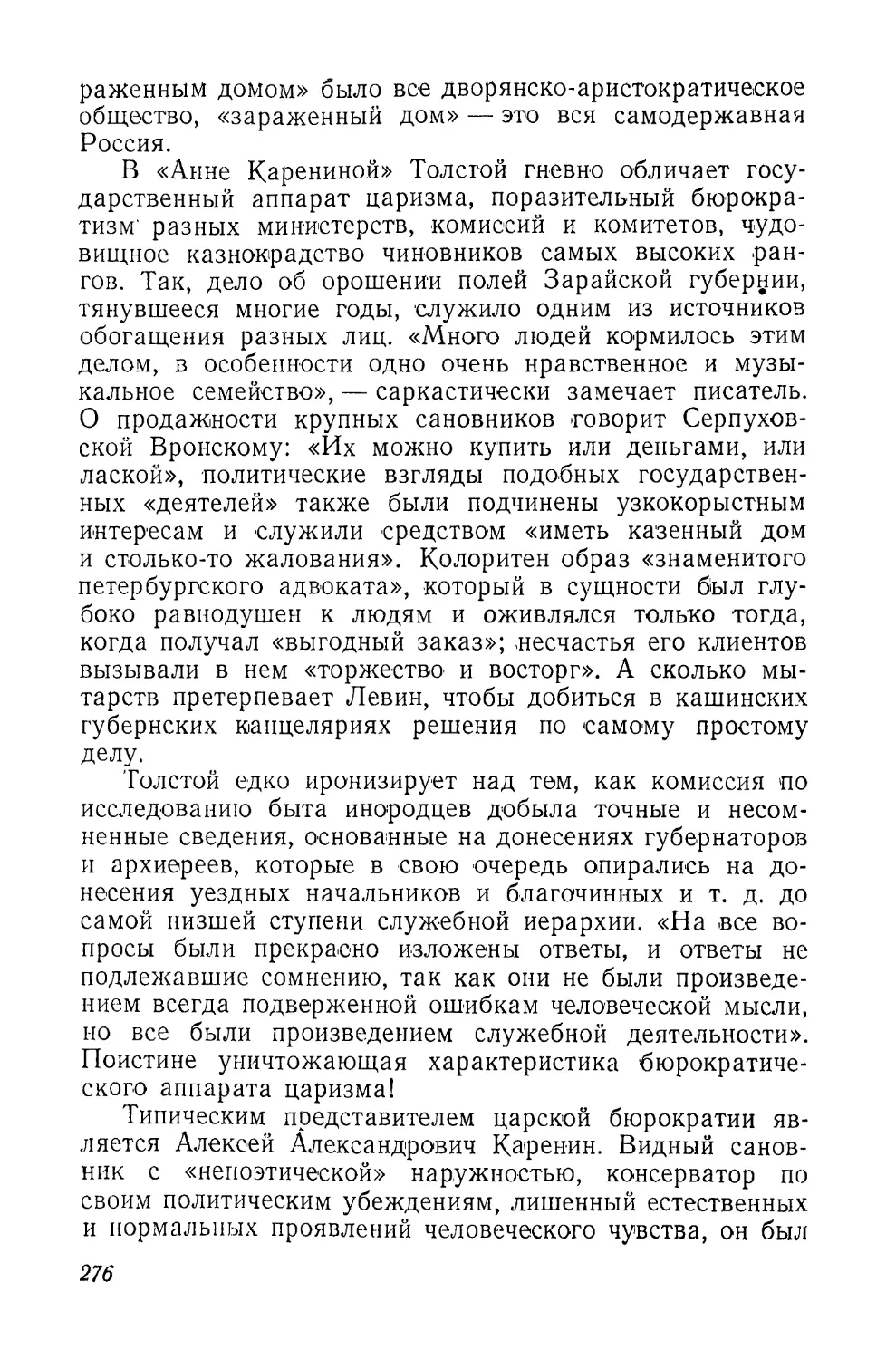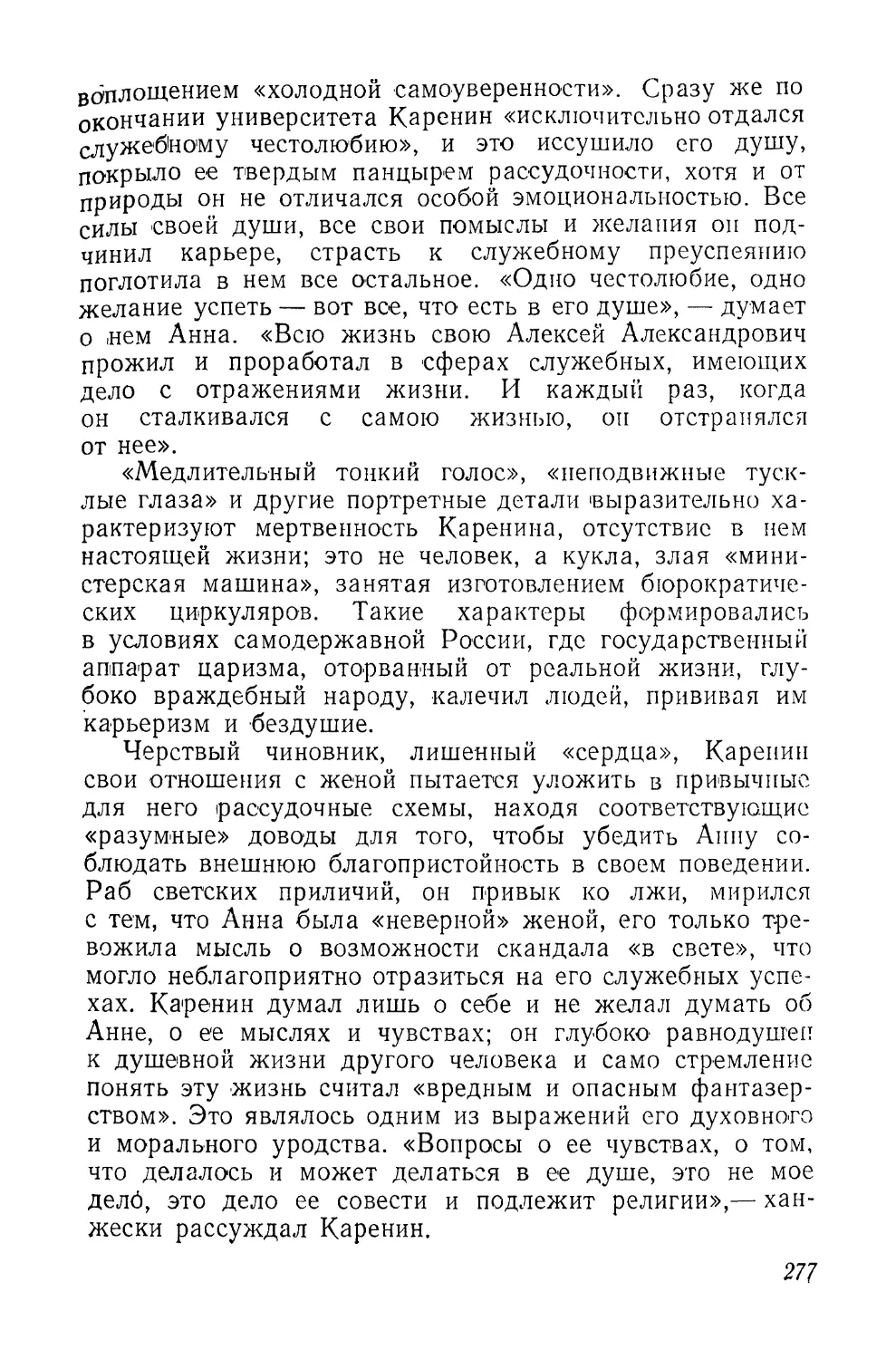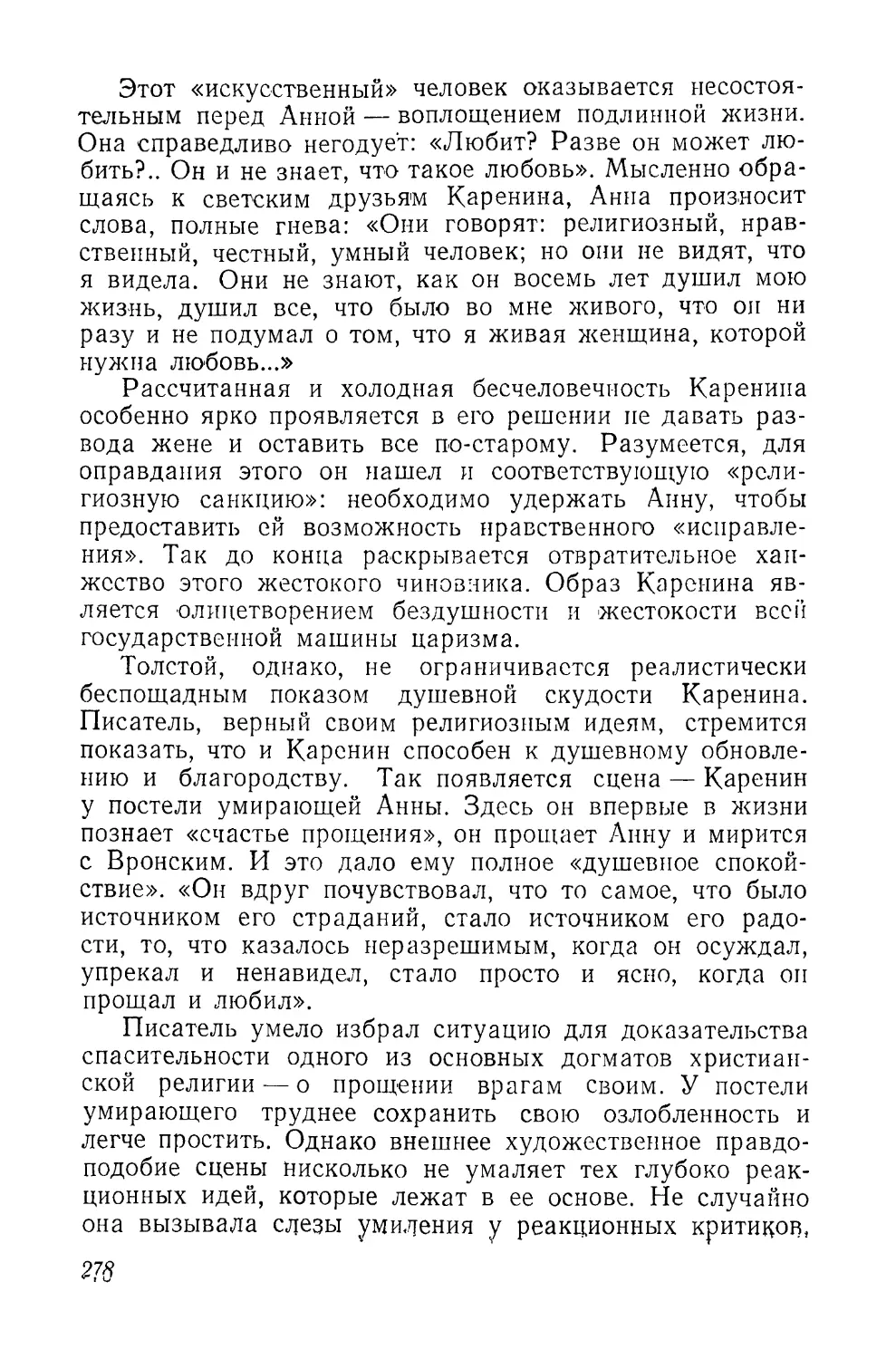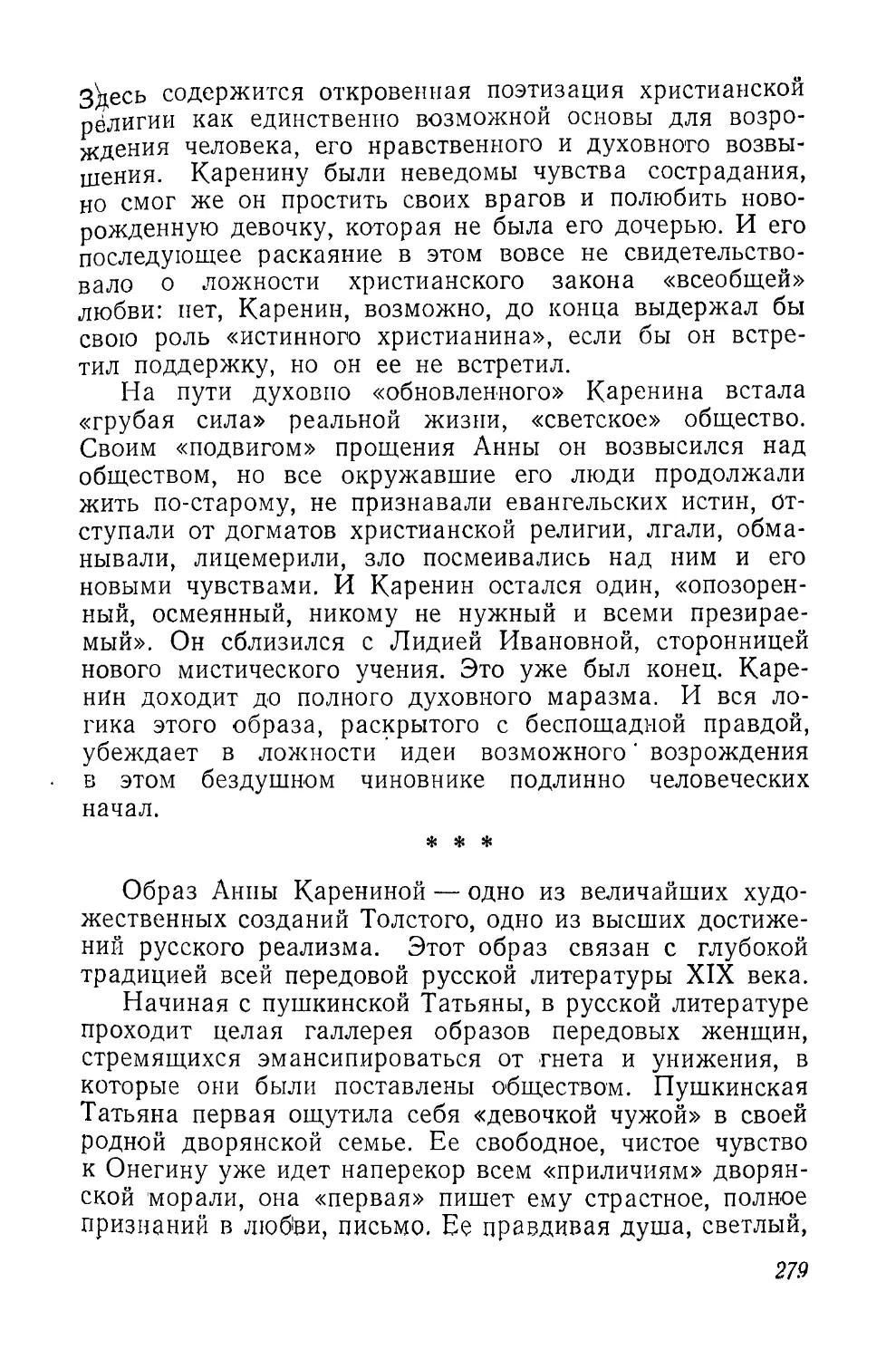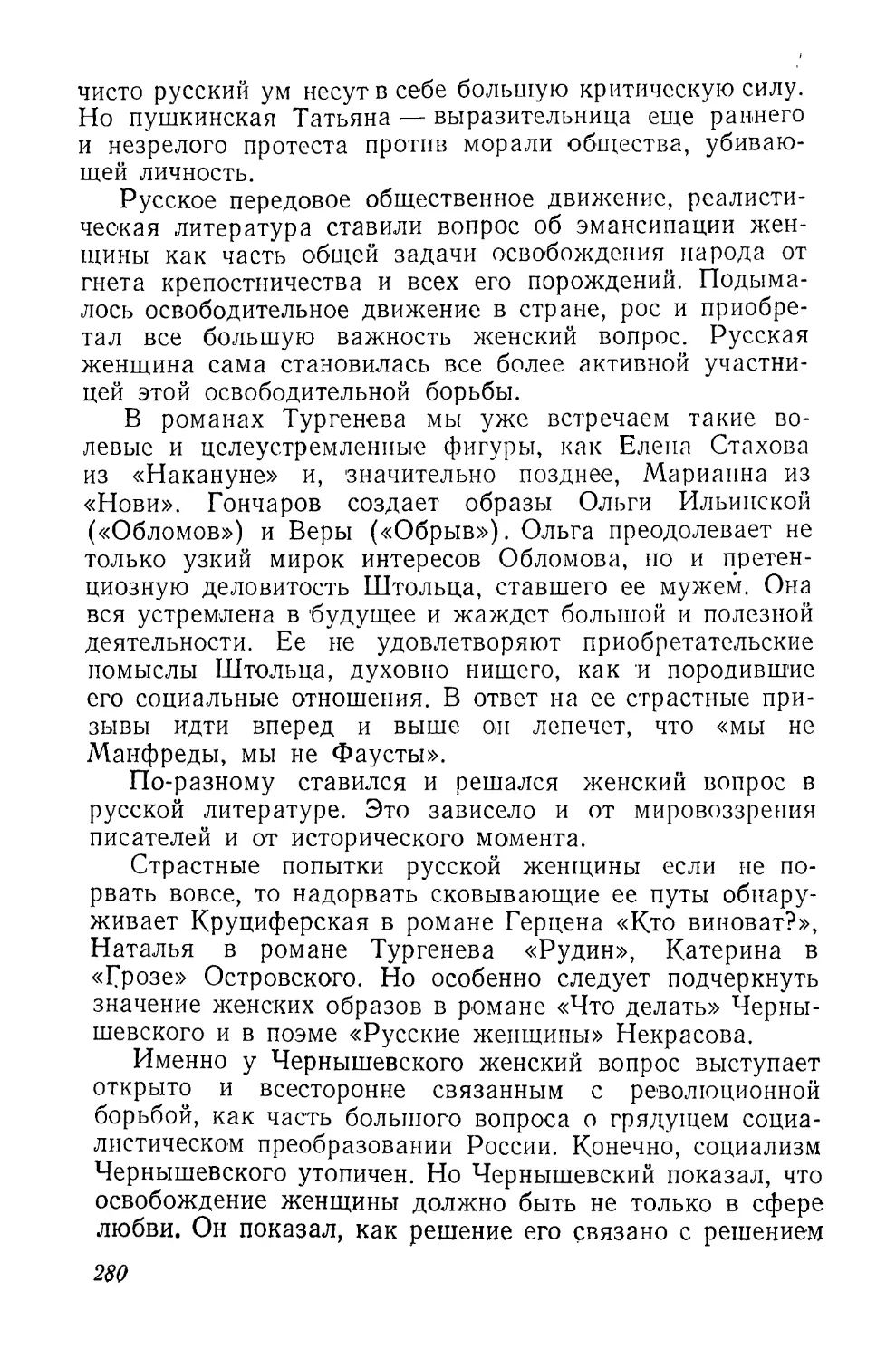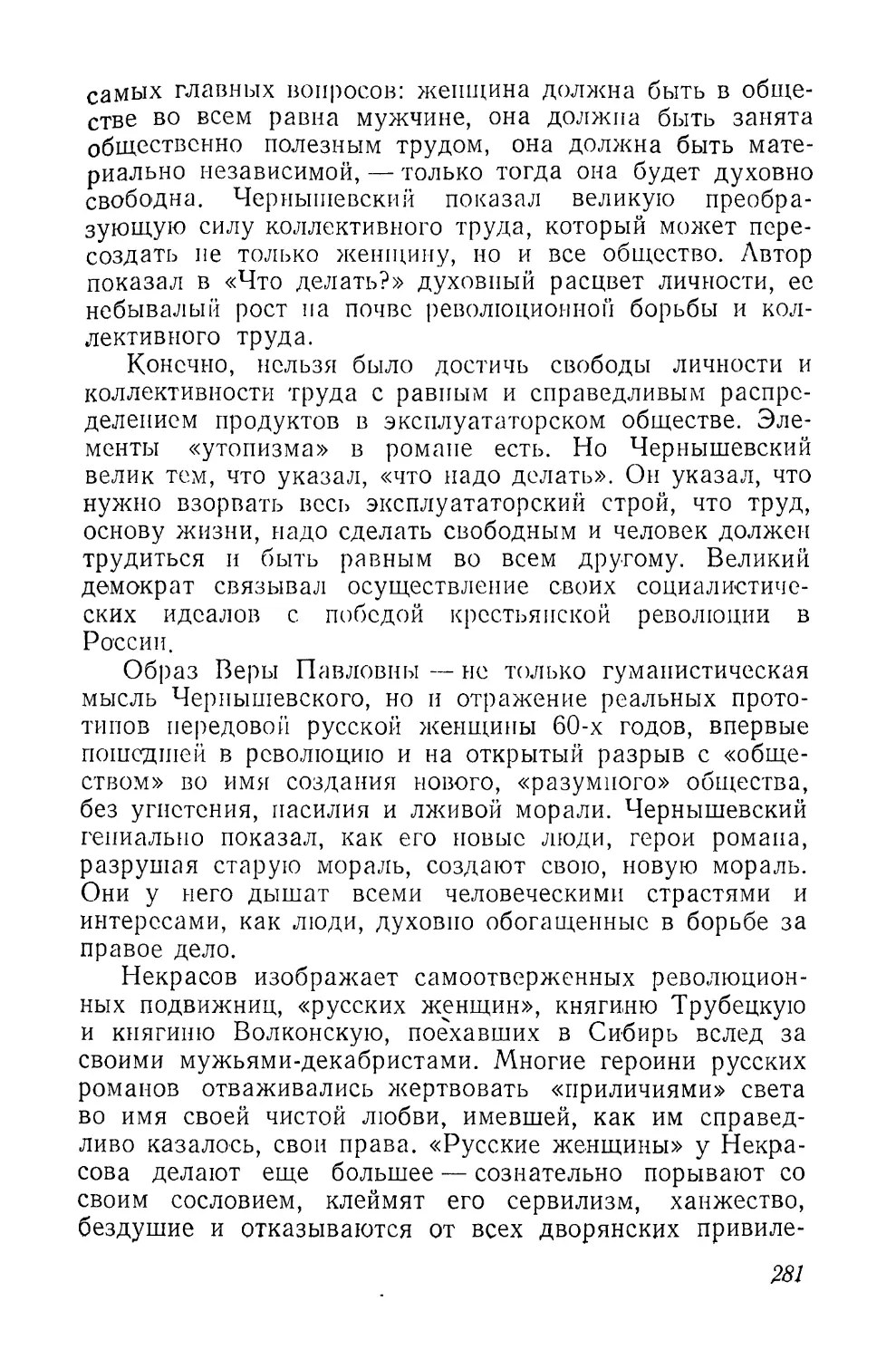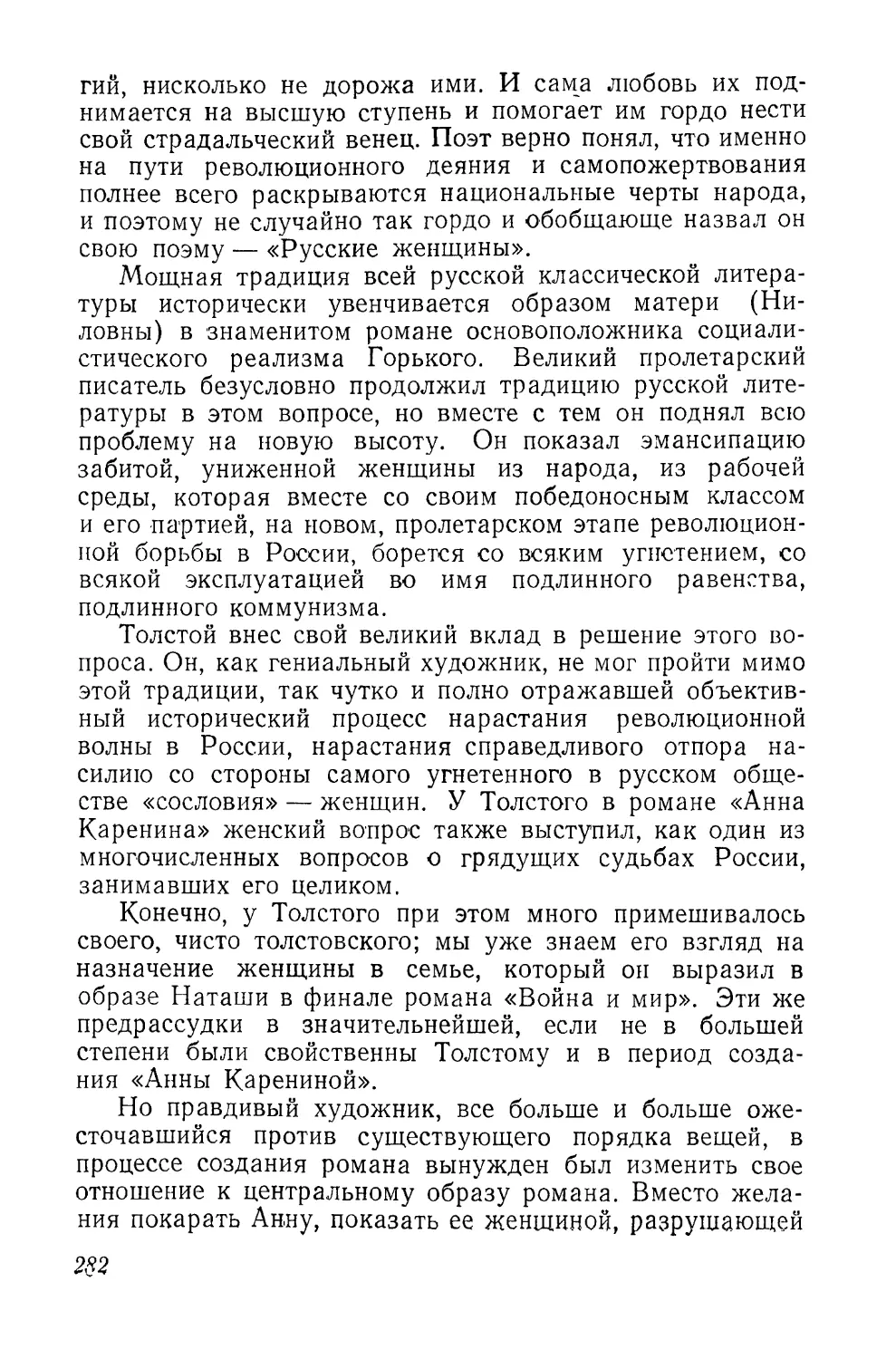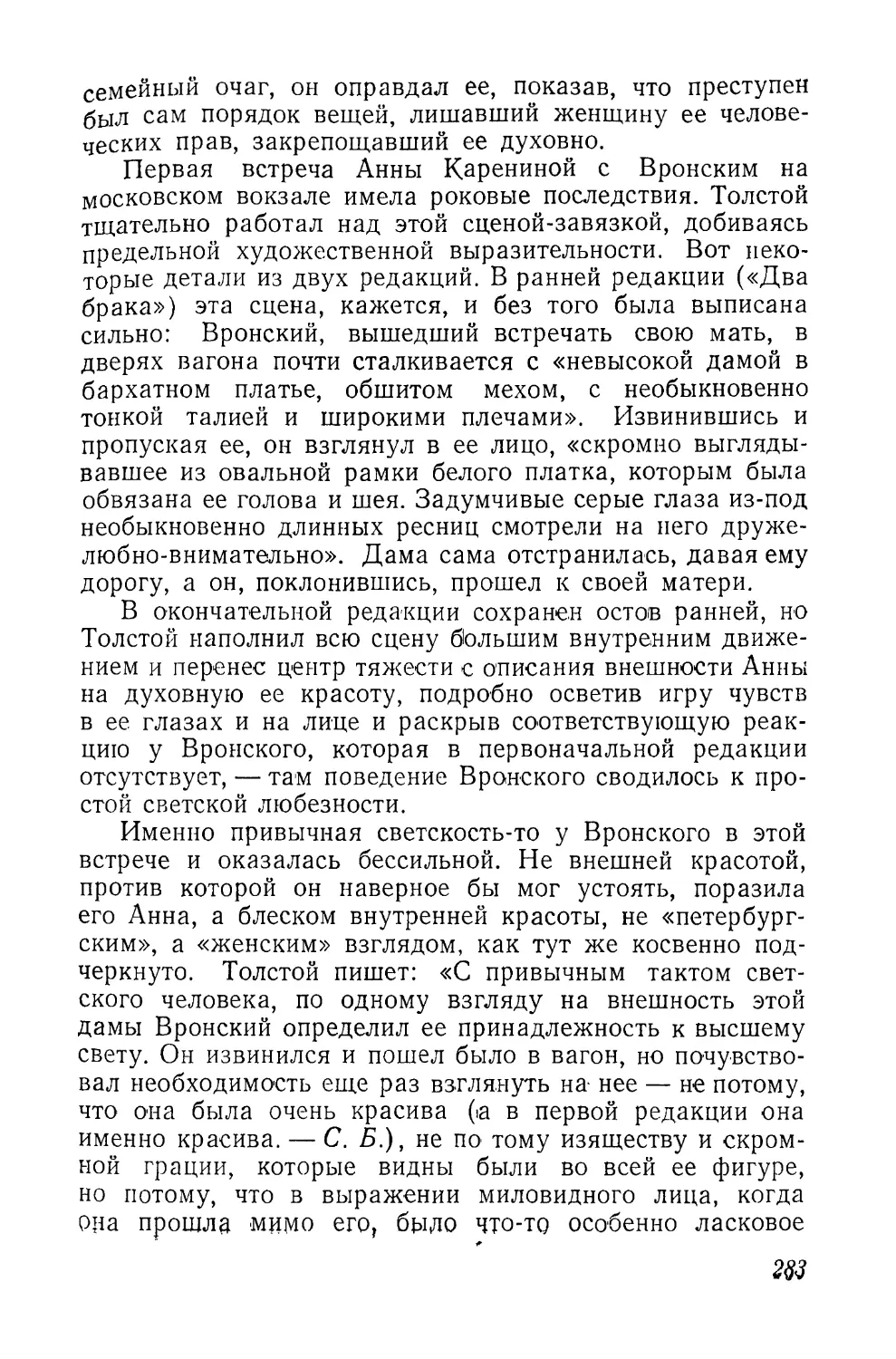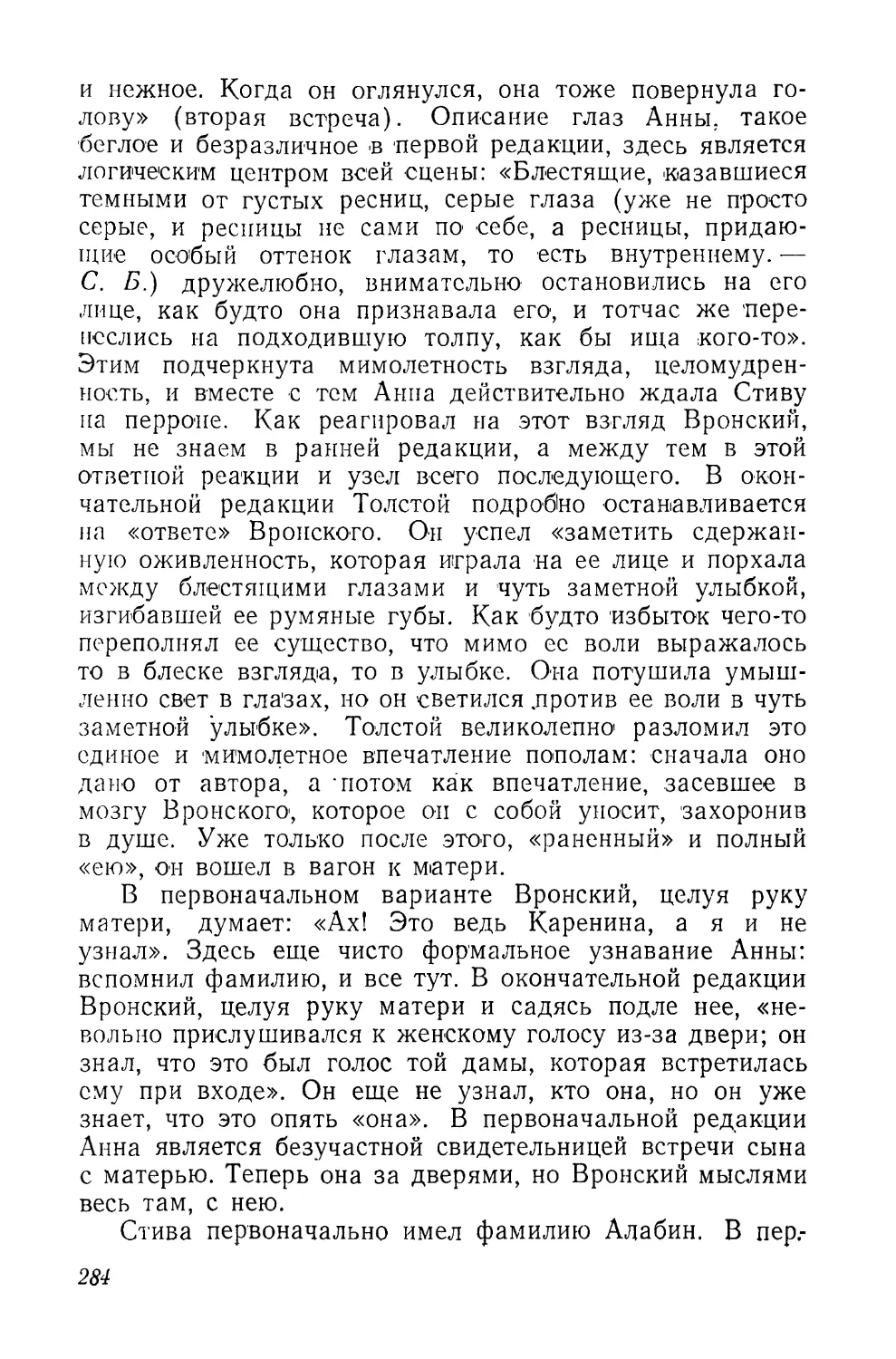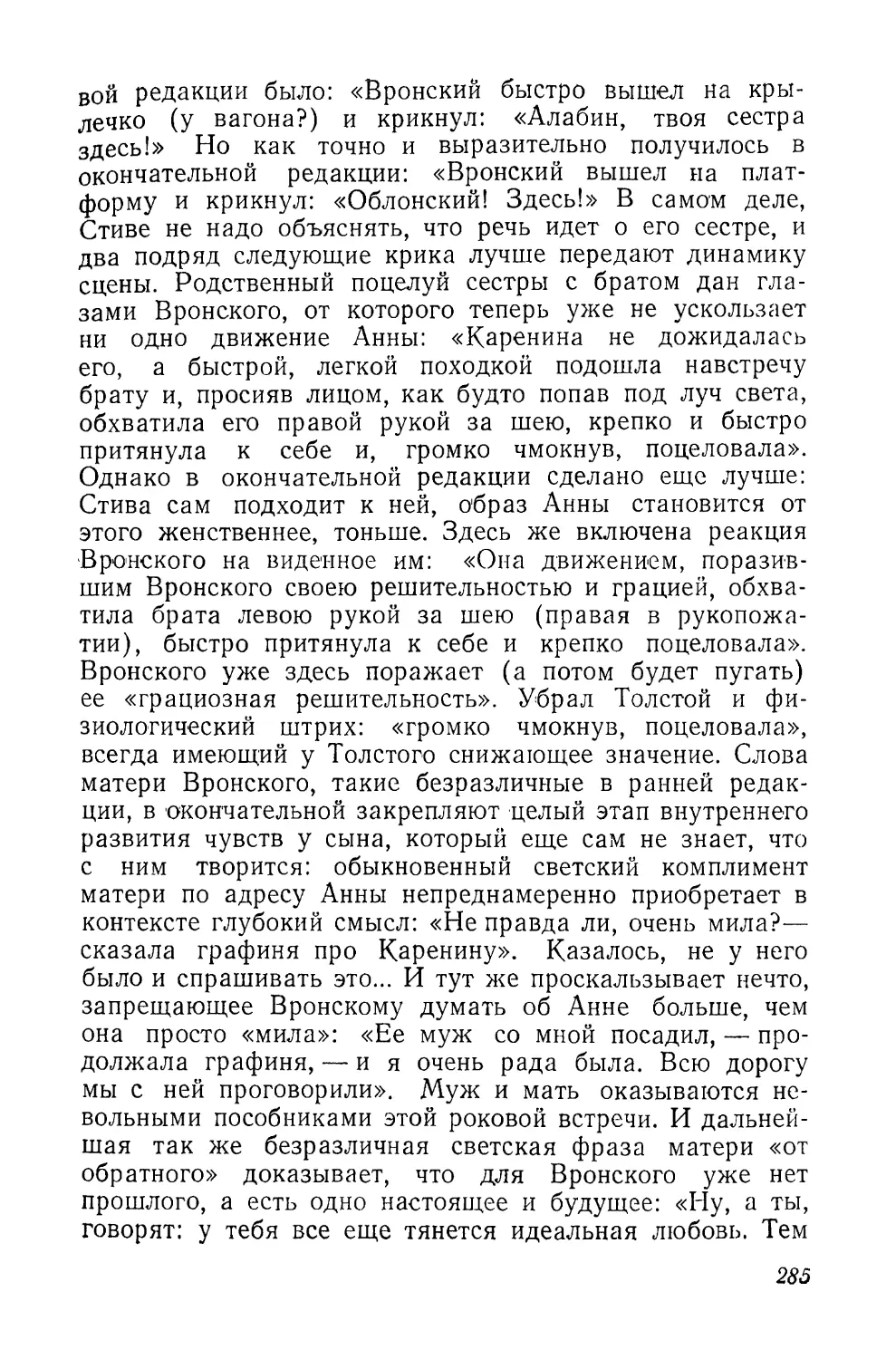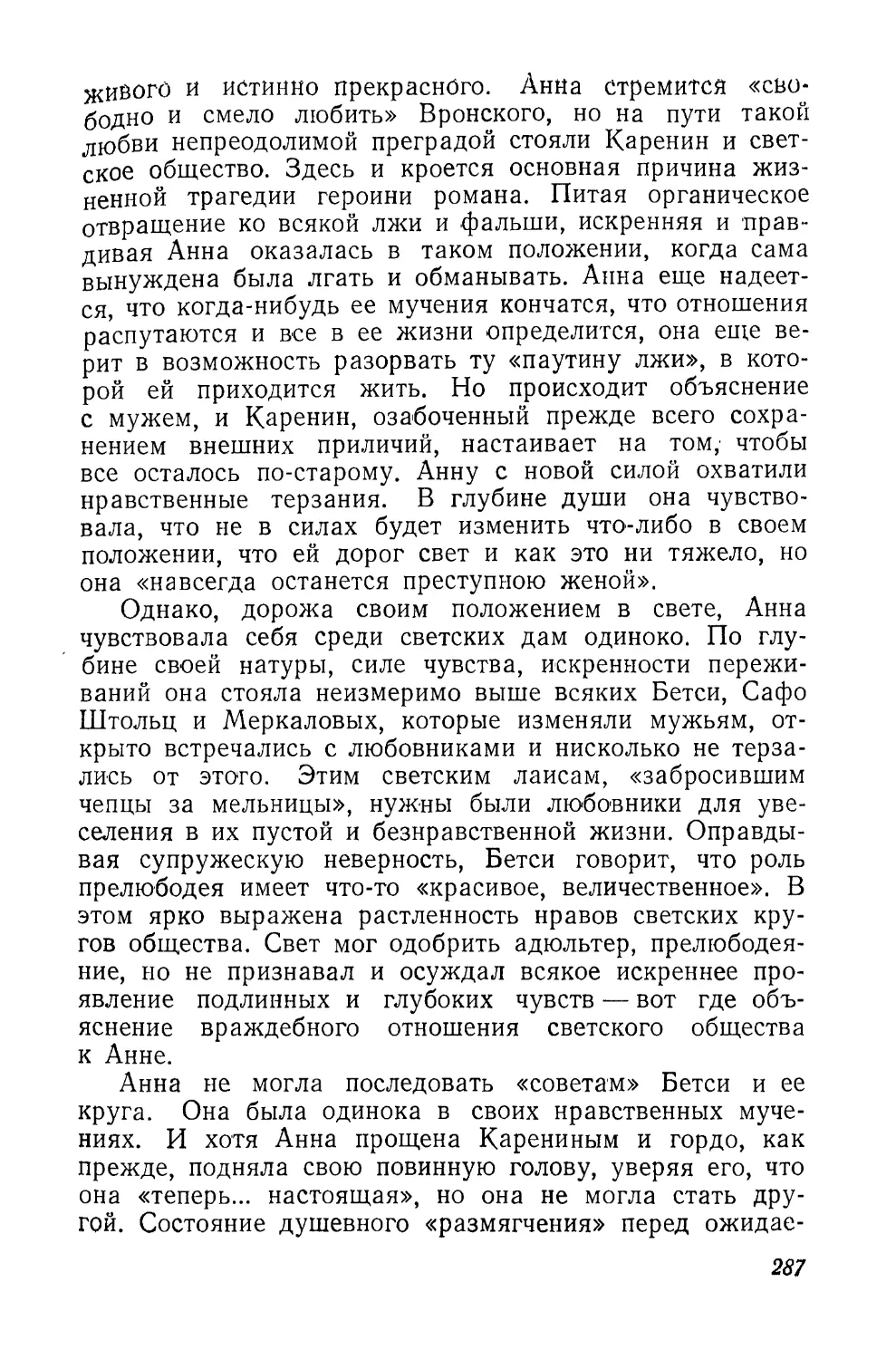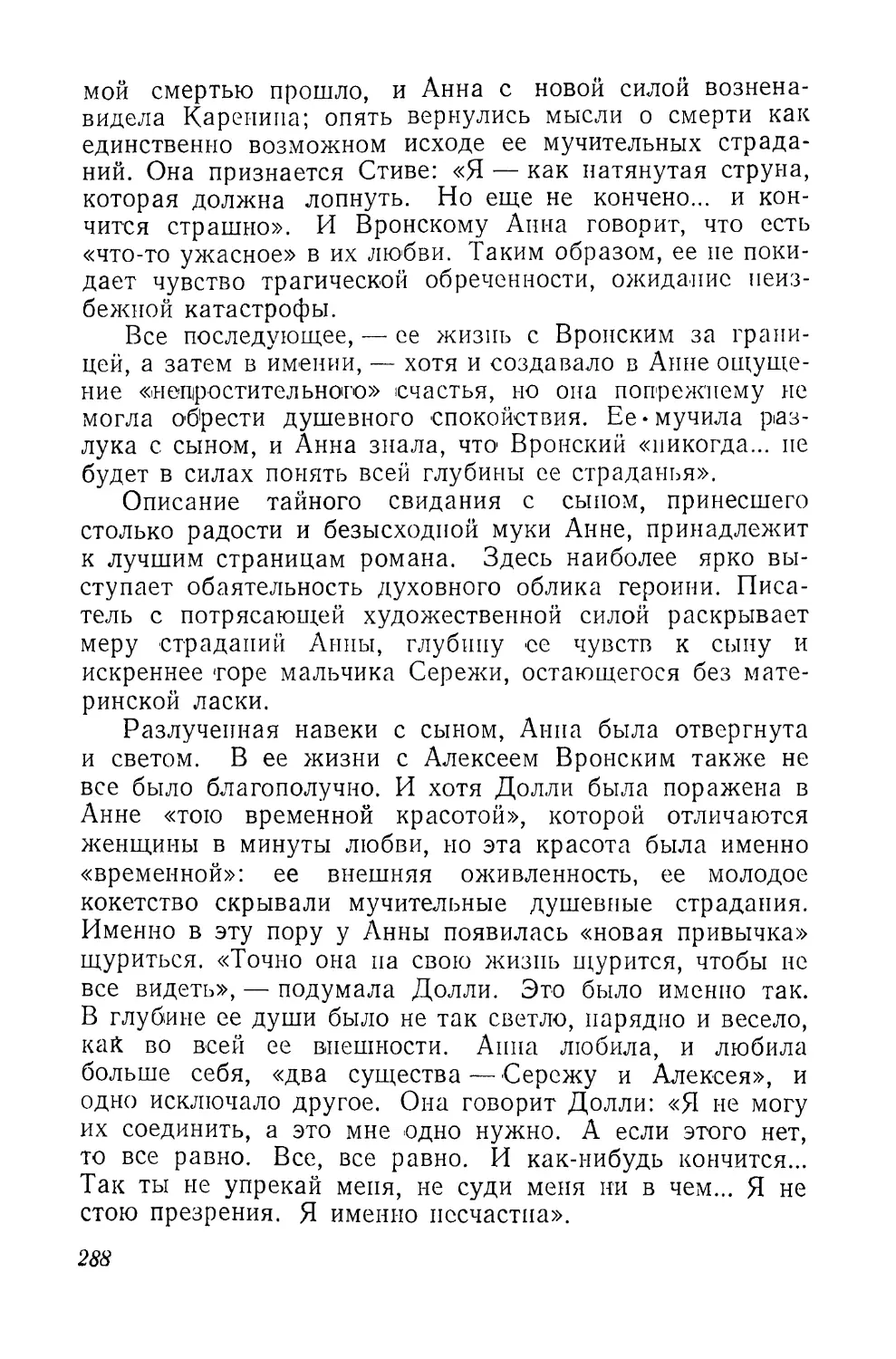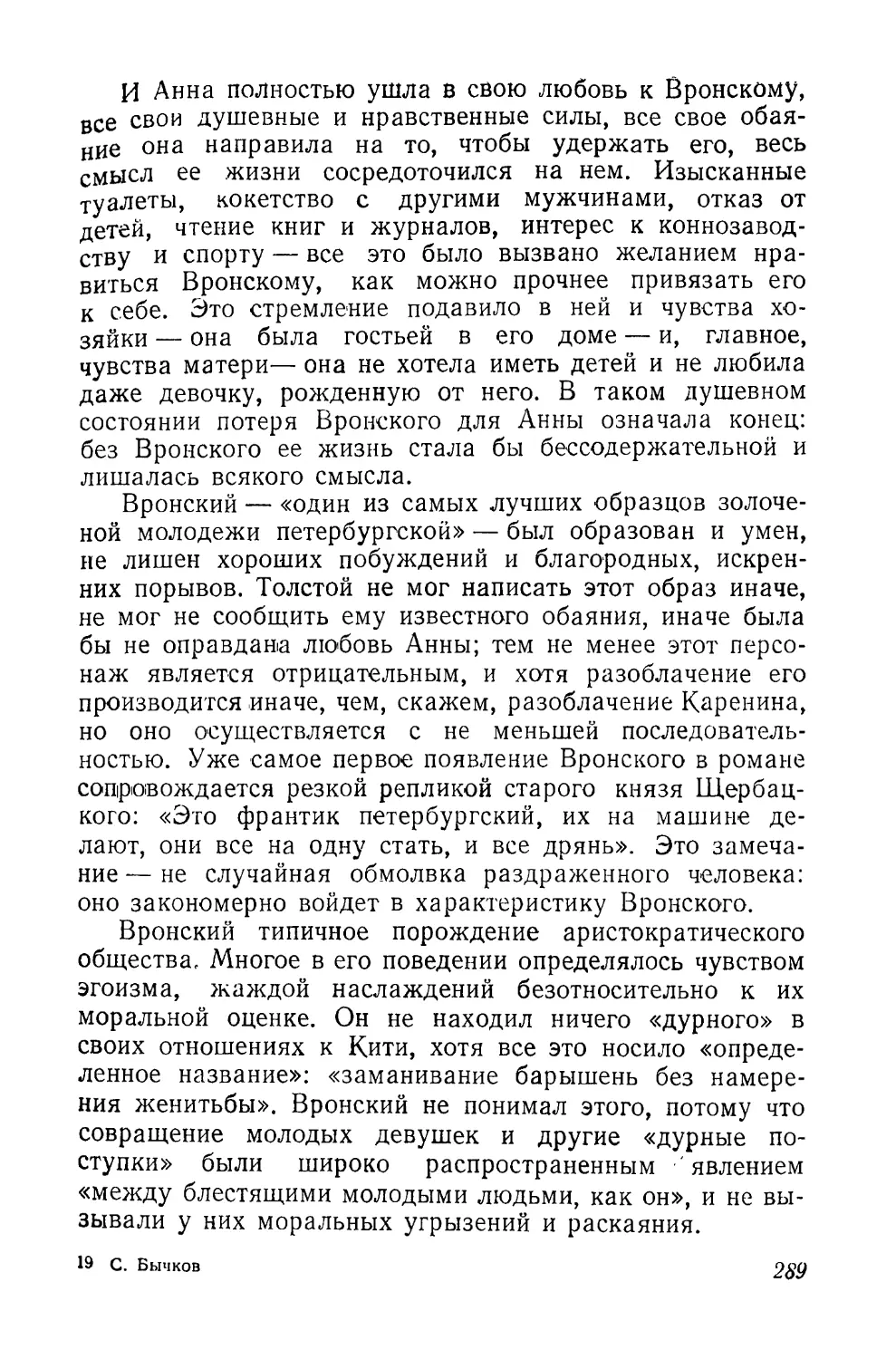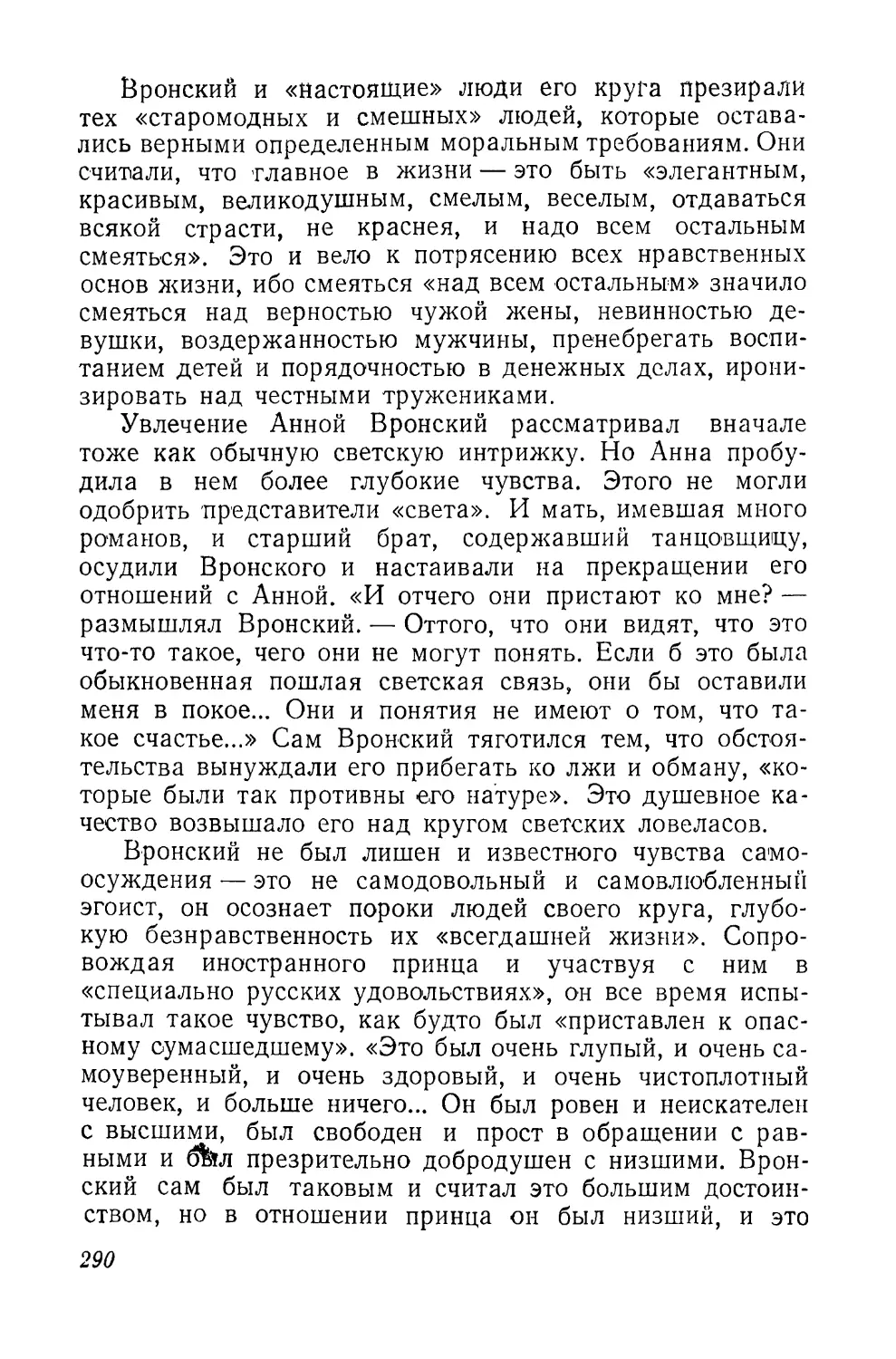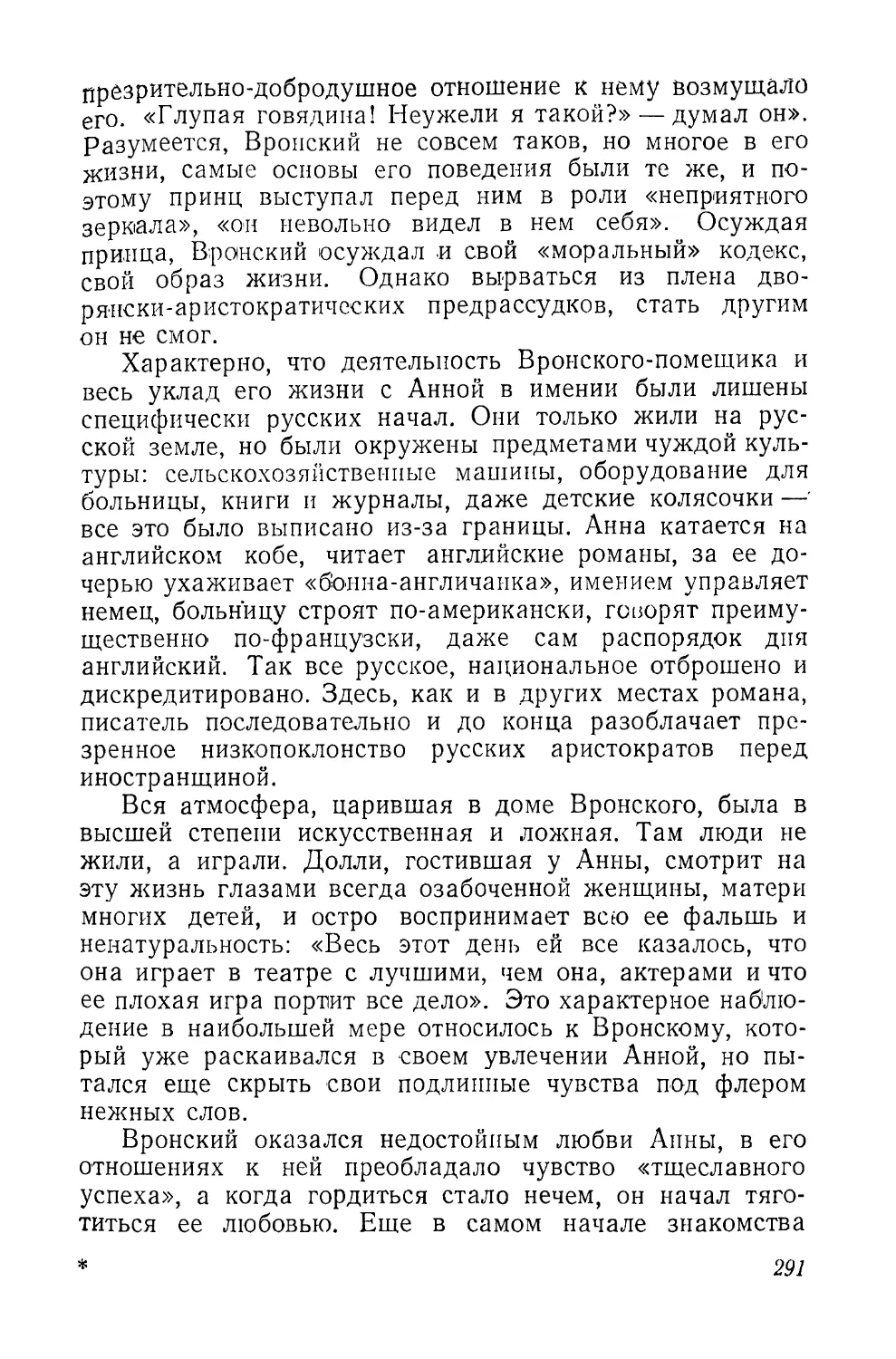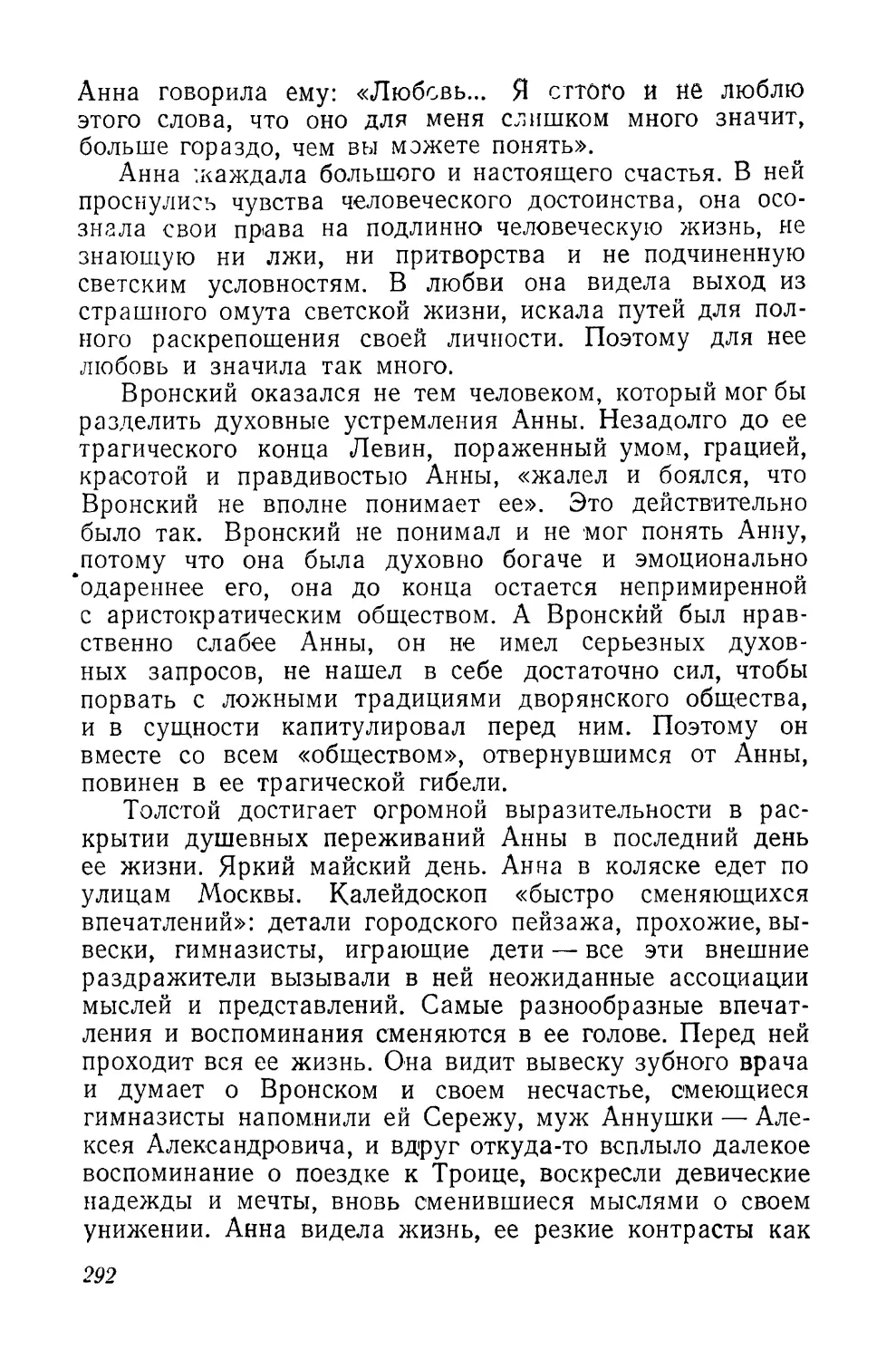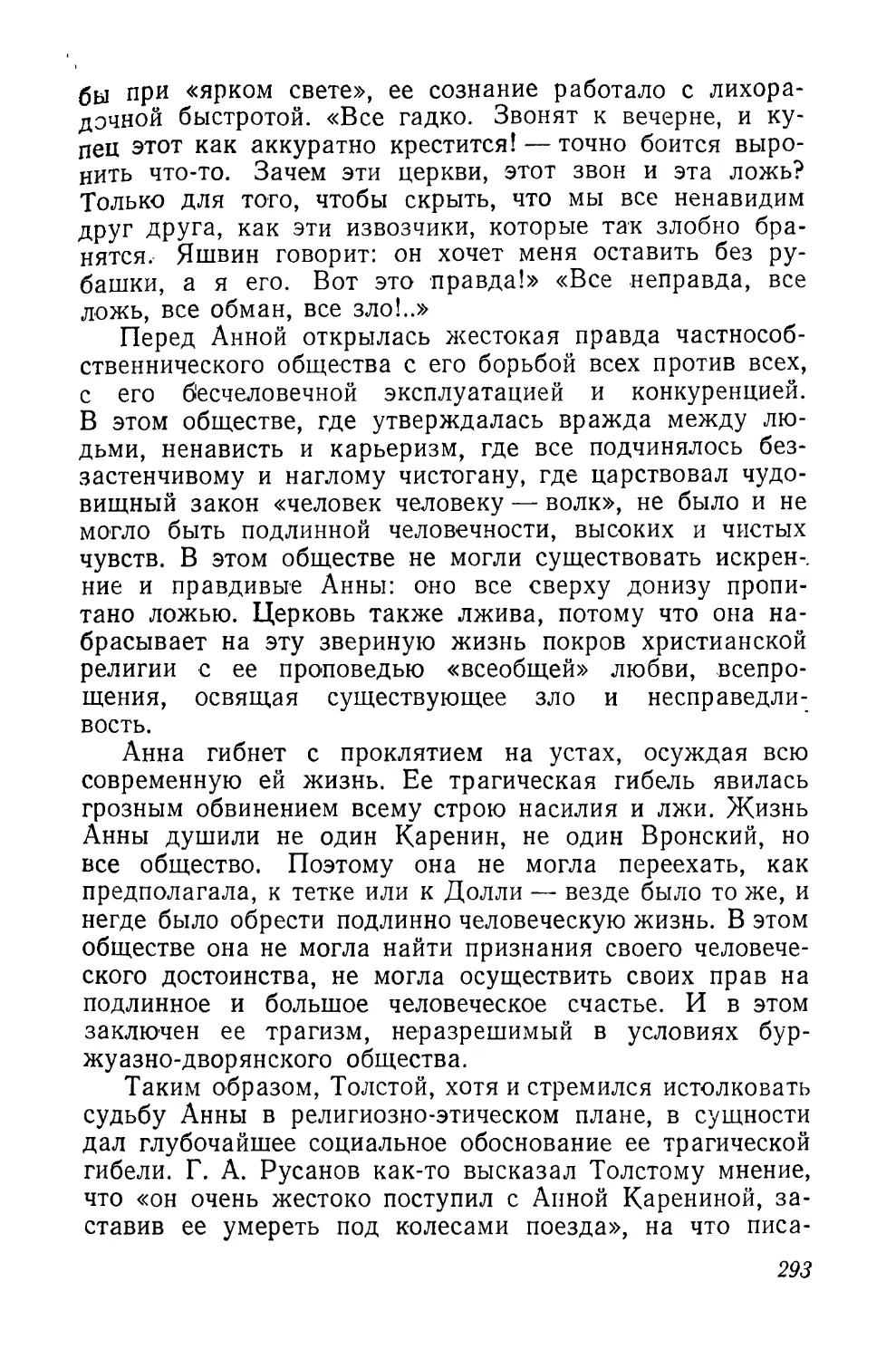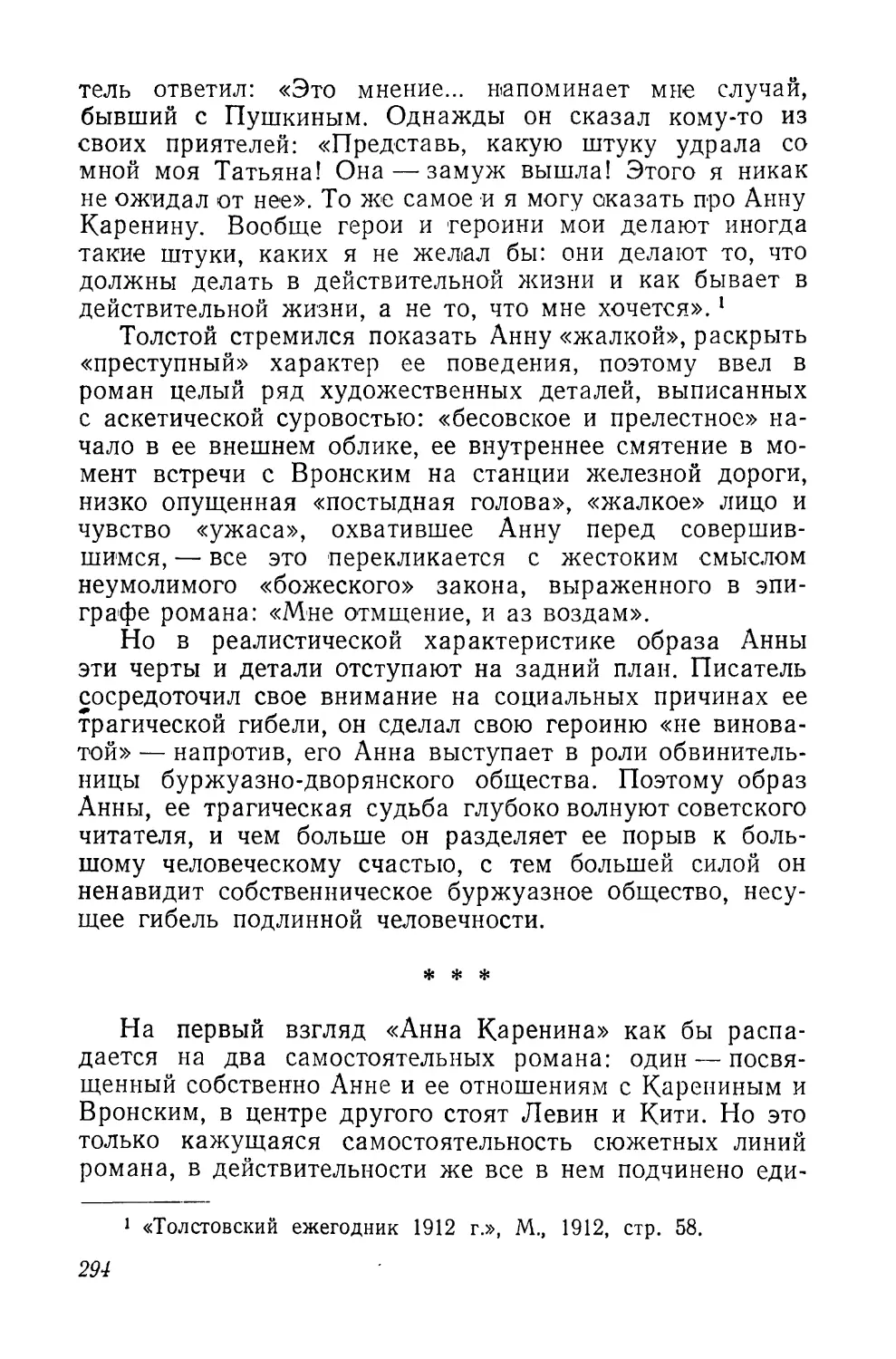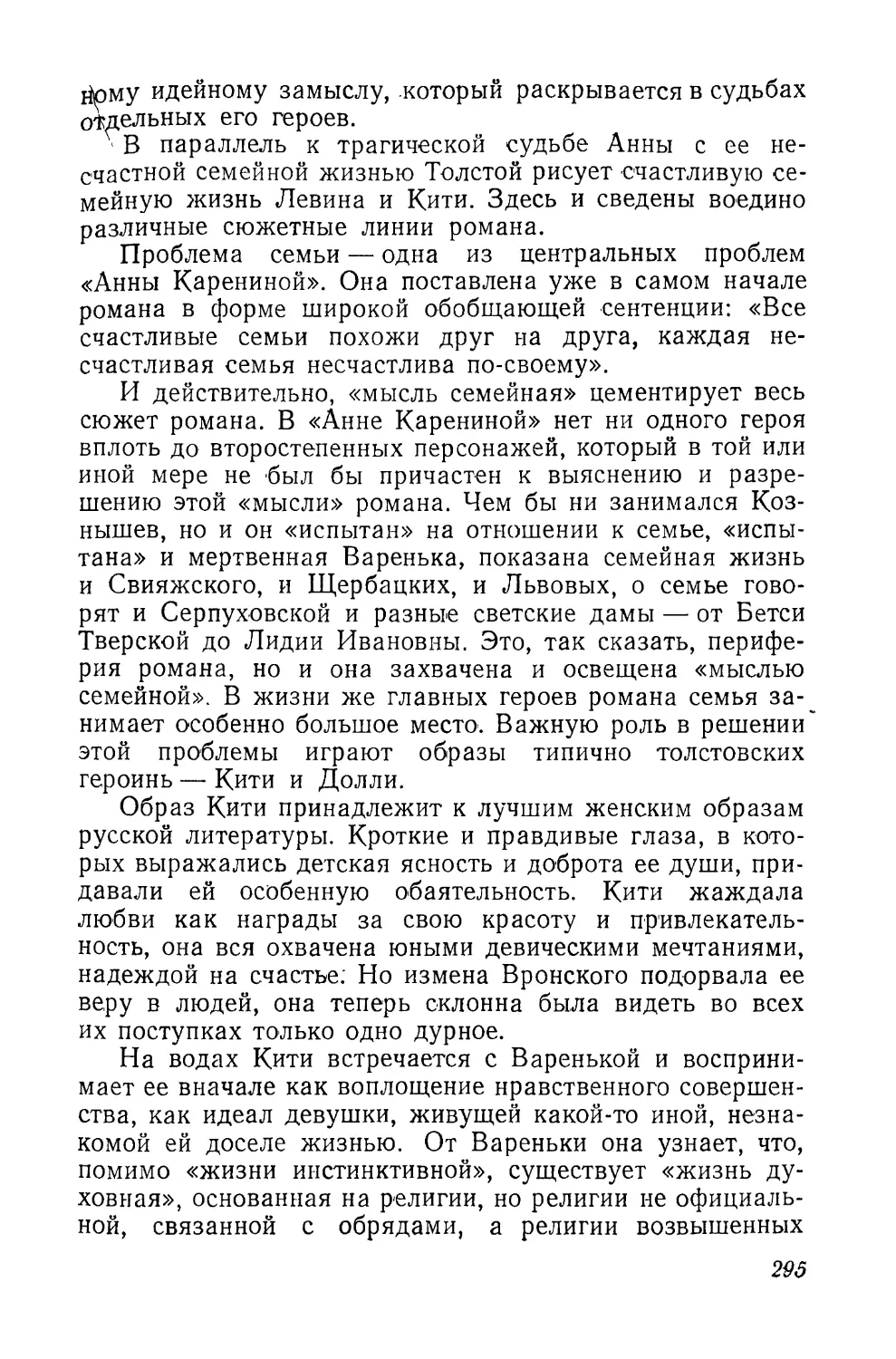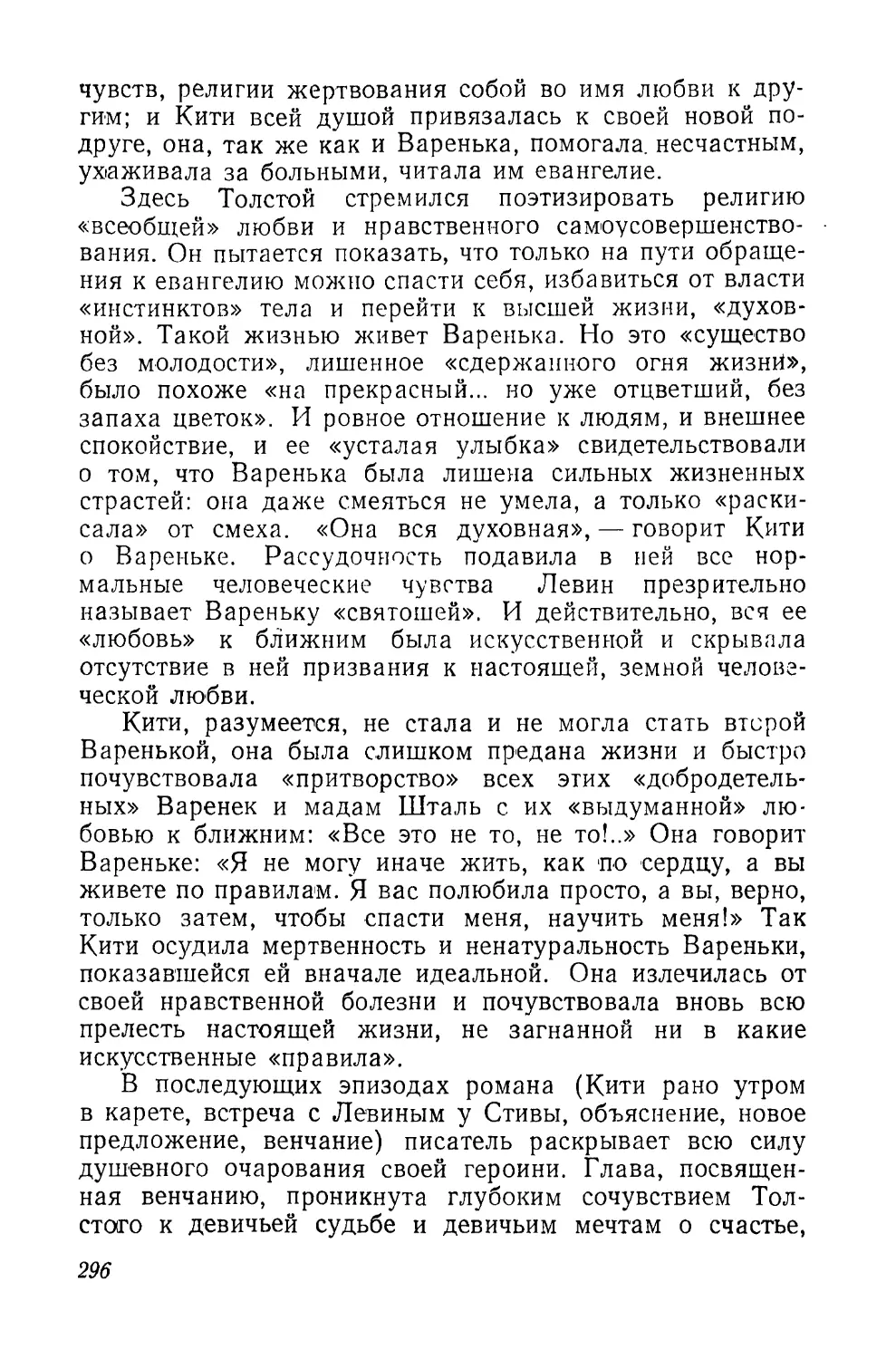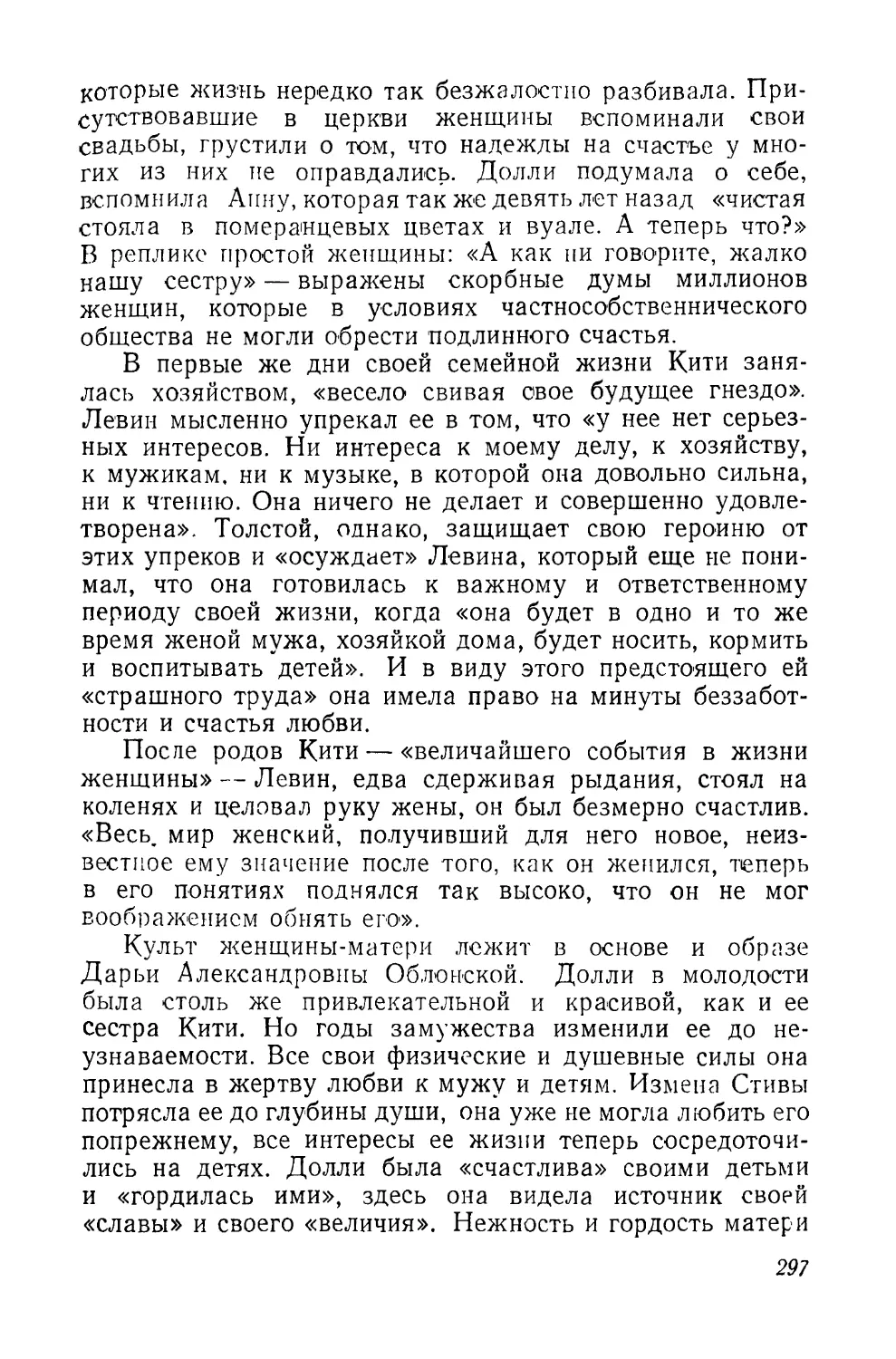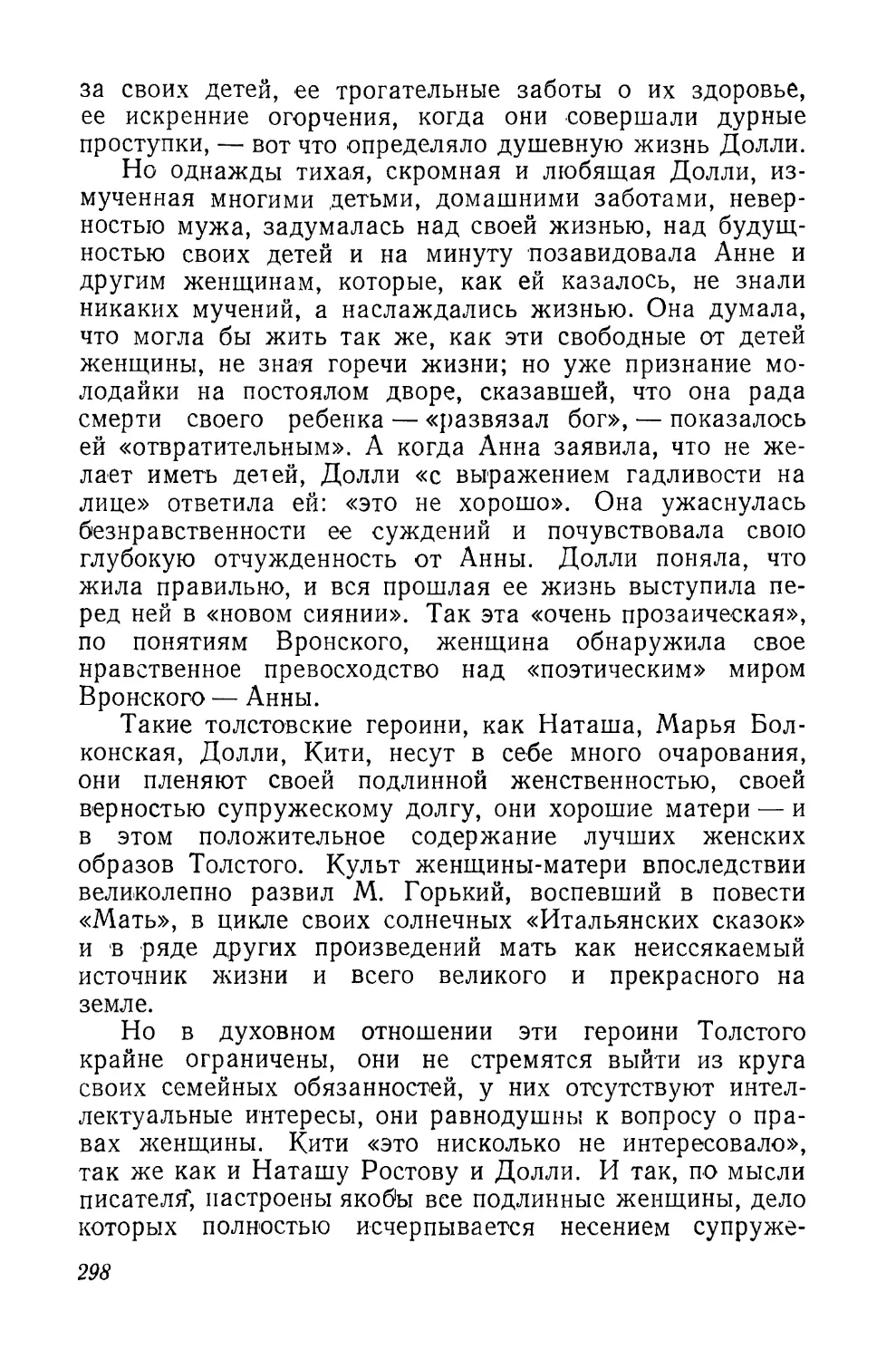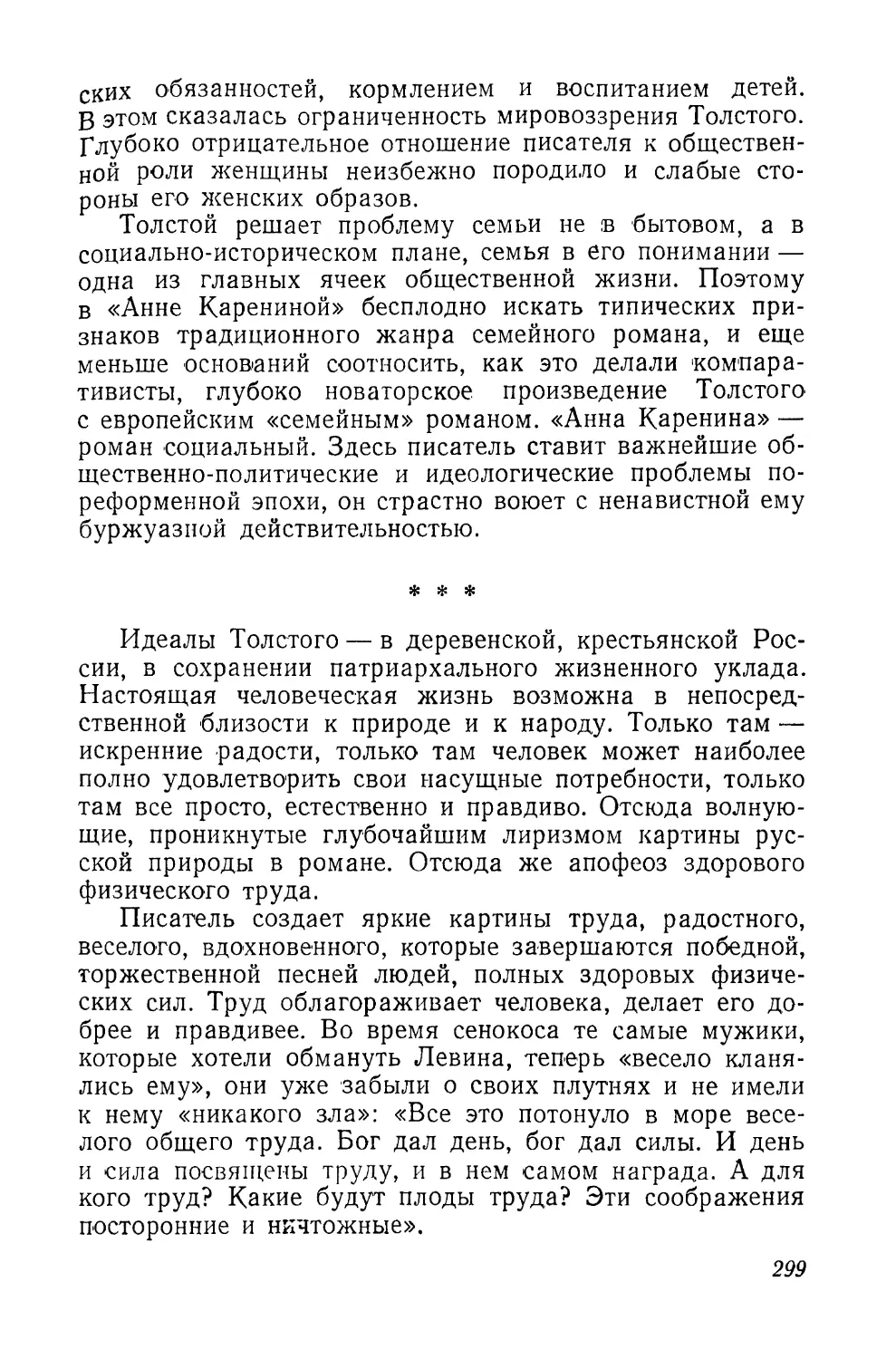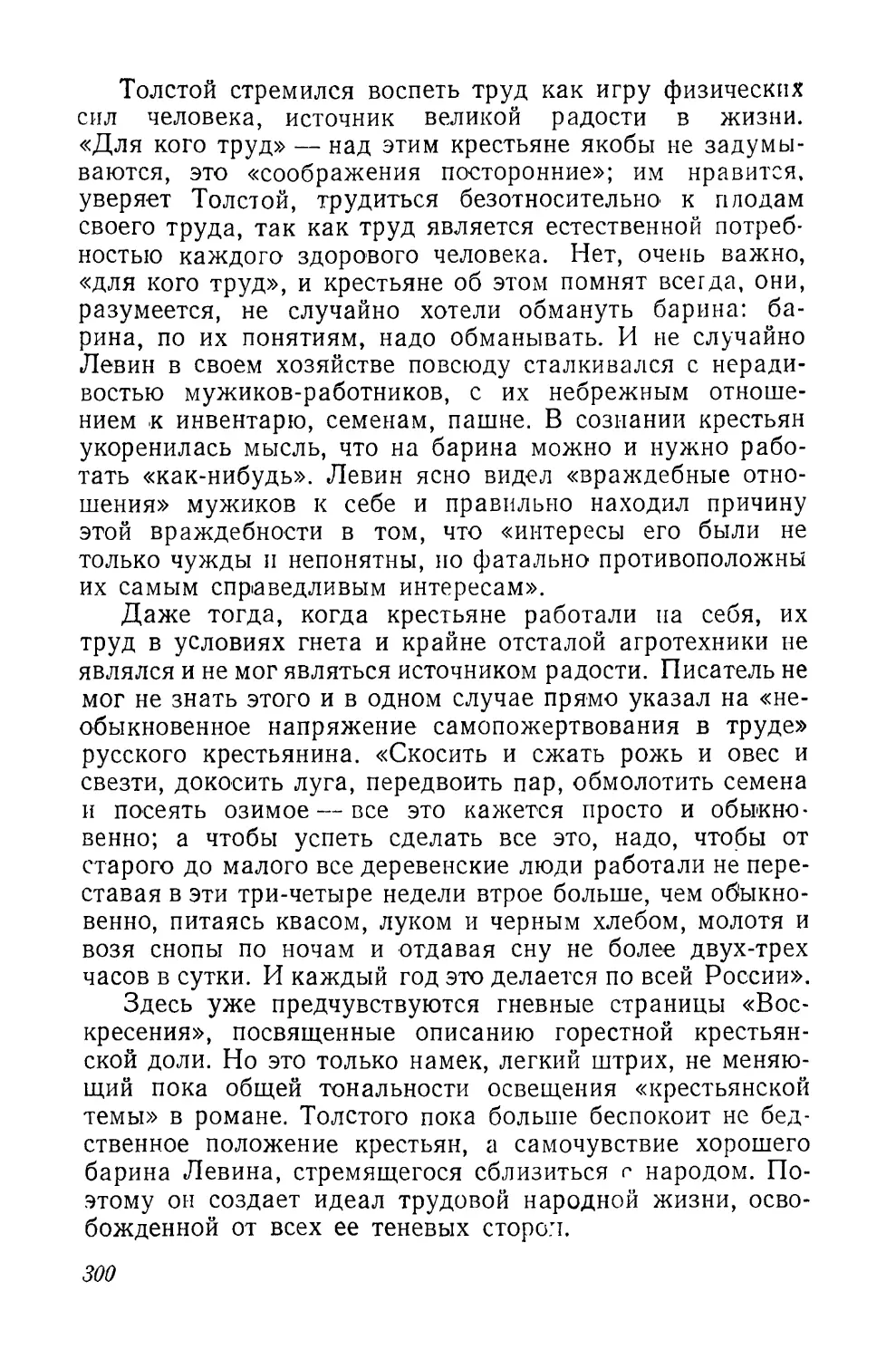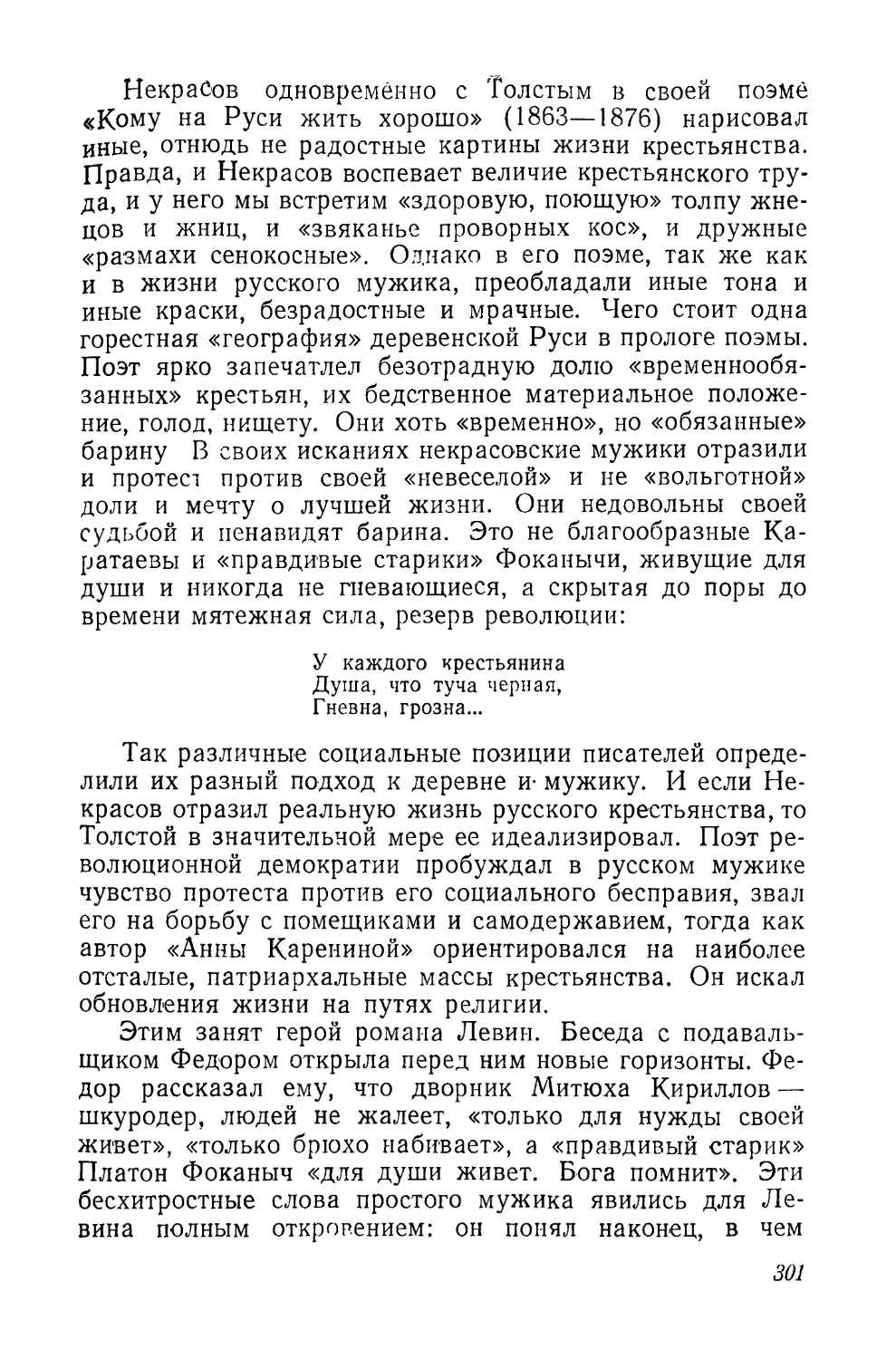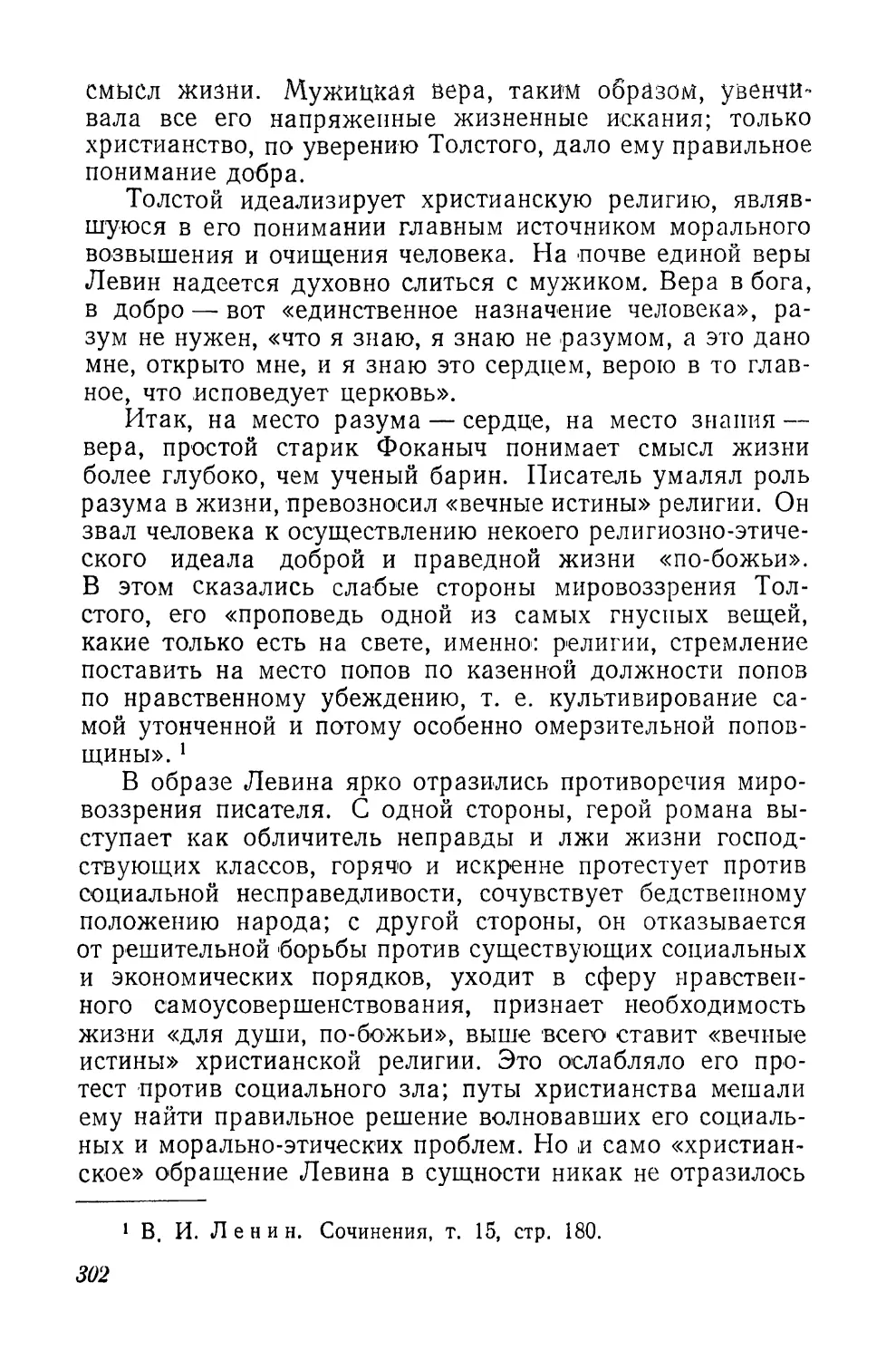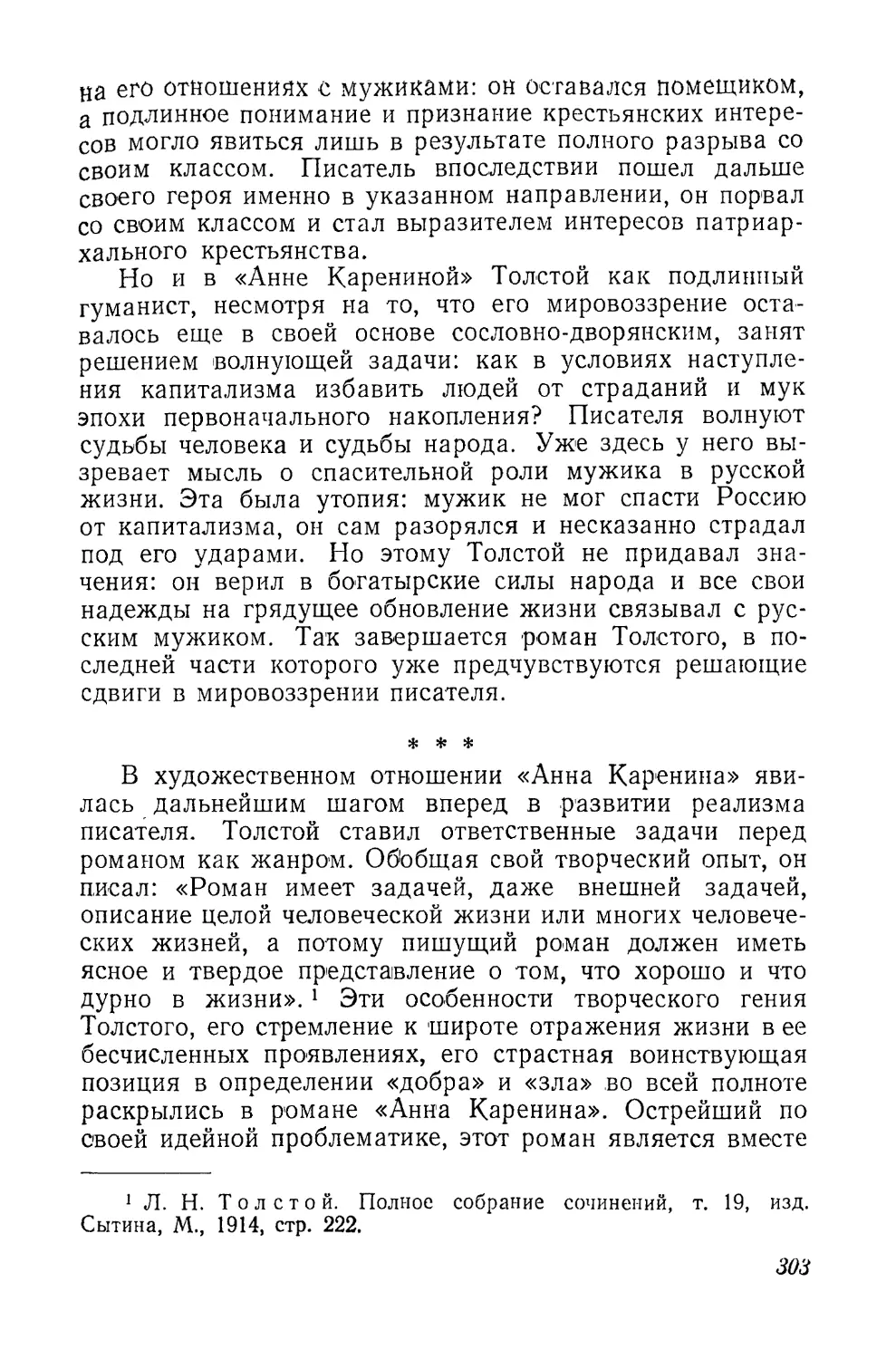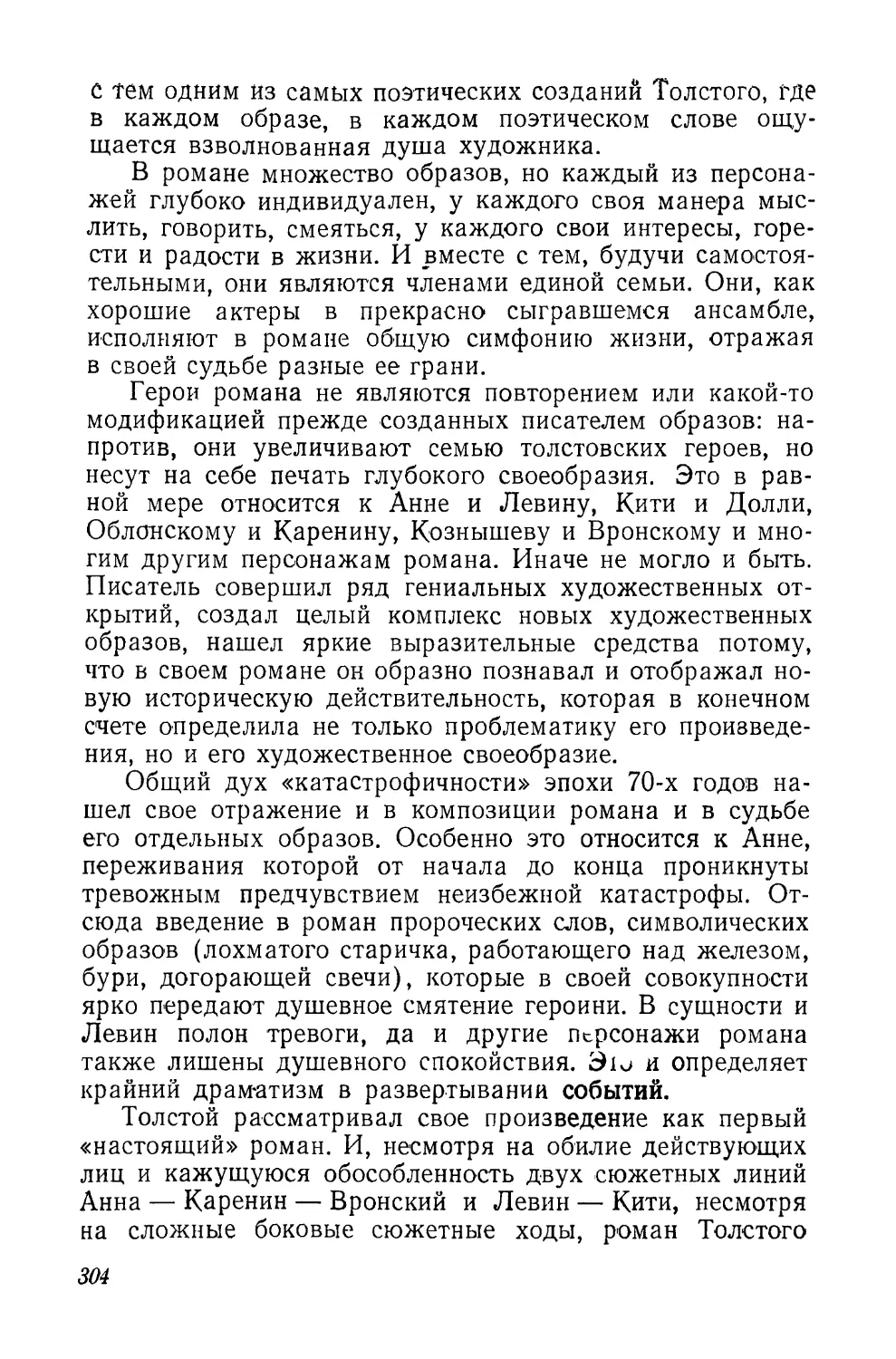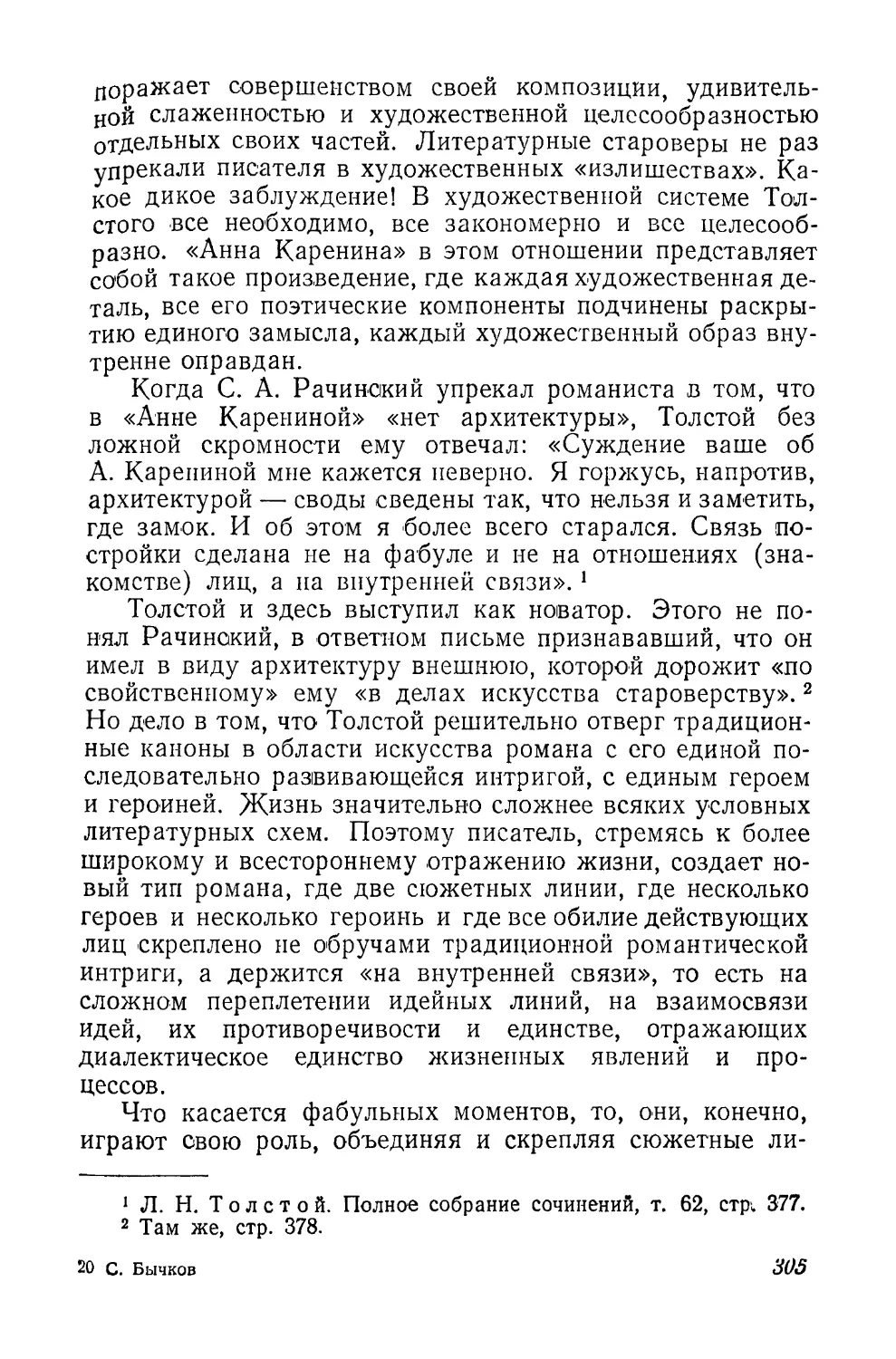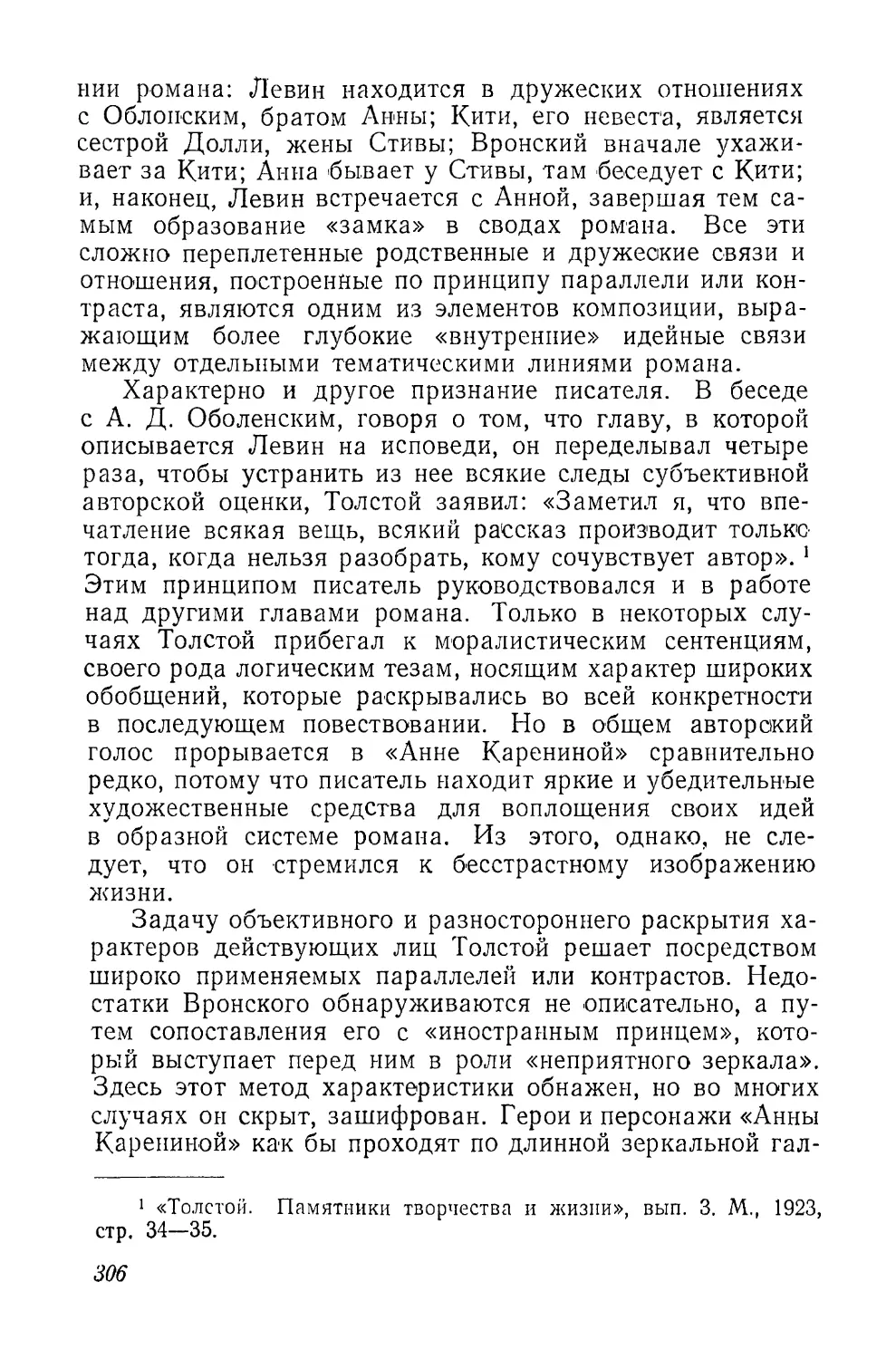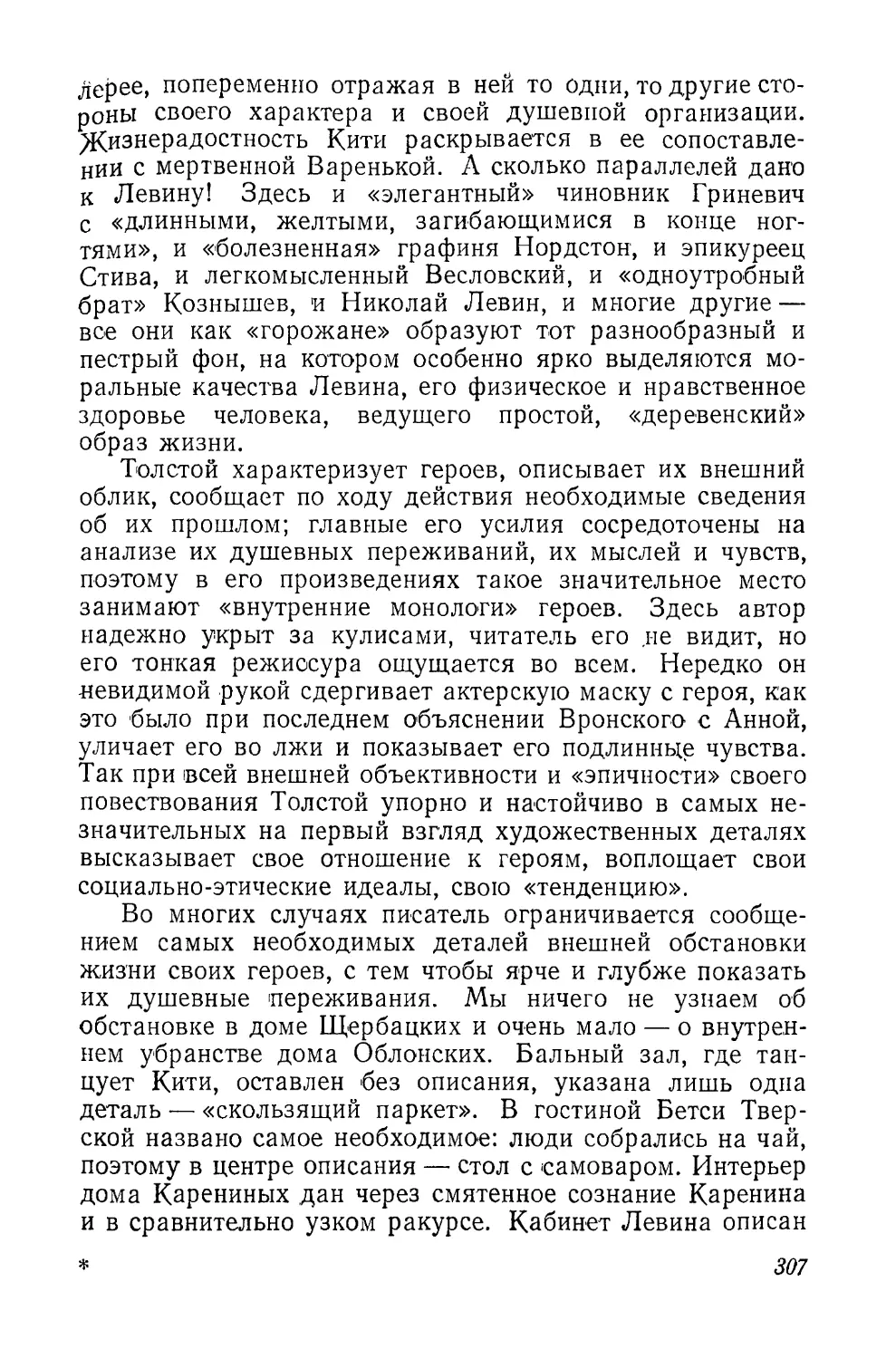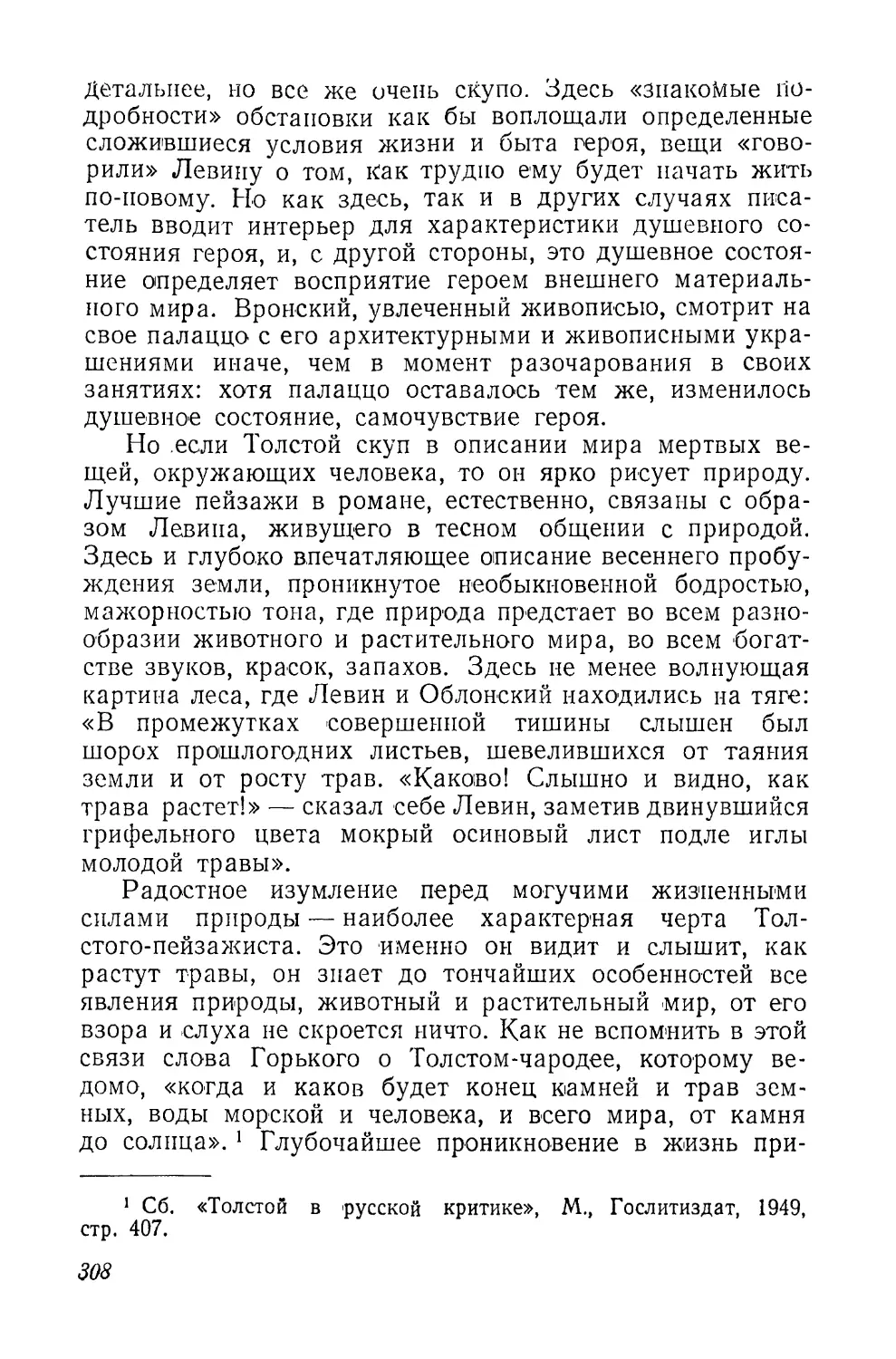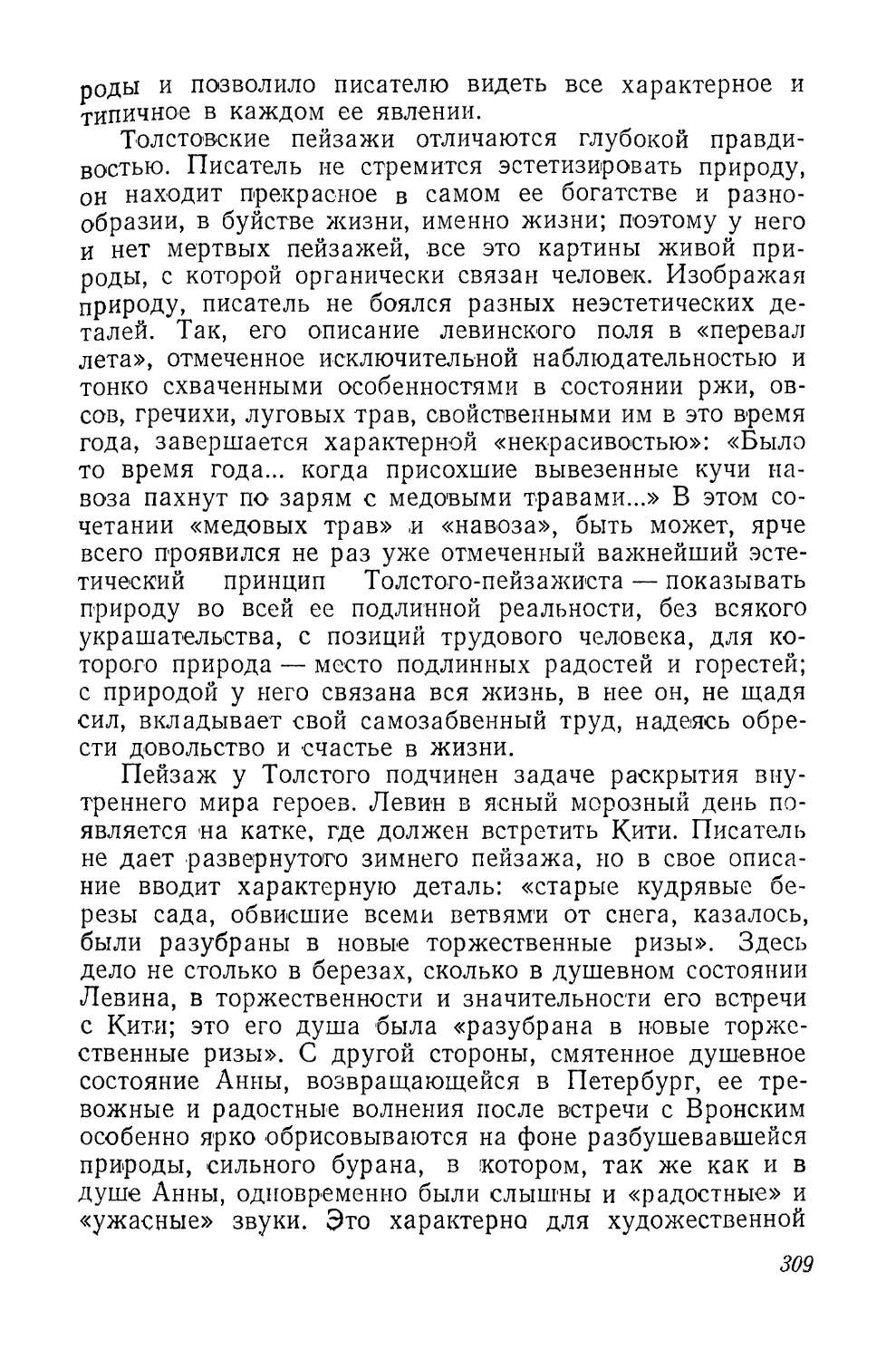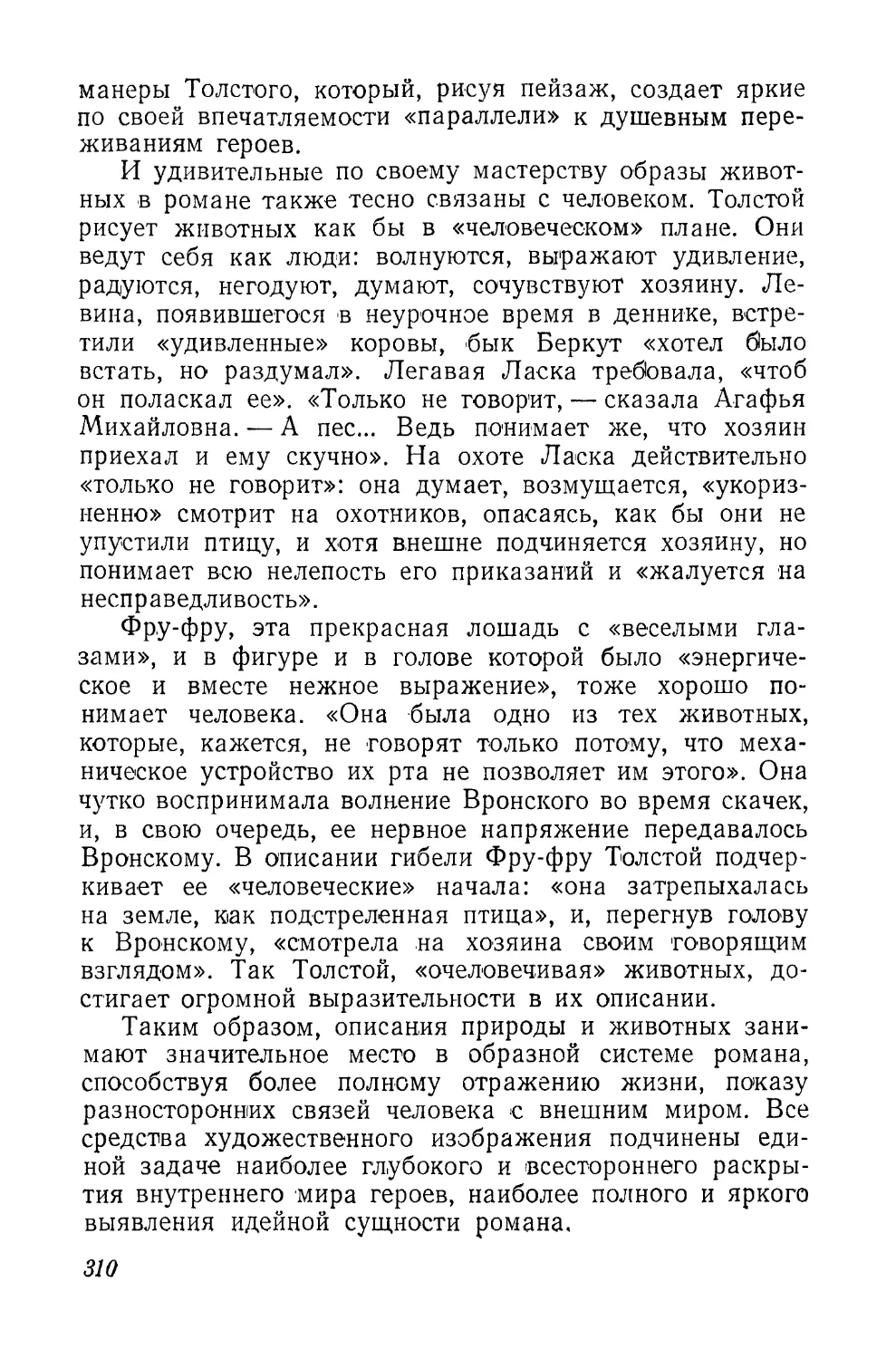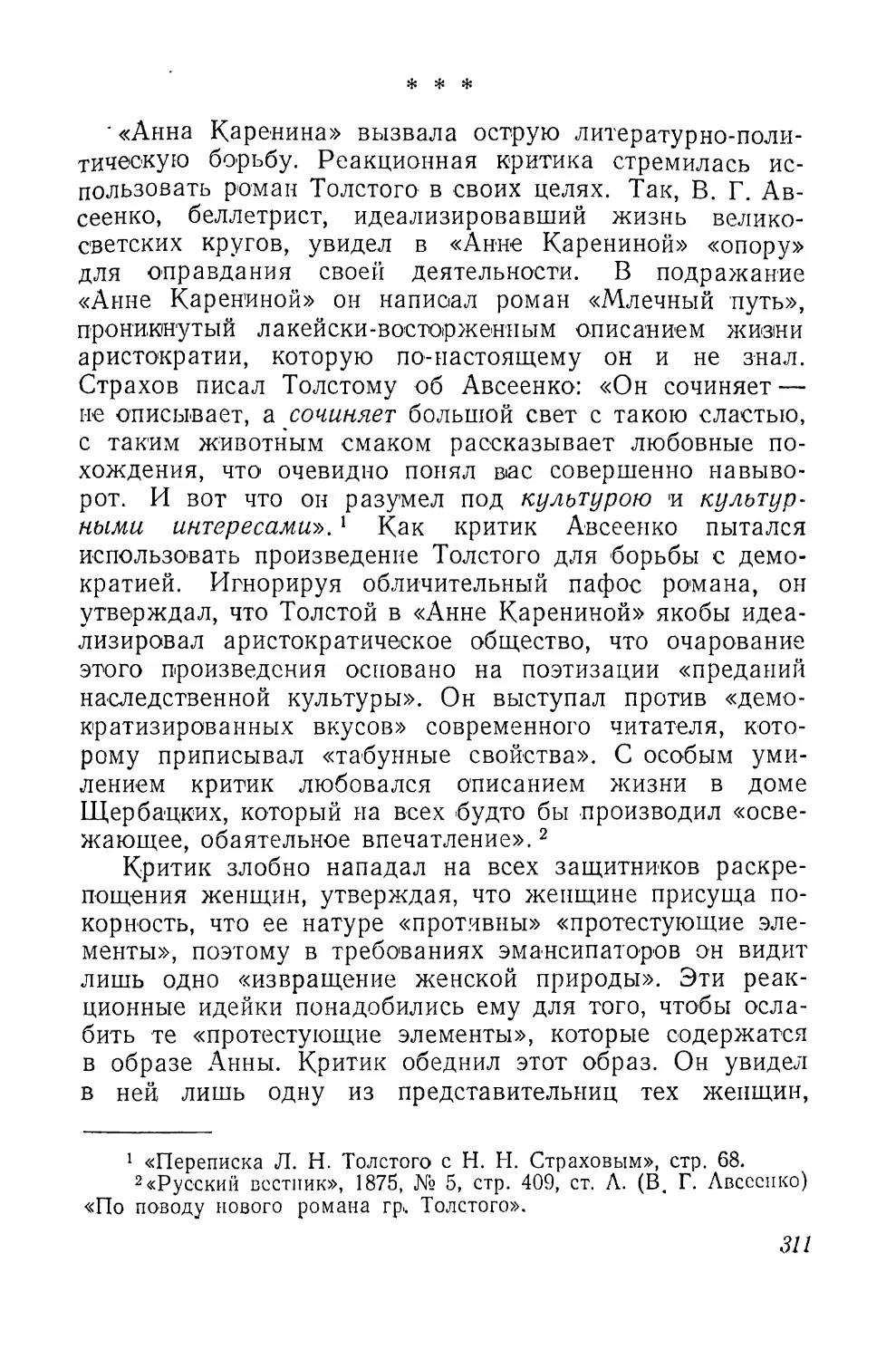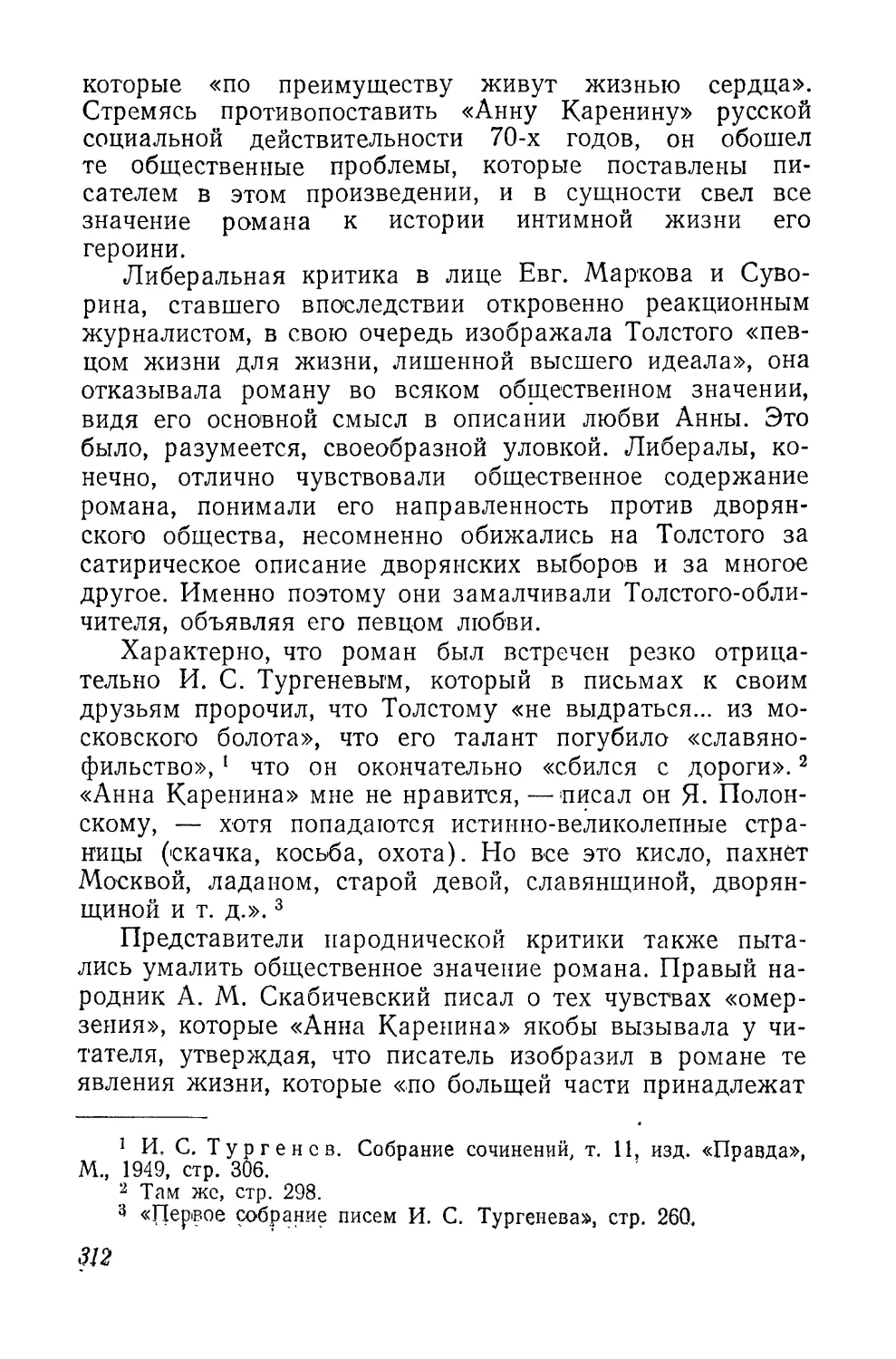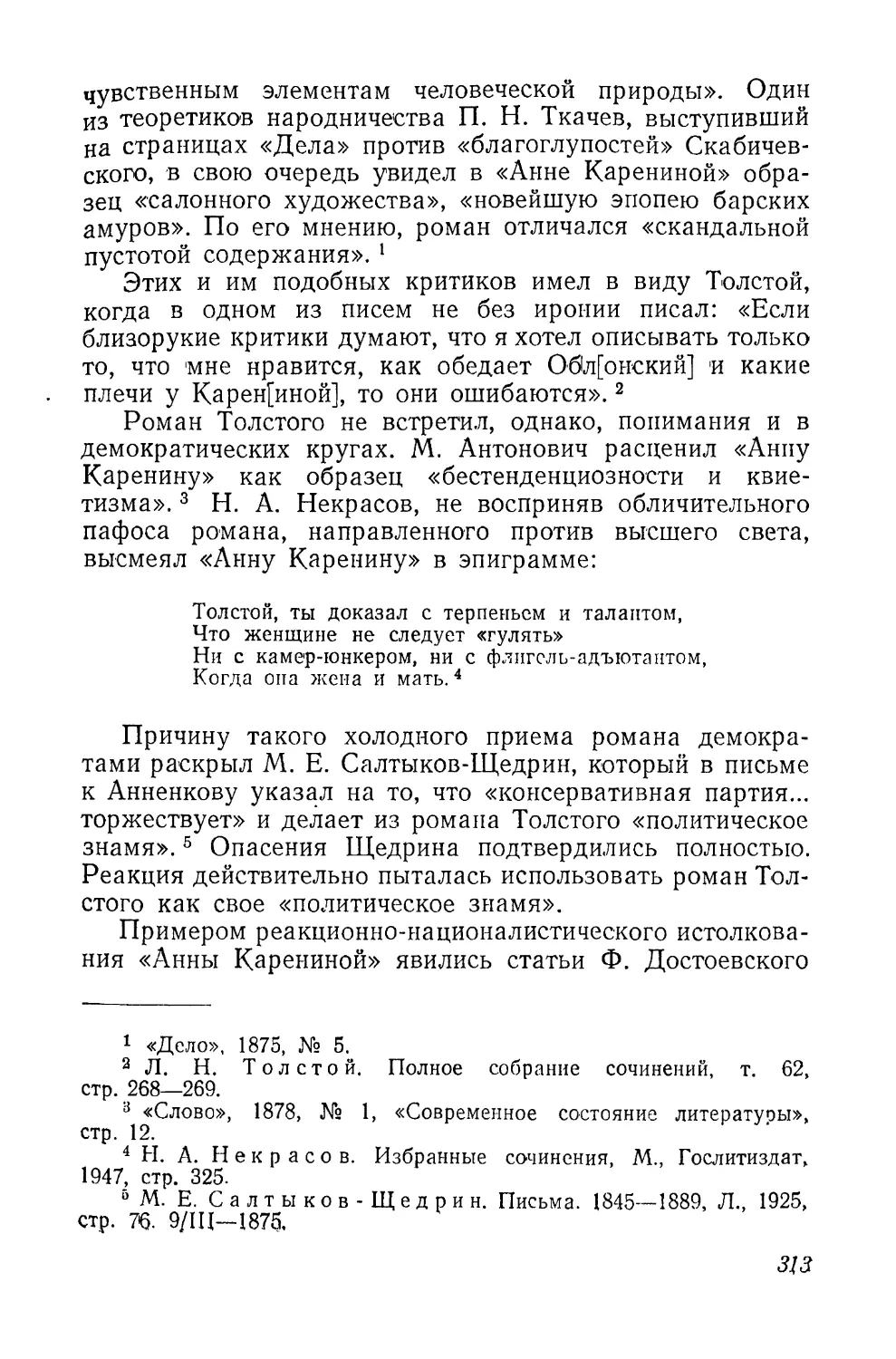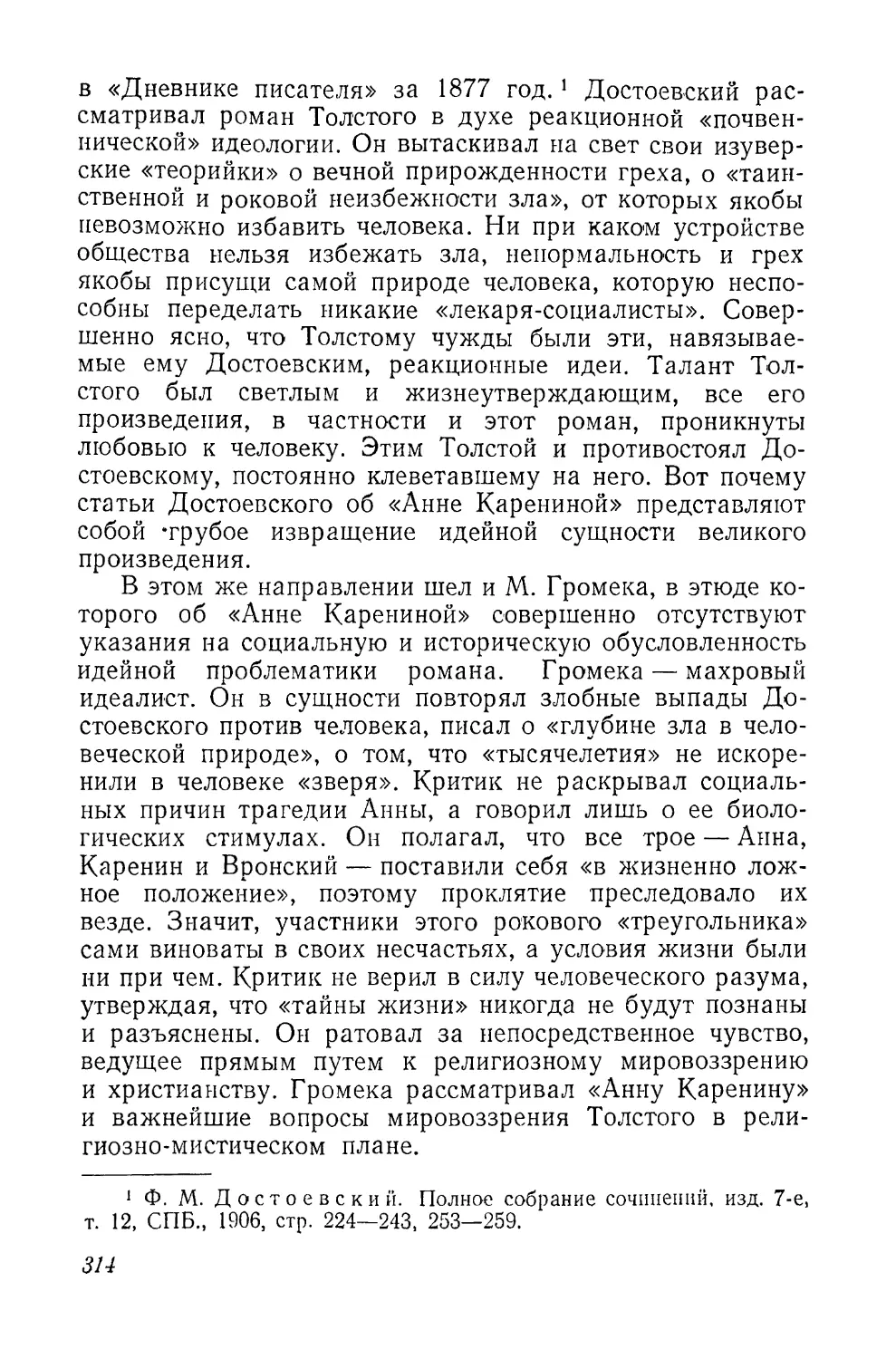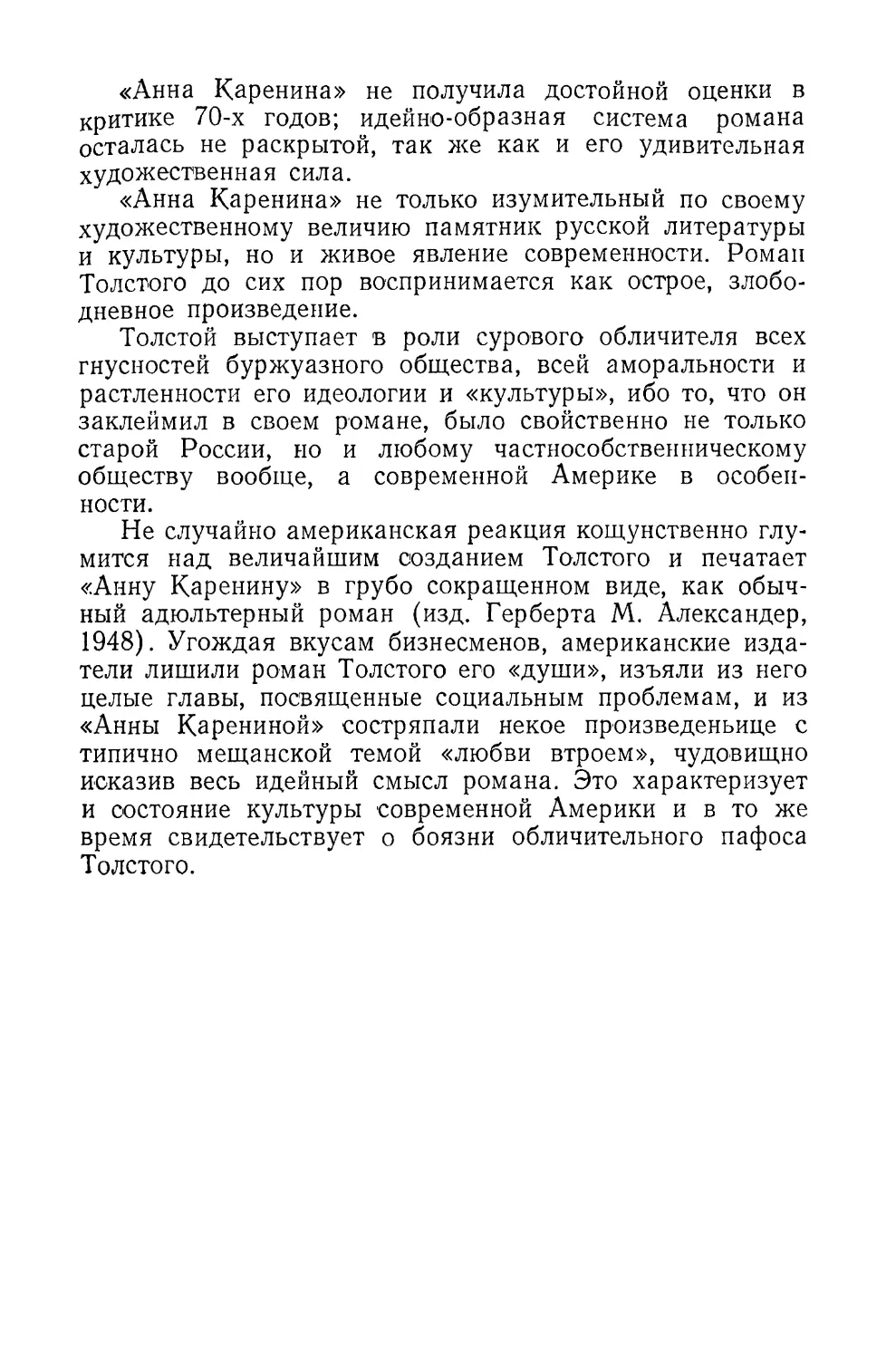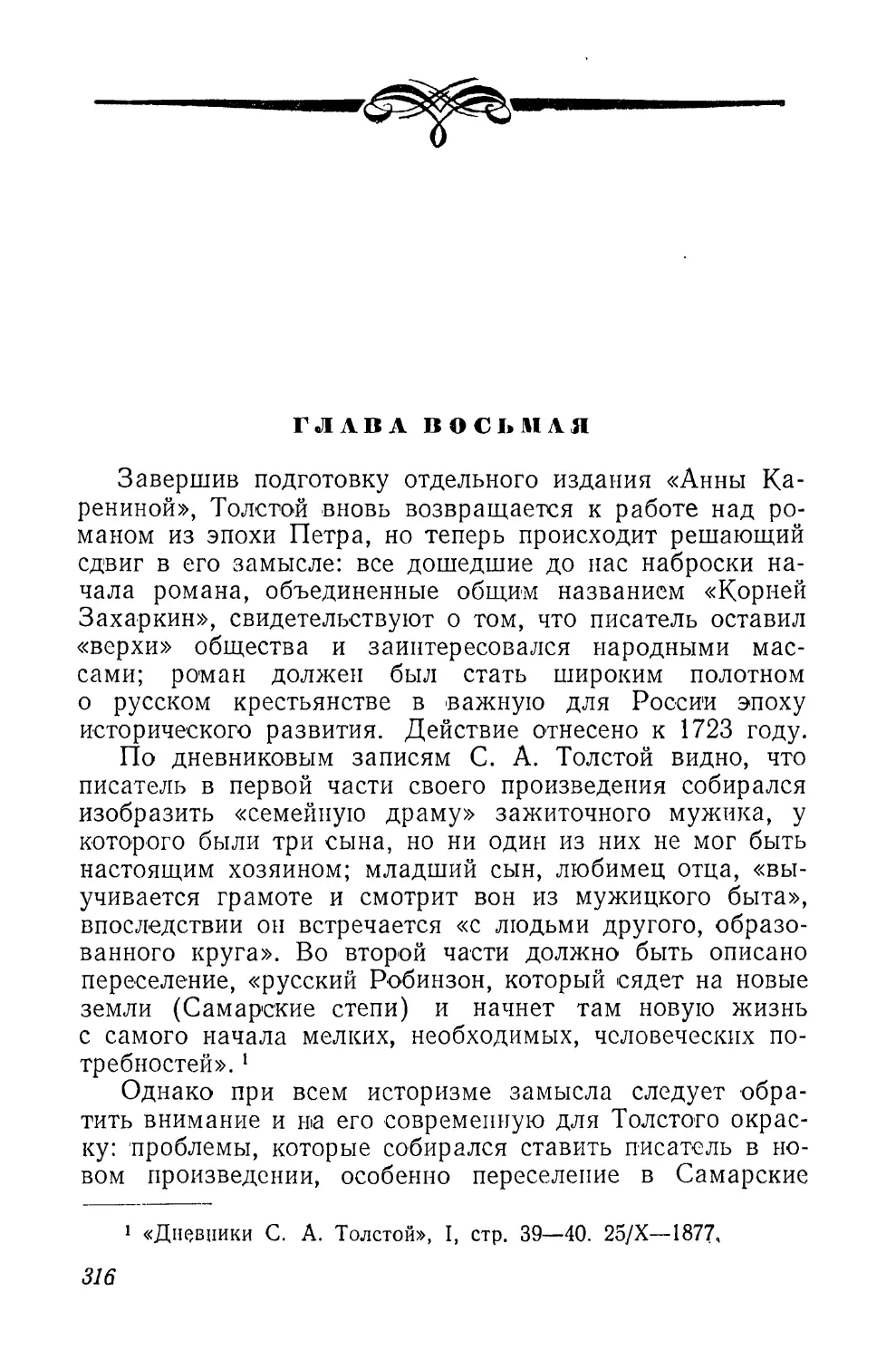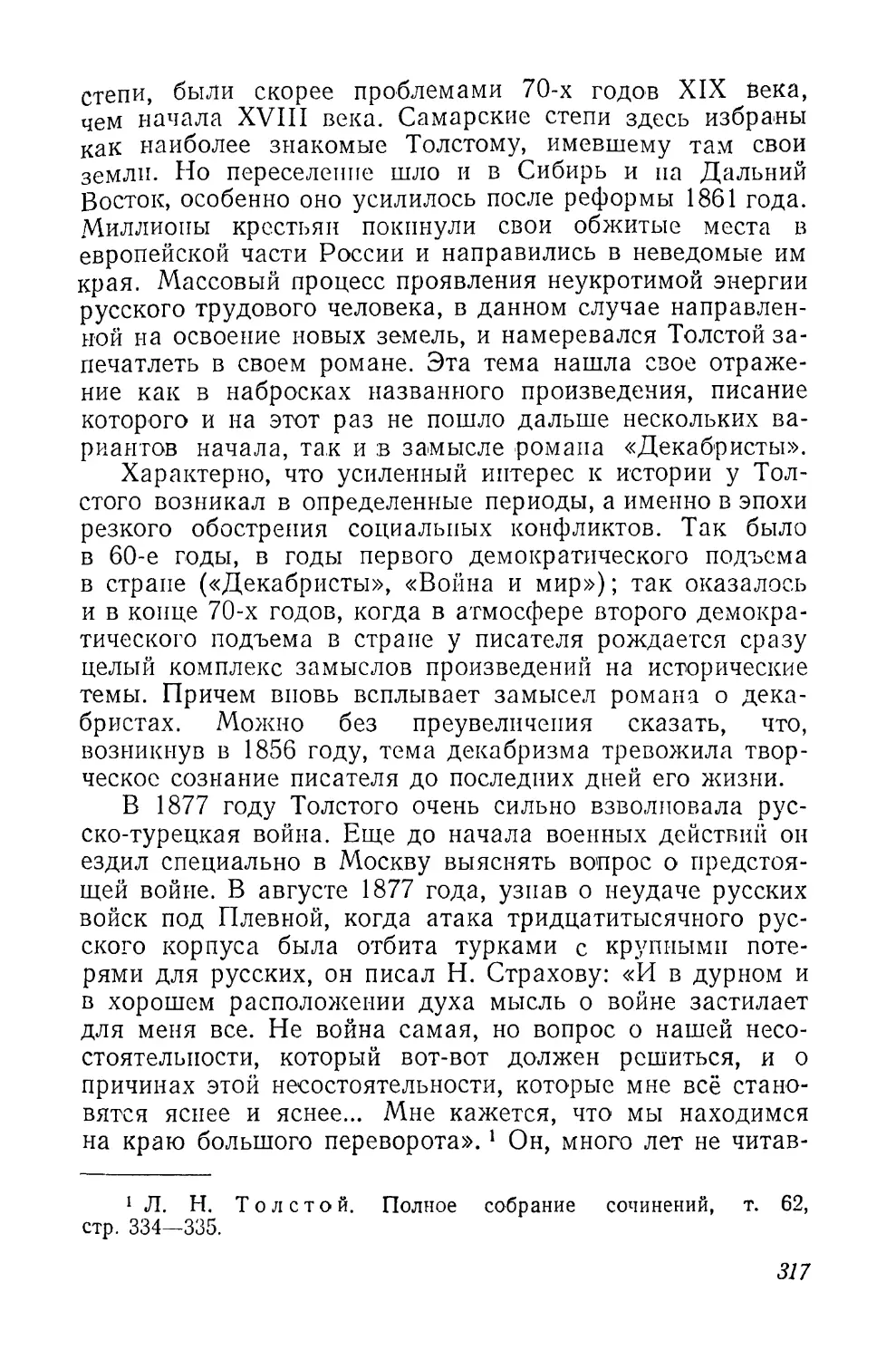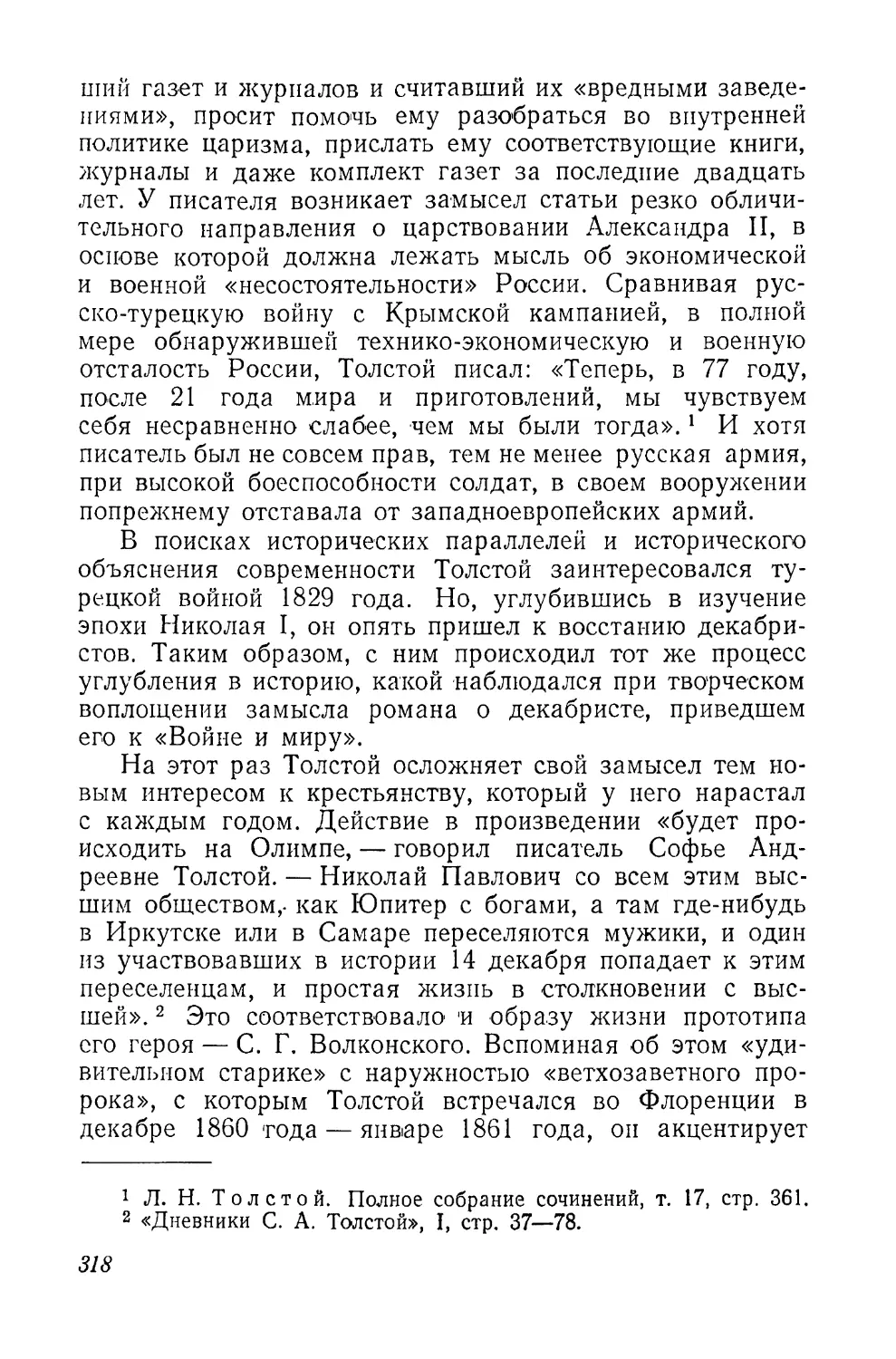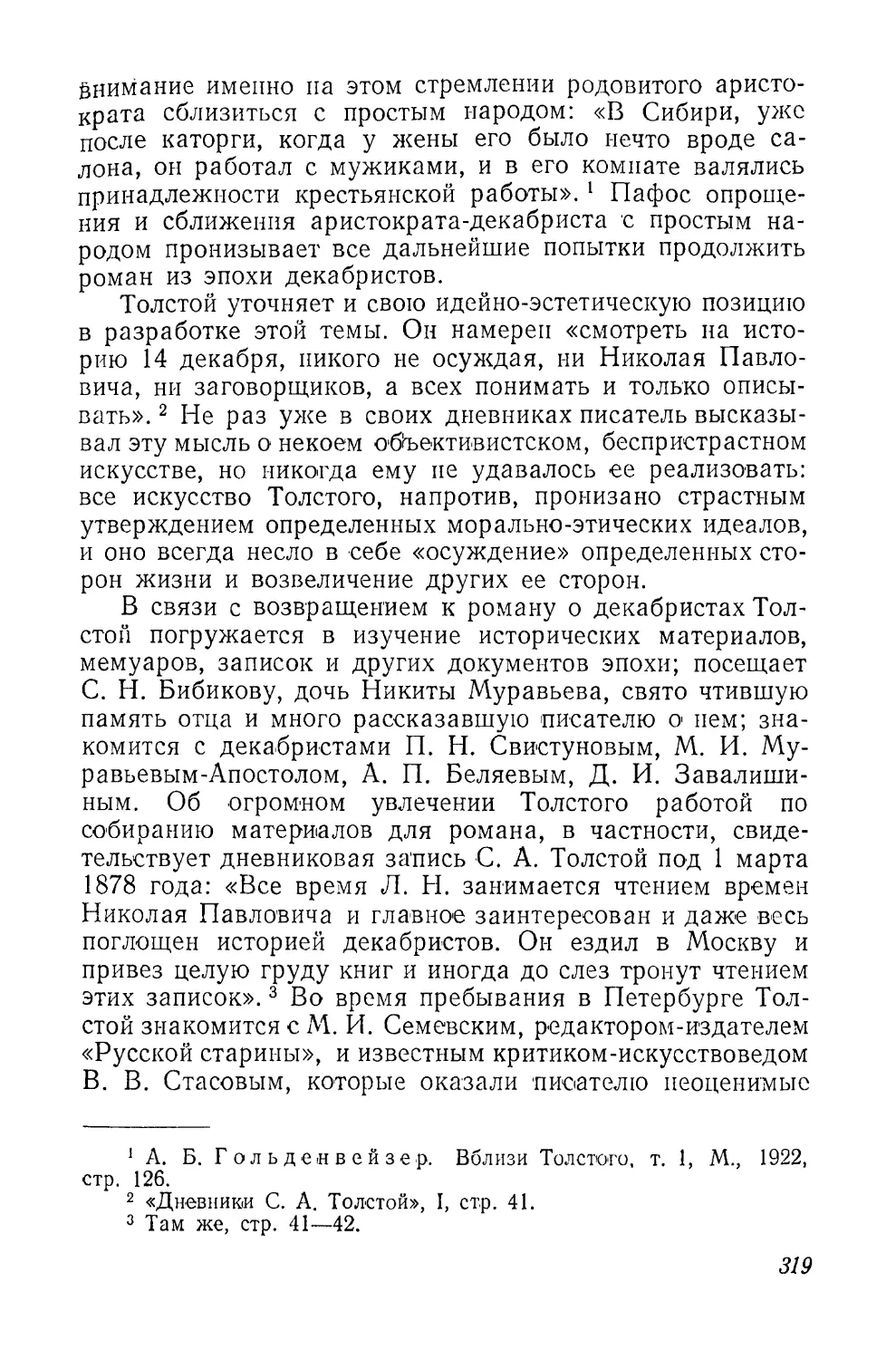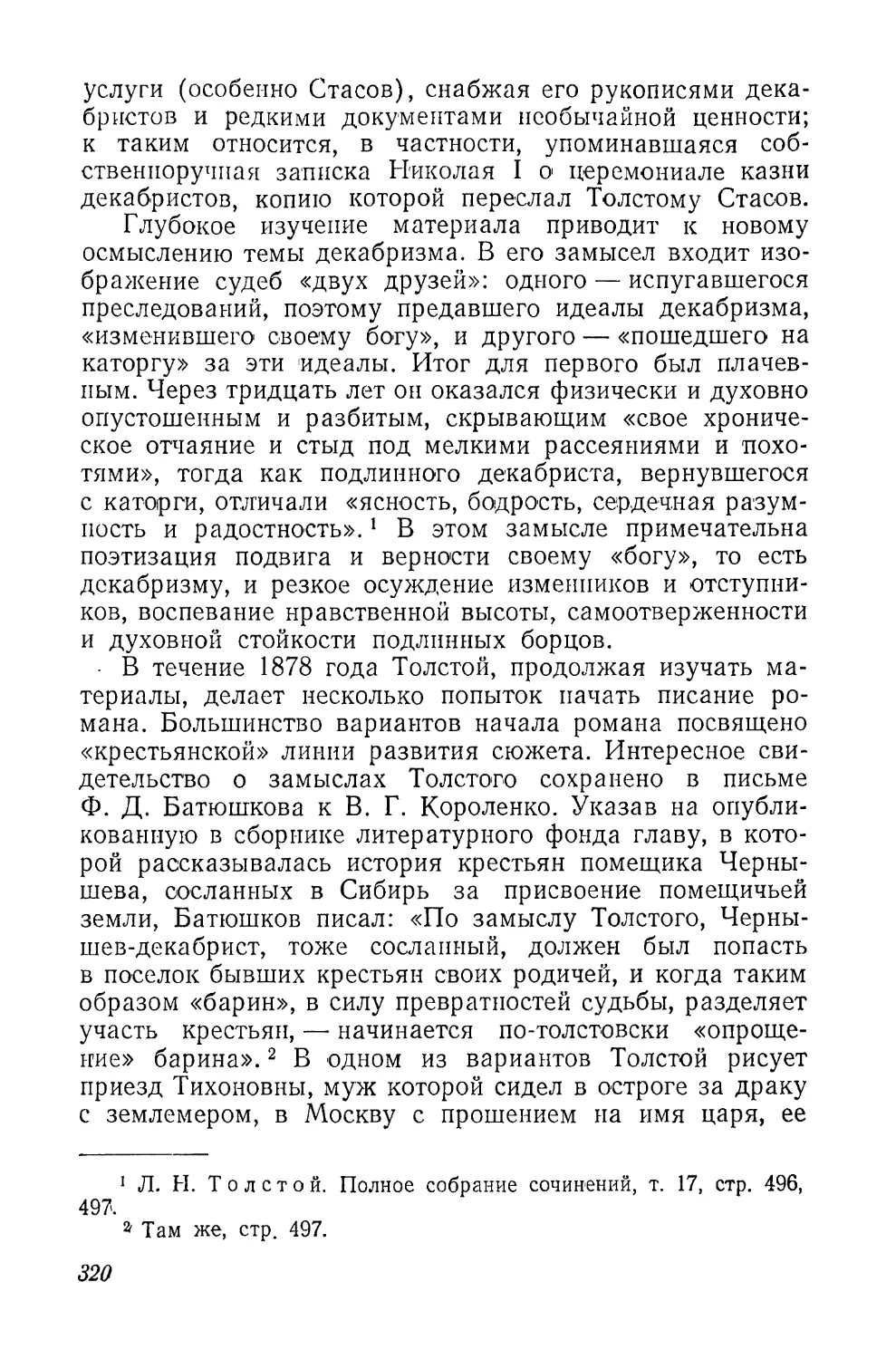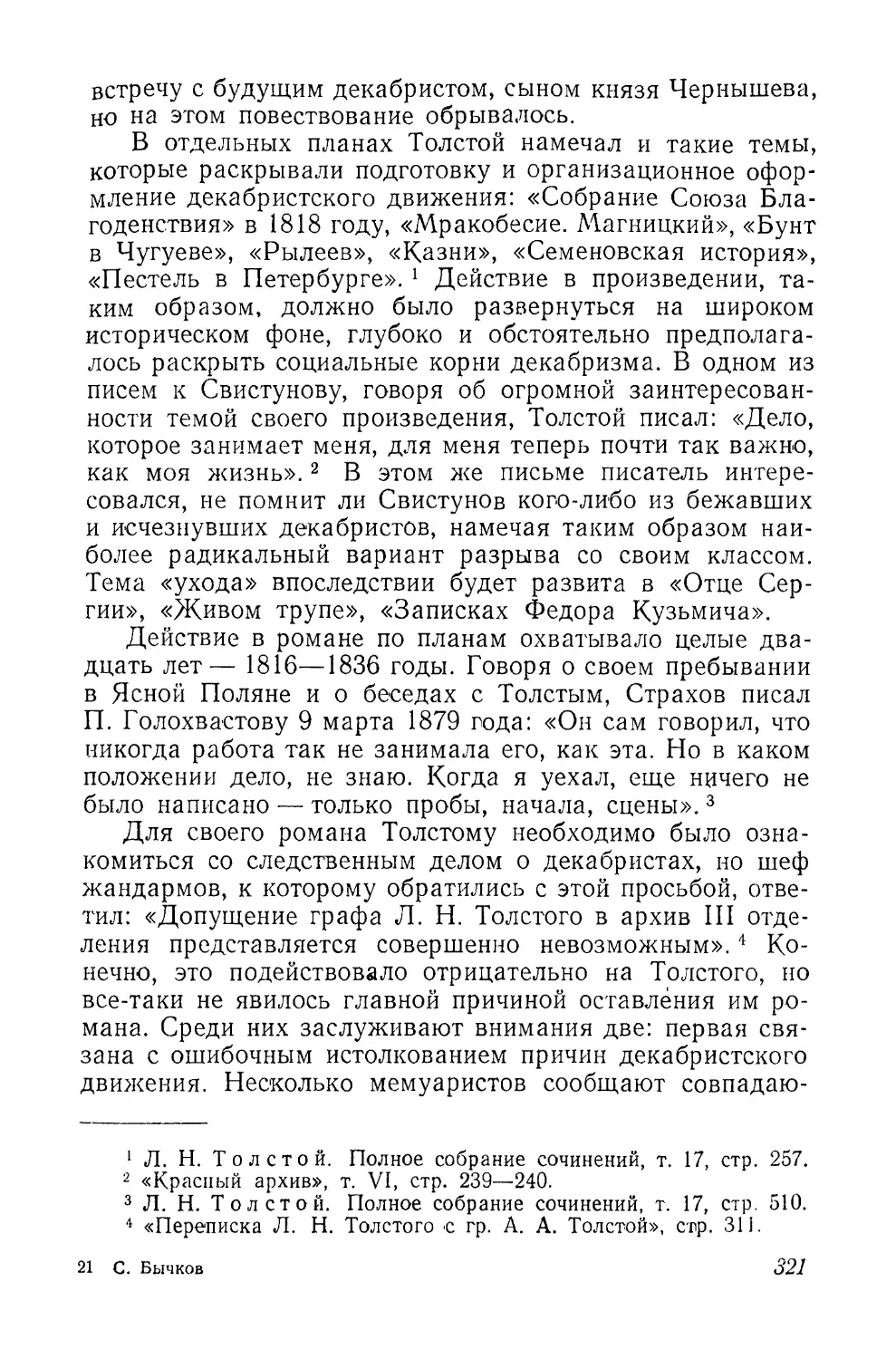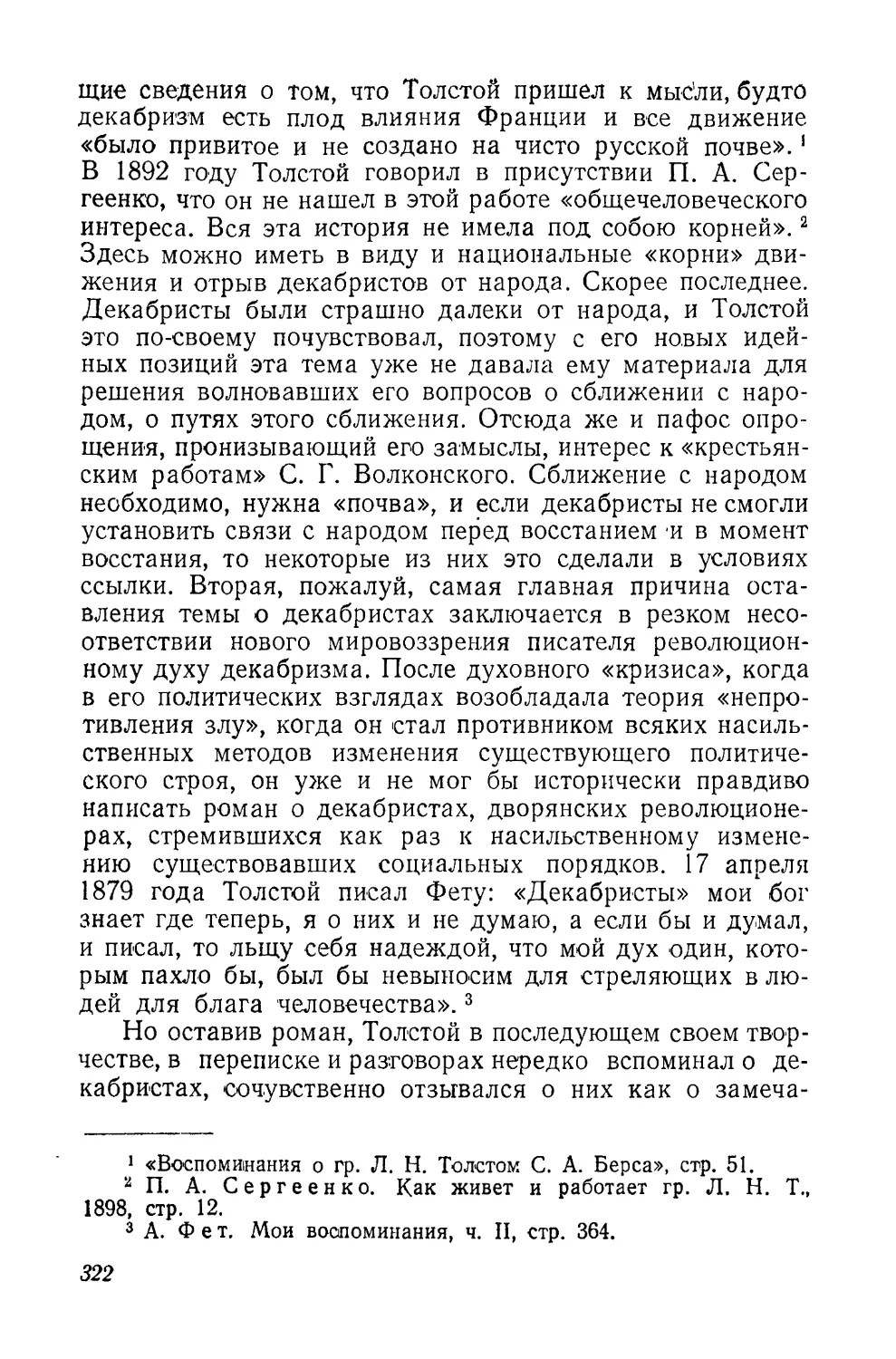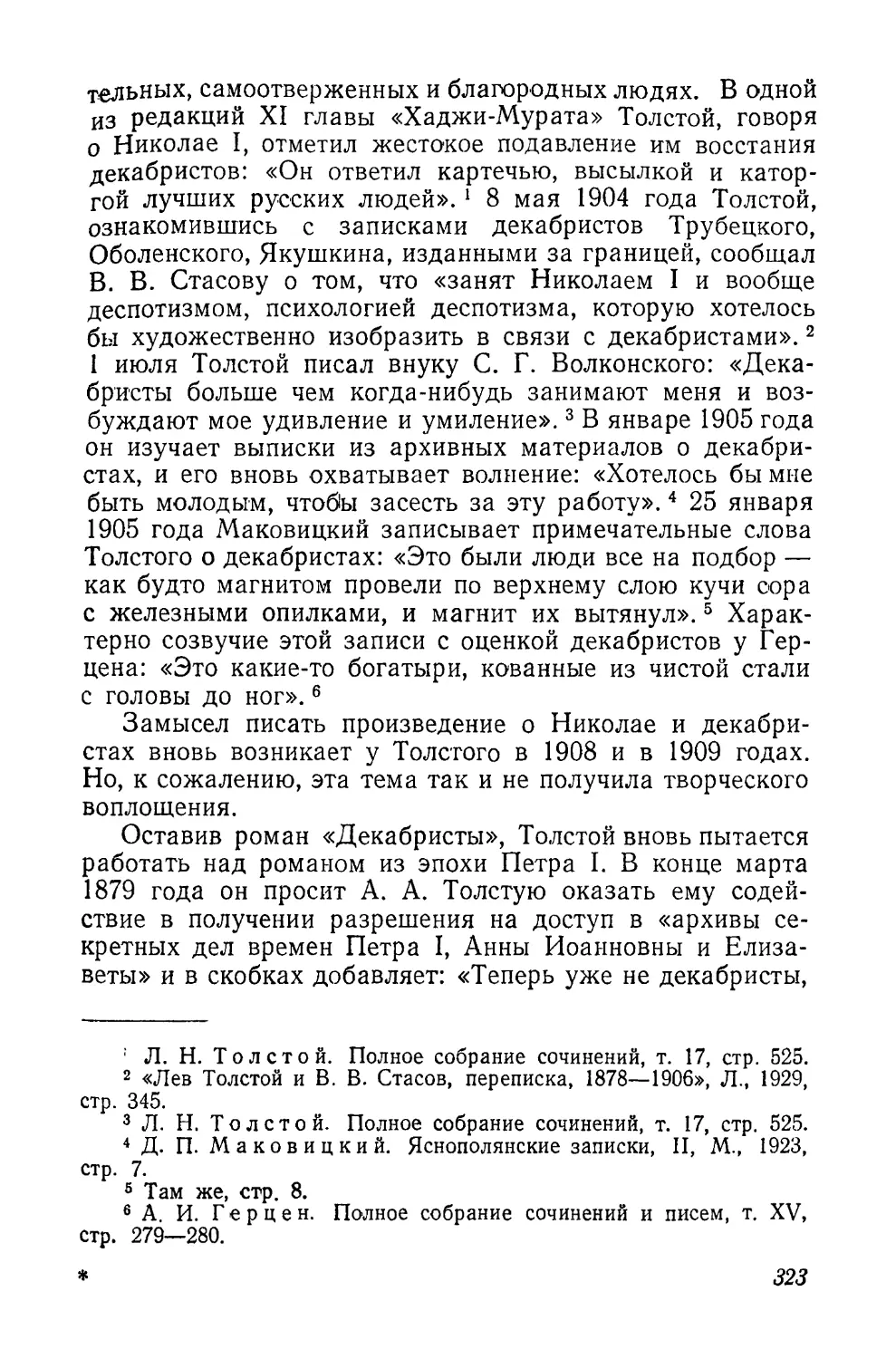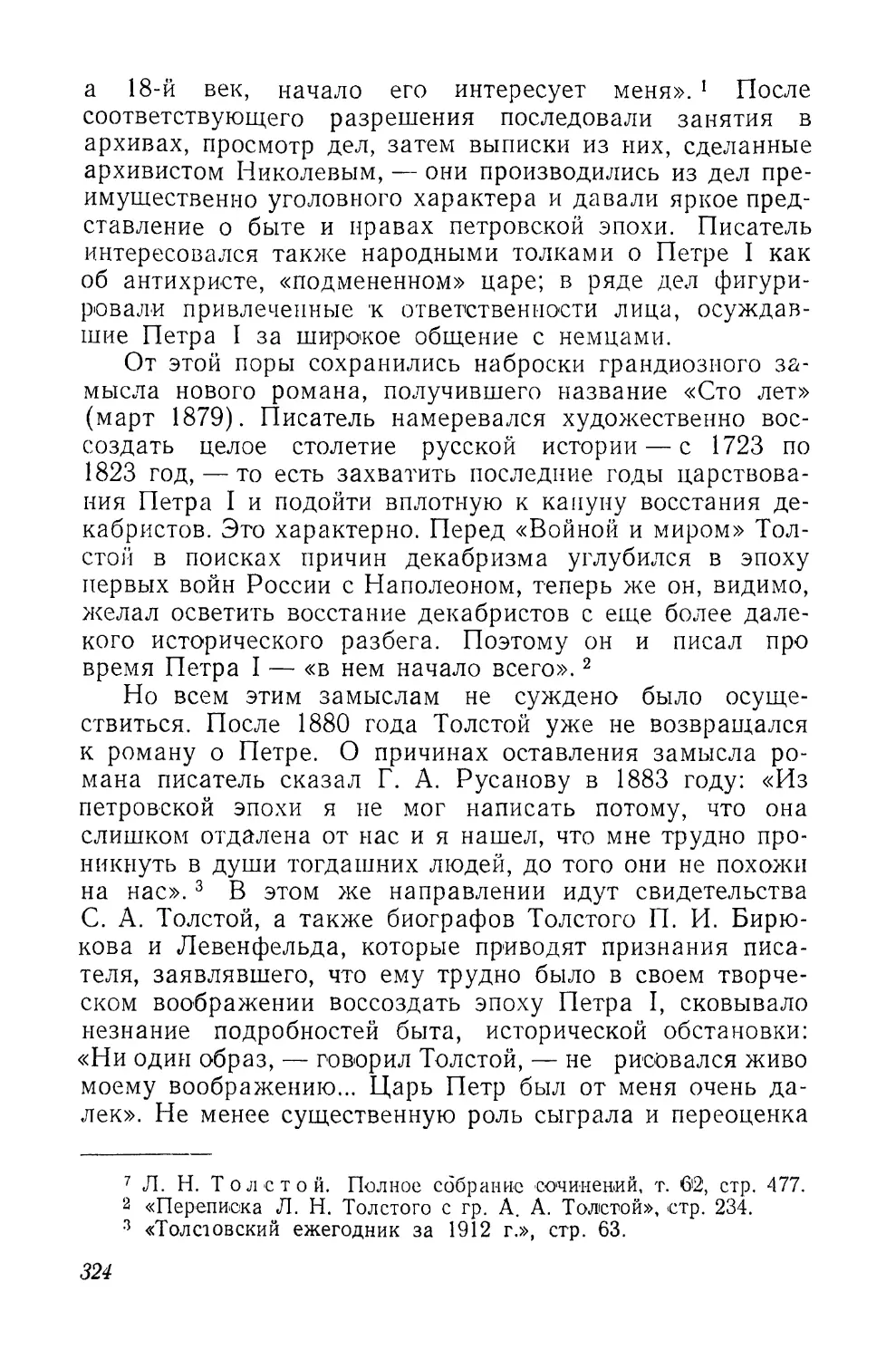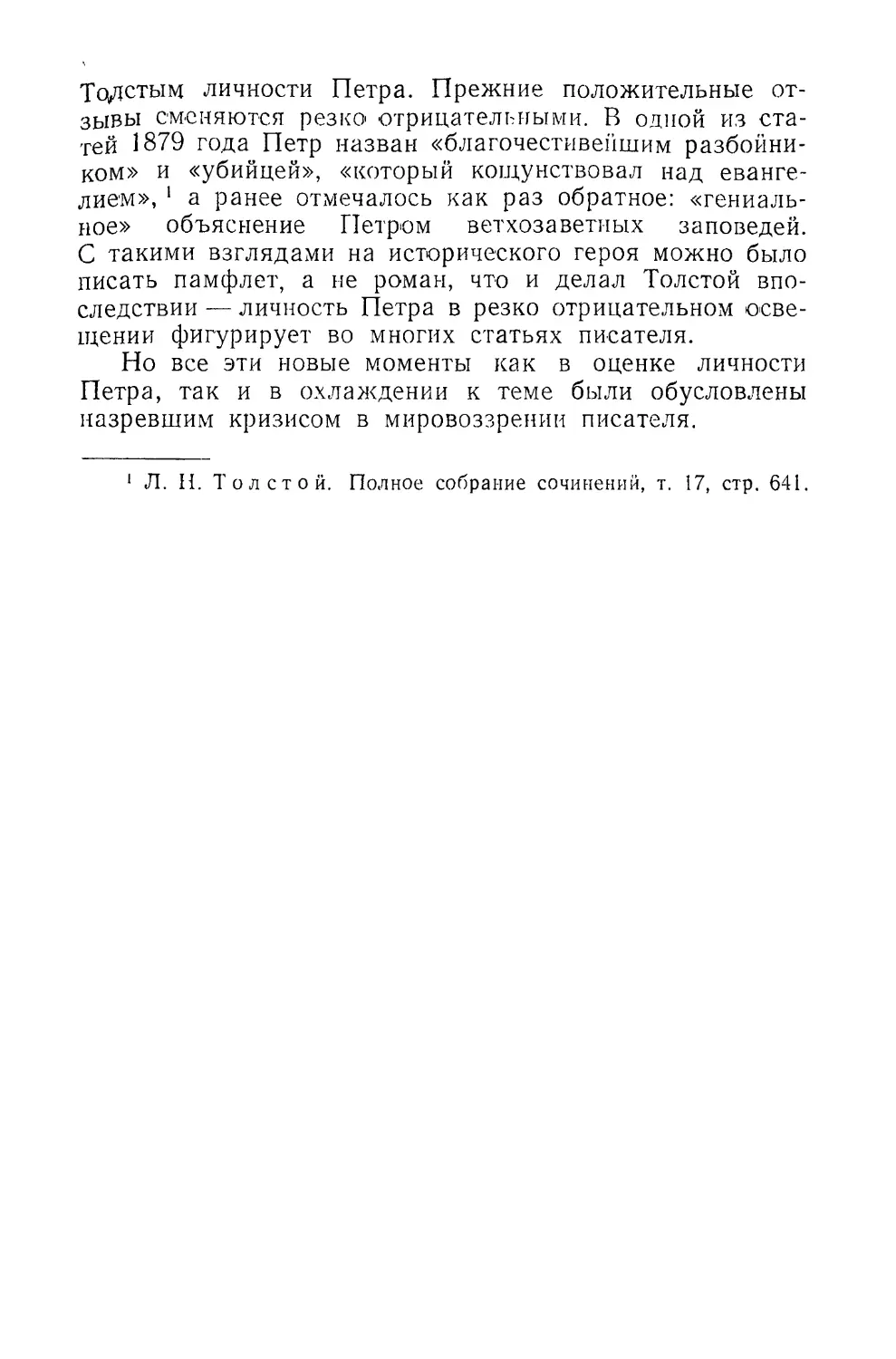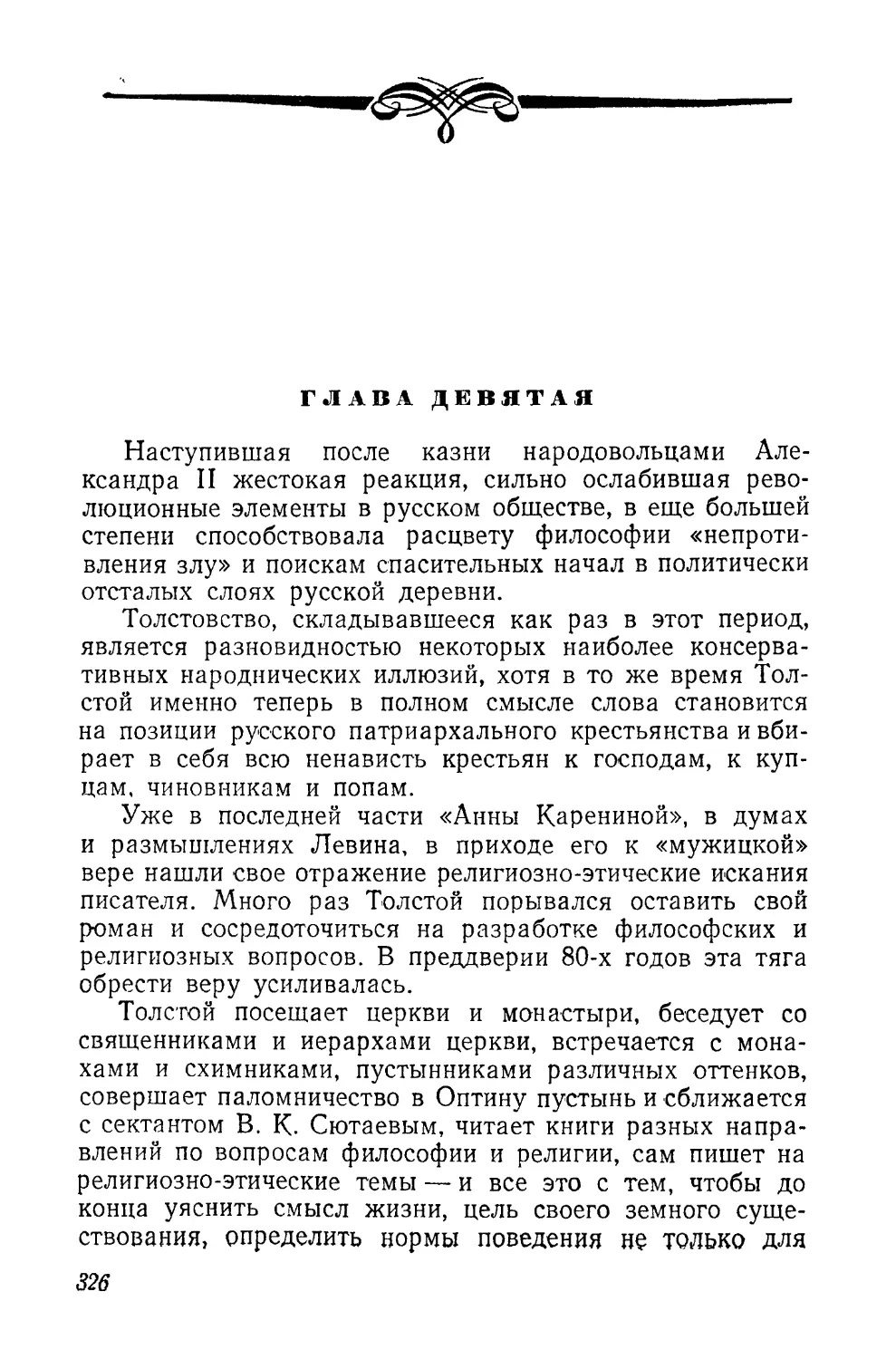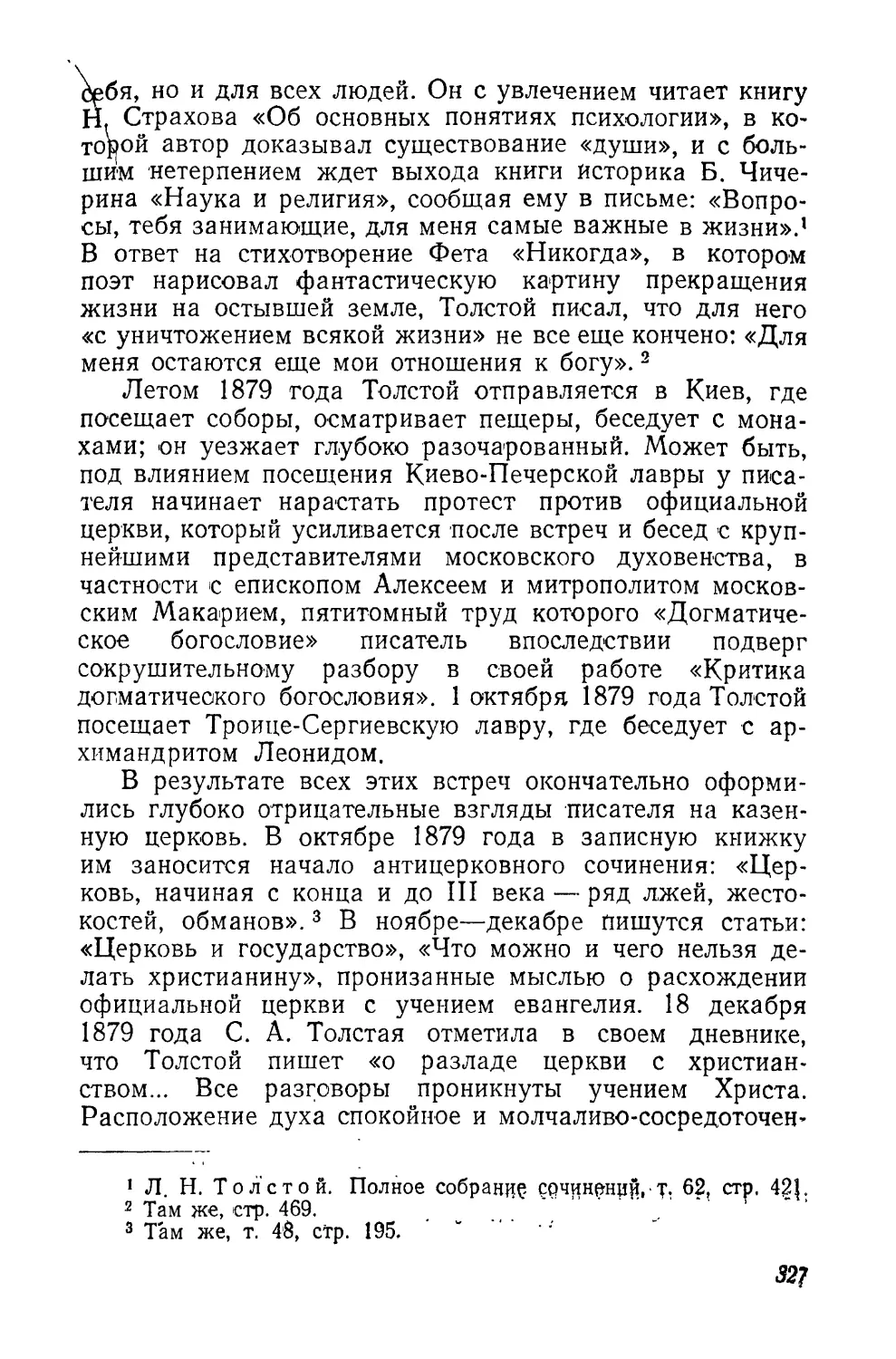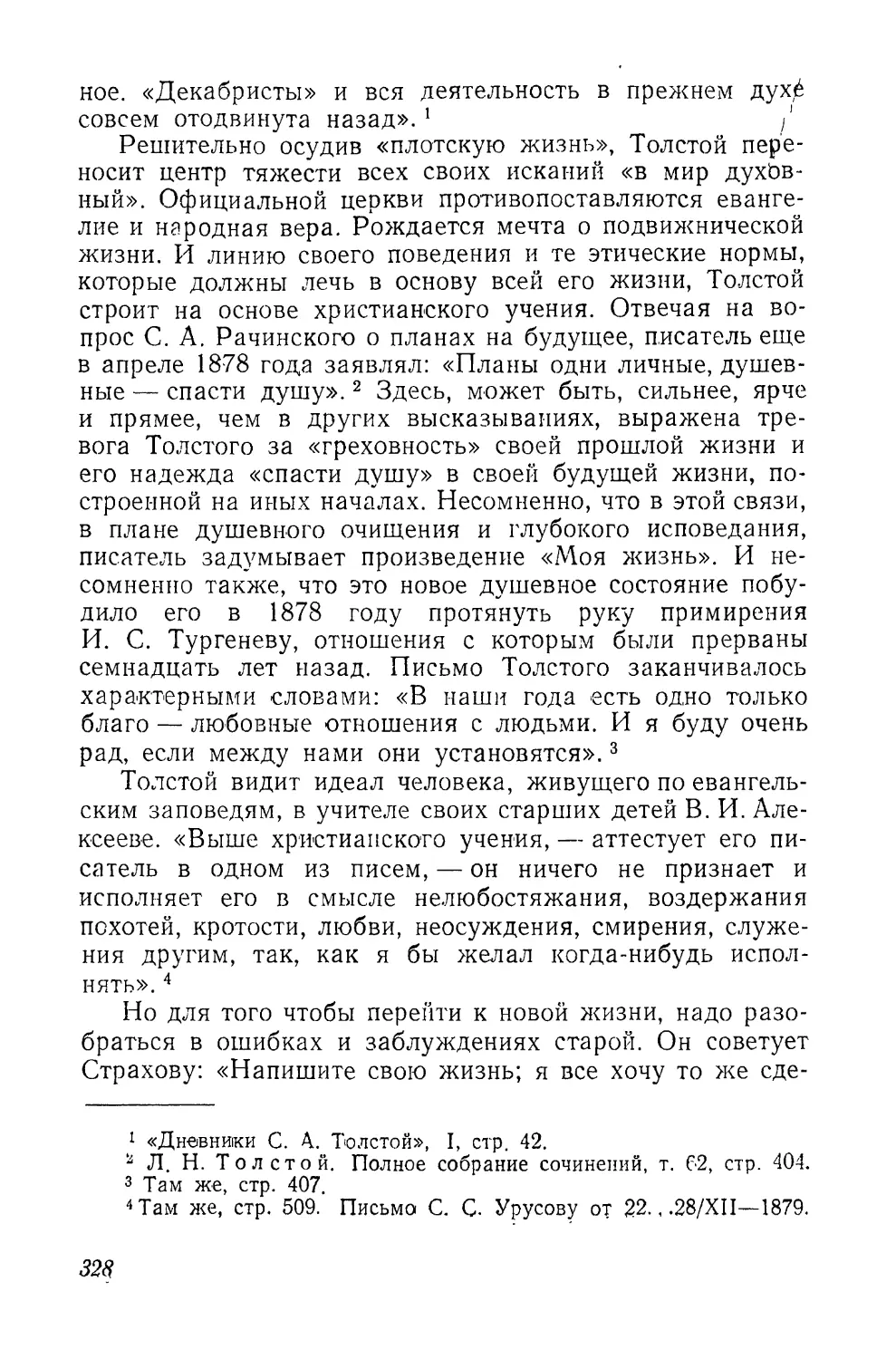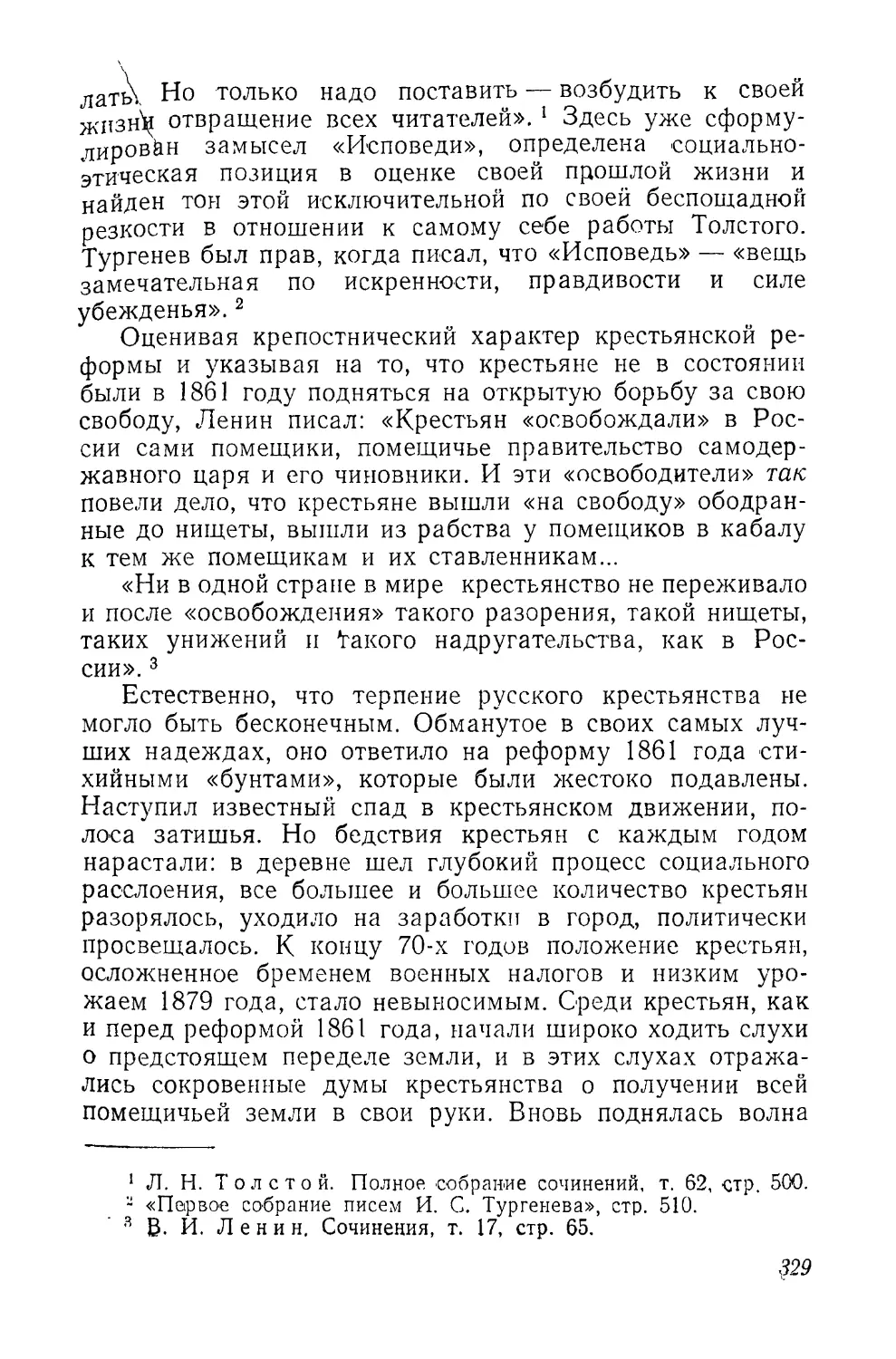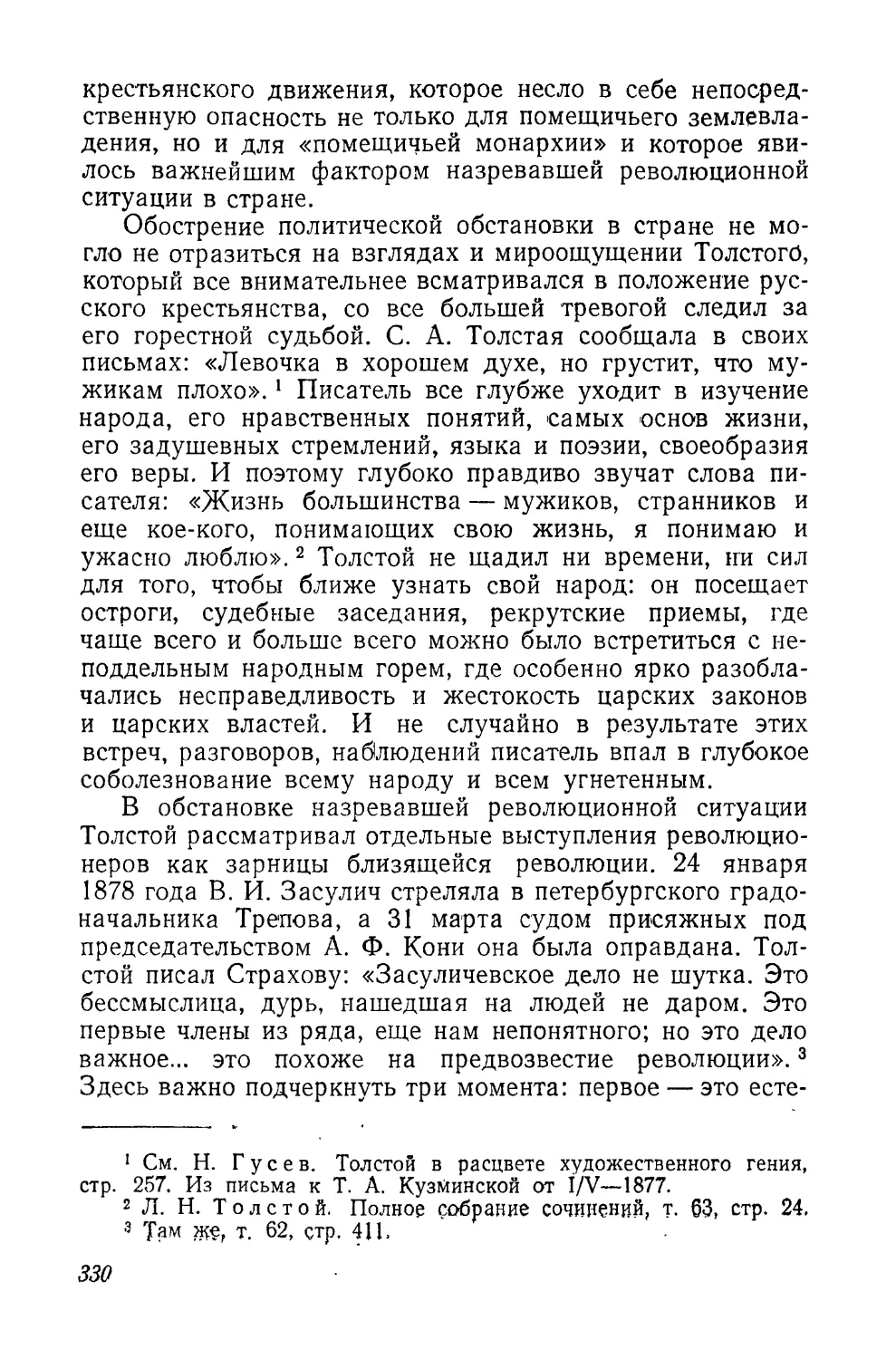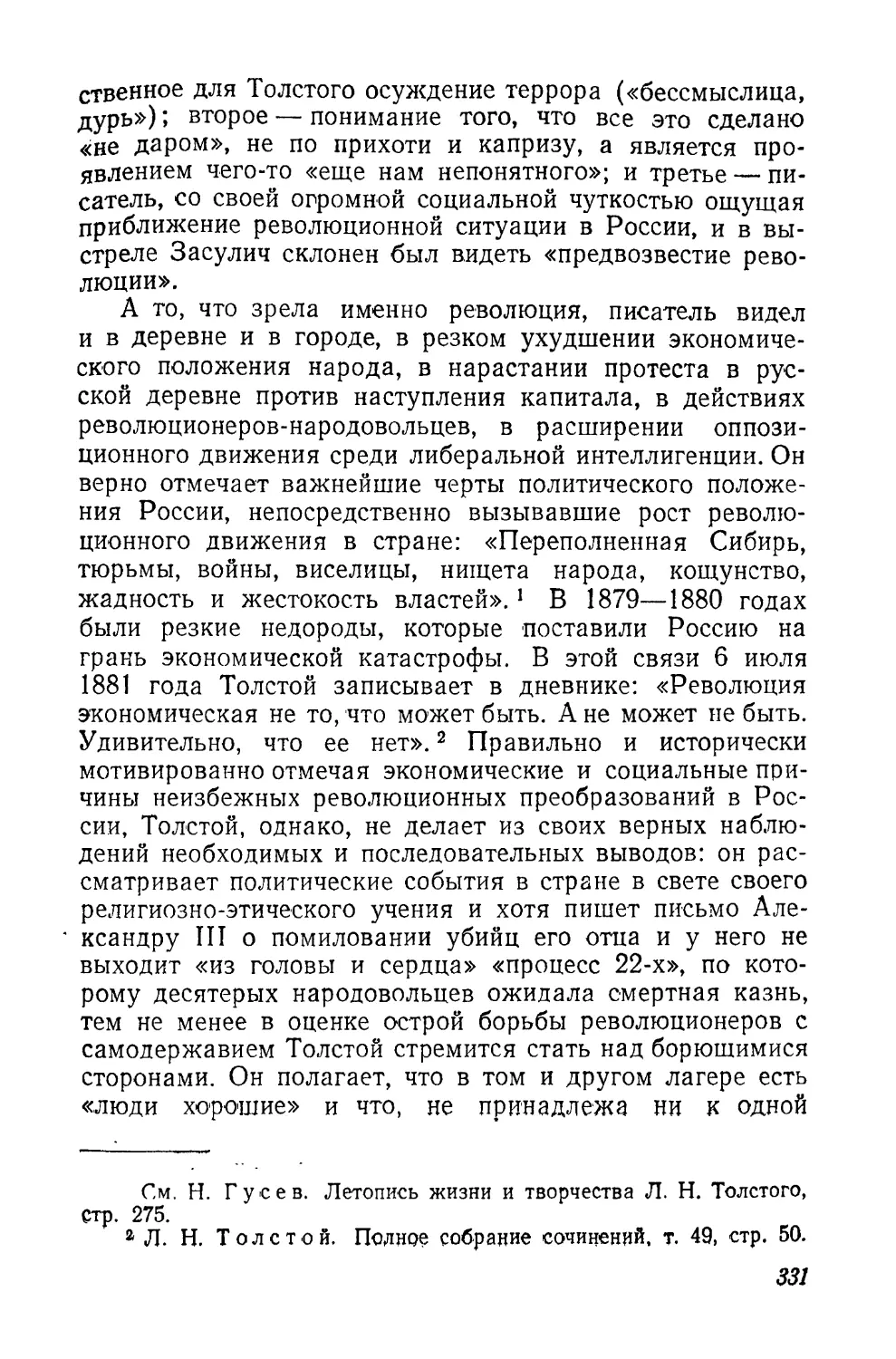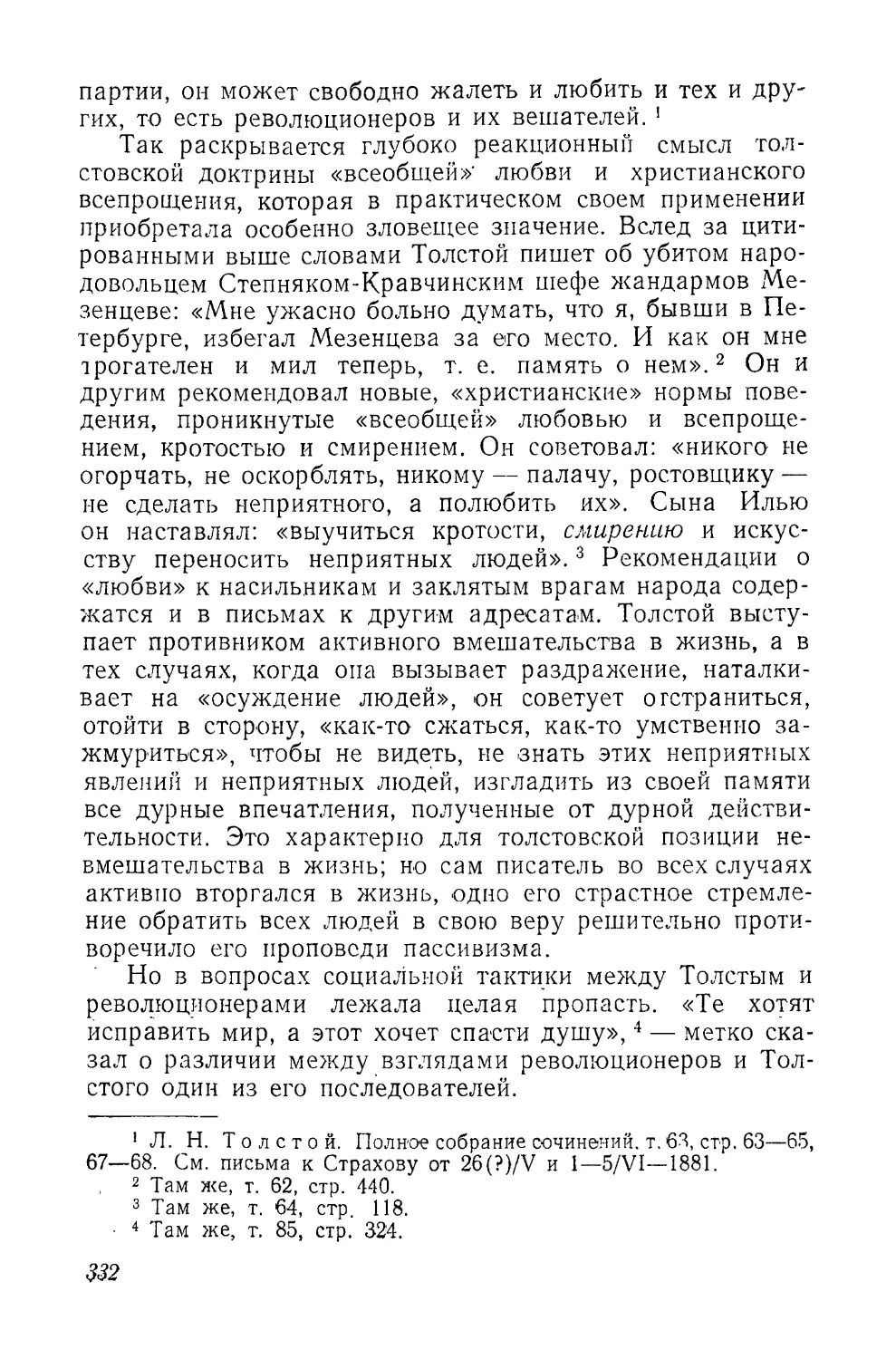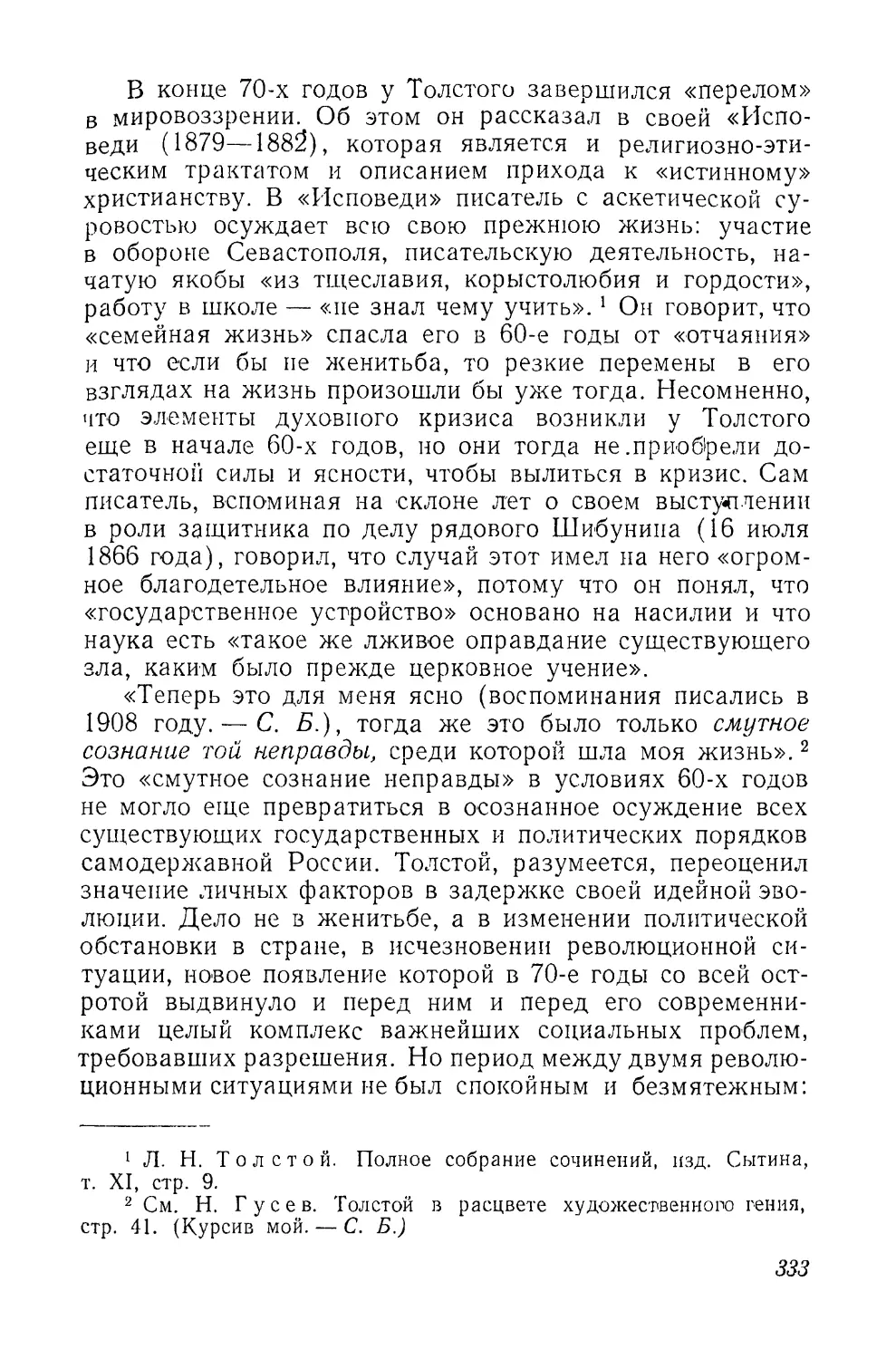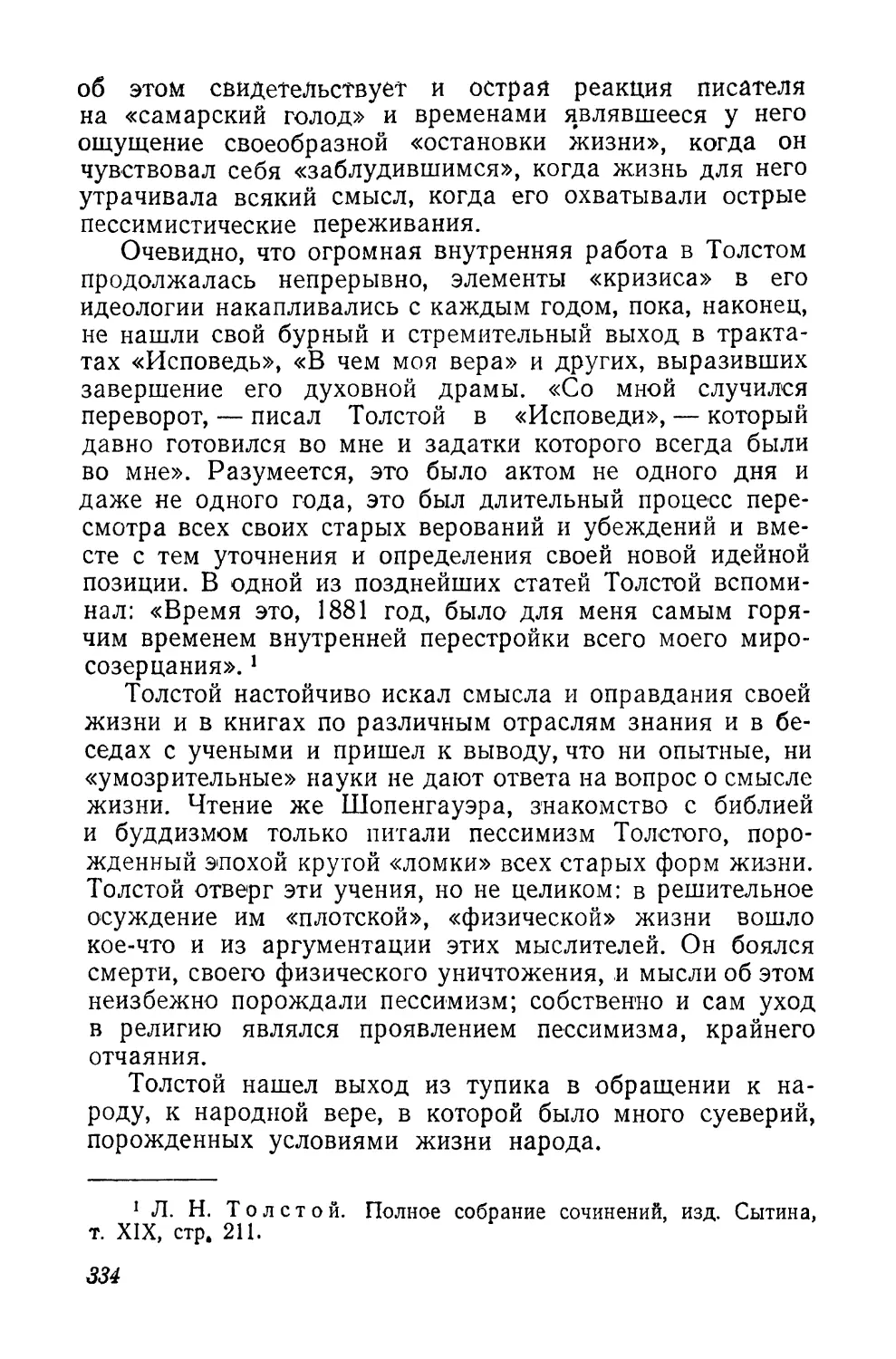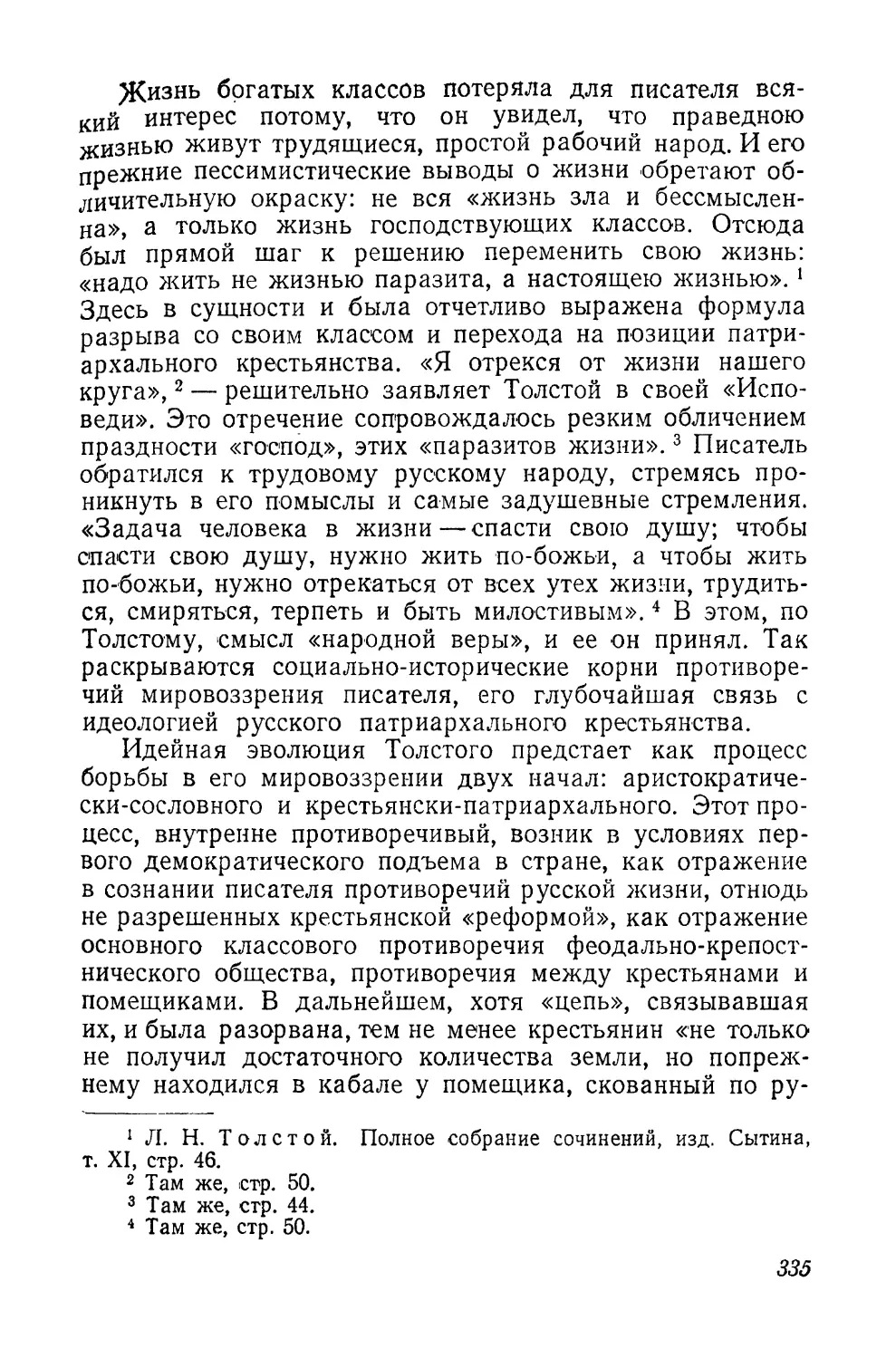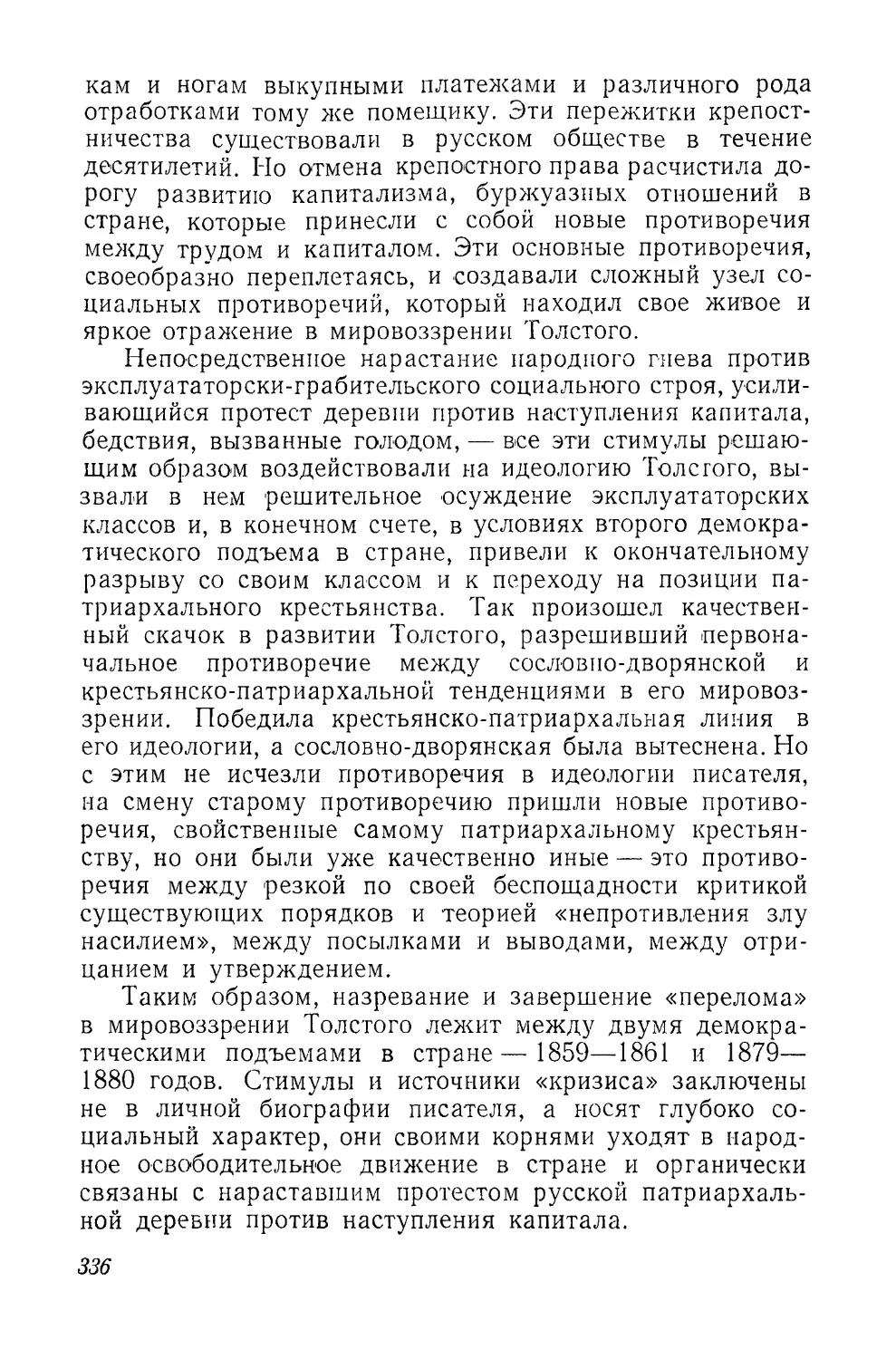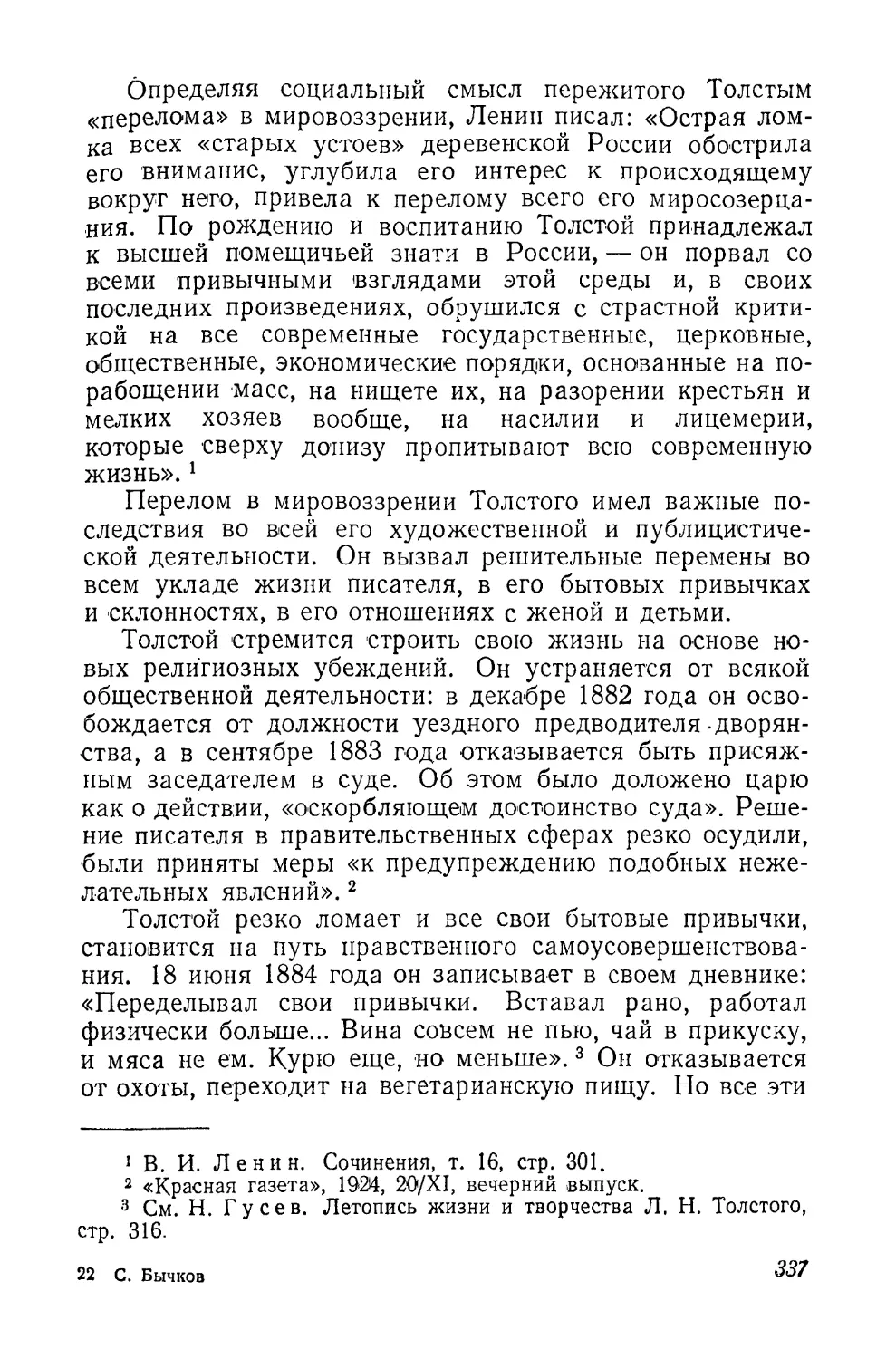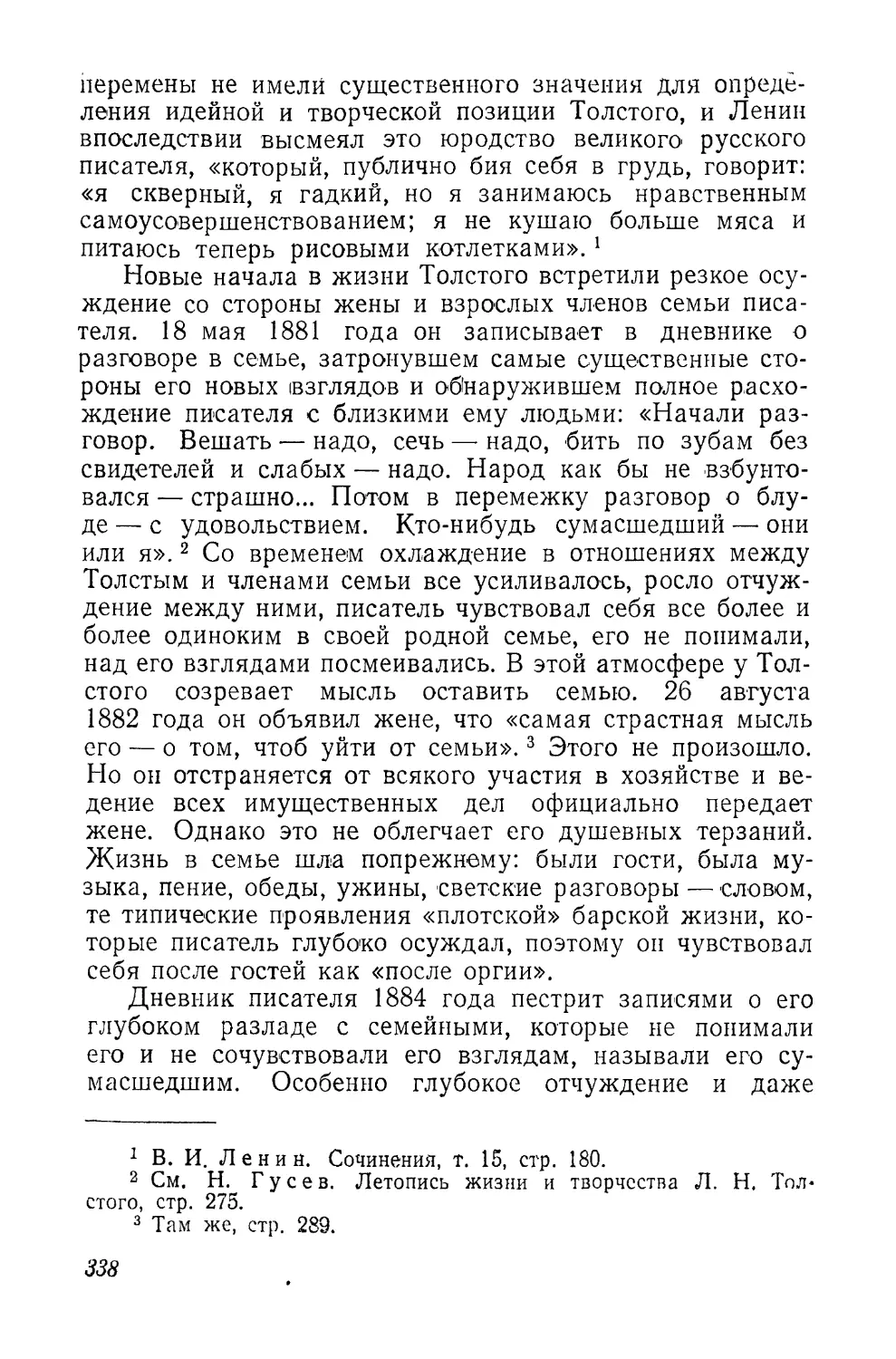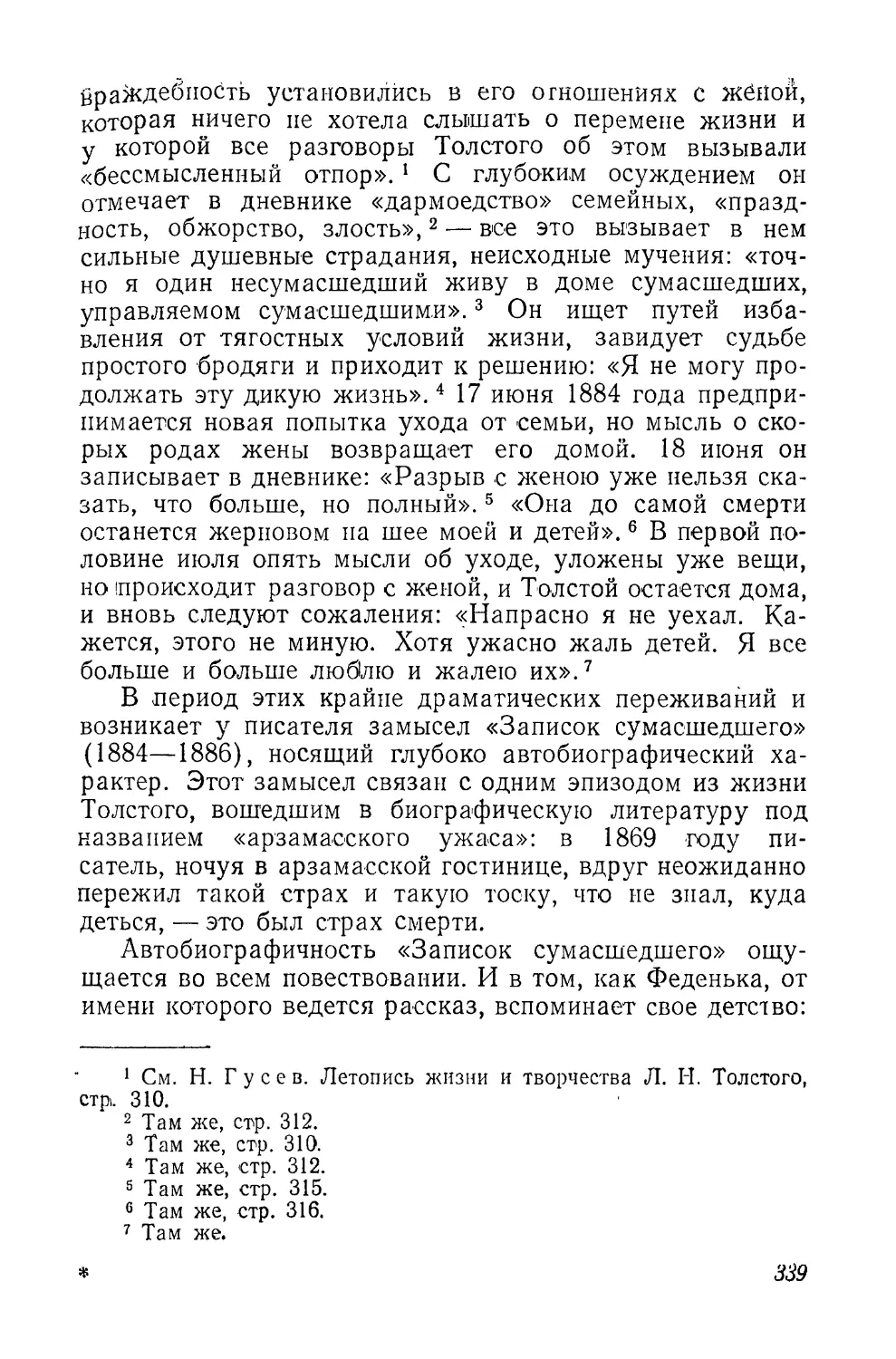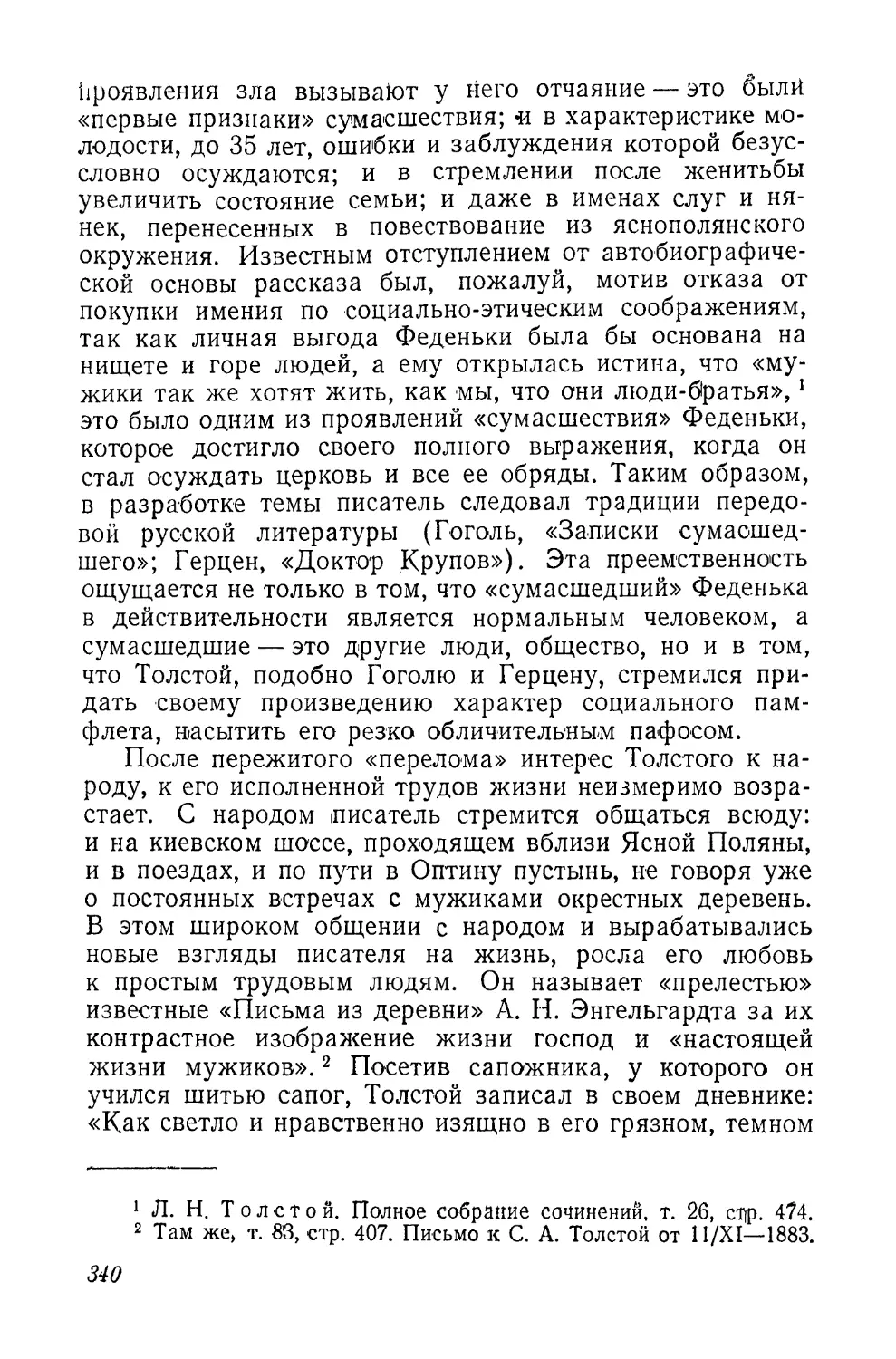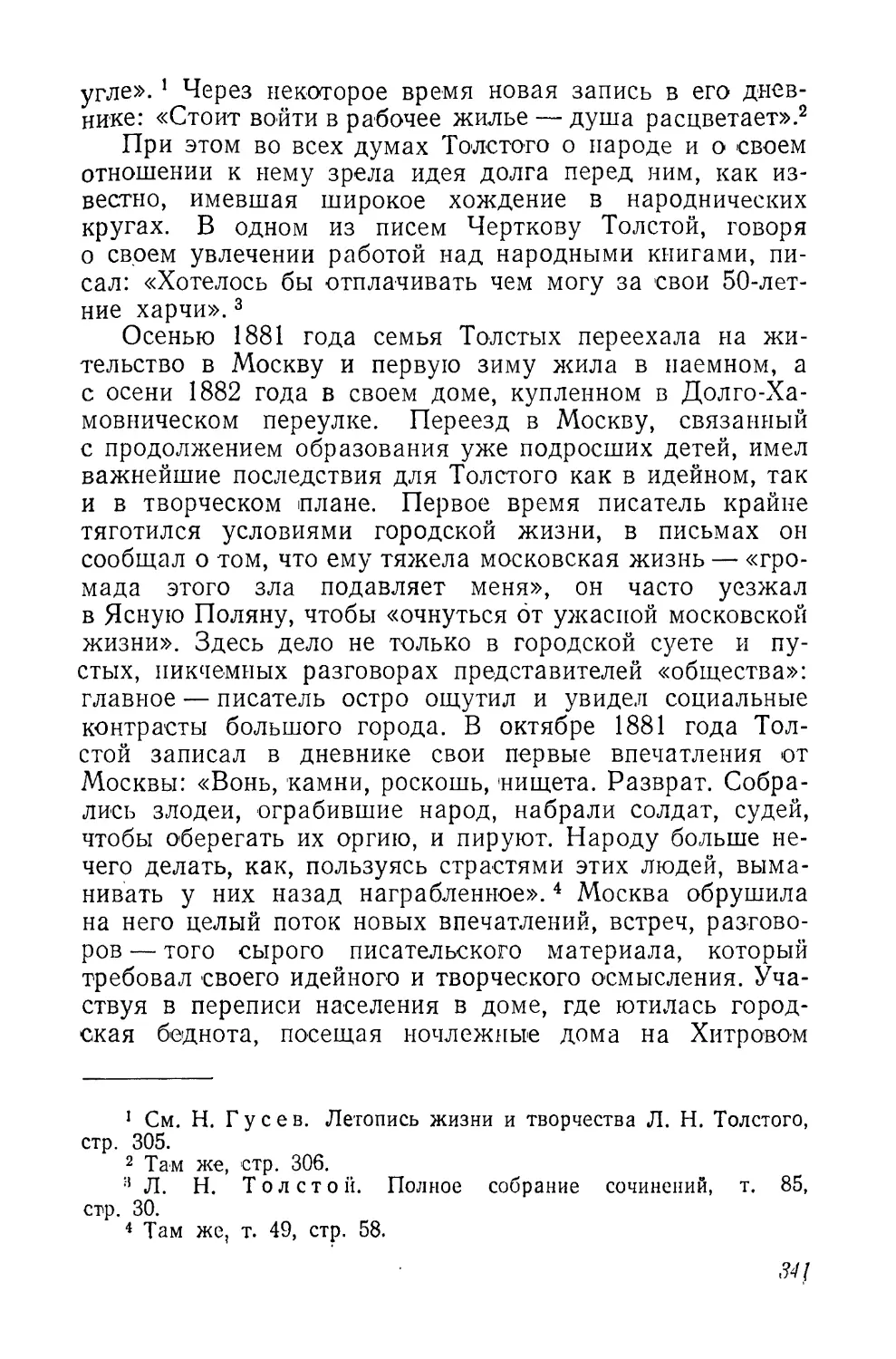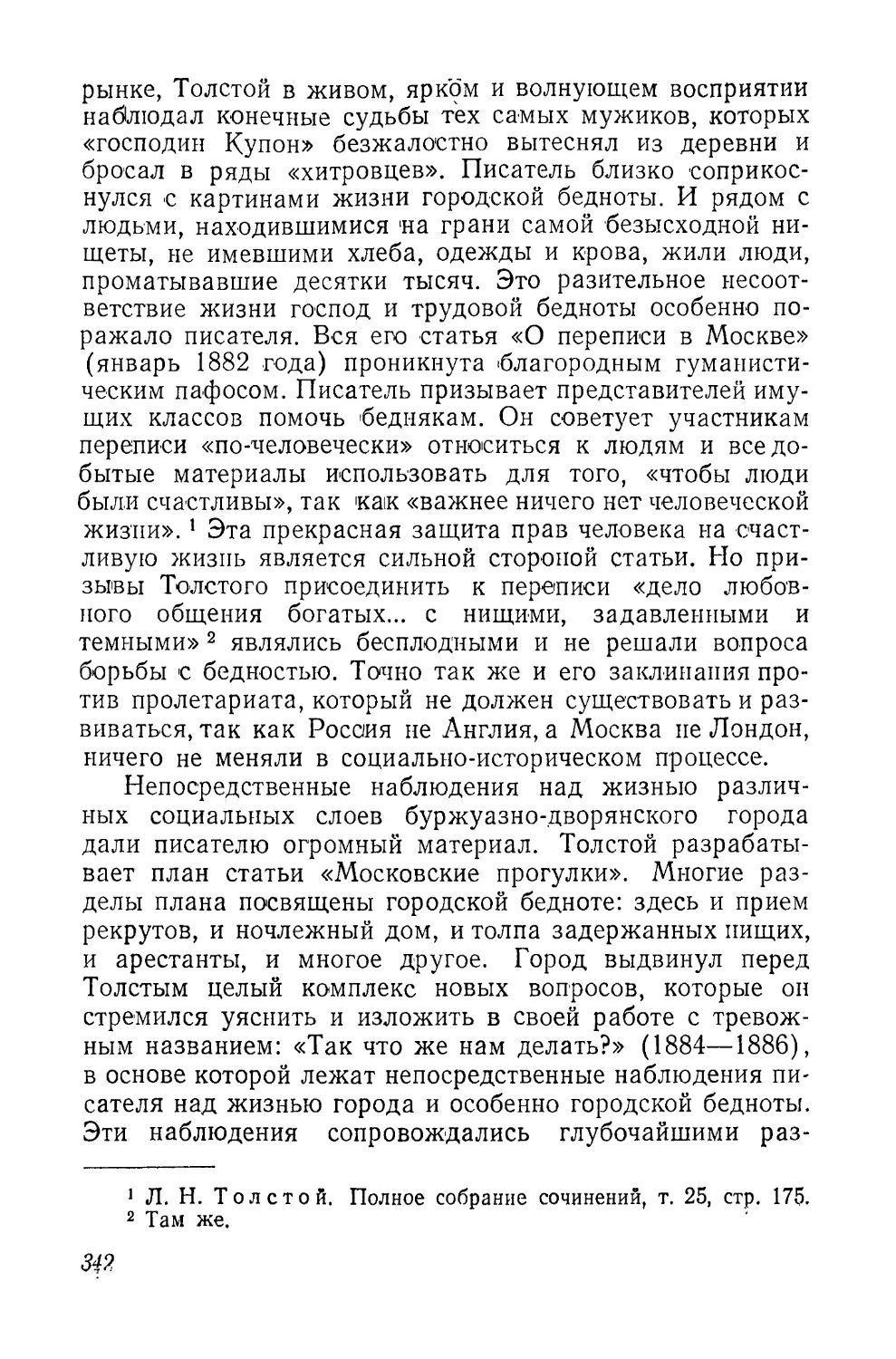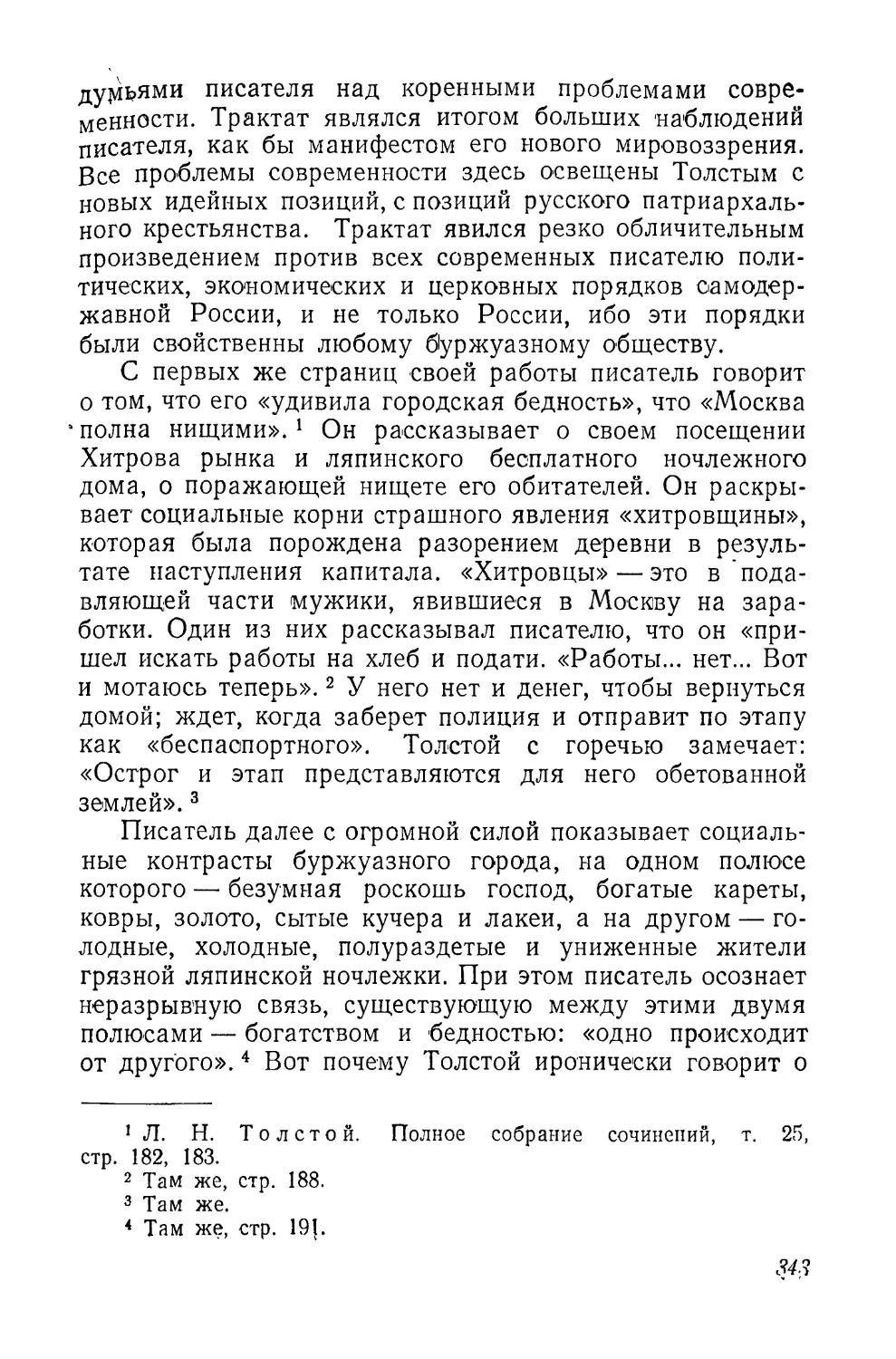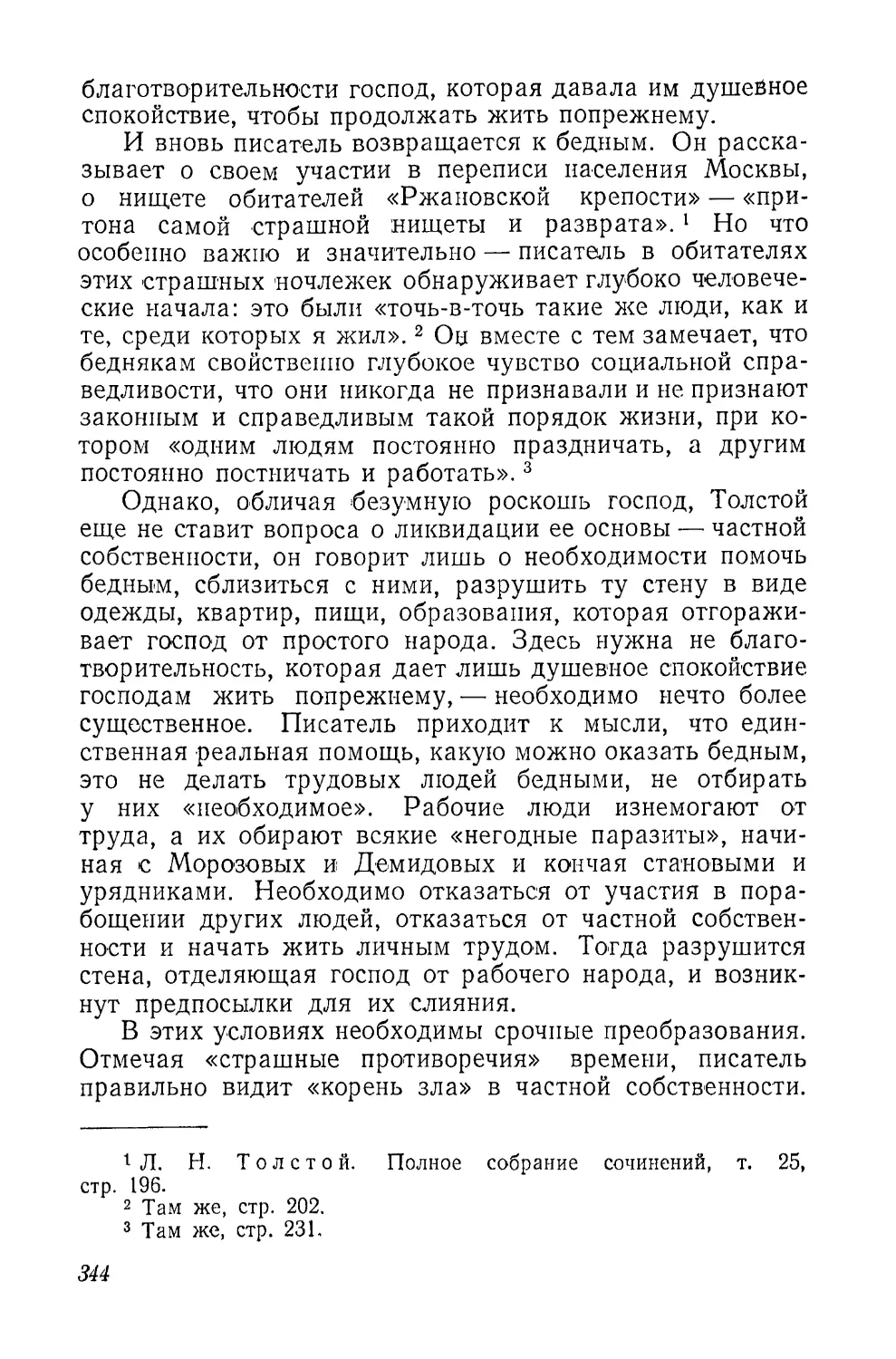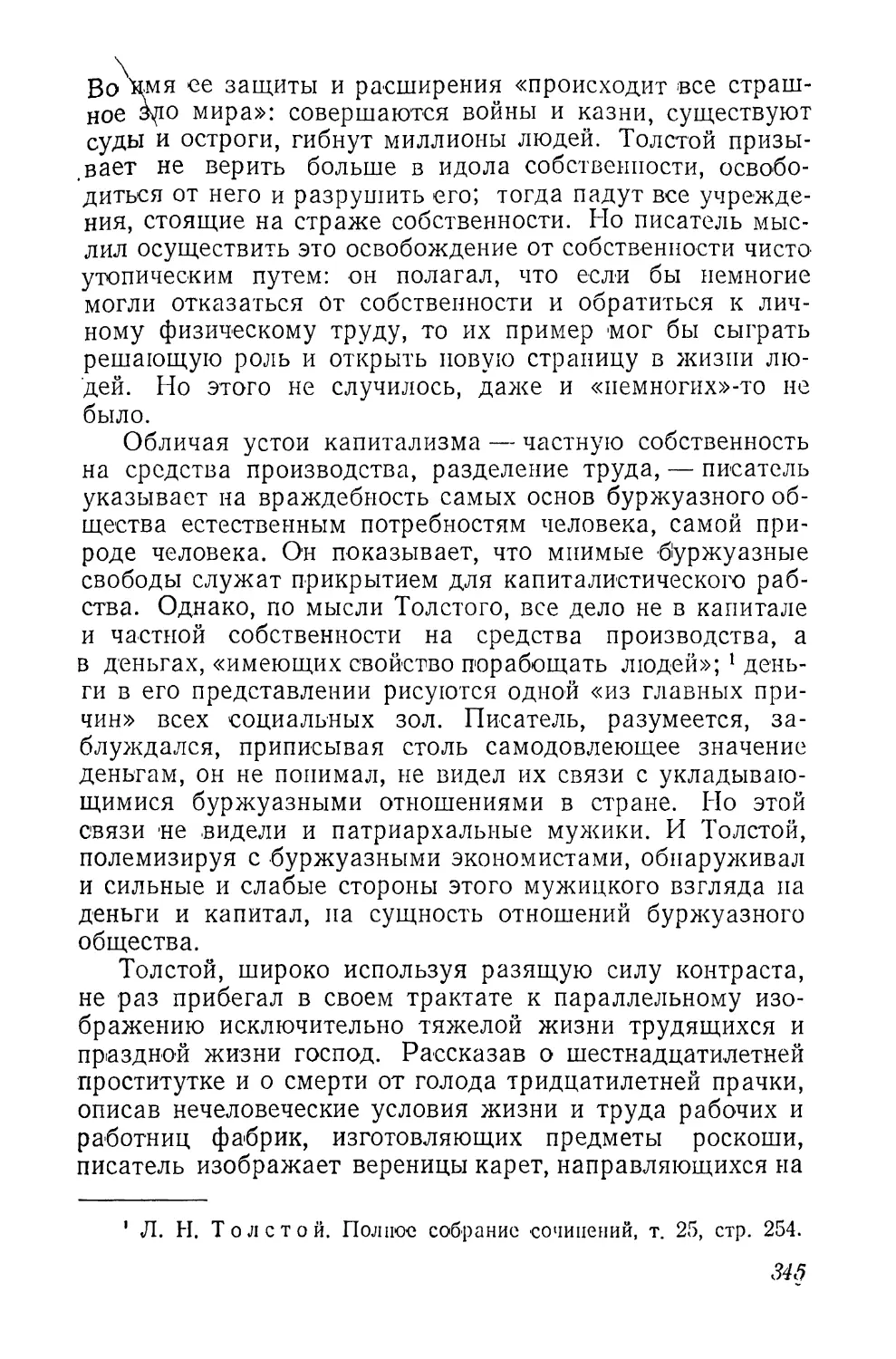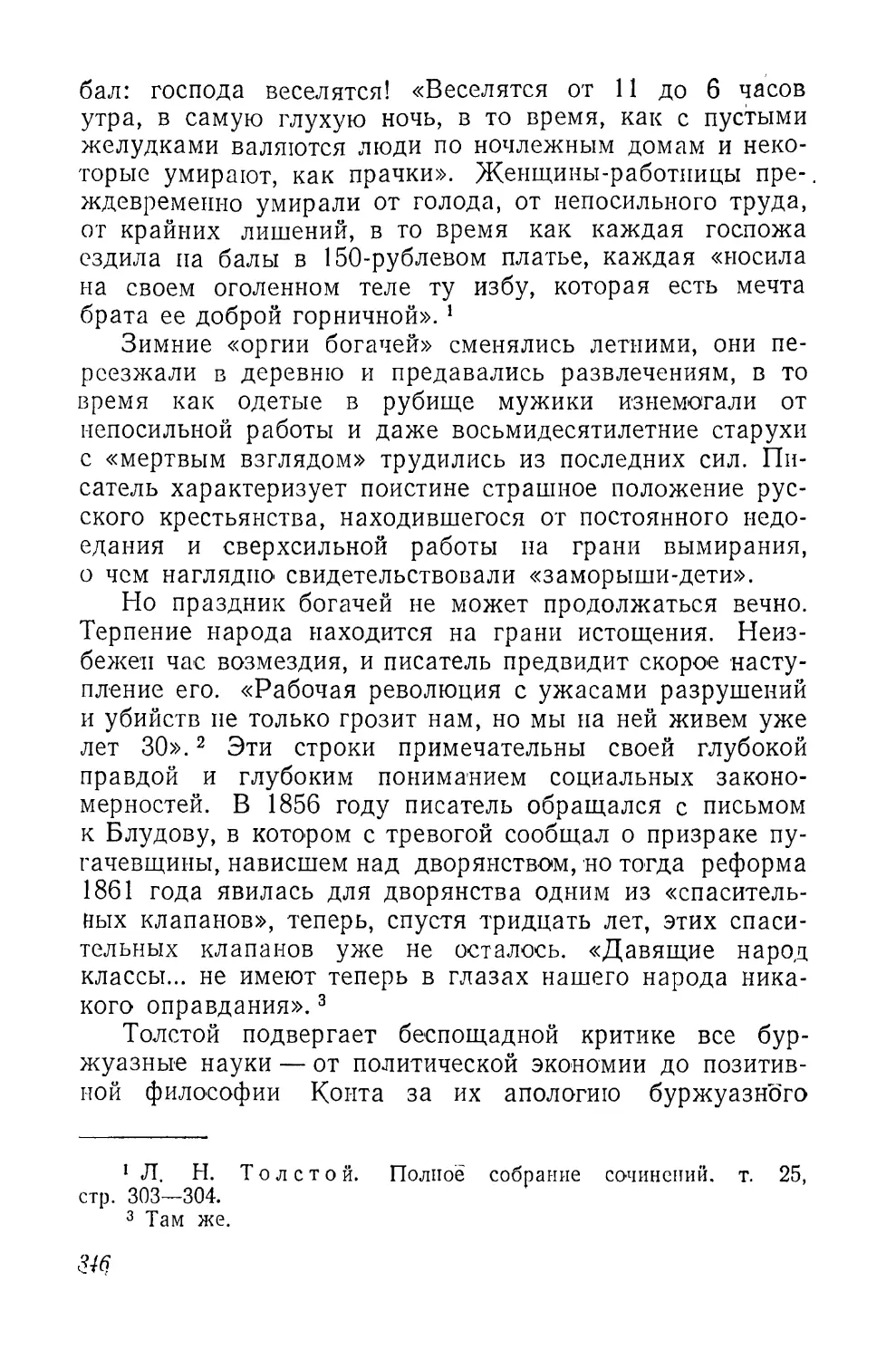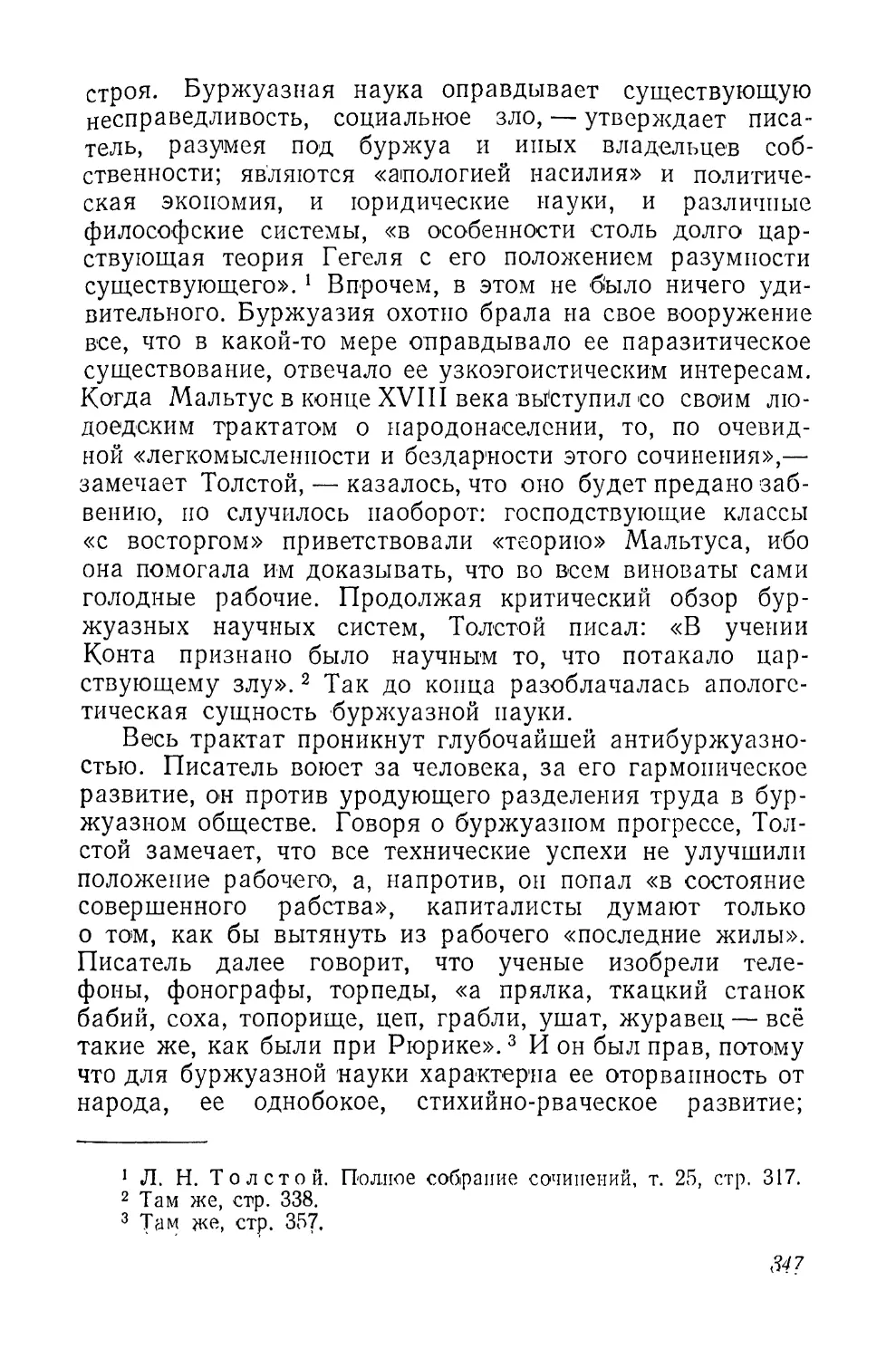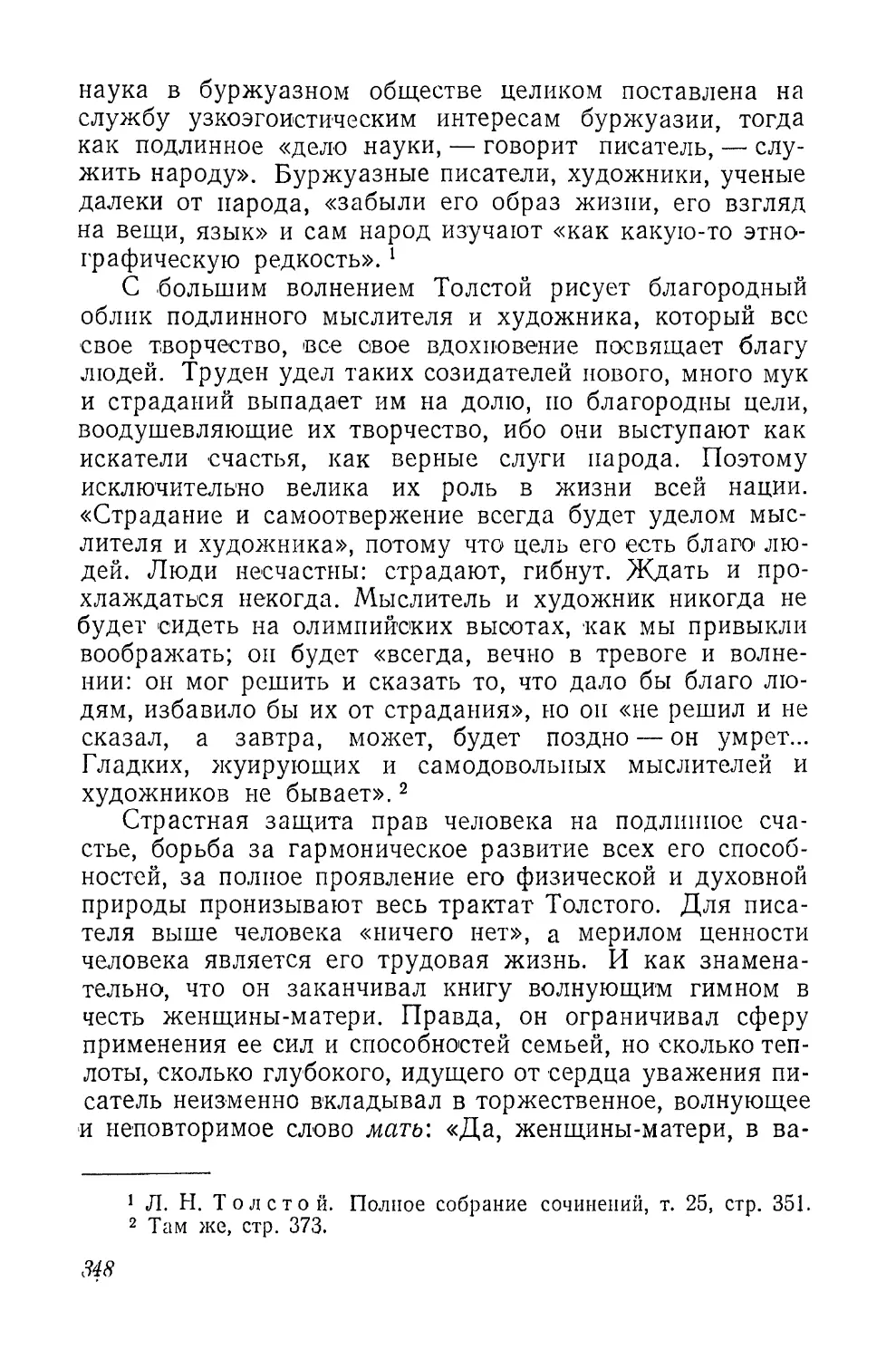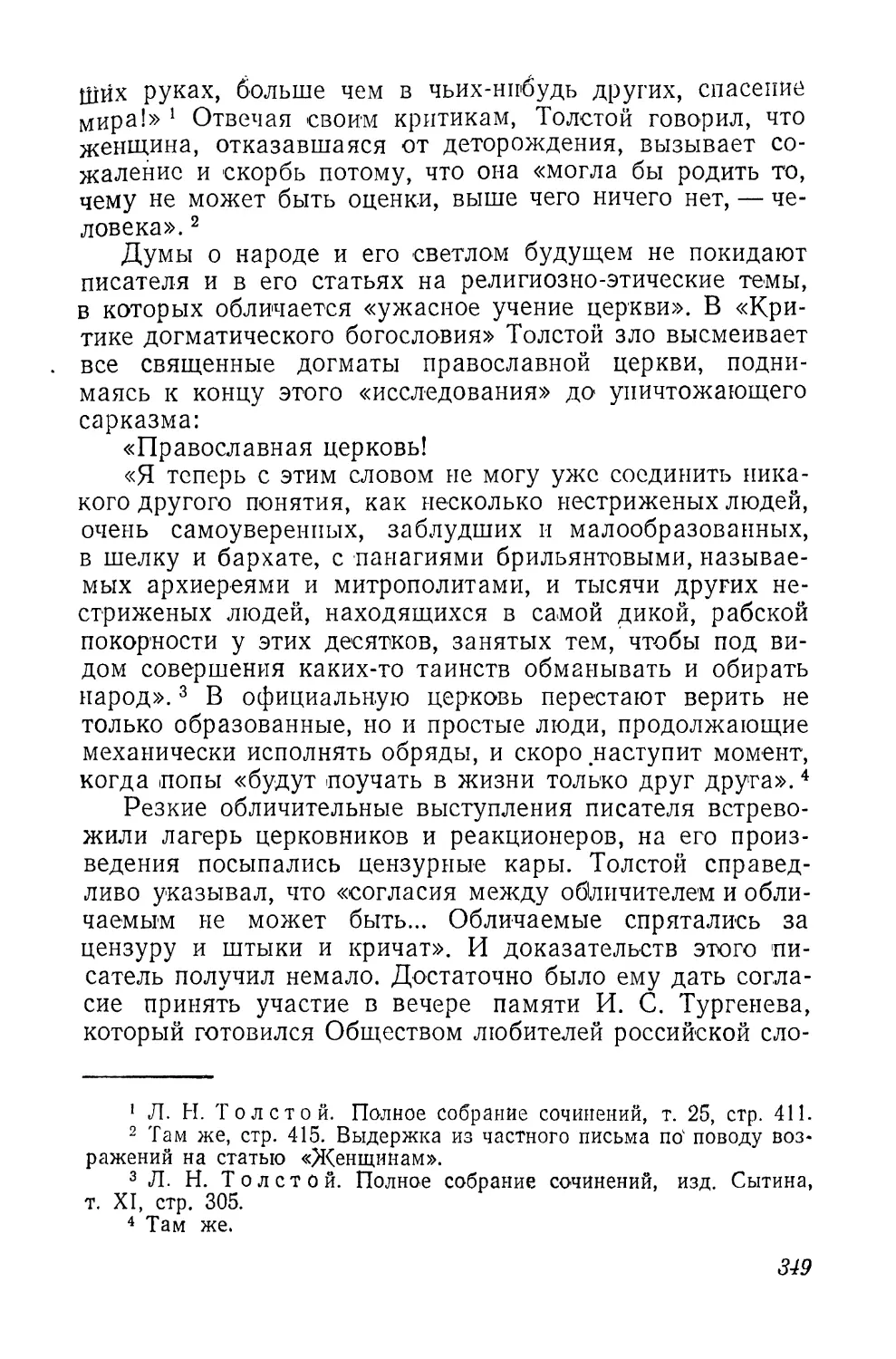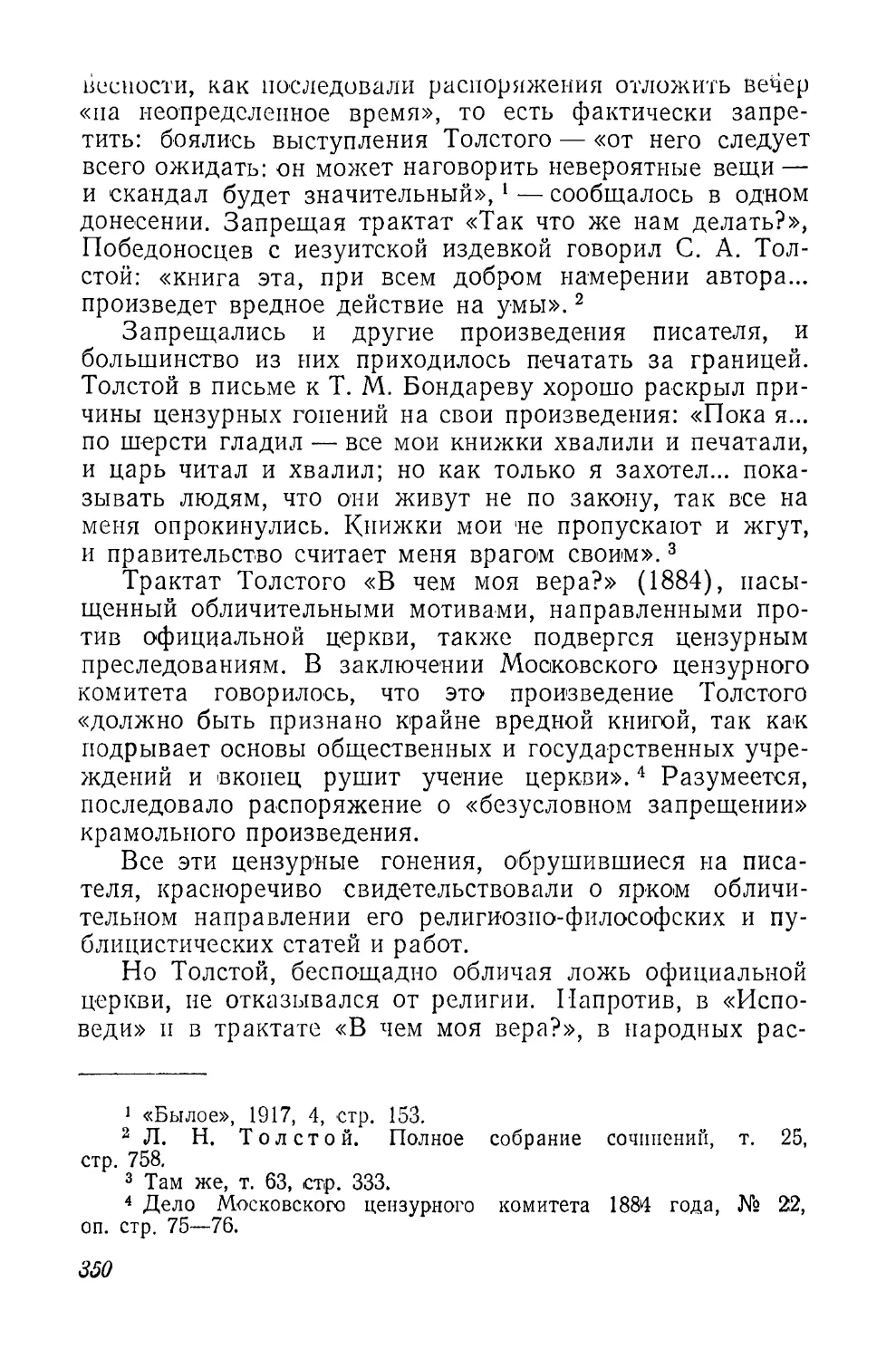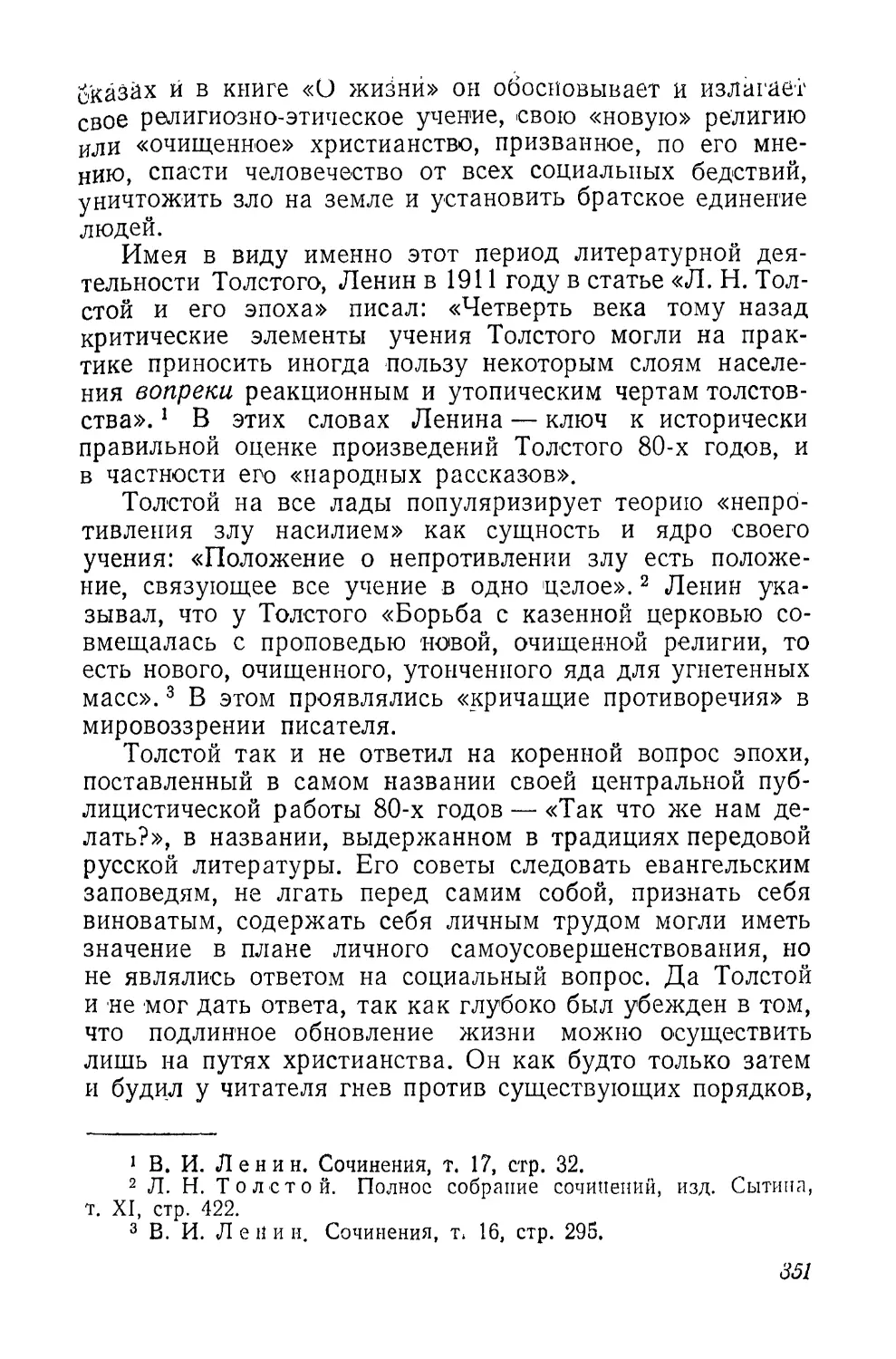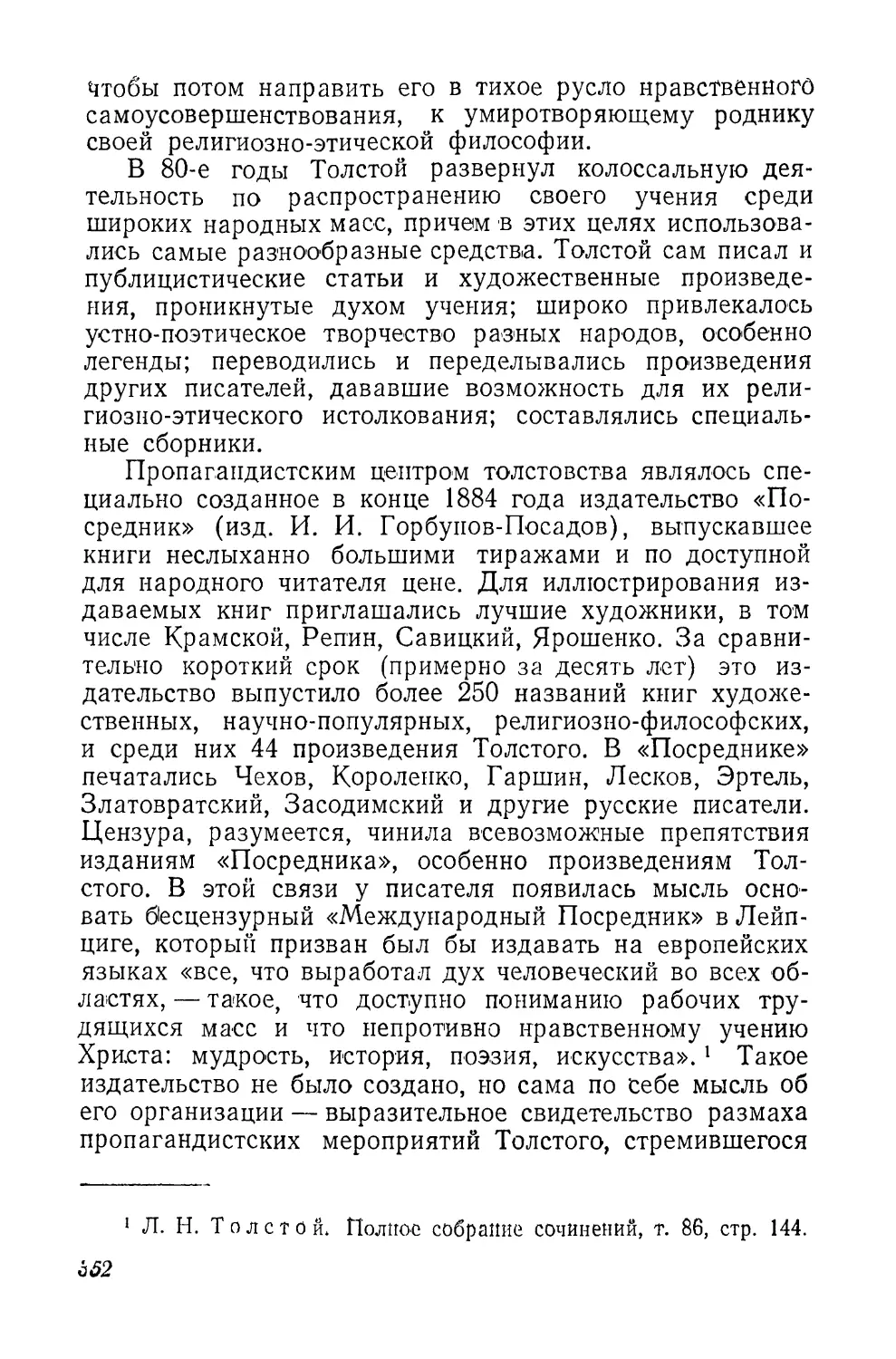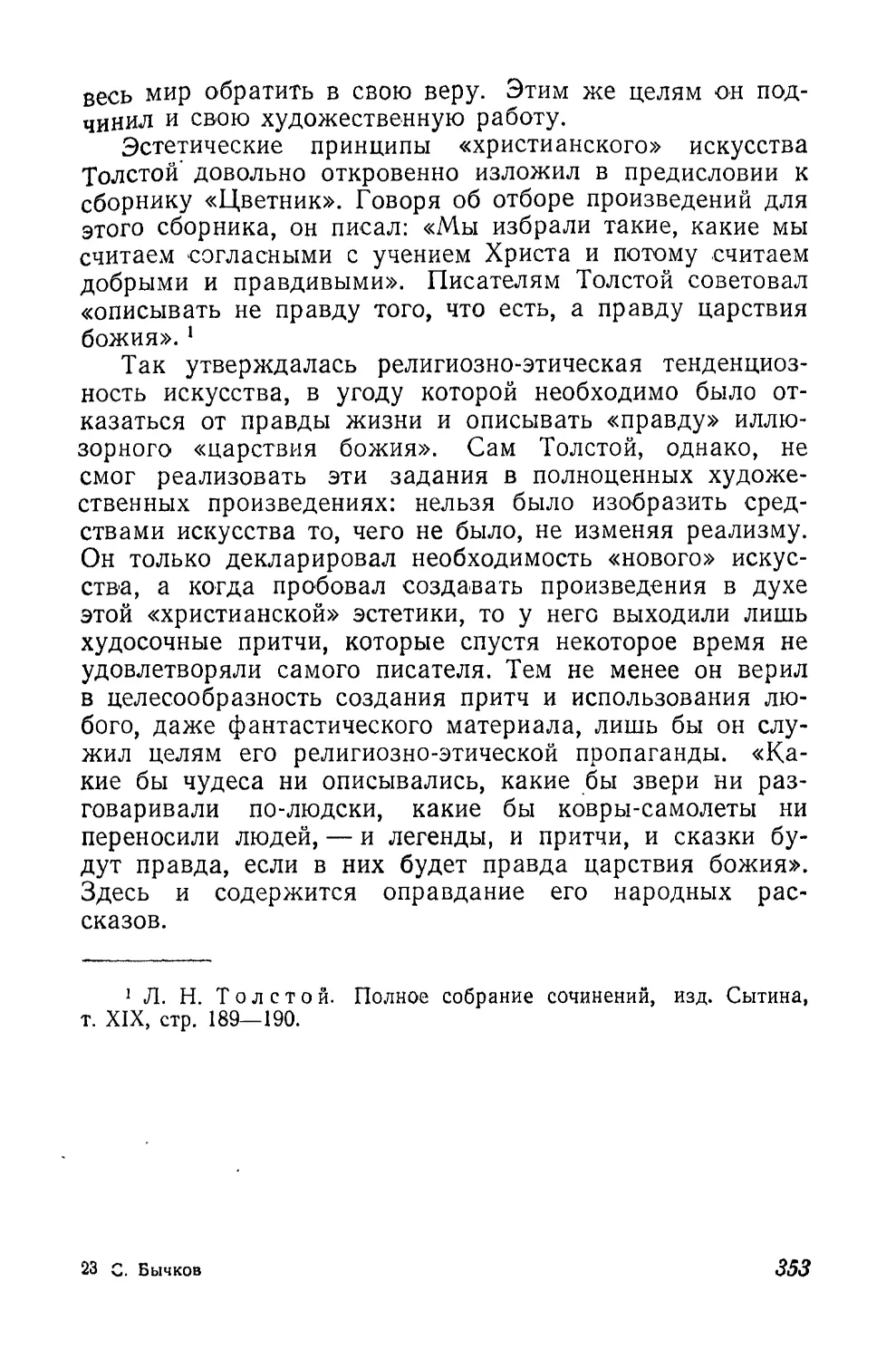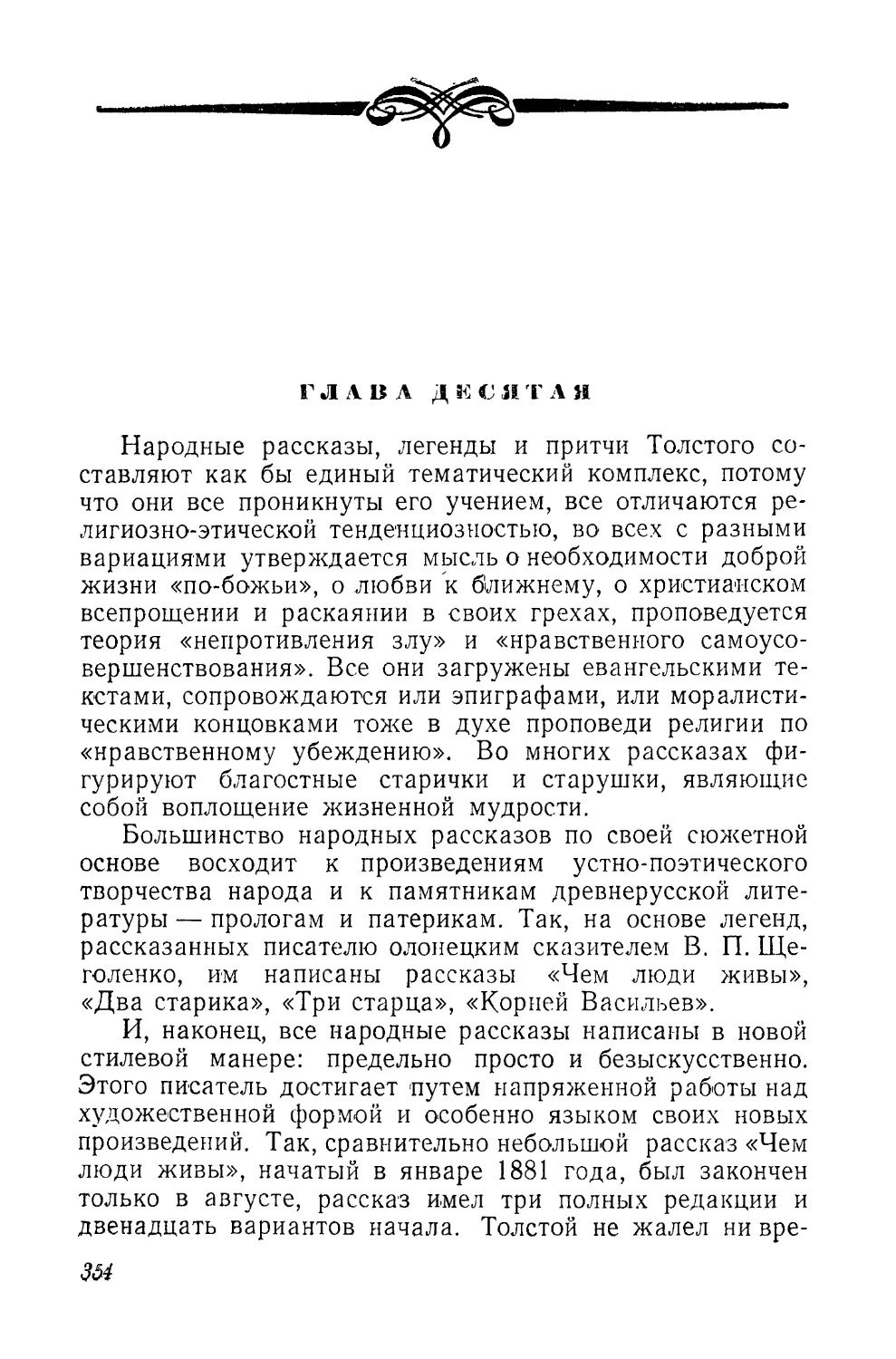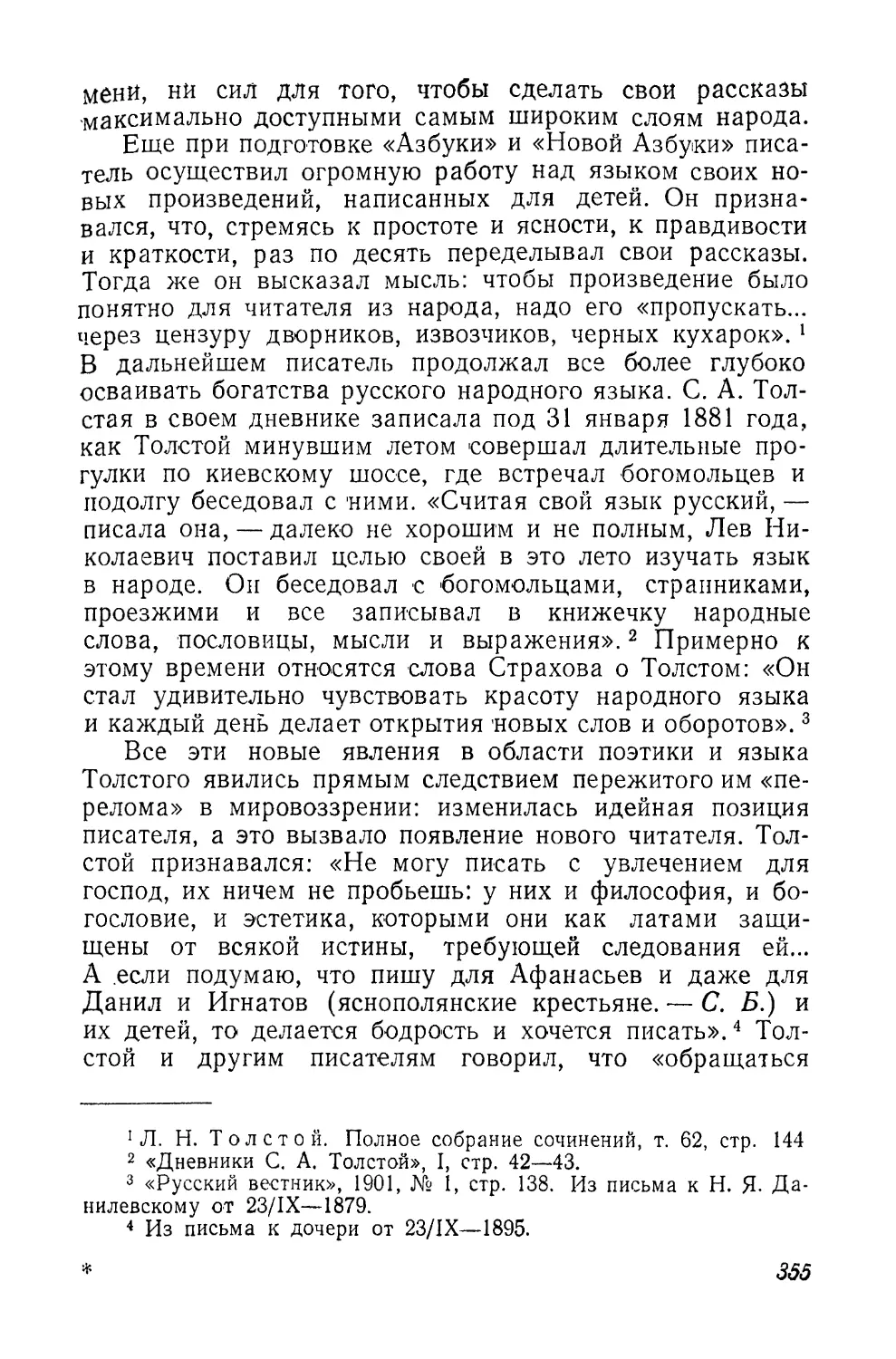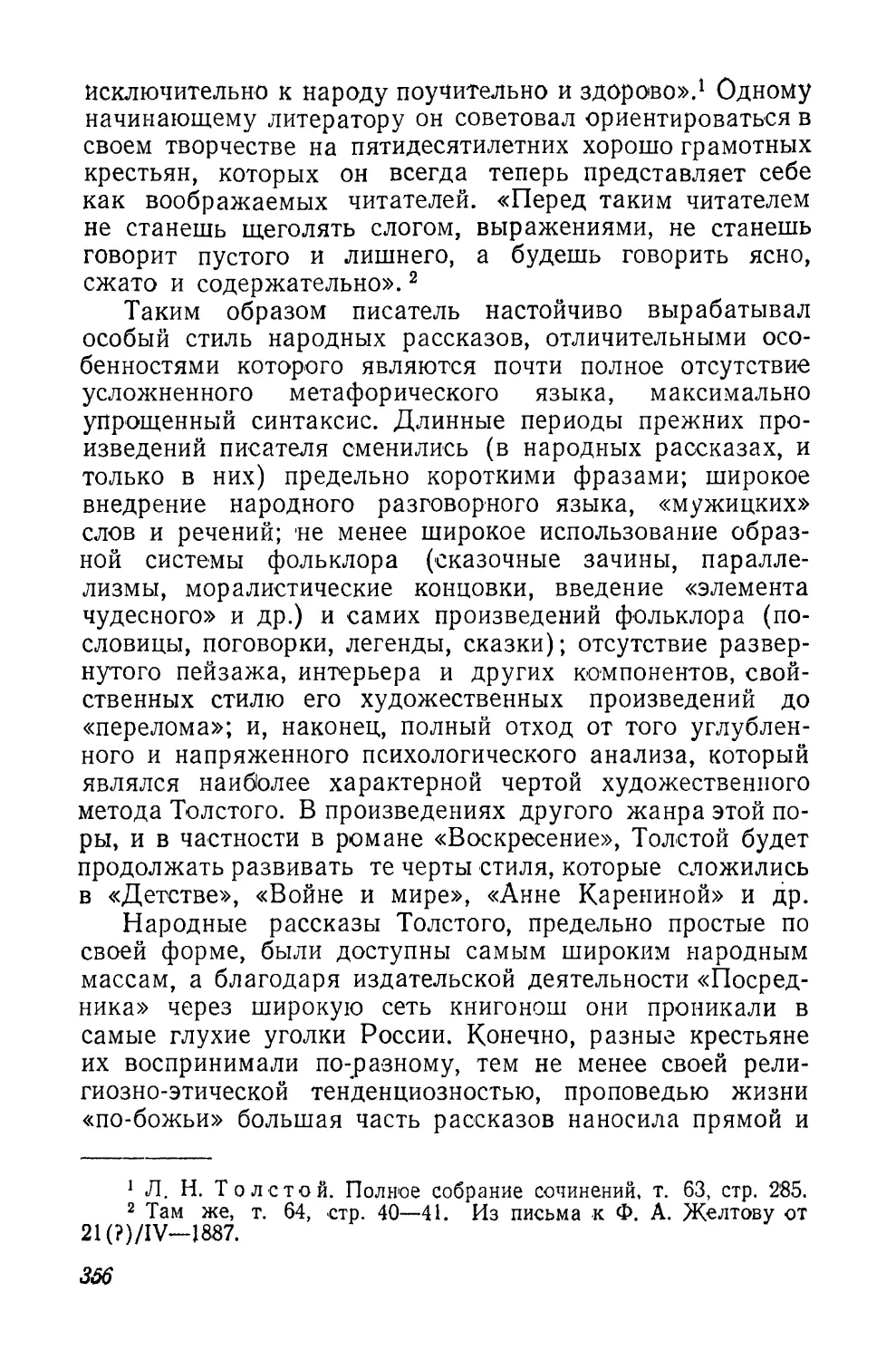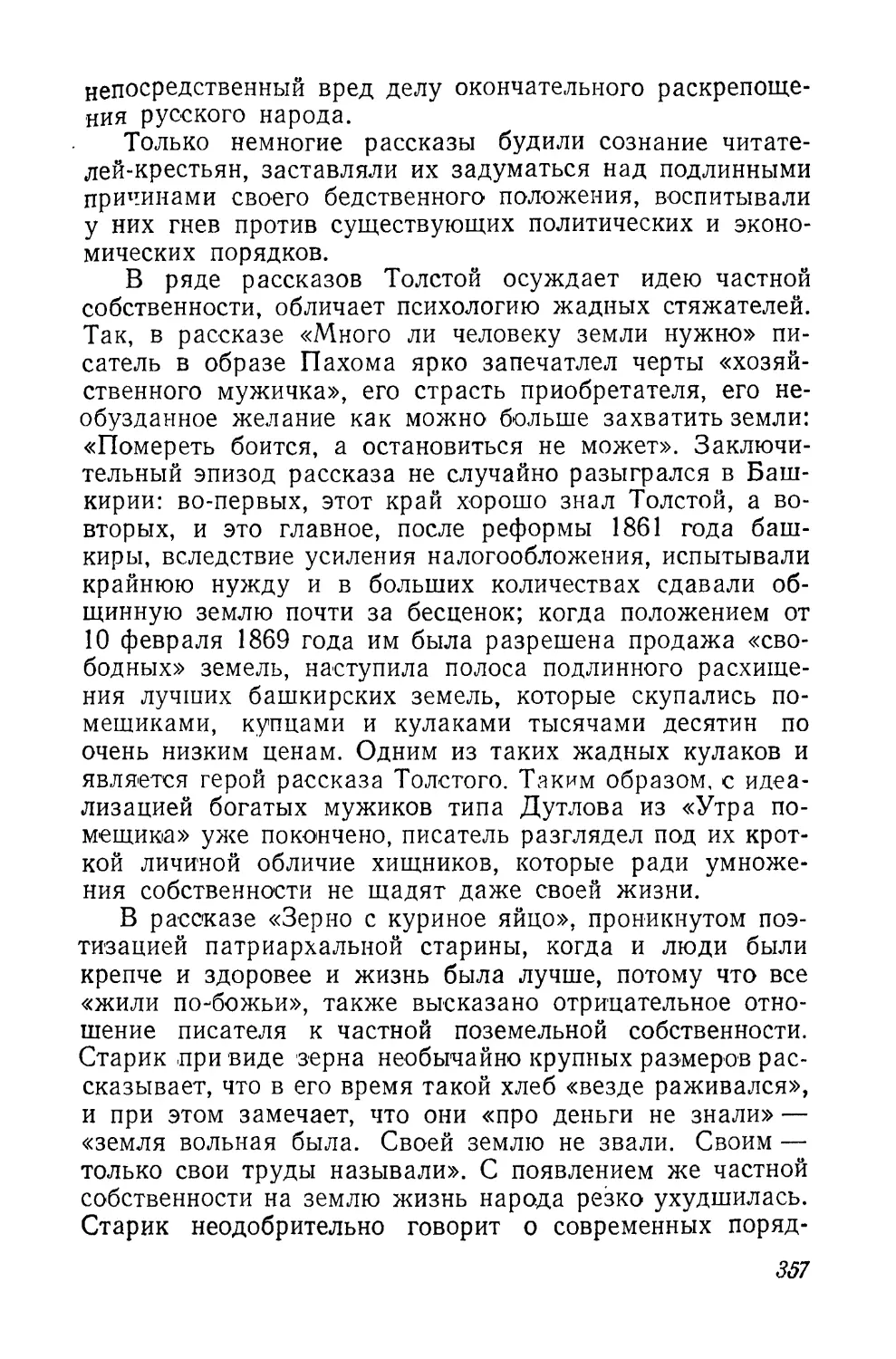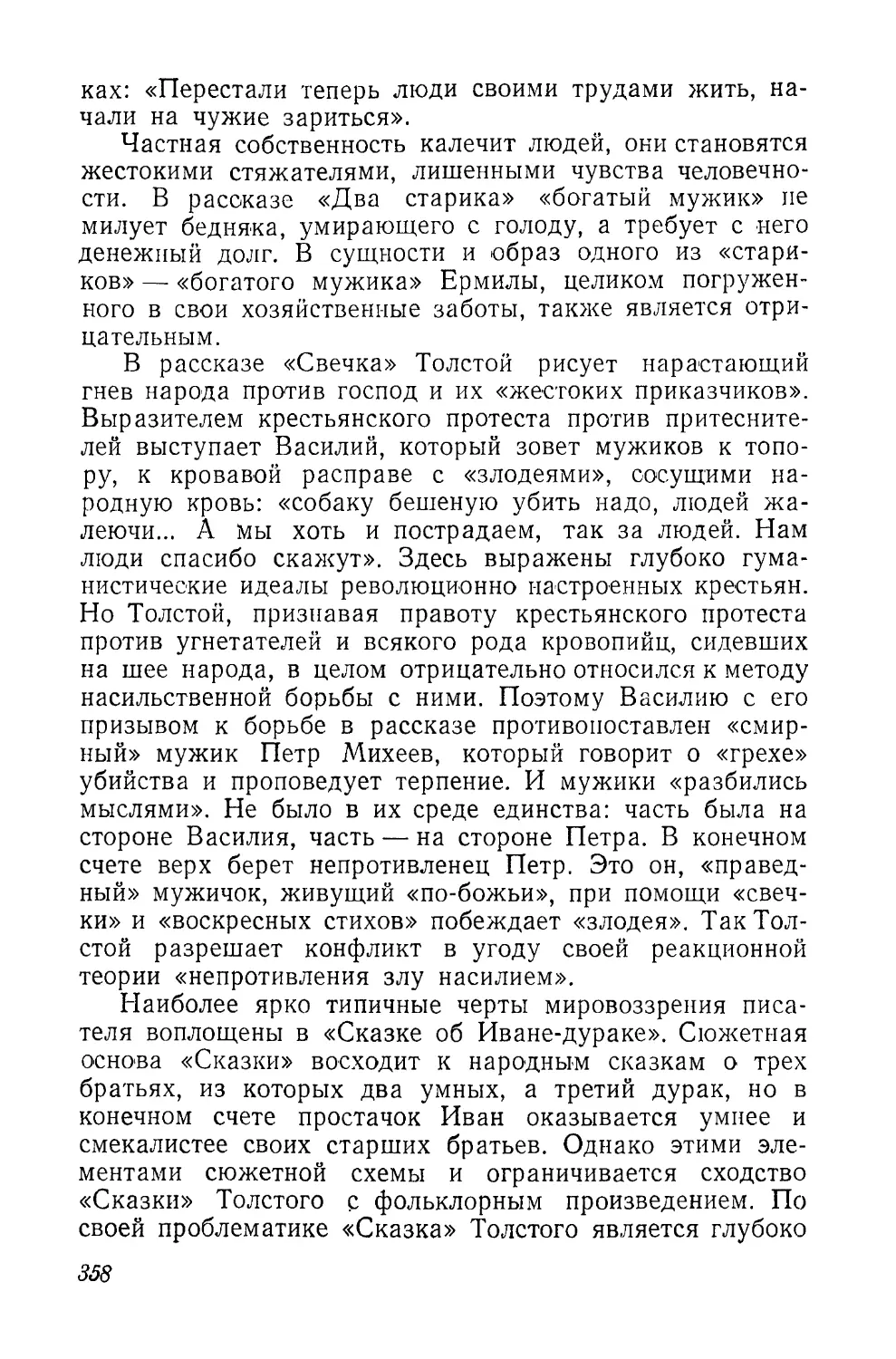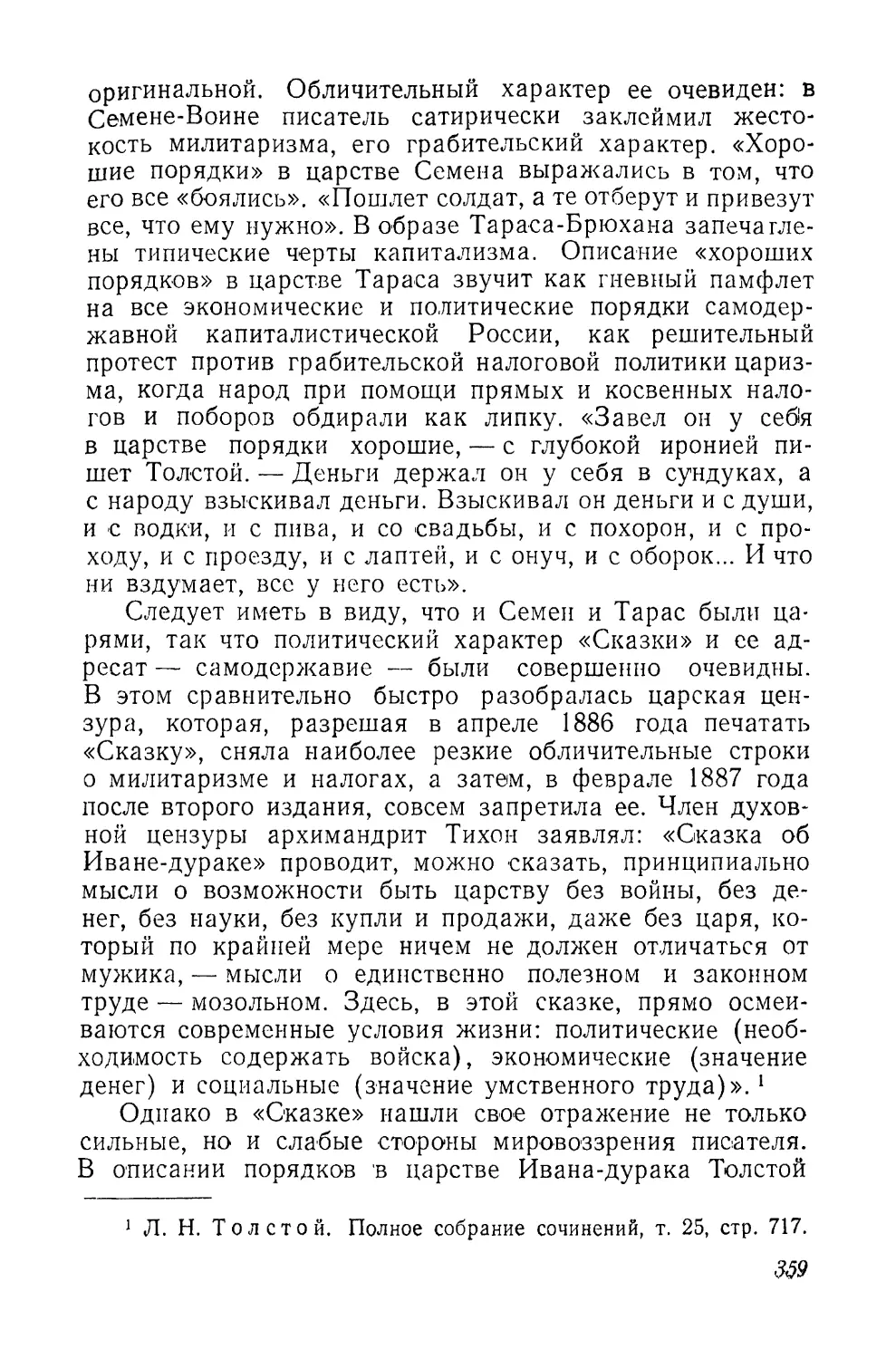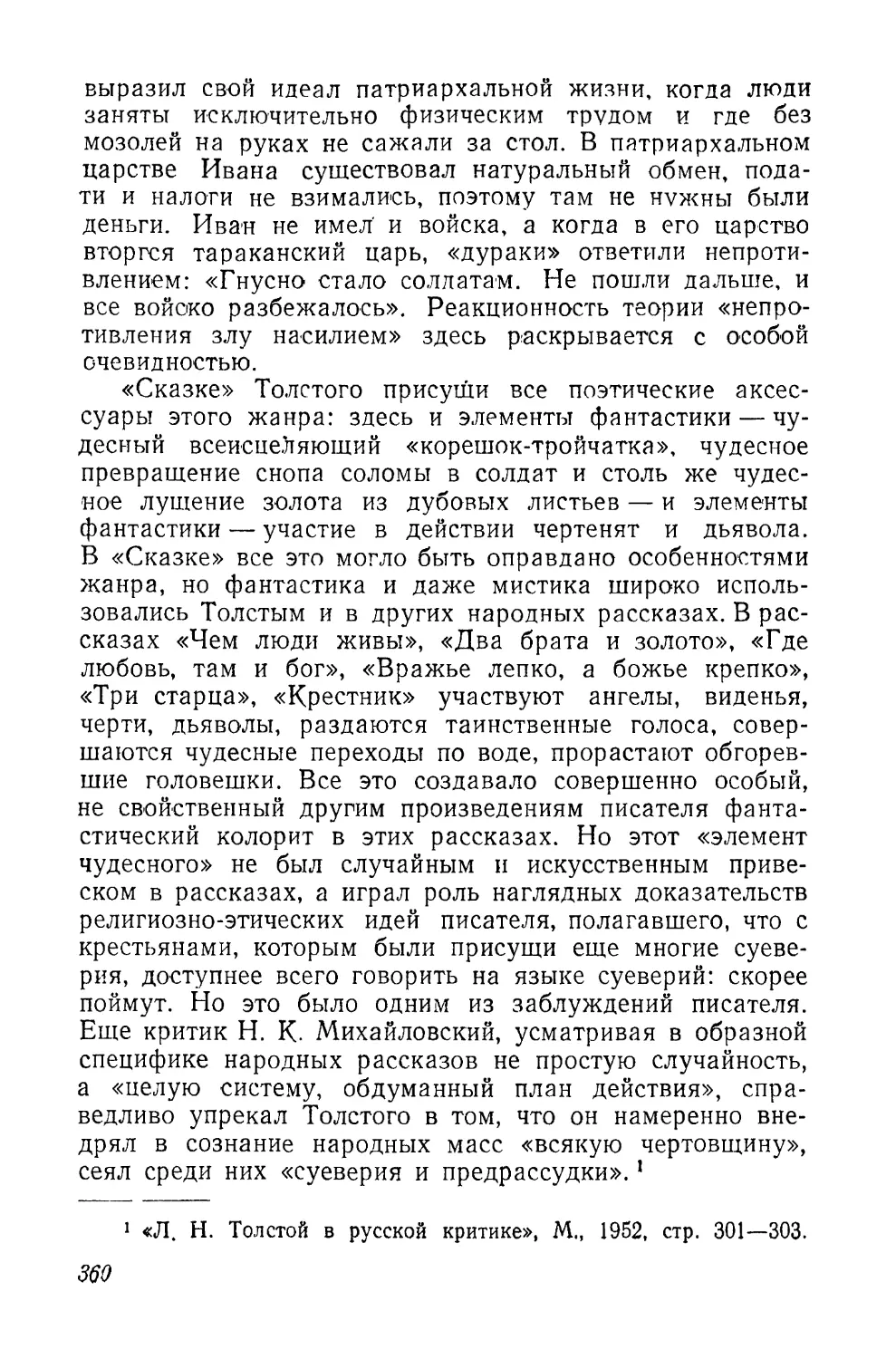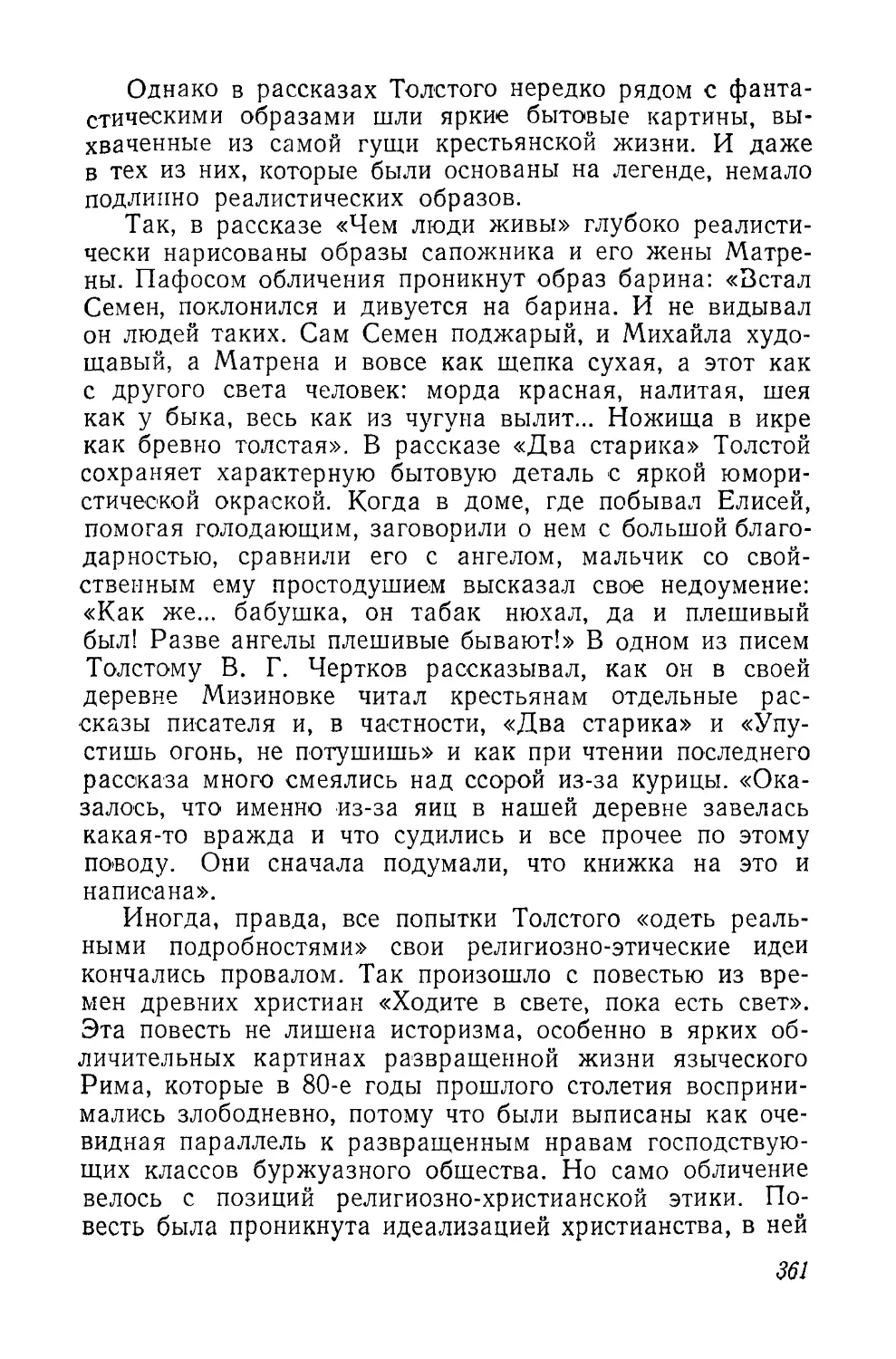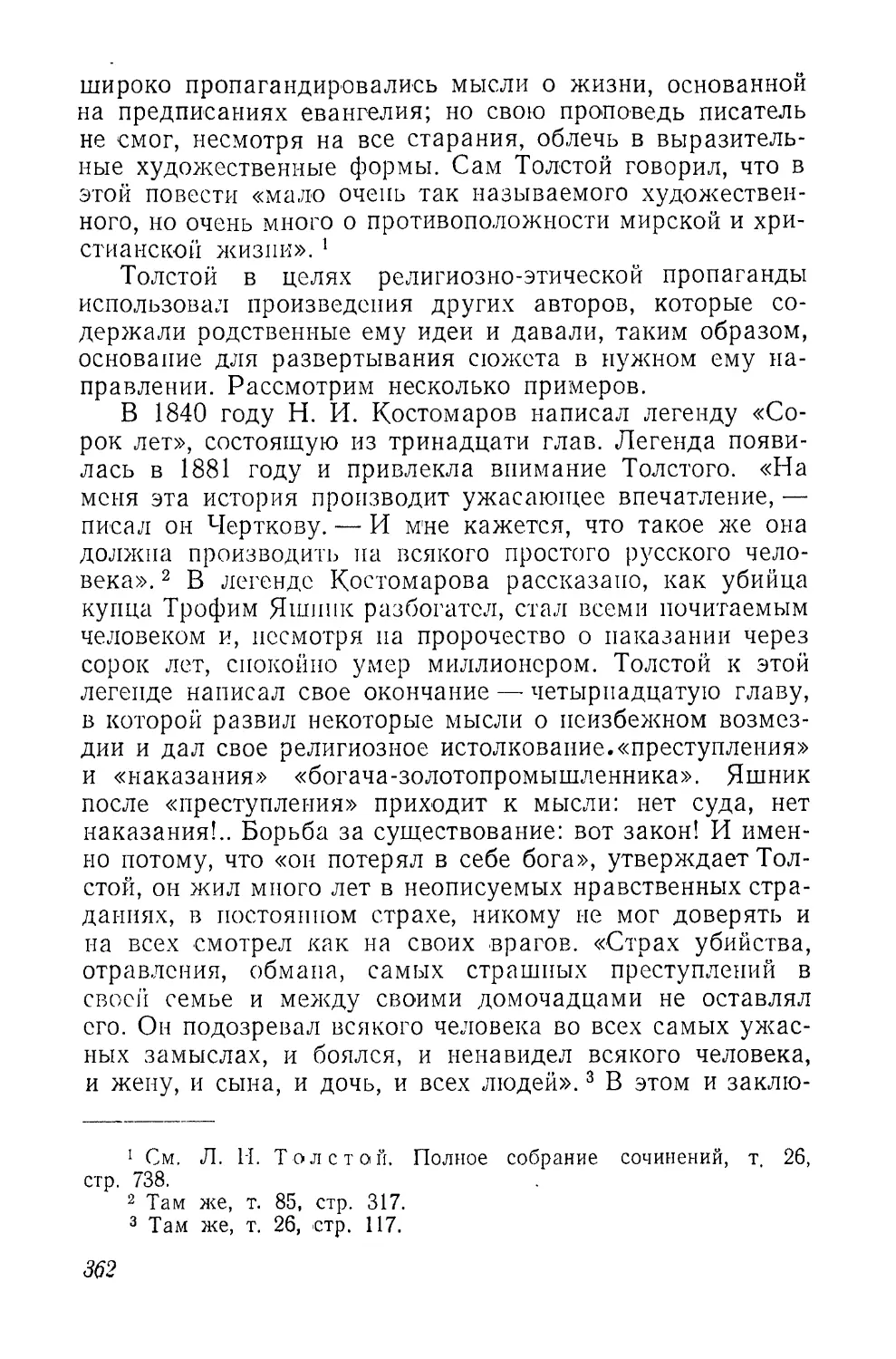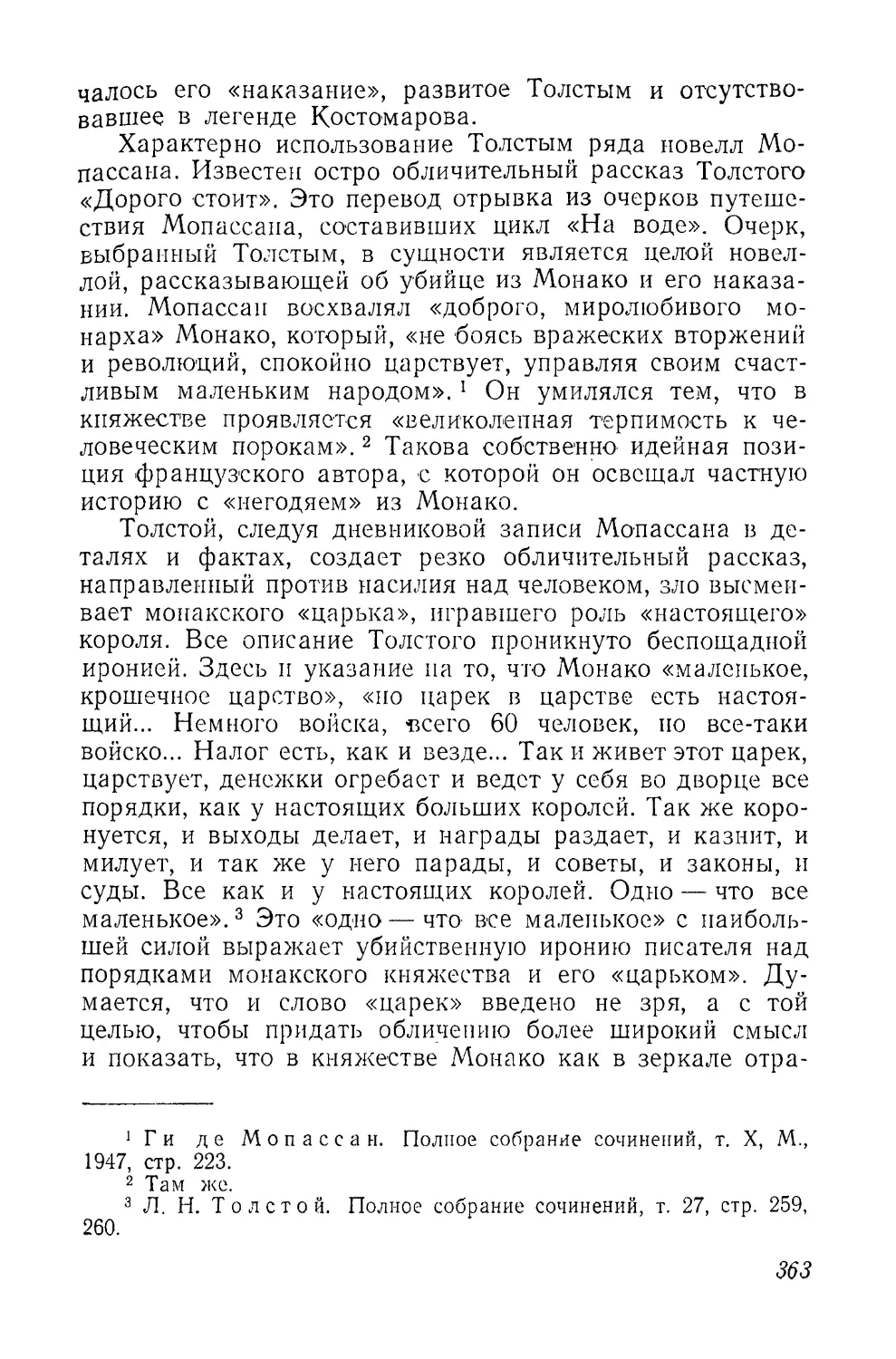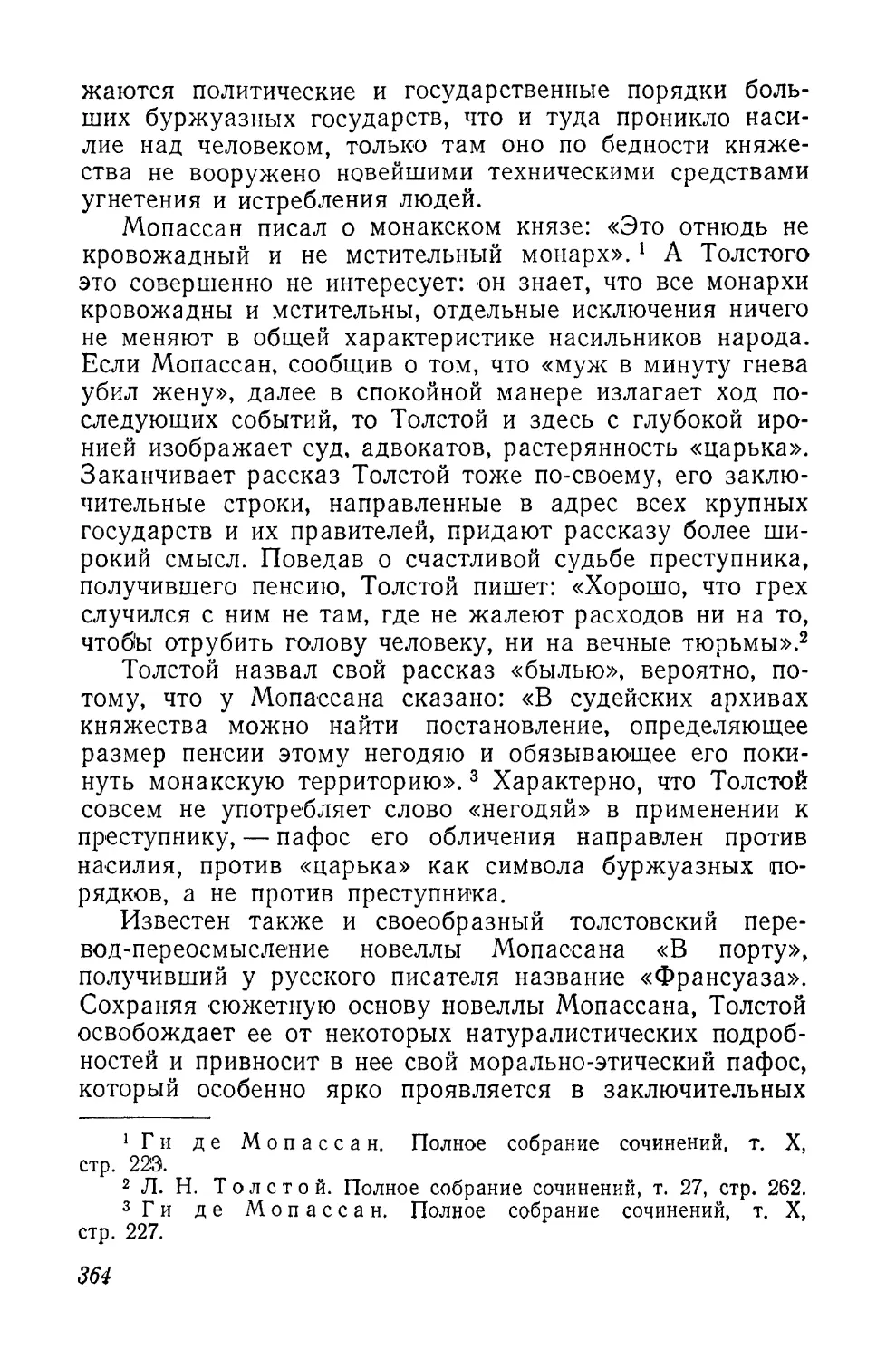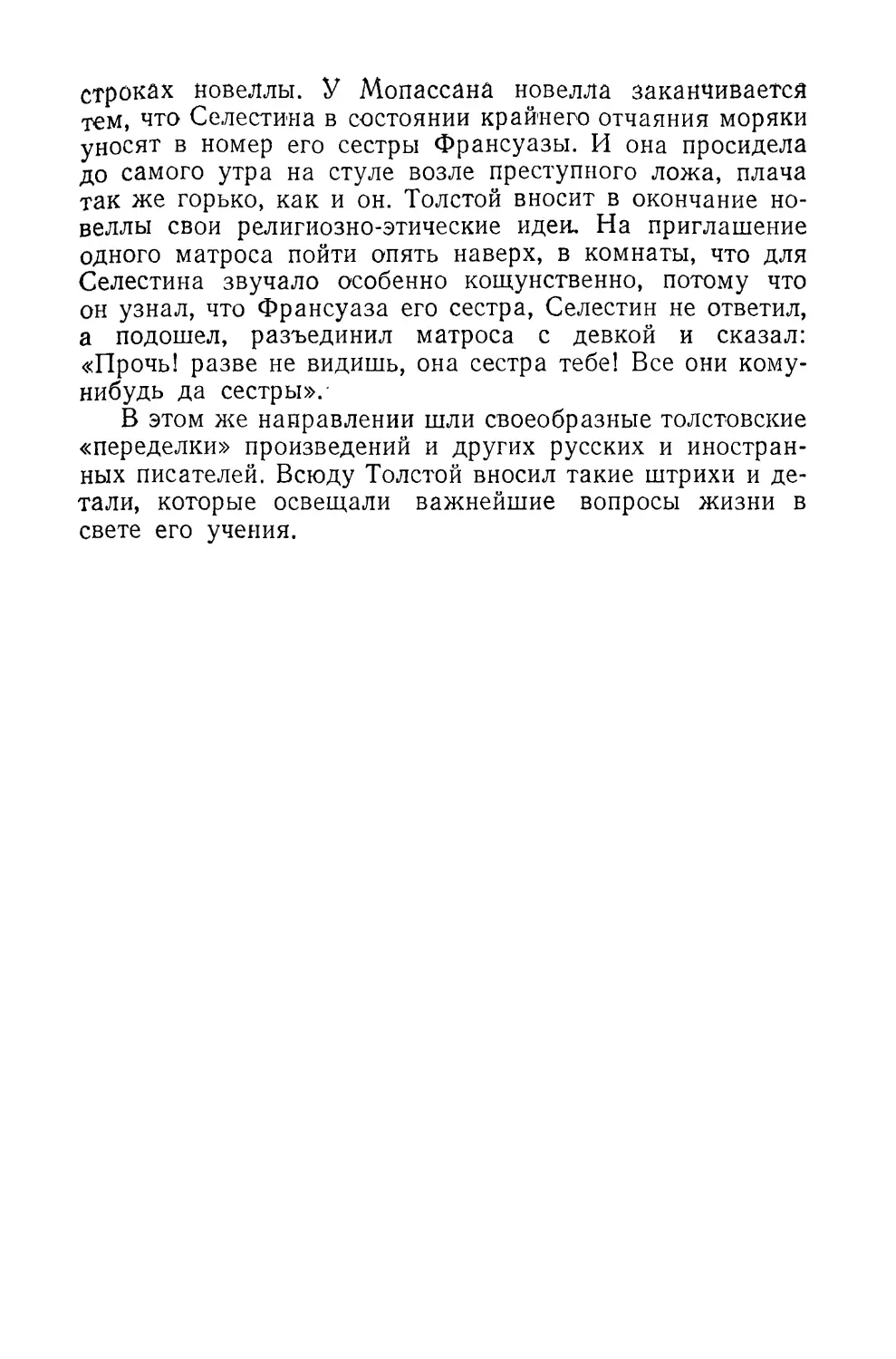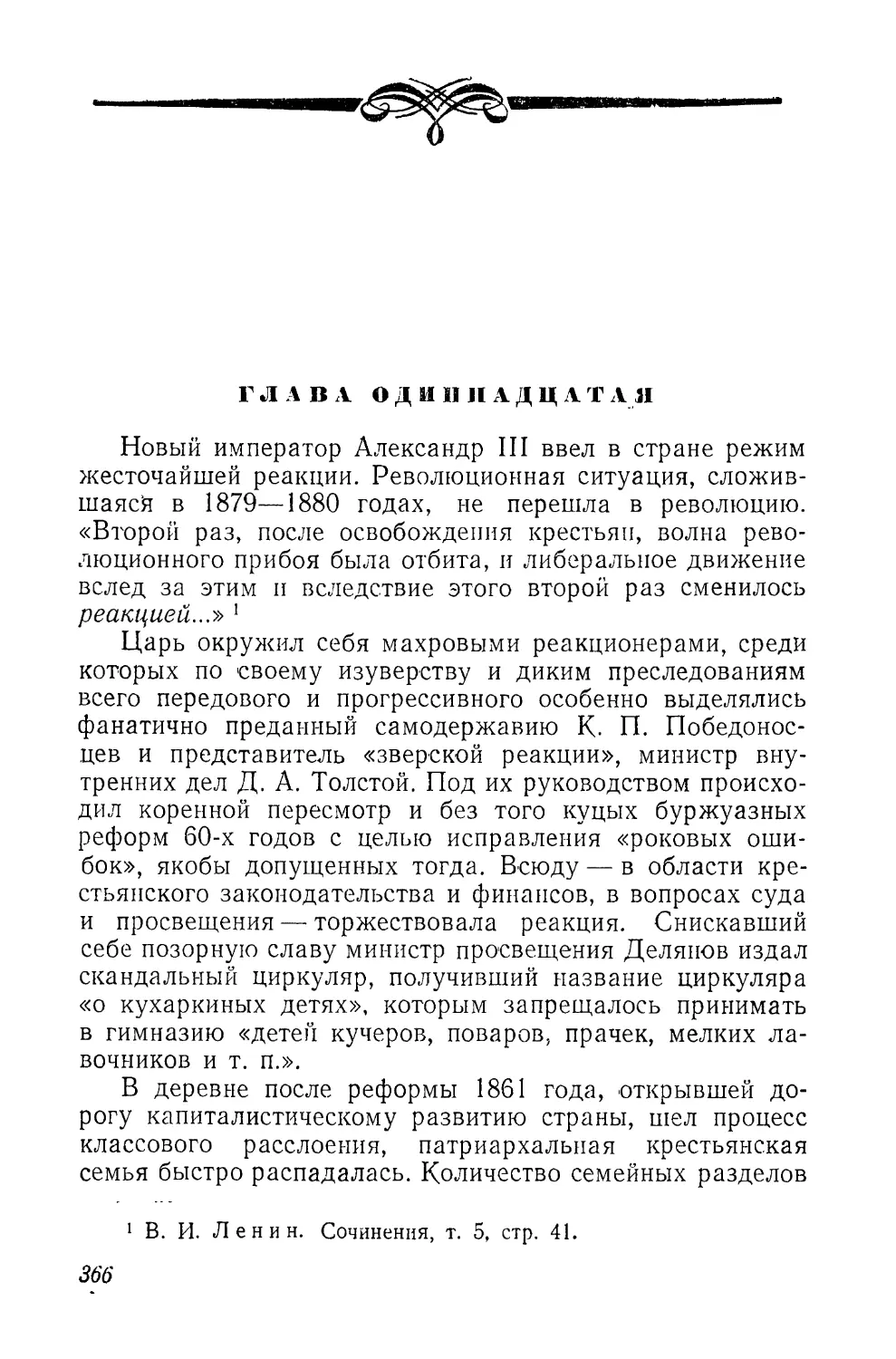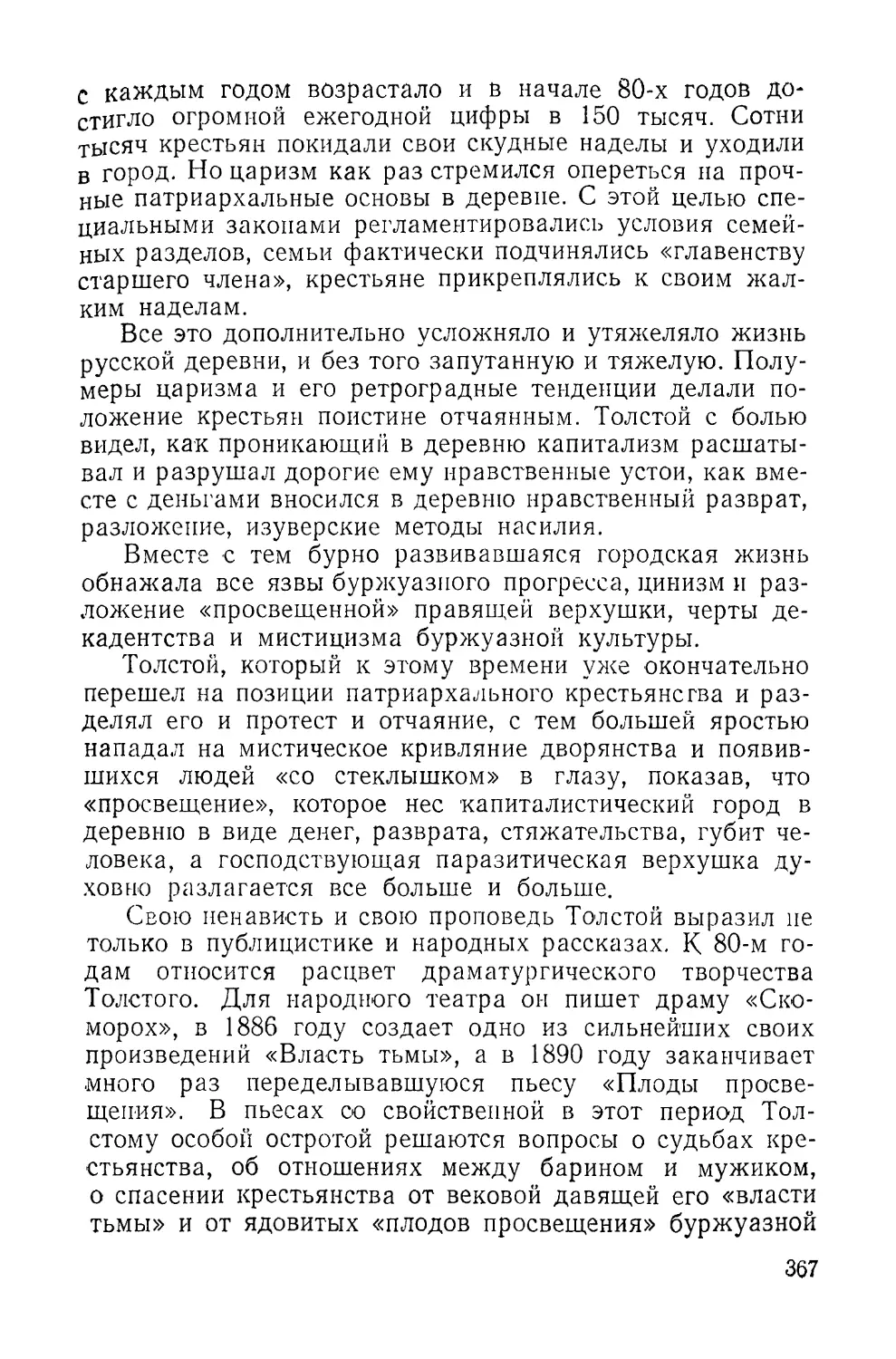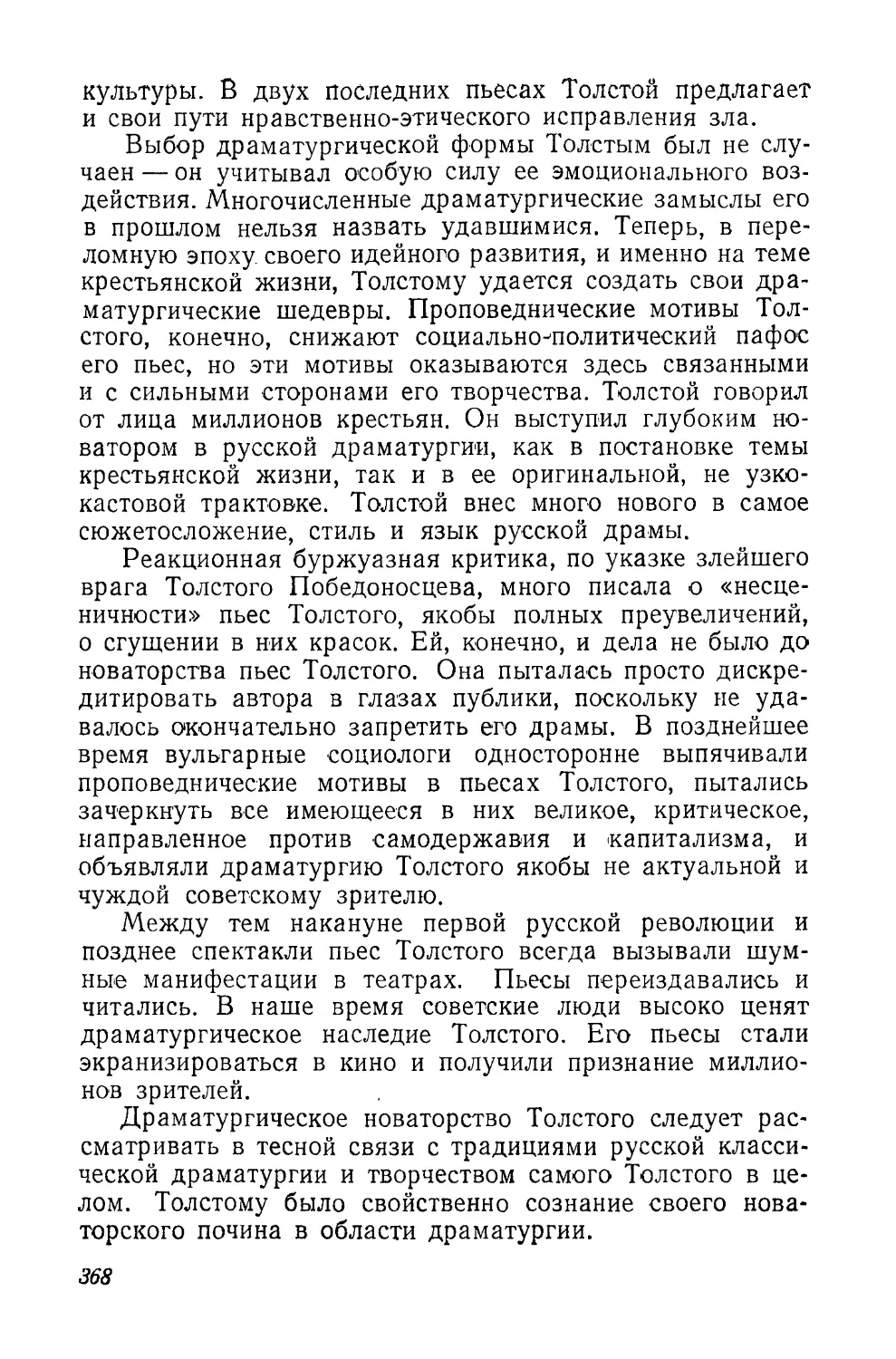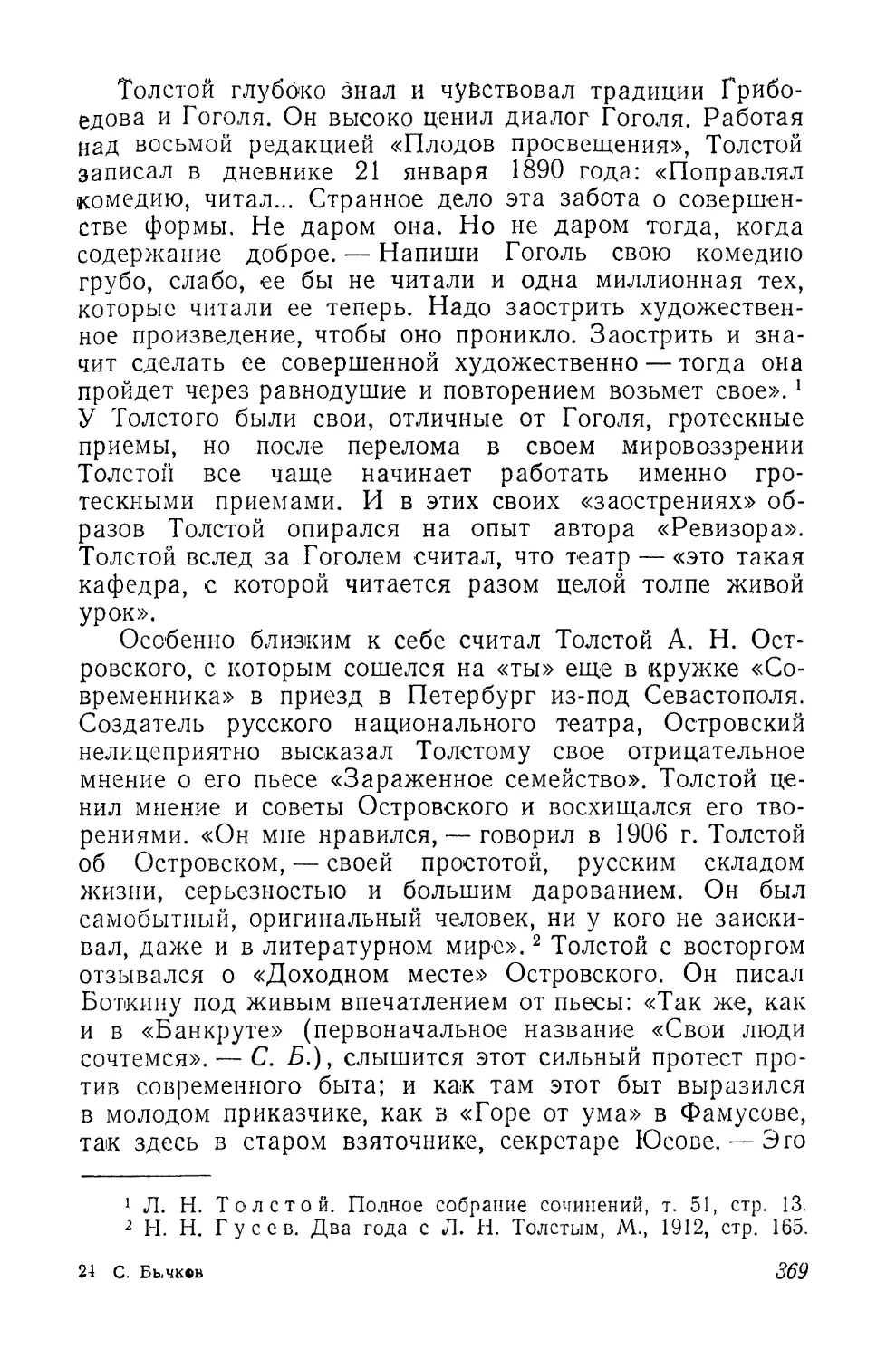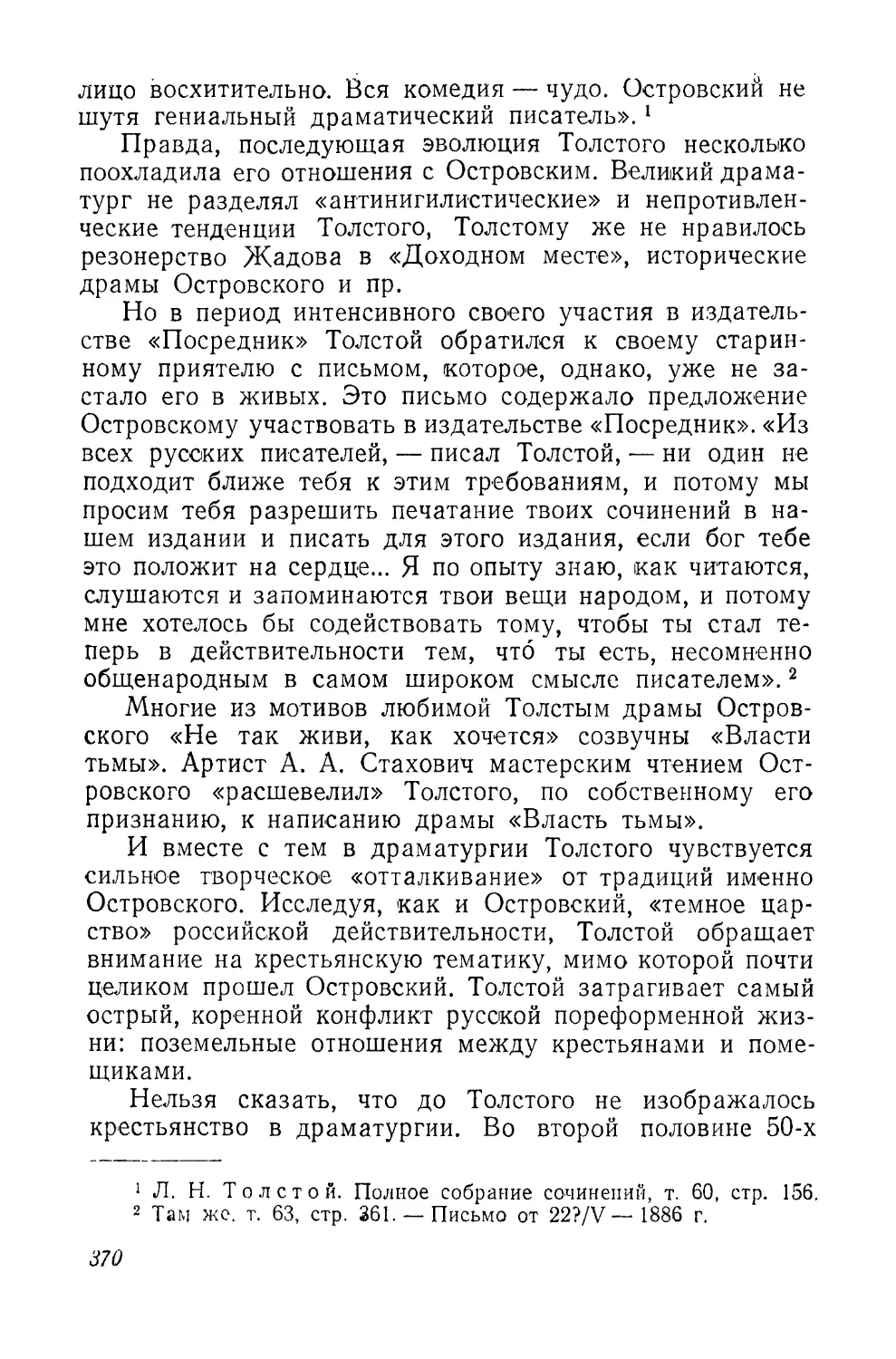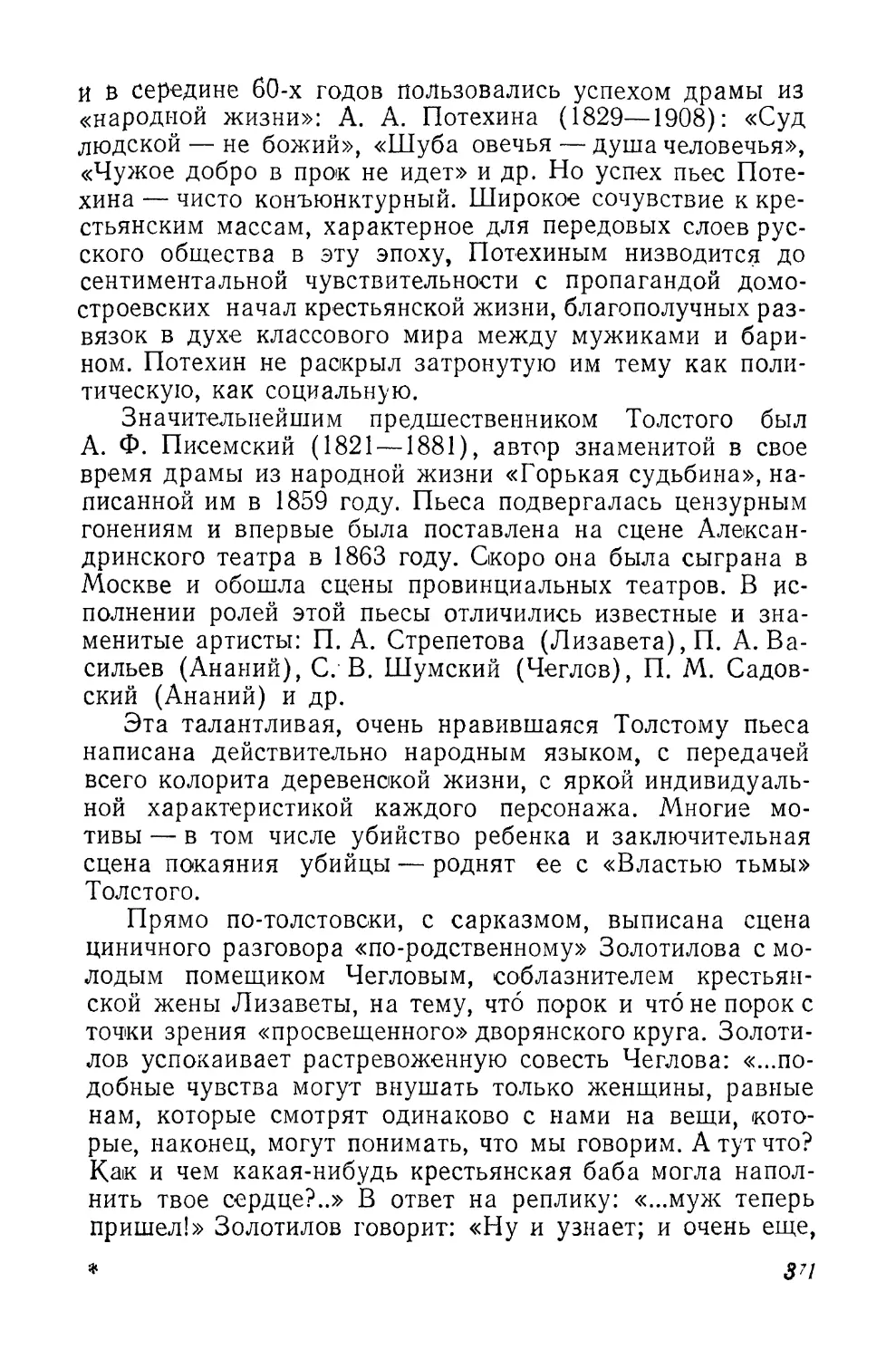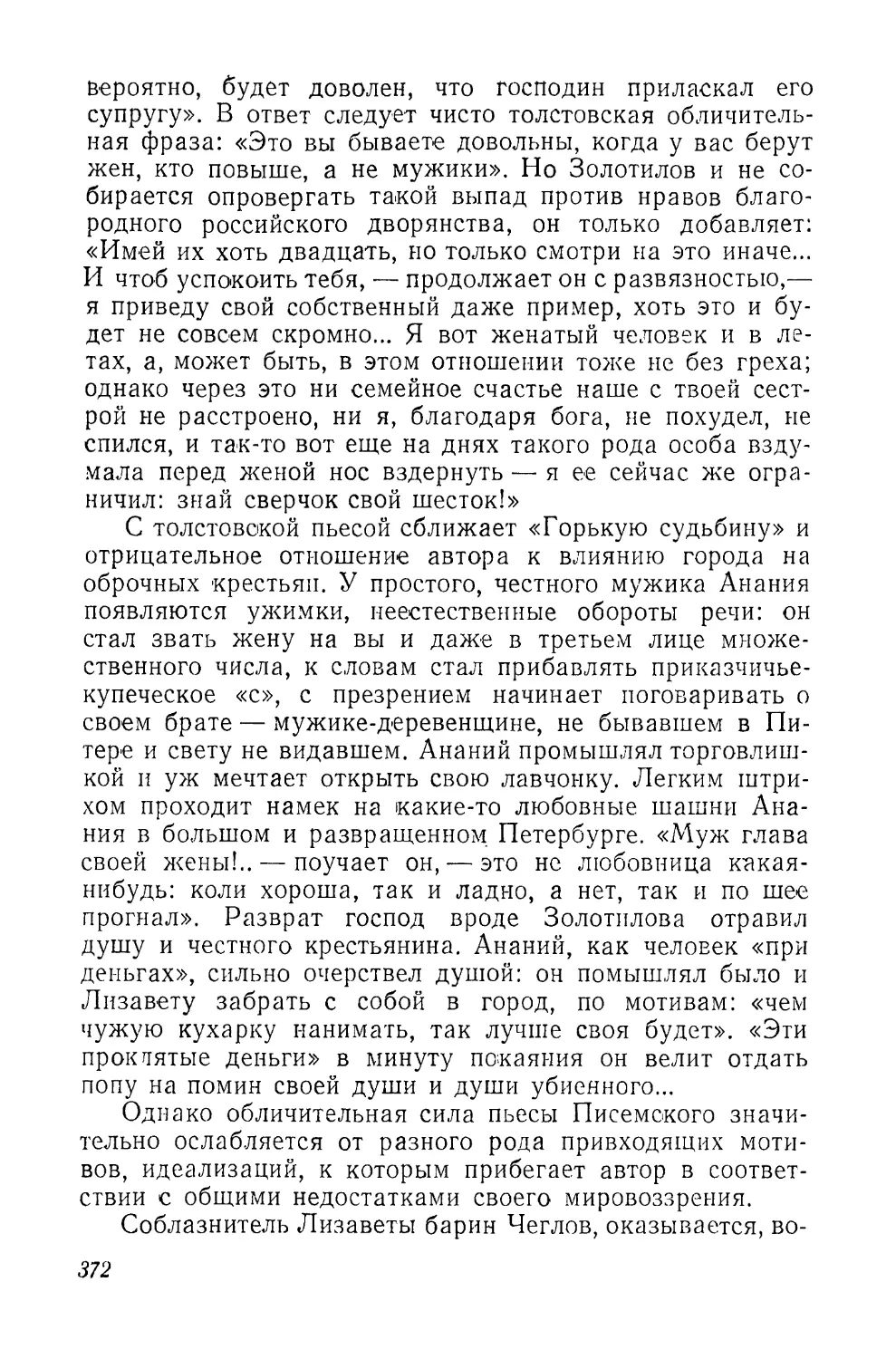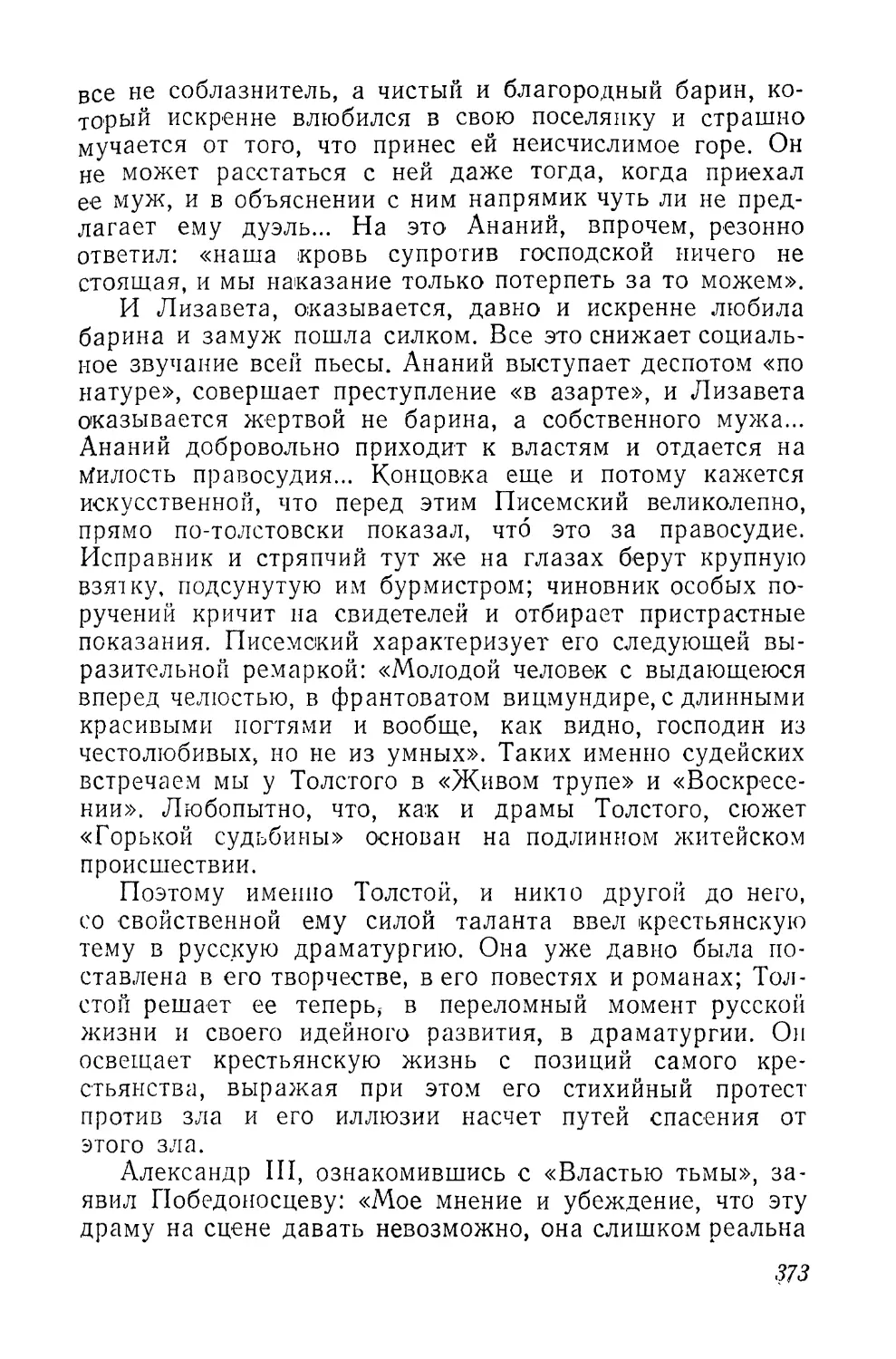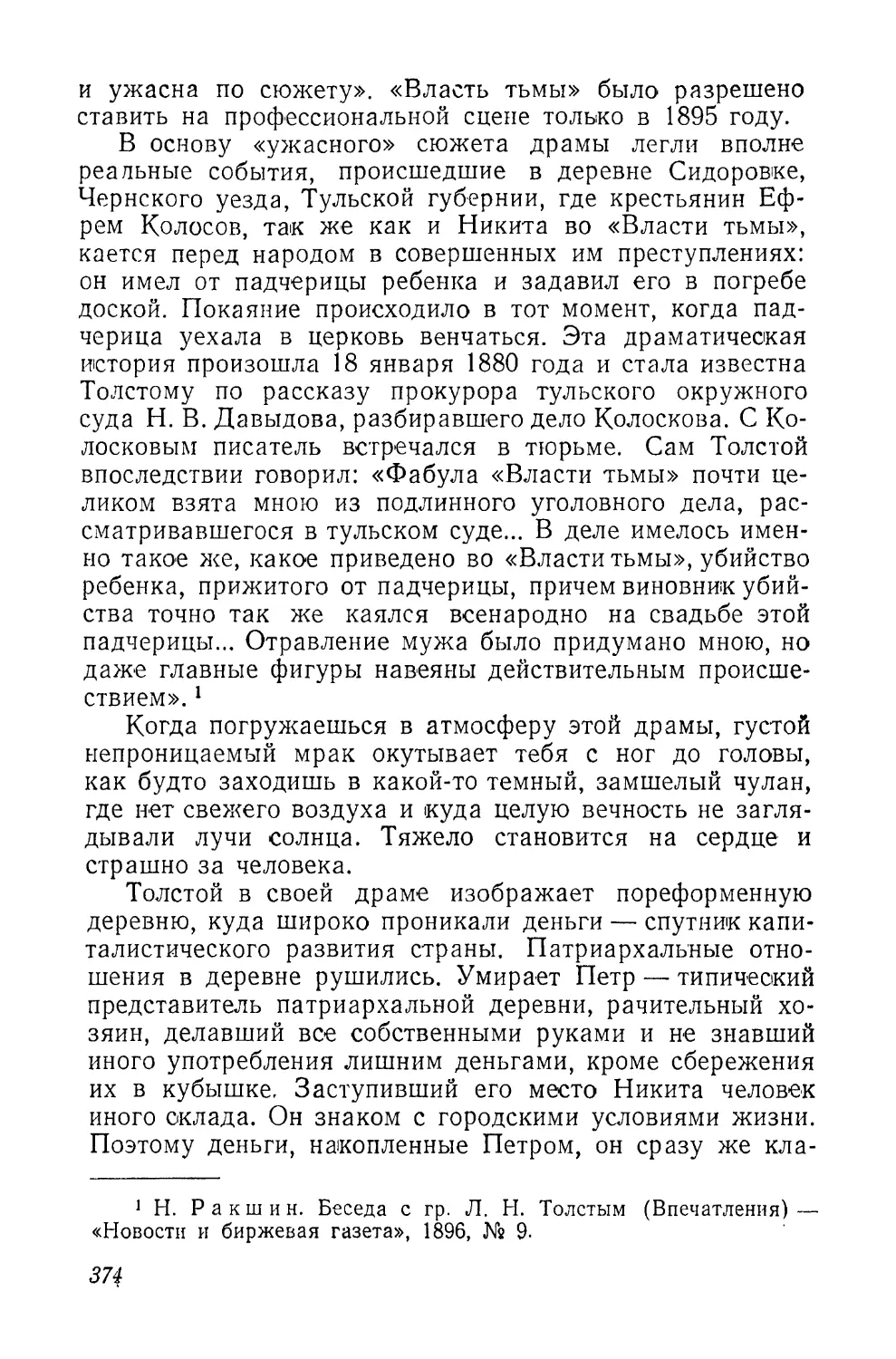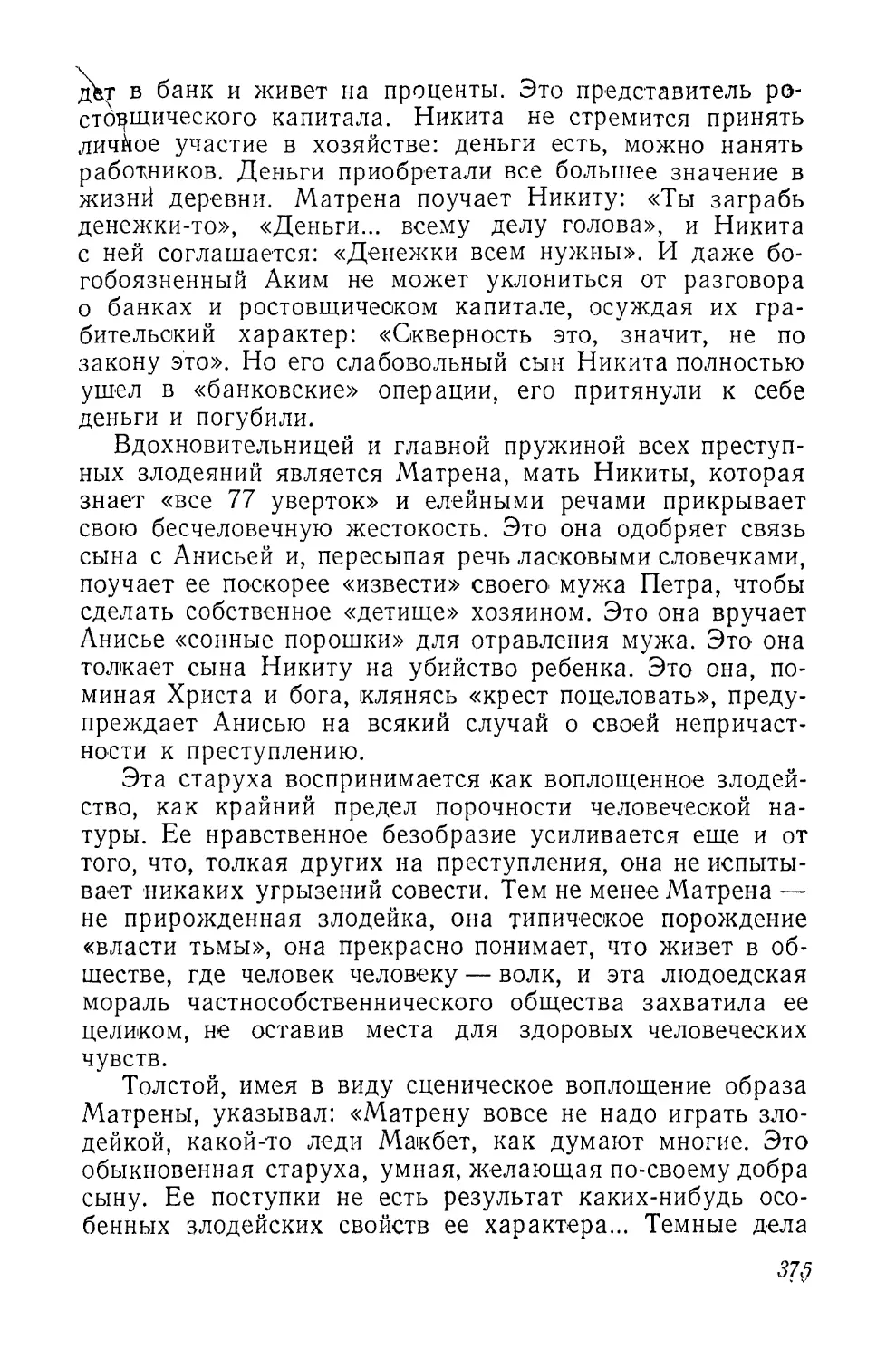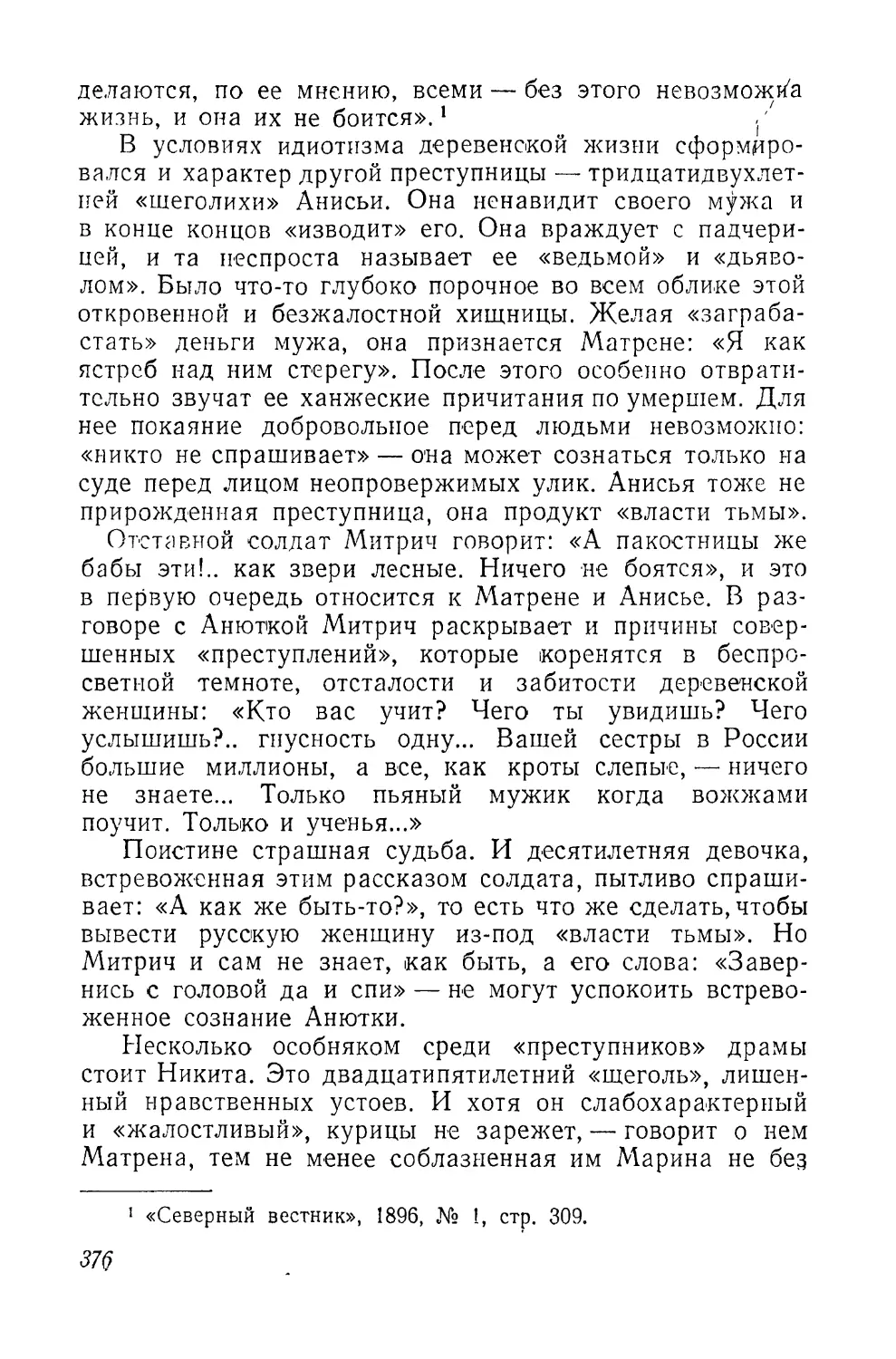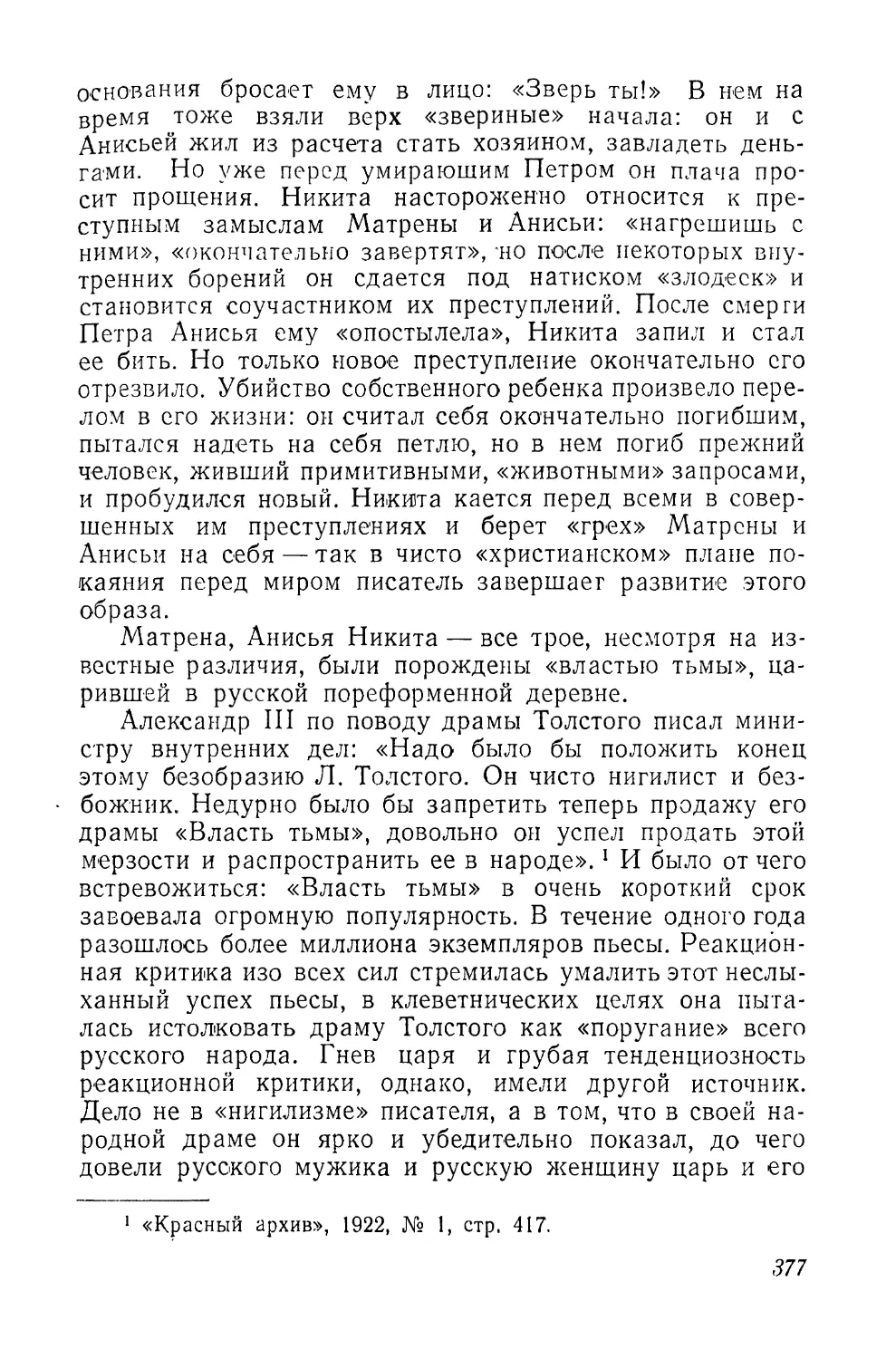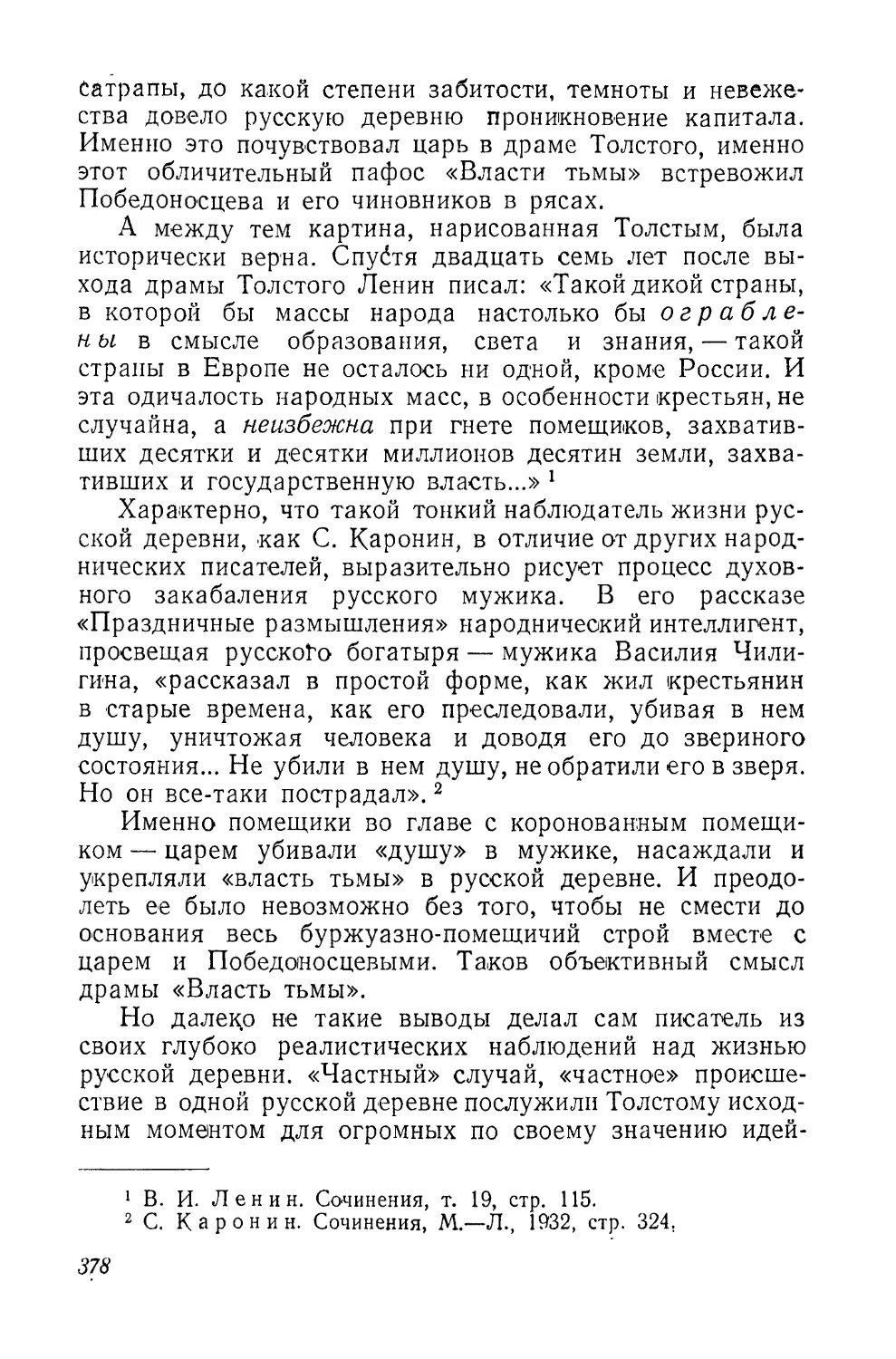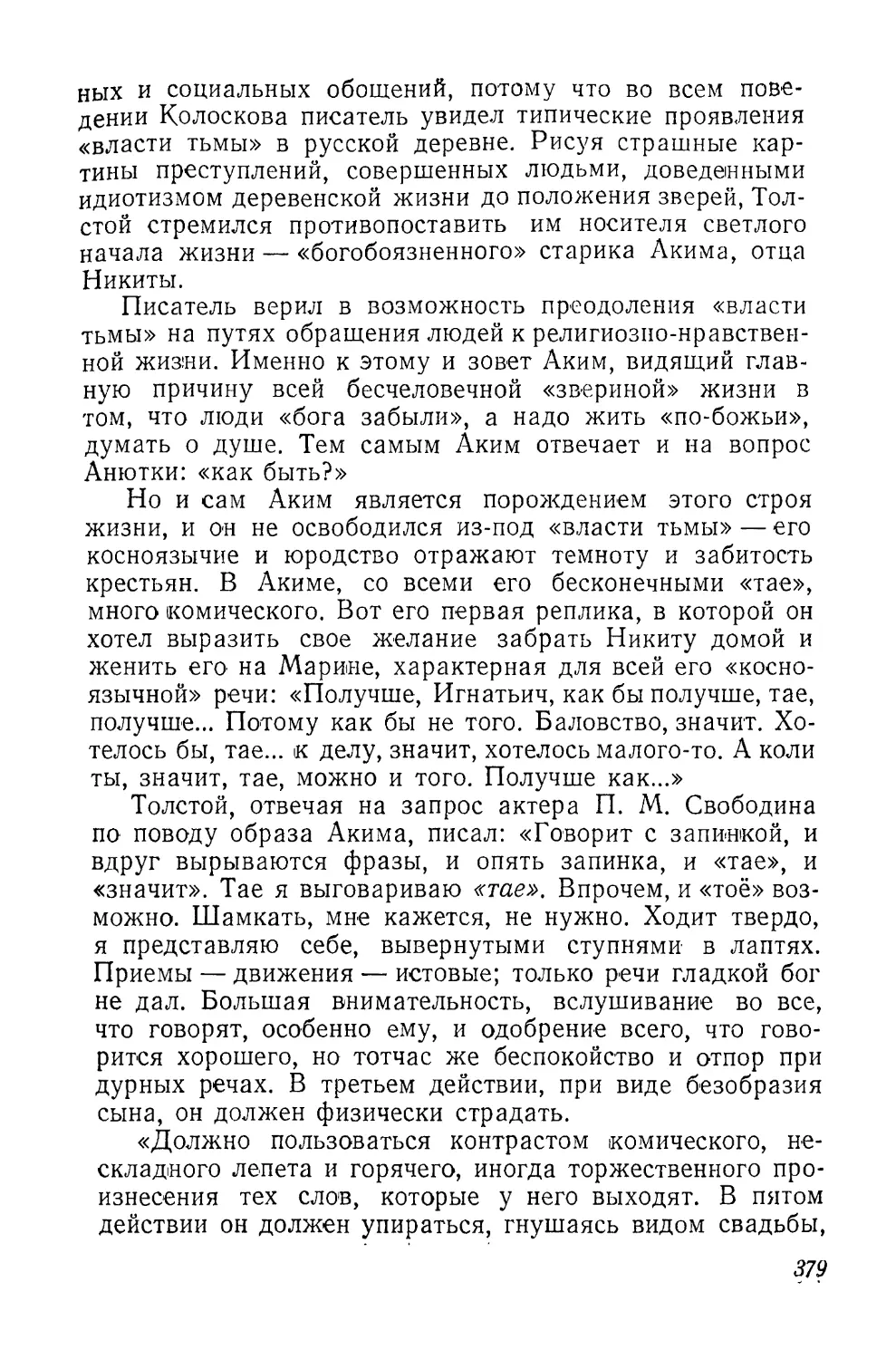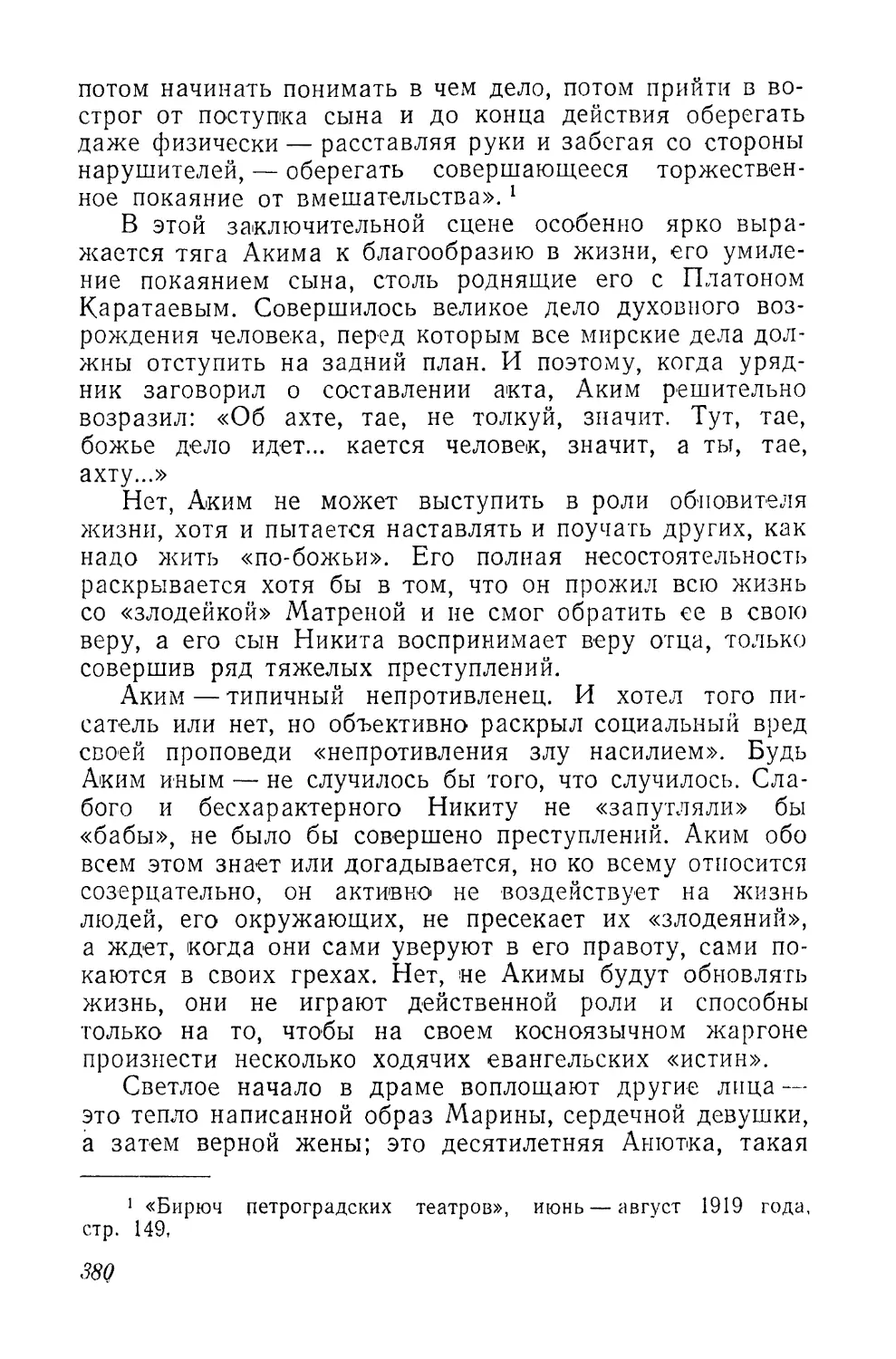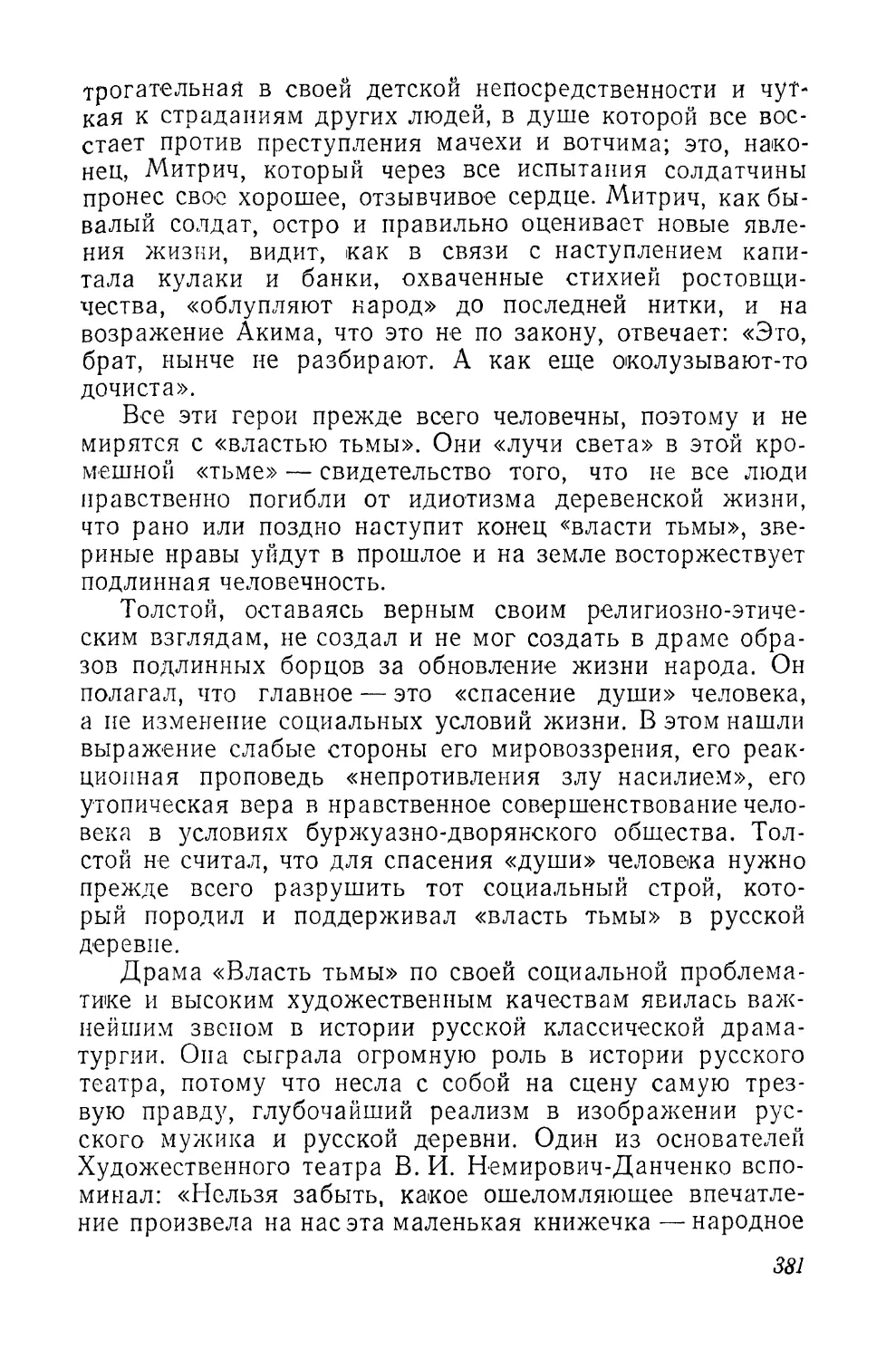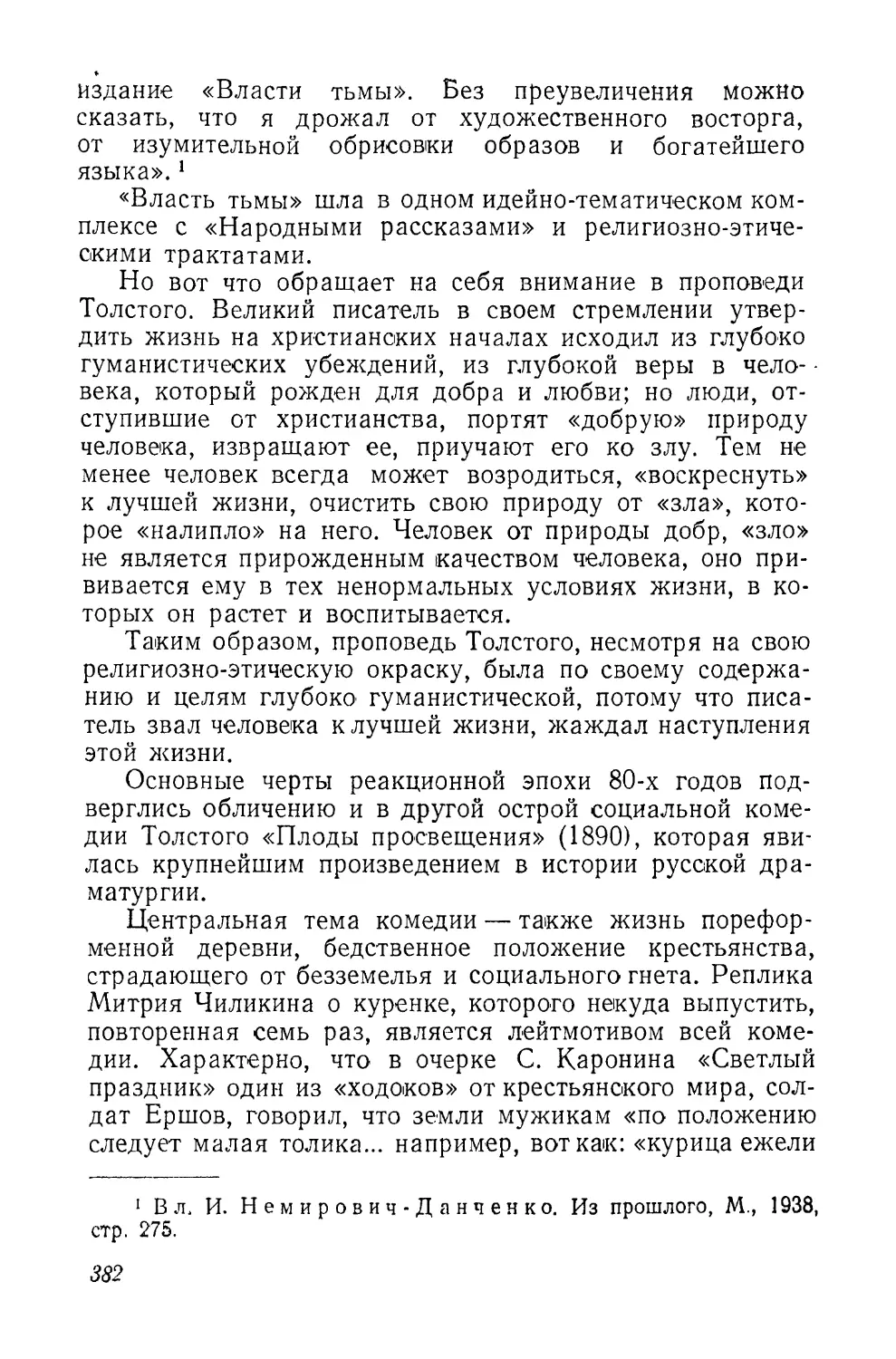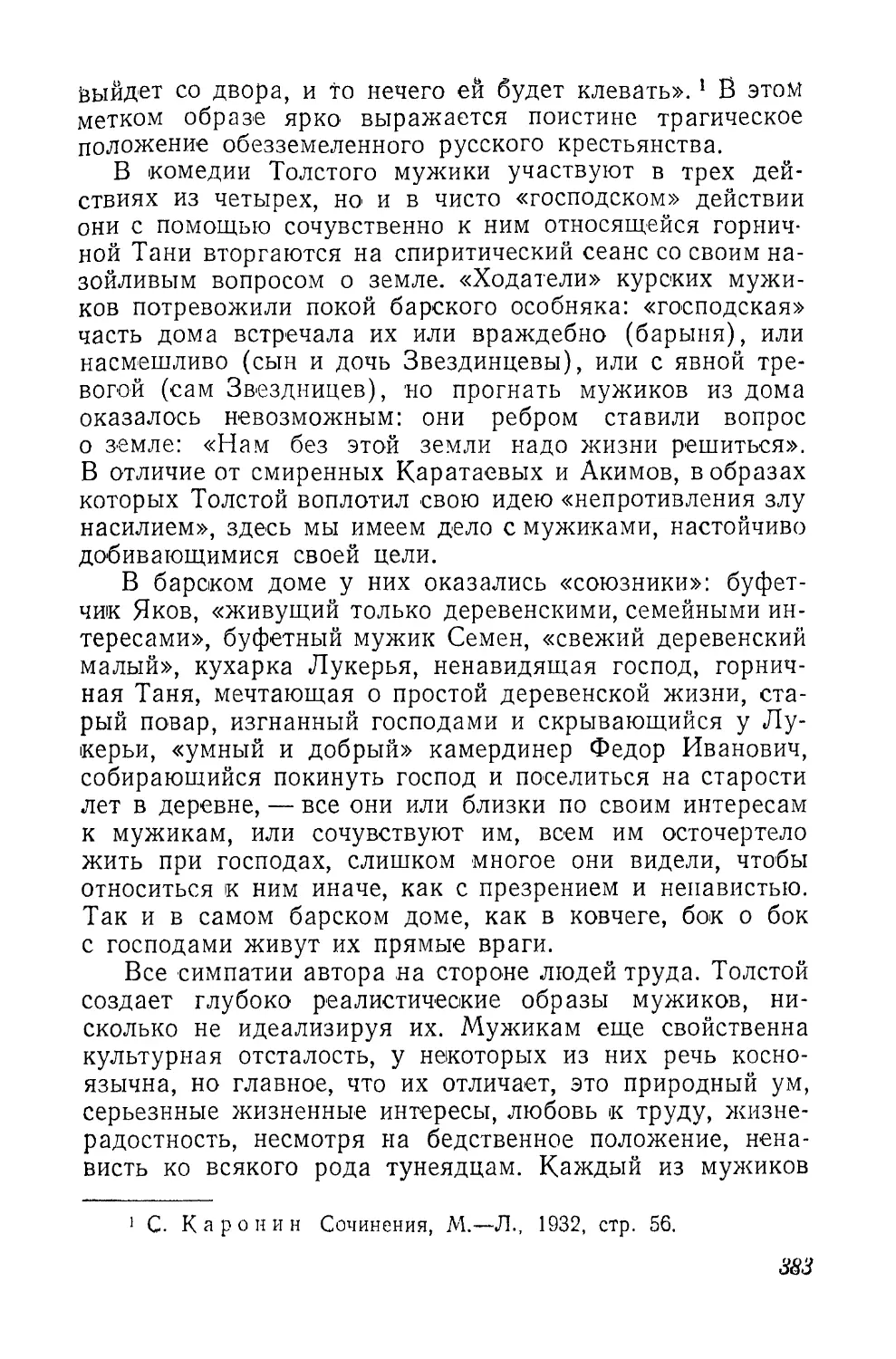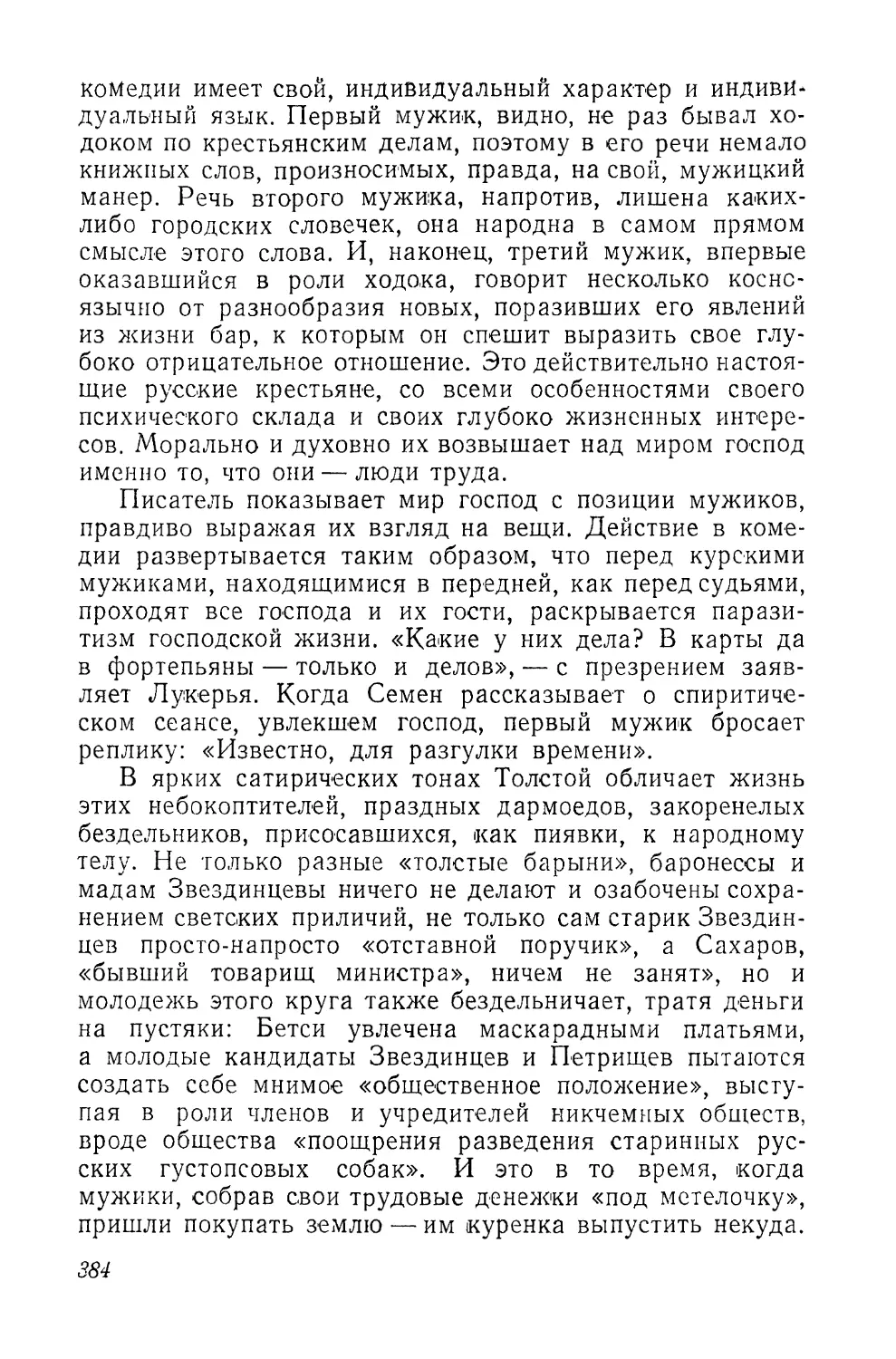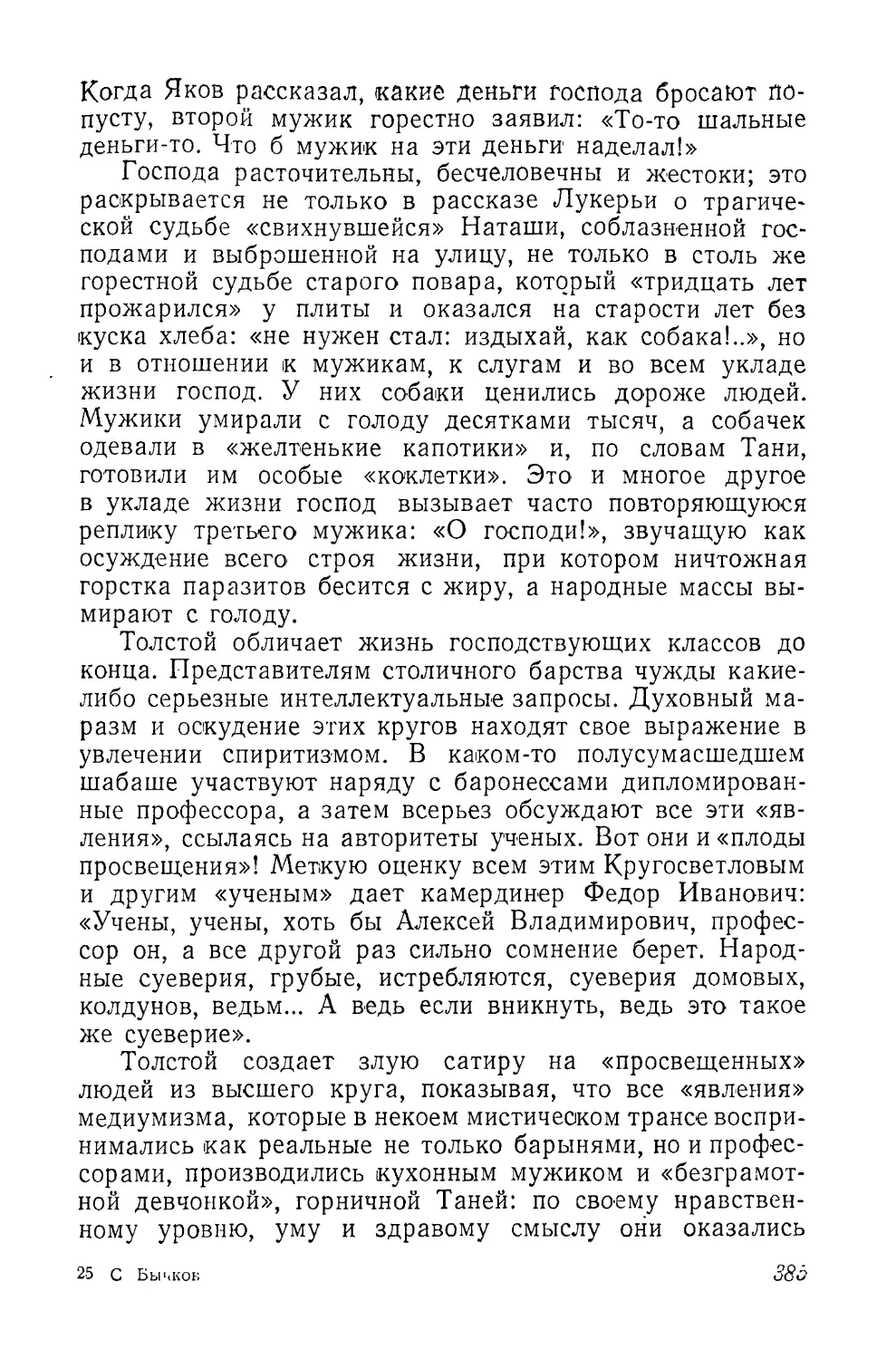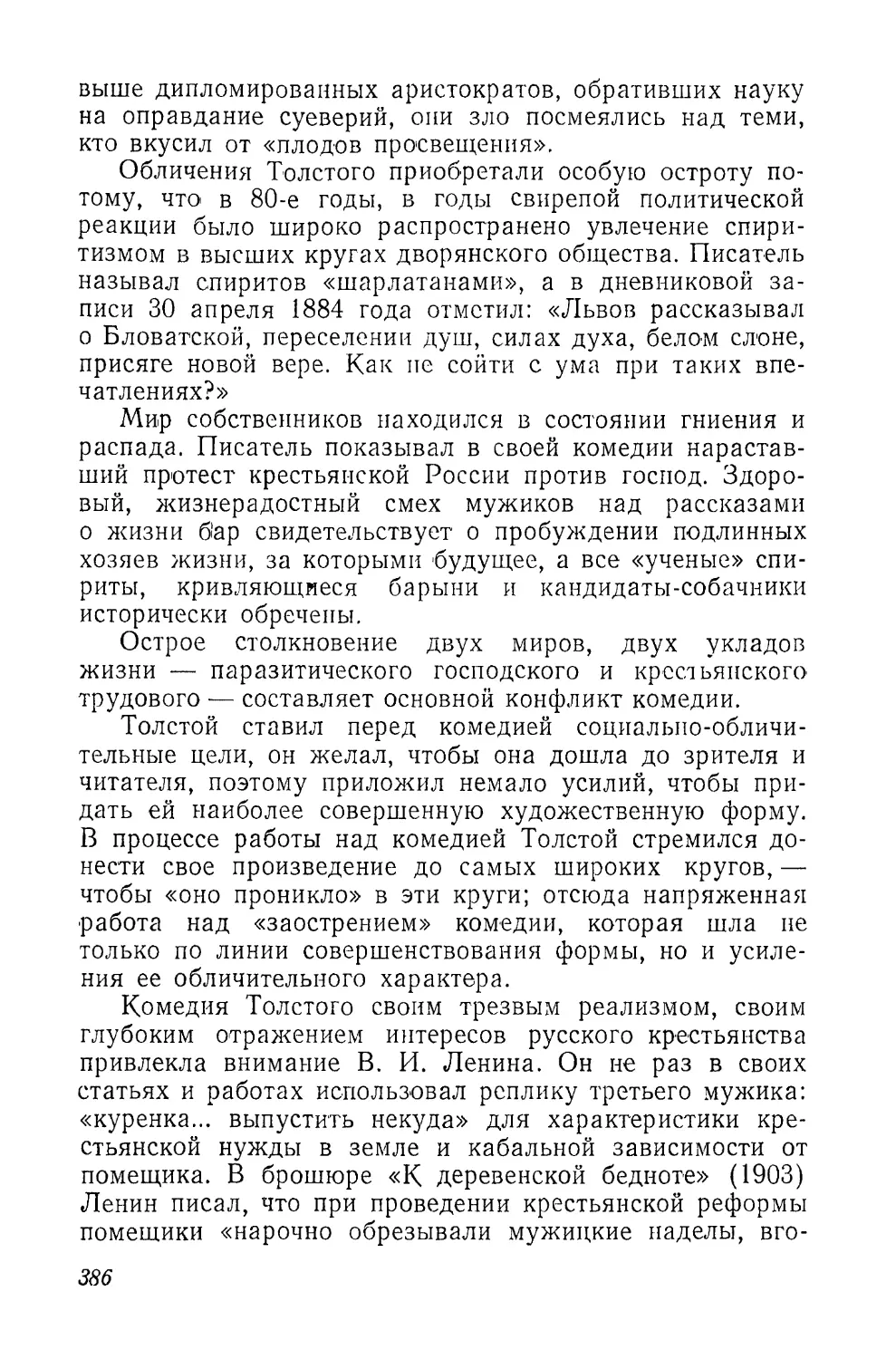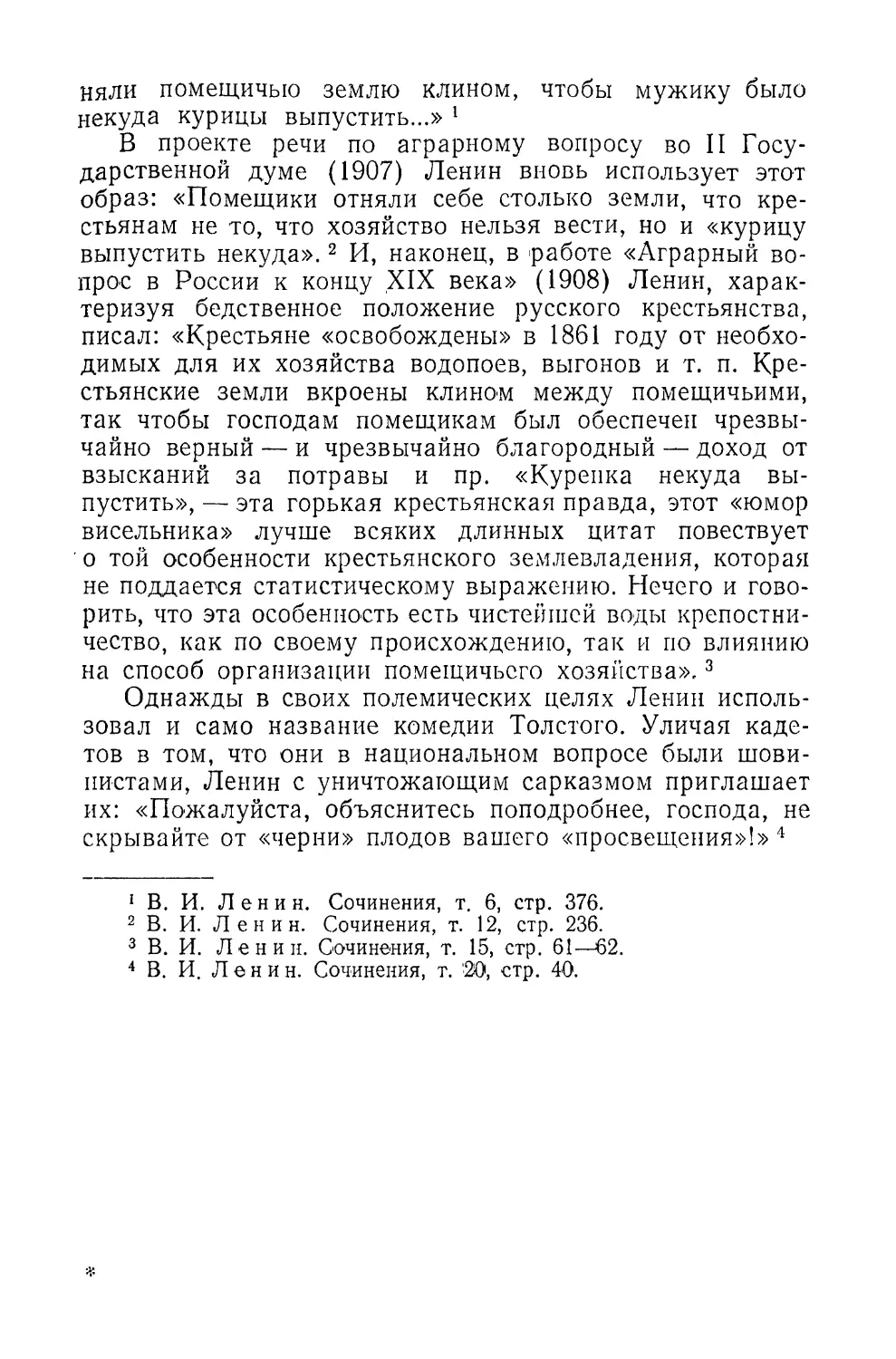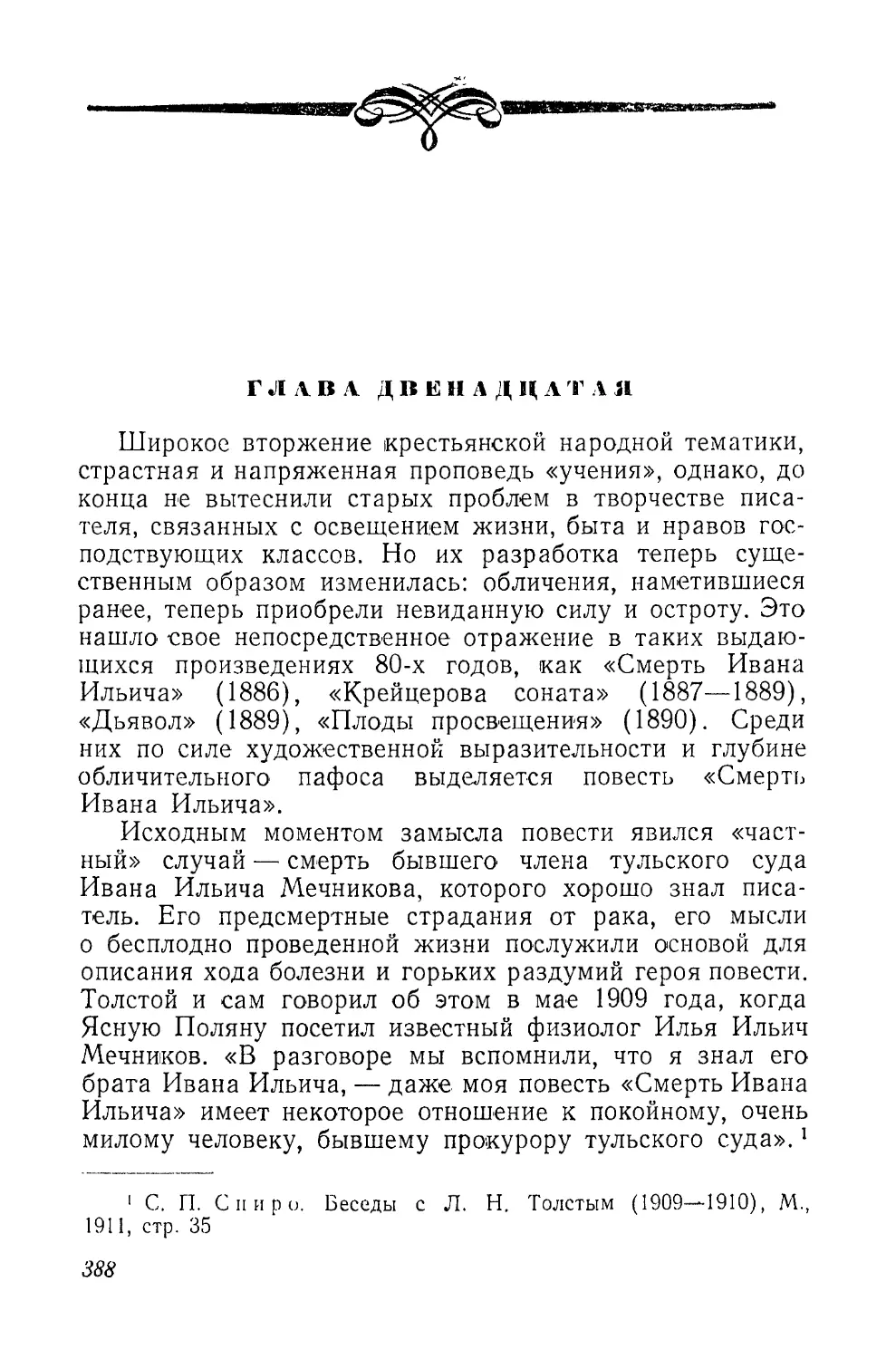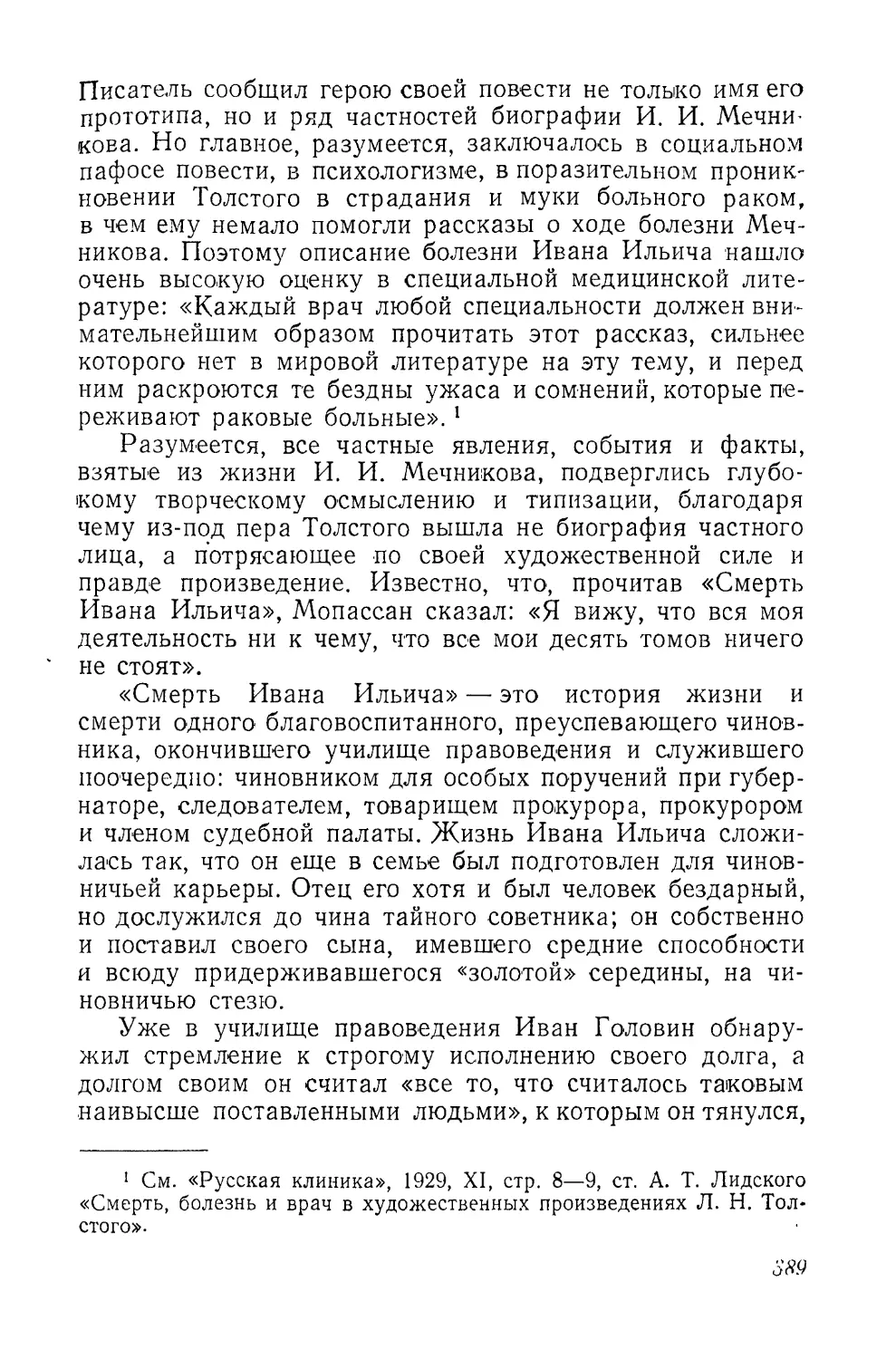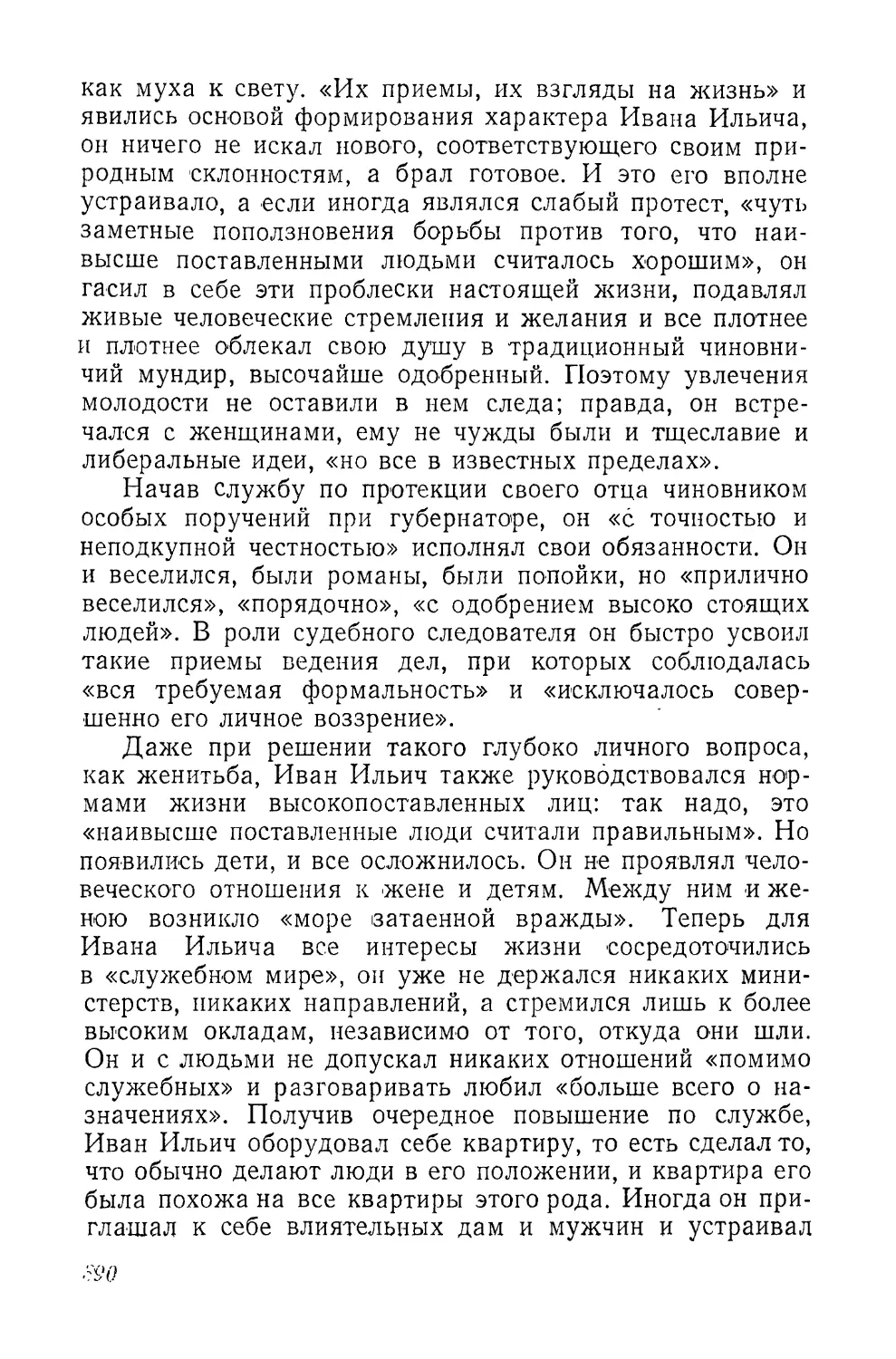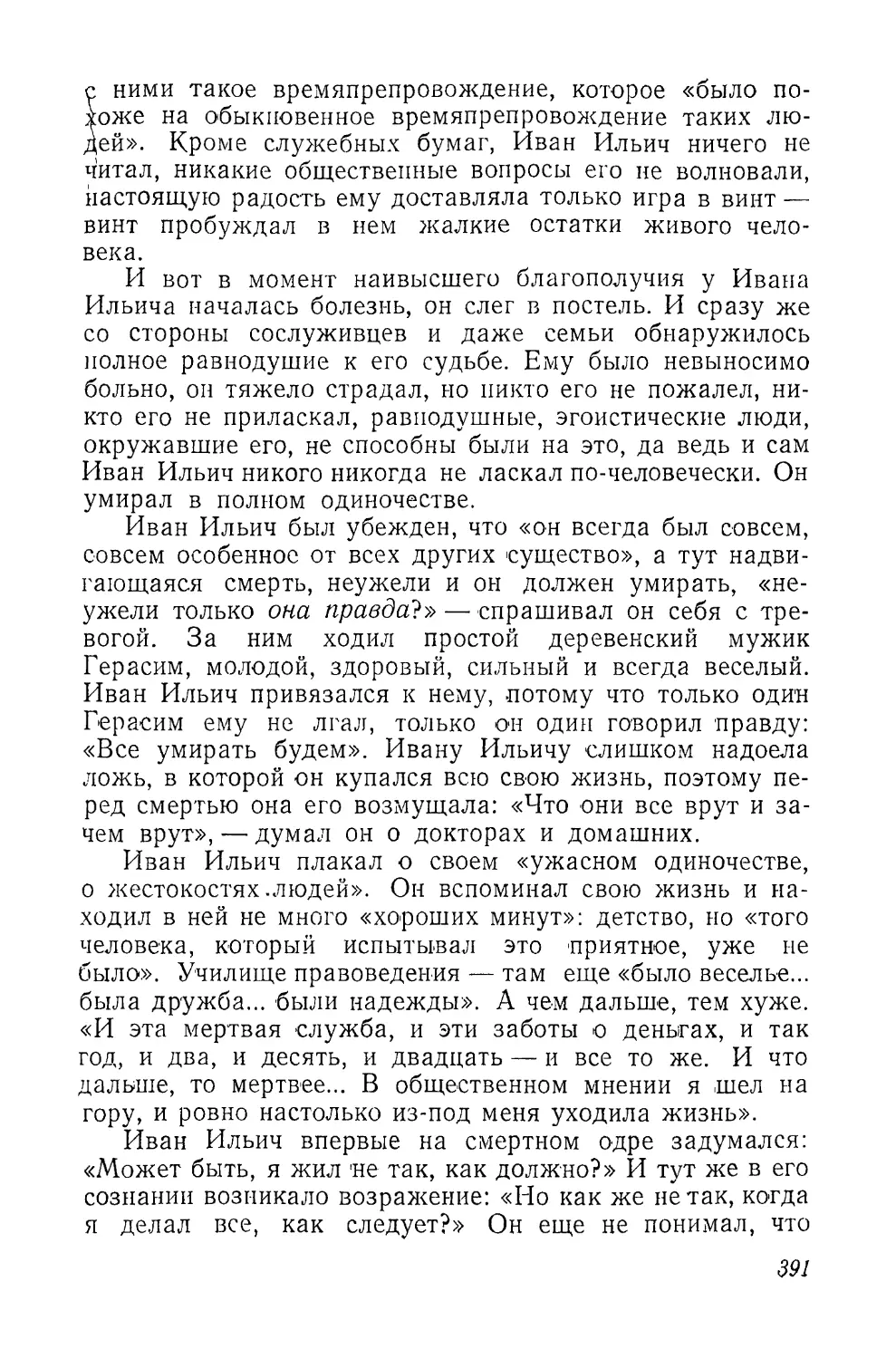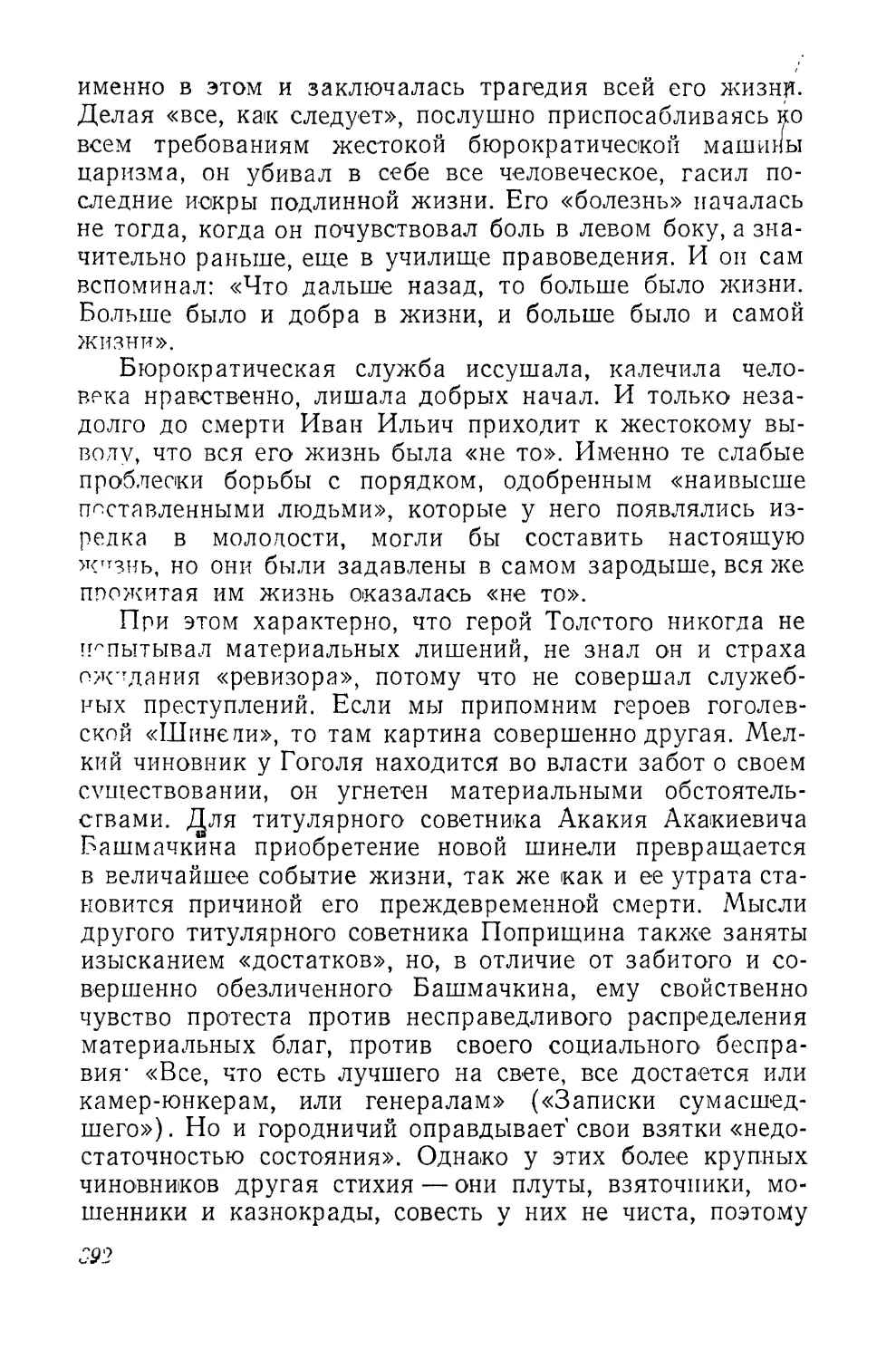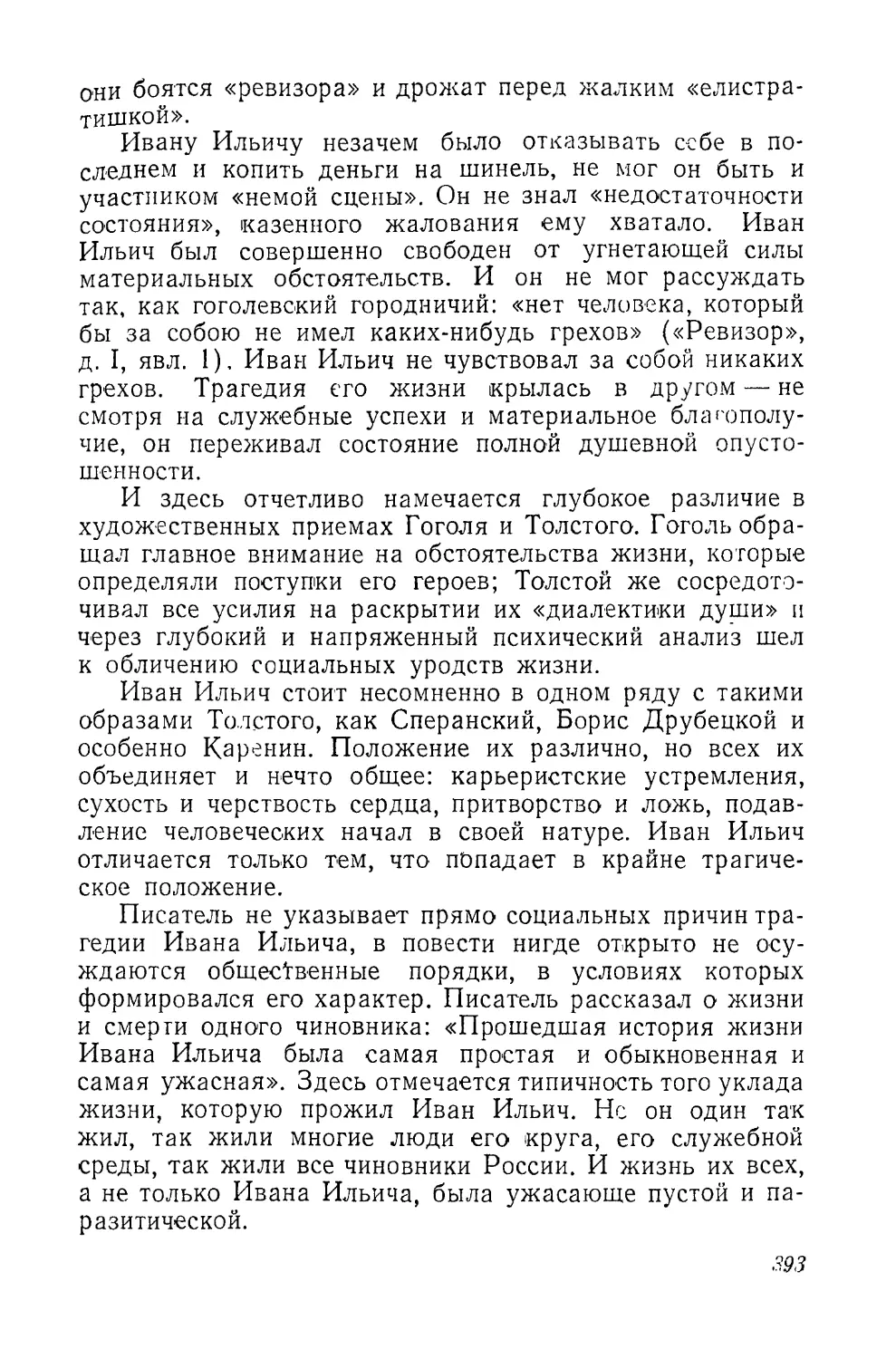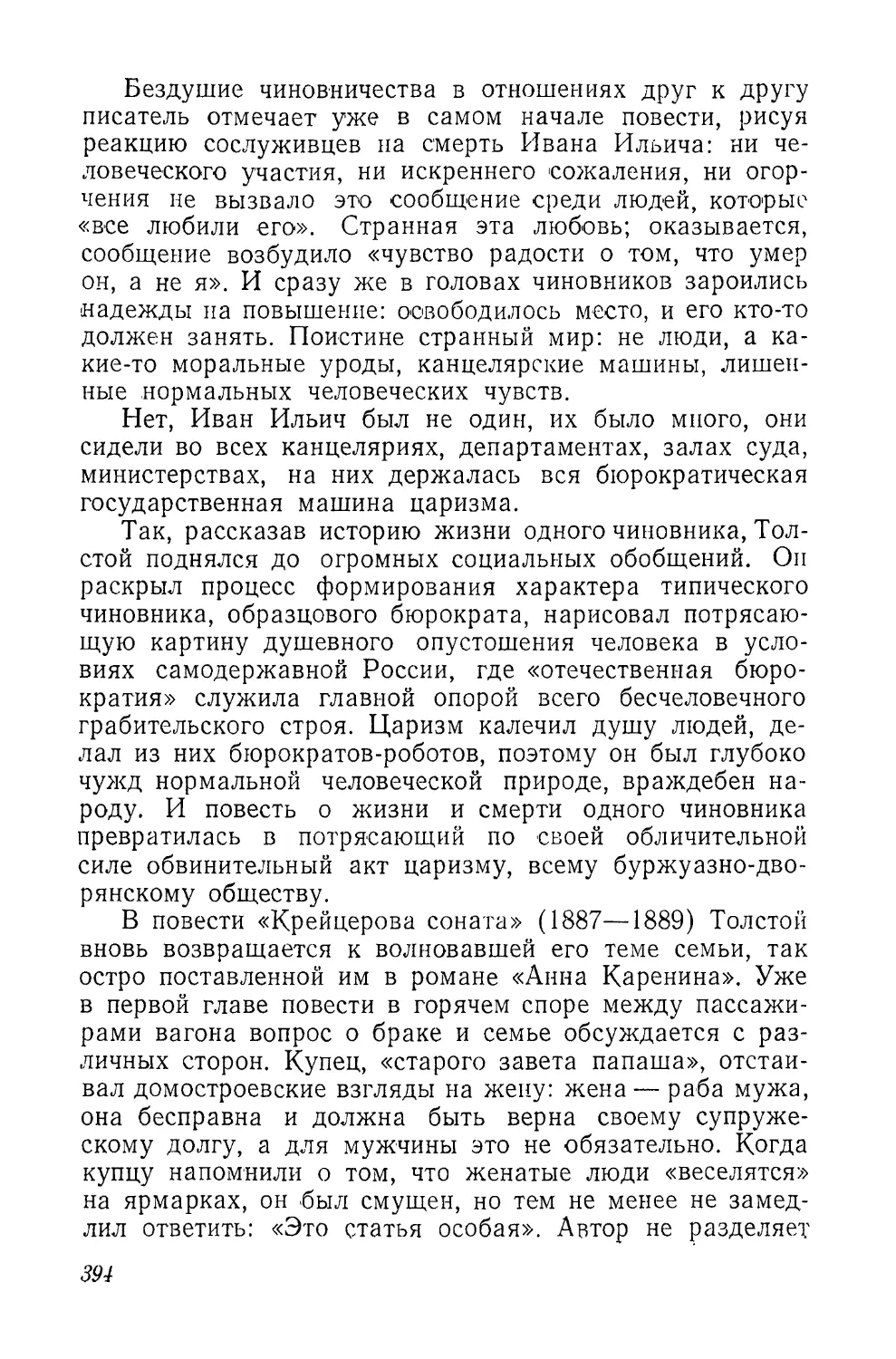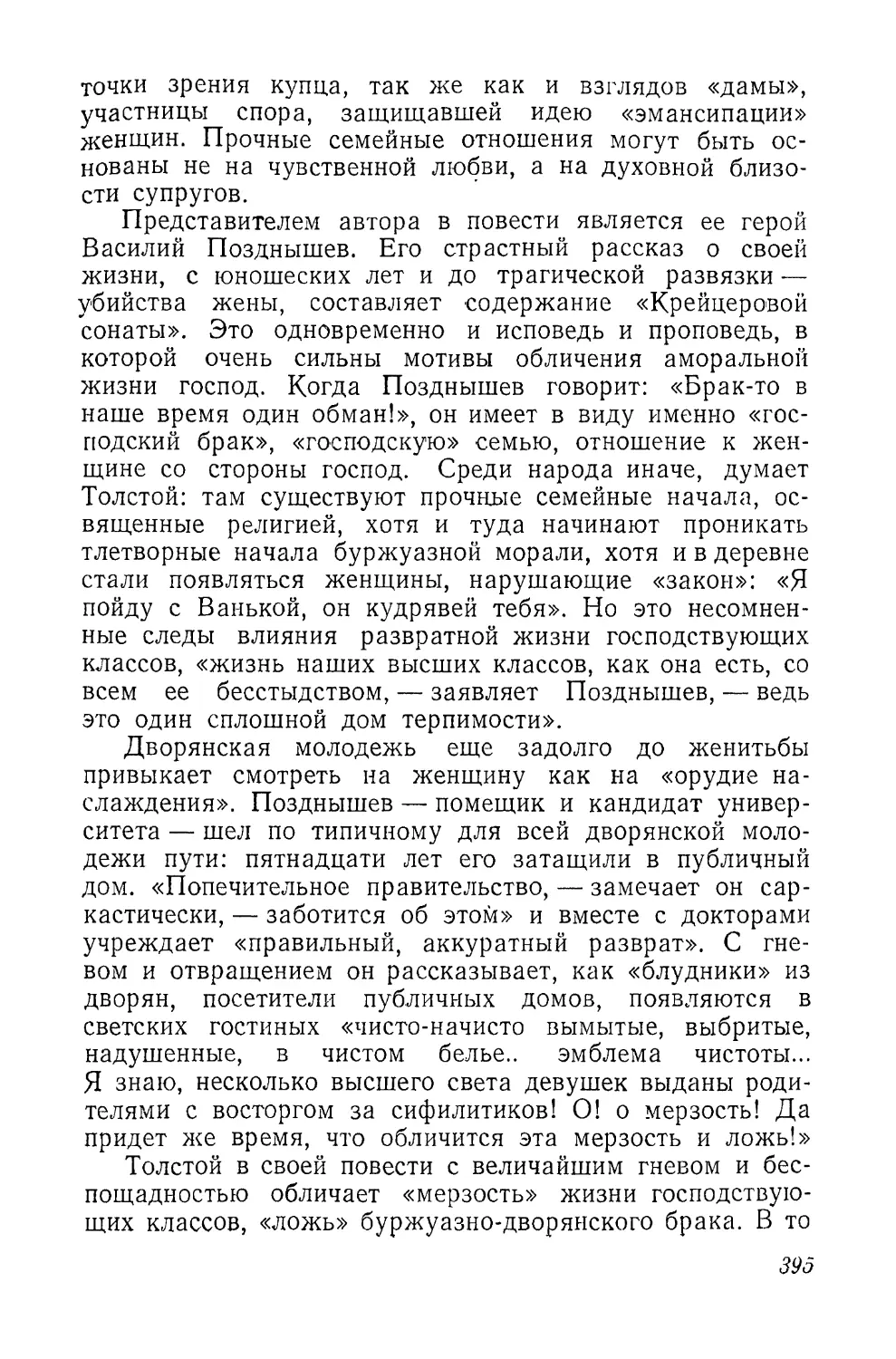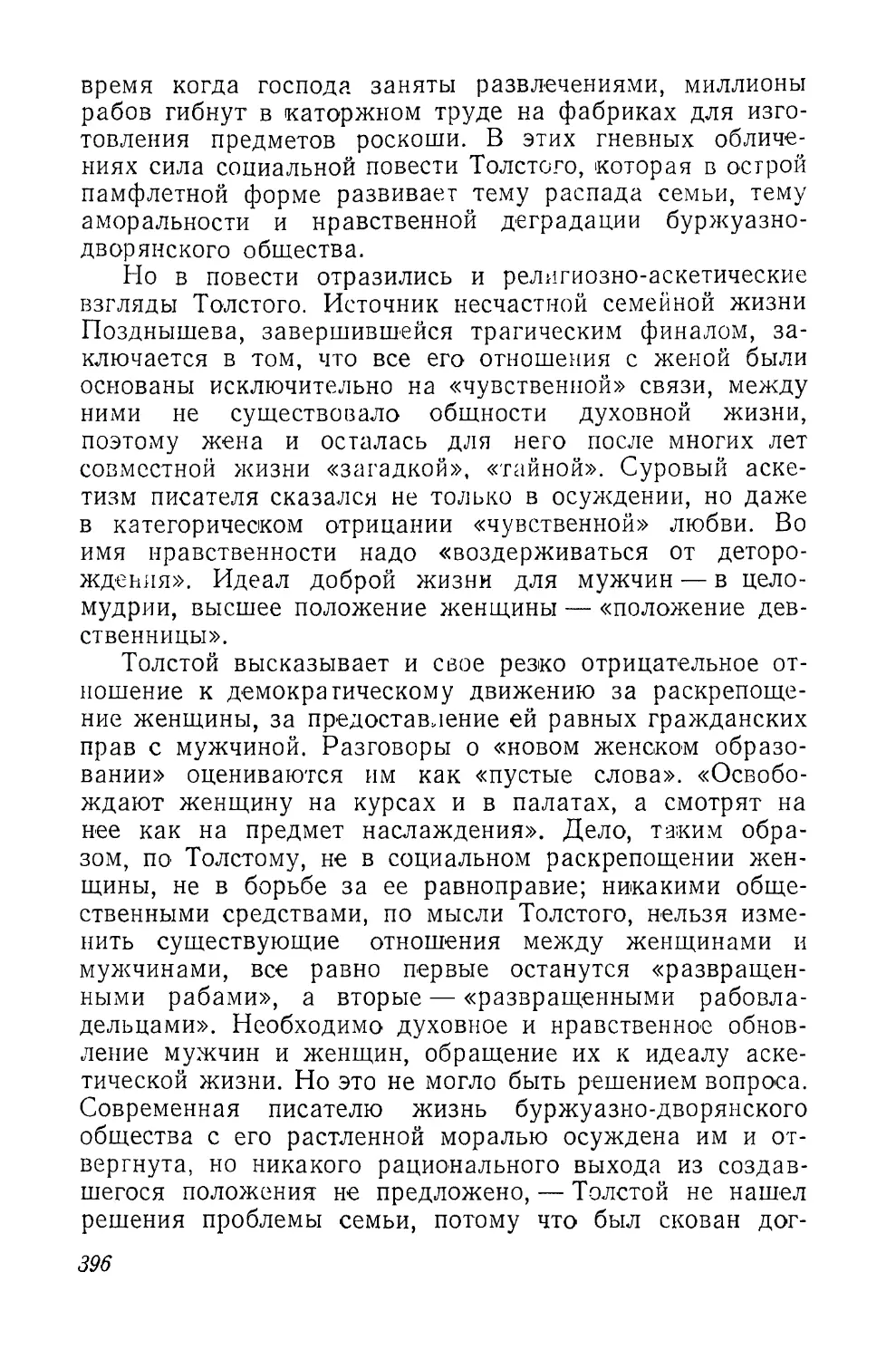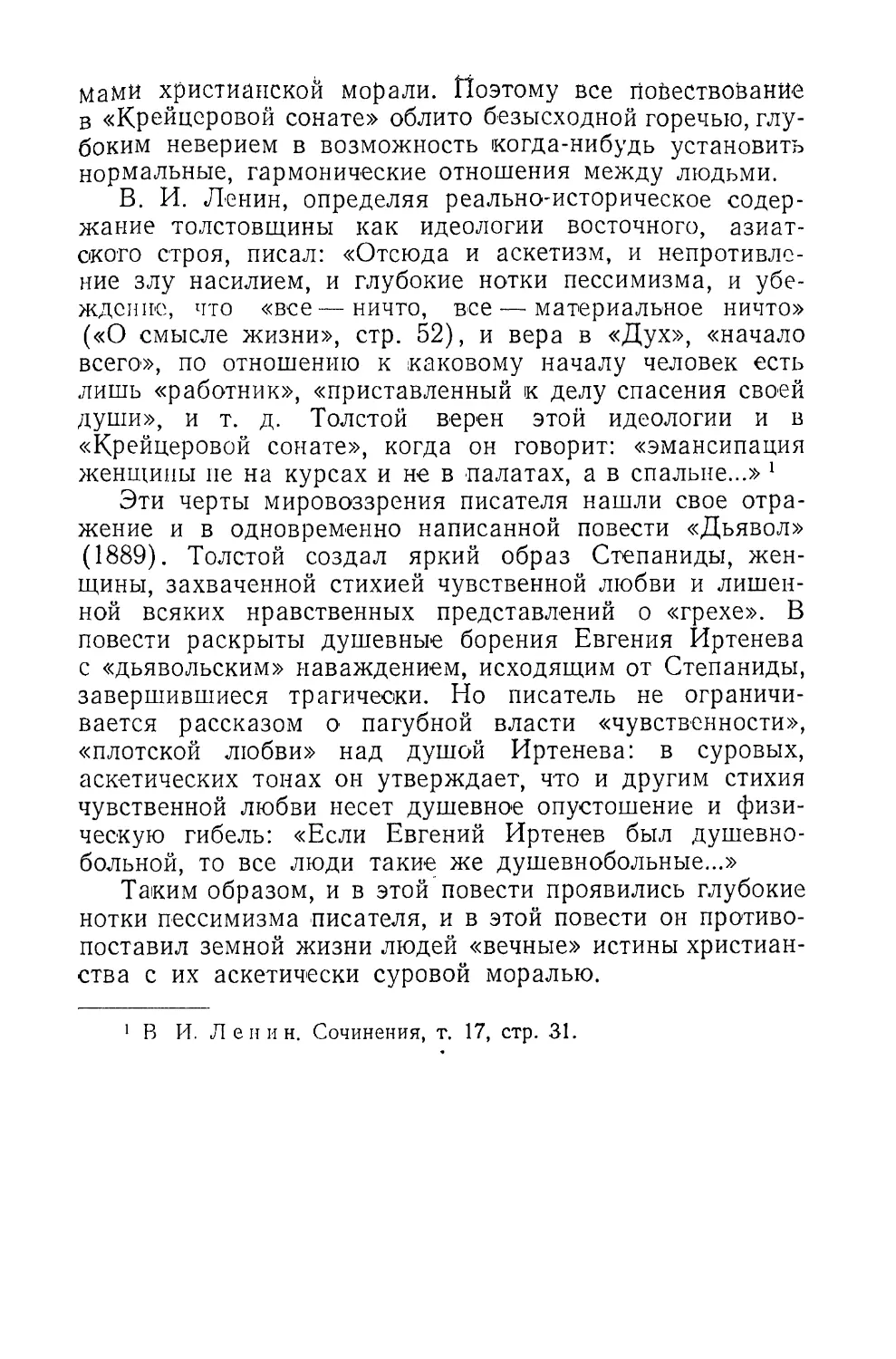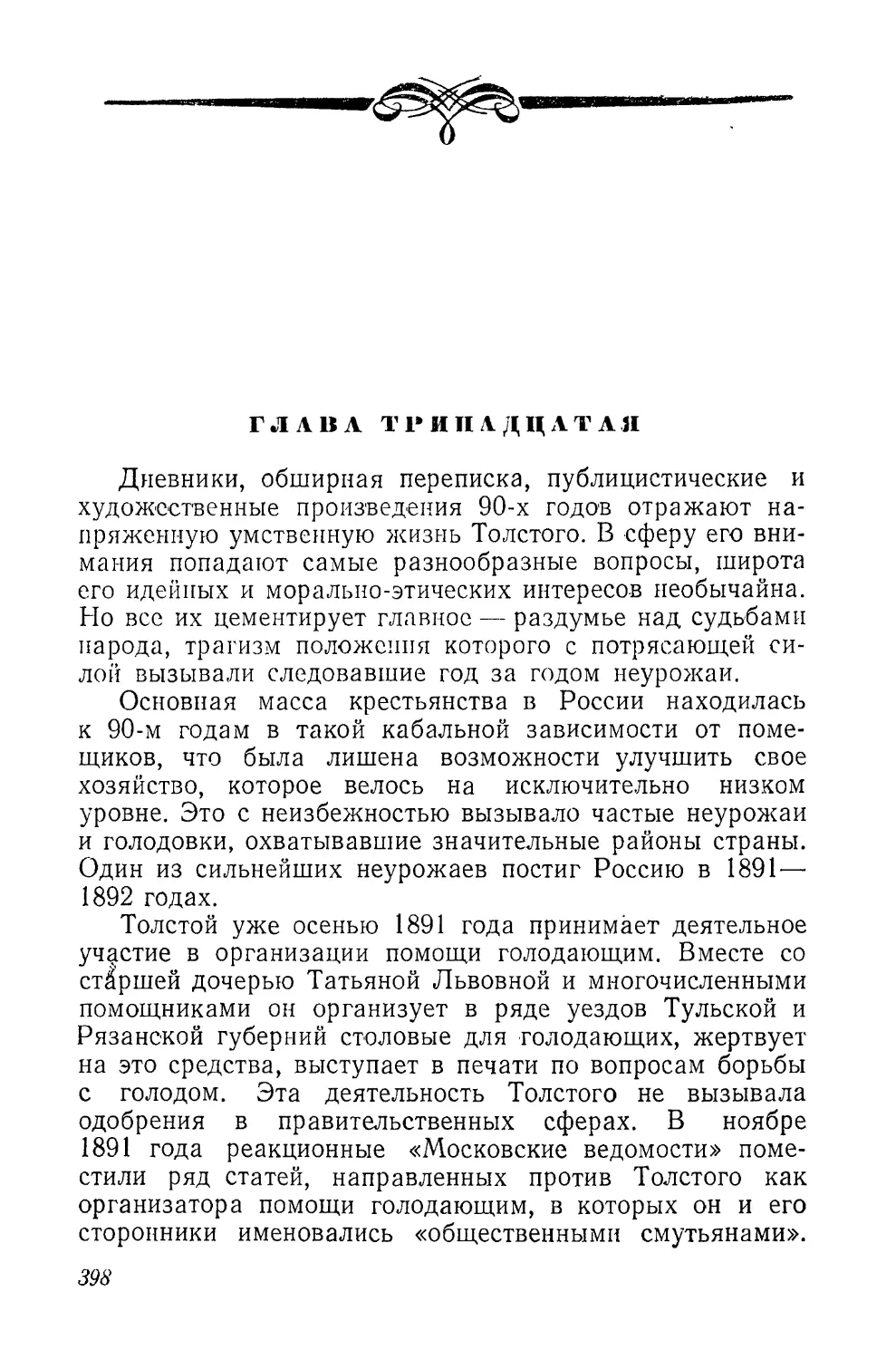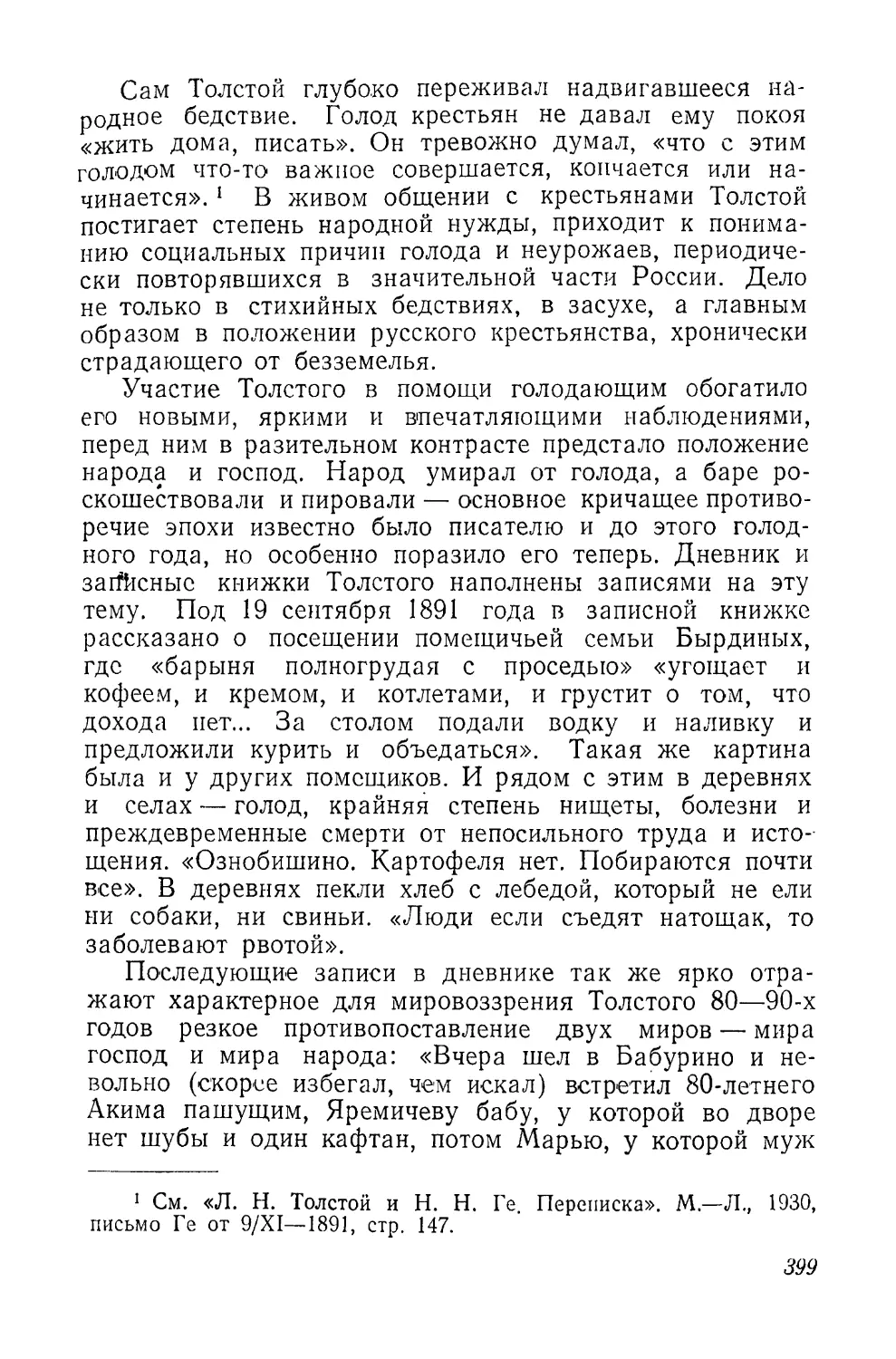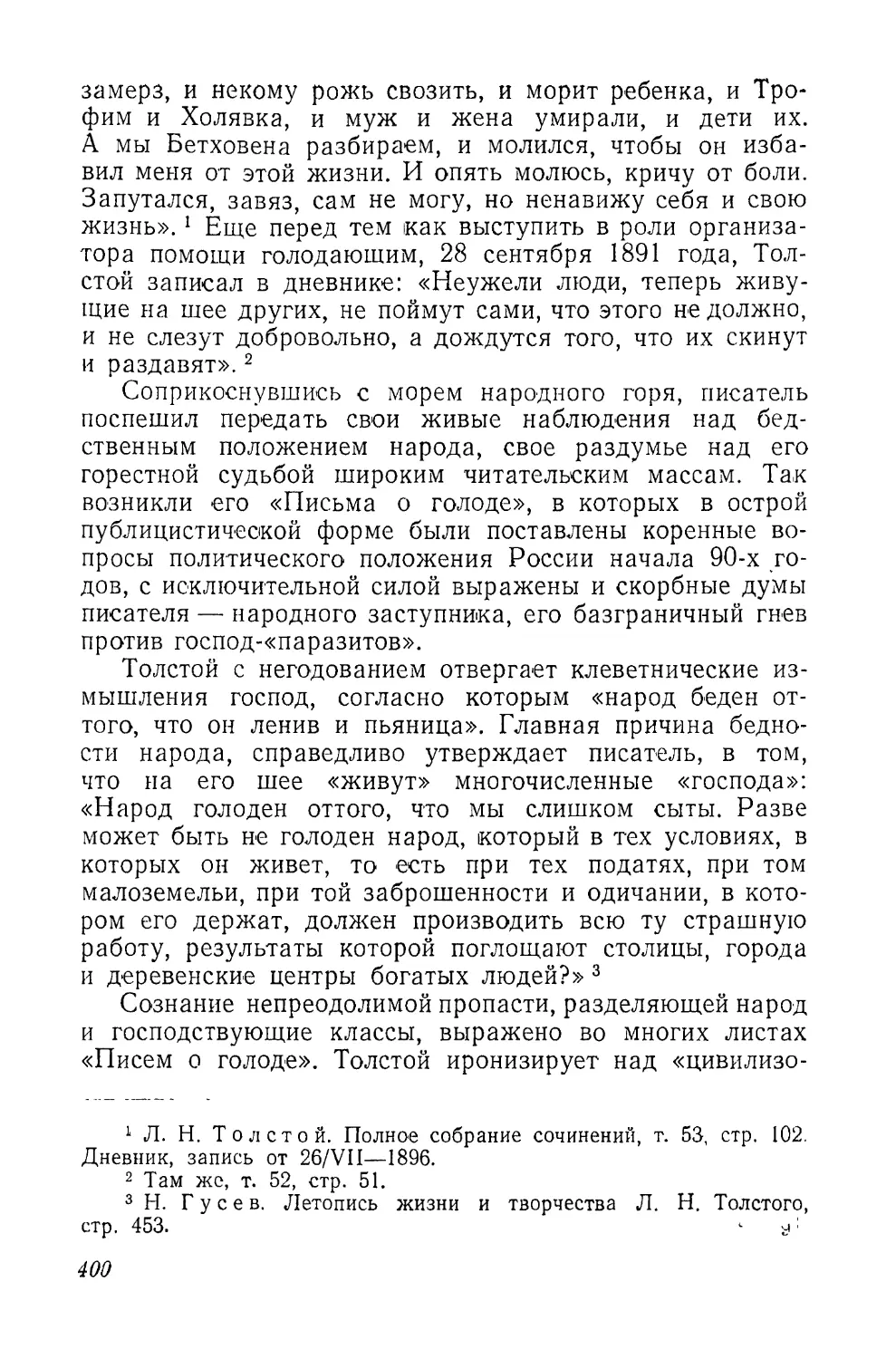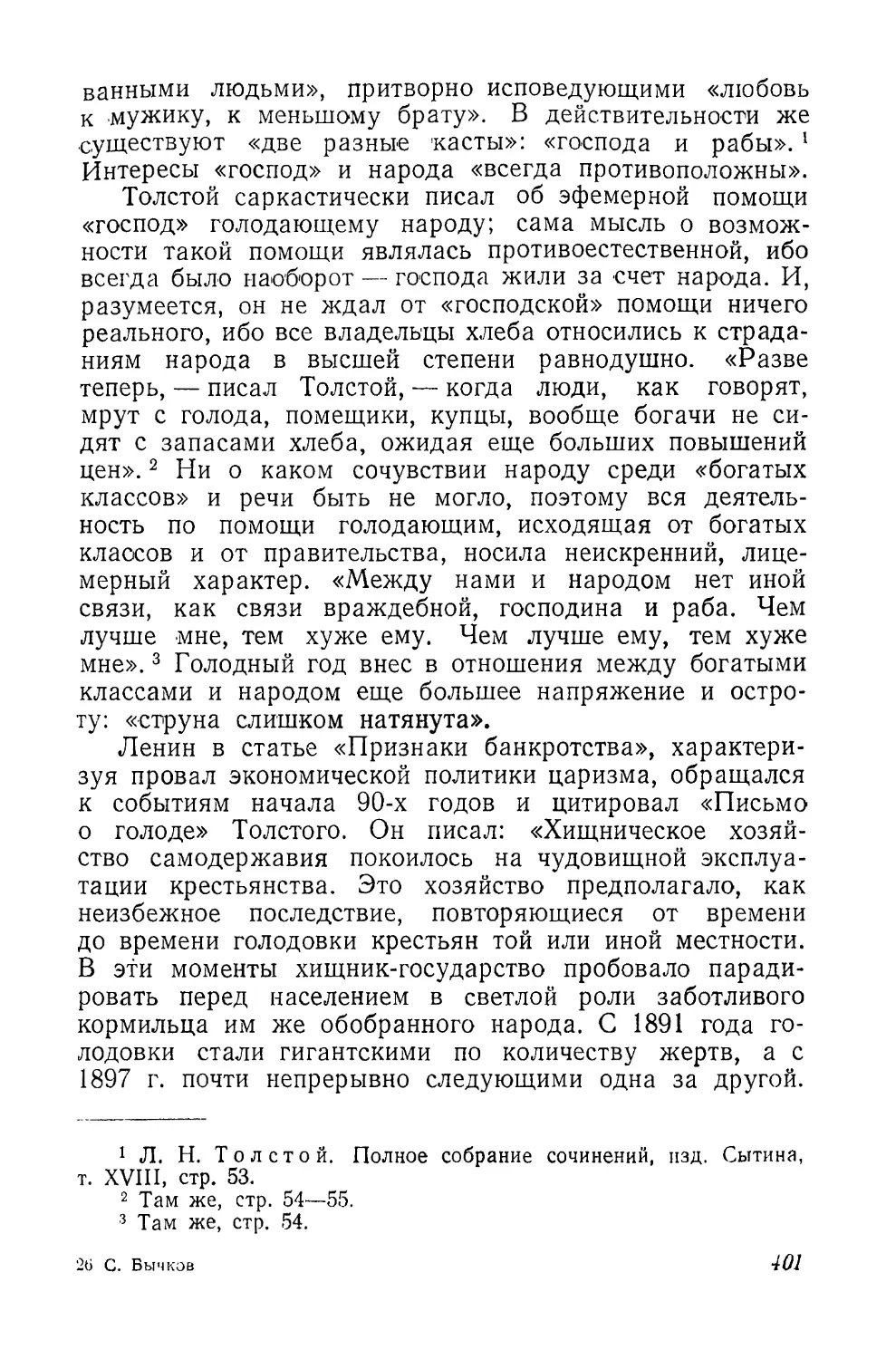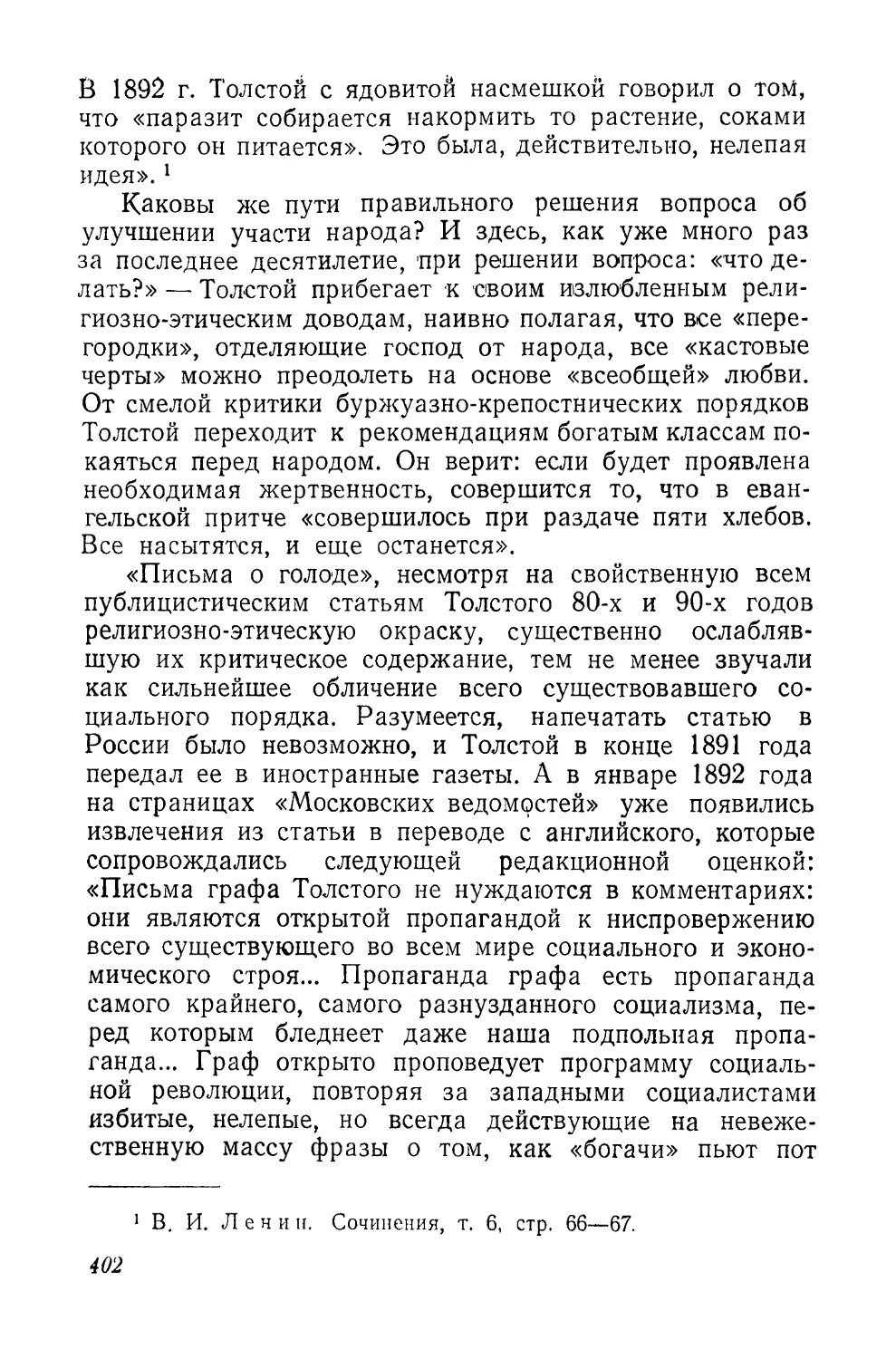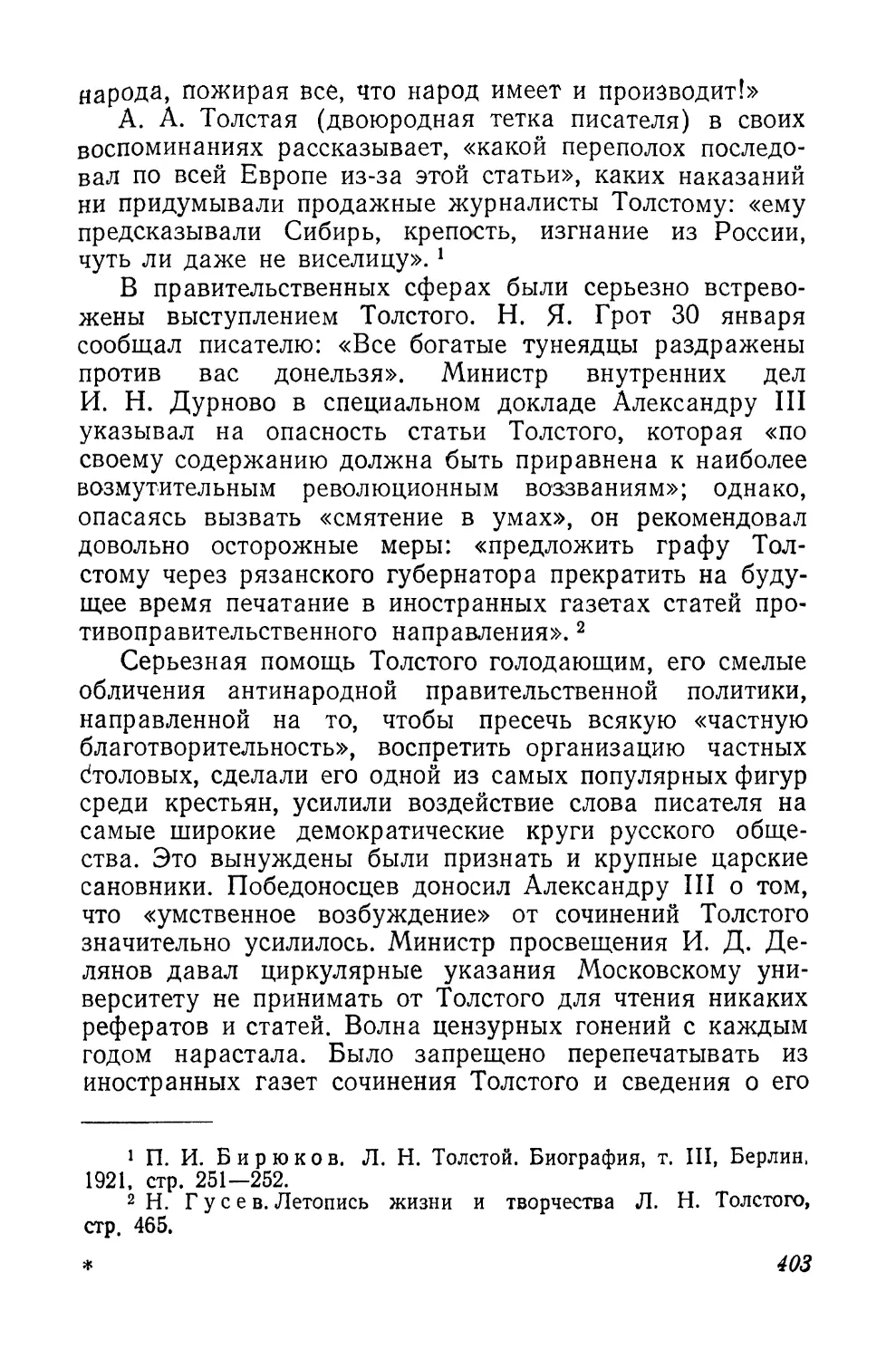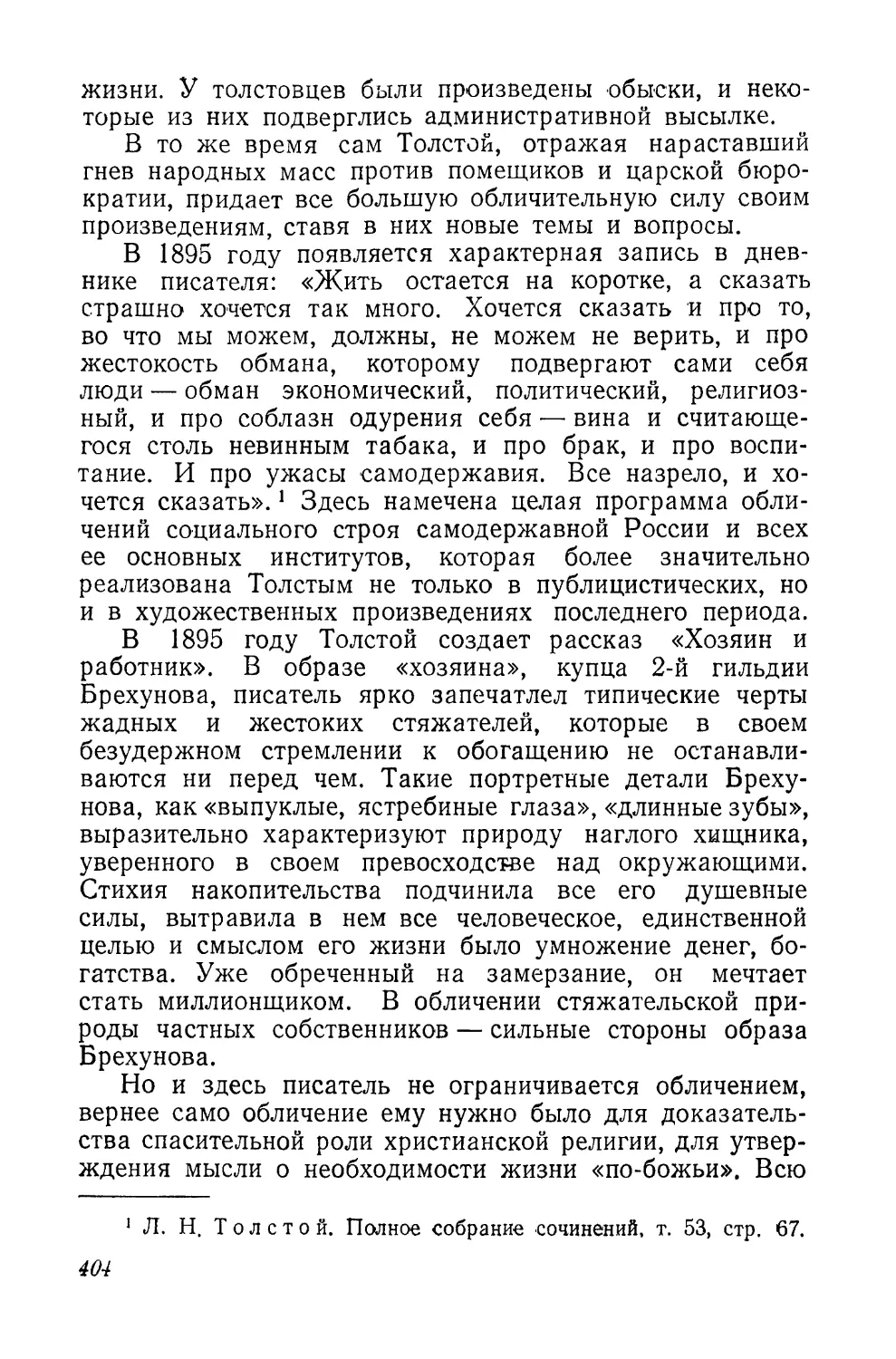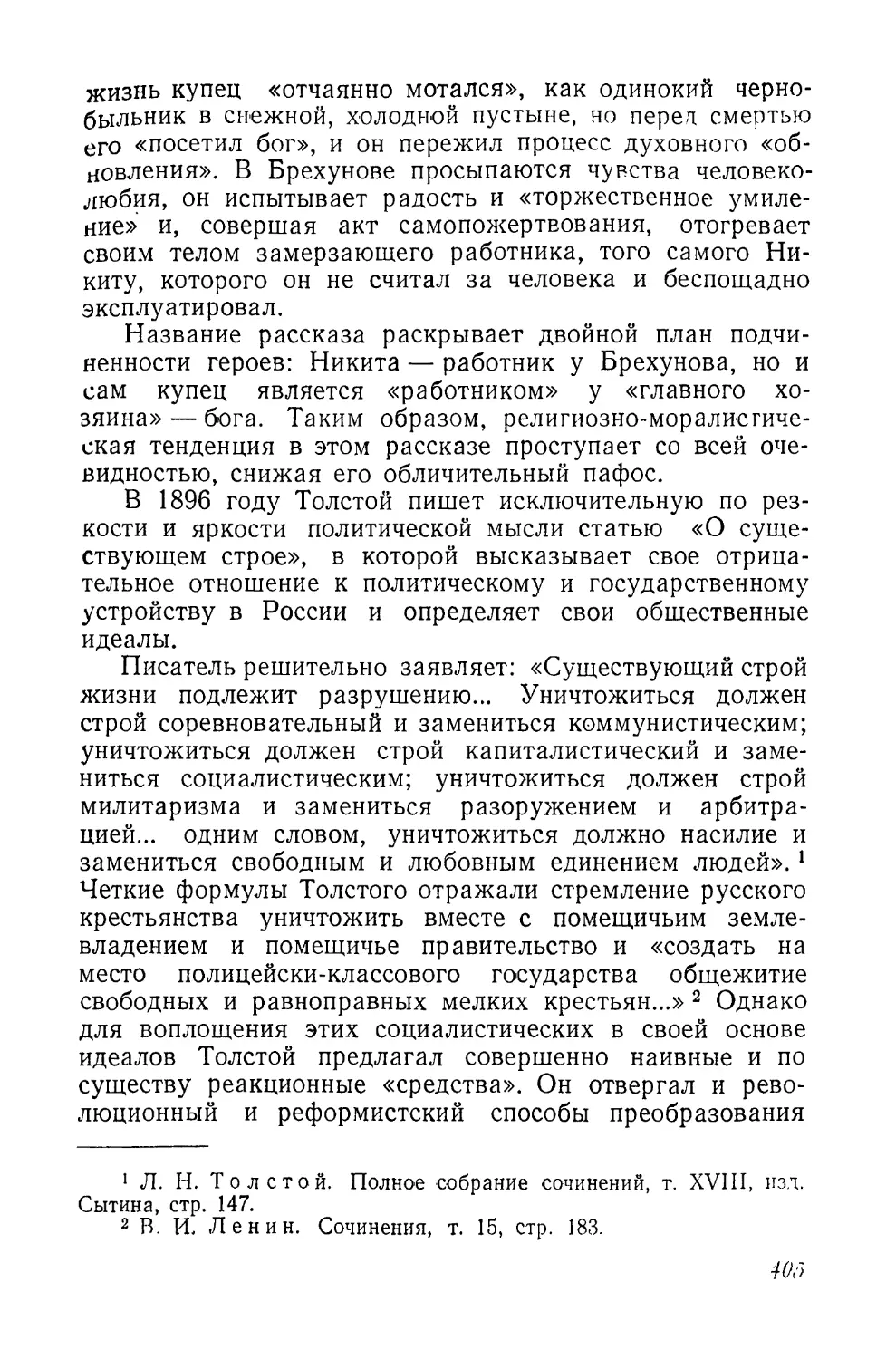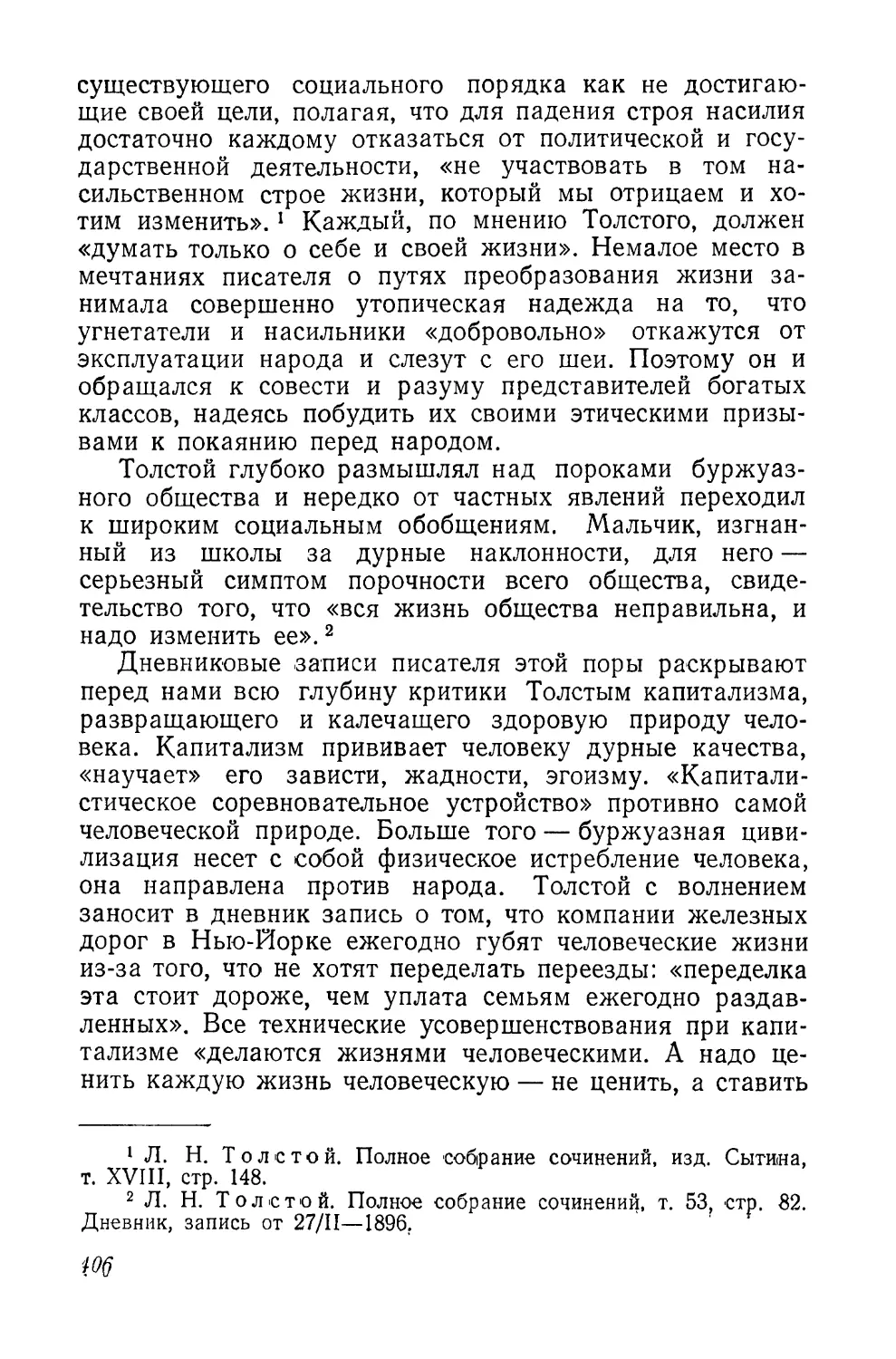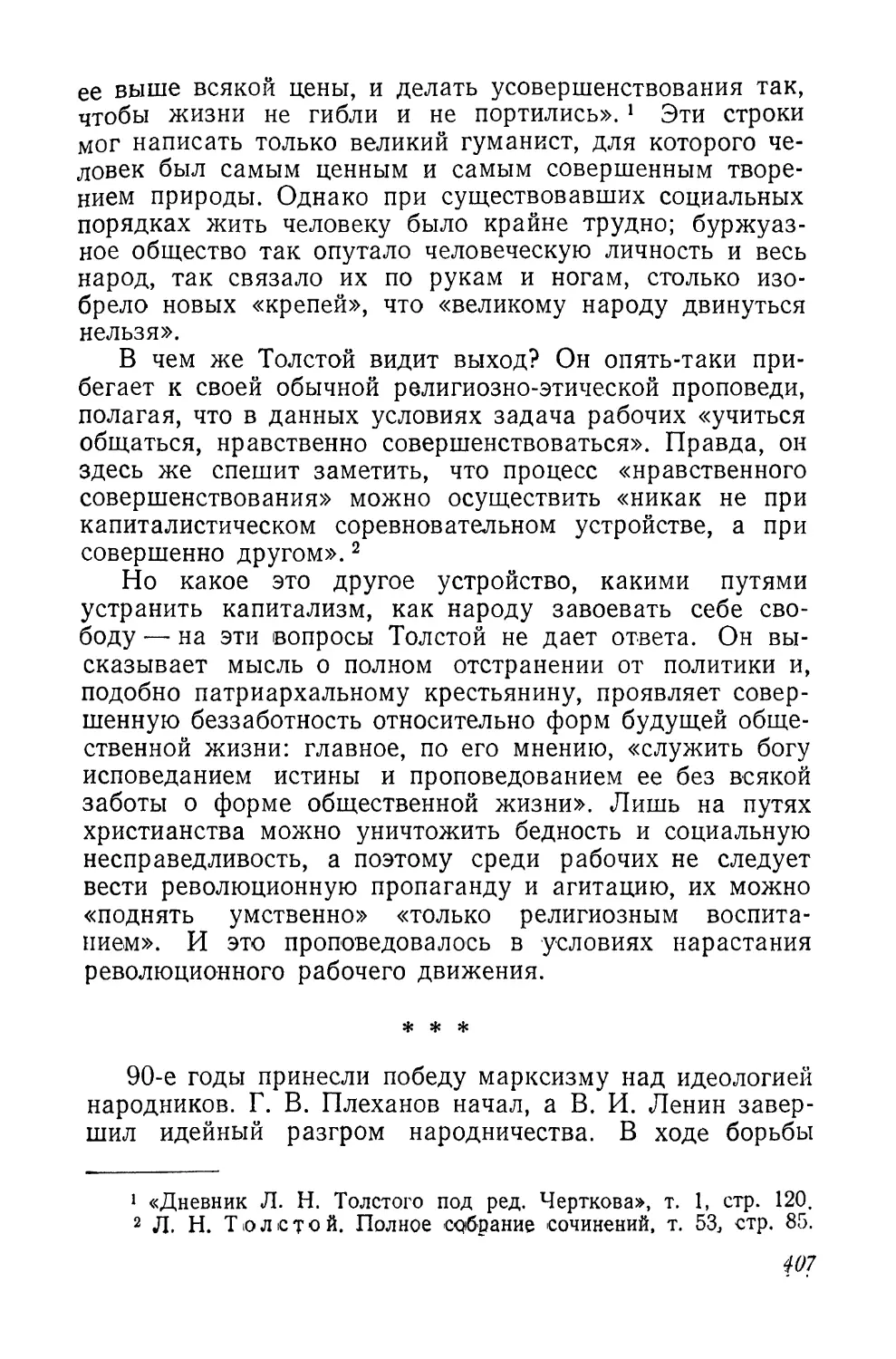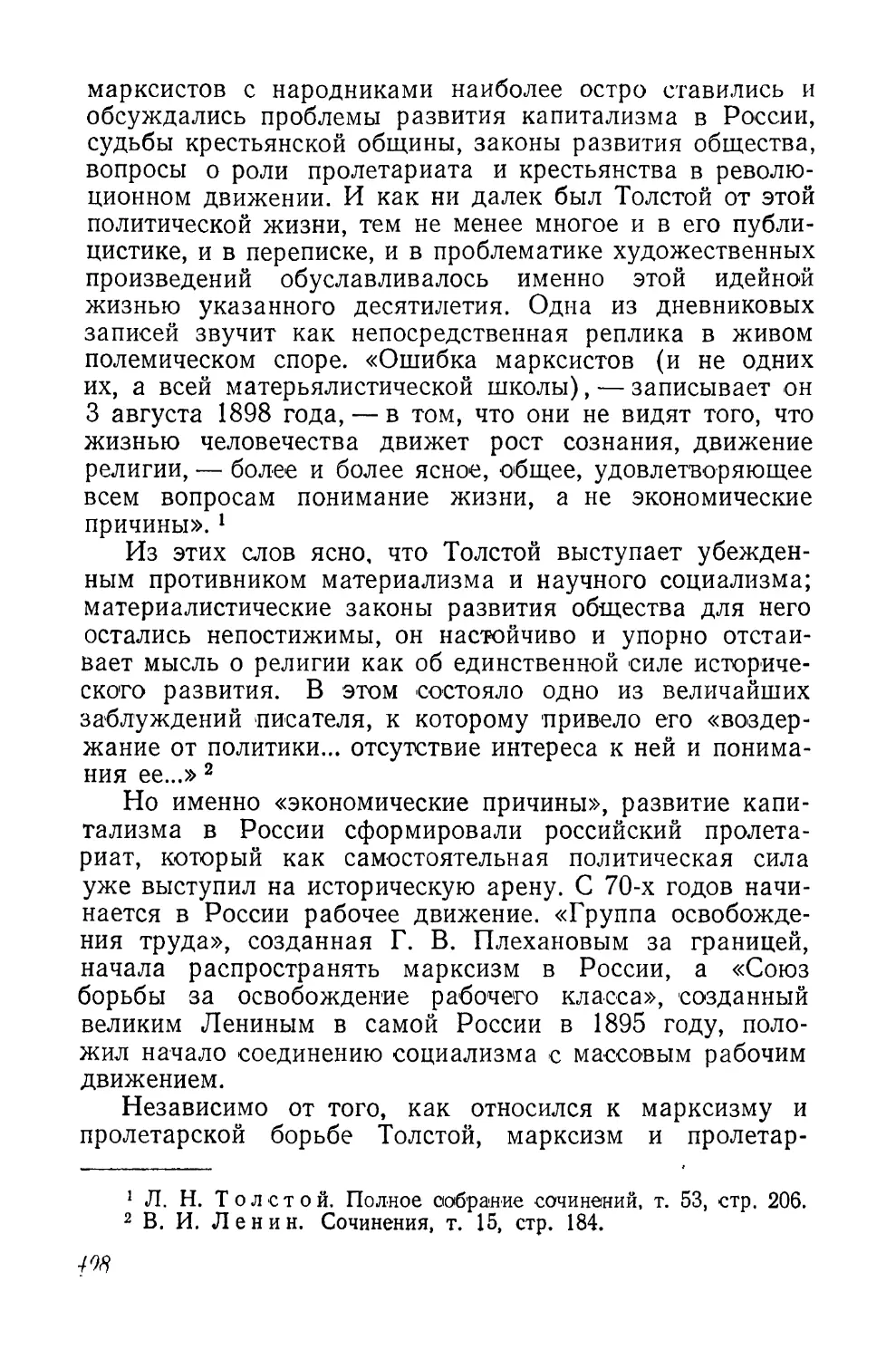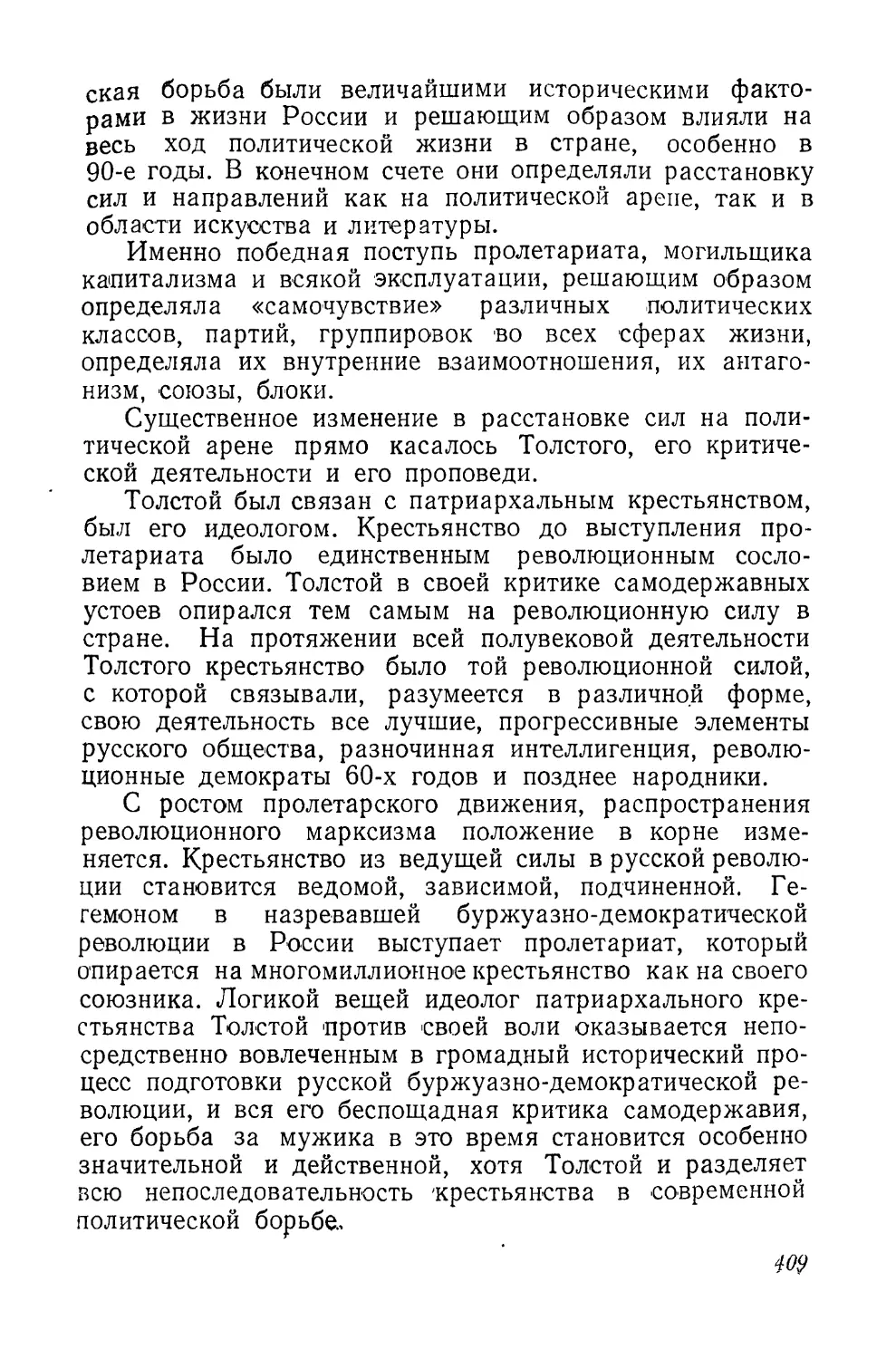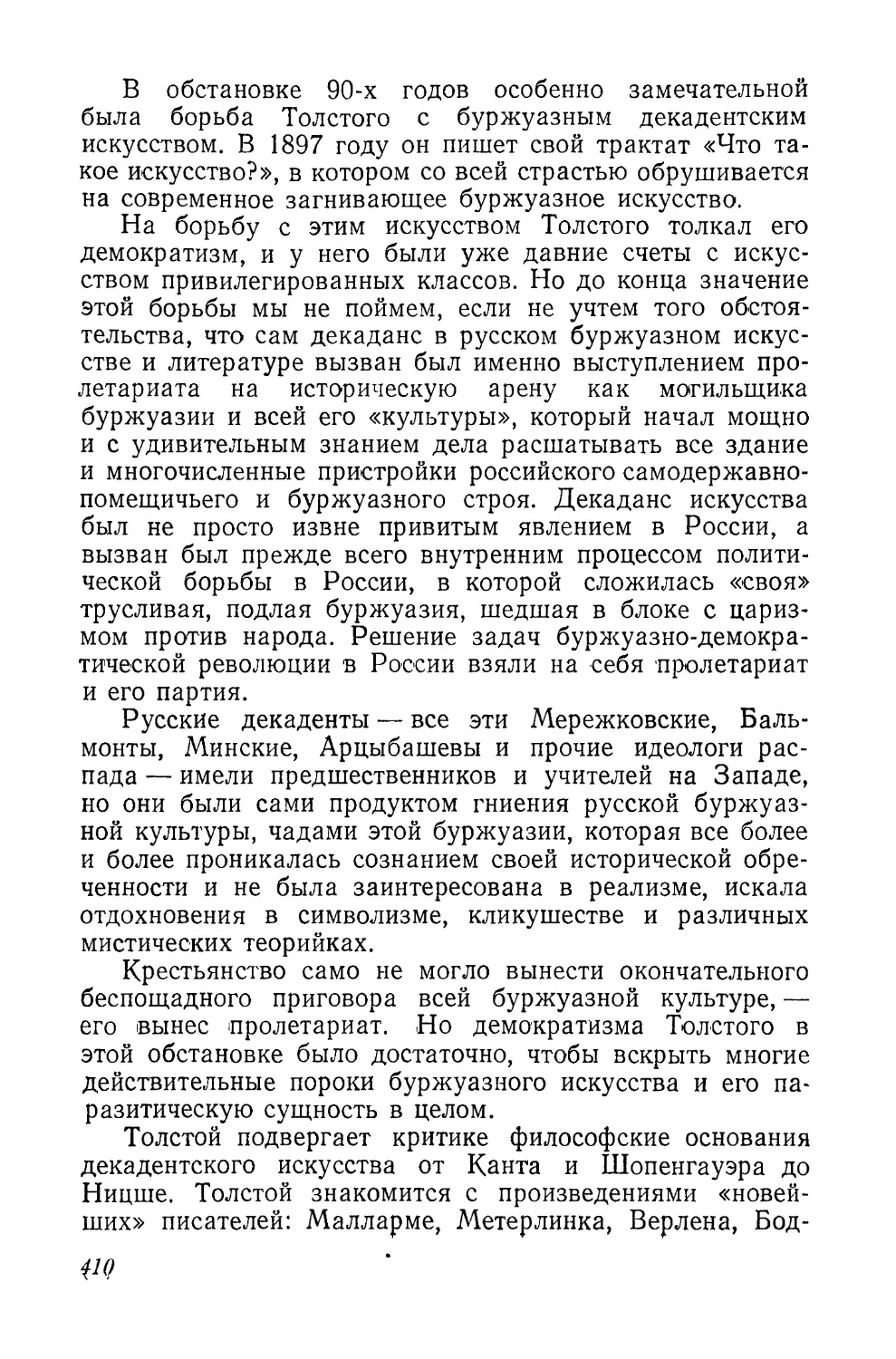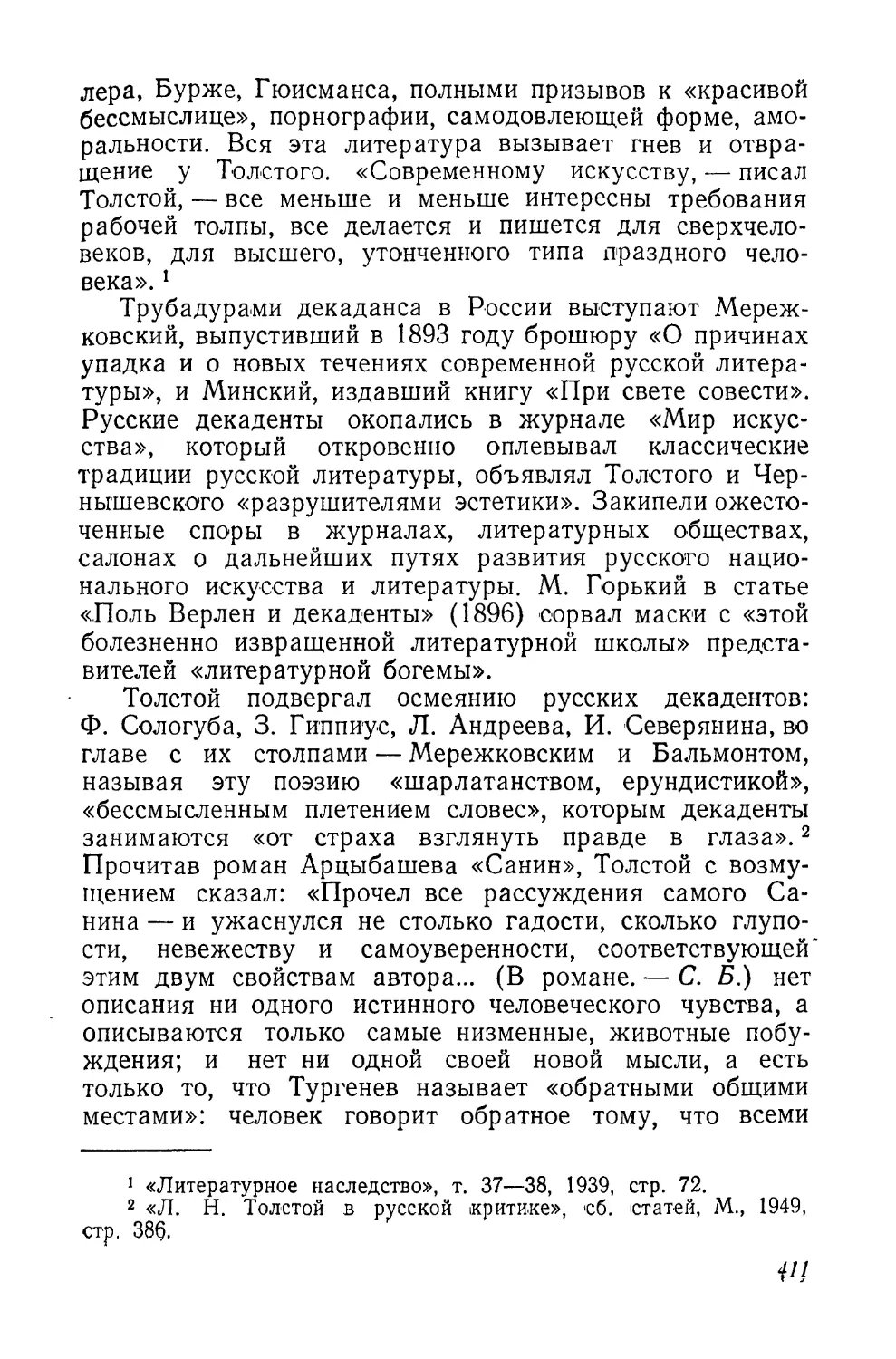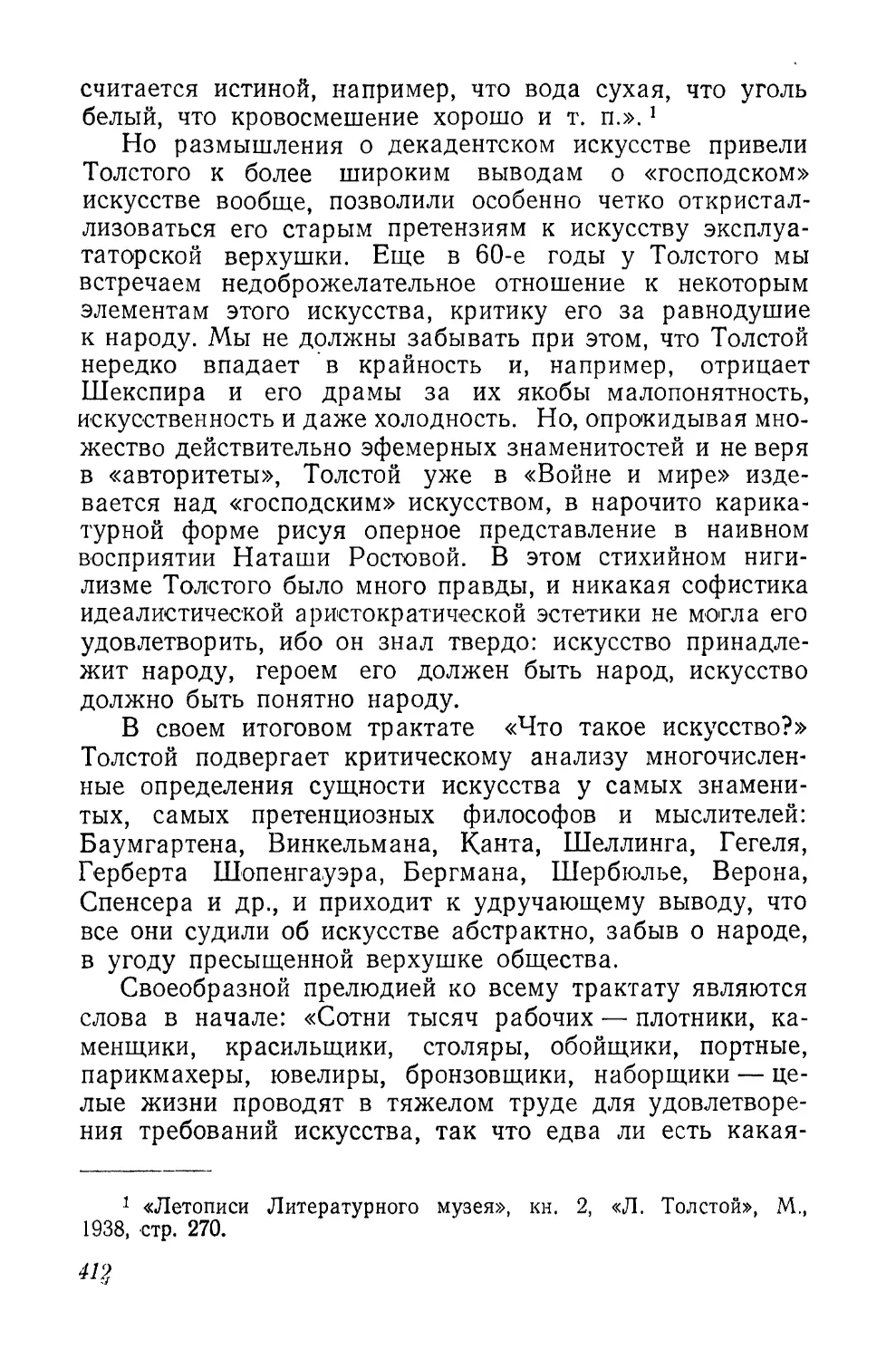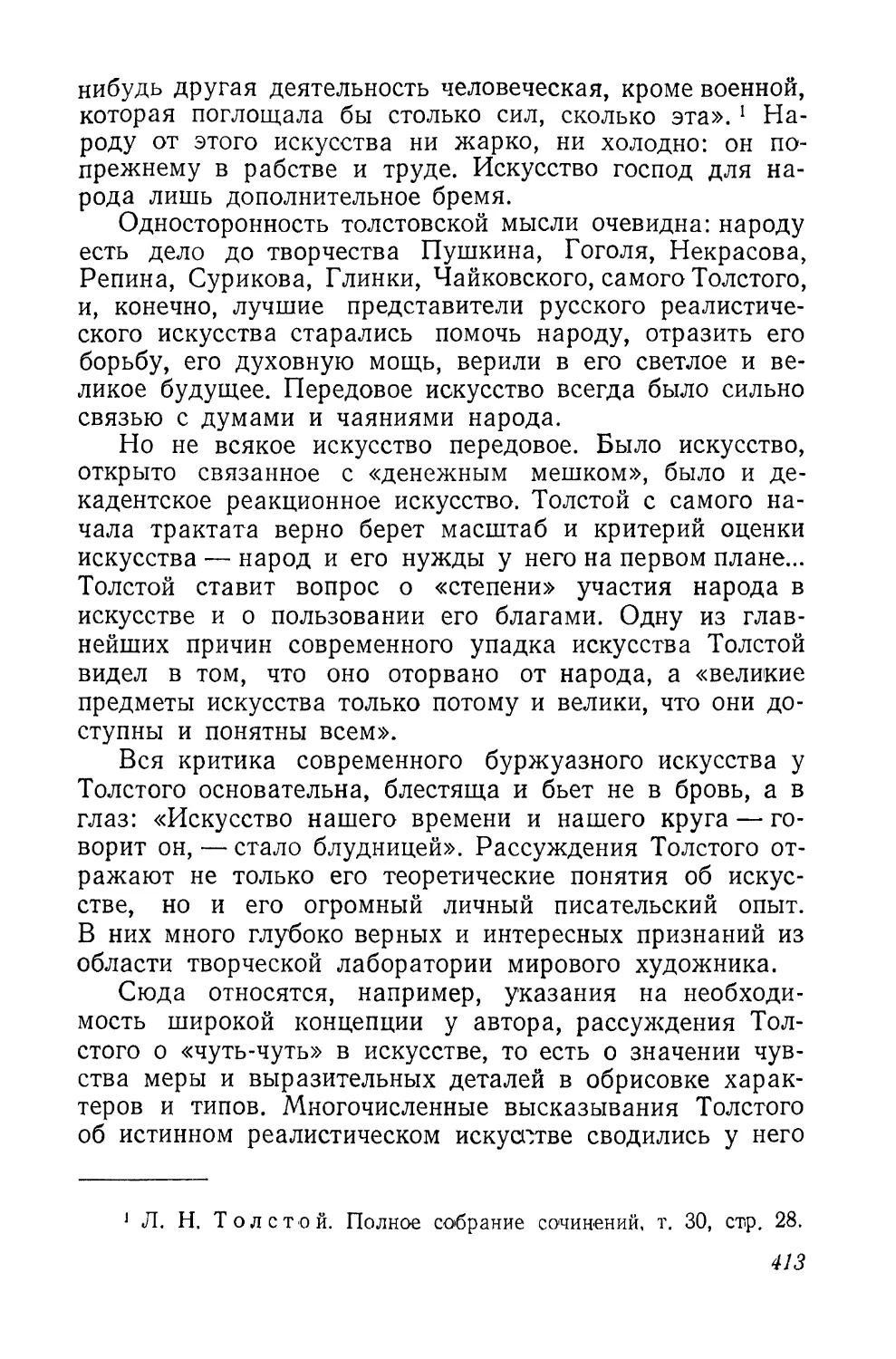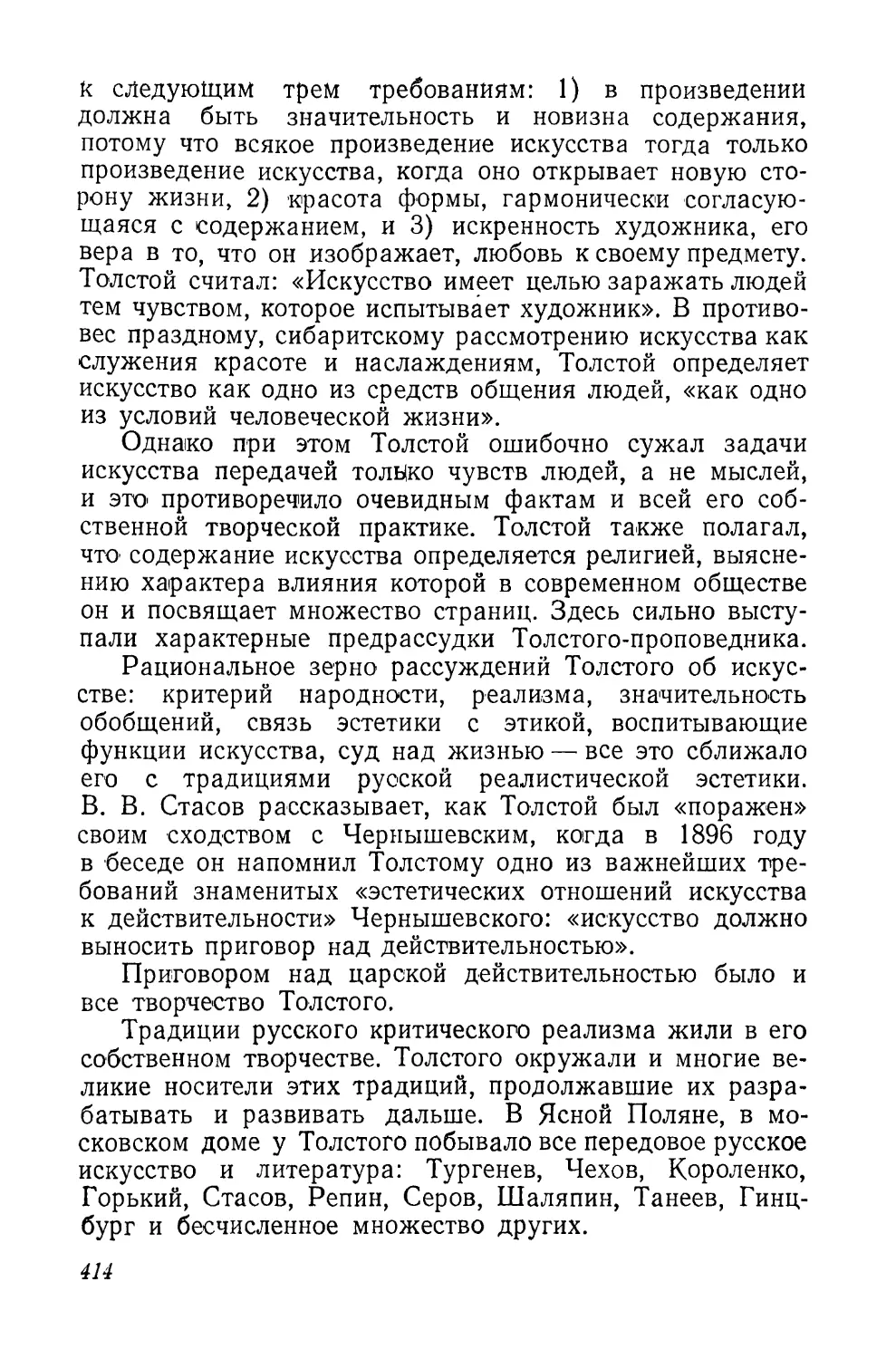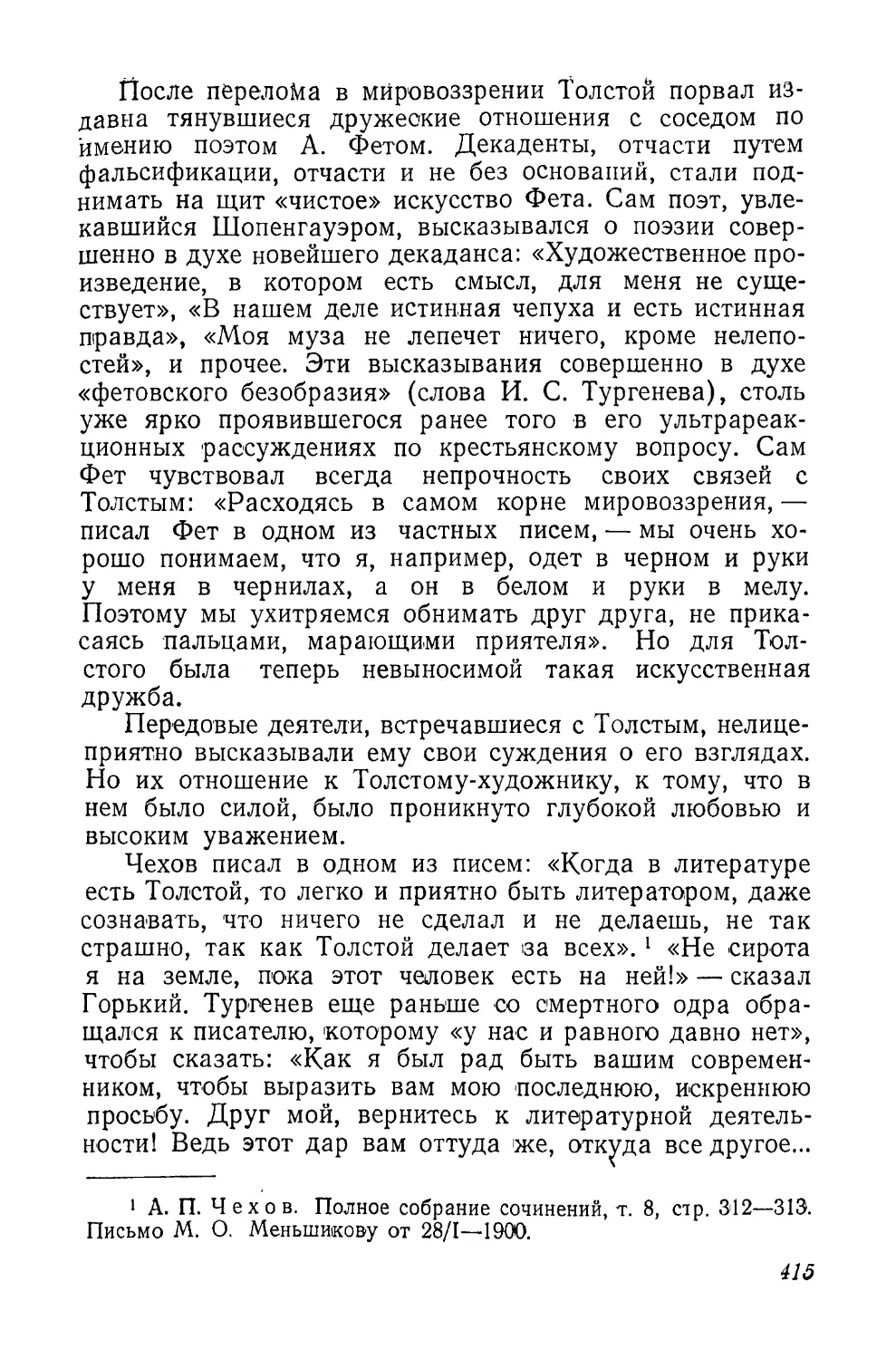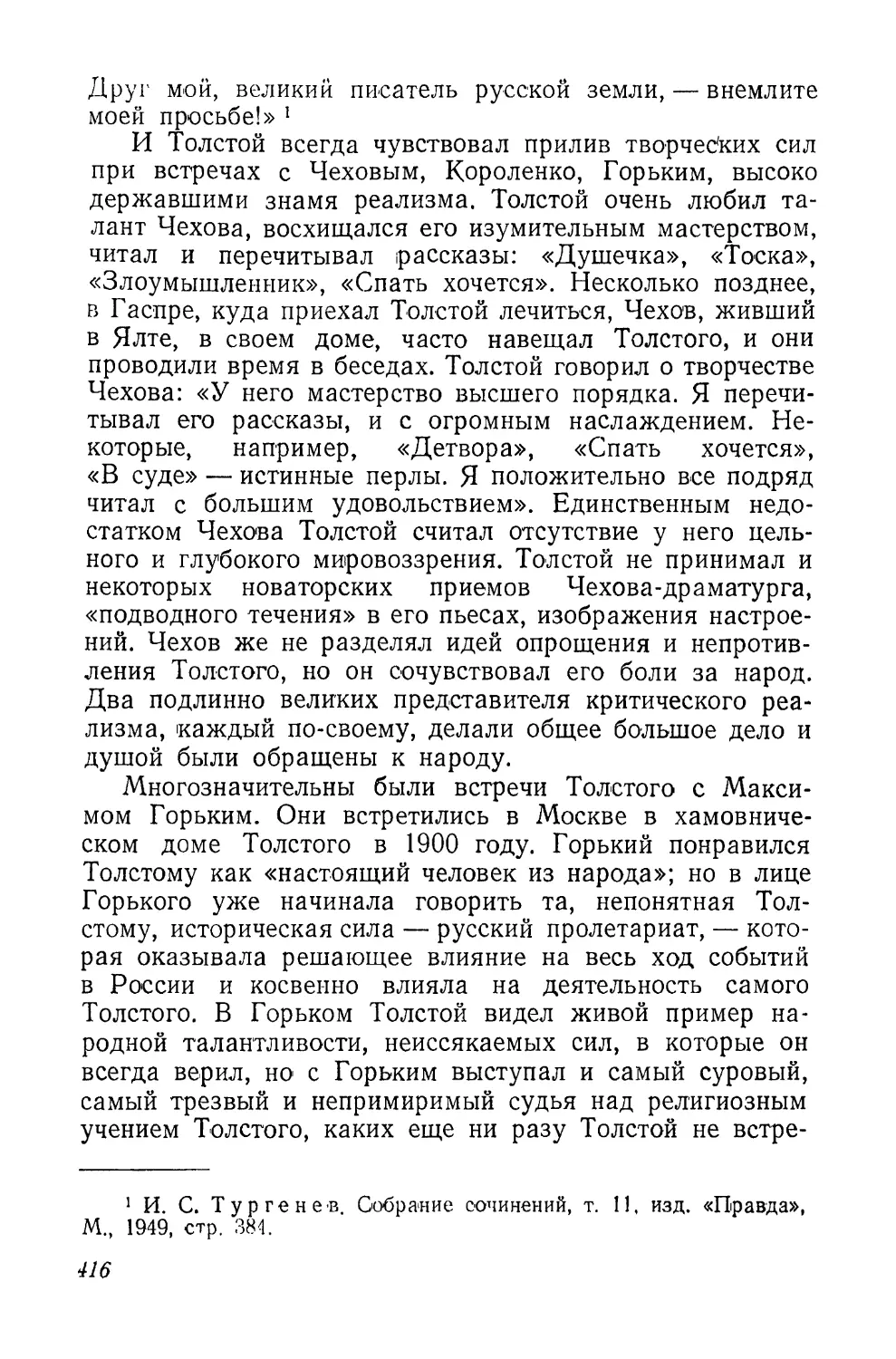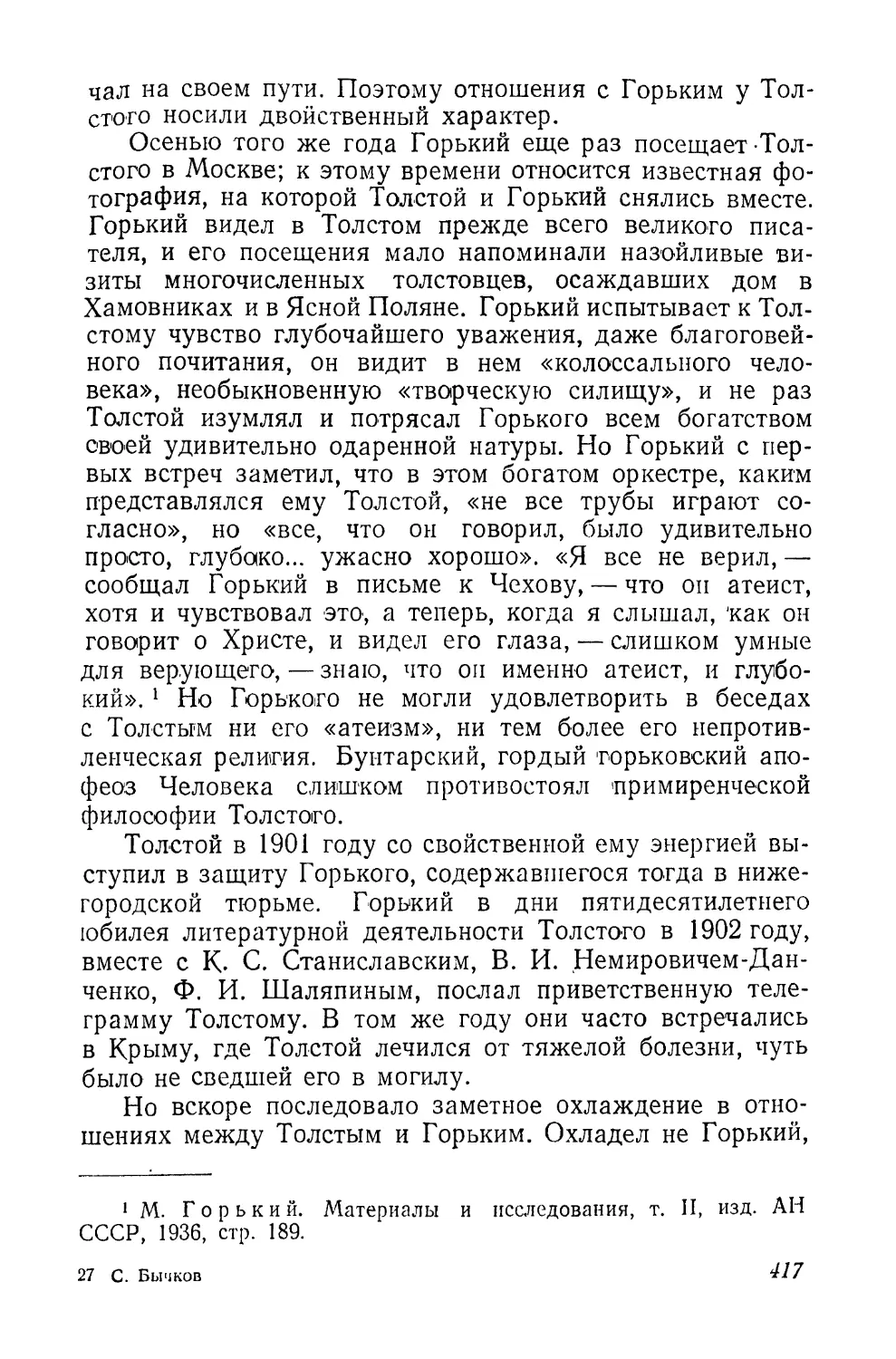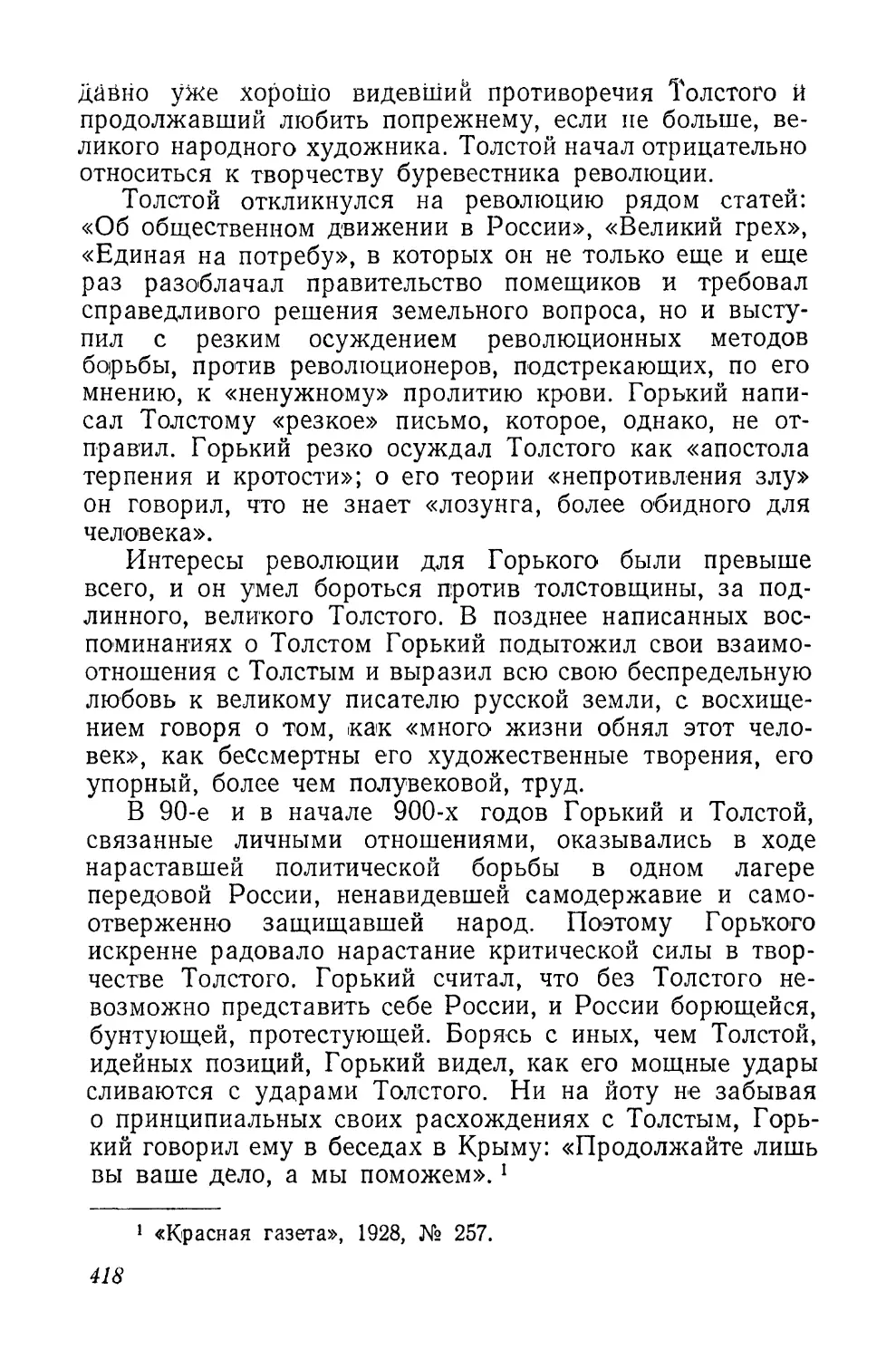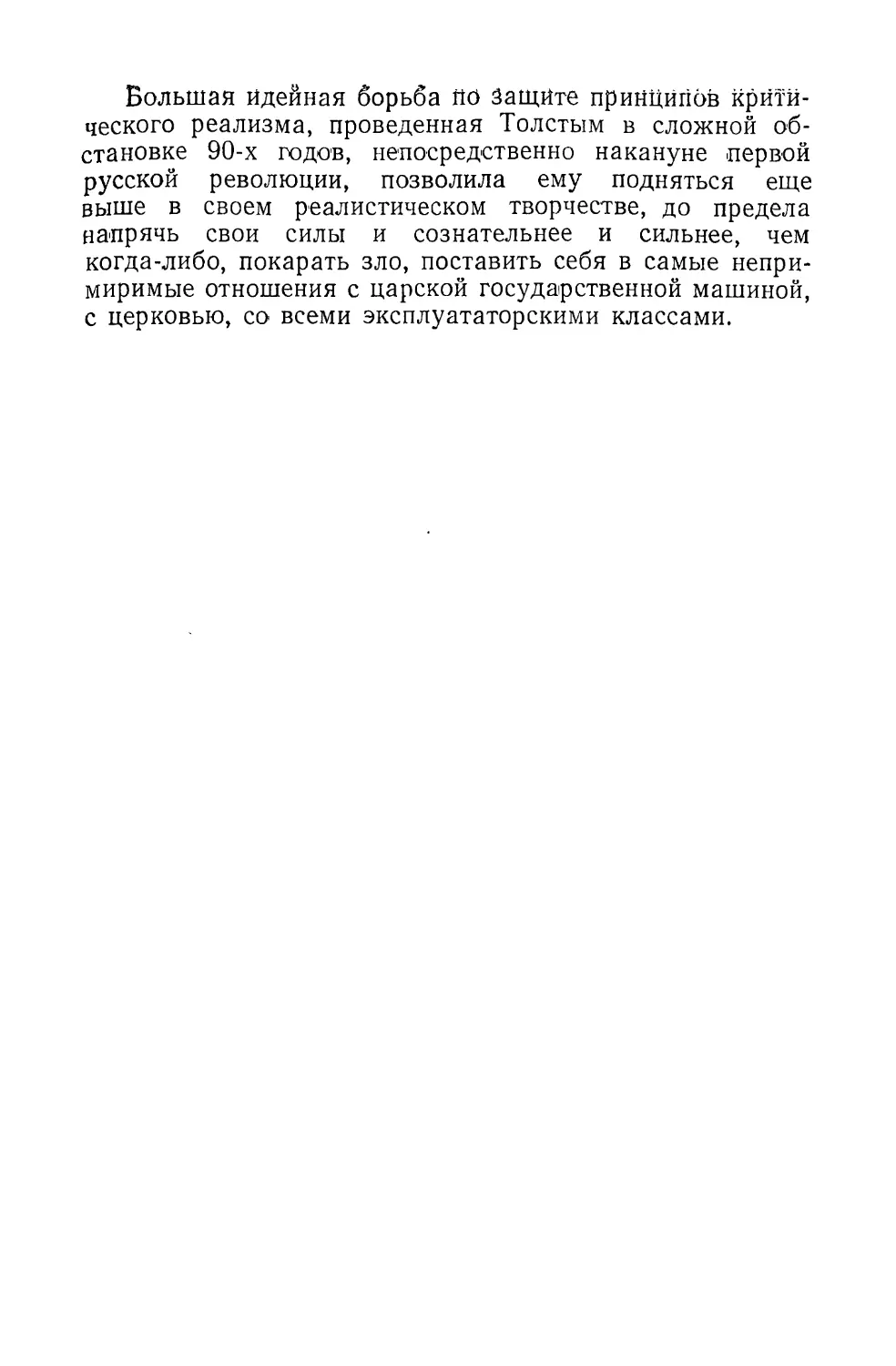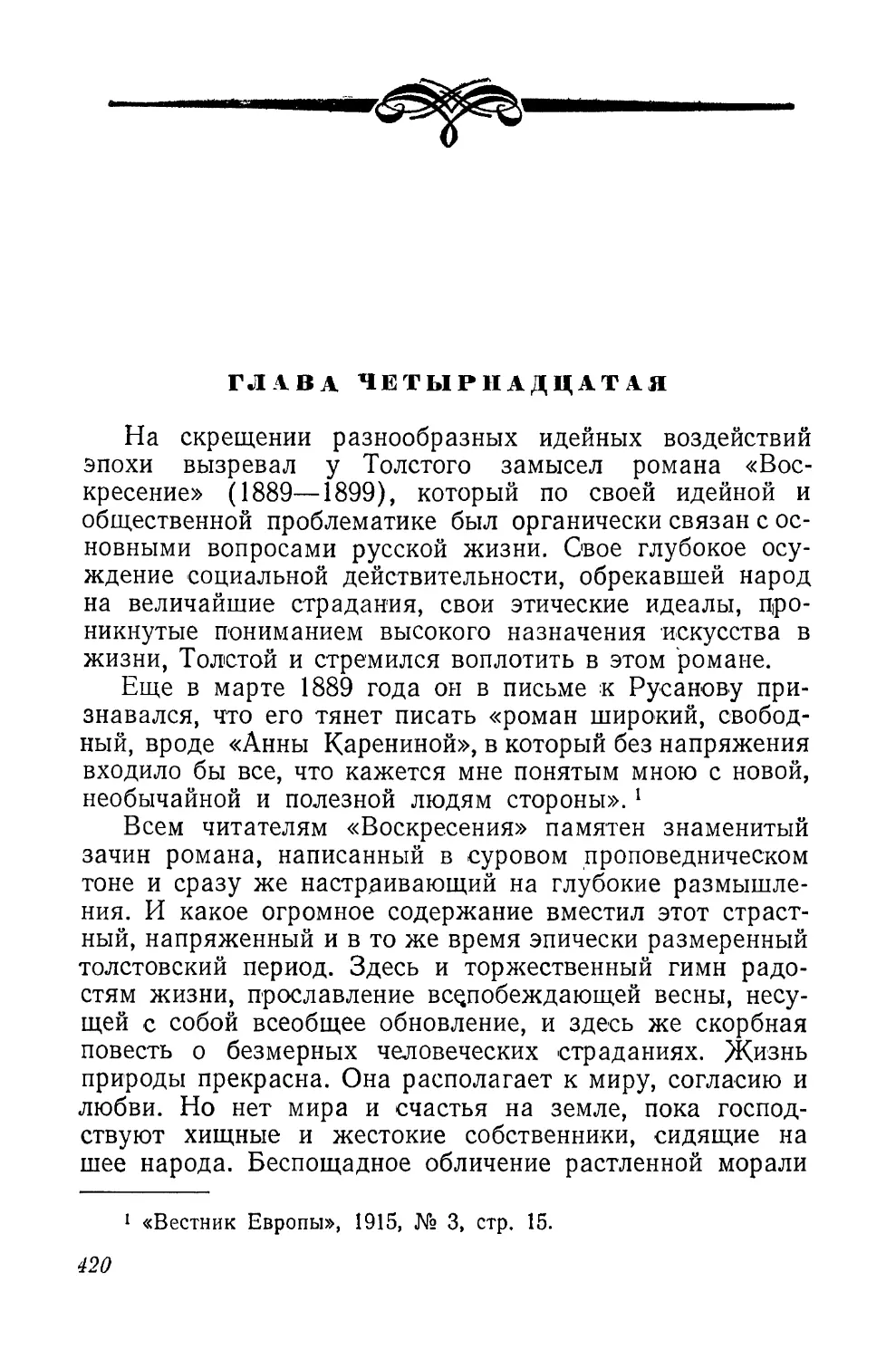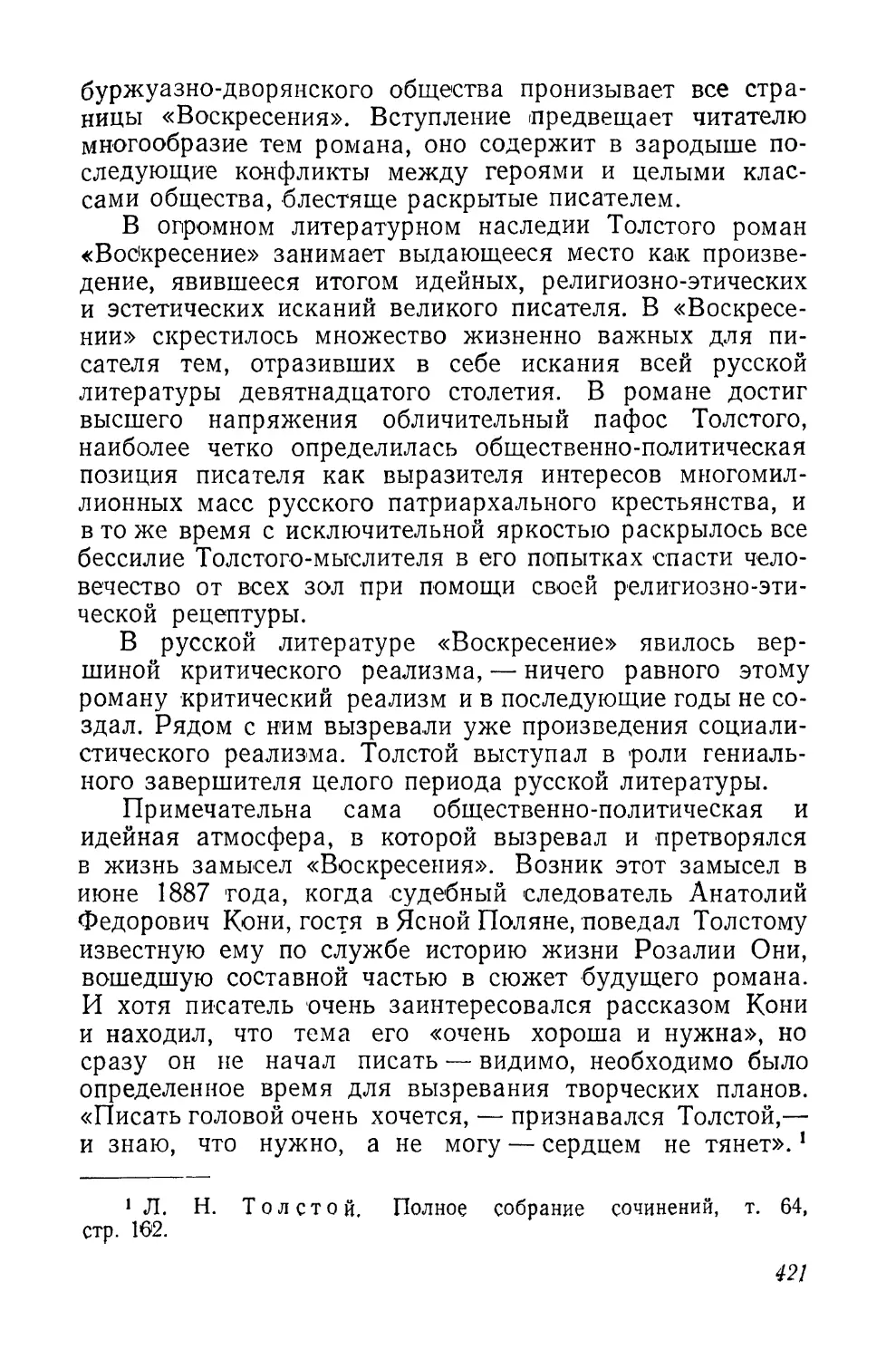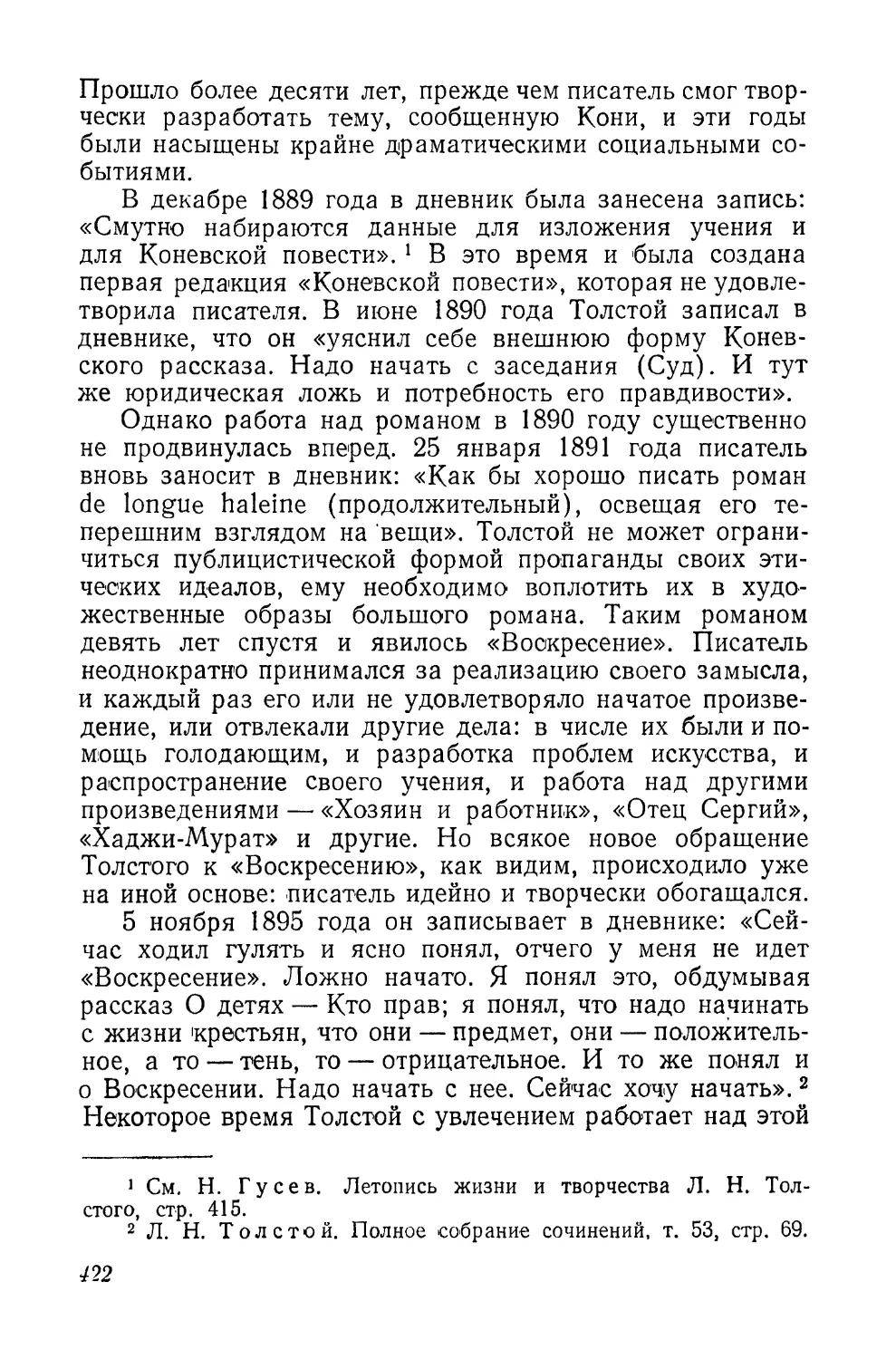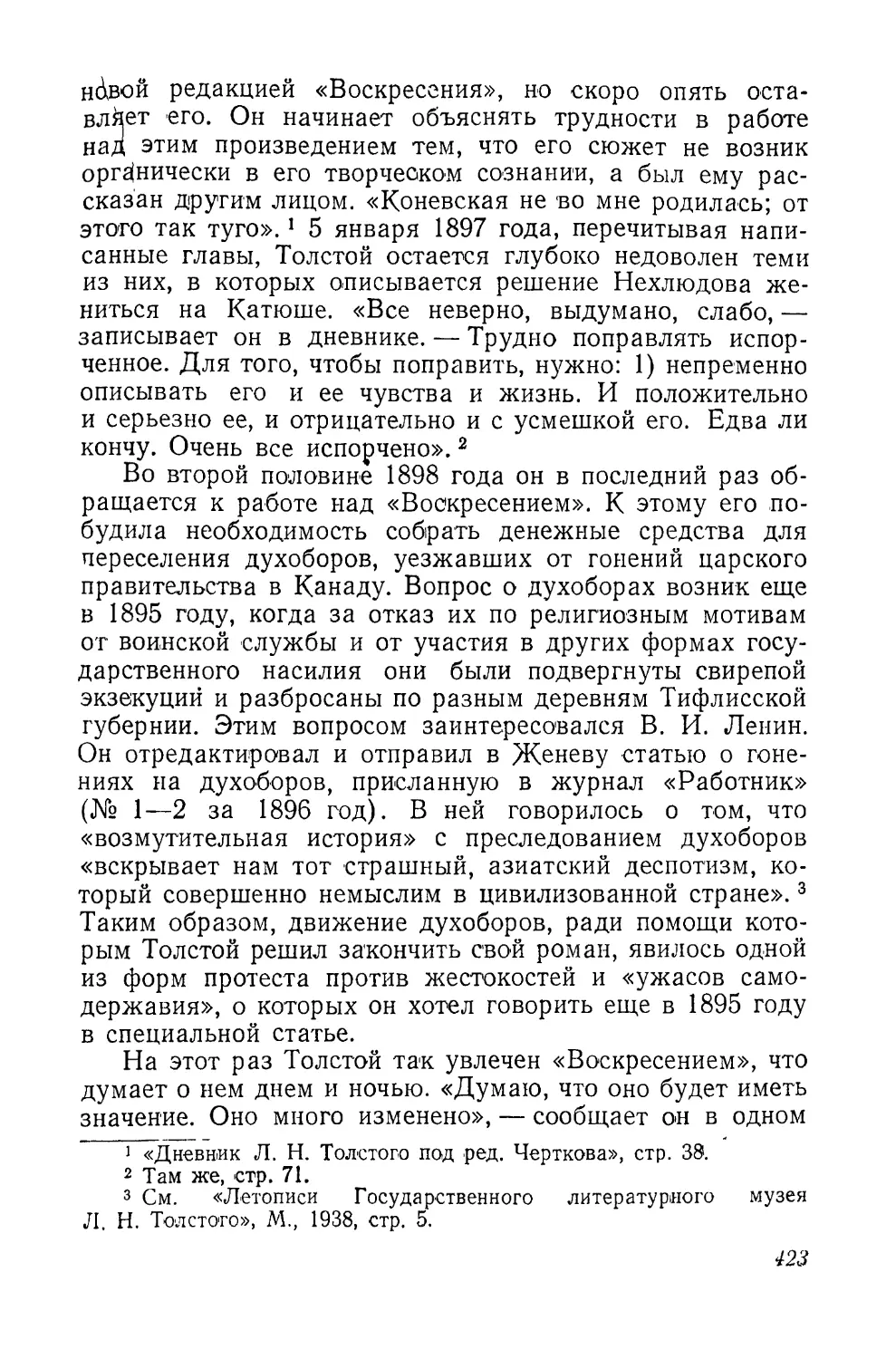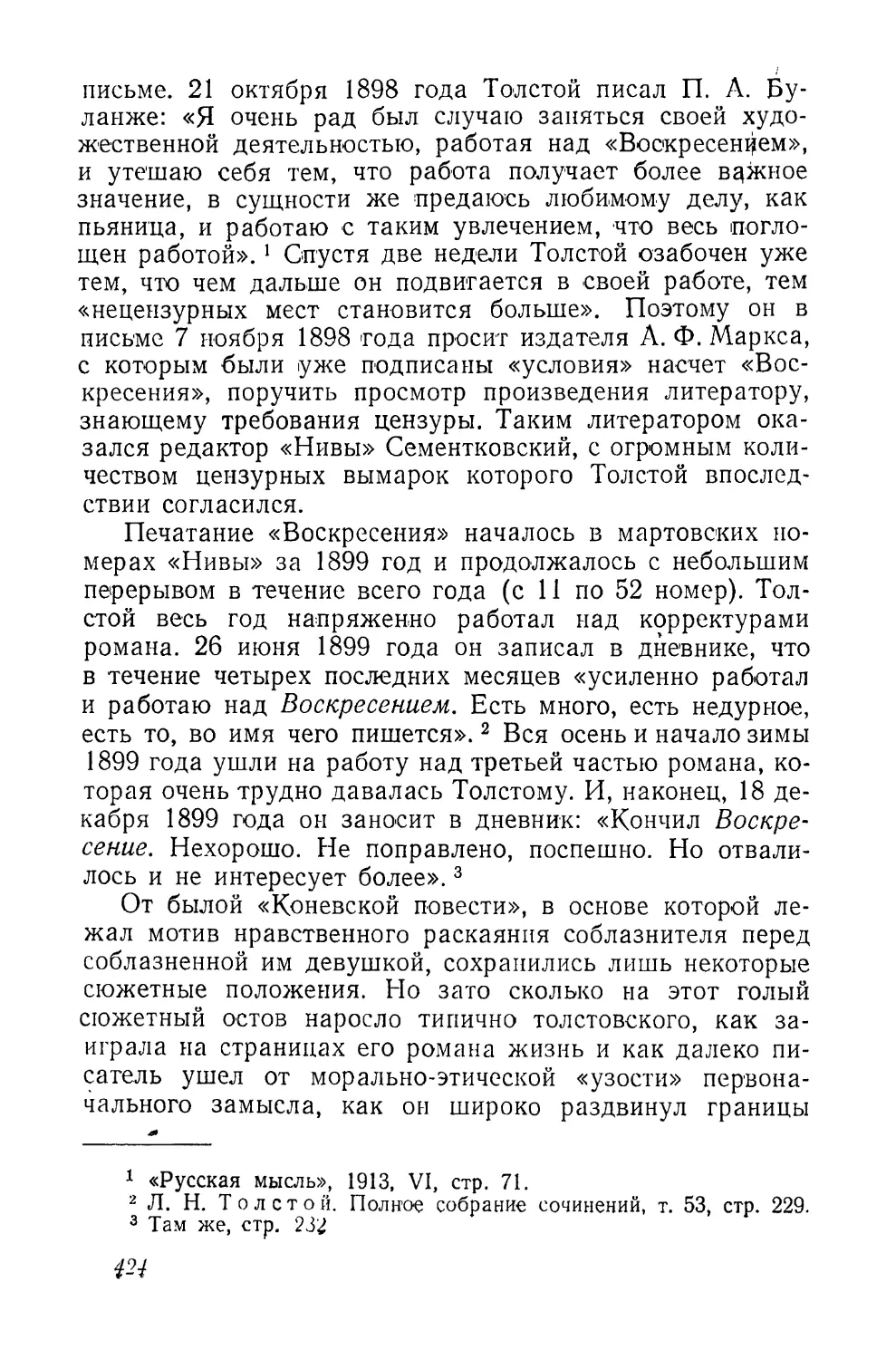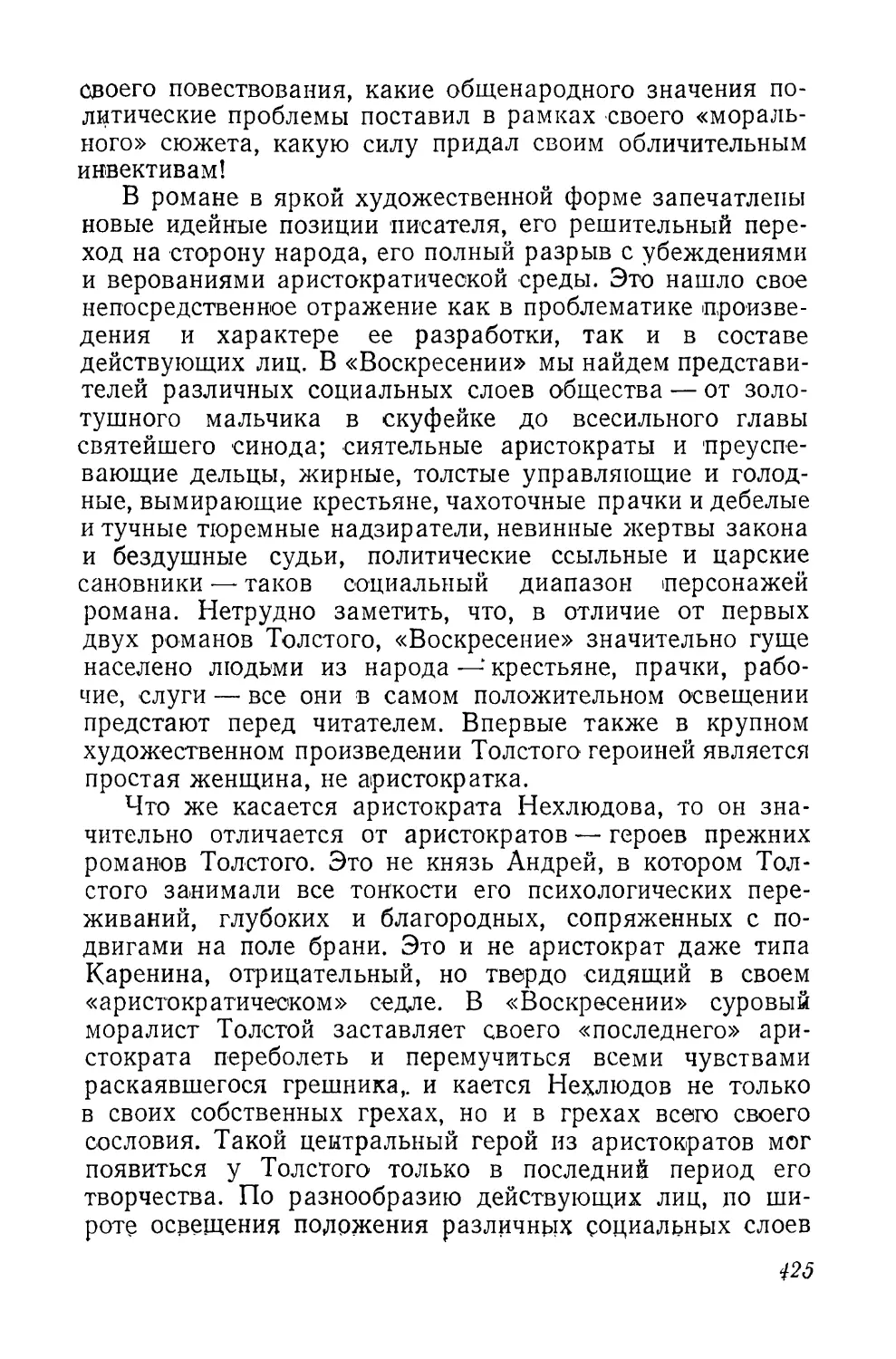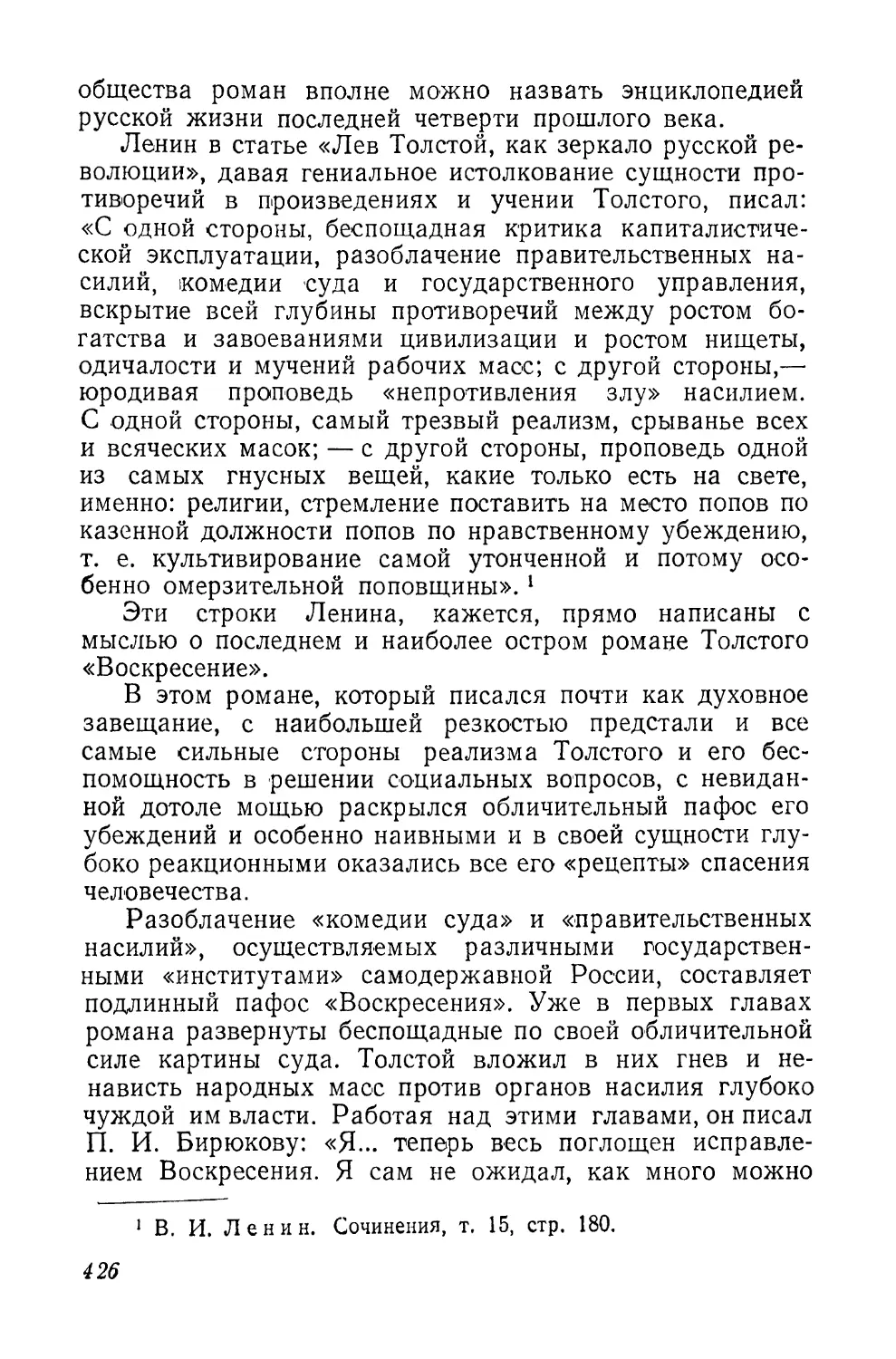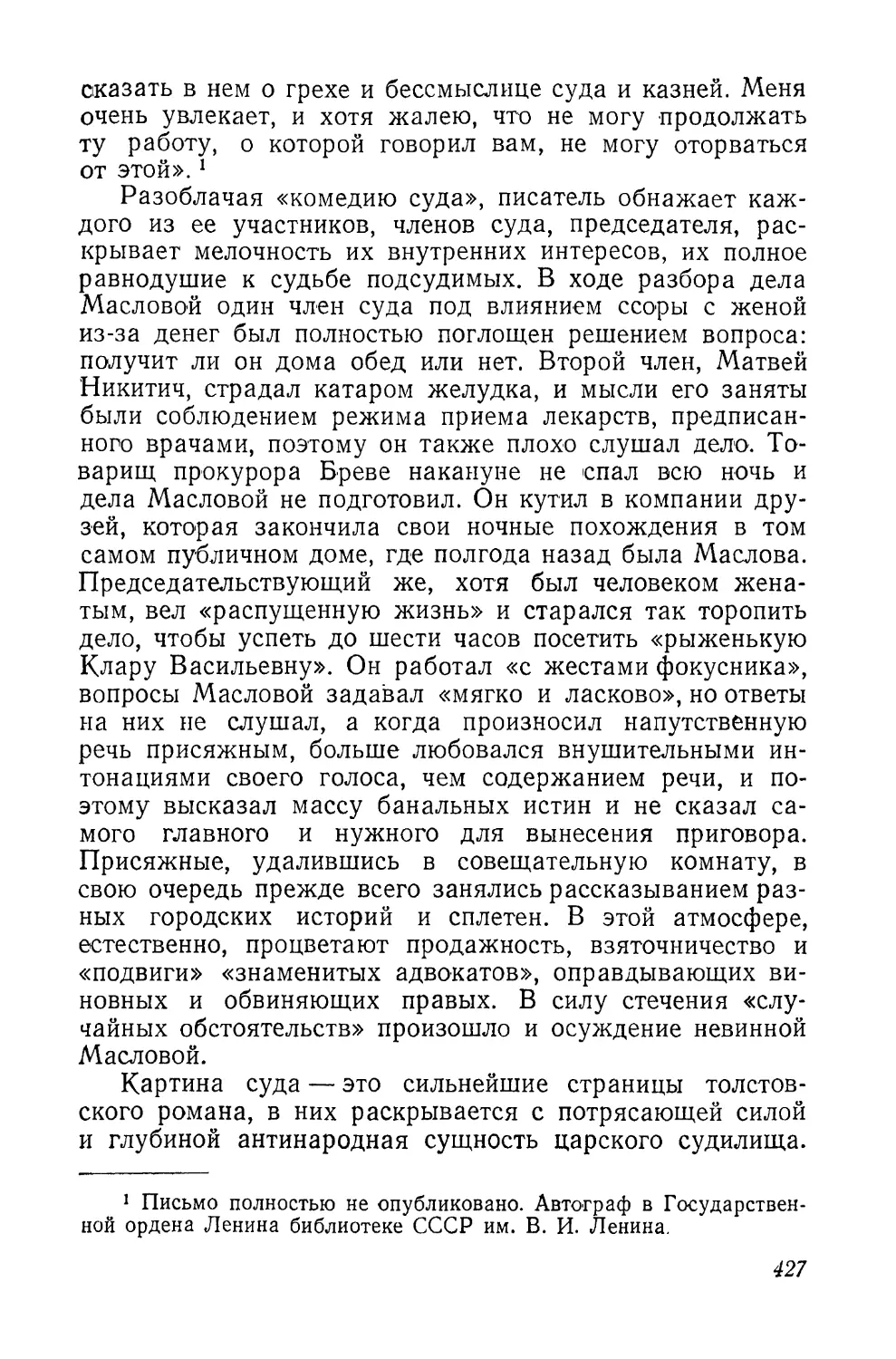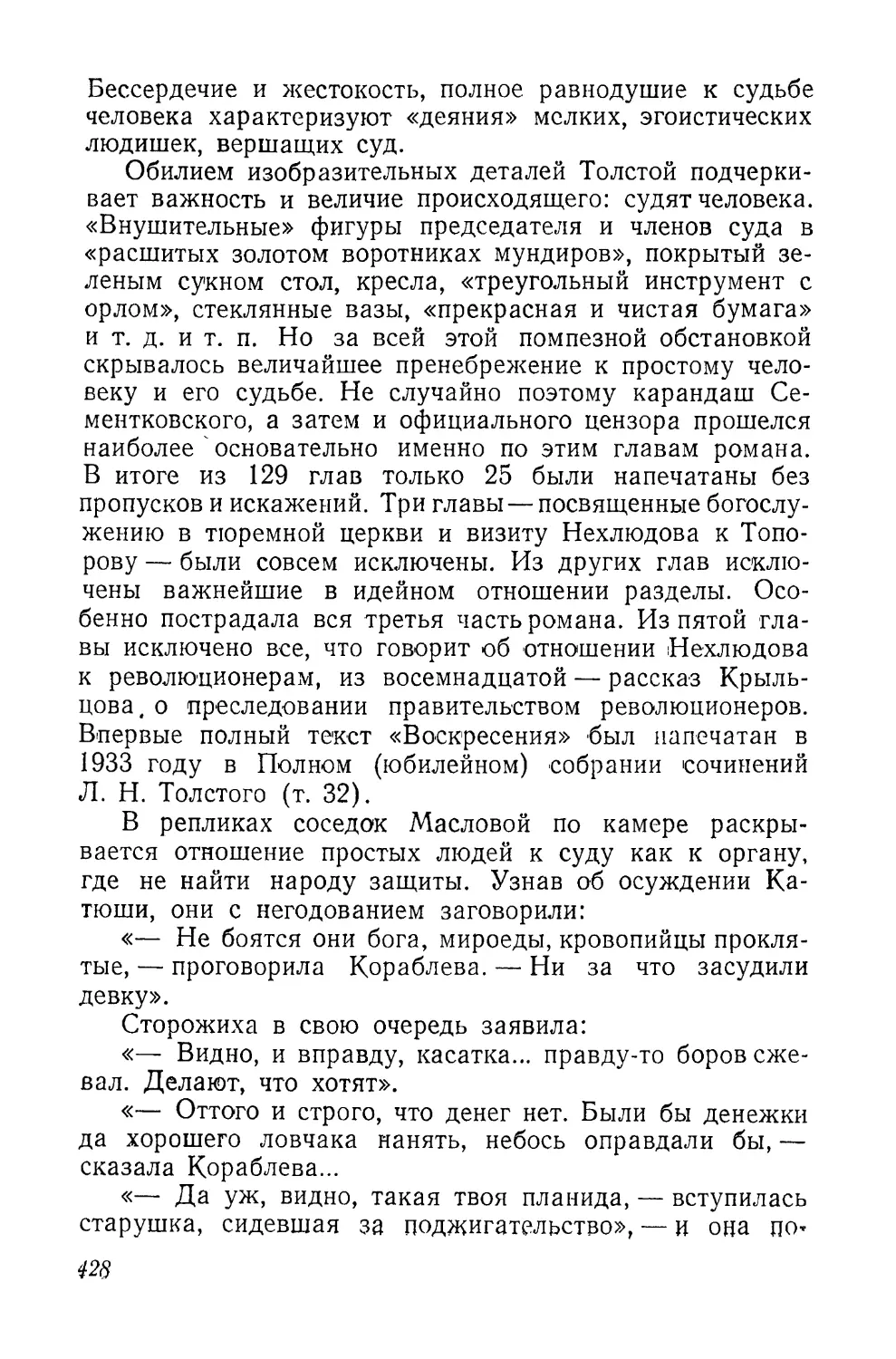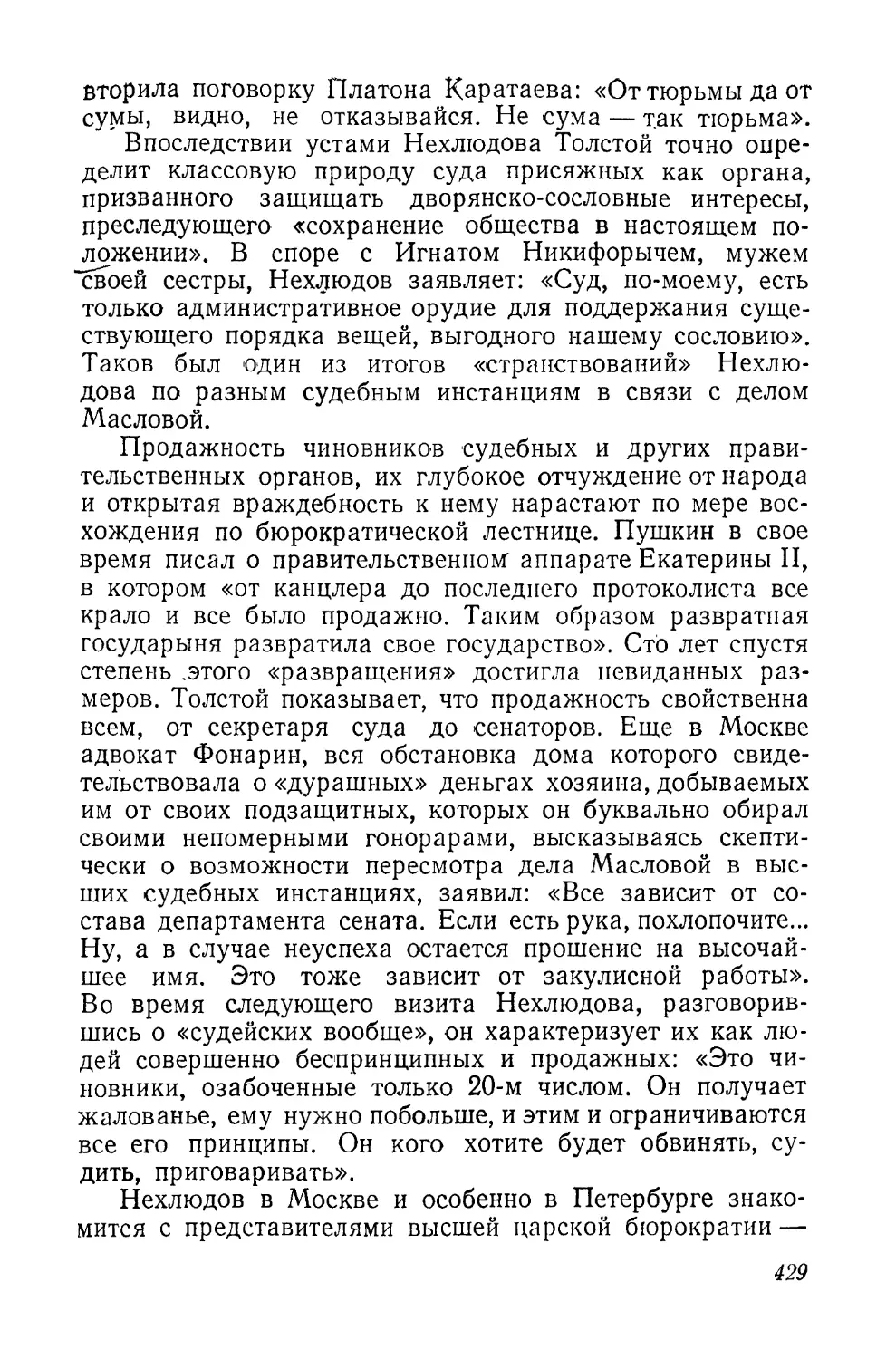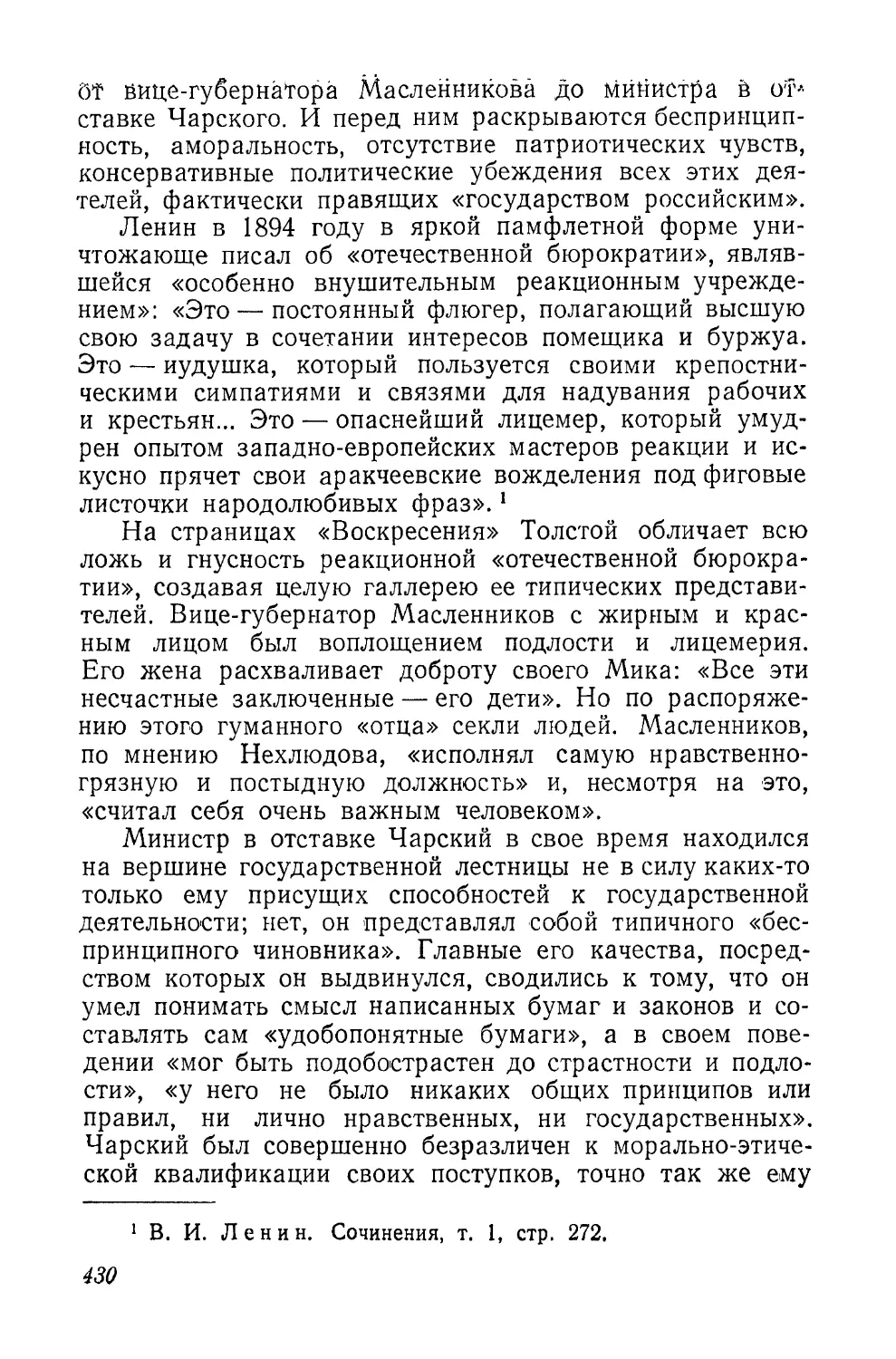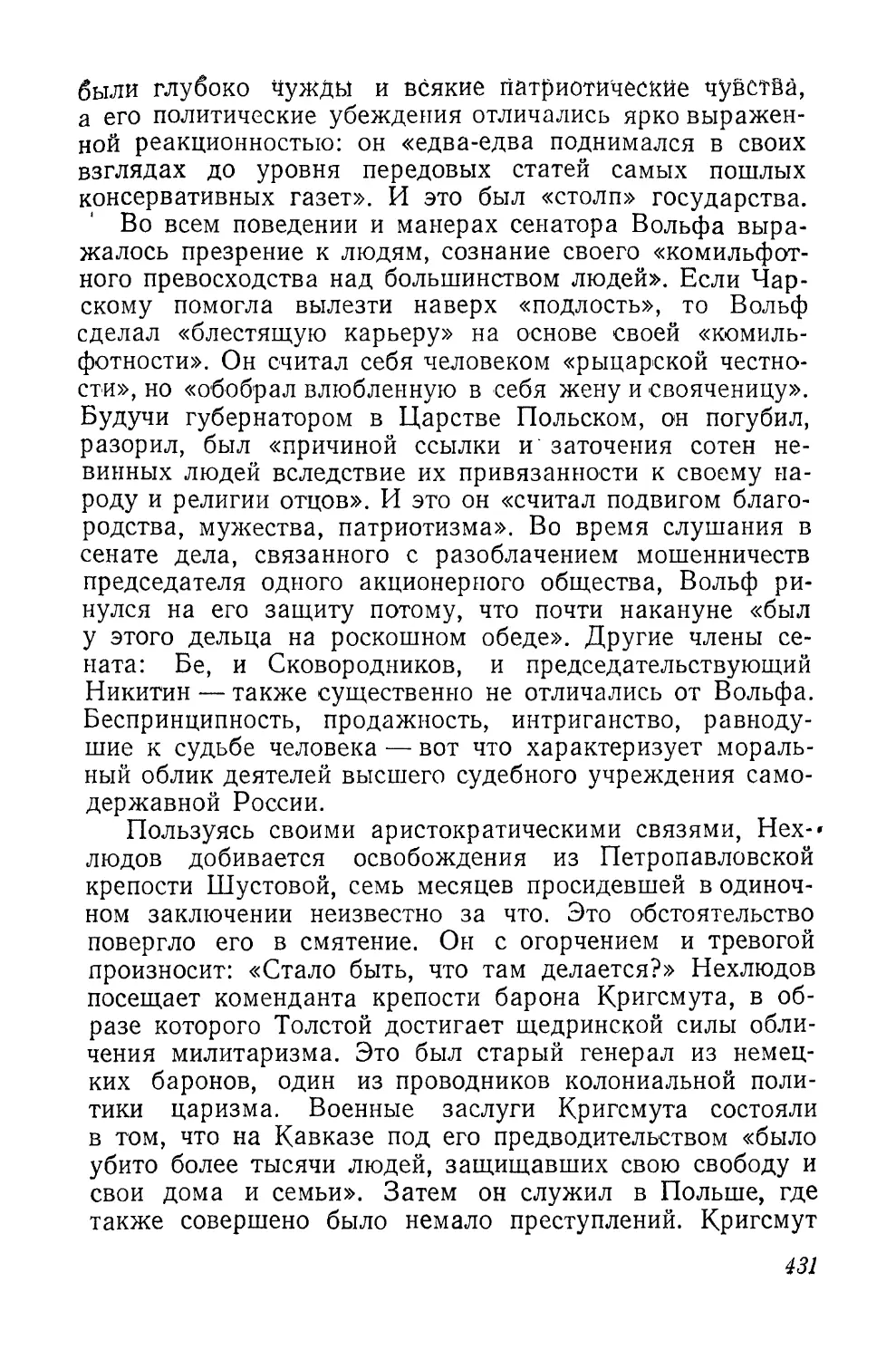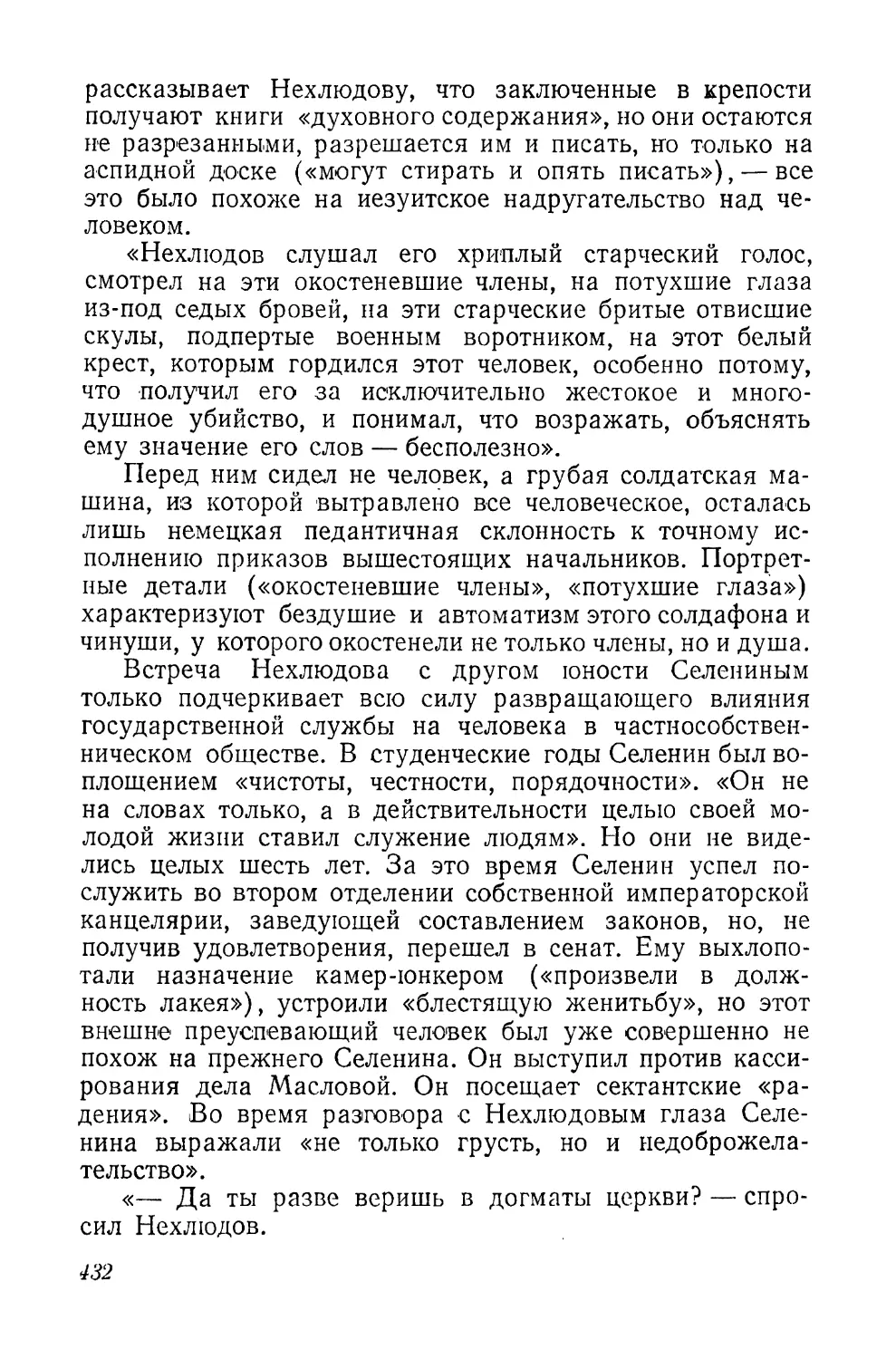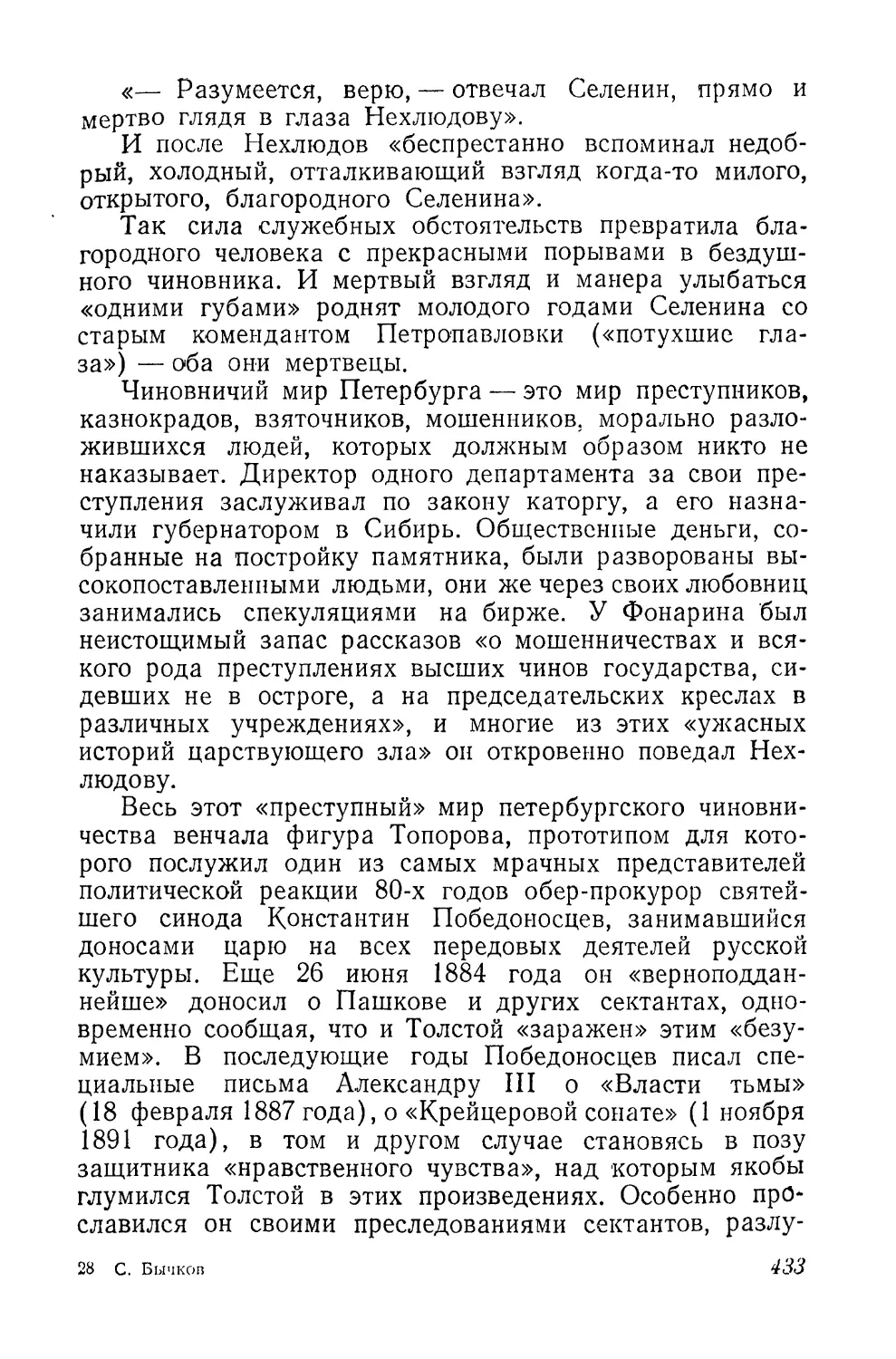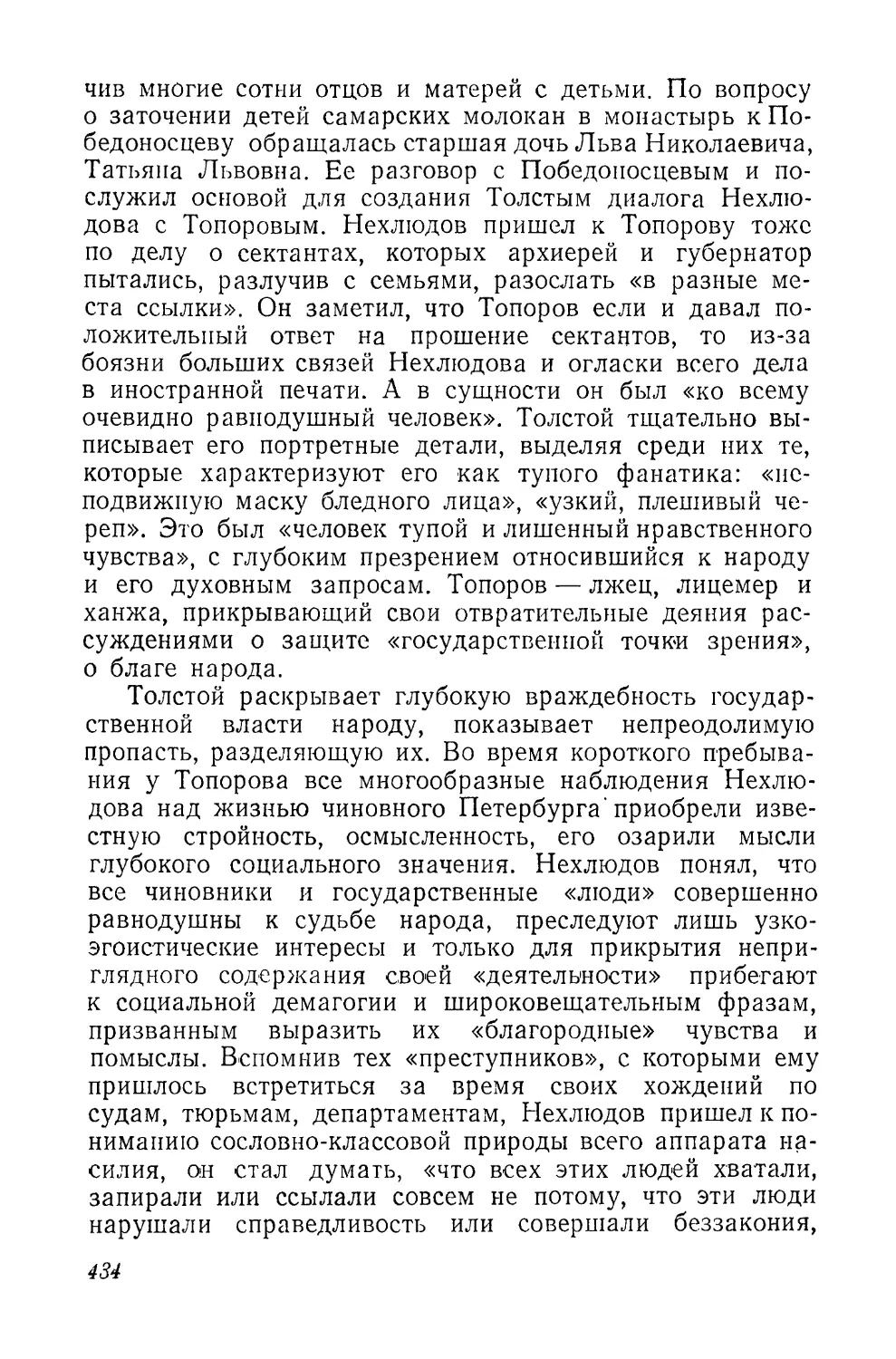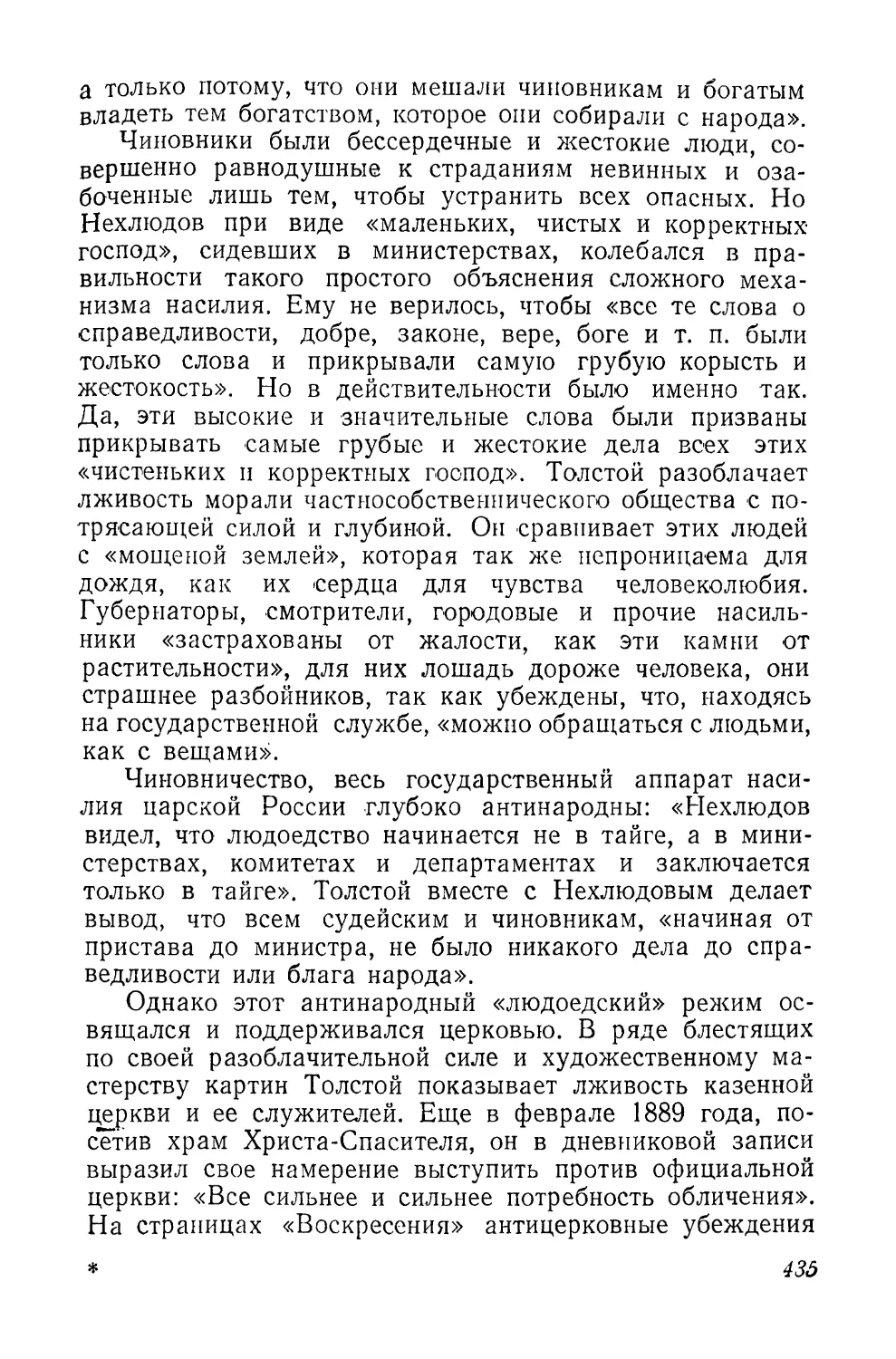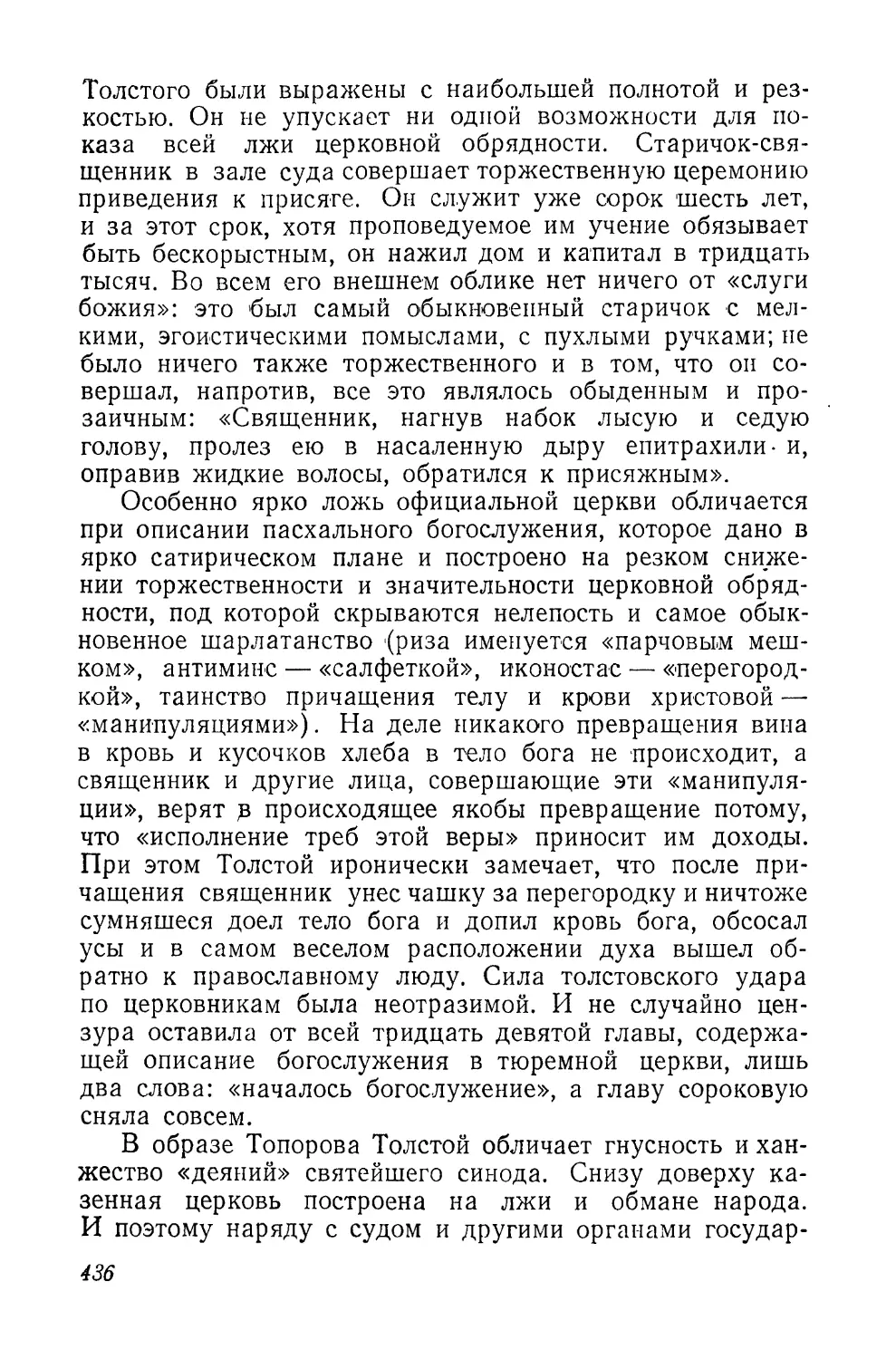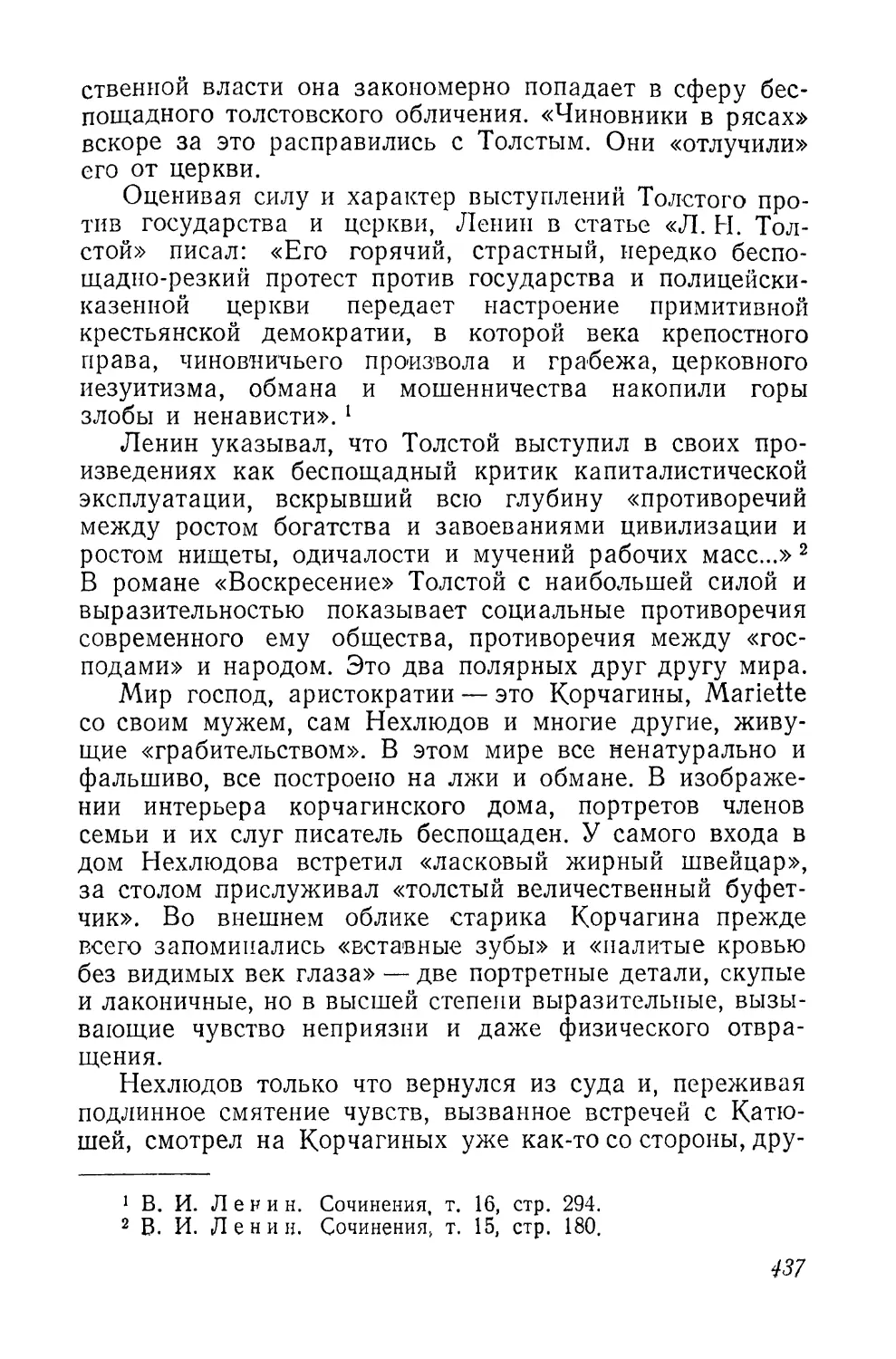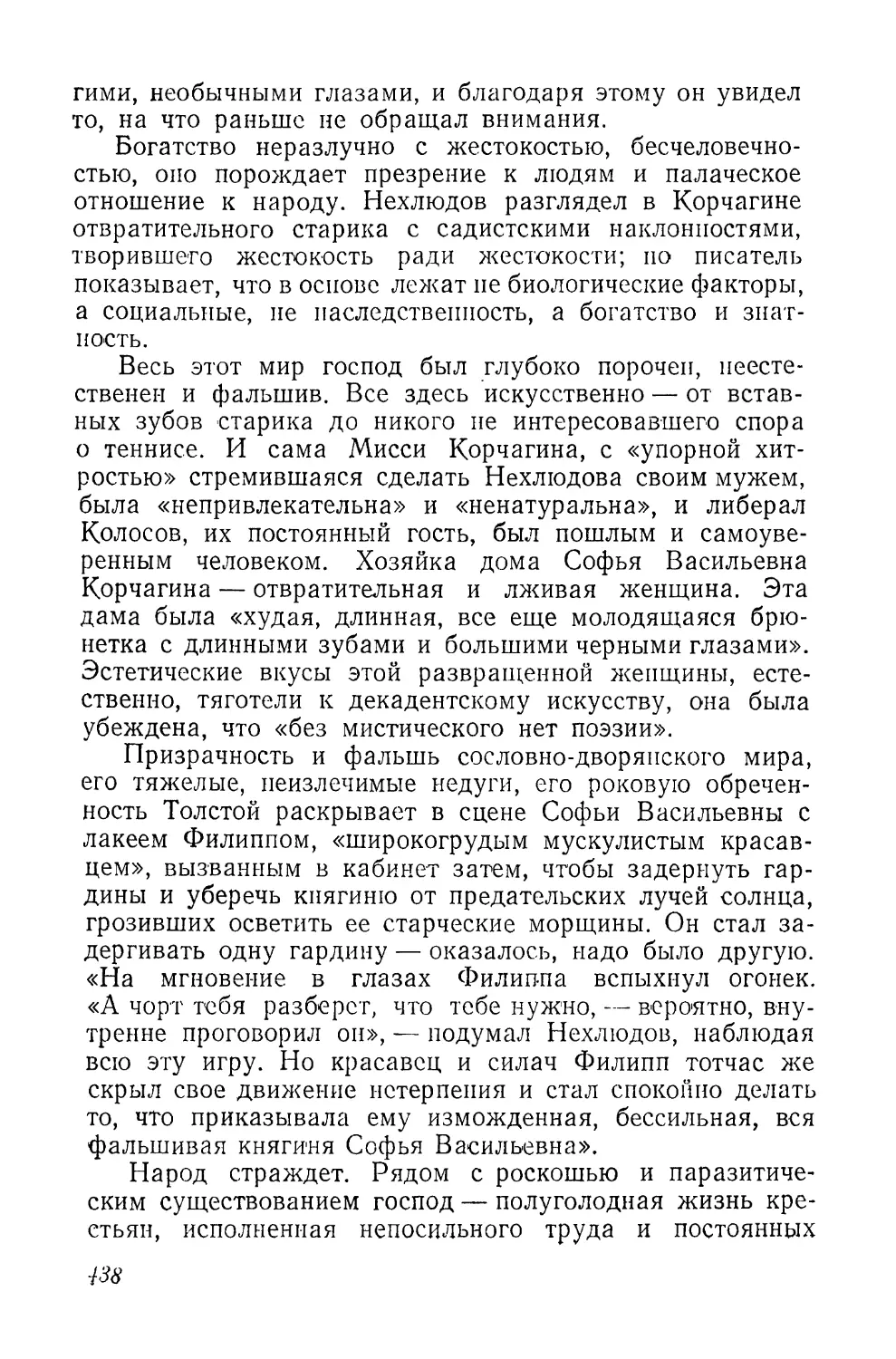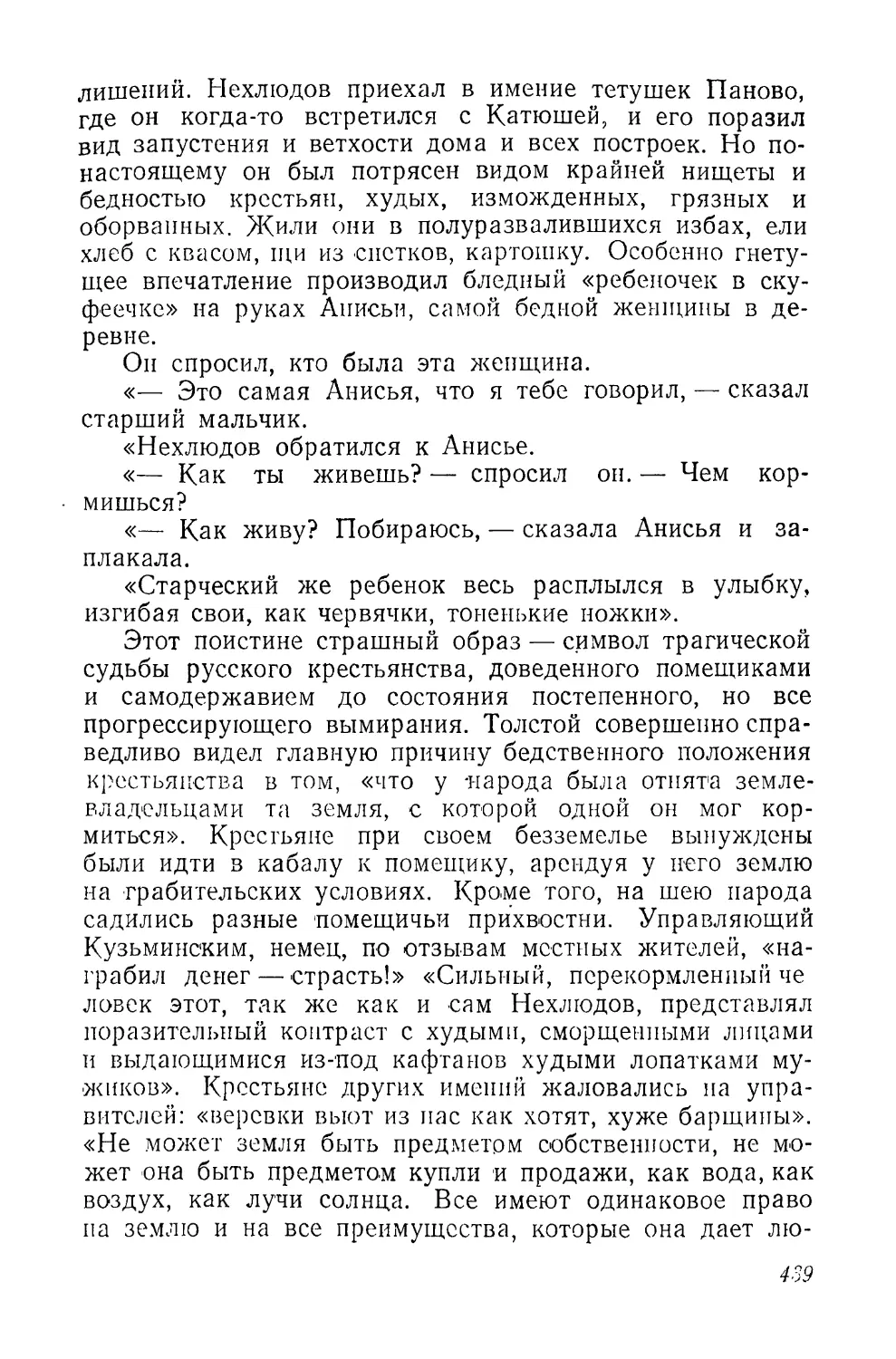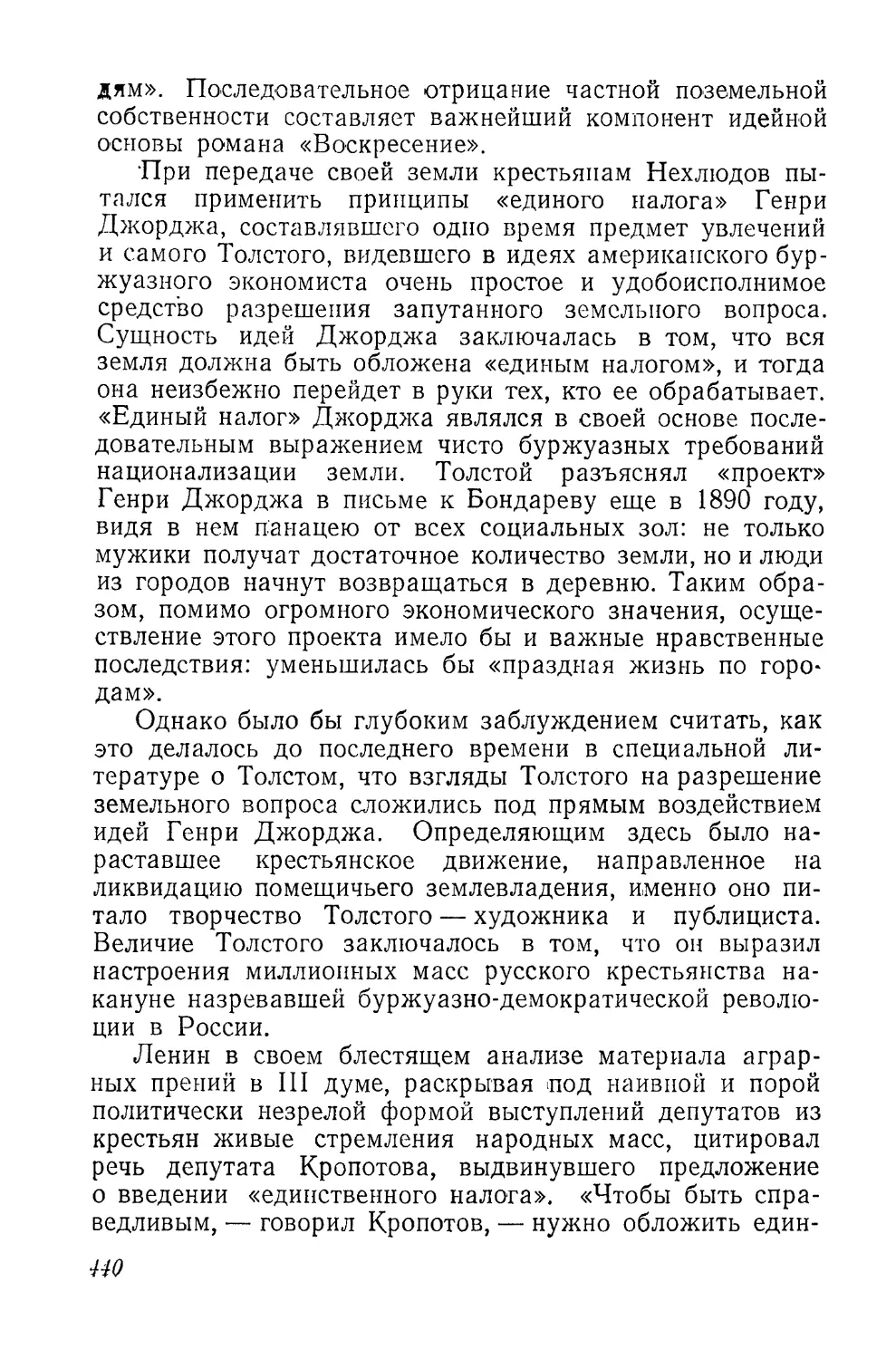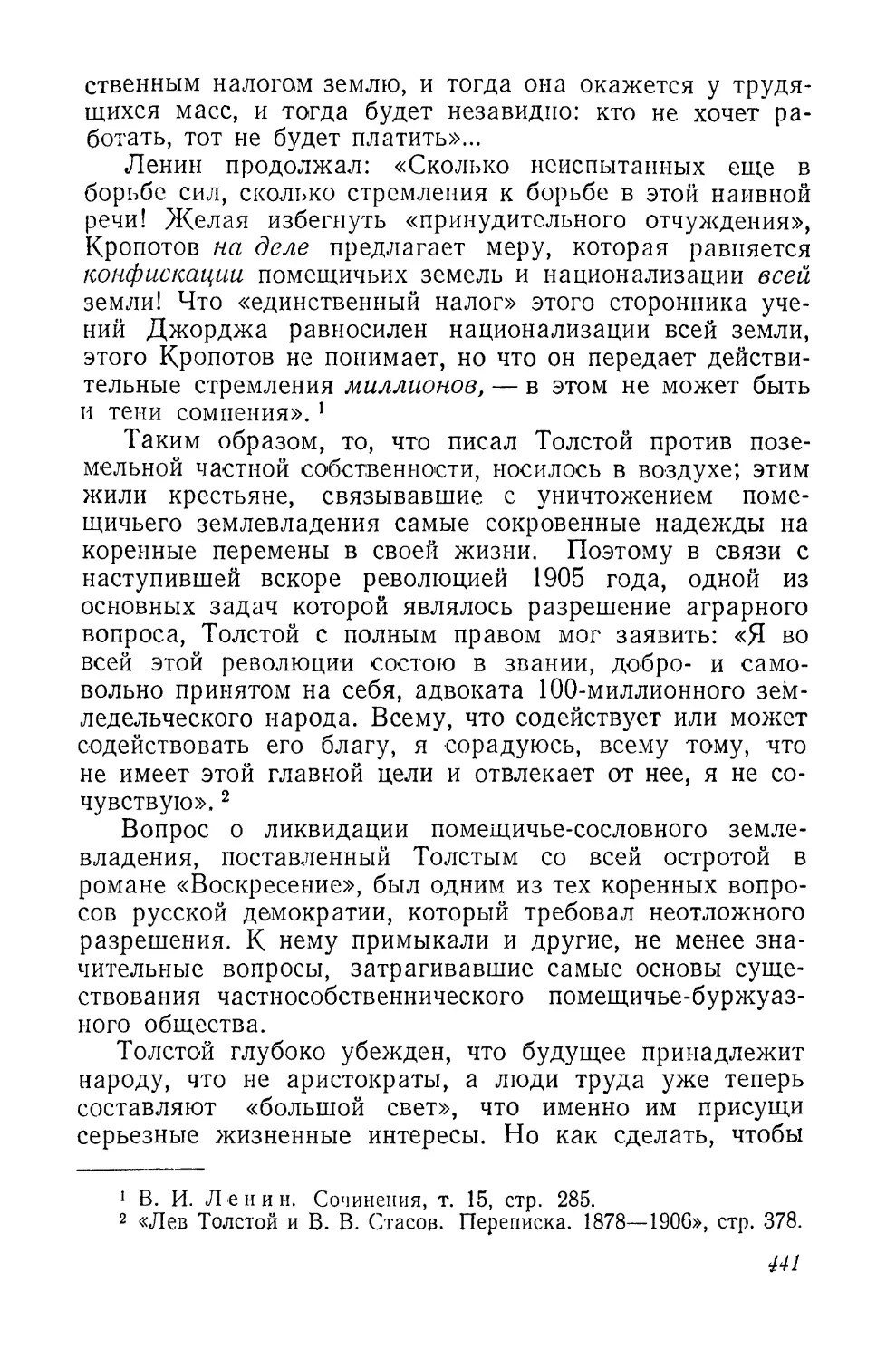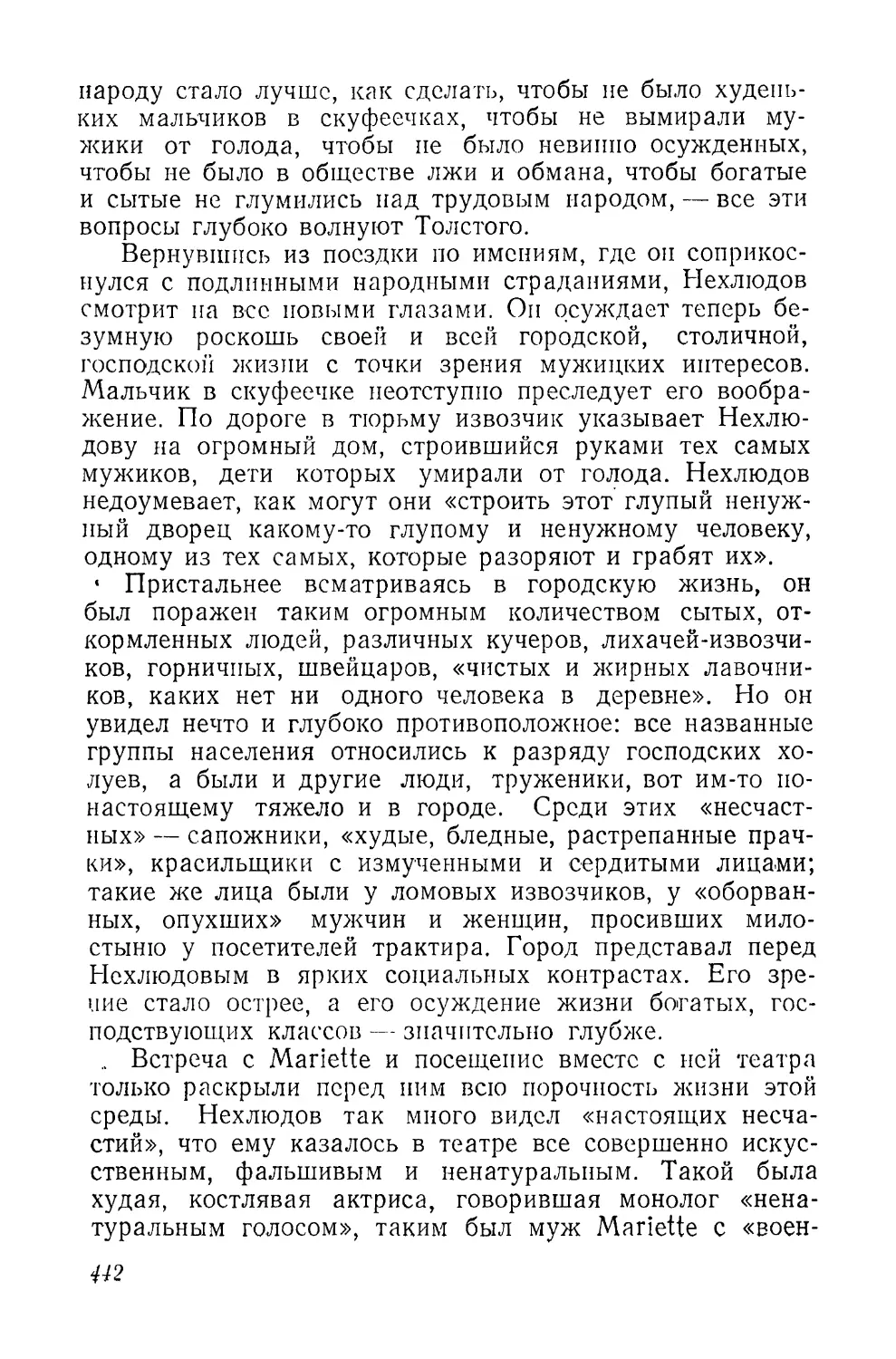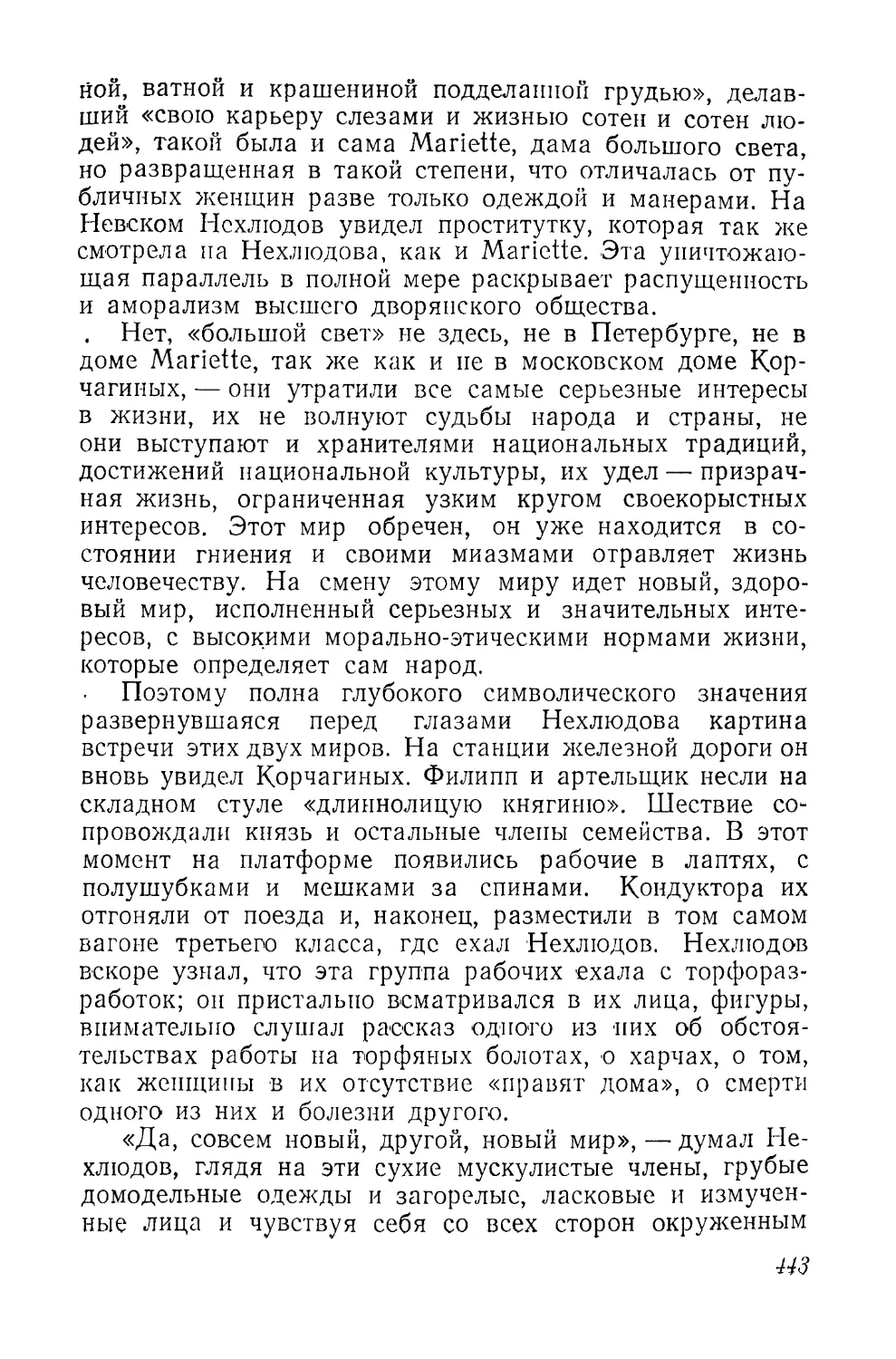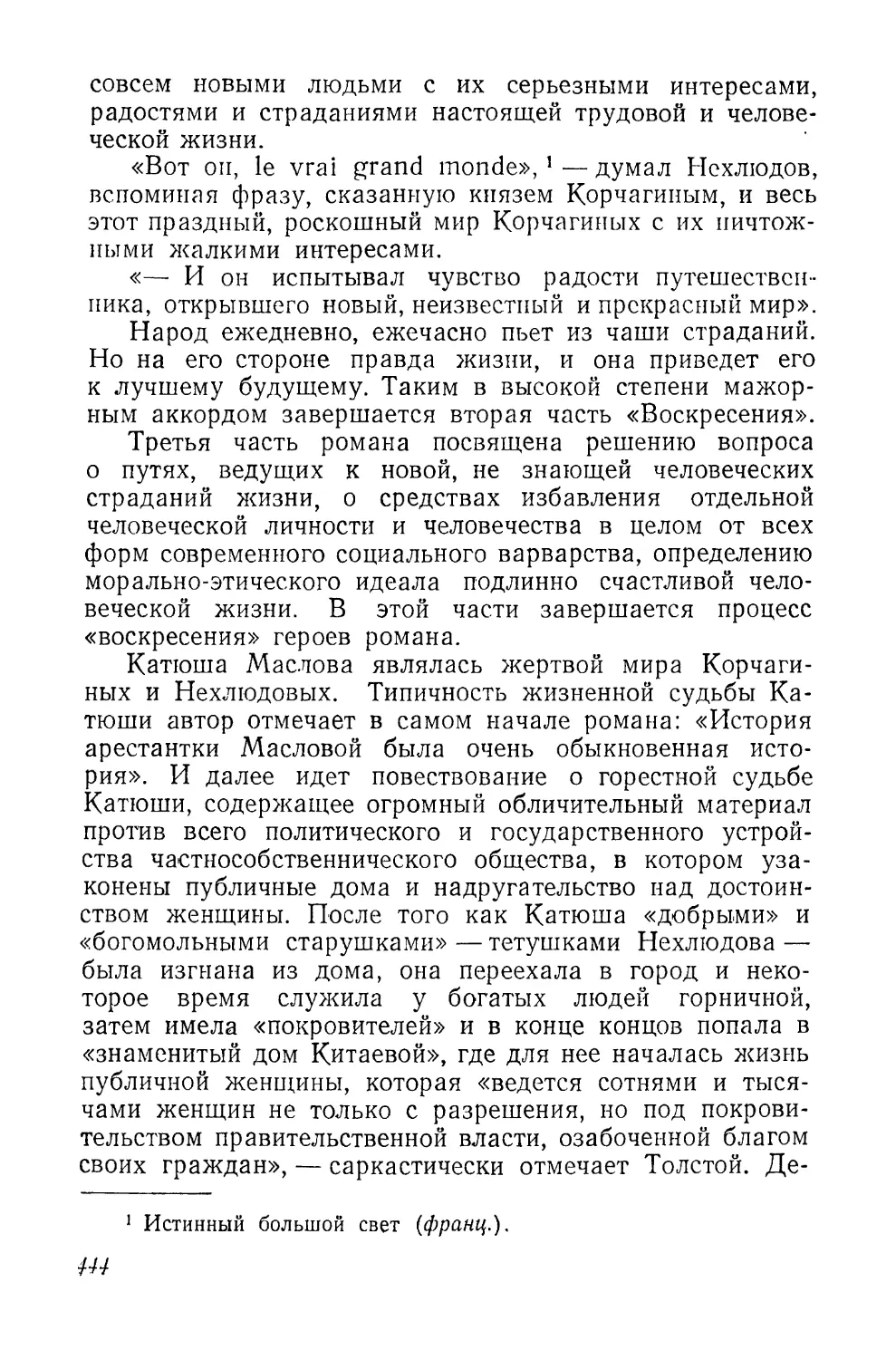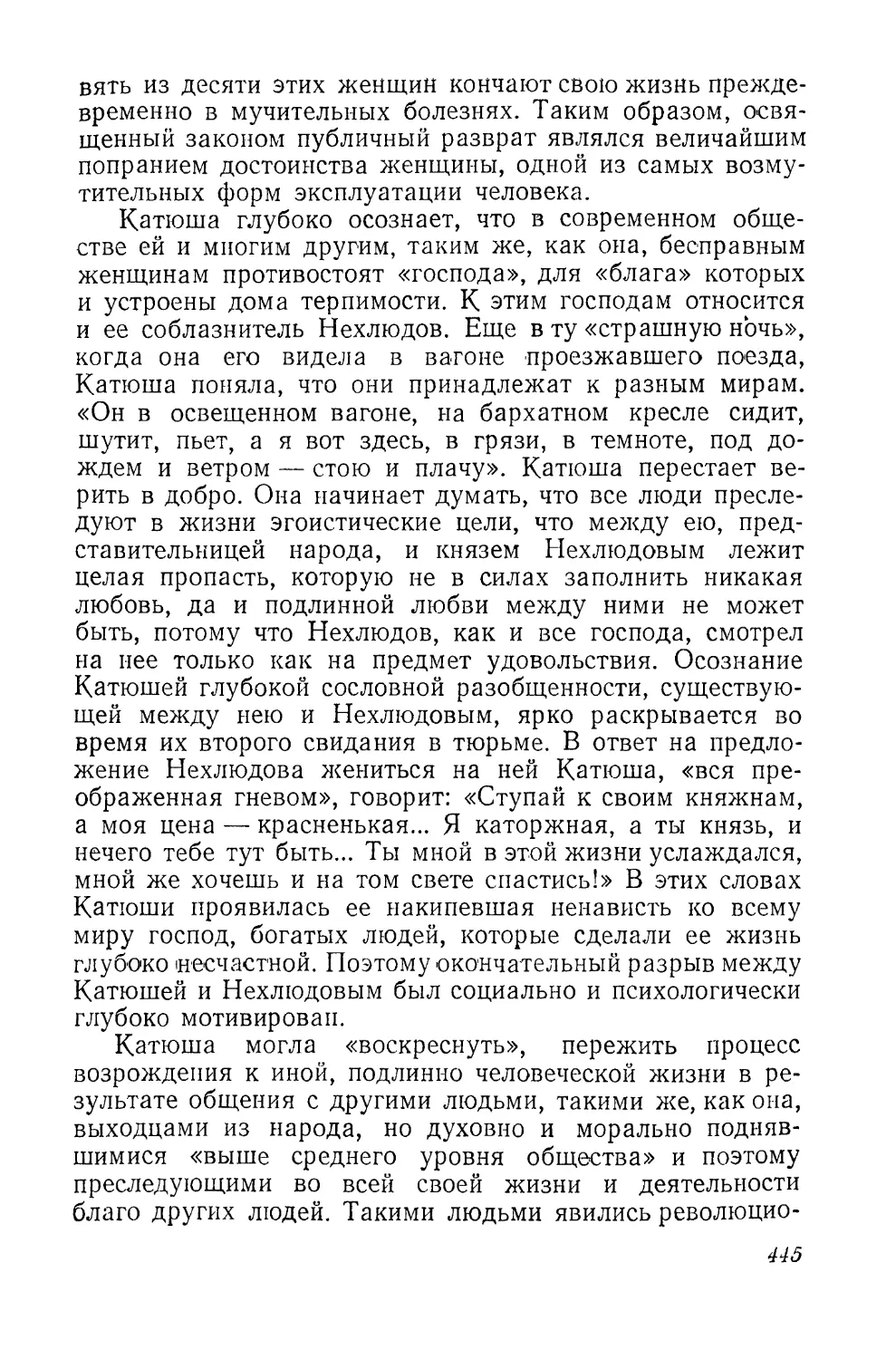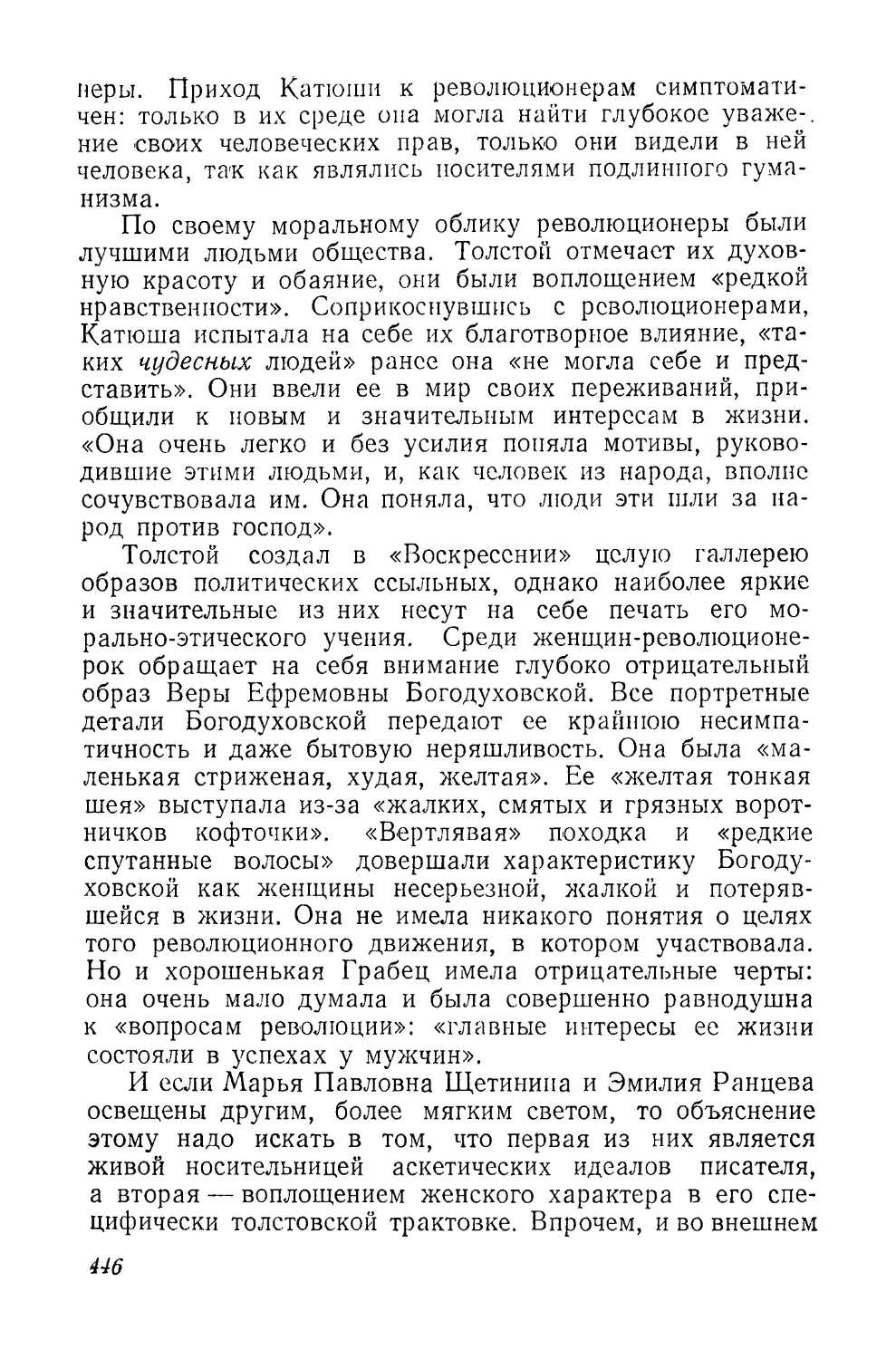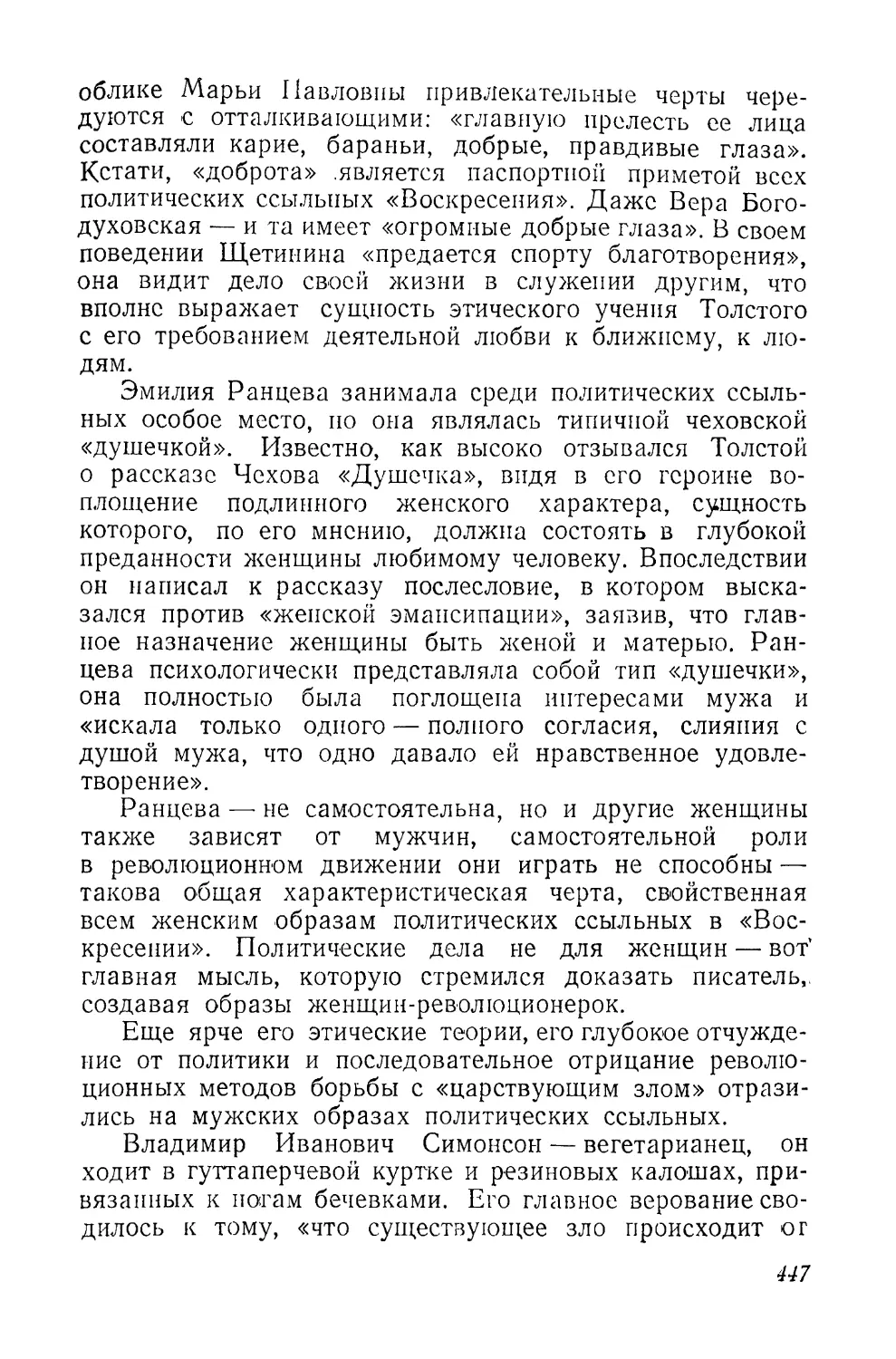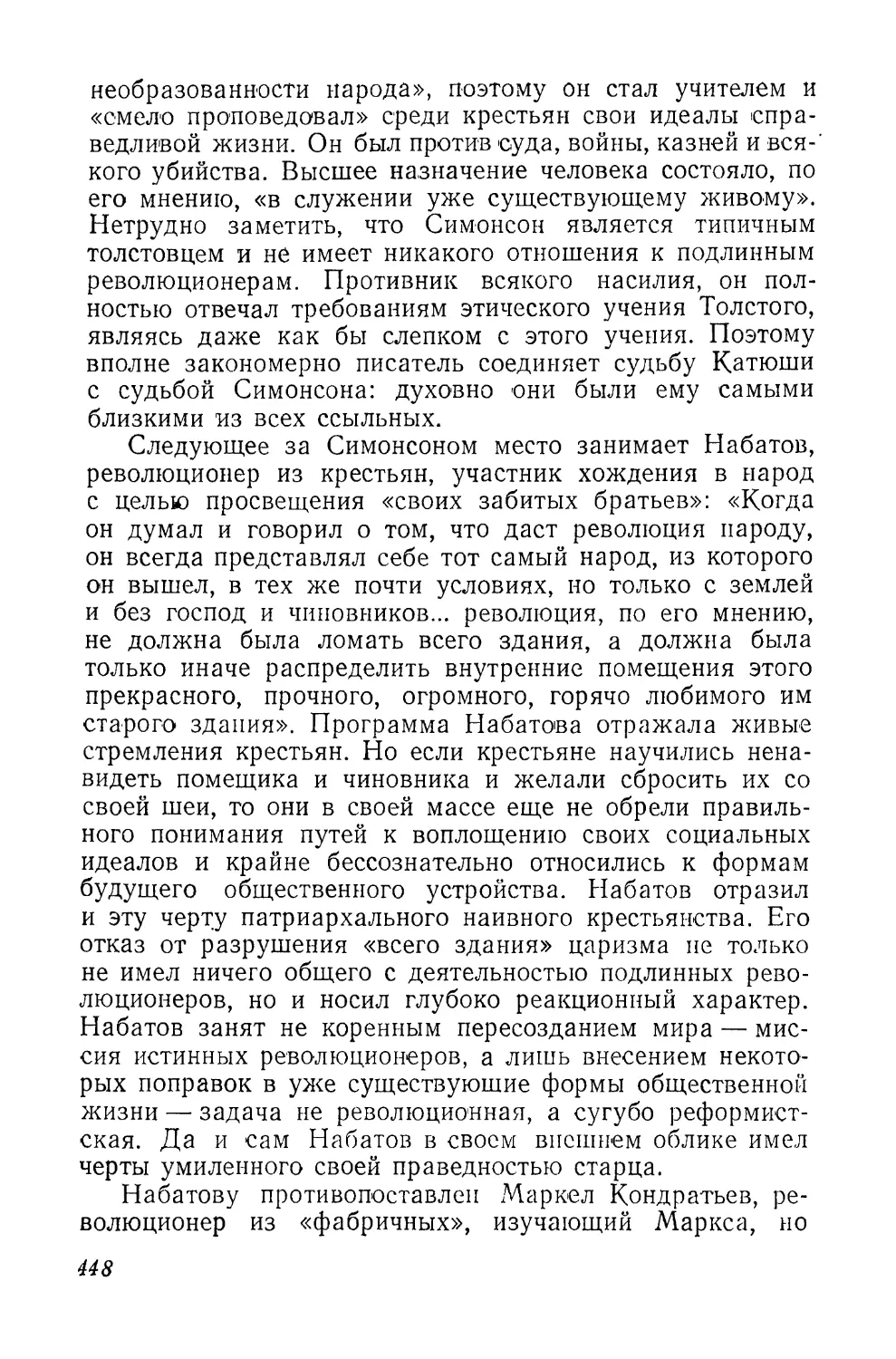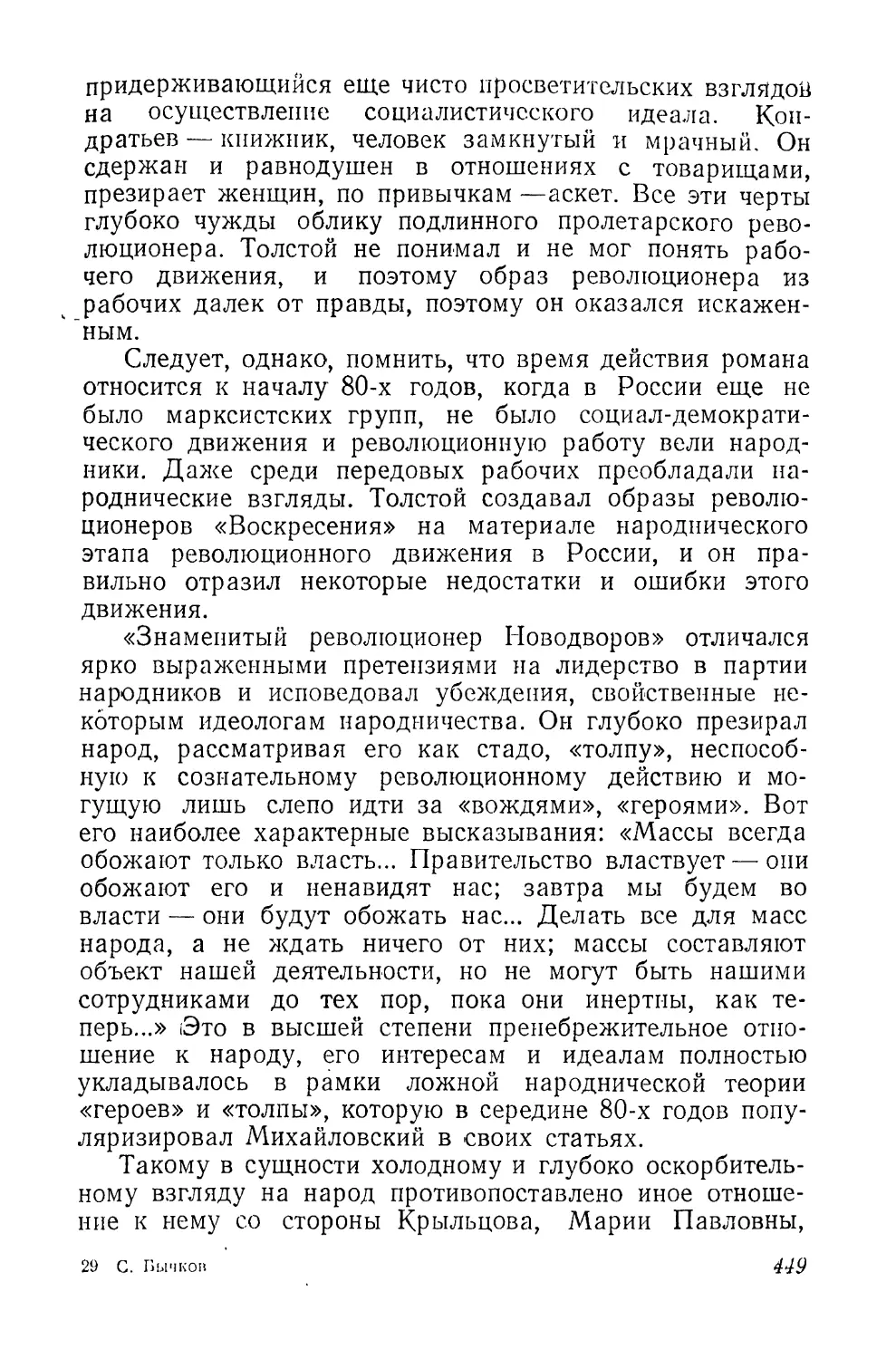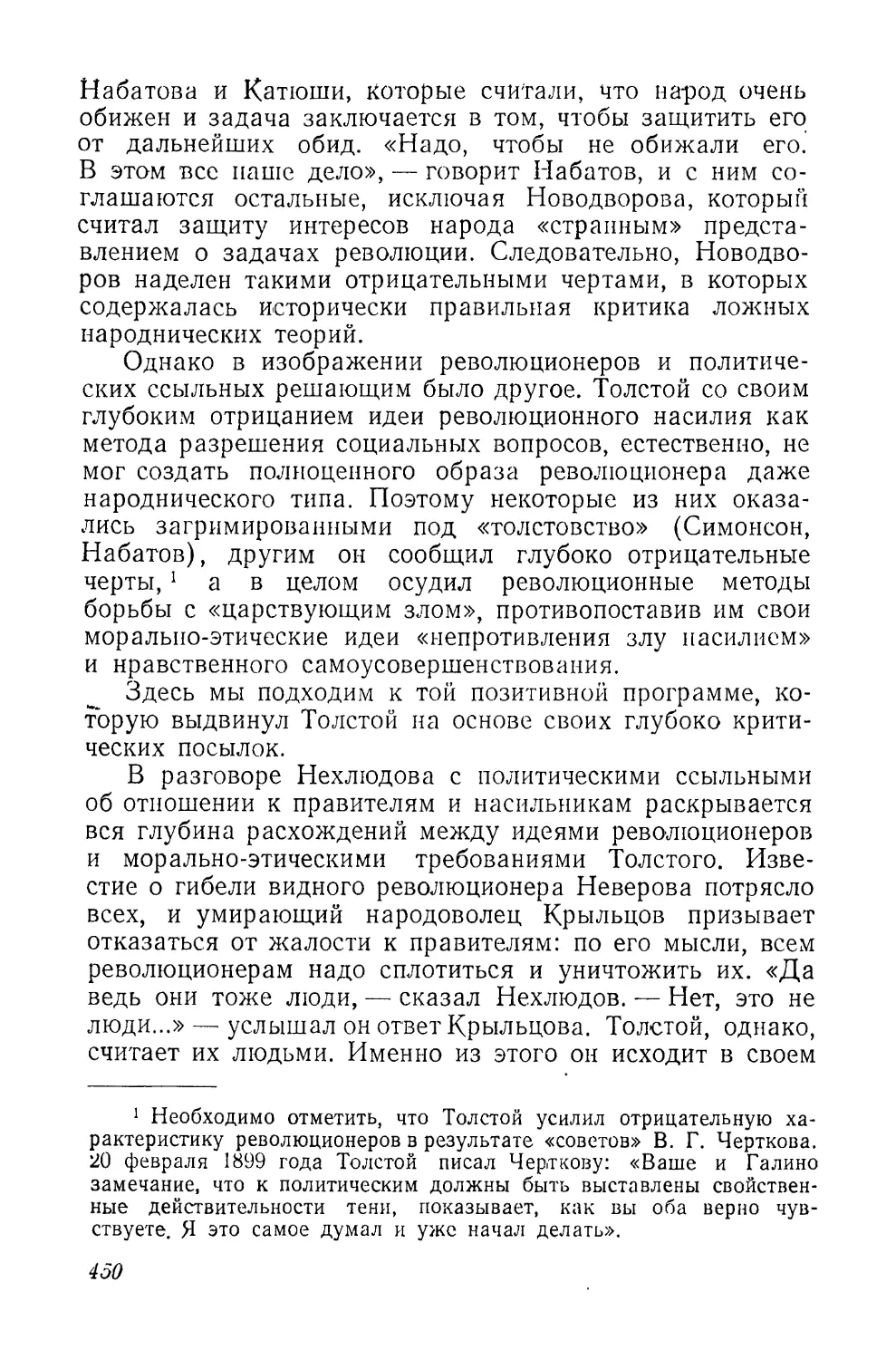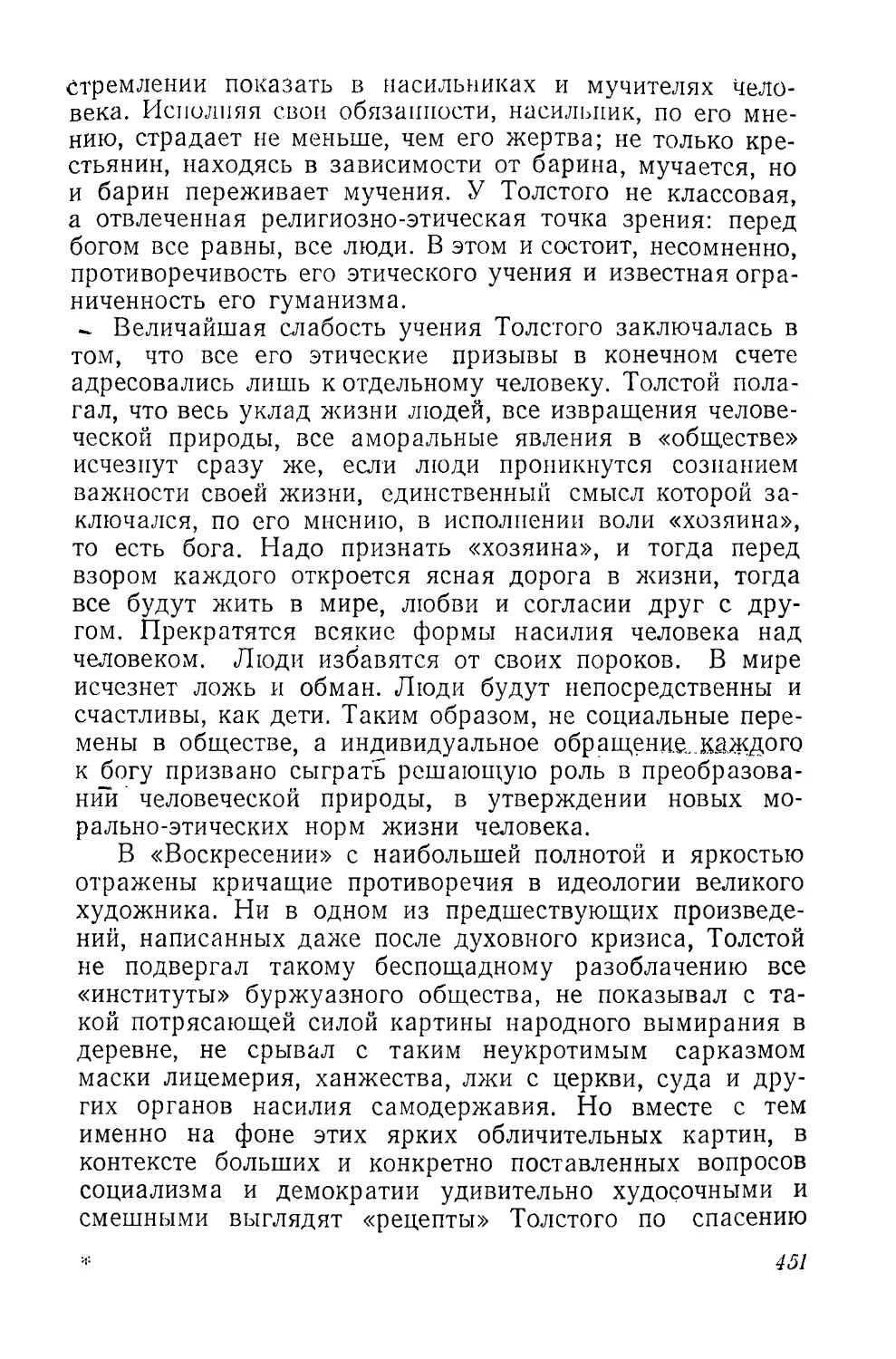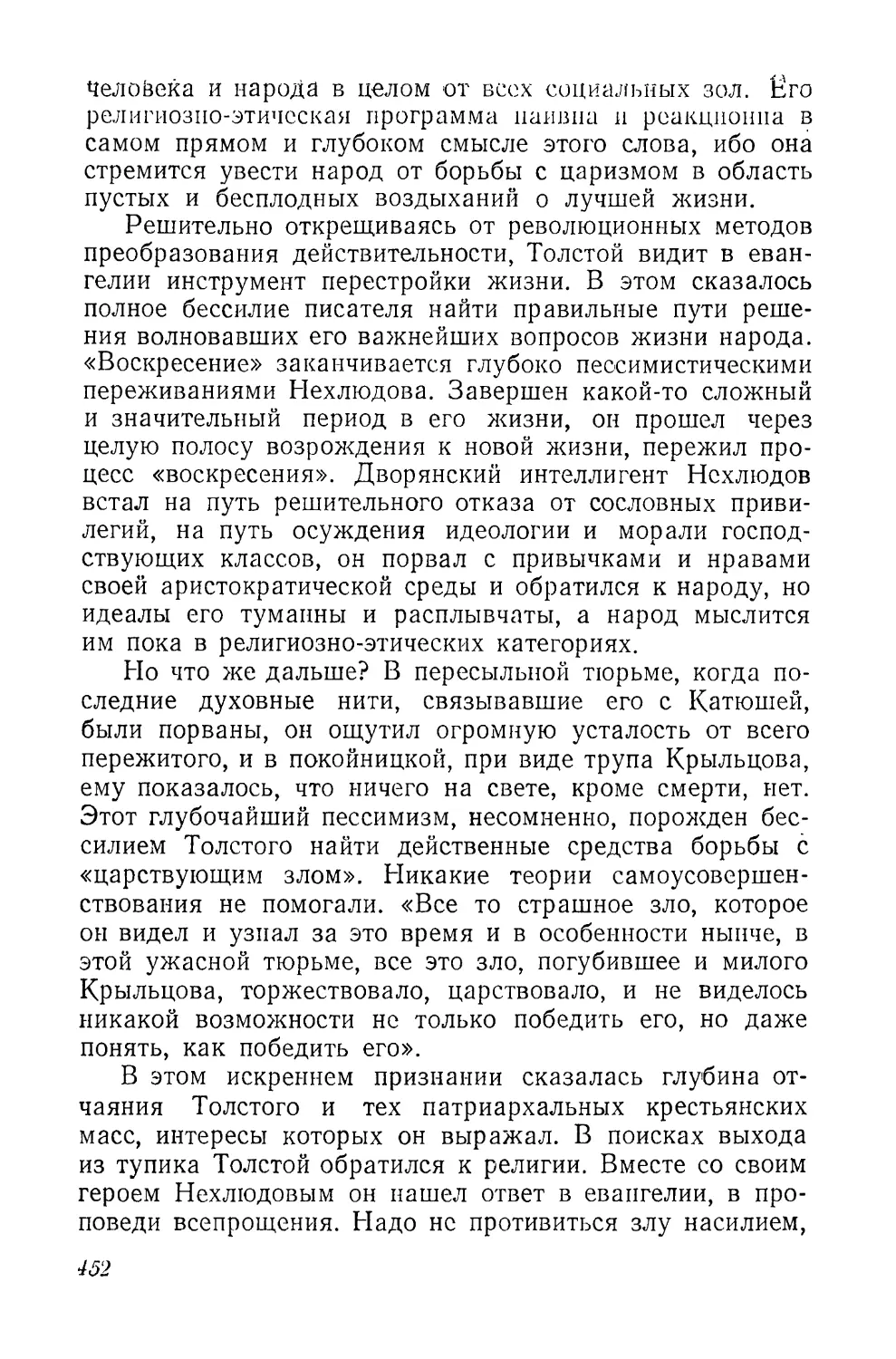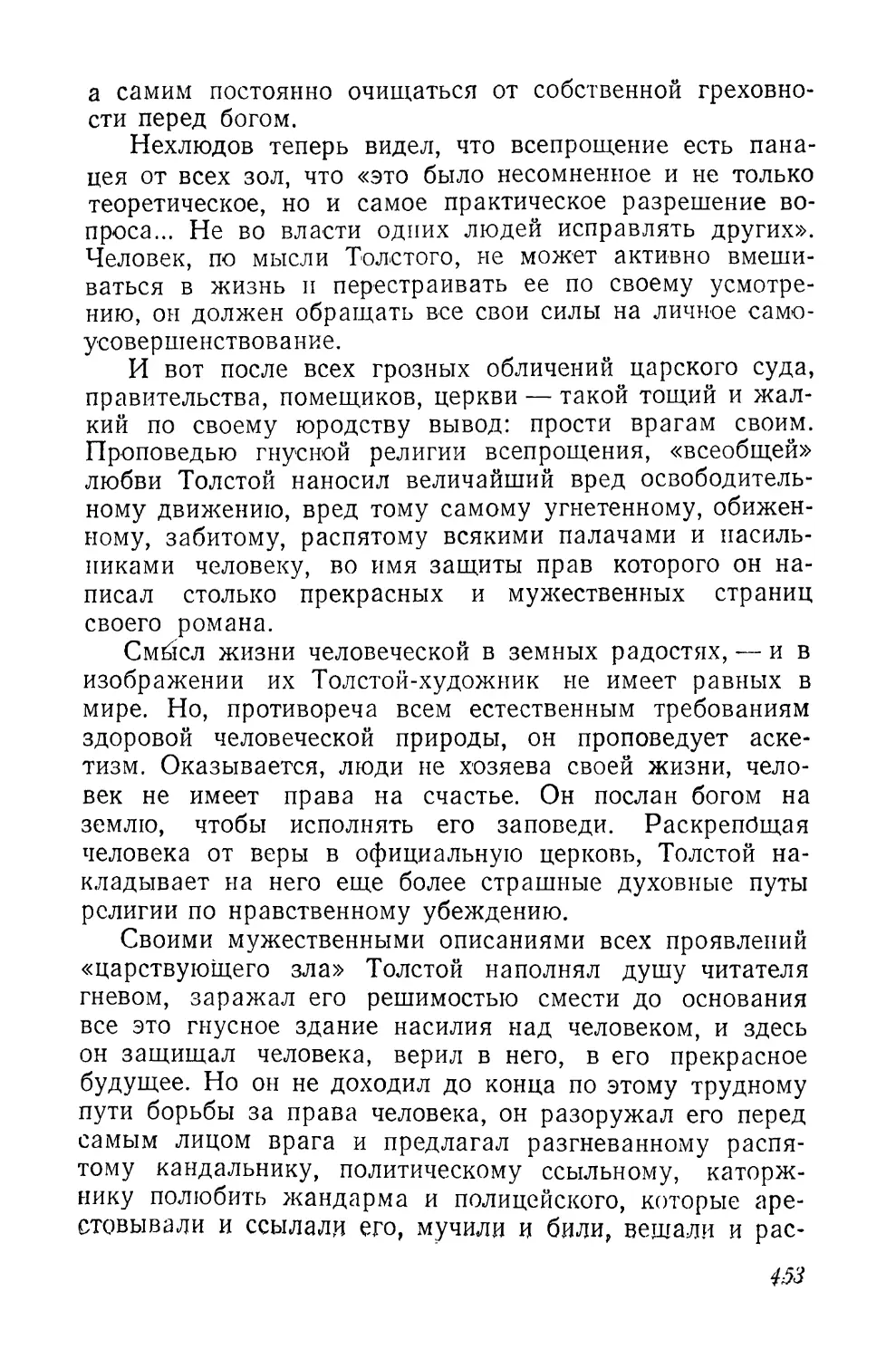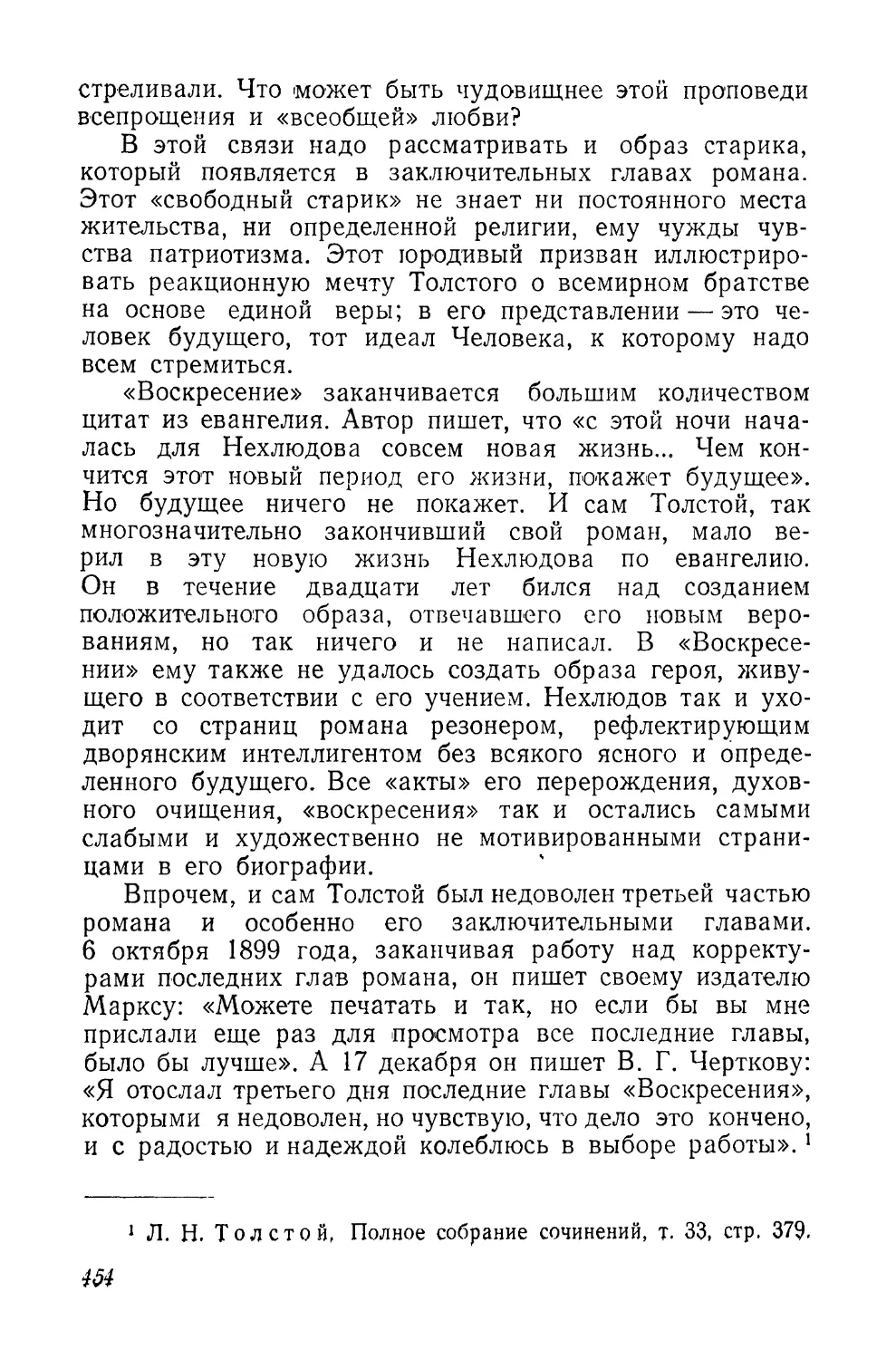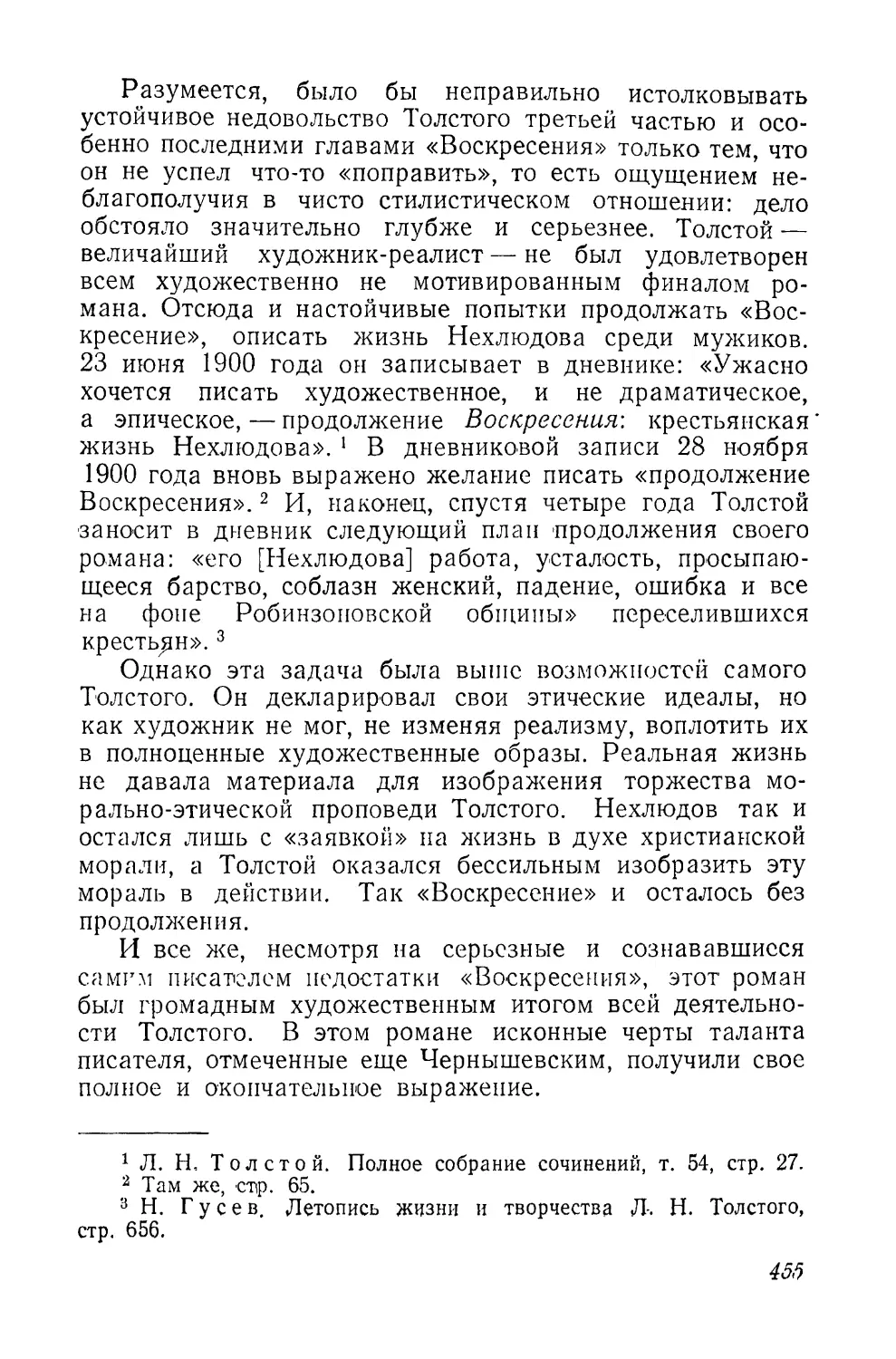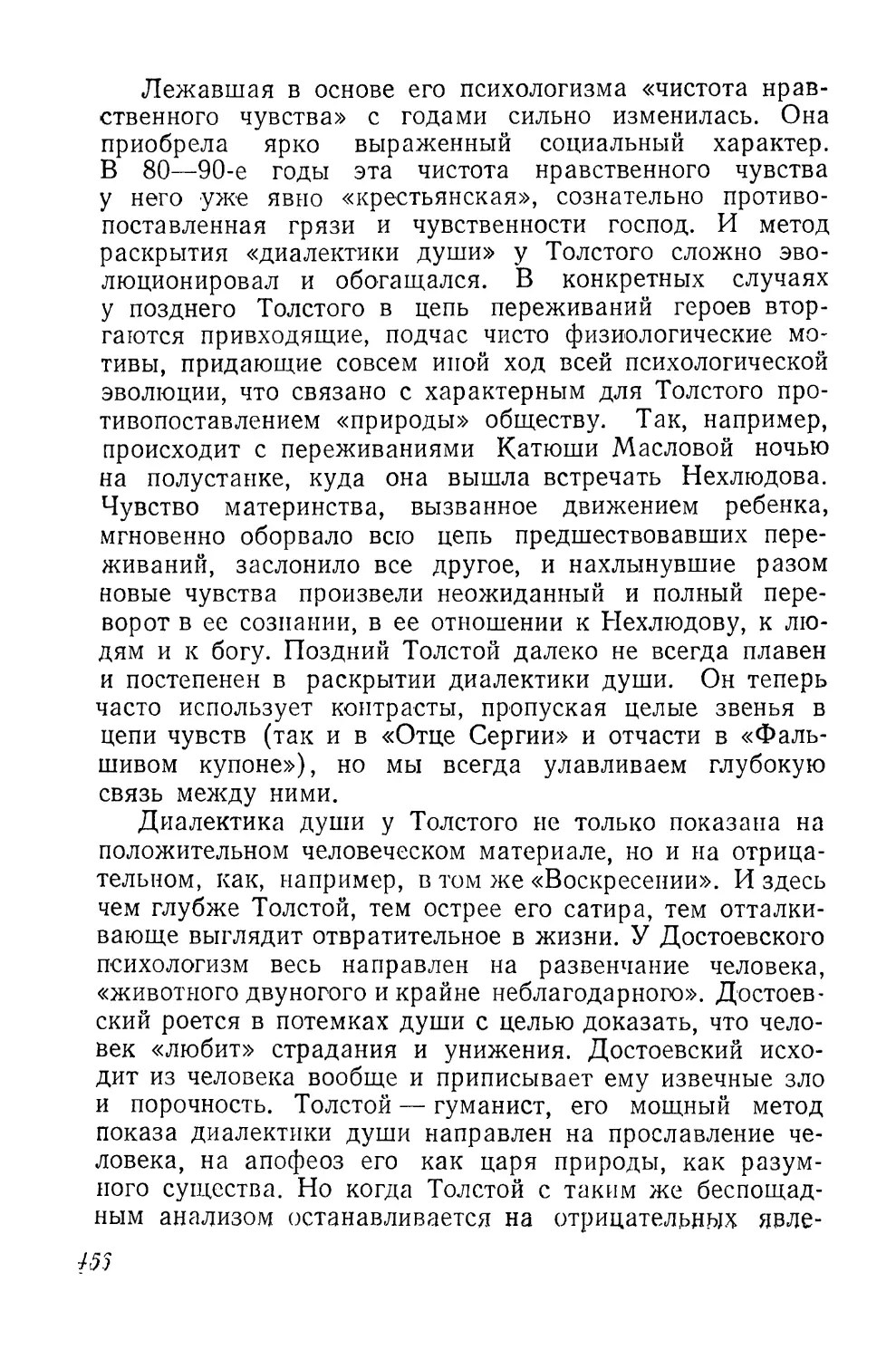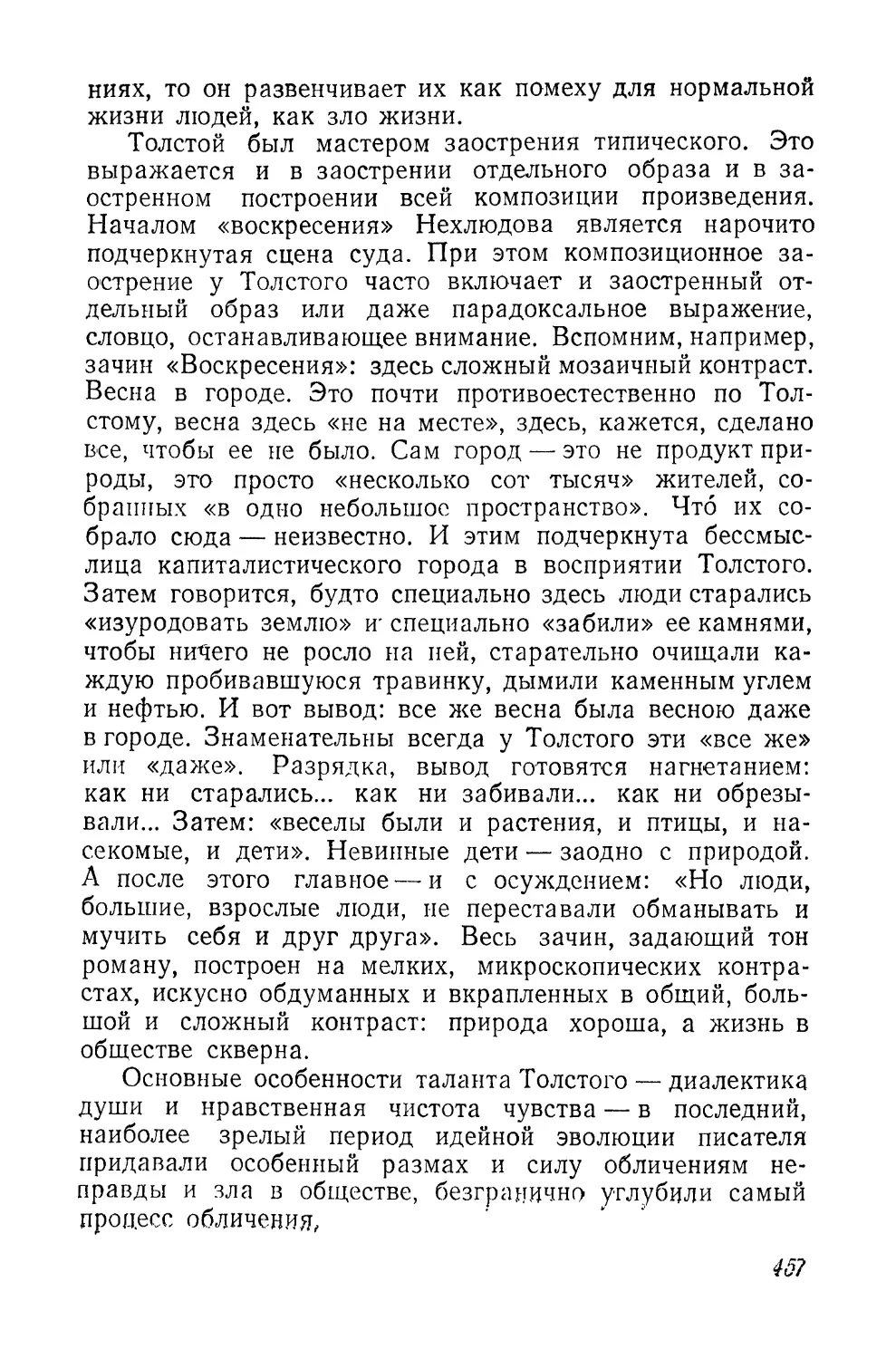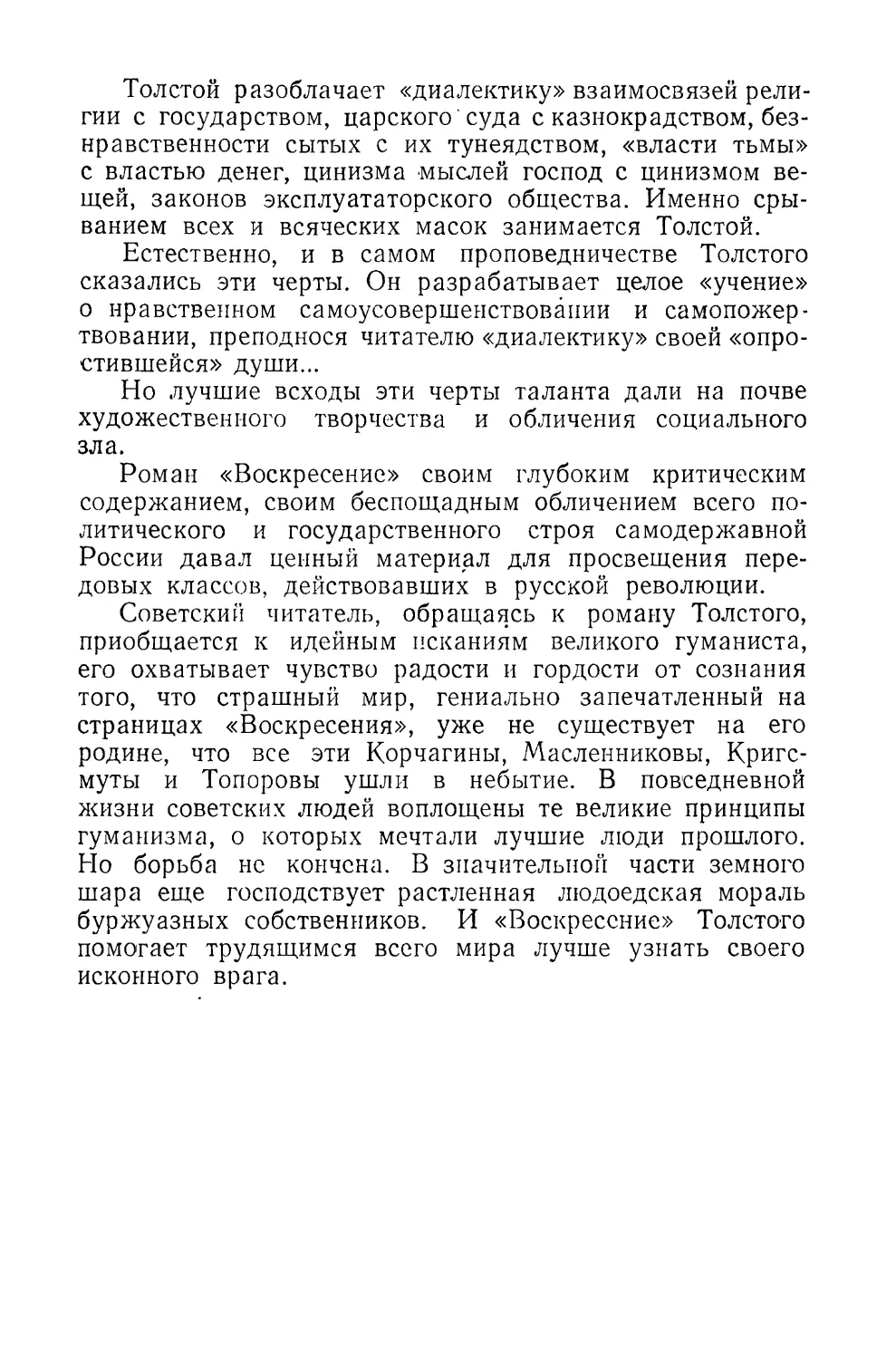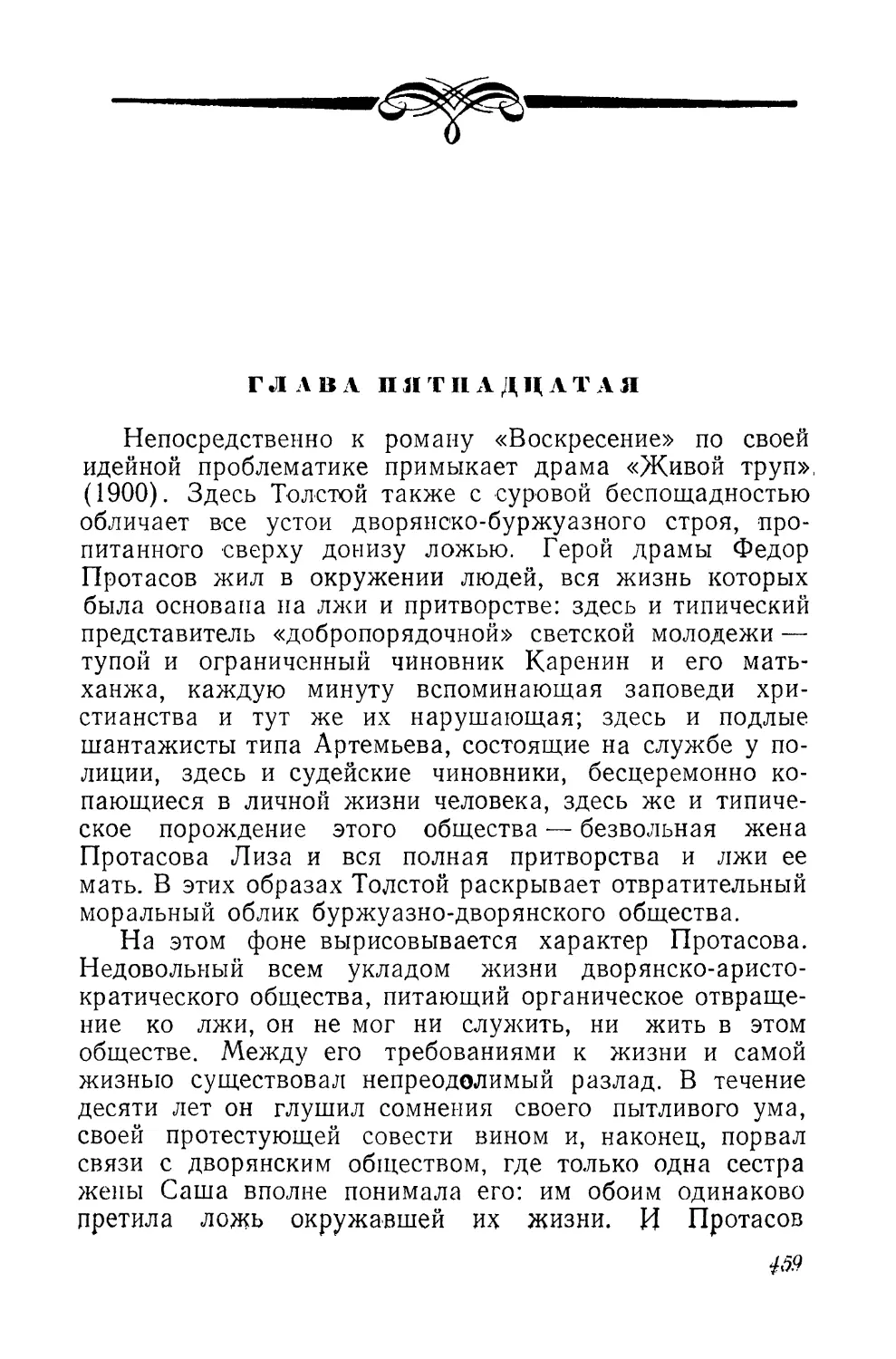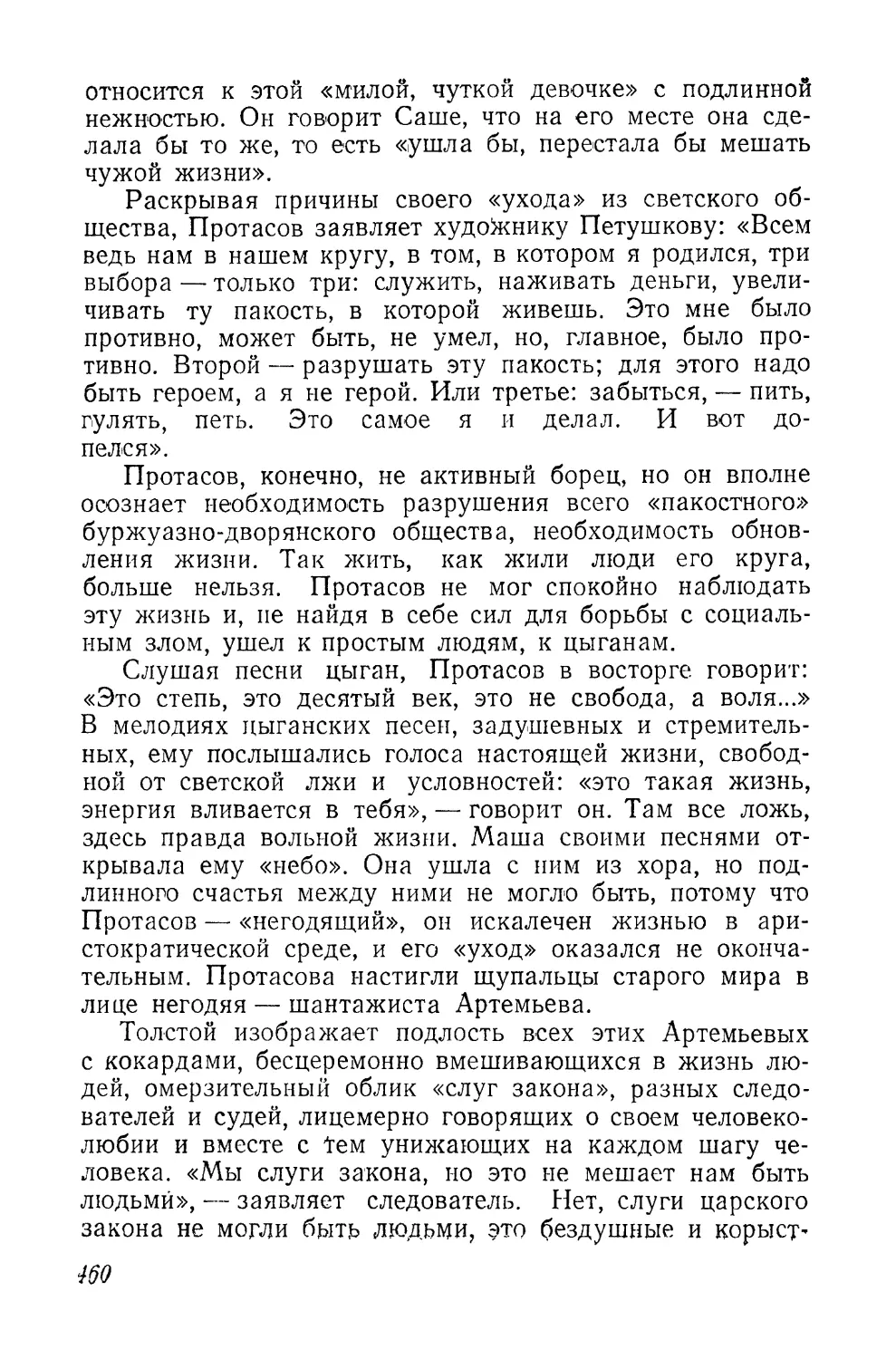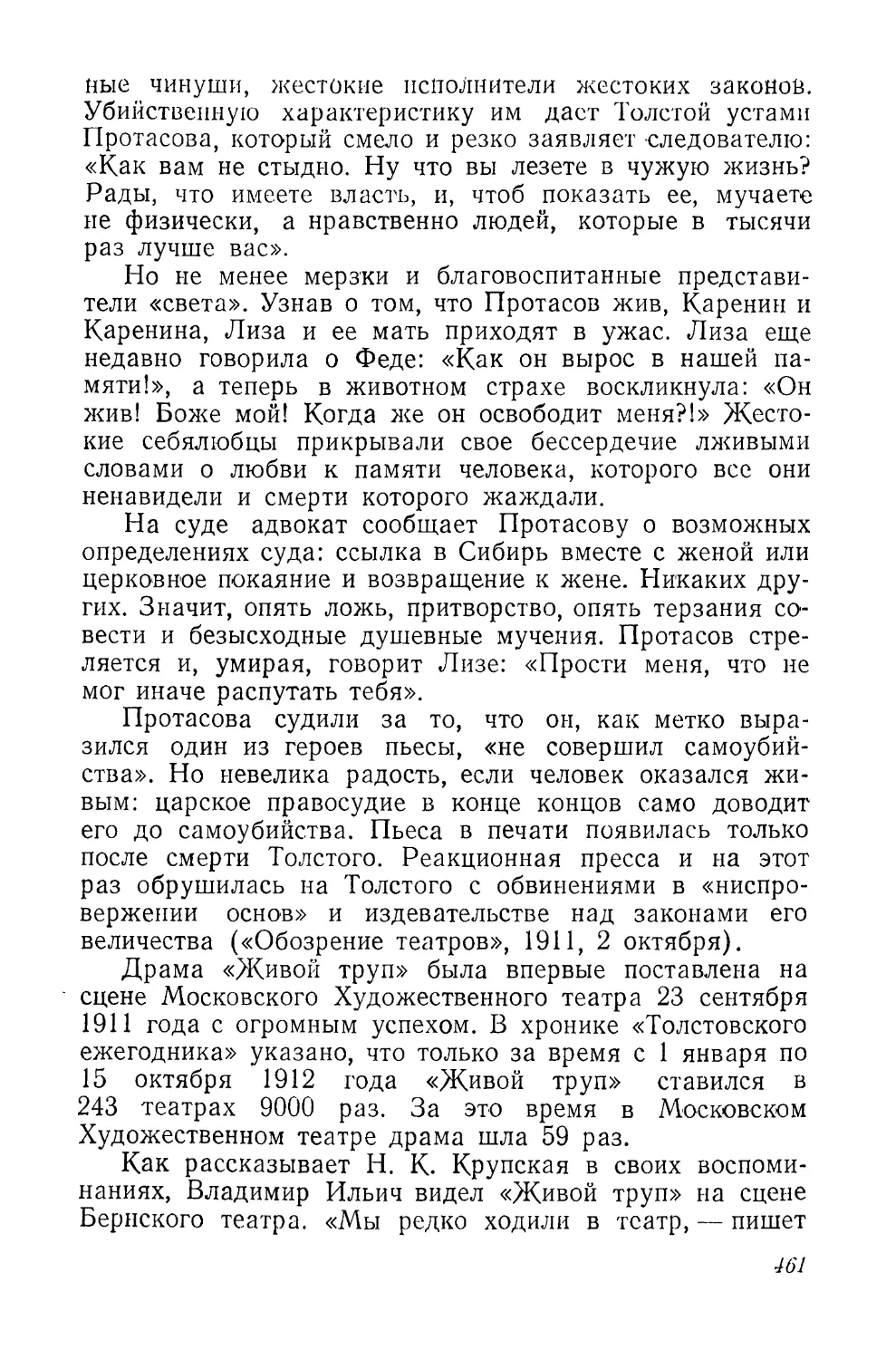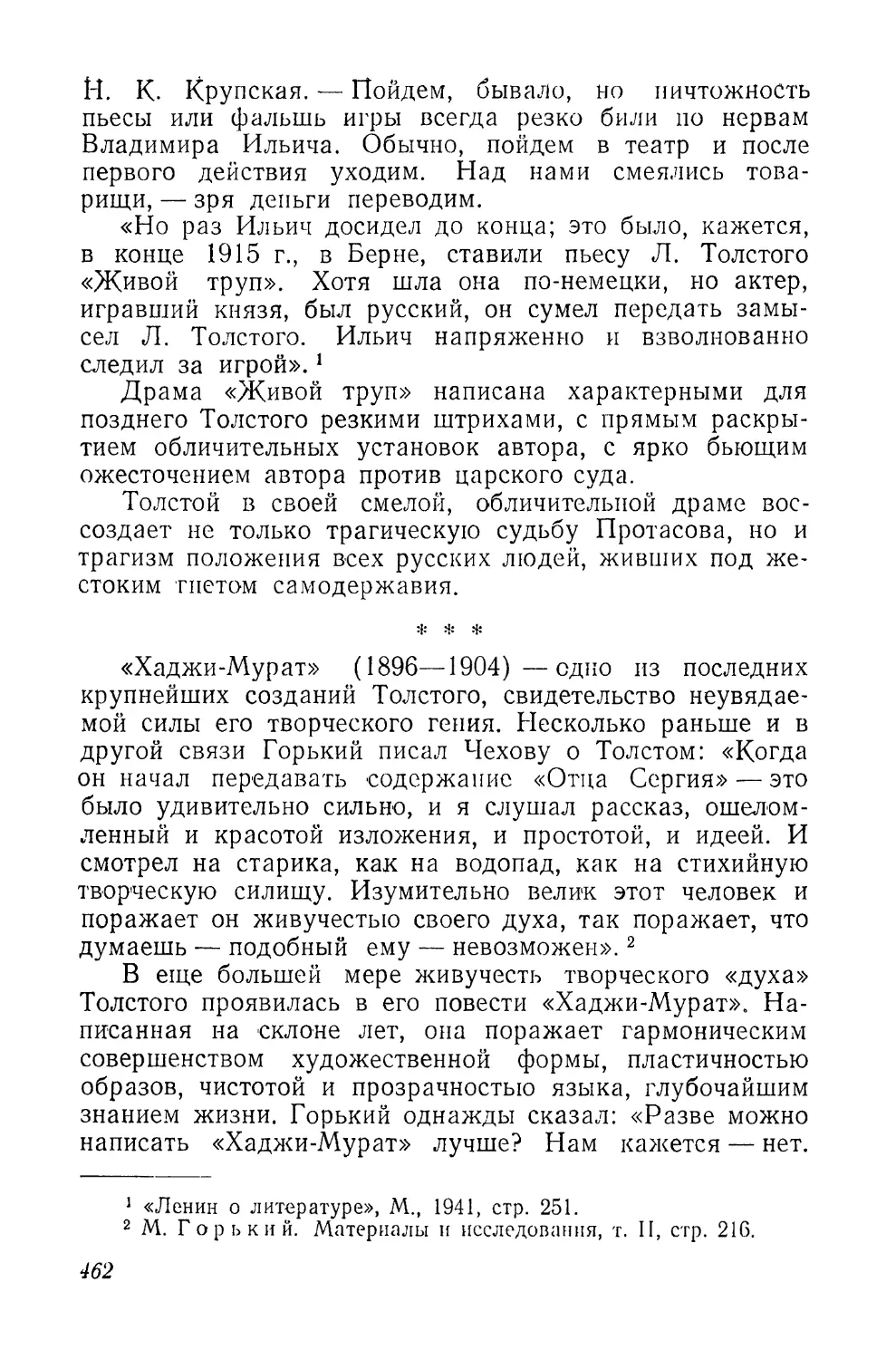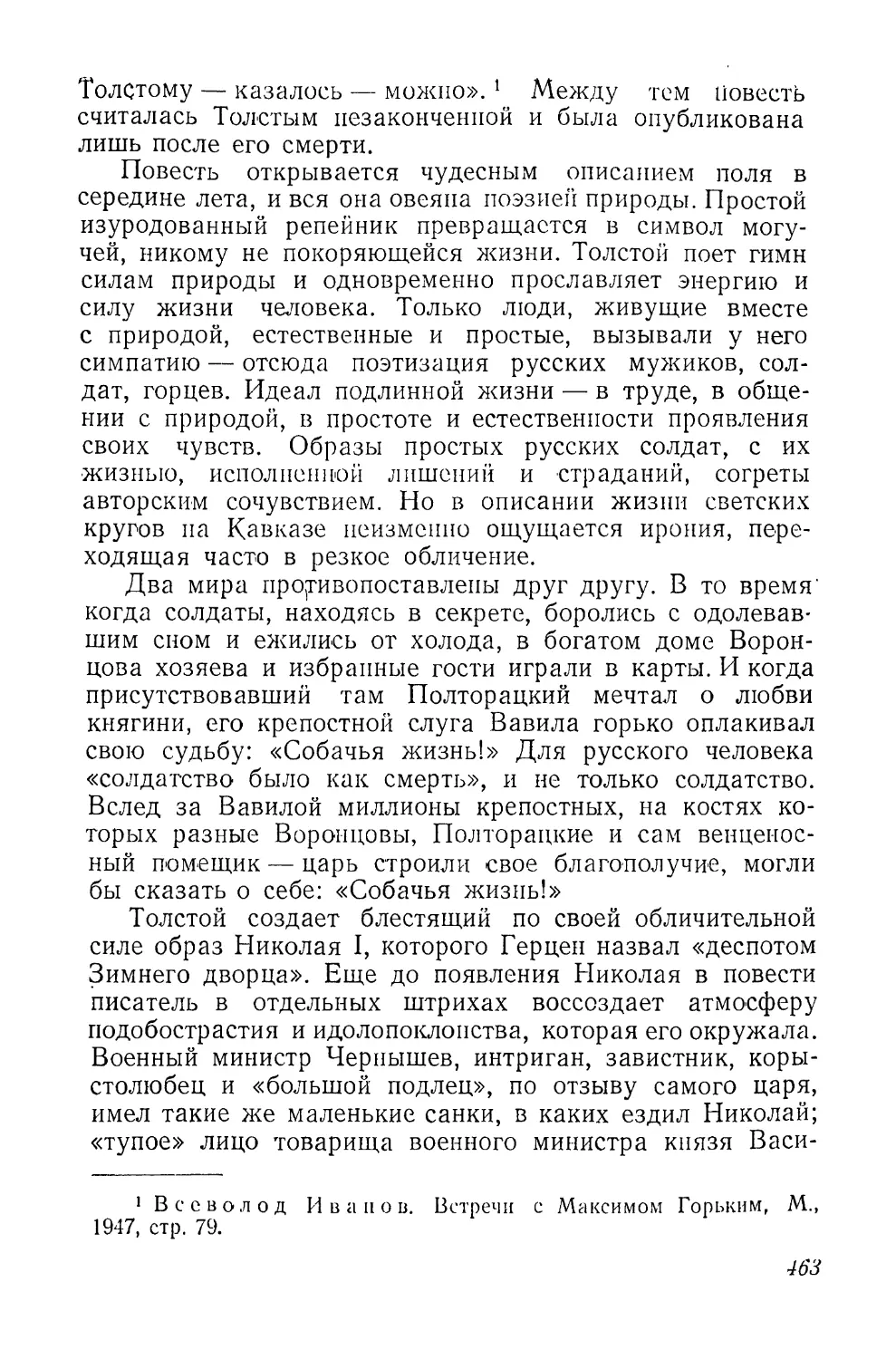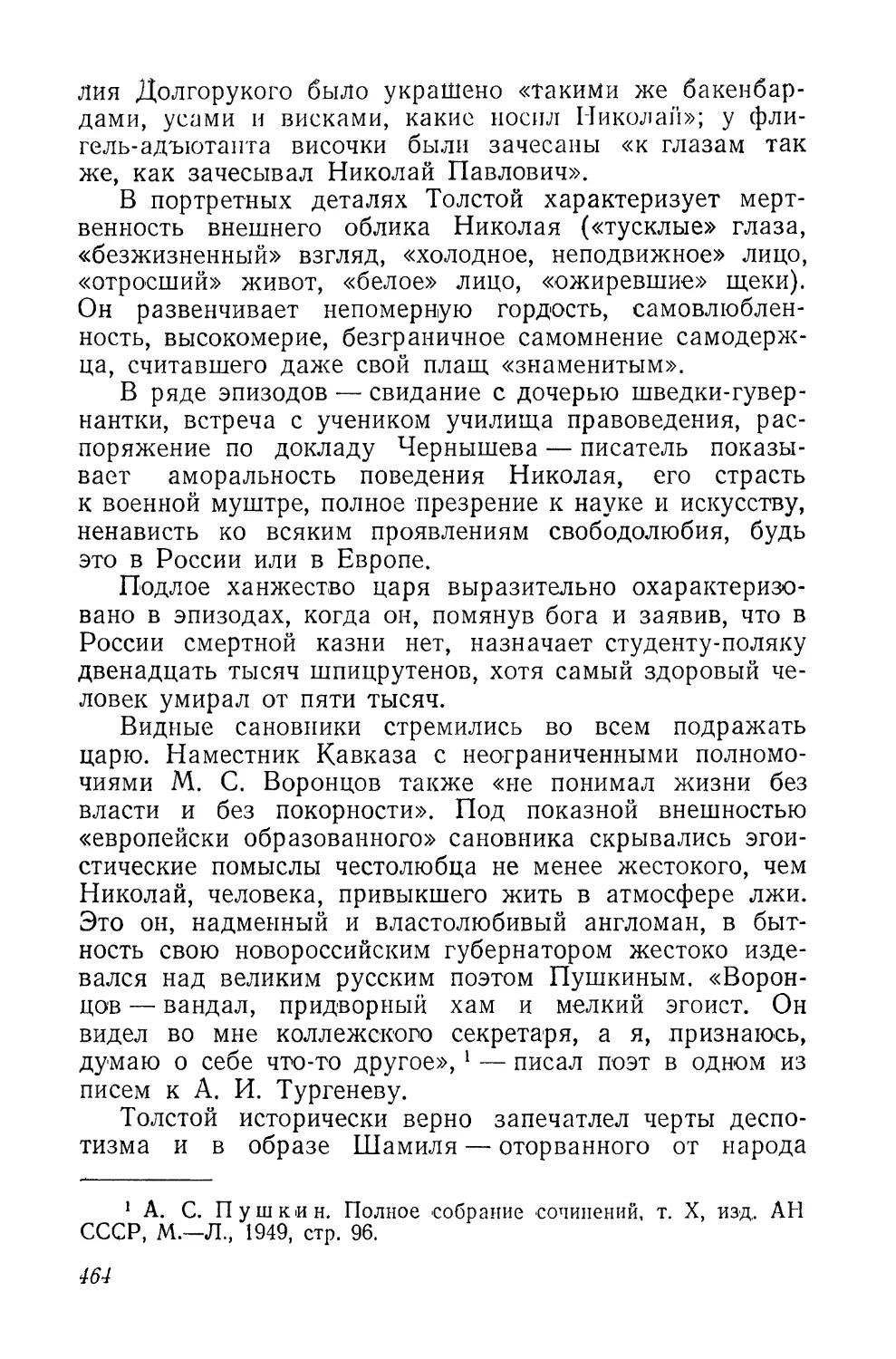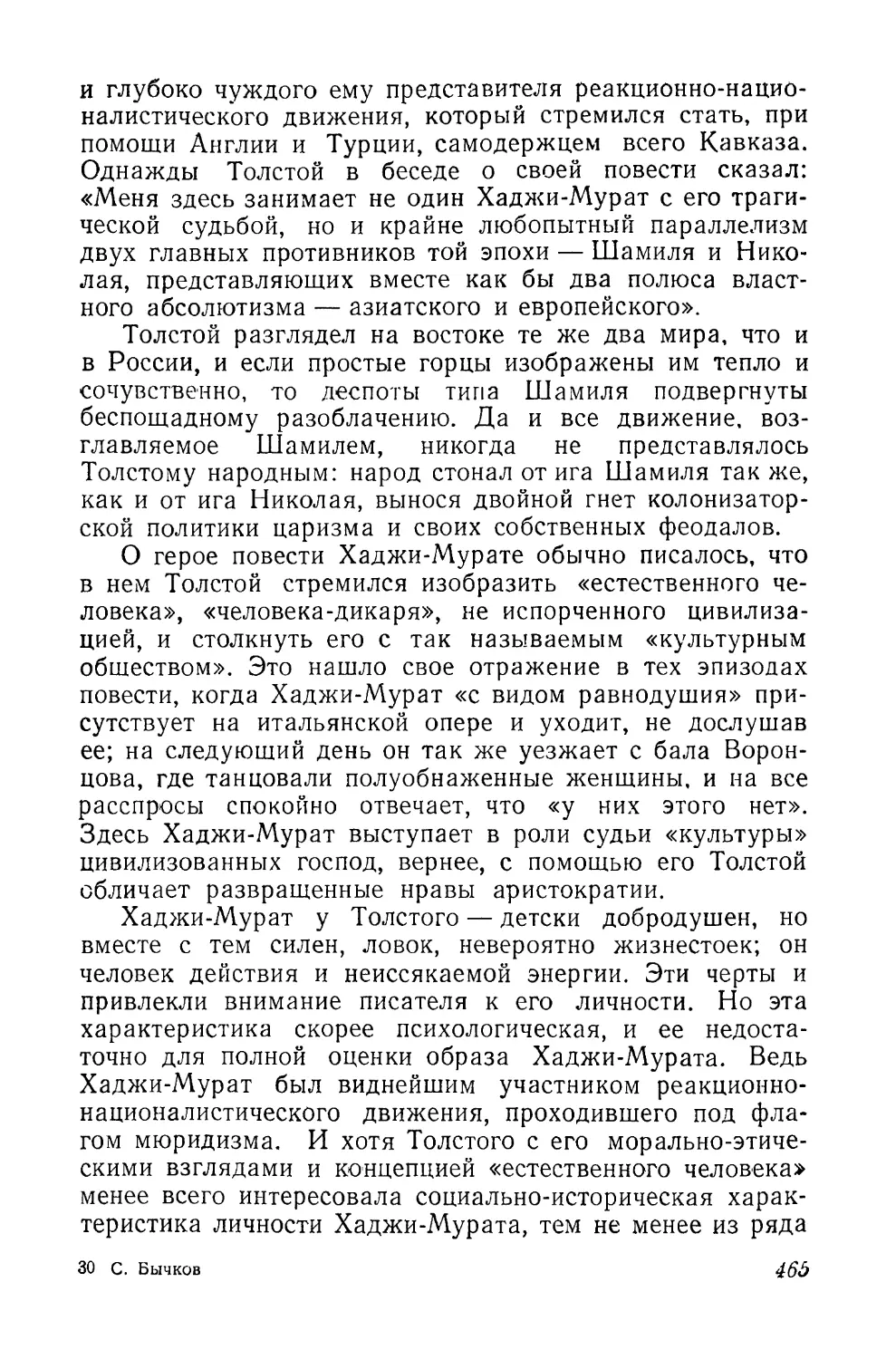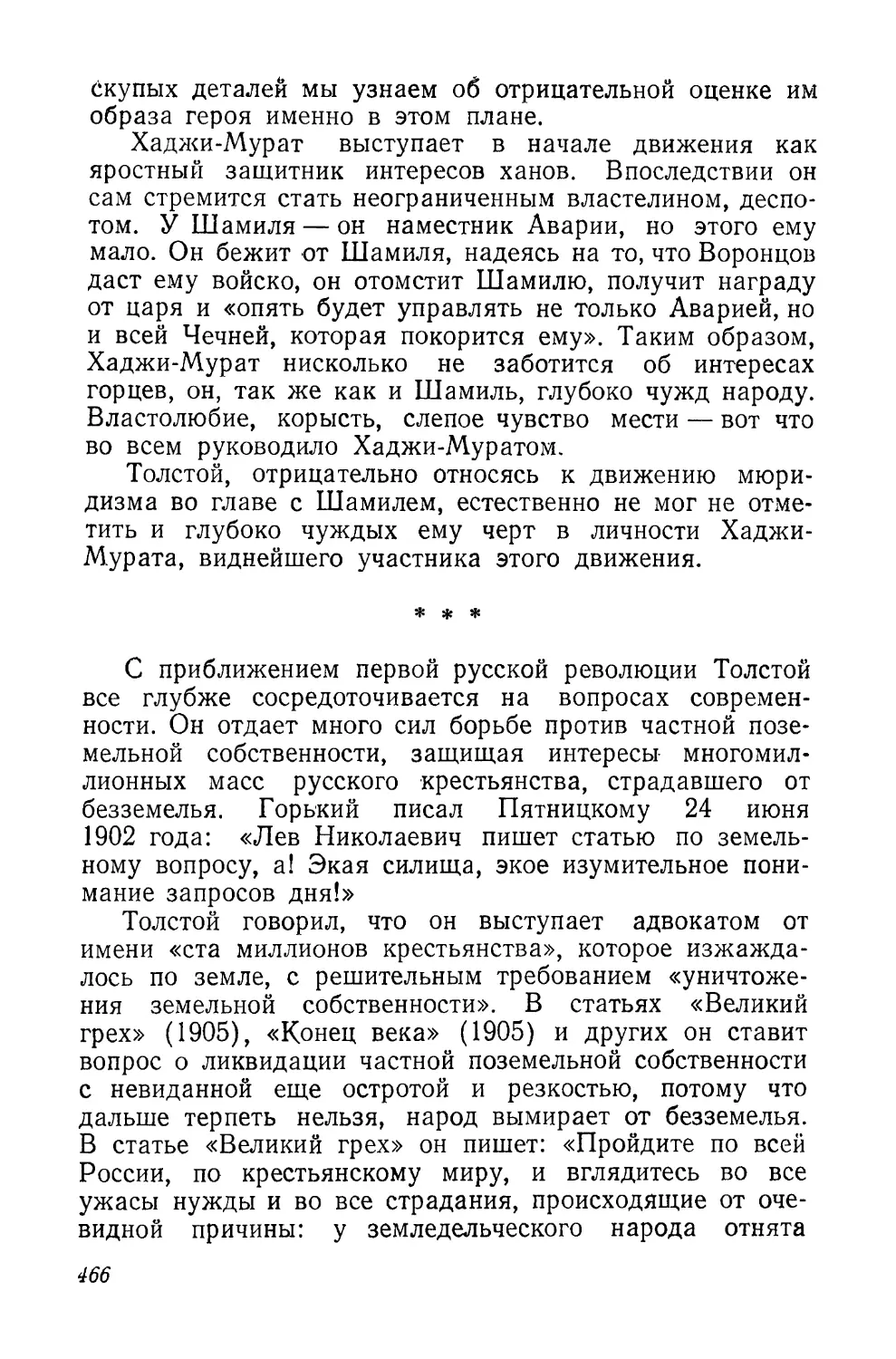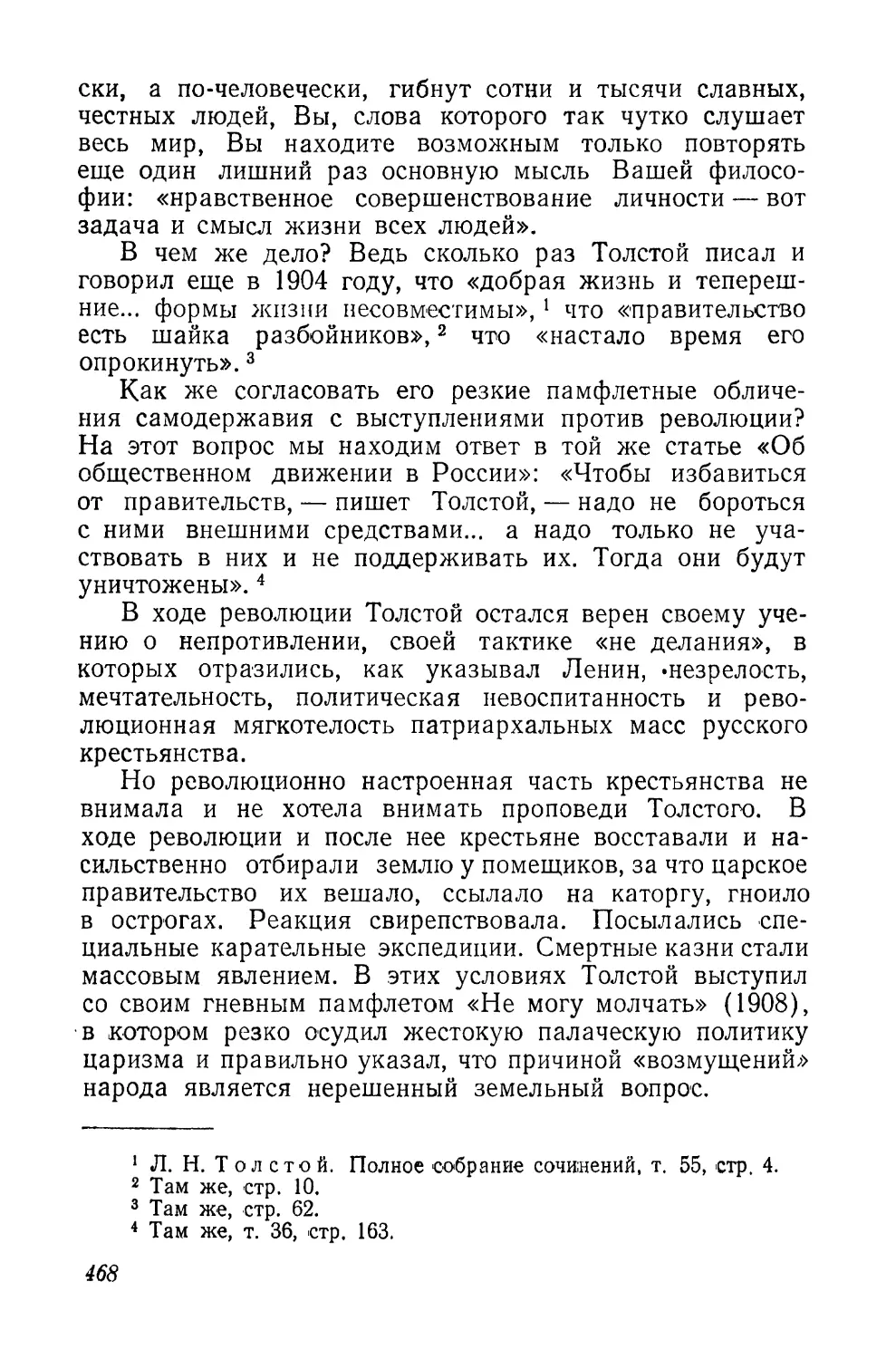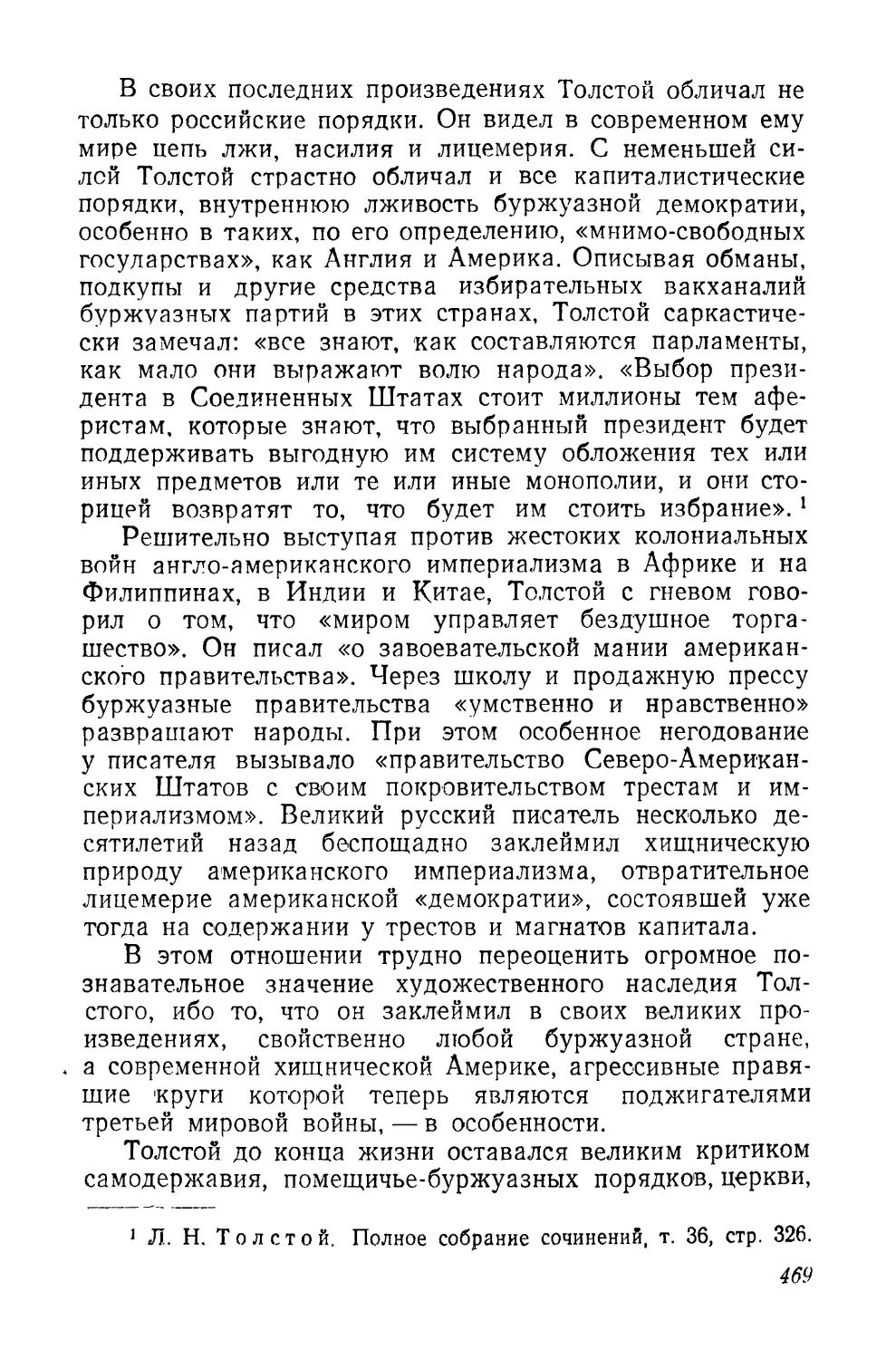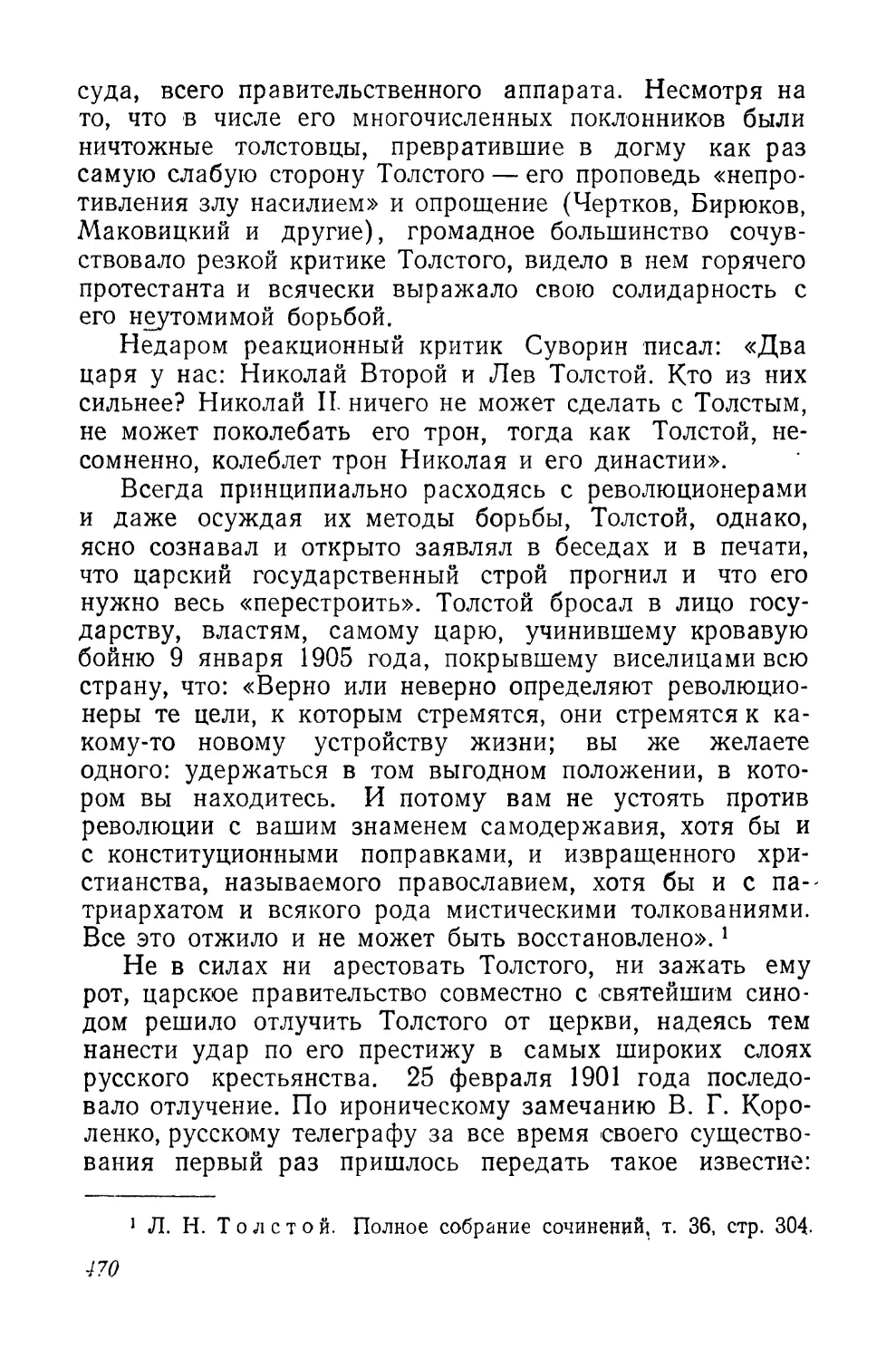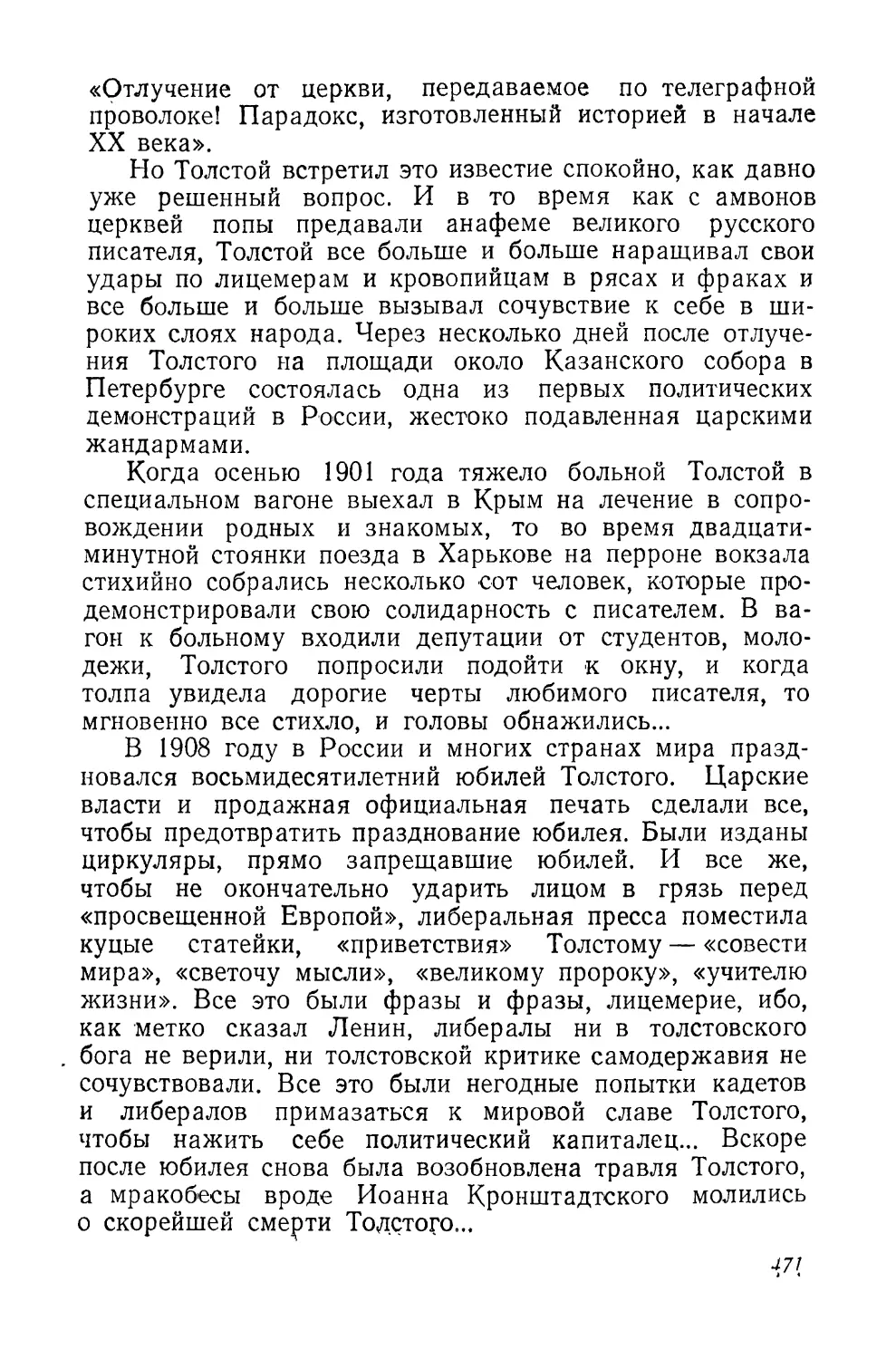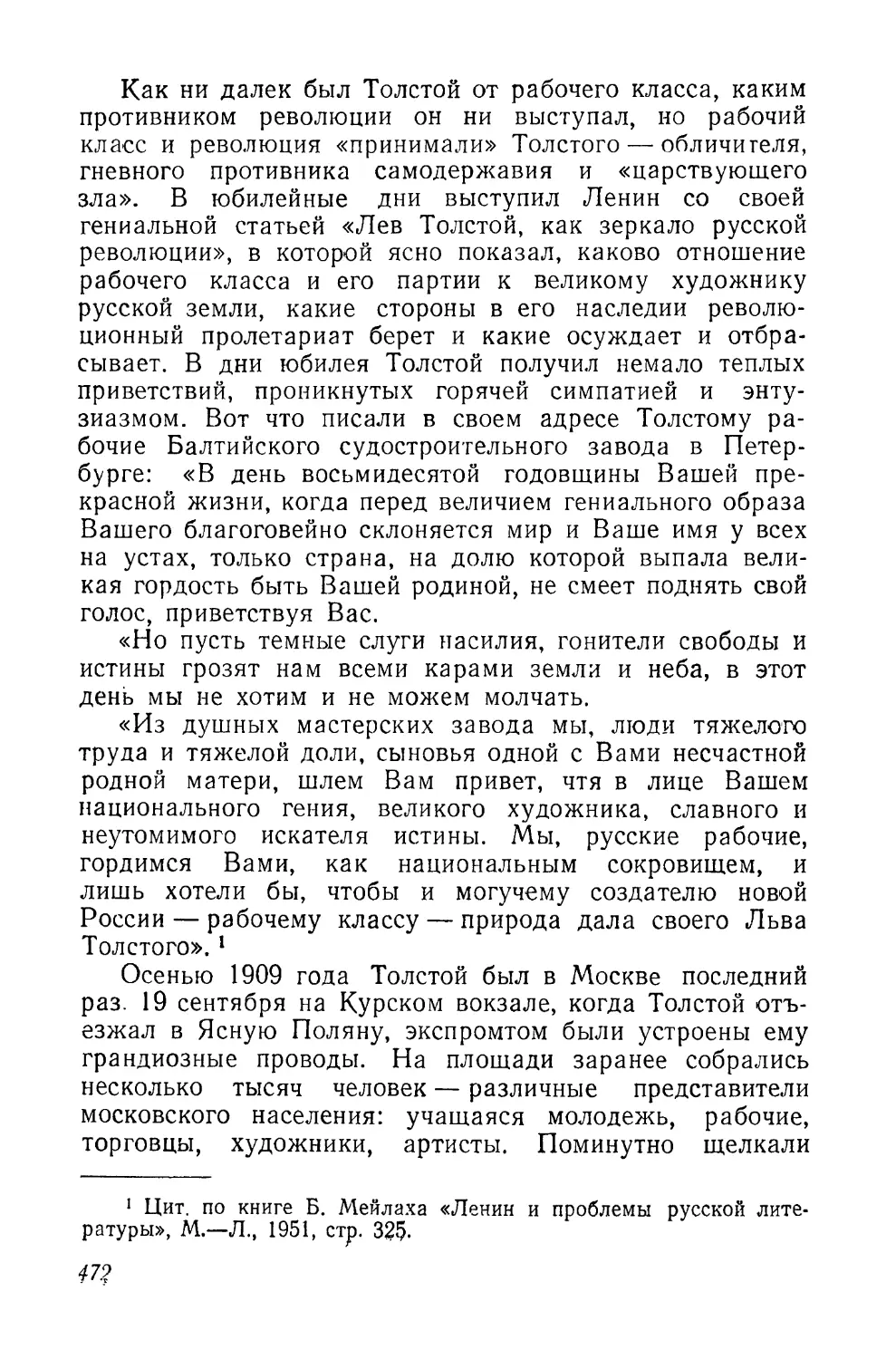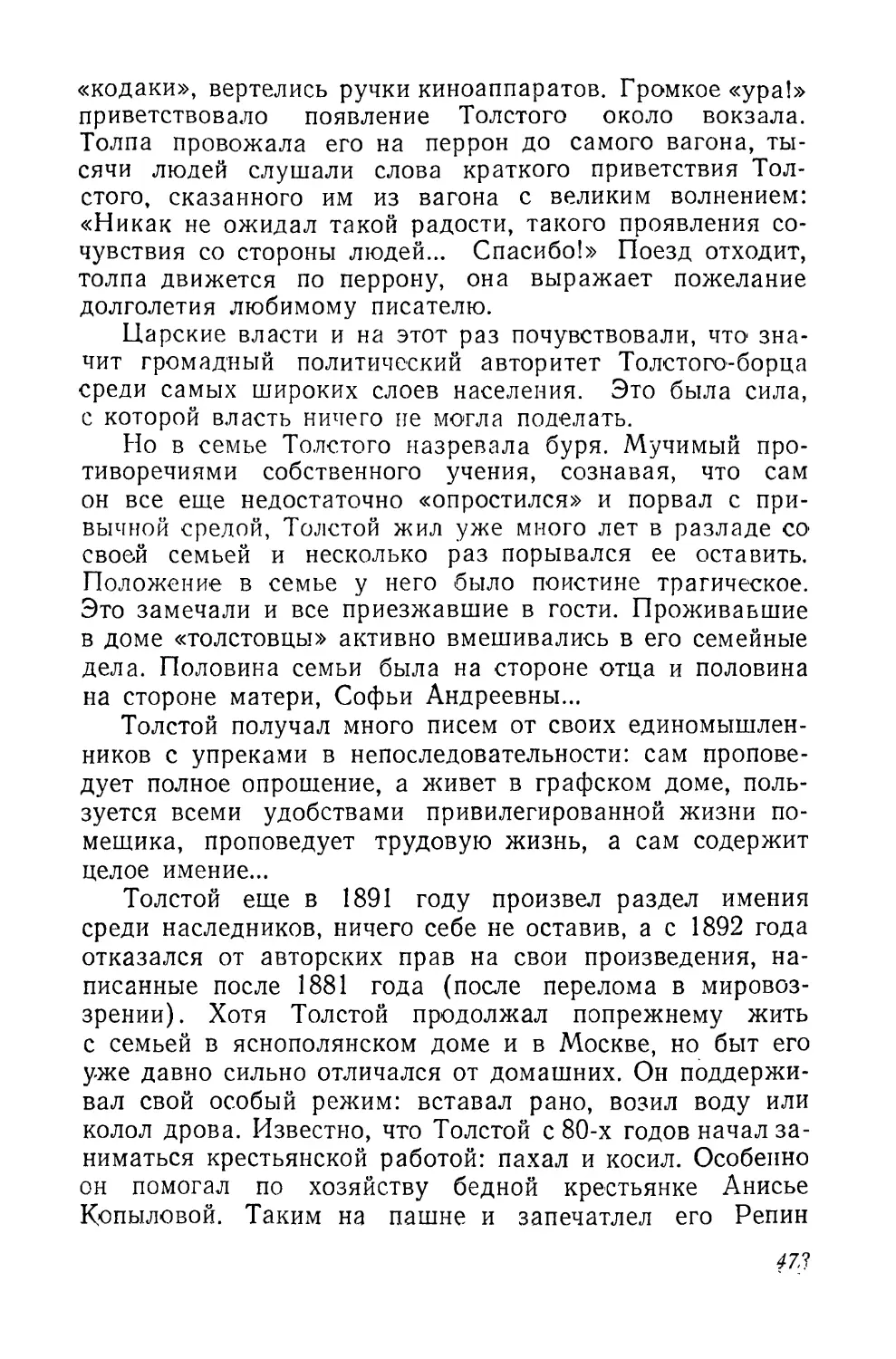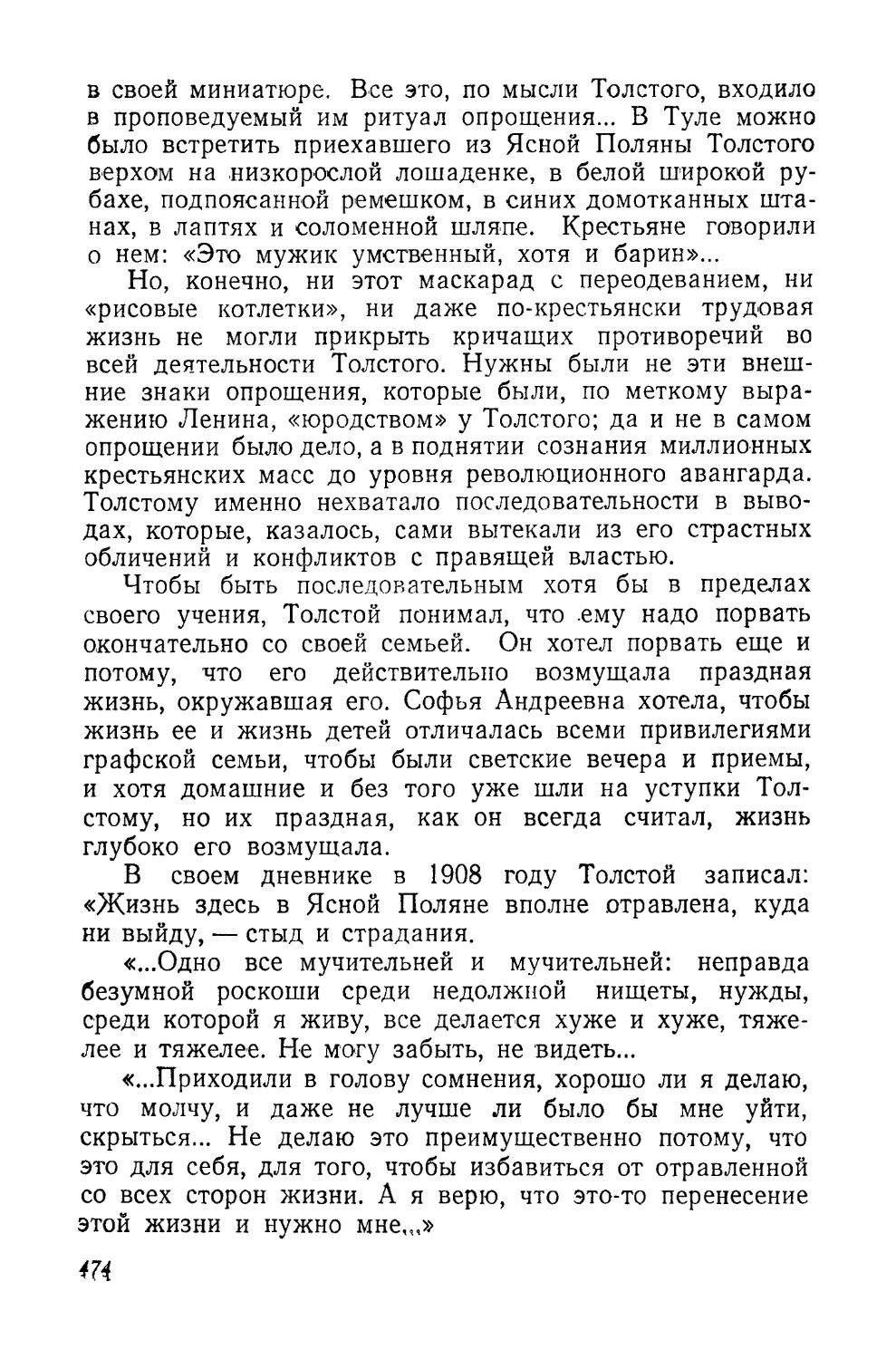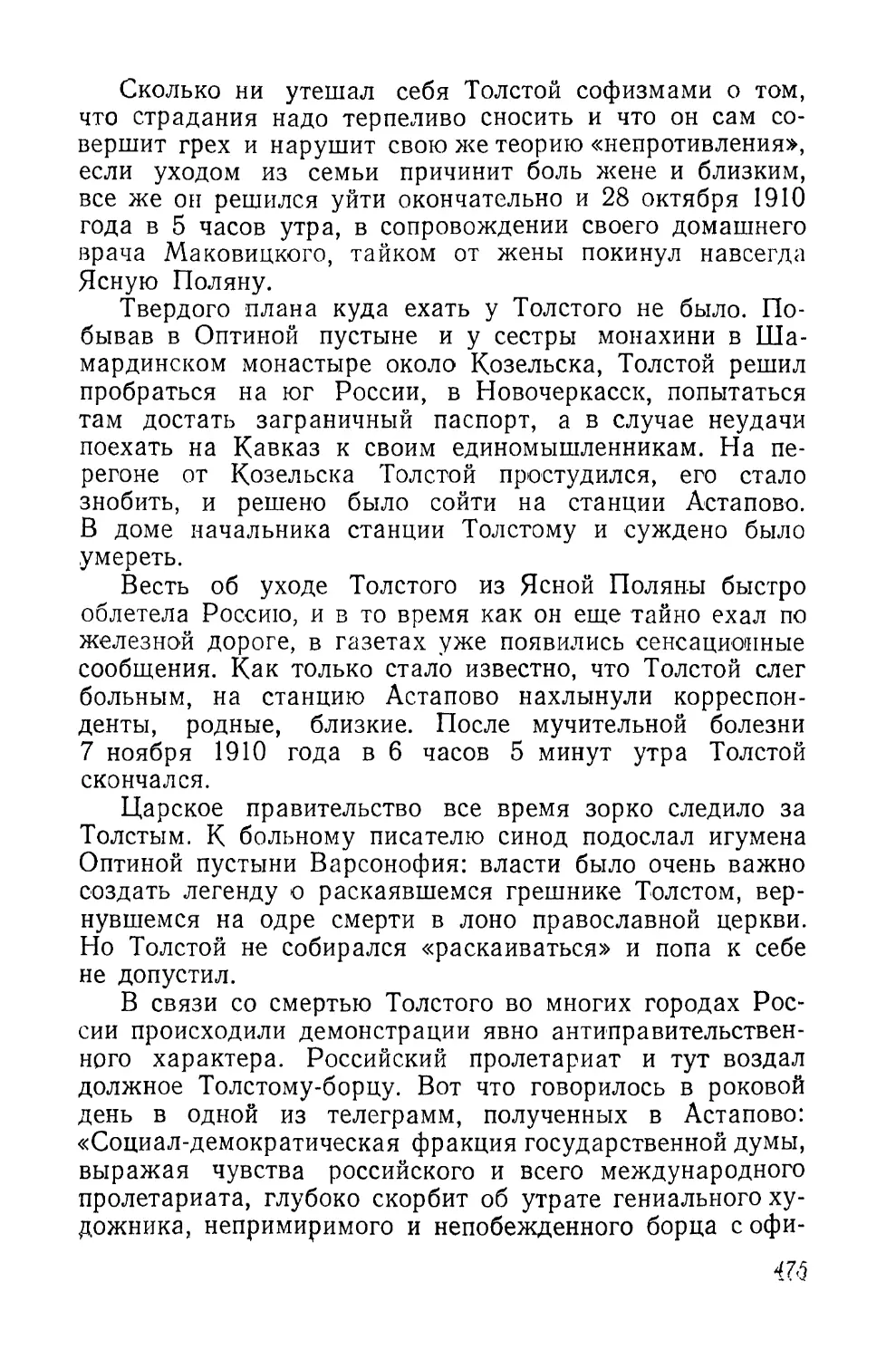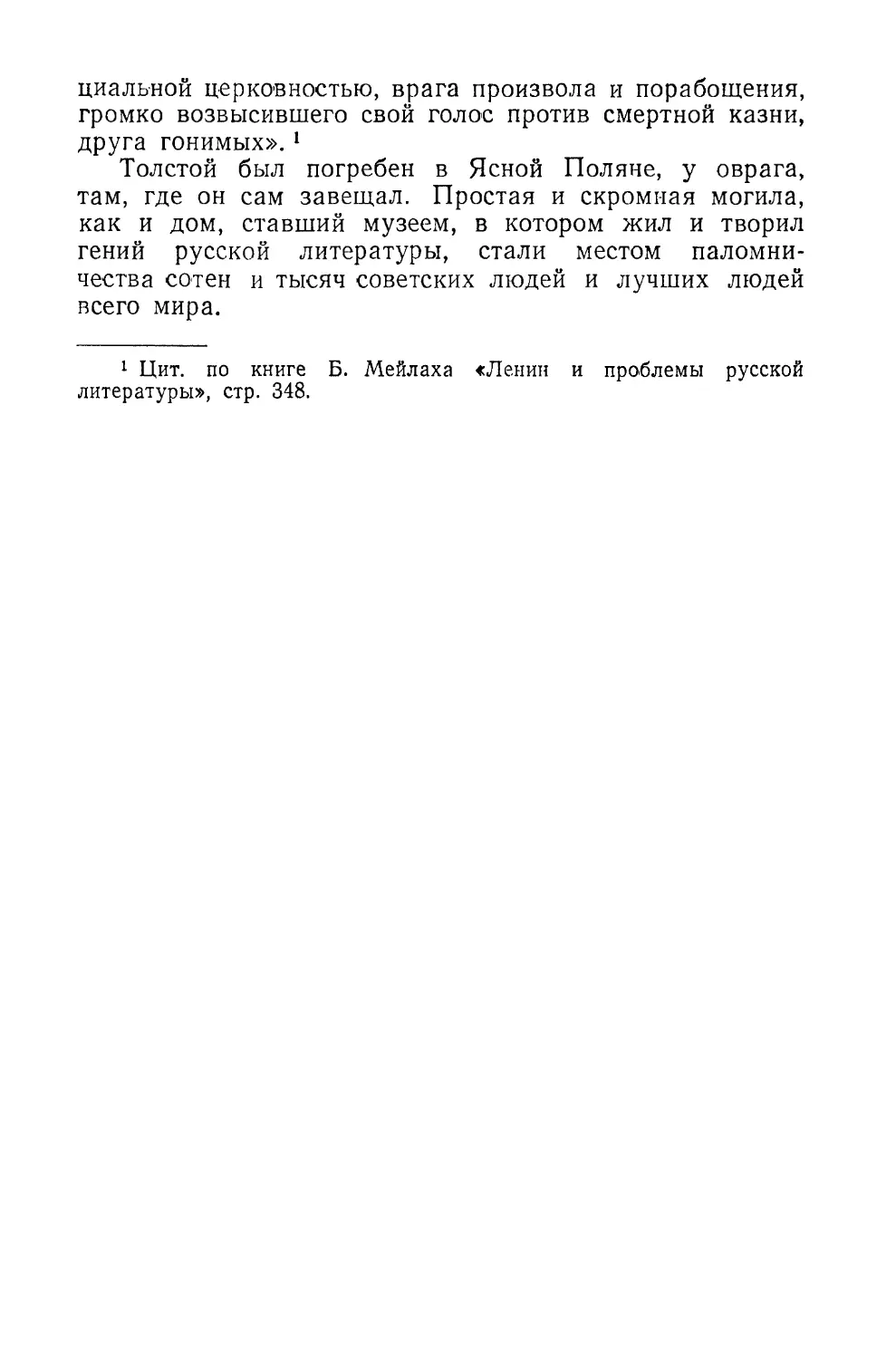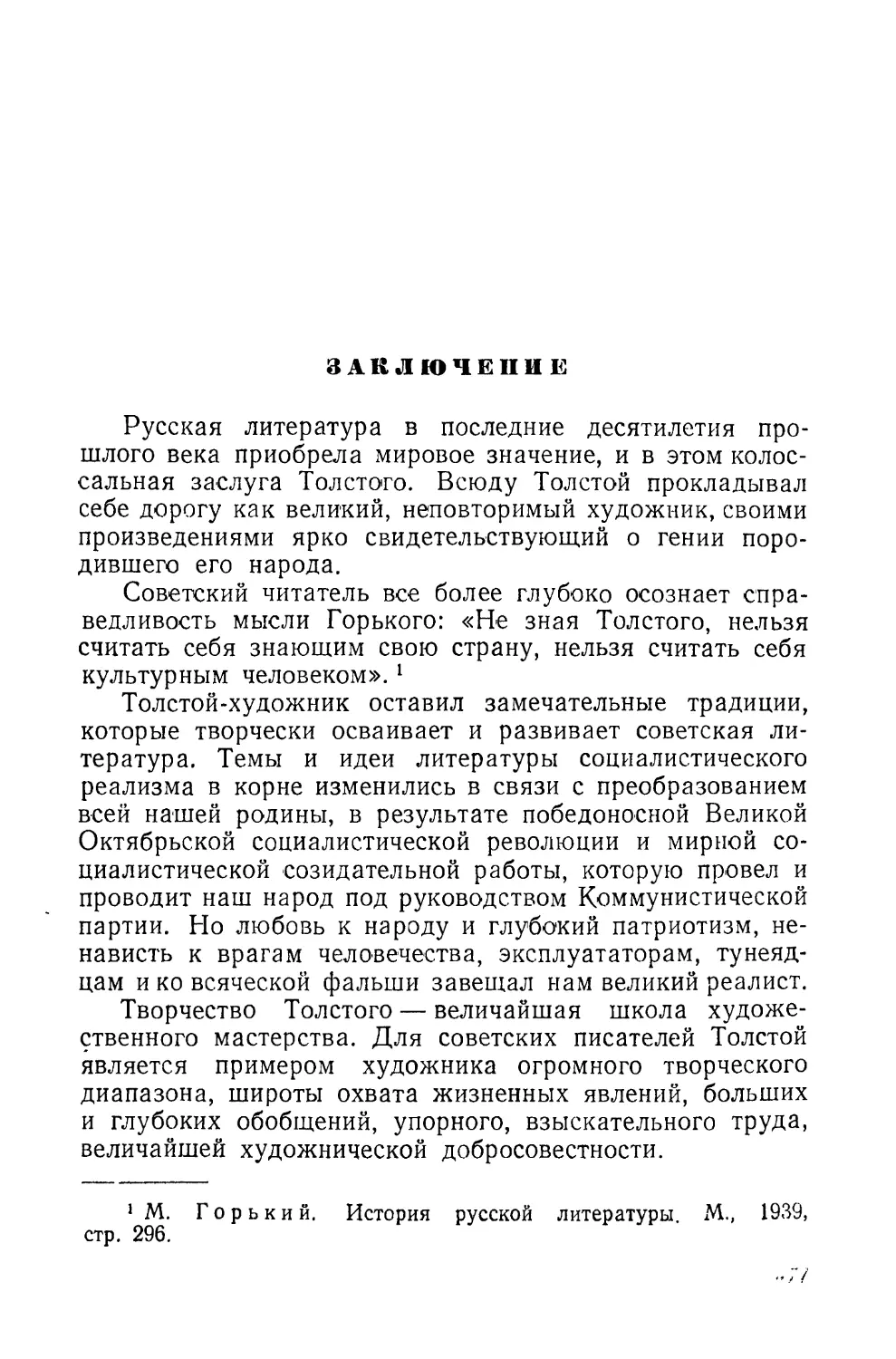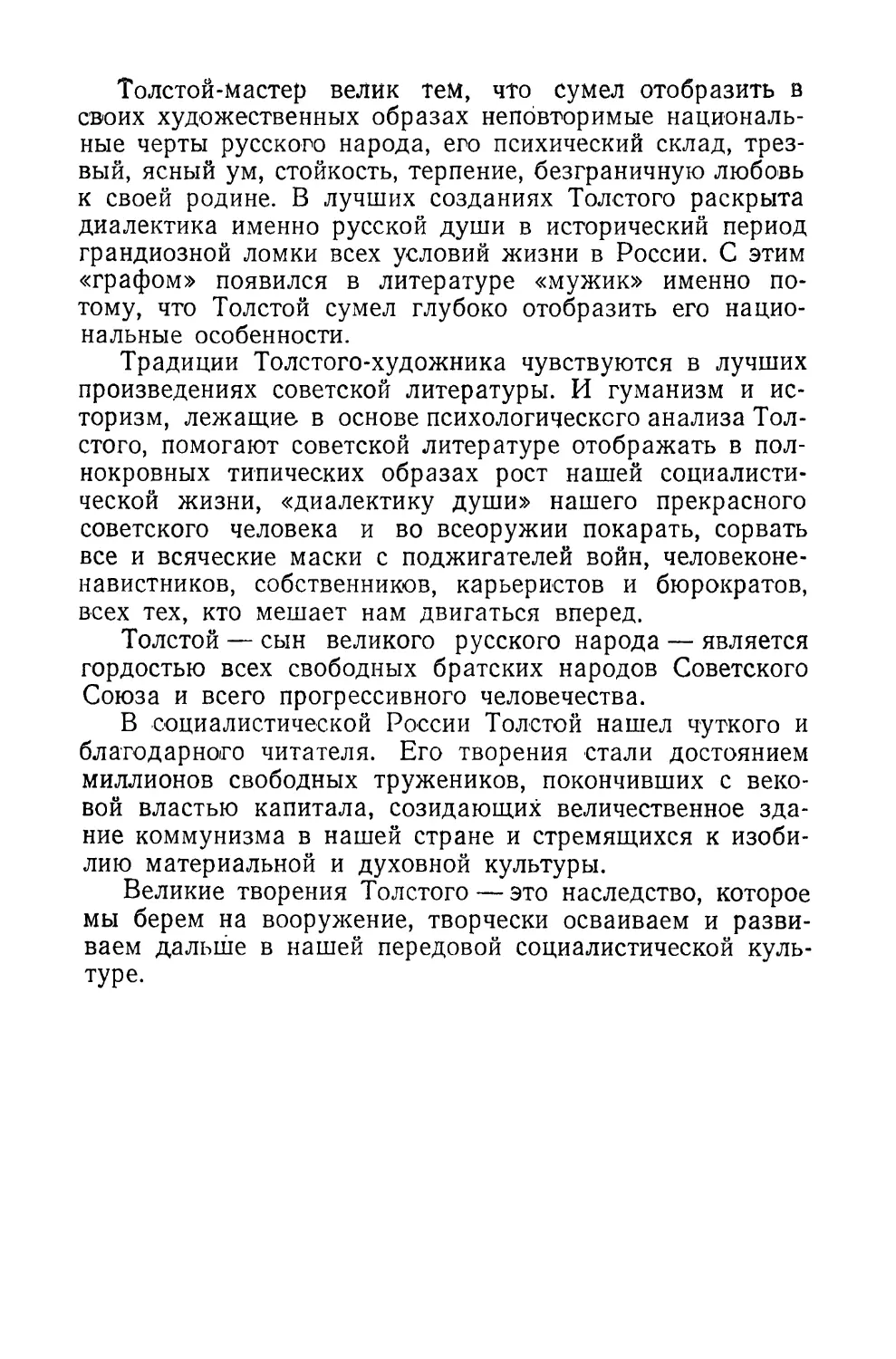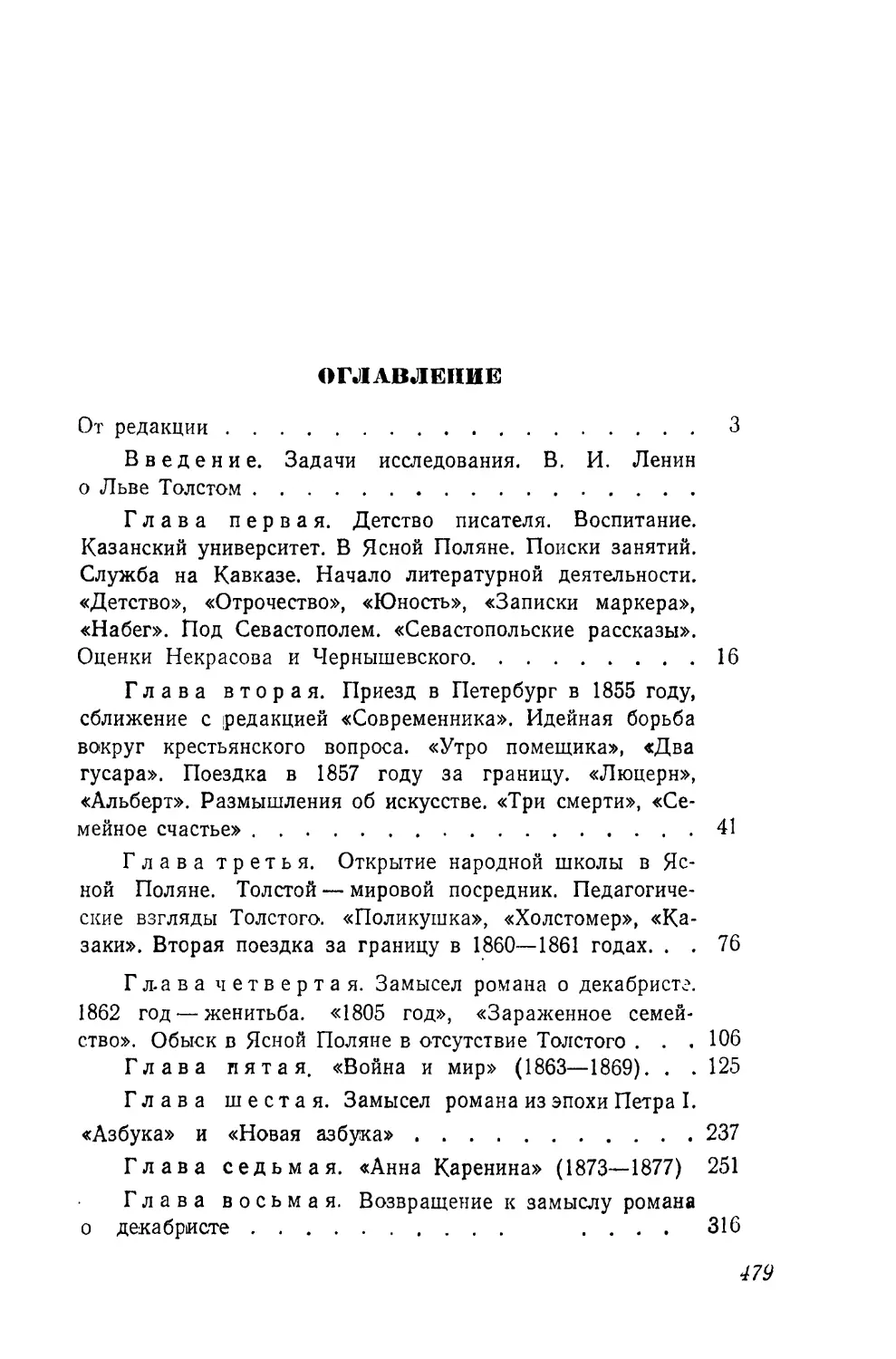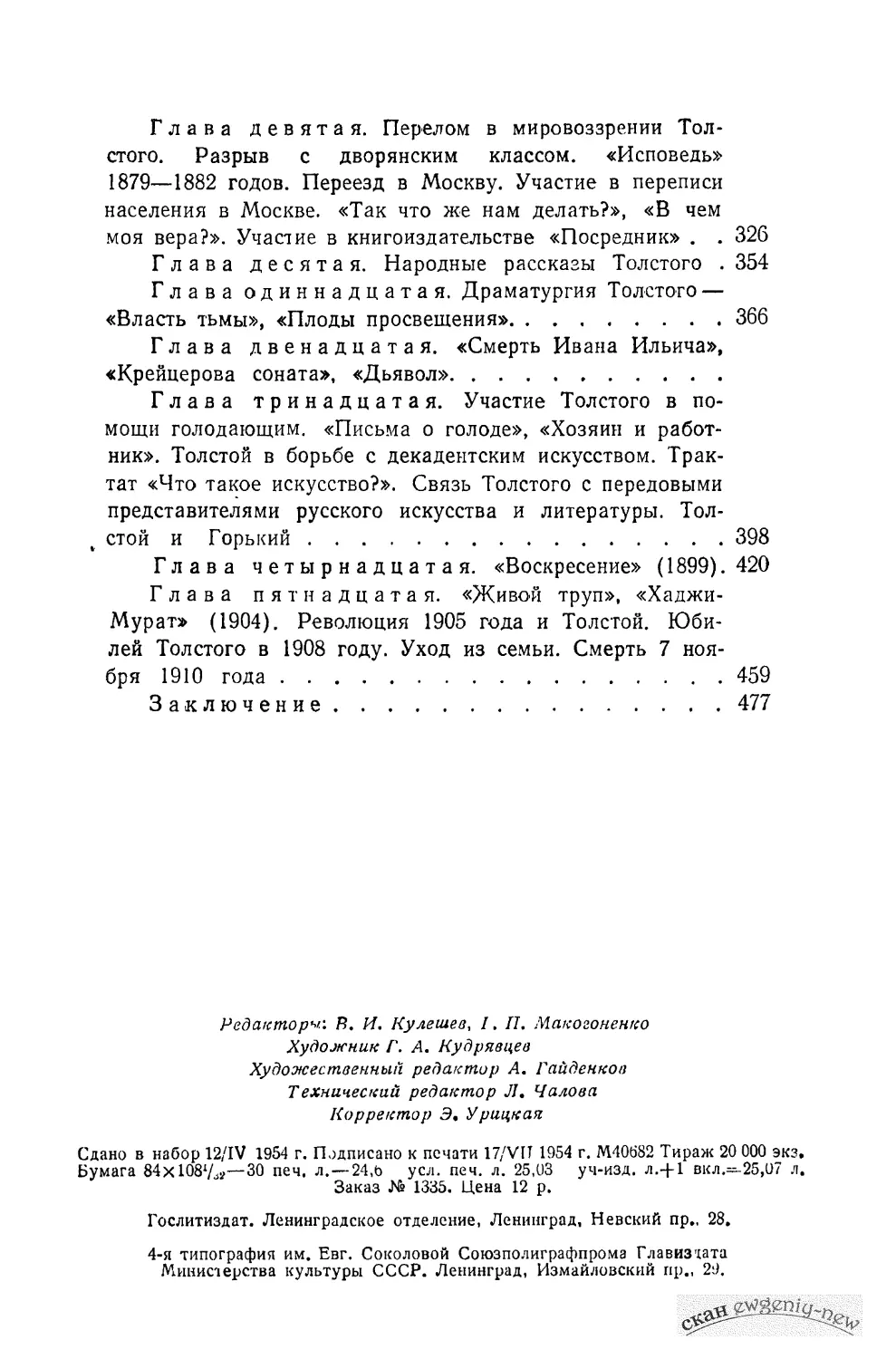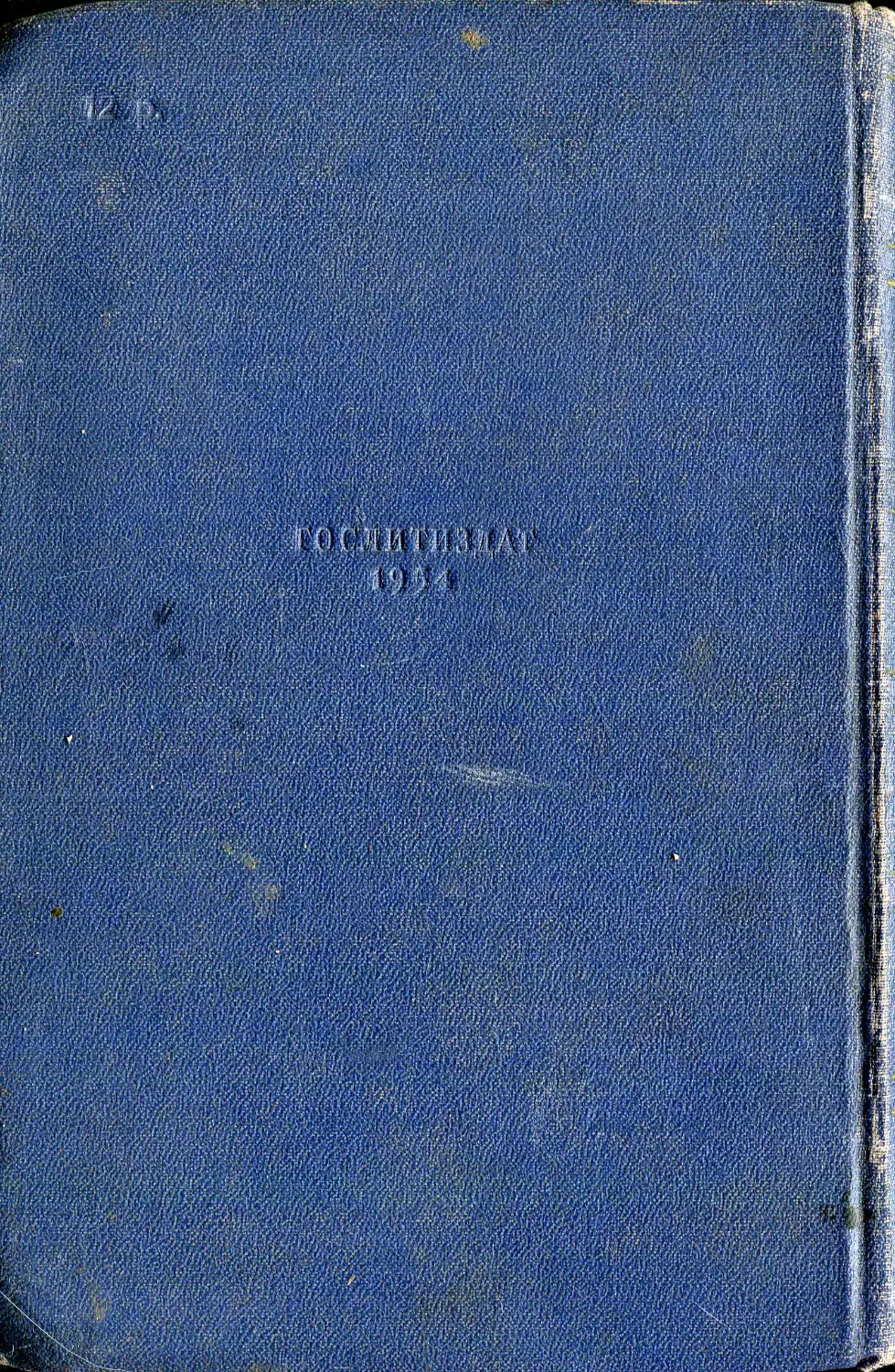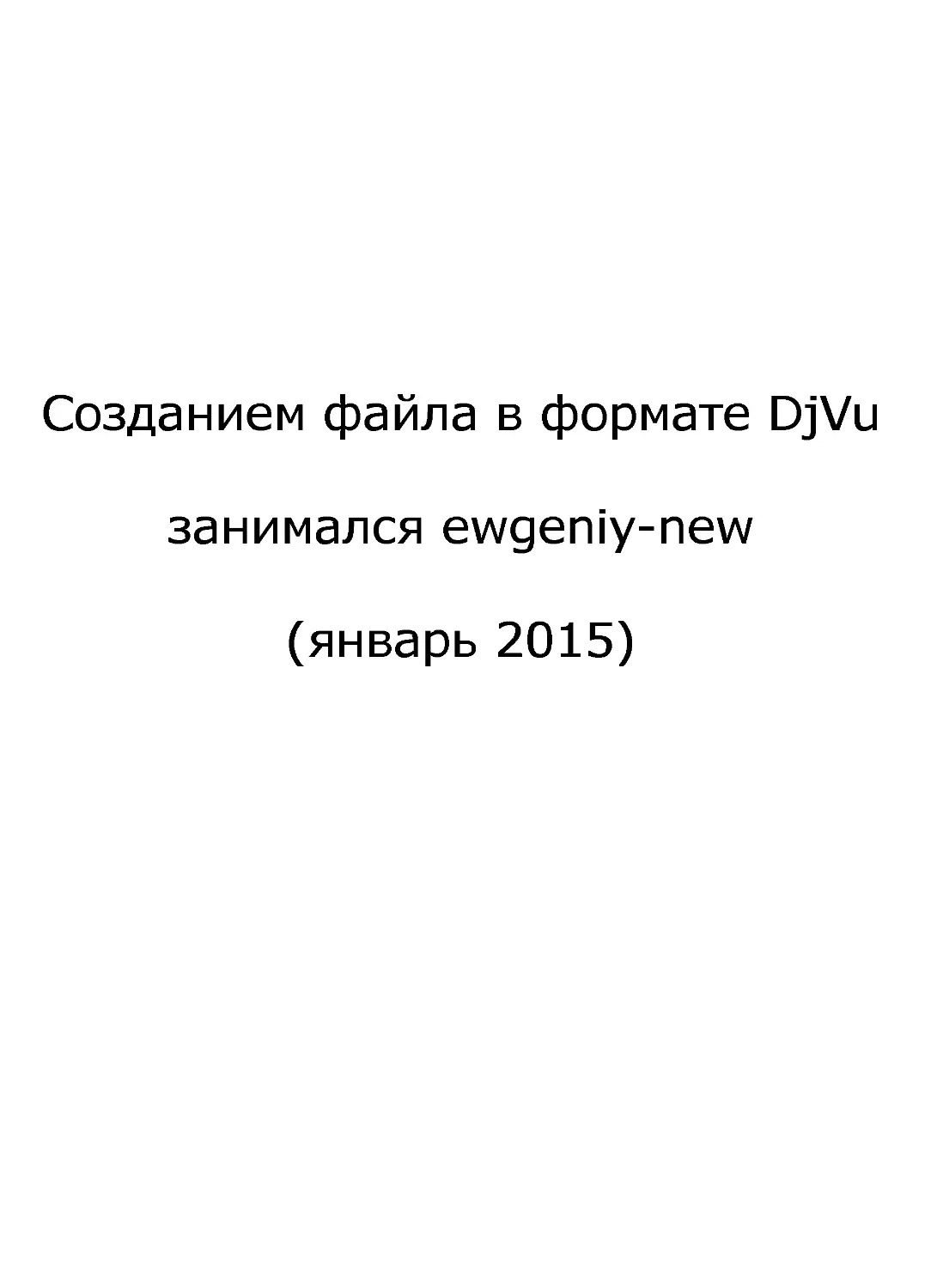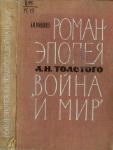Text
ОТ РЕДАКЦИИ
Книга о Льве Толстом С. П. Бычкова является
завершением его многолетних научных разысканий и
разработки важнейших вопросов богатейшего
художественного наследия великого русского писателя. Статьи и
исследования С. П. Бычкова, посвященные частным и
общим проблемам творчества Толстого, напечатаны в
ряде изданий Гослитиздата, а также на страницах
периодической печати в период 1947—1952 годов. Последней
его работой является критико-биографический очерк
жизни и литературной деятельности Толстого к
четырнадцатитомному собранию сочинений писателя.
Скоропостижная смерть автора весной 1953 года
оборвала подготовку рукописи к печати. Вот почему
отдельные проблемы творчества Толстого (особенно
последнего периода) оказались менее освещенными.
Тем не менее издательство решило выпустить книгу
С. П. Бычкова в настоящем ее виде. Монография,
написанная с позиций ленинской оценки Толстого,
проникнутая глубокой любовью к писателю, несомненно окажет
помощь изучающим творчество великого русского
художника.
ВВЕДЕНИЕ
Творчество великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого сыграло выдающуюся роль в русском
освободительном движении и явилось шагом вперед
в художественном развитии человечества.
Основоположник социалистического реализма в литературе М. Горький
проникновенно писал о значении Толстого, силой своего
гения потрясшего весь мир и обратившего на Россию
«изумленное внимание всей Европы»: «Он нам рассказал
о русской жизни почти столько же, как вся остальная
наша литература». 1
С огромной силой и глубиной значение гениального
русского писателя освещено В. И. Лениным в его
статьях о Толстом.
Ленин высоко ценил художественные создания
Толстого. По свидетельству Горького, Ленин, перечитывая
сцену охоты в романе «Война и мир», высказал мнение,
что Толстому нет равного в Европе писателя. Находясь
в эмиграции, Ленин сам прочел лекции о Толстом в
1911 году в Париже и в 1912 году в Лейпциге. В дни
восьмидесятилетия великого художника слова, в 1908 году,
Ленин написал свою знаменитую статью «Лев Толстой,
как зеркало русской революции», а после смерти
писателя еще ряд статей.2
1 М. Горький. История русской литературы, М., 1939,
стр. 295.
2 «Л. Н. Толстой», «Не начало ли поворота?», «Л. Н. Толстой и
современное рабочее движение», «То-лстой и пролетарская борьба»,
«Герои «оговорочки» и «Л. Н. Толстой и его эпоха».
Ленинские статьи о Толстом имеют
основополагающее методологическое значение для советского
литературоведения. Они являются классическим примером
творческого применения марксизма к вопросам литературы.
Эти статьи вооружают исследователя творчества
Толстого, как и всякого историка литературы, методом
конкретно-исторического подхода к явлениям,
многостороннего раскрытия их во всей диалектической сложности и
противоречивости. Вместе с тем эти статьи являются
примером боевой партийности в оценке классического
наследства, критического отбора в нем всего подлинно
великого и ценного.
К оценке творчества Толстого Ленин подошел как
вождь революционного пролетариата и его партии в тот
исторический момент, когда первая русская революция
потерпела поражение и надо было в ближайшем
будущем организовать новый революционный подъем.
Гениальность ленинской оценки заключается в том, что он
первый смело и открыто связал творчество великого
реалиста с русской буржуазно-демократической
революцией 1905 года, ее подготовкой и проведением, с
судьбами крестьянства, одной из движущих сил этой
революции. Эта установленная Лениным связь дала ему
возможность показать всю сложность и противоречивость
Толстого как мыслителя и художника,
всемирно-исторические масштабы его творчества, которые определялись
всемирно-историческим характером революции 1905 года.
Толстой по Ленину «...велик, как 'выразитель тех
идей и тех настроений, которые сложились у миллионов
русского крестьянства ко времени наступления
буржуазной революции в России». {
Ленин показал, что все «кричащие противоречия»
в произведениях, взглядах, «учении» Толстого являются
отражением противоречий русской жизни последней трети
XIX века. С одной стороны, Толстой выступает как
великий критик буржуазного строя, «срывавший все и
всяческие маски» с угнетателей народа, как страстный
обличитель в^ех современных ему государственных, церковных,
общественных и экономических порядков, как горячий
протестант против общественной лжи и фальши; с дру-
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.
гой стороны, он предстает как проповедник реакционной
теории «непротивления злу насилием», как поборник
теории нравственного самоусовершенствования.
Толстого — художника и мыслителя — породила эпоха
огромных социальных сдвигов в России. Стремление
крестьянских масс, указывал Ленин, смести до основания
казенную церковь, помещиков и помещичье
землевладение и на расчищенной земле создать общежитие
свободных и равноправных мелких крестьян питало мысль
Толстого, определяло идейное содержание его творчества.
«Эпоха, к которой принадлежит Л. Толстой и
которая замечательно рельефно отразилась как в его
гениальных художественных произведениях, так и в его
учении,— писал Ленин, — есть эпоха после 1861-го и до
1905-го гг. Правда, литературная деятельность Толстого
началась раньше и окончилась позже, чем начался и
окончился этот период, но Л. Толстой вполне сложился,
как художник и как мыслитель, именно в этот период,
переходный характер которого породил все
отличительные черты и произведений Толстого и «толстовщины».]
Толстой выступил в литературе в начале 50-х годов
XIX века и продолжал активно работать до последних
дней жизни. Почти шестьдесят лет всматривались в
русскую действительность пытливые глаза великого
художника, а его мысль билась над решением насущных
вопросов жизни народа. Он пережил сложный процесс
сближения с народом. Воспитанный в среде высшей
помещичьей знати, Толстой во второй половине своей жизни
порвал с привычными взглядами своего класса и стал
выразителем интересов патриархального крестьянства.
Противоречия Толстого, привлекавшие внимание
буржуазных исследователей, которые не могли в них
разобраться из-за своего близорукого, субъективного подхода,
из-за попыток осветить их «изнутри», из самого
«толстовства», оказываются в свете ленинской методологии
не просто личными противоречиями Толстого, а
объективными противоречиями класса крестьянства и целой
исторической эпохи, отразившихся в мировоззрении
художника.
Важнейшей предпосылкой правильного понимания
В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 29.
деятельности Толстого является также рассмотрение его
мировоззрения и творчества в их диалектической
взаимосвязи. Ленин не отрывает Толстого — мыслителя и
проповедника от Толстого-художника. Ленин
показывает, как живая и мертвая вода смешиваются и в
проповеди и в художественном творчестве Толстого,
отражающих со всей полнотой и силой двойственную природу
самого крестьянства, его двойственное отношение к
революции. Реакционные стороны этой крестьянской идеологии
мешали творчеству Толстого, тормозили его развитие,
отводили от живой действительности. И наоборот,
прогрессивные, революционные стороны этой идеологии, горы
ненависти против помещиков и буржуев, купцов и попов,
чиновников и всего самодержавного строя изостряли его
зрение, сообщали произведениям великую критическую
силу и неувядающую полнокровную художественность.
Исследователь творчества Толстого обязан при
анализе его художественных произведений критически
отделять в них «разум» Толстого от его «предрассудков».
Именно ленинская постановка вопро'са о Толстом как
«зеркале» русской революции освещает ярким светом все
творчество писателя на протяжении десятилетий. Толстой
окончательно сложился как мыслитель и художник в
1861 —1904 годы, то есть в /гореформенную, но
дореволюционную эпоху.
Идейные и творческие искания Толстого, каждое его
крупное начинание в эти годы- нужно рассматривать с
точки зрения конкретных путей и перепутий подготовки,
развития и нарастания первой русской революции, по
содержанию явившейся именно «крестьянской» революцией.
Каждое из выступлений Толстого как художника или
проповедника в это время должно быть взвешено как
попытка на свой, чисто «толстовский», лад решить те вопросы,
которые исподволь созревали и открыто остро встали в
1905 году. Величие Толстого состоит в том, что он сам
ставил эти вопросы и «торопил» <их решение... Глубоко
закономерен разрыв Толстого со своим дворянским классом
в 80-е годы XIX века и нарастание критической силы в его
романах от «Войны и мира» к «Воскресению».
Ленинская характеристика Толстого как обличителя
относится не только к периоду после перелома в его
мировоззрении, то есть после 1880 года. Перелом этот,
конечно, нельзя недооценивать. О нем говорил сам
Толстой в «Исповеди» с глубокой искренностью и
убедительностью. Ленин подчеркивал, что Толстой, порвав с
привычными взглядами своей среды, особенно в своих
«последних» произведениях, обрушился со страстной
критикой на все современные порядки. Но
хронологические рамки идейного и художественного формирования
Толстого у Ленина указаны четко: 1861 — 1904 годы.
К моменту резкого разрыва с дворянским,
аристократическим классом прошел длительный период постепенного
накопления демократических элементов в мировоззрении
Толстого. По мере того как всегда волновавший Толстого
крестьянский вопрос приобретал все большую и большую
остроту и массы крестьянства все смелее, тверже и шире
разворачивали свою инициативу в его решении, росли и
крепли демократические элементы в мировоззрении и
творчестве Толстого. 1861 год выделен Лениным не как
начальная точка идейного развития Толстого, а как
наиболее яркая дата, с которой связаны в истории России
наиболее ощутимые 'и действенные мероприятия по решению
крестьянского вопроса, выразившиеся в грабительской
царской реформе и стихийных массовых бунтах и восстаниях
крестьян, возмущенных этой реформой. Дата 1904 год
выделена Лениным как «конец толстовщины», ибо
решение крестьянского вопроса на себя взяла
буржуазно-демократическая революция, гегемоном в которой выступает
пролетариат в союзе с крестьянством. Но и 50-е годы
в творчестве Толстого должны быть рассматриваемы под
углом зрения статей Ленина, ибо хотя мировоззрение
Толстого в это время носит еще сословно-дворянский,
либеральный характер, в нем постепенно уже
накапливались критические и демократические элементы, —
конечно, еще в очень слабом виде, по сравнению с более
зрелыми 60—70-ми годами, но все же накапливались.
Не случайно Чернышевский чутко уловил уже в
первых произведениях Толстого 50-х годов его умение
воспроизводить крестьянский «взгляд на вещи».
Задачи исследователя состоят в том, чтобы показать,
как шаг за шагом в конкретно-исторических условиях и
в специфических для Толстого формах, в соответствии с
нарастанием антикрепостнической борьбы, развивались
мировоззрение и творчество Толстого, все больше и боль*
ше проникавшиеся демократизмом. Наибольшей остроты
демократизм в его мировоззрении достигает в 'период
после перелома, то есть с 80-х годов XIX века. С этого
момента Толстой и становится идеологом русского
патриархального крестьянства.
Творчество Толстого, при всей его специфике, нельзя
рассматривать в отрыве от основных этапов русского
освободительного движения и от прогрессивных традиций
русской литературы XIX века.
В творчестве великого Пушкина сложился метод
русского реализма. Автор «Бориса Годунова», «Евгения
Онегина», «Капитанской дочки» явился
основоположником новой русской литературы, которая непосредственно
была вызвана патриотическим подъемом народа в
Отечественной войне 1812 года и революционным движением
декабристов. В творчестве Пушкина слились все лучшие
традиции предшествовавшей ему русской литературы и
особенно яркая сатирическая традиция, представленная
именами Кантемира, Фонвизина, Радищева. Пушкиным
заложены новые традиции, разрабатывавшиеся и
обогащавшиеся всеми последующими русскими писателями
XIX века. Толстой сам не раз подчеркивал, что надо
учиться у «отца нашего», Пушкина. Певец декабризма,
Пушкин еще в «Борисе Годунове» осознает значение
народа как движущей силы истории. После поражения
декабристов великий реалист 'понял, что всякое
прогрессивное общественное движение обречено на провал, если оно
будет «страшно далеко от народа». Все последующее,
после 1825 года, творчество Пушкина проникнуто
страстными поисками реальных путей сближения с народом.
Глубокий и обостренный интерес Пушкина к Степану
Разину, Емельяну Пугачеву, крестьянскому движению в
России -показывает, что поэт верно осознал стремление
народа к свободе. Творчество Пушкина явилось
громадным актом сближения передовой русской литературы с
народом.
В творчестве Лермонтова и в особенности Гоголя
углубились и расширились традиции Пушкина,
традиции русского критического реализма. Творчество Гоголя
становится преимущественно сатирическим; Гоголь
подверг осмеянию все господствующие сословия
николаевской России, разоблачил преступления помещиков, чи-
новников, сиятельных бюрократов, их круговую поруку,
как «корпорации воров и мошенников».
В 40-е годы благодаря воздействию творчества
Гоголя и революционно-демократической критики
Белинского в русской литературе складывается целая
реалистическая школа, представителями которой были
Некрасов, Гончаров, Тургенев, Герцен, Салтыков-Щедрин,
Островский — писатели-реалисты, занявшие ведущее
место в русской литературе второй половины XIX века. Эта
школа молодых писателей, продолжая сатирические
традиции Гоголя, вернулась ко многим проблемам,
поставленным еще в творчестве Грибоедова, Пушкина, и тем
значительно расширила фронт борьбы с самодержавием и
крепостничеством. Одним из замечательнейших
достижений этих учеников Пушкина и Гоголя было то, что они
сумели всесторонне показать разложение дворянской
правящей верхушки и поставить крестьянский вопрос как
художественную и политическую проблему всей русской
литературы. Толстой-юноша зачитывался «Мертвыми
душами» Гоголя, «Записками охотника» Тургенева, «плакал»
над «Деревней» и «Анто(ном-Горемыкой» Григоровича.
Толстой как писатель выступил позднее, в 50-е годы,
но процесс его идейного и художественного
формирования, позволивший ему сразу создать зрелые
произведения, подспудно протекал еще в 40-е годы. Самым важным
вопросом всей русской жизни того времени Белинский
назвал в знаменитом своем письме к Гоголю
крестьянский вопрос, ликвидацию крепостного права. Проходившая
под этим знаком вся революционно-демократическая
деятельность Белинского будила умы, подымала на
сознательную борьбу с существующим злом. Конечно, далеко не
всякий читатель так прямолинейно и ясно сознавал цели этой
борьбы, как сам Белинский; но несомненно, его статьи
помогали молодому поколению, будили мысль, толкали на
тот или иной, часто очень своеобразный путь протеста.
Толстой принадлежал к поколению молодых людей
40-х годов. И знаменательно, что Толстой-юноша, студент
Казанского университета, захвачен «общим брожением
умов» в передовой части дворянства и в 1847 году
решает заняться положением своих яснополянских мужиков.
По-своему, «по-толстовски» великий писатель активно
участвует в общественной борьбе и на всех последующих
10
стадиях ее развития. Так было в 50—60-е годы, которые
связаны с именами Чернышевского и Добролюбова.
Расходясь с демократами в способах и методах борьбы с
социальным злом, Толстой, однако, сходился с ними в
страстном желании освобождения крестьян.
Особого внимания заслуживают 70—80-е годы в
деятельности Толстого. Ленин именно к этим годам относит
наибольшее влияние идей Толстого, когда «критические
элементы учения Толстого могли на практике приносить
иногда пользу некоторым слоям населения вопреки
реакционным и утопическим чертам толстовства».1
Народническое движение во многом было шагом назад от
революционного наследства Чернышевского и Добролюбова.
Складывающееся именно в этот период «толстовство»
было тесно связано с народничеством и в известном
смысле являлось разновидностью некоторых из его
иллюзий: «ну>кчо учиться у народа», отрицание
капиталистического развития России и т. п. Ленин подчеркивает
«Подобно народникам, он не хочет видеть, он закрывает
глаза, отвертывается от мысли о том, что «укладывается»
в России никакой иной, как буржуазный строй».2
Вместе с тем Толстой своим критицизмом намного
превосходил народников. В 90-е годы творчество Толстого
как идеолога патриархального крестьянства объективно
явилось «зеркалом» нарастающей первой русской
революции, отражая ее сильные и слабые стороны.
При освещении последних лет жизни и творчества
Толстого должно учитывать, что 1905 год принес
«исторический конец» толстовщине как идеологии
определенных «условий жизни». С выходом на самостоятельную
историческую арену пролетариата кредит толстовщины,
как и народничества, стал катастрофически падать.
В огне революции пробудившиеся массы вобрали в себя
как свое '«законное достояние» критицизм, священный
гнев писателя-обличителя и отвергли как помеху, как
пережиток разрушаемого общественного порядка его
религиозную проповедь. Утопизм и реакционность
толстовства особенно резко выступили в годы после поражения
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 32.
2 Там же, стр. 30.
революции и в преддверии нового революционного
подъема. Необходимость борьбы с «толстовством» была
одним из «уроков революции», который учла наша партия,
готовясь к новым битвам.
Толстой-художник никогда не стоял особняком в
русской литературе, у него была глубокая связь со всеми ее
лучшими традициями. За несомненной оригинальностью
Толстого, ярко бьющей у него уже в первых
произведениях, скрываются органические связи писателя <с
предшествовавшей и современной ему русской литературой.
Толстой в «Войне и мире» вовсе не уходил от злобы
дня 60-х годов, когда велись ожесточенные споры по
поводу «Отцов и детей» Тургенева, «Что делать?»
Чернышевского. Толстой по-своему принял участие в
обсуждении проблематики 60-х годов, центром которой был
крестьянский вопрос. В попытках героев романа «Война и
мир» Андрея Болконского, Пьера Безухова разрешить
крестьянский вопрос в своих владениях отразились
раздумья по этому вопросу самого Толстого. Но главная
связь знаменитого романа с проблематикой 60-х годов
заключалась в том, что Толстой гениально изобразил
русский народ героическим спасителем отечества в войне
1812 года, тот народ, который спас честь России под
Севастополем в 1855 году и который в 1861 году был
начисто ограблен и пущен по миру царской «реформой».
Педагогическая практика Толстого в Ясной Поляне, при
всей ее оригинальности, была его «данью» 60-м годам.
В «Анне Карениной» Толстой вовсе не замкнулся
в рамки семейного романа, на манер многих
западноевропейских реалистов. «Анной Карениной» Толстой внес
свою лепту в общее дело русской прогрессивной
литературы 60—70-х годов, которая во весь рост поставила
вопрос об эмансипации женщины. Здесь, как известно,
Толстому пришлось пойти даже наперекор многим
собственным убеждениям и создать сильный, обаятельный,
нравственно чистый и «оправданный» образ русской
женщины, переступившей через предрассудки и «мораль» со-
словно-дворянского общества. В соответствии с лучшими
традициями передовой русской литературы Толстой
ставит и решает в своем романе женский вопрос как часть
общего, большого вопроса об освобождении России от
всякого гнета и насилия.
12
В романе «Воскресение» — наиболее остром —
Толстой сорвал «все и всяческие маски» с господствующих
классов и одной уже этой необыкновенно возросшей
силой критического обличения отразил наступавшее в
России революционное предгрозовье. Роман «Воскресение»
по справедливости считается вершиной русского
критического реализма. Вопреки многим своим
непротивленческим предрассудкам, Толстой заставляет свою героиню
Катюшу Маслову, жертву существующего порядка
вещей, найти свое подлинное «воскресение», подлинных
друзей в группе нравственно чистых, волевых
политических ссыльных — революционеров, с которыми она
попадает в Сибирь.
При решении вопроса о связях Толстого с
литературной традицией необходимо исходить из следующего
указания Ленина: «Критика Толстого не нова. Он не
сказал ничего такого, что не было бы задолго до него
сказано и в европейской и в русской литературе теми,
кто стоял на стороне трудящихся». 1 Своеобразие,
оригинальность Толстого состоит в том, что он многие из уже
поставленных вопросов в русской литературе, и не им
одним решавшихся, отразил с точки зрения
многомиллионного патриархального крестьянства в период острой
ломки взглядов и отношений в этой широкой массе.
В творчестве Толстого органически сочетались традиции
и новаторство.
Толстой создал первоклассные произведения мировой
литературы, которые составили эпоху в художественном
развитии человечества. Рисуя старую, дореволюционную
Россию, Россию помещика и крестьянина, он «сумел
поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел
подняться до такой художественной силы, что его
произведения заняли одно из первых мест в мировой
художественной литературе».2 Но Толстой приобрел мировое
значение именно потому, что в своих произведениях
гениально запечатлел «черты исторического своеобразия
всей первой русской революции, ее силу и ее слабость».3
Научное изучение жизни и творчества Толстого ши-
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301—302.
4 Там же, стр. 293.
8 Там же, стр. 294.
13
роко развернулось после Великой Октябрьской
социалистической революции. С этого же времени начался
невиданный в истории человечества грандиозный процесс
приобщения широких народных масс к культуре. Перед
литературной наукой встал вопрос о научной подготовке
собраний сочинений русских классиков, и в том числе
Толстого. На протяжении с 1918 по 1952 год
толстовские произведения были изданы тиражом 47 631 тысяча
экземпляров на 73 языках народов СССР и стали
подлинно народным достоянием. Из собраний сочинений Толстого
следует отметить «Полное собрание художественных
произведений» в 15 томах, со статьями и обширным
комментарием A928—1930); начатое в том же 1928 году и
продолжающееся до сих пор так называемое юбилейное
издание — первое полное собрание всех сочинений,
дневников и писем Толстого, снабженное научным
комментарием; на основе этого издания в 1951 году Гослитиздат
начал выпускать новое, четырнадцатитомное собрание
сочинений Толстого (художественные произведения).
Большую роль в изучении Толстого сыграла
публикация новых толстовских текстов: публицистических
произведений, дневников, писем, а также различных
мемуаров. В этой связи особо следует отметить два тома
«Литературного наследства», вышедшие в 1939 году
C5/36 и 37/38), в которых, помимо новых толстовских
текстов, были опубликованы исследования, посвященные
отдельным проблемам творчества Толстого (например,
работа В. В. Виноградова «О языке Толстого. 50—60-е гг.»,
П. Попова «Стиль ранних повестей Толстого», Б. М.
Эйхенбаума «Толстой после «Войны и MHpia» и др.).
Собран интересный и ценный биографический
материал в книгах: Н. Н. Гусев. «Летопись жизни и
творчества Л. Н. Толстого» (М.—Л., Academia, 1936), П. И. Б и-
рюков. «Биография Л. Н. Толстого», тт. I—IV (ГИЗ,
1923), в монографии Б. М. Эйхенбаума «Лев
Толстой», т. I—II (ГИХЛ, 1928, 1931), и т. д. Советскими
литературоведами начато изучение вопросов
взаимоотношений Толстого с крупнейшими русскими писателями —
Герценом, Некрасовым, Салтыковым, Короленко,
Чеховым, Горьким и др. Проблема мастерства
Толстого-художника разработана в ряде книг и статей: «Толстой о
художественном творчестве» Н. Н. Гусева («Октябрь»,
14
i935 № И), «Портрет в романах Л. Н. Толстого»
Л М Поляк («Литература в школе», 1937, № 3),
«Толстой: работа и стиль» Л. М. Мышковской
(«Советский писатель», 1939), «Как работал Толстой» Н. К. Г у д-
зия («Советский писатель», 1936) и др. Последнему
автору принадлежит и популярный очерк — «Лев Толстой
Из курса лекций по истории русской литературы» (изд.
Московского университета, 1952).
В 1951 году вышел сборник исследовательских статей:
«Лев Николаевич Толстой» (изд. АН СССР), среди
которых необходимо отметить работы К- М. Ломунова
«Толстой в борьбе против декадентского искусства», Н. К.
Гудзия «От «Романа русского помещика» к «Утру
помещика», А. А. Озеровой «Роман «Воскресение».
Накопленный богатый фактический материал, мудрые
ленинские оценки мировоззрения Толстого и места его в
русской и мировой литературе, ясно указывающие путь
изучения Толстого, успешная разработка отдельных
проблем жизни и творчества Толстого, опубликование
обширного эпистолярного наследия писателя, его
дневников, многочисленных редакций и вариантов
художественных произведений — все это обязывает литературоведов
создать монографические исследования о великом
русском писателе. Работы о Толстом, написанные десять—
двадцать лет тому назад, 'не могут нас полностью
удовлетворить сейчас по разным причинам — и потому, что
многое в них методологически ошибочно, и потому, что в них
не использованы новые материалы, и потому, что
некоторые из них не были закончены.
Только коллективными усилиями советских историков
литературы можно выполнить ответственную задачу —
всестороннего исследования творчества Толстого и
создания нужных народу специальных монографий о великом
русском ^писателе. Настоящая книга является посильной
попыткой на основании достижений советской
литературоведческой науки дать общий очерк творчества
Толстого.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года
в Ясной Поляне, до 1822 года принадлежавшей князьям
Волконским. Это родовое имение отец Толстого, граф
Николай Ильич, получил как приданое за своей женой —
дочерью князя Н. С. Волконского, Марией Николаевной.
Детские годы Толстого сложились несчастливо: ему не
было и двух лет, как умерла его мать, а 21 июня
1837 года скоропостижно, «от кровяного удара», на одной
из тульских улиц скончался его отец. Опекуншей детей,—
а их было пятеро, — назначили тетку, сестру отца —
А. И. Остен-Сакен, а после ее смерти, в 1841 году, —
другую сестру отца, П. И. Юшкову. Фактической же
воспитательницей детей была Т. А. Ергольская — дальняя
родственница Толстых, женщина самоотверженного
характера. Это о ней Толстой 22 марта 1851 года сделал
запись в дневнике: «Хорошую можно написать книгу:
жизнь Татьяны Александровны».
В 1841 году Толстые переехали в Казань, где жила их
новая опекунша. Первоначальное образование Толстой,
как и принято было в дворянских семьях, получил дома,
сначала у воспитателей, а затем у специально
приглашенных учителей. В сентябре 1844 года Толстой поступил
в Казанский университет по разряду «арабско-турецкой
словесности», но в следующем же году перешел с
факультета восточной словесности на юридический.
Это была мрачная эпоха Николая I, когда гнет
крепостничества был доведен до предела, когда в армии
царила палочная дисциплина, во всей бюрократической
машине — продажность и взяточничество, в университет-
16
ской науке — бездушный формализм. Но в то же время,
несмотря на чудовищный гнет, раздавалась
мужественная речь Белинского и Герцена, русская реалистическая
литература в правдивых картинах обнажала перед
обществом нищету и бесправие народа, будила смелую
мысль и решимость на борьбу с крепостничеством.
Толстой-студент не стоял в стороне от бурного
умственного движения 40-х годов. Самый переход на
юридический факультет показывает его обостренный интерес
к общественным проблемам, желание разобраться трезво
по всем механизме царской государственной машины.
Н. Н. Булич, в молодости учившийся вместе с Толстым
в Казанском университете, свидетельствует: «Тогда мы
вели серьезные разговоры, и всегда больше о философии.
Я изучал Спинозу, и помнится впечатление,
произведенное на меня оригинальным умом Толстого». * Толстой-
студент не только предавался светским забавам, но я
много раздумывал об окружавшей его действительности.
Занимаясь в 1847 году сравнением «Духа законов»
Монтескье с «Наказом» Екатерины II, он приходил к смелым
выводам, что «деспотизм» и «рабство» являются тяжким
злом русской жизни. В своем дневнике Толстой
записывал: «Чрезвычайно странны многие мысли Екатерины;
она постоянно хочет доказать, что хотя монарх не
ограничен ни чем внешним, он ограничен своею совестью; но
ежели монарх признал себя, вопреки всем естественным
законам, неограниченным, то уже у него нет совести, и он
ограничивает себя тем, чего у него нет». И затем еще
о Екатерине: «Она республиканские идеи,
заимствованные большей частью от Montesquieu..., употребляла как
средство для оправдания деспотизма, но большей частью
неудачно».2
Естественно, что с такийи мыслями Толстой не мог
уверовать в святость существовавшего вокруг него
деспотизма, и казенная юриспруденция вызывала у него
глубокое отвращение. 12 апреля 1847 года Толстой подал
прошение об отчислении из университета «по расстроенному
1 Из письма проф. Н. Н. Булича Н. Я. -Гроту от 10 января
:, ™да. Цит. по книге Н. Н. Апостолова «Живой Толстой»,
М., 1928, стр. 26.
Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 46, Гос. изд.
художественной литературы, стр. 21, 27.
2 С Глл /коа jj
здоровью и домашним обстоятельствам». Характерно,
что недели за три до этого он записал в дневнике:
«Во мне начинает пробуждаться страсть к наукам». Но
эту страсть он уже будет удовлетворять путем
самостоятельного чтения, не пытаясь больше поступать ни в одно
из высших учебных заведний.
Накануне подачи прошения об увольнении из
университета происходит раздел наследства между Толстыми.
Льву Николаевичу достается в числе других деревень и
Ясная Поляна. Вместе с землей и всякими строениями
к нему отошло 330 крепостных крестьян, В этой связи
он решает, как и герой его повести «Утро помещика»
Нехлюдов, посвятить все свои силы улучшению жизни и
быта вверенных ему крестьян и одновременно за
короткий срок овладеть множеством наук. Разумеется, ни того,
ни другого осуществить не удалось: много препятствий
ставил этому все тот же николаевский режим, и сам
Толстой еще был очень наивен в своих филантропических
затеях. План же овладения пауками был составлен явно
не по силам.
Целых четыре года — с апреля 1847 года по апрель
1851 года — проходят у Толстого в поисках определенных
занятий. Помещика из него не вышло, мужиков
облагодетельствовать не удалось. Толстой буквально не знает,
что ему делать, чем заняться. В таком состоянии он
с зятем чуть не уехал в Сибирь, несколько месяцев
провел в Москве «очень безалаберно, без службы, без
занятий, без дели». Затем он поехал в Петербург, где
в университете успешно выдержал экзамены по двум
предметам на степень кандидата, но на этом сдачу
экзаменов прекратил. Толстой намеревался поступить то
юнкером в Конногвардейский полк, то на службу в
министерство иностранных дел; то продолжать подготовку
к университетским экзаменам. Дело кончается тем, что
он возвращается в Ясную Поляну, увлекается музыкой,
открывает школу для крестьянских детей (осень 1849
года), затем начинает служить в канцелярии тульского
губернского правления. Неизвестно почему у него вдруг
появляется мысль сиять в аренду вместе с одним
тульским помещиком почтовую станцию.
Но уже сквозь эту внешне пеструю картину занятий,
отражавшую поиски страстной, мятущейся души, иачи-
18
«яет пробиваться to, что через некоторое время станет
главенствующим в его жизни, что определит все
направление и весь смысл ее: Толстой обращается к
литературному, художественному творчеству.
Письма и в особенности дневники Толстого этой поры
великолепно свидетельствуют о зарождении у пего
определенных писательских стремлений и замыслов. Писание
дневника он уже рассматривает как постоянную и
обязательную для себя литературную работу.
Самонаблюдения анализ окружающих событий, фиксирование
внутренних психологических процессов, краткие
характеристики окружающих лиц —таковы первые, еще слабо
оформленные элементы складывающегося писательства
раннего Толстого. То он пишет проповеди, то хочет
написать повесть из цыганского быта, писать сон, историю
охотничьего дня, жизнь Татьяны Александровны (Ерголь-
ской). Но следует придать особое значение записи от
18 январе 1851 года, в которой кратко сказано о
замысле «Писать историю моего дня», что частично и было
выполнено в незаконченной «Истории вчерашнего дня».
С этого произведения и следует считать начало
собственно литературной творческой работы Толстого. Уже
здесь Толстого привлекает задача, которая впоследствии
будет^у него (всегда на первом плане: взаимосвязь
явлений. Он намеревался, как свидетельствует запись от
24 марта, «написать» (заметим: а не описать!) прожитый
«день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он
породит» (курсив наш. — С. Б.).
Но все эти литературные записи еще пока не
осуществляются полностью. В конце апреля 1851 года
Толстой вдруг вместе с братом Николаем уезжает на Кавказ
(впоследствии он признавался, что это решение им было
принято «сломя голову»).
В самом конце мая 1851 года Толстые прибыли па
место, в станицу Старогладковскую, и вскоре Лев
Николаевич в качестве волонтера уже участвовал в набеге
на горные аулы. 3 января 1852 года Толстой выдержал
экзамен на звание юнкера, и в тот же день был получен
приказ о зачислении его на службу «фейерверкером
4 класса». В Кавказской армии Толстой прослужил два
с половиной года, участвуя в ряде операций против гор-
Дев. За отличия в этих делах его производят в прапор-
19
щики. Кавказ обогатил Толстого многими новыми
впечатлениями и встречами. Жизнь в станице способствовала
сближению с гордыми, воинственными гребенскими
казаками. Неразлучным другом Толстого был удалой
джигит дядя Епишка, выведенный впоследствии им в
«Казаках» в образе дяди Ерошки. Однажды Толстой чуть было
не попал в плен к чеченцам, добрый конь спас его от
преследователей.
Здесь, на Кавказе, Толстой родился и как писатель.
За это время им было написано: «Детство», «Набег»,
почти окончено «Отрочество», появившиеся на страницах
журнала «Современник»; начат «Роман русского
помещика», возникли замыслы ряда других произведений,
осуществленных позднее, в частности замысел повести
«Казаки». Огромная внутренняя духовная работа в Толстом
сразу же дала богатые творческие всходы. Этот
прапорщик успел уже разобраться во многих существенных
традициях русской литературы, понять и перечувствовать
творческие манеры крупнейших прозаиков и настолько
самоопределиться в своем даровании, что сразу выступил
как зрелый писатель, своеобразный стиль которого
обратил на 'себя внимание.
Толстой был продолжателем Пушкина, Лермонтова,
Тургенева, Гончарова. Его сравнивали тогдашние
журналисты со всеми лучшими писателями русской литературы.
И вместе с тем все почувствовали, что этот автор своими
свежими повестями и рассказами, темами и идеями
открывает новый мир творчества, новые стороны русской
действительности и человеческой психологии. Уже в
работе над первым своим крупным литературным
произведением Толстой обнаружил то величайшее упорство,
трудолюбие и требовательность взыскательного
художника, которые характерны были потом для него всю
жизнь.
Первым опубликованным произведением Толстого
было «Детство» — часть большой трилогии. Оно
появилось в некрасовском «Современнике» в 1852 году.
Отправляя «Детство» в Петербург, Толстой писал 3 июля
1852 года Некрасову: «Просмотрите эту рукопись, и
ежели она не годна к напечатайте, возвратите ее мне.
В противном же случае оцените ее, вышлите мне то, что
она стоит, по вашему мнению, и напечатайте в своем
20
журнале». В августе Толстой получил ответ от
Некрасова: «Я прочел вашу рукопись. Она имеет в себе
настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная
продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что
в авторе ее есть талант. Во всяком случае направление
автора, простота и действительность содержания
составляют ' неотъемлемое достоинство этого произведения.
Если в дальнейших частях (как и следует ожидать)
будет побольше живописи и движения, то это будет
хороший роман. Прошу вас прислать мне продолжение.
И роман ваш и талант меня заинтересовали...»
Одно за другим появлялись в печати произведения
Толстого: в марте 1853 года рассказ «Набег», в октябре
1854 — «Отрочество» (вторая часть трилогии), в январе
1855 — «Записки маркера», в сентябре того же года
«Рубка леса». Передовой журнал того времени
«Современник» явился трибуной для молодого Толстого.*
Толстой-писатель был участником больших
политических событий. Шла Крымская война. Выехав с Кавказа
в Россию в январе 1854 года и посетив Ясную Поляну и
Москву, Толстой вскоре отправился по назначению в
Дунайскую армию, в Бухарест. Однако затем по
собственному желанию он перевелся под Севастополь и принял
активное участие в обороне города-героя против
турецких и англо-французских войск в качестве командира
артиллерийской батареи на самом опасном, четвертом
бастионе.
В «Современнике» 1855—1856 годов появляются
знаменитые, приковавшие к себе жадное внимание публики
севастопольские рассказы Толстого: «Севастополь в
декабре», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе».
Последний рассказ вышел впервые с полной подписью
автора: «Л. Н. Толстой».
По окончании военных действий Толстой в конце
ноября 1855 года появляется в Петербурге и сближается
с литературными кругами и особенно с редакцией
«Современника». Его литературная работа интенсивно
продолжается, и появляются в печати произведения:
«Метель», «Два гусара» (в том же «Современнике») и «Утро
помещика» — в «Отечественных записках».
Критики в один голос заговорили о выдающихся
художественных достоинствах первых повестей и рассказов
21
Толстого, отмечали новизну и цельность поэтического
восприятия действительности. Постепенно все более и
более четко вырисовывались глубокие проблемы его
творчества, захватывающий интерес вопросов, которые
ставит автор, их непосредственная связь с самыми
«проклятыми», самыми острыми вопросами русской жизни.
Однако постановка и решение их у Толстого носили
своеобразный и противоречивый характер, отражавший всю
сложность идейных исканий писателя в то время.
Первые части трилогии — «Детство» и «Отрочество»—
представляли собой по силе проникновения в душевную
жизнь ребенка явления, еще небывалые в русской
литературе. Толстой изображает процесс становления
человеческого характера, показывает, к!ак в духовный мир
десятилетнего мальчика входят одно за другим
впечатления от внешнего мира, как расширяется круг его
представлений о действительности, как обогащается его
духовная жизнь. От утреннего пробуждения в детской, где
мир ограничен и узок, до поездки в Москву — таковы
конечные моменты познания жизни Николенькой Иртене-
вым в детстве. Сохранилось характерное признание
писателя о своей повести: «Когда я писал «Детство», то мне
казалось, что до меня никто еще так не почувствовал и
не изобразил всю прелесть и поэзию детства». Это
действительно так. В русской литературе не было ни одного
произведения до повести Толстого, где бы столь ярко,
глубоко и волнующе было передано все очарование, вся
прелесть детства, где бы так совершенно было воплощено
единство поэтического замысла. В повести Толстого все
разнообразные картины объединены взглядом ребенка
на мир, проникнуты единым чувством радости бытия,
поэзии детства: «Счастливая, счастливая, невозвратимая
пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний
о ней?» В этом пафос первой повести Толстого.
Но уже в «Детстве» нашли свое отражение такие идеи
Толстого, которые впоследствии в более развитом виде
войдут в его «учение». Писатель создает образ юродивого
Гриши, любуется его религиозным экстазом — и это не
случайно. Уже в те годы Толстого сильно волновал
вопрос об основании какой-то новой религии, отличной от
официальной. Характерен также и образ экономки
Натальи Савишны, преданной слуги своих господ, умирав-
22
шЬй с сознанием того, что она исполнила «закон
евангелия», то есть посвятила всю свою жизнь бескорыстной
и самоотверженной любви. Все это являлось
объективным восхвалением и поэтизацией рабской психологии,
потому что любовь и самоотвержение Натальи Савишны
целиком были посвящены господам. В заключительной
главе повести Толстой пишет о «беспредельной
потребности любви» как об одном из побуждений в жизни.
Впоследствии это перерастет в доктрину всеобщей «любви».
Так уже здесь закладывались основы
религиозно-нравственного «учения» Толстого, создавались первые его
формулы.
Для идейной направленности повести характерно и
другое. Изображая представителей крупной знати,
Толстой еще далек от того, чтобы подвергнуть какому-либо
сомнению самые основы их жизни. Больше того, он
любуется, например, князем Иваном Ивановичем, видным
генералом, восхваляет его нравственную чистоту, его
верность основным правилам религии. Как это непохоже
на образы аристократов и генералов в «Воскресении»,
в рассказе «После бала» и других произведениях
«позднего» Толстого! Пока еще писатель не видел на
блестящем мундире князя пятен крови его жертв.
Вся повесть проникнута поэтизацией дворянско-поме-
щичьего быта во всех его привлекательных и волнующих
для обитателей усадеб подробностях. В центре повести,
как и последующих частей трилогии, — типично
дворянский герой, отличающийся от других молодых дворян
исключительной наклонностью к самоанализу: черта
глубоко автобиографическая.
Николенька Иртенев растет и воспитывается в
обстановке полного материального благополучия, окруженный
гувернерами и учителями; он не знает ни нужды, пи
лишений крестьянских детей и не имеет никакого понятия
о том физическом труде, который падает на их плечи
с самого раннего возраста. Он живет в мире господ, все
благополучие которых зиждется на труде крепостных.
Этим определяется многое в его духовном формировании.
Свои детские годы Иртенев провел в замкнутом кругу
помещичьей усадьбы. Мир для него исчерпывался
родными и слугами, привыкшими покорно исполнить волю
господ г •¦
23
Но вот первая поездка «па долгих» в Москву
открывает перед героем истину, что па свете существуют и
другие люди, ничего общего не имеющие ни с ним, ни с его
родными, ни с дворней, его окружающей. Перед ним как
бы раздвинулись границы мира, населенного людьми,
о которых он не имел никакого представления, открылись
новые стороны жизни.
В «Отрочестве» Толстой показывает пробуждение
критического сознания у героя.
Здесь, на почтовом тракте, встречаются иные, чужие
люди, никак не зависящие от отца Николеньки и не
имеющие понятия о всех Иртеневых, люди, совершенно
лишенные привычной для домашних холопов
почтительности. Иртенев замечает, как на вопрос — какой товар
везут в обозе — встречный извозчик
«равнодушно-презрительным взглядом» окинул барскую бричку и снова
скрылся под рогожей. Проезжавшие господа с минутным
любопытством смотрели на мужиков и лавочников,
женщин и детей, но они «не только не кланялись нам, как
я привык видеть это в Петровском, но не удостаивали
нас даже взглядом...» Николенька Иртенев задает себе
вопрос: «... верно, эти извозчики не знают, кто мы такие
и откуда и куда едем?..» Так Толстой раскрывает со-
словно-дворянский характер психологии героя.
Характеризуя перемены во взглядах Иртенева на
жизнь, Толстой писал в одном из лирических отступлений
повести: «Случалось ли вам, читатель, в известную пору
жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи
совершенно изменился, как будто все предметы, которые вы
видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой,
неизвестной еще стороной? Такого рода моральная перемена
произошла во мне в первый раз во время нашего
путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества».
В мире царят роскошь и нищета: они, господа, едут
в экипажах, закрытых кожей, а за ними под проливным
дождем, не прикрытый ничем, бежит оборванный нищий,
чтобы получить жалкий пятак. В этом контрастном
сопоставлении были обнажены крайние полюсы богатства и
бедности. Но Толстой показывает, что иногда водораздел
между ними проходил значительно глубже и был
незаметен молодому герою. Нищий в лохмотьях — это было
ясно Николеиьке, но бедность милой, грациозной Катень-
24
кщ дочери гувернантки, — это странно и непонятно. Ка-
теН^ка говорит Иртеневу: «Вы богаты — у вас есть
Петровское, а мы бедные — у маменьки ничего нет».
От такого признания Николеньке стало «совестно», у него
возникло желание «разделить поровну» то, что они имели.
Разумеется, этого не произошло, но взгляд героя на мир
стал шире; перед ним раскрылись до тех пор
завуалированные социальные контрасты жизни.
Значительно расширяются и уточняются
представления Иртенева и о своем близком окружении, в частности
о слугах. Он узнает, что не все они такие покорные и
преданные холопки, как Наталья Савишыа, что среди
дворни есть люди с растущим чувством человеческого
достоинства, недовольные своей участью и стремящиеся
выйти из рабского положения. Такова горничная Гаша,
с едва сдерживаемым негодованием исполняющая
капризы барыни и ясно осознающая весь трагизм своей
судьбы: «проклятая жизнь, каторжная!» Таков лакей
Василий, в крепостном положении лишенный возможности
жениться на горничной Маше и смертельно ненавидящий
господ. На уговоры быть покорным, то есть в сущности
отказаться от своего счастья, Василий гневно отвечает:
«Мочи моей не стало... Одну тебя жалею, а то бы уж
да-авно моя головушка на воле была».
Все эти социальные явления, открывшиеся взору
Иртенева, не могли не тревожить его сознания, и они
в «Юности» постепенно рождают у него сложные
этические и философские искания. Дружба с князем
Нехлюдовым открыла ему «новый взгляд» на жизнь, в его
сознание вошли новые идеи, и среди них — идея нравственного
самоусовершенствования, определяющая, по мнению
Иртенева, цель жизни и назначение человека: «Тогда
исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастия
людские казалось удобоисполнимою вещью...» У героя
трилогии начали вызревать социальные идеалы,
проникнутые пока еще не совсем ясными гуманистическими
стремлениями.
Однако, общаясь с Нехлюдовым, наблюдая его
странную, противоестественную привязанность к
«рыженькой», кривобокой Любови Сергеевне, девице
«чрезвычайно^ религиозной», часто встречавшейся с юродивым Ко-
реишей, Иртенев начал сомневаться в искренности своего
25
друга. Особенно ярким эпизодом в развенчании
Нехлюдова является избиение им без всяких оснований слуги
Васьки. По характерно, что Иртенев жалеет все же не
Ваську, а Нехлюдова за его «моральные» страдания.
Васька — слуга, что о нем думать. Эти две «нравственно
усовершенствованные» личности не признают в слуге
человека. Один тут же записывает в тетрадь очередной грех
и умоляет бога простить его, другой говорит о больных
зубах Нехлюдова. И оба после этого «инцидента»,
моментально забыв про избитого Ваську, решают: «Отлично
жить на свете». Перед нами раскрывается барский
характер всех этих теорий нравственного
«самоусовершенствования» и в то же время непривлекательность, фальшь
и кривляние в поведении Нехлюдова, которому
поклонялся Иртенев.
Дворянско-сословный характер воспитания Иртенева
с особой рельефностью обнаруживается в его страстном
стремлении стать человеком comme il fattt. Правда, он
уже с раскаянием признается, что это понятие было
одним из заблуждений его жизни, но оно было привито
ему «воспитанием и обществом». По-дворянски
истолкованная «порядочность» включала презрение к простому
народу («простой народ не существовал для меня...»),
преклонение перед иностранщиной («отличный
французский язык») и лоск чисто внешней «культурности»,
граничившей с самым пошлым фатовством («ногти
длинные»).
В университете Иртенев наблюдает социальное
расслоение студенчества: с одной стороны, тесная группа
казеннокоштных студентов-разночинцев — это для него
«совсем не то»; с другой — аристократы — князья и
бароны, к ним он и примыкает. Но Толстой с иронией
показывает, что Иртенев среди своих спесивых друзей не
нашел ни сердечности отношений, ни глубоких знаний,
ни серьезного отношения к науке. В нем возбуждают
невольное уважение «новые товарищи» из разночинцев,
отличавшиеся упорством, работоспособностью, хорошим
знанием наук, прямотой, честностью, поэзией молодости
и удальства.
«Новые товарищи» заронили в его сознание семена
сомнения в истинности теории дворянско-сословной
исключительности, перед ним открылась возможность «пере-
26
менять что-то в своих убеждениях». Его привычные
взгляды на жизнь дали трещину, и хотя герой еще нг
дозрел до решающих перемен, не стал другим человеком,
но уже смог осознать все недостатки своего воспитания
и привычек. Он уже живет с сознанием глубокой
неправды существующих отношений между людьми, между
богатыми и бедными.
В отличие от первых двух частей трилогии в
«Юности» больше анализа субъективных переживаний
повзрослевшего героя. Этим переживаниям и раньше
уделялось значительное внимание, но здесь они гораздо
серьезнее и заметно выдвинуты на первый план. Герой
весь погружен в самоанализ, неотступно наблюдает за
своей душевной жизнью, и все внешние события, как и
другие персонажи повести являются только средством
выявления различных сторон личности героя, все подчинено
этой основной задаче. «Юность» осталась незаконченной.
Толстой (набросал планы второй половины «Юности»
(первоначально им названной «Молодость»), в которой
хотел рассказать о другой поре жизни своего героя, но
это намерение осталось неосуществленным.
Не лишена интереса позднейшая оценка трилогии
самим Толстым. Уже на склоне лет, готовя воспоминания
о своей жизни, он перечитал все три повести и,
признавая их известную автобиографичность, во всех нашел
недостатки. «В особенности же не понравились мне
теперь, — писал он, — последние две части: отрочество и
юность, в которых, кроме нескладного смешения правды
с выдумкой, есть и неискренность: желание выставить
как хорошее и важное то, что я не считал тогда хорошим
и важным, — мое демократическое направление». 1
Конечно, при характеристике трилогии нельзя
говорить о демократическом направлении в творчестве
раннего Толстого. Он сам находился тогда во власти со-
словно-дворянской идеологии. В то же время совершенно
очевидно, что Толстой не спокойный созерцатель
существующих порядков, что он уже в трилогии
обнаруживает стремление доискиваться до корней в объяснении
бросающихся в глаза конфликтов окружающей действи-
1 «Воспоминания» A903—1905 гг.) — см. Л. Н. Толстой.
Собрание художественных произведений, изд. «Правда», т. 10, стр. 252.
27
телыюсти. Толстому свойственно сознание, — и он
внушает его читателю, — что дворянская мораль изжила
себя, что все, чему учили Иртенева с детства, пришлось
ему заново «переучивать», что эта мораль трещит по всем
швам и не выдерживает критики со стороны людей,
зарабатывающих себе хлеб. Толстой заставляет Иртенева в
самый канун отмены крепостного права жить сознанием
своего паразитизма и своей неполноценности перед
морально превосходящими его разночинцами-студентами,
перед разными Зухиными, которые исподволь уже
завладевают вершинами подлинной культуры. Они-то скоро и
будут настоящими деятелями, а не эти
праздношатающиеся ленивцы, баричи, верхогляды, которые из
культуры сделали жеманство...
Какой бы идиллической ни выглядела ранняя
трилогия Толстого на фоне его дальнейшего творчества, но она
объективно отразила назревавший кризис
крепостничества, кризис господствующих дворянских верхов,
мечущихся в сомнениях и самоанализах, пытающихся
укрыться в тихой гавани «самоусовершенствования».
На Кавказе, в Железноводске, Толстой в течение
четырех дней A3—17 сентября 1853 года) написал рассказ
«Записки маркера», который свидетельствует об
углублении критического отношения писателя к дворянскому
светскому обществу. Рассказ опубликован в 1855 году.
Основной темой «Записок маркера» является тема
постепенного развращения чистого и невинного юноши,
который сначала гибнет нравственно, а затем кончает
самоубийством.
Характерно, что тема погибшей невинности, тема
развращения чистой и непорочной души была поставлена
Толстым несколько ранее, в незаконченном рассказе
«Святочная ночь», или «Как гибнет любовь» (январь
1853 года). Герой рассказа Сережа Ивин на бале
танцует с Лизой Шофинг, и они влюбляются друг в друга;
но затем старые светские волокиты, кутилы и циники,
везут Сережу к цыганам, а оттуда в публичный дом.
И счастье Сережи было разбито. «А жалко, — заключает
Толстой, — что такие прекрасные существа, так хорошо
рожденные один для другого и понявшие это, погибли
для любви». За что? Кто виноват? — спрашивает
писатель. Виновато светское общество, растленные нравы ко-
28
торого пагубно действуют на неискушенных и доверчивых
юношей; виноваты все эти рыцари порочных наслажде-
ний — князья Корнаковы и кутилы Долговы.
Светское общество в еще большей мере повинно
в нравственном растлении и гибели героя «Записок
маркера» Нехлюдова. Наивный юноша, после смерти отца
приехавший в Петербург, женится на богатой невесте,
постепенно втягивается в игру на бильярде и в другие
светские развлечения. За одну зиму он проигрывает
восемьдесят тысяч. Его ведут в публичный дом. Он горько
плачет о своей погибшей невинности, быстро опускается
и становится трактирным завсегдатаем. Спустя два года,
промотав богатое наследство, Нехлюдов дошел до того,
что занимал у маркера по целковому на извозчика.
Дальше идти было некуда. Это был конец. И Нехлюдов
стреляется. В предсмертной записке он писал: «Я убил
свои чувства, свой ум, свою молодость. Семерка, туз,
шампанское, желтый в середину, мел, серенькие,
радужные бумажки, папиросы, продажные женщины — вот мои
воспоминания!» Свет портит, калечит, губит человека, —
таков основной вывод из этого рассказа.
Сила рассказа — в его этическом пафосе. Толстой
осуждает моральные «нормы» дворянского общества,
развращающего человека. Сама форма рассказа — от лица
маркера — избрана не случайно. Жизнь господ
осуждается снизу, представителем демократической среды:
«Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа... Одно
слово — господа».
Характерно, что «Записки маркера» привлекли
внимание и Чернышевского: в них он увидел изображение
«страшной нравственной драмы». ! Уже в ранний период
творчества перед Толстым начал вырисовываться образ
народа, который наиболее ярко выступил в его военных
рассказах, написанных под впечатлениями от Кавказа и
особенно героической обороны Севастополя.
Величественная природа Кавказа, своеобразный быт
горцев, их нравы, обычаи, весь этот край, и грозный и
поэтический, глубоко взволновали Толстого. Писатель
задумывает цикл очерков «Записки о Кавказе». В одном
J Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. III,
*•. 1946, стр. 430.
29
из ййх он признается, что Кавказ долго был для него
«поэмой на незнакомом языке», что представление о
Кавказе у него сложилось под впечатлением Марлинского.
По реальный Кавказ разрушил многие поэтические
образы, «действительность была лучше воображаемого»,
и, приступая к своим запискам, Толстой писал,
обращаясь к читателю: «Желал бы, чтобы для вас, как и для
меня, взамен погибших, возникли новые образы, которые
бы были ближе к действительности и не менее
поэтичны». * Серию очерков о Кавказе Толстому осуществить
не удалось, но свои кавказские наблюдения он воплотил
в военных рассказах.
Его первый военный рассказ «Набег» A853) отразил
то пытливое внимание, с каким молодой писатель изучал
психологию солдата.
Вся художественная логика рассказа «Набег»
направлена на разоблачение ложных представлений о Кавказе
и о войне, широко насаждавшихся романтиками типа
Марлинского и официозными писаками — Скобелевым и
другими. Один из персонажей рассказа Толстого —
поручик Розенкранц — принадлежал к разряду тех удальцов-
«джигитов», которые воспитались на произведениях
именно Марлинского. Герой последнего, Мулла-Hyp, служил
для Розенкранца образцом доблести и мужества. Между
тем все в его поведении, как и в идеалах его
литературного наставника, было крайне далеким от жизни. Это был
картинный храбрец.
Ложность, напыщенность и ходульность героев
Марлинского в свое время показал Белинский. Толстой
своим обличением романтических шаблонов продолжал,
таким образом, дело Белинского, утверждая
реалистическое изображение войны. Розенкранцу он
противопоставляет капитана Хлопова, носителя истинного мужества и
храбрости. Еще перед самым походом рассказчик на
вопрос, обращенный к капитану, как он определяет
храбрость, получает ответ: «храбрый тот, который ведет себя
как следует» (курсив Л. Н. Толстого. — С. Б.). И затем
в ходе сражения он не замечает в поведении Хлопова
ничего необычного, за исключением сосредоточенного
внимания человека, занятого делом: «В фигуре капитана
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 3, стр. 216.
30
было очень Мало воинственного; но зато в ион было
столько истины и простоты, что она необыкновенно1
поразила меня. «Вот кто истинно храбр»,-—сказалось мне
невольно». Капитан Хлопов воплощал черты подлинно'
русского героизма, чуждого кичливости и всего показного.
Апофеоз скромного русского солдата и офицера
составляет идею рассказа «Набег». Толстой передает
глубоко верное наблюдение над психологией солдата и
офицера, которые перед лицом предстоящей опасности в
походе шутили, смеялись и балагурили, охваченные общим
оживлением.
Из этого вовсе не следовало, что писатель воспевал
войну; Толстой осуждал войну с позиций вечных
моральных истин, отстраняясь от оценки ее социальной природы.
Кругом была война, но «природа дышала
примирительной красотой и силой». И неужели среди этой
обаятельной природы, думал Толстой, в душе человека не
исчезнут чувства вражды, злобы, страсть истреблять себе
подобных? Уже в эти ранние годы своего творчества
Толстой наивно противопоставлял людским страстям природу
как средство утверждения мира и спокойствия в сердцах
людей.
Однако военной теме суждено было расшириться и
углубиться в творчестве Толстого.
В действующей армии, на бастионах Севастополя
перед писателем предстал народ в своем подлинно
героическом и патриотическом величии, во всей сложности
своего психического склада, раскрылись источники его
героизма и патриотизма.
Толстой наблюдал все фазы героической обороны
Севастополя как ее активный участник; немало дней он
провел на знаменитом Малаховом кургане,
подвергавшемся наиболее яростным артиллерийским канонадам и
атакам со стороны англо-французов.
Севастополь стойко держался против объединенных
сил англо-французских и турецких войск до конца
августа 1855 года. 27 августа Толстой участвовал в
последней защите славного русского города, командуя
пятью батарейными орудиями. А 28 августа, когда
Севастополь был оставлен, он плакал при виде горя-
31
щего города и французских знамен на его разрушенных
бастионах.
В Севастополе Толстой увидел в могучем действии
великую нравственную силу русского народа. Он увидел,
что настоящими героями севастопольской эпопеи
являются не те, кто произносит пышные фразы о
патриотических подвигах, а простые, скромные русские люди,
незаметно, без всякого позерства и бахвальства,
жертвующие своей жизнью в борьбе с иноземными
захватчиками, потому что в их сердцах горит «стыдливое»
чувство любви к родине. В письме к брату он сообщал о
защитниках Севастополя, сумевших в короткий срок
создать прочную оборону против превосходящего
противника: «Дух в войсках свыше всякого описания. Со
времени древней Греции не было столько геройства».
Свои пытливые наблюдения над поведением
защитников Севастополя Толстой воплотил в знаменитых
«Севастопольских рассказах», являющихся художественной
летописью героизма и патриотизма русского народа.
Рассказы, напечатанные в «Современнике» в 1855—
1856 годах, были встречены с огромным интересом.
Прочитав первый рассказ Толстого, Тургенев писал И. И. Па-*
наеву, что статья Толстого о Севастополе — «чудо», что
он прослезился, читая ее, и «кричал ура!» И. И. Панаев
сообщал Толстому, что его военные рассказы «с
жадностью» читает «вся Россия» и что все «с страшным
нетерпением» ждут букв Л. Н. Т.
В своих рассказах Толстой изобразил с немеркнущей
художественной силой героическую оборону Севастополя,
славные подвиги русских солдат и матросов, в ярких
образах раскрыл своеобразие характера и поведения
русского человека на войне. Русские солдаты многое делают,
«они еще могут сделать во сто раз больше... Они ©сё
могут сделать».
Анализируя причины высокой моральной стойкости,
бесстрашия и геройства, проявляемых ежедневно
защитниками Севастополя, Толстой устанавливает, что ни
тщеславие, ни 'погоня за «крестиком» и «и страх наказания
не могли бы сплотить такую массу людей в единое целое:
защитников Севастополя объединило чувство
патриотизма, «редко проявляющееся, стыдливое в русском, но
лежащее в глубине души каждого — любовь к родине». По-
32
этому закономерно в конце рассказа «Севастополь в
декабре месяце» возникает торжественный аккорд,
звучащий как кантата во славу русского народа:
«Надолго оставит в России великие следы эта эпопея
Севастополя, которой героем был народ русский...»
Писатель отмечает также, что страдания войны
«проложили еще следы сознания своего достоинства и
высокой мысли и чувства» у ее участников. Вот этот рост
«сознания своего достоинства» и являлся впоследствии
одной из сил, подрывавших устои крепостничества.
Солдаты в ходе войны избавлялись от черт рабской
психологии, возрастало их чувство собственного достоинства,
и они уже не могли по окончании войны мириться
с прежними условиями жизни, со своим положением
бесправных рабов.
«Севастополь в мае» значительно отличается от
первого рассказа по своей идейной направленности. Шесть
месяцев длится кровопролитие, и не видно конца ему.
Показывая все ужасы войны, Толстой стремится
художественными средствами доказать ее неразумность, ее
глубоко античеловеческую сущность, вновь и вновь
противопоставляя злым людским делам благую мудрость
природы. «Светлое весеннее солнце взошло с утра над
английскими работами, перешло на бастионы, потом на
город — на Николаевскую казарму и, одинаково радостно
светя лля всех, теперь спускалось к далекому синему
морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным
блеском». Этот мотив выражен в начале рассказа и
играет роль своеобразной музыкальной увертюры,
вводящей в мир чувств, переживаний и размышлений
автора, окрашенных в трагически мрачные тона:
неразумным людским делам противопоставлена разумная жизнь
природы, земле — небо. Солнце здесь воплощает мир и
согласие, оно — общечеловечно, и с этой абстрактной
общечеловеческой точки зрения Толстой осуждает войну.
В конце рассказа этот мотив повторяется и как бы
замыкает единую музыкальную пьесу. «Сотни свежих
окровавленных тел... сотни людей с проклятиями и
молитвами на пересохших устах... :а все так же, как и
в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою...
и ъсе так же, как и в прежние дни, обещая радость,
любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее,
С. Бычков 33
прекрасное светило». Ио и этого Толстому мало, он а
создает глубоко впечатляющий образ десятилетнего
мальчика, собирающего среди трупов голубые цветы и с
ужасом убегающего из этой роковой долины.
Война — неразумна и ужасна. Но, осуждая войну,
Толстой не предлагает никаких действенных средств
борьбы с ней, потому что не понимает ее социальной
природы; он не может стать в оценке войны на конкретно-
историческую точку зрения и судит о ней с позиций
абстрактного гуманизма, «вечных» начал нравственности.
Толстой ограничивается бессильными апелляциями к
чувствам христиан, выступает с проповедью братства и
всеобщей «любви». В этом нашли свое выражение слабые
стороны мировоззрения писателя.
Под Севастополем Толстой увидел в резком
столкновении две психологии: барина-офицера и мужика-солдата.
Большая часть офицеров, особенно из аристократов,—
это эгоисты, честолюбцы, стяжатели, презирающие
солдат, на своих плечах выносивших всю тяжесть войны,
почти «всякий офицер, — пишет Толстой, — маленький
Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять
сражение, убить человек сотню для того только, чтоб
получить лишнюю звездочку или треть жалованья»
(«Севастополь в мае»). Писатель беспощадно казнит
аморальность офицеров-аристократов, он показывает, что к
таким людям с презрением относятся и солдаты. Когда был
убит тщеславный Праскухин, они сказали: «Ишь, дух
скверный!»
«Ишь, дух скверный!» — вот все, что осталось между
людьми от этого человека»,—добавляет Толстой.
Впрочем, среди офицеров, близко стоявших к
солдатам, было немало по-настоящему храбрых и
мужественных людей. Калугин в споре с офицером-аристократом
Гальциным, презрительно отзывавшимся об армейских
пехотных офицерах, заявляет: «Ну что ты говоришь
пустяки, уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде
скажу, что наши пехотные офицеры, хоть правда... и по
десять дней белья не переменяют, а это герои,
удивительные люди».
Настоящими героями рассказа являются солдаты —
именно они беззаветно воюют, именно они жертвуют
своей жизнью без всякого тщеславия и позерства. В анти-
34
военной аргументации Толстого важнейшее место
занимают те кровавые жертвы, которые приносит на алтарь
войны русский народ.
Чем ближе Толстой соприкасался с народом, с
простыми солдатами, чем яснее он видел экономическую и
военную отсталость России Николая I, тем острее он
ощущал неотвратимость социальных перемен в стране.
Русский солдат был плохо вооружен, плохо питался, был
лишен каких-либо «оснований образования» и
замордован до последней степени. В русской армии царило
невиданное лихоимство. Главнокомандующие назначались
не по способностям и дарованиям, а «потому, что они
царю приятны».1 И, как правило, в их число попадали
люди бездарные.
В дневнике Толстого есть выразительная запись,
сделанная через две недели после его прибытия в
Севастополь. Толстой успел уже ознакомиться с состоянием
армии, осмотрел позиции и пришел к заключению:
«Россия или должна пасть, или совершенно переобразоваться.
Все идет навыворот... Грустное положение и войска и
государства». 2 Безотрадными мыслями проникнуты и его
записки и докладные по военным вопросам, правда, не
завершенные и никому не посланные, но тем не менее
ярко отражающие его тревогу за будущее России и
русского народа. Этим же чувством определялась и
сатирическая насыщенность рассказов Толстого, за эту сатирич-
ность нередко подвергавшихся цензурным гонениям.
Когда «Севастополь в мае» был получен в
«Современнике», все нашли, что он сильнее рассказа «Севастополь
в декабре месяце» по глубине психологического анализа,
но печатать его в таком виде было невозможно, слишком
все в нем было «облито горечью», все описано «так резко
и ядовито, беспощадно и безотрадно».3 А. Ф. Писемский
сообщал А. Н. Островскому: «Вчера вечером слушал я
новый очерк Толстого... Ужас овладевает, волосы
становятся дыбом от одного только воображения того, что
1 «Записка об отрицательных сторонах русского солдата и
офицера»— Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 4,
стр. 288.
2 Там же, т. 47, стр. 31.
3 Письмо И. Панаева Толстому от 28 августа 1855 года —
«Красная новь», 1928, кн. 9, стр. 224.
* 36
делается там. Статья написана до такой степени
безжалостно честно, что тяжело [даже] становится читать.
Прочти ее непременно!» 1
После ряда проволочек и даже прямых запрещений
рассказ появился в «Современнике» со значительными
цензурными изъятиями. Он был изуродован настолько,
что редакция не решилась под ним сохранить имя автора.
«Возмутительное безобразие, в которое приведена Ваша
статья, — писал Некрасов Толстому, — испортило во мне
последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом
без тоски и бешенства».2
Реакция Толстого на этот цензурный произвол была
сильной и решительной. «Вчера получил известие, что
Ночь (так назывался рассказ «Севастополь в мае». —
С. Б.) изуродована и напечатана, — записывает он
в дневнике, — я, кажется, сильно на примете у синих
(жандармов. — С. Б.) за свои статьи. Желаю, впрочем,
чтобы всегда Россия имела таких нравственных
писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже
писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное,
без цели. Несмотря па первую минуту злобы, в которую
я обещался не брать пера в руки, все-таки
единственное, главное и преобладающее над всеми другими
наклонностями и занятиями должна быть литература. Моя
цель — литературная слава. Добро, которое я могу
сделать своими сочинениями». Так «добро» и
«нравственность» — сугубо моральные категории — начинают
осмысляться Толстым в плане социальном, как противовес
всему «злу правления русского» и всем устоям
крепостнической России.
«Севастополь в августе 1855 года» — это уже
последние страницы севастопольской эпопеи. Толстой рисует
последний штурм 27-го августа, решивший судьбу
города. Солдаты и матросы покидают Севастополь,
который они одиннадцать месяцев отстаивали «от вдвое
сильнейшего врага», но они не чувствуют себя
побежденными: они оставляют город, надеясь в скором времени
отнять его у врага.
1 А. Ф. Писемский. Материалы и исследования, изд. АН
СССР, 1936, стр. 82.
2 И. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. 10,
Гослитиздат, стр. 240,
36
С этими последними днями Севастополя связана
судьба братьев Козельцовых. Старший — Михаил Козельцов,
поручик, герой Севастополя, обстрелянный офицер,
любимец солдат. Младший, Владимир, — семнадцатилетний
«хорошенький мальчик», мечтающий о героическом
подвиге и наивно представляющий себе войну как красивое
парадное зрелище. Еще в пути раненый старший брат
говорит ему: «Война совсем не так делается, как ты
думаешь, Володя!» Реальные условия войны раскрываются
в последующем повествовании. Одна из внутренних тем
рассказа — это тема утраченных иллюзий. Первые же
часы, проведенные Володей в Севастополе, подрывают его
веру в романтическую легенду о войне, все оказывается
не так красиво и хорошо, как представлялось ему в его
радужных мечтах. Лихоимство обозников и
комиссионеров, ужасающие страдания раненых в госпитале, чувство
заброшенности и ненужности перед лицом опасности
в незнакомом городе. «Один, один! всем все равно, есть
ли я, или нет меня на свете», — с ужасом думал Володя.
Он находился в состоянии полного душевного смятения.
На Малаховом кургане Володя пережил еще немало
разочарований. И все кончилось быстро. Он был убит
во время штурма. Так писатель и здесь показал войну во
всем ее жестоком реальном значении.
От рассказа к рассказу Толстой совершенствовал
свое мастерство. Если его первый рассказ был
бессюжетен, не имел героя и по своей художественной форме
приближался к типу очерка, то последний уже имеет и
героев и драматический сюжет и вместе с тем не лишен
широкого охвата событий, подлинного эпического
дыхания и достоверности.
Военные рассказы Толстого явились повой страницей
в художественной литературе о войне, они положили
начало подлинно реалистическому изображению
психологии воюющих масс. В центре военных рассказов Толстого
стоят простые солдаты и лучшая, наиболее близкая
к солдатам часть офицерства. Все свои усилия писатель
посвящает глубокому анализу переживаний человека на
войне, беспощадно преследуя все ложное и фальшивое и
утверждая принцип самой трезвой правды в
изображении войны,
37
Некрасов ранее других раскрыл глубоко новаторские
устремления искусства Толстого, оценил самобытность
его дарования. Он сообщал Толстому об огромном успехе
рассказа «Севастополь в декабре месяце» и писал
восторженное письмо Тургеневу о рассказе «Рубка леса»:
«Знаешь ли, что это такое? Это очерки разнообразных
солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть вещь,
доныне небывалая в русской литературе».1 2 сентября
1855 года Некрасов в письме к Толстому делал уже более
глубокие выводы о природе его дарования. Со
свойственной ему проницательностью он отмечал стремление
Толстого к «глубокой и трезвой правде» в искусстве,
выражал полное одобрение реалистическому направлению его
таланта. «Это именно то, что нужно теперь русскому
обществу: правда — правда, которой со смертию Гоголя
так мало осталось в русской литературе. Вы правы,
дорожа всего более этою стороною в Вашем даровании.
Эта правда', в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу
литературу, есть нечто у нас совершенно новое».2 Письмо
заканчивалось рекомендацией писать очерки, подобные
«Рубке леса»: «О солдате ведь наша литература доныне
ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только
начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы все, что
знаете об этом предмете, — все это будет в высшей
степени интересно и полезно».3
Некрасов не ограничивался высокими похвалами
таланту Толстого в письмах к нему и другим писателям,
он неоднократно давал оценку его произведениям и
в критических статьях. Так, в статье «Заметки о
журналах за декабрь 1855 и январь 1856 гг.», явившейся
фактически обзором русской литературы за 1855 год,
Некрасов писал о Толстом как о новом блестящем даровании,
«на котором останавливаются теперь лучшие надежды
русской литературы». Касаясь произведений писателя,
опубликованных в «Современнике», он уделил особое
внимание рассказу «Севастополь в августе 1855 года»,
отозвавшись о нем как о «первоклассном» произведении:
«Меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое про-
1 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 236.
2 Там же, стр. 241.
3 Там же.
никновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни
перед чем не отступающая правда, избыток мимолетных
заметок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью
глаза, богатство поэзии, всегда свободной,
вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и, наконец, сила —
сила, всюду разлитая, присутствие которой слышится
в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове,—
вот достоинства повести». 1
Толстой, провозгласивший в рассказе «Севастополь
в мае» правду «героем» своего искусства, тем самым
примкнул к основному реалистическому направлению
русской литературы. Но он имел и глубокие отличия от
прежних реалистов и от реалистов современников —
толстовская правда в искусстве, как совершенно
справедливо заметил Некрасов, была правдой особого «вида».
Это правда глубокого раскрытия психологических
переживаний человека. Толстой шел к изображению жизни
через напряженный и необычайно тонкий
психологический анализ.
Некрасов верно угадал многие особенности таланта
Толстого. Однако более целостная характеристика
оригинального дарования художника содержится в
высказываниях Чернышевского. Уже в первой статье,
посвященной «Детству», «Отрочеству» и «Военным рассказам»,
великий критик дал тонкое истолкование глубокого
своеобразия таланта Толстого, поставив его в связь с
развитием русской литературы и определив степень его
новаторства. Он мастерски охарактеризовал напряженный
психологизм Толстого, справедливо полагая, что
психологический анализ дает подлинную силу таланту
писателя. Многие художники до него ограничивались лишь
изображением начала и конца психического процесса, не
показывая самого процесса рождения мысли или
чувства. Их психологический анализ поэтому носил
«результативный» характер. Толстой мог проникать в те сферы
человеческой жизни, которых не касались его
предшественники.
Чернышевский правильно подметил, что писатель,
способный подвергать такому беспощадному анализу
поступки, мысли, переживания других людей, должен был
1 Н. Л. И е к р а с о в. Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 373.
39
пройти огромную школу самонаблюдения и самоанализа:
«Кто не изучил человека в самом себе, никогда не
достигнет глубокого знания людей». Для душевной жизни
Толстого, еще до того как он стал писателем,
действительно был характерен глубочайший самоанализ,
который с годами становится все более тонким и совершенным.
В отличие от других писателей, по определению
Чернышевского, Толстого более всего интересует «самый
психический процесс, его формы, его законы, —
диалектика души, чтобы выразиться определительным
термином». «Другая сила» таланта писателя, придающая ему
необычайную свежесть, — это «чистота нравственного
чувства». Высокие нравственные идеи,
морально-этический пафос присущи всем замечательным произведениям
русской литературы и в наибольшей мере —
произведениям Толстого. Чернышевский предвидит, что талант
Толстого в дальнейшем своем развитии обнаружит
новые грани, но «эти две черты — глубокое знание тайных
движений психической жизни и непосредственная чистота
нравственного чувства» — останутся в нем навсегда.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В ноябре 1855 года Толстой приезжает из
Севастополя в Петербург прославленным писателем и сразу же
попадает в атмосферу предреформенного общественного
оживления. Поражение царизма в Крымской войне
развязало мощное крестьянское движение в стране и
показало гнилость крепостнической и самодержавной системы.
Бывшие защитники Севастополя не желали оставаться
на положении крепостных рабов. На очередь дня стал
вопрос об освобождении крестьян.
Царизм сам почувствовал непрочность своего
положения и понял, что лучше провести реформы «сверху»,
нежели дать разгореться революционному пламени
«снизу». Новый царь Александр II в манифесте от
19 марта 1856 года уже обещал реформы. Затеянная
царским правительством возня вокруг предполагаемой
реформы, создание, начиная с 1857 года, различного
рода комитетов и комиссий по крестьянскому вопросу
внесли небывало резкое размежевание в русское
общественное движение, в котором четко обозначились
либеральное и революционно-демократическое направления.
Основным вопросом размежевания сил во второй
половине 50-х и 60-х годов XIX века был вопрос о путях
и способах освобождения крестьян от крепостной
зависимости. То, что крестьян необходимо освобождать,
сознавали даже такие консерваторы, как Погодин, который
писал: «Мирабо для нас не страшен, но для нас страшен
Емелька Пугачев. Ледрю Роллен со всеми коммунистами
не найдут у нас себе приверженцев, а перед Никитой
Пустосвятом разинет рот любая деревня. На сторону
41
Мацини не перешатнется никто, а Стенька Разин лишь
кликни клич! Вот где кроется наша революция, вот
откуда грозят нам опасности». 1 Правда, значительная
часть дворянства, особенно провинциального,
сопротивлялась реформе, и это создавало выгодное для
правительства впечатление «борьбы» с косностью и
консерватизмом. Но зато либералы приветствовали «благие
начинания» «просвещенной власти» и видели в подготовляемой
реформе осуществление своих надежд и вековых
«чаяний русского прогресса».
Революционные демократы, во главе с Н. Г.
Чернышевским и Н. А. Добролюбовым, резко критиковали
либералов за угодничество, раболепие перед царской властью,
за помощь этой власти лицемерным обманом народа,
пышными фразами о «свободе». Демократы критиковали
реформу, когда она еще только готовилась, зная, что
народ будет обманут царизмом и помещиками, так как
будет сделано все, чтобы удовлетворить интересы
землевладельцев; сам царь — первый помещик России. После
реформы в 1862 году Чернышевский в «Письмах без
адреса» (опубликованных за границей) даже на основе
официальной статистики, заведомо неточной и
фальсифицированной, показал воочию, что народ был царем
обманут и насколько именно был обманут. Чернышевский и
Добролюбов были за крестьянскую революцию, которая,
по их мнению, могла принести народу избавление от
гнета и дать землю и свободу.
В эпоху подготовки и проведения реформы, в 1859—
1861 годах, в России складывается революционная
ситуация, наложившая яркий отпечаток на все общественное,
литературное, философское и журнальное движение.
Органами консервативных сил тогда были журнал
«Домашняя беседа» Аскоченского, газета «Московские
ведомости», журнал «Русский вестник» Каткова. Либералы
окопались в «Отечественных записках» Краевского и
«Библиотеке для чтения». Органами революционной
демократии были журналы «Современник» Некрасова,
«Русское слово» Благосветлова — в России, «Колокол» и
«Полярная звезда» Герцена и Огарева — за границей.
1 М. П. Погодин. Историко-политические письма и записки
в продолжении Крымской войны, 1853—1856, т. 3, стр. 187 и 262.
42
Среди писателей, объединявшихся до поры до времени
вокруг журнала «Современник», наметилось резкое
политическое размежевание. Группа либералов, во главе
с А. В. Дружининым, В. П. Боткиным, П.В.Анненковым,
уходит из журнала. Идейное руководство
«Современником» целиком переходит в руки Чернышевского и
Добролюбова.
Важнейшими документами борьбы революционных
демократов с идеалистической эстетикой и либеральной
критикой были появившиеся в печати магистерская
диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства
к действительности» A855) и цикл его статей «Очерки
гоголевского периода русской литературы» A855—1856).
В этих произведениях Чернышевский выступил с
развернутым изложением материалистической эстетики,
подвергнув сокрушительной критике немецкую
идеалистическую философию и ее русских последователей.
Философия эта являлась основой для умозрительных построений
теоретиков «чистого искусства». Критик убедительно
доказывал, что «исключительно идеей «прекрасного» не
создано ни одного значительного произведения».
Основным тезисом Чернышевский провозгласил: «прекрасное
есть жизнь». Этим великий демократ выводил искусство
в безграничные просторы живой жизни, отбрасывая все
перегородки, которые воздвигла идеалистическая
эстетика на пути искусства. Практически это означало
у Чернышевского признание полного права искусства и
.литературы касаться всех без исключения сторон русской
действительности, всесторонней критики самодержавия и
крепостничества. Чернышевский признал право за
искусством выносить «приговор» над действительностью, что
вело к расцвету сатиры, резкому бичеванию пороков
самодержавия.
Пафос его «Очерков» заключался в раскрытии
революционно-демократического и социального содержания
критического наследства 40-х годов и сатиры Гоголя,
имевших огромное злободневное значение на новом этапе
освободительной борьбы. По мнению Чернышевского,
только литература, проникнутая передовыми
демократическими идеями, тесно связанная с жизнью народа и
отстаивающая его идеалы, литература, ведущая борьбу
с ужасной крепостнической действительностью за светлое
43
будущее народа, могла выполнить роль одной из главных
сил общественного развития.
Произведения Чернышевского были встречены
либералами в штыки. Е. Колбасип сообщал Тургеневу, что
«Очерки гоголевского периода русской литературы»
вызвали «остервенелое бешенство» 1 у Боткина и
Анненкова. И это не удивительно, ибо в своих писаниях они
стремились загримировать великого критика Белинского
под дюжинного либерала, тогда как Чернышевский
показывал его как революционного демократа.
А. В. Дружинин в статье «Критика гоголевского
периода русской литературы и наши к ней отношения»
A856) выступил с полемическим ответом на «Очерки»
Чернышевского. Он пытался оспаривать основные
положения революционно-демократической критики. «Все
критические системы» и «воззрения» прошлого и настоящего
Дружинин «подводит» под две «вечно одна другой
противодействующие теории», из которых одну он
называет «артистической», «имеющей лозунгом чистое
искусство для искусства», другую «дидактической»,
«стремящейся действовать на нравы, быт и понятия человека
через прямое его поучение». Все симпатии критика,
разумеется, на стороне «артистической» теории, ибо
только она, по его мнению, опирается на неопровержимые
«умозрения» и проповедует «бесцельность» искусства.
Только «чистые» поэты могут рассчитывать на «вечную
память потомства», «дидактики» же неизбежно
«погружаются в пучину полного забвения»,2
Реакционность подобных утверждений очевидна.
Статья Дружинина даже среди лиц, сочувствовавших
ему, получила отрицательную оценку. «...От нее веет
холодом и тусклым беспристрастьем, — писал Тургенев Кол-
басипу. — Этими искусно спеченными пирогами с «не-
том» никого не накормишь».3
Еще до появления этой статьи Дружинин высказал
взгляд либералов на пушкинское и гоголевское
направления в русской литературе. Он видел опасность,
угрожающую «текущей словесности» от засилия в ней
1 «Тургенев и круг «Современника», М.—Л., «Academia», 1930,
стр. 284.
2 А. В. Дружинин. Собрание сочинений, т. 7, стр. 214—216.
3 Первое собрание писем Тургенева. СПБ., 1884, стр. 37,
44
сатиры, от склонности ее к исключительному
подражанию Гоголю. Поэзия Пушкина, по его мнению, «может
служить лучшим орудием» для противодействия
гоголевскому направлению. Однако и Пушкин принимался не
целиком. Фальсифицируя идейный облик поэта,
Дружинин пытался истолковать его как безмятежного лирика,
эпикурейца, услаждающего душу картинами природы,
как поэта, которого никогда не волновали большие
социальные вопросы.
В противовес революционно-демократической
критике, звавшей к борьбе с самодержавно-крепостническим
строем, к осуществлению освободительных идеалов,
Дружинин и вся группа либеральных литераторов выступили
знаменосцами реакционной теории «чистого искусства»,
«чистого» художества, стремясь увести литературу от
решения важнейших проблем эпохи.
Эта борьба двух лагерей не могла не коснуться
Толстого и его творчества. Во-первых, он лично был
вовлечен в борьбу, во-вторых, его творчество подвергалось
извращенному критическому освещению. Теоретики и
защитники «чистого искусства» Дудышкин, Анненков,
Дружинин пытались так «истолковать» произведения
Толстого, чтобы убедить молодого и еще недостаточно
искушенного в эстетических теориях писателя в
закономерности и жизненной необходимости его прихода под
знамена «чистого искусства».
Присяжный критик «Отечественных записок» С.
Дудышкин в своих статьях о «Детстве», «Отрочестве» и
«Военных рассказах» говорил, что новый писатель
является «по преимуществу художником в душе». Ему
вторил П. Анненков в статье «О мысли в произведениях
изящной словесности».1 Оценивая произведения
Тургенева и Л. Н. Т. с «эстетической» точки зрения, он касался
лишь поверхностно понятых особенностей поэтического
таланта того и другого. Наиболее откровенно намерения
этой школки «чистого искусства» высказаны
Дружининым в статье, посвященной анализу повестей Толстого
«Метель» и «Два гусара».
Дружинин создает лживую либеральную легенду
о полной отрешенности нового писателя от политических
1 «Библиотека для чтения», 1856, т. 139, отд. V,
45
задач современности. Он пытается представить Толстого
художником, будто бы глубоко чуждым «преднамеренной
дидактике» и «наставительным умозрениям». Толстой в
его освещении является одним из «бессознательных
представителей теории свободного творчества», одним из
любителей «искусства чистого», иначе он не мог бы
создать такие произведения, как «Метель», «Два гусара».
Последняя из названных повестей свидетельствует якобы
о том, что писатель относится к своим героям без гнева
и сострадания, с «артистическим бесстрастием», не
стремясь играть роль обличителя пороков современного ему
общества.
Как видим, Дружинин и его сторонники пытались
внушить Толстому веру в самоценность «чистого
искусства», направить его дарование в сторону от
общественно-политических задач современности, лишить его
творчество богатого общенационального содержания и
фактически поставить на службу литературным
гурманам. И это им частично удалось.
Надо сказать, что либералы не ограничивались
полемикой, а предпринимали неоднократные попытки
вытеснить Чернышевского из «Современника» и заменить его
более для них приемлемым критиком А. Григорьевым.
Однако успеха они не добились. Некрасов занял твердую
позицию и отбил все атаки либералов.
Все эти события в литературной жизни были хорошо
известны Толстому, и он относился к ним далеко не
безучастно. В пору ожесточенных журнальных схваток он
написал злое письмо Некрасову, в котором выразил
недовольство тем, что редактор «Современника» упустил
из журнала Дружинина, и высказал свое резкое
нерасположение к Чернышевскому: «У нас не только в критике,
но в литературе, даже просто в обществе, утвердилось
мнение, что быть возмущенным, желчным, злым очень
мило. А . я нахожу, что очень скверно. Гоголя любят
больше Пушкина. Критика Белинского верх
совершенства, ваши стихи любимы из всех теперешних поэтов.
А я нахожу, что скверно, потому что человек желчный,
злой не в нормальном положении».1
1 Л. Н. Т о л с-т о й. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 75.
Письмо от 2/VII — 1856.
46
Некрасов справедливо отвечал Толстому на это,
что «здоровые отношения могут быть к здоровой
действительности», а русская действительность такова,
что дает немало поводов для «искренней злости». Он
убеждал Толстого не гасить эти чувства в себе,
напротив, «когда мы начнем больше злиться, тогда будем
лучше, то есть больше будем любить — любить не себя, а
свою родину». В этих словах заключена иная
концепция, иное решение вопроса об отношении к
действительности, нежели было у Толстого. Толстой решал
проблему в плане личного самоусовершенствования, развития
добрых чувств. Некрасов высказывал мысль о
необходимости преобразования самой действительности.
В литературной полемике 50-х годов, в борьбе вокруг
наследства Гоголя и Белинского Толстой выступает
вместе с либералами против Чернышевского. С призывом
Дружинина не помнить «зла в жизни» и прославлять
«одно благо» перекликается цитированное выше письмо
Толстого к Некрасову. Это совпадение не случайное.
Оформлявшееся в эти годы этическое учение Толстого
своими некоторыми чертами несомненно было близко
эстетическим теориям либералов. Толстой решает
умышленно искать в жизни «всего хорошего, доброго» и
отворачиваться от «дурного», он полагает, что «можно
ужасно многое любить не только в России, но у самоедов».J
Несколькими месяцами ранее он записал в своем
дневнике: «Да, лучшее средство к истинному счастию в
жизни — это: без всяких законов пускать из себя во все
стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда
в'се, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и
квартального».2 Эти мысли о всеобщей «любви» ib
условиях обострения классовой борьбы носили откровенно
реакционный характер.
Продолжавшееся сближение Толстого с Дружининым,
Боткиным, Анненковым очень тревожило Чернышевского
и Некрасова, они стремились удержать его в журнале,
обеспечить дальнейшее развитие его дарования в русле
передовых общественных и эстетических идей современ-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 90.
Письмо к Е. П, Ковалевскому от 1/Х—1856.
2 Там же, т. 47, стр. 71.
47
ности. Чернышевский не без основания опасался, как бы
«литературные гастрономы» не погубили большой
художественный талант Толстого. Он стремился всеми
возможными средствами воздействовать на писателя,
«получить над ним некоторую власть — а это было бы хорошо
и для него и для «Современника». !
Некрасов в свою очередь убеждал писателя остаться
верным реалистическому направлению русской
литературы, отдать свой талант на службу демократическим
идеалам. «Я люблю... в вас, — писал он Толстому, —
великую надежду русской литературы, для которой вы
уже много сделали и для которой еще больше сделаете,
когда поймете, что в нашем отечестве роль писателя —¦
есть прежде всего роль учителя и, по возможности,
заступника за безгласных и приниженных».2
Однако Толстой оставался маловосприимчивым к
этим призывам. По'сле отъезда Некрасова за границу
и перехода редактирования журнала к Чернышевскому
он записывает в дневнике: «Редакция «Современника»
противна».3 «Очерки гоголевского периода русской
литературы» он презрительно называет «тухлыми яйцами».4
Е. Колбасин сообщает Тургеневу, что у Толстого
«озлобление адское» против Чернышевского и «доверия ни на
грош» 5 к нему как к редактору «Современника».
Некрасову это стало известно, и своими грустными
раздумьями он поделился с Тургеневым: «Что сказать о
Толстом, право не знаю... Панаева он не любит... при
нынешних обстоятельствах естественно литературное
движение сгруппировалось около Дружинина — в этом
и разгадка. А что до направления, то тут он мало
понимает толку. Какого нового направления он хочет? Есть
ли другое — живое и честное, кроме обличения и
протеста?.. Больно видеть, что Толстой личное свое
нерасположение к Чернышевскому, поддерживаемое Дружини-
1 Письмо Некрасову от 5/XI—1856. Н. Г. Чернышевский.
Полное собрание сочинений, т. XIV, стр. 328.
2 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. 10,
стр. 291—292. Письмо от 3/IX — 1856, Вена.
8 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 98;
8/XI —1856.
4 См. «Толстой и Тургенев, переписка», изд. М. и С.
Сабашниковых, М., 1928, стр. 28.
5 «Тургенев и круг «Современника», стр. 296, 27/XI — 1856.
48
иым и Григоровичем, переносит на направление,
которому сам доныне служил и которому служит всякий
честный человек в России».1
Вероятно, под свежим впечатлением некрасовского
письма Тургенев, и ранее относившийся отрицательно
к сближению Толстого с Дружининым, в письме к
Толстому выражает надежду на скорое разочарование его
в этом воплощении «элегантной и джентльменской
воздержности».2 Имея в виду враждебность Толстого
к Белинскому, явившуюся в значительной мере под
влиянием Дружинина, Тургенев горячо и взволнованно
защищает перед ним великого критика: он говорит о том
огромном влиянии, которое имел Белинский на
современников. Тургенев одобряет «Очерки» Чернышевского,
значительная часть которых была посвящена Белинскому,
он пишет прочувствованные строки о великом критике,
«который и радовался и страдал, и жил в силу своих
убеждений».3 Тургенев в данном случае помогал
Чернышевскому и Некрасову в борьбе за Толстого.
Эту задачу Чернышевский отчасти преследовал и в
своих литературных выступлениях. Информируя
Некрасова о составе двенадцатого номера «Современника» за
1856 год, он писал: «В Критике — конец моих «Очерков»
и моя статейка о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных
рассказах» Толстого, написанная так, что, конечно,
понравится ему, не слишком нарушая в то же время и
истину».4 Эта статья не могла не понравиться Толстому:
она была проникнута чувством уважения к таланту
писателя и давала изумительно верную и тонкую оценку
его особенностей. Возможно, что она и вызвала у
Толстого известные чувства симпатии к Чернышевскому.
18 декабря 1856 года он поехал к Панаеву, встретился
с Чернышевским. Об этом он писал: «Там
Чернышевский, мил». А 11 января 1857 года новая запись в
Дневнике: «Пришел Чернышевский, умен и горяч».5 Однако
на этом основании нельзя говорить о каком-то идейном
1 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. 10, стр.308.
2 «Толстой и Тургенев, переписка», стр. 28.
3 Там же.
4 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XIV,
стр. 329—330.
5 Л. Н. Т о л с т о й. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 105—ПО.
4 С Бычков 49
сближении Толстого с Чернышевским: нет, ой попреж-
нему смотрел на него как на представителя другого
лагеря, да и в самих записях Толстого преобладают
категории чисто эмоционального восприятия личности критика
(«мил», «горяч»). Сам Чернышевский в письме к
А. Н. Пыпину из Вилюйска в ответ на предложение
последнего написать воспоминания о писателях круга
«Современника», выделив из этой группы Тургенева, о
Писемском, Островском и Толстом сказал: «Мы знали друг друга
в лицо, бывали в одних комнатах — вот и все».1
Литературно-политическая борьба эпохи самым
непосредственным образом воздействовала на Толстого,
для которого вопросы искусства приобретают в 1856—
1858 годы исключительную злободневность. Он садится
за чтение Белинского. 26 декабря 1856 года Дружинин
сообщал Тургеневу, что Толстой, «для того чтоб понять
все наше литературное движение, собирается перечитать
все статьи Белинского».2
Чтение Белинского оставило глубокий след в
творческом сознании Толстого. Оно помогло ему лучше понять
и современную литературную жизнь с ее страстной
борьбой за утверждение демократических идеалов.
Однако из этого не следует делать далеко идущих
выводов. Чтение Белинского несомненно вызвало надлом
в отношениях Толстого со своими литературными
друзьями, но не принесло ему освобождения из плена их
эстетических теорий, которые влияли на его сознание
еще в течение более двух лет. Если Дружинин в его
глазах потускнел, оставался Боткин, который не менее
упорно проповедовал теорию «чистого искусства». В
конце 1856 года Панаев писал Тургеневу: «Толстой
дошел до того, что уверяет, будто шапка, описанная
художественно, лучше, чем статьи Щедрина... в
«Современнике». Если бы издавать журнал по вкусу
1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XV,
стр. 353.
2 «Тургенев и круг «Современника», стр. 202. Д. П. Маковицкий
в своих «Яснополянских записках» 6 октября 1907 года записал
характерное признание Толстого, относящееся к этой поре. Толстой
сказал, что Белинский служил одним из пунктов его «разногласий
с Тургеневым» и что он читал статьи критика «только для того,
чтобы с Тургеневым мог говорить про него».
60
Толстого — он превратился бы мгновенно в
литературный труп».г
Глубина расхождений эстетических позиций Толстого
и революционных демократов с особой наглядностью
раскрывается на их противоположном истолковании
назначения литературы, искусства в жизни. Чернышевский
требовал от литературы активной защиты интересов народных
масс, разъясняя, что произведения искусства призваны
не бесстрастно протоколировать явления жизни, а судить
их, утверждать демократические идеалы. Некрасов в
свою очередь видел в русском писателе убежденного
поборника интересов народа, он отводил ему высокую и
благородную роль «заступника за безгласных и
приниженных». Толстой же, как бы полемизируя с
основополагающими тезами эстетической теории
Чернышевского и Некрасова, записывал в своем дневнике:
«Евангельское слово: не суди глубоко, верно в искусстве:
рассказывай, изображай, но не суди». Это утверждение
объективистского отношения к жизни, этот идеал
писателя-летописца, который, «добру и злу внимая
равнодушно», создает произведения, «очень милые для чтения»,
было глубоко чуждо всей материалистической эстетике
революционных демократов, проникнутой духом
страстной заинтересованности в жизни, духом неукротимой
борьбы за воплощение народных идеалов.
Разумеется, эти эстетические «откровения» Толстого
доходили до Чернышевского и вызывали в нем бурный
взрыв негодования против «литературных аристархов»,
«пошлые понятия»2 которых об искусстве Толстой
усвоил. Великий критик, однако, был уверен в том, что
Толстой со временем более серьезно будет смотреть на
жизнь, иначе будет относиться к задачам искусства.
Узнав об отъезде Толстого за границу, Чернышевский
в письме к Некрасову выражал надежду на то, что
путешествие, может быть, «собьет» с него «ту
умственную шелуху, вред которой он, кажется, начал
понимать». 3 Получив, видимо, ряд благоприятных сообщений
от Некрасова, Чернышевский в письме к А. С. Зеленому,
1 «Тургенев и круг «Современника», стр. 60.
2 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. XIV,
стр. 341.
3 Там лее, стр. 343.
31
датированном 15 апреля 1857 года, то есть спусти три
месяца после свидания с Толстым, вновь возвращается
к вопросу о его убеждениях: «Толстой, который до сих
пор по своим понятиям был очень диким человеком,
начинает образовываться и вразумляться... и, быть может,
сделается полезным деятелем».1 Этот процесс
«вразумления» Толстого, под которым Чернышевский, видимо,
понимал нарастание у него глубоко отрицательных
суждений о современной политической жизни и
пробуждающееся сочувствие идеям демократии, нашел свое
выражение в письмах и дневнике писателя этой поры, а
также в его памфлете «Люцерн».
Несмотря на известные противоречия с редакцией
«Современника», Толстой в своем сближении с народом
резко расходился и с либералами, «друзьями». В
существе творчества Толстого было заложено гораздо больше
общего с демократами, нежели с эстетами, хотя Толстой
и не разделял программы демократов.
В 50-х годах Толстой намеревался выступить в роли
социального реформатора, обличить в «Романе русского
помещика» «зло правления русского» и сделать роман
«полезной и доброй книгой». Толстому мыслилось
произведение «догматическое», то есть несущее в себе
поучение, программу жизни, решение важнейших социальных
проблем эпохи. Однако для реалиста Толстого труднее
всего, скорее невозможно было образно выразить те
новые гуманные отношения помещика и мужика, которые
существовали пока лишь в его сознании в виде
абстрактной идеи. Тем не менее он продолжает уяснять свой
замысел и 20 декабря 1853 года отмечает в дневнике, что
план романа «ясно обозначился».
Толстой работает над «Отрочеством», пишет
«Севастопольские рассказы», готовится к изданию военного
журнала, и среди этих разнообразных занятий мысль
о романе не оставляет его. В дневниковой записи от
2 августа 1855 года полностью раскрывается
волновавший его замысел: «Сегодня, разговаривая с Столыпиным
о рабстве в России, мне еще ясней, чем прежде, пришла
мысль сделать мои 4 эпохи истории русского помещика,
и сам я буду этим героем в Хабаровке. Главная мысль
1 «Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и
А. С. Зеленым», М.—Л., 1925, стр. 125.
52
романа должна быть невозможность жизни правильной
помещика образованного нашего века с рабством. Все
нищеты его должны быть выставлены и средства
исправить указаны».1 Таким образом роман по замыслу
приобретал характер антикрепостнический и должен был
носить черты глубоко автобиографические. Но Толстому,
собиравшемуся писать «назидательеое» произведение,
неизвестны были еще средства изменения положения,
неясны были пути ликвидации «рабства».
Вопрос о том, чтобы отпустить крестьян на волю,
Толстой обдумывал еще в Севастополе, но только в
своем имении Ясной Поляне он почувствовал, что для
него как для помещика, владельца «крещеной
собственности», центральный вопрос эпохи — вопрос об отмене
крепостного права — имеет жгучую, непосредственную
злободневность. К весне 1856 года отношения с
крестьянами начинают сильно тревожить его.
Толстой вновь едет в Петербург, а затем в Москву и
в течение апреля и мая 1856 года встречается и беседует
по вопросу об освобождении крестьян с представителями
различных политических групп, принадлежавших к
дворянскому лагерю. По своим 'политическим симпатиям
Толстой примыкал к крылу либерального дворянства.
Поэтому проект либерала К. Д. Кавелина вызвал у него
наибольшее одобрение. По возвращении в Ясную Поляну
он записал в дневнике: «примеривая себя к прежним
своим ясенским воспоминаниям, я чувствую, как много
я переменился в либеральном смысле. Татьяна
Александровна даже мне неприятна. Ей в 100 лет не .вобьешь в
голову несправедливость крепости».2
Теперь Толстому предстояло ознакомиться со
взглядами другого класса на вопрос о формах и методах
отмены крепостничества, со взглядами крепостного
крестьянства, проверить на горластых крестьянских сходках силу
и жизненность «проектов», разработанных в тиши
кабинетов видными либералами. Немедленно по возвращении
в имение он занялся практическим разрешением этого
вопроса. Сходки следовали за сходками, велись
групповые и индивидуальные беседы с наиболее влиятельными
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений» т. 47, стр. 58,
2 Там же, стр. 77.
53
мужиками. Предлагая замену барщины оброком или
частичную передачу земли за выкуп, Толстой был
убежден, что облагодетельствует своих крестьян, но они
отнеслись к его «^проекту» холодно и не дали никакого
определенного ответа, а дальнейшие настойчивые попытки
Толстого добиться заключения с крестьянами «контракта»
вызывали в их среде все более и более нараставшее
чувство сопротивления и враждебности по отношению к
барину. И он с удивлением и раздражением заносит в
дневник: «не хотят свободу».1 Крестьяне же, охваченные
верой в то, что «в коронацию все крепостные получат
свободу» и, может быть, всю помещичью землю и без
всякого выкупа, видели в его «словах и предложениях»
«одно желание обмануть, обокрасть их».2
У Толстого вызывают протест крестьянские
притязания на всю помещичью землю, выраженные в формуле «мы
ваши, а земля ваша», он готов согласиться лишь на
частичную передачу земли крестьянам, да и то за выкуп.
«Деспотизм помещиков породил уже деспотизм крестьян; когда
мне говорили на сходке, чтобы отдать им всю землю, и я
говорил, что тогда я останусь без рубашки, они
посмеивались, и нельзя обвинять их, так должно было быть».3
Позиция Толстого, как, впрочем, и всего помещичьего
класса, несмотря на известные оттенки в разрешении
крестьянского вопроса, была диаметрально
противоположна позиции революционных демократов, выражавших
интересы широких крестьянских масс. Чернышевский
отчетливо сформулировал требования крестьянства: «Вся
земля — мужицкая, и выкупа никакого. Убирайся,
помещики, пока живы!» («Пролог».)
Но Толстой-дворянин в 50-е годы защищает идею
дворянско-сословного землевладения; по его понятиям,
«историческая справедливость» требует сохранения
собственности на землю за помещиками. Только через
несколько лет Толстой откажется от этих воззрений.
Вспомним, с каким бичующим сарказмом он в 80-е и
последующие годы будет обличать «законные» права
дворян на землю, сколько энергии и как художник и как
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 79.
2 Там же, т. 60, стр. 65. Письмо к Д. Н. Блудову от 9/VI —1856.
3 Там же.
64
публицист он отдаст борьбе против поземельной частной
собственности.
Яснополянские мужики отвергли все «предложения»
Толстого потому, что в них игнорировались их
справедливее права на землю. Толстой растерян и испуган
упорным сопротивлением мужиков, ему чудится уже
«изменническая рука», которая может с минуты на
минуту подложить «огонь бунта», и тогда все здание дво-
рянско-сословной монархии будет охвачено пожаром
восстания. Толстой винит во всем правительство, которое
«обходит» этот первостепенной важности вопрос. Для
спасения дворянства необходимо скорейшее
освобождение крестьян. «Теперь не время думать об исторической
справедливости и выгодах класса, нужно спасать все
здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет.
Для меня ясно, что вопрос помещикам теперь уже
поставлен так: жизнь или земля». Толстой в полной мере
осознает социальный драматизм положения дворянства.
«И кончится тем, что нас перережут».
Неудача с разрешением «крестьянского вопроса» в
собственном имении самым непосредственным образом
сказалась на судьбе замысла «Романа русского
помещика», который не был написан, потому что коренные
социальные проблемы, которые Толстой надеялся
поставить в романе, не нашли еще своего разрешения. Главы
же из романа, опубликованные под названием «Утро
помещика», далеко не отражают первоначального замысла
Толстого.
В «Утре помещика» писатель создает галлерею
крестьянских типов, которые при всем своем различии имеют
и нечто общее, объединяющее их, — это отношение к
помещику. И Юхванка Мудреный, молодой здоровый
мужик, которого Нехлюдов называет лентяем и
наставляет, как правильно жить, не верит ни в барскую помощь,
ни в искренность барских советов и увещеваний, он
просто не желает работать на барина, поэтому не ходит
на барщину; и Давыдка Белый тоже не работает «ни на
себя, ни на барщину»: его и в стан посылали и пороли —
ничто не помогало. Крепостничество нравственно портит
людей, они начинают ненавидеть труд, потому что он
является подневольным,
да
Толстой увидел в характере русского мужика лбе
преобладающие черты: глубокое недоверие к барину и
веру в собственные силы, связанную с его затаенной
надеждой на лучшую жизнь в будущем. Иван Чурис—
один из наиболее ярких образов крестьян «Утра йоме-
щи,ка» — умен, добродушен, не лишен чувства юмора и,
несмотря на крайнюю нищету, выражает «спокойную
уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко
всему окружающему». Вся жизнь Чуриса прошла в
тяжелой, непосильной работе. Со своим трудолюбием он
мог бы с'делать многое, но, несмотря на все усилия, при
крепостничестве он никак не может выбиться из самой
крайней нищеты. И вся его спокойная и самодовольная
наружность среди полуразвалившейся избы как бы
говорила: я делаю все, что могу, и все-таки кругом нищета;
значит, многое от меня не зависит.
Герой повести Нехлюдов перед приездом в имение
мечтает построить всю программу своей деятельности на
основе помощи крестьянам, избавить их от бедности,
передать им образование, исправить пороки и развить
нравственность. Но прошел год, и ни одного из своих
предначертаний ему осуществить не удалось. Те, которые
ленились, вроде Юхванки Мудреного и Давыдки Белого,
так и не избавились от своих пороков, а Чурис хотя и
трудился из последних сил, но как был, так и остался на
грани самой безысходной нищеты.
В чем же дело? В чем причина крушения
филантропических затей Нехлюдова? Не последнюю роль в этом
играло исконное недоверие к барину и всем его
предложениям, воспитанное у мужиков веками крепостной
зависимости. Самый бедный мужик Чурис — и тот не
принимает барской помощи. Когда Нехлюдов предлагает ему
переселиться из его полуразвалившейся халупы в новую
каменную избу на хуторе, Чурис иронически заявляет:
«Избы важные! — Остроги словно». Этим он выразил и
глубокое недоверие к барину и высказал типическую для
крестьянина мысль о том, что в каждой новой барской
затее надо видеть новую кабалу для мужика. Разумеется,
Чурис наотрез отказался переселиться в эту новую избу.
Из всех крестьян в «Утре помещика» симпатии
Нехлюдова, да и самого автора, привлекает больше всего
старик Дутлов. По размерам своего хозяйства — это-
36
первый мужик в вотчине, он имел извоз, содержал
большую пасеку, арендовал землю. Дутлов встретил
Нехлюдова на пасеке, «кротко, радостно улыбаясь». Нехлюдов
в своих мечтах уже видел «всех своих крестьян такими
же богатыми, добродушными, как старый Дутлов, и все
ласково и радостно улыбались ему, потому что ему были
обязаны своим богатством и счастьем». Но дело-то в том,
что Дутлов ничем не обязан барину. И этот милый и
добродушный патриархальный старичок сразу же
ощетинивается и кроткая улыбка исчезает с его лица, когда
он узнает о цели посещения Нехлюдова. Он остается
глух к предложению барина купить пополам с ним
рощу, потому что хорошо усвоил жизненную мудрость:
«от помещиков деньги прятать нужно». Образ Дутлова —
яркое свидетельство проникновения в крепостную
деревню буржуазных отношений: аренда земли, содержание
постоялых дворов и мельниц, извоз — типические формы
предпринимательства нарождающейся сельской
буржуазии, которая, правда, в условиях крепостного права
не могла быстро развиваться, у нее даже не было полной
гарантии сохранить нажитую собственность, так как
нередко она по самоуправству переходила в руки
помещиков. В этом свете понятна тревога Дутлова за свои
деньги и его настороженное отношение к предложению
Нехлюдова.
Толстой в своей повести ярко запечатлел процесс
социального расслоения в крепостной деревне, отчетливо
проявившийся уже в 40—50-е годы прошлого столетия.
С одной стороны, в повести крестьяне-бедняки,
находящиеся на грани нищеты (Чурис), с другой — кулак
Дутлов. Но беднейшего мужика Чуриса и первого богача в
вотчине объединяет общее чувство недоверия к барину
и скрытой враждебности к нему.
Однако главная причина неудач Нехлюдова крылась
Даже не в этом. Он полагал,, что бедственное положение
мужиков можно исправить «трудом и терпением», то
есть путем систематической помощи им, ничего не меняя
в существующих социальных порядках. В этом
заключалось его главное заблуждение.
Толстой глубоко и правильно выражает мужицкий
«взгляд на вещи», то есть на причины бедности крестьян
и их неискоренимого недоверия к барину, Чурис говорит
57
Нехлюдову о непрерывном ограблении крестьян
крепостниками: «земель все меньше стало», «навозные земли в
господский клин отрезали», а у крестьян остались «глина
и бугры», — в этом и коренилась главная причина
бедности крестьянства, которую невозможно было устранить
никакими филантропическими «сошками» Нехлюдова.
Когда Нехлюдов предлагает Чурису облегчить его
участь, тот не может принять этого всерьез: «коли
землей владеть, то и барщину править надо — уж порядки
известные». Значит, все дело в социальных порядках,
при которых неизбежны нищета и полуголодная жизнь,
бескультурье и невежество миллионов крестьян.
Всей логикой своей повести Толстой показывал
иллюзорность решения социальной проблемы на путях
филантропии. Классовые интересы помещиков и крестьян были
антагонистическими, и примирить их было невозможно.
Тургенев правильно писал о причинах крушения планов
Нехлюдова: «Главное нравственное впечатление этого
рассказа (не говорю о художественном) состоит в том,
что пока будет существовать крепостное состояние, нет
возможности сближения и понимания обеих сторон,
несмотря на самую бескорыстную и честную готовность
сближения...» И ниже давал высокую оценку
художественным достоинствам рассказа: «...мастерство языка,
рассказа, характеристики великое».
Повесть Толстого подводила читателя к мысли о
необходимости ликвидации крепостничества. Для коренного
изменения в положении крестьянства нужно уничтожить
крепостное право и передать помещичью землю
мужикам. Но тогда была бы ликвидирована всякая связь
между Нехлюдовым и крестьянами, которые больше не
нуждались бы в «благодеяниях» доброго и совестливого
барина.
Однако именно вопросы совести и играли главную роль
во всех начинаниях Нехлюдова. Не о крестьянах он
думал, а о себе. Когда Нехлюдов узнавал о бедности
крестьян, ему становилось грустно, «как будто воспоминание
о каком-то совершенном неискупленном преступлении
мучило его». И вся его программа делания «добра» в
сущности была продиктована этим стремлением к
«искуплению» если не своих преступлений перед
крестьянами, то преступлений отцов и дедов. В филантропии
58
барин Нехлюдов искал успокоения душевным тревогам,
своей встревоженной и мятущейся совести. И когда он
терпит поражение в социальной области, он естественно
обращается к самому себе, к поискам личного счастья и
личной гармонии.
Разъедаемый рефлексией, Нехлюдов увидел
воплощение подлинного счастья в цельном характере молодого,
здорового Илюшки, сына Дутлова, занимающегося
извозом, который побывал и в «Одесте» и в Киеве, спит на
сене под звездным небом и как бы слит с природой.
Стремясь проникнуть в его внутренний мир, в его интересы
и мечты, он убеждается, что Илюшка для него — идеал
человека естественного, цельного, нравственно не
искалеченного. «Славно!» — шепчет себе Нехлюдов, и мысль:
зачем он не Илюшка — тоже приходит ему». Так уже
здесь Толстой высказал идею опрощения, которая найдет
свое дальнейшее развитие в «Казаках».
Чернышевский высоко оценил «Утро помещика». Он
писал: «Граф Толстой с замечательным мастерством
воспроизводит не только внешнюю обстановку быта
поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он
умеет переселяться в душу поселянина, — его мужик
чрезвычайно верен своей натуре, — в речах его мужика
нет прикрас, нет реторики, понятия крестьян передаются
у графа Толстого с такою же правдивостью и
рельефностью, как характеры наших солдат». *
В этой оценке, пожалуй, самым примечательным
является подчеркивание глубокого проникновения Толстого
в народную жизнь, в интересы и чаяния русского
мужика, что и дало ему возможность создать целую галлерею
типических образов мужиков, чуждых идеализации и
прикрашивания, живых, настоящих, со своим взглядом
на вещи, со своим языком, со своим духовным складом.
Среди них критик выделяет фигуру Чуриса как одну
«из самых законченных, самых рельефных и вместе
самых типичных в рассказе, который вообще представляет
очень много страниц, дышащих правдою».2
1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т, IV,
стр. 682.
2 Там же,
59
На перевале русской истории, в предреформенную и
реформенную эпоху русская литература отобразила дух"
анализа, повышенный интерес в обществе к прошлому
России, обостренные сравнения русских порядков с
западноевропейскими, буржуазными, сравнения эпох,
поколений, отцов и детей. Так ощутителен был переходный
характер времени и назревавшие перемены в русской
жизни после кризисной Крымской войны. Отобразил эти
явления и Толстой.
Толстой в 1856 году создает рассказ «Два гусара»
A856), в котором в сущности впервые в русской
литературе была поставлена проблема отцов и детей,
полечившая шесть лет спустя более развернутую и глубокую раз*
работку в романе Тургенева. Первоначально повесть так
и называлась «Отец и сын», и только по совету
Некрасова Толстой назвал ее «Два гусара». Произведение
интересно и как отдаленный подступ к роману «Война и мир».
Повесть открывается широким эпическим
вступлением, посвященным сопоставлению двух исторических
эпох в их наиболее выразительных, по мнению автора,
чертах: эпохи начала века — эпохи «масонских лож,
мартинистов, тугендбунда... Милорадовичей, Давыдовых,
Пушкиных», и эпохи, современной Толстому, эпохи 50-х
годов. Здесь и отличия в техническом прогрессе и
разительные перемены в быту и нравах. Причем технический
прогресс, выразившийся за эти несколько десятков лет
в появлении железных дорог, в газовом освещении и в
ряде предметов бытового обихода, сопровождался, по
мысли Толстого, прямым падением нравов — много
развелось «милых дам камелий», которые в прежние
времена прятались от дневного света.
Все поэтическое очарование старого времени, когда
люди наивно верили во многое такое, над чем теперь
цинично смеются, когда они были рыцарски благородны
в обращении с дамами, теперь, в 50-е годы, уже исчезло,
рассеялось как дым. На смену рыцарски благородным
отцам с их цельными увлекающимися натурами и
пылкими характерами пришли «разочарованные юноши со
стеклышками», мелкие жалкие людишки, ни на что,
кроме подлости, не способные.
60
Когда Толстой сталкивает две эпохи в жизни
дворянства, столь различные между собой, когда он с душевной
теплотой изображает минувшую пушкинскую эпоху,
отмеченную в его восприятии разгулом и молодечеством,
пылкими страстями и непосредственностью нравов,
поэзией и рыцарством, он вместе с тем не упускает
случая отметить и «развратные наклонности прошлого века».
Не все было хорошо и в прошлом. В новой эпохе «много
дурного старого погибло», но одновременно погибло и
много прекрасного: «много прекрасного молодого
выросло, и еще больше недоросшего, уродливого молодого
появилось на свет божий». Таким образом, Толстой не
огульно осуждает современность с ее отвратительным
буржуазным практицизмом, — сохранились еще в жизни
прекрасные побеги, но дурное, «уродливое» преобладает—и в
этом смысл сопоставления двух исторических эпох.
Однако интродукция повести со столь широким
захватом исторических явлений в их специфически толстовском
истолковании не получила подкрепления и развития
в дальнейшем повествовании, не была раскрыта во всей
полноте затронутых тем. Толстой решает проблему
сопоставления" эпох больше в морально-психологическом и
бытовом плане, чем в политическом и идейном. Именно
по этой линии и идут сопоставления старшего и
младшего Турбиных как типических представителей двух
различных эпох, двух различных поколений.
Эпиграф к повести —
Говорят умней они...
Но что слышим от любова?
Жомини да Жомини,
А об водке —ни полслова!..
взят из известного стихотворения Дениса Давыдова
«Песня старого гусара» A817) и сразу вводит в
атмосферу рыцарства и веселого гусарского разгула. Это
стихотворение являлось наиболее характерным в цикле
гусарских стихов Давыдова, и оно служит своеобразным
эмоциональным ключом ко всей первой половине
повести, посвященной Турбину-старшему.
Установлено, что многими чертами внешности и
характера старший Турбин напоминает Федора Ивановича
Толстого, двоюродного дядю писателя, о котором Лев
61
Николаевич вспоминал: «Помню его прекрасное лицО1.
бронзовое, бритое, с густыми белыми бакенбардами до
углов рта, и такие же белые курчавые волосы. Много бы
хотелось рассказать про этого необыкновенного,
преступного и привлекательного человека».1 Выбор прототипа
объясняется, видимо, тем, что Ф. Толстой наиболее ярко
воплощал своеобразные черты эпохи, когДа в
определенных кругах дворянства, особенно в гвардии,
культивировались разгул и молодечество.
Федор Иванович Турбин был «истинный гусар»,
картежник, дуэлист, соблазнитель, но человек — «душа».
О нем говорили: «чудесный малый», «последнюю
рубашку отдаст». Человек бурных страстей, он не терпел
подлости. Его благородство раскрывается в одном
эпизоде. В тот день, когда Турбин приехал в город,
проигравшийся накануне корнет Ильин находился в состоянии
полного душевного смятения. Он ходил по улицам,
наблюдал прохожих, рассматривал у купца хомуты, видел
стоящего будочника, проезжающего господина в
медвежьей шубе, но все эти явления внешнего мира
скользили по поверхности его сознания, не затрагивая его
глубин, где прочно засела одна мысль—«погубил я свою
молодость», которая и являлась лейтмотивом всех его
переживаний. Заметим, что этот эпизод по принципу сочетания
внутренних переживаний человека и внешних явлений
мира в известной мере предваряет эпизод поездки Анны
по Москве в день ее гибели. Возвратившийся в
гостиницу Ильин садится отыграться, проигрывает последние
деньги и уже примиряется с мыслью о самоубийстве. Но
Турбин отбирает деньги у шулера и возвращает их
Ильину, спасая жизнь человека, с которым был знаком
всего несколько часов.
Поэзия удали и молодечества, решимости и отваги,
преданность чистой дружбе, гусарский культ дамы,
редкая цельность характера и полнота жизненных
ощущений — вот что характеризует Турбина-старшего.
Повесть четко делится на две половины: первые
восемь глав связаны с Турбиным-отцом, вторые восемь —
с Турбиным-сыном. Кроме того, и по своему содержанию
1 П. И. Бирюков. Л. II. Толстой. Биография, т. I, изд.
«Посредник», М., 1906, стр. 89.
62
они корреспондируют друг с другом, в них намерейно
введены перекликающиеся темы: игра в карты,
отношение к женщине, понятие дружбы, отношение к дуэли,
отношение к деньгам и ряд других. Таким образом,
во всей повести проведена линия сопоставления
представителей двух поколений, их морального облика, их
принципов жизни. При этом молодой Турбин пасует перед
отцом по всем пунктам.
Чисто эгоистический практицизм, холодная
расчетливость, отсутствие всякой поэзии, подлость и трусость,
презрение к друзьям — вот что характеризует духовный
облик молодого Турбина, вся жизнь которого была
подчинена задаче неуклонного продвижения по
служебной лестнице. Его девиз — надо воспользоваться, если
представляется удобный случай. Естественно, он
стыдился отцовских похождений и чуждался его знакомых:
«как-то всегда совестно за папашу покойного»,— говорил
он. Этот «практический человек» был отвратительно
мелочен, пил чужой ром, не платил карточных долгов,
бесцеремонно и нагло обыграл старушку, ту самую Анну
Федоровну, за которой рыцарски ухаживал его отец.
Толстой создает милый, поэтический образ девушки
Лизы, дочери Анны Федоровны, простой и сердечной,
добродушно-веселой и самостоятельной. Она выросла
в общении с природой и с простыми людьми и очень
рано начала заниматься хозяйством. Лиза по-своему
мечтала о любви и счастье. Приезд графа возбудил в ней
эти надежды на счастье, она с неведением юности
ожидала увидеть в нем необыкновенного человека с
необычными речами, нравами и привычками — в нем все
должно было, по ее представлениям, быть прекрасно. Но
ничего примечательного в нем не оказалось.
Анна Федоровна, погруженная в воспоминания,
сравнивает «молодого франтика» с шальным графом, и ей
становится грустно: «Нет, что-то не то теперь, люди не те.
Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот,
небось, спит себе дурак дураком, рад, что выиграл, нет
того, чтобы поволочиться. Как тот, бывало, говорит на
коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя
сейчас, и что хочешь?» И убил бы, коли б я сказала».
Нет, молодой Турбин не спал, он в это время
воровским образом подбирался к окну Лизы, которая, сидя
63
у окна, мечтала о счастье, и когда она вскрикнула от
неожиданного прикосновения к ее руке, он обратился
в постыдное бегство. Его мысли — это мысли пошляка:
«Чудесная барышня! Свеженькая какая! Просто
прелесть! И так прозевал... Глупая скотина я!» Разумеется,
это приключение тотчас же было рассказано корнету
Полозову, которого он не признавал себе равным, и
Полозов, бывший морально чище и выше Турбина, назвал
его подлецом. Несмотря на тяжкое оскорбление, дело
обошлось без дуэли.
Карьеризм иссушил его душу и нравственно
искалечил. В этом смысле младший Турбин по своим
нравственным и (психологическим качествам предваряет образ
Бориса Друбецкого из «Войны и мира».
Имеется примечательная запись в дневнике Толстого:
«Пришел Фет и Трусон. Последний прелестно сказал, что
второй гусар написан без любви». Толстой и не мог
написать его с любовью, так как резко осуждал глубокий
аморализм людей типа молодого Турбина.
Чернышевский, характеризуя рост творческих
интересов Толстого, захватывающих все новые и новые сферы
жизни, писал, что в «Двух гусарах» он дал
«изображение нравов нашего общества в различные эпохи».1
В 1857 году Толстой совершает свою первую поездку
за границу. Он посещает Францию, Швейцарию, Италию,
Германию и вначале наслаждается «социальной
свободой», о которой в России «не имел даже понятия».
Сцена казни на гильотине, которую он наблюдал
в Париже и которая запечатлелась в его памяти на всю
жизнь, и другие формы проявления жестокости
буржуазной «демократии», однако, рассеяли его иллюзии.
Буржуазная действительность предстала перед ним во всей
своей наготе.
Случай с бродячим певцом, развлекавшим праздную
толпу англичан-туристов в одном швейцарском городке
и не получившим за это ни копейки, возмутил Толстого-
свидетеля. Так возник рассказ «Люцерн» A857), кото-
1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. IV,
стр. 681.
64
рый явился своеобразным творческим отчетом писателя
о своей поездке за границу. Рассказ был написан в три
дня. Толстой немедленно прочитал его своим
родственницам. А. А. Толстая вспоминала об этом чтении: «Лев
был страшно возбужден и пылал негодованием».1
В «Люцерне» Толстой разоблачает лживость
буржуазной морали и «порядочности». В самой
демократической в то время стране — Швейцарии —
республиканские законы обращены против бедных. У писателя
срываются гневные слова: «Паршивая ваша республика,
вот оно — равенство этих англичан, которые слушали
даром бедного человека, который утешал их. Они украли
у него каждый по несколько сантимов... Да, вот она
цивилизация!..» Толстой защищает в бродячем певце
человека, обличая окружающих, бессердечных и чопорных
английских буржуа, именно потому, что они не хотят
признавать в нем человека.
Но следует отметить, что протест Толстого против
буржуазной цивилизации носит стихийный, анархический
характер. Писатель не видит относительной
прогрессивности капитализма по сравнению с царившими тогда
в России крепостническими порядками. В своей критике
он апеллирует «к непогрешимому руководителю», к
«всемирному духу». В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой
и его эпоха» критиковал Толстого, объявившего в
«Люцерне», что «признание «цивилизации» благом есть
«воображаемое знание», которое «уничтожает
инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра
в человеческой натуре».2
В «Путевых записках по Швейцарии», которые
Толстой вел во время путешествия, он дает уничтожающую
характеристику буржуазии: «Это безжизненная,
притворная, нелепо подражающая французам, презирающая
рабочий класс швейцарцев и отвратительно корыстно
мелочная порода людей».3 При этом самую большую
неприязнь в нем вызывали английские буржуа. Даже
размышляя о своем особом отношении к природе, о жела-
-нии слиться с пей и ощущать ее всеми органами чувств —
1 «Толстовский музей, т. I: Переписка Л. Ы. Толстого с
гр. А. А. Толстой, 1857—1903», СПБ, 1911, стр. 11.
2 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 30.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т, 5, стр. 211,
5 С. Бычков 66
далекие и поэтому холодные виды его не трогали, —
Толстой вспоминает англичан: «Мне дела нет до этой
дали. Жаманский вид для англичан».1 Глубокая
антипатия к англичанам сложилась у писателя под влиянием
варварской войны Англии против Китая, начатой
в 1856 году без всякого повода. 30 апреля 1857 года
он записал в дневнике: «Читал отвратительные дела
англичан с Китаем...» Эти события в известной мере уже
подготовили взрыв негодования Толстого против
английских буржуа — обитателей Швейцергофа.
По возвращении в Россию Толстой еще острее
наблюдает «патриархальное варварство, воровство и
беззаконие». В течение одной недели он видел и слышал, как
барыня на улице палкой била свою девку, как становой
требовал взятку, как чиновник избил до полусмерти
семидесятилетнего больного старика, как бурмистр
издевался над садовником. И эти ужасы, размышляет он,
составляют вечную обстановку нашей жизни. Где же
выход? Толстой очень остро чувствует царящую в мире
социальную несправедливость, но он не находит путей
для установления социальной гармонии, для защиты прав
поруганной человеческой личности; ему кажется, что
можно устраниться от борьбы с социальным злом, уйти
от жизни за высокие стены искусства: «Благо, что есть
спасение — мир моральный, мир искусств, поэзии и
привязанностей. Здесь никто, ни становой, ни бурмистр мне
не мешают...»
Но это была очередная иллюзия. Спастись в
искусстве от жизни было невозможно. Толстой высказывает
эту мысль, но она не становится линией его поведения,
потому что он убеждается: от настоящей жизни никуда
не спрячешься. 18 октября 1857 года он сообщал
А. А. Толстой о происшедшей у него перемене «во
взгляде на жизнь». Смысл этой перемены заключался
в решительном осуждении эгоистической «теории»
спокойной жизни. «Мне смешно вспомнить, как я думывал и
как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить
счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без
ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку
и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее.
1 Л. Н, Толстой. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 203.
66
Смешно! Нельзя, бабушка. Все равно, как нельзя, не
двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтоб жить
честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться,
начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно
бороться и лишаться. А спокойствие — душевная
подлость». 1 Это письмо является ярчайшим документом во
всем эпистолярном наследии великого писателя. В
цитированном отрывке с предельной остротой выражены
черты подлинно ищущей личности, здесь
охарактеризован и духовный облик автора «Войны и мира» и дан
ключ к постижению характеров Пьера Безухова, князя
Андрея, Левина, Нехлюдова и других героев романов
и повестей Толстого, все усилия которых были
направлены на поиски смысла жизни, личной и народной.
Этические рассуждения Толстого в этом письме и
близком к нему по теме письме к Боткину и Тургеневу
от 21 октября— 1 ноября 1857 года пронизывает
плодотворная мысль о том, что в основе воспитания подлинно
человеческого характера должны лежать борьба, труд,
преодоление препятствий и лишений, что только победа
над трудностями жизни приносит человеку подлинное
удовлетворение, «одно законное счастье есть честный труд и
преодоленное препятствие». Толстой сознается, что ему
не раз приходилось «натыкаться на тяжелую
действительность», не раз перед ним во всей своей наготе
раскрывались социальные противоречия жизни, и он, не
выражая прямо и решительно своего протеста, «выбирал
обход». Такими «обходами» для него являлись: то
философия, «не изучаемая», а своя, «нелепая», «религия
такая же и искусство». Но отгородить себя от жизни,
замкнуться в мире поэзии и «махнуть на все рукой» ему
так и не удалось. Теперь же он окончательно убедился,
что «вся эта тяжелая, нелепая и несчастная
действительность не случайность, не досадное приключение именно
со мной одним, а необходимый закон жизни». Из этой
жизни надо исходить в борьбе за свои идеалы. Только
литератором быть нельзя, ибо, как он записал в своем
дневнике, «никакая художническая струя не увольняет
от участия в общественной жизни».2
1 Л, Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 231.
а Там же, т. 47, стр. 95.
5* 67
Отголоском предшествовавших сбивчивых суждений
по вопросам искусства является у Толстого повесть о
бескорыстном талантливом служителе искусства «Альберт»
A857—1858). Это своеобразный трактат об искусстве на
языке искусства..
В повести говорится о силе «заразительности»
искусства, о его неограниченной власти над душой человека.
Всех присутствующих в зале ошеломила игра скрипача,
перенесла в совершенно другой мир. Альберт — это
падший талантливый музыкант, пьяница, но во время игры
он весь преображается, безраздельно отдается
наслаждению искусством и других покоряет своей вдохновенной
игрой. В заключительной главе повести художник Петров
излагает в своей речи мысли об искусстве, говорит о
музыканте как о великом человеке, исполнившем в своей
жизни «все то, что было вложено в него богом». Он
счастлив, он добр. Он всех одинаково любит или
презирает и служит только тому, что вложено в него свыше.
Он любит одно — красоту, «единственно несомненное
благо в мире».
Естественно, что эта повесть была забракована
Некрасовым. 16 декабря 1857 года Некрасов писал
Толстому: «Главная вина вашей неудачи в неудачном выборе
сюжета, который, не говоря о том, что весьма избит,
труден почти до невозможности и неблагодарен... Вашему
герою... нужен доктор, а искусству с ним делать нечего».1
Когда «Альберт» был напечатан, писатели и критика
встретили его холодно, рассказу не было посвящено ни
одной сколько-нибудь значительной статьи. И сам
Толстой понимал, что его повесть «не может нравиться
большинству».
Как писатель, Толстой временно ощущает себя
выбитым из седла; новое направление литературы
поддерживается другими людьми, а его «старые знакомые»
оказались в стороне от столбовой дороги развития русской
литературы. Толстого утешает только то, что есть другая
опора в жизни, кроме литературы, более прочная, —
Ясная Поляна, есть другие занятия, кроме писания, —
ведение хозяйства. Он решительно восстает против
профессионализации писателя. «Слава богу, я не послушал
1 Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений, т. 10, стр. 372.
63
Тургенева, который доказывал мне, что литератор
должен быть только литератор, — писал он Боткину 1 ноября
1857 года. — Это было не в моей натуре. Нельзя из
литературы сделать костыль, хлыстик, пожалуй, как говорил
В. Скотт. Каково бы было мое положение, когда бы, как
теперь, подшибли этот костыль. Наша литература, т. е.
поэзия, есть если не противузаконное, то ненормальное
явление (мы, ^помнится, спорили с В1ами об этом), и
поэтому построить на нем всю жизнь — противузаконно».1
Тем не менее Толстой еще не отказывается от
литературы. Резко осуждая «небывалый кавардак», который был
поднят в русском обществе «вопросом эмансипации»,
вызвавшим крайнее возбуждение политических страстей,
он с грустью вынужден заметить: «Изящной литературе
положительно нет места теперь для публики». Он не на
шутку встревожен судьбами искусства, опасаясь того,
что «политический грязный поток» может «загадить» его.
Поэтому Толстой спешит убедить Боткина в
необходимости организовать, с привлечением Тургенева и Фета,
издание чисто художественного журнала, призванного
спасти гибнущее искусство. По замыслу писателя,
журнал должен стоять выше всех направлений, не
вмешиваться в полемику совершенно, не считаться с
запросами публики. «Цель журнала одна: художественное
наслаждение, плакать и смеяться. Журнал ничего не
доказывает, ничего не знает. Одно его мерило —
образованный вкус». Из этой затеи ничего не вышло, журнал не
состоялся.
22 января 1859 года Толстого избирают членом
Общества любителей российской словесности при Московском
университете. Согласно обычаю, он произносит на
заседании общества вступительную речь, в которой дает
характеристику литературных направлений 50-х годов.
Называя себя «односторонним любителем изящной
словесности», Толстой, однако, признает, что обличительная
литература нашла своих «замечательно умных, честных
и талантливых представителей» и что увлечение русского
общества этой литературой «было благородно,
необходимо и даже временно справедливо».2 Но все свои сим-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 234.
2 Там же, т. 5, стр. 271,
69
патии он отдает литературе, отражающей не
«временные», а «вечные, общечеловеческие интересы». 1
Характерно, что позднее, после пережитого им кризиса в
мировоззрении, Толстой очень резко осудил свою речь,
подчеркнув именно ее тенденциозный характер: «Сказана
была глупая речь об искусстве для искусства».2
При рассмотрении вопроса о взаимоотношении
Толстого с либеральными литераторами следует, однако,
подчеркнуть, что хотя личные его высказывания и
перекликаются со статьями Дружинина и Боткина, тем не
менее по своим интересам он был неизмеримо шире всех их
вместе взятых. «Литературные друзья» не могли дать
ответа на социальные вопросы, волновавшие писателя,
они не в состоянии были облегчить и морально-этические
искания Толстого, поэтому, естественно1, их дороги
впоследствии резко разошлись.
Увлечение идеями «искусства для искусства»
сказалось крайне отрицательно на творчестве Толстого. Прежде
всего сильно сократился объем творческой работы
писателя. За годы 1852—1856 им было создано и
опубликовано более тринадцати тематически разнообразных
произведений — это был могучий творческий разбег. К этому
времени относятся десятки новых замыслов. Иным было
положение в годы 1857—1859, когда Толстой написал
всего четыре произведения. От больших,
общенациональных тем, поднятых в «Севастопольских рассказах», «Двух
гусарах», «Утре помещика», Толстой обратился к
разработке второстепенных проблем, которые имели
значение разве для узкого круга литературных интеллигентов.
«Севастопольские рассказы» вели писателя к
широким общенациональным проблемам. Тогда Толстой
осмысливал переживания своих героев в аспекте
больших исторических задач, стоявших перед страной, в его
творчество ворвалась широкая демократическая струя,
определившая трактовку этических проблем этих
рассказов. Произведения же, написанные в период увлечения
идеями «чистого искусства», начиная отчасти с «Юности»
' и кончая «Семейным счастьем», каждое по-своему
являлись признаком несомненного снижения творчества Тол-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 5, стр.271,
2 Там же, т. 64, стр. 152,
70
стого. Этим в значительной мере и объяснялся полный
неуспех его «милых» повестей и рассказов. Реакционные
идеи «чистого искусства» не могли оплодотворить
творческую мысль Толстого, как и любого другого
подлинного художника.
«Юность» Толстого, появившаяся в январской книжке
«Современника» за 1857 год, была встречена
восторженно лишь его литературными друзьями. Тем не менее
даже Дружинин отмечал ограниченность той
читательской аудитории, которую найдет новая повесть Толстого;
по его мнению, «Юность» написана не «для массы
читателей». «По замыслу и по сущности труда, — писал он
Толстому, — ваша «Юность» будет гастрономическим
куском лишь для людей мыслящих и чующих поэзию». 1
Однако в демократических кругах «Современника»
новая повесть Толстого, пропагандировавшая идеи
нравственного самоусовершенствования и уводившая читателя
от больших социальных вопросов в сферу личных
переживаний, получила резко отрицательную оценку. Имея
в виду отсутствие глубоких социальных идей в повести
и аристократическое самолюбование ее героя,
Чернышевский в письме к Тургеневу говорил, что «Юность» — это
«вздор», «размазня», «пошлость, скука, бессмыслие,
хвастовство бестолкового павлина своим хвостом...» 2
Однако надежды Толстого «реабилитировать» себя,
восстановить свое пошатнувшееся имя новыми
произведениями на этом этапе не оправдались.
Наиболее острый в социальном отношении рассказ
этой поры — «Три смерти» («Библиотека для чтения»,
1859, январь), впрочем, сильно связанный с религиозно-
этическими размышлениями автора о смерти. Его
идейное содержание хорошо раскрыто автором в письме
к А. А. Толстой от 1 мая 1858 года: «Моя мысль была:
три существа умерли — барыня, мужик и дерево. — Б'а-
рыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет
перед смертью. Христианство, как она его понимает, не
решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать,
когда хочется жить?.. Мужик умирает спокойно, именно
потому что он не христианин. Его религия... — природа,
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 398.
2 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Полное собрание сочинений, т. XIV,
стр. 332.
11
с которой он жил... гармония со всем миром, а не такой
разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно
и красиво. Красиво, — потому что не лжет, не ломается,
не боится, не жалеет. — Вот моя мысль.. » 1 И
действительно, в рассказе показано, что мужик Федор умирает
значительно проще, чем кривляющаяся барыня, которая
судорожно цепляется за жизнь, но еще проще и
естественнее умирает дерево. Писатель обличает ложь и
моральное уродство представителей господствующих
классов. Толстой показывает, что народ выше
господствующих классов не только в своей исполненной трудов
жизни, по даже и в своем отношении к смерти. Рассказ
появился в то время, когда шла напряженная борьба
вокруг крестьянского вопроса, когда в стране назревала
революционная ситуация. Но русского мужика
волновали не религиозно-этические вопросы, не ритуал
умирания, а глубочайшие и наиболее существенные вопросы
жизни, и главнейший из них — вопрос о
раскрепощении, о личной свободе и о земле. Эти переживания
мужика нашли отражение в дневниковых записях и
переписке Толстого, но не стали темой его художественных
произведений той поры.
Роман «Семейное счастье», опубликованный уже
после окончательного разрыва Толстого с
«Современником» на страницах «Русского вестника» A859, №№ 7, 82),
не принес автору удовлетворения, он как бы опять увлек
писателя в сторону от главнейших и существеннейших
для него сторон русской жизни.
Письма Толстого к В. В. Арсеньевой с достаточной
полнотой раскрывают автобиографическую основу этого
романа. На склоне лет Толстой в письме к П. И.
Бирюкову от 27 ноября 1903 года, вспоминая о своих
увлечениях в молодости, писал: «Потом главное, наиболее
серьезное — это была Арсеньева Валерия. Она теперь
жива, за Волковым была, живет в Париже. Я был почти
женихом («Семейное счастье»), и есть целые пачки моих
писем к ней».2 Таким образом, основная тема романа
была глубоко личной.
1 Л. Н. Толстой Полное собрание сочинений, т. 60,
стр. 265—266.
2 Там же, т.'5, стр. 304.
72
Вместе с тем в «Семейном счастье» уже начинают
вырисовываться первые контуры трагической коллизии
«Анны Карениной». В романе высказывается мысль
о пагубном влиянии светской жизни на «семейное
счастье». Огромная разница возрастов между Сергеем
Михайловичем и его женой Марией, от лица которой и
ведется повествование, разность темпераментов, разность
взглядов на жизнь приводят в условиях света к
взаимному отчуждению. Толстой показывает, как светская
жизнь лишает человека чистоты и искренности и
воспитывает в нем притворство, лживость, холодную,
расчетливую любезность. Чистый эмоциональный мир героини
после нескольких месяцев светской жизни оказывается
загрязненным.
Но существенным недостатком романа является почти
полное отсутствие социальной мотивировки душевной
жизни героев (измены, ревности и т. д.), отвлеченность
от эпохи. Сильно снижает значение затронутой Толстым
темы утверждение им патриархально-усадебных
принципов. Толстой собственно не на стороне нарушительницы
общепринятой морали Марии, влюбившейся в принца и
временно порвавшей с мужем. Автор возвращает ее
в лоно семейной жизни.
Неудача с «Семейным счастьем», на которое он
возлагал большие надежды, оставила глубокий след в
сознании Толстого. Прошло лето 1859 года, наступила
осень — время наибольшего подъема творческой энергии,
но «конфуз» с романом не забыт, больше того — созрело
решение окончательно оставить литературу. В начале
октября 1859 года Толстой писал Фету: «...я вас люблю,
дяденька, руку на сердце. А повести писать все-таки не
стану. Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают,
женятся, а я буду повести писать, «как она его
полюбила». 1
Одновременно с этим на уговоры Дружинина дать
ему для журнала новую повесть Толстой отвечал:
«Теперь... как писатель я уже ни на что не годен. Я не пишу
и не писал со времени Семейного Счастья и, кажется,
не буду писать. Льщу себя по крайней мере этой
надеждой. — Почему так? Длинно и трудно рассказать. Глав-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 307.
79
ное же — жизнь коротка, и тратить ее в взрослых летах
на писанье таких повестей, какие я писал, — совестно.
Можно и должно и хочется заниматься делом. Добро бы
было содержание такое, которое томило бы, просилось
наружу, давало бы дерзость, гордость и силу, — тогда бы
так. А писать повести очень милые и приятные для
чтения в 31 год ей-богу руки не поднимаются». 1
Это письмо очень важно для понимания идейных
истоков духовного кризиса Толстого. Общение с
«бесценным триумвиратом» (Дружинин, Боткин, Анненков)
привело его к творческому опустошению. В исходе этого
периода Толстой дошел до писания «милых» повестей
для узкого круга любителей изящного. Вскоре «милые»
повести стали вызывать в нем глубокое раскаяние; у него
даже проскальзывает мысль об отречении от всего
написанного им. Он порывает всякую связь с литературой и
просит Дружинина не включать его в список членов
Литературного фонда: «Заносить меня в список литераторов
незачем».2
Оставляя на время литературу, Толстой мечтает
о больших, значительных темах, которые могли бы
по-настоящему взволновать, томили бы, просились
наружу, — и это к нему придет, но позднее.
Отказ от литературы был для Толстого тяжелым
актом. Он пытался заполнить образовавшуюся душевную
пустоту «то охотой, то светом, то даже наукой». Но тем
не менее в нем происходил сложный процесс идейного
самоопределения: Толстой мучительно освобождался от
груза обветшалых эстетических теорий своих бывших
«литературных друзей» и вырабатывал иные нормы
отношения к литературе. Уже через несколько месяцев в его
высказываниях о литературе появляются принципиально
новые идейные моменты, он решительно осуждает
литературу с морально-этических позиций и находит, что
«писанье повестей, приятных для чтения... дурно и
неблагопристойно», а «самообольщение» так называемых
художников есть «мерзейшая подлость и ложь». «Всю
жизнь ничего не делать и эксплуатировать труд и
лучшие блага чужие за то, чтобы потом воспроизвести их, —
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 308.
2 Там же, стр. 318.
74
скверно, ничтожно, может быть есть уродство и пакость,
которой я слишком много видел вокруг себя мерзких
примеров, чтобы не ужаснуться». 1 Спустя полгода
в письме к Фету он вновь повторит: «Искусство есть
ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь».2
Так Толстой до конца осознает бесплодность
философии «чистого искусства» и идейно порывает со своими
«литературными друзьями». Он обращает свои взоры к
народу и в широком общении с ним черпает новые силы
для возврата к подлинно художественному творчеству.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 327.
2 Там же, стр. 358.
Г Л Л II Л Т Р Е Т Ь Я
В ноябре 1859 года Толстой открывает в Ясной
Поляне народную школу, мысль о которой появилась у него
еще во время первой заграничной поездки, в 1857 году.
Школа, по его собственному признанию, явилась тем
«монастырем», в котором он «спасся от всех тревог,
сомнений и искушений жизни».
Всю зиму 1859—1860 года Толстой с увлечением
занимается школьным делом, составляет план сочинения
по педагогике, справляется в министерстве просвещения
о возможности издания им педагогического журнала. Он
стремится распространить опыт яснополянской школы
возможно шире. С этой целью, по его мысли, необходимо
создать «общество народного образования», которое
обязано будет открывать новые народные школы, издавать
свой журнал и осуществлять другие просветительные
мероприятия. Мотивируя необходимость самого широкого
распространения образования среди народа, Толстой
отмечает полное равнодушие царского правительства
к этим вопросам. 12 марта 1860 года он пишет Е. П.
Ковалевскому: «Насущнейшая потребность русского
народа есть народное образование. Образования этого нет.
Оно еще не начиналось и никогда не начнется, ежели
правительство будет заведывать им».!
Размышления Толстого над вопросами народного
просвещения приводят его к широким социальным
обобщениям. Ему кажется, что образование есть тот рычаг, при
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т, 60, стр.329,
76
помощи которого можно изменить все общественное
устройство к лучшему, но для этого нужно «слить все
классы в знании науки». Одно из действенных средств
преодоления сословной разъединенности он видит в
широком распространении просвещения среди народа: «Не
нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску
выучить хоть немножко того, что мы знаем». 1
В 1860—1861 годах Толстой совершает новую поездку
за границу. Толстой заехал в Лондон и встретился с
Герценом. Герцен был политическим эмигрантом, выехавшим
из России в 1847 году, и личных встреч у Толстого с ним
до сих пор не было. В первую заграничную свою поездку
в 1857 году Толстой в Лондон не заезжал. Слава Гер-
-цена, создавшего за границей Вольную русскую
типографию, смело обличавшего крепостничество и
самодержавие в своих статьях, прокламациях, памфлетах, гремела
во всем мире и снискала величайшую любовь,
признательность и поддержку у самых широких слоев русского
передового общества. Надо сказать, что визиты к
опальному Герцену были чреваты большими опасностями для
каждого русского, оказывавшегося за границей.
Но Толстой любил Герцена, знал, повидимому, о тех
высоких оценках, какие Герцен в переписке со своими
многочисленными друзьями давал первым его
произведениям, и о том, как он приветствовал его самобытное
дарование. Толстой и до своей первой встречи с Герценом и
позже, на протяжении всей своей жизни, зачитывался
Герценом, особенно высоко ценя его произведения: «С того
берега», «Письма из Франции и Италии», «Былое и думы»
и многое другое. Конечно, Толстой не разделял и не мог
разделять революционной программы Герцена, и
значение личного контакта и даже, можно сказать,
своеобразной дружбы, заочно поддерживавшейся, не следует
преувеличивать. Тем не менее горячая страстность Герцена,
его глубокий патриотизм, постоянные «думы» о родной
России и русском народе, искренняя отзывчивость на все
его нужды и тяготы, желание ему раскрепощения и
свободы импонировали Толстому. Толстой чувствовал все
больше и больше, что его мировоззрение не укладывается
в легальные, цензурные рамки. Герцен был нужен
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр, 325.
77
Толстому для выяснения ряда мучавших его вопросов
социальной жизни, политики, педагогики. По
рекомендации Герцена Толстой встречается с Прудоном, Лелевелем.
Писатель читал и перечитывал Герцена особенно много
в канун революции 1905 года и в дни самой революции.
Толстой много лет спустя вспоминал о своей встрече
с Герценом: «Живой, отзывчивый, умный, интересный
Герцен сразу заговорил со мной так, как будто мы давно
знакомы, и сразу заинтересовал меня своею личностью.
Я ни у кого уже потом не встречал такого редкого
соединения глубины и блеска мыслей...»
Толстой не раз выражал свое глубокое сожаление
о том, что сочинения Герцена еще недостаточно известны
в России, что преследования царизма лишили русское
общество своевременного ознакомления с рядом его
блестящих произведений. В письме к Черткову от 9 февраля
1888 года Толстой писал: «Читаю Герцена и очень
восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения
запрещены. Во-первых, это писатель, как писатель
художественный, если не выше, то уж наверно равиый нашим
первым «писателям... Очень поучительно читать его
теперь. И хороший, искренний человек... Человек,
выдающийся по силе и уму, искренности... И что ж? Оттого,
что "человек этот говорит о правительстве правду,
говорит, что то, что есть, — не есть то, что должно быть, —
опыт и слова этого человека старательно скрывают от
тех, которые и*дут за ним. Чудно и жалко».1
В 1860 году Толстого могло привести к Герцену и то,
что ему была хорошо знакома по «Письмам из Франции
и Италии», «С того берега» уничтожающая критика
западно-буржуазной цивилизации, которую дал Герцен.
По другим произведениям, появлявшимся в «Колоколе»,
Толстому были известны поиски Герценом форм
«русского социализма» в патриархальной сельской общине.
Автор «Люцерна» и искатель путей спасения русского
крестьянства от язв «пролетариатства» и надвигающейся
буржуазной эксплуатации, Толстой находил много точек
соприкосновения с Герценом. Любопытно отметить, что
во время обыска в Ясной Поляне в 1862 году, в отсут-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т, 86.
стр. 121—122.
7В
ствие Толстого, горничной только случайно удалось
спрятать от жандармов экземпляры «Колокола» и портрет
Герцена, бережно хранившиеся в кабинете писателя.
Герцен помог Толстому в период работы над романом
о декабристе некоторыми ценными мемуарными
материалами, печатавшимися в «Полярной звезде».
Помимо Англии, Толстой посещает Германию,
Францию, Бельгию. Изучая систему народного образования
в европейских странах, особенно в Германии, Толстой
крайне отрицательно оценивает немецкую школу с ее
муштрой: «Ужасно, — записывает он в дневнике, —
молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные,
изуродованные дети».
За границей Толстой узнает о «крестьянской
реформе». Еще в самый разгар ее подготовки он хорошо
видел, что крепостники проявляют противодействие
«освобождению» крестьян. «До сих пор обозначилось
резко одно, — писал он 4 января 1858 года Боткину,—
дворянство почуяло, что у него не было других
прерогатив, как крепостное право, и озлобленно ухватилось
за него. — Противников освобождения 90 на 100».1
Принятый правительством план «освобождения» крестьян
носил половинчатый, компромиссный характер, за
небольшие наделы с крестьян взимался огромный выкуп.
Интересы крепостников, таким образом, были сохранены.
Чернышевский назвал реформу «мерзостью».
Толстой, пользуясь скудной информацией, тем не
менее отрицательно судит о крепостном характере
«реформы» и выражает сочувствие мужикам, надежды
которых оказались обманутыми. Он писал Герцену: «Еще
не нравится мне то, что тон манифеста есть великое
благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже
ученому крепостнику ничего не представляет, кроме
обещаний». 2 После ознакомления с «подробными
положениями о освобождении» он еще резче называет все эти
документы «совершенно напрасной болтовней» и
сообщает Герцену, что, по дошедшим до него из разных
источников сведениям, «мркики положительно
недовольны. Прежде у них была надежда, что завтра будет
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 246.
3 Там же, стр. 374.
79
отлично, а теперь они верно знают, что два года будет
еще скверно, и для них ясно, что потом еще отложат и
что ©сё это «господа» делают». 1
По возвращении в Россию Толстой принимает пост
мирового посредника и возобновляет свои школьные
занятия. В августе 1861 года он писал А. А. Толстой: «Есть
и у меня поэтическое, прелестное дело, от которого
нельзя оторваться, — это школа», В том же письме он
сообщал: «Посредничество интересно и увлекательно».2
Не лишено значения, что Толстой мотивировал свое
согласие на занятие должности мирового посредника
необходимостью борьбы с «ужасным, грубым и жестоким
дворянством». И действительно, во многих конфликтах,
возникавших между помещиками и крестьянами его
участка, Толстой нередко принимал сторону последних.
Разумеется, крестьяне были от того «в восхищении», а
«дворянство возненавидело» его «всеми силами души».3
Это подтверждается и текстом прошения дворян Крапи-
винского уезда предводителю дворянства Д. М. Щелину,
требовавших увольнения Толстого с должности мирового
посредника на том основании, что все его действия и
распоряжения для дворян «невыносимы и оскорбительны»,
возбуждают в крестьянах «враждебное расположение
к помещикам» и приносят им «огромные потери в
хозяйстве». Жандармский полковник Дурново в официальном
донесении III отделению между прочим сообщал, что
Толстой, «будучи мировым посредником... оказывал
особое пристрастье в пользу крестьян».
Имея в виду все эти «козни», Толстой 26 января
1862 года писал Боткину, что он «заслужил страшное
негодование дворян. Меня и бить хотят и под суд
подвести, но ни то, ни другое не удастся. Я жду только
того, чтобы они поугомонились, и тогда сам выйду в
отставку». Его утешает, однако, мысль: «В моем участке
на 9000 душ в нынешнюю осень возникли 21 школа».4
Школьная и посредническая деятельность Толстого
вызвала установление за ним тайных наблюдений со
стороны агентов III отделения: слежка завершилась обы-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 377.
2 Там же, стр. 404, 405.
8 Там же, стр. 405.
4 Там же, стр. 415.
80
ском в Ясной Поляне б—7 июля 1862 года. Толстой
находился в Башкирии, но, узнав об обыске, он пишет
в конце июля и в августе гневные письма своей
двоюродной тетке А. А. Толстой, в которых резко высказывает
«злобу и отвращение» к «милому правительству» и
к «разбойникам», состоящим у него на службе, —
Потаповым, Долгоруковым, Аракчеевым. Эти письма
примечательны не только силой выраженного в них чувства
оскорбленного личного достоинства, но и прямой
тревогой за свою репутацию в народе, мнением которого он
дорожил уже тогда. Толстого мало беспокоит то
обстоятельство, что обыск вызвал «стон восторга» у помещиков;
главное, как ему кажется, «испорчена» вся его
деятельность по линии народного просвещения, народ уже не
сможет относиться к нему с прежним доверием. «Народ
смотрит на меня уж не как на честного человека, мнение,
которое я заслужил годами, а как на преступника,
поджигателя или делателя фальшивой монеты, который
только по плутоватости увернулся». *
Школа и посредничество способствовали сближению
Толстого с народом, открыли ему широкую возможность
для более полного изучения «нравственной жизни»
мужика. Общение с народом оставило глубокий сле^д в
идейном развитии писателя и нашло отражение в тех
педагогических статьях, которые Толстой публиковал в журнале
«Ясная Поляна», издававшемся им в течение 1862 года.
Эти статьи только условно можно называть
педагогическими: по своей проблематике они далеко выходили аа круг
вопросов образования, в них обсуждались и
разрабатывались >не только методы обучения грамоте, отдельные
положения «философии педагогики», принципы создания
свободной школы, но и содержались прямые и
непосредственные отклики на самые жгучие вопросы современности.
Уже в программной статье «О народном
образовании», помещенной в первой книжке «Ясной Поляны»,
Толстой, развивая свои педагогические идеи, утверждал,
что «всякое серьезное образование приобретается только
из жизни, а не из школы».2 Показывая преимущества
свободного обучения, отвечающего на запросы реальной жиз-
1 Л. Н. Толсто й. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 436.
2 Там же, т. 8, стр. 21.
С. Бычков $1
ни, Толстой сравнивал ни у кого не учившегося крестьяй-
ского мальчика с барчуком, воспитанным гувернерами,
и решительно заявлял: «Преимущества ума и знаний
всегда на стороне первого».1 Он делал еще более
широкое обобщение: «Школа хороша только тогда, когда
она сознала те основные законы, которыми живет
народ». 2 Этим и определяется его решительный отказ идти
в народ с какой-нибудь определенной программой: надо
не «образовывать народ по-своему», а, напротив, в
решении вопросов образования прислушиваться к его голосу,
исходить из его запросов, руководиться его волей.
Относясь глубоко отрицательно к революционным
методам преобразования действительности, Толстой во
всех своих построениях исходил из того, что
патриархальный мужик есть воплощение высшего нравственного
идеала, наиболее цельный человек, живущий в полном
соответствии с законами природы. Интеллигенция, по
мысли писателя, не может учить этого мужика, а должна
сама учиться у него, она обязана постичь основы его
«нравственной жизни» и стать на путь опрощения.
Эти взгляды писателя отразились в его
педагогических статьях. По мысли Толстого, всю систему
образования и воспитания следует строить на основе
потребностей народа, не навязывать народу определенные знания
в принудительном порядке, а следовать за его
духовными запросами. Такова одна из основных
педагогических идей Толстого. Писатель убежден, что
образованные люди, интеллигенты не знают, чему учить и как
учить народ. Эта мысль пронизывает многие его
высказывания. Особенно нашумела статья Толстого «Кому
у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или
нам у крестьянских ребят?» Писатель признает за
крестьянскими ребятами преимущество непосредственности
восприятия жизни и произведений искусства. Несомненно,
что педагогические взгляды Толстого были в известной
мере проникнуты демократическими идеями, многие его
высказывания были резко направлены против господ.
В этой связи любопытно столкновение Толстого с
Тургеневым. Последнему давно не нравились многие черты
1 Л. Ы. Толсто й. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 13.
2 Там же, стр. 16.
Н2
в характере, поведении Толстого, которые он счйтаЛ
своего рода бравадой, оригиналышчанием под мужика,
желанием отличаться от либеральной литературной
братии лица «необщим выраженьем...». Толстой не раз
смущал скептическими замечаниями горячие
либеральные декламации своих друзей насчет «прогресса» и
русского просвещения. Он и действительно казался
странным со многими своими педагогическими затеями,
которые явно расходились с «общепринятой» моралью,
«приличием», коренными устоями педагогики,
европейскими авторитетами и пр. Все эти и отдельные другие
взаимные разногласия накапливались, и, несмотря на
внешние доброжелательные отношения между давними
приятелями, они вдруг бурно выступили наружу в мае
1861 года за обедом в усадьбе у Фета.
Затеялся разговор о воспитании Тургеневым своей
побочной дочери, и жена Фета спросила у него, доволен
ли он своей английской гувернанткой. Вопрос был самый
обычный в тогдашних салонах и дворянских усадьбах и
наверняка прошел бы благополучно, если бы Толстой
к этому времени уже не смотрел сердито па всю систему
«господского» воспитания, которую он считал лживой,
искусственной и пр.
Тургенев отозвался с похвалой о гувернантке и между
прочим сказал, что гувернантка, со 'свойственной ей
пунктуальностью, попросила его определить сумму, которою
дочь его может располагать для благотворительных целей.
«Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы
моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и,
собственноручно вычинив оную, возвращала по
принадлежности». Затем произошло следующее объяснение, как
об этом рассказывает Фет в своих воспоминаниях:
«— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.
«— Конечно, это сближает благотворительницу с
насущною нуждой.
«— А я считаю, что разряженная девушка, держащая
на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет
неискреннюю, театральную сцену.
«— Я вас прошу этого не говорить, — воскликнул
.Тургенев с раздувающимися ноздрями.
«— Отчего же мне не говорить того, в чем я
убежден? — отвечал Толстой».
* 83
Произошел обмен оскорблениями, закончившийся
вызовом на дуэль, которая, после долгих оттяжек, однако,
не состоялась...
В педагогических взглядах Толстого, кроме
критической стороны, были также и реакционные стороны,
которые были ярко вскрыты Чернышевским в рецензии на
журнал «Ясная Поляна». Стремление Толстого
осуществить в своей школе полную свободу образования,
отказаться от всякого принуждения, сблизить школу с
сельской жизнью вызывает сочувствие и одобрение критика.
Однако он резко осуждает утверждения писателя о якобы
постоянном противодействии народа образованию,
показывая, что главной помехой здесь является «бедность
простолюдинов».
Чернышевский отмечает непоследовательность
писателя, крайнюю противоречивость его высказываний.
С одной стороны, Толстой настаивает на осуществлении
полной свободы образования, с другой стороны, он тут же
нарушает этот основной принцип своей педагогики, делая
исключение для религиозного образования, которое, по
его мнению, «неоспоримо должно быть прививаемо
народу, и насилие в этом случае законно». Критик
осуждает попытки Толстого оправдать необходимость и
«законность» распространения религии в народе, его
объективное содействие закреплению среди крестьян
различных суеверий, нашедшее свое выражение в книжках
для простонародного чтения, выпущенных как
приложения к журналу «Ясная Поляна». Так, например, в
первой же книжке была помещена сказка, в которой
всерьез, в тоне, не допускающем никаких сомнений,
рассказывалось о том, как чорт соблазнял монаха.
Странными были и переделки некоторых известных
литературных произведений: история о Робинзоне Крузо
обратилась в сказку, «лишенную всякого смысла».
Отмечая мастерство рассказов, их общедоступный и хороший
язык, Чернышевский писал: «Но в содержании вещей,
рассказанных так хорошо, отразился недостаток
определенных убеждений, недостаток сознания о том, что
нужно народу, что полезно и что вредно для него».!
1 Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. X,
М., 1951, стр. 517.
84
Если Толстой исходил из мысли о необходимости
сохранения, своеобразной консервации основ нравственной
жизни мужика со всей его отсталостью и забитостью и
звал интеллигенцию к сближению с этим мужиком,
к опрощению, то Чернышевский, напротив, видел
главную задачу интеллигенции в широком просвещении
народа, в приобщении его к передовым идеям эпохи.
Надо нести в народ подлинный свет науки и решительно
бороться с суевериями в его среде, с темнотой и
неграмотностью, надо поднимать сознание народа до уровня
сознания передовой демократической интеллигенции.
Поэтому Чернышевский так решительно осудил и не мог не
осудить реакционные черты педагогических взглядов
Толстого.
Отсутствие передового мировоззрения, сильный крен
в сторону отсталой идеологии патриархального
крестьянства сказались и в оценке Толстым жгучих политических
проблем современности.
После «крестьянской реформы» 1861 года в стране
начал «укладываться» буржуазный порядок. «Реформа»,
дав относительную личную свободу крестьянам, не внесла
существенных перемен в их экономическое положение, ибо
они попрежнему были лишены «прав пастбищ, выездов
в леса» и на них были наложены «новые обязанности,
к исполнению которых они оказываются
несостоятельными». Капитализм не означал прогресса в установлении
гуманных отношений между людьми. «Я не нахожу,
например, — писал Толстой, — чтобы отношения
фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика
к крепостному».1
Толстой судит современность с точки зрения народных
выгод. В статье «Прогресс и определение образования»
он прямо заявляет, что из современных ему
«противоположных воззрений» избирает «народное»: «Я должен
склониться на сторону народа на том основании, что, 1-е,
народа больше, чем общества, и что потому должно
предположить, что большая доля правды на стороне народа;
2-е и главное — потому, что народ без общества
прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим
человеческим потребностям, как то: трудиться, веселиться,
Л. Ы, Толстой. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 341.
85
любить, мыслить и творить художественные произведения
(Илиады, русские песни). Прогрессисты же не могли бы
существовать без народа».1
Толстой утверждает не только равенство народа и
господствующих классов («точно такие же люди»), но и
несомненное превосходство «работников» над лордами,
баронами, банкирами, ибо «в поколениях работников
леж'ит и больше силы и больше сознания правды и
добра». 2 Народ является решающей силой истории.
На народ писатель пытается опереться в оценке новых
явлений общественной жизни, его именем он осуждает
современный буржуазный «прогресс». По глубокому
убеждению Толстого, народ «не верует» в прогресс, ибо не
получает от него ощутимой материальной выгоды.
Напротив, все новейшие технические изобретения
используются для более искусной эксплуатации народа.
Говоря о «прогрессе электрических телеграфов»,
отражающих определенную степень овладения человеком
силами природы, Толстой называет это «прекрасным», но
вот вопрос: «Для кого это выгодно?» И он пишет: «Все
мысли, пролетающие над народом по этим проволокам,
суть только мысли о том — как бы наиудобнейшим
образом эксплуатировать народ. По проволокам пролетает
мысль о том... что народ становится недоволен своим
положением в таком-то месте и что необходимо послать
для усмирения его столько-то солдат... Яснополянский
мужик Тульской губернии или какой бы то ни было
русский мужик... никогда не послал и не получил и долго
еще не пошлет и не получит ни одной депеши».3
Толстой, восставший против буржуазного «прогресса»
во имя защиты интересов народа, увидел во всей
духовной культуре, в том числе и в литературе, те же, но
только более тонкие способы порабощения и
эксплуатации: «Литература, так же как и откупа, есть только
искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и
невыгодная для народа». 4 От книгопечатания народ пока
не получил ни малейшей выгоды, книги не отвечают
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 346,
2 Fin л j —^ у 11*
Там же, стр. 345.
3 Там же, стр. 338.
4 Там же, стр. 340,
86
духовным запросам мужика: «Ни пахать, ни делать квас,
ни плесть лапти, ни рубить срубы, ни петь песни, ни
даже молиться — не учится и не научился народ из
книг». * Толстой резко и негодующе говорит о
«самообольщении так называемых художников», которые всю
жизнь ничего не делают и «эксплуатируют труд и
лучшие блага чужие». Он склонен отрицать предшествующее
искусство, созданное дворянством, называя его
«прекрасной ложью», но не все искусство ложно, есть истинное и
нужное — это искусство народа, которому принадлежит
будущее. Народ выдвинул из своей среды замечательных
мастеров слова, которые создали прекрасные и
величественные, общедоступные и полезные в жизни песни,
сказки, легенды, пословицы, загадки.
Весь этот арсенал доказательств Толстой мобилизует
для того, чтобы не только опрокинуть ходячие
либеральные теории «прогресса», но прежде всего убедить себя и
своих современников в том, что Россия не станет
буржуазной страной, а пойдет по каким-то иным,
самобытным путям развития. По мнению Толстого, еще не
доказано, что «русские должны необходимо подлежать тому
же закону движения цивилизации, которому подлежат
и европейские народы».2 Свободный от «суеверия
прогресса», Толстой идет еще дальше и, ссылаясь на Восток,
делает решающие выводы: прогресс не является
общеобязательным для всего человечества. Восточные народы
не подлежат его действию: «Закон прогресса, или
совершенствования, написан в душе каждого человека и
только вследствие заблуждения переносится в историю».3
Толстой в свое страстное обличение буржуазного
«прогресса», несущего с собой во всех областях новые,
еще более искусные формы эксплуатации народа,
вложил всю силу протеста патриархального мужика против
новых ужасов разорения, которые неизбежно вызывал
капитализм.
При этом писатель был так близок к пониманию
«нравственной жизни» мужика, что привносил в свою
критику идеологию патриархального крестьянина, черты
1 Л. Н. Толст ой. Полное собрание сочинений, т, 8, стр. 340, 341.
2 Там же. стр. 346.
3 Там же, стр. 333f
87
отсталости которого он великолепно запечатлел,
развертывая аргументацию против «прогресса». Мужики темны,
забиты и крайне бедны, поэтому они действительно не
пользуются телеграфом, не знают истории, не читают
Пушкина, не интересуются географией своей страны.
Толстой, однако, готов был считать эти черты
культурной отсталости русского мужика чуть ли не извечно
присущими ему особенностями. Толстому чужда была
историческая точка зрения в оценке «прогресса».
Цитируя статью Толстого «Прогресс и определение
образования», в которой доказывается со ссылкой на
Восток отсутствие общего закона движения человечества
вперед, Ленин пишет: «Вот именно идеологией
восточного строя, азиатского строя и является толстовщина
в ее реальном историческом содержании».1 Таким
образом, статья Толстого 1862 года давала Ленину материал
для раскрытия сущности толстовщины, следовательно,
система взглядов Толстого, характеризуемая этим
понятием, сложила'сь как определенная форма идеологии уже
в начале 60-х годов. Поэтому Ленин и продолжал:
«Толстой верен этой идеологии и в «Крейцеровой
сонате», когда он говорит: «эмансипация женщины не на
курсах и не в палатах, а в спальне», — ив статье
1862-го года,2 объявляющей, что университеты готовят
только «раздраженных, больных либералов», которые
«совсем не нужны народу», «бесцельно оторваны от
прежней среды», «не находят себе места в жизни» и т. п.».3
Далее Ленин указывал, что «Пессимизм,
непротивленство, апелляция к «Духу» есть идеология, неизбежно
появляющаяся» в эпохи «ломки», й что «Период 1862 —
1904 годов был именно такой эпохой ломки в России,
когда старое бесповоротно, у всех на глазах рушилось,
а новое только укладывалось...» 4
Здесь с гениальной ленинской проницательностью
определены и идейное содержание учения Толстого и
исторические границы его возникновения. Это имеет су-
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.
2 Имеется в виду статья «Воспитание и образование»,
напечатанная в июльской книжке «Ясной Поляны».
3 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.
4 Там же.
88
щественное значение для определения истоков духовного
«кризиса» Толстого, многие элементы которого появились
уже в 60-е годы, в обстановке первого демократического
подъема в стране. И среди них главные — это глубокий
интерес к народу и народной жизни и нарастание
скептицизма в отношении к дворянству, попытки беспощадного
обличения его паразитического существования.
Эти новые черты в идеологии писателя, особенно его
широкое общение с крестьянским миром, существенным
образом сказались на его творчестве.
Толстой пытливо и вдумчиво изучает особенности
крестьянской психологии, быт и нравы крестьян, их
глубоко своеобразное воззрение на мир и, что не менее
важно, — их богатый и красочный язык. Именно в это
время, в начале 60-х годов, у него возникают замыслы
ряда рассказов из крестьянской жизни. В «Идиллии»
A860—1861) и в «Тихоне и Маланье» A860—1862)
писатель реалистически воссоздает быт крестьян.
Работая над «Идиллией», Толстой записывает в
дневнике: «Форма повести: смотрит с точки мужика;
уважение к богатству мужицкому, консерватизм; насмешка и
презрение к праздности; не сам живет, а бог водит».
И новая запись: «Дорогой пришла мысль о простоте
рассказа — живо представляя слушателя Андрея».1 В этих
записях отражены существенные черты идеологии
патриархального крестьянства — уважение к богатству
мужицкому, презрение к праздности, преданность воле бо-
жией; при этом примечательно, что писатель намеревался
вести повествование от лица мужика, освещая все
события и явления жизни его взглядом на вещи. Записи
важны также и как показатель идейных и эстетических
исканий писателя. Новое содержание («точка зрения
мужика») требовало и новых форм (простота языка,
доступность) . Когда на склоне лет Толстой случайно
перечитал «Тихона и Маланью», он сказал Д. П. Маковиц-
кому: «Приятно было читать. Там видна моя любовь и
хорошее отношение к народу».2 ' Эти рассказы и воз-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 7, стр, 351.
2 Там же.
89
никли как отражение глубокого интереса и любви
писателя к народной жизни.
В статье «Кому у кого учиться писать, крестьянским
ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Толстой
волнующе и ярко рассказал о том, как ученики
яснополянской школы с его помощью писали повести на
крестьянские темы: «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет»
и «Солдаткино житье», какие глубокие «требования
художественной правды» { они предъявляли к себе, какой
меткий, образный и вместе с тем простой язык они
использовали при создании этих произведений.
В яснополянской школе, в занятиях с крестьянскими
детьми Толстой вырабатывал новые эстетические
принципы, новую поэтику, в основе которых лежало
стремление демократизировать искусство, поставить его на
службу широких народных масс. Именно в это время
Толстой писал: «Давно уже чтение сборника пословиц
Снегирева составляет для меня одно из любимых — не
занятий, но наслаждений. На каждую пословицу мне
представляются лица из народа и их столкновения в
смысле пословицы. В числе неосуществимых мечтаний
мне всегда представлялся ряд не то повестей, не то
картин, написанных на пословицы».2
Таким образом, и в тяге к народному творчеству, и в
попытках разработки крестьянской темы, и в глубоком
интересе к народному языку сказались первые признаки
намечавшегося обновления в поэтике Толстого. Перелом
еще не произошел, но появилась новая, демократическая
струя в его языке, открылись новые родники в его
творчестве, которые забьют с полной силой в 70—80-е
годы (детские и народные рассказы).
Пусть многие замыслы Толстого этой поры остались
неосуществленными, но глубокое проникновение в устно-
поэтическое творчество народа, напряженный интерес к
его жизни позволили писателю в дальнейшем создать
такие образы русских мужиков, которые вошли в русскую
литературу как смелые художественные открытия.
Наиболее значительным произведением Толстого на
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т, В, стр. 303-
2 Там же, стр. 302,
90
крестьянскую тему, созданным в начале 60-х годов,
является повесть «Поликушка» A861 —1862), в которой
художественно воплощены его глубокие знания жизни
и психологии русского крестьянства. О «Поликушке»
Тургенев писал Фету: «Прочел я после вашего отъезда
«Поликушку» Толстого и удивился силе этого
крупного таланта. Только материалу уж больно много
потрачено, да и сынишку он напрасно утопил. Уж очень
страшно выходит. Но есть страницы поистине
удивительные! Даже до холода в спинной кости пробирает, а ведь
у нас она уже и толстая и грубая. Мастер, мастер!» 1
В повести особенно ярко выписана сцена
крестьянской сходки, передана ее «горластость и шумливость».
«Стон густых голосов», решавших вопрос о выборе
рекрута, доносился до окон барского дома и вызывал
«нервическое беспокойство» у барыни, в восприятии
которой сходка носила грозный характер; ей становилось
страшно — чего доброго, «случится что-нибудь». Барыне
хотелось, чтобы все было тихо, мирно, чтобы все
решалось «по христианскому, братолюбивому и кроткому
закону». Нет, русские мужики — это не благочестивые
тихони, они шумливы, смелы и готовы на бунт, им
свойственно глубокое чувство справедливости, это не
покорные холопы, беспрекословно исполняющие
приказания барынь, напротив, некоторые из них уже осуждают
помещичий произвол и несправедливость. Федор
Мельничный заявляет богатому мужику Дутлову: «То-го
господа отдают, кого вздумают... Мир приговорил твоему
сыну идти, а не хочешь, проси барыню, она, може, велит
мне, от детей, одинокому, лоб забрить. Вот те и закон, —
сказал он желчно».
Писатель создал в своей повести запоминающиеся
образы мужиков. Среди них смелый и ловкий в спорах
Федор Резун и поддерживающие его «вольнодумцы»
Федор Мельничный и Тараська Копылов. Он вместе с тем
запечатлел и социальное расслоение в деревне. Помимо
Дутлова писатель называет имена богатых мужиков:
«толстобрюхого» Ермила и Старостина, «на лице
которого лежало самодовольное выражение власти». Они
вели себя как люди, с которыми сходка ничего не могла
1 А. Фет. Мои воспоминания, ч, II, М„ 1890, стр. 7,
91
поделать, не могла никак повлиять на их благосостояние,
ни в худшую, ни в лучшую сторону. Разумеется, весь
социальный типаж русской деревни Толстой не мог
представить в одной сцене. «Было еще много разных
характеров мирян: были мрачные, приличные,
равнодушные, загнанные... но про всех их, бог даст, я расскажу в
другой раз».
Центральным персонажем повести является Поликей
Ильич Хорюшкин — Поликушка, типическое порождение
крепостного строя. Жил он на грани полной нищеты,
ютился со своей большой семьей в одном из самых
плохих «углов» людской избы. «Оно, кажется, страшно жить
в таких условиях, а им было ничего: жить можно
было». Но несчастье семьи Поликея усугубилось еще и
тем/ что глава семьи был вором и пьяницей.
Поликушка был забит и замордован до последней
степени, его «только ленивый не ругал и не бил», но под
влиянием евангельских внушений и нравственных
увещеваний барыни он вступил на путь раскаяния и
исправления своих пороков. И прошло всего семь месяцев, как
Поликей стал совсем другим человеком. Здесь высказана
реакционная идейка о возможности нравственного
возрождения раб!а в результате советов-гуманной помещицы.
«Гуманная» помещица спасает Поликушку от
солдатчины и посылает его в город получить крупную сумму
денег. Поликушка был горд от сознания важности
порученного ему дела. «Доверие» барыни он считал
поворотным событием в своей жизни. Получив деньги, Поликушка
старательно обходил лавки с различными товарами,
испытывая свое терпение: «Могу все купить, да вот не
сделаю». Он размечтался: с такими деньгами можно
уехать «в Одест» или еще куда-нибудь, но Поликей не
сделает этого: «он, Поликей, осрамленный, забижен-
ный, везет такие деньги и доставит их верно, — так
верно, как не доставил бы и сам приказчик».
В этих размышлениях ощущается пробуждение
личности в Поликушке: он ведь не хуже других, он такой
же человек; но слишком поздно наступило это
пробуждение, слишком долго его истязали и воспитывали в духе
рабской покорности, чтобы Поликей мог вполне
почувствовать себя настоящим человеком, пет, он попрежнему
оставался «хололишкой», и в самой гордости доверенным
92
ему поручением также проявлялось что-fo холопское.
Именно в стремлении оправдать свою рабскую
преданность барыне и лежало начало трагического конца Поли-
кушки. Обнаружив пропажу денег, он заревел:
«Батюшки! Да что же это?! Что же это будет!» И для него, как
«совестливого холопа», не могло быть иного исхода,
кроме перекладины.
Поликушка — одна из многих жертв крепостнического
строя. Писатель не раз отмечает его улыбку «слабого,
доброго и виноватого человека». Кроткая, виноватая
улыбка не покидала доброе лицо и мертвого Поликуш-
ки — в этом, пожалуй, наиболее полно выражались все
особенности его личности. Толстой чужд какого-либо
любования «рабьей» психологией, но сочувствие его на
стороне Поликушки, гибель которого обличала
жестокость крепостнических порядков.
Характерно, что некоторые мотивы и образы перешли
в повесть «Поликушка» из «Утра помещика». Это
относится прежде всего к Дутаову, хозяйственному мужику,
который как бы переселился сюда вместе со всем своим
семейством: то же положение в сельском обществе, те
же имена сыновей, только Илюшка — в обоих случаях
ямщик — из сына превращен в племянника. Старик
Дутлов, так же как и его предшественник из «Утра
помещика», нетерпим к разговорам о его деньгах.
«— А ты купи рекрута, коли не любо. Осилишь! —
сказал Резун Дутлову.
«Дутлов отчая-нно запахнул кафтан .и стал за других
мужиков. — Ты мои деньги считал, видно, — проговорил
он злобно».
В «Поликушке» Толстой впервые в своем творчестве
вводит мотив «греховности» денег, откликаясь тем самым
на новые социально-экономические явления эпохи.
Отмена крепостного права расчистила дорогу для
усиленного роста капитализма в России, деньги всё глубже
проникали в деревню, разрушая старые, патриархальные
отношения. «Эх, деньги, деньги! Много греха от них», —
говорит Дутлов. О деньгах и их связи с какой-то
«бесовской силой» рассказывает дворник на постоялом
дворе, где ночует Поликушка. И разговор этот заключает
в себе как бы второе истолкование причин его
трагической гибели, потому что вслед за этим происходит отъезд
93
Поликея, потеря им денег, его самоубийство, смерть ГруД*
ного мальчика, сумасшествие его жены Акулины. Так
эти «несчастные», «страшные» деньги вызывают одну
беду за другой. И когда эти «чортовы деньги» перешли
к Дутлову, он вполне ощутил их греховную природу.
Ночью во сне к нему явился бес в образе Поликея и
начал душить его. Наутро он освободил племянника от
солдатства, но «охотник», купленный им на эти деньги,
слал ему вдогонку проклятия. «Дьяволы, людоеды! —
кричал он».
Так Толстой изображает пагубную власть денег.
Деньги в его восприятии — это- дьявольское наваждение, они
приносят только зло, — в этом сказалась слабая сторона
мировоззрения Толстого, не понимавшего связи денег с
новыми, укладывающимися буржуазными порядками.
Писатель поэтому был бессилен предложить и действенные
средства борьбы с властью денег.
Критике основных устоев буржуазно-дворянского
общества писатель посвящает свою повесть «Холстомер»,
написанную в 1863 году, но опубликованную, после
внесения довольно существенных поправок, усиливавши* ее
обличительный пафос, лишь в 1886 году.
Замысел повести у Толстого возник еще в 1856 году.
31 мая он записал в дневнике: «Хочется писать историю
лошади». Вот что в этой связи рассказывал И. Тургенев:
«Однажды мы виделись с ним летом в деревне и гуляли
вечером по выгону недалеко от усадьбы. Смотрим, стоит
на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного
вида: ноги погнулись, кости выступили от худобы,
старость и работа совсем как-то пригнули ее, она даже
травы не щипала, а только стояла и отмахивалась от
мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому
несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и,
между прочим, приговаривать, что тот, по его мнению,
должен был чувствовать и думать. Я положительно
заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в
положение этого несчастного существа. Я не выдержал и
сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-
нибудь были лошадью». 1
1 С. Н. К р и в е н к о. Из воспоминаний — «Исторический
вестник», 1890, 2, стр. 275—276.
94
Толстой воссоздает «историю» пегого мерина,
прозванного за хороший ход Холстомером, как историю человека,
наделяя его пониманием всех сложных отношений,
существующих между людьми, сообщая ему чувства,
свойственные человеку. Вот табунщик Нестер грозно
окликнул Холстомера: «Пегий мерин перестал лизать и, не
шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся,
не рассердился, не нахмурился, а понес только всем
животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся».
Применение к описанию жизни лошади морально-этических и
эмоциональных категорий, свойственных человеку, придает
совершенно исключительную обличительную и
художественную выразительность этому произведению Толстого.
Пегий мерин прожил долгую и богатую событиями
жизнь, но он не был счастлив; напротив, с ранних лет
его сопровождали несчастья, и это отпечатлелось на его
внешности: «Выражение лица было строго-терпеливое,
глубокомысленное и страдальческое». Он рано
столкнулся с несправедливостью людей, рано стал
задумываться над их «странными» словами: «мой», «моя», «мое».
Впоследствии он убедился, что «понятие мое не имеет
никакого другого основания, как низкий и животный
людской инстинкт, называемый ими чувством или правом
собственности».
Толстой отвергает основы 'помещичье-буржуазного
общества, порождающего безудержную эксплуатацию
народа, ханжество и лицемерие богатых классов, он
осуждает самый «инстинкт» приобретательства, называя его
«низким и животным». «Есть люди, — пишет Толстой, —
которые землю называют своею, а никогда не видали
этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди,
которые других людей называют своими, а никогда не
видали этих людей; и все отношение их к этим людям
состоит в том, что они делают им зло. Есть люди,
которые женщин называют своими женщинами или женами,
а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди
стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они
считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно
больше вещей своими».
Эти «люди» — помещики, буржуа, частные
предприниматели, купцы, сельские кулаки. Именно они охвачены
горячкой стяжательства, приращения своей собствен-
95
МосТй, именно они стремится к тому, чтобы «называть
как можно больше вещей своими». Беспощадное
обличение частной собственности — это новая тема в творчестве
Толстого, вызванная бурным ростом буржуазных
отношений в стране после отмены крепостного права.
Свои лучшие два года в молодости Холстомер провел
у гусарского офицера — красавца Серпуховского,
который и испортил его в погоне за своей бежавшей
любовницей. И вот теперь на склоне лет они вновь встретились.
Холстомер всюду, куда бы он ни попадал, нес посильный
труд, никогда он не бездельничал, чего нельзя было
сказать о Серпуховском. Эти две жизни как бы
сопоставляются, еще резче заостряя социально-обличительный
смысл повести.
Вся жизнь Серпуховского прошла в том, что то он
«содержал», а теперь его «содержат». Промотав два
миллиона, он вынужден был служить. Он опустился
«физически, морально и денежно». Старость Холстомера
была тоже неприглядной, но в ней было и что-то
величественное, а старость Серпуховского была просто
«грязной». Холстомер и после своей смерти служил людям
своей кожей, и даже кости его пустили в дело. Его же
хозяин Серпуховской, хотя и пережил Холстомера, был
бесполезен при своей жизни, а после смерти доставил
людям только лишние заботы.
Пафос «Холстомера» — в утверждении идеала
трудовой жизни, простых, гуманных отношений между людьми,
в обличении тунеядства господствующих классов. Вместе
с тем «Холстомер» всей своей идейной направленностью
ярко свидетельствовал о размахе и глубине назревавшего
кризиса в идеологии писателя.
Повесть «Казаки» A862) закономерно входит в круг
произведений Толстого 60-х годов, потому что ее замысел
вызревал в обстановке первого демократического подъема
в стране, когда взоры всех передовых людей России были
прикованы к народу, когда неизмеримо усилилось
изучение условий его жизни, его нравов и обычаев, его устно-
поэтического творчества. Это и определило идейную
проблематику повести, а также ее художественные
особенности: «Казаки», в отличие от прежних произведений
писателя, богато насыщены фольклорным материалом:
песни, пословицы, поговорки. «Казаки» отражают мощ-
96
ный рост критических и демократических элементов в
мировоззрении и творчестве Толстого. Но самый этот рост
неизбежно вызывает и рост соответствующих
предрассудков, иллюзий, из которых постепенно складывается
«учение» Толстого. В повести «Казаки» уже отчетливо
выступают главные черты толстовской теории
«опрощения». И чем яростнее Толстой нападает на
великосветское общество, на испорченность нравов дворянства и
вообще на городскую жизнь, тем милее становилась ему
теория опрощения, тем «яснее» она ему становилась, и
тем серьезнее он верил в ее спасительное начало.
Повесть построена на резком противопоставлении
развращенной праздной жизни дворян и трудовой жизни
народа. Писатель обличает господствующие классы, их
уклад жизни, их мораль и возвеличивает жизнь простых
людей с их близостью к природе, с их вседневными
трудовыми занятиями. Жизнь этих людей и является, в
представлении Толстого, идеалом гармонического и
совершенного счастья, недостижимого для героя повести, Оленина.
Уже в самом начале повести Толстой раскрывает
глубокую идею противопоставления народа и господ,
лежащую в основе его произведения. «Рабочий народ уже
поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.
А у господ еще вечер... И чего переливают из пустого
в порожнее? — думает лакей с осунувшимся лицом, сидя
в передней».
Герой повести, двадцатичетырехлетний Дмитрий
Оленин, не кончивший университетского курса, нигде не
служивший, не избравший никакой карьеры, но за годы
своей «светской» жизни успевший уже промотать
половину своего состояния, едет юнкером на Кавказ, надеясь
там начать «новую жизнь», исполненную «трудов,
лишений, деятельности».
В этой характеристике типизированы особенности
жизни дворянской молодежи 40-х годов, хорошо
знакомой Толстому, потому что одно время он сам вел такую
жизнь. В его дневнике сохранилась характерная запись
о том, как до отъезда на Кавказ он прожил всю зиму
в Москве Оез всякой цели и без всяких занятий: «В
Москве все так живут». Из дальнейшего выясняется, кто эти
«все», — это аристократическая «золотая молодежь»,
прожигатели жизни. Говоря о том, что «положение моло-
7 С. Бычков 97
дого человека в московском свете» располагает к лени,
Толстой писал: «Я говорю: молодого человека,
соединяющего в себе некоторые условия; а именно образование,
хорошее имя и тысяч 10 или 20 доходу. — Молодого
человека, соединяющего эти условия, жизнь самая
приятная и совершенно беспечная, ежели он не служит (т. е.
серьезно), а просто числится и любит полениться».1
Разумеется, не только общие условия светской жизни
и сходные обстоятельства отъезда на Кавказ, но и
осуждение дворяноко-аристократического общества, и
напряженное тяготение к народу, и весь круг идейных
исканий роднят автора повести с ее героем.
Характерно, что здесь, как и в ранних своих
рассказах, Толстой развенчивает ложные представления о
Кавказе. Оленин, как ,и многие другие, незнакомые с
настоящим Кавказом, был воспитан на романтической
поэзии, он мечтал найти там Аммалат-беков, черкешенок,
страшные стремнины и многое другое, о чем узнал из
прочитанных книг Марлинского и других
писателей-романтиков. Но Оленин нашел Кавказ далеко не таким,
каким он описывался в литературе: «Никаких здесь нет
бурок, стремнин, Аммалат-беков, героев и злодеев, —
думал он: — люди живут, как живет природа: умирают,
родятся, совокупляются, опять родятся, дерутся, пьют,
едят, радуются и опять умирают, и никаких условий,
исключая тех неизменных, которые положила природа
солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...»
Оленин попал в одну из станиц гребенских казаков.
Так называлось «воинственное, красивое и богатое
староверческое русское население», отличавшееся глубоким
своеобразием своего психологического склада и
особенностями своего быта. У них уже сложилась стройная
система воззрений на мир, природу и общество,
проникнутая определенными традициями и духом
исключительности казачества. Толстой отмечает сословные
предрассудки каза.ков, их чувство обособленности от остальных
людей и превосходство над пришлыми мужиками и
солдатами. Настоящим человеком казак признает «только
одного казака; на всех остальных смотрит с презрением».
1 Л. Н. Толстой. Полное собранно сочинений, т. 46,
стр. 36—37.
98
У казака было и строго традиционное отношение к
женщине, на которую он смотрел «с восточным требованием
покорности и труда». И потому, что казачка с молодых лет
непрестанно трудилась и вела все хозяйство, она имела
свои отличительные качества, труд и забота сообщали ей
«особенно самостоятельный, мужественный характер».
Эти основные черты психического склада гребеиского
казачества ярко воплощены в образах Ерошки, Марьяны
и Лукашки, типичных представителей своей среды,
«детей природы».
Горы выступают в повести как символ величавой
природы Кавказа, как воплощение всего высокого и
прекрасного, как идеал недосягаемой красоты и гармонии
природы, настраивающей человеческую душу на высокий и
торжественный лад. С тех пор как Оленин увидел горы,
они приобрели для него это значение мерила всего
высокого и прекрасного. Естественно, что перед величавостью
этих гор все мелкое и ничтожное в его жизни должно
было навсегда исчезнуть, и в душе Оленина происходит
своеобразное моральное очищение. Горы, по уверению
Толстого, заставили героя по-новому взглянуть не только
на окружающее, но и на свою жизнь, в которой он более
решительно и смело осудил прошлое с его ошибками и
заблуждениями и проникся еще большим нетерпением
ожидания будущего, с которым связывал все свои
надежды на решительное обновление жизни.
За три месяца службы в кавказском полку Оленин
внешне решительно изменился к лучшему. Желтизна на
лице — следствие кутежей — сменилась здоровым
загаром. Он был весел и самодоволен. Из всех казаков
Оленин ближе всего сошелся с Ерошкой, с которым ходил
на охоту, а по вечерам подолгу оросиживал за чихирем,
слушая его бесконечные истории про охоту, про
беззаботное, удалое житье.
Ерошка в молодости был первым молодцом в
станице. «Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник...
на все руки был. Ныне уж и казаков таких нету», —
говорит он сам о себе. Теперь уже, когда ему, семьдесят лет,
все лицо его «изрыто старческими, могучими, трудовыми
морщинами». Но в нем сохранилась еще большая
физическая сила и неунывающая бодрость духа. Ерошка —
яркий представитель «естественного» человека, живущего
* 99
так, как живет природа. Он осуждает казаков за то, что
они солдат «не за людей считают», а мне «все равно, —
говорит он, — я человек веселый, я всех люблю, я,
Ерошка». Его взгляды на жизнь исчерпываются двумя-
тремя верованиями. Во-первых, он 'считает, что «все бог
сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет»;
во-вторых, он убежден в том, что «сдохнешь... трава вырастет
на могилке, вот и все». Здесь выражено все
мировоззрение Ерошки, целиком преданного земным радостям,
живущего в непосредственном и тесном общении с природой,
поклоняющегося 6or\L беззаветной удали и веселья,
язычника с головы до но^'для которого не существует
мистических вопросов бессмертия души и загробной жизни.
Наслушавшись рассказов Ерошки, познакомившись с
дикой красавицей Марьяной и ее семьей, Оленин испытал
чувство полной растерянности перед этой новой,
открывшейся перед ним жизнью, которая была для него полна
загадок. «Что за люди, что за жизнь!»—подумал Оленин».
Вместе с Ерошкой Оленин ходил на охоту в
девственные горы и леса, где можно было встретить красивых
оленей, никогда не видавших человека, где гнездилось
несметное число фазанов и другой дичи и мириады
комаров, «и каждый из них такой же особенный от всех
Дмитрий Оленин, как и я сам». Перед этой могучей
природой Оленин переживает чувство полного душевного
смятения, в нем как бы совершенно исчезает всякое
представление о своей индивидуальности, он ощущает свою
собственную человеческую малость и начинает думать,
что ничем от других не отличается, а является
всего-навсего одним из миллиона себе подобных. Больше того,
что он «просто такой же комар или такой же фазан или
олень, как те, которые живут теперь вокруг него». И он
вспоминает слова Ерошки, что после смерти только
«трава вырастет».
Здесь Оленин наиболее остро ощущает
значительность и привлекательность новой жизни, которая доселе
была ему вовсе неведома. Одновременно здесь сказались
и пессимистические нотки в мировоззрении самого
писателя.
В свете этих новых переживаний Оленин осуждает
«эгоистическое счастье», к которому стремился ранее, и
приходит к мысли, что надо «жить для других», надо со-
100
вершать подвиги «самоотвержения», «жертвовать собой»,
«любить всех и всё» — и тогда будешь счастлив.
Согласно новой теории счастья, он дарит коня Лукашке, но
тот не испытывает особой благодарности и волнения.
Слуга Ванюша выразительно сказал о новых моральных
принципах своего барина: «все это пустяки». И все
окружающие не поняли подвига самоотвержения Оленина,
напротив, начали подозревать его в дурных умыслах. Один
казак говорил: «Экий народ продувной из юнкерей,
беда! — как раз подожжет или что». Так его теория
самоотверженной любви к другим на первых порах дает
осечку; но окончательное разоблачение ее полной
надуманности и нежизненности происходит после встречи и
сближения с Марьяной.
Марьяна была первой красавицей в станице. В
отличие от своей подруги Устиньки, легко и свободно
веселившейся с офицером Белецким, Марьяна была
воплощением высокой нравственности. Забавы Устиньки она
считала «грехом», и это еще сильнее и ярче характеризует
цельность ее натуры, неразрывно связанной с моральной
чистотой.
Оленин в своих отношениях к Марьяне прошел через
несколько фаз. Сначала он на нее смотрел как на
прекрасное творение природы, но не видел в ней человека,
не верил в возможность любви к ней, хотя уже и любил
ее. Затем, после вечеринки, когда он сидел с ней рядом и
разговаривал, их отношения изменились, Марьяна стала
для Оленина человеком, но попрежнему оставалась в его
глазах «столь же чистою, недоступною и величавою».
Поэтому мысли о том, чтобы сделать ее любовницей или
женой — барыней, — отвергались им «с отвращением».
Под влиянием любви к Марьяне, охватившей Оленина,
его- прежняя теория счастья терпит окончательное
крушение, она разоблачается как ложная, надуманная и
далекая от жизни: «Даже понять, что я мог дорожить таким
односторонним, холодным, умственным настроением, для
меня трудно... Самоотвержение — все это вздор, дичь...
Прежде я был мертв, а теперь только я живу».
Однако с Марьяной Оленин не мог обрести счастья.
Он не был готов -к женитьбе на ней потому, что в его
представлении не Марьяну надо было поднимать до его
уровня, а ему надо было опуститься до ее уровня, не ее
101
сделать барыней, а самому сделаться казаком. Мечты об
опрощении, о том, чтобы стать простым казаком, Лукаш-
кой, слиться с жизнью Ерошки, часто тревожили
сознание Оленина, но и это оказалось невозможным: «Я не мог
забыть себя и своего сложного, негармонического,
уродливого прошедшего». Он приходит к выводу, что Марьяна
«никогда не поймет его». И дело здесь не в уровне
развития, являвшегося как будто бы непреодолимой
преградой на пути их любви, а в типе развития, и тот тип,
который представляла Марьяна, был выше оленинского.
Оленин дисгармоничен, нравственно изломан. Марьяна,
напротив, воплощение нормально развитого,
естественного человека, так же как и Лукашка, и Ерошка, и
многие другие казаки.
События, развертывающиеся в заключительных
главах повести, ведут ко все большему сближению Оленина
и Марьяны. Все устремляется к развязке. Оленин
уговаривает Марьяну дать ему окончательный ответ, согласна
ли она быть его женой, Марьяна обещает: «Нынче
скажу». «И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули
на молодого человека». Затем происходит столкновение
Марьяны с озлобленным против Оленина Лукашкой и
долгожданное объяснение: Марьяна дает согласие пойти
за Оленина замуж, не вполне в это веря («обманешь, не
возьмешь»). На следующий день предстояло формальное
сватовство, но этот день оказался роковым для Оленина.
В стычке казаков с чеченцами смертельно ранят Лу-
кашку. Марьяна тяжело переживает гибель казаков,
выражая в своем горе чувства казацкой общности, которые
были совершенно чужды Оленину. Поэтому он так
бестактно в минуту общей печали заговорил с ней о своих
чувствах. Увидев ее плачущей, он спросил:
«— О чем ты? Что ты?
«— Что? — повторила она грубым и жестким
голосом. — Казаков перебили, вот что».
Оленин остается равнодушен к этим -переживаниям
Марьяны, и хотя он немало прожил в станице, но остался
совершенно чужд интересам казачества, поэтому его
нисколько не печалит гибель казаков; напротив, смертельное
ранение Лукашки в его представлении расчищало ему
путь к Марьяне, и он продолжал копаться в глубокой
сердечной ране девушки. Результат мог быть только
102
один — ненависть. Разгневанная Марьяна кричит ему:
«Уйди, постылый!» И на ее лице в это время выражалось
«отвращение, презрение и злоба».
Для Оленина все было кончено: Марьяна поняла в
эти минуты, что перед нею стоял человек, глубоко
чуждый ей и всему казачеству, и она не могла ему простить
этого, она вовсе перестала думать о нем. Поэтому
с естественной прямотой и последовательностью Марьяна
при отъезде Оленина не выражает никакого волнения,
напротив, относится к этому с полным равнодушием.
Между прочим, первоначально Толстой хотел показать,
как «офицер должен разлюбить ее». Так было и в «Бэле»
Лермонтова. Но у Толстого вышло все наоборот, и это
связано не просто со спешным окончанием «Казаков»,
а с изменением всей идеи произведения.
Незадолго до отъезда Оленин пишет письмо, в
котором подводит итог впечатлениям и раздумьям за время
жизни в станице. Письмо проникнуто глубоким
обличением всей лжи дворянско-аристократического общества,
притворства, наглого сводничества пар и прямой
продажности обитательниц роскошных гостиных. Эти жалкие
людишки уже давно не живут настоящей, поллокровной
жизнью, для них характерна «вечная скука в крови,
переходящая от поколения к поколению». Этой жизни, где,
по словам Ерошки, «все фальчь, одна все фальчь»,
противопоставляется настоящая жизнь трудовых людей,
близких к природе, естественных в своих желаниях,
свободно отдающихся порывам своего сердца, людей
здоровых, сильных и свободных, не знающих никаких ложных
условностей, никакого притворства.
Обращаясь к своим бывшим аристократическим
друзьям, Оленин пишет: «Как вы мне все гадки и жалки!
Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо
раз испытать жизнь во в'сей ее безыскусственной
красоте... И тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в
правде или во лжи, — вы или я».
Однако и для героя повести дорога к этой жизни «во
всей ее безыскусственной красоте» оказалась закрытой,
и он вынужден был вернуться в тот мир, где все было
«фальчь».
С огромной силой это подчеркнуто Толстым в
концовке повести. Оленин отъезжает. Ерошка выпросил
103
у него «флинту», то есть ружье, на память... «Марьяна
вышла из клети, равнодушно взглянула на тропку и,
поклонившись, прошла в хату.
«— Ла филь! 1 — сказал Екшюша, подмигнув и глупо
захохотав.
«— Пошел! — сердито крикнул Оленин.
«— Прощай, огец! Прощай! Буду помнить тебя! —
кричал Ерошка.
«Оленин оглянулся. Дед Ерошка разговаривал
с Марьянкой видимо о своих делах, и ни старик, ни
девка не смотрели на него».
Каким был, таким и уехал Оленин — чужеродным для
этих вольных людей.
Так завершился круг духовных исканий Оленина, он
морально не обновился, не обрел никакой новой жизни, и
все его попытки опрощения оказались несостоятельными.
В этой повести Толстой впервые наиболее остро
поставил проблему «ухода» из своего класса, разрыва
с дворянско-аристократической средой. Однако ему
самому еще не ясны были пути этого ухода.
Легко заметить у Толстого критическое отношение
к Оленину. Толстой «карает» его не за идею опрощения,
а за неумение опроститься, за груз старых
великосветских привычек, делающих его, несмотря на все усилия,
чужим в среде казаков. Толстой впоследствии найдет
«естественные» пути опрощения в среде русской
крестьянской массы, не на манер экзотического казачества,
а в повседневной русской деревенской действительности.
Это окажется «легче» и барину. Толстой сможет, имея
перед собой наглядный пример крестьянской жизни,
более тщательно разработать и самую теорию опрощения.
Повесть получила высокую оценку у писателей,
современников Толстого. Фет, прочитав «Казаков», писал
Толстому 4 апреля 1863 года: «Эх! как хорошо! И Ерошка,
и Лукашка, и Марьянка. Его отношение к Лукашке и
к Марьянке — верх художественной правды. Я нарочно
по вечерам читаю теперь «Рыбаков» Григоровича. Все
эти книги убиты вами, все повести из простонародного
быта нельзя читать без смеха после «Казаков».
Тургенев, всегда восхищавшийся «Казаками» как про-
1 Девушка (франц.).
104
изведением, удивительным по своей неподдельной поэзии
и красоте, особо отмечал глубоко правдивое изображение
Толстым быта казачества и всех особенностей этого
вольного, поэтического края: повесть «представляет самую
живую и самую верную картину Кавказа и его
жителей». 1 Только одно он не приемлет: героя повести
Оленина. 19 апреля 1863 года он писал Фету: «Казаков»
я читал и пришел от них в восторг... Одно лицо Оленина
портит общее великолепное впечатление. Для контраста
цивилизации с первобытной, нетронутой природой не
было никакой нужды снова выводить это возящееся с
самим собою скучное и болезненное существо».2 Здесь
сказалось со стороны Тургенева непонимание смысла
социальных исканий главных героев Толстого.
Известно', что Толстой «запродал» редактору
«Русского вестника» М. Н. Каткову свою повесть «Казаки»,
что называется, на корню, ему нужны были деньги для
уплаты карточного долга. Но готовя «Казаков» к печати,
он убедился, что* в обещанный срок ему трудно завершить
это произведение. Он просил Каткова освободить его от
данного обещания, предлагая ему взамен «Поликушку»,
но тот, видимо, не согласился. Тогда Толстой все свои
творческие усилия сосредоточил на первой части,
стремясь придать ей вид законченной повести. 28 ноября
1862 года он писал Каткову: «Первая часть составляет
как бы отдельное целое». И далее следовало характерное
для требовательного художника признание: «Я, как
всегда, чрезвычайно недоволен этой повестью и
поправлял и переправлял ее до тех пор, что не чувствую
возможность над ней более работать» 3.
Следовательно, «Казаки» —только первая часть более
обширного произведения, которое Толстому так и не
удалось завершить. В 1863 году он начал было работать над
второй частью «Казаков», «да не идет, — признавался он
Д. А. Дьякову, — бросил. Перевесили «Декабристы».4
1 И. С. Тургенев Сочинения, т. XII, М.—Л., 1933,
стр. 290—291.
2 И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. 11, изд.
«Правда», стр. 220—221.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 460.
4 Т. А. К У з м и и с к а я. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне
ч. 2, М., 1926, стр. 92.
105
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Во второй половине 50-х и в 60-е годы Толстой
углубленно раздумывает над историческими судьбами России,
осознает, что народ играет решающую роль в истории,
что он является творцом материальных и культурных
ценностей. Указанная эпоха вообще отмечена повышенным
историзмом в русской литературе. А. Н. Островский
создает свои исторические драмы «Козьма Захарьич
Минин Сухорук», «Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский», «Василиса Мелентьева», «Воевода» и др.;
А. К. Толстой написал свою известную драматическую
трилогию: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоан-
нович» и «Царь Борис», роман «Князь Серебряный»;
несколько позднее Н. А. Некрасов создает поэмы
«Дедушка» и «Русские женщины». Лев Толстой собирает
материалы и пишет первые главы романа о декабристах
и создает величественную эпопею «Война -л мир». Герцен
пишет «О развитии революционных идей в России»,
«Былое и думы», Чернышевский — «Очерки гоголевского
периода русской литературы», Добролюбов — «Русская
сатира в век Екатерины», «О степени участия народности
в развитии русской литературы». Начинает бурно
развиваться историческая наука (труды Кавелина,
Соловьева), исторический жанр в живописи.
Все эти явления вызваны глубокими причинами.
Вторая половина 50-х и начало 60-х годов — эпоха
небывалого кризиса самодержавия и крепостничества.
В 1859—1861 годы в России складывается
революционная ситуация. Кризис верхов дополнялся мощным
ропотом и напором крестьянских низов. Россия находилась
106
на историческом изломе, когда все в России
«переворотилось», вековое крепостничество явно себя изжило, и
Гончаров в «Обломове» уже запечатлел духовное
обнищание сословия российского дворянства.
В этот переломный момент русской истории каждый
класс, каждая социальная прослойка старались осознать
свои исторические судьбы >и подчас давали бой своим
противникам на почве изображения исторического
прошлого. Работы Чернышевского, Добролюбова, Герцена
преследовали революционные цели. Великие демократы
стремились «показать непрерывность предания,
преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство»
между поколениями борцов. В объявлении о «Полярной
звезде» Герцен писал, имея в виду декабристов:
«Николай прошел, и «Полярная звезда» является снова, вдень
нашей Великой Пятницы, в тот день, в который пять
виселиц сделались для нас пятью распятиями». 1
Именно вопрос о «степени» участия русского народа
в истории России стал в центре внимания литературы,
искусства и науки этого времени. Народ дрался под
Севастополем, спасал честь и свободу от интервентов.
Храбрость и самоотвержение народа особенно контрастно
выступали на фоне продажности и коррупции правящей
царской верхушки. В который раз- народ спасал свое
отечество!.. Этот подвиг в недавней войне вызывал в памяти
другие героические страницы, когда народ выступал
решающей силой истории, спасителем отечества. Отсюда
закономерен интерес Толстого к эпохе 1812 года, которая
оставила неизгладимый след в истории России активной
деятельностью народных масс, горевших невиданным
патриотическим энтузиазмом. Этот энтузиазм контрастом
выступал и на фоне Крымской войны, вызванной глупой
реакционной внешней политикой Николая I, которая не
пользовалась моральной поддержкой народа.
Именно с этой стороны «исторический» роман
Толстого «Война и мир» входил в злободневную
проблематику 60-х годов, когда обсуждались и решались судьбы
народа. Вместе с тем лично для Толстого в это время
важен был вопрос и о судьбах дорогого еще ему дворян-
1 А. И. Г е р и е н. Полное собрание сочинений и писем под
редакцией М. К;. Лемке, т. VIII, стр. 166,
107
ства, так же решавшийся в этот исторический момент.
Известно, что Толстой в своем романе несколько
героизировал прошлое русского дворянства, часть которого в
войне 1812 года, впрочем, действительно была с народом
и выдвинула Кутузовых и Багратионов. Правдивый
реалист, защитник Севастополя и современник
революционной ситуации, Толстой показал в своем знаменитом
романе, как истинный патриотизм идет об руку с
революционным дерзанием. И князь Андрей и Пьер Безухов
развиваются у него в сторону декабризма. Вся
творческая история романа «Война и мир» показывает, как
внутренне были связаны для Толстого 1812 и 1825 годы
в русской истории.
К замыслу «Войны и мира» Толстой пришел не сразу.
В одном из вариантов предисловия к роману писатель
говорил, что в 1856 году он «начал писать повесть с
известным направлением, героем которой должен был быть
декабрист, возвращающийся с семейством в Россию».
Однако никаких доказательств этого до сих пор не
обнаружено: нет ни рукописей «начатой» повести, ни
планов, ни конспектов; дневник и переписка писателя также
лишены каких-либо упоминаний о работе над повестью.
По всей вероятности, в 1856 году повесть была лишь
задумана, но не начата.
Замысел произведения о декабристе вновь ожил у
Толстого во время второй заграничной поездки, когда он в
декабре 1860 года во Флоренции познакомился со своим
дальним родственником, декабристом С. Г. Волконским,
послужившим отчасти прототипом для Лабазова в его
неоконченном романе.
Это предположение вполне правдоподобно, так как
С. Г. Волконский, вернувшийся из Сибири «умудренным
и примиренным» старцем, как говорилось о нем в
некрологе И. Аксакова, по своему духовному облику вполне
напоминал фигуру того декабриста, которую
набрасывает Толстой в письме Герцену от 26 марта 1861 года,
вскоре после свидания с ним: «Я затеял месяца 4 тому
назад роман, героем которого должен быть
возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да
та;к и не успел. — Декабрист мой должен быть энтузиаст,
мистик и христианин, возвращающийся в 56 году в
Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой
108
строгий и несколько идеальный взгляд к новой России.
Скажите пожалуйста, что вы думаете о приличии и
своевременности такого сюжета. Тургеневу, которому я
читал начало, понравились первые главы». 1
К сожалению, нам неизвестен ответ Герцена; видимо,
он был содержательным и значительным, так как в
следующем письме, от 9 апреля 1861 года, Толстой
благодарил Герцена за «добрый совет о романе» и вновь
повторял свою версию о христианском обращении
декабристов, в чем его укрепили «Кавказские воды» Огарева,
которые он «читал с наслаждением и очень был горд тем,
что, не знав ни одного декабриста, чутьем угадал
свойственный этим людям христианский мистицизм».2
Переписка Толстого с Герценом заставляет
задуматься и над истоком интереса Толстого к теме, а также
над характером ее трактовки.
После чтения шестой книги «Полярной звезды», в
которой содержались разнообразные материалы о
декабристах: воспоминания о Рылееве, извлечения из записок
декабристов, показания очевидца казни 14 июля
1826 года, переписка декабристов, Толстой писал
Герцену: «Кроме общего интереса, вы не можете себе
представить, как мне интересны все сведения о декабристах
в «Полярной звезде».3
Не исключено, что Толстой мог читать и предыдущие
книжки «Полярной звезды», в которых также
публиковались материалы о декабристах. В 1862 году Герцен
начинает издание серии «Записок декабристов». Сам факт
обращения к Герцену, подлинному наследнику
декабристов, за советом о романе — знаменателен. Для Герцена
декабристы — это «богатыри», «воины-'пророки», своей
гибелью разбудившие к «новой жизни молодое
поколение». 4 Пафос освободительной борьбы декабристов,
несомненно, волновал также и Толстого.
В конце 1858 года, составляя записку о дворянстве и
оценивая его роль в прошлом и настоящем страны, Тол-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 374—
375.
2 Там же, стр. 376.
3 Там же, стр. 374.
4 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XV,
стр. 279—280.
109
стой подводил в публицистической форме итог его
заслугам в деле освободительного движения. Касаясь самого
животрепещущего вопроса современности —
освобождения крестьян, он протестовал против «подлой лести» тех,
кто сумел убедить Александра II в том, что «он 2-й Петр I
и великий преобразователь России и что он обновляет
Россию»; в действительности Александр II, язвительно
замечает Толстой, всего лишь «первый помещик» России,
и не ему принадлежит инициатива постановки вопроса об
освобождении крестьян. «Мысль освобождения» развита
и выработана в среде дворянства. «Только одно
дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и в
литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом и
делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах, и во все
царствование Николая, за осуществление этой мысли
своих мучеников в ссылки и на виселицы и, несмотря
на все противодействие правительства, поддержало эту
мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее
слабое правительство не нашло возможным более
подавлять ее».1 При таких взглядах на роль дворянства в
прошлом естественно и возникновение замысла повести
о декабристе и та глубокая заинтересованность, с какой
писатель читал все материалы Герцена о декабристах,
создавшего вокруг них ореол героизма и подвижничества.
Из этого, однако, не следует, что Толстой был
полностью солидарен с Герценом в оценке декабристов. Судя
по его заявлениям, он намеревался внести в разработку
темы религиозно-этические мотивы, поэтому его и
волновал вопрос о «своевременности такого сюжета», в котором
герой-декабрист выступил бы как «мистик и христианин».
В условиях революционной ситуации 1859—1861 годов,
когда с особой силой пропагандировались героические
черты деятелей освободительного движения (особенно
активно это делал Герцен), сюжет Толстого был
«неприличен», поэтому, может быть, роман и был оставлен после
того, как были написаны известные нам первые три главы.
Роман открывался широким вступлением,
написанным в остро полемическом плане. Толстой здесь выражал
свое глубоко отрицательное отношение к тому
либеральному движению, которое развернулось в первые годы
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 5,
стр. 267—268.
ПО
царствования Александра II, он иронически определял
эти годы как «время цивилизации, прогресса, вопросов
возрождения России и т. д. и т. д.»,1 пародируя, таким
образом, наиболее распространенную либеральную
фразеологию. Глубоко иронически звучат и последующие
фразы о возвращении победоносного русского войска из
сданного неприятелю Севастополя и о торжестве России
по случаю уничтожения черноморского флота.
Эпоха подготовки реформы изображена как эпоха
сумятицы и полной неразберихи, эти годы не заключали
в себе никакого величия, напротив, они явились прямым
следствием крупного поражения царизма в Крымской
войне. «Состояние, два раза повторившееся для России
в XIX-M столетии: в первый раз, когда в 12-м году мы
отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 56-м
году нас отшлепал Наполеон III. Великое, незабвенное
время возрождения русского народа!!!»2 —
саркастически заключал Толстой, опять пародируя напыщенную
ложь либерального красноречия.
Острие сатиры Толстого направлено прежде всего
против либералов-краснобаев, мастеров обсуждать
общественные дела в «аглицком клубе», против своих
прежних сподвижников по литературе, представителей
«чистого искусства», «описывающих рощу и восход солнца».3
Однако Толстой в ироническом плане воспринимает и
представителей обличительного направления,
описывающих «грозу, и любовь русской девицы, и лень одного
чиновника, и дурное поведение многих чиновников».4
Здесь содержатся слишком прозрачные намеки на
Островского, Тургенева, Гончарова и Щедрина. Писатель,
впрочем, не щадил и себя, в пародийном стиле передавая
содержание своих «Севастопольских рассказов»: «Он
написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему
великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил,
как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как
перевязывали на перевязочном пункте перевязками и
хоронили на кладбище в землю».5
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 7.
2 Там же, стр. 8.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же, стр. 8—9.
111
Таким образом, ничто не остается нетронутым. Все
изображено в тонах резкого памфлета, все облито
горечью, все отрицается, на все падает свет обличительной
иронии писателя. Это был своеобразный итог в оценке
эй охи.
Но если все отрицается, то что же остается? Ответ на
этот вопрос мы находим в романе, герой которого,
декабрист Лабазов, заявляет, выражая взгляды самого
Толстого: «Я должен сказать, что народ более всего меня
занимает и занимал. Я того мнения, что сила России не
в нас, а в народе». 1 Вот к этой «силе России» — к
народу — и тянулись взоры Толстого. Главы из романа
«Декабристы» — новое свидетельство о назревании
кризиса в мировоззрении писателя.
В романе события развертывались совершенно так,
как Толстой сообщал в цитированном выше письме к
Герцену. Лабазов с женой, дочерью и сыном возвращается
из ссылки в Москву. «Клубный сплетник» Пахтин
сообщает эту новость участникам одного избранного вечера.
Касаясь светского общества, писатель пишет о нем с
раздражением: «Говорят о провинциализме маленьких
городов, — нет хуже провинциализма высшего общества».2
Петр Иванович Лабазов был добродушным,
восторженным старцем, имевшим слабость видеть в каждом
человеке своего ближнего. Он сохранил «барские приемы»,
говорил на хорошем французском языке — «французский
язык, как известно, есть нечто вроде чина в России»,3 —
с глубокой иронией замечает Толстой.
На второй день Лабазовы всей семьей отправляются
в Успенский собор, и по возвращении из церкви глава
семьи переживает «именинное чувство», — все это вполне
соответствовало намерениям Толстого изобразить
«христианина и мистика».
Лабазов говорит детям, что вместе они проводят
последний вечер, а там орлята полетят каждый в свою
сторону вить свои гнезда. На возражение дочери, что
«старое гнездо отлично», он отвечает: «Старое гнездо —
печальное гнездо, старик не умел свить его, — он попал в
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 30.
2 Там же, стр. 26.
3 Там же, стр. 12.
112
клетку... Нет, орлятам надо свить себе гнездо выше,
счастливее, ближе к солнцу; затем они его дети, чтобы
пример послужил им; а старый, пока не ослепнет, будет
глядеть, а ослепнет, будет слушать».1 Здесь мысль
выражена не до конца: в каком смысле должен послужить
«печальный» опыт отца уроком для детей — не ясно.
Ясно только одно: сам старик устранялся от активного
вмешательства в жизнь («уж крылья его плохо носить
стали»), он собирается лишь созерцать дела молодых.
Стремление к солнцу само по себе красноречиво, если
воспринимать его в контексте пушкинской поэзии с ее
символическим противопоставлением («Да здравствует
солнце, да скроется тьма!»), а Лабазов был воспитан на
Пушкине; тем не менее социальные идеалы отца от этого
не становились яснее. Неизвестно также, что он
завещает молодежи, да, видно, и завещать ему нечего.
Россией и совершившимися в ней переменами он доволен,
в крепостных крестьянах рассмотрел рост чувства
личного достоинства, «либеральное» правительство
защищает перед сестрой, и когда та высказывает опасения,
как бы он «опять не замешался», Лабазов отвечает:
«Видно, вы меня не знаете теперь, Марья Ивановна».2
Это знаменательные слова. Выходит, что он со всем
примирился, изменил идеалам своей юности, от которых
осталась только старая словесная шелуха.
Тем не менее жена его, Наталья Николаевна,
совершившая «подвиг любви», немедленно последовав за
мужем в Сибирь, и проведшая с ним неотлучно многие годы
ссылки, верит в молодость его души. «Тебе все еще
16 лет, Пьер. Сережа моложе чувствами, но душой ты
моложе его. Что он сделает, я могу предвидеть, но ты
еще можешь удивить меня».3 И действительно, если
старик мечтателен, восторжен, способен увлекаться, то
молодежь рассудочна и практична. И их сын Сергей сам
сознается, что «он действительно стар», что «новая жизнь»
«нисколько не радует его» и «он спокойно
обдумывает и предусматривает будущее».4 Но если дети
1 Л. И. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 16—17.
2 Там же, стр. 36.
3 Там же, стр. 16.
4 Там же.
8 С. Бычков 113
живут исключительно практическими интересами, если
они лишены способности увлекаться, вряд ли от них можно
ожидать подвига 14 декабря. Так перед Толстым вновь
возникает проблема «отцов и детей». Роман остался
незаконченным, поэтому трудно судить, как развернулись
бы в нем различные характеры.
* * *
23 сентября 1862 года Толстой женился на
семнадцатилетней дочери врача московской дворцовой конторы
Берс, Софье Андреевне. Первый год семейной жизни
принес ему много радости и немало огорчений. Прежде всего
резко изменились внешние условия его жизни,
направление его интересов. Еще в мае 1861 года он написал, что
после года свободы «не без удовольствия» чувствует «на
себе: 1) хозяйственный, 2) школьный, 3) журнальный
и 4) посреднический хомуты, которые, не знаю хорошо
или дурно, но усердно и упорно я намерен тянуть,
насколько хватит жизни и силы. Так что надевать пятый
хомут — брачный, я надеюсь, и не почувствую
необходимость». 1 Но именно пятый — «брачный хомут» — и
вызвал коренные перемены в роде его занятий. Прошение
об отставке из посредников он подал еще до женитьбы,
12 февраля 1862 года, и 26 мая сенат утвердил его
просьбу, но оставались школа, журнал и широкое общение с
народом. И вот после женитьбы появляются характерные
записи в дневнике: 1 октября: «С студентами и с народом
распростился»; 15 октября: «Журнал решил кончить,
школы — тоже, кажется».2
Толстой весь уходит в заботы о хозяйстве, стремясь
всемерно увеличить материальное благополучие семьи.
Художественное творчество отходит на задний план. На
время прекращаются и напряженные идейные искания.
Вскоре, однако, такой образ жизни вызывает у него
сильнейшее раскаяние: «всю поэзию любви, мысли и
деятельности народной променять на поэзию семейного очага,
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 389.
2 Цит. по книге: Н. Гусев. Летопись жизни и творчества
Л. Н. Толстого, стр. 149.
114
эгоизма ко всему, кроме к своей семье».1 — Это было
не по вкусу Толстому. Он возвращается к серьезной
творческой работе, пытаясь прежде всего Завершить уже
начатые произведения, среди которых был роман о
декабристе. Но желая уяснить социально-исторические причины
декабризма, писатель приходит к эпохе 1812 года и к
событиям, предшествовавшим Отечественной войне. Во
второй половине октября 1863 года он писал А. А. Толстой:
«Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все
нравственные силы столько свободными и столько
способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа
эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который
занимает меня вполне с осени... Я теперь писатель всеми
силами своей души и пишу и обдумываю, как я еще
никогда не писал и не обдумывал».2
Однако для Толстого многое в задуманном
произведении оставалось неясным. Только с осени 1864 года
уточняется замысел романа и определяются границы
исторического повествования. Творческие искания
писателя запечатлены в (кратком и подробном конспектах,
а также в многочисленных вариантах вступлений и начал
романа. Один из них, относящийся к самым
первоначальным наброскам, назван: «Три поры. Часть I. 1812 год».
В это время Толстой еще намеревался писать
роман-трилогию о декабристе, в котором 1812 год должен был
составить лишь первую часть обширного произведения,
охватывающего «три поры», то есть 1812, 1825 и 1856 годы.
Действие в отрывке было приурочено к 1811 году, а
затем переправлено на 1805 год. У писателя был
грандиозный замысел изобразить в своем многотомном
.произведении полвека русской истории, он намеревался «провести»
многих своих «героинь и героев через исторические
события 1805, 1807, 1812, 1825 и 1856 года».3 Вскоре, однако,
Толстой ограничивает свой замысел более узкой
исторической эпохой и после ряда новых попыток начать роман,
среди которых был «День в Москве (именины в Москве
1808 года)», он, наконец, создает набросок «начала
1 Цит. по книге: Н. Гусев. Жизнь Льва Николаевича
Толстого. Л. Н. Толстой в расцвете художественного гения A862—1877),
изд. Толстовского музея, стр. 11.
2 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 192.
3 Л. Н, Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 55.
* 115
романа, в котором идет речь о декабристе Петре Кирило-
виче Б., озаглавленный «С 1805 по 1814 год. Роман графа
Л. Н. Толстого. 1805-й год. Часть 1-я. Глава 1».
Отрывок начинался характерным абзацем: «Тем, кто
знали князя Петра Кириловича Б. в начале царствования
Александра II, в 1850-тых годах, когда Петр Кирилыч был
возвращен из Сибири белым как лунь стариком, трудно
бы было вообразить себе еп> беззаботным, бестолковым
и сумасбродным юношей, каким он был в начале
царствования Александра I, вскоре после приезда своего
из-за границы, где он по желанию отца оканчивал свое
воспитание». 1 Далее шел рассказ о юности героя,
который не был еще усыновлен своим отцом — крупным
вельможей — и носил фамилию Медынский, по имени деревни,
где он родился. По своему характеру и обстоятельствам
жизни Медынский — это будущий Пьер Безухов. Таким
образом, здесь еще сохранился след от обширного
замысла Толстого, но уже из трилогии о декабристе
выделился замысел исторического романа из эпохи войн
России с Наполеоном, в котором предполагается несколько
частей, и первая из них, под названием «Тысяча
восемьсот пятый год», была опубликована в 1—2 номере
«Русского вестника» за 1865 год.
Толстой впоследствии говорил, что он, «собираясь
писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся
сначала к эпохе бунта 14-го декабря, потом к детству и
молодости людей, участвовавших в этом деле, увлёкся
войной 12-го года, а так как война 12-го года была в
связи с 1805 годом, то и все сочинение начал с этого
времени».2
Толстой изучает исторические документы, читает
мемуары и исторические романы, в частности роман
Загоскина «Рославлев», который для него на первых порах
был «нужен и интересен».3 Причем внимание Толстого
сосредоточивается главным образом на «быте», на
«мирных» картинах эпохи, а военные события оставались
где-то за кулисами. Исторические лица пока вовсе не
интересуют автора. В одном из ранних вступлений к ро-
1 Л. И. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 184.
2 С. А. Толстая. Дневник, I, стр. 41. Запись 8/1 — 1878.
а Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 83, стр. 58.
116
ману Толстой заявлял: «Не Наполеон и не Александр,
не Кутузов и не Талейран будут моими героями, я буду
писать историю людей, более свободных, чем
государственные люди, историю людей, живших в самых
выгодных условиях жизни, людей, свободных от бедности, от
невежества и независимых, людей, не имевших тех
недостатков, которые нужны для того, чтобы оставить следы
на страницах летописей».!
Людьми, жившими «в самых выгодных условиях
жизни», являлись дворяне. Роман представлялся
Толстому как хроника дворянской жизеи начала века,
типически воплощенная в истории ряда дворянских семейств,
представители которых нигде не служили и не были
связаны ни с армией, ни с какими-либо департаментами. По
этому замыслу в романе отсутствовали широкие
исторические картины и историко-философские обобщения.
Таких вступлений или предисловий сохранилось
несколько, и для всех них характерно стремление Толстого
определить свою идеологическую позицию, заявить
о своем отношении к теме и героям произведения.
Наиболее воинствующий характер носит одно из первых по
времени написания предисловий, где Толстой прямо
декларирует, что если до сих пор в его произведении
фигурировали князья, графы, министры, сенаторы и их дети,
то и «вперед не будет других лиц в моей истории».
Таким образом, народ принципиально и вполне осознанно
исключался из произведения.
Мотивируя свое обращение к прошлому русского
дворянства, Толстой отказывается писать историю
«мужиков, купцов, семинаристов» и потому, что их жизнь не
запечатлена в «памятниках истории», и потому, что она
ему «представляется однообразною, скучною и все
действия этих людей... вытекающими большей частью из
одних и тех же пружин — зависти к более счастливым
сословиям, корыстолюбия и материальных страстей».
Вследствие этого — «трудно их понимать и потому
описывать». 2
Толстой вскоре пишет новое «предисловие», носящее
уже характер оправдания, где он значительно мягче
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 72.
2 «Литературное наследство», 35/36, стр. 288.
117
говорит о народе, но основной дух и здесь остался тот же.
Писатель знал, что это «неверно и нелиберально», тем
не менее ссылка на отсутствие интереса к жизни
чиновников, купцов, семинаристов и мужиков остается, как и
утверждение, что эта жизнь ему «наполовину непонятна»,
и рядом с этим выражается полная симпатия к
аристократии: «Жизнь аристократов того времени, благодаря
памятникам того времени и другим причинам, мне понятна,
интересна и мила». 1
Таким образом, у Толстого оформляется определенная
концепция избранной исторической эпохи, внимание
сосредоточивается на аристократии, а роль народа в
общенациональной жизни пока никак еще не отмечена. Более
того, если учесть, что и дворянство данного периода
берется не во всей исторической полноте его «деяний»:
устраняются «салтычихи» и все другие типические
проявления крепостнического варварства, то откровенно
«дворянский» характер первоначального замысла романа
станет очевиден. Толстой видел характерные черты эпохи
в другом. Он писал: «Есть характер того времени, как и
характер каждой эпохи, вытекающий из большей
отчужденности высшего круга от других сословий, из
царствующей философии, из особенностей воспитания, из
привычки употреблять французский язык и т. п. И этот
характер я старался сколько умел выразить».2
В условиях, когда после «крестьянской реформы»
началось интенсивное буржуазное развитие России, когда
уже в 60-х годах возникает проблема «чумазого» и
требует определенного к себе отношения, такое направление
замысла исторического романа получало особый
полемический смысл. Толстой осуждает буржуазную
«современность» с позиций своего аристократизма, он
противопоставляет ей высшие достижения дворянской культуры
прошлого, широкое и активное участие дворянства в
общенациональной жизни.
В общественной жизни в эти годы приобретает
особую остроту проблема «отцов и детей», политическое
содержание которой раскрывалось в исторической смене
двух классов в русском освободительном движении: дво-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 55.
2 Там же, стр. 57.
118
рянские революционеры вытеснялись разночинцами,
демократами, которые были представителями более
высокого этапа освободительного движения. Это по-новому
поставило проблему дворянской культуры, призвало
общественную мысль к итоговые оценкам роли дворянства
в исторических судьбах страны.
Для социально-политической позиции писателя этих
лет является характерным его высказывание в письме
к А. А. Толстой, сделанное после года семейной жизни,
когда он внешне как будто охладел к народу,
«распростился» с ним: «Я должен признаться, — писал
Толстой,— что взгляд мой на жизнь, на народ и на
общество теперь совсем другой, чем тот, который у меня был
в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно
жалеть, но любить, мне трудно понять, как я мог так
сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу; эта
последняя моя любовница меня очень формировала».!
Здесь все выражено с присущей Толстому прямотой и
искренностью. «В последний раз» он встречался с
А. А. Толстой 14 апреля 1861 года, то есть в самый
разгар своих увлечений школой и всесторонним изучением
народной жизни, и хотя Толстой не сделал из общения
с народом решающих выводов — кризис в его
мировоззрении только еще начал назревать, — но общение это не
прошло бесследно. Результаты этого общения скажутся
в последние годы работы над «Войной и миром».
Начальный же период воплощения творческого замысла
характерен преобладанием сословно-дворянских интересов у
Толстого. Он стремится уяснить роль и место дворянства
в прошлом и настоящем страны, определить меру его
исторических и национальных заслуг.
И этим был занят не один Толстой. Одновременно
над проблемой дворянства много и интенсивно
размышляет Герцен. В известном цикле писем «Концы и начала»
он рассматривает деяния дворянства со времен Петра I,
отмечая его «отречение» «от всего склада жизни
народной», его «грубо-барские привычки» и «татарское
неуважение к себе». Герцен пишет, что за время своего
существования дворянство породило «колоссальные уродства».
1 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 192, 17—
31/Х— 1863.
119
Были и Аракчеевы всех рангов, и Потемкины, «со всеми
неистощимыми вариациями пьяных офицеров, забияк,
картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов,
секунов, серальников».
Но среди этого разнообразного типажа, выражавшего
отрицательные стороны русского дворянства, были иные
лица, заслужившие благодарную память потомства, «на
этих грядах между Аракчеевыми и Маниловыми»
«развились люди 14 декабря, фаланга герсев, вскормленная,
как Ромул и Рем, молоком дикого зверя». *
Для Герцена, думающего о прошлом дворянства, все
героически-светлые страницы в его истории
воплощаются в подвиге декабристов.
Дворянство и его роль в освободительном движении,
как мы уже говорили, являлись предметом раздумий и
Толстого. Положение, однако, меняется к моменту
начала работы над «Войной и миром» A863). Толстой
теперь уже, в отличие от Герцена, сосредоточивает свое
внимание не столько на роли дворянства в
освободительном движении, сколько на раскрытии тех моральных и
культурных завоеваний дворянства, к которым так
«дерзко» и «непочтительно» относились многие
разночинцы. Внимание сосредоточено на быте во всех его
многообразных и привлекательно-волнующих
проявлениях. «Аристократизм» авторской позиции подчеркнут
вызывающе-резко, с попыткой опереться на Пушкина.
«Я не мещанин, как смело говорил Пушкин, и смело
говорю, что я аристократ, и по рождению, и по привычкам,
и по положению», — заявляет Толстой в одном из
черновых набросков предисловия к роману. Добродетели
аристократии он видит: «в уважении к высшим
сословиям и в любви к изящному», в том, что ни он, ни предки
его «не знали нужды», «не имели необходимости никому
никогда не завидовать», «не знали потребности
образовываться для денег».
«Я аристократ потому, — заключает Толстой свое
рассуждение, — что не могу верить в высокий ум, тонкий
вкус и великую честность человека, который ковыряет
1 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XV,
стр. 279—280.
120
в носу пальцем и у которого душа с богом беседует. Все
это очень глупо, может быть, преступно, дерзко, но это
так».
Несомненно, что в этих «отступлениях» и
«послесловиях» Толстого было много строк, написанных в
состоянии крайнего раздражения, и, может быть, поэтому они
были все забракованы. Но то обстоятельство, что ни
одна из этих политических деклараций не была
включена в текст романа, не означало еще, что Толстой сразу
и решительно отказался от своих взглядов.
Основные идеи этих деклараций нашли свое
воплощение в комедии «Зараженное семейство», написанной
в очень короткий срок (начата во второй половине
декабря 1863 года — окончена 1 февраля 1864 года).
Писатель торопился откликнуться на злободневную
современность, выразить свое отношение к идейному движению
60-х годов. Комедия вначале называлась: «Новые люди»,
«Современные люди», «Старое и новое». Если учесть, что
роман Чернышевского «Что делать?» («Современник»,
1863, №№ 3—5) имел подзаголовок: «Из рассказов о
новых людях» и что Толстой если не читал, то во всяком
случае не мог не знать о его существовании, — по
свидетельству современницы, роман «обсуждался не только на
собраниях, специально для того устраиваемых, но
редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех или
других вопросах, в нем затронутых», ! — тогда станет
ясно, что комедия «Зараженное семейство» была остро
полемическим произведением, направленным против
романа Чернышевского.
24 февраля 1864 года Толстой в письме к сестре
сообщал: «Я пишу длинный роман из 1812 года, а между
прочим написал комедию, которую хотел поставить
в Москве, но не успел перед масленицей, да и комедия,
кажется, плоха, она вся написана в насмешку эманципа-
ции женщин и так называемых нигилистов».2
Здесь обращает на себя внимание признание
писателя, что комедия написана им наспех, сгоряча, «между
прочим», — это произведение на случай, все проникнутое
1 Е, Н. Водовозов а. На заре жизни, т. II, изд. «Academia»,
стр. 216.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 37.
121
злободневностью. Толстой поспешил защитить устои
дворянской семьи, предупредить ее распад, ее «заражение»
новыми взглядами, идущими от нигилистов.
Семья помещика Прибышева держится старых начал.
Сам Прибышев вырос и воспитался в условиях
крепостничества и по своим убеждениям остался крепостником.
Он недоволен «реформами», крестьяне вышли из
послушания, не работают, хозяйство приходит в упадок: «Все
раскрыто, развалено, тащат, крадут, никто ничего не
работает!.. Все перебесились. Вот те и прогресс!» (д. I,
явл. 7). Столь же резко он выступает и против
распространения грамотности среди народа: «все это яд, все это
погибель» (д. IV, явл. 2). И зот в семью этого
кондового помещика нигилисты вносят начала разложения, они
оказывают растлевающее влияние на его детей,
наставляют их не уважать родителей и в конечном счете
увлекают их за собой, но эта победа оказывается непрочной.
В решающий момент Прибышев приходит в себя,
сбрасывает либеральный халат, одетый в угоду новым людям,
и, возвратившись к своему крепостническому
мировоззрению, одним махом ликвидирует все вредные
последствия влияния нигилистов на дочь и сына: они
возвращаются домой; торжествуют в конечном счете
патриархальные основы семьи и быта.
В своей комедии Толстой создает памфлет на «новых
людей», он стремится дискредитировать прогрессивное
движение за раскрепощение женщины, за предоставление
ей равных прав с мужчиной и в остро сатирической
форме изображает отдельных представителей этого
движения — Венеровского, Дудкину, Твердынского, как людей
невежественных и морально растленных, говорящих на
каком-то диком волапюке. Не забудем, что «стриженая»
Дудкина спрашивает у Венеровского последнюю книжку
«Полярной звезды» Герцена, а Твердьшский говорит
о том, что теперь «лучшие головы и таланты все из
семинарии» (д. III, явл. 4), явно намекая на Добролюбова
и Чернышевского, и, наконец, они едут в «коммуну»,
которую в Петербурге основали последователи
Чернышевского по образу и подобию коммуны, описанной в романе
«Что делать?». Все идейные вдохновители движения
60-х годов фактически названы, комедия высмеивала это
движение.
122
Как уже было сказано, Толстому не удалось поставить
«Зараженное семейство» на сцене в 1864 году, и не
только потому, что театральный сезон близился к концу,
а были другие, более существенные причины: комедия не
встретила одобрения в кругах драматургов. А. Н.
Островский резко осудил комедию Толстого и, видимо, не только
за ее художественное несовершенство. Он писал
Некрасову 7 марта 1864 года: «Когда я еще только
расхварывался, утащил меня к себе Л. Н. Толстой и прочел свою
новую комедию; это такое безобразие, что у меня
положительно завяли уши от его чтения».1 Лично Толстому
драматург говорил, что его комедии недостает
сценичности, что в ней «мало действия, надо ее обработать».2
Да собственно и сам Толстой скоро увидел, что его
комедия «плоха». Этим и объясняется быстрое охлаждение
и почти полное забвение «Зараженного семейства»
писателем. Но как увидим, некоторые идеи комедии нашли
свое отражение в «Войне и мире» (Наташа в эпилоге) и,
в несколько модифицированной форме, — в письмах и
статьях, вплоть до первоначальных редакций «Анны
Карениной».
«Зараженное семейство» и «1805 год» являются
вершиной выражения сословных интересов писателя. Но
даже и в это время идейные запросы Толстого не
исчерпывались размышлениями над судьбами дворянства.
Народ и теперь не выходил из поля его зрения. В 1865 году
Толстой, крайне встревоженный засушливым летом и
предстоящим голодом в ряде районов страны, пишет
родным и друзьям письма, в которых выражены чувства его
тревоги за народ. «Засуха не выходит у меня из
головы», — сообщает он жене. «Последнее время я своими
делами доволен, — пишет он брату, — но общий ход дел,
т. е. предстоящее народное бедствие голода, с каждым
днем мучит меня больше и больше». Толстой создает
яркую картину резкого контраста в жизни господ и
мужиков. Он предвидит возможность народных волнений.
Голод «всех их (то есть мужиков. — С. Б.) проберет и
1 «Архив села Карабихи», изд. К. Ф. Некрасова, М., 1916,
стр. 139—140.
2 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне,
ч. 2. стр. 162.
123
расшевелит, пожалуй, так, что и нам под тенистыми
липами в кисейных платьях и с желтым сливочным маслом
на расписном блюде достанется». 1
В исходе столь тревожного и печального лета Толстой,
много думавший над народным бедствием и связанным
с ним вопросом о земле, заносит в записную книжку
мысль, развитию которой в 80-е и последующие годы он
посвятит многие статьи. «Всемирно-народная задача
России состоит в том, чтобы внести в мир идею
общественного устройства без поземельной собственности... Эта
идея имеет будущность. Русская революция только на
ней может быть основана». Подобные мысли не
приходят вдруг, неожиданно, и, несомненно, эта запись, ярко
отразившая антибуржуазную сущность убеждений
Толстого, явилась плодом его напряженных раздумий над
кардинальными вопросами русского общественного
развития. Вопрос о земле был главным для русских
крестьян и в 60-е годы и в 1812 году. Так переплетались
современность и история.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 82
(письмо к Фету от 16/V — 1865).
ГЛАВА ПЯТАЯ
Передав «1805 год» в «Русский вестник», Толстой
начинает испытывать сомнения в правильности своего
творческого замысла. В письмах к друзьям он просит
сообщить ему искренние отзывы о своем новом произведении,
ему «дорого» м-нение Тургенева. В письме к А. А.
Толстой он выражает надежду, что она полюбит его
«детей» — героев нового романа: «там есть славные люди,
я их очень люблю».1 Ответ А. А. Толстой был
неблагоприятным, она указывала на излишнюю детализацию
в изображении чувств героев. Тургенев же, не написав
прямо автору, поскольку находился с ним в разрыве,
высказал свое нелестное Суждение о «1805 годе» в письме
к П. В. Анненкову: «Мелкота и какая-то капризная
изысканность отдельных штрихов, — и потом эти вечные
повторения той же внутренней возни: что, мол, я трус или
не трус? и т. д. Странный исторический роман».2 Да и
самому Толстому роман «начинает очень не нравиться».3
Это уже свидетельствовало о неудовлетворенности
писателя жанром семейно-'исторического романа.
Замысел Толстого к этому времени значительно
усложнился. Исторический материал, исключительный по
своему богатству, не умещался в рамки традиционного
исторического романа. Писатель отказывается от
первоначального намерения описывать только жизнь людей
свободных, не связанных с государственными и
1 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 198.
2 П. В. Анненков. Литературные воспоминания, СПБ., 1909,
стр. 588.
3 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 208.
126
общественными задачами эпохи. 19 марта 1865 года он
записал в своем дневнике: «Я зачитался историей
Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и
сознания возможности сделать великую вещь охватила
мысль написать психологическую историю — роман
Александра и Наполеона. Вся подлость, вся фраза, все
безумие, все противоречие людей, их окружавших, и их
самих». 1
Далее запись в биографическом плане содержит
основные события жизни Наполеона и Александра I.
В биографии Наполеона писатель обращал внимание
на ложь, мошенничество, варварство в обращении с
культурными ценностями, тщеславное злодейство, которые
сопровождали его военные действия. Запись кончалась
словами: «Полное сумасшествие, расслабление и
ничтожество на Св. Елене. Ложь и величие .потому только, что
велик объем, а мало стало поприще, и стало
ничтожество. И позорная смерть».
Наполеону в известном смысле противопоставлялся
Александр, лелеявший «планы возрождения Европы», но
и в его деятельности немало было «путаницы», и в нем
Толстой нашел черты глубоко отрицательные:
«солдатская косточка, маневры, строгости»; поэтому «ежели
убийство, то лучше всего».
Таким образом, мысль написать «психологическую
историю — роман Александра и Наполеона» обогащала
содержание произведения, раздвигала границы
повествования, «замысел характеров» дополнялся «замыслом
историческим».
Несколько позднее Толстой определит и основную
задачу художника в изображении исторических лиц —
широкий, всесторонний показ человека во всех его
проявлениях, в жизни государственной, общественной и частной.
Исторические лица должны выходить из-под пера
художника в их реальном виде, а не с ореолом вокруг головы.
«Кутузов не всегда с зрительной трубкой, указывая на
врагов, ехал на белой лошади, Растопчин не всегда с
факелом зажигал воронцовский дом...» Для художника, по
мысли Толстого, «не может и не должно быть героев,
1 Цит. по кн. Н. Г у с е в. Толстой в расцвете художественного
гения, стр. 42,
126
а должны быть люди». Этому принципу широкого изо*
бражения исторических деятелей как людей, в их
частной жизни, утвержденному еще Пушкиным в «Арапе
Петра Великого» и «Капитанской дочке», Толстой
неукоснительно следует при создании образов исторических
лиц своего романа.
30 сентября 1865 года писатель отмечает в дневнике:
«Есть поэзия романиста: 1) в интересе сочетания
событий — Braddon, мои казаки, будущее; 2) в картине
нравов, построенных на историческом событии, — Одиссея,
Илиада, 1805 год».1 Ставя «1805 год» в один ряде
Илиадой, Толстой уже в 1865 году осознавал
необходимость изменения жанра своего произведения,
превращения его в героическую эпопею.
Толстой, как подлинный новатор, ищет новые
литературные формы и новые изобразительные средства для
выражения своего замысла. Имея в виду европейский
роман, писатель утверждал: «Русская... художественная
мысль не укладывается в эту рамку и ищет для себя
новой». 2
Такими исканиями был охвачен Толстой —
величайший представитель русской художественной мысли. Об
этом он рассказал в одном из набросков предисловия
к «Войне и миру»: «То мне казался ничтожным прием,
которым я начинал, то хотелось захватить все, что я знаю
и чувствую из того времени, и я сознавал невозможность
этого, то простой, пошлый, литературный язык и
литературные приемы романа казались мне столь
несообразными с величественным, глубоким и всесторонним
содержанием, то необходимость выдумкою связывать те
образы, картины и мысли, которые сами собою родились
во мне, так мне становились противны, что я бросал
начатое и отчаивался в возможности высказать все то, что
мне хотелось и нужно высказать».3 И если раньше он
называл «1805 год» романом, то теперь его беспокоила
мысль, что «писание не подойдет ни под какую форму
ни романа, ни повести, ни поэмы, ни истории». Наконец
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 48, стр. 64.
2 Там же, т. 13. стр. 55.
3 Там же, стр. 53.
127
после долгих мучений он решил откинуть «все эти
боязни» и писать только то, что «необходимо высказать», не
давая труду «никакого наименования».
В этом своем решении не следовать «условным
формам» литературных произведений Толстой замечательно
ярко выразил общий глубоко новаторский дух русской
классической литературы, «История русской литературы
со времени Пушкина, — писал Толстой, — не только
представляет много примеров такого отступления от
европейской формы, но не дает даже ни одного примера
противного». Толстой сознавал всю необычность жанра
своего грандиозного романа-эпопеи. Желая предупредить
и отвести возможные недоумения и педантские
кривотолки, он решил выступить со специальной статьей
«Несколько слов по поводу книги: «Война и мир»,
появившейся в журнале «Русский архив», в 1868 году, Русская
литература, проникнутая духом новаторства, ничего
не видела подобного роману Толстого. Автор в своем
рассуждении на тему о жанре «Войны и мира»
подчеркнул главное — единство замысла и воплощения: «Война
и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той
форме, в которой это выразилось».
Замысел исторический неизмеримо усложнял работу
над романом и еще в одном отношении: возникла
необходимость глубокого изучения новых исторических
документов, мемуаров, писем из эпохи двенадцатого года.
Хотя автор и не ставил перед собою узко исторических
задач скрупулезно точно воспроизвести типы начала
XIX века, но он стремился в явлениях эпохально важных
и в частностях быть исторически правдивым.
В последующие годы, вернувшись к замыслу романа
«Декабристы», Толстой делает ценные признания,
которые, разумеется, могут быть отнесены и к его работе над
источниками «Войны и мира», так как в них выражено
специфически писательское отношение к историческим
материалам. В. Стасову удалось скопировать секретную
записку Николая I, определявшую церемониал казни
декабристов, и переслать копию Толстому. Последний
писал Стасову: «Не знаю, как благодарить вас,
Владимир Васильевич, за сообщенный мне документ. Для меня
это ключ, отперший не столько историческую, сколько
психологическую дверь. Это ответ на главный вопрос,
128
мучивший меня». 1 Или еще одно, более позднее
признание, относящееся к годам работы над повестью «Хаджи-
Мурат». Чтобы воссоздать образ Николая I в этой
повести, писателю прежде всего нужно было «овладеть
ключом к его характеру. Вот для этого-то я и собираю, читаю
все, что относится до его жизни и характера».2
Итак, Толстому-художнику необходимо было вместе
с проникновением в эпоху открыть с помощью
исторических материалов «психологические двери», ведущие в
душевный мир действующих лиц, найти «ключи» к их
характерам. С этой целью писатель широко использовал,
особенно для воссоздания мирных картин жизни начала
века, помимо литературных источников и рукописных
материалов, непосредственные изустные рассказы
очевидцев 1812 года. Исторические материалы часто не
давали ответа на разнообразные вопросы Толстого, и тогда
наступал, по терминологии М. Горького, процесс
«домысливания» героя.
По мере приближения к описанию событий 1812 года,
которые возбуждали у Толстого огромное творческое
волнение, работа над романом пошла более ускоренными
темпами. Уже в первой половине мая 1866 года, сообщая
Фету, что «очень много написал», Толстой просил его
откровенно высказать свое мнение о романе: «Я очень
дорожу вашим мнением, но, как вам говорил, я столько
положил труда, времени и того безумного авторского
усилия (которое вы знаете), так люблю свое писание,
особенно будущее— 1812 год, которым теперь занят, что не
боюсь осуждения даже тех, кем дорожу, а рад
осуждению... Пожалуйста, скажите поправдивее, т. е. порезче...
Роман свой я надеюсь кончить к 1867 году и напечатать
весь отдельно с картинками, которые у меня уже
заказаны, частью нарисованы Башиловым (я очень доволен
ими), и под заглавием: «Все хорошо, что хорошо
кончается». 3
Вероятно, до того как это письмо было отправлено,
Толстой сделал попытку набросать, хотя бы в конспек-
1 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка, 1878—1906», Л., 1929,
стр. 35. 9/VI — 1878.
2 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 378—379.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 137—
138.
9 С Бычков 129
тивной форме, последние части романа, получившего
название «Все хорошо, что хорошо кончается». Развитие
событий в этом наброске значительно отличается от
событий, изображенных в окончательном тексте
соответствующих частей «Войны и мира». В частности,
заключительная часть романа почти ничего общего не имеет с
окончательной редакцией. В «Войне и мире» князь Андрей
умирает в Ярославле, где остановились Ростовы. В
названном же варианте Ростовы приезжают в Тамбов и
размещаются в специально приготовленном для них
купеческом доме. Князь Андрей находится у них же. Во время
своей болезни он открывает смысл жизни, нравственно
перерождается. Это сказывается на его отношениях
с Наташей, которые после приезда сестры Марьи резко
изменяются. Он видит, что Марья любит Николая
Ростова, и ради ее счастья и счастья семейства Ростовых,
состояние которых было крайне расстроено, князь
Андрей отказывается от своего собственного счастья, от
женитьбы на Наташе.
Далее конспективно изложено отступление армии
Наполеона из России. В отрывке упоминается деятельность
партизанских отрядов. Партизаны — истинные патриоты,
представители «геройской фаланги»,—так у автора
возникает первый намек на замысел народной войны.
Характерно, что Платона Каратаева в этом первом
варианте окончания романа еще нет, он появится позднее,
на последнем этапе работы Толстого над романом.
Развязка романа в рассматриваемом отрывке
полностью соответствует его предполагавшемуся названию
«Все хорошо, что хорошо кончается». Пьера освобождает
из плена партизанский отряд Долохова, и он
направляется в Тамбов к Ростовым. Князь Андрей,
выздоровев, уезжает в действующую армию. Ростовы переезжают
в Отрадное. Вскоре туда же приезжает Николай Ростов
вместе с оставшимся в живых братом Петей. В один день
были сыграны обе свадьбы: Пьера с Наташей и Николая
с Марьей Болконской. После свадьбы Николай и князь
Андрей с русской армией совершают заграничный поход
и благополучно возвращаются в Отрадное.
Этим должен заканчиваться роман по
первоначальному плану. «Все хорошо, что хорошо кончается»: герои
романа прошли через ряд горьких испытаний: плен, вой-
130
на, пожар Москвы, всевозможные лишения, — но все
кончается хорошо. Война некоторых морально возродила,
нравственно очистила, все остались живы и здоровы,
поженились -и так же любят и чувствуют все радости жизни,
как и прежде. Историко-философская тема была едва
намечена. Исторические лица играли второстепенную роль.
Этот вариант окончания романа соответствовал еще
первоначальным замыслам писателя воссоздать историю
жизни нескольких дворянских семейств в начале века..
Но этим только заканчивался первый период работы
Толстого над романом, когда он был еще убежден в
решающей роли дворянства в судьбах страны.
Писатель был полон надежд на скорое завершение
романа. Ему казалось, что он сможет закончить роман
в 1867 году, но этого не произошло. 8—9 января 1867
года Толстой писал художнику, иллюстратору романа,
Башилову: «Мое дело хорошо и довольно быстро
подвигается вперед — так быстро, что у меня кончены
(начерно) 3 части (одна напечатана, та, к которой вы
делаете картинки, и две в рукописи), и начата 4-я и
последняя. Ежели какое-нибудь неожиданное несчастие не
помешает мне, то я буду готов к осени со всем
романом». 1 С. А. Толстая записала в своем дневнике:
«Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением
пишет».2
И тем не менее роман к намечавшемуся сроку не был
закончен. «Неожиданным несчастьем» явилось
дальнейшее расширение и углубление замысла. Широкое участие
народа в Отечественной войне потребовало от писателя
нового осмысления характера всей войны 1812 года,
обострило его внимание к историческим законам,
«управляющим» развитием человечества. Произведение решительно
меняет свой первоначальный облик: из семейно-историче-
ского романа типа «1805 года» оно в результате идейного
обогащения превращается на завершающих стадиях
работы в эпопею огромного исторического масштаба.
Писатель широко вводит в роман философские и исторические
рассуждения, создает великолепные картины народной
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 155.
«Частями» Толстой называет томы.
2 См. «Дневники С. Л. Толстой», I, стр. 97.
* 131
войны. Он заново пересматривает все до сих пор
написанные части романа, бракует почти целиком
первоначальный план его окончания, отбрасывает название «Все
хорошо, что хорошо кончается», вносит исправления в
липни развития всех основных действующих лиц, вводит'
новые персонажи, дает окончательное название своему
произведению: «Война и мир». 1 Готовя в 1867 году
роман к отдельному изданию, писатель перерабатывает
целые главы, выбрасывает большие куски текста,
осуществляет стилистическую правку. Эту работу по
совершенствованию произведения он продолжает и в корректурах,
в частности значительным сокращениям в гранках
подверглась первая часть — выброшено двенадцать глав —
«от чего, — по словам Толстого, — выигрывает сочинение
во всех отношениях».2
Работая над корректурами первых частей, Толстой
одновременно продолжал дописывать роман. Он подошел
к одному из центральных событий всей войны 1812 года—
к Бородинскому сражению. 25—26 сентября 1867 года
писатель совершает поездку на Бородинское поле с
целью изучения места сражения и с надеждой встретить
очевидцев Бородинского боя. Он в течение двух дней
ходил и ездил по Бородинскому полю, делал пометки в
записной книжке, рисовал план сражение, разыскивал
стариков — современников войны 1812 года.3
Возвратившись в Москву, Толстой писал жене:
«Сейчас приехал из Бородина. Я очень доволен, очень —
своей поездкой... Только бы дал бог здоровья и
спокойствия, а я напишу такое бородинское сражение, какого
еще не было».4 Весь октябрь он упорно работает над
главами, посвященными описанию этой великой битвы.
К 1868 году у Толстого окончательно складываются
взгляды на историю и ее движущие силы, он приходит
к фатализму, к отрицанию личности в исторических со-
1 Это название Толстой впервые употребляет в письме
к М. Н. Лаврову от 24—25 марта 1867 года. Но оно появилось,
видимо, раньше, потому что произведение было так названо уже
в письме А. Е. Берса к Толстому от 9 марта 1867 года.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 175.
3 См. С. А. Б е р с. Воспоминания о гр. Толстом, Смоленск, 1893,
стр.' 49—50.
4 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 83,
стр. 152—153. 27/XI —1867.
132
бытиях, к утверждению стихийного, «роевого» начала
народной жизни. В связи с этим для него теперь
наибольший интерес представляют историко-философские главы
произведения, в них он начинает видеть основную
ценность своего труда. В конце марта 1868 года Толстой
писал М. П. Погодину: «Мысли мои о границах свободы
и зависимости и мой взгляд на историю не случайный
парадокс, который на минуту занял меня. Мысли эти
плод всей умственной работы моей жизни и составляют
нераздельную часть того миросозерцания, которое бог
один знает какими трудами и страданиями выработалось
во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастие.
А вместе с этим я знаю и знал, что в моей книге будут
хвалить чувствительную сцену барышни, насмешку над
Сперанским и т. п. дребедень, которая им по силам,
а главное-то никто не заметит».1
В течение 1868 года Толстой, наряду с
историко-философскими «отступлениями», пишет главы, посвященные
роли народа в войне. Работая над художественным
освоением эпохи Отечественной войны, Толстой пришел к тому
же выводу, какой он сделал в результате общения с
русским крестьянством в 60-е годы: «Сила России... в
народе», народу принадлежит главная заслуга в изгнании
Наполеона из России. Этим убеждением проникнуты
великолепные по своей выразительности картины народной
войны.
В оценке общего характера войны 1812 года как
войны народной Толстой оказался в одном лагере с
самыми передовыми людьми исторической эпохи 1812 года
и своего времени. Разумеется, в этом существенную роль
сыграли те источники, на основе которых писатель
обдумывал свой замысел и в которых он искал материал
для художественного воссоздания эпохи. О народном
характере войны 1812 года, о величайшем национальном
подъеме говорят в своих письмах, воспоминаниях,
записках Ф. Глинка, Д. Давыдов, Н. Тургенев, А. Бестужев
и другие.
Декабрист Ф. Глинка, автор нашумевших в свое
время «Писем русского офицера», сам был участником
1 «Л. Н. Толстой. Летопись Гос. лит. музея», кн. 2, М., 1938,
стр. 33.
133
Бородинского сражения и освободительного похода
русской армии. Он запечатлел события и умонастроения
современников по горячему следу, непосредственно в
разгаре войны. Кровью обливалось сердце при виде
«пылающего отечества», «бегущего парода», гордостью оно
наполнялось перед картинами «мщения» и «мужества».
Много вещих слов запало в сознание Толстого, когда он
вдумчиво читал эти письма. Враг уже вторгся: «Народ
просит воли, чтоб не потерять вольности, — писал
Глинка. — Но война народная слишком нова для нас.
Кажется, еще боятся развязать руки». * Этот упрек с поля
сражения посылал Глинка в адрес царского
правительства, боявшегося народной инициативы. Но каждый шаг
продвигающегося неприятеля еще сильнее сжимал
пружину народного гнева. Это видел Глинка, это видели все
лучшие люди России, подлинные патриоты, радовавшиеся
долгожданному воскрешению «духа народного».
И властям пришлось все-таки, во имя спасения
отечества, «узаконить» народный гнев. Глинка записал:
«Вооружайтесь все, вооружайся всяк, кто только может:
гласит, наконец, главнокомандующий в последней про-
кламации своей. — Итак — народная война!..» 2 Автор
зарисовал с натуры множество ярких эпизодов, которые
подогревали и направляли в определенное русло
творческое воображение Толстого. «Война народная, — писал
Глинка, — час от часу является в новом блеске. Кажется,
что сгорающие села возжигают огнь мщения в жителях.
Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и
косу в оружия оборонительные, без искусства, одним
мужеством отражают злодеев. Даже женщины
сражаются!» 3 Вместе с тем для Глинки, как и для многих
передовых людей того времени, эта борьба была лишь
прологом к будущей непременной борьбе с «внутренними»
врагами, самодержавно-помещичьим строем. Он видел,
как «молнии войны пробуждают дух народов и также
ускоряют зрелость их». Верилось и хотелось, чтобы
настоящее возбуждение народного мужества «возвратило
нам свободу». Эти выводы современника важны для
понимания идейной эволюции Пьера у Толстого.
1 Ф. И. Глинка. Письма русского офицера, М, 1821, стр. 60.
2 Там же, стр. 70.
3 Там же, стр. 87. .
134
Н. Тургенев, которого Толстой знал лично, в своей
книге «Россия и русские», отмечая одну из тех
особенностей войны 1812 года, которую «всячески старались
затушевать» в официальных сферах, писал: «Она
состояла в следующем. — При виде неприятеля крестьяне,
по собственному почину, взялись за оружие. Везде,
в чисто русских губерниях, крестьяне вели партизанскую
войну и мужественно бились». 1 Об этом же пишет
И. Д. Якушкин в своих «Записках». Денис Давыдов,
который, по верному определению Толстого, «своим
русским чутьем» 2 первый понял огромное значение
партизанской войны, в «Дневнике партизанских действий
1812 года» выступил с теоретическим осмыслением
принципов ее организации и ведения.
«Дневник» Давыдова был широко использован
Толстым не только как материал для создания картин
народной войны, но и в своей теоретической части.
Рассуждая о выгодах нового вида войны, Давыдов писал
о том, что она окажет огромное моральное воздействие
на население занятых противником губерний:
«Обратное появление наших посреди рассеянных от войны
поселян ободрит их и обратит войсковую войну в
народную». 3 Близость идей Толстого к этим идеям очевидна.
Давыдов несомненно помог Толстому оформить свои
взгляды на войну 1812 года как на войну народную.
Партизанская война нужна была пис'ателю как яркое
доказательство огромного значения морального фактора
для одержания победы над противником.
Эту линию в оценке войны 1812 года продолжал
Герцен. В статье «Россия» Герцен писал о том, что
Наполеон «поднял против себя целый народ, который
решительно схватился за оружие».
Исторически верную оценку войны 1812 года давали
и революционные демократы — Чернышевский и
Добролюбов. Если первый писал о русских как о спасителях
Европы «от ига монголов» и «другого ига — французов
и Наполеона», то Добролюбов, сравнивая Крымскую
1 Н. Тургенев. Россия и русские, т. 1. Воспоминания
изгнанника. М., 1915, стр. 17.
2 Давыдов писал о себе как о «человеке русском без всякой
примеси» — см. Сочинения, т. Ill, M., I860, стр. 141.
3 Д. Давыдов. Военные записки, ГИХЛ, 1940, стр. 196.
135
войну и войну 1812 года, устанавливал народный
характер последней: «Тогда была война народная; враг
был внутри страны; всякий защищал свой дом, свое
имущество, всякий во враге общем видел и своего
личного врага». 1
Таким образом, Толстой в своей концепции народной
войны 1812 года, резко противоречившей всем
официозным истолкованиям ее, опирался в значительной мере на
декабристскую традицию в оценке этой войны и
сходился с высказываниями о ней революционных
демократов.
1868 и почти весь 1869 год Толстой продолжал работу
по завершению «Войны и мира». И только осенью
1869 года, в середине октября, писатель отсылает
последние корректуры своего произведения в типографию.
На создание «Войны и мира» Толстой положил шесть
лет «непрестанного труда при наилучших условиях
жизни».2 Огромное количество черновых набросков и
вариантов, по своему объему превосходящих основной
текст романа, перемаранные до неузнаваемости
корректуры достаточно красноречиво свидетельствуют о
колоссальном труде писателя, который неустанно искал
наиболее совершенного идейно-художественного воплощения
своего творческого замысла.
* * *
Перед читателями этого романа Толстого раскрылось
необычайное богатство человеческих образов,
невиданная широта охвата явлений жизни, глубочайшее
изображение важнейших событий в истории целого народа.
И в самом деле, сколько в «Войне ч мире» сцен и
картин, которые без глубокого волнения читать
невозможно; они вызывают и слезы радости и горькое чувство
печали, восторг и гнев, и всем этим переживаниям
сопутствует чувство удивления перед могучей силой
художественного гения Толстого, запечатлевшего в этом
произведении жизнь народа во всей ее многогранности,
во всем богатстве ее красок, отношений, связей.
1 Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 5,
стр 413.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 13, стр. 56
136
Толстой любил повторять мысль о том, что
художник, для того чтобы достигнуть своей цели, должен
«заразить» читателя своими чувствами и переживаниями.
«Война и мир» глубоко «заражает» пас чувством
огромной жизнерадостности ее творца, в ней прославляется
жизнь во всей ее волнующей прелести.
Жизнь побеждает, несмотря ни на что. Война
приносит много горя и страданий, ее зловещие кровавые блики
ложатся на всю жизнь русских людей. Но они не
впадают в уныние, не вешают головы, а смело и решительно
берутся за оружие и идут на смертельную борьбу с врагам.
Пафос «Войны и мира» —"в утверждении великого
жизнелюбия и великой любви русского человека
к родине.
Чем дальше мы отходим от эпохи, породившей «Войну
и мир», тем все величественнее вырисовывается перед
нами этот поистине бессмертный художественный
памятник русской воинской славы, русского патриотизма.
В русской литературе нет другого произведения, которое
по значительности идейной проблематики, по силе
художественной выразительности, по огромному
общественно-политическому резонансу и воспитательному
воздействию могло бы стать рядом с «Войной и миром». Через
огромное произведение проходят сотни человеческих
образов, жизненные дороги одних соприкасаются и
перекрещиваются с жизненными дорогами других, но каждый
из них является неповторимым, сохраняет свойственную
ему резкую индивидуальность.
Действие начинается в июле 1805^ода в салоне Анны
Павловны Jlle^ep ?ассужде1Тиями1э^
с Наполеоном_ и завёр"щается_в"~1Д20 году страстным' и'
напряженным'спором между Пьером "и" HmcaJja^MT^pefo-
вым, в котором ощущается Ъриближей1Те"Трозь1 ^екабр^^
CKqro^ восстания. Целые пятнадцать лет русской
истории, насыщенней полными* драматизма событиями,
запечатлены на страницах «Войны и мира».
В этой буриой исторической обстановке живут и
действуют герои романа. С первых же страниц эпопеи перед
читателем предстают князь Андрей и его друг Пьер
Безухов. Оба они еще окончательно не определили своего
пути в жизни, оба не нашли того дела, которому могли
бы отдать все силы.
137
С князем Андреем мы знакомимся в гостиной Шерер.
Все в его поведении — усталый, скучающий взгляд,
тихий, мерный шаг, гримасничание, портившее его
красивое лицо, и манера щуриться при разглядывании
людей — выражало его глубокое разочарование в светском
обществе, его усталость от посещений гостиных, от
пустых и лживых светских разговоров. Такое отношение
к свету роднит князя Андрея с Онегиным.
Князь Андрей естественен, прост и хорош только со
своим другом Пьером. Разговор с ним всегда у князя
Андрея дружеский, сердечный, откровенный. Пьеру он
поведал о глубокой неудовлетворенности своей семейной
жизнью, потому что для женатого человека в условиях
дворянского общества «все закрыто, кроме гостиной».
И в дальнейшей беседе с Пьером, уже дома, князь
Андрей предстает как человек серьезный, мыслящий, широко
начитанный, резко осуждающий ложь и пустоту светской
жизни и стремящийся к удовлетворению своих серьезных
интеллектуальных запросов. Таков он всегда с людьми,
к которым сердечно привязан (отец, сестра). Но как
только он попадал в светскую среду, все резко менялось: князь
Андрей принимал аристократическую <позу и все свои
искренние порывы прятал под забралом холодной
светской учтивости. Эти два ряда эмоций, порождаемых как
будто в двух разных людях, хорошо раскрыты в
различном отношении князя Андрея к типичному представителю
света глупому и пошлому Ипполиту Курагину и Пьеру:
«Па-звольте, сударь, — сухо-неприятно обратился князь
Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему
пройти.
«— Я тебя жду, Пьер, — ласково и нежно проговорил
тот же голос князя Андрея».
В армии князь Андрей переменился: исчезли
притворство, усталость и лень. Во всех его движениях, в лице,
в походке стало и больше энергии и больше довольства
собой. Он воплощал высокий тип дворянской
сознательности, полагая «свой главный интерес в общем ходе
военного дела». Ульмское поражение австрийцев и приезд
битого Мака вызывают в нем тревожные волнения о том,
с какими трудностями предстоит встретиться русской
армии. Поэтому шутовская выходка корнета Жеркова,
поздравившего австрийских генералов с прибытием
138
Мака, вызывает раздраженную отповедь князя Андрея:
«Мы или офицеры, которые служим своему царю
и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об
общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до
господского дела». Таким образом, князь Андрей исходил
из патриотического представления о высоком воинском
долге, из понимания ответственности за судьбы страны.
Офицер-дворянин является представителем
господствующего класса, и поэтому уровень его сознательности
определяется степенью понимания неразрывности своей
судьбы с судьбой «любезного» отечества, способностью
радоваться «общему успеху» и печалиться «об общей
неудаче».
Князь Аргдрей стремится к славе, без которой, по его
понятиям, он жить не может, завидует судьбе
Наполеона, его воображение тревожат мечты о своем
«Тулоне», о своем «Аркольском мосте». На Шеиграбенском
поле, где небольшой отряд Багратиона сдерживал натиск
всей наполеоновской армии, он встречается с Тушиным,
командовавшим батареей, и перед штабными генералами
горячо защищает простого, скромного капитана, говоря,
что успехом дня более всего обязаны «действию этой
батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его
ротой». Это была правда, но князю Андрею лично «было
грустно и тяжело». Он переживал крушение своих
представлений о герое и геройстве, о воинском подвиге. Ему
казалось, что с ними должно быть связано многое такое, что
резко выделяло бы героя среди толпы обыкновенных
людей: его молодцеватость, даже внешняя красота, как,
например, у Долохова. Герой представлялся князю Андрею
как в романтических легендах, гарцующим на коне и
безоглядно бросающимся в атаку на противника. И вдруг
маленький, невзрачный па вид, смущающийся капитан
Тушин совершает подвиг — действиями своей батареи
вносит большой вклад в общий военный успех дня, он стойко
удерживает свои позиции, он — воплощение мужества,
истинный герой. Для князя Андрея «все это было так
странно, так непохоже на то, чего он надеялся».
Происходит крушение иллюзий, развенчание романтических
представлений о герое, сущности героизма и войне в целом.
В Шенграбепском бою князь Андрей не нашел своего
«Тулона», но на батарее Тушина он обрел истинные
139
понятия о геройстве. Тушин разрушил его
ложно-романтический идеал героя и сам стал для князя Андрея
нормой геройства и образцом героя. Это был первый шаг на
пути сближения князя Андрея с простыми людьми.
Накануне Аустерлица князь Андрей вновь мечтал
о славе и о совершении подвига при каких-то особых
обстоятельствах. В день Аустерлицкого сражения, в
обстановке общей паники, охватившей войска, он на глазах
у Кутузова со знаменем в руках увлекает в атаку целый
батальон. Но его ранят. Рушатся все честолюбивые
планы. Он лежит один, покинутый всеми, среди поля и
тихо, по-детски стонет. В таком состоянии он увидел
небо, и оно вызвало в нем искреннее и глубокое
удивление. Вся картина его величавого спокойствия и
торжественности резко оттеняла суетность людей, их мелкие,
эгоистические помыслы. «Как же я не видал прежде
этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его
наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого
бесконечного неба». Существует только высокое небо как мерило
вечного, прекрасного, великого, все земное, в том числе
и слава, — ложь и обман.
Князь Андрей, после того* как ему открылось «небо»,
осудил свои ложные, стремления к славе и по-новому стал
смотреть на жизнь. Слава не является главным стимулом
человеческой деятельности, существуют иные, более воз-,
вышенные идеалы. Наполеон, который в это время
объезжает поле, кажется ему теперь со всем своим
тщеславием ничтожным человеком. Происходит развенчание
«героя», которому поклонялся не только князь Андрей,
но и многие его современники. Само небо, играющее
здесь роль того же своеобразного эмоционального
лейтмотива, что и горы для Оленина в «Казаках», трактуется
в этическом плане — оно справедливое и доброе, в то же
время названные этические понятия совершенно
неприменимы к деятельности Наполеона: он несправедлив и
жесток, поэтому он ничтожен.
После Аустерлицкой ^кампании князь Андрей решил
никогда больше не служить назвоненной службе. Он
возвращается домой «с измененным, странно смягченным,
но тревожным выражением лица». Умирает жена, и князь
Андрей все свои интересы сосредоточивает на воспитании
сына, пытаясь убедить себя, что «это одно» ему и оста-
140
лось в жизни. Думая, что человек должен жить для
одного себя, он проявляет крайнюю отрешенность от
шумной жизни; мысль, что жизнь кончена, читалась в его
потухшем, мертвом взгляде. Человек высокой культуры и
сложной духовной жизни, он доходит до отрицания всей
культуры и цивилизации человечества, полагая, что
«единственно возможное счастье — есть счастье животное».
Взгляды князя Андрея на современные ему
политические вопросы носили ярко выраженный дворянско-сослов-
ный характер. Говоря с Пьером об освобождении
крестьян, он высказывает аристократическое презрение к
народу, полагая, что крестьянам безразлично, в каком
состоянии они находятся: в Сибири мужики вели бы такую
же «скотскую жизнь», как и в средней России. Поэтому
мужику якобы все равно. Крестьянские' восстания и
бунты ярко свидетельствовали о назревавшем протесте
против хищнической эксплуатации помещиков, против
дикого произвола крепостников, глумившихся над
народом. Бунтарей секли, брили им лбы и отдавали в
солдаты, но на смену им поднимались новые и новые тысячи
борцов за свои человеческие права, потому что русскому
крестьянину было свойственно острое чувство социальной
справедливости, вера в добро и правду и понимание зла
жизни. Князю Андрею, однако, не жалко
исполосованных спин мужиков, не жалко бритых лбов, «которые, —
как он думал, — сколько ни секи, сколько ни брей, все
останутся такими же спинами и лбами». Ему жалко так
называемых «хороших людей», то есть помещиков, из
которых в среде палачества и кнутобойства вырастают
жестокие изверги, утонченные садисты, не признающие
в мужике человека. И эти «несчастные» якобы страдают
от совершаемых ими зверств, «гибнут нравственно». Вот
для спасения их и надо освободить крестьян.
Князь Андрей обеспокоен исключительно
нравственным состоянием дворян, самочувствием крепостников, и
ему дела нет до народа. Он мыслит в границах да оря н-
ско-сословцого мировоззрения и на дело освобождения
крестьян смотрит сверху вниз; ни человеческого
достоинства, ни моральной чистоты он в мужике не признает.
Крепостное право надо отменить потому, что оно
является источником нравственных мучений дворян.
141
Пьер не соглашается с ним. За минувшие годы он
также пережил многое. Незаконный сын видного
екатерининского вельможи, он стал после смерти отца
крупнейшим богачом России. Сановник Василий Курагин,
преследуя корыстные цели, сумел женить его на своей
дочери Элей. Этот брак на пустой, глупой и развратной
женщине принес Пьеру глубокие разочарования. Элен
была типической представительницей «света». А Пьер
с первого же появления в романе противостоит всему
светскому обществу с его ложной моралью, сплетнями и
интригами. Он не похож ни на кого из представителей
«света», отличаясь от гостей Анны Павловны Шерер
своим умным, наблюдательным взглядом. В обществе,
где все было искусственно, лживо и условно, он являлся
воплощением оппозиционного начала. В присутствии
монархистов он восхваляет французскую революцию,
называет Наполеона величайшим человеком в мире и
признается князю Андрею, что готов был бы пойти на войну,
если бы это была «война за свободу». Пройдет немного
времени, и Пьер пересмотрит свои юношеские увлечения
Наполеоном. В армяке и с пистолетом в кармане среди
пожарищ Москвы он будет искать встречи с императором
французов, для того чтобы убить его и тем отомстить за
страдания русского народа. Но оппозиционность к
существующему строю в нем останется навсегда.
Человек по внешности флегматического темперамента
и огромной физической силы, страшный в минуты
бешенства, Пьер вместе с тем был нежен, робок и добр;
когда он улыбался, на его лице появлялось кроткое,
детское выражение. Он все свои незаурядные душевные
силы посвящает поискам истины и смысла жизни.
На поединке с Долоховым в СоколШйсаЗсТ^ызваьшом
ссорой из-за жены, Пьер размышляет, что собственно
дуэль ничего не разрешает, жизнь остается попрежнему
запутанной, и у него появляется желание «бежать,
зарыться куда-нибудь». А когда в крайнем смятении
чувств он, в жизни ни разу не державший в руках
оружия, ранит Долохова и тот стреляет в него почти
в упор, Пьер стоит перед дулом его пистолета с
открытой грудью, «с кроткой улыбкой сожаления и
раскаяния». Видимо, в смерти он искал выход из мучивших
его противоречий жизни. Но Пьер остался жив и реши-
142
тельно осудил такой исход, явившийся ему только в
минуту охватившего его отчаяния. «Глупо... глупо!.. Смерть...
ложь... — твердил он морщась».
После дуэли Пьер с еще большим напряжением
сосредоточился на разрешении занимавших его вопросов.
Для него все теперь представлялось относительным; не
существовало единой моральной оценки жизненных
явлений, один смотрел па них так, а другой иначе. «Что
дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть?
Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что
смерть? Какая сила управляет всем?»1—спрашивал он
себя». И не было ответа на эти коренные вопросы
жизни, волновавшие Пьера'; Но""в "свете своих" исканий
смысла жизни он рассматривал все, что попадало
в поле его зрения: торговка визгливым голосом
предлагала свой товар, а Пьер думал о ее прорванной
шубе и своем богатстве, думал о деньгах, которые ничего
не могут изменить в жизни, не могут спасти от зла и
неизбежной смерти. В таком состоянии душевного
смятения ОН гтял лргкпЙ п,п6рдчрй одной ИЗ маСРНСКИХ ЛОЖ.
Масоны говорили о необходимости «очистиТь "й о<эно-
вить своего внутреннего человека», о необходимости
«совершенствоваться». Но и в религиозно-мистических
заклинаниях масонов внимание Пьера привлекла прежде
всего мысль о том, что надо «всеми силами дротивобор-
ствовать_зл^^адствующему в мире». И Пьер
«представлял себе угнетателей, от которых он спасал их
жертвы». Но чтобы спасать «жертвы» от угнетателей
в условиях самодержавной России, """"надо'""было вести
борьбу с крепостниками и крепостничеством.
В соответствии с этйШГ убеждениями Пьер, приехав
в свои киевские имения, немедленно сообщил
управляющим о своем намерении освободить ^_е.схьян и изложил
перед ними широкую программу помощи крестьянам. Но
его поездка была так обставлена, на его пути было
столько создано «потемкинских деревень», так искусно
подобраны депутаты из крестьян, которые, разумеется,
все были счастливы от его нововведений, что Пьер уже
«неохотно настаивал» на отмене крепостного права.
Истинного положенШгдел он не знал.
В новой фазе своего духовного развития Пьер был
вполне счастлив. Он говорил князю Андрею: «Я жил для
143
себя и погубил свою жизнь. И только теперь, когда
я живу, по крайней мере, стараюсь... жить для других,
только теперь я понял все счастье жизни». Это почти
цитата из «Казаков». Оленин в своих поисках счастья и
гармонии в жизни также проходил через эти стадии
развития.
Свое новое понимание жизни Пьер излагал князю
Андрею. Он говорил ему о масонстве как учении
христианства, освобожденном от всех государственных и
официальных обрядовых основ, как учении о равенстве,
братстве и любви. Князь Андрей верил и не верил в
существование такого учения, но ему хотелось верить, так как
оно возвращало его к жизни, открывало ему путь к
возрождению. Тут же, рядом, описаны странники,
посещавшие княжну Марью, наивно верующие в чудеса всяких
икон. Князь Андрей и Пьер, разумеется, против суеверии
и церковной обрядности, Пьер говорит: «народ
обманывают», они — за «очищенную» религию как своеобразно
истолкованное этическое учение о жизни.
Свидание с Пьером оставило в князе Андрее глубокий
след. Со свойственной ему практической цепкостью он
осуществил все те мероприятия, которые намечал и не
довел до конца Пьер: одно имение в триста душ
перечислил в вольные" хлебопашцы — «это был один из
первых примеров' в России», — в других барщину заменил
оброкомГ'"Слеша" екатерининского старика: «Боитесь
опоздать», сказанные князю Андрею по этому поводу,
примечательны тем, что написаны Толстым в эпоху
60-х годов. Это чувство — как бы не опоздать и не
оказаться 'последним — знакомо было самому Толстому и
многим другим дворянам накануне реформы 1861 года.
15 октября 1857 года Д. Колбасин писал Тургеневу:
«К новому году будет освобождение крестьян, если это
так, то кому-то будет стыдно дожидаться общей меры
освобождения». Но мысли об освобождении крестьян,
о выгодах вольнонаемного труда у передовой части
дворянства вполне созрели уже в начале века.
Освобождению крестьян посвящались статьи, записки, книги. Так,
выпустил «Опыт о просвещении относительно к
России» Пнин A804), И. П. Кайсаров — «Об освобождении
крепостных в России» A806), вышла также книга
Стройновского «Об условиях помещиков с крестья-
144
нами» A808); кроме того, появились многие журнальные
статьи. Некоторые дворяне выступили со своими
проектами освобождения крестьян, но при этом
предполагалось, что земля останется в руках помещиков. Указ о
свободных хлебопашцах B0 февраля 1803 года),
разрешавший помещикам отпускать крестьян на волю с
наделением их землей за выкуп, также в какой-то мере отражал
веяния времени. В этом историческом контексте и
следует рассматривать либеральные реформы Пьера и
князя Андрея.
Однако все эти преобразования не принесли личного^
счастьяли^Пьеру, ни князю Андрею, не создали основ для
гармонической жизни. Между их идеалами и неприглядной
социальной действительностью существовала пропасть^.
Дальнейшее общение Пьера с масонами привело его
к глубокому разочарованию. Членами ордена были люди
далеко не бескорыстные. Из-под масонских фартуков
виднелись мундиры и кресты, которых добивались члены
ложи в жизни. Среди них были люди совершенно не
верующие, вступившие в ложу ради сближения с
влиятельными «братьями». Так перед Цщюм^ даскрыла.сь
лживр?,ть ¦¦¦„щсонства, и все попытки Пьера призвать
«братьев» к более активному вмешательству в жизнь,
кончились разрывом с ними.
Он вступил в разряд отставных московских
камергеров. Мечты о республике в России, о победе над
Наполеоном, о философии и освобождении
в прошлом. Пьер жил на положении русского барина,
"любившего покушать, выпить и иногда слегка побранить
правительство. Если и раньше он был совершенно
безразличен к «свету», то теперь он стал к нему равнодушен:^
он ходил повальным залам, «кивая направо~1Г~налево
так же небрежно и добродушно, как если бы он шел по
толпе базара». Когда-то Пьер весь был исполнен
протеста против традиционных, сложившихся форм жизни,
он искал своей, особой дороги, а теперь сам стал на
традиционную стезю, на давно пробитую колею, которая
«определена предвечно». И от всех его молодых
свободолюбивых порывов как будто не осталось и, след а.
На первый взгляд, это был уже конец, духовная
смерть, если бы не особые причины удаления Пьера
10 С Бычков 145
от всякой общественной деятельности. Он ве?ил в добро
и правду и вследствие этого ясно видел ^<<злсГ й^
ру ^ ^
жизни», поэтому он и не мог сугужить"—"Твся'кая область
труди в глазах его соединялась со злом и
обманом». Идейные искания Пьера, не „прекратились, л^ыли
как бы загнаны внутрь. Коренные вопросы жизни
продолжали попрежнему тревожить его сознание: «К чему?
Зачем? Что такое творится^ на свете?» — часто
спрашивал он себя и не находил ответа. Его ужасала именно
ложь и путаница жизни, ее необъяснимые противоречия:
проповедуют христианские законы любви.._к Даищ^ему —
и тут же засекают кнутом человека, и те же попьГдают
целовать солдату^крест-яереД'Тазнью. Пьер не мог
распутать этот «запутанный, страшный узел жизни». Таким
образом, его оппозиционность к существующим
социальным порядкам осталась, его осуждение зла и лжи жизни
нисколько не ослабли, но, наоборот, это-то и ставило
. Пьера особняком среди других завсегдатаев Английского
клуба. Это явило^узи^свддой его нового духовного
возрождения в огне и бурях начавшейся Отечественной
войны.
Духовное развитие князя -Ащщея в годы перед
Отечественной войной также отмечено напряженным^поис-
жизни, счастья — путей ликвидации своей
б Ой
у
обособленной жизни от жизни общей. Охваченный
мрачными переживаниями, князь Андрей безнадежно смотрел
на овою жизнь, ничего не ожидая для себя в будущем;
но затем наступает полоса возрождения, возврат к
полноте всех жизненных чувсдв .и^ережьшаний. Писатель
создает запоминающийся оЦраз дуба как яркую
параллель к различным душевным состояниям князя Андрея.
Ранней весной ^уВ) стоял в окружении молодых и
веселых берез «старым^ сердитым и презрительным уродом»,
как будто он был совершенно равнодушен и к весне, и
к солнцу, и к радостям жизни. Этот старый дуб вызвал
в князе Андрее целый рой грустных и безнадежных
мыслей. Жи:щь_конч?Еа. Пусть другие поддаются на ее
обман. А он будет тихо доживать последние дни, не делая
зла пруриж.~м~лтчещ
Н
ру р
Но вот в середине мая князь Андрей по делам
приехал к графу Ростову, и в парке он увидел «тоненькую
и хорошенькую девушку», которая была чем-то довольна
146
и не хотела знать про его существование. Ему стало
больно. Он явился невольным свидетелем волнений
Наташи, вызванных лунной майской ночью, ее стремлений
куда-то улететь. И в нем поднялись молодые мысли и
надежды. На обратном пути князь Андрей уже не узнал
старого дуба. Дуб стоял «весь преображенный,
раскинувшись шатром сочной, темной зелени... Ни корявых
пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя — ничего
не было видно». Человеческий план этого сопоставления
очевиден. И в князе Андрее исчезает и горе и недоверие
к жизни, его охватывает весеннее чувство радости и
обновления: жизнь в тридцать один год еще не кончена,
решает он.
Князь Андрей осуждает свою эгоистическую, жизнь,
ограниченную пределами семейно-родового гнезда и
отъединенную от жизни других людей; он осознает
необходимость установления связей, духовной общности между
ним и другими людьми: «Мало того, что я знаю все то,
что есть во мне, надо, чтобы и все знали это: и Пьер и
эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы
все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя
жизнь, чтобы не жили они независимо от моей жизни,
чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со
мною вместе». Таким образом от эгоистической замкну-
гости и аристократической отчужденности к общению с
людьми своего круга, сословия, класса, а затем еще
шире — к основам общенациональной жизни народа —
таков путь духовного развития князя Андрея.
Он стремится принять деятельное._участ„ие в_жизни_и
в августе__18>09 года приезжает в _ Петербурга Это было
время наибальшеиГславы молодого Сперанского; во
многих комитетах и комиссиях под его руководством
готовились законодательные преобразования. Князь Андрей
принимает участие в работе Комиссии составления
законов. Сперанский произвел на него огромное впечатление
логическим складом своего ума, он казался князю
Андрею человеком, умеющим ко всему «прилагать
мерило разумности», его отличала «несомненная,
непоколебимая вера в силу и законность ума».
Именно этот строго логический склад ума и послужил
Толстому главным основанием для развенчания
Сперанского. Жизнь неизмеримо богаче щ:ех умозрительных,
147
логических построений и схем. Поэтому несостоятельными
оказываются генералы — авторы всяких «диспозиций»,
жалок и Сперанский, непоколебимо верящий в силу
ума.
Князь Андрей, встретившись на балу с Наташей
Ростовой, исполненной радости и полноты настоящей
жизни, «почувствовал себя ожившим^ и
помолодевшим». И с той минуты он как бы прозревает и не только
"разочаровывается, но и начинает ненавидеть
Сперанского. На следующий день, присутствуя у него на обеде,
князь Андрей увидел все его недостатки: актерскую па-
игранность в поведении, мелочную скаредность, зеркаль-'
ные, не пропускающие в себя глаза, аккуратный,
невеселый смех — все это характеризовало сухую, черствую
натуру рационалиста, каким и был Сперанский.
Сперанский — это чиновная машина, лишенная сердца. Это
раскрывается в формально логическом складе его ума,
в тупых и самоуверенных движениях и особенно в
твердости ничего не значащей улыбки.
Вместе с чувством былого поклонения Сперанскому
у князя Андрея исчезает всякий интерес и к
совершаемым им преобразованиям. Он думает: «Разве все это
может сделать меня счастливее и лучше?» И здесь
сказалось не только стремление обособить частную жизнь
от жизни государственной и политической, которые
якобы представляют собой два параллельных, друг о г
друга независимых ряда — излюбленная и глубоко
неверная мысль Толстого, — но и отразились элементы
исторически правильной критики реформ Сперанского,
носивших формально-бюрократический характер и не
затрагивавших существенных интересов народа. Князь
Андрей вспомнил, как старательно на заседаниях
обсуждались процедурные вопросы, «все касающееся формы
и процесса заседаний комитета, и как старательно и
1ф^п;.ко_лMлош1Шсь,._дсе, что касалось^сщцпости дела^.
Характерно что членом этого комитета был~"~Берг,~~кото-
рый со своей рассудочностью и немецко-педаитической
аккуратностью служил своеобразным воплощением всей
деятельности комитета. Берг и Сперанский —
психологически родственные типы.
Сперанский как государственный деятель и как
чиновный реформатор не отличался особым радикализмом
148
убеждений. Это был типичный представитель дворянского
либерализма и сторонник умеренных реформ в рамках
конституционно-монархического строя. Его отношение
к коренному политическому вопросу эпохи — к вопросу
об отмене крепостного права было более чем
сдержанным, он предостерегал против всякой поспешности в
этом деле. Да собственно и все «реформы» Сперанского
никак не колебали устоев политического строя в России—
ни крепостного права, ни самодержавия, — они в
основном были направлены на усовершенствование царской
бюрократической машины, этому служили, в частности,
нашумевшие указы о придворных званиях и об
экзаменах на чин.
Глубокий отрыв всей реформаторской деятельности
Сперанского от живых запросов народа ощущает и князь
Андрей.
Работая над разделом «Права лиц» он мысленно
попробовал приложить эти права к богучаровским
мужикам, и «ему стало удивительно, как он мог так долго
заниматься такой праздной работой». Значит, там, в
деревне, все серьезно, все заняты важными жизненными
делами, здесь же все несерьезно, одна праздная игра
ума.
Наташа вернула князя Андрея к подлинной и
настоящей жизни с ее радостями и волнениями, он обрел
полноту жизненных ощущений. Куда девалась его тоска,
презрение к жизни, разочарованность! Под влиянием
сильного, еще не испытанного им ранее чувства к
Наташе весь внешний и внутренний облик князя Андрея
преобразился. Там, где была Наташа, все озарялось для
него солнечным светом, там счастье, надежда, любовь.
«Я не могу не любить света,— говорит он Пьеру, — я не
виноват в этом, и я очень счастлив». В отношениях князя
Андрея к Наташе проявляются лучшие стороны его
души.
Но чем сильнее было чувство любви к Наташе, тем
острее он переживал боль от ее утраты. Ее увлечение
Анатолем Курагиным, ее согласие бежать с ним из
дома поразили князя Андрея в самое сердце. Жизнь в
его глазах утратила свои «бесконечные и светлые
горизонты». Он теперь уже боялся вспоминать о небе
Аустерлица и мыслях о своем счастье, воодушевлявших его
149
и в Богучарове, и в Швейцарии, и в Риме. Жизнь как бы
лишилась своего благородного пафоса, так возвышавшего
ее, и предстала перед ним во всей своей неприглядной и
мрачной обыденщине, обернулась своей низменной
стороной, придавив к земле все гордые мечтания князя
Андрея.
Все дальнейшее является как бы художественной
конкретизацией и развитием тезиса о вечном и временном,
о величественном небе и низменной земле. Дома князь
Андрей застает неприглядную картину: отец, мучающий
свою дочь, княжну Марью, входящая в фавор
француженка Бурьен. А когда князь Андрей впервые в своей
жизни осудил отца, он был изгнан из дома. Перед
отъездом княжна Марья напутствует его: «Помни, что
несчастия происходят от бога и что люди 'никогда не бывают
виноваты».
Князь Андрей переживал духовный кризис. Мир в его
представлении утратил свою целесообразность,
жизненные явления потеряли закономерную связь: «Все
рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи,
одно за другим представлялись князю Андрею».
Он весь обратился к практической деятельности,
стараясь pqfjbxoiLjifl^^ мучения.
Находясь на турецком фронте, куда он попал в поисках
ненавистного Курагина, в должности дежурного генерала
при Кутузове, князь Андрей удивлял его «своей охотой
к работе и аккуратностью». Так перед князем Андреем
на пути его сложных морально-этических исканий
раскрываются светлые и темные стороны жизни, так он
претерпевает в этой жизни взлеты и падения,
приближаясь к постижению ее истинного смысла в подвигах
Отечественной войны.
Рядом с образами князя Андрея и Пьера Безухова в
романе стоят образы Ростовых: добродушного и
хлебосольного отца, воплощающего тип старого барина,
трогательно любящей детей, немножко сентиментальной
матери, рассудительной Веры, пленительной Наташи,
восторженного и ограниченного Николая,
умно-шаловливого Пети и тихой, бесцветной Сопи, целиком ушедшей
в самопожертвование. У каждого из них свои интересы,
свой особый душевный мирок, но в целом они состав-
150
ф «мир Ростовых», глубоко отличный от мира
Болконских и от мира Безуховых.
Толстой придает всему укладу жизни в доме Ростовых
характер патриархальных добрых нравов старины.
Молодежь дома Ростовых вносила в эту жизнь особое
оживление, смех, веселье, пение и танцы, очарование
молодости и влюбленности — все это придавало атмосфере,
царившей в доме, особую поэтическую прелесть.
Для Ростовых, подчеркивает Толстой, характерны
простота, близость к народу и к природе. И именно
поэтому с Ростовыми связал Толстой великолепные
жанровые картины романа. Здесь прежде всего следует
назвать не имеющее себе равных в русской и мировой
литературе описание охоты — эти главы «Войны и мира»
любил перечитывать В. И. Ленин. Волнующе описаны
святочное катание Ростовых или сцена русской пляски
Наташи у дядюшки.
Из всех образов Ростовых наиболее ярким является'
образ Наташи — по мысли Толстого, воплощение жизни
и счастья. В конспектах она охарактеризована как
«милый поэтический бесенок». «Порох», — говорит о ней
отец. Ахросимова ее ласково называет: «казак мой».
Денисов восторженно именует: «волшебница». На вопрос
Марьи Болконской, умна ли Наташа, Пьер отвечает:
«Она не удостаивает быть умною... Она обворожительна^
и большеjjli4P.m»^B романе раскрывается пленительный
образ Наташи, необычайная живость ее характера,
порывистость ее натуры, смелость в проявлении чувств и
присущее ей подлинно поэтическое очарование. При этом во
всех фазах духовного развития Наташа проявляет яркую
эмоциональность.
Толстой неизменно отмечает близость своей героини
к простому народу, глубокое национальное чувство,
присущее ей. Наташа «умела понять все то, что было и в
Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери и во
всяком русском человеке». Наташа решает оставить арфу
и учиться играть на гитаре. Ее пленяет манера пения
дядюшки, который пел так, как поет народ, оттого его
бессознательный напев и был так хорош. Характерно,
что Наташа подумала о Болконском и решила, что он
одобрил бы их такую простонародную радость и веселье.
151
Не случайно именно музыкально одаренная Наташа
со своим тонким чутьем ко всему изящному, со своей
любовью к простоте и правде жизни и глубоким
отвращением ко всему ложному воспринимает оперу как нечто
в высшей степени ненатуральное. В театре Наташа
смотрела на сцену глазами непредубежденного человека и
видела там доски, и крашеные картины, и каких-то
девиц в красных корсажах, и дыру в полотне,
изображавшую луну. На сцене не было ничего естественного, все
«изображалось», было или «похоже» на что-то, или «вроде»
чего-то. Нет, она не могла серьезно воспринимать такое
искусство, она не верила тому напряженному вниманию
к сцене и игре актеров, которое наблюдала у зрителей
вокруг. Толстой объясняет и причину того, почему
Наташа не могла понять и принять оперу: «После деревни
и в том серьезном настроении, в котором находилась
Наташа, все это было дико и удивительно ей». «После
деревни» — это значит после общения с простыми
людьми и природой, где все натурально и естественно,
это после «дядюшки» с его игрой на гитаре и
простонародным пением, глубоко взволновавшим Наташу. После
такой школы она естественно, без рассуждений, отвергла
все условности оперы.
Однако в этих описаниях есть и другая сторона,
более существенная и значительная. Не только на сцене
все ненатурально и фальшиво, но и в зрительном зале
сидят фальшивые люди. Наташу окружили своим
вниманием Элен Безухова и Анатоль Курагин, восторженно и
беззастенчиво расхваливая ее красоту и молодость.
Наташа не знала, что в их словах все было лживым, все
говорилось и делалось с преднамеренной целью
обольстить ее, и поэтому с наивной доверчивостью юности
слушала их комплименты, которые, как яд, отравляли ее
душу, разрушая в ней большое и серьезное чувство
любви к князю Андрею. Лицедеи Безухова и Курагин
выступали, таким образом, как бы на театральной сцене,
где, по Толстому, — все призрак, все не настоящее, все
похоже на игру, все далеко от правды жизни. Лгали на
сцене, но лгал и обманывал Курагин Наташу и сидя в
театре, и за' его стенами, разыгрывая, так же фальшиво,
как на сцене, из себя влюбленного .и обещая на ней
жениться, тогда как был уже женат.
152
Толстой ярко воссоздает похождения московских
кутил во главе с Долоховым; в их круг был принят и
Анатоль Курагин. Здесь возник план увоза Наташи, а
страстное письмо к ней от имени Анатоля написал До-
лохов. Азартные картежники, дуэлянты, отчаянные
повесы, они совершали нередко уголовные преступления.
Троечный ямщик Балага знал за каждым из них «не
одну штуку», которая «обыкновенному человеку давно
бы заслужила Сибирь», тем не менее он о них думал:
«Настоящие господа!» Но Толстой нисколько не
любуется этим буйным разгулом «молодецкой» силы:
напротив, он снимает q этих «героев» ореол молодечества,
показывает преступный характер наглого Долохова и
крайнюю развращенность тупоумного Анатоля Курагина.
И «настоящие господа» предстают во всем своем
неприглядном обличье, а само понятие «настоящие господа»
звучит иронически, в плане глубокого осуждения
аморальности и развращенности этих людей.
Два мира — мир Ростовых, где все добропорядочно,
где свято хранятся традиции благородства и чести, где
царят патриархальные нравы, и мир светских кутил,
безнравственных, попирающих все заветы отцов, рельефнее
оттеняют друг друга. При этом великосветская богема
покушается на целомудренные устои мира Ростовых.
Отсюда— попытка увезти Наташу, отсюда же —
обыгрывание Ростова Долоховым.
Образ Николая Ростова вырисовывается постепенно,
на всем протяжении романа. Вначале мы видим
порывистого, эмоционально отзывчивого, смелого и пылкого
юношу, бросающего университет и уходящего на
военную службу. Старый граф Ростов говорил: «Все
Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из
поручиков попал в императоры». В этих словах хорошо
схвачена черта эпохи: увлечение Наполеоном, даже культ
Наполеона. Вспомним, что и князь Андрей и Пьер,
разумеется, каждый по-своему, но также до определенного
времени восторженно относились к Наполеону.
В армии, на службе в гусарском полку, Ростов был
весь охвачен радостным чувством молодости. В боях при
Шенграбене он стремится изведать наслаждение атаки,
но при виде французов испытывает непреодолимый страх,
бежит с поля сражения. Раненный, — он переживает чув-
153
ство одиночества, ненужности, покинутости. На Аустер-
лицком поле обнаруживается страстное обожание
Ростовым Александра I, который представляется ему
воплощением могущества, солнцем, распространяющим «вокруг
себя лучи кроткого и величественного света». Здесь
проявились верноподданнические чувства Ростова — самая
устойчивая черта его характера. И спустя пятнадцать лет,
когда ореол вокруг Александра I значительно потускнел,
Ростов все равно изъявлял полную готовность по приказу
Аракчеева идти со своим эскадроном рубить
мятежников.
Николай Ростов в отпуску. Радость встречи с
родными, встречи с друзьями, кутежи. В этот момент и
происходит сближение с Долоховым и проигрыш ему сорока
трех тысяч рублей. Главы с описанием игры принадлежат
к сильнейшим в романе, их нельзя читать без глубокого
волнения: Николай (переживает и сомнения в истинности
дружбы Долохова, и ощущение надвигающегося
несчастья, и страшное чувство потери личной свободы и все
растущей зависимости от этого рокового человека с
ширококостыми волосатыми руками, которые он так
ненавидел в момент окончания игры. Здесь, как и во
многих других случаях, Толстой раскрывает целый
психический комплекс чувств, находящихся в неразрывной
связи.
В состоянии крайней душевной подавленности
Николай возвращается домой и попадает в атмосферу,
полную радости и беззаботного веселья: музыка и пение
наполняли дом. Это резко контрастировало с настроением
Николая, и он, вначале мрачно и раздраженно
встретивший это веселье, затем под влиянием пения Наташи
душевно перестраивается, начинает думать, что
случившееся с ним — «и несчастье, и деньги, и Долохов, и
злоба, и честь — все это вздор» — все это не главное, не
самое значительное в жизни, а что настоящее было в
пении Наташи, в музыке, в том искусстве, которое глубоко
волновало человека, облагораживало его, в мире
которого можно было жить и быть счастливым независимо
от жизни, от тревог и волнений ее. И Ростов верил в это,
но только Наташа окончила свою баркароллу, как
действительность опять вспомнилась ему.
154
Так в тревогах и волнениях, в высоких
патриотических и также верноподданнических порывах и
нравственных терзаниях формируется характер Николая Ростова.
Ростов — по сравнению с князем Андреем и Пьером —
средний человек, он не склонен к глубоким раздумьям.
Он хорошо чувствовал себя в полку, где не надо ничего
выдухМывать и выбирать, а нужно только подчиняться
давно сложившемуся быту, где для пего все было ясно,
просто и определенно. И это вполне устраивало
Николая.
Но однажды писатель попытался предъявить своему
герою более высокие требования — Ростов посещает
Денисова в госпитале, вид болезней и страданий раненых
повергает его в подлинное смятение. Вслед эа страшными
картинами госпиталя Толстой в плане резкого контраста
рисует торжественную обстановку в Тильзите, где
происходило подписание мирного договора, награждение
наиболее отличившихся солдат, пир преображенцев.
Ростов никак не мог согласовать ужасы госпиталя с его
грязью и болезнями и самодовольного Бонапарте,
которого теперь любит и уважает Александр. «В его уме
происходила мучительная работа, которую он никак не
мог довести до конца. В душе поднимались страшные
сомнения.., Для чего же оторванные руки, ноги, убитые
люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и
Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя
на таких странных мыслях, что пугался их».
Таким образом, весь гармонический строй внутренней
жизни Ростова, все его верования, все его понятия
о справедливости, добре и зле находились под
сильнейшим испытанием; казалось, вот-вот — и все это здание
рухнет, завалится. Но нет, все остается на своем месте.
Во взглядах Ростова не происходит никаких перемен, он
не переживает никаких духовных драм, никаких
душевных переворотов. Он просто-напросто напивается, топит
все свои сомнения, все «странные мысли», пришедшие
ему в голову, в вине. И, пьяный, кричит
соседям-офицерам: «Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты,
и больше ничего... Наше дело исполнять свой долг,
рубиться и не думать». Этот выкрик является ответом на
собственное вольномыслие и одновременно выражает
самую сущность характера Ростова, его интеллектуальную
155
бедность и ограниченность. Ростов обладал лишь
здравым ,смыслом посредственности, поэтому для него
непосильны важнейшие политические вопросы, вопросы
войны и мира, и он добровольно отстраняется от их
решения. Над ними много и напряженно размышляют
интеллектуально более богатые герои — князь Андрей и
Пьер Безухов.
Одна из глав «Войны и мира» открывается
философскими рассуждениями Толстого, смысл которых выражен
в тезисе: «Только одна бессознательная деятельность
приносит плоды, и человек, играющий роль в
историческом событии, никогда не понимает его значения». Вслед
за этим идет характеристика Ростова, который и
выступает как живое олицетворение «бессознательной
деятельности», как выразитель стихийных начал жизни, не
утруждающий себя решением сложных политических
вопросов современности. «Ежели бы у него спросили, что он
думает о теперешнем положении России, он бы сказал,
что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие».
Таким образом, теоретические посылки потребовались
писателю для того, чтобы оправдать характер Ростова; с
другой стороны, и Ростов необходим был именно здесь,
чтобы подкрепить теоретические положения.
В дальнейшем Толстой дорисовывает образ
Николая — это ограниченный, не думающий, не
рассуждающий человек, живущий в полном согласии с традициями.
Духовное развитие его остановилось в двадцать лет.
Книга в жизни Николая, как собственно и в жизни
других членов семьи Ростовых, не играет существенной роли.
Героя не волнуют общественные вопросы, ему чужды
серьезные духовные интересы. Охота — обычное
развлечение помещиков — вполне удовлетворяла
непритязательные потребности порывистой, но духовно бедной натуры
Николая Ростова. Ему чуждо оригинальное творческое
начало. Такие люди не вносят в жизнь ничего нового, не
способны идти против ее течения, они признают только
общепринятое, легко капитулируют перед
обстоятельствами, смиряются перед стихийным ходом жизни.
Николай думал устроить жизнь «по своему разуму», жениться
на Соне, но после короткой, хотя искренней,
'Внутренней борьбы смиренно подчинился «обстоятельствам» и
женился на Марье Болконской.
156
Писатель последовательно раскрывает две начала в
характере Ростова: это начало совести — отсюда
внутренняя честность, порядочность, рыцарство Николая, и
начало интеллектуальной ограниченности, бедности ума —
отсюда незнание обстоятельств политического и военного
положения страны, неумение думать, отказ от
рассуждений. Николай и в других мужчинах, таких, как князь
Андрей, не мог терпеть проявлений «высшей духовной
жизни», презрительно называя это «философией,
мечтательностью». Но княжна Марья инстинктивно влекла его
к себе именно своей высокой духовной организацией,
природа щедро наделила ее теми «духовными дарами»,
которых был совершенно лишен Николай.
На образах Ростовых несомненно лежит печать
идеализации Толстым «добрых» нравов патриархальной
помещичьей старины. Крепостное право, составлявшее
основу благополучия дворянской жизни, не получило
в «Войне и мире» всестороннего освещения.
В этой связи представляется многозначительным
эпизод в «большой гостиной» дома Ростовых. После отъезда
господ там оказались дворник Игнат, любовавшийся
собой в большом зеркале, и казачок Мишка, игравший на
клавикордах. Какая выразительная сцена! Уехали
господа, и хотя они добрые, но — господа, и на свободе
у 'крепостных слуг сразу же выбились наружу
сдерживаемые и подавляемые желания. Мишка сел за
клавикорды; возможно, что 'из него мог выйти одаренный
музыкант, но «добрые» Роставы его не обучали музыке;
Игнат просто зашел в гостиную, где он никогда не бывал,
и, удивленный, остановился впервые в жшни перед
большим зеркалом, рассматривая себя во весь рост. Скромные
желания, но сколько в них характерного, типического для
психологии крепостного, забитого и замордованного до
крайности. Но и это продолжалось для них недолго.
Верная раба господ Мавра Кузьминишна, стоявшая по
крепостной холопской иерархии куда выше Игната, лишила
их невинного удовольствия. Закрыв клавикорды, она
вздохнула. О чем она могла вздыхать? О том ли, что и
она когда-то в юности, как Мишка, интересовалась
клавикордами, .или о том, что уехали господа и вся жизнь
пошла кувырком, но скорее всего — о своей одинокой жизни
без семьи, без детей, и тогда становится понятным и «не-
157
ожиданный прилив материнской нежности», возникший у
нее при встрече -с неизвестным ей племянником Ростова.
Так и у «добрых» господ калечилась жизнь крепостных.
Война внесла решительные перемены в жизнь героев
эпопеи, как и в жизнь всего русского народа. Все
привычные условия жизни сместились, все теперь
оценивалось в свете той опасности, которая нависла над
Россией. Николай Ростов возвращается в армию.
Добровольцем па войну уходит Петя. Толстой в «Войне и
мире» исторически верно воспроизвел атмосферу
патриотического подъема в стране, определившего все
поведение Пети Ростова. И. И. Пущин в своих воспоминаниях
писал: «Жизнь наша лицейская сливается с политической
эпохой народной жизни русской: приготовлялась гроза
1812 года. Эти события сильно отразились на нашем
детстве». Пушкин запечатлел в стихах те чувства, какие
охватывали лицеистов при виде войск, идущих на фронт:
Вы помните: текла за ратыо рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...
Точно таким же нетерпеливым желанием ринуться в
сражение с врагом был охвачен пятнадцатилетний Петя
Ростов. Он готовился в университет, но решил со своим
товарищем идти в гусары; отцу он сказал характерную
фразу, перекликающуюся с пушкинскими стихами: «...все
равно я ничему не могу учиться теперь, когда.,
отечество в опасности». Ему отказали: «горько плакал».
В конце концов родителям пришлось согласиться с его
настойчивыми требованиями и отпустить Петю в армию.
В связи с войной Пьер переживает огромное
возбуждение, он жертвует около миллиона на организацию
ополченцев — «жертвование составляло для него новое
радостное чувство». Но это наиболее характерная черта
подлинных патриотов — вся война была сплошным
самопожертвованием народа.
158
Князь Андрей из турецкой армии переходит в
западную и решает служить не в штабе, а непосредственно
командовать полком, быть поближе к простым солдатам.
В первых серьезных боях за Смоленск, видя несчастья
своей страны, он окончательно избавляется от былого
преклонения перед Наполеоном, он наблюдает все
разгорающееся патриотическое воодушевление в войсках,
в жителях города.
Толстой рисует яркий патриотический подвиг
смоленского купца Ферапонтова. Ферапонтов в известной мере
написан плакатно, здесь почти отсутствует какая-либо
индивидуализация образа, а одни только черты уже
сложившегося в народном представлении, традиционного
образа купца. Писатель даже несколько сгущает эти
черты: «Ферапонтов был толстый, черный, красный
сорокалетний мужик, с толстыми губами, с толстой шишкой-
носом, такими же шишками над черными, нахмуренными
бровями и толстым брюхом». Далее сказано, что он носил
жилет и ситцевую рубаху. Вот собственно и все. Перед
нами традиционный образ «толстобрюхого» купца, каким
его рисует народ в своих сказках. Но бедность внешнего
облика Ферапонтова восполняется его выразительной
языковой характеристикой. Ферапонтов вышел в купцы
из мужиков и сохранил весь склад мужицкой речи. В его
репликах обнаруживается и тревога за свои товары («по
нашему делу разве увеземся»), и осуждение подводчиков,
дерущих втридорога («креста на них нет»), и надежда
на то, что врага не пустят в город («должно, наша взяла»,
«сказано, не пустят. Значит, сила»). Когда он узнал, что
город сдают, в его сознании зародилась тревожная мысль
о «погибели» России. Он уже не стремится спасать
имущество: что его лавка с товарами, когда «решилась
Россея». И Ферапонтов кричит солдатам, набившимся
в его лавку, чтобы они всё тащили, — «не доставайся
дьяволам». Он решает все сжечь. «Решилась!
Россея!— крикнул он. — Алпатыч! решилась! Сам запалю.
Решилась...»
Но были разные купцы. Во время прохождения
русских войск через Москву один купец гостиного двора
«с красными прыщами по щекам» и «с
спокойно-непоколебимым выражением расчета на сытом лице», —
писатель даже в скупых портретных деталях выразил
159
резко отрицательное отношение к такому типу
своекорыстных людей — просил офицера защитить его
товары от грабежа солдат. Другой тут же сказал:
«Снявши голову, по волосам не плачут. Бери, что кому
любо».
Подвиг Ферапонтова не был единственным. Через
несколько недель подмосковные мужики Карп и Влас
откажутся продавать французам сено и будут сжигать его по
тем же причинам. Толстой нарисовал картины,
характеризующие размах подлинно народной освободительной
войны, силу патриотических чувств народа. По мысли
Толстого, наполеоновскую армию не спасла бы и
Калужская губерния, населенная «теми же русскими, как и в
Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что
зажигают». В войне 1812 года «решался вопрос о жизни
и смерти отечества, и война -эта была величайшая из всех
известных войн...» Этим определилось многое, в частности
и то, что она с первых же педель приобрела характер
народной войны. Воевала не одна армия, а целый народ.
Толстой гениально запечатлел на страницах романа все
многообразие форм борьбы с Наполеоном, выдвинутых
русским народом, бесстрашие, величайшее
самопожертвование, проявленные им в этой борьбе. Подлинным
героем «Войны и мира» является народ.
Участник Севастопольской обороны, Толстой в
процессе создания «Войны и мира» постепенно пришел к
глубоко им осознанному убеждению, что судьбы страны
определяет народ. Исторический материал Отечественной
войны 1812 года еще больше укрепил писателя в
правильности такого вывода, имевшего, особенно в условиях
60-х годов, прогрессивное значение. Глубокое постижение
писателем основ национальной жизни народа позволило
ему исторически правильно определить его огромную роль
в судьбах Отечественной войны 1812 года. Эта война была
по своему характеру народной войной с широко
развернувшимся партизанским движением. И именно потому,
что Толстому удалось чутьем большого художника
угадать самую сущность, характер войны 1812 года, он смог
отвергнуть и разоблачить ее ложное истолкование в
официальной историографии, и его «Война и мир» стала
эпопеей славы русского народа, величественной летописью
его героизма и патриотизма.
160
Толстой сам сознавал все значение своего подлинно
исторического открытия. Он говорил: «Чтоб произведение
было хорошо, надо любить в нем главную, основную
мысль. Так в «Анне Карениной» я люблю мысль
семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную, вследствие
войны 12 года» *.
Это основное идейное задание эпопеи, самой
сущностью которой является изображение исторических судеб
народа, художественно реализуется в картинах общего
патриотического подъема народа, в думах и
переживаниях главных героев романа, в борьбе многочисленных
партизанских отрядов, в решающих сражениях армии,
также охваченной огромным патриотическим
воодушевлением. Идея народной войны проникла в самую гущу
солдатских масс, и это решающим образом определило
моральное состояние войск, а следовательно, и исход
сражений Отечественной войны 1812 года. Писатель
показывает разительные перемены, происшедшие в
моральном состоянии армии со времени 1805 года, и эти
перемены вызваны принципиально иным содержанием, иным
направлением войны: там, в заграничном походе, драться
было не за что — чужая земля, чужие люди, а здесь своя,
родная земля, свои леса и поля, свои семьи, свои села и
города, своя Россия.
Правда, и там, за границей, русские солдаты и
близкие к ним офицеры сохраняли все особенности своих
навыков, своего психического склада. Толстой создает в
«Войне и мире» разнообразные офицерские типы —
солдаты у него меньше дифференцированы, они выступают
как масса с определенными чертами своего суммарного
морального облика. В их характере имеются черты
необыкновенной жизнерадостности, подкупающего
добродушия, искренней веселости. Вот они после смотра в
Браунау весело и оживленно говорят: одобрительно о
Кутузове («глазастее тебя»), иронически и насмешливо о
сопровождавшем его австрийском генерале («австрияк...
словно мелом вымазан»).
Толстой сумел с величайшей выпуклостью,
наблюдательностью изобразить некоторые специфические
особенности тогдашнего армейского быта. Толстой был вели-
1 «Дневники С. А. Толстой», I, запись под 3/1II 1877 года.
С. Бычков 161
ким знатоком этого быта, его писаных и неписаных
законов и в изображении его поистине не имел себе
предшественников и равных...
Под Браунау Кутузов захотел устроить смотр
пехотному полку на марше. Задал главнокомандующий задачу
командиру полка и его штабу: как выводить на смотр
солдат — в парадной форме или нет? «Лучше
перекланяться, чем недокланяться», — решили в штабе.
Измученные тридцативерстным маршем солдаты вынуждены были
всю ночь чистить амуницию. И вдруг прискакавший
адъютант разъясняет вчерашний приказ, что
главнокомандующий изволит смотреть полк как есть на марше,
в шинелях, в чехлах, без всяких приготовлений.
Оторопевший полковой командир тут же срывает свою досаду
на одном из батальонных, одобривших затею насчет
парадной формы. Когда махальный оповестил, что едет
главнокомандующий, полковой командир вскочил на
лошадь, вынул шпагу и с взволнованным лицом
приготовился крикнуть. «Полк встрепенулся, как оправляющаяся
птица, и замер», — пишет Толстой. «Смир-рр-на! —
закричал полковой командир потрясающим душу голосом,
радостным для себя, строгим в отношении к полку и
приветливым в отношении к подъезжающему начальнику».
Так Толстой одним гротескным приемом с головы до ног
охарактеризовал военного служаку. Показана Толстым и
«народность» Кутузова, понимание им солдатских
трудностей и нужд, ненависть к изнурительной для солдата
парадности.
А вот как показана рота на марше. Это не просто
серая движущаяся масса: она — цельный, сложный и
живой организм. В массовых сценах армейской жизни
Толстой старательно выписывает, подбирая меткие сравнения
и словечки, положения, в которых раскрывались бы
характерные, национальные черты русского солдата.
Толстой показывает, как сопровождает солдата во
всех трудных походах родная русская песня. Вот идут
роты русских воинов в далекой неметчине.
«— Песенники вперед! — послышался крик капитана.
«И 'перед роту с разных рядов выбежало человек
двадцать. Барабанщик-запевало обернулся лицом к
песенникам и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую
песню, начинавшуюся: «Не заря ли, солнышко заиима-
162
лося...» и кончавшуюся словами: «То-то, братцы, будет
слава нам с Каменскиим отцом...»- Песня эта была сложена
в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем
изменением, что на место «Камепскиим отцом» вставляли
слова: «Кутузовым отцом».
«Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув
руками, как будто он бросал что-то на землю,
барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул
солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что
все глаза устремлены на него, он как будто осторожно
приподнял обеими руками какую-то невидимую
драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько
секунд и вдруг отчаянно бросил ее:
Ах вы, сени мои, сени!
«Сени новые мои...», — подхватили двадцать голосов,
и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво
выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая
плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт
песни размахивая руками, шли просторным шагом,
невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки
колес, похрускиванье рессор и топот лошадей. Кутузов сосви-
той возвращался в город. Главнокомандующий дал знак,
чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и
на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при
звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и
бойко идущих солдат роты. Во втором ряду с правого
фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно
бросался в глаза голубоглазый солдат, Долохов, который
особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на
лица проезжающих с таким выражением, как будто он
жалел всех, кто не шел в это время с ротой».
Вновь мы видим солдат при переправе через Энс.
И в этом описании разнообразием реплик, фраз,
разговоров писатель создает пеструю картину огромного
движущегося людского потока, не безликих солдат, а людей
с их индивидуальными особенностями, человеческими
интересами, наклонностями, думами и чувствами. Они
насмешники, не останавливающиеся и перед грубым
солдатским словцом, веселые песенники и лихие танцоры.
В них с особой силой сказываются национальные черты
русских, подмеченные Пушкиным: «какое-то веселое лу-
163
кавство ума, насмешливость и живописный способ
выражаться»
В войне 1805 года Россия не имела кровных
интересов. Поэтому о войне говорится иронически. Цели ее не
ясны. Определяющим является мотив, высказанный
старым холостяком Шиншиным: «Зачем нас нелегкая несет
воевать с Бонапартом?» Разъяснения «сангвинического
немца», полковника, в сущности ничего не разъясняют.
Немец только сбивает с толку. От общих разговоров
о войне, в которых солдаты обнаруживают весьма
слабое понимание ее целей, они тут же переходят па свои
излюбленные бытовые темы: говорят об отдыхе,
ожидающем их после трудного перехода, о пище. Но чутьем
солдаты чувствуют ход вещей. Они пытаются по-своему
определить смысл надвигающейся Отечественной войны.
Один из них говорит: «Теперь пруссак бунтует. Австрияк
его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Буно-
партом война откроется».
В новой обстановке раскрываются новые черты в
характере солдат, все духовное величие русского народа.
Канун Шенграбенского сражения. На виду у неприятеля
солдаты вели себя так спокойно, «как будто где-нибудь
на родине». В день сражения на батарее Тушина царило
всеобщее оживление, артиллеристы вели бой с крайней
самоотверженностью и самопожертвованием. Храбро и
отважно дерутся и русские кавалеристы и русские
пехотинцы. Невиданно возрастают героизм и отвага русского
солдата в ходе Отечественной войны 1812 года.
Канун Бородинского сражения. Среди солдат и
ополченцев царит атмосфера всеобщего одушевления. «Всем
народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один
конец сделать хотят», — говорит солдат, глубоко и верно
выражая в своих бесхитростных словах патриотический
подъем, охвативший массы русского войска,
готовившегося к решающему сражению. Сообщение о том, что
ополченцы надели чистые рубахи, чтобы приготовиться к
смерти, Кутузов встречает словами: «Чудесный,
бесподобный народ». Тимохин заявляет, что солдаты его
•батальона отказались пить водку: «не такой день, говорят».
1 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VII, М.—Л.,
1937, изд. АИ СССР, стр. 32.
164
Глубоко патриотично были настроены и лучшие
представители русского офицерства. Писатель рельефно
показывает это, раскрывая чувства и переживания князя
Андрея, в духовном облике которого во время
Отечественной войны произошли глубокие изменения: черты гордого
аристократа, спесь и тщеславие отошли на задний план,
0-и полюбил простых людей — Тимохина и других, был
«добр и кроток» с людьми полка, и его называли «наш
кня;зь». Страдания родины преобразили князя Андрея: в
своих размышлениях накануне Бородина, охваченный
предчувствием неотвратимой смерти, он подводит итоги
своей жизни. В этой связи с наибольшей силой
раскрываются его глубокие патриотические чувства, его
ненависть к врагу, грабящему и разоряющему Россию. И как
бы собирая в единый фокус все свои переживания и
чувства, вызванные и личными потерями и несчастьями
России, князь Андрей говорит Пьеру: «Французы
разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и
оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они
преступники все по моим понятиям. И так же думает
Тимохин и вся армия. Надо их казнить». Высказывая
свои взгляды на войну и предстоящее сражение, ой
выражает твердую уверенность в победе русского войска, ибо
«сражение выигрывает тот, кто твердо решил его
выиграть».
Пьер вполне разделяет чувства гнева и ненависти
князя Андрея к французам; после разговора с ним все
виденное за этот день, все величественные картины
приготовления к сражению как бы озарились новым светом,
ему стало все ясно и понятно: действия многих тысяч
людей были проникнуты глубоким и чистым
патриотическим чувством. «Он понял теперь весь смысл и все
значение этой войны и предстоящего сражения», и слова
солдата о всенародном отпоре и Москве приобрели для
него глубокий и многозначительный смысл. Характерно,
что слова о Москве впервые были произнесены рано
утром в день Аустерлицкого сражения. Там один солдат
говорил: «Страсть, братец ты мой, что войски нашей
собралось! Вечор посмотрел, как огни разложили, конца-
краю не видать. Москва — одно слово!» Накануне
Бородина эти слова о Москве в другом, более экспрессивном
сочетании вновь возникают для определения и масштаба
165
и силы удара: «Москва — одно слово». Вряд ли
приходится думать о простом совпадении. Это сделано вполне
сознательно, и не для того, чтобы подчеркнуть сходство
этих двух сражений, а напротив, чтобы отметить их
глубокое различие. В Аустерлицком сражении русские
потерпели поражение не потому, что мало было войска,
а потому, что среди солдат отсутствовал патриотический
подъем, — отсюда «Москва — одно слово» означало
количество войск, а не их качество, сравнивалась величина
лагеря с самым крупным городом России. Иное дело
Бородино: здесь родная земля, решались судьбы
отечества, в войсках царил огромный подъем, потому что все
знали, за что они дерутся, и в этой ситуации «Москва —
одно слово» означало именно масштаб и силу отпора
русских войск и русского народа.
На Бородинском поле стекаются в единое русло все
потоки патриотических чувств русских людей, здесь они
формируются в единый и всеобщий подъем. Носителями
патриотических чувств народа выступают и сами
солдаты и люди, близко стоящие к ним: Тимохин, князь
Андрей, Кутузов. На Бородинское поле приходят и
главные герои романа и второстепенные персонажи. Здесь
до конца раскрываются их душевные качества. Здесь
гибнут сотни честолюбий пустых людишек и рождаются
фаланги новых героев, простых и незаметных
дотоле.
Примечательно, что Толстой с особой любовью и
особым знанием дела описывает артиллеристов и их
действия, уделяет им самое большое внимание. Это,
разумеется, не случайно. Здесь сказались не только симпатии
и опыт бывшего артиллериста, командира 4-й батареи
на Малаховом кургане, но и та выдающаяся роль,
которую сыграла русская артиллерия в Бородинской битве.
Узловым пунктом всей битвы была курганная батарея
Раевского.
Сколько отваги, мужества и беззаветного героизма
проявляют артиллеристы батареи Раевского, описание
действий которой может быть сопоставлено с описанием
действия тушинской батареи, — и там и здесь имелись
некие общие черты — это дух единого коллектива,
слаженно и весело работающего, причем если Тушин
«интимно», нежно обращался со своими орудиями, то здесь,
166
на батарее Раевского, «чувствовалось одинаковое и общее
всем, как бы семейное оживление». Ласковость в
отношении к людям, тяжелый солдатский труд, исполняемый
охотно и весело, чувство товарищества, постоянные шутки
и смех — все это характеризовало особый солдатский мир,
в этот день так пленивший Пьера. Толстой дает
высокую моральную оценку русскому солдату. Таков у него
«краснорожий» солдат. Он боится смерти, но по поводу
каждого снаряда, несущего с собой смерть, отпускает
шутки: «Аи, нашему барину чуть шляпку не сбила», —
смеясь, говорит он об одном ядре. «Эх, нескладная», —
замечает он о другом ядре, попавшем в колесо и ногу
человека. «Что, знакомая?» — смеялся другой солдат на
присевшего мужика под пролетевшим ядром».
Это был солдатский юмор в горячке боя. Он
показывает неиссякаемую бодрость духа, отсутствие уныния или
даже тени отчаяния.— а ведь все они в этот день
погибли.
В обрисовке русских солдат Толстой неизменно
отмечает их выносливость, бодрость духа, патриотизм.
Все это наблюдает Пьер, введенный в эти главы для
того, чтобы с разных сторон показать величественную
картину знаменитого сражения, которое со всей силой
впервые увиденного мог ощутить только человек штатский,
никогда не участвовавший в сражениях. И Пьер вначале
весь охвачен необычайною «красотою зрелища»,
открывшегося ему. На курганной батарее Раевского он
прохаживался «под выстрелами так же спокойно, как по
бульвару», поглощенный наблюдениями за действиями
артиллеристов. Но вот убили «молоденького офицерика»,
в глазах Пьера стало «пасмурно», он как бы очнулся от
своего забытья, колдовство было разрушено. Пьер
увидел войну не в ее «красивом» выражении о осанистыми
генералами и развевающимися Знаменами, а в ее
страшном реальном облике, в труде, в крови, страданиях,
смерти.
Оценивая огромное значение Бородинского сражения
в ходе Отечественной войны 1812 года, Толстой
указывает, что на Бородинском поле был развеян миф о
«непобедимости Наполеона», что русские стояли «так же грозно
в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила
французской, атакующей армии бьща истощена», Русские
обнаружили свое моральное превосходство над врагом.
Французскому войску при Бородине была нанесена
«смертельная рана», приведшая в конечном счете к его
неизбежной гибели. На «наполеоновскую Францию»
«в первый раз под Бородиным была наложена рука
сильнейшего духом противника». Победа русских под
Бородиным имела важные последствия: она создала
условия для подготовки и проведения «флангового
марша» — контрнаступления Кутузова, следствием
которого явился полный разгром наполеоновской армии.
Но по пути к окончательной победе русским пришлось
пройти через ряд тяжелых испытаний: военная
необходимость вынудила оставить Москву, которую враг с
мстительной жестокостью предал огню. Тема «сожженной
Москвы» занимает важнейшее место в образной системе
«Войны и мира»,, и это понятно, потому что Москва —
«мать» городов русских, и пожар Москвы отозвался
глубокой болью в сердце каждого русского.
Толстой находит точные и яркие изобразительные
средства для создания образа Москвы накануне занятия
ее французскими войсками: Москва была встревожена,
она напоминала улей, из которого улетела матка
(описание умирающего улья, осуществленное в широкой
гоголевской манере, полно смысловых параллелей с опустевшим
городом), — все сдвинулось со своих мест, все смешалось,
происходил распад привычных условий жизни. Детский
стульчик на верху повозки, застрявшей при переправе
через Москворецкий мост, выразительно символизирует
общую картину этого распада. Детский стульчик — это мир,
это нормальные условия жизни, семья, веселые играющие
дети, но пришла война, и стульчик, перевернутый кверху
ножками, оказался на улице среди толпы и войск.
Толстой с глубокой иронией описывает размышления
Наполеона на Поклонной горе в ожидании депутации
бояр: «Я должен быть великодушен и истинно велик... На
древних памятниках варварства и деспотизма я напишу
великие слова справедливости и милосердия... я покажу
им значение истинной цивилизации...» — и уже с первых
дней пребывания в городе оставшиеся москвичи убедились
в «великодушии», «справедливости» и «милосердии»
Наполеона, познали плоды «истинной цивилизации»,
принесенной на штыках армии грабителей и насильников.
168
Массовые грабежи, поджоги, убийства мирных жителей,
разрушение исторических памятников, осквернение
русских святынь — вот чем ознаменовала свое пребывание в
Москве армия Наполеона, которая через пять недель по
выходе из древней столицы России оставила от города
почти одни только печные трубы. Это было самое гнусное
преступление армии Наполеона из совершенных на
русской земле.
И хотя в определении причин пожара Москвы
писатель остается верен, теории фатализма: деревянный
город, покинутый жителями, по его мнению, должен был
сгореть, тем не менее, выражая сомнения в организации
поджогов с обеих сторон, он решительно утверждает, что
Москва «загорелась от трубок, от кухонь, от костров»
неприятельских солдат, значит, была сожжена
французами.
В связи с трагедией Москвы Толстой разоблачает
московского генерал-губернатора псевдопатриота Растоп-
чииа, разоблачает его жалкую роль в организации отпора
врагу и в спасении материальных ценностей города,
путаницу и противоречия во всех его административных
распоряжениях.
С начала войны Растопчин выпускал патриотические
афишки с картинками, которые писались псевдонародным
ёрническим языком и отличались крайне несерьезным,
«шапкозакидательским» тоном. Примечательно, что после
характеристики этих афишек Толстой дает пародийное
описание лжепатриотизма Жюли Карагиной и ее
окружения, установившего штраф за употребление
французского языка. Впрочем, такое полушутливое «гонение» на
французский язык наблюдалось и во многих других
дворянских кружках Москвы и Петербурга, проникнутых в
душе прежним низкопоклонством перед иностранщиной.
Растопчин был глубоко враждебен народу, он с
презрением говорил о народной толпе, о «черни», о
«плебеях» и с минуты на минуту ждал возмущения и бунта.
Растопчин пытался управлять народом, которого не знал
и которого боялся. Толстой не признавал за ним роли
«управителя», он искал обличительный материал и
нашел его в кровавой истории с Верещагиным, которого
Растопчин, в животном страхе за свою жизнь, отдал на
растерзание толпе, собравшейся перед генерал-губерна-
169
торским домом. Перед толпой предстал молодой человек
в лисьем тулупчике, у которого была «длинная тонкая
шея», «тонкие сапоги», «тонкие слабые ноги»,
«нерешительная походка», «покорный жест», «тонкие нерабочие
руки». Преобладание эпитета «тонкий» характеризовало
хрупкость сложения Верещагина. И толпа долго не могла
поверить, что перед нею изменник и виновник поджога
Москвы.
Известно, что сын Растопчина вступился за память
«оскорбленного» отца, характер которого будто бы был
искажен в романе Толстого, но сила проницательности
великого писателя, разоблачившего казенный патриотизм
Растопчина, особенно ярко раскрывается в свете позднее
найденных документов, которых не знал и не мог знать
Толстой в годы создания «Войны и мира». Эти документы
характеризуют Растопчина как англофила, готового в
любой момент покинуть Россию и перейти в иностранное
подданство. В одном из писем к русскому послу в Англии
Воронцову Растопчин упрашивал: «Сделайте же мне
одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо знак
английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право
гражданства».*
Растопчин был глубоко чужд народу и поэтому не
понимал и не мог понимать народного характера войны
1812 года — он стоит в ряду отрицательных образов
романа.
После Бородина и Москвы Наполеон не мог уже
оправиться, его ничто не могло спасти, так как его армия
несла в себе «как бы химические условия разложения».
Уже со времени пожара Смоленска началась
партизанская, народная война, сопровождавшаяся ловлей
мародеров, захватом вражеских транспортов, истреблением
противника. Наполеон жаловался Кутузову на
несоблюдение «правил» войны, но народ все в большем и
большем количестве включался в борьбу с врагом.
Писатель выразительно показывает разницу между
захватническими и народными войнами. Он сравнивает
французов с фехтовальщиком, требовавшим «борьбы по
1 «Русский архив», 1887, кн. 2, стр. 185,
170
правилам искусства», для русских же вопрос стоял иначе:
решалась судьба отечества, и врага должно было
уничтожать любыми средствами. «И благо тому народу, —
восклицает Толстой, — ...который в ' минуту испытания,
не спрашивая о том, как по правилам поступали другие
в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает
первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока
в душе его чувство оскорбления и мести не заменится
презрением и жалостью».
Народ сам стихийно выдвинул идею партизанской
войны, и прежде чем она «официально была признана»,
тысячи французов были истреблены мужиками и
казаками. Денис Давыдов «своим русским чутьем» первый
понял значение партизанской войны и первый узаконил
ее. В октябре были уже десятки партизанских отрядов,
или «партий», которые «уничтожали великую армию по
частям». Определяя условия возникновения и природу
партизанской войны, Толстой делает глубокие и
исторически правильные обобщения, указывая на то, что она
является прямым следствием «народного характера»
войны вообще и высокого патриотического духа народа.
История учит: там, где нет подлинного
патриотического подъема в народных массах, нет и не может быть
партизанской войны. Война 1812 года была
отечественной войной, поэтому она и всколыхнула до самых глубин
народные массы, подняла их на борьбу с врагом до
полного его уничтожения. Для русских людей не могло быть
вопроса, хорошо или плохо будет под управлением
французов. «Под управлением французов нельзя было быть:
это было хуже всего». Поэтому в ходе всей войны «цель
народа была одна: очистить свою землю от нашествия».
Писатель ярко показывает приемы и методы
партизанской борьбы отрядов Денисова и Долохова. И если
первый в обращении с пленными французами проявлял
гуманность, то наиболее выразительными чертами
Долохова как партизана являлись его безграничная отвага и
жестокость. На проходящих пленных он смотрел
«холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим
взглядом».
Толстой создает яркий образ неутомимого
партизана — мужика Тихона Щербатого, приставшего к отряду
Денисова. Тихон отличался богатырским здоровьем,
171
огромной физической силой и выносливостью, в борьбе
с французами ioh проявлял ловкость, отвагу-и бесстрашие.
Характерен рассказ Тихона о том, как на него
набросились четыре француза «со шпажонками», а он на них
пошел с топором. Это перекликается с образом француза-
фехтовальщика и русского, орудующего дубинкой. Тихон
и есть художественная конкретизация «дубины народной
войны».
Среди партизан Денисова оказался и Петя Ростов.
В его образе писатель изумительно тонко запечатлел
психологическое состояние юноши, живого, эмоционально
восприимчивого, любознательного, самоотверженного.
Петя уже вышел из детского возраста, но еще не стал
взрослым человеком. В нем еще много трогательного,
наивного, доверчивого, все его чувства и переживания
окрашены в романтически приподнятые тона, он не знал
еще настоящих огорчений в жизни. Его взволнованное
обращение к Денисову пустить его «в самую главную»
носит еще полудетский характер. С той же чисто
детской непосредственностью Петя угощает офицеров
изюмом: «Я привык что-нибудь сладкое», — признается он.
Накануне налета на обоз военнопленных Петя,
находившийся весь день в возбужденном* состоянии,
задремывает на фуре. И весь окружающий его мир приобретает
фантастические очертания. «Он был в волшебном
царстве, в котором все было возможно». Пете слышится
стройный хор музыки, исполняющий
«торжественно-сладкий гимн», и он пробует управлять им. Романтически-
восторженное восприятие действительности Петей
достигает в этом полусне-полуяви своего высшего предела. Это
торжественная песнь юной души, радующейся своему
приобщению к жизни взрослых. Это гимн жизни. И чем
величественнее и победнее звуки руководимого Петей
оркестра, тем трагичнее и печальнее его гибель.
Возможность этой гибели уже заключена в той
порывистости, в той безрассудной поспешности, с какой Петя
бросался в опасные места. Перед выездом его охватил
«озноб», «во всем теле что-то быстро и равномерно
дрожало», эта дрожь усиливалась по мере приближения к
месту событий — она предвещала недоброе. Ворвавшись
в самую гущу сражения, он был убит наповал. И хватали
за душу его полудетские слова, возникшие в памяти Де-
172
нисова, когда он смотрел на убитого Петю: «Я привык
что-нибудь сладкое»... «У меня изюм чудесный... Кушайте,
господа, кушайте»... Денисов зарыдал. До-лохов также не
отнесся безучастно к гибели Пети, он принял решение:
пленных не брать.
Образ Пети Ростова является одним из самых
волнующих в «Войне и мире».
* * #
На многих страницах «Войны и мира» Толстой
изображает патриотизм народных масс в плане резкого
контраста с полным равнодушием к судьбам страны со
стороны высших кругов «света». Война не изменила
роскошной и спокойной жизни столичного дворянства, которая
попрежнему была насыщена сложной борьбой различных
«партий», заглушаемой, «как всегда, трубением
придворных трутней». «Те же были выходы, балы, тот же
французский театр, те же интересы дворов, те же интересы
службы и интриги». И за всем этим не ощущалось той
огромной опасности, которая нависла над страной и
пародом в результате нашествия французов.
Так, в день Бородинского сражения в салоне у
«энтузиастки» Шерер был вечер, ожидали прибытия «важных
лиц», которых надо было «устыдить» за поездки во
французский театр и «воодушевить к патриотическому
настроению». И этот салон считался патриотическим.
Салон Элен Безуховой, который посещал канцлер
Румянцев, считался французским. Там открыто восхвалялся
Наполеон, велись разговоры о гуманности французов,
осмеивался патриотический восторг москвичей. Этот
кружок, таким образом, включал потенциальных союзников
Наполеона, друзей врага, предателей. Связующим звеном
между двумя кружками был беспринципный князь
Василий. Иногда он путался, забывался и говорил у Шерер
то, что надо было говорить у Элен.
Без сомнения, Толстой знал «Рославлева» Пушкина.
В набросках этого незаконченного полемического романа
Пушкиным была дана убийственная характеристика
антипатриотических настроений в среде русского столичного
Дворянства во время войны 1812 года. Кажется, и
сопоставление в романе Толстого салонов Шерер и Элен
Безуховой сделано в духе саркастической традиции
173
Пушкина, писавшего: «Подражание французскому тону
времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству
казалась педантством. Тогдашние умники превозносили
Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили
над нашими неудачами. К несчастью, заступники
отечества (}ыли немного простоваты; они были осмеяны
довольно забавно и не имели никакого влияния. Их
патриотизм ограничивался жестоким порицанием употребления
французского языка в обществах, введения иностранных
слов, грозными выходками противу Кузнецкого моста и
тому подобным. Молодые люди говорили обо всем
русском с презрением или равнодушием и шутя
предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом,
общество было довольно гадко...» и пр.
Образы Курагиных в «Войне и мире» ярко отражают
глубоко отрицательное отношение Толстого к столичным
кругам дворянства, где царствовали двоедушие и ложь,
беспринципность и подлость, аморализм и растленные
нравы.
Элей — светская львица; для достижения своих
корыстных целей она не останавливается даже перед тем,
чтобы вступить «в истинную, католическую церковь».
Светское общество целиком поддерживало планы Элен выйти
замуж «от живого мужа». И только одна Ахросимова со
свойственной ей резкостью заявила: «Во всех
так-то делают». Письмо Элен об оформлении развода
привезли Пьеру, когда он находился на Бородинском
поле. Таким образом, в момент, когда решались судьбы
Москвы и России, светские львицы занимались
устройством своих адюльтерных дел. Глубина моральной
растленности Элен раскрывается ярче всего именно здесь.
Глава семьи Курагиных — князь Василий, человек
света, важный и чиновный, по в своем поведении он
обнаруживает беспринципность и лживость, лукавство
царедворца и жадность корыстолюбца. Есть в романе один
эпизод — это драматический эпизод борьбы за
наследство умиравшего графа Безухова, когда с князя Василия
спадает маска светски любезного человека и перед нами
предстает насторожившийся, расчетливый хищник.
И развращенная Элен, и тупоумный Ипполит, и
подлый, трусливый и не менее развращенный Анатоль, и их
отец, льстивый лицемер князь Василий, — все они яв-
174
ляются представителями «подлой, бессердечной», как
говорит Пьер, курагинской породы, носителями морального
растления, свидетельствуя о нравственной и духовной
деградации столичного дворянства, жизнь которого шла
вне всякой связи с жизнью народа.
Петербургский салон Шерер Толстой сравнивает с
прядильной мастерской, а Анну Павловну с хозяйкой этой
мастерской, искусно заводящей «равномерную,
приличную разговорную машину», обличая этим автоматизм
светской жизни. Князь Андрей в салоне Шерер
презрительно щурится и лениво цедит сквозь зубы французские
фразы, но в дружеской беседе с Пьером все это
отброшено, он искренно говорит о своих надеждах, о своем
будущем. Толстой, всегда отрицательно относившийся к
фразерству, к «французской фразе», в одном из писем
к А. А. Берс признавался: «Хотел писать тебе
по-французски, милый друг Саша, но я так искренно тебя люблю,
что неловко и неискренно обращаться к тебе
по-французски». ]
Примечательно, что все лучшие герои «Войны и мира»,
тесно связанные с истоками русской культуры, или
прибегают к французскому языку по необходимости, или
совсем не пользуются им. В доме Ростовых французский
язык почти не употребляется — старый граф знал его
плохо, а Наташа и другие Ростовы говорили по-русски —
здесь господствовала стихия русского языка и русской
культуры. И несколько грубоватая, но русская по самой
сущности своей натуры, прямодушная Марья Дмитриевна
Ахросимова, враг всяких светских условностей и светской
лжи, также не пользовалась французским языком, она
«всегда говорила по-русски», — подчеркивал Толстой
Пьер после плена и общения с Каратаевым, открывшим
перед ним, как ему казалось, основы народной жизни,
значительно реже прибегал к французскому языку.
Французский язык служит Толстому как средство
обличения кругов столичного дворянства, растерявших свой
национальный облик и раболепно преклонявшихся перед
иностранщиной.
Но и московское дворянство не отличалось особым
патриотизмом. Писатель набрасывает яркую картину сове-
11 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 131.
175
щания дворян в Слободском дворце. Это было какое-то
фантастическое зрелище: мундиры разных эпох и
царствований: екатерининские, павловские, александровские.
«Подслеповатые, беззубые, плешивые» старики, далекие
от политической жизни, по-настоящему не были
осведомлены о состоянии дел. Ораторы же из молодых дворян
больше тешились собственным красноречием. Им не
удалось расшевелить «седых, плешивых» стариков-вельмож.
После всех речей началось совещание, оно прошло тихо:
решался вопрос об участии в организации ополчения. На
другой день, когда уехал царь и дворяне вернулись к
своей привычной жизни, они, «покряхтывая, отдавали
приказания управляющим об ополчении и удивлялись
тому, что они сделали». Все это было очень далеко от
подлинного патриотического порыва.
В общем идейном контексте «Войны и мира» весьма
значительной является сцена встречи Александра I с
народом в Кремле. В отличие от официозных историков
типа Михайловского-Данилевского и казенных
романистов вроде Загоскина, изображавших с особым
благоговением помпезность подобных встреч, Толстой лишает
ее всякой торжественности, даже всякого благообразия.
Писатель отмечает, что в самом выявлении чувств толпы
к царю было что-то звероподобное. При появлении царя
все бросились вперед. Петя, «зверски выкатив глаза»,
кричал «ура!», но и «-с боков его лезли точно такие же
зверские лица с такими же криками: «ура!»
Таким образом, во встрече царя с народом не было
ничего торжественного, напротив, всюду слышались
«обыкновенные разговоры», купчиха показывала
разорванную шаль, кричали продавцы кваса, мещане шутили
с дворовыми девушками, и только чудом спасшийся
Петя переживал важность и торжественность минуты,
«волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему»;
но повышенные монархические чувства являлись
своеобразной фамильной чертой Ростовых.
Нет/ не Александр I был «спасителем отечества», как
это тщились изобразить казенные патриоты, и не среди
приближенных царя надо было искать истинных
организаторов борьбы с врагом. Напротив, при дворе, в
ближайшем окружении царя, существовала группа
откровенных пораженцев во главе с великим князем и канц-
176
лером Румянцевым, которая боялась Наполеона и стояла
за заключение с ним мира.
Среди самых высокопоставленных государственных
деятелей находились не только антипатриоты, но даже
откровенные предатели. Толстой отмечает и группу
военнослужащих, также лишенных всяких
патриотических чувств и преследовавших в своей жизни только
узкоэгоистические, корыстные цели. Это «трутневое
население армии» занято было только тем, что ловило
«рубли, кресты, чины». И тут же писатель замечает:
«одушевление народа... было главною причиной
торжества России».
Но среди дворян были и настоящие патриоты —
к ним, в частности, относился старый князь Болконский;
сам в свое время служивший в армии, он высоко ценил
военное искусство русских полководцев Потемкина и
Суворова. При прощании с князем Андреем, уезжа>вшим
в армию, он напоминает ему быть верным чести и
патриотическим традициям рода: «А коли узнаю, что ты повел
себя не как сын Николая Болконского, мне будет...
стыдно!» В 1812 году он энергично начал собирать
ополчение для борьбы с приближавшимся противником. Но
в самый разгар этой лихорадочной деятельности его
разбивает паралич. Умирая, старый князь думает о сыне и
о России. Ему кажется, что все кончено, и он горько
рыдает, оплакивая «погибель России». Его смерть была
ускорена зрелищем страданий России в первом периоде
войны. Князь Андрей, остро переживая тяжелую утрату,
говорил Денисову, что потерял «в этом отступлении все,
что имел дорогого, не говоря об имениях и родном доме...
отца, который умер с горя». Выступая наследницей
патриотических традиций рода, княжна Марья ужасается
«мысли о том, что она могла остаться во власти
французов».
По мысли Толстого, чем ближе дворяне стоят к
народу, тем острее и ярче их патриотические чувства,
богаче и содержательнее их духовная жизнь. И,
напротив, чем дальше они от народа, тем суше и черствее их
души, тем непривлекательнее их моральные принципы:
это чаще всего изолгавшиеся и насквозь фальшивые
придворные типа князя Василия или прожженные
карьеристы вроде Бориса Друбецкого,
М С. Бычкоа 17?
Борис Друбецкой — типическое воплощение
карьеризма. Еще в самом начале своей карьеры он твердо
усвоил, что успех приносят не труды, не личные
достоинства, а «умение обращаться» с теми, кто вознаграждает
за службу. Поэтому он сближался только с лицами, выше
его стоящими, и на людей смотрел с точки зрения тех
выгод, которые мог извлечь из них. На балу у Бенигсена
в Вильне Борис, искусно спрятавшись, подслушивает
разговор Александра I с Балашевым и одним из первых
узнает о переходе Наполеона через Неман. Борис
начинает заранее строить свои расчеты. Он твердо усвоил
истину, что в армии, кроме писанной в уставе
субординации и дисциплины, есть еще неписаная субординация,
когда прапорщик — адъютант высокого начальника —
может по своей прихоти заставить сколько угодно ожидать
в приемной генерала, который в строю мог бы его
уничтожить. И Борис всячески использовал эту неписаную
субординацию.
Д. Писарев метко назвал Друбецкого
«великосветским Молчалиным»: стихия у них одна — карьеризм,
во имя служебного успеха они готовы на все — вплоть
до измены своим чувствам. Друбецкой, неустанно
преследовавший своекорыстные, узкоэгоистические цели,
одерживал одну победу за другой над искренними
порывами сердца, все больше и больше с каждым новым
продвижением по службе иссушая свою душу.
Вот он приезжает в Москву с целью жениться
непременно на богатой невесте, посещает Ростовых, и на
короткое время стихия искренности и жизни, воплощенная в
Наташе, захватывает рассудочного Бориса, но не
подчиняет его до конца; он быстро приходит в себя. Наташа для
него бедна, поэтому Борис на ней не может жениться.
Наглухо закрывается его душа для подлинной человечности.
Друбецкой оказывается изолированным от всего самого
прекрасного в жизни и в человеке: от любви, искренности,
правдивости, бескорыстной привязанности и истинной
дружбы. Он погрязает в холодном, эгоистическом расчете,
которому подчинены все его помыслы, стремления и
желания. Начались ухаживания за богатой невестой
Жюли Карагиной. Борис в течение месяца играл роль
«меланхолического обожателя» Жюли, писал ей в
альбом строчки, по мотивам близкие «Меланхолии» Карам-
178
зина, читал ей вслух «Бедную Лизу» и, наконец, когда
на горизонте появился возможный конкурент, Борис,
преодолев всегда им чувствовавшееся отвращение
к Жюли, оформляет с ней «коммерческий брак»...
На Бородинском поле Борис Друбецкой выступает
во всеоружии именно этих отвратительных качеств: он
тонкий проныра, придворный льстец и лжец. Состоя при
особе Бенигсена — это естественно, они оба карьеристы,
только разных масштабов, — Друбецкой решительно
осуждает Кутузова, но адъютанту фельдмаршала говорит
о его проницательности. Толстой раскрывает
интриганство Бенигсена и показывает соучастие в этом Друбец-
кого: им обоим безразличен исход предстоящего
сражения, лучше даже поражение, потому что тогда власть
перешла бы к Бенигсену. Они лишены патриотических
чувств, все их помыслы подчинены интересам служебной
карьеры, и предстоящее сражение, в котором решаются
судьбы Москвы и страны, рассматривается ими только
в свете «личного успеха». Волнению этих
индивидуалистически настроенных людей накануне Бородина писатель
противопоставляет подлинное возбуждение простых
солдат, «которое говорило о вопросах не личных, а общих,
вопросах жизни и смерти».
Патриотизм и близость к народу в наибольшей степени
присущи Пьеру, князю Андрею, Наташе. В народной
войне 1812 года была заключена та огромная
нравственная сила, которая очищала и перерождала любимых
героев Толстого, выжигала в их душе многие сословные
предрассудки, себялюбивое чувство. Князь Андрей
сближается с простыми солдатами. С него слетает, как
ненужная шелуха, дворянская спесь и тщеславие. Он
начинает видеть главное назначение человека в
служении людям, народу, и только смерть обрывает его
нравственные искания, но они будут продолжены его сыном
Николенькой.
Простые русские солдаты сыграли также
решающую роль в моральном обновлении Пьера. Он прошел
через увлечение масонством, благотворительностью, и
ничто не дало ему нравственного удовлетворения.
Только в тесном общении с простыми людьми он понял,
что цель жизни в самой жизни. «Пока есть жизнь, есть
'И счастье».
179
Уже на Бородинском поле, еще до встречи с
Каратаевым, у Пьера зарождается идея опрощения:
«Солдатом быть, просто солдатом!» — думал он. Встречи с
простыми солдатами произвели сильнейшее действие на
его душу, потрясли его сознание, возбудили желание
переменить, перестроить всю свою жизнь, породили пафос
морально-нравственного обновления. Сближение с
Каратаевым явилось всего лишь заключительным звеном в
цепи морально-нравственных исканий Пьера.
По возвращении с Бородинского поля Пьер
намеревался принять участие «в народной защите Москвы», но
узнав, что никакой защиты не будет, решает остаться
в городе и убить Наполеона, «чтоб или погибнуть, или
прекратить несчастье всей Европы». Им руководило
«чувство потребности жертвы и страдания при сознании
общего несчастия». Таким образом, Пьер уже
приобщается к общенациональным, общенародным задачам
борьбы с врагом. Этот мотив жертвенности и страдания,
вызванный страданиями народа, сознанием «общего
несчастия», переживаемого страной, пронизывает все
размышления Пьера о покушении на Наполеона. И здесь
Пьер выступает как носитель высоких и благородных
чувств солидарности со всем народом, он осознает свою
общность с ним и желает разделить его страдания.
Однако формы проявления этого чувства носили пока
индивидуалистический характер. Пьер желал один
совершить подвиг, принести себя в жертву общему делу, хотя
вполне сознавал свою обреченность в этом
индивидуальном акте борьбы с Наполеоном: «Пьер в своих
мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса
нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с
необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял
себе свою погибель и свое геройское мужество. «Да,
один за всех, я должен совершить или погибнуть!» Пьер
«прозевал» проезд Наполеона в Кремль, но при виде
первых пожаров в Москве он совершил другие подвиги:
спас ребенка от пожара и защитил молодую армянку от
французов-мародеров, в «восторге бешенства» избивая
грабителей.
Пребывание в плену в еще большей степени
способствовало сближению Пьера с простыми солдатами; в
собственных страданиях и лишениях он пережил страдания
180
и лишения своей родины. Наташа отметила во всем его
духовном облике разительные перемены. Она говорит
Марье Болконской: «Он сделался какой-то чистый,
гладкий, свежий точно из бани; ты понимаешь? — морально
из бани». И действительно, во внешнем виде и во взгляде
Пьера развилась какая-то собранность и готовность
к энергической деятельности. В плену Пьер узнал, «что
человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом,
в удовлетворении йжствёщшх, человеческих потребно-^
стей». Здесь выражена огромная вера писателя в
человека, который родится для счастья и призван бороться за
это счастье. Отсюда мысли Пьера о силе жизненности
человека, о его необыкновенной выносливости в
преодолении всяких страданий. Жизнь в конце концов побеждает
все разрушительные силы, возникающие на ее пути. Так
Пьер пришел к духовному обновлению, пережив вместе со
всем народом страдания родины.
Два основных героя романа — князь Андрей и Пьер—
живут все время какой-то особо возвышенной и
напряженной жизнью. Каждый из них — сложный и богатый
мир, и, несмотря на многие ошибки и заблуждения, на
своеобразие нравственных и идейных исканий каждого,
они проходят во многом одинаковые ступени развития,
инстинктивно и созшш^лы^ к ДрХГХ. Л1°бл„.
и ненавидя одно и то "жеГ 1ТТ\лубоко^наменательно, что
Наташа, возлюбленная князя Андрея, становится в конце
концов женой Пьера.
Грандиозные события Отечественной войны как бы
приподняли на новую, более высокую ступень
обыкновенную жизнь героев, вырвали из серых будней и
заставили пережить вместе с народом все невзгоды, переболеть
всеми болями, перечувствовать все радости этой
знаменательной исторической эпохи. И князь Андрей и Пьер
оказались теми высоко одаренными людьми, которые
способны были взвалить на себя эти невзгоды, боли и
радости. Им все время, больше чем кому-либо из героев
романа, свойственно видение целого в происходящих
событиях, они чутко реагируют на все перипетии в ходе
исторических событий, они чувствуют себя подлинными
детьми этой грандиозной эпохи.
И Пьер, и князь Андрей, и Наташа, и Марья
Болконская, и многие другие герои «Войны и мира» в ходе Оте-
Ш
чественной войны приобщились к основам
общенациональной жизни, война заставила их думать и
чувствовать д^масштабе делай-России, благодаря чему их
личная 'жизнь неизмеримо обогатилась.
Вспомним волнующую сцену отъезда Ростовых из
Москвы и поведение Наташи, решившей как можно
больше вывезти раненых, хотя для этого нужно было
оставлять в Москве на разграбление неприятеля
домашнее имущество. Глубина патриотических чувств Наташи
сопоставляется Толстым с полным равнодушием к
судьбам России меркантильного немчика Берга. В минуту
всеобщей опасности, когда гибли люди и целые
состояния, когда была обречена Москва, Берг думал о
приобретении шифоньерочек. Разоблачение «русского
патриотизма» немцев достигает высшей точки в презрительных
словах Наташи, которые она произносит, узнав о том,
что мать в ссоре с отцом настояла не разгружать подвод
под раненых: «по-моему, это такая гадость, такая
мерзость, такая... я не знаю. Разве мы немцы какие-
нибудь?..»
Характерно, что не только Наташа и .старый граф
были патриотически настроены и совершали
патриотическое дело естественно, органически, не говоря о своих:
чувствах ни слова, — Берг же произносил высокопарные
слова, а на деле преследовал узкокорыстные цели, —
но и «люди» Ростовых и все домашние «с радостью и
хлопотливостью принялись за размещение раненых.
Наташа находилась в восторженно-счастливом
оживлении, которого она давно не испытывала».
В ряде других сцен и эпизодов Толстой беспощадно
обличает и казнит тупое солдафонство разных Пфулей,
Вольцогенов и Бенигсенов, состоявших на русской
службе, отмечает их презрительное и высокомерное
отношение к народу и стране, в которой они находились. И
в этом сказались не только горячие патриотические
чувства создателя «Войны и мира», но и глубокое
постижение им подлинных путей развития культуры своего
народа.
На всем протяжении эпопеи Толстой ведет страстную
борьбу за самые основы русской национальной
культуры. Утверждение самобытности этой культуры, ее
великих традиций — одна из основных идейных проблем
182
«Войны и мира». Отечественная война 1812 года очень
остро поставила вопрос о национальных истоках
русской культуры, о вредном влиянии иностранцев. В этом
контексте вполне закономерны гордые размышления
Пьера о России, о могучих силах народа, сумевшего
среди невероятных лишений на огромных просторах
создать свою оригинальную культуру. Масон Вилларский
со своей ориентацией на Западную Европу видел только
«отсталость» и «невежество» России, тогда как во многих
областях, и, в частности, в области военного искусства,
Россия уже превосходила Европу.
В русской армии были живы традиции национальной
военной школы, традиции гениального Суворова. Частое
упоминание на страницах «Войны и мира» имени
Суворова является естественным потому, что у всех на памяти
были еще живы его легендарные итальянский и
швейцарский походы, а в рядах армии находились солдаты и
генералы, которые вместе с ним воевали. Военный гений
Суворова жил в великом русском полководце Кутузове,
в прославленном генерале Багратионе, имевшем от него
именную саблю, неукротимый дух его «науки побеждать»
был в крови и душе русских солдат, которые вспоминали
его в бою и у костра. Суворов незримо присутствовал
в рядах воюющих русских войск и вдохновлял их на
воинские подвиги во славу России. Поэтому вполне
закономерно, что в каждом серьезном разговоре или
споре на военные темы вспоминалось имя Суворова,
к нему обращались за аргументацией, на него ссылались,
в его кампаниях видели высший образец военного
искусства, пример для подражания. Его имя как воплощение
русского военного гения смело противопоставляли
Наполеону. Долохов в споре с французами перед
началом Шенграбенского сражения уверенно говорит: «Вас
заставят плясать, как при Суворове вы плясали». Имя
великого полководца воскресает и в наказе старого князя
Болконского князю Андрею передать выделенную
премию тому, кто первый напишет историю суворовских
войн. На завершающих стадиях работы над «Войной и
миром» у Толстого, по свидетельству историка Погодина,
возник замысел описать жизнь Суворова и Кутузова, и,
хотя в отношении Суворова этот замысел остался
неосуществленным, тем не менее в отдельных репликах
183
и эпизодах в романе достаточно выразительно отмечена
роль Суворова в истории русского военного искусства.
Несмотря на немецко-прусское влияние в
генералитете, от которого страдали даже такие талантливые
русские полководцы, как Багратион и Ермолов, русская
армия в своем солдатском составе, в значительной части
офицерства и в лице лучших генерало>в свято хранила
предания русского полководческого искусства, русской
военной науки. Это было могучим проявлением
самобытности русского военного гения.
Борьбу за национальную культуру Толстой ведет не
только в военных вопросах, но и в вопросах жизни
«мира». Он разоблачает антинациональную сущность
придворной камарильи. Эти светские людишки,
воспитанные французскими гувернерами и немецкими
гувернантками, вырЪсли на рабском преклонении перед всем
иностранным. Забвение русского языка и русских обычаев,
презрение к своему народу, глубокое равнодушие к
судьбам своей страны — вот что характеризовало моральный
облик аристократов.
Среди русских дворян были люди и иного склада,
были те, которые после войны гщшли в тайные
общества, стали декабристами. Толстой в своих взглядах на
развитие русской культуры примыкает к передовой
дворянской традиции и, подобно Грибоедову, беспощадно
обличает презренное низкопоклонство светских верхов
перед иностранщиной. Грибоедов в своей комедии «Горе
от ума», проникнутой пафосом борьбы за утверждение
русской самобытной культуры, заклеймил дворянскую
верхушку — этот «поврежденный класс полуевропейцев»,
справедливо обвинив ее в глубоком отрыве от народа,
в незнании русского языка. Взволнованные слова
Чацкого, выражавшие взгляды автора, его «резкий тон»
в разговоре с представителями старой «фамусовской»
Москвы вполне понятны: Чацкий представитель
передового дворянства, обеспокоенного судьбами русской
национальной культуры. Какой-нибудь «французик из
Бордо» в России чувствовал себя «маленьким царьком».
Чацкий решительно высказывается за «истребление»
«нечистого духа» «пустого, рабского, слепого подра-
жанья» иноземцам, против восторженных стонов и
сентиментальных воздыханий светских дам: «Axl Франция!
184
Нет в мире лучше края!» Этим же духом проникнута
и эпопея Толстого. Поэтому «Война и мир» по своей
идейной насыщенности и оказалась близкой страстным
монологам Чацкого, художественным и идейным
исканиям Пушкина, взволнованным патриотическим
призывам Лермонтова в «Бородино», биению политической
мысли Герцена. Эту линию в романе приветствовали и
революционные демократы 60-х годов: Салтыков-Щедрин
сказал памятные слова: «А вот наше так называемое
«высшее общество» граф лихо прохватил».
* * *
В романе отразился не только «разум», но и
«предрассудки» Толстого. Писатель не просто воспроизводил
картины жизни как художник, но исходил при этом из
своей глубоко оригинальной исторической концепции, из
своих совершенно определенно сложившихся убеждений
по всем наиболее существенным вопросам,
затрагиваемым в романе. «Разум» исторической концепции
Толстого, его проникнутые любовью и заботой о народе
убеждения вполне выразились в лучших образах романа.
Сильные стороны мировоззрения Толстого позволили
ему сделать ряд важных художественных открытий,
создать картины незабываемой народной войны, глубоко
разоблачить фальшь и коррупцию правящей дворянской
верхушки, показать, что если бы не народ, то не было бы
и победы. Само название романа великолепно отражает
величие Толстого, сумевшего гениально осветить
моральную и политическую связь и взаимозависимость «войны»
и «тыла» (мира), показать войну как сложный и
противоречивый исторический процесс, подготовленный всем
ходом европейских дел за последние двадцать лет.
Но исходные предпосылки Толстого, его отдельные
историко-философские построения часто отражают
предрассудки его мировоззрения, которые сказываются не
только в публицистических отступлениях автора, а
проникают и в самую ткань художественных образов.
Полемическая заостренность некоторых образов и
рассуждений Толстого сама по себе не вредит
художественности. Наоборот, там, где говорит «разум»
писателя, заострение и полемика сообщают высшую художе-
183
ственность большинству страниц его романа. Но часто у
Толстого «заострялись» именно предрассудки, и это сильно
вредило художественности, искажало правду жизни.
Особенно ярким примером второй полемической
заостренности является образ Наташи в эпилоге.
Ранней весной 1813 года Наташа вышла замуж,
а в 1820 году — время действия в эпилоге — у нее уже
были три дочери и один сын. Писатель отмечает
разительные перемены, происшедшие с Наташей за эти семь
лет. Она изменилась не только физически — «пополнела
и поширела», но и духовно: в ее лице уже не было
«непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее
прелесть». Она оставила пение, бросила «все свои
очарования», внешне «опустилась», отказалась от света и
полностью ушла в исполнение своих обязанностей жены
и матери. «Умные люди», — иронически замечает
Толстой, — проповедуют, чтобы девушка и замужем не
бросала своих талантов и прельщала своего мужа, но
Наташа не следовала этим советам, ей некогда было
заниматься собой. Дома она ставила себя на положение
«рабы мужа». Денисов не узнавал Наташи: «ответы
невпопад и разговоры о детской было все, что он видел
и слышал от прежней волшебницы».
Здесь явно .весь уклад жизни Наташи Толстым
противопоставлен движению за эмансипацию женщин,
которое развернулось в 60-е годы. Женщины, стремящиеся
к семейной жизни, по мысли Толстого не нуждаются ни
в какой эмансипации. Сравнивая две исторические эпохи,
он писал: «Толки и рассуждения о правах женщин, об
отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не
назывались еще, как теперь, вопросами, были тогда точно
такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не
интересовали Наташу, но она решительно не понимала их».
Если учесть, что вопросам семьи значительное^внима-""
ние уделял Чернышевский в своем романе «Что делать?»
A863), где он развивал новые принципы ее построения на
основе равноправия супругов, станет ясна не только
злободневность этой темы, но и глубокая полемичность
романа Толстого. Писатель здесь стремился
дискредитировать движение шестидесятников за раскрепощение
женщины, за предоставление ей равных прав с мужчиной,
пытаясь обвинить их в насаждении многоженства, в под-
186
рыве семейных усщев, В этом проявились слабые
стороны мировоззрения Толстого, его глубокое непонимание
справедливости требований русской революционной
демократии. Для Толстого правильное решение вопроса
сводилось к тому, что надд сохранить традинионно-пятриар-
семы1.~Эту мысль он впоследствии
попыА К
тается развить и в романе «Анна Каренина».
Образ Наташи не единственный случай полемики
Толстого с шестидесятниками. Среди его многочисленных
историко-философских рассуждений основополагающее
значение имеет следующее: «Если допустить, что жизнь
человеческая может управляться разумом, — то
уничтожится возможность жизни». В этой формуле как бы
сконцентрирован смысл всех исторических,
военно-теоретических отступлений в романе, преследующих цель умалить
активную роль передовых людей в исторических событиях.
В настойчивом стремлении писателя принизить значение
разума в жизни нельзя не видеть определенного
полемического задания романа. Защищая тезис, что «только одна
бессознательная деятельность приносит плоды», воспевая
стихийные законы жизни, Толстой тем самым выражал
свое несогласие со взгля^-'ми разночинцев,
шестидесятников, которые, по его мнению, слишком много надежд
возлагали на разум. Пиетет к разуму был особенно ярко
выражен в статьях Д. Писарева, появлявшихся в печати
в годы самой напряженной работы Толстого над «Войной
>и миром».
Всё решают чувства, а не разум, стихийные законы
жизни, а не планы, реальные сражения, а не диспозиции.
Эти мысли Толстого пронизывают всю художественную
ткань «Войны и мира».
Таким образом, в этом величайшем эпическом
произведении отчетливо проступает субъективное начало автора
с его сильными и слабыми сторонами. Авторское я
присутствует не только там, где Толстой живо откликается
на современные ему политические и теоретические
проблемы, становится страстным обличителем и патриотом,
но и там, где он то и дело завязывает полемические
сражения с шестидесятниками, и там, где он любуется
танцем старого графа Ростова с Ахросимовой, описывает
Наташу-мать. Всюду в малейших деталях настойчиво
реализуется им определенная морально-этическая квали-
187
фикация поступков героев, какого бы ранга они ни были,
к какой бы группе, «положительных» или
«отрицательных», ни принадлежали.
«Война и мир», может быть, одно из самых
полемических произведений русской классической литературы:
Толстой ниспровергает целые исторические концепции,
утверждает свои взгляды на историю и ее
закономерности, он не упускает ни одного случая, чтобы обличить
ложь и фальшь буржуазных, особенно французских,
историков, стремившихся возвеличить героя реакционной
буржуазии — Наполеона. «Мы не знаем верно» о
великих подвигах Наполеона в Египте, «потому что эти все
великие подвиги, — едко замечает Толстой, — описаны
нам только французами». Французская буржуазная
историческая школа стояла на позициях апологетики,
восхваления Наполеона.
Толстой, отвергая культ избранных героев, естественно
не мог оставаться равнодушным и к защитникам
Наполеона. На страницах «Войны и мира» он ведет с ними
страстную полемику. Характерным в этом смысле является
эпизод встречи Наполеона с платовским пленным
казаком, который описывается Тьером как доказательство
«простоты» Наполеона и его великодушия. Пленный,
взиравший на Наполеона с наивным чувством восторга,
был отпущен на свободу. У Толстого этот эпизод написан
в другом ключе: его Лаврушка — плут, и сообщение ему
о Наполеоне в действительности его не изумляет, но он
прикидывается ошеломленным, заранее зная, что именно
этого от него и ожидают. Толстой таким образом
раскрывает фальшь бонапартистского историка, его
пристрастное изображение личности Наполеона, обнажает
высокопарность его стилевых приемов, всех его описаний.
Толстой едко высмеивает буржуазную историографию,
создавшую теорию «героических личностей», стоящих
над массой и по собственной воле определяющих законы
исторического развития. Он правильно указывает, что
как Россия образовалась не «по воле одного человека —
Петра Великого», так и Франция из республики
сложилась в империю и начала войну против России не по
воле одного человека.
Однако, справедливо полемизируя с буржуазными
историками, абсолютизировавшими роль личности в исто-
188
рии, и указывая на решающую роль народных масс (или,
по терминологии Толстого, «людских произволом»),
писатель тут же впадает в другую крайность и придает своим
рассуждениям теологическую окраску. Он утверждает,
«что ход мировых событий предопределен свыше, зависит
от совпадения всех произволов людей, участвующих в
этих событиях, и что влияние Наполеонов на ход этих
событий есть только внешнее и фиктивное»; «великие
люди суть ярлыки, дающие наименование событию,
которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым
событием».
Таким образом, Толстой, отпра;вляясь от глубоко
гуманистических и демократических в своих истоках
побуждений, приходит к явно ошибочным выводам, когда
нигилистически отрицает роль личности в истории. Отсюда
и проистекают его носящие религиозный характер
убеждения о предопределенности всех исторических событий,
обрекавшей человека на роль пассивного орудия провидения.
Толстой часто мыслит догматически, высказывается
в категорической форме: «Для человеческого ума
недоступна совокупность причин явлений. Но потребность
отыскивать причины вложена в душу человека». Толстой
сам оценивает попытки своих предшественников
объяснить причины исторических событий сначала «волей
богов» (самое «первобытное» объяснение), затем — волей
«исторических героев» (буржуазная историография). По
мысли Толстого, «воля исторического героя не только
не руководит действиями масс, но сама постоянно
руководима». Отсюда могут быть сделаны шаги в сторону
материализма и в сторону идеализма. Толстой делает шаг в
сторону идеализма, к «боженьке», утверждая, что воля
исторического героя «руководима» провидением. Таким
образом, детерминизм Толстого носил теологическую окраску.
Рассматривая причины войны 1812 года, писатель
полностью отрицает свободу человеческой воли, роль
великих людей, — не они-де, мол, влияют *на события,
ибо «практические деятели» «тем не свободнее, чем выше
они стоят в людской иерархии». Все они — и рядовые
солдаты и полководцы, по мысли Толстого, были всего
лишь «непроизвольными орудиями истории», всеми
разнообразными помыслами и действиями этих людей
руководило провидение.
189
Толстой остался далек от подлинно научного
постижения законов исторического развития, ему был
недоступен материалистический взгляд на историю, однако
отдельные его высказывания по вопросам истории имели
прогрессивное значение. Так, писатель решительно отверг
то направление в буржуазной историографии, которое
создало культ исторического героя (Карлейль, Тьер и др.),
абсолютизировало роль личности в истории, и совершенно
правильно указал на решающую роль масс во всех
исторических событиях. Толстой писал, что для «уловления»
законов истории, управляющих развитием человечества,
необходимо изменить «предмет наблюдения»: надо
оставить в покое «героев» буржуазно-дворянской
историографии: царей, министров, генералов, и обратиться к
изучению истории народных масс. «Прежние историки»
отводили главную роль в исторических событиях
«правителям» и игнорировали роль народных масс: «они
описывали деятельность единичных людей, правящих
народом; и эта деятельность выражала для них деятельность
всего народа». Нет, заявляет Толстой, «жизнь народов не
вмещается в жизнь нескольких людей». Следовательно,
историки буржуазно-дворянского Иголка, запятые
преимущественно историческими героями, были далеки от
понимания подлинно народной истории, так как
игнорировали историческую деятельность народных масс.
Замечательно, что в этом пункте своей исторической
концепции Толстой неожиданно сходился с
Добролюбовым, ставившим вопросы о «степени участия» народности
в истории литературы, в истории родины и
подвергавшим также критике буржуазную историографию за
пренебрежение к пароду. «К сожалению, — писал критик, —
историки никогда почти не избегают странного увлечения
личностями, в ущерб исторической необходимости. Вместе
с тем сильно выказывается во всех историях
пренебрежение к народной жизни, в пользу каких-нибудь
исключительных интересов. Так, например, у самого Карамзина
мы находим, что вся история народа пожертвована
строгому и последовательному проведению одной идеи —
об образовании и развитии государства российского.
И самое развитие этого государства вовсе не
представляется вытекающим из условий народной жизни, а
является каким-то, чуть не административным, делом
190
нескольких лиц. Народная жизнь исчезает среди по-
двигов государственных, войн, междоусобий, личных
интересов князей и пр., >и только в конце тома помещается
иногда глава «о состоянии России». Но и тут больше
толкуется о наследственных правах удельных князей, о славе
России между иноземными державами и т. tl, нежели об
интересах, прямо касающихся народа». 1
Призыв Толстого к изучению истории народа,
народных масс был порожден несомненно 60-ми годами,
первым демократическим подъемом в стране. Однако в самом
решении актуального для того времени вопроса Толстой
совершал глубокие ошибки. Он понимал народ только как
стихийную, «роевую» силу исторического процесса.
Философски осмысливая роль отдельного человека
в исторических событиях, соотношение интересов
отдельной личности и интересов общества, решая проблему:
личность и общество, Толстой утверждал, что «личные
интересы» «значительнее общих интересов», что
«большая часть людей того времени не обращали никакого
внимания на общий ход дел, а руководились только
личными интересами настоящего».
Таков излюбленный ход мыслей Толстого в историко-
философских отступлениях романа. Все это резко
противоречило художественному повествованию, где писатель
показывал органическую зависимость судьбы отдельного
человека от общего хода военных дел. Отечественная
война захватывала всех и влияла на все. Наташа Ростова
и князь Андрей не могли думать о своем личном счастье
не только потому, что не решена была судьба князя
Андрея, но и потому, что не решена была судьба России:
«Нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не
только над Болконским, но над всей Россией заслонял
все другие предположения».
Здесь мы имеем дело с глубочайшими противоречиями
в мировоззрении Толстого. С одной стороны, утверждается
социальная обусловленность жизни человека; с другой,
предпринимаются все новые и новые попытки оторвать
его от исторических событий, обосновать независимость
частной жизни от жизни политической, умалить роль
1 Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 3, М.,
1936, стр. 121.
191
разума, противопоставив ему стихийные биологические
законы жизни — «только одна бессознательная
деятельность приносит плоды». Эта постоянная война против
разумного вмешательства в жизнь, защита
«естественного» человека, изъятого из сферы общественных
отношений, — одна из слабых сторон мировоззрения Толстого.
Другое дело отношения личности и государства.
Толстой не раз и теоретически высказывает и художественно
показывает, что жизнь частная и жизнь
государственная — это два параллельных ряда, независимых друг
от друга, что между интересами отдельной личности и
интересами государства существует глубокая
разобщенность. В этом он был исторически прав. В самодержавной
России не могло быть гармонии интересов индивида и
государства, потому что по самой своей сущности
самодержавная власть подавляла личность. На этой почве и
возникало между ними глубокое разобщение.
Добролюбов указывал: «деятельность массы отдельных лиц у нас
почти совершенно разъединена с общим течением дел». 1
В этом плане идут размышления князя Андрея; когда
Бицкий восторженно сообщил ему об открытии
Государственного совета, о речи царя, князь Андрей подумал:
«Какое дело 'нам до того, что государю угодно сказать
в Совете! Разве все это может сделать меня счастливее
и лучше?»
В исторических взглядах Толстого проявляются
сильные и слабые стороны: сильные — в критике
буржуазной историографии, слабые — в идее фатализма. На
вопрос о том, какая сила движет народами, разные
историки давали разные ответы: одни видели эту силу
в «воле Наполеонов», другие — в действии «многих сил»,
третьи «в умственной деятельности». Отвергнув все эти
объяснения, Толстой приходит к мысли о
предопределенности всех исторических событий.
Слабость исторических взглядов Толстого заключается
в том, что он остается в сфере морально-этических
понятий, его высказывания носят абстрактный, внеисториче-
ский характер, он не признает классовой точки зрения
при объяснении исторических явлений. Поэтому его опре-
1 Н, А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 3,
стр. 228.
192
деления нередко в сущности ничего не определяют и
являются тавтологичными, крайне наивными и
беспомощными (таким является, например, определение власти —
эпилог, ч. II, гл. VI), а многие вопросы остаются
совершенно без ответа: «Почему происходит война или
революция? Мы не знаем».
Как подлинный гуманист, Толстой осуждает войну.
Он не поднимается до определения ее социальной
природы, не видит ее классового характера, но для него
ясно, что война не только не вытекает из свойств
человеческой природы, но и противоречит им. Толстой пишет:
«Двенадцатого июня силы Западной Европы перешли
границы России, и началась война, то есть совершилось
противное человеческому разуму и всей человеческой
природе событие». В дальнейшем он показывает всю
жестокость и бесчеловечность войны. Конец Бородинского
сражения. Десятки тысяч убитых и раненых. Земля
пропитана кровью. Но голодные, измученные люди
'продолжали стрелять. Стал накрапывать дождик и как будто
говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте...
Опомнитесь. Что вы делаете?» Писатель осуждает войну,
хотя и не понимает ее социальной природы. Он убежден,
что война — это «страшное дело» — «совершается не по
воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и
мирами», то есть по воле бога, но воле провидения.
Писатель в «Войне и мире» выражал точку зрения
патриархальных крестьянских масс, высказывая мысль
о предопределенности и роковом, бессознательном
характере войны как таковой. Все это шло от представлений
мужика, который, будучи бессилен объяснить
какое-нибудь явление, говорил: «все от бога».
Решая вопрос о свободе и необходимости, писатель
не видит диалектической взаимозависимости и
взаимообусловленности этих двух категорий, определяющих
поведение человека, не доходит до мысли, что «свобода
есть осознанная необходимость».
Толстой создает теорию двух начал в человеке:
личного и социального. И если в личной жизни человек, по
его мысли, волен определять и свои цели и свои
интересы, то в социальной сфере все его действия
предопределены: «Есть две стороны жизни в каждом человеке:
Жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлечен-
13 С. Бычков 193
нее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек
неизбежно исполняет предписанные ему законы». И еще:
«Человек сознательно живет для себя, но служит
бессознательным орудием для достижения исторических
общечеловеческих целей».
Таким образом, Толстой, во-первых, .пытается
разрушить представление о единстве человека как существа
общественного, чисто метафизически выделяя и на одну
доску ставя в нем две природы: биологическую и
социальную, а во-вторых, его неправильное понимание
закона необходимости ведет к тому, что он лишает
человека всякого права на свободную, осознанную
деятельность, отнимает у него всякую инициативу, свободу воли,
утверждая его рабскую подчиненность законам
стихийной жизни. Толстой в конечном счете приходит к мысли
о фатальной предопределенности всего сущего.
Так замыкается круг" исторических рассуждений
Толстого. В его исторической концепции нет места
свободной, исторически осознанной деятельности человека,
направленной на преобразование мира. Человек участвует
в исторических событиях бессознательно. Сознательное
историческое творчество масс, живущих «роевой» жизнью,
отрицается. Исторические личности никакого влияния на
события не имеют, так как каждое их действие
«определено 'пр1едвечно». Все зависимо, все подчинено еще
неизвестным законам стихийной жизни человека и
человечества, в истории которого совершается еще много
неразумного, в частности войны, ,и поэтому возник
фатализм: «Фатализм в истории неизбежен для объяснения
неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы
не понимаем)»-
* * ¦
Основные положения исторической концепции
Толстого пронизывают образы Каратаева, Кутузова,
Наполеона, которые в этом плане являются как бы
художественными иллюстрациями к его теоретическим
тезисам.
В образе Платона Каратаева Толстой
идеализировал реакционные черты наивного патриархального
крестьянства, его отсталость и забитость, его политическую
невоспитанность, его бесплодную мечтательность, его
№
незлобивость и всепрощение. В Каратаеве, по оценке
Горького, воплощены представления Толстого о мужике
«как человеке кротком, осужденном на муки и терпение
бога ради». 1
Каратаев не самостоятелен, он лишь ничтожная
капля в народном океане. Здесь, как и во многих других
случаях, проявились противоречия в идеологии писателя.
С одной стороны, он создал в романе десятки образов
с чертами яркой человеческой индивидуальности, с
другой стороны, в Каратаеве он казнит эту
индивидуальность, отрицает за человеком право на самостоятельную
роль в жизни.
Жизнь Каратаева сама по себе не имела смысла, так
как она символизировала бесконечно малую частицу
стихийной жизни, в которой человек бессилен что-либо
изменить. Человек — полностью во власти бога, поэтому
все в жизни надо принимать как должное: и несчастья,
и бедность, и лишение свободы. Преданность воле
божией, рабская покорность судьбе и ее жестоким и
неизбежным законам — вот что является главным и
определяющим в жизни Каратаева. Он отказывается от
разумного решения жизненных вопросов: «не нашим
умом, а божьим судом».
Каратаев — убежденный фаталист. По его мнению,
нельзя человеку осуждать других, протестовать против
несправедливости: все, что ни делается, делается к
лучшему, всюду проявляется «божий суд», воля провидения.
Еще в начале 60-х годов Толстой, задумывая повесть
из крестьянского быта, писал о ее герое: «не сам живет,
а бог водит». Этот замысел он реализовал в
Каратаеве.
Каратаеву уже за пятьдесят лет, по в разговорах и
поведении этого бывалого солдата Апшеронского полка
нет никаких следов героических походов, совершавшихся
во времена Суворова. Солдатская служба никак не
отразилась на его душевной организации, его речь наполняли
не солдатские «неприличные и бойкие поговорки», а
мудрые «народные изречения». В плену он быстро
вернулся «к прежнему, крестьянскому, народному складу».
Толстой и знакомит читателя с Каратаевым-военноплен-
1 М. Горький. О литературе, М., 1935, стр. 51.
195
ным. Думается, что это сдельно вполме осознанно, потому
что трудно себе представить Каратаева с оружием в
руках — в нем нет ничего от реального солдата.
Каратаев особенно оживлялся тогда, когда
рассказывал свою любимую историю о купце, который «безвинно
напрасно страдал» и в конце своей жизни простил
разбойника, виновника своего многолетнего сидения в остроге,
и всегда при рассказе о сцене прощения на лице
Каратаева сияла «восторженная радость». Этот невинный
страдалец был идеалом Каратаева. В сущности, смысл
образа Каратаева и заключается в апологии невинного
страдания. Свою вынужденную солдатчину он считает
благом. Не борьба с такими условиями жизни, которые
обрекают людей на страдания, а любование своими
страданиями и прощение своих обидчиков, виновников этих
страданий, — вот к чему зовет Каратаев. В образе
Каратаева проявились реакционные черты идеологии
Толстого. -, •
Итак, Каратаев — фаталист, непротивленец,
воплощение стихийной жизни человека, юродствующий мужичок,
проповедник «всеобщей» любви, к которому устремляется
Пьер на путях своего опрощения.
Характерно, что нечто особенное в Каратаеве ощутил
только один Пьер, которому он «представился»
«непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа
простоты и правды»... Для всех «остальных пленных»
Каратаев был «самым обыкновенным солдатом», они считали
его за чудачка, «добродушно трунили над ним» и
использовали его для своих поручений.
Здесь, нам кажется, все совершенно разъясняется:
и место Каратаева в образной системе романа и его роль
в духовном возрождении Пьера. «Остальные пленные» —
это простые солдаты или люди из социальных низов:
им незачем было опрощаться, они сами были простыми
людьми, точно так же им незачем было искать идеал
простой мужицкой души, они сами являлись ее
носителями. Пьер был единственным барином, он стремился
опроститься, жаждал душевной гармонии,
восстановления разрушенного и потрясенного внутреннего мира —
и на его пути встретился Каратаев, который
«представился» ему воплощением такой душевной гармонии. Это
между прочим характерно: не явился, а предета-
196
вился» — термин, определяющий скорее не реальное
явление, а создание фантазии; и сам Каратаев в том его
значении, которое ему придал Пьер, в большой степени
плод его воображения, реально он во многом иной —
простой солдат Апшеронского полка. И для того чтобы
дать полный простор работе фантазии, снять с ее пути
все реальные преграды, знакомство Пьера с Каратаевым
должно было произойти именно ночью, в темноте
барака, — это таинственнее и значительнее; днем могло
бы быть все иначе, днем Каратаев мог бы затеряться
среди толпы таких же «обыкновенных» солдат.
Так обстоит дело с Каратаевым и его ролью в
духовном развитии Пьера: Каратаев — это идеализированный
образ патриархального мужичка,
р рр у ^^щу
воплощение душевной гармонии, созданное вообра_жег.-
нием Пьера, как .раз.. жаждавшего такой гармонии.
И Пьер увидел_в_Каратаеве то, "что хотел..ув_иД€1Ы.ие
случайно писатель Говорит," что Кауатаев^казался Пьеру _
олицетворением духа простоты и правды. Но даже и
в его личной судьбе Каратаев не сыграл решающей роли,
он оставил в его сознании определенное, скорее желаемое
представление о «мужике» и его извечных
«добродетелях». Пьер от этого не стал мужиком, не отказался
от дворянской культуры, хотя и «много попростел».
То обстоятельство, что в эпилоге романа после
горячего спора Пьера с Николаем Ростовым о назревающих
в стране политических событиях вновь вспоминается
Платон Каратаев, имеет двоякий смысл. Во-первых,
выдвижение мужика как нравственного судьи во всех
вопросах, касающихся «общего блага» и «деятельной
добродетели», типично для передовой публицистики и
литературы 60-х годов; характерно оно и для автора
«Войны и мира», начинавшего многое делать с оглядкой
на мужика: одобрит он или не одобрит. Кроме того,
выясняется, что каратаевское смирение, пассивность,
отказ от борьбы не свойственны Пьеру — напротив, он
преисполнен решимости активно вмешиваться в жизнь.
Историческая активность народа составляет основу
его национальной жизни. Да и сам Толстой увидал
в жизни Тихона Щербатого, одного из самых активных
представителей «народной войны», и предводительницу
партизанских отрядов старостиху Василису, и целые
197
«геройские фаланги» партизан, неутомимо преследующих
врага. Он воспел >в «Войне и мире» патриотизм и
героизм народа в его беспримерной борьбе с 1врагом.
Таким образом, проблема мужика и народа решалась
писателем не только и не столько на образе Каратаева,
но и на образах других представителей народа, активных,
решительных, непримиримых к врагу, которые своей
деятельностью как бы снимали, преодолевали Каратаева и
каратаевщину.
Исторически правдиво воссоздавая патриотический
подъем, охвативший все слои населения России, Толстой
не скрывает и социальных противоречий эпохи, хотя и
дает их мелким планом. Фабричные и мастеровые,
оставшиеся в покинутой купцами и дворянами Москве,
высказывают свое недовольство целовальниками, хозяевами
мастерских, господами, которые, по их мнению,
кровососы и разбойники. Социальный протест, вызревавший
в городе, еще не организованный, робкий и слепой, как
инстинкт, перекликается с протестом крепостных крестьян
против господ. Когда раненого князя Андрея без
очереди пронесли в палатку, среди ожидавших раненых
солдат — тех же крепостных в шинелях •— поднялся
ропот: «Видно, и на том свете господам одним жить».
Противоречия между двумя лагерями — «господским
и крестьянским» — писатель наиболее ярко раскрывает
в сцене бунта богучаровских крестьян, которых старый
князь Болконский не любил за их «дикость». Но в этой
«дикости» крепостных «заглазного именья» выражалось
то неугомонное искание лучшей жизни, которое отличало
настоящих русских мужиков. Во всех поступках и
помыслах богучаровских крестьян, в их стремлении «к
переселению на какие-то теплые реки», в слухах, ходивших
между ними о перечислении их в казаки, о новой вере,
о «царских листах» с объявлением воли отражалась
затаенная народная мечта о свободе. Крестьяне именно
потому так чутко воспринимали разные «толки», так
легко верили в добрые намерения царей, что желали
видеть во всех переменах воплощение их мечты о
«чистой воле». Слухи о войне и Наполеоне для них также
соединялись с представлениями о воле, поэтому они
сначала отказались выехать в подмосковное именье, а затем
решили не выпускать и княжну Марью Болконскую.
198
Писатель остро выразил сплоченность и единодушие
сходки перед лицом барыни: «все глаза смотрели на нее
с одинаковым выражением», «выражение на всех лицах
было одинаковое», встретились два враждебных лагеря —
господский и крестьянский. Выражение решимости,
отсутствие речей, озлобленные реплики — все это ярко
характеризует атмосферу сходки, ненависть мужиков к
господам.
Но богучаровские мужики не могли еще бороться за
свои права, у них отсутствовала и необходимая для этого
организация и не было настоящих руководителей.
Поэтому мужицкой непокорности хватило, чтобы
противостоять Алпатычу и княжне Марье, а явился гусарский
офицер Ростов, дал главарю Карпу оплеуху и, можно
сказать, одним ударом вышиб из крестьян дух мятежа:
послышались «торопливо-покорные голоса», и сам же
Карп заявил: «Нам бунтовать нельзя, мы порядки
блюдем». По приказу Ростова мужики покорно
распоясывались, чтобы вязать своего вожака Карпа. Так они быстро
вернулись к своему прежнему состоянию рабской
покорности господам и упрекали друг друга в том, что «по
глупости» затеяли этот бунт. Через некоторое время они
уже «оживленно» грузили господские вещи.
В этой реалистической картине крестьянского бунта
и его подавления Толстой точно и глубоко запечатлел
психологию значительной группы патриархального
крестьянства, которое только еще просыпалось к
сознательной политической жизни. Значительно позднее,
характеризуя степень участия крестьянства в первой русской
революции, Ленин писал: «В нашей революции меньшая
часть крестьянства действительно боролась, хоть сколько-
нибудь организуясь для этой цели, и совсем небольшая
часть поднималась с оружием в руках на истребление
своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих
защитников. Большая часть крестьянства плакала и
молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и
посылала «ходателей», — совсем в духе Льта Николаича
Толстого!» 1
Это противоречивое поведение различных групп
крестьянства в борьбе за свои права, за свободу отчетливо
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 184.
199
проявилось и в 1812 году. Отечественная война, в ходе
которой «Россия спасла Европу», имела важные
последствия не только для героев «Войны и мира», 'но и для
народа в целом, который шел воевать в надежде
получить после победы над врагом свободу. Война духовно
раскрепощала мужика, а это не могло не отразиться на
его отношениях к помещику. Тревогу за будущее
крепостников выразил один моряк на совещании в
Слободском дворце, решительно выступив против создания
народного ополчения, которое, по его м'нению, портит
мужика, приучает его к свободе и вольности; он заявил:
«Лучше еще набор... а то вернется к вам ни- солдат, ни
мужик, ia только один разврат».
Участие в защите родины, жертвование своей жизнью
делали из крепостного раба человека, очищали его душу
от коросты, приучали к самостоятельности, и, естественно,
защитники отечества из крепостных не желали вновь
возвращаться на положение «крещеной собственности», они
бунтовали, искали себе путей к свободе, бежали в леса,
становились сектантами.
О трагической судьбе крепостного собирался писать
А. Грибоедов. Судя по дошедшему до нас плану драмы
«1812 год», герой ее М... —участник «ополчения без
дворян» — совершает «подвиги». Но война кончается —
«вся поэзия великих подвигов исчезает... М. возвращается
под палку господина, который хочет ему сбрить бороду.
Отчаяние... самоубийство».х
По существу в таком трагическом положении
находились многие русские крепостные люди и после 1812 года
и после Крымской войны. В последнем случае
правительство, напуганное ростом крестьянского движения,
вынуждено было пойти на отмену крепостного права.
* * *
Противоречивость мировоззрения Толстого сказалась
и в трактовке образа Кутузова.
Толстой, с присущей ему огромной проницательностью
художника, правильно угадал и великолепно запечатлел
некоторые черты характера великого русского полководца
1 Сборник «Декабристы», М.—Л., 1951, стр. 239.
200
Кутузова: его глубокие патриотические чувства, его
любовь к русскому народу и ненависть к врагу, его близость
к солдату. Вопреки лживой легенде, созданной
официозной историографией об Александре I — спасителе
отечества и отводившей Кутузову второстепенную роль
в 'войне, Толстой восстанавливает историческую истину
и показывает Кутузова как вождя справедливой
народной войны. Кутузов был связан с народом тесными
духовными узами, и в этом заключалась его сила как
полководца. «Источник необычайной силы прозрения в смысл
совершающихся явлений, — говорит Толстой о
Кутузове,— лежал в том народном чувстве, которое он носил
в себе во всей чистоте и силе его. Только признание
в нем этого чувства заставило народ такими странными
путями его-, в немилости находящегося старика, выбрать,
против воли царя, в представителя народной войны».
В решающие моменты всей военной кампании
1812 года Кутузов ведет себя как полководец, близкий и
понятный широким солдатским масса'м; он действует как
'подлинный русский патриот. Пушкин писал о Кутузове:
«Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение;
один Кутузов мог отдать Москву неприятелю, ,один
Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии,
усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая
роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в
.народную доверенность, которую так чудно он о<правдал!» !
В этой лаконической пушкинской характеристике
отражено глубокое постижение личности великого
полководца, здесь содержится в то же время как бы зерно
замысла образа Кутузова в «Войне и мире» Толстого.
Кутузов во всем противостоит Наполеону. В «Войне и
мире» создаются как бы два идейных центра — Кутузов
и Наполеон: к Кутузову тяготеет все истинно русское,
патриотическое, преданное родине; к Наполеону — все
европеизированное, карьеристское, развращенное.
Собственно, такие типы, как Друбецкой, по своим
моральным принципам в конечном счете восходят к Наполеону
как к наиболее удачливому карьеристу.
Мысль о развенчании Наполеона возникла у Толстого
1 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах,
т. VII, М.—Л., 1949, стр. 485—486.
201
в связи с окончательным уяснением характера войны
1812 года как справедливой войны со стороны русских.
Характеризуя войны Наполеона, Ленин писал: «...когда
Наполеон создал французскую империю с порабощением
целого ряда давно сложившихся, крупных,
жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из
национальных французских войн получились империалистские,
породившие в свою очередь
национально-освободительные войны против империализма Наполеона». 1
В войне с Россией Наполеон выступал в роли
захватчика, стремившегося поработить русский народ, он был
косвенным убийцей многих людей, эта мрачная
деятельность и не давала ему, по мысли писателя, права на
величие. Толстой развенчивал легенду о Наполеоне с
позиций подлинного гуманизма.
Уже с первого появления Наполеона в романе
раскрываются глубоко отрицательные черты его характера.
Толстой тщательно, деталь за деталью выписывает
портрет Наполеона,, сорокалетнего, откормленного и
барски изнеженного человека, надменного и
самовлюбленного. «Круглый живот», «жирные ляжки коротких
ног», «белая пухлая шея», «потолстевшая короткая
фигура» с широкими, «толстыми плечами» — вот
характерные черты внешности Наполеона. При описании
утреннего туалета Наполеона накануне Бородинского
сражения Толстой усиливает разоблачительный характер
первоначальной портретной характеристики императора
Франции: «Толстая спина», «обросшая жирная грудь»,
«выхоленное тело», «опухшее и желтое» лицо, «толстые
плечи» — все эти детали рисуют человека, далекого от
трудовой жизни, разжиревшего, глубоко чуждого
основам народной жизни.
Наполеон был эгоистически самовлюбленным
человеком, самонадеянно считавшим, что вся вселенная
повинуется его воле. Люди для него не представляли
интереса. Писатель с тонкой иронией, иногда переходящей
в сарказм, разоблачает претензии Наполеона на мировое
господство, его постоянное позирование для истории, его
актерство. Наполеон все время играл, в его поведении
и в его словах не было ничего простого и естественного.
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 22, стр. 295-
202
Это выразительно показано Толстым в сцене любования
Наполеона портретом сына на Бородинском поле.
Наполеон подошел к портрету, чувствуя, «что то, что он
скажет и сделает теперь,—есть история»; «сын его
в бильбоке играл земным шаром» — в этом выражалось
величие Наполеона, но он хотел выказать «самую
простую отеческую нежность». Разумеется, это было чистое
актерство. Он не выражал здесь искренних чувств
«отеческой нежности», а именно позировал для истории,
лицедействовал. Эта сцена ярко раскрывает
самонадеянность Наполеона, полагавшего, что с занятием Москвы
будет покорена Россия и осуществятся его планы
завоевания мирового господства.
Как игрока и актера писатель изображает Наполеона
и в ряде последующих эпизодов. Накануне Бородина
Наполеон произносит: «Шахматы поставлены, игра
начнется завтра». В день битвы после первых пушечных
выстрелов писатель замечает: «Игра началась». Далее
Толстой показывает, что эта «игра» стоила жизни
десяткам тысяч людей. Так раскрывался кровавый характер
войн Наполеона, стремившегося поработить весь мир.
Война — не «игра», а жестокая необходимость, думает
князь Андрей. И в этом заключался принципиально иной
подход к войне, выражалась точка зрения мирного народа,
вынужденного взяться за оружие при исключительных
обстоятельствах, когда над родиной нависла угроза
порабощения.
В дальнейшем писатель вновь и вновь возвращается
к характеристике Наполеона как азартного
игрока,ставками которого в игре за мировое господство были целые
страны и народы. До заката солнца продолжалось
ожесточенное сражение на Бородинском поле, но оно не
принесло победы французам. «Наполеон испытывал тяжелое
чувство, подобное тому, которое испытывает всегда
счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда
выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал
все случайности игры, чувствующий, что чем более
обдуман его ход, тем вернее он проигрывает».
В течение десятилетия Наполеон завоевал все
государства центральной Европы, и короли, эти
«разоблаченные владыки мира», не могли противопоставить ему
«никакого разумного идеала». Только русский народ
203
кладет конец наполеоновскому владычеству, хоронит
навсегда его сумасбродные планы завоевания мирового
господства. На полях сражений в России было до конца
разоблачено мнимое величие Наполеона, и «вместо
гениальности являются глупость и подлость, не имеющие
примеров».
Рисуя Наполеона на Поклонной горе, Толстой
окончательно разоблачает актерство французского диктатора,
его театральные жесты, его безграничную
самовлюбленность. Наполеон думал о величии этой минуты, о своем
великодушии (он пощадит Москву), о введении
законов справедливости, о насаждении истинной
цивилизации — об этом он намеревался сказать «боярам».
Однако размышления Наполеона, переданные в форме
внутреннего монолога, воспринимаются лишь в ироническом
плане, их театральность, искусственность, надуманность
и никчемность особенно ярко подчеркиваются
отсутствием депутации от жителей Москвы. Слушателей его
речи не было, не было и жителей, которых он собирался
«облагодетельствовать». Москва была пуста. Она <не
поднесла ключей Наполеону, как это делали некоторые
европейские столицы. Патриотические чувства русских
впоследствии ярко выразил Пушкин:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Почувствовав своим «актерским чутьем», — замечает
Толстой, — что «величественная минута» продолжалась
слишком долго, Наполеон подал знак, и пушечный
выстрел возвестил вступление французских войск в Москву.
«Не удалась развязка театрального представления».
Здесь все высказано до конца, все названо точно:
обличены актерство Наполеона, его игра в величие и его
растерянность перед молчаливым отпором. Москва,
нарушив традиции «гостеприимства», второй раз после
Бородина нанесла удар по его престижу.
В эпилоге писатель завершает характеристику
Наполеона. В этих последних штрихах отразилась отчасти и
ненависть аристократа к выскочке, к этому типично
буржуазному герою. Толстой пишет о Наполеоне как о
человеке «без убеждений, без привычек, без преданий, без
имени». После второй и последней ссылки Наполеона
204
писатель, пользуясь театральной терминологией,
уничтожающе замечает: «Действие совершено. Последняя роль
сыграна. Актеру велено раздеться -и смыть сурьму и
румяны: он больше не понадобится».
Таким образом, главное в толстовском образе
Наполеона заключается в разоблачении бесчеловечности
и жестокости французского диктатора, его стремлений
поработить все народы, под лживыми лозунгами
восходящей буржуазии завоевать мировое господство.
Писатель проницательно и глубоко раскрывает лицемерие
буржуазных свобод. Лжив был от начала до конца и
типичный герой буржуазии, Наполеон. «Он,
предназначенный провидением на печальную, несвободную роль
палача народов, уверял себя, что цель его поступков была
благо народов». Толстой отмечает, что та «система
европейская», к основанию которой стремился Наполеон
и во имя чего он воевал, являлась на деле системой
порабощения народов, уничтожения их суверенитета.
Наполеон рассуждал: «Европа действительно скоро составила
бы... один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы
то ни было, находился бы всегда в общей родине». Это
типическое знамя космополитизма, идеология
империалистической буржуазии. Поскольку народы Европы были
порабощены, подчинены Франции, постольку Франция
в этой «объединенной Европе» должна была занимать
господствующее место, а французы представлять собой
высшую нацию. Наполеон заявлял: «Париж был бы
столицей мира, и французы предметом зависти всех наций!..»
Таковы были сумасбродные планы этого претендента
на мировое господство. Поистине они могли зародиться
только в «помраченном» уме. И в то же время они
напоминают сегодняшние планы американских империалистов,
стремящихся создать «объединенную Европу» под
эгидой Америки, завоевать мировое господство,
предварительно истребив миллионы людей, и сделать Вашингтон
столицей мира. Судьбы подобных планов общеизвестны:
они всегда с треском проваливались, а их инициаторы
заслуженно попадали на виселицу,
В разоблачении Наполеона, его идеологии, его
морально-этических норм важную роль играет образ
капитана Рамбаля. Это один из многих тысяч капитанов
французской армии, явный носитель типических черт
205
бонапартистского офицерства. По понятиям Рамбаля,
француз — «высшее в свете наименование», и сам он —
воплощение самовлюбленного представителя высшей
расы, самодовольный и преданный слуга Наполеона,
убежденный бонапартист. Рамбаль восхваляет
великодушие, милосердие и гений Наполеона, восторженно
говорит о французской культуре и особенно о Париже как
столице мира: «Во всем мире один Париж». Рамбаль
рассказал Пьеру свою родословную, поведал о своей
жизни. «Моя бедная мать», — иронически замечает
Толстой, — играла, разумеется, важную роль в этом
рассказе». Но его рассказы о любовных похождениях
неизменно приобретали «характер пакостности».
Рамбаль введен в роман для того, чтобы показать
моральный облик французских офицеров —
самовлюбленных, болтливых и нравственно порочных людей,
которые, однако, имеют черты поразительного сходства со
своим «атаманом» — Наполеоном.
Но имеются и существенные отличия. Капитан
Рамбаль вторично появляется в романе при описании бегства
французской армии. Вместе 'с денщиком он выходит
к русским и сдается в плен. Солдаты отогревают его
у костра. «О мои добрые, добрые друзья! Вот люди!» —
говорит он. Разумеется, это сделано в романе не
случайно. Капитан Рамбаль, прежде хвастливый и
заносчивый, а теперь жалкий и беспомощный, отражал в своей
судьбе судьбу всей «великой армии», остатки которой
Наполеон бросил на произвол судьбы в Вильпе, ускакав
во Францию.
Полемизируя с историками-бонапартистами,
стремившимися во всем оправдать Наполеона и увидеть даже
в дурных поступках его проявление величия, Толстой
замечает: «Величие как будто исключает возможность меры
хорошего и дурного». Нет, не исключает, ни один
человек не может уклониться от моральной оценки своих
поступков, величие также должно быть измерено мерой
хорошего и дурного. И если поступки человека
безнравственны, если в них содержится «дурное», он не может
рассчитывать на величие: «нет величия там, где нет
простоты, добра и правды».
Воплощением простоты, добра и правды является
Кутузов, вождь народной войны. Он обладает не только
206
моральным превосходством над Наполеоном, но
оказывается и более искусным полководцем. В показе всего
этого — несомненная историческая заслуга Толстого.
Кутузов был гениальным полководцем, он прошел
великолепную школу под руководством Суворова, все
его военные операции отличались глубиной
стратегического замысла. Отечественная война 1812 года, в ходе
которой Кутузов, по глубокой оценке И. В. Сталина,
«загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо
подготовленного контрнаступления»,] явилась триумфом
его полководческого искусства, которое оказалось выше
полководческого искусства Наполеона. В своей
многогранной военной и дипломатической деятельности
Кутузов проявлял присущие ему глубокий и проницательный
ум, блестящее дарование, огромную опытность,
незаурядные организаторские способности.
Однако следует подчеркнуть, что в образе Кутузова
в «Войне и мире» наряду с исторически и психологически
верными чертами его характера имеются и ложные черты.
Толстой всюду стремится отметить, что Кутузов был
лишь мудрым наблюдателем событий, что он ничему не
мешал и ничего не предопределял. В соответствии со
своими историческими взглядами, в основе которых
лежало отрицание роли личности в истории и признание
извечной предопределенности исторических событий,
Толстой раскрывает образ Кутузова как пассивного
созерцателя, являвшегося якобы лишь послушным орудием в
руках провидения.
Поэтому у Толстого «Кутузов презирал и знание и
ум и знал что-то другое, что должно было решить дело».
Это другое было «старость», «опытность жизни». Князь
Андрей при встрече с ним заметил, что у Кутузова
осталась лишь «одна способность спокойного созерцания
событий». Он «ничему полезному не помешает и ничего
вредного не позволит».
По мысли Толстого, Кутузов руководил лишь
моральным духом войск: «Долголетним военным опытом он
знал и старческим умом понимал, что руководить
сотнями тысяч человек, борющихся со смертью, нельзя
одному человеку, и знал, что решают участь сражения не
«Большевик», 1941, № 3.
207
распоряжения главнокомандующего, не место, на
котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей,
а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он
следил за этой силой и руководил ею, насколько это
было в его власти». А в другом месте Толстой пишет, что
в сражении все зависит «от того человека, который в
рядах закричит: пропали, или закричит: ура!»
Толстой был, конечно, глубоко прав, когда указывал
на значение морального фактора в войне, играющего
подчас решающую роль в сражениях. Здесь Толстой прав
не только как писатель и великий психолог, но и прав
с чисто военной точки зрения. Вся буржуазная и
официозная историография, сводившая историю к подвигам
полководцев и героев, воспевавшая большей частью
захватнические войны, не придавала моральному
фактору решающего значения. Именно Толстому,
понявшему народный характер Отечественной войны 1812 года,
суждено было сделать это важное открытие и
художественно запечатлеть его в незабываемых картинах.
Толстой и по собственному опыту Севастопольской обороны
знал, что только морально-патриотическая стойкость
русских войск позволяла им так долго удерживать
героический город перед лицом до зубов оснащенного
передовой техникой врага. Подчеркивая роль морального
фактора в войне, Толстой наносил сильнейший удар по
многочисленным военным концепциям,
предусматривавшим только мертвую технику ярмий и забывавшим о
живых солдатах. И тем не менее организаторская роль
Кутузова в Отечественной войне 1812 года Толстым
сознательно принижена.
Исторический Кутузов, разумеется, прекрасно
понимал, что все из перечисленных элементов играют свою,
в зависимости от обстоятельств, большую или меньшую
роль в войне. Иногда это «место», как было (при
Бородине, — позиция, не случайно подвернувшаяся русской
армии, как пишет Толстой, а сознательно выбранная
Кутузовым и вполне отвечавшая требованиям обороны.
Иногда — во-время отданное «распоряжение
главнокомандующего»,— таким было распоряжение Кутузова,
направившего в самый разгар Бородинского сражения
кавалерийский корпус Уварова и казачью конницу Платова
для охвата левого фланга французов и тем сорвавшего
208
начатую атаку Наполеона* па центр русских позиций.
Иногда — превосходство в вооружении, как было при
Тарутине и Малоярославце, где Кутузов преградил путь
Наполеону на Калугу, в частности, и потому, что имел
622 орудия против 360 у французов.
Все это Толстой, однако, переосмысливает по-своему,
в свете своей «философии» войны. Это особенно
раскрывается в его отношении к знаменитому фланговому маршу
Кутузова. Толстой прилагает немало усилий для
доказательства того, что в этом маневре русской армии не было
ничего «глубокомысленного», что в основе его лежали не
глубокий стратегический замысел и сознательная воля
полководца: по его мнению, «фланговый марш нельзя
приписывать никакому одному человеку», а неким
стихийным законам, в действительности управляющим
войной, и армия, повинуясь этим законам, якобы естественно
повернула на Калужскую дорогу.
Но стоит обратиться к историческим документам, и
от всех этих искусственных и ложных в своей основе
построений не останется и следа. Идея флангового марша
возникла не стихийно, а принадлежала Кутузову. Вот
выдержки из его писем. 3 сентября, то есть спустя
неделю после Бородинского сражения, Кутузов уже ставил
в известность подчиненного ему Ф. Ф. Вииценгероде о
новой задуманной им операции: «Намерение мое есть
сделать завтра переход по Рязанской дороге; потом
другим переходом выйду я на Тульскую, а оттуда на
Калужскую дорогу в Подольск. Сим движением я надеюсь
привлечь на себя все внимание неприятеля, угрожая с
тылу».1 11 сентября он сообщал в письме родным:
«Истинно русские понимают, что кампания в настоящее
время только еще начинается. Вы можете спокойно
оставаться у себя, потому что мы переносим театр войны,
прикрывая Тулу и Калугу».2 После того как
Наполеон, оказавшись бессильным прорваться в южные
губернии, окончательно повернул на старую, разоренную
им Смоленскую дорогу, Кутузов перешел к его
неотступному 'преследованию. «Думаю,—заявил он, — нанести
Наполеону величайший вред параллельным преследова-
1 «Знамя», 1948, № 5, стр. 98.
2 Там же, стр. 99.
С. Бычков 209
нием и действовать на его операционные пути...»
Известно, что этот «фланговый марш» Кутузова,
означавший по своему характеру подлинное контрнаступление,
и привел к окончательной гибели полчища Наполеона.
Однако мощный реализм Толстого нередко
преодолевал сковывающие его путы фаталистической философии,
и на страницах романа появлялся Кутузов, полный
кипучей энергии, решимости, активного вмешательства в ход
военных действий. Таков Кутузов, потрясенный
рассказом князя Андрея о бедствиях России, «с злобным
выражением лица» говорящий по адресу французов: «Дай
срок, дай срок». Таков Кутузов и на Бородинском поле,
когда немец Вольцоген со своим холодным умом и
сердцем, будучи совершенно равнодушным к судьбе России,
докладывает ему по поручению Барклая-де-Толли, что
все пункты русских позиций в руках неприятеля и что
наши войска бегут. Рассвирепевший Кутузов кричит на
Вольцогена: «Как вы... как вы смеете!.. Как смеете вы,
вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего
не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его
сведения несправедливы и что настоящий ход сражения
известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему...
Неприятель отбит на левом и поражен на правом
фланге... Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему
на завтра мое непременное намерение атаковать
неприятеля... Отбиты везде, за что я благодарю бога и
наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра
погоним его из священной земли русской». Здесь — все
в движении, Кутузов — сама энергия, подлинный
полководец, умеющий во-время ободрить войска. И хотя па
следующий день осуществить наступление из-за сильных
потерь не удалось, приказ Кутузова сыграл решающую
роль, он дошел до сердца каждого солдата и вдохнул
в него новые силы, ибо был основан на глубоком
патриотическом чувстве, «которое лежало в душе
главнокомандующего, так лее как и в душе каждого русского
человека».
А какая энергия решимости, какая сила гениальной
йроницательности проявлены Кутузовым на военном
совете в Филях, когда он отдавал приказ об оставлении
Москвы во имя спасения русской армии! В этих и
некоторых других эпизодах «Войны и мира» перед нами
210
подлинный полководец Кутузов. Но в целом, как видим,
его образ является глубоко противоречивым.
Этот образ служит, быть может, самым ярким
показателем глубокой внутренней противоречивости всей
идейной проблематики «Войны и мира». Уже здесь, еще до
завершения духовного кризиса, Толстой высказывает ряд
идей, которые впоследствии войдут составной частью в
его учение, уже здесь его гуманизм иногда теряет свои
конкретно-исторические и национальные очертания, и
писатель рассуждает о человеке вообще, о некоей
абстракции, лишенной каких-либо сословно-классовых,
национальных признаков. Уже здесь начинает вступать в права
его доктрина «совести» и «всеобщей» любви, и писатель
оценивает некоторые поступки своих героев с позиций
«вечных» начал нравственности, вечных истин религии.
На страницах «Войны и мира» получает дальнейшее
развитие теория «непротивления злу» и нравственного
самоусовершенствования, едва намеченная в его более
ранних произведениях.
В прошлом находились исследователи, которые
полагали, что «Война и мир» легко может обойтись без всех
историко-философских отступлений. Так, историк
русского романа К. Ф. Головин считал, что все
«философствование» Толстого — это «простой нарост на
колоссальном здоровом теле, и нарост этот, как мох на стволе,
можно снять, не повредив коры. Если из «Войны и мира»,
где субъективному философствованию отведено особенно
широкое место, выкинуть все посторонние рассуждения,
всю теорию исторического фатализма, роман останется
цел и невредим, и ни одна из его фигур не утратит своей
яркой рельефности».!
Но дело-то в том, что в «Войне и мире» нет
«посторонних рассуждений», поэтому было бы глубокой
ошибкой механически выделять в произведении философскую
струю, отсекая ее от художественной ткани. Да и трудно
себе представить «Войну и мир» без этих отступлений,
изъятие которых в сущности ничего не дает, так как
религиозно-этические идеи писателя проникают и в ху-
1 К. Головин. Русский роман и русское общество, СПБ., 1897,
стр. 349.
* 211
дожественные образы, йаходят свое отражение в тех или
иных чертах героев.
Разве не живым воплощением доктрины «всеобщей»
любви, «поэзии христианского самоотвержения» является
образ Марьи Болконской? Именно в таком ключе этот
образ, отличающийся удивительным единством
поэтического замысла, выдержан от начала до конца. «Поэзия
христианского самоотвержения» пронизывает собой все
поступки, мысли и чувства княжны Марьи, определяет
ее отношение к самым различным людям. Писатель
показывает, как в душе княжны Марьи борются два
мира — нравственный и житейский, но жила она
преимущественно в мире нравственном. Будучи очень
религиозной, она всегда порывалась к чему-то неземному. Сколько
незаслуженных мучений и страданий доставлял ей отец,
а она была кротка, она прощала ему: умирая, он назвал
ее «душенькой». И эта неожиданная нежность отца,
которому она в какой-то миг желала скорейшей смерти,
потрясла Марью, в ней раскрылась любящая,
впечатлительная душа, она забыла все страдания, которые
причинил ей отец, и помнила его лицо последних дней жизни:
«робкое и слабое».
После смерти отца княжна Марья находилась в
состоянии крайней отрешенности от жизни, никуда не
хотела ехать, ей было все равно, но подлое предложение
француженки Бурьен, безнравственной и лживой
карьеристки, обратиться за покровительством к генералу Рамо
вызвало ее к жизни. Княжна Марья ужаснулась «мысли
о том, что она могла остаться во власти французов».
Она чувствовала себя представительницей отца и князя
Андрея, представительницей древнего русского
дворянского рода.
Французы будут хозяйничать в кабинете князя
Андрея, разорят свежую могилу отца — это мучительно
тяжело, видеть это невозможно, и она решает немедленно
ехать. Так в княжне Марье пробуждаются глубокие
патриотические чувства.
В дальнейшем писатель показывает нежную и
страстную любовь княжны Марьи к брату; ее любовь к
племяннику Николеньке, к мужу и детям. И всюду
проявляется ее духовно богатая натура. Но она чувствовала,
говорит Толстой, что любит еще недостаточно, и желала
212
любить и мужа, и детей, и Николеньку, и «всех ближних
так, как Христос любил человечество». Ее душа «всегда
стремилась к бесконечному вечному и совершенному...»
Толстой поэтизирует духовную «нравственную» красоту
в княжне Марье, отмечая, что в ее лице было
«выражение тонкой, внутренней духовной работы». Так до конца
дорисовывается характер княжны Марьи, этого
воплощения «поэзии христианского самоотвержения».
Особенностями духовного склада, характера княжны
Марьи определяется и своеобразие ее портретной
характеристики. Княжна Марья живет в высоком нравственном
мире, ее занимают и волнуют преимущественно интересы
духовные, поэтому решающее значение в ее портрете
приобретают глаза как «окна» души. Вот она встречает князя
Андрея: «Марья повернулась к брату, и сквозь слезы...
любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту
минуту больших лучистых глаз остановился на лице князя
Андрея». Князь Андрей уезжает, она вручает ему образок
спасителя: «Из больших глаз ее светились лучи доброго
и робкого света». На Ростова при первой встрече она
взглянула «своим глубоким и лучистым взглядом», и
уже после того, как она рассказала ему свою историю и
заметила слезы на его глазах, княжна Марья
«благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым
взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица».
Новая встреча с Ростовым произошла в Воронеже, в доме
Мальвинцевой. Когда доложили о приезде Ростова,
«княжна не выказала смущения; только легкий румянец
выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым
светом». И еще встреча. «Едва только она услыхала его
голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая
в одно и то же время и печаль ее и радость». В Лысых
горах, уже замужем за Ростовым, княжна Марья плачет,
что Николай избил богучаровского старосту, и «когда
она плакала, лучистые глаза ее приобретали неотразимую
прелесть».
Так от начала до конца княжну Марью сопровождают
«лучистые глаза» или «лучи из глаз» как знак или
символ ее высокой духовной жизни.
«Лучистый взгляд» — фамильная черта князей
Болконских. У Марьи это одна из наиболее ярко выраженных
«примет», но и у князя Андрея тоже «лучистый взгляд».
219
Вот встреча с Пьером, который говорил ему о масонстве
как об учении равенства, братства, любви. Князь Андрей
верил и не верил этому. Он «вздохнул и лучистым,
детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся
восторженное, но все робкое перед первенствующим
другом, лицо Пьера». У сына князя Андрея Николеньки тоже
«лучистые глаза». Так собственно одной портретной
чертой определяется принадлежность этих лиц к одному
роду, все представители которого исполнены высокого
духовного начала и неустанных поисков смысла жизни.
У княжны Марьи свои определенные взгляды на мир
и на роль человека в жизни. Она говорит князю Андрею,
что горе послано на землю богом, а не людьми: «Люди —
его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что
кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости.
Мы не имеем права наказывать». Здесь высказана целая
социально-этическая концепция, выражавшая
предопределенность всего сущего. Человек не может перестроить
мир по своему усмотрению, он лишен своей воли и
является лишь орудием провидения, поэтому один человек
не может судить другого человека, для этого существует
высшая инстанция — бог.
Мысли княжны Марьи о прощении своих врагов
глубоко запали в сознание князя Андрея, и он прощает
Анатоля Курагина, это ничтожество, принесшее ему
столько страданий. Еще не так давно князь Андрей
разыскивал его по всем фронтам, чтобы вызвать на дуэль,
а теперь, когда, сам смертельно раненный, увидел его
на операционном столе, почему-то «восторженная
жалость и любовь к этому человеку наполнили его
счастливое сердце». Религия всепрощения, «всеобщая» любовь,
та самая, которой учила княжна Марья, — таков итог
жизненных исканий князя Андрея.
Разве не эти же мысли о «всеобщей» любви и
братстве, граничащие с пацифизмом, пронизывают
переживания Николая Ростова в первом серьезном бою? Ростов
с большим волнением ринулся в атаку. Он настиг
французского офицера и выбил его из седла, и тут же все его
«оживление» исчезло. Он смотрел на противника и
видел перед собой белокурое, молодое, «с дырочкой на
подбородке» лицо, «не вражеское лицо, а самое простое
комнатное лицо»,
214
Так с кем же воевать, когда даже у отборных
французских офицеров ;не вражеские, а «комнатные» лица.
Война лишена смысла и не вытекает из естественного
озлобления одних против других, — думал Ростов,
переживая внутреннее душевное смятение; все его понятия
и представления смешались. Ему было чего-то совестно,
отчего-то неловко. Он думал о своем «блестящем
подвиге», так не соответствовавшем его «книжным»
представлениям о храбрости и геройстве, доставившем ему
георгиевский крест и репутацию храбреца. «За что ж мне
убивать его? У меня рука дрогнула. А мне георгиевский
крест. Ничего, ничего не поним'аю!»
Эти же «истины» религии возвращают Наташу к
жизни после ее несостоявшегося побега с Курагиным. Ее
лечат лучшие доктора лучшими лекарствами, и все их
усилия оказываются тщетными. Но стоило Наташе пойти
в церковь, начать говеть, как через неделю она
почувствовала себя возрожденной, она прошла через
религиозное покаяние, пережила своеобразное молитвенное
очищение, церковь излечила ее от душевного недуга и
сделала вновь способной воспринимать все радости
жизни. Реакционный смысл этой поэтизации религии и ее
якобы нравственного «очистительного» воздействия на
человека очевиден. Характерно, что в описании
богослужения, внешнего вида священника, убранства церкви,
религиозных чувств Наташи, в широком применении
церковной терминологии нет и намека на последующие
антиклерикальные мотивы в творчестве писателя.
Напротив, все это подано всерьез, без насмешки и иронии,
через восприятие самой Наташи, охваченной молитвенным
экстазом и переживавшей чувство «страха и
благоговения к богу».
Доктрина совести и отвлеченного гуманизма
определила собой и сцену допроса Пьера м'аршалом Даву,
которого Толстой за беспримерную жестокость в другом
месте романа справедливо называет Аракчеевым
Наполеона, а здесь рисует его человеколюбие.
Писатель выделяет одну черту во всем облике и
поведении Даву: «холодное лицо», «мерный, холодный
голос» — все это выражало жестокость маршала,
отсутствие в нем человеческой теплоты и человеческого
участия к своим жертвам. Но оказывается, что эти внешние
215
портретные детали не выражали сущности Даву: на.
самом деле он был иным. Пьер считал себя обреченным
на казнь, его судьба находилась в руках этого страшного
человека, которому, казалось, были чужды все
человеческие движения и порывы. Но стоило Пьеру и Даву на
несколько секунд встретиться глазами, как между ними
«установились человеческие отношения». Жизнь Пьера
была спасена, потому что Даву увидел в нем человека,
а до этого он был для него только «обстоятельством»:
«Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера.
Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот
взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий
войны и суда, между этими двумя людьми установились
человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту
смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей
и поняли, что они оба дети человечества, что они
братья».
Внешняя холодность Даву, оказывается, не выражала
его настоящих качеств: во всем виноват был «порядок»,
«склад обстоятельств», то есть нечто обезличенное,
бездушное, стоящее над человеком, в том числе над Даву.
И этот неумолимый «порядок» вынуждал его совершать
жестокие дела, разговаривать «холодным» голосом,
посылать людей на казнь, но все это совершалось по
необходимости, все это являлось внешним проявлением
его деятельности, а в'нутренне он такой же
человек, и все они — и палач и жертва — «дети
человечества».
И хотя в основе этой сцены лежит действительный
исторический факт (аналогичная встреча была у В. А.
Перовского с Даву), тем не менее вся она является ложной
от начала до конца, так как в ней воплощена ложная
доктрина совести и «всеобщей» любви. Здесь правда
единичного факта, произвольно обобщенная, превратилась в
ложь.
Эти примеры можно было бы умножить, все они с
очевидностью говорят о том, что религиозно-этические
идеи Толстого определяли многое и в образной системе
«Войны и мира». Толстой-художник и Толстой-мыслитель
едины, и всякое разделение их является надуманным и
ложным, ведущим к грубейшим искажениям в
истолковании его творчества,
216
рднако Толстой-художник в целом оставался верен
действительности, и в этом была его сила. Мощный
реализм Толстого опрокидывал жалкие карточные домики
его ложных философских построений. Вопреки идеям
пассивности и «непротивления злу» Толстой в «Войне и
мире» прославлял величайшую активность человека, он
воспел святую ненависть народа к врагу и создал
подлинный апофеоз героизма народных масс, истреблявших
наполеоновские полчища.
И именно глубокое постижение писателем дум и
чаяний народа сообщило его реализму такую колоссальную
мощь. Народность, демократизм творчества Толстого
определили и все художественные особенности его великой
эпопеи.
Толстой выступил в литературе как глубочайший
художник-новатор. Уже в своих «Севастопольских
рассказах» он совершил подлинный переворот в изображении
войны. В «Войне и мире» искусство Толстого-баталиста
раскрывается с невиданной еще в мировой литературе
силой. Он впервые с такой глубиной изобразил психологию
воюющих масс, никто до него не показывал с такой
естественностью, простотой и правдивостью поведение
человека на войне. Он нашел наиболее убедительные и точные
определения для характеристики храбрости и геройства
русского человека, которые носят специфически
национальные формы и у русских выражаются иначе, чем у
других народов. Толстой даже готов не принять известного
подвига генерала Раевского, вышедшего на плотину с
двумя своими сыновьями, именно потому, что, по мнению
Толстого, все здесь происходило слишком картинно. Для
геройства же русских характерны простота, скромность,
отсутствие всего показного.
В «Войне и мире» можно найти описание всех видов
боя — от оборонительных сражений до сокрушительных
атак конницы и казаков. В этих боях по-разному ведут
себя и офицеры и солдаты, чаще всего проявляя
мужество, стойкость, бесстрашие перед лицом опасности. Все
зависит от морального состояния войск.
Писатель много внимания уделяет психическому
состоянию человека, идущего в бой, то есть истокам того
спокойствия перед лицом опасности, которое отличает
поведение обстрелянных солдат и офицеров. Николай Ро-
217
стов во главе эскадрона гусар сближается с противником,
впереди французы, неизбежно кровавое сражение, но он
не думает о том, что ожидает его: «Он думал о лошади,
об утре, о докторше и ни разу не подумал о предстоящей
опасности». Опасность, разумеется, от этого не исчезла,
но его хладнокровие покоилось на том, что он «выучился
управлять своею душою перед опасностью».
Ощущение опасности, однако, действует возбуждающе
на человека, и он переходит от своего обычного,
будничного настроения к настроению праздничного оживления
и подъема. Этот психологический мотив лежит в основе
настойчивого изображения писателем веселящего
действия стрельбы на человека. Цепь «весело»
перещелкивалась с неприятелем. «Ростову, как от звуков самой
веселой музыки, стало весело на душе от этих звуков».
Стрельба действовала на него «радостно» и
«возбудительно». В описании атаки против французских драгун
широко использованы охотничьи слова и термины.
Ростов своим «зорким охотничьим глазом» первый увидел
французских драгун, преследующих наших улан, он
смотрел на это «как на травлю» и в соответствующий момент
без приказа, как «на охоте», выпустил свой эскадрон
наперерез французам с тем чувством, с каким он «несся
наперерез волку». Накануне дела Ростов вспоминал во всех
деталях об осенней охоте в Отрадном, где была и травля
волка, и поэтому развернутое сравнение атаки с охотой
являлось здесь вполне естественным и психологически
подготовленным.
«Война и мир» явилась новым словом в области
мирового эпического творчества. Бесплодно судить романы
Толстого по канонам общеевропейского романа: они все—
«'Война и мир» в большей мере, «Анна Каренина» в
меньшей — являются отступлениями от традиций, смелым
нарушением их, новым словом в искусстве романа. Уже
одно смешение эпически спокойного повествования и
гневных обличений оратора-проповедника, лирики и
'публицистики являлось нарушением европейских традиций
романа. Заметим при этом, что «Война и мир» не являлась
романом, а совершенно новым, невиданным в
традиционной жанровой классификации, типом произведения,
своеобразно сочетавшим черты эпопеи, исторического романа
и хроники. Это понимал сам Толстой. Это ощущали и его
218
современники. Н. Страхов, указывая на «полнейшую
оригинальность» «Войны и мира», не без иронии писал
Толстому: «Наш первый словесник, Никитенко, недаром
разгневался на то, что «В[ойна] и м[ир]» не подходит ни под
один род словесных произведений»,х И. Тургенев
впоследствии точно определил жанровое своеобразие «Войны и
мира», как произведения оригинального и
многостороннего, заключающего «в себе вместе эпопею, исторический
роман и очерк нравов».2
Толстой поражал современников и поражает нас своим
стремлением охватить жизнь во всем ее многообразии.
Отсюда многоплановость, полифонизм его «Войны и
мира», как и последующего его романа «Анна Каренина»,
обилие действующих лиц, параллельность интриг. Но
главным было, пожалуй, то совершенно новое, свежее
видение мира, которое в Толстом отмечал еще
Чернышевский.
Художественный метод писателя с его напряженным
психологизмом также придавал искусству Толстого
совершенно неповторимое своеобразие. Толстой —
изумительный мастер психологического анализа, он воссоздает
реальную жизнь через глубокий показ внутренних
переживаний человека, его «диалектики души».
«Война и мир» — это несметное богатство
человеческих чувств и человеческих переживаний. От юной
восторженности Пети Ростова или глубокой задумчивости Ни-
коленьки Болконского до неутешного горя матери о своем
погибшем сыне — все оттенки, вся глубина, все
разнообразие различных психологических натур, эмоциональных
состояний здесь выражены с огромной художественной
силой. Любовь и ненависть, безграничная радость и
неисходные моральные терзания, надежды и разочарования,
глубокий скепсис и религиозная экзальтация, беззаветная
преданность родине и узкоэгоистические помыслы,
эмоциональная отзывчивость и отвратительная черствость
души — жизнь во всех ее неисчислимых проявлениях, от
первого крика младенца до последнего вздоха старца,
1 «Толстовский музей, т. П. Переписка Л. Н. Толстого с
Н. Н. Страховым, 1870—1894», СПБ., 1914, стр. 35.
2 Сб. «Толстой в русской критике», изд. 2-е, М, 1952, стр. 296.
219
нашла свое отражение на широком полотне «Войны и
мира».
Толстой с изумительным мастерством воссоздает и
тончайшие переживания Наташи в разных фазах ее
духовного развития, и сложные борения в душе Пьера, и
мучительные искания князя Андрея, и напряжение
духовной жизни Кутузова, мысль которого была занята судьбой
России и организацией победы над Наполеоном. И
вместе с тем средствами психологического же анализа
писатель тонко разоблачает мнимое величие Наполеона,
показной патриотизм Растопчина, изворотливость и
подлость князя Василия, лживость Шерер и других
представителей светского круга. Герои «Войны и мира»
предстают перед нами во всей сложности своей душевной
жизни, мы присутствуем как бы при зарождении и
развитии их мыслей и чувств.
Широкий эпический охват исторических событий и
тончайшее мастерство выразительной художественной
детали, напряженный психологический анализ и
изумительная скульптурная лепка портрета, необыкновенное
чувство природы и глубочайшее проникновение в самые
основы жизни и поведения человека — все эти
особенности дарования Толстого ярко отразились в его
бессмертной эпопее.
Нередко Толстого упрекали в «тяжеловесности» стиля,
в излишнем и якобы намеренном нагромождении фраз.
Критики были не правы, потому что в стиле Толстого
выражаются особенности его художественного мышления.
Чехов однажды сказал примечательные слова: «Вы
обращали внимание на язык Толстого? Громадные периоды,
предложения нагромождены одно на другое. Не думайте,
что это случайно, что это недостаток. Это искусство, и
оно дается после труда. Эти периоды производят
впечатление силы».:
1
* * *
эпилоге «Войны и мира» Толстой исторически верно
воссоздает общественно-политическую атмосферу в
России 1820-х годов, тем самым как бы возвращаясь к исход-
С. Щ у к и н. Из воспоминаний о Чехове — «Русская мысль»,
М> 10. стп. 45
1911, № 10, стр. 45-
220
ным хронологическим позициям своего первоначального
замысла романа о декабристе. Характерно, что к главам
романа «Декабристы», опубликованным в 1884 году, было
предпослано примечание от редакции, к тексту которого
не мог не иметь отношения сам Толстой. В этом
примечании говорилось следующее об эпилоге «Войны и мира»:
«В конце этого романа видны уже признаки того
возбуждения, которое отразилось в событиях 14-го декабря
1825 года».1
Пьер Безухов возвращается из Петербурга, куда он
ездил" как один из «главных основателей» тайного__обще-
ства «советоваться»- с князем Федором, iL декабряр
1820 года — эта дата, особенно указание на декабрь,
введена, разумеется, не случайно. Надо было как-то соотне*
сти политические взгляды Пьера с идеологией ттркя^рр^л/т
Принадлежность Пьера к тайному ооществу несомненна.
Во-первых, в целях конспирации он называет свойх~новых
друзей только по именам: князь Федор, князь Сергей; во-
вторых, даже в кругу своей семьи он заговорил о
положении в столице «оглядываясь» и на вопрос Денисова
отвечал, «значительно взглядывая исподлобья». Из этого
следовало, что Пьер вел «запретный» политический разговор,
тем более что говорить было о чем.
Сразу же после победы над Наполеоном царское
правительство взяло открыто реакционный курс как во
внешней, так и во внутренней политике. Во внешней политике
это нашло свое выражение в организации в 1815 году
Священного союза реакционных держав, призванного
вести борьбу с революционным движением в Европе.
Александр I был поглощен вопросами внешней политики,
он часто выезжал на заседания конгрессов Священного
союза, за что Пушкин его метко окрестил «кочующим
деспотом». Вопросы внутренней политики, дела
государственные вершились «временщиком» Александра I
Аракчеевым. Этот «всей России притеснитель» ввел в стране
режим полицейского террора и жесточайших
преследований свободной мысли. В ряде губерний были созданы
военные поселения, где осуществлялись особенно жестокие
формы военно-крепостного угнетения крестьянства. В_ар_^
мии царила палочная дисциплина. В области просвещения
1 Сборник «XXV лет», СПБ., 1884, стр. 216.
221
подвизались мракобесы и мистики типа А. Голицына
(министр просвещения) и М. Магницкого .(попечитель
Казанского учебного округа), которые с неумолимой
суровостью подавляли всякие проявления вольнодумства,
стремились насадить в учебных заведениях дух
солдатской казармы, а все преподавание построить на основе
библии. В Петербурге широкое влияние приобретают
различные мистические секты, в частности изуверская
секта Е. Ф. Татариновой, «собрания» которой посещал
Голицын, и которой покровительствовал сам царь. На русский
язык переводятся сочинения немецкого мистика Эккартс-
гаузена. В Петербург приезжают проповедница
мистического учения баронесса Крюднер, имевшая влияние на
Александра I, мюнхенский мистик Госснер и другие.
Активизируется Библейское общество, во главе которого
стоял тот же Голицын, — Александр I состоял членом
этого общества. Таким образом, вся правительственная
политика оказалась в руках крайних реакционеров и
мракобесов.
Естественно, что в народе нарастал отпор этому
наступлению реакции. Ширилось крестьянское движение
против крепостного гнета, принявшее особенно грозные
формы на ^oh^^J^18-- 1820^годах. Усиливались
волнения среди крепостных рабочих. Росла ненависть к
угнетателям среди «военных поселян», которая Тзылилась
в чугуевское восстание 1819 года, подавленное с
невиданной жестокостью самим Аракчеевым. Наконец
усиливались брожения в армии. 16 октября 1820 года произошло
возмущение в Семеновском гвардейском полку, над
которым шефствовал Александр I, против палочной дисци-
^плины, введенной командиром полка Шварцем. Это
• вызвало переполох в правительственных сферах. Полк
в полном составе был заточен в Петропавловскую
крепость.
В обстановке все нараставшего протеста против кре-
постническо-самодержавного гнета формцровалась^идеа^
б^ литературных произведениях
дека9О1^5§ЕН5МЗ рур р
бристы дали ясную и резкую оценку положения в стране.
Рылеев выступил со своим обличительным стихотворением
«К временщику». Декабрист Н. Бестужев вспоминал:
«Все государство трепетало под железною рукой любимца-
222
правителя. Никто не смел жаловаться: едва возникал
малейший ропот — и навечно исчезал в пустынях
Сибири или в смрадных склепах крепостей». В этих
условиях сатира Рылеева своей неслыханной правдой вызвала
среди жителей столицы подлинное «оцепенение»: «Это
был первый удар, нанесенный Рылеевым самовластью».1
И действительно, поэт-революционер смело и резко
бросил в лицо Аракчееву слова, полные негодования:
«надменный временщик», «неистовый тиран родной страны
своей», человек «с подлою душой», чья «власть ужасная»
стеснила свободу народа, доведенного «налогом
тягостным» до нищеты. Рылеев дал в сатире яркую и
исторически правильную оценку Аракчеева. Поэт гневно обличал
этого «подлеца» и указывал на неизбежность кары за все
совершенные им преступления.
Характерно, что в том же 1820 году и Пушкин
заклеймил Аракчеева в своих язвительных эпиграммах. «Холоп
венчанного солдата» предстает в этих эпиграммах как
человек злобный и мстительный, лишенный ума, чувств
и чести, но он «друг и брат» царя, поэтому «кинжала Зан-
дова везде достоин он». Гнев народных масс против
Аракчеева и военных поселений выражался в народных
песнях, переходивших из уст в уста.
Рылеев предсказывал: если Аракчеев не будет убит,
то «за зло и вероломство» ему «свой приговор произнесет
потомство!» Толстой участвует в произнесении этого
приговора, создавая выразительный образ царского сатрапа,
отличавшегося исключительной жестокостью еще в
самом начале своей карьеры на посту военного министра.
Князь Андрей, приехавший в августе 1809 года в
Петербург, попадает на прием к Аракчееву по поводу своей
записки о военном уставе. Уже сама атмосфера,
царившая в приемной Аракчеева, отражала его мрачную
личность: все чувствовали себя неловко, и все чего-то боялись.
Как только открывалась «страшная дверь», ведущая в
кабинет, на лицах всех ожидающих «выражалось мгновенно
только одно — страх». В портретных деталях писатель
воссоздает облик этого невежественного солдафона —
«висячий красный нос» и «толстые морщины» на лице,
1 «Воспоминания Бестужевых», М.—Л., 1951, стр. 11—12.
223
«нахмуренные брови», «тупые глаза»,
«ворчливо-презрительный тон» разговора. Резолюция, положенная им на
записке князя Андрея, была «без заглавных букв, без
орфографии, без знаков препинания», — все это
колоритно характеризует зловещий образ всесильного
временщика, тупого, необразованного и жестокого. Оценка
личности Аракчеева и его мрачной деятельности Толстым
полностью совпадает с оценкой Рылеева и Пушкина.
Политическое напряжение в стране с каждым годом
нарастало. Это не могло не отразиться на деятельности
Союза Благоденствия, члены которого горячо и страстно
обсуждали коренные вопросы политического положения
России. «Дух преобразования», по словам Пестеля,
заставлял «умы клокотать». Настроение передовой
молодежи, ее возбуждение, ее ожидания важных перемен
в жизни страны ярко выразил Пушкин еще в послании
«К Чаадаеву» A818): «Мы ждем с томленьем уповаиья
минуты вольности святой».
В сущности HjTlbegMijDM^^
это необычайное оживление, и он заразился всеобщим
кипением умов, j^ он в своем, сообщен1Й~называет^хар"аК-
терные темиГэпохи, подвергавшиеся обсуждению в
тайных декабристских обществах: царь, предавшийся
мистицизму, Аракчеев, военные поселения, страдания народа,
палочная дисциплина и «шагистика» в армии, воровство
в судах, реакция и мистицизм в области просвещения.
Царь ни во что не вмешивается. Все государственные
дела вершат люди «без совести и чести» — Аракчеев,
Магницкий и им подобные, «которые рубят и душат все
сплеча», в стране царит произвол. «Все гибнет», — с тревогой
говорит Пьер. «Все видят, что это не может так идти. Все
слишком натянуто и непременно лопнет».
Сообщение Пьера о положении в стране и Петербурге
не только по тематике, но и по фразеологии близко
напоминает те оценки политической ситуации в стране,
которые давали декабристы Александр Бестужев и Николай
Каховский в своих письмах к царю, а также другие
декабристы в своих показаниях на следствии. Так, князь
С. Трубецкой на допросе 15 декабря 1825 года писал
о том, что «свободный образ мыслей» укоренился в нем
в результате наблюдений за политическим положением
224
России: «...состояние России таково, что неминуемо
должен в оной последовать переворот со временем; сие
мнение особен-но основывал я: 1-е) на чистых возмущениях
крестьян против помещиков и на продолжительности оных,
равно как и умножении таковых возмущений; 2-е) на
всеобщих жалобах на лихоимство чиновников в губерниях
и, наконец, 3-е) полагал, что образование военных
поселений будет также со временем причиною переворота».1
Таким образом, Пьер в оценке политического
положения в стране во многом сходился с декабристами. «Мы
были дети 1812 года», — говорил о декабристах М.
Муравьев-Апостол. Это же мог бы сказать о себе и Пьер,
потому что его настоящее духовное рождение произошло
также в 1812 году, и, следовательно, он в такой же мере
представитель «новой России», как и декабристы.
Но имеются и определенные различия. Если
декабристы, учитывая обострение политической обстановки
в стране, реорганизовали Союз Благоденствия и создали
два новых тайных общества — Южное и Северное,
которые занялись разработкой планов «военной революции»
и подготовкой к свержению самодержавия, то Пьер, в
условиях назревания «неминуемого переворота» и «чтобы
противостоять общей катастрофе», выступил со своим
особым решением назревших социальных вопросов. Он
предложил создать «Общество настоящих
консерваторов», знаменем которого должна быть «деятельная
добродетель»» Это общество, по мысли Пьера, не будет
враждебно правительству; напротив, при известных
обстоятельствах оно может быть не тайным, его члены будут играть
роль «помощников» правительства. «Мы только для
того, — говорит он Ростову, — чтобы Пугачев не пришел
зарезать и моих и твоих детей и чтоб Аракчеев не послал
меня в военное поселение,"— мы только для этого беремся
рука с рукой,, с одною целью общего блага и общей
безопасности».
Здесь до конца раскрываются политические взгляды
Пьера. Правда, и декабристы были страшно далеки от
народа, и они боялись ужасов народной революции,
новой пугачевщины; даже К. Рылеев — убежденный респуб-
1 «Восстание декабристов. Материалы», т. I. Госиздат, 1925,
стр. 9.
15 С. Бычков 226
Ликанец и ёождь Левого крыла Северного общества —*
страшился народной революции. В показаниях Верховному
следственному комитету он говорил о том, что «убиение»
императора «неминуемо породит междоусобие и все
ужасы народной революции», а в сатире «К временщику»
он писал: «Народ тиранствами ужасен разъяренный!»
Но декабристы при этом оставались дворянскими
революционерами, они боролись за отмену крепостного права,
стремились свергнуть самодержавие революционным
путем, а наиболее решительные из них — южане — учредить
в России республику. Их программа была
революционной по своему существу и духу, и 'поэтому они не могли
быть «консерваторами». Программа же Пьера сводилась
в сущности к охране прерогатив дворянства как от
Пугачева и возмущения крестьянских масс, так и от
Аракчеева и крайностей реакции. Поэтому «общее благо» и
«общая безопасность» Пьера были на деле благом и
безопасностью дворянства, хотя и дворянства «передового».
Мысль Пьера о том, что при известных
обстоятельствах члены общества могли бы играть роль «помощни-
ков^^щ^тельства;_выражала настроения передовыхкру-
гов русек-еш^^орянства, желавших введения
конституции в стране. Известна;"что правое крыло Северного
общества во главе с Никитой Муравьевым стояло на
позициях конституционной монархии. Некоторые северяне,
выражая определенные ^конституционные чаяния,
надеялись стать в положение «помощников» правительства.
Так, С. Трубецкой — «диктатор» восстания —• показывал
в Следственном комитете, что он и его друзья по тайному
обществу часто говорили между собой о том, что
«каждый из нас, сопутствуя своему государю в трудах
военных, должен и в мирных подвигах его величества по
возможности своей содействовать, что содействие каждого
частно малозначуще, то полезнее действовать общими
силами. Последствие сего, что чем более людей действуют
вместе, тем действие их сильнее».1
Совпадение мыслей Пьера и показаний Трубецкого,
которые вполне отвечают и требованиям устава Союза
Благоденствия, налицо. Союз Благоденствия ставил
1 «Восстание декабристов. Материалы», т. I, Госиздат, 1925, стр. 23.
226
Перед собой Задачу «распространением между
ственниками истинных правил нравственности и
просвещения споспешествовать правительству к возведению
России на степень величия и благоденствия...» В уставе
выражалась надежда на «доброжелательство
правительства» в отношении Союза и его деятельности. Авторы
устава многое в изменении порядков в России связывали
с «исправлением нравов», поэтому в специальном разделе
устава определялись задачи Союза по «распространению
правил нравственности», «истинных правил добродетели»,
по «искоренению пороков», к числу которых относились:
предпочтение личных выгод общественным, подлость,
удовлетворение гнусных страстей, лицемерие, лихоимство и
жестокость с подвластными. В конечном счете своей
морально-просветительской деятельностью Союз желает
объединить все сословия «в государстве и побуждает их
стремиться единодушно к цели правительства: благу
общему, дабы из общего народного мнения создать
истинное нравственное судилище, которое благодетельным
своим влиянием довершило бы образование добрых
нравов и тем положило прочную и непоколебимую основу
благоденствия и доблести российского народа».х
Все это очень важно для понимания меры
политического радикализма Пьера и степени его связи с
идеологией декабризма. Отметим сразу одно существенное
обстоятельство: мысли Пьера о том, что тайное
общество «истинных консерваторов» может встретить
«доброжелательное» отношение со стороны правительства,
потому что его члены намерены играть роль «помощников»
правительства, что знаменем общества должно быть
одно — «деятельная добродетель» и что главная задача—
объединить всех честных и независимых людей в единый
союз, оказывается, перекликаются и в известной мере
повторяют положения устава Союза Благоденствия. И для
высказываний Пьера и для устава характерен морально-
этический пафос. Конечно, из этого еще не следует, что
Пьера можно зачислить в декабристы, эти совпадения,
почти фразеологические, сами по себе еще значат немно-
1 А. Н. Пыпин. Исторические очерки. Общественное
движение в России при Александре I. СПБ, 1908, стр. 551.
* 227
roe. Дело в том, что первая часть устава, определяющий
цель Союза Благоденствия, была известна всем членам
общества, поэтому она нарочито была составлена в очень
осторожных, так сказать, «лойяльных» формулировках и
ограничивалась указанием на морально-просветительские
и даже филантропические задачи общества. Основные
политические цели Союза Благоденствия, такие, как
изменение формы правления в России, отмена крепостного
права, излагались во второй части устава, которая в
целях конспирации была известна только немногим членам
общества.
Кроме того, в решении всех важнейших вопросов
необходим, по мысли JQb^ga^ религиозно-этический подход.
Общество должно походить на немецкий союз Тугенд-
бунд: «Тугендбунд — это Союз добродетели: это любовь,
взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал
Христос...»
Характерно, что на завершающем этапе работы над
«Войной и миром», то есть когда оформлялись основные
идеи эпилога, Толстой пишет проект устава «Общества
независимых» A868), главной мыслью которого было
объединение людей, независимых в своей жизни и
деятельности от правительства. В члены общества мог быть
принят «каждый русский человек, ничего — ни чинов, ни
крестов, ни денег — не получающий от правительства».
Члены, нарушившие эти требования, исключались из
общества. Далее, устав рекомендовал членам: «заниматься
делом, вознаграждающимся не правительством»,
«выказывать пример простоты в жизни», «соблюдать чистоту
нравов в жизни». И вместе с тем общество не ставило
перед собой никаких политических целей и признавало
несовместимым с членством в обществе всякое
противодействие правительству.
Все эти идеи близки к тому, что излагает Пьер Безу-
хов. Толстой в конечном счете приводит Безухова к
проповеди своей религиозно-этической программы обновления
общества и человечества. В сущности знамя «деятельной
добродетели» означало, что надо прежде всего каждому
быть хорошим и в обстановке всеобщей продажности,
реакции, мистицизма сохранить честность, независимость,
верность определенным традициям благородства, здра-
228
вость и независимость суждений — словом, быть
воплощением некоей нравственной чистоты.
Главное внимание обращалось не на изменение
социальных и политических порядков в
самого человека, на_егд,~ нравстврщш&—?амау?овершен-
ствование_
-ТТоэтому толстовский герой, резко и правильно
оценивая политическое положение в стране, не ставит
коренных политических проблем эпохи, не говорит о
свержении абсолютизма и ликвидации крепостного права, хотя
в свое время этот вопрос его волновал, не требует
введения конституции и установления республики, то есть
всего того, что составляло душу декабризма, его
политическую сущность, а сосредоточивает свое внимание
преимущественно на религиозно-этических проблемах,
стремясь уйти от политики в сферу «деятельной добродетели».^
В этом Jgfa6oc~Tjb образа Безуховат здесь отразилось
своеобразное отношение Толстого к декабристам и
декабризму. В соответствующем месте уже было указано,
что писатель в своем первоначальном замысле романа
о декабристе намеревался изобразить героя «мистиком
и христианином». След этого неосуществленного замысла
остался в высказывании Пьера о Тугендбунде, который
якобы насаждал любовь, взаимную помощь, «то, что на
кресте проповедовал Христос...» И хотя мистицизм
отпал, — после общения с масонами Пьер никому теперь
не прощал мистицизма, даже царю, — но «христианское»
начало в духовном облике этого толстовского
«декабриста» сохранилось.
Писатель ярко воссоздает политическое размежевание
в стране, которое резко ощущается даже в условиях лысо-
горского дома. После рассказа Пьера о положении в
столице и Тугендбунде раздался решительный голос
Денисова: «Все скверно и мерзко, я согласен, только тугекд-
бунд я не понимаю, а не нравится — так бунт, вот это
так!» Кстати об этой фразе — как свидетельствуют
документы, она исторически точна. Сохранился рисунок
декабриста В. Л. Давыдова на допросе, сделанный
работавшим в следственной комиссии А. А. Ивановским. Под
рисунком рукою Ивановского записано: «Василий
Львович Давыдов, на слова, что тайные общества наши были
модою и подражанием немецкому Тугенд-бунду, отвечал:
229
«Извините, господа. Не к немецкому к Тугенд-бунду,
а просто к бунту я принадлежал». !
Видимо, этот ответ Давыдова стал крылатой фразой.
Толстой мог слышать ее от кого-либо из декабристов.
Считая ее характерной для умонастроений передовых
деятелей декабристской эпохи, он ввел ее в свой
роман.
На реплику Денисова Пьер ответил улыбкой, но
ничего не сказал потому, что он против «бунта», против
насильственных методов изменения политических
порядков в России — это опасно и может привести к новой
пугачевщине. Но вступивший в разговор Николай Ростов
заявил, что он не видит никаких признаков
приближающегося переворота и что его долг повиноваться
правительству: «Вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с
эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и
пойду. А там суди, как хочешь».
Этим завершается идейная характеристика образа
Николая Ростова, который выступает в эпилоге «Войны и
мира» в роли помещика, исключительно занятого своим
хозяйством. Он оказался хорошим хозяином, но не
любил нововведений, «в особенности английских», отвергал
теоретические сочинения о хозяйстве и все свои помыслы
и надежды связывал с мужиком, вкусы, стремления,
приемы хозяйствования которого он изучал с величайшим
вниманием, и поэтому, говорит Толстой, имел в своей
деятельности блестящие результаты.
Явная оппозиция Николая Ростова ко всякого рода
хозяйственным новшествам имелаТжрёделенные
исторические корни. В начале века в ряде брошюр и журнальных
статей ставились и обсуждались вопросы рационального
ведения сельского хозяйства. При этом имелись в виду
отказ от традиционного трехполья, широкое применение
машин и другие виды рационализации хозяйства.
Некоторые помещики пытались.и практически осуществить эти
рациональные методы ведения хозяйства, применяя
новейшие английские сельскохозяйственные машины, получая
из-за границы семена, удобрения. Однако все эти экспе-
1 См. сборник «Поэзия декабристов» («Библиотека поэта»,
Большая серия), «Советский писатель» Л., 19-50, стр. 693.
230
рименты в условиях крепостнического хозяйства не могли
иметь успеха: отсутствовал, пользуясь определением
Толстого, главный деятель земледелия — квалифицированный
рабочий, которого не мог заменить крепостной
крестьянин.
Успех хозяйства решали не азот и не кислород, не
особенные плуги и не «назем», а то «главное орудие,
через посредство которого действуют и азот, и кислород,
и назем, и плуг, то есть работник-мужик». Поэтому мужик
и привлек особенное внимание Ростова, «мужик
представлялся ему не только орудием, но и целью и судьею». Он
развивает целую социально-экономическую программу
установления наиболее разумных отношений с мужиком,
которая предвосхищает то основное, что в различных
аспектах и с большей детализацией будет высказывать
и защищать Константин Левин в своей практической
деятельности хозяина имения и в своем теоретическом
сочинении.
Проблема мужика и приемы хозяйствования ?остддд_
несомненно навеяны пореформенной эпохой, когда перед
помещиками после отмены крепостного права со всей
остротой возник вопрос о том, как вести хозяйство в этих
новых условиях, как спасти свои имения от натиска
«чумазого», пожиравшего их одно за другим. Эта проблема
не стояла и не могла стоять в начале века при
крепостном праве. И Толстой дает свое решение проблемы, он
советует помещикам: идите к мужику, изучите его приемы
хозяйствования, поймите его «вкусы и стремления»,
«сроднитесь» с ним, и тогда ваши хозяйства, как и у
Ростова, будут «приносить самые блестящие результаты».
По мысли писателя, в единении с мужиком был ключ
к преодолению всех хозяйственных трудностей
помещиков и источник спасения барского хозяйства от
наступления капитализма. Но это была утопия. Во-первых,
никакое подлинное единение между помещиком и мужиком
было невозможно, во-вторых, ничто уже не могло спасти
патриархальные основы ведения хозяйства в условиях
усиленного проникновения в деревню капитала, машин и
агротехники.
Николай Ростов целиком ушел в свои эгоистические
хозяйственные заботы. Он отдавал хозяйству все свои
231
силы и помыслы, всемерно стремясь увеличить свое
состояние. Он глубоко отрицательно относился ко всяким
разговорам «о благе ближнего»: «Все этр' поэзия и
бабьи сказки, — все это благо ближнего. Мне нужно,
чтобы наши дети не пошли по миру...» Общедворянские
интересы также не занимали Ростова. В зимнее время
он читал исторические книги, но делал это больше для
того, чтобы заполнить досуг, потому что ему были чужды
серьезные интеллектуальные запросы; мысли и
рассуждения были для него забавой. Во всем умственном багаже
Николая хранилось несколько привитых ему в армии
понятий о долге, присяге, чести — «долг и присяга выше
всего». С этих позиций он и решает вопрос о своем
отношении к возможному бунту в стране, к назревавшему
восстанию — он встанет во глав^ эскадрона и будет
подавлять мятежников, так же как он подавлял богуча-
ровский бунт и учинял кулачную расправу с непокорными
старостами.
Николай Ростов — это верноподданный помещик,
надежная опора существующего политического режима. Он
отстранился от политики, его по-настоящему волнуют
только интересы своего хозяйства, стяжательство, а то, что
находится за 'пределами имения, его не интересует. Ему
дела нет до других людей, до страданий народа от
Аракчеева и военных поселений. «Наше дело не думать», —
сказал он в Тильз-ите. «Мы не должны думать», —
повторил он спустя тринадцать лет.
Но среди слушателей Пьера, помимо Денисова и
Ростова, был пятнадцатилетний Николенька Болконский,
умный, не по годам развитой мальчик, безгранично и
страстно влюбленный в Пьера. Николенька начитан в
античной литературе, хорошо знает Плутарха. Древние
писатели пользовались огромным успехом у передовой
молодежи. «Плутарховы сравнительные жизнеописания»
издавались в переводе на русский язык в 1810, 1814—
1816, 1817—1821 годах. Николенька читал новые книги,
которые, благодаря культу «героического», имели
широкую популярность и среди будущих декабристов. П. Г.
Каховский заявлял: «С детства, изучая историю греков и
римлян, я был воспламенен героями древности».
И* Д. Якушкин писал: «В это время мы страстно любили
232
древвих: Плутарх, Тит Ливии, Цицерон, Тацит и другие
были у каждого из нас почти настольными книгами». 1
Чтением Плутарха «воспламенен» и Николенька,
горячо воспринявший в «Жизнеописаниях» так же
«героическое» начало. В его чуткую душу глубоко западает
рассказ Пьера о произволе властей, о страданиях народа,
о тайном обществе — каждое слово Пьера «жгло его
сердце»; в нем, несмотря на возраст, происходила
«сложная и -сильная работа чувства и мысли». Оставшись
один, Николенька мечтает о героическом подвиге,
во сне он видит себя и Пьера в касках Плутарховых
героев, идущими во главе огромного войска, дорогу
которому преграждает Николай Ростов, охранитель
существующего строя. Пьер обратился в князя
Андрея, и проснувшийся Николенька жарко произнес: «Я
только об одном прошу бога: чтобы было со мною то,
что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я
сделаю лучше. Все узнают, все полюбят, все восхитятся
мною... Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он
был доволен». Эта мечта о героической жизни, мечта
о подвиге, готовность на жертву во имя общего блага —
характерная черта передовых людей 20-х годов. Именно
эти черты запечатлены Рылеевым в «Исповеди Нали-
вайко». Вместе с тем здесь заключена и своеобразная
клятва пребыть верным делу своего отца и делу Пьера,
воплотить их идеалы в жизнь.
Образ Николеньки перекликается с образом Пети
Ростова. Это дети двух важных эпох в истории России,
связанных между собой внутренней преемственностью:
1812 год родил 1825-й. Исторический ход вещей,
умудривший целое поколение, виден и в том, как начинают
размышлять самые юные его представители. Петя —
восторженный патриот — еще действует по инстинкту, в
обстановке всеобщего патриотического подъема, и то, что сам
еще не успел додумать, то додумало за него время и весь
народ. Патриотизм Николеньки строится на выводе
самостоятельной мысли, которая у него начинает подспудно
и напряженно работать: он вырастает у него на
исторических параллелях, и Николенька начинает догадываться
о «крамольном» характере своего героизма.
1 Записки, статьи, письма декабриста И, Д. Якушкина, М-, 1951,
стр. 20.
233
Николенька формируется уже в предгрозовой
атмосфере декабрьского восстания, и нетрудно предвидеть,
в каком направлении пойдет его развитие и какие
реальные формы обретут его мечты о героическом подвиге.
Писатель по понятным причинам — Николеньке
пятнадцать лет — не дает законченного изображения его
характера, но уже намеченные черты героического в его
духовном облике весьма многозначительны и дают
основание предположить, что Николенька Болконский будет
в рядах самых передовых людей своего поколения, в
рядах тех, кто бесстрашно пожертвует своей жизнью, чтобы
разбудить ' грядущие поколения на самоотверженную
борьбу за свободу, как разбудили декабристы «ребяческий
сон души» Герцена.
Пьер и Николенька открывали перед писателем
возможность для «продолжения» исторического
повествования, для написания второй части широко задуманной им
трилогии о декабристе. И, как мы увидим дальше,
писатель еще несколько раз будет возвращаться к
воплощению своего замысла.
Появление «Войны и мира» было крупным
событием в истории русской и мировой литературы. Гончаров
сообщал Тургеневу о выходе «Войны и мира» как о
«главном известии»: «Он, т. е. граф, сделался настоящим
львом литературы».1 Тургенев в свою очередь утверждал,
что «подобного Толстому автора у нас не имеется».2
Он писал Фету: «Я только что кончил 4-й том «Войны
и мира». Есть вещи невыносимые и есть вещи
удивительные; и удивительные эти вещи, которые в сущности
преобладают, так великолепно хороши, что ничего лучшего
у нас никогда не было написано никем: да вряд ли было
написано что-нибудь столь хорошее».3 В другом письме
он признавался, что есть в «романе вещи», которые
возбудили в нем «озноб и жар восторга» и «которых, кроме
Толстого, никому в целой Европе не написать».4
1 И. А. Гончаров и И. С. Ту р ген ев. П„ 1923, стр. 62.
2 «Первое собрание писем И. С. Тургенева, 1840—1883 гг.»,
стр. 136.
3 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, М., 1890, стр. 174;
12/1V—1868.
4 «Русское обозрение». 1894, февр., стр. 490. Письмо к П. В.
Анненкову от 26—14/11—1868.
234
Когда «Война и мир» стала достоянием европейского
читателя, она была воспринята как шедевр мировой
литературы. Флобер в письме к Тургеневу высказал свои
чувства огромного восхищения дарованием Толстого: «Это
перворазрядная вещь! Какой художник и какой психолог!
Два первых тома изумительны... Мне случалось
вскрикивать от восторга во время чтения, а оно продолжительно.
Да, это сильно! Очень сильно!» Известный английский
писатель Голсуорси заявлял: «Это величайшее из когда-
либо написанных произведений». Так Толстой всюду
прокладывал себе дорогу как великий, неповторимый
художник.
Широту, эпичность, огромную жизнерадостность
великого произведения Толстого отмечал В. Г. Короленко. Он
записал в своем дневнике, какие чувства испытал,
перечитывая «Войну и мир»: «Теперь, в моем почти
болезненном настроении — великая, правдивая, спокойная эпопея
действует на меня глубоко умиротворяющим образом, как
сама природа. Никто не писал с такой захватывающей
правдой... Это — широко, свободно, искренно, правдиво.
Какое изумительное обилие образов, какая волна жизни,
эти образы одухотворяющая».'
М. Горький в своих воспоминаниях рассказал, как
в одно из посещений Ленина он увидел на его столе том
«Войны и мира». Владимир Ильич под живым
впечатлением от прочитанного сразу же заговорил о Толстом:
«— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот
это, батенька, художник... И, — знаете, что еще
изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе
не было...
«— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
«Сам себе ответил:
«— Некого».2
В этих словах Ленина сказалась огромная любовь к
Толстому, к русскому искусству. И именно Ленин дал в
своих статьях гениальное истолкование наследия великого
русского писателя во всей его сложной противоречивости.
«Война и мир» своим глубоким патриотизмом,,
поэтизацией героических страниц в истории нашего народа,
1 В. Г Короленко. Дневник, т. III. Издательство Украины.
1927, стр. 252.
2 М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 17, стр. 39.
236
своей всепобеждающей жизнерадостностью духовно
вооружала советских людей в годы Великой Отечественной
войны на борьбу с врагом. Советского читателя глубоко
волнуют подвиги народа, героизм капитана Тушина ттри
Шенграбене, переживания князя Андрея накануне
Бородина, мужественное поведение Кутузова во время
Бородинского сражения, патриотический поступок Наташи,
заставившей родителей бросить имущество и захватить
партию раненых, и вся атмосфера этого романа,
проникнутая любовью к родине и народу. «Война и мир» —
лучшее в русской литературе воплощение патриотических
традиций нашего народа. Мы наследуем эти традиции,
они входят составной частью в советский патриотизм.
Поэтому эпопея Толстого и сохраняет все свое
животрепещущее значение в наше время.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
По окончании длительной и напряженной работы над
«Войной и миром» Толстой после сравнительно короткого
перерыва проявил усиленный интерес к драме: в течение
нескольких месяцев он ничего не пишет, а читает и
перечитывает драматические произведения Шекспира, Гете,
Пушкина, Гоголя, Мольера и намерен читать античных
классиков, в том числе Софокла и Еврипида. В письмах
к А. Фету от 4 и 16 февраля 1870 года он выражает
желание поговорить о прочитанном и о драме вообще. В
последнем письме Толстой писал: «Целую зиму нынешнюю
я занят только драмой вообще и, как это всегда случается
с людьми, которые до 40 лет никогда не думали о каком-
нибудь предмете, не составили себе о нем никакого
понятия, вдруг с 40-летней ясностью обратят внимание на
новый ненанюханный предмет, им всегда кажется, что
они видят в нем много нового». *
Разумеется, чтение Толстого носило не
общеобразовательный, а творческий характер. Он сам намеревался
писать драму или комедию, но при этом, что характерно,
также на исторический сюжет: то у него является мысль
написать "драму по мотивам русской былины о Даниле
Ловчанине, то в основу сюжета положить историю
подпоручика Мировича с его неудавшейся попыткой
освобождения из Шлиссельбургской крепости бывшего
императора Иоанна Антоновича; то, вероятно в прямой связи
с чтением «Истории Петра Великого» Н. Устрялова,
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61,
стр. 228.
237
у писателя возникает замысел сделать содержанием ф
последние годы жизни сподвижника Петра I Меншикова.
Однако все эти замыслы остались лишь в дневниковых
записях, и Толстой вновь обратился к привычному для
него эпическому роду. К 24 февраля 1870 года относится
первый набросок замысла романа из времен Петра I,
а 23 февраля впервые явилась мысль об «Анне
Карениной».
Напряженный интерес Толстого к исторической
тематике, к кризисным эпохам русской истории вообще
(«Война и мир», «Декабристы», pQMaH из времен Петра)
являлся типическим для 60-х—70-х годов прошлого
столетия. Это была тоже кризисная эпоха. Широкое
наступление капитализма после реформы 1861 года вызвало
разрушение патриархальности, все привычные порядки
жизни пошли на слом. В такие переломные эпохи многие
мыслящие люди обращались к прошлому, чтобы понять
настоящее, в истории искали параллели к своему
времени; стремясь уяснить закономерности исторического
развития, они заходили к современности порой с очень
глубокого тыла. Так поступил и Толстой. «Распутывая
моток» истории, он дошел до петровского времени и
увидел, что все острые противоречия современности, борьба
старого и нового, утверждение буржуазных порядков,
гибель патриархальных основ жизни, отрыв
образованных классов от народа берут свое начало в петровской
эпохе. Правда, многое еще в начале XVIII века
находилось в зародышевом состоянии и развилось впоследствии,
но именно там закладывались основы тех порядков,
которые стали побеждать после реформы 1861 года, там было
«начало всего».1 И именно в петровском времени Толстой
стремился найти разгадку противоречий русской жизни,
понять своеобразие истории России. «Что за эпоха для
художника, — взволнованно писал он, — на что ни
взглянешь, все задача, все загадка, разгадка которой только и
возможна поэзией. Весь узел русской жизни сидит тут».
2 апреля 1870 года он заносит в записную книжку: «Петр,
т. е. время Петра сделало великое необходимое дело, но,
открыв себе путь к орудиям европ. цивилизации,
1 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 234.
238
не нужно брать Цивилизацию, а только её орудий для
развития своей цивилизации. Это и делает народ».1
В глубоких суждениях Толстого о петровской эпохе
нашли отражение основные черты его мировоззрения.
Писатель оценивает время Петра прежде всего в свете
борьбы за создание подлинно национальной русской
культуры — а это, как известно, всегда волновало его и
как художника и как публициста. Толстой признает не
только целесообразность петровских преобразований, но
указывает на их историческую необходимость и
закономерность: Петр предстает перед ним как «орудие своего
времени».2 Вместе с тем писатель осуждает Петра,
пересадившего на русскую почву много иноземного: этого
делать не следовало, не нужно брать чужую
«цивилизацию», надо развивать свою, иопользуя достижения
Европы. «Это и делает народ» — народ и здесь выступает
в роли подлинного хранителя и творца национальной
самобытной культуры.
Развивая свои мысли о роли народа в историческом
процессе, Толстой резко осуждает «Историю» Соловьева,
в основе которой лежала либерально-буржуазная
концепция: «Читаешь эту историю, — отмечает Толстой в
записной книжке 4 апреля 1870 года, — и невольно
приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась
история России. Но как же так ряд безобразий произвел
великое и единое государство?! Уж это одно доказывает,
что не правительство производило историю. Но кроме
того, читая о том, как грабили, правили, воевали,
разоряли (только об этом и речь в истории), невольно
приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого
вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто
и как кормили хлебом весь этот народ? Кто делал парчи,
сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре?
Кто ловил чернобурых лисиц и соболей, которыми дарили
послов, кто добывал золото и железо, кто выводил
лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви,
кто перевозил товары? Кто воспитывал и ростил этих
людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную,
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 625.
2 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 31.
239
поэзию народную? Кто сделал, что Богдан Хмельницкий
передался русским, а не татарам и полякам?» [
Писатель глубоко и верно определяет решающую роль
народа в судьбах России, в создании материальной и
духовной культуры: народ — творец истории, производитель
материальных благ. Надо писать историю народа, а не
правителей, не историю господствующего класса, — вот
основополагающий тезис в исторических взглядах
Толстого. Это высказывание писателя развивает и обогащает
те выводы, к которым он пришел уже в «Войне и мире».
Толстой впервые в истории русской литературы с такой
широтой поставил проблему труда, трудовой жизни
человека как основного мерила его ценности.
Толстого как художника, естественно, не
удовлетворяли работы историков и по своей форме, потому что в них
прошлое страны представало в сухих, логизированных
категориях и понятиях, истории писались «бесцветньш» и.
«безличным» языком. А сколько за отвлеченными
формулами скрывалось живых человеческих стремлений,
торжествующих и поверженных честолюбий, осуществившихся
и разбитых мечтаний, сколько радости и страданий,
народного труда и горя, сколько пролитой крови и
потерянных жизней! Вот почему Толстой относился
отрицательно к трудам буржуазных .историков: они всё
засушивали, не передавали аромата истории, ее живого трепета.
Писатель указывал, что для создания настоящей истории
народа в авторе должны совмещаться очень многие и
редкие качества: «Нужно знание всех подробностей
жизни, нужно искусство, дар художественности, нужна
любовь». 2 Работы по истории должны отличаться ясностью,
простотой, убедительностью, из них должно быть изгнано
все предположительное, основанное на вымысле.
Существующие же истории были далеки от этого; более того,
представляя собой смешение вымысла и фактов, они
уничтожали «живость редких памятников» старины. Толстой
стремился к всестороннему воспроизведению жизни
народа. Отсюда мысль о соединении искусства и науки, кон-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17,
стр. 625—626.
2 Там же, стр. 626.
240
цепция «истории-искусства»: «История-искусство, как и
всякое искусство, идет не в ширь, а в глубь, и предмет ее
может быть описание жизни всей Европы и описание
месяца жизни одного мужика в XVI веке».1
Писатель два года посвятил изучению целой груды
исторических материалов о петровском времени. В каком
направлении шло это изучение, раскрывается в переписке
Толстого и в дневниках С. А. Толстой. Писателя
интересовало буквально все из избранной им исторической
эпохи: крупнейшие события и малейшие подробности
быта, старинная одежда простого народа и обычаи
времен Алексея Михайловича, флора и фауна Дона и
обмундирование участников Азовских доходов Петра, предки
Толстых и жизнь простого крестьянина. 19 декабря
1872 года С. А. Толстая писала брату: «Левочка все
читает из времен Петра Великого исторические книги.
Записывает разные характеры, черты, быт народа и бояр,
деятельность Петра и проч.».2 16 января 1873 года в своей
записной книжке она вновь отметила характер работы
Толстого над материалом для романа: «Он записывает
в разные записные книжечки все, что может быть нужно
для верного описания нравов, привычек, платья, жилья
и всего, что касается обыденной жизни особенно народа
и жителей вне двора и царя. А в других местах
записывает все, что приходит в голову касательно типов,
движения, поэтических картин и проч. Эта работа
мозаичная». 3 Собирание и изучение материалов сопровождалось
набросками начал романа, которые свидетельствовали
о широте замысла Толстого: было охвачено все
царствование Петра I (допетровская Русь и происхождение
Петра, борьба с Софьей, Азовские походы, Северная
война и конец царствования).
В ряде набросков романа Толстой показывал борьбу
старого и нового, силу и талантливость преобразователей,
слабость защитников старины. Два отрывка так и
названы «Старое и новое». В одной из записей у него прямо
говорилось: «Во времена Петра сила и истина были на
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т, 17, стр. 626.
2 С. А. Б ере. Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом, стр. 44—45.
3 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 35.
16 С Бычков 241
стороне преобразователей, а защитники старины были
пена-мираж». 1 Таким образом, писатель стремился
изобразить эпоху Петра в острых драматических коллизиях,
показать основные противоречия того времени. Роман,
кроме того, должен был быть и остро полемическим:
Толстого возмущала «фальшь» историков и их «пошлая
европейская, героичная» точка зрения на русские события,
в основе которой лежал культ героев.
В связи с работой над романом в письмах Толстого
содержится немало высказываний, проливающих свет на
особенности его писательского труда и имеющих
общелитературный интерес. Так, 17 ноября 1870 года Толстой
писал Фету: «Я тоскую и ничего не пишу, а работаю
мучительно. Вы не можете себе представить, как мне
трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того
поля, на котором я принужден сеять. Обдумать и
передумать все, что может случиться со всеми будущими
людьми предстоящего сочинения, очень большого, и
обдумать миллион возможных сочетаний, для того чтобы
выбрать из них 1/1 000 000, ужасно трудно. И этим я
занят». 2
Писатель не ограничивался изучением исторических
материалов, он обогащал свой язык, осваивая и
записывая своеобразные обороты речи, отдельные слова,
поговорки, меткие выражения, термины, которые в 70-е годы
XIX столетия уже вышли из употребления, но имели
хождение в начале XVIII века; таким образом, он
намеревался придать речи своих героев известный исторический
колорит. При этом следует заметить, что слова и
термины, частью использованные Толстым, а частью
оставшиеся в записях, входили в свое время в
общелитературный язык или широко бытовали в народном языке: это
не какие-нибудь местные речения или диалектизмы,
имевшие узкую сферу распространения, а слова именно
общеупотребительные — Толстой выписывает, например, слова:
анамесь — намедни, ароматик — склянка для духов, ведо-
мец — знаток, вывершить — свести верх, изведчик —
доносчик, махальце — опахало и т. п., которые в соответ-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т.' 17, стр. 625,
2 Там же, т. 61, стр. 236.
242
ствующем контексте могут быть поняты и современными
читателями без помощи всяких справочников и словарей.
В этом один из уроков для писателей, работающих над
исторической темой.
Работа над романом прерывалась не раз: то
изучением греческого языка, то составлением «Азбуки».
Греческим языком Толстой страстно увлекся, оставив все
другие занятия, в конце 1870 года и в поразительно короткий
срок овладел им настолько, что читал Ксеиофонта без
словаря. Об этом он сообщал Фету уже в начале января
1871 года. Для чтения Гомера ему нужен только
«лексикон и немного напряжения». Он передавал свое
восхищение этим великим поэтом древности, который «и поет,
и орет во всю грудь». И тут же утверждал: «без
знания греческого нет образования»;1 многое прекрасное
в литературе ему открылось только с изучением
греческого языка. 6 февраля ему же Толстой писал: «Живу
весь в Афинах. По ночам во сне говорю по-гречески».2
В течение весны и лета 1871 года он усиленно читал
греческих авторов, в том числе Гомера, Платона и
Геродота.
Это увлечение античностью, уход в седую древность
нельзя, разумеется, рассматривать цак простую блажь,
или «дурь»,3 нашедшую на Толстого по неизвестной
причине. Греческий язык, так же как и роман о Петре,
являлись звеньями оригинальной и глубоко отрицательной
реакции Толстого на современность, неприятия ее
буржуазной сущности.
Много усилий в начале 70-х годов Толстой посвятил
своей работе *над составлением и подготовкой «Азбуки».
Замысел написать «книгу для чтения» и азбуку «для
семьи и школы» у него возник еще в 1859 году, в момент
организации первой Яснополянской школы. В сентябре
1868 года в записную книжку был занесен план
задуманных книг, но только осенью 1871 года Толстой приступил
к составлению и шисанию «Азбуки». С целью отбора
лучших произведений для этого издания писатель леречиты-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61,
стр. 248.
2 Там же, стр. 249.
3 Там же, стр. 243.
* 243
русские былины, сборники русских пословиц,
фольклорные произведения многих народов, греческую,
индийскую, арабскую литературу, специальные книги для
детей и детские журналы; консультируется с знатоками
устно-поэтичеокого народного творчества; страстно и
увлеченно изучает естественные науки и пишет статьи на
естественно-научные темы; возобновляет в Ясной Поляне
.школу, где вновь и вновь на восприятии крестьянских
ребят проверяет общедоступность отдельных
произведений литературы, наконец сам пишет ряд подлинных
шедевров детской литературы.
Толстой связывал с «Азбукой» большие надежды:
«Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет —
азбука, очень трудно... Гордые мечты мои об этой азбуке
вот какие: по этой азбуке только будут учиться два
поколения русских всех детей от царских до мужицких и
первые впечатления поэтические получат из нее, и что,
написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно
умереть». 1
Характерно, что и педагогические занятия писателя и
его деятельность по организации новых школ были
проникнуты самыми высокими гуманными 'побуждениями,
осознанным стремлением дать народу образование, чтобы
расковать его могучие творческие силы. Описывая свое
состояние «тревоги и ужаса» во время каждого нового
посещения школы, которое испытываешь «при виде
тонущих людей», Толстой заявлял: «Я хочу образования для
народа только для того, чтобы спасти тех, тонущих там,
Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых.
А они кишат в каждой школе».2 В этом свете понятно и
то большое значение, какое он придавал своей «Азбуке»,
и то огромное напряжение, с каким он над ней работал.
В конце февраля 1872 года Толстой «кончил свои
азбуки»,3 но впереди еще было много хлопот по ее
изданию, печаталась она «очень медленно», многое в ней
прибавлялось и изменялось, вычеркивалось и дописывалось:
«Я по своей привычке, — признавался писатель, — всё
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 269.
2 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. Л. Л. Толстой», стр. 258.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 271.
244
мараю и переделываю по 20 раз». * И только в последних
числах октября 1872 года вся работа писателя над
«Азбукой» была закончена, а 5—11 ноября «Азбука»
увидела уже свет.
«Азбука» делилась на собственно азбуку, арифметику,
русские книги для чтения, славянские книги для чтения
и руководство для учителей. «Азбука», к большому
огорчению Толстого, не имела успеха и критикой была
разругана. Он утешал себя тем, что «Азбука» найдет себе
признание в будущем. «Я... положил на нее труда и
любви больше, чем на все, что я делал, и знаю, что это
одно дело моей жизни важное. Ее оценят лет через 10 те
дети, которые по ней выучатся».2 Однако, учтя замечания
критики и свой новый педагогический опыт, писатель
занялся ее переработкой, а затем в 1875 году выпустил под
названием «Новая азбука», которая имела полный успех:
при жизни писателя она издавалась более тридцати раз
и вполне оправдала надежды ее создателя, явившись
источником грамоты для нескольких поколений русских
школьников.
В «Азбуку» и «Новую азбуку» вошло 373
произведения, в рукописях Толстого недавно обнаружено еще 256
вполне законченных произведений, не включенных
писателем в «Азбуку». Всего, таким образом, было написано
для «Азбуки» и «Новой азбуки» 629 произведений, из них
496 — художественных и 133 на естественно-научные
темы. Поистине колоссальный труд!
Для нас в историко-литературном плане наибольший
интерес представляют «Русские книги для чтения»,
которые Толстой после некоторой переделки выпустил в
1875 году отдельно. Эти книги впоследствии много раз
переиздавались большими тиражами и имели широкое
распространение в советской школе в первые годы ее
существования.
Что же входит в эти книги? Наиболее значительную
часть составляют произведения народного творчества,
подвергнутые соответствующей обработке: былины и исто-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 274.
2 Там же, т. 62, стр. 9. Письмо к А. А. Толстой (конец января—
начало февраля 1873 года).
245
ричеокие песни, басни и сказки. В основе многих
рассказов-миниатюр лежат народные пословицы и поговорки.
Это было частичным осуществлением давних желаний
писателя. Еще в статье «Кому у кого учиться писать...»
A862) Толстой писал о том, что при чтении сборника
пословиц Снегирева у него родилась мечта создать «ряд
не то повестей, не то картин» на пословицы. Такой ряд
картин-миниатюр он и написал для своей «Азбуки»; им
были использованы пословицы: «Два раза не умирать,
а раза не миновать», «Знай, сверчок, свой шесток»,
«Знает кошка, чье мясо съела», «Глупой птице свой дом не
мил», и др. На пословицу «Бог правду видит, да не скоро
скажет» Толстой найисал рассказ, Я!вившийся обработкой
рассказа Каратаева из «Войны и мира» о «невинно
пострадавшем» купце. Во всем этом оказался огромный
интерес Толстого к народному творчеству.
Реально-бытовые рассказы «Книг для чтения» в
большинстве своем основаны на действительных
происшествиях, имевших место в жизни Толстого («Охота пуще
неволи» и др.). Сюда же включены и рассказы,
написанные учениками яснополянской школы и в свое время
опубликованные в книжках-приложениях к журналу
«Ясная Поляна»: «Солдаткино житье», «Как меня взяли
в город», «Как меня в лесу застала гроза».
Многие рассказы проникнуты религиозно-этическими
идеями писателя — «Бог правду видит, да не скоро
скажет», «Архиерей и разбойник», «Индеец и
англичане» и др.
Вместе с тем в «Книги для чтения» вошли подлинные
шедевры Толстого в области детской литературы:
«Кавказский пленник», «Охота пуще неволи», цикл
рассказов «Булька и Мильтон» и др. Тургенев восхищался
«Кавказским пленником». Сам Толстой считал этот
рассказ как по языку, так и <по художественной простоте
образцом своей новой «народной» поэтики.
Работа над «Азбукой» побудила Толстого к
коренному пересмотру своих художественных приемов, к
решительному обновлению языка. Он глубоко размышляет над
общими вопросами развития русской литературы и
правильно находит истоки ее возрождения в широком
приобщении к устно-поэтическому творчеству народа; сила
литературы — в народном языке, сочном, ярком и вырази-
246
тельном, запечатленном в песнях, былинах, сказках.
Оценивая состояние литературы и искусства, он обращает
внимание на «упадок поэтического творчества всякого
рода» и на «стремление к изучению русской народной
поэзии всякого рода», именно в народности и состоял
залог возрождения искусства. «Последняя волна
поэтическая — парабола была при Пушкине на высшей точке,
потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под
землю, — писал Толстой Н. Страхову. •— Другая линия
пошла в изучение народа и выплывет, бог даст...
Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании. Я
надеюсь». 1 Толстой своими детскими рассказами,
написанными IB совершенно ином поэтическом духе, чем прежние
его произведения, уже участвовал в этом «выплывании»:
стремясь обновить литературный язык, он все шире и
шире вводил в свое творчество лексические богатства
народного языка.
Характерно, что Толстой в своем понимании народа
и народности резко отмежевывается от славянофилов.
Тургенев некогда выражал опасение, как бы
славянофилы, к которым, как ему казалось, Толстой «попал в
руки», не испортили «его прекрасный и поэтический
талант, лишив его свободы воззрения».2 Этого не
случилось и не могло случиться потому, что Толстой не имел
ничего общего с реакционной идеологией
славянофильства. Он писал Страхову: «Народность славянофилов и
народность настоящая две вещи столь же разные, как
эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света».3
Далее Толстой говорил, что он ненавидит все эти
«хоровые начала», «строй жизни», «общину» и 'прочие
воззрения славянофилов, а любит народную поэзию, настоящий
русский народ и его богатый язык.
Толстой мог создать «Кавказского пленника» и другие
рассказы в этом же роде в результате глубокого освоения
произведений народного творчества и разговорного
народного языка. С этим изучением и связано зарождение
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61,
стр. 274—275. Письмо от З/Ш—1872.
а «Щукинский сборник», М., 1909, VIII, стр. 413. Из письма
К Борисову от 15/III—1870.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 278.
22—25/111—1872.
247
новых поэтических требований у писателя. Он признается,
что «изменил приемы своего писания и язык», ему уже
«противен» язык книжной литературы, «мечты
невольные» влекут писателя к народному языку, который ему
«мил». «Люблю определенное, ясное, и красивое, и
умеренное и все это нахожу в народной поэзии, и языке, и жизни
и обратное в нашем». 1 Поэтому так много труда
Толстой вложил в свою «Азбуку»: «Работа над языком
ужасная, — писал он. — Надо, чтоб все было
красиво, коротко, просто и, главное, ясно».2 В другом
письме он также обращал внимание на эту «языковую»
особенность своей «Азбуки»: «Если будет какое-нибудь
достоинство в статьях азбуки, то оно будет
заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, т. е.
языка».3
Таким образом, при писании детских рассказов
Толстой проходил целую литературную школу:
вырабатывался овой новый язык и новые приемы мастерства, в
основе которых лежало требование предельной простоты
и ясности. В этом смысле детские рассказы явились
прологом к его народным рассказам. О детских рассказах
хорошо сказала сестра Ленина А. И. Елизарова: «Они
дышат безыскусственной поэзией народной речи, над
которой с чисто материнской чуткостью прошла гениальная
рука великого мастера слова. Рассказы эти не менее, чем
остальные его произведения, должны войти в
сокровищницу нашего слова!» 4
В процессе работы над «Азбукой» Толстой несколько
раз порывался приняться «за задушевное сочинение»,
то есть за роман из времен Петра I, о котором он мечтал
давно как о большом и значительном произведении. Но
только окончательно разделавшись с «Азбукой», писатель
мог возобновить работу над романом; в ноябре 1872 года
он начал было «прилаживаться» писать, продолжая одно-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 274.
Из письма Н. Страхову от 22—25/111—1872.
2 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 233.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 61, стр. 274.
Из письма Н. Страхову от 3/III—1872.
4 Цит. по изданию: Л. Н. Толстой. «Русская книга для
чтения», Детгиз, 1946, стр. 311.
248
временно изучать разнообразную литературу об эпохе
Петра I.
Но вдруг на завершающих стадиях изучения
материала его охватили сомнения в реальной возможности
осуществить задуманное произведение. «Я ужасно не
в духе, — писал Толстой Фету 30 января 1873 года.—
Работа затеянная — страшно трудна. Подготовки (так! —
С. Б.) изучения нет конца, план все увеличивается, а'сил,
чувствую, что все меньше и меньше. День здоров, а
3 нет».1 В февральских и мартовских письмах к родным
и друзьям он продолжал жаловаться на отсутствие
«вдохновения», на то, что им опять «овладели сомнения» в
сво'их силах, что работа над романом «идет дурно», «не
двигается». А между тем Толстой овладел всеми
доступными ему материалами настолько1, что начинал уже
«вертеться в заколдованном кругу. С разных сторон повторяют
одно и то же, и знаешь откуда».2 31 января он говорил
жене: «Машина вся готова, теперь ее привести в
действие». 3 И, наконец, 20 марта 1873 года С. А. Толстая
сообщала в одном из писем: «Все лица из времен Петра
Вел[икого] у него готовы, одеты, наряжены, посажены на
своих местах, но еще не дышат... Может быть, и они еще
задвигаются и начнут жить, но еще не теперь».4 К
сожалению, им не суждено было жить.
Писателя отвлекла от работы над историческим
романом жгучая и злободневная современность, с ее
бурным ростом капиталистических отношений в стране. Когда
он писал об эпохе Петра как о времени, где сидит «весь
узел русской жизни», где «начало всего», он, разумеется,
имел в виду и то, что Петр I своими реформами в
известной мере подготовил развитие капитализма в России. Но
эту же проблему с еще большей остротой можно было
поставить на материале современной эпохи. Современная
жизнь властно приковывала к себе внимание писателя,
требуя глубокого познания и своего осмысления. В этих
условиях Толстой не мог длительное время заниматься
историческими штудиями, слишком тревожные были годы,
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 8.
2 Там же, стр. 5.
3 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 35.
4 Л. Н. Тол"стой. Полное собрание сочинений, т. 17. стр. 632.
249
слишком сильно давила современность, и он оставил
исторические сюжеты и обратился к разработке
современной темы — к роману «Анна Каренина». Примечательно,
что широко известная фраза в начале «Анны Карениной»:
«Все смешалось в доме Облонских» уже фигурировала
в следующем виде в одном из отрывков романа о Петре:
«Все смешалось в царской семье».1
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 166.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Крупнейший социальный роман в истории
классической русской и мировой литературы — «Анна
Каренина» — имеет в самом существенном, а именно в
идейном обогащении первоначального замысла, типическую
для больших произведений великого писателя творческую
историю.
Пер1воначально у Толстого возникла мысль написать
роман о замужней, «потерявшей себя», женщине из
высшего общества. Писатель говорил, что «задача его
сделать эту женщину только жалкой и не виноватой, и что
как только ему представился этот тип, так все лица и
мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе
место и сгруппировались вокруг этой женщины».1
На первых порах замысел романа носил «частный»
характер. 19—20 марта 1873 года С. А. Толстая писала
Т. А. Кузминской: «Вчера Левочка вдруг неожиданно
начал писать роман из современной жизни. Сюжет
романа — неверная жена и вся драма, происшедшая от
этого»,2
Роман был начат под непосредственным воздействием
Пушкина, и в частности его незавершенного
художественного отрывка «Гости съезжались на дачу»,
помещенного в V томе сочинений Пушкина в издании
П. Анненкова. «Я как-то после работы, — писал Толстой
в неотправленном письме к Н. Страхову, — взял этот том
1 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 32 B4/11—1870).
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 577.
251
Пушкина и, как всегда (кажется 7-й раз), перечел всего,
не в силах оторваться, и как будто вновь читал. Но мало
того, он как будто разрешил все мои сомнения. Не только
Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда я так не
восхищался. Выстрел, Египетские ночи, Капитанская доч-
ка\\\ И там есть отрывок «Гости собирались на дачу».
Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет,
задумал лица и события, стал продолжать, потом,
разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто,
что вышел роман, который я нынче кончил начерно,
роман очень живой, горячий и законченный, которым я
очень доволен и который будет готов, если бог даст
здоровья, через 2 недели и который ничего общего не имеет
со всем тем, над чем я бился целый год. Если я его
кончу, я его напечатаю отдельной книжкой».х
Взволнованно-восторженный интерес к Пушкину и его
гениальным созданиям в прозе сохранился у писателя и
в дальнейшем. Он говорил С. А. Толстой: «Многому
я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться».2
Имея в виду «Повести Белкина», Толстой писал в
неотправленном письме к П. Д. Голохвастову: «Писателю
надо не переставать изучать это сокровище».3 И позже,
в письме к тому же адресату, он рассказывал о
«благодетельном влиянии» Пушкина, чтение которого «если
возбуждает к работе, то безошибочно».4 Таким образом,
многочисленные признания Толстого с очевидностью
свидетельствуют о том, что Пушкин для него явился
сильнейшим возбудителем к творческой работе.
Формалисты и компаративисты обычно
рассматривали проблему влияния в плане сюжетно-фабульных и
даже лексических сопоставлений и если находили
какие-то совпадающие элементы стиля, то в категорической
форме говорили о зависимости одного писателя от
другого. На самом деле проблема влияния куда сложнее всех
этих внешне формальных признаков. Белинский в свое
время гениально истолковал сущность влияния одно-го
художника слова на другого: «Влияние великого поэта
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 16.
2 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 35.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 18.
4 Там же, стр. 22.
262
Заметно на других поэтах не в том, **то его поэзия
отражается в них, а в том, что она возбуждает в них
собственные их силы: так солнечный луч, озарив землю, не
сообщает ей своей силы, а только возбуждает заключенную
в ней силу». В этом смысле можно говорить об
огромном влиянии Пушкина на Толстого.
Что именно привлекло внимание Толстого в отрывке
Пушкина «Гости съезжались на дачу», можно судить по
его словам: «Вот как надо писать, — заявил Толстой.—
Пушкин приступает прямо к делу. Другой бы начал
описывать гостей, комнаты, а он вводит в действие сразу». 1
Итак, не интерьер, не портреты гостей и не те
традиционные описания, в которых рисовалась обстановка действия,
а само действие, непосредственное развитие сюжета —
все это привлекло автора «Анны Карениной».
С отрывком Пушкина «Гости съезжались на дачу»
связано создание тех глав романа, в которых описан
съезд гостей у Бетси Тверской после театра. Так должен
был начинаться роман по первоначальному замыслу.
Сюжетно-комтюзиционная близость этих глав и отрывка
Пушкина, а также сходство ситуаций, в которые
попадают пушкинская Зинаида Вольская и толстовская Анна,
очевидны. Но и начало романа в последней редакции
лишено каких-либо «вводящих» описаний; если не иметь
в виду моралистической сентенции, оно сразу,
по-пушкински погружает читателя в гущу событий в доме
Облонских. «Все смешалось в доме Облонских» — что
смешалось, читатель не знает, он узнает потом, — но эта
широко известная фраза круто завязывает узел событий,
которые развернутся впоследствии. Таким образом, начало
«Анны Карениной» написано в художественной манере
Пушкина, да и весь роман создавался в атмосфере глу-
бочайшего интереса к Пушкину и к пушкинской прозе.
И вряд ли случайно писатель избрал в качестве
прототипа своей героини дочь поэта Марию Александровну
Гартунг, запечатлев выразительные черты ее внешности
в облике Анны.
Замысел романа глубоко волновал писателя. Этим и
можно объяснить исключительное напряжение его твор-
1 Ф. И. Булгаков. Граф Л. Н. Тол сто i" и критика его
произведений русская и иностранная, СПБ., 1898, стр. 86.
253
ческой работы. Роман был «начерно» закончен в очень
короткий срок — в течение пятидесяти дней. Однако с
наступлением весны писание было прервано.
Лето 1873 года Толстой проводит в своем Самарском
имении. В этот год весь край был поражен засухой.
Толстой не мог оставаться безучастным к народным
страданиям. 28 июля 1873 года он обращается с письмом к
издателям «Московских ведомостей», в котором раскрывает
картину «страшного бедствия, постигшего народ
вследствие трех неурожайных годов». ! Вместо урожая на
полях — «желтые выгоревшие места».2 Писатель произвел
опись имущественного положения каждого десятого двора
в селе Гавриловка и документально доказывал, что
крестьяне находятся на грани голодной смерти: «положение
народа ужасно».3 Он решительно протестовал против
клеветнических наветов на крестьян, которых царские
чиновники обвиняли в 'пьянстве и лени, объясняя этим
причины голода. Писатель призывал «всех русских»
немедленно прийти на помощь пострадавшему народу. Этот
призыв сыграл большую роль в организации помощи
голодающим Самарской губернии. Вместе с тем страшные
впечатления самарского голода оставили глубокий след
в сознании писателя и сказались впоследствии на
переосмыслении романа «Анна Каренина»; однако пока еще
они не нашли непосредственного отражения в его
творческой работе.
Вернувшись из самарского имения, Толстой
возобновил свою работу над романом. 24 августа он писал
Страхову: «Вы пишете, что ждете от меня теперь чего-нибудь
в более строгом стиле — как мои попытки в Азбуке; а я,
к стыду, должен признаться, что перепра!вляю и
отделываю теперь тот роман, про кот[орый] писал вам, и в
самом легком, нестрогом стиле. Я хотел пошалить этим
романом и теперь не могу не окончить его и боюсь, что он
выйдет нехорош».4 Итак, здесь еще Толстой не отошел
от своего первоначального замысла, носившего «частный»
характер, роман пишется «в легком стиле», большие
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 35.
2 Там же, стр. 37.
3 Там же, стр. 41.
4 Там же, стр. 45.
234
социальные проблемы в романе пока отсутствуют, но
писатель уже начинает осознавать, что это новое
произведение — не «шалость». Тем не менее он надеется на
скорое завершение своего создания, может быть, даже к
началу 1874 года.
Однако роман не был окончен и к предполагаемому
сроку. Толстой не только продолжал писать его, но с
присущей ему требовательностью подвергал все новой и
новой переработке уже написанные главы. Поэтому, когда
писателю было передано предложение принять участие
в литературном сборнике «Складчина», он ответил
решительным отказом. Он писал Страхову, что использует свое
хорошее расположение духа для того, чтобы «кончить
любимое дело», поэтому не может отрываться для других
работ. «Напечатать главу из этого романа; но я их
постоянно переделываю, и я ими еще недоволен... Из своего
портфеля дать кое-что — не могу выпустить мерзость
с своим именем. Для каких бы целей это ни было, это само
по себе подло. Объявить в концерте Пати (так! — С. ?.),
собрать деньги и заставить петь козу какую-нибудь».1
В марте 1874 года Толстой отдает в типографию
Каткова, с которой была достигнута договоренность о
печатании «Анны Карениной» отдельным изданием, первые
семь листов рукописи (всего в романе должно быть
40 листов, и его предположено закончить в мае).
Но и эти надежды Толстого не оправдались.
Корректуры романа присылались типографией чрезвычайно
медленно. К тому же писатель вступил в принципиальный
спор с 'московскими педагогами по вопросу о методах
обучения. Он занят был писанием статьи «О народном
образовании», первоначально называвшейся «Моя
педагогическая исповедь», что не могло не отвлечь его
внимания от романа, печатание которого в конце м«ая было
приостановлено, а в конце июля совсем прекращено
(напечатано было 30 глав первой части — 5 листов). Но
главной причиной этого явилась неудовлетворенность
писателя романом; может быть, и сам уход в'педагогику был
следствием этой неудовлетворенности. Во всяком случае
в письмах Толстого этой поры часто встречаются призна-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 62.
Патти — известная певица.
233
ния, что роман ему «не нравится» и что он намерен его
«бросить», то есть оставить неоконченным. Мотив острого
недовольства романом особенно явственно звучит в
письме к Страхову от 27 июля: «Еще прежде получения
вашего письма я исполнил ваш совет, т. е. взялся за
работу над романом; но то, что напечатано и набрано, мне
так не (понравилось, что я окончательно решил
уничтожить напечатанные листы и переделать все начало,
относящееся до Левина и Вронского. И они будут те же, но
будут лучше. Надеюсь с осени взяться за эту работу и
кончить». 1
В итоге первого года работы над произведением
определились основные линии развития сюжета, были созданы
многие эпизоды, вошедшие затем в окончательный текст,
действующие лица, за отдельными исключениями,
получили свои последние имена. В первых конспективных
набросках романа Левина еще не было, затем он'появлялся
под фамилией то «Ордынцев», то «Нерадов», причем
с ним, так же как и с другими персонажами, пока не
связывались никакие социальные проблемы эпохи;
Вронский назывался «Балашевым», «Гагиным» и «Удаше-
вым», муж Долли — «Алабиным», с чередующимися
именами: Степан и Михаил. В обрисовке основных образов
романа писатель также далеко ушел от своего
первоначального замысла и в значительной мере приблизился
к той трактовке этих образов, которая дана в
каноническом тексте «Анны Карениной».
Анна, в первых редакциях получавшая
последовательно имена Татьяны Сергеевны Ставрович, Наны,
Анастасии Аркадьевны Пушкиной, имела мало общего с тем
образом, который создан в окончательном тексте романа.
В ее внешнем облике и 'поведении преобладало
чувственное начало, было что-то порочное и во всей ее душевной
организации. Это женщина дурного вкуса, бездушная
кокетка с очень слабо развитым интеллектом, ей было
свойственно ханжество в вопросах религии. Ее муж, Ка-
ренин, напротив, в первых вариантах нарисован более
мягкими красками, чем в окончательном тексте. Внешне
он, правда, непривлекателен, зауряден, но эти его
недостатки отчасти искупались душевными качествами:
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 100.
236
Каренин своей добротой способен был вызвать даже
некоторую симпатию. Вронский также дан в ином, более
высоком плане. Он обаятелен, умен, занимается поэзией.
В одном из вариантов романа, названном «Два брака»,
Вронский женится на Анне, получившей развод от мужа.
Таким образом, и Анна, и Каренин, и Вронский
первоначальных редакций имели черты, не
свойственные им в каноническом тексте. В дальнейшем Толстой
внес в освещение этих образов много нового. И если
героиня приобрела необыкновенную обаятельность, стала
пленительно-благородной, правдивой, искренней, то
Вронский и Каренин потускнели в ярком и ослепительном
свете душевной и физической красоты Анны: Каренин
стал бездушной «министерской машиной», сухим и
черствым чиновником, подчинившим всю свою жизнь
холодным, рассудочным догмам, а Вронский — типическим
представителем петербургской «золотой молодежи»;
душевно и интеллектуально он оказался беднее Анны. Так
менялись в процессе творческой работы идейные и
психологические акценты в характеристике основных
действующих лиц «Анны Карениной». И в этом отражалось
общее переосмысление идеи романа, приобретавшего все
более острый социально-обличительный характер. Мы не
говорим здесь о Левине, образ которого в основных
чертах определился сразу и в дальнейшем не подвергался
существенной творческой переработке, за исключением
разве того, что, по мере более широкого развертывания
произведения в социальном плане, его роль и значение
все более увеличивались и с ним все теснее связывались
основные идейные и религиозно-этические проблемы
романа.
В конце июня 1874 года в Ясной Поляне был Страхов,
и, как признается Толстой, он на время «пристрастил» его
к роману, «но я взял и бросил»,1 даже осенью он не
сразу и с большим трудом приступил к его продолжению.
Писатель весь был захвачен педагогическими интересами:
организацией школ, проектом устройства «мужицкой
семинарии», подготовкой новых изданий для школ
(составление «Новой азбуки» и грамматики). Страхову он
пишет, что не может продолжать роман, жалуется на «сла-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 103.
17 С. Бычков 257
бость порыва» к творческой работе и вместе с тем
сообщает о своем решении продать роман «Русскому
вестнику» — «хочу себя этим связать, чтобы кончить его».х
В первой книжке «Русского вестника» за 1875 год
началось печатание «Анны Карениной». Катков,
переписываясь с Толстым по делам печатания романа, в одном
из писем потребовал изменений в главе, посвященной
описанию сближения Анны с Вронским. Толстой ему
отвечал: «В последней главе не могу ничего тронуть. Яркий
реализм, как вы говорите, есть единственное орудие, так
как ни пафос, ни рассуждения я не могу употреблять.
И это одно из мест, на котором стоит весь роман. Если
оно ложно, то все ложно».2
Печатая роман, Толстой не ожидал успеха, напротив,
он опасался «падения своей известности», но «Анна
Каренина» была встречена хорошо.
В ответ на сообщение Страхова о восторженном
приеме романа читателями Толстой писал ему 16 февраля
1875 года: «Я очень, очень рад, что роман мой не
уронил меня. В успех большой я не верю... Да и я
совершенно согласен с теми, которые не понимают, о чем
тут говорить.3 Все так не просто (просто — это огромное
и трудно достигаемое достоинство, если оно есть), но
низменно. Замысел такой частный. И успеха большого
не может и не должно быть».4
Опубликовав в четырех номерах журнала две части и
десять глав третьей, писатель прервал печатание романа
до январской книжки 1876 года.
Толстой был увлечен, как уже говорилось,
педагогическими делами, своей «Новой азбукой», на которую
возлагал большие надежды и которую ценил выше всех
своих художественных произведений; его сильно
волновали философские и религиозно-этические проблемы.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 121.
(письмо от 3—4 ноября).
2 Там же, стр. 139.
3 Страхов писал Толстому 13 февраля о «скептиках», которые
по поводу «Анны Карениной» угрюмо недоумевали: «Да что же тут
важного, особенного? Все самое обыкновенное. Тут описывается
любовь, бал — то, что тысячу раз описано. И никакой идеи!» (см.
«Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 58).
4 Л. И. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 142.
258
§ этой связи «Анна Каренина» временами тяготили
писателя, и он старался поскорее закончить ее, чтобы
освободить себя для других, более важных в его
представлении, «философских» и религиозно-этических работ.
Порой Толстого охватывало острое недовольство
написанным, временами ему казалось, что у него «слабеет»
талант, его беспокоило отсутствие интереса к
собственному произведению. Готовя очередные главы для
журнала, он признавался Страхову в письме от 8—9 апреля
1876 года: «Мне противно то, что я написал, и теперь у
меня лежат корректуры на апрельскую книжку, и боюсь,
что не буду в силах поправить их.1 Все в них скверно,
и все надо переделать и переделать: все, что напечатано,
и все перемарать, и все бросить, и отречься, и сказать:
виноват, вперед не буду, и постараться написать
что-нибудь новое, уж не такое нескладное и ни то ни семное. Вот
в какое я прихожу состояние, и это очень приятно».2
В этом строгом осуждении своего романа отразилось
сознание огромной ответственности великого художника
перед читателем, высокое понимание своего
писательского долга. Немногие писатели предъявляли столь
суровые требования к себе, какие выражены в этом письме
и в других высказываниях Толстого, стремившегося
всегда к ясному и художественно выразительному
воплощению своего идейного замысла.
В писании романа наступил вновь длительный
перерыв, писатель охвачен унынием и никак не может
завершить «давящую» его работу над «Анной Карениной».
Он писал Страхову: «Сплю духовно и не могу проснуться.
Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах... Думать
даже, и к тому нет энергии. Или совсем худо, или сон
перед хорошим периодом работы».3
Это был действительно духовный «сон» писателя
перед последним, завершающим этапом работы над
«Анной Карениной». 13 ноября он уже «стал весело
работать» над романом и поэтому испытывал «радостное
чувство». Толстой, «оживленный и сосредоточенный, всякий
день прибавляет по целой главе», — сообщала С. А. Тол-
1 Речь идет о главах VII—XIX 5 части «Анны Карениной».
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 265.
3 Там же, стр. 290.
259
стая Кузминской. В середине декабря 1876 года писатель
уже передал в журнал очередные главы «Анны
Карениной», и прерванное на семь месяцев печатание романа
в «Русском вестнике» возобновилось.
Вся зима 1876—1877 года была занята напряженной
работой над романом. По мере углубления философских
и религиозно-этических исканий Толстого, отражавших
его обостренный интерес к современности, к социальным
переменам, происходившим в жизни России,* все большее
значение в романе приобретал образ Левина — типично
толстовского героя и по своему психическому складу и по
характеру своих духовных запросов. Поэтому естественно,
что в исканиях Левина отразились и раздумье писателя
над важнейшими проблемами современности и попытки
найти их решение. Этим определяется место образа
Левина в романе. 8 сентября 1877 года Страхов в письме
к Толстому среди других отзывов о романе сообщал
отзыв некоего И. А. Шестакова, которого привела в восторг
не «романическая сторона» «Анны Карениной», а
«философия» писателя, воплощенная в размышлениях Левина;
роман «разрешил вопросы», тяготившие, его.1 Толстой
в ответном письме от 22—23 сентября благодарил
Страхова за сообщенный отзыв и писал: «Вы не можете себе
представить... того хорошего, радостного чувства,
которое это известие произвело на меня».2
Толстой стремился закончить роман и выражал
нетерпеливое желание приступить к новой работе. С. А.
Толстая записала в своем дневнике под 3 марта 1877 года:
«Вчера Лев Николаевич подошел к столу, указал на
тетрадь своего писания и сказал: «Ах, скорей, скорей бы
кончить этот роман... и начать новое. Мне теперь так ясна
моя мысль. Чтоб произведение было хорошо, надо
любить в нем главную, основную мысль. Так в «Анне
Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире»
любил мысль народную, вследствие войны 12 года;
а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду
любить мысль русского народа в смысле силы
завладевающей». 3 Толстого вновь волновал замысел романа
1 См. «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 130.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 343.
3 «Дневники С. Л. Толстой», I, стр. 37. Курсив С. Л. Толстой.
260
«Декабристы», который он оставил в 60-е годы, перейдя
к «Войне и миру». Но теперь писатель намеревался
своего героя изобразить среди переселенцев, простых
мужиков, осваивающих новые земли где-то в Оренбургских
степях — в этом смысле и следует понимать его слова
о «силе завладевающей».
Однако писание «Анны Карениной» продолжалось
еще более месяца. И только в двадцатых числах апреля
1877 года были отправлены в «Русский вестник»
последние листы романа.
В апрельской книжке «Русского вестника» за 1877 год
было закончено печатание седьмой части романа, эпилог
же, превратившийся затем в восьмую часть, редакция
запланировала на майскую книжку, но с его
опубликованием возникли осложнения. Издатель «Русского
вестника» Катков отказался печатать последнюю часть
романа по той причине, что писатель отрицательно
изобразил добровольческое движение в пользу сербов и
особенно резко высмеял роль славянофилов и продажных
журналистов типа самого Каткова, участвовавших в этом
движении не из искреннего сочувствия к славянам, а из
националистических побуждений. Толстому всегда были
чужды эти чувства, поэтому он, внеся некоторые
изменения в текст эпилога, которые не удовлетворили Каткова,
больше не хотел «разговаривать про смягчение и выпу-
щение». Он писал Страхову: «Оказывается, что Катков не
разделяет моих взглядов, что и не может быть иначе, так
как я осуждаю именно таких людей, как он, и, мямля
учтиво, прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне
надоел, и я уже заявил им, что если они не напечатают
в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и
так и сделаю...» 1 Вскоре писатель затребовал у Каткова
оригинал восьмой части, заявив >при этом, что с «Русским
вестником» впредь дела «иметь никогда никакого» не
будет, и издал ее отдельной книжкой.
В июне — июле 1877 года Толстой вместе со Страховым
готовил роман для отдельного издания, внося в
журнальный текст ряд существенных исправлений. Вот что писал
об этом Страхов: «Как я ни любил роман в его
первоначальном виде, я довольно скоро убедился, что по-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 326.
261
правки Льва Николаевича всегда делались с
удивительным мастерством, что они проясняли и углубляли черты,
казавшиеся и без того ясными, и всегда были в духе
и тоне целого». По поводу своих поправок, касавшихся
преимущественно языка, Страхов замечает: «Лев
Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение
и не соглашался на самые, повидимому, невинные
перемены. Из его объяснений я убедился, что он
необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на всю
кажущуюся небрежность и неровность его слога, он
обдумывает каждое слово, каждый оборот речи не хуже
самого щепетильного стихотворца».1
* * *
Таким образом, «Анна Каренина» занимала
творческую мысль писателя в течение более четырех лет. В
процессе художественного воплощения ее первоначальный
замысел претерпел коренные изменения. Из романа
о «неверной жене», носившего вначале названия: «Два
брака», «Две четы», «Анна Каренина» превратилась
в крупнейший социальный роман, в ярких, типических
образах отразивший целую-эпоху в жизни России,
вобравший iB себя волнующие и острые отклики писателя на
самые разнообразные явления пореформенной русской
жизни; первоначальный сюжет был осмыслен в контексте
важнейших социальных проблем эпохи.
Толстой — «художник мысли», по верному
определению Тургенева, — был занят в «Анне Карениной»
глубочайшим постижением пореформенной общественной
жизни России во всей ее сложной противоречивости.
Писатель взволнованно говорит о самом существенном и
главном, о коренных переменах в
социально-экономическом укладе страны, которые оказывали решающее
воздействие на все стороны жизни народа. Теперь, после
отмены крепостного права, «когда все это
переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся
эти условия, есть только один важный вопрос в
России», — думал Левин».
1 Цит. по книге: И. Гусев. Толстой в расцвете художественного
гения, стр. 216,
262
\ В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» Владимир
дельич Ленин, характеризуя период 1861 —1905 годов,
цитирует это место романа и замечает, что Толстой устами
Левина «чрезвычайно ярко выразил, в чем состоял
перевал русской истории за эти полвека». 1 Далее Ленин
писал: «Справедливо, что если не «единственно важным»,
то важнейшим с точки зрения ближайших задач всей
общественно-политической деятельности в России для
периода 1861 —1905 годов (да и для нашего времени) был
вопрос, «как уложится» этот строй, буржуазный строй,
принимающий весьма разнообразные формы в «Англии»,
Германии, Америке, Франции и т. д. Но для Толстого
такая определенная, конкретно-историческая постановка
вопроса есть нечто совершенно чуждое. Он
рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения
«вечных» начал нравственности, вечных истин религии, не
сознавая того, что эта точка зрения есть лишь
идеологическое отражение старого («переворотившегося») строя,
строя крепостного, строя жизни восточных
народов». 2
«Все это переворотилось и только укладывается» —
в этих немногих словах глубоко схвачено своеобразие
целой исторической эпохи, эпохи острой ломки всех, веками
сложившихся форм общественной жизни и быта старой
России. Социально-экономические устои сословно-дворян-
ского крепостнического общества под натиском капитала
пошли на слом, и хотя пережитки крепостного права,
основанные на сохранении дворянских владений, еще
многие годы существовали в различных сферах
экономической и политической жизни России, буржуазные
отношения всюду прокладывали себе дорогу, неся гибель
патриархальности. Рушились остатки былых
«добродетелей» дворянства, и с небывалой быстротой утверждались
беззастенчивый эгоизм, корыстолюбие, карьеризм и
другие отвратительные «нормы» циничной буржуазной
морали.
Проблема будущего развития России глубоко
волновала всех передовых современников. Куда пойдет
страна — победит ли в ней «мещанство», — на языке Гер-
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 29..
2 Там же, стр. 30.
цена это понятие служило синонимом буржуазии, — или
будет сохранена в неприкосновенности община как
основа социалистического развития. То, что увидел
Герцен на Западе, потрясло его. Капитализм калечит
человека, «с мещанством стираются личности»,1 исчезает
человеческая индивидуальность, всюду торжествует
пошлость. Он не желал бы такой участи для русского
человека, он не хотел бы, чтобы Россия, его родина, пошла
по «мещанскому» пути развития.
В этом Толстой был полностью солидарен с Герценом.
Он видел, что капитализм несет широким народным
массам невиданное разорение, нищету и голодную смерть,
неописуемые муки и страдания эпохи первоначального
накопления.
Резко изменилось к худшему и положение
дворянства. На смену родовитым князьям пришли буржуазные
дельцы, они овладели капиталом и пренебрежительно
относились к сиятельным аристократам, у которых
сохранилось много сословной фанаберии, но кошельки
опустели.
Писатель ярко запечатлел жестокое наступление
«бессердечного чистогана», показав, как под влиянием
эгоистического расчета человек утрачивает личное
достоинство, как деньги и капитал уродуют человеческую
личность, загрязняют истинно человеческие чувства во
взаимоотношениях между людьми.
Писатель создает колоритный образ купца Рябинина,
ярчайшего представителя целой династии Разуваевых,
Колупаевых и Лопахиных русской литературы. Ряби-
нин — рыцарь наживы, типичная фигура эпохи
первоначального накопления, стихия стяжательства
подчинила все его помыслы и все душевные порывы. Сам он
весь «туго» подтянут, собран как хорошо заведенная
пружина. А лицо его в решающие моменты торговых
сделок принимало «ястребиное, хищное и жестокое
выражение». Он и руку протягивал по-особому, «как бы
желая поймать что-то». Бедный язык купца, частые
повторы слов «окончательно» и «положительно», «мутные
глаза» и «выдающийся подбородок» дорисовывают интел-
1 Л. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XV,
стр. 248.
264
Ъектуальную тупость этого хищника, лишенного всякой
Ьгльтуры. И хотя помещики испытывали к таким хапу-
йм сословную ненависть, видели в них своих врагов, но
делать было нечего, приходилось ломать себя и идти на
поклон к новым хозяевам жизни, к князьям капитала и
маклерам биржи, к жадным стяжателям Рябининым и
финансовым воротилам Болгариновым.
В этом отношении обращение Стивы за помощью к
Болгаринову — символическое явление эпохи. Рюрикович
Облонский вынужден был провести несколько часов
в приемной этого — в его представлении — недостойного
господина. Стива чувствовал себя униженным тем, что
его заставили ждать. Он ощущал неловкость и от того,
что домогался места не дворянского; «в первый раз
в жизни он не следовал примеру предков, служа
правительству, а выступал на новое поприще». Это новое
поприще было типично буржуазным, сама должность
«члена комиссии от соединенного агентства кредитно-
взаимного баланса южно-железных дорог», получения
которой добивался Облонский, была порождена
промышленным развитием страны, сопровождавшимся бурным
строительством железных дорог. Болгаринов «с
чрезвычайною учтивостью» принял Стиву, «очевидно торжествуя
его унижением». Он мог так относиться к Облонскому,
потому что в его руках была сосредоточена могучая
власть денег.
Степан Аркадьевич Облонский переносит все эти
унижения сравнительно легко, так как ему не свойственны
были серьезные духовные запросы и он не переживает
глубоких душевных потрясений. Стиву не омрачают
надолго жизненные невзгоды, «из всего сделать
наслаждение» — вот его своеобразный девиз. Облонский не
обнаруживает приверженности к сословно-дворянским
традициям и легко воспринимает либеральные веяния эпохи, но
только такие, каких «держалось большинство». Стива
.«не избирал ни направления, ни взглядов... как он не
выбирал формы шляпы 'или сюртука, а брал те, которые
носят». Всюду, во всех сферах своей деятельности и
жизни, он выступает как представитель
либерально-дворянского «большинства», живущий как все люди его
круга,
263
В ответ на покаянное признание Левина в своих
«грехах» Стива безмятежно заявляет: «Что ж делать, так мир
устроен», — в этом выражен своеобразный символ веры
Облонского, вполне оправдывающий его эпикурейство.
Стива не собирается перестраивать мир, все в мире
«образуется» само собой, он лишь «искатель наслаждений».
Эти верования Облонского характеризуют заурядность
его натуры, лишенной самостоятельности и
оригинальности.
В служебных успехах Степана Аркадьевича
решающую роль играли не личные способности, а связи и
родственные отношения: все «раздаватели земных благ»
были «ему приятели». И хотя его натуре чужда ложь,
но иногда в интересах своей служебной карьеры он
вынужден лукавить и заискивать перед сильными мира
сего. В этой атмосфере и выработалась его «миндально-
нежная улыбка», которую он так часто пускал в ход
в своих отношениях с нужными ему людьми. Ради
получения доходного места он готов поступиться даже своей
дворянской честью и пойти на унижение.
Другие знакомые Стиве дворяне так же
капитулировали перед новыми хозяевами жизни и, вступив на путь
буржуазных дельцов, изменили традициям
«благородного» сословия.
«Все смешалось в доме Облонских» — эта короткая,
но необычайно емкая по своему содержанию словесная
формула звучит как прелюдия, является смысловым
ключом ко всему произведению; в то же время она
корреспондирует с известным определением эпохи: «все
переворотилось», как бы предваряя его. Все смешалось не
только в доме Облонских, но и в доме Карениных, и
в доме Щербацких, и у Левина, и в русской
патриархальной деревне, откуда шел все нараставший протест против
наступления капитала. Вся атмосфера романа насыщена
тревогой за судьбу России и русского народа, а его герои
охвачены предчувствием каких-то неотвратимо
надвигающихся на них, почти роковых, бедствий.
В такие эпохи распада всех привычных условий
жизни не только Стива Облонский, но и многие другие
дворяне желали «забыться сном жизни», то есть попросту
заглушить свои душевные волнения и тревоги за
бутылкой вина и в объятиях фигуранток и дам полусвету.
266
В сущности разные графини Лидии Ивановны,
увлекавшиеся спиритизмом, также стремились уйти от слишком
тревожной жизни. И уже не может спать спокойно старая
княгиня Щербацкая, испуганно думающая о новых
нравах сверстниц любимой Кити. Охваченная «ужасом перед
неизвестностью будущего», она обращается за утешением
к богу. Даже в сознание Долли, далекой от
общественно-политической жизни эпохи, проникает тревога за
судьбы своего рода, за будущее своих детей. Она
обеспокоена все усиливающимся разорением и обнищанием
семьи и предвидит, что ее дети останутся материально
не обеспеченными, «вырастут несчастные, дурно
воспитанные и нищие дети».
Наиболее глубоко взволнован всеми переменами
в жизни Константин Левин. Он неустанно ищет выхода
из того сложного положения, в которое поставила
помещиков новая социальная действительность. В своих
исканиях он отражает глубочайший интерес и обостренное
внимание Толстого к социальной жизни России той поры.
Автобиографическая основа образа Левина очевидна.
Близость героя к автору определяется не теми бытовыми
деталями, которые перешли в роман из жизни Ясной
Поляны, а необычайным сходством идейных и религиозно-
этических исканий. Поэтому вполне закономерно с
Левиным связаны наиболее существенные идейные про-
бл.емы романа. Писатель воплощает в герое свои самые
задушевные волнения, свои глубочайшие переживания,
а в его жизни воспроизводит важнейшие события своей
жизни. Размышления Левина нередко почти
фразеологически повторяют дневниковые записи и письма Толстого,
выражают идеи его статей.
Левин очень чуток к окружающему, он живо
откликается на все явления жизни, но самой выразительной
чертой характера героя является его постоянная
неудовлетворенность настоящим, его непрерывная
обеспокоенность, его неутомимые искания идеала подлинного
человеческого счастья. В сущности весь процесс духовного
развития Левина характеризуется сложной внутренней
борьбой, постоянными срывами и новыми взлетами,
сомнениями и колебаниями, раскаянием и
самоосуждением. Но через всю путаницу понятий, через все его
ошибки и заблуждения проходит лвдия осуждения своей
эгоистической жизни и поисков путей сближения с
народом, все его раздумья о будущем пронизывает горячая
вера в хорошую, гармоническую, счастливую жизнь:
«надо биться, чтобы лучше, гораздо' лучше жить».
В этом выражены индивидуальные особенности
личности самого писателя.
Еще в октябре 1857 года Толстой писал: «Только
честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть
то, что называют счастьем... а бесчестная тревога,
основанная на любви к себе, — это несчастье». 1 Здесь
содержится целая концепция человеческого характера,
свойственная всем лучшим героям Толстого, отвергавшим
эгоистические начала жизни. Пафос напряженных
исканий идеала личного счастья и счастья народного резко
выделяет их среди других героев русской литературы и
в то же время сообщает им исторически конкретные
черты. Но все это, сближая личность писателя и его героя,
не дает права ставить между ними знак равенства.
Толстой по своей творческой индивидуальности неизмеримо
богаче Левина и в своих идейных исканиях пошел
значительно дальше исканий своего героя.
Левин с тревогой наблюдает, как нагло и
бесцеремонно вторгаются купцы в жизнь помещиков. Всюду по
какой-то странной «невинности», а скорее по неумению
вести хозяйство в новых условиях совершается
обеднение и разорение дворянства: арендатор-поляк купил за
полцены у барыни, живущей в Ницце, чудесное имение,
купцу отдают в аренду по рублю за десятину землю,
которая стоит десять рублей. Облонский своей «глупой
продажей леса» за бесценок дарит плуту Рябинииу тридцать
тысяч. Другой купец предлагает помещику, знакомому
Левина, вырубить липовый сад, выращенный усилиями
многих поколений, на лубок и срубы. Так уже здесь
предугадана тема чеховского «Вишневого сада», уже
в 70-е годы старшие Лопахины прибирали к рукам
дворянские имения. Сады пока не срублены, но они
обречены.
Левина сильнее всего волнует коренной вопрос
пореформенной эпохи: как сложатся новые экономические
порядки в России. На охоте и за вечерним чаем у Свияж-
1 «Переписка Л. Н. Толстого с ip. А. А. Толстой», стр. 93—94.
268
oKO, в крестьянской избе и на дворянских выборах,
у постели тяжело больного брата и па полевых
работах — всюду Левин размышляет о важнейших
экономических и политических вопросах современности. Он
беседует о хозяйстве с либералами и консерваторами,
близкими родственниками и случайными знакомыми,
помещиками и крестьянами, наблюдает разные типы
хозяйственной деятельности, читает книги социологов и
экономистов. Эти главные духовные интересы определяли
в его жизни все остальное.
Героя романа поражает своим благоустройством
хозяйство богатого мужика, и он задумывается над
крестьянскими словами: «Наше дело мужицкое. Мы до всего
сами. Плох — и вон; и своими управимся». Идейный
смысл картины этого преуспевающего хозяйства,
введенной вслед за описанием острого недовольства Левина
своей хозяйственной деятельностью, — в показе
преимуществ крестьянина перед помещиком. Одной из
причин хозяйственной отсталости России было сохранение
отработочной системы: на помещичьих полях, которые
обрабатывали крестьяне своим инвентарем, урожаи были
хуже, чем на крестьянских землях. «Мы до всего сами» —
в этом секрет хозяйственных успехов старика, на Левина
же работали «чужие» люди, не заинтересованные в
процветании его хозяйства. Не важно, что старик вел ку-
лацко-ростовщическое хозяйство, и реплика о
работниках «плох — и вон» очень выразительно характеризует
его жестокую природу стяжателя. Левина пока не
смущает эта сторона вопроса. Его пленяет другое: старик
сумел разрешить вопрос с «рабочей силой» и, не
чуждаясь агротехнических новшеств, сохранить
патриархальные основы ведения хозяйства.
В ходе беседы у Свияжского внимание Левина
привлекли резкие суждения «закоренелого крепостника»
о том, что «эмансипация» погубила Россию, что после
освобождения крестьян помещичье хозяйство «должно
опуститься к самому дикому, первобытному состоянию».
Эти высказывания отражали растерянность крепостников
в новых пореформенных условиях.
Многие мысли «озлобленного крепостника» казались
Левину верными, но он не разделял его враждебного
отношения к крестьянству, «к целому классу, и самому луч-
269
Шему классу России». Будучи убежден, что «рабочай
сила главный элемент хозяйства», он искал новые формы
отношений помещика с мужиком, при которых
гармонически сочетались бы интересы того и другого. Либерал
Свияжский, напротив, считал, что и искать нечего, все уже
найдено, надо только взять уже готовые формы
«свободного труда», сложившиеся в Европе. Но Левин не мог
согласиться с ним, потому что это означало бы
утверждение в стране ненавистных ему буржуазных порядков.
Осуждая крепостников, сильно сожалевших о том, что
у них отняли «тысячелетнюю палку», с помощью
которой они держали в повиновении миллионы крестьян, и
мечтавших о" возвращении дореформенных порядков,
писатель в то же время обличает и либералов. Облонские,
Свияжские, Вронские, Кознышевы, Неведовские, с
разной степенью последовательности исповедующие
либеральные взгляды, не только не вызывают сочувствия у
писателя, но, напротив, даны в резко отрицательном
плане. Они не имеют корней в народе, живут в какой-то
призрачной, 'искусственной атмосфере, проникнутой
ложью и фальшью. Одни из них, как Стива, используют
либерализм для прикрытия и оправдания своей жизни,
лишенной твердых нравственных начал; другие, как Не-
ведовский, под знаменем либерализма одерживают
победы на выборах; третьи, как Вронский, в соответствии
с либеральными убеждениями переводят свои имения на
рельсы «агрономической промышленности». Кознышев
занят теоретическим обоснованием своих взглядов на
народ, которые, однако, носят отвлеченно-книжный
характер. Либеральные высказывания Свияжского также
находятся в полном противоречии со всем укладом его
'ЖИЗНИ.
И все они в конечном счете не приносят никакой
пользы тому «общественному благу», которому якобы
служат на разных поприщах. Все они оправдывают
буржуазные порядки. Больше того, все они люди
верноподданные. О Кознышеве Николай Левин говорит: «он
все силы ума употребляет на то, чтобы оправдать
существующее зло». Свияжский также верой и правдой служит
царскому правительству. Земские учреждения
используются либералами в своекорыстных целях: «Это
средство для уездной coterie (партии) наживать деньжонки...
270
#6 В виде взяток, а в виде незаслуженного жаловаНьй».
Так писатель показывает подоплеку либеральной «игры
в парламент».
С либералами, которые переносили на русскую почву
европейские буржуазные методы ведения хозяйства,
Левину не по пути. Европейский опыт в условиях России
неприменим, европейские формы труда «нам не
приходятся», «мы вне закона; рента ничего для нас не
объяснит, а, напротив, запутает», — рассуждает он.
Экономическому развитию России чужды зако-ны капитализма,
о чем свидетельствует преобладание патриархально-
натурального хозяйства в русской деревне. Город как
воплощение буржуазной «ненормально привитой» России
«внешней цивилизации» является носителем социального
зла и источником растлевающего влияния на деревню.
Россия в своем развитии не обязана повторять опыта
Европы, ома должна избежать капитализма, особенно
в земледелии.
«Мы вне закона» — это и есть излюбленные мысли
Толстого о самобытности русского исторического
процесса. Здесь писатель сближался с народниками,
отрицавшими возможность развития капитализма в России и
верившими в особую, «социалистическую» природу
русской общины и русского мужика. Но писатель в
рассуждениях своего героя отражает желаемое, а не
действительное, потому что капитал, деньги вторгались уже во
все сферы хозяйственной жизни России, в том числе и
в земледелие. Писатель, однако, не понимал связи денег
и капитала с утверждением буржуазного строя.
«Подобно народникам, — писал Ленин, — он не хочет видеть,
аы закрывает глаза, отвертывается от мысли о том, что
«укладывается» в России никакой иной, как буржуазный
строй». 1
Толстой устами Левина подкрепляет свою мысль о
самобытности социального развития России своеобразно
истолкованным национальным характером русского
мужика. Он апеллирует к наиболее отсталым,
консервативным чертам в духовном облике русского патриархального
крестьянства, указывая на его противодействие всяким
нововведениям, на его приверженность к старине, для
1 В. И. Лен и н. Сочинения, т. 17, стр. 30.
271
того чтобы доказать, что России глубоко чужды все
«европейские», то есть капиталистические, методы
хозяйствования, так как русский парод имеет свои приемы
ведения хозяйства, с помощью которых он заселил
огромные пространства.
Самобытность России и особый характер русского
народа Левин стремился доказать «теоретически в книге
и на практике в своем хозяйстве», намереваясь
превратить свое имение в своеобразную социальную
лабораторию по изысканию путей внекапиталистического развития
страны. «Все хозяйство, главное — положение всего
.народа, совершенно должно измениться. Вместо бедности —
общее богатство, довольство; вместо вражды — согласие
и связь интересов. Одним словом, революция
бескровная, но величайшая революция, сначала в маленьком
кругу нашего уезда, потом губернии, России, всего мира...
Да, это цель, из-за которой стоит работать».
Левин увлечен социальной утопией, основное
содержание которой, несмотря на гуманные побуждения,
являлось несомненно реакционным. Ни о каком устранении
вражды и установлении «согласия», классового мира
между крестьянами и помещиками при сохранении
частной поземельной собственности не могло быть и речи, их
интересы были диаметрально противоположны. Нужны
коренные революционные преобразования
общественного строя, но герой романа во всех своих
реформистских устремлениях не затрагивал основ этого строя. Он
«хотел балансировать между коммунизмом и
определенными формами» частнособственнического общества,
оставаясь при этом помещиком.
Правда, Левин «всегда чувствовал несправедливость
своего избытка в сравнении с бедностью народа», но его
еще не посещали сомнения в исторической необходимости
существования класса помещиков, он пока далек от
осуждения «земельной» аристократии, хотя бы и с
религиозно-этических позиций. Левин не отрицает частной
поземельной собственности, стремясь решить волнующую
его социальную проблему на основе сохранения дво-
рянско-сословного землевладения и патриархальных
отношений помещика с мужиком. В этом главная причина
бесплодности его исканий в социальной области. В этом
источник его глубокого пессимизма.
272
Левин говорит Стиве: «Весь этот мир наш — это
маленькая плесень, которая наросла на крошечной планете.
А мы думаем, что у нас может быть что-нибудь
великое, — мысли, дела! Все это песчинки». Размышления
о тленности всего сущего, о неизбежности смерти
отражают глубокие нотки пессимизма в мировоззрении
писателя, порожденные переломной, кризисной эпохой.
Никогда до этого раздумья писателя о смерти не
окрашивались в такие трагические тона, не звучали с такой
безысходностью.
«Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу»,—
писал Ленин, — есть идеология, неизбежно
появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй
«переворотился», и когда масса, воспитанная в этом старом строе,
с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки,
традиции, верования этого строя, не видит и не может
видеть, каков «укладывающийся» новый строй, какие
общественные силы и как именно его «укладывают»,
какие общественные силы способны принести избавление
от неисчислимых, особенно острых бедствий,
свойственных эпохам «ломки». 1
Толстой, а вместе с ним Левин также не видят тех
форм, в какие уложится капитализм в России, не знают
тех общественных сил, какие могут избавить народ от
неисчислимых страданий. В своих напряженных
социальных исканиях герой романа пока еще не выходит из
границ дворянско-сословного мировоззрения. Он признается:
.«Мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват».
Таким образом, вопрос социальный переведен в морально-
этическую область и приобрел оттенок искупления греха
перед народом. Левин против коренных общественных
перемен, он за сохранение традиции, освященной веками.
«Жить семье так, как привыкли жить отцы и деды, то есть
в тех же условиях образования, и в тех же воспитать
детей было несомненно нужно».
Левин еще не находит в себе сил преодолеть
«сословный инстинкт». Помещику Степану Васильевичу он
говорит горькие слова: «Так мы без расчета и живем,
точно приставлены мы, как весталки древние, блюсти огонь
какой-то». Путь буржуазного развития хозяйства, на ко-
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.
18 с. Бычков 273
торый стали Свияжские и Вронские, отвергается
принципиально. Это «не дворянское дело». Помещики — это
«весталки», призванные «блюсти огонь» своего рода,
охранять традиции своей культуры, свой семейно-бытовой
уклад от вторжения капитала.
Задетый за живое репликой Стивы о «совершенном
аристократизме» Вронского, Левин взволнованно и резко
говорит о представителях «новой знати», которые
пронырством и подлостью вылезли из ничего. «Мы
аристократы, а не те, которые могут существовать только
подачками от сильных мира сего и кого купить можно за
двугривенный». Герой романа желает пребыть верным
идеалам дворянства, дворянства образованного,
независимого и неподкупного.
В монологе Левина слышны отзвуки «Моей
родословной» Пушкина и злой сатиры Грибоедова на Максим
Петровичей, пронырством вылезавших к трону. Но если
Пушкин и Грибоедов противопоставляли просвещенное
дворянство социальной действительности самодержавной
России и гневно обличали недостойных «парвеню» за их
подлое выслуживание перед царем и его сатрапами, то
выступления Толстого в защиту родовитого дворянства
при полном сохранении традиций приобретали иное
конкретно-историческое значение. В эпоху стремительного
развития капитализма в стране писатель, охваченный
мучительным раздумьем, утверждал в сущности идеалы
старой аристократии, которые и противопоставлял
идеалам ненавистного ему буржуазного строя.
¦ ¦ ¦
Хотя Толстому чужда конкретно-историческая точка
зрения и он атакует буржуазные порядки с позиций
«вечных» начал нравственности, однако ему удается
беспощадно обличить растленную мораль частных
собственников, ложь и ханжество «верхов»
буржуазно-дворянского общества.
Наиболее сильно это выражено в ярких
обличительных картинах жизни петербургской аристократии,
насквозь пропитанной лицемерием и ханжеством. Распад
семьи в этой среде — типичное явление. Князь Чеченский
имел две семьи и возил старшего сына во вторую семью,
274
находя это «полезным и развивающим для сына». В
других дворянских семьях дети воспитывались в
специальных заведениях и «не мешали жить отцам». Многие
сиятельные аристократы имели колоссальные долги, но жили
с привычной расточительностью. «Графа Кривцова
давно уже все отпели, а он содержал двух. Петровский
прожил пять миллионов и жил все точно так же и даже
заведывал финансами и получал двадцать тысяч
жалованья». Все освященные традицией обязанности в
отношении семьи, детей, служебного долга подвергнуты
поруганию и опошлению. Жены изменяли мужьям, мужья —
женам. Княгиня Мягкая говорит Стиве об отношениях
Анны с Вронским: «Она сделала то, что все, кроме меня,
делают, но скрывают; а она не хотела обманывать и
сделала прекрасно».
Характерной представительницей этого общества
является Бетси Тверская. Лживая и развратная женщина,
постоянно и открыто обманывающая мужа, она не только
не испытывает от этого никаких угрызений совести, но
находит в такой жизни нечто привлекательное. Графиня
Лидия Ивановна возглавляла кружок «добродетельных и
набожных женщин» и внешне противостояла Бетси и ее
кругу, но в сущности была столь же отвратительной
ханжой, как и многие другие. Христианская «доброта» этой
святоши, произносящей сладкоречивые слова о боге и
вере, раскрыта полностью в эпизоде, где она
настойчиво побуждала Каренина отказать Анне в свидании
с сыном.
Глубина морального и духовного падения высших
слоев дворяиско-ариспжратического общества ярко
характеризуется успехом в этих кругах «ясновидца» Жюля
Ландо. Ландо — парижский приказчик, плут и
шарлатан — стал кумиром у разных графинь Беззубовых. До
какой же степени маразма дошли так называемые
«светские» люди, если они сделали из закоренелого мошенника
с «потными руками» своего идола и обращались к нему
за решением наиболее важных вопросов своей жизни.
Ведь именно Ландо в своем бредовом полусне отказал
в разводе Анне. Здравые люди не могли не ужасаться
этому. Присутствуя на сеансе «ясновидца», Стива был
«ошеломлен» всем увиденным и услышанным и выбежал
от Лидии Ивановны, «как из зараженного дома». Но «за-
* 275
раженным домом» было все дворянско-аристократическое
общество, «зараженный дом» — это вся самодержавная
Россия.
В «Анне Карениной» Толстой гневно обличает
государственный аппарат царизма, поразительный
бюрократизм' разных министерств, комиссий и комитетов,
чудовищное казнокрадство чиновников самых высоких
рангов. Так, дело об орошении полей Зарайской губернии,
тянувшееся многие годы, служило одним из источников
обогащения разных лиц. «Много людей кормилось этим
делом, в особенности одно очень нравственное и
музыкальное семейство», — саркастически замечает писатель.
О продажности крупных сановников говорит
Серпуховской Вронскому: «Их можно купить или деньгами, или
лаской», политические взгляды подобных
государственных «деятелей» также были подчинены узкокорыстным
интересам и служили средством «иметь казенный дом
и столько-то жалования». Колоритен образ «знаменитого
петербургского адвоката», который в сущности был
глубоко равнодушен к людям и оживлялся только тогда,
когда получал «выгодный заказ»; несчастья его клиентов
вызывали в нем «торжество и восторг». А сколько
мытарств претерпевает Левин, чтобы добиться в кашинских
губернских канцеляриях решения по самому простому
делу.
Толстой едко иронизирует над тем, как комиссия по
исследованию быта инородцев добыла точные и
несомненные сведения, основанные на донесениях губернаторов
и архиереев, которые в свою очередь опирались на
донесения уездных начальников и благочинных и т. д. до
самой низшей ступени служебной иерархии. «На .все
вопросы были прекрасно изложены ответы, и ответы не
подлежавшие сомнению, так как они не были
произведением всегда подверженной ошибкам человеческой мысли,
но все были произведением служебной деятельности».
Поистине уничтожающая характеристика
бюрократического аппарата царизма!
Типическим представителем царской бюрократии
является Алексей Александрович Каренин. Видный
сановник с «непоэтической» наружностью, консерватор по
своим политическим убеждениям, лишенный естественных
и нормальных проявлений человеческого чувства, он был
276
воплощением «холодной самоуверенности». Сразу же по
окончании университета Каренин «исключительно отдался
служебному честолюбию», и это иссушило его душу,
покрыло ее твердым панцырем рассудочности, хотя и от
природы он не отличался особой эмоциональностью. Все
силы своей души, все свои помыслы и желания он
подчинил карьере, страсть к служебному преуспеянию
поглотила в нем все остальное. «Одно честолюбие, одно
желание успеть — вот все, что есть в его душе», — думает
о йем Анна. «Всю жизнь свою Алексей Александрович
прожил и проработал в сферах служебных, имеющих
дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда
он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся
от нее».
«Медлительный тонкий голос», «неподвижные
тусклые глаза» и другие портретные детали выразительно
характеризуют мертвенность Каренина, отсутствие в нем
настоящей жизни; это не человек, а кукла, злая
«министерская машина», занятая изготовлением
бюрократических циркуляров. Такие характеры формировались
в условиях самодержавной России, где государственный
аппарат царизма, оторванный от реальной жизни,
глубоко враждебный народу, калечил людей, прививая им
карьеризм и бездушие.
Черствый чиновник, лишенный «сердца», Каренин
свои отношения с женой пытается уложить в привычные
для него рассудочные схемы, находя соответствующие
«разумные» доводы для того, чтобы убедить Анну
соблюдать внешнюю благопристойность в своем поведении.
Раб светских приличий, он привык ко лжи, мирился
с тем, что Анна была «неверной» женой, его только
тревожила мысль о возможности скандала «в свете», что
могло неблагоприятно отразиться на его служебных
успехах. Каренин думал лишь о себе и не желал думать об
Анне, о ее мыслях и чувствах; он глубоко1 равнодушен
к душевной жизни другого человека и само стремление
понять эту жизнь считал «вредным и опасным
фантазерством». Это являлось одним из выражений его духовного
и морального уродства. «Вопросы о ее чувствах, о том,
что делалось и может делаться в ее душе, это не мое
делб, это дело ее совести и подлежит религии»,—
ханжески рассуждал Каренин.
277
Этот «искусственный» человек оказывается
несостоятельным перед Анной — воплощением подлинной жизни.
Она справедливо негодует: «Любит? Разве он может
любить?.. Он и не знает, что такое любовь». Мысленно
обращаясь к светским друзьям Каренина, Анна произносит
слова, полные гнева: «Они говорят: религиозный,
нравственный, честный, умный человек; но они не видят, что
я видела. Они не знают, как он восемь лет душил мою
жизнь, душил все, что было во мне живого, что он ни
разу и не подумал о том, что я живая женщина, которой
нужна любовь...»
Рассчитанная и холодная бесчеловечность Каренина
особенно ярко проявляется в его решении не давать
развода жене и оставить все по-старому. Разумеется, для
оправдания этого он нашел и соответствующую
«религиозную санкцию»: необходимо удержать Анну, чтобы
предоставить ей возможность нравственного
«исправления». Так до конца раскрывается отвратительное
ханжество этого жестокого чиновника. Образ Каренина
является олицетворением бездушности и жестокости всей
государственной машины царизма.
Толстой, однако, не ограничивается реалистически
беспощадным показом душевной скудости Каренина.
Писатель, верный своим религиозным идеям, стремится
показать, что и Каренин способен к душевному
обновлению и благородству. Так появляется сцена — Каренин
у постели умирающей Анны. Здесь он впервые в жизни
познает «счастье прощения», он прощает Анну и мирится
с Вронским. И это дало ему полное «душевное
спокойствие». «Он вдруг почувствовал, что то самое, что было
источником его страданий, стало источником его
радости, то, что казалось неразрешимым, когда он осуждал,
упрекал и ненавидел, стало просто и ясно, когда он
прощал и любил».
Писатель умело избрал ситуацию для доказательства
спасительности одного из основных догматов
христианской религии — о прощении врагам своим. У постели
умирающего труднее сохранить свою озлобленность и
легче простить. Однако внешнее художественное
правдоподобие сцены нисколько не умаляет тех глубоко
реакционных идей, которые лежат в ее основе. Не случайно
она вызывала слезы умиления у реакционных критикою
218
Зкесь содержится откровенная поэтизация христианской
религии как единственно возможной основы для
возрождения человека, его нравственного и духовного
возвышения. Каренину были неведомы чувства сострадания,
но смог же он простить своих врагов и полюбить
новорожденную девочку, которая не была его дочерью. И его
последующее раскаяние в этом вовсе не
свидетельствовало о ложности христианского закона «всеобщей»
любви: нет, Каренин, возможно, до конца выдержал бы
свою роль «истинного христианина», если бы он
встретил поддержку, но он ее не встретил.
На пути духовно «обновленного» Каренина встала
«грубая сила» реальной жизни, «светское» общество.
Своим «подвигом» прощения Анны он возвысился над
обществом, но все окружавшие его люди продолжали
жить по-старому, не признавали евангельских истин,
отступали от догматов христианской религии, лгали,
обманывали, лицемерили, зло посмеивались над ним и его
новыми чувствами. И Каренин остался один,
«опозоренный, осмеянный, никому не нужный и всеми
презираемый». Он сблизился с Лидией Ивановной, сторонницей
нового мистического учения. Это уже был конец. Каре-
нйн доходит до полного духовного маразма. И вся
логика этого образа, раскрытого с беспощадной правдой,
убеждает в ложности идеи возможного' возрождения
в этом бездушном чиновнике подлинно человеческих
начал.
* *
Образ Анны Карениной — одно из величайших
художественных созданий Толстого, одно из высших
достижений русского реализма. Этот образ связан с глубокой
традицией всей передовой русской литературы XIX века.
Начиная с пушкинской Татьяны, в русской литературе
проходит целая галлерея образов передовых женщин,
стремящихся эмансипироваться от гнета и унижения, в
которые они были поставлены обществом. Пушкинская
Татьяна первая ощутила себя «девочкой чужой» в своей
родной дворянской семье. Ее свободное, чистое чувство
к Онегину уже идет наперекор всем «приличиям»
дворянской морали, она «первая» пишет ему страстное, полное
признаний в любви, письмо. Ее правдивая душа, светлый,
279
чисто русский ум несут в себе большую критическую силу.
Но пушкинская Татьяна — выразительница еще раннего
и незрелого протеста против морали общества,
убивающей личность.
Русское передовое общественное движение,
реалистическая литература ставили вопрос об эмансипации
женщины как часть общей задачи освобождения народа от
гнета крепостничества и всех его порождений.
Подымалось освободительное движение в стране, рос и
приобретал все большую важность женский вопрос. Русская
женщина сама становилась все более активной
участницей этой освободительной борьбы.
В романах Тургенева мы уже встречаем такие
волевые и целеустремленные фигуры, как Елена Стахова
из «Накануне» и, значительно позднее, Марианна из
«Нови». Гончаров создает образы Ольги Ильинской
(«Обломов») и Веры («Обрыв»). Ольга преодолевает не
только узкий мирок интересов Обломова, но и
претенциозную деловитость Штольца, ставшего ее мужем. Она
вся устремлена в будущее и жаждет большой и полезной
деятельности. Ее не удовлетворяют приобретательские
помыслы Штольца, духовно нищего, как и породившие
его социальные отношения. В ответ на ее страстные
призывы идти вперед и выше он лепечет, что «мы не
Манфреды, мы не Фаусты».
По-разному ставился и решался женский вопрос в
русской литературе. Это зависело и от мировоззрения
писателей и от исторического момента.
Страстные попытки русской женщины если не
порвать вовсе, то надорвать сковывающие ее путы
обнаруживает Круциферская в романе Герцена «Кто виноват?»,
Наталья в романе Тургенева «Рудин», Катерина в
«Грозе» Островского. Но особенно следует подчеркнуть
значение женских образов в романе «Что делать»
Чернышевского и в поэме «Русские женщины» Некрасова.
Именно у Чернышевского женский вопрос выступает
открыто и всесторонне связанным с революционной
борьбой, как часть большого вопроса о грядущем
социалистическом преобразовании России. Конечно, социализм
Чернышевского утопичен. Но Чернышевский показал, что
освобождение женщины должно быть не только в сфере
любви. Он показал, как решение его связано с решением
280
самых главных вопросов: женщина должна быть в
обществе во всем равна мужчине, она должна быть занята
общественно полезным трудом, она должна быть
материально независимой, — только тогда она будет духовно
свободна. Чернышевский показал великую
преобразующую силу коллективного труда, который может
пересоздать не только женщину, но и все общество. Автор
показал в «Что делать?» духовный расцвет личности, ее
небывалый рост па почве революционной борьбы и
коллективного труда.
Конечно, нельзя было достичь свободы личности и
коллективности труда с равным и справедливым
распределением продуктов в эксплуататорском обществе.
Элементы «утопизма» в романе есть. Но Чернышевский
велик тем, что указал, «что надо делать». Он указал, что
нужно взорвать весь эксплуататорский строй, что труд,
основу жизни, надо сделать свободным и человек должен
трудиться и быть равным во всем другому. Великий
демократ связывал осуществление своих
социалистических идеалов с победой крестьянской революции в
России.
Образ Веры Павловны — не только гуманистическая
мысль Чернышевского, но и отражение реальных
прототипов передовой русской женщины 60-х годов, впервые
пошедшей в революцию и на открытый разрыв с
«обществом» во имя создания нового, «разумного» общества,
без угнетения, насилия и лживой морали. Чернышевский
гениально показал, как его новые люди, герои романа,
разрушая старую мораль, создают свою, новую мораль.
Они у него дышат всеми человеческими страстями и
интересами, как люди, духовно обогащенные в борьбе за
правое дело.
Некрасов изображает самоотверженных
революционных подвижниц, «русских женщин», княгиню Трубецкую
и княгиню Волконскую, поехавших в Сибирь вслед за
своими мужьями-декабристами. Многие героини русских
романов отваживались жертвовать «приличиями» света
во имя своей чистой любви, имевшей, как им
справедливо казалось, свои права. «Русские женщины» у
Некрасова делают еще большее — сознательно порывают со
своим сословием, клеймят его сервилизм, ханжество,
бездушие и отказываются от всех дворянских привиле-
281
гий, нисколько не дорожа ими. И сама любовь их
поднимается на высшую ступень и помогает им гордо нести
свой страдальческий венец. Поэт верно понял, что именно
на пути революционного деяния и самопожертвования
полнее всего раскрываются национальные черты народа,
и поэтому не случайно так гордо и обобщающе назвал он
свою поэму — «Русские женщины».
Мощная традиция всей русской классической
литературы исторически увенчивается образом матери (Ни-
ловны) в знаменитом романе основоположника
социалистического реализма Горького. Великий пролетарский
писатель безусловно продолжил традицию русской
литературы в этом вопросе, но вместе с тем он поднял всю
проблему на новую высоту. Он показал эмансипацию
забитой, униженной женщины из народа, из рабочей
среды, которая вместе со своим победоносным классом
и его партией, на новом, пролетарском этапе
революционной борьбы в России, борется со всяким угнетением, со
всякой эксплуатацией во имя подлинного равенства,
подлинного коммунизма.
Толстой внес свой великий вклад в решение этого
вопроса. Он, как гениальный художник, не мог пройти мимо
этой традиции, так чутко и полно отражавшей
объективный исторический процесс нарастания революционной
волны в России, нарастания справедливого отпора
насилию со стороны самого угнетенного в русском
обществе «сословия» — женщин. У Толстого в романе «Анна
Каренина» женский вопрос также выступил, как один из
многочисленных вопросов о грядущих судьбах России,
занимавших его целиком.
Конечно, у Толстого при этом много примешивалось
своего, чисто толстовского; мы уже знаем его взгляд на
назначение женщины в семье, который он выразил в
образе Наташи в финале романа «Война и мир». Эти же
предрассудки в значительнейшей, если не в большей
степени были свойственны Толстому и в период
создания «Анны Карениной».
Но правдивый художник, все больше и больше
ожесточавшийся против существующего порядка вещей, в
процессе создания романа вынужден был изменить свое
отношение к центральному образу романа. Вместо
желания покарать Анну, показать ее женщиной, разрушающей
282
семейный очаг, он оправдал ее, показав, что преступен
был сам порядок вещей, лишавший женщину ее
человеческих прав, закрепощавший ее духовно.
Первая встреча Анны Карениной с Вронским на
московском вокзале имела роковые последствия. Толстой
тщательно работал над этой сценой-завязкой, добиваясь
предельной художественной выразительности. Вот
некоторые детали из двух редакций. В ранней редакции («Два
брака») эта сцена, кажется, и без того была выписана
сильно: Вронский, вышедший встречать свою мать, в
дверях вагона почти сталкивается с «невысокой дамой в
бархатном платье, обшитом мехом, с необыкновенно
тонкой талией и широкими плечами». Извинившись и
пропуская ее, он взглянул в ее лицо, «скромно
выглядывавшее из овальной рамки белого платка, которым была
обвязана ее голова и шея. Задумчивые серые глаза из-под
необыкновенно длинных ресниц смотрели на него
дружелюбно-внимательно». Дама сама отстранилась, давая ему
дорогу, а он, поклонившись, прошел к своей матери.
В окончательной редакции сохранен остов ранней, но
Толстой наполнил всю сцену большим внутренним
движением и перенес центр тяжести с описания внешности Анны
на духовную ее красоту, подробно осветив игру чувств
в ее глазах и на лице и раскрыв соответствующую
реакцию у Вронского, которая в первоначальной редакции
отсутствует, — там поведение Вронского сводилось к
простой светской любезности.
Именно привычная светскость-то у Вронского в этой
встрече и оказалась бессильной. Не внешней красотой,
против которой он наверное бы мог устоять, поразила
его Анна, а блеском внутренней красоты, не
«петербургским», а «женским» взглядом, как тут же косвенно
подчеркнуто. Толстой пишет: «С привычным тактом
светского человека, по одному взгляду на внешность этой
дамы Вронский определил ее принадлежность к высшему
свету. Он извинился и пошел было в вагон, но
почувствовал необходимость еще раз взглянуть на- нее — не потому,
что она была очень красива (а в первой редакции она
именно красива. — С. Б.), не по тому изяществу и
скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре,
но потому, что в выражении миловидного лица, когда
рна прошла мимо его, било что-то особенно ласковое
293
и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула
голову» (вторая встреча). Описание глаз Анны, такое
¦беглое и безразличное -в первой редакции, здесь является
логическим центром всей сцены: «Блестящие, казавшиеся
темными от густых ресниц, серые глаза (уже не просто
серые, и ресницы не сами по себе, а ресницы,
придающие особый оттенок глазам, то есть внутреннему. —
С. Б.) дружелюбно, внимательно остановились на его
лице, как будто она признавала его, и тотчас же
перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то».
Этим подчеркнута мимолетность взгляда,
целомудренность, и вместе с тем Анна действительно ждала Стиву
па перроне. Как реагировал на этот взгляд Вронский,
мы не знаем в ранней редакции, а между тем в этой
ответной реакции и узел всего последующего. В
окончательной редакции Толстой подробно останавливается
на «ответе» Вронского. Он успел «заметить
сдержанную оживленность, которая играла на ее лице и порхала
между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой,
изгибавшей ее румяные губы. Как будто избыток чего-то
переполнял ее существо, что мимо ее воли выражалось
то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила
умышленно свет в глазах, но он светился лротив ее воли в чуть
заметной улыбке». Толстой великолепно разломил это
единое и мимолетное впечатление по-полам: сначала оно
дано от автора, а • потом как впечатление, засевшее в
мозгу Вронского1, которое он с собой уносит, захоронив
в душе. Уже только после этого, «раненный» и полный
«ею», он вошел в вагон к матери.
В первоначальном варианте Вронский, целуя руку
матери, думает: «Ах! Это ведь Каренина, а я и не
узнал». Здесь еще чисто формальное узнавание Анны:
вспомнил фамилию, и все тут. В окончательной редакции
Вронский, целуя руку матери и садясь подле нее,
«невольно прислушивался к женскому голосу из-за двери; он
знал, что это был голос той дамы, которая встретилась
ему при входе». Он еще не узнал, кто она, но он уже
знает, что это опять «она». В первоначальной редакции
Анна является безучастной свидетельницей встречи сына
с матерью. Теперь она за дверями, но Вронский мыслями
весь там, с нею.
Стива первоначально имел фамилию Алабин. В пер.-
284
вой редакции было: «Вронский быстро вышел на
крылечко (у вагона?) и крикнул: «Алабин, твоя сестра
здесь!» Но как точно и выразительно получилось в
окончательной редакции: «Вронский вышел на
платформу и крикнул: «Облонский! Здесь!» В самом деле,
Стиве не надо объяснять, что речь идет о его сестре, и
два подряд следующие крика лучше передают динамику
сцены. Родственный поцелуй сестры с братом дан
глазами Вронского, от которого теперь уже не ускользает
ни одно движение Анны: «Каренина не дожидалась
его, а быстрой, легкой походкой подошла навстречу
брату и, просияв лицом, как будто попав под луч света,
обхватила его правой рукой за шею, крепко и быстро
притянула к себе и, громко чмокнув, поцеловала».
Однако в окончательной редакции сделано еще лучше:
Стива сам подходит к ней, о'браз Анны становится от
этого женственнее, тоньше. Здесь же включена реакция
Вронского на виденное им: «Она движением,
поразившим Вронского своею решительностью и грацией,
обхватила брата левою рукой за шею (правая в
рукопожатии), быстро притянула к себе и крепко поцеловала».
Вронского уже здесь поражает (а потом будет пугать)
ее «грациозная решительность». Убрал Толстой и
физиологический штрих: «громко чмокнув, поцеловала»,
всегда имеющий у Толстого снижающее значение. Слова
матери Вронского, такие безразличные в ранней
редакции, в окончательной закрепляют целый этап внутреннего
развития чувств у сына, который еще сам не знает, что
с ним творится: обыкновенный светский комплимент
матери по адресу Анны непреднамеренно приобретает в
контексте глубокий смысл: «Не правда ли, очень мила?—
сказала графиня про Каренину». Казалось, не у него
было и спрашивать это... И тут же проскальзывает нечто,
запрещающее Вронскому думать об Анне больше, чем
она просто «мила»: «Ее муж со мной посадил, —
продолжала графиня, — и я очень рада была. Всю дорогу
мы с ней проговорили». Муж и мать оказываются
невольными пособниками этой роковой встречи. И
дальнейшая так же безразличная светская фраза матери «от
обратного» доказывает, что для Вронского уже нет
прошлого, а есть одно настоящее и будущее: «Ну, а ты,
говорят: у тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем
285
Лучше, мой милый, тем лучше». Лучше чего же? У
Матери возникает какое-то подсознательное сравнение...
Половина этой фразы сказана по-французски, что
подчеркивает ее автоматический характер. Но в этих словах
намечается уже линия отрицательного отношения матери
Вронского к увлечению ее сына Анной. Хотя об этом
еще не «говорят» (скоро заговорят), но зарождается
у Вронского как раз «не идеальная» любовь к Анне.
Любопытно изменение в композиции романа в связи
с изменением общей концепции автора.
Первоначально роман должен был начинаться со
сплетен об Анне в салоне Бетси Тверской. Появляющаяся
в салоне Анна наделялась автором отрицательными
чертами: в ее поведении было нечто вызывающее,
вульгарное. Затем этот эпизод в окончательной редакции был
отнесен вглубь романа. На первый план Толстой
выдвинул историю глубокой, искренней и подкупающей любви
Анны к Вронскому, открыв читателю рождение этого
чувства у Анны. Вся первая часть романа отведена
истории этого чувства. К тому моменту, когда над
головой Анны раздается проклятие лицемерного света, Анна
выступает перед читателем уже внутренне оправданной,
и клевета не может очернить ее. Согреваемая большим
и чистым чувством любви, она оказывается способной
бросить вызов свету, оказывается сильной и гордо
презирающей мнения света. И ее презрение к свету стано-
зится презрением самого Толстого и читателя.
Толстой достигает большого впечатления еще и тем,
что первоначально показывает Анну в роли миротворца
в семейной неурядице дома Облонских. Она появляется
в доме Стивы и Долли вестником мира и семейного
счастья. Но именно эта поездка в Москву связала ее с
Вронским, пробудила ее духовный сон и все смешала в
ее собственном доме и в жизни.
Толстой создал пленительный образ незаурядной
женщины, отличающейся глубиной душевных
переживаний, силой и искренностью чувства. Анна вся исполнена
изящества, грации и вместе с тем естественности и
простоты, но главное, что ее отличает, это неиссякаемая
жизненная сила, неукротимое стремление обрести
подлинное счастье. Каренин не мог дать Анне счастья,
напротив, он «душил» ее жизнь, душил все, что было в ней
286
живого и истинно прекрасного. Анна стремится
«свободно и смело любить» Вронского, но на пути такой
любви непреодолимой преградой стояли Каренин и
светское общество. Здесь и кроется основная причина
жизненной трагедии героини романа. Питая органическое
отвращение ко всякой лжи и фальши, искренняя и
правдивая Анна оказалась в таком положении, когда сама
вынуждена была лгать и обманывать. Анна еще
надеется, что когда-нибудь ее мучения кончатся, что отношения
распутаются и все в ее жизни определится, она еще
верит в возможность разорвать ту «паутину лжи», в
которой ей приходится жить. Но происходит объяснение
с мужем, и Каренин, озабоченный прежде всего
сохранением внешних приличий, настаивает на том, чтобы
все осталось по-старому. Анну с новой силой охватили
нравственные терзания. В глубине души она
чувствовала, что не в силах будет изменить что-либо в своем
положении, что ей дорог свет и как это ни тяжело, но
она «навсегда останется преступною женой».
Однако, дорожа своим положением в свете, Анна
чувствовала себя среди светских дам одиноко. По
глубине своей натуры, силе чувства, искренности
переживаний она стояла неизмеримо выше всяких Бетси, Сафо
Штольц и Меркаловых, которые изменяли мужьям,
открыто встречались с любовниками и нисколько не
терзались от этого. Этим светским лаисам, «забросившим
чепцы за мельницы», нужны были любовники для
увеселения в их пустой и безнравственной жизни.
Оправдывая супружескую неверность, Бетси говорит, что роль
прелюбодея имеет что-то «красивое, величественное». В
этом ярко выражена растленность нравов светских
кругов общества. Свет мог одобрить адюльтер,
прелюбодеяние, но не признавал и осуждал всякое искреннее
проявление подлинных и глубоких чувств — вот где
объяснение враждебного отношения светского общества
к Анне.
Анна не могла последовать «советам» Бетси и ее
круга. Она была одинока в своих нравственных
мучениях. И хотя Анна прощена Карениным и гордо, как
прежде, подняла свою повинную голову, уверяя его, что
она «теперь... настоящая», но она не могла стать
другой. Состояние душевного «размягчения» перед ожидае-
287
мой смертью прошло, и Анна с новой силой
возненавидела Каренина; опять вернулись мысли о смерти как
единственно возможном исходе ее мучительных
страданий. Она признается Стиве: «Я — как натянутая струна,
которая должна лопнуть. Но еще не кончено... и
кончится страшно». И Вронскому Анна говорит, что есть
«что-то ужасное» в их любви. Таким образом, ее не
покидает чувство трагической обреченности, ожидание
неизбежной катастрофы.
Все последующее, — ее жизнь с Вронским за
границей, а затем в имении, — хотя и создавало в Анне
ощущение «непростительного» счастья, но она пощэелшему не
могла обрести душевного спокойствия. Ее • мучила
разлука с сыном, и Анна знала, что Вронский «никогда... не
будет в силах понять всей глубины ее страданья».
Описание тайного свидания с сыном, принесшего
столько радости и безысходной муки Анне, принадлежит
к лучшим страницам романа. Здесь наиболее ярко
выступает обаятельность духовного облика героини.
Писатель с потрясающей художественной силой раскрывает
меру страданий Анны, глубину ее чувств к сыну и
искреннее торе мальчика Сережи, остающегося без
материнской ласки.
Разлученная навеки с сыном, Анна была отвергнута
и светом. В ее жизни с Алексеем Вронским также не
все было благополучно. И хотя Долли была поражена в
Анне «тою временной красотой», которой отличаются
женщины в минуты любви, но эта красота была именно
«временной»: ее внешняя оживленность, ее молодое
кокетство скрывали мучительные душевные страдания.
Именно в эту пору у Анны появилась «новая привычка»
щуриться. «Точно она па свою жизнь щурится, чтобы не
все видеть», — подумала Долли. Это было именно так.
В глубине ее души было не так светло, нарядно и весело,
ка? во всей ее внешности. Анна любила, и любила
больше себя, «два существа — Сережу и Алексея», и
одно исключало другое. Она говорит Долли: «Я не могу
их соединить, а это мне одно нужно. А если этого нет,
то все равно. Все, все равно. И как-нибудь кончится...
Так ты не упрекай меня, не суди меня ни в чем... Я не
стою презрения. Я именно несчастна».
288
И Анна полностью ушла в свою любовь к Вронскому,
все свои душевные и нравственные силы, все свое
обаяние она направила на то, чтобы удержать его, весь
смысл ее жизни сосредоточился на нем. Изысканные
туалеты, кокетство с другими мужчинами, отказ от
детей, чтение книг и журналов, интерес к
коннозаводству и спорту — все это было вызвано желанием
нравиться Вронскому, как можно прочнее привязать его
к себе. Это стремление подавило в ней и чувства
хозяйки — она была гостьей в его доме — и, главное,
чувства матери— она не хотела иметь детей и не любила
даже девочку, рожденную от него. В таком душевном
состоянии потеря Вронского для Анны означала конец:
без Вронского ее жизнь стала бы бессодержательной и
лишалась всякого смысла.
Вронский — «один из самых лучших образцов
золоченой молодежи петербургской» — был образован и умен,
не лишен хороших побуждений и благородных,
искренних порывов. Толстой не мог написать этот образ иначе,
не мог не сообщить ему известного обаяния, иначе была
бы не оправдана любовь Анны; тем не менее этот
персонаж является отрицательным, и хотя разоблачение его
производится иначе, чем, скажем, разоблачение Каренина,
но оно осуществляется с не меньшей
последовательностью. Уже самое первое появление Вронского в романе
сопровождается резкой репликой старого князя Щербац-
кого: «Это франтик петербургский, их на машине
делают, они все на одну стать, и все дрянь». Это
замечание— не случайная обмолвка раздраженного человека:
оно закономерно войдет в характеристику Вронского.
Вронский типичное порождение аристократического
общества. Многое в его поведении определялось чувством
эгоизма, жаждой наслаждений безотносительно к их
моральной оценке. Он не находил ничего «дурного» в
своих отношениях к Кити, хотя все это носило
«определенное название»: «заманивание барышень без
намерения женитьбы». Вронский не понимал этого, потому что
совращение молодых девушек и другие «дурные
поступки» были широко распространенным явлением
«между блестящими молодыми людьми, как он», и не
вызывали у них моральных угрызений и раскаяния.
19 С. Бычков 289
Вронский и «настоящие» люди его круга презирали
тех «старомодных и смешных» людей, которые
оставались верными определенным моральным требованиям. Они
считали, что главное в жизни — это быть «элегантным,
красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться
всякой страсти, не краснея, и надо всем остальным
смеяться». Это и вело к потрясению всех нравственных
основ жизни, ибо смеяться «над всем остальным» значило
смеяться над верностью чужой жены, невинностью
девушки, воздержанностью мужчины, пренебрегать
воспитанием детей и порядочностью в денежных делах,
иронизировать над честными тружениками.
Увлечение Анной Вронский рассматривал вначале
тоже как обычную светскую интрижку. Но Анна
пробудила в нем более глубокие чувства. Этого не могли
одобрить представители «света». И мать, имевшая много
романов, и старший брат, содержавший танцовщицу,
осудили Вронского и настаивали на прекращении его
отношений с Анной. «И отчего они пристают ко мне? —
размышлял Вронский. — Оттого, что они видят, что это
что-то такое, чего они не могут понять. Если б это была
обыкновенная пошлая светская связь, они бы оставили
меня в покое... Они и понятия не имеют о том, что
такое счастье...» Сам Вронский тяготился тем, что
обстоятельства вынуждали его прибегать ко лжи и обману,
«которые были так противны его натуре». Это душевное
качество возвышало его над кругом светских ловеласов.
Вронский не был лишен и известного чувства
самоосуждения — это не самодовольный и самовлюбленный
эгоист, он осознает пороки людей своего круга,
глубокую безнравственность их «всегдашней жизни».
Сопровождая иностранного принца и участвуя с ним в
«специально русских удовольствиях», он все время
испытывал такое чувство, как будто был «приставлен к
опасному сумасшедшему». «Это был очень глупый, и очень
самоуверенный, и очень здоровый, и очень чистоплотный
человек, и больше ничего... Он был ровен и неискателен
с высшими, был свободен и прост в обращении с
равными и б%!л презрительно добродушен с низшими.
Вронский сам был таковым и считал это большим
достоинством, но в отношении принца он был низший, и это
290
Презрительно-добродушное отношение к нему возмущало
еГо. «Глупая говядина! Неужели я такой?» — думал он».
Разумеется, Вронский не совсем таков, но многое в его
жизни, самые основы его поведения были те же, и
поэтому принц выступал перед ним в роли «неприятного
зеркала», «он невольно видел в нем себя». Осуждая
принца, Вронский осуждал ;и свой «мо*ральный» кодекс,
свой образ жизни. Однако вырваться из плена
дворянски-аристократических предрассудков, стать другим
он не смог.
Характерно, что деятельность Вронского-помещика и
весь уклад его жизни с Анной в имении были лишены
специфически русских начал. Они только жили на
русской земле, но были окружены предметами чуждой
культуры: сельскохозяйственные машины, оборудование для
больницы, книги и журналы, даже детские колясочки —'
все это было выписано из-за границы. Анна катается на
английскОхМ кобе, читает английские романы, за ее
дочерью ухаживает «бонна-англичанка», имением управляет
немец, больницу строят по-американски, говорят
преимущественно по-французски, даже сам распорядок дня
английский. Так все русское, национальное отброшено и
дискредитировано. Здесь, как и в других местах романа,
писатель последовательно и до конца разоблачает
презренное низкопоклонство русских аристократов перед
иностранщиной.
Вся атмосфера, царившая в доме Вронского, была в
высшей степени искусственная и ложная. Там люди не
жили, а играли. Долли, гостившая у Анны, смотрит на
эту жизнь глазами всегда озабоченной женщины, матери
многих детей, и остро воспринимает всю ее фальшь и
ненатуральность: «Весь этот день ей все казалось, что
она играет в театре с лучшими, чем она, актерами и что
ее плохая игра портит все дело». Это характерное
наблюдение в наибольшей мере относилось к Вронскому,
который уже раскаивался в своем увлечении Анной, но
пытался еще скрыть свои подлинные чувства под флером
нежных слов.
Вронский оказался недостойным любви Анны, в его
отношениях к ней преобладало чувство «тщеславного
успеха», а когда гордиться стало нечем, он начал
тяготиться ее любовью. Еще в самом начале знакомства
* 291
Анна говорила ему: «Любовь... Я оттого й не люблю
этого слова, что оно для меня слишком много значит,
больше гораздо, чем вы можете понять».
Анна жаждала большого и настоящего счастья. В ней
проснулись чувства человеческого достоинства, она
осознала свои права на подлинно человеческую жизнь, не
знающую ни лжи, ни притворства и не подчиненную
светским условностям. В любви она видела выход из
страшного омута светской жизни, искала путей для
полного раскрепощения своей личности. Поэтому для нее
любовь и значила так много.
Вронский оказался не тем человеком, который мог бы
разделить духовные устремления Анны. Незадолго до ее
трагического конца Левин, пораженный умом, грацией,
красотой и правдивостью Анны, «жалел и боялся, что
Вронский не вполне понимает ее». Это действительно
было так. Вронский не понимал и не мог понять Анну,
^потому что она была духовно богаче и эмоционально
'одареннее его, она до конца остается непримиренной
с аристократическим обществом. А Вронский был
нравственно слабее Анны, он не имел серьезных
духовных запросов, не нашел в себе достаточно сил, чтобы
порвать с ложными традициями дворянского общества,
и в сущности капитулировал перед ним. Поэтому он
вместе со всем «обществом», отвернувшимся от Анны,
повинен в ее трагической гибели.
Толстой достигает огромной выразительности в
раскрытии душевных переживаний Анны в последний день
ее жизни. Яркий майский день. Анна в коляске едет по
улицам Москвы. Калейдоскоп «быстро сменяющихся
впечатлений»: детали городского пейзажа, прохожие,
вывески, гимназисты, играющие дети — все эти внешние
раздражители вызывали в ней неожиданные ассоциации
мыслей и представлений. Самые разнообразные
впечатления и воспоминания сменяются в ее голове. Перед ней
проходит вся ее жизнь. Она видит вывеску зубного врача
и думает о Вронском и своем несчастье, смеющиеся
гимназисты напомнили ей Сережу, муж Аннушки —
Алексея Александровича, и вдруг откуда-то всплыло далекое
воспоминание о поездке к Троице, воскресли девические
надежды и мечты, вновь сменившиеся мыслями о своем
унижении. Анна видела жизнь, ее резкие контрасты как
292
бы при «ярком свете», ее сознание работало с
лихорадочной быстротой. «Все гадко. Звонят к вечерне, и
купец этот как аккуратно крестится! — точно боится
выронить что-то. Зачем эти церкви, этот звон и эта ложь?
Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим
друг друга, как эти извозчики, которые так злобно
бранятся, Яшвин говорит: он хочет меня оставить без
рубашки, а я его. Вот это правда!» «Все неправда, все
ложь, все обман, все зло!..»
Перед Анной открылась жестокая правда
частнособственнического общества с его борьбой всех против всех,
с его бесчеловечной эксплуатацией и конкуренцией.
В этом обществе, где утверждалась вражда между
людьми, ненависть и карьеризм, где все подчинялось
беззастенчивому и наглому чистогану, где царствовал
чудовищный закон «человек человеку — волк», не было и не
могло быть подлинной человечности, высоких и чистых
чувств. В этом обществе не могли существовать искрен-.
ние и правдивые Анны: оно все сверху донизу
пропитано ложью. Церковь также лжива, потому что она
набрасывает на эту звериную жизнь покров христианской
религии с ее проповедью «всеобщей» любви,
всепрощения, освящая существующее зло и
несправедливость.
Анна гибнет с проклятием на устах, осуждая всю
современную ей жизнь. Ее трагическая гибель явилась
грозным обвинением всему строю насилия и лжи. Жизнь
Анны душили не один Каренин, не один Вронский, но
все общество. Поэтому она не могла переехать, как
предполагала, к тетке или к Долли — везде было то же, и
негде было обрести подлинно человеческую жизнь. В этом
обществе она не могла найти признания своего
человеческого достоинства, не могла осуществить своих прав на
подлинное и большое человеческое счастье. И в этом
заключен ее трагизм, неразрешимый в условиях
буржуазно-дворянского общества.
Таким образом, Толстой, хотя и стремился истолковать
судьбу Анны в религиозно-этическом плане, в сущности
дал глубочайшее социальное обоснование ее трагической
гибели. Г. А. Русанов как-то высказал Толстому мнение,
что «он очень жестоко поступил с Анной Карениной,
заставив ее умереть под колесами поезда», на что писа-
293
тель ответил: «Это мнение... напоминает мне случай,
бывший с Пушкиным. Однажды он сказал кому-то из
своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со
мной моя Татьяна! Она — замуж вышла! Этого я никак
не ожидал от нее». То же самое и я могу оказать про Анну
Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда
такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что
должны делать в действительной жизни и как бывает в
действительной жизни, а не то, что мне хочется».1
Толстой стремился показать Анну «жалкой», раскрыть
«преступный» характер ее поведения, поэтому ввел в
роман целый ряд художественных деталей, выписанных
с аскетической суровостью: «бесовское и прелестное»
начало в ее внешнем облике, ее внутреннее смятение в
момент встречи с Вронским на станции железной дороги,
низко опущенная «постыдная голова», «жалкое» лицо и
чувство «ужаса», охватившее Анну перед
совершившимся, — все это перекликается с жестоким смыслом
неумолимого «божеского» закона, выраженного в
эпиграфе романа: «Мне отмщение, и аз воздам».
Но в реалистической характеристике образа Анны
эти черты и детали отступают на задний план. Писатель
сосредоточил свое внимание на социальных причинах ее
трагической гибели, он сделал свою героиню «не
виноватой» — напротив, его Анна выступает в роли
обвинительницы буржуазно-дворянского общества. Поэтому образ
Анны, ее трагическая судьба глубоко волнуют советского
читателя, и чем больше он разделяет ее порыв к
большому человеческому счастью, с тем большей силой он
ненавидит собственническое буржуазное общество,
несущее гибель подлинной человечности.
* * *
На первый взгляд «Анна Каренина» как бы
распадается на два самостоятельных романа: один —
посвященный собственно Анне и ее отношениям с Карениным и
Вронским, в центре другого стоят Левин и Кити. Но это
только кажущаяся самостоятельность сюжетных линий
романа, в действительности же все в нем подчинено еди-
1 «Толстовский ежегодник 1912 г.», М., 1912, стр. 58.
294
идейному замыслу, который раскрывается в судьбах
отдельных его героев.
^ В параллель к трагической судьбе Анны с ее
несчастной семейной жизнью Толстой рисует счастливую
семейную жизнь Левина и Кити. Здесь и сведены воедино
различные сюжетные линии романа.
Проблема семьи — одна из центральных проблем
«Анны Карениной». Она поставлена уже в самом начале
романа в форме широкой обобщающей сентенции: «Все
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему».
И действительно, «мысль семейная» цементирует весь
сюжет романа. В «Анне Карениной» нет ни одного героя
вплоть до второстепенных персонажей, который в той или
иной мере не был бы причастен к выяснению и
разрешению этой «мысли» романа. Чем бы ни занимался Коз-
нышев, но и он «испытан» на отношении к семье,
«испытана» и мертвенная Варенька, показана семейная жизнь
и Свияжского, и Щербацких, и Львовых, о семье
говорят и Серпуховской и разные светские дамы — от Бетси
Тверской до Лидии Ивановны. Это, так сказать,
периферия романа, но и она захвачена и освещена «мыслью
семейной». В жизни же главных героев романа семья за-^
нимает особенно большое место. Важную роль в решении *
этой проблемы играют образы типично толстовских
героинь — Кити и Долли.
Образ Кити принадлежит к лучшим женским образам
русской литературы. Кроткие и правдивые глаза, в
которых выражались детская ясность и доброта ее души,
придавали ей особенную обаятельность. Кити жаждала
любви как награды за свою красоту и
привлекательность, она вся охвачена юными девическими мечтаниями,
надеждой на счастье: Но измена Вронского подорвала ее
веру в людей, она теперь склонна была видеть во всех
их поступках только одно дурное.
На водах Кити встречается с Варенькой и
воспринимает ее вначале как воплощение нравственного
совершенства, как идеал девушки, живущей какой-то иной,
незнакомой ей доселе жизнью. От Вареньки она узнает, что,
помимо «жизни инстинктивной», существует «жизнь
духовная», основанная на религии, но религии не
официальной, связанной с обрядами, а религии возвышенных
293
чувств, религии жертвования собой во имя любви к
другим; и Кити всей душой привязалась к своей новой
подруге, она, так же как и Варенька, помогала, несчастным,
ухаживала за больными, читала им евангелие.
Здесь Толстой стремился поэтизировать религию
«всеобщей» любви и нравственного
самоусовершенствования. Он пытается показать, что только на пути
обращения к евангелию можно спасти себя, избавиться от власти
«инстинктов» тела и перейти к высшей жизни,
«духовной». Такой жизнью живет Варенька. Но это «существо
без молодости», лишенное «сдержанного огня жизни»,
было похоже «на прекрасный... но уже отцветший, без
запаха цветок». И ровное отношение к людям, и внешнее
спокойствие, и ее «усталая улыбка» свидетельствовали
о том, что Варенька была лишена сильных жизненных
страстей: она даже смеяться не умела, а только
«раскисала» от смеха. «Она вся духовная», — говорит Кити
о Вареньке. Рассудочность подавила в ней все
нормальные человеческие чувства Левин презрительно
называет Вареньку «святошей». И действительно, вся ее
«любовь» к ближним была искусственной и скрывала
отсутствие в ней призвания к настоящей, земной
человеческой любви.
Кити, разумеется, не стала и не могла стать второй
Варенькой, она была слишком предана жизни и быстро
почувствовала «притворство» всех этих
«добродетельных» Варенек и мадам Шталь с их «выдуманной»
любовью к ближним: «Все это не то, не то!..» Она говорит
Вареньке: «Я не могу иначе жить, как но сердцу, а вы
живете по правилам. Я вас полюбила просто, а вы, верно,
только затем, чтобы спасти меня, научить меня!» Так
Кити осудила мертвенность и ненатуральность Вареньки,
показавшейся ей вначале идеальной. Она излечилась от
своей нравственной болезни и почувствовала вновь всю
прелесть настоящей жизни, не загнанной ни в какие
искусственные «правила».
В последующих эпизодах романа (Кити рано утром
в карете, встреча с Левиным у Стивы, объяснение, новое
предложение, венчание) писатель раскрывает всю силу
душевного очарования своей героини. Глава,
посвященная венчанию, проникнута глубоким сочувствием
Толстого к девичьей судьбе и девичьим мечтам о счастье,
296
которые жизнь нередко так безжалостно разбивала.
Присутствовавшие в церкви женщины вспоминали свои
свадьбы, грустили о том, что надежды на счастье у
многих из них не оправдались. Долли подумала о себе,
вспомнила Анну, которая так же девять лет назад «чистая
стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что?»
В реплике простой женщины: «А как пи говорите, жалко
нашу сестру» — выражены скорбные думы миллионов
женщин, которые в условиях частнособственнического
общества не могли обрести подлинного счастья.
В первые же дни своей семейной жизни Кити
занялась хозяйством, «весело свивая свое будущее гнездо».
Левин мысленно упрекал ее в том, что «у нее нет
серьезных интересов. Ни интереса к моему делу, к хозяйству,
к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна,
ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно
удовлетворена». Толстой, однако, защищает свою героиню от
этих упреков и «осуждает» Левина, который еще не
понимал, что она готовилась к важному и ответственному
периоду своей жизни, когда «она будет в одно и то же
время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить
и воспитывать детей». И в виду этого предстоящего ей
«страшного труда» она имела право на минуты
беззаботности и счастья любви.
После родов Кити — «величайшего события в жизни
женщины» — Левин, едва сдерживая рыдания, стоял на
коленях и целовал руку жены, он был безмерно счастлив.
«Весь, мир женский, получивший для него новое,
неизвестное ему значение после того, как он женился, теперь
в его понятиях поднялся так высоко, что он не мог
воображением обнять его».
Культ женщины-матери лежит в основе и образе
Дарьи Александровны Облонской. Долли в молодости
была столь же привлекательной и красивой, как и ее
сестра Кити. Но годы замужества изменили ее до
неузнаваемости. Все свои физические и душевные силы она
принесла в жертву любви к мужу и детям. Измена Стивы
потрясла ее до глубины души, она уже не могла любить его
попрежнему, все интересы ее жизни теперь
сосредоточились на детях. Долли была «счастлива» своими детьми
и «гордилась ими», здесь она видела источник своей
«славы» и своего «величия». Нежность и гордость матери
297
за своих детей, ее трогательные заботы о их здоровье,
ее искренние огорчения, когда они совершали дурные
проступки, — вот что определяло душевную жизнь Долли.
Но однажды тихая, скромная и любящая Долли,
измученная многими детьми, домашними заботами,
неверностью мужа, задумалась над своей жизнью, над
будущностью своих детей и на минуту позавидовала Анне и
другим женщинам, которые, как ей казалось, не знали
никаких мучений, а наслаждались жизнью. Она думала,
что могла бы жить так же, как эти свободные от детей
женщины, не зная горечи жизни; но уже признание
молодайки на постоялом дворе, сказавшей, что она рада
смерти своего ребенка — «развязал бог», — показалось
ей «отвратительным». А когда Анна заявила, что не
желает иметь детей, Долли «с выражением гадливости на
лице» ответила ей: «это не хорошо». Она ужаснулась
безнравственности ее суждений и почувствовала свою
глубокую отчужденность от Анны. Долли поняла, что
жила правильно, и вся прошлая ее жизнь выступила
перед ней в «новом сиянии». Так эта «очень прозаическая»,
по понятиям Вронского, женщина обнаружила свое
нравственное превосходство над «поэтическим» миром
Вронского — Анны.
Такие толстовские героини, как Наташа, Марья
Болконская, Долли, Кити, несут в себе много очарования,
они пленяют своей подлинной женственностью, своей
верностью супружескому долгу, они хорошие матери — и
в этом положительное содержание лучших женских
образов Толстого. Культ женщины-матери впоследствии
великолепно развил М. Горький, воспевший в повести
«Мать», в цикле своих солнечных «Итальянских сказок»
и в ряде других произведений мать как неиссякаемый
источник жизни и всего великого и прекрасного на
земле.
Но в духовном отношении эти героини Толстого
крайне ограничены, они не стремятся выйти из круга
своих семейных обязанностей, у них отсутствуют
интеллектуальные интересы, они равнодушны к вопросу о
правах женщины. Кити «это нисколько не интересовало»,
так же как и Наташу Ростову и Долли. И так, по мысли
писателя", настроены якобы все подлинные женщины, дело
которых полностью исчерпывается несением супруже-
298
ских обязанностей, кормлением и воспитанием детей.
В этом сказалась ограниченность мировоззрения Толстого.
Глубоко отрицательное отношение писателя к
общественной роли женщины неизбежно породило и слабые
стороны его женских образов.
Толстой решает проблему семьи не в бытовом, а в
социально-историческом плане, семья в его понимании —
одна из главных ячеек общественной жизни. Поэтому
в «Анне Карениной» бесплодно искать типических
признаков традиционного жанра семейного романа, и еще
меньше оснований соотносить, как это делали
компаративисты, глубоко новаторское, произведение Толстого
с европейским «семейным» романом. «Анна Каренина» —
роман социальный. Здесь писатель ставит важнейшие
общественно-политические и идеологические проблемы
пореформенной эпохи, он страстно воюет с ненавистной ему
буржуазной действительностью.
* * *
Идеалы Толстого — в деревенской, крестьянской
России, в сохранении патриархального жизненного уклада.
Настоящая человеческая жизнь возможна в
непосредственной близости к природе и к народу. Только там —
искренние радости, только там человек может наиболее
полно удовлетворить свои насущные потребности, только
там все просто, естественно и правдиво. Отсюда
волнующие, проникнутые глубочайшим лиризмом картины
русской природы в романе. Отсюда же апофеоз здорового
физического труда.
Писатель создает яркие картины труда, радостного,
веселого, вдохновенного, которые завершаются победной,
торжественной песней людей, полных здоровых
физических сил. Труд облагораживает человека, делает его
добрее и правдивее. Во время сенокоса те самые мужики,
которые хотели обмануть Левина, теперь «весело
кланялись ему», они уже забыли о своих плутнях и не имели
к нему «никакого зла»: «Все это потонуло в море
веселого общего труда. Бог дал день, бог дал силы. И день
и сила посвящены труду, и в нем самом награда. А для
кого труд? Какие будут плоды труда? Эти соображения
посторонние и ничтожные».
299
Толстой стремился воспеть труд как игру физических
сил человека, источник великой радости в жизни.
«Для кого труд» — над этим крестьяне якобы не
задумываются, это «соображения посторонние»; им нравится,
уверяет Толстой, трудиться безотносительно к плодам
своего труда, так как труд является естественной
потребностью каждого здорового человека. Нет, очень важно,
«для кого труд», и крестьяне об этом помнят всегда, они,
разумеется, не случайно хотели обмануть барина:
барина, по их понятиям, надо обманывать. И не случайно
Левин в своем хозяйстве повсюду сталкивался с
нерадивостью мужиков-работников, с их небрежным
отношением к инвентарю, семенам, пашне. В сознании крестьян
укоренилась мысль, что на барина можно и нужно
работать «как-нибудь». Левин ясно видел «враждебные
отношения» мужиков к себе и правильно находил причину
этой враждебности в том, что «интересы его были не
только чужды и непонятны, но фатально противоположны
их самым справедливым интересам».
Даже тогда, когда крестьяне работали па себя, их
труд в условиях гнета и крайне отсталой агротехники не
являлся и не мог являться источником радости. Писатель не
мог не знать этого и в одном случае прямо указал на
«необыкновенное напряжение самопожертвования в труде»
русского крестьянина. «Скосить и сжать рожь и овес и
свезти, докосить луга, передвоить пар, обмолотить семена
и посеять озимое — все это кажется просто и
обыкновенно; а чтобы успеть сделать все это, надо, чтобы от
старого до малого все деревенские люди работали не
переставая в эти три-четыре недели втрое больше, чем
обыкновенно, питаясь квасом, луком и черным хлебом, молотя и
возя снопы по ночам и отдавая сну не более двух-трех
часов в сутки. И каждый год это делается по всей России».
Здесь уже предчувствуются гневные страницы
«Воскресения», посвященные описанию горестной
крестьянской доли. Но это только намек, легкий штрих, не
меняющий пока общей тональности освещения «крестьянской
темы» в романе. Толстого пока больше беспокоит не
бедственное положение крестьян, а самочувствие хорошего
барина Левина, стремящегося сблизиться с народом.
Поэтому он создает идеал трудовой народной жизни,
освобожденной от всех ее теневых сторол.
300
Некрасов одновременно с Толстым в своей поэме
«Кому на Руси жить хорошо» A863—1876) нарисовал
иные, отнюдь не радостные картины жизни крестьянства.
Правда, и Некрасов воспевает величие крестьянского
труда, и у него мы встретим «здоровую, поющую» толпу
жнецов и жниц, и «звяканье проворных кос», и дружные
«размахи сенокосные». Однако в его поэме, так же как
и в жизни русского мужика, преобладали иные тона и
иные краски, безрадостные и мрачные. Чего стоит одна
горестная «география» деревенской Руси в прологе поэмы.
Поэт ярко запечатлел безотрадную долю
«временнообязанных» крестьян, их бедственное материальное
положение, голод, нищету. Они хоть «временно», но «обязанные»
барину В своих исканиях некрасовские мужики отразили
и протест против своей «невеселой» и не «вольготной»
доли и мечту о лучшей жизни. Они недовольны своей
судьбой и ненавидят барина. Это не благообразные
Каратаевы и «правдивые старики» Фоканычи, живущие для
души и никогда не гневающиеся, а скрытая до поры до
времени мятежная сила, резерв революции:
У каждого крестьянина
Душа, что туча черная,
Гневна, грозна...
Так различные социальные позиции писателей
определили их разный подход к деревне и- мужику. И если
Некрасов отразил реальную жизнь русского крестьянства, то
Толстой в значительной мере ее идеализировал. Поэт
революционной демократии пробуждал в русском мужике
чувство протеста против его социального бесправия, звал
его на борьбу с помещиками и самодержавием, тогда как
автор «Анны Карениной» ориентировался на наиболее
отсталые, патриархальные массы крестьянства. Он искал
обновления жизни на путях религии.
Этим занят герой романа Левин. Беседа с
подавальщиком Федором открыла перед ним новые горизонты.
Федор рассказал ему, что дворник Митюха Кириллов —
шкуродер, людей не жалеет, «только для нужды своей
живет», «только брюхо набивает», а «правдивый старик»
Платон Фоканыч «для души живет. Бога помнит». Эти
бесхитростные слова простого мужика явились для
Левина полным откровением: он понял наконец, в чем
301
смысл жизни. Мужицкая вера, таким образом,
увенчивала все его напряженные жизненные искания; только
христианство, по уверению Толстого, дало ему правильное
понимание добра.
Толстой идеализирует христианскую религию,
являвшуюся в его понимании главным источником морального
возвышения и очищения человека. На почве единой веры
Левин надеется духовно слиться с мужиком. Вера в бога,
в добро — вот «единственное назначение человека»,
разум не нужен, «что я знаю, я знаю не разумом, а это дано
мне, открыто мне, и я знаю это сердцем, верою в то
главное, что .исповедует церковь».
Итак, на место разума — сердце, на место знания —
вера, простой старик Фоканыч понимает смысл жизни
более глубоко, чем ученый барин. Писатель умалял роль
разума в жизни, превозносил «вечные истины» религии. Он
звал человека к осуществлению некоего
религиозно-этического идеала доброй и праведной жизни «по-божьи».
В этом сказались слабые стороны мировоззрения
Толстого, его «проповедь одной из самых гнусных вещей,
какие только есть на свете, именно: религии, стремление
поставить на место попов по казенной должности попов
по нравственному убеждению, т. е. культивирование
самой утонченной и потому особенно омерзительной
поповщины». 1
В образе Левина ярко отразились противоречия
мировоззрения писателя. С одной стороны, герой романа
выступает как обличитель неправды и лжи жизни
господствующих классов, горячо и искренне протестует против
социальной несправедливости, сочувствует бедственному
положению народа; с другой стороны, он отказывается
от решительной борьбы против существующих социальных
и экономических порядков, уходит в сферу
нравственного самоусовершенствования, признает необходимость
жизни «для души, по-божьи», выше всего ставит «вечные
истины» христианской религии. Это ослабляло его
протест против социального зла; путы христианства мешали
ему найти правильное решение волновавших его
социальных и морально-этических проблем. Но ,и само
«христианское» обращение Левина в сущности никак не отразилось
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
302
на его отношениях с мужиками: он оставался помещиком,
а подлинное понимание и признание крестьянских
интересов могло явиться лишь в результате полного разрыва со
своим классом. Писатель впоследствии пошел дальше
своего героя именно в указанном направлении, он порвал
со своим классом и стал выразителем интересов
патриархального крестьянства.
Но и в «Анне Карениной» Толстой как подлинный
гуманист, несмотря на то, что его мировоззрение
оставалось еще в своей основе сословно-дворянским, занят
решением волнующей задачи: как в условиях
наступления капитализма избавить людей от страданий и мук
эпохи первоначального накопления? Писателя волнуют
судьбы человека и судьбы народа. Уже здесь у него
вызревает мысль о спасительной роли мужика в русской
жизни. Эта была утопия: мужик не мог спасти Россию
от капитализма, он сам разорялся и несказанно страдал
под его ударами. Но этому Толстой не придавал
значения: он верил в богатырские силы народа и все свои
надежды на грядущее обновление жизни связывал с
русским мужиком. Так завершается роман Толстого, в
последней части которого уже предчувствуются решающие
сдвиги в мировоззрении писателя.
В художественном отношении «Анна Каренина»
явилась дальнейшим шагом вперед в развитии реализма
писателя. Толстой ставил ответственные задачи перед
романом как жанром. Обобщая свой творческий опыт, он
писал: «Роман имеет задачей, даже внешней задачей,
описание целой человеческой жизни или многих
человеческих жизней, а потому пишущий роман должен иметь
ясное и твердое представление о том, что хорошо и что
дурно в жизни».1 Эти особенности творческого гения
Толстого, его стремление к широте отражения жизни в ее
бесчисленных проявлениях, его страстная воинствующая
позиция в определении «добра» и «зла» во всей полноте
раскрылись в романе «Анна Каренина». Острейший по
своей идейной проблематике, этот роман является вместе
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 19, изд.
Сытина, М., 1914, стр. 222.
303
с тем одним из самых поэтических созданий Толстого, где
в каждом образе, в каждом поэтическом слове
ощущается взволнованная душа художника.
В романе множество образов, но каждый из
персонажей глубоко индивидуален, у каждого своя манера
мыслить, говорить, смеяться, у каждого свои интересы,
горести и радости в жизни. И вместе с тем, будучи
самостоятельными, они являются членами единой семьи. Они, как
хорошие актеры в прекрасно сыгравшемся ансамбле,
исполняют в романе общую симфонию жизни, отражая
в своей судьбе разные ее грани.
Герои романа не являются повторением или какой-то
модификацией прежде созданных писателем образов:
напротив, они увеличивают семью толстовских героев, но
несут на себе печать глубокого своеобразия. Это в
равной мере относится к Анне и Левину, Кити и Долли,
Облонскому и Каренину, Кознышеву и Вронскому и
многим другим персонажам романа. Иначе не могло и быть.
Писатель совершил ряд гениальных художественных
открытий, создал целый комплекс новых художественных
образов, нашел яркие выразительные средства потому,
что в своем романе он образно познавал и отображал
новую историческую действительность, которая в конечном
счете определила не только проблематику его
произведения, но и его художественное своеобразие.
Общий дух «катастрофичности» эпохи 70-х годов
нашел свое отражение и в композиции романа и в судьбе
его отдельных образов. Особенно это относится к Анне,
переживания которой от начала до конца проникнуты
тревожным предчувствием неизбежной катастрофы.
Отсюда введение в роман пророческих слов, символических
образов (лохматого старичка, работающего над железом,
бури, догорающей свечи), которые в своей совокупности
ярко передают душевное смятение героини. В сущности и
Левин полон тревоги, да и другие персонажи романа
также лишены душевного спокойствия. 3io и определяет
крайний драматизм в развертывании событий.
Толстой рассматривал свое произведение как первый
«настоящий» роман. И, несмотря на обилие действующих
лиц и кажущуюся обособленность двух сюжетных линий
Анна — Каренин — Вронский и Левин — Кити, несмотря
на сложные боковые сюжетные ходы, роман Толстого
304
поражает совершенством своей композиции,
удивительной слаженностью и художественной целесообразностью
отдельных своих частей. Литературные староверы не раз
упрекали писателя в художественных «излишествах».
Какое дикое заблуждение! В художественной системе
Толстого все необходимо, все закономерно и все
целесообразно. «Анна Каренина» в этом отношении представляет
собой такое произведение, где каждая художественная
деталь, все его поэтические компоненты подчинены
раскрытию единого замысла, каждый художественный образ
внутренне оправдан.
Когда С. А. Рачинокий упрекал романиста в том, что
в «Анне Карениной» «нет архитектуры», Толстой без
ложной скромности ему отвечал: «Суждение ваше об
А. Карениной мне кажется неверно. Я горжусь, напротив,
архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить,
где замок. И об этом я более всего старался. Связь
постройки сделана не на фабуле и не на отношениях
(знакомстве) лиц, а на внутренней связи». 1
Толстой и здесь выступил как новатор. Этого не
понял Рачинский, в ответном письме признававший, что он
имел в виду архитектуру внешнюю, которой дорожит «по
свойственному» ему «в делах искусства староверству».2
Но дело в том, что Толстой решительно отверг
традиционные каноны в области искусства романа с его единой
последовательно развивающейся интригой, с единым героем
и героиней. Жизнь значительно сложнее всяких условных
литературных схем. Поэтому писатель, стремясь к более
широкому и всестороннему отражению жизни, создает
новый тип романа, где две сюжетных линии, где несколько
героев и несколько героинь и где все обилие действующих
лиц скреплено не обручами традиционной романтической
интриги, а держится «на внутренней связи», то есть на
сложном переплетении идейных линий, на взаимосвязи
идей, их противоречивости и единстве, отражающих
диалектическое единство жизненных явлений и
процессов.
Что касается фабульных моментов, то, они, конечно,
играют свою роль, объединяя и скрепляя сюжетные ли-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр^ 377.
2 Там же, стр. 378.
20 С. Бычков 303
нии романа: Левин находится в дружеских отношениях
с Облонским, братом Анны; Кити, его невеста, является
сестрой Долли, жены Стивы; Вронский вначале
ухаживает за Кити; Анна бывает у Стивы, там беседует с Кити;
и, наконец, Левин встречается с Анной, завершая тем
самым образование «замка» в сводах романа. Все эти
сложно переплетенные родственные и дружеские связи и
отношения, построенные по принципу параллели или
контраста, являются одним из элементов композиции,
выражающим более глубокие «внутренние» идейные связи
между отдельными тематическими линиями романа.
Характерно и другое признание писателя. В беседе
с А. Д. Оболенским, говоря о том, что главу, в которой
описывается Левин на исповеди, он переделывал четыре
раза, чтобы устранить из нее всякие следы субъективной
авторской оценки, Толстой заявил: «Заметил я, что
впечатление всякая вещь, всякий рассказ производит только-
тогда, когда нельзя разобрать, кому сочувствует автор».1
Этим принципом писатель руководствовался и в работе
над другими главами романа. Только в некоторых
случаях Толстой прибегал к моралистическим сентенциям,
своего рода логическим тезам, носящим характер широких
обобщений, которые раскрывались во всей конкретности
в последующем повествовании. Но в общем авторский
голос прорывается в «Анне Карениной» сравнительно
редко, потому что писатель находит яркие и убедительные
художественные средства для воплощения своих идей
в образной системе романа. Из этого, однако, не
следует, что он стремился к бесстрастному изображению
жизни.
Задачу объективного и разностороннего раскрытия
характеров действующих лиц Толстой решает посредством
широко применяемых параллелей или контрастов.
Недостатки Вронского обнаруживаются не описательно, а
путем сопоставления его с «иностранным принцем»,
который выступает перед ним в роли «неприятного зеркала».
Здесь этот метод характеристики обнажен, но во многих
случаях он скрыт, зашифрован. Герои и персонажи «Анны
Карениной» как бы проходят по длинной зеркальной гал-
1 «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 3. М., 1923,
стр. 34—35.
306
лерее, попеременно отражая в ней то одни, то другие
стороны своего характера и своей душевной организации.
Жизнерадостность Кити раскрывается в ее
сопоставлении с мертвенной Варенькой. А сколько параллелей дано
к Левину! Здесь и «элегантный» чиновник Гриневич
с «длинными, желтыми, загибающимися в конце
ногтями», и «болезненная» графиня Нордстон, и эпикуреец
Стива, и легкомысленный Весловский, и «одноутробный
брат» Кознышев, и Николай Левин, и многие другие —
вое они как «горожане» образуют тот разнообразный и
пестрый фон, на котором особенно ярко выделяются
моральные качества Левина, его физическое и нравственное
здоровье человека, ведущего простой, «деревенский»
образ жизни.
Толстой характеризует героев, описывает их внешний
облик, сообщает по ходу действия необходимые сведения
об их прошлом; главные его усилия сосредоточены на
анализе их душевных переживаний, их мыслей и чувств,
поэтому в его произведениях такое значительное место
занимают «внутренние монологи» героев. Здесь автор
надежно укрыт за кулисами, читатель его ,не видит, но
его тонкая режиссура ощущается во всем. Нередко он
-невидимой рукой сдергивает актерскую маску с героя, как
это было при последнем объяснении Вронского с Анной,
уличает его во лжи и показывает его подлинные чувства.
Так при всей внешней объективности и «эпичности» своего
повествования Толстой упорно и настойчиво в самых
незначительных на первый взгляд художественных деталях
высказывает свое отношение к героям, воплощает свои
социально-этические идеалы, свою «тенденцию».
Во многих случаях писатель ограничивается
сообщением самых необходимых деталей внешней обстановки
жизни своих героев, с тем чтобы ярче и глубже показать
их душевные переживания. Мы ничего не узнаем об
обстановке в доме Щербацких и очень мало — о
внутреннем убранстве дома Облонских. Бальный зал, где
танцует Кити, оставлен без описания, указана лишь одна
деталь — «скользящий паркет». В гостиной Бетси
Тверской названо самое необходимое: люди собрались на чай,
поэтому в центре описания — стол с самоваром. Интерьер
дома Карениных дан через смятенное сознание Каренина
и в сравнительно узком ракурсе. Кабинет Левина описан
* 307
Детальнее, но все же очень скупо. Здесь «знакомые
подробности» обстановки как бы воплощали определенные
сложившиеся условия жизни и быта героя, вещи
«говорили» Левину о том, как трудно ему будет начать жить
по-новому. Но как здесь, так и в других случаях
писатель вводит интерьер для характеристики душевного
состояния героя, и, с другой стороны, это душевное
состояние определяет восприятие героем внешнего
материального мира. Вронский, увлеченный живописью, смотрит на
свое палаццо с его архитектурными и живописными
украшениями иначе, чем в момент разочарования в своих
занятиях: хотя палаццо оставалось тем же, изменилось
душевное состояние, самочувствие героя.
Но .если Толстой скуп в описании мира мертвых
вещей, окружающих человека, то он ярко рисует природу.
Лучшие пейзажи в романе, естественно, связаны с
образом Левина, живущего в тесном общении с природой.
Здесь и глубоко впечатляющее описание весеннего
пробуждения земли, проникнутое необыкновенной бодростью,
мажорностью тона, где природа предстает во всем
разнообразии животного и растительного мира, во всем
богатстве звуков, красок, запахов. Здесь не менее волнующая
картина леса, где Левин и Облонский находились на тяге:
«В промежутках совершенной тишины слышен был
шорох прошлогодних листьев, шевелившихся от таяния
земли и от росту трав. «Каково! Слышно и видно, как
трава растет!» — сказал себе Левин, заметив двинувшийся
грифельного цвета мокрый осиновый лист подле иглы
молодой травы».
Радостное изумление перед могучими жизненными
силами природы — наиболее характерная черта
Толстого-пейзажиста. Это именно он видит и слышит, как
растут травы, он знает до тончайших особенностей все
явления природы, животный и растительный мир, от его
взора и слуха не скроется ничто. Как не вспомнить в этой
связи слова Горького о Толстом-чародее, которому
ведомо, «когда и каков будет конец камней и трав
земных, воды морской и человека, и всего мира, от камня
до солнца». ] Глубочайшее проникновение в жизнь при-
1 Сб. «Толстой в русской критике», М., Гослитиздат, 1949,
стр. 407.
308
роды и позволило писателю видеть все характерное и
типичное в каждом ее явлении.
Толстовские пейзажи отличаются глубокой
правдивостью. Писатель не стремится эстетизировать природу,
он находит прекрасное в самом ее богатстве и
разнообразии, в буйстве жизни, именно жизни; поэтому у него
и нет мертвых пейзажей, все это картины живой
природы, с которой органически связан человек. Изображая
природу, писатель не боялся разных неэстетических
деталей. Так, его описание левинского поля в «перевал
лета», отмеченное исключительной наблюдательностью и
тонко схваченными особенностями в состоянии ржи,
овсов, гречихи, луговых трав, свойственными им в это время
года, завершается характерной «некрасивостью»: «Было
то время года... когда присохшие вывезенные кучи
навоза пахнут ПО' зарям с медовыми травами...» В этом
сочетании «медовых трав» .и «навоза», быть может, ярче
всего проявился не раз уже отмеченный важнейший
эстетический принцип Толстого-пейзажиста — показывать
природу во всей ее подлинной реальности, без всякого
украшательства, с позиций трудового человека, для
которого природа — место подлинных радостей и горестей;
с природой у него связана вся жизнь, в нее он, не щадя
сил, вкладывает свой самозабвенный труд, надеясь
обрести довольство и счастье в жизни.
Пейзаж у Толстого подчинен задаче раскрытия
внутреннего мира героев. Левин в ясный морозный день
появляется на катке, где должен встретить Кити. Писатель
не дает развернутого зимнего пейзажа, но в свое
описание вводит характерную деталь: «старые кудрявые
березы сада, обвисшие всеми ветвям'и от снега, казалось,
были разубраны в новые торжественные ризы». Здесь
дело не столько в березах, сколько в душевном состоянии
Левина, в торжественности и значительности его встречи
с Кити; это его душа была «разубрана в новые
торжественные ризы». С другой стороны, смятенное душевное
состояние Анны, возвращающейся в Петербург, ее
тревожные и радостные волнения после встречи с Вронским
особенно ярко обрисовываются на фоне разбушевавшейся
природы, сильного бурана, в котором, так же как и в
душе Анны, одновременно были слышны и «радостные» и
«ужасные» звуки. Это характерно для художественной
309
манеры Толстого, который, рисуя пейзаж, создает яркие
по своей впечатляемости «параллели» к душевным
переживаниям героев.
И удивительные по своему мастерству образы
животных в романе также тесно связаны с человеком. Толстой
рисует животных как бы в «человеческом» плане. Они
ведут себя как люди: волнуются, выражают удивление,
радуются, негодуют, думают, сочувствуют хозяину.
Левина, появившегося в неурочное время в деннике,
встретили «удивленные» коровы, 'бык Беркут «хотел было
встать, но раздумал». Легавая Ласка требовала, «чтоб
он поласкал ее». «Только не говорит, — сказала Агафья
Михайловна. — А пес... Ведь понимает же, что хозяин
приехал и ему скучно». На охоте Ласка действительно
«только не говорит»: она думает, возмущается,
«укоризненно» смотрит на охотников, опасаясь, как бы они не
упустили птицу, и хотя внешне подчиняется хозяину, но
понимает всю нелепость его приказаний и «жалуется на
несправедливость».
Фру-фру, эта прекрасная лошадь с «веселыми
глазами», и в фигуре и в голове которой было
«энергическое и вместе нежное выражение», тоже хорошо
понимает человека. «Она была одно из тех животных,
которые, кажется, не говорят только потому, что
механическое устройство их рта не позволяет им этого». Она
чутко воспринимала волнение Вронского во время скачек,
и, в свою очередь, ее нервное напряжение передавалось
Вронскому. В описании гибели Фру-фру Толстой
подчеркивает ее «человеческие» начала: «она затрепыхалась
на земле, как подстреленная птица», и, перегнув голову
к Вронскому, «смотрела на хозяина своим говорящим
взглядом». Так Толстой, «очеловечивая» животных,
достигает огромной выразительности в их описании.
Таким образом, описания природы и животных
занимают значительное место в образной системе романа,
способствуя более полному отражению жизни, показу
разносторонних связей человека с внешним миром. Все
средства художественного изображения подчинены
единой задаче наиболее глубокого и всестороннего
раскрытия внутреннего мира героев, наиболее полного и яркого
выявления идейной сущности романа,
310
* «Анна Каренина» вызвала острую
литературно-политическую борьбу. Реакционная критика стремилась
использовать роман Толстого в своих целях. Так, В. Г.
Авсеенко, беллетрист, идеализировавший жизнь
великосветских кругов, увидел в «Анне Карениной» «опору»
для оправдания своей деятельности. В подражание
«Анне Карениной» он напиоал роман «Млечный путь»,
проникнутый лакейски-восторженным описанием жизни
аристократии, которую по-настоящему он и не знал.
Страхов писал Толстому об Авсеенко: «Он сочиняет —
не отписывает, а сочиняет большой свет с такою сластью,
с таким животным смаком рассказывает любовные
похождения, что очевидно понял Biac совершенно
навыворот. И вот что он разумел под культурою «и
культурными интересами».х Как критик Авсеенко пытался
использовать произведение Толстого для борьбы с
демократией. Игнорируя обличительный пафос романа, он
утверждал, что Толстой в «Анне Карениной» якобы
идеализировал аристократическое общество, что очарование
этого произведения основано на поэтизации «преданий
наследственной культуры». Он выступал против
«демократизированных вкусов» современного читателя,
которому приписывал «табунные свойства». С особым
умилением критик любовался описанием жизни в доме
Щербащких, который на всех будто бы производил
«освежающее, обаятельное впечатление».2
Критик злобно нападал на всех защитников
раскрепощения женщин, утверждая, что женщине присуща
покорность, что ее натуре «противны» «протестующие
элементы», поэтому в требованиях эмансипаторов он видит
лишь одно «извращение женской природы». Эти
реакционные идейки понадобились ему для того, чтобы
ослабить те «протестующие элементы», которые содержатся
в образе Анны. Критик обеднил этот образ. Он увидел
в ней лишь одну из представительниц тех женщин,
1 «Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», стр. 68.
2«Русский вестник», 1875, № 5, стр. 409, ст. Л. (В, Г. Авсеенко)
«По поводу нового романа гр.. Толстого».
311
которые «по преимуществу живут жизнью сердца».
Стремясь противопоставить «Анну Каренину» русской
социальной действительности 70-х годов, он обошел
те общественные проблемы, которые поставлены
писателем в этом произведении, и в сущности свел все
значение романа к истории интимной жизни его
героини.
Либеральная критика в лице Евг. Маркова и
Суворина, ставшего впоследствии откровенно реакционным
журналистом, в свою очередь изображала Толстого
«певцом жизни для жизни, лишенной высшего идеала», она
отказывала роману во всяком общественном значении,
видя его основной смысл в описании любви Анны. Это
было, разумеется, своеобразной уловкой. Либералы,
конечно, отлично чувствовали общественное содержание
романа, понимали его направленность против
дворянского общества, несомненно обижались на Толстого за
сатирическое описание дворянских выборов и за многое
другое. Именно поэтому они замалчивали
Толстого-обличителя, объявляя его певцом любви.
Характерно, что роман был встречен резко
отрицательно И. С. Тургеневым, который в письмах к своим
друзьям пророчил, что Толстому «не выдраться... из
московского болота», что его талант погубило
«славянофильство», 1 что он окончательно «сбился с дороги».2
«Анна Каренина» мне не нравится,—писал он Я.
Полонскому, — хотя попадаются истинно-великолепные
страницы (скачка, косьба, охота). Но все это кисло, пахнёт
Москвой, ладаном, старой девой, славянщиной, дворян-
щиной и т. д.».3
Представители народнической критики также
пытались умалить общественное значение романа. Правый
народник А. М. Скабичевский писал о тех чувствах
«омерзения», которые «Анна Каренина» якобы вызывала у
читателя, утверждая, что писатель изобразил в романе те
явления жизни, которые «по больщей части принадлежат
1 И, С. Ту рге н с в. Собрание сочинений, т. 11, изд. «Правда»,
М., 1949, стр. 306.
2 Там же, стр. 298.
3 «Первое собрание писем И. С. Тургенева», стр. 260,
312
чувственным элементам человеческой природы». Один
из теоретиков народничества П. Н. Ткачев, выступивший
на страницах «Дела» против «благоглупостей»
Скабичевского, в свою очередь увидел в «Анне Карениной»
образец «салонного художества», «новейшую эпопею барских
амуров». По его мнению, роман отличался «скандальной
пустотой содержания». 1
Этих и им подобных критиков имел в виду Толстой,
когда в одном из писем не без иронии писал: «Если
близорукие критики думают, что я хотел описывать только
то, что мне нравится, как обедает Обл[онский] и какие
плечи у Карениной], то они ошибаются».2
Роман Толстого не встретил, однако, понимания и в
демократических кругах. М. Антонович расценил «Анну
Каренину» как образец «бестенденциозности и
квиетизма». 3 Н. А. Некрасов, не восприняв обличительного
пафоса романа, направленного против высшего света,
высмеял «Анну Каренину» в эпиграмме:
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать. 4
Причину такого холодного приема романа
демократами раскрыл М. Е. Салтыков-Щедрин, который в письме
к Анненкову указал на то, что «консервативная партия...
торжествует» и делает из романа Толстого «политическое
знамя».5 Опасения Щедрина подтвердились полностью.
Реакция действительно пыталась использовать роман
Толстого как свое «политическое знамя».
Примером реакционно-националистического
истолкования «Анны Карениной» явились статьи Ф. Достоевского
1 «Дело», 1875, № 5.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62,
стр. 268—269.
3 «Слово», 1878, № 1, «Современное состояние литературы»,
стр. 12.
4 Н. А. Некрасов. Избранные сочинения, М., Гослитиздат,
1947, стр. 325.
5М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. 1845—1889, Л., 1925,
стр. 76. 9/Щ-1875,
3J3
в «Дневнике писателя» за 1877 год. 1 Достоевский
рассматривал роман Толстого в духе реакционной
«почвеннической» идеологии. Он вытаскивал на свет свои
изуверские «теорийки» о вечной прирожденное™ греха, о
«таинственной и роковой неизбежности зла», от которых якобы
невозможно избавить человека. Ни при каком устройстве
общества нельзя избежать зла, ненормальность и грех
якобы присущи самой природе человека, которую
неспособны переделать никакие «лекаря-социалисты».
Совершенно ясно, что Толстому чужды были эти,
навязываемые ему Достоевским, реакционные идеи. Талант
Толстого был светлым и жизнеутверждающим, все его
произведения, в частности и этот роман, проникнуты
любовью к человеку. Этим Толстой и противостоял
Достоевскому, постоянно клеветавшему на него. Вот почему
статьи Достоевского об «Анне Карениной» представляют
собой трубое извращение идейной сущности великого
произведения.
В этом же направлении шел и М. Громека, в этюде
которого об «Анне Карениной» совершенно отсутствуют
указания на социальную и историческую обусловленность
идейной проблематики романа. Громека — махровый
идеалист. Он в сущности повторял злобные выпады
Достоевского против человека, писал о «глубине зла в
человеческой природе», о том, что «тысячелетия» не
искоренили в человеке «зверя». Критик не раскрывал
социальных причин трагедии Анны, а говорил лишь о ее
биологических стимулах. Он полагал, что все трое — Анна,
Каренин и Вронский — поставили себя «в жизненно
ложное положение», поэтому проклятие преследовало их
везде. Значит, участники этого рокового «треугольника»
сами виноваты в своих несчастьях, а условия жизни были
ни при чем. Критик не верил в силу человеческого разума,
утверждая, что «тайны жизни» никогда не будут познаны
и разъяснены. Он ратовал за непосредственное чувство,
ведущее прямым путем к религиозному мировоззрению
и христианству. Громека рассматривал «Анну Каренину»
и важнейшие вопросы мировоззрения Толстого в
религиозно-мистическом плане.
1 Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, изд. 7-е,
т. 12, СПБ., 1906, стр. 224—243, 253—259.
314
«Анна Каренина» не получила достойной оценки в
критике 70-х годов; идейно-образная система романа
осталась не раскрытой, так же как и его удивительная
художественная сила.
«Анна Каренина» не только изумительный по своему
художественному величию памятник русской литературы
и культуры, но и живое явление современности. Роман
Толстого до сих пор воспринимается как острое,
злободневное произведение.
Толстой выступает в роли сурового обличителя всех
гнусностей буржуазного общества, всей аморальности и
растленности его идеологии и «культуры», ибо то, что он
заклеймил в своем романе, было свойственно не только
старой России, но и любому частнособственническому
обществу вообще, а современной Америке в
особенности.
Не случайно американская реакция кощунственно
глумится над величайшим созданием Толстого и печатает
«Анну Каренину» в грубо сокращенном виде, как
обычный адюльтерный роман (изд. Герберта М. Александер,
1948). Угождая вкусам бизнесменов, американские
издатели лишили роман Толстого его «души», изъяли из него
целые главы, посвященные социальным проблемам, и из
«Анны Карениной» состряпали некое произведеньице с
типично мещанской темой «любви втроем», чудовищно
исказив весь идейный смысл романа. Это характеризует
и состояние культуры современной Америки и в то же
время свидетельствует о боязни обличительного пафоса
Толстого.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Завершив подготовку отдельного издания «Анны
Карениной», Толстой вновь возвращается к работе над
романом из эпохи Петра, но теперь происходит решающий
сдвиг в его замысле: все дошедшие до нас наброски
начала романа, объединенные общим названием «Корней
Захаркин», свидетельствуют о том, что писатель оставил
«верхи» общества и заинтересовался народными
массами; роман должен был стать широким полотном
о русском крестьянстве в важную для России эпоху
исторического развития. Действие отнесено к 1723 году.
По дневниковым записям С. А. Толстой видно, что
писатель в первой части своего произведения собирался
изобразить «семейную драму» зажиточного мужика, у
которого были три сына, но ни один из них не мог быть
настоящим хозяином; младший сын, любимец отца,
«выучивается грамоте и смотрит вон из мужицкого быта»,
впоследствии он встречается «с людьми другого,
образованного круга». Во второй части должно быть описано
переселение, «русский Робинзон, который сядет на новые
земли (Самарские степи) и начнет там новую жизнь
с самого начала мелких, необходимых, человеческих
потребностей». 1
Однако при всем историзме замысла следует
обратить внимание и та его современную для Толстого
окраску: проблемы, которые собирался ставить писатель в
новом произведении, особенно переселение в Самарские
1 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 39—40. 25/Х—1877,
316
степи, были скорее проблемами 70-х годов XIX века,
чем начала XVIII века. Самарские степи здесь избраны
как наиболее знакомые Толстому, имевшему там свои
земли. Но переселение шло и в Сибирь и па Дальний
Восток, особенно оно усилилось после реформы 1861 года.
Миллионы крестьян покинули свои обжитые места в
европейской части России и направились в неведомые им
края. Массовый процесс проявления неукротимой энергии
русского трудового человека, в данном случае
направленной на освоение новых земель, и намеревался Толстой
запечатлеть в своем романе. Эта тема нашла свое
отражение как в набросках названного произведения, писание
которого и на этот раз не пошло дальше нескольких
вариантов начала, та,к и в замысле романа «Декабристы».
Характерно, что усиленный интерес к истории у
Толстого возникал в определенные периоды, а именно в эпохи
резкого обострения социальных конфликтов. Так было
в 60-е годы, в годы первого демократического подъема
в стране («Декабристы», «Война и мир»); так оказалось
и в конце 70-х годов, когда в атмосфере второго
демократического подъема в стране у писателя рождается сразу
целый комплекс замыслов произведений на исторические
темы. Причем вновь всплывает замысел романа о
декабристах. Можно без преувеличения сказать, что,
возникнув в 1856 году, тема декабризма тревожила
творческое сознание писателя до последних дней его жизни.
В 1877 году Толстого очень сильно взволновала
русско-турецкая война. Еще до начала военных действий он
ездил специально в Москву выяснять вопрос о
предстоящей войне. В августе 1877 года, узнав о неудаче русских
войск под Плевной, когда атака тридцатитысячного
русского корпуса была отбита турками с крупными
потерями для русских, он писал Н. Страхову: «Й в дурном и
в хорошем расположении духа мысль о войне застилает
для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей
несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о
причинах этой несостоятельности, которые мне всё
становятся яснее и яснее... Мне кажется, что мы находимся
на краю большого переворота».1 Он, много лет не читав-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62,
стр. 334—335.
317
ший газет и журналов и считавший их «вредными
заведениями», просит помочь ему разобраться во внутренней
политике царизма, прислать ему соответствующие книги,
журналы и даже комплект газет за последние двадцать
лет. У писателя возникает замысел статьи резко
обличительного направления о царствовании Александра II, в
основе которой должна лежать мысль об экономической
и военной «несостоятельности» России. Сравнивая
русско-турецкую войну с Крымской кампанией, в полной
мере обнаружившей технико-экономическую и военную
отсталость России, Толстой писал: «Теперь, в 77 году,
после 21 года м,ира и приготовлений, мы чувствуем
себя несравненно слабее, чем мы были тогда». * И хотя
писатель был не совсем прав, тем не менее русская армия,
при высокой боеспособности солдат, в своем вооружении
попрежнему отставала от западноевропейских армий.
В поисках исторических параллелей и исторического
объяснения современности Толстой заинтересовался
турецкой войной 1829 года. Но, углубившись в изучение
эпохи Николая I, он опять пришел к восстанию
декабристов. Таким образом, с ним происходил тот же процесс
углубления в историю, какой наблюдался при творческом
воплощении замысла романа о декабристе, приведшем
его к «Войне и миру».
На этот раз Толстой осложняет свой замысел тем
новым интересом к крестьянству, который у него нарастал
с каждым годом. Действие в произведении «будет
происходить на Олимпе, — говорил писатель Софье
Андреевне Толстой. — Николай Павлович со всем этим
высшим обществом,- как Юпитер с богами, а там где-нибудь
в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один
из участвовавших в истории 14 декабря попадает к этим
переселенцам, и простая жизнь в столкновении с
высшей». 2 Это соответствовало ;и образу жизни прототипа
его героя — С. Г. Волконского. Вспоминая об этом
«удивительном старике» с наружностью «ветхозаветного
пророка», с которым Толстой встречался во Флоренции в
декабре 1860 тода — январе 1861 года, он акцентирует
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 361.
2 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 37—78.
318
Внимание именно на этом стремлении родовитого
аристократа сблизиться с простым народом: «В Сибири, уже
после каторги, когда у жены его было нечто вроде
салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись
принадлежности крестьянской работы». { Пафос
опрощения и сближения аристократа-декабриста с простым
народом пронизывает все дальнейшие попытки продолжить
роман из эпохи декабристов.
Толстой уточняет и свою идейно-эстетическую позицию
в разработке этой темы. Он намерен «смотреть на
историю 14 декабря, никого не осуждая, ми Николая
Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только
описывать». 2 Не раз уже в своих дневниках писатель
высказывал эту мысль о некоем объективистском, беспристрастном
искусстве, но никогда ему не удавалось ее реализовать:
все искусство Толстого, напротив, пронизано страстным
утверждением определенных морально-этических идеалов,
и оно всегда несло в себе «осуждение» определенных
сторон жизни и возвеличение других ее сторон.
В связи с возвращением к роману о декабристах
Толстой погружается в изучение исторических материалов,
мемуаров, записок и других документов эпохи; посещает
С. Н. Бибикову, дочь Никиты Муравьева, свято чтившую
память отца и много рассказавшую писателю о нем;
знакомится с декабристами П. Н. Свистуновым, М. И.
Муравьевым-Апостолом, А. П. Беляевым, Д. И. Завалиши-
ным. Об огромном увлечении Толстого работой по
собиранию материалов для романа, в частности,
свидетельствует дневниковая запись С. А. Толстой под 1 марта
1878 года: «Все время Л. Н. занимается чтением времен
Николая Павловича и главное заинтересован и даже весь
поглощен историей декабристов. Он ездил в Москву и
привез целую груду книг и иногда до слез тронут чтением
этих записок».3 Во время пребывания в Петербурге
Толстой знакомится с М. И. Семевским, редактором-издателем
«Русской старины», и известным критиком-искусствоведом
В. В. Стасовым, которые оказали 'писателю неоценимые
1 А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. 1, М., 1922,
стр. 126.
2 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 41.
3 Там же, стр. 41—42.
319
услуги (особенно Стасов), снабжая его рукописями
декабристов и редкими документами необычайной ценности;
к таким относится, в частности, упоминавшаяся
собственноручная записка Николая I о церемониале казни
декабристов, копию которой переслал Толстому Стасов.
Глубокое изучение материала приводит к новому
осмыслению темы декабризма. В его замысел входит
изображение судеб «двух друзей»: одного — испугавшегося
преследований, поэтому предавшего идеалы декабризма,
«изменившего своему богу», и другого — «пошедшего на
каторгу» за эти 'идеалы. Итог для первого был
плачевным. Через тридцать лет он оказался физически и духовно
опустошенным и разбитым, скрывающим «свое
хроническое отчаяние и стыд под мелкими рассеяниями и тюхо-
тями», тогда как подлинного декабриста, вернувшегося
с каторги, отличали «ясность, бодрость, сердечная
разумность и радостность».1 В этом замысле примечательна
поэтизация подвига и верности своему «богу», то есть
декабризму, и резкое осуждение изменников и
отступников, воспевание нравственной высоты, самоотверженности
и духовной стойкости подлинных борцов.
• В течение 1878 года Толстой, продолжая изучать
материалы, делает несколько попыток начать писание
романа. Большинство вариантов начала романа посвящено
«крестьянской» линии развития сюжета. Интересное
свидетельство о замыслах Толстого сохранено в письме
Ф. Д. Батюшкова к В. Г. Короленко. Указав на
опубликованную в сборнике литературного фонда главу, в
которой рассказывалась история крестьян помещика
Чернышева, сосланных в Сибирь за присвоение помещичьей
земли, Батюшков писал: «По замыслу Толстого,
Чернышев-декабрист, тоже сосланный, должен был попасть
в поселок бывших крестьян своих родичей, и когда таким
образом «барин», в силу превратностей судьбы, разделяет
участь крестьян, — начинается по-толстовски
«опрощение» барина».2 В одном из вариантов Толстой рисует
приезд Тихоновны, муж которой сидел в остроге за драку
с землемером, в Москву с прошением на имя царя, ее
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 496,
497.
* Там же, стр. 497.
320
встречу с будущим декабристом, сыном князя Чернышева,
но на этом повествование обрывалось.
В отдельных планах Толстой намечал и такие темы,
которые раскрывали подготовку и организационное
оформление декабристского движения: «Собрание Союза
Благоденствия» в 1818 году, «Мракобесие. Магницкий», «Бунт
в Чугуеве», «Рылеев», «Казни», «Семеновская история»,
«Пестель в Петербурге». 1 Действие в произведении,
таким образом, должно было развернуться на широком
историческом фоне, глубоко и обстоятельно
предполагалось раскрыть социальные корни декабризма. В одном из
писем к Свистунову, говоря об огромной
заинтересованности темой своего произведения, Толстой писал: «Дело,
которое занимает меня, для меня теперь почти так важно,
как моя жизнь».2 В этом же письме писатель
интересовался, не помнит ли Свистунов кого-либо из бежавших
и исчезнувших декабристов, намечая таким образом
наиболее радикальный вариант разрыва со своим классом.
Тема «ухода» впоследствии будет развита в «Отце
Сергии», «Живом трупе», «Записках Федора Кузьмича».
Действие в романе по планам охватывало целые
двадцать лет— 1816—1836 годы. Говоря о своем пребывании
в Ясной Поляне и о беседах с Толстым, Страхов писал
П. Голохвастову 9 марта 1879 года: «Он сам говорил, что
никогда работа так не занимала его, как эта. Но в каком
положении дело, не знаю. Когда я уехал, еще ничего не
было написано — только пробы, начала, сцены».3
Для своего романа Толстому необходимо было
ознакомиться со следственным делом о декабристах, но шеф
жандармов, к которому обратились с этой просьбой,
ответил: «Допущение графа Л. Н. Толстого в архив III
отделения представляется совершенно невозможным».4
Конечно, это подействовало отрицательно на Толстого, но
все-таки не явилось главной причиной оставления им
романа. Среди них заслуживают внимания две: первая
связана с ошибочным истолкованием причин декабристского
движения. Несколько мемуаристов сообщают совпадаю-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 257.
2 «Красный архив», т. VI, стр. 239—240.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 510.
4 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 311.
21 С. Бычков 321
щие сведения о том, что Толстой пришел к мысли, будто
декабризм есть плод влияния Франции и все движение
«было привитое и не создано на чисто русской почве».!
В 1892 году Толстой говорил в присутствии П. А. Сер-
геенко, что он не нашел в этой работе «общечеловеческого
интереса. Вся эта история не имела под собою корней».2
Здесь можно иметь в виду и национальные «корни»
движения и отрыв декабристов от народа. Скорее последнее.
Декабристы были страшно далеки от народа, и Толстой
это по-своему почувствовал, поэтому с его новых
идейных позиций эта тема уже не давала ему материала для
решения волновавших его вопросов о сближении с
народом, о путях этого сближения. Отсюда же и пафос
опрощения, пронизывающий его замыслы, интерес к
«крестьянским работам» С. Г. Волконского. Сближение с народом
необходимо, нужна «почва», и если декабристы не смогли
установить связи с народом перед восстанием чг в момент
восстания, то некоторые из них это сделали в условиях
ссылки. Вторая, пожалуй, самая главная причина
оставления темы о декабристах заключается в резком
несоответствии нового мировоззрения писателя
революционному духу декабризма. После духовного «кризиса», когда
в его политических взглядах возобладала теория
«непротивления злу», когда он стал противником всяких
насильственных методов изменения существующего
политического строя, он уже и не мог бы исторически правдиво
написать роман о декабристах, дворянских
революционерах, стремившихся как раз к насильственному
изменению существовавших социальных порядков. 17 апреля
1879 года Толстой писал Фету: «Декабристы» мои бог
знает где теперь, я о них и не думаю, а если бы и думал,
и писал, то льщу себя надеждой, что мой дух один,
которым пахло бы, был бы невыносим для стреляющих в
людей для блага человечества».3
Но оставив роман, Толстой в последующем своем
творчестве, в переписке и разговорах нередко вспоминал о
декабристах, сочувственно отзывался о них как о замеча-
1 «Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом С. А. Берса», стр. 51.
2 П. А. С е р г е е н к о. Как живет и работает гр. Л. Н. Т.,
О ят« 1 О
1898, стр. 12.
3 А. Фет. Мои воспоминания, ч. II, стр. 364.
322
тельных, самоотверженных и благородных людях. В одной
Из редакций XI главы «Хаджи-Мурата» Толстой, говоря
0 Николае I, отметил жестокое подавление им восстания
декабристов: «Он ответил картечью, высылкой и
каторгой лучших русских людей».* 8 мая 1904 года Толстой,
ознакомившись с записками декабристов Трубецкого,
Оболенского, Якушкина, изданными за границей, сообщал
В. В. Стасову о том, что «занят Николаем I и вообще
деспотизмом, психологией деспотизма, которую хотелось
бы художественно изобразить в связи с декабристами».2
1 июля Толстой писал внуку С. Г. Волконского:
«Декабристы больше чем когда-нибудь занимают меня и
возбуждают мое удивление и умиление».3 В январе 1905 года
он изучает выписки из архивных материалов о
декабристах, и его вновь охватывает волнение: «Хотелось бы мне
быть молодым, чтобы засесть за эту работу».4 25 января
1905 года Маковицкий записывает примечательные слова
Толстого о декабристах: «Это были люди все на подбор —
как будто магнитом провели по верхнему слою кучи сора
с железными опилками, и магнит их вытянул».5
Характерно созвучие этой записи с оценкой декабристов у
Герцена: «Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали
с головы до ног».6
Замысел писать произведение о Николае и
декабристах вновь возникает у Толстого в 1908 и в 1909 годах.
Но, к сожалению, эта тема так и не получила творческого
воплощения.
Оставив роман «Декабристы», Толстой вновь пытается
работать над романом из эпохи Петра I. В конце марта
1879 года он просит А. А. Толстую оказать ему
содействие в получении разрешения на доступ в «архивы
секретных дел времен Петра I, Анны Иоанновны и
Елизаветы» и в скобках добавляет: «Теперь уже не декабристы,
' Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 525.
2 «Лев Толстой и В. В. Стасов, переписка, 1878—1906», Л., 1929,
стр. 345.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 525.
4 Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, II, М, 1923,
стр. 7.
5 Там же, стр. 8.
6 А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. XV,
стр. 279—280.
* 323
а 18-й век, начало его интересует меня». 1 После
соответствующего разрешения последовали занятия в
архивах, просмотр дел, затем выписки из них, сделанные
архивистом Николевым, — они производились из дел
преимущественно уголовного характера и давали яркое
представление о быте и нравах петровской эпохи. Писатель
интересовался также народными толками о Петре I как
об антихристе, «подмененном» царе; в ряде дел
фигурировали привлеченные к ответственности лица,
осуждавшие Петра I за широкое общение с немцами.
От этой поры сохранились наброски грандиозного
замысла нового романа, получившего название «Сто лет»
(март 1879). Писатель намеревался художественно
воссоздать целое столетие русской истории — с 1723 по
1823 год, — то есть захватить последние годы
царствования Петра I и подойти вплотную к кануну восстания
декабристов. Это характерно. Перед «Войной и миром»
Толстой в поисках причин декабризма углубился в эпоху
первых войн России с Наполеоном, теперь же он, видимо,
желал осветить восстание декабристов с еще более
далекого исторического разбега. Поэтому он и писал про
время Петра I — «в нем начало всего».2
Но всем этим замыслам не суждено было
осуществиться. После 1880 года Толстой уже не возвращался
к роману о Петре. О причинах оставления замысла
романа писатель сказал Г. А. Русанову в 1883 году; «Из
петровской эпохи я не мог написать потому, что она
слишком отдалена от нас и я нашел, что мне трудно
проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи
на нас».3 В этом же направлении идут свидетельства
С. А. Толстой, а также биографов Толстого П. И.
Бирюкова и Левенфельда, которые приводят признания
писателя, заявлявшего, что ему трудно было в своем
творческом воображении воссоздать эпоху Петра I, сковывало
незнание подробностей быта, исторической обстановки:
«Ни один образ, — говорил Толстой, — не рисовался живо
моему воображению... Царь Петр был от меня очень
далек». Не менее существенную роль сыграла и переоценка
7 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 477.
2 «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», стр. 234.
- \Si icp'^limvjj\d i/l. 11. lUtilUlUJU U ip. -TV. Г\.. IWltl'U:
3 «Толсювский ежегодник за 1912 г.», стр. 63.
324
Толстым личности Петра. Прежние положительные
отзывы сменяются резко отрицательными. В одной из
статей 1879 года Петр назван «благочестивейшим
разбойником» и «убийцей», «который кощунствовал над
евангелием», 1 а ранее отмечалось как раз обратное:
«гениальное» объяснение Петром ветхозаветных заповедей.
С такими взглядами на исторического героя можно было
писать памфлет, а не роман, что и делал Толстой
впоследствии — личность Петра в резко отрицательном
освещении фигурирует во многих статьях писателя.
Но все эти новые моменты как в оценке личности
Петра, так и в охлаждении к теме были обусловлены
назревшим кризисом в мировоззрении писателя.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 641.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Наступившая после казни народовольцами
Александра II жестокая реакция, сильно ослабившая
революционные элементы в русском обществе, в еще большей
степени способствовала расцвету философии
«непротивления злу» и поискам спасительных начал в политически
отсталых слоях русской деревни.
Толстовство, складывавшееся как раз в этот период,
является разновидностью некоторых наиболее
консервативных народнических иллюзий, хотя в то же время
Толстой именно теперь в полном смысле слова становится
на позиции русского патриархального крестьянства и
вбирает в себя всю ненависть крестьян к господам, к
купцам, чиновникам и попам.
Уже в последней части «Анны Карениной», в думах
и размышлениях Левина, в приходе его к «мужицкой»
вере нашли свое отражение религиозно-этические искания
писателя. Много раз Толстой порывался оставить свой
роман и сосредоточиться на разработке философских и
религиозных вопросов. В преддверии 80-х годов эта тяга
обрести веру усиливалась.
Толстой посещает церкви и монастыри, беседует со
священниками и иерархами церкви, встречается с
монахами и схимниками, пустынниками различных оттенков,
совершает паломничество в Оптину пустынь и сближается
с сектантом В. К. Сютаевым, читает книги разных
направлений по вопросам философии и религии, сам пишет на
религиозно-этические темы — и все это с тем, чтобы до
конца уяснить смысл жизни, цель своего земного
существования, определить нормы поведения не только для
326
србя, но и для всех людей. Он с увлечением читает книгу
Н. Страхова «Об основных понятиях психологии», в
которой автор доказывал существование «души», и с
большим нетерпением ждет выхода книги историка Б.
Чичерина «Наука и религия», сообщая ему в письме:
«Вопросы, тебя занимающие, для меня самые важные в жизни».1
В ответ на стихотворение Фета «Никогда», в котором
поэт нарисовал фантастическую картину прекращения
жизни на остывшей земле, Толстой писал, что для него
«с уничтожением всякой жизни» не все еще кончено: «Для
меня остаются еще мои отношения к богу».2
Летом 1879 года Толстой отправляется в Киев, где
посещает соборы, осматривает пещеры, беседует с
монахами; он уезжает глубоко разочарованный. Может быть,
под влиянием посещения Киево-Печерской лавры у
писателя начинает нарастать протест против официальной
церкви, который усиливается после встреч и бесед с
крупнейшими представителями московского духовенства, в
частности с епископом Алексеем и митрополитом
московским Макарием, пятитомный труд которого
«Догматическое богословие» писатель впоследствии подверг
сокрушительному разбору в своей работе «Критика
догматического богословия». 1 октября 1879 года Толстой
посещает Троице-Сергиевскую лавру, где беседует с
архимандритом Леонидом.
В результате всех этих встреч окончательно
оформились глубоко отрицательные взгляды писателя на
казенную церковь. В октябре 1879 года в записную книжку
им заносится начало антицерковного сочинения:
«Церковь, начиная с конца и до III века — ряд лжей, жесто-
костей, обманов».3 В ноябре—декабре пишутся статьи:
«Церковь и государство», «Что можно и чего нельзя
делать христианину», пронизанные мыслью о расхождении
официальной церкви с учением евангелия. 18 декабря
1879 года С. А. Толстая отметила в своем дневнике,
что Толстой пишет «о разладе церкви с
христианством... Все разговоры проникнуты учением Христа.
Расположение духа спокойное и молчаливо-сосредоточен*
1 Л. Н. Толстой. Полное собран^ сочинений, • т. 62, стр, 42].
2 Там же, стр. 469.
3 Гам же, т. 48, стр. 195, ' w "" '•'
32?
ное. «Декабристы» и вся деятельность в прежнем духе
совсем отодвинута назад». 1 /
Решительно осудив «плотскую жизнь», Толстой
переносит центр тяжести всех своих исканий «в мир духЬв-
ный». Официальной церкви противопоставляются
евангелие и народная вера. Рождается мечта о подвижнической
жизни. И линию своего поведения и те этические нормы,
которые должны лечь в основу всей его жизни, Толстой
строит на основе христианского учения. Отвечая на
вопрос С. А. Рачинского о планах на будущее, писатель еще
в апреле 1878 года заявлял: «Планы одни личные,
душевные — спасти душу».2 Здесь, может быть, сильнее, ярче
и прямее, чем в других высказываниях, выражена
тревога Толстого за «греховность» своей прошлой жизни и
его надежда «спасти душу» в своей будущей жизни,
построенной на иных началах. Несомненно, что в этой связи,
в плане душевного очищения и глубокого исповедания,
писатель задумывает произведение «Моя жизнь». И
несомненно также, что это новое душевное состояние
побудило его в 1878 году протянуть руку примирения
И. С. Тургеневу, отношения с которым были прерваны
семнадцать лет назад. Письмо Толстого заканчивалось
характерными словами: «В наши года есть одно только
благо — любовные отношения с людьми. И я буду очень
рад, если между нами они установятся».3
Толстой видит идеал человека, живущего по
евангельским заповедям, в учителе своих старших детей В. И.
Алексееве. «Выше христианского учения, — аттестует его
писатель в одном из писем, — он ничего не признает и
исполняет его в смысле нелюбостяжания, воздержания
псхотей, кротости, любви, неосуждения, смирения,
служения другим, так, как я бы желал когда-нибудь
исполнять». 4
Но для того чтобы перейти к новой жизни, надо
разобраться в ошибках и заблуждениях старой. Он советует
Страхову: «Напишите свою жизнь; я все хочу то же сде-
1 «Дневники С. А. Толстой», I, стр. 42.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 404.
3 Там же, стр. 407.
4 Там же, стр. 509. Письмо С. С. Урусову от 22., .28/ХП—1879.
32в
латьУ Но только надо поставить — возбудить к своей
жизн^ отвращение всех читателей». { Здесь уже
сформулирован замысел «Исповеди», определена социально-
этическая позиция в оценке своей прошлой жизни и
найден тон этой исключительной по своей беспощадной
резкости в отношении к самому себе работы Толстого.
Тургенев был прав, когда писал, что «Исповедь» — «вещь
замечательная по искренности, правдивости и силе
убежденья».2
Оценивая крепостнический характер крестьянской
реформы и указывая на то, что крестьяне не в состоянии
были в 1861 году подняться на открытую борьбу за свою
свободу, Ленин писал: «Крестьян «освобождали» в
России сами помещики, помещичье правительство
самодержавного царя и его чиновники. И эти «освободители» так
повели дело, что крестьяне вышли «на свободу»
ободранные до нищеты, вышли из рабства у помещиков в кабалу
к тем же помещикам и их ставленникам...
«Ни в одной стране в мире крестьянство не переживало
и после «освобождения» такого разорения, такой нищеты,
таких унижений и какого надругательства, как в
России». 3
Естественно, что терпение русского крестьянства не
могло быть бесконечным. Обманутое в своих самых
лучших надеждах, оно ответило на реформу 1861 года
стихийными «бунтами», которые были жестоко подавлены.
Наступил известный спад в крестьянском движении,
полоса затишья. Но бедствия крестьян с каждым годом
нарастали: в деревне шел глубокий процесс социального
расслоения, все большее и большее количество крестьян
разорялось, уходило на заработки в город, политически
просвещалось. К концу 70-х годов положение крестьян,
осложненное бременем военных налогов и низким
урожаем 1879 года, стало невыносимым. Среди крестьян, как
и перед реформой 1861 года, начали широко ходить слухи
о предстоящем переделе земли, и в этих слухах
отражались сокровенные думы крестьянства о получении всей
помещичьей земли в свои руки. Вновь поднялась волна
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 500.
- «Первое собрание писем И. С. Тургенева», стр. 510.
3 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 65.
329
крестьянского движения, которое несло в себе
непосредственную опасность не только для помещичьего
землевладения, но и для «помещичьей монархии» и которое
явилось важнейшим фактором назревавшей революционной
ситуации в стране.
Обострение политической обстановки в стране не
могло не отразиться на взглядах и мироощущении Толстого,
который все внимательнее всматривался в положение
русского крестьянства, со все большей тревогой следил за
его горестной судьбой. С. А. Толстая сообщала в своих
письмах: «Левочка в хорошем духе, но грустит, что
мужикам плохо».1 Писатель все глубже уходит в изучение
народа, его нравственных понятий, самых основ жизни,
его задушевных стремлений, языка и поэзии, своеобразия
его веры. И поэтому глубоко правдиво звучат слова
писателя: «Жизнь большинства — мужиков, странников и
еще кое-кого, понимающих свою жизнь, я понимаю и
ужасно люблю».2 Толстой не щадил ни времени, ни сил
для того, чтобы ближе узнать свой народ: он посещает
остроги, судебные заседания, рекрутские приемы, где
чаще всего и больше всего можно было встретиться с
неподдельным народным горем, где особенно ярко
разоблачались несправедливость и жестокость царских законов
и царских властей. И не случайно в результате этих
встреч, разговоров, наблюдений писатель впал в глубокое
соболезнование всему народу и всем угнетенным.
В обстановке назревавшей революционной ситуации
Толстой рассматривал отдельные выступления
революционеров как зарницы близящейся революции. 24 января
1878 года В. И. Засулич стреляла в петербургского
градоначальника Трепова, а 31 марта судом присяжных под
председательством А. Ф. Кони она была оправдана.
Толстой писал Страхову: «Засуличевское дело не шутка. Это
бессмыслица, дурь, нашедшая на людей не даром. Это
первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это дело
важное... это похоже на предвозвестие революции».3
Здесь важно подчеркнуть три момента: первое — это есте-
1 См. Н. Гусев. Толстой в расцвете художественного гения,
стр. 257. Из письма к Т. А. КузМинской от f/V—1877.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 24,
3 Там же, т. 62, стр. 411,
330
ственное для Толстого осуждение террора («бессмыслица,
дурь»); второе ¦— понимание того, что все это сделано
«не даром», не по прихоти и капризу, а является
проявлением чего-то «еще нам непонятного»; и третье —
писатель, со своей огромной социальной чуткостью ощущая
приближение революционной ситуации в России, и в
выстреле Засулич склонен был видеть «предвозвестие
революции».
А то, что зрела именно революция, писатель видел
и в деревне и в городе, в резком ухудшении
экономического положения народа, в нарастании протеста в
русской деревне против наступления капитала, в действиях
революционеров-народовольцев, в расширении
оппозиционного движения среди либеральной интеллигенции. Он
верно отмечает важнейшие черты политического
положения России, непосредственно вызывавшие рост
революционного движения в стране: «Переполненная Сибирь,
тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство,
жадность и жестокость властей».] В 1879—1880 годах
были резкие недороды, которые поставили Россию на
грань экономической катастрофы. В этой связи 6 июля
1881 года Толстой записывает в дневнике: «Революция
экономическая не то, что может быть. А не может не быть.
Удивительно, что ее нет».2 Правильно и исторически
мотивированно отмечая экономические и социальные
причины неизбежных революционных преобразований в
России, Толстой, однако, не делает из своих верных
наблюдений необходимых и последовательных выводов: он
рассматривает политические события в стране в свете своего
религиозно-этического учения и хотя пишет письмо
Александру III о помиловании убийц его отца и у него не
выходит «из головы и сердца» «процесс 22-х», по
которому десятерых народовольцев ожидала смертная казнь,
тем не менее в оценке острой борьбы революционеров с
самодержавием Толстой стремится стать над борющимися
сторонами. Он полагает, что в том и другом лагере есть
«люди хорошие» и что, не принадлежа ни к одной
См. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого,
Стр. 275.
а Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 50.
331
партии, он может свободно жалеть и любить и тех и
других, то есть революционеров и их вешателей. !
Так раскрывается глубоко реакционный смысл
толстовской доктрины «всеобщей»' любви и христианского
всепрощения, которая в практическом своем применении
приобретала особенно зловещее значение. Вслед за
цитированными выше словами Толстой пишет об убитом
народовольцем Степняком-Кравчинским шефе жандармов
Мезенцеве: «Мне ужасно больно думать, что я, бывши в
Петербурге, избегал Мезенцева за его место. И как он мне
трогателен и мил теперь, т. е. память о нем».2 Он и
другим рекомендовал новые, «христианские» нормы
поведения, проникнутые «всеобщей» любовью и
всепрощением, кротостью и смирением. Он советовал: «никого не
огорчать, не оскорблять, никому — палачу, ростовщику —
не сделать неприятного, а полюбить их». Сына Илью
он наставлял: «выучиться кротости, смирению и
искусству переносить неприятных людей».3 Рекомендации о
«любви» к насильникам и заклятым врагам народа
содержатся и в письмах к другим адресатам. Толстой
выступает противником активного вмешательства в жизнь, а в
тех случаях, когда она вызывает раздражение,
наталкивает на «осуждение людей», он советует отстраниться,
отойти в сторону, «как-то сжаться, как-то умственно
зажмуриться», чтобы не видеть, не знать этих неприятных
явлений и неприятных людей, изгладить из своей памяти
все дурные впечатления, полученные от дурной
действительности. Это характерно для толстовской позиции
невмешательства в жизнь; но сам писатель во всех случаях
активно вторгался в жизнь, одно его страстное
стремление обратить всех людей в свою веру решительно
противоречило его проповеди пассивизма.
Но в вопросах социальной тактики между Толстым и
революционерами лежала целая пропасть. «Те хотят
исправить мир, а этот хочет спасти душу»,4 — метко
сказал о различии между взглядами революционеров и
Толстого один из его последователей.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 63—65,
67—68. См. письма к Страхову от 26(?)/V и 1—5/VI—1881.
, 2 Там же, т. 62, стр. 440.
3 Там же, т. 64, стр. 118.
¦ 4 Там же, т. 85, стр. 324.
В конце 70-х годов у Толстого завершился «перелом»
в мировоззрении. Об этом он рассказал в своей
«Исповеди A879—1882), которая является и
религиозно-этическим трактатом и описанием прихода к «истинному»
христианству. В «Исповеди» писатель с аскетической
суровостью осуждает всю свою прежнюю жизнь: участие
в обороне Севастополя, писательскую деятельность,
начатую якобы «из тщеславия, корыстолюбия и гордости»,
работу в школе — «не знал чему учить». * Он говорит, что
«семейная жизнь» спасла его в 60-е годы от «отчаяния»
и что если бы не женитьба, то резкие перемены в его
взглядах на жизнь произошли бы уже тогда. Несомненно,
что элементы духовного кризиса возникли у Толстого
еще в начале 60-х годов, но они тогда не.приобрели
достаточной силы и ясности, чтобы вылиться в кризис. Сам
писатель, вспоминая на склоне лет о своем выступлении
в роли защитника по делу рядового Шибунина A6 июля
1866 года), говорил, что случай этот имел на него
«огромное благодетельное влияние», потому что он понял, что
«государственное устройство» основано на насилии и что
наука есть «такое же лживое оправдание существующего
зла, каким было прежде церковное учение».
«Теперь это для меня ясно (воспоминания писались в
1908 году. — С. Б.), тогда же это было только смутное
сознание той неправды, среди которой шла моя жизнь».2
Это «смутное сознание неправды» в условиях 60-х годов
не могло еще превратиться в осознанное осуждение всех
существующих государственных и политических порядков
самодержавной России. Толстой, разумеется, переоценил
значение личных факторов в задержке своей идейной
эволюции. Дело не в женитьбе, а в изменении политической
обстановки в стране, в исчезновении революционной
ситуации, новое появление которой в 70-е годы со всей
остротой выдвинуло и перед ним и перед его
современниками целый комплекс важнейших социальных проблем,
требовавших разрешения. Но период между двумя
революционными ситуациями не был спокойным и безмятежным:
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XI, стр. 9.
2 См. Н. Гусев. Толстой в расцвете художественного гения,
стр. 41. (Курсив мой. — С. Б.)
333
об этом свидетельствует и острая реакция писателя
на «самарский голод» и временами являвшееся у него
ощущение своеобразной «остановки жизни», когда он
чувствовал себя «заблудившимся», когда жизнь для него
утрачивала всякий смысл, когда его охватывали острые
пессимистические переживания.
Очевидно, что огромная внутренняя работа в Толстом
продолжалась непрерывно, элементы «кризиса» в его
идеологии накапливались с каждым годом, пока, наконец,
не нашли свой бурный и стремительный выход в
трактатах «Исповедь», «В чем моя вера» и других, выразивших
завершение его духовной драмы. «Со мной случился
переворот, — писал Толстой в «Исповеди», — который
давно готовился во мне и задатки которого всегда были
во мне». Разумеется, это было актом не одного дня и
даже не одного года, это был длительный процесс
пересмотра всех своих старых верований и убеждений и
вместе с тем уточнения и определения своей новой идейной
позиции. В одной из позднейших статей Толстой
вспоминал: «Время это, 1881 год, было для меня самым
горячим временем внутренней перестройки всего моего
миросозерцания». 1
Толстой настойчиво искал смысла и оправдания своей
жизни и в книгах по различным отраслям знания и в
беседах с учеными и пришел к выводу, что ни опытные, ни
«умозрительные» науки не дают ответа на вопрос о смысле
жизни. Чтение же Шопенгауэра, знакомство с библией
и буддизмом только питали пессимизм Толстого,
порожденный эпохой крутой «ломки» всех старых форм жизни.
Толстой отверг эти учения, но не целиком: в решительное
осуждение им «плотской», «физической» жизни вошло
кое-что и из аргументации этих мыслителей. Он боялся
смерти, своего физического уничтожения, и мысли об этом
неизбежно порождали пессимизм; собственно и сам уход
в религию являлся проявлением пессимизма, крайнего
отчаяния.
Толстой нашел выход из тупика в обращении к
народу, к народной вере, в которой было много суеверий,
порожденных условиями жизни народа.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XIX, стр. 211.
334
)Кизнь богатых классов потеряла для писателя
всякий интерес потому, что он увидел, что праведною
жизнью живут трудящиеся, простой рабочий народ. И его
прежние пессимистические выводы о жизни обретают
обличительную окраску: не вся «жизнь зла и
бессмысленна», а только жизнь господствующих классов. Отсюда
был прямой шаг к решению переменить свою жизнь:
«надо жить не жизнью паразита, а настоящею жизнью». 1
Здесь в сущности и была отчетливо выражена формула
разрыва со своим классом и перехода на позиции
патриархального крестьянства. «Я отрекся от жизни нашего
круга»,2 — решительно заявляет Толстой в своей
«Исповеди». Это отречение сопровождалось резким обличением
праздности «господ», этих «паразитов жизни».3 Писатель
обратился к трудовому русскому народу, стремясь
проникнуть в его помыслы и самые задушевные стремления.
«Задача человека в жизни — спасти свою душу; чтобы
спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить
по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни,
трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым».4 В этом, по
Толстому, смысл «народной веры», и ее он принял. Так
раскрываются социально-исторические корни
противоречий мировоззрения писателя, его глубочайшая связь с
идеологией русского патриархального крестьянства.
Идейная эволюция Толстого предстает как процесс
борьбы в его мировоззрении двух начал:
аристократически-сословного и крестьянски-патриархального. Этот
процесс, внутренне противоречивый, возник в условиях
первого демократического подъема в стране, как отражение
в сознании писателя противоречий русской жизни, отнюдь
не разрешенных крестьянской «реформой», как отражение
основного классового противоречия
феодально-крепостнического общества, противоречия между крестьянами и
помещиками. В дальнейшем, хотя «цепь», связывавшая
их, и была разорвана, тем не менее крестьянин «не только
не получил достаточного количества земли, но попреж-
нему находился в кабале у помещика, скованный по ру-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XI, стр. 46.
2 Там же, стр. 50.
3 Там же, стр. 44.
4 Там же, стр. 50.
335
кам и ногам выкупными платежами и различного рода
отработками тому же помещику. Эти пережитки
крепостничества существовали в русском обществе в течение
десятилетий. Но отмена крепостного права расчистила
дорогу развитию капитализма, буржуазных отношений в
стране, которые принесли с собой новые противоречия
между трудом и капиталом. Эти основные противоречия,
своеобразно переплетаясь, и создавали сложный узел
социальных противоречий, который находил свое живое и
яркое отражение в мировоззрении Толстого.
Непосредственное нарастание народного гнева против
эксплуататорски-грабительского социального строя,
усиливающийся протест деревни против наступления капитала,
бедствия, вызванные голодом, — все эти стимулы
решающим образом воздействовали на идеологию Толстого,
вызвали в нем решительное осуждение эксплуататорских
классов и, в конечном счете, в условиях второго
демократического подъема в стране, привели к окончательному
разрыву со своим классом и к переходу на позиции
патриархального крестьянства. Так произошел
качественный скачок в развитии Толстого, разрешивший
первоначальное противоречие между сословно-дворянской и
крестьянско-патриархальной тенденциями в его
мировоззрении. Победила крестьянско-патриархальная линия в
его идеологии, а сословно-дворянская была вытеснена. Но
с этим не исчезли противоречия в идеологии писателя,
на смену старому противоречию пришли новые
противоречия, свойственные самому патриархальному
крестьянству, но они были уже качественно иные — это
противоречия между резкой по своей беспощадности критикой
существующих порядков и теорией «непротивления злу
насилием», между посылками и выводами, между
отрицанием и утверждением.
Таким образом, назревание и завершение «перелома»
в мировоззрении Толстого лежит между двумя
демократическими подъемами в стране—1859—1861 и 1879—
1880 годов. Стимулы и источники «кризиса» заключены
не в личной биографии писателя, а носят глубоко
социальный характер, они своими корнями уходят в
народное освободительное движение в стране и органически
связаны с нараставшим протестом русской
патриархальной деревни против наступления капитала.
336
Определяя социальный смысл пережитого Толстым
«перелома» в мировоззрении, Ленин писал: «Острая
ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила
его внимание, углубила его интерес к происходящему
вокруг него, привела к перелому всего его
миросозерцания. По рождению и воспитанию Толстой принадлежал
к высшей помещичьей знати в России, — он порвал со
всеми привычными взглядами этой среды и, в своих
последних произведениях, обрушился с страстной
критикой на все современные государственные, церковные,
общественные, экономические порядки, основанные на
порабощении масс, на нищете их, на разорении крестьян и
мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии,
которые сверху донизу пропитывают всю современную
жизнь».1
Перелом в мировоззрении Толстого имел важные
последствия во всей его художественной и
публицистической деятельности. Он вызвал решительные перемены во
всем укладе жизни писателя, в его бытовых привычках
и склонностях, в его отношениях с женой и детьми.
Толстой стремится строить свою жизнь на основе
новых религиозных убеждений. Он устраняется от всякой
общественной деятельности: в декабре 1882 года он
освобождается от должности уездного предводителя
.дворянства, а в сентябре 1883 года отказывается быть
присяжным заседателем в суде. Об этом было доложено царю
как о действии, «оскорбляющем достоинство суда».
Решение писателя в правительственных сферах резко осудили,
были приняты меры «к предупреждению подобных
нежелательных явлений».2
Толстой резко ломает и все свои бытовые привычки,
становится на путь нравственного
самоусовершенствования. 18 июня 1884 года он записывает в своем дневнике:
«Переделывал свои привычки. Вставал рано, работал
физически больше... Вина совсем не пью, чай в прикуску,
и мяса не ем. Курю еще, но меньше».3 Он отказывается
от охоты, переходит на вегетарианскую пищу. Но все эти
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 301.
2 «Красная газета», 1924, 2O/XI, вечерний (выпуск.
3 См. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого,
стр. 316.
22 С. Бычков 337
перемены не имели существенного значения для
определения идейной и творческой позиции Толстого, и Ленин
впоследствии высмеял это юродство великого русского
писателя, «который, публично бия себя в грудь, говорит:
«я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным
самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и
питаюсь теперь рисовыми котлетками».1
Новые начала в жизни Толстого встретили резкое
осуждение со стороны жены и взрослых членов семьи
писателя. 18 мая 1881 года он записывает в дневнике о
разговоре в семье, затронувшем самые существенные
стороны его новых взглядов и обнаружившем полное
расхождение писателя с близкими ему людьми: «Начали
разговор. Вешать — надо, сечь — надо, бить по зубам без
свидетелей и слабых — надо. Народ как бы не
взбунтовался — страшно... Потом в перемежку разговор о
блуде — с удовольствием. Кто-нибудь сумасшедший — они
или я».2 Со временем охлаждение в отношениях между
Толстым и членами семьи все усиливалось, росло
отчуждение между ними, писатель чувствовал себя все более и
более одиноким в своей родной семье, его не понимали,
над его взглядами посмеивались. В этой атмосфере у
Толстого созревает мысль оставить семью. 26 августа
1882 года он объявил жене, что «самая страстная мысль
его — о том, чтоб уйти от семьи».3 Этого не произошло.
Но он отстраняется от всякого участия в хозяйстве и
ведение всех имущественных дел официально передает
жене. Однако это не облегчает его душевных терзаний.
Жизнь в семье шла попрежнему: были гости, была
музыка, пение, обеды, ужины, светские разговоры—словом,
те типические проявления «плотской» барской жизни,
которые писатель глубоко осуждал, поэтому он чувствовал
себя после гостей как «после оргии».
Дневник писателя 1884 года пестрит записями о его
глубоком разладе с семейными, которые не понимали
его и не сочувствовали его взглядам, называли его
сумасшедшим. Особенно глубокое отчуждение и даже
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
2 См. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н.
Толстого, стр. 275.
3 Там же, стр. 289.
338
Враждебность установились в его отношениях с жёйой,
которая ничего не хотела слышать о перемене жизни и
у которой все разговоры Толстого об этом вызывали
«бессмысленный отпор». 1 С глубоким осуждением он
отмечает в дневнике «дармоедство» семейных,
«праздность, обжорство, злость»,2 — все это вызывает в нем
сильные душевные страдания, неисходные мучения:
«точно я один несумасшедший живу в доме сумасшедших,
управляемом сумасшедшими».3 Он ищет путей
избавления от тягостных условий жизни, завидует судьбе
простого бродяги и приходит к решению: «Я не могу
продолжать эту дикую жизнь».4 17 июня 1884 года
предпринимается новая попытка ухода от семьи, но мысль о
скорых родах жены возвращает его домой. 18 июня он
записывает в дневнике: «Разрыв с женою уже нельзя
сказать, что больше, но полный».5 «Она до самой смерти
останется жерновом па шее моей и детей».6 В первой
половине июля опять мысли об уходе, уложены уже вещи,
но происходит разговор с женой, и Толстой остается дома,
и вновь следуют сожаления: «Напрасно я не уехал.
Кажется, этого не миную. Хотя ужасно жаль детей. Я все
больше и больше люблю и жалею их».7
В период этих крайне драматических переживаний и
возникает у писателя замысел «Записок сумасшедшего»
A884—1886), носящий глубоко автобиографический
характер. Этот замысел связан с одним эпизодом из жизни
Толстого, вошедшим в биографическую литературу под
названием «арзамасского ужаса»: в 1869 году
писатель, ночуя в арзамасской гостинице, вдруг неожиданно
пережил такой страх и такую тоску, что не знал, куда
деться, — это был страх смерти.
Автобиографичность «Записок сумасшедшего»
ощущается во всем повествовании. И в том, как Феденька, от
имени которого ведется рассказ, вспоминает свое детство:
1 См. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого,
стр. 310.
2 Там же, стр. 312.
3 Там же, стр. 310.
4 Там же, стр. 312.
5 Там же, стр. 315.
6 Там же, стр. 316.
7 Там же.
* 339
1фоявления зла вызывают у него отчаяние — это были
«первые признаки» сумасшествия; ти в характеристике
молодости, до 35 лет, ошибки и заблуждения которой безус-
словно осуждаются; и в стремлении после женитьбы
увеличить состояние семьи; и даже в именах слуг и
нянек, перенесенных в повествование из яснополянского
окружения. Известным отступлением от
автобиографической основы рассказа был, пожалуй, мотив отказа от
покупки имения по социально-этическим соображениям,
так как личная выгода Феденьки была бы основана на
нищете и горе людей, а ему открылась истина, что
«мужики так же хотят жить, как мы, что они люди-братья»,1
это было одним из проявлений «сумасшествия» Феденьки,
которое достигло своего полного выражения, когда он
стал осуждать церковь и все ее обряды. Таким образом,
в разработке темы писатель следовал традиции
передовой русской литературы (Гоголь, «Записки
сумасшедшего»; Герцен, «Доктор Крупов»). Эта преемственность
ощущается не только в том, что «сумасшедший» Феденька
в действительности является нормальным человеком, а
сумасшедшие — это другие люди, общество, но и в том,
что Толстой, подобно Гоголю и Герцену, стремился
придать своему произведению характер социального
памфлета, насытить его резко обличительным пафосом.
После пережитого «перелома» интерес Толстого к
народу, к его исполненной трудов жизни неизмеримо
возрастает. С народом писатель стремится общаться всюду:
и на киевском шоссе, проходящем вблизи Ясной Поляны,
и в поездах, и по пути в Оптину пустынь, не говоря уже
о постоянных встречах с мужиками окрестных деревень.
В этом широком общении с народом и вырабатывались
новые взгляды писателя на жизнь, росла его любовь
к простым трудовым людям. Он называет «прелестью»
известные «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта за их
контрастное изображение жизни господ и «настоящей
жизни мужиков».2 Посетив сапожника, у которого он
учился шитью сапог, Толстой записал в своем дневнике:
«Как светло и нравственно изящно в его грязном, темном
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 474.
2 Там же> т. 83, стр. 407. Письмо к С. А. Толстой от 11/XI—1883.
340
угле». 1 Через некоторое время новая запись в его
дневнике: «Стоит войти в рабочее жилье — душа расцветает».2
При этом во всех думах Толстого о народе и о своем
отношении к нему зрела идея долга перед ним, как
известно, имевшая широкое хождение в народнических
кругах. В одном из писем Черткову Толстой, говоря
о своем увлечении работой над народными книгами,
писал: «Хотелось бы отплачивать чем могу за свои
50-летние харчи».3
Осенью 1881 года семья Толстых переехала на
жительство в Москву и первую зиму жила в наемном, а
с осени 1882 года в своем доме, купленном в Долго-Ха-
мовническом переулке. Переезд в Москву, связанный
с продолжением образования уже подросших детей, имел
важнейшие последствия для Толстого как в идейном, так
и в творческом плане. Первое время писатель крайне
тяготился условиями городской жизни, в письмах он
сообщал о том, что ему тяжела московская жизнь —
«громада этого зла подавляет меня», он часто уезжал
в Ясную Поляну, чтобы «очнуться от ужасной московской
жизни». Здесь дело не только в городской суете и
пустых, никчемных разговорах представителей «общества»:
главное — писатель остро ощутил и увидел социальные
контрасты большого города. В октябре 1881 года
Толстой записал в дневнике свои первые впечатления от
Москвы: «Вонь, камни, роскошь, 'нищета. Разврат.
Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей,
чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше
нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей,
выманивать у них назад награбленное».4 Москва обрушила
на него целый поток новых впечатлений, встреч,
разговоров — того сырого писательского материала, который
требовал своего идейного и творческого осмысления.
Участвуя в переписи населения в доме, где ютилась
городская беднота, посещая ночлежные дома на Хитровом
1 См. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого,
стр. 305.
2 Там же, стр. 306.
п Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 85,
стр. 30.
4 Там же? т. 49, стр. 58.
34 \
рынке, Толстой в живом, ярком и волнующем восприятии
наблюдал конечные судьбы тех самых мужиков, которых
«господин Купон» безжалостно вытеснял из деревни и
бросал в ряды «хитровцев». Писатель близко
соприкоснулся с картинами жизни городской бедноты. И рядом с
людьми, находившимися 'на грани самой безысходной
нищеты, не имевшими хлеба, одежды и крова, жили люди,
проматывавшие десятки тысяч. Это разительное
несоответствие жизни господ и трудовой бедноты особенно
поражало писателя. Вся его статья «О переписи в Москве»
(январь 1882 года) проникнута 'благородным
гуманистическим пафосом. Писатель призывает представителей
имущих классов помочь 'беднякам. Он советует участникам
переписи «по-человечески» относиться к людям и все
добытые материалы использовать для того, «чтобы люди
были счастливы», так как «важнее ничего нет человеческой
жизни». х Эта прекрасная защита прав человека на
счастливую жизнь является сильной стороной статьи. Но
призывы Толстого присоединить к переписи «дело
любовного общения богатых... с нищими, задавленными и
темными» 2 являлись бесплодными и не решали вопроса
борьбы с бедностью. Точно так же и его заклинания
против пролетариата, который не должен существовать и
развиваться, так как Росаия не Англия, а Москва не Лондон,
ничего не меняли в социально-историческом процессе.
Непосредственные наблюдения над жизнью
различных социальных слоев буржуазно-дворянского города
дали писателю огромный материал. Толстой
разрабатывает план статьи «Московские прогулки». Многие
разделы плана посвящены городской бедноте: здесь и прием
рекрутов, и ночлежный дом, и толпа задержанных нищих,
и арестанты, и многое другое. Город выдвинул перед
Толстым целый комплекс новых вопросов, которые он
стремился уяснить и изложить в своей работе с
тревожным названием: «Так что же нам делать?» A884—1886),
в основе которой лежат непосредственные наблюдения
писателя над жизнью города и особенно городской бедноты.
Эти наблюдения сопровождались глубочайшими раз-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 175.
2 Там же.
342
ду^ писателя над коренными проблемами
современности. Трактат являлся итогом больших наблюдений
писателя, как бы манифестом его нового мировоззрения.
Все проблемы современности здесь освещены Толстым с
новых идейных позиций, с позиций русского
патриархального крестьянства. Трактат явился резко обличительным
произведением против всех современных писателю
политических, экономических и церковных порядков
самодержавной России, и не только России, ибо эти порядки
были свойственны любому буржуазному обществу.
С первых же страниц своей работы писатель говорит
о том, что его «удивила городская бедность», что «Москва
а полна нищими». 1 Он рассказывает о своем посещении
Хитрова рынка и ляпинского бесплатного ночлежного
дома, о поражающей нищете его обитателей. Он
раскрывает социальные корни страшного явления «хитровщины»,
которая была порождена разорением деревни в
результате наступления капитала. «Хитровцы» — это в
"подавляющей части мужики, явившиеся в Москву на
заработки. Один из них рассказывал писателю, что он
«пришел искать работы на хлеб и подати. «Работы... нет... Вот
и мотаюсь теперь».2 У него нет и денег, чтобы вернуться
домой; ждет, когда заберет полиция и отправит по этапу
как «беспаспортного». Толстой с горечью замечает:
«Острог и этап представляются для него обетованной
землей».3
Писатель далее с огромной силой показывает
социальные контрасты буржуазного города, на одном полюсе
которого —¦ безумная роскошь господ, богатые кареты,
ковры, золото, сытые кучера и лакеи, а на другом —
голодные, холодные, полураздетые и униженные жители
грязной ляпинской ночлежки. При этом писатель осознает
неразрывную связь, существующую между этими двумя
полюсами — богатством и бедностью: «одно происходит
от другого».4 Вот почему Толстой иронически говорит о
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25,
стр. 182, 183.
2 Там же, стр. 188.
3 Там же.
4 Там же, стр. 191.
343
благотворительности господ, которая давала им душевное
спокойствие, чтобы продолжать жить попрежнему.
И вновь писатель возвращается к бедным. Он
рассказывает о своем участии в переписи населения Москвы,
о нищете обитателей «Ржановской крепости» —
«притона самой страшной нищеты и разврата».х Но что
особенно важно и значительно — писатель в обитателях
этих страшных ночлежек обнаруживает глубоко
человеческие начала: это были «точь-в-точь такие же люди, как и
те, среди которых я жил».2 Ои вместе с тем замечает, что
беднякам свойственно глубокое чувство социальной
справедливости, что они никогда не признавали и не признают
законным и справедливым такой порядок жизни, при
котором «одним людям постоянно праздничать, а другим
постоянно постничать и работать».3
Однако, обличая безумную роскошь господ, Толстой
еще не ставит вопроса о ликвидации ее основы — частной
собственности, он говорит лишь о необходимости помочь
бедным, сблизиться с ними, разрушить ту стену в виде
одежды, квартир, пищи, образования, которая
отгораживает господ от простого народа. Здесь нужна не
благотворительность, которая дает лишь душевное спокойствие
господам жить попрежнему, — необходимо нечто более
существенное. Писатель приходит к мысли, что
единственная реальная помощь, какую можно оказать бедным,
это не делать трудовых людей бедными, не отбирать
у них «необходимое». Рабочие люди изнемогают от
труда, а их обирают всякие «негодные паразиты»,
начиная с Морозовых и Демидовых и кончая становыми и
урядниками. Необходимо отказаться от участия в
порабощении других людей, отказаться от частной
собственности и начать жить личным трудом. Тогда разрушится
стена, отделяющая господ от рабочего народа, и
возникнут предпосылки для их слияния.
В этих условиях необходимы срочные преобразования.
Отмечая «страшные противоречия» времени, писатель
правильно видит «корень зла» в частной собственности.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25,
стр. 196.
2 Там же, стр. 202,
3 Там же, стр. 231.
344
Во ^мя ее защиты и расширения «происходит все
страшное зро мира»: совершаются войны и казни, существуют
суды и остроги, гибнут миллионы людей. Толстой
призывает не верить больше в идола собственности,
освободиться от него и разрушить его; тогда падут все
учреждения, стоящие на страже собственности. Но писатель
мыслил осуществить это освобождение от собственности чисто
утопическим путем: он полагал, что если бы немногие
могли отказаться от собственности и обратиться к
личному физическому труду, то их пример мог бы сыграть
решающую роль и открыть новую страницу в жизни
людей. Но этого не случилось, даже и «немногих»-то не
было.
Обличая устои капитализма — частную собственность
на средства производства, разделение труда, — писатель
указывает на враждебность самых основ буржуазного
общества естественным потребностям человека, самой
природе человека. Он показывает, что мнимые буржуазные
свободы служат прикрытием для капиталистического
рабства. Однако, по мысли Толстого, все дело не в капитале
и частной собственности на средства производства, а
в деньгах, «имеющих свойство порабощать людей»; х
деньги в его представлении рисуются одной «из главных
причин» всех социальных зол. Писатель, разумеется,
заблуждался, приписывая столь самодовлеющее значение
деньгам, он не понимал, не видел их связи с
укладывающимися буржуазными отношениями в стране. Но этой
связи 'не видели и патриархальные мужики. И Толстой,
полемизируя с буржуазными экономистами, обнаруживал
и сильные и слабые стороны этого мужицкого взгляда на
деньги и капитал, на сущность отношений буржуазного
общества.
Толстой, широко используя разящую силу контраста,
не раз прибегал в своем трактате к параллельному
изображению исключительно тяжелой жизни трудящихся и
праздной жизни господ. Рассказав о шестнадцатилетней
проститутке и о смерти от голода тридцатилетней прачки,
описав нечеловеческие условия жизни и труда рабочих и
работниц фабрик, изготовляющих предметы роскоши,
писатель изображает вереницы карет, направляющихся на
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 254.
345
бал: господа веселятся! «Веселятся от 11 до б часов
утра, в самую глухую ночь, в то время, как с пустыми
желудками валяются люди по ночлежным домам и
некоторые умирают, как прачки». Женщины-работницы пре-.
ждевременно умирали от голода, от непосильного труда,
от крайних лишений, в то время как каждая госпожа
ездила на балы в 150-рублевом платье, каждая «носила
на своем оголенном теле ту избу, которая есть мечта
брата ее доброй горничной». *
Зимние «оргии богачей» сменялись летними, они
переезжали в деревню и предавались развлечениям, в то
время как одетые в рубище мужики изнемогали от
непосильной работы и даже восьмидесятилетние старухи
с «мертвым взглядом» трудились из последних сил.
Писатель характеризует поистине страшное положение
русского крестьянства, находившегося от постоянного
недоедания и сверхсильной работы на грани вымирания,
о чем наглядно свидетельствовали «заморыши-дети».
Но праздник богачей не может продолжаться вечно.
Терпение народа находится на грани истощения.
Неизбежен час возмездия, и писатель предвидит скорое
наступление его. «Рабочая революция с ужасами разрушений
и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже
лет 30».2 Эти строки примечательны своей глубокой
правдой и глубоким пониманием социальных
закономерностей. В 1856 году писатель обращался с письмом
к Блудову, в котором с тревогой сообщал о призраке
пугачевщины, нависшем над дворянством, но тогда реформа
1861 года явилась для дворянства одним из
«спасительных клапанов», теперь, спустя тридцать лет, этих
спасительных клапанов уже не осталось. «Давящие народ
классы... не имеют теперь в глазах нашего народа
никакого оправдания».3
Толстой подвергает беспощадной критике все
буржуазные науки — от политической экономии до
позитивной философии Копта за их апологию буржуазного
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25,
стр. 303—304.
3 Там же.
строя. Буржуазная наука оправдывает существующую
несправедливость, социальное зло, — утверждает
писатель, разумея под буржуа и иных владельцев
собственности; являются «апологией насилия» и
политическая экономия, и юридические науки, и различные
философские системы, «в особенности столь долго
царствующая теория Гегеля с его положением разумности
существующего». 1 Впрочем, в этом не было ничего
удивительного. Буржуазия охотно брала на свое вооружение
все, что в какой-то мере оправдывало ее паразитическое
существование, отвечало ее узкоэгоистическим интересам.
Когда Мальтус в конце XVIII века выступил со своим
людоедским трактатом о народонаселении, то, по
очевидной «легкомысленности и бездарности этого сочинения»,—
замечает Толстой, — казалось, что оно будет предано
забвению, по случилось наоборот: господствующие классы
«с восторгом» приветствовали «теорию» Мальтуса, ибо
она помогала им доказывать, что во всем виноваты сами
голодные рабочие. Продолжая критический обзор
буржуазных научных систем, Толстой писал: «В учении
Конта признано было научным то, что потакало
царствующему злу».2 Так до конца разоблачалась
апологетическая сущность буржуазной науки.
Весь трактат проникнут глубочайшей
антибуржуазностью. Писатель воюет за человека, за его гармоническое
развитие, он против уродующего разделения труда в
буржуазном обществе. Говоря о буржуазном прогрессе,
Толстой замечает, что все технические успехи не улучшили
положение рабочего, а, напротив, он попал «в состояние
совершенного рабства», капиталисты думают только
о том, как бы вытянуть из рабочего «последние жилы».
Писатель далее говорит, что ученые изобрели
телефоны, фонографы, торпеды, «а прялка, ткацкий станок
бабий, соха, топорище, цеп, грабли, ушат, журавец — всё
такие же, как были при Рюрике».3 И он был прав, потому
что для буржуазной науки характерна ее оторванность от
народа, ее однобокое, стихийно-рваческое развитие;
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 317.
2 Там же, стр. 338.
3 Там же, стр. 357.
34?
наука в буржуазном обществе целиком поставлена на
службу узкоэгоистическим интересам буржуазии, тогда
как подлинное «дело науки, — говорит писатель, —
служить народу». Буржуазные писатели, художники, ученые
далеки от парода, «забыли его образ жизни, его взгляд
на вещи, язык» и сам народ изучают «как какую-то
этнографическую редкость». {
С большим волнением Толстой рисует благородный
облик подлинного мыслителя и художника, который все
свое творчество, все свое вдохновение посвящает благу
людей. Труден удел таких созидателей нового, много мук
и страданий выпадает им на долю, но благородны цели,
воодушевляющие их творчество, ибо они выступают как
искатели счастья, как верные слуги народа. Поэтому
исключительно велика их роль в жизни всей нации.
«Страдание и самоотвержение всегда будет уделом
мыслителя и художника», потому что цель его есть благо
людей. Люди несчастны: страдают, гибнут. Ждать и
прохлаждаться некогда. Мыслитель и художник никогда не
будет сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли
воображать; он будет «всегда, вечно в тревоге и
волнении: он мог решить и сказать то, что дало бы благо
людям, избавило бы их от страдания», но он «не решил и не
сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет...
Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и
художников не бывает».2
Страстная защита прав человека на подлинное
счастье, борьба за гармоническое развитие всех его
способностей, за полное проявление его физической и духовной
природы пронизывают весь трактат Толстого. Для
писателя выше человека «ничего нет», а мерилом ценности
человека является его трудовая жизнь. И как
знаменательно, что он заканчивал книгу волнующим гимном в
честь женщины-матери. Правда, он ограничивал сферу
применения ее сил и способностей семьей, но сколько
теплоты, сколько глубокого, идущего от сердца уважения
писатель неизменно вкладывал в торжественное, волнующее
и неповторимое слово мать: «Да, женщины-матери, в ва-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 351.
2 Там же, стр. 373.
348
Шйх руках, больше чем в чьих-нибудь других, спасение
мира!» 1 Отвечая своим критикам, Толстой говорил, что
женщина, отказавшаяся от деторождения, вызывает
сожаление и скорбь потому, что она «могла бы родить то,
чему не может быть оценки, выше чего ничего нет, —
человека». 2
Думы о народе и его светлом будущем не покидают
писателя и в его статьях на религиозно-этические темы,
в которых обличается «ужасное учение церкви». В
«Критике догматического богословия» Толстой зло высмеивает
все священные догматы православной церкви,
поднимаясь к концу этого «исследования» до уничтожающего
сарказма:
«Православная церковь!
«Я теперь с этим словом не могу уже соединить
никакого другого понятия, как несколько нестриженых людей,
очень самоуверенных, заблудших и малообразованных,
в шелку и бархате, с панагиями брильянтовыми,
называемых архиереями и митрополитами, и тысячи других
нестриженых людей, находящихся в самой дикой, рабской
покорности у этих десятков, занятых тем, чтобы под
видом совершения каких-то таинств обманывать и обирать
народ».3 В официальную церковь перестают верить не
только образованные, но и простые люди, продолжающие
механически исполнять обряды, и скоро .наступит момент,
когда попы «будут поучать в жизни только друг друга».4
Резкие обличительные выступления писателя
встревожили лагерь церковников и реакционеров, на его
произведения посыпались цензурные кары. Толстой
справедливо указывал, что «согласия между обличителем и
обличаемым не может быть... Обличаемые спрятались за
цензуру и штыки и кричат». И доказательств этого
'писатель получил немало. Достаточно было ему дать
согласие принять участие в вечере памяти И. С. Тургенева,
который готовился Обществом любителей российской сло-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 411.
2 Там же, стр. 415. Выдержка из частного письма Ш поводу
возражений на статью «Женщинам».
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XI, стр. 305.
4 Там же.
349
как последовали распоряжения отложить вечер
«на неопределенное время», то есть фактически
запретить: боялись выступления Толстого — «от него следует
всего ожидать: он может наговорить невероятные вещи —
и скандал будет значительный»,1 — сообщалось в одном
донесении. Запрещая трактат «Так что же нам делать?»,
Победоносцев с иезуитской издевкой говорил С. А.
Толстой: «книга эта, при всем добром намерении автора...
произведет вредное действие на умы».2
Запрещались и другие произведения писателя, и
большинство из них приходилось печатать за границей.
Толстой в письме к Т. М. Бондареву хорошо раскрыл
причины цензурных гонений на свои произведения: «Пока я...
по шерсти гладил — все мои книжки хвалили и печатали,
и царь читал и хвалил; но как только я захотел...
показывать людям, что они живут не по закону, так все на
меня опрокинулись. Книжки мои «не пропускают и жгут,
и правительство считает меня врагом своим».3
Трактат Толстого «В чем моя вера?» A884),
насыщенный обличительными мотивами, направленными
против официальной церкви, также подвергся цензурным
преследованиям. В заключении Московского цензурного
комитета говорилось, что это произведение Толстого
«должно быть признано крайне вредной книгой, так как
подрывает основы общественных и государственных
учреждений и вконец рушит учение церкви».4 Разумеется,
последовало распоряжение о «безусловном запрещении»
крамольного произведения.
Все эти цензурные гонения, обрушившиеся на
писателя, красноречиво свидетельствовали о ярком
обличительном направлении его религиозно-философских и
публицистических статей и работ.
Но Толстой, беспощадно обличая ложь официальной
церкви, не отказывался от религии. Напротив, в
«Исповеди» и в трактате «В чем моя вера?», в народных рас-
1 «Былое», 1917, 4, стр. 153.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25,
стр. 758.
3 Там же, т. 63, стр. 333.
4 Дело Московского цензурного комитета 1884 года, № 22,
оп. стр. 75—76.
360
бказйх й в книге «О жизни» он обосновывает и излагает
свое религиозно-этическое учение, свою «новую» религию
или «очищенное» христианство, призванное, по его
мнению, спасти человечество от всех социальных бедствий,
уничтожить зло на земле и установить братское единение
людей.
Имея в виду именно этот период литературной
деятельности Толстого, Ленин в 1911 году в статье «Л. Н.
Толстой и его эпоха» писал: «Четверть века тому назад
критические элементы учения Толстого могли на
практике приносить иногда пользу некоторым слоям
населения вопреки реакционным и утопическим чертам
толстовства». 1 В этих словах Ленина — ключ к исторически
правильной оценке произведений Толстого 80-х годов, и
в частности его «народных рассказов».
Толстой на все лады популяризирует теорию
«непротивления злу насилием» как сущность и ядро своего
учения: «Положение о непротивлении злу есть
положение, связующее все учение в одно целое».2 Ленин
указывал, что у Толстого «Борьба с казенной церковью
совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, то
есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных
масс».3 В этом проявлялись «кричащие противоречия» в
мировоззрении писателя.
Толстой так и не ответил на коренной вопрос эпохи,
поставленный в самом названии своей центральной
публицистической работы 80-х годов — «Так что же нам
делать?», в названии, выдержанном в традициях передовой
русской литературы. Его советы следовать евангельским
заповедям, не лгать перед самим собой, признать себя
виноватым, содержать себя личным трудом могли иметь
значение в плане личного самоусовершенствования, но
не являлись ответом на социальный вопрос. Да Толстой
и не мог дать ответа, так как глубоко был убежден в том,
что подлинное обновление жизни можно осуществить
лишь на путях христианства. Он как будто только затем
и будил у читателя гнев против существующих порядков,
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 32.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XI, стр. 422.
3 В. И. Лени н. Сочинения, т4 16, стр. 295.
351
*ггобы потом направить его в тихое русло нравственного
самоусовершенствования, к умиротворяющему роднику
своей религиозно-этической философии.
В 80-е годы Толстой развернул колоссальную
деятельность по распространению своего учения среди
широких народных масс, причем в этих целях
использовались самые разнообразные средства. Толстой сам писал и
публицистические статьи и художественные
произведения, проникнутые духом учения; широко привлекалось
устно-поэтическое творчество разных народов, особенно
легенды; переводились и переделывались произведения
других писателей, дававшие возможность для их
религиозно-этического истолкования; составлялись
специальные сборники.
Пропагандистским центром толстовства являлось
специально созданное в конце 1884 года издательство
«Посредник» (изд. И. И. Горбунов-Посадов), выпускавшее
книги неслыханно большими тиражами и по доступной
для народного читателя цене. Для иллюстрирования
издаваемых книг приглашались лучшие художники, в том
числе Крамской, Репин, Савицкий, Ярошенко. За
сравнительно короткий срок (примерно за десять лет) это
издательство выпустило более 250 названий книг
художественных, научно-популярных, религиозно-философских,
и среди них 44 произведения Толстого. В «Посреднике»
печатались Чехов, Короленко, Гаршин, Лесков, Эртель,
Златовратский, Засодимский и другие русские писатели.
Цензура, разумеется, чинила всевозможные препятствия
изданиям «Посредника», особенно произведениям
Толстого. В этой связи у писателя появилась мысль
основать бесцензурный «Международный Посредник» в
Лейпциге, который призван был бы издавать на европейских
языках «все, что выработал дух человеческий во всех
областях, — такое, что доступно пониманию рабочих
трудящихся масс и что иепротивно нравственному учению
Христа: мудрость, история, поэзия, искусства».1 Такое
издательство не было создано, но сама по себе мысль об
его организации — выразительное свидетельство размаха
пропагандистских мероприятий Толстого, стремившегося
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 86, стр. 144.
Ь52
весь мир обратить в свою веру. Этим же целям он
подчинил и свою художественную работу.
Эстетические принципы «христианского» искусства
Толстой' довольно откровенно изложил в предисловии к
сборнику «Цветник». Говоря об отборе произведений для
этого сборника, он писал: «Мы избрали такие, какие мы
считаем согласными с учением Христа и потому считаем
добрыми и правдивыми». Писателям Толстой советовал
«описывать не правду того, что есть, а правду царствия
божия». 1
Так утверждалась религиозно-этическая
тенденциозность искусства, в угоду которой необходимо было
отказаться от правды жизни и описывать «правду»
иллюзорного «царствия божия». Сам Толстой, однако, не
смог реализовать эти задания в полноценных
художественных произведениях: нельзя было изобразить
средствами искусства то, чего не было, не изменяя реализму.
Он только декларировал необходимость «нового»
искусства, а когда пробовал создавать произведения в духе
этой «христианской» эстетики, то у него выходили лишь
худосочные притчи, которые спустя некоторое время не
удовлетворяли самого писателя. Тем не менее он верил
в целесообразность создания притч и использования
любого, даже фантастического материала, лишь бы он
служил целям его религиозно-этической пропаганды.
«Какие бы чудеса ни описывались, какие бы звери ни
разговаривали по-людски, какие бы ковры-самолеты ни
переносили людей, — и легенды, и притчи, и сказки
будут правда, если в них будет правда царствия божия».
Здесь и содержится оправдание его народных
рассказов.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XIX, стр. 189—190.
23 С. Бычков 353
ГЛАВА Д К € 51 Т A U
Народные рассказы, легенды и притчи Толстого
составляют как бы единый тематический комплекс, потому
что они все проникнуты его учением, все отличаются
религиозно-этической тенденциозностью, во всех с разными
вариациями утверждается мысль о необходимости доброй
жизни «по-божьи», о любви к ближнему, о христианском
всепрощении и раскаянии в своих грехах, проповедуется
теория «непротивления злу» и «нравственного
самоусовершенствования». Все они загружены евангельскими
текстами, сопровождаются или эпиграфами, или
моралистическими концовками тоже в духе проповеди религии по
«нравственному убеждению». Во многих рассказах
фигурируют благостные старички и старушки, являющие
собой воплощение жизненной мудрости.
Большинство народных рассказов по своей сюжетной
основе восходит к произведениям устно-поэтического
творчества народа и к памятникам древнерусской
литературы — прологам и патерикам. Так, на основе легенд,
рассказанных писателю олонецким сказителем В. П. Ще-
голенко, им написаны рассказы «Чем люди живы»,
«Два старика», «Три старца», «Корней Васильев».
И, наконец, все народные рассказы написаны в новой
стилевой манере: предельно просто и безыскусственно.
Этого писатель достигает -путем напряженной работы над
художественной формой и особенно языком своих новых
произведений. Так, сравнительно небольшой рассказ «Чем
люди живы», начатый в январе 1881 года, был закончен
только в августе, рассказ имел три полных редакции и
двенадцать вариантов начала. Толстой не жалел ни вре-
менй, ни сил для того, чтобы сделать свои рассказы
максимально доступными самым широким слоям народа.
Еще при подготовке «Азбуки» и «Новой Азбуки»
писатель осуществил огромную работу над языком своих
новых произведений, написанных для детей. Он
признавался, что, стремясь к простоте и ясности, к правдивости
и краткости, раз по десять переделывал свои рассказы.
Тогда же он высказал мысль: чтобы произведение было
понятно для читателя из народа, надо его «пропускать...
через цензуру дворников, извозчиков, черных кухарок». 1
В дальнейшем писатель продолжал все более глубоко
осваивать богатства русского народного языка. С. А.
Толстая в своем дневнике записала под 31 января 1881 года,
как Толстой минувшим летом совершал длительные
прогулки по киевскому шоссе, где встречал богомольцев и
подолгу беседовал с ними. «Считая свой язык русский, —
писала она, — далеко не хорошим и не полным, Лев
Николаевич поставил целью своей в это лето изучать язык
в народе. Он беседовал с богомольцами, странниками,
проезжими и все записывал в книжечку народные
слова, пословицы, мысли и выражения».2 Примерно к
этому времени относятся слова Страхова о Толстом: «Он
стал удивительно чувствовать красоту народного языка
и каждый день делает открытия 'новых слов и оборотов».3
Все эти новые явления в области поэтики и языка
Толстого явились прямым следствием пережитого им
«перелома» в мировоззрении: изменилась идейная позиция
писателя, а это вызвало появление нового читателя.
Толстой признавался: «Не могу писать с увлечением для
господ, их ничем не пробьешь: у них и философия, и
богословие, и эстетика, которыми они как латами
защищены от всякой истины, требующей следования ей...
А .если подумаю, что пишу для Афанасьев и даже для
Данил и Игнатов (яснополянские крестьяне. — С. Б.) и
их детей, то делается бодрость и хочется писать».4
Толстой и другим писателям говорил, что «обращаться
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 62, стр. 144
2 «Дневники С, А. Толстой», I, стр. 42—43.
3 «Русский вестник», 1901, № 1, стр. 138. Из письма к Н. Я.
Данилевскому от 23/IX—1879.
4 Из письма к дочери от 23/IX—1895.
* 365
исключительно к народу поучительно и здорово».1 Одному
начинающему литератору он советовал ориентироваться в
своем творчестве на пятидесятилетних хорошо грамотных
крестьян, которых он всегда теперь представляет себе
как воображаемых читателей. «Перед таким читателем
не станешь щеголять слогом, выражениями, не станешь
говорит пустого и лишнего, а будешь говорить ясно,
сжато и содержательно».2
Таким образом писатель настойчиво вырабатывал
особый стиль народных рассказов, отличительными
особенностями которого являются почти полное отсутствие
усложненного метафорического языка, максимально
упрощенный синтаксис. Длинные периоды прежних
произведений писателя сменились (в народных рассказах, и
только в них) предельно короткими фразами; широкое
внедрение народного разговорного языка, «мужицких»
слов и речений; не менее широкое использование
образной системы фольклора (сказочные зачины,
параллелизмы, моралистические концовки, введение «элемента
чудесного» и др.) и самих произведений фольклора
(пословицы, поговорки, легенды, сказки); отсутствие
развернутого пейзажа, интерьера и других компонентов,
свойственных стилю его художественных произведений до
«перелома»; и, наконец, полный отход от того
углубленного и напряженного психологического анализа, который
являлся наиболее характерной чертой художественного
метода Толстого. В произведениях другого жанра этой
поры, и в частности в романе «Воскресение», Толстой будет
продолжать развивать те черты стиля, которые сложились
в «Детстве», «Войне и мире», «Анне Карениной» и др.
Народные рассказы Толстого, предельно простые по
своей форме, были доступны самым широким народным
массам, а благодаря издательской деятельности
«Посредника» через широкую сеть книгонош они проникали в
самые глухие уголки России. Конечно, разные крестьяне
их воспринимали по-разному, тем не менее своей
религиозно-этической тенденциозностью, проповедью жизни
«по-божьи» большая часть рассказов наносила прямой и
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 63, стр. 2'85.
2 Там же, т. 64, стр. 40—41. Из письма к Ф. А. Желтову от
21(?)/IV—1887.
366
непосредственный вред делу окончательного
раскрепощения русского народа.
Только немногие рассказы будили сознание
читателей-крестьян, заставляли их задуматься над подлинными
причинами своего бедственного положения, воспитывали
у них гнев против существующих политических и
экономических порядков.
В ряде рассказов Толстой осуждает идею частной
собственности, обличает психологию жадных стяжателей.
Так, в рассказе «Много ли человеку земли нужно»
писатель в образе Пахома ярко запечатлел черты
«хозяйственного мужичка», его страсть приобретателя, его
необузданное желание как можно больше захватить земли:
«Помереть боится, а остановиться не может».
Заключительный эпизод рассказа не случайно разыгрался в
Башкирии: во-первых, этот край хорошо знал Толстой, а во-
вторых, и это главное, после реформы 1861 года
башкиры, вследствие усиления налогообложения, испытывали
крайнюю нужду и в больших количествах сдавали
общинную землю почти за бесценок; когда положением от
10 февраля 1869 года им была разрешена продажа
«свободных» земель, наступила полоса подлинного
расхищения лучших башкирских земель, которые скупались
помещиками, купцами и кулаками тысячами десятин по
очень низким ценам. Одним из таких жадных кулаков и
является герой рассказа Толстого. Таким образом, с
идеализацией богатых мужиков типа Дутлова из «Утра
помещика» уже покончено, писатель разглядел под их
кроткой личиной обличие хищников, которые ради
умножения собственности не щадят даже своей жизни.
В рассказе «Зерно с куриное яйцо», проникнутом
поэтизацией патриархальной старины, когда и люди были
крепче и здоровее и жизнь была лучше, потому что все
«жили по-божьи», также высказано отрицательное
отношение писателя к частной поземельной собственности.
Старик .при виде зерна необычайно крупных размеров
рассказывает, что в его время такой хлеб «везде раживался»,
и при этом замечает, что они «про деньги не знали» —
«земля вольная была. Своей землю не звали. Своим —
только свои труды называли». С появлением же частной
собственности на землю жизнь народа резко ухудшилась.
Старик неодобрительно говорит о современных поряд-
337
ках: «Перестали теперь люди своими трудами жить,
начали на чужие зариться».
Частная собственность калечит людей, они становятся
жестокими стяжателями, лишенными чувства
человечности. В рассказе «Два старика» «богатый мужик» не
милует бедняка, умирающего с голоду, а требует с него
денежный долг. В сущности и образ одного из
«стариков» — «богатого мужика» Ермилы, целиком
погруженного в свои хозяйственные заботы, также является
отрицательным.
В рассказе «Свечка» Толстой рисует нарастающий
гнев народа против господ и их «жестоких приказчиков».
Выразителем крестьянского протеста против
притеснителей выступает Василий, который зовет мужиков к
топору, к кровавой расправе с «злодеями», сосущими
народную кровь: «собаку бешеную убить надо, людей жа-
леючи... А мы хоть и пострадаем, так за людей. Нам
люди спасибо скажут». Здесь выражены глубоко
гуманистические идеалы революционно настроенных крестьян.
Но Толстой, признавая правоту крестьянского протеста
против угнетателей и всякого рода кровопийц, сидевших
на шее народа, в целом отрицательно относился к методу
насильственной борьбы с ними. Поэтому Василию с его
призывом к борьбе в рассказе противопоставлен
«смирный» мужик Петр Михеев, который говорит о «грехе»
убийства и проповедует терпение. И мужики «разбились
мыслями». Не было в их среде единства: часть была на
стороне Василия, часть — на стороне Петра. В конечном
счете верх берет непротивленец Петр. Это он,
«праведный» мужичок, живущий «по-божьи», при помощи
«свечки» и «воскресных стихов» побеждает «злодея». Так
Толстой разрешает конфликт в угоду своей реакционной
теории «непротивления злу насилием».
Наиболее ярко типичные черты мировоззрения
писателя воплощены в «Сказке об Иване-дураке». Сюжетная
основа «Сказки» восходит к народным сказкам о трех
братьях, из которых два умных, а третий дурак, но в
конечном счете простачок Иван оказывается умнее и
смекалистее своих старших братьев. Однако этими
элементами сюжетной схемы и ограничивается сходство
«Сказки» Толстого с фольклорным произведением. По
своей проблематике «Сказка» Толстого является глубоко
358
оригинальной. Обличительный характер ее очевиден: в
Семене-Воине писатель сатирически заклеймил
жестокость милитаризма, его грабительский характер.
«Хорошие порядки» в царстве Семена выражались в том, что
его все «боялись». «Пошлет солдат, а те отберут и привезут
все, что ему нужно». В образе Тараса-Брюхана
запечатлены типические черты капитализма. Описание «хороших
порядков» в царстве Тараса звучит как гневный памфлет
на все экономические и политические порядки
самодержавной капиталистической России, как решительный
протест против грабительской налоговой политики
царизма, когда народ при помощи прямых и косвенных
налогов и поборов обдирали как липку. «Завел он у себя
в царстве порядки хорошие, — с глубокой иронией
пишет Толстой. — Деньги держал он у себя в сундуках, а
с народу взыскивал деньги. Взыскивал он деньги и с души,
и с водки, и с пива, и со свадьбы, и с похорон, и с
проходу, и с проезду, и с лаптей, и с онуч, и с оборок... И что
ни вздумает, все у него есть».
Следует иметь в виду, что и Семен и Тарас были
царями, так что политический характер «Сказки» и ее
адресат — самодержавие — были совершенно очевидны.
В этом сравнительно быстро разобралась царская
цензура, которая, разрешая в апреле 1886 года печатать
«Сказку», сняла наиболее резкие обличительные строки
о милитаризме и налогах, а затем, в феврале 1887 года
после второго издания, совсем запретила ее. Член
духовной цензуры архимандрит Тихон заявлял: «Сказка об
Иване-дураке» проводит, можно сказать, принципиально
мысли о возможности быть царству без войны, без
денег, без науки, без купли и продажи, даже без царя,
который по крайней мере ничем не должен отличаться от
мужика, — мысли о единственно полезном и законном
труде — мозольном. Здесь, в этой сказке, прямо
осмеиваются современные условия жизни: политические
(необходимость содержать войска), экономические (значение
денег) и социальные (значение умственного труда)».1
Однако в «Сказке» нашли свое отражение не только
сильные, но и слабые стороны мировоззрения писателя.
В описании порядков в царстве Ивана-дурака Толстой
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 25, стр. 717.
359
выразил свой идеал патриархальной жизни, когда люди
заняты исключительно физическим трудом и где без
мозолей на руках не сажали за стол. В патриархальном
царстве Ивана существовал натуральный обмен,
подати и налоги не взимались, поэтому там не нужны были
деньги. Иван не имел и войска, а когда в его царство
вторгся тараканский царь, «дураки» ответили
непротивлением: «Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и
все войско разбежалось». Реакционность теории
«непротивления злу насилием» здесь раскрывается с особой
очевидностью.
«Сказке» Толстого присуши все поэтические
аксессуары этого жанра: здесь и элементы фантастики —
чудесный всеисцеляющий «корешок-тройчатка», чудесное
превращение снопа соломы в солдат и столь же
чудесное лущение золота из дубовых листьев — и элементы
фантастики—участие в действии чертенят и дьявола.
В «Сказке» все это могло быть оправдано особенностями
жанра, но фантастика и даже мистика широко
использовались Толстым и в других народных рассказах. В
рассказах «Чем люди живы», «Два брата и золото», «Где
любовь, там и бог», «Вражье лепко, а божье крепко»,
«Три старца», «Крестник» участвуют ангелы, виденья,
черти, дьяволы, раздаются таинственные голоса,
совершаются чудесные переходы по воде, прорастают
обгоревшие головешки. Все это создавало совершенно особый,
не свойственный другим произведениям писателя
фантастический колорит в этих рассказах. Но этот «элемент
чудесного» не был случайным и искусственным
привеском в рассказах, а играл роль наглядных доказательств
религиозно-этических идей писателя, полагавшего, что с
крестьянами, которым были присущи еще многие
суеверия, доступнее всего говорить на языке суеверий: скорее
поймут. Но это было одним из заблуждений писателя.
Еще критик Н. К. Михайловский, усматривая в образной
специфике народных рассказов не простую случайность,
а «целую систему, обдуманный план действия»,
справедливо упрекал Толстого в том, что он намеренно
внедрял в сознание народных масс «всякую чертовщину»,
сеял среди них «суеверия и предрассудки».1
1 «Л. Н. Толстой в русской критике», М, 1952, стр. 301—303.
360
Однако в рассказах Толстого нередко рядом с
фантастическими образами шли яркие бытовые картины,
выхваченные из самой гущи крестьянской жизни. И даже
в тех из них, которые были основаны на легенде, немало
подлинно реалистических образов.
Так, в рассказе «Чем люди живы» глубоко
реалистически нарисованы образы сапожника и его жены
Матрены. Пафосом обличения проникнут образ барина: «Встал
Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал
он людей таких. Сам Семен поджарый, и Михаила
худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот как
с другого света человек: морда красная, налитая, шея
как у быка, весь как из чугуна вылит... Ножища в икре
как бревно толстая». В рассказе «Два старика» Толстой
сохраняет характерную бытовую деталь с яркой
юмористической окраской. Когда в доме, где побывал Елисей,
помогая голодающим, заговорили о нем с большой
благодарностью, сравнили его с ангелом, мальчик со
свойственным ему простодушием высказал свое недоумение:
«Как же... бабушка, он табак нюхал, да и плешивый
был! Разве ангелы плешивые бывают!» В одном из писем
Толстому В. Г. Чертков рассказывал, как он в своей
деревне Мизиновке читал крестьянам отдельные
рассказы писателя и, в частности, «Два старика» и
«Упустишь огонь, не потушишь» и как при чтении последнего
рассказа много смеялись над ссорой из-за курицы.
«Оказалось, что именно из-за яиц в нашей деревне завелась
какая-то вражда и что судились и все прочее по этому
поводу. Они сначала подумали, что книжка на это и
написана».
Иногда, правда, все попытки Толстого «одеть
реальными подробностями» свои религиозно-этические идеи
кончались провалом. Так произошло с повестью из
времен древних христиан «Ходите в свете, пока есть свет».
Эта повесть не лишена историзма, особенно в ярких
обличительных картинах развращенной жизни языческого
Рима, которые в 80-е годы прошлого столетия
воспринимались злободневно, потому что были выписаны как
очевидная параллель к развращенным нравам
господствующих классов буржуазного общества. Но само обличение
велось с позиций религиозно-христианской этики.
Повесть была проникнута идеализацией христианства, в ней
361
широко пропагандировались мысли о жизни, основанной
на предписаниях евангелия; но свою проповедь писатель
не смог, несмотря на все старания, облечь в
выразительные художественные формы. Сам Толстой говорил, что в
этой повести «мало очень так называемого
художественного, но очень много о противоположности мирской и
христианской жизни». 1
Толстой в целях религиозно-этической пропаганды
использовал произведения других авторов, которые
содержали родственные ему идеи и давали, таким образом,
основание для развертывания сюжета в нужном ему
направлении. Рассмотрим несколько примеров.
В 1840 году Н. И. Костомаров написал легенду
«Сорок лет», состоящую из тринадцати глав. Легенда
появилась в 1881 году и привлекла внимание Толстого. «На
меня эта история производит ужасающее впечатление, —
писал он Черткову. — И м'не кажется, что такое же она
должна производить на всякого простого русского
человека». 2 В легенде Костомарова рассказано, как убийца
купца Трофим Яшпик разбогател, стал всеми почитаемым
человеком и, несмотря па пророчество о наказании через
сорок лет, спокойно умер миллионером. Толстой к этой
легенде написал свое окончание — четырнадцатую главу,
в которой развил некоторые мысли о неизбежном
возмездии и дал свое религиозное истолкование.«преступления»
и «наказания» «богача-золотопромышленника». Яшник
после «преступления» приходит к мысли: нет суда, нет
наказания!.. Борьба за существование: вот закон! И
именно потому, что «он потерял в себе бога», утверждает
Толстой, он жил много лет в неописуемых нравственных
страданиях, в постоянном страхе, никому не мог доверять и
на всех смотрел как на своих врагов. «Страх убийства,
отравления, обмана, самых страшных преступлений в
своей семье и между своими домочадцами не оставлял
его. Он подозревал всякого человека во всех самых
ужасных замыслах, и боялся, и ненавидел всякого человека,
и жену, и сына, и дочь, и всех людей».3 В этом и заклю-
1 См. Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 26,
стр. 738.
2 Там же, т. 85, стр. 317.
3 Там же, т. 26, стр. 117.
362
чалось его «наказание», развитое Толстым и
отсутствовавшее в легенде Костомарова.
Характерно использование Толстым ряда новелл
Мопассана. Известен остро обличительный рассказ Толстого
«Дорого стоит». Это перевод отрывка из очерков
путешествия Мопассана, составивших цикл «На воде». Очерк,
выбранный Толстым, в сущности является целой
новеллой, рассказывающей об убийце из Монако и его
наказании. Мопассан восхвалял «доброго, миролюбивого
монарха» Монако, который, «не боясь вражеских вторжений
и революций, спокойно царствует, управляя своим
счастливым маленьким народом».1 Он умилялся тем, что в
княжестве проявляется «великолепная терпимость к
человеческим порокам».2 Такова собственно- идейная
позиция французского автора, с которой он освещал частную
историю с «негодяем» из Монако.
Толстой, следуя дневниковой записи Мопассана в
деталях и фактах, создает резко обличительный рассказ,
направленный против насилия над человеком, зло
высмеивает монакского «царька», игравшего роль «настоящего»
короля. Все описание Толстого проникнуто беспощадной
иронией. Здесь и указание па то, что Монако «маленькое,
крошечное царство», «но царек в царстве есть
настоящий... Немного войска, «сего 60 человек, но все-таки
войско... Налог есть, как и везде... Так и живет этот царек,
царствует, денежки огребает и ведет у себя во дворце все
порядки, как у настоящих больших королей. Так же
коронуется, и выходы делает, и награды раздает, и казнит, и
милует, и так же у него парады, и советы, и законы, и
суды. Все как и у настоящих королей. Одно — что все
маленькое».3 Это «одно —что все маленькое» с
наибольшей силой выражает убийственную иронию писателя над
порядками монакского княжества и его «царьком».
Думается, что и слово «царек» введено не зря, а с той
целью, чтобы придать обличению более широкий смысл
и показать, что в княжестве Монако как в зеркале отра-
1 Г и д е Мопассан. Полное собрание сочинений, т. X, М.,
1947, стр. 223.
2 Там же.
3 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 259,
260.
363
жаются политические и государственные порядки
больших буржуазных государств, что и туда проникло
насилие над человеком, только там оно по бедности
княжества не вооружено новейшими техническими средствами
угнетения и истребления людей.
Мопассан писал о монакском князе: «Это отнюдь не
кровожадный и не мстительный монарх».1 А Толстого
это совершенно не интересует: он знает, что все монархи
кровожадны и мстительны, отдельные исключения ничего
не меняют в общей характеристике насильников народа.
Если Мопассан, сообщив о том, что «муж в минуту гнева
убил жену», далее в спокойной манере излагает ход
последующих событий, то Толстой и здесь с глубокой
иронией изображает суд, адвокатов, растерянность «царька».
Заканчивает рассказ Толстой тоже по-своему, его
заключительные строки, направленные в адрес всех крупных
государств и их правителей, придают рассказу более
широкий смысл. Поведав о счастливой судьбе преступника,
получившего пенсию, Толстой пишет: «Хорошо, что грех
случился с ним не там, где не жалеют расходов ни на то,
чтобы отрубить голову человеку, ни на вечные тюрьмы».2
Толстой назвал свой рассказ «былью», вероятно,
потому, что у Мопассана сказано: «В судейских архивах
княжества можно найти постановление, определяющее
размер пенсии этому негодяю и обязывающее его
покинуть монакскую территорию».3 Характерно, что Толстой
совсем не употребляет слово «негодяй» в применении к
преступнику, — пафос его обличения направлен против
насилия, против «царька» как символа буржуазных
порядков, а не против преступника.
Известен также и своеобразный толстовский
перевод-переосмысление новеллы Мопассана «В порту»,
получивший у русского писателя название «Франсуаза».
Сохраняя сюжетную основу новеллы Мопассана, Толстой
освобождает ее от некоторых натуралистических
подробностей и привносит в нее свой морально-этический пафос,
который особенно ярко проявляется в заключительных
1 Г и де Мопассан. Полное собрание сочинений, т. X,
стр. 22Э.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 262.
3Ги де Мопассан. Полное собрание сочинений, т. X,
стр. 227.
364
строках новеллы. У Мопассана новелла заканчивается
тем, что Селестина в состоянии крайнего отчаяния моряки
уносят в номер его сестры Франсуазы. И она просидела
до самого утра на стуле возле преступного ложа, плача
так же горько, как и он. Толстой вносит в окончание
новеллы свои религиозно-этические идеи. На приглашение
одного матроса пойти опять наверх, в комнаты, что для
Селестина звучало особенно кощунственно, потому что
он узнал, что Франсуаза его сестра, Селестин не ответил,
а подошел, разъединил матроса с девкой и сказал:
«Прочь! разве не видишь, она сестра тебе! Все они кому-
нибудь да сестры».
В этом же направлении шли своеобразные толстовские
«переделки» произведений и других русских и
иностранных писателей. Всюду Толстой вносил такие штрихи и
детали, которые освещали важнейшие вопросы жизни в
свете его учения.
ГЛАВА О Д И II II А Д Ц А Т А II
Новый император Александр III ввел в стране режим
жесточайшей реакции. Революционная ситуация, сложив-
шаясй в 1879—1880 годах, не перешла в революцию.
«Второй раз, после освобождения крестьян, волна
революционного прибоя была отбита, и либеральное движение
вслед за этим и вследствие этого второй раз сменилось
реакцией...» 1
Царь окружил себя махровыми реакционерами, среди
которых по своему изуверству и диким преследованиям
всего передового и прогрессивного особенно выделялись
фанатично преданный самодержавию К. П.
Победоносцев и представитель «зверской реакции», министр
внутренних дел Д. А. Толстой. Под их руководством
происходил коренной пересмотр и без того куцых буржуазных
реформ 60-х годов с целью исправления «роковых
ошибок», якобы допущенных тогда. Всюду — в области
крестьянского законодательства и финансов, в вопросах суда
и просвещения — торжествовала реакция. Снискавший
себе позорную славу министр просвещения Делянов издал
скандальный циркуляр, получивший название циркуляра
«о кухаркиных детях», которым запрещалось принимать
в гимназию «детей кучеров, поваров, прачек, мелких
лавочников и т. п.».
В деревне после реформы 1861 года, открывшей
дорогу капиталистическому развитию страны, шел процесс
классового расслоения, патриархальная крестьянская
семья быстро распадалась. Количество семейных разделов
366
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 41.
G каждым годом возрастало и в начале 80-х годов
достигло огромной ежегодной цифры в 150 тысяч. Сотни
тысяч крестьян покидали свои скудные наделы и уходили
в город. Но царизм как раз стремился опереться на
прочные патриархальные основы в деревне. С этой целью
специальными законами регламентировались условия
семейных разделов, семьи фактически подчинялись «главенству
старшего члена», крестьяне прикреплялись к своим
жалким наделам.
Все это дополнительно усложняло и утяжеляло жизнь
русской деревни, и без того запутанную и тяжелую.
Полумеры царизма и его ретроградные тенденции делали
положение крестьян поистине отчаянным. Толстой с болью
видел, как проникающий в деревню капитализм
расшатывал и разрушал дорогие ему нравственные устои, как
вместе с деньгами вносился в деревню нравственный разврат,
разложение, изуверские методы насилия.
Вместе с тем бурно развивавшаяся городская жизнь
обнажала все язвы буржуазного прогресса, цинизм и
разложение «просвещенной» правящей верхушки, черты
декадентства и мистицизма буржуазной культуры.
Толстой, который к этому времени уже окончательно
перешел на позиции патриархального крестьянства и
разделял его и протест и отчаяние, с тем большей яростью
нападал на мистическое кривляние дворянства и
появившихся людей «со стеклышком» в глазу, показав, что
«просвещение», которое нес капиталистический город в
деревню в виде денег, разврата, стяжательства, губит
человека, а господствующая паразитическая верхушка
духовно разлагается все больше и больше.
Свою ненависть и свою проповедь Толстой выразил не
только в публицистике и народных рассказах. К 80-м
годам относится расцвет драматургического творчества
Толстого. Для народного театра он пишет драму
«Скоморох», в 1886 году создает одно из сильнейших своих
произведений «Власть тьмы», а в 1890 году заканчивает
•много раз переделывавшуюся пьесу «Плоды
просвещения». В пьесах со свойственной в этот период
Толстому особой остротой решаются вопросы о судьбах
крестьянства, об отношениях между барином и мужиком,
о спасении крестьянства от вековой давящей его «власти
тьмы» и от ядовитых «плодов просвещения» буржуазной
367
культуры. В двух последних пьесах Толстой предлагает
и свои пути нравственно-этического исправления зла.
Выбор драматургической формы Толстым был не
случаен — он учитывал особую силу ее эмоционального
воздействия. Многочисленные драматургические замыслы его
в прошлом нельзя назвать удавшимися. Теперь, в
переломную эпоху, своего идейного развития, и именно на теме
крестьянской жизни, Толстому удается создать свои
драматургические шедевры. Проповеднические мотивы
Толстого, конечно, снижают социально-политический пафос
его пьес, но эти мотивы оказываются здесь связанными
и с сильными сторонами его творчества. Толстой говорил
от лица миллионов крестьян. Он выступил глубоким
новатором в русской драматургии, как в постановке темы
крестьянской жизни, так и в ее оригинальной, не
узкокастовой трактовке. Толстой внес много нового в самое
сюжетосложение, стиль и язык русской драмы.
Реакционная буржуазная критика, по указке злейшего
врага Толстого Победоносцева, много писала о
«несценичности» пьес Толстого, якобы полных преувеличений,
о сгущении в них красок. Ей, конечно, и дела не было до
новаторства пьес Толстого. Она пыталась просто
дискредитировать автора в глазах публики, поскольку не
удавалось окончательно запретить его драмы. В позднейшее
время вульгарные социологи односторонне выпячивали
проповеднические мотивы в пьесах Толстого, пытались
зачеркнуть все имеющееся в них великое, критическое,
направленное против самодержавия и «капитализма, и
объявляли драматургию Толстого якобы не актуальной и
чуждой советскому зрителю.
Между тем накануне первой русской революции и
позднее спектакли пьес Толстого всегда вызывали
шумные манифестации в театрах. Пьесы переиздавались и
читались. В наше время советские люди высоко ценят
драматургическое наследие Толстого. Его пьесы стали
экранизироваться в кино и получили признание
миллионов зрителей.
Драматургическое новаторство Толстого следует
рассматривать в тесной связи с традициями русской
классической драматургии и творчеством самого Толстого в
целом. Толстому было свойственно сознание своего
новаторского почина в области драматургии.
368
Толстой глубоко знал и чувствовал традиции
Грибоедова и Гоголя. Он высоко ценил диалог Гоголя. Работая
над восьмой редакцией «Плодов просвещения», Толстой
записал в дневнике 21 января 1890 года: «Поправлял
комедию, читал... Странное дело эта забота о
совершенстве формы, Не даром она. Но не даром тогда, когда
содержание доброе. — Напиши Гоголь свою комедию
грубо, слабо, ее бы не читали и одна миллионная тех,
которые читали ее теперь. Надо заострить
художественное произведение, чтобы оно проникло. Заострить и
значит сделать ее совершенной художественно — тогда она
пройдет через равнодушие и повторением возьмет свое».1
У Толстого были свои, отличные от Гоголя, гротескные
приемы, но после перелома в своем мировоззрении
Толстой все чаще начинает работать именно
гротескными приемами. И в этих своих «заострениях»
образов Толстой опирался на опыт автора «Ревизора».
Толстой вслед за Гоголем считал, что театр — «это такая
кафедра, с которой читается разом целой толпе живой
урок».
Особенно близким к себе считал Толстой А. Н.
Островского, с которым сошелся на «ты» еще в кружке
«Современника» в приезд в Петербург из-под Севастополя.
Создатель русского национального театра, Островский
нелицеприятно высказал Толстому свое отрицательное
мнение о его пьесе «Зараженное семейство». Толстой
ценил мнение и советы Островского и восхищался его
творениями. «Он мне нравился, — говорил в 1906 г. Толстой
об Островском, — своей простотой, русским складом
жизни, серьезностью и большим дарованием. Он был
самобытный, оригинальный человек, ни у кого не
заискивал, даже и в литературном мире».2 Толстой с восторгом
отзывался о «Доходном месте» Островского. Он писал
Боткину под живым впечатлением от пьесы: «Так же, как
и в «Банкруте» (первоначальное название «Свои люди
сочтемся». — С. Б.)} слышится этот сильный протест
против современного быта; и как там этот быт выразился
в молодом приказчике, как в «Горе от ума» в Фамусове,
так здесь в старом взяточнике, секретаре Юсове. — Эго
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 13.
2 Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым, М., 1912, стр. 165.
24 С. Бьчквв 369
лицо восхитительно. Вся комедия — чудо. Островский не
шутя гениальный драматический писатель». 1
Правда, последующая эволюция Толстого несколько
поохладила его отношения с Островским. Великий
драматург не разделял «антинигилистические» и
непротивленческие тенденции Толстого, Толстому же не нравилось
резонерство Жадова в «Доходном месте», исторические
драмы Островского и пр.
Но в период интенсивного своего участия в
издательстве «Посредник» Толстой обратился к своему
старинному приятелю с письмом, которое, однако, уже не
застало его в живых. Это письмо содержало предложение
Островскому участвовать в издательстве «Посредник». «Из
всех русских писателей, — писал Толстой, — ни один не
подходит ближе тебя к этим требованиям, и потому мы
просим тебя разрешить печатание твоих сочинений в
нашем издании и писать для этого издания, если бог тебе
это положит на сердце... Я по опыту знаю, как читаются,
слушаются и запоминаются твои вещи народом, и потому
мне хотелось бы содействовать тому, чтобы ты стал
теперь в действительности тем, что ты есть, несомненно
общенародным в самом широком смысле писателем».2
Многие из мотивов любимой Толстым драмы
Островского «Не так живи, как хочется» созвучны «Власти
тьмы». Артист А. А. Стахович мастерским чтением
Островского «расшевелил» Толстого, по собственному его
признанию, к написанию драмы «Власть тьмы».
И вместе с тем в драматургии Толстого чувствуется
сильное творческое «отталкивание» от традиций именно
Островского. Исследуя, как и Островский, «темное
царство» российской действительности, Толстой обращает
внимание на крестьянскую тематику, мимо которой почти
целиком прошел Островский. Толстой затрагивает самый
острый, коренной конфликт русской пореформенной
жизни: поземельные отношения между крестьянами и
помещиками.
Нельзя сказать, что до Толстого не изображалось
крестьянство в драматургии. Во второй половине 50-х
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 60, стр. 156.
2 Там же. т. 63, стр. 361.— Письмо от 22?/V — 1886 г.
370
й В середине 60-х годов пользовались успехом драмы из
«народной жизни»: А. А. Потехина A829—1908): «Суд
людской — не божий», «Шуба овечья — душа человечья»,
«Чужое добро в прок не идет» и др. Но успех пьес
Потехина — чисто конъюнктурный. Широкое сочувствие к
крестьянским массам, характерное для передовых слоев
русского общества в эту эпоху, Потехиным низводится до
сентиментальной чувствительности с пропагандой
домостроевских начал крестьянской жизни, благополучных
развязок в духе классового мира между мужиками и
барином. Потехин не раскрыл затронутую им тему как
политическую, как социальную.
Значительнейшим предшественником Толстого был
А. Ф. Писемский A821 —1881), автор знаменитой в свое
время драмы из народной жизни «Горькая судьбина»,
написанной им в 1859 году. Пьеса подвергалась цензурным
гонениям и впервые была поставлена на сцене
Александрийского театра в 1863 году. Скоро она была сыграна в
Москве и обошла сцены провинциальных театров. В
исполнении ролей этой пьесы отличились известные и
знаменитые артисты: П. А. Стрепетова (Лизавета), П.
А.Васильев (Ананий), СВ. Шумский (Чеглсв), П. М.
Садовский (Ананий) и др.
Эта талантливая, очень нравившаяся Толстому пьеса
написана действительно народным языком, с передачей
всего колорита деревенской жизни, с яркой
индивидуальной характеристикой каждого персонажа. Многие
мотивы — в том числе убийство ребенка и заключительная
сцена покаяния убийцы — роднят ее с «Властью тьмы»
Толстого.
Прямо по-толстовски, с сарказмом, выписана сцена
циничного разговора «по-родственному» Золотилова с
молодым помещиком Чегловым, соблазнителем
крестьянской жены Лизаветы, на тему, что порок и что не порок с
точки зрения «просвещенного» дворянского круга. Золоти-
лов успокаивает растревоженную совесть Чеглова:
«...подобные чувства могут внушать только женщины, равные
нам, которые смотрят одинаково с нами на вещи,
которые, наконец, могут понимать, что мы говорим. А тут что?
Как и чем какая-нибудь крестьянская баба могла
наполнить твое сердце?..» В ответ на реплику: «...муж теперь
пришел!» Золотилов говорит: «Ну и узнает; и очень еще,
вероятно, будет доволен, что господин приласкал его
супругу». В ответ следует чисто толстовская
обличительная фраза: «Это вы бываете довольны, когда у вас берут
жен, кто повыше, а не мужики». Но Золотилов и не
собирается опровергать такой выпад против нравов
благородного российского дворянства, он только добавляет:
«Имей их хоть двадцать, но только смотри на это иначе...
И чтоб успокоить тебя, — продолжает он с развязностью,—
я приведу свой собственный даже пример, хоть это и
будет не совсем скромно... Я вот женатый человек и в
летах, а, может быть, в этом отношении тоже не без греха;
однако через это ни семейное счастье наше с твоей
сестрой не расстроено, ни я, благодаря бога, не похудел, не
спился, и так-то вот еще на днях такого рода особа
вздумала перед женой нос вздернуть — я ее сейчас же
ограничил: знай сверчок свой шесток!»
С толстовской пьесой сближает «Горькую судьбину» и
отрицательное отношение автора к влиянию города на
оброчных крестьян. У простого, честного мужика Анания
появляются ужимки, неестественные обороты речи: он
стал звать жену на вы и даже в третьем лице
множественного числа, к словам стал прибавлять приказчичье-
купеческое «с», с презрением начинает поговаривать о
своем брате — мужике-деревенщине, не бывавшем в
Питере и свету не видавшем. Ананий промышлял
торговлишкой и уж мечтает открыть свою лавчонку. Легким
штрихом проходит намек на какие-то любовные шашни
Анания в большом и развращенном Петербурге. «Муж глава
своей жены!.. — поучает он, — это не любовница кнкая-
нибудь: коли хороша, так и ладно, а нет, так и по шее
прогнал». Разврат господ вроде Золотилова отравил
душу и честного крестьянина. Ананий, как человек «при
деньгах», сильно очерствел душой: он помышлял было и
Лизавету забрать с собой в город, по мотивам: «чем
чужую кухарку нанимать, так лучше своя будет». «Эти
проклятые деньги» в минуту покаяния он велит отдать
попу на помин своей души и души убиенного...
Однако обличительная сила пьесы Писемского
значительно ослабляется от разного рода привходящих
мотивов, идеализации, к которым прибегает автор в
соответствии с общими недостатками своего мировоззрения.
Соблазнитель Лизаветы барин Чеглов, оказывается, во-
372
все не соблазнитель, а чистый и благородный барин,
который искренне влюбился в свою поселянку и страшно
мучается от того, что принес ей неисчислимое горе. Он
не может расстаться с ней даже тогда, когда приехал
ее муж, и в объяснении с ним напрямик чуть ли не
предлагает ехМу дуэль... На это Ананий, впрочем, резонно
ответил: «наша кровь супротив господской ничего не
стоящая, и мы наказание только потерпеть за то можем».
И Лизавета, оказывается, давно и искренне любила
барина и замуж пошла силком. Все это снижает
социальное звучание всей пьесы. Ананий выступает деспотом «по
натуре», совершает преступление «в азарте», и Лизавета
оказывается жертвой не барина, а собственного мужа...
Ананий добровольно приходит к властям и отдается на
Милость правосудия... Концовка еще и потому кажется
искусственной, что перед этим Писемский великолепно,
прямо по-толстовски показал, что это за правосудие.
Исправник и стряпчий тут же на глазах берут крупную
взятку, подсунутую им бурмистром; чиновник особых
поручений кричит на свидетелей и отбирает пристрастные
показания. Писемский характеризует его следующей
выразительной ремаркой: «Молодой человек с выдающеюся
вперед челюстью, в франтоватом вицмундире, с длинными
красивыми ногтями и вообще, как видно, господин из
честолюбивых, но не из умных». Таких именно судейских
встречаем мы у Толстого в «Живом трупе» и
«Воскресении». Любопытно, что, как и драмы Толстого, сюжет
«Горькой судьбины» основан на подлинном житейском
происшествии.
Поэтому именно Толстой, и никто другой до него,
со свойственной ему силой таланта ввел крестьянскую
тему в русскую драматургию. Она уже давно была
поставлена в его творчестве, в его повестях и романах;
Толстой решает ее теперь,- в переломный момент русской
жизни и своего идейного развития, в драматургии. Он
освещает крестьянскую жизнь с позиций самого
крестьянства, выражая при этом его стихийный протест
против зла и его иллюзии насчет путей спасения от
этого зла.
Александр III, ознакомившись с «Властью тьмы»,
заявил Победоносцеву: «Мое мнение и убеждение, что эту
драму на сцене давать невозможно, она слишком реальна
373
и ужасна по сюжету». «Власть тьмы» было разрешено
ставить на профессиональной сцене только в 1895 году.
В основу «ужасного» сюжета драмы легли вполне
реальные события, происшедшие в деревне Сидоровке,
Чернского уезда, Тульской губернии, где крестьянин
Ефрем Колосов, так же как и Никита во «Власти тьмы»,
кается перед народом в совершенных им преступлениях:
он имел от падчерицы ребенка и задавил его в погребе
доской. Покаяние происходило в тот момент, когда
падчерица уехала в церковь венчаться. Эта драматическая
история произошла 18 января 1880 года и стала известна
Толстому по рассказу прокурора тульского окружного
суда Н. В. Давыдова, разбиравшего дело Колоскова. С
Колосковым писатель встречался в тюрьме. Сам Толстой
впоследствии говорил: «Фабула «Власти тьмы» почти
целиком взята мною из подлинного уголовного дела,
рассматривавшегося в тульском суде... В деле имелось
именно такое же, какое приведено во «Власти тьмы», убийство
ребенка, прижитого от падчерицы, причем виновник
убийства точно так же каялся всенародно на свадьбе этой
падчерицы... Отравление мужа было придумано мною, но
даже главные фигуры навеяны действительным
происшествием». 1
Когда погружаешься в атмосферу этой драмы, густой
непроницаемый мрак окутывает тебя с ног до головы,
как будто заходишь в какой-то темный, замшелый чулан,
где нет свежего воздуха и куда целую вечность не
заглядывали лучи солнца. Тяжело становится на сердце и
страшно за человека.
Толстой в своей драме изображает пореформенную
деревню, куда широко проникали деньги — спутник
капиталистического развития страны. Патриархальные
отношения в деревне рушились. Умирает Петр — типический
представитель патриархальной деревни, рачительный
хозяин, делавший все собственными руками и не знавший
иного употребления лишним деньгами, кроме сбережения
их в кубышке. Заступивший его место Никита человек
иного склада. Он знаком с городскими условиями жизни.
Поэтому деньги, накопленные Петром, он сразу же кла-
1 Н. Р а к ш и н. Беседа с гр. Л. Н. Толстым (Впечатления)
«Новости и биржевая газета», 1896, № 9-
374
дЬу в банк и живет на проценты. Это представитель
ростовщического капитала. Никита не стремится принять
личйое участие в хозяйстве: деньги есть, можно нанять
работников. Деньги приобретали все большее значение в
жизни деревни. Матрена поучает Никиту: «Ты заграбь
денежки-то», «Деньги... всему делу голова», и Никита
с ней соглашается: «Денежки всем нужны». И даже
богобоязненный Аким не может уклониться от разговора
о банках и ростовщическом капитале, осуждая их
грабительский характер: «Скверность это, значит, не по
закону это». Но его слабовольный сын Никита полностью
ушел в «банковские» операции, его притянули к себе
деньги и погубили.
Вдохновительницей и главной пружиной всех
преступных злодеяний является Матрена, мать Никиты, которая
знает «все 77 уверток» и елейными речами прикрывает
свою бесчеловечную жестокость. Это она одобряет связь
сына с Анисьей и, пересыпая речь ласковыми словечками,
поучает ее поскорее «извести» своего мужа Петра, чтобы
сделать собственное «детище» хозяином. Это она вручает
Анисье «сонные порошки» для отравления мужа. Это она
толкает сына Никиту на убийство ребенка. Это она,
поминая Христа и бога, клянясь «крест поцеловать»,
предупреждает Анисью на всякий случай о своей
непричастности к преступлению.
Эта старуха воспринимается как воплощенное
злодейство, как крайний предел порочности человеческой
натуры. Ее нравственное безобразие усиливается еще и от
того, что, толкая других на преступления, она не
испытывает никаких угрызений совести. Тем не менее Матрена —
не прирожденная злодейка, она типическое порождение
«власти тьмы», она прекрасно понимает, что живет в
обществе, где человек человеку — волк, и эта людоедская
мораль частнособственнического общества захватила ее
целиком, не оставив места для здоровых человеческих
чувств.
Толстой, имея в виду сценическое воплощение образа
Матрены, указывал: «Матрену вовсе не надо играть
злодейкой, какой-то леди Макбет, как думают многие. Это
обыкновенная старуха, умная, желающая по-своему добра
сыну. Ее поступки не есть результат каких-нибудь
особенных злодейских свойств ее характера... Темные дела
373
делаются, по ее мнению, всеми — без этого невозможна
жизнь, и она их не боится».1 /
В условиях идиотизма деревенской жизни
сформировался и характер другой преступницы —
тридцатидвухлетней «щеголихи» Анисьи. Она ненавидит своего мужа и
в конце концов «изводит» его. Она враждует с
падчерицей, и та неспроста называет ее «ведьмой» и
«дьяволом». Было что-то глубоко порочное во всем облике этой
откровенной и безжалостной хищницы. Желая
«заграбастать» деньги мужа, она признается Матрене: «Я как
ястреб над ним стерегу». После этого особенно
отвратительно звучат ее ханжеские причитания по умершем. Для
нее покаяние добровольное перед людьми невозможно:
«никто не спрашивает» — она может сознаться только на
суде перед лицом неопровержимых улик. Анисья тоже не
прирожденная преступница, она продукт «власти тьмы».
Отставной солдат Митрич говорит: «А пакостницы же
бабы эти!., как звери лесные. Ничего не боятся», и это
в первую очередь относится к Матрене и Анисье. В
разговоре с Анюткой Митрич раскрывает и причины
совершенных «преступлений», которые коренятся в
беспросветной темноте, отсталости и забитости деревенской
женщины: «Кто вас учит? Чего ты увидишь? Чего
услышишь?., гнусность одну... Вашей сестры в России
большие миллионы, а все, как кроты слепые, — ничего
не знаете... Только пьяный мужик когда вожжами
поучит. Только и ученья...»
Поистине страшная судьба. И десятилетняя девочка,
встревоженная этим рассказом солдата, пытливо
спрашивает: «А как же быть-то?», то есть что же сделать, чтобы
вывести русскую женщину из-под «власти тьмы». Но
Митрич и сам не знает, как быть, а его слова:
«Завернись с головой да и спи» — не могут успокоить
встревоженное сознание Анютки.
Несколько особняком среди «преступников» драмы
стоит Никита. Это двадцатипятилетний «щеголь»,
лишенный нравственных устоев. И хотя он слабохарактерный
и «жалостливый», курицы не зарежет, — говорит о нем
Матрена, тем не менее соблазненная им Марина не без
1 «Северный вестник», 1896, № I, стр. 309.
370
основания бросает ему в лицо: «Зверь ты!» В нем на
время тоже взяли верх «звериные» начала: он и с
Анисьей жил из расчета стать хозяином, завладеть
деньгами. Но уже перед умирающим Петром он плача
просит прощения. Никита настороженно относится к
преступным замыслам Матрены и Анисьи: «нагрешишь с
ними», «окончательно завертят», *но после некоторых
внутренних борений он сдается под натиском «злодеек» и
становится соучастником их преступлений. После смерти
Петра Анисья ему «опостылела», Никита запил и стал
ее бить. Но только новое преступление окончательно его
отрезвило. Убийство собственного ребенка произвело
перелом в его жизни: он считал себя окончательно погибшим,
пытался надеть на себя петлю, но в нем погиб прежний
человек, живший примитивными, «животными» запросами,
и пробудился новый. Никита кается перед всеми в
совершенных им преступлениях и берет «грех» Матрены и
Анисьи на себя — так в чисто «христианском» плане
покаяния перед миром писатель завершает развитие этого
образа.
Матрена, Анисья Никита — все трое, несмотря на
известные различия, были порождены «властью тьмы»,
царившей в русской пореформенной деревне.
Александр III по поводу драмы Толстого писал
министру внутренних дел: «Надо было бы положить конец
этому безобразию Л. Толстого. Он чисто нигилист и
безбожник. Недурно было бы запретить теперь продажу его
драмы «Власть тьмы», довольно он успел продать этой
мерзости и распространить ее в народе».1 И было от чего
встревожиться: «Власть тьмы» в очень короткий срок
завоевала огромную популярность. В течение одного года
разошлось более миллиона экземпляров пьесы.
Реакционная критика изо всех сил стремилась умалить этот
неслыханный успех пьесы, в клеветнических целях она
пыталась истолковать драму Толстого как «поругание» всего
русского народа. Гнев царя и грубая тенденциозность
реакционной критики, однако, имели другой источник.
Дело не в «нигилизме» писателя, а в том, что в своей
народной драме он ярко и убедительно показал, до чего
довели русского мужика и русскую женщину царь и его
«Красный архив», 1922, № 1, стр. 417.
377
Сатрапы, до какой степени забитости, темноты и
невежества довело русскую деревню проникновение капитала.
Именно это почувствовал царь в драме Толстого, именно
этот обличительный пафос «Власти тьмы» встревожил
Победоносцева и его чиновников в рясах.
А между тем картина, нарисованная Толстым, была
исторически верна. Спубтя двадцать семь лет после
выхода драмы Толстого Ленин писал: «Такой дикой страны,
в которой бы массы народа настолько бы о г р а б
лены в смысле образования, света и знания, — такой
страны в Европе не осталось ни одной, кроме России. И
эта одичалость народных масс, в особенности крестьян, не
случайна, а неизбежна при гнете помещиков,
захвативших десятки и десятки миллионов десятин земли,
захвативших и государственную власть...» х
Характерно, что такой тонкий наблюдатель жизни
русской деревни, как С. Каронин, в отличие от других
народнических писателей, выразительно рисует процесс
духовного закабаления русского мужика. В его рассказе
«Праздничные размышления» народнический интеллигент,
просвещая русского богатыря — мужика Василия Чили-
гина, «рассказал в простой форме, как жил крестьянин
в старые времена, как его преследовали, убивая в нем
душу, уничтожая человека и доводя его до звериного
состояния... Не убили в нем душу, не обратили его в зверя.
Но он все-таки пострадал».2
Именно помещики во главе с коронованным
помещиком — царем убивали «душу» в мужике, насаждали и
укрепляли «власть тьмы» в русской деревне. И
преодолеть ее было невозможно без того, чтобы не смести до
основания весь буржуазно-помещичий строй вместе с
царем и Победоносцевыми. Таков объективный смысл
драмы «Власть тьмы».
Но далеко не такие выводы делал сам писатель из
своих глубоко реалистических наблюдений над жизнью
русской деревни. «Частный» случай, «частное»
происшествие в одной русской деревне послужили Толстому
исходным моментом для огромных по своему значению идей-
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, стр. 115.
2 С. Каронин. Сочинения, М.—Л., 1932, стр. 324.
378
ных и социальных обощений, потому что во всем
поведении Колоскова писатель увидел типические проявления
«власти тьмы» в русской деревне. Рисуя страшные
картины преступлений, совершенных людьми, доведенными
идиотизмом деревенской жизни до положения зверей,
Толстой стремился противопоставить им носителя светлого
начала жизни — «богобоязненного» старика Акима, отца
Никиты.
Писатель верил в возможность преодоления «власти
тьмы» на путях обращения людей к
религиозно-нравственной жизни. Именно к этому и зовет Аким, видящий
главную причину всей бесчеловечной «звериной» жизни в
том, что люди «бога забыли», а надо жить «по-божьи»,
думать о душе. Тем самым Аким отвечает и на вопрос
Анютки: «как быть?»
Но и сам Аким является порождением этого строя
жизни, и он не освободился из-под «власти тьмы» — его
косноязычие и юродство отражают темноту и забитость
крестьян. В Акиме, со всеми его бесконечными «стае»,
много комического. Вот его первая реплика, в которой он
хотел выразить свое желание забрать Никиту домой и
женить его на Марине, характерная для всей его
«косноязычной» речи: «Получше, Игнатьич, как бы получше, тае,
получше... Потому как бы не того. Баловство, значит.
Хотелось бы, тае... к делу, значит, хотелось малого-то. А коли
ты, значит, тае, можно и того. Получше как...»
Толстой, отвечая на запрос актера П. М. Свободина
по поводу образа Акима, писал: «Говорит с запинкой, и
вдруг вырываются фразы, и опять запинка, и «тае», и
«значит». Тае я выговариваю «тае». Впрочем, и «тоё»
возможно. Шамкать, мне кажется, не нужно. Ходит твердо,
я представляю себе, вывернутыми ступнями в лаптях.
Приемы — движения — истовые; только речи гладкой бог
не дал. Большая внимательность, вслушивание во все,
что говорят, особенно ему, и одобрение всего, что
говорится хорошего, но тотчас же беспокойство и отпор при
дурных речах. В третьем действии, при виде безобразия
сына, он должен физически страдать.
«Должно пользоваться контрастом комического,
нескладного лепета и горячего, иногда торжественного
произнесения тех слов, которые у него выходят. В пятом
действии он должен упираться, гнушаясь видом свадьбы,
379
потом начинать понимать в чем дело, потом прийти в во-
строг от поступка сына и до конца действия оберегать
даже физически — расставляя руки и забегая со стороны
нарушителей, — оберегать совершающееся
торжественное покаяние от вмешательства».1
В этой заключительной сцене особенно ярко
выражается тяга Акима к благообразию в жизни, его
умиление покаянием сына, столь роднящие его с Платоном
Каратаевым. Совершилось великое дело духовного
возрождения человека, перед которым все мирские дела
должны отступить на задний план. И поэтому, когда
урядник заговорил о составлении акта, Аким решительно
возразил: «Об ахте, тае, не толкуй, значит. Тут, тае,
божье дело идет... кается человек, значит, а ты, тае,
ахту...»
Нет, Аким не может выступить в роли обновителя
жизни, хотя и пытается наставлять и поучать других, как
надо жить «по-божьи». Его полная несостоятельность
раскрывается хотя бы в том, что он прожил всю жизнь
со «злодейкой» Матреной и не смог обратить ее в свою
веру, а его сын Никита воспринимает веру отца, только
совершив ряд тяжелых преступлений.
Аким — типичный непротивленец. И хотел того
писатель или нет, но объективно раскрыл социальный вред
своей проповеди «непротивления злу насилием». Будь
Аким иным — не случилось бы того, что случилось.
Слабого и бесхарактерного Никиту не «запутляли» бы
«бабы», не было бы совершено преступлений. Аким обо
всем этом знает или догадывается, но ко всему относится
созерцательно, он активно не воздействует на жизнь
людей, его окружающих, не пресекает их «злодеяний»,
а ждет, когда они сами уверуют в его правоту, сами
покаются в своих грехах. Нет, не Акимы будут обновлять
жизнь, они не играют действенной роли и способны
только на то, чтобы на своем косноязычном жаргоне
произнести несколько ходячих евангельских «истин».
Светлое начало в драме воплощают другие лица —
это тепло написанной образ Марины, сердечной девушки,
а затем верной жены; это десятилетняя Анютка, такая
1 «Бирюч петроградских театров», июнь — август 1919 года,
стр. 149,
380
трогательная в своей детской непосредственности и
чуткая к страданиям других людей, в душе которой все
восстает против преступления мачехи и вотчима; это,
наконец, Митрич, который через все испытания солдатчины
пронес свое хорошее, отзывчивое сердце. Митрич, как
бывалый солдат, остро и правильно оценивает новые
явления жизни, видит, как в связи с наступлением
капитала кулаки и банки, охваченные стихией
ростовщичества, «облупляют народ» до последней нитки, и на
возражение Акима, что это не по закону, отвечает: «Это,
брат, нынче не разбирают. А как еще околузывают-то
дочиста».
Все эти герои прежде всего человечны, поэтому и не
мирятся с «властью тьмы». Они «лучи света» в этой
кромешной «тьме» — свидетельство того, что не все люди
нравственно погибли от идиотизма деревенской жизни,
что рано или поздно наступит конец «власти тьмы»,
звериные нравы уйдут в прошлое и на земле восторжествует
подлинная человечность.
Толстой, оставаясь верным своим
религиозно-этическим взглядам, не создал и не мог создать в драме
образов подлинных борцов за обновление жизни народа. Он
полагал, что главное — это «спасение души» человека,
а не изменение социальных условий жизни. В этом нашли
выражение слабые стороны его мировоззрения, его
реакционная проповедь «непротивления злу насилием», его
утопическая вера в нравственное совершенствование
человека в условиях буржуазно-дворянского общества.
Толстой не считал, что для спасения «души» человека нужно
прежде всего разрушить тот социальный строй,
который породил и поддерживал «власть тьмы» в русской
деревне.
Драма «Власть тьмы» по своей социальной
проблематике и высоким художественным качествам явилась
важнейшим звеном в истории русской классической
драматургии. Она сыграла огромную роль в истории русского
театра, потому что несла с собой на сцену самую
трезвую правду, глубочайший реализм в изображении
русского мужика и русской деревни. Один из основателей
Художественного театра В. И. Немирович-Данченко
вспоминал: «Нельзя забыть, какое ошеломляющее
впечатление произвела на нас эта маленькая книжечка — народное
381
издание «Власти тьмы». Без преувеличения можно
сказать, что я дрожал от художественного восторга,
от изумительной обрисовки образов и богатейшего
языка».1
«Власть тьмы» шла в одном идейно-тематическом
комплексе с «Народными рассказами» и религиозно-этиче-
окими трактатами.
Но вот что обращает на себя внимание в проповеди
Толстого. Великий писатель в своем стремлении
утвердить жизнь на христианских началах исходил из глубоко
гуманистических убеждений, из глубокой веры в чело- •
века, который рожден для добра и любви; но люди,
отступившие от христианства, портят «добрую» природу
человека, извращают ее, приучают его ко злу. Тем не
менее человек всегда может возродиться, «воскреснуть»
к лучшей жизни, очистить свою природу от «зла»,
которое «налипло» на него. Человек от природы добр, «зло»
не является прирожденным качеством человека, оно
прививается ему в тех ненормальных условиях жизни, в
которых он растет и воспитывается.
Таким образом, проповедь Толстого, несмотря на свою
религиозно-этическую окраску, была по своему
содержанию и целям глубоко гуманистической, потому что
писатель звал человека к лучшей жизни, жаждал наступления
этой жизни.
Основные черты реакционной эпохи 80-х годов
подверглись обличению и в другой острой социальной
комедии Толстого «Плоды просвещения» A890), которая
явилась крупнейшим произведением в истории русской
драматургии.
Центральная тема комедии — также жизнь
пореформенной деревни, бедственное положение крестьянства,
страдающего от безземелья и социального гнета. Реплика
Митрия Чиликина о куренке, которого некуда выпустить,
повторенная семь раз, является лейтмотивом всей
комедии. Характерно, что в очерке С. Каронина «Светлый
праздник» один из «ходоков» от крестьянского мира,
солдат Ершов, говорил, что земли мужикам «по положению
следует малая толика... например, вот как: «курица ежели
1 В л, И. Немирович-Данченко. Из прошлого, М., 1938,
стр. 275.
382
йыйдет со двора, и то нечего ей будет клевать». 1 В этом
метком образе ярко выражается поистине трагическое
положение обезземеленного русского крестьянства.
В комедии Толстого мужики участвуют в трех
действиях из четырех, но и в чисто «господском» действии
они с помощью сочувственно к ним относящейся
горничной Тани вторгаются на спиритический сеанс со своим
назойливым вопросом о земле. «Ходатели» курских
мужиков потревожили покой барского особняка: «господская»
часть дома встречала их или враждебно (барыня), или
насмешливо (сын и дочь Звездинцевы), или с явной
тревогой (сам Звездницев), но прогнать мужиков из дома
оказалось невозможным: они ребром ставили вопрос
о земле: «Нам без этой земли надо жизни решиться».
В отличие от смиренных Каратаевых и Акимов, в образах
которых Толстой воплотил свою идею «непротивления злу
насилием», здесь мы имеем дело с мужиками, настойчиво
добивающимися своей цели.
В барском доме у них оказались «союзники»:
буфетчик Яков, «живущий только деревенскими, семейными
интересами», буфетный мужик Семен, «свежий деревенский
малый», кухарка Лукерья, ненавидящая господ,
горничная Таня, мечтающая о простой деревенской жизни,
старый повар, изгнанный господами и скрывающийся у
Лукерьи, «умный и добрый» камердинер Федор Иванович,
собирающийся покинуть господ и поселиться на старости
лет в деревне, — все они или близки по своим интересам
к мужикам, или сочувствуют им, всем им осточертело
жить при господах, слишком многое они видели, чтобы
относиться к ним иначе, как с презрением и ненавистью.
Так и в самом барском доме, как в ковчеге, бок о бок
с господами живут их прямые враги.
Все симпатии автора на стороне людей труда. Толстой
создает глубоко реалистические образы мужиков,
нисколько не идеализируя их. Мужикам еще свойственна
культурная отсталость, у некоторых из них речь
косноязычна, но главное, что их отличает, это природный ум,
серьезнные жизненные интересы, любовь к труду,
жизнерадостность, несмотря на бедственное положение,
ненависть ко всякого рода тунеядцам. Каждый из мужиков
1 С. Каронин Сочинения, М.—Л., 1932, стр. 56.
383
комедии имеет свой, индивидуальный характер и индивй*
дуальный язык. Первый мужик, видно, не раз бывал
ходоком по крестьянским делам, поэтому в его речи немало
книжных слов, произносимых, правда, на свой, мужицкий
манер. Речь второго мужика, напротив, лишена каких-
либо городских словечек, она народна в самом прямом
смысле этого слова. И, наконец, третий мужик, впервые
оказавшийся в роли ходо,ка, говорит несколько
косноязычно от разнообразия новых, поразивших его явлений
из жизни бар, к которым он спешит выразить свое
глубоко отрицательное отношение. Это действительно
настоящие русские крестьяне, со всеми особенностями своего
психического склада и своих глубоко жизненных
интересов. Морально и духовно их возвышает над миром господ
именно то, что они — люди труда.
Писатель показывает мир господ с позиции мужиков,
правдиво выражая их взгляд на вещи. Действие в
комедии развертывается таким образом, что перед курскими
мужиками, находящимися в передней, как перед судьями,
проходят все господа и их гости, раскрывается
паразитизм господской жизни. «Какие у них дела? В карты да
в фортепьяны — только и делов», — с презрением
заявляет Лукерья. Когда Семен рассказывает о
спиритическом сеансе, увлекшем господ, первый мужик бросает
реплику: «Известно, для разгулки времени».
В ярких сатирических тонах Толстой обличает жизнь
этих небокоптителей, праздных дармоедов, закоренелых
бездельников, присосавшихся, как пиявки, к народному
телу. Не только разные «толстые барыни», баронессы и
мадам Звездинцевы ничего не делают и озабочены
сохранением светских приличий, не только сам старик Звездин-
цев просто-напросто «отставной поручик», а Сахаров,
«бывший товарищ министра», ничем не занят», но и
молодежь этого круга также бездельничает, тратя деньги
на пустяки: Бетси увлечена маскарадными платьями,
а молодые кандидаты Звездинцев и Петрищев пытаются
создать себе мнимое «общественное положение»,
выступая в роли членов и учредителей никчемных обществ,
вроде общества «поощрения разведения старинных
русских густопсовых собак». И это в то время, когда
мужики, собрав свои трудовые денежки «под метелочку»,
пришли покупать землю —им куренка выпустить некуда.
384
Когда Яков рассказал, какие деньги господа бросают
попусту, второй мужик горестно заявил: «То-то шальные
деньги-то. Что б мужик на эти деньги наделал!»
Господа расточительны, бесчеловечны и жестоки; это
раскрывается не только в рассказе Лукерьи о
трагической судьбе «свихнувшейся» Наташи, соблазненной
господами и выброшенной на улицу, не только в столь же
горестной судьбе старого повара, который «тридцать лет
прожарился» у плиты и оказался на старости лет без
куска хлеба: «не нужен стал: издыхай, как собака!..», но
и в отношении к мужикам, к слугам и во всем укладе
жизни господ. У них собаки ценились дороже людей.
Мужики умирали с голоду десятками тысяч, а собачек
одевали в «желтенькие капотики» и, по словам Тани,
готовили им особые «коклетки». Это и многое другое
в укладе жизни господ вызывает часто повторяющуюся
реплику третьего мужика: «О господи!», звучащую как
осуждение всего строя жизни, при котором ничтожная
горстка паразитов бесится с жиру, а народные массы
вымирают с голоду.
Толстой обличает жизнь господствующих классов до
конца. Представителям столичного барства чужды какие-
либо серьезные интеллектуальные запросы. Духовный
маразм и оскудение этих кругов находят свое выражение в
увлечении спиритизмом. В каком-то полусумасшедшем
шабаше участвуют наряду с баронессами
дипломированные профессора, а затем всерьез обсуждают все эти
«явления», ссылаясь на авторитеты ученых. Вот они и «плоды
просвещения»! Меткую оценку всем этим Кругосветловым
и другим «ученым» дает камердинер Федор Иванович:
«Учены, учены, хоть бы Алексей Владимирович,
профессор он, а все другой раз сильно сомнение берет.
Народные суеверия, грубые, истребляются, суеверия домовых,
колдунов, ведьм... А ведь если вникнуть, ведь это такое
же суеверие».
Толстой создает злую сатиру на «просвещенных»
людей из высшего круга, показывая, что все «явления»
медиумизма, которые в некоем мистическом трансе
воспринимались как реальные не только барынями, но и
профессорами, производились кухонным мужиком и
«безграмотной девчонкой», горничной Таней: по своему
нравственному уровню, уму и здравому смыслу они оказались
25 С Бычков 38д
выше дипломированных аристократов, обративших науку
на оправдание суеверий, они зло посмеялись над теми,
кто вкусил от «плодов просвещения».
Обличения Толстого приобретали особую остроту
потому, что в 80-е годы, в годы свирепой политической
реакции было широко распространено увлечение
спиритизмом в высших кругах дворянского общества. Писатель
называл спиритов «шарлатанами», а в дневниковой
записи 30 апреля 1884 года отметил: «Львов рассказывал
о Бловатской, переселении душ, силах духа, белом слоне,
присяге новой вере. Как не сойти с ума при таких
впечатлениях?»
Мир собственников находился в состоянии гниения и
распада. Писатель показывал в своей комедии
нараставший протест крестьянской России против господ.
Здоровый, жизнерадостный смех мужиков над рассказами
о жизни бар свидетельствует о пробуждении подлинных
хозяев жизни, за которыми будущее, а все «ученые»
спириты, кривляющиеся барыни и кандидаты-собачники
исторически обречены.
Острое столкновение двух миров, двух укладов
жизни — паразитического господского и крестьянского
трудового ¦— составляет основной конфликт комедии.
Толстой ставил перед комедией
социально-обличительные цели, он желал, чтобы она дошла до зрителя и
читателя, поэтому приложил немало усилий, чтобы
придать ей наиболее совершенную художественную форму.
В процессе работы над комедией Толстой стремился
донести свое произведение до самых широких кругов, —
чтобы «оно проникло» в эти круги; отсюда напряженная
работа над «заострением» комедии, которая шла не
только по линии совершенствования формы, но и
усиления ее обличительного характера.
Комедия Толстого своим трезвым реализмом, своим
глубоким отражением интересов русского крестьянства
привлекла внимание В. И. Ленина. Он не раз в своих
статьях и работах использовал реплику третьего мужика:
«куренка... выпустить некуда» для характеристики
крестьянской нужды в земле и кабальной зависимости от
помещика. В брошюре «К деревенской бедноте» A903)
Ленин писал, что при проведении крестьянской реформы
помещики «нарочно обрезывали мужицкие наделы, вго-
386
няли помещичью землю клином, чтобы мужику было
некуда курицы выпустить...» 1
В проекте речи по аграрному вопросу во II
Государственной думе A907) Ленин вновь использует этот
образ: «Помещики отняли себе столько земли, что
крестьянам не то, что хозяйство нельзя вести, но и «курицу
выпустить некуда».2 И, наконец, в работе «Аграрный
вопрос в России к концу XIX века» A908) Ленин,
характеризуя бедственное положение русского крестьянства,
писал: «Крестьяне «освобождены» в 1861 году от
необходимых для их хозяйства водопоев, выгонов и т. п.
Крестьянские земли вкроены клином между помещичьими,
так чтобы господам помещикам был обеспечен
чрезвычайно верный — и чрезвычайно благородный — доход от
взысканий за потравы и пр. «Куренка некуда
выпустить», — эта горькая крестьянская правда, этот «юмор
висельника» лучше всяких длинных цитат повествует
о той особенности крестьянского землевладения, которая
не поддается статистическому выражению. Нечего и
говорить, что эта особенность есть чистейшей воды
крепостничество, как по своему происхождению, так и по влиянию
на способ организации помещичьего хозяйства»,3
Однажды в своих полемических целях Ленин
использовал и само название комедии Толстого. Уличая
кадетов в том, что они в национальном вопросе были
шовинистами, Ленин с уничтожающим сарказмом приглашает
их: «Пожалуйста, объяснитесь поподробнее, господа, не
скрывайте от «черни» плодов вашего «просвещения»!»4
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 6, стр. 376.
2 В. И. Ленин. Сочинения, т. 12, стр. 236.
3 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 61—62.
4 В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 40.
Г Л ABA ДВЕ II А Д Ц А Т А 51
Широкое вторжение крестьянской народной тематики,
страстная и напряженная проповедь «учения», однако, до
конца не вытеснили старых проблем в творчестве
писателя, связанных с освещением жизни, быта и нравов
господствующих классов. Но их разработка теперь
существенным образом изменилась: обличения, наметившиеся
ранее, теперь приобрели невиданную1 силу и остроту. Это
нашло -свое непосредственное отражение в таких
выдающихся произведениях 80-х годов, как «Смерть Ивана
Ильича» A886), «Крейцерова соната» A887—1889),
«Дьявол» A889), «Плоды просвещения» A890). Среди
них по силе художественной выразительности и глубине
обличительного пафоса выделяется повесть «Смерть
Ивана Ильича».
Исходным моментом замысла повести явился
«частный» случай — смерть бывшего члена тульского суда
Ивана Ильича Мечникова, которого хорошо знал
писатель. Его предсмертные страдания от рака, его мысли
о бесплодно проведенной жизни послужили основой для
описания хода болезни и горьких раздумий героя повести.
Толстой и сам говорил об этом в мае 1909 года, когда
Ясную Поляну посетил известный физиолог Илья Ильич
Мечников. «В разговоре мы вспомнили, что я знал его
брата Ивана Ильича, — даже моя повесть «Смерть Ивана
Ильича» имеет некоторое отношение к покойному, очень
милому человеку, бывшему прокурору тульского суда».1
1 С. П. С п ир о. Беседы с Л. Н. Толстым A909—1910), М.,
1911, стр. 35
388
Писатель сообщил герою своей повести не только имя его
прототипа, но и ряд частностей биографии И. И. Мечни^
кова. Но главное, разумеется, заключалось в социальном
пафосе повести, в психологизме, в поразительном
проникновении Толстого в страдания и муки больного раком,
в чем ему немало помогли рассказы о ходе болезни
Мечникова. Поэтому описание болезни Ивана Ильича нашло
очень высокую оценку в специальной медицинской
литературе: «Каждый врач любой специальности должен
внимательнейшим образом прочитать этот рассказ, сильнее
которого нет в мировой литературе на эту тему, и перед
ним раскроются те бездны ужаса и сомнений, которые
переживают раковые больные». 1
Разумеется, все частные явления, события и факты,
взятые из жизни И. И. Мечникова, подверглись
глубокому творческому осмыслению и типизации, благодаря
чему из-под пера Толстого вышла не биография частного
лица, а потрясающее по своей художественной силе и
правде произведение. Известно, что, прочитав «Смерть
Ивана Ильича», Мопассан сказал: «Я вижу, что вся моя
деятельность ни к чему, что все мои десять томов ничего
не стоят».
«Смерть Ивана Ильича» — это история жизни и
смерти одного благовоспитанного, преуспевающего
чиновника, окончившего училище правоведения и служившего
поочередно: чиновником для особых поручений при
губернаторе, следователем, товарищем прокурора, прокурором
и членом судебной палаты. Жизнь Ивана Ильича
сложилась так, что он еще в семье был подготовлен для
чиновничьей карьеры. Отец его хотя и был человек бездарный,
но дослужился до чина тайного советника; он собственно
и поставил своего сына, имевшего средние способности
й всюду придерживавшегося «золотой» середины, на
чиновничью стезю.
Уже в училище правоведения Иван Головин
обнаружил стремление к строгому исполнению своего долга, а
долгом своим он считал «все то, что считалось таковым
¦наивысше поставленными людьми», к которым он тянулся,
1 См. «Русская клиника», 1929, XI, стр. 8—9, ст. А. Т. Лидского
«Смерть, болезнь и врач в художественных произведениях Л. Н.
Толстого».
389
как муха к свету. «Их приемы, их взгляды на жизнь» и
явились основой формирования характера Ивана Ильича,
он ничего не искал нового, соответствующего своим
природным склонностям, а брал готовое. И это его вполне
устраивало, а если иногда являлся слабый протест, «чуть
заметные поползновения борьбы против того, что наи-
высше поставленными людьми считалось хорошим», он
гасил в себе эти проблески настоящей жизни, подавлял
живые человеческие стремления и желания и все плотнее
и плотнее облекал свою душу в традиционный
чиновничий мундир, высочайше одобренный. Поэтому увлечения
молодости не оставили в нем следа; правда, он
встречался с женщинами, ему не чужды были и тщеславие и
либеральные идеи, «но все в известных пределах».
Начав службу по протекции своего отца чиновником
особых поручений при губернаторе, он «с точностью и
неподкупной честностью» исполнял свои обязанности. Он
и веселился, были романы, были попойки, но «прилично
веселился», «порядочно», «с одобрением высоко стоящих
людей». В роли судебного следователя он быстро усвоил
такие приемы ведения дел, при которых соблюдалась
«вся требуемая формальность» и «исключалось
совершенно его личное воззрение».
Даже при решении такого глубоко личного вопроса,
как женитьба, Иван Ильич также руководствовался
нормами жизни высокопоставленных лиц: так надо, это
«наивысше поставленные люди считали правильным». Но
появились дети, и все осложнилось. Он не проявлял
человеческого отношения к жене и детям. Между ним и
женою возникло «море затаенной вражды». Теперь для
Ивана Ильича все интересы жизни сосредоточились
в «служебном мире», он уже не держался никаких
министерств, никаких направлений, а стремился лишь к более
высоким окладам, независимо от того, откуда они шли.
Он и с людьми не допускал никаких отношений «помимо
служебных» и разговаривать любил «больше всего о
назначениях». Получив очередное повышение по службе,
Иван Ильич оборудовал себе квартиру, то есть сделал то,
что обычно делают люди в его положении, и квартира его
была похожа на все квартиры этого рода. Иногда он
приглашал к себе влиятельных дам и мужчин и устраивал
с ними такое времяпрепровождение, которое «было
похоже на обыкновенное времяпрепровождение таких
людей». Кроме служебных бумаг, Иван Ильич ничего не
читал, никакие общественные вопросы его не волновали,
настоящую радость ему доставляла только игра в винт —
винт пробуждал в нем жалкие остатки живого
человека.
И вот в момент наивысшего благополучия у Ивана
Ильича началась болезнь, он слег в постель. И сразу же
со стороны сослуживцев и даже семьи обнаружилось
полное равнодушие к его судьбе. Ему было невыносимо
больно, он тяжело страдал, но никто его не пожалел,
никто его не приласкал, равнодушные, эгоистические люди,
окружавшие его, не способны были на это, да ведь и сам
Иван Ильич никого никогда не ласкал по-человечески. Он
умирал в полном одиночестве.
Иван Ильич был убежден, что «он всегда был совсем,
совсем особенное от всех других существо», а тут
надвигающаяся смерть, неужели и он должен умирать,
«неужели только она правда?» — спрашивал он себя с
тревогой. За ним ходил простой деревенский мужик
Герасим, молодой, здоровый, сильный и всегда веселый.
Иван Ильич привязался к нему, потому что только один
Герасим ему не лгал, только он один говорил 'правду:
«Все умирать будем». Ивану Ильичу слишком надоела
ложь, в которой он купался всю свою жизнь, поэтому
перед смертью она его возмущала: «Что они все врут и
зачем врут», — думал он о докторах и домашних.
Иван Ильич плакал о своем «ужасном одиночестве,
о жестокостях.людей». Он вспоминал свою жизнь и
находил в ней не много «хороших минут»: детство, но «того
человека, который испытывал это приятное, уже не
было». Училище правоведения — там еще «было веселье...
была дружба... были надежды». А чем дальше, тем хуже.
«И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так
год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что
дальше, то мертвее... В общественном мнении я шел на
гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь».
Иван Ильич впервые на смертном одре задумался:
«Может быть, я жил 'не так, как должно?» И тут же в его
сознании возникало возражение: «Но как же не так, когда
я делал все, как следует?» Он еще не понимал, что
391
именно в этом и заключалась трагедия всей его жизнц.
Делая «все, как следует», послушно приспосабливаясь ко
всем требованиям жестокой бюрократической машины
царизма, он убивал в себе все человеческое, гасил
последние искры подлинной жизни. Его «болезнь» началась
не тогда, когда он почувствовал боль в левом боку, а
значительно раньше, еще в училище правоведения. И он сам
вспоминал: «Что дальше назад, то больше было жизни.
Больше было и добра в жизни, и больше было и самой
жизни».
Бюрократическая служба иссушала, калечила
человека нравственно, лишала добрых начал. И только
незадолго до смерти Иван Ильич приходит к жестокому
выводу, что вся его жизнь была «не то». Именно те слабые
проблески борьбы с порядком, одобренным «наивысше
поставленными людьми», которые у него появлялись
изредка в молодости, могли бы составить настоящую
жттзнь, но они были задавлены в самом зародыше, вся же
прожитая им жизнь оказалась «не то».
При этом характерно, что герой Толстого никогда не
испытывал материальных лишений, не знал он и страха
ожидания «ревизора», потому что не совершал
служебных преступлений. Если мы припомним героев
гоголевской «Шинели», то там картина совершенно другая.
Мелкий чиновник у Гоголя находится во власти забот о своем
существовании, он угнетен материальными
обстоятельствами, ^ля титулярного советника Акакия Акакиевича
Башмачкина приобретение новой шинели превращается
в величайшее событие жизни, так же как и ее утрата
становится причиной его преждевременной смерти. Мысли
другого титулярного советника Поприщина также заняты
изысканием «достатков», но, в отличие от забитого и
совершенно обезличенного Башмачкина, ему свойственно
чувство протеста против несправедливого распределения
материальных благ, против своего социального
бесправия* «Все, что есть лучшего на свете, все достается или
камер-юнкерам, или генералам» («Записки
сумасшедшего»). Но и городничий оправдывает свои взятки
«недостаточностью состояния». Однако у этих более крупных
чиновников другая стихия — они плуты, взяточники,
мошенники и казнокрады, совесть у них не чиста, поэтому
592
они боятся «ревизора» и дрожат перед жалким «елистра-
тишкой».
Ивану Ильичу незачем было отказывать себе в
последнем и копить деньги на шинель, не мог он быть и
участником «немой сцены». Он не знал «недостаточности
состояния», казенного жалования ему хватало. Иван
Ильич был совершенно свободен от угнетающей силы
материальных обстоятельств. И он не мог рассуждать
так, как гоголевский городничий: «нет человека, который
бы за собою не имел каких-нибудь грехов» («Ревизор»,
д. I, явл. 1), Иван Ильич не чувствовал за собой никаких
грехов. Трагедия его жизни скрылась в другом — не
смотря на служебные успехи и материальное
благополучие, он переживал состояние полной душевной
опустошенности.
И здесь отчетливо намечается глубокое различие в
художественных приемах Гоголя и Толстого. Гоголь
обращал главное внимание на обстоятельства жизни, которые
определяли поступки его героев; Толстой же
сосредоточивал все усилия на раскрытии их «диалектики души» и
через глубокий и напряженный психический анализ шел
к обличению социальных уродств жизни.
Иван Ильич стоит несомненно в одном ряду с такими
образами Толстого, как Сперанский, Борис Друбецкой и
особенно Каренин. Положение их различно, но всех их
объединяет и нечто общее: карьеристские устремления,
сухость и черствость сердца, притворство и ложь,
подавление человеческих начал в своей натуре. Иван Ильич
отличается только тем, что попадает в крайне
трагическое положение.
Писатель не указывает прямо социальных причин
трагедии Ивана Ильича, в повести нигде открыто не
осуждаются общественные порядки, в условиях которых
формировался его характер. Писатель рассказал о жизни
и смерти одного чиновника: «Прошедшая история жизни
Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и
самая ужасная». Здесь отмечается типичность того уклада
жизни, которую прожил Иван Ильич. Не он один так
жил, так жили многие люди его круга, его служебной
среды, так жили все чиновники России. И жизнь их всех,
а не только Ивана Ильича, была ужасающе пустой и
паразитической.
393
Бездушие чиновничества в отношениях друг к другу
писатель отмечает уже в самом начале повести, рисуя
реакцию сослуживцев на смерть Ивана Ильича: ни
человеческого участия, ни искреннего сожаления, ни
огорчения не вызвало это сообщение среди людей, которые
«все любили его». Странная эта любовь; оказывается,
сообщение возбудило «чувство радости о том, что умер
он, а не я». И сразу же в головах чиновников зароились
надежды на повышение: освободилось место, и его кто-то
должен занять. Поистине странный мир: не люди, а
какие-то моральные уроды, канцелярские машины,
лишенные нормальных человеческих чувств.
Нет, Иван Ильич был не один, их было много, они
сидели во всех канцеляриях, департаментах, залах суда,
министерствах, на них держалась вся бюрократическая
государственная машина царизма.
Так, рассказав историю жизни одного чиновника,
Толстой поднялся до огромных социальных обобщений. Он
раскрыл процесс формирования характера типического
чиновника, образцового бюрократа, нарисовал
потрясающую картину душевного опустошения человека в
условиях самодержавной России, где «отечественная
бюрократия» служила главной опорой всего бесчеловечного
грабительского строя. Царизм калечил душу людей,
делал из них бюрократов-роботов, поэтому он был глубоко
чужд нормальной человеческой природе, враждебен
народу. И повесть о жизни и смерти одного чиновника
превратилась в потрясающий по своей обличительной
силе обвинительный акт царизму, всему
буржуазно-дворянскому обществу.
В повести «Крейцерова соната» A887—1889) Толстой
вновь возвращается к волновавшей его теме семьи, так
остро поставленной им в романе «Анна Каренина». Уже
в первой главе повести в горячем споре между
пассажирами вагона вопрос о браке и семье обсуждается с
различных сторон. Купец, «старого завета папаша»,
отстаивал домостроевские взгляды на жену: жена — раба мужа,
она бесправна и должна быть верна своему
супружескому долгу, а для мужчины это не обязательно. Когда
купцу напомнили о том, что женатые люди «веселятся»
на ярмарках, он был смущен, но тем не менее не
замедлил ответить: «Это статья особая». Автор не разделяет
394
точки зрения купца, так же как и взглядов «дамы»,
участницы спора, защищавшей идею «эмансипации»
женщин. Прочные семейные отношения могут быть
основаны не на чувственной любви, а на духовной
близости супругов.
Представителем автора в повести является ее герой
Василий Позднышев. Его страстный рассказ о своей
жизни, с юношеских лет и до трагической развязки —
убийства жены, составляет содержание «Крейцеровой
сонаты». Это одновременно и исповедь и проповедь, в
которой очень сильны мотивы обличения аморальной
жизни господ. Когда Позднышев говорит: «Брак-то в
наше время один обман!», он имеет в виду именно
«господский брак», «господскую» семью, отношение к
женщине со стороны господ. Среди народа иначе, думает
Толстой: там существуют прочные семейные начала,
освященные религией, хотя и туда начинают проникать
тлетворные начала буржуазной морали, хотя и в деревне
стали появляться женщины, нарушающие «закон»: «Я
пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Но это
несомненные следы влияния развратной жизни господствующих
классов, «жизнь наших высших классов, как она есть, со
всем ее бесстыдством, — заявляет Позднышев, — ведь
это один сплошной дом терпимости».
Дворянская молодежь еще задолго до женитьбы
привыкает смотреть на женщину как на «орудие
наслаждения». Позднышев — помещик и кандидат
университета — шел по типичному для всей дворянской
молодежи пути: пятнадцати лет его затащили в публичный
дом. «Попечительное правительство, — замечает он
саркастически, — заботится об этом» и вместе с докторами
учреждает «правильный, аккуратный разврат». С
гневом и отвращением он рассказывает, как «блудники» из
дворян, посетители публичных домов, появляются в
светских гостиных «чисто-начисто вымытые, выбритые,
надушенные, в чистом белье.. эмблема чистоты...
Я знаю, несколько высшего света девушек выданы
родителями с восторгом за сифилитиков! О! о мерзость! Да
придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!»
Толстой в своей повести с величайшим гневом и
беспощадностью обличает «мерзость» жизни
господствующих классов, «ложь» буржуазно-дворянского брака. В то
395
время когда господа заняты развлечениями, миллионы
рабов гибнут в каторжном труде на фабриках для
изготовления предметов роскоши. В этих гневных
обличениях сила социальной повести Толстого, которая в острой
памфлетной форме развивает тему распада семьи, тему
аморальности и нравственной деградации буржуазно-
дворянского общества.
Но в повести отразились и религиозно-аскетические
взгляды Толстого. Источник несчастной семейной жизни
Позднышева, завершившейся трагическим финалом,
заключается в том, что все его отношения с женой были
основаны исключительно на «чувственной» связи, между
ними не существовало общности духовной жизни,
поэтому жена и осталась для него после многих лет
совместной жизни «загадкой», «тайной». Суровый
аскетизм писателя сказался не только в осуждении, но даже
в категорическом отрицании «чувственной» любви. Во
имя нравственности надо «воздерживаться от
деторождения». Идеал доброй жизни для мужчин — в
целомудрии, высшее положение женщины — «положение
девственницы».
Толстой высказывает и свое резко отрицательное
отношение к демократическому движению за
раскрепощение женщины, за предоставление ей равных гражданских
прав с мужчиной. Разговоры о «новом женском
образовании» оцениваются им как «пустые слова».
«Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на
нее как на предмет наслаждения». Дело, таким
образом, по Толстому, не в социальном раскрепощении
женщины, не в борьбе за ее равноправие; никакими
общественными средствами, по мысли Толстого, нельзя
изменить существующие отношения между женщинами и
мужчинами, все равно первые останутся
«развращенными рабами», а вторые — «развращенными
рабовладельцами». Необходимо духовное и нравственное
обновление мужчин и женщин, обращение их к идеалу
аскетической жизни. Но это не могло быть решением вопроса.
Современная писателю жизнь буржуазно-дворянского
общества с его растленной моралью осуждена им и
отвергнута, но никакого рационального выхода из
создавшегося положения не предложено, — Толстой не нашел
решения проблемы семьи, потому что был скован дог-
396
мами христианской морали. Поэтому все побествование
в «Крейцеровой сонате» облито безысходной горечью,
глубоким неверием в возможность когда-нибудь установить
нормальные, гармонические отношения между людьми.
В. И. Ленин, определяя реально-историческое
содержание толстовщины как идеологии восточного,
азиатского строя, писал: «Отсюда и аскетизм, и
непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма, и
убеждение, что «все—ничто, все — материальное ничто»
(«О смысле жизни», стр. 52), и вера в «Дух», «начало
всего», по отношению к каковому началу человек есть
лишь «работник», «приставленный к делу спасения своей
души», и т. д. Толстой верен этой идеологии и в
«Крейцеровой сонате», когда он говорит: «эмансипация
женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне...» 1
Эти черты мировоззрения писателя нашли свое
отражение и в одновременно написанной повести «Дьявол»
A889). Толстой создал яркий образ Степаниды,
женщины, захваченной стихией чувственной любви и
лишенной всяких нравственных представлений о «грехе». В
повести раскрыты душевные борения Евгения Иртенева
с «дьявольским» наваждением, исходящим от Степаниды,
завершившиеся трагически. Но писатель не
ограничивается рассказом о пагубной власти «чувственности»,
«плотской любви» над душой Иртенева: в суровых,
аскетических тонах он утверждает, что и другим стихия
чувственной любви несет душевное опустошение и
физическую гибель: «Если Евгений Иртенев был
душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные...»
Таким образом, и в этой повести проявились глубокие
нотки пессимизма писателя, и в этой повести он
противопоставил земной жизни людей «вечные» истины
христианства с их аскетически суровой моралью.
1 В И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 31.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Дневники, обширная переписка, публицистические и
художественные произведения 90-х годов отражают
напряженную умственную жизнь Толстого. В сферу его
внимания попадают самые разнообразные вопросы, широта
его идейных и морально-этических интересов необычайна.
Но все их цементирует главное — раздумье над судьбами
парода, трагизм положения которого с потрясающей
силой вызывали следовавшие год за годом неурожаи.
Основная масса крестьянства в России находилась
к 90-м годам в такой кабальной зависимости от
помещиков, что была лишена возможности улучшить свое
хозяйство, которое велось на исключительно низком
уровне. Это с неизбежностью вызывало частые неурожаи
и голодовки, охватывавшие значительные районы страны.
Один из сильнейших неурожаев постиг Россию в 1891 —
1892 годах.
Толстой уже осенью 1891 года принимает деятельное
участие в организации помощи голодающим. Вместе со
старшей дочерью Татьяной Львовной и многочисленными
помощниками он организует в ряде уездов Тульской и
Рязанской губерний столовые для голодающих, жертвует
на это средства, выступает в печати по вопросам борьбы
с голодом. Эта деятельность Толстого не вызывала
одобрения в правительственных сферах. В ноябре
1891 года реакционные «Московские ведомости»
поместили ряд статей, направленных против Толстого как
организатора помощи голодающим, в которых он и его
сторонники именовались «общественными смутьянами».
398
Сам Толстой глубоко переживал надвигавшееся
народное бедствие. Голод крестьян не давал ему покоя
«жить дома, писать». Он тревожно думал, «что с этим
голодом что-то важное совершается, кончается или
начинается». 1 В живом общении с крестьянами Толстой
постигает степень народной нужды, приходит к
пониманию социальных причин голода и неурожаев,
периодически повторявшихся в значительной части России. Дело
не только в стихийных бедствиях, в засухе, а главным
образом в положении русского крестьянства, хронически
страдающего от безземелья.
Участие Толстого в помощи голодающим обогатило
его новыми, яркими и впечатляющими наблюдениями,
перед ним в разительном контрасте предстало положение
народа и господ. Народ умирал от голода, а баре
роскошествовали и пировали — основное кричащее
противоречие эпохи известно было писателю и до этого
голодного года, но особенно поразило его теперь. Дневник и
загйюные книжки Толстого наполнены записями на эту
тему. Под 19 сентября 1891 года в записной книжке
рассказано о посещении помещичьей семьи Бырдиных,
где «барыня полногрудая с проседью» «угощает и
кофеем, и кремом, и котлетами, и грустит о том, что
дохода нет... За столом подали водку и наливку и
предложили курить и объедаться». Такая же картина
была и у других помещиков. И рядом с этим в деревнях
и селах — голод, крайняя степень нищеты, болезни и
преждевременные смерти от непосильного труда и
истощения. «Ознобишино. Картофеля нет. Побираются почти
все». В деревнях пекли хлеб с лебедой, который не ели
ни собаки, ни свиньи. «Люди если съедят натощак, то
заболевают рвотой».
Последующие записи в дневнике так же ярко
отражают характерное для мировоззрения Толстого 80—90-х
годов резкое противопоставление двух миров — мира
господ и мира народа: «Вчера шел в Бабурино и
невольно (скорее избегал, чем искал) встретил 80-летнего
Акима пашущим, Яремичеву бабу, у которой во дворе
нет шубы и один кафтан, потом Марью, у которой муж
1 См. «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге Переписка». М.—Л., 1930,
письмо Ге от 9/XI—1891, стр. 147.
399
замерз, и некому рожь свозить, и морит ребенка, и
Трофим и Холявка, и муж и жена умирали, и дети их.
А мы Бетховена разбираем, и молился, чтобы он
избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли.
Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою
жизнь».! Еще перед тем как выступить в роли
организатора помощи голодающим, 28 сентября 1891 года,
Толстой записал в дневнике: «Неужели люди, теперь
живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно,
и не слезут добровольно, а дождутся того, что их скинут
и раздавят».2
Соприкоснувшись с морем народного горя, писатель
поспешил передать свои живые наблюдения над
бедственным положением народа, свое раздумье над его
горестной судьбой широким читательским массам. Так
возникли его «Письма о голоде», в которых в острой
публицистической форме были поставлены коренные
вопросы политического положения России начала 90-х
годов, с исключительной силой выражены и скорбные думы
писателя — народного заступника, его базграничный гнев
против господ-«паразитов».
Толстой с негодованием отвергает клеветнические
измышления господ, согласно которым «народ беден
оттого, что он ленив и пьяница». Главная причина
бедности народа, справедливо утверждает писатель, в том,
что на его шее «живут» многочисленные «господа»:
«Народ голоден оттого, что мы слишком сыты. Разве
может быть не голоден народ, который в тех условиях, в
которых он живет, то есть при тех податях, при том
малоземельи, при той заброшенности и одичании, в
котором его держат, должен производить всю ту страшную
работу, результаты которой поглощают столицы, города
и деревенские центры богатых людей?» 3
Сознание непреодолимой пропасти, разделяющей народ
и господствующие классы, выражено во многих листах
«Писем о голоде». Толстой иронизирует над «цивилизо-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 102.
Дневник, запись от 26/VII—1896.
2 Там же, т. 52, стр. 51.
3 Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого,
стр. 453. •¦ *г
400
ванными людьми», притворно исповедующими «любовь
к мужику, к меньшому брату». В действительности же
существуют «две разные 'касты»: «господа и рабы». х
Интересы «господ» и народа «всегда противоположны».
Толстой саркастически писал об эфемерной помощи
«господ» голодающему народу; сама мысль о
возможности такой помощи являлась противоестественной, ибо
всегда было наоборот — господа жили за счет народа. И,
разумеется, он не ждал от «господской» помощи ничего
реального, ибо все владельцы хлеба относились к
страданиям народа в высшей степени равнодушно. «Разве
теперь, — писал Толстой, — когда люди, как говорят,
мрут с голода, помещики, купцы, вообще богачи не
сидят с запасами хлеба, ожидая еще больших повышений
цен».2 Ни о каком сочувствии народу среди «богатых
классов» и речи быть не могло, поэтому вся
деятельность по помощи голодающим, исходящая от богатых
классов и от правительства, носила неискренний,
лицемерный характер. «Между нами и народом нет иной
связи, как связи враждебной, господина и раба. Чем
лучше мне, тем хуже ему. Чем лучше ему, тем хуже
мне».3 Голодный год внес в отношения между богатыми
классами и народом еще большее напряжение и
остроту: «струна слишком натянута».
Ленин в статье «Признаки банкротства»,
характеризуя провал экономической политики царизма, обращался
к событиям начала 90-х годов и цитировал «Письмо
о голоде» Толстого. Он писал: «Хищническое
хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной
эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как
неизбежное последствие, повторяющиеся от времени
до времени голодовки крестьян той или иной местности.
В эти моменты хищник-государство пробовало
парадировать перед населением в светлой роли заботливого
кормильца им же обобранного народа. С 1891 года
голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с
1897 г. почти непрерывно следующими одна за другой.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XVIII, стр. 53.
2 Там же, стр. 54—55.
3 Там же, стр. 54.
26 С. Бычков 401
В 1892 г. Толстой с ядовитой насмешкой говорил о том,
что «паразит собирается накормить то растение, соками
которого он питается». Это была, действительно, нелепая
идея». 1
Каковы же пути правильного решения вопроса об
улучшении участи народа? И здесь, как уже много раз
за последнее десятилетие, 'при решении вопроса: «что
делать?» — Толстой прибегает к своим излюбленным
религиозно-этическим доводам, наивно полагая, что все
«перегородки», отделяющие господ от народа, все «кастовые
черты» можно преодолеть на основе «всеобщей» любви.
От смелой критики буржуазно-крепостнических порядков
Толстой переходит к рекомендациям богатым классам
покаяться перед народом. Он верит: если будет проявлена
необходимая жертвенность, совершится то, что в
евангельской притче «совершилось при раздаче пяти хлебов.
Все насытятся, и еще останется».
«Письма о голоде», несмотря на свойственную всем
публицистическим статьям Толстого 80-х и 90-х годов
религиозно-этическую окраску, существенно
ослаблявшую их критическое содержание, тем не менее звучали
как сильнейшее обличение всего существовавшего
социального порядка. Разумеется, напечатать статью в
России было невозможно, и Толстой в конце 1891 года
передал ее в иностранные газеты. А в январе 1892 года
на страницах «Московских ведомостей» уже появились
извлечения из статьи в переводе с английского, которые
сопровождались следующей редакционной оценкой:
«Письма графа Толстого не нуждаются в комментариях:
они являются открытой пропагандой к ниспровержению
всего существующего во всем мире социального и
экономического строя... Пропаганда графа есть пропаганда
самого крайнего, самого разнузданного социализма,
перед которым бледнеет даже наша подпольная
пропаганда... Граф открыто проповедует программу
социальной революции, повторяя за западными социалистами
избитые, нелепые, но всегда действующие на
невежественную массу фразы о том, как «богачи» пьют пот
1 В. И. Лени н. Сочинения, т. 6, стр. 66—67.
402
народа, пожирая все, что народ имеет и производит!»
А. А. Толстая (двоюродная тетка писателя) в своих
воспоминаниях рассказывает, «какой переполох
последовал по всей Европе из-за этой статьи», каких наказаний
ни придумывали продажные журналисты Толстому: «ему
предсказывали Сибирь, крепость, изгнание из России,
чуть ли даже не виселицу». 1
В правительственных сферах были серьезно
встревожены выступлением Толстого. Н. Я. Грот 30 января
сообщал писателю: «Все богатые тунеядцы раздражены
против вас донельзя». Министр внутренних дел
И. Н. Дурново в специальном докладе Александру III
указывал на опасность статьи Толстого, которая «по
своему содержанию должна быть приравнена к наиболее
возмутительным революционным воззваниям»; однако,
опасаясь вызвать «смятение в умах», он рекомендовал
довольно осторожные меры: «предложить графу
Толстому через рязанского губернатора прекратить на
будущее время печатание в иностранных газетах статей
противоправительственного направления».2
Серьезная помощь Толстого голодающим, его смелые
обличения антинародной правительственной политики,
направленной на то, чтобы пресечь всякую «частную
благотворительность», воспретить организацию частных
йголовых, сделали его одной из самых популярных фигур
среди крестьян, усилили воздействие слова писателя на
самые широкие демократические круги русского
общества. Это вынуждены были признать и крупные царские
сановники. Победоносцев доносил Александру III о том,
что «умственное возбуждение» от сочинений Толстого
значительно усилилось. Министр просвещения И. Д. Де-
лянов давал циркулярные указания Московскому
университету не принимать от Толстого для чтения никаких
рефератов и статей. Волна цензурных гонений с каждым
годом нарастала. Было запрещено перепечатывать из
иностранных газет сочинения Толстого и сведения о его
1 П. И. Бирюков. Л. Н. Толстой. Биография, т. III, Берлин,
1921, стр. 251—252.
2 Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого,
стр. 465.
* 403
жизни. У толстовцев были произведены обыски, и
некоторые из них подверглись административной высылке.
В то же время сам Толстой, отражая нараставший
гнев народных масс против помещиков и царской
бюрократии, придает все большую обличительную силу своим
произведениям, ставя в них новые темы и вопросы.
В 1895 году появляется характерная запись в
дневнике писателя: «Жить остается на коротке, а сказать
страшно хочется так много. Хочется сказать и про то,
во что мы можем, должны, не можем не верить, и про
жестокость обмана, которому подвергают сами себя
люди — обман экономический, политический,
религиозный, и про соблазн одурения себя — вина и
считающегося столь невинным табака, и про брак, и про
воспитание. И про ужасы самодержавия. Все назрело, и
хочется сказать».1 Здесь намечена целая программа
обличений социального строя самодержавной России и всех
ее основных институтов, которая более значительно
реализована Толстым не только в публицистических, но
и в художественных произведениях последнего периода.
В 1895 году Толстой создает рассказ «Хозяин и
работник». В образе «хозяина», купца 2-й гильдии
Брехунова, писатель ярко запечатлел типические черты
жадных и жестоких стяжателей, которые в своем
безудержном стремлении к обогащению не
останавливаются ни перед чем. Такие портретные детали
Брехунова, как «выпуклые, ястребиные глаза», «длинные зубы»,
выразительно характеризуют природу наглого хищника,
уверенного в своем превосходстве над окружающими.
Стихия накопительства подчинила все его душевные
силы, вытравила в нем все человеческое, единственной
целью и смыслом его жизни было умножение денег,
богатства. Уже обреченный на замерзание, он мечтает
стать миллионщиком. В обличении стяжательской
природы частных собственников — сильные стороны образа
Брехунова.
Но и здесь писатель не ограничивается обличением,
вернее само обличение ему нужно было для
доказательства спасительной роли христианской религии, для
утверждения мысли о необходимости жизни «по-божьи». Всю
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 67.
404
жизнь купец «отчаянно мотался», как одинокий
чернобыльник в снежной, холодной пустыне, но перед смертью
его «посетил бог», и он пережил процесс духовного
«обновления». В Брехунове просыпаются чувства
человеколюбия, он испытывает радость и «торжественное
умиление» и, совершая акт самопожертвования, отогревает
своим телом замерзающего работника, того самого
Никиту, которого он не считал за человека и беспощадно
эксплуатировал.
Название рассказа раскрывает двойной план
подчиненности героев: Никита — работник у Брехунова, но и
сам купец является «работником» у «главного
хозяина» — бога. Таким образом, религиозно-моралисгиче-
ская тенденция в этом рассказе проступает со всей
очевидностью, снижая его обличительный пафос.
В 1896 году Толстой пишет исключительную по
резкости и яркости политической мысли статью «О
существующем строе», в которой высказывает свое
отрицательное отношение к политическому и государственному
устройству в России и определяет свои общественные
идеалы.
Писатель решительно заявляет: «Существующий строй
жизни подлежит разрушению... Уничтожиться должен
строй соревновательный и замениться коммунистическим;
уничтожиться должен строй капиталистический и
замениться социалистическим; уничтожиться должен строй
милитаризма и замениться разоружением и арбитра-
цией... одним словом, уничтожиться должно насилие и
замениться свободным и любовным единением людей».!
Четкие формулы Толстого отражали стремление русского
крестьянства уничтожить вместе с помещичьим
землевладением и помещичье правительство и «создать на
место полицейски-классового государства общежитие
свободных и равноправных мелких крестьян...» 2 Однако
для воплощения этих социалистических в своей основе
идеалов Толстой предлагал совершенно наивные и по
существу реакционные «средства». Он отвергал и
революционный и реформистский способы преобразования
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. XVIII, изд.
Сытина, стр. 147.
2 В. И, Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 183.
40»
существующего социального порядка как не
достигающие своей цели, полагая, что для падения строя насилия
достаточно каждому отказаться от политической и
государственной деятельности, «не участвовать в том
насильственном строе жизни, который мы отрицаем и
хотим изменить». * Каждый, по мнению Толстого, должен
«думать только о себе и своей жизни». Немалое место в
мечтаниях писателя о путях преобразования жизни
занимала совершенно утопическая надежда на то, что
угнетатели и насильники «добровольно» откажутся от
эксплуатации народа и слезут с его шеи. Поэтому он и
обращался к совести и разуму представителей богатых
классов, надеясь побудить их своими этическими
призывами к покаянию перед народом.
Толстой глубоко размышлял над пороками
буржуазного общества и нередко от частных явлений переходил
к широким социальным обобщениям. Мальчик,
изгнанный из школы за дурные наклонности, для него —
серьезный симптом порочности всего общества,
свидетельство того, что «вся жизнь общества неправильна, и
надо изменить ее».2
Дневниковые записи писателя этой поры раскрывают
перед нами всю глубину критики Толстым капитализма,
развращающего и калечащего здоровую природу
человека. Капитализм прививает человеку дурные качества,
«научает» его зависти, жадности, эгоизму.
«Капиталистическое соревновательное устройство» противно самой
человеческой природе. Больше того — буржуазная
цивилизация несет с собой физическое истребление человека,
она направлена против народа. Толстой с волнением
заносит в дневник запись о том, что компании железных
дорог в Нью-Йорке ежегодно губят человеческие жизни
из-за того, что не хотят переделать переезды: «переделка
эта стоит дороже, чем уплата семьям ежегодно
раздавленных». Все технические усовершенствования при
капитализме «делаются жизнями человеческими. А надо
ценить каждую жизнь человеческую — не ценить, а ставить
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, изд. Сытина,
т. XVIII, стр. 148.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 53 стр. 82.
Дневник, запись от 27/11—1896.
ее выше всякой цены, и делать усовершенствования так,
чтобы жизни не гибли и не портились». 1 Эти строки
мог написать только великий гуманист, для которого
человек был самым ценным и самым совершенным
творением природы. Однако при существовавших социальных
порядках жить человеку было крайне трудно;
буржуазное общество так опутало человеческую личность и весь
народ, так связало их по рукам и ногам, столько
изобрело новых «крепей», что «великому народу двинуться
нельзя».
В чем же Толстой видит выход? Он опять-таки
прибегает к своей обычной религиозно-этической проповеди,
полагая, что в данных условиях задача рабочих «учиться
общаться, нравственно совершенствоваться». Правда, он
здесь же спешит заметить, что процесс «нравственного
совершенствования» можно осуществить «никак не при
капиталистическом соревновательном устройстве, а при
совершенно другом».2
Но какое это другое устройство, какими путями
устранить капитализм, как народу завоевать себе
свободу — на эти вопросы Толстой не дает ответа. Он
высказывает мысль о полном отстранении от политики и,
подобно патриархальному крестьянину, проявляет
совершенную беззаботность относительно форм будущей
общественной жизни: главное, по его мнению, «служить богу
исповеданием истины и проповедованием ее без всякой
заботы о форме общественной жизни». Лишь на путях
христианства можно уничтожить бедность и социальную
несправедливость, а поэтому среди рабочих не следует
вести революционную пропаганду и агитацию, их можно
«поднять умственно» «только религиозным
воспитанием». И это проповедовалось в условиях нарастания
революционного рабочего движения.
* * *
90-е годы принесли победу марксизму над идеологией
народников. Г. В. Плеханов начал, а В. И. Ленин
завершил идейный разгром народничества. В ходе борьбы
1 «Дневник Л. Н. Толстого под ред. Черткова», т. 1, стр. 120.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 85.
407
марксистов с народниками наиболее остро ставились и
обсуждались проблемы развития капитализма в России,
судьбы крестьянской общины, законы развития общества,
вопросы о роли пролетариата и крестьянства в
революционном движении. И как ни далек был Толстой от этой
политической жизни, тем не менее многое и в его
публицистике, и в переписке, и в проблематике художественных
произведений обуславливалось именно этой идейной
жизнью указанного десятилетия. Одна из дневниковых
записей звучит как непосредственная реплика в живом
полемическом споре. «Ошибка марксистов (и не одних
их, а всей матерьялистической школы), — записывает он
3 августа 1898 года, — в том, что они не видят того, что
жизнью человечества движет рост сознания, движение
религии, — более и более ясное, общее, удовлетворяющее
всем вопросам понимание жизни, а не экономические
причины».1
Из этих слов ясно, что Толстой выступает
убежденным противником материализма и научного социализма;
материалистические законы развития общества для него
остались непостижимы, он настойчиво и упорно
отстаивает мысль о религии как об единственной силе
исторического развития. В этом состояло одно из величайших
заблуждений писателя, к которому привело его
«воздержание от политики... отсутствие интереса к ней и
понимания ее...» 2
Но именно «экономические причины», развитие
капитализма в России сформировали российский
пролетариат, который как самостоятельная политическая сила
уже выступил на историческую арену. С 70-х годов
начинается в России рабочее движение. «Группа
освобождения труда», созданная Г. В. Плехановым за границей,
начала распространять марксизм в России, а «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса», созданный
великим Лениным в самой России в 1895 году,
положил начало соединению социализма с массовым рабочим
движением.
Независимо от того, как относился к марксизму и
пролетарской борьбе Толстой, марксизм и пролетар-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 206.
2 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 184.
498
екая борьба были величайшими историческими
факторами в жизни России и решающим образом влияли на
весь ход политической жизни в стране, особенно в
90-е годы. В конечном счете они определяли расстановку
сил и направлений как на политической арене, так и в
области искусства и литературы.
Именно победная поступь пролетариата, могильщика
капитализма и всякой эксплуатации, решающим образом
определяла «самочувствие» различных политических
классов, партий, группировок во всех сферах жизни,
определяла их внутренние взаимоотношения, их
антагонизм, союзы, блоки.
Существенное изменение в расстановке сил на
политической арене прямо касалось Толстого, его
критической деятельности и его проповеди.
Толстой был связан с патриархальным крестьянством,
был его идеологом. Крестьянство до выступления
пролетариата было единственным революционным
сословием в России. Толстой в своей критике самодержавных
устоев опирался тем самым на революционную силу в
стране. На протяжении всей полувековой деятельности
Толстого крестьянство было той революционной силой,
с которой связывали, разумеется в различной форме,
свою деятельность все лучшие, прогрессивные элементы
русского общества, разночинная интеллигенция,
революционные демократы 60-х годов и позднее народники.
С ростом пролетарского движения, распространения
революционного марксизма положение в корне
изменяется. Крестьянство из ведущей силы в русской
революции становится ведомой, зависимой, подчиненной.
Гегемоном в назревавшей буржуазно-демократической
революции в России выступает пролетариат, который
опирается на многомиллионное крестьянство как на своего
союзника. Логикой вещей идеолог патриархального
крестьянства Толстой против своей воли оказывается
непосредственно вовлеченным в громадный исторический
процесс подготовки русской буржуазно-демократической
революции, и вся его беспощадная критика самодержавия,
его борьба за мужика в это время становится особенно
значительной и действенной, хотя Толстой и разделяет
всю непоследовательность 'крестьянства в современной
политической борьбе.
409
В обстановке 90-х годов особенно замечательной
была борьба Толстого с буржуазным декадентским
искусством. В 1897 году он пишет свой трактат «Что
такое искусство?», в котором со всей страстью обрушивается
на современное загнивающее буржуазное искусство.
На борьбу с этим искусством Толстого толкал его
демократизм, и у него были уже давние счеты с
искусством привилегированных классов. Но до конца значение
этой борьбы мы не поймем, если не учтем того
обстоятельства, что сам декаданс в русском буржуазном
искусстве и литературе вызван был именно выступлением
пролетариата на историческую арену как могильщика
буржуазии и всей его «культуры», который начал мощно
и с удивительным знанием дела расшатывать все здание
и многочисленные пристройки российского самодержавно-
помещичьего и буржуазного строя. Декаданс искусства
был не просто извне привитым явлением в России, а
вызван был прежде всего внутренним процессом
политической борьбы в России, в которой сложилась «своя»
трусливая, подлая буржуазия, шедшая в блоке с
царизмом против народа. Решение задач
буржуазно-демократической революции в России взяли на себя пролетариат
и его партия.
Русские декаденты — все эти Мережковские,
Бальмонты, Минские, Арцыбашевы и прочие идеологи
распада — имели предшественников и учителей на Западе,
но они были сами продуктом гниения русской
буржуазной культуры, чадами этой буржуазии, которая все более
и более проникалась сознанием своей исторической
обреченности и не была заинтересована в реализме, искала
отдохновения в символизме, кликушестве и различных
мистических теорийках.
Крестьянство само не могло вынести окончательного
беспощадного приговора всей буржуазной культуре, —
его вынес пролетариат. Но демократизма Толстого в
этой обстановке было достаточно, чтобы вскрыть многие
действительные пороки буржуазного искусства и его
паразитическую сущность в целом.
Толстой подвергает критике философские основания
декадентского искусства от Канта и Шопенгауэра до
Ницше. Толстой знакомится с произведениями
«новейших» писателей: Малларме, Метерлинка, Верлена, Бод-
{10
лера, Бурже, Гюисманса, полными призывов к «красивой
бессмыслице», порнографии, самодовлеющей форме,
аморальности. Вся эта литература вызывает гнев и
отвращение у Толстого. «Современному искусству, — писал
Толстой, — все меньше и меньше интересны требования
рабочей толпы, все делается и пишется для сверхчело-
веков, для высшего, утонченного типа праздного
человека». 1
Трубадурами декаданса в России выступают
Мережковский, выпустивший в 1893 году брошюру «О причинах
упадка и о новых течениях современной русской
литературы», и Минский, издавший книгу «При свете совести».
Русские декаденты окопались в журнале «Мир
искусства», который откровенно оплевывал классические
традиции русской литературы, объявлял Толстого и
Чернышевского «разрушителями эстетики». Закипели
ожесточенные споры в журналах, литературных обществах,
салонах о дальнейших путях развития русского
национального искусства и литературы. М. Горький в статье
«Поль Верлен и декаденты» A896) сорвал маски с «этой
болезненно извращенной литературной школы»
представителей «литературной богемы».
Толстой подвергал осмеянию русских декадентов:
Ф. Сологуба, 3. Гиппиус, Л. Андреева, И. Северянина, во
главе с их столпами — Мережковским и Бальмонтом,
называя эту поэзию «шарлатанством, ерундистикой»,
«бессмысленным плетением словес», которым декаденты
занимаются «от страха взглянуть правде в глаза».2
Прочитав роман Арцыбашева «Санин», Толстой с
возмущением сказал: «Прочел все рассуждения самого
Санина — и ужаснулся не столько гадости, сколько
глупости, невежеству и самоуверенности, соответствующей"
этим двум свойствам автора... (В романе. — С. Б.) нет
описания ни одного истинного человеческого чувства, а
описываются только самые низменные, животные
побуждения; и нет ни одной своей новой мысли, а есть
только то, что Тургенев называет «обратными общими
местами»: человек говорит обратное тому, что всеми
1 «Литературное наследство», т. 37—38, 1939, стр. 72.
2 «Л. Н. Толстой в русской критике», <сб. статей, М, 1949,
стр. 386.
VI
считается истиной, например, что вода сухая, что уголь
белый, что кровосмешение хорошо и т. п.».*
Но размышления о декадентском искусстве привели
Толстого к более широким выводам о «господском»
искусстве вообще, позволили особенно четко
откристаллизоваться его старым претензиям к искусству
эксплуататорской верхушки. Еще в 60-е годы у Толстого мы
встречаем недоброжелательное отношение к некоторым
элементам этого искусства, критику его за равнодушие
к народу. Мы не должны забывать при этом, что Толстой
нередко впадает в крайность и, например, отрицает
Шекспира и его драмы за их якобы малопонятность,
искусственность и даже холодность. Но, опрокидывая
множество действительно эфемерных знаменитостей и не веря
в «авторитеты», Толстой уже в «Войне и мире»
издевается над «господским» искусством, в нарочито
карикатурной форме рисуя оперное представление в наивном
восприятии Наташи Ростовой. В этом стихийном
нигилизме Толстого было много правды, и никакая софистика
идеалистической аристократической эстетики не могла его
удовлетворить, ибо он знал твердо: искусство
принадлежит народу, героем его должен быть народ, искусство
должно быть понятно народу.
В своем итоговом трактате «Что такое искусство?»
Толстой подвергает критическому анализу
многочисленные определения сущности искусства у самых
знаменитых, самых претенциозных философов и мыслителей:
Баумгартена, Винкельмана, Канта, Шеллинга, Гегеля,
Герберта Шопенгауэра, Бергмана, Шербюлье, Верона,
Спенсера и др., и приходит к удручающему выводу, что
все они судили об искусстве абстрактно, забыв о народе,
в угоду пресыщенной верхушке общества.
Своеобразной прелюдией ко всему трактату являются
слова в начале: «Сотни тысяч рабочих — плотники,
каменщики, красильщики, столяры, обойщики, портные,
парикмахеры, ювелиры, бронзовщики, наборщики —
целые жизни проводят в тяжелом труде для
удовлетворения требований искусства, так что едва ли есть какая-
1 «Летописи Литературного музея», кн. 2, «Л. Толстой», М.,
1938, стр. 270.
412
нибудь другая деятельность человеческая, кроме военной,
которая поглощала бы столько сил, сколько эта». 1
Народу от этого искусства ни жарко, ни холодно: он по-
прежнему в рабстве и труде. Искусство господ для
народа лишь дополнительное бремя.
Односторонность толстовской мысли очевидна: народу
есть дело до творчества Пушкина, Гоголя, Некрасова,
Репина, Сурикова, Глинки, Чайковского, самого Толстого,
и, конечно, лучшие представители русского
реалистического искусства старались помочь народу, отразить его
борьбу, его духовную мощь, верили в его светлое и
великое будущее. Передовое искусство всегда было сильно
связью с думами и чаяниями народа.
Но не всякое искусство передовое. Было искусство,
открыто связанное с «денежным мешком», было и
декадентское реакционное искусство. Толстой с самого
начала трактата верно берет масштаб и критерий оценки
искусства — народ и его нужды у него на первом плане...
Толстой ставит вопрос о «степени» участия народа в
искусстве и о пользовании его благами. Одну из
главнейших причин современного упадка искусства Толстой
видел в том, что оно оторвано от народа, а «великие
предметы искусства только потому и велики, что они
доступны и понятны всем».
Вся критика современного буржуазного искусства у
Толстого основательна, блестяща и бьет не в бровь, а в
глаз: «Искусство нашего времени и нашего круга —
говорит он, — стало блудницей». Рассуждения Толстого
отражают не только его теоретические понятия об
искусстве, но и его огромный личный писательский опыт.
В них много глубоко верных и интересных признаний из
области творческой лаборатории мирового художника.
Сюда относятся, например, указания на
необходимость широкой концепции у автора, рассуждения
Толстого о «чуть-чуть» в искусстве, то есть о значении
чувства меры и выразительных деталей в обрисовке
характеров и типов. Многочисленные высказывания Толстого
об истинном реалистическом искусстве сводились у него
Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 28.
413
к следующим трем требованиям: 1) в произведении
должна быть значительность и новизна содержания,
потому что всякое произведение искусства тогда только
произведение искусства, когда оно открывает новую
сторону жизни, 2) красота формы, гармонически
согласующаяся с содержанием, и 3) искренность художника, его
вера в то, что он изображает, любовь к своему предмету.
Толстой считал: «Искусство имеет целью заражать людей
тем чувством, которое испытывает художник». В
противовес праздному, сибаритскому рассмотрению искусства как
служения красоте и наслаждениям, Толстой определяет
искусство как одно из средств общения людей, «как одно
из условий человеческой жизни».
Однако при этом Толстой ошибочно сужал задачи
искусства передачей толЫко чувств людей, а не мыслей,
и это' противоречило очевидным фактам и всей его
собственной творческой практике. Толстой также полагал,
что' содержание искусства определяется религией,
выяснению характера влияния которой в современном обществе
он и посвящает множество страниц. Здесь сильно
выступали характерные предрассудки Толстого-проповедника.
Рациональное зерно рассуждений Толстого об
искусстве: критерий народности, реализма, значительность
обобщений, связь эстетики с этикой, воспитывающие
функции искусства, суд над жизнью — все это сближало
его с традициями русской реалистической эстетики.
В. В. Стасов рассказывает, как Толстой был «поражен»
своим сходством с Чернышевским, когда в 1896 году
в беседе он напомнил Толстому одно из важнейших
требований знаменитых «эстетических отношений искусства
к действительности» Чернышевского: «искусство должно
выносить приговор над действительностью».
Приговором над царской действительностью было и
все творчество Толстого.
Традиции русского критического реализма жили в его
собственном творчестве. Толстого окружали и многие
великие носители этих традиций, продолжавшие их
разрабатывать и развивать дальше. В Ясной Поляне, в
московском доме у Толстого побывало все передовое русское
искусство и литература: Тургенев, Чехов, Короленко,
Горький, Стасов, Репин, Серов, Шаляпин, Танеев, Гинц-
бург и бесчисленное множество других.
414
После перелома в мировоззрении Толстой порвал
издавна тянувшиеся дружеские отношения с соседом по
имению поэтом А. Фетом. Декаденты, отчасти путем
фальсификации, отчасти и не без оснований, стали
поднимать на щит «чистое» искусство Фета. Сам поэт,
увлекавшийся Шопенгауэром, высказывался о поэзии
совершенно в духе новейшего декаданса: «Художественное
произведение, в котором есть смысл, для меня не
существует», «В нашем деле истинная чепуха и есть истинная
правда», «Моя муза не лепечет ничего, кроме
нелепостей», и прочее. Эти высказывания совершенно в духе
«фетовского безобразия» (слова И. С. Тургенева), столь
уже ярко проявившегося ранее того в его
ультрареакционных рассуждениях по крестьянскому вопросу. Сам
Фет чувствовал всегда непрочность своих связей с
Толстым: «Расходясь в самом корне мировоззрения,—
писал Фет в одном из частных писем, — мы очень
хорошо понимаем, что я, например, одет в черном и руки
у меня в чернилах, а он в белом и руки в мелу.
Поэтому мы ухитряемся обнимать друг друга, не
прикасаясь пальцами, марающими приятеля». Но для
Толстого была теперь невыносимой такая искусственная
дружба.
Передовые деятели, встречавшиеся с Толстым,
нелицеприятно высказывали ему свои суждения о его взглядах.
Но их отношение к Толстому-художнику, к тому, что в
нем было силой, было проникнуто глубокой любовью и
высоким уважением.
Чехов писал в одном из писем: «Когда в литературе
есть Толстой, то легко и приятно быть литератором, даже
сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так
страшно, так как Толстой делает за всех».1 «Не сирота
я на земле, пока этот человек есть на ней!» — сказал
Горький. Тургенев еще раньше со смертного одра
обращался к писателю, которому «у нас и равного давно нет»,
чтобы сказать: «Как я был рад быть вашим
современником, чтобы выразить вам мою последнюю, искреннюю
просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной
деятельности! Ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое...
1 А. П. Чехов. Полное собрание сочинений, т. 8, стр. 312—31Э.
Письмо М. О. Меньшикову от 28/1—1900.
415
Друг мой, великий писатель русской земли, — внемлите
моей просьбе!» 1
И Толстой всегда чувствовал прилив творчес'ких сил
при встречах с Чеховым, Короленко, Горьким, высоко
державшими знамя реализма. Толстой очень любил
талант Чехова, восхищался его изумительным мастерством,
читал и перечитывал (рассказы: «Душечка», «Тоска»,
«Злоумышленник», «Спать хочется». Несколько позднее,
в Гаспре, куда приехал Толстой лечиться, Чехов, живший
в Ялте, в своем доме, часто навещал Толстого, и они
проводили время в беседах. Толстой говорил о творчестве
Чехова: «У него мастерство высшего порядка. Я
перечитывал его рассказы, и с огромным наслаждением.
Некоторые, например, «Детвора», «Спать хочется»,
«В суде» — истинные перлы. Я положительно все подряд
читал с большим удовольствием». Единственным
недостатком Чехова Толстой считал отсутствие у него
цельного и глубокого мировоззрения. Толстой не принимал и
некоторых новаторских приемов Чехова-драматурга,
«подводного течения» в его пьесах, изображения
настроений. Чехов же не разделял идей опрощения и
непротивления Толстого, но он сочувствовал его боли за народ.
Два подлинно великих представителя критического
реализма, каждый по-своему, делали общее большое дело и
душой были обращены к народу.
Многозначительны были встречи Толстого с
Максимом Горьким. Они встретились в Москве в хамовниче-
ском доме Толстого в 1900 году. Горький понравился
Толстому как «настоящий человек из народа»; но в лице
Горького уже начинала говорить та, непонятная
Толстому, историческая сила — русский пролетариат, —
которая оказывала решающее влияние на весь ход событий
в России и косвенно влияла на деятельность самого
Толстого. В Горьком Толстой видел живой пример
народной талантливости, неиссякаемых сил, в которые он
всегда верил, но с Горьким выступал и самый суровый,
самый трезвый и непримиримый судья над религиозным
учением Толстого, каких еще ни разу Толстой не встре-
1 И. С. Тургенев. Собрание сочинений, т. 11, изд. «Правда»,
М., 1949, стр. 384.
416
чал на своем пути. Поэтому отношения с Горьким у
Толстого носили двойственный характер.
Осенью того же года Горький еще раз
посещает-Толстого в Москве; к этому времени относится известная
фотография, на которой Толстой и Горький снялись вместе.
Горький видел в Толстом прежде всего великого
писателя, и его посещения мало напоминали назойливые
визиты многочисленных толстовцев, осаждавших дом в
Хамовниках и в Ясной Поляне. Горький испытывает к
Толстому чувство глубочайшего уважения, даже
благоговейного почитания, он видит в нем «колоссального
человека», необыкновенную «творческую силищу», и не раз
Толстой изумлял и потрясал Горького всем богатством
своей удивительно одаренной натуры. Но Горький с
первых встреч заметил, что в этом богатом оркестре, каким
представлялся ему Толстой, «не все трубы играют
согласно», но «все, что он говорил, было удивительно
просто, глубоко... ужасно хорошо». «Я все не верил, —
сообщал Горький в письме к Чехову, — что он атеист,
хотя и чувствовал это, а теперь, когда я слышал, 'как он
говорит о Христе, и видел его глаза, — слишком умные
для верующего, — знаю, что он именно атеист, и
глубокий». 1 Но Горького не могли удовлетворить в беседах
с Толстым ни его «атеизм», ни тем более его
непротивленческая религия. Бунтарский, гордый торьковский
апофеоз Человека слишком противостоял 'примиренческой
философии Толстого.
Толстой в 1901 году со свойственной ему энергией
выступил в защиту Горького, содержавшегося тогда в
нижегородской тюрьме. Горький в дни пятидесятилетнего
юбилея литературной деятельности Толстого в 1902 году,
вместе с К. С. Станиславским, В. И.
Немировичем-Данченко, Ф. И. Шаляпиным, послал приветственную
телеграмму Толстому. В том же году они часто встречались
в Крыму, где Толстой лечился от тяжелой болезни, чуть
было не сведшей его в могилу.
Но вскоре последовало заметное охлаждение в
отношениях между Толстым и Горьким. Охладел не Горький,
1 М. Горький. Материалы и исследования, т. II, изд. АН
СССР, 1936, стр. 189.
27 С. Бычков 417
Дабно уже хорошо видевший противоречия Толстого й
продолжавший любить попрежнему, если не больше,
великого народного художника. Толстой начал отрицательно
относиться к творчеству буревестника революции.
Толстой откликнулся на революцию рядом статей:
«Об общественном движении в России», «Великий грех»,
«Единая на потребу», в которых он не только еще и еще
раз разоблачал правительство помещиков и требовал
справедливого решения земельного вопроса, но и
выступил с резким осуждением революционных методов
борьбы, против революционеров, подстрекающих, по его
мнению, к «ненужному» пролитию крови. Горький
написал Толстому «резкое» письмо, которое, однако, не
отправил. Горький резко осуждал Толстого как «апостола
терпения и кротости»; о его теории «непротивления злу»
он говорил, что не знает «лозунга, более обидного для
человека».
Интересы революции для Горького были превыше
всего, и он умел бороться против толстовщины, за
подлинного, великого Толстого. В позднее написанных
воспоминаниях о Толстом Горький подытожил свои
взаимоотношения с Толстым и выразил всю свою беспредельную
любовь к великому писателю русской земли, с
восхищением говоря о том, как «много жизни обнял этот
человек», как бессмертны его художественные творения, его
упорный, более чем полувековой, труд.
В 90-е и в начале 900-х годов Горький и Толстой,
связанные личными отношениями, оказывались в ходе
нараставшей политической борьбы в одном лагере
передовой России, ненавидевшей самодержавие и
самоотверженно защищавшей народ. Поэтому Горького
искренне радовало нарастание критической силы в
творчестве Толстого. Горький считал, что без Толстого
невозможно представить себе России, и России борющейся,
бунтующей, протестующей. Борясь с иных, чем Толстой,
идейных позиций, Горький видел, как его мощные удары
сливаются с ударами Толстого. Ни на йоту не забывая
о принципиальных своих расхождениях с Толстым,
Горький говорил ему в беседах в Крыму: «Продолжайте лишь
вы ваше дело, а мы поможем».1
1 «Красная газета», 1928, № 257.
418
Большая идейная борьба по Защите прийцйпов
критического реализма, проведенная Толстым в сложной
обстановке 90-х годов, непосредственно накануне первой
русской революции, позволила ему подняться еще
выше в своем реалистическом творчестве, до предела
напрячь свои силы и сознательнее и сильнее, чем
когда-либо, покарать зло, поставить себя в самые
непримиримые отношения с царской государственной машиной,
с церковью, со всеми эксплуататорскими классами.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
На скрещении разнообразных идейных воздействий
эпохи вызревал у Толстого замысел романа
«Воскресение» A889—1899), который по своей идейной и
общественной проблематике был органически связан с
основными вопросами русской жизни. Свое глубокое
осуждение социальной действительности, обрекавшей народ
на величайшие страдания, свои этические идеалы,
проникнутые пониманием высокого назначения искусства в
жизни, Толстой и стремился воплотить в этом романе.
Еще в марте 1889 года он в письме к Русанову
признавался, что его тянет писать «роман широкий,
свободный, вроде «Анны Карениной», в который без напряжения
входило бы все, что кажется мне понятым мною с новой,
необычайной и полезной людям стороны».1
Всем читателям «Воскресения» памятен знаменитый
зачин романа, написанный в суровом проповедническом
тоне и сразу же настраивающий на глубокие
размышления. И какое огромное содержание вместил этот
страстный, напряженный и в то же время эпически размеренный
толстовский период. Здесь и торжественный гимн
радостям жизни, прославление всепобеждающей весны,
несущей с собой всеобщее обновление, и здесь же скорбная
повесть о безмерных человеческих страданиях. Жизнь
природы прекрасна. Она располагает к миру, согласию и
любви. Но нет мира и счастья на земле, пока
господствуют хищные и жестокие собственники, сидящие на
шее народа. Беспощадное обличение растленной морали
1 «Вестник Европы», 1915, № 3, стр. 15.
420
буржуазно-дворянского общества пронизывает все
страницы «Воскресения». Вступление (Предвещает читателю
многообразие тем романа, оно содержит в зародыше
последующие конфликты между героями и целыми
классами общества, блестяще раскрытые писателем.
В огромном литературном наследии Толстого роман
«Воскресение» занимает выдающееся место как
произведение, явившееся итогом идейных, религиозно-этических
и эстетических исканий великого писателя. В
«Воскресении» скрестилось множество жизненно важных для
писателя тем, отразивших в себе искания всей русской
литературы девятнадцатого столетия. В романе достиг
высшего напряжения обличительный пафос Толстого,
наиболее четко определилась общественно-политическая
позиция писателя как выразителя интересов
многомиллионных масс русского патриархального крестьянства, и
в то же время с исключительной яркостью раскрылось все
бессилие Толстого-мыслителя в его попытках спасти
человечество от всех зол при помощи своей
религиозно-этической рецептуры.
В русской литературе «Воскресение» явилось
вершиной критического реализма, — ничего равного этому
роману критический реализм и в последующие годы не
создал. Рядом с ним вызревали уже произведения
социалистического реализма. Толстой выступал в роли
гениального завершителя целого периода русской литературы.
Примечательна сама общественно-политическая и
идейная атмосфера, в которой вызревал и претворялся
в жизнь замысел «Воскресения». Возник этот замысел в
июне 1887 года, когда судебный следователь Анатолий
Федорович Кони, гостя в Ясной Поляне, поведал Толстому
известную ему по службе историю жизни Розалии Они,
вошедшую составной частью в сюжет будущего романа.
И хотя писатель очень заинтересовался рассказом Кони
и находил, что тема его «очень хороша и нужна», но
сразу он не начал писать — видимо, необходимо было
определенное время для вызревания творческих планов.
«Писать головой очень хочется, — признавался Толстой,—
и знаю, что нужно, а не могу — сердцем не тянет».!
1 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 64,
стр. 102.
421
Прошло более десяти лет, прежде чем писатель смог
творчески разработать тему, сообщенную Кони, и эти годы
были насыщены крайне драматическими социальными
событиями.
В декабре 1889 года в дневник была занесена запись:
«Смутно набираются данные для изложения учения и
для Коневской повести».1 В это время и была создана
первая редакция «Коневской повести», которая не
удовлетворила писателя. В июне 1890 года Толстой записал в
дневнике, что он «уяснил себе внешнюю форму Конев-
ского рассказа. Надо начать с заседания (Суд). И тут
же юридическая ложь и потребность его правдивости».
Однако работа над романом в 1890 году существенно
не продвинулась вперед. 25 января 1891 года писатель
вновь заносит в дневник: «Как бы хорошо писать роман
de longue haleine (продолжительный), освещая его
теперешним взглядом на вещи». Толстой не может
ограничиться публицистической формой пропаганды своих
этических идеалов, ему необходимо воплотить их в
художественные образы большого романа. Таким романом
девять лет спустя и явилось «Воскресение». Писатель
неоднократно принимался за реализацию своего замысла,
и каждый раз его или не удовлетворяло начатое
произведение, или отвлекали другие дела: в числе их были и
помощь голодающим, и разработка проблем искусства, и
распространение своего учения, и работа над другими
произведениями — «Хозяин и работник», «Отец Сергий»,
«Хаджи-Мурат» и другие. Но всякое новое обращение
Толстого к «Воскресению», как видим, происходило уже
на иной основе: писатель идейно и творчески обогащался.
5 ноября 1895 года он записывает в дневнике:
«Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет
«Воскресение». Ложно начато. Я понял это, обдумывая
рассказ О детях — Кто прав; я понял, что надо начинать
с жизни 'крестьян, что они — предмет, они —
положительное, а то — тень, то — отрицательное. И то же понял и
о Воскресении. Надо начать с нее. Сейчас хочу начать».2
Некоторое время Толстой с увлечением работает над этой
1 См. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н.
Толстого, стр. 415.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 69.
422
нАвой редакцией «Воскресения», но скоро опять
оставляет его. Он начинает объяснять трудности в работе
над этим произведением тем, что его сюжет не возник
органически в его творческом сознании, а был ему
рассказан другим лицом. «Коневская не ъо мне родилась; от
этого так туго».1 5 января 1897 года, перечитывая
написанные главы, Толстой остается глубоко недоволен теми
из них, в которых описывается решение Нехлюдова
жениться на Катюше. «Все неверно, выдумано, слабо, —
записывает он в дневнике. — Трудно поправлять
испорченное. Для того, чтобы поправить, нужно: 1) непременно
описывать его и ее чувства и жизнь. И положительно
и серьезно ее, и отрицательно и с усмешкой его. Едва ли
кончу. Очень все испорчено».2
Во второй половине 1898 года он в последний раз
обращается к работе над «Воскресением». К этому его
побудила необходимость собрать денежные средства для
переселения духоборов, уезжавших от гонений царского
правительства в Канаду. Вопрос о духоборах возник еще
в 1895 году, когда за отказ их по религиозным мотивам
от воинской службы и от участия в других формах
государственного насилия они были подвергнуты свирепой
экзекуции и разбросаны по разным деревням Тифлисской
губернии. Этим вопросом заинтересовался В. И. Ленин.
Он отредактировал и отправил в Женеву статью о
гонениях на духоборов, присланную в журнал «Работник»
(№ 1—2 за 1896 год). В ней говорилось о том, что
«возмутительная история» с преследованием духоборов
«вскрывает нам тот страшный, азиатский деспотизм,
который совершенно немыслим в цивилизованной стране».3
Таким образом, движение духоборов, ради помощи
которым Толстой решил закончить свой роман, явилось одной
из форм протеста против жестокостей и «ужасов
самодержавия», о которых он хотел говорить еще в 1895 году
в специальной статье.
На этот раз Толстой так увлечен «Воскресением», что
думает о нем днем и ночью. «Думаю, что оно будет иметь
значение. Оно много изменено», — сообщает он в одном
1 «Дневник Л. Н. Толстого под ред. Черткова», стр. 38.
2 Там же, стр. 71.
3 См. «Летописи Государственного литературного музея
Л. Н. Толстого», М., 1938, стр. 5.
423
письме. 21 октября 1898 года Толстой писал П. А. Бу-
ланже: «Я очень рад был случаю заняться своей
художественной деятельностью, работая над «Воскресением»,
и утешаю себя тем, что работа получает более важное
значение, в сущности же предаюсь любимому делу, как
пьяница, и работаю с таким увлечением, что весь
поглощен работой».1 Спустя две недели Толстой озабочен уже
тем, что чем дальше он подвигается в своей работе, тем
«нецензурных мест становится больше». Поэтому он в
письме 7 ноября 1898 -года просит издателя А. Ф. Маркса,
с которым были уже подписаны «условия» насчет
«Воскресения», поручить просмотр произведения литератору,
знающему требования цензуры. Таким литератором
оказался редактор «Нивы» Сементковский, с огромным
количеством цензурных вымарок которого Толстой
впоследствии согласился.
Печатание «Воскресения» началось в мартовских
номерах «Нивы» за 1899 год и продолжалось с небольшим
перерывом в течение всего года (с 11 по 52 номер).
Толстой весь год напряженно работал над корректурами
романа. 26 июня 1899 года он записал в дневнике, что
в течение четырех последних месяцев «усиленно работал
и работаю над Воскресением. Есть много, есть недурное,
есть то, во имя чего пишется».2 Вся осень и начало зимы
1899 года ушли на работу над третьей частью романа,
которая очень трудно давалась Толстому. И, наконец, 18
декабря 1899 года он заносит в дневник: «Кончил
Воскресение. Нехорошо. Не поправлено, поспешно. Но
отвалилось и не интересует более».3
От былой «Коневской повести», в основе которой
лежал мотив нравственного раскаяния соблазнителя перед
соблазненной им девушкой, сохранились лишь некоторые
сюжетные положения. Но зато сколько на этот голый
сюжетный остов наросло типично толстовского, как
заиграла на страницах его романа жизнь и как далеко
писатель ушел от морально-этической «узости»
первоначального замысла, как он широко раздвинул границы
1 «Русская мысль», 1913, VI, стр. 71.
2 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 229.
3 Там же, стр. 23^
424
сзоего повествования, какие общенародного значения
политические проблемы поставил в рамках своего
«морального» сюжета, какую силу придал своим обличительным
инвективам!
В романе в яркой художественной форме запечатлены
новые идейные позиции писателя, его решительный
переход на сторону народа, его полный разрыв с убеждениями
и верованиями аристократической среды. Это нашло свое
непосредственное отражение как в проблематике
произведения и характере ее разработки, так и в составе
действующих лиц. В «Воскресении» мы найдем
представителей различных социальных слоев общества — от
золотушного мальчика в скуфейке до всесильного главы
святейшего синода; сиятельные аристократы и
'преуспевающие дельцы, жирные, толстые управляющие и
голодные, вымирающие крестьяне, чахоточные прачки и дебелые
и тучные тюремные надзиратели, невинные жертвы закона
и бездушные судьи, политические ссыльные и царские
сановники — таков социальный диапазон персонажей
романа. Нетрудно заметить, что, в отличие от первых
двух романов Толстого, «Воскресение.» значительно гуще
населено людьми из народа — крестьяне, прачки,
рабочие, слуги — все они в самом положительном освещении
предстают перед читателем. Впервые также в крупном
художественном произведении Толстого героиней является
простая женщина, не аристократка.
Что же касается аристократа Нехлюдова, то он
значительно отличается от аристократов — героев прежних
романов Толстого. Это не князь Андрей, в котором
Толстого занимали все тонкости его психологических
переживаний, глубоких и благородных, сопряженных с
подвигами на поле брани. Это и не аристократ даже типа
Каренина, отрицательный, но твердо сидящий в своем
«аристократическом» седле. В «Воскресении» суровый
моралист Толстой заставляет своего «последнего»
аристократа переболеть и перемучиться всеми чувствами
раскаявшегося грешника,, и кается Нехлюдов не только
в своих собственных грехах, но и в грехах всего своего
сословия. Такой центральный герой из аристократов мог
появиться у Толстого только в последний период его
творчества. По разнообразию действующих лиц, до
широте освещения положения различных социальных слоев
423
общества роман вполне можно назвать энциклопедией
русской жизни последней четверти прошлого века.
Ленин в статье «Лев Толстой, как зеркало русской
революции», давая гениальное истолкование сущности
противоречий в произведениях и учении Толстого, писал:
«С одной стороны, беспощадная критика
капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных
насилий, комедии суда и государственного управления,
вскрытие всей глубины противоречий между ростом
богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты,
одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны,—
юродивая проповедь «непротивления злу» насилием.
С одной стороны, самый трезвый реализм, срыванье всех
и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной
из самых гнусных вещей, какие только есть на свете,
именно: религии, стремление поставить на место попов по
казенной должности попов по нравственному убеждению,
т. е. культивирование самой утонченной и потому
особенно омерзительной поповщины». 1
Эти строки Ленина, кажется, прямо написаны с
мыслью о последнем и наиболее остром романе Толстого
«Воскресение».
В этом романе, который писался почти как духовное
завещание, с наибольшей резкостью предстали и все
самые сильные стороны реализма Толстого и его
беспомощность в решении социальных вопросов, с
невиданной дотоле мощью раскрылся обличительный пафос его
убеждений и особенно наивными и в своей сущности
глубоко реакционными оказались все его «рецепты» спасения
человечества.
Разоблачение «комедии суда» и «правительственных
насилий», осуществляемых различными
государственными «институтами» самодержавной России, составляет
подлинный пафос «Воскресения». Уже в первых главах
романа развернуты беспощадные по своей обличительной
силе картины суда. Толстой вложил в них гнев и
ненависть народных масс против органов насилия глубоко
чуждой им власти. Работая над этими главами, он писал
П. И. Бирюкову: «Я... теперь весь поглощен
исправлением Воскресения. Я сам не ожидал, как много можно
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
426
оказать в нем о грехе и бессмыслице суда и казней. Меня
очень увлекает, и хотя жалею, что не могу продолжать
ту работу, о которой говорил вам, не могу оторваться
от этой».г
Разоблачая «комедию суда», писатель обнажает
каждого из ее участников, членов суда, председателя,
раскрывает мелочность их внутренних интересов, их полное
равнодушие к судьбе подсудимых. В ходе разбора дела
Масловой один член суда под влиянием ссоры с женой
из-за денег был полностью поглощен решением вопроса:
получит ли он дома обед или нет. Второй член, Матвей
Никитич, страдал катаром желудка, и мысли его заняты
были соблюдением режима приема лекарств,
предписанного врачами, поэтому он также плохо слушал дело.
Товарищ прокурора Бреве накануне не спал всю ночь и
дела Масловой не подготовил. Он кутил в компании
друзей, которая закончила свои ночные похождения в том
самом публичном доме, где полгода назад была Маслова.
Председательствующий же, хотя был человеком
женатым, вел «распущенную жизнь» и старался так торопить
дело, чтобы успеть до шести часов посетить «рыженькую
Клару Васильевну». Он работал «с жестами фокусника»,
вопросы Масловой задавал «мягко и ласково», но ответы
на них не слушал, а когда произносил напутственную
речь присяжным, больше любовался внушительными
интонациями своего голоса, чем содержанием речи, и
поэтому высказал массу банальных истин и не сказал
самого главного и нужного для вынесения приговора.
Присяжные, удалившись в совещательную комнату, в
свою очередь прежде всего занялись рассказыванием
разных городских историй и сплетен. В этой атмосфере,
естественно, процветают продажность, взяточничество и
«подвиги» «знаменитых адвокатов», оправдывающих
виновных и обвиняющих правых. В силу стечения
«случайных обстоятельств» произошло и осуждение невинной
Масловой.
Картина суда — это сильнейшие страницы
толстовского романа, в них раскрывается с потрясающей силой
и глубиной антинародная сущность царского судилища.
1 Письмо полностью не опубликовано. Автограф в
Государственной ордена Ленина библиотеке СССР им. В. И. Ленина.
427
Бессердечие и жестокость, полное равнодушие к судьбе
человека характеризуют «деяния» мелких, эгоистических
людишек, вершащих суд.
Обилием изобразительных деталей Толстой
подчеркивает важность и величие происходящего: судят человека.
«Внушительные» фигуры председателя и членов суда в
«расшитых золотом воротниках мундиров», покрытый
зеленым сукном стол, кресла, «треугольный инструмент с
орлом», стеклянные вазы, «прекрасная и чистая бумага»
и т. д. и т. п. Но за всей этой помпезной обстановкой
скрывалось величайшее пренебрежение к простому
человеку и его судьбе. Не случайно поэтому карандаш Се-
ментковского, а затем и официального цензора прошелся
наиболее v основательно именно по этим главам романа.
В итоге из 129 глав только 25 были напечатаны без
пропусков и искажений. Три главы — посвященные
богослужению в тюремной церкви и визиту Нехлюдова к
Топорову — были совсем исключены. Из других глав
исключены важнейшие в идейном отношении разделы.
Особенно пострадала вся третья часть романа. Из пятой
главы исключено все, что говорит об отношении Нехлюдова
к революционерам, из восемнадцатой — рассказ Крыль-
цова,о преследовании правительством революционеров.
Впервые полный текст «Воскресения» был напечатан в
1933 году в Полном (юбилейном) собрании сочинений
Л. Н. Толстого (т. 32).
В репликах соседок Масловой по камере
раскрывается отношение простых людей к суду как к органу,
где не найти народу защиты. Узнав об осуждении
Катюши, они с негодованием заговорили:
«— Не боятся они бога, мироеды, кровопийцы
проклятые, — проговорила Кораблева. — Ни за что засудили
девку».
Сторожиха в свою очередь заявила:
«— Видно, и вправду, касатка... правду-то боров
сжевал. Делают, что хотят».
«— Оттого и строго, что денег нет. Были бы денежки
да хорошего ловчака нанять, небось оправдали бы, —
сказала Кораблева...
«— Да уж, видно, такая твоя планида, — вступилась
старушка, сидевшая за поджигательство», — и она по*
428
вторила поговорку Платона Каратаева: «От тюрьмы да от
сумы, видно, не отказывайся. Не сума — так тюрьма».
Впоследствии устами Нехлюдова Толстой точно
определит классовую природу суда присяжных как органа,
призванного защищать дворянско-сословные интересы,
преследующего «сохранение общества в настоящем
положении». В споре с Игнатом Никифорычем, мужем
"своей сестры, Нехлюдов заявляет: «Суд, по-моему, есть
только административное орудие для поддержания
существующего порядка вещей, выгодного нашему сословию».
Таков был один из итогов «странствований»
Нехлюдова по разным судебным инстанциям в связи с делом
Масловой.
Продажность чиновников судебных и других
правительственных органов, их глубокое отчуждение от народа
и открытая враждебность к нему нарастают по мере
восхождения по бюрократической лестнице. Пушкин в свое
время писал о правительственном аппарате Екатерины II,
в котором «от канцлера до последнего протоколиста все
крало и все было продажно. Таким образом развратная
государыня развратила свое государство». Сто лет спустя
степень .этого «развращения» достигла невиданных
размеров. Толстой показывает, что продажность свойственна
всем, от секретаря суда до сенаторов. Еще в Москве
адвокат Фонарин, вся обстановка дома которого
свидетельствовала о «дурашных» деньгах хозяина, добываемых
им от своих подзащитных, которых он буквально обирал
своими непомерными гонорарами, высказываясь
скептически о возможности пересмотра дела Масловой в
высших судебных инстанциях, заявил: «Все зависит от
состава департамента сената. Если есть рука, похлопочите...
Ну, а в случае неуспеха остается прошение на
высочайшее имя. Это тоже зависит от закулисной работы».
Во время следующего визита Нехлюдова,
разговорившись о «судейских вообще», он характеризует их как
людей совершенно беспринципных и продажных: «Это
чиновники, озабоченные только 20-м числом. Он получает
жалованье, ему нужно побольше, и этим и ограничиваются
все его принципы. Он кого хотите будет обвинять,
судить, приговаривать».
Нехлюдов в Москве и особенно в Петербурге
знакомится с представителями высшей царской бюрократии —
429
6Т вице-губернатора Масленникова до Мйййстра й ofA
ставке Чарского. И перед ним раскрываются
беспринципность, аморальность, отсутствие патриотических чувств,
консервативные политические убеждения всех этих
деятелей, фактически правящих «государством российским».
Ленин в 1894 году в яркой памфлетной форме
уничтожающе писал об «отечественной бюрократии»,
являвшейся «особенно внушительным реакционным
учреждением»: «Это — постоянный флюгер, полагающий высшую
свою задачу в сочетании интересов помещика и буржуа.
Это — иудушка, который пользуется своими
крепостническими симпатиями и связями для надувания рабочих
и крестьян... Это — опаснейший лицемер, который
умудрен опытом западно-европейских мастеров реакции и
искусно прячет свои аракчеевские вожделения под фиговые
листочки народолюбивых фраз».1
На страницах «Воскресения» Толстой обличает всю
ложь и гнусность реакционной «отечественной
бюрократии», создавая целую галлерею ее типических
представителей. Вице-губернатор Масленников с жирным и
красным лицом был воплощением подлости и лицемерия.
Его жена расхваливает доброту своего Мика: «Все эти
несчастные заключенные — его дети». Но по
распоряжению этого гуманного «отца» секли людей. Масленников,
по мнению Нехлюдова, «исполнял самую нравственно-
грязную и постыдную должность» и, несмотря на это,
«считал себя очень важным человеком».
Министр в отставке Чарский в свое время находился
на вершине государственной лестницы не в силу каких-то
только ему присущих способностей к государственной
деятельности; нет, он представлял собой типичного
«беспринципного чиновника». Главные его качества,
посредством которых он выдвинулся, сводились к тому, что он
умел понимать смысл написанных бумаг и законов и
составлять сам «удобопонятные бумаги», а в своем
поведении «мог быть подобострастен до страстности и
подлости», «у него не было никаких общих принципов или
правил, ни лично нравственных, ни государственных».
Чарский был совершенно безразличен к
морально-этической квалификации своих поступков, точно так же ему
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 272.
430
были глубоко чужды и всякие патриотические чуЁСТЁа,
а его политические убеждения отличались ярко
выраженной реакционностью: он «едва-едва поднимался в своих
взглядах до уровня передовых статей самых пошлых
консервативных газет». И это был «столп» государства.
Во всем поведении и манерах сенатора Вольфа
выражалось презрение к людям, сознание своего
«комильфотного превосходства над большинством людей». Если Чар-
скому помогла вылезти наверх «подлость», то Вольф
сделал «блестящую карьеру» на основе своей «комиль-
фотности». Он считал себя человеком «рыцарской
честности», но «обобрал влюбленную в себя жену и свояченицу».
Будучи губернатором в Царстве Польском, он погубил,
разорил, был «причиной ссылки и" заточения сотен
невинных людей вследствие их привязанности к своему
народу и религии отцов». И это он «считал подвигом
благородства, мужества, патриотизма». Во время слушания в
сенате дела, связанного с разоблачением мошенничеств
председателя одного акционерного общества, Вольф
ринулся на его защиту потому, что почти накануне «был
у этого дельца на роскошном обеде». Другие члены
сената: Бе, и Сковородников, и председательствующий
Никитин — также существенно не отличались от Вольфа.
Беспринципность, продажность, интриганство,
равнодушие к судьбе человека — вот что характеризует
моральный облик деятелей высшего судебного учреждения
самодержавной России.
Пользуясь своими аристократическими связями, Hex-*
людов добивается освобождения из Петропавловской
крепости Шустовой, семь месяцев просидевшей в
одиночном заключении неизвестно за что. Это обстоятельство
повергло его в смятение. Он с огорчением и тревогой
произносит: «Стало быть, что там делается?» Нехлюдов
посещает коменданта крепости барона Кригсмута, в
образе которого Толстой достигает щедринской силы
обличения милитаризма. Это был старый генерал из
немецких баронов, один из проводников колониальной
политики царизма. Военные заслуги Кригсмута состояли
в том, что на Кавказе под его предводительством «было
убито более тысячи людей, защищавших свою свободу и
свои дома и семьи». Затем он служил в Польше, где
также совершено было немало преступлений. Кригсмут
431
рассказывает Нехлюдову, что заключенные в крепости
получают книги «духовного содержания», но они остаются
не разрезанными, разрешается им и писать, иго только на
аспидной доске («могут стирать и опять писать»), — все
это было похоже на иезуитское надругательство над
человеком.
«Нехлюдов слушал его хриплый старческий голос,
смотрел на эти окостеневшие члены, на потухшие глаза
из-под седых бровей, на эти старческие бритые отвисшие
скулы, подпертые военным воротником, на этот белый
крест, которым гордился этот человек, особенно потому,
что получил его за исключительно жестокое и
многодушное убийство, и понимал, что возражать, объяснять
ему значение его слов — бесполезно».
Перед ним сидел не человек, а грубая солдатская
машина, из которой вытравлено все человеческое, осталась
лишь немецкая педантичная склонность к точному
исполнению приказов вышестоящих начальников.
Портретные детали («окостеневшие члены», «потухшие глаза»)
характеризуют бездушие и автоматизм этого солдафона и
чинуши, у которого окостенели не только члены, но и душа.
Встреча Нехлюдова с другом юности Селениным
только подчеркивает всю силу развращающего влияния
государственной службы на человека в
частнособственническом обществе. В студенческие годы Селении был
воплощением «чистоты, честности, порядочности». «Он не
на словах только, а в действительности целью своей
молодой жизни ставил служение людям». Но они не
виделись целых шесть лет. За это время Селении успел
послужить во втором отделении собственной императорской
канцелярии, заведующей составлением законов, но, не
получив удовлетворения, перешел в сенат. Ему
выхлопотали назначение камер-юнкером («произвели в
должность лакея»), устроили «блестящую женитьбу», но этот
внешне преуспевающий человек был уже совершенно не
похож на прежнего Селенина. Он выступил против
кассирования дела Масловой. Он посещает сектантские
«радения». Во время разговора с Нехлюдовым глаза
Селенина выражали «не только грусть, но и
недоброжелательство».
«— Да ты разве веришь в догматы церкви? —
спросил Нехлюдов.
432
«— Разумеется, верю, — отвечал Селении, прямо и
мертво глядя в глаза Нехлюдову».
И после Нехлюдов «беспрестанно вспоминал
недобрый, холодный, отталкивающий взгляд когда-то милого,
открытого, благородного Селенина».
Так сила служебных обстоятельств превратила
благородного человека с прекрасными порывами в
бездушного чиновника. И мертвый взгляд и манера улыбаться
«одними губами» роднят молодого годами Селенина со
старым комендантом Петропавловки («потухшие
глаза») — оба они мертвецы.
Чиновничий мир Петербурга — это мир преступников,
казнокрадов, взяточников, мошенников, морально
разложившихся людей, которых должным образом никто не
наказывает. Директор одного департамента за свои
преступления заслуживал по закону каторгу, а его
назначили губернатором в Сибирь. Общественные деньги,
собранные на постройку памятника, были разворованы
высокопоставленными людьми, они же через своих любовниц
занимались спекуляциями на бирже. У Фонарина был
неистощимый запас рассказов «о мошенничествах и
всякого рода преступлениях высших чинов государства,
сидевших не в остроге, а на председательских креслах в
различных учреждениях», и многие из этих «ужасных
историй царствующего зла» он откровенно поведал
Нехлюдову.
Весь этот «преступный» мир петербургского
чиновничества венчала фигура Топорова, прототипом для
которого послужил один из самых мрачных представителей
политической реакции 80-х годов обер-прокурор
святейшего синода Константин Победоносцев, занимавшийся
доносами царю на всех передовых деятелей русской
культуры. Еще 26 июня 1884 года он «верноподдан-
нейше» доносил о Пашкове и других сектантах,
одновременно сообщая, что и Толстой «заражен» этим
«безумием». В последующие годы Победоносцев писал
специальные письма Александру III о «Власти тьмы»
A8 февраля 1887 года), о «Крейцеровой сонате» A ноября
1891 года), в том и другом случае становясь в позу
защитника «нравственного чувства», над которым якобы
глумился Толстой в этих произведениях. Особенно про*
славился он своими преследованиями сектантов, разлу-
28 С. Бычков 433
чив многие сотни отцов и матерей с детьми. По вопросу
о заточении детей самарских молокан в монастырь к
Победоносцеву обращалась старшая дочь Льва Николаевича,
Татьяна Львовна. Ее разговор с Победоносцевым и
послужил основой для создания Толстым диалога
Нехлюдова с Топоровым. Нехлюдов пришел к Топорову тоже
по делу о сектантах, которых архиерей и губернатор
пытались, разлучив с семьями, разослать «в разные
места ссылки». Он заметил, что Топоров если и давал
положительный ответ на прошение сектантов, то из-за
боязни больших связей Нехлюдова и огласки всего дела
в иностранной печати. А в сущности он был «ко всему
очевидно равнодушный человек». Толстой тщательно
выписывает его портретные детали, выделяя среди них те,
которые характеризуют его как тупого фанатика:
«неподвижную маску бледного лица», «узкий, плешивый
череп». Это был «человек тупой и лишенный нравственного
чувства», с глубоким презрением относившийся к народу
и его духовным запросам. Топоров — лжец, лицемер и
ханжа, прикрывающий свои отвратительные деяния
рассуждениями о защите «государственной точки зрения»,
о благе народа.
Толстой раскрывает глубокую враждебность
государственной власти народу, показывает непреодолимую
пропасть, разделяющую их. Во время короткого
пребывания у Топорова все многообразные наблюдения
Нехлюдова над жизнью чиновного Петербурга'приобрели
известную стройность, осмысленность, его озарили мысли
глубокого социального значения. Нехлюдов понял, что
все чиновники и государственные «люди» совершенно
равнодушны к судьбе народа, преследуют лишь
узкоэгоистические интересы и только для прикрытия
неприглядного содержания своей «деятельности» прибегают
к социальной демагогии и широковещательным фразам,
призванным выразить их «благородные» чувства и
помыслы. Вспомнив тех «преступников», с которыми ему
пришлось встретиться за время своих хождений по
судам, тюрьмам, департаментам, Нехлюдов пришел к
пониманию сословно-классовой природы всего аппарата
насилия, он стал думать, «что всех этих людей хватали,
запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди
нарушали справедливость или совершали беззакония,
434
а только потому, что они мешали чиновникам и богатым
владеть тем богатством, которое они собирали с народа».
Чиновники были бессердечные и жестокие люди,
совершенно равнодушные к страданияхМ невинных и
озабоченные лишь тем, чтобы устранить всех опасных. Но
Нехлюдов при виде «маленьких, чистых и корректных
господ», сидевших в министерствах, колебался в
правильности такого простого объяснения сложного
механизма насилия. Ему не верилось, чтобы «все те слова о
справедливости, добре, законе, вере, боге и т. п. были
только слова и прикрывали самую грубую корысть и
жестокость». Но в действительности было именно так.
Да, эти высокие и значительные слова были призваны
прикрывать самые грубые и жестокие дела всех этих
«чистеньких и корректных господ». Толстой разоблачает
лживость морали частнособственнического общества с
потрясающей силой и глубиной. Он сравнивает этих людей
с «мощеной землей», которая так же непроницаема для
дождя, как их сердца для чувства человеколюбия.
Губернаторы, смотрители, городовые и прочие
насильники «застрахованы от жалости, как эти камни от
растительности», для них лошадь дороже человека, они
страшнее разбойников, так как убеждены, что, находясь
на государственной службе, «можно обращаться с людьми,
как с вещами».
Чиновничество, весь государственный аппарат
насилия царской России глубоко антинародны: «Нехлюдов
видел, что людоедство начинается не в тайге, а в
министерствах, комитетах и департаментах и заключается
только в тайге». Толстой вместе с Нехлюдовым делает
вывод, что всем судейским и чиновникам, «начиная от
пристава до министра, не было никакого дела до
справедливости или блага народа».
Однако этот антинародный «людоедский» режим
освящался и поддерживался церковью. В ряде блестящих
по своей разоблачительной силе и художественному
мастерству картин Толстой показывает лживость казенной
церкви и ее служителей. Еще в феврале 1889 года,
посетив храм Христа-Спасителя, он в дневниковой записи
выразил свое намерение выступить против официальной
церкви: «Все сильнее и сильнее потребность обличения».
На страницах «Воскресения» антицерковные убеждения
* 435
Толстого были выражены с наибольшей полнотой и
резкостью. Он не упускает ни одной возможности для
показа всей лжи церковной обрядности.
Старичок-священник в зале суда совершает торжественную церемонию
приведения к присяге. Он служит уже сорок шесть лет,
и за этот срок, хотя проповедуемое им учение обязывает
быть бескорыстным, он нажил дом и капитал в тридцать
тысяч. Во всем его внешнем облике нет ничего от «слуги
божия»: это был самый обыкновенный старичок с
мелкими, эгоистическими помыслами, с пухлыми ручками; не
было ничего также торжественного и в том, что он
совершал, напротив, все это являлось обыденным и
прозаичным: «Священник, нагнув набок лысую и седую
голову, пролез ею в насаленную дыру епитрахили- и,
оправив жидкие волосы, обратился к присяжным».
Особенно ярко ложь официальной церкви обличается
при описании пасхального богослужения, которое дано в
ярко сатирическом плане и построено на резком
снижении торжественности и значительности церковной
обрядности, под которой скрываются нелепость и самое
обыкновенное шарлатанство (риза именуется «парчовым
мешком», антиминс — «салфеткой», иконостас —
«перегородкой», таинство причащения телу и крови христовой —
«манипуляциями»). На деле никакого превращения вина
в кровь и кусочков хлеба в тело бога не происходит, а
священник и другие лица, совершающие эти
«манипуляции», верят э происходящее якобы превращение потому,
что «исполнение треб этой веры» приносит им доходы.
При этом Толстой иронически замечает, что после
причащения священник унес чашку за перегородку и ничтоже
сумняшеся доел тело бога и допил кровь бога, обсосал
усы и в самом веселом расположении духа вышел
обратно к православному люду. Сила толстовского удара
по церковникам была неотразимой. И не случайно
цензура оставила от всей тридцать девятой главы,
содержащей описание богослужения в тюремной церкви, лишь
два слова: «началось богослужение», а главу сороковую
сняла совсем.
В образе Топорова Толстой обличает гнусность и
ханжество «деяний» святейшего синода. Снизу доверху
казенная церковь построена на лжи и обмане народа.
И поэтому наряду с судом и другими органами государ-
436
ственной власти она закономерно попадает в сферу
беспощадного толстовского обличения. «Чиновники в рясах»
вскоре за это расправились с Толстым. Они «отлучили»
его от церкви.
Оценивая силу и характер выступлений Толстого
против государства и церкви, Ленин в статье «Л. Н.
Толстой» писал: «Его горячий, страстный, нередко
беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-
казенной церкви передает настроение примитивной
крестьянской демократии, в которой века крепостного
права, чиновничьего произвола и грабежа, церковного
иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы
злобы и ненависти».1
Ленин указывал, что Толстой выступил в своих
произведениях как беспощадный критик капиталистической
эксплуатации, вскрывший всю глубину «противоречий
между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и
ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс...» 2
В романе «Воскресение» Толстой с наибольшей силой и
выразительностью показывает социальные противоречия
современного ему общества, противоречия между
«господами» и народом. Это два полярных друг другу мира.
Мир господ, аристократии — это Корчагины, Mariette
со своим мужем, сам Нехлюдов и многие другие,
живущие «грабительством». В этом мире все ненатурально и
фальшиво, все построено на лжи и обмане. В
изображении интерьера корчагинского дома, портретов членов
семьи и их слуг писатель беспощаден. У самого входа в
дом Нехлюдова встретил «ласковый жирный швейцар»,
за столом прислуживал «толстый величественный
буфетчик». Во внешнем облике старика Корчагина прежде
всего запоминались «вставные зубы» и «налитые кровью
без видимых век глаза» — две портретные детали, скупые
и лаконичные, но в высшей степени выразительные,
вызывающие чувство неприязни и даже физического
отвращения.
Нехлюдов только что вернулся из суда и, переживая
подлинное смятение чувств, вызванное встречей с
Катюшей, смотрел на Корчагиных уже как-то со стороны, дру-
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 294.
2 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.
437
гими, необычными глазами, и благодаря этому он увидел
то, на что раньше не обращал внимания.
Богатство неразлучно с жестокостью,
бесчеловечностью, оно порождает презрение к людям и палаческое
отношение к народу. Нехлюдов разглядел в Корчагине
отвратительного старика с садистскими наклонностями,
творившего жестокость ради жестокости; по писатель
показывает, что в основе лежат не биологические факторы,
а социальные, не наследственность, а богатство и
знатность.
Весь этот мир господ был глубоко порочен,
неестественен и фальшив. Все здесь искусственно — от
вставных зубов старика до никого не интересовавшего спора
о теннисе. И сама Мисси Корчагина, с «упорной
хитростью» стремившаяся сделать Нехлюдова своим мужем,
была «непривлекательна» и «ненатуральна», и либерал
Колосов, их постоянный гость, был пошлым и
самоуверенным человеком. Хозяйка дома Софья Васильевна
Корчагина — отвратительная и лживая женщина. Эта
дама была «худая, длинная, все еще молодящаяся
брюнетка с длинными зубами и большими черными глазами».
Эстетические вкусы этой развращенной женщины,
естественно, тяготели к декадентскому искусству, она была
убеждена, что «без мистического нет поэзии».
Призрачность и фальшь сословно-дворянского мира,
его тяжелые, неизлечимые недуги, его роковую
обреченность Толстой раскрывает в сцене Софьи Васильевны с
лакеем Филиппом, «широкогрудым мускулистым
красавцем», вызванным в кабинет затем, чтобы задернуть
гардины и уберечь княгиню от предательских лучей солнца,
грозивших осветить ее старческие морщины. Он стал
задергивать одну гардину — оказалось, надо было другую.
«На мгновение в глазах Филип-па вспыхнул огонек.
«А чорт тебя разберет, что тебе нужно, — вероятно,
внутренне проговорил он», — подумал Нехлюдов, наблюдая
всю эту игру. Но красавец и силач Филипп тотчас же
скрыл свое движение нетерпения и стал спокойно делать
то, что приказывала ему изможденная, бессильная, вся
фальшивая княгиня Софья Васильевна».
Народ страждет. Рядом с роскошью и
паразитическим существованием господ — полуголодная жизнь
крестьян, исполненная непосильного труда и постоянных
439
лишений. Нехлюдов приехал в имение тетушек Паново,
где он когда-то встретился с Катюшей, и его поразил
вид запустения и ветхости дома и всех построек. Но по-
настоящему он был потрясен видом крайней нищеты и
бедностью крестьян, худых, изможденных, грязных и
оборванных. Жили они в полуразвалившихся избах, ели
хлеб с квасом, щи из снетков, картошку. Особенно
гнетущее впечатление производил бледный «ребеночек в ску-
феечке» на руках Анисьи, самой бедной женщины в
деревне.
Он спросил, кто была эта женщина.
«— Это самая Анисья, что я тебе говорил, — сказал
старший мальчик.
«Нехлюдов обратился к Анисье.
«— Как ты живешь? — спросил он. — Чем
кормишься?
«— Как живу? Побираюсь, — сказала Анисья и
заплакала.
«Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку,
изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки».
Этот поистине страшный образ — символ трагической
судьбы русского крестьянства, доведенного помещиками
и самодержавием до состояния постепенного, но все
прогрессирующего вымирания. Толстой совершенно
справедливо видел главную причину бедственного положения
крестьянства в том, «что у -народа была отнята
землевладельцами та земля, с которой одной он мог
кормиться». Крестьяне при своем безземелье вынуждены
были идти в кабалу к помещику, арендуя у него землю
на грабительских условиях. Кроме того, на шею народа
садились разные 'помещичьи прихвостни. Управляющий
Кузьминским, немец, по отзывам местных жителей,
«награбил денег — страсть!» «Сильный, перекормленный че
ловек этот, так же как и сам Нехлюдов, представлял
поразительный контраст с худыми, сморщенными лицами
и выдающимися из-под кафтанов худыми лопатками
мужиков». Крестьяне других имений жаловались на
управителей: «веревки вьют из нас как хотят, хуже барщины».
«Не может земля быть предметом собственности, не
может она быть предметом купли и продажи, как вода, как
воздух, как лучи солнца. Все имеют одинаковое право
па землю и на все преимущества, которые она дает лю-
439
дям». Последовательное отрицание частной поземельной
собственности составляет важнейший компонент идейной
основы романа «Воскресение».
'При передаче своей земли крестьянам Нехлюдов
пытался применить принципы «единого налога» Генри
Джорджа, составлявшего одно время предмет увлечений
и самого Толстого, видевшего в идеях американского
буржуазного экономиста очень простое и удобоисполнимое
средство разрешения запутанного земельного вопроса.
Сущность идей Джорджа заключалась в том, что вся
земля должна быть обложена «единым налогом», и тогда
она неизбежно перейдет в руки тех, кто ее обрабатывает.
«Единый налог» Джорджа являлся в своей основе
последовательным выражением чисто буржуазных требований
национализации земли. Толстой разъяснял «проект»
Генри Джорджа в письме к Бондареву еще в 1890 году,
видя в нем панацею от всех социальных зол: не только
мужики получат достаточное количество земли, но и люди
из городов начнут возвращаться в деревню. Таким
образом, помимо огромного экономического значения,
осуществление этого проекта имело бы и важные нравственные
последствия: уменьшилась бы «праздная жизнь по
городам».
Однако было бы глубоким заблуждением считать, как
это делалось до последнего времени в специальной
литературе о Толстом, что взгляды Толстого на разрешение
земельного вопроса сложились под прямым воздействием
идей Генри Джорджа. Определяющим здесь было
нараставшее крестьянское движение, направленное на
ликвидацию помещичьего землевладения, именно оно
питало творчество Толстого — художника и публициста.
Величие Толстого заключалось в том, что он выразил
настроения миллионных масс русского крестьянства
накануне назревавшей буржуазно-демократической
революции в России.
Ленин в своем блестящем анализе материала
аграрных прений в III думе, раскрывая под наивной и порой
политически незрелой формой выступлений депутатов из
крестьян живые стремления народных масс, цитировал
речь депутата Кропотова, выдвинувшего предложение
о введении «единственного налога». «Чтобы быть
справедливым, — говорил Кропотов, — нужно обложить един-
440
ственным налогом землю, и тогда она окажется у
трудящихся масс, и тогда будет незавидно: кто не хочет
работать, тот не будет платить»...
Ленин продолжал: «Сколько неиспытанных еще в
борьбе сил, сколько стремления к борьбе в этой наивной
речи! Желая избегнуть «принудительного отчуждения»,
Кропотов на деле предлагает меру, которая равняется
конфискации помещичьих земель и национализации всей
земли! Что «единственный налог» этого сторонника
учений Джорджа равносилен национализации всей земли,
этого Кропотов не понимает, но что он передает
действительные стремления миллионов, — в этом не может быть
и тени сомнения». 1
Таким образом, то, что писал Толстой против
поземельной частной собственности, носилось в воздухе; этим
жили крестьяне, связывавшие с уничтожением
помещичьего землевладения самые сокровенные надежды на
коренные перемены в своей жизни. . Поэтому в связи с
наступившей вскоре революцией 1905 года, одной из
основных задач которой являлось разрешение аграрного
вопроса, Толстой с полным правом мог заявить: «Я во
всей этой революции состою в зва'нии, добро- и
самовольно принятом на себя, адвоката 100-миллионного
земледельческого народа. Всему, что содействует или может
содействовать его благу, я сорадуюсь, всему тому, что
не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не
сочувствую», 2
Вопрос о ликвидации помещичье-сословного
землевладения, поставленный Толстым со всей остротой в
романе «Воскресение», был одним из тех коренных
вопросов русской демократии, который требовал неотложного
разрешения. К нему примыкали и другие, не менее
значительные вопросы, затрагивавшие самые основы
существования частнособственнического помещичье-буржуаз-
ного общества.
Толстой глубоко убежден, что будущее принадлежит
народу, что не аристократы, а люди труда уже теперь
составляют «большой свет», что именно им присущи
серьезные жизненные интересы. Но как сделать, чтобы
1 В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 285.
2 «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906», стр. 378.
441
народу стало лучше, как сделать, чтобы не было
худеньких мальчиков в скуфеечках, чтобы не вымирали
мужики от голода, чтобы не было невинно осужденных,
чтобы не было в обществе лжи и обмана, чтобы богатые
и сытые не глумились над трудовым народом, — все эти
вопросы глубоко волнуют Толстого.
Вернувшись из поездки по имениям, где он
соприкоснулся с подлинными народными страданиями, Нехлюдов
смотрит па все новыми глазами. Он осуждает теперь
безумную роскошь своей и всей городской, столичной,
господской жизни с точки зрения мужицких интересов.
Мальчик в скуфеечке неотступно преследует его
воображение. По дороге в тюрьму извозчик указывает
Нехлюдову на огромный дом, строившийся руками тех самых
мужиков, дети которых умирали от голода. Нехлюдов
недоумевает, как могут они «строить этот глупый
ненужный дворец какому-то глупому и ненужному человеку,
одному из тех самых, которые разоряют и грабят их».
* Пристальнее всматриваясь в городскую жизнь, он
был поражен таким огромным количеством сытых,
откормленных людей, различных кучеров,
лихачей-извозчиков, горничных, швейцаров, «чистых и жирных
лавочников, каких нет ни одного человека в деревне». Но он
увидел нечто и глубоко противоположное: все названные
группы населения относились к разряду господских
холуев, а были и другие люди, труженики, вот им-то по-
настоящему тяжело и в городе. Среди этих
«несчастных» — сапожники, «худые, бледные, растрепанные
прачки», красильщики с измученными и сердитыми лицами;
такие же лица были у ломовых извозчиков, у
«оборванных, опухших» мужчин и женщин, просивших
милостыню у посетителей трактира. Город представал перед
Нехлюдовым в ярких социальных контрастах. Его зре-
иие стало острее, а его осуждение жизни богатых,
господствующих классов — значительно глубже.
.. Встреча с Mariette и посещение вместе с ней театра
только раскрыли перед ним всю порочность жизни этой
среды. Нехлюдов так много видел «настоящих
несчастий», что ему казалось в театре все совершенно
искусственным, фальшивым и ненатуральным. Такой была
худая, костлявая актриса, говорившая монолог
«ненатуральным голосом», таким был муж Mariette с «воен-
442
ной, ватной и крашениной подделанной грудью»,
делавший «свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен
людей», такой была и сама Mariette, дама большого света,
но развращенная в такой степени, что отличалась от
публичных женщин разве только одеждой и манерами. На
Невском Нехлюдов увидел проститутку, которая так же
смотрела па Нехлюдова, как и Mariette. Эта
уничтожающая параллель в полной мере раскрывает распущенность
и аморализм высшего дворянского общества.
. Нет, «большой свет» не здесь, не в Петербурге, не в
доме Mariette, так же как и не в московском доме
Корчагиных, — они утратили все самые серьезные интересы
в жизни, их не волнуют судьбы народа и страны, не
они выступают и хранителями национальных традиций,
достижений национальной культуры, их удел —
призрачная жизнь, ограниченная узким кругом своекорыстных
интересов. Этот мир обречен, он уже находится в
состоянии гниения и своими миазмами отравляет жизнь
человечеству. На смену этому миру идет новый,
здоровый мир, исполненный серьезных и значительных
интересов, с высокими морально-этическими нормами жизни,
которые определяет сам народ.
Поэтому полна глубокого символического значения
развернувшаяся перед глазами Нехлюдова картина
встречи этих двух миров. На станции железной дороги он
вновь увидел Корчагиных. Филипп и артельщик несли на
складном стуле «длиннолицую княгиню». Шествие
сопровождали князь и остальные члены семейства. В этот
момент на платформе появились рабочие в лаптях, с
полушубками и мешками за спинами. Кондуктора их
отгоняли от поезда и, наконец, разместили в том самом
вагоне третьего класса, где ехал Нехлюдов. Нехлюдов
вскоре узнал, что эта группа рабочих ехала с
торфоразработок; он пристально всматривался в их лица, фигуры,
внимательно слушал рассказ одного из них об
обстоятельствах работы на торфяных болотах, о харчах, о том,
как женщины в их отсутствие «правят дома», о смерти
одного из них и болезни другого.
«Да, совсем новый, другой, новый мир», — думал
Нехлюдов, глядя на эти сухие мускулистые члены, грубые
домодельные одежды и загорелые, ласковые и
измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным
443
совсем новыми людьми с их серьезными интересами,
радостями и страданиями настоящей трудовой и
человеческой жизни.
«Вот on, le vrai grand monde», * — думал Нехлюдов,
вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь
этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их
ничтожными жалкими интересами.
«— И он испытывал чувство радости
путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир».
Народ ежедневно, ежечасно пьет из чаши страданий.
Но на его стороне правда жизни, и она приведет его
к лучшему будущему. Таким в высокой степени
мажорным аккордом завершается вторая часть «Воскресения».
Третья часть романа посвящена решению вопроса
о путях, ведущих к новой, не знающей человеческих
страданий жизни, о средствах избавления отдельной
человеческой личности и человечества в целом от всех
форм современного социального варварства, определению
морально-этического идеала подлинно счастливой
человеческой жизни. В этой части завершается процесс
«воскресения» героев романа.
Катюша Маслова являлась жертвой мира
Корчагиных и Нехлюдовых. Типичность жизненной судьбы
Катюши автор отмечает в самом начале романа: «История
арестантки Масловой была очень обыкновенная
история». И далее идет повествование о горестной судьбе
Катюши, содержащее огромный обличительный материал
против всего политического и государственного
устройства частнособственнического общества, в котором
узаконены публичные дома и надругательство над
достоинством женщины. После того как Катюша «добрыми» и
«богомольными старушками»—тетушками Нехлюдова —
была изгнана из дома, она переехала в город и
некоторое время служила у богатых людей горничной,
затем имела «покровителей» и в конце концов попала в
«знаменитый дом Китаевой», где для нее началась жизнь
публичной женщины, которая «ведется сотнями и
тысячами женщин не только с разрешения, но под
покровительством правительственной власти, озабоченной благом
своих граждан», — саркастически отмечает Толстой. Де-
1 Истинный большой свет (франц.).
Ш
вять из десяти этих женщин кончают свою жизнь
преждевременно в мучительных болезнях. Таким образом,
освященный законом публичный разврат являлся величайшим
попранием достоинства женщины, одной из самых
возмутительных форм эксплуатации человека.
Катюша глубоко осознает, что в современном
обществе ей и многим другим, таким же, как она, бесправным
женщинам противостоят «господа», для «блага» которых
и устроены дома терпимости. К этим господам относится
и ее соблазнитель Нехлюдов. Еще в ту «страшную ночь»,
когда она его видела в вагоне проезжавшего поезда,
Катюша поняла, что они принадлежат к разным мирам.
«Он в освещенном вагоне, на бархатном кресле сидит,
шутит, пьет, а я вот здесь, в грязи, в темноте, под
дождем и ветром — стою и плачу». Катюша перестает
верить в добро. Она начинает думать, что все люди
преследуют в жизни эгоистические цели, что между ею,
представительницей народа, и князем Нехлюдовым лежит
целая пропасть, которую не в силах заполнить никакая
любовь, да и подлинной любви между ними не может
быть, потому что Нехлюдов, как и все господа, смотрел
на нее только как на предмет удовольствия. Осознание
Катюшей глубокой сословной разобщенности,
существующей между нею и Нехлюдовым, ярко раскрывается во
время их второго свидания в тюрьме. В ответ на
предложение Нехлюдова жениться на ней Катюша, «вся
преображенная гневом», говорит: «Ступай к своим княжнам,
а моя цена — красненькая... Я каторжная, а ты князь, и
нечего тебе тут быть... Ты мной в этой жизни услаждался,
мной же хочешь и на том свете спастись!» В этих словах
Катюши проявилась ее накипевшая ненависть ко всему
миру господ, богатых людей, которые сделали ее жизнь
глубоко несчастной. Поэтому окончательный разрыв между
Катюшей и Нехлюдовым был социально и психологически
глубоко мотивирован.
Катюша могла «воскреснуть», пережить процесс
возрождения к иной, подлинно человеческой жизни в
результате общения с другими людьми, такими же, как она,
выходцами из народа, но духовно и морально
поднявшимися «выше среднего уровня общества» и поэтому
преследующими во всей своей жизни и деятельности
благо других людей. Такими людьми явились революцио-
443
меры. Приход Катюши к революционерам
симптоматичен: только в их среде она могла найти глубокое уваже-.
ние своих человеческих прав, только они видели в ней
человека, так как являлись носителями подлинного
гуманизма.
По своему моральному облику революционеры были
лучшими людьми общества. Толстой отмечает их
духовную красоту и обаяние, они были воплощением «редкой
нравственности». Соприкоснувшись с революционерами,
Катюша испытала на себе их благотворное влияние,
«таких чудесных людей» ранее она «не могла себе и
представить». Они ввели ее в мир своих переживаний,
приобщили к новым и значительным интересам в жизни.
«Она очень легко и без усилия поняла мотивы,
руководившие этими людьми, и, как человек из народа, вполне
сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за
народ против господ».
Толстой создал в «Воскресении» целую галлерею
образов политических ссыльных, однако наиболее яркие
и значительные из них несут на себе печать его
морально-этического учения. Среди
женщин-революционерок обращает на себя внимание глубоко отрицательный
образ Веры Ефремовны Богодуховской. Все портретные
детали Богодуховской передают ее крайнюю
несимпатичность и даже бытовую неряшливость. Она была
«маленькая стриженая, худая, желтая». Ее «желтая тонкая
шея» выступала из-за «жалких, смятых и грязных
воротничков кофточки». «Вертлявая» походка и «редкие
спутанные волосы» довершали характеристику
Богодуховской как женщины несерьезной, жалкой и
потерявшейся в жизни. Она не имела никакого понятия о целях
того революционного движения, в котором участвовала.
Но и хорошенькая Грабец имела отрицательные черты:
она очень мало думала и была совершенно равнодушна
к «вопросам революции»: «главные интересы ее жизни
состояли в успехах у мужчин».
И если Марья Павловна Щетинина и Эмилия Ранцева
освещены другим, более мягким светом, то объяснение
этому надо искать в том, что первая из них является
живой носительницей аскетических идеалов писателя,
а вторая — воплощением женского характера в его
специфически толстовской трактовке. Впрочем, и во внешнем
446
облике Марьи Павловны привлекательные черты
чередуются с отталкивающими: «главную прелесть ее лица
составляли карие, бараньи, добрые, правдивые глаза».
Кстати, «доброта» .является паспортной приметой всех
политических ссыльных «Воскресения». Даже Вера Бого-
духовская — и та имеет «огромные добрые глаза». В своем
поведении Щетинина «предается спорту благотворения»,
она видит дело своей жизни в служении другим, что
вполне выражает сущность этического учения Толстого
с его требованием деятельной любви к ближнему, к
людям.
Эмилия Ранцева занимала среди политических
ссыльных особое место, по она являлась типичной чеховской
«душечкой». Известно, как высоко отзывался Толстой
о рассказе Чехова «Душечка», видя в его героине
воплощение подлинного женского характера, сущность
которого, по его мнению, должна состоять в глубокой
преданности женщины любимому человеку. Впоследствии
он написал к рассказу послесловие, в котором
высказался против «женской эмансипации», заявив, что
главное назначение женщины быть женой и матерью.
Ранцева психологически представляла собой тип «душечки»,
она полностью была поглощена интересами мужа и
«искала только одного — полного согласия, слияния с
душой мужа, что одно давало ей нравственное
удовлетворение».
Ранцева —• не самостоятельна, но и другие женщины
также зависят от мужчин, самостоятельной роли
в революционном движении они играть не способны —
такова общая характеристическая черта, свойственная
всем женским образам политических ссыльных в
«Воскресении». Политические дела не для женщин — вот'
главная мысль, которую стремился доказать писатель,,
создавая образы женщин-революционерок.
Еще ярче его этические теории, его глубокое
отчуждение от политики и последовательное отрицание
революционных методов борьбы с «царствующим злом»
отразились на мужских образах политических ссыльных.
Владимир Иванович Симонсон — вегетарианец, он
ходит в гуттаперчевой куртке и резиновых калошах,
привязанных к ногам бечевками. Его главное верование
сводилось к тому, «что существующее зло происходит о г
447
необразованности народа», поэтому он стал учителем и
«смело проповедовал» среди крестьян свои идеалы
справедливой жизни. Он был против суда, войны, казней и вся-'
кого убийства. Высшее назначение человека состояло, по
его мнению, «в служении уже существующему живому».
Нетрудно заметить, что Симонсон является типичным
толстовцем и не имеет никакого отношения к подлинным
революционерам. Противник всякого насилия, он
полностью отвечал требованиям этического учения Толстого,
являясь даже как бы слепком с этого учения. Поэтому
вполне закономерно писатель соединяет судьбу Катюши
с судьбой Симонсона: духовно они были ему самыми
близкими из всех ссыльных.
Следующее за Симонсоном место занимает Набатов,
революционер из крестьян, участник хождения в народ
с целью просвещения «своих забитых братьев»: «Когда
он думал и говорил о том, что даст революция народу,
он всегда представлял себе тот самый народ, из которого
он вышел, в тех же почти условиях, но только с землей
и без господ и чиновников... революция, по его мнению,
не должна была ломать всего здания, а должна была
только иначе распределить внутренние помещения этого
прекрасного, прочного, огромного, горячо любимого им
старого здания». Программа Набатова отражала живые
стремления крестьян. Но если крестьяне научились
ненавидеть помещика и чиновника и желали сбросить их со
своей шеи, то они в своей массе еще не обрели
правильного понимания путей к воплощению своих социальных
идеалов и крайне бессознательно относились к формам
будущего общественного устройства. Набатов отразил
и эту черту патриархального наивного крестьянства. Его
отказ от разрушения «всего здания» царизма не только
не имел ничего общего с деятельностью подлинных
революционеров, но и носил глубоко реакционный характер.
Набатов занят не коренным пересозданием мира —
миссия истинных революционеров, а лишь внесением
некоторых поправок в уже существующие формы общественной
жизни — задача не революционная, а сугубо
реформистская. Да и сам Набатов в своем внешнем облике имел
черты умиленного своей праведностью старца.
Набатову противопоставлен Маркел Кондратьев,
революционер из «фабричных», изучающий Маркса, но
448
придерживающийся еще чисто просветительских взглйдоё
на осуществление социалистического идеала.
Кондратьев — книжник, человек замкнутый и мрачный. Он
сдержан и равнодушен в отношениях с товарищами,
презирает женщин, по привычкам —аскет. Все эти черты
глубоко чужды облику подлинного пролетарского
революционера. Толстой не понимал и не мог понять
рабочего движения, и поэтому образ революционера из
рабочих далек от правды, поэтому он оказался
искаженным.
Следует, однако, помнить, что время действия романа
относится к началу 80-х годов, когда в России еще не
было марксистских групп, не было
социал-демократического движения и революционную работу вели
народники. Даже среди передовых рабочих преобладали
народнические взгляды. Толстой создавал образы
революционеров «Воскресения» на материале народнического
этапа революционного движения в России, и он
правильно отразил некоторые недостатки и ошибки этого
движения.
«Знаменитый революционер Ыоводворов» отличался
ярко выраженными претензиями на лидерство в партии
народников и исповедовал убеждения, свойственные
некоторым идеологам народничества. Он глубоко презирал
народ, рассматривая его как стадо, «толпу»,
неспособную к сознательному революционному действию и
могущую лишь слепо идти за «вождями», «героями». Вот
его наиболее характерные высказывания: «Массы всегда
обожают только власть... Правительство властвует — они
обожают его и ненавидят нас; завтра мы будем во
власти — они будут обожать нас... Делать все для масс
народа, а не ждать ничего от них; массы составляют
объект нашей деятельности, но не могут быть нашими
сотрудниками до тех пор, пока они инертны, как
теперь...» (Это в высшей степени пренебрежительное
отношение к народу, его интересам и идеалам полностью
укладывалось в рамки ложной народнической теории
«героев» и «толпы», которую в середине 80-х годов
популяризировал Михайловский в своих статьях.
Такому в сущности холодному и глубоко
оскорбительному взгляду на народ противопоставлено иное
отношение к нему со стороны Крыльцова, Марии Павловны,
29 С. Бычков 449
Набатова и Катюши, которые считали, что народ очень
обижен и задача заключается в том, чтобы защитить его
от дальнейших обид. «Надо, чтобы не обижали его.
В этом все паше дело», — говорит Набатов, и с ним
соглашаются остальные, исключая Новодворова, который
считал защиту интересов народа «странным»
представлением о задачах революции. Следовательно, Новодво-
ров наделен такими отрицательными чертами, в которых
содержалась исторически правильная критика ложных
народнических теорий.
Однако в изображении революционеров и
политических ссыльных решающим было другое. Толстой со своим
глубоким отрицанием идеи революционного насилия как
метода разрешения социальных вопросов, естественно, не
мог создать полноценного образа революционера даже
народнического типа. Поэтому некоторые из них
оказались загримированными под «толстовство» (Симонсон,
Набатов), другим он сообщил глубоко отрицательные
черты, 1 а в целом осудил революционные методы
борьбы с «царствующим злом», противопоставив им свои
морально-этические идеи «непротивления злу насилием»
и нравственного самоусовершенствования.
Здесь мы подходим к той позитивной программе,
которую выдвинул Толстой на основе своих глубоко
критических посылок.
В разговоре Нехлюдова с политическими ссыльными
об отношении к правителям и насильникам раскрывается
вся глубина расхождений между идеями революционеров
и морально-этическими требованиями Толстого.
Известие о гибели видного революционера Неверова потрясло
всех, и умирающий народоволец Крыльцов призывает
отказаться от жалости к правителям: по его мысли, всем
революционерам надо сплотиться и уничтожить их. «Да
ведь они тоже люди, — сказал Нехлюдов. — Нет, это не
люди...» — услышал он ответ Крьшьцова. Толстой, однако,
считает их людьми. Именно из этого он исходит в своем
1 Необходимо отметить, что Толстой усилил отрицательную
характеристику революционеров в результате «советов» В. Г. Черткова.
20 февраля 1899 года Толстой писал Черткову: «Ваше и Галино
замечание, что к политическим должны быть выставлены
свойственные действительности тени, показывает, как вы оба верно
чувствуете. Я это самое думал и уже начал делать»,
450
стремлении показать в насильниках и мучителях
человека. Исполняя свои обязанности, насильник, по его
мнению, страдает не меньше, чем его жертва; не только
крестьянин, находясь в зависимости от барина, мучается, но
и барин переживает мучения. У Толстого не классовая,
а отвлеченная религиозно-этическая точка зрения: перед
богом все равны, все люди. В этом и состоит, несомненно,
противоречивость его этического учения и известная
ограниченность его гуманизма.
- Величайшая слабость учения Толстого заключалась в
том, что все его этические призывы в конечном счете
адресовались лишь к отдельному человеку. Толстой
полагал, что весь уклад жизни людей, все извращения
человеческой природы, все аморальные явления в «обществе»
исчезнут сразу же, если люди проникнутся сознанием
важности своей жизни, единственный смысл которой
заключался, по его мнению, в исполнении воли «хозяина»,
то есть бога. Надо признать «хозяина», и тогда перед
взором каждого откроется ясная дорога в жизни, тогда
все будут жить в мире, любви и согласии друг с
другом. Прекратятся всякие формы насилия человека над
человеком. Люди избавятся от своих пороков. В мире
исчезнет ложь и обман. Люди будут непосредственны и
счастливы, как дети. Таким образом, не социальные
перемены в обществе, а индивидуальное обращена.&&ЩД9Г0
к богу призвано сыграть решающую роль в
преобразовании ' человеческой природы, в утверждении новых
морально-этических норм жизни человека.
В «Воскресении» с наибольшей полнотой и яркостью
отражены кричащие противоречия в идеологии великого
художника. Ни в одном из предшествующих
произведений, написанных даже после духовного кризиса, Толстой
не подвергал такому беспощадному разоблачению все
«институты» буржуазного общества, не показывал с
такой потрясающей силой картины народного вымирания в
деревне, не срывал с таким неукротимым сарказмом
маски лицемерия, ханжества, лжи с церкви, суда и
других органов насилия самодержавия. Но вместе с тем
именно на фоне этих ярких обличительных картин, в
контексте больших и конкретно поставленных вопросов
социализма и демократии удивительно худосочными и
смешными выглядят «рецепты» Толстого по спасению
* 451
Человека и народа в целом от всех социальных зол. Его
религиозно-этическая программа наивна и реакционна в
самом прямом и глубоком смысле этого слова, ибо она
стремится увести народ от борьбы с царизмом в область
пустых и бесплодных воздыханий о лучшей жизни.
Решительно открещиваясь от революционных методов
преобразования действительности, Толстой видит в
евангелии инструмент перестройки жизни. В этом сказалось
полное бессилие писателя найти правильные пути
решения волновавших его важнейших вопросов жизни народа.
«Воскресение» заканчивается глубоко пессимистическими
переживаниями Нехлюдова. Завершен какой-то сложный
и значительный период в его жизни, он прошел через
целую полосу возрождения к новой жизни, пережил
процесс «воскресения». Дворянский интеллигент Нехлюдов
встал на путь решительного отказа от сословных
привилегий, на путь осуждения идеологии и морали
господствующих классов, он порвал с привычками и нравами
своей аристократической среды и обратился к народу, но
идеалы его туманны и расплывчаты, а народ мыслится
им пока в религиозно-этических категориях.
Но что же дальше? В пересыльной тюрьме, когда
последние духовные нити, связывавшие его с Катюшей,
были порваны, он ощутил огромную усталость от всего
пережитого, и в покойницкой, при виде трупа Крыльцова,
ему показалось, что ничего на свете, кроме смерти, нет.
Этот глубочайший пессимизм, несомненно, порожден
бессилием Толстого найти действенные средства борьбы с
«царствующим злом». Никакие теории
самоусовершенствования не помогали. «Все то страшное зло, которое
он видел и узнал за это время и в особенности нынче, в
этой ужасной тюрьме, все это зло, погубившее и милого
Крыльцова, торжествовало, царствовало, и не виделось
никакой возможности не только победить его, но даже
понять, как победить его».
В этом искреннем признании сказалась глубина
отчаяния Толстого и тех патриархальных крестьянских
масс, интересы которых он выражал. В поисках выхода
из тупика Толстой обратился к религии. Вместе со своим
героем Нехлюдовым он нашел ответ в евангелии, в
проповеди всепрощения. Надо не противиться злу насилием,
432
а самим постоянно очищаться от собственной
греховности перед богом.
Нехлюдов теперь видел, что всепрощение есть
панацея от всех зол, что «это было несомненное и не только
теоретическое, но и самое практическое разрешение
вопроса... Не во власти одних людей исправлять других».
Человек, по мысли Толстого, не может активно
вмешиваться в жизнь и перестраивать ее по своему
усмотрению, он должен обращать все свои силы на личное
самоусовершенствование.
И вот после всех грозных обличений царского суда,
правительства, помещиков, церкви — такой тощий и
жалкий по своему юродству вывод: прости врагам своим.
Проповедью гнусной религии всепрощения, «всеобщей»
любви Толстой наносил величайший вред
освободительному движению, вред тому самому угнетенному,
обиженному, забитому, распятому всякими палачами и
насильниками человеку, во имя защиты прав которого он
написал столько прекрасных и мужественных страниц
своего романа.
Смйсл жизни человеческой в земных радостях, — ив
изображении их Толстой-художник не имеет равных в
мире. Но, противореча всем естественным требованиям
здоровой человеческой природы, он проповедует
аскетизм. Оказывается, люди не хозяева своей жизни,
человек не имеет права на счастье. Он послан богом на
землю, чтобы исполнять его заповеди. Раскрепощая
человека от веры в официальную церковь, Толстой
накладывает на него еще более страшные духовные путы
религии по нравственному убеждению.
Своими мужественными описаниями всех проявлений
«царствующего зла» Толстой наполнял душу читателя
гневом, заражал его решимостью смести до основания
все это гнусное здание насилия над человеком, и здесь
он защищал человека, верил в него, в его прекрасное
будущее. Но он не доходил до конца по этому трудному
пути борьбы за права человека, он разоружал его перед
самым лицом врага и предлагал разгневанному
распятому кандальнику, политическому ссыльному,
каторжнику полюбить жандарма и полицейского, которые
арестовывали и ссылали его, мучили и били, вешали и рас-
433
стреливали. Что может быть чудовищнее этой проповеди
всепрощения и «всеобщей» любви?
В этой связи надо рассматривать и образ старика,
который появляется в заключительных главах романа.
Этот «свободный старик» не знает ни постоянного места
жительства, ни определенной религии, ему чужды
чувства патриотизма. Этот юродивый призван
иллюстрировать реакционную мечту Толстого о всемирном братстве
на основе единой веры; в его представлении — это
человек будущего, тот идеал Человека, к которому надо
всем стремиться.
«Воскресение» заканчивается большим количеством
цитат из евангелия. Автор пишет, что «с этой ночи
началась для Нехлюдова совсем новая жизнь... Чем
кончится этот новый период его жизни, покажет будущее».
Но будущее ничего не покажет. И сам Толстой, так
многозначительно закончивший свой роман, мало
верил в эту новую жизнь Нехлюдова по евангелию.
Он в течение двадцати лет бился над созданием
положительного образа, отвечавшего его новым
верованиям, но так ничего и не написал. В
«Воскресении» ему также не удалось создать образа героя,
живущего в соответствии с его учением. Нехлюдов так и
уходит со страниц романа резонером, рефлектирующим
дворянским интеллигентом без всякого ясного и
определенного будущего. Все «акты» его перерождения,
духовного очищения, «воскресения» так и остались самыми
слабыми и художественно не мотивированными
страницами в его биографии.
Впрочем, и сам Толстой был недоволен третьей частью
романа и особенно его заключительными главами.
6 октября 1899 года, заканчивая работу над
корректурами последних глав романа, он пишет своему издателю
Марксу: «Можете печатать и так, но если бы вы мне
прислали еще раз для просмотра все последние главы,
было бы лучше». А 17 декабря он пишет В. Г. Черткову:
«Я отослал третьего дня последние главы «Воскресения»,
которыми я недоволен, но чувствую, что дело это кончено,
и с радостью и надеждой колеблюсь в выборе работы».х
1 Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 379.
Разумеется, было бы неправильно истолковывать
устойчивое недовольство Толстого третьей частью и
особенно последними главами «Воскресения» только тем, что
он не успел что-то «поправить», то есть ощущением
неблагополучия в чисто стилистическом отношении: дело
обстояло значительно глубже и серьезнее. Толстой —
величайший художник-реалист — не был удовлетворен
всем художественно не мотивированным финалом
романа. Отсюда и настойчивые попытки продолжать
«Воскресение», описать жизнь Нехлюдова среди мужиков.
23 июня 1900 года он записывает в дневнике: «Ужасно
хочется писать художественное, и не драматическое,
а эпическое, — продолжение Воскресения: крестьянская*
жизнь Нехлюдова». * В дневниковой записи 28 ноября
1900 года вновь выражено желание писать «продолжение
Воскресения».2 И, наконец, спустя четыре года Толстой
заносит в дневник следующий план 'продолжения своего
романа: «его [Нехлюдова] работа, усталость,
просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка и все
на фоне Робинзоиовской общины» переселившихся
крестьян».3
Однако эта задача была выше возможностей самого
Толстого. Он декларировал свои этические идеалы, но
как художник не мог, не изменяя реализму, воплотить их
в полноценные художественные образы. Реальная жизнь
не давала материала для изображения торжества
морально-этической проповеди Толстого. Нехлюдов так и
остался лишь с «заявкой» на жизнь в духе христианской
морали, а Толстой оказался бессильным изобразить эту
мораль в действии. Так «Воскресение» и осталось без
продолжения.
И все же, несмотря на серьезные и сознававшиеся
самгм писателем недостатки «Воскресения», этот роман
был громадным художественным итогом всей
деятельности Толстого. В этом романе исконные черты таланта
писателя, отмеченные еще Чернышевским, получили свое
полное и окончательное выражение.
1 Л. Н, Толстой. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 27.
2 Там же, стр. 65.
3 Н. Гусев, Летопись жизни и творчества Л-. Н. Толстого,
стр. 656.
455
Лежавшая в основе его психологизма «чистота
нравственного чувства» с годами сильно изменилась. Она
приобрела ярко выраженный социальный характер.
В 80—90-е годы эта чистота нравственного чувства
у него уже явно «крестьянская», сознательно
противопоставленная грязи и чувственности господ. И метод
раскрытия «диалектики души» у Толстого сложно
эволюционировал и обогащался. В конкретных случаях
у позднего Толстого в цепь переживаний героев
вторгаются привходящие, подчас чисто физиологические
мотивы, придающие совсем иной ход всей психологической
эволюции, что связано с характерным для Толстого
противопоставлением «природы» обществу. Так, например,
происходит с переживаниями Катюши Масловой ночью
на полустанке, куда она вышла встречать Нехлюдова.
Чувство материнства, вызванное движением ребенка,
мгновенно оборвало всю цепь предшествовавших
переживаний, заслонило все другое, и нахлынувшие разом
новые чувства произвели неожиданный и полный
переворот в ее сознании, в ее отношении к Нехлюдову, к
людям и к богу. Поздний Толстой далеко не всегда плавен
и постепенен в раскрытии диалектики души. Он теперь
часто использует контрасты, пропуская целые звенья в
цепи чувств (так и в «Отце Сергии» и отчасти в
«Фальшивом купоне»), но мы всегда улавливаем глубокую
связь между ними.
Диалектика души у Толстого не только показана на
положительном человеческом материале, но и на
отрицательном, как, например, в том же «Воскресении». И здесь
чем глубже Толстой, тем острее его сатира, тем
отталкивающе выглядит отвратительное в жизни. У Достоевского
психологизм весь направлен на развенчание человека,
«животного двуногого и крайне неблагодарного».
Достоевский роется в потемках души с целью доказать, что
человек «любит» страдания и унижения. Достоевский
исходит из человека вообще и приписывает ему извечные зло
и порочность. Толстой — гуманист, его мощный метод
показа диалектики души направлен на прославление
человека, на апофеоз его как царя природы, как
разумного существа. Но когда Толстой с таким же
беспощадным анализом останавливается на отрицательных явле-
ниях, то он развенчивает их как помеху для нормальной
жизни людей, как зло жизни.
Толстой был мастером заострения типического. Это
выражается и в заострении отдельного образа и в
заостренном построении всей композиции произведения.
Началом «воскресения» Нехлюдова является нарочито
подчеркнутая сцена суда. При этом композиционное
заострение у Толстого часто включает и заостренный
отдельный образ или даже парадоксальное выражение,
словцо, останавливающее внимание. Вспомним, например,
зачин «Воскресения»: здесь сложный мозаичный контраст.
Весна в городе. Это почти противоестественно по
Толстому, весна здесь «не на месте», здесь, кажется, сделано
все, чтобы ее не было. Сам город — это не продукт
природы, это просто «несколько сот тысяч» жителей,
собранных «в одно небольшое пространство». Что их
собрало сюда — неизвестно. И этим подчеркнута
бессмыслица капиталистического города в восприятии Толстого.
Затем говорится, будто специально здесь люди старались
«изуродовать землю» к специально «забили» ее камнями,
чтобы ничего не росло на ней, старательно очищали
каждую пробивавшуюся травинку, дымили каменным углем
и нефтью. И вот вывод: все же весна была весною даже
в городе. Знаменательны всегда у Толстого эти «все же»
или «даже». Разрядка, вывод готовятся нагнетанием:
как ни старались... как ни забивали... как ни
обрезывали... Затем: «веселы были и растения, и птицы, и
насекомые, и дети». Невинные дети — заодно с природой.
А после этого главное — и с осуждением: «Но люди,
большие, взрослые люди, не переставали обманывать и
мучить себя и друг друга». Весь зачин, задающий тон
роману, построен на мелких, микроскопических
контрастах, искусно обдуманных и вкрапленных в общий,
большой и сложный контраст: природа хороша, а жизнь в
обществе скверна.
Основные особенности таланта Толстого — диалектика
души и нравственная чистота чувства — в последний,
наиболее зрелый период идейной эволюции писателя
придавали особенный размах и силу обличениям
неправды и зла в обществе, безгранично углубили самый
процесс обличения,
45?
Толстой разоблачает «диалектику» взаимосвязей
религии с государством, царского' суда с казнокрадством,
безнравственности сытых с их тунеядством, «власти тьмы»
с властью денег, цинизма мыслей господ с цинизмом
вещей, законов эксплуататорского общества. Именно
срыванием всех и всяческих масок занимается Толстой.
Естественно, и в самом проповедничестве Толстого
сказались эти черты. Он разрабатывает целое «учение»
о нравственном самоусовершенствовании и
самопожертвовании, преподнося читателю «диалектику» своей
«опростившейся» души...
Но .лучшие всходы эти черты таланта дали на почве
художественного творчества и обличения социального
зла.
Роман «Воскресение» своим глубоким критическим
содержанием, своим беспощадным обличением всего
политического и государственного строя самодержавной
России давал ценный материал для просвещения
передовых классов, действовавших в русской революции.
Советский читатель, обращаясь к роману Толстого,
приобщается к идейным исканиям великого гуманиста,
его охватывает чувство радости и гордости от сознания
того, что страшный мир, гениально запечатленный на
страницах «Воскресения», уже не существует на его
родине, что все эти Корчагины, Масленниковы, Кригс-
муты и Топоровы ушли в небытие. В повседневной
жизни советских людей воплощены те великие принципы
гуманизма, о которых мечтали лучшие люди прошлого.
Но борьба не кончена. В значительной части земного
шара еще господствует растленная людоедская мораль
буржуазных собственников. И «Воскресение» Толстого
помогает трудящимся всего мира лучше узнать своего
исконного врага.
ГЛАВА П II Т II А Д Ц А Т А Я
Непосредственно к роману «Воскресение» по своей
идейной проблематике примыкает драма «Живой труп»,
A900). Здесь Толстой также с суровой беспощадностью
обличает все устои дворянско-буржуазного строя,
пропитанного сверху донизу ложью. Герой драмы Федор
Протасов жил в окружении людей, вся жизнь которых
была основана на лжи и притворстве: здесь и типический
представитель «добропорядочной» светской молодежи —
тупой и ограниченный чиновник Каренин и его мать-
ханжа, каждую минуту вспоминающая заповеди
христианства и тут же их нарушающая; здесь и подлые
шантажисты типа Артемьева, состоящие на службе у
полиции, здесь и судейские чиновники, бесцеремонно
копающиеся в личной жизни человека, здесь же и
типическое порождение этого общества — безвольная жена
Протасова Лиза и вся полная притворства и лжи ее
мать. В этих образах Толстой раскрывает отвратительный
моральный облик буржуазно-дворянского общества.
На этом фоне вырисовывается характер Протасова.
Недовольный всем укладом жизни дворянско-аристо-
кратического общества, питающий органическое
отвращение ко лжи, он не мог ни служить, ни жить в этом
обществе. Между его требованиями к жизни и самой
жизнью существовал непреодолимый разлад. В течение
десяти лет он глушил сомнения своего пытливого ума,
своей протестующей совести вином и, наконец, порвал
связи с дворянским обществом, где только одна сестра
жены Саша вполне понимала его: им обоим одинаково
претила ложь окружавшей их жизни. И Протасов
относится к этой «милой, чуткой девочке» с подлинной
нежностью. Он говорит Саше, что на его месте она
сделала бы то же, то есть «ушла бы, перестала бы мешать
чужой жизни».
Раскрывая причины своего «ухода» из светского
общества, Протасов заявляет художнику Петушкову: «Всем
ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три
выбора—только три: служить, наживать деньги,
увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было
противно, может быть, не умел, но, главное, было
противно. Второй — разрушать эту пакость; для этого надо
быть героем, а я не герой. Или третье: забыться, — пить,
гулять, петь. Это самое я и делал. И вот
допелся».
Протасов, конечно, не активный борец, но он вполне
осознает необходимость разрушения всего «пакостного»
буржуазно-дворянского общества, необходимость
обновления жизни. Так жить, как жили люди его круга,
больше нельзя. Протасов не мог спокойно наблюдать
эту жизнь и, не найдя в себе сил для борьбы с
социальным злом, ушел к простым людям, к цыганам.
Слушая песни цыган, Протасов в восторге, говорит:
«Это степь, это десятый век, это не свобода, а воля...»
В мелодиях цыганских песен, задушевных и
стремительных, ему послышались голоса настоящей жизни,
свободной от светской лжи и условностей: «это такая жизнь,
энергия вливается в тебя», — говорит он. Там все ложь,
здесь правда вольной жизни. Маша своими песнями
открывала ему «небо». Она ушла с ним из хора, но
подлинного счастья между ними не могло быть, потому что
Протасов — «негодящий», он искалечен жизнью в
аристократической среде, и его «уход» оказался не
окончательным. Протасова настигли щупальцы старого мира в
лице негодяя — шантажиста Артемьева.
Толстой изображает подлость всех этих Артемьевых
с кокардами, бесцеремонно вмешивающихся в жизнь
людей, омерзительный облик «слуг закона», разных
следователей и судей, лицемерно говорящих о своем
человеколюбии и вместе с teM унижающих на каждом шагу
человека. «Мы слуги закона, но это не мешает нам быть
людьми», — заявляет следователь. Нет, слуги царского
закона не могли быть людьми, это бездушные и корыст-
460
ные чинуши, жестокие исполнители жестоких законов.
Убийственную характеристику им дает Толстой устами
Протасова, который смело и резко заявляет следователю:
«Как вам не стыдно. Ну что вы лезете в чужую жизнь?
Рады, что имеете власть, и, чтоб показать ее, мучаете
не физически, а нравственно людей, которые в тысячи
раз лучше вас».
Но не менее мерзки и благовоспитанные
представители «света». Узнав о том, что Протасов жив, Каренин и
Каренина, Лиза и ее мать приходят в ужас. Лиза еще
недавно говорила о Феде: «Как он вырос в нашей
памяти!», а теперь в животном страхе воскликнула: «Он
жив! Боже мой! Когда же он освободит меня?!»
Жестокие себялюбцы прикрывали свое бессердечие лживыми
словами о любви к памяти человека, которого все они
ненавидели и смерти которого жаждали.
На суде адвокат сообщает Протасову о возможных
определениях суда: ссылка в Сибирь вместе с женой или
церковное покаяние и возвращение к жене. Никаких
других. Значит, опять ложь, притворство, опять терзания
совести и безысходные душевные мучения. Протасов
стреляется и, умирая, говорит Лизе: «Прости меня, что не
мог иначе распутать тебя».
Протасова судили за то, что он, как метко
выразился один из героев пьесы, «не совершил
самоубийства». Но невелика радость, если человек оказался
живым: царское правосудие в конце концов само доводит
его до самоубийства. Пьеса в печати появилась только
после смерти Толстого. Реакционная пресса и на этот
раз обрушилась на Толстого с обвинениями в
«ниспровержении основ» и издевательстве над законами его
величества («Обозрение театров», 1911, 2 октября).
Драма «Живой труп» была впервые поставлена на
сцене Московского Художественного театра 23 сентября
1911 года с огромным успехом. В хронике «Толстовского
ежегодника» указано, что только за время с 1 января по
15 октября 1912 года «Живой труп» ставился в
243 театрах 9000 раз. За это время в Московском
Художественном театре драма шла 59 раз.
Как рассказывает Н. К. Крупская в своих
воспоминаниях, Владимир Ильич видел «Живой труп» на сцене
Бернского театра. «Мы редко ходили в театр, — пишет
461
М. К. Крупская. — Пойдем, бывало, но ничтожность
пьесы или фальшь игры всегда резко били по нервам
Владимира Ильича. Обычно, пойдем в театр и после
первого действия уходим. Над нами смеялись
товарищи, — зря деньги переводим.
«Но раз Ильич досидел до конца; это было, кажется,
в конце 1915 г., в Берне, ставили пьесу Л. Толстого
«Живой труп». Хотя шла она по-немецки, но актер,
игравший князя, был русский, он сумел передать
замысел Л. Толстого. Ильич напряженно и взволнованно
следил за игрой».1
Драма «Живой труп» написана характерными для
позднего Толстого резкими штрихами, с прямым
раскрытием обличительных установок автора, с ярко бьющим
ожесточением автора против царского суда.
Толстой в своей смелой, обличительной драме
воссоздает не только трагическую судьбу Протасова, но и
трагизм положения всех русских людей, живших под
жестоким гнетом самодержавия.
«Хаджи-Мурат» A896—1904) —одно из последних
крупнейших созданий Толстого, свидетельство
неувядаемой силы его творческого гения. Несколько раньше и в
другой связи Горький писал Чехову о Толстом: «Когда
он начал передавать содержание «Отца Сергия» — это
было удивительно сильно, и я слушал рассказ,
ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей. И
смотрел на старика, как на водопад, как на стихийную
творческую силищу. Изумительно велик этот человек и
поражает он живучестью своего духа, так поражает, что
думаешь — подобный ему — невозможен».2
В еще большей мере живучесть творческого «духа»
Толстого проявилась в его повести «Хаджи-Мурат».
Написанная на склоне лет, она поражает гармоническим
совершенством художественной формы, пластичностью
образов, чистотой и прозрачностью языка, глубочайшим
знанием жизни. Горький однажды сказал: «Разве можно
написать «Хаджи-Мурат» лучше? Нам кажется — нет.
1 «Ленин о литературе», М., 1941, стр. 251.
2 М. Горький. Материалы и исследования, т. Н, стр. 216.
462
Толстому — казалось — можно». * Между тем Повесть
считалась Толстым незаконченной и была опубликована
лишь после его смерти.
Повесть открывается чудесным описанием поля в
середине лета, и вся она овеяна поэзией природы. Простой
изуродованный репейник превращается в символ
могучей, никому не покоряющейся жизни. Толстой поет гимн
силам природы и одновременно прославляет энергию и
силу жизни человека. Только люди, живущие вместе
с природой, естественные и простые, вызывали у него
симпатию — отсюда поэтизация русских мужиков,
солдат, горцев. Идеал подлинной жизни — в труде, в
общении с природой, в простоте и естественности проявления
своих чувств. Образы простых русских солдат, с их
жизнью, исполненной лишений и страданий, согреты
авторским сочувствием. Но в описании жизни светских
кругов на Кавказе неизменно ощущается ирония,
переходящая часто в резкое обличение.
Два мира противопоставлены друг другу. В то время'
когда солдаты, находясь в секрете, боролись с
одолевавшим сном и ежились от холода, в богатом доме
Воронцова хозяева и избранные гости играли в карты. И когда
присутствовавший там Полторацкий мечтал о любви
княгини, его крепостной слуга Вавила горько оплакивал
свою судьбу: «Собачья жизнь!» Для русского человека
«солдатство было как смерть», и не только солдатство.
Вслед за Вавилой миллионы крепостных, на костях
которых разные Воронцовы, Полторацкие и сам
венценосный помещик — царь строили свое благополучие, могли
бы сказать о себе: «Собачья жизнь!»
Толстой создает блестящий по своей обличительной
силе образ Николая I, которого Герцен назвал «деспотом
Зимнего дворца». Еще до появления Николая в повести
писатель в отдельных штрихах воссоздает атмосферу
подобострастия и идолопоклонства, которая его окружала.
Военный министр Чернышев, интриган, завистник,
корыстолюбец и «большой подлец», по отзыву самого царя,
имел такие же маленькие санки, в каких ездил Николай;
«тупое» лицо товарища военного министра князя Васи-
•Всеволод И в а и о в. Встречи с Максимом Горьким, М.,
1947, стр. 79.
463
Лия Долгорукого было украшено «такими же
бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай»; у
флигель-адъютанта височки были зачесаны «к глазам так
же, как зачесывал Николай Павлович».
В портретных деталях Толстой характеризует
мертвенность внешнего облика Николая («тусклые» глаза,
«безжизненный» взгляд, «холодное, неподвижное» лицо,
«отросший» живот, «белое» лицо, «ожиревшие» щеки).
Он развенчивает непомерную гордость,
самовлюбленность, высокомерие, безграничное самомнение
самодержца, считавшего даже свой плащ «знаменитым».
В ряде эпизодов — свидание с дочерью
шведки-гувернантки, встреча с учеником училища правоведения,
распоряжение по докладу Чернышева — писатель
показывает аморальность поведения Николая, его страсть
к военной муштре, полное презрение к науке и искусству,
ненависть ко всяким проявлениям свободолюбия, будь
это в России или в Европе.
Подлое ханжество царя выразительно
охарактеризовано в эпизодах, когда он, помянув бога и заявив, что в
России смертной казни нет, назначает студенту-поляку
двенадцать тысяч шпицрутенов, хотя самый здоровый
человек умирал от пяти тысяч.
Видные сановники стремились во всем подражать
царю. Наместник Кавказа с неограниченными
полномочиями М. С. Воронцов также «не понимал жизни без
власти и без покорности». Под показной внешностью
«европейски образованного» сановника скрывались
эгоистические помыслы честолюбца не менее жестокого, чем
Николай, человека, привыкшего жить в атмосфере лжи.
Это он, надменный и властолюбивый англоман, в
бытность свою новороссийским губернатором жестоко
издевался над великим русским поэтом Пушкиным.
«Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он
видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь,
думаю о себе что-то другое», 1 — писал поэт в одном из
писем к А. И. Тургеневу.
Толстой исторически верно запечатлел черты
деспотизма и в образе Шамиля — оторванного от народа
1 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. X, изд. АН
СССР, М.—Л., 1949, стр. 96.
464
и глубоко чуждого ему представителя
реакционно-националистического движения, который стремился стать, при
помощи Англии и Турции, самодержцем всего Кавказа.
Однажды Толстой в беседе о своей повести сказал:
«Меня здесь занимает не один Хаджи-Мурат с его
трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм
двух главных противников той эпохи — Шамиля и
Николая, представляющих вместе как бы два полюса
властного абсолютизма — азиатского и европейского».
Толстой разглядел на востоке те же два мира, что и
в России, и если простые горцы изображены им тепло и
сочувственно, то деспоты типа Шамиля подвергнуты
беспощадному разоблачению. Да и все движение,
возглавляемое Шамилем, никогда не представлялось
Толстому народным: народ стонал от ига Шамиля так же,
как и от ига Николая, вынося двойной гнет
колонизаторской политики царизма и своих собственных феодалов.
О герое повести Хаджи-Мурате обычно писалось, что
в нем Толстой стремился изобразить «естественного
человека», «человека-дикаря», не испорченного
цивилизацией, и столкнуть его с так называемым «культурным
обществом». Это нашло свое отражение в тех эпизодах
повести, когда Хаджи-Мурат «с видом равнодушия»
присутствует на итальянской опере и уходит, не дослушав
ее; на следующий день он так же уезжает с бала
Воронцова, где танцовали полуобнаженные женщины, и на все
расспросы спокойно отвечает, что «у них этого нет».
Здесь Хаджи-Мурат выступает в роли судьи «культуры»
цивилизованных господ, вернее, с помощью его Толстой
обличает развращенные нравы аристократии.
Хаджи-Мурат у Толстого — детски добродушен, но
вместе с тем силен, ловок, невероятно жизнестоек; он
человек действия и неиссякаемой энергии. Эти черты и
привлекли внимание писателя к его личности. Но эта
характеристика скорее психологическая, и ее
недостаточно для полной оценки образа Хаджи-Мурата. Ведь
Хаджи-Мурат был виднейшим участником реакционно-
националистического движения, проходившего под
флагом мюридизма. И хотя Толстого с его
морально-этическими взглядами и концепцией «естественного человека»
менее всего интересовала социально-историческая
характеристика личности Хаджи-Мурата, тем не менее из ряда
30 С. Бычков 465
Скупых деталей мы узнаем об отрицательной оценке им
образа героя именно в этом плане.
Хаджи-Мурат выступает в начале движения как
яростный защитник интересов ханов. Впоследствии он
сам стремится стать неограниченным властелином,
деспотом. У Шамиля — он наместник Аварии, но этого ему
мало. Он бежит от Шамиля, надеясь на то, что Воронцов
даст ему войско, он отомстит Шамилю, получит награду
от царя и «опять будет управлять не только Аварией, но
и всей Чечней, которая покорится ему». Таким образом,
Хаджи-Мурат нисколько не заботится об интересах
горцев, он, так же как и Шамиль, глубоко чужд народу.
Властолюбие, корысть, слепое чувство мести — вот что
во всем руководило Хаджи-Муратом.
Толстой, отрицательно относясь к движению
мюридизма во главе с Шамилем, естественно не мог не
отметить и глубоко чуждых ему черт в личности Хаджи-
Мурата, виднейшего участника этого движения.
* # *
С приближением первой русской революции Толстой
все глубже сосредоточивается на вопросах
современности. Он отдает много сил борьбе против частной
поземельной собственности, защищая интересы
многомиллионных масс русского крестьянства, страдавшего от
безземелья. Горький писал Пятницкому 24 июня
1902 года: «Лев Николаевич пишет статью по
земельному вопросу, а! Экая силища, экое изумительное
понимание запросов дня!»
Толстой говорил, что он выступает адвокатом от
имени «ста миллионов крестьянства», которое изжажда-
лось по земле, с решительным требованием
«уничтожения земельной собственности». В статьях «Великий
грех» A905), «Конец века» A905) и других он ставит
вопрос о ликвидации частной поземельной собственности
с невиданной еще остротой и резкостью, потому что
дальше терпеть нельзя, народ вымирает от безземелья.
В статье «Великий грех» он пишет: «Пройдите по всей
России, по крестьянскому миру, и вглядитесь во все
ужасы нужды и во все страдания, происходящие от
очевидной причины: у земледельческого народа отнята
466
земля. Половина русского крестьянства живет так, что
для него вопрос не в том, как улучшить свое положение,
а только в том, как не умереть с семьей от голода, и
только оттого, что у них нет земли».1
Сама революция Толстому представляется как
«революция освобождения земли».2 Однако он был
противником насильственного захвата помещичьей земли
крестьянами. Когда до него начали доходить сведения из разных
концов России о крестьянских восстаниях, о
разграблении помещичьих имений, о захвате земель, он выступил
против насильственных методов борьбы: «Только
неучастие народа ни в каком насилии может уничтожить все
насилия, от которых он страдает... и может уничтожить
земельную собственность».3
Ленин указывал, что Толстой явно не понял
революции и явно отстранился от нее. Еще в самом начале
революции, под живым впечатлением кровавых событий
9 января, Толстой пишет свою известную статью «Об
общественном движении в России», в которой осуждает
«петербургское злодеяние» и, обличая жестокость,
глупость и лживость самодержавия, в то же время
настойчиво доказывает, что всякие социальные улучшения
«посредством изменения внешних форм» являются
«губительной иллюзией». «Истинное социальное
улучшение, — убеждал он, — достигается только религиозно-
нравственным совершенствованием отдельных
личностей». 4 Значит, надо отказаться от революции и обратить
все силы на «внутреннюю работу» «над самим собой».5
«Я себе и всем говорю, — записывает он позднее в
дневнике, — что главное дело теперь... не участвовать в
борьбе».6
Такая проповедь Толстого вызвала возмущение
у Горького. В неотправленном письме к Толстому
Горький писал: «В тяжелые дни, когда на земле Вашей
родины льется кровь, и, добиваясь права жить не скот-
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 209.
2 Там же, т. 55, стр. 150.
3 Там же, т. 36, стр. 259.
4 Там же, стр. 156.
6 Там же, стр. 161.
6 Там же, т. 55, стр. 167—168.
467
ски, а по-человечески, гибнут сотни и тысячи славных,
честных людей, Вы, слова которого так чутко слушает
весь мир, Вы находите возможным только повторять
еще один лишний раз основную мысль Вашей
философии: «нравственное совершенствование личности — вот
задача и смысл жизни всех людей».
В чем же дело? Ведь сколько раз Толстой писал и
говорил еще в 1904 году, что «добрая жизнь и
теперешние... формы жизни несовместимы», 1 что «правительство
есть шайка разбойников»,2 что «настало время его
опрокинуть».3
Как же согласовать его резкие памфлетные
обличения самодержавия с выступлениями против революции?
На этот вопрос мы находим ответ в той же статье «Об
общественном движении в России»: «Чтобы избавиться
от правительств, — пишет Толстой, — надо не бороться
с ними внешними средствами... а надо только не
участвовать в них и не поддерживать их. Тогда они будут
уничтожены».4
В ходе революции Толстой остался верен своему
учению о непротивлении, своей тактике «не делания», в
которых отразились, как указывал Ленин, «незрелость,
мечтательность, политическая невоспитанность и
революционная мягкотелость патриархальных масс русского
крестьянства.
Но революционно настроенная часть крестьянства не
внимала и не хотела внимать проповеди Толстого. В
ходе революции и после нее крестьяне восставали и
насильственно отбирали землю у помещиков, за что царское
правительство их вешало, ссылало на каторгу, гноило
в острогах. Реакция свирепствовала. Посылались
специальные карательные экспедиции. Смертные казни стали
массовым явлением. В этих условиях Толстой выступил
со своим гневным памфлетом «Не могу молчать» A908),
в котором резко осудил жестокую палаческую политику
царизма и правильно указал, что причиной «возмущений»
народа является нерешенный земельный вопрос.
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 4.
2 Там же, стр. 10.
3 Там же, стр. 62.
4 Там же, т. 36, стр. 163.
468
В своих последних произведениях Толстой обличал не
только российские порядки. Он видел в современном ему
мире цепь лжи, насилия и лицемерия. С неменьшей
силой Толстой страстно обличал и все капиталистические
порядки, внутреннюю лживость буржуазной демократии,
особенно в таких, по его определению, «мнимо-свободных
государствах», как Англия и Америка. Описывая обманы,
подкупы и другие средства избирательных вакханалий
буржуазных партий в этих странах, Толстой
саркастически замечал: «все знают, как составляются парламенты,
как мало они выражают волю народа». «Выбор
президента в Соединенных Штатах стоит миллионы тем
аферистам, которые знают, что выбранный президент будет
поддерживать выгодную им систему обложения тех или
иных предметов или те или иные монополии, и они
сторицей возвратят то, что будет им стоить избрание».1
Решительно выступая против жестоких колониальных
войн англо-американского империализма в Африке и на
Филиппинах, в Индии и Китае, Толстой с гневом
говорил о том, что «миром управляет бездушное
торгашество». Он писал «о завоевательской мании
американского правительства». Через школу и продажную прессу
буржуазные правительства «умственно и нравственно»
развращают народы. При этом особенное негодование
у писателя вызывало «правительство
Северо-Американских Штатов с своим покровительством трестам и
империализмом». Великий русский писатель несколько
десятилетий назад беспощадно заклеймил хищническую
природу американского империализма, отвратительное
лицемерие американской «демократии», состоявшей уже
тогда на содержании у трестов и магнатов капитала.
В этом отношении трудно переоценить огромное
познавательное значение художественного наследия
Толстого, ибо то, что он заклеймил в своих великих
произведениях, свойственно любой буржуазной стране,
а современной хищнической Америке, агрессивные
правящие 'круги которой теперь являются поджигателями
третьей мировой войны, — в особенности.
Толстой до конца жизни оставался великим критиком
самодержавия, помещичье-буржуазных порядков, церкви,
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 326.
469
суда, всего правительственного аппарата. Несмотря на
то, что в числе его многочисленных поклонников были
ничтожные толстовцы, превратившие в догму как раз
самую слабую сторону Толстого — его проповедь
«непротивления злу насилием» и опрощение (Чертков, Бирюков,
Маковицкий и другие), громадное большинство
сочувствовало резкой критике Толстого, видело в нем горячего
протестанта и всячески выражало свою солидарность с
его неутомимой борьбой.
Недаром реакционный критик Суворин писал: «Два
царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них
сильнее? Николай II. ничего не может сделать с Толстым,
не может поколебать его трон, тогда как Толстой,
несомненно, колеблет трон Николая и его династии».
Всегда принципиально расходясь с революционерами
и даже осуждая их методы борьбы, Толстой, однако,
ясно сознавал и открыто заявлял в беседах и в печати,
что царский государственный строй прогнил и что его
нужно весь «перестроить». Толстой бросал в лицо
государству, властям, самому царю, учинившему кровавую
бойню 9 января 1905 года, покрывшему виселицами всю
страну, что: «Верно или неверно определяют
революционеры те цели, к которым стремятся, они стремятся к
какому-то новому устройству жизни; вы же желаете
одного: удержаться в том выгодном положении, в
котором вы находитесь. И потому вам не устоять против
революции с вашим знаменем самодержавия, хотя бы и
с конституционными поправками, и извращенного
христианства, называемого православием, хотя бы и с
патриархатом и всякого рода мистическими толкованиями.
Все это отжило и не может быть восстановлено».1
Не в силах ни арестовать Толстого, ни зажать ему
рот, царское правительство совместно с святейшим
синодом решило отлучить Толстого от церкви, надеясь тем
нанести удар по его престижу в самых широких слоях
русского крестьянства. 25 февраля 1901 года
последовало отлучение. По ироническому замечанию В. Г.
Короленко, русскому телеграфу за все время своего
существования первый раз пришлось передать такое известие:
1 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 304.
470
«Отлучение от церкви, передаваемое по телеграфной
проволоке! Парадокс, изготовленный историей в начале
XX века».
Но Толстой встретил это известие спокойно, как давно
уже решенный вопрос. И в то время как с амвонов
церквей попы предавали анафеме великого русского
писателя, Толстой все больше и больше наращивал свои
удары по лицемерам и кровопийцам в рясах и фраках и
все больше и больше вызывал сочувствие к себе в
широких слоях народа. Через несколько дней после
отлучения Толстого на площади около Казанского собора в
Петербурге состоялась одна из первых политических
демонстраций в России, жестоко подавленная царскими
жандармами.
Когда осенью 1901 года тяжело больной Толстой в
специальном вагоне выехал в Крым на лечение в
сопровождении родных и знакомых, то во время
двадцатиминутной стоянки поезда в Харькове на перроне вокзала
стихийно собрались несколько сот человек, которые
продемонстрировали свою солидарность с писателем. В
вагон к больному входили депутации от студентов,
молодежи, Толстого попросили подойти к окну, и когда
толпа увидела дорогие черты любимого писателя, то
мгновенно все стихло, и головы обнажились...
В 1908 году в России и многих странах мира
праздновался восьмидесятилетний юбилей Толстого. Царские
власти и продажная официальная печать сделали все,
чтобы предотвратить празднование юбилея. Были изданы
циркуляры, прямо запрещавшие юбилей. И все же,
чтобы не окончательно ударить лицом в грязь перед
«просвещенной Европой», либеральная пресса поместила
куцые статейки, «приветствия» Толстому — «совести
мира», «светочу мысли», «великому пророку», «учителю
жизни». Все это были фразы и фразы, лицемерие, ибо,
как метко сказал Ленин, либералы ни в толстовского
бога не верили, ни толстовской критике самодержавия не
сочувствовали. Все это были негодные попытки кадетов
и либералов примазаться к мировой славе Толстого,
чтобы нажить себе политический капиталец... Вскоре
после юбилея снова была возобновлена травля Толстого,
а мракобесы вроде Иоанна Кронштадтского молились
о скорейшей смерти Толстого...
47!
Как ни далек был Толстой от рабочего класса, каким
противником революции он ни выступал, но рабочий
класс и революция «принимали» Толстого — обличителя,
гневного противника самодержавия и «царствующего
зла». В юбилейные дни выступил Ленин со своей
гениальной статьей «Лев Толстой, как зеркало русской
революции», в которой ясно показал, каково отношение
рабочего класса и его партии к великому художнику
русской земли, какие стороны в его наследии
революционный пролетариат берет и какие осуждает и
отбрасывает. В дни юбилея Толстой получил немало теплых
приветствий, проникнутых горячей симпатией и
энтузиазмом. Вот что писали в своем адресе Толстому
рабочие Балтийского судостроительного завода в
Петербурге: «В день восьмидесятой годовщины Вашей
прекрасной жизни, когда перед величием гениального образа
Вашего благоговейно склоняется мир и Ваше имя у всех
на устах, только страна, на долю которой выпала
великая гордость быть Вашей родиной, не смеет поднять свой
голос, приветствуя Вас.
«Но пусть темные слуги насилия, гонители свободы и
истины грозят нам всеми карами земли и неба, в этот
день мы не хотим и не можем молчать.
«Из душных мастерских завода мы, люди тяжелого
труда и тяжелой доли, сыновья одной с Вами несчастной
родной матери, шлем Вам привет, чтя в лице Вашем
национального гения, великого художника, славного и
неутомимого искателя истины. Мы, русские рабочие,
гордимся Вами, как национальным сокровищем, и
лишь хотели бы, чтобы и могучему создателю новой
России — рабочему классу — природа дала своего Льва
Толстого».1
Осенью 1909 года Толстой был в Москве последний
раз. 19 сентября на Курском вокзале, когда Толстой
отъезжал в Ясную Поляну, экспромтом были устроены ему
грандиозные проводы. На площади заранее собрались
несколько тысяч человек — различные представители
московского населения: учащаяся молодежь, рабочие,
торговцы, художники, артисты. Поминутно щелкали
1 Цит. по книге Б. Мейлаха «Ленин и проблемы русской
литературы», М.—Л., 1951, стр. 325.
«кодаки», вертелись ручки киноаппаратов. Громкое «ура!»
приветствовало появление Толстого около вокзала.
Толпа провожала его на перрон до самого вагона,
тысячи людей слушали слова краткого приветствия
Толстого, сказанного им из вагона с великим волнением:
«Никак не ожидал такой радости, такого проявления
сочувствия со стороны людей... Спасибо!» Поезд отходит,
толпа движется по перрону, она выражает пожелание
долголетия любимому писателю.
Царские власти и на этот раз почувствовали, что
значит громадный политический авторитет Толстого-борца
среди самых широких слоев населения. Это была сила,
с которой власть ничего не могла поделать.
Но в семье Толстого назревала буря. Мучимый
противоречиями собственного учения, сознавая, что сам
он все еще недостаточно «опростился» и порвал с
привычной средой, Толстой жил уже много лет в разладе со
своей семьей и несколько раз порывался ее оставить.
Положение в семье у него было поистине трагическое.
Это замечали и все приезжавшие в гости. Проживавшие
в доме «толстовцы» активно вмешивались в его семейные
дела. Половина семьи была на стороне отца и половина
на стороне матери, Софьи Андреевны...
Толстой получал много писем от своих
единомышленников с упреками в непоследовательности: сам
проповедует полное опрошение, а живет в графском доме,
пользуется всеми удобствами привилегированной жизни
помещика, проповедует трудовую жизнь, а сам содержит
целое имение...
Толстой еще в 1891 году произвел раздел имения
среди наследников, ничего себе не оставив, а с 1892 года
отказался от авторских прав на свои произведения,
написанные после 1881 года (после перелома в
мировоззрении). Хотя Толстой продолжал попрежнему жить
с семьей в яснополянском доме и в Москве, но быт его
уже давно сильно отличался от домашних. Он
поддерживал свой особый режим: вставал рано, возил воду или
колол дрова. Известно, что Толстой с 80-х годов начал
заниматься крестьянской работой: пахал и косил. Особенно
он помогал по хозяйству бедной крестьянке Анисье
Копыловой. Таким на пашне и запечатлел его Репин
473
в своей миниатюре. Все это, по мысли Толстого, входило
в проповедуемый им ритуал опрощения... В Туле можно
было встретить приехавшего из Ясной Поляны Толстого
верхом на низкорослой лошаденке, в белой широкой
рубахе, подпоясанной ремешком, в синих домотканных
штанах, в лаптях и соломенной шляпе. Крестьяне говорили
о нем: «Это мужик умственный, хотя и барин»...
Но, конечно, ни этот маскарад с переодеванием, ни
«рисовые котлетки», ни даже по-крестьянски трудовая
жизнь не могли прикрыть кричащих противоречий во
всей деятельности Толстого. Нужны были не эти
внешние знаки опрощения, которые были, по меткому
выражению Ленина, «юродством» у Толстого; да и не в самом
опрощении было дело, а в поднятии сознания миллионных
крестьянских масс до уровня революционного авангарда.
Толстому именно нехватало последовательности в
выводах, которые, казалось, сами вытекали из его страстных
обличений и конфликтов с правящей властью.
Чтобы быть последовательным хотя бы в пределах
своего учения, Толстой понимал, что .ему надо порвать
окончательно со своей семьей. Он хотел порвать еще и
потому, что его действительно возмущала праздная
жизнь, окружавшая его. Софья Андреевна хотела, чтобы
жизнь ее и жизнь детей отличалась всеми привилегиями
графской семьи, чтобы были светские вечера и приемы,
и хотя домашние и без того уже шли на уступки
Толстому, но их праздная, как он всегда считал, жизнь
глубоко его возмущала.
В своем дневнике в 1908 году Толстой записал:
«Жизнь здесь в Ясной Поляне вполне отравлена, куда
ни выйду, — стыд и страдания.
«...Одно все мучительней и мучительней: неправда
безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды,
среди которой я живу, все делается хуже и хуже,
тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть...
«...Приходили в голову сомнения, хорошо ли я делаю,
что молчу, и даже не лучше ли было бы мне уйти,
скрыться... Не делаю это преимущественно потому, что
это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной
со всех сторон жизни. А я верю, что это-то перенесение
этой жизни и нужно
т
Сколько ни утешал себя Толстой софизмами о том,
что страдания надо терпеливо сносить и что он сам
совершит грех и нарушит свою же теорию «непротивления»,
если уходом из семьи причинит боль жене и близким,
все же он решился уйти окончательно и 28 октября 1910
года в 5 часов утра, в сопровождении своего домашнего
врача Маковицкого, тайком от жены покинул навсегда
Ясную Поляну.
Твердого плана куда ехать у Толстого не было.
Побывав в Оптиной пустыне и у сестры монахини в Ша-
мардинском монастыре около Козельска, Толстой решил
пробраться на юг России, в Новочеркасск, попытаться
там достать заграничный паспорт, а в случае неудачи
поехать на Кавказ к своим единомышленникам. На
перегоне от Козельска Толстой простудился, его стало
знобить, и решено было сойти на станции Астапово.
В доме начальника станции Толстому и суждено было
умереть.
Весть об уходе Толстого из Ясной Поляны быстро
облетела Россию, и в то время как он еще тайно ехал по
железной дороге, в газетах уже появились сенсационные
сообщения. Как только стало известно, что Толстой слег
больным, на станцию Астапово нахлынули
корреспонденты, родные, близкие. После мучительной болезни
7 ноября 1910 года в 6 часов 5 минут утра Толстой
скончался.
Царское правительство все время зорко следило за
Толстым. К больному писателю синод подослал игумена
Оптиной пустыни Варсонофия: власти было очень важно
создать легенду о раскаявшемся грешнике Толстом,
вернувшемся на одре смерти в лоно православной церкви.
Но Толстой не собирался «раскаиваться» и попа к себе
не допустил.
В связи со смертью Толстого во многих городах
России происходили демонстрации явно
антиправительственного характера. Российский пролетариат и тут воздал
должное Толстому-борцу. Вот что говорилось в роковой
день в одной из телеграмм, полученных в Астапово:
«Социал-демократическая фракция государственной думы,
выражая чувства российского и всего международного
пролетариата, глубоко скорбит об утрате гениального
художника, непримиримого и непобежденного борца софи-
4JA
циаль'ной церковностью, врага произвола и порабощения,
громко возвысившего свой голос против смертной казни,
друга гонимых». *
Толстой был погребен в Ясной Поляне, у оврага,
там, где он сам завещал. Простая и скромная могила,
как и дом, ставший музеем, в котором жил и творил
гений русской литературы, стали местом
паломничества сотен и тысяч советских людей и лучших людей
всего мира.
1 Цит. по книге Б. Мейлаха «Ленин и проблемы русской
литературы», стр. 348.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Русская литература в последние десятилетия
прошлого века приобрела мировое значение, и в этом
колоссальная заслуга Толстого. Всюду Толстой прокладывал
себе дорогу как великий, неповторимый художник, своими
произведениями ярко свидетельствующий о гении
породившего его народа.
Советский читатель все более глубоко осознает
справедливость мысли Горького: «Не зная Толстого, нельзя
считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя
культурным человеком».1
Толстой-художник оставил замечательные традиции,
которые творчески осваивает и развивает советская
литература. Темы и идеи литературы социалистического
реализма в корне изменились в связи с преобразованием
всей нашей родины, в результате победоносной Великой
Октябрьской социалистической революции и мирной
социалистической созидательной работы, которую провел и
проводит наш народ под руководством Коммунистической
партии. Но любовь к народу и глубокий патриотизм,
ненависть к врагам человечества, эксплуататорам,
тунеядцам и ко всяческой фальши завещал нам великий реалист.
Творчество Толстого — величайшая школа
художественного мастерства. Для советских писателей Толстой
является примером художника огромного творческого
диапазона, широты охвата жизненных явлений, больших
и глубоких обобщений, упорного, взыскательного труда,
величайшей художнической добросовестности.
1 М. Горький. История русской литературы М., 1939,
стр. 296.
Толстой-мастер велик тем, что сумел отобразить в
своих художественных образах неповторимые
национальные черты русского народа, его психический склад,
трезвый, ясный ум, стойкость, терпение, безграничную любовь
к своей родине. В лучших созданиях Толстого раскрыта
диалектика именно русской души в исторический период
грандиозной ломки всех условий жизни в России. С этим
«графом» появился в литературе «мужик» именно
потому, что Толстой сумел глубоко отобразить его
национальные особенности.
Традиции Толстого-художника чувствуются в лучших
произведениях советской литературы. И гуманизм и
историзм, лежащие в основе психологического анализа
Толстого, помогают советской литературе отображать в
полнокровных типических образах рост нашей
социалистической жизни, «диалектику души» нашего прекрасного
советского человека и во всеоружии покарать, сорвать
все и всяческие маски с поджигателей войн,
человеконенавистников, собственников, карьеристов и бюрократов,
всех тех, кто мешает нам двигаться вперед.
Толстой — сын великого русского народа — является
гордостью всех свободных братских народов Советского
Союза и всего прогрессивного человечества.
В социалистической России Толстой нашел чуткого и
благодарного читателя. Его творения стали достоянием
миллионов свободных тружеников, покончивших с
вековой властью капитала, созидающих величественное
здание коммунизма в нашей стране и стремящихся к
изобилию материальной и духовной культуры.
Великие творения Толстого — это наследство, которое
мы берем на вооружение, творчески осваиваем и
развиваем дальше в нашей передовой социалистической
культуре.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От редакции 3
Введение. Задачи исследования. В. И. Ленин
о Льве Толстом
Глава первая. Детство писателя. Воспитание.
Казанский университет. В Ясной Поляне. Поиски занятий.
Служба на Кавказе. Начало литературной деятельности.
«Детство», «Отрочество», «Юность», «Записки маркера»,
«Набег». Под Севастополем. «Севастопольские рассказы».
Оценки Некрасова и Чернышевского 16
Глава вторая. Приезд в Петербург в 1855 году,
сближение с редакцией «Современника». Идейная борьба
вокруг крестьянского вопроса. «Утро помещика», «Два
гусара». Поездка в 1857 году за границу. «Люцерн»,
«Альберт». Размышления об искусстве. «Три смерти»,
«Семейное счастье» 41
Глава третья. Открытие народной школы в
Ясной Поляне. Толстой — мировой посредник.
Педагогические взгляды Толстого. «Поликушка», «Холстомер»,
«Казаки». Вторая поездка за границу в 1860—1861 годах. . . 76
Глава четвертая. Замысел романа о декабристг.
1862 год — женитьба. «1805 год», «Зараженное
семейство». Обыск в Ясной Поляне в отсутствие Толстого . . ,106
Глава пятая. «Война и мир» A863—1869). . . 125
Глава шестая. Замысел романа из эпохи Петра I.
«Азбука» и «Новая азбука» 237
Глава седьмая. «Анна Каренина» A873—1877) 251
Глава восьмая. Возвращение к замыслу романа
о декабристе .... 316
479
Глава девятая. Перелом в мировоззрении
Толстого. Разрыв с дворянским классом. «Исповедь»
1879—1882 годов. Переезд в Москву. Участие в переписи
населения в Москве. «Так что же нам делать?», «В чем
моя вера?». Участие в книгоиздательстве «Посредник» . . 326
Глава десятая. Народные рассказы Толстого . 354
Глава одиннадцатая. Драматургия Толстого —
«Власть тьмы», «Плоды просвещения» 366
Глава двенадцатая. «Смерть Ивана Ильича»,
«Крейцерова соната», «Дьявол»
Глава тринадцатая. Участие Толстого в
помощи голодающим. «Письма о голоде», «Хозяин и
работник». Толстой в борьбе с декадентским искусством.
Трактат «Что такое искусство?». Связь Толстого с передовыми
представителями русского искусства и литературы.
Толстой и Горький 398
Глава четырнадцатая. «Воскресение» A899). 420
Глава пятнадцатая. «Живой труп», «Хаджи-
Мурат» A904). Революция 1905 года и Толстой.
Юбилей Толстого в 1908 году. Уход из семьи. Смерть 7
ноября 1910 года 459
Заключение 477
Редактор^'. В. И. Кулетев, I. П. Макогоненко
Художник Г. А. Кудрявцев
Художественный редактор А, Гайденков
Технический редактор У/. Чалова
Корректор 3, Урицкая
Сдано в набор 12/IV 1954 г. Подписано к печати 17/VIT 1954 г. М40682 Тираж 20 000 экз.
Бумага 84хЮ87а!>—30 печ. л.—-24,Ь усл. печ. л. 25,03 уч-изд. л.-f 1 вкл.=-25,07 л.
Заказ № 1335. Цена 12 р.
Гослитиздат. Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.
4-я типография им. Евг. Соколовой Союзполиграфпрома Главиз^ата
Министерства культуры СССР. Ленинград, Измайловский пр., 2^.
Созданием файла в формате DjVu
занимался ewgeniy-new
(январь 2015)