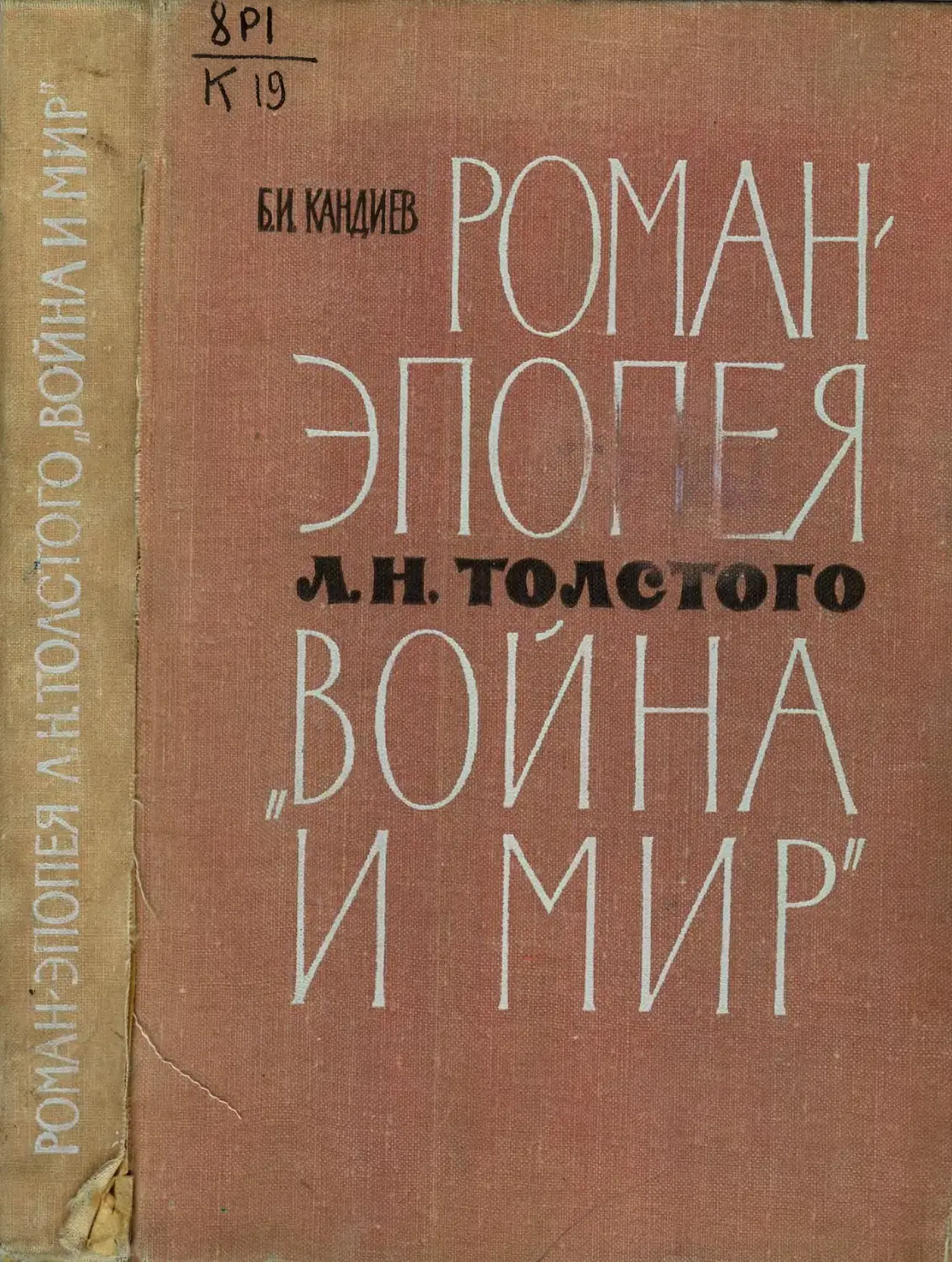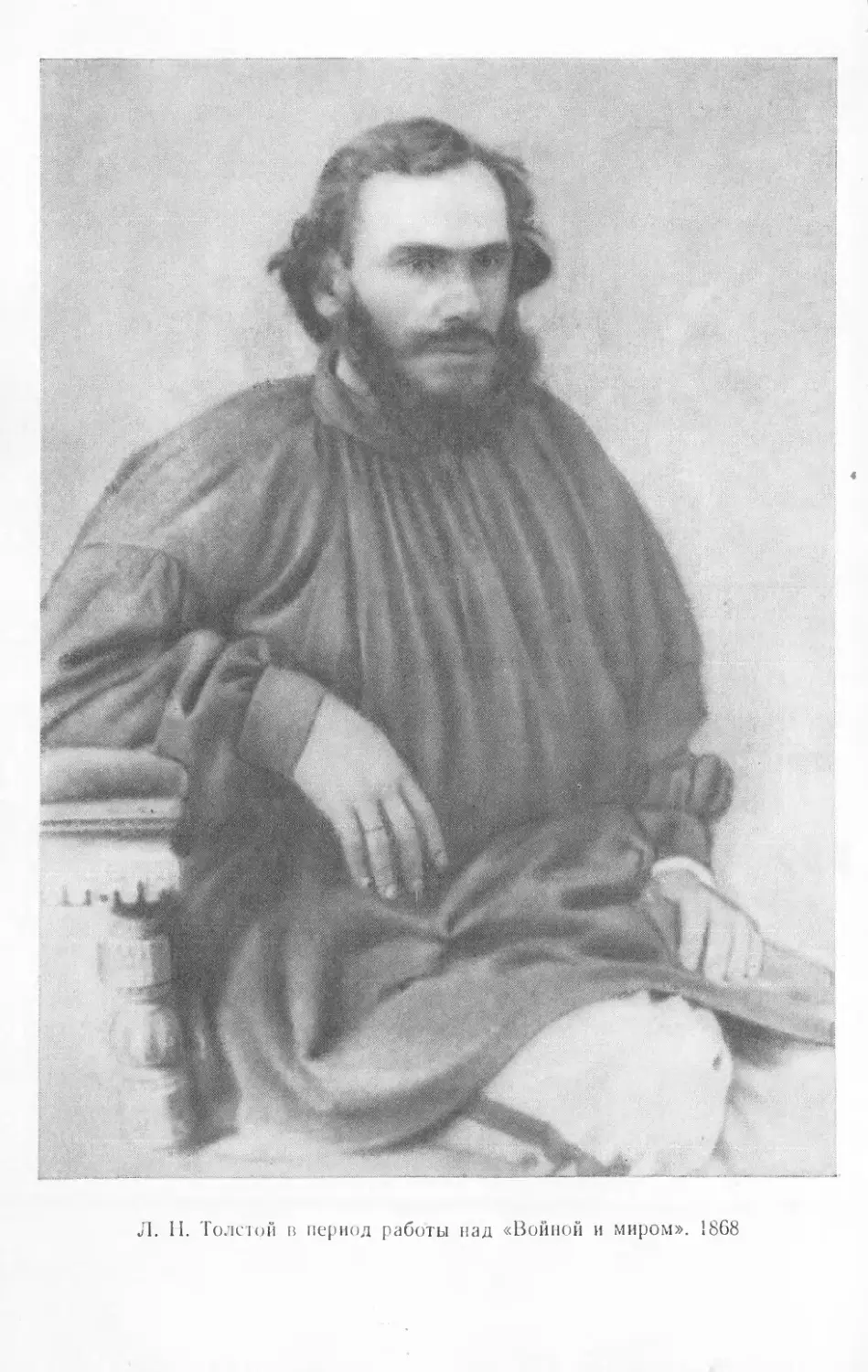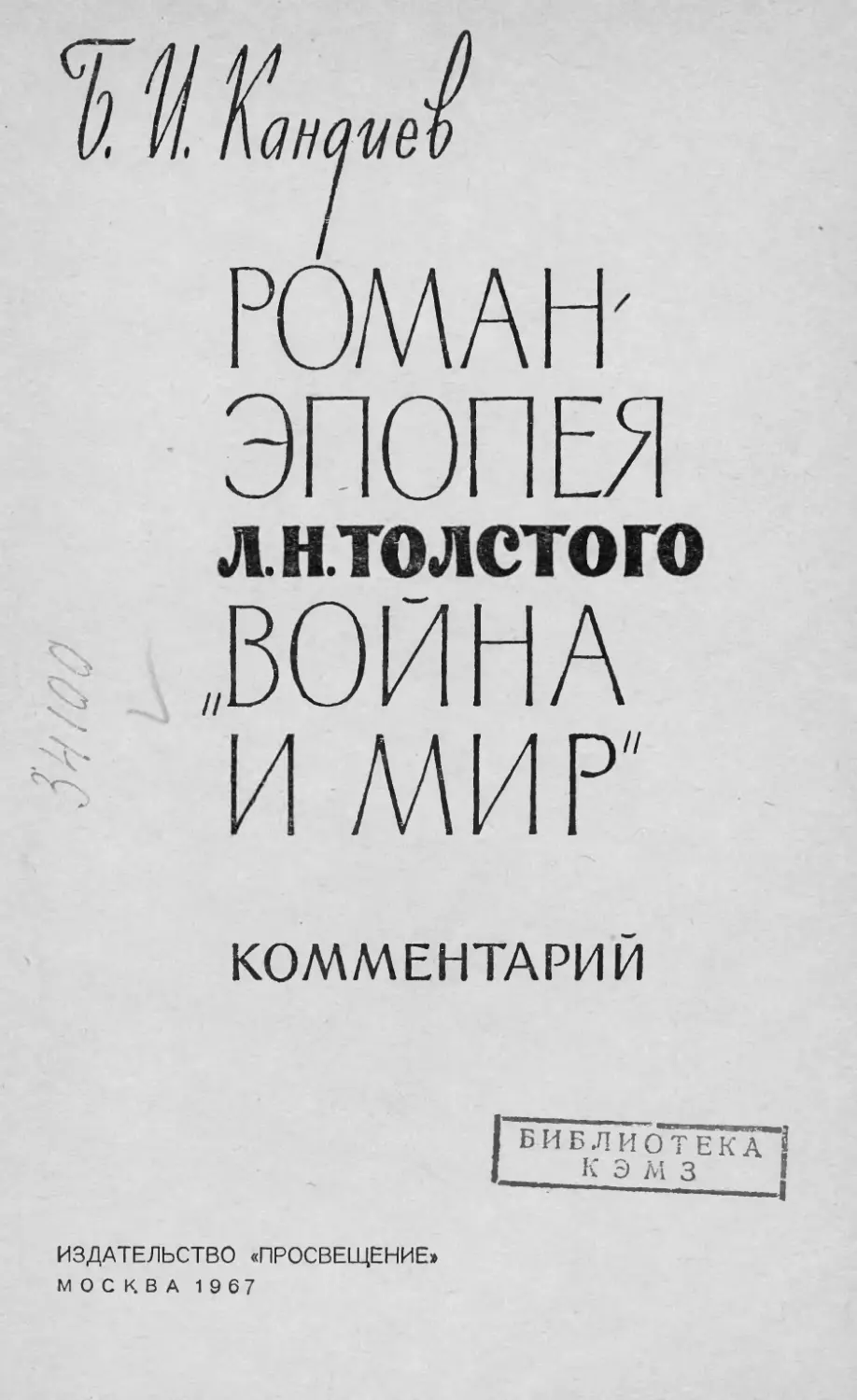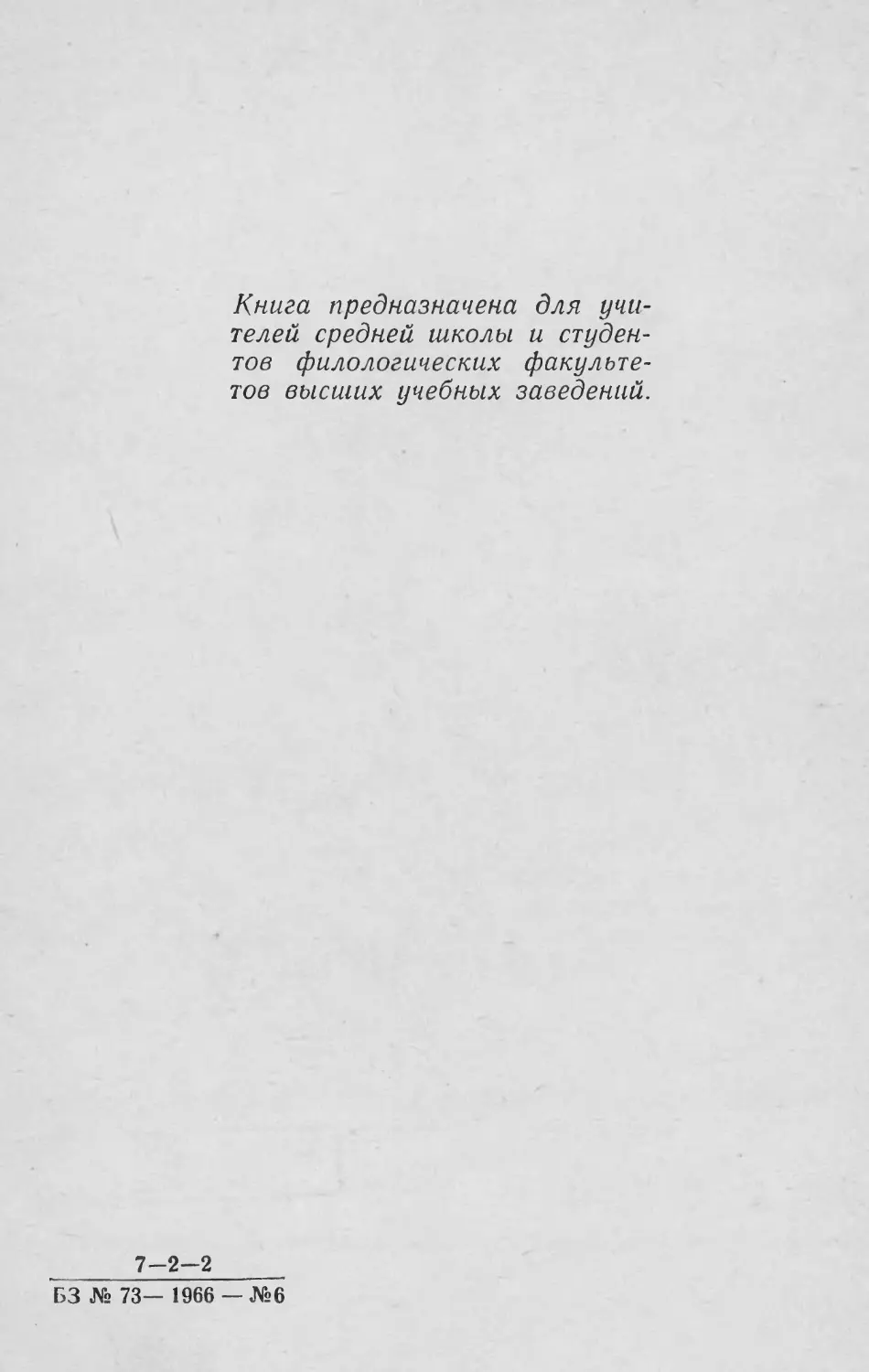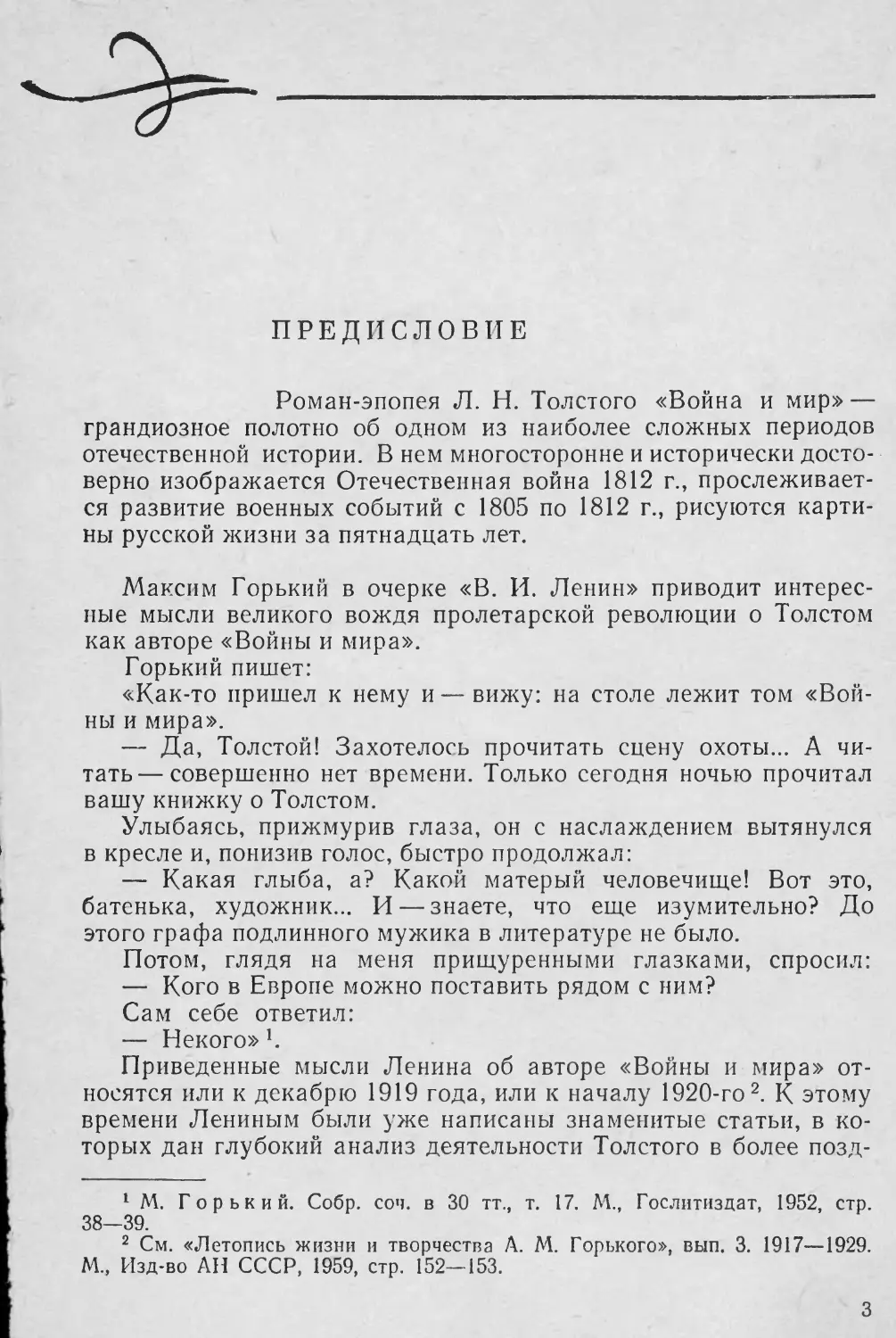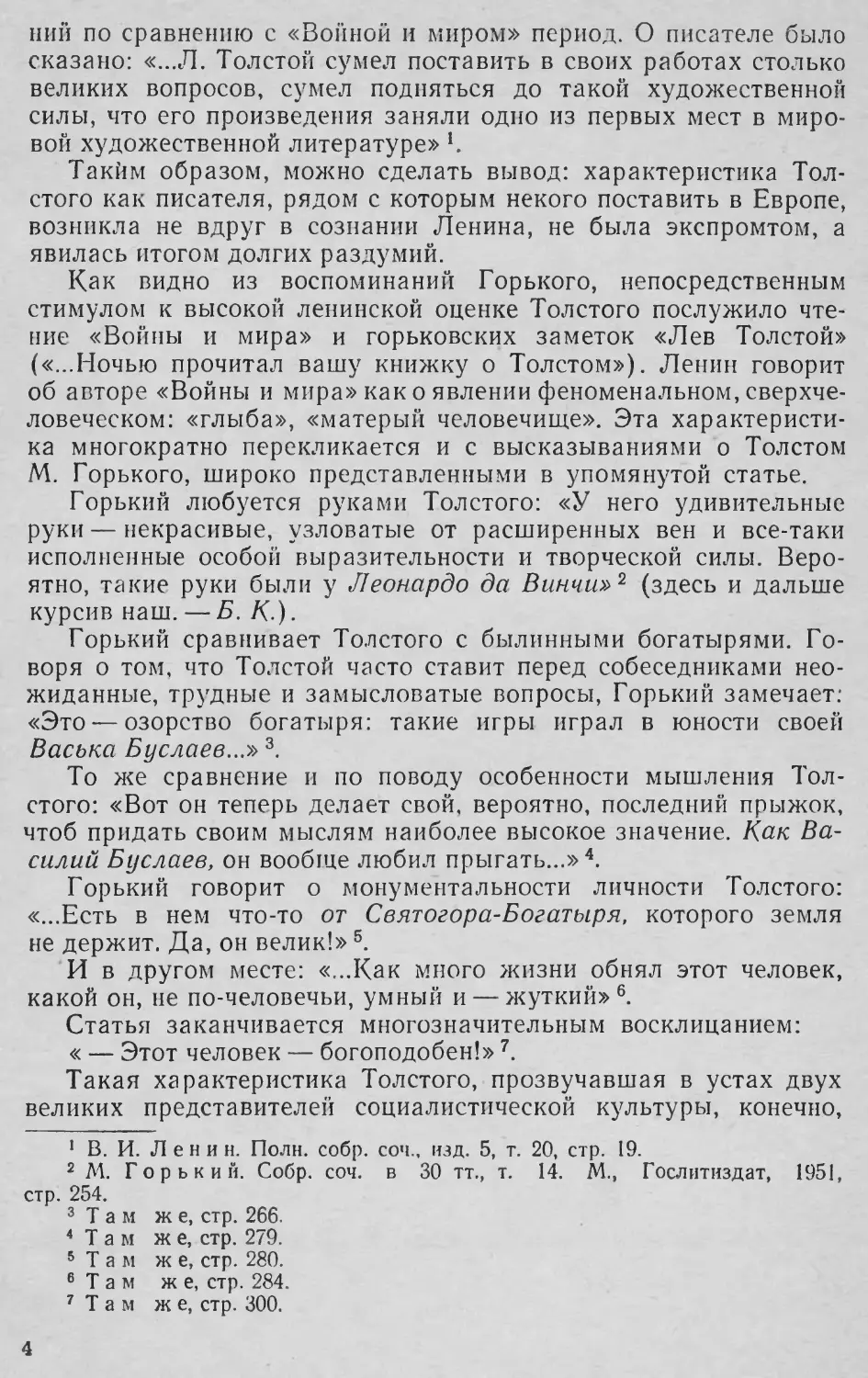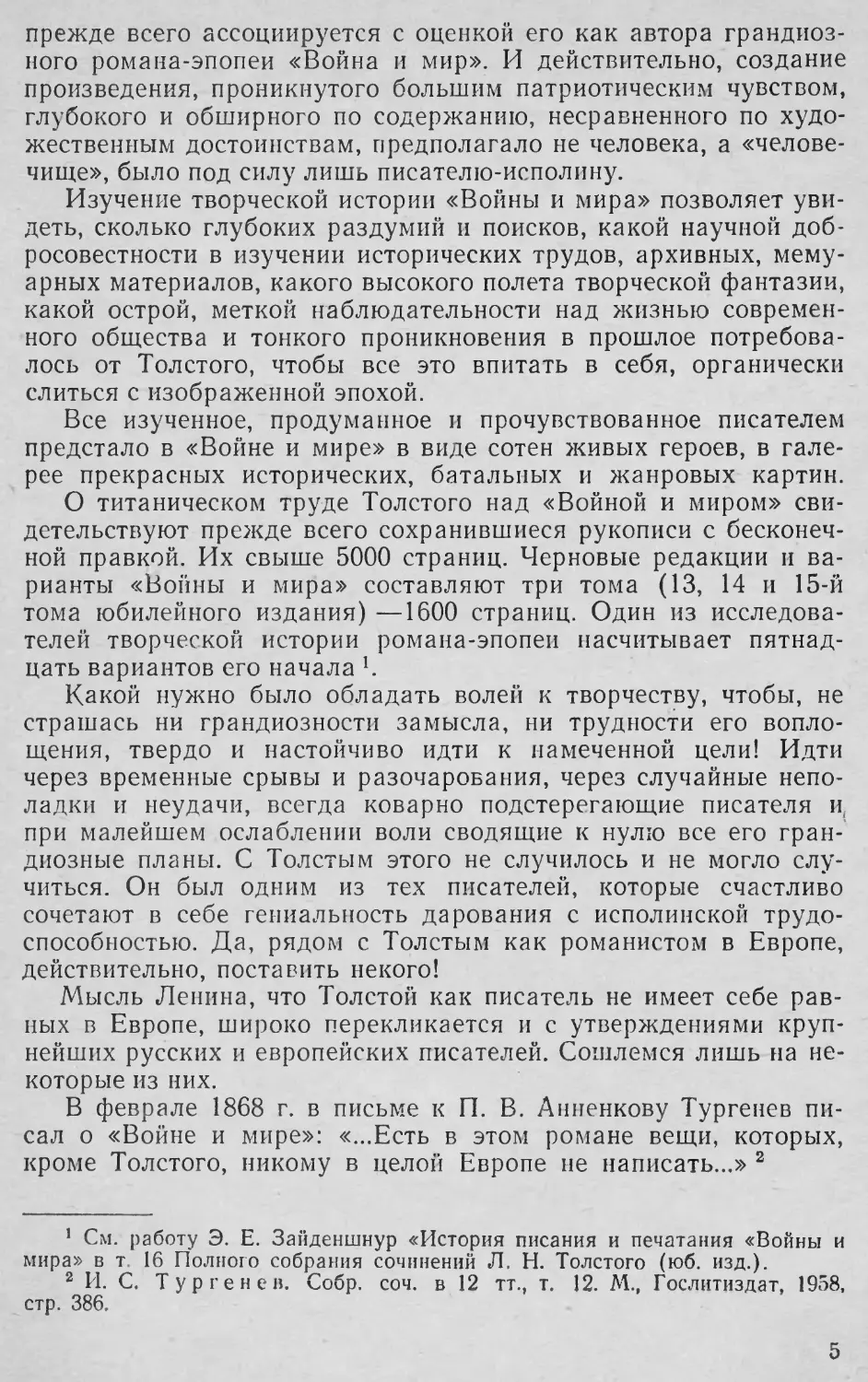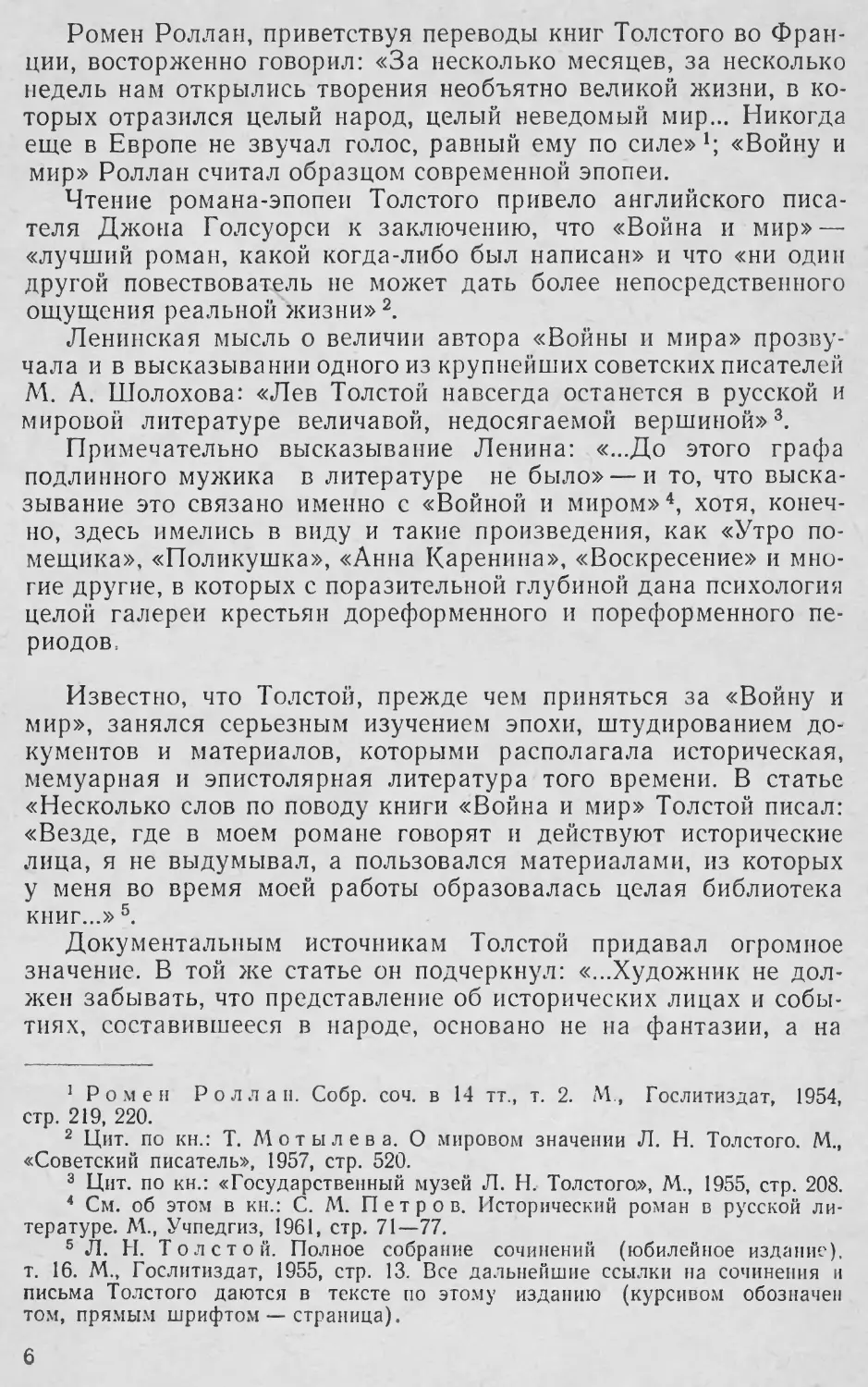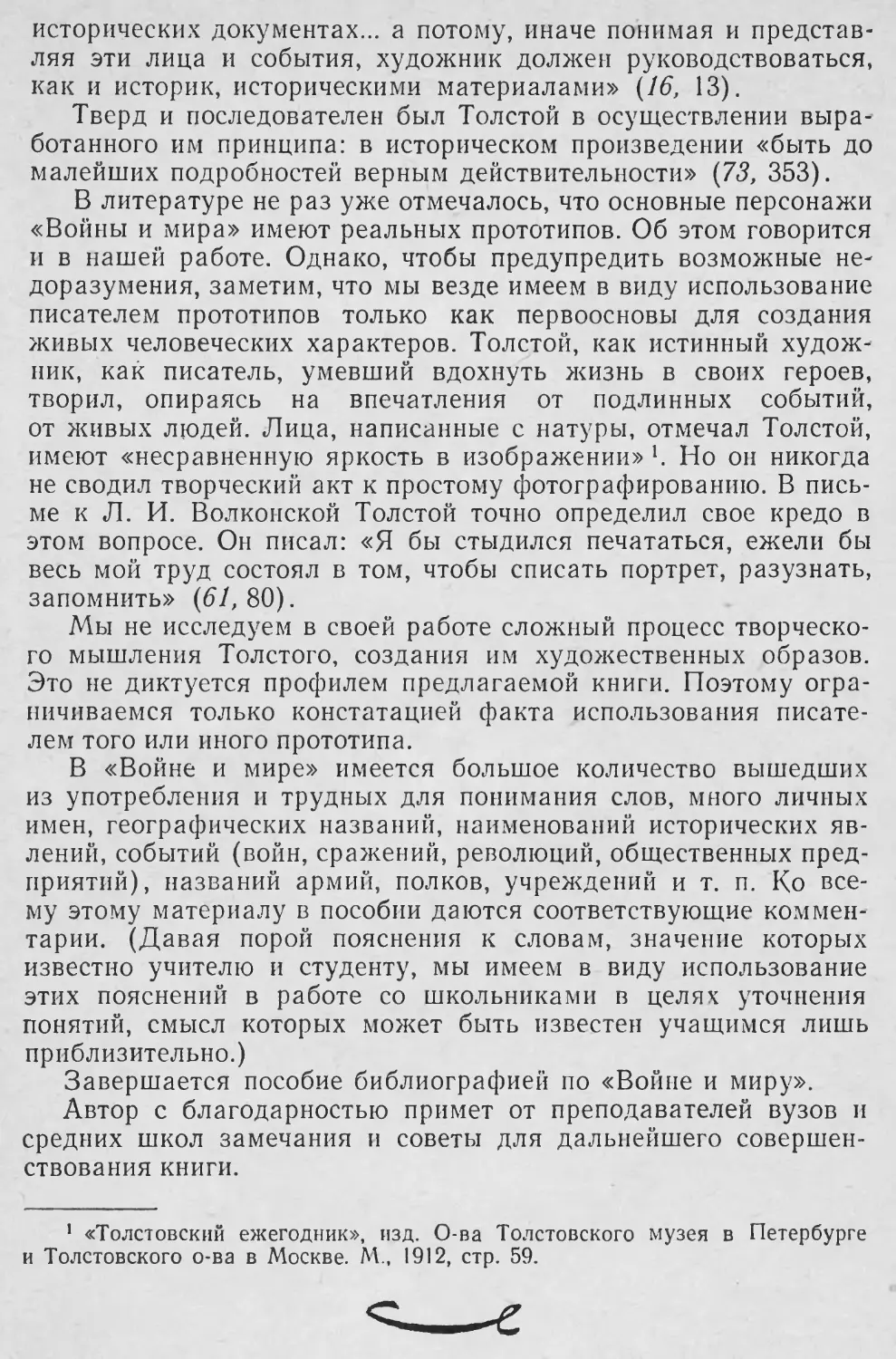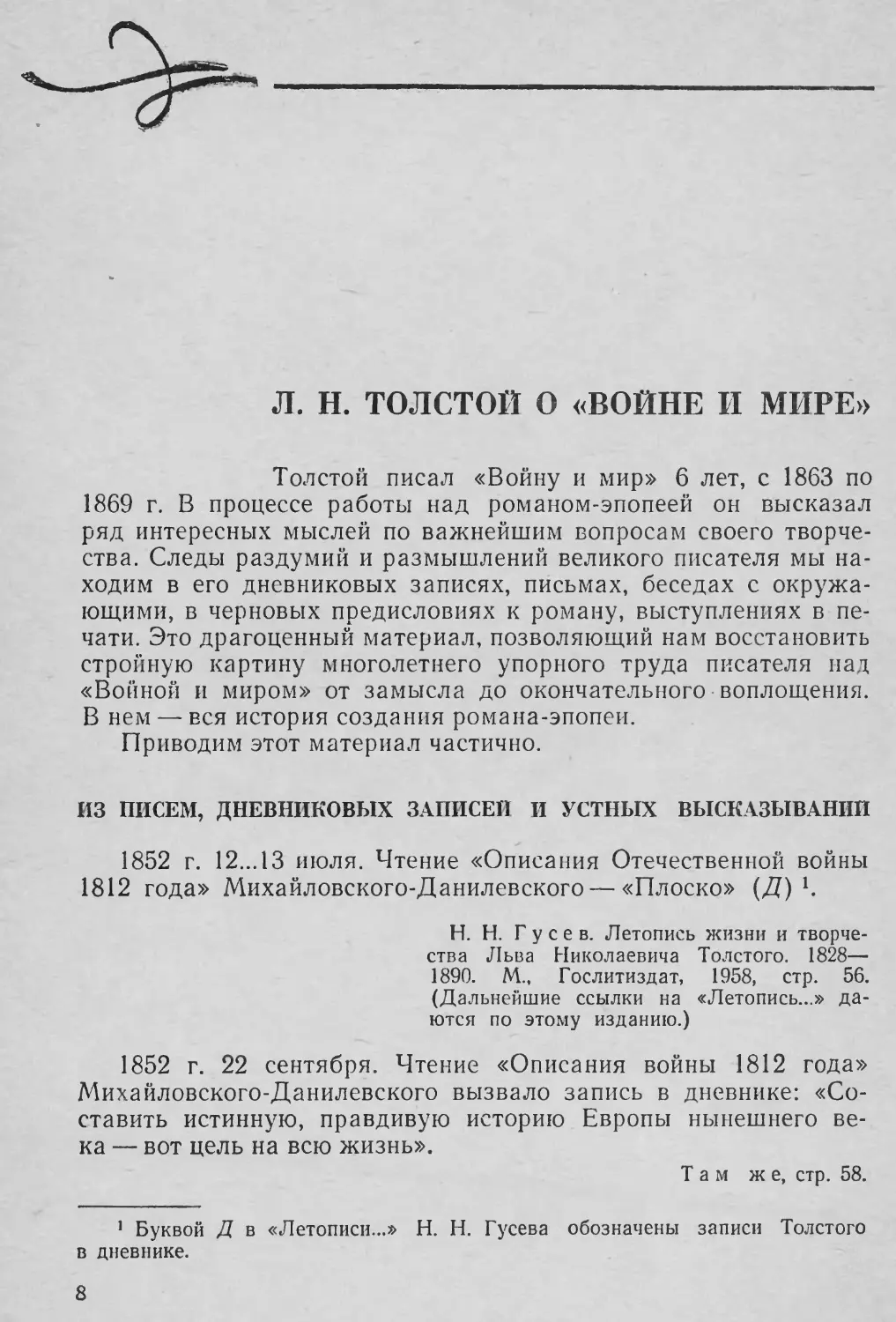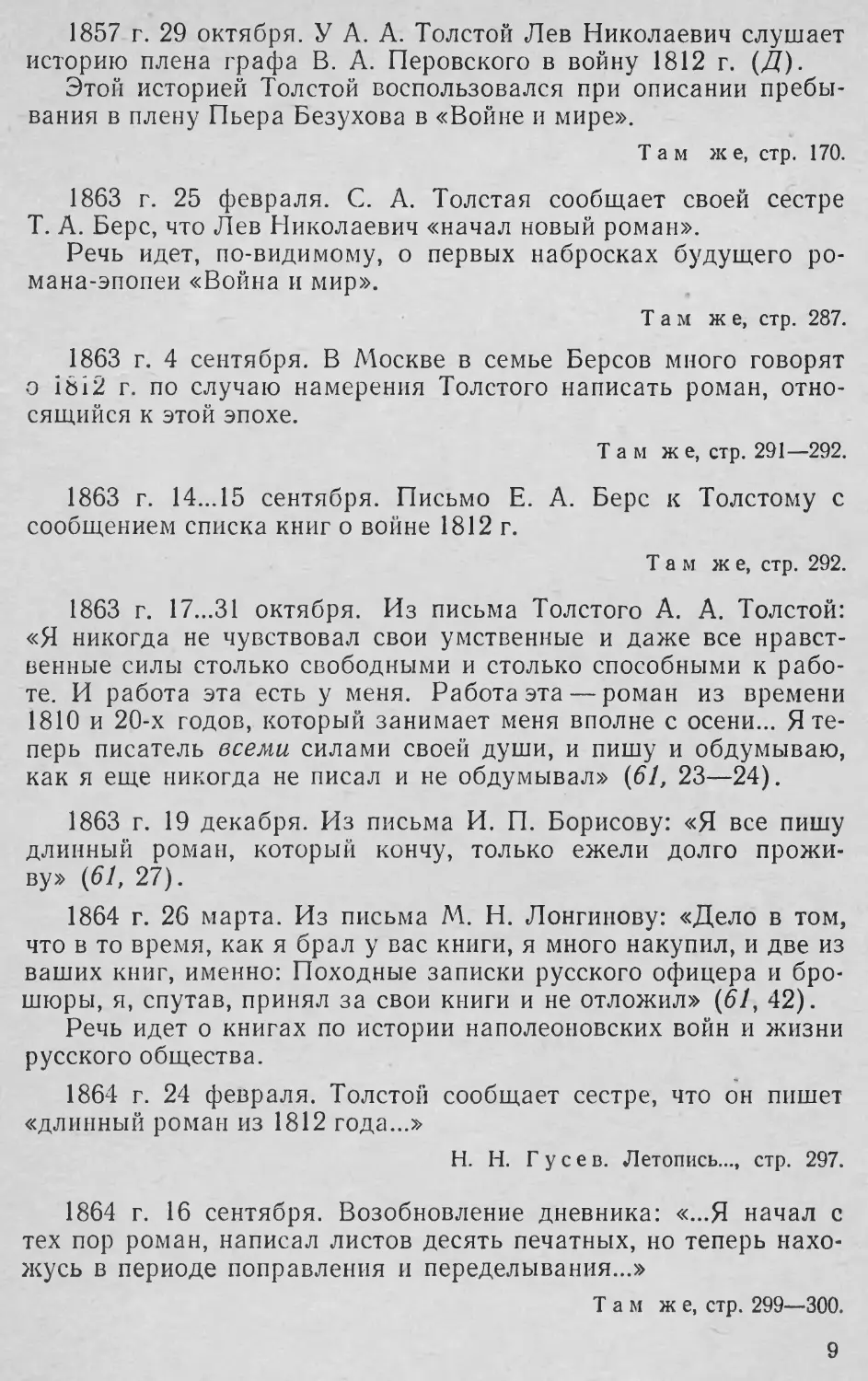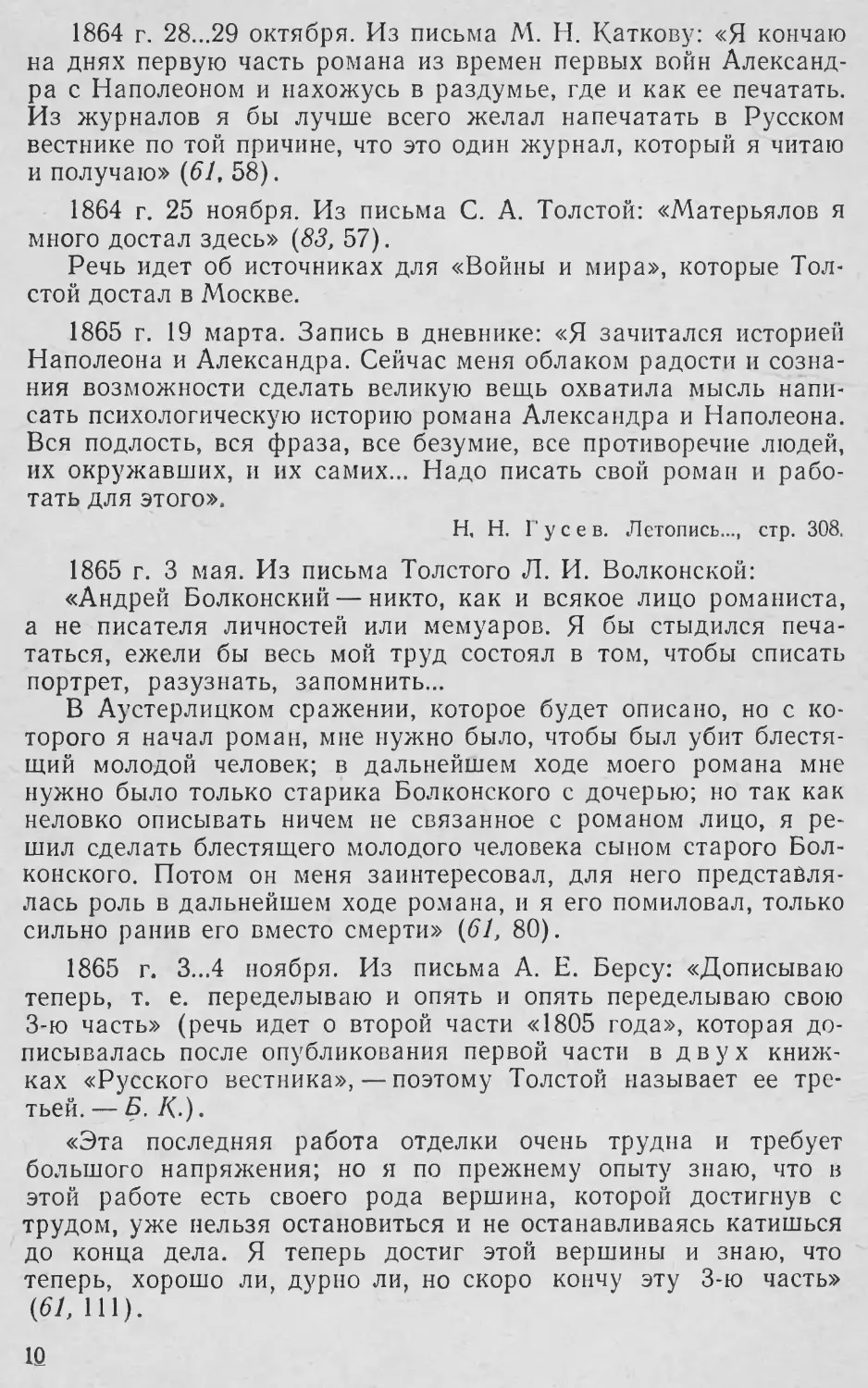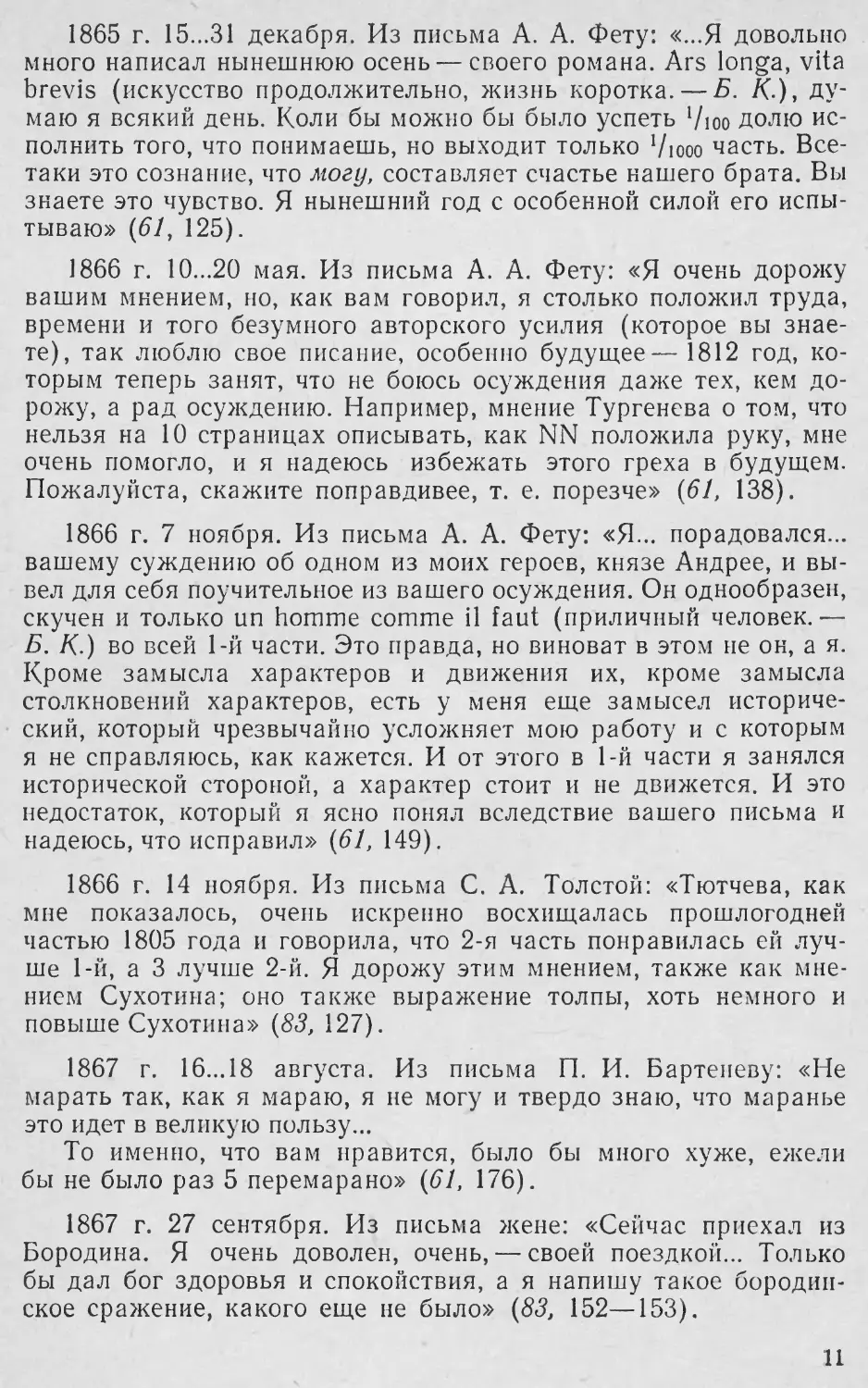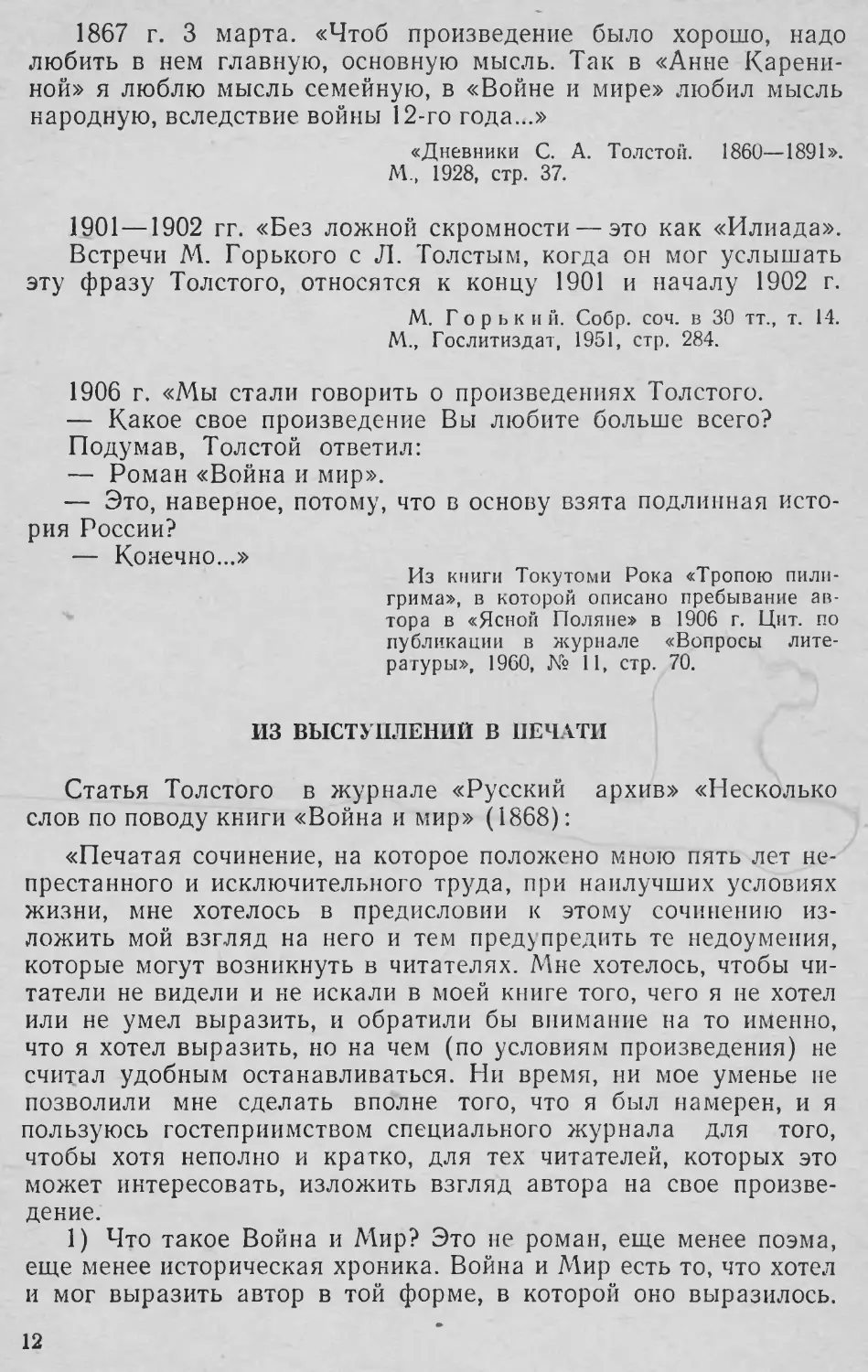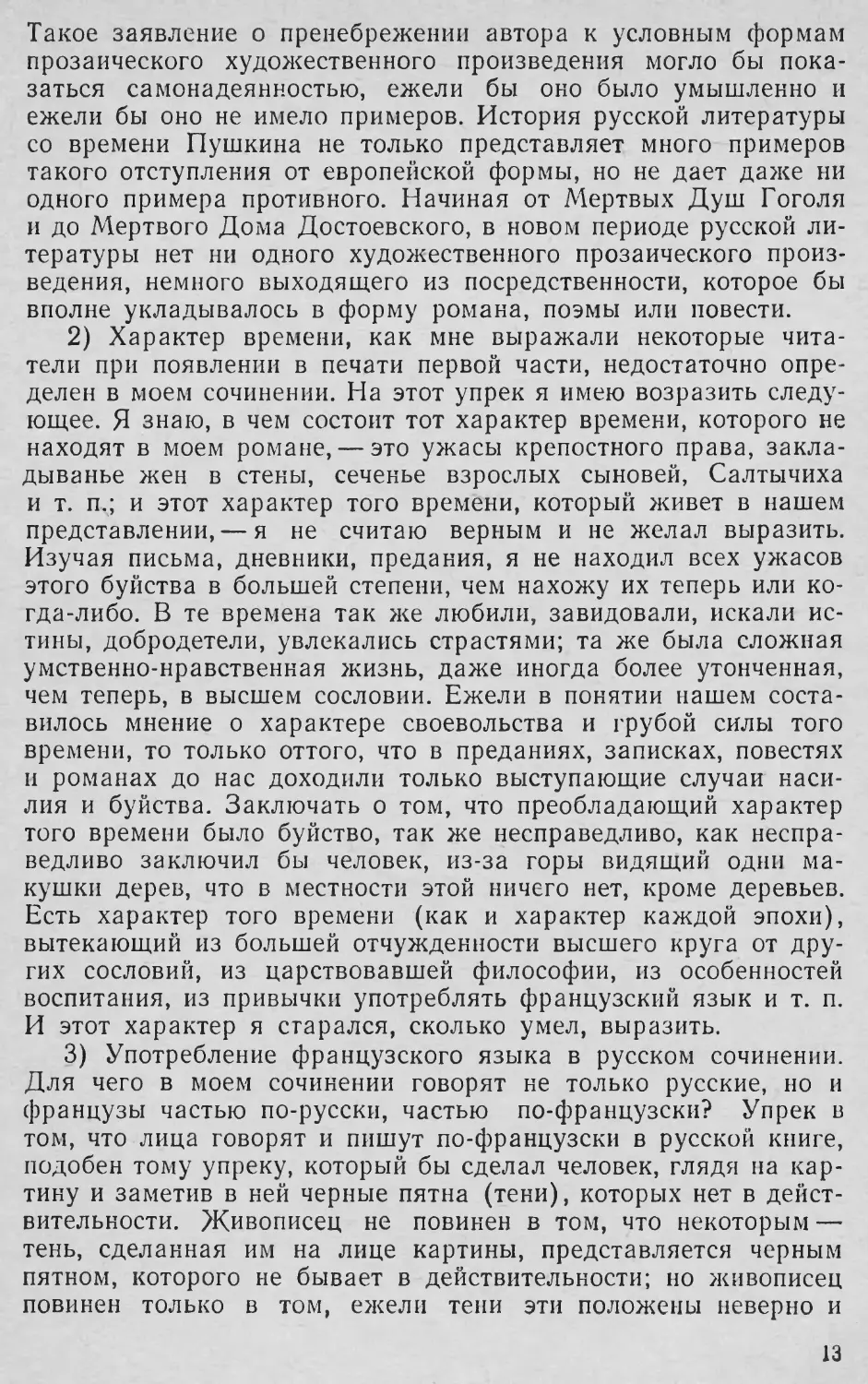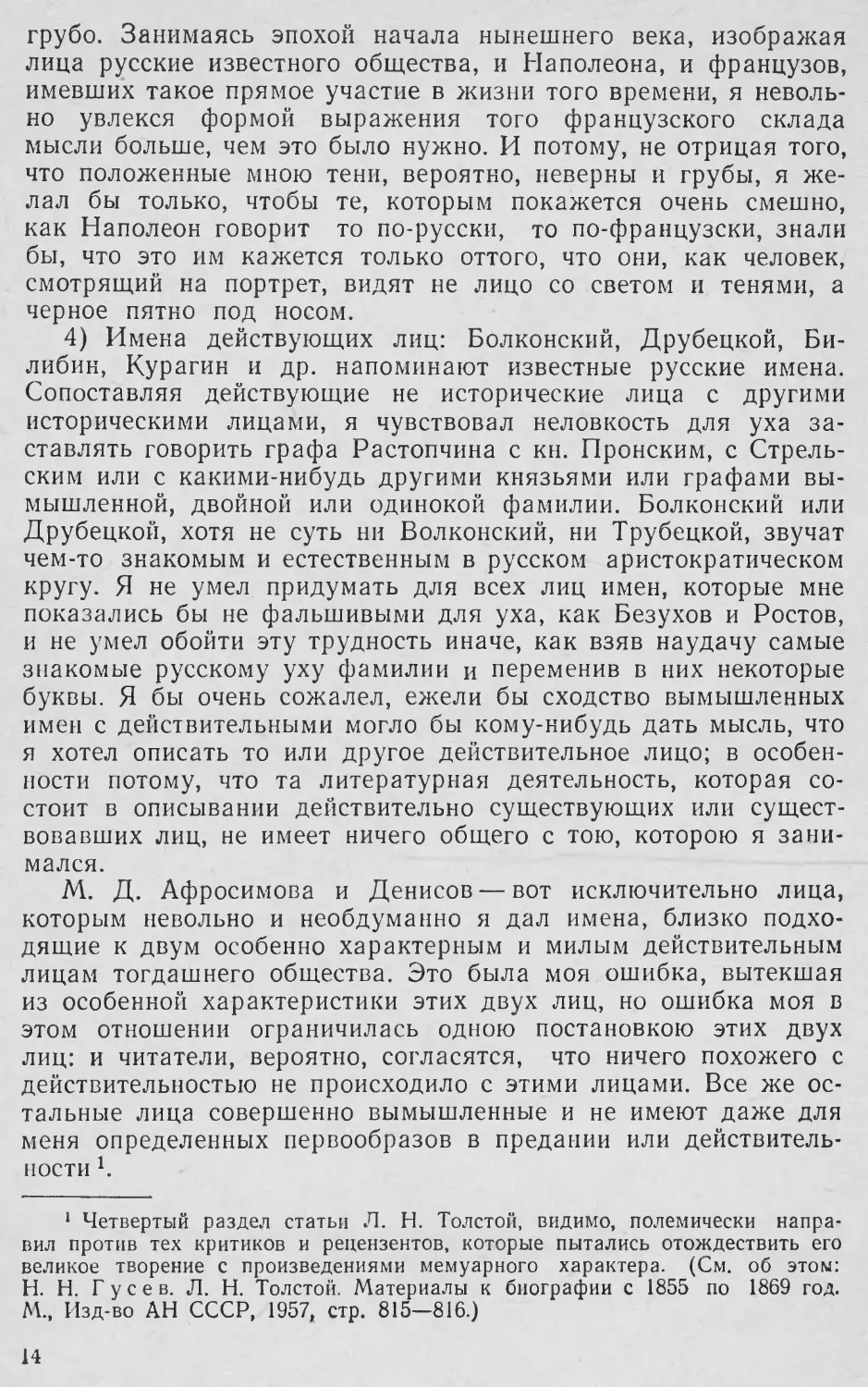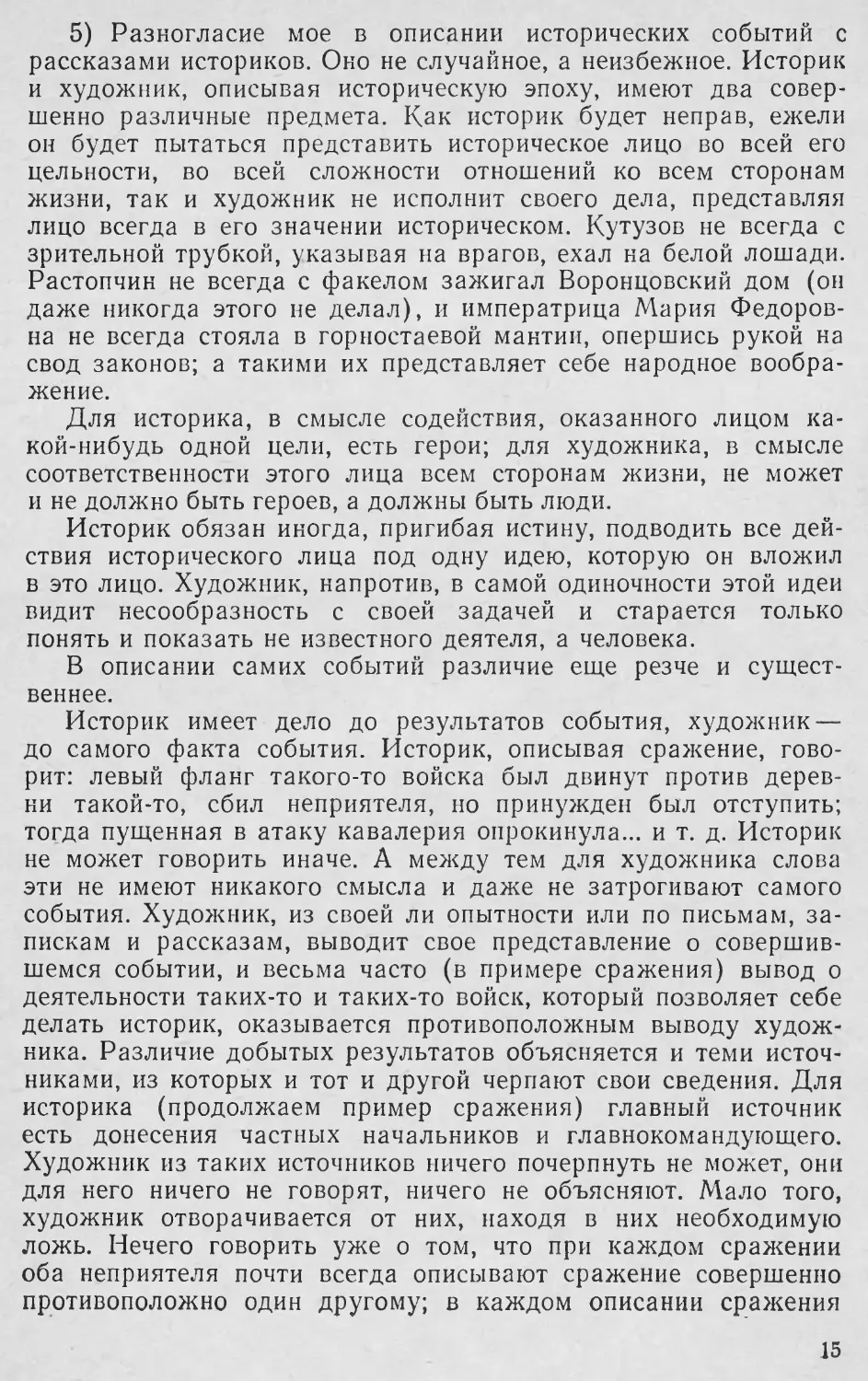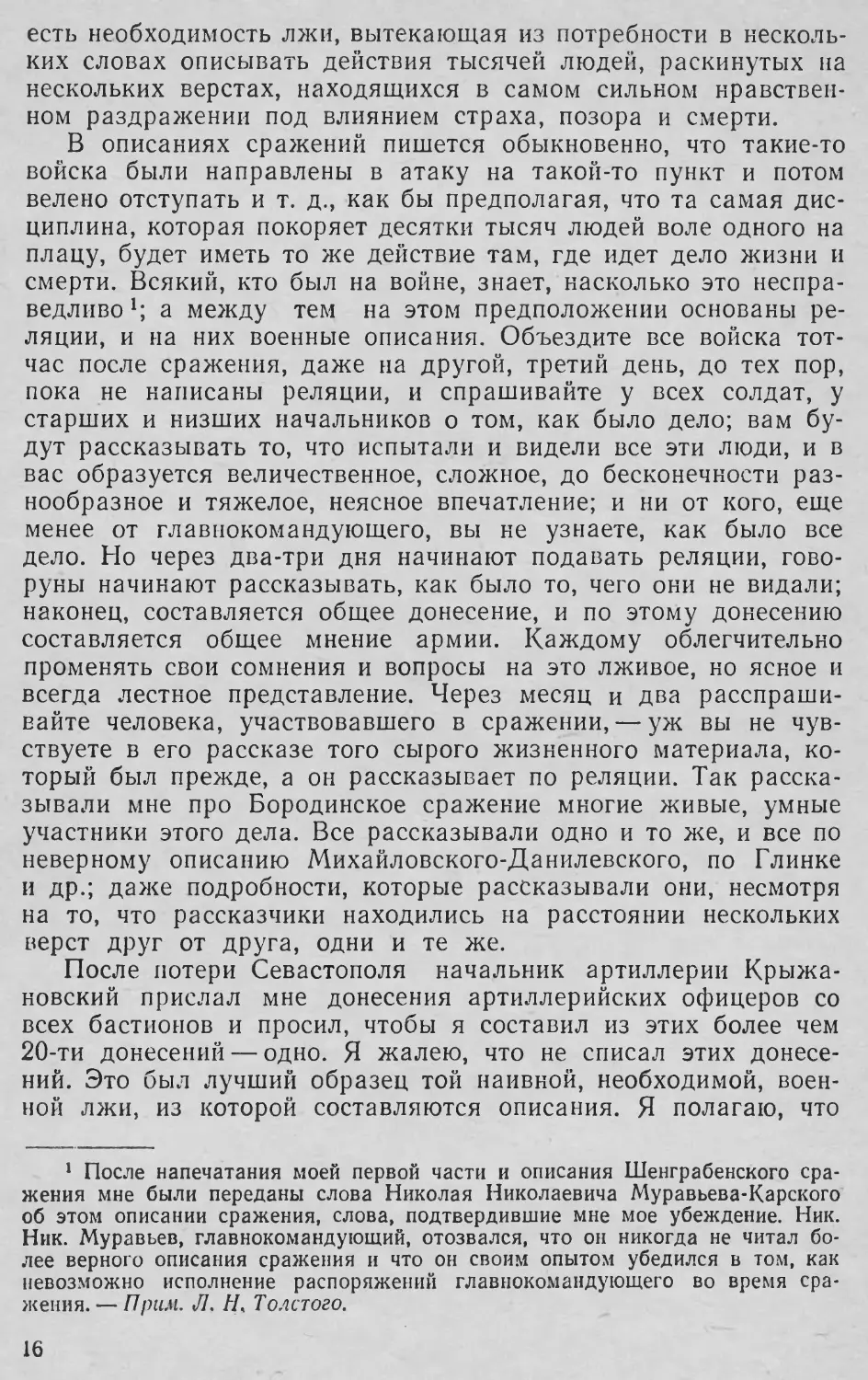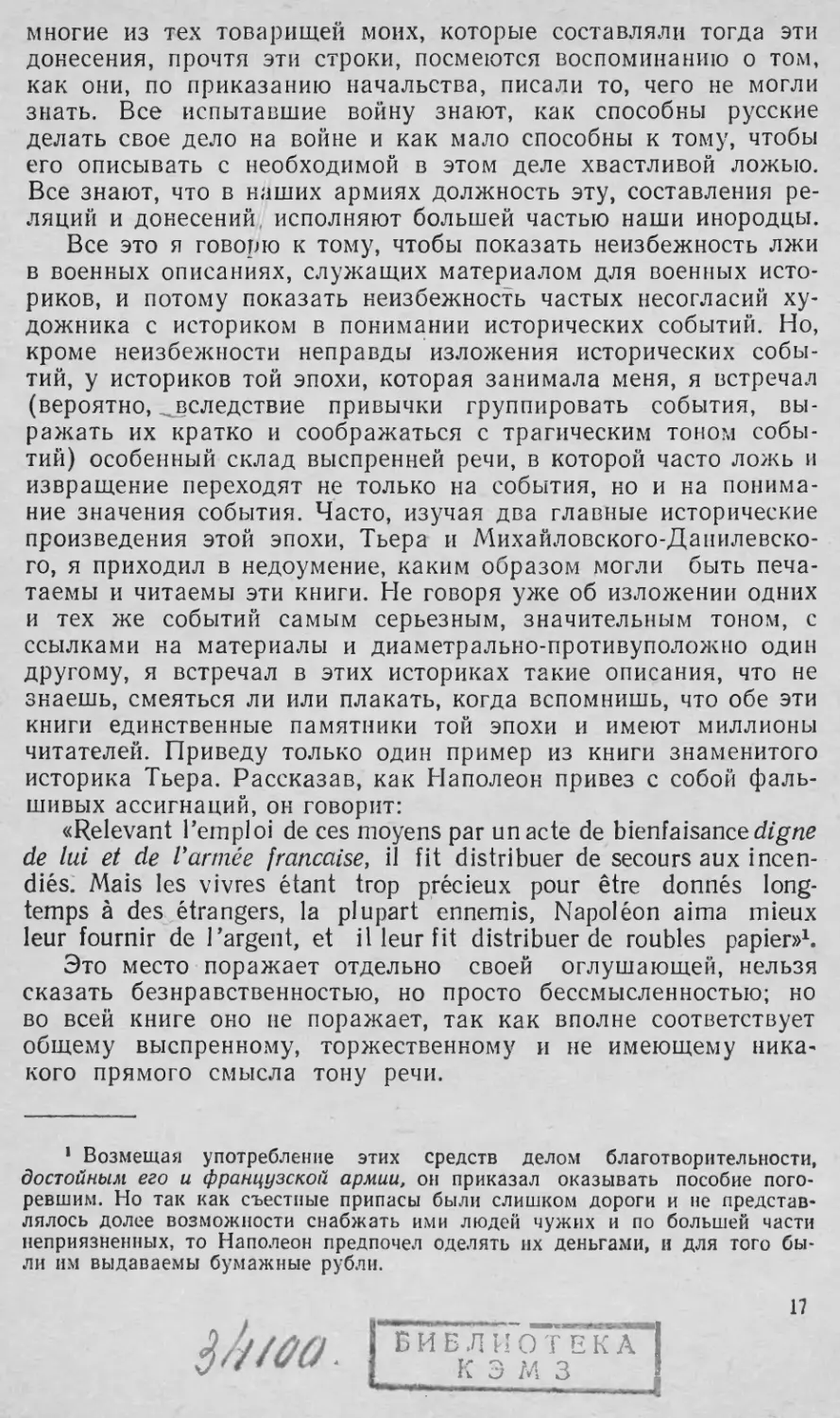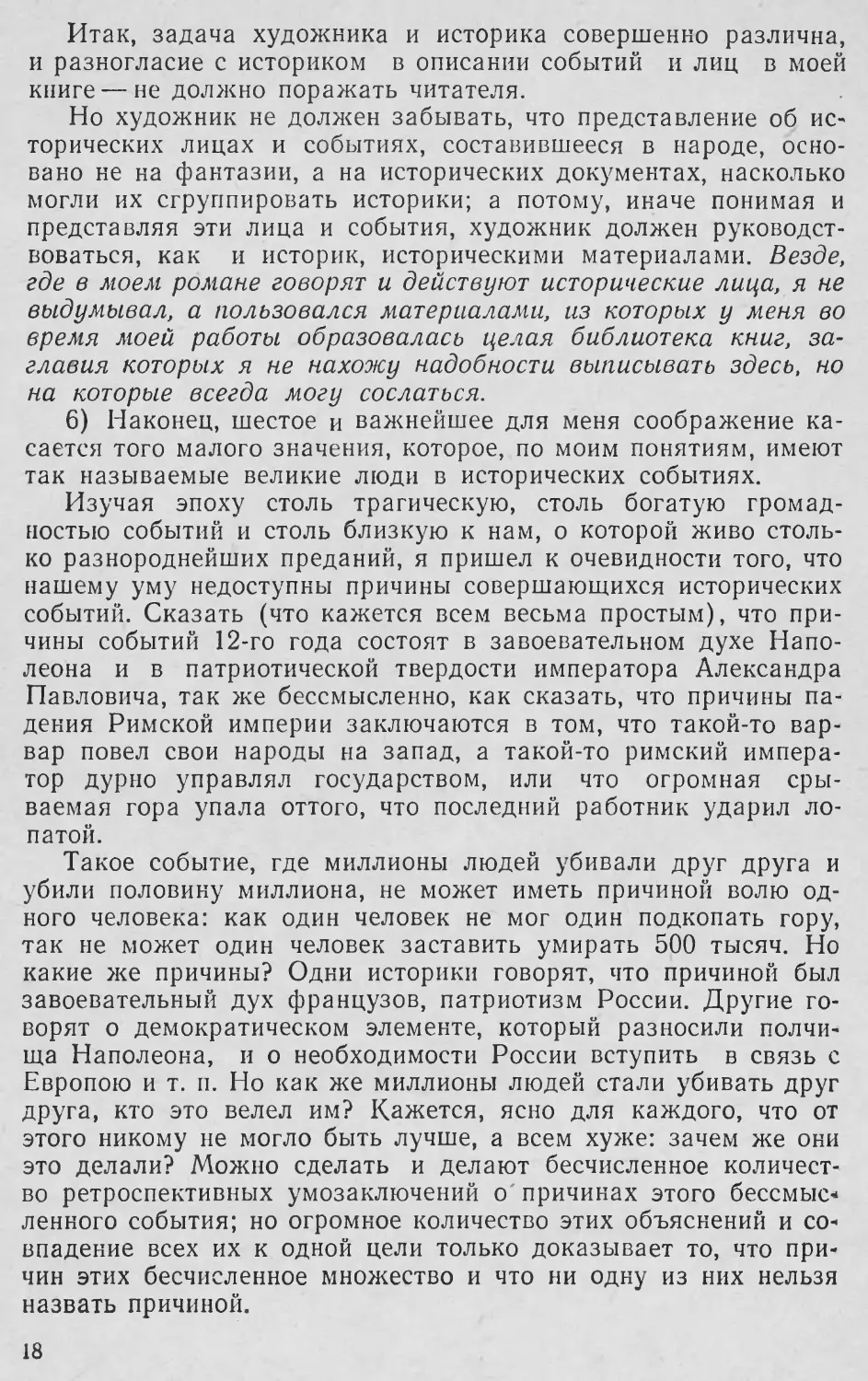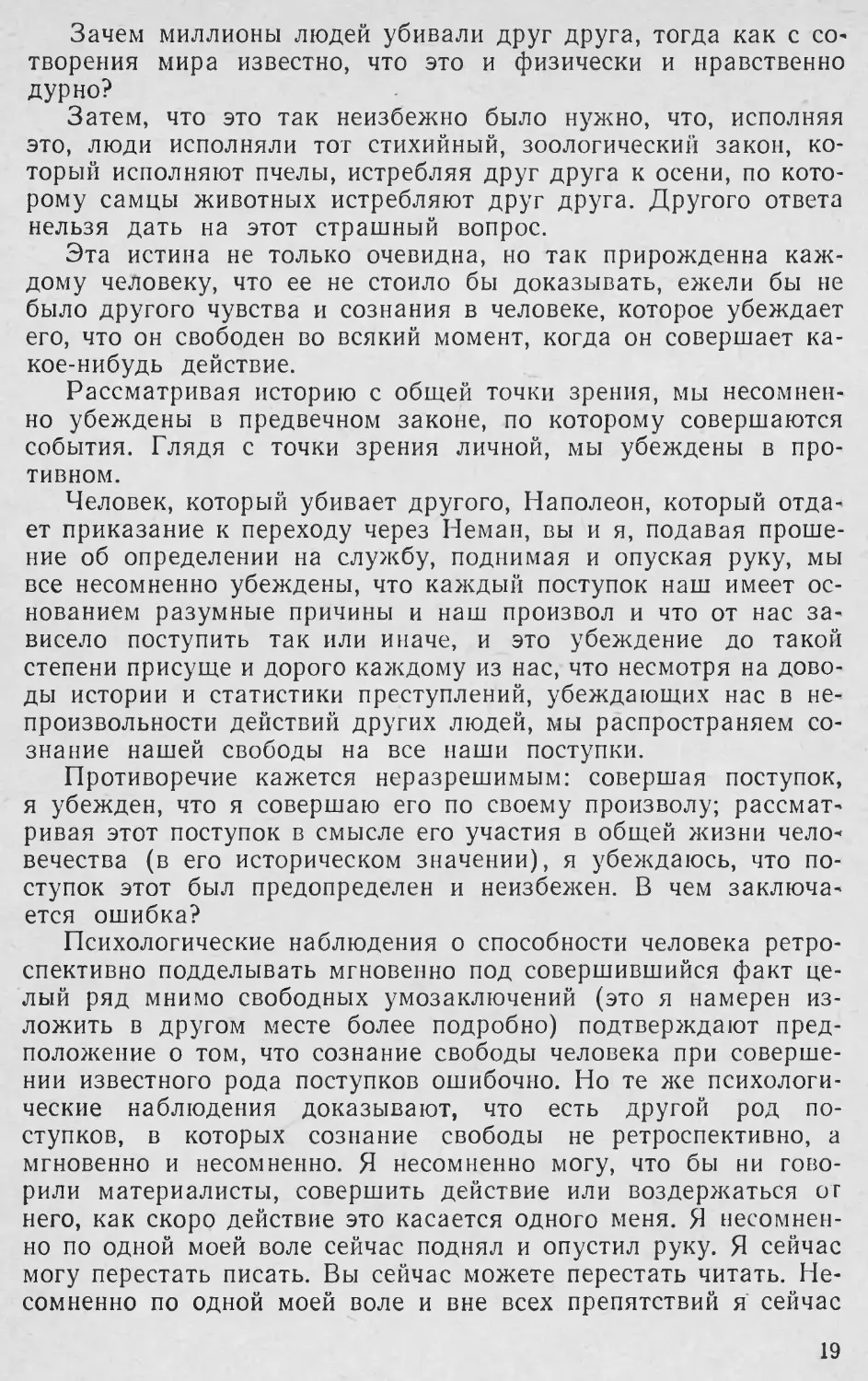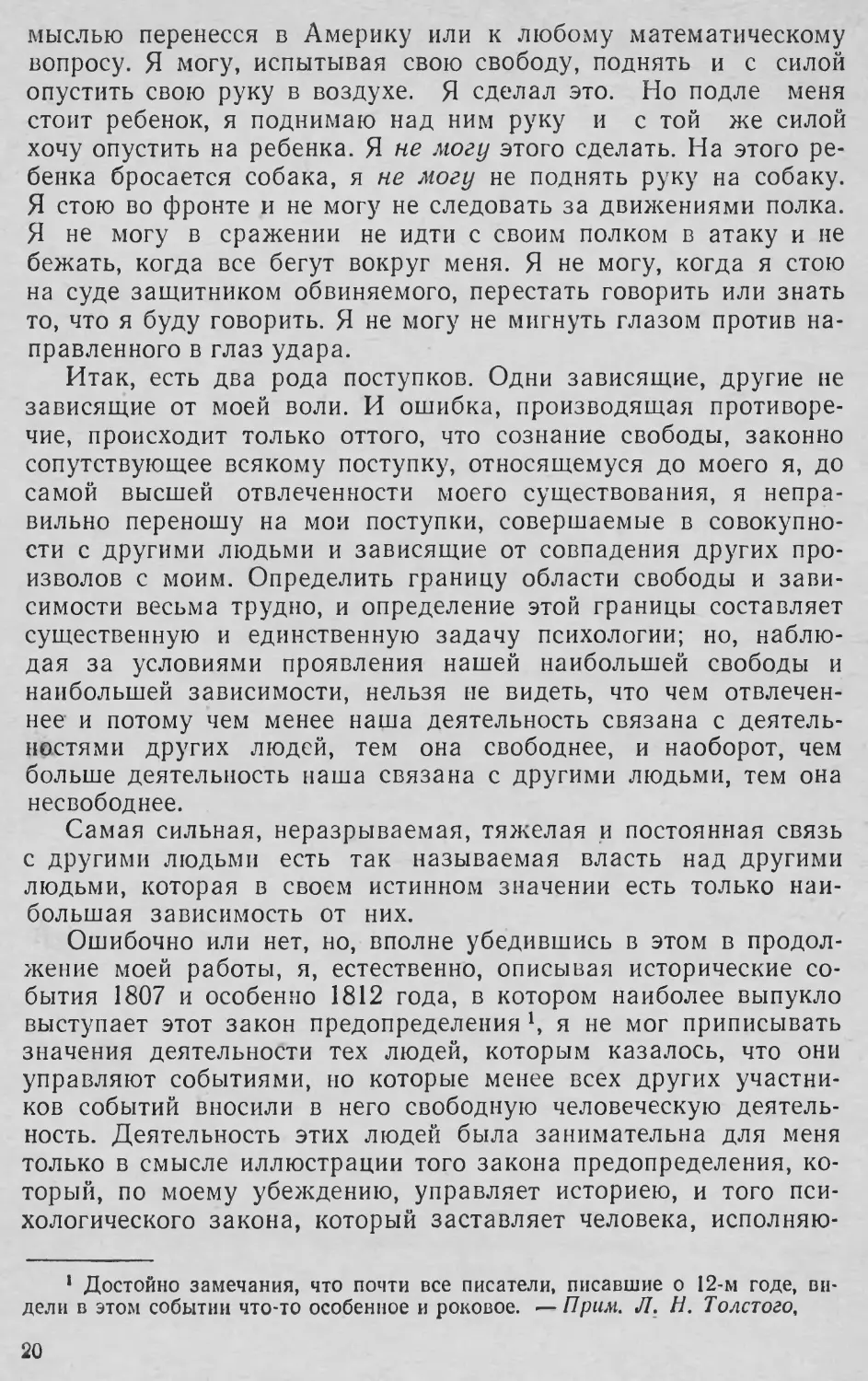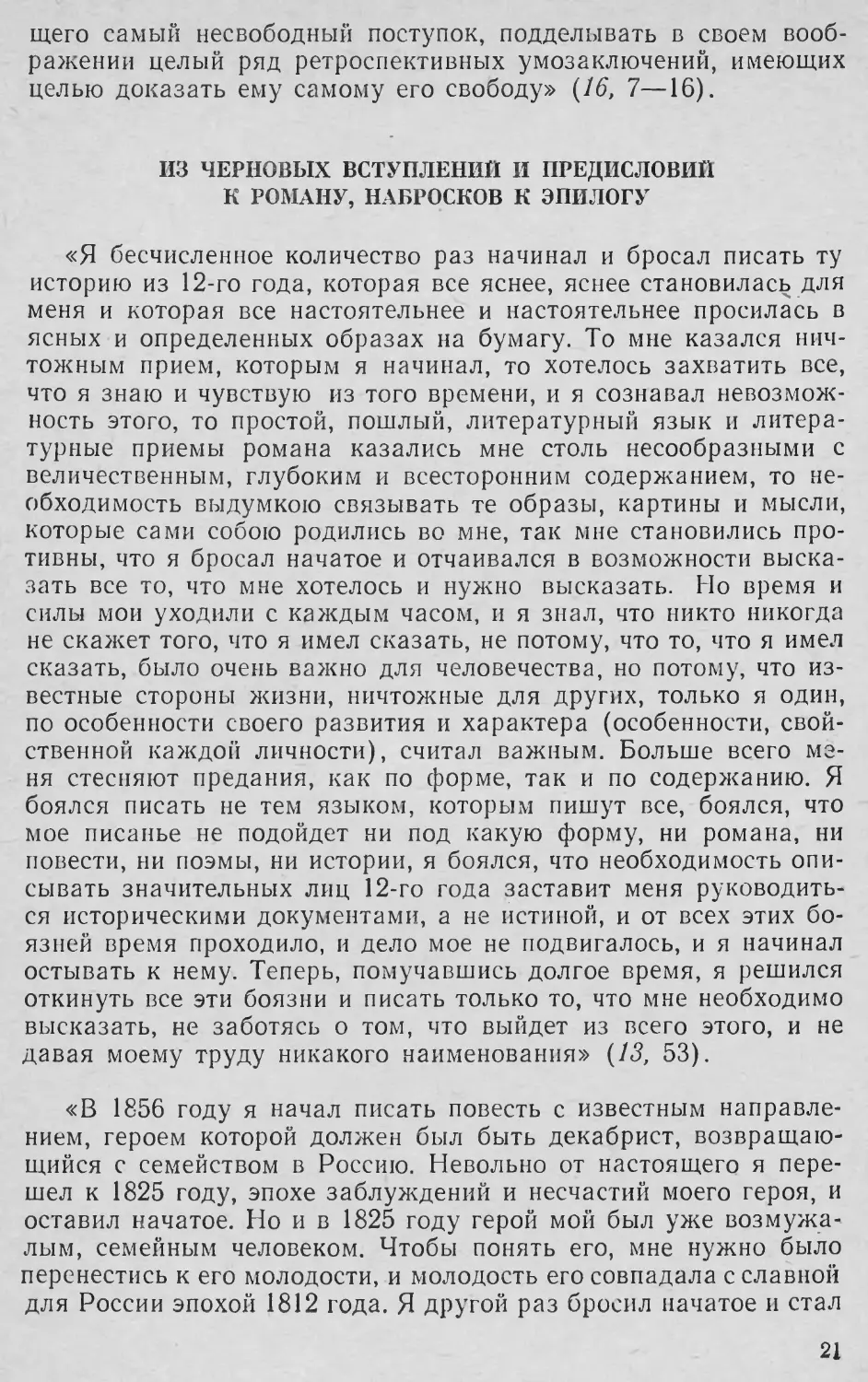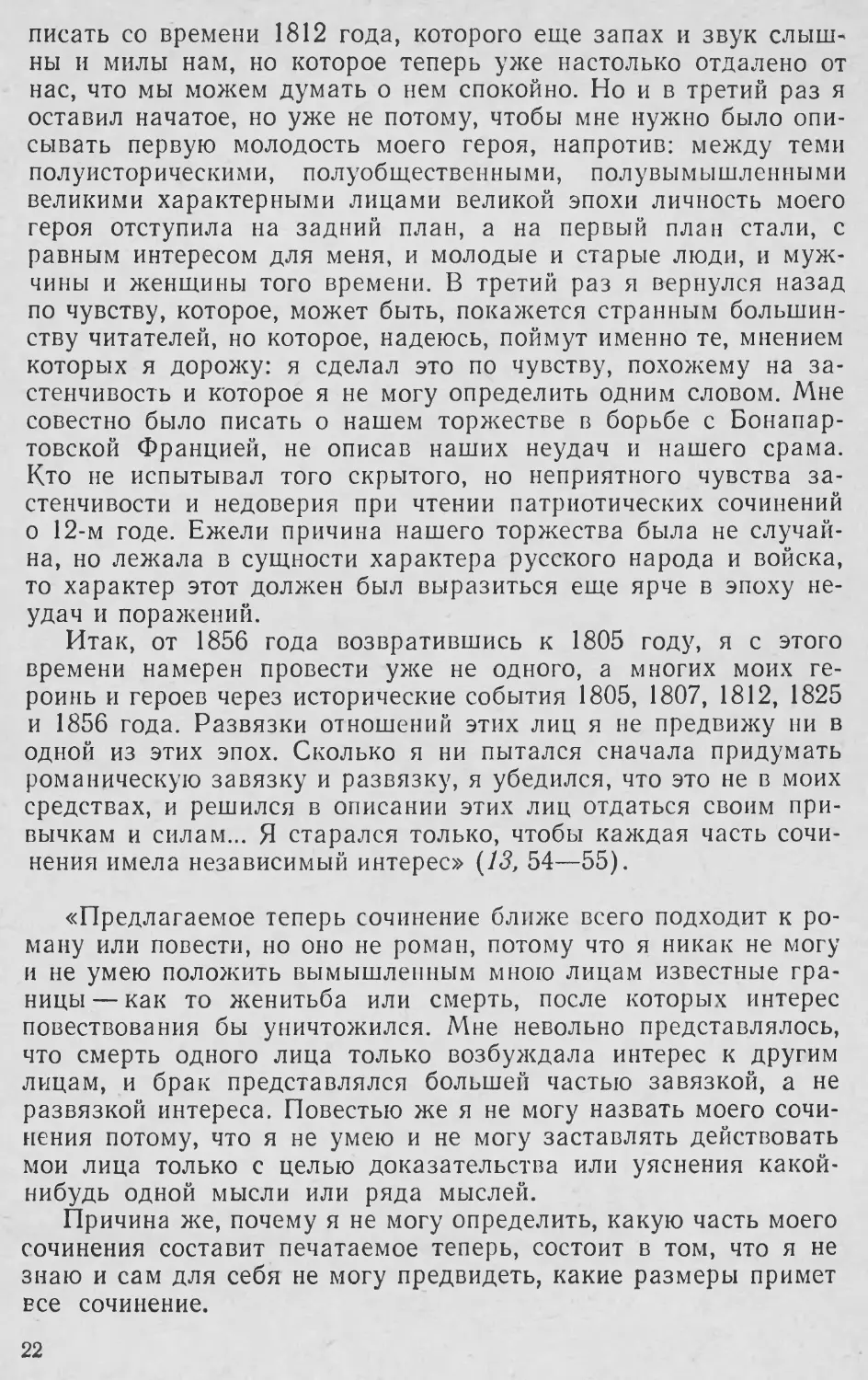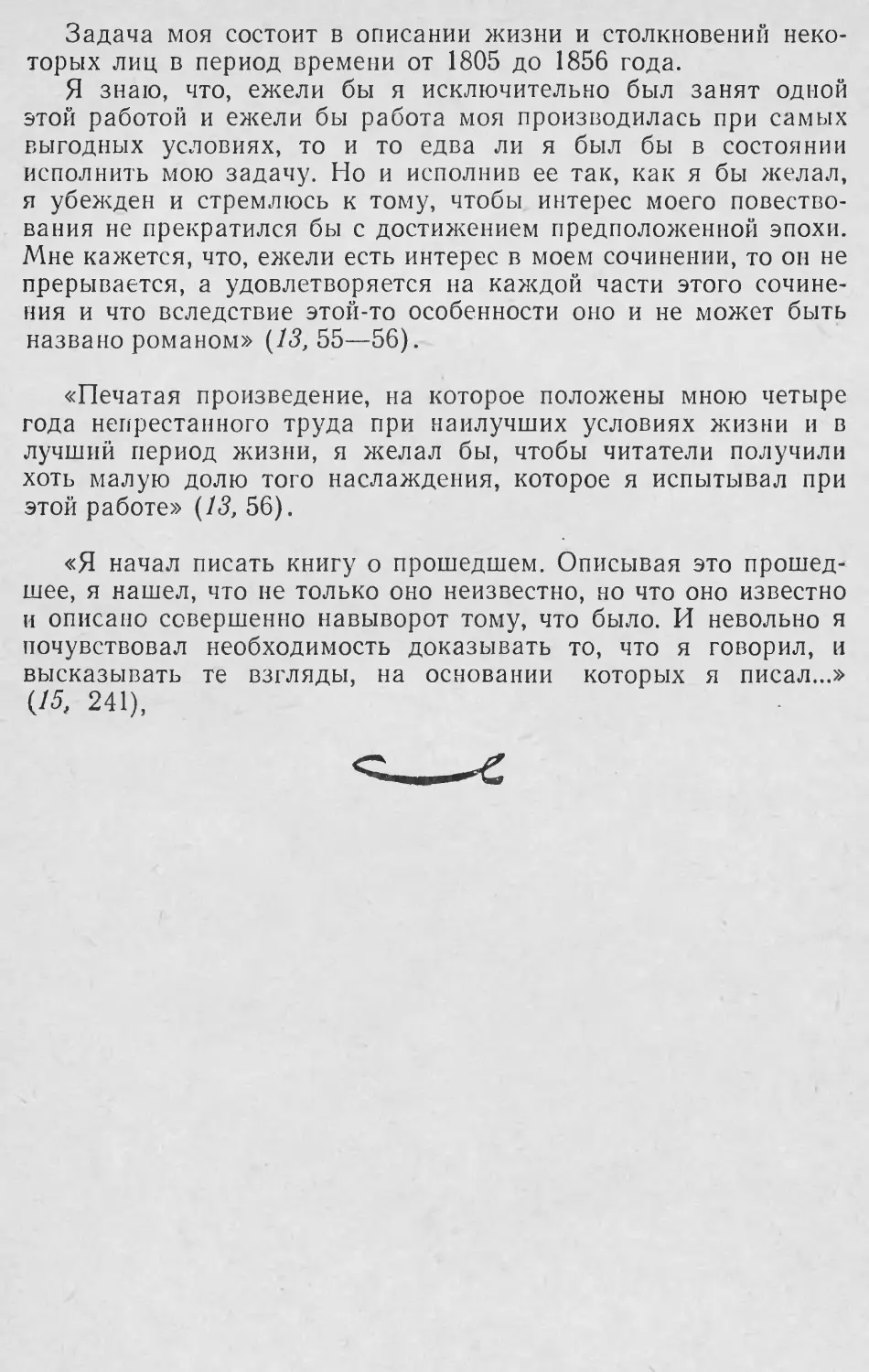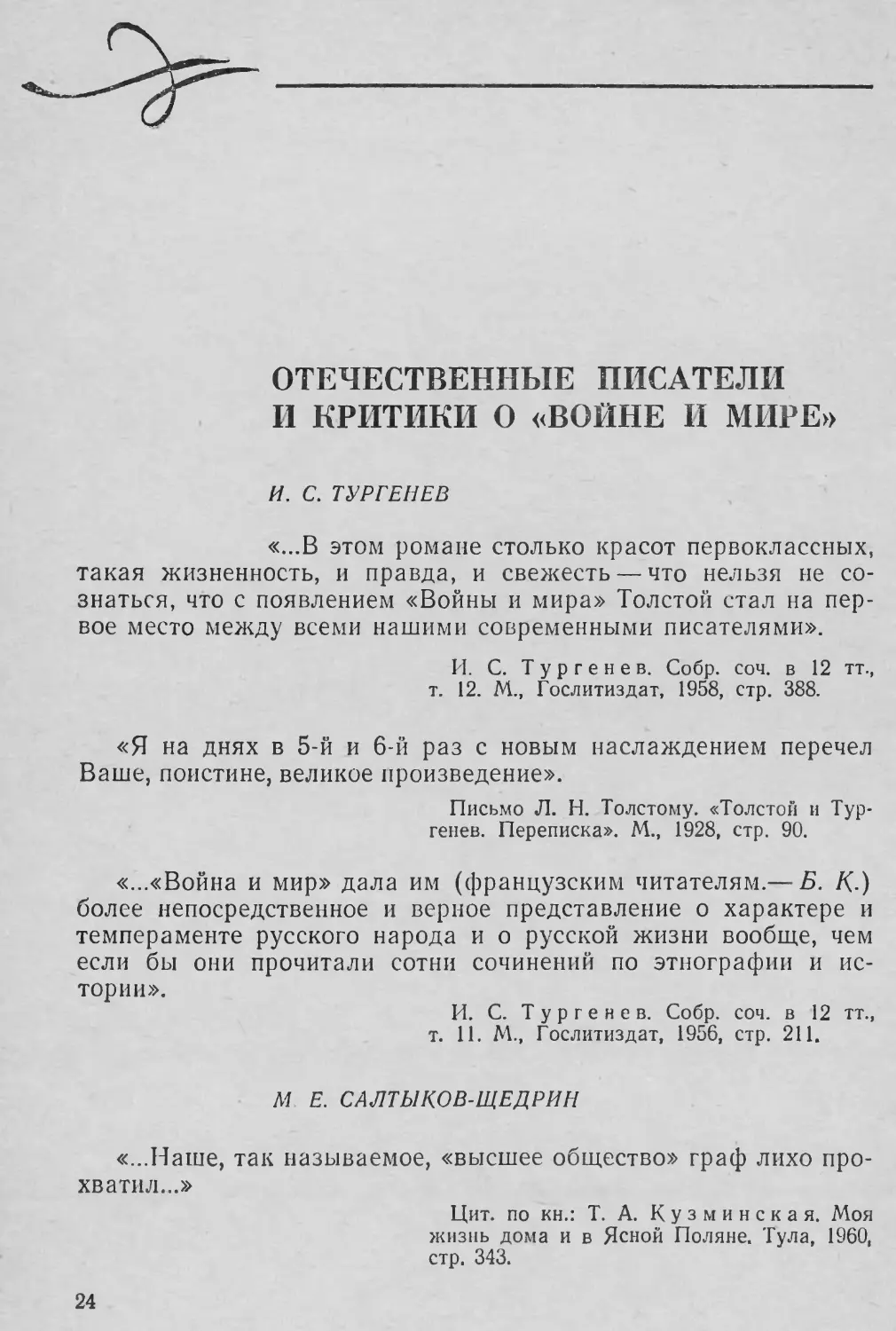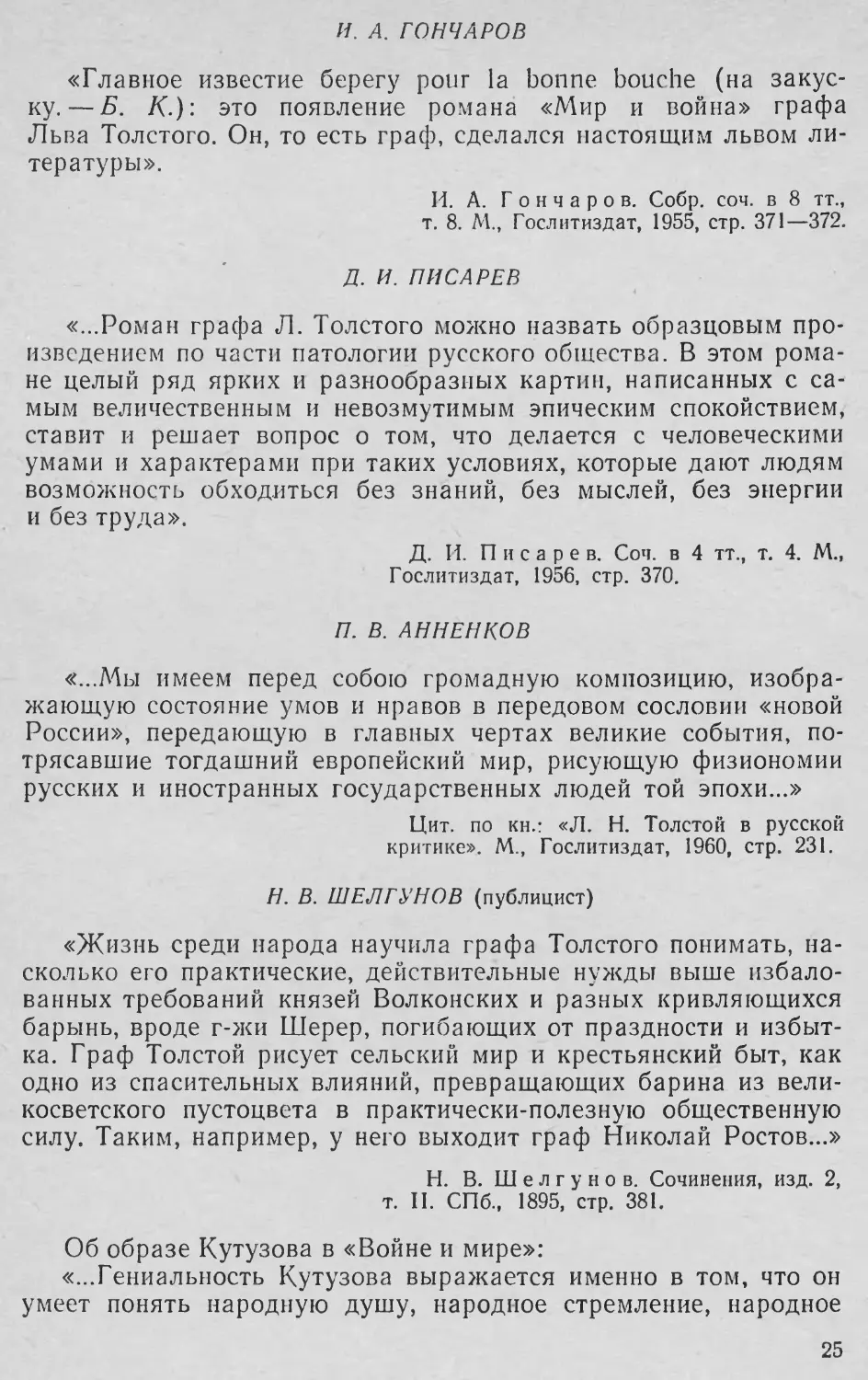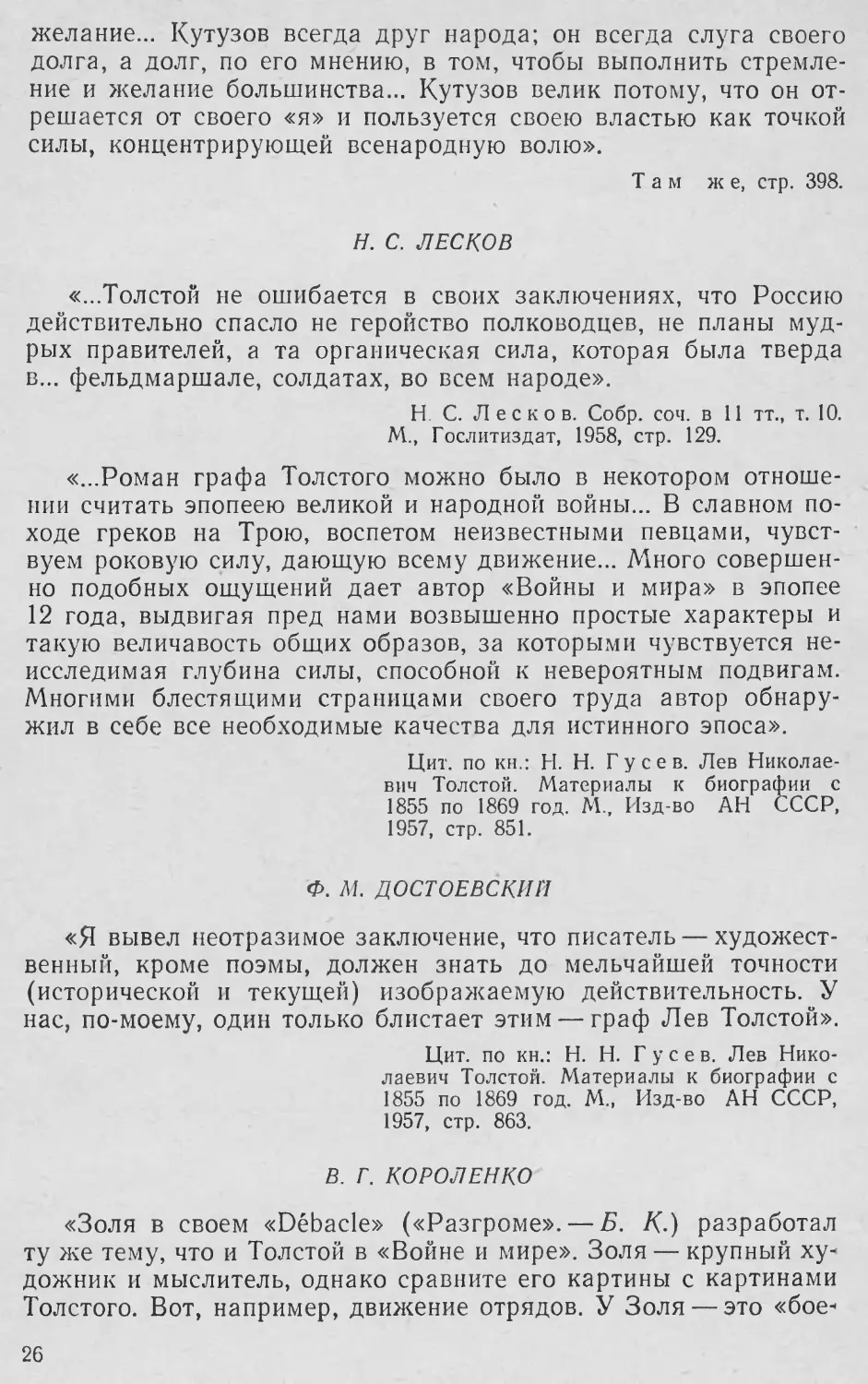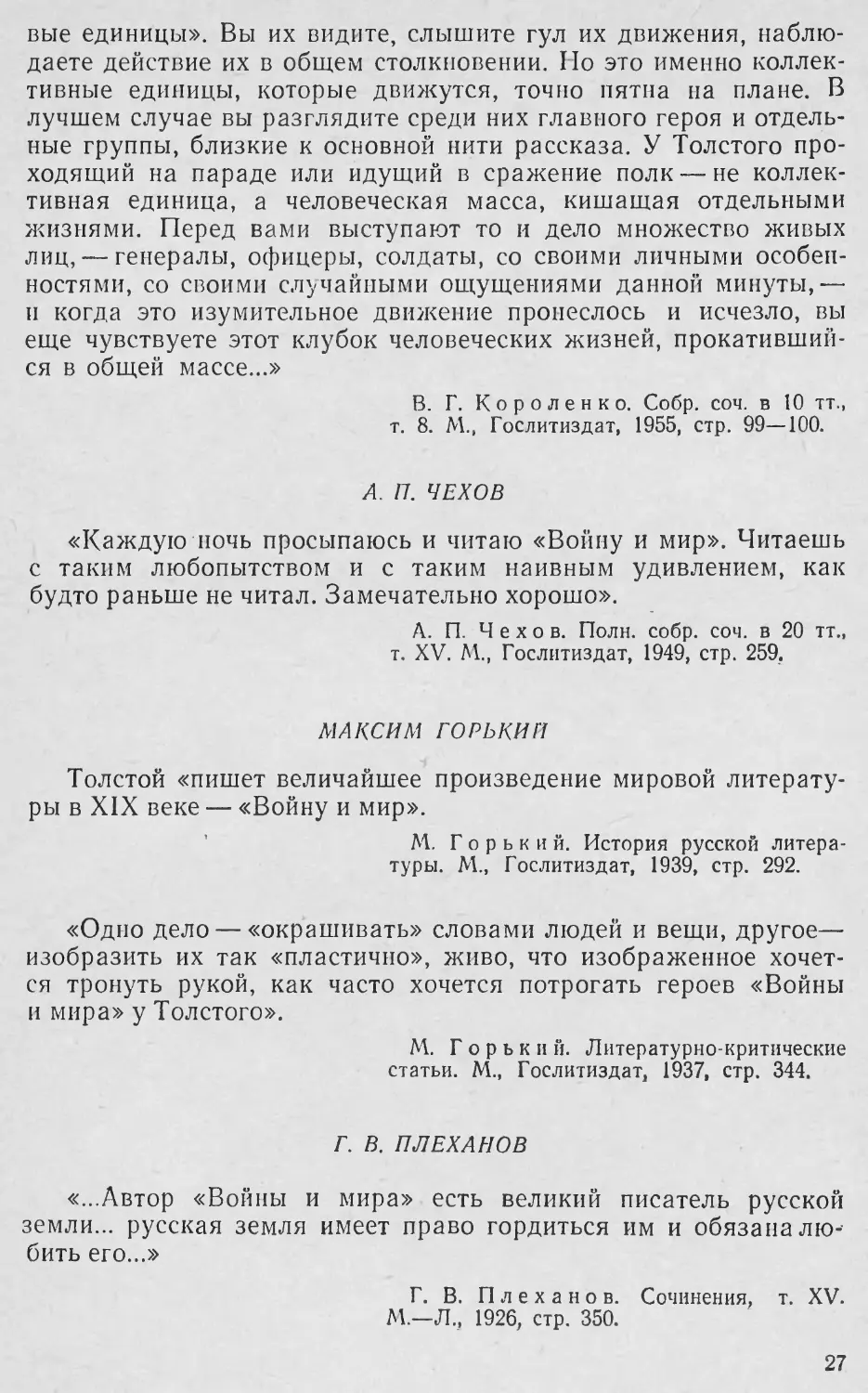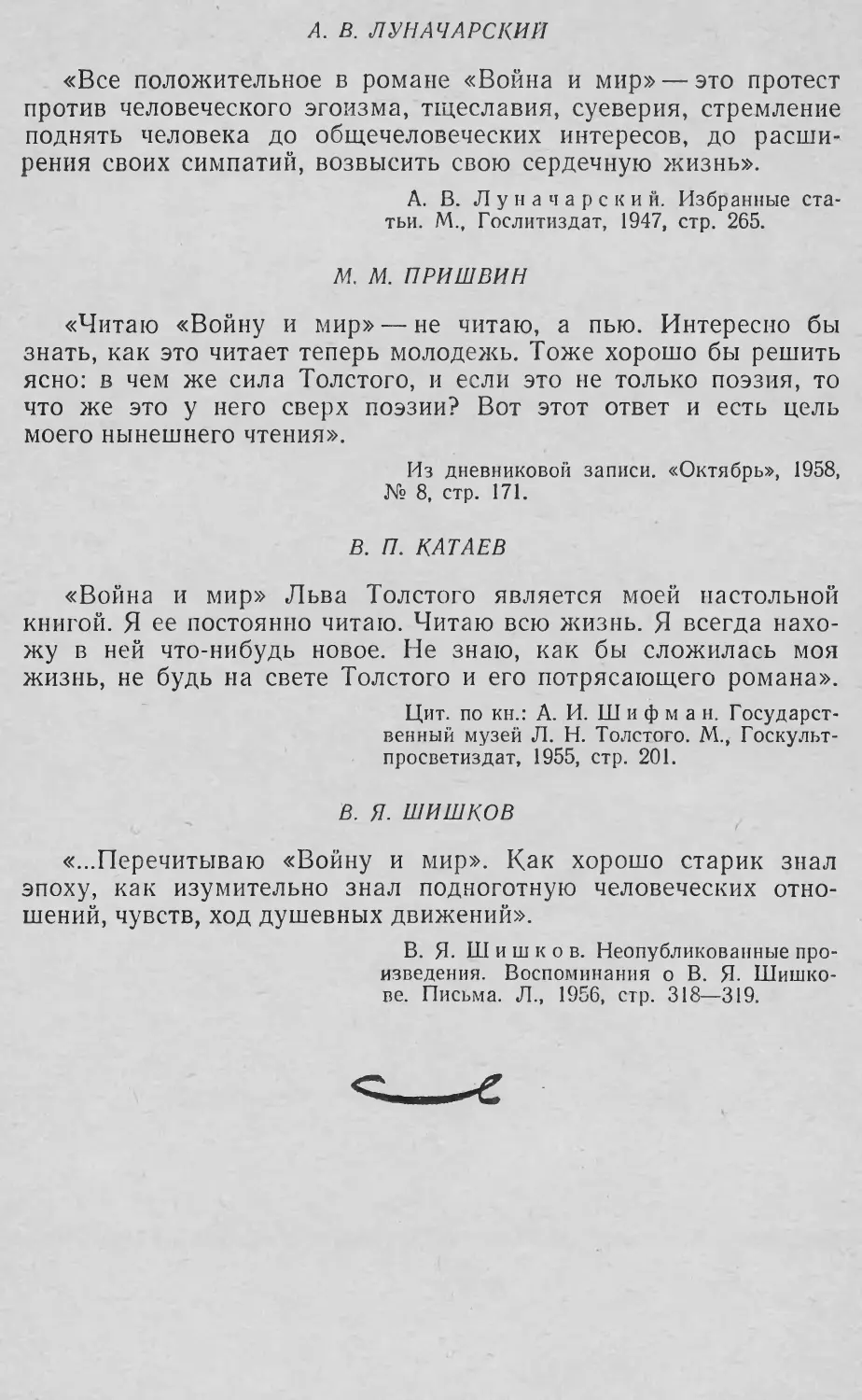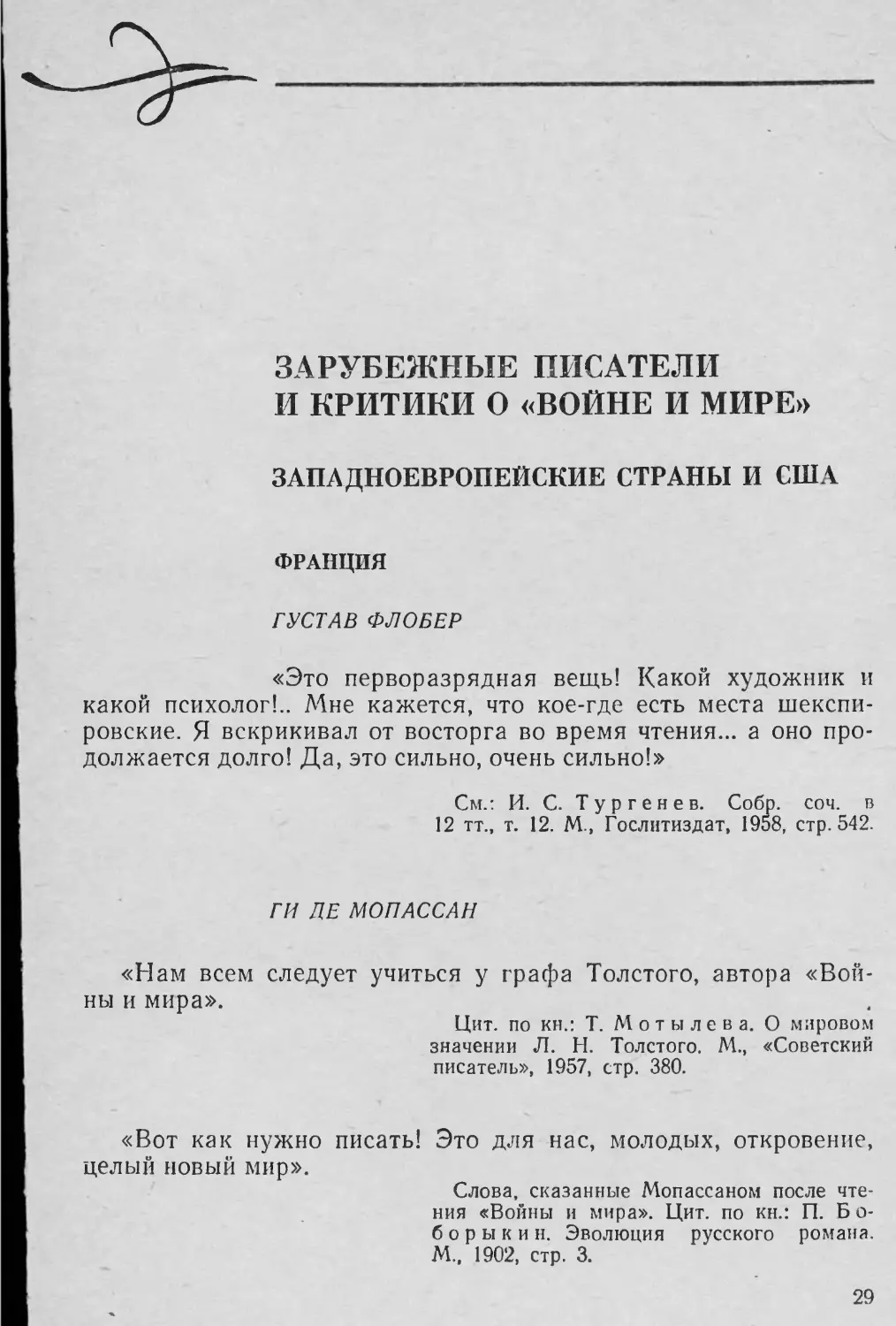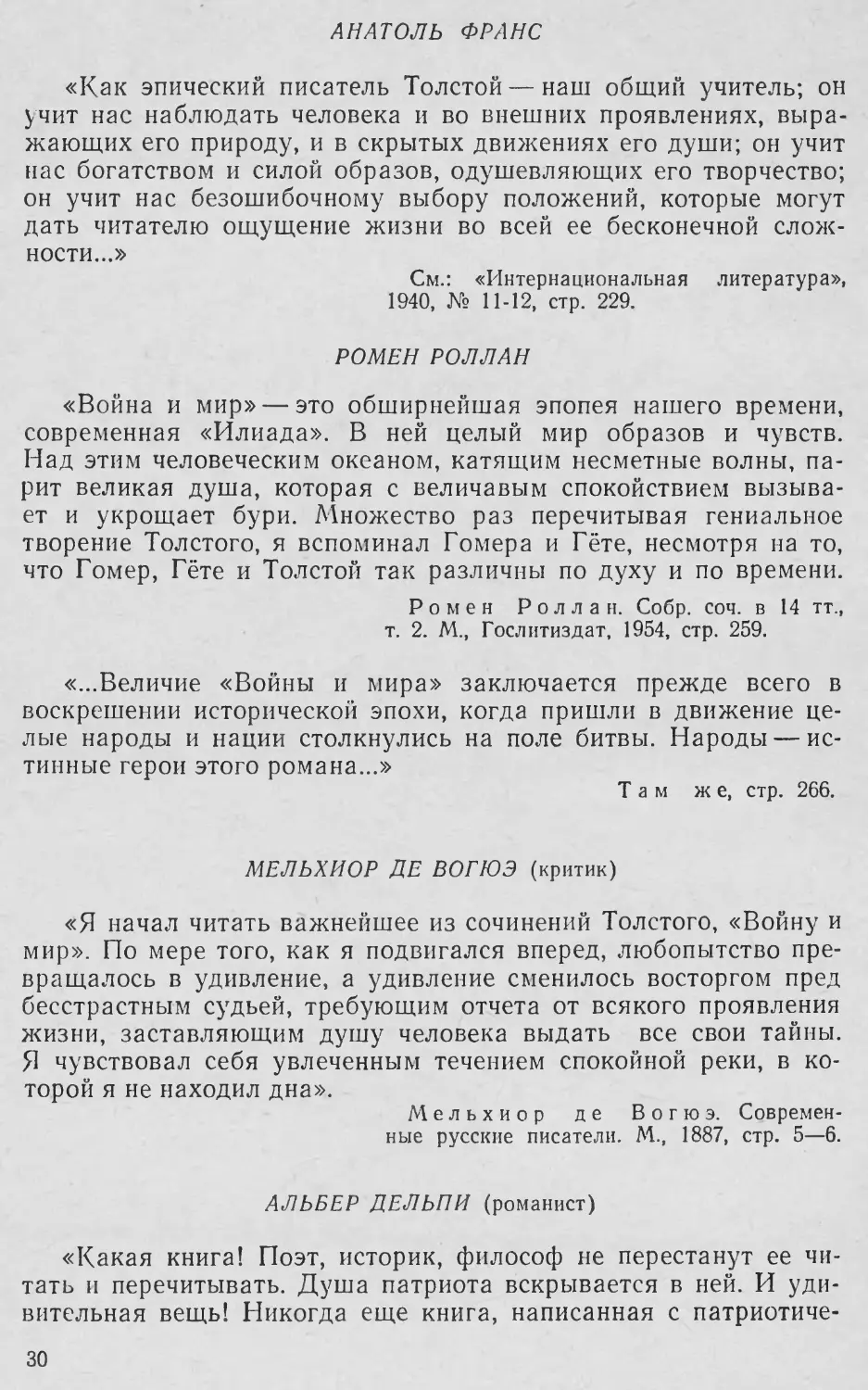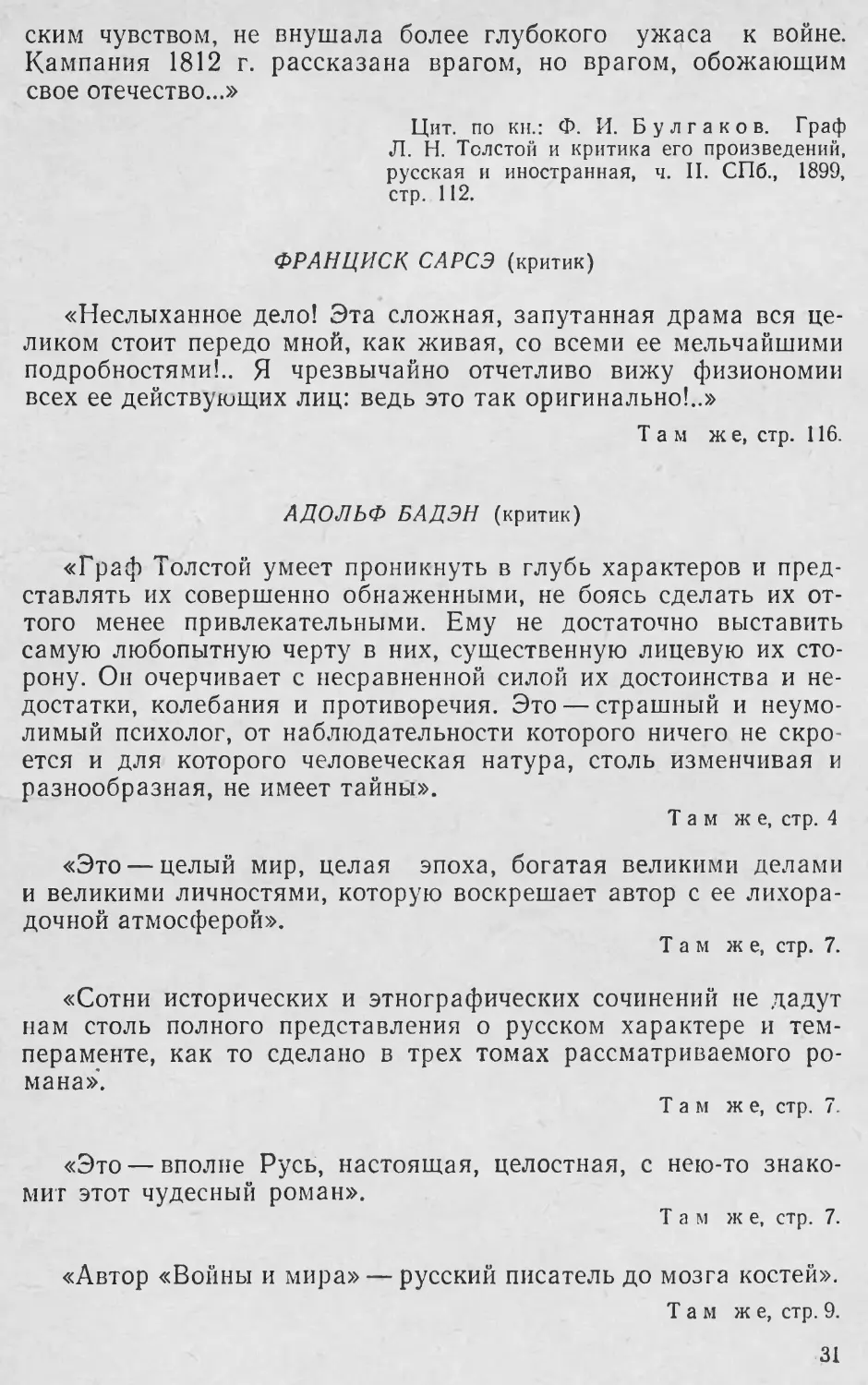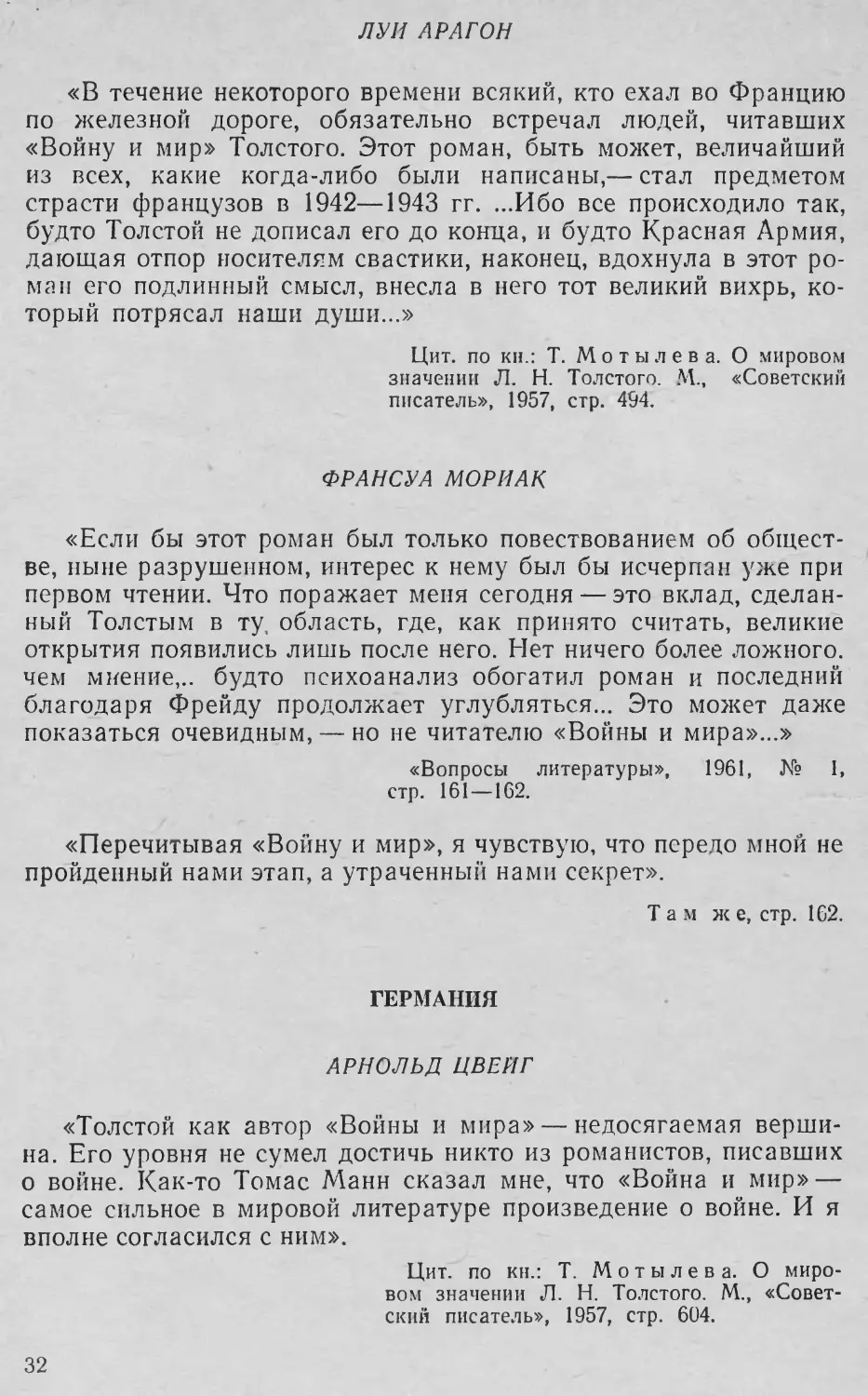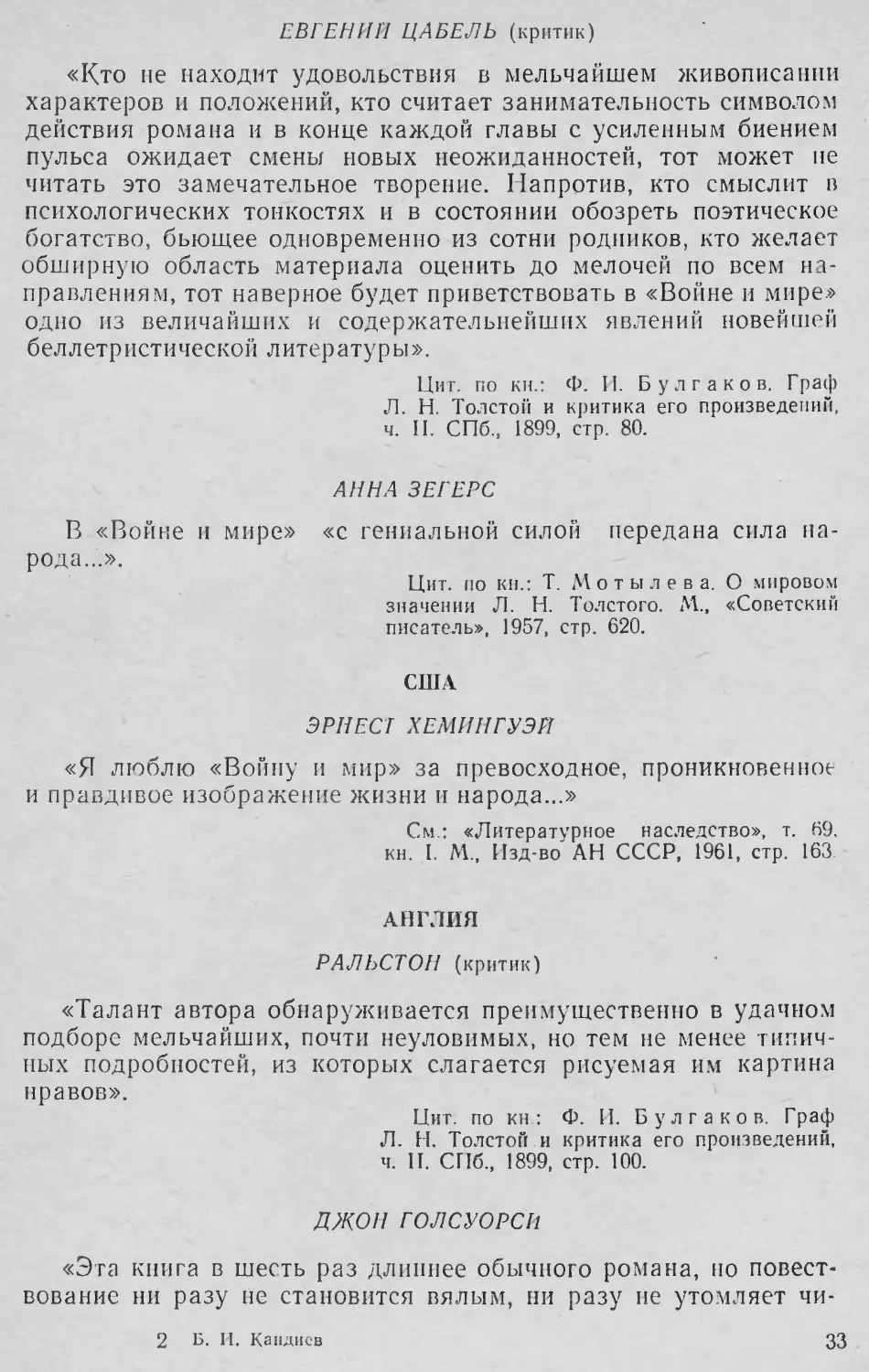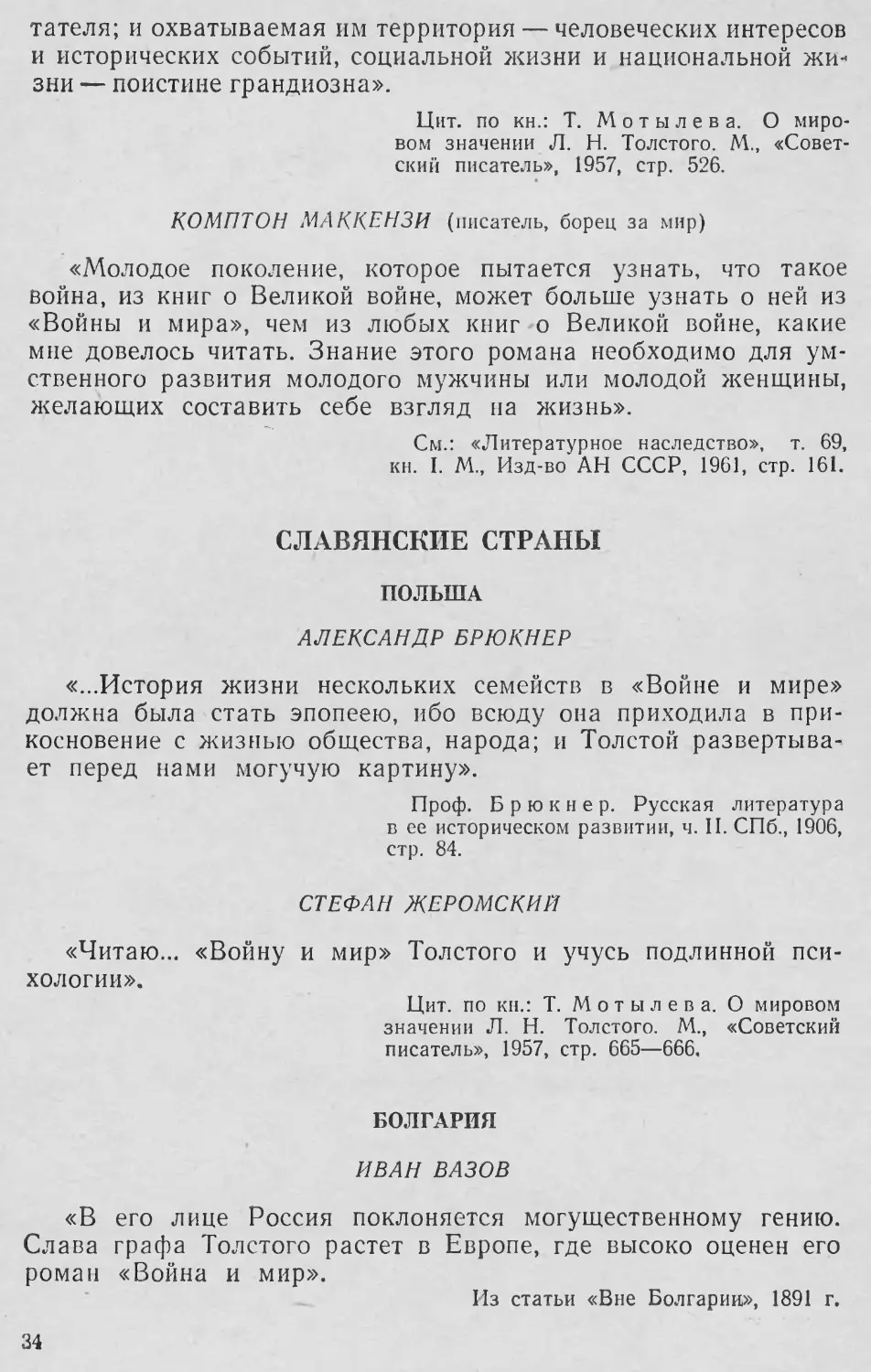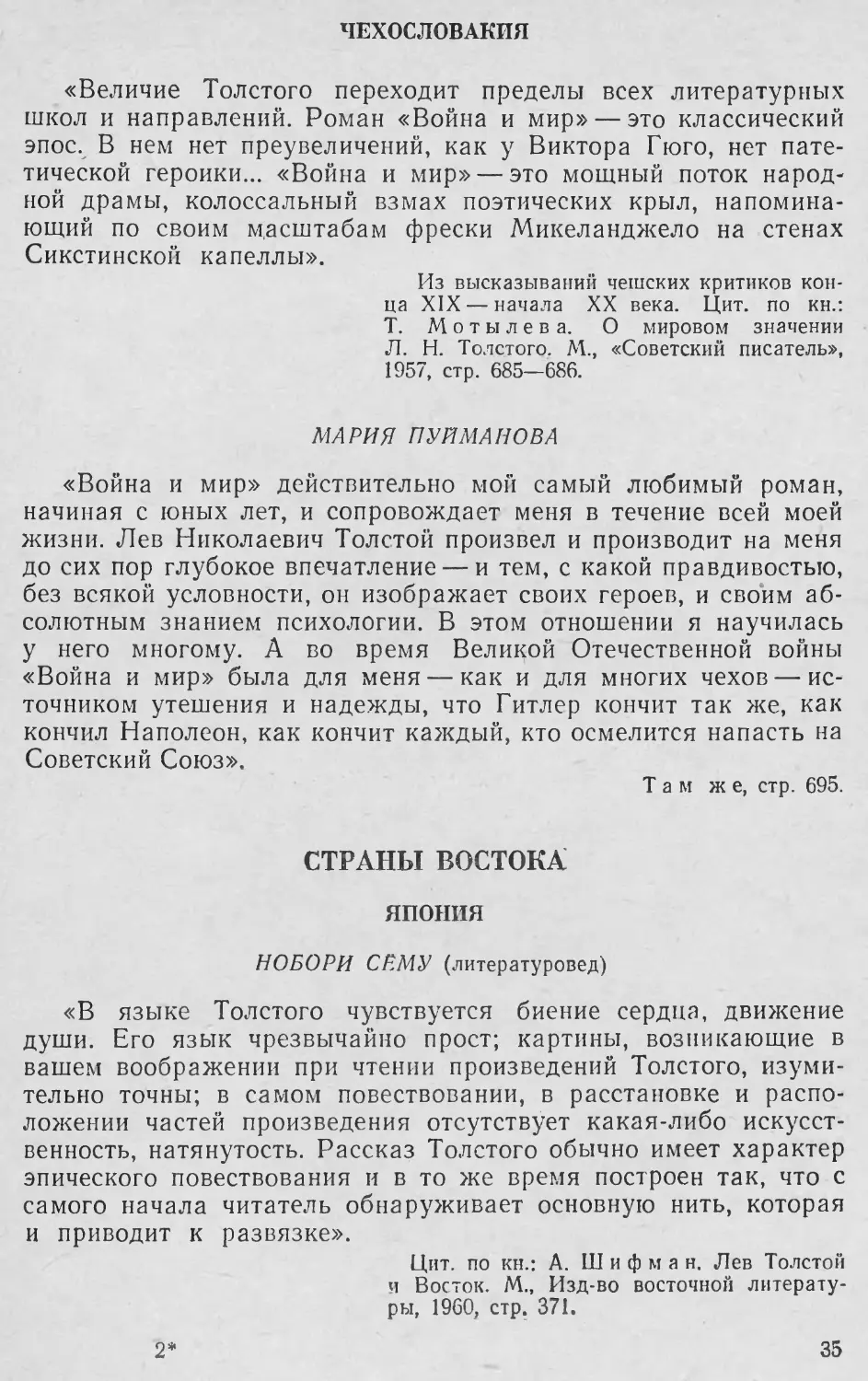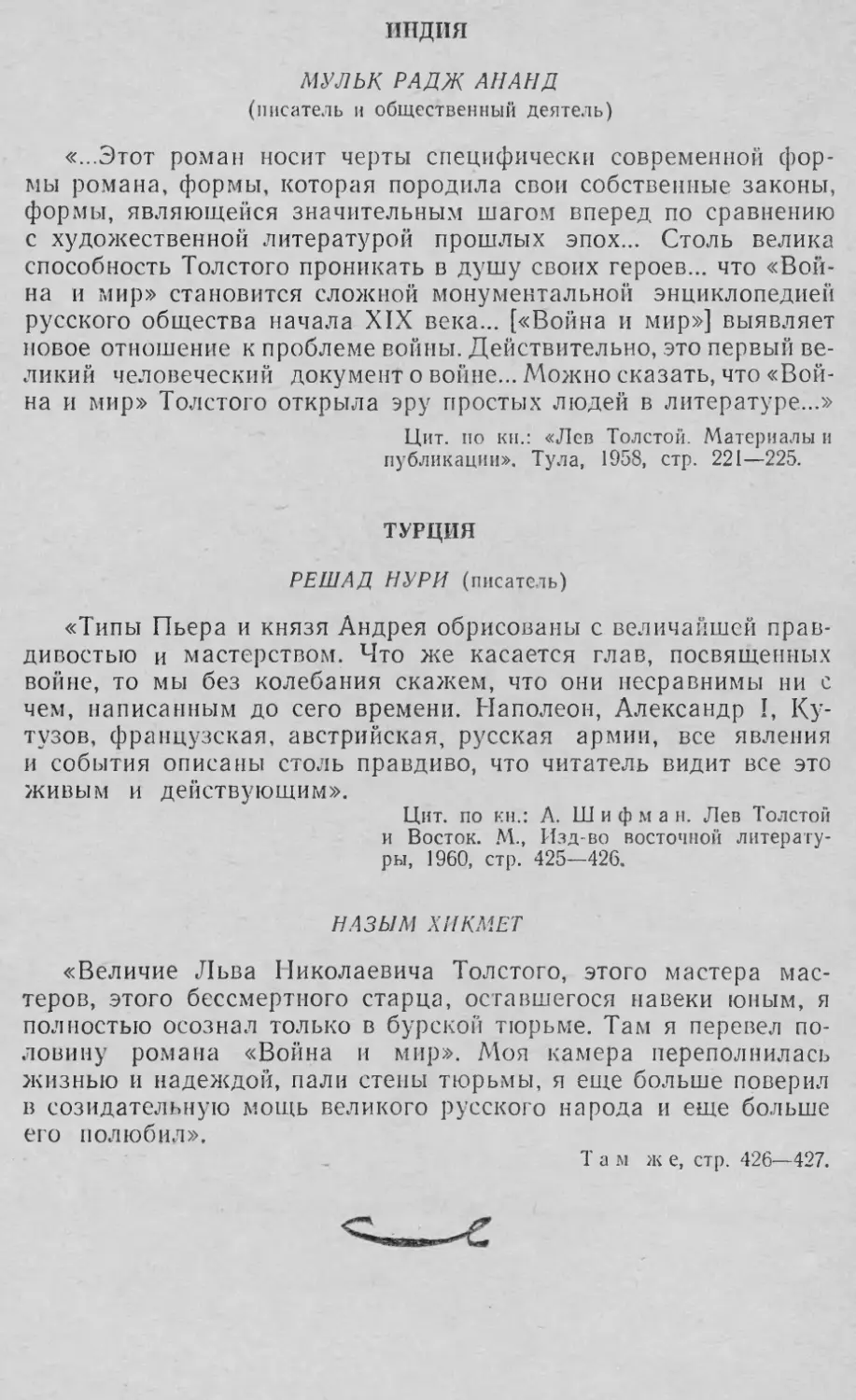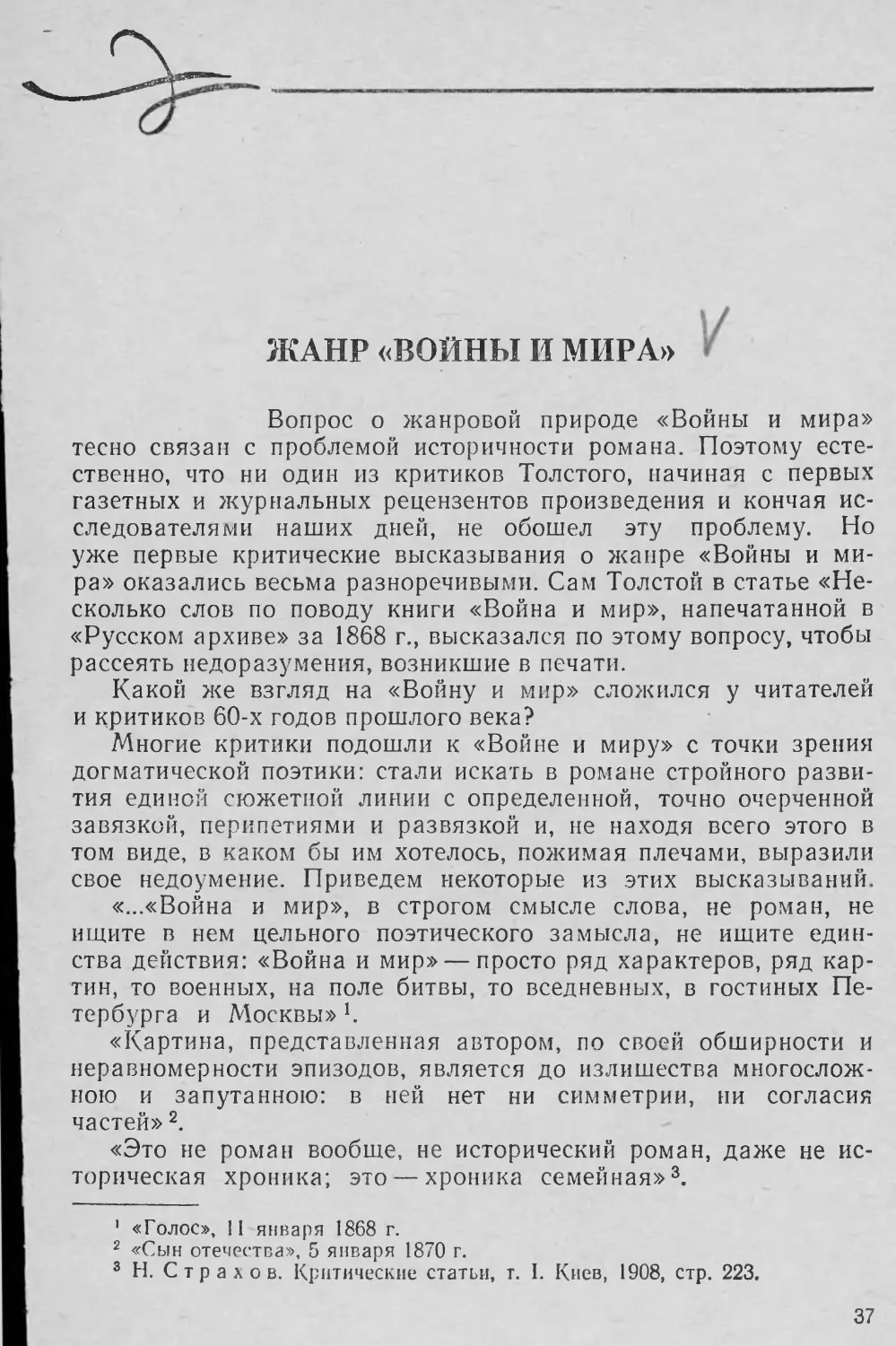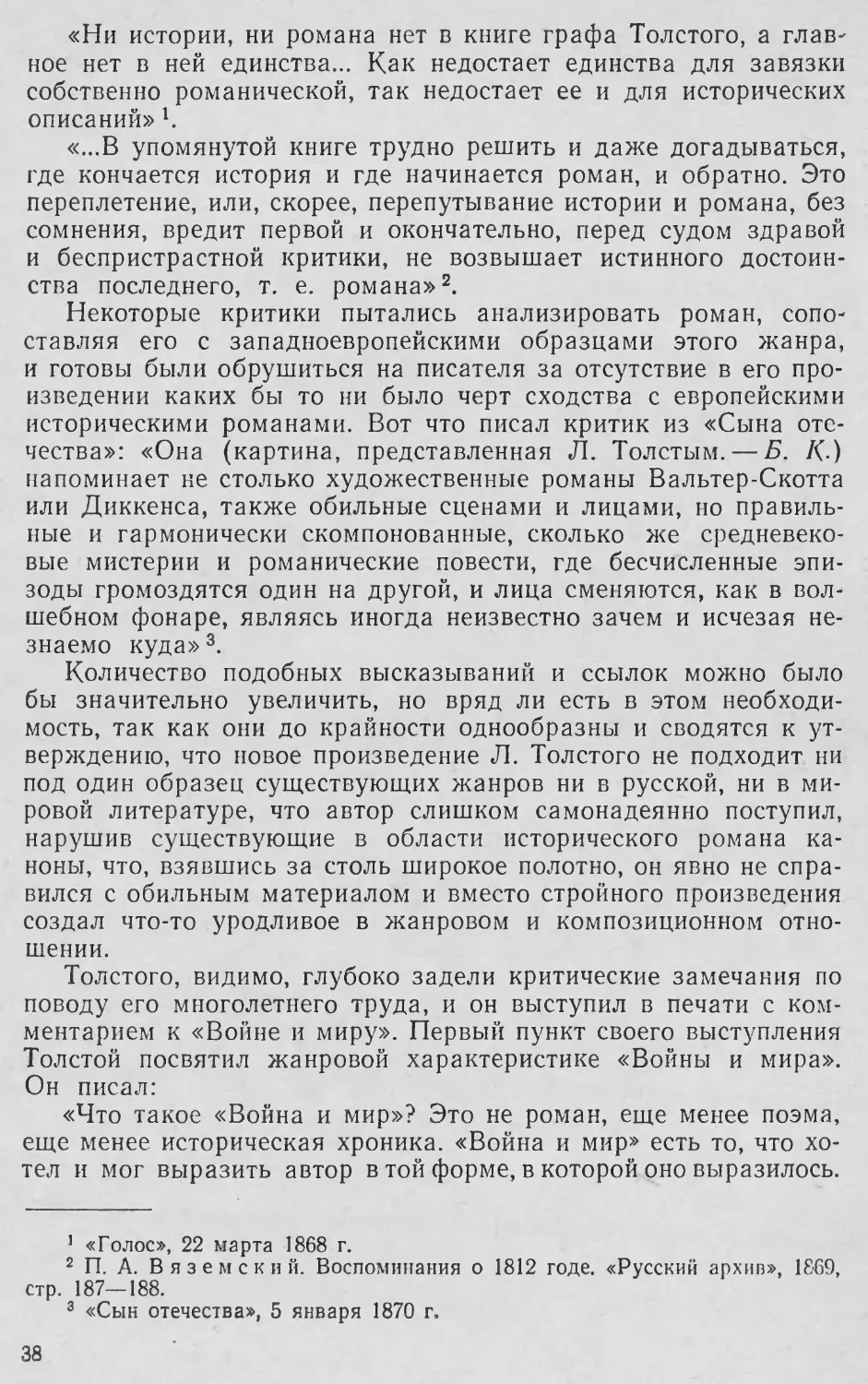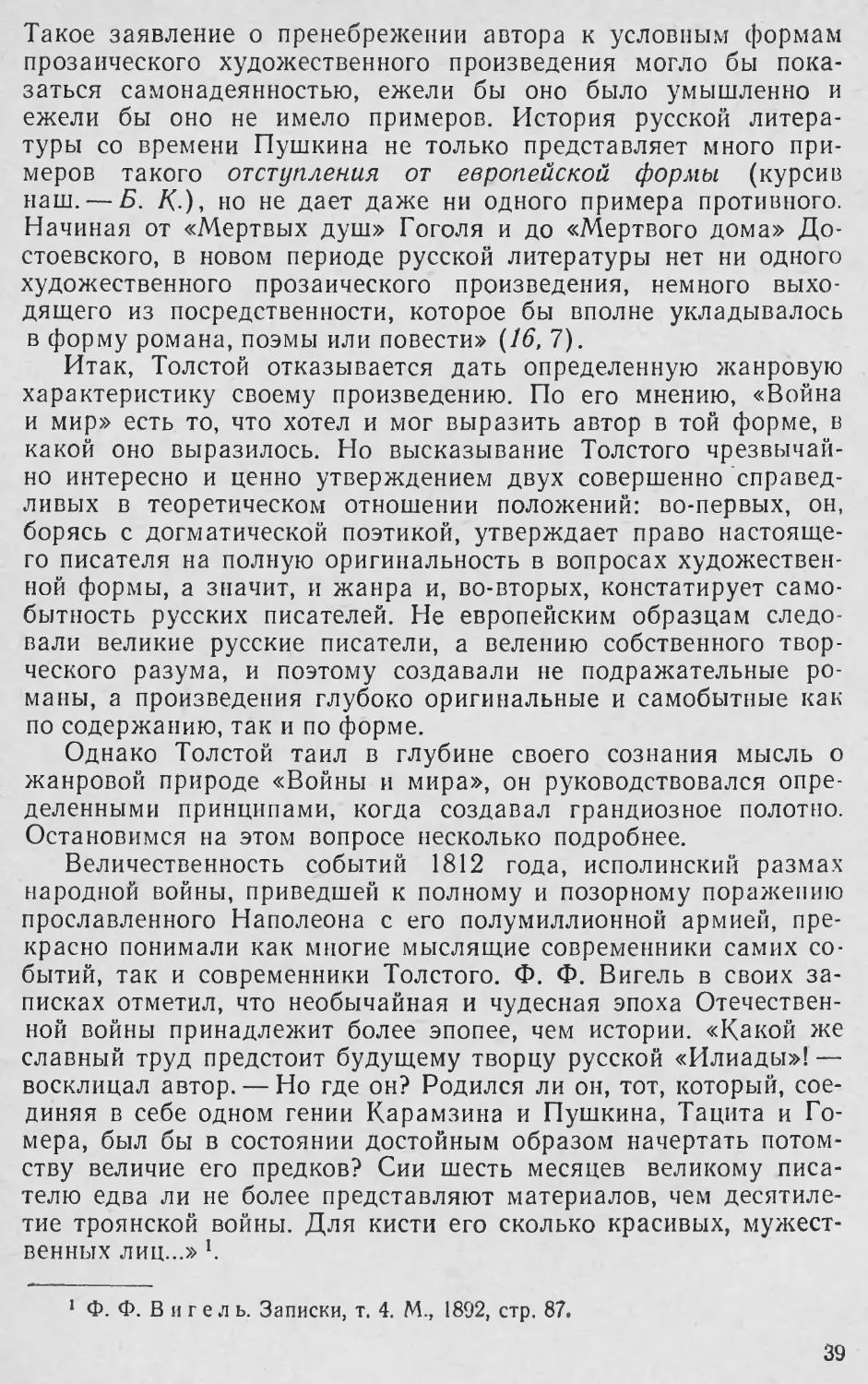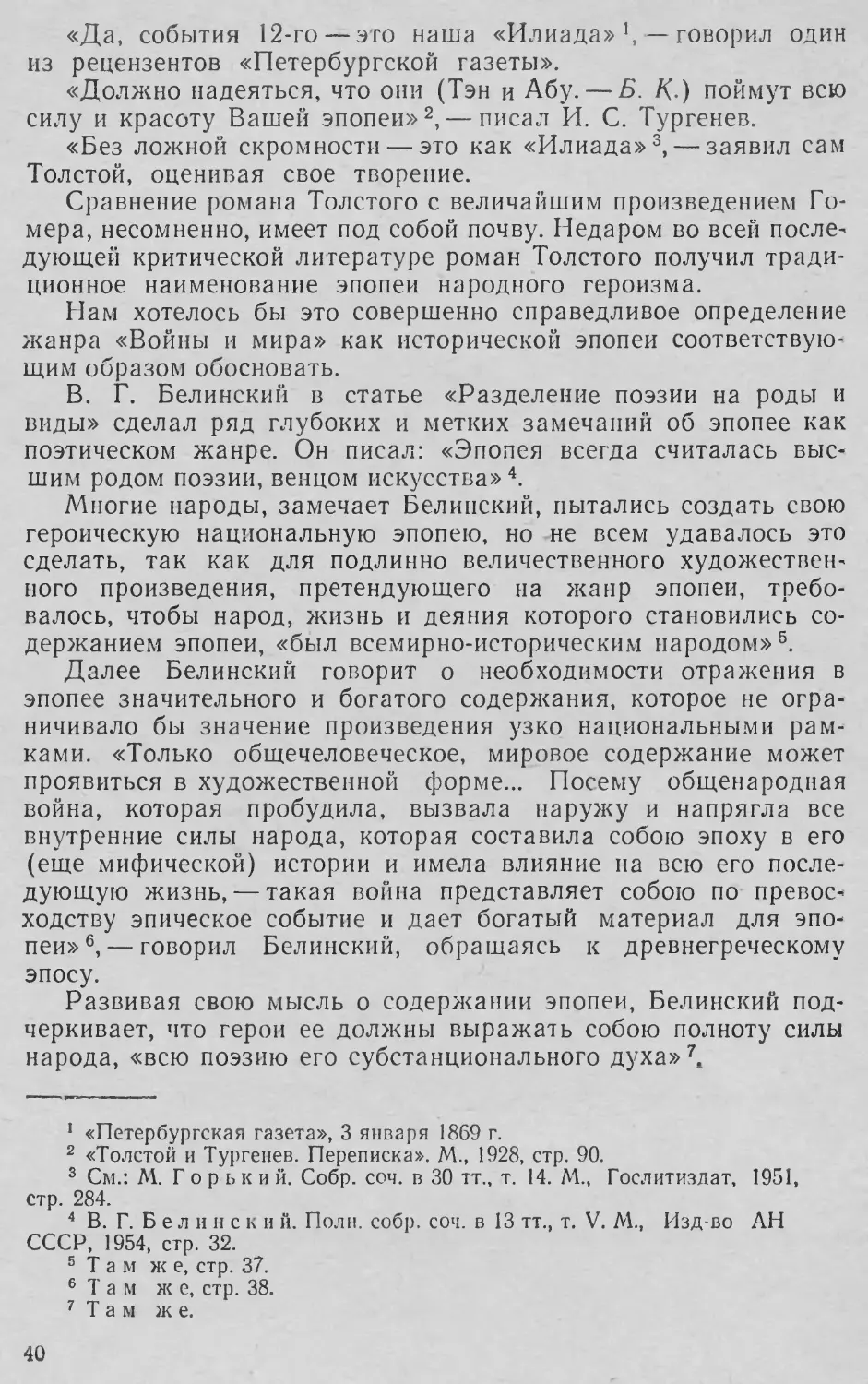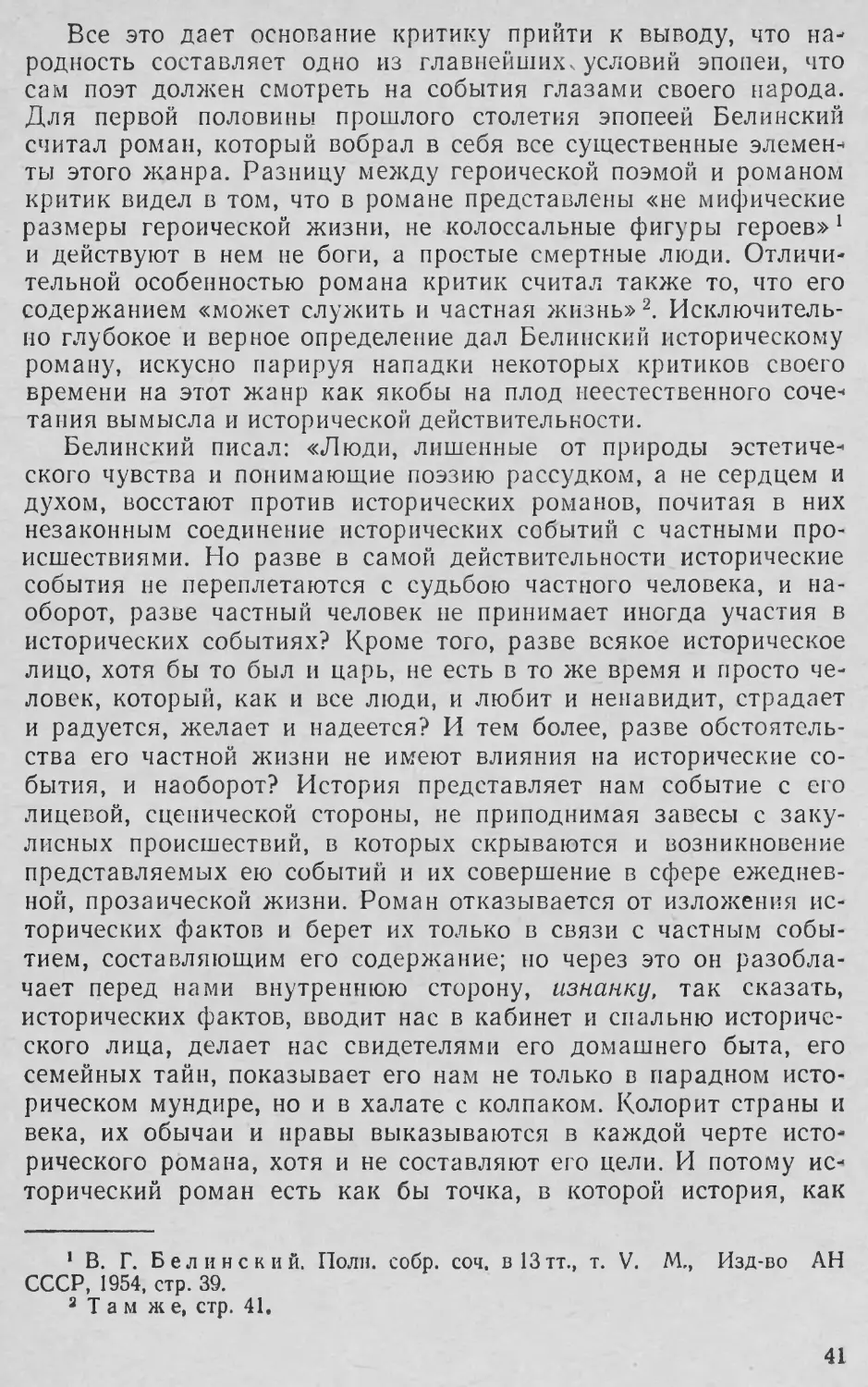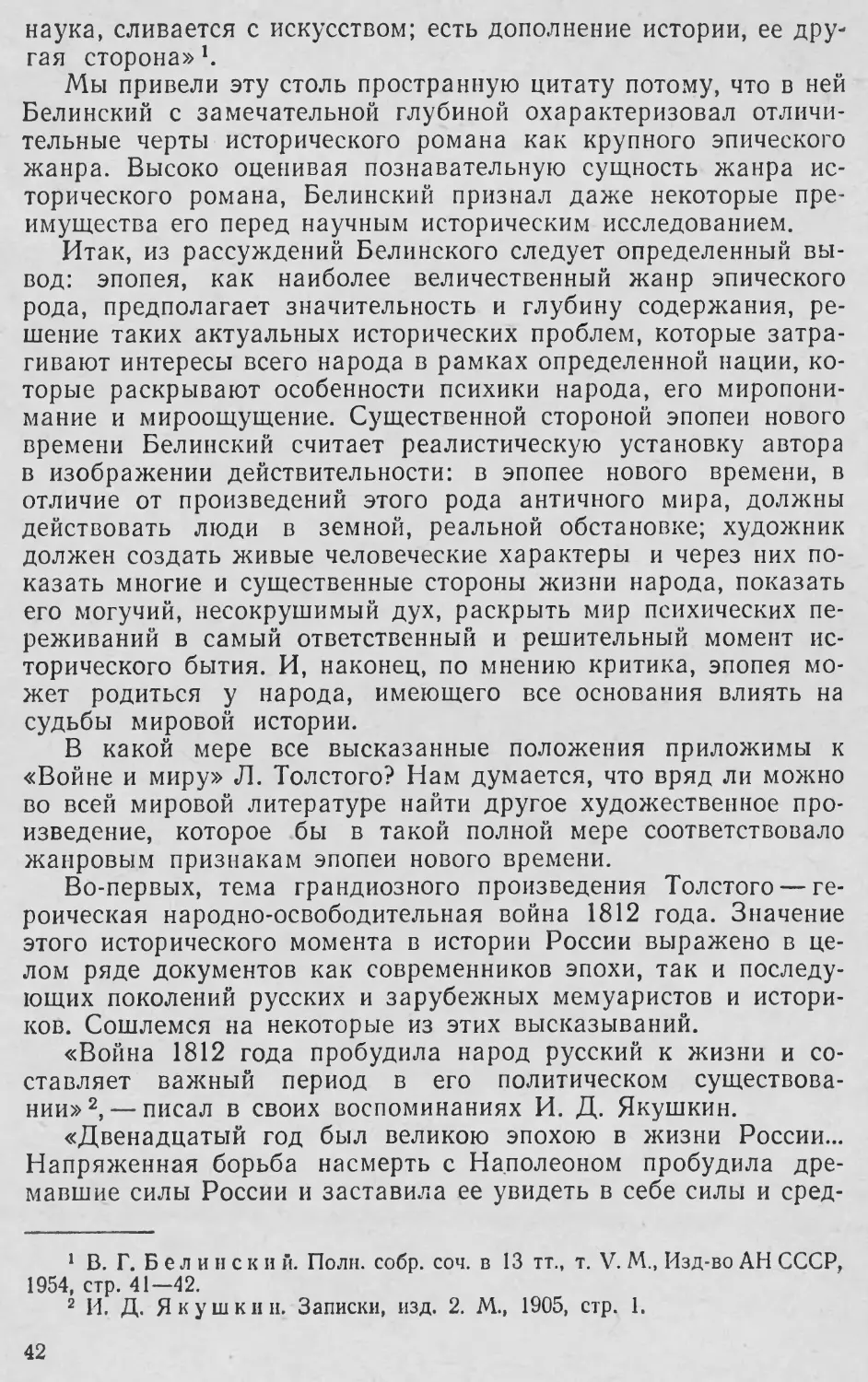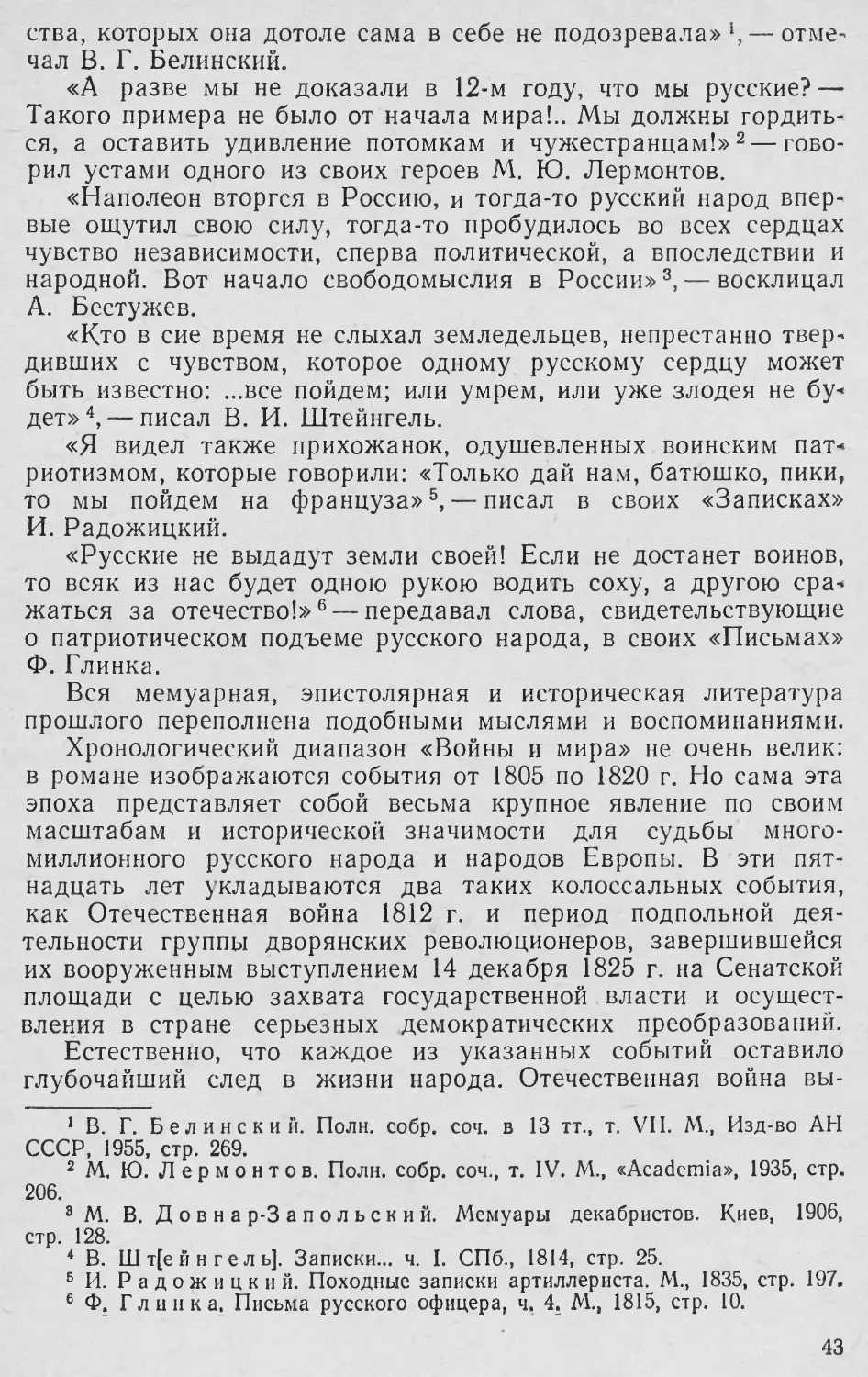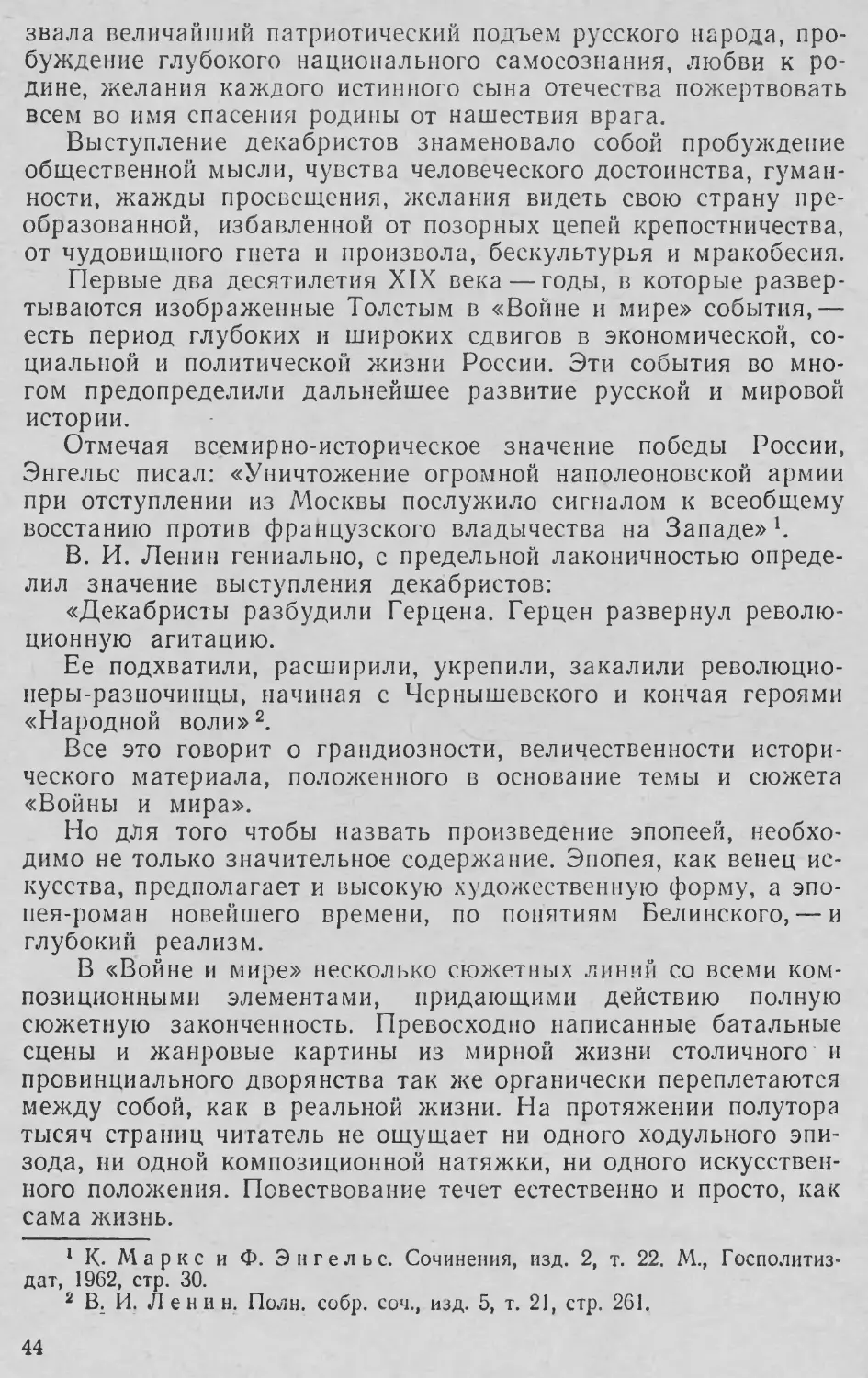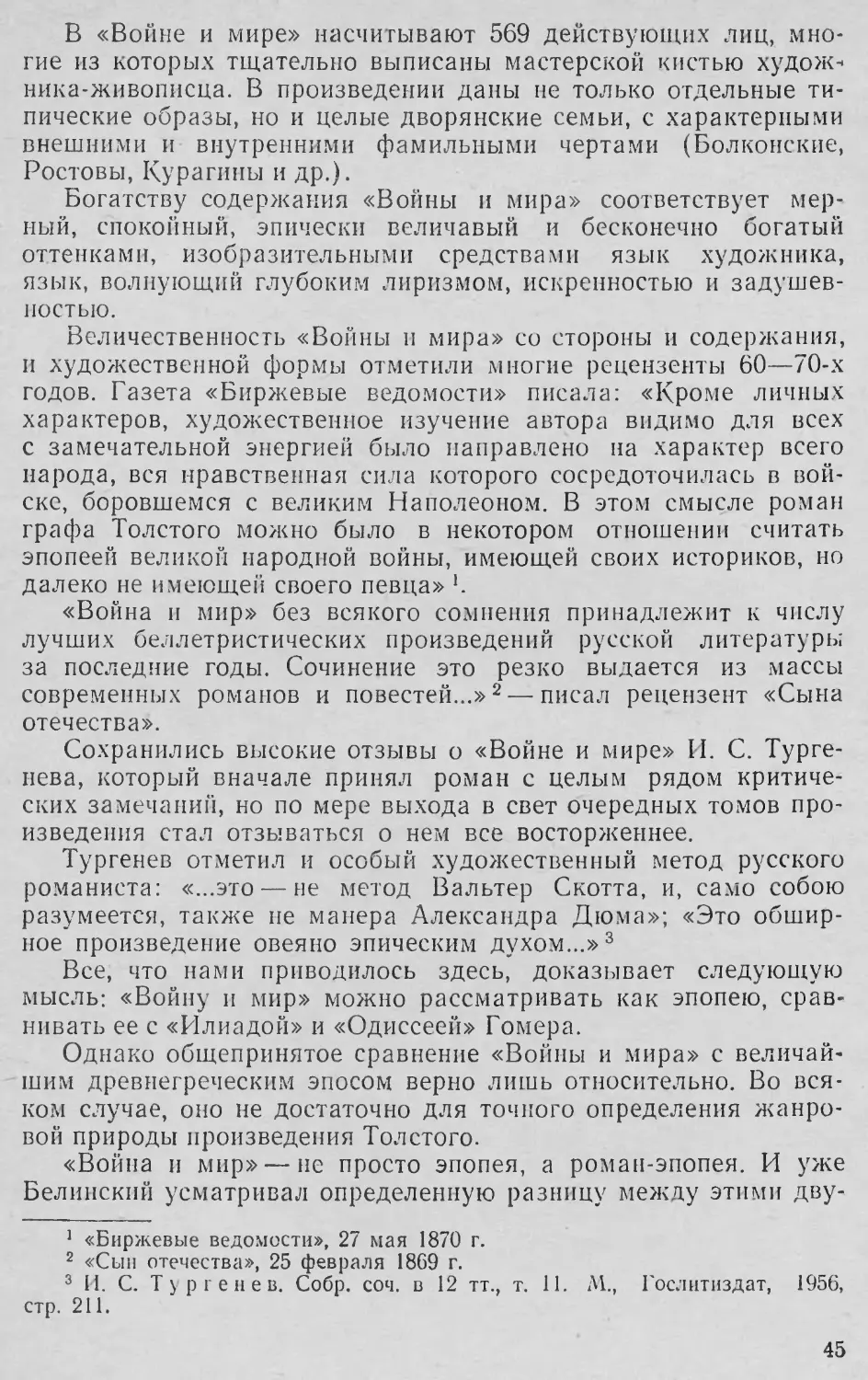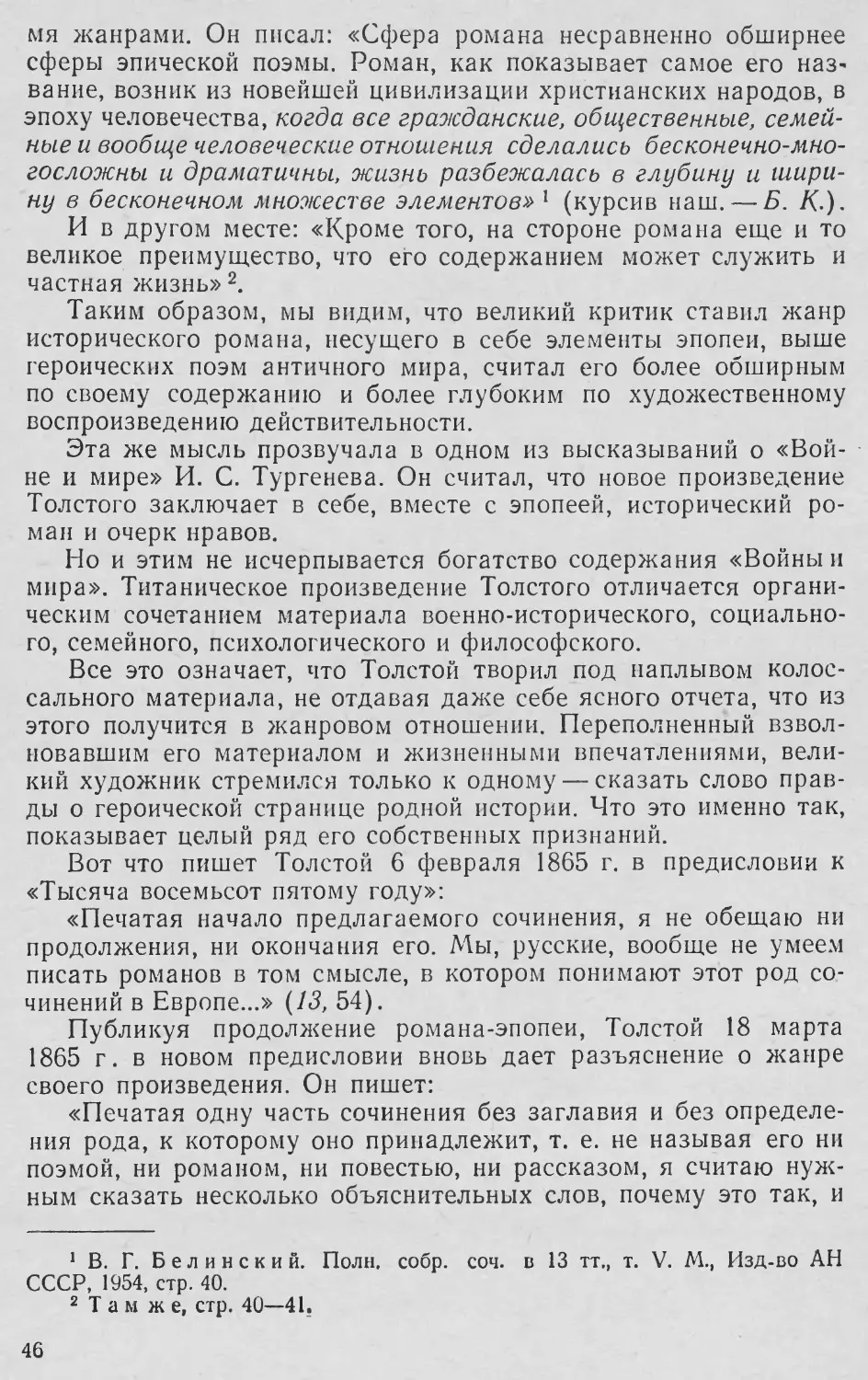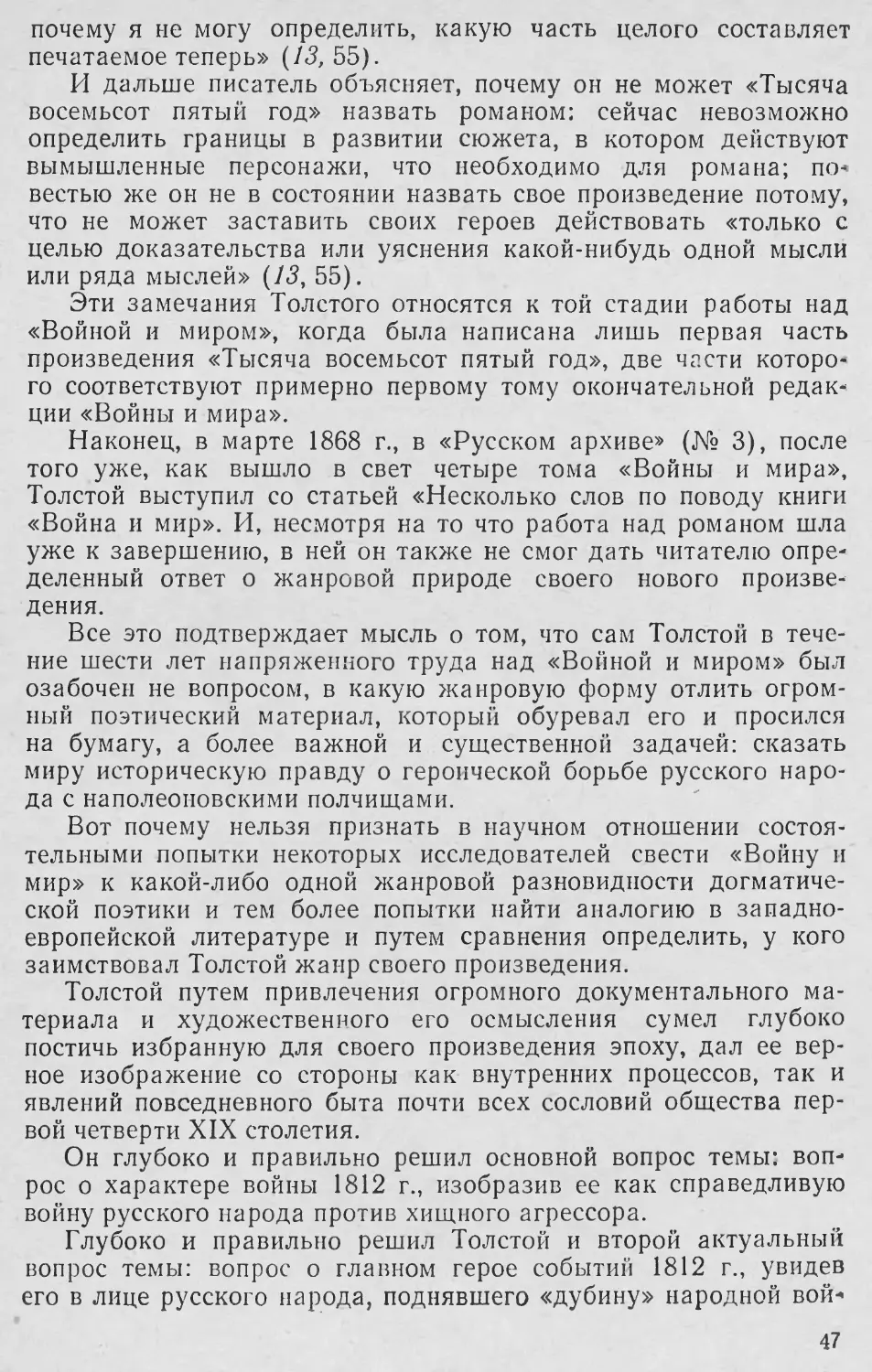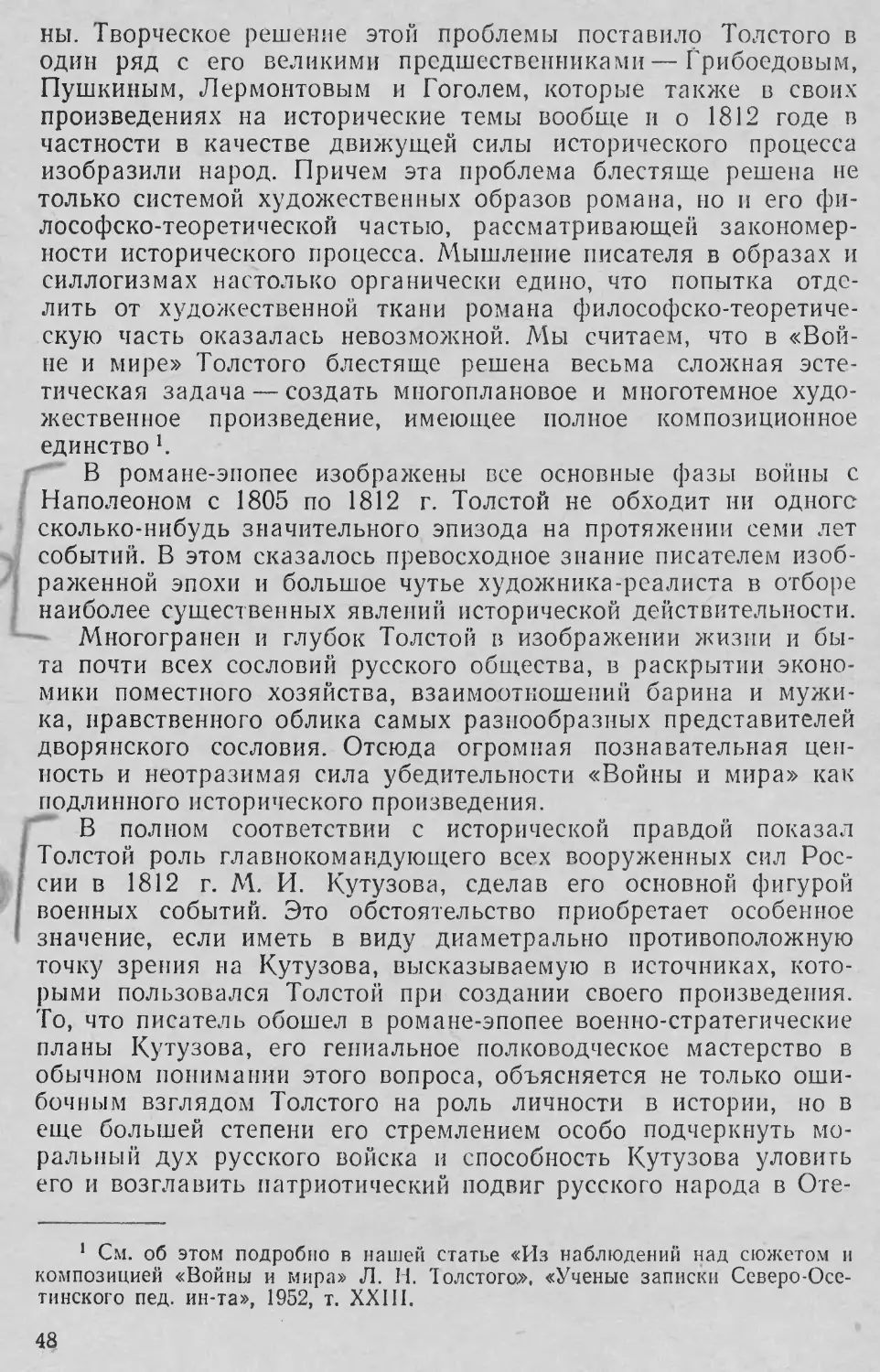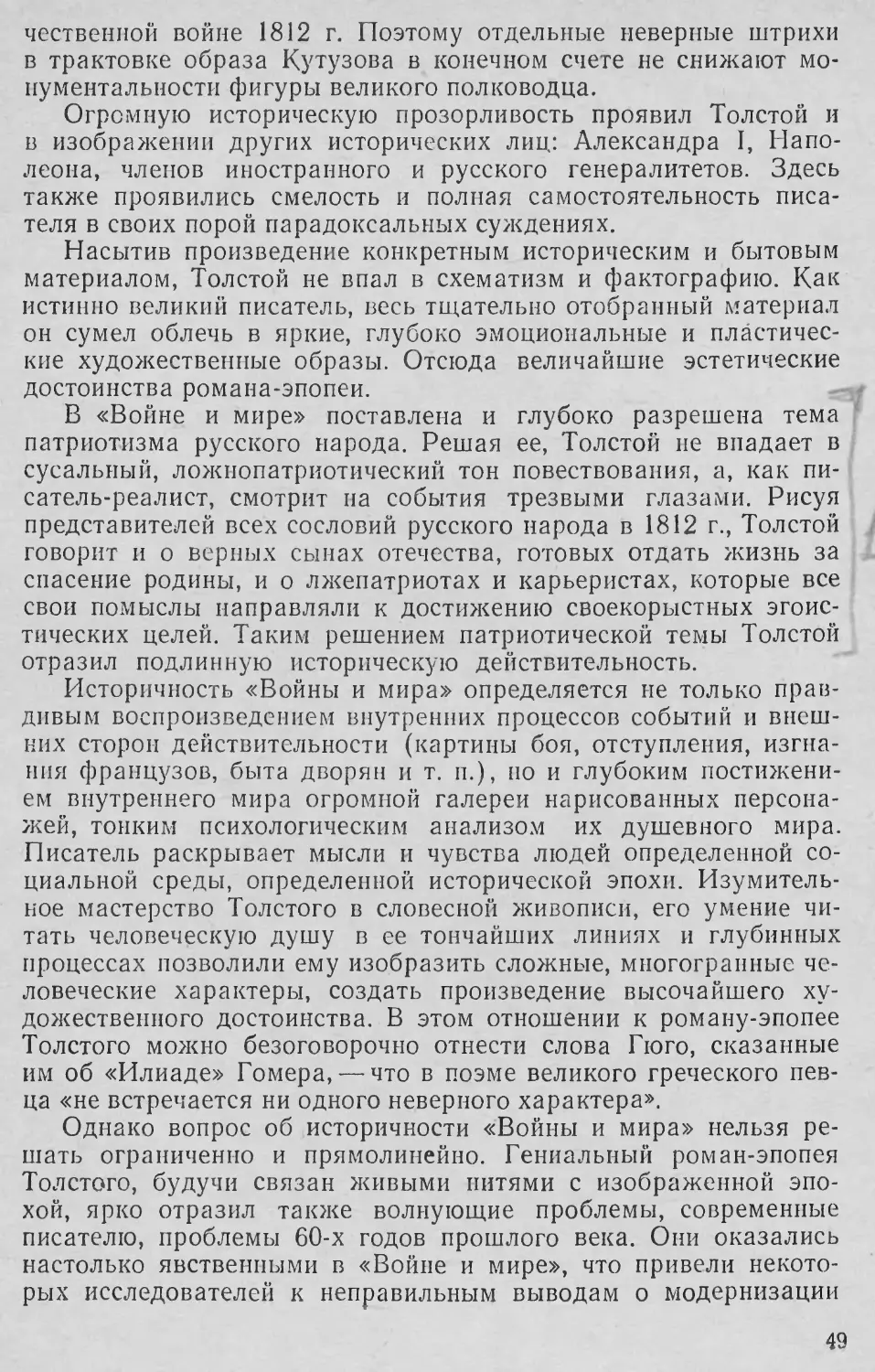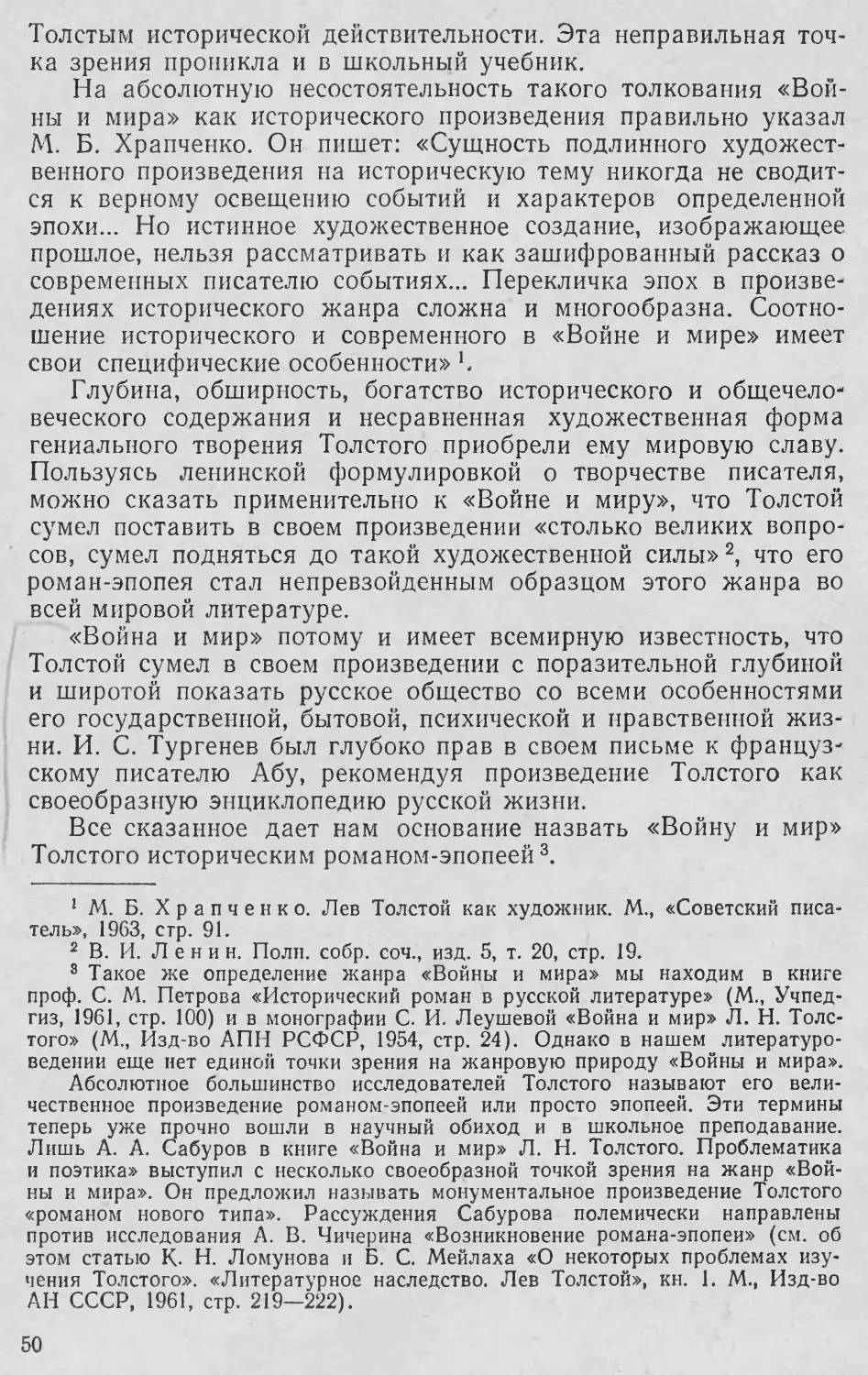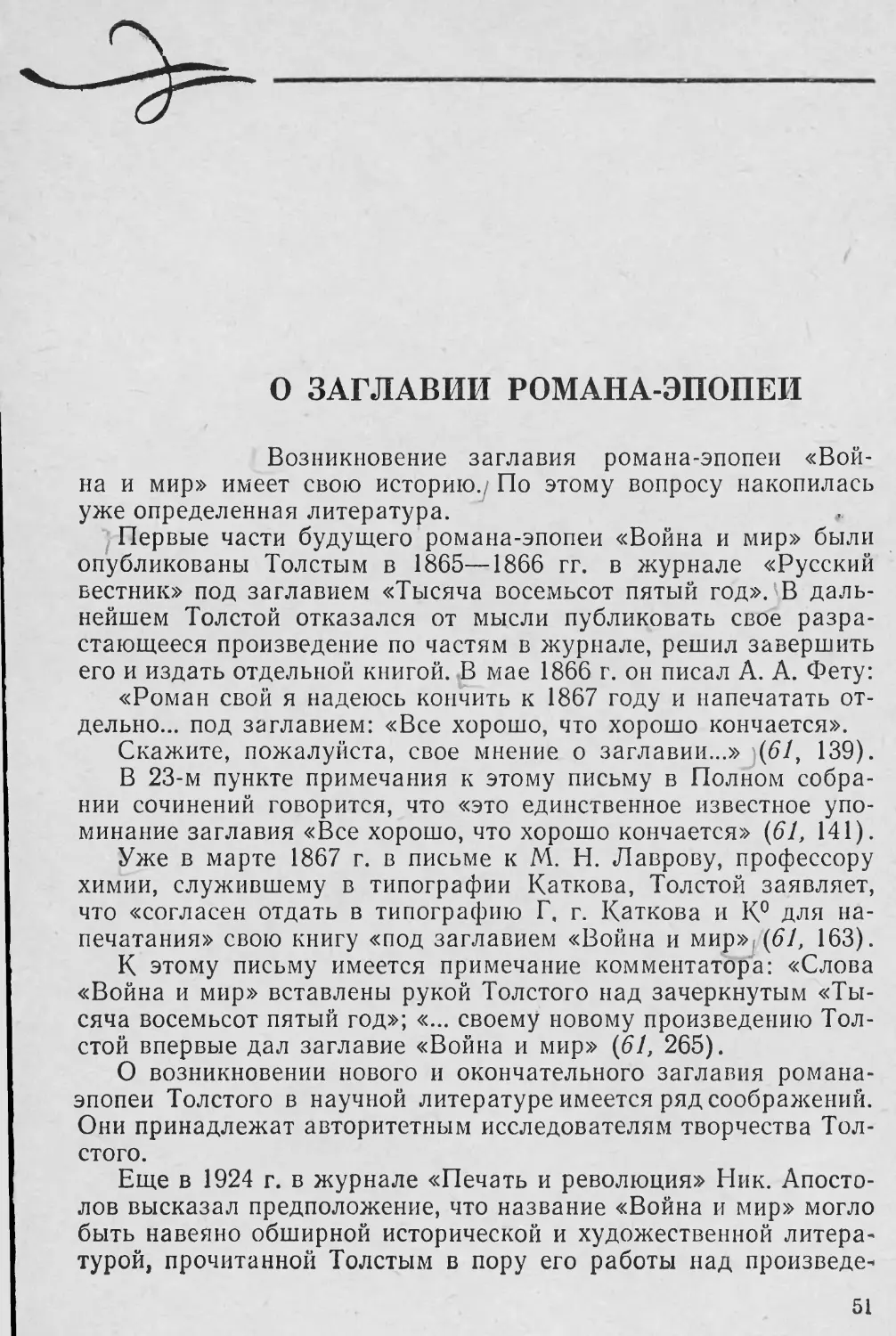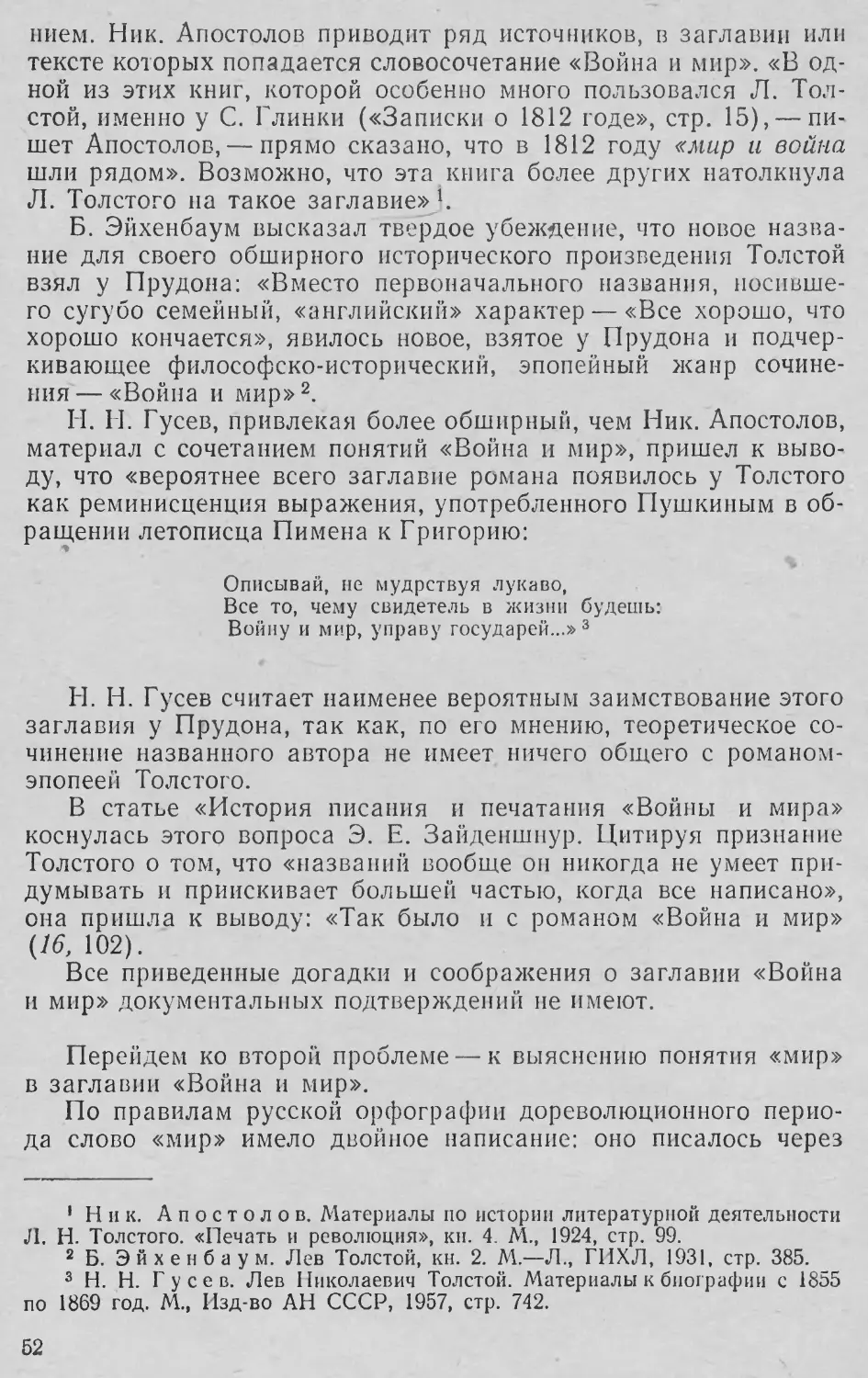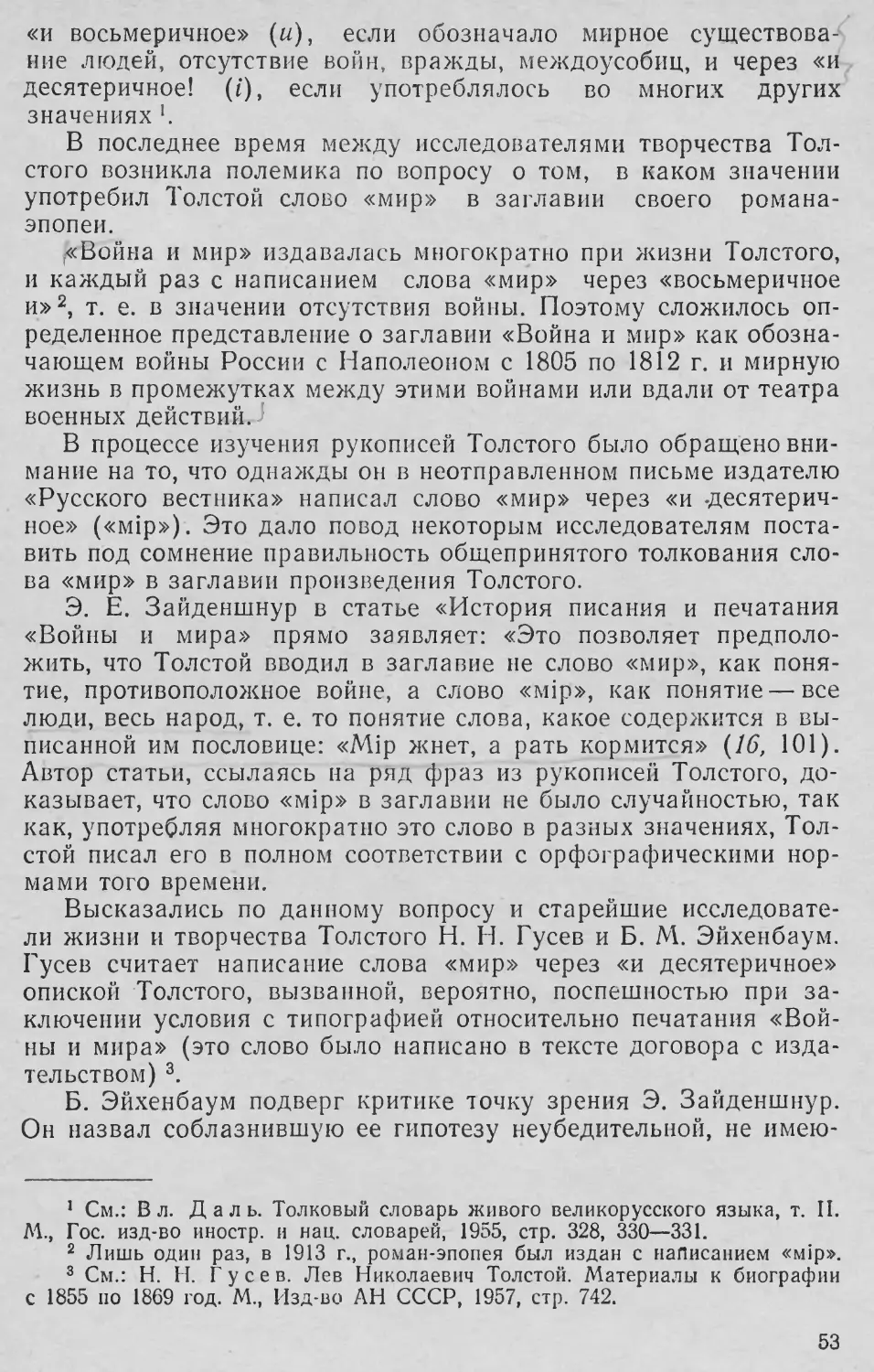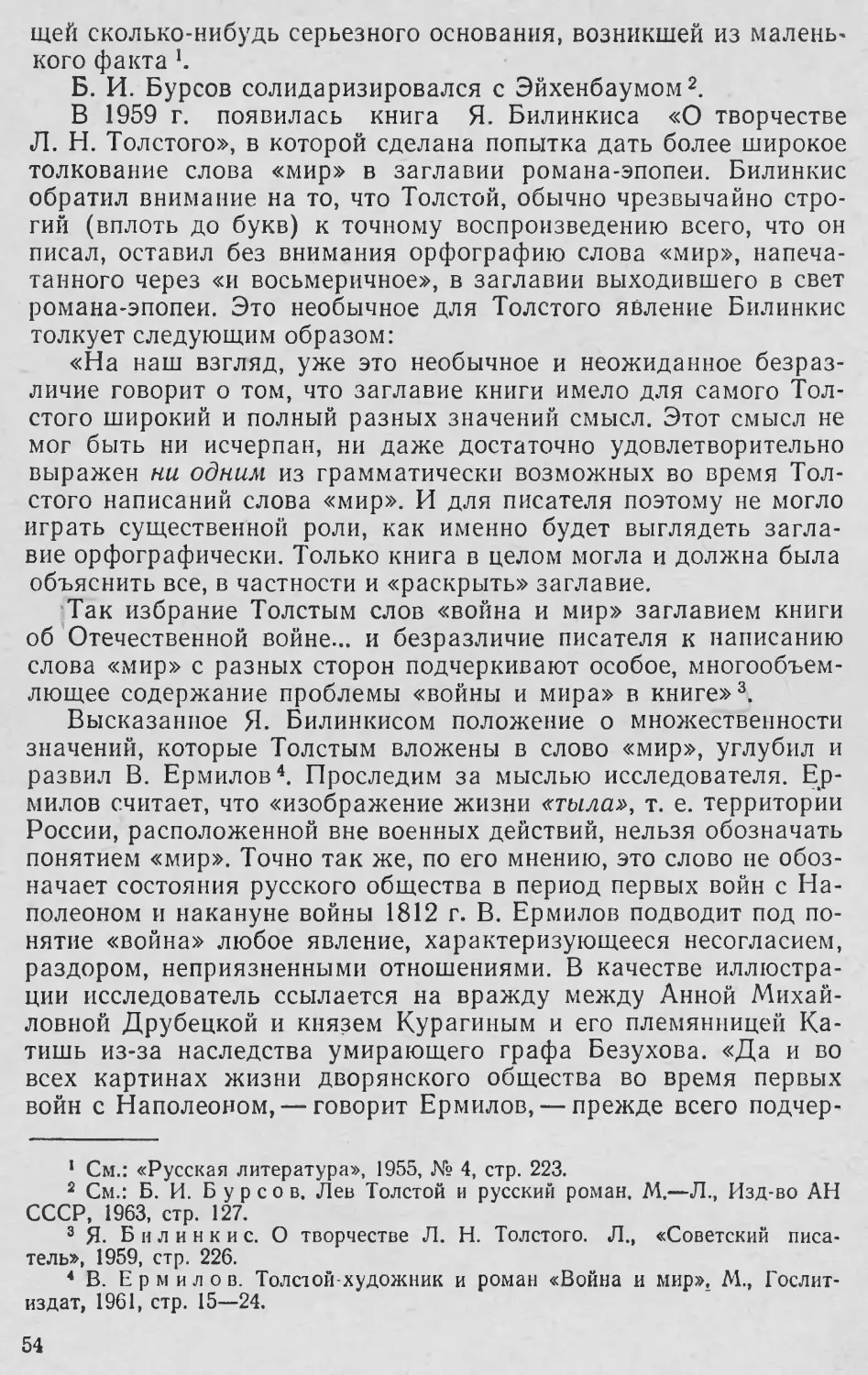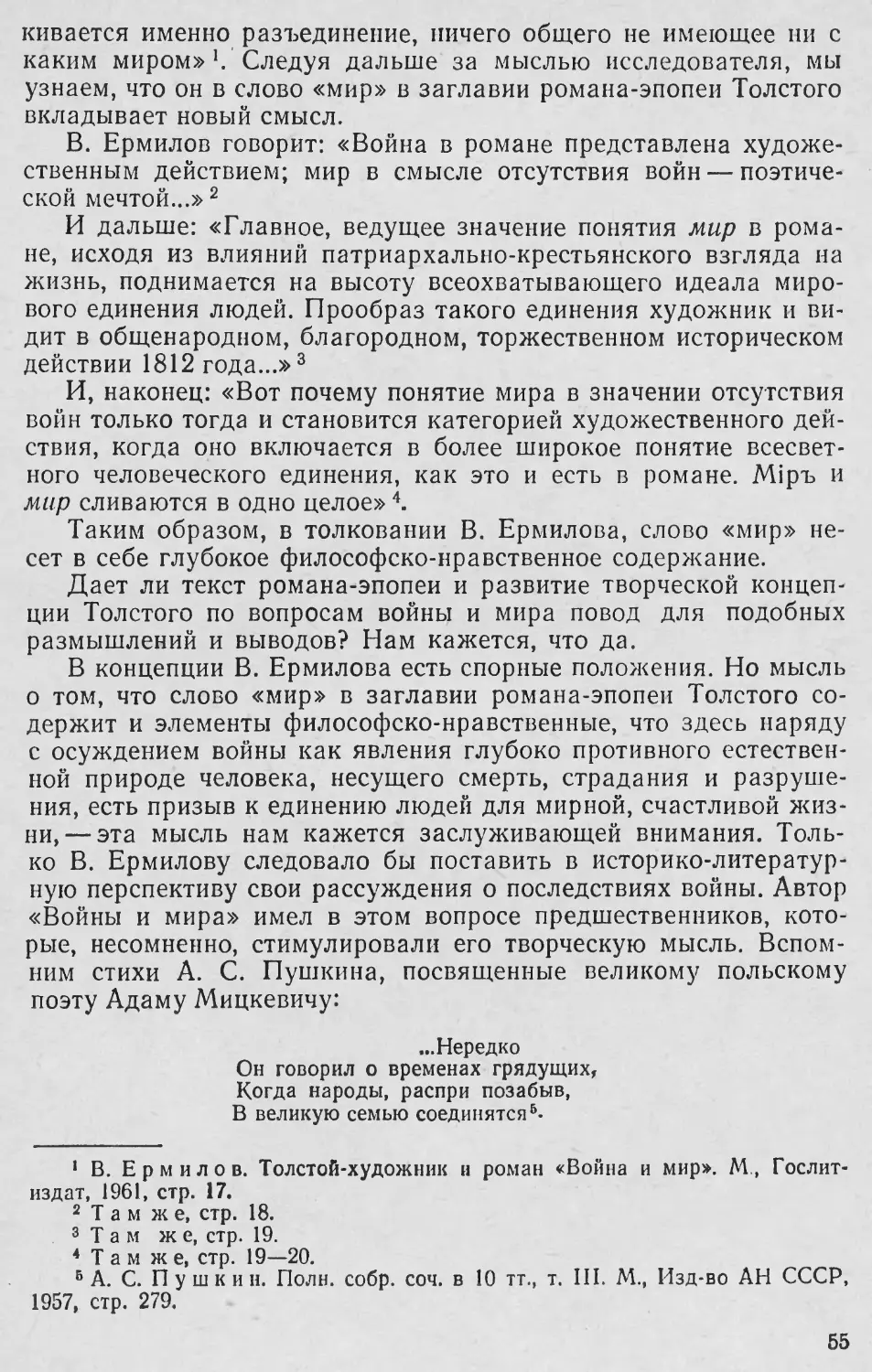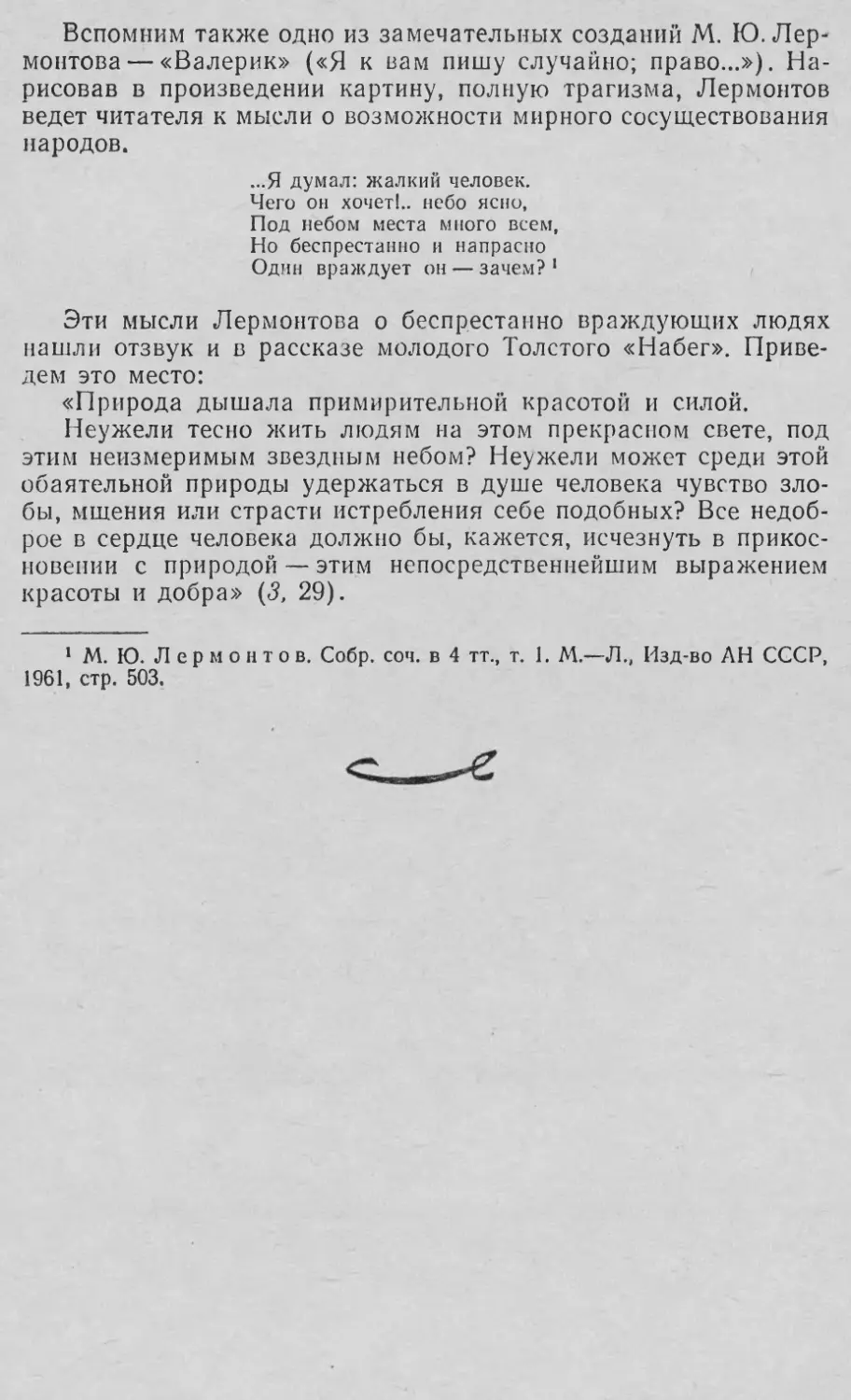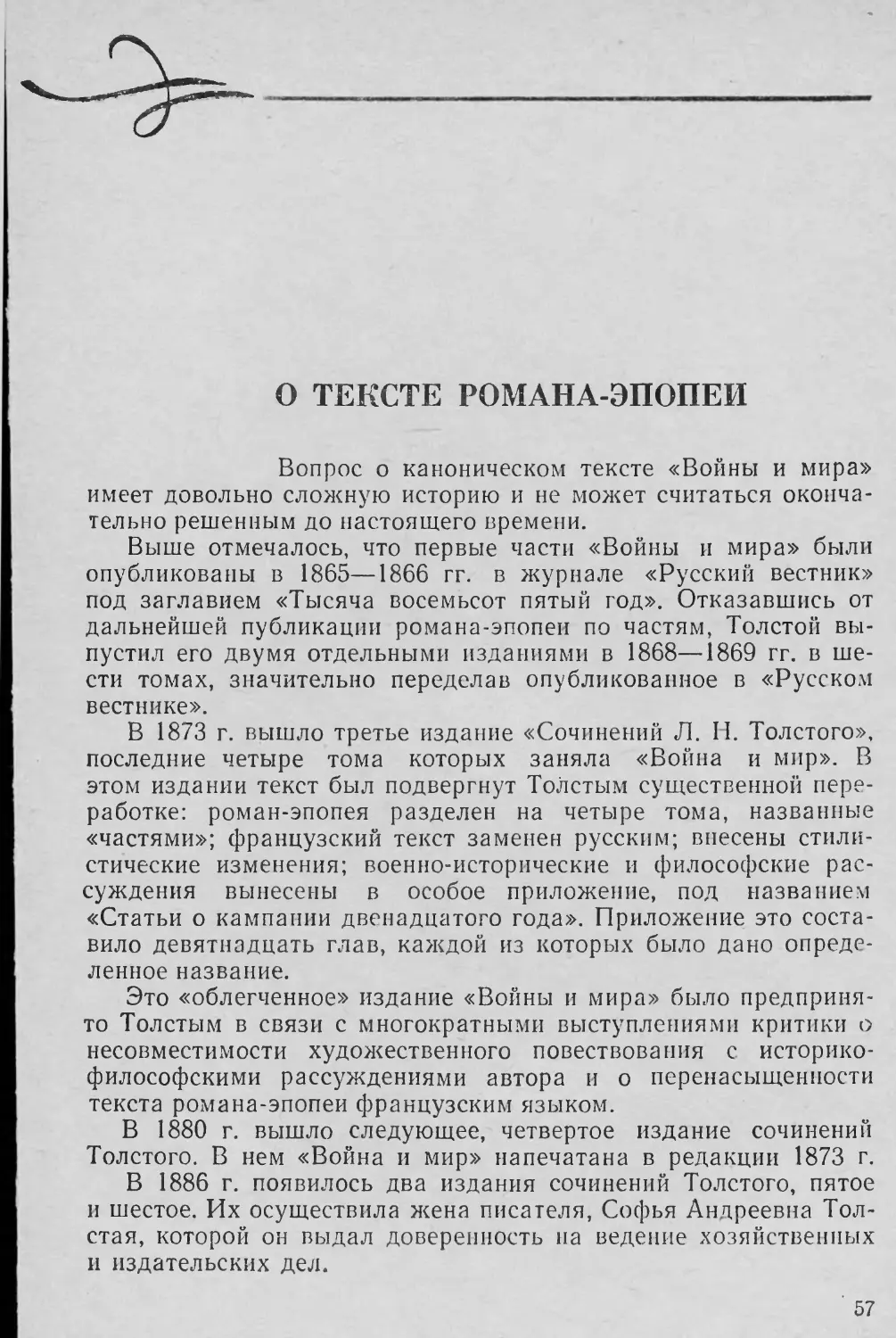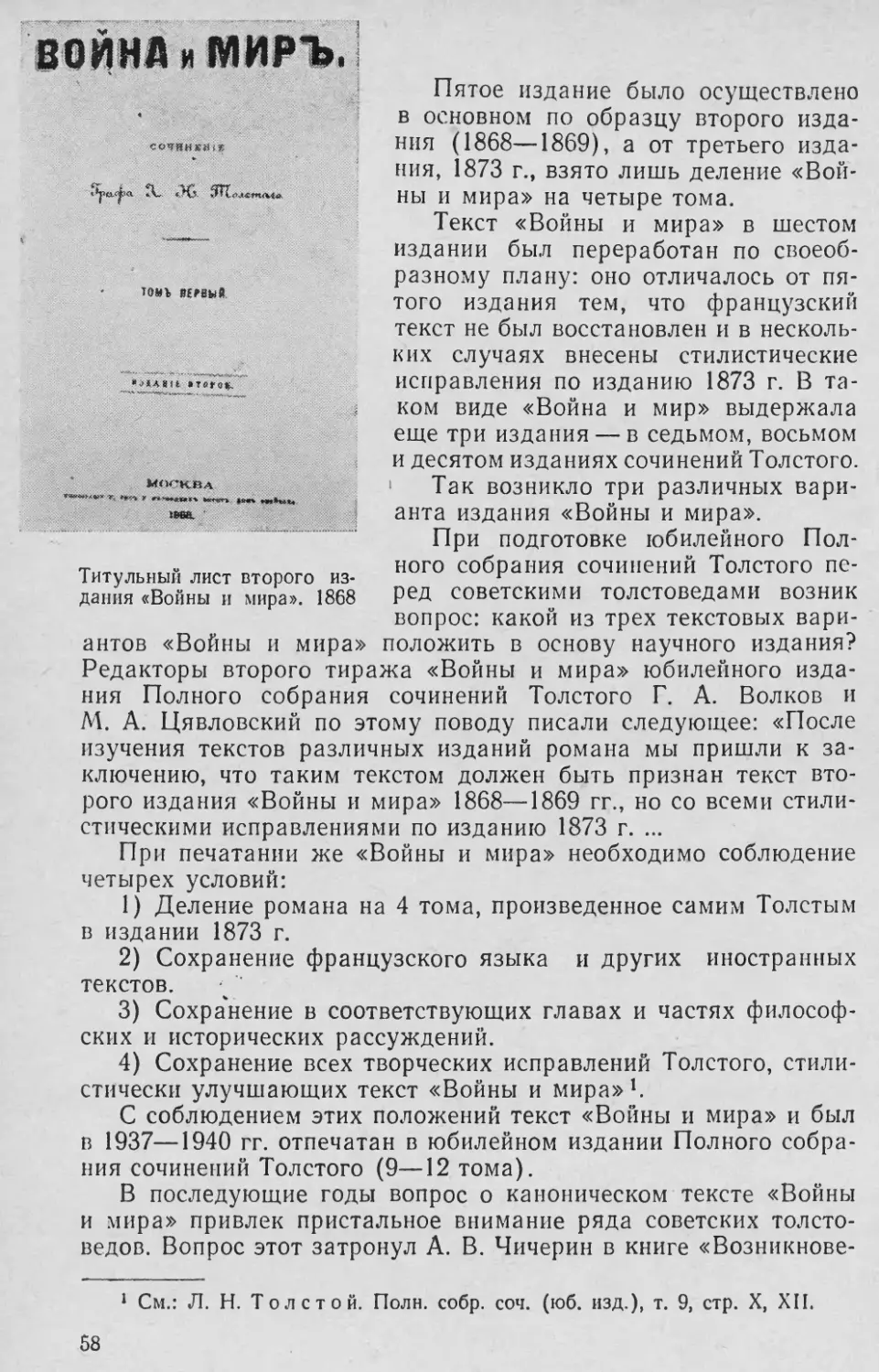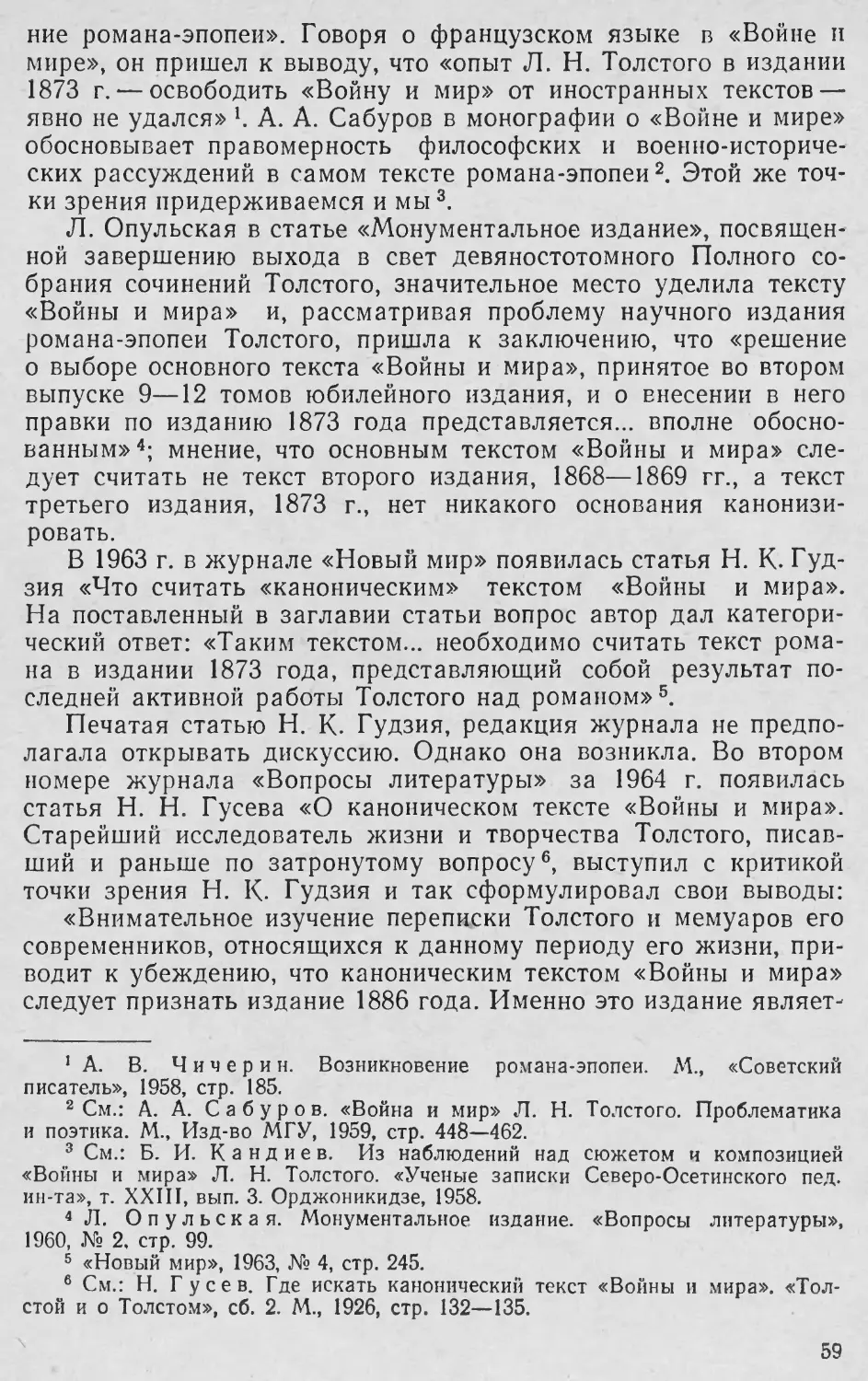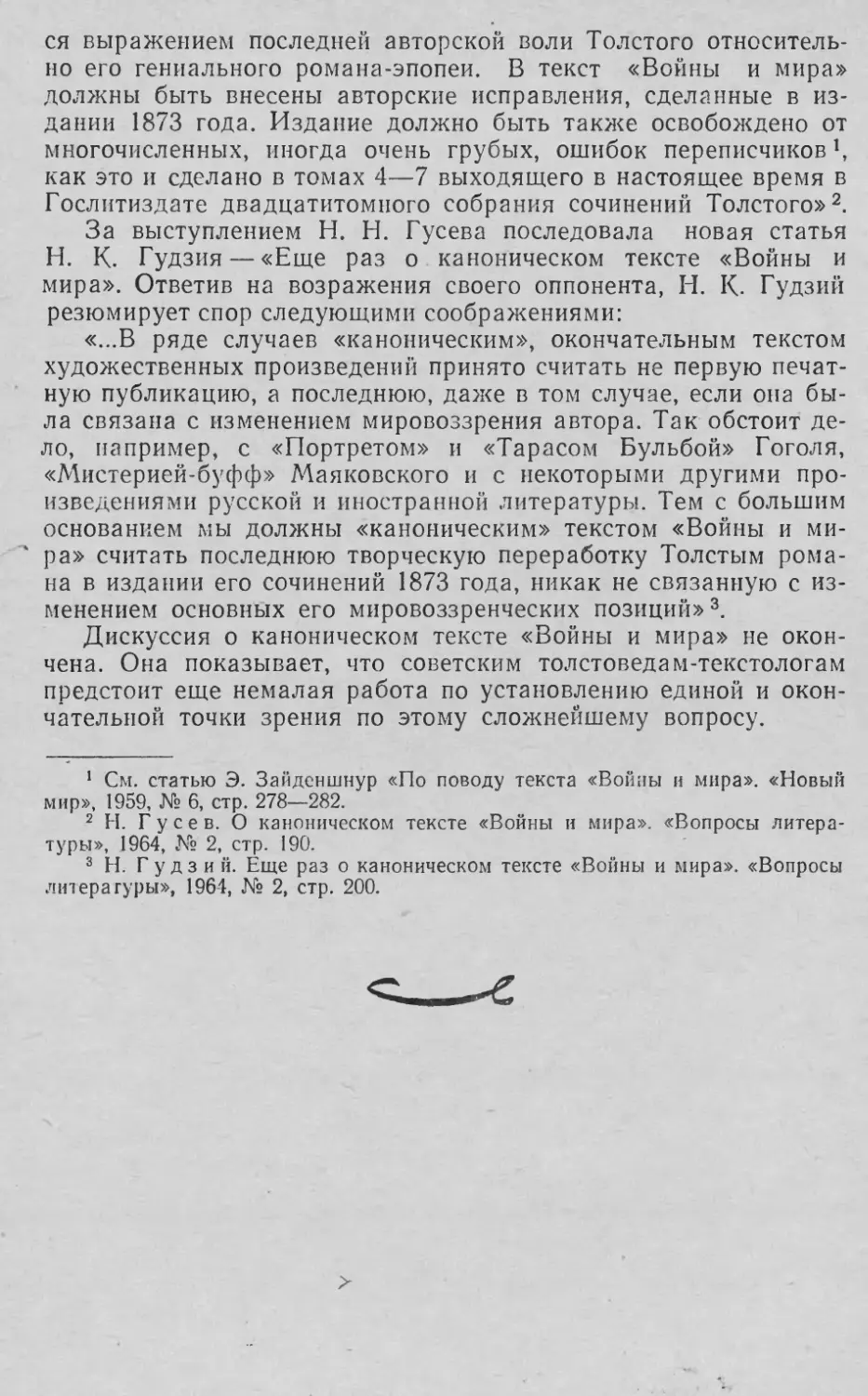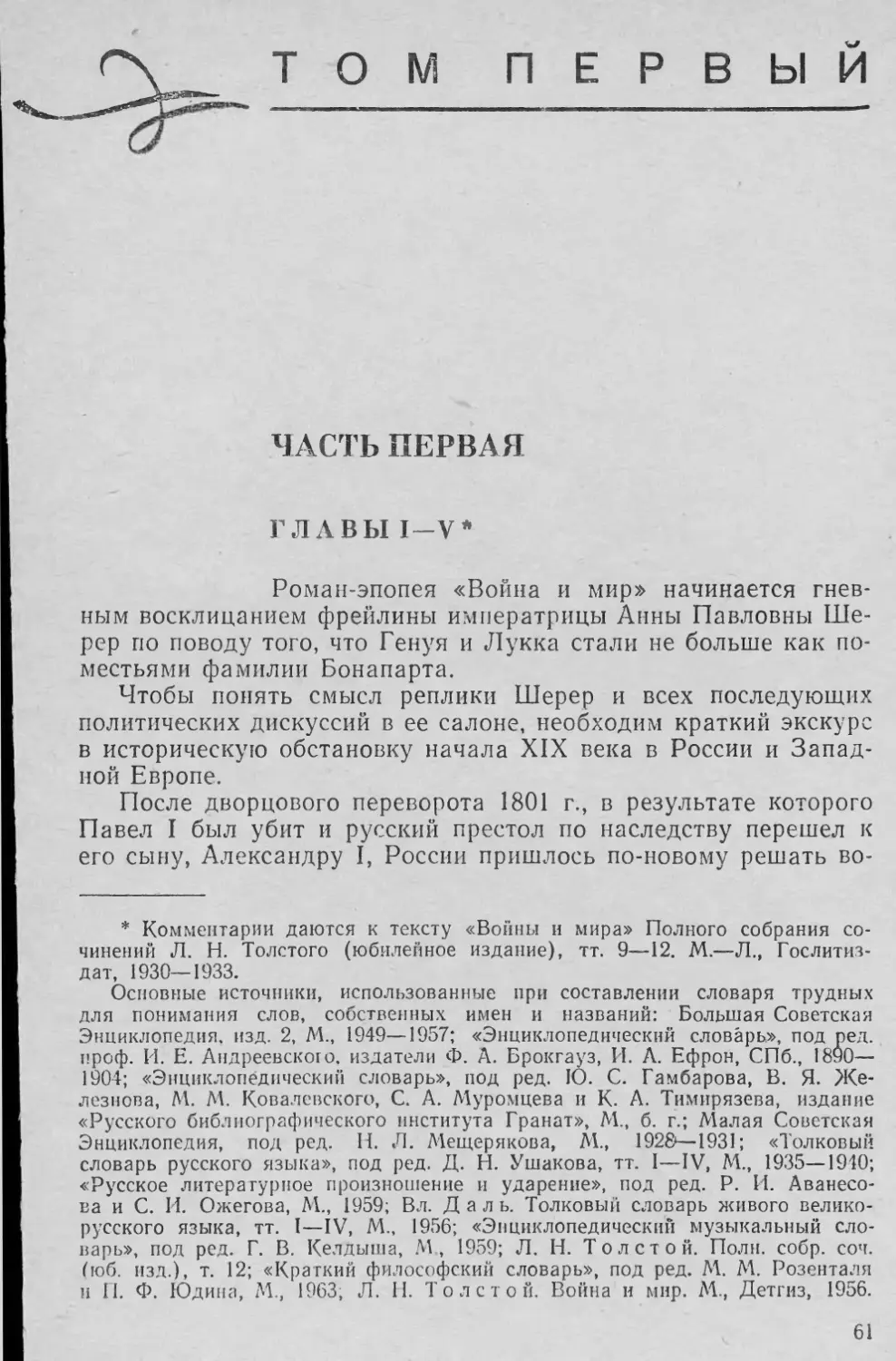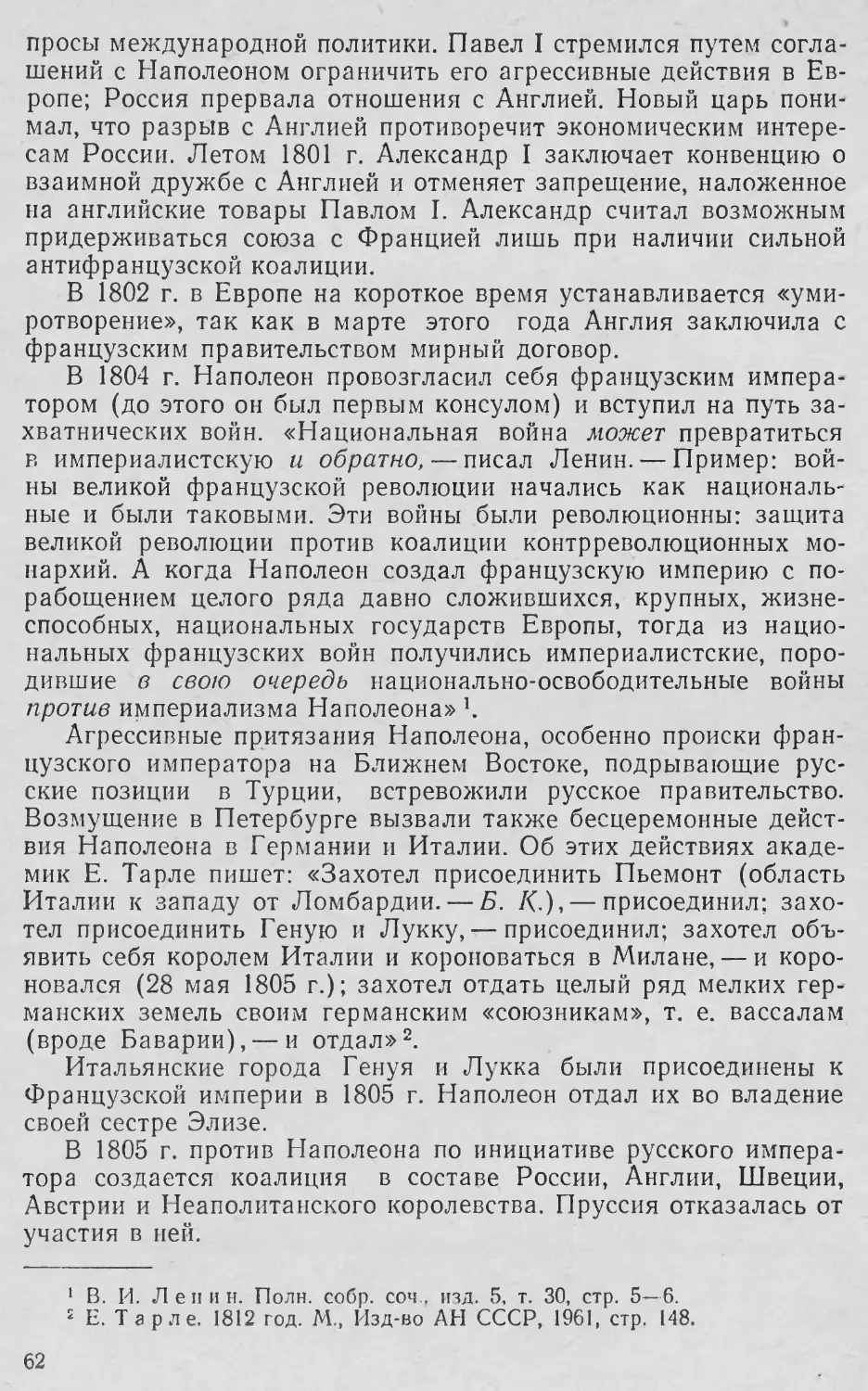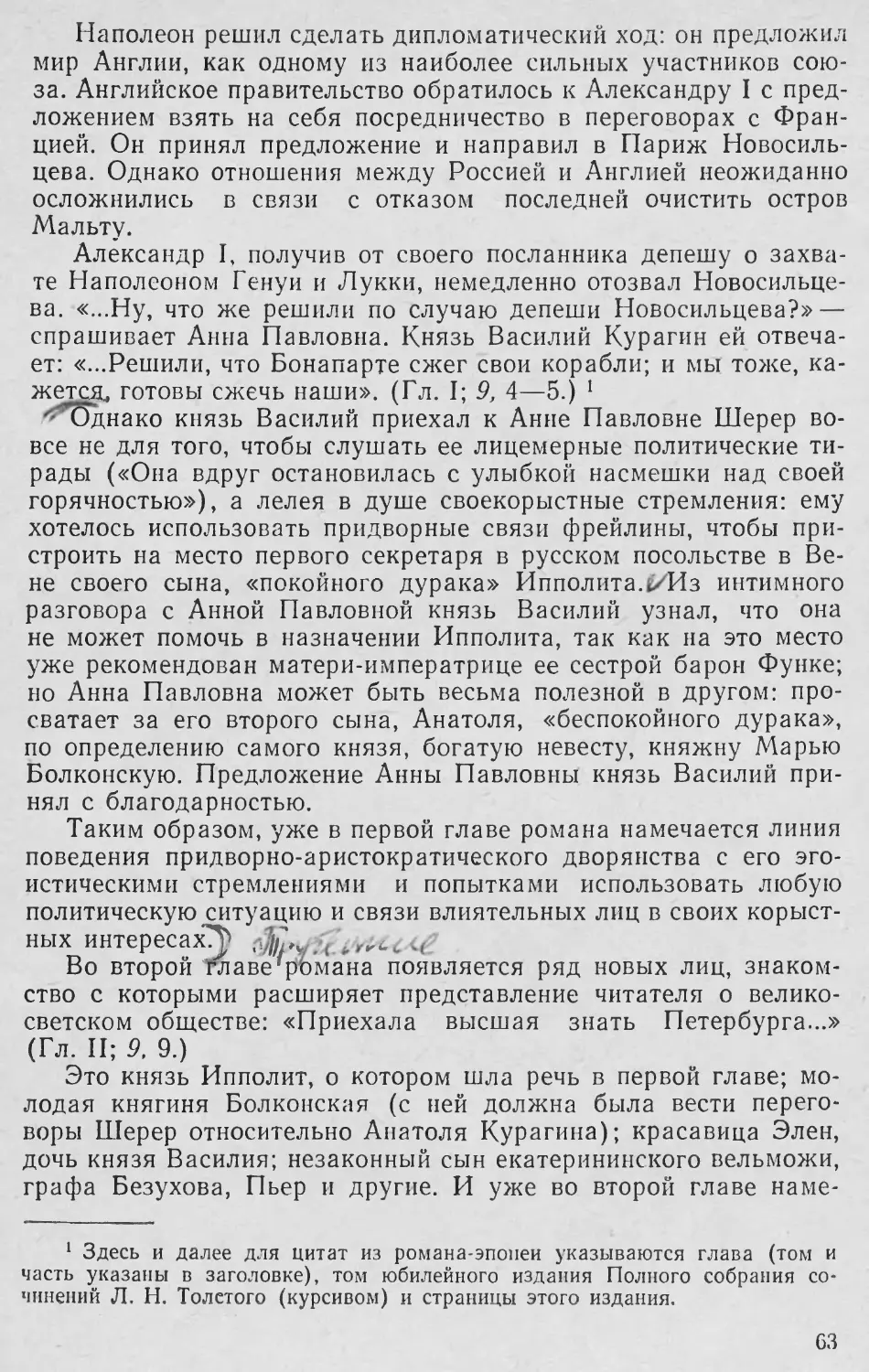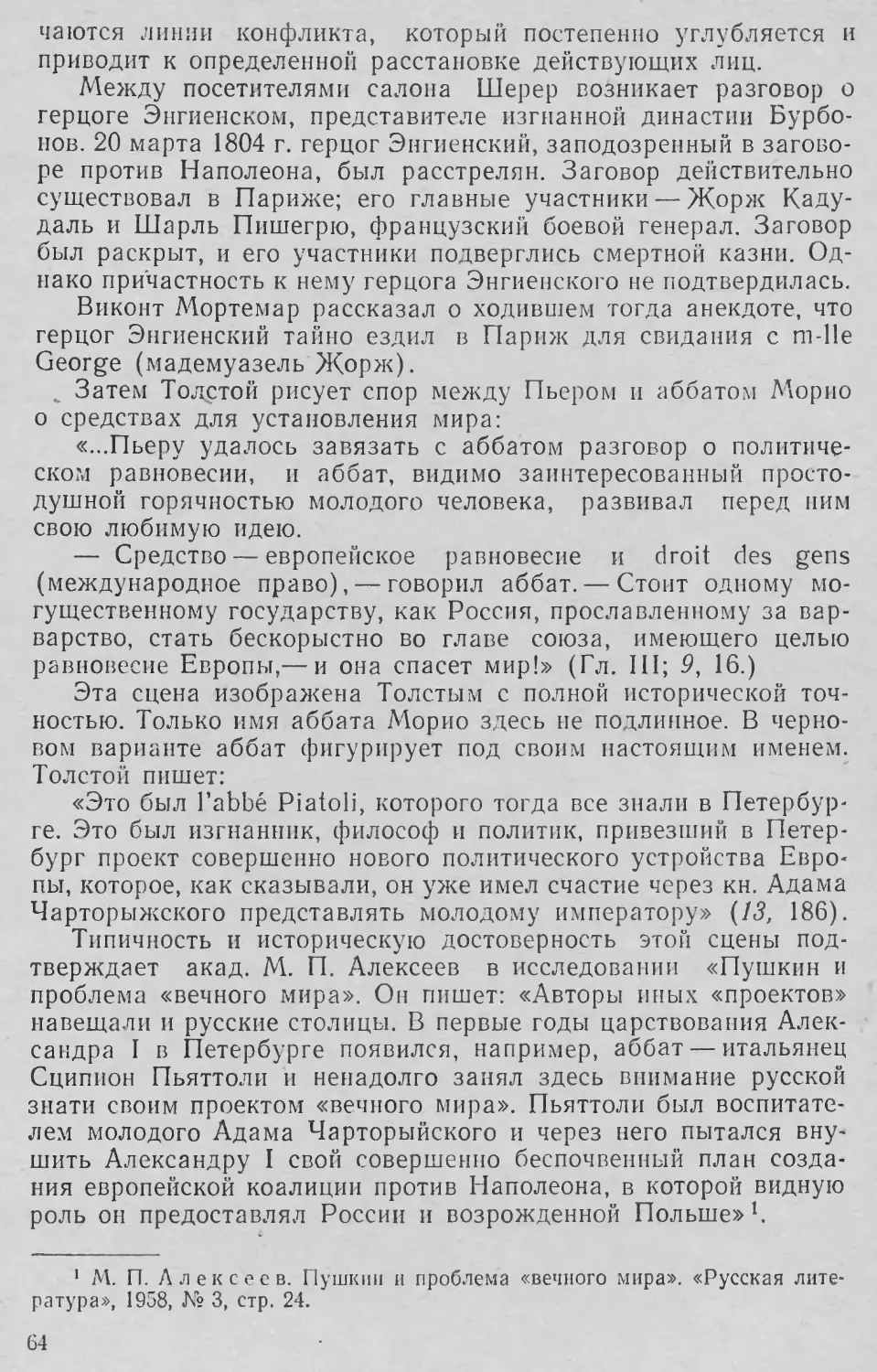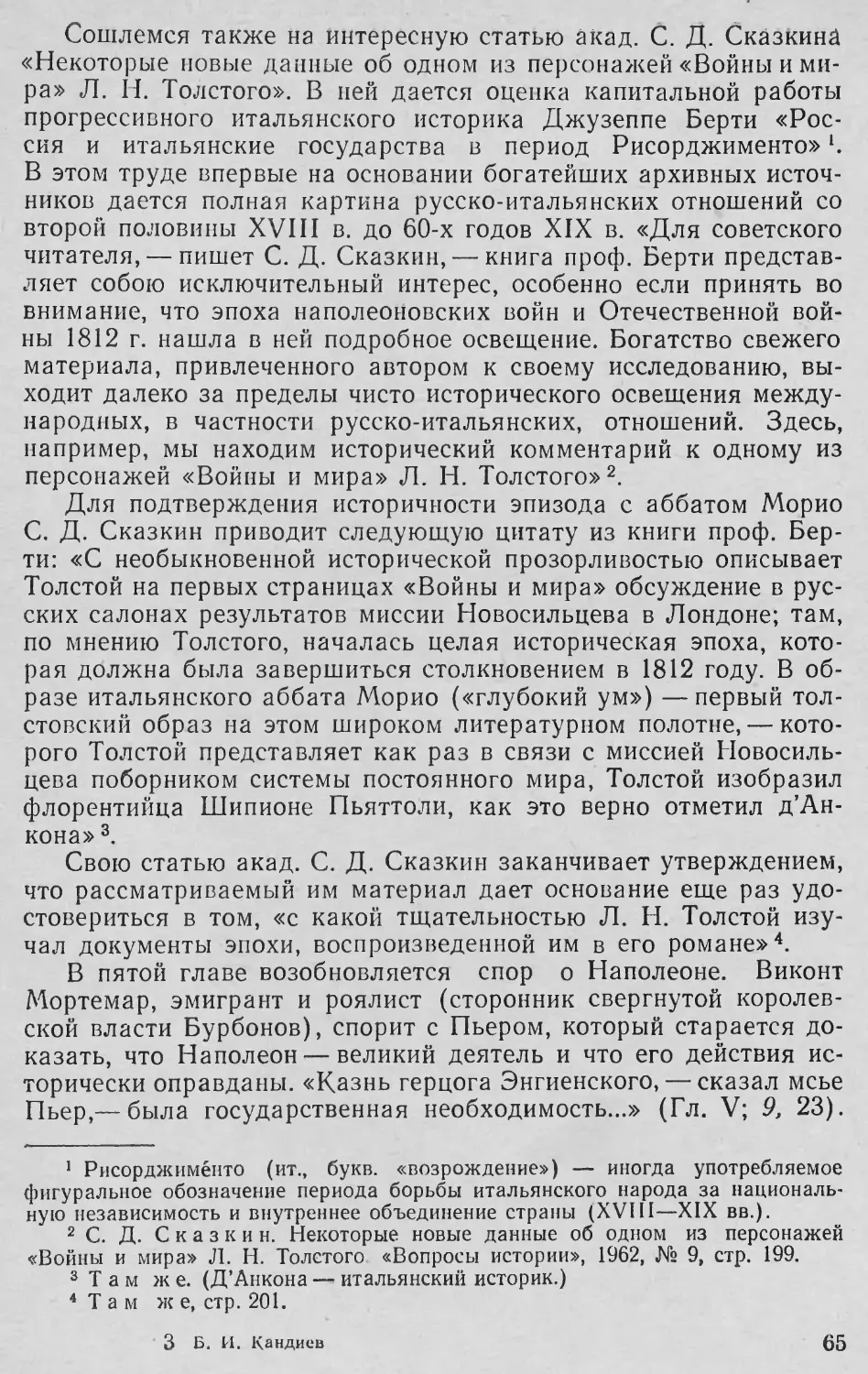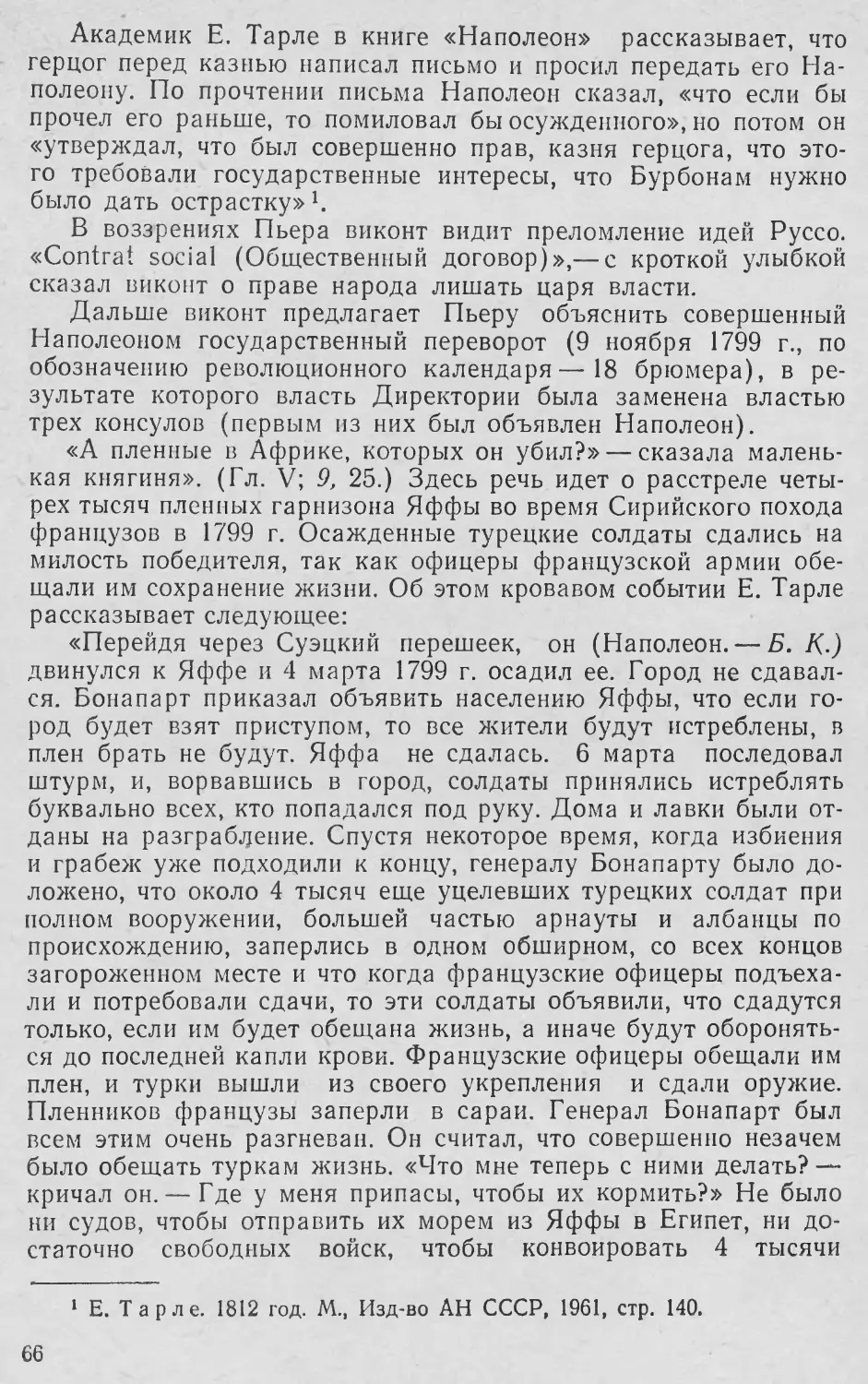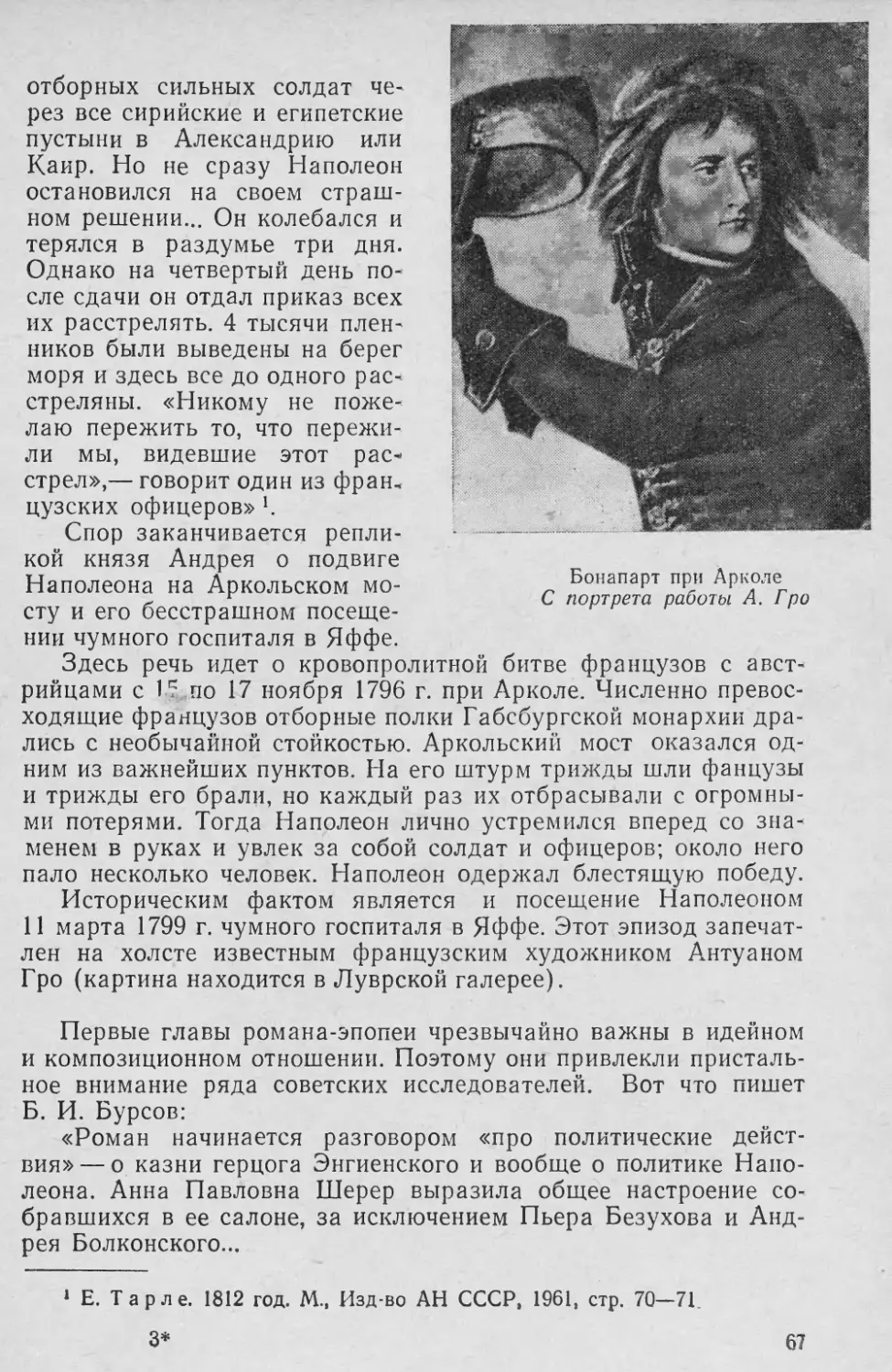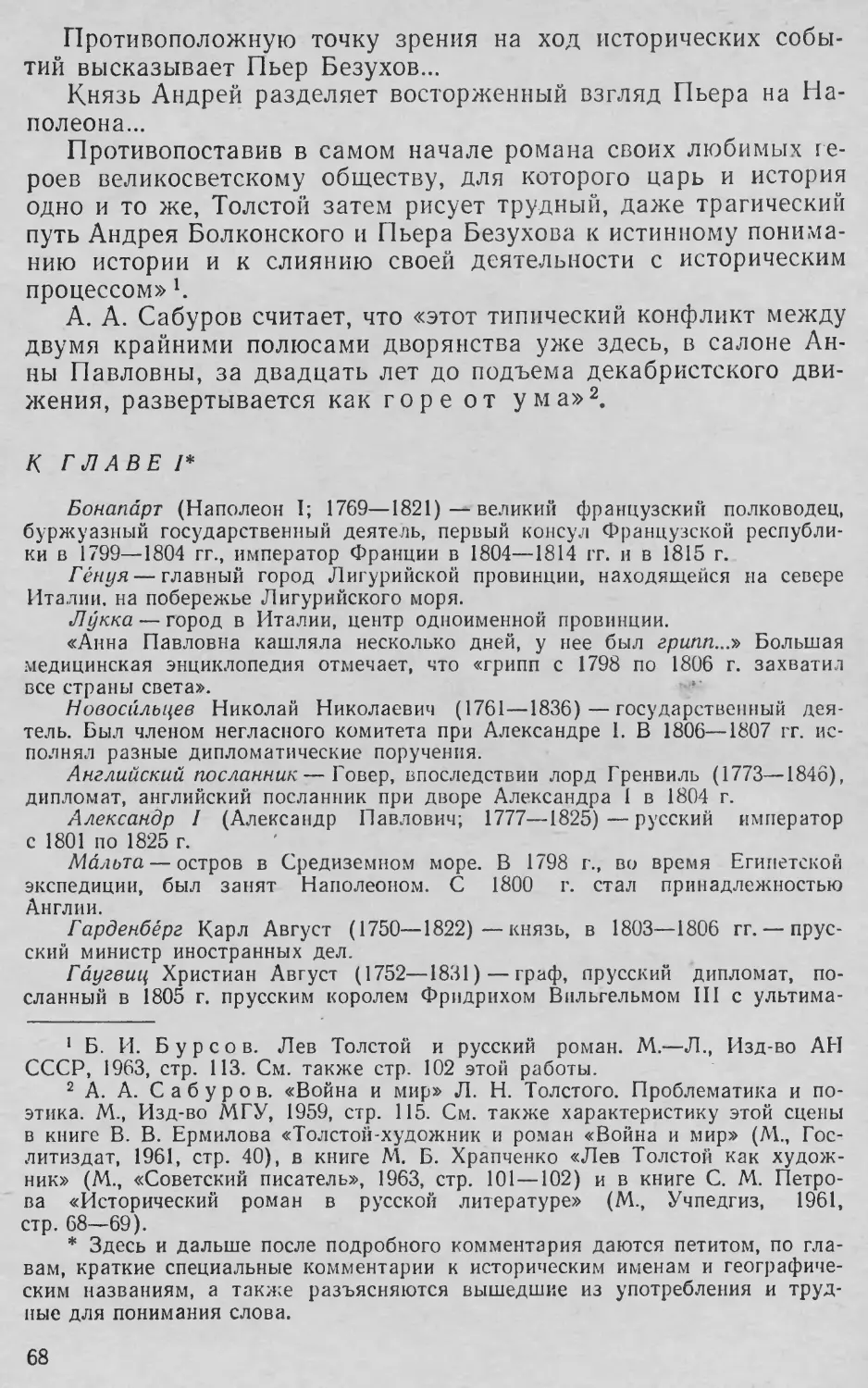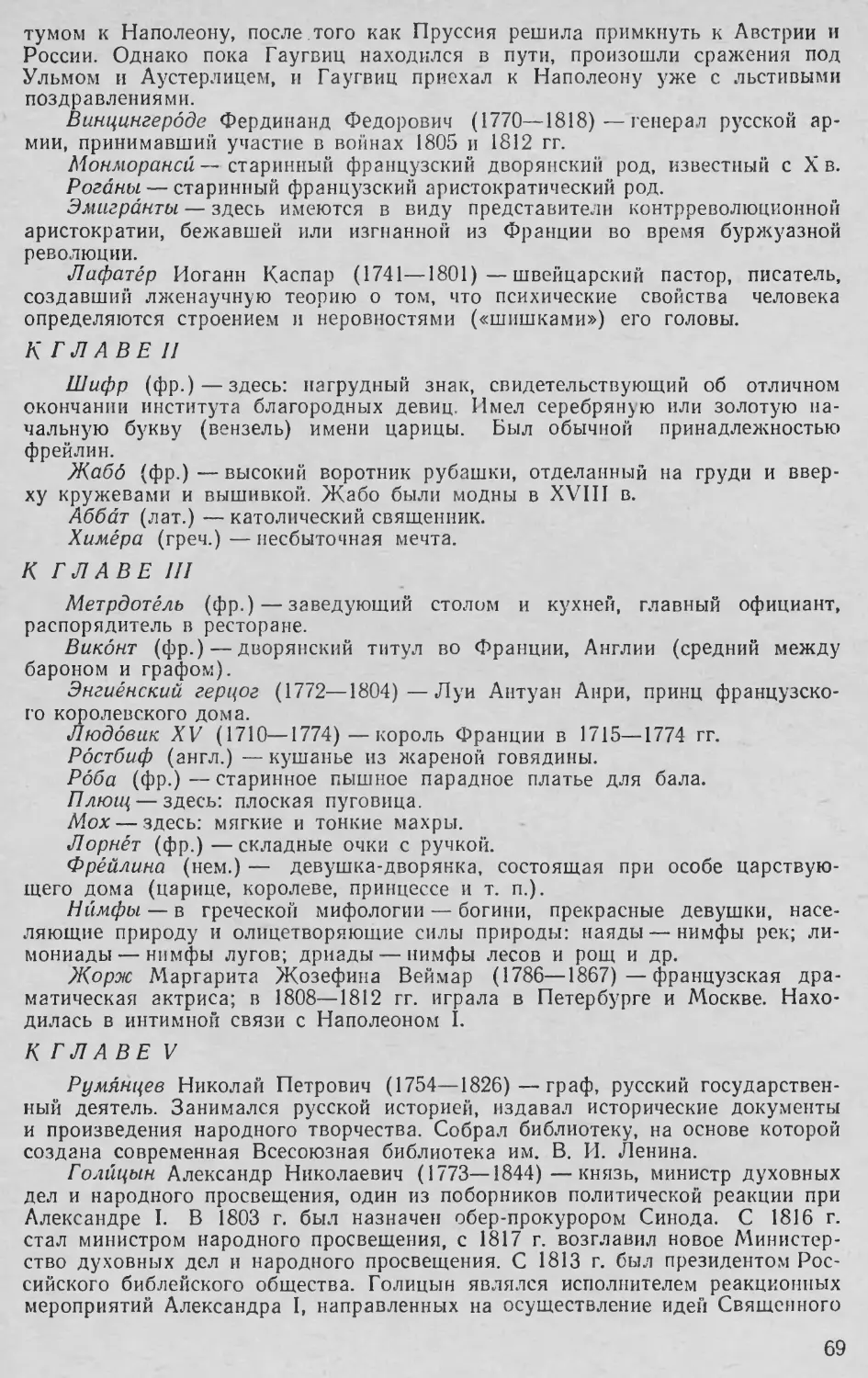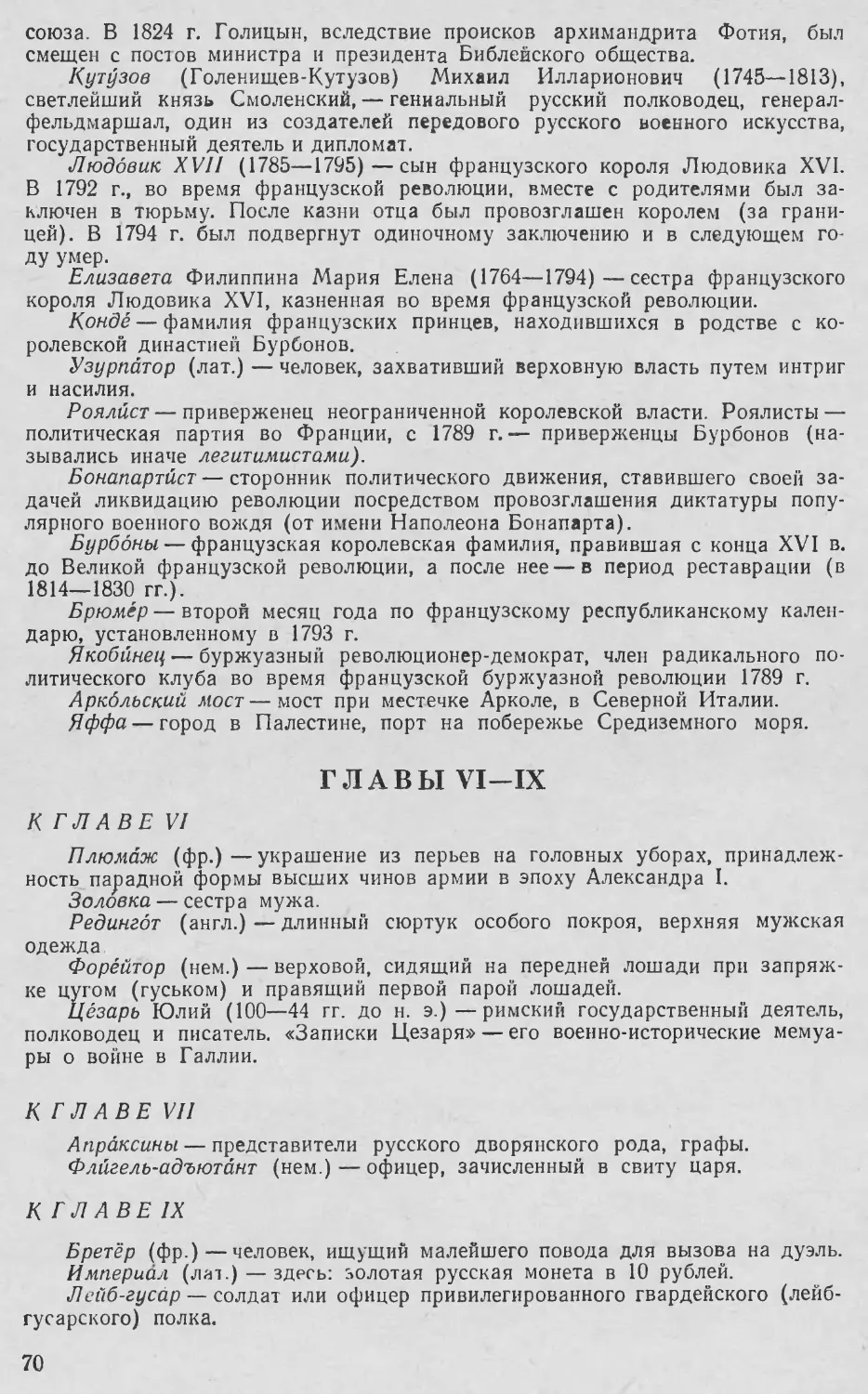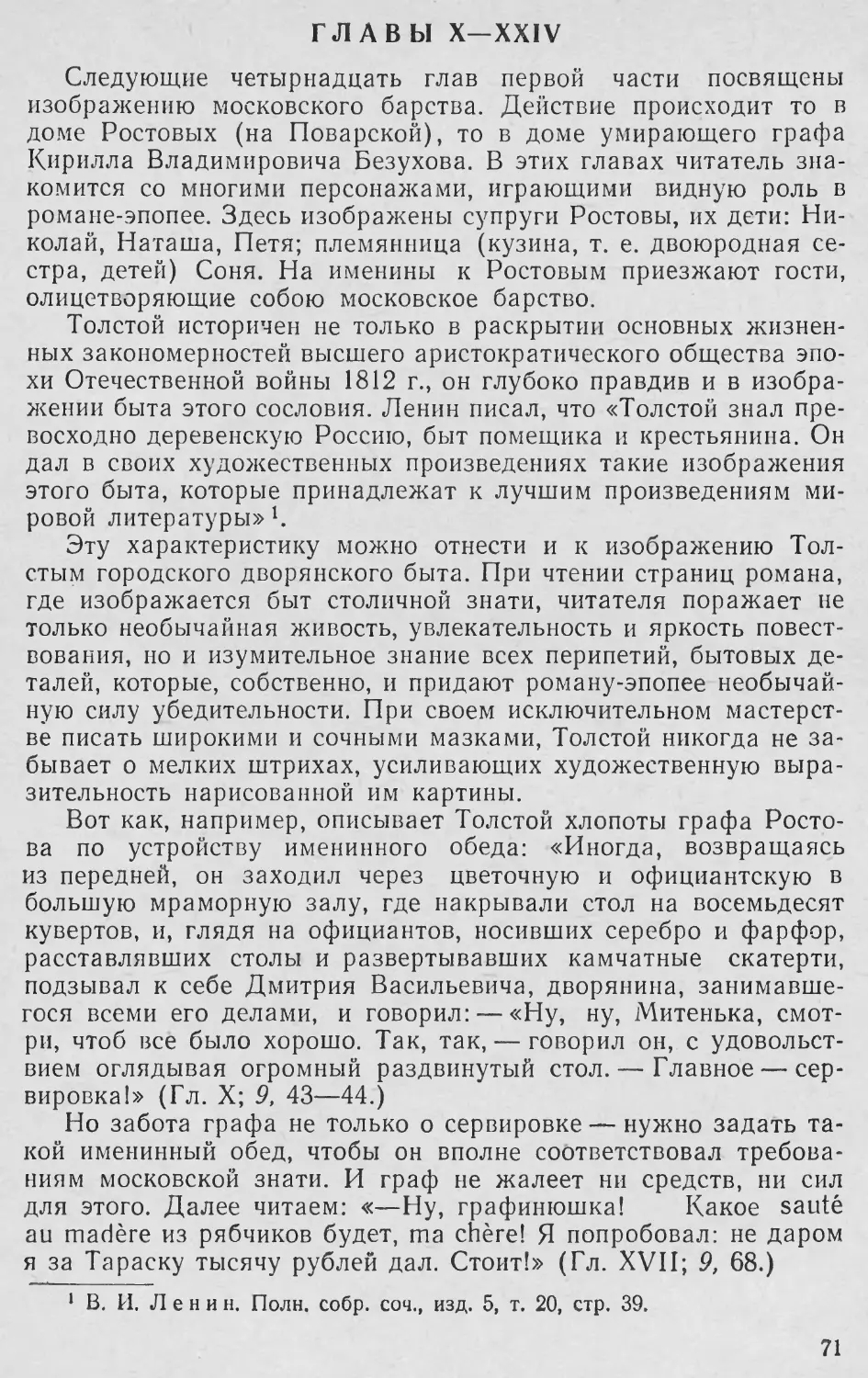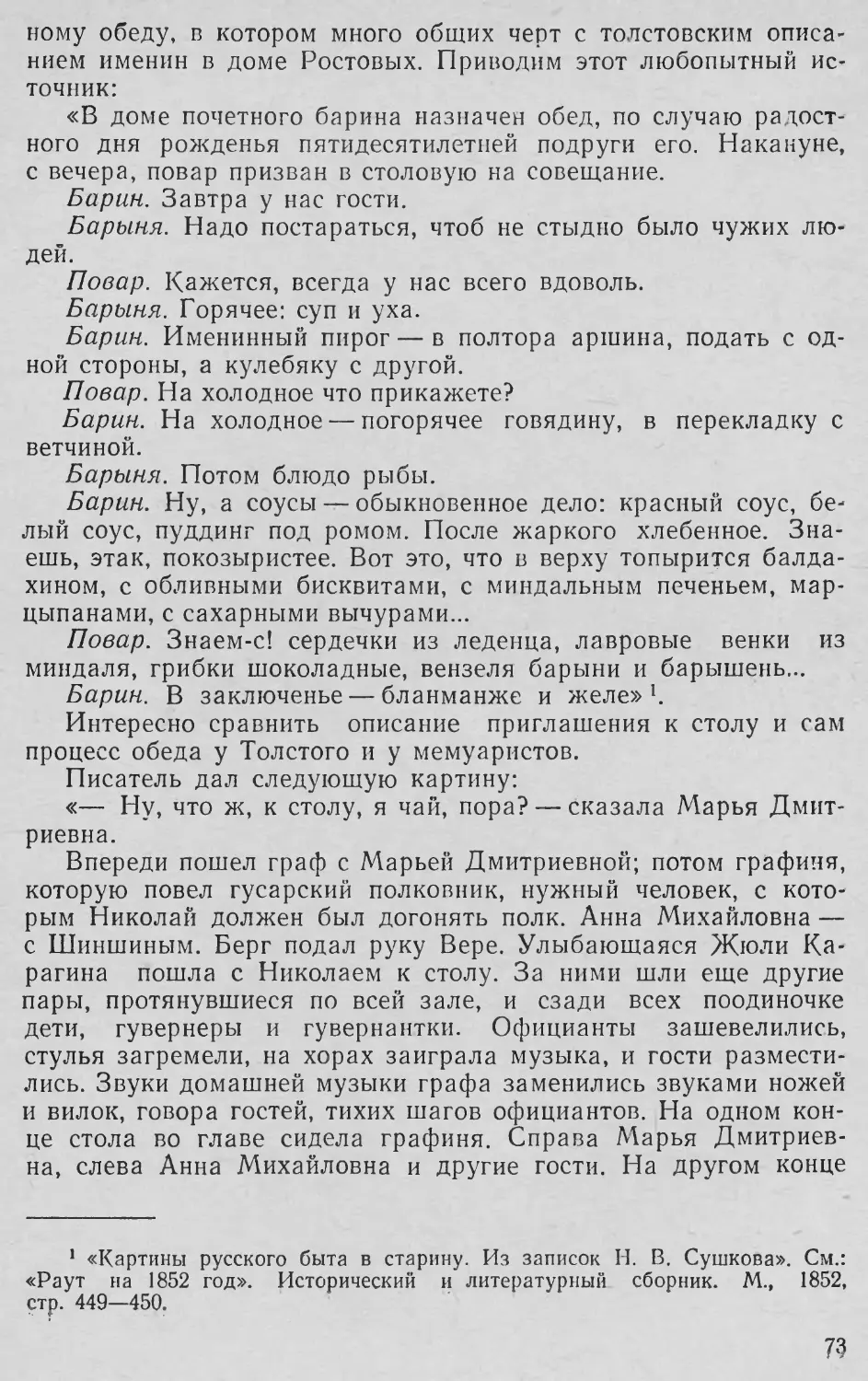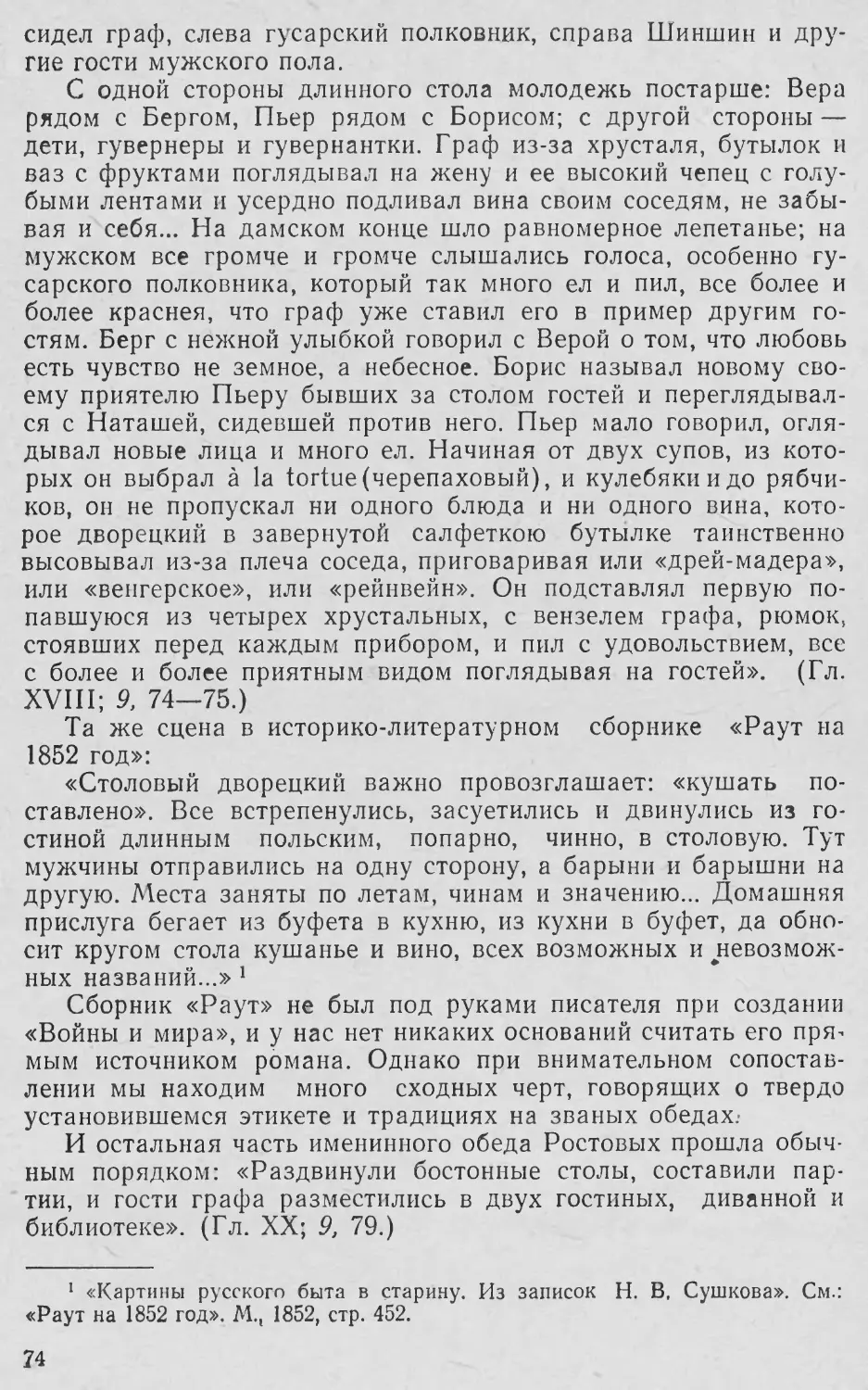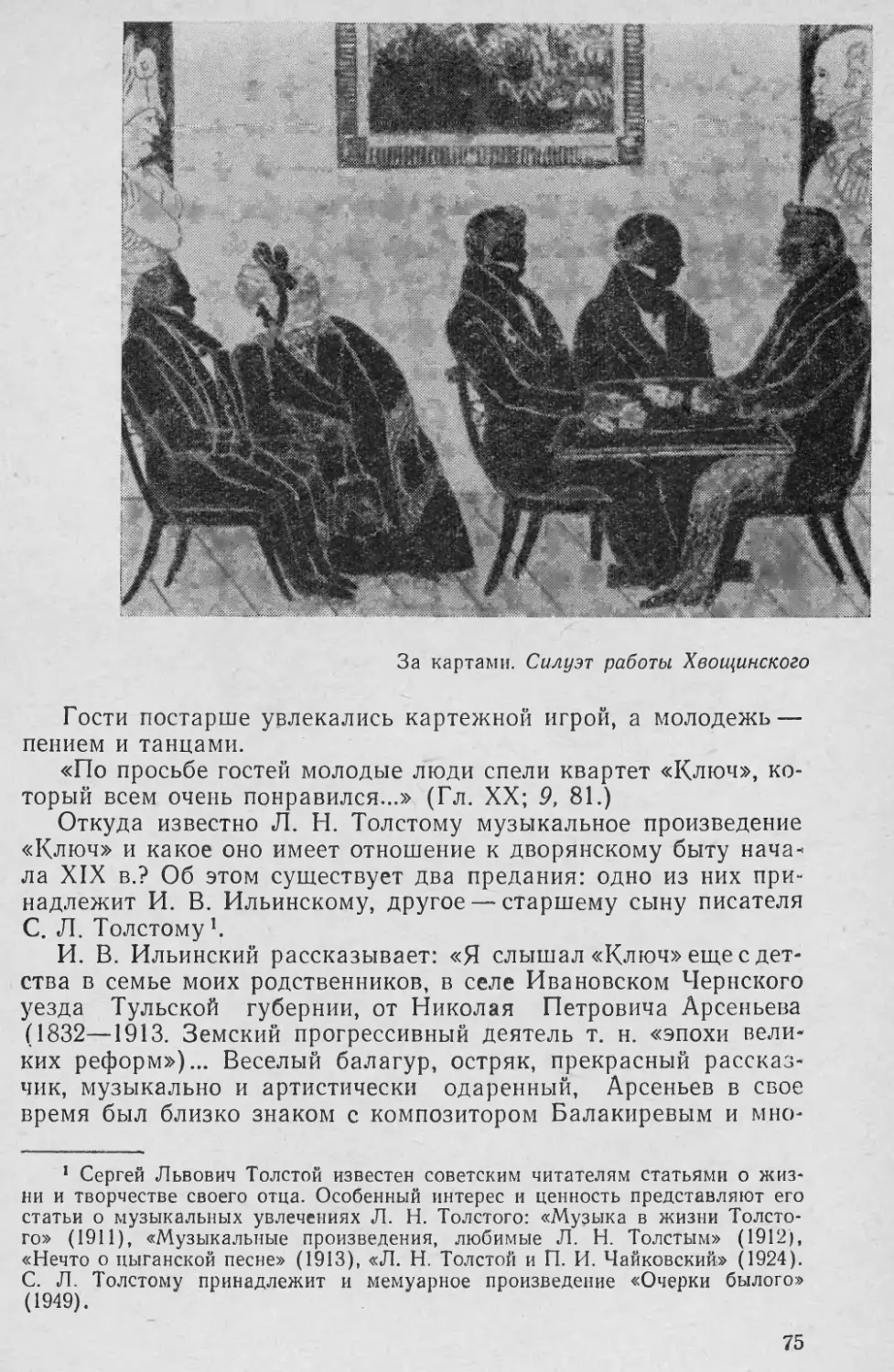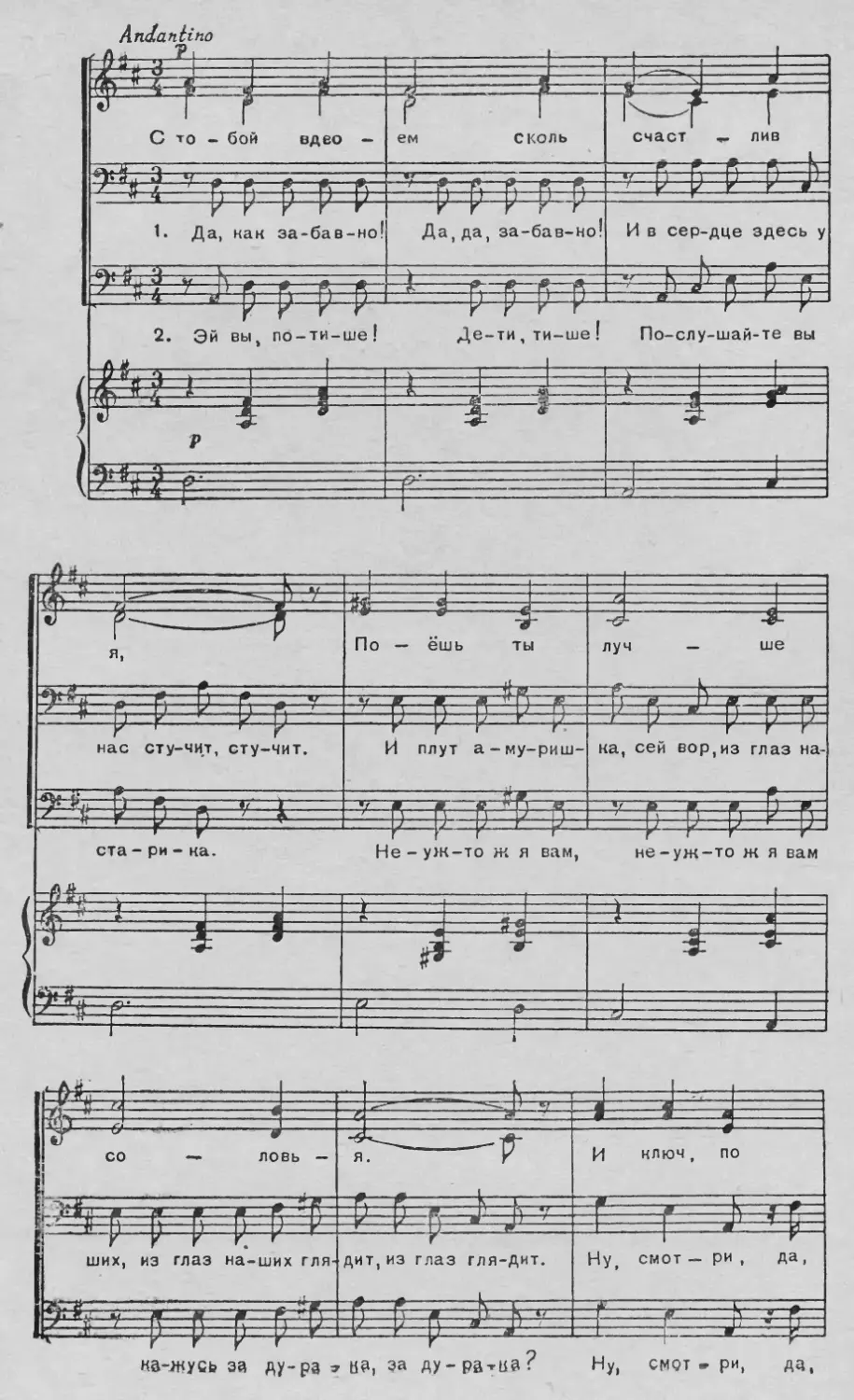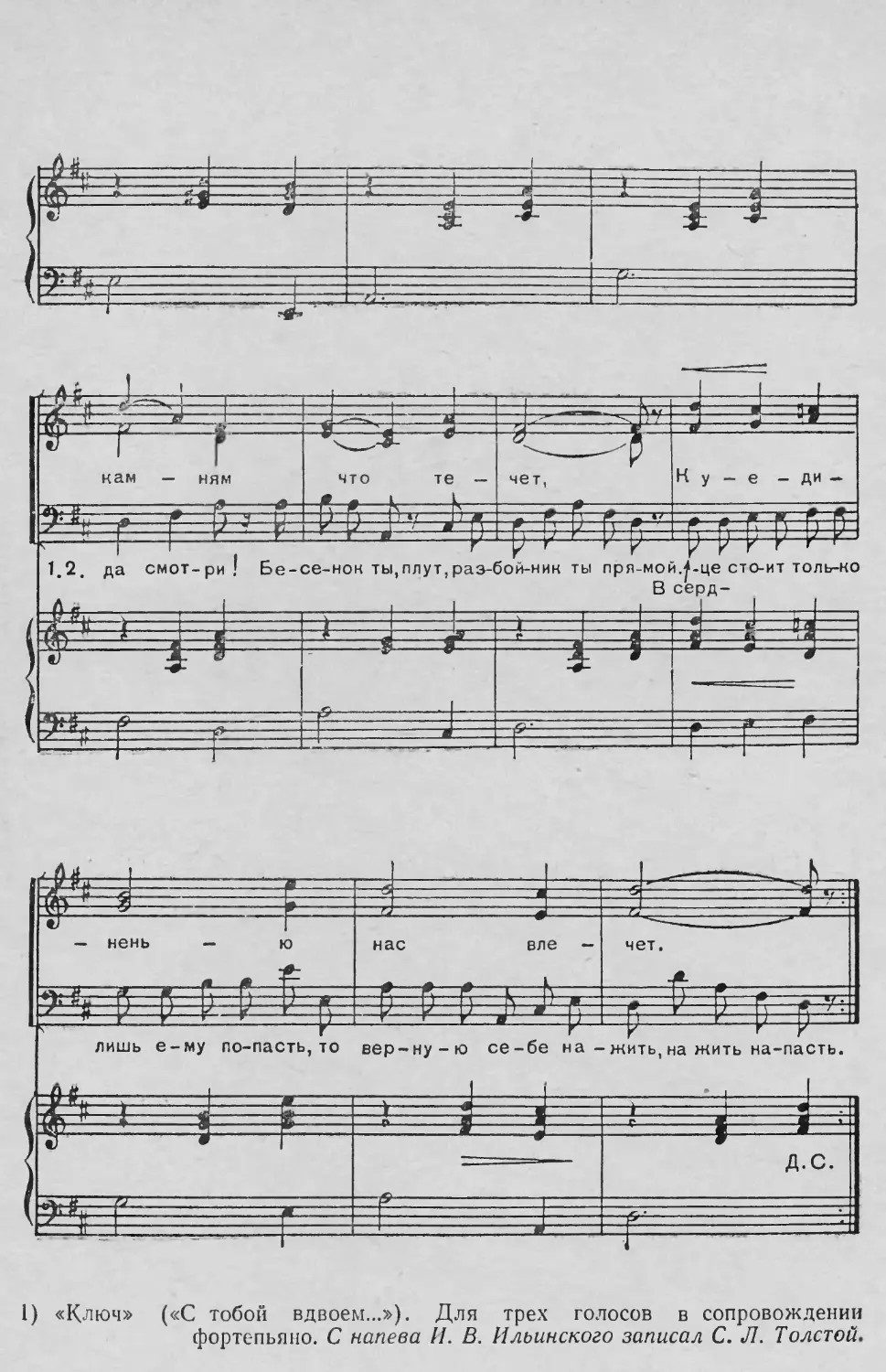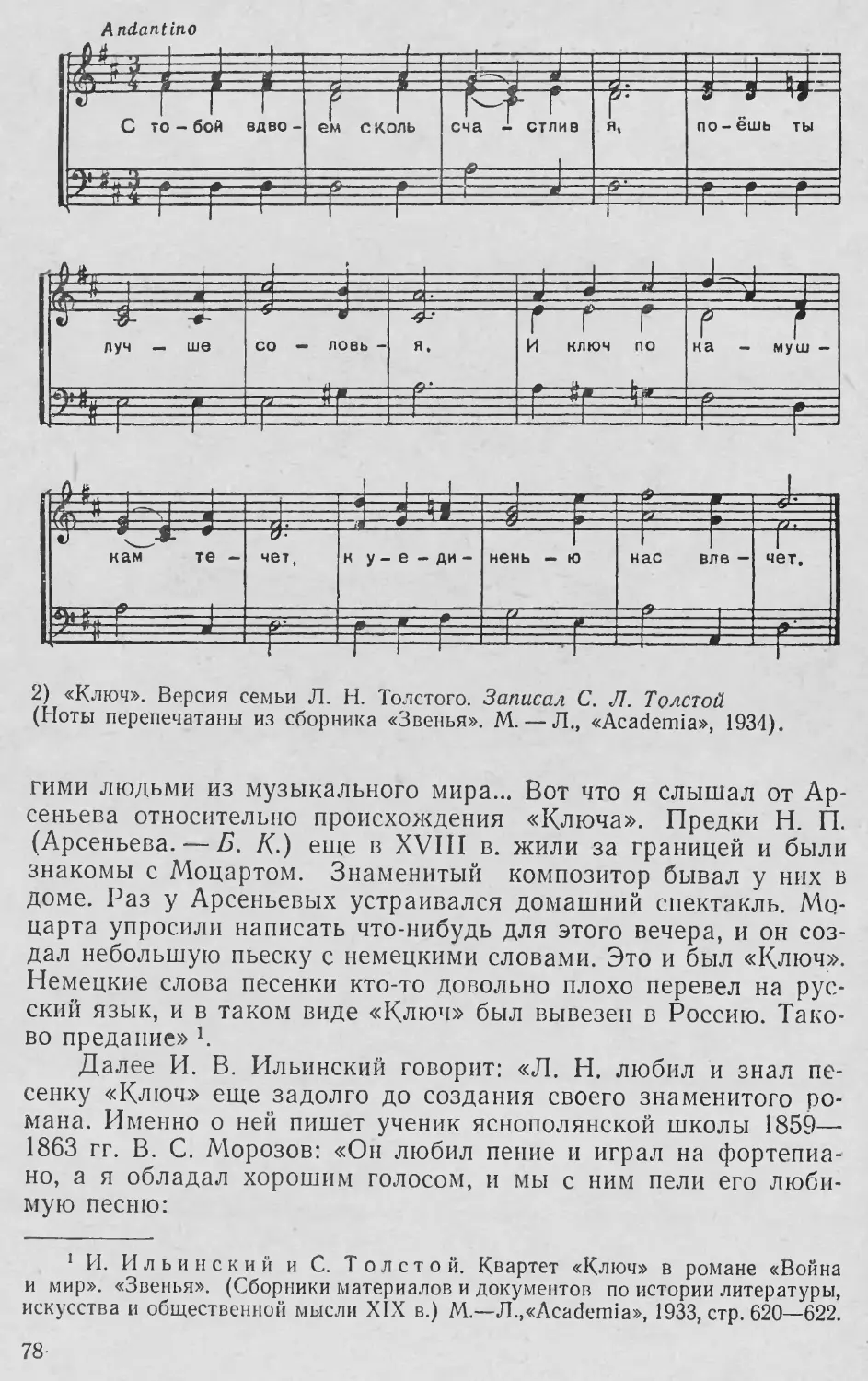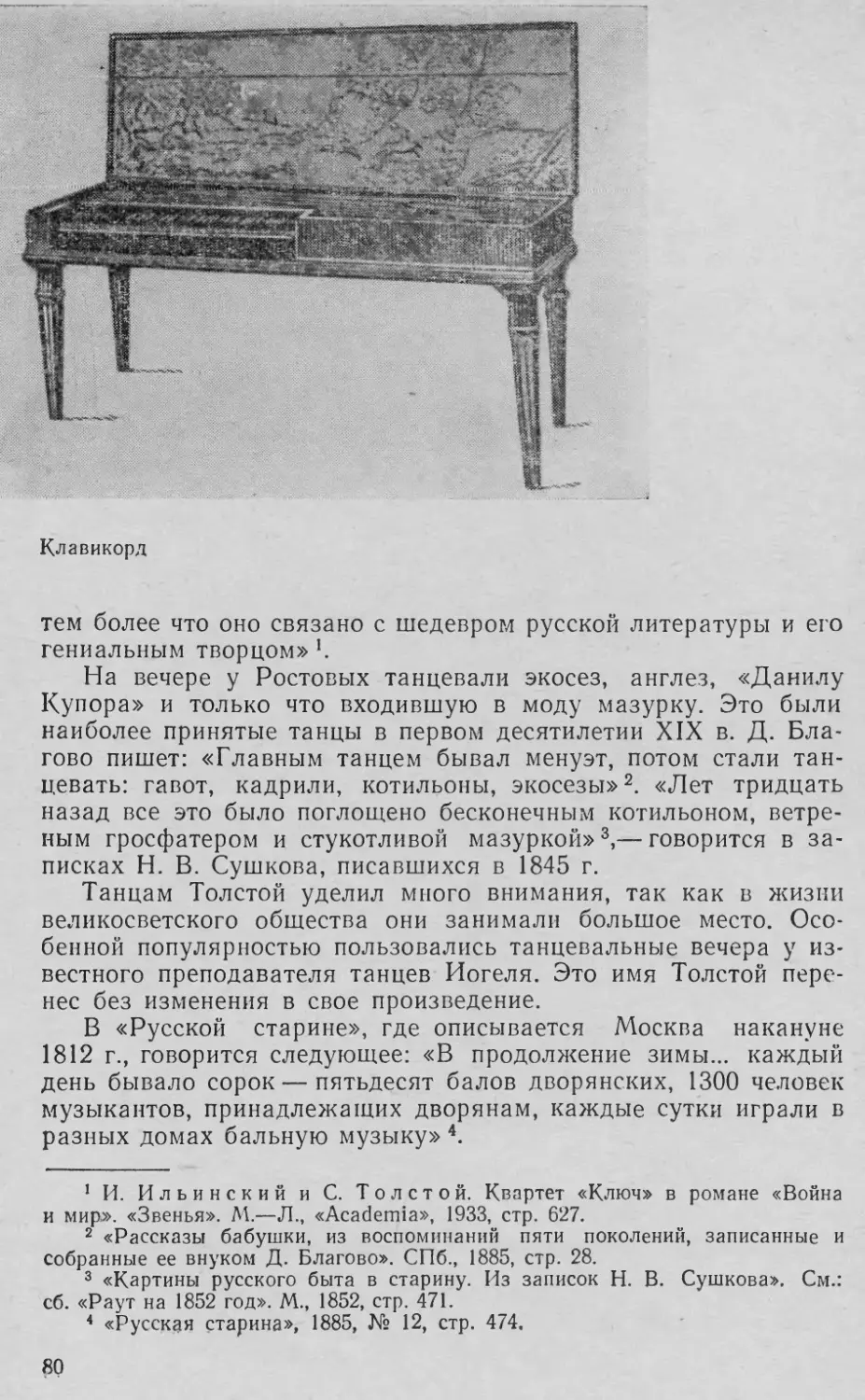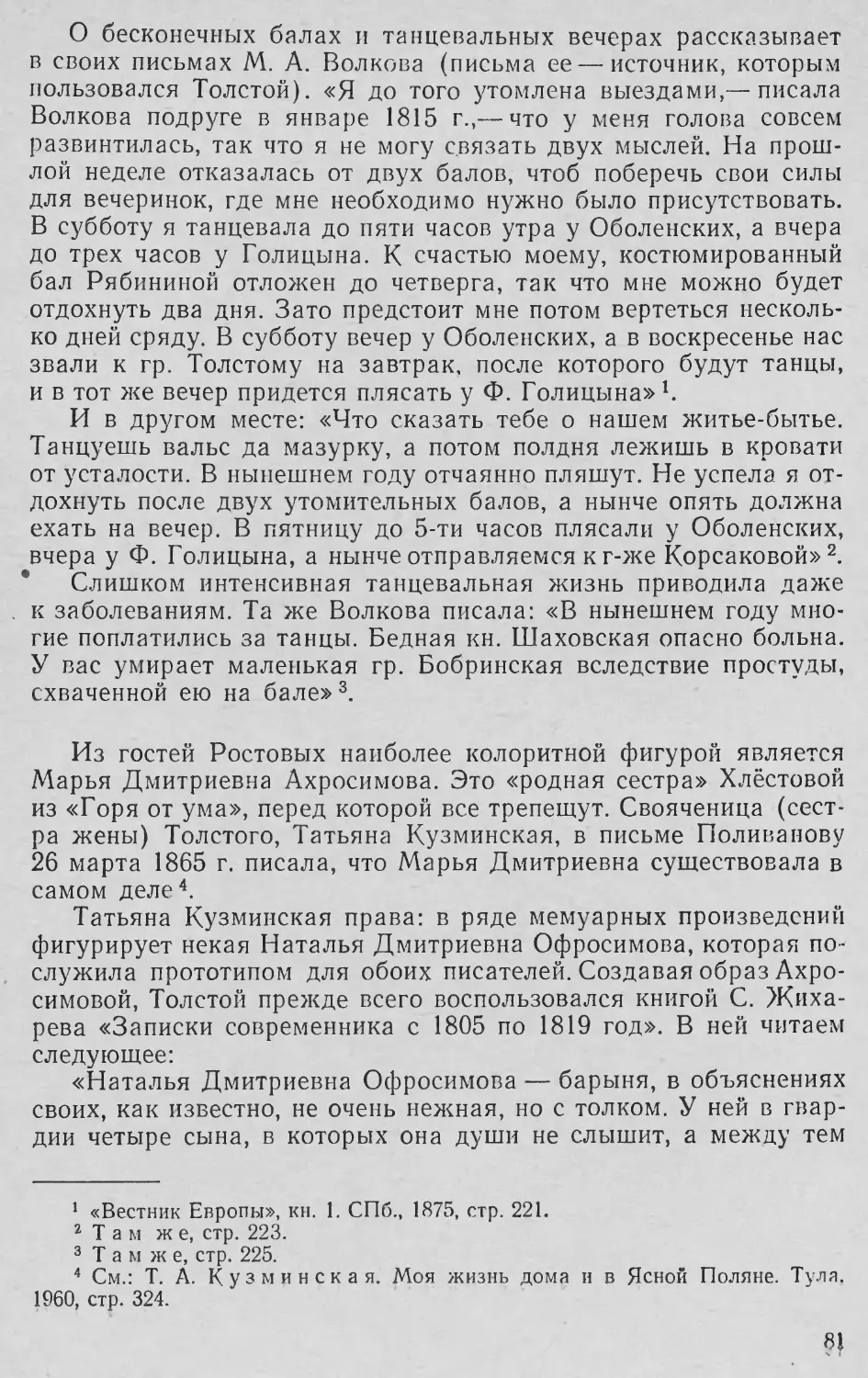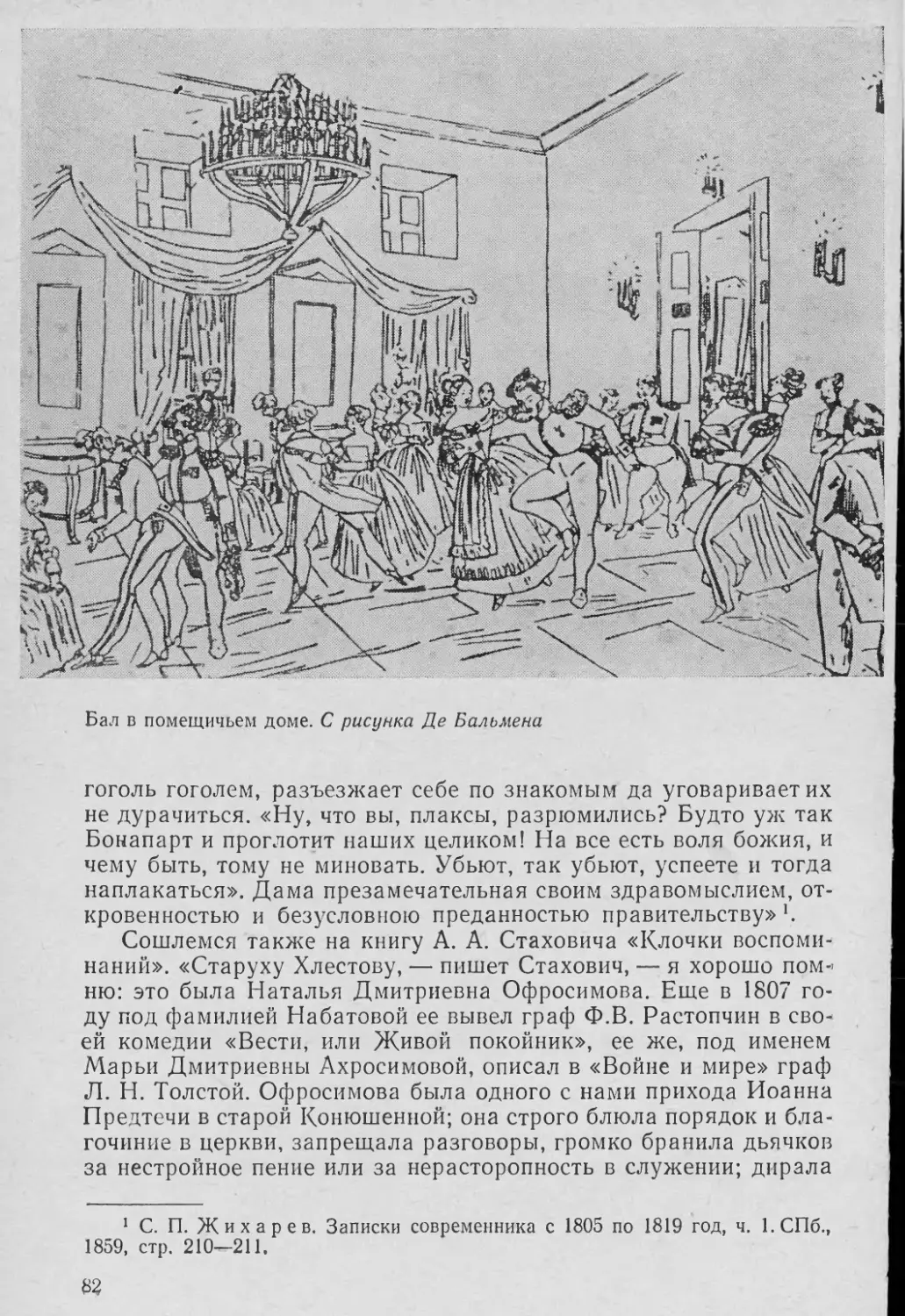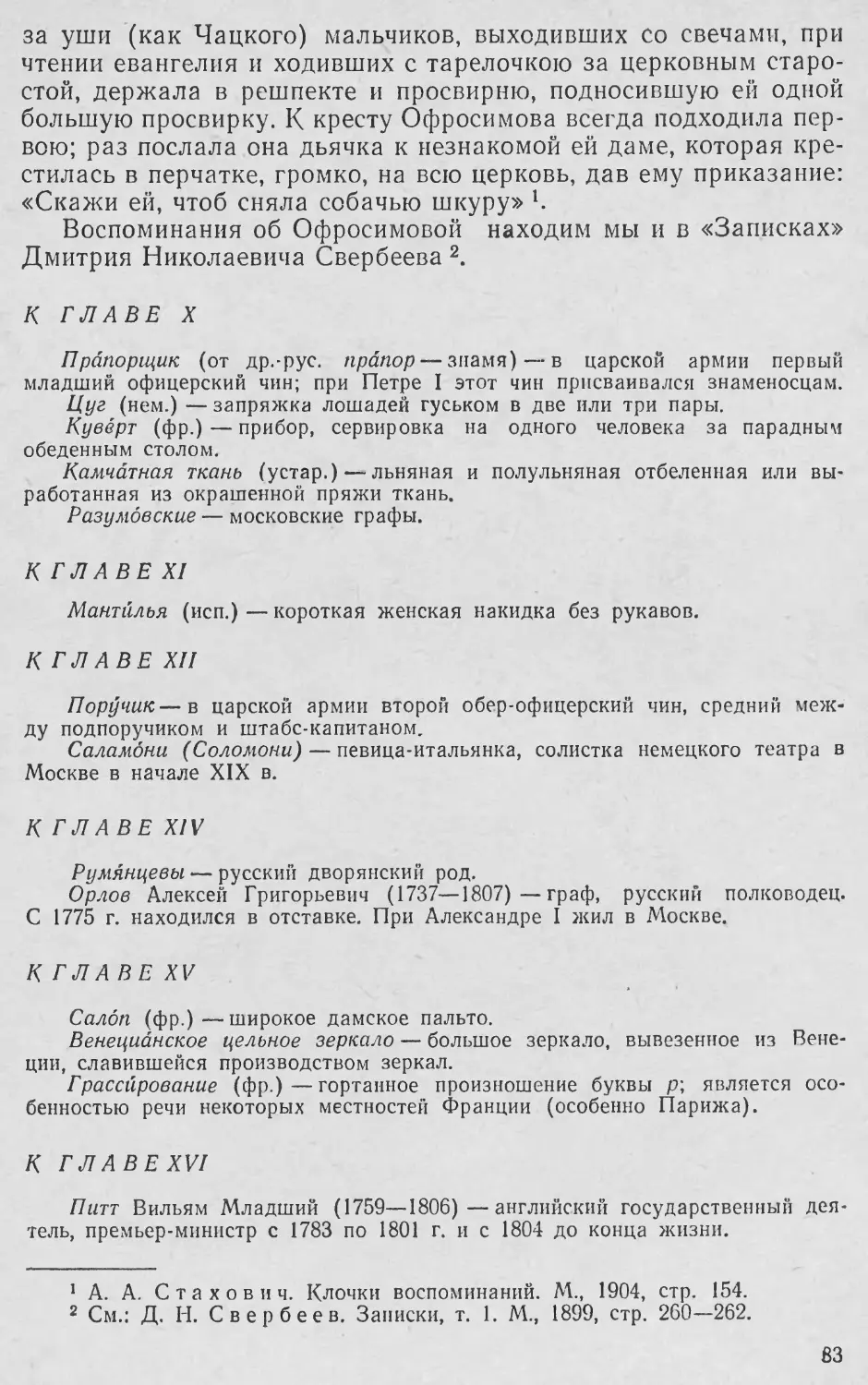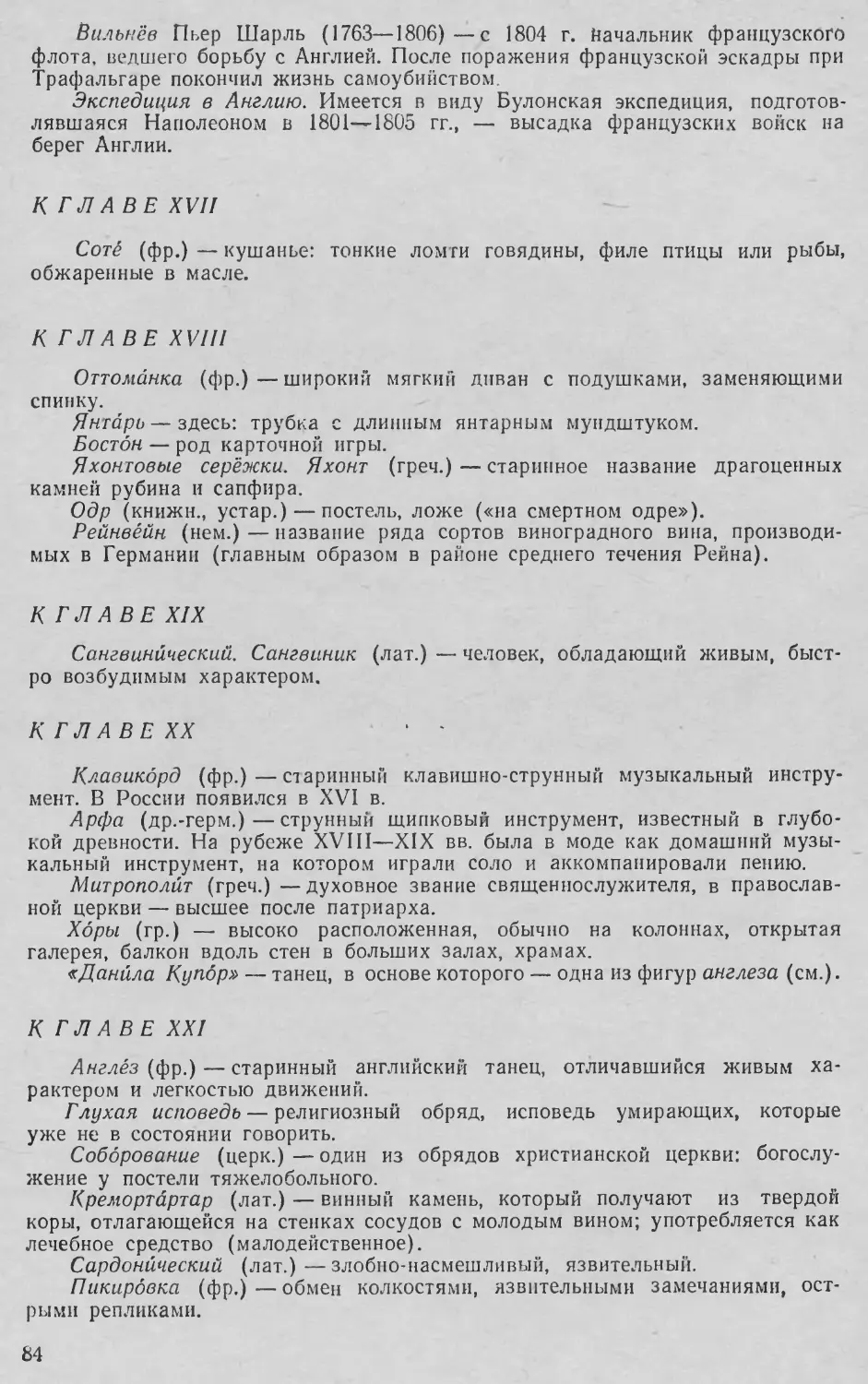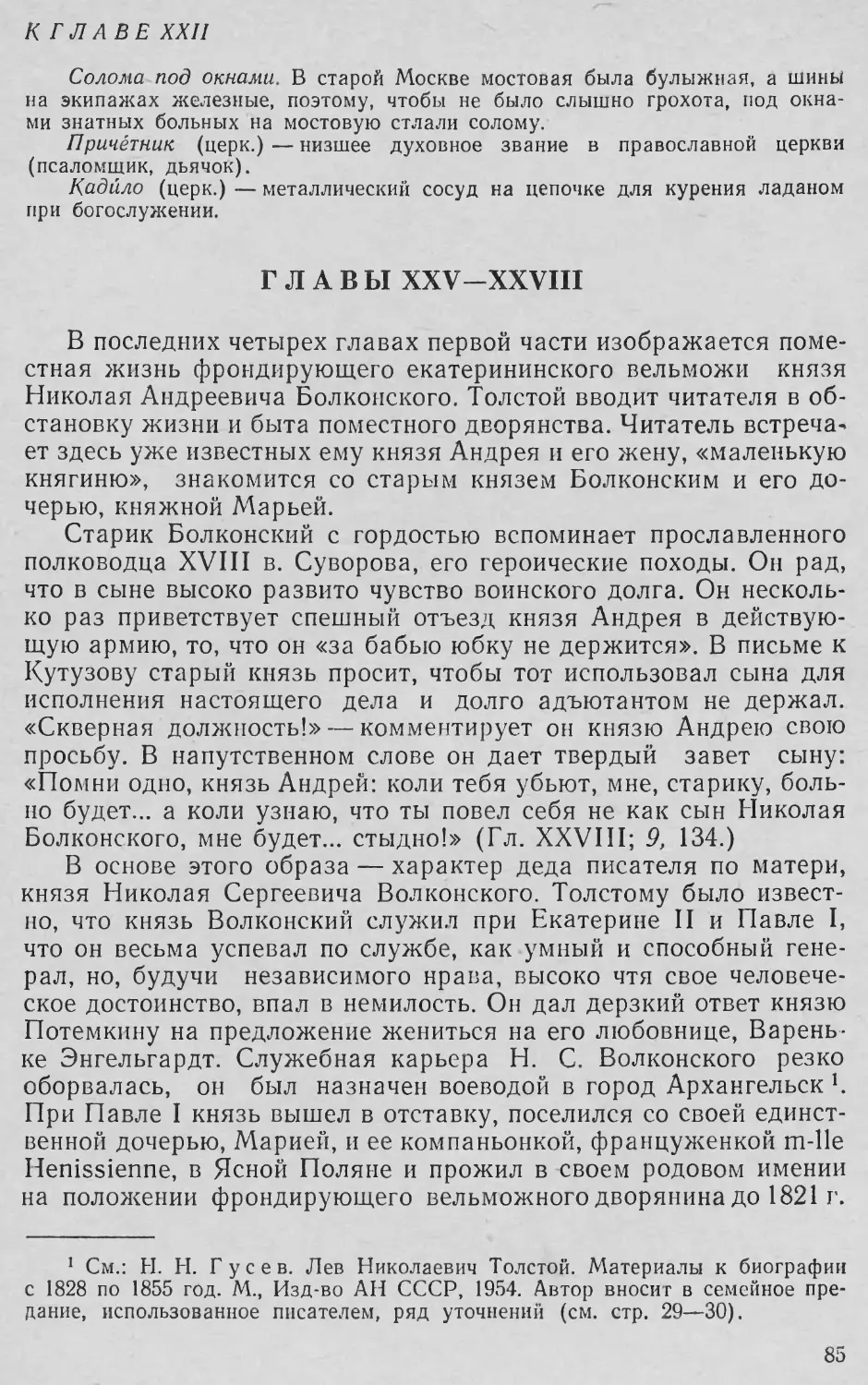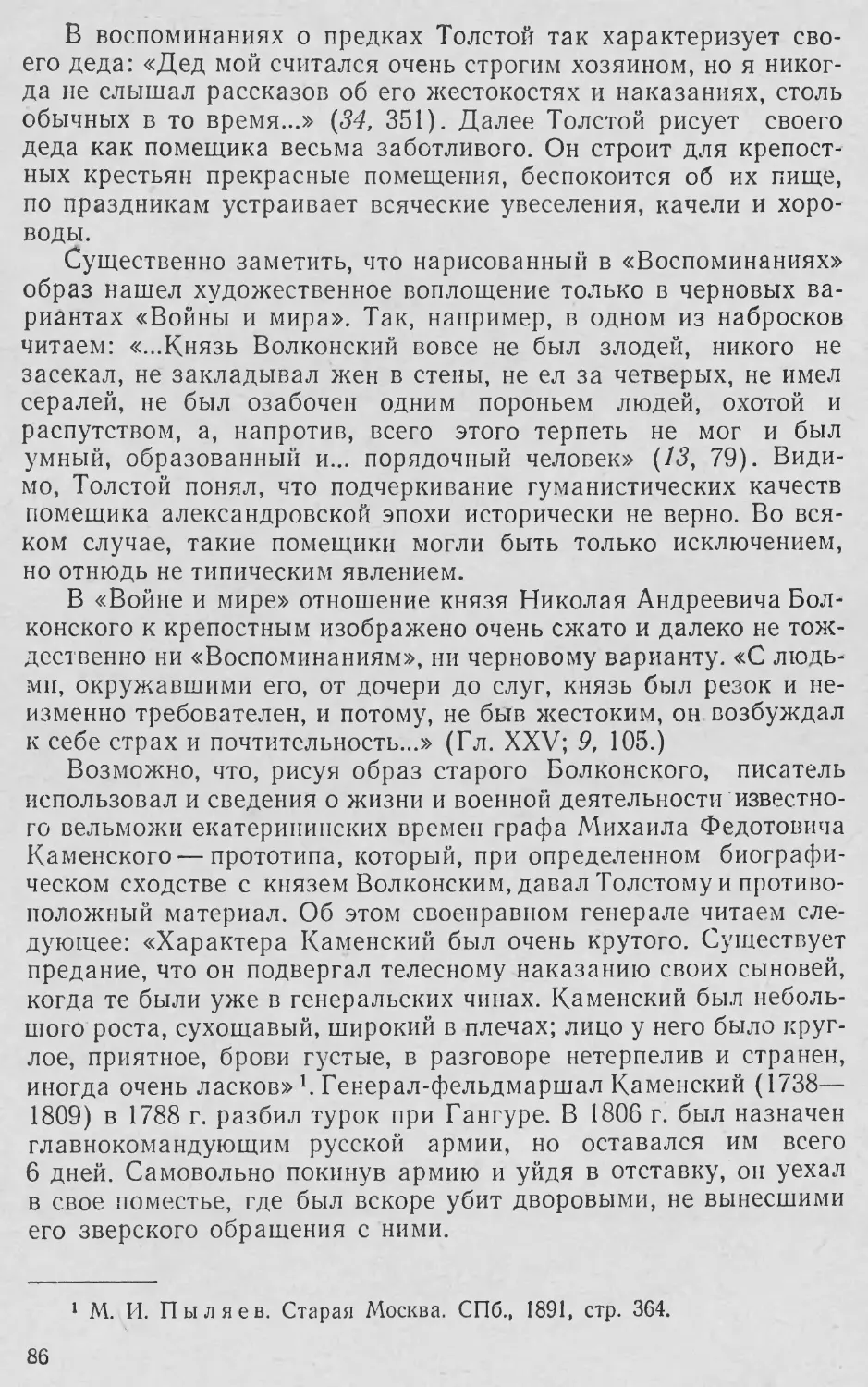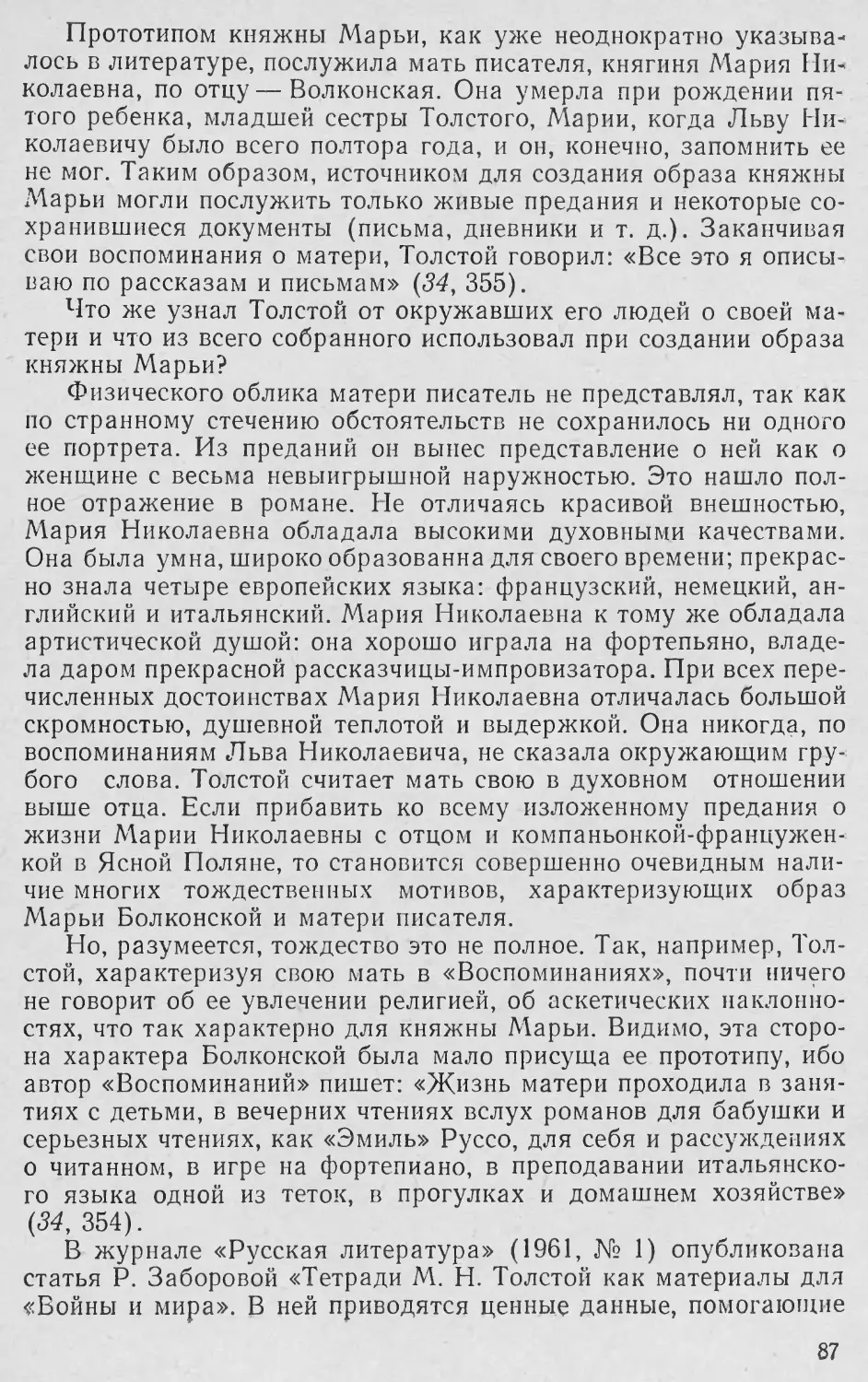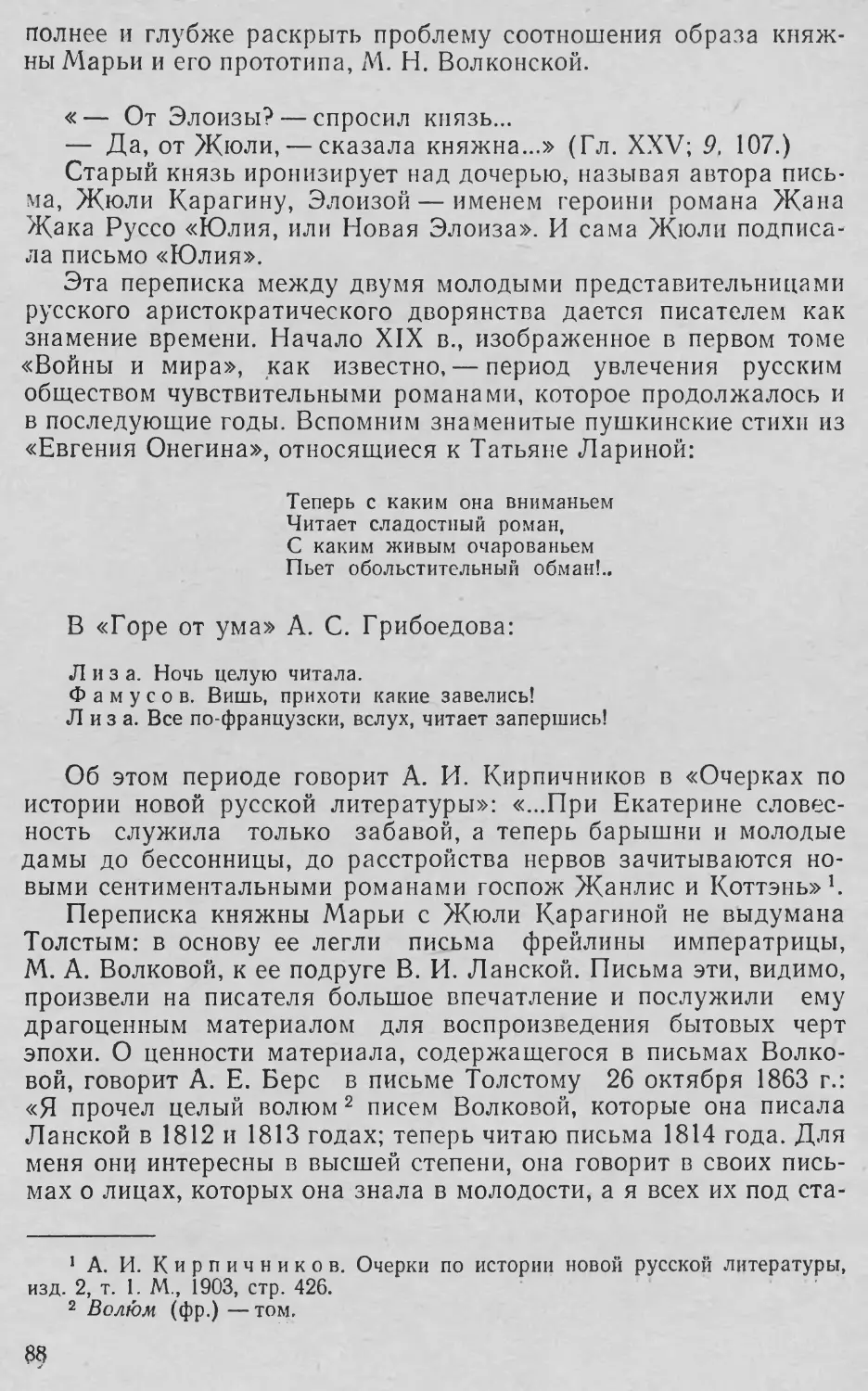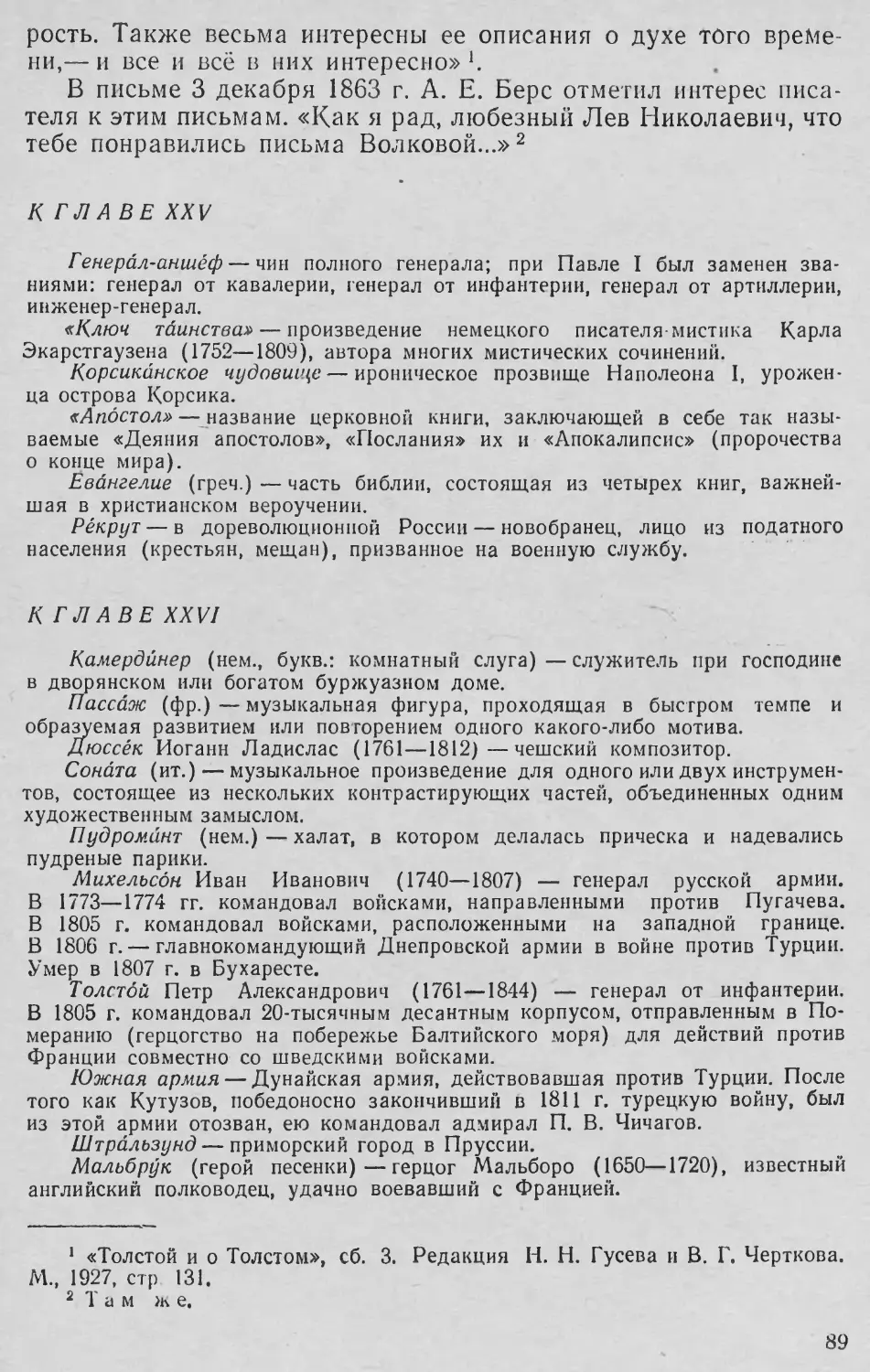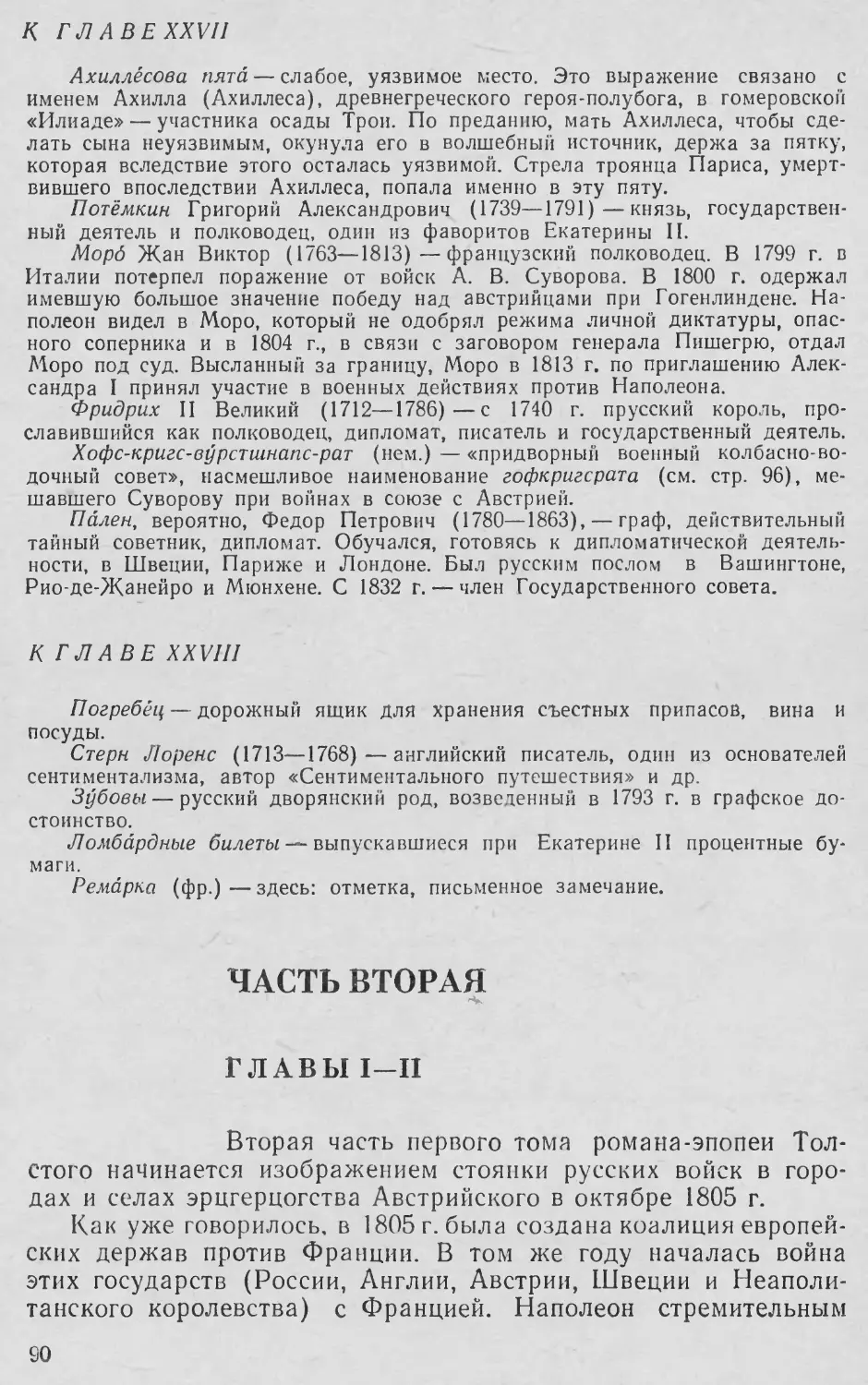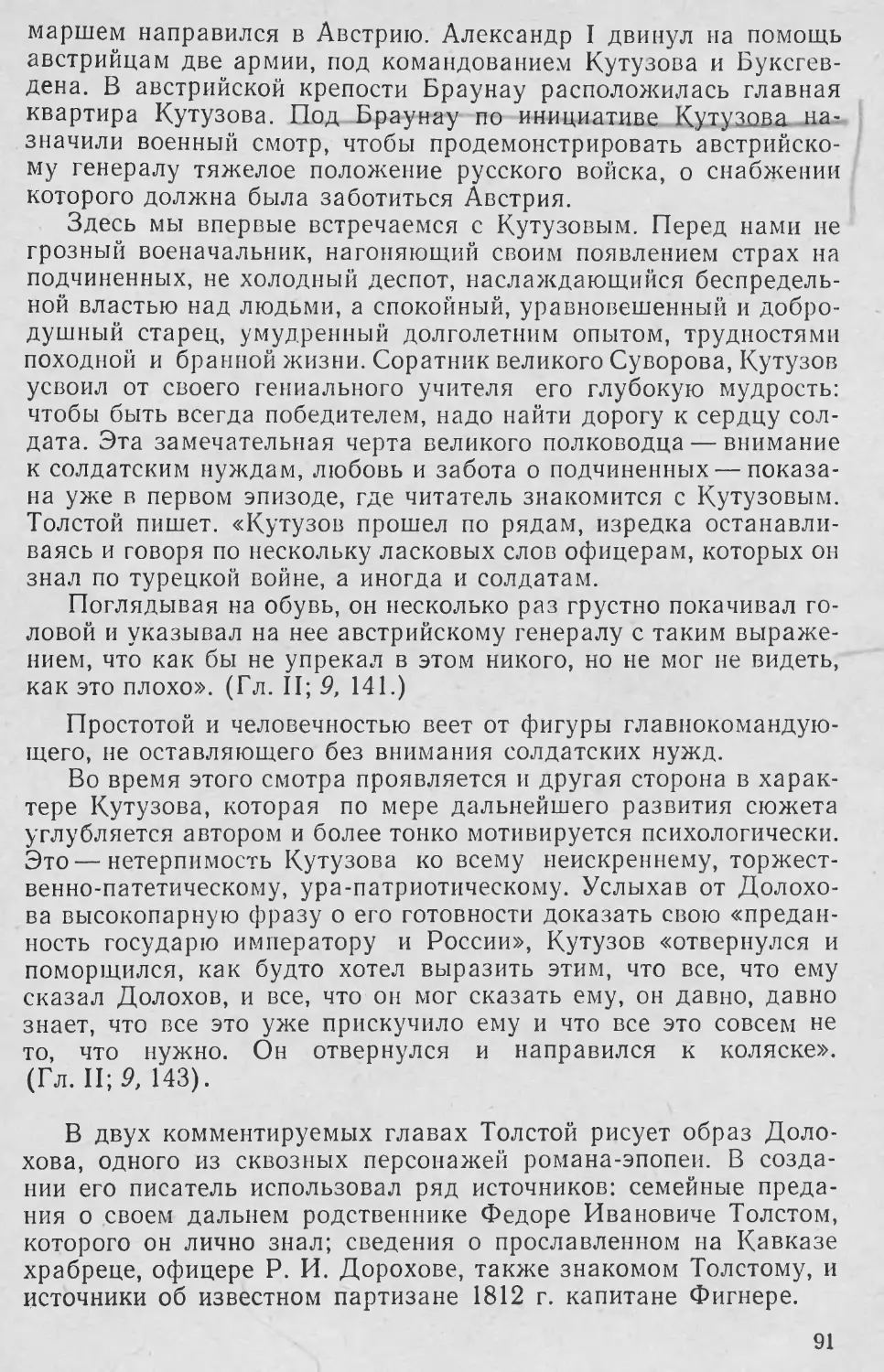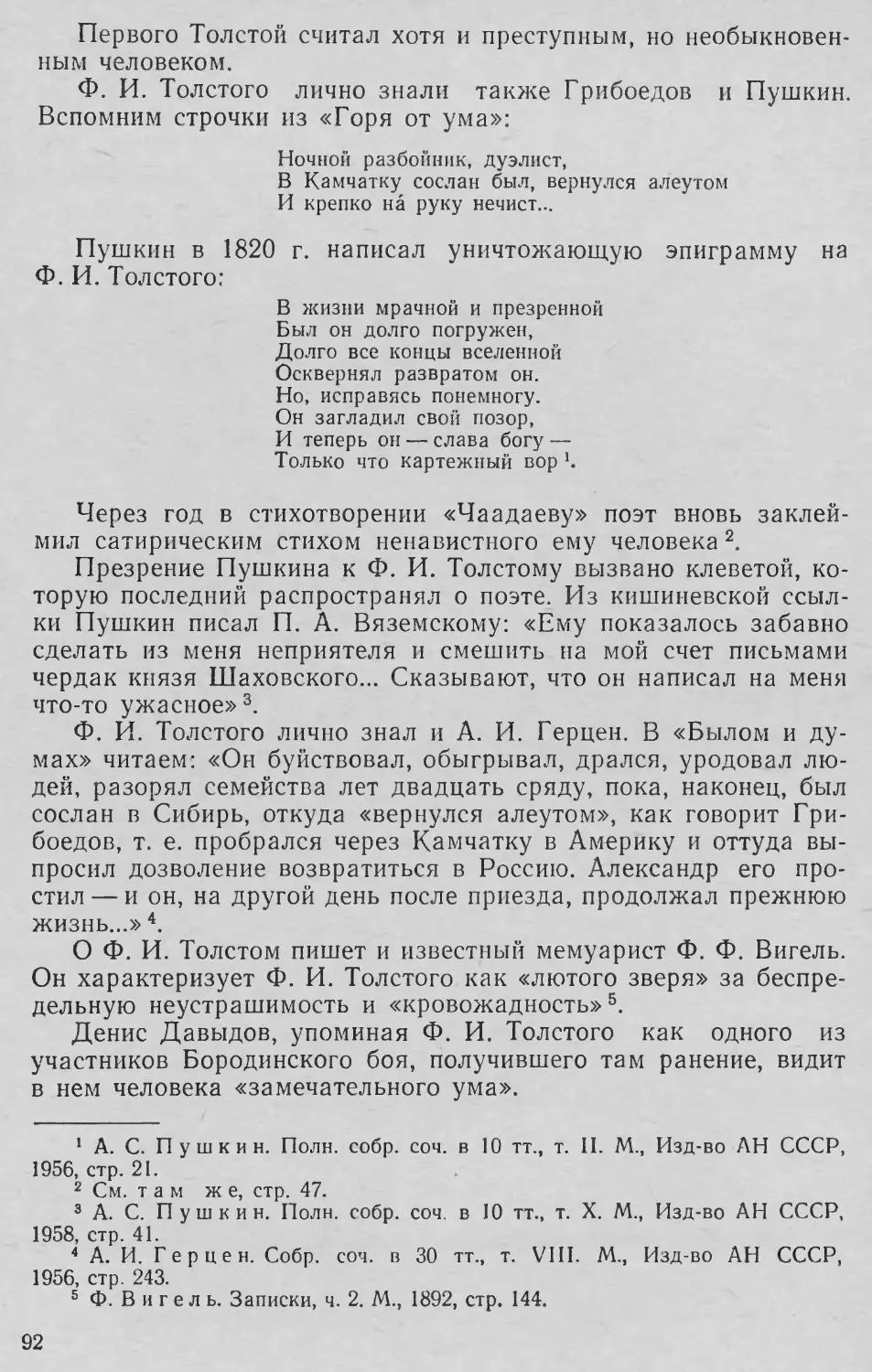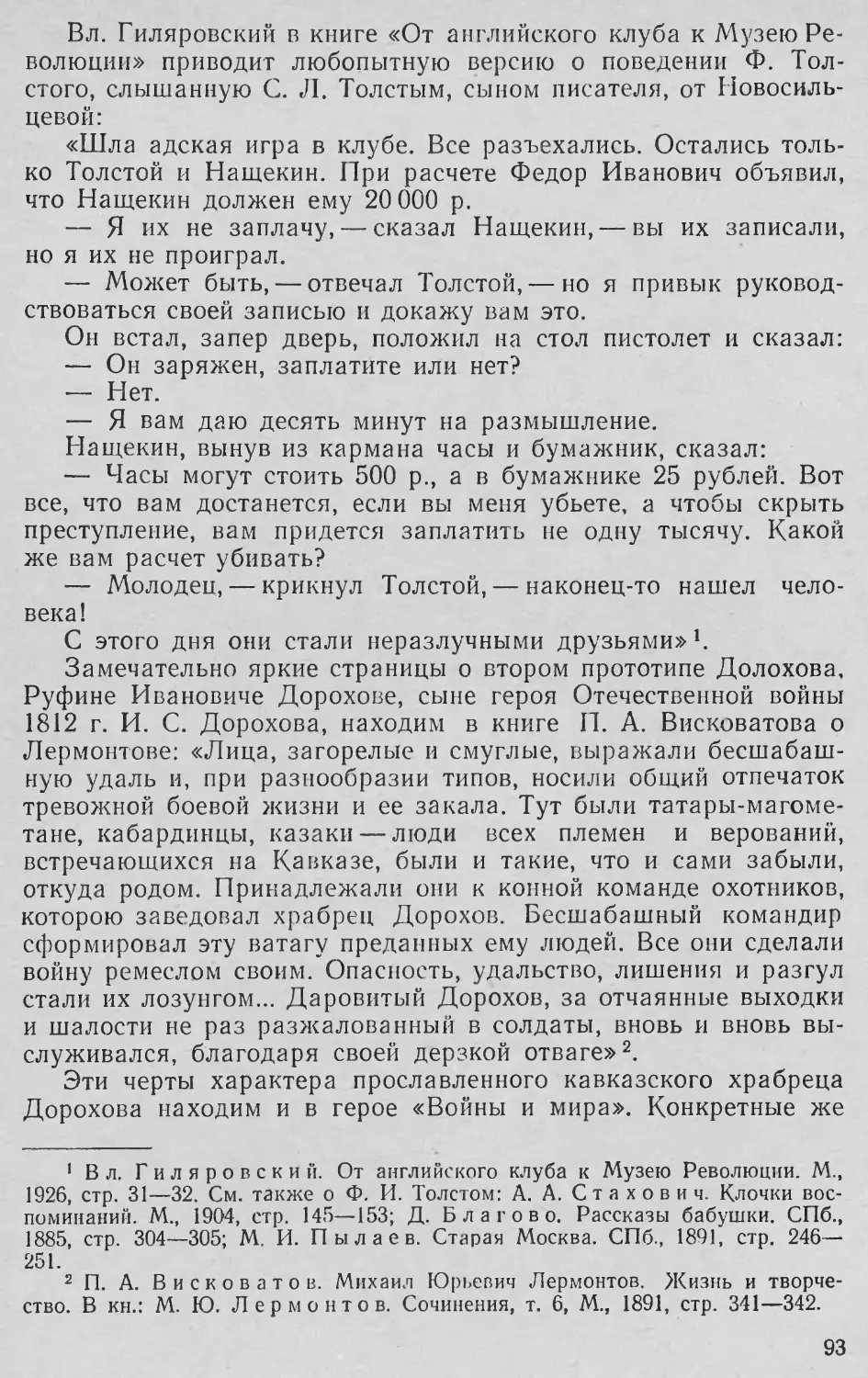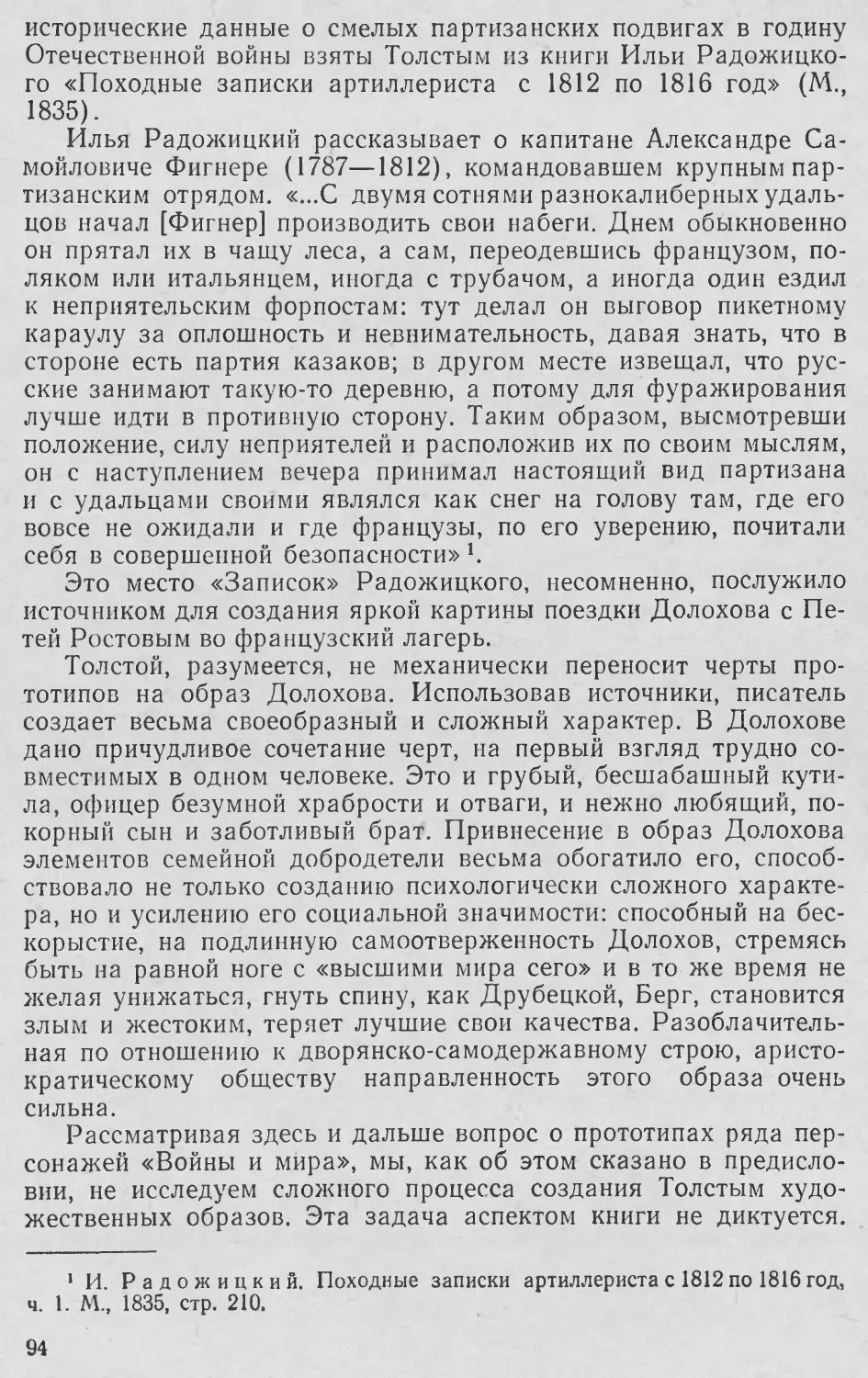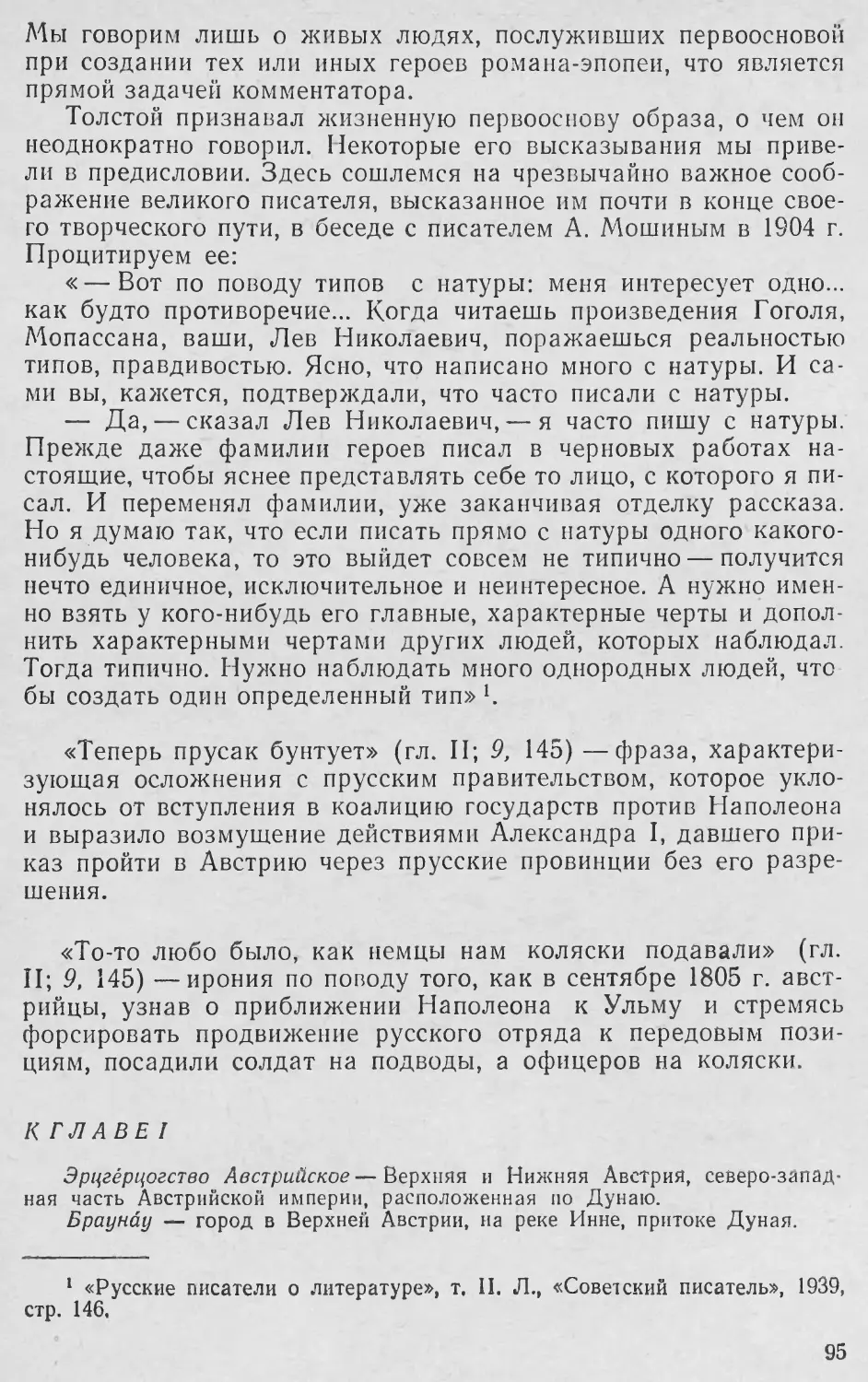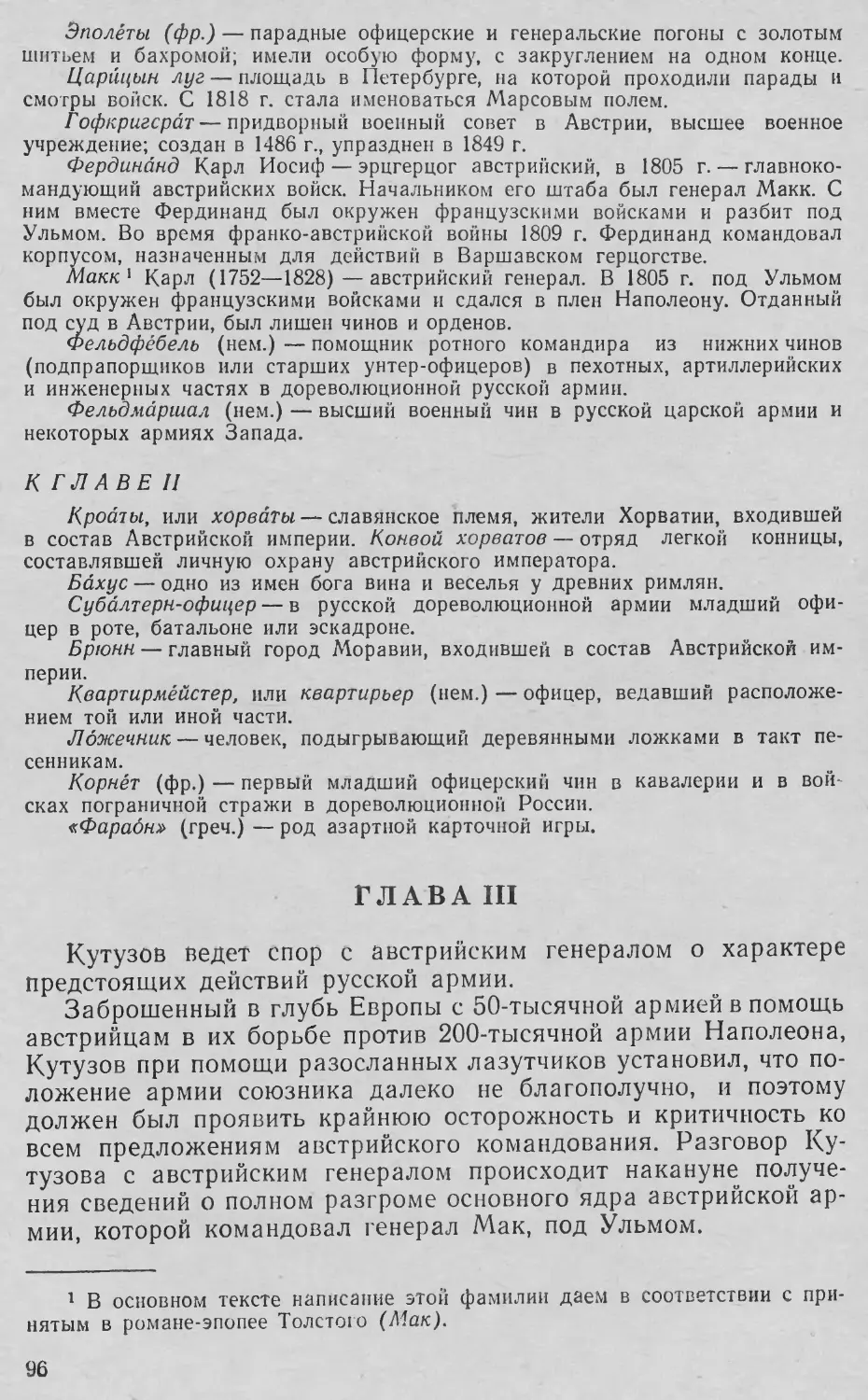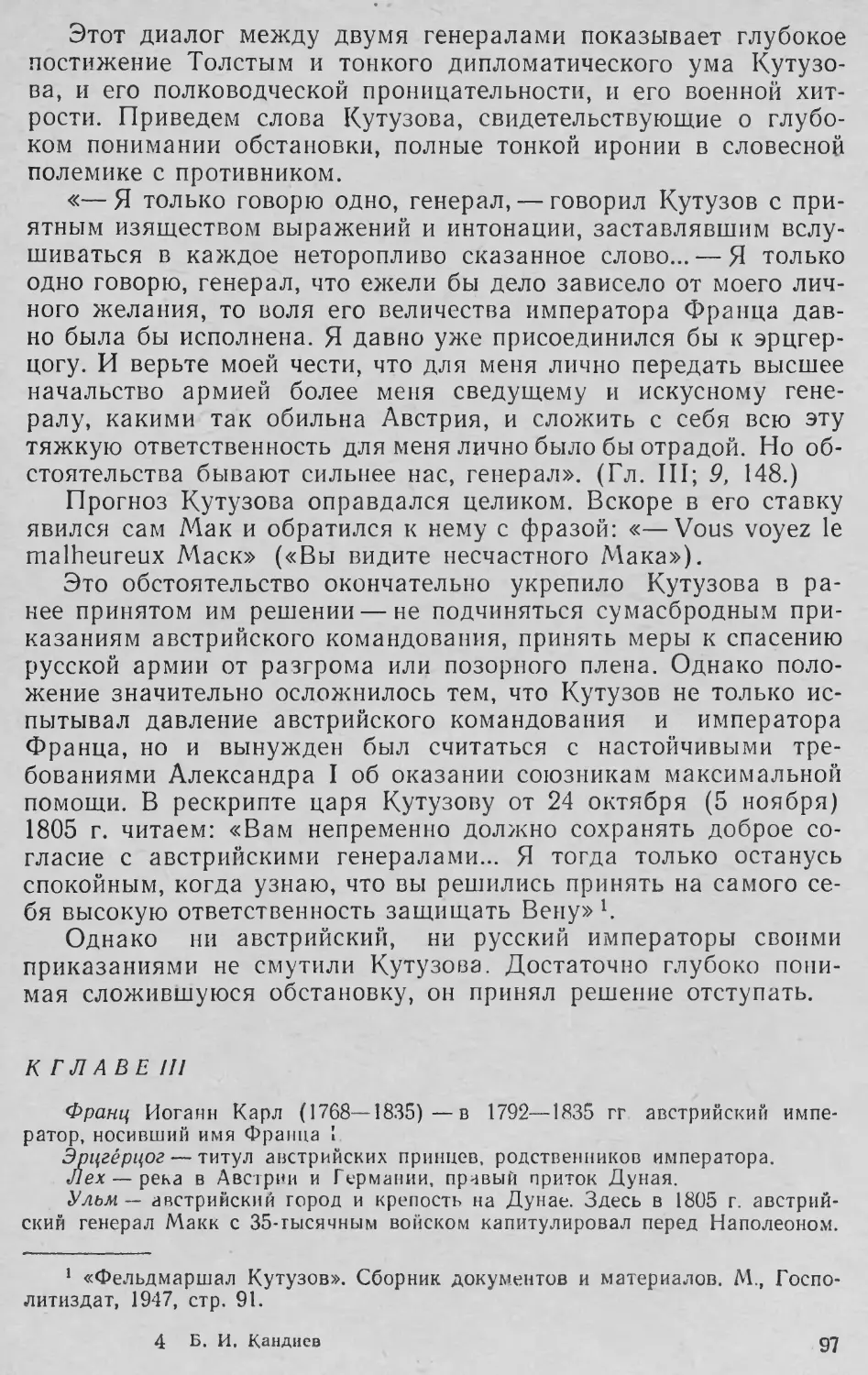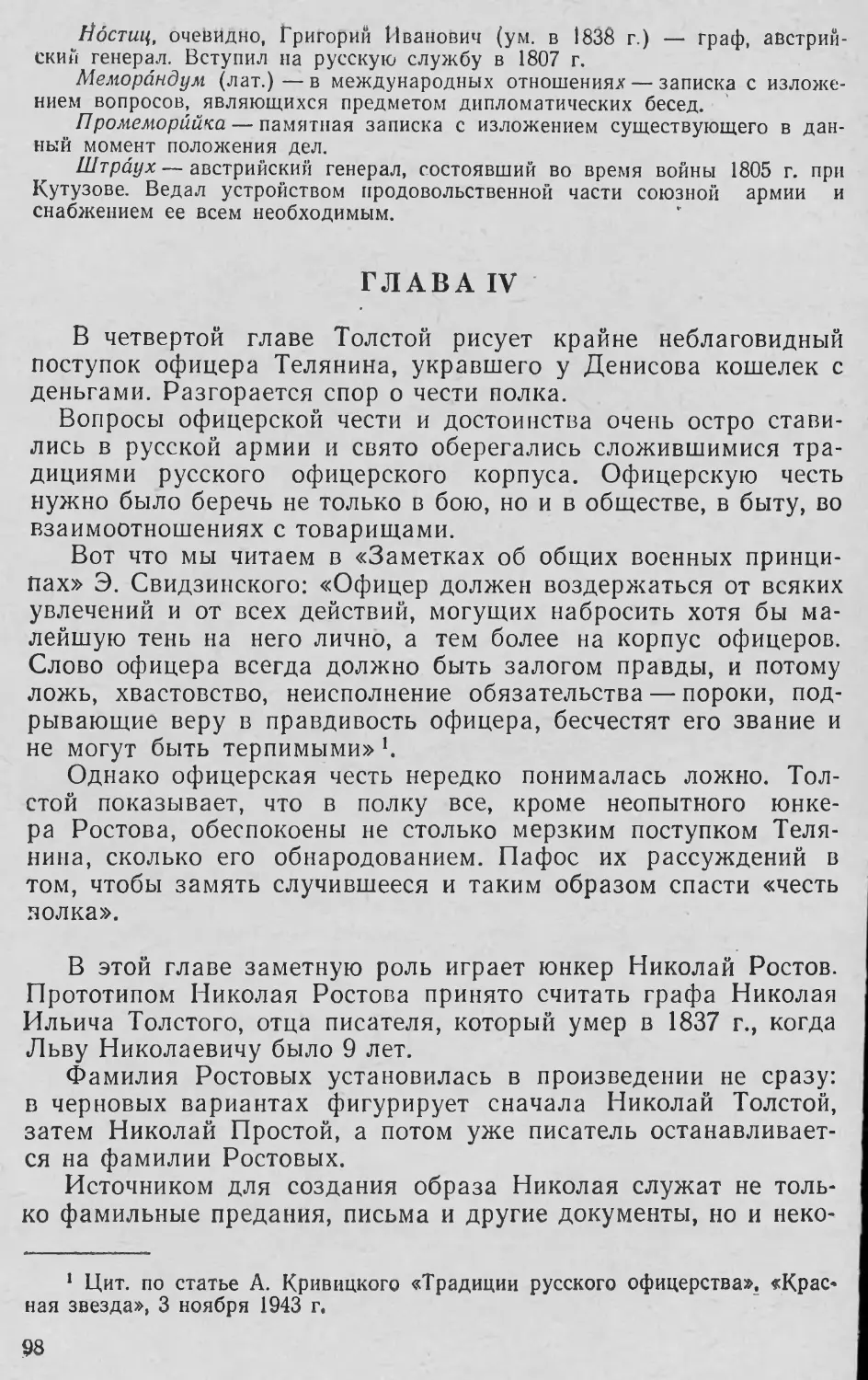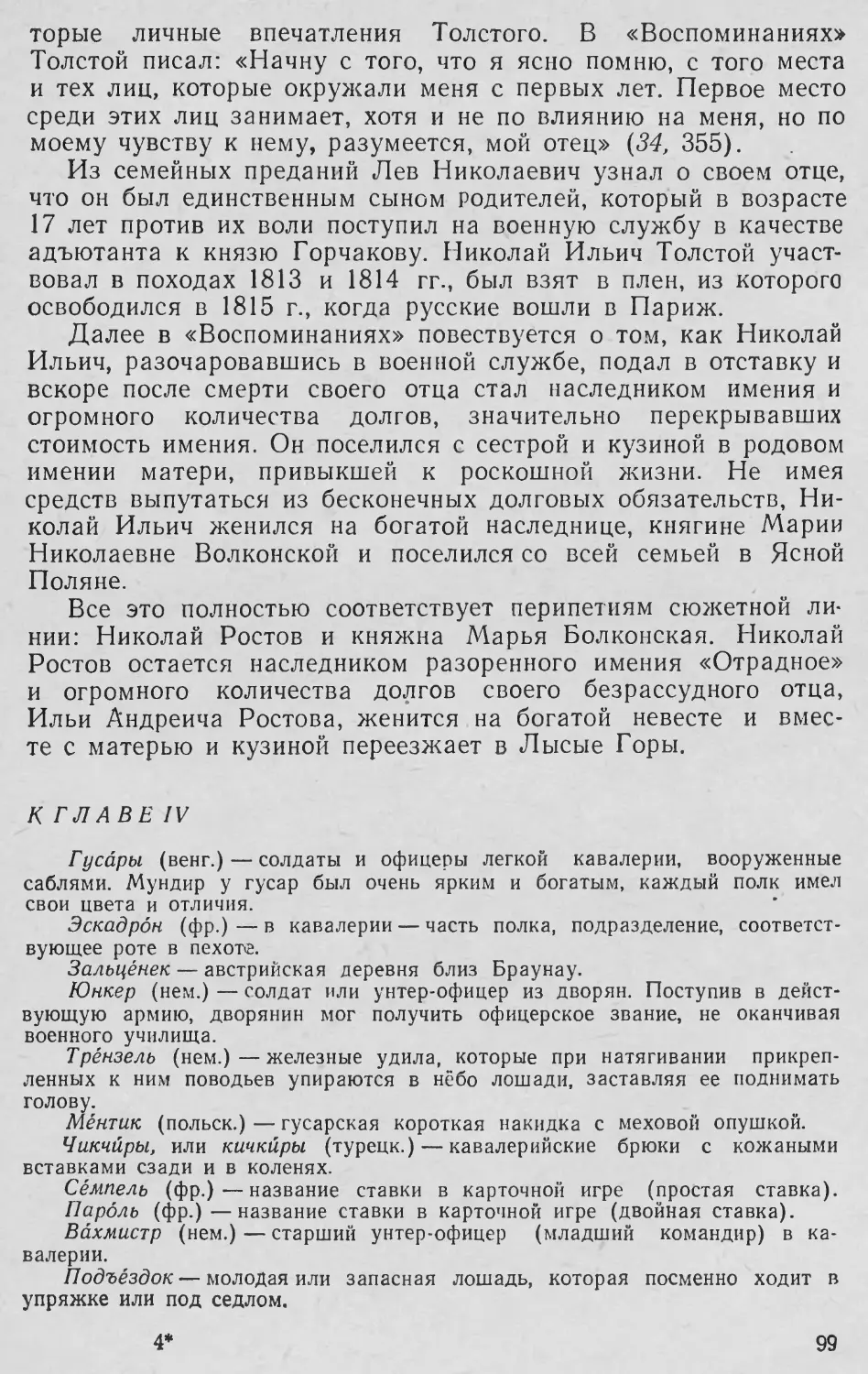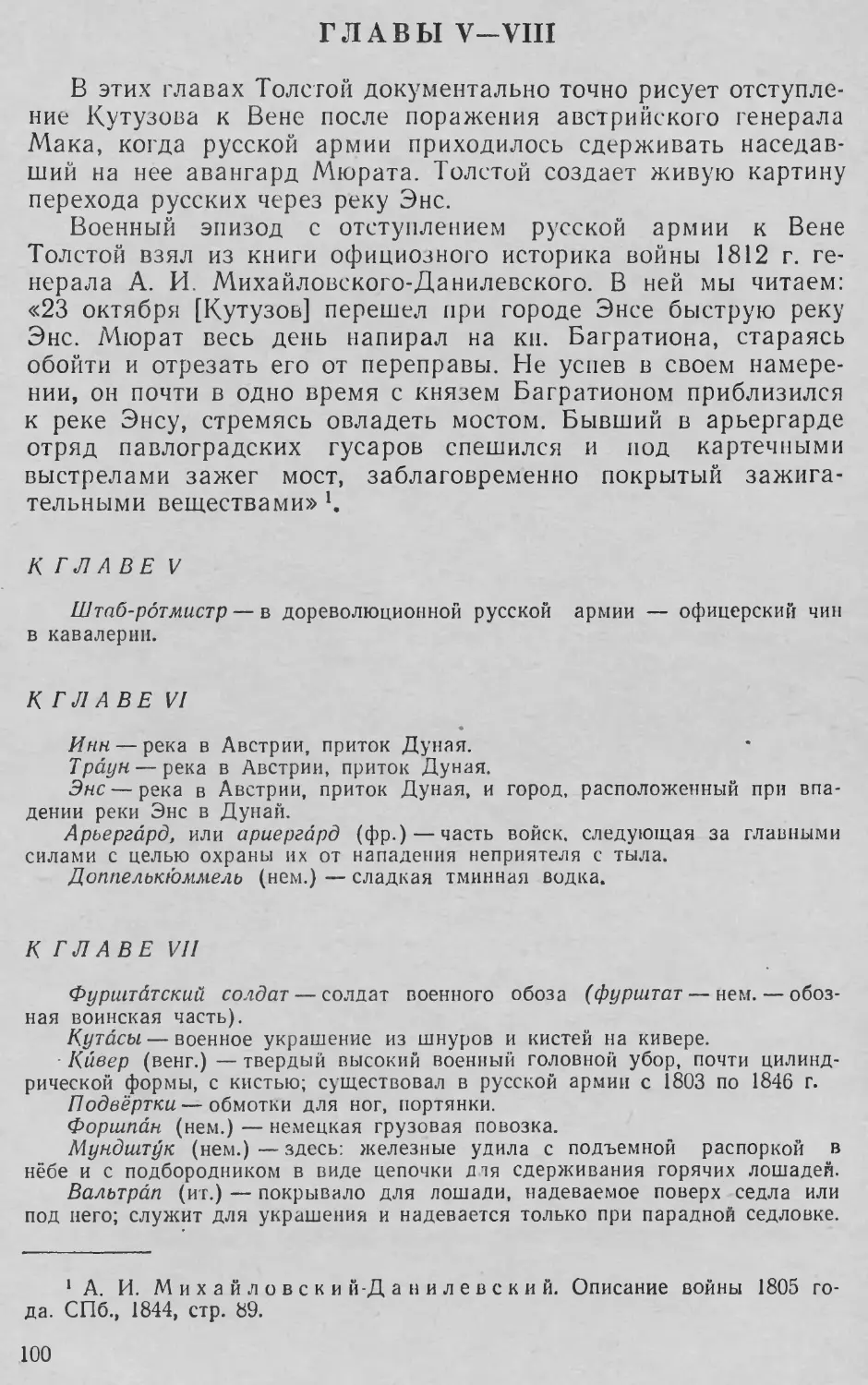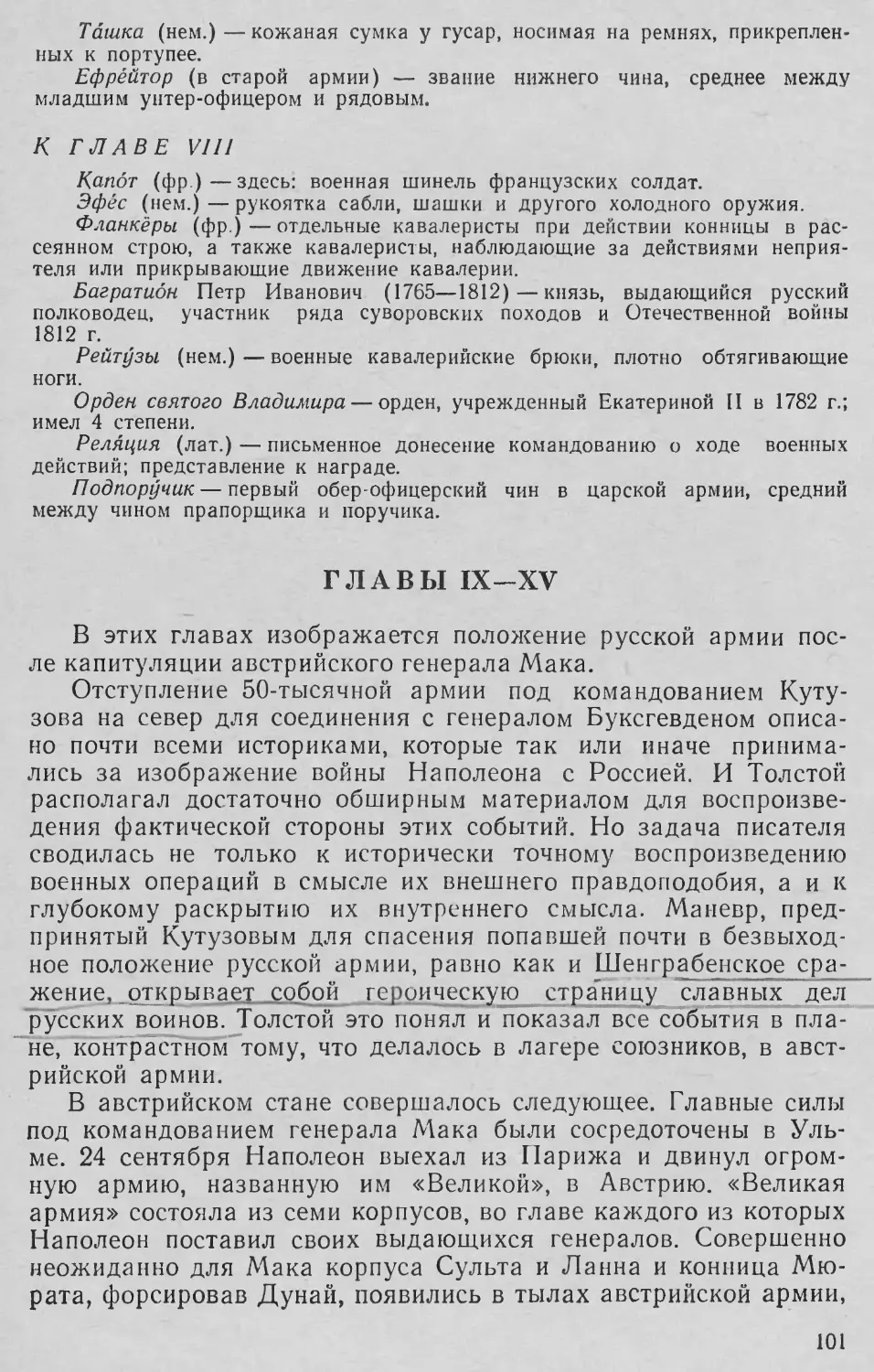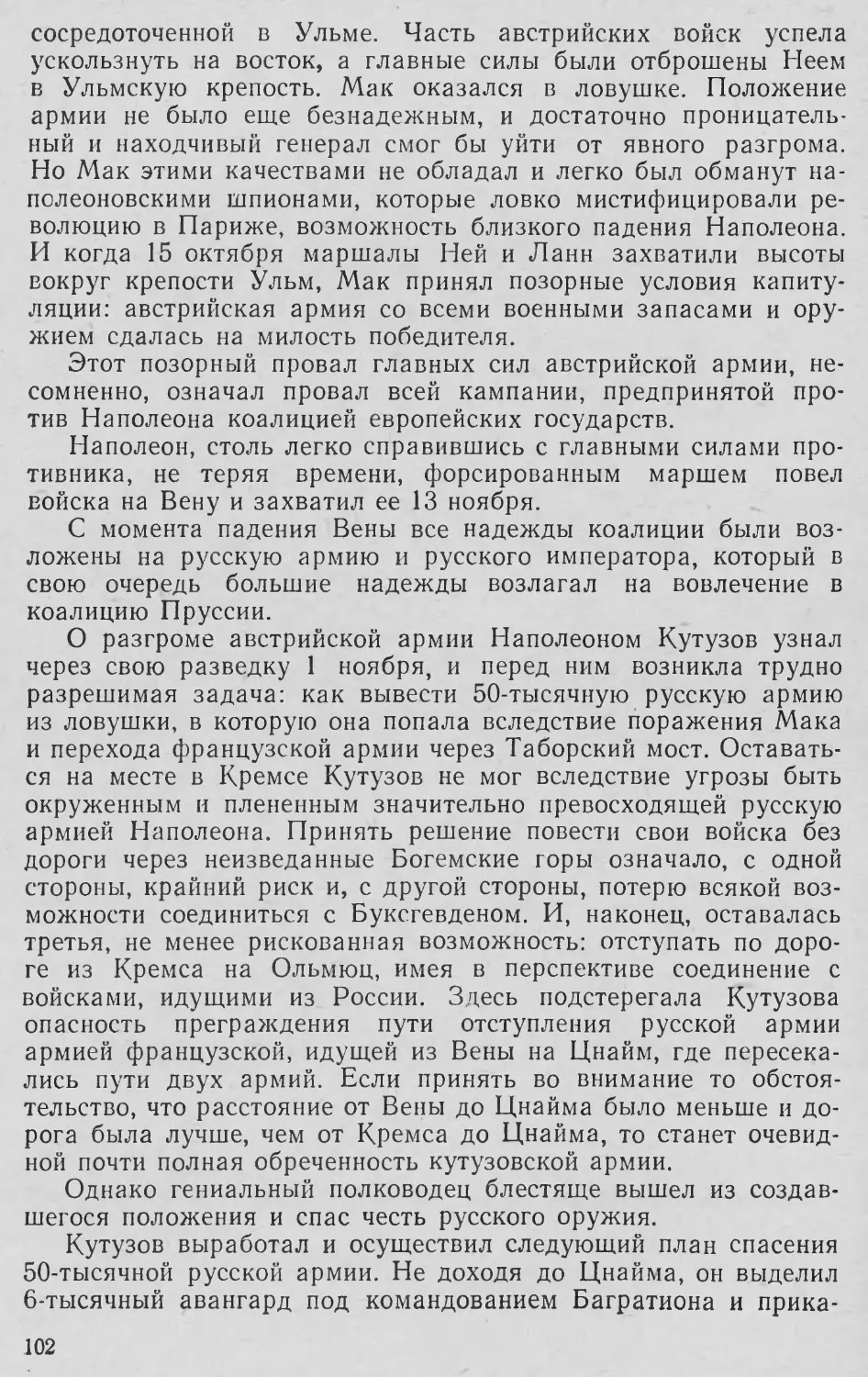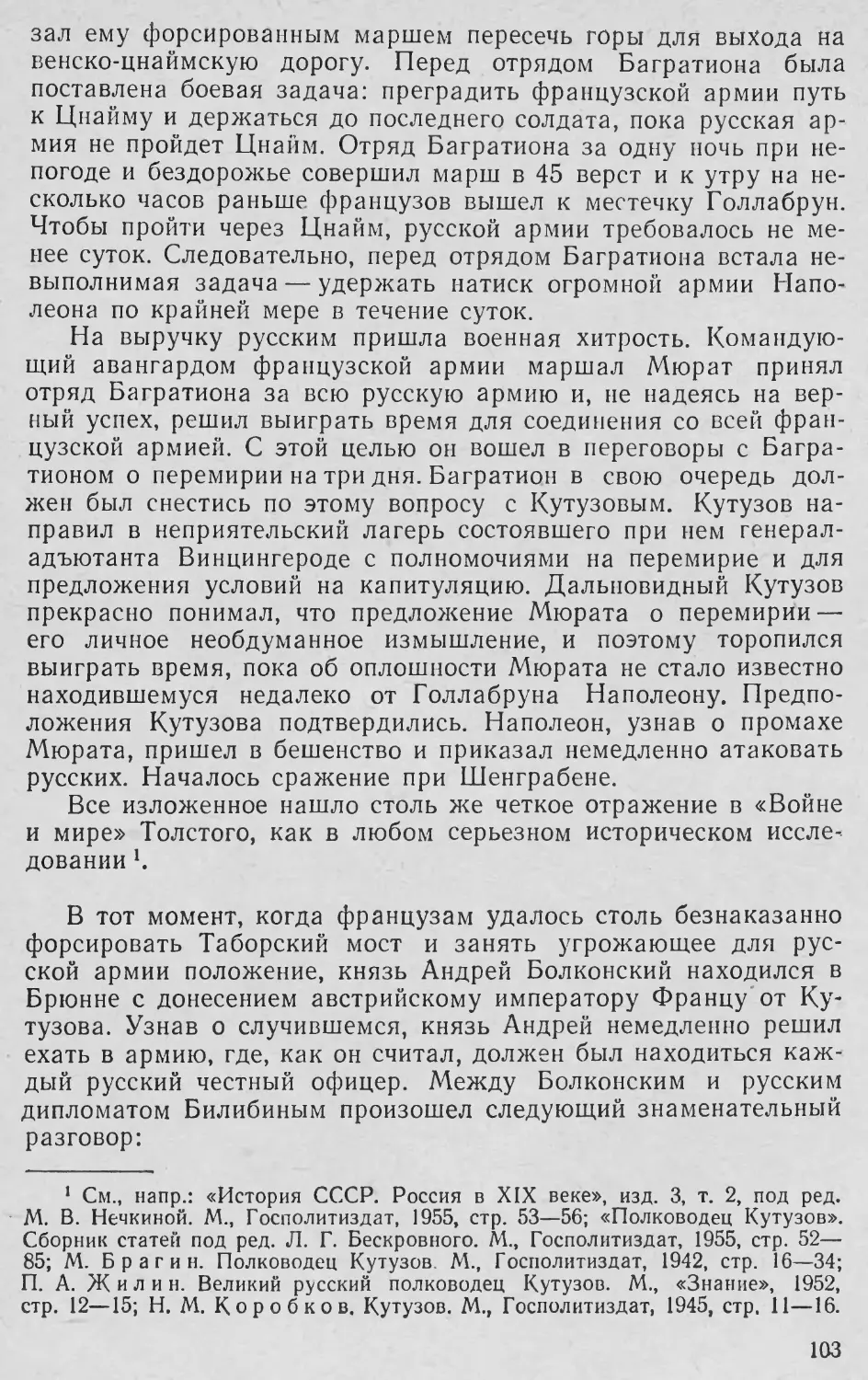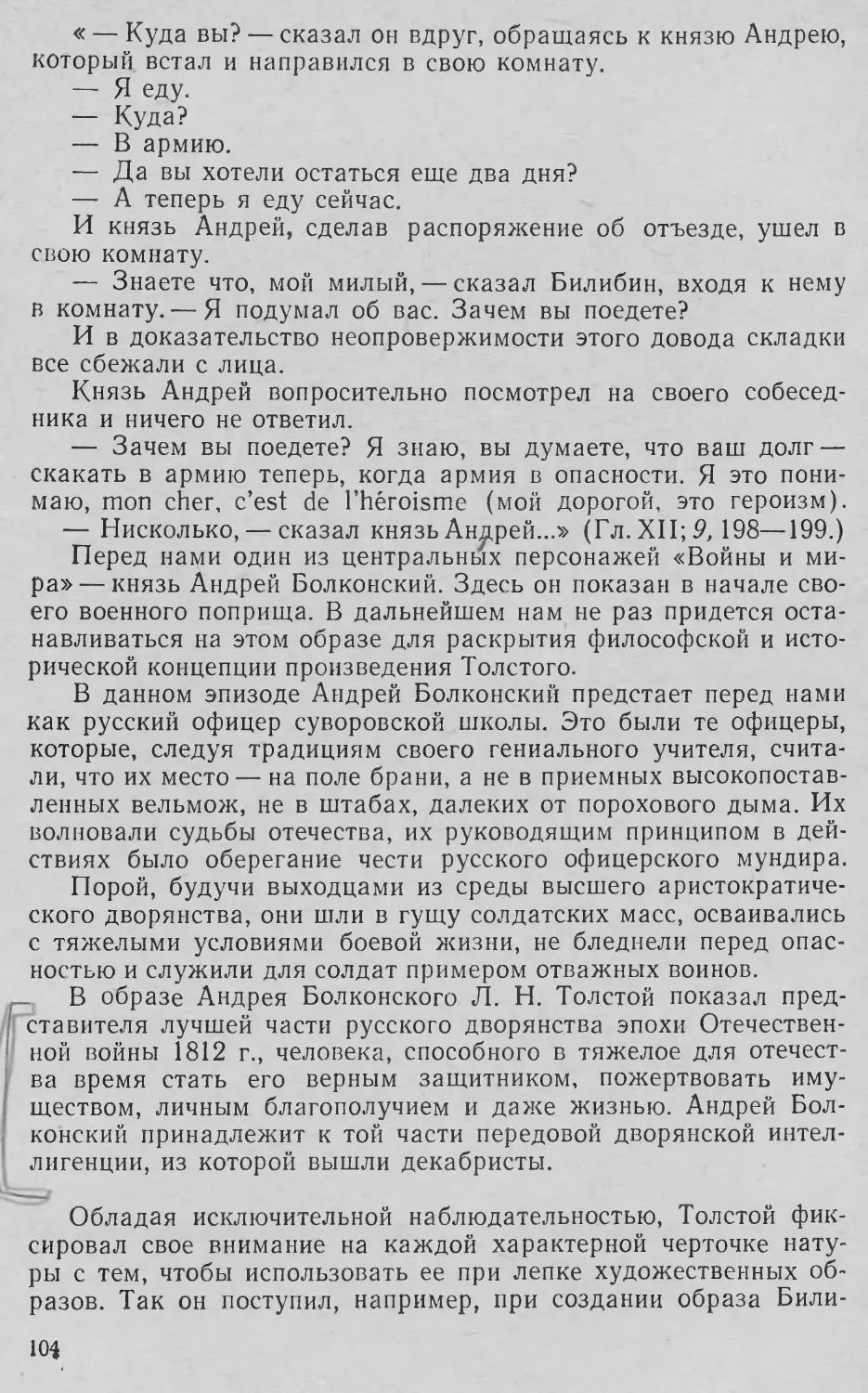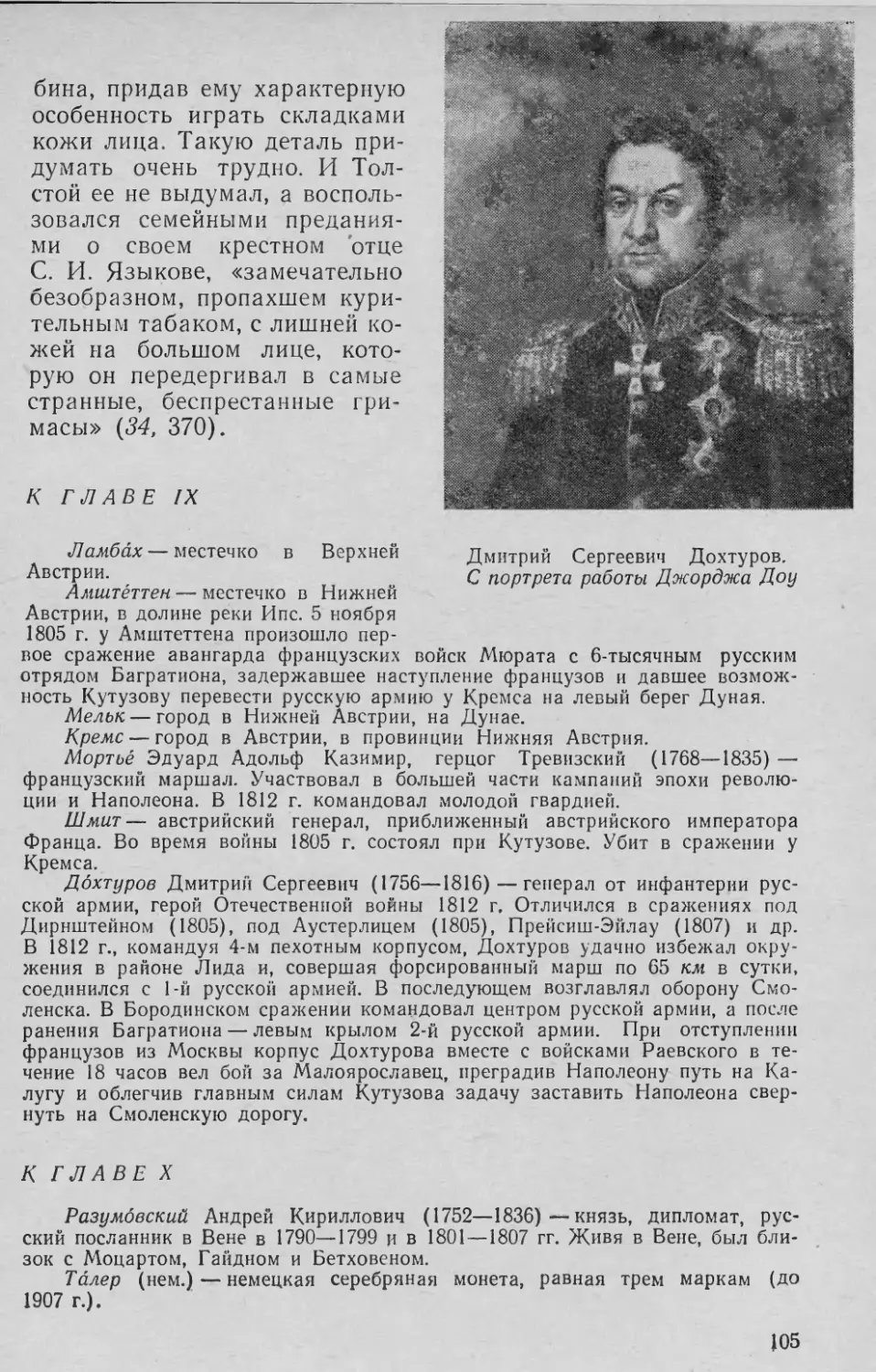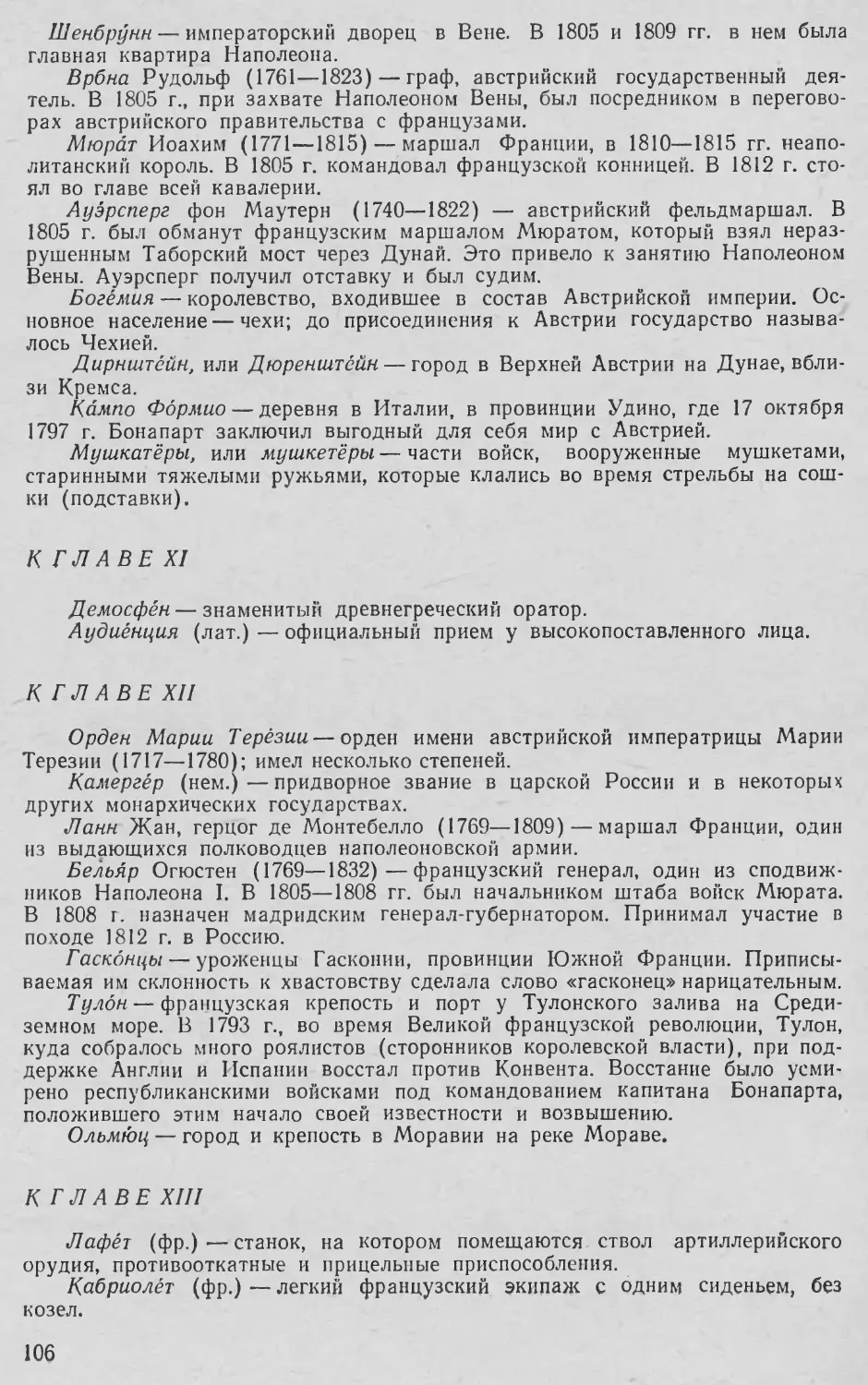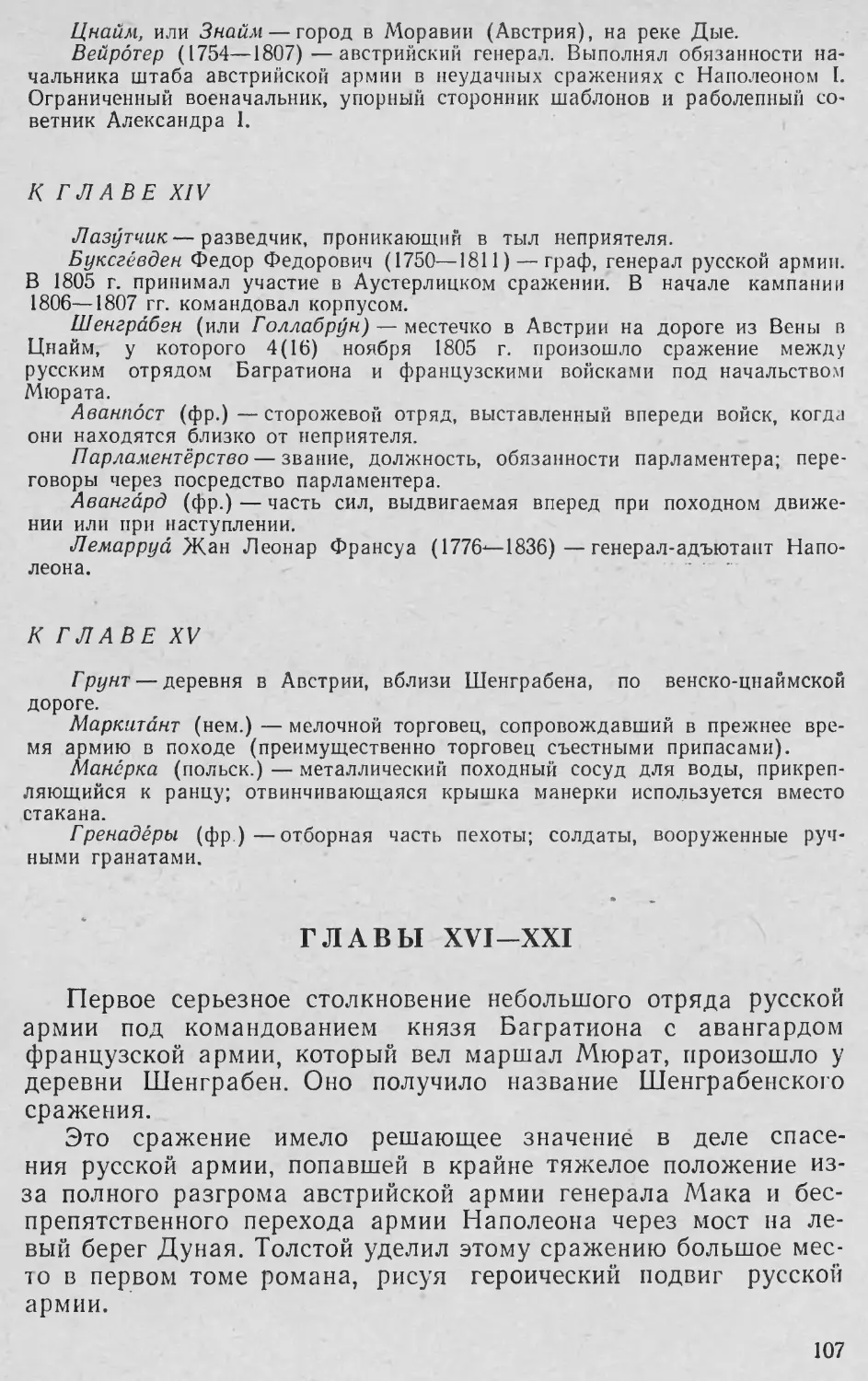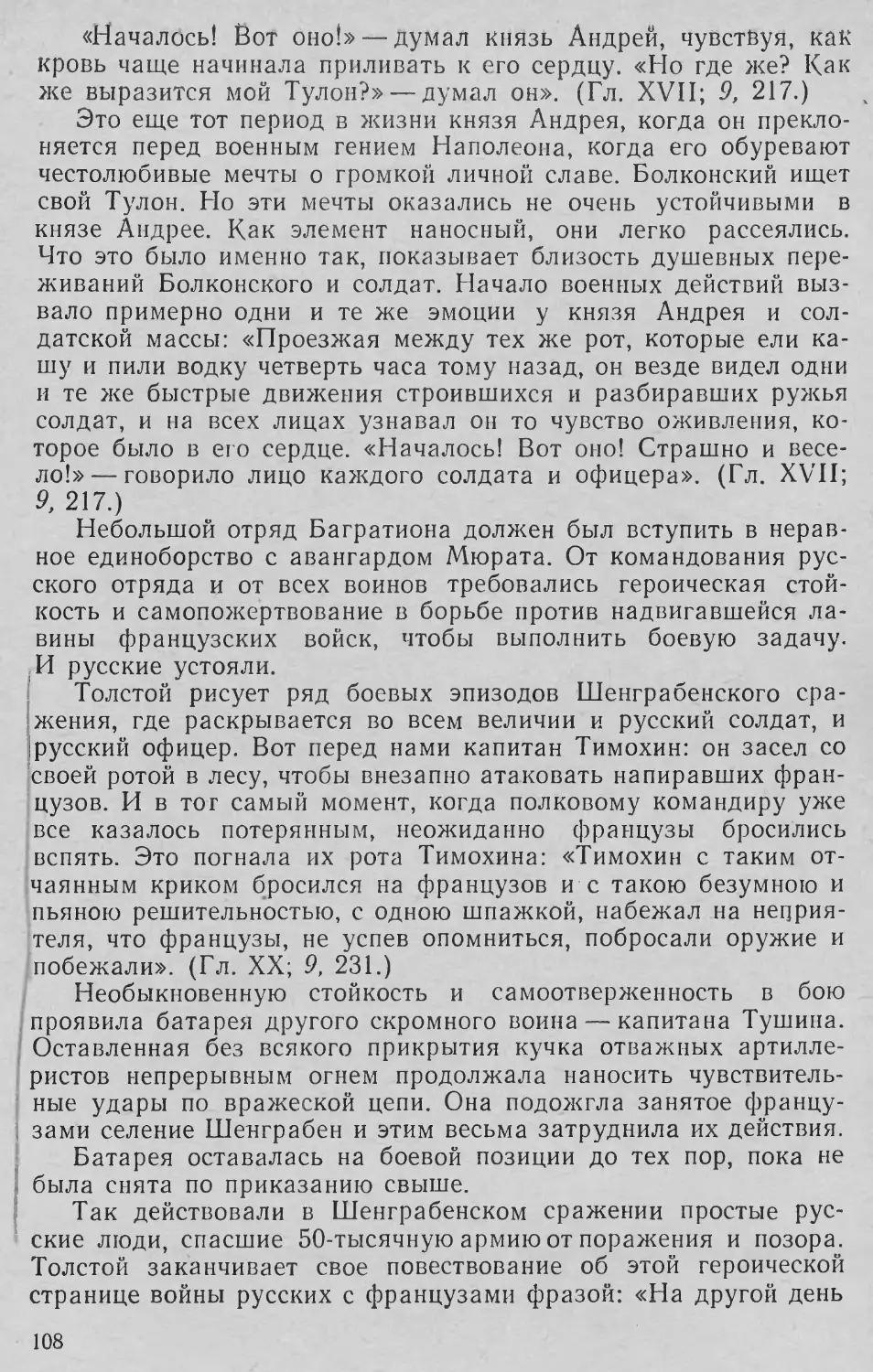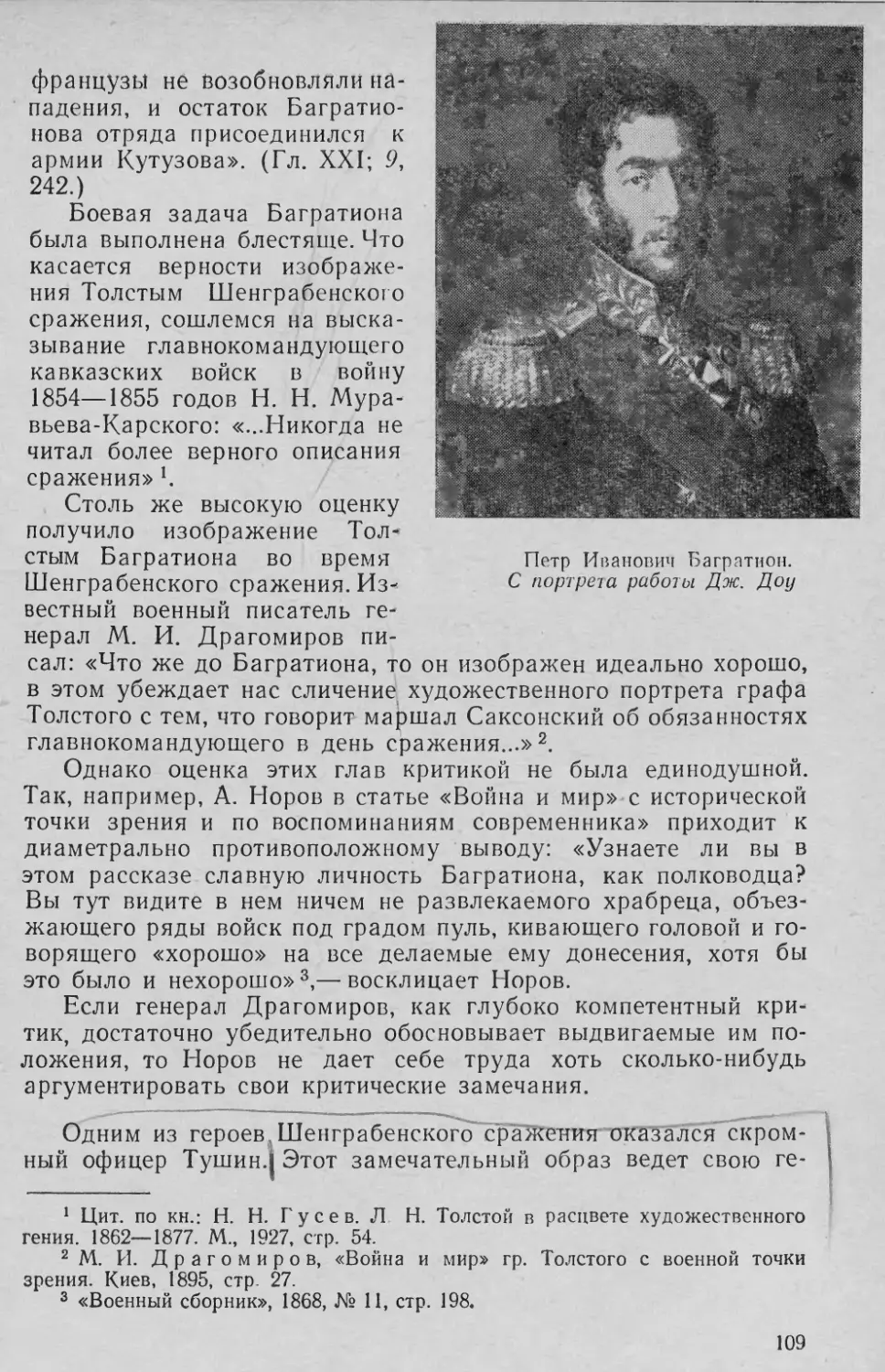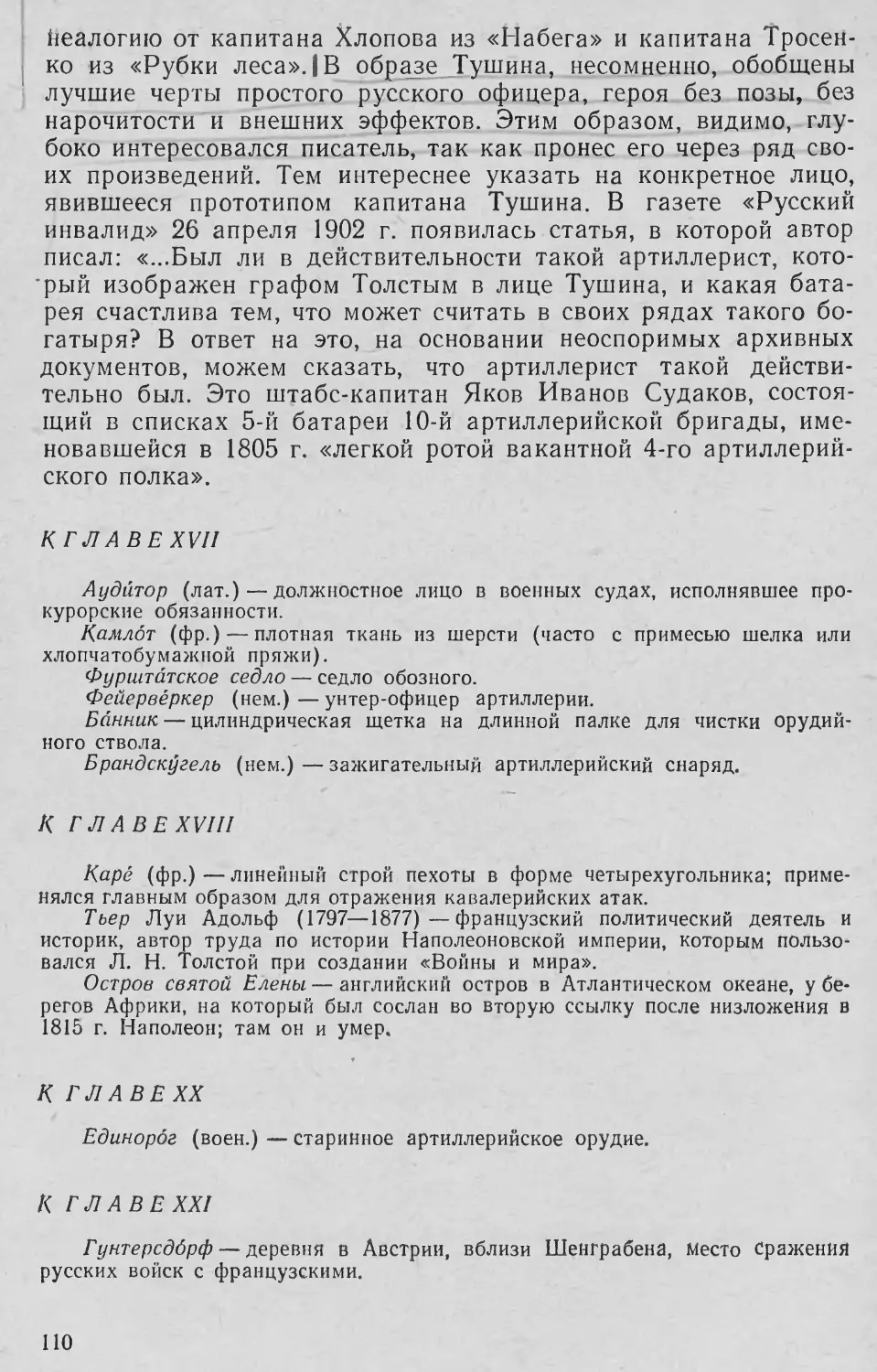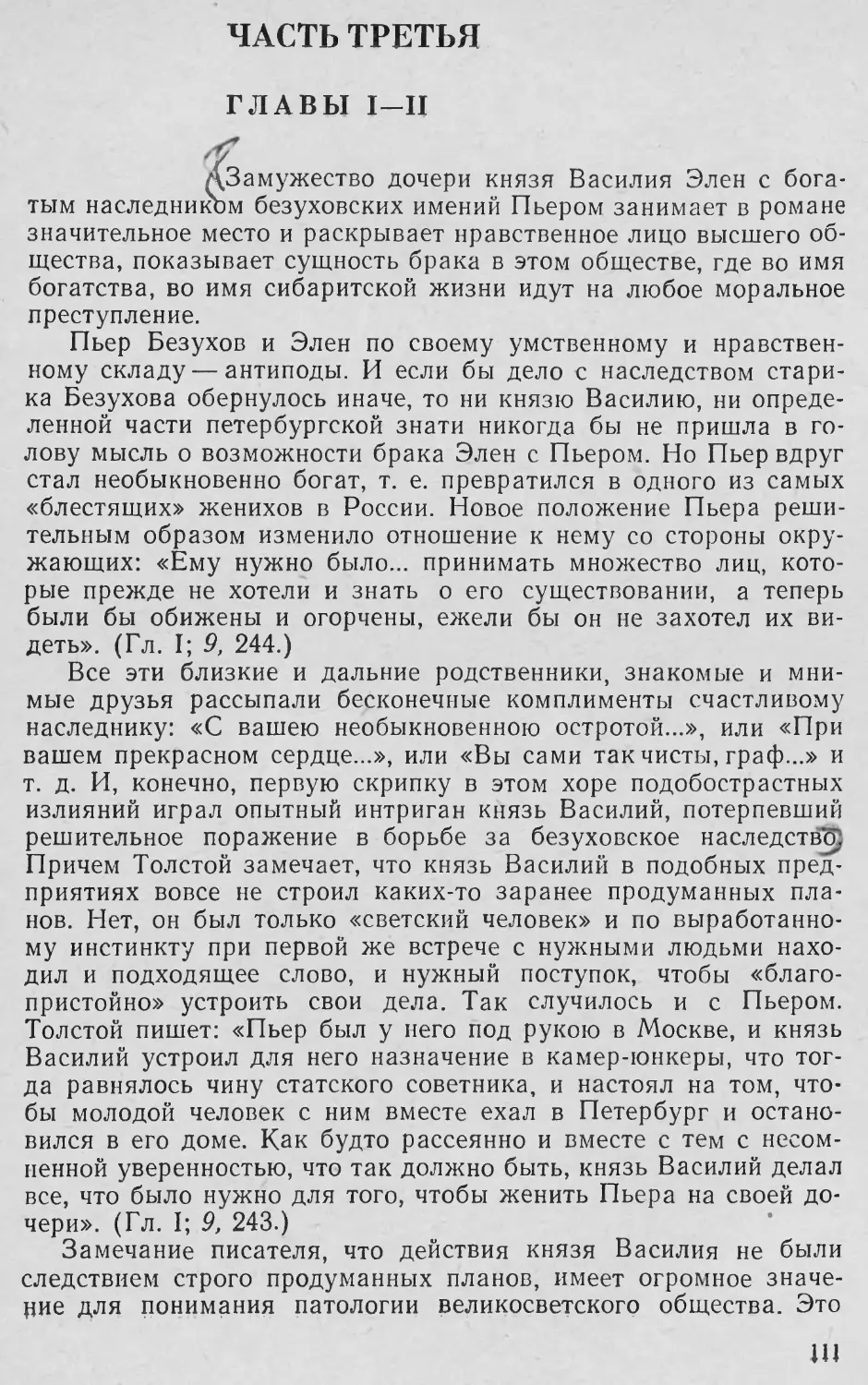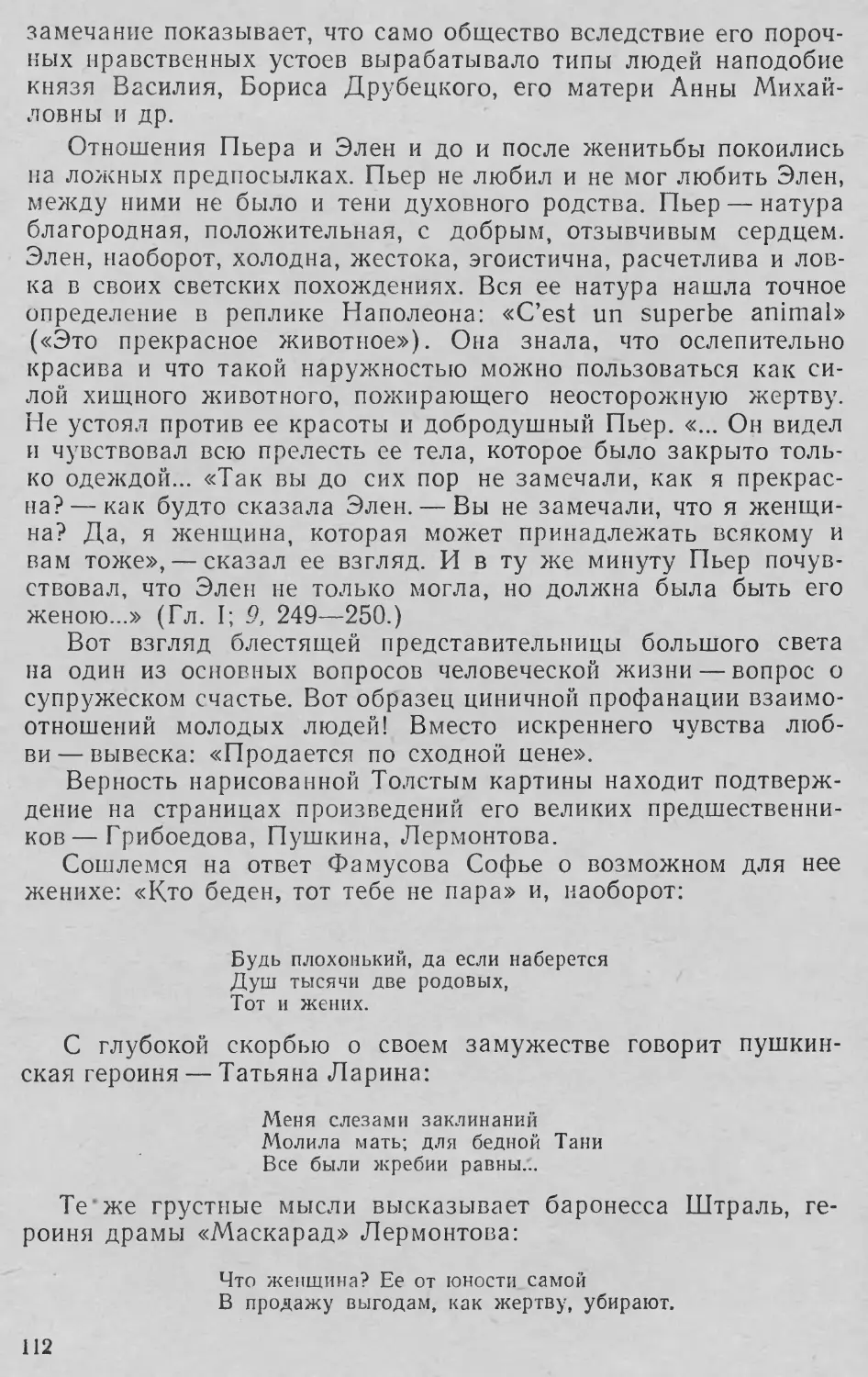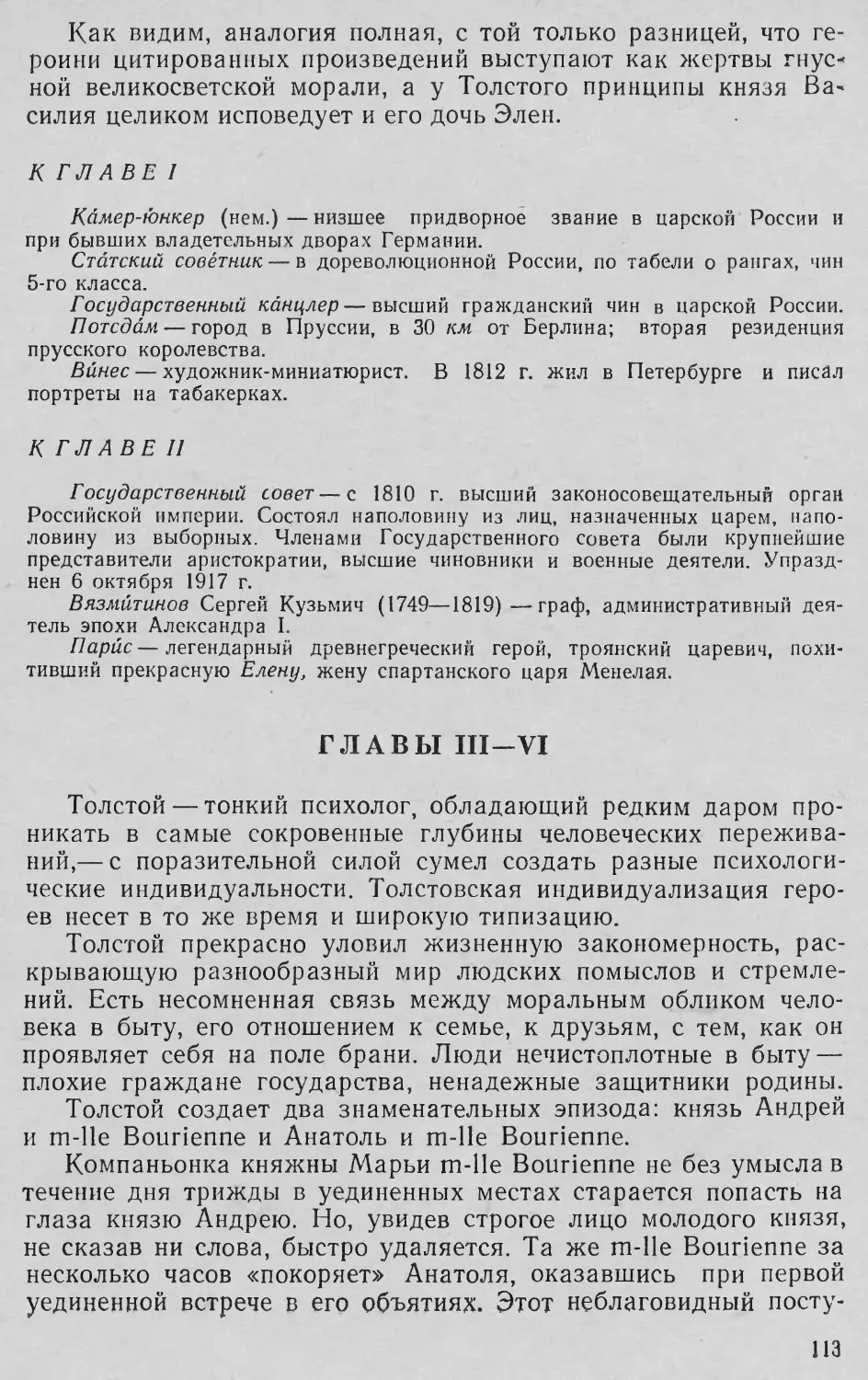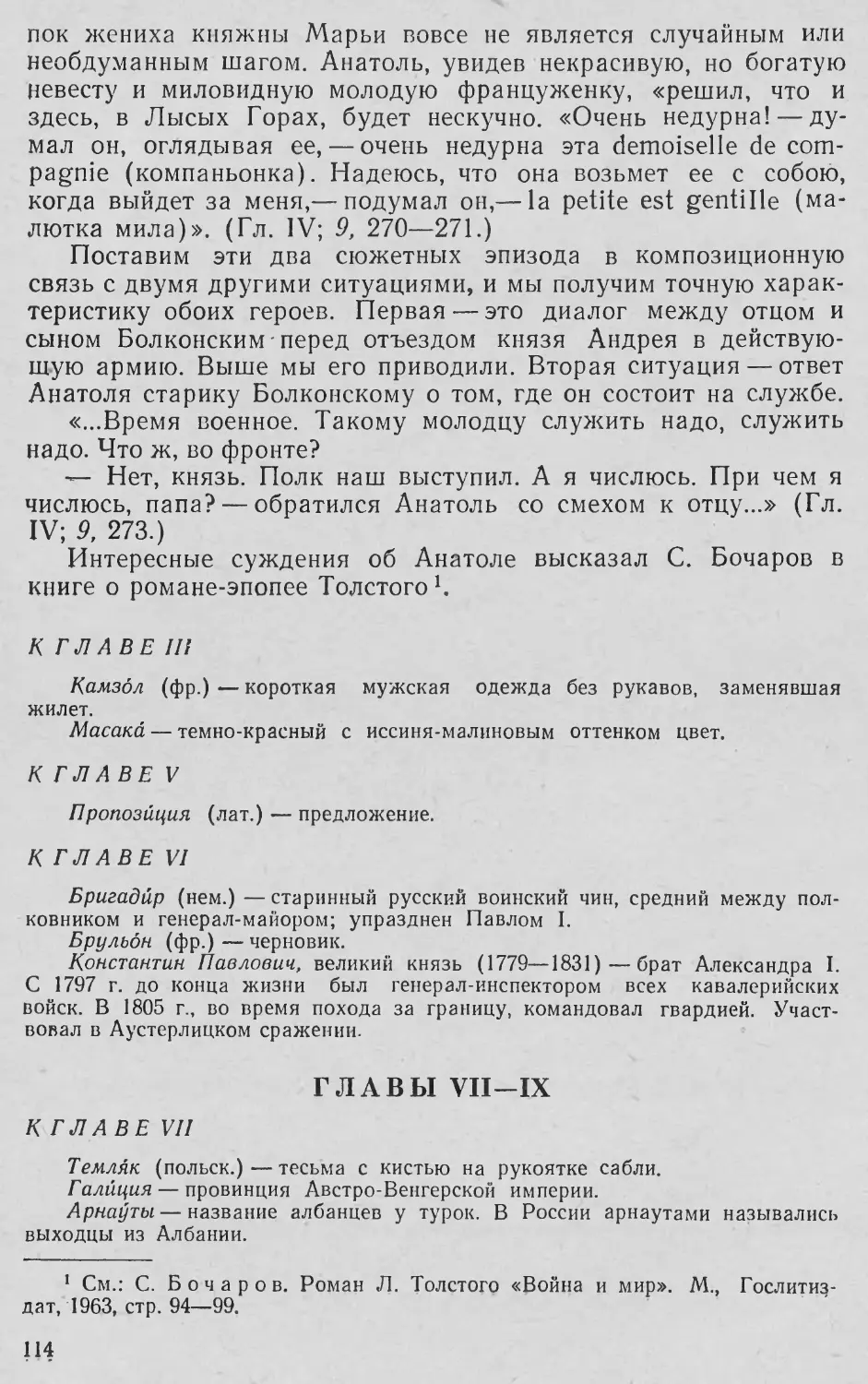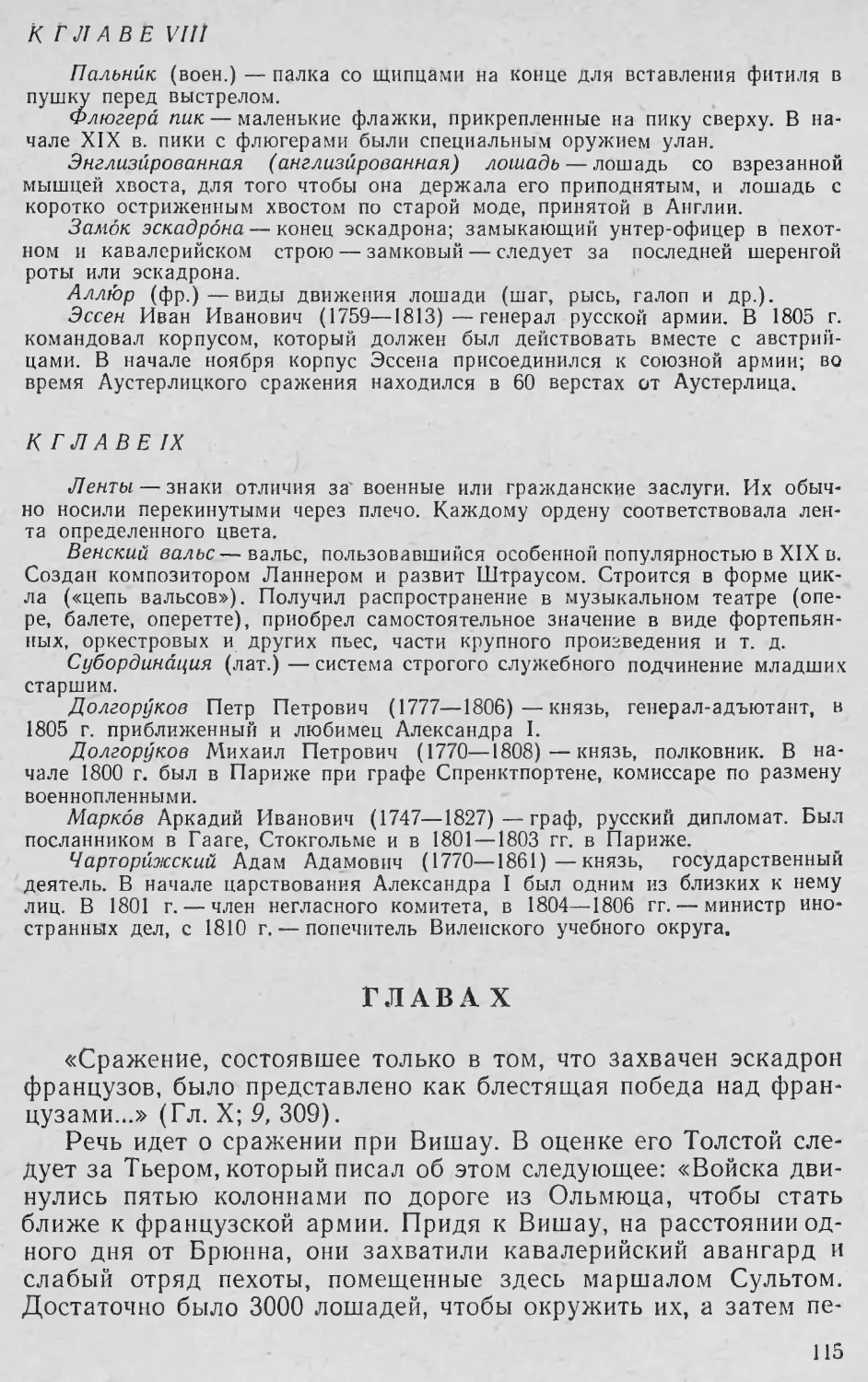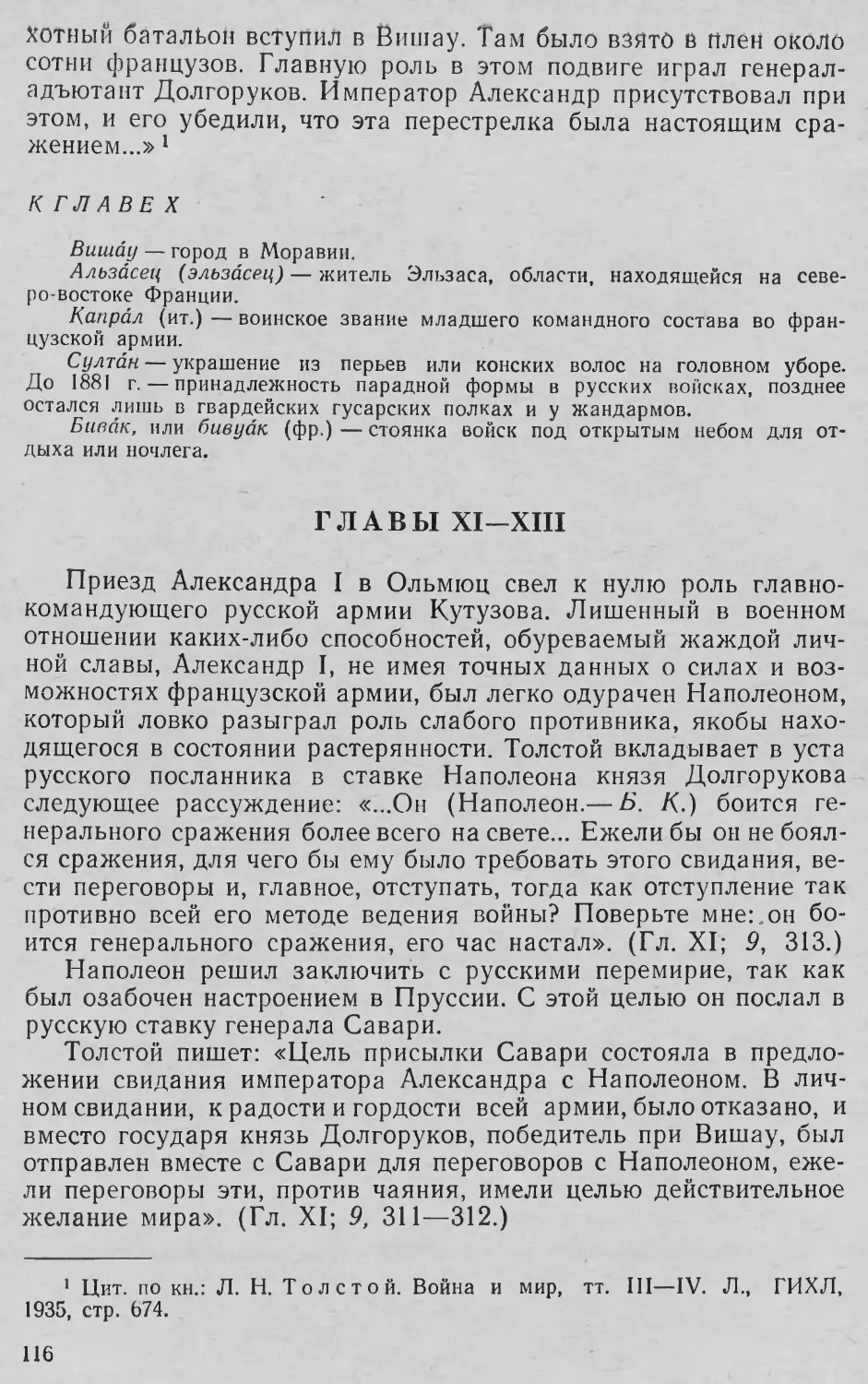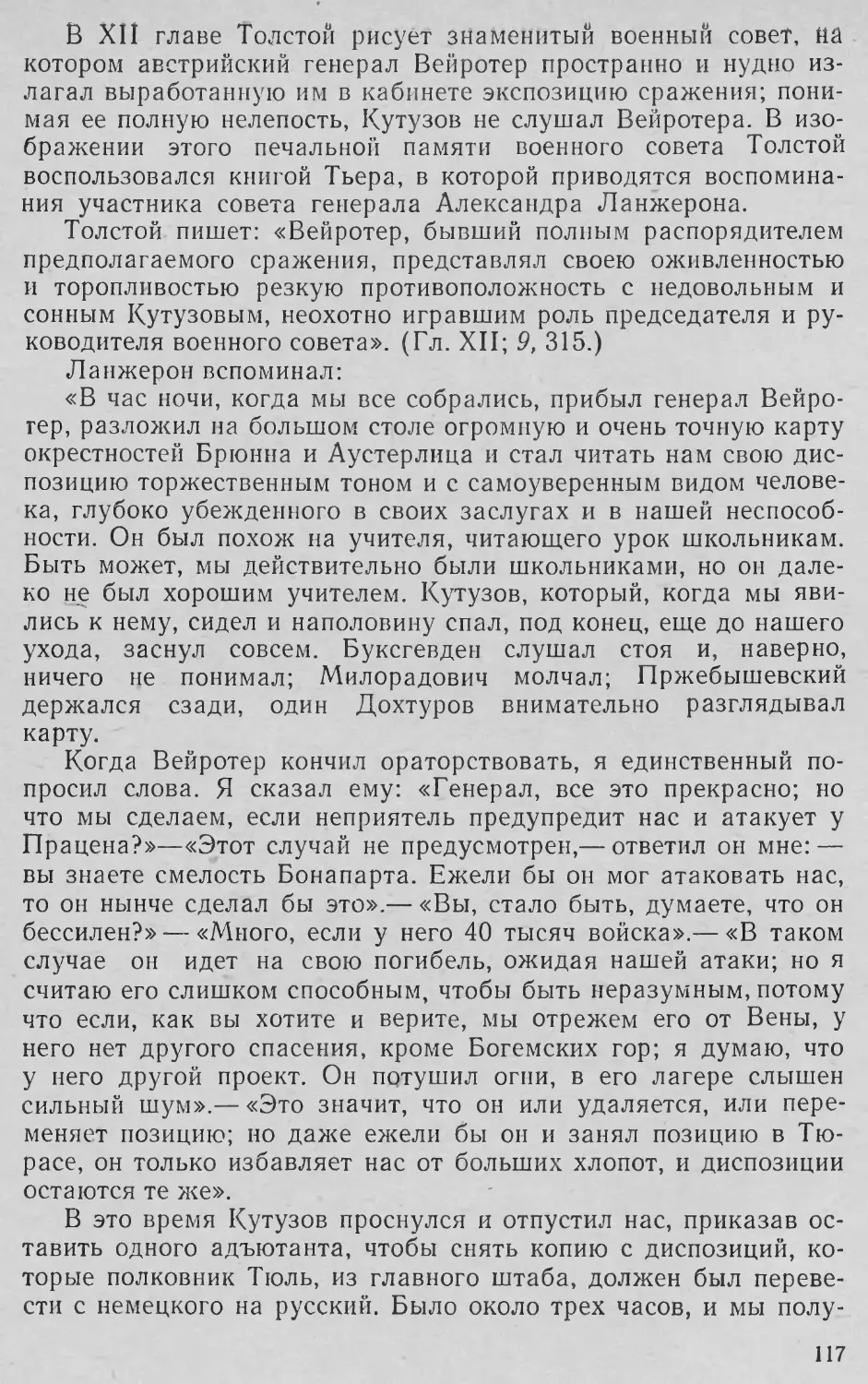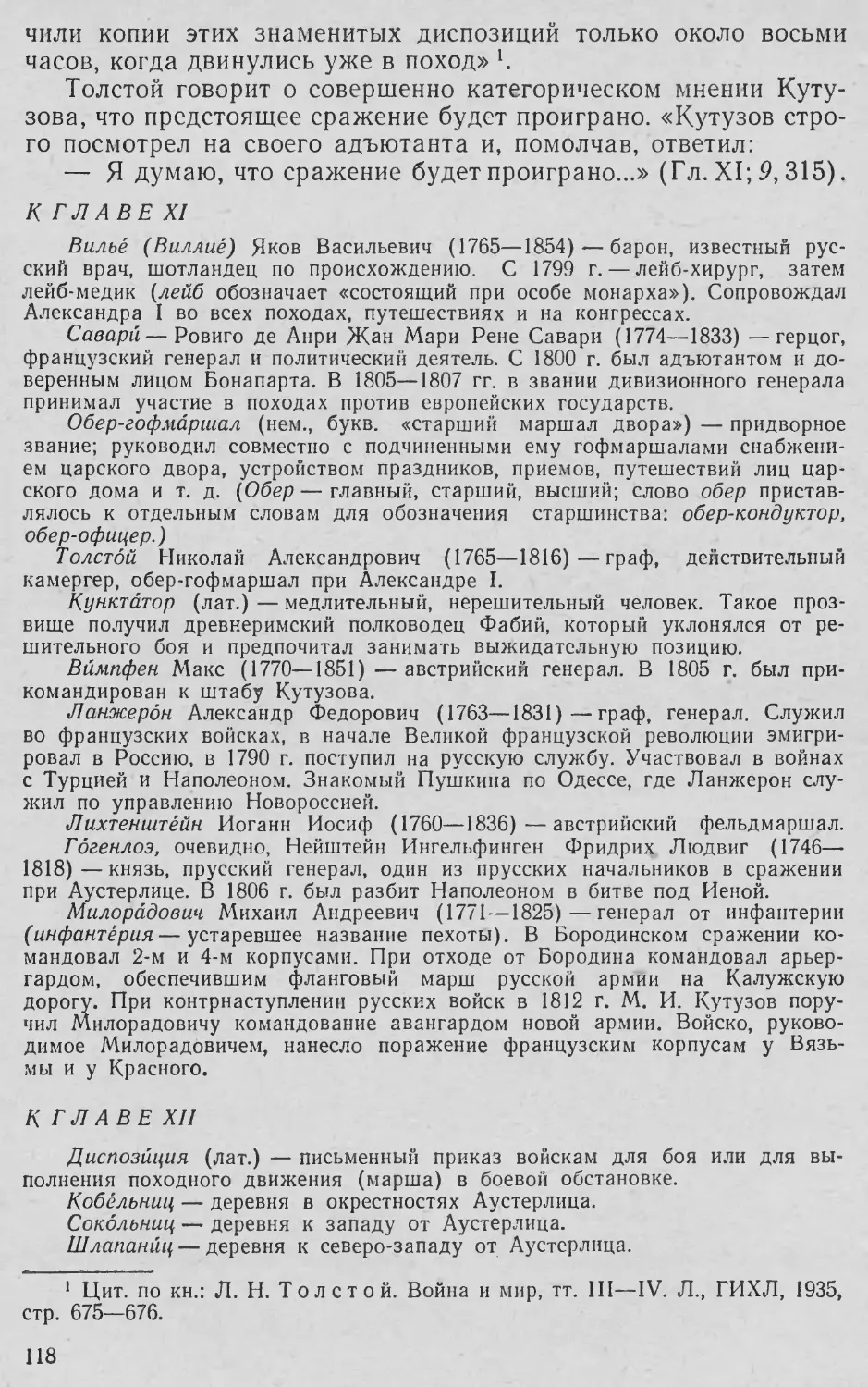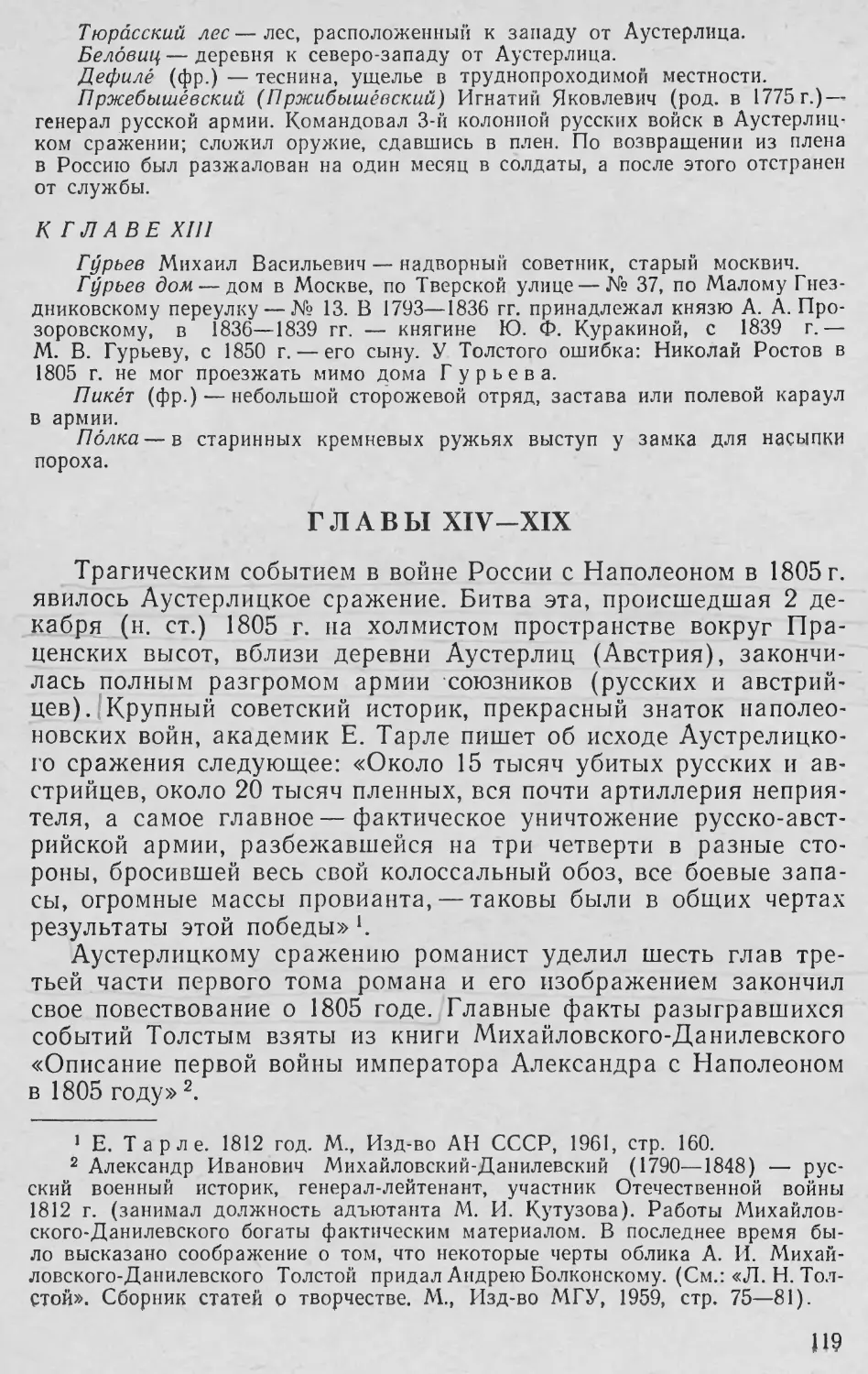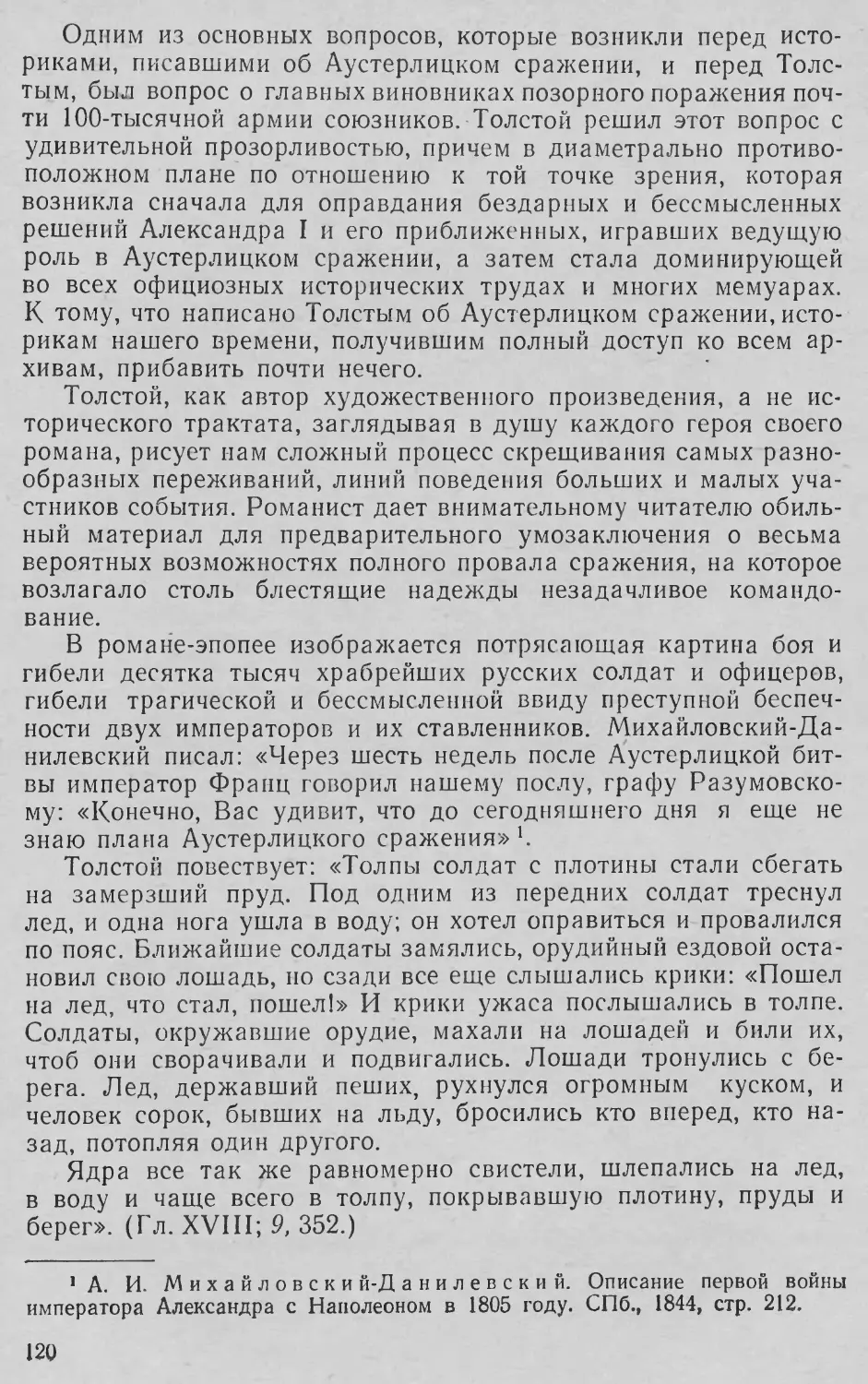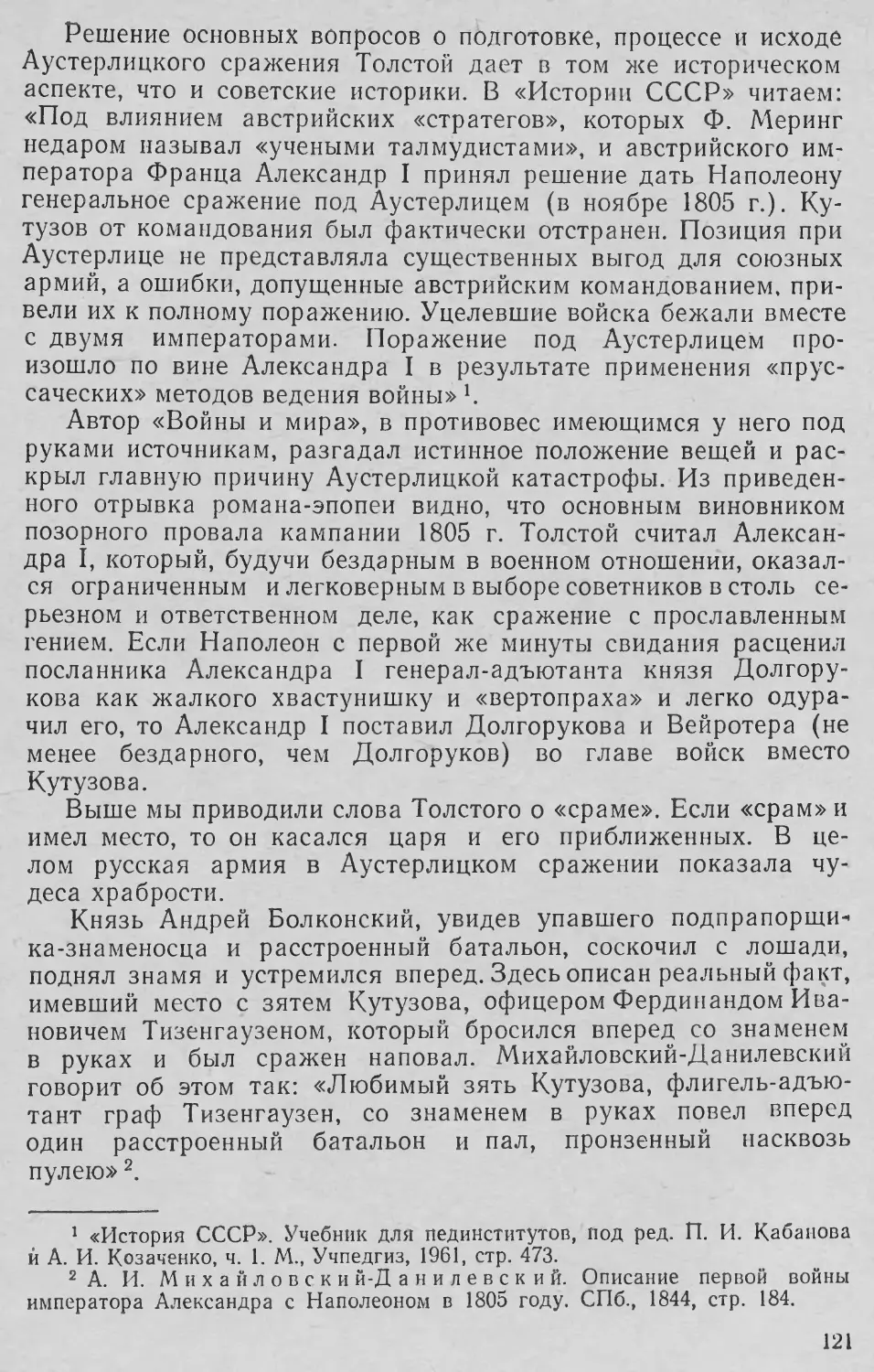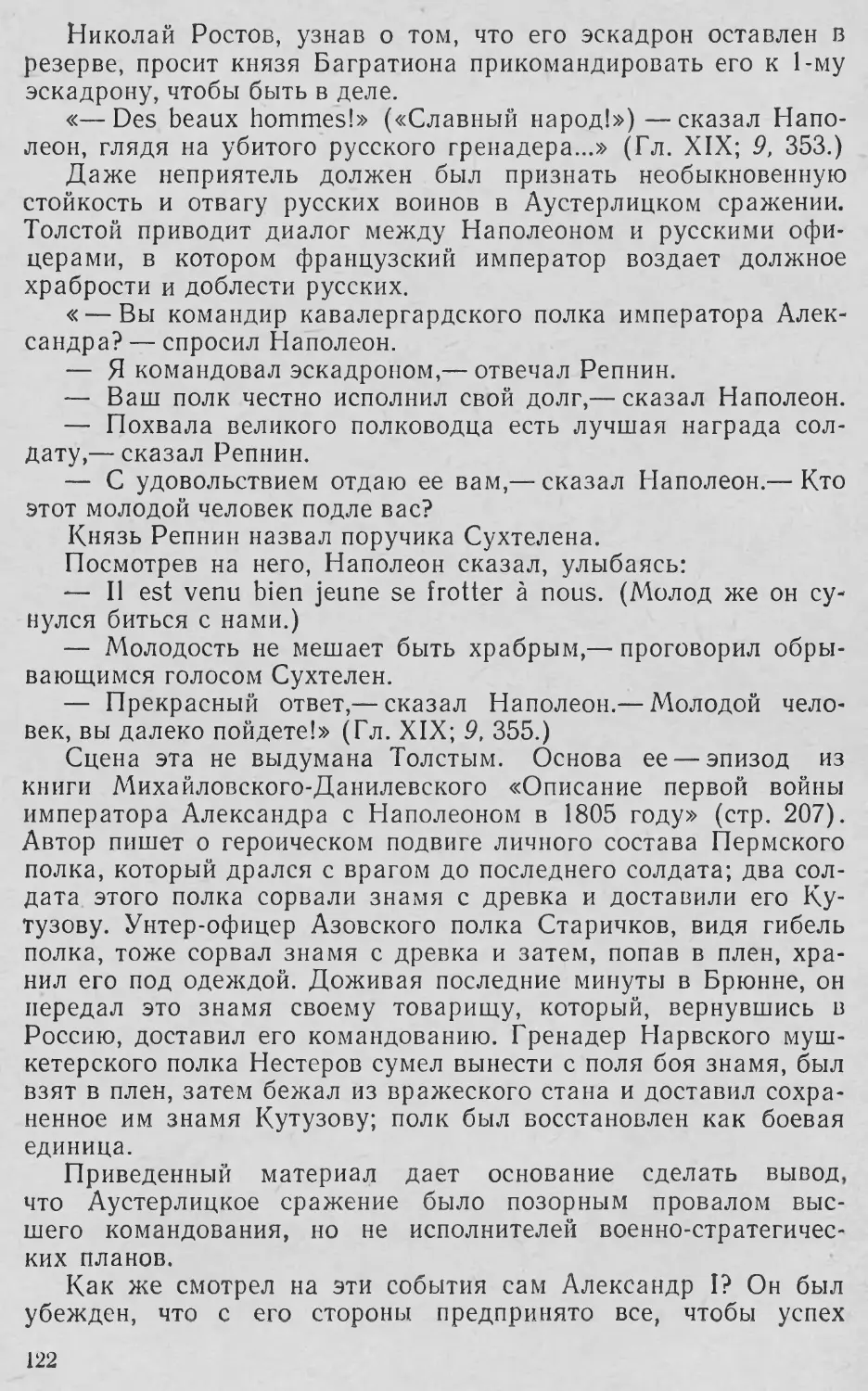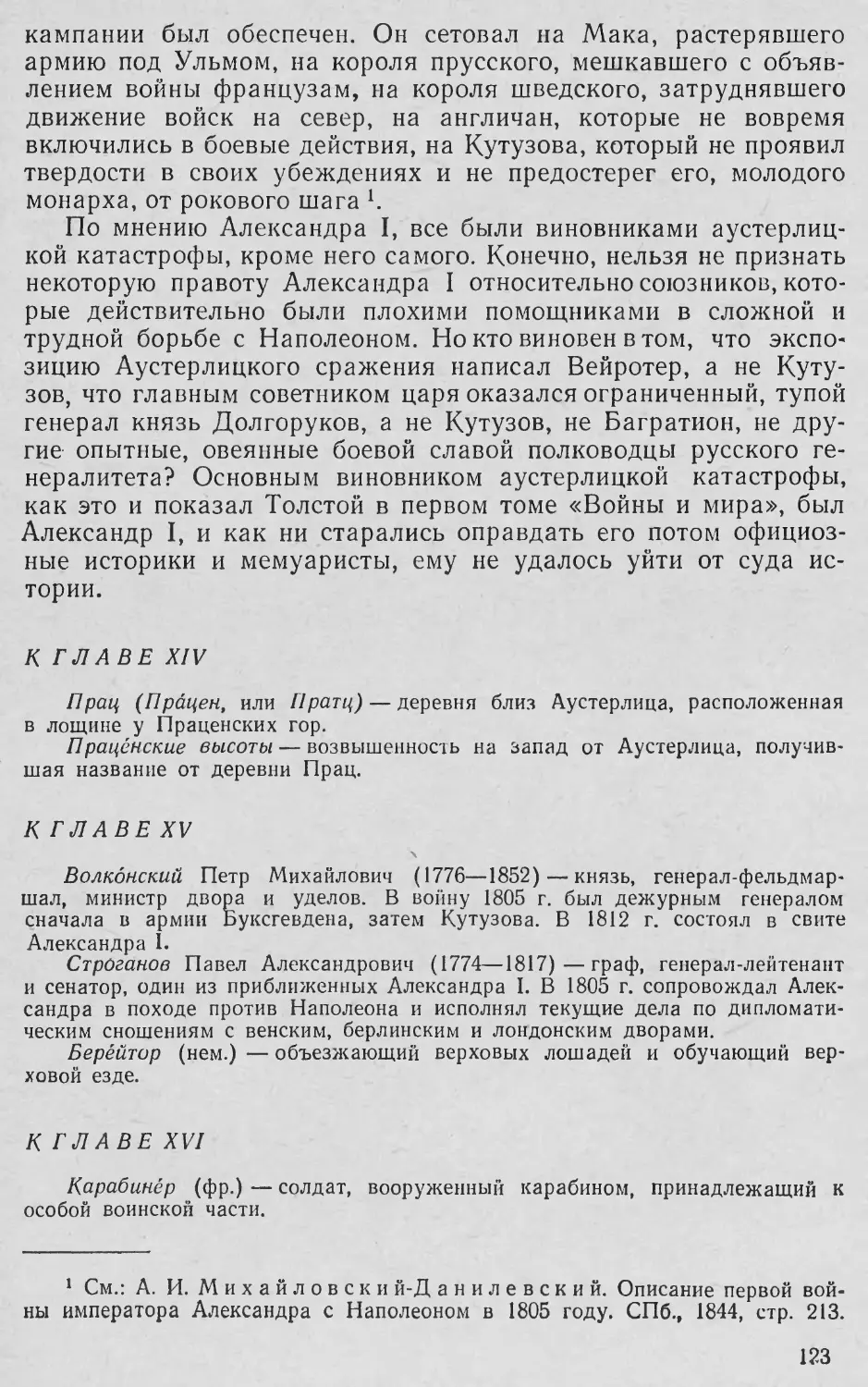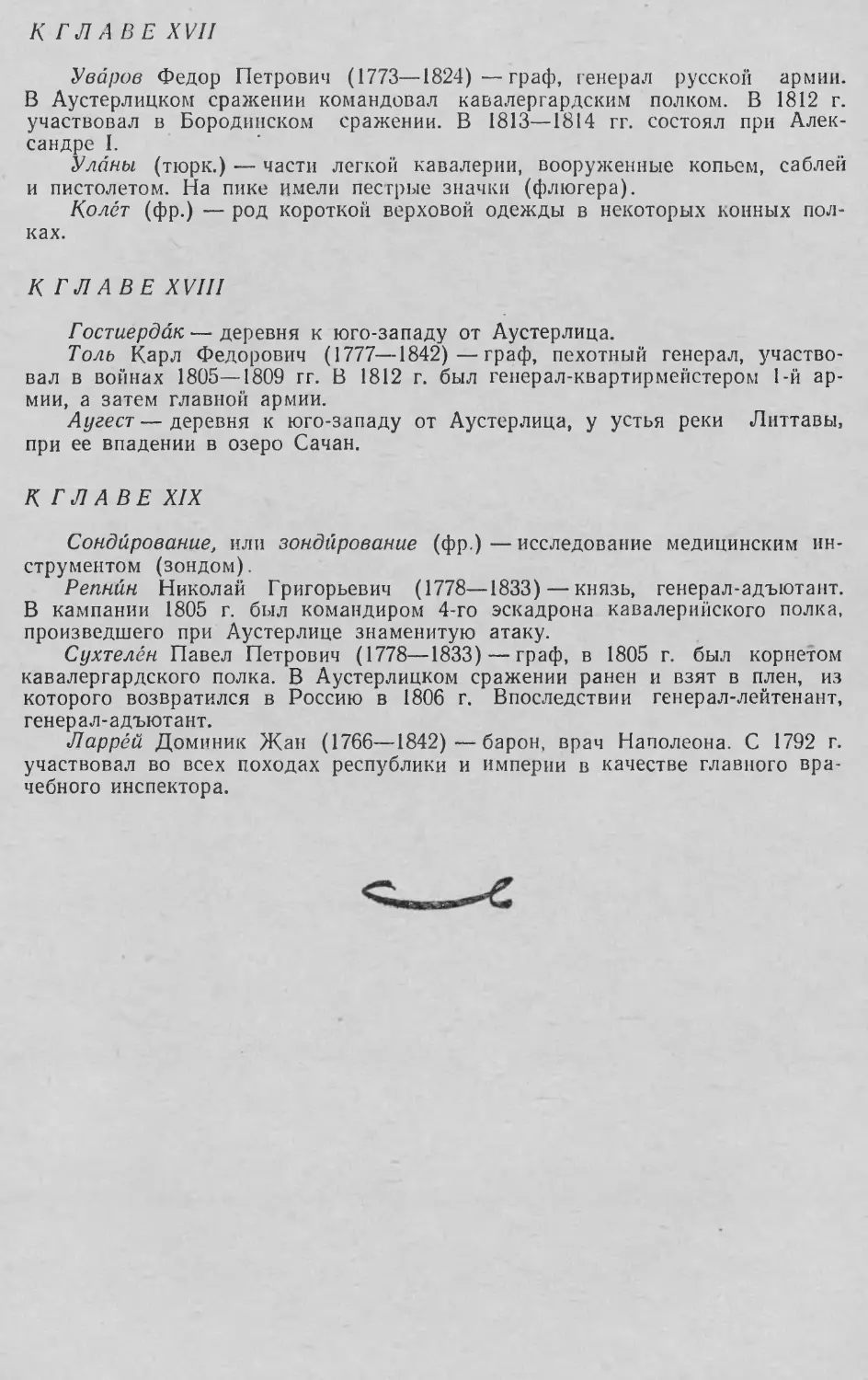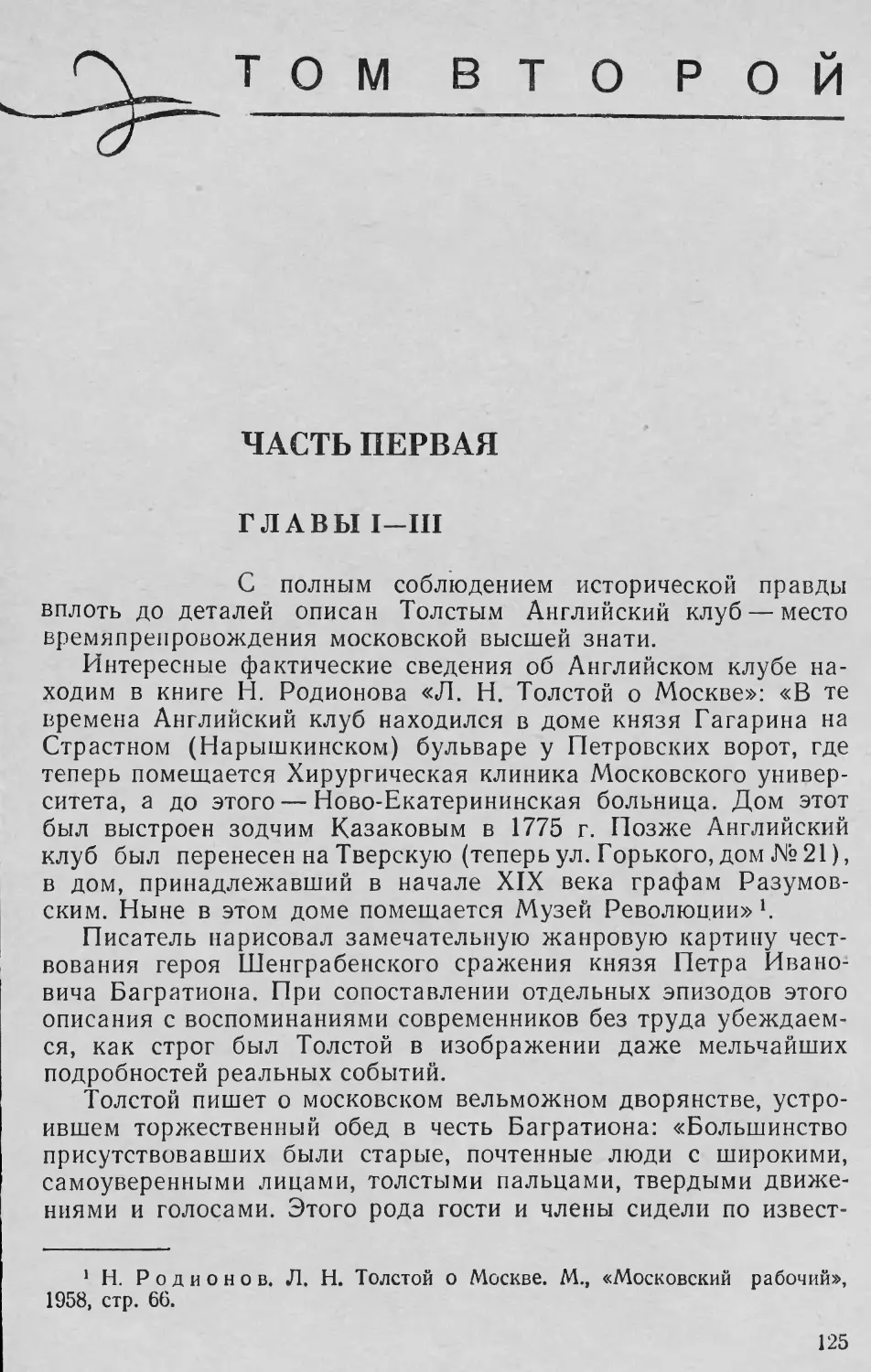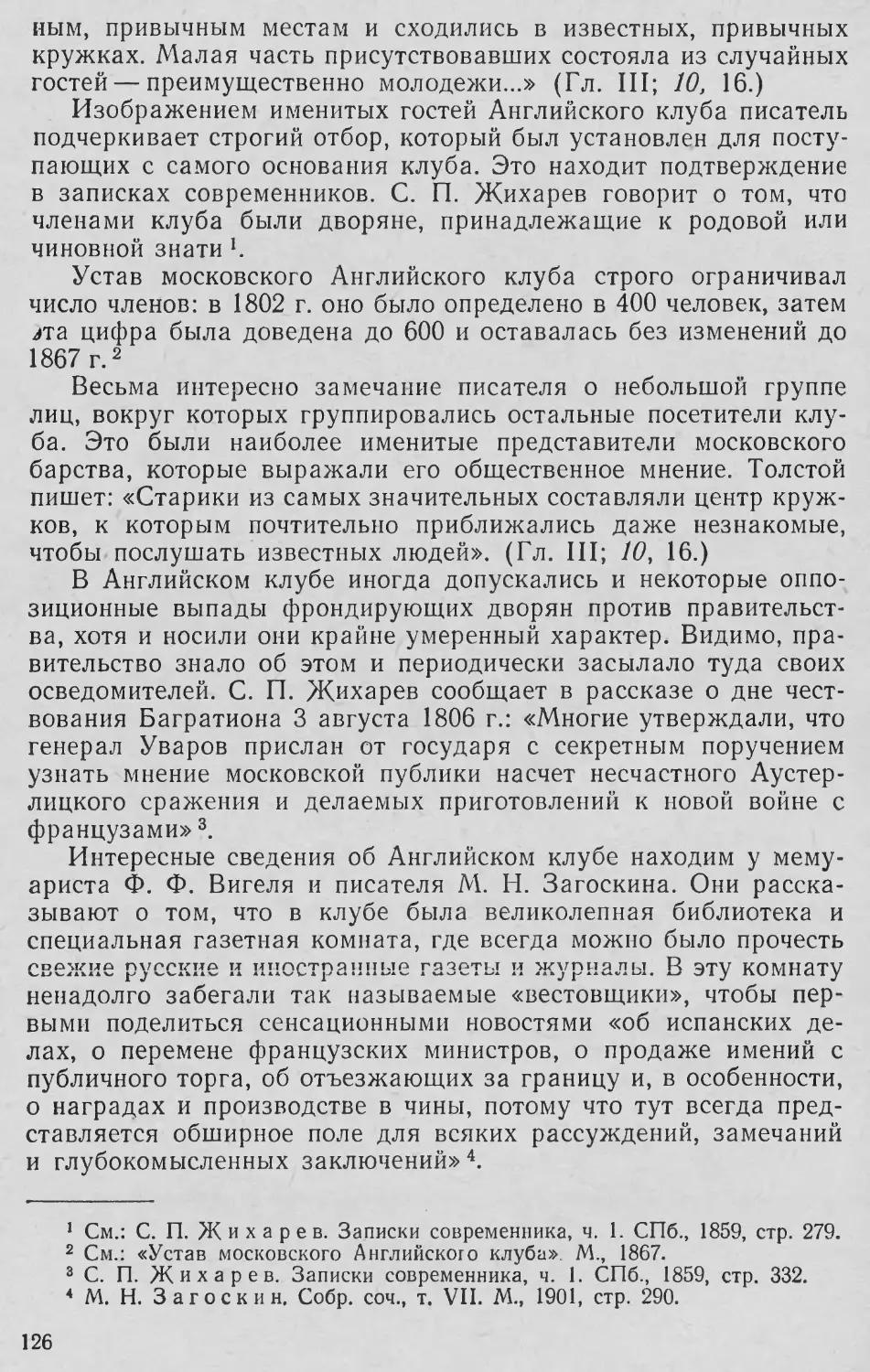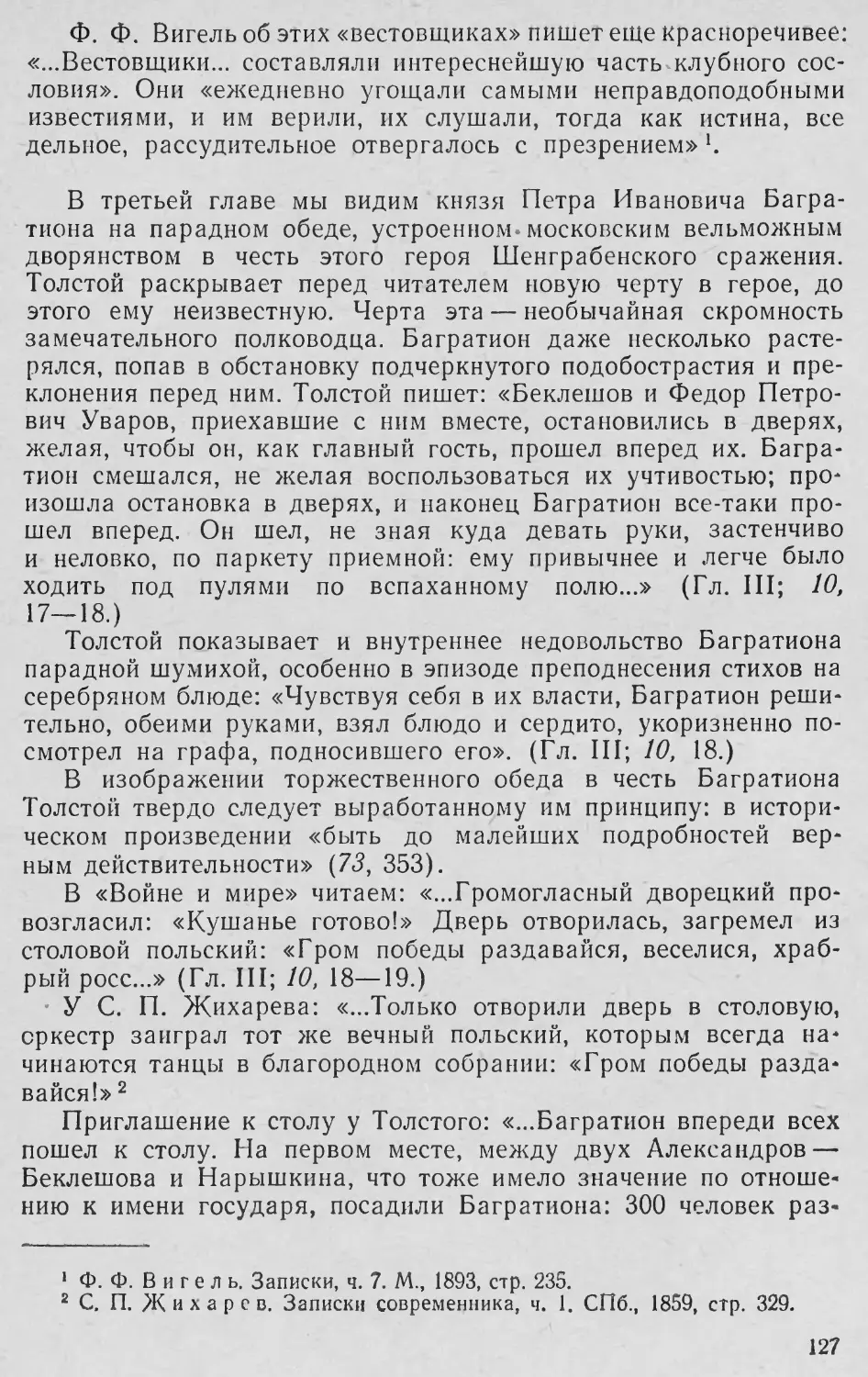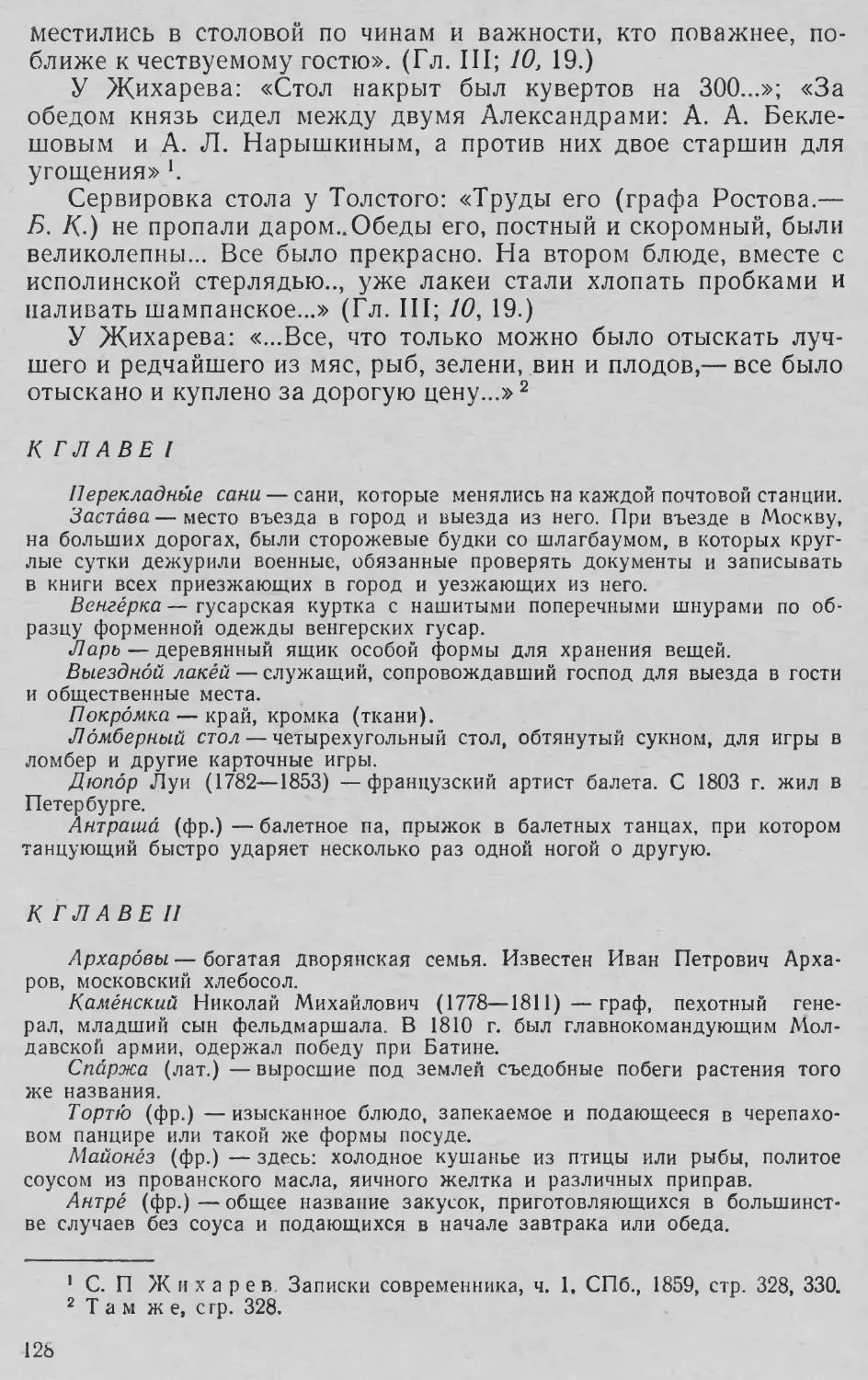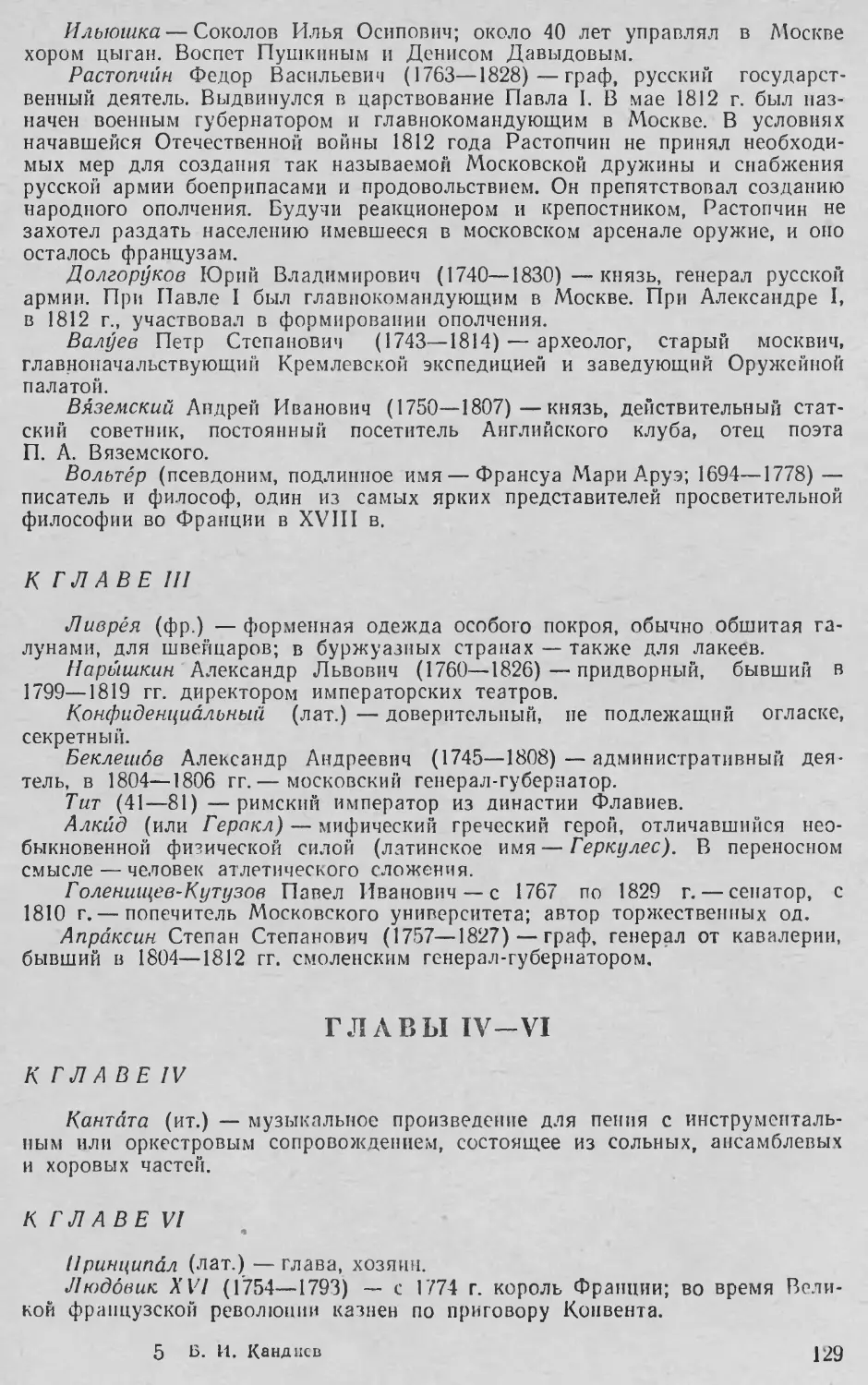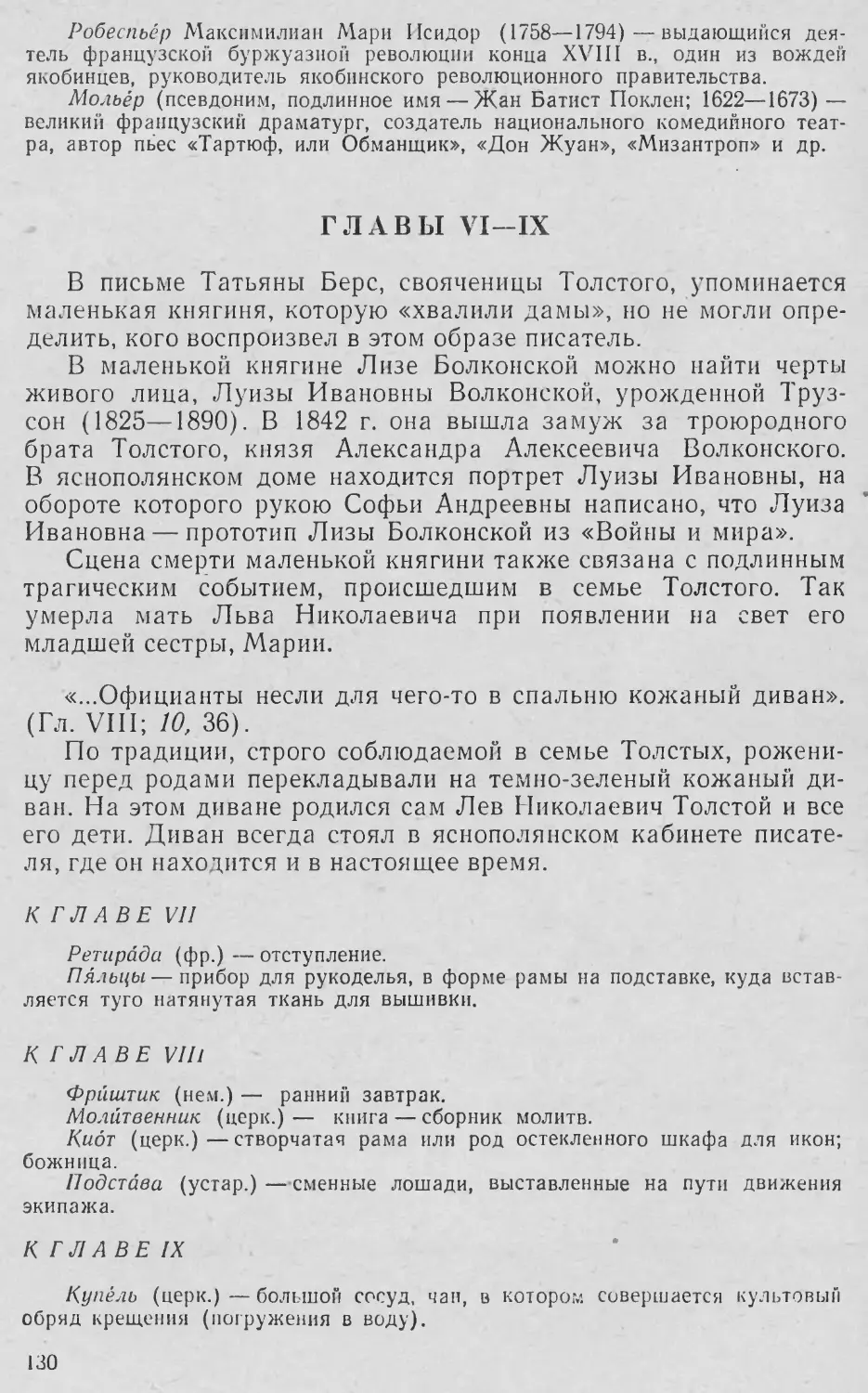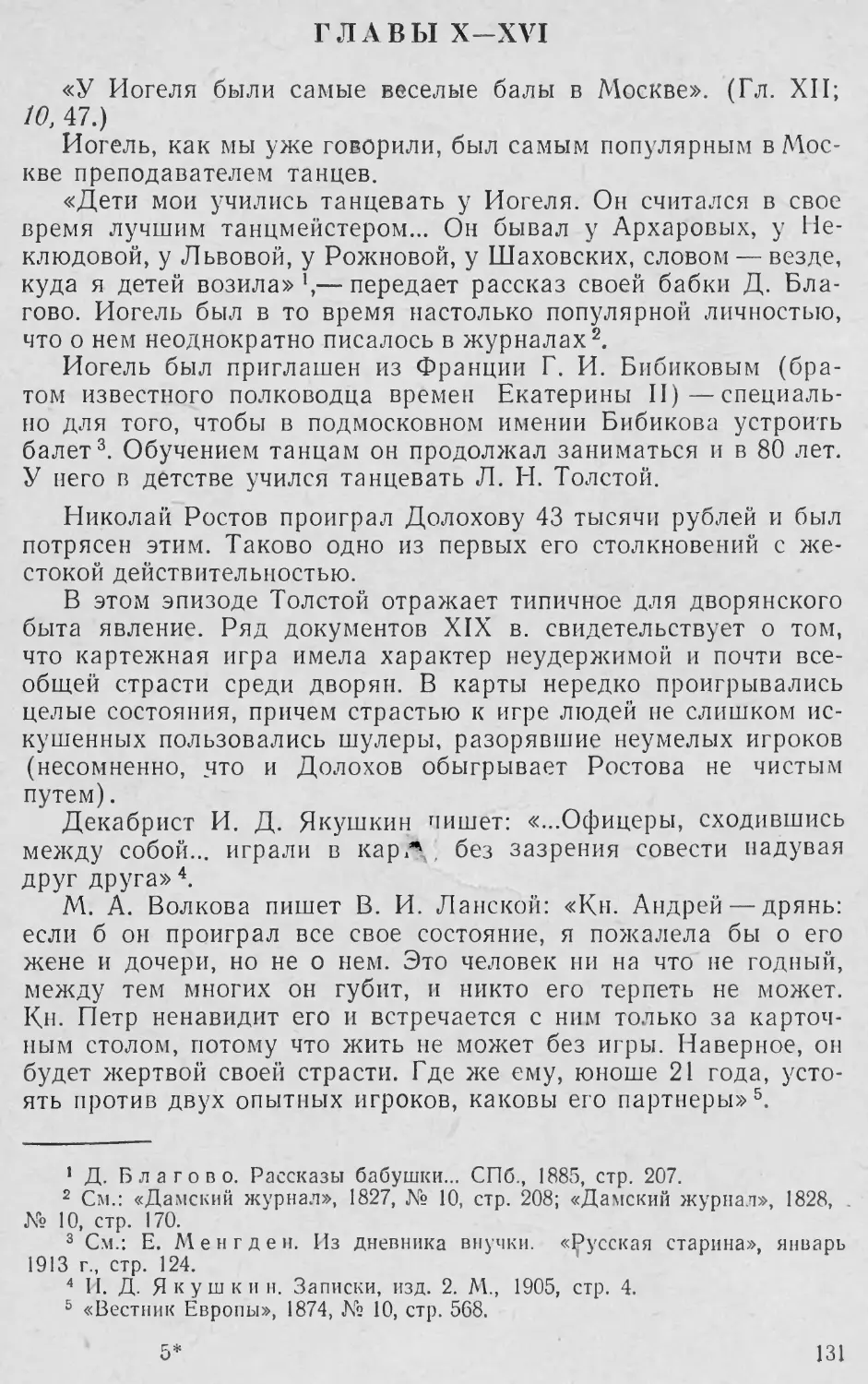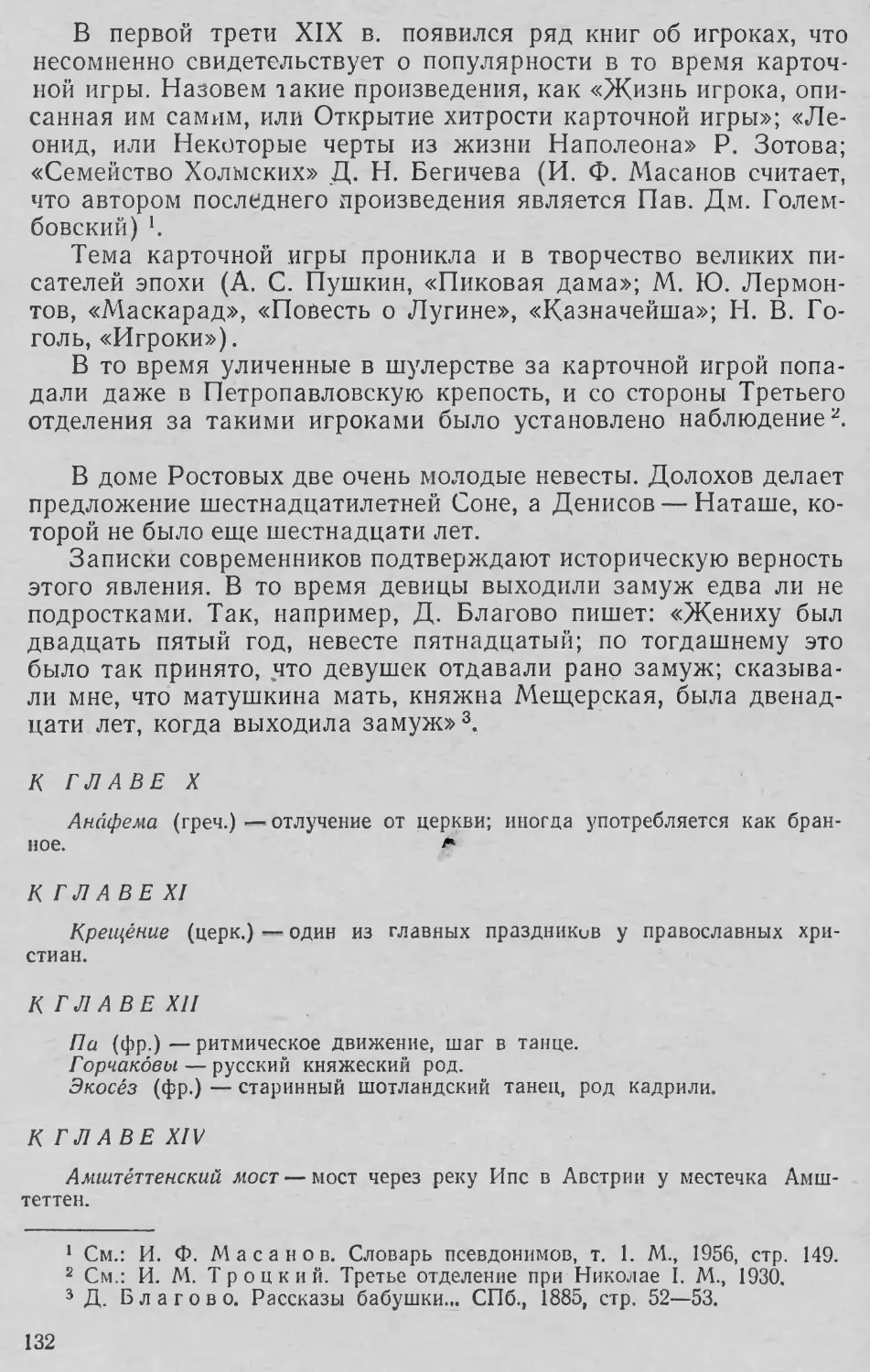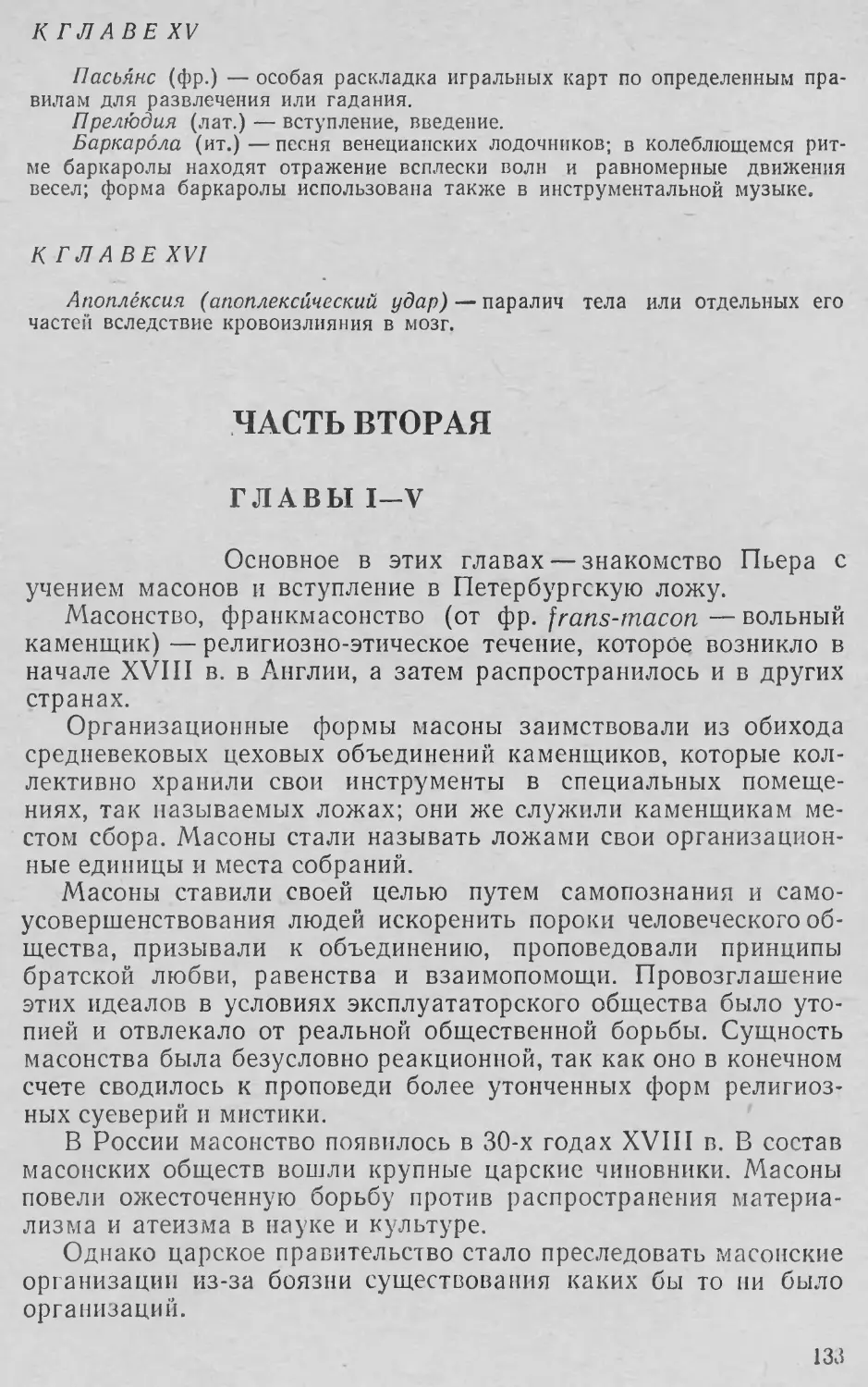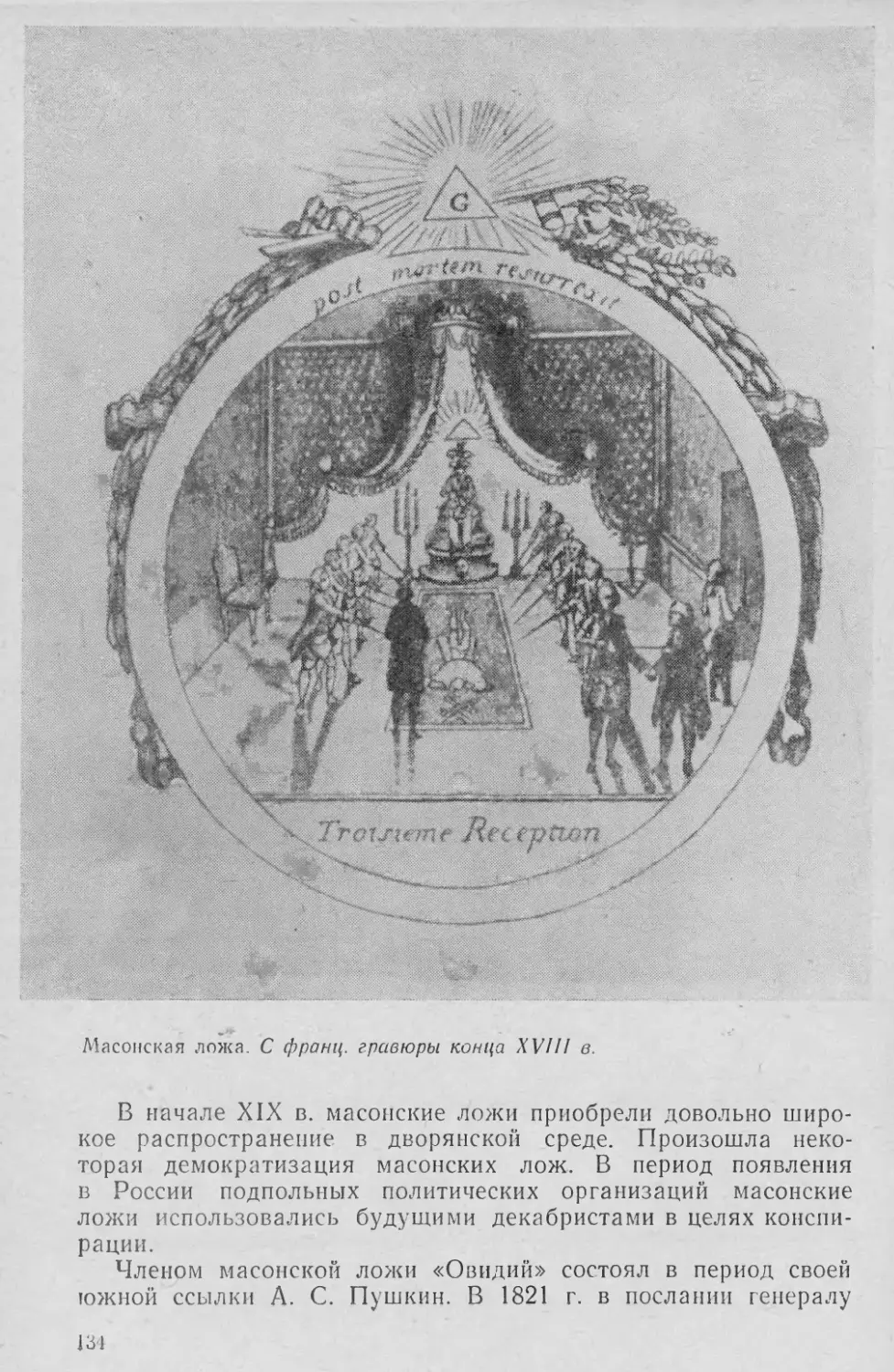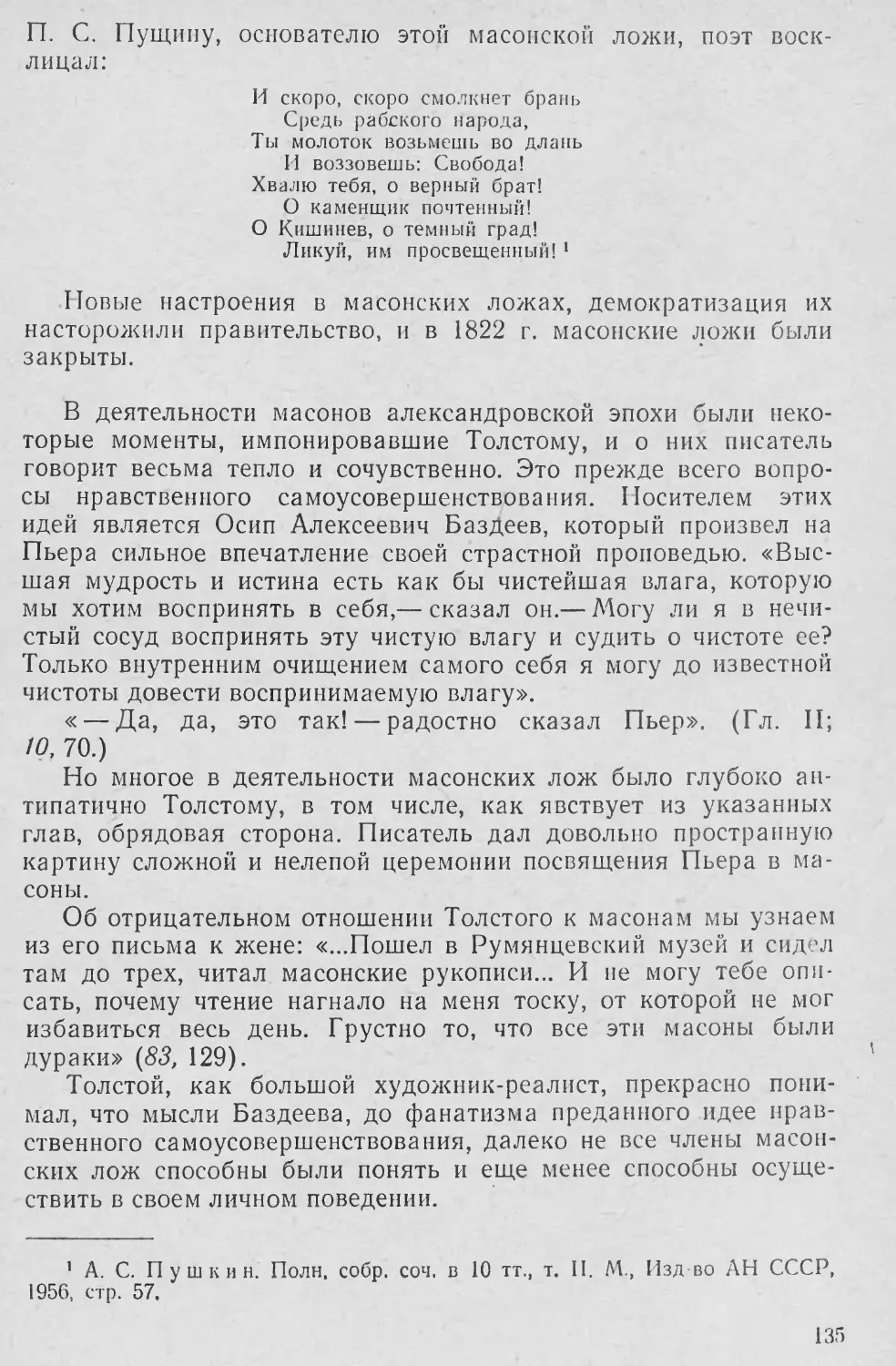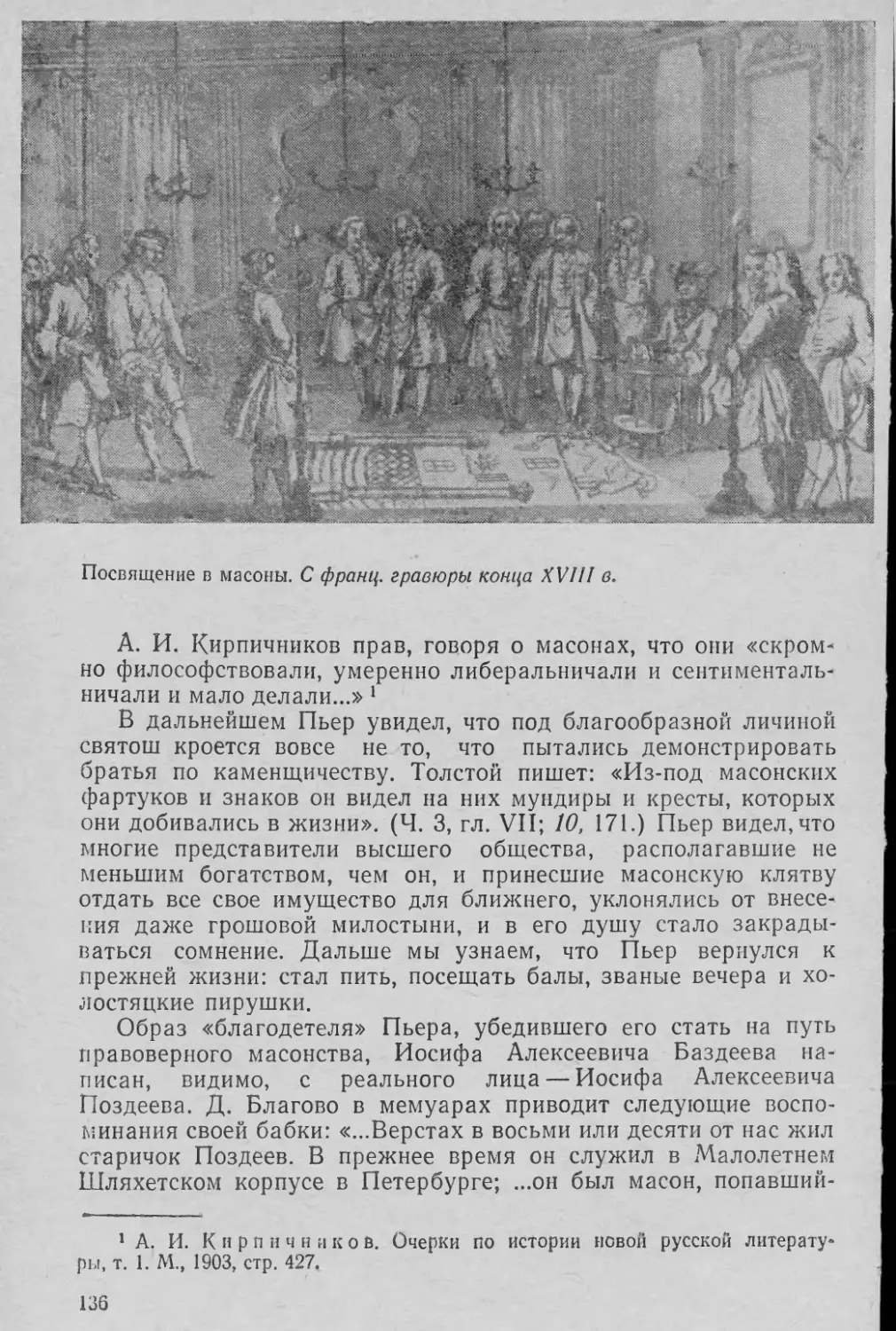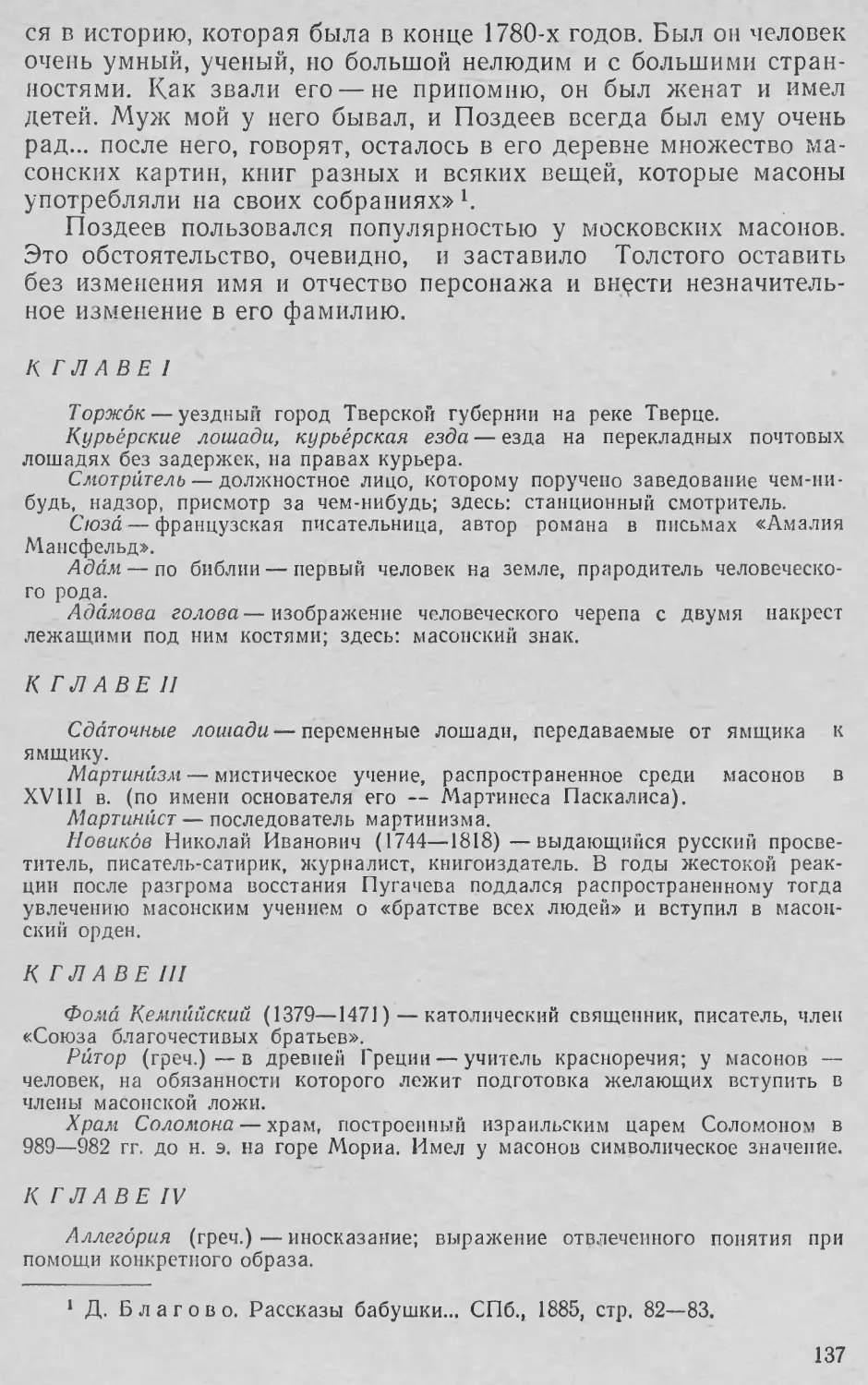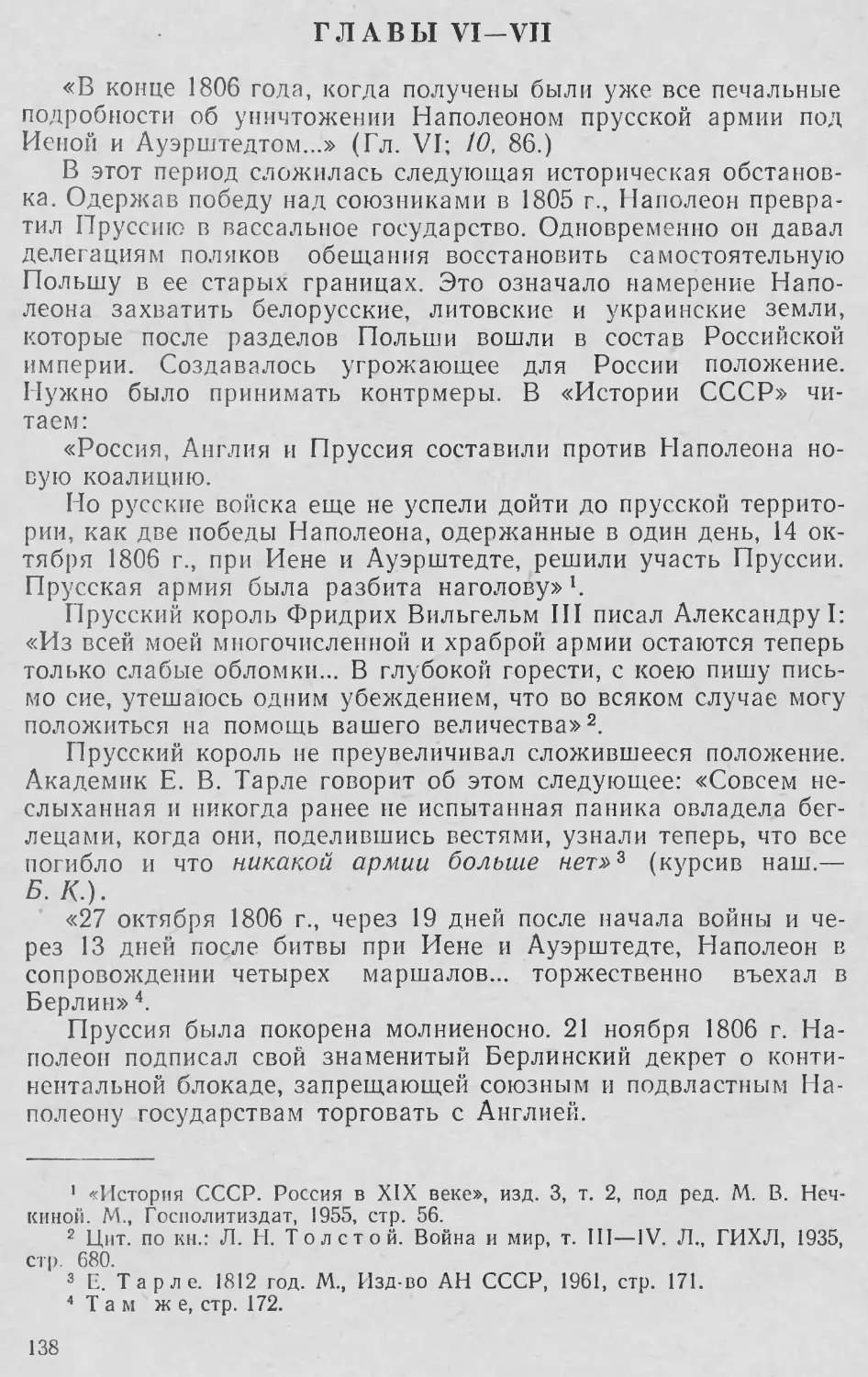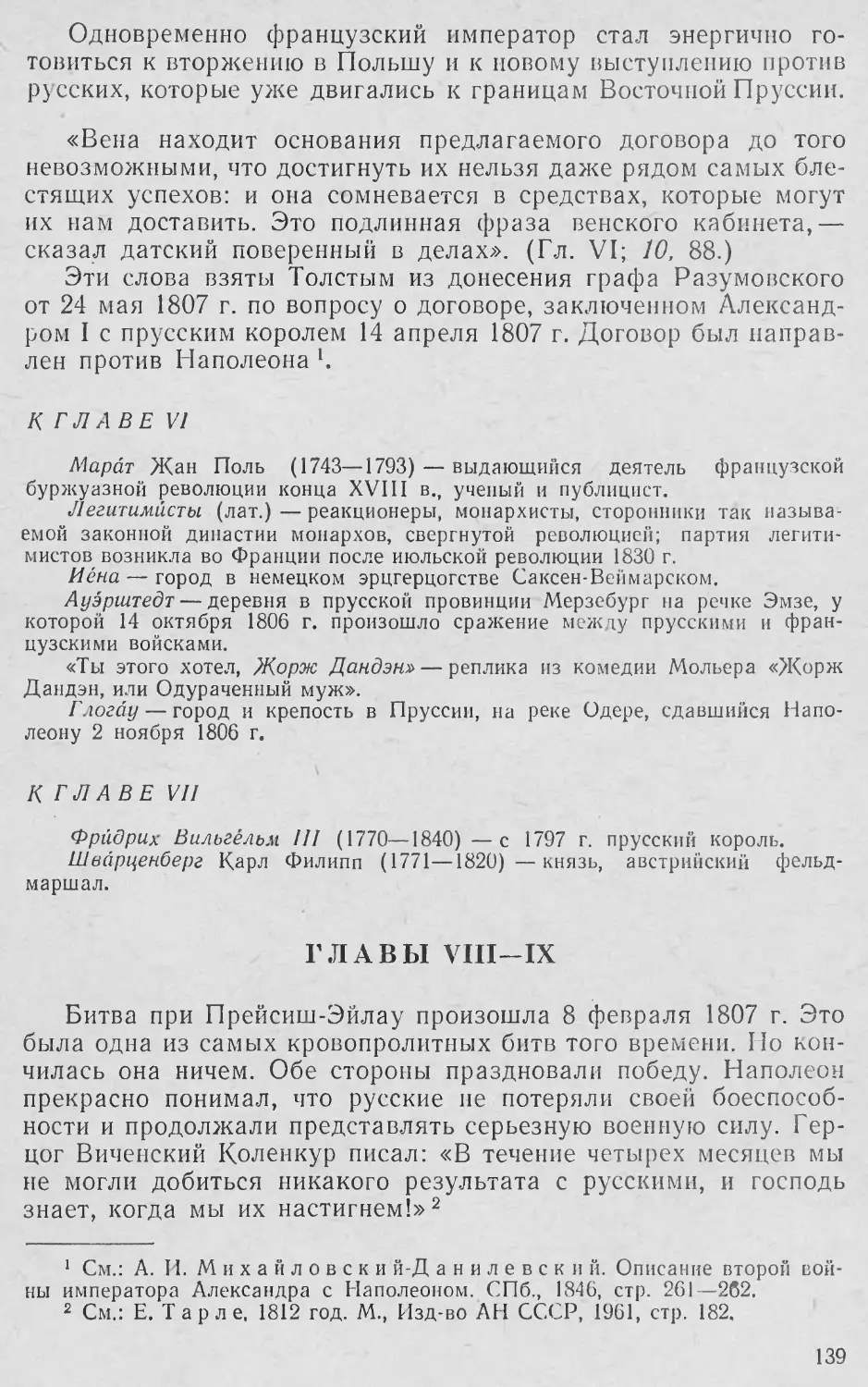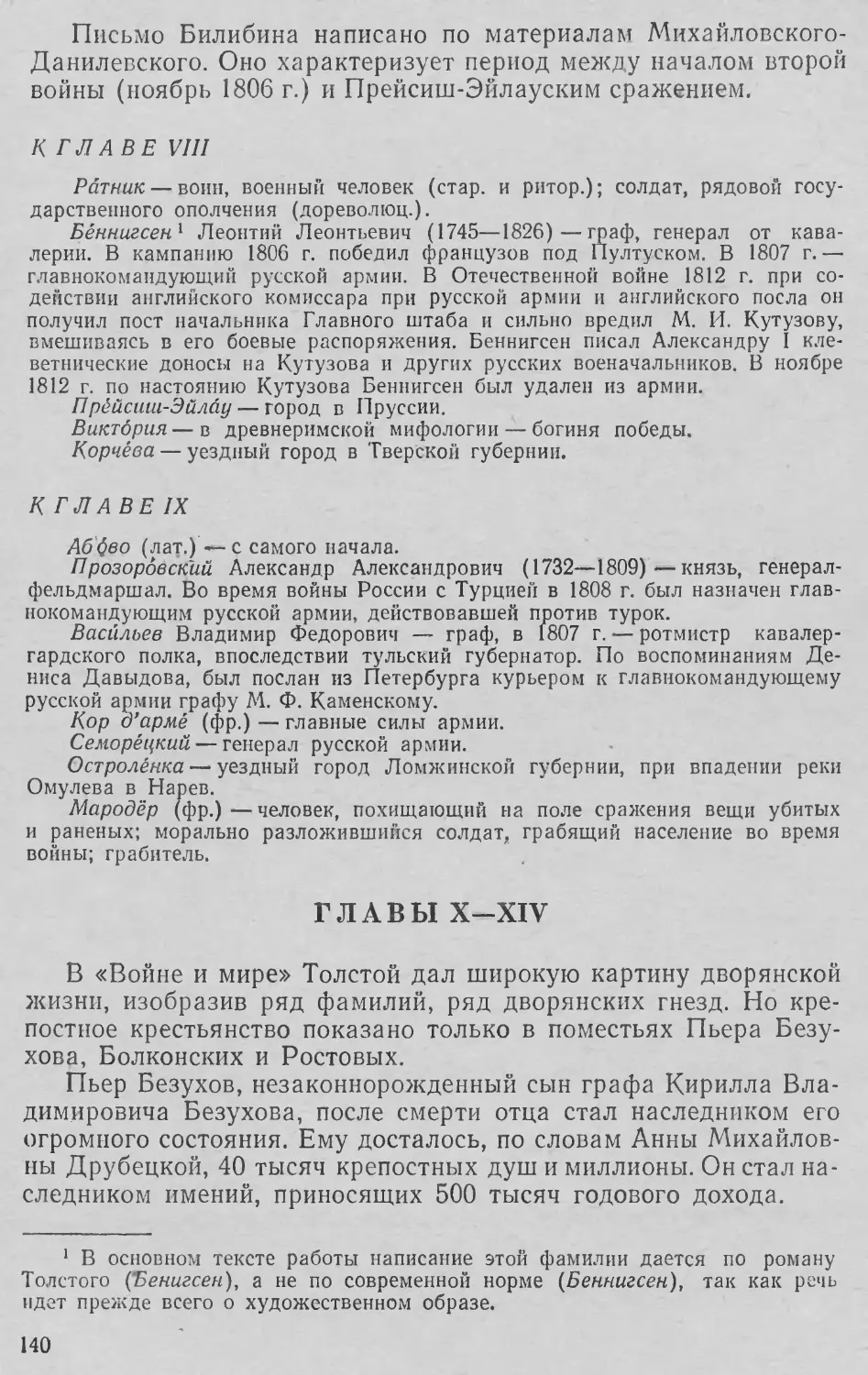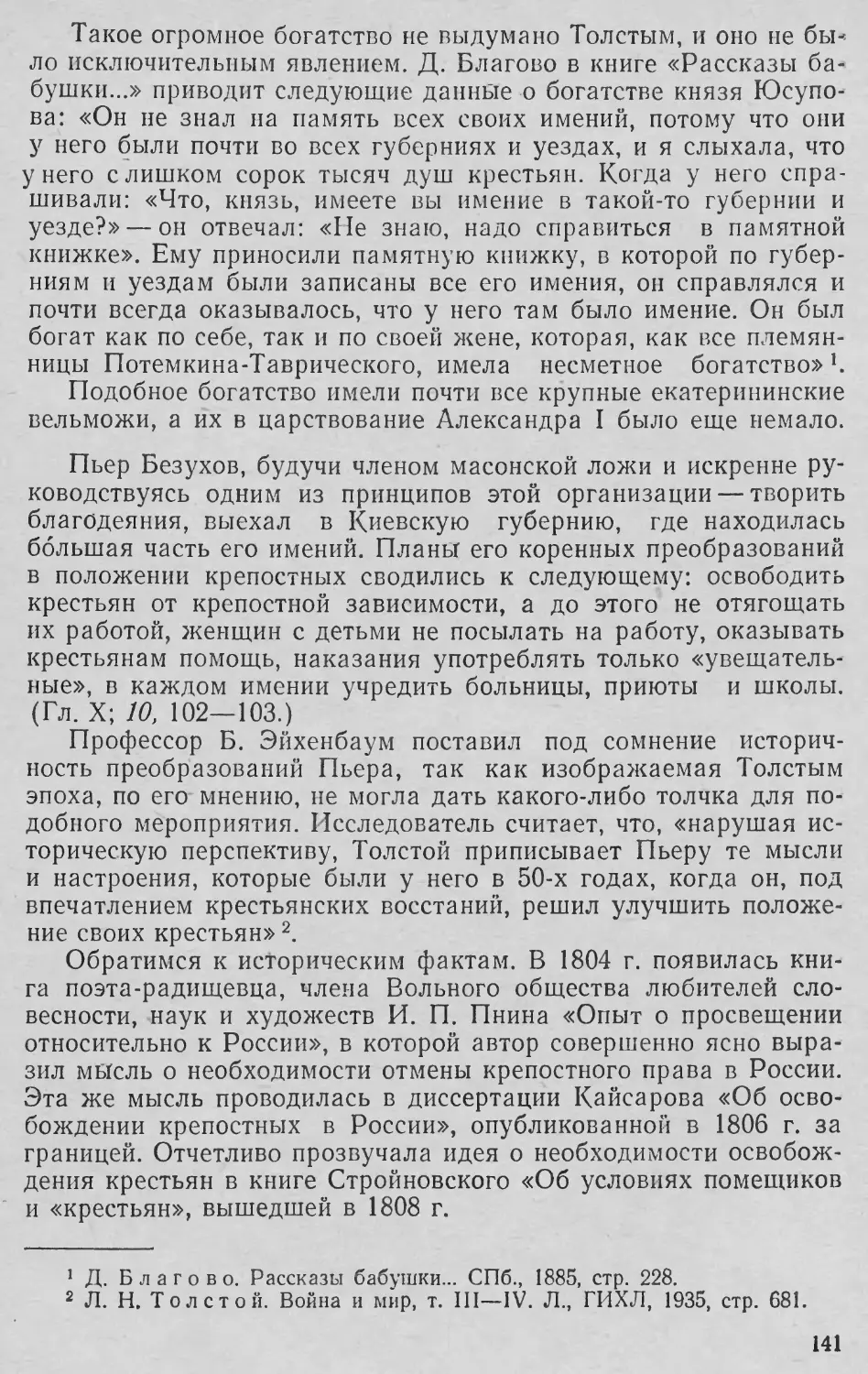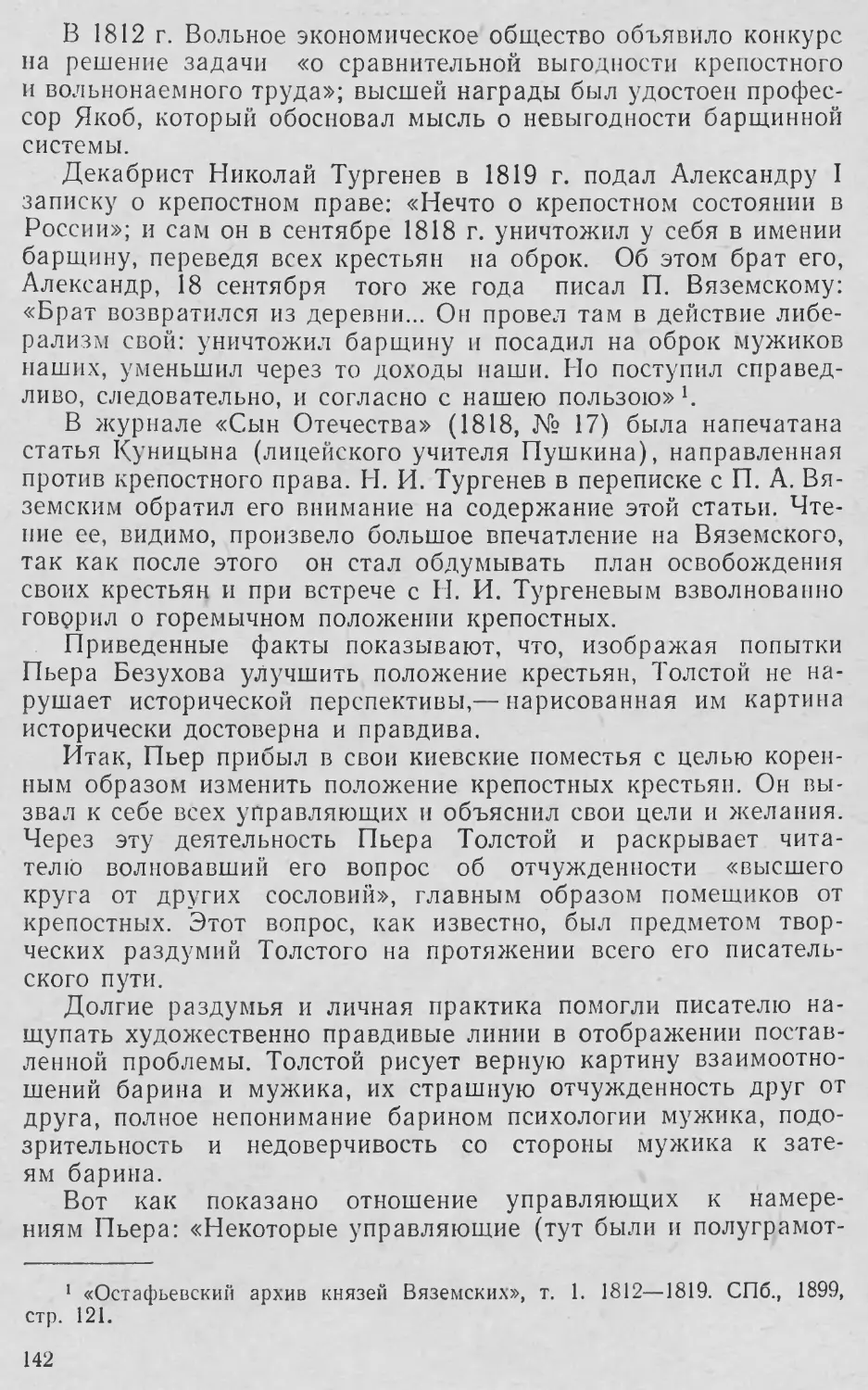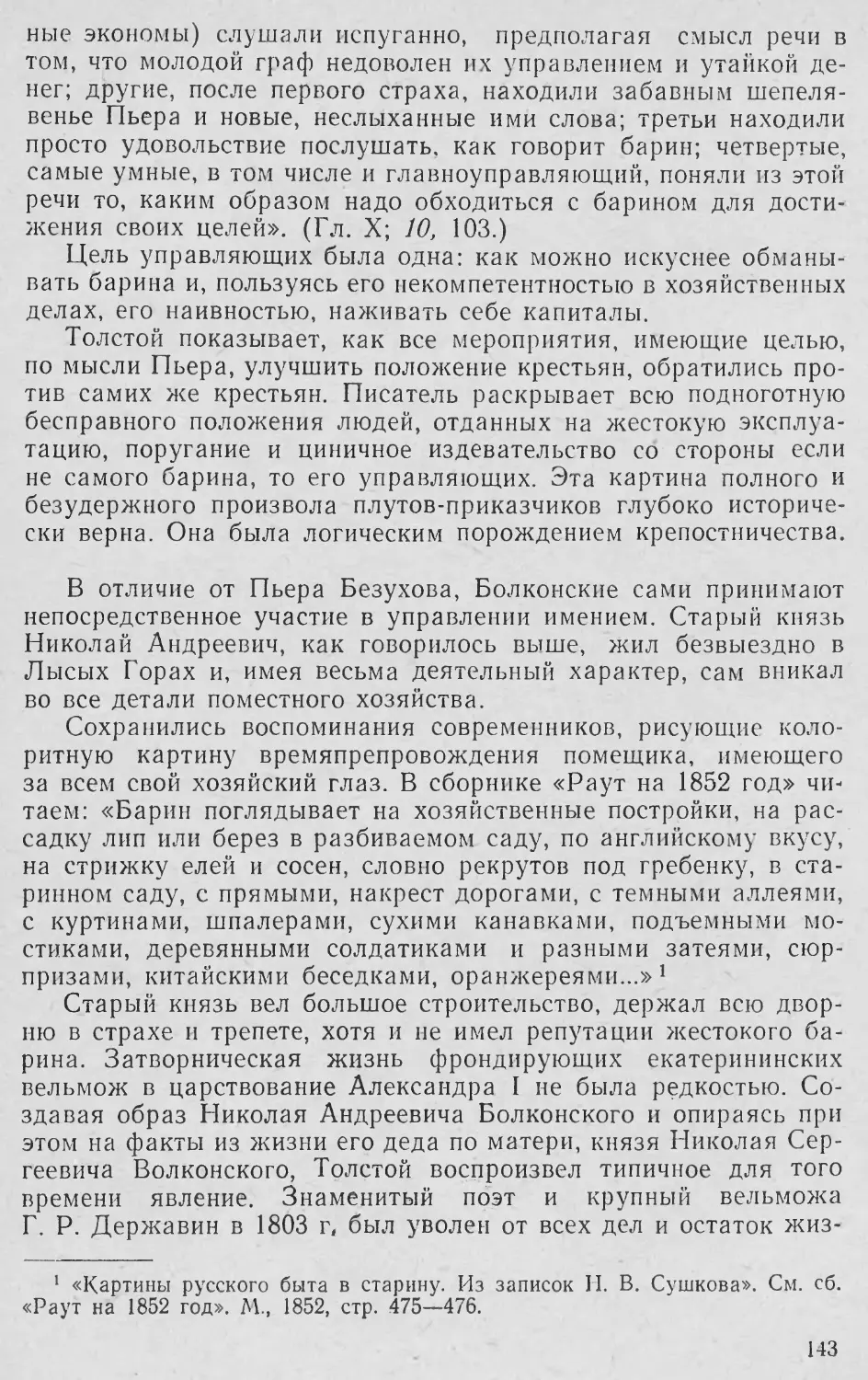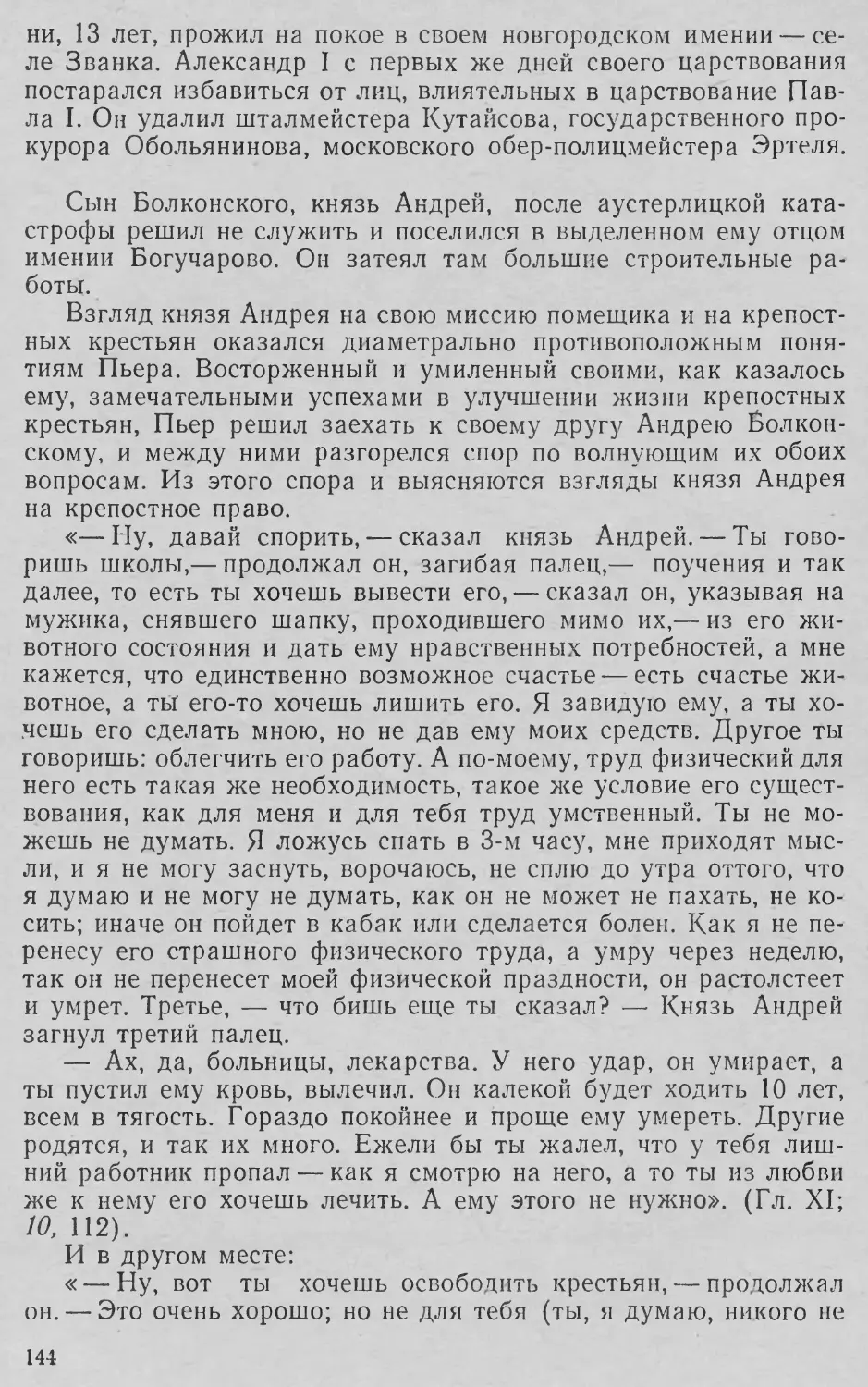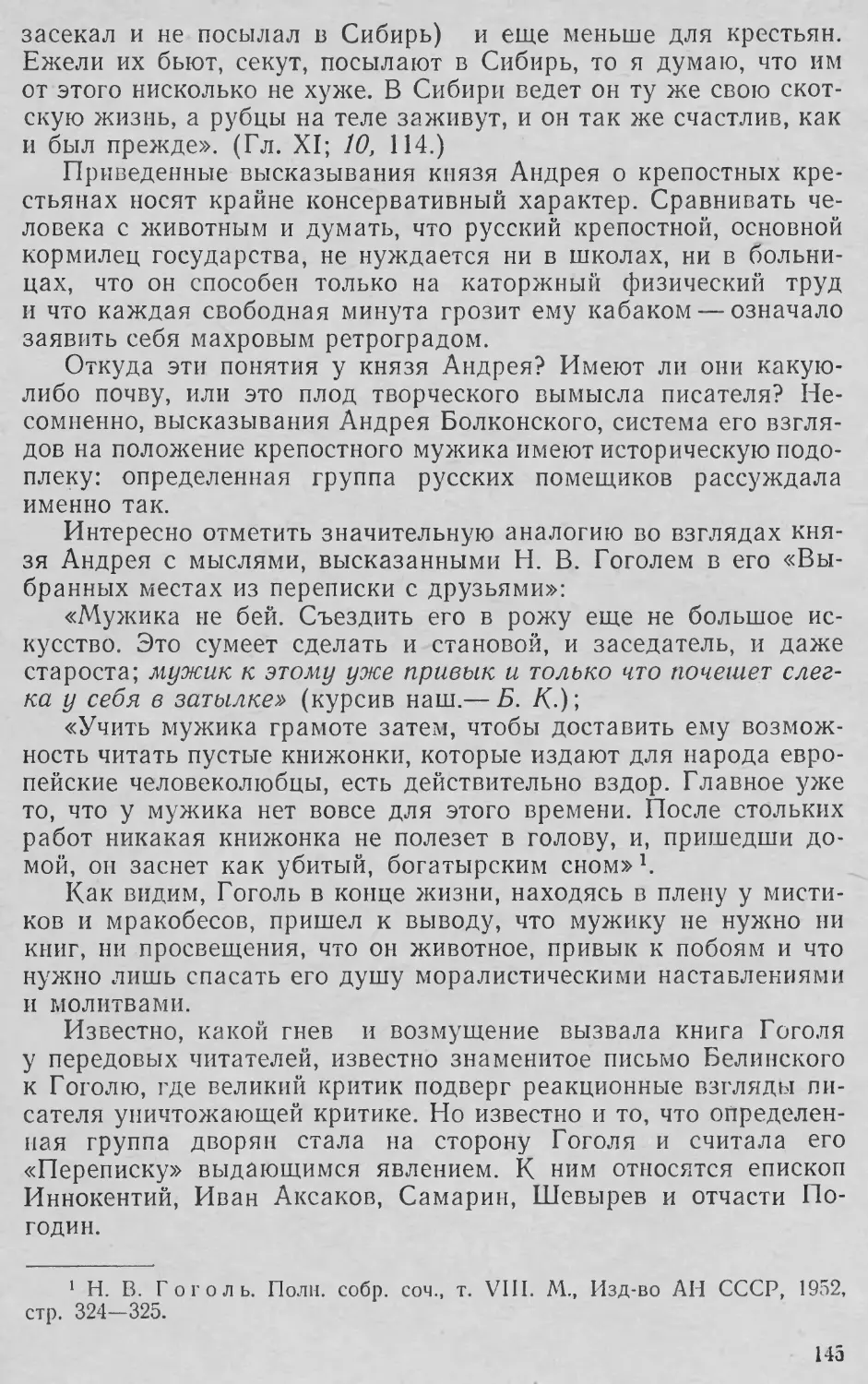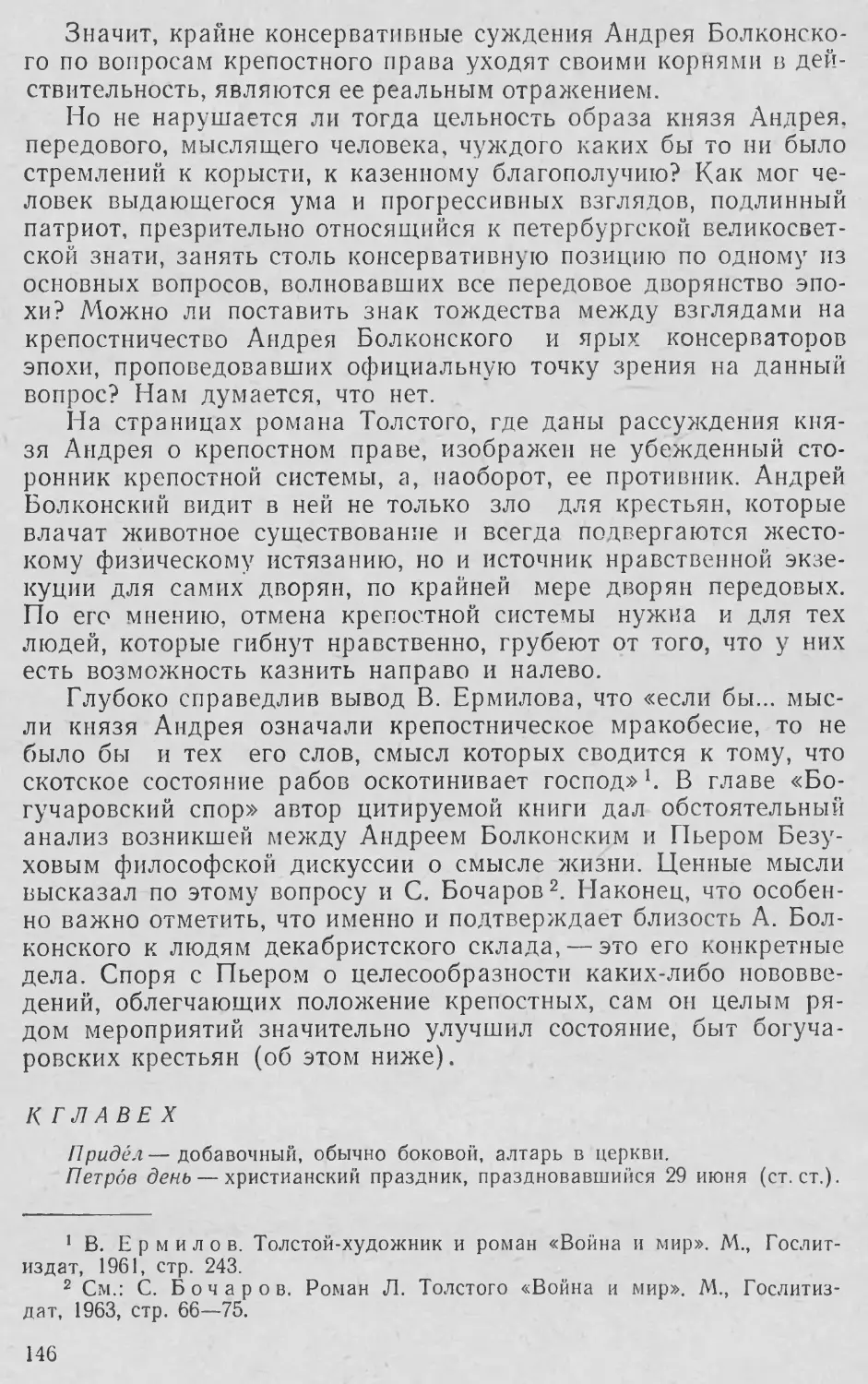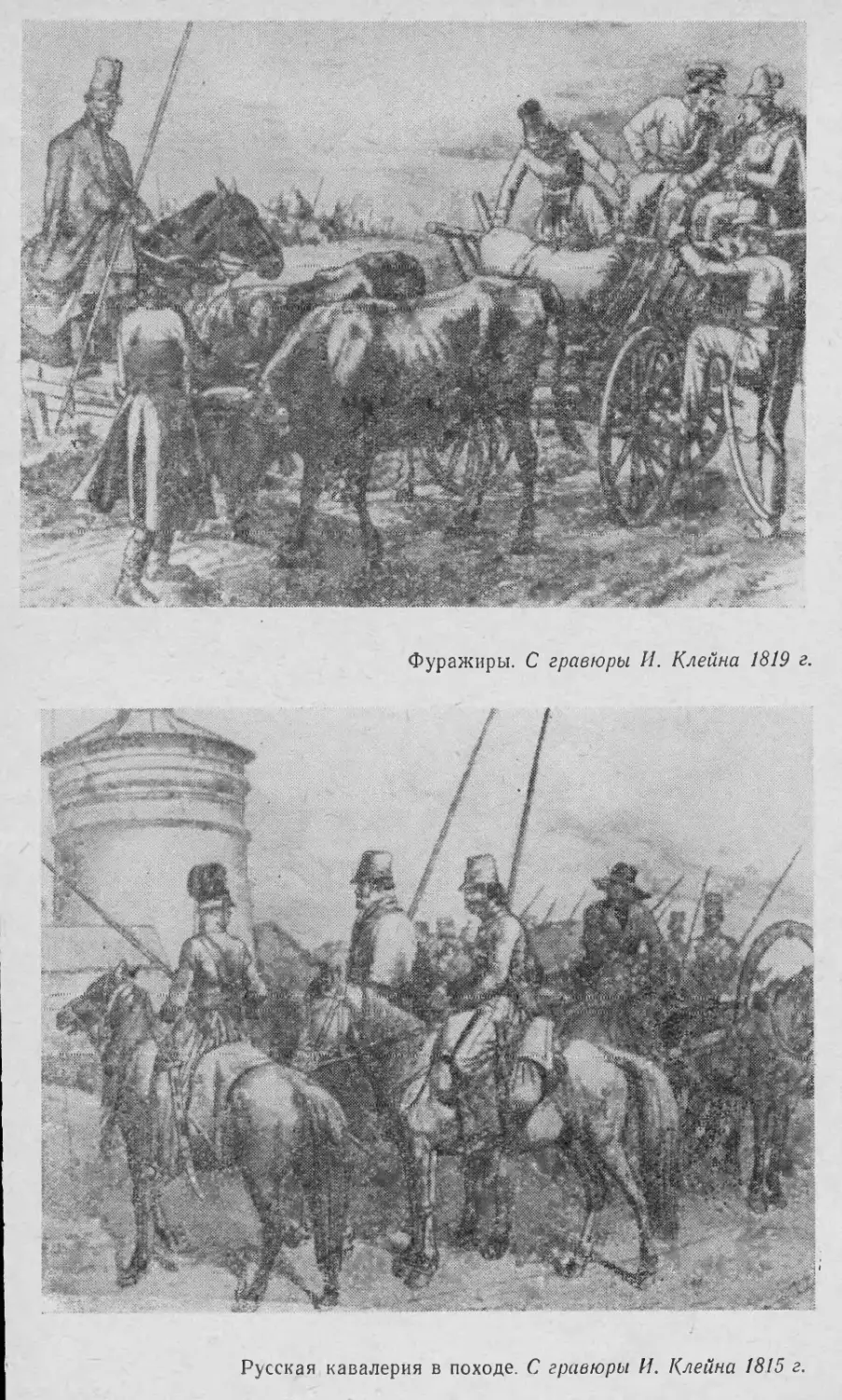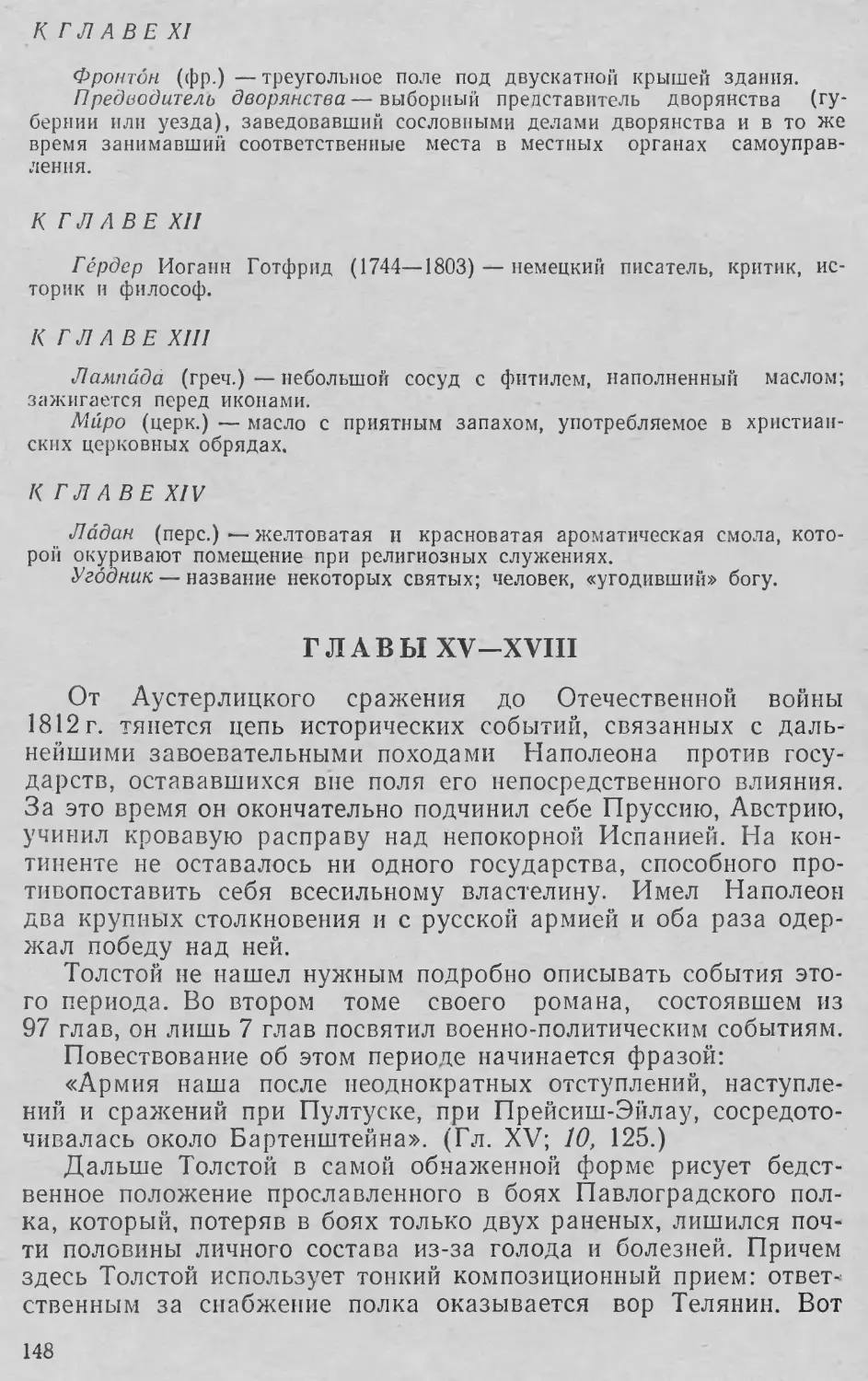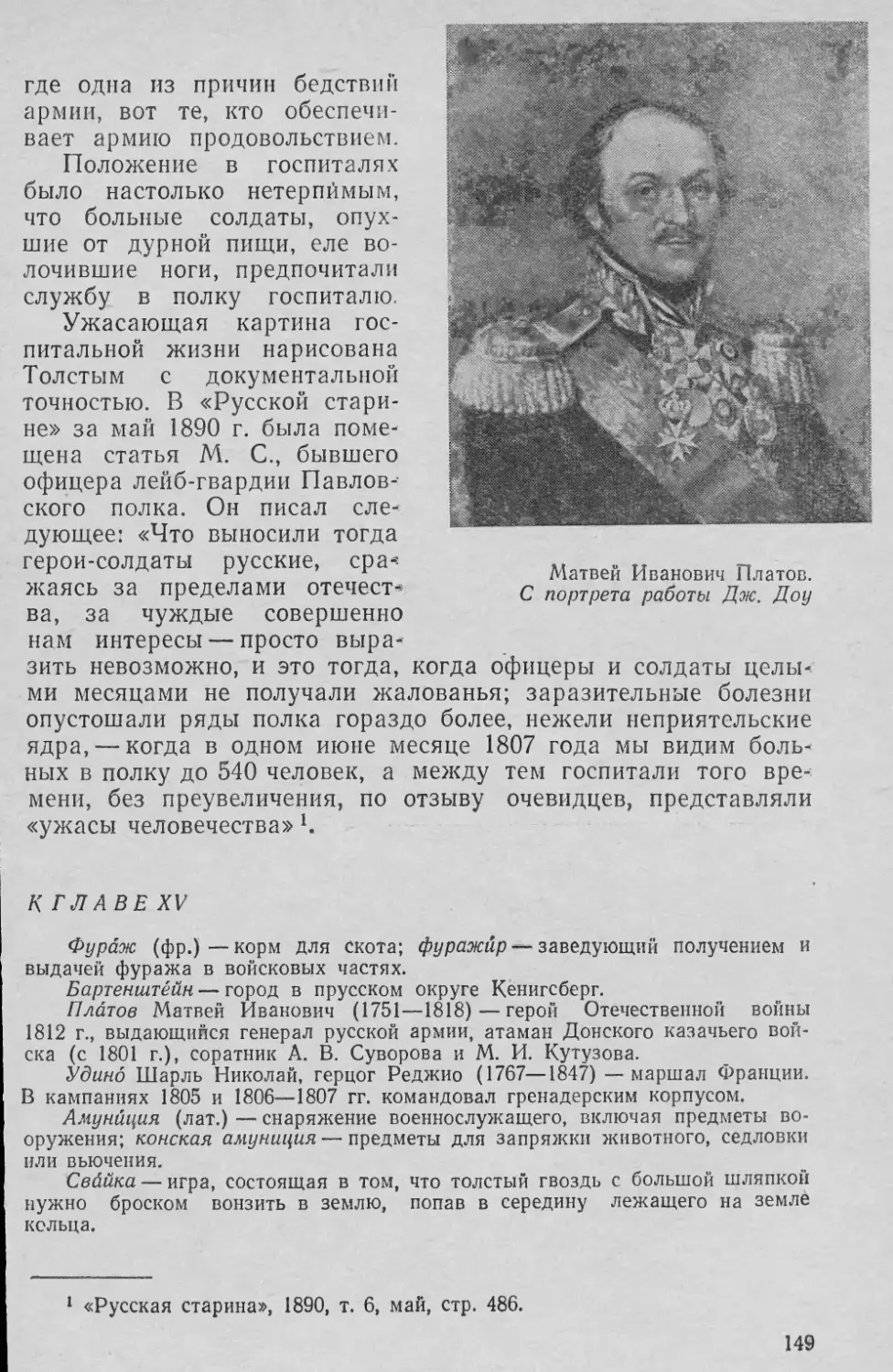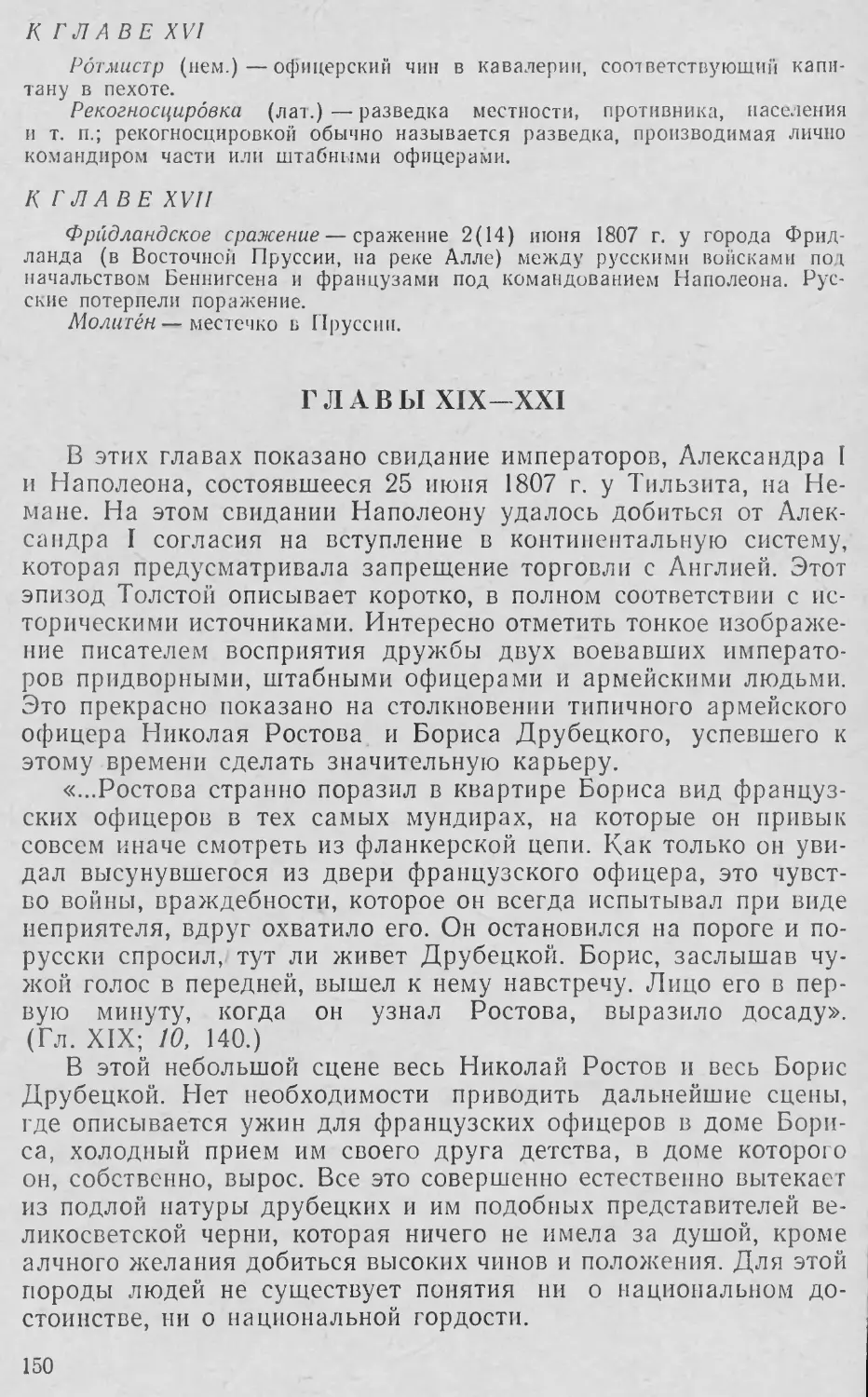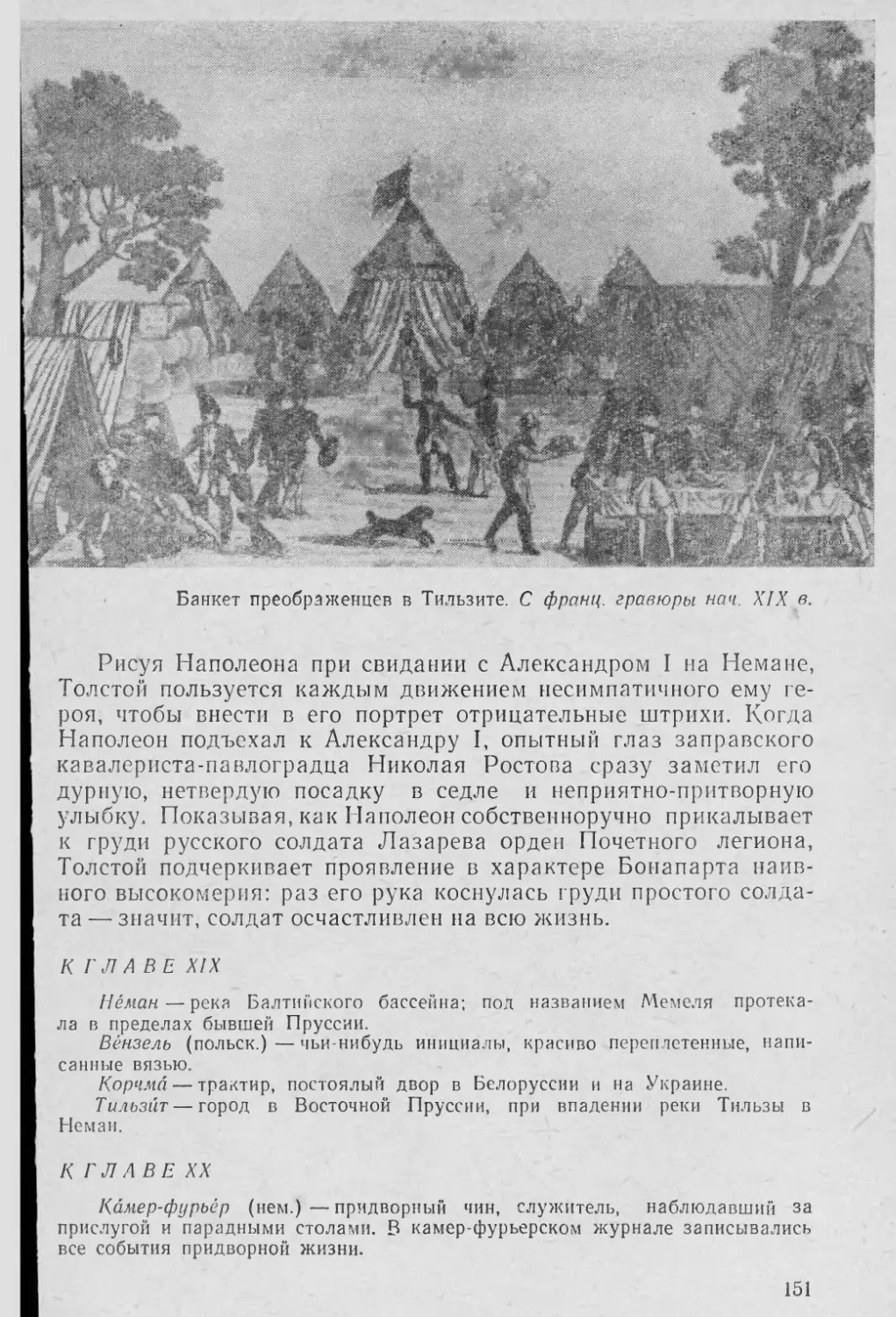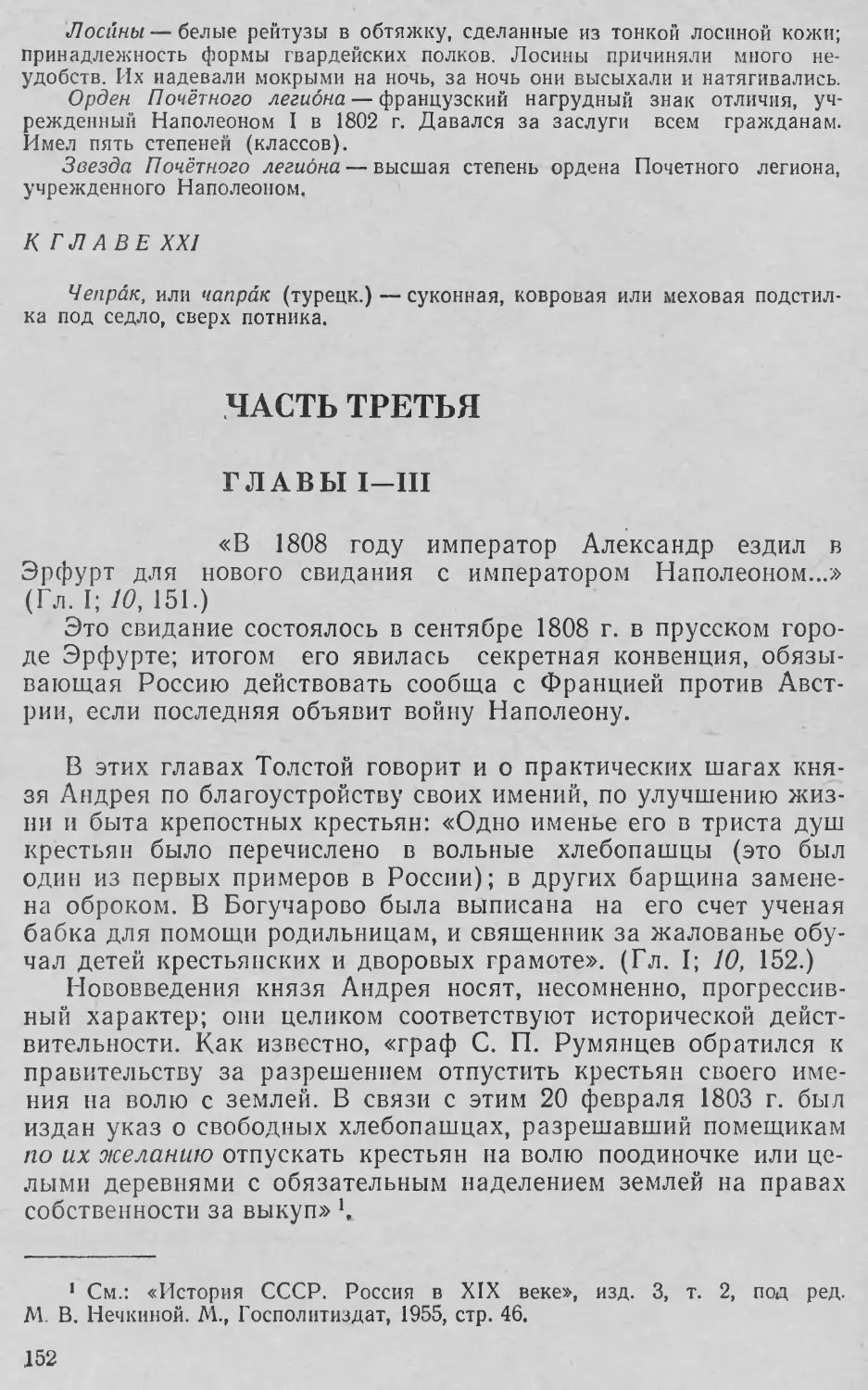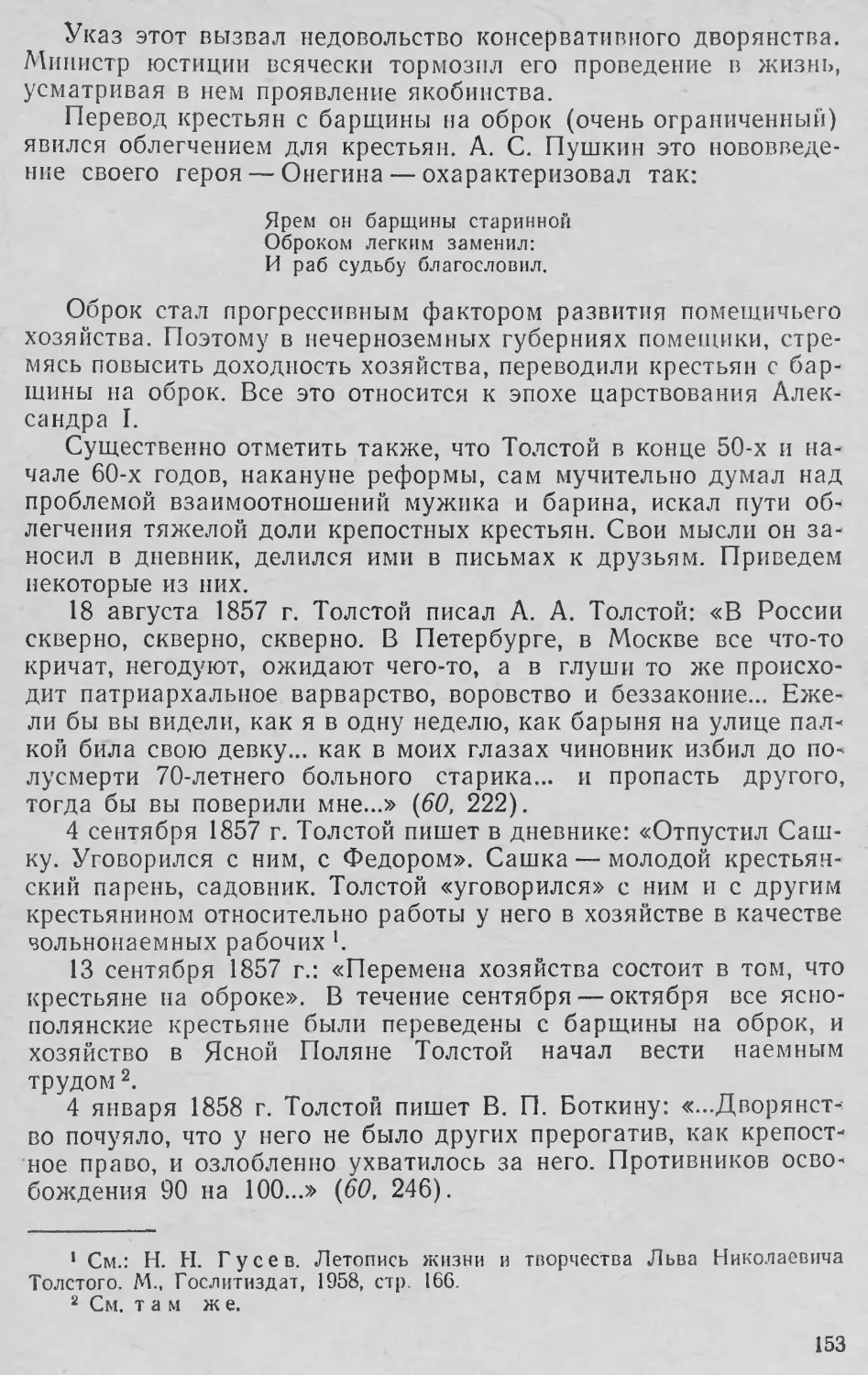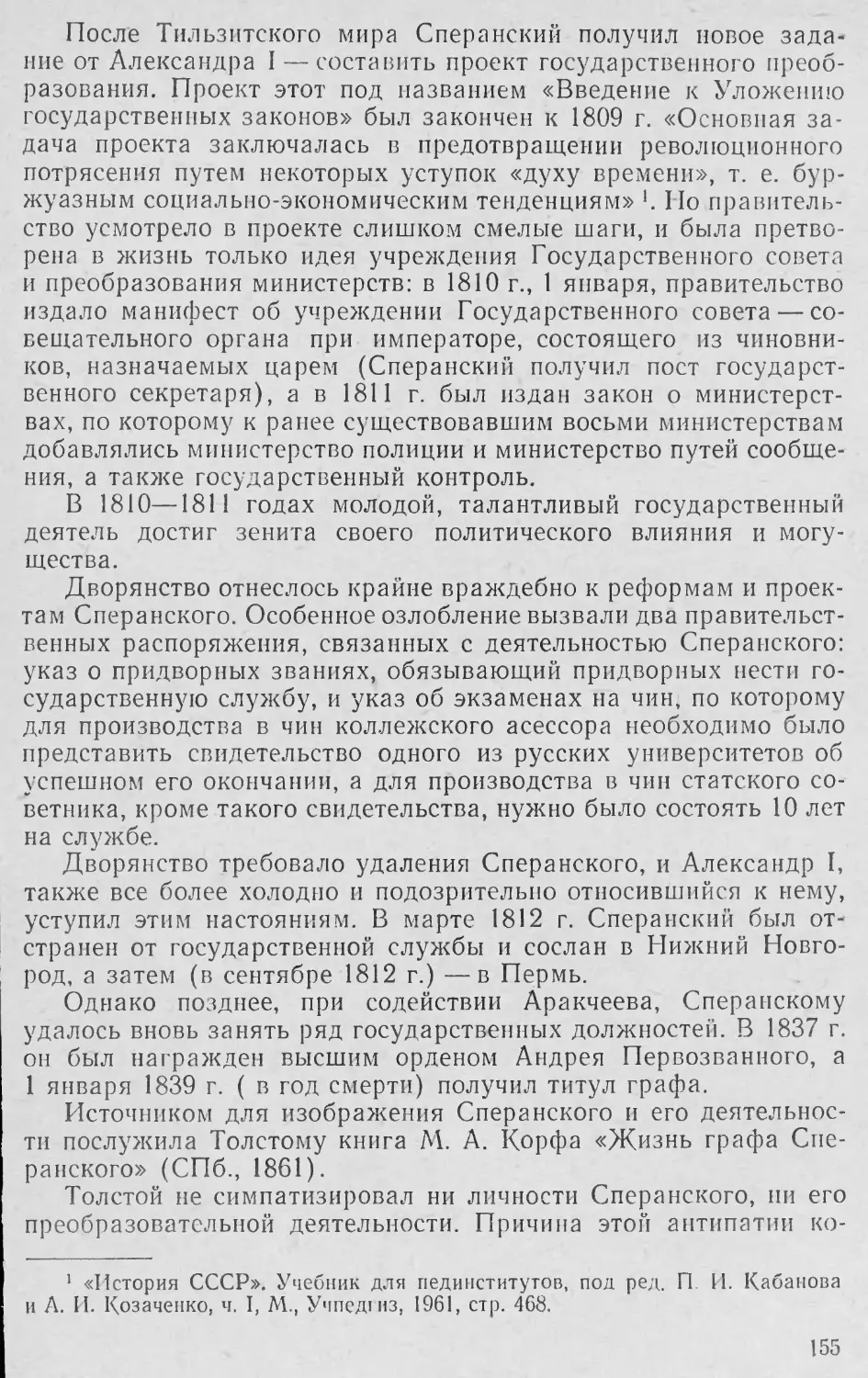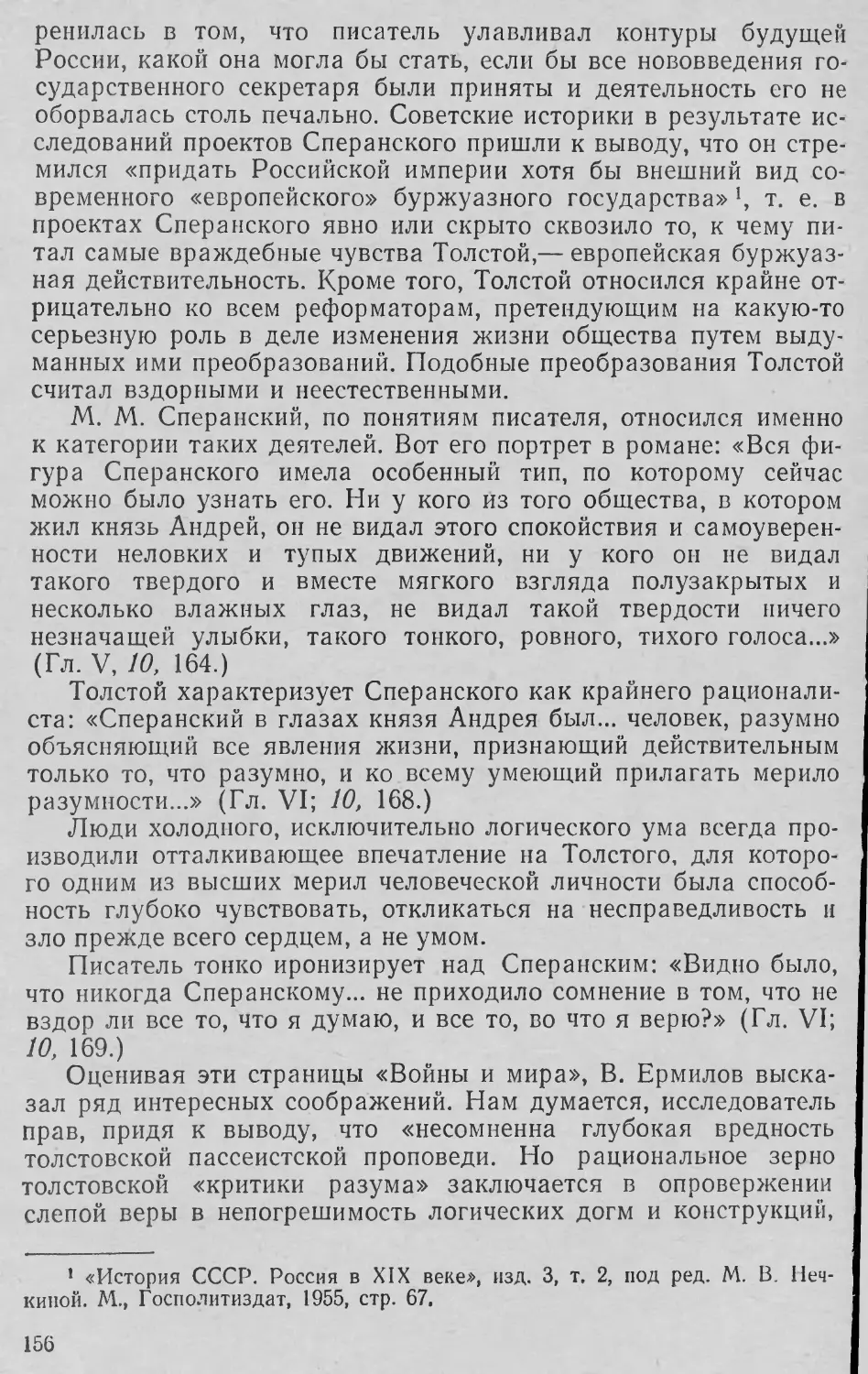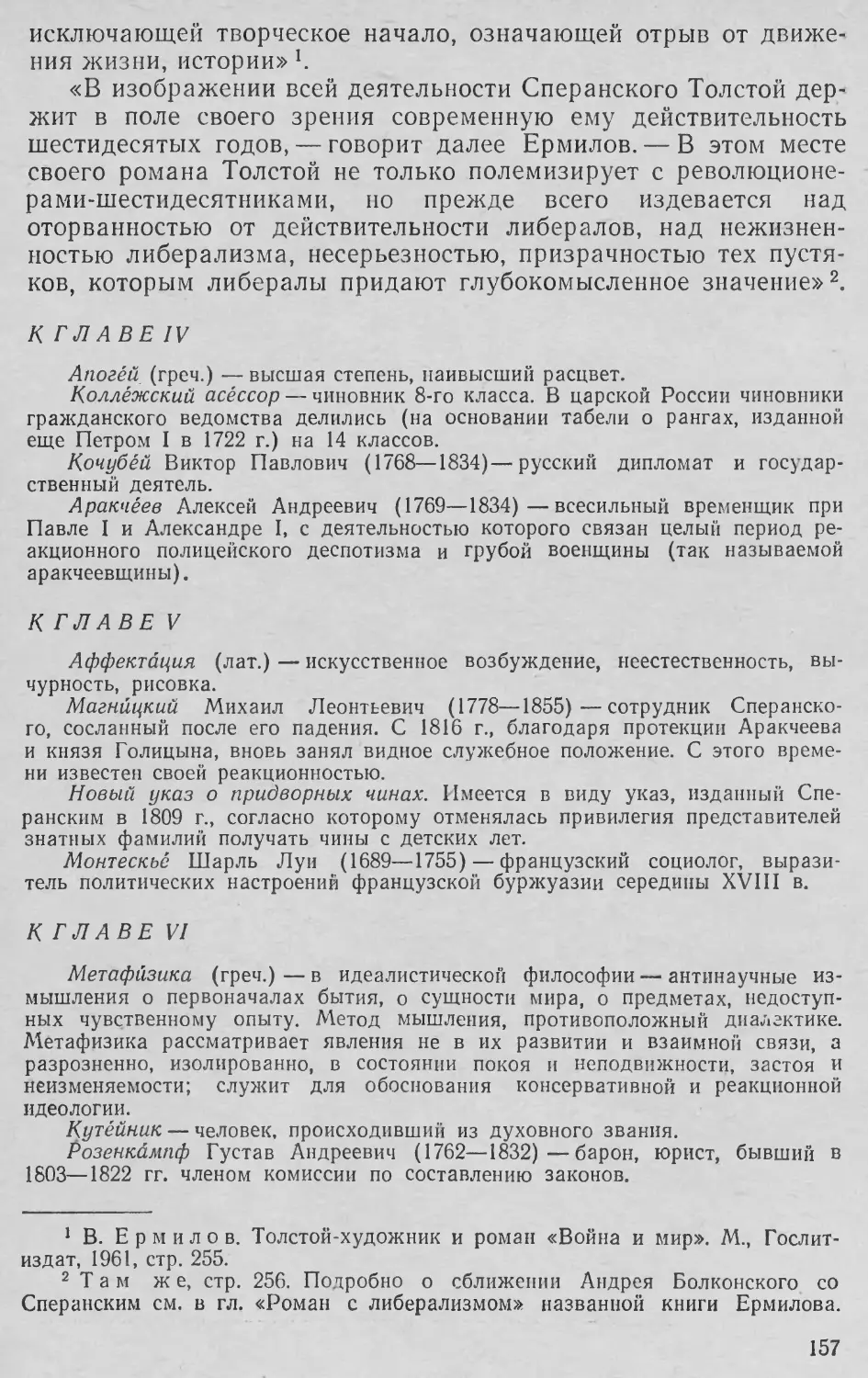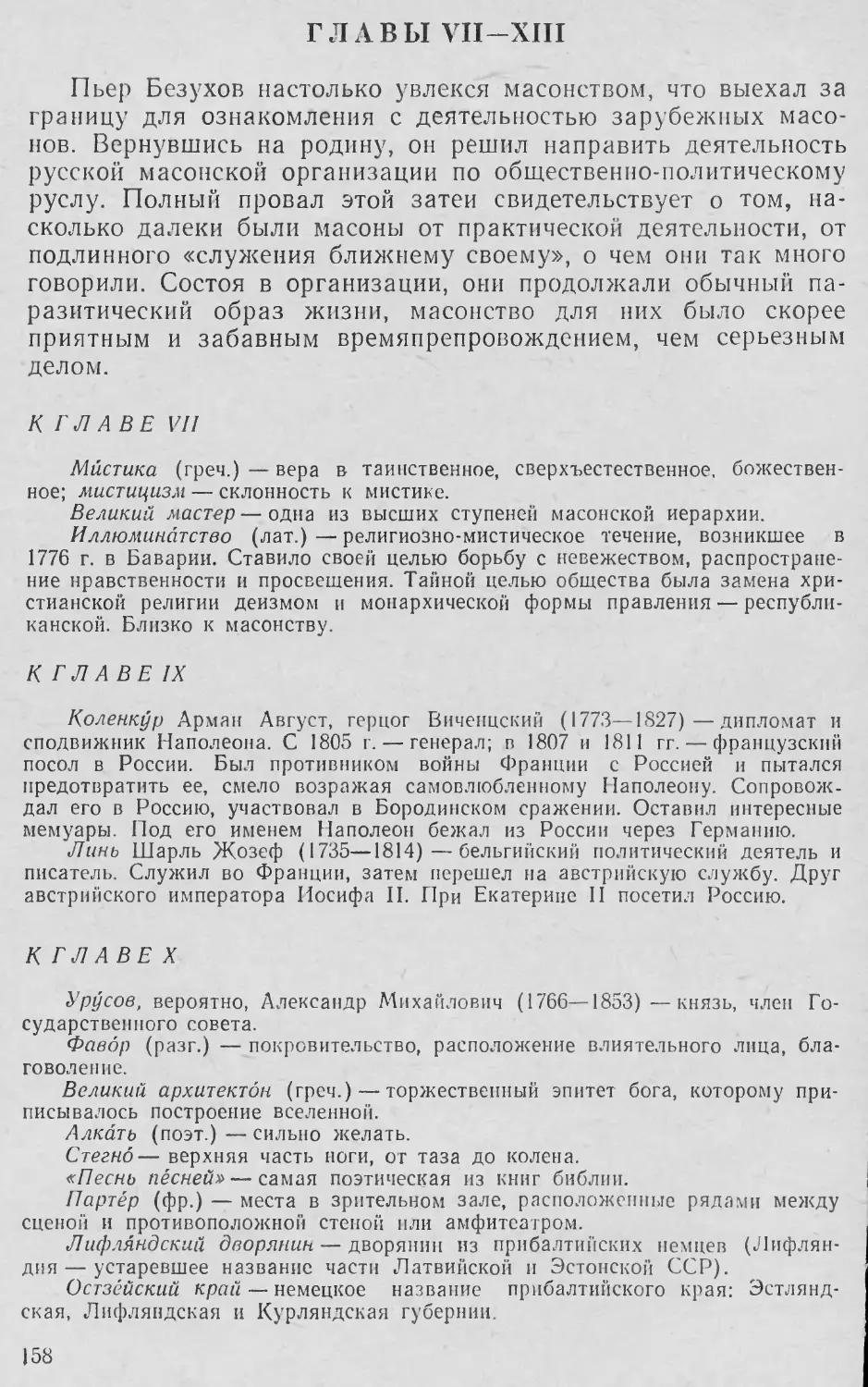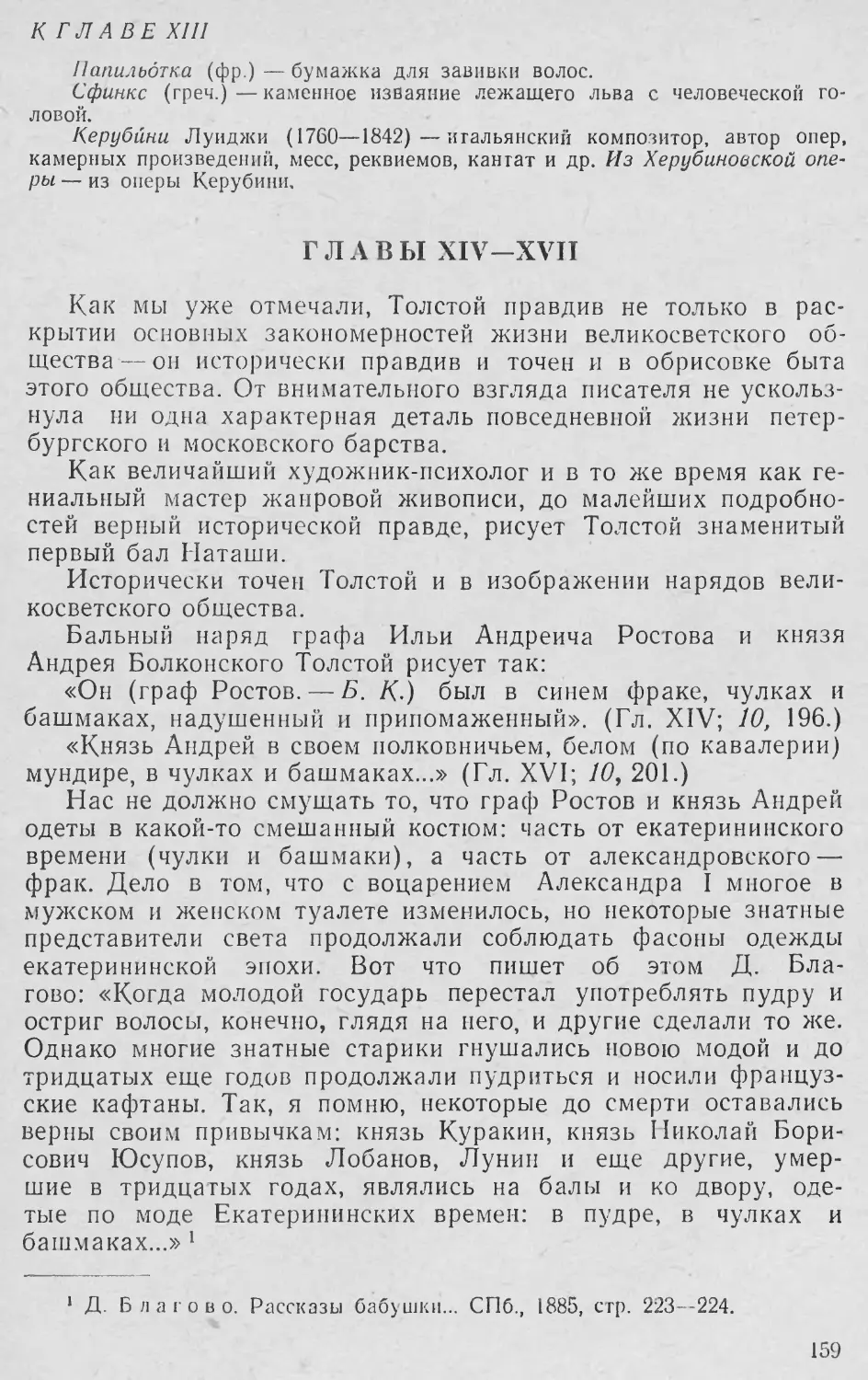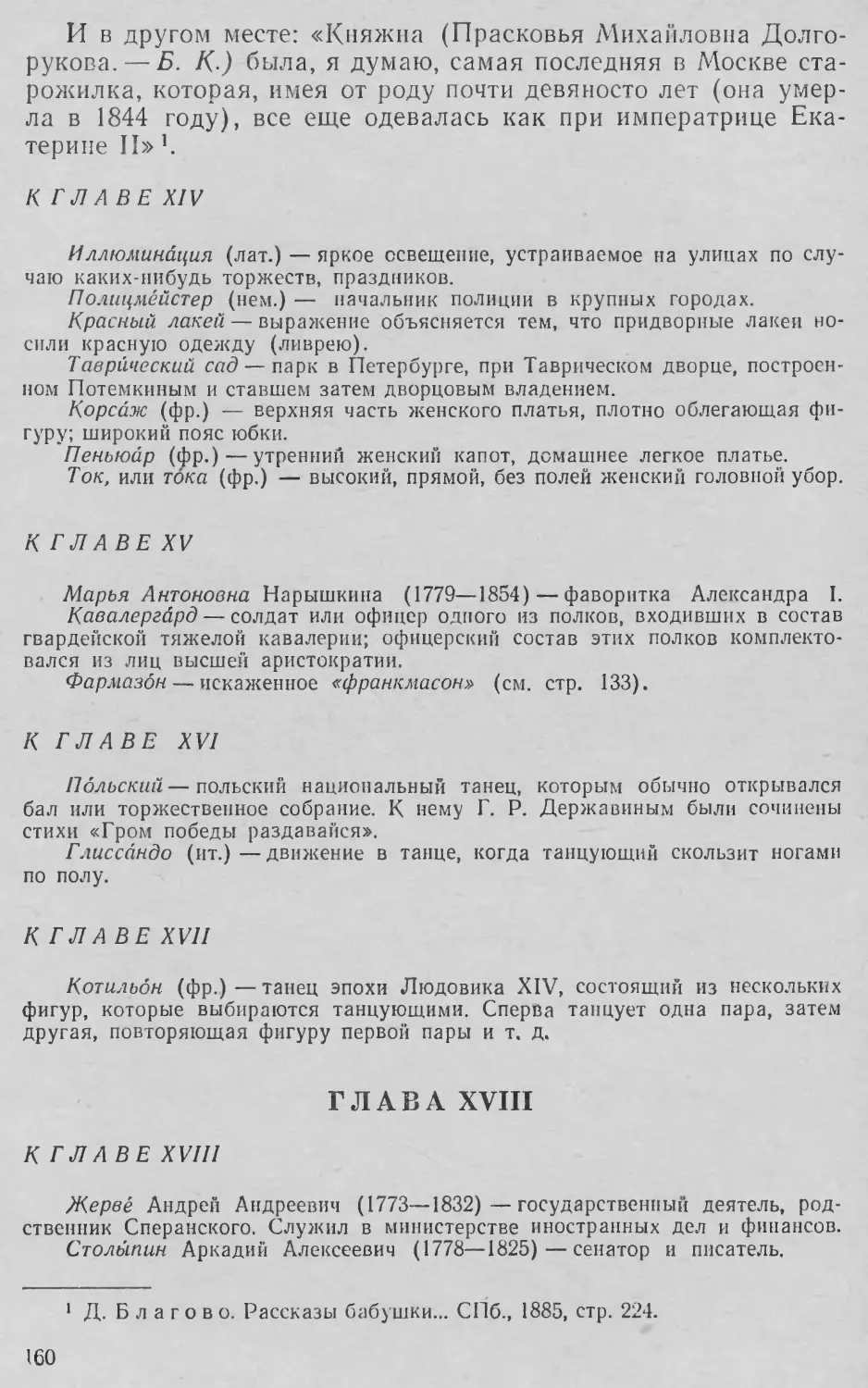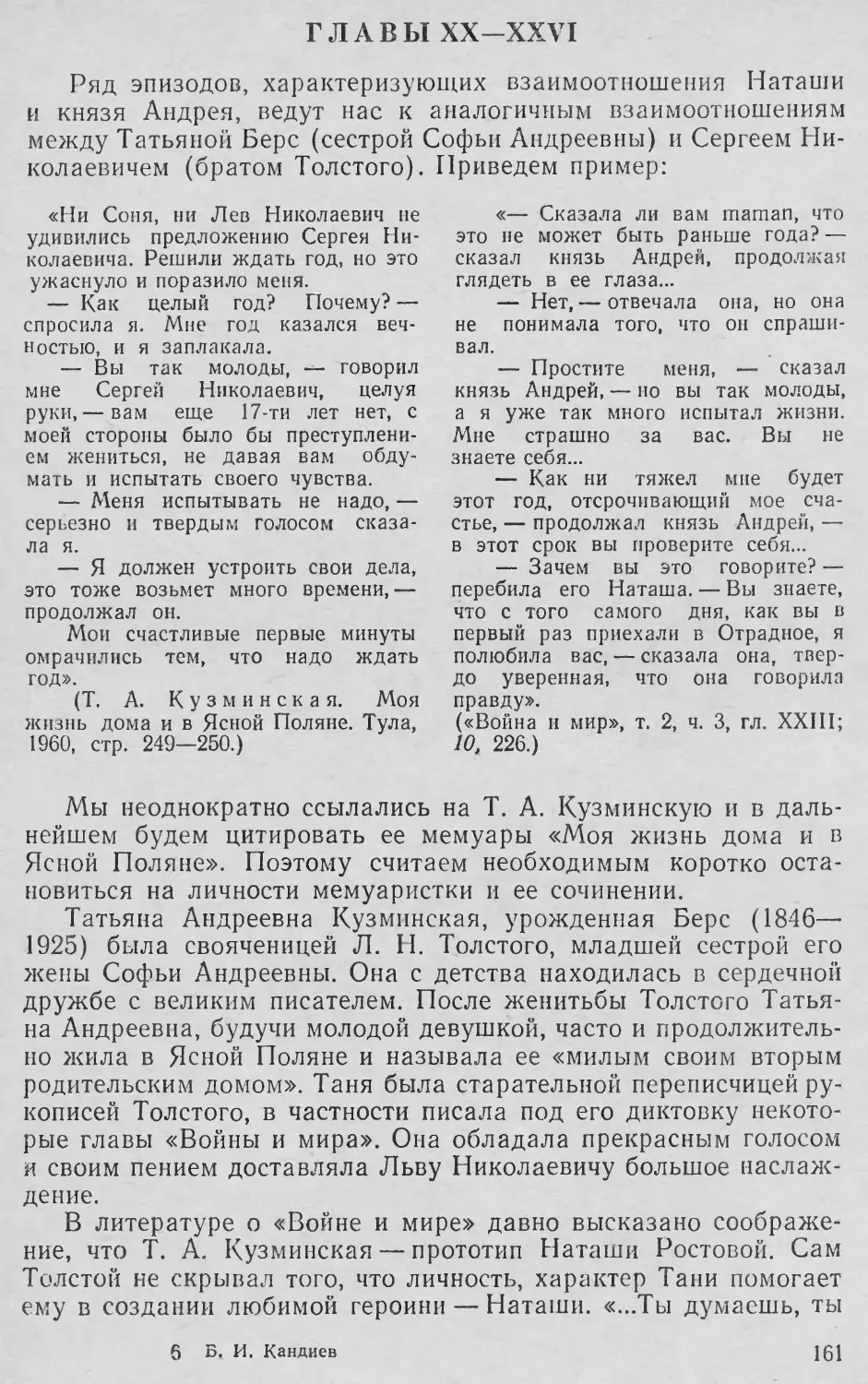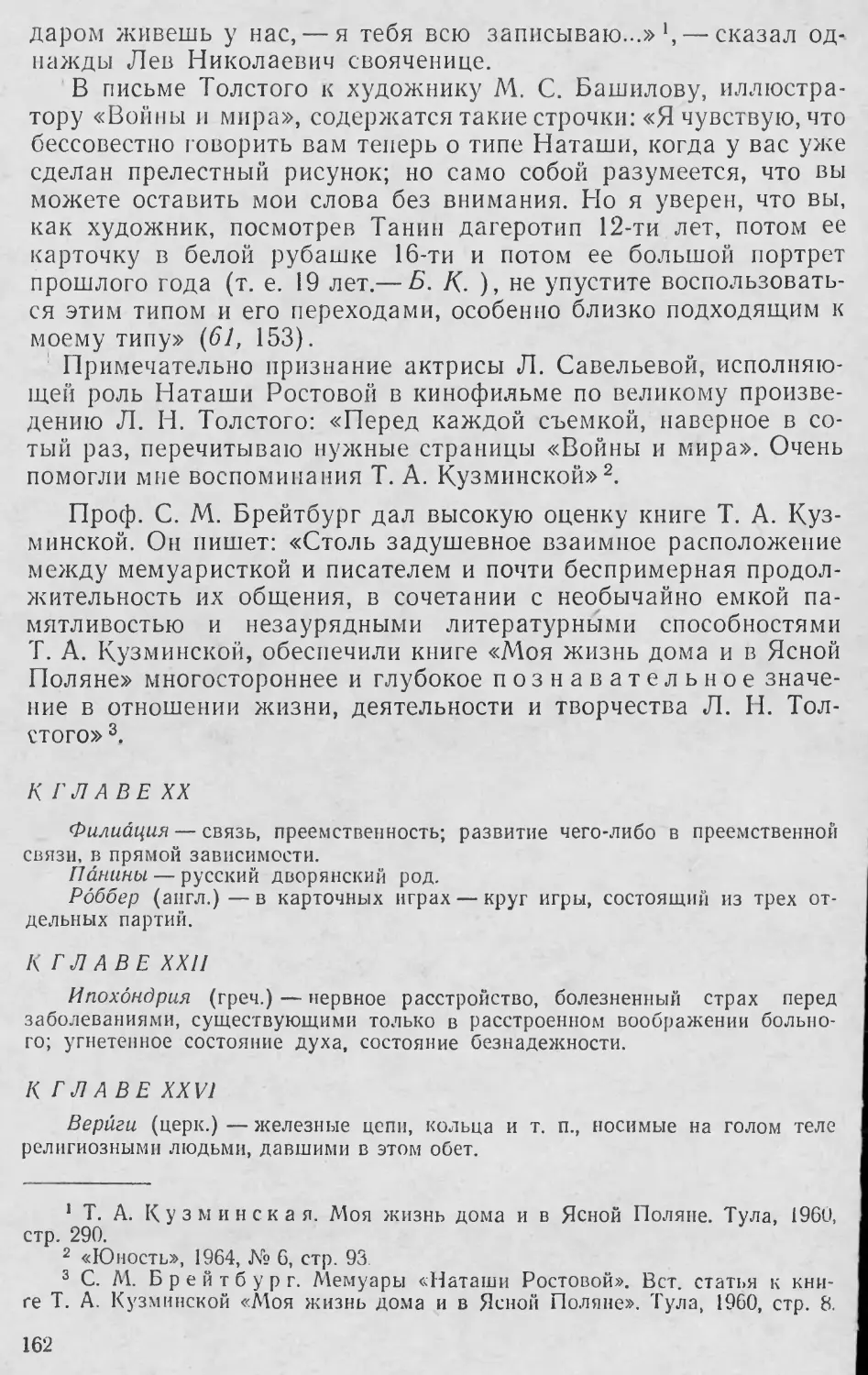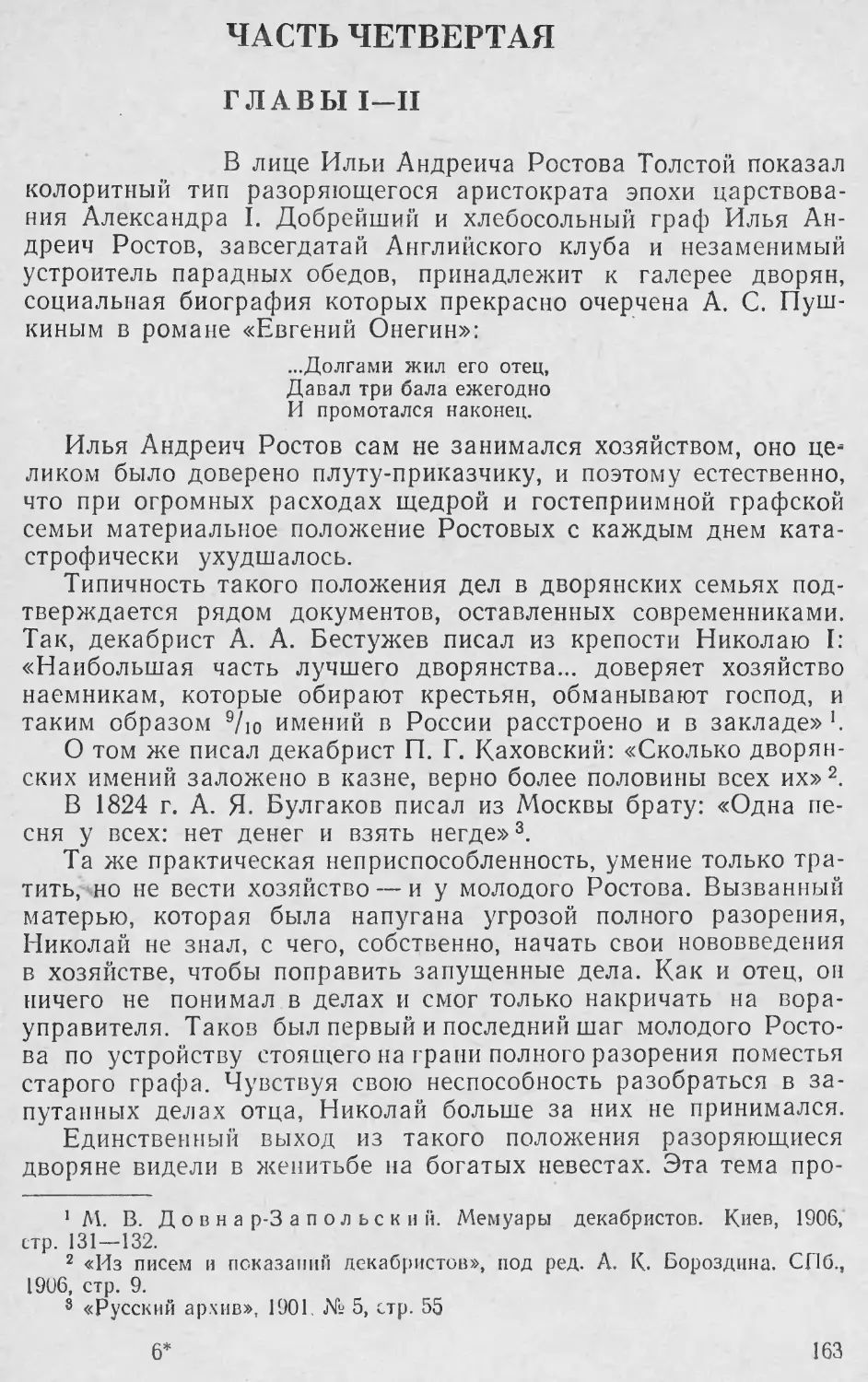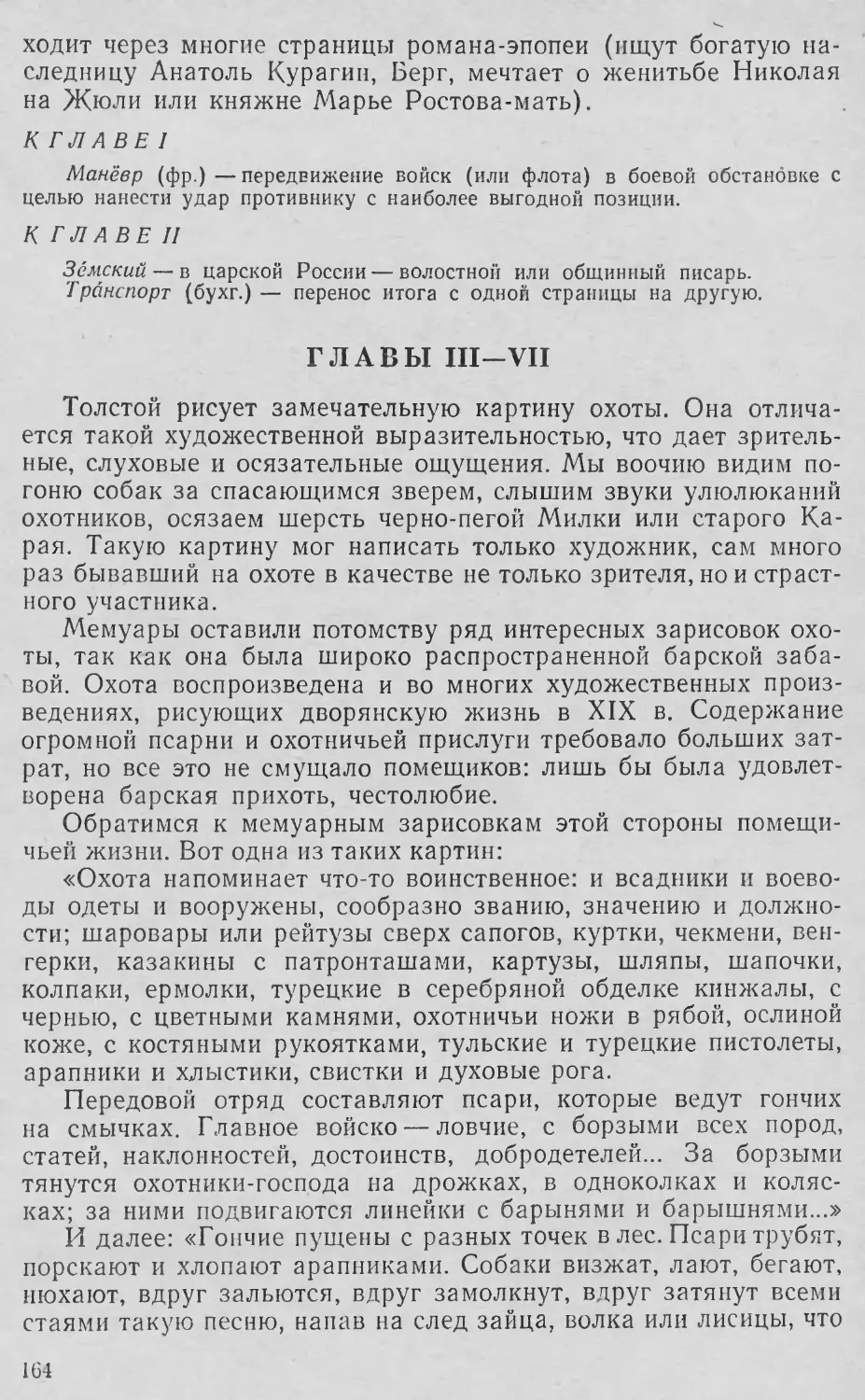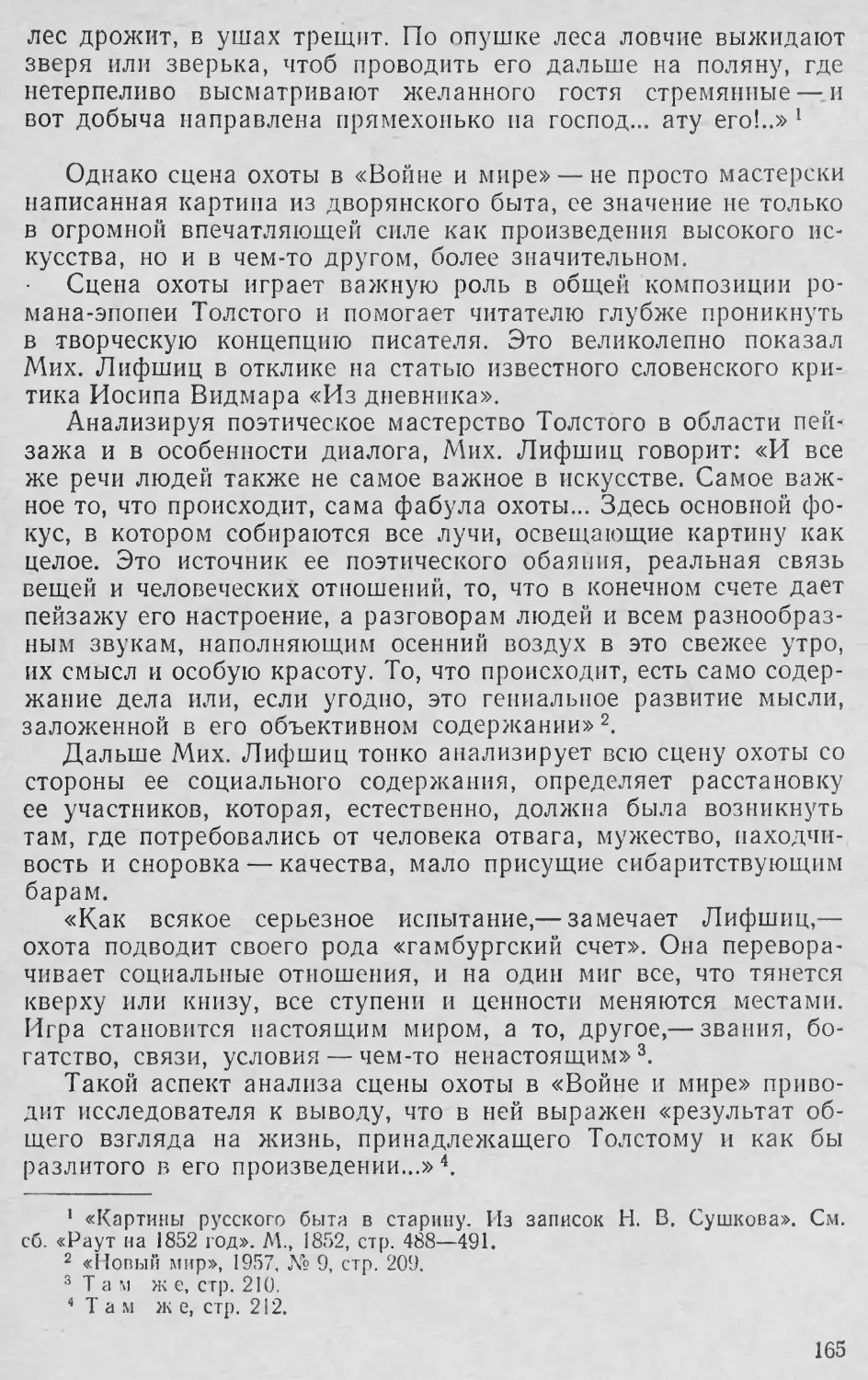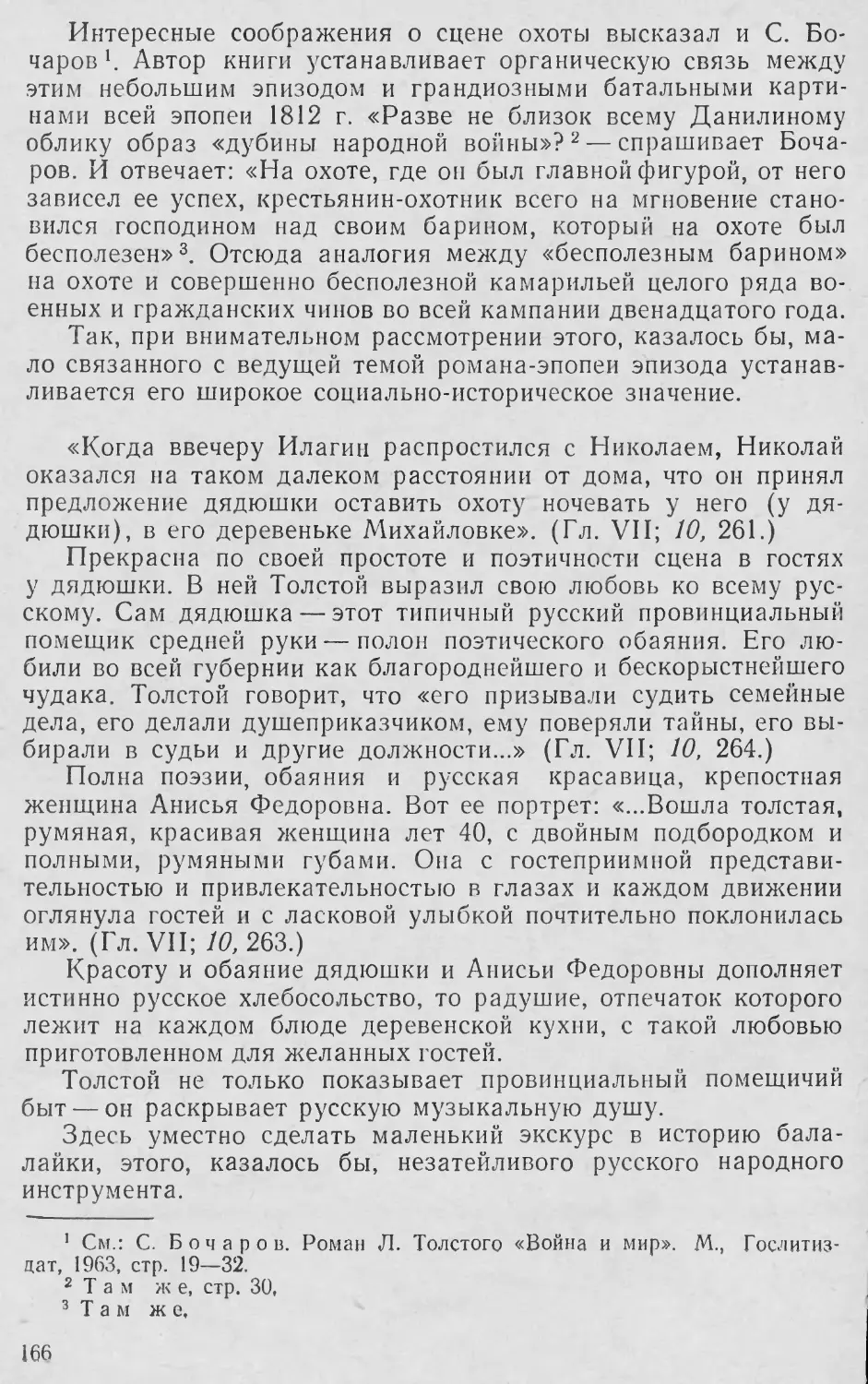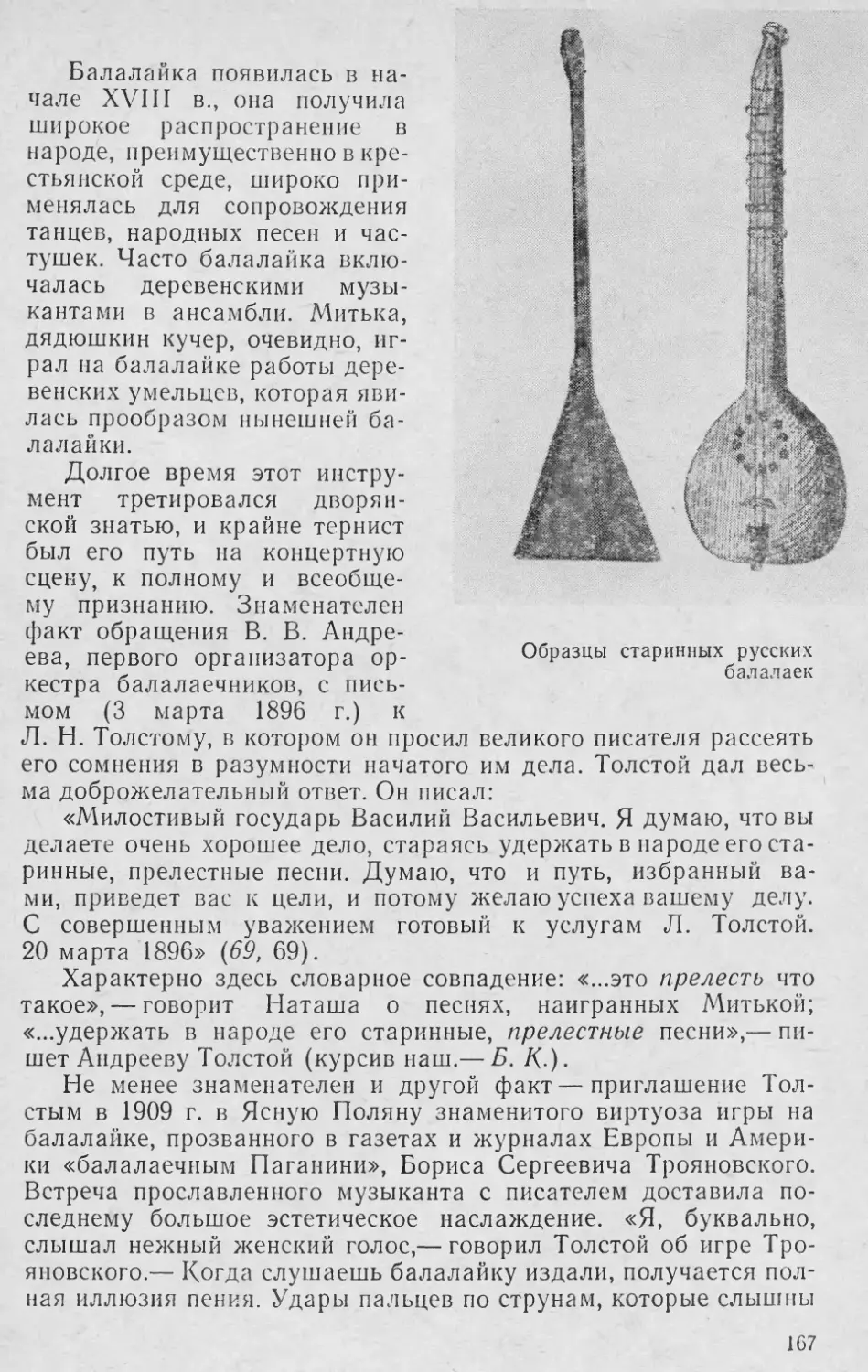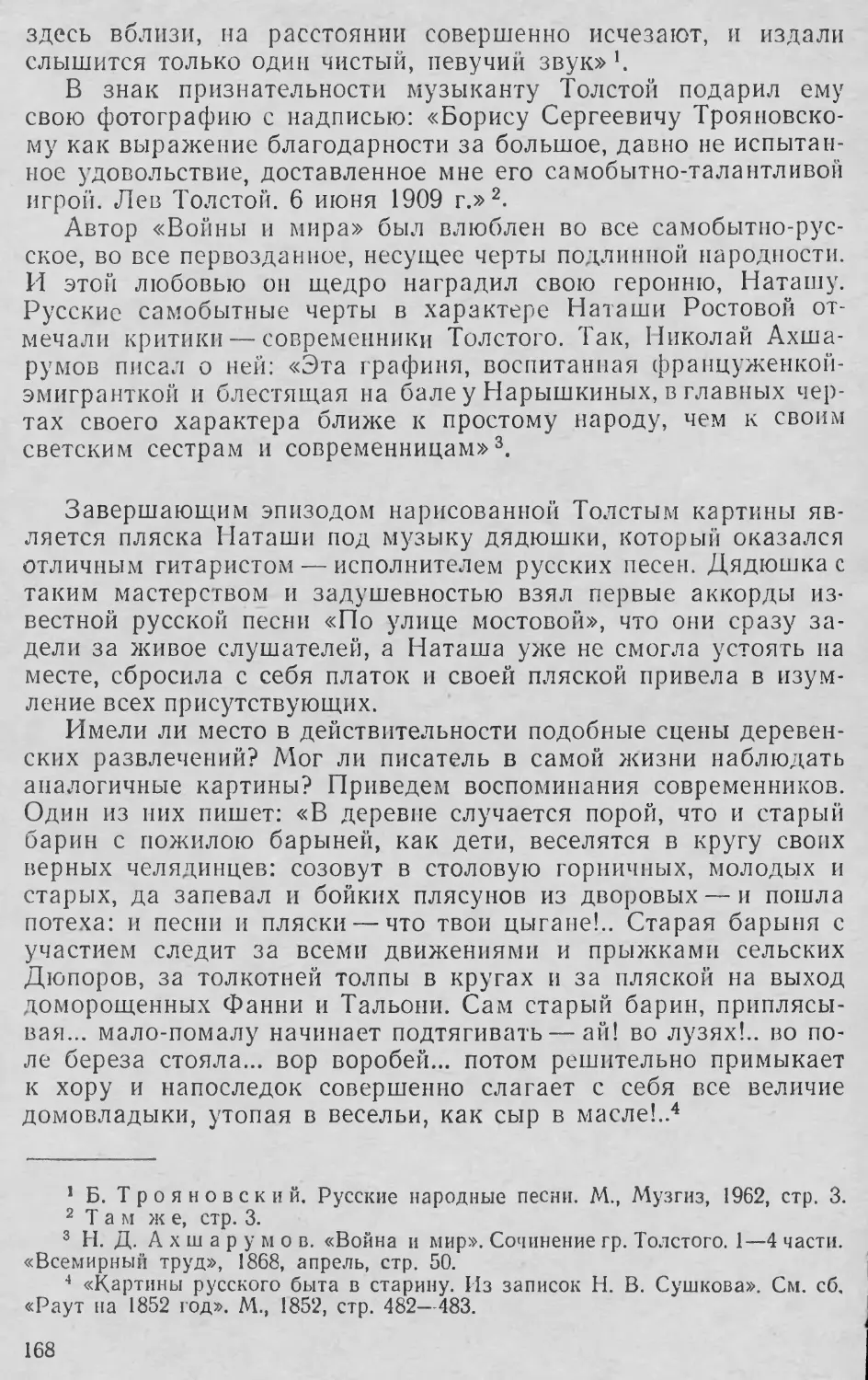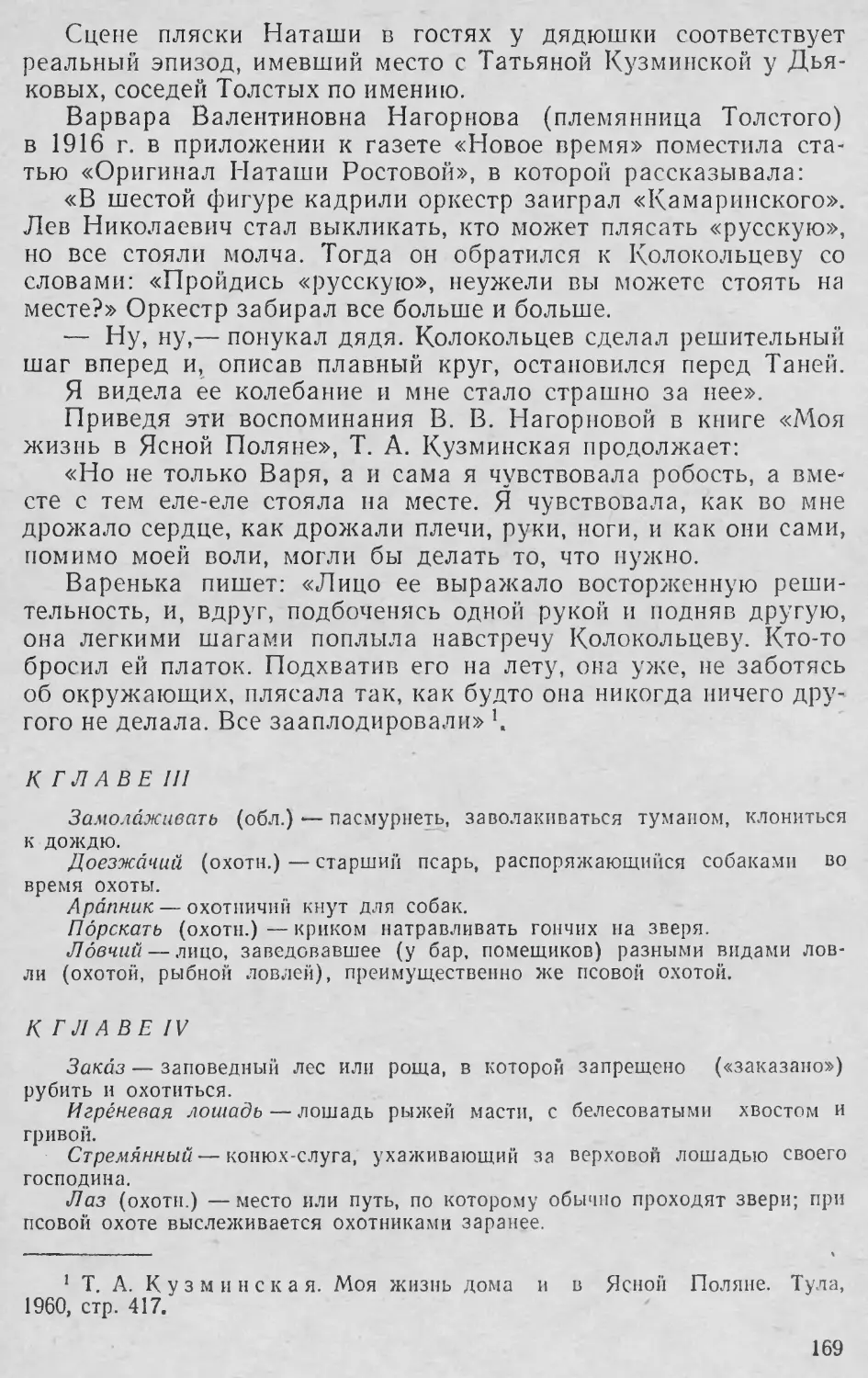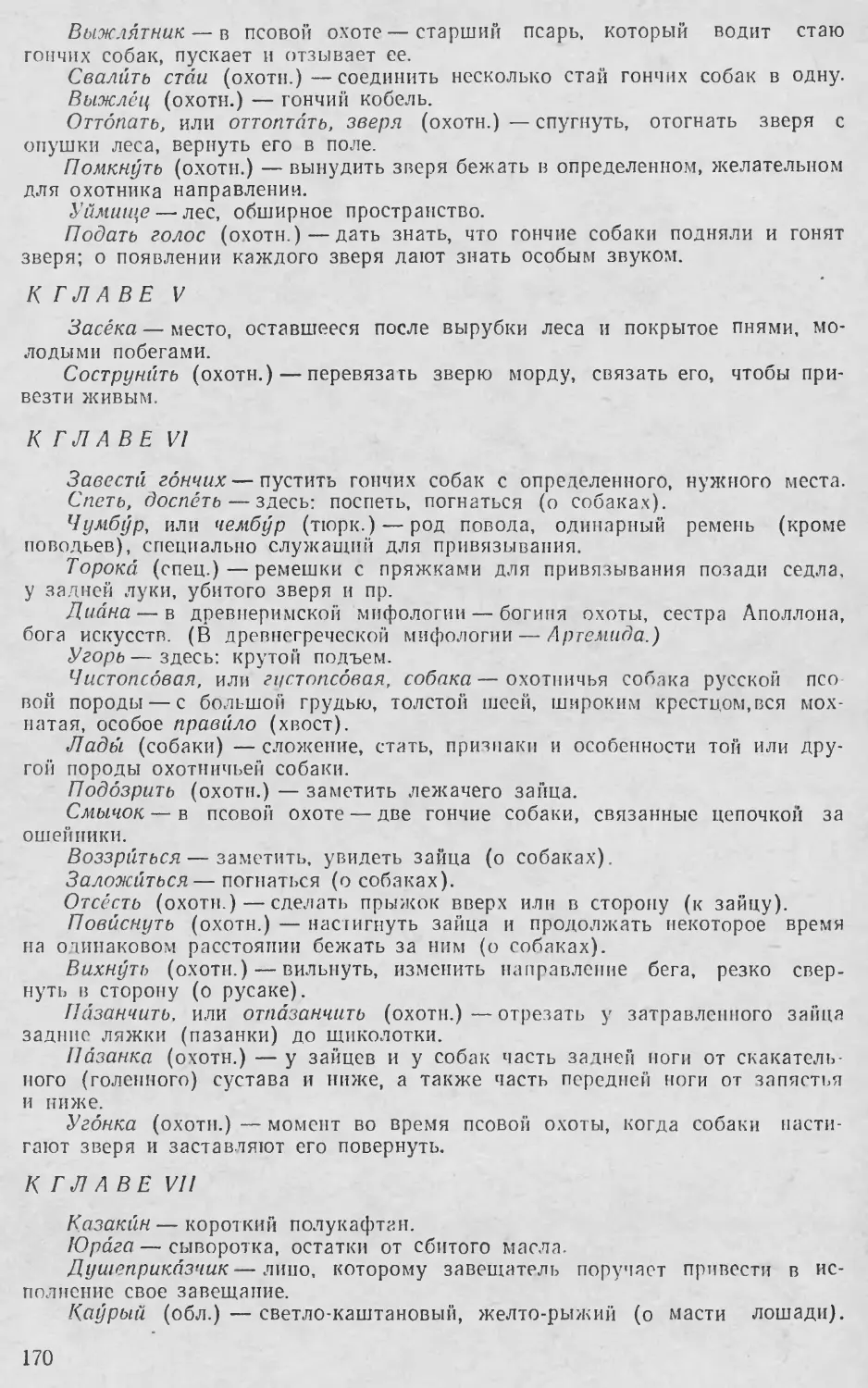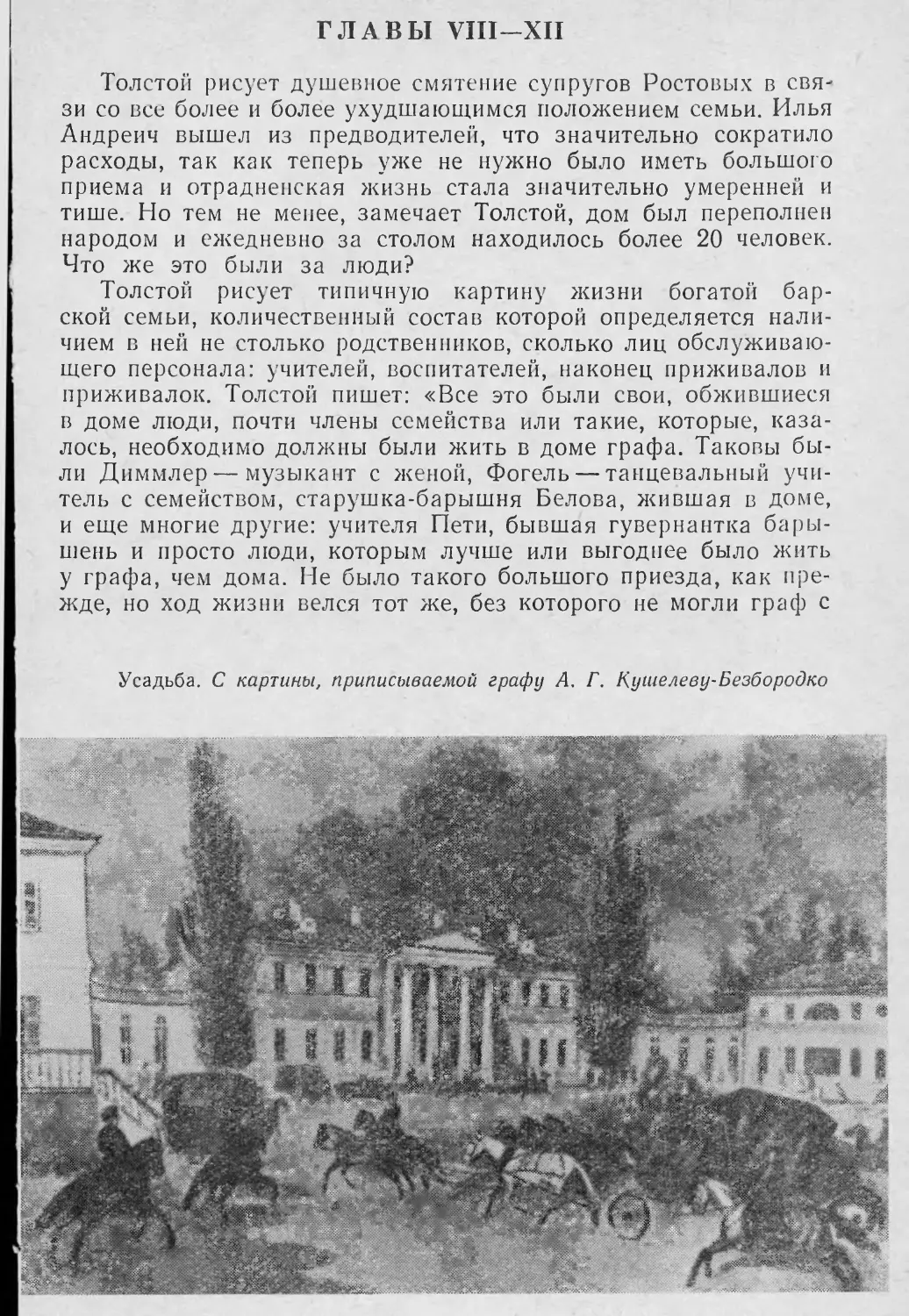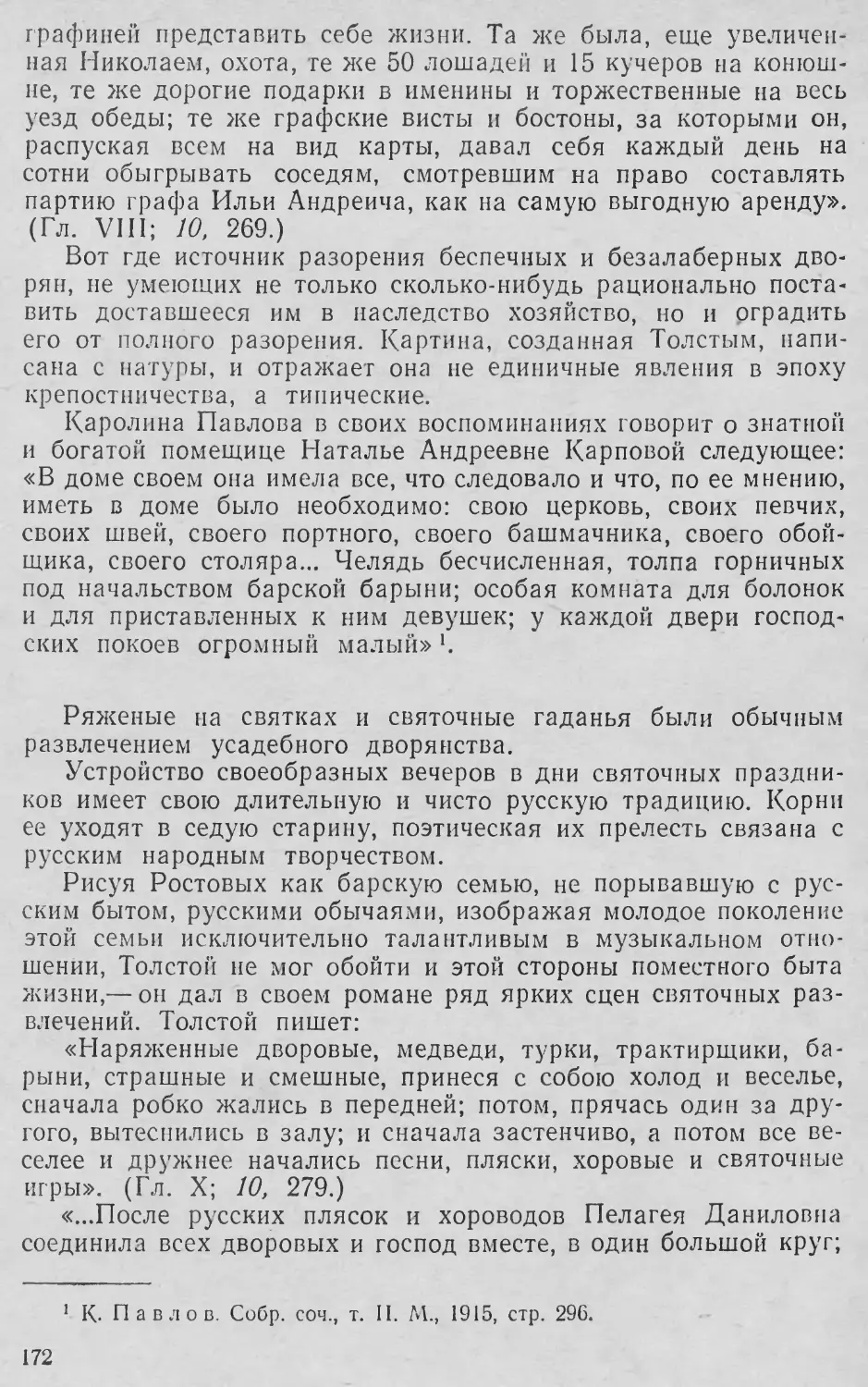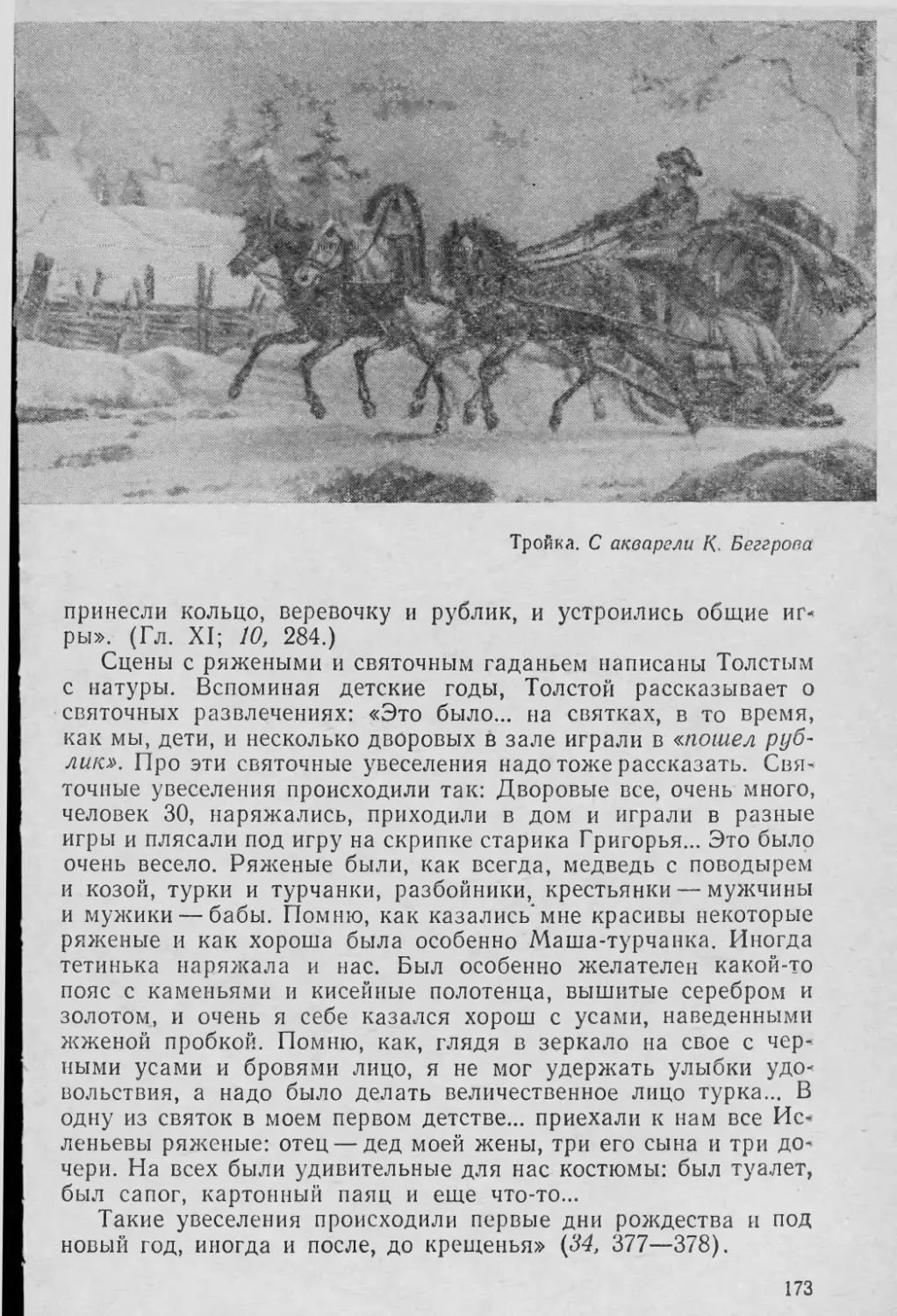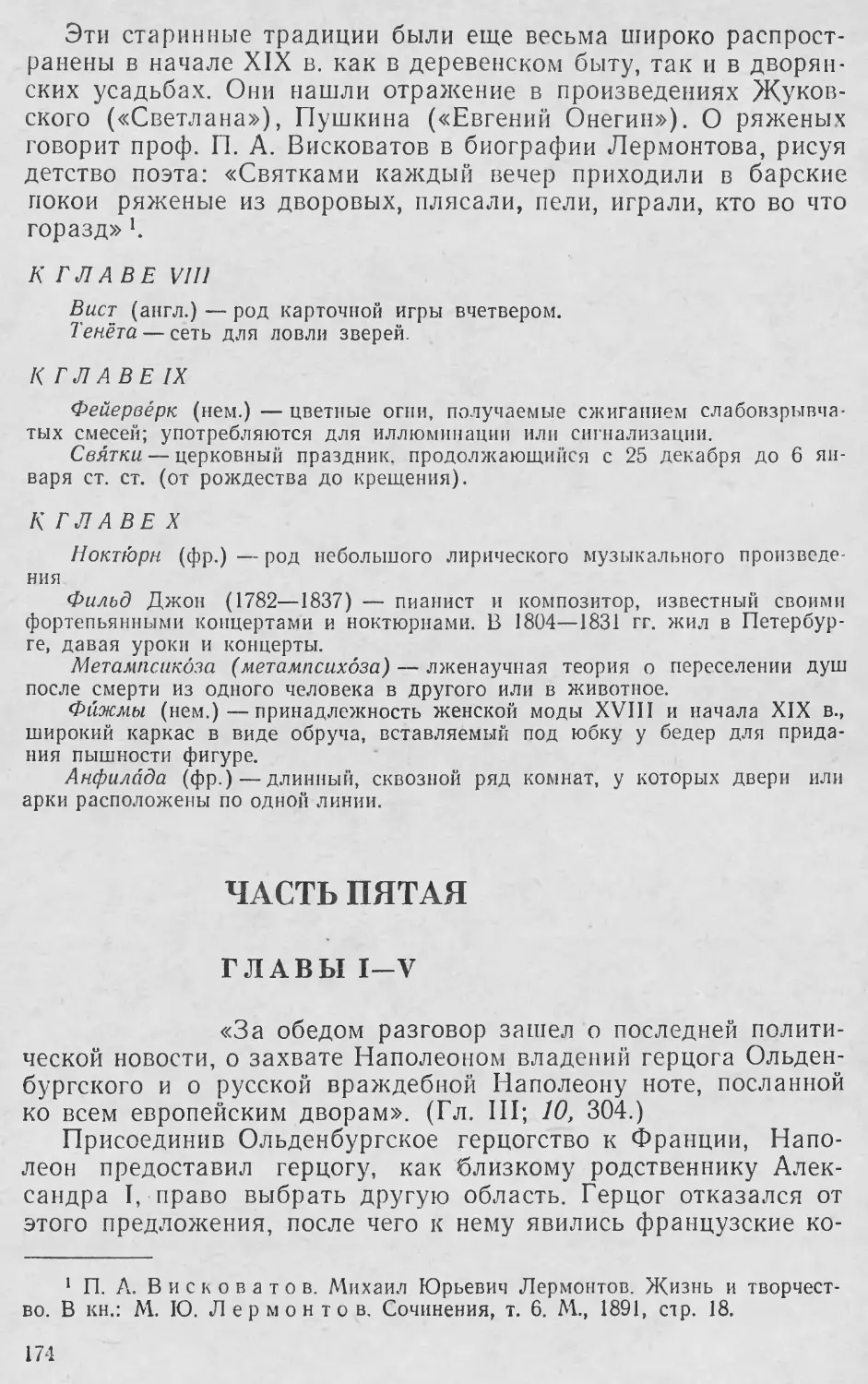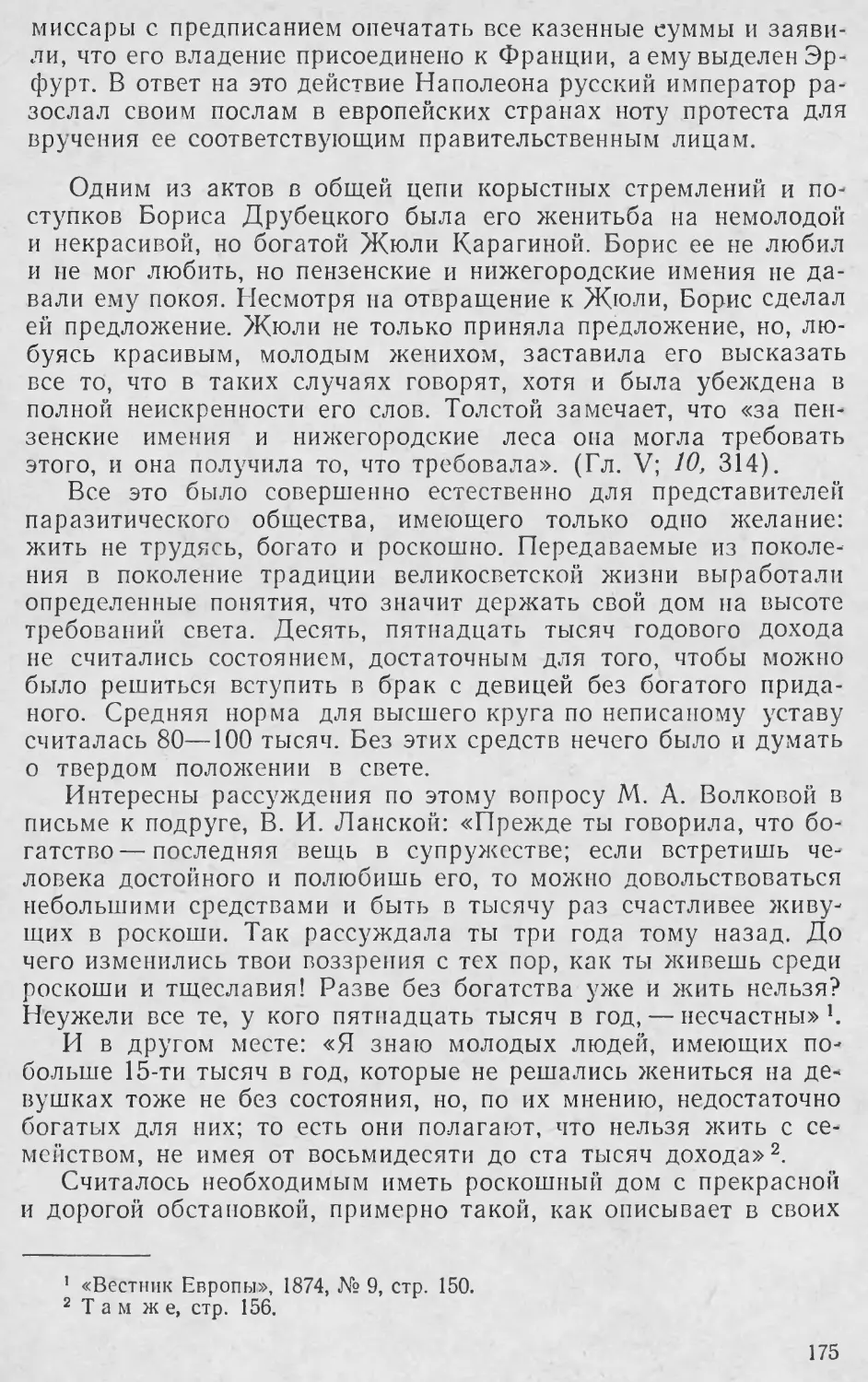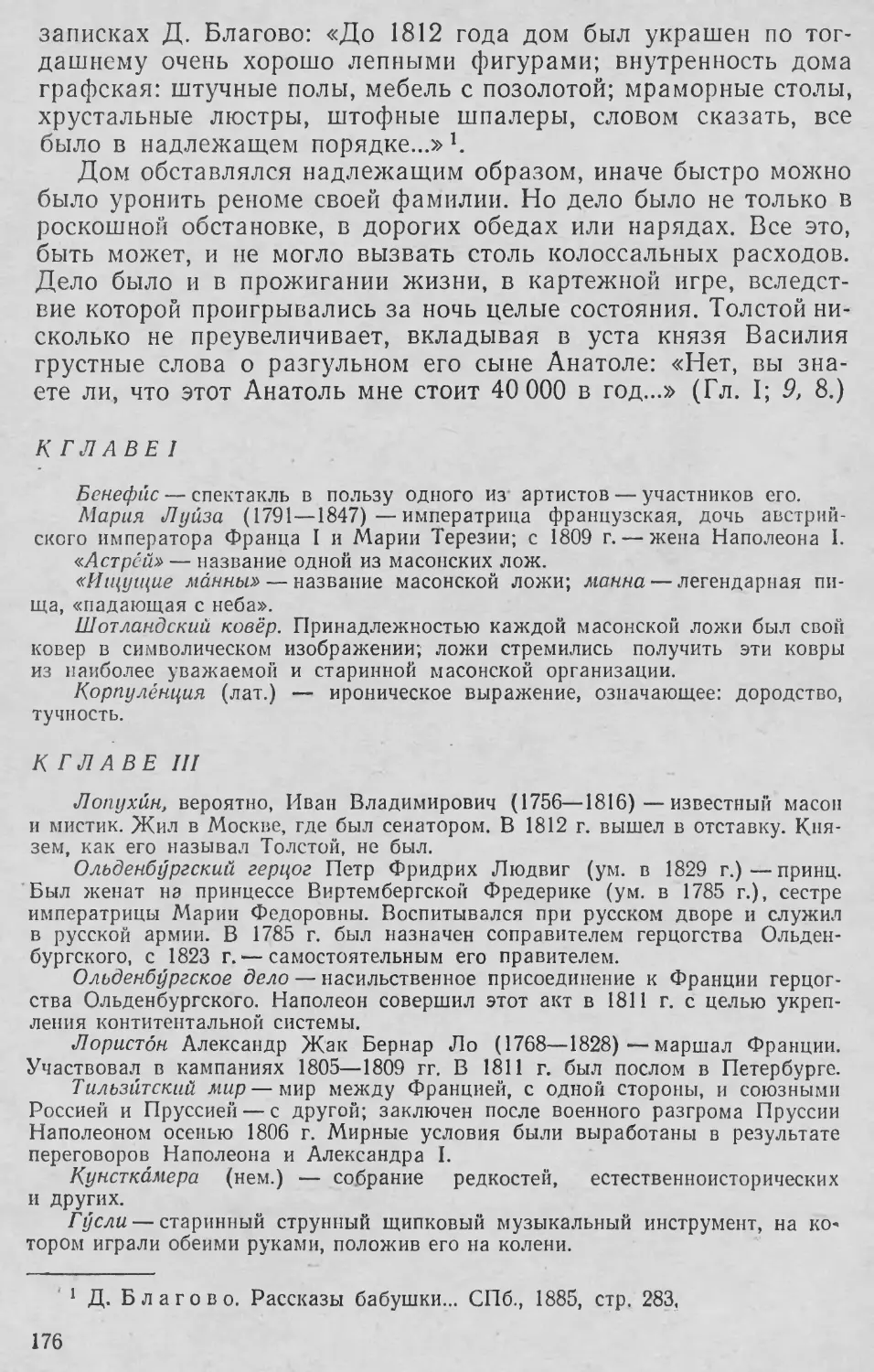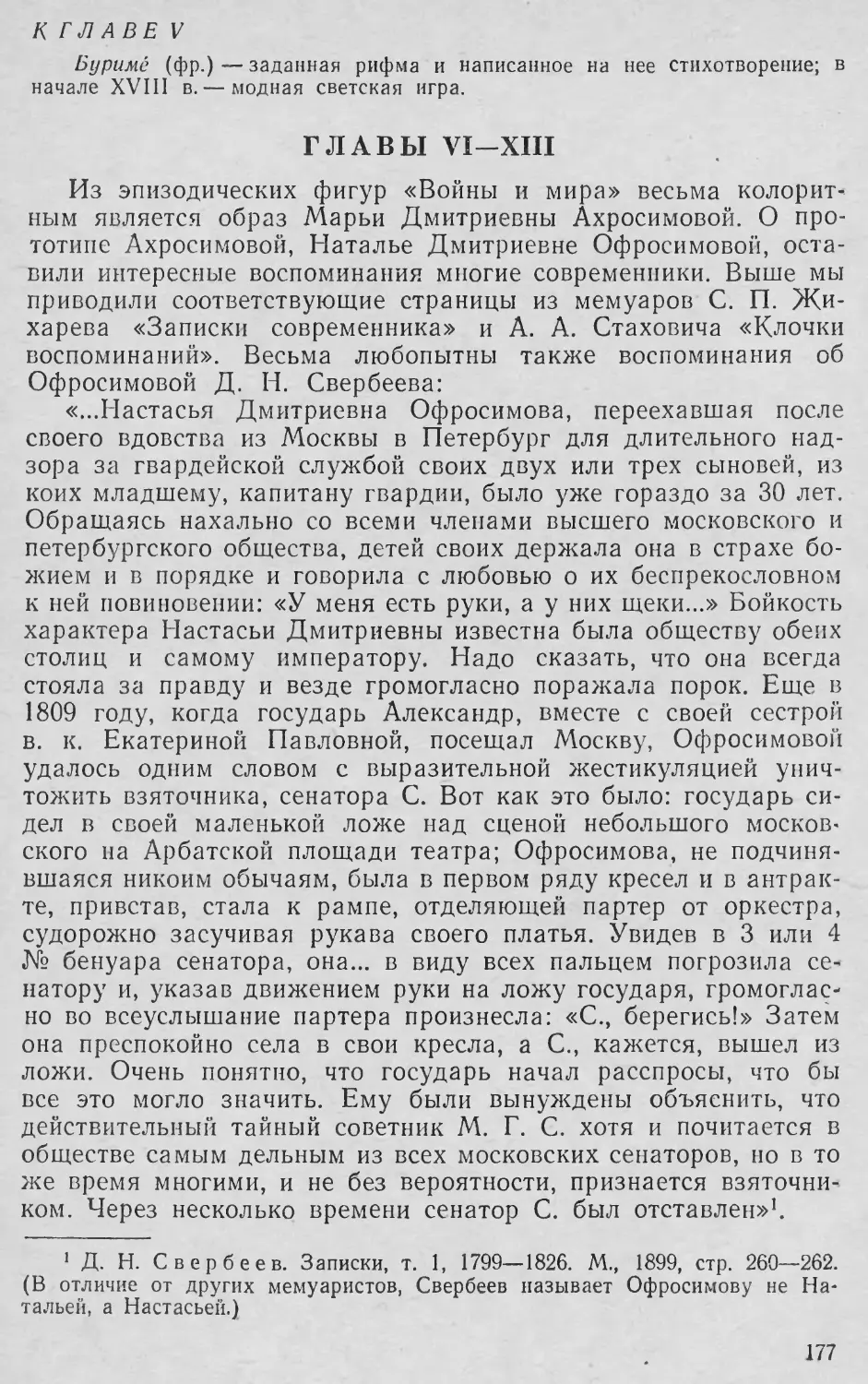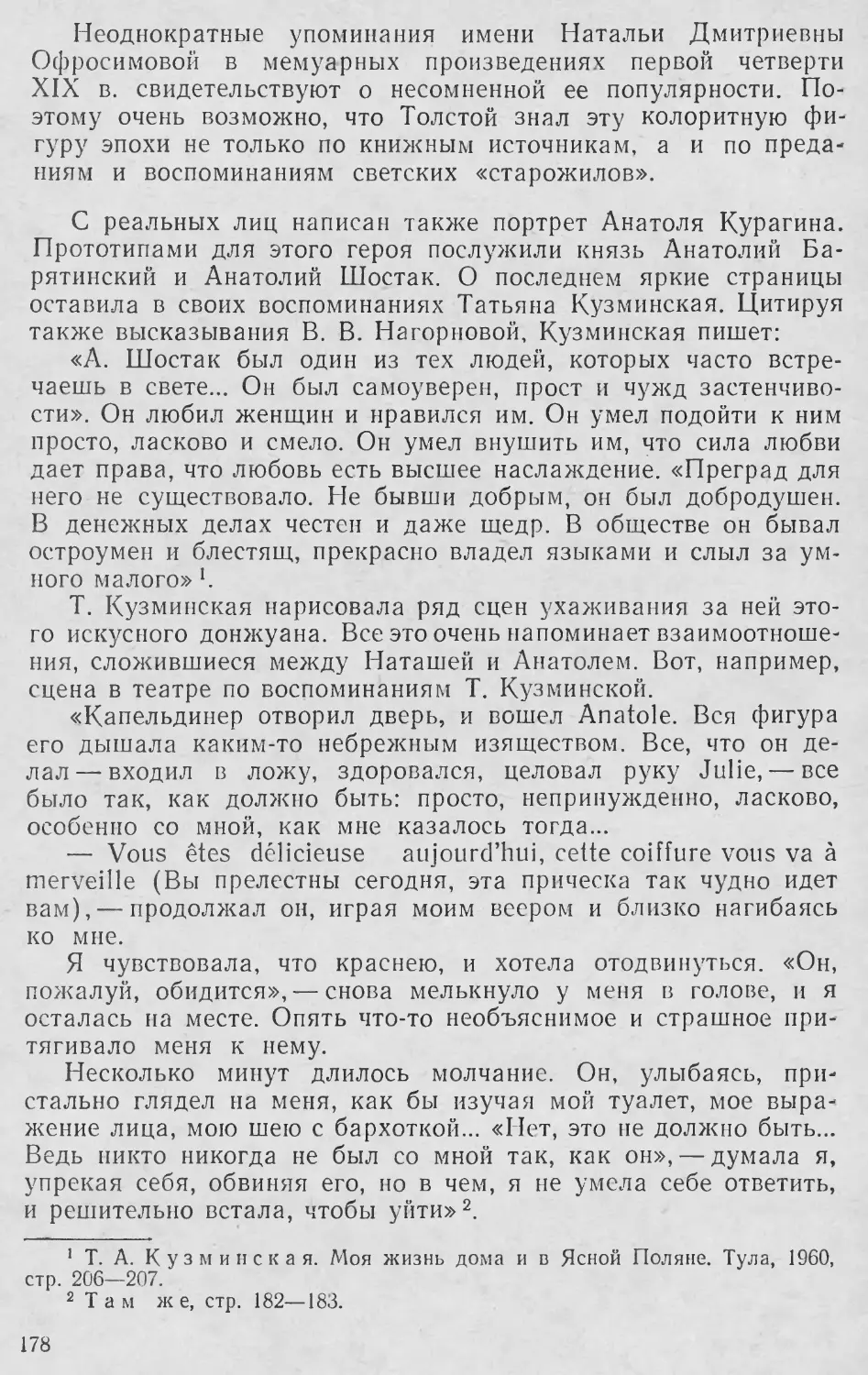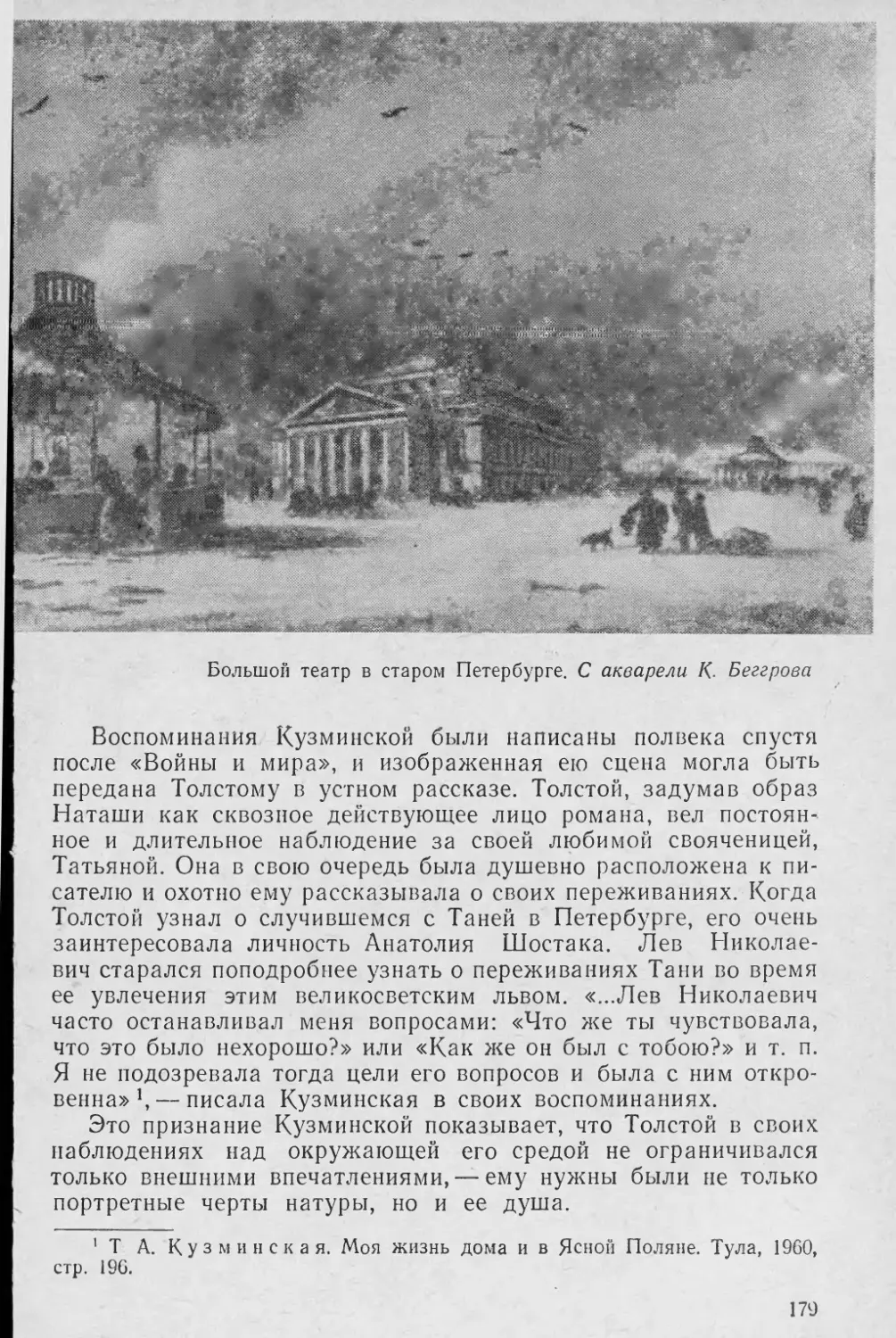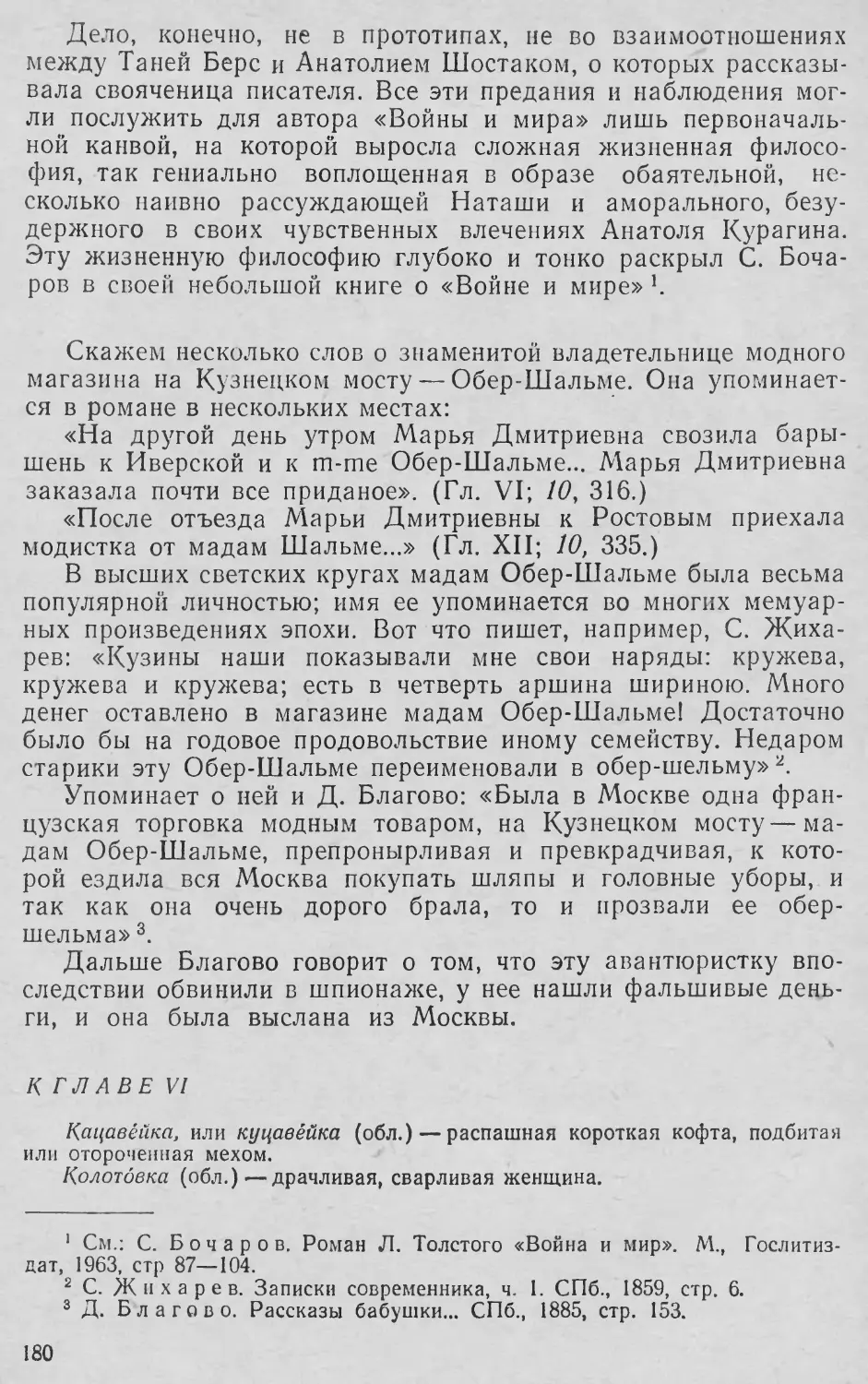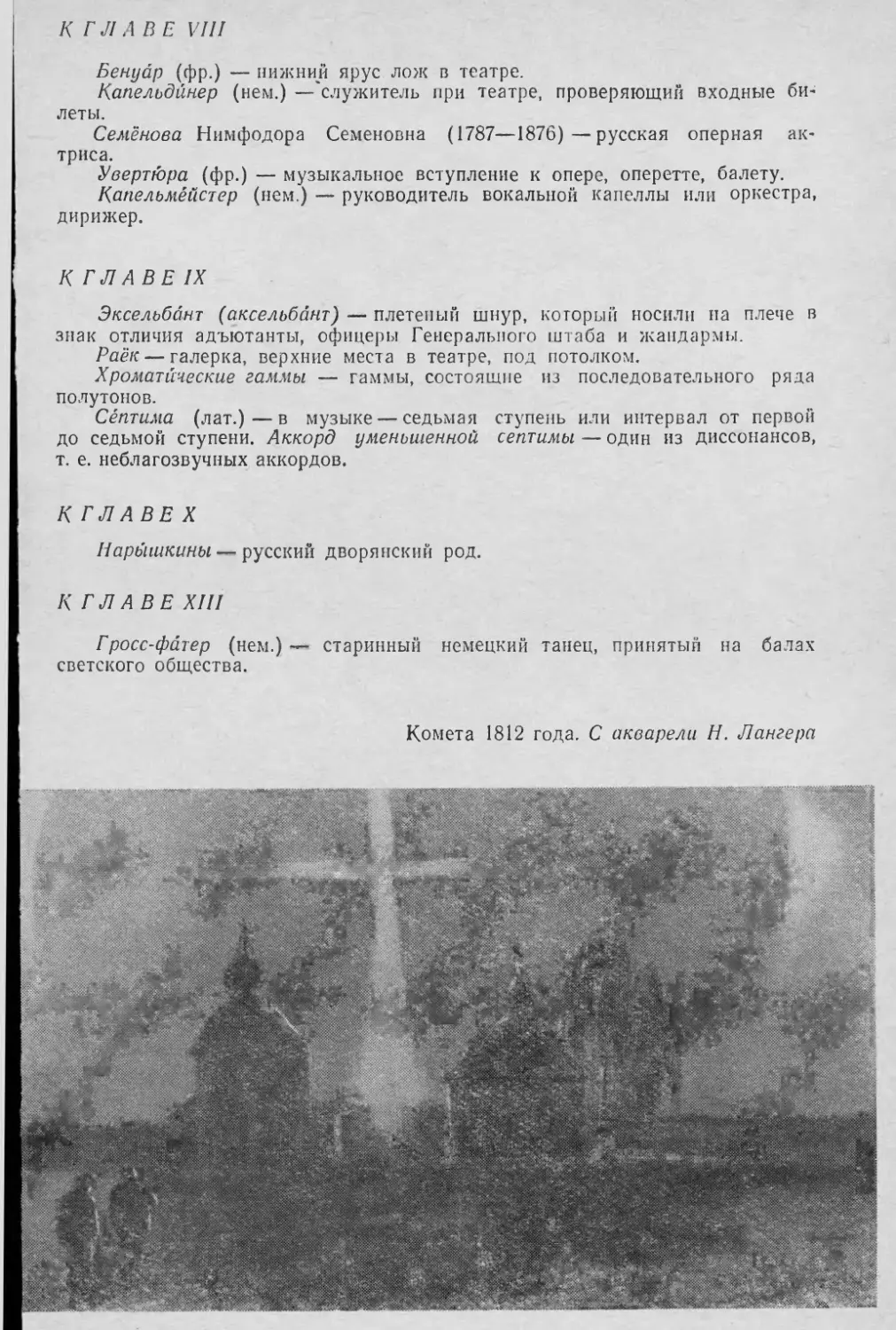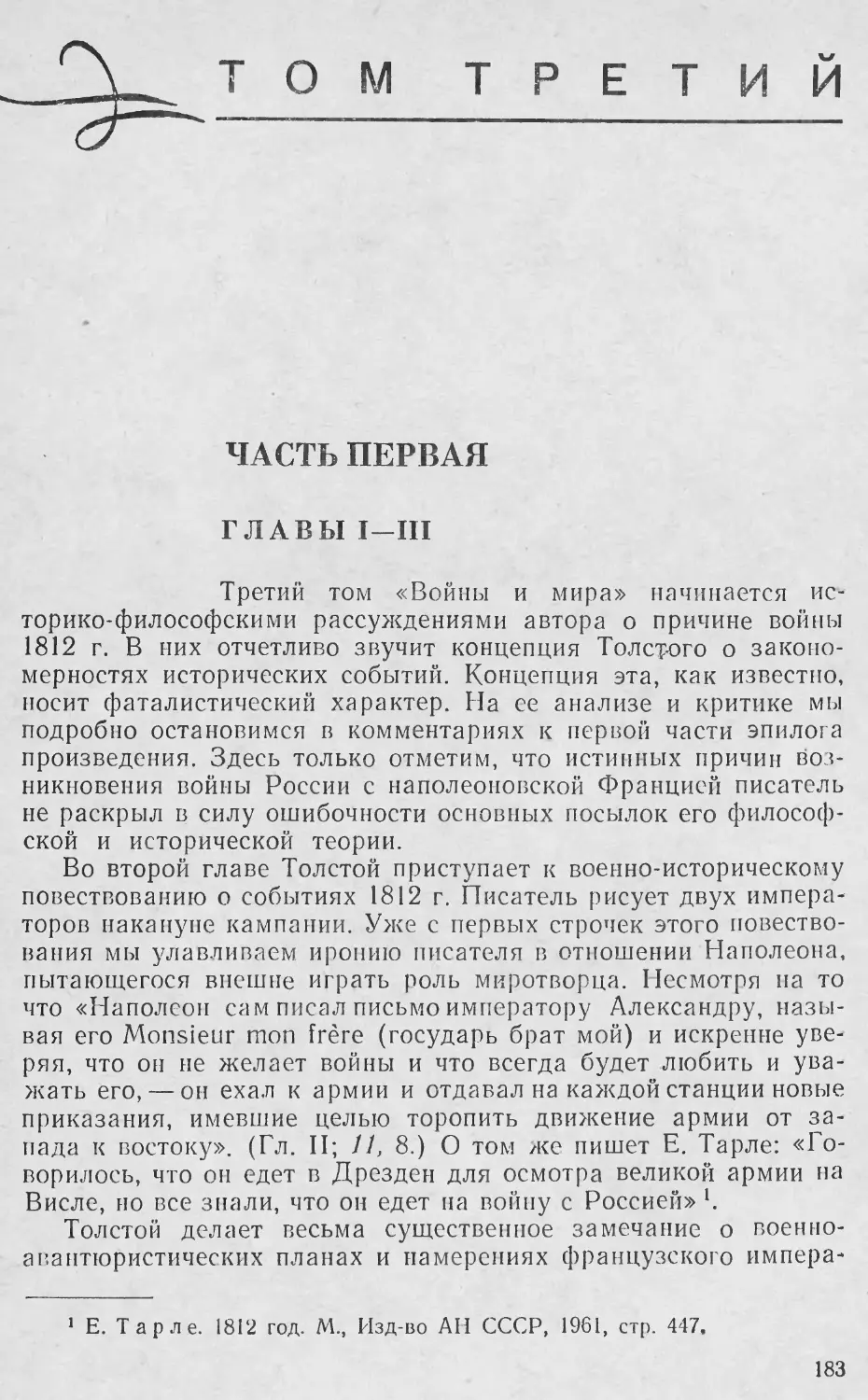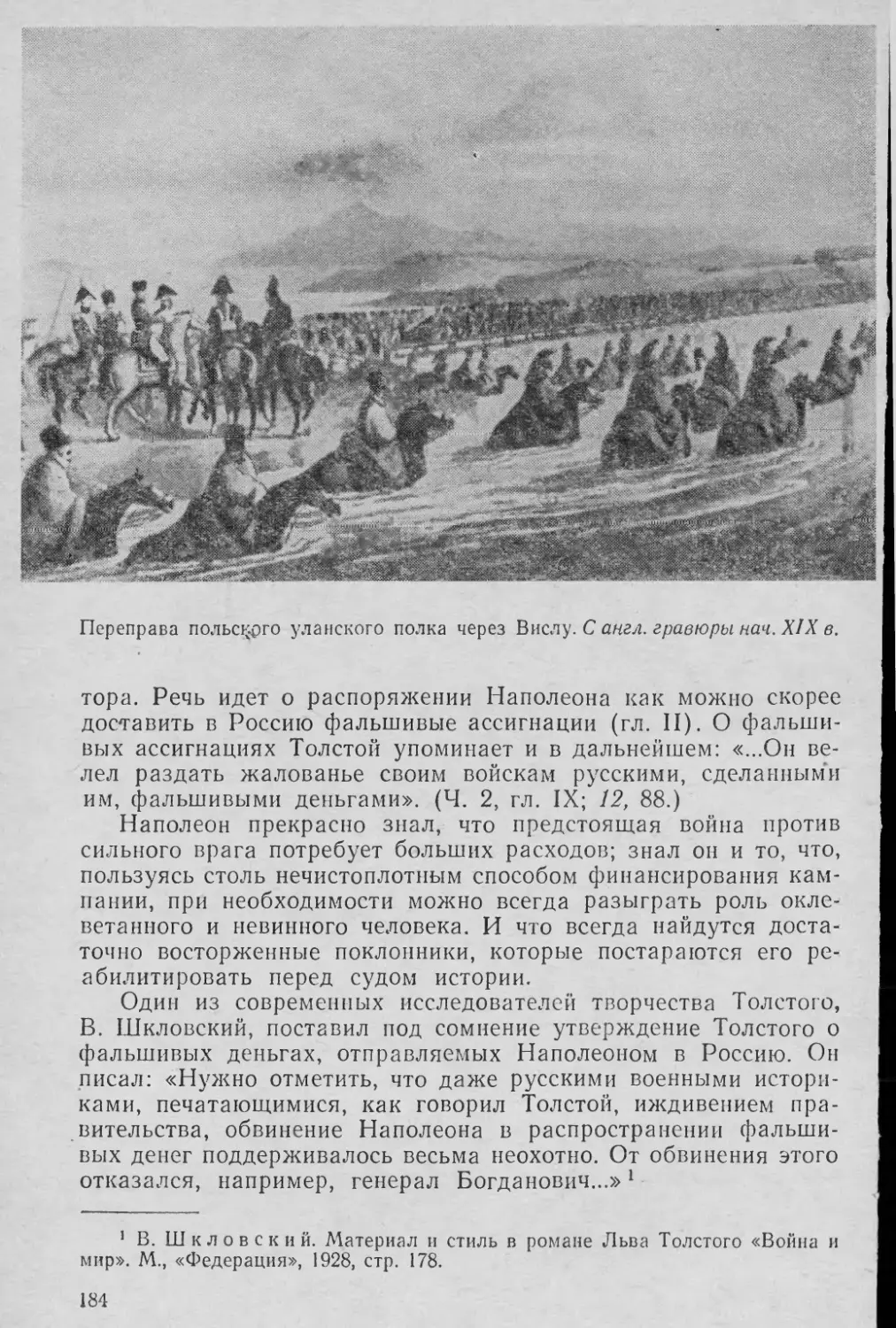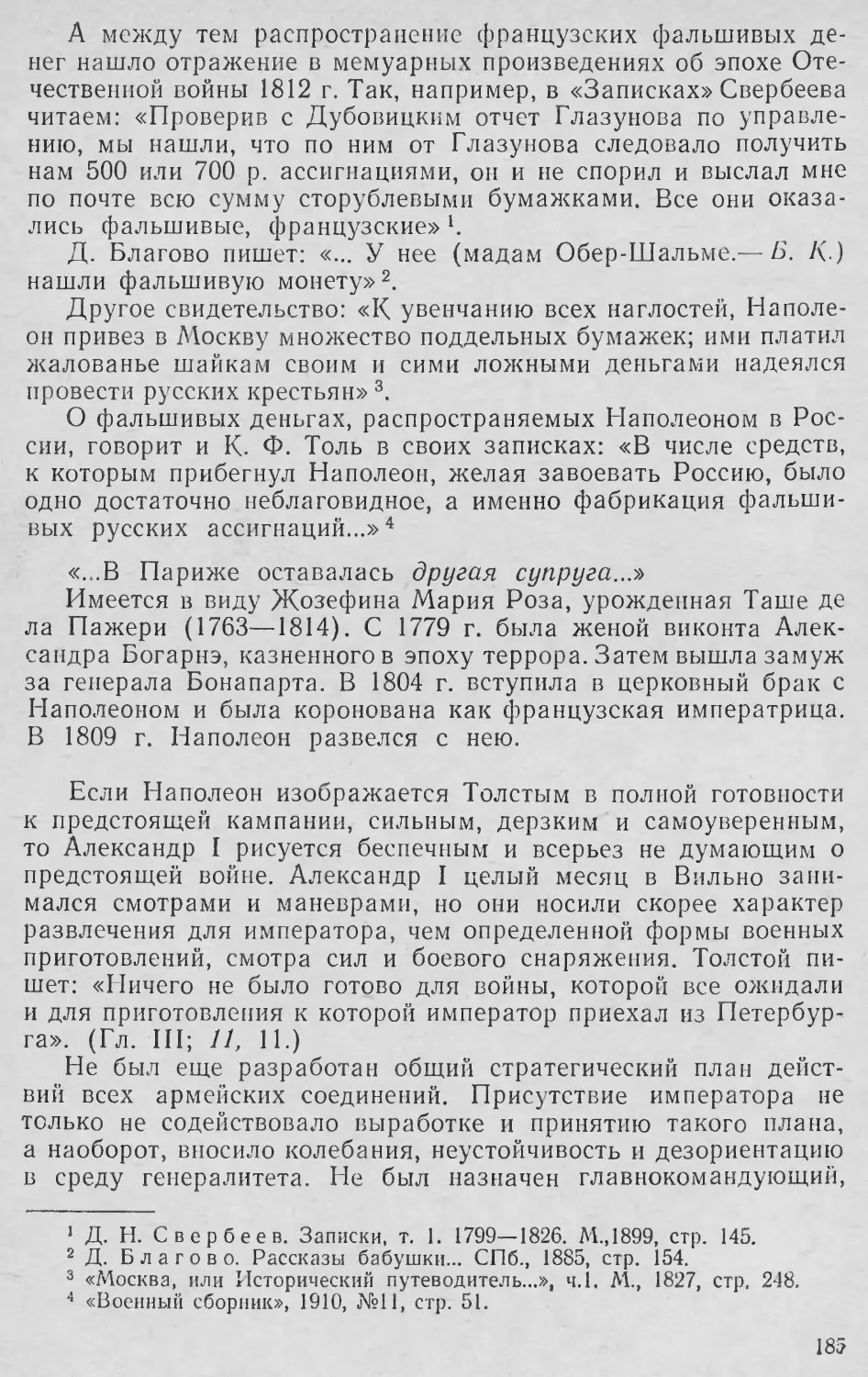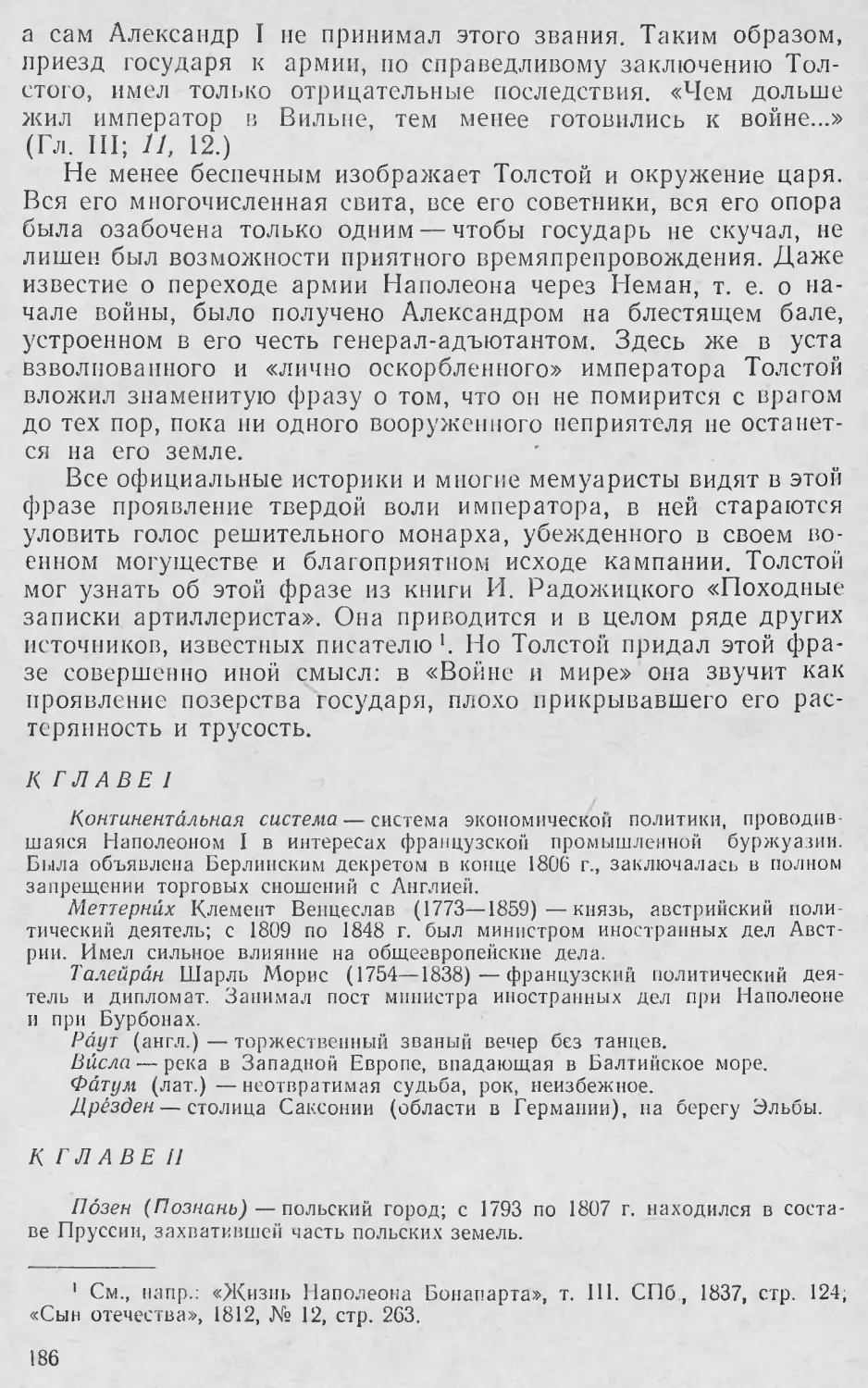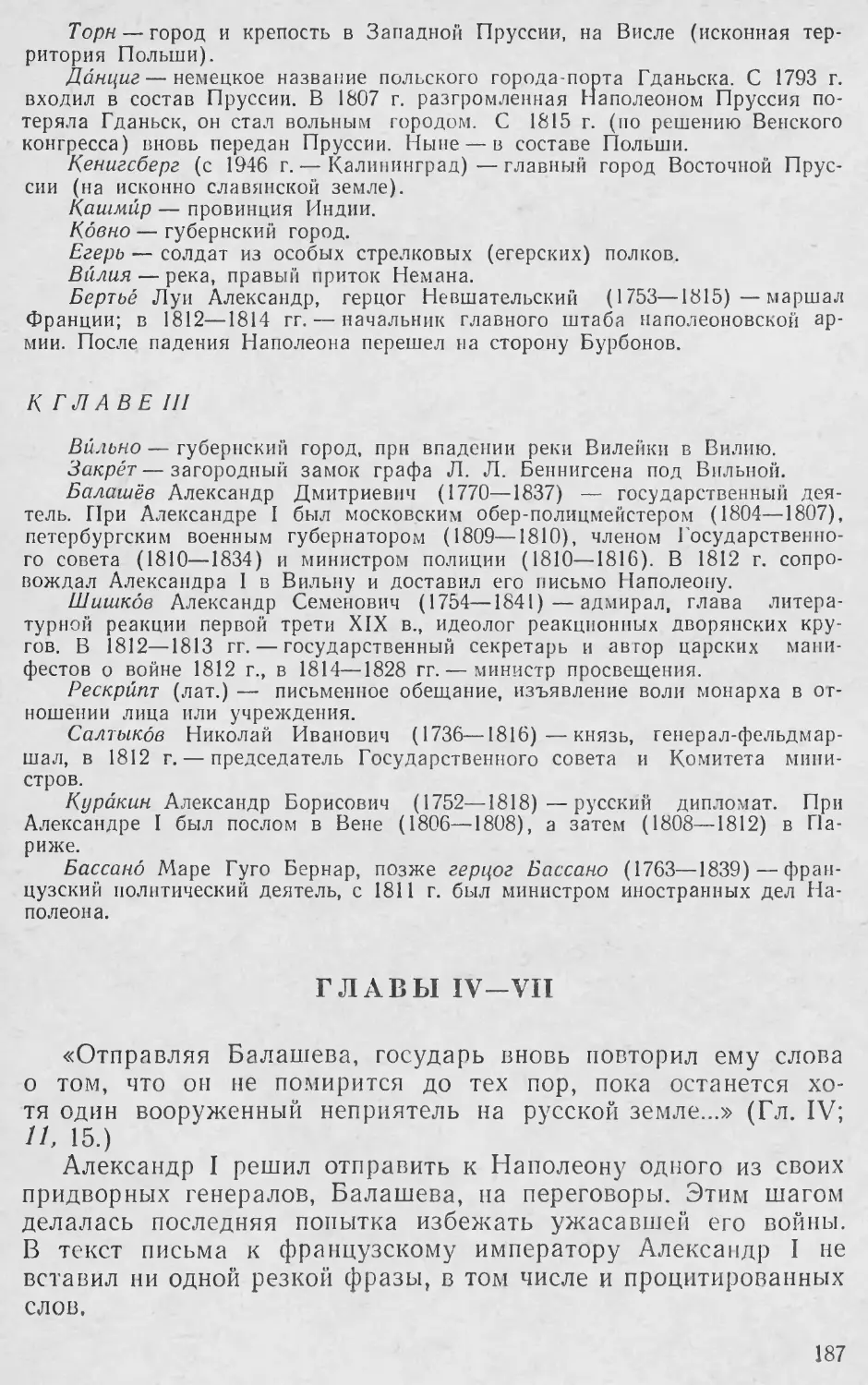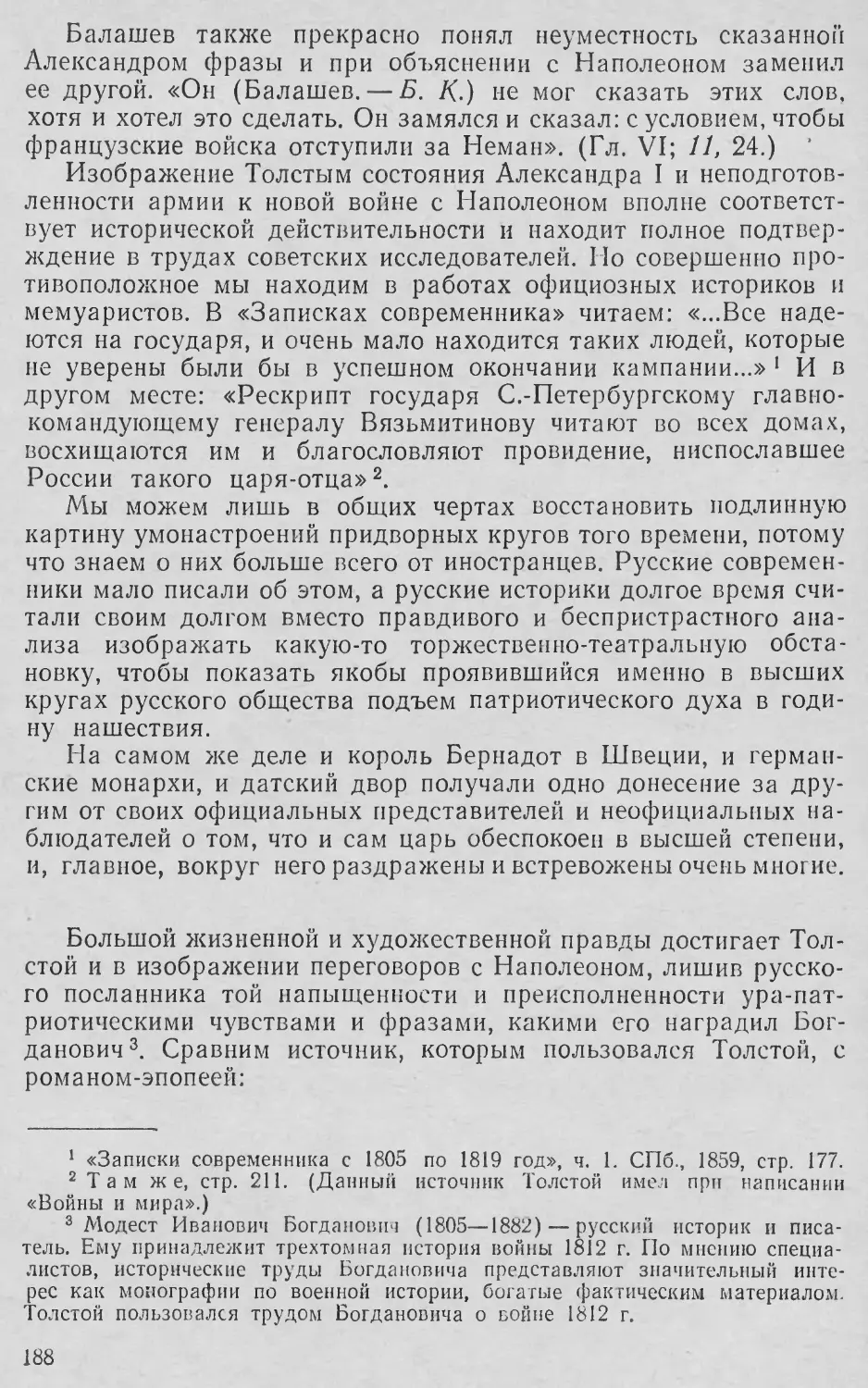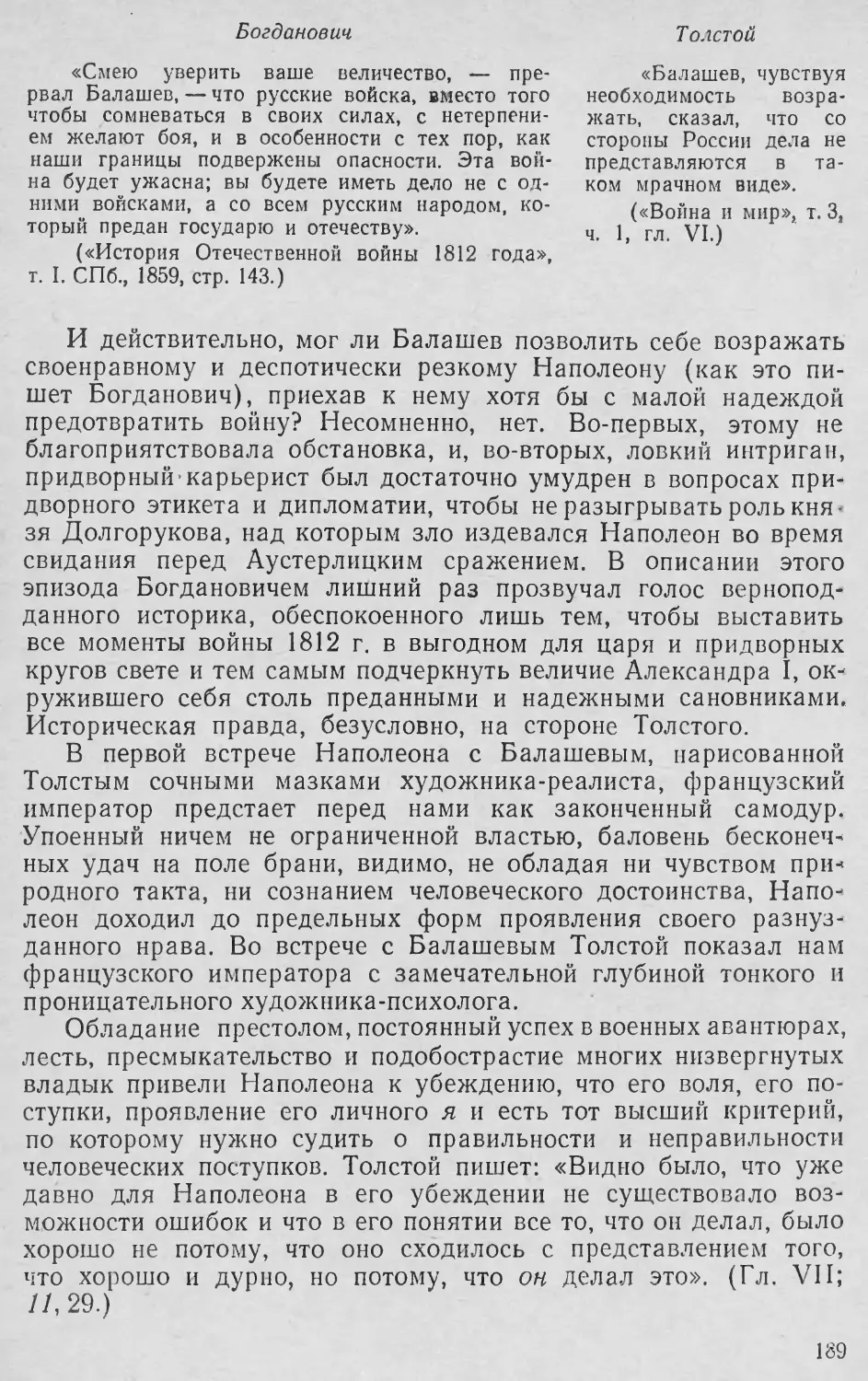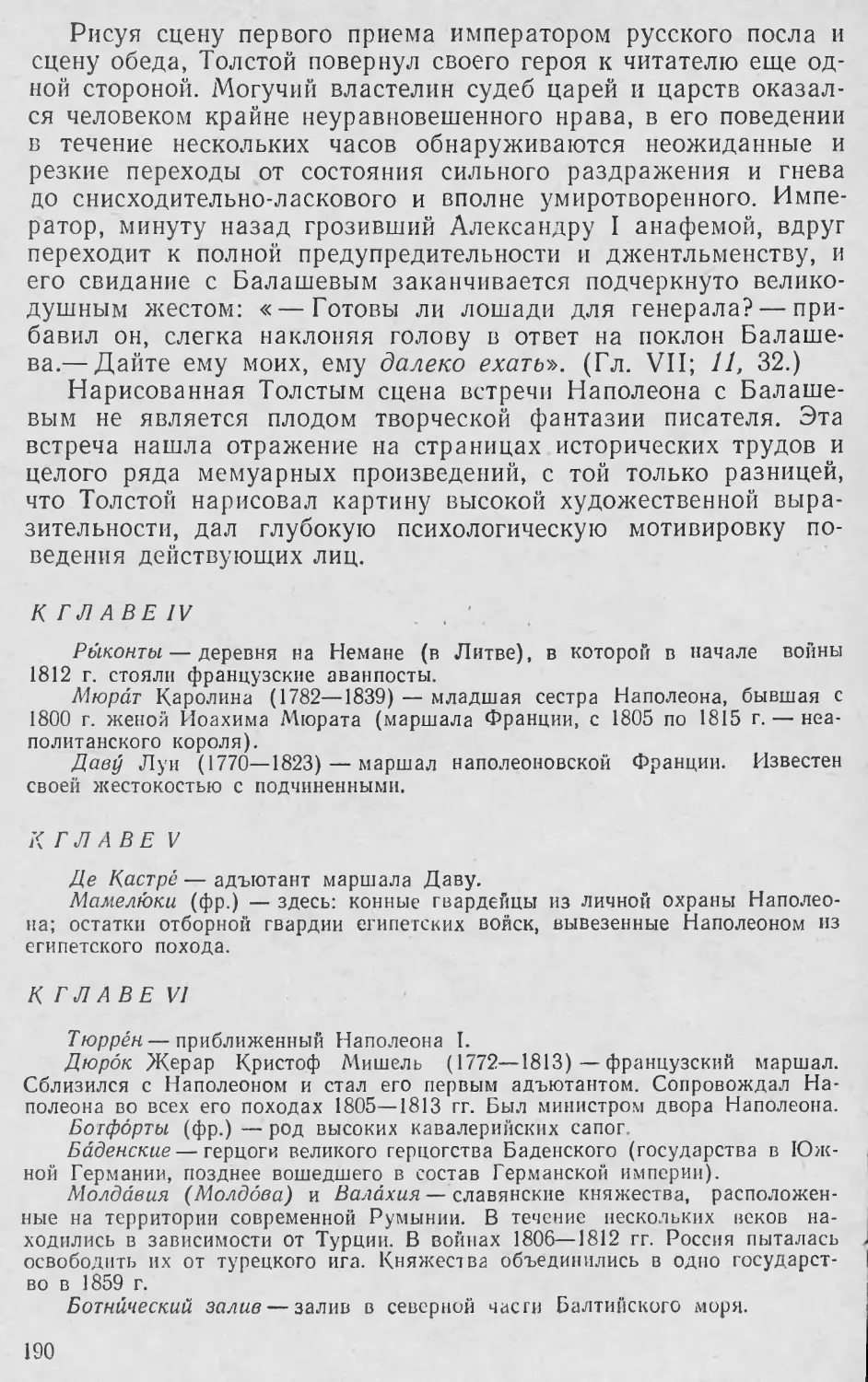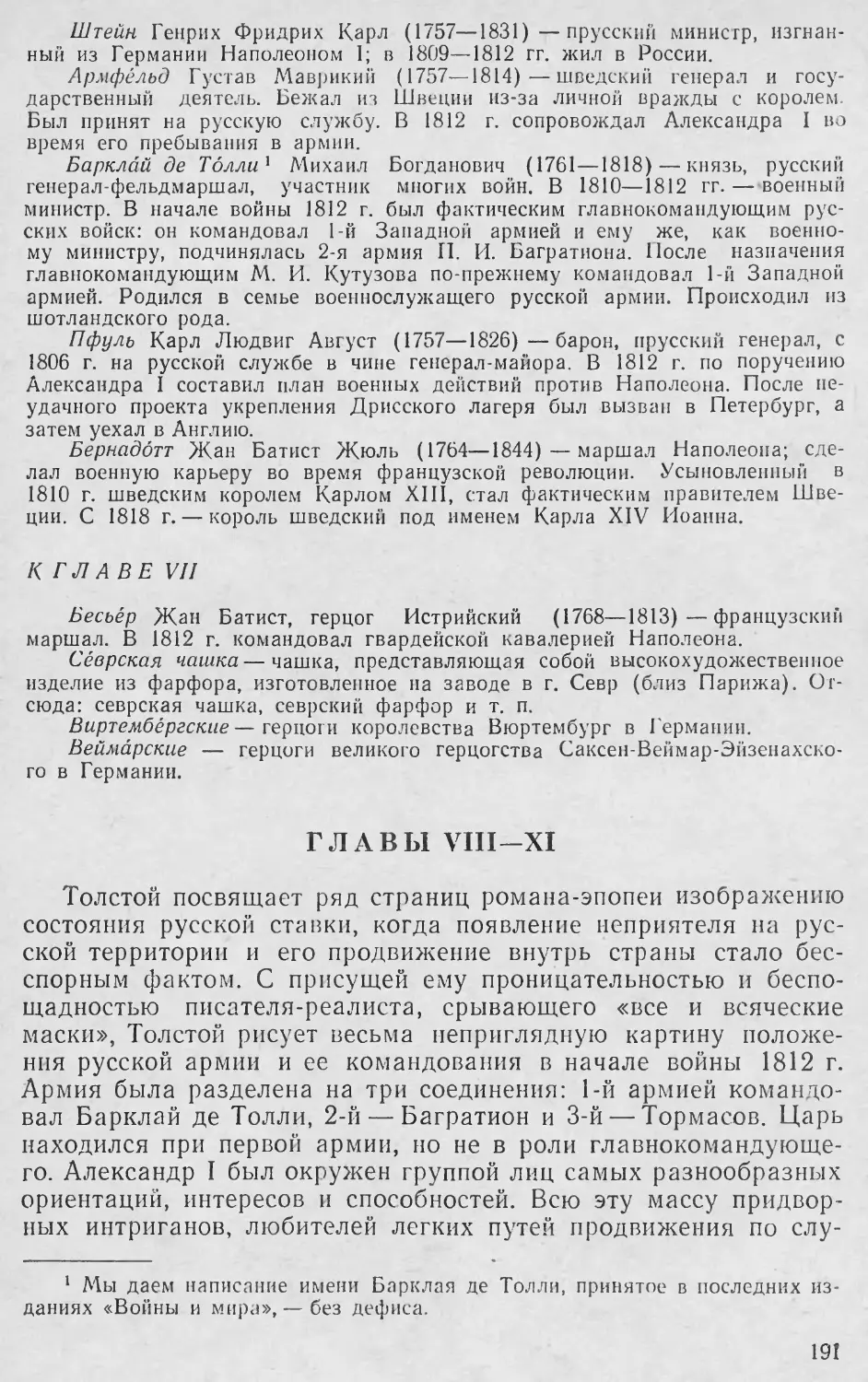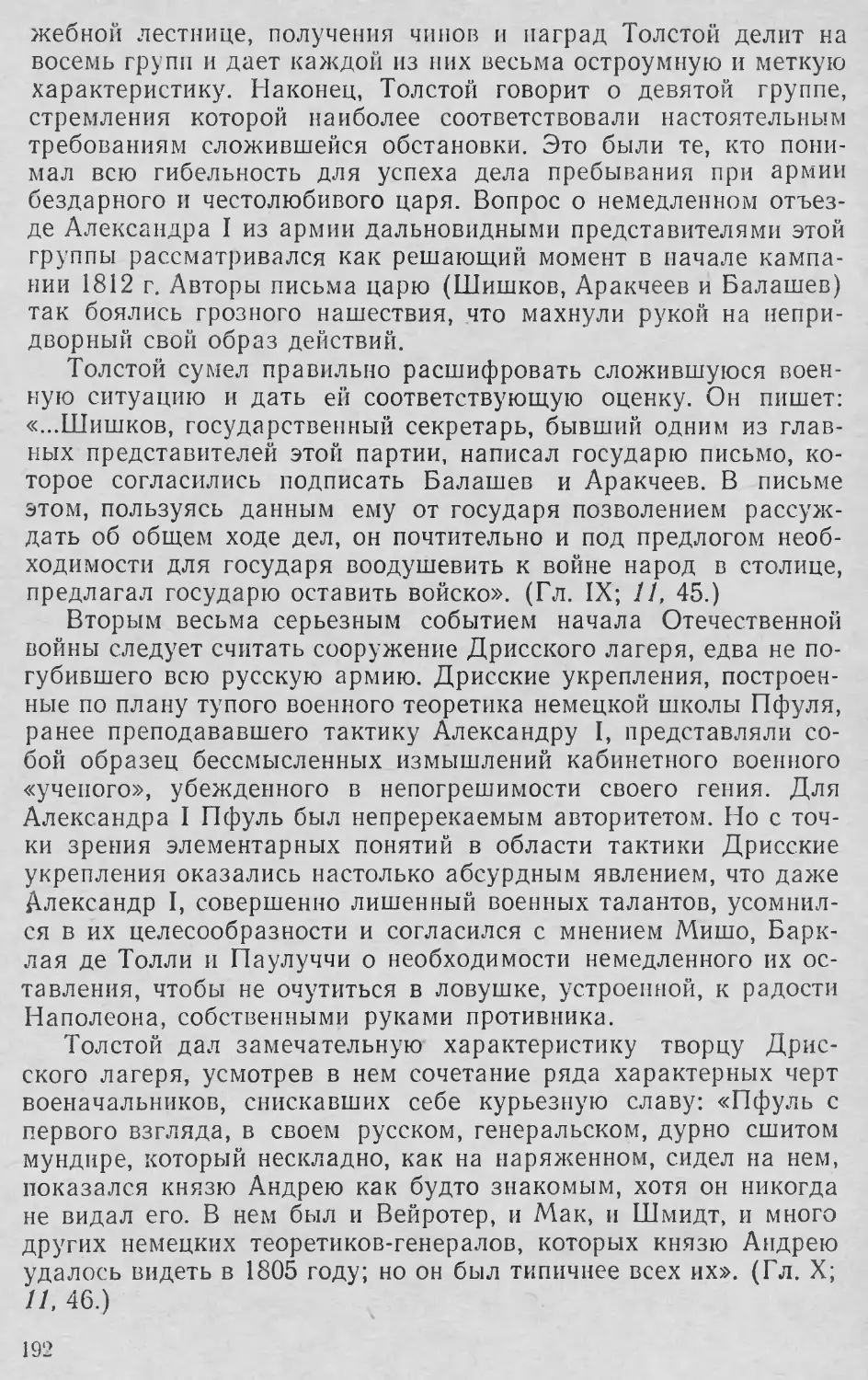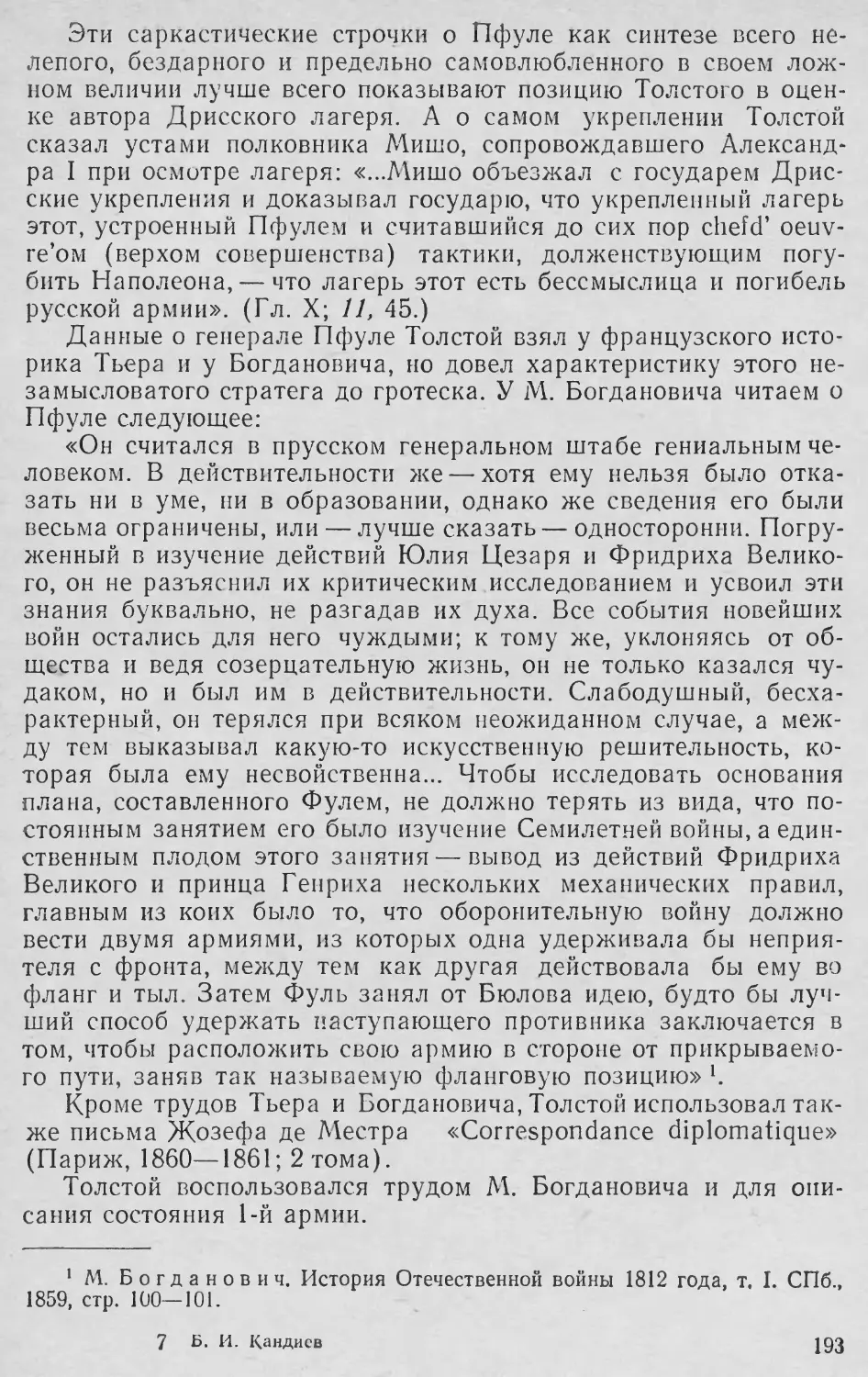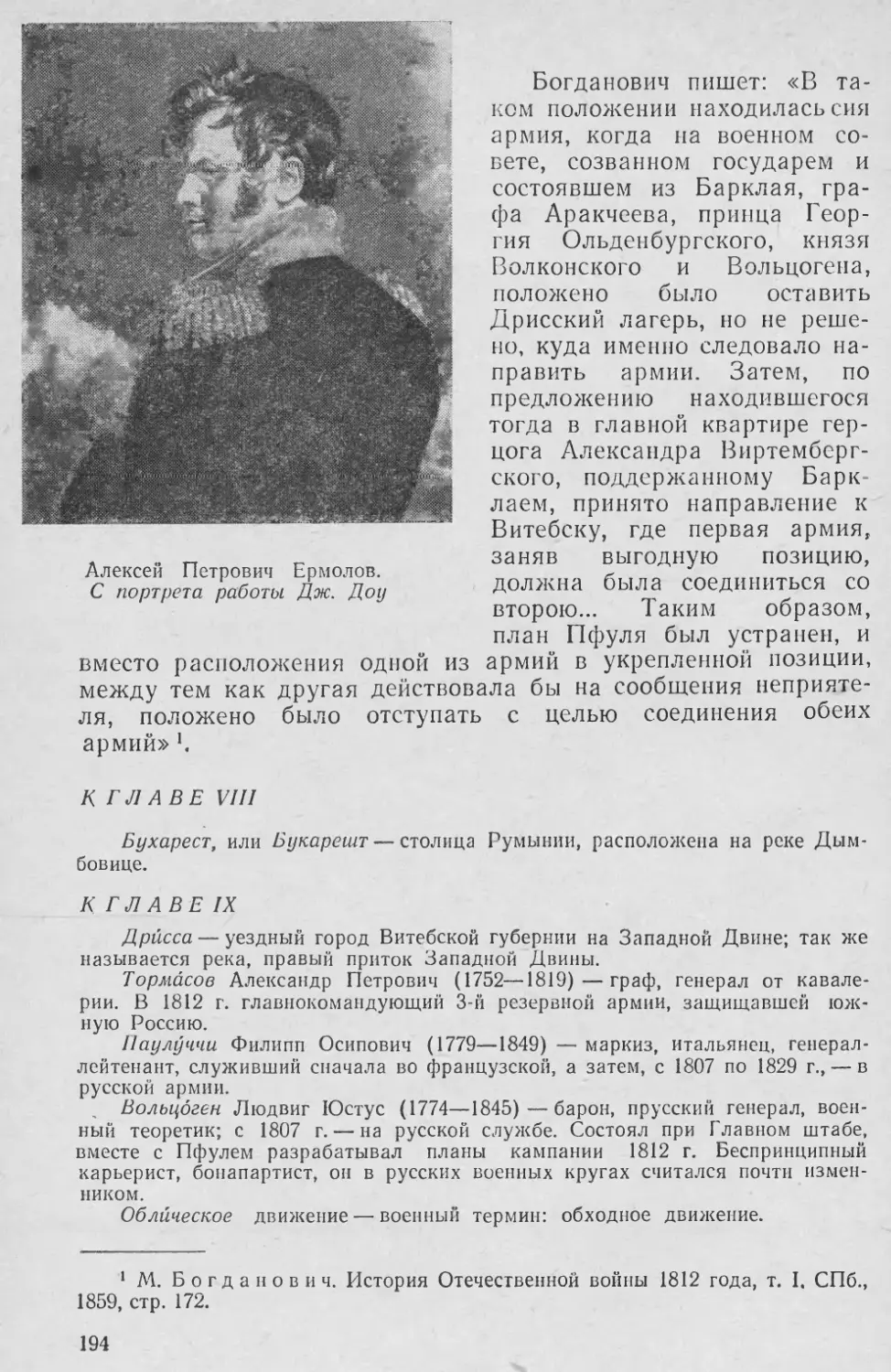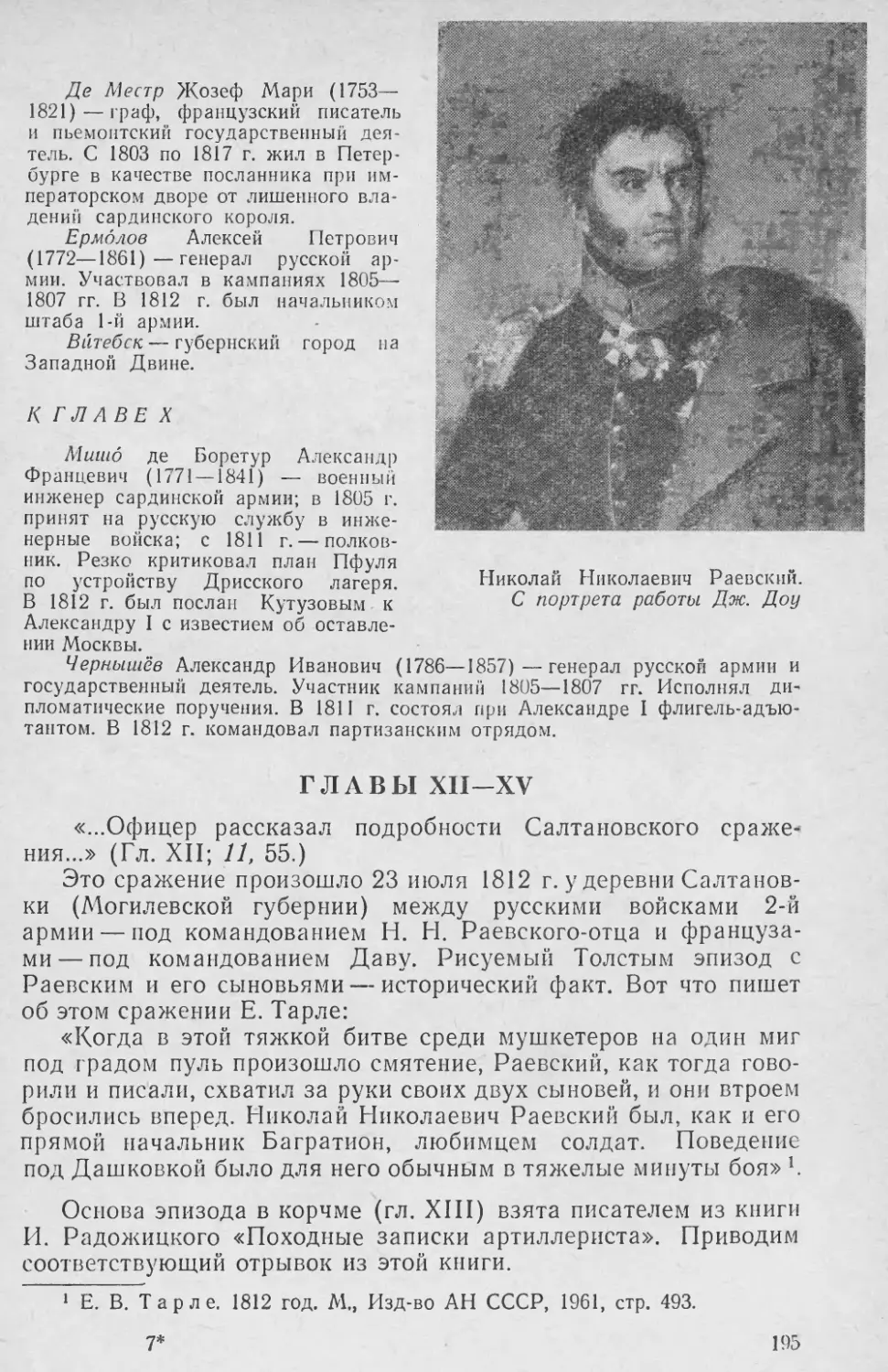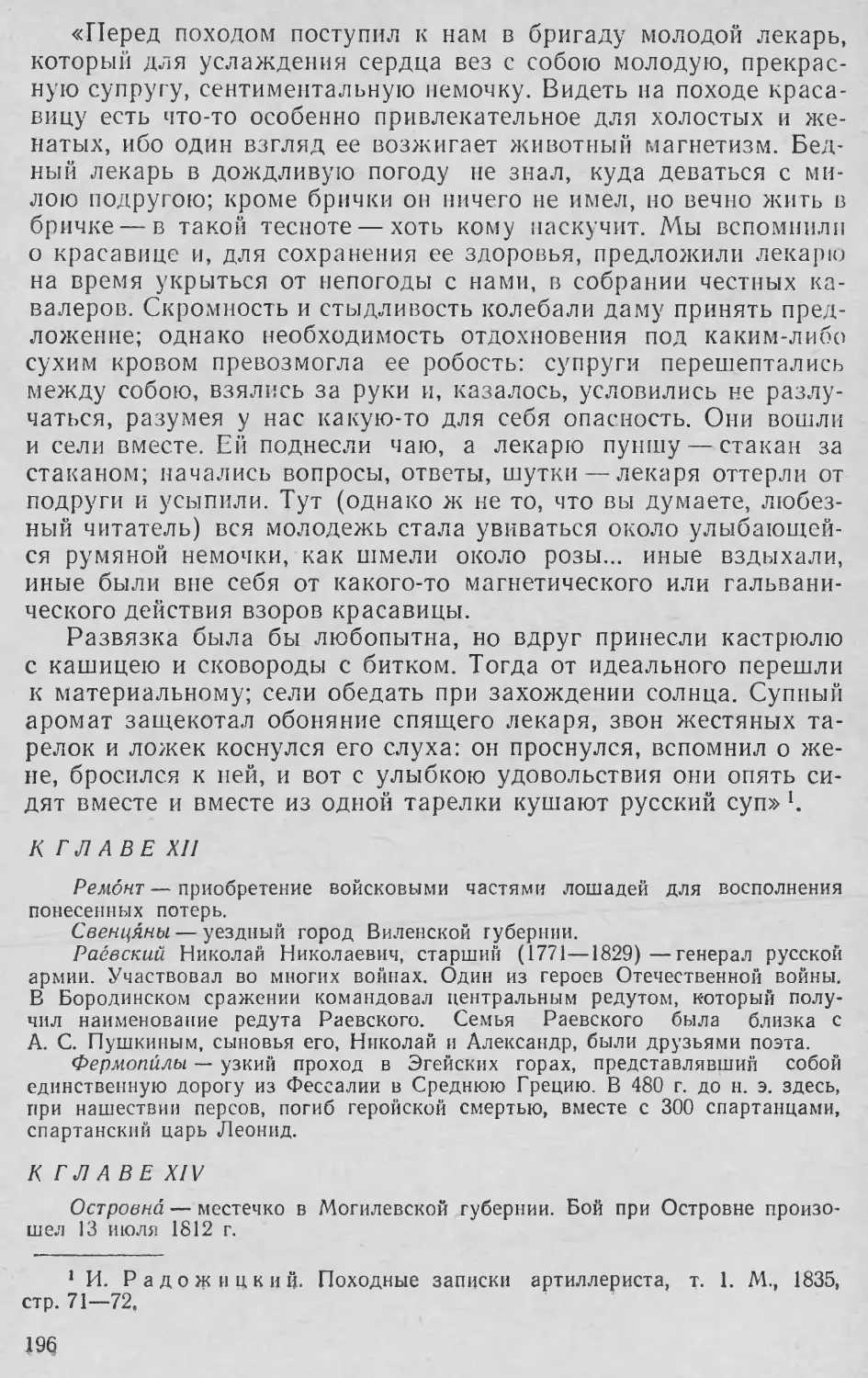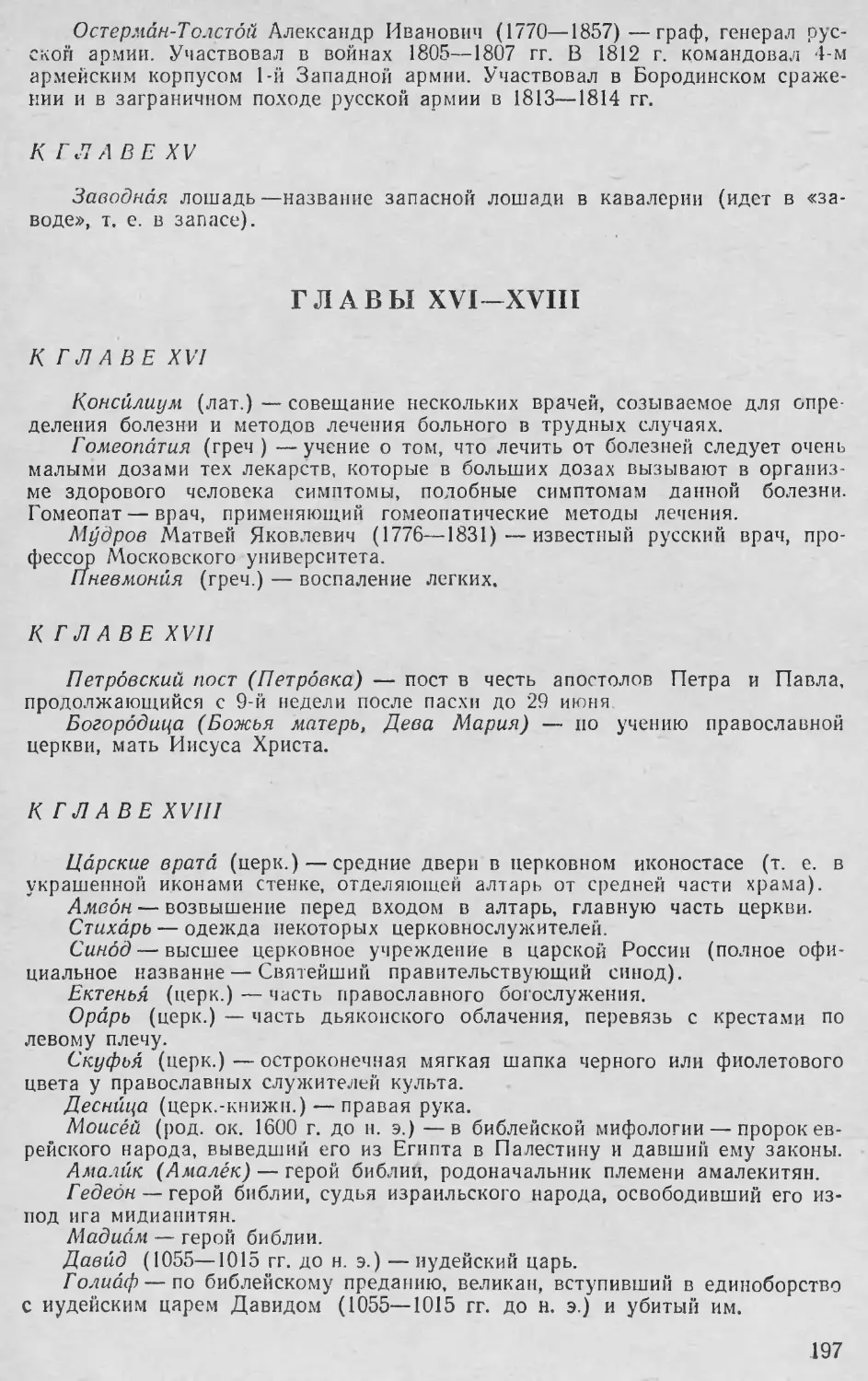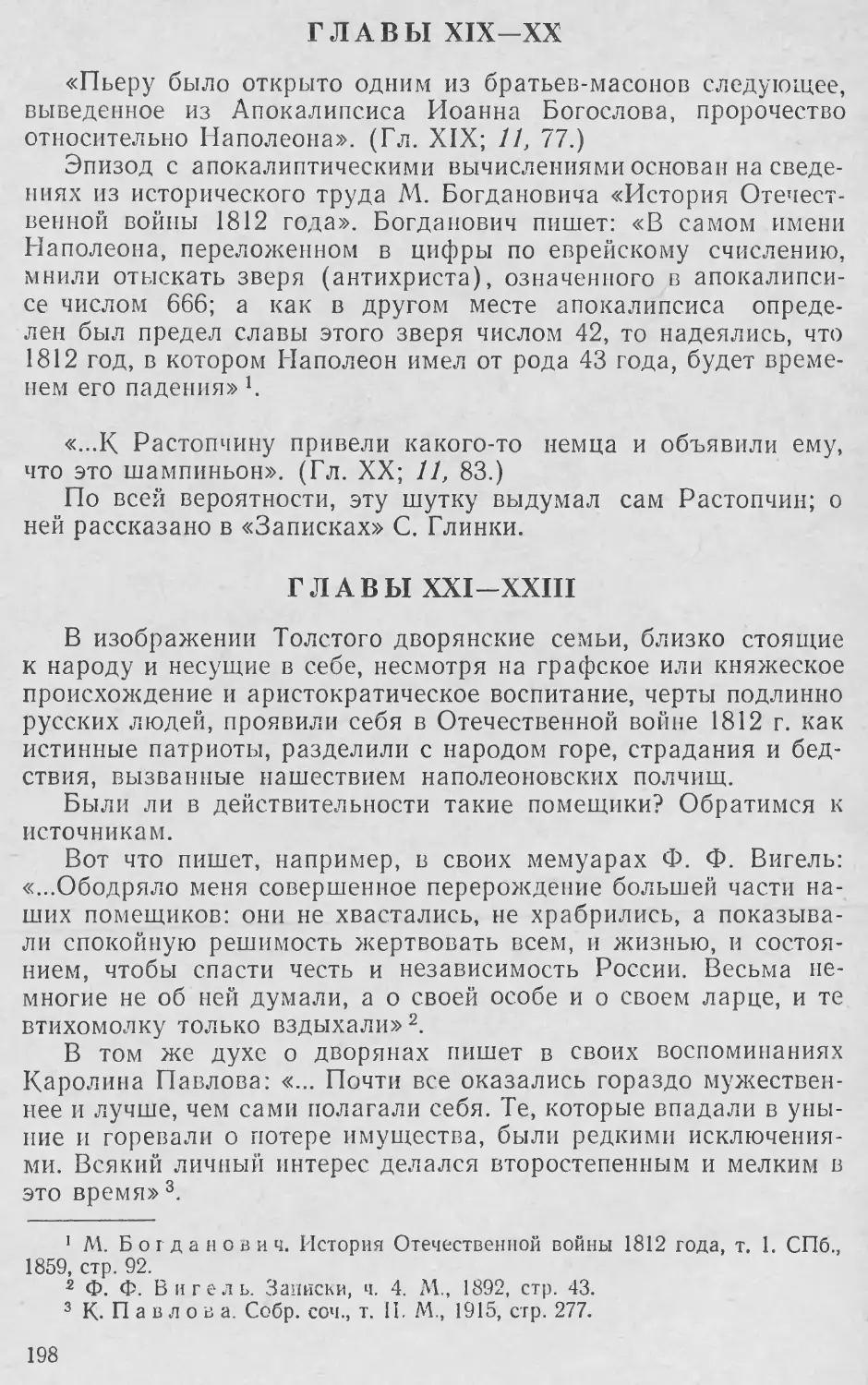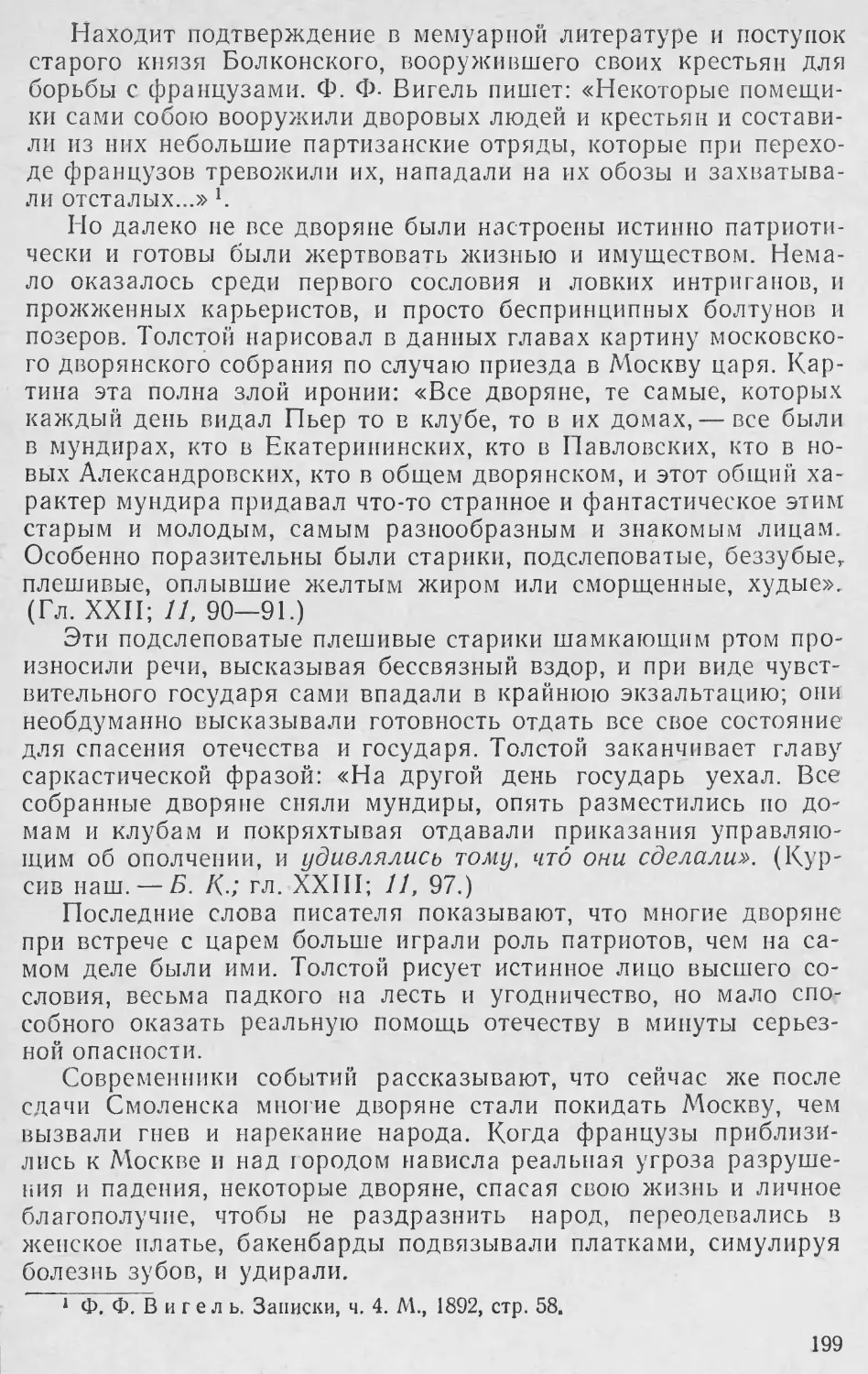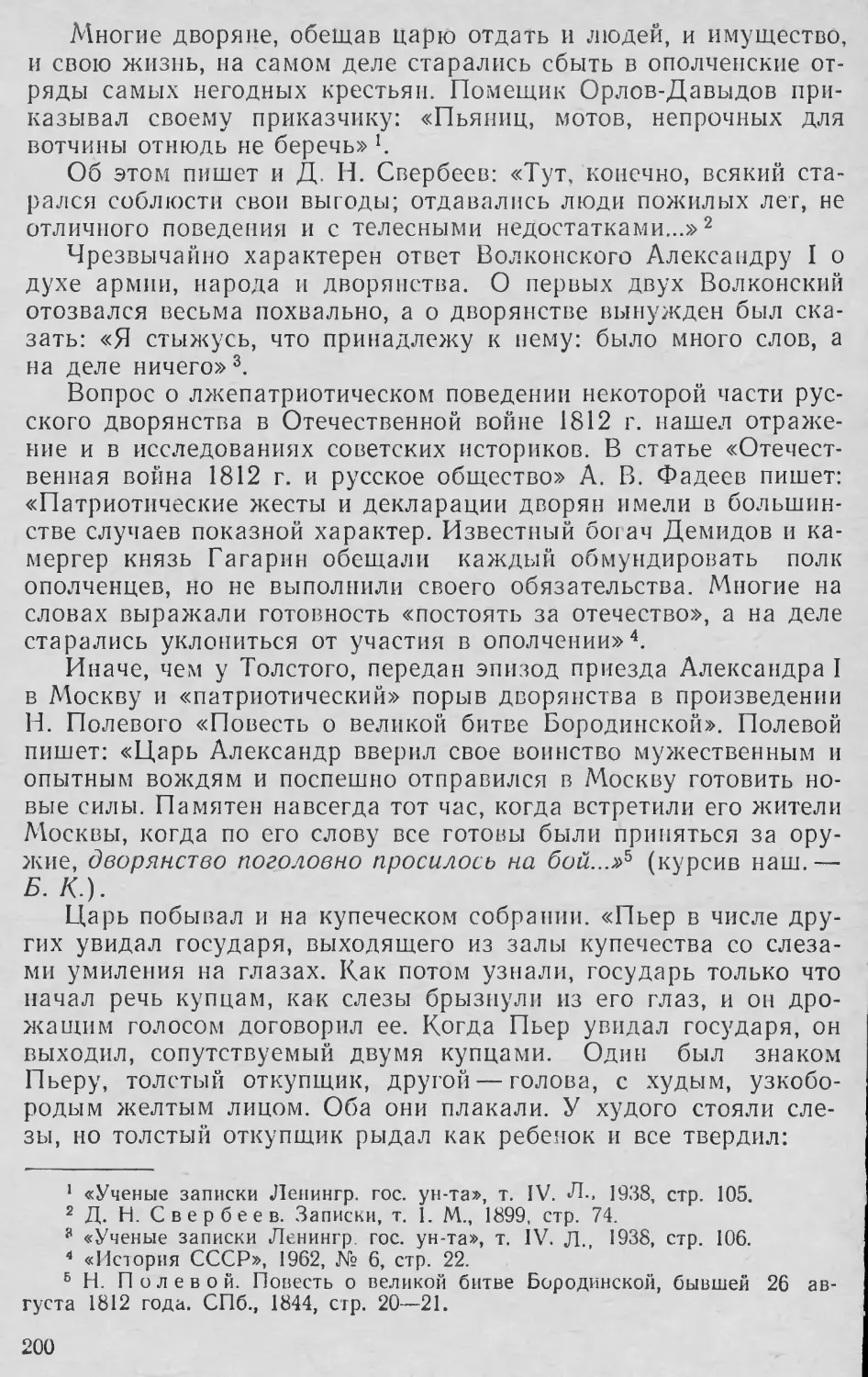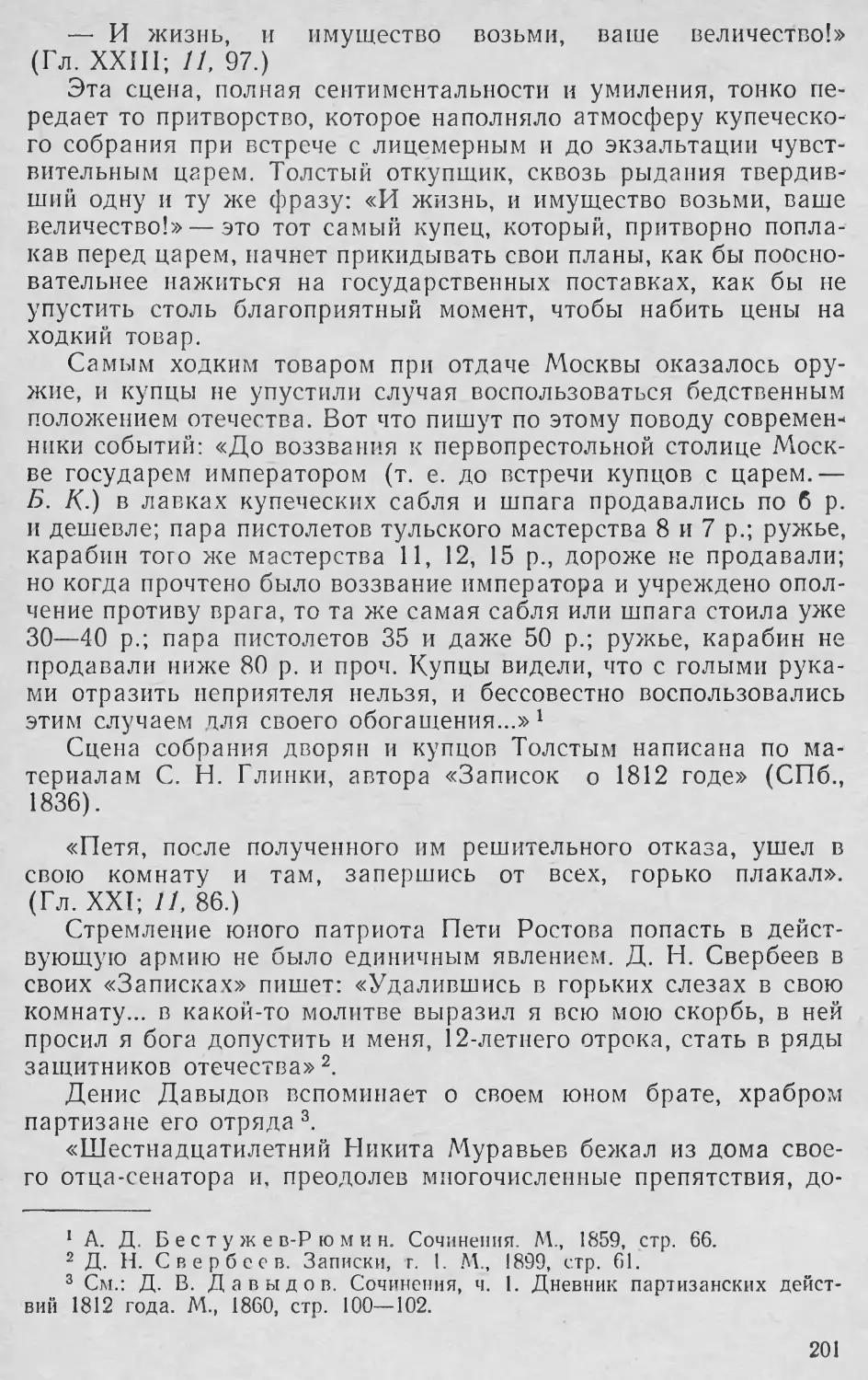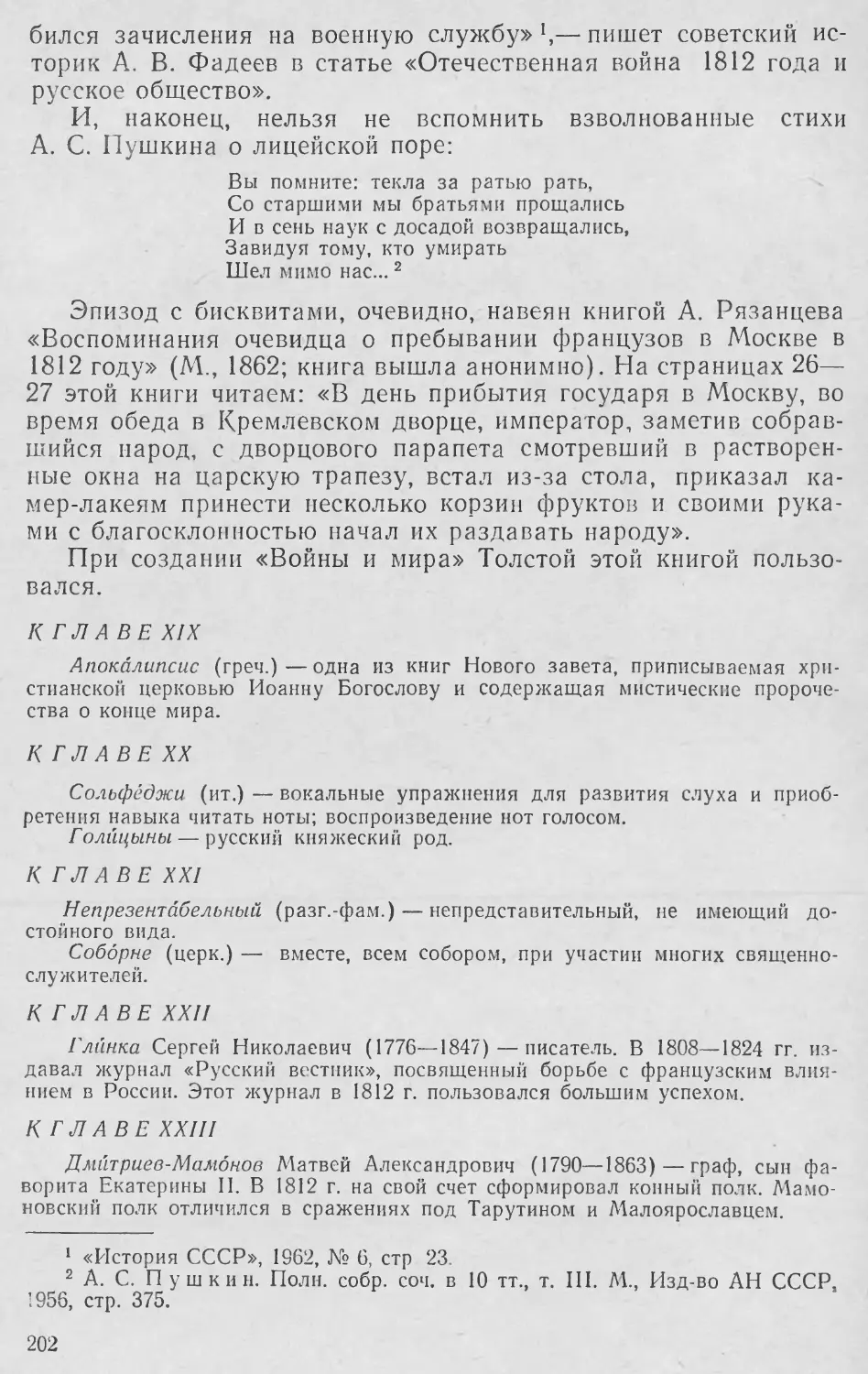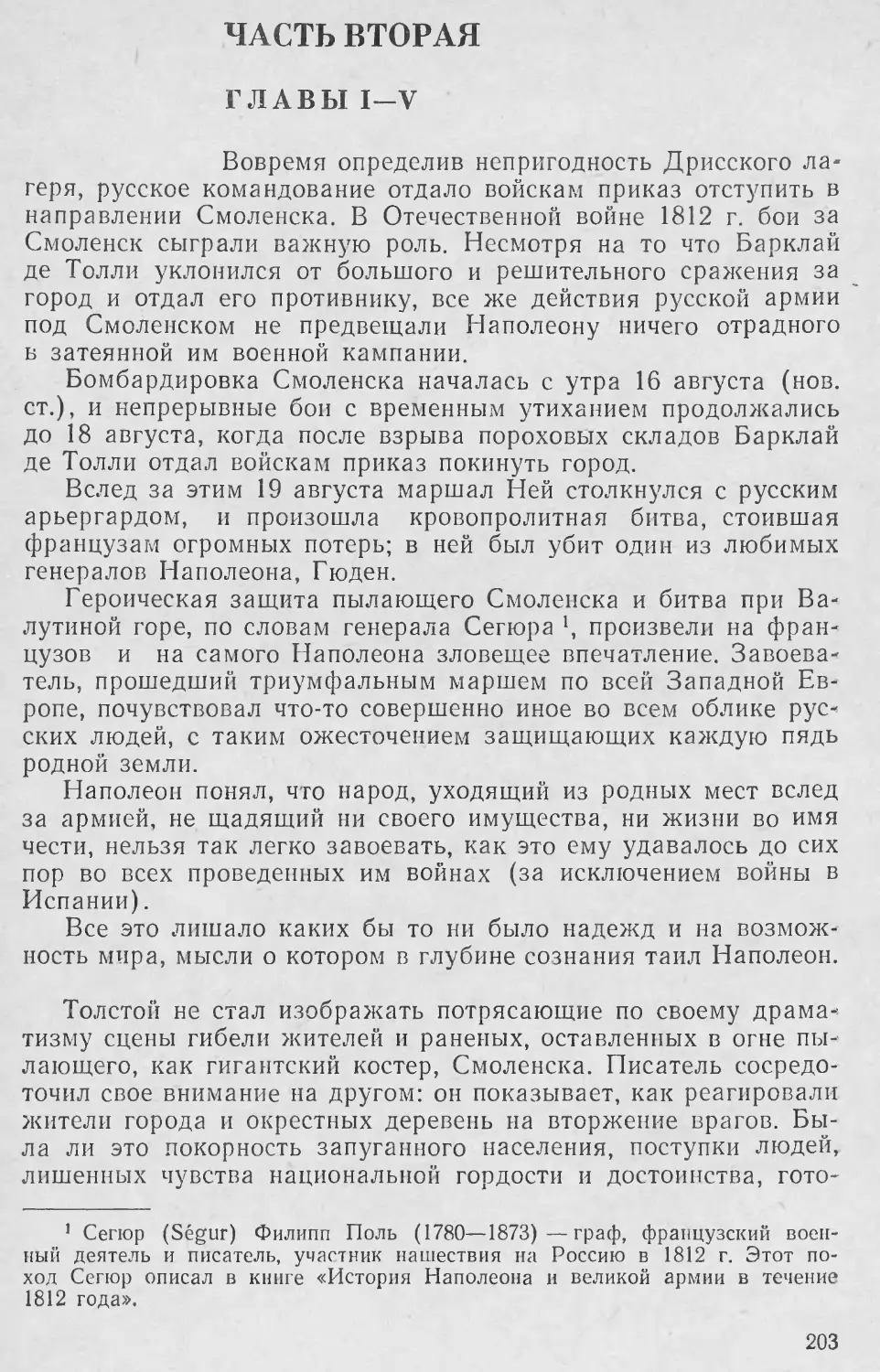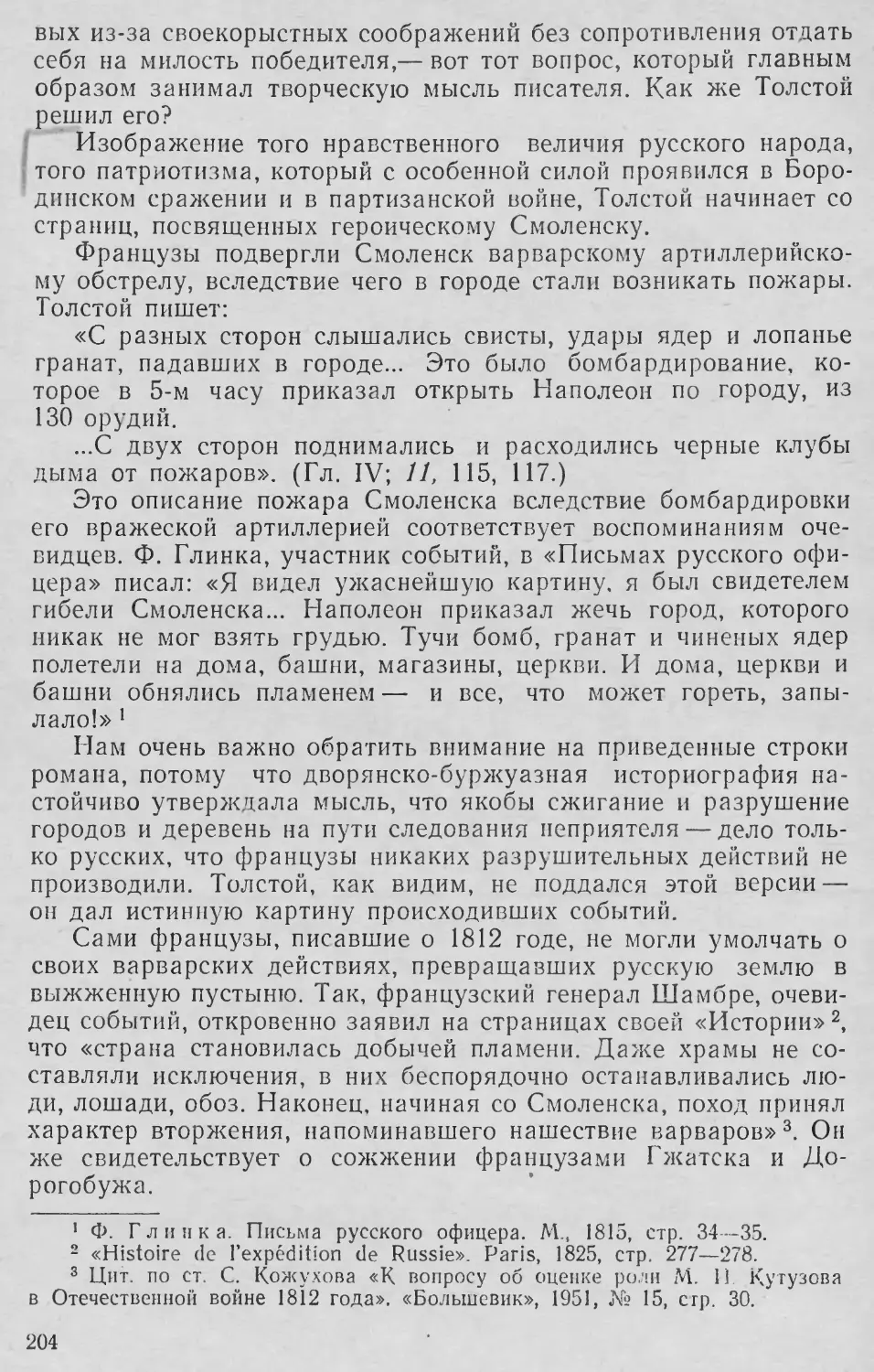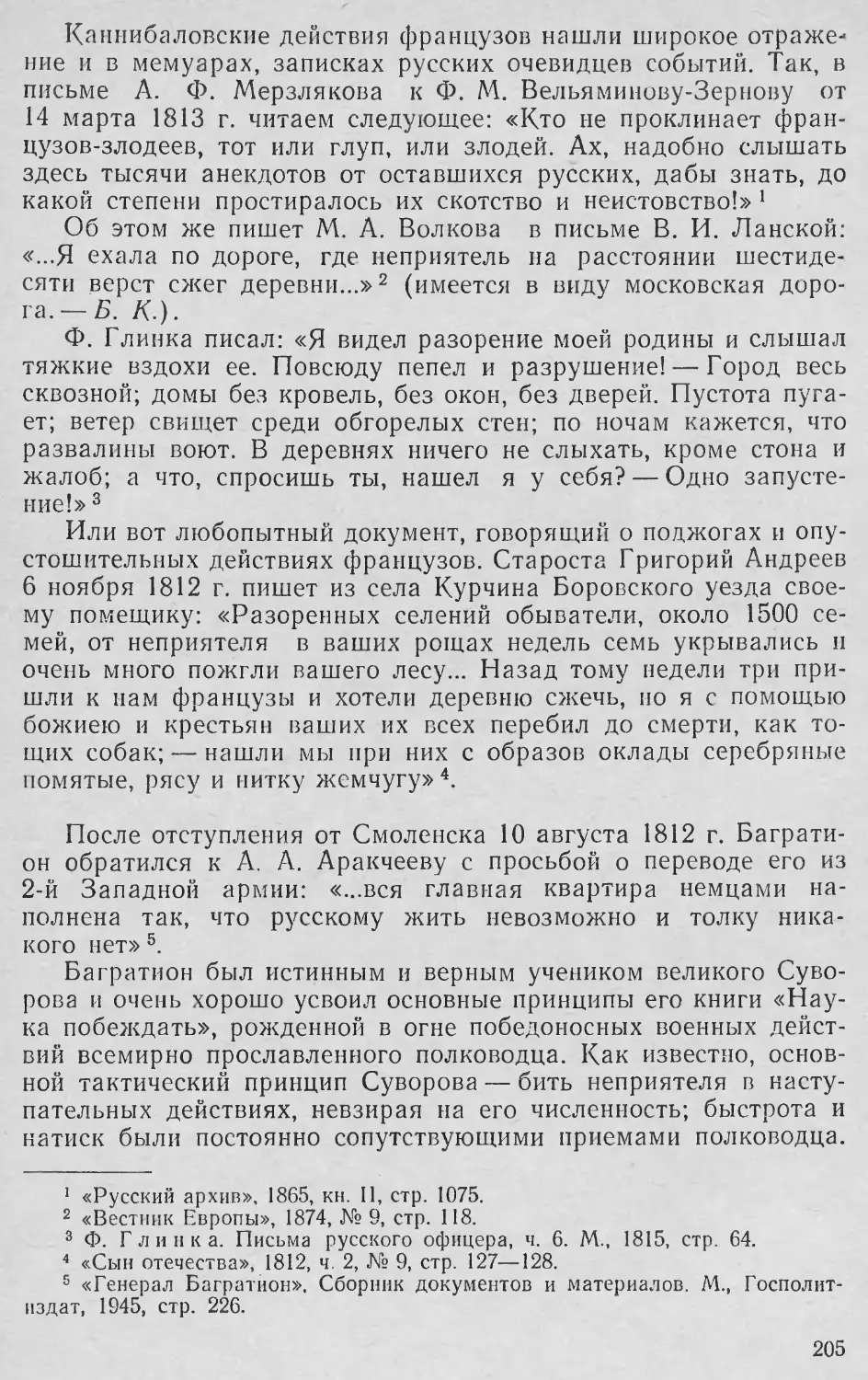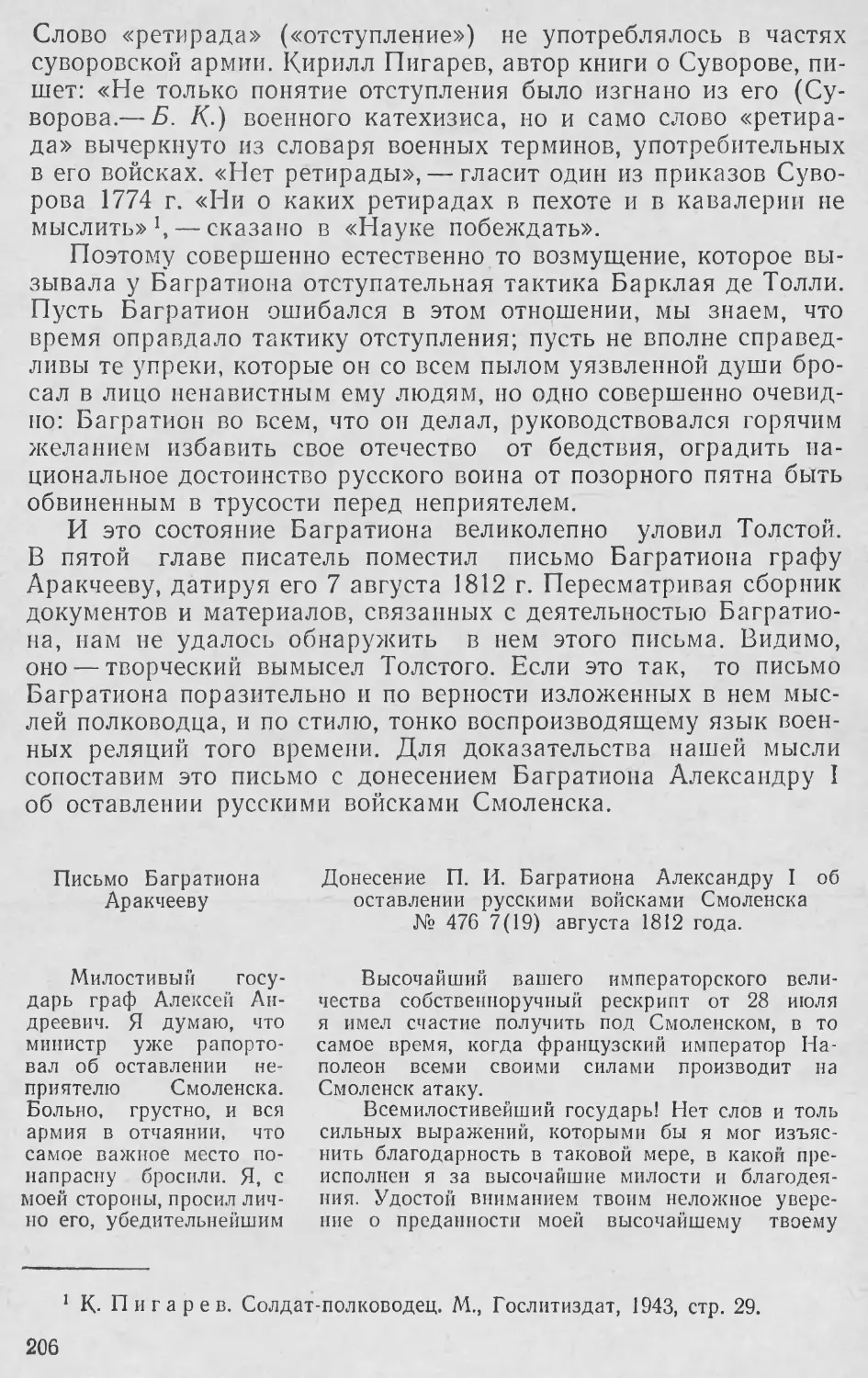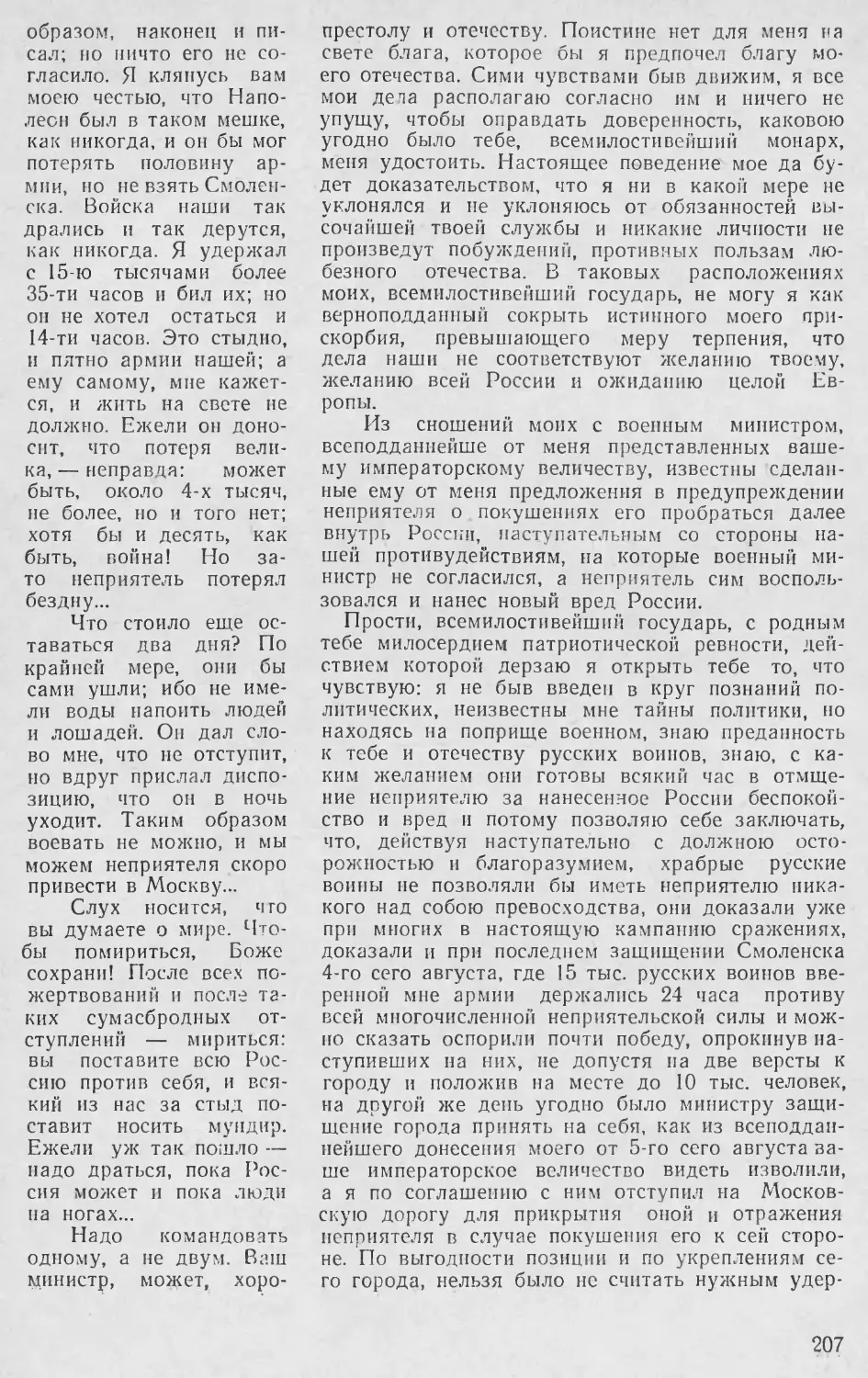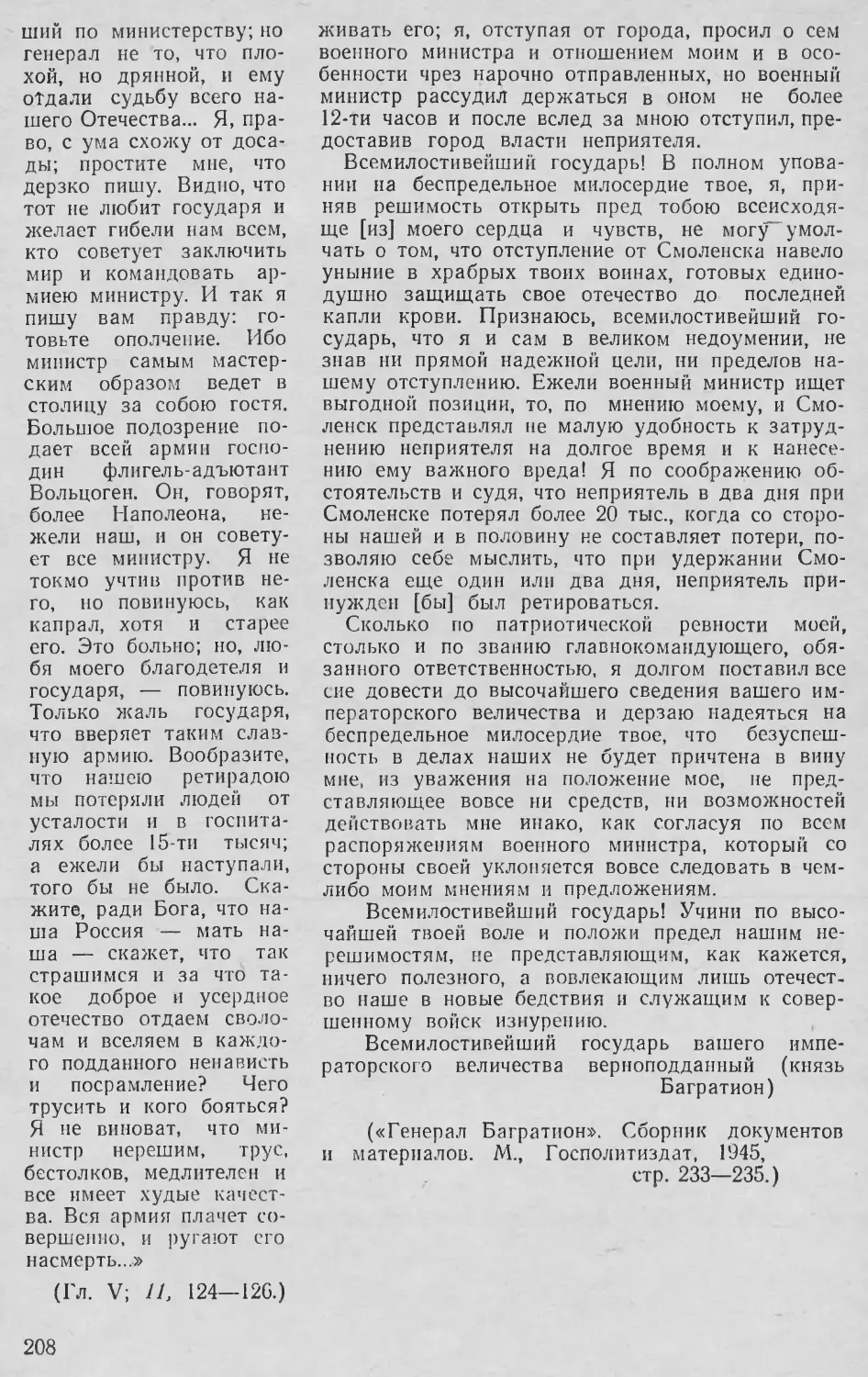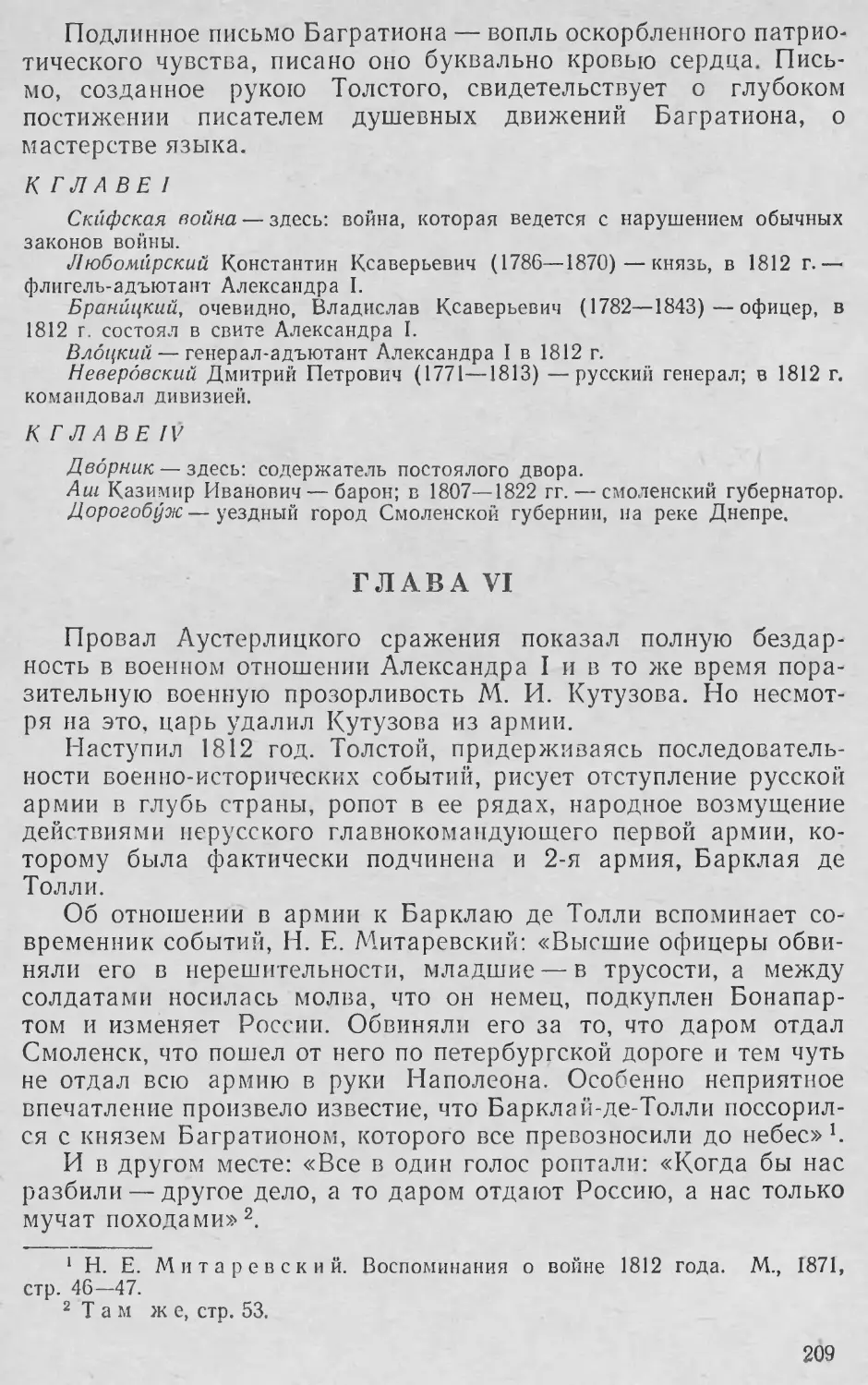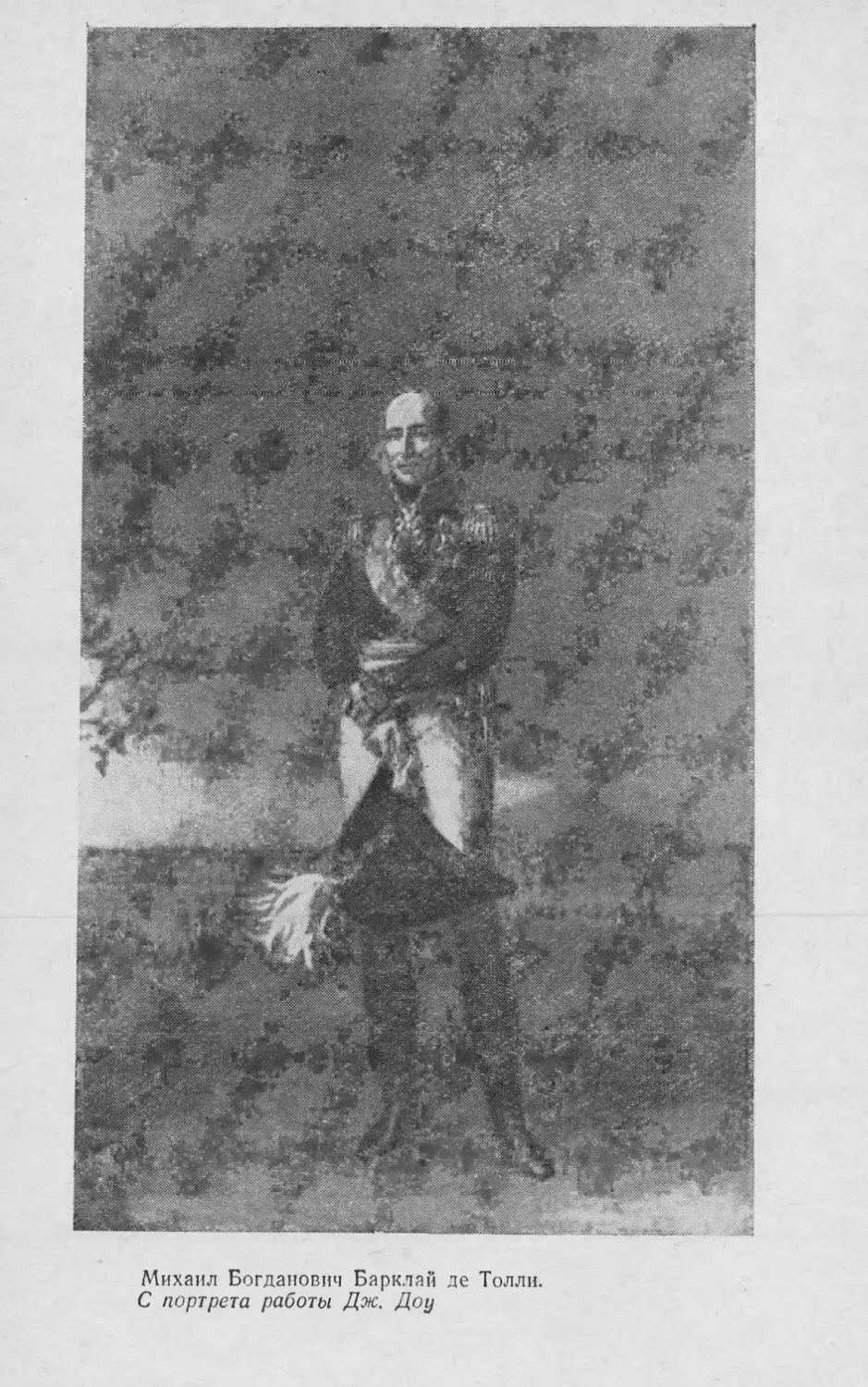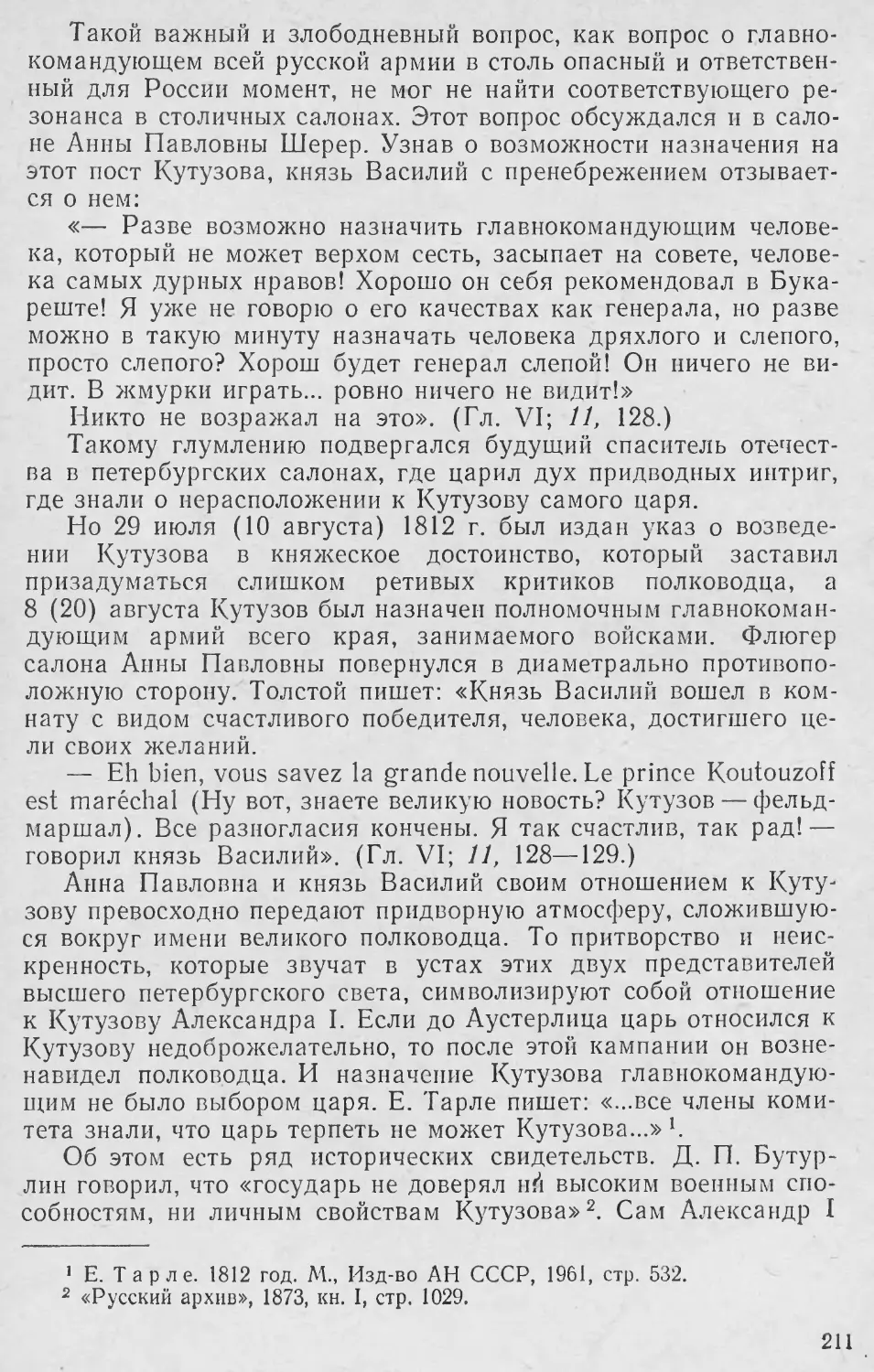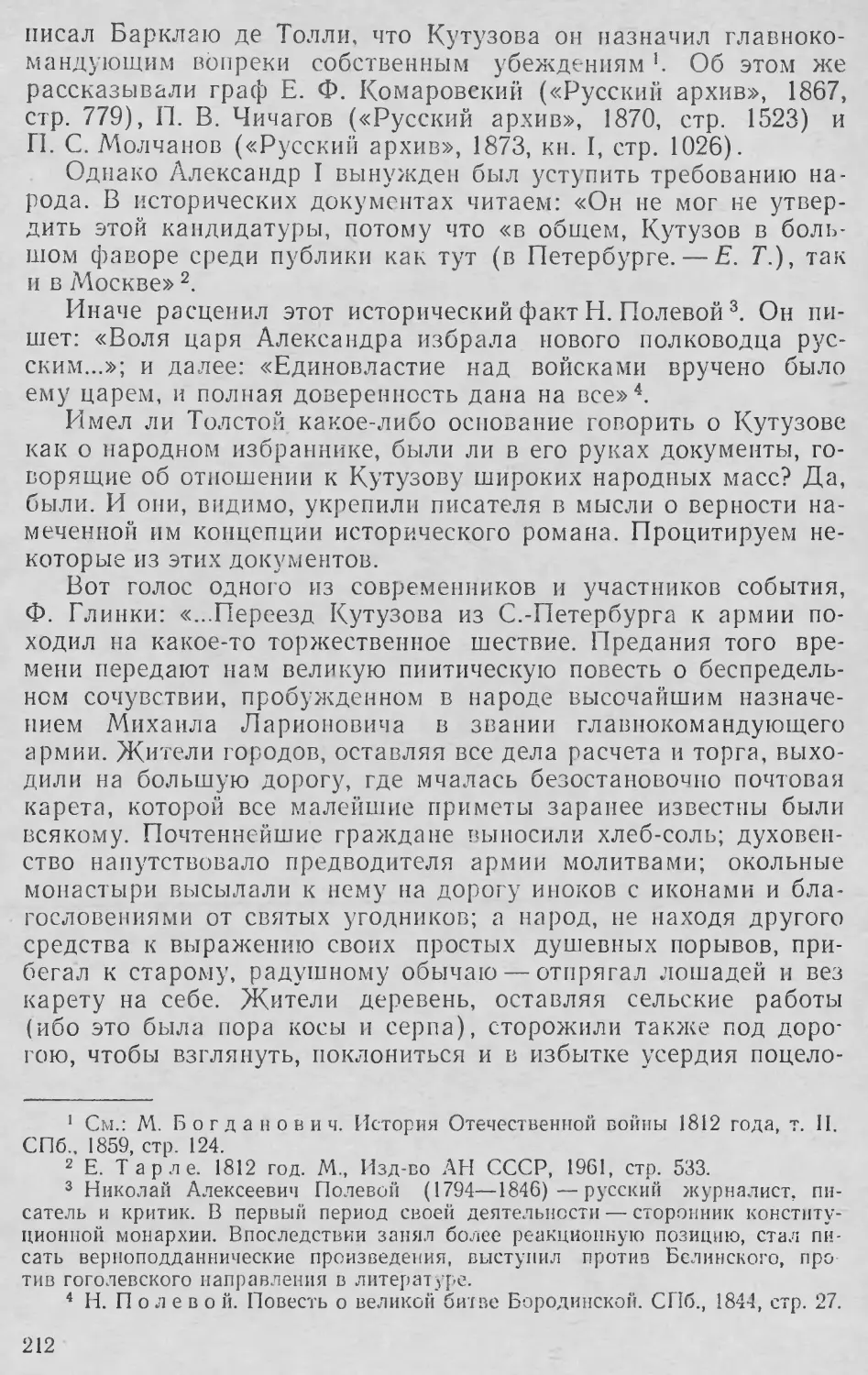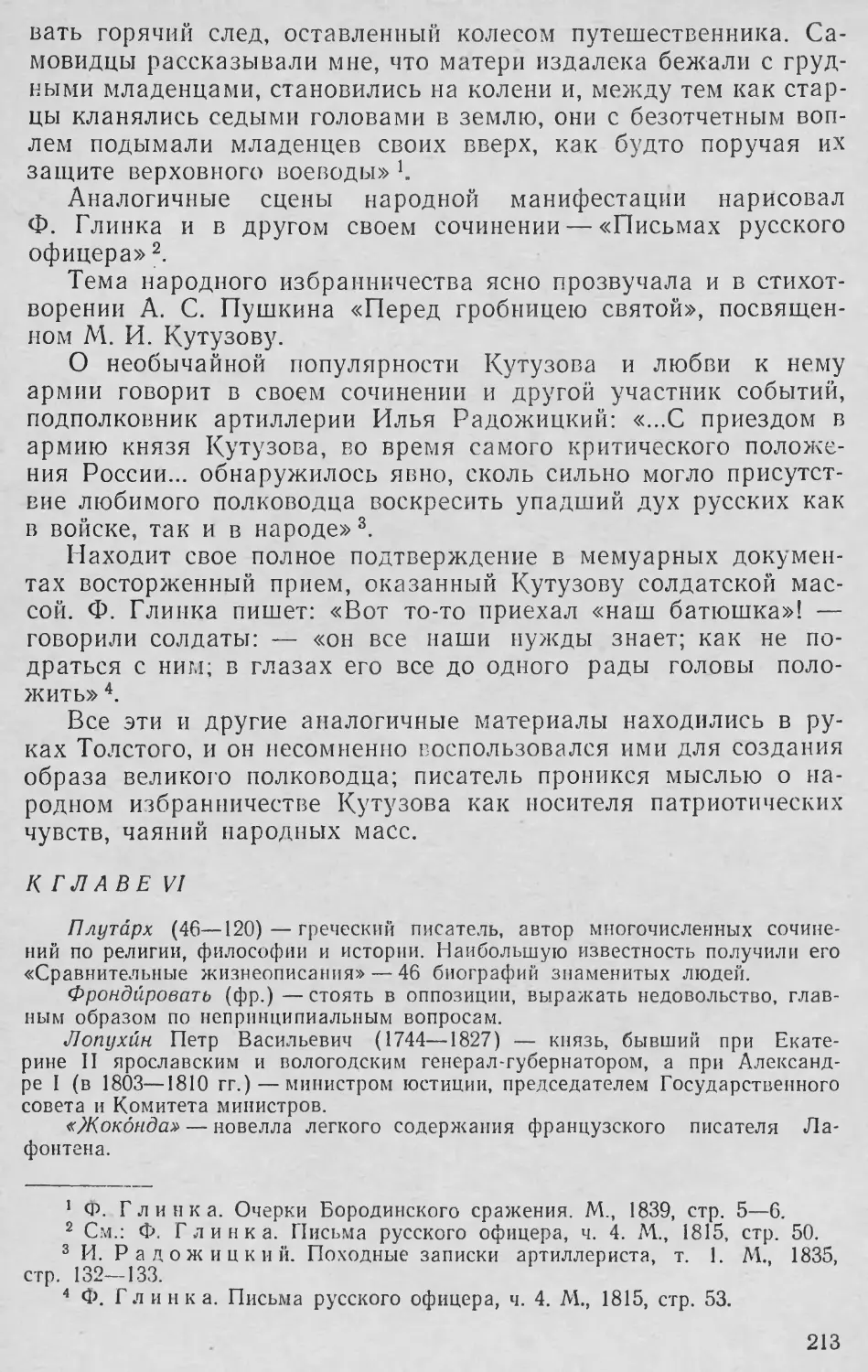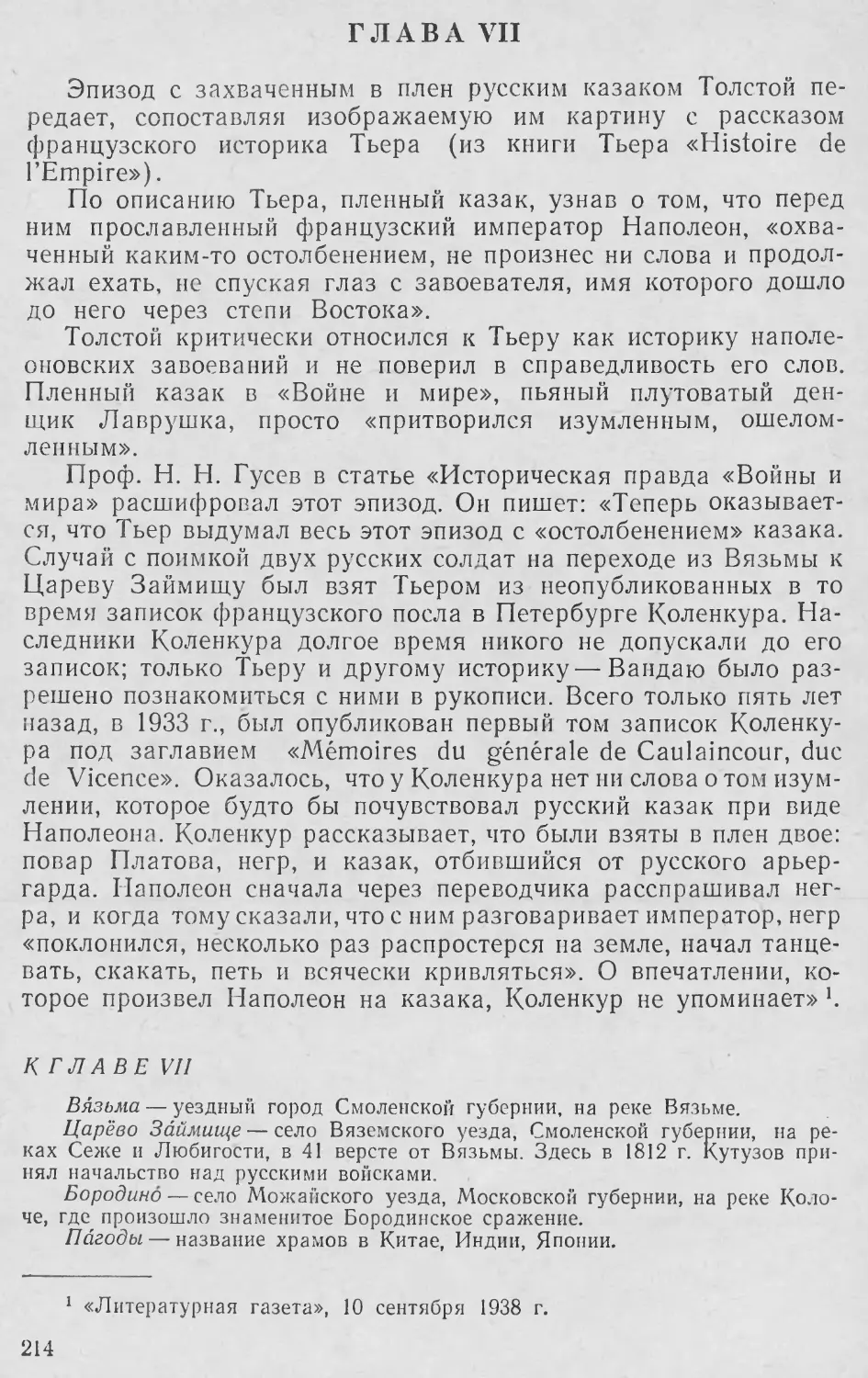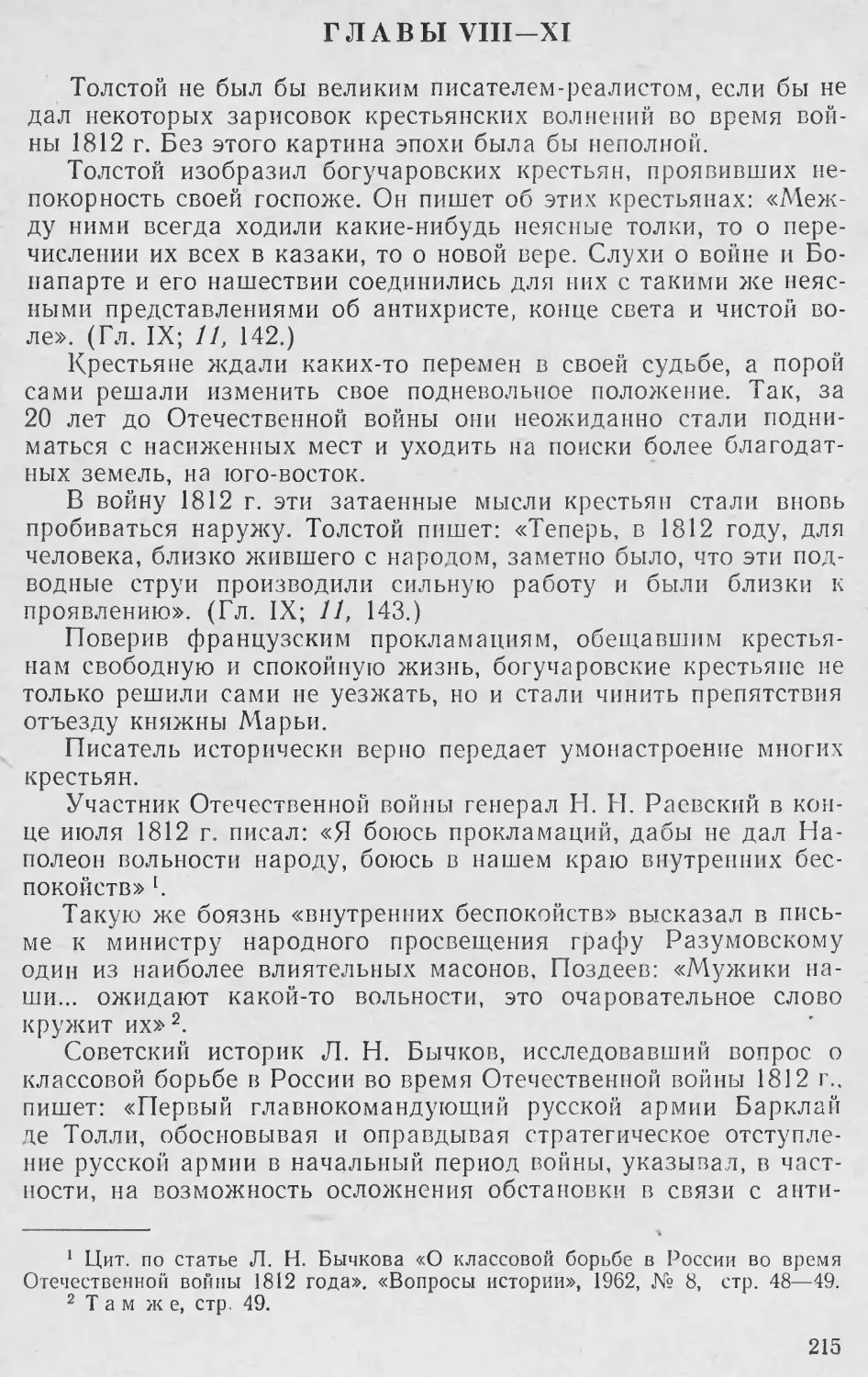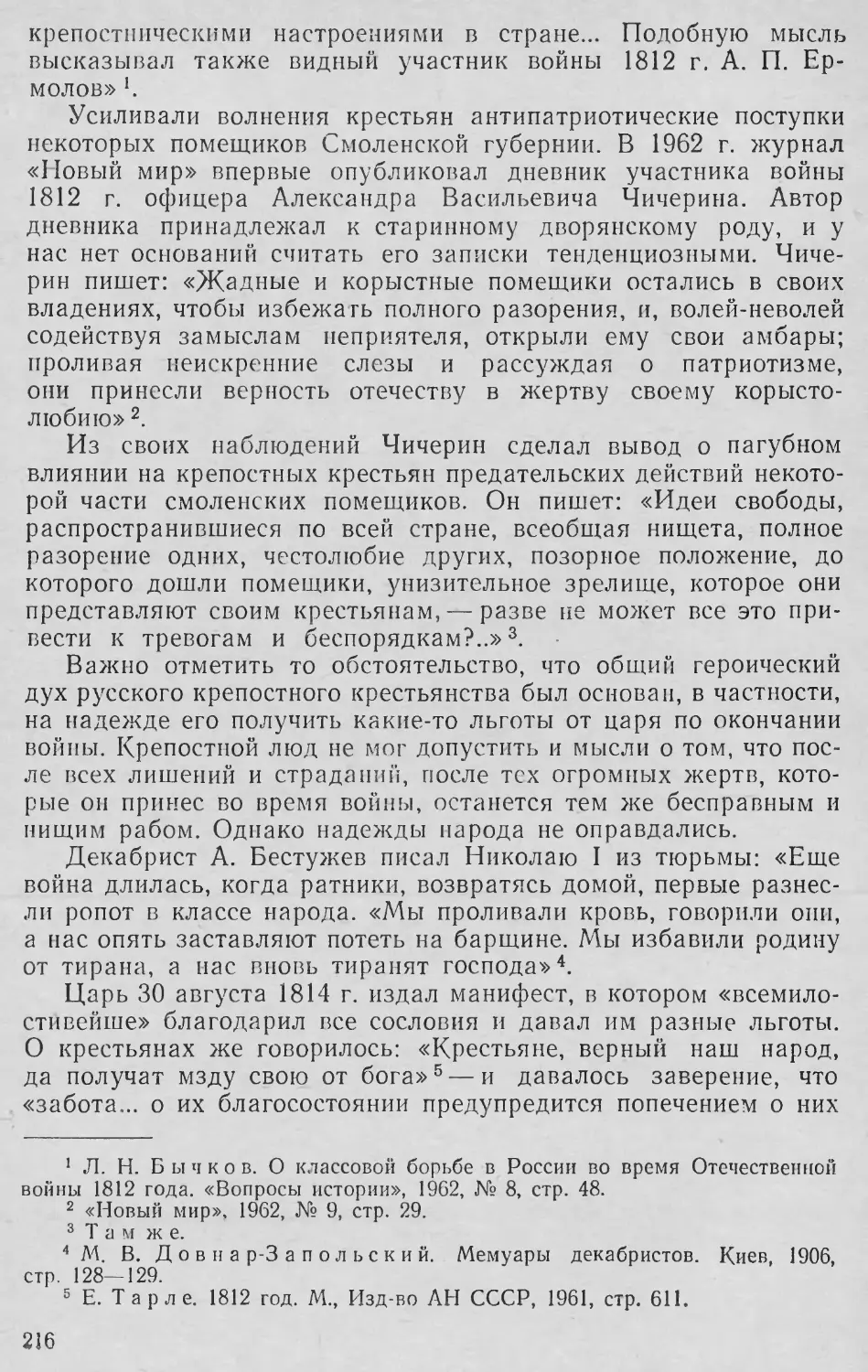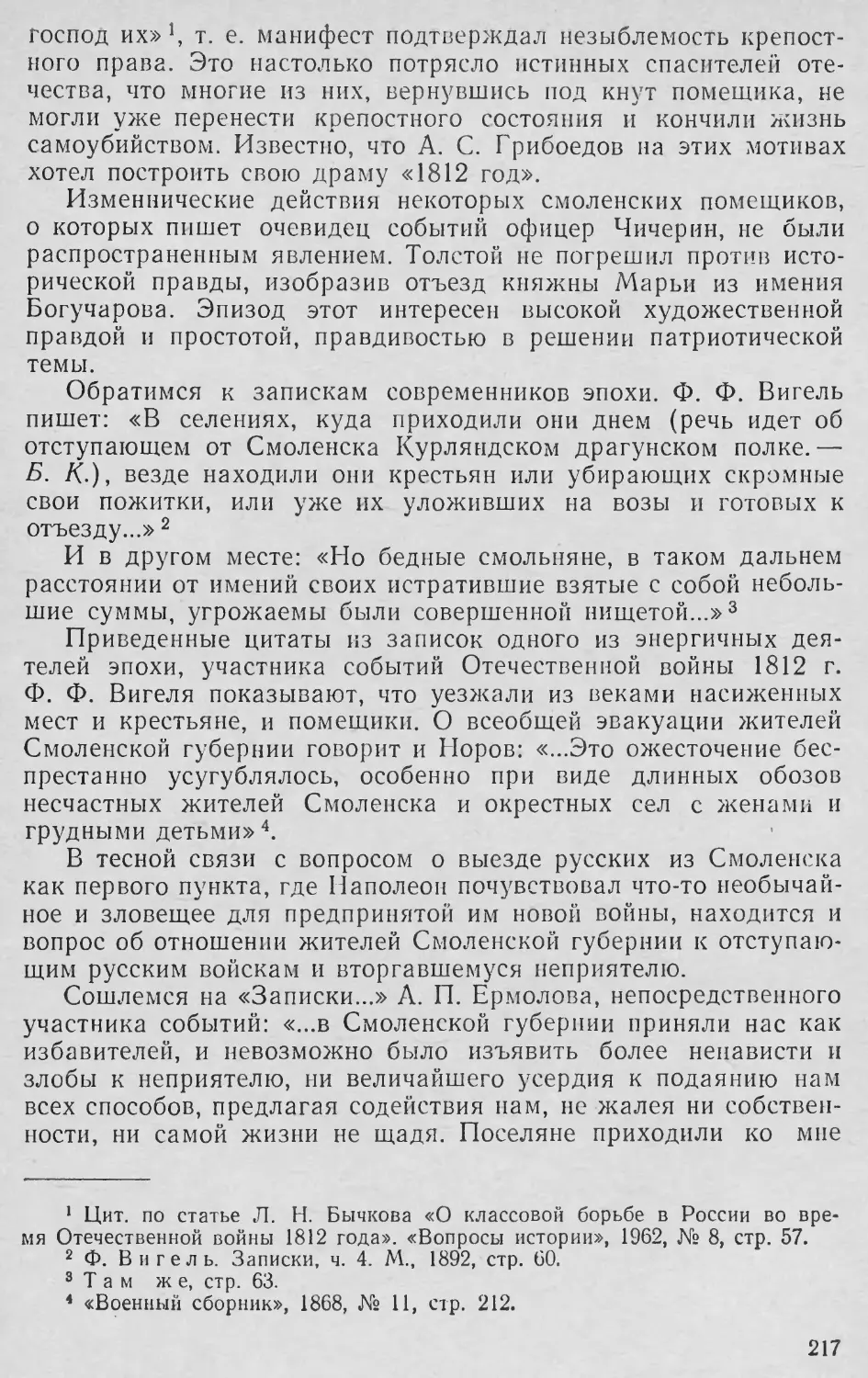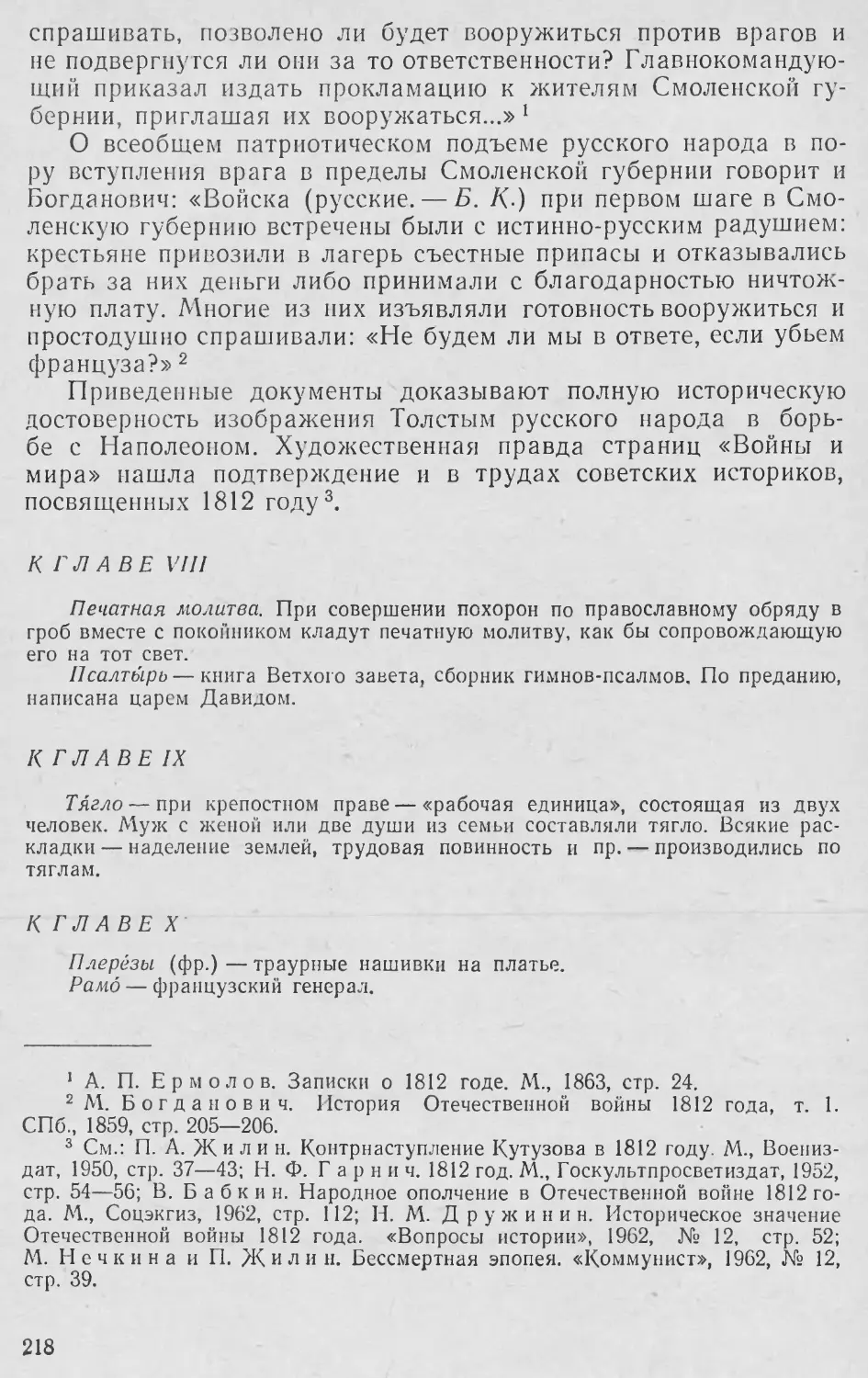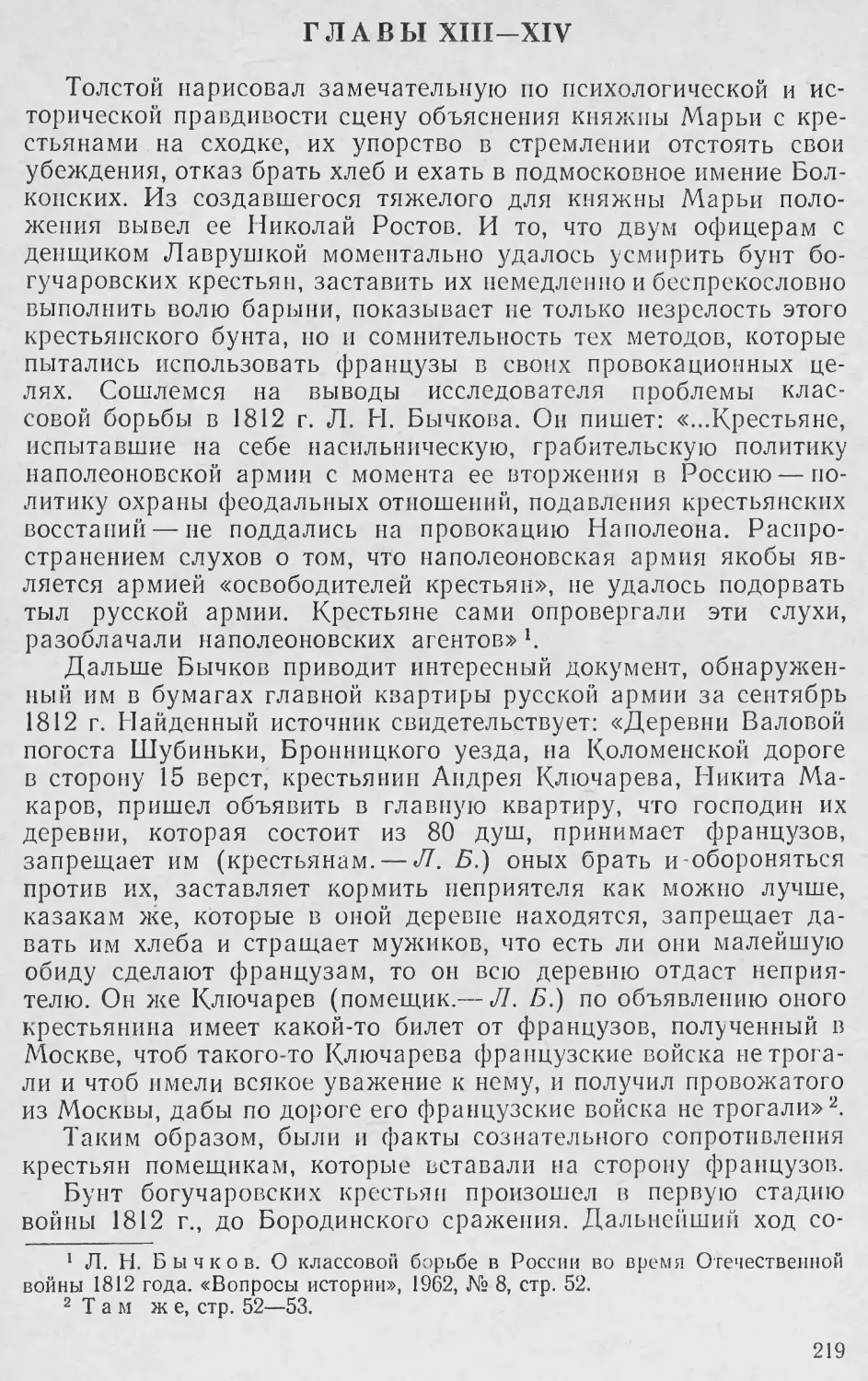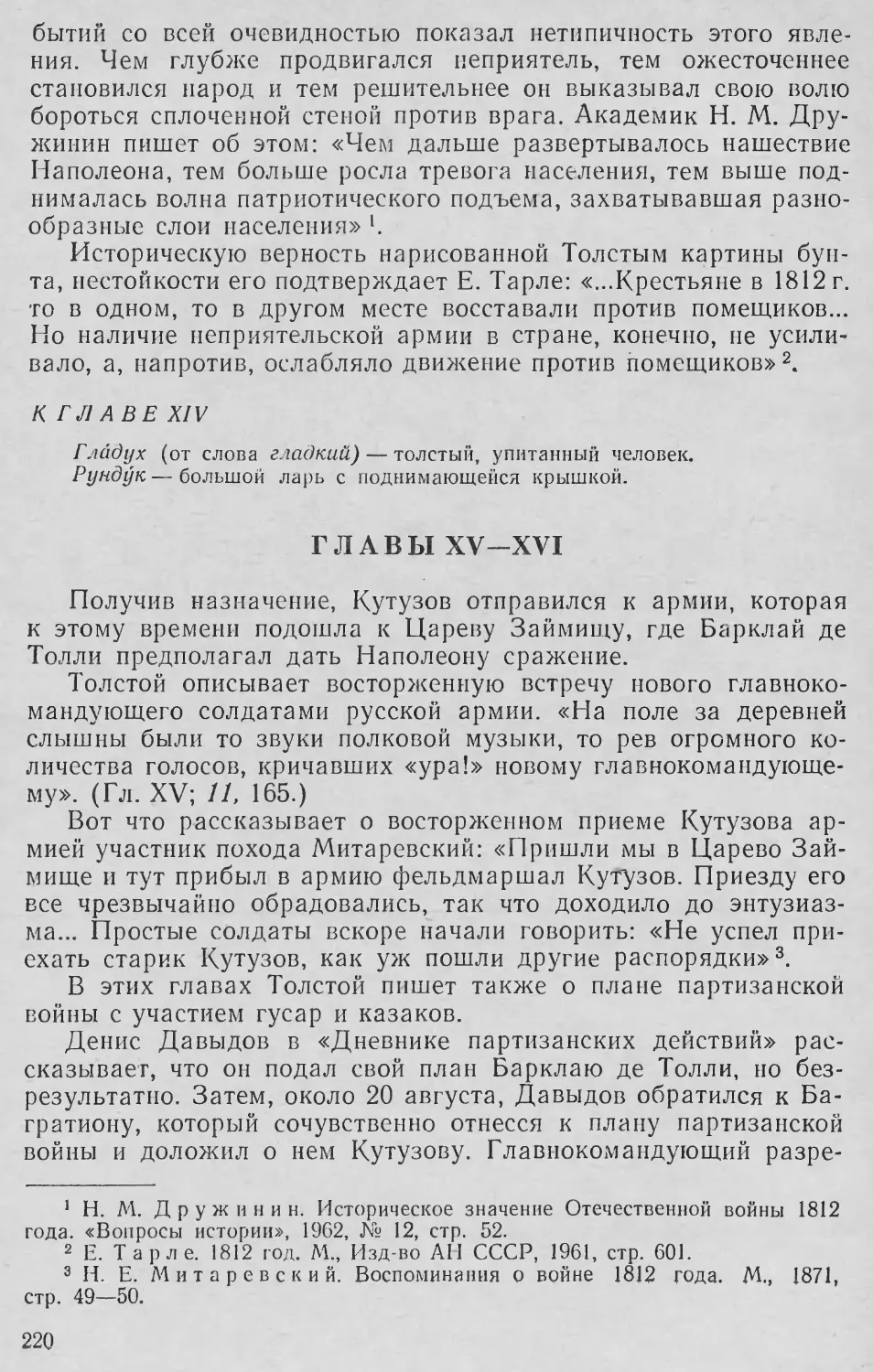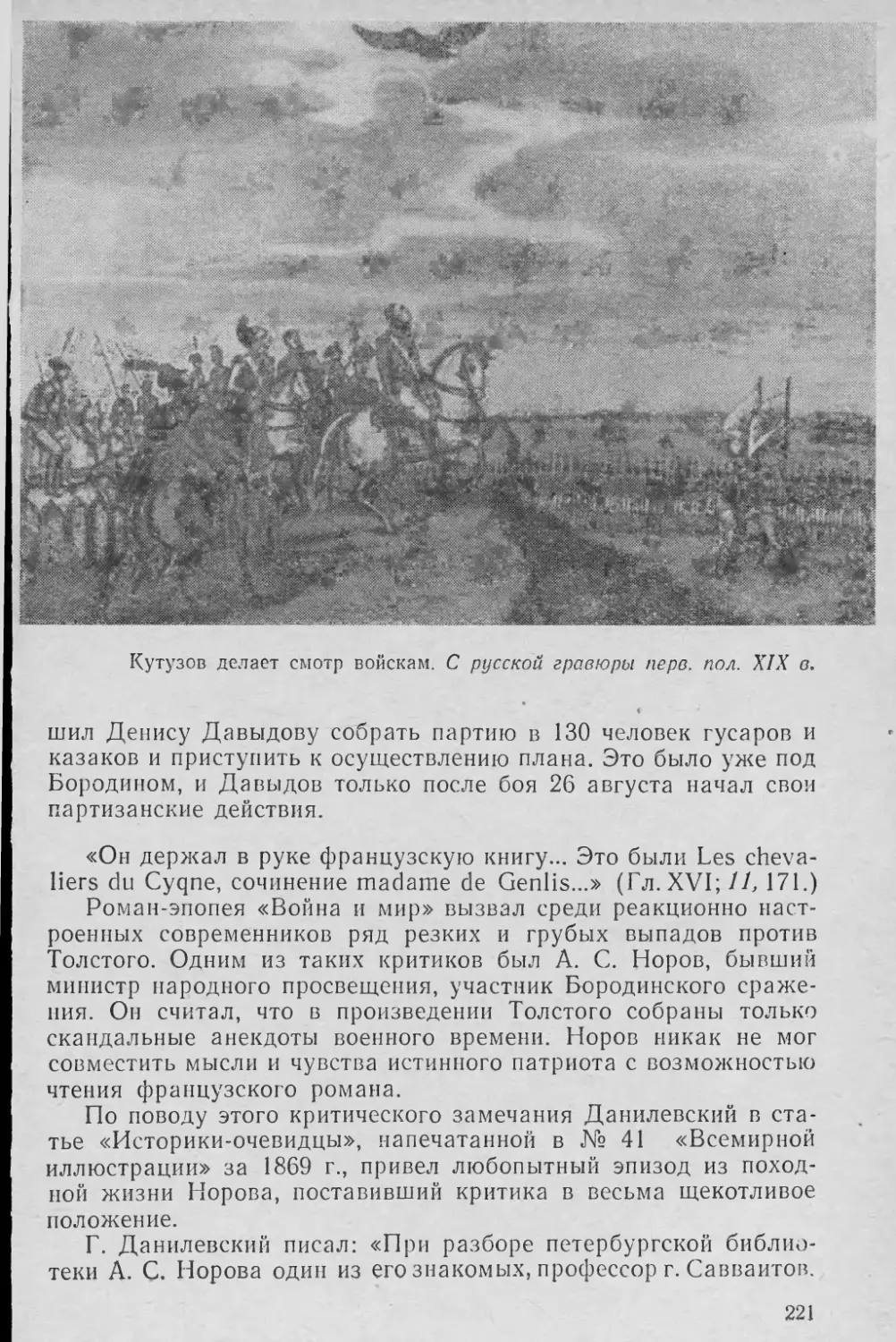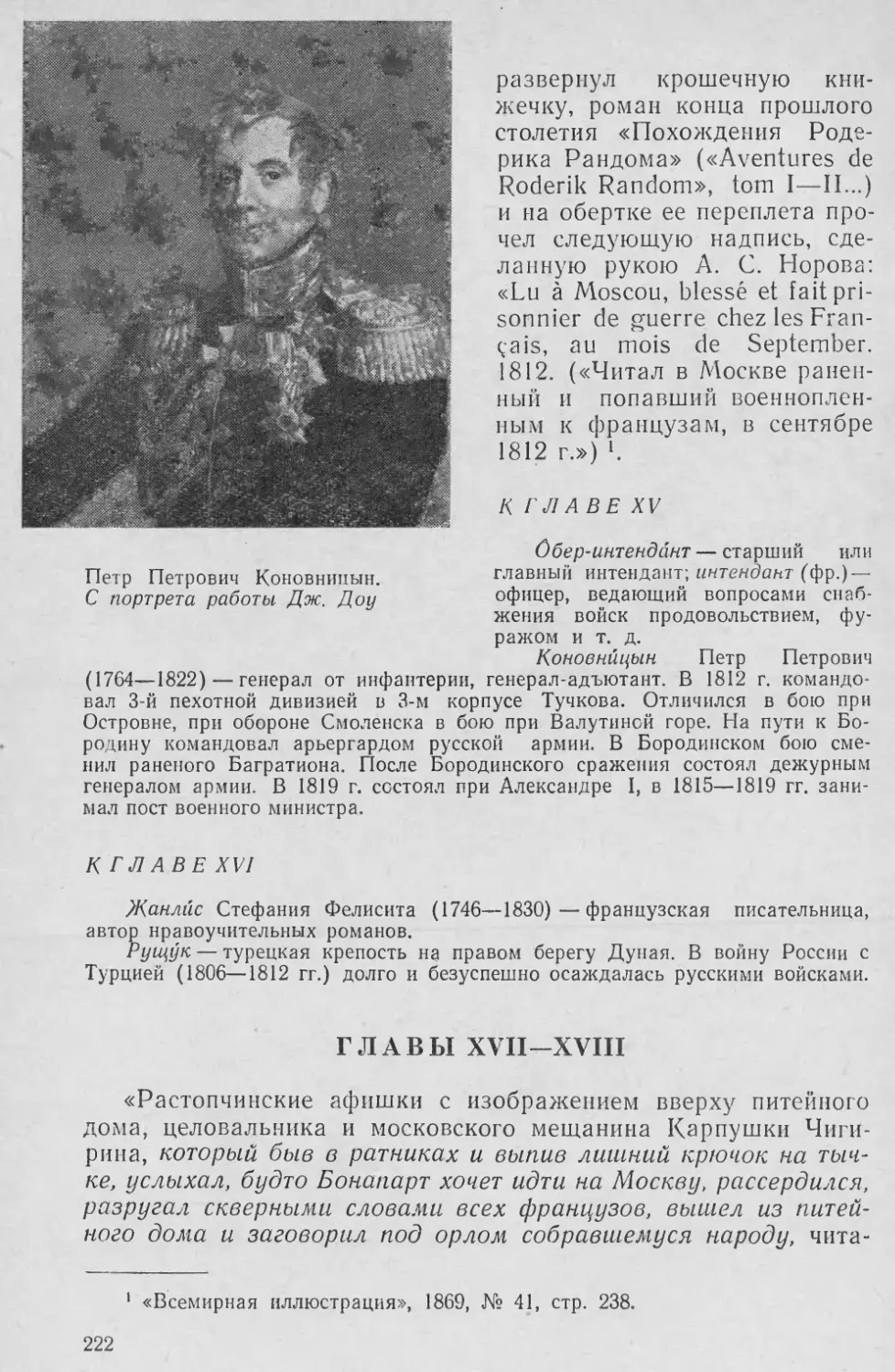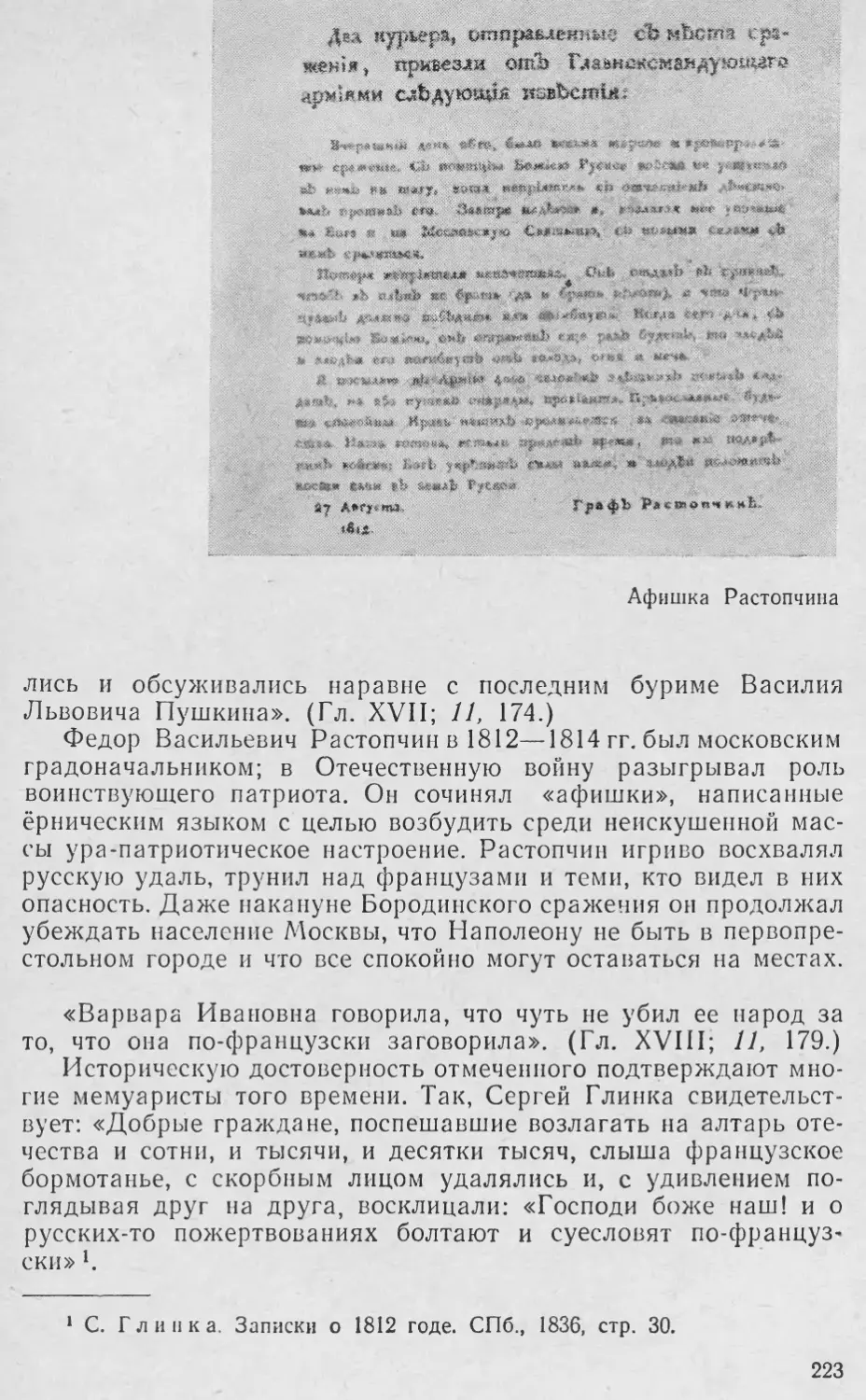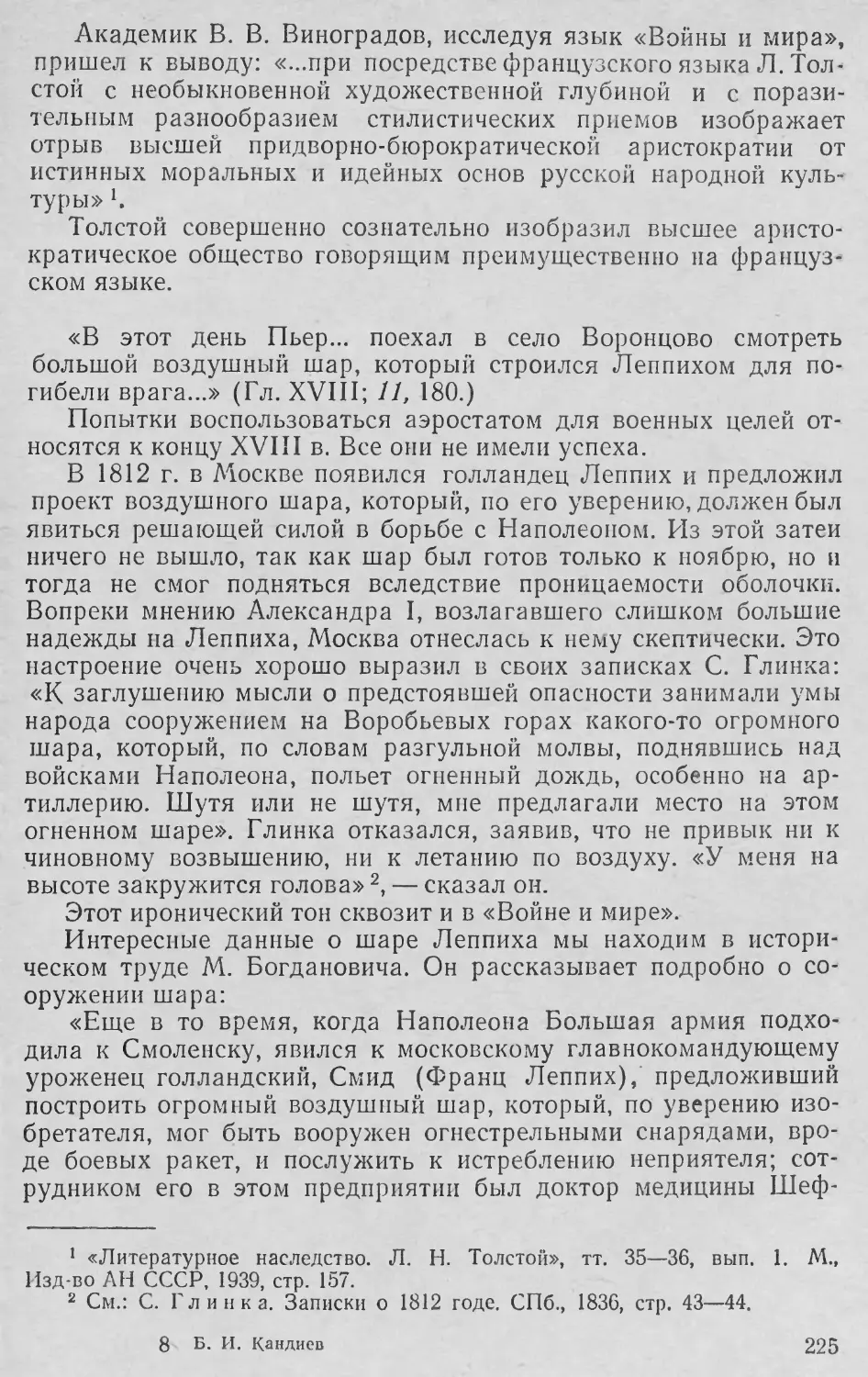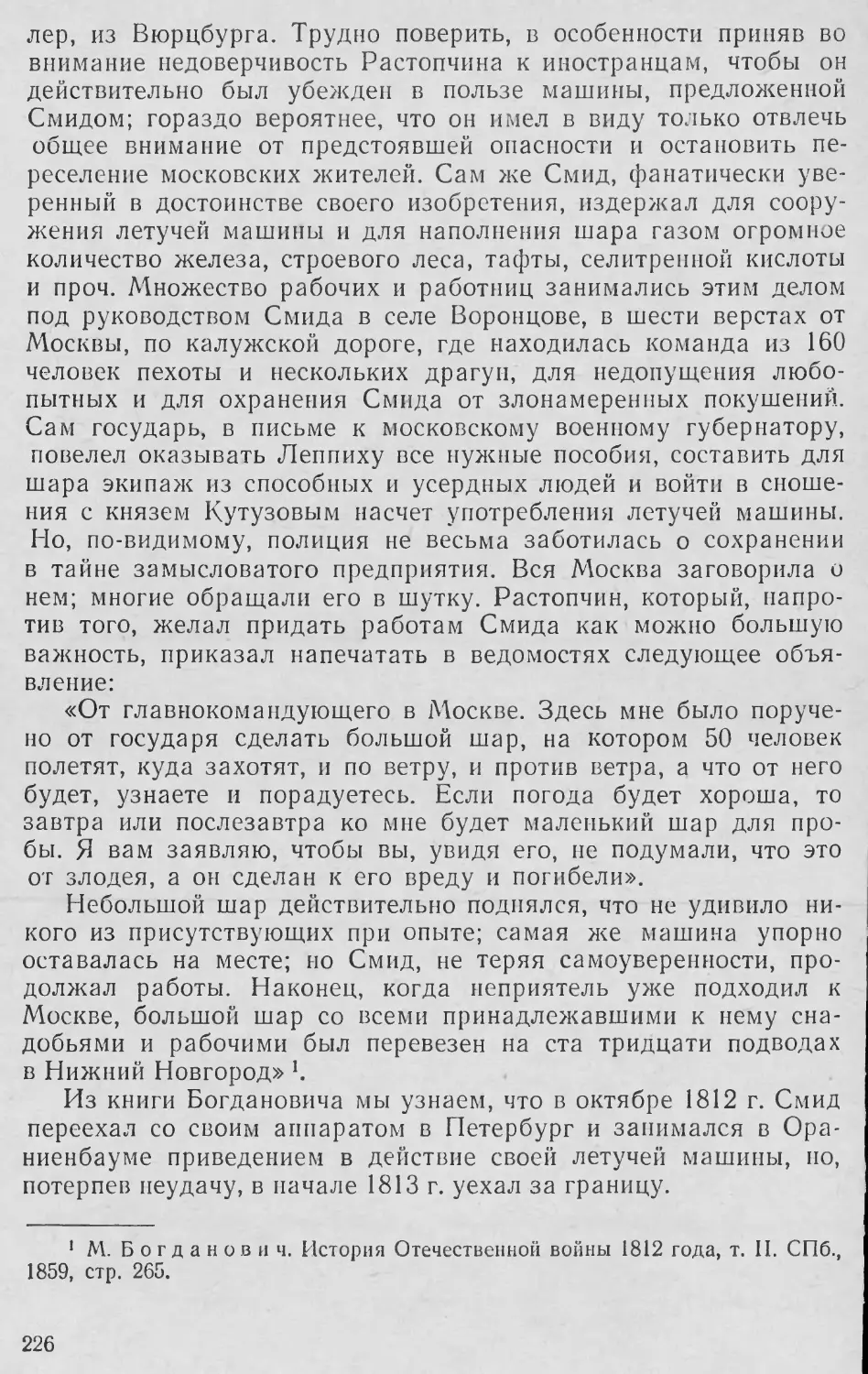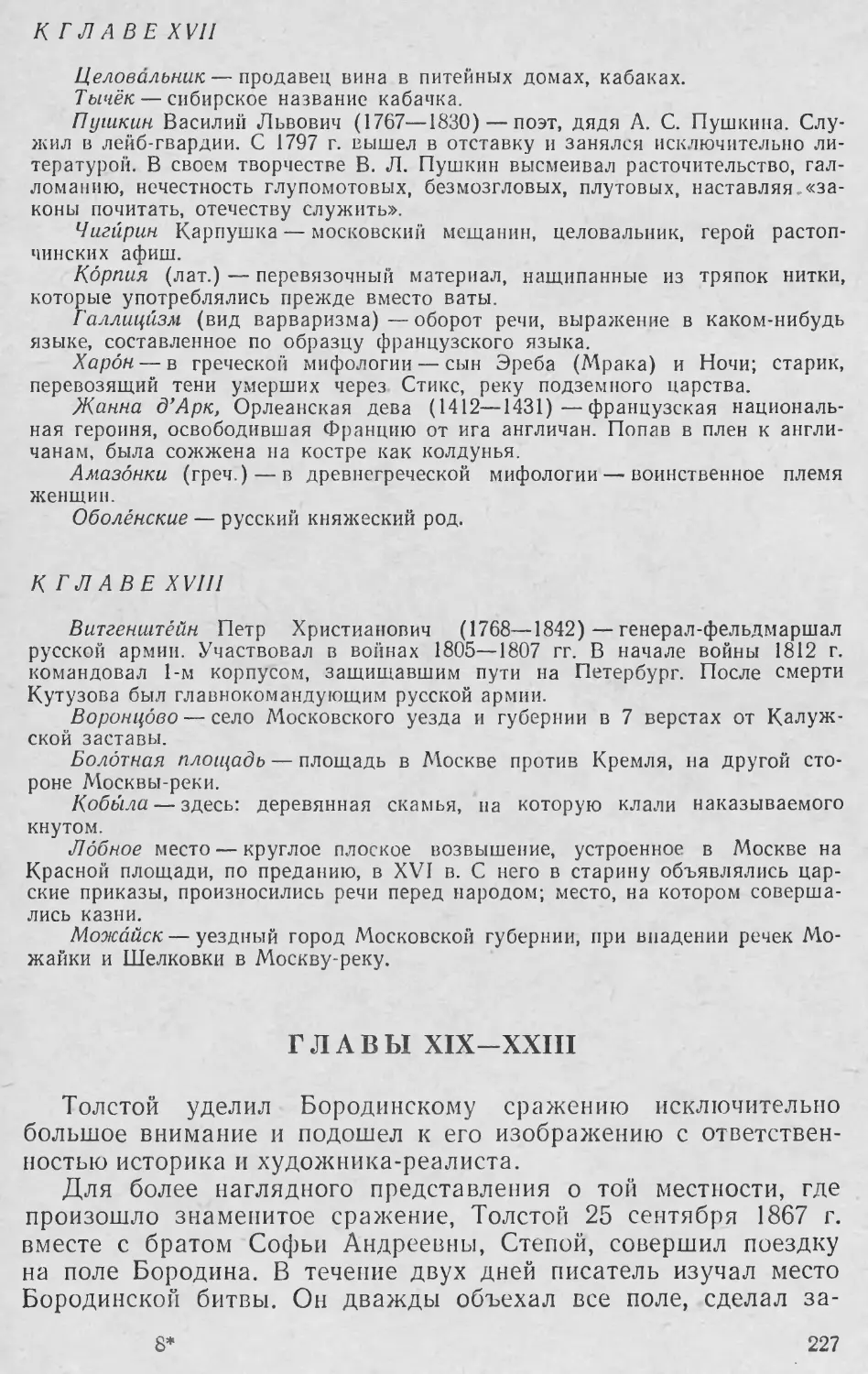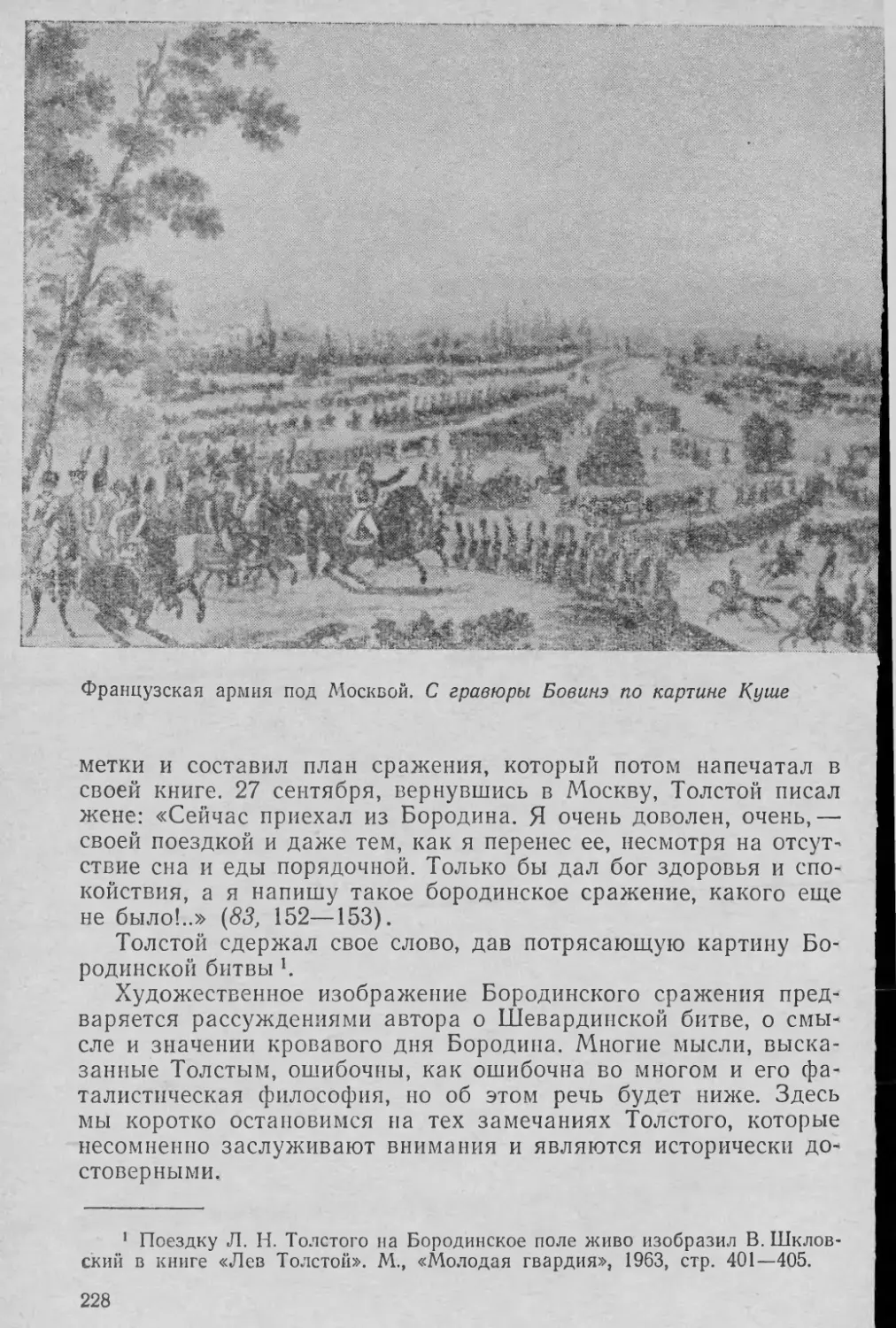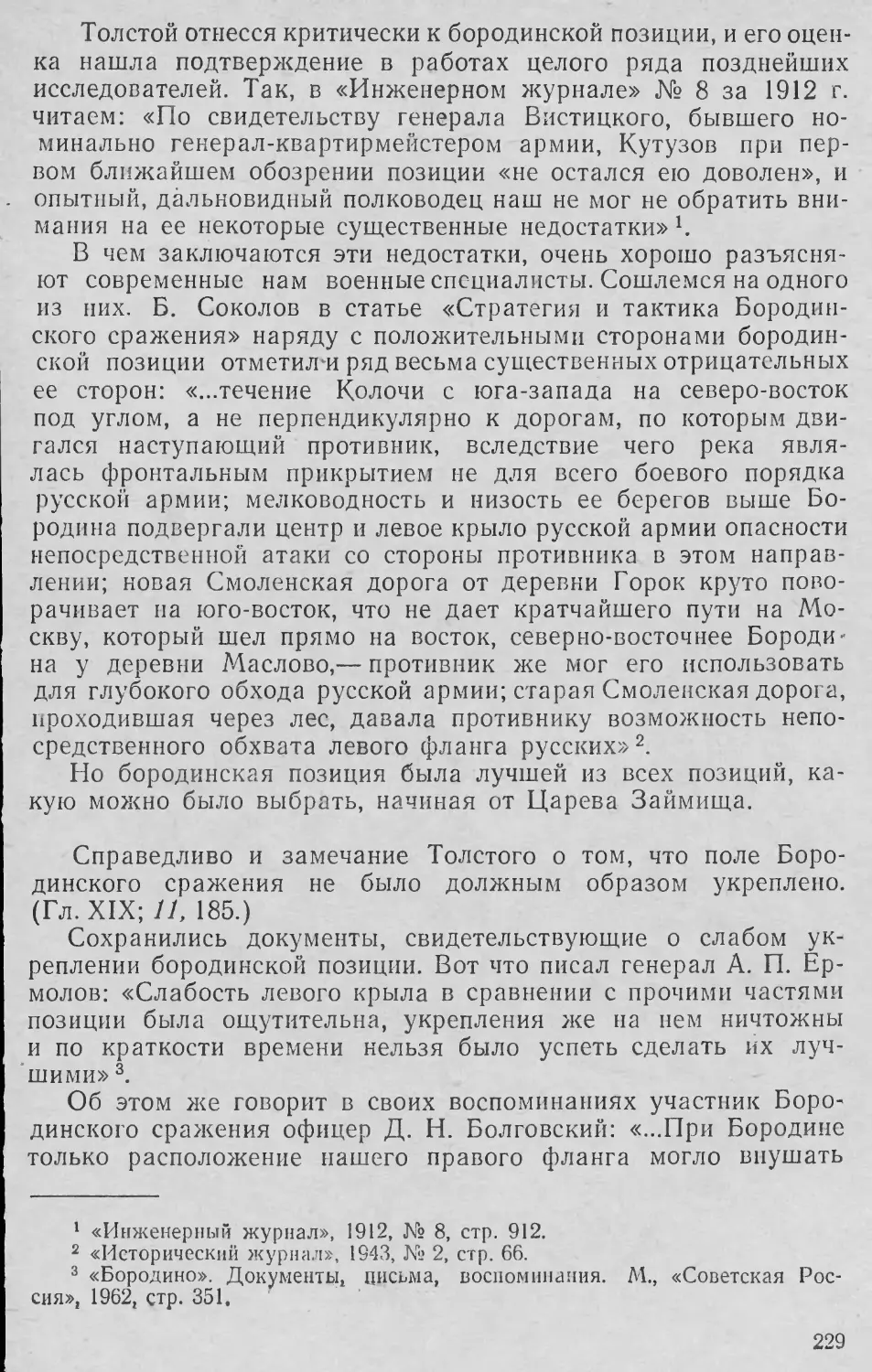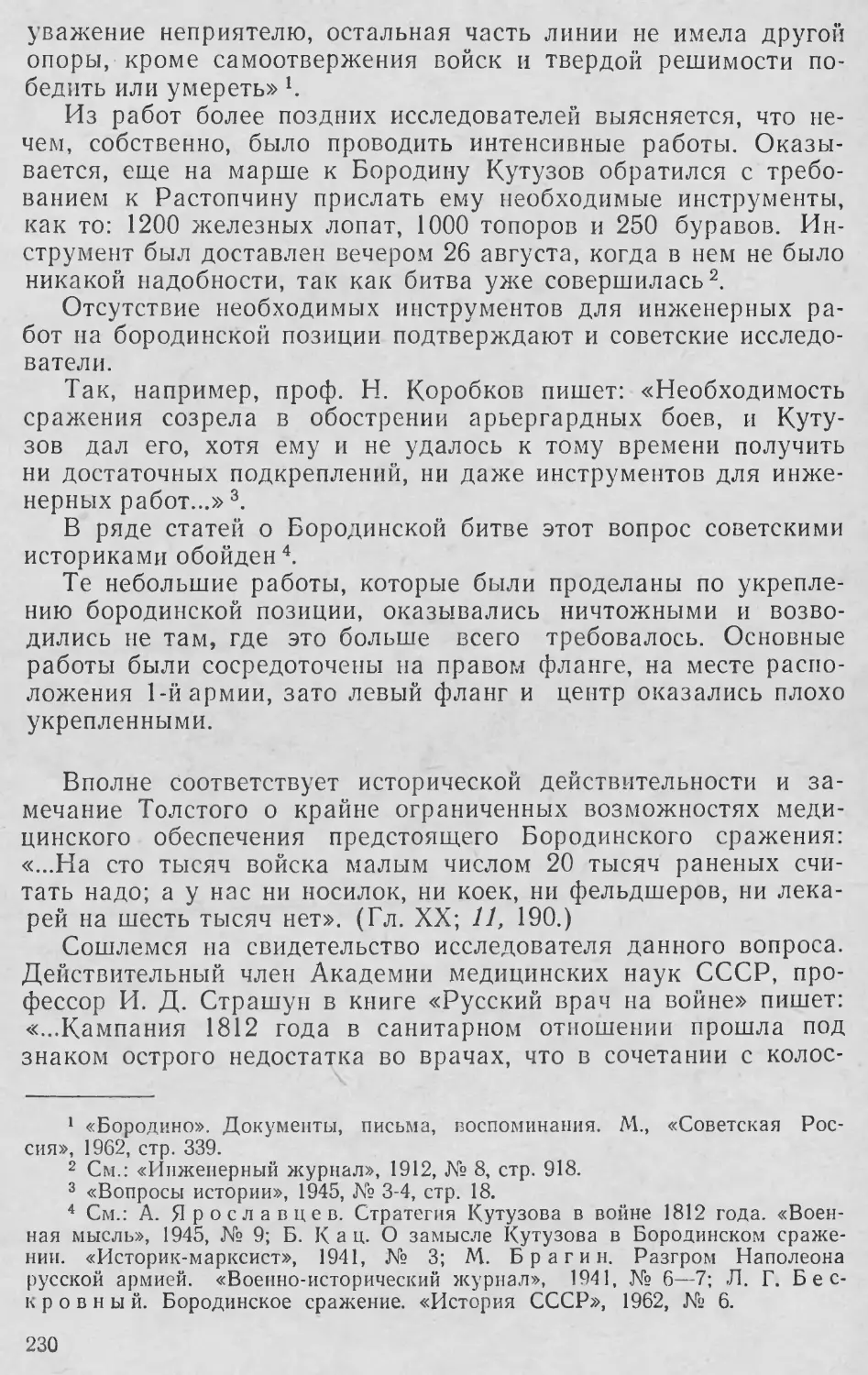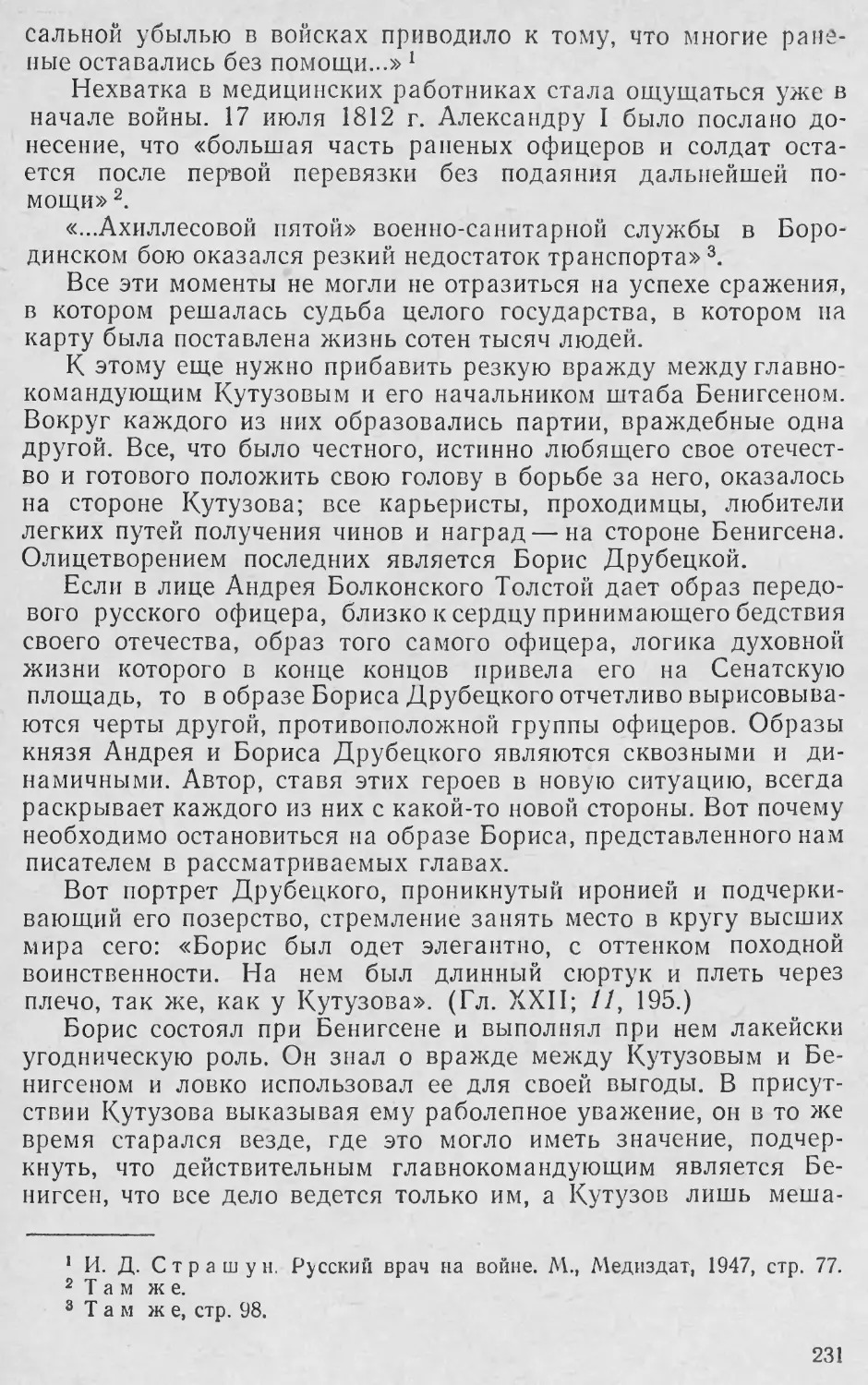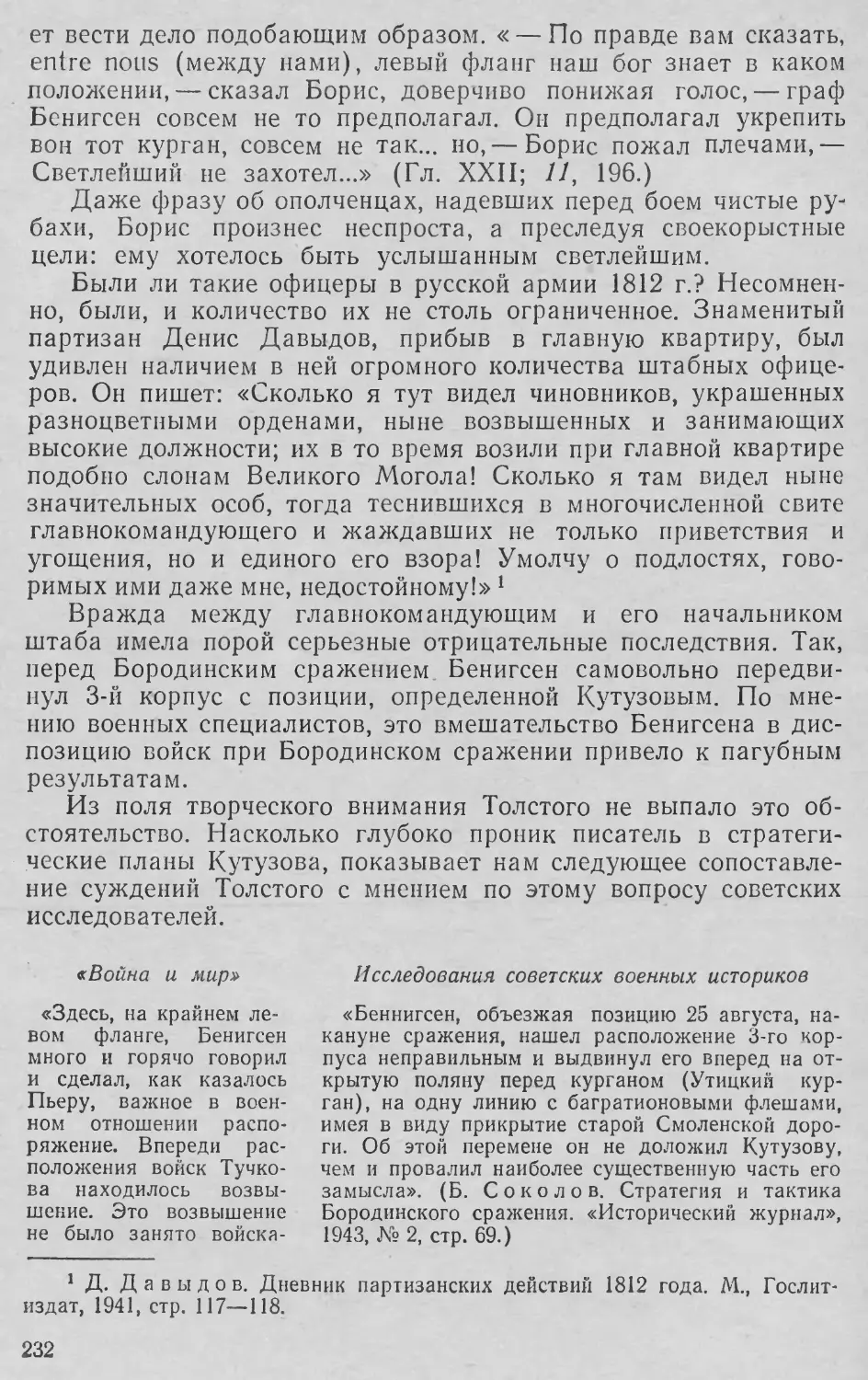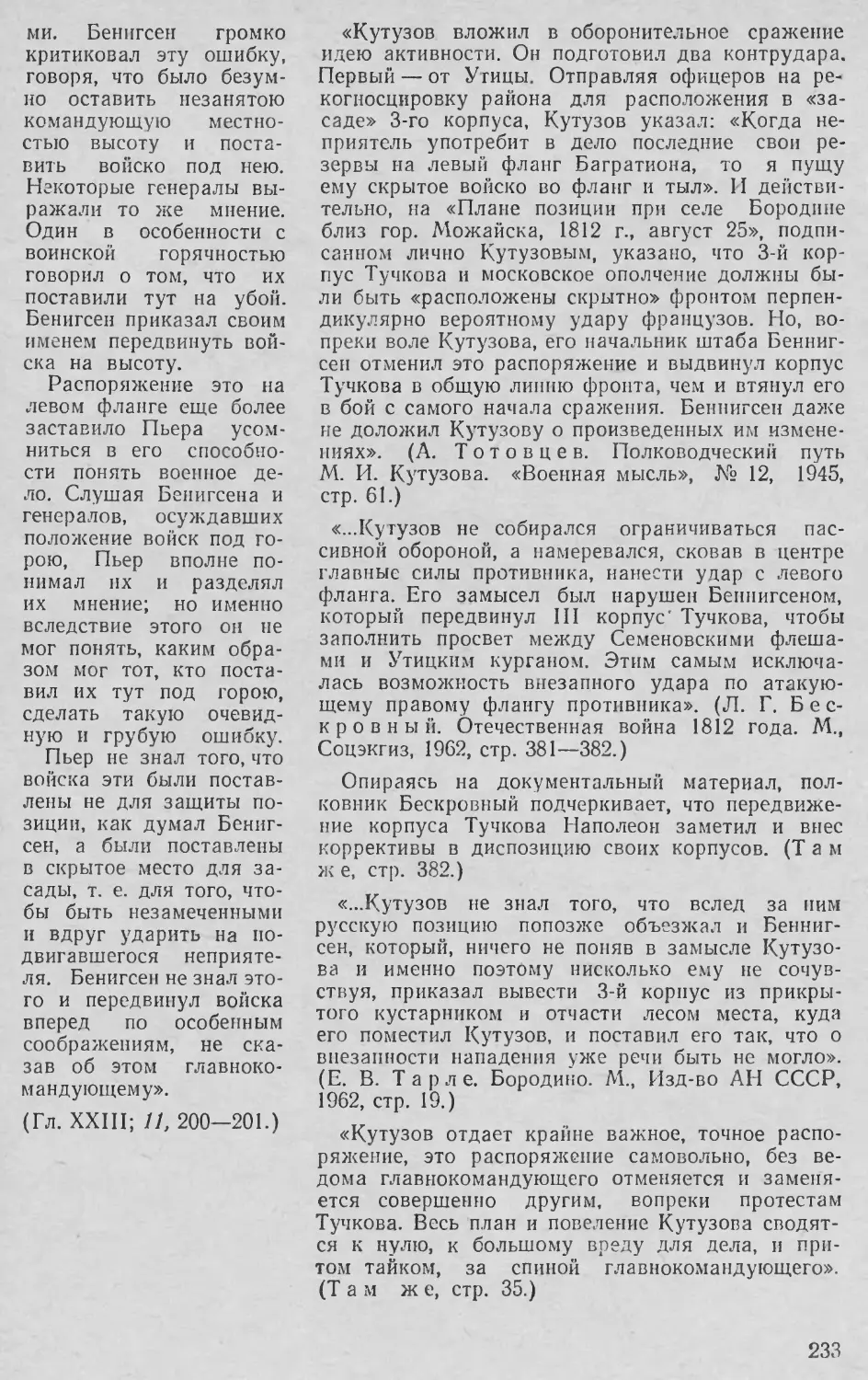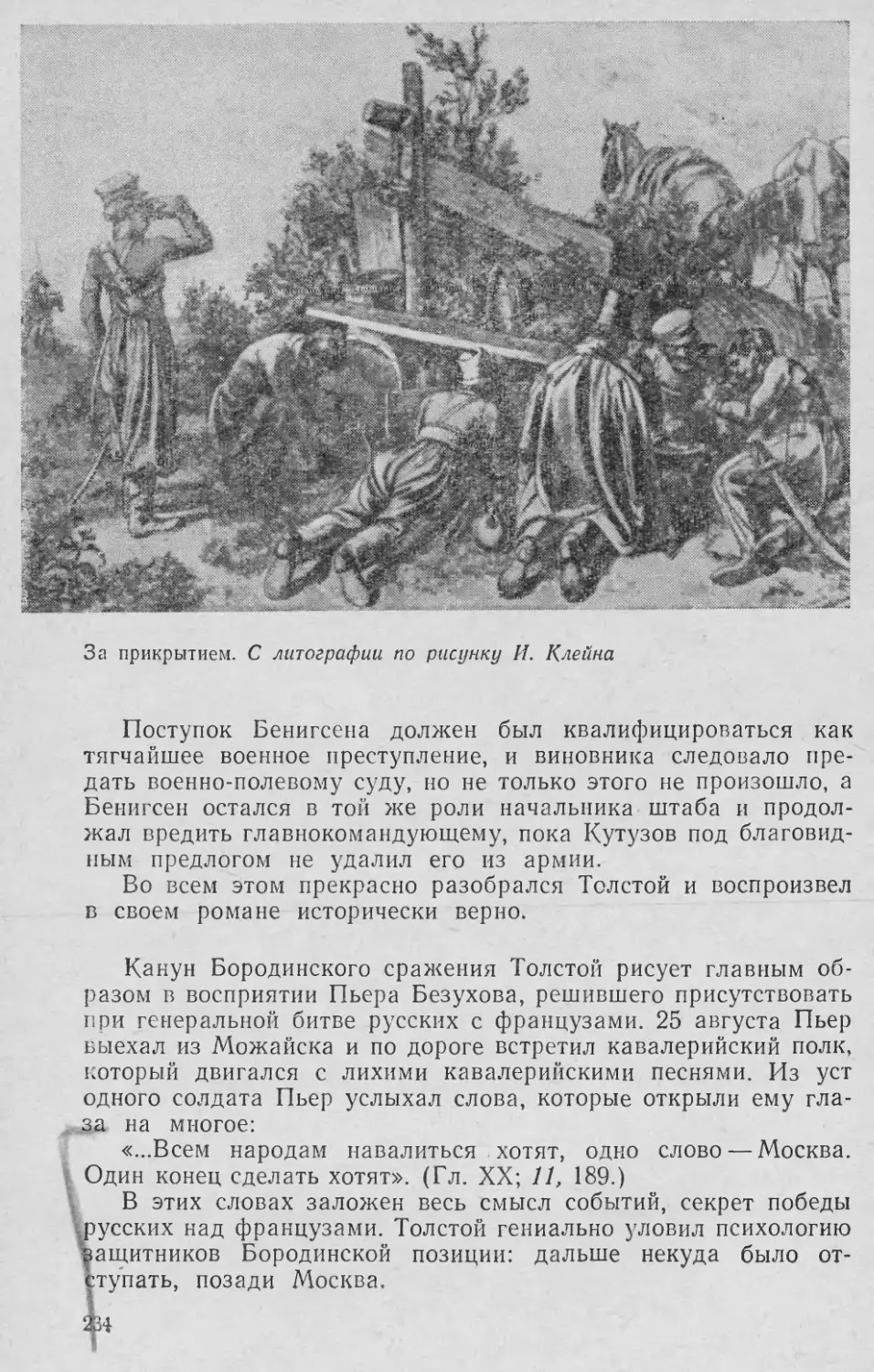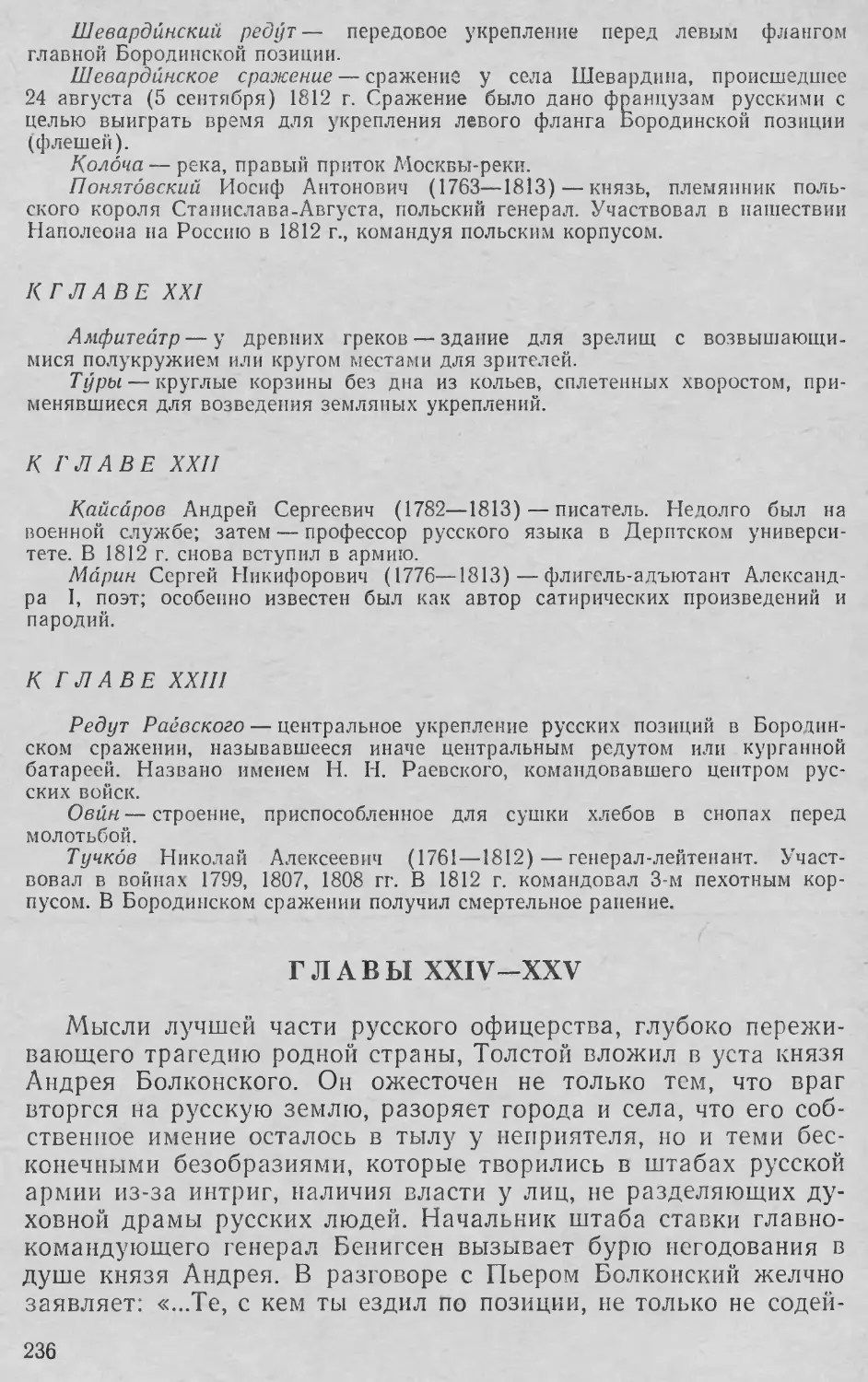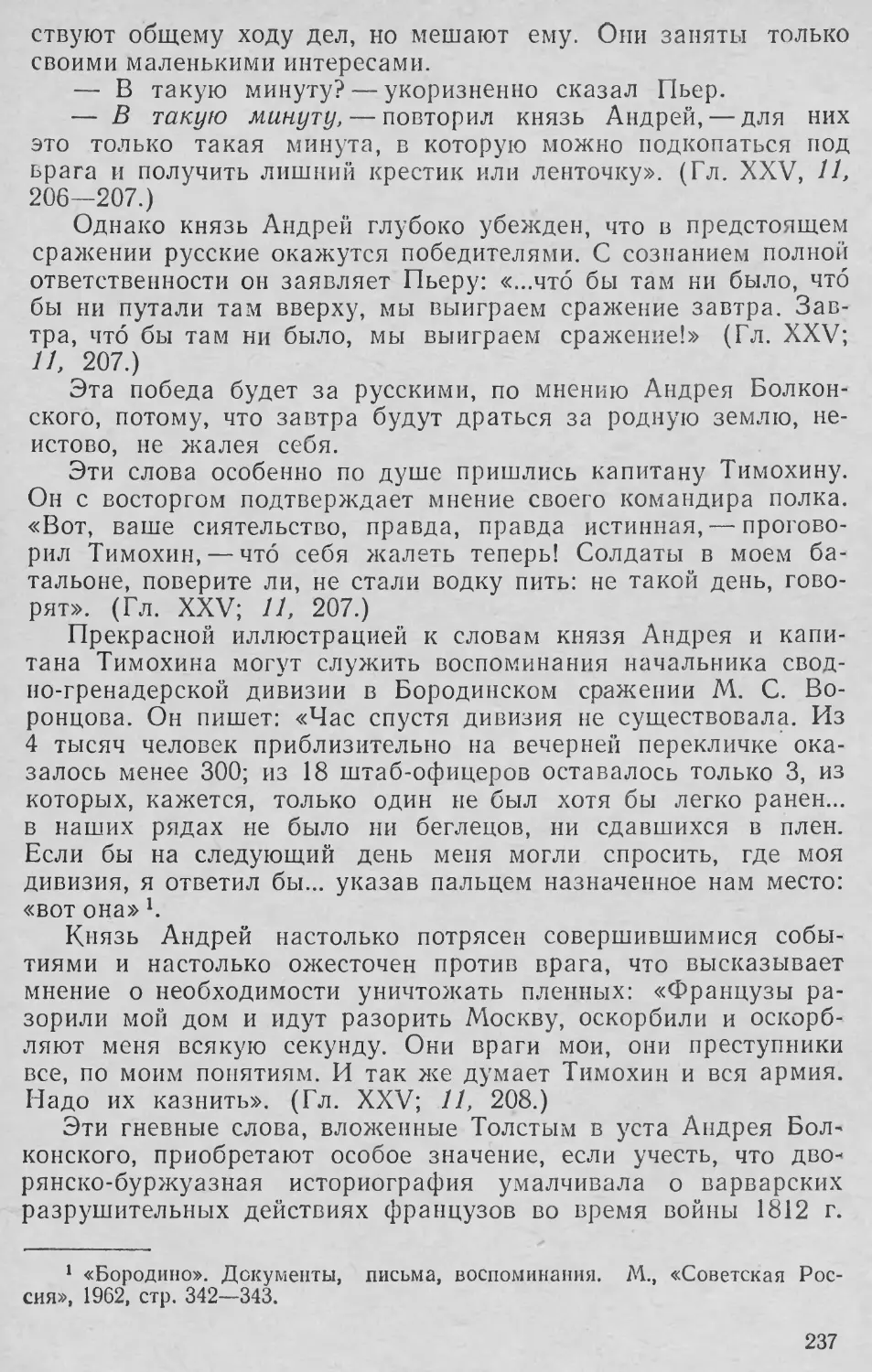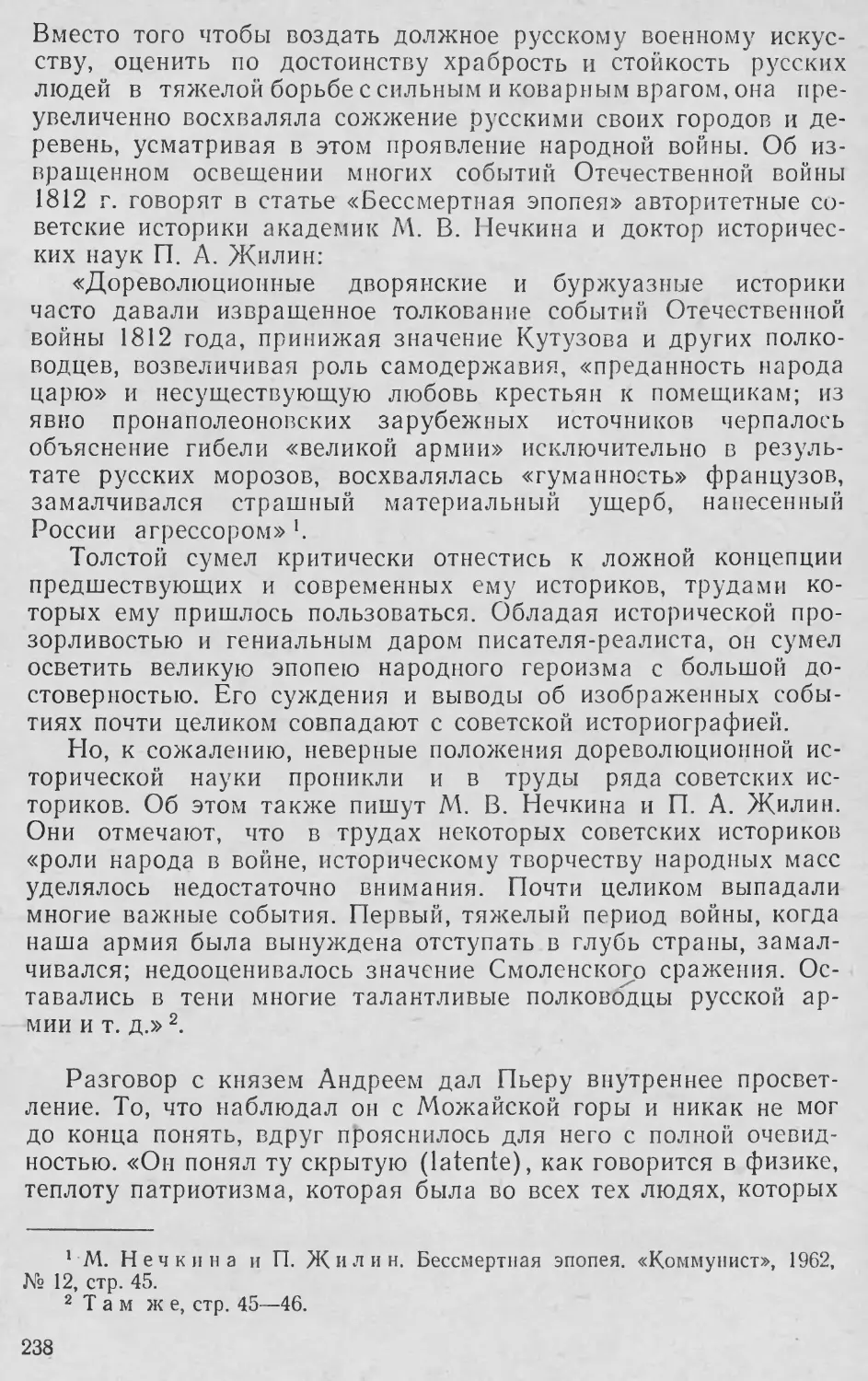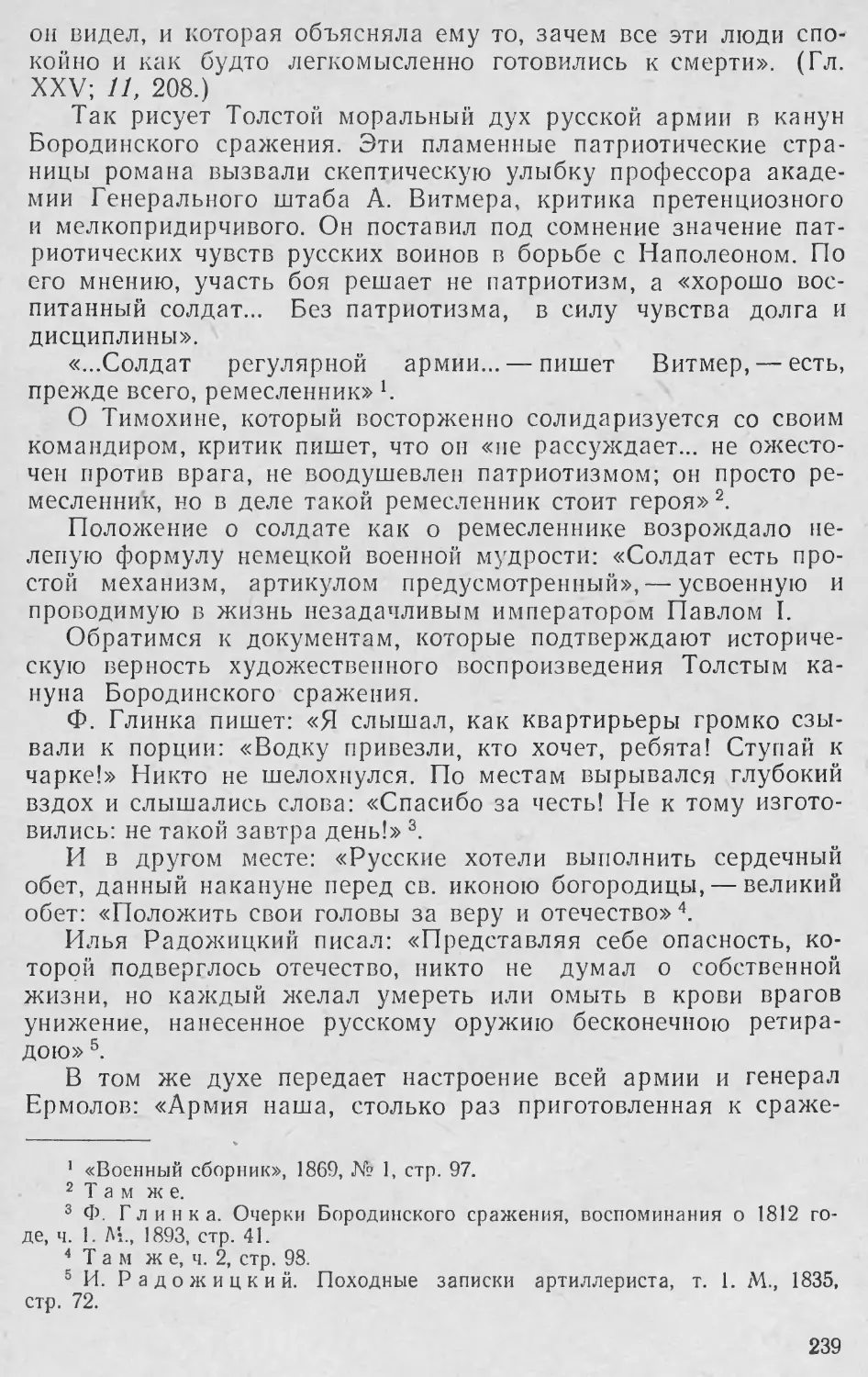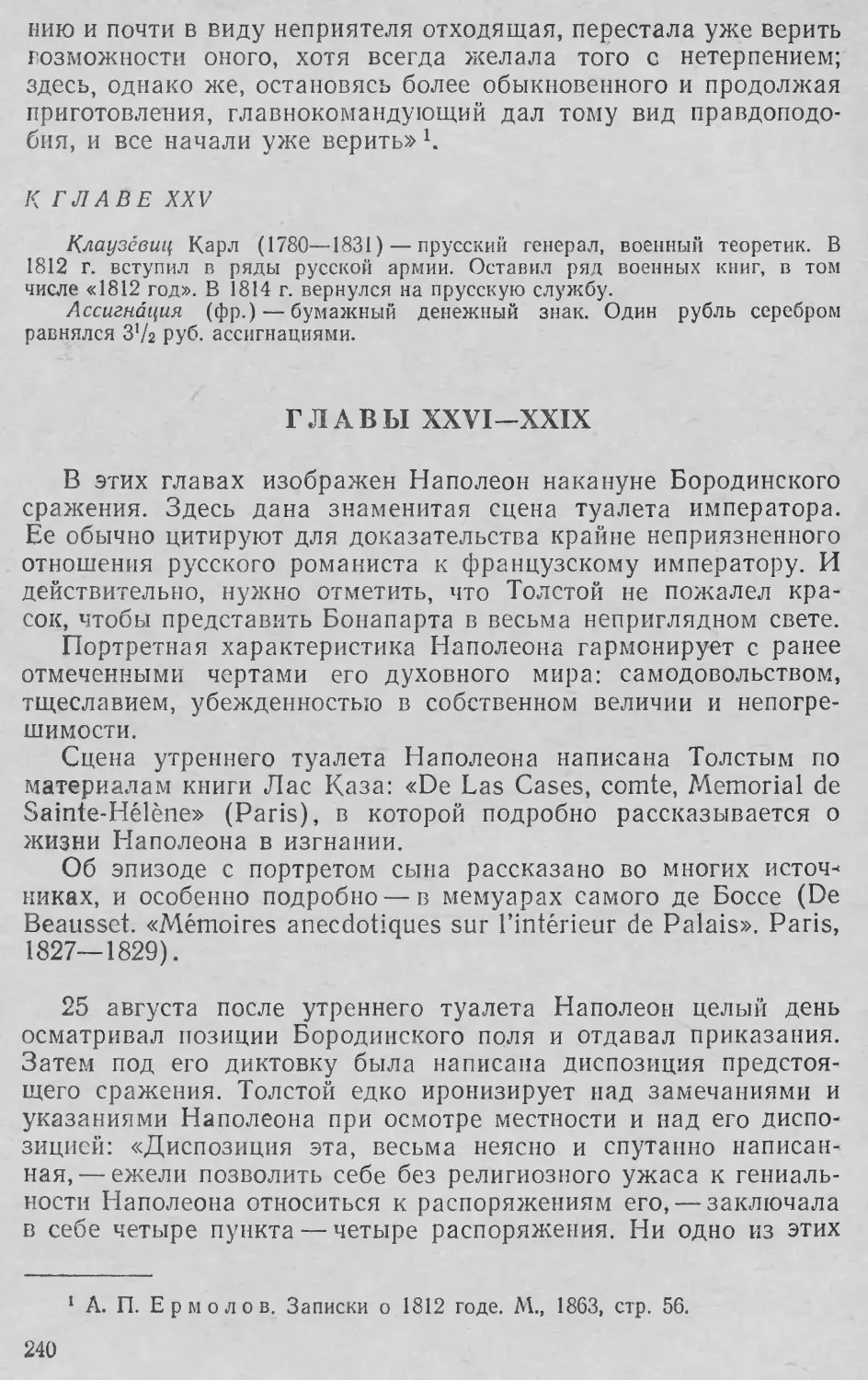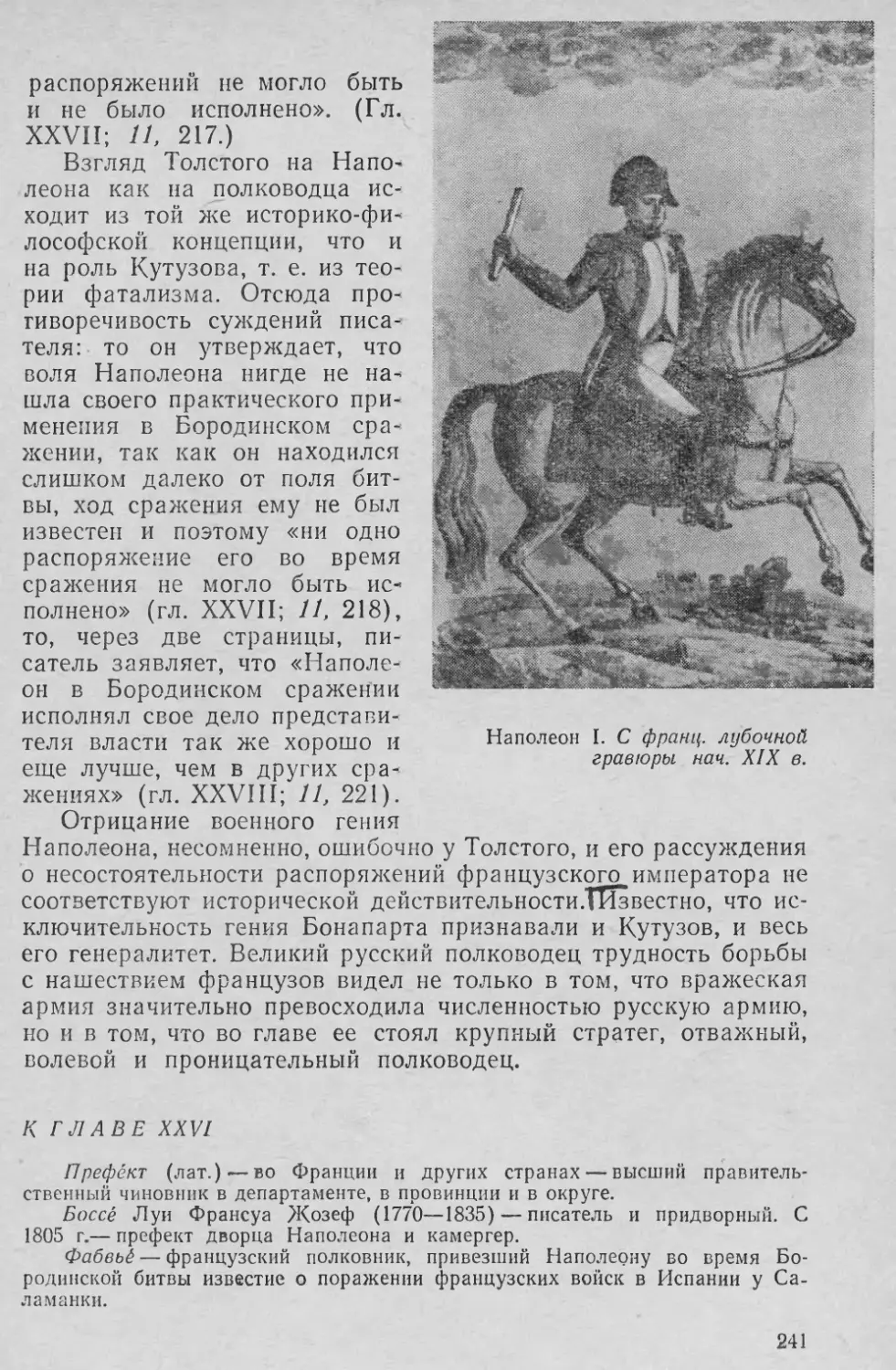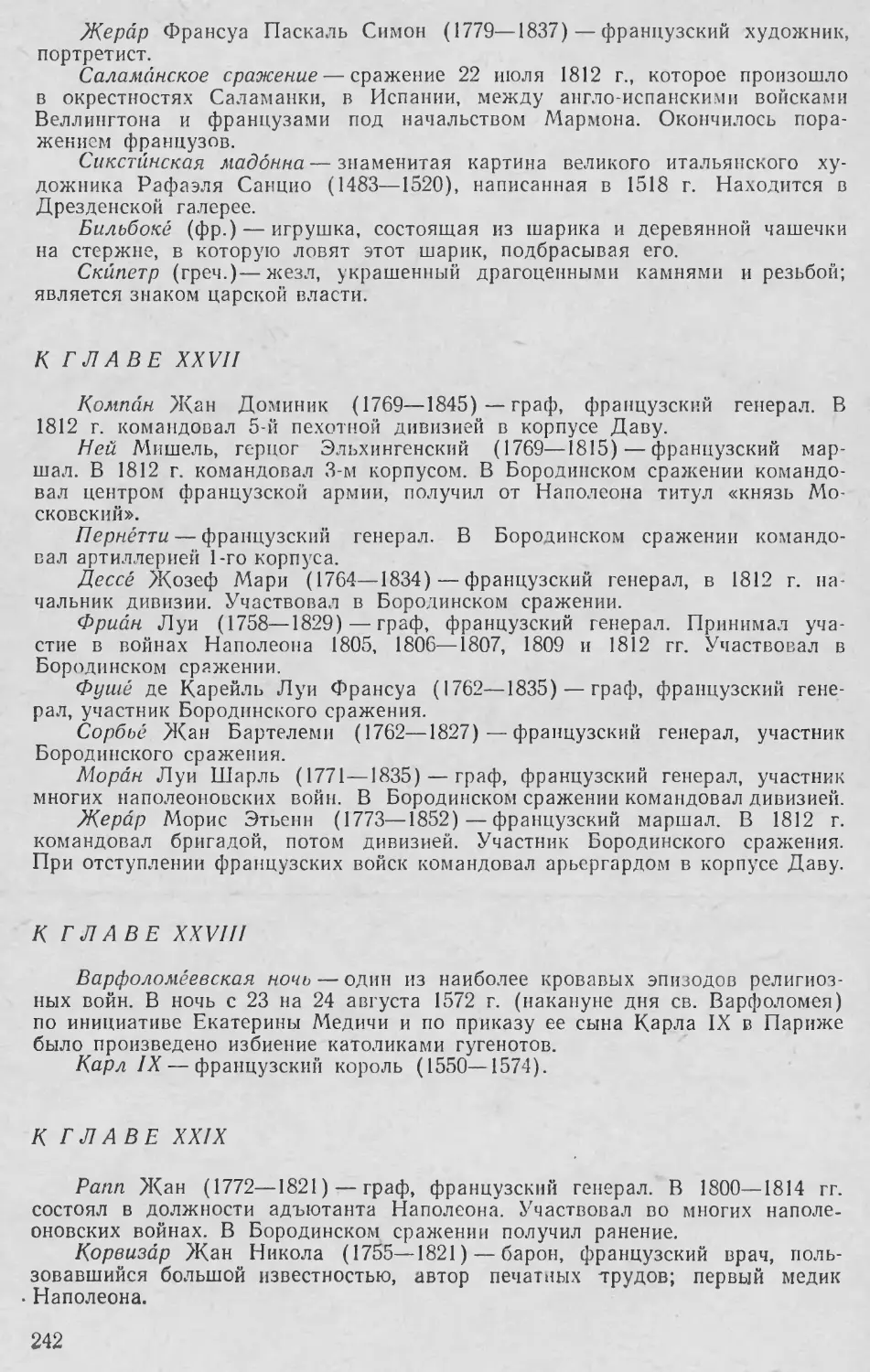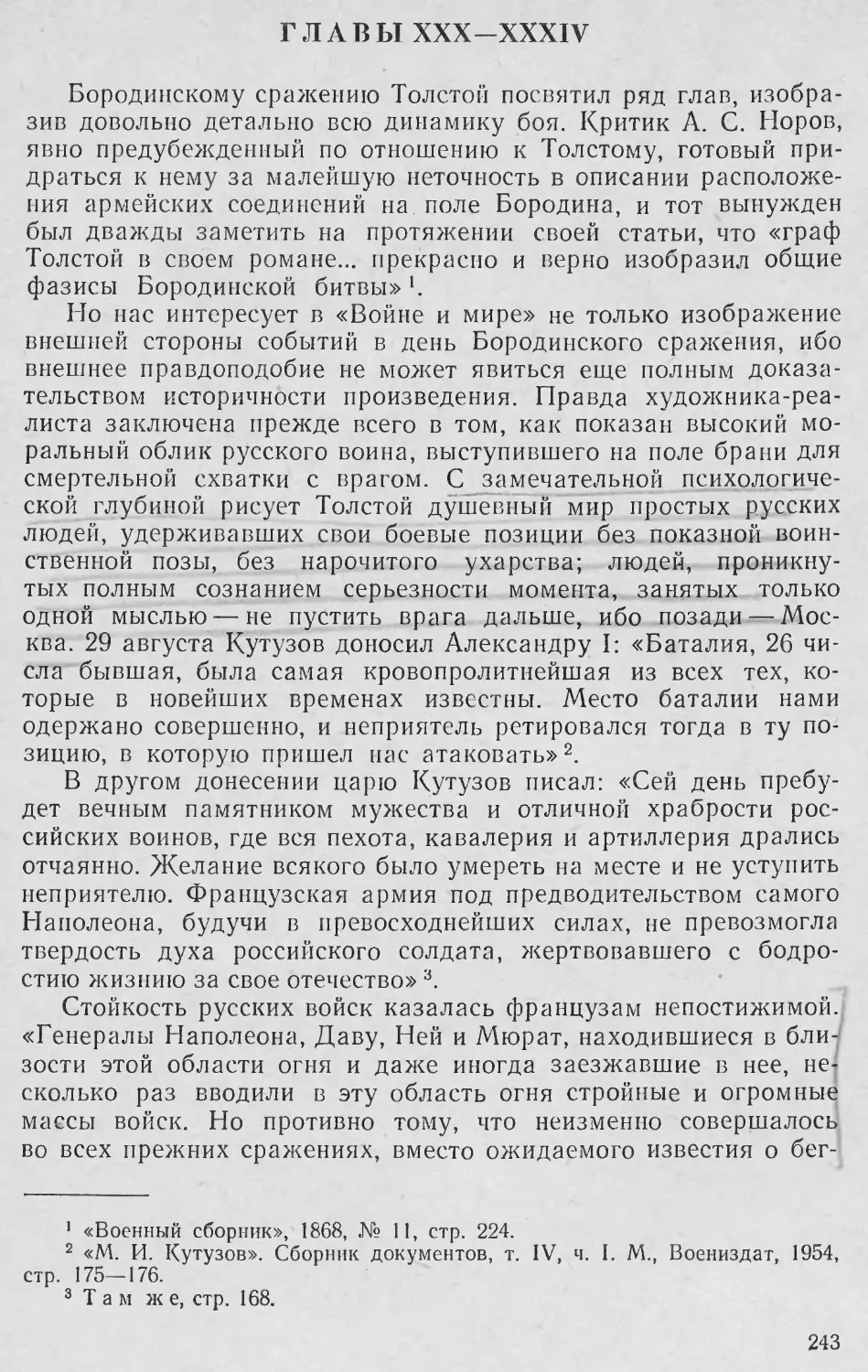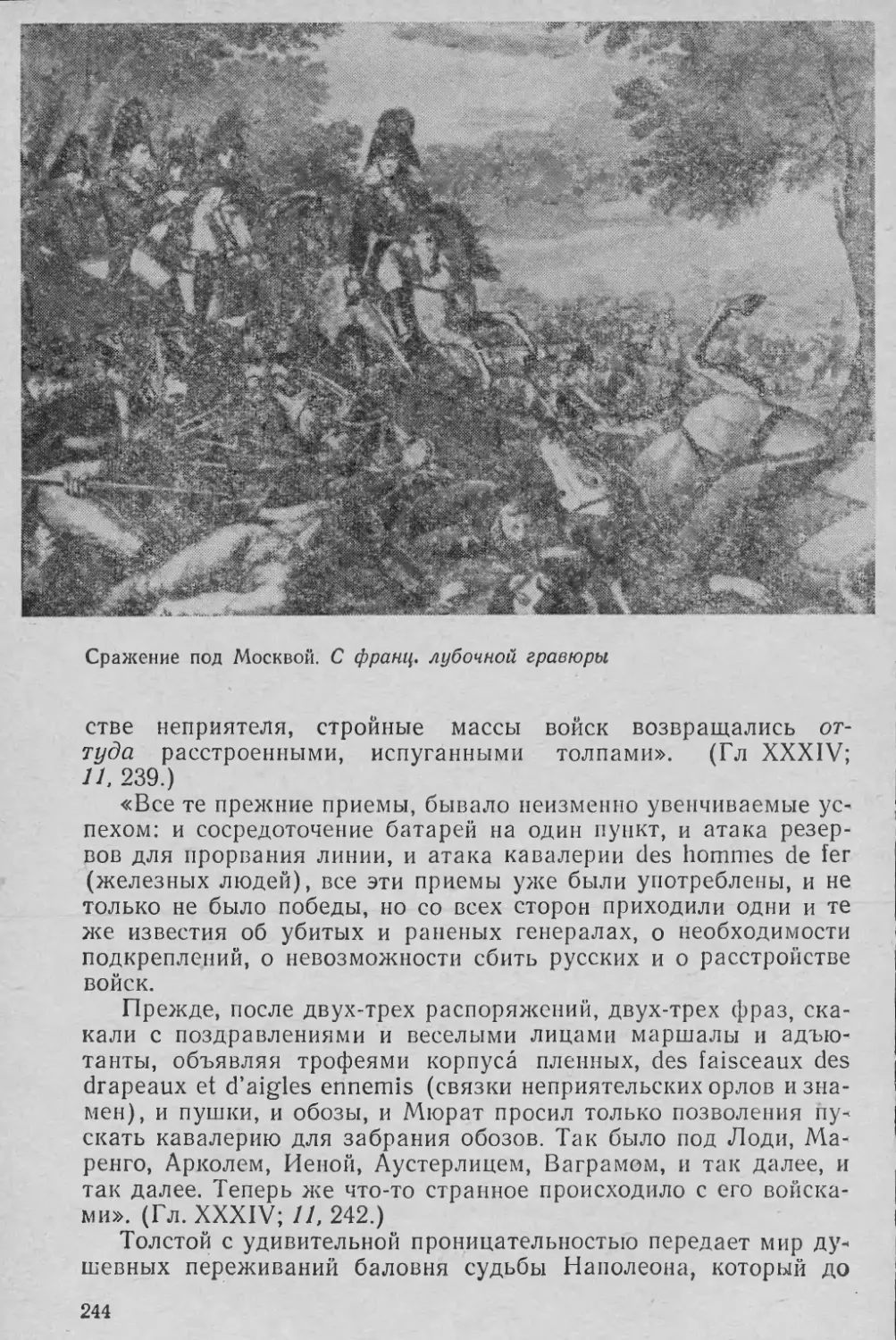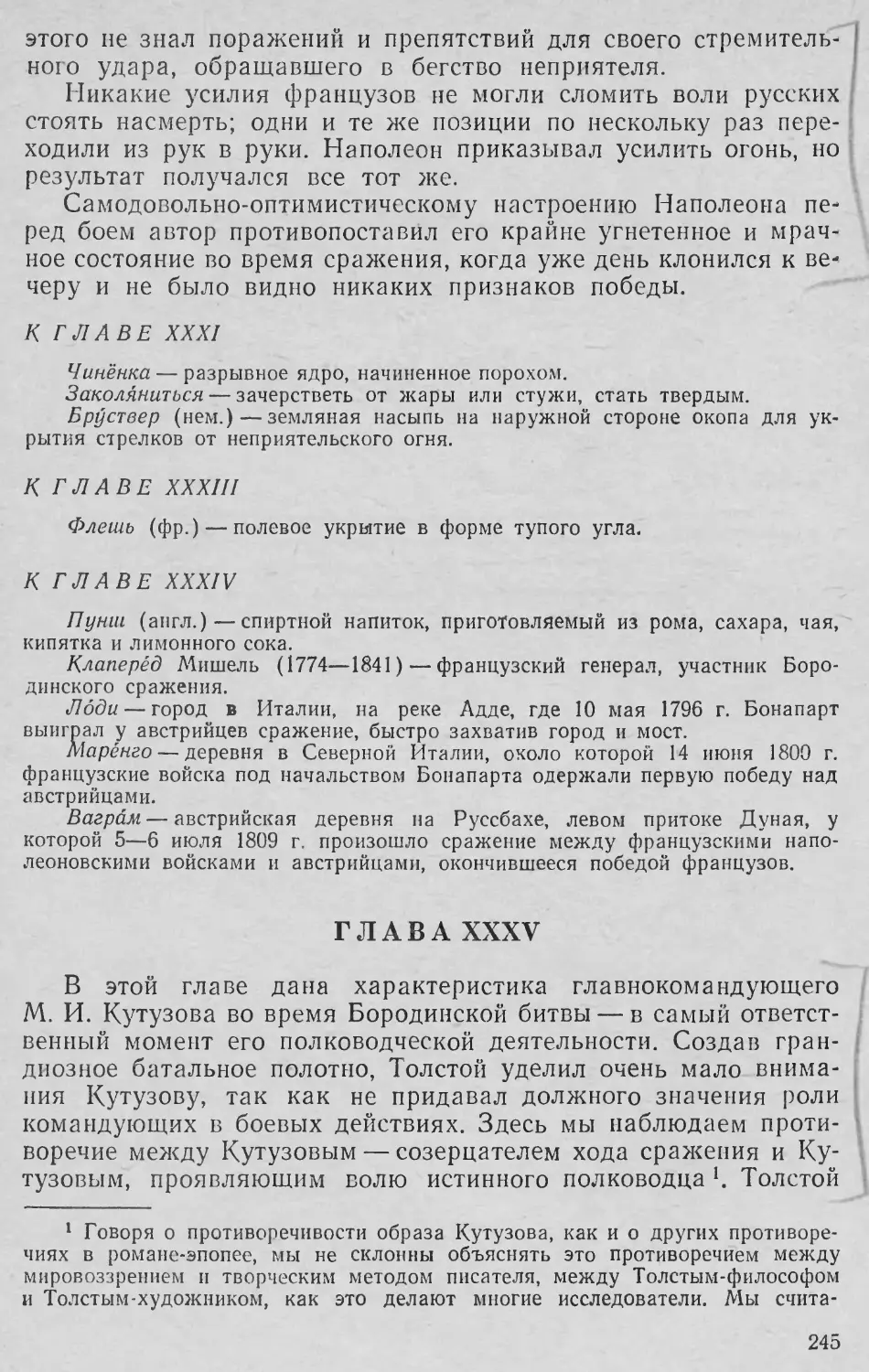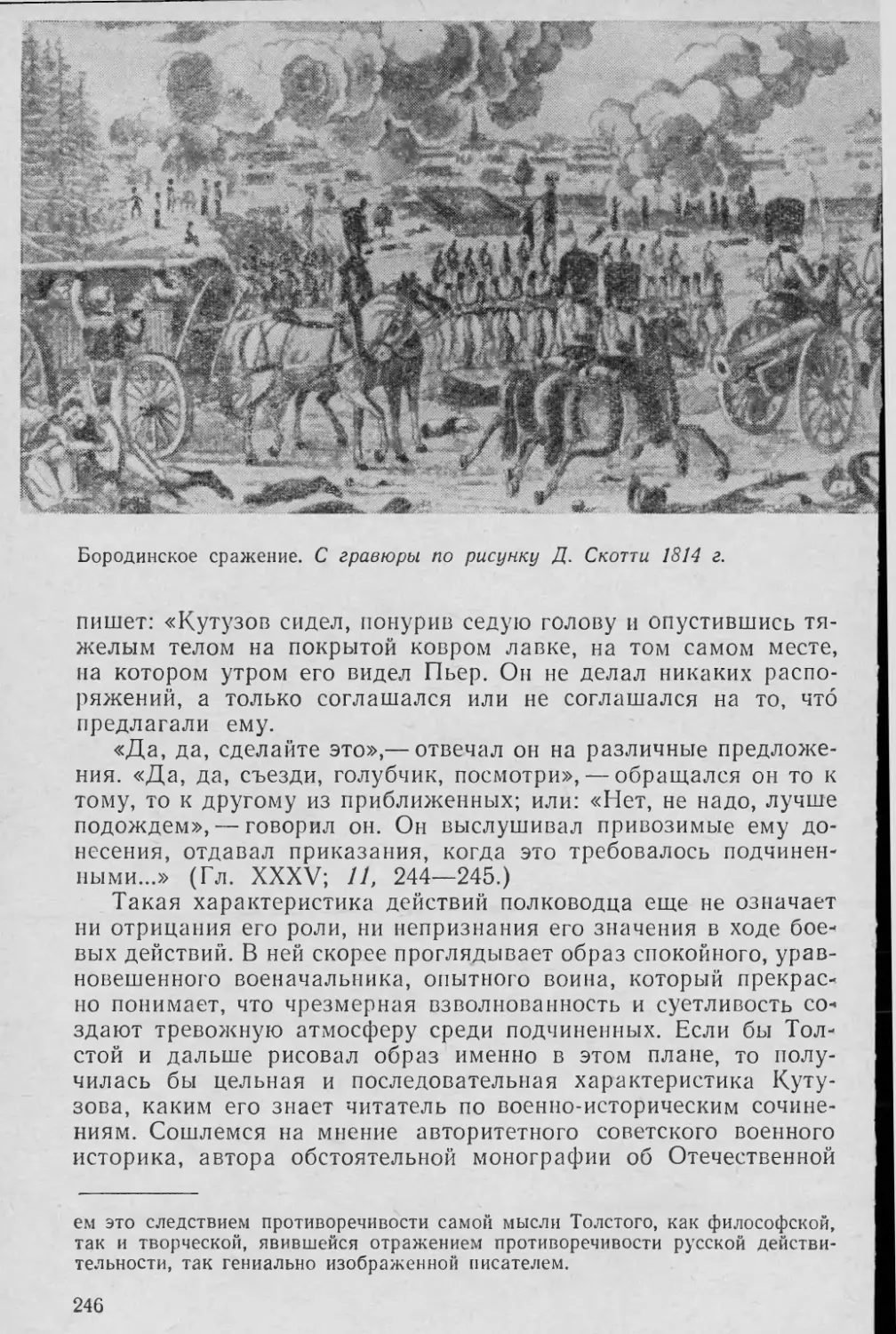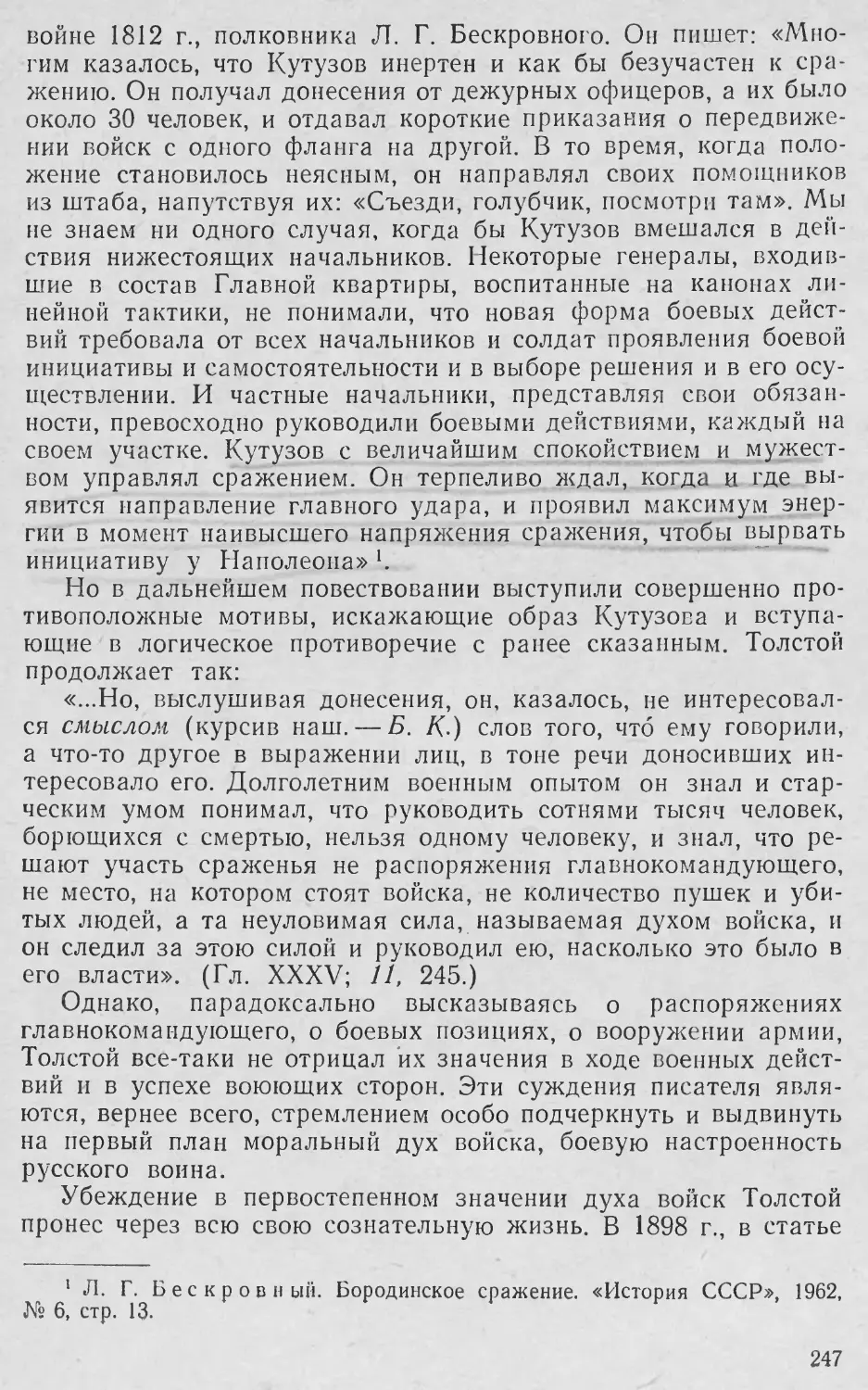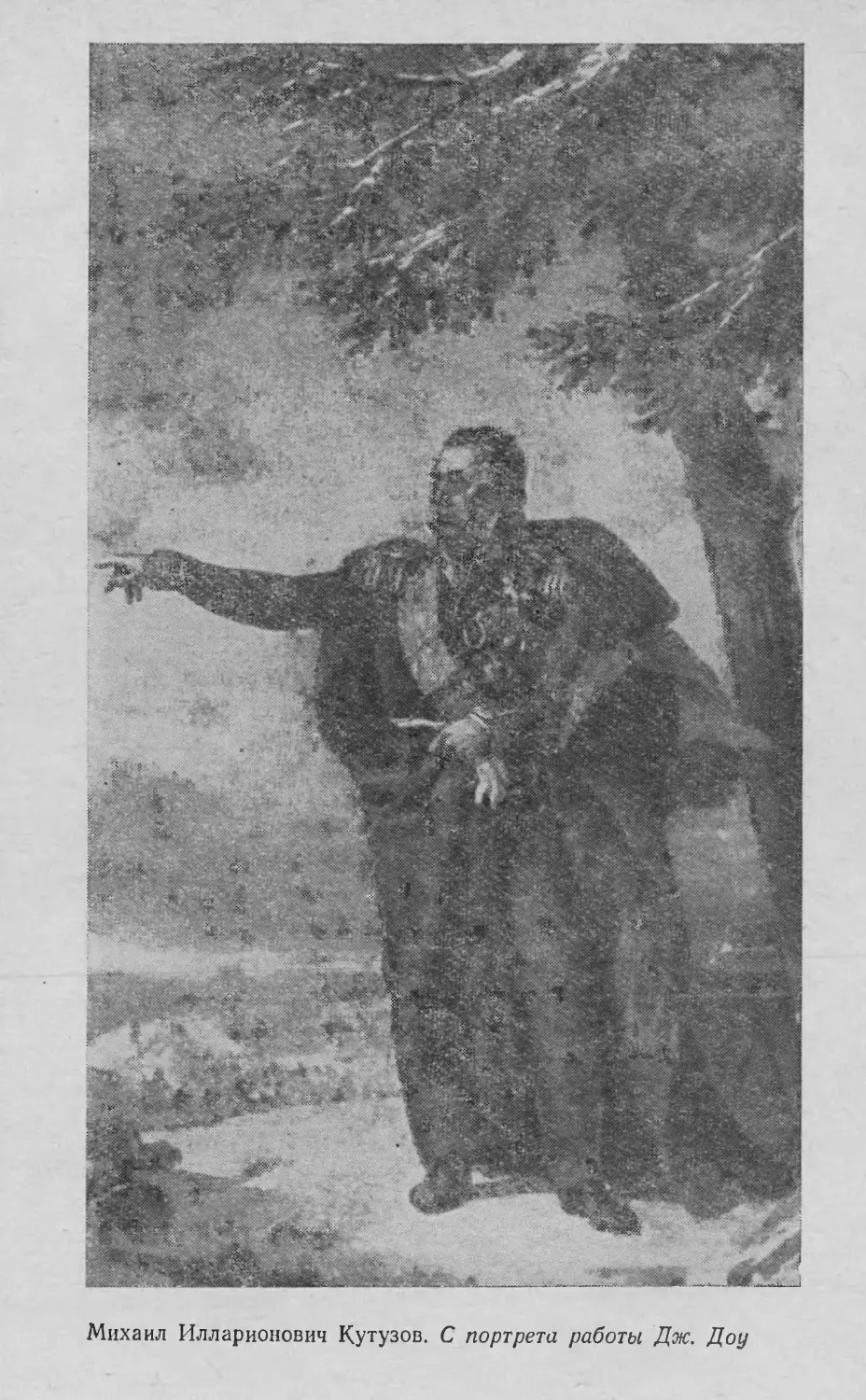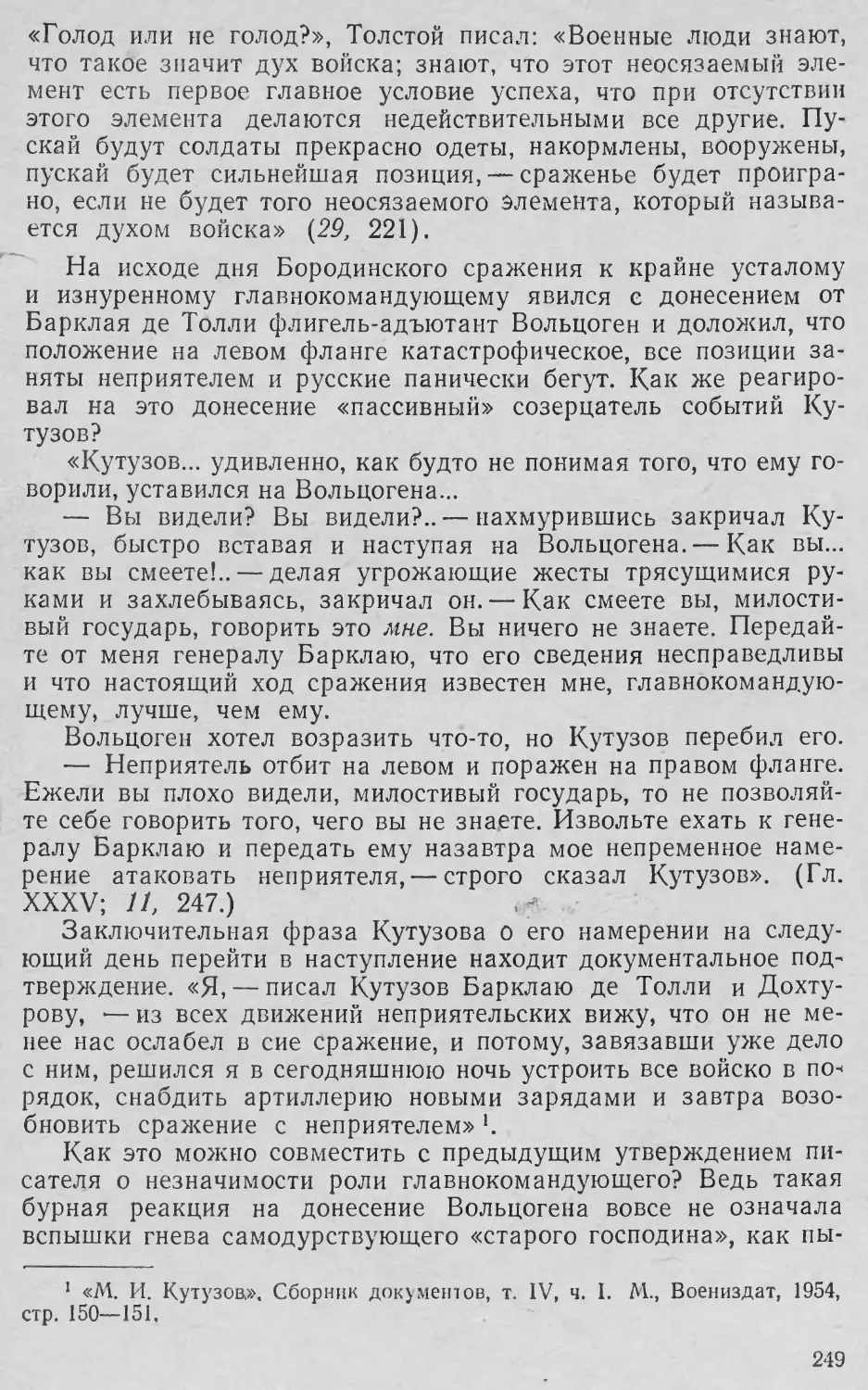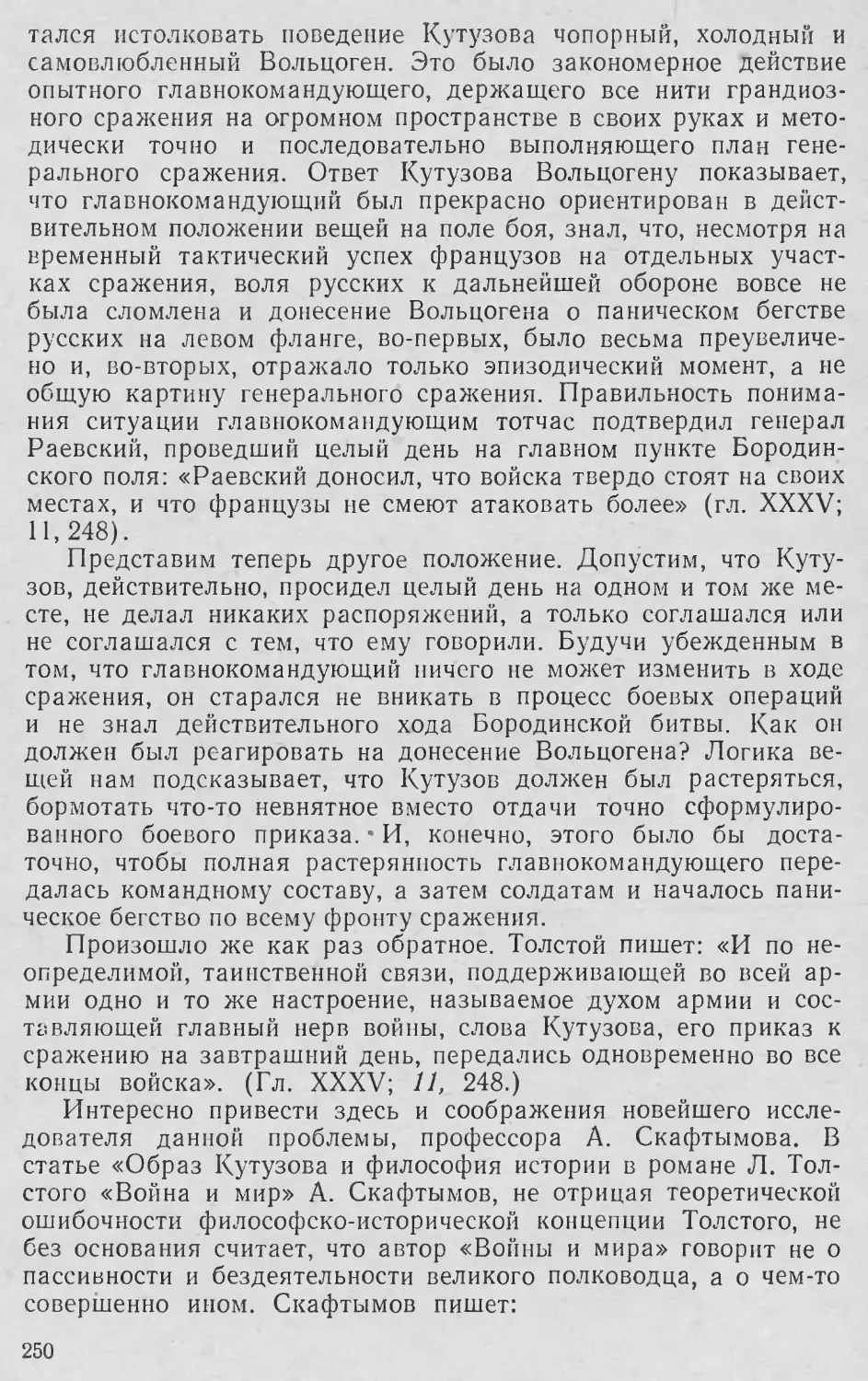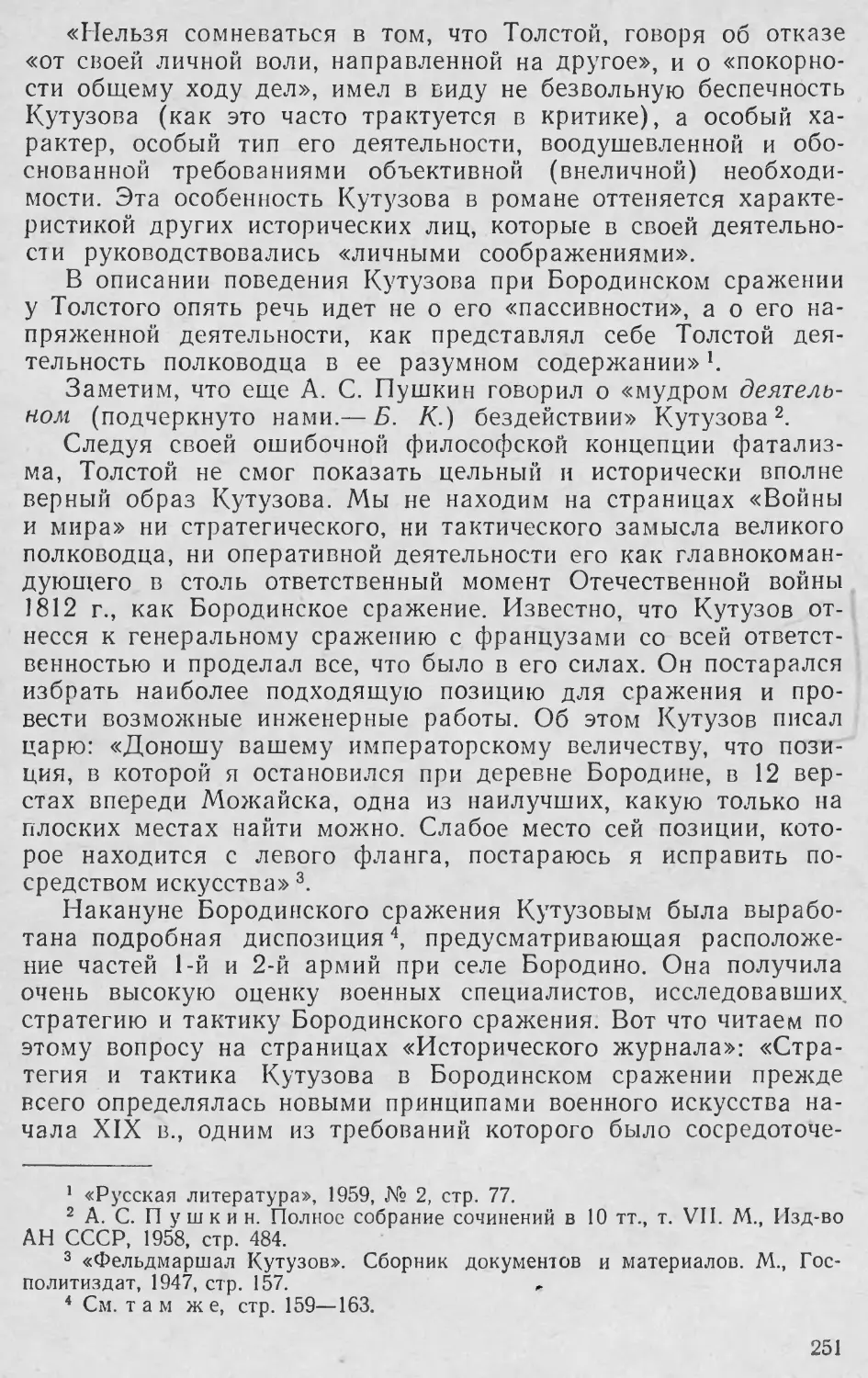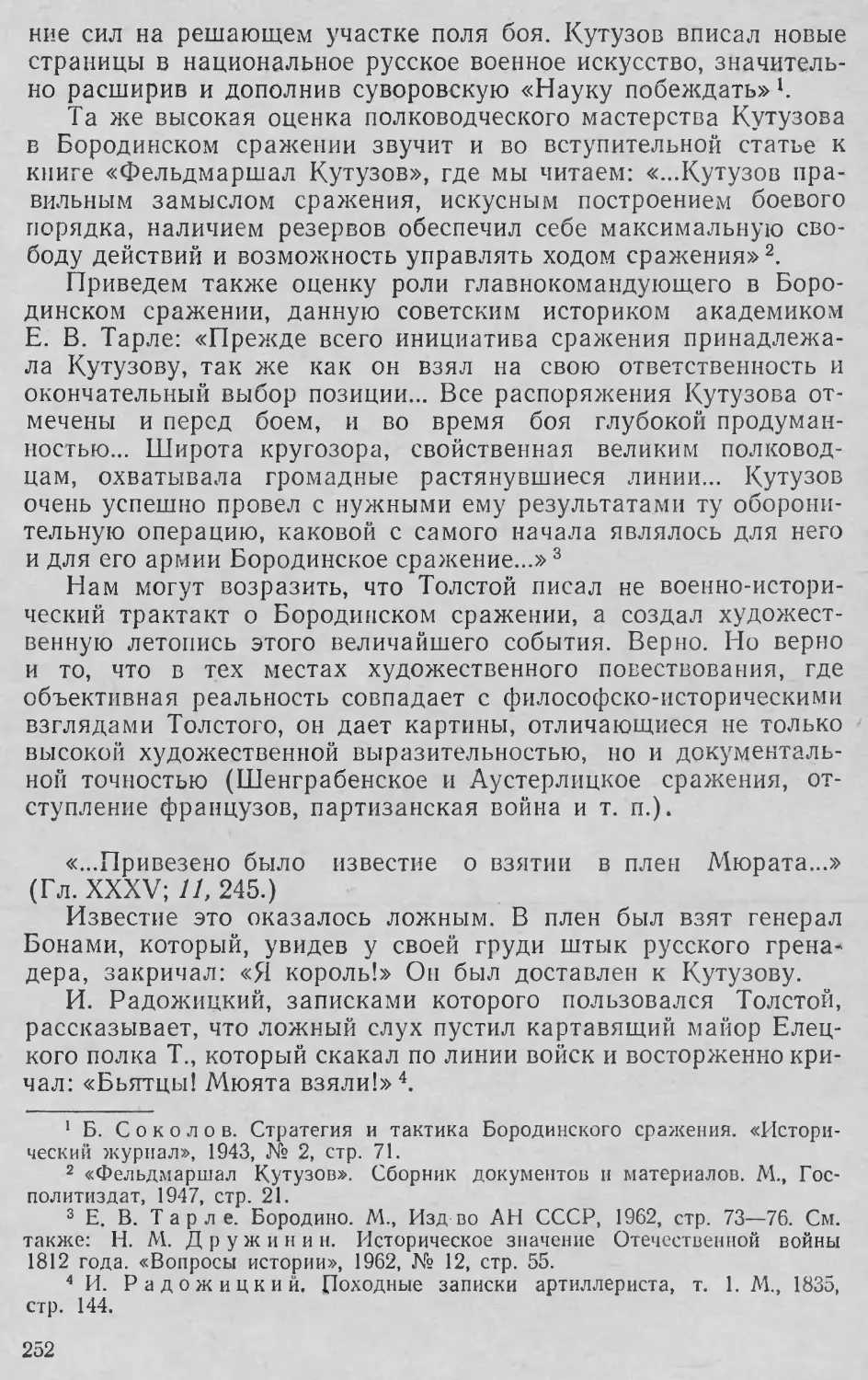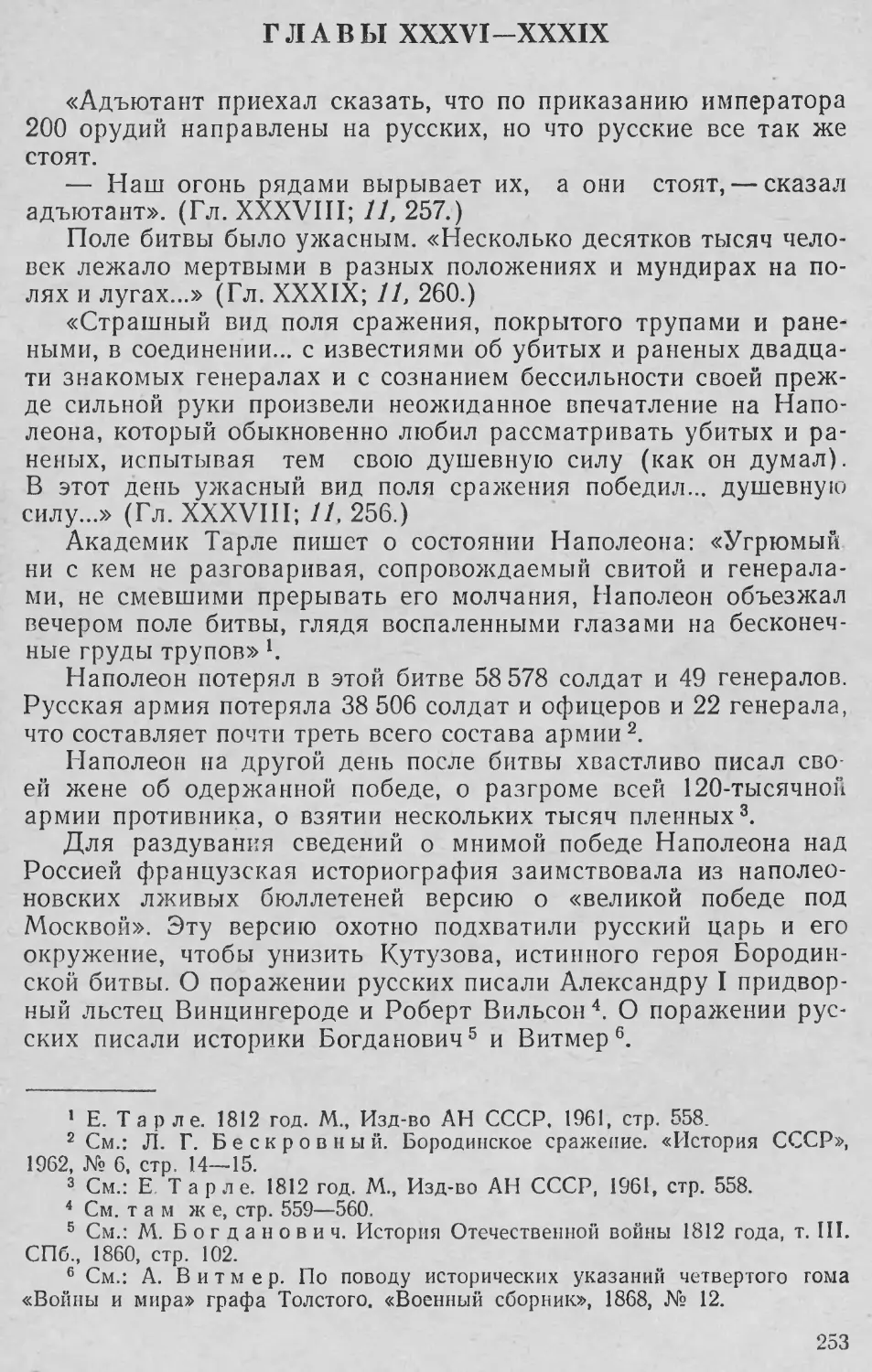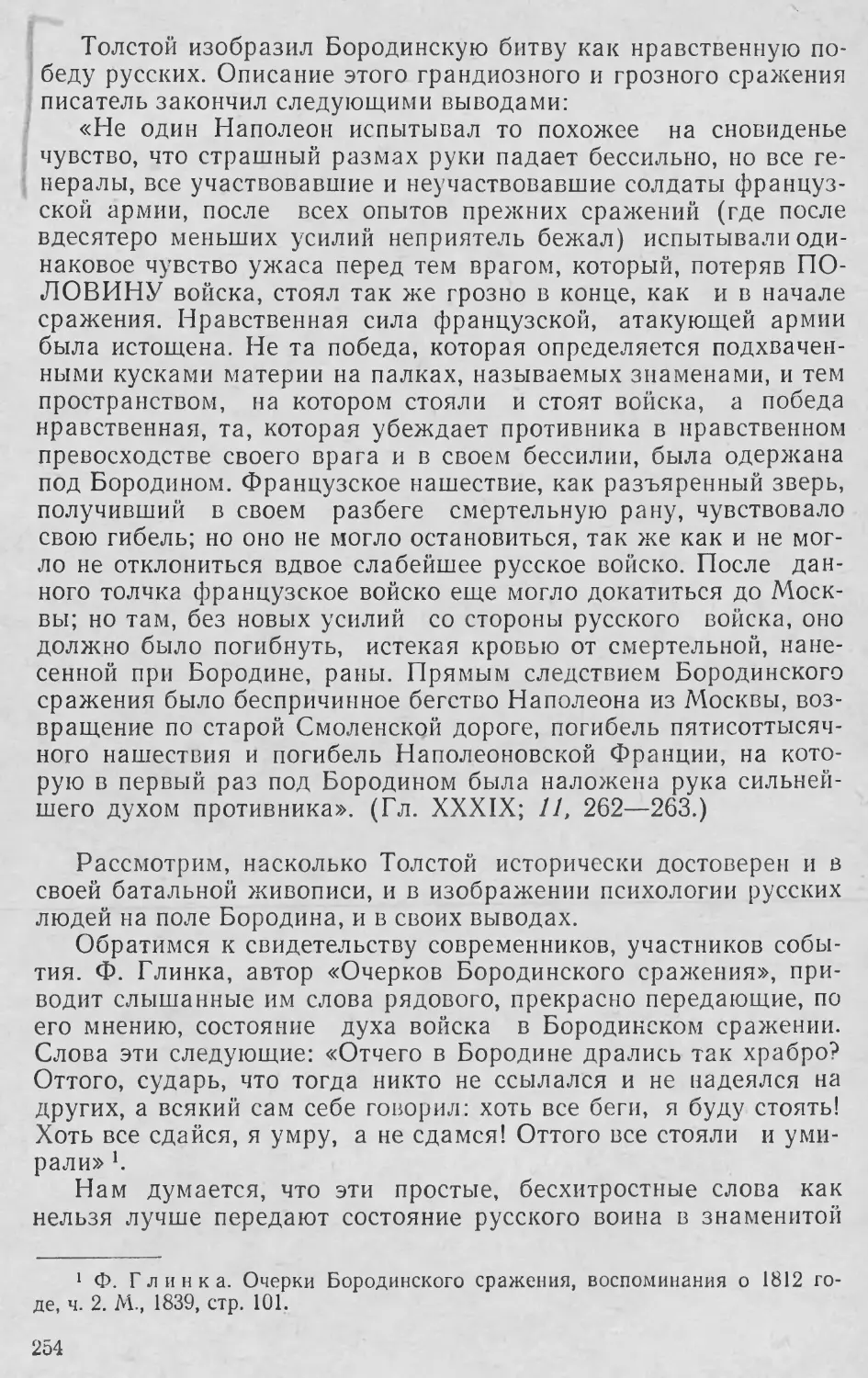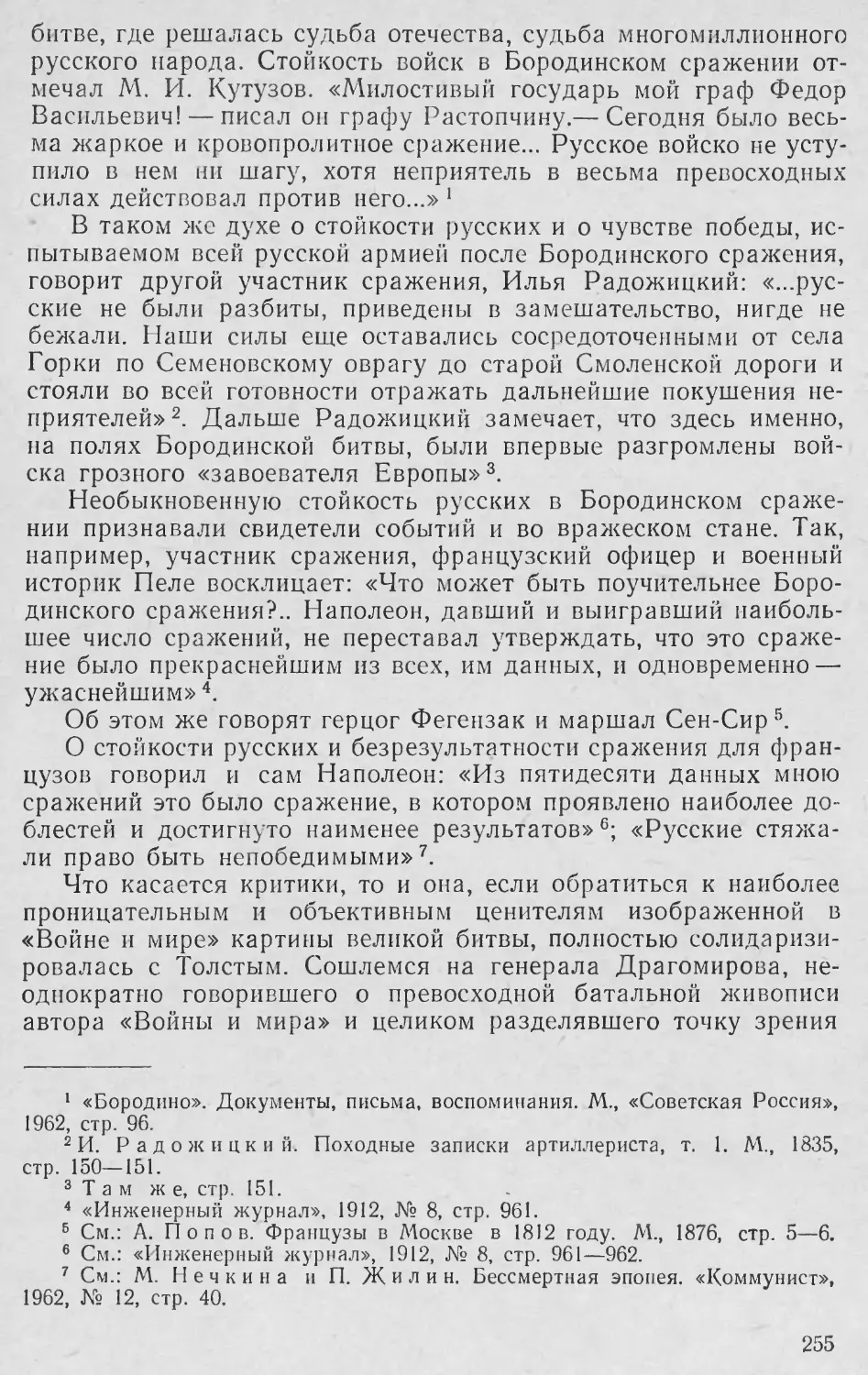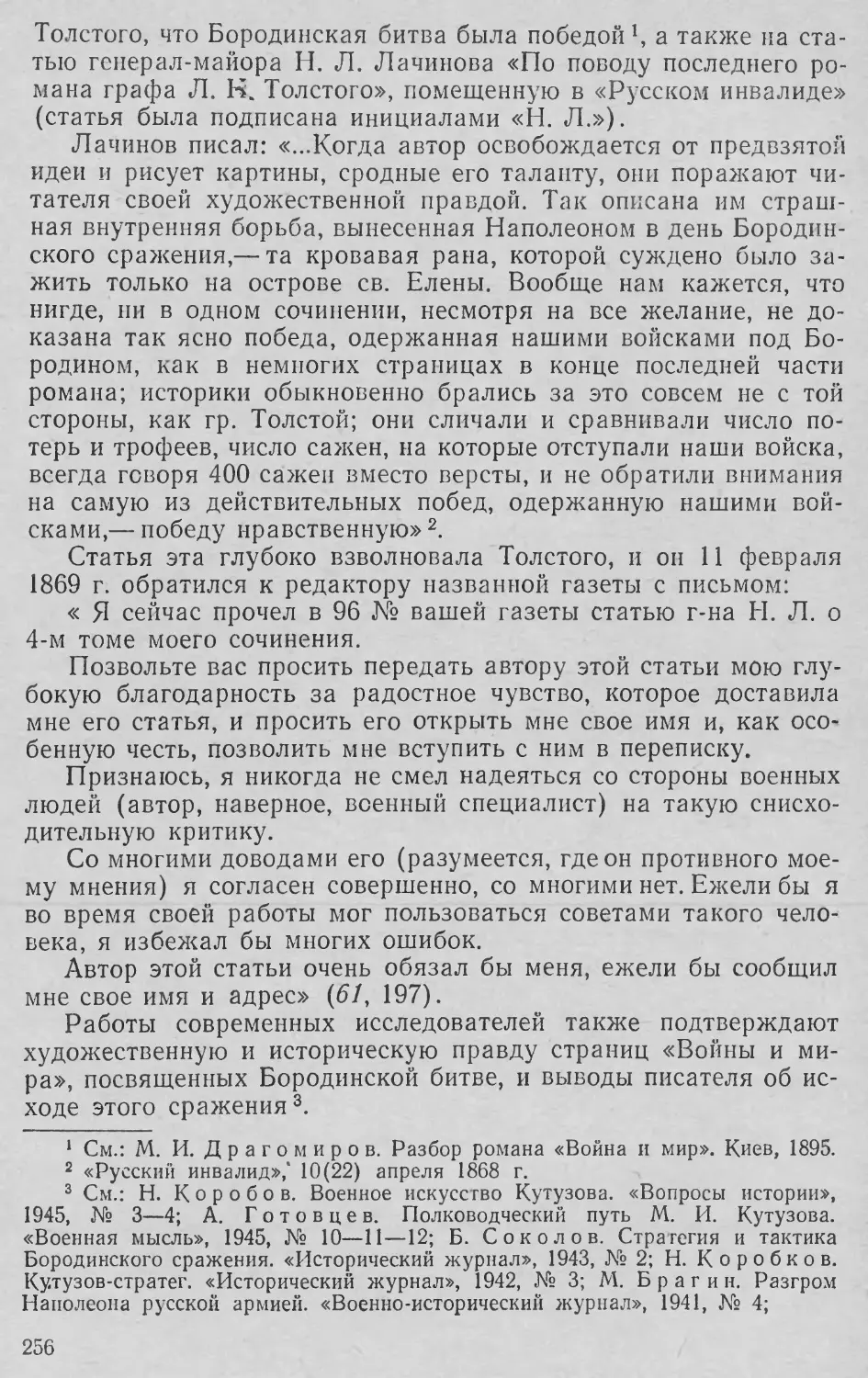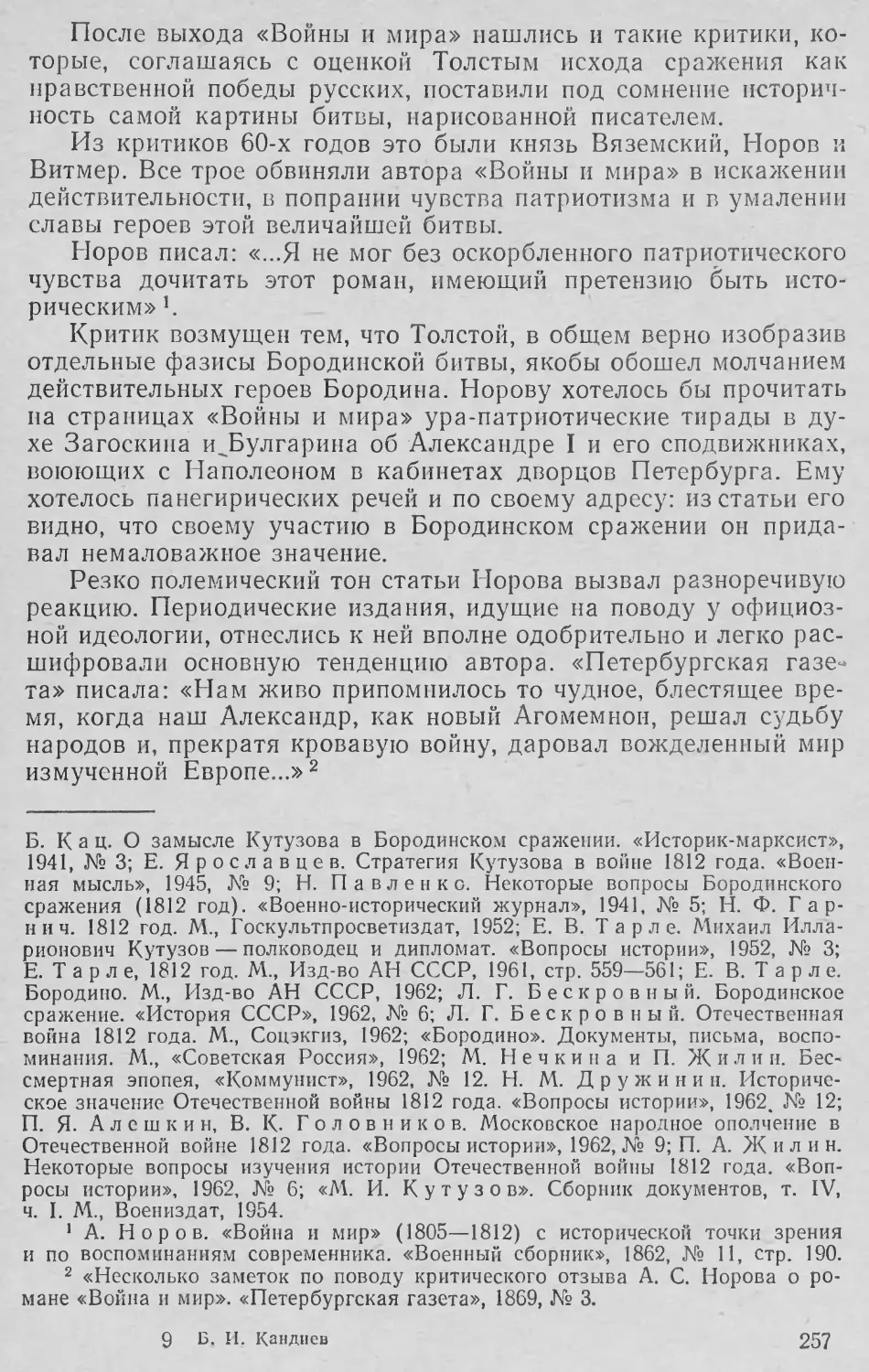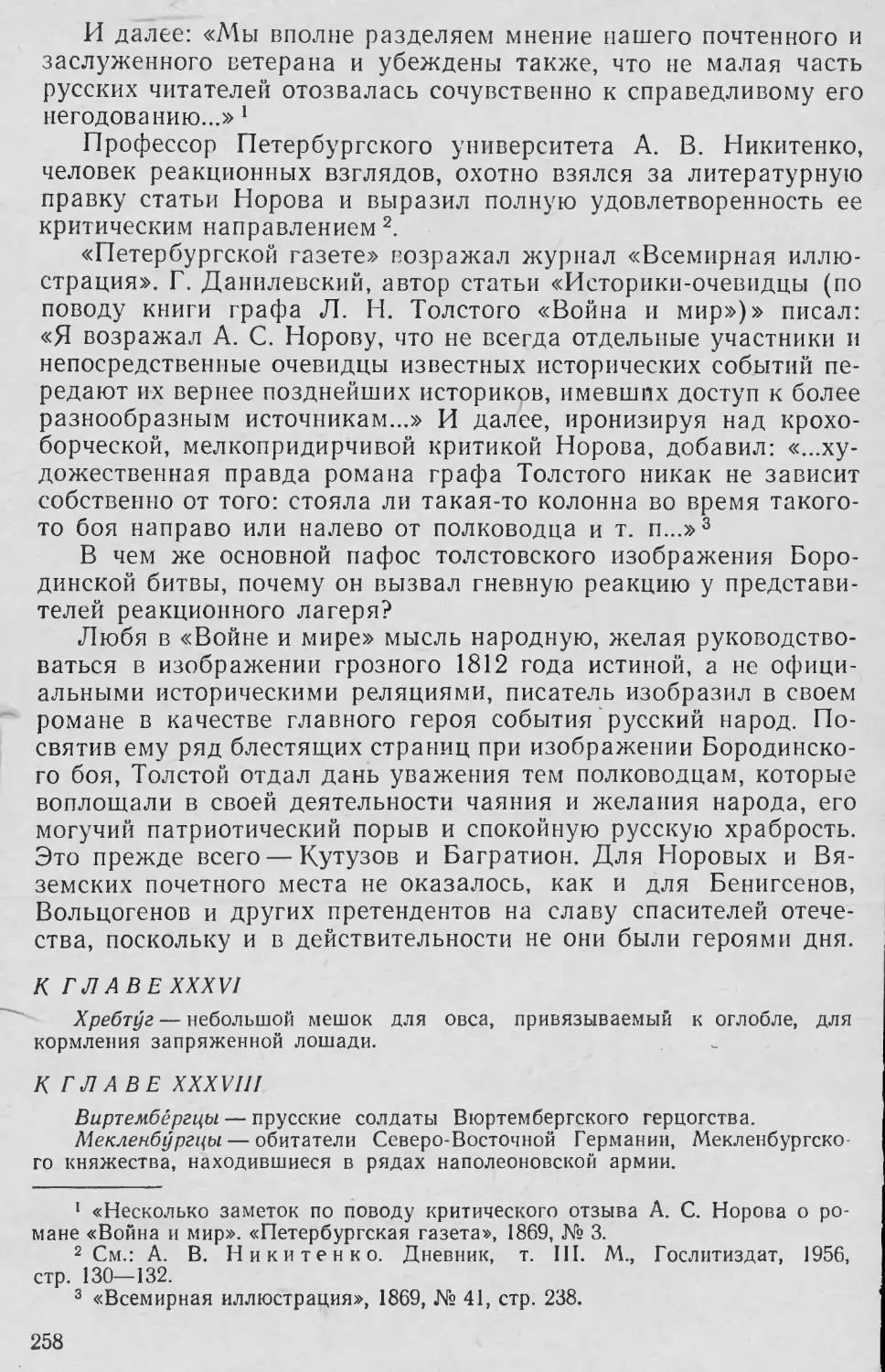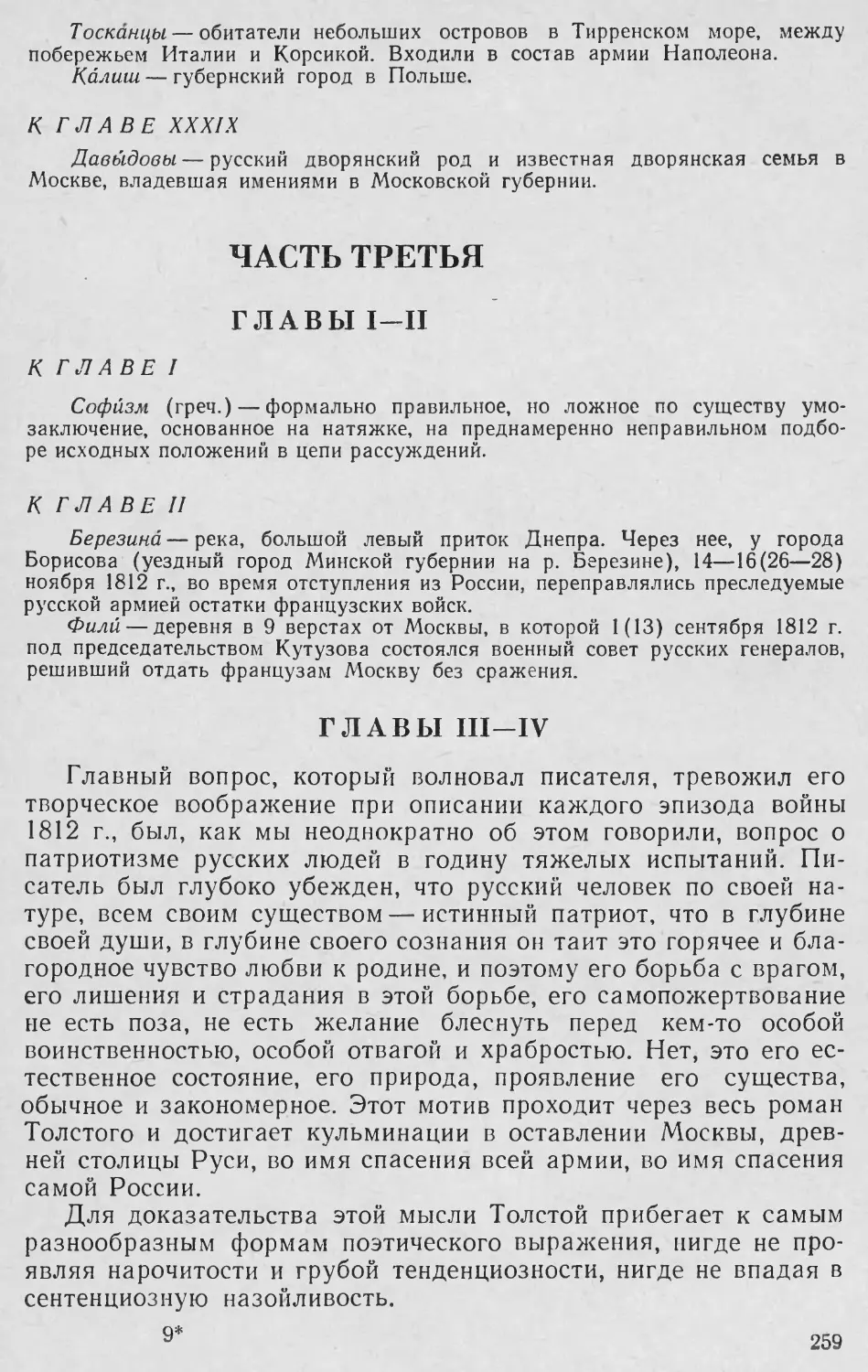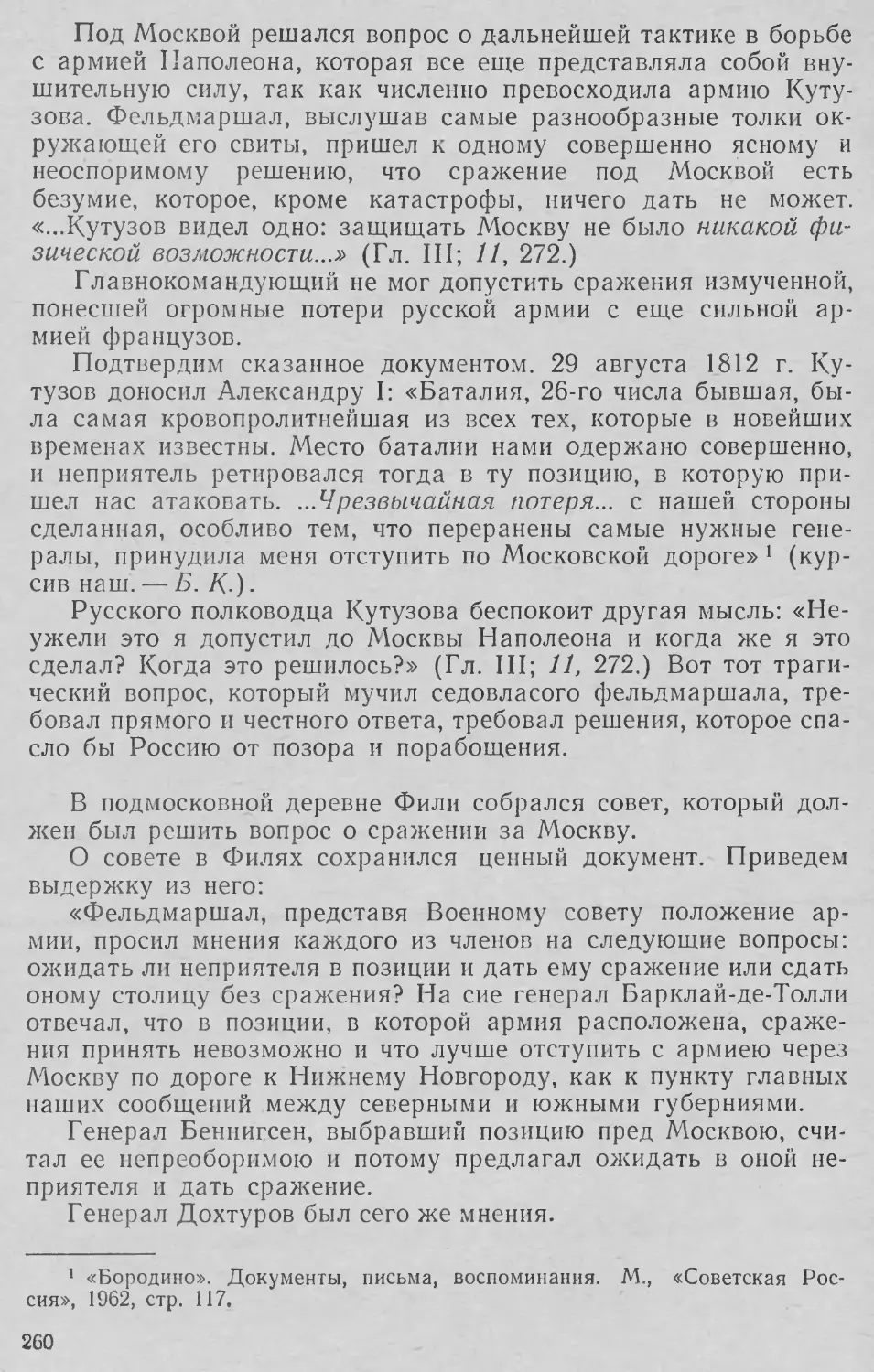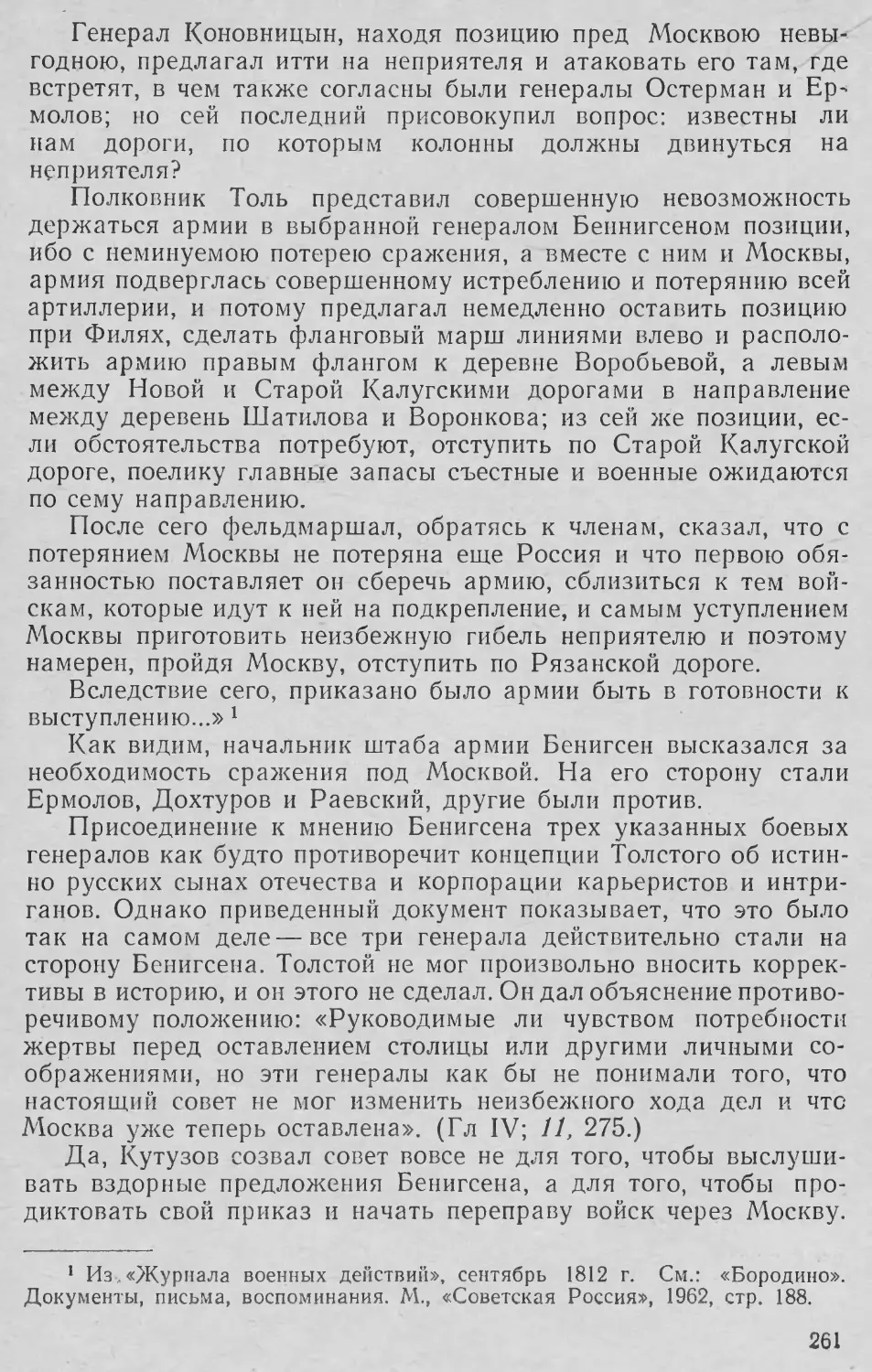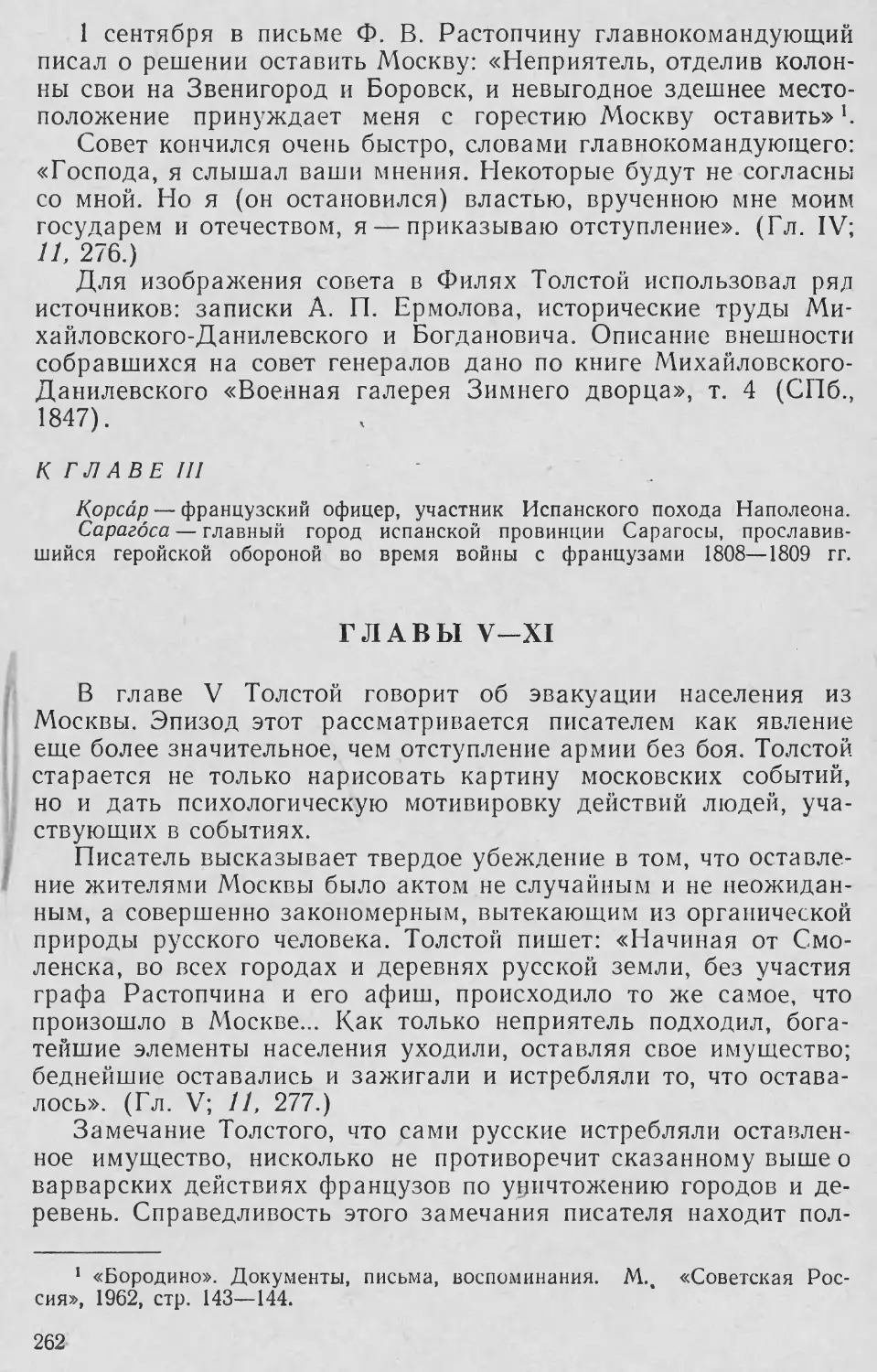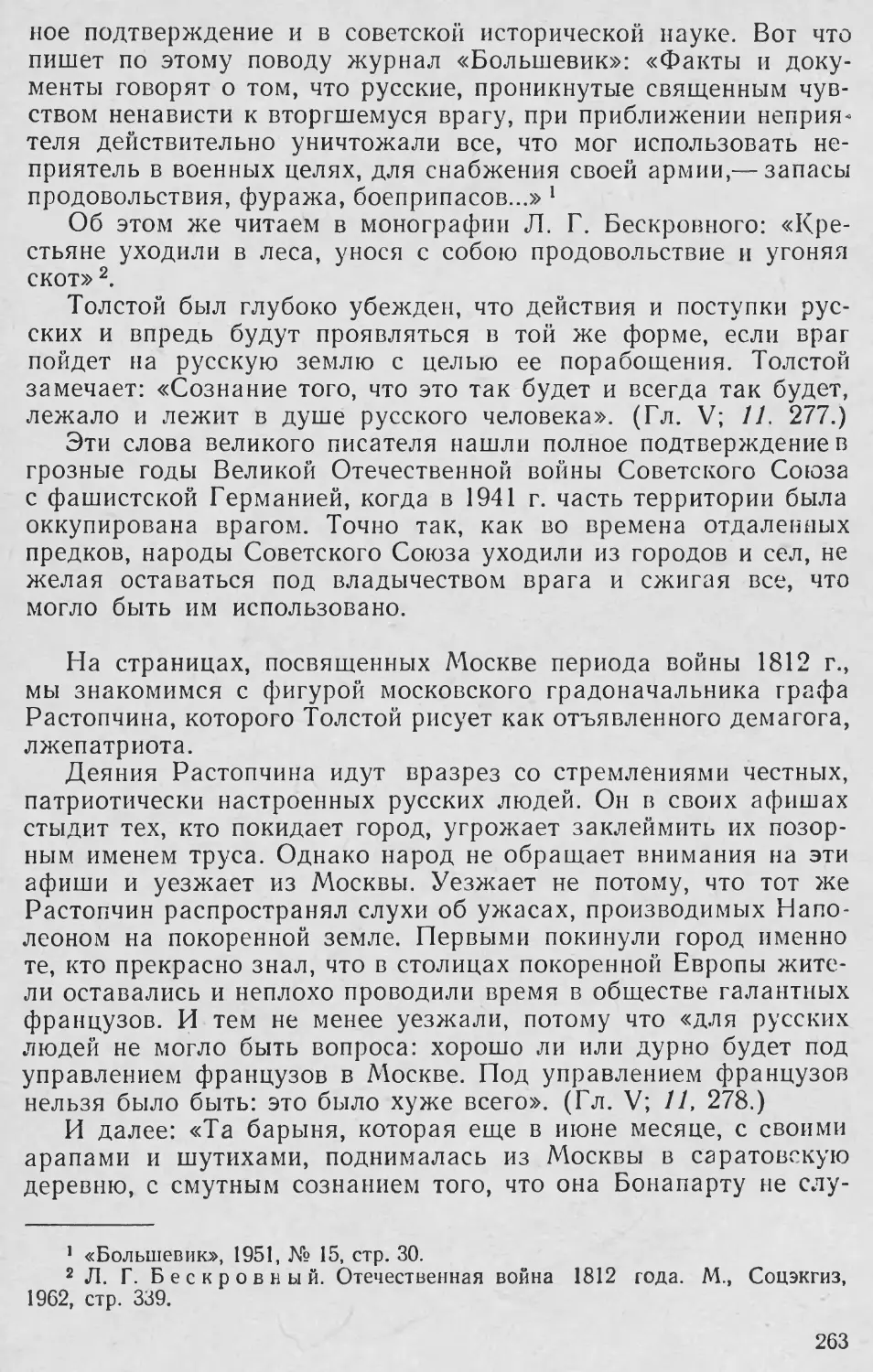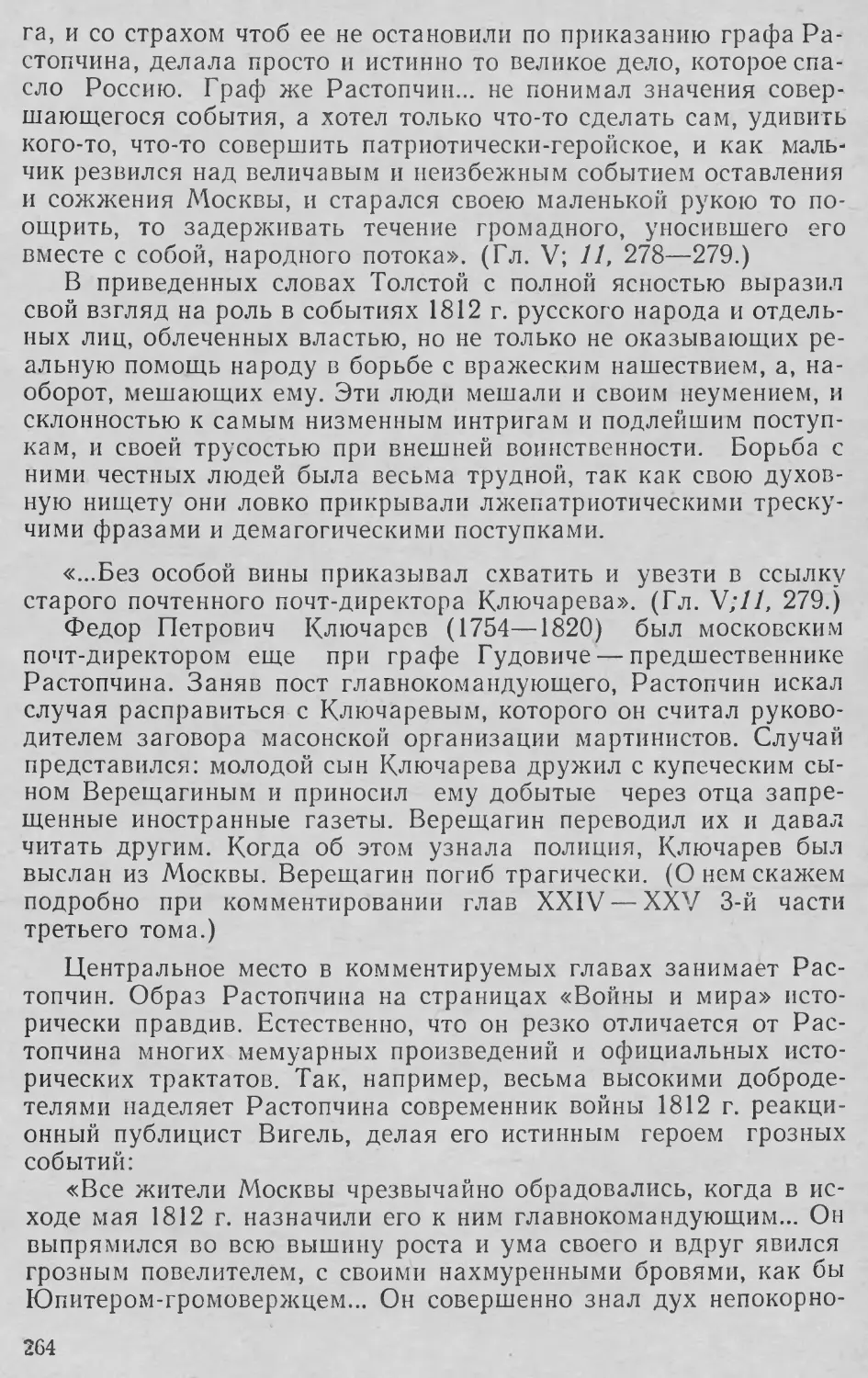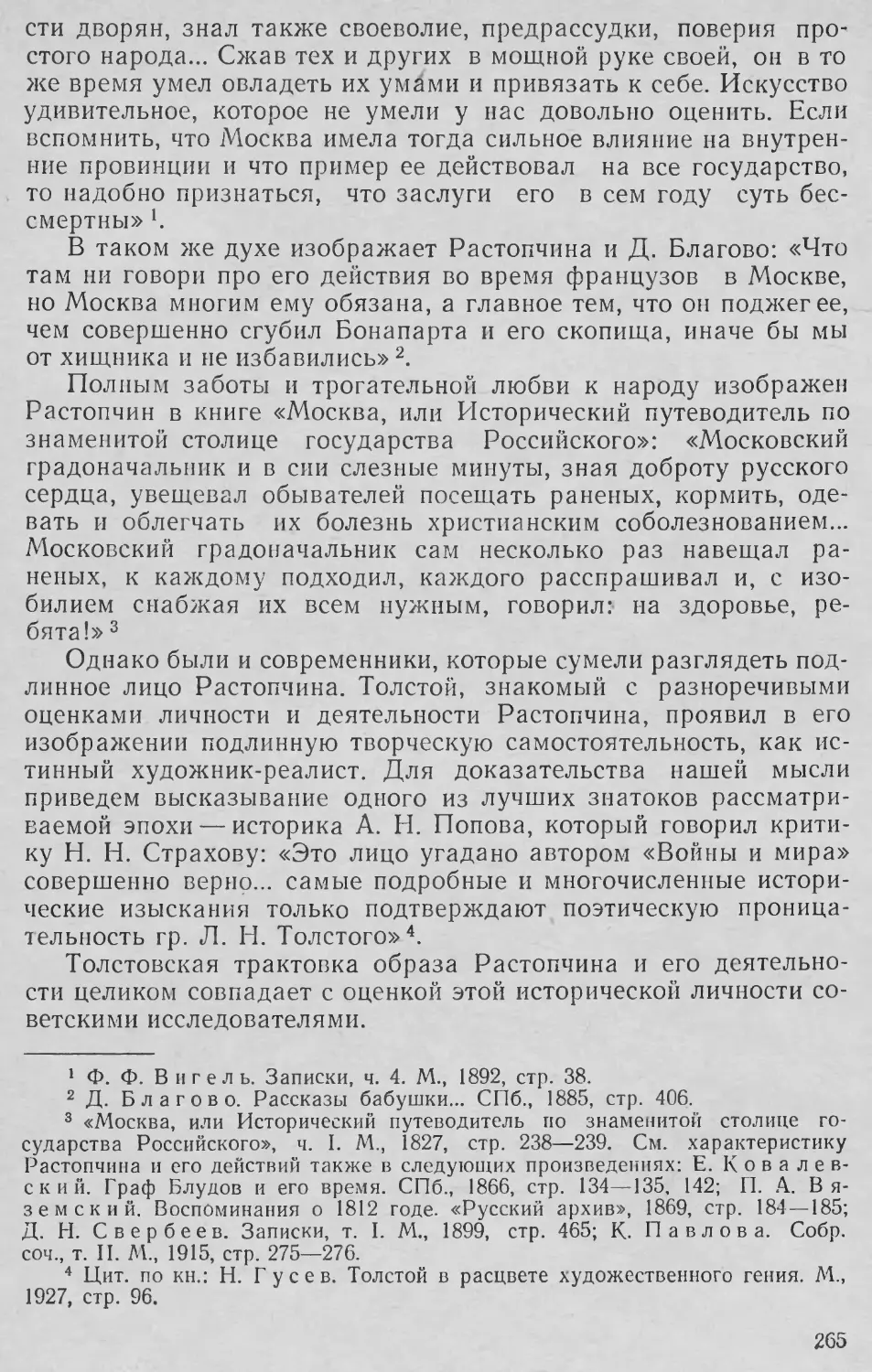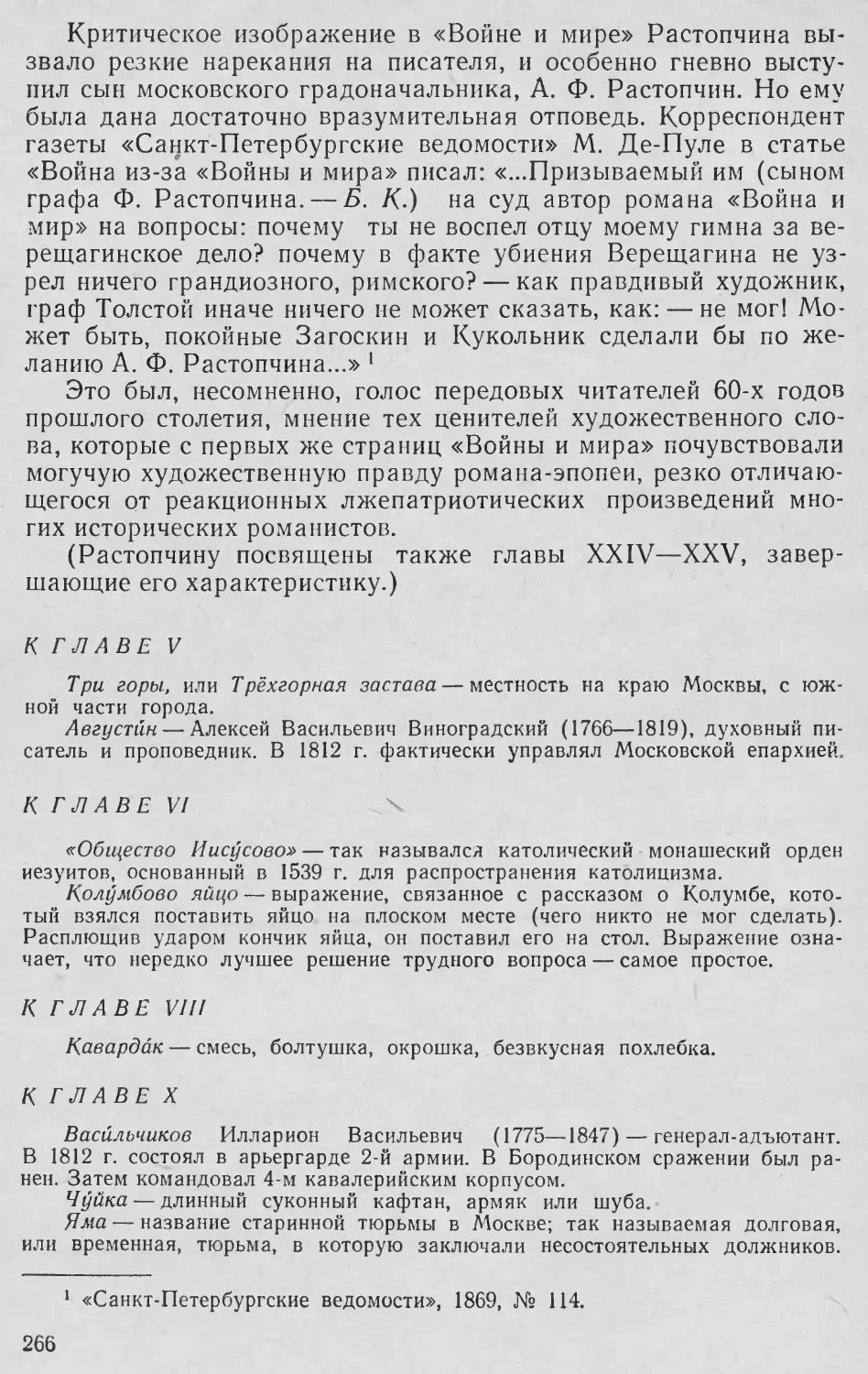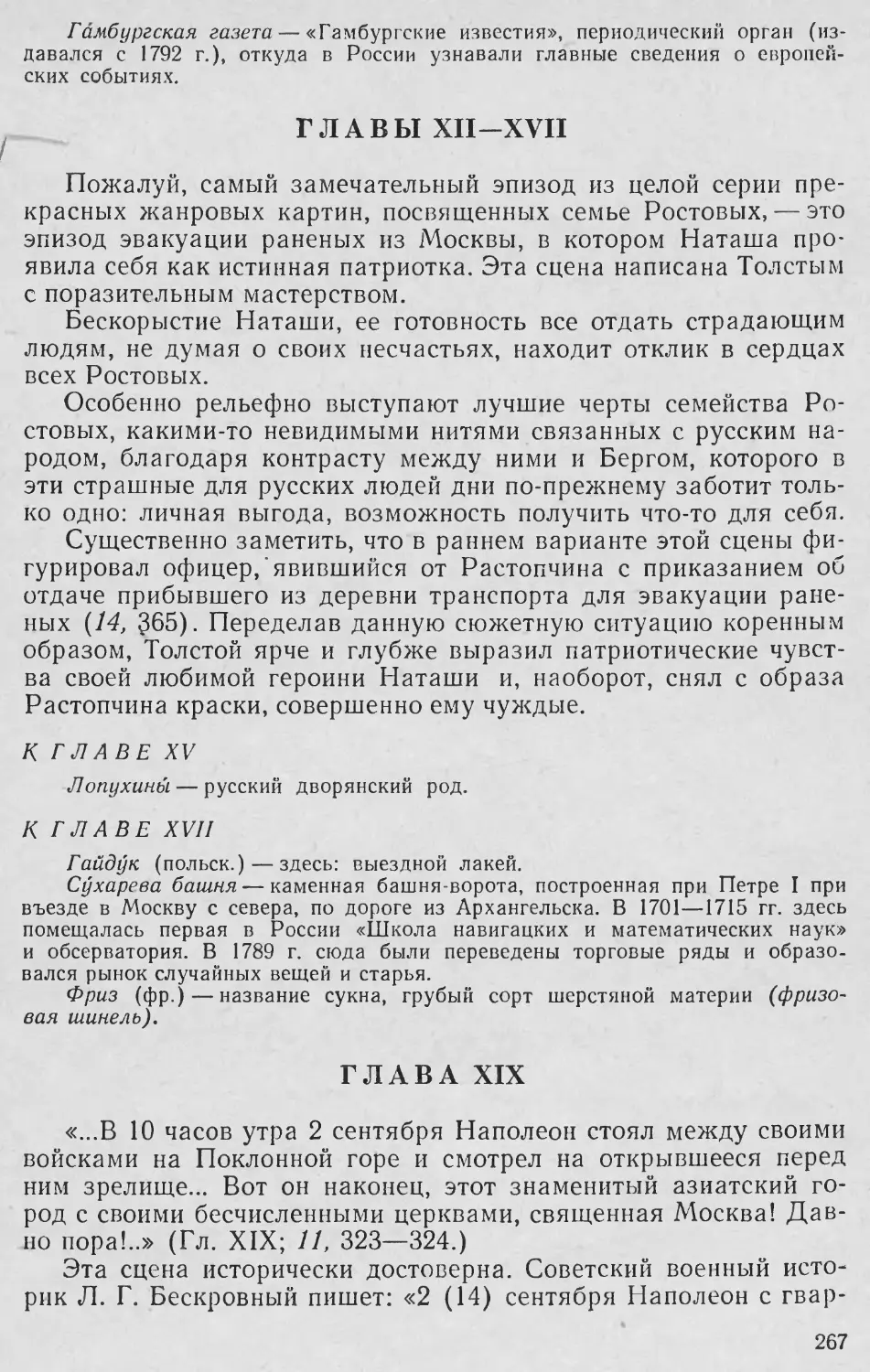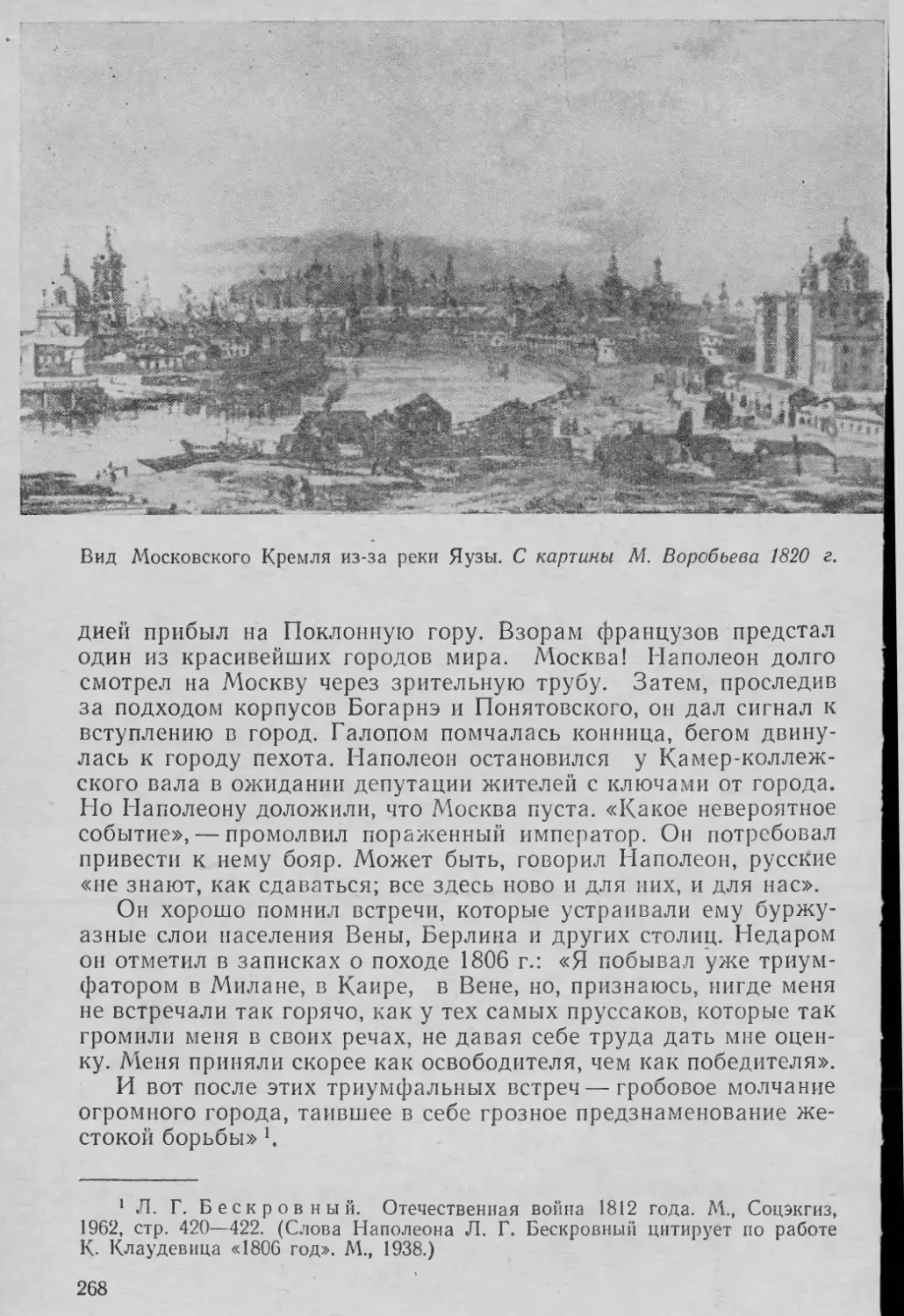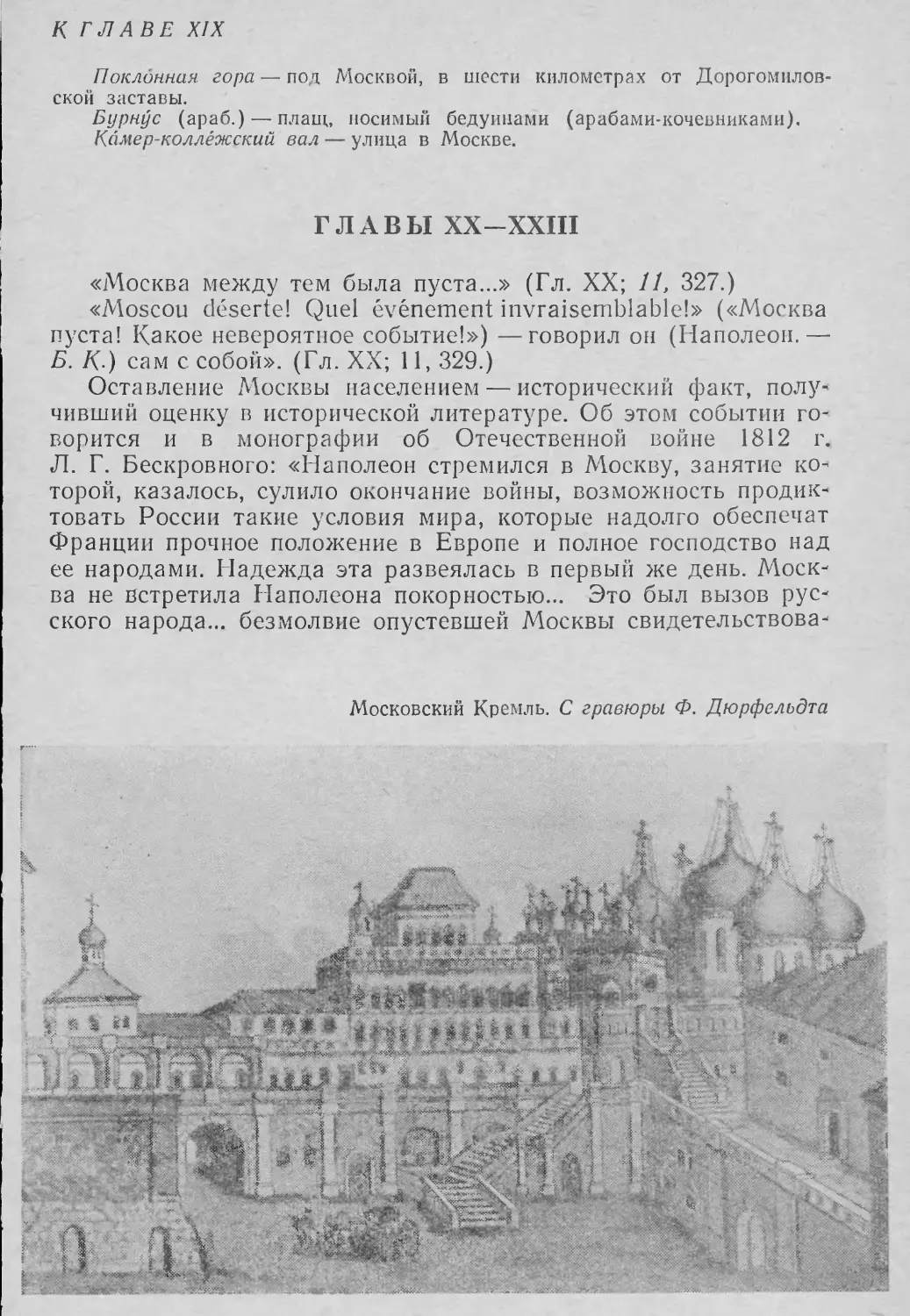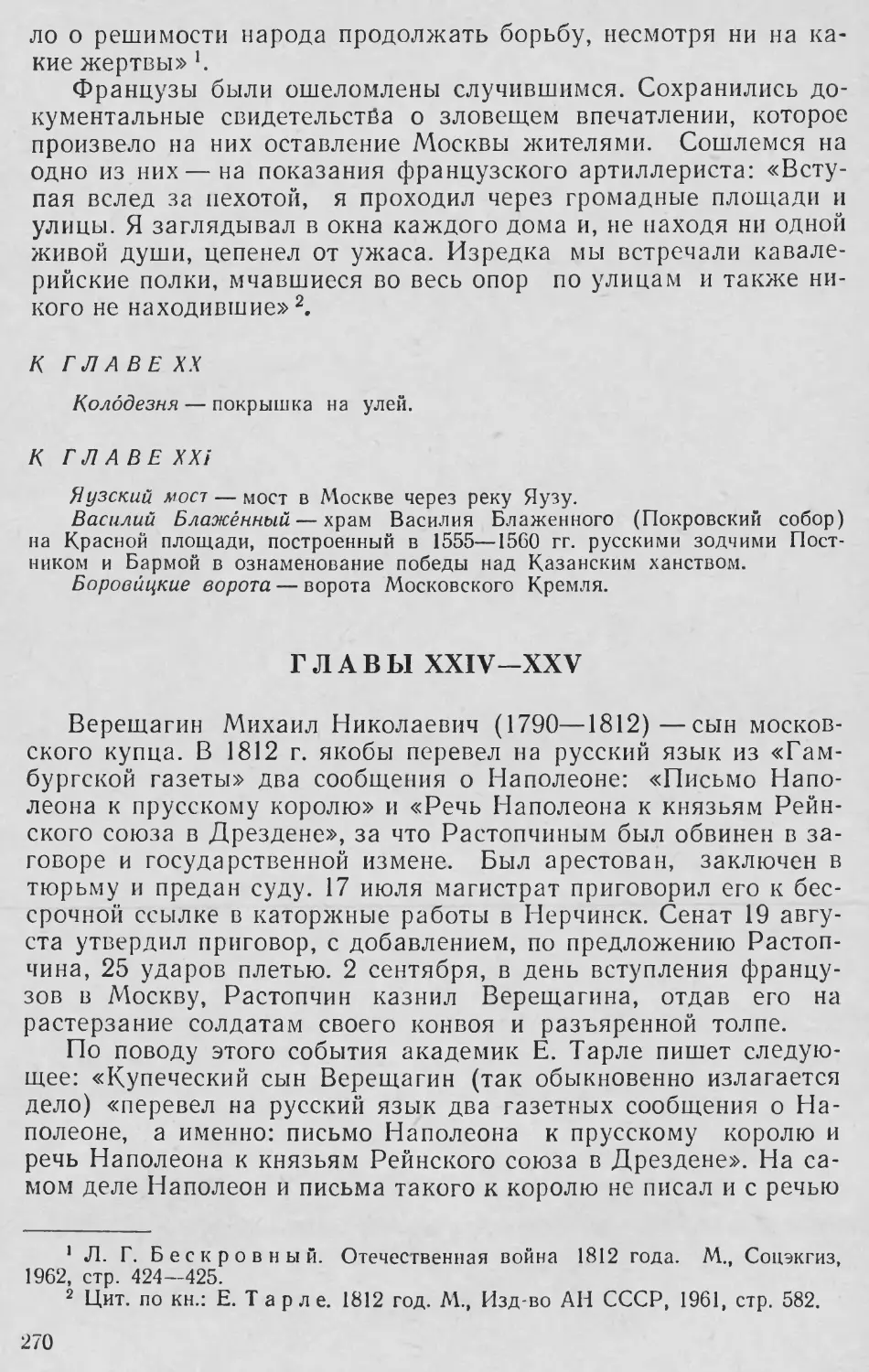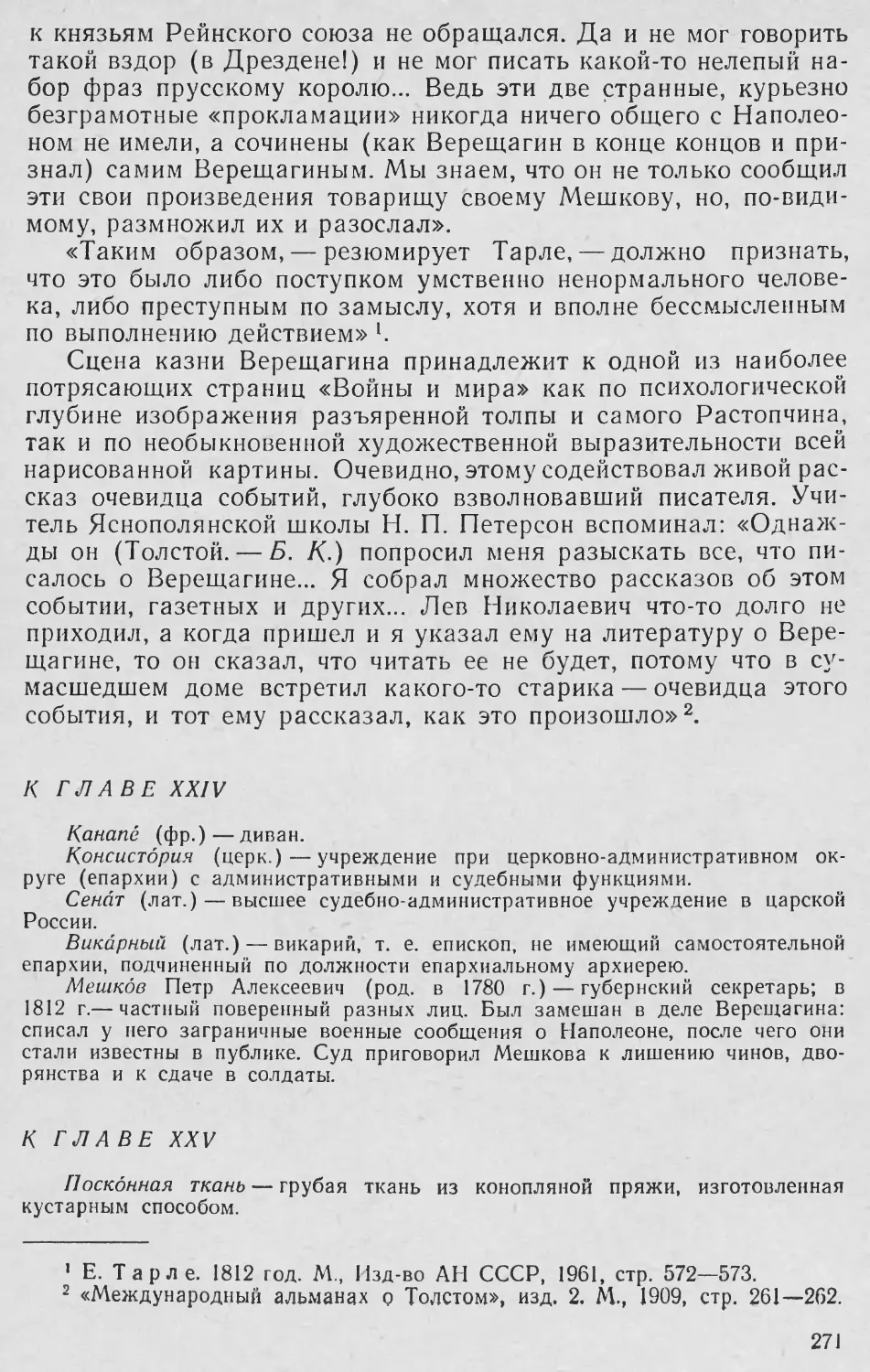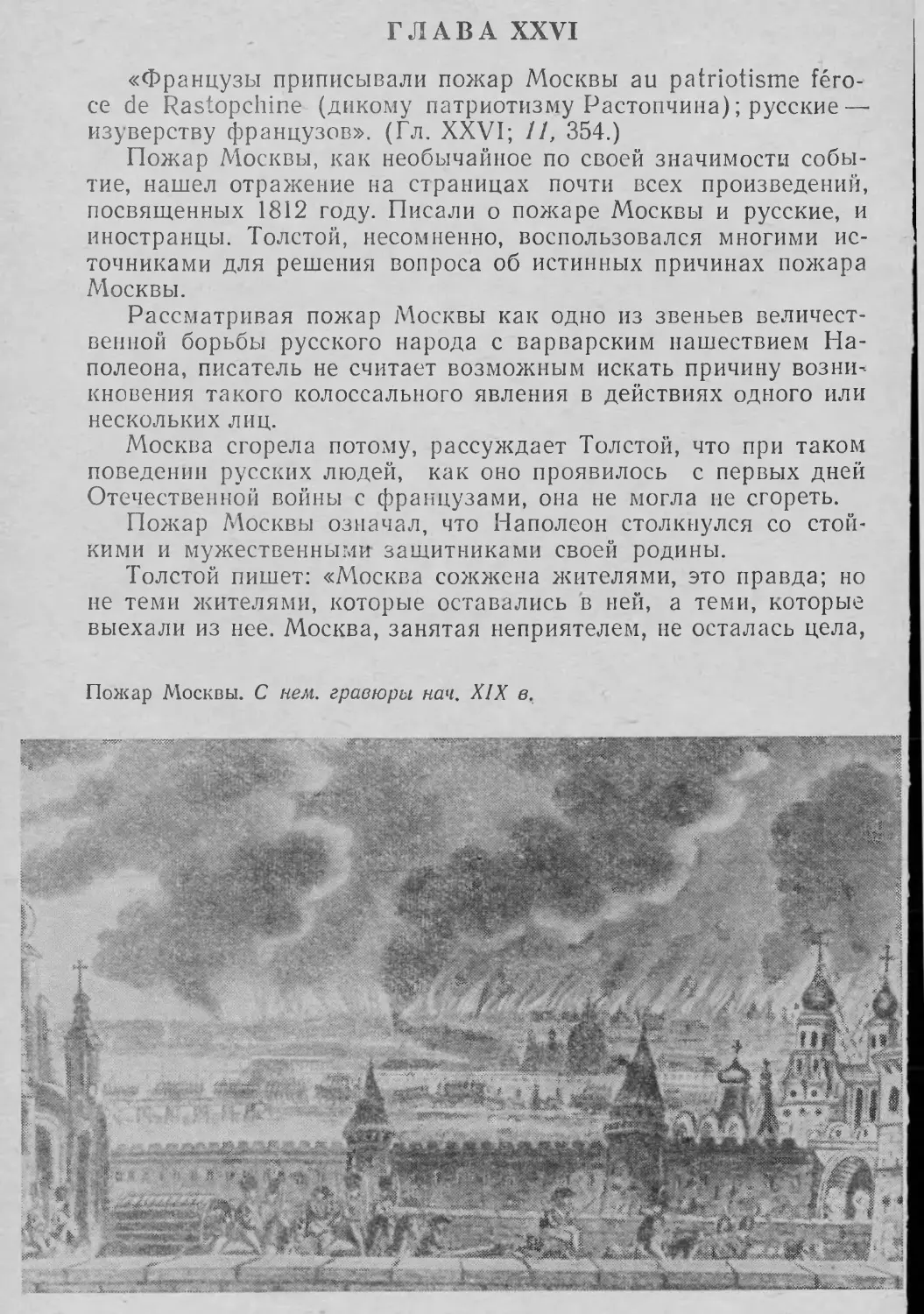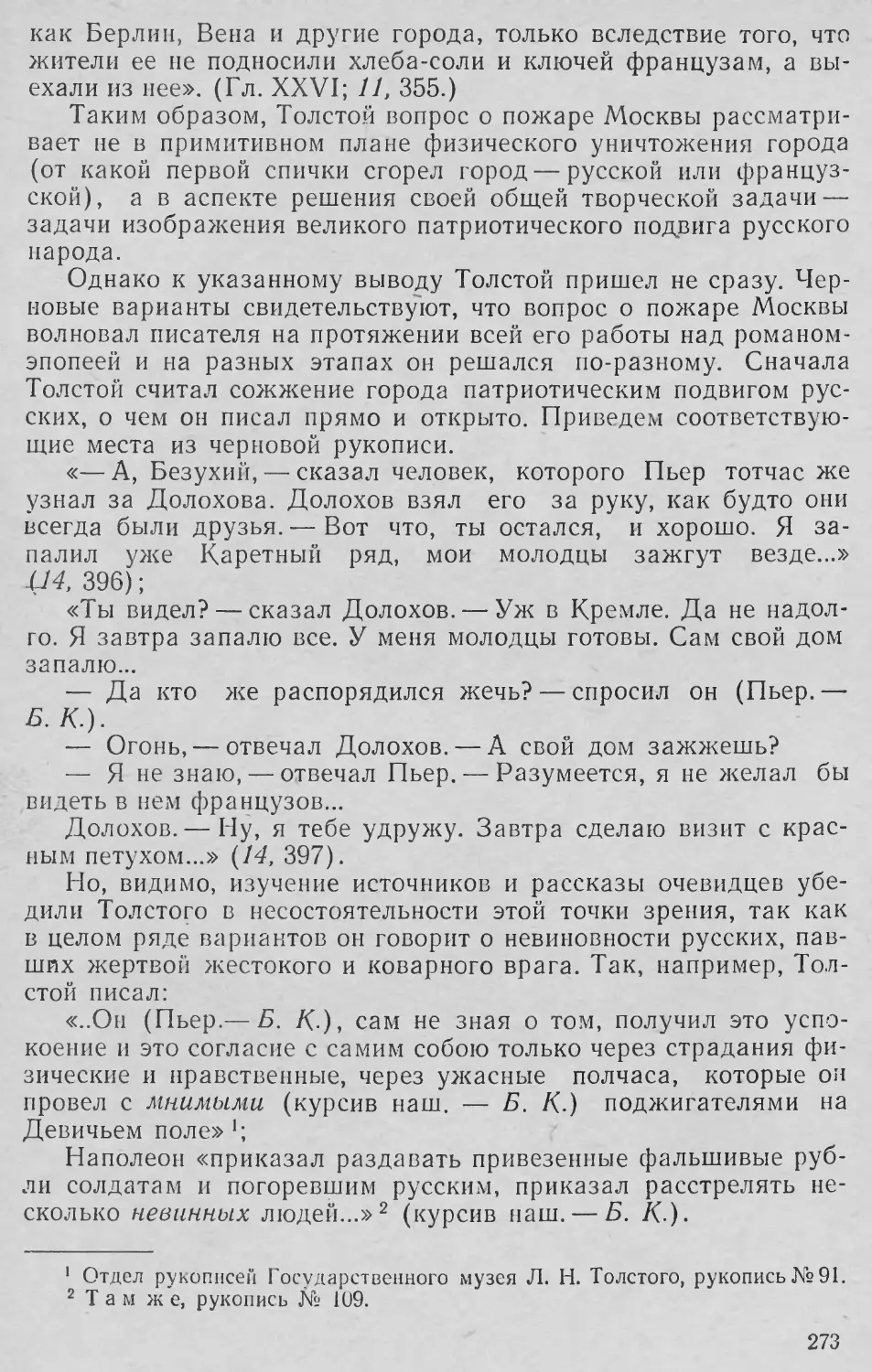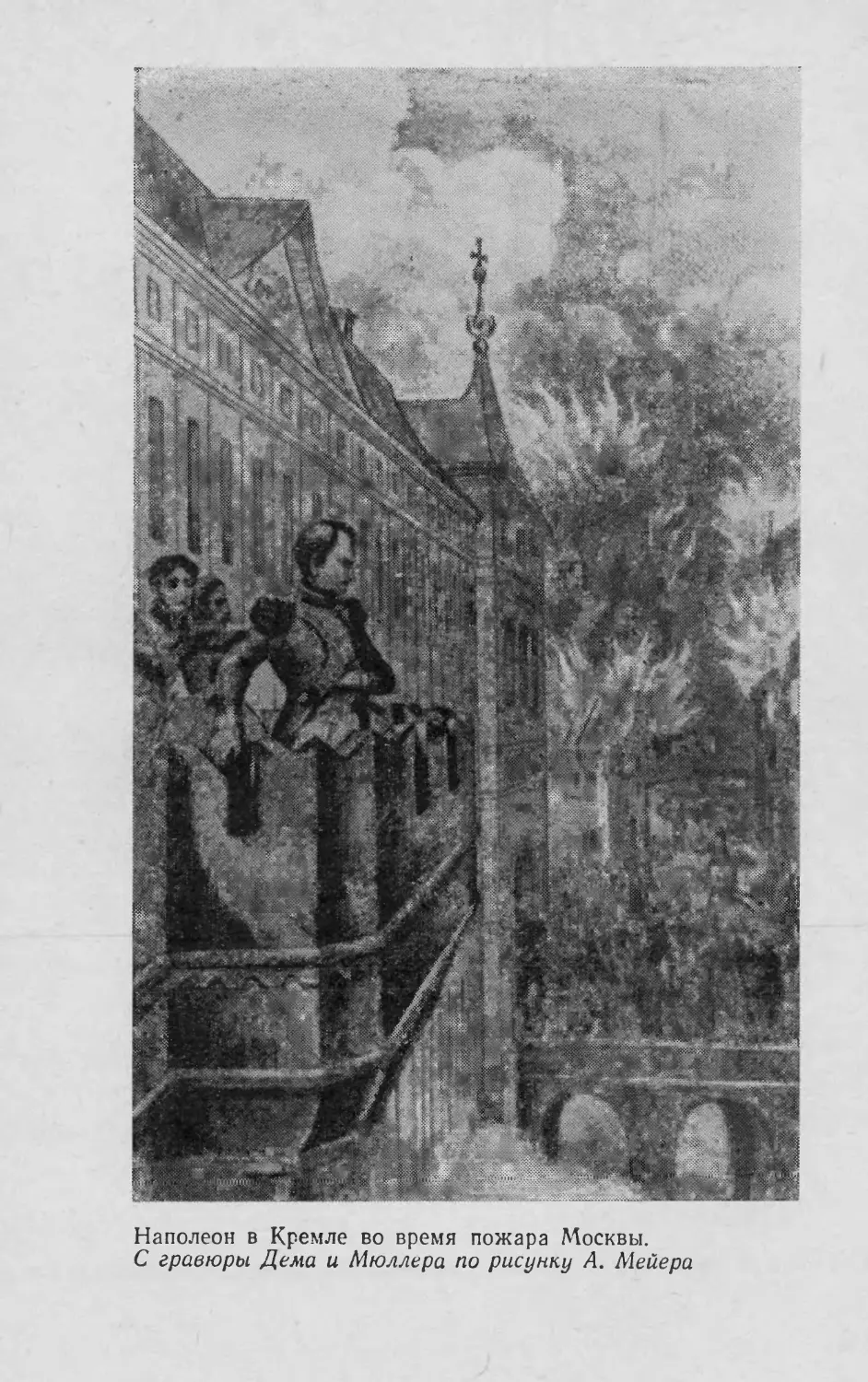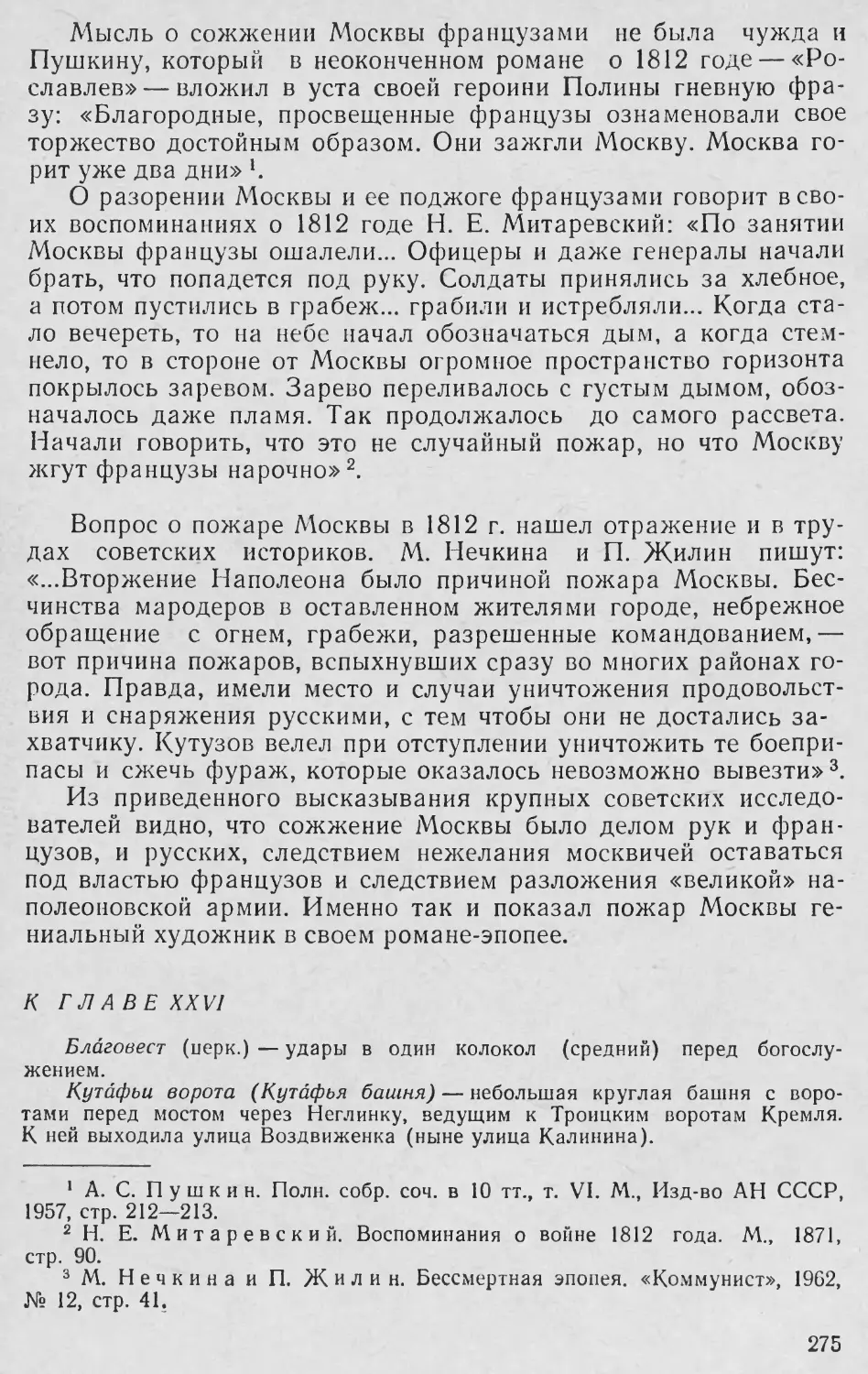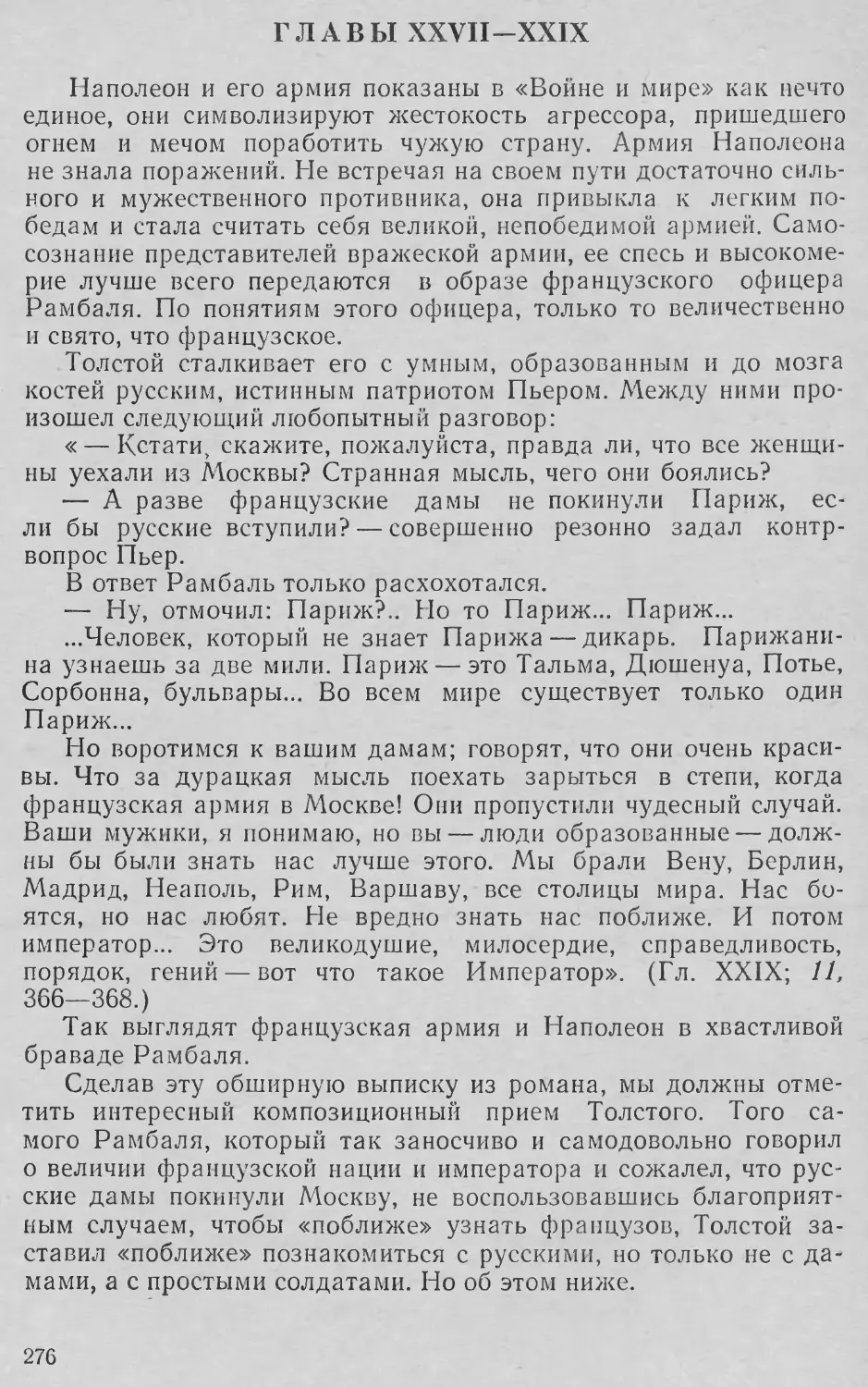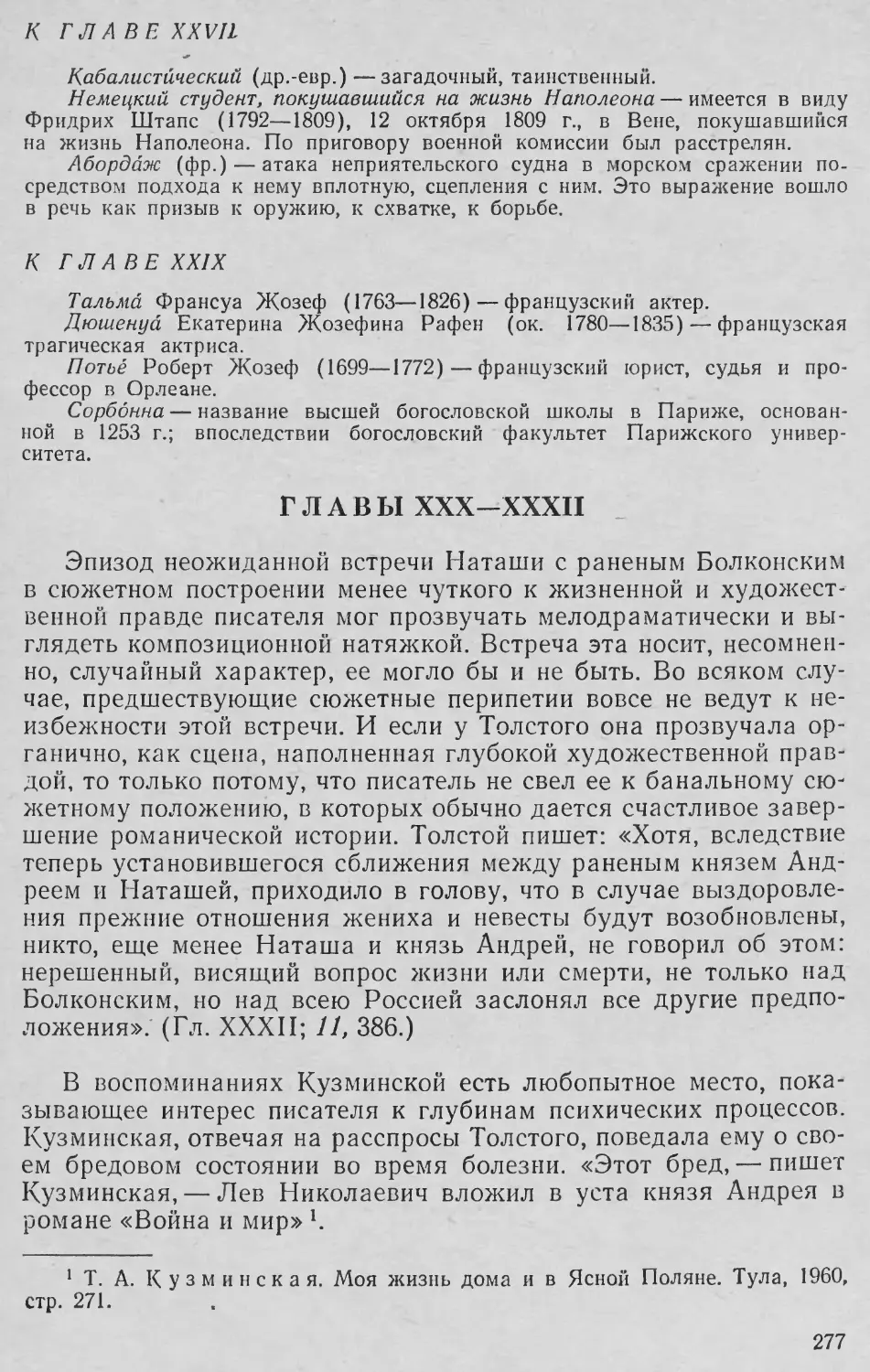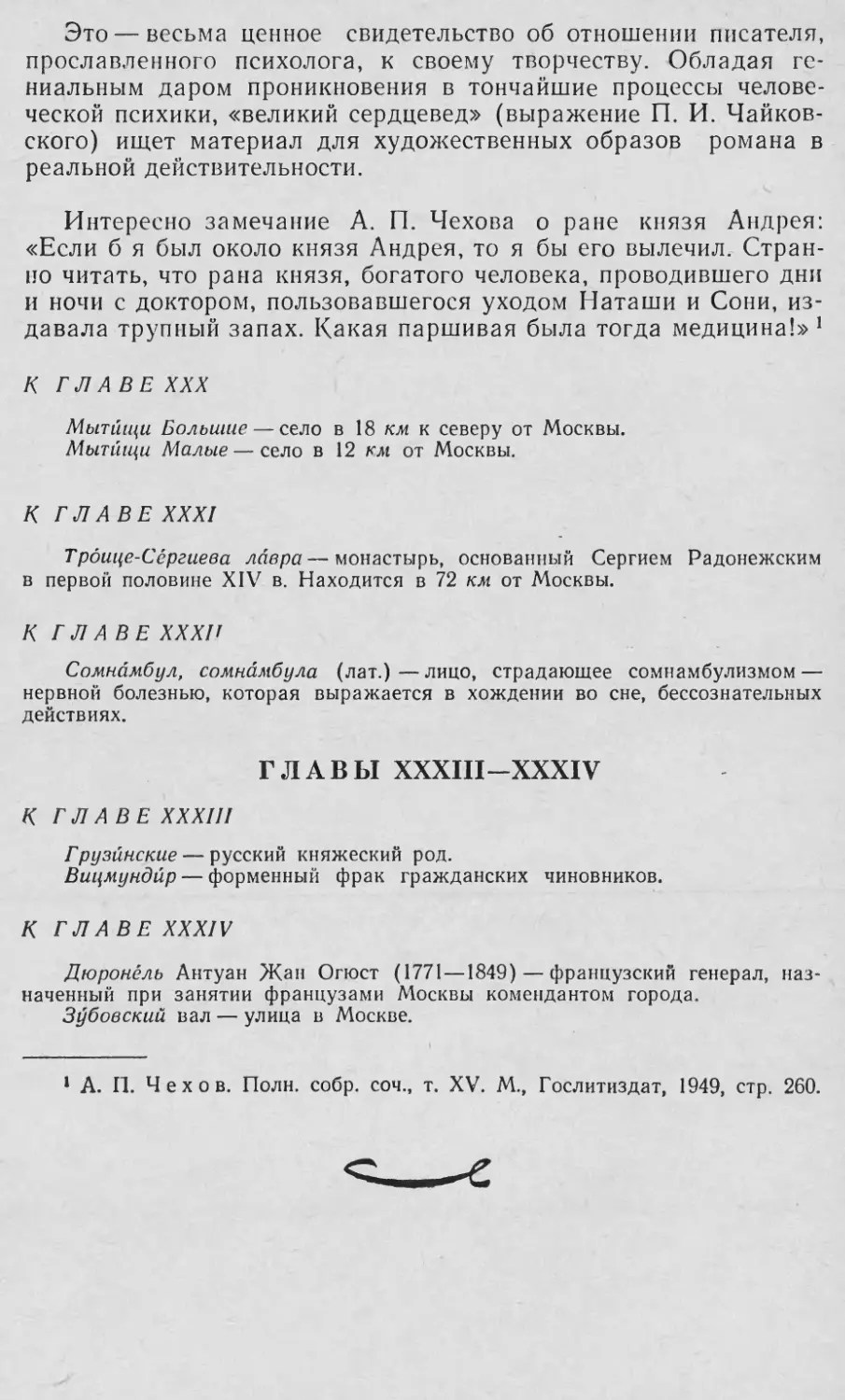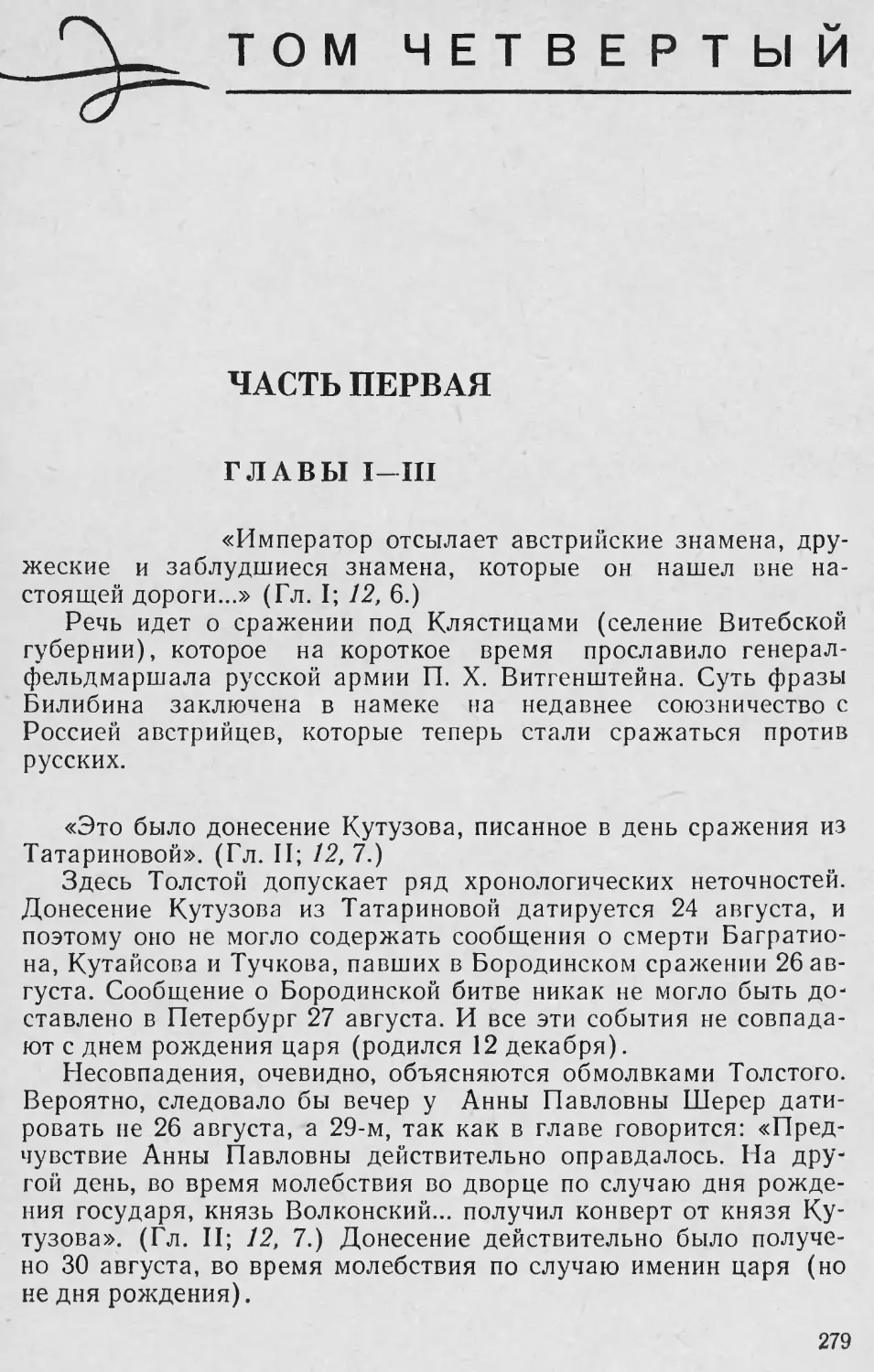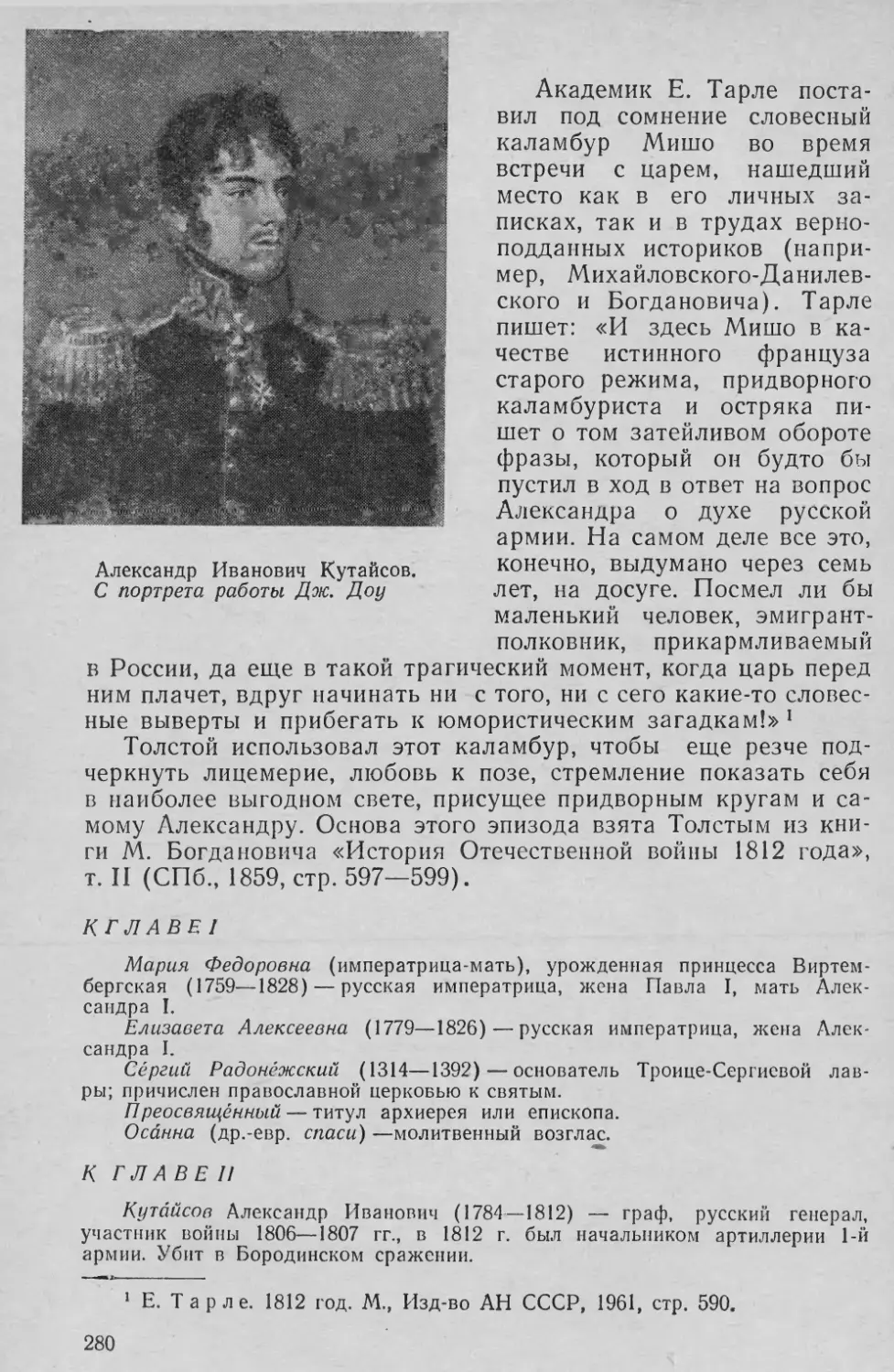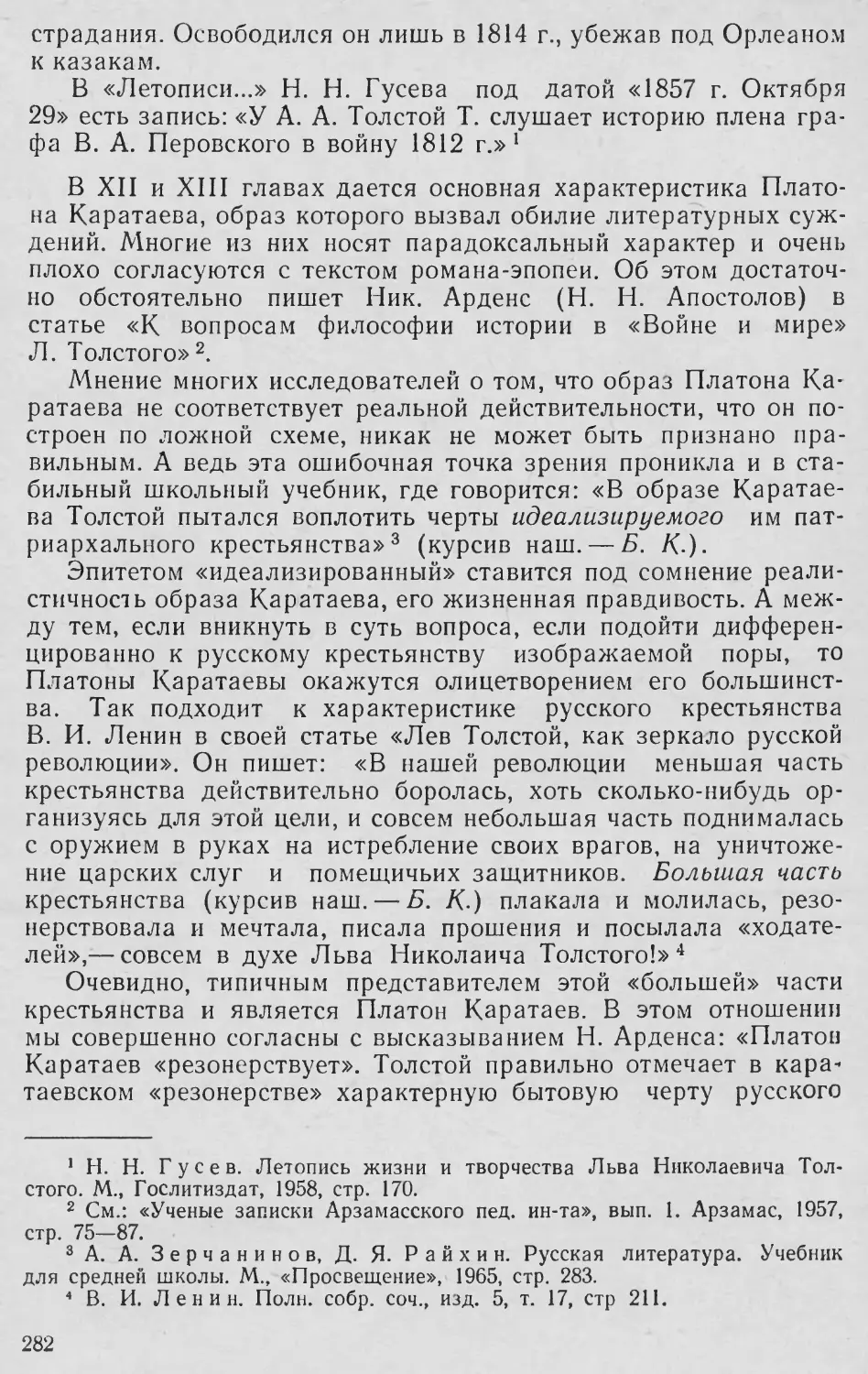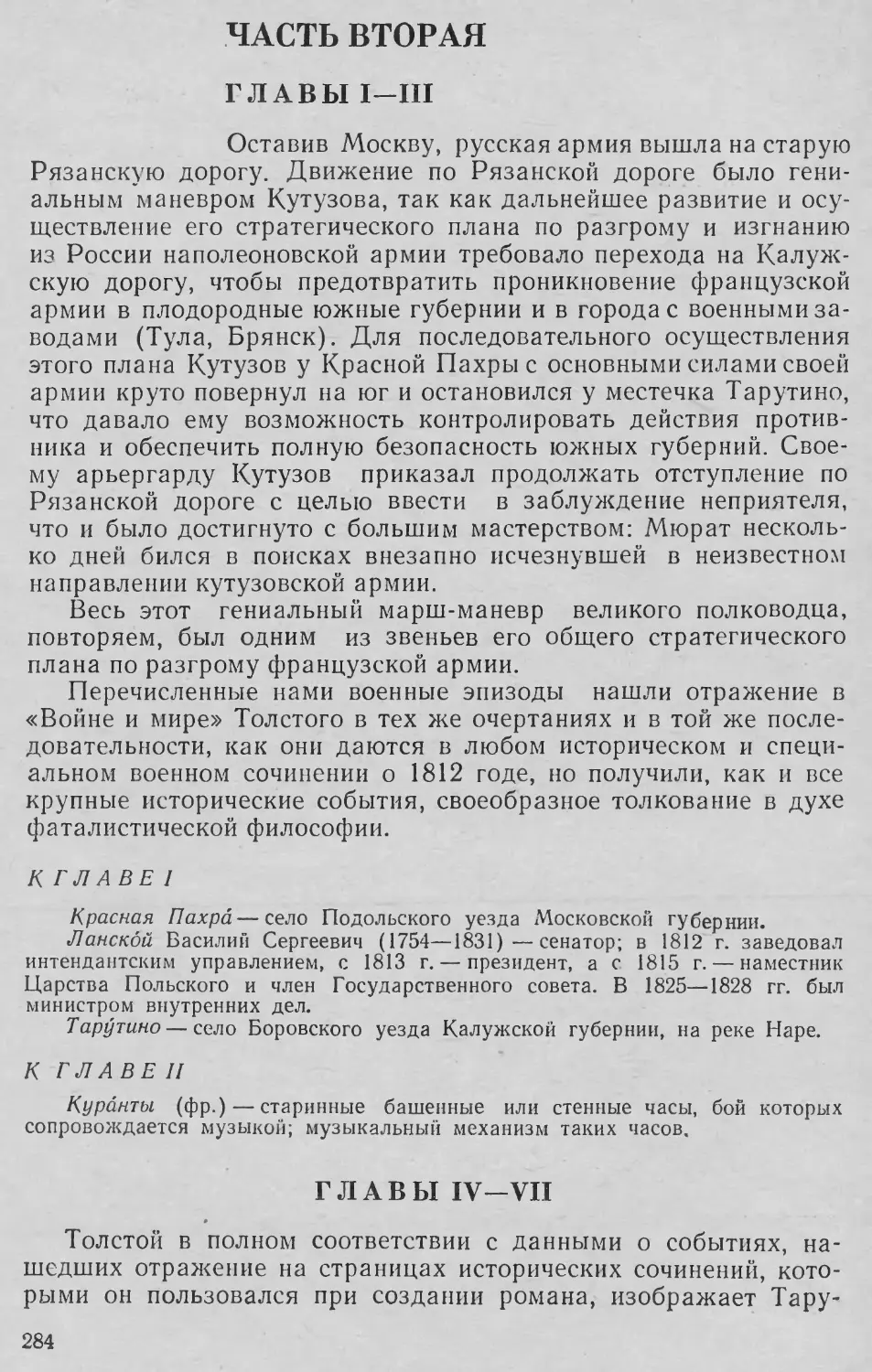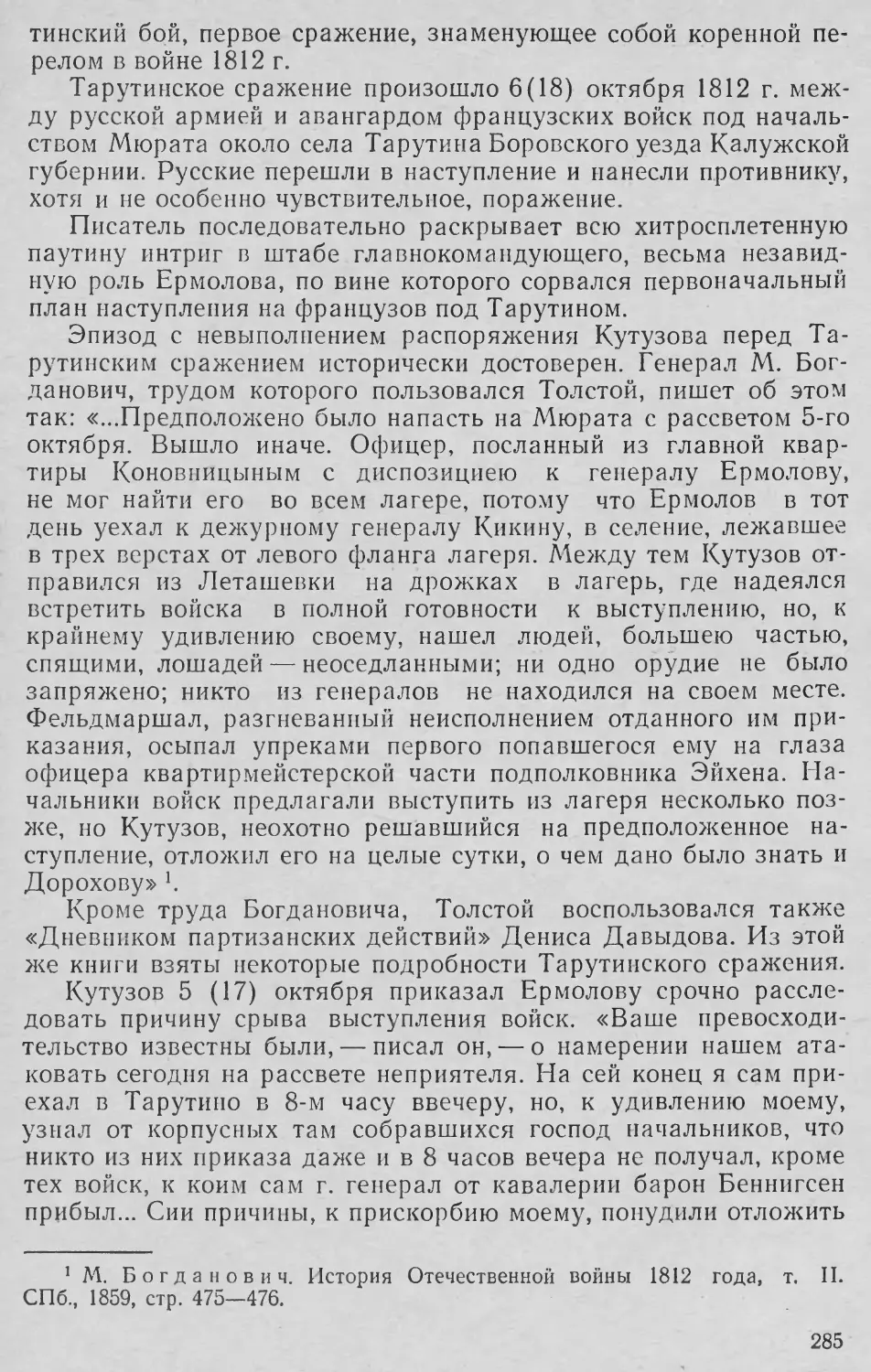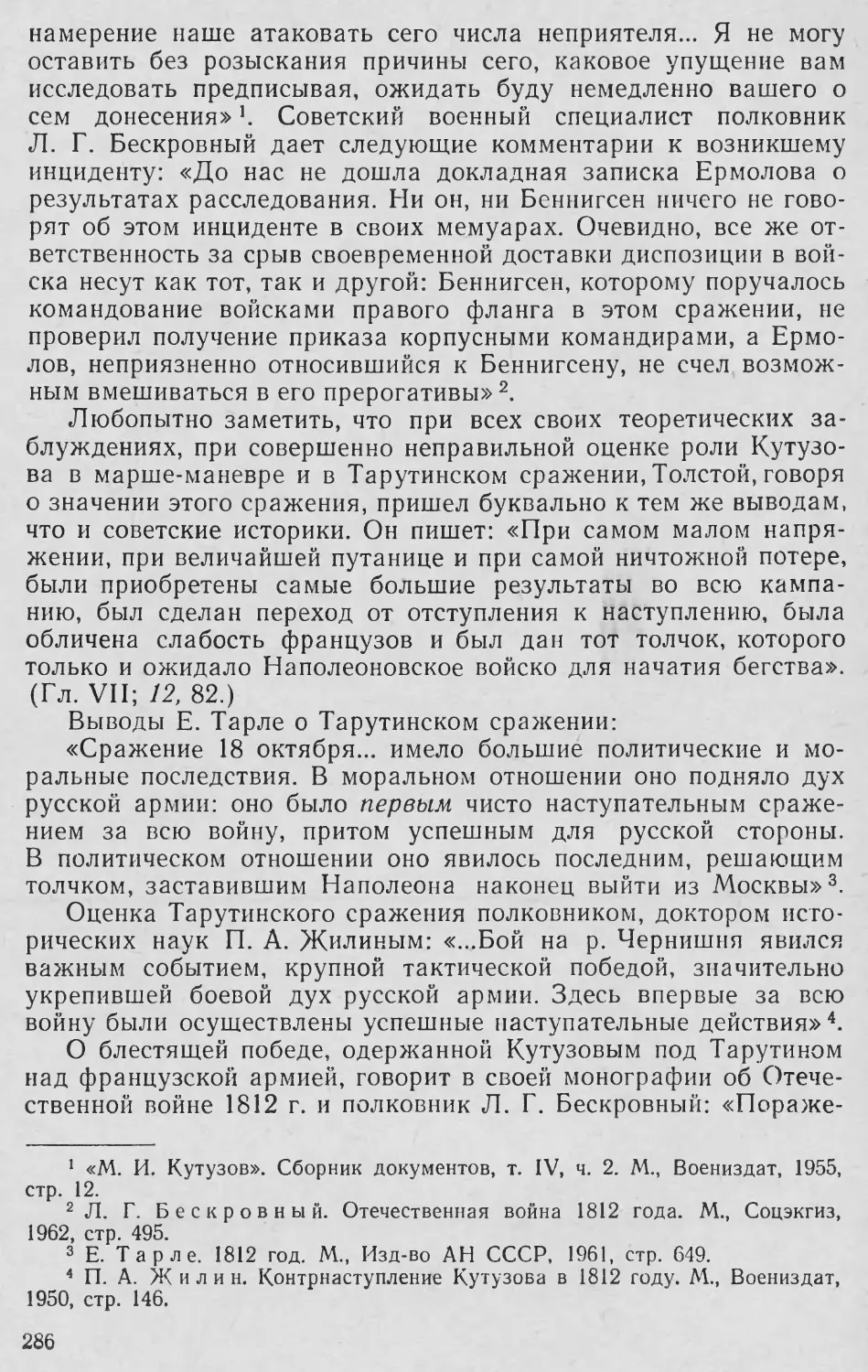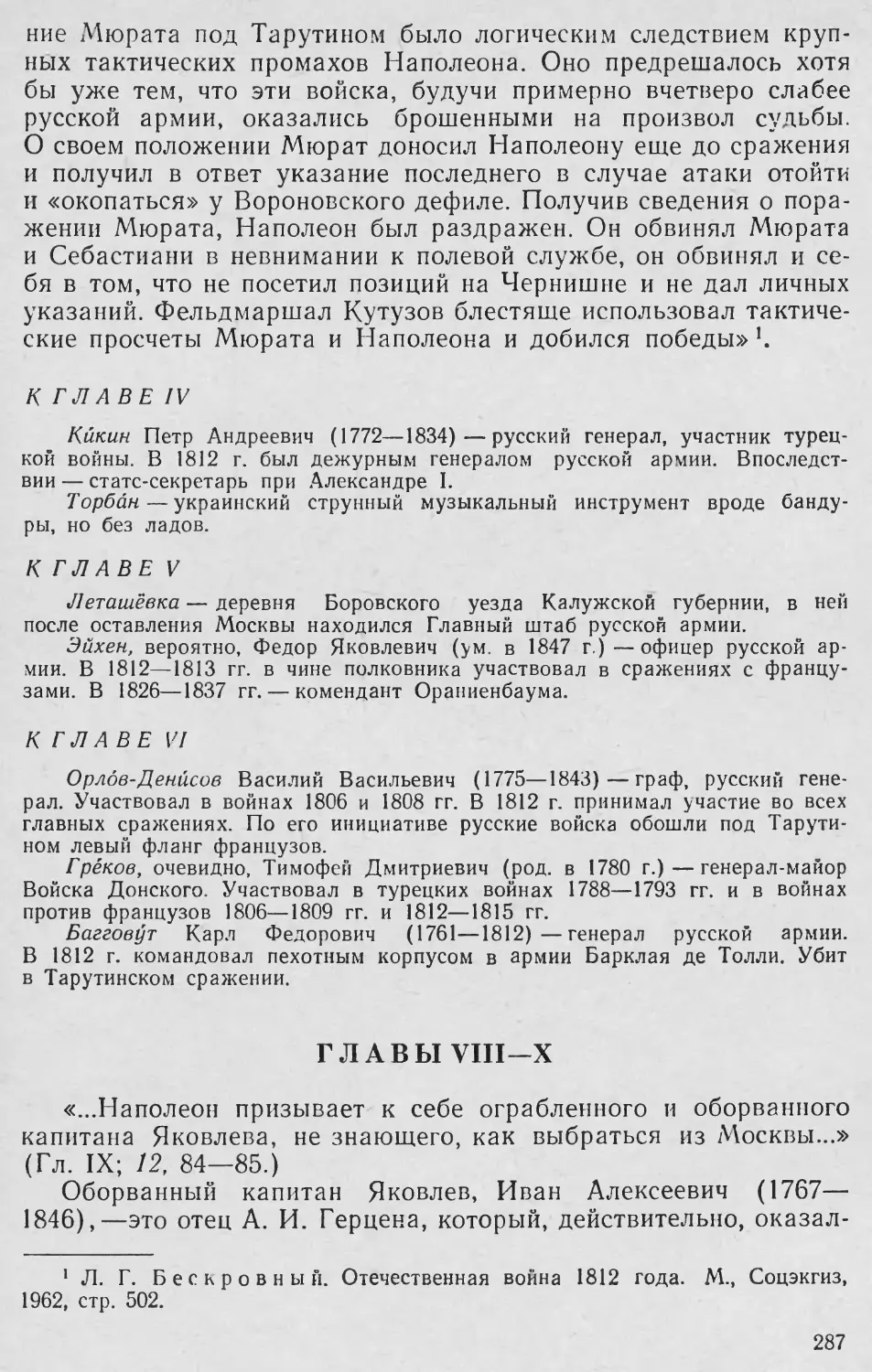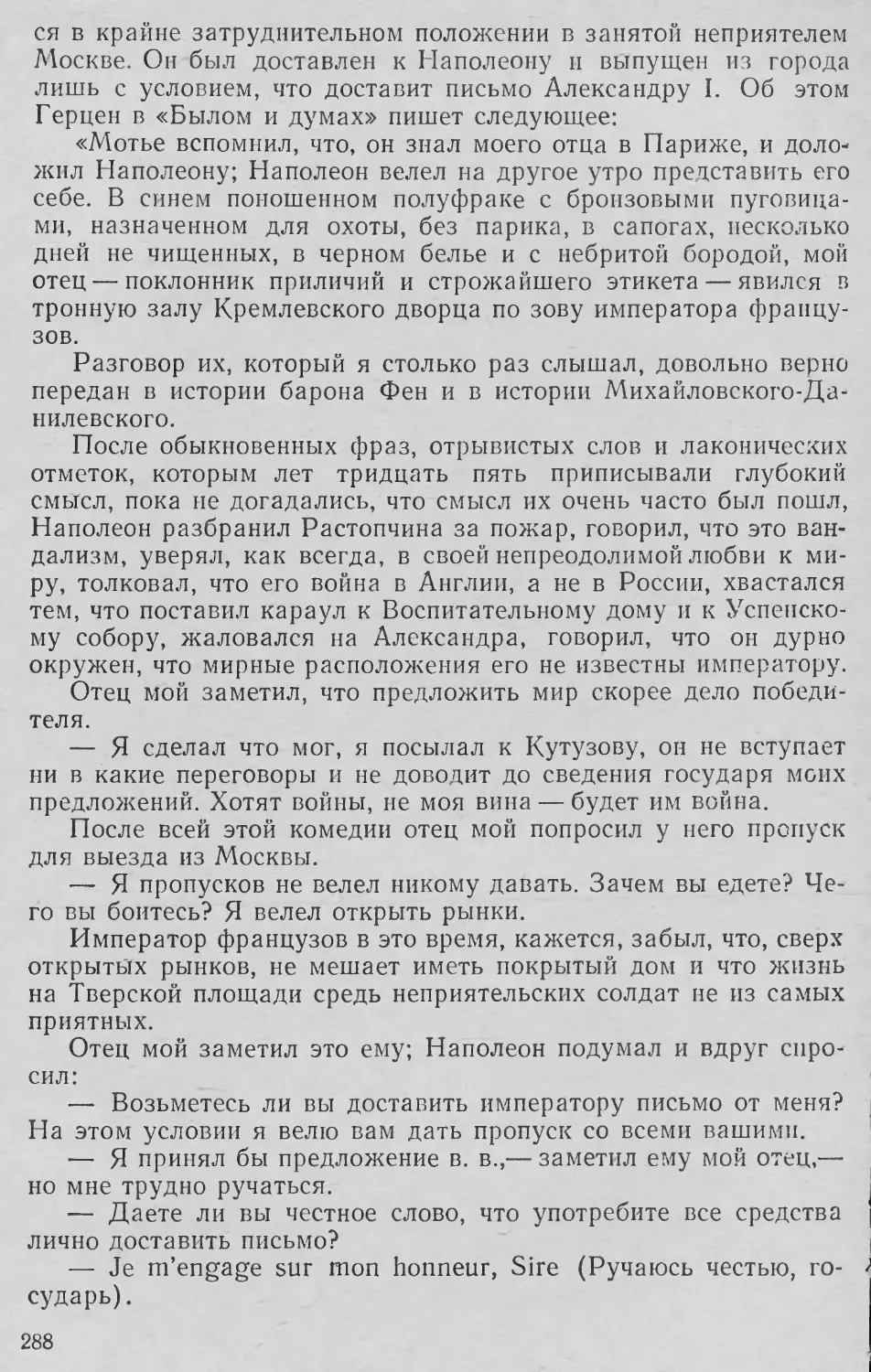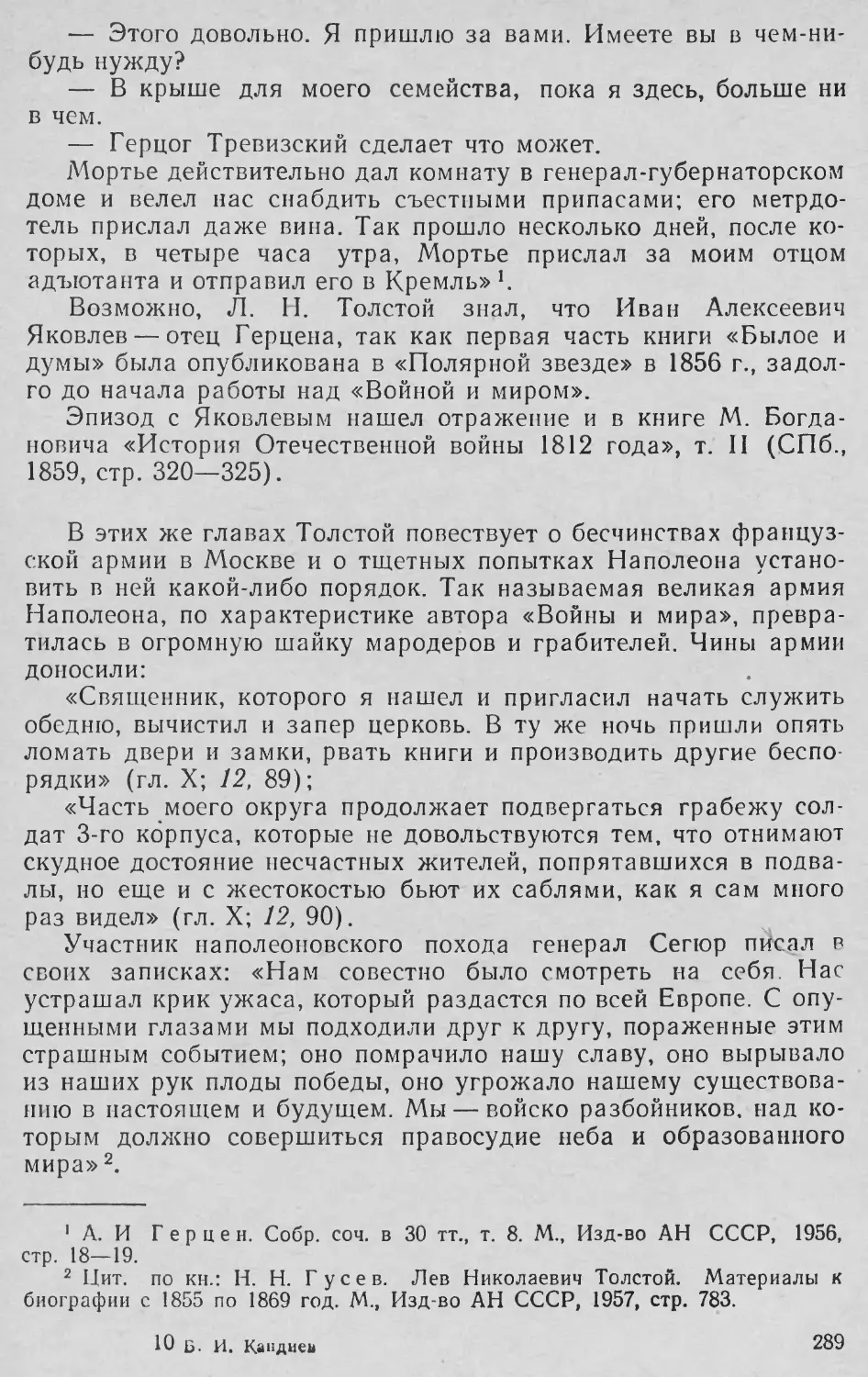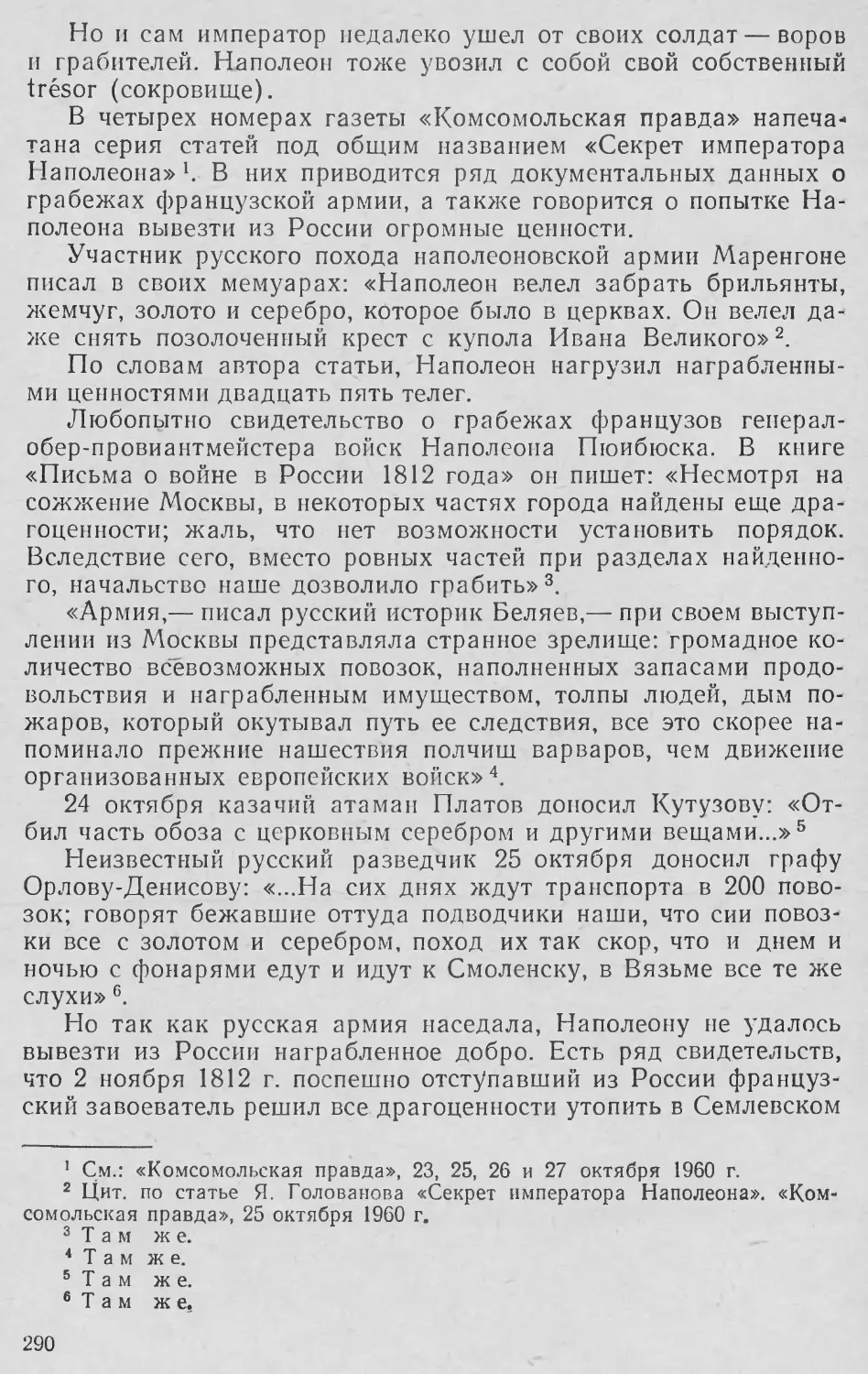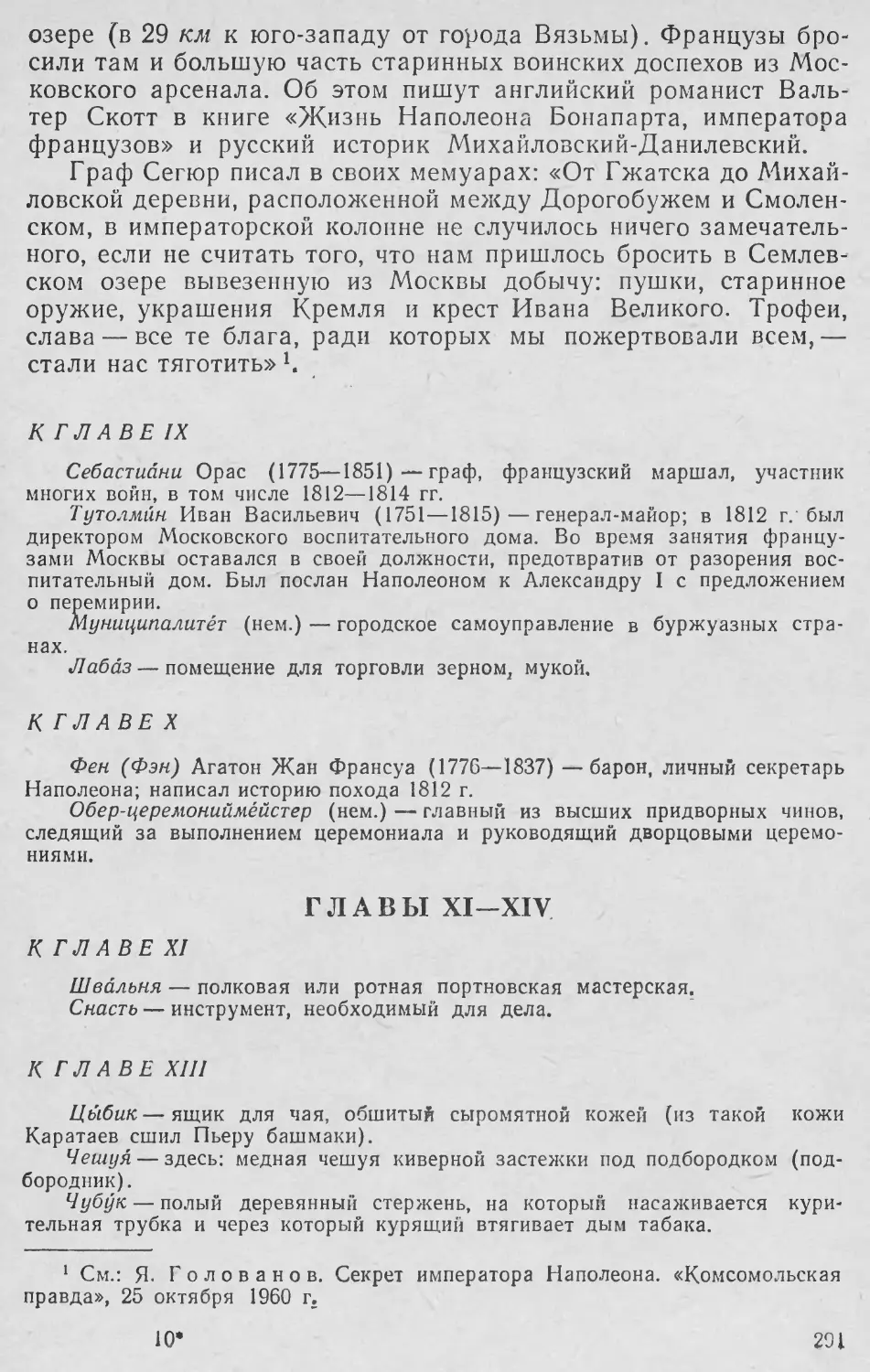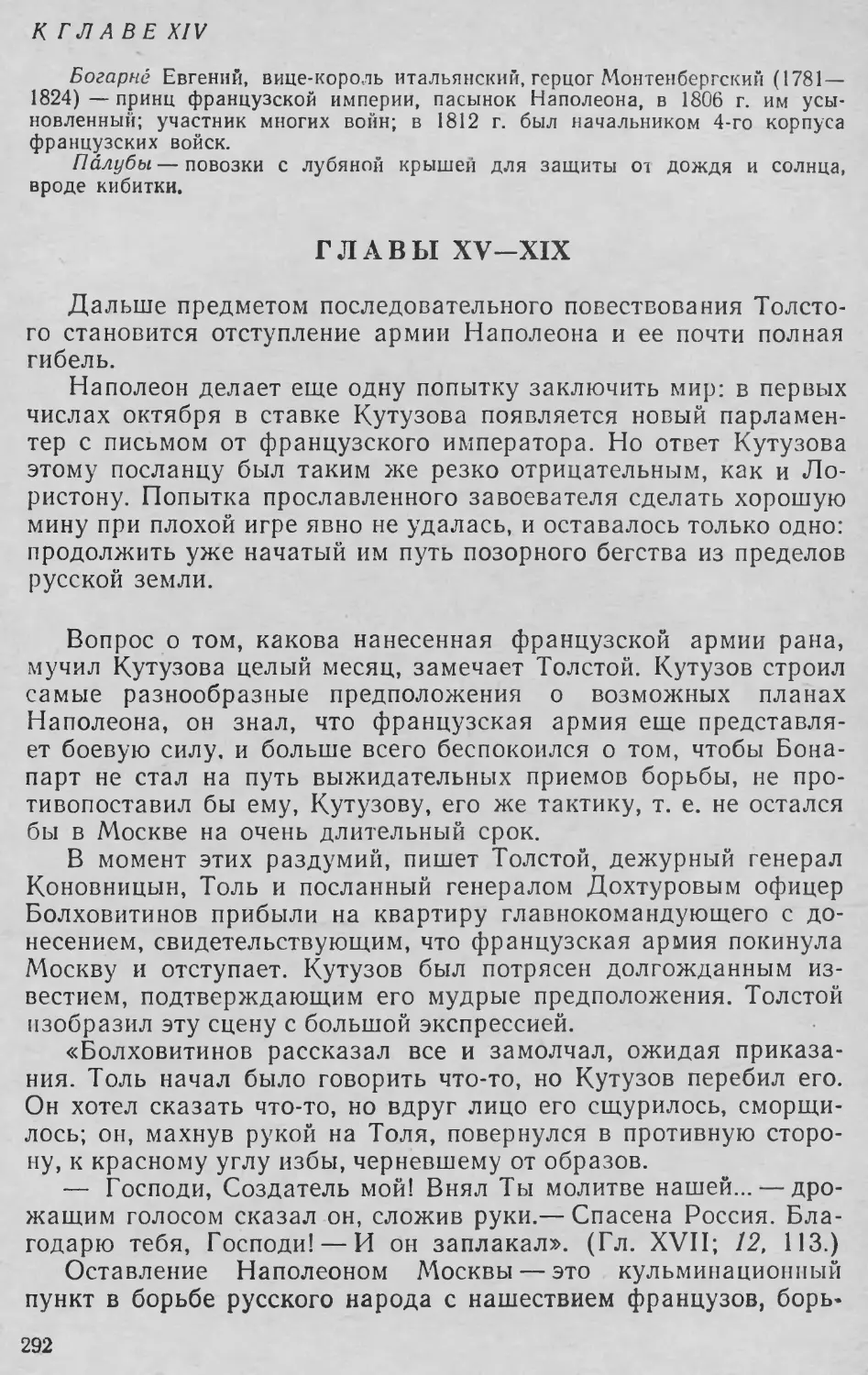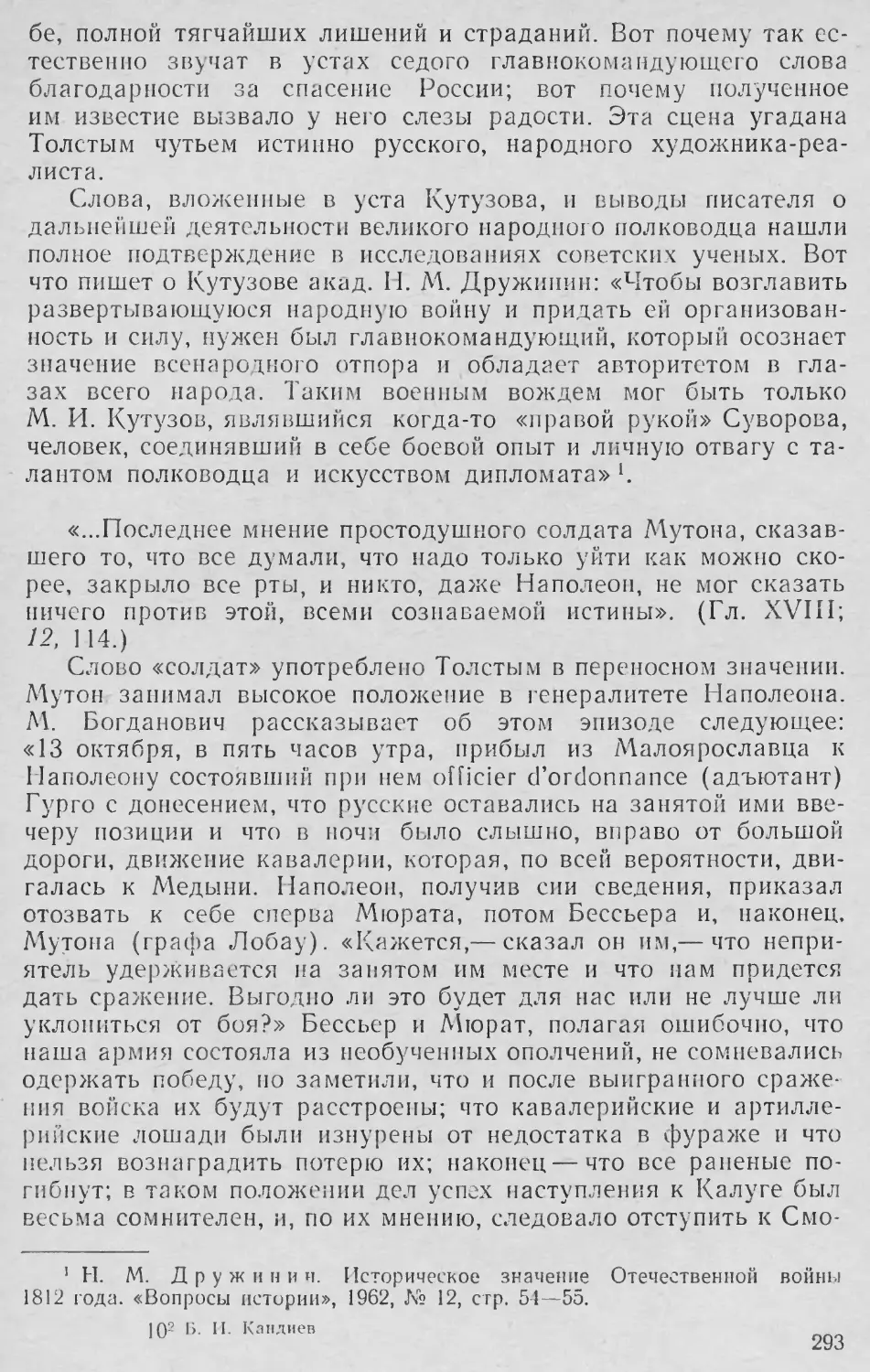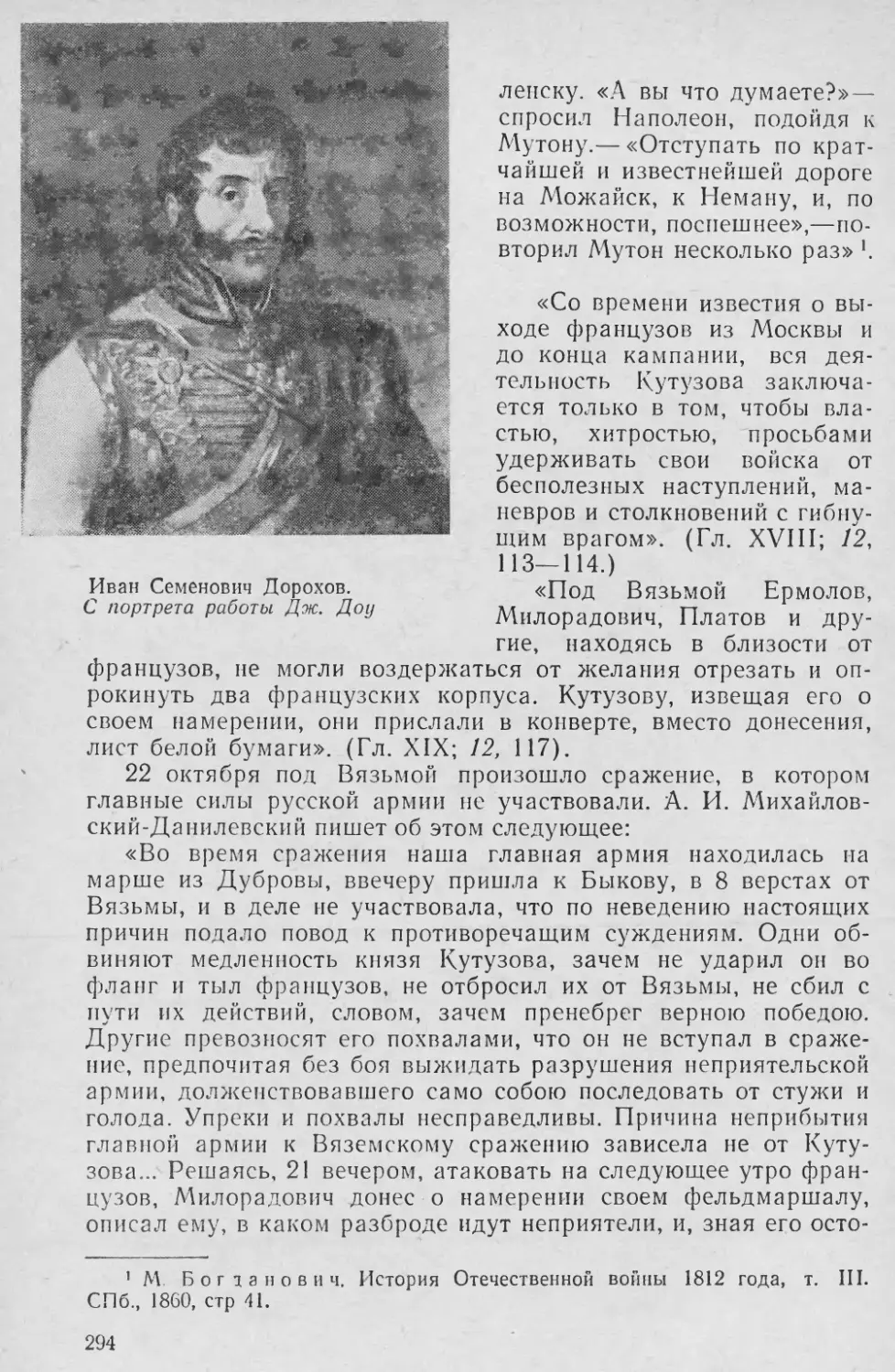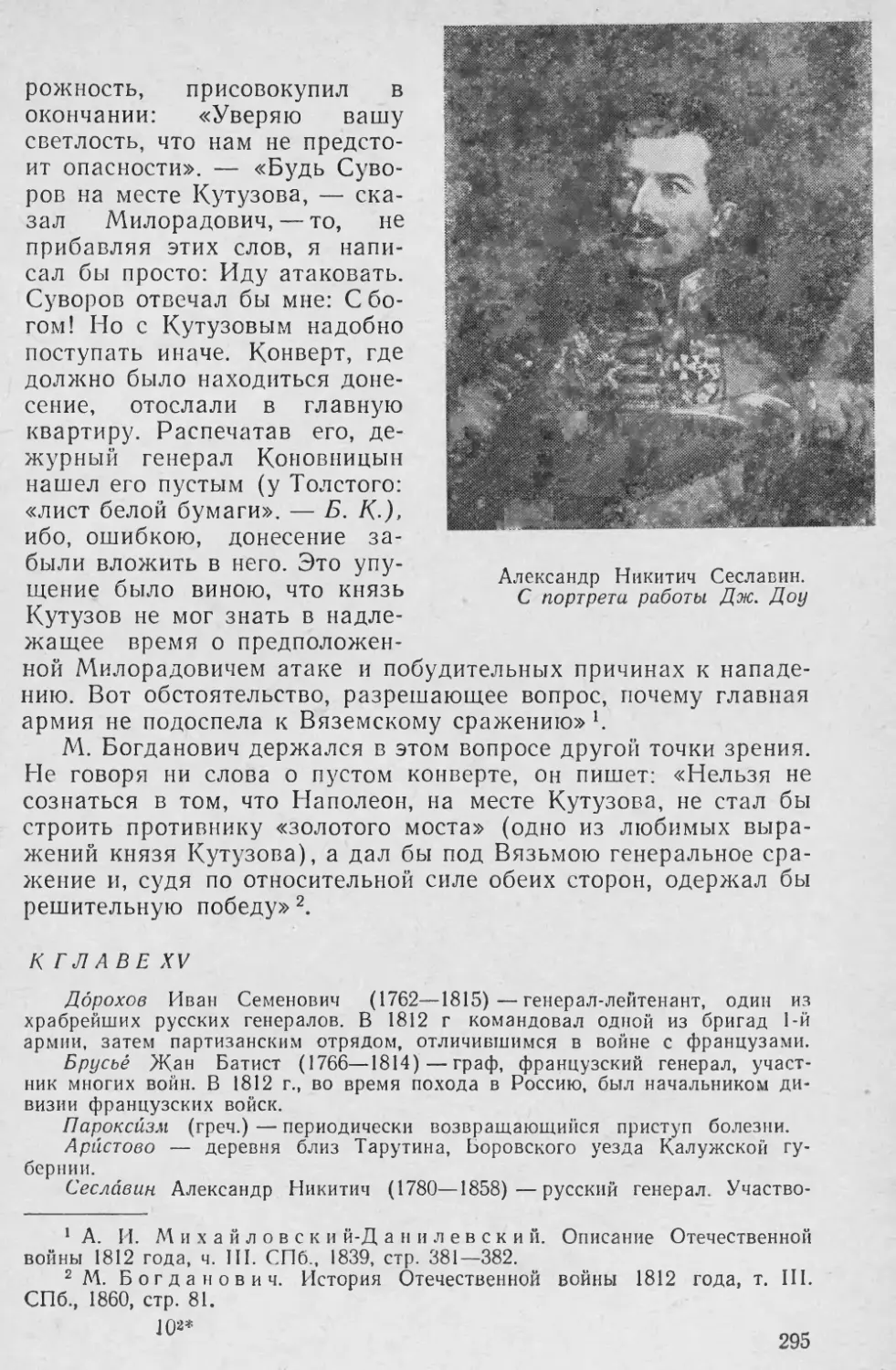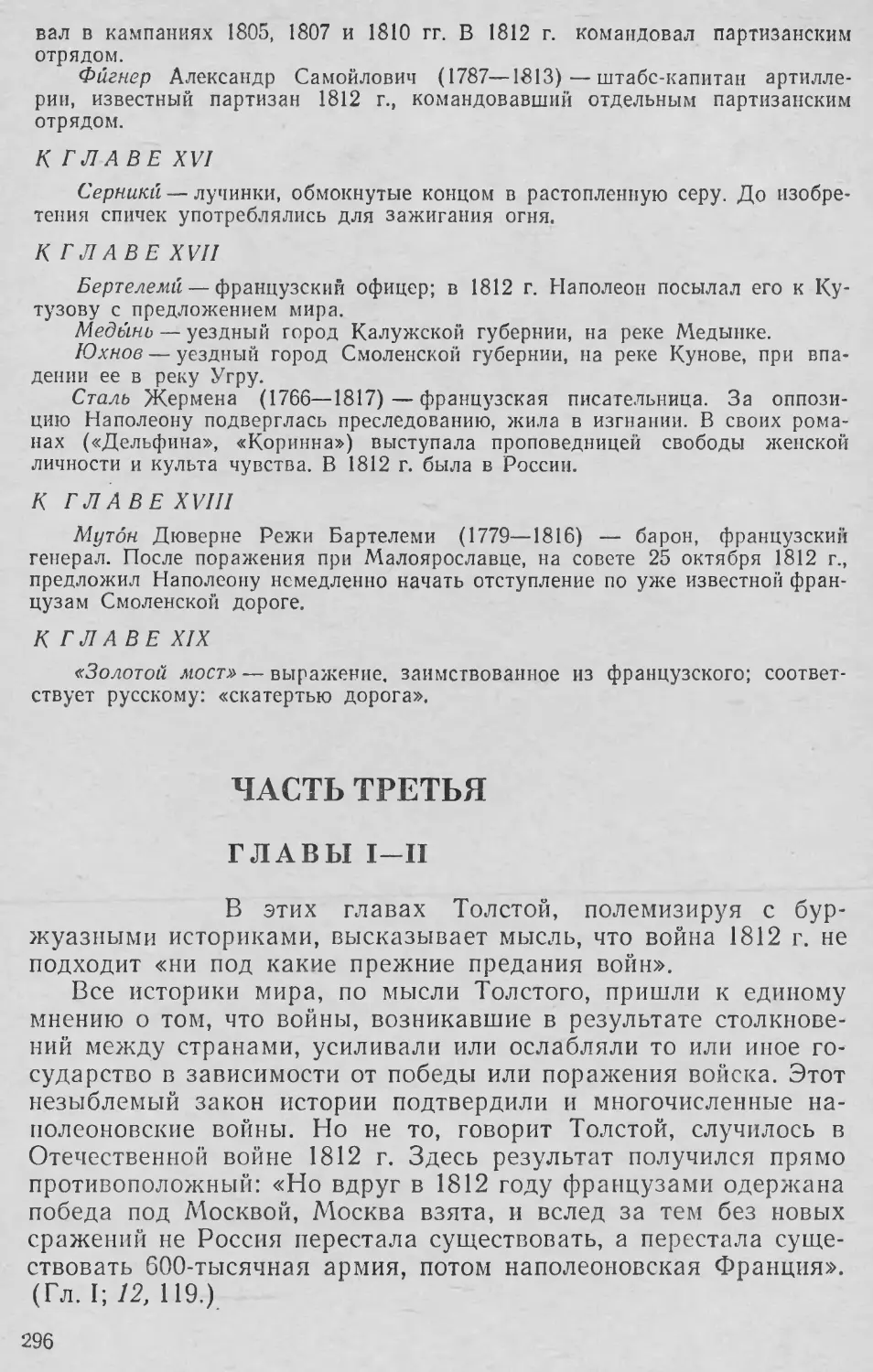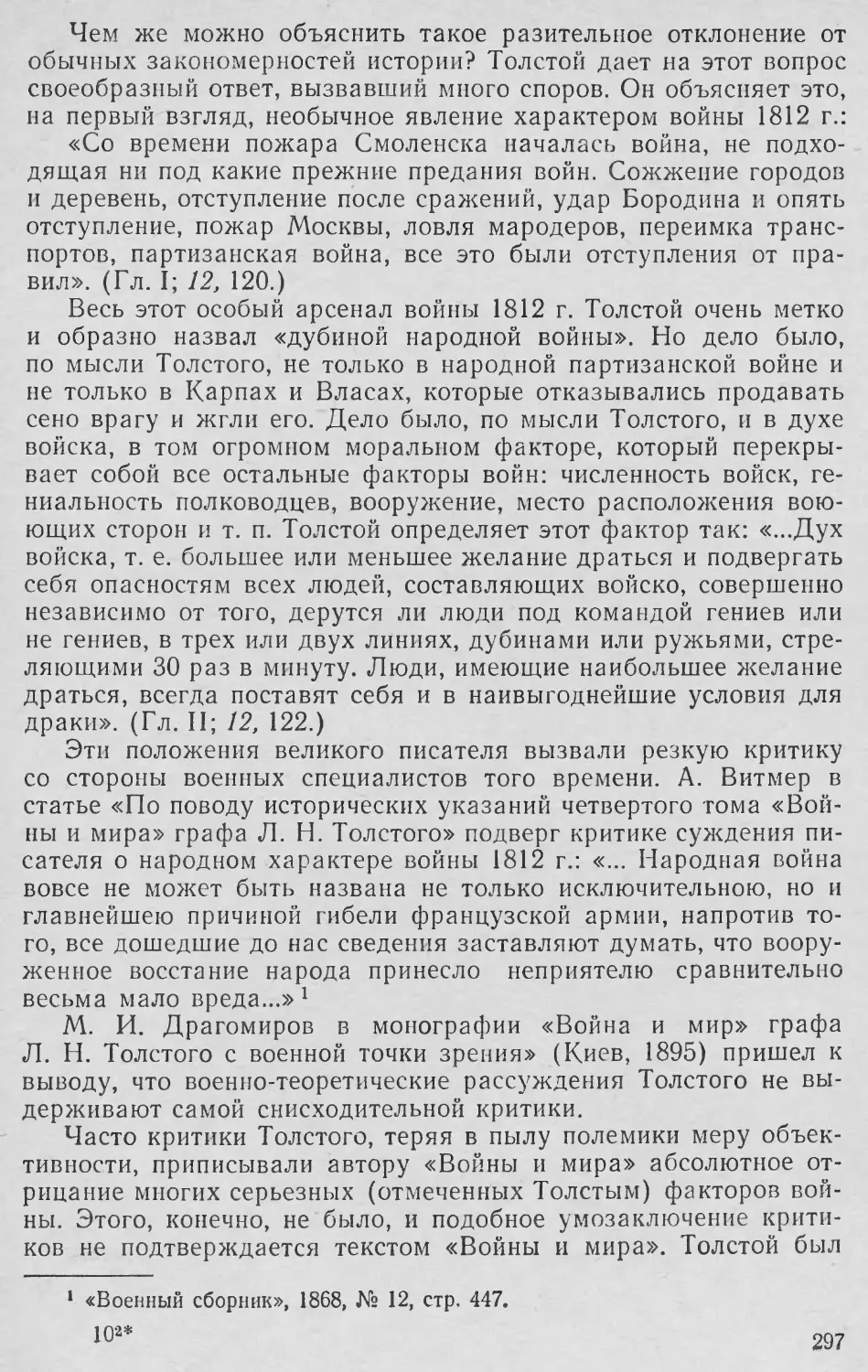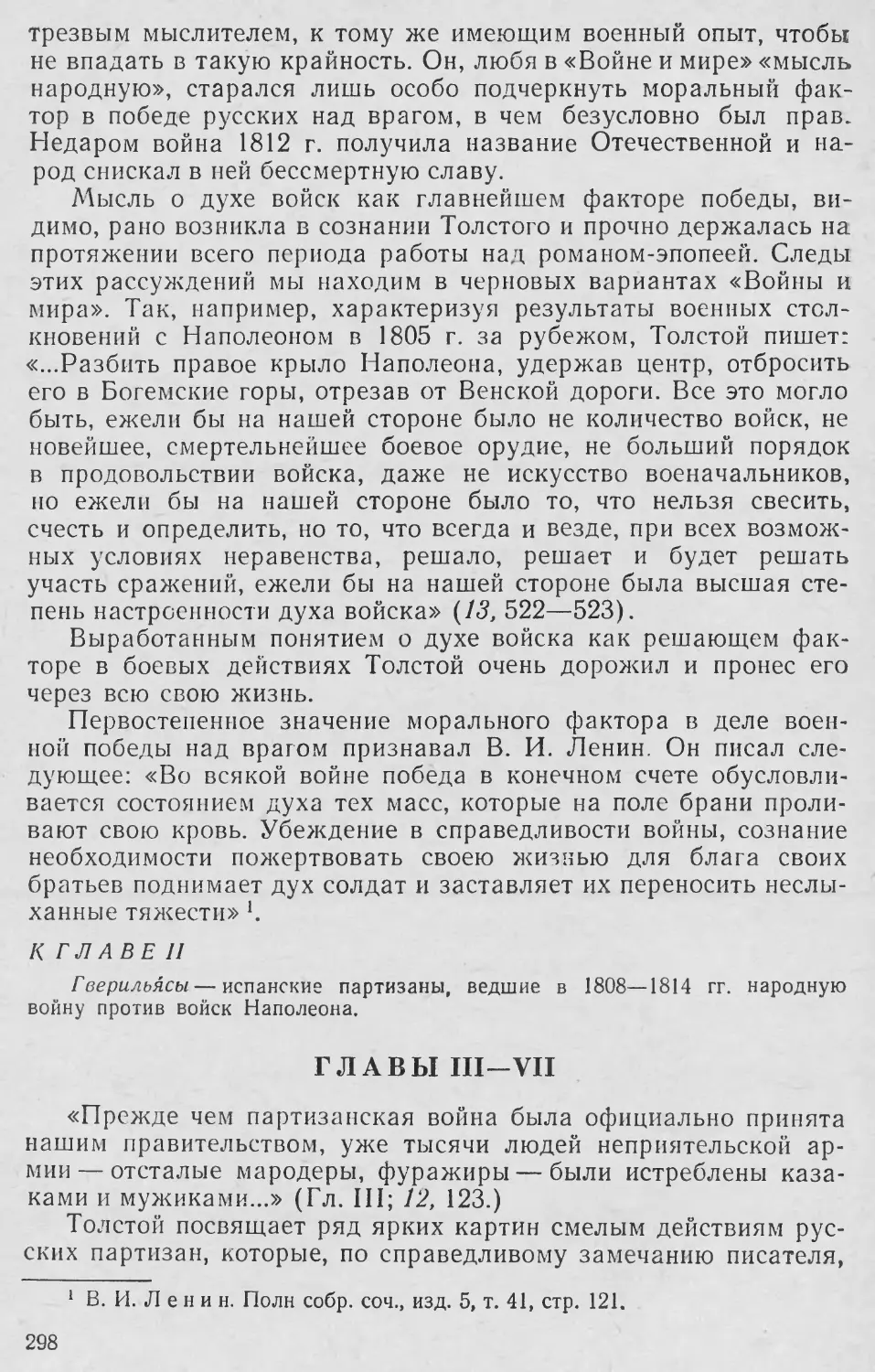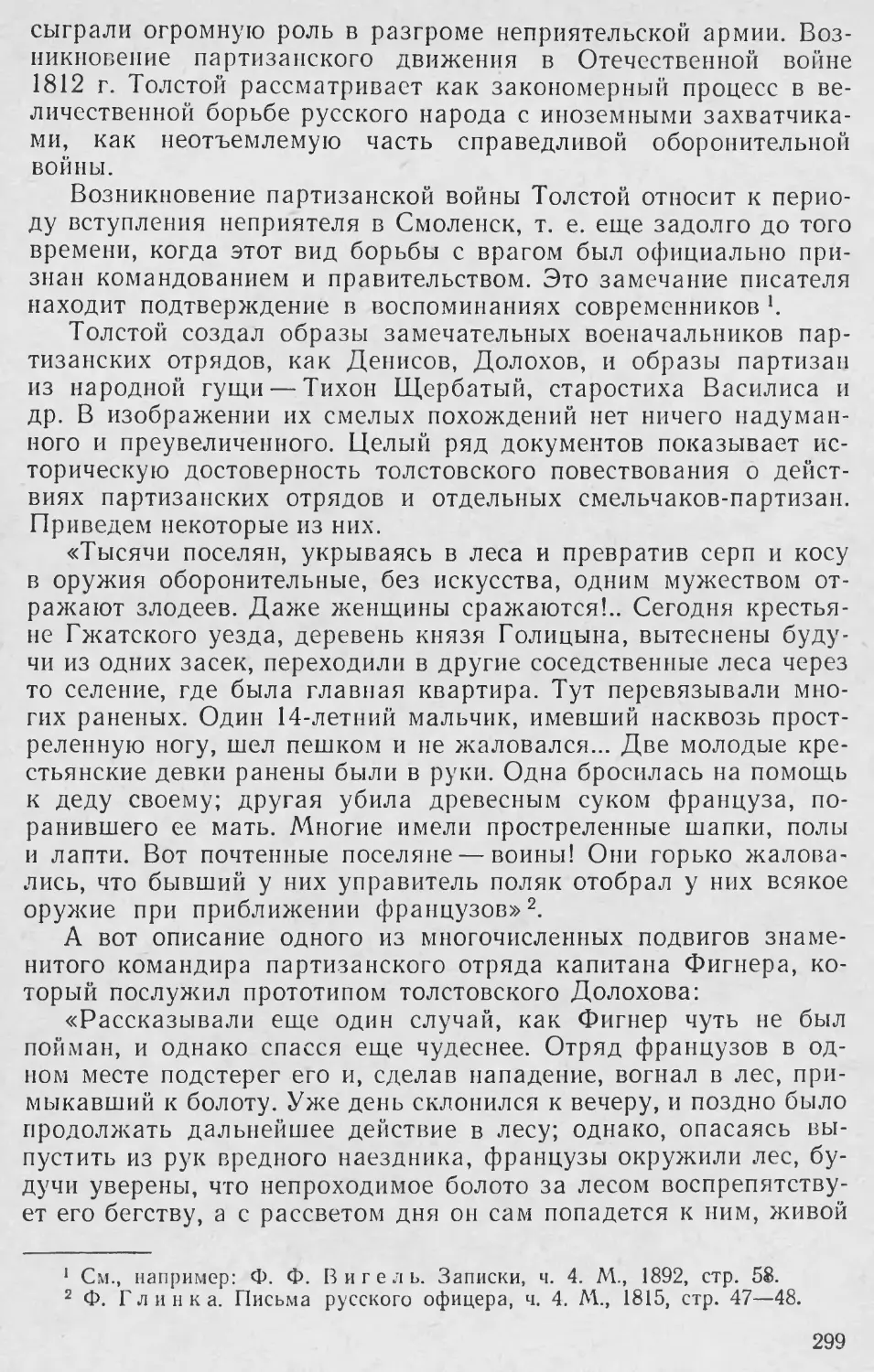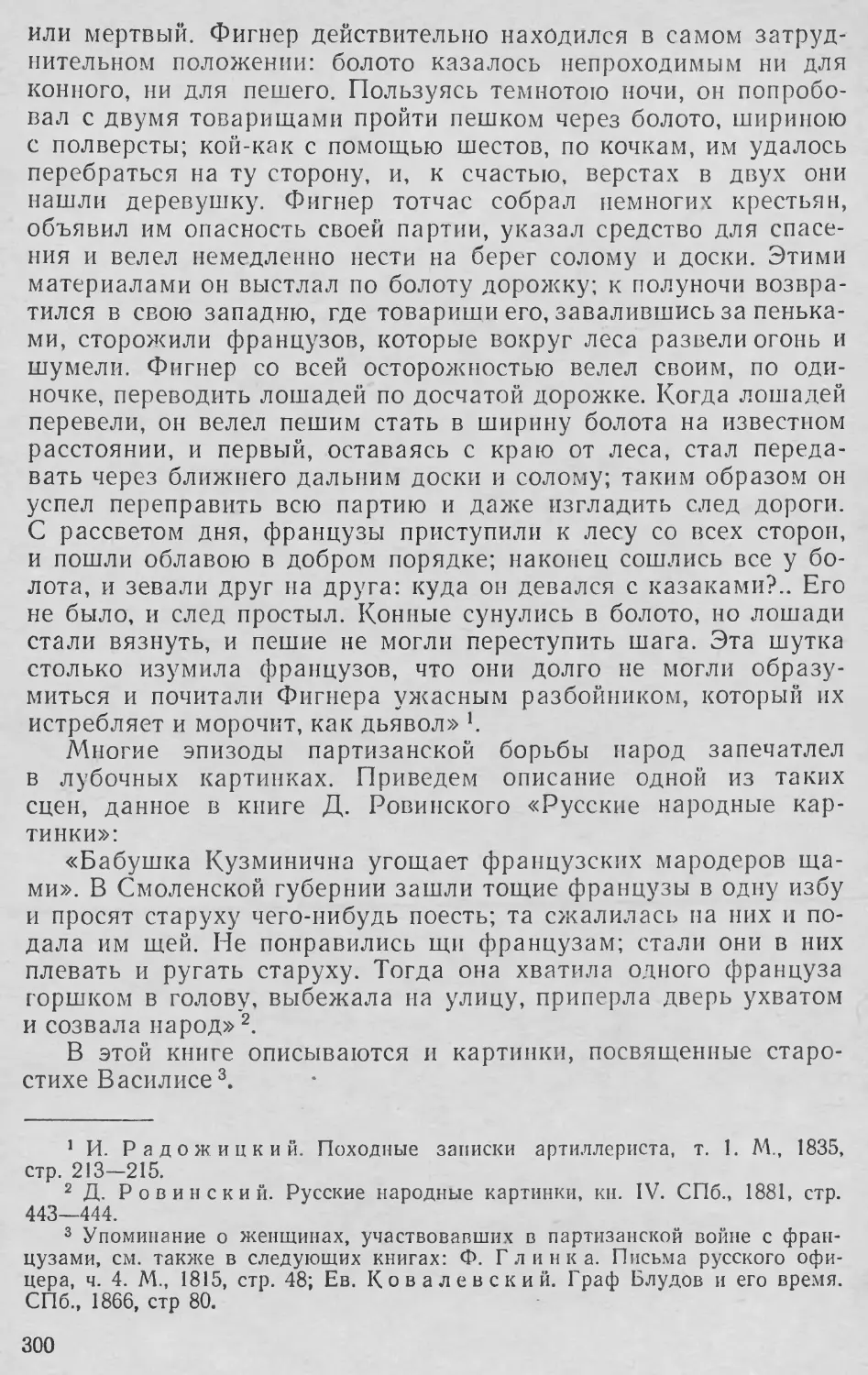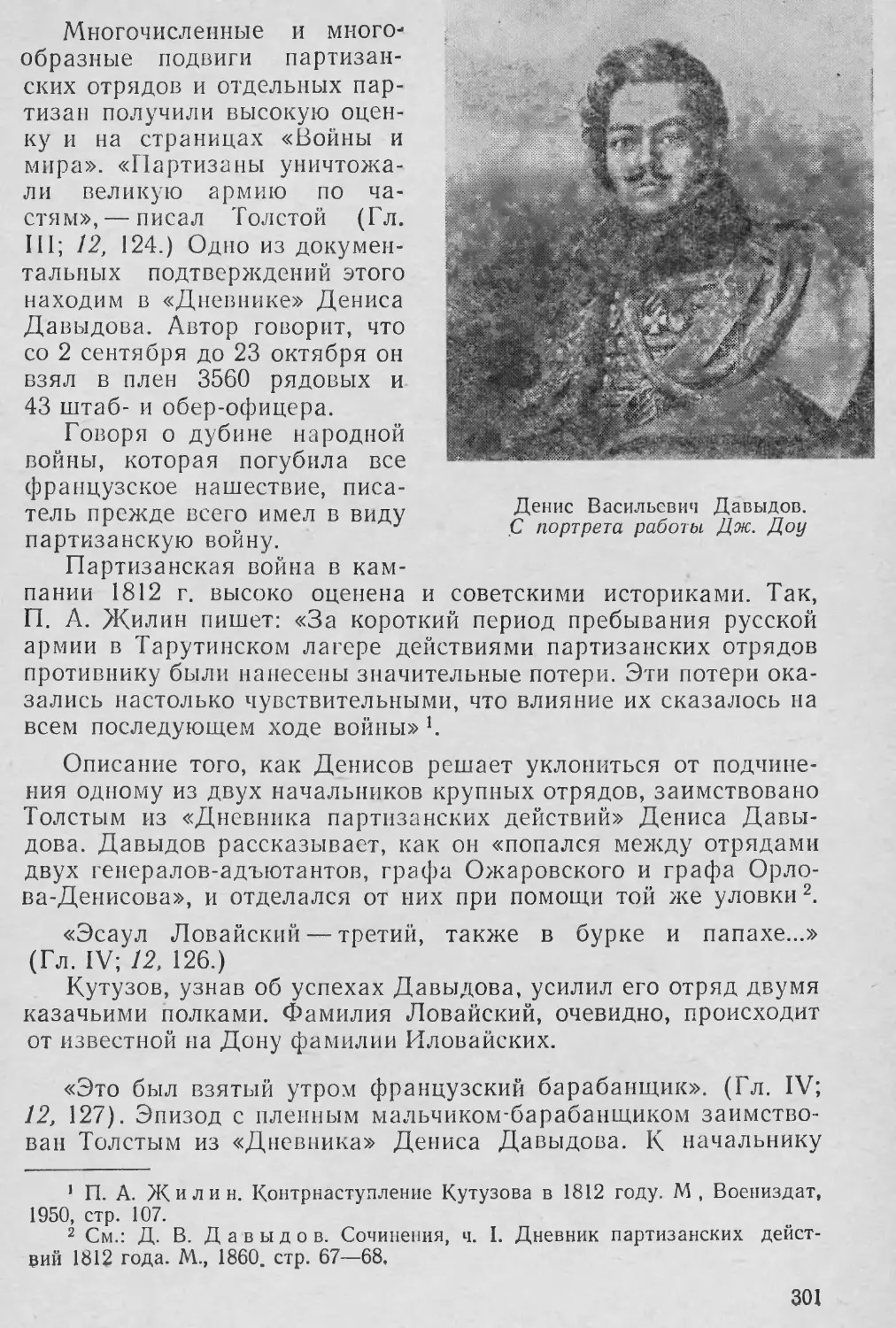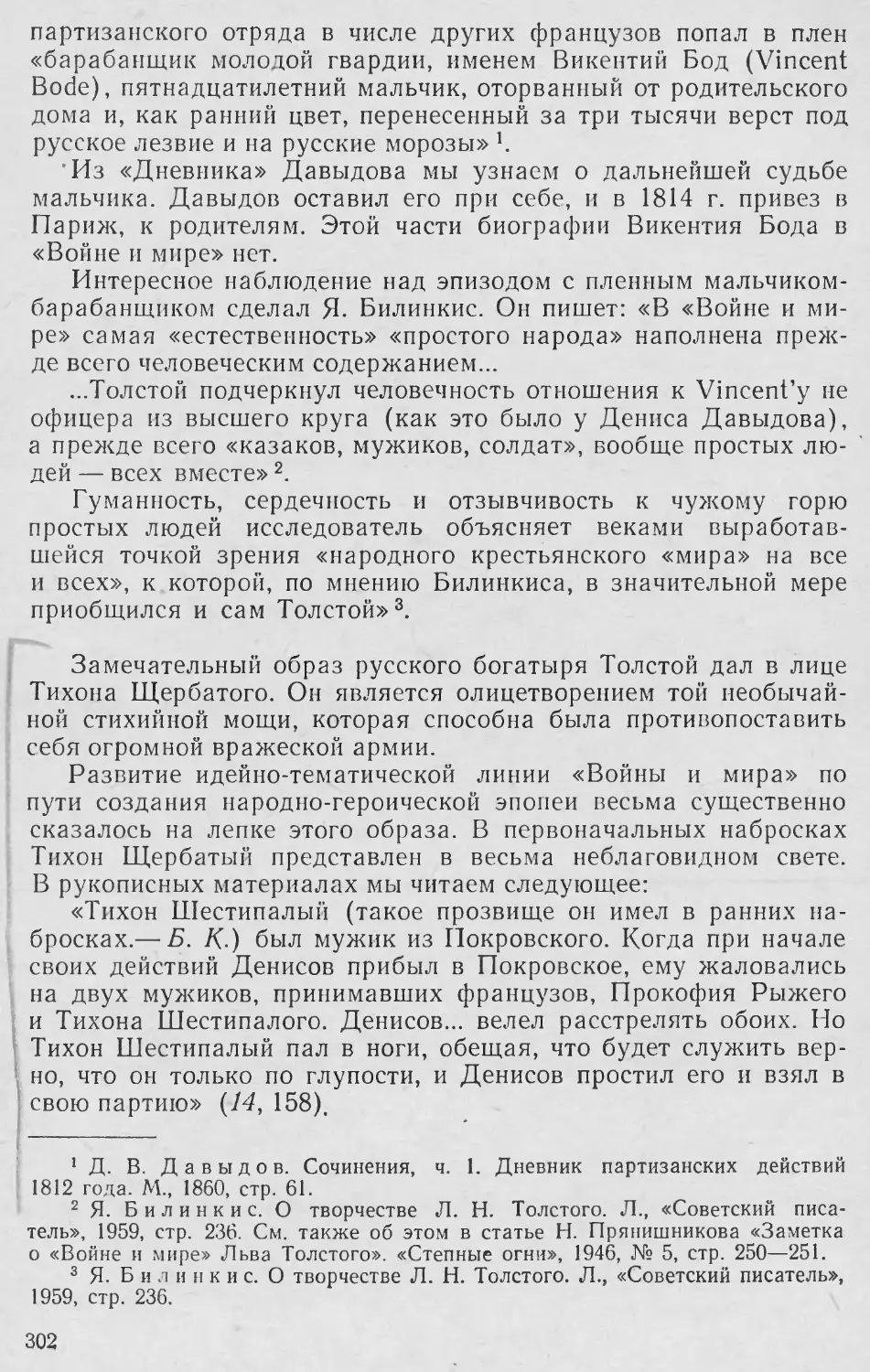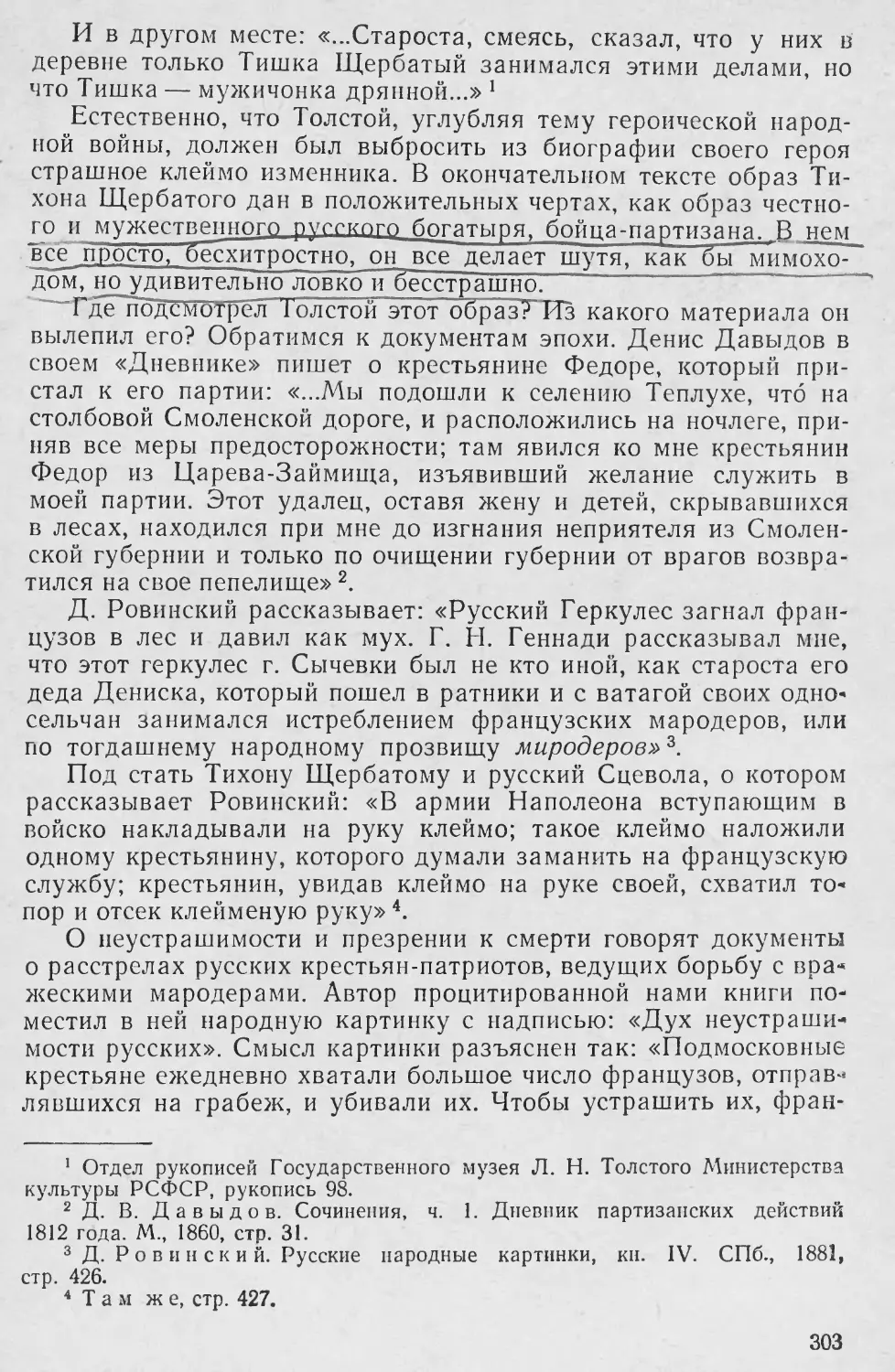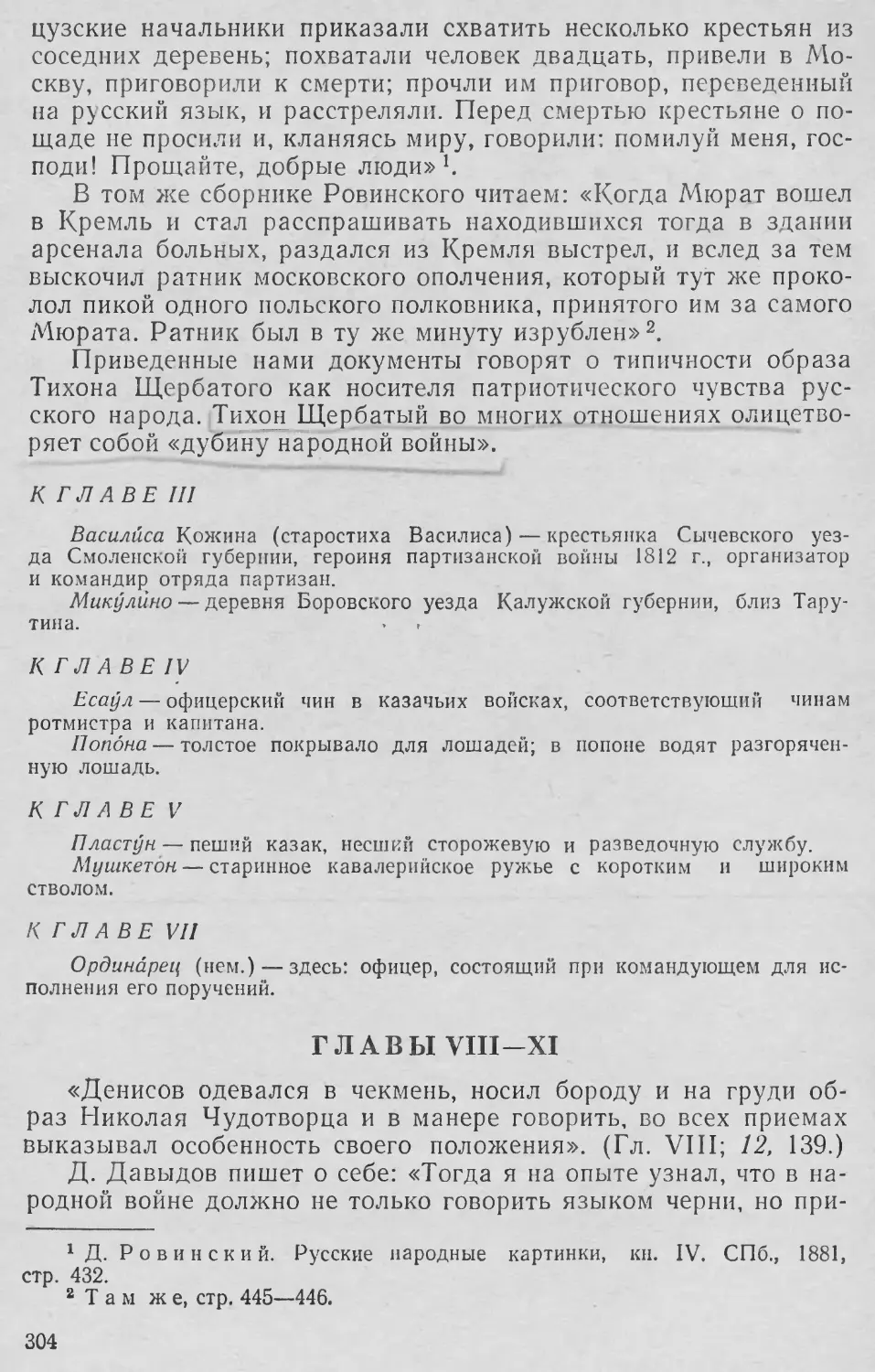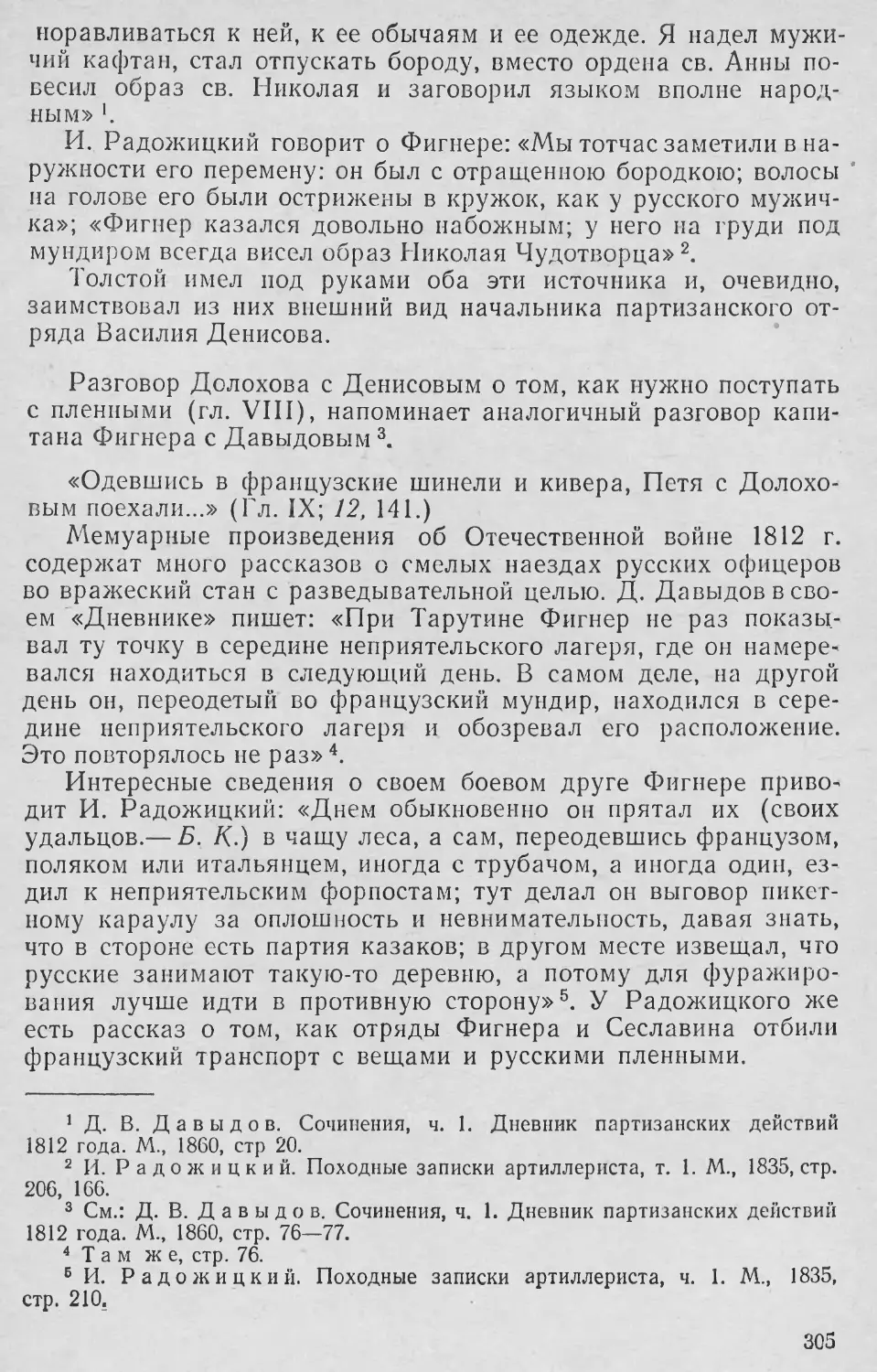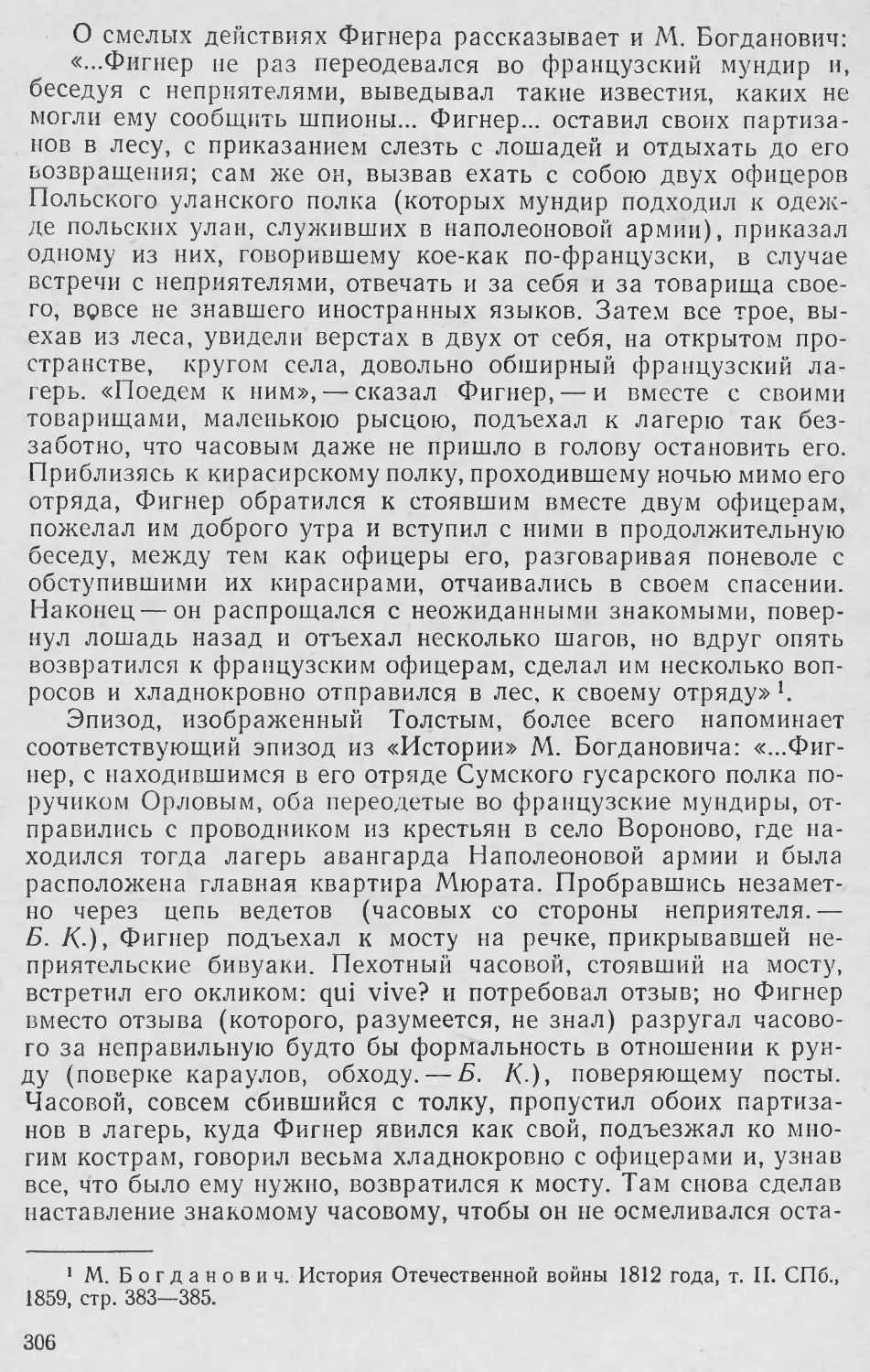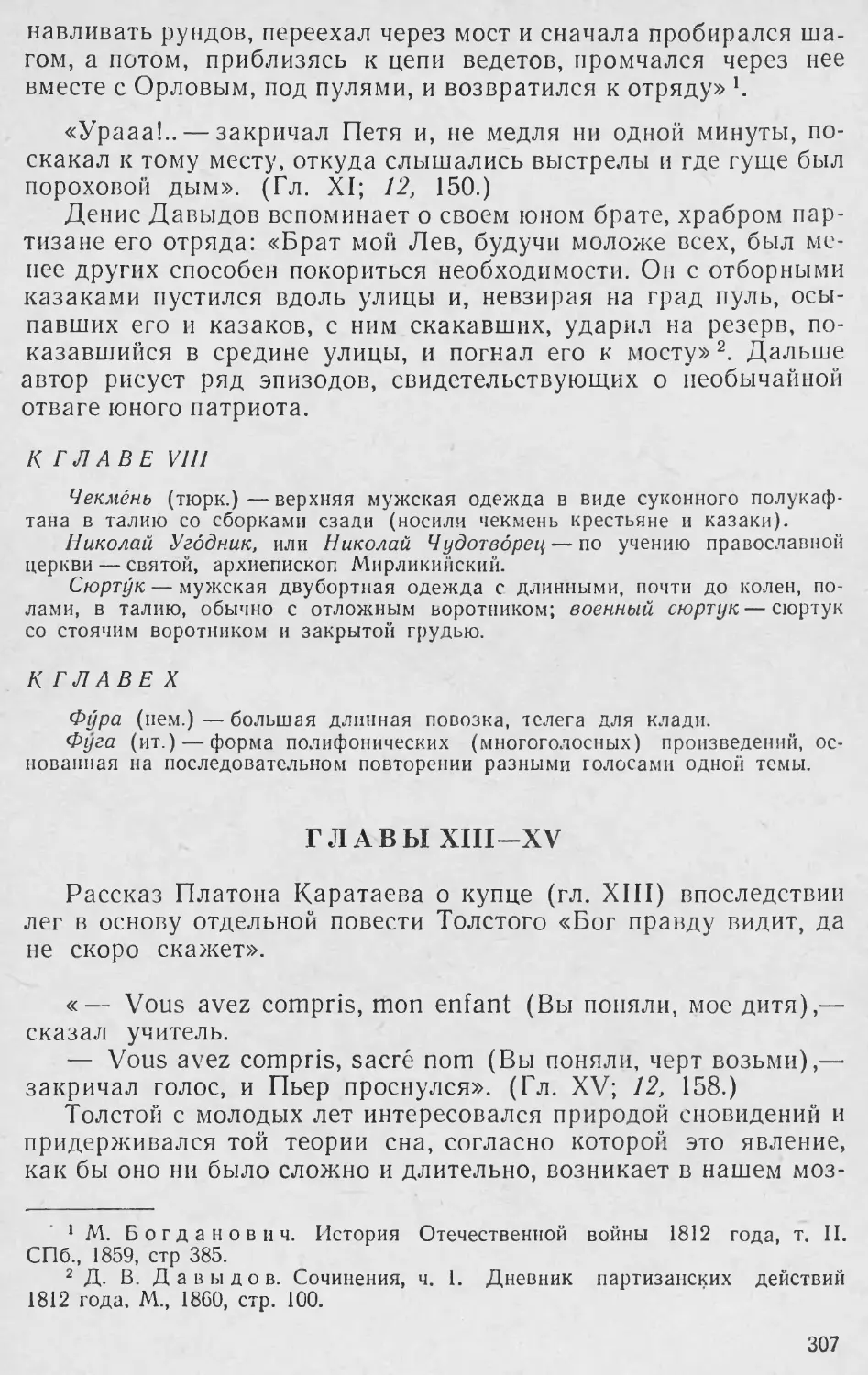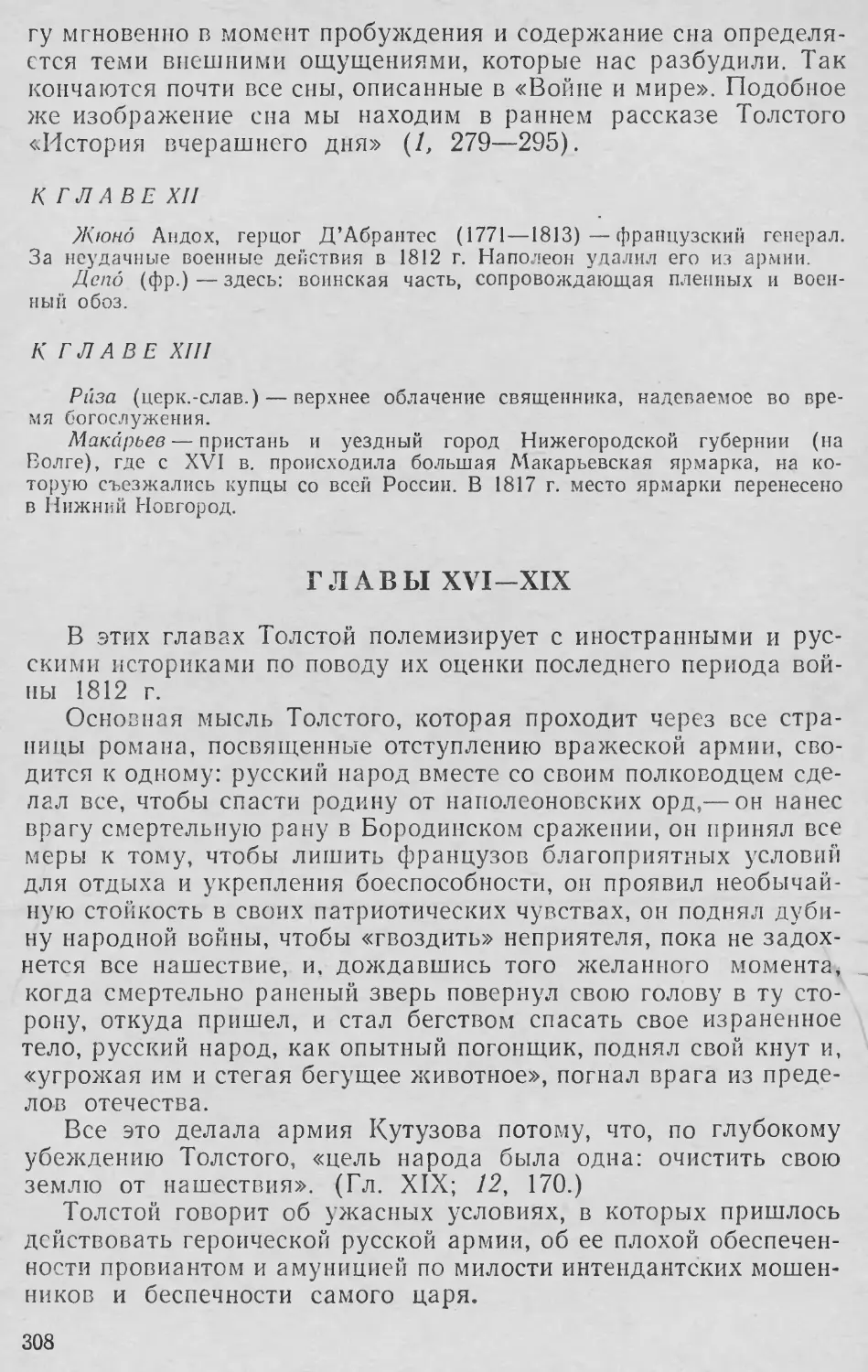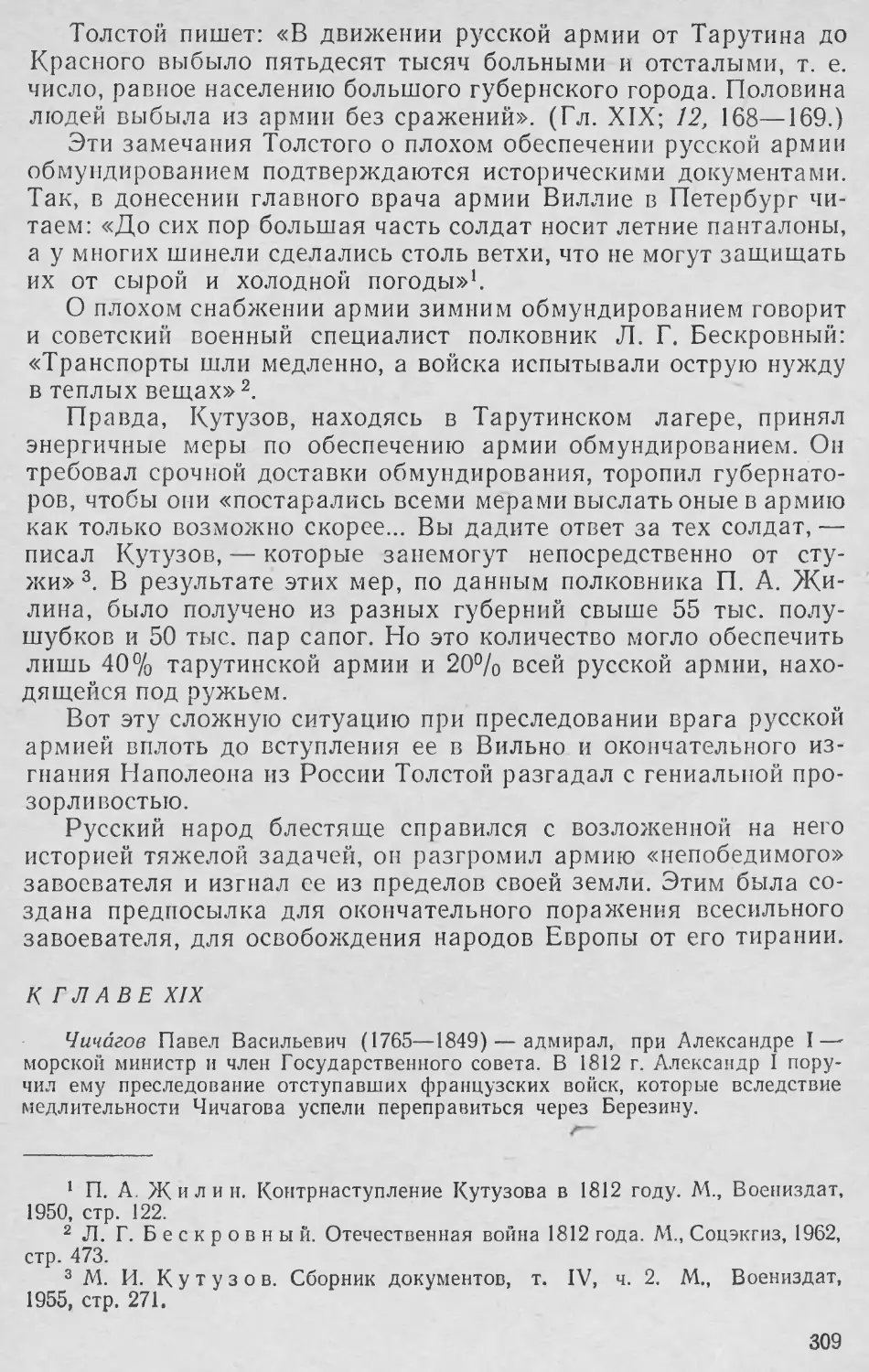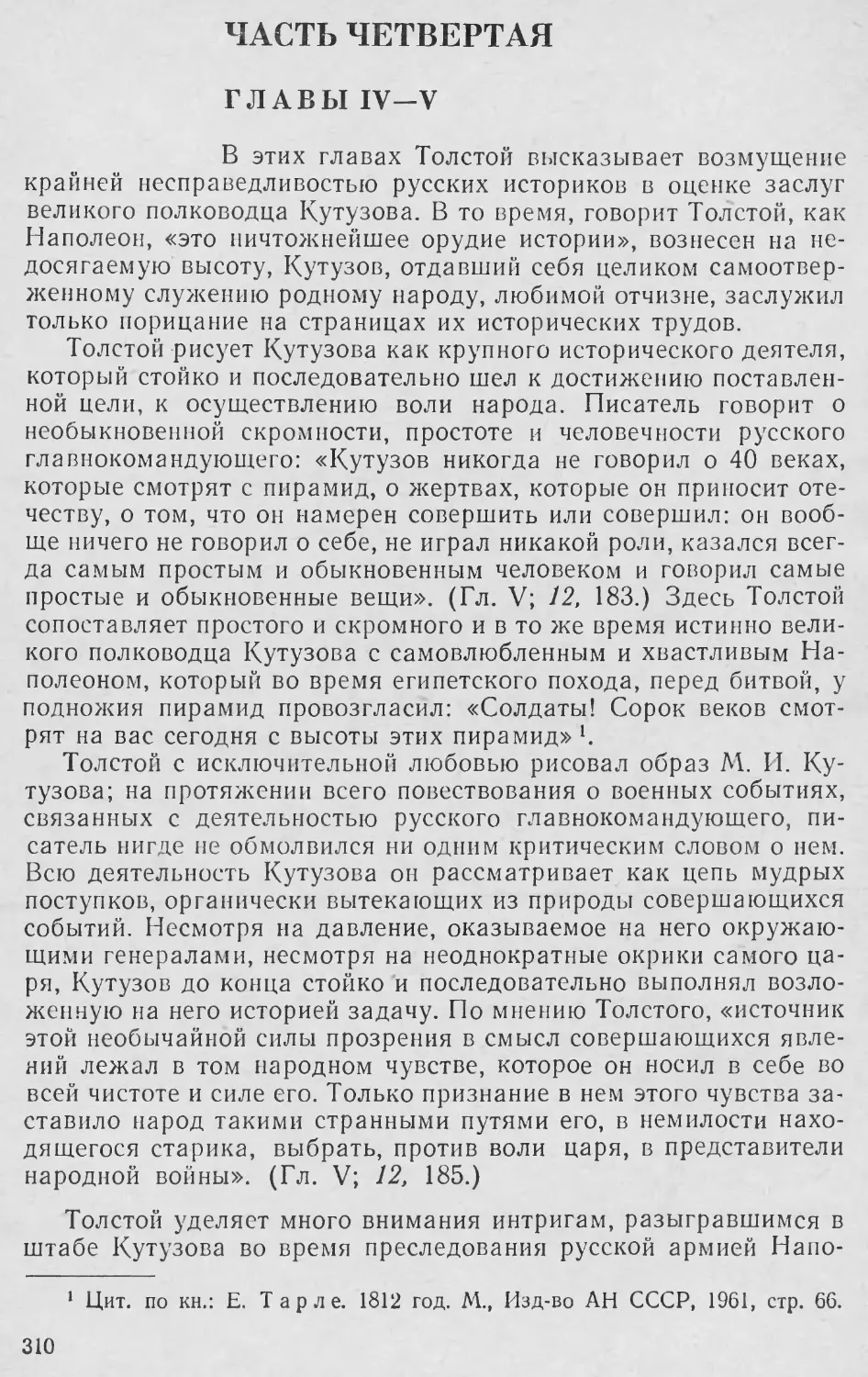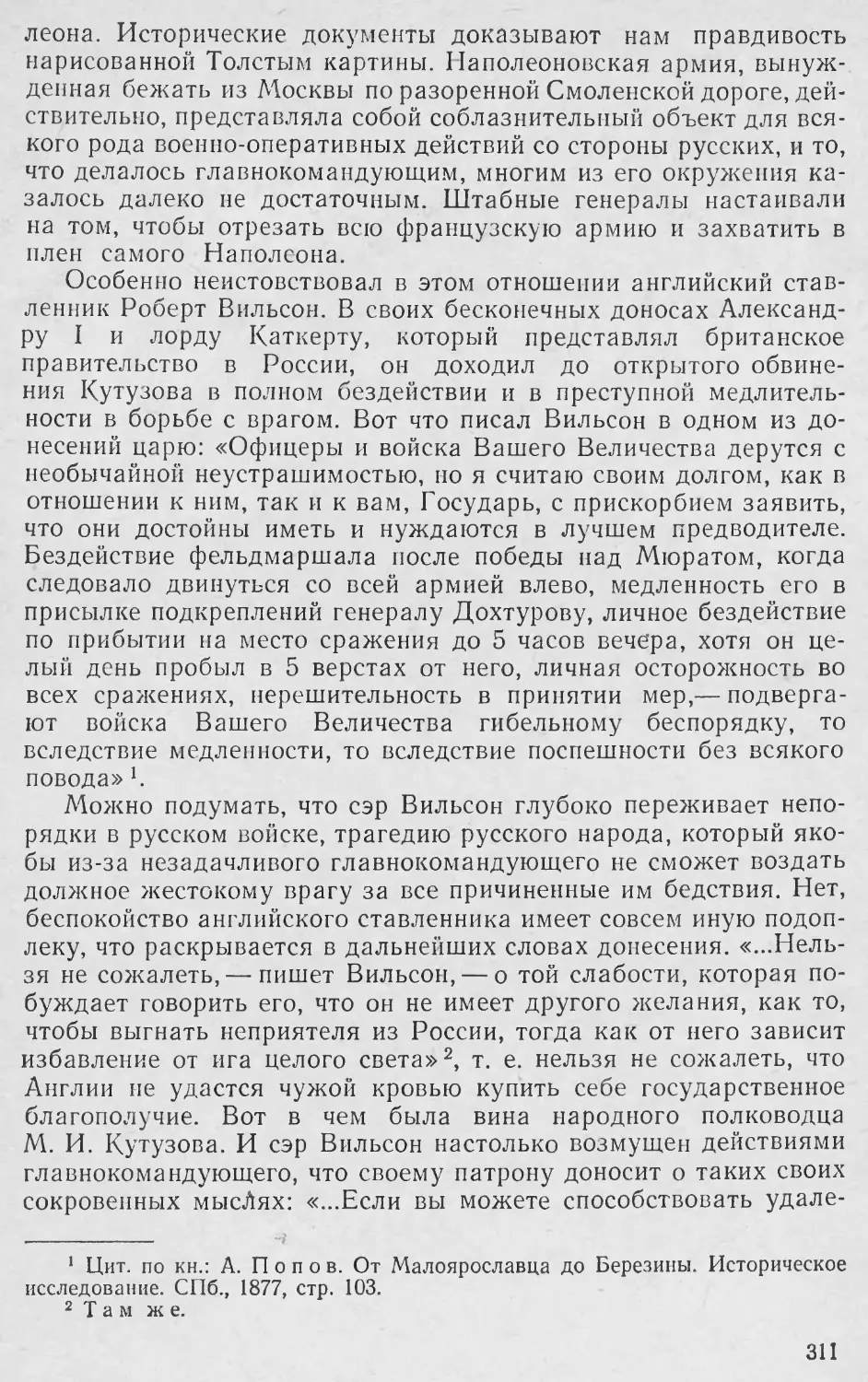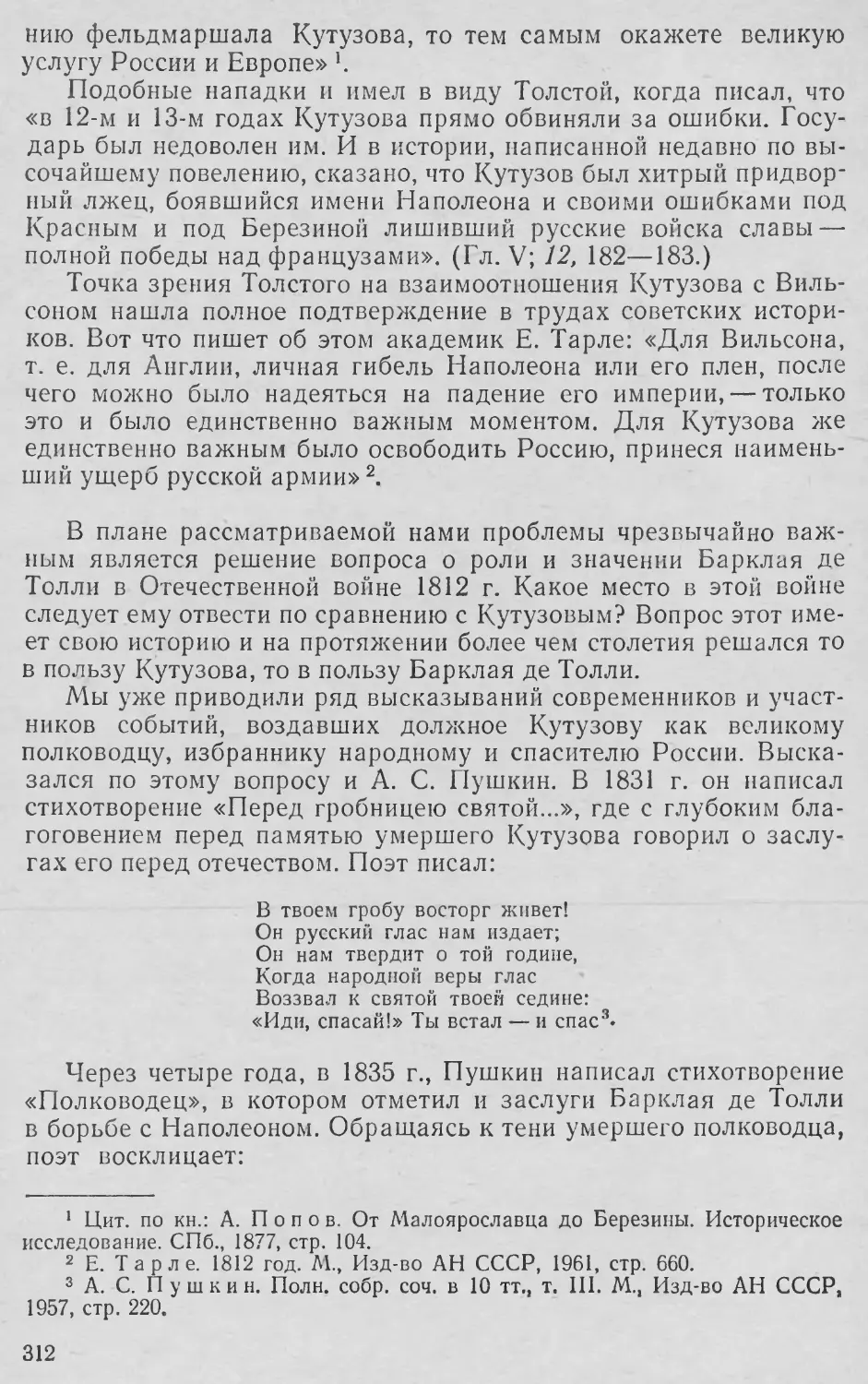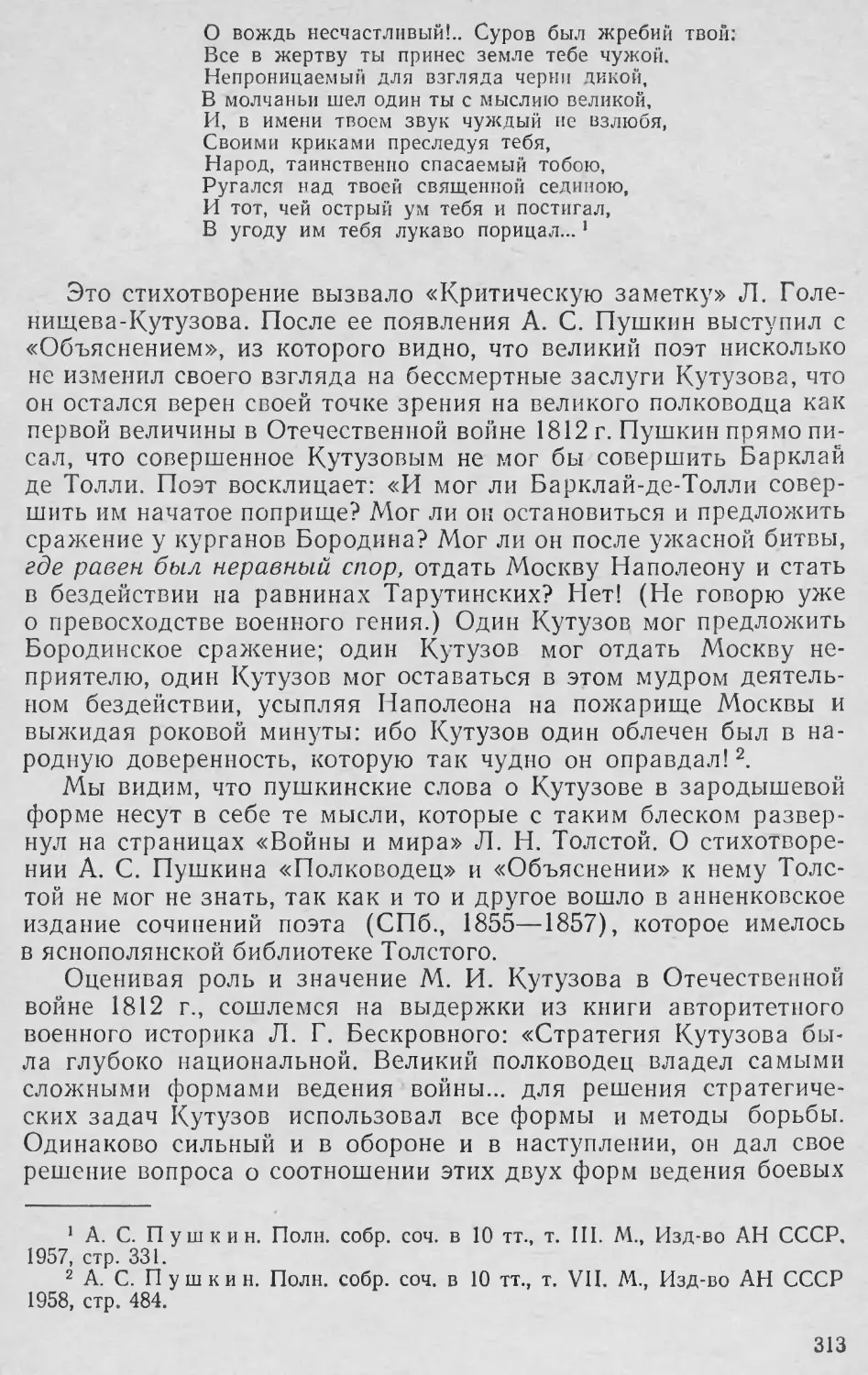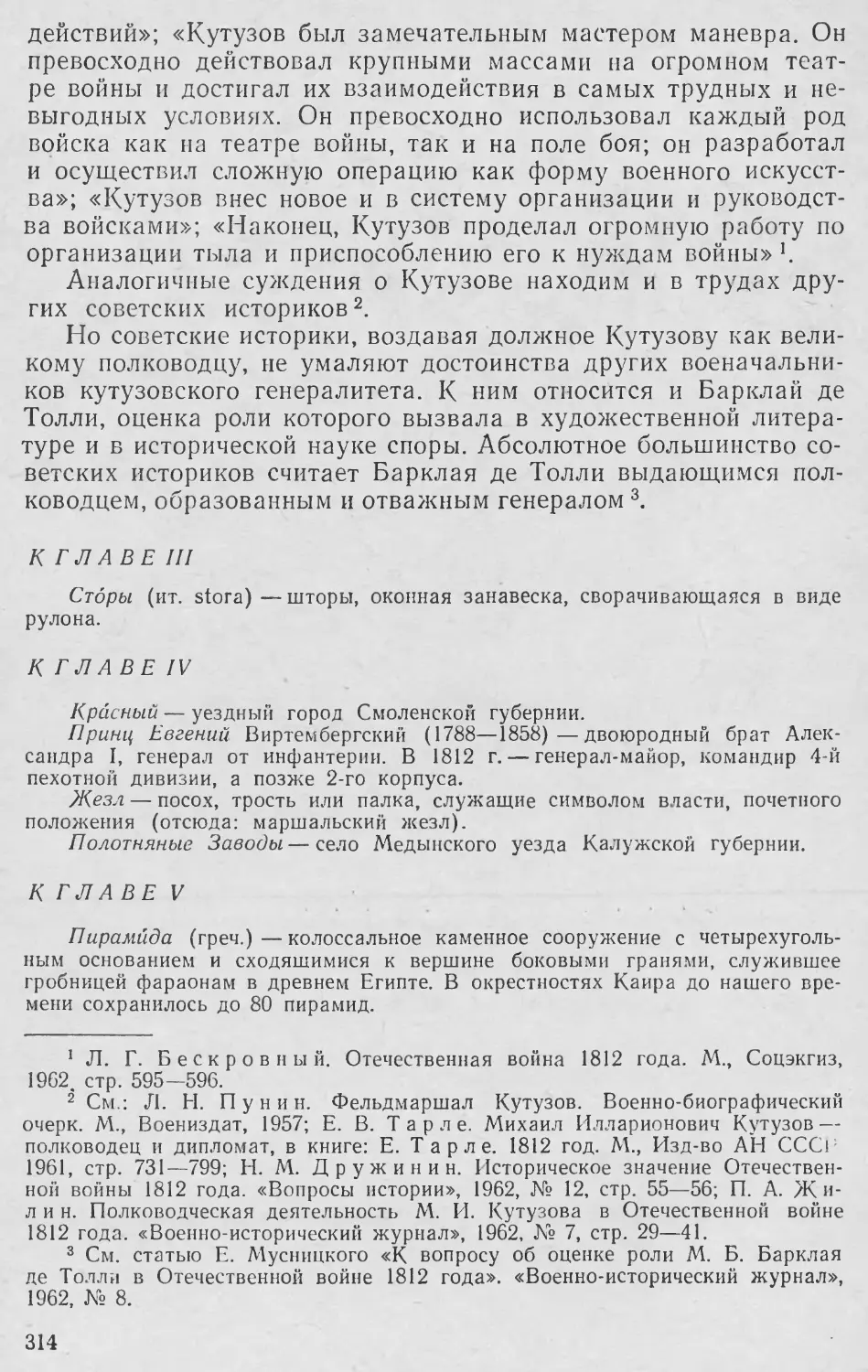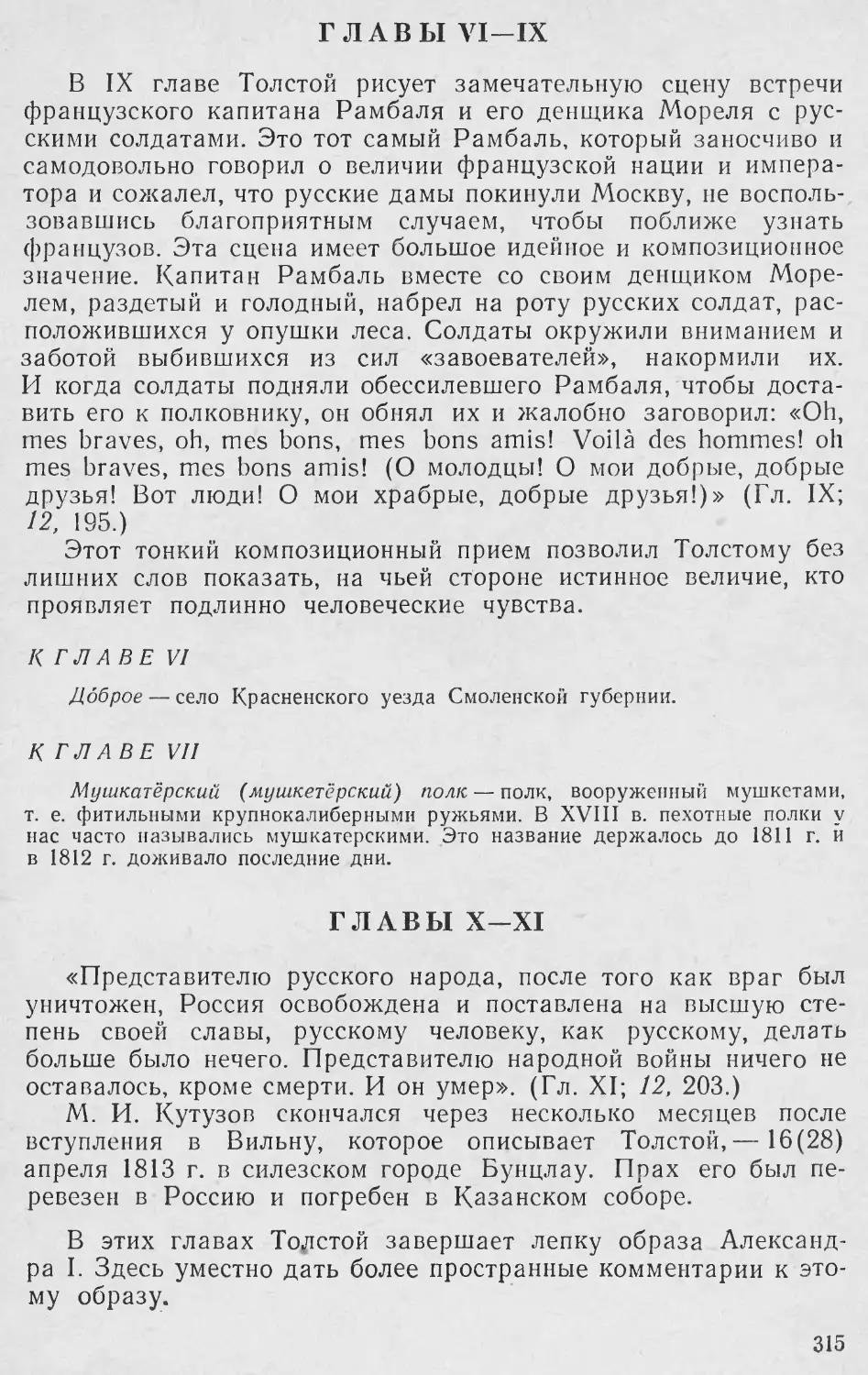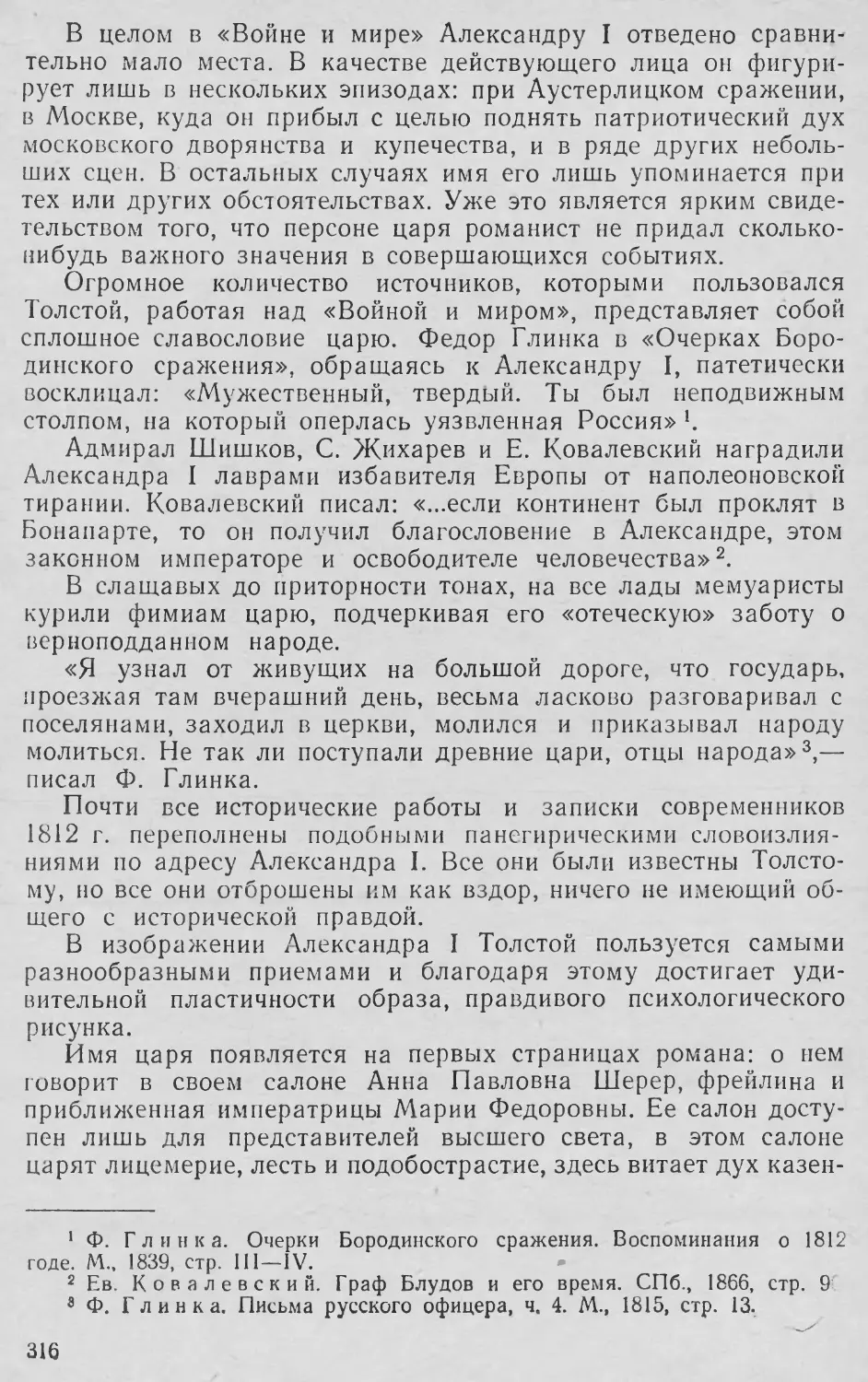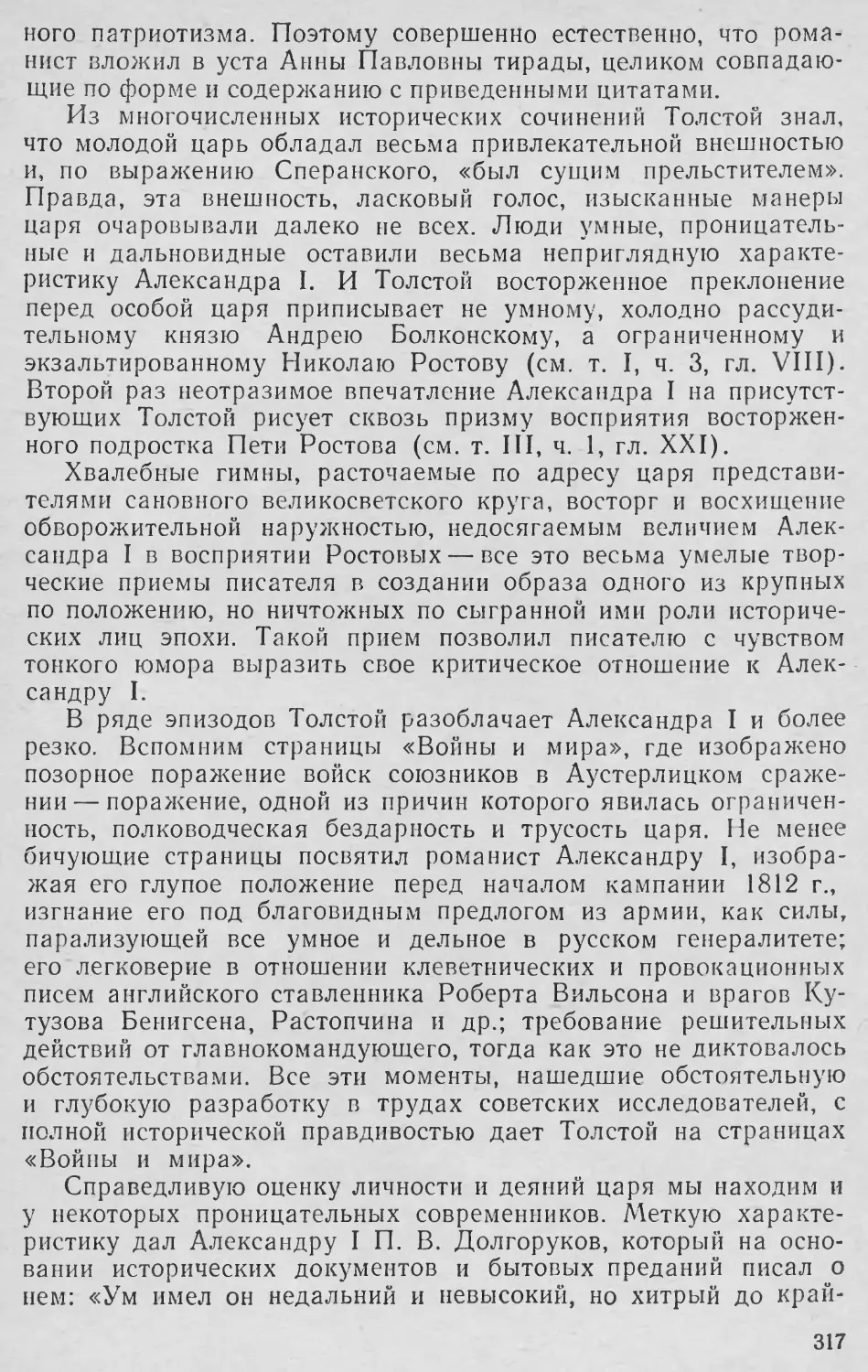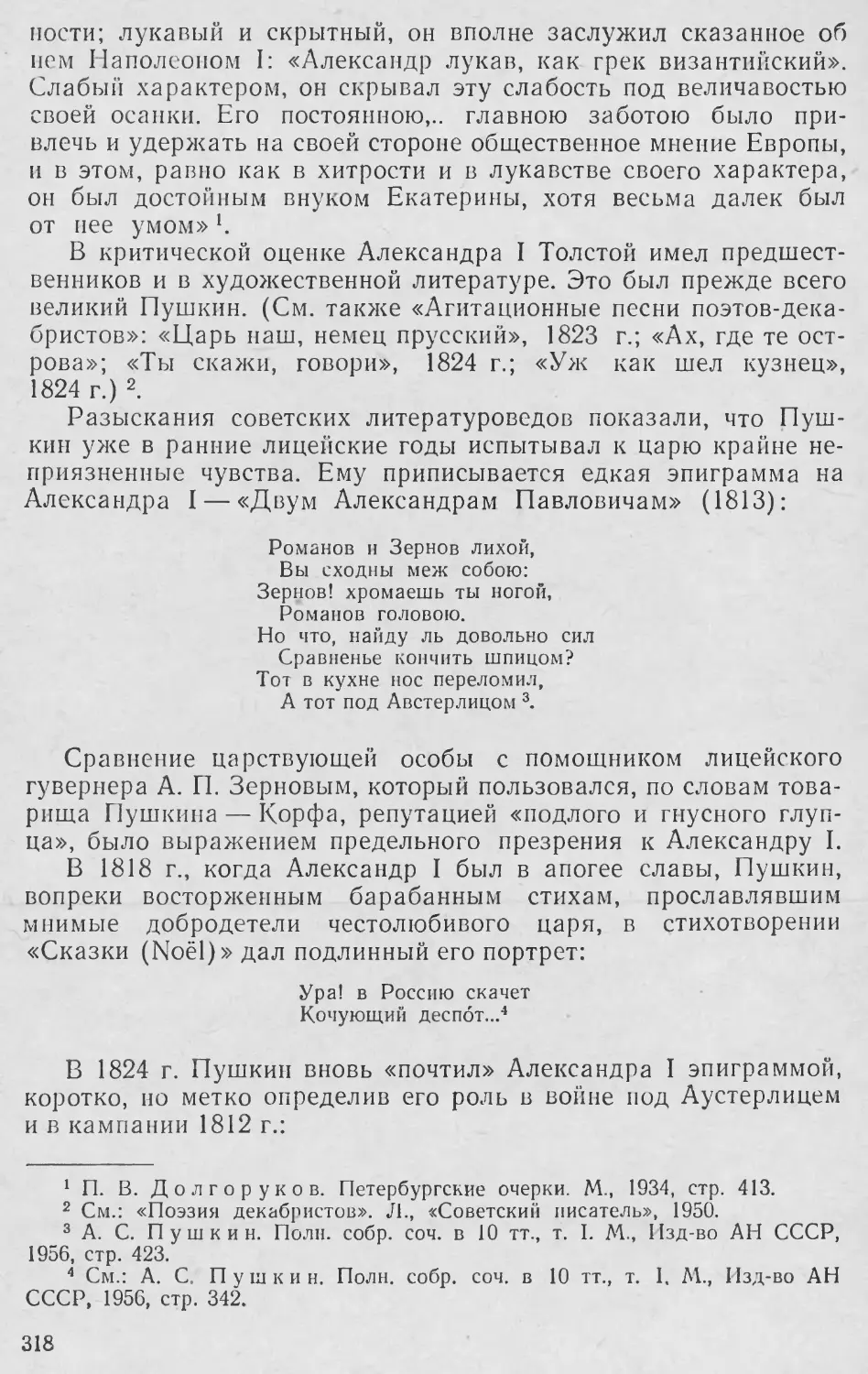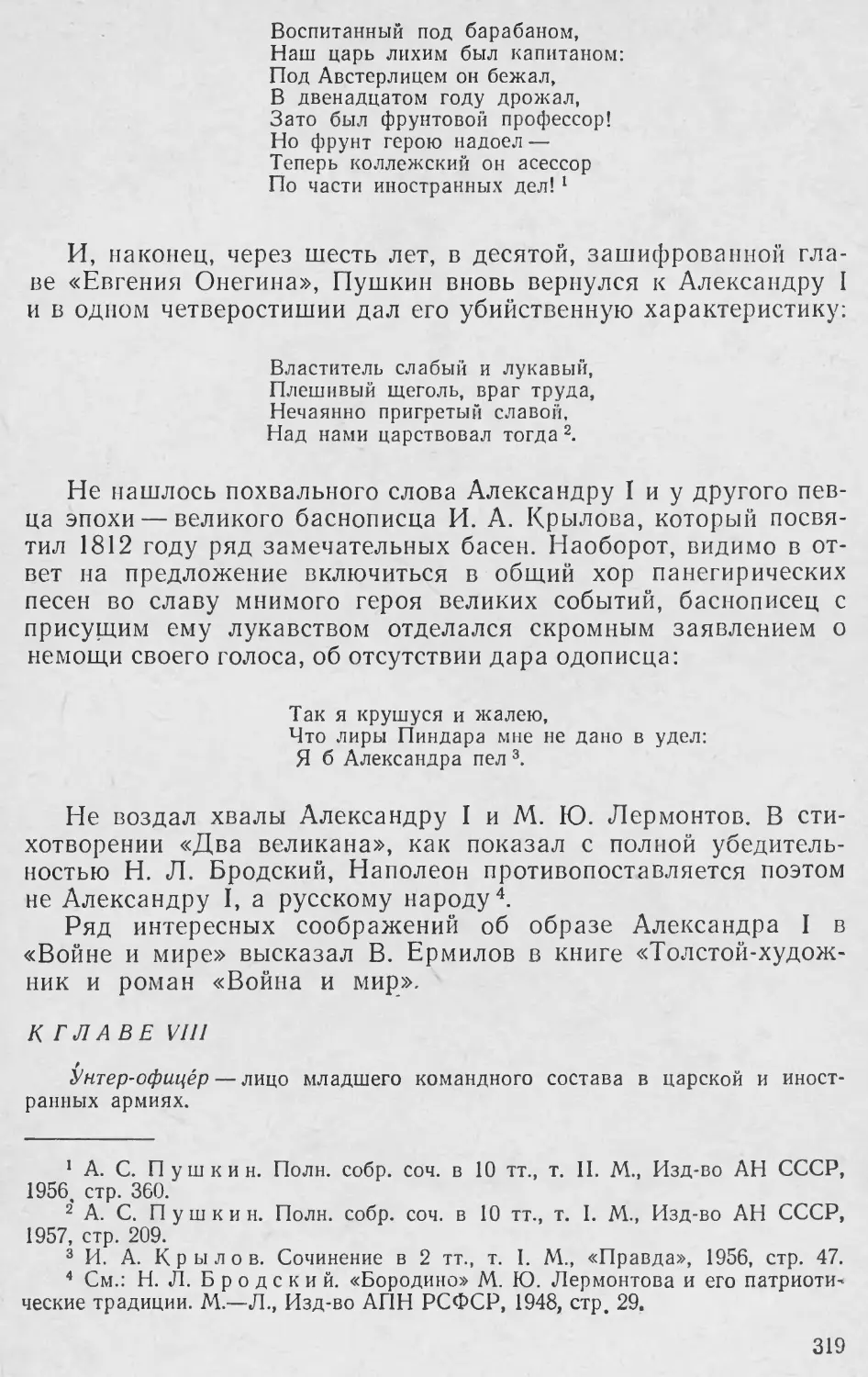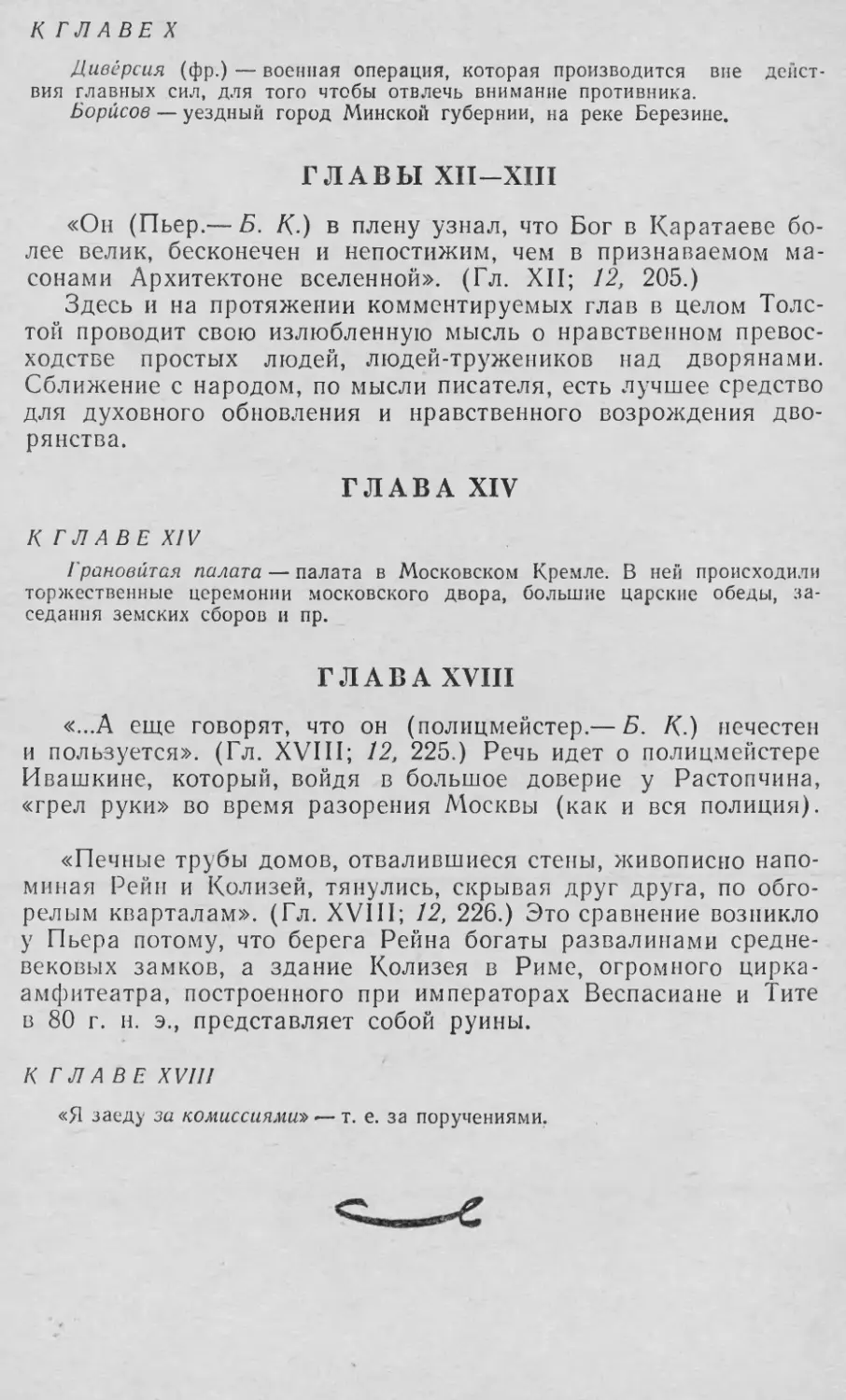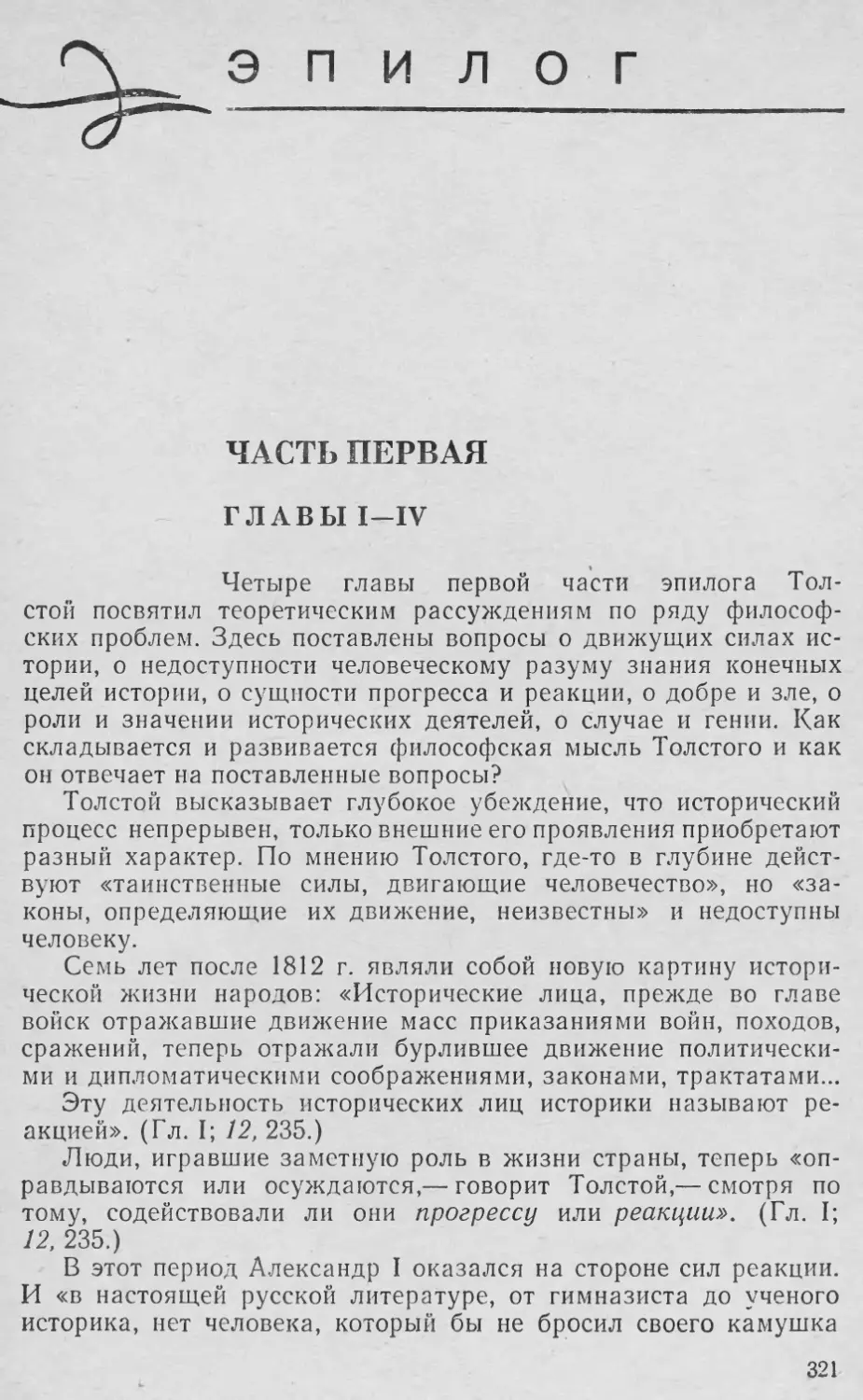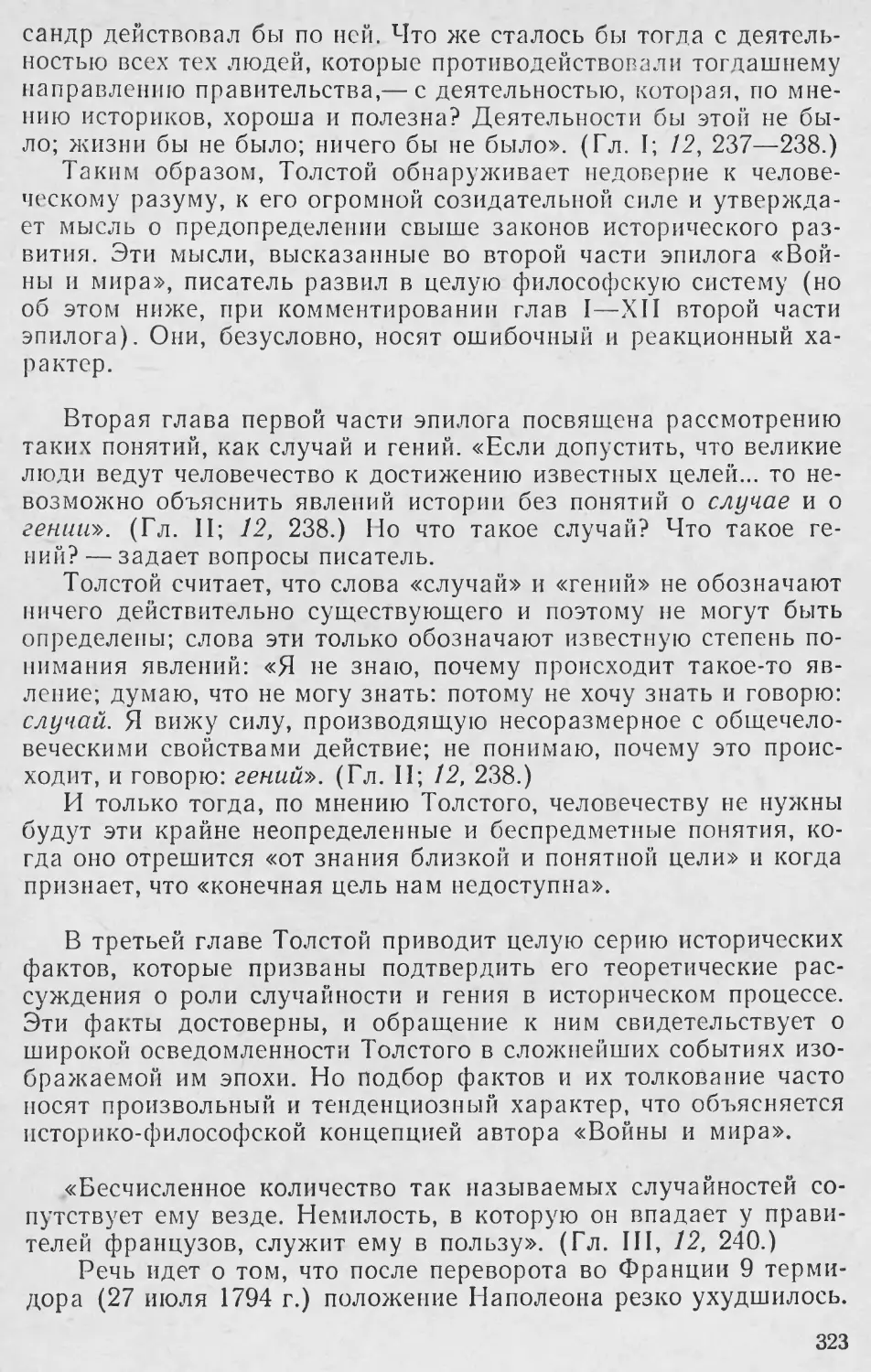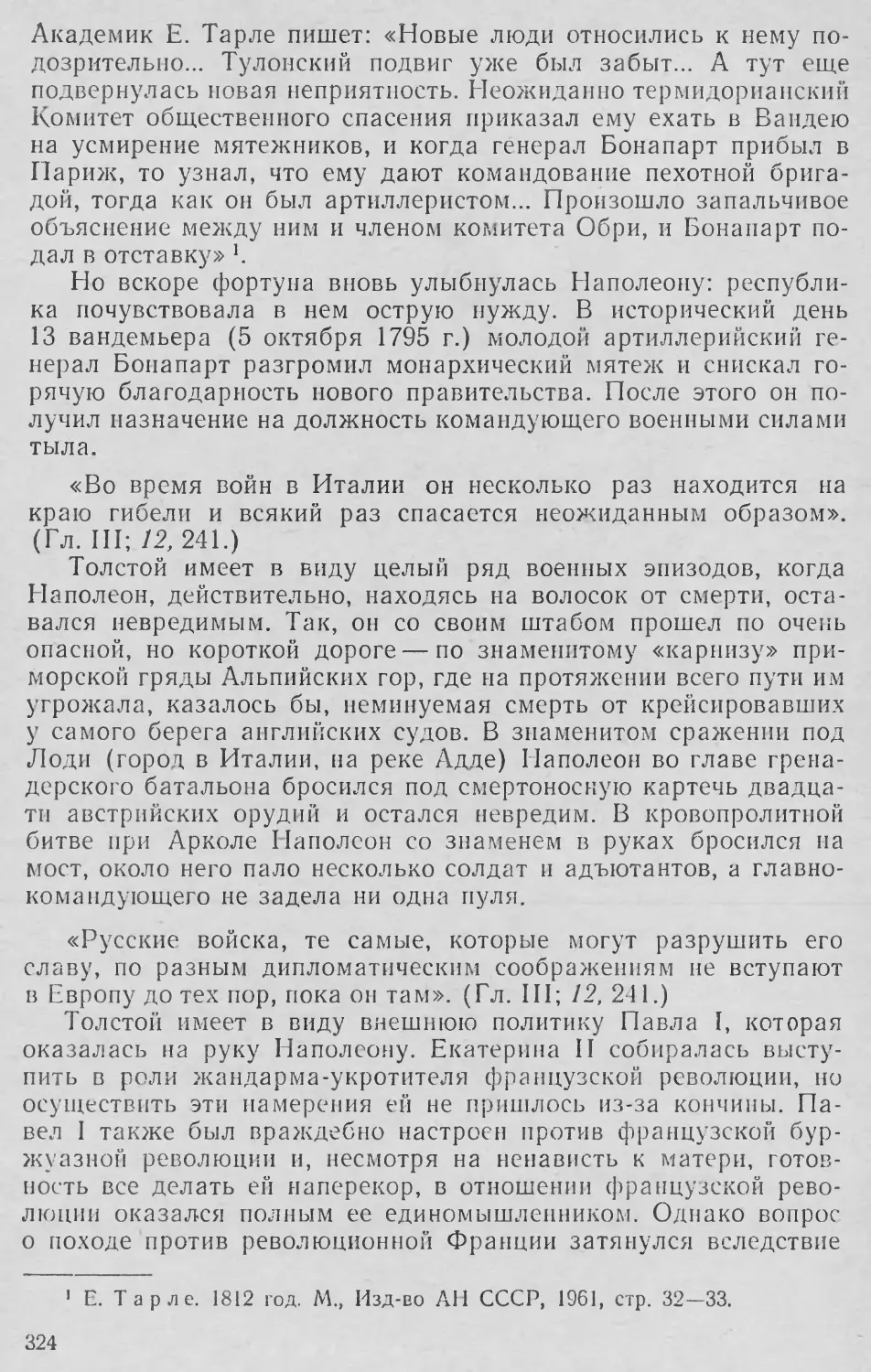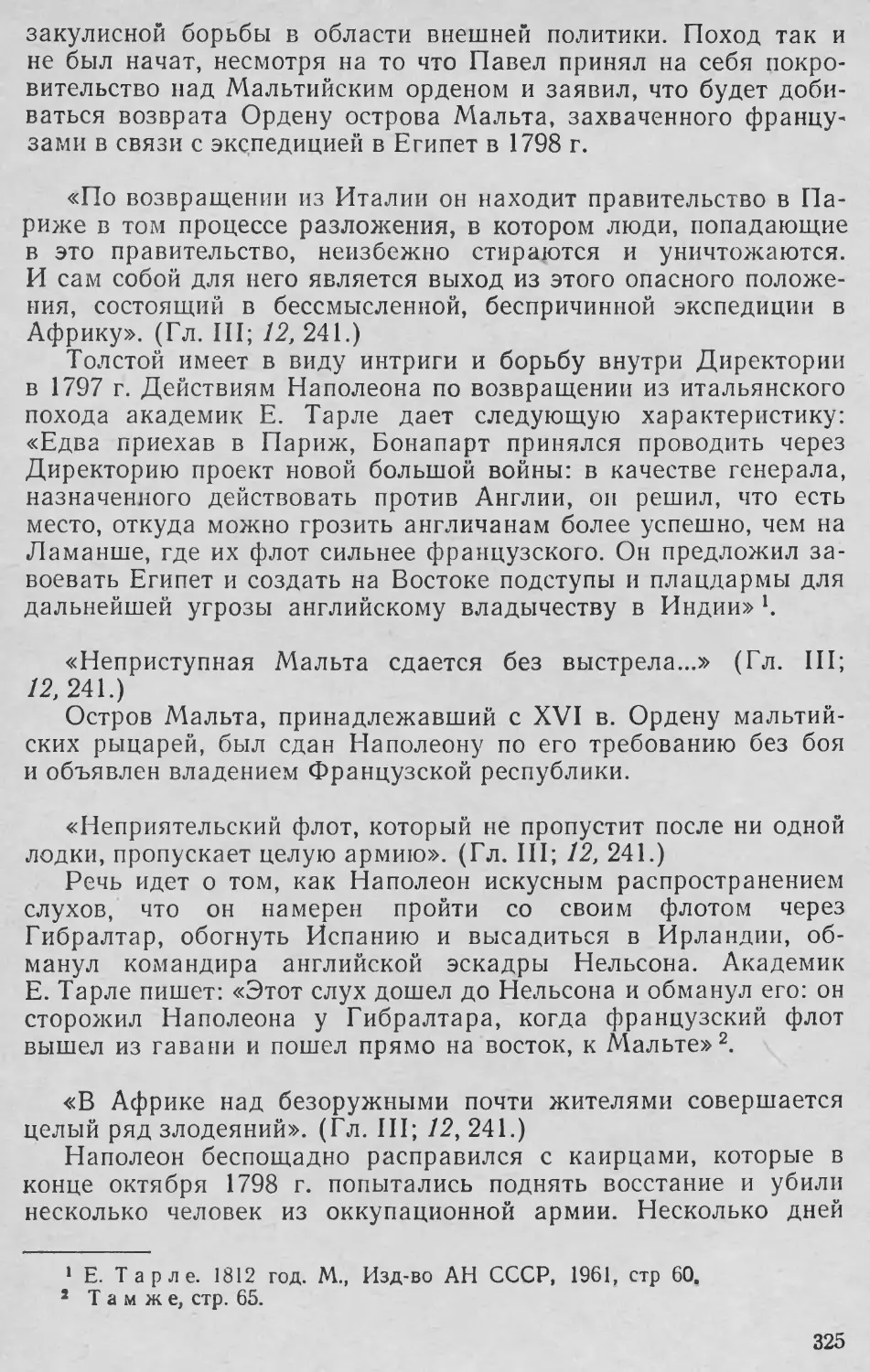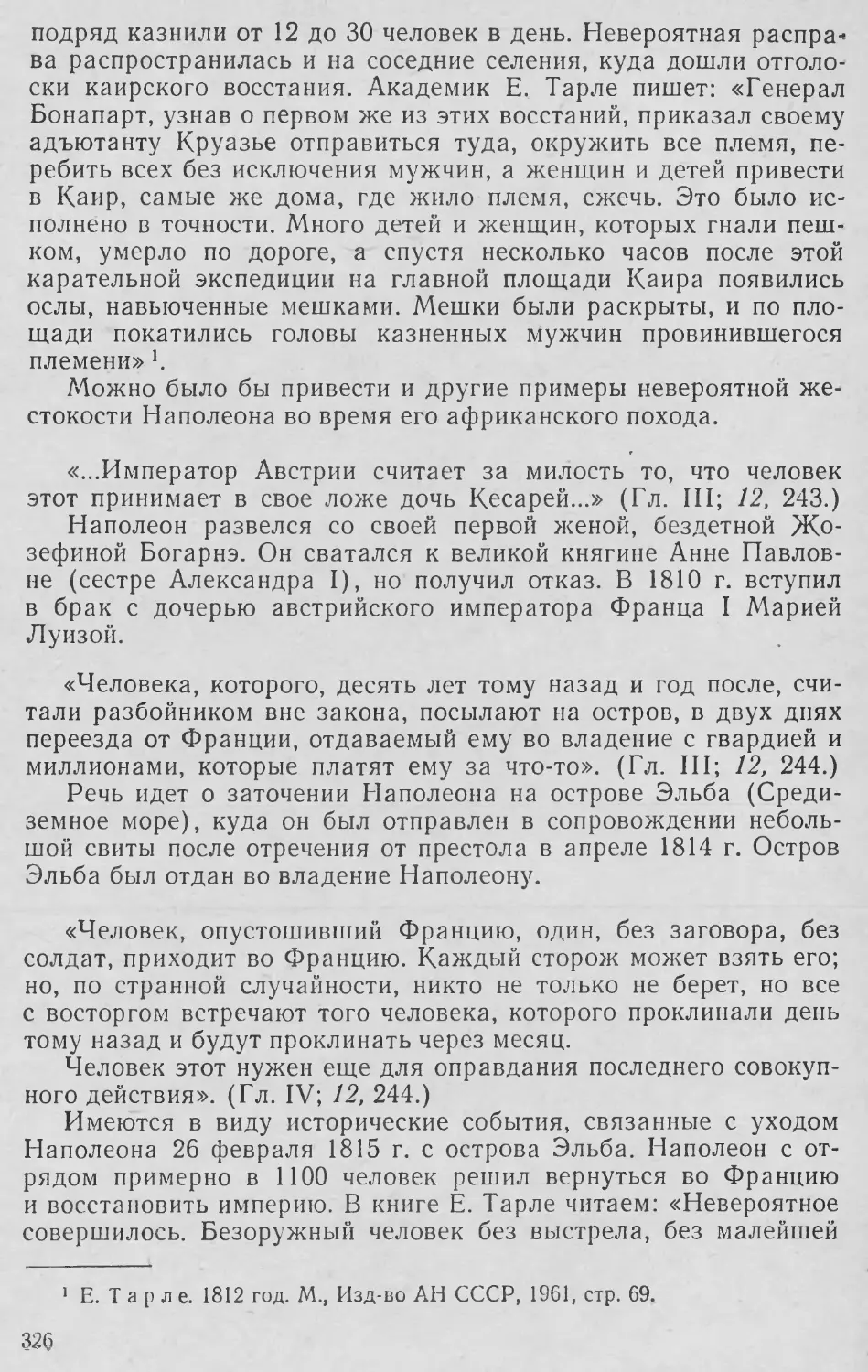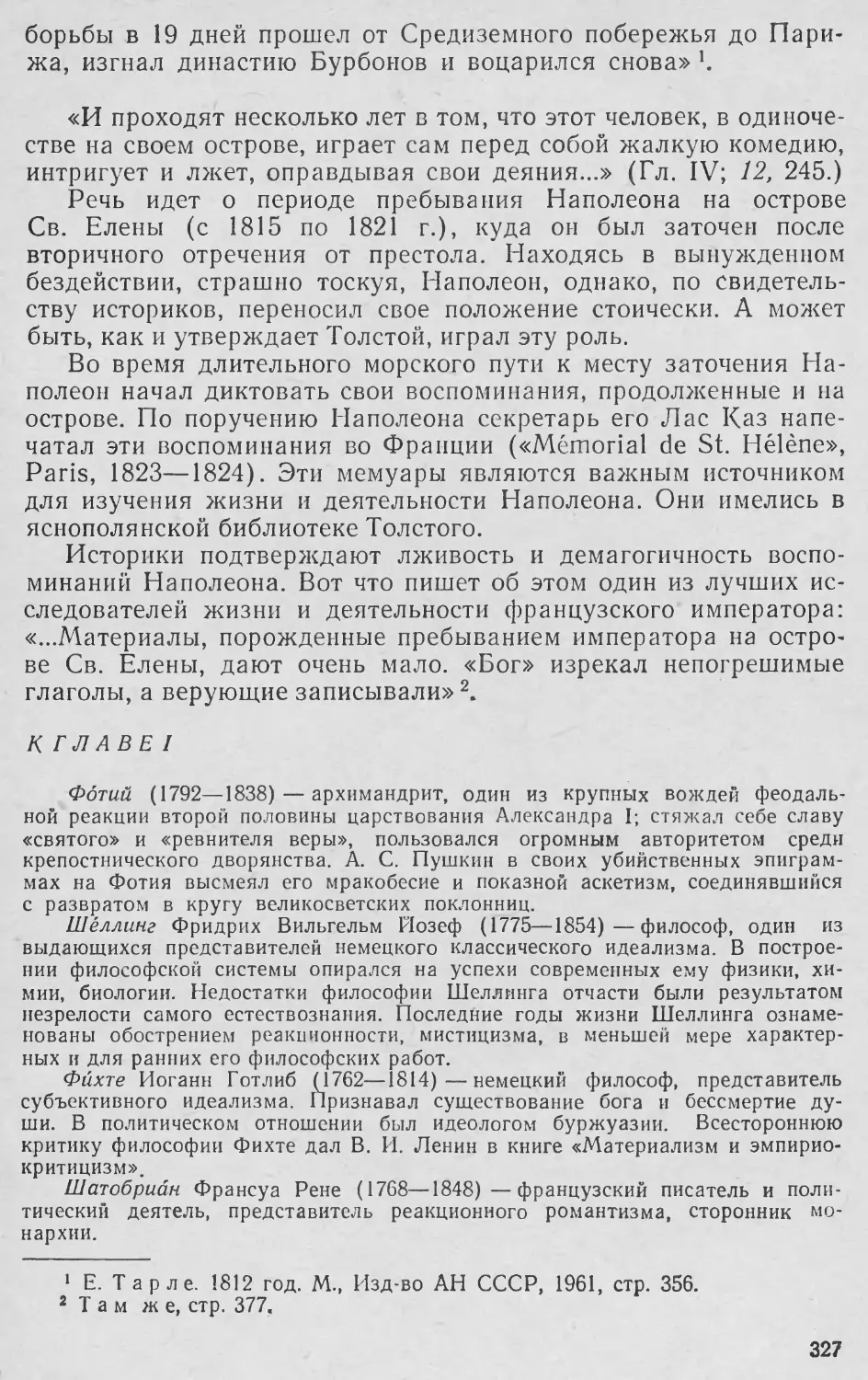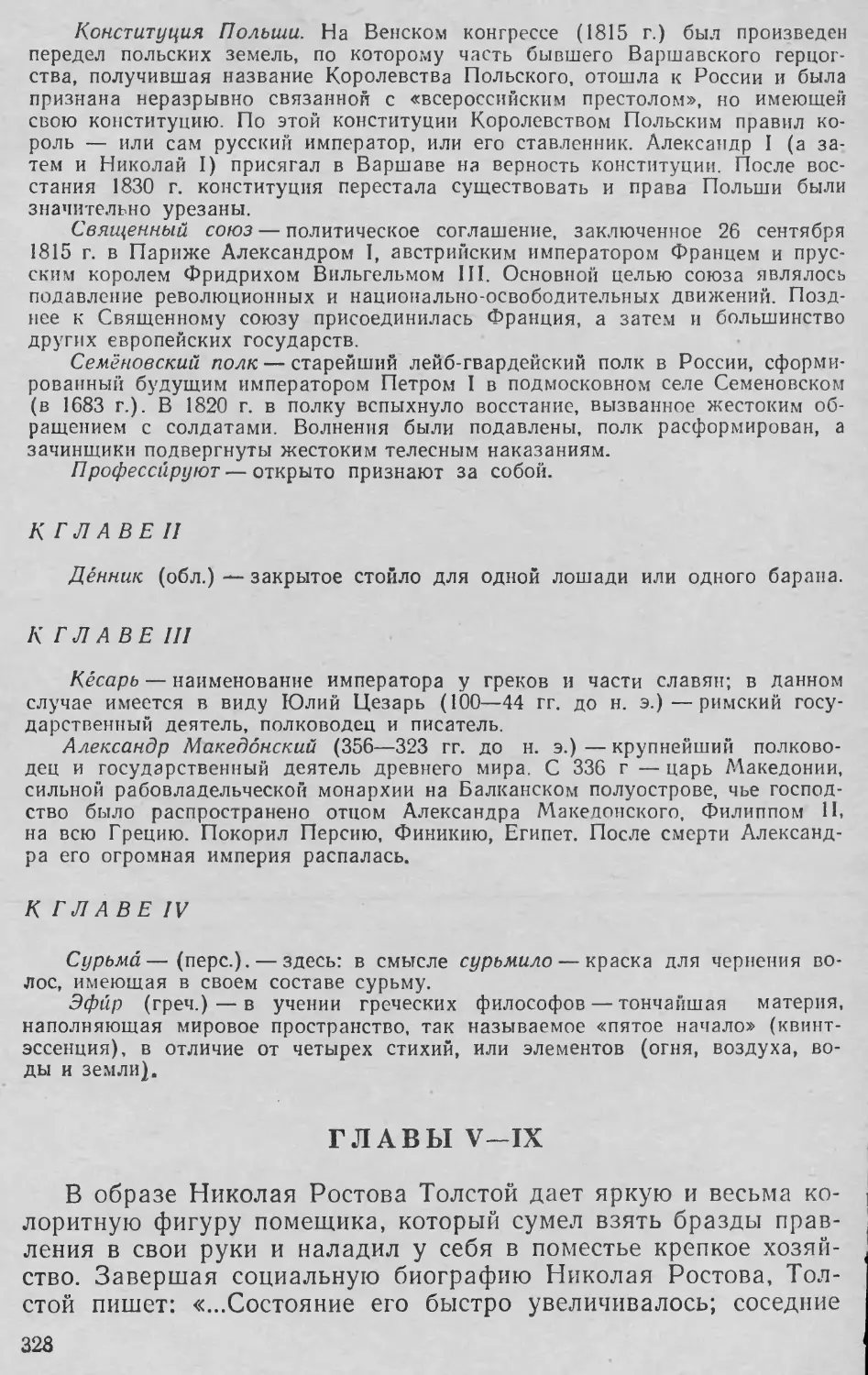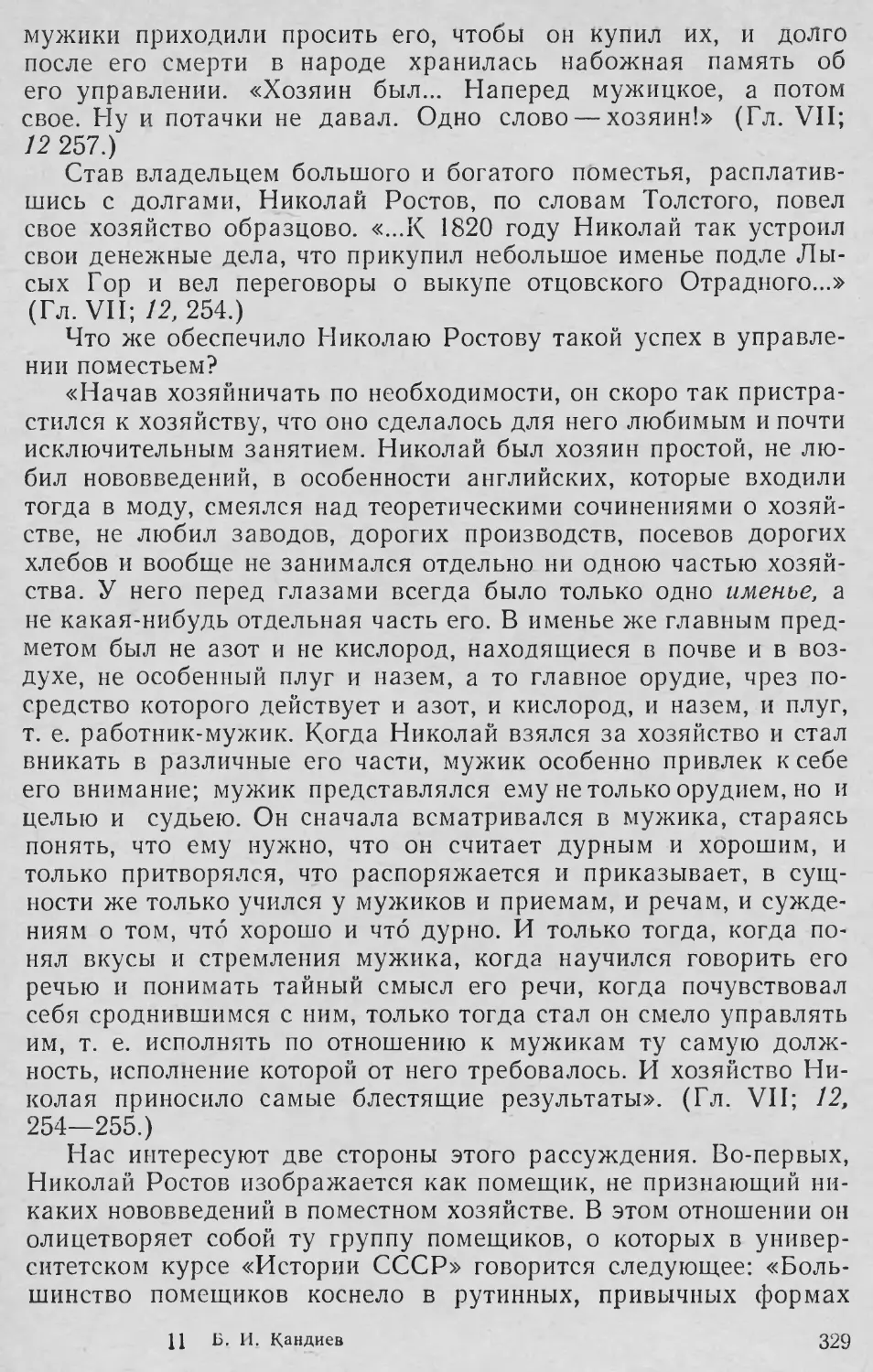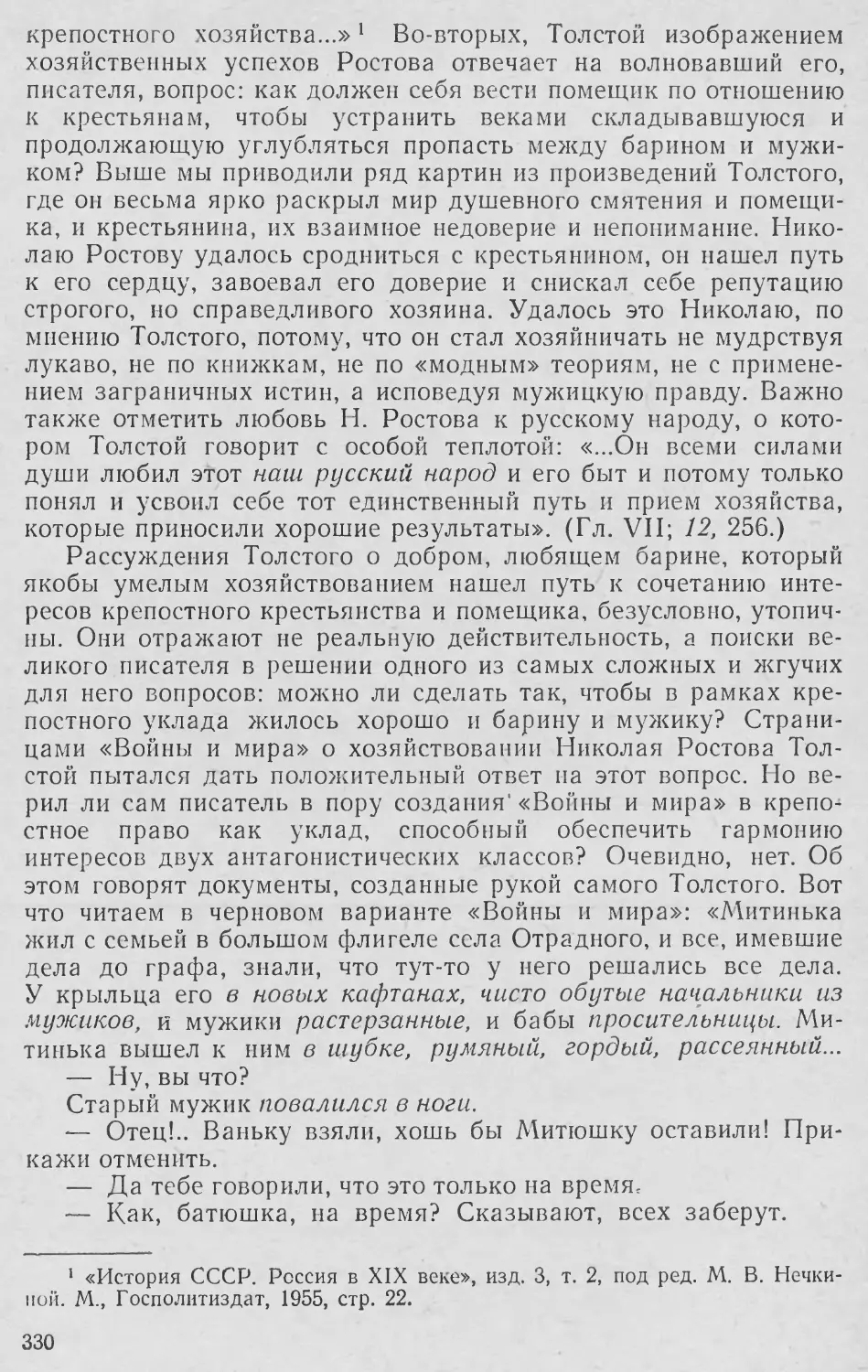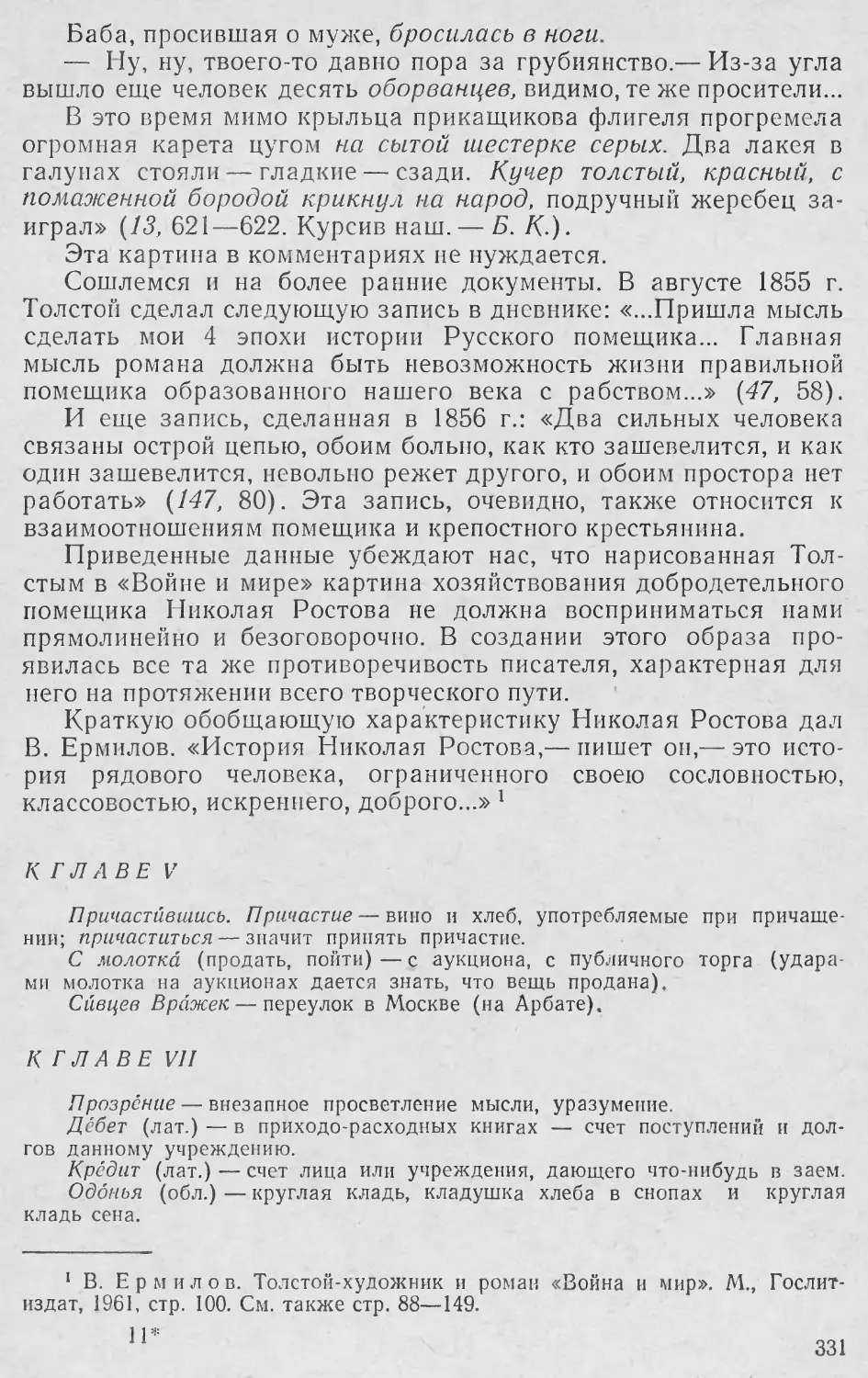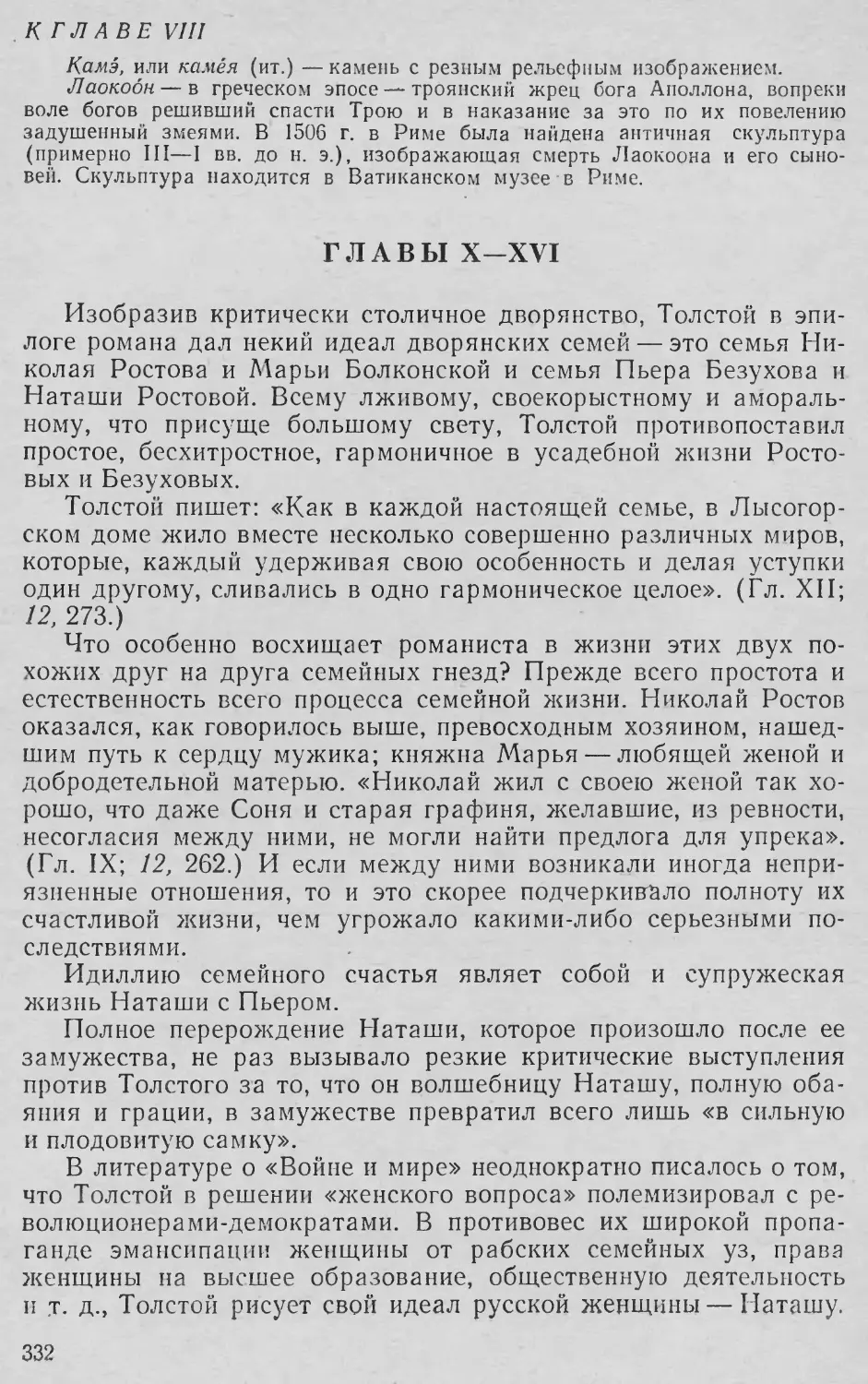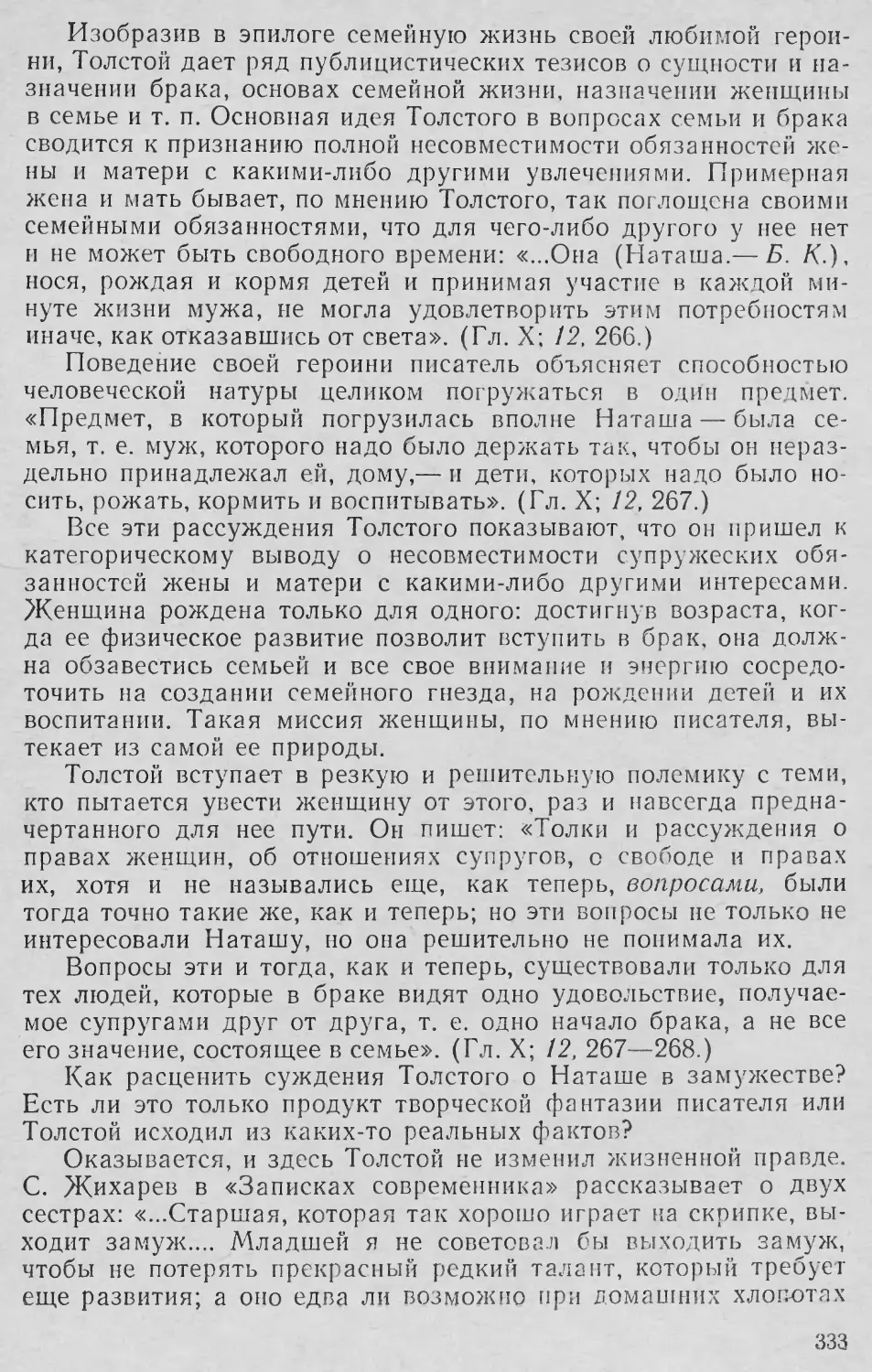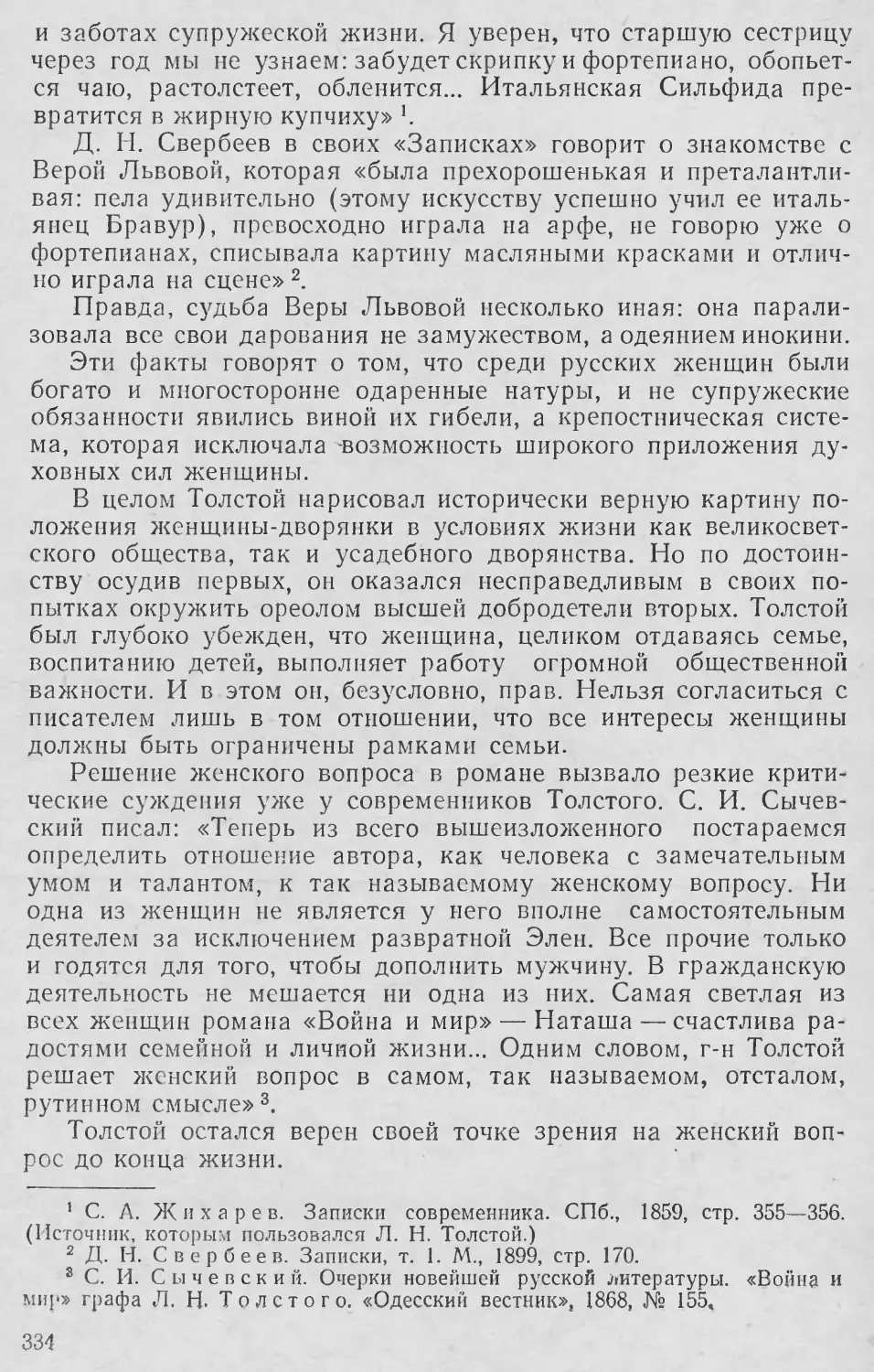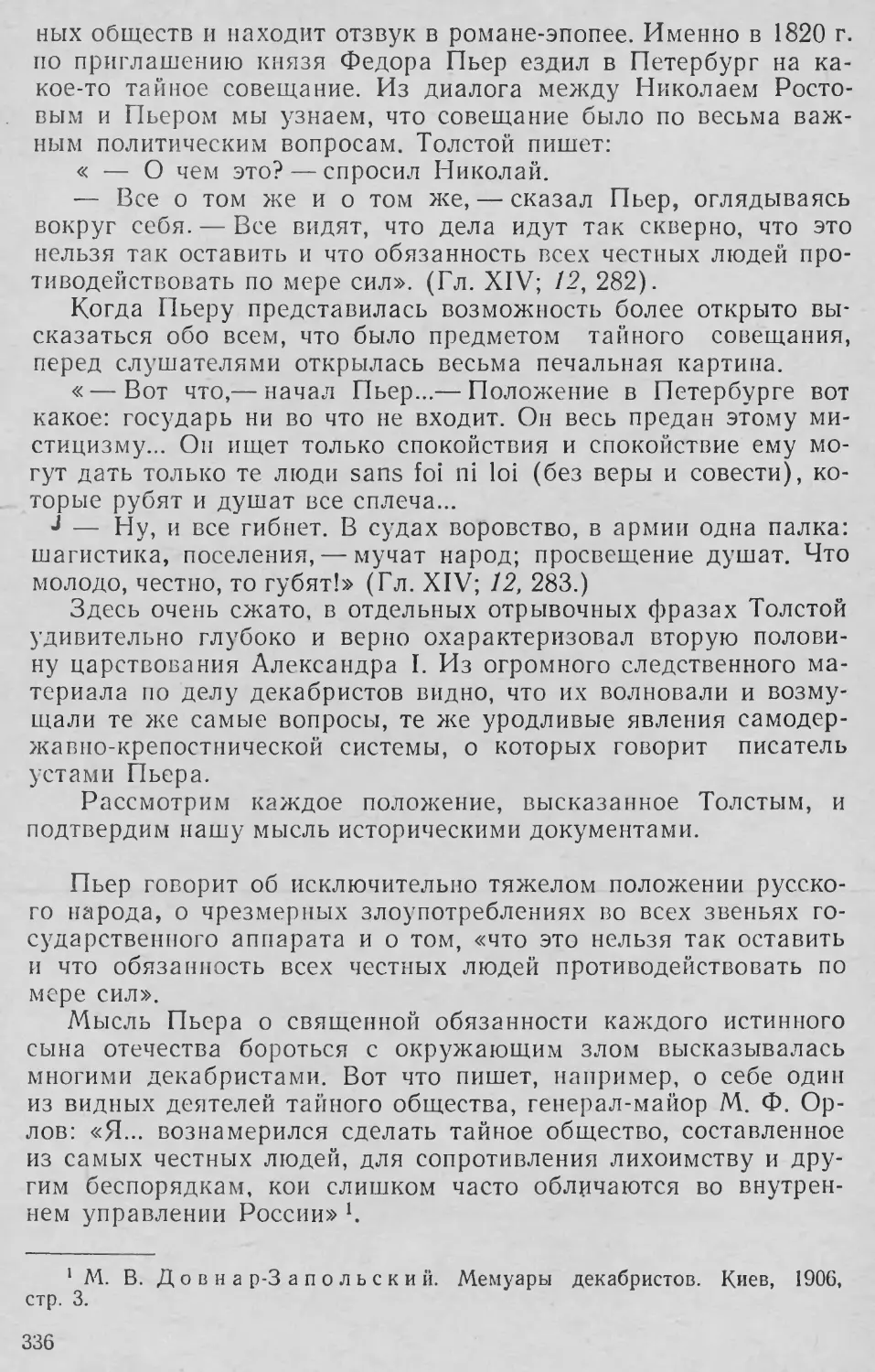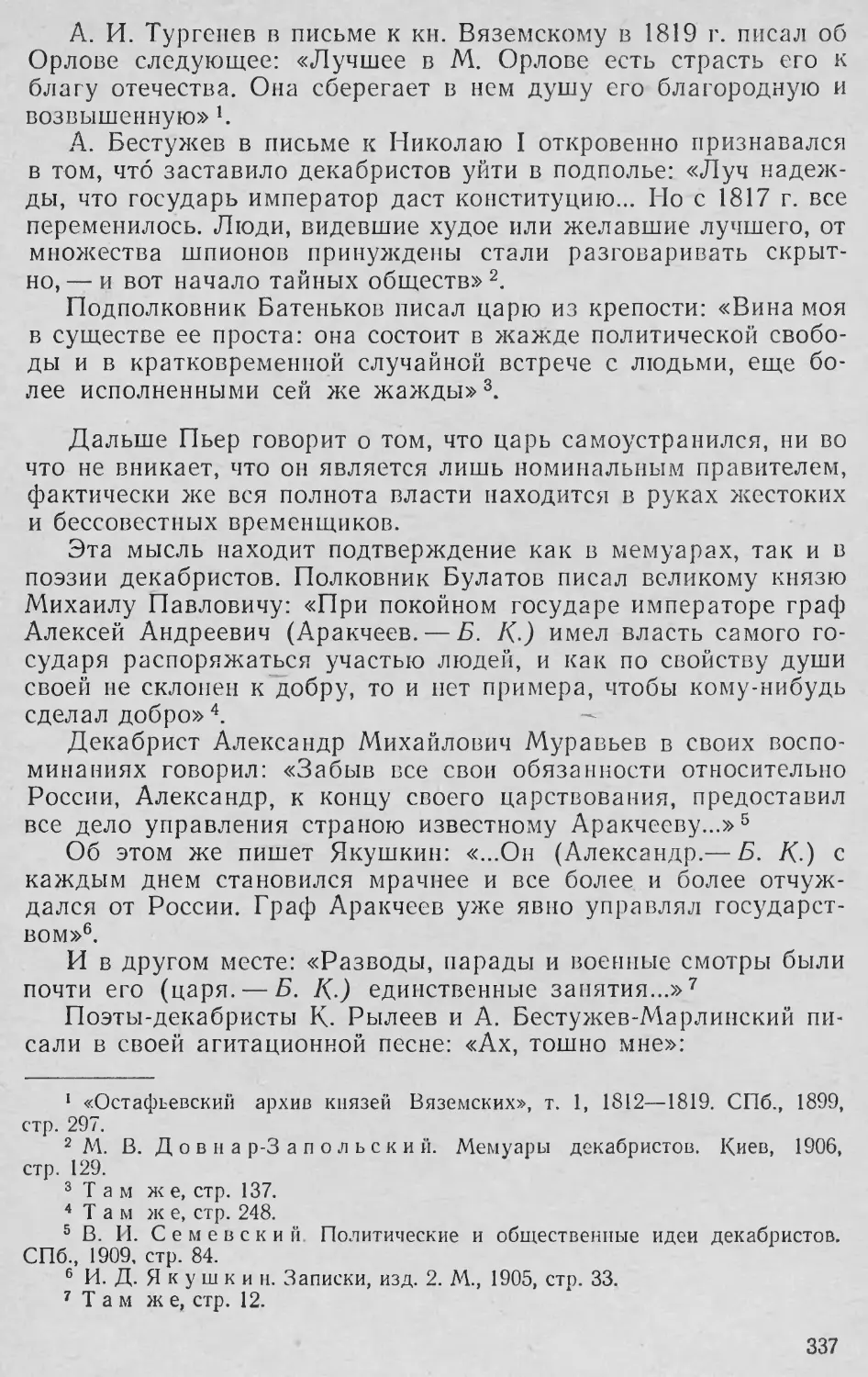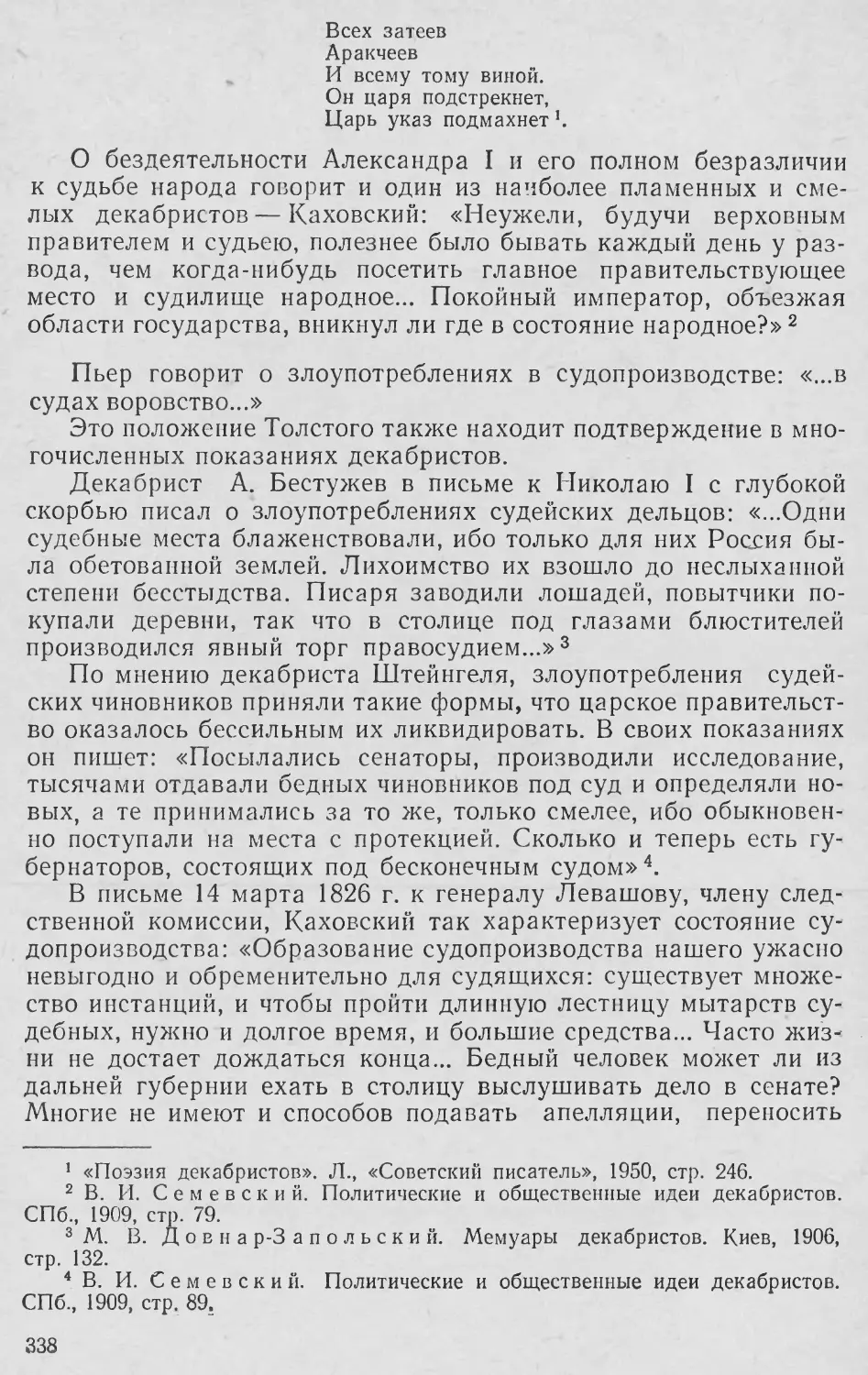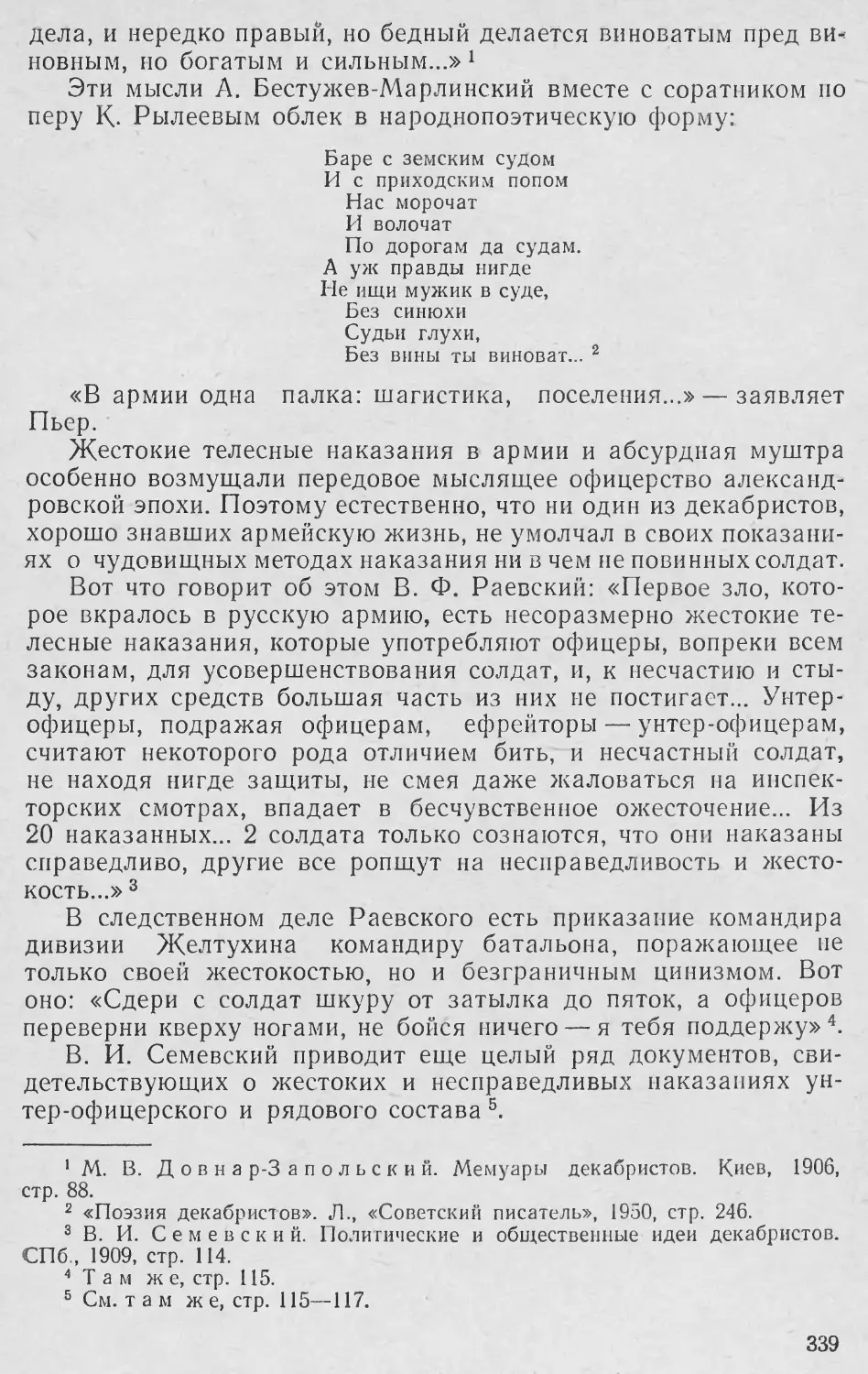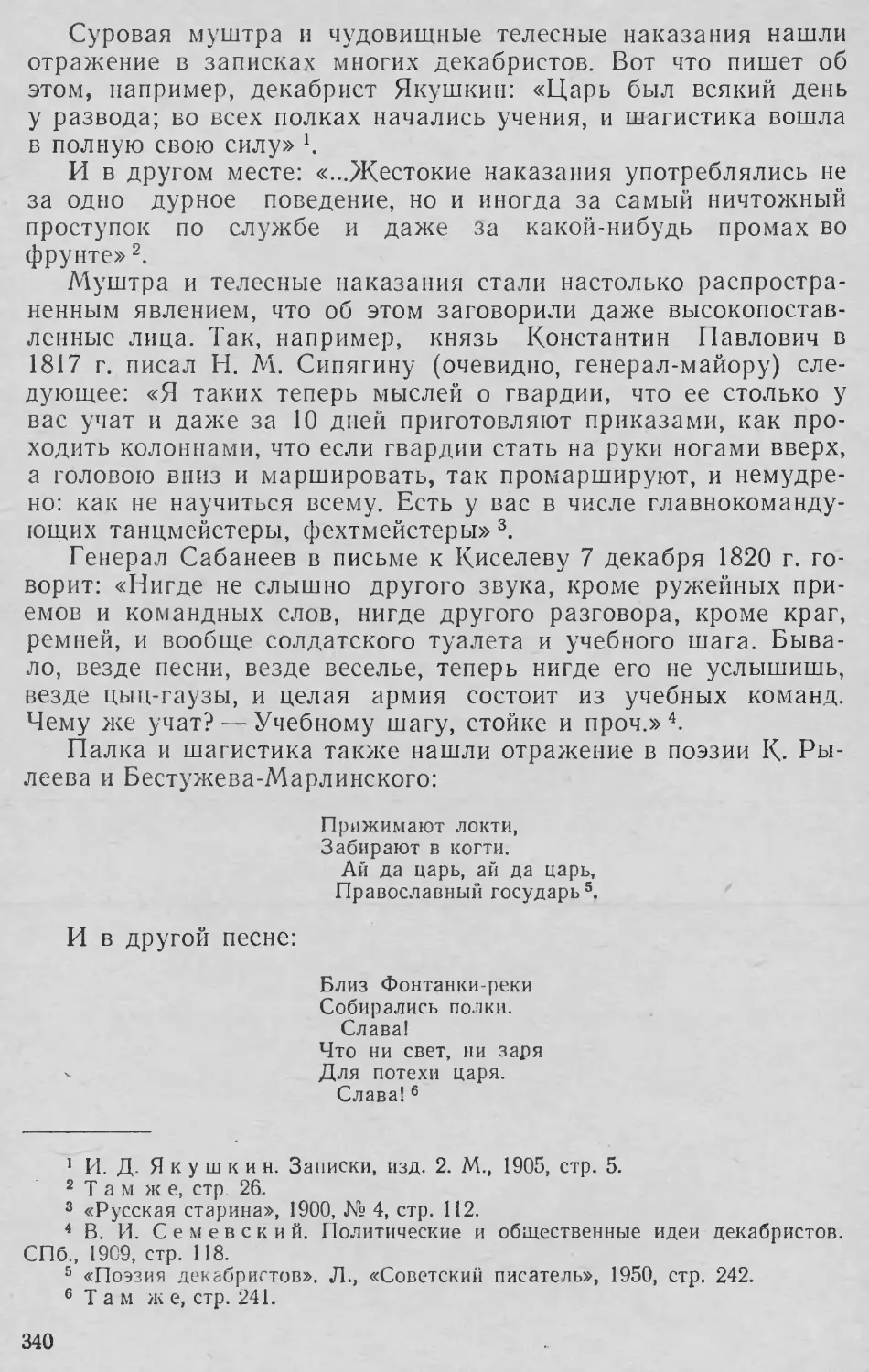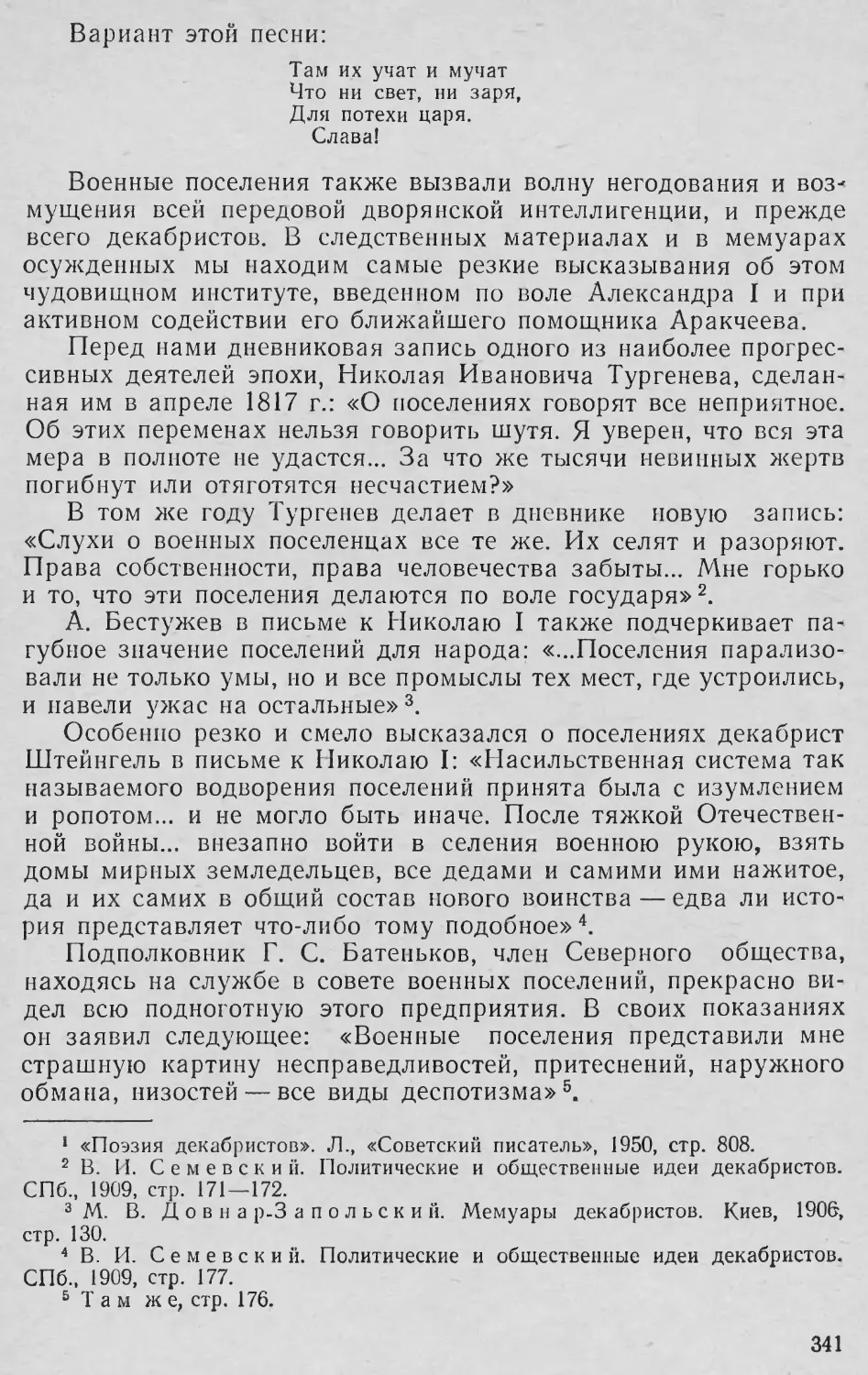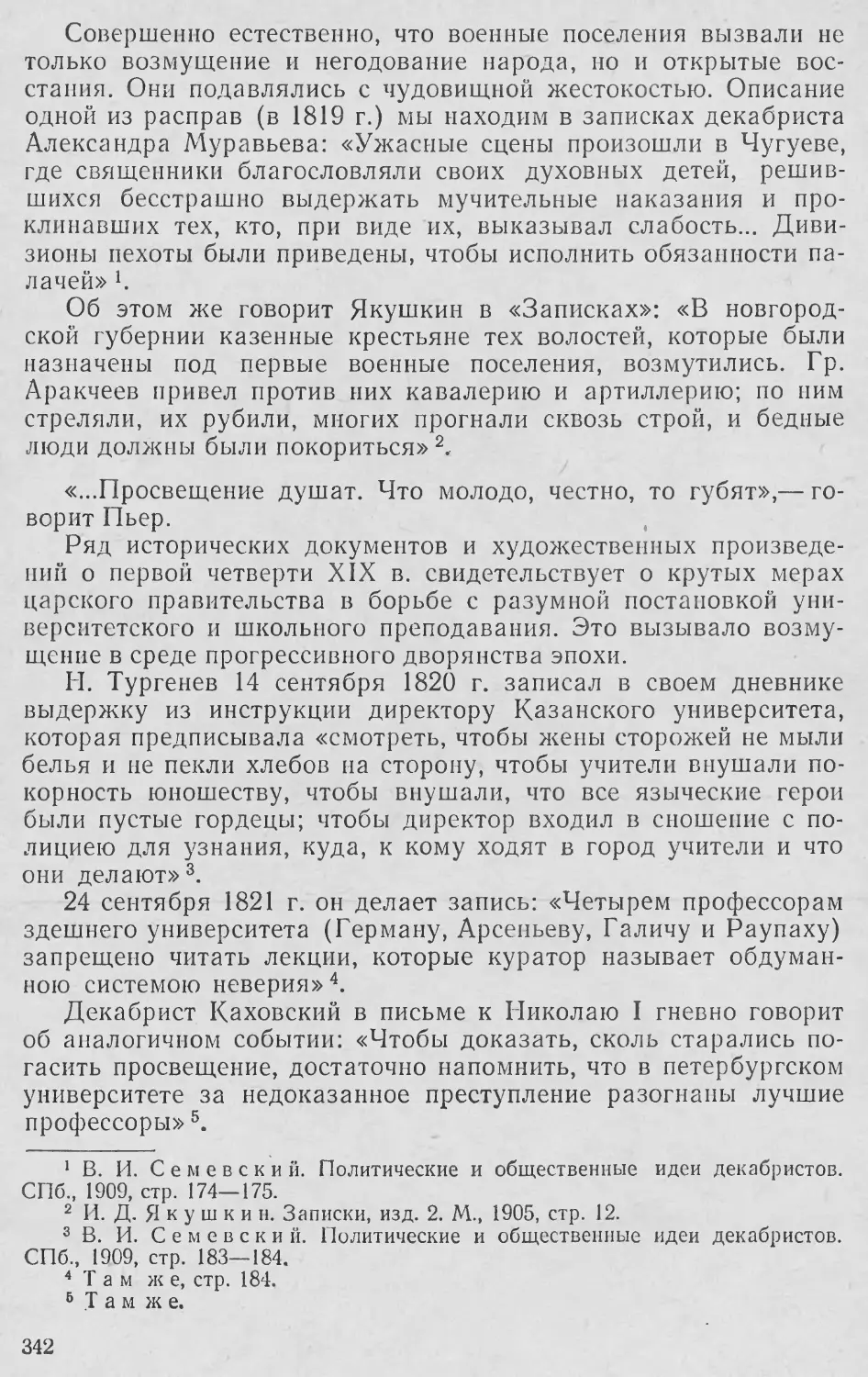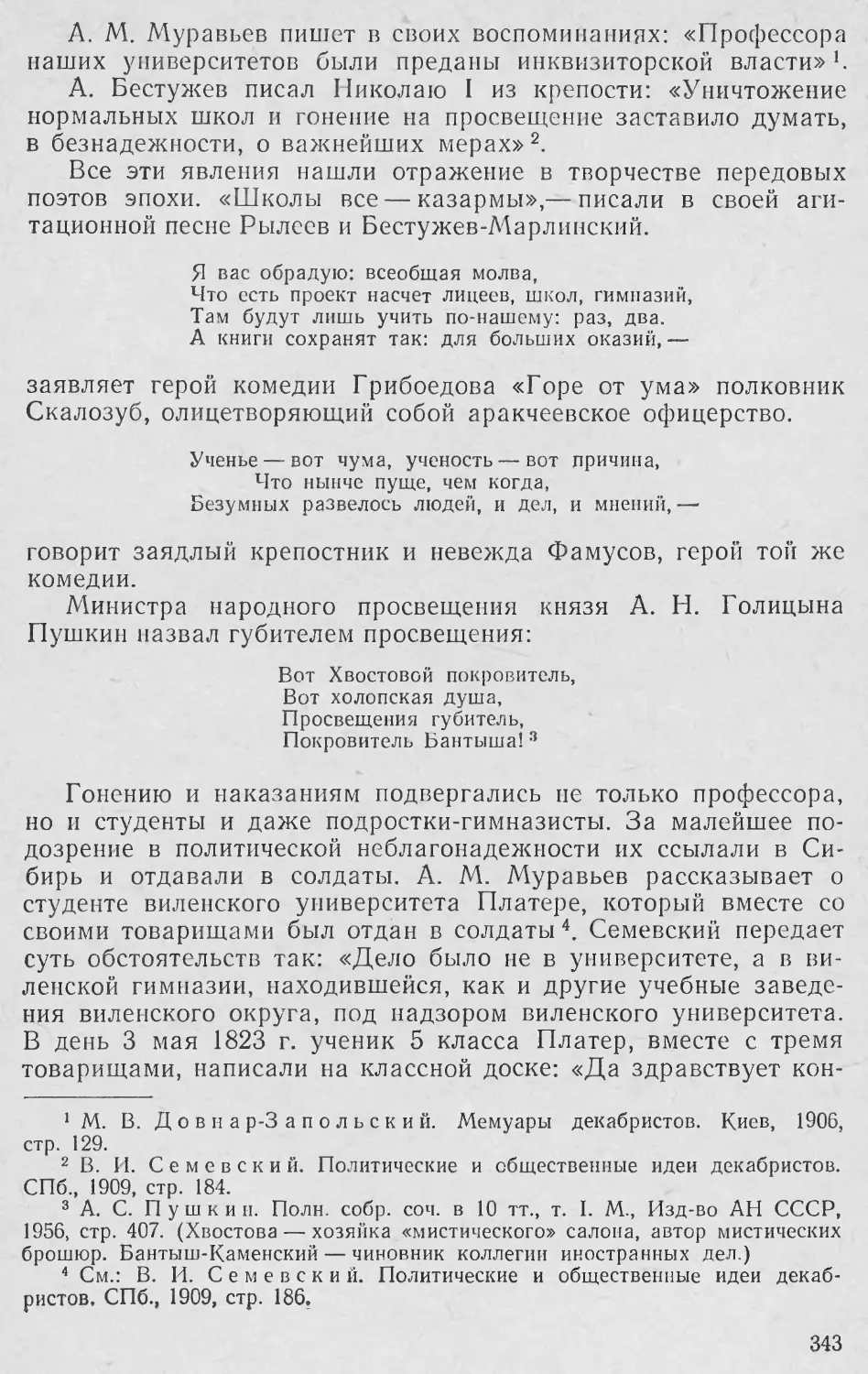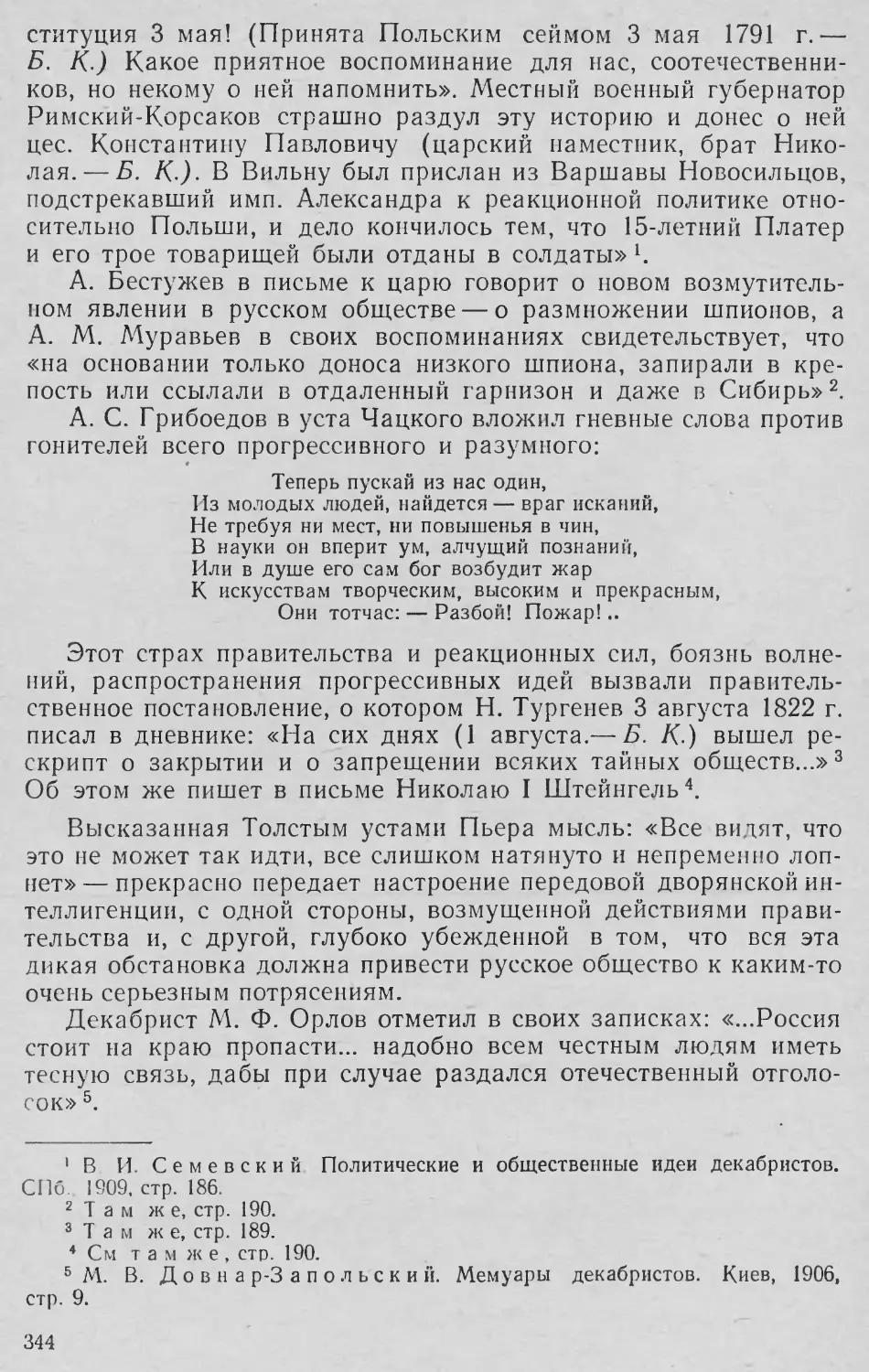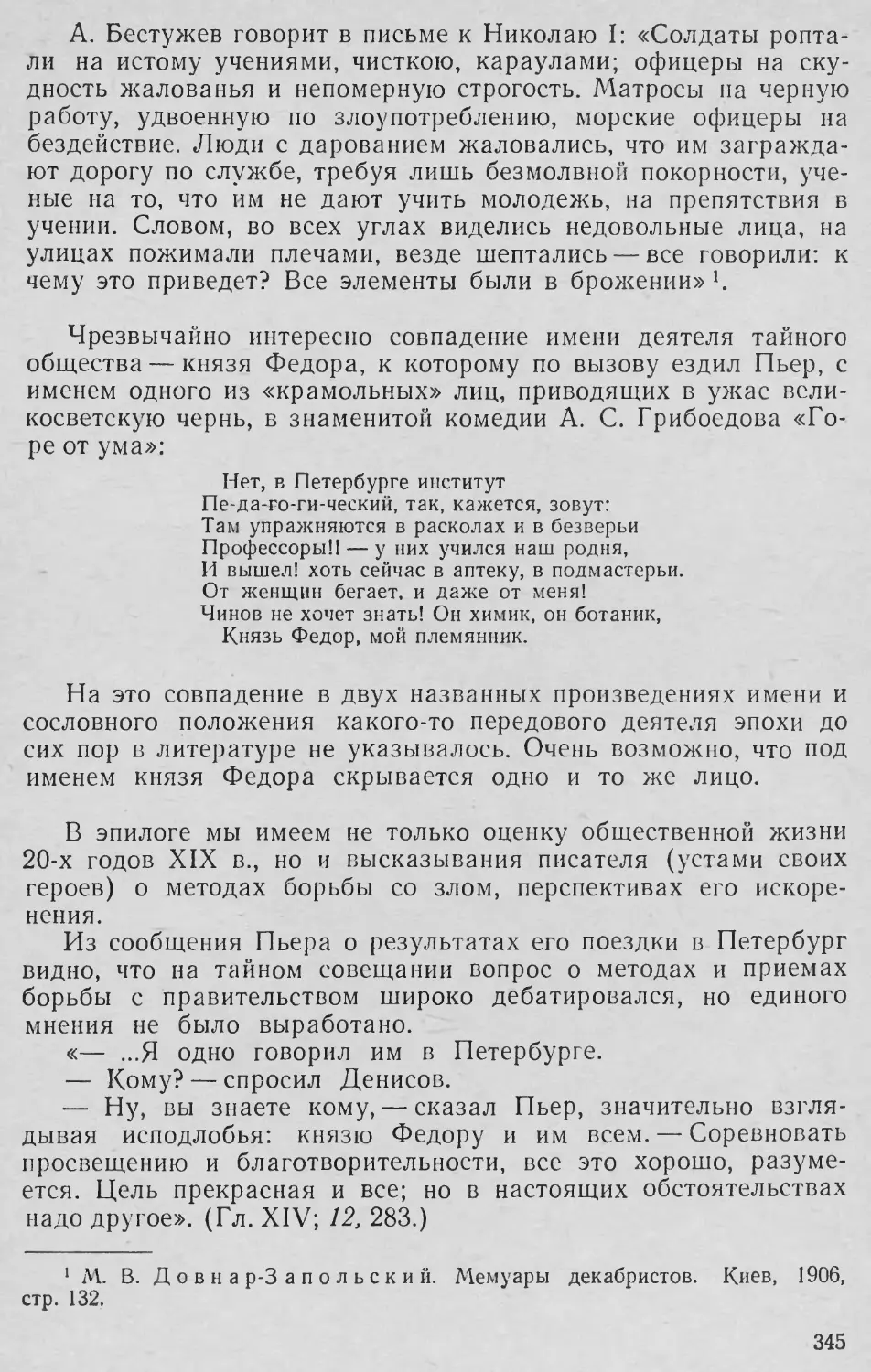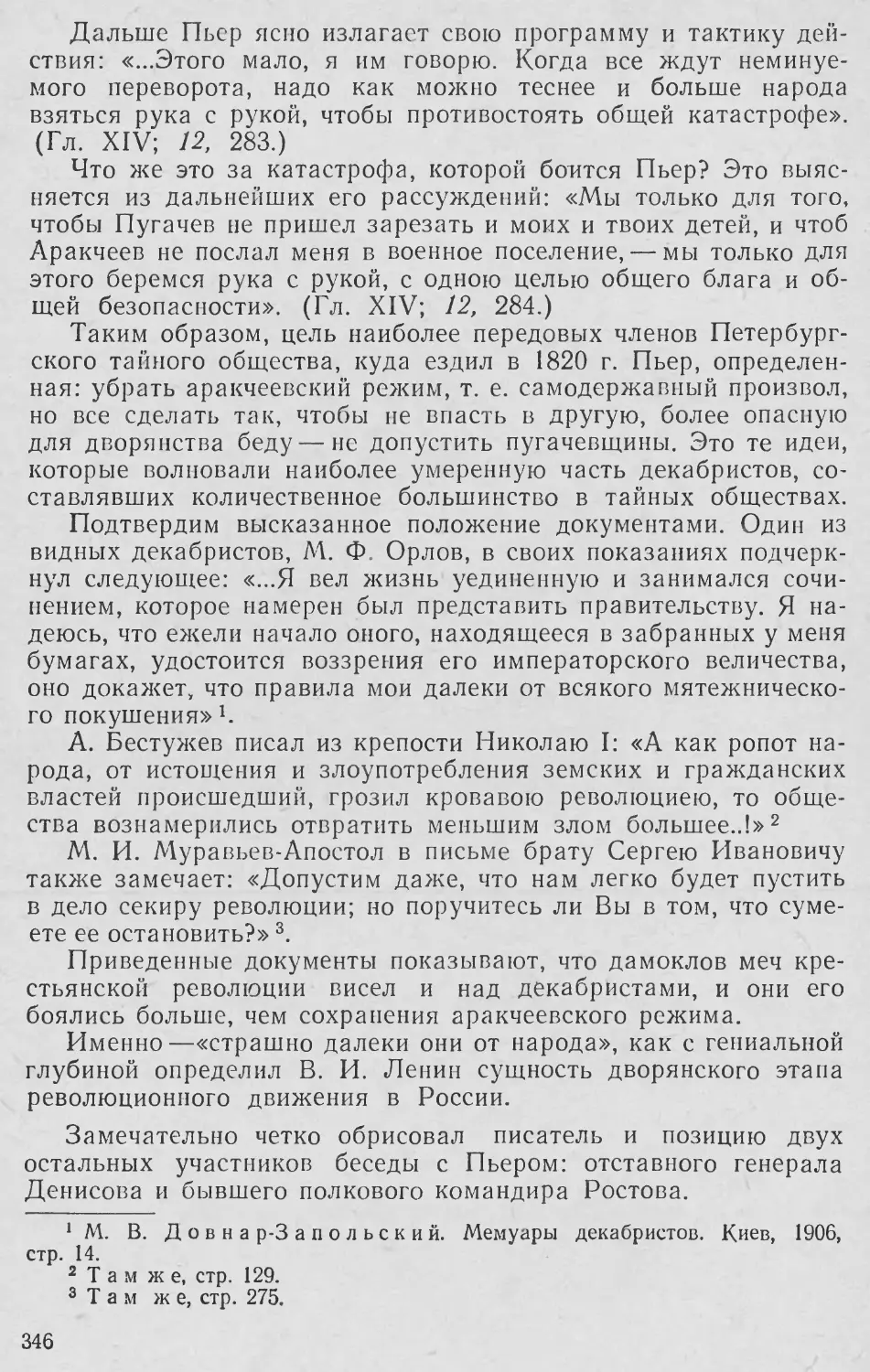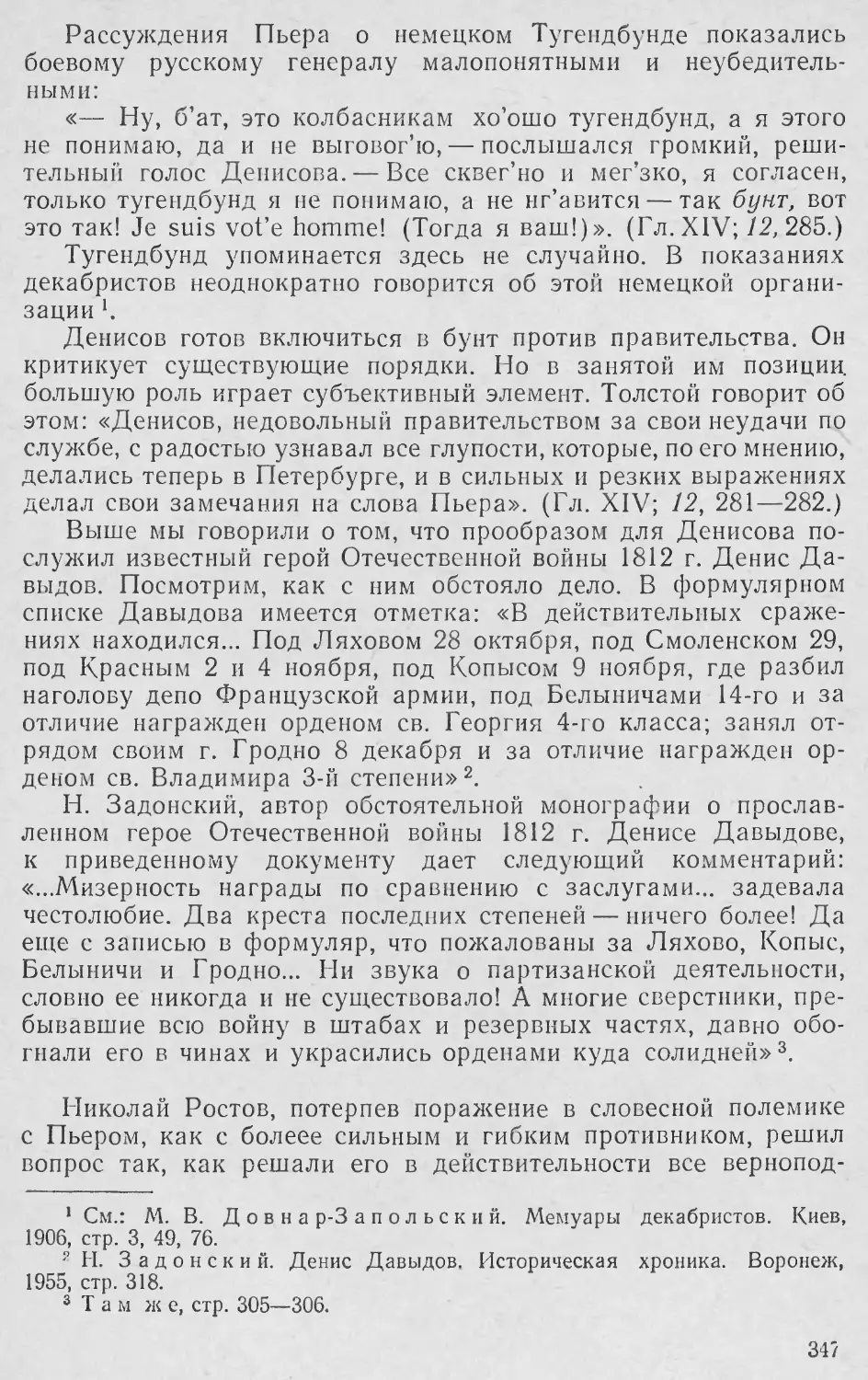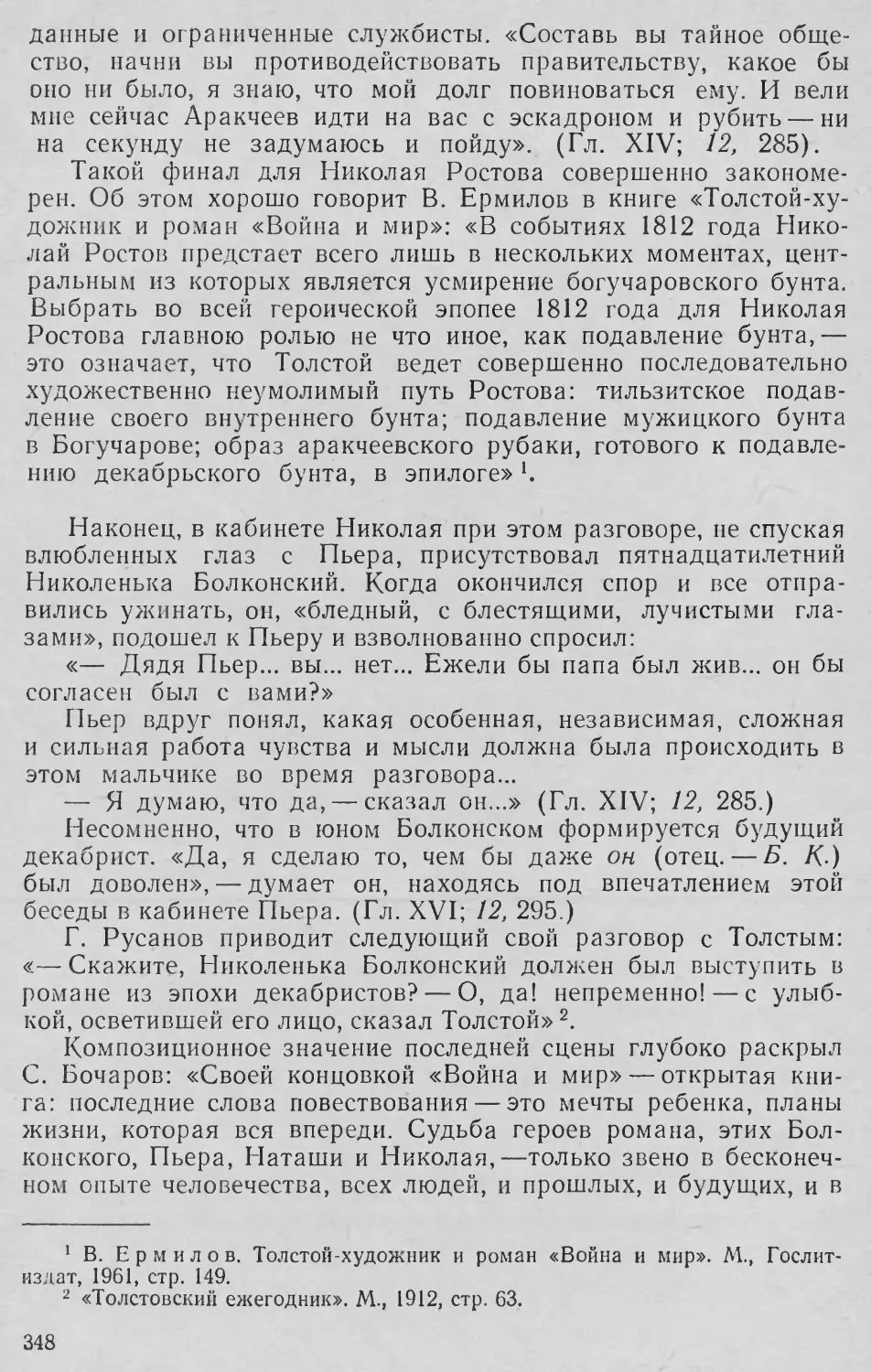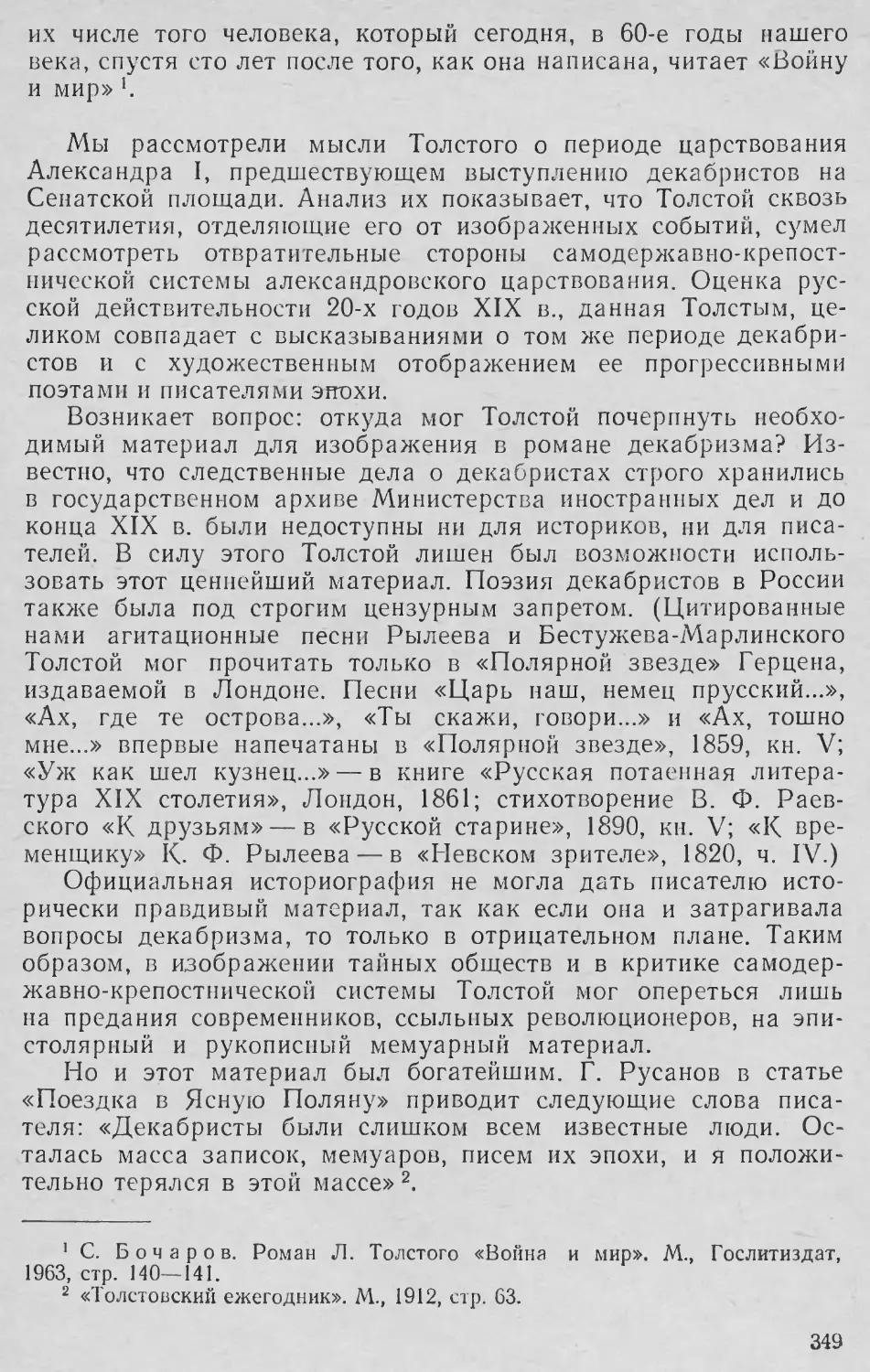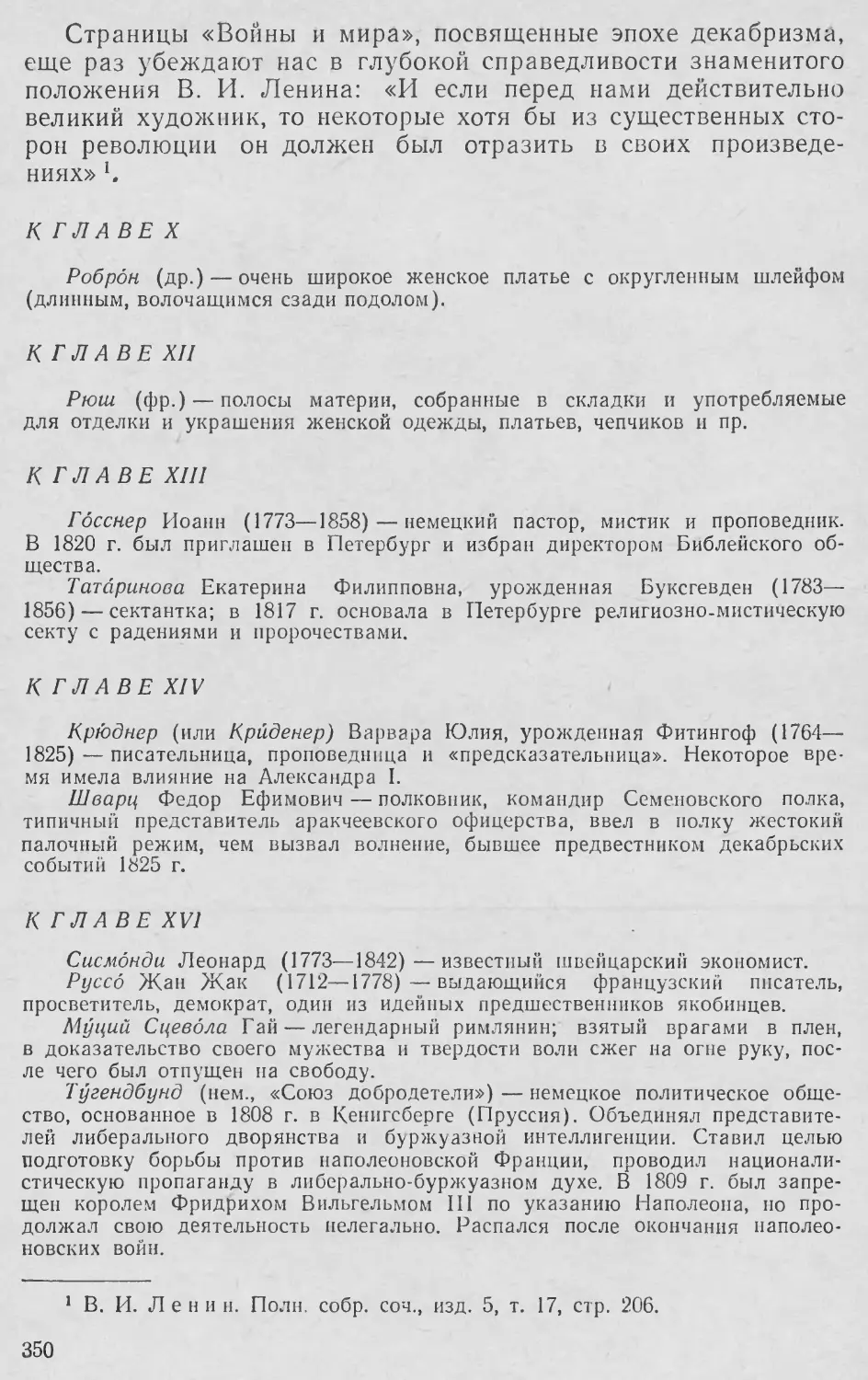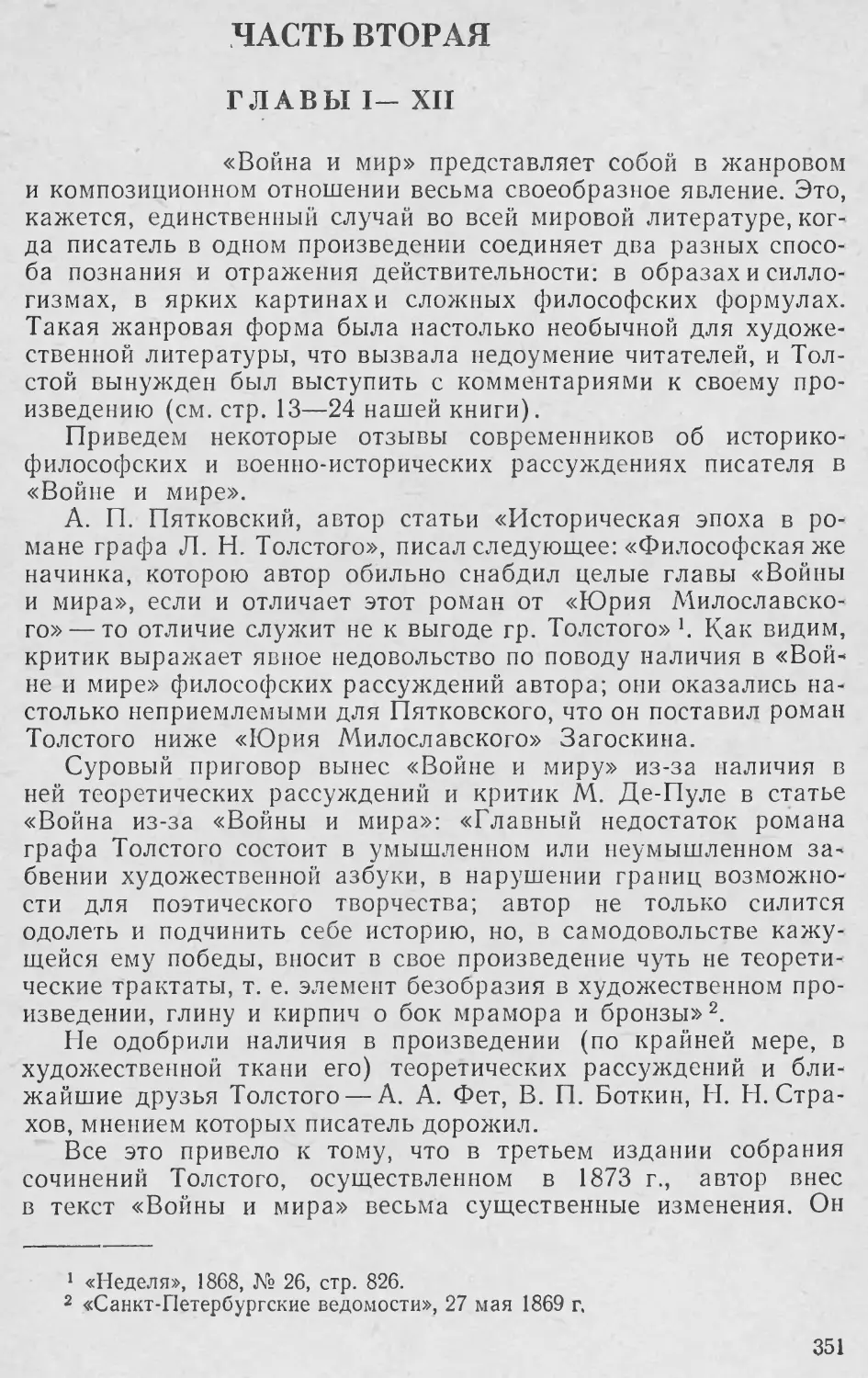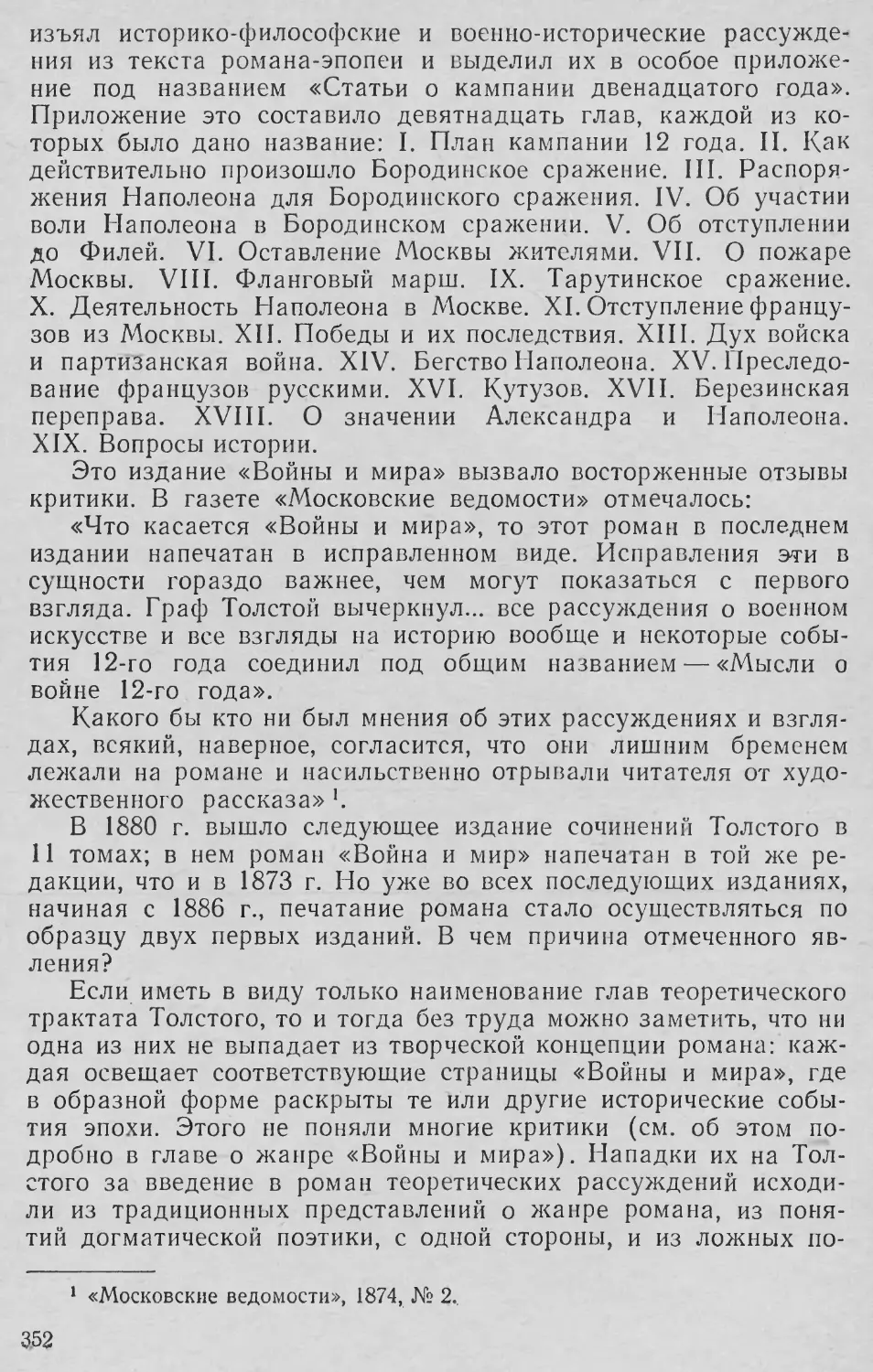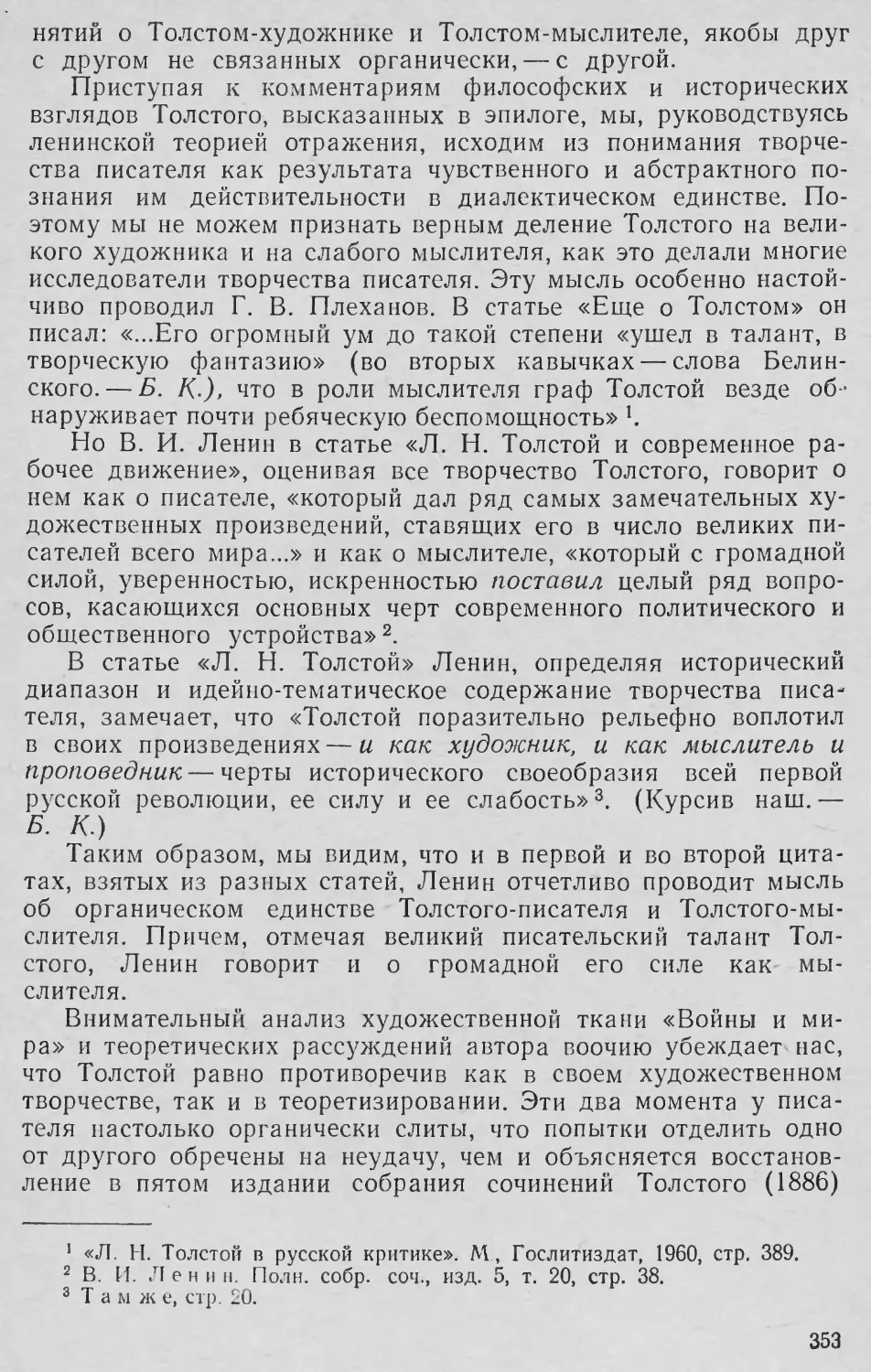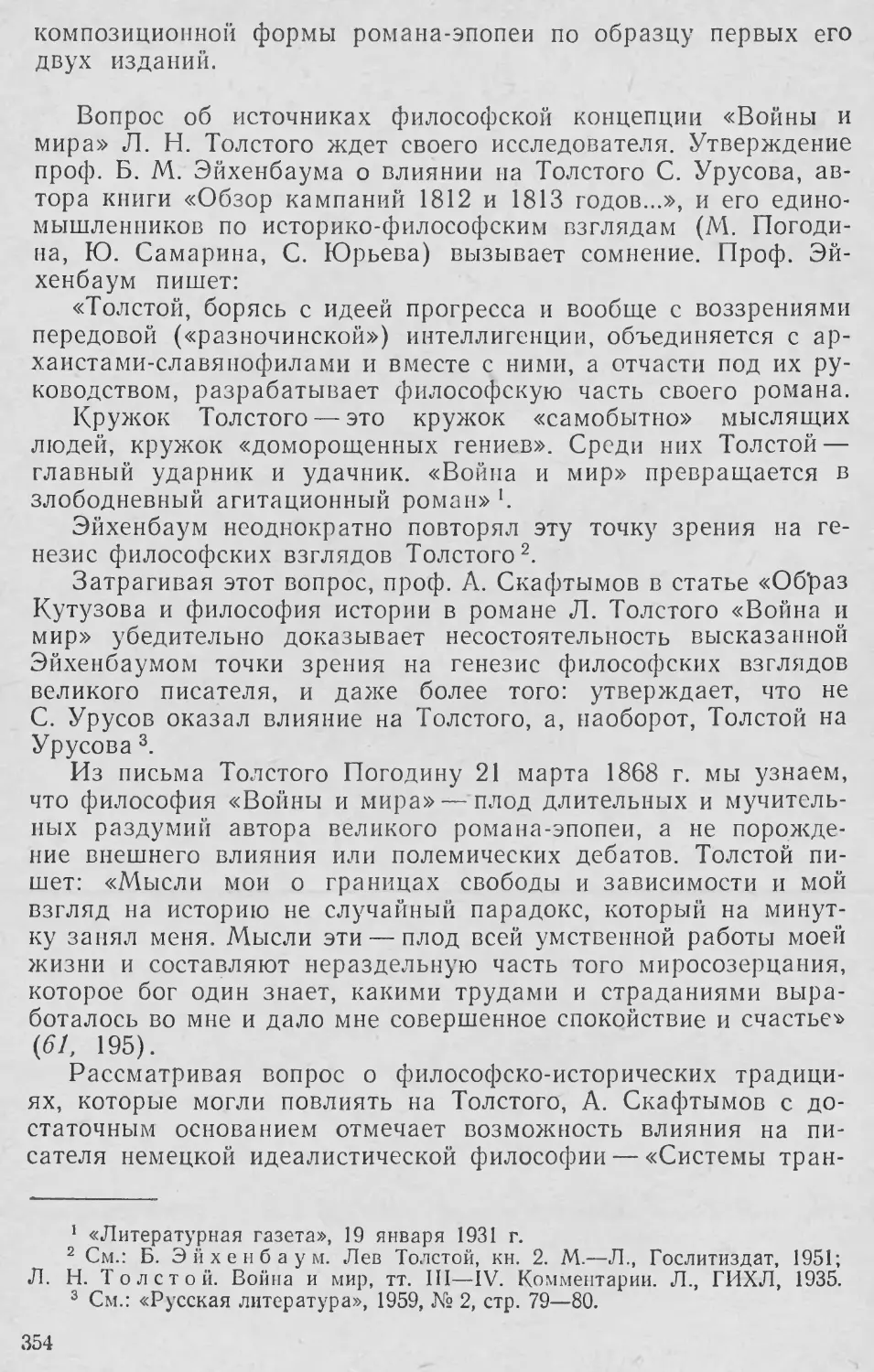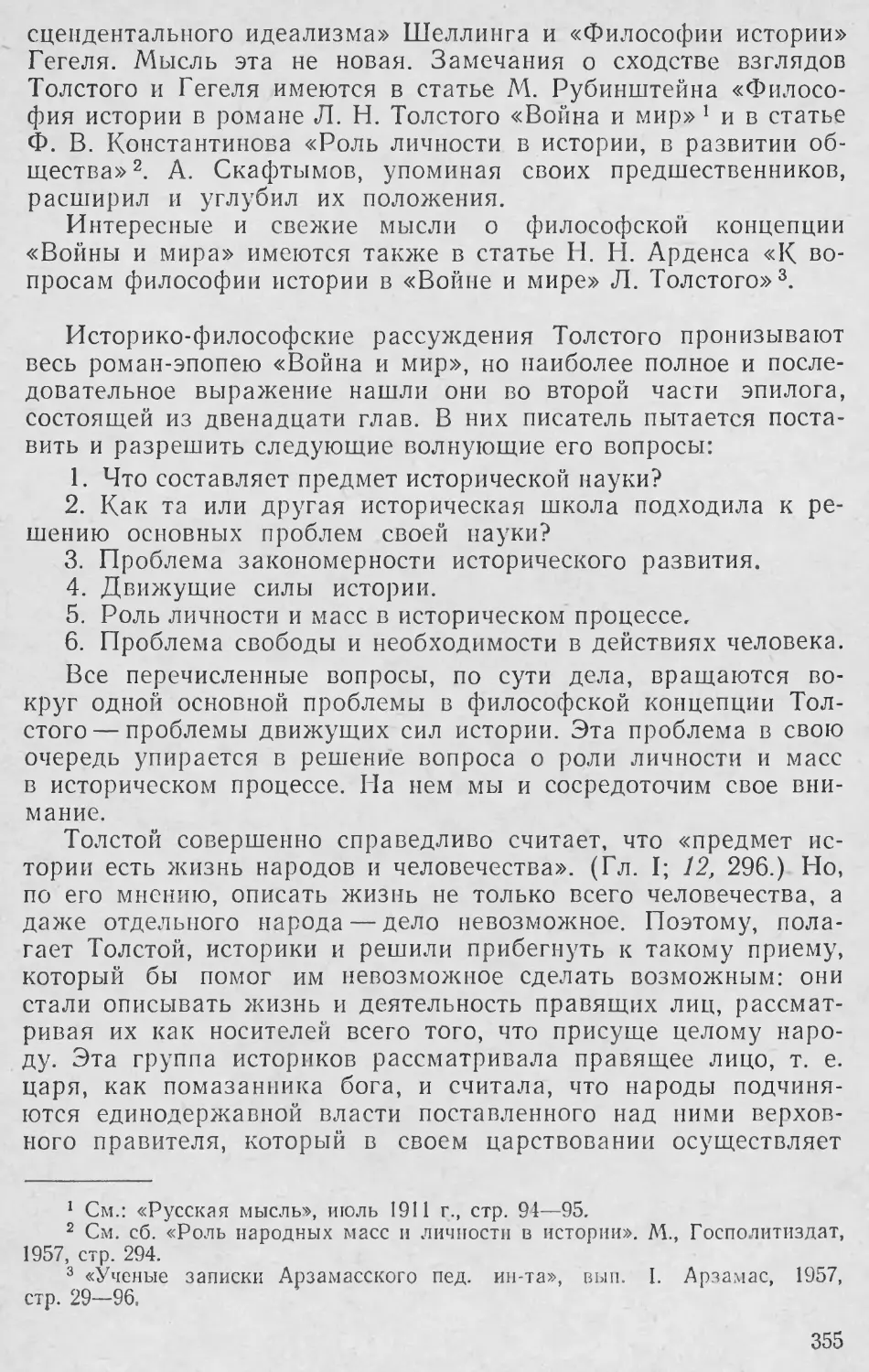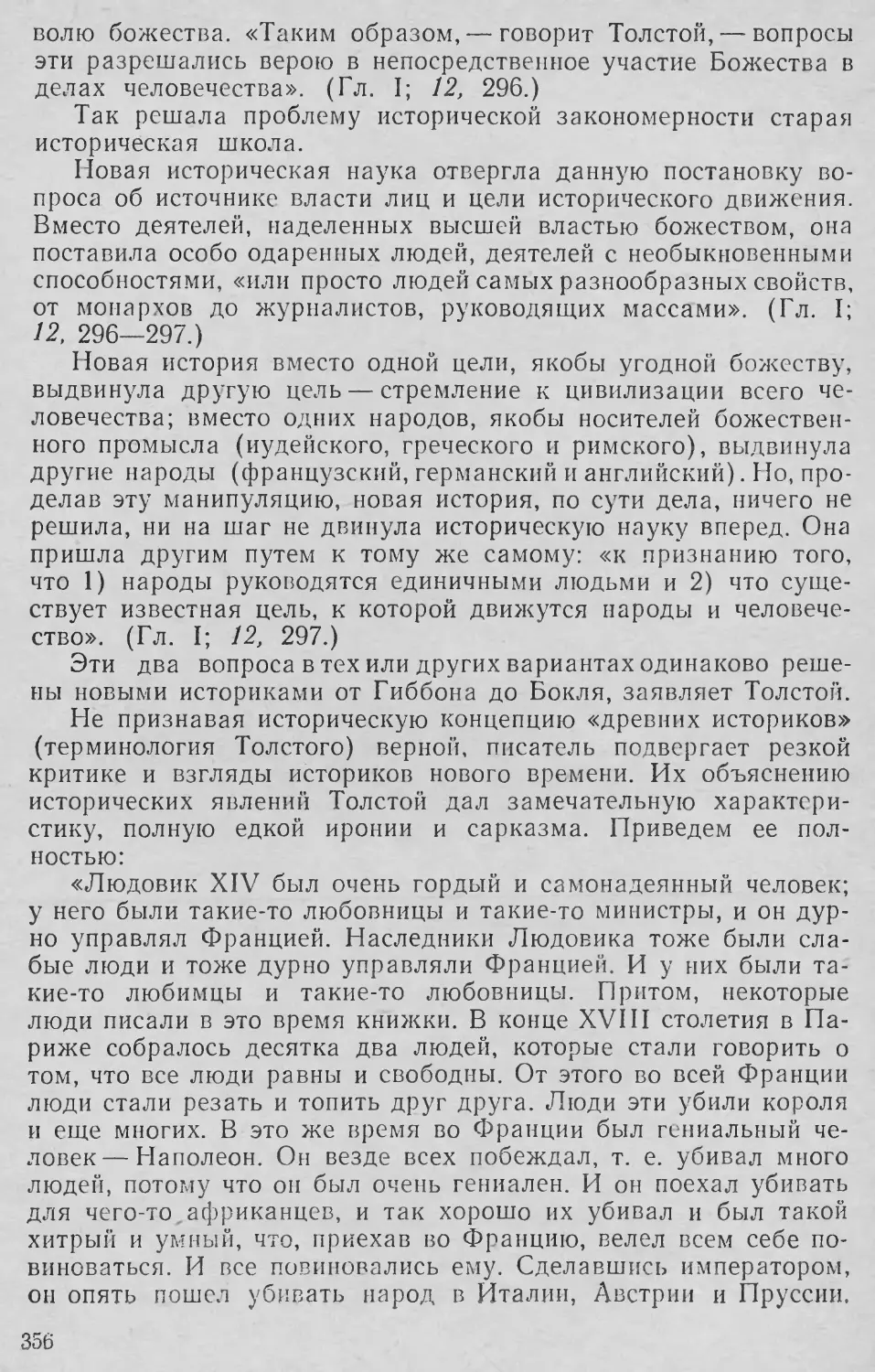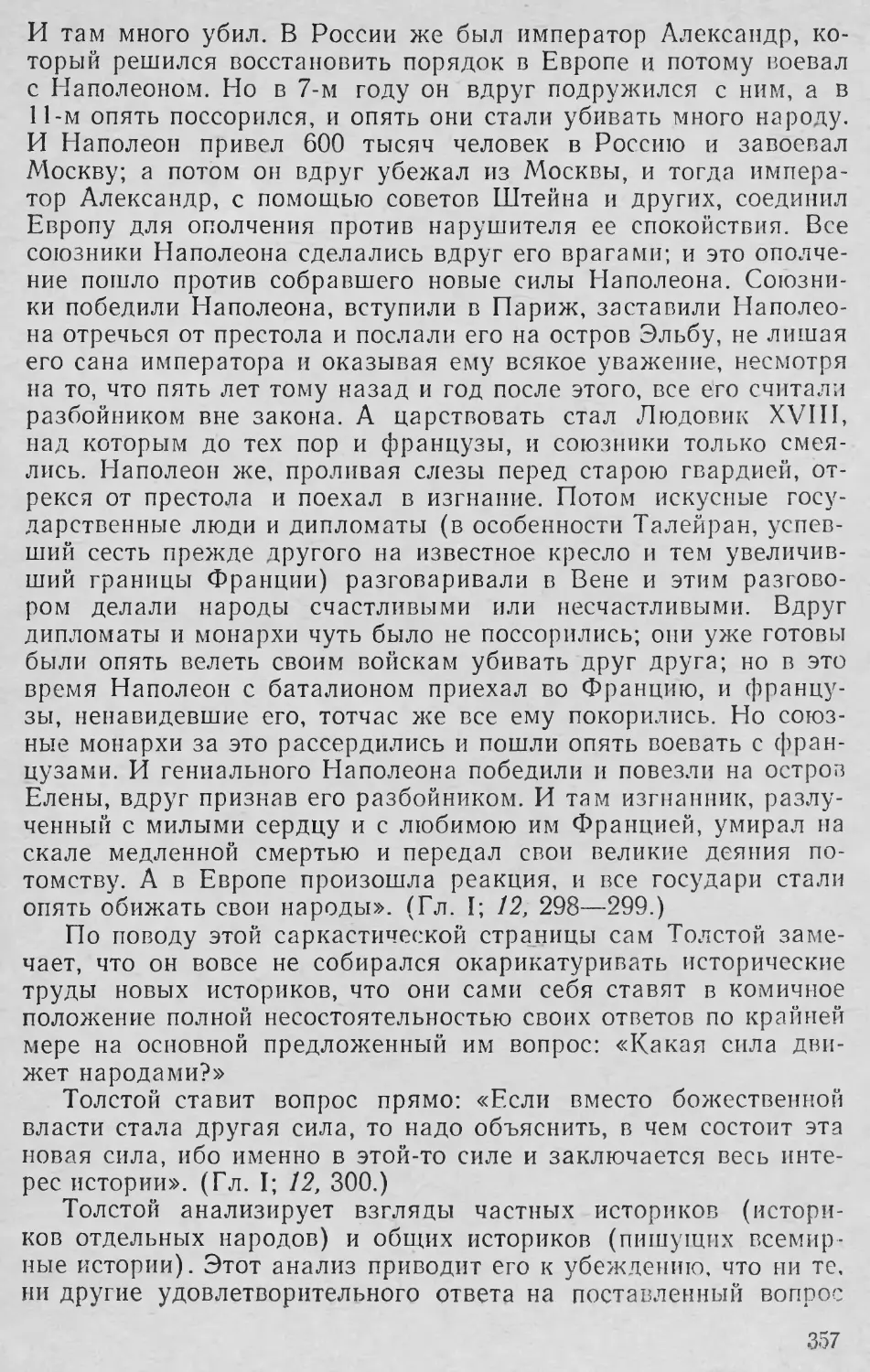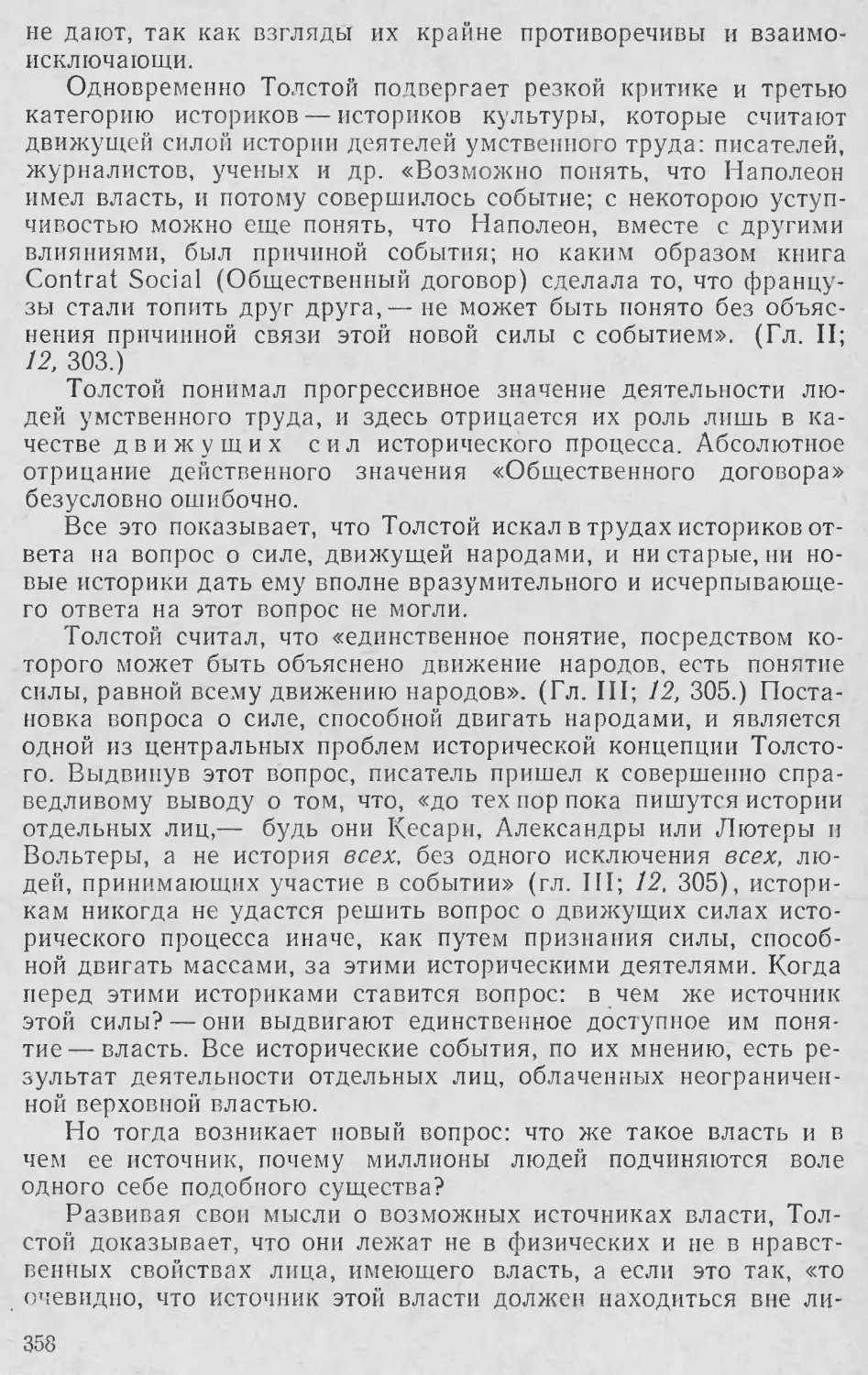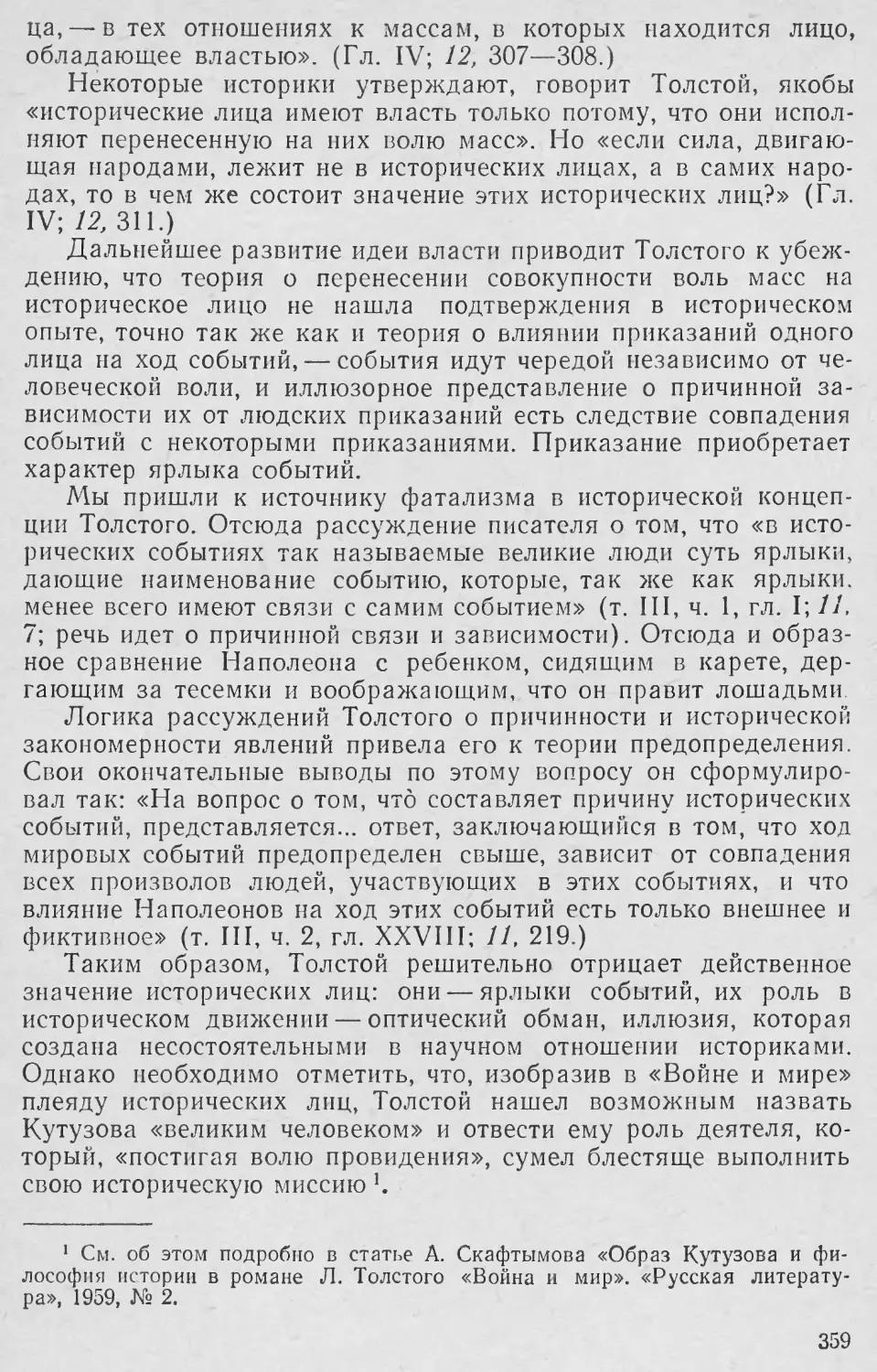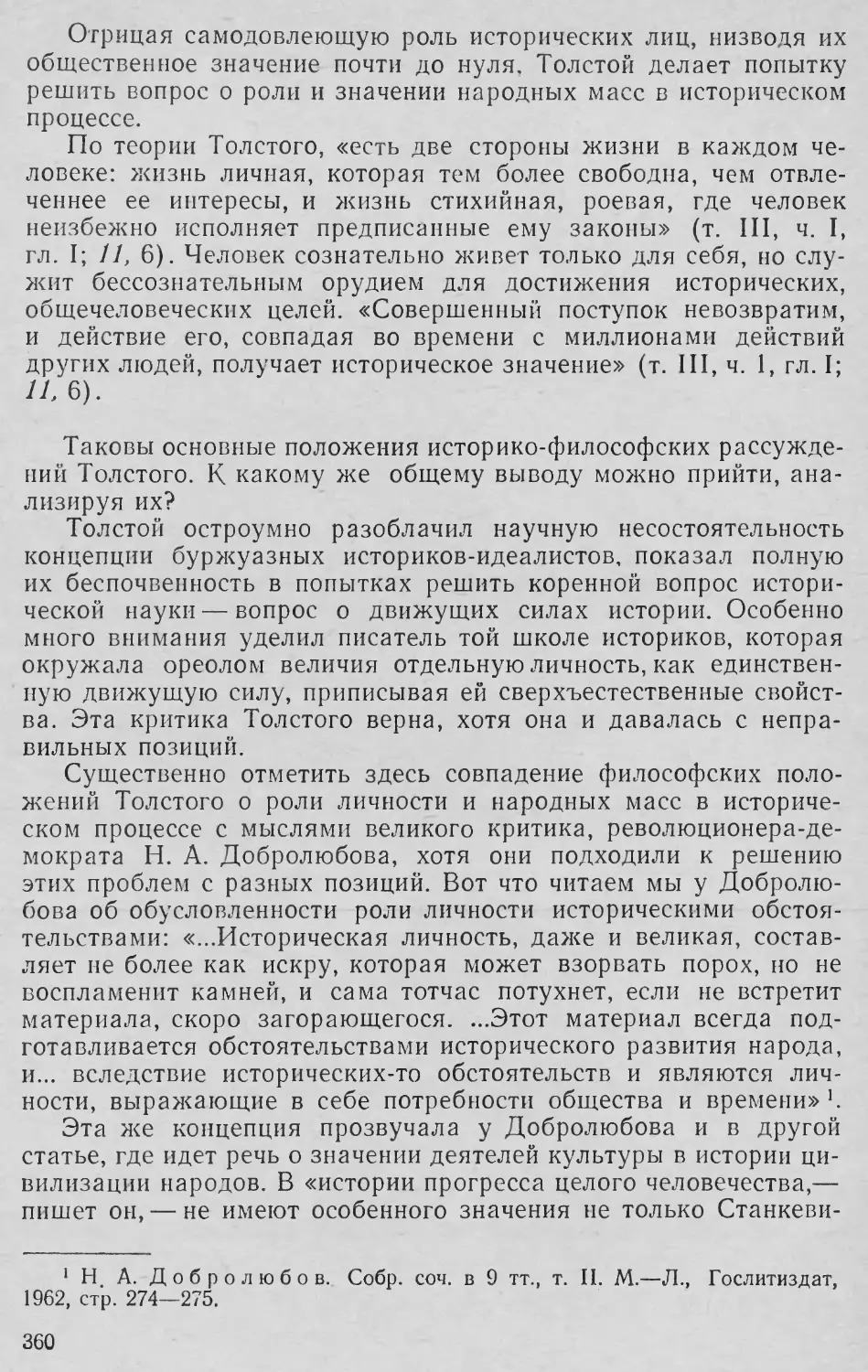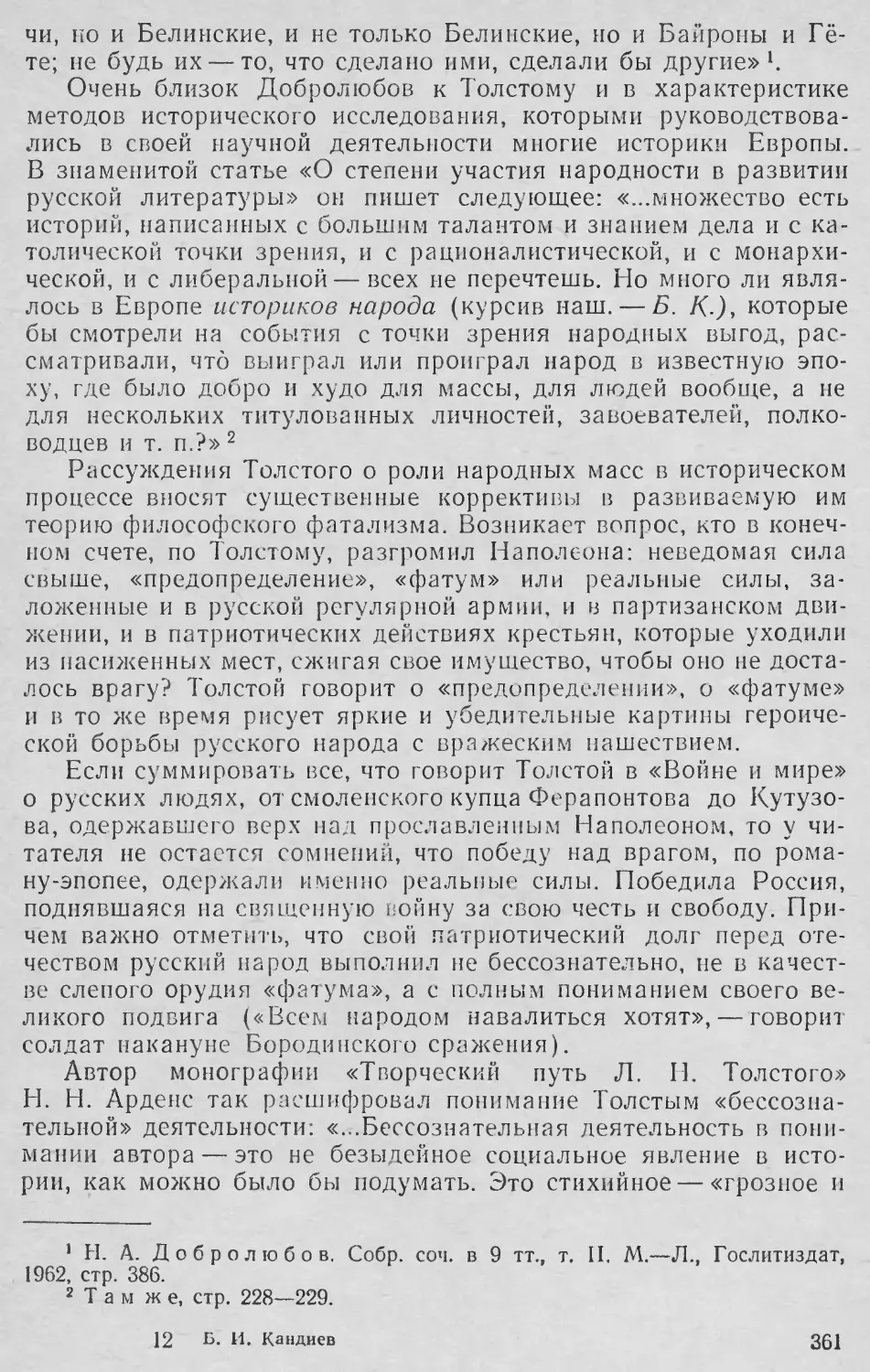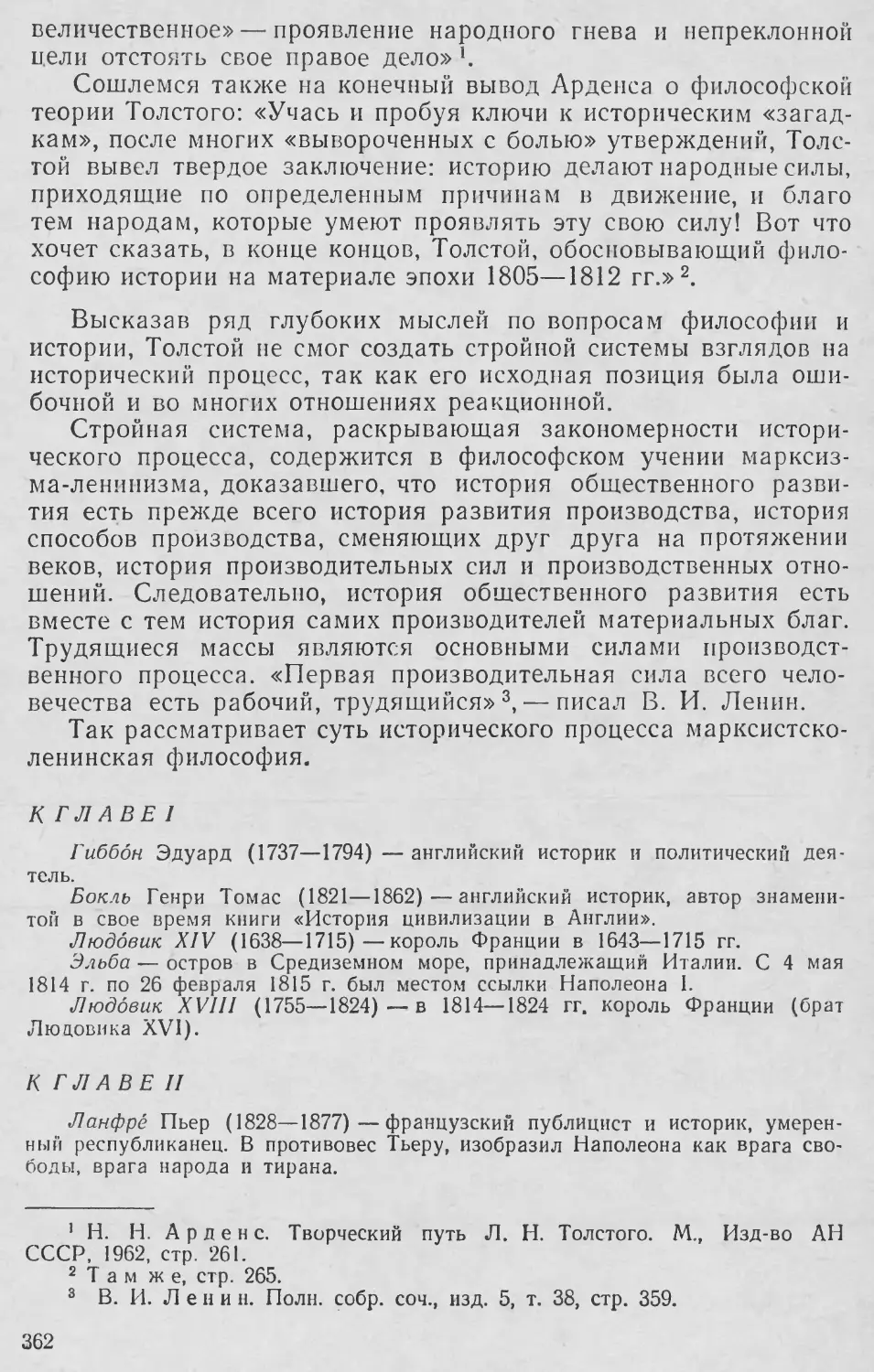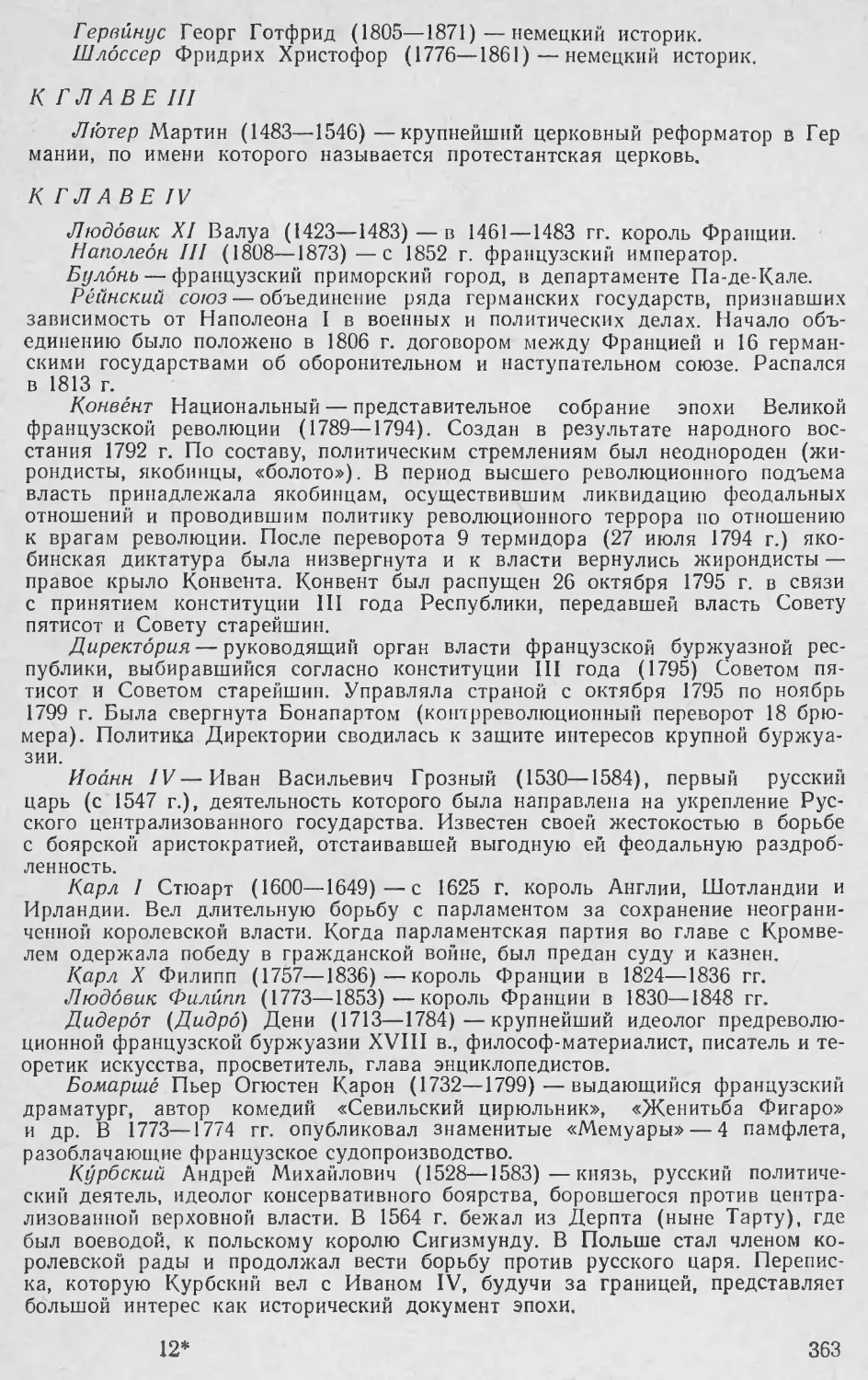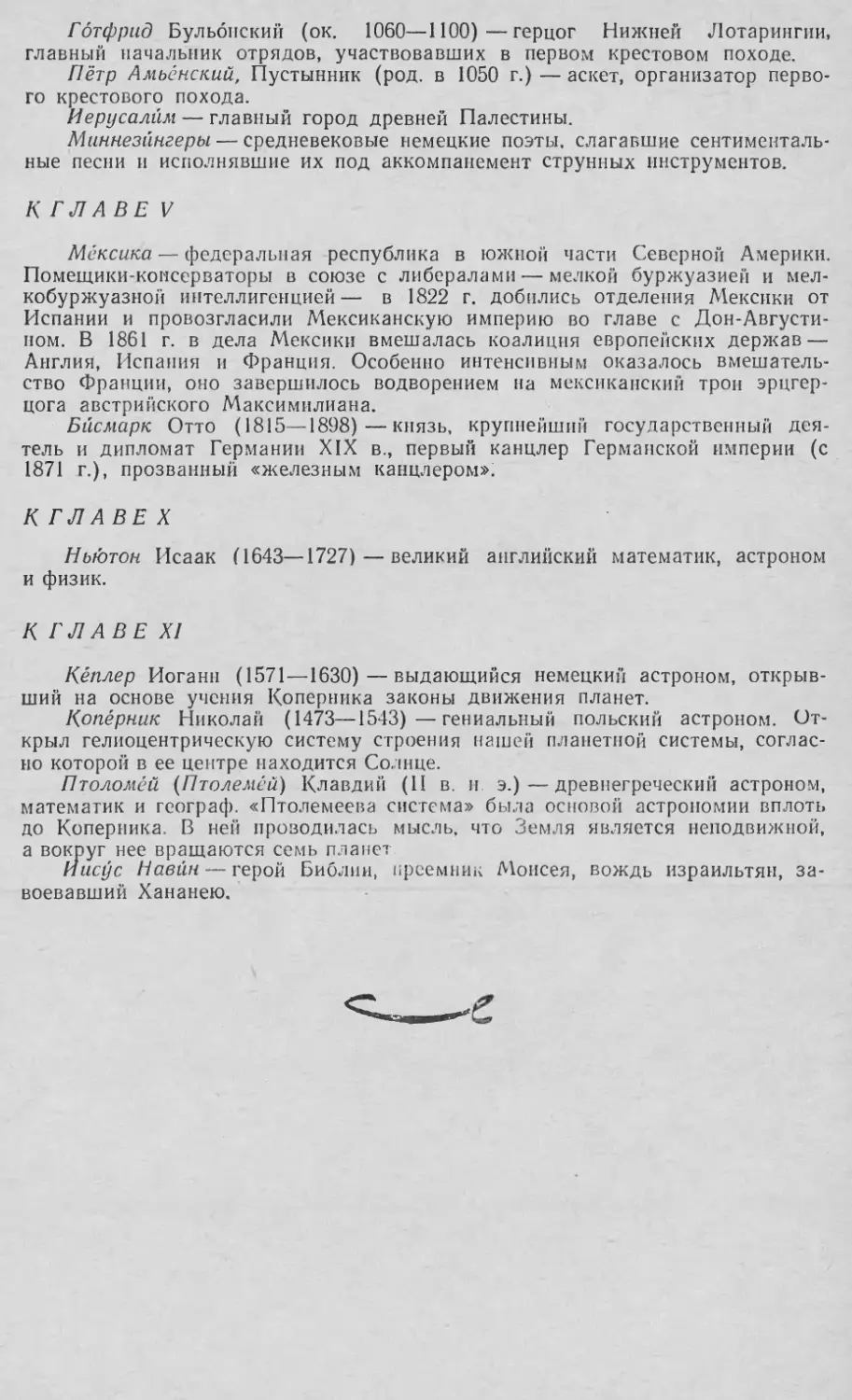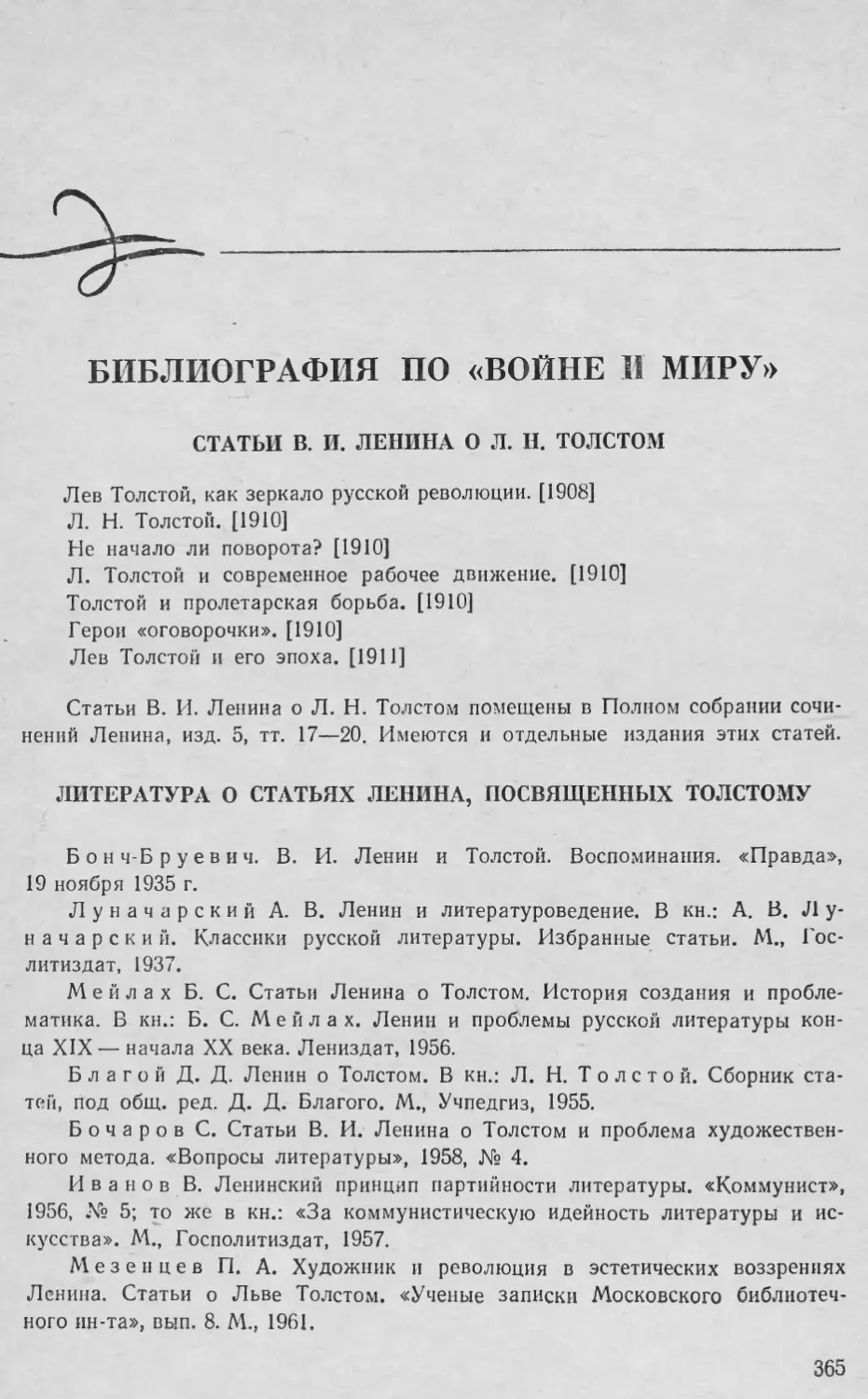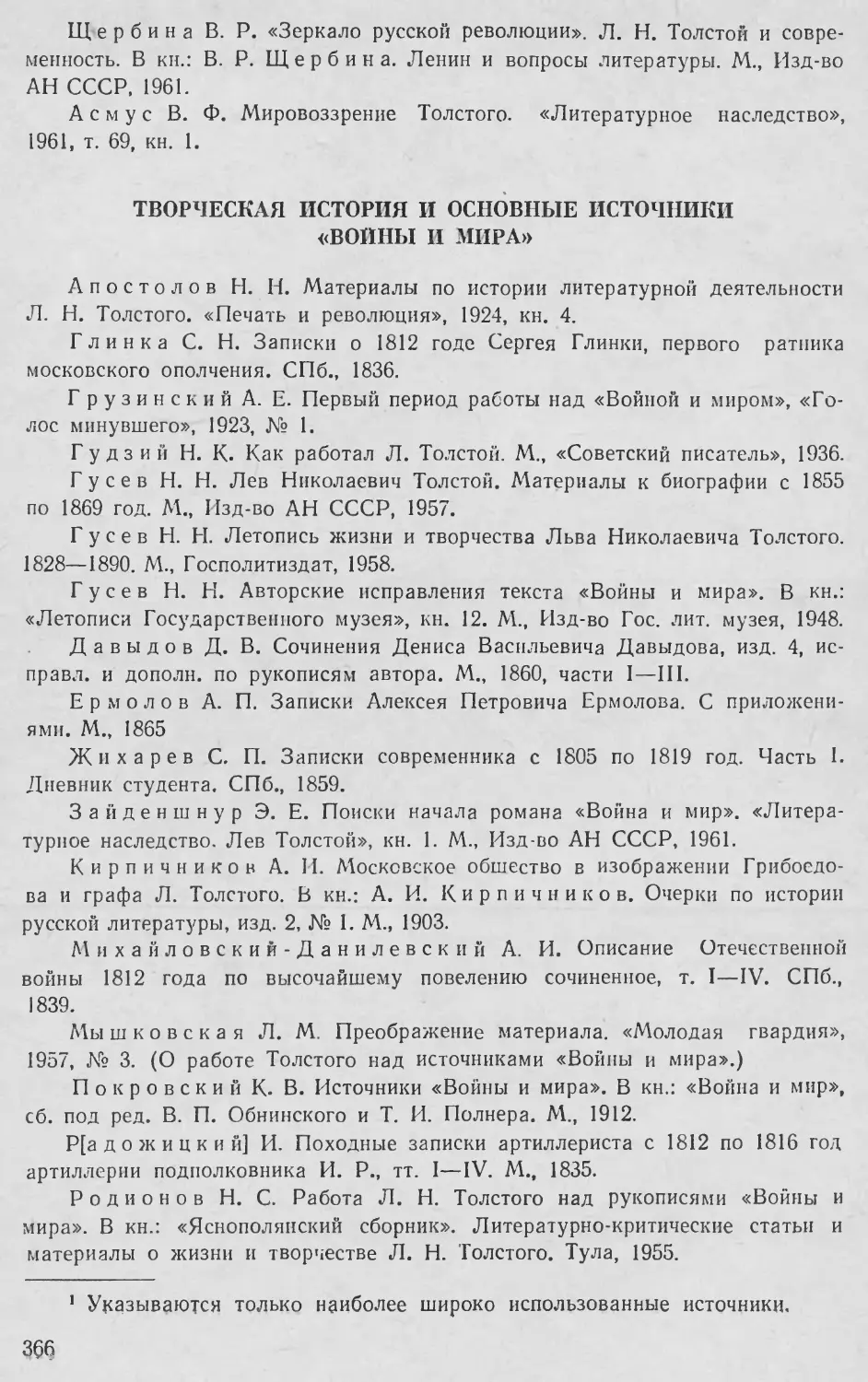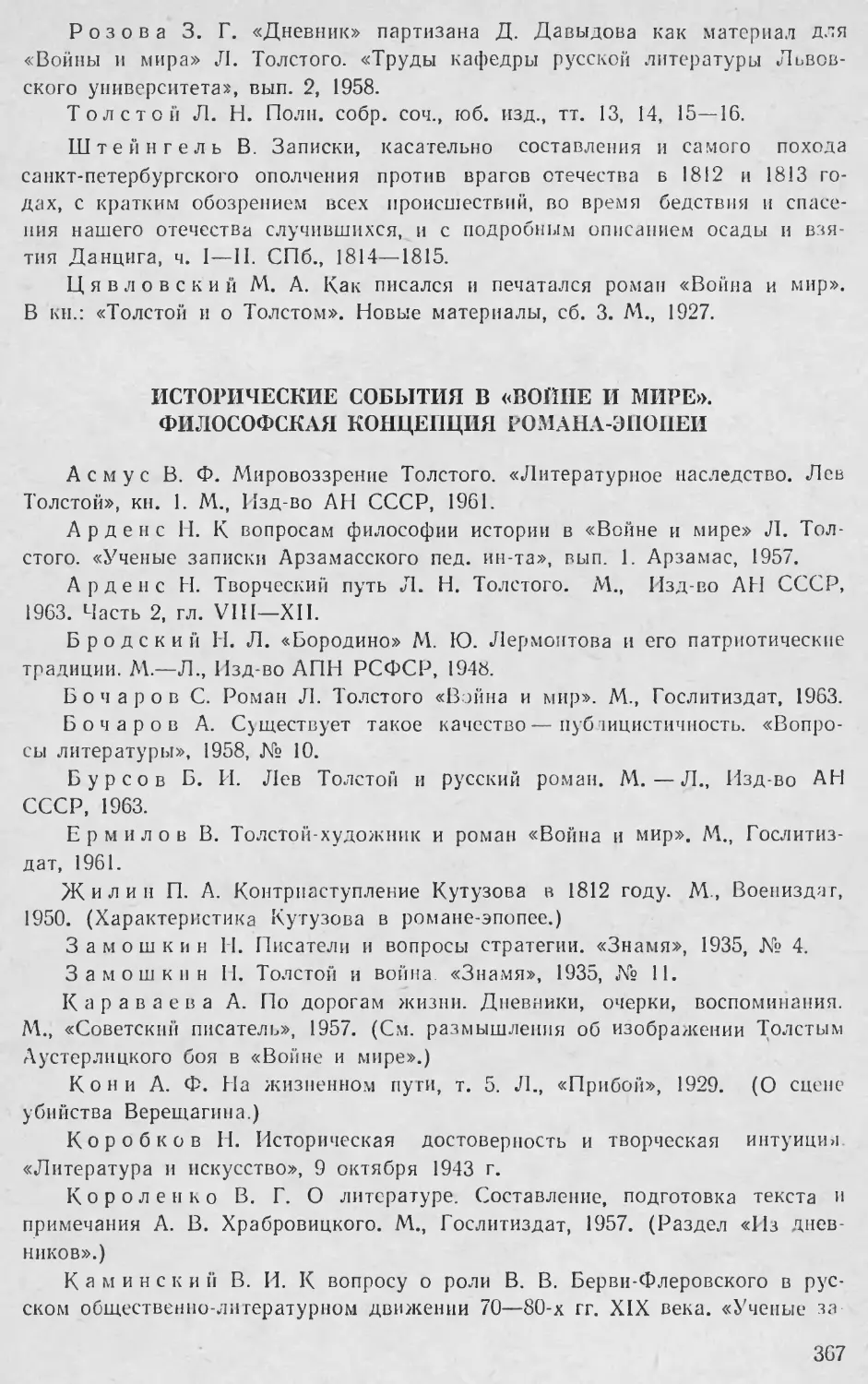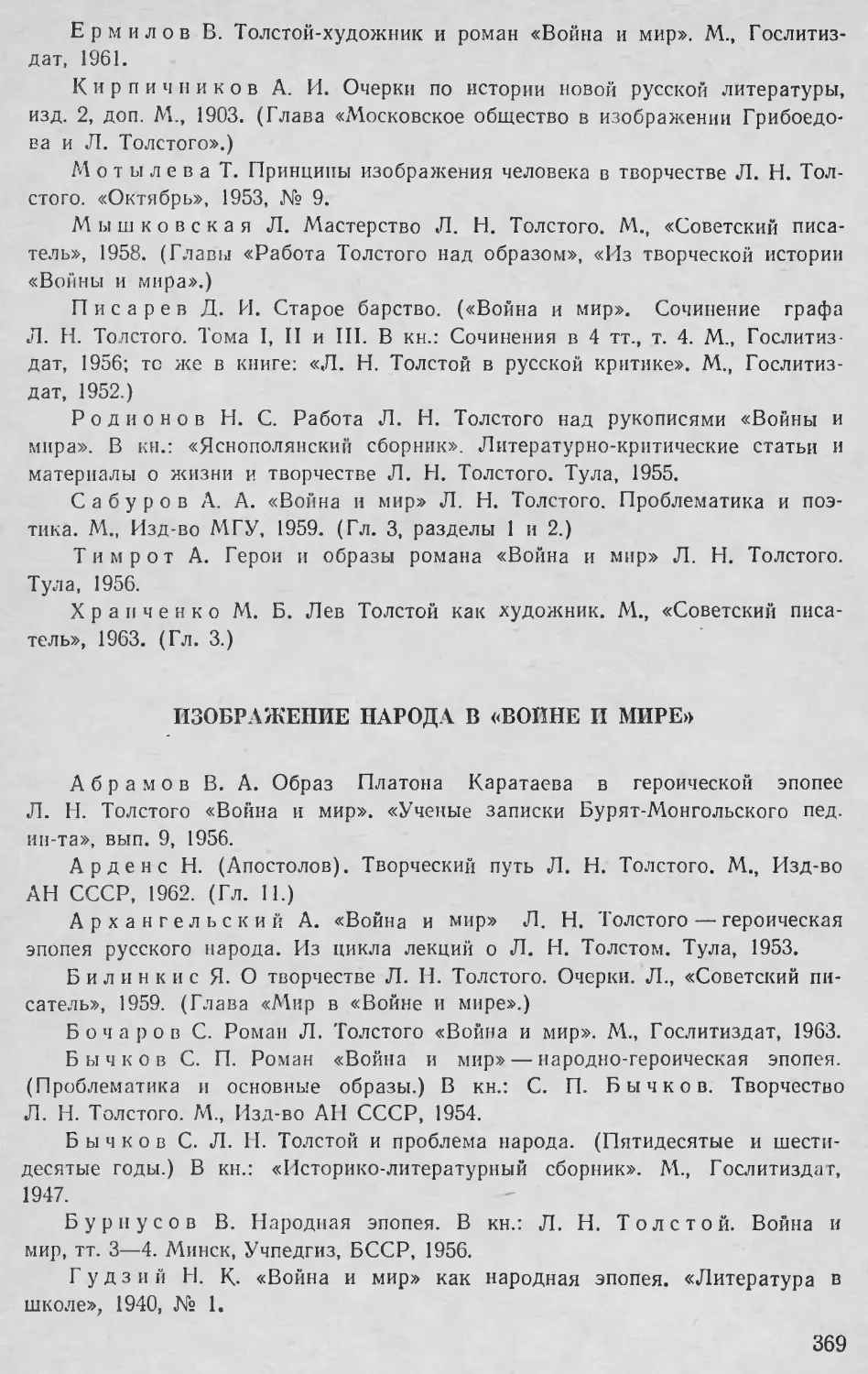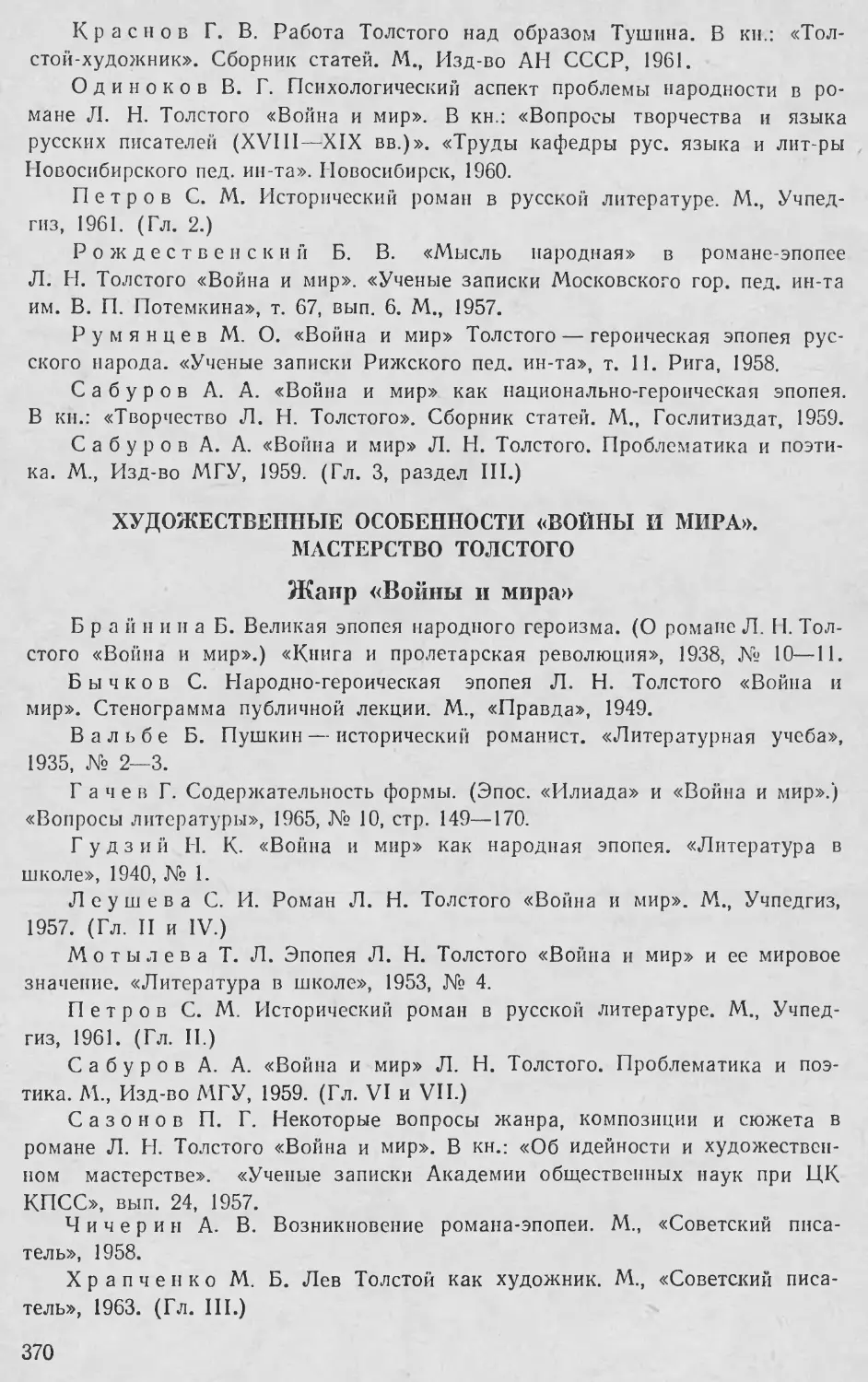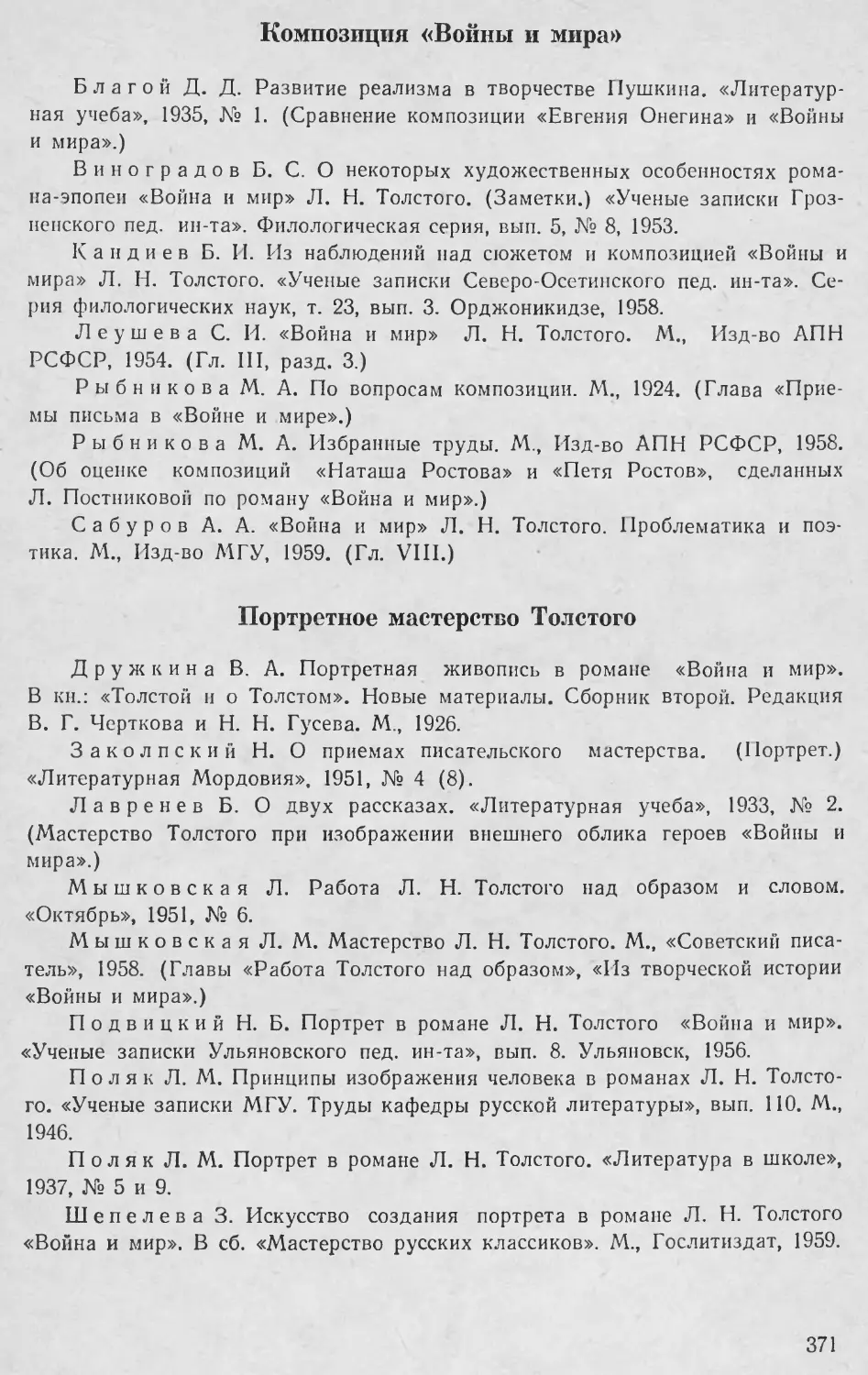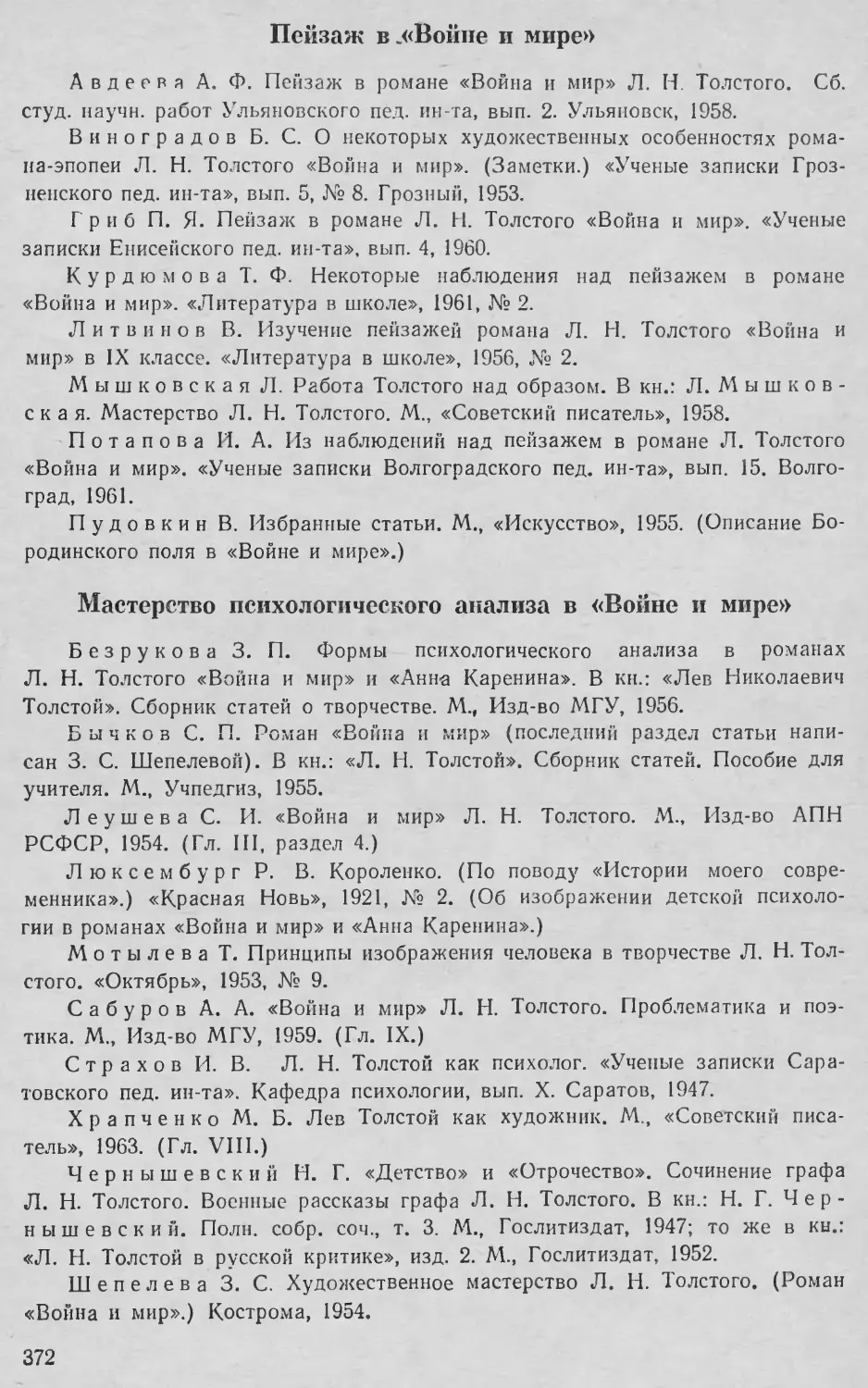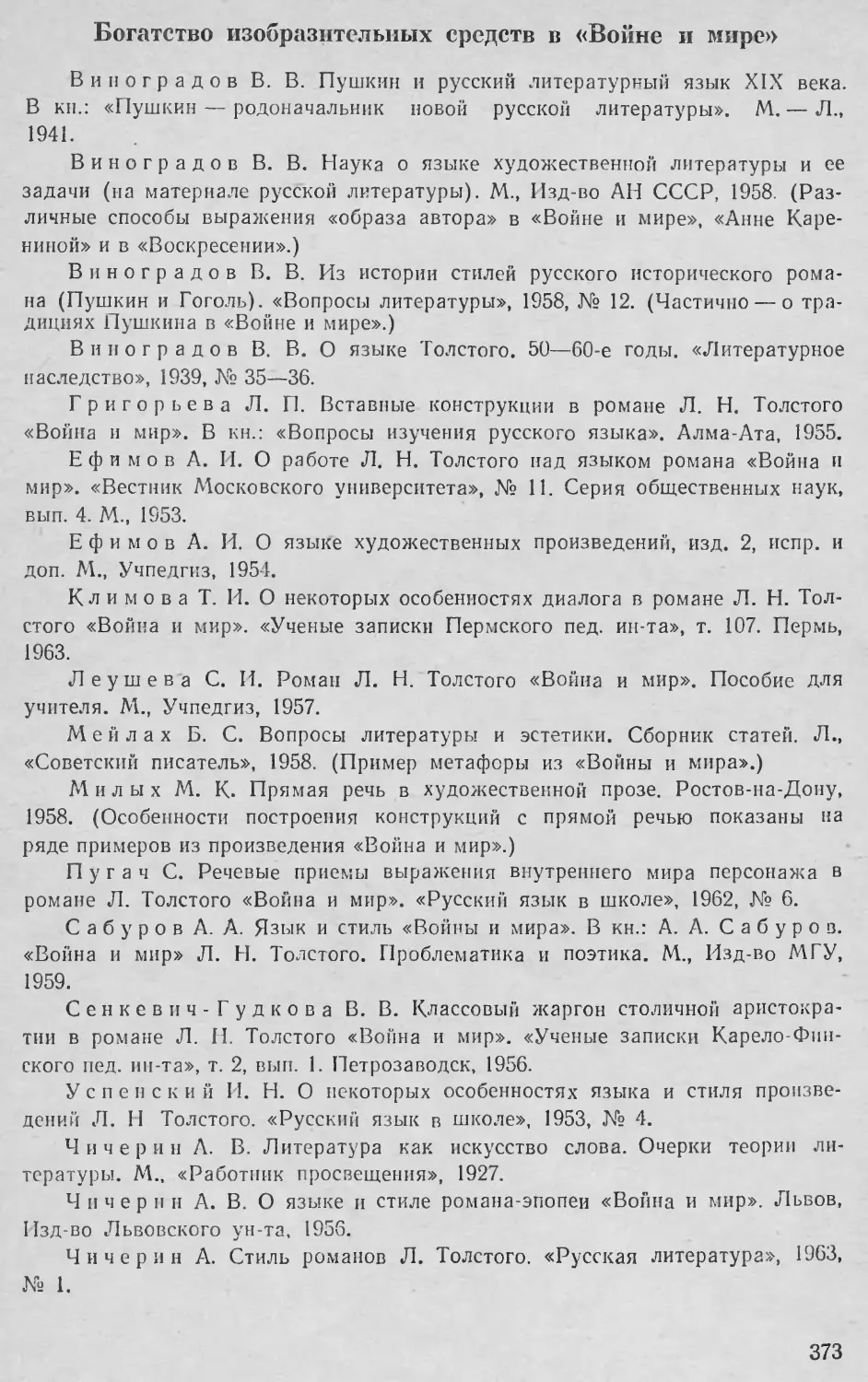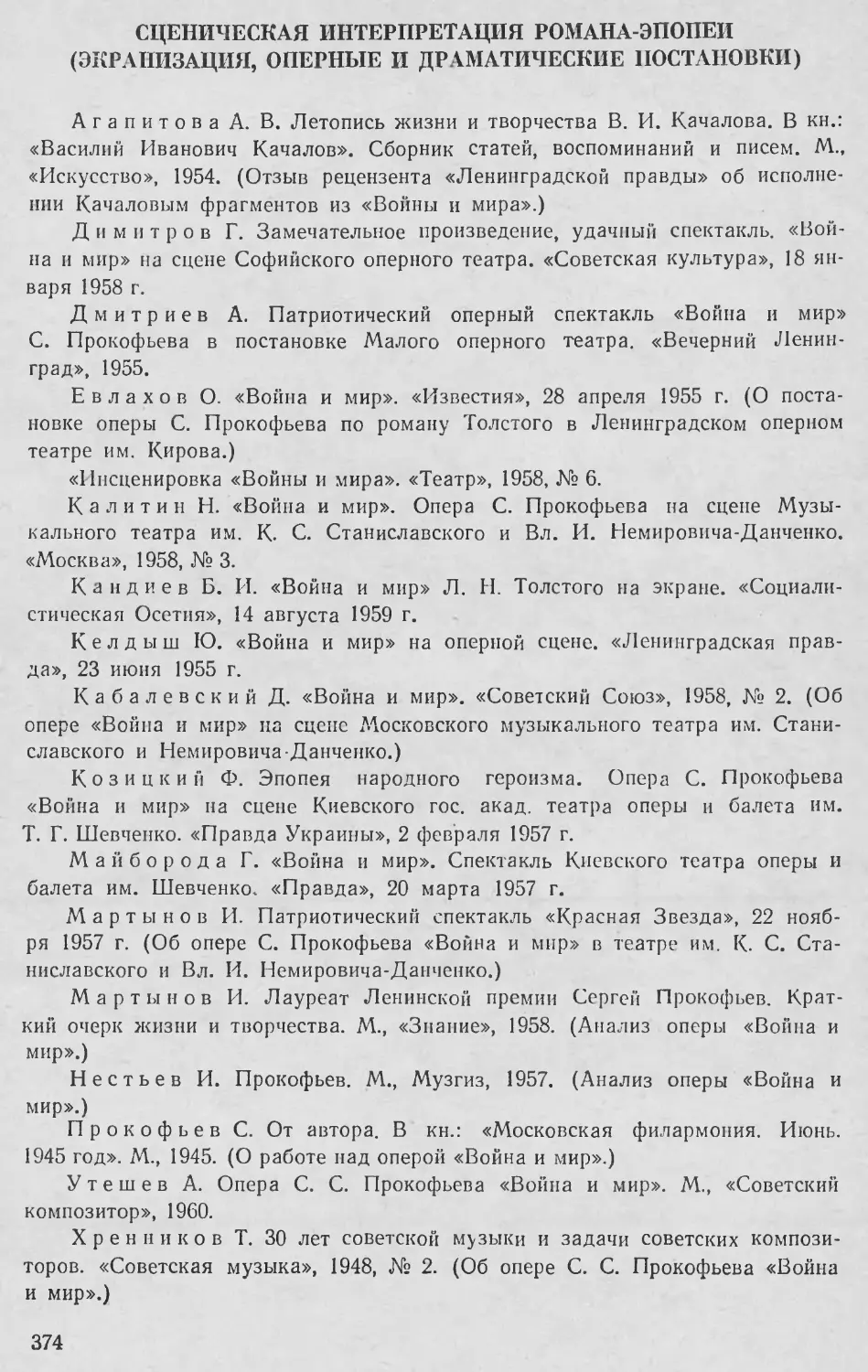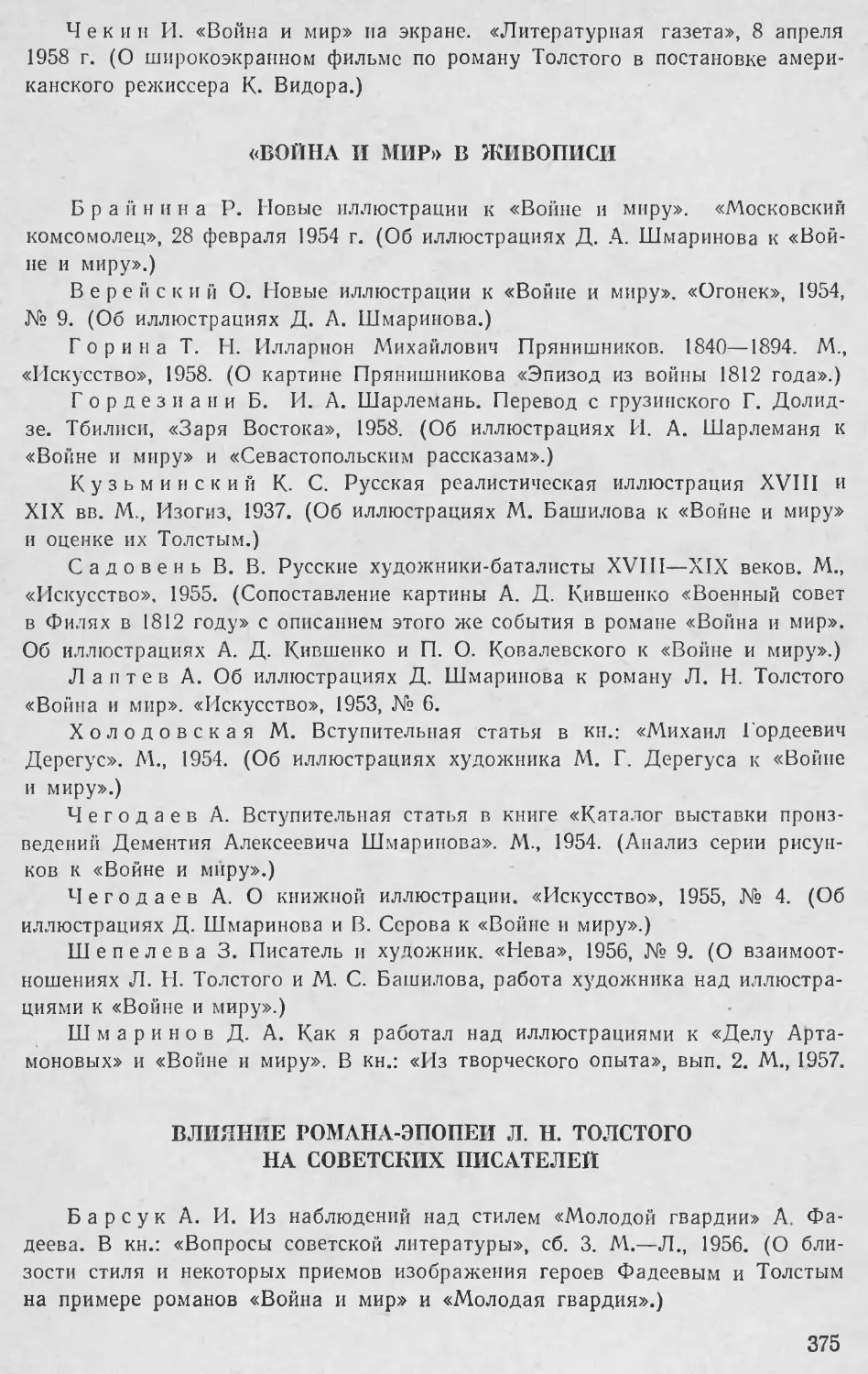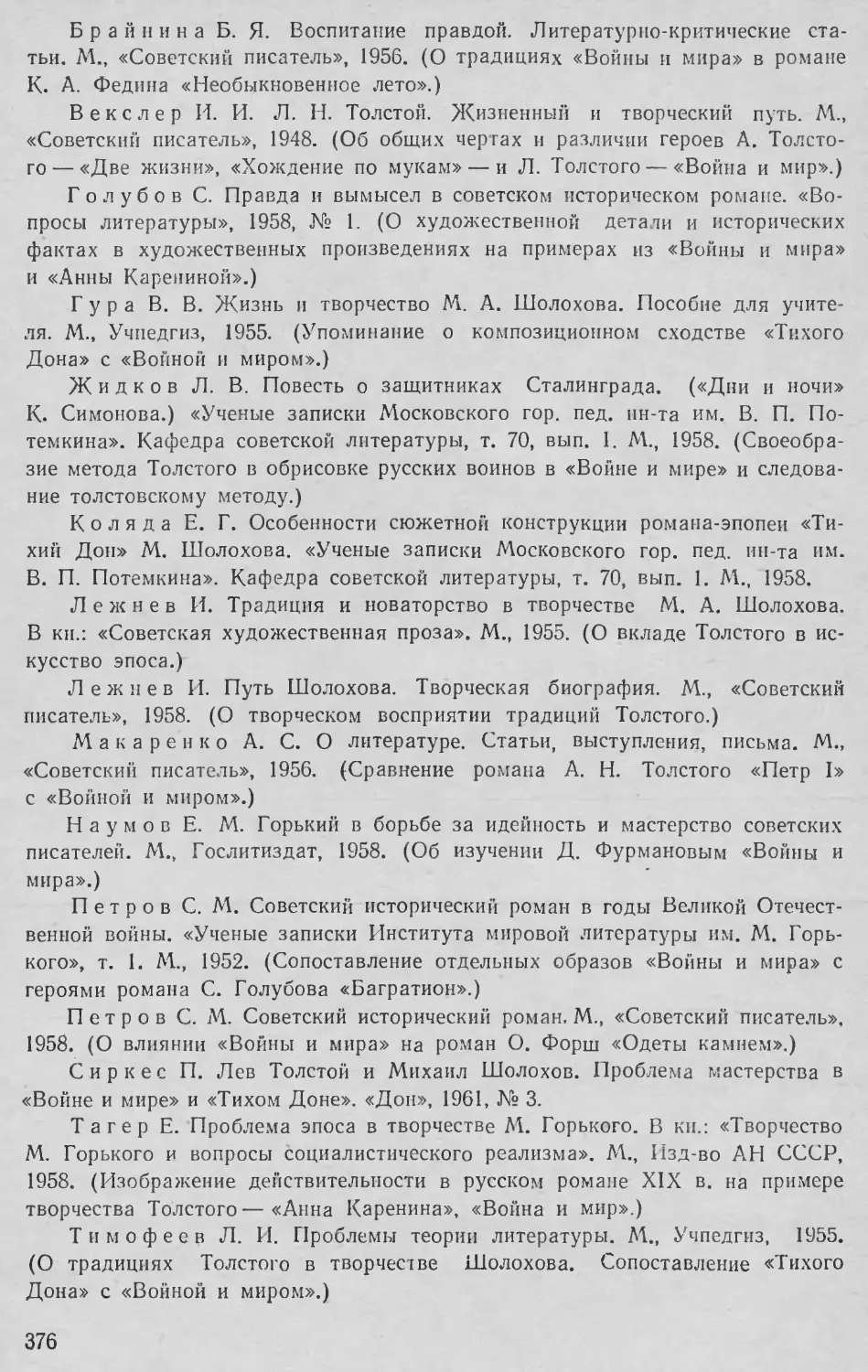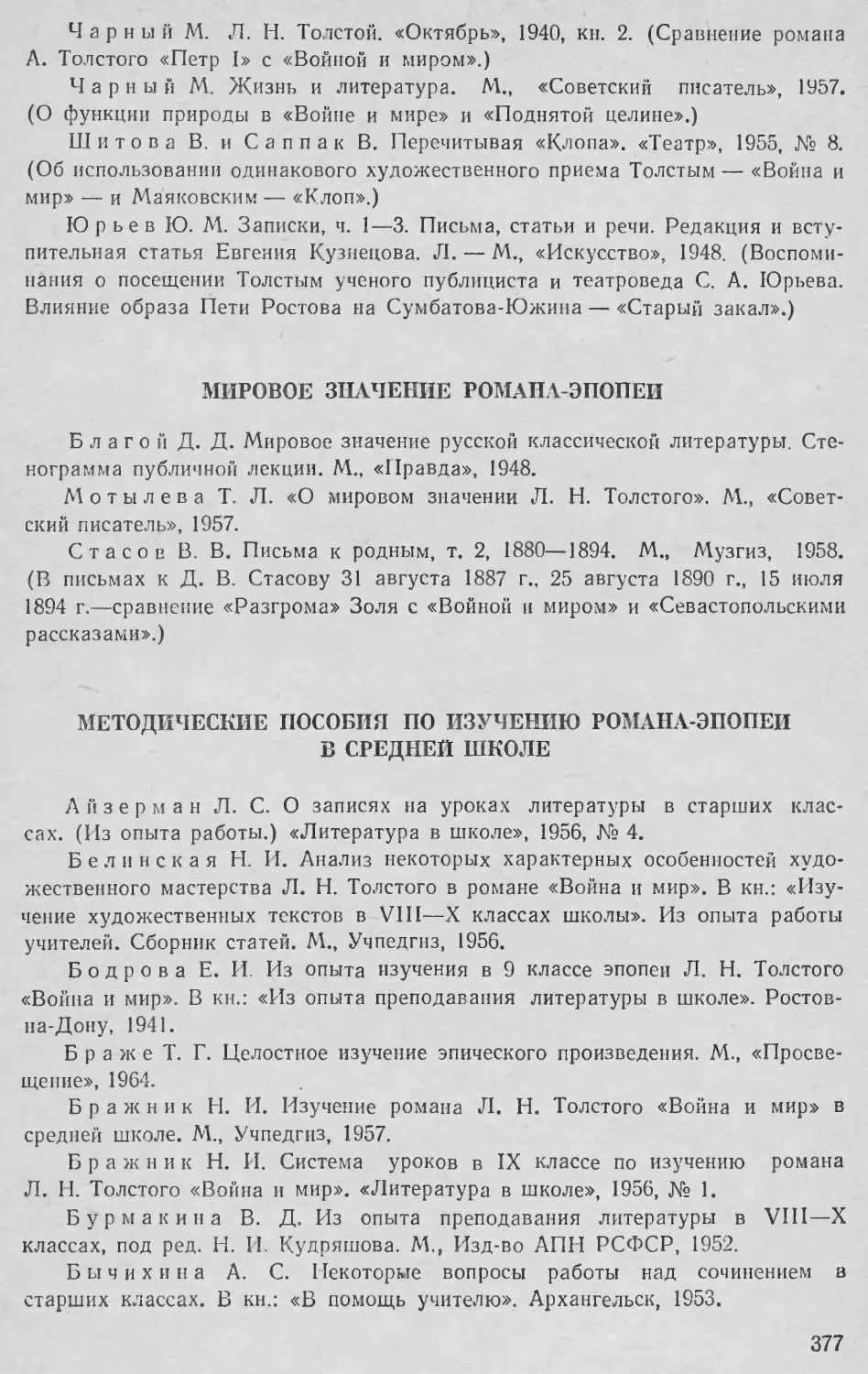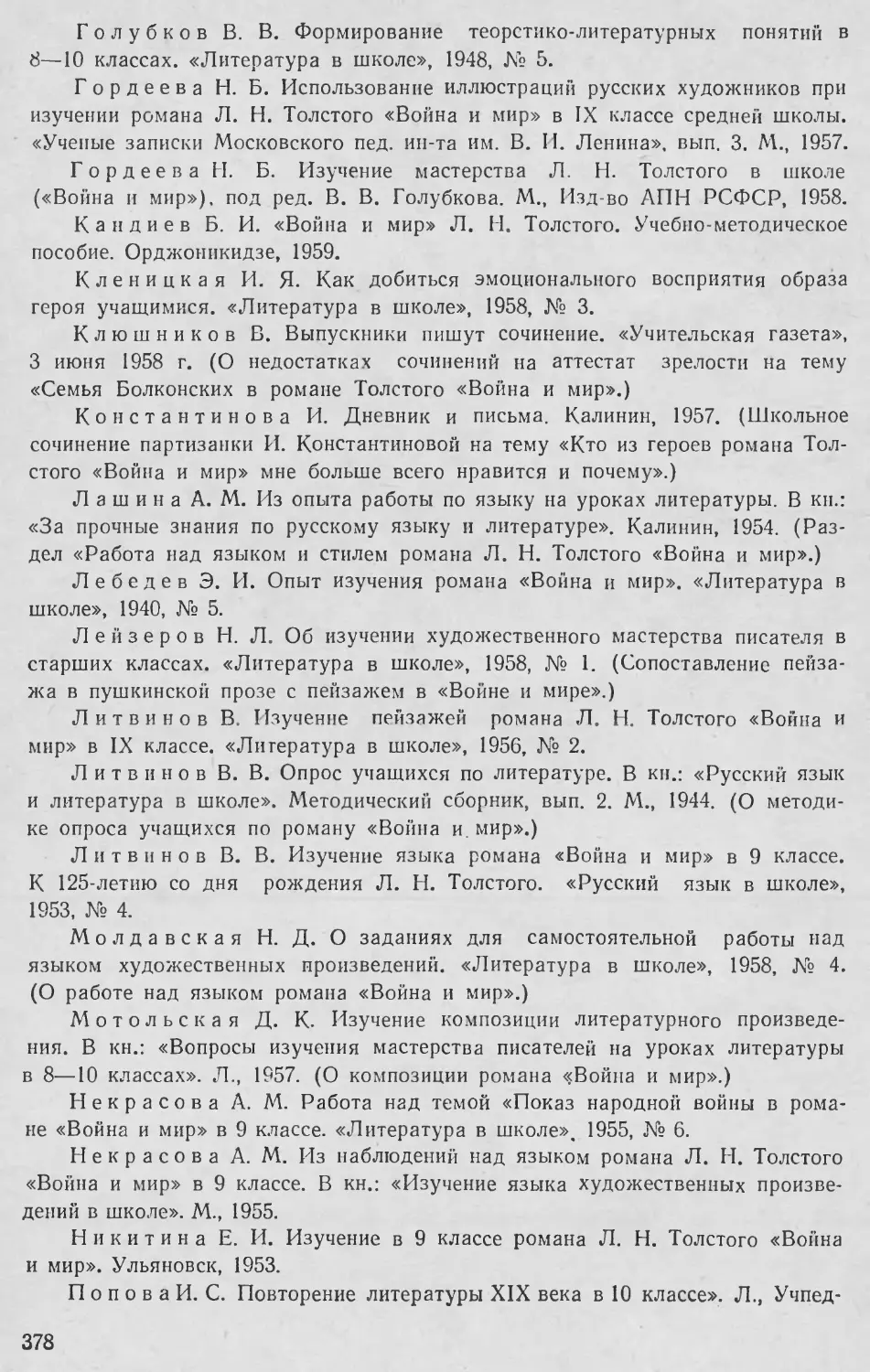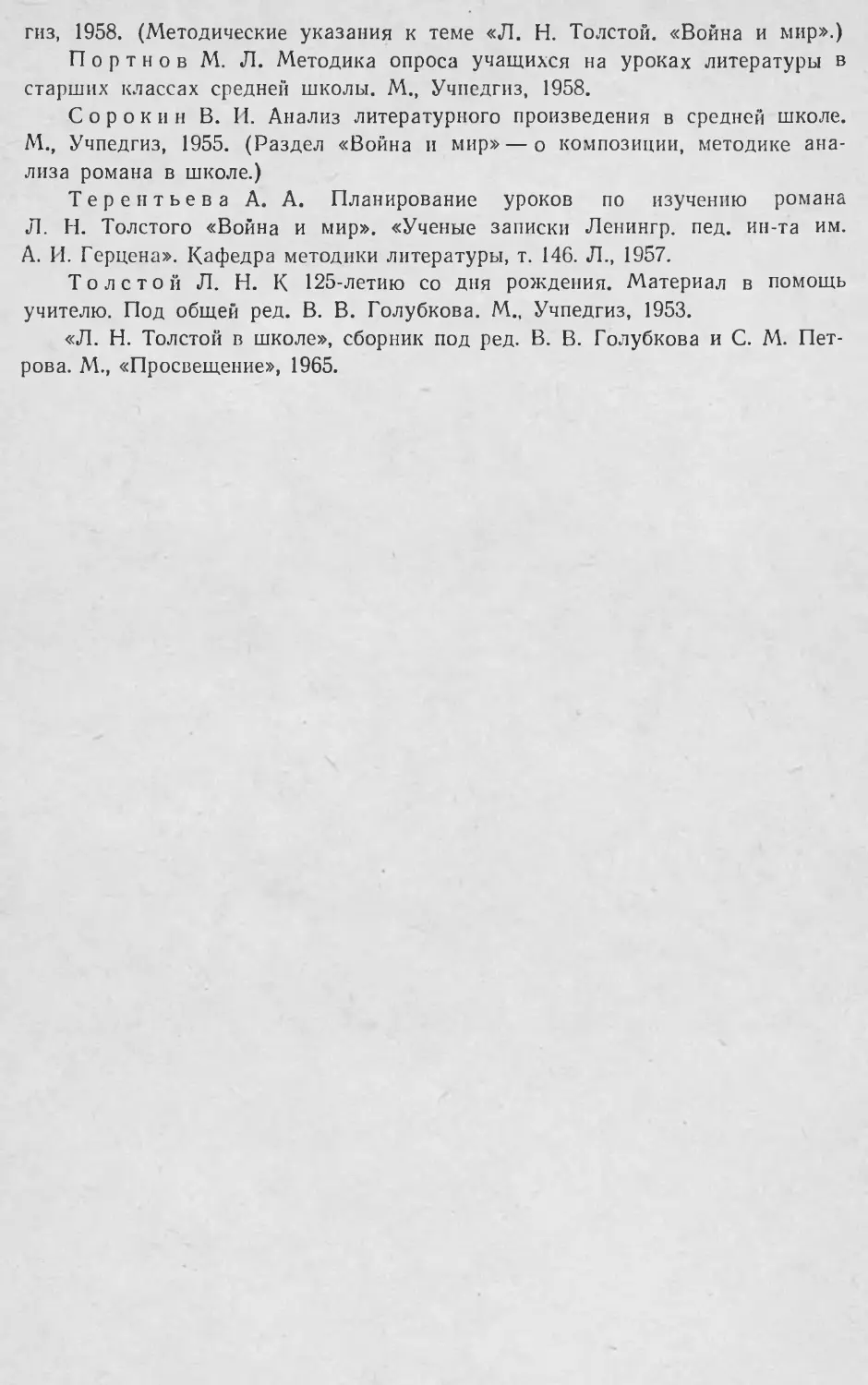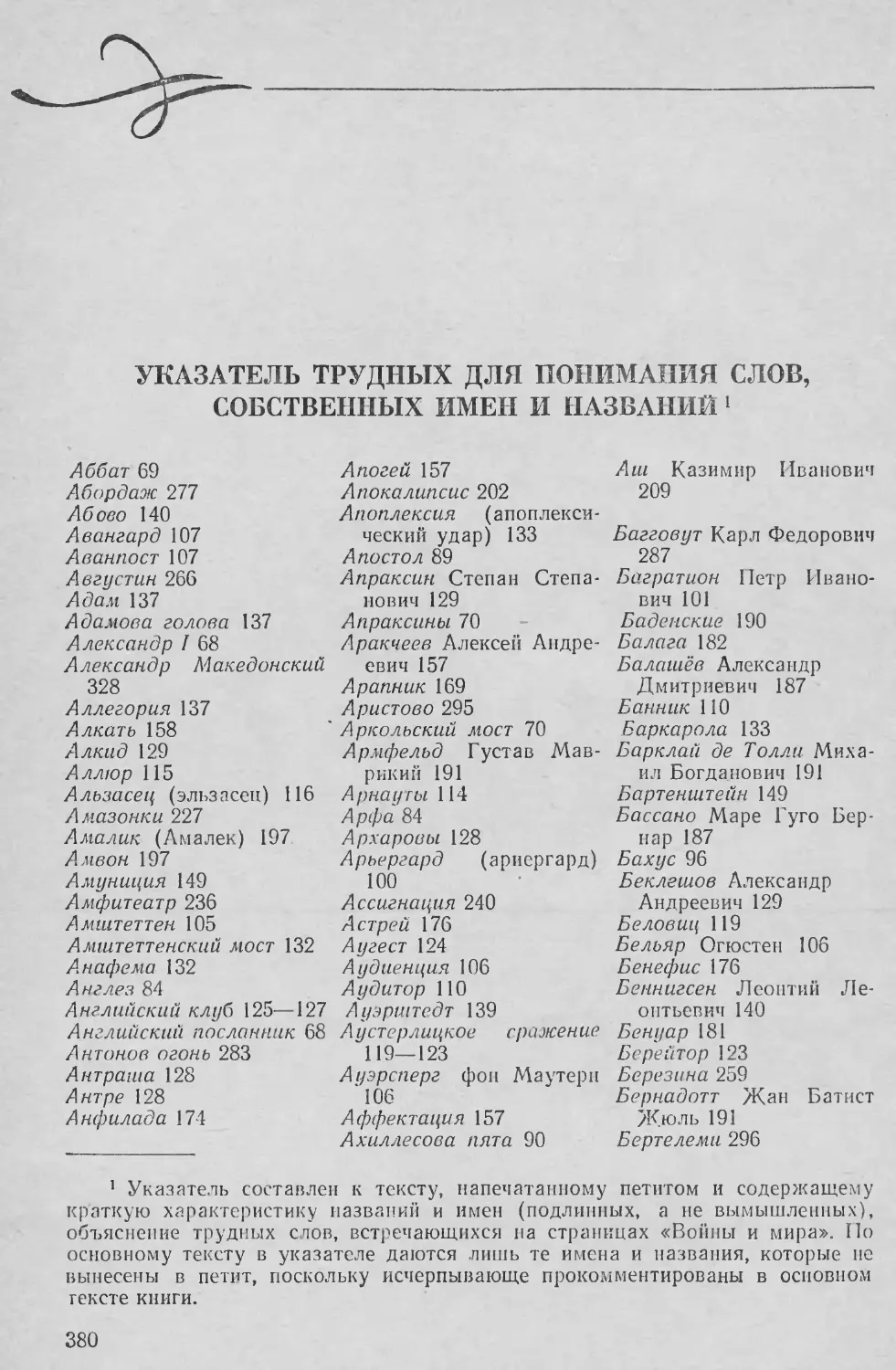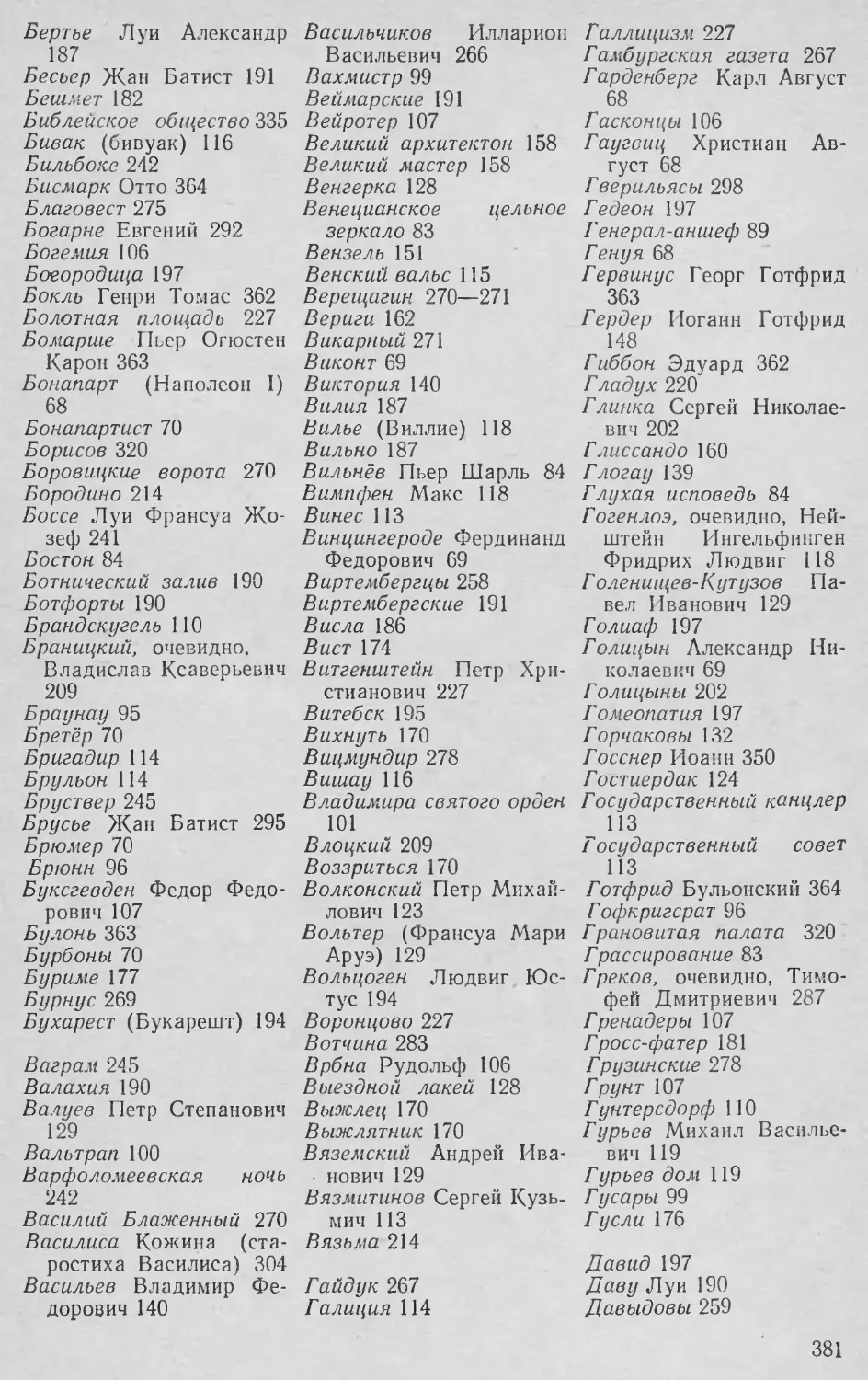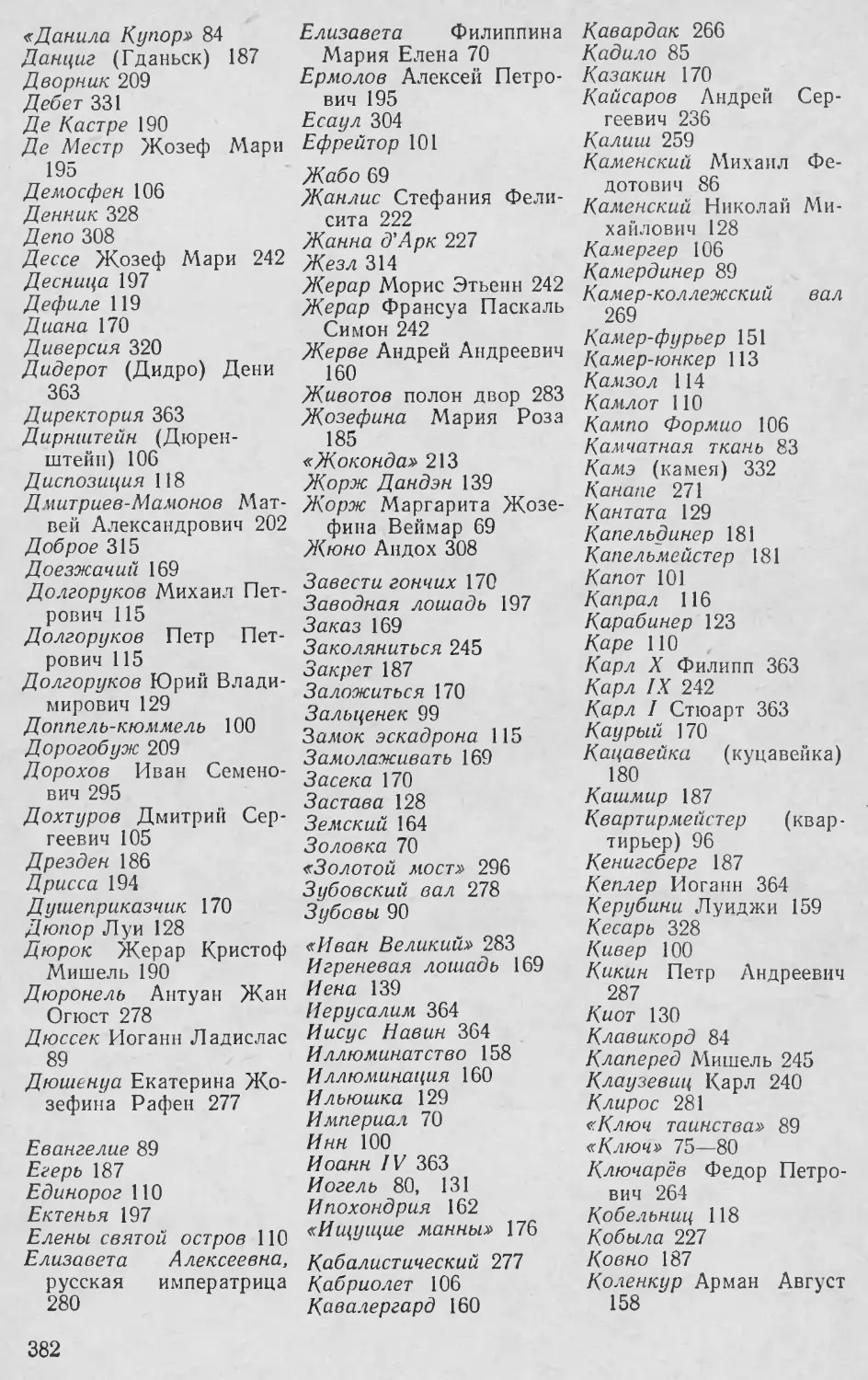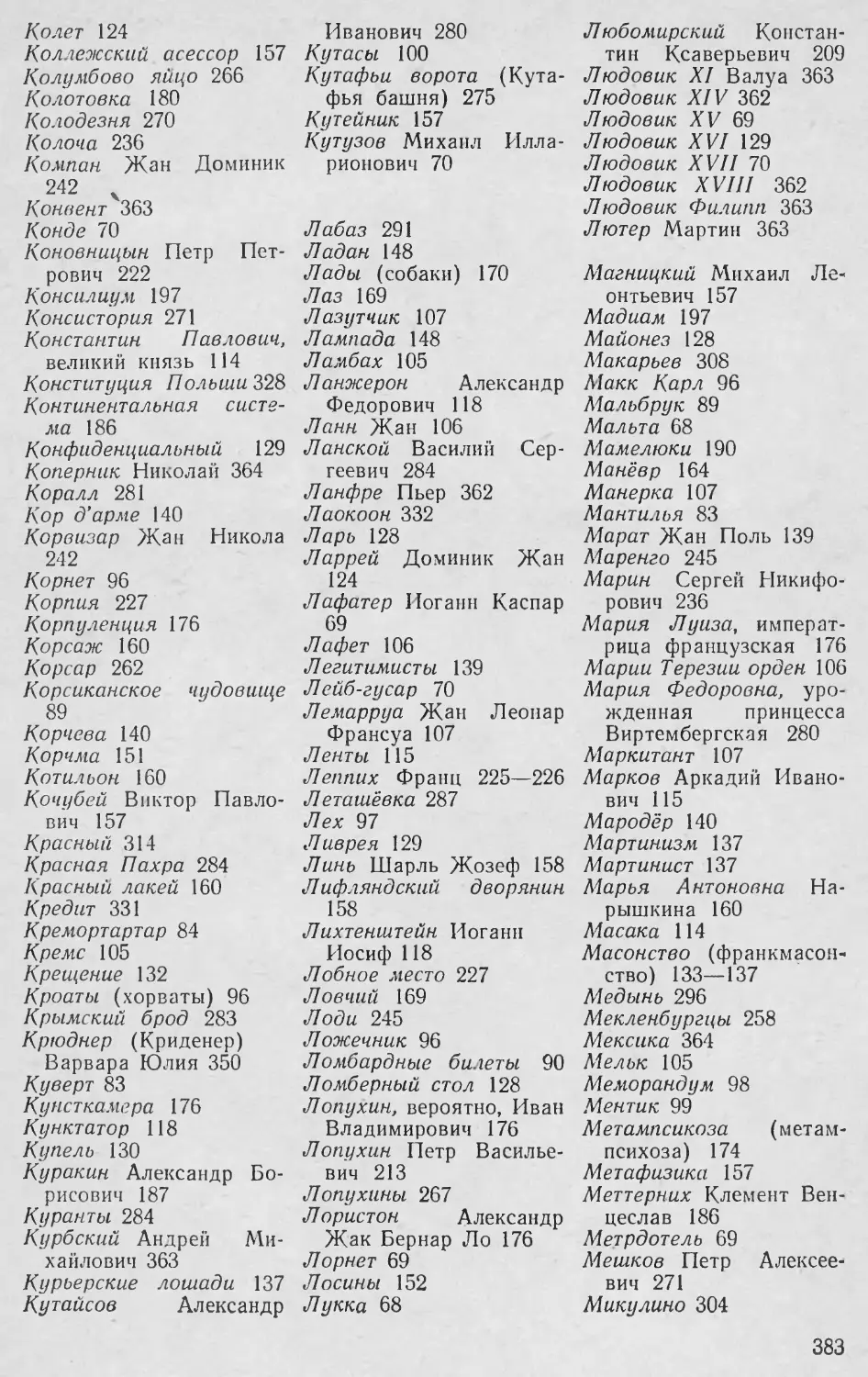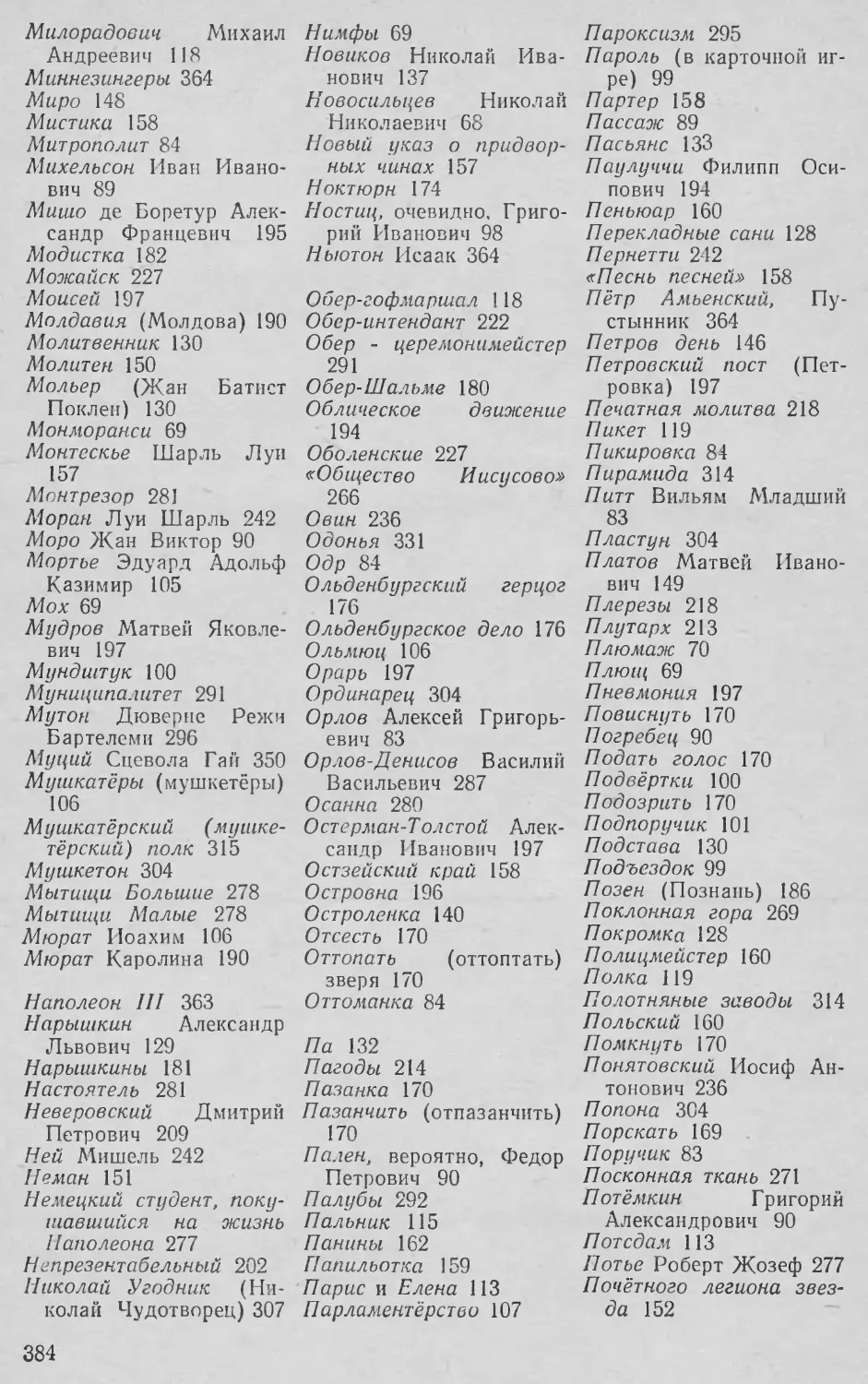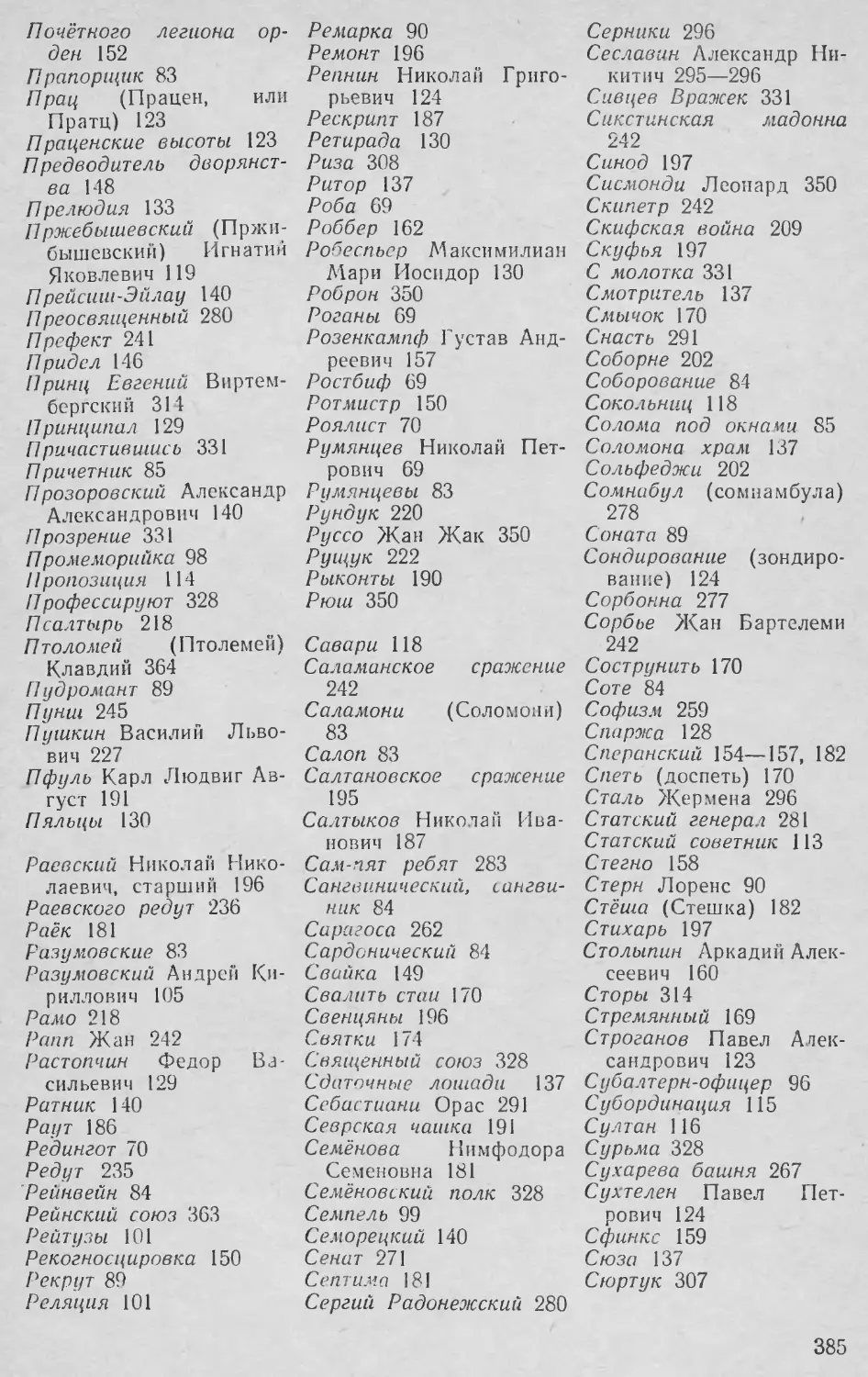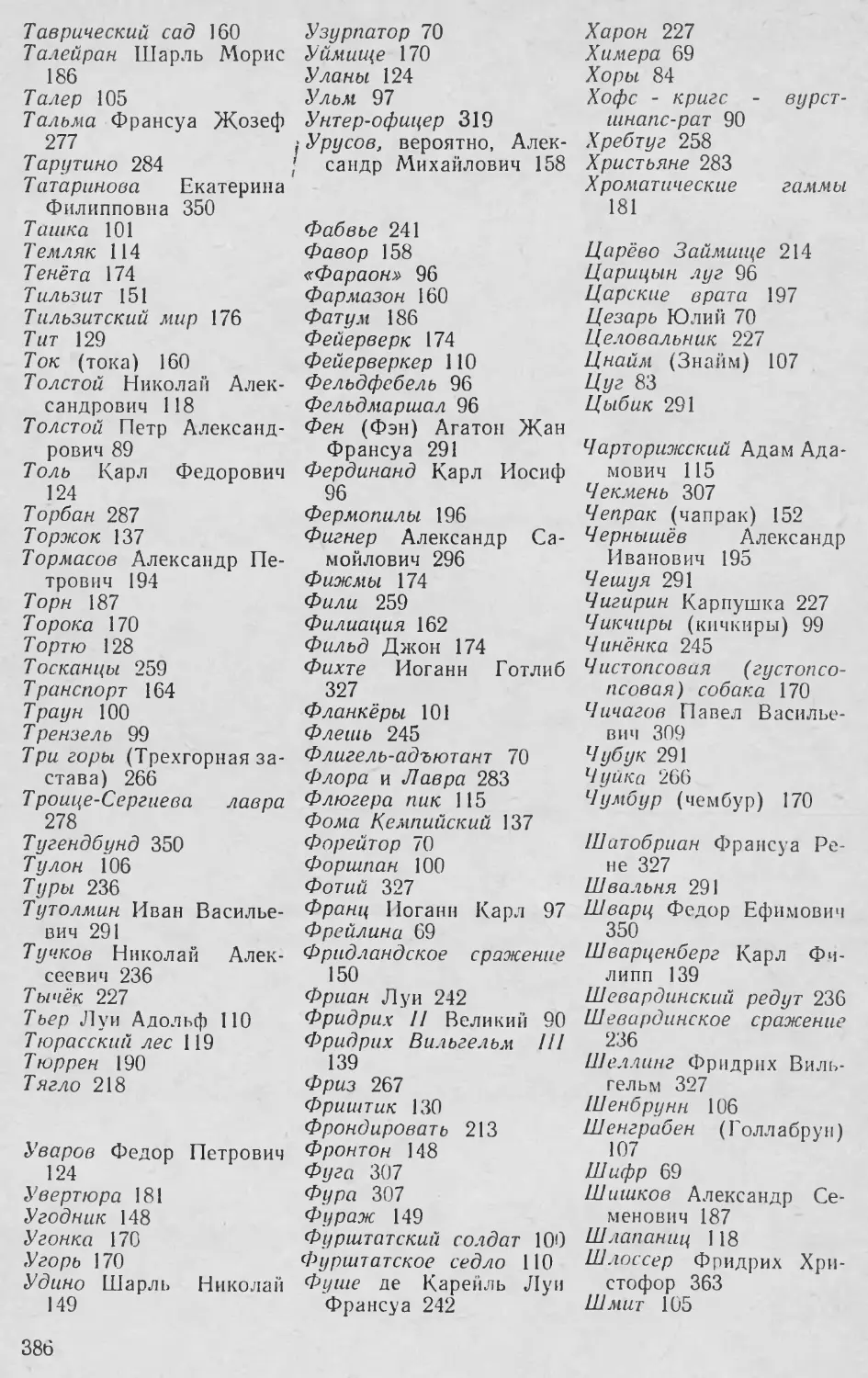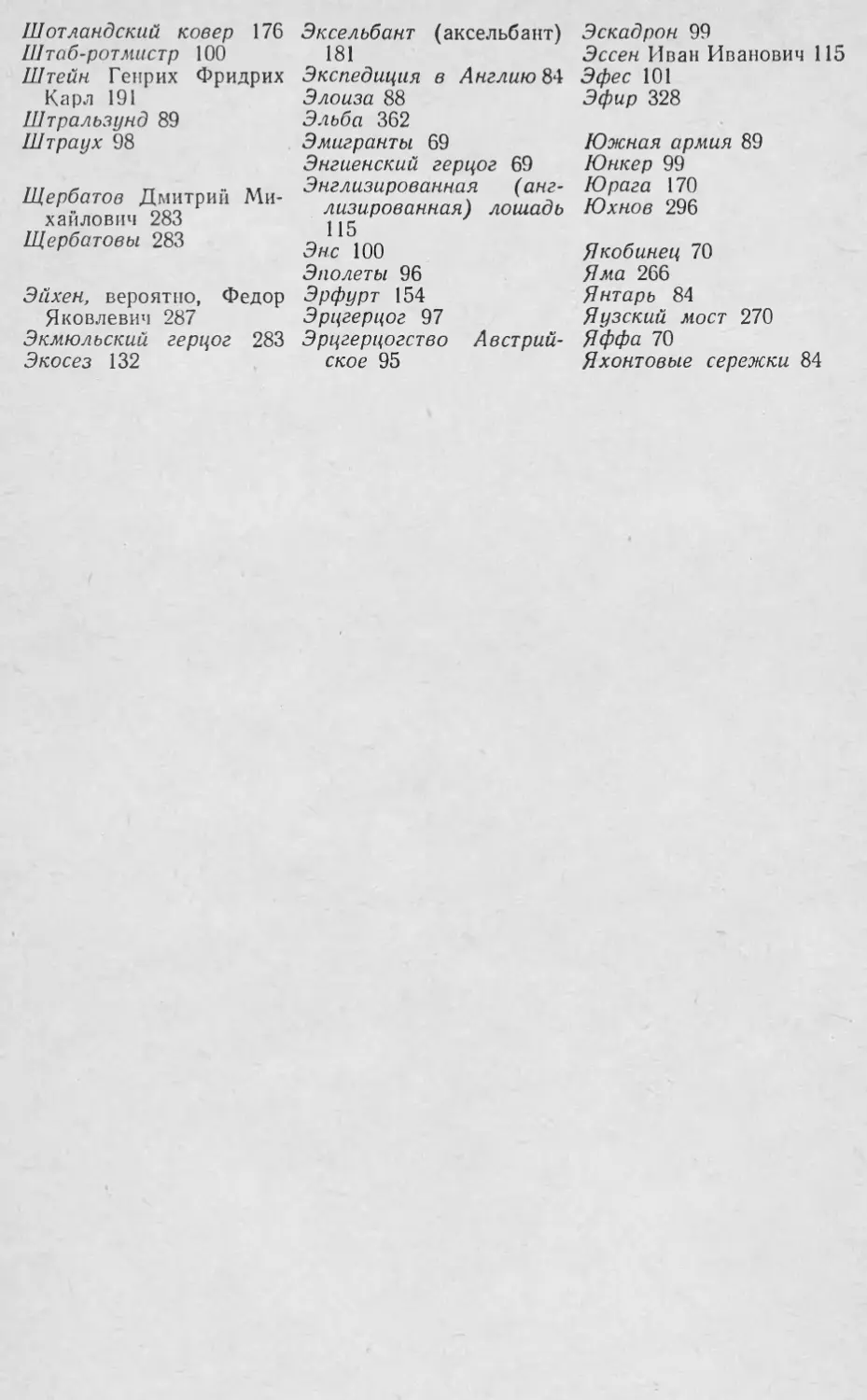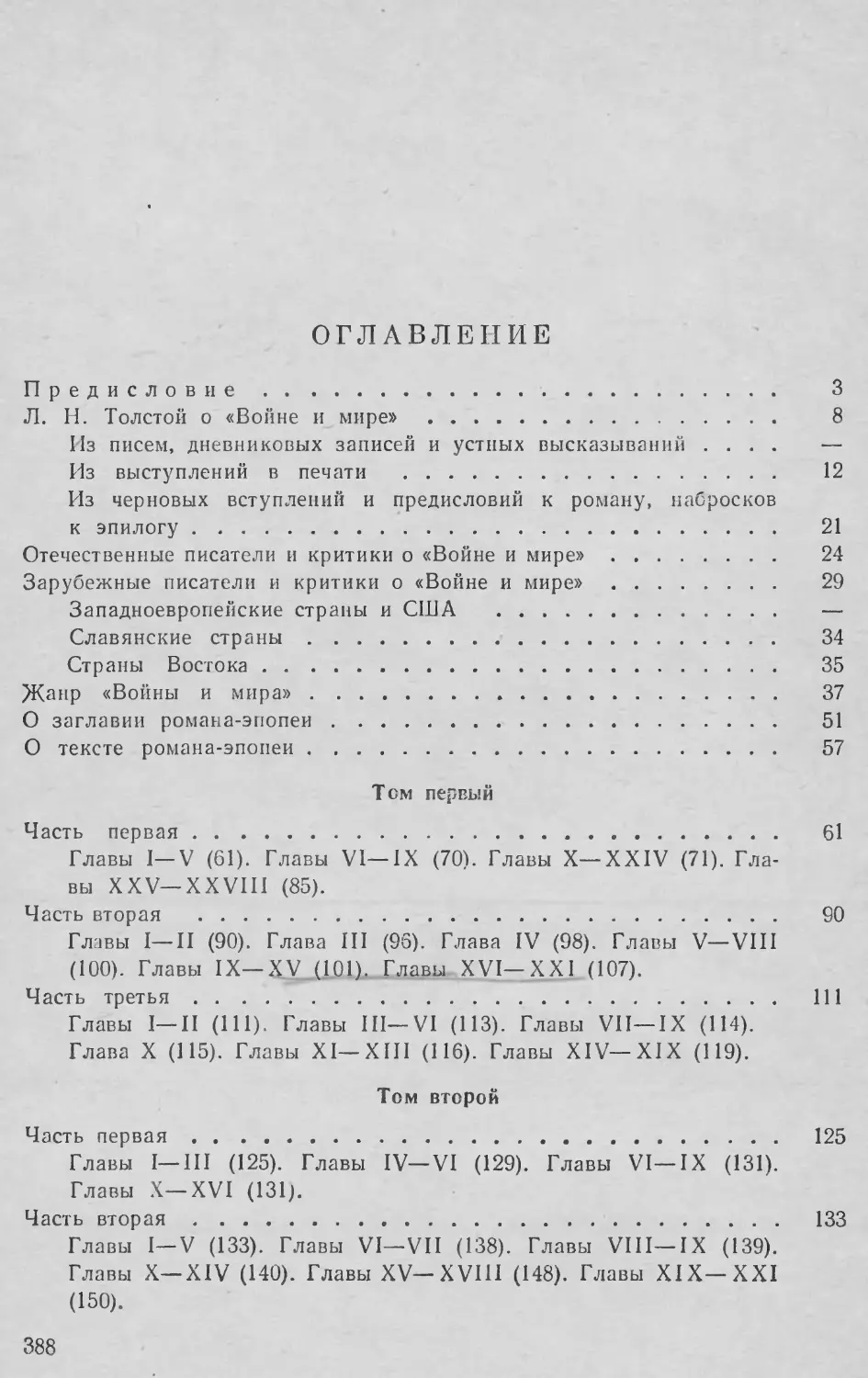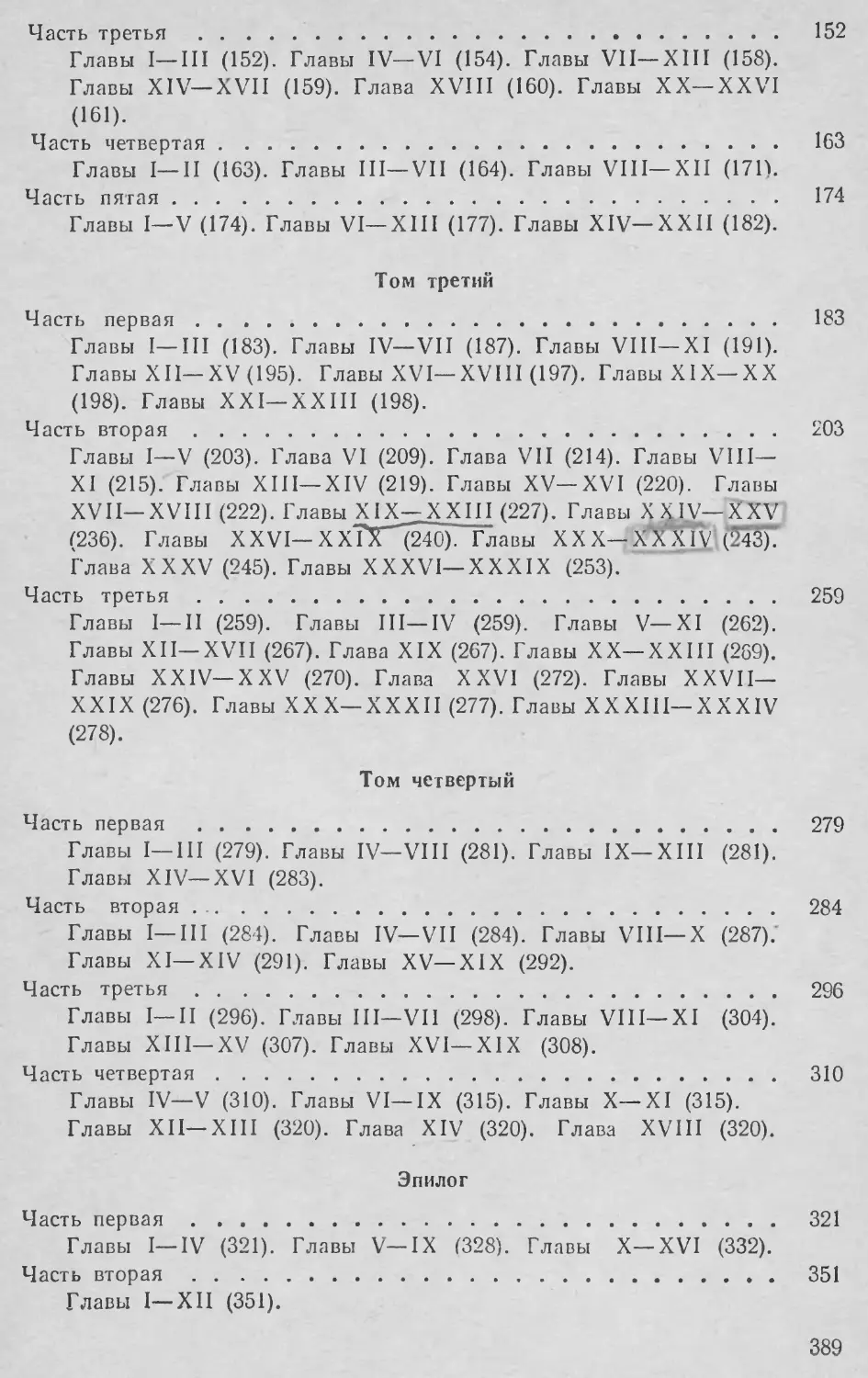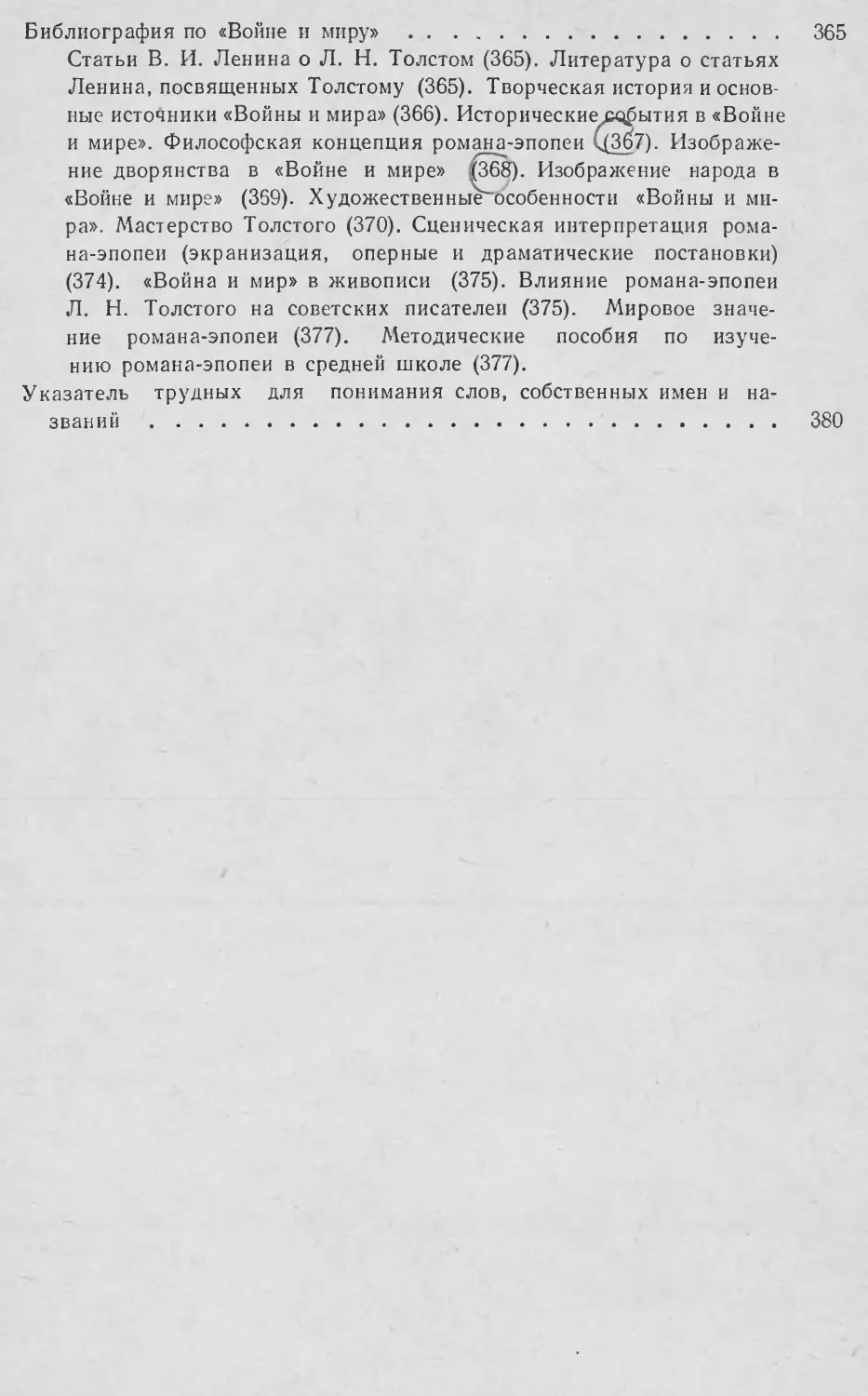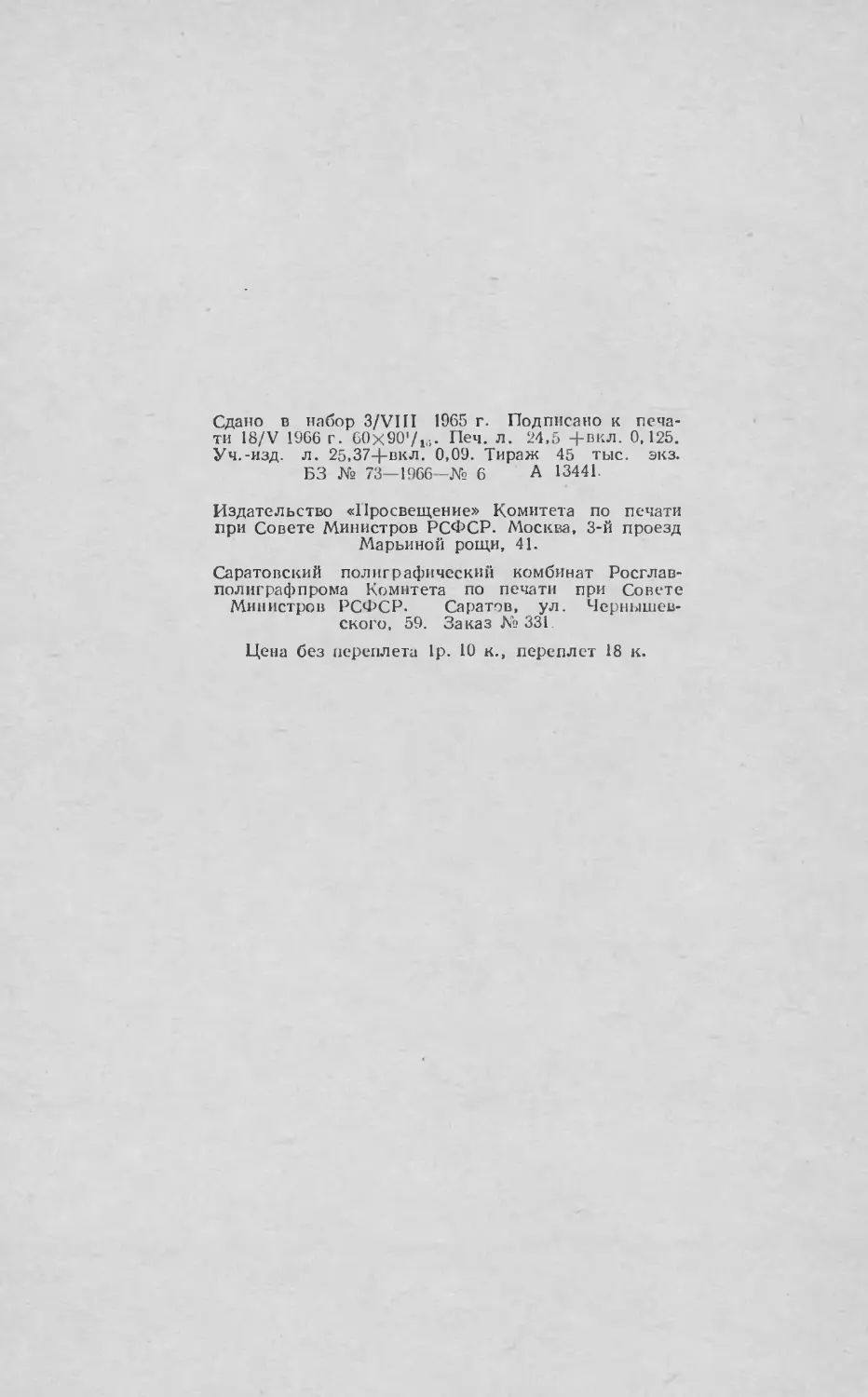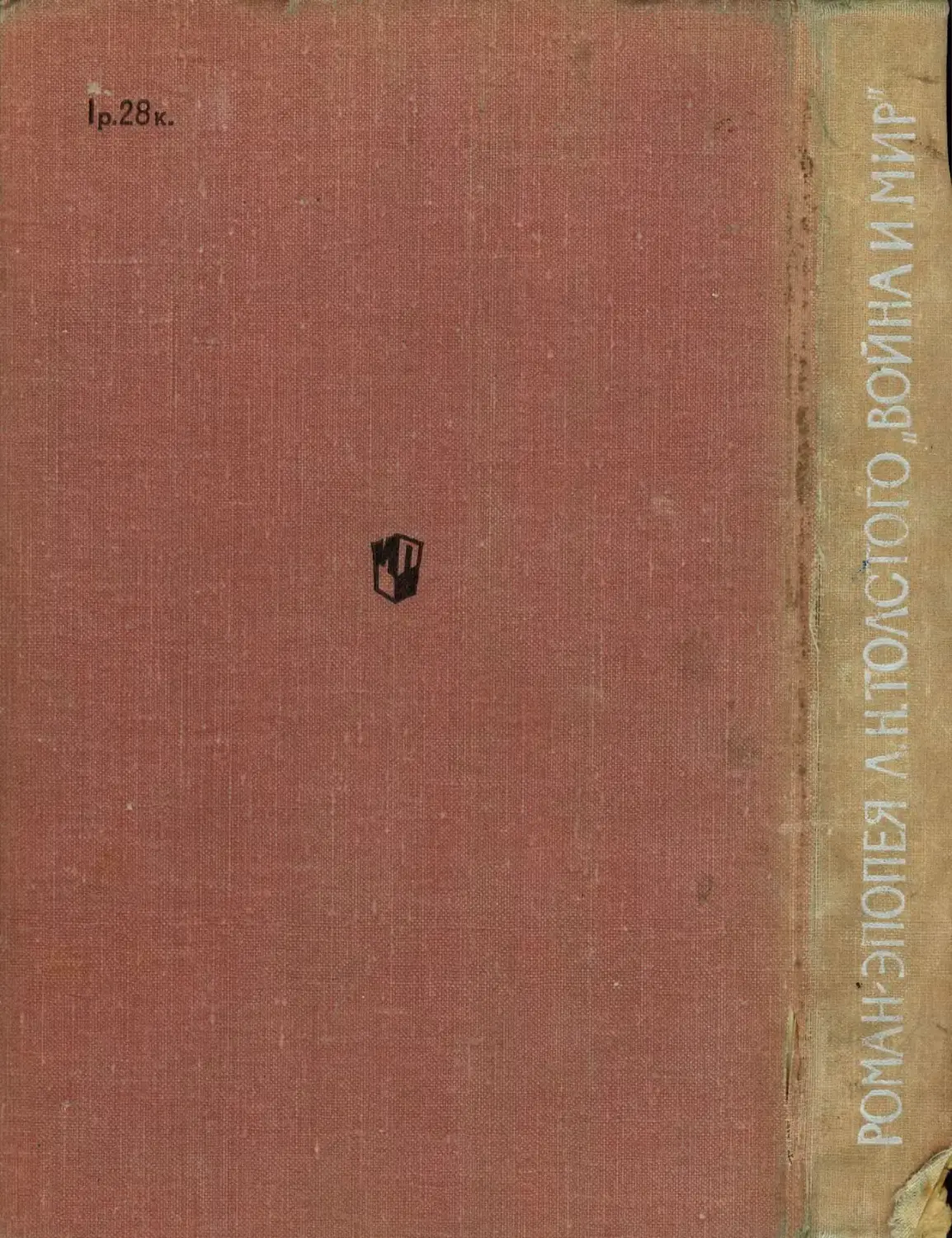Text
JI. H. Толстой в период работы над «Войной и миром». 1868
РОМАН'
ЭПОПЕЯ
Л.НТОЛСТОГО
„ВОЙНА
И МИР"
КОММЕНТАРИЙ
библиотека
К Э М з
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»
МОСКВА 1967
Книга предназначена для учи-
телей средней школы и студен-
тов филологических факульте-
тов высших учебных заведений.
7-2-2
БЗ № 73— 1966 —№6
ПРЕДИСЛОВИЕ
Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» —
грандиозное полотно об одном из наиболее сложных периодов
отечественной истории. В нем многосторонне и исторически досто-
верно изображается Отечественная война 1812 г., прослеживает-
ся развитие военных событий с 1805 по 1812 г., рисуются карти-
ны русской жизни за пятнадцать лет.
Максим Горький в очерке «В. И. Ленин» приводит интерес-
ные мысли великого вождя пролетарской революции о Толстом
как авторе «Войны и мира».
Горький пишет:
«Как-то пришел к нему и —вижу: на столе лежит том «Вой-
ны и мира».
— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты... А чи-
тать— совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал
вашу книжку о Толстом.
Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся
в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:
— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это,
батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До
этого графа подлинного мужика в литературе не было.
Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:
— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?
Сам себе ответил:
— Некого» Г
Приведенные мысли Ленина об авторе «Войны и мира» от-
носятся или к декабрю 1919 года, или к началу 1920-го1 2. К этому
времени Лениным были уже написаны знаменитые статьи, в ко-
торых дан глубокий анализ деятельности Толстого в более позд-
1 М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 17. М., Гослитиздат, 1952, стр.
38—39.
2 См. «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3. 1917—1929.
М., Изд-во АН СССР, 1959, стр. 152-153.
3
ний по сравнению с «Войной и миром» период. О писателе было
сказано: «...Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько
великих вопросов, сумел подняться до такой художественной
силы, что его произведения заняли одно из первых мест в миро-
вой художественной литературе» Г
Такйм образом, можно сделать вывод: характеристика Тол-
стого как писателя, рядом с которым некого поставить в Европе,
возникла не вдруг в сознании Ленина, не была экспромтом, а
явилась итогом долгих раздумий.
Как видно из воспоминаний Горького, непосредственным
стимулом к высокой ленинской оценке Толстого послужило чте-
ние «Войны и мира» и горьковских заметок «Лев Толстой»
(«...Ночью прочитал вашу книжку о Толстом»). Ленин говорит
об авторе «Войны и мира» как о явлении феноменальном, сверхче-
ловеческом: «глыба», «матерый человечище». Эта характеристи-
ка многократно перекликается и с высказываниями о Толстом
М. Горького, широко представленными в упомянутой статье.
Горький любуется руками Толстого: «У него удивительные
руки — некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки
исполненные особой выразительности и творческой силы. Веро-
ятно, такие руки были у Леонардо да Винчи»1 2 (здесь и дальше
курсив наш. — Б. К.).
Горький сравнивает Толстого с былинными богатырями. Го-
воря о том, что Толстой часто ставит перед собеседниками нео-
жиданные, трудные и замысловатые вопросы, Горький замечает:
«Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей
Васька Буслаев...»3.
То же сравнение и по поводу особенности мышления Тол-
стого: «Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок,
чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Ва-
силий Буслаев, он вообще любил прыгать...»4.
Горький говорит о монументальности личности Толстого:
«...Есть в нем что-то от Святогора-Богатыря, которого земля
не держит. Да, он велик!»5.
И в другом месте: «...Как много жизни обнял этот человек,
какой он, не по-человечьи, умный и — жуткий»6.
Статья заканчивается многозначительным восклицанием:
« — Этот человек — богоподобен!»7.
Такая характеристика Толстого, прозвучавшая в устах двух
великих представителей социалистической культуры, конечно,
1 В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 19.
2 М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 14. М., Гослитиздат, 1951,
стр. 254.
3 Та м же, стр. 266.
4 Т а м же, стр. 279.
5 Та м же, стр. 280.
6 Та м же, стр. 284.
7 Т а м ж е, стр. 300.
4
прежде всего ассоциируется с оценкой его как автора грандиоз-
ного романа-эпопеи «Война и мир». И действительно, создание
произведения, проникнутого большим патриотическим чувством,
глубокого и обширного по содержанию, несравненного по худо-
жественным достоинствам, предполагало не человека, а «челове-
чище», было под силу лишь писателю-исполину.
Изучение творческой истории «Войны и мира» позволяет уви-
деть, сколько глубоких раздумий и поисков, какой научной доб-
росовестности в изучении исторических трудов, архивных, мему-
арных материалов, какого высокого полета творческой фантазии,
какой острой, меткой наблюдательности над жизнью современ-
ного общества и тонкого проникновения в прошлое потребова-
лось от Толстого, чтобы все это впитать в себя, органически
слиться с изображенной эпохой.
Все изученное, продуманное и прочувствованное писателем
предстало в «Войне и мире» в виде сотен живых героев, в гале-
рее прекрасных исторических, батальных и жанровых картин.
О титаническом труде Толстого над «Войной и миром» сви-
детельствуют прежде всего сохранившиеся рукописи с бесконеч-
ной правкой. Их свыше 5000 страниц. Черновые редакции и ва-
рианты «Войны и мира» составляют три тома (13, 14 и 15-й
тома юбилейного издания) —1600 страниц. Один из исследова-
телей творческой истории романа-эпопеи насчитывает пятнад-
цать вариантов его начала
Какой нужно было обладать волей к творчеству, чтобы, не
страшась ни грандиозности замысла, ни трудности его вопло-
щения, твердо и настойчиво идти к намеченной цели! Идти
через временные срывы и разочарования, через случайные непо-
ладки и неудачи, всегда коварно подстерегающие писателя и
при малейшем ослаблении воли сводящие к нулю все его гран-
диозные планы. С Толстым этого не случилось и не могло слу-
читься. Он был одним из тех писателей, которые счастливо
сочетают в себе гениальность дарования с исполинской трудо-
способностью. Да, рядом с Толстым как романистом в Европе,
действительно, поставить некого!
Мысль Ленина, что Толстой как писатель не имеет себе рав-
ных в Европе, широко перекликается и с утверждениями круп-
нейших русских и европейских писателей. Сошлемся лишь на не-
которые из них.
В феврале 1868 г. в письме к П. В. Анненкову Тургенев пи-
сал о «Войне и мире»: «...Есть в этом романе вещи, которых,
кроме Толстого, никому в целой Европе не написать...» 1 2
1 См. работу Э. Е. Зайденшнур «История писания и печатания «Войны и
мира» в т 16 Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого (юб. изд.).
2 И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 тт., т. 12. М., Гослитиздат, 1958,
стр. 386.
5
Ромен Роллан, приветствуя переводы книг Толстого во Фран-
ции, восторженно говорил: «За несколько месяцев, за несколько
недель нам открылись творения необъятно великой жизни, в ко-
торых отразился целый народ, целый неведомый мир... Никогда
еще в Европе не звучал голос, равный ему по силе»1; «Войну и
мир» Роллан считал образцом современной эпопеи.
Чтение романа-эпопеи Толстого привело английского писа-
теля Джона Голсуорси к заключению, что «Война и мир» —
«лучший роман, какой когда-либо был написан» и что «ни один
другой повествователь не может дать более непосредственного
ощущения реальной жизни»1 2.
Ленинская мысль о величии автора «Войны и мира» прозву-
чала и в высказывании одного из крупнейших советских писателен
М. А. Шолохова: «Лев Толстой навсегда останется в русской и
мировой литературе величавой, недосягаемой вершиной»3.
Примечательно высказывание Ленина: «...До этого графа
подлинного мужика в литературе не было» — и то, что выска-
зывание это связано именно с «Войной и миром»4, хотя, конеч-
но, здесь имелись в виду и такие произведения, как «Утро по-
мещика», «Поликушка», «Анна Каренина», «Воскресение» и мно-
гие другие, в которых с поразительной глубиной дана психология
целой галереи крестьян дореформенного и пореформенного пе-
риодов,
Известно, что Толстой, прежде чем приняться за «Войну и
мир», занялся серьезным изучением эпохи, штудированием до-
кументов и материалов, которыми располагала историческая,
мемуарная и эпистолярная литература того времени. В статье
«Несколько слов по поводу книги «Война и мир» Толстой писал:
«Везде, где в моем романе говорят и действуют исторические
лица, я не выдумывал, а пользовался материалами, из которых
у меня во время моей работы образовалась целая библиотека
книг...»5.
Документальным источникам Толстой придавал огромное
значение. В той же статье он подчеркнул: «...Художник не дол-
жен забывать, что представление об исторических лицах и собы-
тиях, составившееся в народе, основано не на фантазии, а на
1 Р о м е н Роллан. Собр. соч. в 14 тт., т. 2. М., Гослитиздат, 1954,
стр. 219, 220.
2 Цит. по кн.: Т. Мот ыл ев а. О мировом значении Л. Н. Толстого. М.,
«Советский писатель», 1957, стр. 520.
3 Цит. по кн.: «Государственный музей Л. Н. Толстого», М., 1955, стр. 208.
4 См. об этом в кн.: С. М. Петров. Исторический роман в русской ли-
тературе. М., Учпедгиз, 1961, стр. 71—77.
5 Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений (юбилейное издание),
т. 16. М., Гослитиздат, 1955, стр. 13. Все дальнейшие ссылки на сочинения и
письма Толстого даются в тексте по этому изданию (курсивом обозначен
том, прямым шрифтом — страница).
6
исторических документах... а потому, иначе понимая и представ-
ляя эти лица и события, художник должен руководствоваться,
как и историк, историческими материалами» (16, 13).
Тверд и последователен был Толстой в осуществлении выра-
ботанного им принципа: в историческом произведении «быть до
малейших подробностей верным действительности» (73, 353).
В литературе не раз уже отмечалось, что основные персонажи
«Войны и мира» имеют реальных прототипов. Об этом говорится
и в нашей работе. Однако, чтобы предупредить возможные не-
доразумения, заметим, что мы везде имеем в виду использование
писателем прототипов только как первоосновы для создания
живых человеческих характеров. Толстой, как истинный худож-
ник, как писатель, умевший вдохнуть жизнь в своих героев,
творил, опираясь на впечатления от подлинных событий,
от живых людей. Лица, написанные с натуры, отмечал Толстой,
имеют «несравненную яркость в изображении» *. Но он никогда
не сводил творческий акт к простому фотографированию. В пись-
ме к Л. И. Волконской Толстой точно определил свое кредо в
этом вопросе. Он писал: «Я бы стыдился печататься, ежели бы
весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать,
запомнить» (61, 80).
Мы не исследуем в своей работе сложный процесс творческо-
го мышления Толстого, создания им художественных образов.
Это не диктуется профилем предлагаемой книги. Поэтому огра-
ничиваемся только констатацией факта использования писате-
лем того или иного прототипа.
В «Войне и мире» имеется большое количество вышедших
из употребления и трудных для понимания слов, много личных
имен, географических названий, наименований исторических яв-
лений, событий (войн, сражений, революций, общественных пред-
приятий), названий армий, полков, учреждений и т. п. Ко все-
му этому материалу в пособии даются соответствующие коммен-
тарии. (Давая порой пояснения к словам, значение которых
известно учителю и студенту, мы имеем в виду использование
этих пояснений в работе со школьниками в целях уточнения
понятий, смысл которых может быть известен учащимся лишь
приблизительно.)
Завершается пособие библиографией по «Войне и миру».
Автор с благодарностью примет от преподавателей вузов и
средних школ замечания и советы для дальнейшего совершен-
ствования книги.
1 «Толстовский ежегодник», изд. О-ва Толстовского музея в Петербурге
и Толстовского о-ва в Москве. М., 1912, стр. 59.
Л. Н. ТОЛСТОЙ О «ВОЙНЕ И МИРЕ»
Толстой писал «Войну и мир» 6 лет, с 1863 по
1869 г. В процессе работы над романом-эпопеей он высказал
ряд интересных мыслей по важнейшим вопросам своего творче-
ства. Следы раздумий и размышлений великого писателя мы на-
ходим в его дневниковых записях, письмах, беседах с окружа-
ющими, в черновых предисловиях к роману, выступлениях в пе-
чати. Это драгоценный материал, позволяющий нам восстановить
стройную картину многолетнего упорного труда писателя над
«Войной и миром» от замысла до окончательного воплощения.
В нем — вся история создания романа-эпопеи.
Приводим этот материал частично.
ИЗ ПИСЕМ, ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ И УСТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИИ
1852 г. 12...13 июля. Чтение «Описания Отечественной войны
1812 года» Михайловского-Данилевского — «Плоско» (Д) Ч
Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творче-
ства Льва Николаевича Толстого. 1828—
1890. М., Гослитиздат, 1958, стр. 56.
(Дальнейшие ссылки на «Летопись...» да-
ются по этому изданию.)
1852 г. 22 сентября. Чтение «Описания войны 1812 года»
Михайловского-Данилевского вызвало запись в дневнике: «Со-
ставить истинную, правдивую историю Европы нынешнего ве-
ка — вот цель на всю жизнь».
Там же, стр. 58.
1 Буквой Д в «Летописи...» Н. Н. Гусева обозначены записи Толстого
в дневнике.
8
1857 г. 29 октября. У А. А. Толстой Лев Николаевич слушает
историю плена графа В. А. Перовского в войну 1812 г. (Д).
Этой историей Толстой воспользовался при описании пребы-
вания в плену Пьера Безухова в «Войне и мире».
Там ж е, стр. 170.
1863 г. 25 февраля. С. А. Толстая сообщает своей сестре
Т. А. Берс, что Лев Николаевич «начал новый роман».
Речь идет, по-видимому, о первых набросках будущего ро-
мана-эпопеи «Война и мир».
Там ж е, стр. 287.
1863 г. 4 сентября. В Москве в семье Берсов много говорят
о 1812 г. по случаю намерения Толстого написать роман, отно-
сящийся к этой эпохе.
Там же, стр. 291—292.
1863 г. 14...15 сентября. Письмо Е. А. Берс к Толстому с
сообщением списка книг о войне 1812 г.
Там ж е, стр. 292.
1863 г. 17...31 октября. Из письма Толстого А. А. Толстой:
«Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравст-
венные силы столько свободными и столько способными к рабо-
те. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени
1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени... Я те-
перь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю,
как я еще никогда не писал и не обдумывал» (61, 23—24).
1863 г. 19 декабря. Из письма И. П. Борисову: «Я все пишу
длинный роман, который кончу, только ежели долго прожи-
ву» (61, 27).
1864 г. 26 марта. Из письма М. Н. Лонгинову: «Дело в том,
что в то время, как я брал у вас книги, я много накупил, и две из
ваших книг, именно: Походные записки русского офицера и бро-
шюры, я, спутав, принял за свои книги и не отложил» (61, 42).
Речь идет о книгах по истории наполеоновских войн и жизни
русского общества.
1864 г. 24 февраля. Толстой сообщает сестре, что он пишет
«длинный роман из 1812 года...»
Н. Н. Гусе в. Летопись..., стр. 297.
1864 г. 16 сентября. Возобновление дневника: «...Я начал с
тех пор роман, написал листов десять печатных, но теперь нахо-
жусь в периоде поправления и переделывания...»
Там же, стр. 299—300.
9
1864 г. 28...29 октября. Из письма М. Н. Каткову: «Я кончаю
на днях первую часть романа из времен первых войн Александ-
ра с Наполеоном и нахожусь в раздумье, где и как ее печатать.
Из журналов я бы лучше всего желал напечатать в Русском
вестнике по той причине, что это один журнал, который я читаю
и получаю» (61, 58).
1864 г. 25 ноября. Из письма С. А. Толстой: «Матерьялов я
много достал здесь» (83, 57).
Речь идет об источниках для «Войны и мира», которые Тол-
стой достал в Москве.
1865 г. 19 марта. Запись в дневнике: «Я зачитался историей
Наполеона и Александра. Сейчас меня облаком радости и созна-
ния возможности сделать великую вещь охватила мысль напи-
сать психологическую историю романа Александра и Наполеона.
Вся подлость, вся фраза, все безумие, все противоречие людей,
их окружавших, и их самих... Надо писать свой роман и рабо-
тать для этого».
Н. Н. Гусе в. Летопись..., стр. 308.
1865 г. 3 мая. Из письма Толстого Л. И. Волконской:
«Андрей Болконский — никто, как и всякое лицо романиста,
а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печа-
таться, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать
портрет, разузнать, запомнить...
В Аустерлицком сражении, которое будет описано, но с ко-
торого я начал роман, мне нужно было, чтобы был убит блестя-
щий молодой человек; в дальнейшем ходе моего романа мне
нужно было только старика Болконского с дочерью; но так как
неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я ре-
шил сделать блестящего молодого человека сыном старого Бол-
конского. Потом он меня заинтересовал, для него представля-
лась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только
сильно ранив его вместо смерти» (61, 80).
1865 г. 3...4 ноября. Из письма А. Е. Берсу: «Дописываю
теперь, т. е. переделываю и опять и опять переделываю свою
3-ю часть» (речь идет о второй части «1805 года», которая до-
писывалась после опубликования первой части в двух книж-
ках «Русского вестника», — поэтому Толстой называет ее тре-
тьей. — Б. /(.).
«Эта последняя работа отделки очень трудна и требует
большого напряжения; но я по прежнему опыту знаю, что в
этой работе есть своего рода вершина, которой достигнув с
трудом, уже нельзя остановиться и не останавливаясь катишься
до конца дела. Я теперь достиг этой вершины и знаю, что
теперь, хорошо ли, дурно ли, но скоро кончу эту 3-ю часть»
(61, 111).
Ш
1865 г. 15...31 декабря. Из письма А. А. Фету: «...Я довольно
много написал нынешнюю осень — своего романа. Ars longa, vita
brevis (искусство продолжительно, жизнь коротка. — Б. К.), ду-
маю я всякий день. Коли бы можно бы было успеть Vioo долю ис-
полнить того, что понимаешь, но выходит только 1/юоо часть. Все-
таки это сознание, что могу, составляет счастье нашего брата. Вы
знаете это чувство. Я нынешний год с особенной силой его испы-
тываю» (61, 125).
1866 г. 10...20 мая. Из письма А. А. Фету: «Я очень дорожу
вашим мнением, но, как вам говорил, я столько положил труда,
времени и того безумного авторского усилия (которое вы знае-
те), так люблю свое писание, особенно будущее—1812 год, ко-
торым теперь занят, что не боюсь осуждения даже тех, кем до-
рожу, а рад осуждению. Например, мнение Тургенева о том, что
нельзя на 10 страницах описывать, как NN положила руку, мне
очень помогло, и я надеюсь избежать этого греха в будущем.
Пожалуйста, скажите поправдивее, т. е. порезче» (61, 138).
1866 г. 7 ноября. Из письма А. А. Фету: «Я... порадовался...
вашему суждению об одном из моих героев, князе Андрее, и вы-
вел для себя поучительное из вашего осуждения. Он однообразен,
скучен и только un homme comme il faut (приличный человек.—
Б. К.) во всей 1-й части. Это правда, но виноват в этом не он, а я.
Кроме замысла характеров и движения их, кроме замысла
столкновений характеров, есть у меня еще замысел историче-
ский, который чрезвычайно усложняет мою работу и с которым
я не справляюсь, как кажется. И от этого в 1-й части я занялся
исторической стороной, а характер стоит и не движется. И это
недостаток, который я ясно понял вследствие вашего письма и
надеюсь, что исправил» (61, 149).
1866 г. 14 ноября. Из письма С. А. Толстой: «Тютчева, как
мне показалось, очень искренно восхищалась прошлогодней
частью 1805 года и говорила, что 2-я часть понравилась ей луч-
ше 1-й, а 3 лучше 2-й. Я дорожу этим мнением, также как мне-
нием Сухотина; оно также выражение толпы, хоть немного и
повыше Сухотина» (83, 127).
1867 г. 16...18 августа. Из письма П. И. Бартеневу: «Не
марать так, как я мараю, я не могу и твердо знаю, что маранье
это идет в великую пользу...
То именно, что вам нравится, было бы много хуже, ежели
бы не было раз 5 перемарано» (61, 176).
1867 г. 27 сентября. Из письма жене: «Сейчас приехал из
Бородина. Я очень доволен, очень, — своей поездкой... Только
бы дал бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое бородин-
ское сражение, какого еще не было» (83, 152—153).
11
1867 г. 3 марта. «Чтоб произведение было хорошо, надо
любить в нем главную, основную мысль. Так в «Анне Карени-
ной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль
народную, вследствие войны 12-го года...»
«Дневники С. А. Толстой. 1860—1891».
М.» 1928, стр. 37.
1901—1902 гг. «Без ложной скромности — это как «Илиада».
Встречи ЛА. Горького с Л. Толстым, когда он мог услышать
эту фразу Толстого, относятся к концу 1901 и началу 1902 г.
М. Горьки й. Собр. соч. в 30 тт., т. 14.
М., Гослитиздат, 1951, стр. 284.
1906 г. «Мы стали говорить о произведениях Толстого.
— Какое свое произведение Вы любите больше всего?
Подумав, Толстой ответил:
— Роман «Война и мир».
— Это, наверное, потому, что в основу взята подлинная исто-
рия России?
— Конечно...»
Из книги Токутоми Рока «Тропою пили-
грима», в которой описано пребывание ав-
тора в «Ясной Поляне» в 1906 г. Цит. по
публикации в журнале «Вопросы лите-
ратуры», 1960, № 11, стр. 70.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПЕЧАТИ
Статья Толстого в журнале «Русский архив» «Несколько
слов по поводу книги «Война и мир» (1868):
«Печатая сочинение, на которое положено мною пять лет не-
престанного и исключительного труда, при наилучших условиях
жизни, мне хотелось в предисловии к этому сочинению из-
ложить мой взгляд на него и тем предупредить те недоумения,
которые могут возникнуть в читателях. Мне хотелось, чтобы чи-
татели не видели и не искали в моей книге того, чего я не хотел
или не умел выразить, и обратили бы внимание на то именно,
что я хотел выразить, ио на чем (по условиям произведения) не
считал удобным останавливаться. Ни время, ни мое уменье не
позволили мне сделать вполне того, что я был намерен, и я
пользуюсь гостеприимством специального журнала для того,
чтобы хотя неполно и кратко, для тех читателей, которых это
может интересовать, изложить взгляд автора на свое произве-
дение.
1) Что такое Война и Мир? Это не роман, еще менее поэма,
еще менее историческая хроника. Война и Мир есть то, что хотел
и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось.
12
Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам
прозаического художественного произведения могло бы пока-
заться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и
ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы
со времени Пушкина не только представляет много примеров
такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни
одного примера противного. Начиная от Мертвых Душ Гоголя
и до Мертвого Дома Достоевского, в новом периоде русской ли-
тературы нет ни одного художественного прозаического произ-
ведения, немного выходящего из посредственности, которое бы
вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести.
2) Характер времени, как мне выражали некоторые чита-
тели при появлении в печати первой части, недостаточно опре-
делен в моем сочинении. На этот упрек я имею возразить следу-
ющее. Я знаю, в чем состоит тот характер времени, которого не
находят в моем романе, — это ужасы крепостного права, закла-
дыванье жен в стены, сеченье взрослых сыновей, Салтычиха
и т. п.; и этот характер того времени, который живет в нашем
представлении, — я не считаю верным и не желал выразить.
Изучая письма, дневники, предания, я не находил всех ужасов
этого буйства в большей степени, чем нахожу их теперь или ко-
гда-либо. В те времена так же любили, завидовали, искали ис-
тины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная
умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утонченная,
чем теперь, в высшем сословии. Ежели в понятии нашем соста-
вилось мнение о характере своевольства и грубой силы того
времени, то только оттого, что в преданиях, записках, повестях
и романах до нас доходили только выступающие случаи наси-
лия и буйства. Заключать о том, что преобладающий характер
того времени было буйство, так же несправедливо, как неспра-
ведливо заключил бы человек, из-за горы видящий одни ма-
кушки дерев, что в местности этой ничего нет, кроме деревьев.
Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи),
вытекающий из большей отчужденности высшего круга от дру-
гих сословий, из царствовавшей философии, из особенностей
воспитания, из привычки употреблять французский язык и т. п.
И этот характер я старался, сколько умел, выразить.
3) Употребление французского языка в русском сочинении.
Для чего в моем сочинении говорят не только русские, но и
французы частью по-русски, частью по-французски? Упрек в
том, что лица говорят и пишут по-французски в русской книге,
подобен тому упреку, который бы сделал человек, глядя на кар-
тину и заметив в ней черные пятна (тени), которых нет в дейст-
вительности. Живописец не повинен в том, что некоторым —
тень, сделанная им на лице картины, представляется черным
пятном, которого не бывает в действительности; но живописец
повинен только в том, ежели тени эти положены неверно и
13
грубо. Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая
лица русские известного общества, и Наполеона, и французов,
имевших такое прямое участие в жизни того времени, я неволь-
но увлекся формой выражения того французского склада
мысли больше, чем это было нужно. И потому, не отрицая того,
что положенные мною тени, вероятно, неверны и грубы, я же-
лал бы только, чтобы те, которым покажется очень смешно,
как Наполеон говорит то по-русски, то по-французски, знали
бы, что это им кажется только оттого, что они, как человек,
смотрящий на портрет, видят не лицо со светом и тенями, а
черное пятно под носом.
4) Имена действующих лиц: Болконский, Друбецкой, Би-
либин, Курагин и др. напоминают известные русские имена.
Сопоставляя действующие не исторические лица с другими
историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха за-
ставлять говорить графа Растопчина с кн. Пронским, с Стрель-
ским или с какими-нибудь другими князьями или графами вы-
мышленной, двойной или одинокой фамилии. Болконский или
Друбецкой, хотя не суть ни Волконский, ни Трубецкой, звучат
чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом
кругу. Я не умел придумать для всех лиц имен, которые мне
показались бы не фальшивыми для уха, как Безухов и Ростов,
и не умел обойти эту трудность иначе, как взяв наудачу самые
знакомые русскому уху фамилии и переменив в них некоторые
буквы. Я бы очень сожалел, ежели бы сходство вымышленных
имен с действительными могло бы кому-нибудь дать мысль, что
я хотел описать то или другое действительное лицо; в особен-
ности потому, что та литературная деятельность, которая со-
стоит в описывании действительно существующих или сущест-
вовавших лиц, не имеет ничего общего с тою, которою я зани-
мался.
М. Д. Афросимова и Денисов — вот исключительно лица,
которым невольно и необдуманно я дал имена, близко подхо-
дящие к двум особенно характерным и милым действительным
лицам тогдашнего общества. Это была моя ошибка, вытекшая
из особенной характеристики этих двух лиц, но ошибка моя в
этом отношении ограничилась одною постановкою этих двух
лиц: и читатели, вероятно, согласятся, что ничего похожего с
действительностью не происходило с этими лицами. Все же ос-
тальные лица совершенно вымышленные и не имеют даже для
меня определенных первообразов в предании или действитель-
ности h
1 Четвертый раздел статьи Л. Н. Толстой, видимо, полемически напра-
вил против тех критиков и рецензентов, которые пытались отождествить его
великое творение с произведениями мемуарного характера. (См. об этом:
Н. Н. Гусев. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год.
М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 815—816.)
14
5) Разногласие мое в описании исторических событий с
рассказами историков. Оно не случайное, а неизбежное. Историк
и художник, описывая историческую эпоху, имеют два совер-
шенно различные предмета. Как историк будет неправ, ежели
он будет пытаться представить историческое лицо во всей его
цельности, во всей сложности отношений ко всем сторонам
жизни, так и художник не исполнит своего дела, представляя
лицо всегда в его значении историческом. Кутузов не всегда с
зрительной трубкой, указывая на врагов, ехал на белой лошади.
Растопчин не всегда с факелом зажигал Воронцовский дом (он
даже никогда этого не делал), и императрица Мария Федоров-
на не всегда стояла в горностаевой мантии, опершись рукой на
свод законов; а такими их представляет себе народное вообра-
жение.
Для историка, в смысле содействия, оказанного лицом ка-
кой-нибудь одной цели, есть герои; для художника, в смысле
соответственности этого лица всем сторонам жизни, не может
и не должно быть героев, а должны быть люди.
Историк обязан иногда, пригибая истину, подводить все дей-
ствия исторического лица под одну идею, которую он вложил
в это лицо. Художник, напротив, в самой одиночности этой идеи
видит несообразность с своей задачей и старается только
понять и показать не известного деятеля, а человека.
В описании самих событий различие еще резче и сущест-
веннее.
Историк имеет дело до результатов события, художник —
до самого факта события. Историк, описывая сражение, гово-
рит: левый фланг такого-то войска был двинут против дерев-
ни такой-то, сбил неприятеля, но принужден был отступить;
тогда пущенная в атаку кавалерия опрокинула... и т. д. Историк
не может говорить иначе. А между тем для художника слова
эти не имеют никакого смысла и даже не затрогивают самого
события. Художник, из своей ли опытности или по письмам, за-
пискам и рассказам, выводит свое представление о совершив-
шемся событии, и весьма часто (в примере сражения) вывод о
деятельности таких-то и таких-то войск, который позволяет себе
делать историк, оказывается противоположным выводу худож-
ника. Различие добытых результатов объясняется и теми источ-
никами, из которых и тот и другой черпают свои сведения. Для
историка (продолжаем пример сражения) главный источник
есть донесения частных начальников и главнокомандующего.
Художник из таких источников ничего почерпнуть не может, они
для него ничего не говорят, ничего не объясняют. Мало того,
художник отворачивается от них, находя в них необходимую
ложь. Нечего говорить уже о том, что при каждом сражении
оба неприятеля почти всегда описывают сражение совершенно
противоположно один другому; в каждом описании сражения
15
есть необходимость лжи, вытекающая из потребности в несколь-
ких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на
нескольких верстах, находящихся в самом сильном нравствен-
ном раздражении под влиянием страха, позора и смерти.
В описаниях сражений пишется обыкновенно, что такие-то
войска были направлены в атаку на такой-то пункт и потом
велено отступать и т. д., как бы предполагая, что та самая дис-
циплина, которая покоряет десятки тысяч людей воле одного на
плацу, будет иметь то же действие там, где идет дело жизни и
смерти. Всякий, кто был на войне, знает, насколько это неспра-
ведливо1; а между тем на этом предположении основаны ре-
ляции, и на них военные описания. Объездите все войска тот-
час после сражения, даже на другой, третий день, до тех пор,
пока не написаны реляции, и спрашивайте у всех солдат, у
старших и низших начальников о том, как было дело; вам бу-
дут рассказывать то, что испытали и видели все эти люди, и в
вас образуется величественное, сложное, до бесконечности раз-
нообразное и тяжелое, неясное впечатление; и ни от кого, еще
менее от главнокомандующего, вы не узнаете, как было все
дело. Но через два-три дня начинают подавать реляции, гово-
руны начинают рассказывать, как было то, чего они не видали;
наконец, составляется общее донесение, и по этому донесению
составляется общее мнение армии. Каждому облегчительно
променять свои сомнения и вопросы на это лживое, но ясное и
всегда лестное представление. Через месяц и два расспраши-
вайте человека, участвовавшего в сражении, — уж вы не чув-
ствуете в его рассказе того сырого жизненного материала, ко-
торый был прежде, а он рассказывает по реляции. Так расска-
зывали мне про Бородинское сражение многие живые, умные
участники этого дела. Все рассказывали одно и то же, и все по
неверному описанию Михайловского-Данилевского, по Глинке
и др.; даже подробности, которые рассказывали они, несмотря
на то, что рассказчики находились на расстоянии нескольких
верст друг от друга, одни и те же.
После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжа-
новский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со
всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем
20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесе-
ний. Это был лучший образец той наивной, необходимой, воен-
ной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что
1 После напечатания моей первой части и описания Шенграбенского сра-
жения мне были переданы слова Николая Николаевича Муравьева-Карского
об этом описании сражения, слова, подтвердившие мне мое убеждение. Ник.
Ник. Муравьев, главнокомандующий, отозвался, что он никогда не читал бо-
лее верного описания сражения и что он своим опытом убедился в том, как
невозможно исполнение распоряжений главнокомандующего во время сра-
жения.— Прим. Л. И. Толстого.
16
многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти
донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том,
как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли
знать. Все испытавшие войну знают, как способны русские
делать свое дело на войне и как мало способны к тому, чтобы
его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью.
Все знают, что в наших армиях должность эту, составления ре-
ляций и донесений исполняют большей частью наши инородцы.
Все это я говорю к тому, чтобы показать неизбежность лжи
в военных описаниях, служащих материалом для военных исто-
риков, и потому показать неизбежность частых несогласий ху-
дожника с историком в понимании исторических событий. Но,
кроме неизбежности неправды изложения исторических собы-
тий, у историков той эпохи, которая занимала меня, я встречал
(вероятно, ^вследствие привычки группировать события, вы-
ражать их кратко и соображаться с трагическим тоном собы-
тий) особенный склад выспренней речи, в которой часто ложь и
извращение переходят не только на события, но и на понима-
ние значения события. Часто, изучая два главные исторические
произведения этой эпохи, Тьера и Михайловского-Данилевско-
го, я приходил в недоумение, каким образом могли быть печа-
таемы и читаемы эти книги. Не говоря уже об изложении одних
и тех же событий самым серьезным, значительным тоном, с
ссылками на материалы и диаметрально-противуположио один
другому, я встречал в этих историках такие описания, что не
знаешь, смеяться ли или плакать, когда вспомнишь, что обе эти
книги единственные памятники той эпохи и имеют миллионы
читателей. Приведу только один пример из книги знаменитого
историка Тьера. Рассказав, как Наполеон привез с собой фаль-
шивых ассигнаций, он говорит:
«Relevant I’emploi de ces moyens par unacte de bienfaisancedzgTze
de lui et de I'artnee francaise, il fit distribuer de secours aux ineen-
dies. Mais les vivres etant trop precieux pour etre donnes long-
temps a des etrangers, la plupart ennemis, Napoleon aima mieux
leur fournir de 1’argent, et il leur fit distribuer de roubles papier»1.
Это место поражает отдельно своей оглушающей, нельзя
сказать безнравственностью, но просто бессмысленностью; но
во всей книге оно не поражает, так как вполне соответствует
общему выспренному, торжественному и не имеющему ника-
кого прямого смысла тону речи.
1 Возмещая употребление этих средств делом благотворительности,
достойным его и французской армии, он приказал оказывать пособие пого-
ревшим. Но так как съестные припасы были слишком дороги и не представ-
лялось долее возможности снабжать ими людей чужих и по большей части
неприязненных, то Наполеон предпочел оделять их деньгами, и для того бы-
ли им выдаваемы бумажные рубли.
_____ 17
^/оо. БИБ^2Т3ЕКА
Итак, задача художника и историка совершенно различна,
и разногласие с историком в описании событий и лиц в моей
книге — не должно поражать читателя.
Но художник не должен забывать, что представление об ис-
торических лицах и событиях, составившееся в народе, осно-
вано не на фантазии, а на исторических документах, насколько
могли их сгруппировать историки; а потому, иначе понимая и
представляя эти лица и события, художник должен руководст-
воваться, как и историк, историческими материалами. Везде,
где в моем романе говорят и действуют исторические лица, я не
выдумывал, а пользовался материалами, из которых у меня во
время моей работы образовалась целая библиотека книг, за-
главия которых я не нахожу надобности выписывать здесь, но
на которые всегда могу сослаться.
6) Наконец, шестое и важнейшее для меня соображение ка-
сается того малого значения, которое, по моим понятиям, имеют
так называемые великие люди в исторических событиях.
Изучая эпоху столь трагическую, столь богатую громад-
ностью событий и столь близкую к нам, о которой живо столь-
ко разнороднейших преданий, я пришел к очевидности того, что
нашему уму недоступны причины совершающихся исторических
событий. Сказать (что кажется всем весьма простым), что при-
чины событий 12-го года состоят в завоевательном духе Напо-
леона и в патриотической твердости императора Александра
Павловича, так же бессмысленно, как сказать, что причины па-
дения Римской империи заключаются в том, что такой-то вар-
вар повел свои народы на запад, а такой-то римский импера-
тор дурно управлял государством, или что огромная сры-
ваемая гора упала оттого, что последний работник ударил ло-
патой.
Такое событие, где миллионы людей убивали друг друга и
убили половину миллиона, не может иметь причиной волю од-
ного человека: как один человек не мог один подкопать гору,
так не может один человек заставить умирать 500 тысяч. Но
какие же причины? Одни историки говорят, что причиной был
завоевательный дух французов, патриотизм России. Другие го-
ворят о демократическом элементе, который разносили полчи-
ща Наполеона, и о необходимости России вступить в связь с
Европою и т. п. Но как же миллионы людей стали убивать друг
друга, кто это велел им? Кажется, ясно для каждого, что от
этого никому не могло быть лучше, а всем хуже: зачем же они
это делали? Можно сделать и делают бесчисленное количест-
во ретроспективных умозаключений о причинах этого бессмыс*
ленного события; но огромное количество этих объяснений и со*
впадение всех их к одной цели только доказывает то, что при-
чин этих бесчисленное множество и что ни одну из них нельзя
назвать причиной.
18
Зачем миллионы людей убивали друг друга, тогда как с со-
творения мира известно, что это и физически и нравственно
дурно?
Затем, что это так неизбежно было нужно, что, исполняя
это, люди исполняли тот стихийный, зоологический закон, ко-
торый исполняют пчелы, истребляя друг друга к осени, по кото-
рому самцы животных истребляют друг друга. Другого ответа
нельзя дать на этот страшный вопрос.
Эта истина не только очевидна, но так прирожденна каж-
дому человеку, что ее не стоило бы доказывать, ежели бы не
было другого чувства и сознания в человеке, которое убеждает
его, что он свободен во всякий момент, когда он совершает ка-
кое-нибудь действие.
Рассматривая историю с общей точки зрения, мы несомнен-
но убеждены в предвечном законе, по которому совершаются
события. Глядя с точки зрения личной, мы убеждены в про-
тивном.
Человек, который убивает другого, Наполеон, который отда-
ет приказание к переходу через Неман, вы и я, подавая проше-
ние об определении на службу, поднимая и опуская руку, мы
все несомненно убеждены, что каждый поступок наш имеет ос-
нованием разумные причины и наш произвол и что от нас за-
висело поступить так или иначе, и это убеждение до такой
степени присуще и дорого каждому из нас, что несмотря на дово-
ды истории и статистики преступлений, убеждающих нас в не-
произвольности действий других людей, мы распространяем со-
знание нашей свободы на все наши поступки.
Противоречие кажется неразрешимым: совершая поступок,
я убежден, что я совершаю его по своему произволу; рассмат-
ривая этот поступок в смысле его участия в общей жизни чело-
вечества (в его историческом значении), я убеждаюсь, что по-
ступок этот был предопределен и неизбежен. В чем заключа-
ется ошибка?
Психологические наблюдения о способности человека ретро-
спективно подделывать мгновенно под совершившийся факт це-
лый ряд мнимо свободных умозаключений (это я намерен из-
ложить в другом месте более подробно) подтверждают пред-
положение о том, что сознание свободы человека при соверше-
нии известного рода поступков ошибочно. Но те же психологи-
ческие наблюдения доказывают, что есть другой род по-
ступков, в которых сознание свободы не ретроспективно, а
мгновенно и несомненно. Я несомненно могу, что бы ни гово-
рили материалисты, совершить действие или воздержаться от
него, как скоро действие это касается одного меня. Я несомнен-
но по одной моей воле сейчас поднял и опустил руку. Я сейчас
могу перестать писать. Вы сейчас можете перестать читать. Не-
сомненно по одной моей воле и вне всех препятствий я сейчас
19
мыслью перенесся в Америку или к любому математическому
вопросу. Я могу, испытывая свою свободу, поднять и с силой
опустить свою руку в воздухе. Я сделал это. Но подле меня
стоит ребенок, я поднимаю над ним руку и с той же силой
хочу опустить на ребенка. Я не могу этого сделать. На этого ре-
бенка бросается собака, я не могу не поднять руку на собаку.
Я стою во фронте и не могу не следовать за движениями полка.
Я не могу в сражении не идти с своим полком в атаку и не
бежать, когда все бегут вокруг меня. Я не могу, когда я стою
на суде защитником обвиняемого, перестать говорить или знать
то, что я буду говорить. Я не могу не мигнуть глазом против на-
правленного в глаз удара.
Итак, есть два рода поступков. Одни зависящие, другие не
зависящие от моей воли. И ошибка, производящая противоре-
чие, происходит только оттого, что сознание свободы, законно
сопутствующее всякому поступку, относящемуся до моего я, до
самой высшей отвлеченности моего существования, я непра-
вильно переношу на мои поступки, совершаемые в совокупно-
сти с другими людьми и зависящие от совпадения других про-
изволов с моим. Определить границу области свободы и зави-
симости весьма трудно, и определение этой границы составляет
существенную и единственную задачу психологии; но, наблю-
дая за условиями проявления нашей наибольшей свободы и
наибольшей зависимости, нельзя не видеть, что чем отвлечен-
нее и потому чем менее наша деятельность связана с деятель-
ностями других людей, тем она свободнее, и наоборот, чем
больше деятельность наша связана с другими людьми, тем она
несвободнее.
Самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь
с другими людьми есть так называемая власть над другими
людьми, которая в своем истинном значении есть только наи-
большая зависимость от них.
Ошибочно или нет, но, вполне убедившись в этом в продол-
жение моей работы, я, естественно, описывая исторические со-
бытия 1807 и особенно 1812 года, в котором наиболее выпукло
выступает этот закон предопределения \ я не мог приписывать
значения деятельности тех людей, которым казалось, что они
управляют событиями, но которые менее всех других участни-
ков событий вносили в него свободную человеческую деятель-
ность. Деятельность этих людей была занимательна для меня
только в смысле иллюстрации того закона предопределения, ко-
торый, по моему убеждению, управляет историею, и того пси-
хологического закона, который заставляет человека, исполняю-
1 Достойно замечания, что почти все писатели, писавшие о 12-м годе, ви-
дели в этом событии что-то особенное и роковое. ~Прим. Л. Н. Толстого,
20
щего самый несвободный поступок, подделывать в своем вооб-
ражении целый ряд ретроспективных умозаключений, имеющих
целью доказать ему самому его свободу» (16, 7—16).
ИЗ ЧЕРНОВЫХ ВСТУПЛЕНИЙ И ПРЕДИСЛОВИЙ
К РОМАНУ, НАБРОСКОВ К ЭПИЛОГУ
«Я бесчисленное количество раз начинал и бросал писать ту
историю из 12-го года, которая все яснее, яснее становилась для
меня и которая все настоятельнее и настоятельнее просилась в
ясных и определенных образах на бумагу. То мне казался нич-
тожным прием, которым я начинал, то хотелось захватить все,
что я знаю и чувствую из того времени, и я сознавал невозмож-
ность этого, то простой, пошлый, литературный язык и литера-
турные приемы романа казались мне столь несообразными с
величественным, глубоким и всесторонним содержанием, то не-
обходимость выдумкою связывать те образы, картины и мысли,
которые сами собою родились во мне, так мне становились про-
тивны, что я бросал начатое и отчаивался в возможности выска-
зать все то, что мне хотелось и нужно высказать. Но время и
силы мои уходили с каждым часом, и я знал, что никто никогда
не скажет того, что я имел сказать, не потому, что то, что я имел
сказать, было очень важно для человечества, но потому, что из-
вестные стороны жизни, ничтожные для других, только я один,
по особенности своего развития и характера (особенности, свой-
ственной каждой личности), считал важным. Больше всего ме-
ня стесняют предания, как по форме, так и по содержанию. Я
боялся писать не тем языком, которым пишут все, боялся, что
мое писанье не подойдет ни под какую форму, ни романа, ни
повести, ни поэмы, ни истории, я боялся, что необходимость опи-
сывать значительных лиц 12-го года заставит меня руководить-
ся историческими документами, а не истиной, и от всех этих бо-
язней время проходило, и дело мое не подвигалось, и я начинал
остывать к нему. Теперь, помучавшись долгое время, я решился
откинуть все эти боязни и писать только то, что мне необходимо
высказать, не заботясь о том, что выйдет из всего этого, и не
давая моему труду никакого наименования» (13, 53).
«В 1856 году я начал писать повесть с известным направле-
нием, героем которой должен был быть декабрист, возвращаю-
щийся с семейством в Россию. Невольно от настоящего я пере-
шел к 1825 году, эпохе заблуждений и несчастий моего героя, и
оставил начатое. Но и в 1825 году герой мой был уже возмужа-
лым, семейным человеком. Чтобы понять его, мне нужно было
перенестись к его молодости, и молодость его совпадала с славной
для России эпохой 1812 года. Я другой раз бросил начатое и стал
21
писать со времени 1812 года, которого еще запах и звук слыш-
ны и милы нам, но которое теперь уже настолько отдалено от
нас, что мы можем думать о нем спокойно. Но и в третий раз я
оставил начатое, но уже не потому, чтобы мне нужно было опи-
сывать первую молодость моего героя, напротив: между теми
полуисторическими, полуобщественными, полувымышленными
великими характерными лицами великой эпохи личность моего
героя отступила на задний план, а на первый план стали, с
равным интересом для меня, и молодые и старые люди, и муж-
чины и женщины того времени. В третий раз я вернулся назад
по чувству, которое, может быть, покажется странным большин-
ству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением
которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на за-
стенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне
совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапар-
товской Францией, не описав наших неудач и нашего срама.
Кто не испытывал того скрытого, но неприятного чувства за-
стенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений
о 12-м годе. Ежели причина нашего торжества была не случай-
на, но лежала в сущности характера русского народа и войска,
то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху не-
удач и поражений.
Итак, от 1856 года возвратившись к 1805 году, я с этого
времени намерен провести уже не одного, а многих моих ге-
роинь и героев через исторические события 1805, 1807, 1812, 1825
и 1856 года. Развязки отношений этих лиц я не предвижу ни в
одной из этих эпох. Сколько я ни пытался сначала придумать
романическую завязку и развязку, я убедился, что это не в моих
средствах, и решился в описании этих лиц отдаться своим при-
вычкам и силам... Я старался только, чтобы каждая часть сочи-
нения имела независимый интерес» (13, 54—55).
«Предлагаемое теперь сочинение ближе всего подходит к ро-
ману или повести, но оно не роман, потому что я никак не могу
и не умею положить вымышленным мною лицам известные гра-
ницы— как то женитьба или смерть, после которых интерес
повествования бы уничтожился. Мне невольно представлялось,
что смерть одного лица только возбуждала интерес к другим
лицам, и брак представлялся большей частью завязкой, а не
развязкой интереса. Повестью же я не могу назвать моего сочи-
нения потому, что я не умею и не могу заставлять действовать
мои лица только с целью доказательства или уяснения какой-
нибудь одной мысли или ряда мыслей.
Причина же, почему я не могу определить, какую часть моего
сочинения составит печатаемое теперь, состоит в том, что я не
знаю и сам для себя не могу предвидеть, какие размеры примет
все сочинение.
22
Задача моя состоит в описании жизни и столкновений неко-
торых лиц в период времени от 1805 до 1856 года.
Я знаю, что, ежели бы я исключительно был занят одной
этой работой и ежели бы работа моя производилась при самых
выгодных условиях, то и то едва ли я был бы в состоянии
исполнить мою задачу. Но и исполнив ее так, как я бы желал,
я убежден и стремлюсь к тому, чтобы интерес моего повество-
вания не прекратился бы с достижением предположенной эпохи.
Мне кажется, что, ежели есть интерес в моем сочинении, то он не
прерывается, а удовлетворяется на каждой части этого сочине-
ния и что вследствие этой-то особенности оно и не может быть
названо романом» (13, 55—56).
«Печатая произведение, на которое положены мною четыре
года непрестанного труда при наилучших условиях жизни и в
лучший период жизни, я желал бы, чтобы читатели получили
хоть малую долю того наслаждения, которое я испытывал при
этой работе» (13, 56).
«Я начал писать книгу о прошедшем. Описывая это прошед-
шее, я нашел, что не только оно неизвестно, но что оно известно
и описано совершенно навыворот тому, что было. И невольно я
почувствовал необходимость доказывать то, что я говорил, и
высказывать те взгляды, на основании которых я писал...»
(/5, 241),
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ
И КРИТИКИ О «ВОЙНЕ II МИРЕ»
И. С. ТУРГЕНЕВ
«...В этом романе столько красот первоклассных,
такая жизненность, и правда, и свежесть — что нельзя не со-
знаться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на пер-
вое место между всеми нашими современными писателями».
И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 тт.,
т. 12. М., Гослитиздат, 1958, стр. 388.
«Я на днях в 5-й и 6-й раз с новым наслаждением перечел
Ваше, поистине, великое произведение».
Письмо Л. Н. Толстому. «Толстой и Тур-
генев. Переписка». М., 1928, стр. 90.
«...«Война и мир» дала им (французским читателям.— Б. К.)
более непосредственное и верное представление о характере и
темпераменте русского народа и о русской жизни вообще, чем
если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и ис-
тории».
И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 тт.,
т. 11. М., Гослитиздат, 1956, стр. 211.
М Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
«...Наше, так называемое, «высшее общество» граф лихо про-
хватил...»
Цит. по кн.: Т. А. Ку з м и некая. Моя
жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, I960,
стр. 343.
24
И. А. ГОНЧАРОВ
«Главное известие берегу pour la bonne bouche (на закус-
ку.— Б. К.)', это появление романа «Мир и война» графа
Льва Толстого. Он, то есть граф, сделался настоящим львом ли-
тературы».
И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8 тт.,
т. 8. М., Гослитиздат, 1955, стр. 371—372.
Д. И. ПИСАРЕВ
«...Роман графа Л. Толстого можно назвать образцовым про-
изведением по части патологии русского общества. В этом рома-
не целый ряд ярких и разнообразных картин, написанных с са-
мым величественным и невозмутимым эпическим спокойствием,
ставит и решает вопрос о том, что делается с человеческими
умами и характерами при таких условиях, которые дают людям
возможность обходиться без знаний, без мыслей, без энергии
и без труда».
Д. И. Писаре в. Соч. в 4 тт., т. 4. М.,
Гослитиздат, 1956, стр. 370.
П. В. АННЕНКОВ
«...Мы имеем перед собою громадную композицию, изобра-
жающую состояние умов и нравов в передовом сословии «новой
России», передающую в главных чертах великие события, по-
трясавшие тогдашний европейский мир, рисующую физиономии
русских и иностранных государственных людей той эпохи...»
Цит. по кн.: «Л. Н. Толстой в русской
критике». М., Гослитиздат, 1960, стр. 231.
Н. В. ШЕЛГУНОВ (публицист)
«Жизнь средн народа научила графа Толстого понимать, на-
сколько его практические, действительные нужды выше избало-
ванных требований князей Волконских и разных кривляющихся
барынь, вроде г-жи Шерер, погибающих от праздности и избыт-
ка. Граф Толстой рисует сельский мир и крестьянский быт, как
одно из спасительных влияний, превращающих барина из вели-
косветского пустоцвета в практически-полезную общественную
силу. Таким, например, у него выходит граф Николай Ростов...»
Н. В. Ш е л г у н о в. Сочинения, изд. 2,
т. II. СПб., 1895, стр. 381.
Об образе Кутузова в «Войне и мире»:
«...Гениальность Кутузова выражается именно в том, что он
умеет понять народную душу, народное стремление, народное
25
желание... Кутузов всегда друг народа; он всегда слуга своего
долга, а долг, по его мнению, в том, чтобы выполнить стремле-
ние и желание большинства... Кутузов велик потому, что он от-
решается от своего «я» и пользуется своею властью как точкой
силы, концентрирующей всенародную волю».
Там ж е, стр. 398.
И. С. ЛЕСКОВ
«...Толстой не ошибается в своих заключениях, что Россию
действительно спасло не геройство полководцев, не планы муд-
рых правителей, а та органическая сила, которая была тверда
в... фельдмаршале, солдатах, во всем народе».
Н. С. Лесков. Собр. соч. в 11 тт., т. 10.
М., Гослитиздат, 1958, стр. 129.
«...Роман графа Толстого можно было в некотором отноше-
нии считать эпопеею великой и народной войны... В славном по-
ходе греков на Трою, воспетом неизвестными певцами, чувст-
вуем роковую силу, дающую всему движение... Много совершен-
но подобных ощущений дает автор «Войны и мира» в эпопее
12 года, выдвигая пред нами возвышенно простые характеры и
такую величавость общих образов, за которыми чувствуется не-
исследимая глубина силы, способной к невероятным подвигам.
Многими блестящими страницами своего труда автор обнару-
жил в себе все необходимые качества для истинного эпоса».
Цит. по кп.: Н. Н. Гусев. Лев Николае-
вич Толстой. Материалы к биографии с
1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР,
1957, стр. 851.
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
«Я вывел неотразимое заключение, что писатель — художест-
венный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности
(исторической и текущей) изображаемую действительность. У
нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой».
Цит. по кн.: Н. Н. Гусе в. Лев Нико-
лаевич Толстой. Материалы к биографии с
1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР,
1957, стр. 863.
В. Г. КОРОЛЕНКО
«Золя в своем «Debacle» («Разгроме». — Б. К.) разработал
ту же тему, что и Толстой в «Войне и мире». Золя — крупный ху-
дожник и мыслитель, однако сравните его картины с картинами
Толстого. Вот, например, движение отрядов. У Золя — это «бое-
26
вые единицы». Вы их видите, слышите гул их движения, наблю-
даете действие их в общем столкновении. Но это именно коллек-
тивные единицы, которые движутся, точно пятна на плане. В
лучшем случае вы разглядите среди них главного героя и отдель-
ные группы, близкие к основной нити рассказа. У Толстого про-
ходящий на параде или идущий в сражение полк — не коллек-
тивная единица, а человеческая масса, кишащая отдельными
жизнями. Перед вами выступают то и дело множество живых
лиц, — генералы, офицеры, солдаты, со своими личными особен-
ностями, со своими случайными ощущениями данной минуты,—
и когда это изумительное движение пронеслось и исчезло, вы
еще чувствуете этот клубок человеческих жизней, прокативший-
ся в общей массе...»
В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10 тт.,
т. 8. М., Гослитиздат, 1955, стр. 99—100.
А. П. ЧЕХОВ
«Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь
с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как
будто раньше не читал. Замечательно хорошо».
А. П. Чехов. Поли. собр. соч. в 20 тт.,
т. XV. М., Гослитиздат, 1949, стр. 259.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ
Толстой «пишет величайшее произведение мировой литерату-
ры в XIX веке — «Войну и мир».
М. Горький. История русской литера-
туры. М., Гослитиздат, 1939, стр. 292.
«Одно дело — «окрашивать» словами людей и вещи, другое—
изобразить их так «пластично», живо, что изображенное хочет-
ся тронуть рукой, как часто хочется потрогать героев «Войны
и мира» у Толстого».
М. Горьки й. Литературно-критические
статьи. М., Гослитиздат, 1937, стр. 344.
Г. В. ПЛЕХАНОВ
«...Автор «Войны и мира» есть великий писатель русской
земли... русская земля имеет право гордиться им и обязана лю-
бить его...»
Г. В. Плеханов. Сочинения, т. XV.
М.—Л,, 1926, стр. 350.
27
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
«Все положительное в романе «Война и мир» — это протест
против человеческого эгоизма, тщеславия, суеверия, стремление
поднять человека до общечеловеческих интересов, до расши-
рения своих симпатий, возвысить свою сердечную жизнь».
А. В. Луначарский. Избранные ста-
тьи. М., Гослитиздат, 1947, стр. 265.
М, М ПРИШВИН
«Читаю «Войну и мир» — не читаю, а пью. Интересно бы
знать, как это читает теперь молодежь. Тоже хорошо бы решить
ясно: в чем же сила Толстого, и если это не только поэзия, то
что же это у него сверх поэзии? Вот этот ответ и есть цель
моего нынешнего чтения».
Из дневниковой записи. «Октябрь», 1958,
№ 8, стр. 171.
В. П. КАТАЕВ
«Война и мир» Льва Толстого является моей настольной
книгой. Я ее постоянно читаю. Читаю всю жизнь. Я всегда нахо-
жу в ней что-нибудь новое. Не знаю, как бы сложилась моя
жизнь, не будь на свете Толстого и его потрясающего романа».
Цит. по кн.: А. И. Ш и ф м а н. Государст-
венный музей Л. Н. Толстого. М., Госкульт-
просветиздат, 1955, стр. 201.
В. Я. ШИШКОВ
«...Перечитываю «Войну и мир». Как хорошо старик знал
эпоху, как изумительно знал подноготную человеческих отно-
шений, чувств, ход душевных движений».
В. Я. Шишков. Неопубликованные про-
изведения. Воспоминания о В. Я. Шишко-
ве. Письма. Л., 1956, стр. 318—319.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ
И КРИТИКИ О «ВОЙНЕ И МИРЕ»
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ И США
ФРАНЦИЯ
ГУСТАВ ФЛОБЕР
«Это перворазрядная вещь! Какой художник и
какой психолог!.. Мне кажется, что кое-где есть места шекспи-
ровские. Я вскрикивал от восторга во время чтения... а оно про-
должается долго! Да, это сильно, очень сильно!»
См.: И. С. Тургенев. Собр. соч. в
12 тт., т. 12. М., Гослитиздат, 1958, стр. 542.
ГИ ЛЕ МОПАССАН
«Нам всем следует учиться у графа Толстого, автора «Вой-
ны и мира».
Цит. по кн.: Т. Моты ле в а. О мировом
значении Л. Н. Толстого. М., «Советский
писатель», 1957, стр. 380.
«Вот как нужно писать! Это для нас, молодых, откровение,
целый новый мир».
Слова, сказанные Мопассаном после чте-
ния «Войны и мира». Цит. по кн.: П. Б о-
борыкин. Эволюция русского романа.
М., 1902, стр. 3.
29
АНАТОЛЬ ФРАНС
«Как эпический писатель Толстой — наш общий учитель; он
учит нас наблюдать человека и во внешних проявлениях, выра-
жающих его природу, и в скрытых движениях его души; он учит
нас богатством и силой образов, одушевляющих его творчество;
он учит нас безошибочному выбору положений, которые могут
дать читателю ощущение жизни во всей ее бесконечной слож-
ности...»
См.: «Интернациональная литература»,
1940, № 11-12, стр. 229.
РОМЕН РОЛЛАН
«Война и мир» — это обширнейшая эпопея нашего времени,
современная «Илиада». В ней целый мир образов и чувств.
Над этим человеческим океаном, катящим несметные волны, па-
рит великая душа, которая с величавым спокойствием вызыва-
ет и укрощает бури. Множество раз перечитывая гениальное
творение Толстого, я вспоминал Гомера и Гёте, несмотря на то,
что Гомер, Гёте и Толстой так различны по духу и по времени.
Ромен Роллан. Собр. соч. в 14 тт.,
т. 2. М., Гослитиздат, 1954, стр. 259.
«...Величие «Войны и мира» заключается прежде всего в
воскрешении исторической эпохи, когда пришли в движение це-
лые народы и нации столкнулись на поле битвы. Народы — ис-
тинные герои этого романа...»
Там же, стр. 266.
МЕЛЬХИОР ДЕ ВОГЮЭ (критик)
«Я начал читать важнейшее из сочинений Толстого, «Войну и
мир». По мере того, как я подвигался вперед, любопытство пре-
вращалось в удивление, а удивление сменилось восторгом пред
бесстрастным судьей, требующим отчета от всякого проявления
жизни, заставляющим душу человека выдать все свои тайны.
Я чувствовал себя увлеченным течением спокойной реки, в ко-
торой я не находил дна».
Мельхиор де Вогюэ. Современ-
ные русские писатели. М., 1887, стр. 5—6.
АЛЬБЕР ДЕЛЬПИ (романист)
«Какая книга! Поэт, историк, философ не перестанут ее чи-
тать и перечитывать. Душа патриота вскрывается в ней. И уди-
вительная вещь! Никогда еще книга, написанная с патриотиче-
зо
ским чувством, не внушала более глубокого ужаса к войне.
Кампания 1812 г. рассказана врагом, но врагом, обожающим
свое отечество...»
Цит. по кн.: Ф. И. Булгаков. Граф
Л. Н. Толстой и критика его произведений,
русская и иностранная, ч. II. СПб., 1899,
стр. 112.
ФРАНЦИСК САРСЭ (критик)
«Неслыханное дело! Эта сложная, запутанная драма вся це-
ликом стоит передо мной, как живая, со всеми ее мельчайшими
подробностями!.. Я чрезвычайно отчетливо вижу физиономии
всех ее действующих лиц: ведь это так оригинально!..»
Там же, стр. 116.
АДОЛЬФ БАДЭН (критик)
«Граф Толстой умеет проникнуть в глубь характеров и пред-
ставлять их совершенно обнаженными, не боясь сделать их от-
того менее привлекательными. Ему не достаточно выставить
самую любопытную черту в них, существенную лицевую их сто-
рону. Он очерчивает с несравненной силой их достоинства и не-
достатки, колебания и противоречия. Это — страшный и неумо-
лимый психолог, от наблюдательности которого ничего не скро-
ется и для которого человеческая натура, столь изменчивая и
разнообразная, не имеет тайны».
Там же, стр. 4
«Это — целый мир, целая эпоха, богатая великими делами
и великими личностями, которую воскрешает автор с ее лихора-
дочной атмосферой».
Там ж е, стр. 7.
«Сотни исторических и этнографических сочинений не дадут
нам столь полного представления о русском характере и тем-
пераменте, как то сделано в трех томах рассматриваемого ро-
мана».
Там же, стр. 7.
«Это — вполне Русь, настоящая, целостная, с нею-то знако-
мит этот чудесный роман».
Там ж е, стр. 7.
«Автор «Войны и мира» — русский писатель до мозга костей».
Там ж е, стр. 9.
31
ЛУИ АРАГОН
«В течение некоторого времени всякий, кто ехал во Францию
по железной дороге, обязательно встречал людей, читавших
«Войну и мир» Толстого. Этот роман, быть может, величайший
из всех, какие когда-либо были написаны,— стал предметом
страсти французов в 1942—1943 гг. ...Ибо все происходило так,
будто Толстой не дописал его до конца, и будто Красная Армия,
дающая отпор носителям свастики, наконец, вдохнула в этот ро-
ман его подлинный смысл, внесла в него тот великий вихрь, ко-
торый потрясал наши души...»
Цит. по кн.: Т. Мо тыл ев а. О мировом
значении Л. Н. Толстого. М., «Советский
писатель», 1957, стр. 494.
ФРАНСУА МОРИАК
«Если бы этот роман был только повествованием об общест-
ве, ныне разрушенном, интерес к нему был бы исчерпан уже при
первом чтении. Что поражает меня сегодня — это вклад, сделан-
ный Толстым в ту, область, где, как принято считать, великие
открытия появились лишь после него. Нет ничего более ложного,
чем мнение,., будто психоанализ обогатил роман и последний
благодаря Фрейду продолжает углубляться... Это может даже
показаться очевидным, — но не читателю «Войны и мира»...»
«Вопросы литературы», 1961, № 1,
стр. 161—162.
«Перечитывая «Войну и мир», я чувствую, что передо мной не
пройденный нами этап, а утраченный нами секрет».
Там ж е, стр. 162.
ГЕРМАНИЯ
АРНОЛЬД ЦВЕЙГ
«Толстой как автор «Войны и мира» — недосягаемая верши-
на. Его уровня не сумел достичь никто из романистов, писавших
о войне. Как-то Томас Манн сказал мне, что «Война и мир» —
самое сильное в мировой литературе произведение о войне. И я
вполне согласился с ним».
Цит. по кн.: Т. М о т ы л е в а. О миро-
вом значении Л. Н. Толстого. М., «Совет-
ский писатель», 1957, стр. 604.
32
ЕВГЕНИИ ЦАБЕЛЬ (критик)
«Кто не находит удовольствия в мельчайшем живописании
характеров и положений, кто считает занимательность символом
действия романа и в конце каждой главы с усиленным биением
пульса ожидает смены новых неожиданностей, тот может не
читать это замечательное творение. Напротив, кто смыслит в
психологических тонкостях и в состоянии обозреть поэтическое
богатство, бьющее одновременно из сотни родников, кто желает
обширную область материала оценить до мелочей по всем на-
правлениям, тот наверное будет приветствовать в «Войне и мире.»
одно нз величайших и содержательнейших явлений новейшей
беллетристической литературы».
Цнг. по кн.: Ф. И. Булгаков. Граф
Л. Н. Толстой и критика его произведений,
ч. II. СПб., 1899, стр. 80.
АННА ЗЕГЕРС
В «Войне и мире» «с гениальной силой передана сила на-
рода...».
Цит. по кн.: Т. Мотыле в а. О мировом
значении Л. Н. Толстого. М.» «Советский
писатель», 1957, стр. 620.
США
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭИ
«Я люблю «Войну и мир» за превосходное, проникновенное
и правдивое изображение жизни и народа...»
См.: «Литературное наследство», т. 69.
кн. I. М., Изд-во' АН СССР, 1961, стр. 163.
АНГЛИЯ
РАЛЬСТОН (критик)
«Талант автора обнаруживается преимущественно в удачном
подборе мельчайших, почти неуловимых, но тем не менее типич-
ных подробностей, из которых слагается рисуемая им картина
нравов».
Цит. по кн : Ф. И. Булгаков. Граф
Л. Н. Толстой и критика его произведений,
ч. И. СПб., 1899, стр. 100.
ДЖОН ГОЛСУОРСИ
«Эта книга в шесть раз длиннее обычного романа, но повест-
вование ни разу не становится вялым, ни разу не утомляет чи-
2 Б. II. Кандисв
33
тателя; и охватываемая им территория — человеческих интересов
и исторических событий, социальной жизни и национальной жи-
зни — поистине грандиозна».
Цит. по кн.: Т. Моты л ев а. О миро-
вом значении Л. Н. Толстого. М., «Совет-
ский писатель», 1957, стр. 526.
КОМПТОН МАККЕНЗИ (писатель, борец за мир)
«Молодое поколение, которое пытается узнать, что такое
война, из книг о Великой войне, может больше узнать о ней из
«Войны и мира», чем из любых книг о Великой войне, какие
мне довелось читать. Знание этого романа необходимо для ум-
ственного развития молодого мужчины или молодой женщины,
желающих составить себе взгляд на жизнь».
См.: «Литературное наследство», т. 69,
кн. I. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 161.
СЛАВЯНСКИЕ СТРАНЫ
ПОЛЬША
АЛЕКСАНДР БРЮКНЕР
«...История жизни нескольких семейств в «Войне и мире»
должна была стать эпопеею, ибо всюду она приходила в при-
косновение с жизнью общества, народа; и Толстой развертыва-
ет перед нами могучую картину».
Проф. Брюкнер. Русская литература
в ее историческом развитии, ч. II. СПб., 1906,
стр. 84.
СТЕФАН ЖЕРОМСКИМ
«Читаю... «Войну и мир» Толстого и учусь подлинной пси-
хологии».
Цит. по кн.: Т. М о т ы л е в а. О мировом
значении Л. Н. Толстого. М., «Советский
писатель», 1957, стр. 665—666.
БОЛГАРИЯ
ИВАН ВАЗОВ
«В его лице Россия поклоняется могущественному гению.
Слава графа Толстого растет в Европе, где высоко оценен его
роман «Война и мир».
Из статьи «Вне Болгарии», 1891 г.
34
ЧЕХОСЛОВАКИЯ
«Величие Толстого переходит пределы всех литературных
школ и направлений. Роман «Война и мир» — это классический
эпос. В нем нет преувеличений, как у Виктора Гюго, нет пате-
тической героики... «Война и мир» — это мощный поток народ-
ной драмы, колоссальный взмах поэтических крыл, напомина-
ющий по своим масштабам фрески Микеланджело на стенах
Сикстинской капеллы».
Из высказываний чешских критиков кон-
ца XIX — начала XX века. Цит. по кн.:
Т. М о т ы л е в а. О мировом значении
Л. Н. Толстого. М., «Советский писатель»,
1957, стр. 685—686.
МАРИЯ ПУ И МАНОВ А
«Война и мир» действительно мой самый любимый роман,
начиная с юных лет, и сопровождает меня в течение всей моей
жизни. Лев Николаевич Толстой произвел и производит на меня
до сих пор глубокое впечатление — и тем, с какой правдивостью,
без всякой условности, он изображает своих героев, и своим аб-
солютным знанием психологии. В этом отношении я научилась
у него многому. А во время Великой Отечественной войны
«Война и мир» была для меня — как и для многих чехов — ис-
точником утешения и надежды, что Гитлер кончит так же, как
кончил Наполеон, как кончит каждый, кто осмелится напасть на
Советский Союз».
Там ж е, стр. 695.
СТРАНЫ ВОСТОКА
ЯПОНИЯ
НОБОРИ СЕМУ (литературовед)
«В языке Толстого чувствуется биение сердца, движение
души. Его язык чрезвычайно прост; картины, возникающие в
вашем воображении при чтении произведений Толстого, изуми-
тельно точны; в самом повествовании, в расстановке и распо-
ложении частей произведения отсутствует какая-либо искусст-
венность, натянутость. Рассказ Толстого обычно имеет характер
эпического повествования и в то же время построен так, что с
самого начала читатель обнаруживает основную нить, которая
и приводит к развязке».
Цит. по кн.: А. Шифман. Лев Толстой
и Восток. М., Изд-во восточной литерату-
ры, I960, стр. 371.
2
35
ИНДИЯ
МУЛЬК РАДЖ АНАНД
(писатель и общественный деятель)
«...Этот роман носит черты специфически современной фор-
мы романа, формы, которая породила свои собственные законы,
формы, являющейся значительным шагом вперед по сравнению
с художественной литературой прошлых эпох... Столь велика
способность Толстого проникать в душу своих героев... что «Вой-
на и мир» становится сложной монументальной энциклопедией
русского общества начала XIX века... [«Война и мир»] выявляет
новое отношение к проблеме войны. Действительно, это первый ве-
ликий человеческий документ о войне... Можно сказать, что «Вой-
на и мир» Толстого открыла эру простых людей в литературе...»
Цит. по кн.: «Лев Толстой. Материалы и
публикации». Тула, 1958, стр. 221—225.
ТУРЦИЯ
РЕШАД НУРИ (писатель)
«Типы Пьера и князя Андрея обрисованы с величайшей прав-
дивостью и мастерством. Что же касается глав, посвященных
войне, то мы без колебания скажем, что они несравнимы ни с
чем, написанным до сего времени. Наполеон, Александр I, Ку-
тузов, французская, австрийская, русская армии, все явления
и события описаны столь правдиво, что читатель видит все это
живым и действующим».
Цит. по кн.: А. Ши фм а н. Лев Толстой
и Восток. М., Изд-во восточной литерату-
ры, 1960, стр. 425—426.
НАЗЫМ ХИКМЕТ
«Величие Льва Николаевича Толстого, этого мастера мас-
теров, этого бессмертного старца, оставшегося навеки юным, я
полностью осознал только в бурской тюрьме. Там я перевел по-
ловину романа «Война и мир». Моя камера переполнилась
жизнью и надеждой, пали стены тюрьмы, я еще больше поверил
в созидательную мощь великого русского народа и еще больше
его полюбил».
Т а м ж е, стр. 426—427.
ЖАНР «ВОЙНЫ И МИРА»
Вопрос о жанровой природе «Войны и мира»
тесно связан с проблемой историчности романа. Поэтому есте-
ственно, что ни один из критиков Толстого, начиная с первых
газетных и журнальных рецензентов произведения и кончая ис-
следователями наших дней, не обошел эту проблему. Но
уже первые критические высказывания о жанре «Войны и ми-
ра» оказались весьма разноречивыми. Сам Толстой в статье «Не-
сколько слов по поводу книги «Война и мир», напечатанной в
«Русском архиве» за 1868 г., высказался по этому вопросу, чтобы
рассеять недоразумения, возникшие в печати.
Какой же взгляд на «Войну и мир» сложился у читателей
и критиков 60-х годов прошлого века?
Многие критики подошли к «Войне и миру» с точки зрения
догматической поэтики: стали искать в романе стройного разви-
тия единой сюжетной линии с определенной, точно очерченной
завязкой, перипетиями и развязкой и, не находя всего этого в
том виде, в каком бы им хотелось, пожимая плечами, выразили
свое недоумение. Приведем некоторые из этих высказываний.
«...«Война и мир», в строгом смысле слова, не роман, не
ищите в нем цельного поэтического замысла, не ищите един-
ства действия: «Война и мир» — просто ряд характеров, ряд кар-
тин, то военных, на поле битвы, то вседневных, в гостиных Пе-
тербурга и Москвы» L
«Картина, представленная автором, по своей обширности и
неравномерности эпизодов, является до излишества многослож-
ною и запутанною: в ней нет ни симметрии, ни согласия
частей»1 2.
«Это не роман вообще, не исторический роман, даже не ис-
торическая хроника; это — хроника семейная»3.
1 «Голос», 11 января 1868 г.
2 «Сын отечества», 5 января 1870 г.
3 Н. Страхов. Критические статьи, т. I. Киев, 1908, стр. 223.
37
«Ни истории, ни романа нет в книге графа Толстого, а глав-
ное нет в ней единства... Как недостает единства для завязки
собственно романической, так недостает ее и для исторических
описаний» 1.
«...В упомянутой книге трудно решить и даже догадываться,
где кончается история и где начинается роман, и обратно. Это
переплетение, или, скорее, перепутывание истории и романа, без
сомнения, вредит первой и окончательно, перед судом здравой
и беспристрастной критики, не возвышает истинного достоин-
ства последнего, т. е. романа»1 2.
Некоторые критики пытались анализировать роман, сопо-
ставляя его с западноевропейскими образцами этого жанра,
и готовы были обрушиться на писателя за отсутствие в его про-
изведении каких бы то ни было черт сходства с европейскими
историческими романами. Вот что писал критик из «Сына оте-
чества»: «Она (картина, представленная Л. Толстым. — Б. К.)
напоминает не столько художественные романы Вальтер-Скотта
или Диккенса, также обильные сценами и лицами, но правиль-
ные и гармонически скомпонованные, сколько же средневеко-
вые мистерии и романические повести, где бесчисленные эпи-
зоды громоздятся один на другой, и лица сменяются, как в вол-
шебном фонаре, являясь иногда неизвестно зачем и исчезая не-
знаемо куда»3.
Количество подобных высказываний и ссылок можно было
бы значительно увеличить, но вряд ли есть в этом необходи-
мость, так как они до крайности однообразны и сводятся к ут-
верждению, что новое произведение Л. Толстого не подходит ни
под один образец существующих жанров ни в русской, ни в ми-
ровой литературе, что автор слишком самонадеянно поступил,
нарушив существующие в области исторического романа ка-
ноны, что, взявшись за столь широкое полотно, он явно не спра-
вился с обильным материалом и вместо стройного произведения
создал что-то уродливое в жанровом и композиционном отно-
шении.
Толстого, видимо, глубоко задели критические замечания по
поводу его многолетнего труда, и он выступил в печати с ком-
ментарием к «Войне и миру». Первый пункт своего выступления
Толстой посвятил жанровой характеристике «Войны и мира».
Он писал:
«Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма,
еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хо-
тел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось.
1 «Голос», 22 марта 1868 г.
2 П. А. В я з е м с к и й. Воспоминания о 1812 годе. «Русский архив», 1869,
стр. 187—188.
3 «Сын отечества», 5 января 1870 г.
38
Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам
прозаического художественного произведения могло бы пока-
заться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и
ежели бы оно не имело примеров. История русской литера-
туры со времени Пушкина не только представляет много при-
меров такого отступления от европейской формы (курсив
наш. — Б. К.), но не дает даже ни одного примера противного.
Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого дома» До-
стоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного
художественного прозаического произведения, немного выхо-
дящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось
в форму романа, поэмы или повести» (16, 7).
Итак, Толстой отказывается дать определенную жанровую
характеристику своему произведению. По его мнению, «Война
и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в
какой оно выразилось. Но высказывание Толстого чрезвычай-
но интересно и ценно утверждением двух совершенно справед-
ливых в теоретическом отношении положений: во-первых, он,
борясь с догматической поэтикой, утверждает право настояще-
го писателя на полную оригинальность в вопросах художествен-
ной формы, а значит, и жанра и, во-вторых, констатирует само-
бытность русских писателей. Не европейским образцам следо-
вали великие русские писатели, а велению собственного твор-
ческого разума, и поэтому создавали не подражательные ро-
маны, а произведения глубоко оригинальные и самобытные как
по содержанию, так и по форме.
Однако Толстой таил в глубине своего сознания мысль о
жанровой природе «Войны и мира», он руководствовался опре-
деленными принципами, когда создавал грандиозное полотно.
Остановимся на этом вопросе несколько подробнее.
Величественность событий 1812 года, исполинский размах
народной войны, приведшей к полному и позорному поражению
прославленного Наполеона с его полумиллионной армией, пре-
красно понимали как многие мыслящие современники самих со-
бытий, так и современники Толстого. Ф. Ф. Вигель в своих за-
писках отметил, что необычайная и чудесная эпоха Отечествен-
ной войны принадлежит более эпопее, чем истории. «Какой же
славный труд предстоит будущему творцу русской «Илиады»! —
восклицал автор. — Но где он? Родился ли он, тот, который, сое-
диняя в себе одном гении Карамзина и Пушкина, Тацита и Го-
мера, был бы в состоянии достойным образом начертать потом-
ству величие его предков? Сии шесть месяцев великому писа-
телю едва ли не более представляют материалов, чем десятиле-
тие троянской войны. Для кисти его сколько красивых, мужест-
венных лиц...» !.
1 Ф. Ф. В и г е л ь. Записки, т. 4. М., 1892, стр. 87.
39
«Да, события 12-го — это наша «Илиада» — говорил один
из рецензентов «Петербургской газеты».
«Должно надеяться, что они (Тэн и Абу. — Б. К.) поймут всю
силу и красоту Вашей эпопеи»1 2, — писал И. С. Тургенев.
«Без ложной скромности — это как «Илиада»3, — заявил сам
Толстой, оценивая свое творение.
Сравнение романа Толстого с величайшим произведением Го-
мера, несомненно, имеет под собой почву. Недаром во всей после-
дующей критической литературе роман Толстого получил тради-
ционное наименование эпопеи народного героизма.
Нам хотелось бы это совершенно справедливое определение
жанра «Войны и мира» как исторической эпопеи соответствую-
щим образом обосновать.
В. Г. Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и
виды» сделал ряд глубоких и метких замечаний об эпопее как
поэтическом жанре. Он писал: «Эпопея всегда считалась выс-
шим родом поэзии, венцом искусства»4.
Многие народы, замечает Белинский, пытались создать свою
героическую национальную эпопею, но не всем удавалось это
сделать, так как для подлинно величественного художествен-
ного произведения, претендующего на жанр эпопеи, требо-
валось, чтобы народ, жизнь и деяния которого становились со-
держанием эпопеи, «был всемирно-историческим народом»5.
Далее Белинский говорит о необходимости отражения в
эпопее значительного и богатого содержания, которое не огра-
ничивало бы значение произведения узко национальными рам-
ками. «Только общечеловеческое, мировое содержание может
проявиться в художественной форме... Посему общенародная
война, которая пробудила, вызвала наружу и напрягла все
внутренние силы народа, которая составила собою эпоху в его
(еще мифической) истории и имела влияние на всю его после-
дующую жизнь, — такая война представляет собою по превос-
ходству эпическое событие и дает богатый материал для эпо-
пеи»6,— говорил Белинский, обращаясь к древнегреческому
эпосу.
Развивая свою мысль о содержании эпопеи, Белинский под-
черкивает, что герои ее должны выражать собою полноту силы
народа, «всю поэзию его субстанционального духа»7.
1 «Петербургская газета», 3 января 1869 г.
2 «Толстой и Тургенев. Переписка». М., 1928, стр. 90.
3 См.: М. Г о р ь к и й. Собр. соч. в 30 тт., т. 14. М., Гослитиздат, 1951,
стр. 284.
4 В. Г. Б е л и н с к и й. Поля. собр. соч. в 13 тт., т. V. М., Изд-во АН
СССР, 1954, стр. 32.
5 Т а м же, стр. 37.
6 Там ж е, стр. 38.
7 Т а м же.
40
Все это дает основание критику прийти к выводу, что на-
родность составляет одно из главнейших, условий эпопеи, что
сам поэт должен смотреть на события глазами своего народа.
Для первой половины прошлого столетия эпопеей Белинский
считал роман, который вобрал в себя все существенные элемен-
ты этого жанра. Разницу между героической поэмой и романом
критик видел в том, что в романе представлены «не мифические
размеры героической жизни, не колоссальные фигуры героев»1
и действуют в нем не боги, а простые смертные люди. Отличи-
тельной особенностью романа критик считал также то, что его
содержанием «может служить и частная жизнь»1 2. Исключитель-
но глубокое и верное определение дал Белинский историческому
роману, искусно парируя нападки некоторых критиков своего
времени на этот жанр как якобы на плод неестественного соче-
тания вымысла и исторической действительности.
Белинский писал: «Люди, лишенные от природы эстетиче-
ского чувства и понимающие поэзию рассудком, а не сердцем и
духом, восстают против исторических романов, почитая в них
незаконным соединение исторических событий с частными про-
исшествиями. Но разве в самой действительности исторические
события не переплетаются с судьбою частного человека, и на-
оборот, разве частный человек не принимает иногда участия в
исторических событиях? Кроме того, разве всякое историческое
лицо, хотя бы то был и царь, не есть в то же время и просто че-
ловек, который, как и все люди, и любит и ненавидит, страдает
и радуется, желает и надеется? И тем более, разве обстоятель-
ства его частной жизни не имеют влияния на исторические со-
бытия, и наоборот? История представляет нам событие с его
лицевой, сценической стороны, не приподнимая завесы с заку-
лисных происшествий, в которых скрываются и возникновение
представляемых ею событий и их совершение в сфере ежеднев-
ной, прозаической жизни. Роман отказывается от изложения ис-
торических фактов и берет их только в связи с частным собы-
тием, составляющим его содержание; ио через это он разобла-
чает перед нами внутреннюю сторону, изнанку, так сказать,
исторических фактов, вводит нас в кабинет и спальню историче-
ского лица, делает нас свидетелями его домашнего быта, его
семейных тайн, показывает его нам не только в парадном исто-
рическом мундире, но и в халате с колпаком. Колорит страны и
века, их обычаи и нравы выказываются в каждой черте исто-
рического романа, хотя и не составляют его цели. И потому ис-
торический роман есть как бы точка, в которой история, как
1 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. в13тт., т. V. М,, Изд-во АН
СССР, 1954, стр. 39.
2 Там я; е, стр. 41.
41
наука, сливается с искусством; есть дополнение истории, ее дру-
гая сторона» \
Мы привели эту столь пространную цитату потому, что в ней
Белинский с замечательной глубиной охарактеризовал отличи-
тельные черты исторического романа как крупного эпического
жанра. Высоко оценивая познавательную сущность жанра ис-
торического романа, Белинский признал даже некоторые пре-
имущества его перед научным историческим исследованием.
Итак, из рассуждений Белинского следует определенный вы-
вод: эпопея, как наиболее величественный жанр эпического
рода, предполагает значительность и глубину содержания, ре-
шение таких актуальных исторических проблем, которые затра-
гивают интересы всего народа в рамках определенной нации, ко-
торые раскрывают особенности психики народа, его миропони-
мание и мироощущение. Существенной стороной эпопеи нового
времени Белинский считает реалистическую установку автора
в изображении действительности: в эпопее нового времени, в
отличие от произведений этого рода античного мира, должны
действовать люди в земной, реальной обстановке; художник
должен создать живые человеческие характеры и через них по-
казать многие и существенные стороны жизни народа, показать
его могучий, несокрушимый дух, раскрыть мир психических пе-
реживаний в самый ответственный и решительный момент ис-
торического бытия. И, наконец, по мнению критика, эпопея мо-
жет родиться у народа, имеющего все основания влиять на
судьбы мировой истории.
В какой мере все высказанные положения приложимы к
«Войне и миру» Л. Толстого? Нам думается, что вряд ли можно
во всей мировой литературе найти другое художественное про-
изведение, которое бы в такой полной мере соответствовало
жанровым признакам эпопеи нового времени.
Во-первых, тема грандиозного произведения Толстого — ге-
роическая народно-освободительная война 1812 года. Значение
этого исторического момента в истории России выражено в це-
лом ряде документов как современников эпохи, так и последу-
ющих поколений русских и зарубежных мемуаристов и истори-
ков. Сошлемся на некоторые из этих высказываний.
«Война 1812 года пробудила народ русский к жизни и со-
ставляет важный период в его политическом существова-
нии»1 2,— писал в своих воспоминаниях И. Д. Якушкин.
«Двенадцатый год был великою эпохою в жизни России...
Напряженная борьба насмерть с Наполеоном пробудила дре-
мавшие силы России и заставила ее увидеть в себе силы и сред-
1 В. Г. Б е л и н с к и й. Поли. собр. соч. в 13 тт., т. V. М., Изд-во АН СССР,
1954, стр. 41—42.
2 И. Д. Якушкин. Записки, изд. 2. М., 1905, стр. 1.
42
ства, которых она дотоле сама в себе не подозревала»1, — отме-
чал В. Г. Белинский.
«А разве мы не доказали в 12-м году, что мы русские? —
Такого примера не было от начала мира!.. Мы должны гордить-
ся, а оставить удивление потомкам и чужестранцам!»1 2 — гово-
рил устами одного из своих героев М. Ю. Лермонтов.
«Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впер-
вые ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во всех сердцах
чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и
народной. Вот начало свободомыслия в России»3, — восклицал
А. Бестужев.
«Кто в сие время не слыхал земледельцев, непрестанно твер-
дивших с чувством, которое одному русскому сердцу может
быть известно: ...все пойдем; или умрем, или уже злодея не бу<
дет»4, — писал В. И. Штейнгель.
«Я видел также прихожанок, одушевленных воинским пат*
риотизмом, которые говорили: «Только дай нам, батюшко, пики,
то мы пойдем на француза»5, — писал в своих «Записках»
И. Радожицкий.
«Русские не выдадут земли своей! Если не достанет воинов,
то всяк из нас будет одною рукою водить соху, а другою сра-
жаться за отечество!»6 — передавал слова, свидетельствующие
о патриотическом подъеме русского народа, в своих «Письмах»
Ф. Глинка.
Вся мемуарная, эпистолярная и историческая литература
прошлого переполнена подобными мыслями и воспоминаниями.
Хронологический диапазон «Войны и мира» не очень велик:
в романе изображаются события от 1805 по 1820 г. Но сама эта
эпоха представляет собой весьма крупное явление по своим
масштабам и исторической значимости для судьбы много-
миллионного русского народа и народов Европы. В эти пят-
надцать лет укладываются два таких колоссальных события,
как Отечественная война 1812 г. и период подпольной дея-
тельности группы дворянских революционеров, завершившейся
их вооруженным выступлением 14 декабря 1825 г. на Сенатской
площади с целью захвата государственной власти и осущест-
вления в стране серьезных демократических преобразований.
Естественно, что каждое из указанных событий оставило
глубочайший след в жизни народа. Отечественная война вы-
1 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. в 13 тт., т. VII. М., Изд-во АН
СССР, 1955, стр. 269.
2 М. Ю. Лермонтов. Поли. собр. соч., т. IV. М., «Academia», 1935, стр.
206.
8 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. ЛАемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 128.
4 В. Шт[ейнгель]. Записки... ч. I. СПб., 1814, стр. 25.
6 И. Р а дож и цк и й. Походные записки артиллериста. М., 1835, стр. 197.
6 Ф. Глинка. Письма русского офицера, ч. 4. М., 1815, стр. 10.
43
звала величайший патриотический подъем русского народа, про-
буждение глубокого национального самосознания, любви к ро-
дине, желания каждого истинного сына отечества пожертвовать
всем во имя спасения родины от нашествия врага.
Выступление декабристов знаменовало собой пробуждение
общественной мысли, чувства человеческого достоинства, гуман-
ности, жажды просвещения, желания видеть свою страну пре-
образованной, избавленной от позорных цепей крепостничества,
от чудовищного гнета и произвола, бескультурья и мракобесия.
Первые два десятилетия XIX века — годы, в которые развер-
тываются изображенные Толстым в «Войне и мире» события,—
есть период глубоких и широких сдвигов в экономической, со-
циальной и политической жизни России. Эти события во мно-
гом предопределили дальнейшее развитие русской и мировой
истории.
Отмечая всемирно-историческое значение победы России,
Энгельс писал: «Уничтожение огромной наполеоновской армии
при отступлении из Москвы послужило сигналом к всеобщему
восстанию против французского владычества на Западе»1.
В. И. Ленин гениально, с предельной лаконичностью опреде-
лил значение выступления декабристов:
«Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул револю-
ционную агитацию.
Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революцио-
неры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями
«Народной воли»1 2.
Все это говорит о грандиозности, величественности истори-
ческого материала, положенного в основание темы и сюжета
«Войны и мира».
Но для того чтобы назвать произведение эпопеей, необхо-
димо не только значительное содержание. Эпопея, как венец ис-
кусства, предполагает и высокую художественную форму, а эпо-
пея-роман новейшего времени, по понятиям Белинского, — и
глубокий реализм.
В «Войне и мире» несколько сюжетных линий со всеми ком-
позиционными элементами, придающими действию полную
сюжетную законченность. Превосходно написанные батальные
сцены и жанровые картины из мирной жизни столичного и
провинциального дворянства так же органически переплетаются
между собой, как в реальной жизни. На протяжении полутора
тысяч страниц читатель не ощущает ни одного ходульного эпи-
зода, ни одной композиционной натяжки, ни одного искусствен-
ного положения. Повествование течет естественно и просто, как
сама жизнь.
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 22. М., Госполитиз-
дат, 1962, стр. 30.
2 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 21, стр. 261.
44
В «Войне и мире» насчитывают 569 действующих лиц, мно-
гие из которых тщательно выписаны мастерской кистью худож-
ника-живописца. В произведении даны не только отдельные ти-
пические образы, но и целые дворянские семьи, с характерными
внешними и внутренними фамильными чертами (Болконские,
Ростовы, Курагипы и др.).
Богатству содержания «Войны и мира» соответствует мер-
ный, спокойный, эпически величавый и бесконечно богатый
оттенками, изобразительными средствами язык художника,
язык, волнующий глубоким лиризмом, искренностью и задушев-
ностью.
Величественность «Войны и мира» со стороны и содержания,
и художественной формы отметили многие рецензенты 60—70-х
годов. Газета «Биржевые ведомости» писала: «Кроме личных
характеров, художественное изучение автора видимо для всех
с замечательной энергией было направлено на характер всего
народа, вся нравственная сила которого сосредоточилась в вой-
ске, боровшемся с великим Наполеоном. В этом смысле роман
графа Толстого можно было в некотором отношении считать
эпопеей великой народной войны, имеющей своих историков, но
далеко не имеющей своего певца» Г
«Война и мир» без всякого сомнения принадлежит к числу
лучших беллетристических произведений русской литературы
за последние годы. Сочинение это резко выдается из массы
современных романов и повестей...»1 2 — писал рецензент «Сына
отечества».
Сохранились высокие отзывы о «Войне и мире» IT. С. Турге-
нева, который вначале принял роман с целым рядом критиче-
ских замечаний, но по мере выхода в свет очередных томов про-
изведения стал отзываться о нем все восторженнее.
Тургенев отметил и особый художественный метод русского
романиста: «...это — не метод Вальтер Скотта, и, само собою
разумеется, также не манера Александра Дюма»; «Это обшир-
ное произведение овеяно эпическим духом...»3
Все, что нами приводилось здесь, доказывает следующую
мысль: «Войну и мир» можно рассматривать как эпопею, срав-
нивать ее с «Илиадой» и «Одиссеей» Гомера.
Однако общепринятое сравнение «Войны и мира» с величай-
шим древнегреческим эпосом верно лишь относительно. Во вся-
ком случае, оно не достаточно для точного определения жанро-
вой природы произведения Толстого.
«Война и мир» — не просто эпопея, а роман-эпопея. И уже
Белинский усматривал определенную разницу между этими дву-
1 «Биржевые ведомости», 27 мая 1870 г.
2 «Сын отечества», 25 февраля 18G9 г.
3 И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 тт., т. 11. М., Гослитиздат, 1956,
стр. 211.
45
мя жанрами. Он писал: «Сфера романа несравненно обширнее
сферы эпической поэмы. Роман, как показывает самое его наз-
вание, возник из новейшей цивилизации христианских народов, в
эпоху человечества, когда все гражданские, общественные, семей-
ные и вообще человеческие отношения сделались бесконечно-мно-
госложны и драматичны, жизнь разбежалась в глубину и шири-
ну в бесконечном множестве элементов» 1 (курсив наш. — Б. К.),
И в другом месте: «Кроме того, на стороне романа еще и то
великое преимущество, что его содержанием может служить и
частная жизнь»1 2.
Таким образом, мы видим, что великий критик ставил жанр
исторического романа, несущего в себе элементы эпопеи, выше
героических поэм античного мира, считал его более обширным
по своему содержанию и более глубоким по художественному
воспроизведению действительности.
Эта же мысль прозвучала в одном из высказываний о «Вой-
не и мире» И. С. Тургенева. Он считал, что новое произведение
Толстого заключает в себе, вместе с эпопеей, исторический ро-
ман и очерк нравов.
Но и этим не исчерпывается богатство содержания «Войны и
мира». Титаническое произведение Толстого отличается органи-
ческим сочетанием материала военно-исторического, социально-
го, семейного, психологического и философского.
Все это означает, что Толстой творил под наплывом колос-
сального материала, не отдавая даже себе ясного отчета, что из
этого получится в жанровом отношении. Переполненный взвол-
новавшим его материалом и жизненными впечатлениями, вели-
кий художник стремился только к одному — сказать слово прав-
ды о героической странице родной истории. Что это именно так,
показывает целый ряд его собственных признаний.
Вот что пишет Толстой 6 февраля 1865 г. в предисловии к
«Тысяча восемьсот пятому году»:
«Печатая начало предлагаемого сочинения, я не обещаю ни
продолжения, ни окончания его. Мы, русские, вообще не умеем
писать романов в том смысле, в котором понимают этот род со-
чинений в Европе...» (13, 54).
Публикуя продолжение романа-эпопеи, Толстой 18 марта
1865 г. в новом предисловии вновь дает разъяснение о жанре
своего произведения. Он пишет:
«Печатая одну часть сочинения без заглавия и без определе-
ния рода, к которому оно принадлежит, т. е. не называя его ни
поэмой, ни романом, ни повестью, ни рассказом, я считаю нуж-
ным сказать несколько объяснительных слов, почему это так, и
1 В. Г. Белинский. Поли. собр. соч. в 13 тт., т. V. М., Изд-во АН
СССР, 1954, стр. 40.
2 Там же, стр. 40—41.
46
почему я не могу определить, какую часть целого составляет
печатаемое теперь» (13, 55).
И дальше писатель объясняет, почему он не может «Тысяча
восемьсот пятый год» назвать романом: сейчас невозможно
определить границы в развитии сюжета, в котором действуют
вымышленные персонажи, что необходимо для романа; по-
вестью же он не в состоянии назвать свое произведение потому,
что не может заставить своих героев действовать «только с
целью доказательства или уяснения какой-нибудь одной мысли
или ряда мыслей» (13, 55).
Эти замечания Толстого относятся к той стадии работы над
«Войной и миром», когда была написана лишь первая часть
произведения «Тысяча восемьсот пятый год», две части которо-
го соответствуют примерно первому тому окончательной редак-
ции «Войны и мира».
Наконец, в марте 1868 г., в «Русском архиве» (№ 3), после
того уже, как вышло в свет четыре тома «Войны и мира»,
Толстой выступил со статьей «Несколько слов по поводу книги
«Война и мир». И, несмотря на то что работа над романом шла
уже к завершению, в ней он также не смог дать читателю опре-
деленный ответ о жанровой природе своего нового произве-
дения.
Все это подтверждает мысль о том, что сам Толстой в тече-
ние шести лет напряженного труда над «Войной и миром» был
озабочен не вопросом, в какую жанровую форму отлить огром-
ный поэтический материал, который обуревал его и просился
на бумагу, а более важной и существенной задачей: сказать
миру историческую правду о героической борьбе русского наро-
да с наполеоновскими полчищами.
Вот почему нельзя признать в научном отношении состоя-
тельными попытки некоторых исследователей свести «Войну и
мир» к какой-либо одной жанровой разновидности догматиче-
ской поэтики и тем более попытки найти аналогию в западно-
европейской литературе и путем сравнения определить, у кого
заимствовал Толстой жанр своего произведения.
Толстой путем привлечения огромного документального ма-
териала и художественного его осмысления сумел глубоко
постичь избранную для своего произведения эпоху, дал ее вер-
ное изображение со стороны как внутренних процессов, так и
явлений повседневного быта почти всех сословий общества пер-
вой четверти XIX столетия.
Он глубоко и правильно решил основной вопрос темы: воп-
рос о характере войны 1812 г., изобразив ее как справедливую
войну русского народа против хищного агрессора.
Глубоко и правильно решил Толстой и второй актуальный
вопрос темы: вопрос о главном герое событий 1812 г., увидев
его в лице русского народа, поднявшего «дубину» народной вой-
47
ны. Творческое решение этой проблемы поставило Толстого в
один ряд с его великими предшественниками—Грибоедовым,
Пушкиным, Лермонтовым и Гоголем, которые также в своих
произведениях на исторические темы вообще и о 1812 годе в
частности в качестве движущей силы исторического процесса
изобразили народ. Причем эта проблема блестяще решена не
только системой художественных образов романа, но и его фи-
лософско-теоретической частью, рассматривающей закономер-
ности исторического процесса. Мышление писателя в образах и
силлогизмах настолько органически едино, что попытка отде-
лить от художественной ткани романа философско-теоретиче-
скую часть оказалась невозможной. Мы считаем, что в «Вой-
не и мире» Толстого блестяще решена весьма сложная эсте-
тическая задача — создать многоплановое и многотемное худо-
жественное произведение, имеющее полное композиционное
единство Г
В романе-эпопее изображены все основные фазы войны с
Наполеоном с 1805 по 1812 г. Толстой не обходит ни одного
сколько-нибудь значительного эпизода на протяжении семи лет
событий. В этом сказалось превосходное знание писателем изоб-
раженной эпохи и большое чутье художника-реалиста в отборе
наиболее существенных явлений исторической действительности.
Многогранен и глубок Толстой в изображении жизни и бы-
та почти всех сословий русского общества, в раскрытии эконо-
мики поместного хозяйства, взаимоотношений барина и мужи-
ка, нравственного облика самых разнообразных представителей
дворянского сословия. Отсюда огромная познавательная цен-
ность и неотразимая сила убедительности «Войны и мира» как
подлинного исторического произведения.
В полном соответствии с исторической правдой показал
Толстой роль главнокомандующего всех вооруженных сил Рос-
сии в 1812 г. М. И. Кутузова, сделав его основной фигурой
военных событий. Это обстоятельство приобретает особенное
значение, если иметь в виду диаметрально противоположную
точку зрения на Кутузова, высказываемую в источниках, кото-
рыми пользовался Толстой при создании своего произведения.
То, что писатель обошел в романе-эпопее военпо-стратегические
планы Кутузова, его гениальное полководческое мастерство в
обычном понимании этого вопроса, объясняется не только оши-
бочным взглядом Толстого на роль личности в истории, но в
еще большей степени его стремлением особо подчеркнуть мо-
ральный дух русского войска и способность Кутузова уловить
его и возглавить патриотический подвиг русского народа в Оте-
1 См. об этом подробно в нашей статье «Из наблюдений над сюжетом и
композицией «Войны и мира» Л. И. Iодетого», «Ученые записки Северо-Осе-
тинского пед. ин-та», 1952, т. XXIII.
48
чественной войне 1812 г. Поэтому отдельные неверные штрихи
в трактовке образа Кутузова в конечном счете не снижают мо-
нументальности фигуры великого полководца.
Огромную историческую прозорливость проявил Толстой и
в изображении других исторических лиц: Александра I, Напо-
леона, членов иностранного и русского генералитетов. Здесь
также проявились смелость и полная самостоятельность писа-
теля в своих порой парадоксальных суждениях.
Насытив произведение конкретным историческим и бытовым
материалом, Толстой не впал в схематизм и фактографию. Как
истинно великий писатель, весь тщательно отобранный материал
он сумел облечь в яркие, глубоко эмоциональные и пластичес-
кие художественные образы. Отсюда величайшие эстетические
достоинства романа-эпопеи.
В «Войне и мире» поставлена и глубоко разрешена тема
патриотизма русского народа. Решая ее, Толстой не впадает в
сусальный, ложпопатриотический тон повествования, а, как пи-
сатель-реалист, смотрит па события трезвыми глазами. Рисуя
представителей всех сословий русского народа в 1812 г., Толстой
говорит и о верных сынах отечества, готовых отдать жизнь за
спасение родины, и о лжепатриотах и карьеристах, которые все
свои помыслы направляли к достижению своекорыстных эгоис-
тических целей. Таким решением патриотической темы Толстой
отразил подлинную историческую действительность.
Историчность «Войны и мира» определяется не только прав-
дивым воспроизведением внутренних процессов событий и внеш-
них сторон действительности (картины боя, отступления, изгна-
ния французов, быта дворян и т. п.), но и глубоким постижени-
ем внутреннего мира огромной галереи нарисованных персона-
жей, тонким психологическим анализом их душевного мира.
Писатель раскрывает мысли и чувства людей определенной со-
циальной среды, определенной исторической эпохи. Изумитель-
ное мастерство Толстого в словесной живописи, его умение чи-
тать человеческую душу в ее тончайших линиях и глубинных
процессах позволили ему изобразить сложные, многогранные че-
ловеческие характеры, создать произведение высочайшего ху-
дожественного достоинства. В этом отношении к роману-эпопее
Толстого можно безоговорочно отнести слова Гюго, сказанные
им об «Илиаде» Гомера, — что в поэме великого греческого пев-
ца «не встречается ни одного неверного характера».
Однако вопрос об историчности «Войны и мира» нельзя ре-
шать ограниченно и прямолинейно. Гениальный роман-эпопея
Толстого, будучи связан живыми нитями с изображенной эпо-
хой, ярко отразил также волнующие проблемы, современные
писателю, проблемы 60-х годов прошлого века. Они оказались
настолько явственными в «Войне и мире», что привели некото-
рых исследователей к неправильным выводам о модернизации
49
Толстым исторической действительности. Эта неправильная точ-
ка зрения проникла и в школьный учебник.
На абсолютную несостоятельность такого толкования «Вой-
ны и мира» как исторического произведения правильно указал
М. Б. Храпченко. Он пишет: «Сущность подлинного художест-
венного произведения на историческую тему никогда не сводит-
ся к верному освещению событий и характеров определенной
эпохи... Но истинное художественное создание, изображающее
прошлое, нельзя рассматривать и как зашифрованный рассказ о
современных писателю событиях... Перекличка эпох в произве-
дениях исторического жанра сложна и многообразна. Соотно-
шение исторического и современного в «Войне и мире» имеет
свои специфические особенности» L
Глубина, обширность, богатство исторического и общечело-
веческого содержания и несравненная художественная форма
гениального творения Толстого приобрели ему мировую славу.
Пользуясь ленинской формулировкой о творчестве писателя,
можно сказать применительно к «Войне и миру», что Толстой
сумел поставить в своем произведении «столько великих вопро-
сов, сумел подняться до такой художественной силы»1 2, что его
роман-эпопея стал непревзойденным образцом этого жанра во
всей мировой литературе.
«Война и мир» потому и имеет всемирную известность, что
Толстой сумел в своем произведении с поразительной глубиной
и широтой показать русское общество со всеми особенностями
его государственной, бытовой, психической и нравственной жиз-
ни. И. С. Тургенев был глубоко прав в своем письме к француз-
скому писателю Абу, рекомендуя произведение Толстого как
своеобразную энциклопедию русской жизни.
Все сказанное дает нам основание назвать «Войну и мир»
Толстого историческим романом-эпопеей3.
1 М. Б. Храпченко. Лев Толстой как художник. М., «Советский писа-
тель», 1963, стр. 91.
2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 19.
8 Такое же определение жанра «Войны и мира» мы находим в книге
проф. С. М. Петрова «Исторический роман в русской литературе» (М., Учпед-
гиз, 1961, стр. 100) и в монографии С. И. Леушевой «Война и мир» Л. Н. Толс-
того» (М., Изд-во АПН РСФСР, 1954, стр. 24). Однако в нашем литературо-
ведении еще нет единой точки зрения на жанровую природу «Войны и мира».
Абсолютное большинство исследователей Толстого называют его вели-
чественное произведение романом-эпопеей или просто эпопеей. Эти термины
теперь уже прочно вошли в научный обиход и в школьное преподавание.
Лишь А. А. Сабуров в книге «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика
и поэтика» выступил с несколько своеобразной точкой зрения на жанр «Вой-
ны и мира». Он предложил называть монументальное произведение Толстого
«романом нового типа». Рассуждения Сабурова полемически направлены
против исследования А. В. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи» (см. об
этом статью К. Н. Ломунова и Б. С. Мейлаха «О некоторых проблемах изу-
чения Толстого». «Литературное наследство. Лев Толстой», кн. 1. М., Изд-во
АН СССР, 1961, стр. 219—222).
50
О ЗАГЛАВИИ РОМАНА-ЭПОПЕИ
Возникновение заглавия романа-эпопеи «Вой-
на и мир» имеет свою историю./ По этому вопросу накопилась
уже определенная литература.
Первые части будущего романа-эпопеи «Война и мир» были
опубликованы Толстым в 1865—1866 гг. в журнале «Русский
вестник» под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год». В даль-
нейшем Толстой отказался от мысли публиковать свое разра-
стающееся произведение по частям в журнале, решил завершить
его и издать отдельной книгой. В мае 1866 г. он писал А. А. Фету:
«Роман свой я надеюсь кончить к 1867 году и напечатать от-
дельно... под заглавием: «Все хорошо, что хорошо кончается».
Скажите, пожалуйста, свое мнение о заглавии...» (61, 139).
В 23-м пункте примечания к этому письму в Полном собра-
нии сочинений говорится, что «это единственное известное упо-
минание заглавия «Все хорошо, что хорошо кончается» (61, 141).
Уже в марте 1867 г. в письме к М. Н. Лаврову, профессору
химии, служившему в типографии Каткова, Толстой заявляет,
что «согласен отдать в типографию Г, г. Каткова и К0 для на-
печатания» свою книгу «под заглавием «Война и мир» (61, 163).
К этому письму имеется примечание комментатора: «Слова
«Война и мир» вставлены рукой Толстого над зачеркнутым «Ты-
сяча восемьсот пятый год»; «... своему новому произведению Тол-
стой впервые дал заглавие «Война и мир» (61, 265).
О возникновении нового и окончательного заглавия романа-
эпопеи Толстого в научной литературе имеется ряд соображений.
Они принадлежат авторитетным исследователям творчества Тол-
стого.
Еще в 1924 г. в журнале «Печать и революция» Ник. Апосто-
лов высказал предположение, что название «Война и мир» могло
быть навеяно обширной исторической и художественной литера-
турой, прочитанной Толстым в пору его работы над произведем
51
пнем. Ник. Апостолов приводит ряд источников, в заглавии или
тексте которых попадается словосочетание «Война и мир». «В од-
ной из этих книг, которой особенно много пользовался Л. Тол-
стой, именно у С. Глинки («Записки о 1812 годе», стр. 15), — пи-
шет Апостолов, — прямо сказано, что в 1812 году «мир и война
шли рядом». Возможно, что эта книга более других натолкнула
Л. Толстого на такое заглавие»1.
Б. Эйхенбаум высказал твердое убеждение, что новое назва-
ние для своего обширного исторического произведения Толстой
взял у Прудона: «Вместо первоначального названия, носивше-
го сугубо семейный, «английский» характер — «Все хорошо, что
хорошо кончается», явилось новое, взятое у Прудона и подчер-
кивающее философско-исторический, эпопейный жанр сочине-
ния— «Война и мир»1 2.
И. Н. Гусев, привлекая более обширный, чем Ник. Апостолов,
материал с сочетанием понятий «Война и мир», пришел к выво-
ду, что «вероятнее всего заглавие романа появилось у Толстого
как реминисценция выражения, употребленного Пушкиным в об-
ращении летописца Пимена к Григорию:
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей...»3
И. Н. Гусев считает наименее вероятным заимствование этого
заглавия у Прудона, так как, по его мнению, теоретическое со-
чинение названного автора не имеет ничего общего с романом-
эпопеей Толстого.
В статье «История писания и печатания «Войны и мира»
коснулась этого вопроса Э. Е. Зайдеишнур. Цитируя признание
Толстого о том, что «названий вообще он никогда не умеет при-
думывать и приискивает большей частью, когда все написано»,
она пришла к выводу: «Так было и с романом «Война и мир»
(16, 102).
Все приведенные догадки и соображения о заглавии «Война
и мир» документальных подтверждений не имеют.
Перейдем ко второй проблеме — к выяснению понятия «мир»
в заглавии «Война и мир».
По правилам русской орфографии дореволюционного перио-
да слово «мир» имело двойное написание: оно писалось через
1 Ник. Апостолов. Материалы по истории литературной деятельности
Л. Н. Толстого. «Печать и революция», кн. 4. М., 1924, стр. 99.
2 Б. Эйхенбаум. Лев Толстой, кн. 2. М—Л., ГПХЛ, 1931, стр. 385.
3 Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855
по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 742.
52
«и восьмеричное» (w), если обозначало мирное существова-
ние людей, отсутствие войн, вражды, междоусобиц, и через «и
десятеричное! (£), если употреблялось во многих других
значениях 1.
В последнее время между исследователями творчества Тол-
стого возникла полемика по вопросу о том, в каком значении
употребил Толстой слово «мир» в заглавии своего романа-
эпопеи.
г«Война и мир» издавалась многократно при жизни Толстого,
и каждый раз с написанием слова «мир» через «восьмеричное
и»1 2, т. е. в значении отсутствия войны. Поэтому сложилось оп-
ределенное представление о заглавии «Война и мир» как обозна-
чающем войны России с Наполеоном с 1805 по 1812 г. и мирную
жизнь в промежутках между этими войнами или вдали от театра
военных действий.
В процессе изучения рукописей Толстого было обращено вни-
мание на то, что однажды он в неотправленном письме издателю
«Русского вестника» написал слово «мир» через «и .десятерич-
ное» («Mip»). Это дало повод некоторым исследователям поста-
вить под сомнение правильность общепринятого толкования сло-
ва «мир» в заглавии произведения Толстого.
Э. Е. Зайденшнур в статье «История писания и печатания
«Войны и мира» прямо заявляет: «Это позволяет предполо-
жить, что Толстой вводил в заглавие не слово «мир», как поня-
тие, противоположное войне, а слово «Mip», как понятие — все
люди, весь народ, т. е. то понятие слова, какое содержится в вы-
писанной им пословице: «Mip жнет, а рать кормится» (16, 101).
Автор статьи, ссылаясь на ряд фраз из рукописей Толстого, до-
казывает, что слово «Mip» в заглавии не было случайностью, так
как, употребляя многократно это слово в разных значениях, Тол-
стой писал его в полном соответствии с орфографическими нор-
мами того времени.
Высказались по данному вопросу и старейшие исследовате-
ли жизни и творчества Толстого Н. Н. Гусев и Б. М. Эйхенбаум.
Гусев считает написание слова «мир» через «и десятеричное»
опиской Толстого, вызванной, вероятно, поспешностью при за-
ключении условия с типографией относительно печатания «Вой-
ны и мира» (это слово было написано в тексте договора с изда-
тельством) 3.
Б. Эйхенбаум подверг критике точку зрения Э. Зайденшнур.
Он назвал соблазнившую ее гипотезу неубедительной, не имею-
1 См.: Вл. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II.
М., Гос. изд-во иностр, и нац. словарей, 1955, стр. 328, 330—331.
2 Лишь один раз, в 1913 г., роман-эпопея был издан с написанием «м!р».
3 См.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии
с 1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 742.
53
щей сколько-нибудь серьезного основания, возникшей из малень*
кого факта
Б. И. Бурсов солидаризировался с Эйхенбаумом1 2.
В 1959 г. появилась книга Я. Билинкиса «О творчестве
Л. Н. Толстого», в которой сделана попытка дать более широкое
толкование слова «мир» в заглавии романа-эпопеи. Билинкис
обратил внимание на то, что Толстой, обычно чрезвычайно стро-
гий (вплоть до букв) к точному воспроизведению всего, что он
писал, оставил без внимания орфографию слова «мир», напеча-
танного через «и восьмеричное», в заглавии выходившего в свет
романа-эпопеи. Это необычное для Толстого явление Билинкис
толкует следующим образом:
«На наш взгляд, уже это необычное и неожиданное безраз-
личие говорит о том, что заглавие книги имело для самого Тол-
стого широкий и полный разных значений смысл. Этот смысл не
мог быть ни исчерпан, ни даже достаточно удовлетворительно
выражен ни одним из грамматически возможных во время Тол-
стого написаний слова «мир». И для писателя поэтому не могло
играть существенной роли, как именно будет выглядеть загла-
вие орфографически. Только книга в целом могла и должна была
объяснить все, в частности и «раскрыть» заглавие.
Так избрание Толстым слов «война и мир» заглавием книги
об Отечественной войне... и безразличие писателя к написанию
слова «мир» с разных сторон подчеркивают особое, многообъем-
лющее содержание проблемы «войны и мира» в книге»3.
Высказанное Я. Билинкисом положение о множественности
значений, которые Толстым вложены в слово «мир», углубил и
развил В. Ермилов4. Проследим за мыслью исследователя. Ер-
милов считает, что «изображение жизни стыла», т. е. территории
России, расположенной вне военных действий, нельзя обозначать
понятием «мир». Точно так же, по его мнению, это слово не обоз-
начает состояния русского общества в период первых войн с На-
полеоном и накануне войны 1812 г. В. Ермилов подводит под по-
нятие «война» любое явление, характеризующееся несогласием,
раздором, неприязненными отношениями. В качестве иллюстра-
ции исследователь ссылается на вражду между Анной Михай-
ловной Друбецкой и князем Курагиным и его племянницей Ка-
тишь из-за наследства умирающего графа Безухова. «Да и во
всех картинах жизни дворянского общества во время первых
войн с Наполеоном, — говорит Ермилов, — прежде всего подчер-
1 См.: «Русская литература», 1955, № 4, стр. 223.
2 См.: Б. И. Бурсов. Лев Толстой и русский роман. М.—Л., Изд-во АН
СССР, 1963, стр. 127.
3 Я. Билинкис. О творчестве Л. Н. Толстого. Л., «Советский писа-
тель», 1959, стр. 226.
4 В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослит-
издат, 1961, стр. 15—24.
54
кивается именно разъединение, ничего общего не имеющее пи с
каким миром» 1.‘ Следуя дальше за мыслью исследователя, мы
узнаем, что он в слово «мир» в заглавии романа-эпопеи Толстого
вкладывает новый смысл.
В. Ермилов говорит: «Война в романе представлена художе-
ственным действием; мир в смысле отсутствия войн — поэтиче-
ской мечтой...»1 2
И дальше: «Главное, ведущее значение понятия мир в рома-
не, исходя из влияний патриархально-крестьянского взгляда на
жизнь, поднимается на высоту всеохватывающего идеала миро-
вого единения людей. Прообраз такого единения художник и ви-
дит в общенародном, благородном, торжественном историческом
действии 1812 года...»3
И, наконец: «Вот почему понятие мира в значении отсутствия
войн только тогда и становится категорией художественного дей-
ствия, когда оно включается в более широкое понятие всесвет-
ного человеческого единения, как это и есть в романе. М1ръ и
мир сливаются в одно целое»4 *.
Таким образом, в толковании В. Ермилова, слово «мир» не-
сет в себе глубокое философско-нравственное содержание.
Дает ли текст романа-эпопеи и развитие творческой концеп-
ции Толстого по вопросам войны и мира повод для подобных
размышлений и выводов? Нам кажется, что да.
В концепции В. Ермилова есть спорные положения. Но мысль
о том, что слово «мир» в заглавии романа-эпопеи Толстого со-
держит и элементы философско-нравственные, что здесь наряду
с осуждением войны как явления глубоко противного естествен-
ной природе человека, несущего смерть, страдания и разруше-
ния, есть призыв к единению людей для мирной, счастливой жиз-
ни,— эта мысль нам кажется заслуживающей внимания. Толь-
ко В. Ермилову следовало бы поставить в историко-литератур-
ную перспективу свои рассуждения о последствиях войны. Автор
«Войны и мира» имел в этом вопросе предшественников, кото-
рые, несомненно, стимулировали его творческую мысль. Вспом-
ним стихи А. С. Пушкина, посвященные великому польскому
поэту Адаму Мицкевичу:
...Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся6-
1 В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослит-
издат, 1961, стр. 17.
2 Т а м ж е, стр. 18.
3 Т а м же, стр. 19.
4 Т а м ж е, стр. 19—20.
6 А. С. Пушки н. Полн. собр. соч. в 10 тт., т. III. М., Изд-во АН СССР,
1957, стр. 279.
55
Вспомним также одно из замечательных созданий М. Ю. Лер-
монтова— «Валерик» («Я к вам пишу случайно; право...»). На-
рисовав в произведении картину, полную трагизма, Лермонтов
ведет читателя к мысли о возможности мирного сосуществования
народов.
...Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!., небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем? 1
Эти мысли Лермонтова о беспрестанно враждующих людях
нашли отзвук и в рассказе молодого Толстого «Набег». Приве-
дем это место:
«Природа дышала примирительной красотой и силой.
Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под
этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой
обаятельной природы удержаться в душе человека чувство зло-
бы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоб-
рое в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикос-
новении с природой — этим непосредственнейшим выражением
красоты и добра» (5, 29).
1 М. Ю. Л е р м о н т о в. Собр. соч. в 4 тт., т. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР,
1961, стр. 503.
О ТЕКСТЕ РОМАНА-ЭПОПЕИ
Вопрос о каноническом тексте «Войны и мира»
имеет довольно сложную историю и не может считаться оконча-
тельно решенным до настоящего времени.
Выше отмечалось, что первые части «Войны и мира» были
опубликованы в 1865—1866 гг. в журнале «Русский вестник»
под заглавием «Тысяча восемьсот пятый год». Отказавшись от
дальнейшей публикации романа-эпопеи по частям, Толстой вы-
пустил его двумя отдельными изданиями в 1868—1869 гг. в ше-
сти томах, значительно переделав опубликованное в «Русском
вестнике».
В 1873 г. вышло третье издание «Сочинений Л. II. Толстого»,
последние четыре тома которых заняла «Война и мир». В
этом издании текст был подвергнут Толстым существенной пере-
работке: роман-эпопея разделен на четыре тома, названные
«частями»; французский текст заменен русским; внесены стили-
стические изменения; военно-исторические и философские рас-
суждения вынесены в особое приложение, под названием
«Статьи о кампании двенадцатого года». Приложение это соста-
вило девятнадцать глав, каждой из которых было дано опреде-
ленное название.
Это «облегченное» издание «Войны и мира» было предприня-
то Толстым в связи с многократными выступлениями критики о
несовместимости художественного повествования с историко-
философскими рассуждениями автора и о перенасыщенности
текста романа-эпопеи французским языком.
В 1880 г. вышло следующее, четвертое издание сочинений
Толстого. В нем «Война и мир» напечатана в редакции 1873 г.
В 1886 г. появилось два издания сочинений Толстого, пятое
и шестое. Их осуществила жена писателя, Софья Андреевна Тол-
стая, которой он выдал доверенность на ведение хозяйственных
и издательских дел.
57
воина и мирт», i
сочиняй}»
ЮМЪ ВЕРвЫЙ.
Москва
ни».
Пятое издание было осуществлено
в основном по образцу второго изда-
ния (1868—1869), а от третьего изда-
ния, 1873 г., взято лишь деление «Вой-
ны и мира» на четыре тома.
Текст «Войны и мира» в шестом
издании был переработан по своеоб-
разному плану: оно отличалось от пя-
того издания тем, что французский
текст не был восстановлен и в несколь-
ких случаях внесены стилистические
исправления по изданию 1873 г. В та-
ком виде «Война и мир» выдержала
еще три издания — в седьмом, восьмом
и десятом изданиях сочинений Толстого.
Так возникло три различных вари-
анта издания «Войны и мира».
При подготовке юбилейного Пол-
ного собрания сочинений Толстого пе-
ред советскими толстоведами возник
вопрос: какой из трех текстовых вари-
положить в основу научного издания?
Титульный лист второго из-
дания «Войны и мира». 1868
антов «Войны и мира»
Редакторы второго тиража «Войны и мира» юбилейного изда-
ния Полного собрания сочинений Толстого Г. А. Волков и
М. А. Цявловский по этому поводу писали следующее: «После
изучения текстов различных изданий романа мы пришли к за-
ключению, что таким текстом должен быть признан текст вто-
рого издания «Войны и мира» 1868—1869 гг., но со всеми стили-
стическими исправлениями по изданию 1873 г. ...
При печатании же «Войны и мира» необходимо соблюдение
четырех условий:
1) Деление романа на 4 тома, произведенное самим Толстым
в издании 1873 г.
2) Сохранение французского языка и других иностранных
текстов.
3) Сохранение в соответствующих главах и частях философ-
ских и исторических рассуждений.
4) Сохранение всех творческих исправлений Толстого, стили-
стически улучшающих текст «Войны и мира»1.
С соблюдением этих положений текст «Войны и мира» и был
в 1937—1940 гг. отпечатан в юбилейном издании Полного собра-
ния сочинений Толстого (9—12 тома).
В последующие годы вопрос о каноническом тексте «Войны
и мира» привлек пристальное внимание ряда советских толсто-
ведов. Вопрос этот затронул А. В. Чичерин в книге «Возникнове-
1 См.: Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч. (юб. изд.), т. 9, стр. X, XII.
58
ние романа-эпопеи». Говоря о французском языке в «Войне п
мире», он пришел к выводу, что «опыт Л. Н. Толстого в издании
1873 г. — освободить «Войну и мир» от иностранных текстов —
явно не удался» Ч А. А. Сабуров в монографии о «Войне и мире»
обосновывает правомерность философских и военно-историче-
ских рассуждений в самом тексте романа-эпопеи1 2. Этой же точ-
ки зрения придерживаемся и мы3.
Л. Опульская в статье «Монументальное издание», посвящен-
ной завершению выхода в свет девяностотомного Полного со-
брания сочинений Толстого, значительное место уделила тексту
«Войны и мира» и, рассматривая проблему научного издания
романа-эпопеи Толстого, пришла к заключению, что «решение
о выборе основного текста «Войны и мира», принятое во втором
выпуске 9—12 томов юбилейного издания, и о внесении в него
правки по изданию 1873 года представляется... вполне обосно-
ванным»4; мнение, что основным текстом «Войны и мира» сле-
дует считать не текст второго издания, 1868—1869 гг., а текст
третьего издания, 1873 г., нет никакого основания канонизи-
ровать.
В 1963 г. в журнале «Новый мир» появилась статья Н. К. Гуд-
зия «Что считать «каноническим» текстом «Войны и мира».
На поставленный в заглавии статьи вопрос автор дал категори-
ческий ответ: «Таким текстом... необходимо считать текст рома-
на в издании 1873 года, представляющий собой результат по-
следней активной работы Толстого над романом»5.
Печатая статью Н. К. Гудзия, редакция журнала не предпо-
лагала открывать дискуссию. Однако она возникла. Во втором
номере журнала «Вопросы литературы» за 1964 г. появилась
статья Н. Н. Гусева «О каноническом тексте «Войны и мира».
Старейший исследователь жизни и творчества Толстого, писав-
ший и раньше по затронутому вопросу6, выступил с критикой
точки зрения Н. К. Гудзия и так сформулировал свои выводы:
«Внимательное изучение переписки Толстого и мемуаров его
современников, относящихся к данному периоду его жизни, при-
водит к убеждению, что каноническим текстом «Войны и мира»
следует признать издание 1886 года. Именно это издание являет -
1 А. В. Чичерин. Возникновение романа-эпопеи. М., «Советский
писатель», 1958, стр. 185.
2 См.: А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика
и поэтика. М., Изд-во МГУ, 1959, стр. 448—462.
3 См.: Б. И. К а н д и е в. Из наблюдений над сюжетом и композицией
«Войны и мира» Л. Н. Толстого. «Ученые записки Северо-Осетинского пед.
ин-та», т. XXIII, вып. 3. Орджоникидзе, 1958.
4 Л. Опульская. Монументальное издание. «Вопросы литературы»,
1960, № 2. стр. 99.
5 «Новый мир», 1963, № 4, стр. 245.
6 См.: Н. Гусев. Где искать канонический текст «Войны и мира». «Тол-
стой и о Толстом», сб. 2. М., 1926, стр. 132—135.
59
ся выражением последней авторской воли Толстого относитель-
но его гениального романа-эпопеи. В текст «Войны и мира»
должны быть внесены авторские исправления, сделанные в из-
дании 1873 года. Издание должно быть также освобождено от
многочисленных, иногда очень грубых, ошибок переписчиков1,
как это и сделано в томах 4—7 выходящего в настоящее время в
Гослитиздате двадцатитомного собрания сочинений Толстого»1 2.
За выступлением Н. Н. Гусева последовала новая статья
Н. К. Гудзия — «Еще раз о каноническом тексте «Войны и
мира». Ответив на возражения своего оппонента, И. К. Гудзий
резюмирует спор следующими соображениями:
«...В ряде случаев «каноническим», окончательным текстом
художественных произведений принято считать не первую печат-
ную публикацию, а последнюю, даже в том случае, если она бы-
ла связана с изменением мировоззрения автора. Так обстоит де-
ло, например, с «Портретом» и «Тарасом Бульбой» Гоголя,
«Мистерией-буфф» Маяковского и с некоторыми другими про-
изведениями русской и иностранной литературы. Тем с большим
основанием мы должны «каноническим» текстом «Войны и ми-
ра» считать последнюю творческую переработку Толстым рома-
на в издании его сочинений 1873 года, никак не связанную с из-
менением основных его мировоззренческих позиций»3.
Дискуссия о каноническом тексте «Войны и мира» не окон-
чена. Она показывает, что советским толстоведам-текстологам
предстоит еще немалая работа по установлению единой и окон-
чательной точки зрения по этому сложнейшему вопросу.
1 См. статью Э. Зайденшнур «По поводу текста «Войны и мира». «Новый
мир», 1959, № 6, стр. 278—282.
2 Н. Гусев. О каноническом тексте «Войны и мира». «Вопросы литера-
туры», 1964, № 2, стр. 190.
3 Н. Гудзий. Еще раз о каноническом тексте «Войны и мира». «Вопросы
литературы», 1964, № 2, стр. 200.
ТОМ ПЕРВЫЙ
часть ПЕРВАЯ
ГЛАВЫ I-V*
Роман-эпопея «Война и мир» начинается гнев-
ным восклицанием фрейлины императрицы Анны Павловны Ше-
рер по поводу того, что Генуя и Лукка стали не больше как по-
местьями фамилии Бонапарта.
Чтобы понять смысл реплики Шерер и всех последующих
политических дискуссий в ее салоне, необходим краткий экскурс
в историческую обстановку начала XIX века в России и Запад-
ной Европе.
После дворцового переворота 1801 г., в результате которого
Павел I был убит и русский престол по наследству перешел к
его сыну, Александру I, России пришлось по-новому решать во-
* Комментарии даются к тексту «Войны и мира» Полного собрания со-
чинений Л. Н. Толстого (юбилейное издание), тт. 9—12. М.—Л., Гослитиз-
дат, 1930—1933.
Основные источники, использованные при составлении словаря трудных
для понимания слов, собственных имен и названий: Большая Советская
Энциклопедия, изд. 2, М., 1949—1957; «Энциклопедический словарь», под ред.
проф. И. Е. Андреевского, издатели Ф. А. Брокгауз, II. А. Ефрон, СПб., 1890—
1904; «Энциклопедический словарь», под ред. IO. С. Гамбарова, В. Я. Же-
лезнова, М. М. Ковалевского, С. А. Муромцева и К. А. Тимирязева, издание
«Русского библиографического института Гранат», М., б. г.; Малая Советская
Энциклопедия, под ред. Н. Л. Мещерякова, М., 192&—1931; «Толковый
словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, тт. I—IV, М., 1935—1910;
«Русское литературное произношение и ударение», под ред. Р. И. Аванесо-
ва и С. И. Ожегова, М., 1959; Вл. Даль. Толковый словарь живого велико-
русского языка, тт. I—IV, М„ 1956; «Энциклопедический музыкальный сло-
варь», под ред. Г. В. Келдыша, М, 1959; Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч.
(юб. нзд.), т. 12; «Краткий философский словарь», под ред. М. М. Розенталя
и II. Ф. Юдина, М., 1963, Л. II. Толстой. Война и мир. М., Детгиз, 1956.
61
просы международной политики. Павел I стремился путем согла-
шений с Наполеоном ограничить его агрессивные действия в Ев-
ропе; Россия прервала отношения с Англией. Новый царь пони-
мал, что разрыв с Англией противоречит экономическим интере-
сам России. Летом 1801 г. Александр I заключает конвенцию о
взаимной дружбе с Англией и отменяет запрещение, наложенное
на английские товары Павлом I. Александр считал возможным
придерживаться союза с Францией лишь при наличии сильной
антифранцузской коалиции.
В 1802 г. в Европе на короткое время устанавливается «уми-
ротворение», так как в марте этого года Англия заключила с
французским правительством мирный договор.
В 1804 г. Наполеон провозгласил себя французским импера-
тором (до этого он был первым консулом) и вступил на путь за-
хватнических войн. «Национальная война может превратиться
в империалистскую и обратно, — писал Ленин. — Пример: вой-
ны великой французской революции начались как националь-
ные и были таковыми. Эти войны были революционны: защита
великой революции против коалиции контрреволюционных мо-
нархий. А когда Наполеон создал французскую империю с по-
рабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизне-
способных, национальных государств Европы, тогда из нацио-
нальных французских войн получились империалистские, поро-
дившие в свою очередь национально-освободительные войны
против империализма Наполеона»
Агрессивные притязания Наполеона, особенно происки фран-
цузского императора на Ближнем Востоке, подрывающие рус-
ские позиции в Турции, встревожили русское правительство.
Возмущение в Петербурге вызвали также бесцеремонные дейст-
вия Наполеона в Германии и Италии. Об этих действиях акаде-
мик Е. Тарле пишет: «Захотел присоединить Пьемонт (область
Италии к западу от Ломбардии. — Б. К.), — присоединил; захо-
тел присоединить Геную и Лукку, — присоединил; захотел объ-
явить себя королем Италии и короноваться в Милане, — и коро-
новался (28 мая 1805 г.); захотел отдать целый ряд мелких гер-
манских земель своим германским «союзникам», т. е. вассалам
(вроде Баварии), — и отдал»1 2.
Итальянские города Генуя и Лукка были присоединены к
Французской империи в 1805 г. Наполеон отдал их во владение
своей сестре Элизе.
В 1805 г. против Наполеона по инициативе русского импера-
тора создается коалиция в составе России, Англии, Швеции,
Австрии и Неаполитанского королевства. Пруссия отказалась от
участия в ней.
1 В. И. Лепи н. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 30, стр. 5—6.
2 Е. Т а р л е. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 148.
62
Наполеон решил сделать дипломатический ход: он предложил
мир Англии, как одному из наиболее сильных участников сою-
за. Английское правительство обратилось к Александру I с пред-
ложением взять на себя посредничество в переговорах с Фран-
цией. Он принял предложение и направил в Париж Новосиль-
цева. Однако отношения между Россией и Англией неожиданно
осложнились в связи с отказом последней очистить остров
Мальту.
Александр I, получив от своего посланника депешу о захва-
те Наполеоном Генуи и Лукки, немедленно отозвал Новосильце-
ва. «...Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева?» —
спрашивает Анна Павловна. Князь Василий Курагин ей отвеча-
ет: «...Решили, что Бонапарте сжег свои корабли; и мы тоже, ка-
жется, готовы сжечь наши». (Гл. I; 9, 4—5.) 1
л Однако князь Василий приехал к Анне Павловне Шерер во-
все не для того, чтобы слушать ее лицемерные политические ти-
рады («Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своей
горячностью»), а лелея в душе своекорыстные стремления: ему
хотелось использовать придворные связи фрейлины, чтобы при-
строить на место первого секретаря в русском посольстве в Ве-
не своего сына, «покойного дурака» Ипполита.t/Из интимного
разговора с Анной Павловной князь Василий узнал, что она
не может помочь в назначении Ипполита, так как на это место
уже рекомендован матери-императрице ее сестрой барон Функе;
но Анна Павловна может быть весьма полезной в другом: про-
сватает за его второго сына, Анатоля, «беспокойного дурака»,
по определению самого князя, богатую невесту, княжну Марью
Болконскую. Предложение Анны Павловны князь Василий при-
нял с благодарностью.
Таким образом, уже в первой главе романа намечается линия
поведения придворно-аристократического дворянства с его эго-
истическими стремлениями и попытками использовать любую
политическую ситуацию и связи влиятельных лиц в своих корыст-
них интересах^
Во второй Тлаве'романа появляется ряд новых лиц, знаком-
ство с которыми расширяет представление читателя о велико-
светском обществе: «Приехала высшая знать Петербурга...»
(Гл. II; 9, 9.)
Это князь Ипполит, о котором шла речь в первой главе; мо-
лодая княгиня Болконская (с ней должна была вести перего-
воры Шерер относительно Анатоля Курагина); красавица Элен,
дочь князя Василия; незаконный сын екатерининского вельможи,
графа Безухова, Пьер и другие. И уже во второй главе наме-
1 Здесь и далее для цитат из романа-эпопеи указываются глава (том и
часть указаны в заголовке), том юбилейного издания Полного собрания со-
чинений Л. Н. Толстого (курсивом) и страницы этого издания.
63
чаются линии конфликта, который постепенно углубляется и
приводит к определенной расстановке действующих лиц.
Между посетителями салона Шерер возникает разговор о
герцоге Энгиенском, представителе изгнанной династии Бурбо-
нов. 20 марта 1804 г. герцог Энгиенский, заподозренный в загово-
ре против Наполеона, был расстрелян. Заговор действительно
существовал в Париже; его главные участники — Жорж Каду-
даль и Шарль Пишегрю, французский боевой генерал. Заговор
был раскрыт, и его участники подверглись смертной казни. Од-
нако причастность к нему герцога Энгиенского не подтвердилась.
Виконт ЛАортемар рассказал о ходившем тогда анекдоте, что
герцог Энгиенский тайно ездил в Париж для свидания с т-11е
George (мадемуазель Жорж).
. Затем Толстой рисует спор между Пьером и аббатом Морно
о средствах для установления мира:
«...Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политиче-
ском равновесии, и аббат, видимо заинтересованный просто-
душной горячностью молодого человека, развивал перед ним
свою любимую идею.
— Средство — европейское равновесие и droit des gens
(международное право), — говорил аббат. — Стоит одному мо-
гущественному государству, как Россия, прославленному за вар-
варство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью
равновесие Европы,— и она спасет мир!» (Гл. III; 9, 16.)
Эта сцена изображена Толстым с полной исторической точ-
ностью. Только имя аббата Морио здесь не подлинное. В черно-
вом варианте аббат фигурирует под своим настоящим именем.
Толстой пишет:
«Это был ГаЬЬё Piatoli, которого тогда все знали в Петербур-
ге. Это был изгнанник, философ и политик, привезший в Петер-
бург проект совершенно нового политического устройства Евро-
пы, которое, как сказывали, он уже имел счастие через кн. Адама
Чарторыжского представлять молодому императору» {13, 186).
Типичность и историческую достоверность этой сцены под-
тверждает акад. М. П. Алексеев в исследовании «Пушкин и
проблема «вечного мира». Он пишет: «Авторы иных «проектов»
навещали и русские столицы. В первые годы царствования Алек-
сандра I в Петербурге появился, например, аббат — итальянец
Сципион Пьяттоли и ненадолго занял здесь внимание русской
знати своим проектом «вечного мира». Пьяттоли был воспитате-
лем молодого Адама Чарторыйского и через него пытался вну-
шить Александру I свой совершенно беспочвенный план созда-
ния европейской коалиции против Наполеона, в которой видную
роль он предоставлял России и возрожденной Польше»1.
1 М. П. Алексеев. Пушкин и проблема «вечного мира». «Русская лите-
ратура», 1958, 3, стр. 24.
64
Сошлемся также на интересную статью акад. С. Д. Сказкина
«Некоторые новые данные об одном из персонажей «Войны и ми-
ра» Л. Н. Толстого». В ней дается оценка капитальной работы
прогрессивного итальянского историка Джузеппе Берти «Рос-
сия и итальянские государства в период Рисорджименто»1.
В этом труде впервые на основании богатейших архивных источ-
ников дается полная картина русско-итальянских отношений со
второй половины XVIII в. до 60-х годов XIX в. «Для советского
читателя, — пишет С. Д. Сказкин,— книга проф. Берти представ-
ляет собою исключительный интерес, особенно если принять во
внимание, что эпоха наполеоновских войн и Отечественной вой-
ны 1812 г. нашла в ней подробное освещение. Богатство свежего
материала, привлеченного автором к своему исследованию, вы-
ходит далеко за пределы чисто исторического освещения между-
народных, в частности русско-итальянских, отношений. Здесь,
например, мы находим исторический комментарий к одному из
персонажей «Войны и мира» Л. Н. Толстого»1 2.
Для подтверждения историчности эпизода с аббатом Морио
С. Д. Сказкин приводит следующую цитату из книги проф. Бер-
ти: «С необыкновенной исторической прозорливостью описывает
Толстой на первых страницах «Войны и мира» обсуждение в рус-
ских салонах результатов миссии Новосильцева в Лондоне; там,
по мнению Толстого, началась целая историческая эпоха, кото-
рая должна была завершиться столкновением в 1812 году. В об-
разе итальянского аббата Морио («глубокий ум») —первый тол-
стовский образ на этом широком литературном полотне, — кото-
рого Толстой представляет как раз в связи с миссией Новосиль-
цева поборником системы постоянного мира, Толстой изобразил
флорентийца Шипионе Пьяттоли, как это верно отметил д’Ан-
кона» 3.
Свою статью акад. С. Д. Сказкин заканчивает утверждением,
что рассматриваемый им материал дает основание еще раз удо-
стовериться в том, «с какой тщательностью Л. Н. Толстой изу-
чал документы эпохи, воспроизведенной им в его романе»4.
В пятой главе возобновляется спор о Наполеоне. Виконт
Мортемар, эмигрант и роялист (сторонник свергнутой королев-
ской власти Бурбонов), спорит с Пьером, который старается до-
казать, что Наполеон — великий деятель и что его действия ис-
торически оправданы. «Казнь герцога Энгиенского, — сказал мсье
Пьер,— была государственная необходимость...» (Гл. V; 9, 23).
1 Рисорджименто (ит., букв, «возрождение») — иногда употребляемое
фигуральное обозначение периода борьбы итальянского народа за националь-
ную независимость и внутреннее объединение страны (XVIII—XIX вв.).
2 С. Д. Сказкин. Некоторые новые данные об одном из персонажей
«Войны и мира» Л. Н. Толстого «Вопросы истории», 1962, № 9, стр. 199.
3 Т а м же. (Д’Анкона — итальянский историк.)
4 Т а м же, стр. 201.
3 Б. И. Кандиев
65
Академик Е. Тарле в книге «Наполеон» рассказывает, что
герцог перед казнью написал письмо и просил передать его На-
полеону. По прочтении письма Наполеон сказал, «что если бы
прочел его раньше, то помиловал бы осужденного», но потом он
«утверждал, что был совершенно прав, казня герцога, что это-
го требовали государственные интересы, что Бурбонам нужно
было дать острастку» Ч
В воззрениях Пьера виконт видит преломление идей Руссо.
«Contrat social (Общественный договор)»,— с кроткой улыбкой
сказал виконт о праве народа лишать царя власти.
Дальше виконт предлагает Пьеру объяснить совершенный
Наполеоном государственный переворот (9 ноября 1799 г., по
обозначению революционного календаря—18 брюмера), в ре-
зультате которого власть Директории была заменена властью
трех консулов (первым из них был объявлен Наполеон).
«А пленные в Африке, которых он убил?» — сказала малень-
кая княгиня». (Гл. V; 9, 25.) Здесь речь идет о расстреле четы-
рех тысяч пленных гарнизона Яффы во время Сирийского похода
французов в 1799 г. Осажденные турецкие солдаты сдались на
милость победителя, так как офицеры французской армии обе-
щали им сохранение жизни. Об этом кровавом событии Е. Тарле
рассказывает следующее:
«Перейдя через Суэцкий перешеек, он (Наполеон. — Б. К.)
двинулся к Яффе и 4 марта 1799 г. осадил ее. Город не сдавал-
ся. Бонапарт приказал объявить населению Яффы, что если го-
род будет взят приступом, то все жители будут истреблены, в
плен брать не будут. Яффа не сдалась. 6 марта последовал
штурм, и, ворвавшись в город, солдаты принялись истреблять
буквально всех, кто попадался под руку. Дома и лавки были от-
даны на разграбление. Спустя некоторое время, когда избиения
и грабеж уже подходили к концу, генералу Бонапарту было до-
ложено, что около 4 тысяч еще уцелевших турецких солдат при
полном вооружении, большей частью арнауты и албанцы по
происхождению, заперлись в одном обширном, со всех концов
загороженном месте и что когда французские офицеры подъеха-
ли и потребовали сдачи, то эти солдаты объявили, что сдадутся
только, если им будет обещана жизнь, а иначе будут оборонять-
ся до последней капли крови. Французские офицеры обещали им
плен, и турки вышли из своего укрепления и сдали оружие.
Пленников французы заперли в сараи. Генерал Бонапарт был
всем этим очень разгневан. Он считал, что совершенно незачем
было обещать туркам жизнь. «Что мне теперь с ними делать? —
кричал он. — Где у меня припасы, чтобы их кормить?» Не было
ни судов, чтобы отправить их морем из Яффы в Египет, ни до-
статочно свободных войск, чтобы конвоировать 4 тысячи
1 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 140.
66
Бонапарт при Арколе
С портрета работы А. Гро
отборных сильных солдат че-
рез все сирийские и египетские
пустыни в Александрию или
Каир. Но не сразу Наполеон
остановился на своем страш-
ном решении... Он колебался и
терялся в раздумье три дня.
Однако на четвертый день по-
сле сдачи он отдал приказ всех
их расстрелять. 4 тысячи плен-
ников были выведены на берег
моря и здесь все до одного рас-
стреляны. «Никому не поже-
лаю пережить то, что пережи-
ли мы, видевшие этот рас-
стрел»,— говорит один из фран,
цузских офицеров» Г
Спор заканчивается репли-
кой князя Андрея о подвиге
Наполеона на Аркольском мо-
сту и его бесстрашном посеще-
нии чумного госпиталя в Яффе.
Здесь речь идет о кровопролитной битве французов с авст-
рийцами с по 17 ноября 1796 г. при Арколе. Численно превос-
ходящие французов отборные полки Габсбургской монархии дра-
лись с необычайной стойкостью. Аркольский мост оказался од-
ним из важнейших пунктов. На его штурм трижды шли фанцузы
и трижды его брали, но каждый раз их отбрасывали с огромны-
ми потерями. Тогда Наполеон лично устремился вперед со зна-
менем в руках и увлек за собой солдат и офицеров; около него
пало несколько человек. Наполеон одержал блестящую победу.
Историческим фактом является и посещение Наполеоном
11 марта 1799 г. чумного госпиталя в Яффе. Этот эпизод запечат-
лен на холсте известным французским художником Антуаном
Гро (картина находится в Луврской галерее).
Первые главы романа-эпопеи чрезвычайно важны в идейном
и композиционном отношении. Поэтому они привлекли присталь-
ное внимание ряда советских исследователей. Вот что пишет
Б. И. Бурсов:
«Роман начинается разговором «про политические дейст-
вия»— о казни герцога Энгиенского и вообще о политике Напо-
леона. Анна Павловна Шерер выразила общее настроение со-
бравшихся в ее салоне, за исключением Пьера Безухова и Анд-
рея Болконского...
1 Е. Тар ле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР» 1961, стр. 70—71
3*
67
Противоположную точку зрения на ход исторических собы-
тий высказывает Пьер Безухов...
Князь Андрей разделяет восторженный взгляд Пьера на На-
полеона...
Противопоставив в самом начале романа своих любимых ге-
роев великосветскому обществу, для которого царь и история
одно и то же, Толстой затем рисует трудный, даже трагический
путь Андрея Болконского и Пьера Безухова к истинному понима-
нию истории и к слиянию своей деятельности с историческим
процессом» Ч
А. А. Сабуров считает, что «этот типический конфликт между
двумя крайними полюсами дворянства уже здесь, в салоне Ан-
ны Павловны, за двадцать лет до подъема декабристского дви-
жения, развертывается как горе от ума»2.
К ГЛ ABE I* *
Бонапарт (Наполеон I; 1769—1821)—великий французский полководец,
буржуазный государственный деятель, первый консул Французской республи-
ки в 1799—1804 гг., император Франции в 1804—1814 гг. и в 1815 г.
Генуя — главный город Лигурийской провинции, находящейся на севере
Италии, на побережье Лигурийского моря.
Лукка — город в Италии, центр одноименной провинции.
«Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп...» Большая
медицинская энциклопедия отмечает, что «грипп с 1798 по 1806 г. захватил
все страны света».
Новосильцев Николай Николаевич (1761—1836)—государственный дея-
тель. Был членом негласного комитета при Александре 1. В 1806—1807 гг. ис-
полнял разные дипломатические поручения.
Английский посланник — Говер, впоследствии лорд Гренвиль (1773—1846),
дипломат, английский посланник при дворе Александра 1 в 1804 г.
Александр I (Александр Павлович; 1777—1825)—русский император
с 1801 по 1825 г.
Мальта — остров в Средиземном море. В 1798 г., во время Египетской
экспедиции, был занят Наполеоном. С 1800 г. стал принадлежностью
Англии.
Гарденбёрг Карл Август (1750—1822) — князь, в 1803—1806 гг. — прус-
ский министр иностранных дел.
Гаугвиц Христиан Август (1752—1831) — граф, прусский дипломат, по-
сланный в 1805 г. прусским королем Фридрихом Вильгельмом III с ультима-
1 Б. И. Бурсов. Лев Толстой и русский роман. М.—Л., Изд-во АН
СССР, 1963, стр. 113. См. также стр. 102 этой работы.
2 А. А. Сабуров. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и по-
этика. М., Изд-во МГУ, 1959, стр. 115. См. также характеристику этой сцены
в книге В. В. Ермилова «Толстой-художник и роман «Война и мир» (М., Гос-
литиздат, 1961, стр. 40), в книге М. Б. Храпченко «Лев Толстой как худож-
ник» (М., «Советский писатель», 1963, стр. 101—102) и в книге С. М. Петро-
ва «Исторический роман в русской литературе» (М., Учпедгиз, 1961,
стр. 68—69).
* Здесь и дальше после подробного комментария даются петитом, по гла-
вам, краткие специальные комментарии к историческим именам и географиче-
ским названиям, а также разъясняются вышедшие из употребления и труд-
ные для понимания слова.
68
тумом к Наполеону, после.того как Пруссия решила примкнуть к Австрии и
России. Однако пока Гаугвиц находился в пути, произошли сражения под
Ульмом и Аустерлицем, и Гаугвиц приехал к Наполеону уже с льстивыми
поздравлениями.
Винцингердде Фердинанд Федорович (1770—1818)—генерал русской ар-
мии, принимавший участие в войнах 1805 и 1812 гг.
Монморанси — старинный французский дворянский род, известный с X в.
Роганы — старинный французский аристократический род.
Эмигранты — здесь имеются в виду представители контрреволюционной
аристократии, бежавшей или изгнанной из Франции во время буржуазной
революции.
Лафатёр Иоганн Каспар (1741—1801)—швейцарский пастор, писатель,
создавший лженаучную теорию о том, что психические свойства человека
определяются строением и неровностями («шишками») его головы.
К ГЛ ABE II
Шифр (фр.) — здесь: нагрудный знак, свидетельствующий об отличном
окончании института благородных девиц. Имел серебряною или золотую на-
чальную букву (вензель) имени царицы. Был обычной принадлежностью
фрейлин.
Жабб (фр.) — высокий воротник рубашки, отделанный на груди и ввер-
ху кружевами и вышивкой. Жабо были модны в XVIII в.
Аббат (лат.) — католический священник.
Химера (греч.) — несбыточная мечта.
К ГЛАВЕ III
Метрдотель (фр.) — заведующий столом и кухней, главный официант,
распорядитель в ресторане.
Виконт (фр.) — дворянский титул во Франции, Англии (средний между
бароном и графом).
Энгиёнский герцог (1772—1804)—Луи Антуан Анри, принц французско-
го королевского дома.
Людовик XV (1710—1774)—король Франции в 1715—1774 гг.
Ростбиф (англ.) — кушанье из жареной говядины.
Роба (фр.) — старинное пышное парадное платье для бала.
Плющ — здесь: плоская пуговица.
Мох — здесь: мягкие и тонкие махры.
Лорнет (фр.)—складные очки с ручкой.
Фрейлина (нем.) — девушка-дворянка, состоящая при особе царствую-
щего дома (царице, королеве, принцессе и т. п.).
Нимфы — в греческой мифологии — богини, прекрасные девушки, насе-
ляющие природу и олицетворяющие силы природы: наяды — нимфы рек; ли-
мониады — нимфы лугов; дриады — нимфы лесов и рощ и др.
Жорж Маргарита Жозефина Веймар (1786—1867)—французская дра-
матическая актриса; в 1808—1812 гг. играла в Петербурге и Москве. Нахо-
дилась в интимной связи с Наполеоном I.
К ГЛАВЕ V
Румянцев Николай Петрович (1754—1826)—граф, русский государствен-
ный деятель. Занимался русской историей, издавал исторические документы
и произведения народного творчества. Собрал библиотеку, на основе которой
создана современная Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина.
Голицын Александр Николаевич (1773—1844)—князь, министр духовных
дел и народного просвещения, один из поборников политической реакции при
Александре I. В 1803 г. был назначен обер-прокурором Синода. С 1816 г.
стал министром народного просвещения, с 1817 г. возглавил новое Министер-
ство духовных дел и народного просвещения. С 1813 г. был президентом Рос-
сийского библейского общества. Голицын являлся исполнителем реакционных
мероприятий Александра I, направленных на осуществление идей Священного
69
союза. В 1824 г. Голицын, вследствие происков архимандрита Фотия, был
смещен с постов министра и президента Библейского общества.
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813),
светлейший князь Смоленский, — гениальный русский полководец, генерал-
фельдмаршал, один из создателей передового русского военного искусства,
государственный деятель и дипломат.
Людовик XVII (1785—1795)—сын французского короля Людовика XVI.
В 1792 г., во время французской революции, вместе с родителями был за-
ключен в тюрьму. После казни отца был провозглашен королем (за грани-
цей). В 1794 г. был подвергнут одиночному заключению и в следующем го-
ду умер.
Елизавета Филиппика Мария Елена (1764—1794)—сестра французского
короля Людовика XVI, казненная во время французской революции.
Конде — фамилия французских принцев, находившихся в родстве с ко-
ролевской династией Бурбонов.
Узурпатор (лат.) — человек, захвативший верховную власть путем интриг
и насилия.
Роялист — приверженец неограниченной королевской власти. Роялисты —
политическая партия во Франции, с 1789 г.— приверженцы Бурбонов (на-
зывались иначе легитимистами).
Бонапартист — сторонник политического движения, ставившего своей за-
дачей ликвидацию революции посредством провозглашения диктатуры попу-
лярного военного вождя (от имени Наполеона Бонапарта).
Бурбоны — французская королевская фамилия, правившая с конца XVI в.
до Великой французской революции, а после нее — в период реставрации (в
1814—1830 гг.).
Брюмер — второй месяц года по французскому республиканскому кален-
дарю, установленному в 1793 г.
Якобинец — буржуазный революционер-демократ, член радикального по-
литического клуба во время французской буржуазной революции 1789 г.
Аркбльский мост—мост при местечке Арколе, в Северной Италии.
Яффа — город в Палестине, порт на побережье Средиземного моря.
ГЛАВЫ VI-IX
К ГЛАВЕ VI
Плюмаж (фр.)—украшение из перьев на головных уборах, принадлеж-
ность парадной формы высших чинов армии в эпоху Александра I.
Золовка — сестра мужа.
Редингот (англ.)—длинный сюртук особого покроя, верхняя мужская
одежда
Форейтор (нем.) — верховой, сидящий на передней лошади при запряж-
ке цугом (гуськом) и правящий первой парой лошадей.
цезарь Юлий (100—44 гг. до н. э.)—римский государственный деятель,
полководец и писатель. «Записки Цезаря» — его военно-исторические мемуа-
ры о войне в Галлии.
К ГЛ ABE VII
Апраксины — представители русского дворянского рода, графы.
Флигель-адъютант (нем.) — офицер, зачисленный в свиту царя.
К ГЛ ABE IX
Бретёр (фр.) — человек, ищущий малейшего повода для вызова на дуэль.
Империал (лат.) — здесь: золотая русская монета в 10 рублей.
Лейб-гусар — солдат или офицер привилегированного гвардейского (лейб-
гусарского) полка.
70
ГЛАВЫ X—XXIV
Следующие четырнадцать глав первой части посвящены
изображению московского барства. Действие происходит то в
доме Ростовых (на Поварской), то в доме умирающего графа
Кирилла Владимировича Безухова. В этих главах читатель зна-
комится со многими персонажами, играющими видную роль в
романе-эпопее. Здесь изображены супруги Ростовы, их дети: Ни-
колай, Наташа, Петя; племянница (кузина, т. е. двоюродная се-
стра, детей) Соня. На именины к Ростовым приезжают гости,
олицетворяющие собою московское барство.
Толстой историчен не только в раскрытии основных жизнен-
ных закономерностей высшего аристократического общества эпо-
хи Отечественной войны 1812 г., он глубоко правдив и в изобра-
жении быта этого сословия. Ленин писал, что «Толстой знал пре-
восходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он
дал в своих художественных произведениях такие изображения
этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям ми-
ровой литературы»1.
Эту характеристику можно отнести и к изображению Тол-
стым городского дворянского быта. При чтении страниц романа,
где изображается быт столичной знати, читателя поражает не
только необычайная живость, увлекательность и яркость повест-
вования, но и изумительное знание всех перипетий, бытовых де-
талей, которые, собственно, и придают роману-эпопее необычай-
ную силу убедительности. При своем исключительном мастерст-
ве писать широкими и сочными мазками, Толстой никогда не за-
бывает о мелких штрихах, усиливающих художественную выра-
зительность нарисованной им картины.
Вот как, например, описывает Толстой хлопоты графа Росто-
ва по устройству именинного обеда: «Иногда, возвращаясь
из передней, он заходил через цветочную и официантскую в
большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят
кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор,
расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти,
подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавше-
гося всеми его делами, и говорил: — «Ну, ну, Митенька, смот-
ри, чтоб все было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольст-
вием оглядывая огромный раздвинутый стол. — Главное — сер-
вировка!» (Гл. X; 9, 43—44.)
Но забота графа не только о сервировке — нужно задать та-
кой именинный обед, чтобы он вполне соответствовал требова-
ниям московской знати. И граф не жалеет ни средств, ни сил
для этого. Далее читаем: «—Ну, графинюшка! Какое saute
au madere из рябчиков будет, ma chere! Я попробовал: не даром
я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!» (Гл. XVII; 9, 68.)
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 39.
71
В комнатах. С акварели неизвестного художника нач. XIX в.
Хлебосольство московской знати, ее званые обеды показаны
Толстым в полном соответствии тому, как они описываются в
воспоминаниях современников. Приведем некоторые- из них.
Московский богач Бородин зимою удивил своих гостей оран-
жерейными фруктами, а «об ужине, — замечает С. П. Жиха-
рев, — и говорить нечего. Что за осетр, стерляди, что за сливоч-
ная телятина и гречанки-индейки!» (т. е. выкормленные грецки-
ми орехами) Ч
В историко-литературном сборнике «Раут на 1852 год» при-
водится в виде инсценировки описание приготовления к именин-
1 С. П. Жихарев. Записки современника с 1805 по 1819 год, ч. I. СПб.,
1859, стр. 29.
72
ному обеду, в котором много общих черт с толстовским описа-
нием именин в доме Ростовых. Приводим этот любопытный ис-
точник:
«В доме почетного барина назначен обед, по случаю радост-
ного дня рожденья пятидесятилетней подруги его. Накануне,
с вечера, повар призван в столовую на совещание.
Барин. Завтра у нас гости.
Барыня. Надо постараться, чтоб не стыдно было чужих лю-
дей.
Повар. Кажется, всегда у нас всего вдоволь.
Барыня. Горячее: суп и уха.
Барин. Именинный пирог — в полтора аршина, подать с од-
ной стороны, а кулебяку с другой.
Повар. На холодное что прикажете?
Барин. На холодное — погорячее говядину, в перекладку с
ветчиной.
Барыня. Потом блюдо рыбы.
Барин. Ну, а соусы — обыкновенное дело: красный соус, бе-
лый соус, пуддинг под ромом. После жаркого хлебенное. Зна-
ешь, этак, покозыристее. Вот это, что в верху топырится балда-
хином, с обливными бисквитами, с миндальным печеньем, мар-
цыпанами, с сахарными вычурами...
Повар. Знаем-с! сердечки из леденца, лавровые венки из
миндаля, грибки шоколадные, вензеля барыни и барышень...
Барин. В заключенье — бланманже и желе»1.
Интересно сравнить описание приглашения к столу и сам
процесс обеда у Толстого и у мемуаристов.
Писатель дал следующую картину:
«— Ну, что ж, к столу, я чай, пора? — сказала Марья Дмит-
риевна.
Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной; потом графиня,
которую повел гусарский полковник, нужный человек, с кото-
рым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна —
с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Улыбающаяся Жюли Ка-
рагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие
пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех поодиночке
дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились,
стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости размести-
лись. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей
и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На одном кон-
це стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриев-
на, слева Анна Михайловна и другие гости. На другом конце
1 «Картины русского быта в старину. Из записок В. В. Сушкова». См.:
«Раут на 1852 год». Исторический и литературный сборник. М., 1852,
стр. 449—450.
75
сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и дру-
гие гости мужского пола.
С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера
рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны —
дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и
ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голу-
быми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забы-
вая и себя... На дамском конце шло равномерное лепетанье; на
мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гу-
сарского полковника, который так много ел и пил, все более и
более краснея, что граф уже ставил его в пример другим го-
стям. Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь
есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому сво-
ему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывал-
ся с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, огля-
дывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из кото-
рых он выбрал a la tortue (черепаховый), и кулебяки и до рябчи-
ков, он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, кото-
рое дворецкий в завернутой салфеткою бутылке таинственно
высовывал из-за плеча соседа, приговаривая или «дрей-мадера»,
или «венгерское», или «рейнвейн». Он подставлял первую по-
павшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок,
стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все
с более и более приятным видом поглядывая на гостей». (Гл.
XVIII; 9, 74—75.)
Та же сцена в историко-литературном сборнике «Раут на
1852 год»:
«Столовый дворецкий важно провозглашает: «кушать по-
ставлено». Все встрепенулись, засуетились и двинулись из го-
стиной длинным польским, попарно, чинно, в столовую. Тут
мужчины отправились на одну сторону, а барыни и барышни на
другую. Места заняты по летам, чинам и значению... Домашняя
прислуга бегает из буфета в кухню, из кухни в буфет, да обно-
сит кругом стола кушанье и вино, всех возможных и ^невозмож-
ных названий...» 1
Сборник «Раут» не был под руками писателя при создании
«Войны и мира», и у нас нет никаких оснований считать его пря-
мым источником романа. Однако при внимательном сопостав-
лении мы находим много сходных черт, говорящих о твердо
установившемся этикете и традициях на званых обедах.-
И остальная часть именинного обеда Ростовых прошла обыч-
ным порядком: «Раздвинули бостонные столы, составили пар-
тии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и
библиотеке». (Гл. XX; 9, 79.)
1 «Картины русского быта в старину. Из записок Н. В. Сушкова». См.:
«Раут на 1852 год». М., 1852, стр. 452.
74
За картами. Силуэт работы Хвощинского
Гости постарше увлекались картежной игрой, а молодежь —
пением и танцами.
«По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», ко-
торый всем очень понравился...» (Гл. XX; 9, 81.)
Откуда известно Л. Н. Толстому музыкальное произведение
«Ключ» и какое оно имеет отношение к дворянскому быту нача-*
ла XIX в.? Об этом существует два предания: одно из них при-
надлежит И. В. Ильинскому, другое — старшему сыну писателя
С. Л. Толстому Ч
И. В. Ильинский рассказывает: «Я слышал «Ключ» еще с дет-
ства в семье моих родственников, в селе Ивановском Чернского
уезда Тульской губернии, от Николая Петровича Арсеньева
(1832—1913. Земский прогрессивный деятель т. н. «эпохи вели-
ких реформ»)... Веселый балагур, остряк, прекрасный рассказ-
чик, музыкально и артистически одаренный, Арсеньев в свое
время был близко знаком с композитором Балакиревым и мно-
1 Сергей Львович Толстой известен советским читателям статьями о жиз-
ни и творчестве своего отца. Особенный интерес и ценность представляют его
статьи о музыкальных увлечениях Л. Н. Толстого: «Музыка в жизни Толсто-
го» (1911), «Музыкальные произведения, любимые Л. Н. Толстым» (1912),
«Нечто о цыганской песне» (1913), «Л. Н. Толстой и П. И. Чайковский» (1924).
С. Л. Толстому принадлежит и мемуарное произведение «Очерки былого»
(1949).
75
1) «Ключ» («С тобой вдвоем...»). Для трех голосов в сопровождении
фортепьяно. С напева И. В. Ильинского записал С. Л. Толстой.
2) «Ключ». Версия семьи Л. Н. Толстого. Записал С. Л. Толстой
(Ноты перепечатаны из сборника «Звенья». М.— JI., «Academia», 1934).
гими людьми из музыкального мира... Вот что я слышал от Ар-
сеньева относительно происхождения «Ключа». Предки Н. П.
(Арсеньева. — Б. К.) еще в XVIII в. жили за границей и были
знакомы с Моцартом. Знаменитый композитор бывал у них в
доме. Раз у Арсеньевых устраивался домашний спектакль. Мо-
царта упросили написать что-нибудь для этого вечера, и он соз-
дал небольшую пьеску с немецкими словами. Это и был «Ключ».
Немецкие слова песенки кто-то довольно плохо перевел на рус-
ский язык, и в таком виде «Ключ» был вывезен в Россию. Тако-
во предание» !.
Далее И. В. Ильинский говорит: «Л. Н. любил и знал пе-
сенку «Ключ» еще задолго до создания своего знаменитого ро-
мана. Именно о ней пишет ученик яснополянской школы 1859—
1863 гг. В. С. Морозов: «Он любил пение и играл на фортепиа-
но, а я обладал хорошим голосом, и мы с ним пели его люби-
мую песню:
1 И. Ильинский и С. Толстой. Квартет «Ключ» в романе «Война
и мир». «Звенья». (Сборники материалов и документов по истории литературы,
искусства и общественной мысли XIX в.) М—Л.,«Academia», 1933, стр. 620—622.
78
С тобой вдвоем
Сколь счастлив я,
Поешь ты лучше соловья.
И ключ по камушкам течет,
К уединенью нас влечет»
С. Л. Толстой в «Очерках былого» пишет следующее: «Зани-
маясь начальными школами в Ясной Поляне и ее окрестностях,
Лев Николаевич обратил внимание на преподавание в них не-
ния, сам учил пению... Мною записан романс «Ключ», который
отец распевал со своими учениками. Этот благозвучный старый
романс в итальянском стиле, автор которого мне не известен,
упоминается также в «Войне и мире», его пели в доме Росто-
вых» 1 2.
По мнению С. Л. Толстого, эту мелодию его отец мог слы-
шать «от товарища своего детства Константина Александровича
Иславина, дяди Софьи Андреевны Толстой и Татьяны Андреев-
ны Кузминской, музыканта-дилетанта. Иславии жил в детстве в
Тульской губернии, в имении своего отца, Ивицах, Крапивен-
ского уезда, и был знаком с семьей Арсеньевых. Кто... автор
(«Ключа». — Б. К.), — замечает С. Толстой, — Моцарт или еще
кто-нибудь, неизвестно; этот вопрос остается задачей историков
музыки. Однако... видно, что эта пьеса написана талантливым
музыкантом и в духе XVIII столетия. К такому же заключению
пришли и члены историко-музыкальной группы при Гос. акаде-
мии художественных наук...»3
Конечно, предания есть предания, мы не можем их прини-
мать в качестве бесспорного документального материала. Но
в данном случае они нам кажутся достаточно правдоподоб-
ными.
Если арсеньевское предание, что «Ключ» исполнялся в дво-
рянских усадьбах XVIII в., справедливо (а для сомнения нет
оснований), то уже это обстоятельство делает его ценным. Оно
включается в общую цепь доказательств того, что великий писа-
тель в изображении исторической эпохи стремился быть до
мельчайших подробностей верным действительности.
Совершенно прав, на наш взгляд, И. В. Ильинский в своем
конечном выводе: «Пусть «Ключ» и не принадлежит Моцарту.
Это не дает еще оснований отрицать за ним вековую давность
и не лишает его музыкальной прелести и интереса. Такое произ-
ведение стоит сохранить и сделать его достоянием общества,
1 И. Ильинский и С. Толстой. Квартет «Ключ» в романе «Война
и мир». «Звенья». М.—Л., «Academia», 1933, стр. 619.
2 С. Л. Толстой. Очерки былого, изд. 2. М., Гослитиздат, 1956,
стр. 378—379.
3 И. Ильинский и С. Толстой. Квартет «Ключ» в романе «Война
и мир». «Звенья». М.—Л., «Academia», 1933, стр. 628.
79
Клавикорд
тем более что оно связано с шедевром русской литературы и его
гениальным творцом» Г
На вечере у Ростовых танцевали экосез, англез, «Данилу
Купора» и только что входившую в моду мазурку. Это были
наиболее принятые танцы в первом десятилетии XIX в. Д. Бла-
гове пишет: «Главным танцем бывал менуэт, потом стали тан-
цевать: гавот, кадрили, котильоны, экосезы»1 2. «Лет тридцать
назад все это было поглощено бесконечным котильоном, ветре-
ным гросфатером и стукотливой мазуркой»3,— говорится в за-
писках Н. В. Сушкова, писавшихся в 1845 г.
Танцам Толстой уделил много внимания, так как в жизни
великосветского общества они занимали большое место. Осо-
бенной популярностью пользовались танцевальные вечера у из-
вестного преподавателя танцев Иогеля. Это имя Толстой пере-
нес без изменения в свое произведение.
В «Русской старине», где описывается Москва накануне
1812 г., говорится следующее: «В продолжение зимы... каждый
день бывало сорок — пятьдесят балов дворянских, 1300 человек
музыкантов, принадлежащих дворянам, каждые сутки играли в
разных домах бальную музыку» 4.
1 И. Ильинский и С. Толстой. Квартет «Ключ» в романе «Война
и мир». «Звенья». М.—Л., «Academia», 1933, стр. 627.
2 «Рассказы бабушки, из воспоминаний пяти поколений, записанные и
собранные ее внуком Д. Благово». СПб., 1885, стр. 28.
3 «Картины русского быта в старину. Из записок Н. В. Сушкова». См.:
сб. «Раут на 1852 год». М., 1852, стр. 471.
4 «Русская старина», 1885, № 12, стр. 474.
?0
О бесконечных балах и танцевальных вечерах рассказывает
в своих письмах М. А. Волкова (письма ее — источник, которым
пользовался Толстой). «Я до того утомлена выездами,— писала
Волкова подруге в январе 1815 г.,— что у меня голова совсем
развинтилась, так что я не могу связать двух мыслей. На прош-
лой неделе отказалась от двух балов, чтоб поберечь свои силы
для вечеринок, где мне необходимо нужно было присутствовать.
В субботу я танцевала до пяти часов утра у Оболенских, а вчера
до трех часов у Голицына. К счастью моему, костюмированный
бал Рябининой отложен до четверга, так что мне можно будет
отдохнуть два дня. Зато предстоит мне потом вертеться несколь-
ко дней сряду. В субботу вечер у Оболенских, а в воскресенье нас
звали к гр. Толстому на завтрак, после которого будут танцы,
и в тот же вечер придется плясать у Ф. Голицына» Г
И в другом месте: «Что сказать тебе о нашем житье-бытье.
Танцуешь вальс да мазурку, а потом полдня лежишь в кровати
от усталости. В нынешнем году отчаянно пляшут. Не успела я от-
дохнуть после двух утомительных балов, а нынче опять должна
ехать на вечер. В пятницу до 5-ти часов плясали у Оболенских,
вчера у Ф. Голицына, а нынче отправляемся к г-же Корсаковой»1 2.
* Слишком интенсивная танцевальная жизнь приводила даже
к заболеваниям. Та же Волкова писала: «В нынешнем году мно-
гие поплатились за танцы. Бедная кн. Шаховская опасно больна.
У вас умирает маленькая гр. Бобринская вследствие простуды,
схваченной ею на бале»3.
Из гостей Ростовых наиболее колоритной фигурой является
Марья Дмитриевна Ахросимова. Это «родная сестра» Хлестовой
из «Горя от ума», перед которой все трепещут. Свояченица (сест-
ра жены) Толстого, Татьяна Кузминская, в письме Поливанову
26 марта 1865 г. писала, что Марья Дмитриевна существовала в
самом деле4.
Татьяна Кузминская права: в ряде мемуарных произведений
фигурирует некая Наталья Дмитриевна Офросимова, которая по-
служила прототипом для обоих писателей. Создавая образ Ахро-
симовой, Толстой прежде всего воспользовался книгой С. Жиха-
рева «Записки современника с 1805 по 1819 год». В ней читаем
следующее:
«Наталья Дмитриевна Офросимова — барыня, в объяснениях
своих, как известно, не очень нежная, но с толком. У ней в гвар-
дии четыре сына, в которых она души не слышит, а между тем
1 «Вестник Европы», кн. 1. СПб., 1875, стр. 221.
2 Т а м же, стр. 223.
3 Т а м ж е, стр. 225.
4 См.: Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула.
1960, стр. 324.
?!
Бал в помещичьем доме. С рисунка Де Бальмена
гоголь гоголем, разъезжает себе по знакомым да уговаривает их
не дурачиться. «Ну, что вы, плаксы, разрюмились? Будто уж так
Бонапарт и проглотит наших целиком! На все есть воля божия, и
чему быть, тому не миновать. Убьют, так убьют, успеете и тогда
наплакаться». Дама презамечательная своим здравомыслием, от-
кровенностью и безусловною преданностью правительству»1.
Сошлемся также на книгу А. А. Стаховича «Клочки воспоми-
наний». «Старуху Хлестову, — пишет Стахович, — я хорошо пом»
ню: это была Наталья Дмитриевна Офросимова. Еще в 1807 го-
ду под фамилией Набатовой ее вывел граф Ф.В. Растопчин в сво-
ей комедии «Вести, или Живой покойник», ее же, под именем
Марьи Дмитриевны Ахросимовой, описал в «Войне и мире» граф
Л. Н. Толстой. Офросимова была одного с нами прихода Иоанна
Предтечи в старой Конюшенной; она строго блюла порядок и бла-
гочиние в церкви, запрещала разговоры, громко бранила дьячков
за нестройное пение или за нерасторопность в служении; дирала
1 С. П. Жихарев. Записки современника с 1805 по 1819 год, ч. 1.СП6.,
1859, стр. 210—211.
№
за уши (как Чацкого) мальчиков, выходивших со свечами, при
чтении евангелия и ходивших с тарелочкою за церковным старо-
стой, держала в решпекте и просвирню, подносившую ей одной
большую просвирку. К кресту Офросимова всегда подходила пер-
вою; раз послала она дьячка к незнакомой ей даме, которая кре-
стилась в перчатке, громко, на всю церковь, дав ему приказание:
«Скажи ей, чтоб сняла собачью шкуру» L
Воспоминания об Офросимовой находим мы и в «Записках»
Дмитрия Николаевича Свербеева 1 2.
К ГЛАВЕ X
Прапорщик (от др.-рус. прапор — знамя)— в царской армии первый
младший офицерский чин; при Петре I этот чин присваивался знаменосцам.
Цуг (нем.) — запряжка лошадей гуськом в две или три пары.
Куверт (фр.) — прибор, сервировка на одного человека за парадным
обеденным столом.
Камчатная ткань (устар.) — льняная и полульняная отбеленная или вы-
работанная из окрашенной пряжи ткань.
Разумовские — московские графы.
К ГЛАВЕ XI
Мантилья (исп.) — короткая женская накидка без рукавов.
К ГЛ ABE XII
Поручик—в царской армии второй обер-офицерский чин, средний меж-
ду подпоручиком и штабс-капитаном.
Саламбни (Соломони) — певица-итальянка, солистка немецкого театра в
Москве в начале XIX в.
К ГЛАВЕ XIV
Румянцевы — русский дворянский род.
Орлов Алексей Григорьевич (1737—1807)—граф, русский полководец.
С 1775 г. находился в отставке. При Александре I жил в Москве.
К ГЛАВЕ XV
Салоп (фр.)—широкое дамское пальто.
Венецианское цельное зеркало — большое зеркало, вывезенное из Вене-
ции, славившейся производством зеркал.
Грассйрование (фр.) — гортанное произношение буквы р; является осо-
бенностью речи некоторых местностей Франции (особенно Парижа).
К ГЛАВЕХУ1
Питт Вильям Младший (1759—1806)—английский государственный дея-
тель, премьер-министр с 1783 по 1801 г. и с 1804 до конца жизни.
1 А. А. Стахович. Клочки воспоминаний. М., 1904, стр. 154.
2 См.: Д. Н. С в ер беев. Записки, т. 1. М., 1899, стр. 260—262.
83
Вильнёв Пьер Шарль (1763—1806)—с 1804 г. Начальник французского
флота, ведшего борьбу с Англией. После поражения французской эскадры при
Трафальгаре покончил жизнь самоубийством.
Экспедиция в Англию. Имеется в виду Булонская экспедиция, подготов-
лявшаяся Наполеоном в 1801—1805 гг., — высадка французских войск на
берег Англии.
К ГЛАВЕ XVII
Соте (фр.) — кушанье: тонкие ломти говядины, филе птицы или рыбы,
обжаренные в масле.
К ГЛ ABE XVIII
Оттоманка (фр.) — широкий мягкий диван с подушками, заменяющими
спинку.
Янтарь — здесь: трубка с длинным янтарным мундштуком.
Бостон — род карточной игры.
Яхонтовые серёжки. Яхонт (греч.) — старинное название драгоценных
камней рубина и сапфира.
Одр (книжн., устар.) — постель, ложе («на смертном одре»).
Рейнвейн (нем.)—название ряда сортов виноградного вина, производи-
мых в Германии (главным образом в районе среднего течения Рейна).
К ГЛАВЕ XIX
Сангвинический. Сангвиник (лат.) — человек, обладающий живым, быст-
ро возбудимым характером.
К ГЛ ABE XX
Клавикдрд (фр.)—старинный клавишно-струнный музыкальный инстру-
мент. В России появился в XVI в.
Арфа (др.-герм.)—струнный щипковый инструмент, известный в глубо-
кой древности. На рубеже XVIII—XIX вв. была в моде как домашний музы-
кальный инструмент, на котором играли соло и аккомпанировали пению.
Митрополит (греч.) —духовное звание священнослужителя, в православ-
ной церкви — высшее после патриарха.
Хоры (гр.) — высоко расположенная, обычно на колоннах, открытая
галерея, балкон вдоль стен в больших залах, храмах.
«Данйла Купбр» — танец, в основе которого — одна из фигур англеза (см.).
К ГЛАВЕ XXI
Англёз (фр.) — старинный английский танец, отличавшийся живым ха-
рактером и легкостью движений.
Глухая исповедь — религиозный обряд, исповедь умирающих, которые
уже не в состоянии говорить.
Соборование (церк.)—один из обрядов христианской церкви: богослу-
жение у постели тяжелобольного.
Кремортартар (лат.) — винный камень, который получают из твердой
коры, отлагающейся на стенках сосудов с молодым вином; употребляется как
лечебное средство (малодейственное).
Сардонический (лат.) —злобно-насмешливый, язвительный.
Пикировка (фр.) — обмен колкостями, язвительными замечаниями, ост-
рыми репликами.
84
К ГЛ ABE XXII
Солома под окнами. В старой Москве мостовая была булыжная, а шины
на экипажах железные, поэтому, чтобы не было слышно грохота, под окна-
ми знатных больных на мостовую стлали солому.
Причетник (церк.) — низшее духовное звание в православной церкви
(псаломщик, дьячок).
Кадило (церк.) — металлический сосуд на цепочке для курения ладаном
при богослужении.
ГЛАВЫ XXV—XXVIII
В последних четырех главах первой части изображается поме-
стная жизнь фрондирующего екатерининского вельможи князя
Николая Андреевича Болконского. Толстой вводит читателя в об-
становку жизни и быта поместного дворянства. Читатель встреча^
ет здесь уже известных ему князя Андрея и его жену, «маленькую
княгиню», знакомится со старым князем Болконским и его до-
черью, княжной Марьей.
Старик Болконский с гордостью вспоминает прославленного
полководца XVIII в. Суворова, его героические походы. Он рад,
что в сыне высоко развито чувство воинского долга. Он несколь-
ко раз приветствует спешный отъезд князя Андрея в действую-
щую армию, то, что он «за бабью юбку не держится». В письме к
Кутузову старый князь просит, чтобы тот использовал сына для
исполнения настоящего дела и долго адъютантом не держал.
«Скверная должность!» — комментирует он князю Андрею свою
просьбу. В напутственном слове он дает твердый завет сыну:
«Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, боль-
но будет... а коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая
Болконского, мне будет... стыдно!» (Гл. XXVIII; 9, 134.)
В основе этого образа — характер деда писателя по матери,
князя Николая Сергеевича Волконского. Толстому было извест-
но, что князь Волконский служил при Екатерине II и Павле I,
что он весьма успевал по службе, как умный и способный гене-
рал, но, будучи независимого нрава, высоко чтя свое человече-
ское достоинство, впал в немилость. Он дал дерзкий ответ князю
Потемкину на предложение жениться на его любовнице, Варень-
ке Энгельгардт. Служебная карьера Н. С. Волконского резко
оборвалась, он был назначен воеводой в город Архангельск
При Павле I князь вышел в отставку, поселился со своей единст-
венной дочерью, Марией, и ее компаньонкой, француженкой т-11е
Henissienne, в Ясной Поляне и прожил в своем родовом имении
на положении фрондирующего вельможного дворянина до 1821 г.
1 См.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии
с 1828 по 1855 год. М., Изд-во АН СССР, 1954. Автор вносит в семейное пре-
дание, использованное писателем, ряд уточнений (см. стр. 29—30).
85
В воспоминаниях о предках Толстой так характеризует сво-
его деда: «Дед мой считался очень строгим хозяином, но я никог-
да не слышал рассказов об его жестокостях и наказаниях, столь
обычных в то время...» {34, 351). Далее Толстой рисует своего
деда как помещика весьма заботливого. Он строит для крепост-
ных крестьян прекрасные помещения, беспокоится об их пище,
по праздникам устраивает всяческие увеселения, качели и хоро-
воды.
Существенно заметить, что нарисованный в «Воспоминаниях»
образ нашел художественное воплощение только в черновых ва-
риантах «Войны и мира». Так, например, в одном из набросков
читаем: «...Князь Волконский вовсе не был злодей, никого не
засекал, не закладывал жен в стены, не ел за четверых, не имел
сералей, не был озабочен одним пороньем людей, охотой и
распутством, а, напротив, всего этого терпеть не мог и был
умный, образованный и... порядочный человек» {13, 79). Види-
мо, Толстой понял, что подчеркивание гуманистических качеств
помещика александровской эпохи исторически не верно. Во вся-
ком случае, такие помещики могли быть только исключением,
но отнюдь не типическим явлением.
В «Войне и мире» отношение князя Николая Андреевича Бол-
конского к крепостным изображено очень сжато и далеко не тож-
дественно ни «Воспоминаниям», ни черновому варианту. «С людь-
ми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и не-
изменно требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал
к себе страх и почтительность...» (Гл. XXV; 9, 105.)
Возможно, что, рисуя образ старого Болконского, писатель
использовал и сведения о жизни и военной деятельности известно-
го вельможи екатерининских времен графа Михаила Федотовича
Каменского — прототипа, который, при определенном биографи-
ческом сходстве с князем Волконским, давал Толстому и противо-
положный материал. Об этом своенравном генерале читаем сле-
дующее: «Характера Каменский был очень крутого. Существует
предание, что он подвергал телесному наказанию своих сыновей,
когда те были уже в генеральских чинах. Каменский был неболь-
шого роста, сухощавый, широкий в плечах; лицо у него было круг-
лое, приятное, брови густые, в разговоре нетерпелив и странен,
иногда очень ласков» Г Генерал-фельдмаршал Каменский (1738—
1809) в 1788 г. разбил турок при Гангуре. В 1806 г. был назначен
главнокомандующим русской армии, но оставался им всего
6 дней. Самовольно покинув армию и уйдя в отставку, он уехал
в свое поместье, где был вскоре убит дворовыми, не вынесшими
его зверского обращения с ними.
1 М. И. Пыляев. Старая Москва. СПб., 1891, стр. 364.
86
Прототипом княжны Марьи, как уже неоднократно указыва-
лось в литературе, послужила мать писателя, княгиня Л1ария Ни-
колаевна, по отцу—Волконская. Она умерла при рождении пя-
того ребенка, младшей сестры Толстого, Марии, когда Льву Ни-
колаевичу было всего полтора года, и он, конечно, запомнить ее
не мог. Таким образом, источником для создания образа княжны
Марьи могли послужить только живые предания и некоторые со-
хранившиеся документы (письма, дневники и т. д.). Заканчивая
свои воспоминания о матери, Толстой говорил: «Все это я описы-
ваю по рассказам и письмам» (34, 355).
Что же узнал Толстой от окружавших его людей о своей ма-
тери и что из всего собранного использовал при создании образа
княжны Марьи?
Физического облика матери писатель не представлял, так как
по странному стечению обстоятельств не сохранилось ни одного
ее портрета. Из преданий он вынес представление о ней как о
женщине с весьма невыигрышной наружностью. Это нашло пол-
ное отражение в романе. Не отличаясь красивой внешностью,
Мария Николаевна обладала высокими духовными качествами.
Она была умна, широко образованна для своего времени; прекрас-
но знала четыре европейских языка: французский, немецкий, ан-
глийский и итальянский. Мария Николаевна к тому же обладала
артистической душой: она хорошо играла на фортепьяно, владе-
ла даром прекрасной рассказчицы-импровизатора. При всех пере-
численных достоинствах Мария Николаевна отличалась большой
скромностью, душевной теплотой и выдержкой. Она никогда, по
воспоминаниям Льва Николаевича, не сказала окружающим гру-
бого слова. Толстой считает мать свою в духовном отношении
выше отца. Если прибавить ко всему изложенному предания о
жизни Марии Николаевны с отцом и компаньонкой-францужен-
кой в Ясной Поляне, то становится совершенно очевидным нали-
чие многих тождественных мотивов, характеризующих образ
Марьи Болконской и матери писателя.
Но, разумеется, тождество это не полное. Так, например, Тол-
стой, характеризуя свою мать в «Воспоминаниях», почти ничего
не говорит об ее увлечении религией, об аскетических наклонно-
стях, что так характерно для княжны Марьи. Видимо, эта сторо-
на характера Болконской была мало присуща ее прототипу, ибо
автор «Воспоминаний» пишет: «Жизнь матери проходила в заня-
тиях с детьми, в вечерних чтениях вслух романов для бабушки и
серьезных чтениях, как «Эмиль» Руссо, для себя и рассуждениях
о читанном, в игре на фортепиано, в преподавании итальянско-
го языка одной из теток, в прогулках и домашнем хозяйстве»
(34, 354).
В журнале «Русская литература» (1961, № 1) опубликована
статья Р. Заборовой «Тетради М. Н. Толстой как материалы для
«Войны и мира». В ней приводятся ценные данные, помогающие
87
полнее и глубже раскрыть проблему соотношения образа княж-
ны Марьи и его прототипа, ЛА. Н. Волконской.
«— От Элоизы? — спросил князь...
— Да, от Жюли, — сказала княжна...» (Гл. XXV; 9, 107.)
Старый князь иронизирует над дочерью, называя автора пись-
ма, Жюли Карагину, Элоизой — именем героини романа Жана
Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». И сама Жюли подписа-
ла письмо «Юлия».
Эта переписка между двумя молодыми представительницами
русского аристократического дворянства дается писателем как
знамение времени. Начало XIX в., изображенное в первом томе
«Войны и мира», как известно, — период увлечения русским
обществом чувствительными романами, которое продолжалось и
в последующие годы. Вспомним знаменитые пушкинские стихи из
«Евгения Онегина», относящиеся к Татьяне Лариной:
Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!..
В «Горе от ума» А. С. Грибоедова:
Лиза. Ночь целую читала.
Фамусов. Вишь, прихоти какие завелись!
Лиза. Все по-французски, вслух, читает запершись!
Об этом периоде говорит А. И. Кирпичников в «Очерках по
истории новой русской литературы»: «...При Екатерине словес-
ность служила только забавой, а теперь барышни и молодые
дамы до бессонницы, до расстройства нервов зачитываются но-
выми сентиментальными романами госпож Жанлис и Коттэнь»1.
Переписка княжны Марьи с Жюли Карагиной не выдумана
Толстым: в основу ее легли письма фрейлины императрицы,
М. А. Волковой, к ее подруге В. И. Ланской. Письма эти, видимо,
произвели на писателя большое впечатление и послужили ему
драгоценным материалом для воспроизведения бытовых черт
эпохи. О ценности материала, содержащегося в письмах Волко-
вой, говорит А. Е. Берс в письме Толстому 26 октября 1863 г.:
«Я прочел целый волюм 1 2 писем Волковой, которые она писала
Ланской в 1812 и 1813 годах; теперь читаю письма 1814 года. Для
меня они интересны в высшей степени, она говорит в своих пись-
мах о лицах, которых она знала в молодости, а я всех их под ста-
1 А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы,
изд. 2, т. 1. М., 1903, стр. 426.
2 Волюм (фр.) — том.
рость. Также весьма интересны ее описания о духе того време-
ни,— и все и всё в них интересно»1.
В письме 3 декабря 1863 г. А. Е. Берс отметил интерес писа-
теля к этим письмам. «Как я рад, любезный Лев Николаевич, что
тебе понравились письма Волковой...»1 2
К ГЛАВЕ XXV
Генерал-аншеф — чин полного генерала; при Павле I был заменен зва-
ниями: генерал от кавалерии, генерал от инфантерии, генерал от артиллерии,
инженер-генерал.
«Ключ таинства» — произведение немецкого писателя-мистика Карла
Экарстгаузена (1752—1809), автора многих мистических сочинений.
Корсиканское чудовище — ироническое прозвище Наполеона I, урожен-
ца острова Корсика.
«Апостол» — название церковной книги, заключающей в себе так назы-
ваемые «Деяния апостолов», «Послания» их и «Апокалипсис» (пророчества
о конце мира).
Евангелие (греч.) — часть библии, состоящая из четырех книг, важней-
шая в христианском вероучении.
Рекрут — в дореволюционной России — новобранец, лицо из податного
населения (крестьян, мещан), призванное на военную службу.
К ГЛ ABE XXVI
Камердинер (нем., букв.: комнатный слуга) —служитель при господине
в дворянском или богатом буржуазном доме.
Пассаж (фр.)—музыкальная фигура, проходящая в быстром темпе и
образуемая развитием или повторением одного какого-либо мотива.
Дюссёк Иоганн Ладислас (1761—1812)—чешский композитор.
Соната (ит.) — музыкальное произведение для одного или двух инструмен-
тов, состоящее из нескольких контрастирующих частей, объединенных одним
художественным замыслом.
Пудромант (нем.)—халат, в котором делалась прическа и надевались
пудреные парики.
Михельсон Иван Иванович (1740—1807) — генерал русской армии.
В 1773—1774 гг. командовал войсками, направленными против Пугачева.
В 1805 г. командовал войсками, расположенными на западной границе.
В 1806 г. — главнокомандующий Днепровской армии в войне против Турции.
Умер в 1807 г. в Бухаресте.
Толстой Петр Александрович (1761—1844) — генерал от инфантерии.
В 1805 г. командовал 20-тысячным десантным корпусом, отправленным в По-
меранию (герцогство на побережье Балтийского моря) для действий против
Франции совместно со шведскими войсками.
Южная армия — Дунайская армия, действовавшая против Турции. После
того как Кутузов, победоносно закончивший в 1811 г. турецкую войну, был
из этой армии отозван, ею командовал адмирал П. В. Чичагов.
Штральзунд — приморский город в Пруссии.
Мальбрук (герой песенки)—герцог Мальборо (1650—1720), известный
английский полководец, удачно воевавший с Францией.
1 «Толстой и о Толстом», сб. 3. Редакция Н. Н. Гусева и В. Г. Черткова.
М., 1927, стр 131.
2 Т а м ж е.
89
К ГЛ ABE XXVII
Ахиллесова пята — слабое, уязвимое место. Это выражение связано с
именем Ахилла (Ахиллеса), древнегреческого героя-полубога, в гомеровской
«Илиаде» — участника осады Трои. По преданию, мать Ахиллеса, чтобы сде-
лать сына неуязвимым, окунула его в волшебный источник, держа за пятку,
которая вследствие этого осталась уязвимой. Стрела троянца Париса, умерт-
вившего впоследствии Ахиллеса, попала именно в эту пяту.
Потёмкин Григорий Александрович (1739—1791)—князь, государствен-
ный деятель и полководец, один из фаворитов Екатерины II.
Морд Жан Виктор (1763—1813)—французский полководец. В 1799 г. в
Италии потерпел поражение от войск А. В. Суворова. В 1800 г. одержал
имевшую большое значение победу над австрийцами при Гогенлиндене. На-
полеон видел в Моро, который не одобрял режима личной диктатуры, опас-
ного соперника и в 1804 г., в связи с заговором генерала Пишегрю, отдал
Моро под суд. Высланный за границу, Моро в 1813 г. по приглашению Алек-
сандра I принял участие в военных действиях против Наполеона.
Фридрих II Великий (1712—1786)—с 1740 г. прусский король, про-
славившийся как полководец, дипломат, писатель и государственный деятель.
Хофс-кригс-вурстшнапс-рат (нем.)—«придворный военный колбасно-во-
дочный совет», насмешливое наименование гофкригсрата (см. стр. 96), ме-
шавшего Суворову при войнах в союзе с Австрией.
Пален, вероятно, Федор Петрович (1780—1863), — граф, действительный
тайный советник, дипломат. Обучался, готовясь к дипломатической деятель-
ности, в Швеции, Париже и Лондоне. Был русским послом в Вашингтоне,
Рио-де-Жанейро и Мюнхене. С 1832 г. — член Государственного совета.
К ГЛ ABE XXVIII
Погребец — дорожный ящик для хранения съестных припасов, вина и
посуды.
Стерн Лоренс (1713—1768)—английский писатель, один из основателей
сентиментализма, автор «Сентиментального путешествия» и др.
Зубовы — русский дворянский род, возведенный в 1793 г. в графское до-
стоинство.
Ломбардные билеты — выпускавшиеся при Екатерине II процентные бу-
маги.
Ремарка (фр.)—здесь: отметка, письменное замечание.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВЫ I—II
Вторая часть первого тома романа-эпопеи Тол-
стого начинается изображением стоянки русских войск в горо-
дах и селах эрцгерцогства Австрийского в октябре 1805 г.
Как уже говорилось, в 1805 г. была создана коалиция европей-
ских держав против Франции. В том же году началась война
этих государств (России, Англии, Австрии, Швеции и Неаполи-
танского королевства) с Францией. Наполеон стремительным
90
маршем направился в Австрию. Александр I двинул на помощь
австрийцам две армии, под командованием Кутузова и Буксгев-
дена. В австрийской крепости Браунау расположилась главная
квартира Кутузова. Под Браунау по инициативе Кутузова на-
значили военный смотр, чтобы продемонстрировать австрийско-
му генералу тяжелое положение русского войска, о снабжении
которого должна была заботиться Австрия.
Здесь мы впервые встречаемся с Кутузовым. Перед нами не
грозный военачальник, нагоняющий своим появлением страх на
подчиненных, не холодный деспот, наслаждающийся беспредель-
ной властью над людьми, а спокойный, уравновешенный и добро-
душный старец, умудренный долголетним опытом, трудностями
походной и бранной жизни. Соратник великого Суворова, Кутузов
усвоил от своего гениального учителя его глубокую мудрость:
чтобы быть всегда победителем, надо найти дорогу к сердцу сол-
дата. Эта замечательная черта великого полководца — внимание
к солдатским нуждам, любовь и забота о подчиненных — показа-
на уже в первом эпизоде, где читатель знакомится с Кутузовым.
Толстой пишет. «Кутузов прошел по рядам, изредка останавли-
ваясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он
знал по турецкой войне, а иногда и солдатам.
Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал го-
ловой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выраже-
нием, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть,
как это плохо». (Гл. II; 9, 141.)
Простотой и человечностью веет от фигуры главнокомандую-
щего, не оставляющего без внимания солдатских нужд.
Во время этого смотра проявляется и другая сторона в харак-
тере Кутузова, которая по мере дальнейшего развития сюжета
углубляется автором и более тонко мотивируется психологически.
Это — нетерпимость Кутузова ко всему неискреннему, торжест-
венно-патетическому, ура-патриотическому. Услыхав от Долохо-
ва высокопарную фразу о его готовности доказать свою «предан-
ность государю императору и России», Кутузов «отвернулся и
поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему
сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно, давно
знает, что все это уже прискучило ему и что все это совсем не
то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске».
(Гл. II; Р, 143).
В двух комментируемых главах Толстой рисует образ Доло-
хова, одного из сквозных персонажей романа-эпопеи. В созда-
нии его писатель использовал ряд источников: семейные преда-
ния о своем дальнем родственнике Федоре Ивановиче Толстом,
которого он лично знал; сведения о прославленном на Кавказе
храбреце, офицере Р. И. Дорохове, также знакомом Толстому, и
источники об известном партизане 1812 г. капитане Фигнере.
91
Первого Толстой считал хотя и преступным, но необыкновен-
ным человеком.
Ф. И. Толстого лично знали также Грибоедов и Пушкин.
Вспомним строчки из «Горя от ума»:
Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист...
Пушкин в 1820 г. написал уничтожающую эпиграмму на
Ф. И. Толстого:
В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу.
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава богу —
Только что картежный вор Ч
Через год в стихотворении «Чаадаеву» поэт вновь заклей-
мил сатирическим стихом ненавистного ему человека 1 2.
Презрение Пушкина к Ф. И. Толстому вызвано клеветой, ко-
торую последний распространял о поэте. Из кишиневской ссыл-
ки Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Ему показалось забавно
сделать из меня неприятеля и смешить на мой счет письмами
чердак князя Шаховского... Сказывают, что он написал на меня
что-то ужасное»3.
Ф. И. Толстого лично знал и А. И. Герцен. В «Былом и ду-
мах» читаем: «Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал лю-
дей, разорял семейства лет двадцать сряду, пока, наконец, был
сослан в Сибирь, откуда «вернулся алеутом», как говорит Гри-
боедов, т. е. пробрался через Камчатку в Америку и оттуда вы-
просил дозволение возвратиться в Россию. Александр его про-
стил — и он, на другой день после приезда, продолжал прежнюю
жизнь...»4.
О Ф. И. Толстом пишет и известный мемуарист Ф. Ф. Вигель.
Он характеризует Ф. И. Толстого как «лютого зверя» за беспре-
дельную неустрашимость и «кровожадность»5.
Денис Давыдов, упоминая Ф. И. Толстого как одного из
участников Бородинского боя, получившего там ранение, видит
в нем человека «замечательного ума».
1 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 тт., т. II. М., Изд-во АН СССР,
1956, стр. 21.
2 См. там же, стр. 47.
3 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 тт., т. X. М., Изд-во АН СССР,
1958, стр. 41.
4 А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 тт., т. VIII. М., Изд-во АН СССР,
1956, стр. 243.
5 Ф. В и г е л ь. Записки, ч. 2. М., 1892, стр. 144.
92
Вл. Гиляровский в книге «От английского клуба к Музею Ре-
волюции» приводит любопытную версию о поведении Ф. Тол-
стого, слышанную С. Л. Толстым, сыном писателя, от Новосиль-
цевой:
«Шла адская игра в клубе. Все разъехались. Остались толь-
ко Толстой и Нащекин. При расчете Федор Иванович объявил,
что Нащекин должен ему 20 000 р.
— Я их не заплачу, — сказал Нащекин, — вы их записали,
но я их не проиграл.
— Может быть, — отвечал Толстой, — но я привык руковод-
ствоваться своей записью и докажу вам это.
Он встал, запер дверь, положил на стол пистолет и сказал:
— Он заряжен, заплатите или нет?
— Нет.
— Я вам даю десять минут на размышление.
Нащекин, вынув из кармана часы и бумажник, сказал:
— Часы могут стоить 500 р., а в бумажнике 25 рублей. Вот
все, что вам достанется, если вы меня убьете, а чтобы скрыть
преступление, вам придется заплатить не одну тысячу. Какой
же вам расчет убивать?
— Молодец, — крикнул Толстой, — наконец-то нашел чело-
века!
С этого дня они стали неразлучными друзьями»1.
Замечательно яркие страницы о втором прототипе Долохова,
Руфине Ивановиче Дорохове, сыне героя Отечественной войны
1812 г. И. С. Дорохова, находим в книге П. А. Висковатова о
Лермонтове: «Лица, загорелые и смуглые, выражали бесшабаш-
ную удаль и, при разнообразии типов, носили общий отпечаток
тревожной боевой жизни и ее закала. Тут были татары-магоме-
тане, кабардинцы, казаки — люди всех племен и верований,
встречающихся на Кавказе, были и такие, что и сами забыли,
откуда родом. Принадлежали они к конной команде охотников,
которою заведовал храбрец Дорохов. Бесшабашный командир
сформировал эту ватагу преданных ему людей. Все они сделали
войну ремеслом своим. Опасность, удальство, лишения и разгул
стали их лозунгом... Даровитый Дорохов, за отчаянные выходки
и шалости не раз разжалованный в солдаты, вновь и вновь вы-
служивался, благодаря своей дерзкой отваге»1 2.
Эти черты характера прославленного кавказского храбреца
Дорохова находим и в герое «Войны и мира». Конкретные же
1 Вл. Гиляровский. От английского клуба к Музею Революции. М.,
1926, стр. 31—32. См. также о Ф. И. Толстом: А. А. Стахович. Клочки вос-
поминаний. М., 1904, стр. 145—153; Д. Б л а г о в о. Рассказы бабушки. СПб.,
1885, стр. 304—305; М. И. Пылаев. Старая Москва. СПб., 1891, стр. 246—
251.
2 П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творче-
ство. В кн.: М. Ю. Лермонтов. Сочинения, т. 6, М., 1891, стр. 341—342.
93
исторические данные о смелых партизанских подвигах в годину
Отечественной войны взяты Толстым из книги Ильи Радожицко-
го «Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год» (М.,
1835).
Илья Радожицкий рассказывает о капитане Александре Са-
мойловиче Фигнере (1787—1812), командовавшем крупным пар-
тизанским отрядом. «...С двумя сотнями разнокалиберных удаль-
цов начал [Фигнер] производить свои набеги. Днем обыкновенно
он прятал их в чащу леса, а сам, переодевшись французом, по-
ляком или итальянцем, иногда с трубачом, а иногда один ездил
к неприятельским форпостам: тут делал он выговор пикетному
караулу за оплошность и невнимательность, давая знать, что в
стороне есть партия казаков; в другом месте извещал, что рус-
ские занимают такую-то деревню, а потому для фуражирования
лучше идти в противную сторону. Таким образом, высмотревши
положение, силу неприятелей и расположив их по своим мыслям,
он с наступлением вечера принимал настоящий вид партизана
и с удальцами своими являлся как снег на голову там, где его
вовсе не ожидали и где французы, по его уверению, почитали
себя в совершенной безопасности» Ч
Это место «Записок» Радожицкого, несомненно, послужило
источником для создания яркой картины поездки Долохова с Пе-
тей Ростовым во французский лагерь.
Толстой, разумеется, не механически переносит черты про-
тотипов на образ Долохова. Использовав источники, писатель
создает весьма своеобразный и сложный характер. В Долохове
дано причудливое сочетание черт, на первый взгляд трудно со-
вместимых в одном человеке. Это и грубый, бесшабашный кути-
ла, офицер безумной храбрости и отваги, и нежно любящий, по-
корный сын и заботливый брат. Привнесение в образ Долохова
элементов семейной добродетели весьма обогатило его, способ-
ствовало не только созданию психологически сложного характе-
ра, но и усилению его социальной значимости: способный на бес-
корыстие, на подлинную самоотверженность Долохов, стремясь
быть на равной ноге с «высшими мира сего» и в то же время не
желая унижаться, гнуть спину, как Друбецкой, Берг, становится
злым и жестоким, теряет лучшие свои качества. Разоблачитель-
ная по отношению к дворянско-самодержавному строю, аристо-
кратическому обществу направленность этого образа очень
сильна.
Рассматривая здесь и дальше вопрос о прототипах ряда пер-
сонажей «Войны и мира», мы, как об этом сказано в предисло-
вии, не исследуем сложного процесса создания Толстым худо-
жественных образов. Эта задача аспектом книги не диктуется.
1 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год,
ч. 1. М., 1835, стр. 210.
94
Мы говорим лишь о живых людях, послуживших первоосновой
при создании тех или иных героев романа-эпопеи, что является
прямой задачей комментатора.
Толстой признавал жизненную первооснову образа, о чем он
неоднократно говорил. Некоторые его высказывания мы приве-
ли в предисловии. Здесь сошлемся на чрезвычайно важное сооб-
ражение великого писателя, высказанное им почти в конце свое-
го творческого пути, в беседе с писателем А. Мошиным в 1904 г.
Процитируем ее:
«—Вот по поводу типов с натуры: меня интересует одно...
как будто противоречие... Когда читаешь произведения Гоголя,
Мопассана, ваши, Лев Николаевич, поражаешься реальностью
типов, правдивостью. Ясно, что написано много с натуры. И са-
ми вы, кажется, подтверждали, что часто писали с натуры.
— Да, — сказал Лев Николаевич, — я часто пишу с натуры.
Прежде даже фамилии героев писал в черновых работах на-
стоящие, чтобы яснее представлять себе то лицо, с которого я пи-
сал. И переменял фамилии, уже заканчивая отделку рассказа.
Но я думаю так, что если писать прямо с натуры одного какого-
нибудь человека, то это выйдет совсем не типично — получится
нечто единичное, исключительное и неинтересное. А нужно имен-
но взять у кого-нибудь его главные, характерные черты и допол-
нить характерными чертами других людей, которых наблюдал.
Тогда типично. Нужно наблюдать много однородных людей, что
бы создать один определенный тип» Г
«Теперь прусак бунтует» (гл. II; Я 145) —фраза, характери-
зующая осложнения с прусским правительством, которое укло-
нялось от вступления в коалицию государств против Наполеона
и выразило возмущение действиями Александра I, давшего при-
каз пройти в Австрию через прусские провинции без его разре-
шения.
«То-то любо было, как немцы нам коляски подавали» (гл.
II; 9, 145) —ирония по поводу того, как в сентябре 1805 г. авст-
рийцы, узнав о приближении Наполеона к Ульму и стремясь
форсировать продвижение русского отряда к передовым пози-
циям, посадили солдат на подводы, а офицеров на коляски.
К ГЛАВЕ I
Эрцгерцогство Австрийское—Верхняя и Нижняя Австрия, северо-запад-
ная часть Австрийской империи, расположенная по Дунаю.
Браунау — город в Верхней Австрии, на реке Инне, притоке Дуная.
1 «Русские писатели о литературе», т. II. Л., «Советский писатель», 1939,
стр. 146.
95
Эполеты (фр.) — парадные офицерские и генеральские погоны с золотым
шитьем и бахромой; имели особую форму, с закруглением на одном конце.
Царицын луг — площадь в Петербурге, па которой проходили парады и
смотры войск. С 1818 г. стала именоваться Марсовым полем.
Гофкригсрат— придворный военный совет в Австрии, высшее военное
учреждение; создан в 1486 г., упразднен в 1849 г.
Фердинанд Карл Иосиф — эрцгерцог австрийский, в 1805 г. — главноко-
мандующий австрийских войск. Начальником его штаба был генерал Макк. С
ним вместе Фердинанд был окружен французскими войсками и разбит под
Ульмом. Во время франко-австрийской войны 1809 г. Фердинанд командовал
корпусом, назначенным для действий в Варшавском герцогстве.
Макк1 Карл (1752—1828)—австрийский генерал. В 1805 г. под Ульмом
был окружен французскими войсками и сдался в плен Наполеону. Отданный
под суд в Австрии, был лишен чинов и орденов.
Фельдфебель (нем.) — помощник ротного командира из нижних чинов
(подпрапорщиков или старших унтер-офицеров) в пехотных, артиллерийских
и инженерных частях в дореволюционной русской армии.
Фельдмаршал (нем.) — высший военный чин в русской царской армии и
некоторых армиях Запада.
К ГЛАВЕ II
Кроаты, или хорваты — славянское племя, жители Хорватии, входившей
в состав Австрийской империи. Конвой хорватов — отряд легкой конницы,
составлявшей личную охрану австрийского императора.
Бахус — одно из имен бога вина и веселья у древних римлян.
Субалтерн-офицер — в русской дореволюционной армии младший офи-
цер в роте, батальоне или эскадроне.
Брюнн — главный город Моравии, входившей в состав Австрийской им-
перии.
Квартирмейстер, или квартирьер (нем.) — офицер, ведавший расположе-
нием той или иной части.
Ложечник — человек, подыгрывающий деревянными ложками в такт пе-
сенникам.
Корнет (фр.) — первый младший офицерский чин в кавалерии и в вой
сках пограничной стражи в дореволюционной России.
«Фарадн» (греч.) — род азартной карточной игры.
ГЛАВА III
Кутузов ведет спор с австрийским генералом о характере
Предстоящих действий русской армии.
Заброшенный в глубь Европы с 50-тысячной армией в помощь
австрийцам в их борьбе против 200-тысячной армии Наполеона,
Кутузов при помощи разосланных лазутчиков установил, что по-
ложение армии союзника далеко не благополучно, и поэтому
должен был проявить крайнюю осторожность и критичность ко
всем предложениям австрийского командования. Разговор Ку-
тузова с австрийским генералом происходит накануне получе-
ния сведений о полном разгроме основного ядра австрийской ар-
мии, которой командовал генерал Мак, под Ульмом.
1 В основном тексте написание этой фамилии даем в соответствии с при-
нятым в романе-эпопее Толстою (Мак).
96
Этот диалог между двумя генералами показывает глубокое
постижение Толстым и тонкого дипломатического ума Кутузо-
ва, и его полководческой проницательности, и его военной хит-
рости. Приведем слова Кутузова, свидетельствующие о глубо-
ком понимании обстановки, полные тонкой иронии в словесной
полемике с противником.
«—Я только говорю одно, генерал, — говорил Кутузов с при-
ятным изяществом выражений и интонации, заставлявшим вслу-
шиваться в каждое неторопливо сказанное слово... — Я только
одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего лич-
ного желания, то воля его величества императора Франца дав-
но была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгер-
цогу. И верьте моей чести, что для меня лично передать высшее
начальство армией более меня сведущему и искусному гене-
ралу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту
тяжкую ответственность для меня лично было бы отрадой. Но об-
стоятельства бывают сильнее нас, генерал». (Гл. III; 9, 148.)
Прогноз Кутузова оправдался целиком. Вскоре в его ставку
явился сам Мак и обратился к нему с фразой: «—Vous voyez le
malheureux Маск» («Вы видите несчастного Мака»).
Это обстоятельство окончательно укрепило Кутузова в ра-
нее принятом им решении — не подчиняться сумасбродным при-
казаниям австрийского командования, принять меры к спасению
русской армии от разгрома или позорного плена. Однако поло-
жение значительно осложнилось тем, что Кутузов не только ис-
пытывал давление австрийского командования и императора
Франца, но и вынужден был считаться с настойчивыми тре-
бованиями Александра I об оказании союзникам максимальной
помощи. В рескрипте царя Кутузову от 24 октября (5 ноября)
1805 г. читаем: «Вам непременно должно сохранять доброе со-
гласие с австрийскими генералами... Я тогда только останусь
спокойным, когда узнаю, что вы решились принять на самого се-
бя высокую ответственность защищать Вену»1.
Однако ни австрийский, ни русский императоры своими
приказаниями не смутили Кутузова. Достаточно глубоко пони-
мая сложившуюся обстановку, он принял решение отступать.
К ГЛ АВЕ 111
Франц Иоганн Карл (1768—1835)—в 1792—1835 гг австрийский импе-
ратор, носивший имя Франца I
Эрцгерцог — титул австрийских принцев, родственников императора.
Лех — река в Австрии и Германии, правый приток Дуная.
Ульм — австрийский город и крепость на Дунае. Здесь в 1805 г. австрий-
ский генерал Макк с 35-гысячным войском капитулировал перед Наполеоном.
1 «Фельдмаршал Кутузов». Сборник документов и материалов. М.» Госпо-
литиздат, 1947, стр. 91.
4 Б. И, Кандиев
97
Ностиц, очевидно, Григорий Иванович (ум. в 1838 г.) — граф, австрий-
ский генерал. Вступил на русскую службу в 1807 г.
Меморандум (лат.)—в международных отношениях — записка с изложе-
нием вопросов, являющихся предметом дипломатических бесед.
Промеморййха — памятная записка с изложением существующего в дан-
ный момент положения дел.
Штраух — австрийский генерал, состоявший во время войны 1805 г. при
Кутузове. Ведал устройством продовольственной части союзной армии и
снабжением ее всем необходимым.
ГЛАВА IV
В четвертой главе Толстой рисует крайне неблаговидный
поступок офицера Телянина, укравшего у Денисова кошелек с
деньгами. Разгорается спор о чести полка.
Вопросы офицерской чести и достоинства очень остро стави-
лись в русской армии и свято оберегались сложившимися тра-
дициями русского офицерского корпуса. Офицерскую честь
нужно было беречь не только в бою, но и в обществе, в быту, во
взаимоотношениях с товарищами.
Вот что мы читаем в «Заметках об общих военных принци-
пах» Э. Свидзинского: «Офицер должен воздержаться от всяких
увлечений и от всех действий, могущих набросить хотя бы ма-
лейшую тень на него лично, а тем более на корпус офицеров.
Слово офицера всегда должно быть залогом правды, и потому
ложь, хвастовство, неисполнение обязательства — пороки, под-
рывающие веру в правдивость офицера, бесчестят его звание и
не могут быть терпимыми» !.
Однако офицерская честь нередко понималась ложно. Тол-
стой показывает, что в полку все, кроме неопытного юнке-
ра Ростова, обеспокоены не столько мерзким поступком Теля-
нина, сколько его обнародованием. Пафос их рассуждений в
том, чтобы замять случившееся и таким образом спасти «честь
полка».
В этой главе заметную роль играет юнкер Николай Ростов.
Прототипом Николая Ростова принято считать графа Николая
Ильича Толстого, отца писателя, который умер в 1837 г., когда
Льву Николаевичу было 9 лет.
Фамилия Ростовых установилась в произведении не сразу:
в черновых вариантах фигурирует сначала Николай Толстой,
затем Николай Простой, а потом уже писатель останавливает-
ся на фамилии Ростовых.
Источником для создания образа Николая служат не толь-
ко фамильные предания, письма и другие документы, но и неко-
1 Цит. по статье А. Кривицкого «Традиции русского офицерства». «Крас-
ная звезда», 3 ноября 1943 г.
98
торые личные впечатления Толстого. В «Воспоминаниях»
Толстой писал: «Начну с того, что я ясно помню, с того места
и тех лиц, которые окружали меня с первых лет. Первое место
среди этих лиц занимает, хотя и не по влиянию на меня, но по
моему чувству к нему, разумеется, мой отец» {34, 355).
Из семейных преданий Лев Николаевич узнал о своем отце,
что он был единственным сыном родителей, который в возрасте
17 лет против их воли поступил на военную службу в качестве
адъютанта к князю Горчакову. Николай Ильич Толстой участ-
вовал в походах 1813 и 1814 гг., был взят в плен, из которого
освободился в 1815 г., когда русские вошли в Париж.
Далее в «Воспоминаниях» повествуется о том, как Николай
Ильич, разочаровавшись в военной службе, подал в отставку и
вскоре после смерти своего отца стал наследником имения и
огромного количества долгов, значительно перекрывавших
стоимость имения. Он поселился с сестрой и кузиной в родовом
имении матери, привыкшей к роскошной жизни. Не имея
средств выпутаться из бесконечных долговых обязательств, Ни-
колай Ильич женился на богатой наследнице, княгине Марии
Николаевне Волконской и поселился со всей семьей в Ясной
Поляне.
Все это полностью соответствует перипетиям сюжетной ли-
нии: Николай Ростов и княжна Марья Болконская. Николай
Ростов остается наследником разоренного имения «Отрадное»
и огромного количества долгов своего безрассудного отца,
Ильи Андреича Ростова, женится на богатой невесте и вмес-
те с матерью и кузиной переезжает в Лысые Горы.
К ГЛАВЕ IV
Гусары (венг.) — солдаты и офицеры легкой кавалерии, вооруженные
саблями. Мундир у гусар был очень ярким и богатым, каждый полк имел
свои цвета и отличия.
Эскадрон (фр.) — в кавалерии — часть полка, подразделение, соответст-
вующее роте в пехоте.
Зальцёнек — австрийская деревня близ Браунау.
Юнкер (нем.) — солдат или унтер-офицер из дворян. Поступив в дейст-
вующую армию, дворянин мог получить офицерское звание, не оканчивая
военного училища.
Трензель (нем.)—железные удила, которые при натягивании прикреп-
ленных к ним поводьев упираются в нёбо лошади, заставляя ее поднимать
голову.
Ментик (польск.) — гусарская короткая накидка с меховой опушкой.
Чикчйры, или кичкйры (турецк.) — кавалерийские брюки с кожаными
вставками сзади и в коленях.
Сёмпелъ (фр.)—название ставки в карточной игре (простая ставка).
Пароль (фр.)—название ставки в карточной игре (двойная ставка).
Вахмистр (нем.) — старший унтер-офицер (младший командир) в ка-
валерии.
Подъёздок — молодая или запасная лошадь, которая посменно ходит в
упряжке или под седлом.
4*
99
ГЛАВЫ V-VIII
В этих главах Толстой документально точно рисует отступле-
ние Кутузова к Вене после поражения австрийского генерала
Мака, когда русской армии приходилось сдерживать наседав-
ший на нее авангард Мюрата. Толстой создает живую картину
перехода русских через реку Энс.
Военный эпизод с отступлением русской армии к Вене
Толстой взял из книги официозного историка войны 1812 г. ге-
нерала А. И. Михайловского-Данилевского. В ней мы читаем:
«23 октября [Кутузов] перешел при городе Энсе быструю реку
Энс. Мюрат весь день напирал на кн. Багратиона, стараясь
обойти и отрезать его от переправы. Не успев в своем намере-
нии, он почти в одно время с князем Багратионом приблизился
к реке Энсу, стремясь овладеть мостом. Бывший в арьергарде
отряд павлоградских гусаров спешился и под картечными
выстрелами зажег мост, заблаговременно покрытый зажига-
тельными веществами» Ч
К ГЛ АВЕ I/
Штаб-ротмистр — в дореволюционной русской армии — офицерский чин
в кавалерии.
К Г Л ABE VI
Инн — река в Австрии, приток Дуная.
Траун — река в Австрии, приток Дуная.
Энс — река в Австрии, приток Дуная, и город, расположенный при впа-
дении реки Энс в Дунай.
Арьергард, или ариергард (фр.) — часть войск, следующая за главными
силами с целью охраны их от нападения неприятеля с тыла.
Доппелькюммель (нем.) — сладкая тминная водка.
К ГЛАВЕ VII
Фурштйтский солдат — солдат военного обоза (фурштат — нем. — обоз-
ная воинская часть).
Кутасы — военное украшение из шнуров и кистей на кивере.
Кйвер (венг.) — твердый высокий военный головной убор, почти цилинд-
рической формы, с кистью; существовал в русской армии с 1803 по 1846 г.
Подвёртки — обмотки для ног, портянки.
Форшпан (нем.) — немецкая грузовая повозка.
Мундштук (нем.) — здесь: железные удила с подъемной распоркой в
нёбе и с подбородником в виде цепочки для сдерживания горячих лошадей.
Вальтрап (ит.) — покрывало для лошади, надеваемое поверх седла или
под него; служит для украшения и надевается только при парадной седловке.
1 А. И. Михайловский-Данилевский. Описание войны 1805 го-
да. СПб., 1844, стр. 89.
100
Ташка (нем.)—кожаная сумка у гусар, носимая на ремнях, прикреплен-
ных к портупее.
Ефрейтор (в старой армии) — звание нижнего чина, среднее между
младшим унтер-офицером и рядовым.
К ГЛАВЕ VIII
Капот (фр.)—здесь: военная шинель французских солдат.
Эфес (нем.) — рукоятка сабли, шашки и другого холодного оружия.
Фланкёры (фр.) — отдельные кавалеристы при действии конницы в рас-
сеянном строю, а также кавалеристы, наблюдающие за действиями неприя-
теля или прикрывающие движение кавалерии.
Багратион Петр Иванович (1765—1812) — князь, выдающийся русский
полководец, участник ряда суворовских походов и Отечественной войны
1812 г.
Рейтузы (нем.) — военные кавалерийские брюки, плотно обтягивающие
ноги.
Орден святого Владимира — орден, учрежденный Екатериной II в 1782 г.;
имел 4 степени.
Реляция (лат.) — письменное донесение командованию о ходе военных
действий; представление к награде.
Подпоручик — первый обер-офицерский чин в царской армии, средний
между чином прапорщика и поручика.
ГЛАВЫ IX—XV
В этих главах изображается положение русской армии пос-
ле капитуляции австрийского генерала Мака.
Отступление 50-тысячной армии под командованием Куту-
зова на север для соединения с генералом Буксгевденом описа-
но почти всеми историками, которые так или иначе принима-
лись за изображение войны Наполеона с Россией. И Толстой
располагал достаточно обширным материалом для воспроизве-
дения фактической стороны этих событий. Но задача писателя
сводилась не только к исторически точному воспроизведению
военных операций в смысле их внешнего правдоподобия, а и к
глубокому раскрытию их внутреннего смысла. Маневр, пред-
принятый Кутузовым для спасения попавшей почти в безвыход-
ное положение русской армии, равно как и Шенграбенское^сра-
жение, .открывает собой героическую стра’ницу славных дел
русских воинов. Толстой это понял и показал все события в пла-
не, контрастном тому, что делалось в лагере союзников, в авст-
рийской армии.
В австрийском стане совершалось следующее. Главные силы
под командованием генерала Мака были сосредоточены в Уль-
ме. 24 сентября Наполеон выехал из Парижа и двинул огром-
ную армию, названную им «Великой», в Австрию. «Великая
армия» состояла из семи корпусов, во главе каждого из которых
Наполеон поставил своих выдающихся генералов. Совершенно
неожиданно для Мака корпуса Сульта и Ланна и конница Мю-
рата, форсировав Дунай, появились в тылах австрийской армии,
101
сосредоточенной в Ульме. Часть австрийских войск успела
ускользнуть на восток, а главные силы были отброшены Неем
в Ульмскую крепость. Мак оказался в ловушке. Положение
армии не было еще безнадежным, и достаточно проницатель-
ный и находчивый генерал смог бы уйти от явного разгрома.
Но Мак этими качествами не обладал и легко был обманут на-
полеоновскими шпионами, которые ловко мистифицировали ре-
волюцию в Париже, возможность близкого падения Наполеона.
И когда 15 октября маршалы Ней и Ланн захватили высоты
вокруг крепости Ульм, Мак принял позорные условия капиту-
ляции: австрийская армия со всеми военными запасами и ору-
жием сдалась на милость победителя.
Этот позорный провал главных сил австрийской армии, не-
сомненно, означал провал всей кампании, предпринятой про-
тив Наполеона коалицией европейских государств.
Наполеон, столь легко справившись с главными силами про-
тивника, не теряя времени, форсированным маршем повел
войска на Вену и захватил ее 13 ноября.
С момента падения Вены все надежды коалиции были воз-
ложены на русскую армию и русского императора, который в
свою очередь большие надежды возлагал на вовлечение в
коалицию Пруссии.
О разгроме австрийской армии Наполеоном Кутузов узнал
через свою разведку 1 ноября, и перед ним возникла трудно
разрешимая задача: как вывести 50-тысячную русскую армию
из ловушки, в которую она попала вследствие поражения Мака
и перехода французской армии через Таборский мост. Оставать-
ся на месте в Кремсе Кутузов не мог вследствие угрозы быть
окруженным и плененным значительно превосходящей русскую
армией Наполеона. Принять решение повести свои войска без
дороги через неизведанные Богемские горы означало, с одной
стороны, крайний риск и, с другой стороны, потерю всякой воз-
можности соединиться с Буксгевденом. И, наконец, оставалась
третья, не менее рискованная возможность: отступать по доро-
ге из Кремса на Ольмюц, имея в перспективе соединение с
войсками, идущими из России. Здесь подстерегала Кутузова
опасность преграждения пути отступления русской армии
армией французской, идущей из Вены на Цнайм, где пересека-
лись пути двух армий. Если принять во внимание то обстоя-
тельство, что расстояние от Вены до Цнайма было меньше и до-
рога была лучше, чем от Кремса до Цнайма, то станет очевид-
ной почти полная обреченность кутузовской армии.
Однако гениальный полководец блестяще вышел из создав-
шегося положения и спас честь русского оружия.
Кутузов выработал и осуществил следующий план спасения
50-тысячной русской армии. Не доходя до Цнайма, он выделил
6-тысячный авангард под командованием Багратиона и прика-
102
зал ему форсированным маршем пересечь горы для выхода на
венско-цнаймскую дорогу. Перед отрядом Багратиона была
поставлена боевая задача: преградить французской армии путь
к Цнайму и держаться до последнего солдата, пока русская ар-
мия не пройдет Цнайм. Отряд Багратиона за одну ночь при не-
погоде и бездорожье совершил марш в 45 верст и к утру на не-
сколько часов раньше французов вышел к местечку Голлабрун.
Чтобы пройти через Цнайм, русской армии требовалось не ме-
нее суток. Следовательно, перед отрядом Багратиона встала не-
выполнимая задача — удержать натиск огромной армии Напо-
леона по крайней мере в течение суток.
На выручку русским пришла военная хитрость. Командую-
щий авангардом французской армии маршал Мюрат принял
отряд Багратиона за всю русскую армию и, не надеясь на вер-
ный успех, решил выиграть время для соединения со всей фран-
цузской армией. С этой целью он вошел в переговоры с Багра-
тионом о перемирии на три дня. Багратион в свою очередь дол-
жен был снестись по этому вопросу с Кутузовым. Кутузов на-
правил в неприятельский лагерь состоявшего при нем генерал-
адъютанта Винцингероде с полномочиями на перемирие и для
предложения условий на капитуляцию. Дальновидный Кутузов
прекрасно понимал, что предложение Мюрата о перемирии —
его личное необдуманное измышление, и поэтому торопился
выиграть время, пока об оплошности Мюрата не стало известно
находившемуся недалеко от Голлабруна Наполеону. Предпо-
ложения Кутузова подтвердились. Наполеон, узнав о промахе
Мюрата, пришел в бешенство и приказал немедленно атаковать
русских. Началось сражение при Шенграбене.
Все изложенное нашло столь же четкое отражение в «Войне
и мире» Толстого, как в любом серьезном историческом иссле-
довании L
В тот момент, когда французам удалось столь безнаказанно
форсировать Таборский мост и занять угрожающее для рус-
ской армии положение, князь Андрей Болконский находился в
Брюнне с донесением австрийскому императору Францу от Ку-
тузова. Узнав о случившемся, князь Андрей немедленно решил
ехать в армию, где, как он считал, должен был находиться каж-
дый русский честный офицер. Между Болконским и русским
дипломатом Билибиным произошел следующий знаменательный
разговор:
1 См., напр.: «История СССР. Россия в XIX веке», изд. 3, т. 2, под ред.
М. В. Нечкиной. М., Госполитиздат, 1955, стр. 53—56; «Полководец Кутузов».
Сборник статей под ред. Л. Г. Бескровного. М., Госполитиздат, 1955, стр. 52—
85; М. Брагин. Полководец Кутузов М., Госполитиздат, 1942, стр. 16—34;
П. А. Жилин. Великий русский полководец Кутузов. М., «Знание», 1952,
стр. 12—15; Н. М. Коробков. Кутузов. М., Госполитиздат, 1945, стр. 11—16.
103
« — Куда вы? — сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею,
который встал и направился в свою комнату.
— Я еду.
— Куда?
— В армию.
— Да вы хотели остаться еще два дня?
— А теперь я еду сейчас.
И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в
свою комнату.
— Знаете что, мой милый, — сказал Билибин, входя к нему
в комнату. — Я подумал об вас. Зачем вы поедете?
И в доказательство неопровержимости этого довода складки
все сбежали с лица.
Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собесед-
ника и ничего не ответил.
— Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг —
скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это пони-
маю, mon cher, c’est de Theroisme (мой дорогой, это героизм).
— Нисколько, — сказал князь Андрей...» (Гл. XII; 9, 198—199.)
Перед нами один из центральных персонажей «Войны и ми-
ра»— князь Андрей Болконский. Здесь он показан в начале сво-
его военного поприща. В дальнейшем нам не раз придется оста-
навливаться на этом образе для раскрытия философской и исто-
рической концепции произведения Толстого.
В данном эпизоде Андрей Болконский предстает перед нами
как русский офицер суворовской школы. Это были те офицеры,
которые, следуя традициям своего гениального учителя, счита-
ли, что их место — на поле брани, а не в приемных высокопостав-
ленных вельмож, не в штабах, далеких от порохового дыма. Их
волновали судьбы отечества, их руководящим принципом в дей-
ствиях было оберегание чести русского офицерского мундира.
Порой, будучи выходцами из среды высшего аристократиче-
ского дворянства, они шли в гущу солдатских масс, осваивались
с тяжелыми условиями боевой жизни, не бледнели перед опас-
ностью и служили для солдат примером отважных воинов.
В образе Андрея Болконского Л. Н. Толстой показал пред-
ставителя лучшей части русского дворянства эпохи Отечествен-
ной войны 1812 г., человека, способного в тяжелое для отечест-
ва время стать его верным защитником, пожертвовать иму-
ществом, личным благополучием и даже жизнью. Андрей Бол-
конский принадлежит к той части передовой дворянской интел-
лигенции, из которой вышли декабристы.
Обладая исключительной наблюдательностью, Толстой фик-
сировал свое внимание на каждой характерной черточке нату-
ры с тем, чтобы использовать ее при лепке художественных об-
разов. Так он поступил, например, при создании образа Били-
10^
бина, придав ему характерную
особенность играть складками
кожи лица. Такую деталь при-
думать очень трудно. И Тол-
стой ее не выдумал, а восполь-
зовался семейными предания-
ми о своем крестном отце
С. И. Языкове, «замечательно
безобразном, пропахшем кури-
тельным табаком, с лишней ко-
жей на большом лице, кото-
рую он передергивал в самые
странные, беспрестанные гри-
масы» (34, 370).
К ГЛАВЕ IX
Ламбах местечко в Верхней Дмитрий Сергеевич Дохтуров.
Австрии. q портрета работы Джорджа Доу
Амштеттен — местечко в Нижней
Австрии, в долине реки Ипс. 5 ноября
1805 г. у Амштеттена произошло пер-
вое сражение авангарда французских войск Мюрата с 6-тысячным русским
отрядом Багратиона, задержавшее наступление французов и давшее возмож-
ность Кутузову перевести русскую армию у Кремса на левый берег Дуная.
Мельк— город в Нижней Австрии, на Дунае.
Креме — город в Австрии, в провинции Нижняя Австрия.
Мортьё Эдуард Адольф Казимир, герцог Тревизский (1768—1835) —
французский маршал. Участвовал в большей части кампаний эпохи револю-
ции и Наполеона. В 1812 г. командовал молодой гвардией.
Шмит— австрийский генерал, приближенный австрийского императора
Франца. Во время войны 1805 г. состоял при Кутузове. Убит в сражении у
Кремса.
Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал от инфантерии рус-
ской армии, герой Отечественной войны 1812 г. Отличился в сражениях под
Дирнштейном (1805), под Аустерлицем (1805), Прейсиш-Эйлау (1807) и др.
В 1812 г., командуя 4-м пехотным корпусом, Дохтуров удачно избежал окру-
жения в районе Лида и, совершая форсированный марш по 65 км в сутки,
соединился с 1-й русской армией. В последующем возглавлял оборону Смо-
ленска. В Бородинском сражении командовал центром русской армии, а после
ранения Багратиона — левым крылом 2-й русской армии. При отступлении
французов из Москвы корпус Дохтурова вместе с войсками Раевского в те-
чение 18 часов вел бой за Малоярославец, преградив Наполеону путь на Ка-
лугу и облегчив главным силам Кутузова задачу заставить Наполеона свер-
нуть на Смоленскую дорогу.
К ГЛАВЕ X
Разумовский Андрей Кириллович (1752—1836)—князь, дипломат, рус-
ский посланник в Вене в 1790—1799 и в 1801 —1807 гг. Живя в Вене, был бли-
зок с Моцартом, Гайдном и Бетховеном.
Талер (нем.) — немецкая серебряная монета, равная трем маркам (до
1907 г.).
105
Шенбрунн — императорский дворец в Вене. В 1805 и 1809 гг. в нем была
главная квартира Наполеона.
Врбна Рудольф (1761—1823) — граф, австрийский государственный дея-
тель. В 1805 г., при захвате Наполеоном Вены, был посредником в перегово-
рах австрийского правительства с французами.
Мюрат Иоахим (1771—1815) — маршал Франции, в 1810—1815 гг. неапо-
литанский король. В 1805 г. командовал французской конницей. В 1812 г. сто-
ял во главе всей кавалерии.
Ауэрсперг фон Маутерн (1740—1822) — австрийский фельдмаршал. В
1805 г. был обманут французским маршалом Мюратом, который взял нераз-
рушенным Таборский мост через Дунай. Это привело к занятию Наполеоном
Вены. Ауэрсперг получил отставку и был судим.
Богемия — королевство, входившее в состав Австрийской империи. Ос-
новное население — чехи; до присоединения к Австрии государство называ-
лось Чехией.
Дирнштёйн, или Дюренштёйн— город в Верхней Австрии на Дунае, вбли-
зи Кремса.
Кампо Фбрмио — деревня в Италии, в провинции Удино, где 17 октября
1797 г. Бонапарт заключил выгодный для себя мир с Австрией.
Мушкатёры, или мушкетёры—части войск, вооруженные мушкетами,
старинными тяжелыми ружьями, которые клались во время стрельбы на сош-
ки (подставки).
К ГЛАВЕ XI
Демосфён — знаменитый древнегреческий оратор.
Аудиёнция (лат.)—официальный прием у высокопоставленного лица.
К ГЛ ABE XII
Орден Марии Терёзии — орден имени австрийской императрицы Марии
Терезии (1717—1780); имел несколько степеней.
Камергёр (нем.) — придворное звание в царской России и в некоторых
других монархических государствах.
Ланн Жан, герцог де Монтебелло (1769—1809) — маршал Франции, один
из выдающихся полководцев наполеоновской армии.
Бельяр Огюстен (1769—1832)—французский генерал, один из сподвиж-
ников Наполеона I. В 1805—1808 гг. был начальником штаба войск Мюрата.
В 1808 г. назначен мадридским генерал-губернатором. Принимал участие в
походе 1812 г. в Россию.
Гасконцы — уроженцы Гасконии, провинции Южной Франции. Приписы-
ваемая им склонность к хвастовству сделала слово «гасконец» нарицательным.
Тулон — французская крепость и порт у Тулонского залива на Среди-
земном море. В 1793 г., во время Великой французской революции, Тулон,
куда собралось много роялистов (сторонников королевской власти), при под-
держке Англии и Испании восстал против Конвента. Восстание было усми-
рено республиканскими войсками под командованием капитана Бонапарта,
положившего этим начало своей известности и возвышению.
Ольмюц — город и крепость в Моравии на реке Мораве.
К ГЛАВЕ XIII
Лафёт (фр.) — станок, на котором помещаются ствол артиллерийского
орудия, противооткатные и прицельные приспособления.
Кабриолёт (фр.) — легкий французский экипаж с одним сиденьем, без
козел.
106
Цнайм, или Знайм— город в Моравии (Австрия), на реке Дые.
Вейрбтер (1754—1807)—австрийский генерал. Выполнял обязанности на-
чальника штаба австрийской армии в неудачных сражениях с Наполеоном I.
Ограниченный военачальник, упорный сторонник шаблонов и раболепный со-
ветник Александра I.
К ГЛ ABE XIV
Лазутчик,— разведчик, проникающий в тыл неприятеля.
Буксгёвден Федор Федорович (1750—1811) — граф, генерал русской армии.
В 1805 г. принимал участие в Аустерлицком сражении. В начале кампании
1806—1807 гг. командовал корпусом.
Шенграбен (или Голлабрун) — местечко в Австрии на дороге из Вены в
Цнайм, у которого 4(16) ноября 1805 г. произошло сражение между
русским отрядом Багратиона и французскими войсками под начальством
Мюрата.
Аванпост (фр.) — сторожевой отряд, выставленный впереди войск, когда
они находятся близко от неприятеля.
Парламентёрство — звание, должность, обязанности парламентера; пере-
говоры через посредство парламентера.
Авангард (фр.) — часть сил, выдвигаемая вперед при походном движе-
нии или при наступлении.
Лемарруа Жан Леонар Франсуа (1776—1836)—генерал-адъютант Напо-
леона.
К ГЛАВЕ XV
Грунт — деревня в Австрии, вблизи Шенграбена, по венско-цнаймской
дороге.
Маркитант (нем.) — мелочной торговец, сопровождавший в прежнее вре-
мя армию в походе (преимущественно торговец съестными припасами).
Манерка (польск.) — металлический походный сосуд для воды, прикреп-
ляющийся к ранцу; отвинчивающаяся крышка манерки используется вместо
стакана.
Гренадеры (фр.)—отборная часть пехоты; солдаты, вооруженные руч-
ными гранатами.
ГЛАВЫ XVI—XXI
Первое серьезное столкновение небольшого отряда русской
армии под командованием князя Багратиона с авангардом
французской армии, который вел маршал Мюрат, произошло у
деревни Шенграбен. Оно получило название Шенграбенского
сражения.
Это сражение имело решающее значение в деле спасе-
ния русской армии, попавшей в крайне тяжелое положение из-
за полного разгрома австрийской армии генерала Мака и бес-
препятственного перехода армии Наполеона через мост на ле-
вый берег Дуная. Толстой уделил этому сражению большое мес-
то в первом томе романа, рисуя героический подвиг русской
армии.
107
«Началось! Вот оно!» — думал князь Андрей, чувствуя, как
кровь чаще начинала приливать к его сердцу. «Но где же? Как
же выразится мой Тулон?» — думал он». (Гл. XVII; 9, 217.)
Это еще тот период в жизни князя Андрея, когда он прекло-
няется перед военным гением Наполеона, когда его обуревают
честолюбивые мечты о громкой личной славе. Болконский ищет
свой Тулон. Но эти мечты оказались не очень устойчивыми в
князе Андрее. Как элемент наносный, они легко рассеялись.
Что это было именно так, показывает близость душевных пере-
живаний Болконского и солдат. Начало военных действий выз-
вало примерно одни и те же эмоции у князя Андрея и сол-
датской массы: «Проезжая между тех же рот, которые ели ка-
шу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни
и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья
солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления, ко-
торое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весе-
ло!»— говорило лицо каждого солдата и офицера». (Гл. XVII;
9, 217.)
Небольшой отряд Багратиона должен был вступить в нерав-
ное единоборство с авангардом Мюрата. От командования рус-
ского отряда и от всех воинов требовались героическая стой-
кость и самопожертвование в борьбе против надвигавшейся ла-
вины французских войск, чтобы выполнить боевую задачу.
И русские устояли.
Толстой рисует ряд боевых эпизодов Шенграбенского сра-
жения, где раскрывается во всем величии и русский солдат, и
[русский офицер. Вот перед нами капитан Тимохин: он засел со
своей ротой в лесу, чтобы внезапно атаковать напиравших фран-
цузов. И в тог самый момент, когда полковому командиру уже
все казалось потерянным, неожиданно французы бросились
вспять. Это погнала их рота Тимохина: «Тимохин с таким от-
чаянным криком бросился на французов и с такою безумною и
пьяною решительностью, с одною шпажкой, набежал на неприя-
теля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и
побежали». (Гл. XX; 9, 231.)
Необыкновенную стойкость и самоотверженность в бою
проявила батарея другого скромного воина — капитана Тушина.
Оставленная без всякого прикрытия кучка отважных артилле-
ристов непрерывным огнем продолжала наносить чувствитель-
ные удары по вражеской цепи. Она подожгла занятое францу-
зами селение Шенграбен и этим весьма затруднила их действия.
Батарея оставалась на боевой позиции до тех пор, пока не
была снята по приказанию свыше.
Так действовали в Шенграбенском сражении простые рус-
ские люди, спасшие 50-тысячную армию от поражения и позора.
Толстой заканчивает свое повествование об этой героической
странице войны русских с французами фразой: «На другой день
108
французы не возобновляли на-
падения, и остаток Багратио-
нова отряда присоединился к
армии Кутузова». (Гл. XXI; 9,
242.)
Боевая задача Багратиона
была выполнена блестяще. Что
касается верности изображе-
ния Толстым Шенграбенского
сражения, сошлемся на выска-
зывание главнокомандующего
кавказских войск в войну
1854—1855 годов Н. Н. Мура-
вьева-Карского: «...Никогда не
читал более верного описания
сражения» Г
Столь же высокую оценку
получило изображение Тол-
стым Багратиона во время
Шенграбенского сражения. Из-
вестный военный писатель ге-
нерал М. И. Драгомиров пи-
сал: «Что же до Багратиона, то он изображен идеально хорошо,
в этом убеждает нас сличение художественного портрета графа
Толстого с тем, что говорит маршал Саксонский об обязанностях
главнокомандующего в день сражения...»1 2.
Однако оценка этих глав критикой не была единодушной.
Так, например, А. Норов в статье «Война и мир» с исторической
точки зрения и по воспоминаниям современника» приходит к
диаметрально противоположному выводу: «Узнаете ли вы в
этом рассказе славную личность Багратиона, как полководца?
Вы тут видите в нем ничем не развлекаемого храбреца, объез-
жающего ряды войск под градом пуль, кивающего головой и го-
ворящего «хорошо» на все делаемые ему донесения, хотя бы
это было и нехорошо»3,— восклицает Норов.
Если генерал Драгомиров, как глубоко компетентный кри-
тик, достаточно убедительно обосновывает выдвигаемые им по-
ложения, то Норов не дает себе труда хоть сколько-нибудь
аргументировать свои критические замечания.
Одним из героев Шенграбенского сражения оказался скром-
ный офицер Тушин.I Этот замечательный образ ведет свою ге-
1 Цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Л Н. Толстой в расцвете художественного
гения. 1862—1877. М., 1927, стр. 54.
2 М. И. Драгомиров, «Война и мир» гр. Толстого с военной точки
зрения. Киев, 1895, стр. 27.
3 «Военный сборник», 1868, № 11, стр. 198.
109
йеалогию от капитана Хлопова из «Набега» и капитана Тросен-
ко из «Рубки леса». | В образе Тушина, несомненно, обобщены
лучшие черты простого русского офицера, героя без позы, без
нарочитости и внешних эффектов. Этим образом, видимо, глу-
боко интересовался писатель, так как пронес его через ряд сво-
их произведений. Тем интереснее указать на конкретное лицо,
явившееся прототипом капитана Тушина. В газете «Русский
инвалид» 26 апреля 1902 г. появилась статья, в которой автор
писал: «...Был ли в действительности такой артиллерист, кото-
рый изображен графом Толстым в лице Тушина, и какая бата-
рея счастлива тем, что может считать в своих рядах такого бо-
гатыря? В ответ на это, на основании неоспоримых архивных
документов, можем сказать, что артиллерист такой действи-
тельно был. Это штабс-капитан Яков Иванов Судаков, состоя-
щий в списках 5-й батареи 10-й артиллерийской бригады, име-
новавшейся в 1805 г. «легкой ротой вакантной 4-го артиллерий-
ского полка».
К Г Л ABE XVII
Аудйтор (лат.) — должностное лицо в военных судах, исполнявшее про-
курорские обязанности.
Камлот (фр.) — плотная ткань из шерсти (часто с примесью шелка или
хлопчатобумажной пряжи).
Фурштатское седло — седло обозного.
Фейерверкер (нем.) — унтер-офицер артиллерии.
Банник — цилиндрическая щетка на длинной палке для чистки орудий-
ного ствола.
Брандскугель (нем.) — зажигательный артиллерийский снаряд.
К Г Л ABE XVIII
Каре (фр.)—линейный строй пехоты в форме четырехугольника; приме-
нялся главным образом для отражения кавалерийских атак.
Тьер «Луи Адольф (1797—1877)—французский политический деятель и
историк, автор труда по истории Наполеоновской империи, которым пользо-
вался Л. Н. Толстой при создании «Войны и мира».
Остров святой Елены — английский остров в Атлантическом океане, у бе-
регов Африки, на который был сослан во вторую ссылку после низложения в
1815 г. Наполеон; там он и умер.
К ГЛ ABE XX
Единорог (воен.) — старинное артиллерийское орудие.
К ГЛ ABE XXI
Гунтерсдбрф— деревня в Австрии, вблизи Шенграбена, место Сражения
русских войск с французскими.
ПО
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВЫ I—II
/Замужество дочери князя Василия Элен с бога-
тым наследникЬм безуховских имений Пьером занимает в романе
значительное место и раскрывает нравственное лицо высшего об-
щества, показывает сущность брака в этом обществе, где во имя
богатства, во имя сибаритской жизни идут на любое моральное
преступление.
Пьер Безухов и Элен по своему умственному и нравствен-
ному складу — антиподы. И если бы дело с наследством стари-
ка Безухова обернулось иначе, то ни князю Василию, ни опреде-
ленной части петербургской знати никогда бы не пришла в го-
лову мысль о возможности брака Элен с Пьером. Но Пьер вдруг
стал необыкновенно богат, т. е. превратился в одного из самых
«блестящих» женихов в России. Новое положение Пьера реши-
тельным образом изменило отношение к нему со стороны окру-
жающих: «Ему нужно было... принимать множество лиц, кото-
рые прежде не хотели и знать о его существовании, а теперь
были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их ви-
деть». (Гл. I; 9, 244.)
Все эти близкие и дальние родственники, знакомые и мни-
мые друзья рассыпали бесконечные комплименты счастливому
наследнику: «С вашею необыкновенною остротой...», или «При
вашем прекрасном сердце...», или «Вы сами так чисты, граф...» и
т. д. И, конечно, первую скрипку в этом хоре подобострастных
излияний играл опытный интриган князь Василий, потерпевший
решительное поражение в борьбе за безуховское наследство}
Причем Толстой замечает, что князь Василий в подобных пред-
приятиях вовсе не строил каких-то заранее продуманных пла-
нов. Нет, он был только «светский человек» и по выработанно-
му инстинкту при первой же встрече с нужными людьми нахо-
дил и подходящее слово, и нужный поступок, чтобы «благо-
пристойно» устроить свои дела. Так случилось и с Пьером.
Толстой пишет: «Пьер был у него под рукою в Москве, и князь
Василий устроил для него назначение в камер-юнкеры, что тог-
да равнялось чину статского советника, и настоял на том, что-
бы молодой человек с ним вместе ехал в Петербург и остано-
вился в его доме. Как будто рассеянно и вместе с тем с несом-
ненной уверенностью, что так должно быть, князь Василий делал
все, что было нужно для того, чтобы женить Пьера на своей до-
чери». (Гл. I; 9, 243.)
Замечание писателя, что действия князя Василия не были
следствием строго продуманных планов, имеет огромное значе-
ние для понимания патологии великосветского общества. Это
Ш
замечание показывает, что само общество вследствие его пороч-
ных нравственных устоев вырабатывало типы людей наподобие
князя Василия, Бориса Друбецкого, его матери Анны Михай-
ловны и др.
Отношения Пьера и Элен и до и после женитьбы покоились
па ложных предпосылках. Пьер не любил и не мог любить Элен,
между ними не было и тени духовного родства. Пьер — натура
благородная, положительная, с добрым, отзывчивым сердцем.
Элен, наоборот, холодна, жестока, эгоистична, расчетлива и лов-
ка в своих светских похождениях. Вся ее натура нашла точное
определение в реплике Наполеона: «C’est un superbe animal»
(«Это прекрасное животное»). Опа знала, что ослепительно
красива и что такой наружностью можно пользоваться как си-
лой хищного животного, пожирающего неосторожную жертву.
Не устоял против ее красоты и добродушный Пьер. «... Он видел
и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто толь-
ко одеждой... «Так вы до сих пор не замечали, как я прекрас-
на?— как будто сказала Элен. — Вы не замечали, что я женщи-
на? Да, я женщина, которая может принадлежать всякому и
вам тоже», — сказал ее взгляд. И в ту же минуту Пьер почув-
ствовал, что Элен не только могла, но должна была быть его
женою...» (Гл. I; 9, 249—250.)
Вот взгляд блестящей представительницы большого света
на один из основных вопросов человеческой жизни — вопрос о
супружеском счастье. Вот образец циничной профанации взаимо-
отношений молодых людей! Вместо искреннего чувства люб-
ви— вывеска: «Продается по сходной цене».
Верность нарисованной Толстым картины находит подтверж-
дение на страницах произведений его великих предшественни-
ков— Грибоедова, Пушкина, Лермонтова.
Сошлемся на ответ Фамусова Софье о возможном для нее
женихе: «Кто беден, тот тебе не пара» и, наоборот:
Будь плохонький, да если наберется
Душ тысячи две родовых,
Тот и жених.
С глубокой скорбью о своем замужестве говорит пушкин-
ская героиня — Татьяна Ларина:
Меня слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Те'же грустные мысли высказывает баронесса Штраль, ге-
роиня драмы «Маскарад» Лермонтова:
Что женщина? Ее от юности самой
В продажу выгодам, как жертву, убирают.
112
Как видим, аналогия полная, с той только разницей, что ге-
роини цитированных произведений выступают как жертвы гнус*
ной великосветской морали, а у Толстого принципы князя Ва*
силия целиком исповедует и его дочь Элен.
К ГЛАВЕ I
Камер-юнкер (нем.) — низшее придворное звание в царской России и
при бывших владетельных дворах Германии.
Статский совётник — в дореволюционной России, по табели о рангах, чин
5-го класса.
Государственный канцлер—высший гражданский чин в царской России.
Потсдам — город в Пруссии, в 30 км от Берлина; вторая резиденция
прусского королевства.
Вйнес — художник-миниатюрист. В 1812 г. жил в Петербурге и писал
портреты на табакерках.
К ГЛАВЕ II
Государственный совет — с 1810 г. высший законосовещательный орган
Российской империи. Состоял наполовину из лиц, назначенных царем, напо-
ловину из выборных. Членами Государственного совета были крупнейшие
представители аристократии, высшие чиновники и военные деятели. Упразд-
нен 6 октября 1917 г.
Вязмйтинов Сергей Кузьмич (1749—1819)—граф, административный дея-
тель эпохи Александра I.
Парйс—легендарный древнегреческий герой, троянский царевич, похи-
тивший прекрасную Елену, жену спартанского царя Менелая.
ГЛАВЫ III—VI
Толстой — тонкий психолог, обладающий редким даром про-
никать в самые сокровенные глубины человеческих пережива-
ний,— с поразительной силой сумел создать разные психологи-
ческие индивидуальности. Толстовская индивидуализация геро-
ев несет в то же время и широкую типизацию.
Толстой прекрасно уловил жизненную закономерность, рас-
крывающую разнообразный мир людских помыслов и стремле-
ний. Есть несомненная связь между моральным обликом чело-
века в быту, его отношением к семье, к друзьям, с тем, как он
проявляет себя на поле брани. Люди нечистоплотные в быту —
плохие граждане государства, ненадежные защитники родины.
Толстой создает два знаменательных эпизода: князь Андрей
и гп-11е Bourienne и Анатоль и т-11е Bourienne.
Компаньонка княжны Марьи m-lle Bourienne не без умысла в
течение дня трижды в уединенных местах старается попасть на
глаза князю Андрею. Но, увидев строгое лицо молодого князя,
не сказав ни слова, быстро удаляется. Та же m-lle Bourienne за
несколько часов «покоряет» Анатоля, оказавшись при первой
уединенной встрече в его объятиях. Этот неблаговидный посту-
113
пок жениха княжны Марьи вовсе не является случайным или
необдуманным шагом. Анатоль, увидев некрасивую, но богатую
невесту и миловидную молодую француженку, «решил, что и
здесь, в Лысых Горах, будет нескучно. «Очень недурна! — ду-
мал он, оглядывая ее, — очень недурна эта demoiselle de com-
pagnie (компаньонка). Надеюсь, что она возьмет ее с собою,
когда выйдет за меня,— подумал он,— la petite est gentille (ма-
лютка мила)». (Гл. IV; 9, 270—271.)
Поставим эти два сюжетных эпизода в композиционную
связь с двумя другими ситуациями, и мы получим точную харак-
теристику обоих героев. Первая — это диалог между отцом и
сыном Болконским-перед отъездом князя Андрея в действую-
щую армию. Выше мы его приводили. Вторая ситуация — ответ
Анатоля старику Болконскому о том, где он состоит на службе.
«...Время военное. Такому молодцу служить надо, служить
надо. Что ж, во фронте?
— Нет, князь. Полк наш выступил. А я числюсь. При чем я
числюсь, папа? — обратился Анатоль со смехом к отцу...» (Гл.
IV; 9, 273.)
Интересные суждения об Анатоле высказал С. Бочаров в
книге о романе-эпопее Толстого1.
К ГЛ ABE III
Камзол (фр.) — короткая мужская одежда без рукавов, заменявшая
жилет.
Масака — темно-красный с иссиня-малиновым оттенком цвет.
К ГЛАВЕ V
Пропозиция (лат.) — предложение.
К ГЛАВЕ VI
Бригадир (нем.) — старинный русский воинский чин, средний между пол-
ковником и генерал-майором; упразднен Павлом I.
Брульдн (фр.) — черновик.
Константин Павлович, великий князь (1779—1831) — брат Александра I.
С 1797 г. до конца жизни был генерал-инспектором всех кавалерийских
войск. В 1805 г., во время похода за границу, командовал гвардией. Участ-
вовал в Аустерлицком сражении.
ГЛАВЫ VII-IX
К ГЛАВЕ VII
Темляк (польск.)—тесьма с кистью на рукоятке сабли.
Галйция — провинция Австро-Венгерской империи.
Арнауты — название албанцев у турок. В России арнаутами назывались
выходцы из Албании.
1 См.: С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиз-
дат, 1963, стр. 94—99.
114
К ГЛ ABE VIII
Пальник (воен.) — палка со щипцами на конце для вставления фитиля в
пушку перед выстрелом.
Флюгера пик — маленькие флажки, прикрепленные на пику сверху. В на-
чале XIX в. пики с флюгерами были специальным оружием улан.
Энглизйрованная (англизйрованная) лошадь — лошадь со взрезанной
мышцей хвоста, для того чтобы она держала его приподнятым, и лошадь с
коротко остриженным хвостом по старой моде, принятой в Англии.
Замок эскадрона — конец эскадрона; замыкающий унтер-офицер в пехот-
ном и кавалерийском строю — замковый — следует за последней шеренгой
роты или эскадрона.
Аллюр (фр.)—виды движения лошади (шаг, рысь, галоп и др.).
Эссен Иван Иванович (1759—1813)—генерал русской армии. В 1805 г.
командовал корпусом, который должен был действовать вместе с австрий-
цами. В начале ноября корпус Эссена присоединился к союзной армии; во
время Аустерлицкого сражения находился в 60 верстах от Аустерлица.
К ГЛ ABE IX
Ленты — знаки отличия за военные или гражданские заслуги. Их обыч-
но носили перекинутыми через плечо. Каждому ордену соответствовала лен-
та определенного цвета.
Венский вальс—вальс, пользовавшийся особенной популярностью в XIX в.
Создан композитором Лайнером и развит Штраусом. Строится в форме цик-
ла («цепь вальсов»). Получил распространение в музыкальном театре (опе-
ре, балете, оперетте), приобрел самостоятельное значение в виде фортепьян-
ных, оркестровых и других пьес, части крупного произведения и т. д.
Субординация (лат.) — система строгого служебного подчинение младших
старшим.
Долгоруков Петр Петрович (1777—1806)—князь, генерал-адъютант, в
1805 г. приближенный и любимец Александра I.
Долгоруков Михаил Петрович (1770—1808)—князь, полковник. В на-
чале 1800 г. был в Париже при графе Спренктпортене, комиссаре по размену
военнопленными.
Марков Аркадий Иванович (1747—1827)—граф, русский дипломат. Был
посланником в Гааге, Стокгольме и в 1801 —1803 гг. в Париже.
Чарторйжский Адам Адамович (1770—1861)—князь, государственный
деятель. В начале царствования Александра I был одним из близких к нему
лиц. В 1801 г. — член негласного комитета, в 1804—1806 гг. — министр ино-
странных дел, с 1810 г. — попечитель Виленского учебного округа.
ГЛАВА X
«Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон
французов, было представлено как блестящая победа над фран-
цузами...» (Гл. X; 9, 309).
Речь идет о сражении при Вишау. В оценке его Толстой сле-
дует за Тьером, который писал об этом следующее: «Войска дви-
нулись пятью колоннами по дороге из Ольмюца, чтобы стать
ближе к французской армии. Придя к Вишау, на расстоянии од-
ного дня от Брюнна, они захватили кавалерийский авангард и
слабый отряд пехоты, помещенные здесь маршалом Сультом.
Достаточно было 3000 лошадей, чтобы окружить их, а затем пе-
115
Хотный батальон вступил в Вишау. Там было взято в плен около
сотни французов. Главную роль в этом подвиге играл генерал-
адъютант Долгоруков. Император Александр присутствовал при
этом, и его убедили, что эта перестрелка была настоящим сра-
жением...» 1
КГЛАВЕХ
Вишау — город в Моравии.
Альзасец (эльзасец) — житель Эльзаса, области, находящейся на севе-
ро-востоке Франции.
Капрал (ит.) — воинское звание младшего командного состава во фран-
цузской армии.
Султан — украшение из перьев или конских волос на головном уборе.
До 1881 г. — принадлежность парадной формы в русских войсках, позднее
остался лишь в гвардейских гусарских полках и у жандармов.
Бивак, или бивуак (фр.) — стоянка войск под открытым небом для от-
дыха или ночлега.
ГЛАВЫ XI—XIII
Приезд Александра I в Ольмюц свел к нулю роль главно-
командующего русской армии Кутузова. Лишенный в военном
отношении каких-либо способностей, обуреваемый жаждой лич-
ной славы, Александр I, не имея точных данных о силах и воз-
можностях французской армии, был легко одурачен Наполеоном,
который ловко разыграл роль слабого противника, якобы нахо-
дящегося в состоянии растерянности. Толстой вкладывает в уста
русского посланника в ставке Наполеона князя Долгорукова
следующее рассуждение: «...Он (Наполеон.— Б. К.) боится ге-
нерального сражения более всего на свете... Ежели бы он не боял-
ся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, ве-
сти переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так
противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне: он бо-
ится генерального сражения, его час настал». (Гл. XI; Р, 313.)
Наполеон решил заключить с русскими перемирие, так как
был озабочен настроением в Пруссии. С этой целью он послал в
русскую ставку генерала Савари.
Толстой пишет: «Цель присылки Савари состояла в предло-
жении свидания императора Александра с Наполеоном. В лич-
ном свидании, к радости и гордости всей армии, было отказано, и
вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был
отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, еже-
ли переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное
желание мира». (Гл. XI; 9, 311—312.)
1 Цит. по кн.: Л. Н. Толстой. Война и мир, тт. III—IV. Л., ГИХЛ,
1935, стр. 674.
116
В XII главе Толстой рисует знаменитый военный совет, на
котором австрийский генерал Вейротер пространно и нудно из-
лагал выработанную им в кабинете экспозицию сражения; пони-
мая ее полную нелепость, Кутузов не слушал Вейротера. В изо-
бражении этого печальной памяти военного совета Толстой
воспользовался книгой Тьера, в которой приводятся воспомина-
ния участника совета генерала Александра Ланжерона.
Толстой пишет: «Вейротер, бывший полным распорядителем
предполагаемого сражения, представлял своею оживленностью
и торопливостью резкую противоположность с недовольным и
сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и ру-
ководителя военного совета». (Гл. XII; 9, 315.)
Ланжерои вспоминал:
«В час ночи, когда мы все собрались, прибыл генерал Вейро-
гер, разложил на большом столе огромную и очень точную карту
окрестностей Брюнна и Аустерлица и стал читать нам свою дис-
позицию торжественным тоном и с самоуверенным видом челове-
ка, глубоко убежденного в своих заслугах и в нашей неспособ-
ности. Он был похож на учителя, читающего урок школьникам.
Быть может, мы действительно были школьниками, но он дале-
ко не был хорошим учителем. Кутузов, который, когда мы яви-
лись к нему, сидел и наполовину спал, под конец, еще до нашего
ухода, заснул совсем. Буксгевден слушал стоя и, наверно,
ничего не понимал; Милорадович молчал; Пржебышевский
держался сзади, один Дохтуров внимательно разглядывал
карту.
Когда Вейротер кончил ораторствовать, я единственный по-
просил слова. Я сказал ему: «Генерал, все это прекрасно; но
что мы сделаем, если неприятель предупредит нас и атакует у
Працена?»—«Этот случай не предусмотрен,— ответил он мне: —
вы знаете смелость Бонапарта. Ежели бы он мог атаковать нас,
то он нынче сделал бы это».— «Вы, стало быть, думаете, что он
бессилен?» — «Много, если у него 40 тысяч войска».— «В таком
случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки; но я
считаю его слишком способным, чтобы быть неразумным, потому
что если, как вы хотите и верите, мы отрежем его от Вены, у
него нет другого спасения, кроме Богемских гор; я думаю, что
у него другой проект. Он потушил огни, в его лагере слышен
сильный шум».— «Это значит, что он или удаляется, или пере-
меняет позицию; но даже ежели бы он и занял позицию в Тю-
расе, он только избавляет нас от больших хлопот, и диспозиции
остаются те же».
В это время Кутузов проснулся и отпустил нас, приказав ос-
тавить одного адъютанта, чтобы снять копию с диспозиций, ко-
торые полковник Тюль, из главного штаба, должен был переве-
сти с немецкого на русский. Было около трех часов, и мы полу-
117
чили копии этих знаменитых диспозиций только около восьми
часов, когда двинулись уже в поход» L
Толстой говорит о совершенно категорическом мнении Куту-
зова, что предстоящее сражение будет проиграно. «Кутузов стро-
го посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил:
— Я думаю, что сражение будет проиграно...» (Гл. XI; 9,315).
К ГЛ ABE XI
Вилье (Виллиё) Яков Васильевич (1765—1854) — барон, известный рус-
ский врач, шотландец по происхождению. С 1799 г. — лейб-хирург, затем
лейб-медик (лейб обозначает «состоящий при особе монарха»). Сопровождал
Александра I во всех походах, путешествиях и на конгрессах.
Саварй—Ровиго де Анри Жан Мари Рене Савари (1774—1833) —герцог,
французский генерал и политический деятель. С 1800 г. был адъютантом и до-
веренным лицом Бонапарта. В 1805—1807 гг. в звании дивизионного генерала
принимал участие в походах против европейских государств.
Обер-гофмаршал (нем., букв, «старший маршал двора») — придворное
звание; руководил совместно с подчиненными ему гофмаршалами снабжени-
ем царского двора, устройством праздников, приемов, путешествий лиц цар-
ского дома и т. д. (Обер — главный, старший, высший; слово обер пристав-
лялось к отдельным словам для обозначения старшинства: обер-кондуктор,
обер-офицер.)
Толстой Николай Александрович (1765—1816)—граф, действительный
камергер, обер-гофмаршал при Александре I.
Кунктатор (лат.)—медлительный, нерешительный человек. Такое проз-
вище получил древнеримский полководец Фабий, который уклонялся от ре-
шительного боя и предпочитал занимать выжидательную позицию.
Вймпфен Макс (1770—1851)—австрийский генерал. В 1805 г. был при-
командирован к штабу Кутузова.
Ланжердн Александр Федорович (1763—1831)—граф, генерал. Служил
во французских войсках, в начале Великой французской революции эмигри-
ровал в Россию, в 1790 г. поступил на русскую службу. Участвовал в войнах
с Турцией и Наполеоном. Знакомый Пушкина по Одессе, где Ланжерон слу-
жил по управлению Новороссией.
Лихтенштейн Иоганн Иосиф (1760—1836)—австрийский фельдмаршал.
Гбгенлоэ, очевидно, Нейштейн Ингельфинген Фридрих Людвиг (1746—
1818)—князь, прусский генерал, один из прусских начальников в сражении
при Аустерлице. В 1806 г. был разбит Наполеоном в битве под Иеной.
Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825)—генерал от инфантерии
(инфантерия — устаревшее название пехоты). В Бородинском сражении ко-
мандовал 2-м и 4-м корпусами. При отходе от Бородина командовал арьер-
гардом, обеспечившим фланговый марш русской армии на Калужскую
дорогу. При контрнаступлении русских войск в 1812 г. М. И. Кутузов пору-
чил Милорадовичу командование авангардом новой армии. Войско, руково-
димое Милорадовичем, нанесло поражение французским корпусам у Вязь-
мы и у Красного.
К ГЛ ABE XII
Диспозиция (лат.) — письменный приказ войскам для боя или для вы-
полнения походного движения (марша) в боевой обстановке.
Кобёльниц — деревня в окрестностях Аустерлица.
Сокбльниц — деревня к западу от Аустерлица.
Шлапанйц — деревня к северо-западу от Аустерлица.
1 Цит. по кн.: Л. Н. Толстой. Война и мир, тт. III—IV. Л., ГИХЛ, 1935,
стр. 675—676.
118
Тюрасский лес—лес, расположенный к западу от Аустерлица.
Белбвиц — деревня к северо-западу от Аустерлица.
Дефиле (фр.) — теснина, ущелье в труднопроходимой местности.
Пржебышёвский (Пржибышёвский) Игнатий Яковлевич (род. в 1775 г.) —
генерал русской армии. Командовал 3-й колонной русских войск в Аустерлиц-
ком сражении; сложил оружие, сдавшись в плен. По возвращении из плена
в Россию был разжалован на один месяц в солдаты, а после этого отстранен
от службы.
К ГЛАВЕ XIII
Гурьев Михаил Васильевич — надворный советник, старый москвич.
Гурьев дом — дом в Москве, по Тверской улице — № 37, по Малому Гнез-
дниковскому переулку — № 13. В 1793—1836 гг. принадлежал князю А. А. Про-
зоровскому, в 1836—1839 гг. — княгине Ю. Ф. Куракиной, с 1839 г.—
М. В. Гурьеву, с 1850 г. — его сыну. У Толстого ошибка: Николай Ростов в
1805 г. не мог проезжать мимо дома Г у р ь е в а.
Пикёт (фр.) — небольшой сторожевой отряд, застава или полевой караул
в армии.
Полка — в старинных кремневых ружьях выступ у замка для насыпки
пороха.
ГЛАВЫ XIV—XIX
Трагическим событием в войне России с Наполеоном в 1805 г.
явилось Аустерлицкое сражение. Битва эта, происшедшая 2 де-
кабря (н. ст.) 1805 г. на холмистом пространстве вокруг Пра-
ценских высот, вблизи деревни Аустерлиц (Австрия), закончи-
лась полным разгромом армии союзников (русских и австрий-
цев). Крупный советский историк, прекрасный знаток наполео-
новских войн, академик Е. Тарле пишет об исходе Аустрелицко-
го сражения следующее: «Около 15 тысяч убитых русских и ав-
стрийцев, около 20 тысяч пленных, вся почти артиллерия неприя-
теля, а самое главное—фактическое уничтожение русско-авст-
рийской армии, разбежавшейся на три четверти в разные сто-
роны, бросившей весь свой колоссальный обоз, все боевые запа-
сы, огромные массы провианта, — таковы были в общих чертах
результаты этой победы» Г
Аустерлицкому сражению романист уделил шесть глав тре-
тьей части первого тома романа и его изображением закончил
свое повествование о 1805 годе. Главные факты разыгравшихся
событий Толстым взяты из книги Михайловского-Данилевского
«Описание первой войны императора Александра с Наполеоном
в 1805 году»1 2.
1 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 160.
2 Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790—1848) — рус-
ский военный историк, генерал-лейтенант, участник Отечественной войны
1812 г. (занимал должность адъютанта М. И. Кутузова). Работы Михайлов-
ского-Данилевского богаты фактическим материалом. В последнее время бы-
ло высказано соображение о том, что некоторые черты облика А. И. Михай-
ловского-Данилевского Толстой придал Андрею Болконскому. (См.: «Л. Н. Тол-
стой». Сборник статей о творчестве. М., Изд-во МГУ, 1959, стр. 75—81).
П9
Одним из основных вопросов, которые возникли перед исто-
риками, писавшими об Аустерлицком сражении, и перед Толс-
тым, был вопрос о главных виновниках позорного поражения поч-
ти 100-тысячной армии союзников. Толстой решил этот вопрос с
удивительной прозорливостью, причем в диаметрально противо-
положном плане по отношению к той точке зрения, которая
возникла сначала для оправдания бездарных и бессмысленных
решений Александра I и его приближенных, игравших ведущую
роль в Аустерлицком сражении, а затем стала доминирующей
во всех официозных исторических трудах и многих мемуарах.
К тому, что написано Толстым об Аустерлицком сражении, исто-
рикам нашего времени, получившим полный доступ ко всем ар-
хивам, прибавить почти нечего.
Толстой, как автор художественного произведения, а не ис-
торического трактата, заглядывая в душу каждого героя своего
романа, рисует нам сложный процесс скрещивания самых разно-
образных переживаний, линий поведения больших и малых уча-
стников события. Романист дает внимательному читателю обиль-
ный материал для предварительного умозаключения о весьма
вероятных возможностях полного провала сражения, на которое
возлагало столь блестящие надежды незадачливое командо-
вание.
В романе-эпопее изображается потрясающая картина боя и
гибели десятка тысяч храбрейших русских солдат и офицеров,
гибели трагической и бессмысленной ввиду преступной беспеч-
ности двух императоров и их ставленников. Михайловский-Да-
нилевский писал: «Через шесть недель после Аустерлицкой бит-
вы император Франц говорил нашему послу, графу Разумовско-
му: «Конечно, Вас удивит, что до сегодняшнего дня я еще не
знаю плана Аустерлицкого сражения»1.
Толстой повествует: «Толпы солдат с плотины стали сбегать
на замерзший пруд. Под одним из передних солдат треснул
лед, и одна нога ушла в воду; он хотел оправиться и провалился
по пояс. Ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой оста-
новил свою лошадь, но сзади все еще слышались крики: «Пошел
на лед, что стал, пошел!» И крики ужаса послышались в толпе.
Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их,
чтоб они сворачивали и подвигались. Лошади тронулись с бе-
рега. Лед, державший пеших, рухнулся огромным куском, и
человек сорок, бывших на льду, бросились кто вперед, кто на-
зад, потопляя один другого.
Ядра все так же равномерно свистели, шлепались на лед,
в воду и чаще всего в толпу, покрывавшую плотину, пруды и
берег». (Гл. XVIII; 9, 352.)
’А. И. Михайловский-Данилевский. Описание первой войны
императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844, стр. 212.
120
Решение основных вопросов о подготовке, процессе и исходе
Аустерлицкого сражения Толстой дает в том же историческом
аспекте, что и советские историки. В «Истории СССР» читаем:
«Под влиянием австрийских «стратегов», которых Ф. Меринг
недаром называл «учеными талмудистами», и австрийского им-
ператора Франца Александр I принял решение дать Наполеону
генеральное сражение под Аустерлицем (в ноябре 1805 г.). Ку-
тузов от командования был фактически отстранен. Позиция при
Аустерлице не представляла существенных выгод для союзных
армий, а ошибки, допущенные австрийским командованием, при-
вели их к полному поражению. Уцелевшие войска бежали вместе
с двумя императорами. Поражение под Аустерлицем про-
изошло по вине Александра I в результате применения «прус-
саческих» методов ведения войны» Ч
Автор «Войны и мира», в противовес имеющимся у него под
руками источникам, разгадал истинное положение вещей и рас-
крыл главную причину Аустерлицкой катастрофы. Из приведен-
ного отрывка романа-эпопеи видно, что основным виновником
позорного провала кампании 1805 г. Толстой считал Алексан-
дра I, который, будучи бездарным в военном отношении, оказал-
ся ограниченным и легковерным в выборе советников в столь се-
рьезном и ответственном деле, как сражение с прославленным
гением. Если Наполеон с первой же минуты свидания расценил
посланника Александра I генерал-адъютанта князя Долгору-
кова как жалкого хвастунишку и «вертопраха» и легко одура-
чил его, то Александр I поставил Долгорукова и Вейротера (не
менее бездарного, чем Долгоруков) во главе войск вместо
Кутузова.
Выше мы приводили слова Толстого о «сраме». Если «срам» и
имел место, то он касался царя и его приближенных. В це-
лом русская армия в Аустерлицком сражении показала чу-
деса храбрости.
Князь Андрей Болконский, увидев упавшего подпрапорщи-
ка-знаменосца и расстроенный батальон, соскочил с лошади,
поднял знамя и устремился вперед. Здесь описан реальный факт,
имевший место с зятем Кутузова, офицером Фердинандом Ива-
новичем Тизенгаузеном, который бросился вперед со знаменем
в руках и был сражен наповал. Михайловский-Данилевский
говорит об этом так: «Любимый зять Кутузова, флигель-адъю-
тант граф Тизенгаузен, со знаменем в руках повел вперед
один расстроенный батальон и пал, пронзенный насквозь
пулею»1 2.
1 «История СССР». Учебник для пединститутов, под ред. П. И. Кабанова
и А. И. Козаченко, ч. 1. М., Учпедгиз, 1961, стр. 473.
2 А. И. Михайловский-Данилевский. Описание первой войны
императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844, стр. 184.
121
Николай Ростов, узнав о том, что его эскадрон оставлен в
резерве, просит князя Багратиона прикомандировать его к 1-му
эскадрону, чтобы быть в деле.
«—Des beaux hommes!» («Славный народ!») —сказал Напо-
леон, глядя на убитого русского гренадера...» (Гл. XIX; 9, 353.)
Даже неприятель должен был признать необыкновенную
стойкость и отвагу русских воинов в Аустерлицком сражении.
Толстой приводит диалог между Наполеоном и русскими офи-
церами, в котором французский император воздает должное
храбрости и доблести русских.
« — Вы командир кавалергардского полка императора Алек-
сандра? — спросил Наполеон.
— Я командовал эскадроном,— отвечал Репнин.
— Ваш полк честно исполнил свой долг,— сказал Наполеон.
— Похвала великого полководца есть лучшая награда сол-
дату,— сказал Репнин.
— С удовольствием отдаю ее вам,— сказал Наполеон.— Кто
этот молодой человек подле вас?
Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.
Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:
— Il est venu bien jeune se frotter a nous. (Молод же он су-
нулся биться с нами.)
— Молодость не мешает быть храбрым,— проговорил обры-
вающимся голосом Сухтелен.
— Прекрасный ответ,— сказал Наполеон.— Молодой чело-
век, вы далеко пойдете!» (Гл. XIX; 9, 355.)
Сцена эта не выдумана Толстым. Основа ее — эпизод из
книги Михайловского-Данилевского «Описание первой войны
императора Александра с Наполеоном в 1805 году» (стр. 207).
Автор пишет о героическом подвиге личного состава Пермского
полка, который дрался с врагом до последнего солдата; два сол-
дата этого полка сорвали знамя с древка и доставили его Ку-
тузову. Унтер-офицер Азовского полка Старичков, видя гибель
полка, тоже сорвал знамя с древка и затем, попав в плен, хра-
нил его под одеждой. Доживая последние минуты в Брюнне, он
передал это знамя своему товарищу, который, вернувшись в
Россию, доставил его командованию. Гренадер Нарвского муш-
кетерского полка Нестеров сумел вынести с поля боя знамя, был
взят в плен, затем бежал из вражеского стана и доставил сохра-
ненное им знамя Кутузову; полк был восстановлен как боевая
единица.
Приведенный материал дает основание сделать вывод,
что Аустерлицкое сражение было позорным провалом выс-
шего командования, но не исполнителей военно-стратегичес-
ких планов.
Как же смотрел на эти события сам Александр I? Он был
убежден, что с его стороны предпринято все, чтобы успех
122
кампании был обеспечен. Он сетовал на Мака, растерявшего
армию под Ульмом, на короля прусского, мешкавшего с объяв-
лением войны французам, на короля шведского, затруднявшего
движение войск на север, на англичан, которые не вовремя
включились в боевые действия, на Кутузова, который не проявил
твердости в своих убеждениях и не предостерег его, молодого
монарха, от рокового шага Ч
По мнению Александра I, все были виновниками аустерлиц-
кой катастрофы, кроме него самого. Конечно, нельзя не признать
некоторую правоту Александра I относительно союзников, кото-
рые действительно были плохими помощниками в сложной и
трудной борьбе с Наполеоном. Но кто виновен в том, что экспо-
зицию Аустерлицкого сражения написал Вейротер, а не Куту-
зов, что главным советником царя оказался ограниченный, тупой
генерал князь Долгоруков, а не Кутузов, не Багратион, не дру-
гие опытные, овеянные боевой славой полководцы русского ге-
нералитета? Основным виновником аустерлицкой катастрофы,
как это и показал Толстой в первом томе «Войны и мира», был
Александр I, и как ни старались оправдать его потом официоз-
ные историки и мемуаристы, ему не удалось уйти от суда ис-
тории.
К ГЛАВЕ XIV
Прац (Працен, или Пратц)— деревня близ Аустерлица, расположенная
в лощине у Праценских гор.
Працёнские высоты — возвышенность на запад от Аустерлица, получив-
шая название от деревни Прац.
К ГЛАВЕ XV
Волконский Петр Михайлович (1776—1852) — князь, генерал-фельдмар-
шал, министр двора и уделов. В войну 1805 г. был дежурным генералом
сначала в армии Буксгевдена, затем Кутузова. В 1812 г. состоял в свите
Александра I.
Строганов Павел Александрович (1774—1817)—граф, генерал-лейтенант
и сенатор, один из приближенных Александра I. В 1805 г. сопровождал Алек-
сандра в походе против Наполеона и исполнял текущие дела по дипломати-
ческим сношениям с венским, берлинским и лондонским дворами.
Берейтор (нем.) — объезжающий верховых лошадей и обучающий вер-
ховой езде.
К ГЛАВЕ XVI
Карабинер (фр.) — солдат, вооруженный карабином, принадлежащий к
особой воинской части.
1 См.: А. И. М и х а й л о в с к и й-Д анилевский. Описание первой вой-
ны императора Александра с Наполеоном в 1805 году. СПб., 1844, стр. 213.
123
К ГЛ ABE XVII
Уваров Федор Петрович (1773—1824)—граф, генерал русской армии.
В Аустерлицком сражении командовал кавалергардским полком. В 1812 г.
участвовал в Бородинском сражении. В 1813—1814 гг. состоял при Алек-
сандре I.
Уланы (тюрк.) — части легкой кавалерии, вооруженные копьем, саблей
и пистолетом. На пике имели пестрые значки (флюгера).
Колет (фр.) — род короткой верховой одежды в некоторых конных пол-
ках.
К ГЛАВЕ XVIII
Гостиердак — деревня к юго-западу от Аустерлица.
Толь Карл Федорович (1777—1842)—граф, пехотный генерал, участво-
вал в войнах 1805—1809 гг. В 1812 г. был генерал-квартирмейстером l-й ар-
мии, а затем главной армии.
Аугест—деревня к юго-западу от Аустерлица, у устья реки Литтавы,
при ее впадении в озеро Сачан.
К г Л А В Е XIX
(Фондирование, или зондйрование (фр.) — исследование медицинским ин-
струментом (зондом).
Репнин Николай Григорьевич (1778—1833) — князь, генерал-адъютант.
В кампании 1805 г. был командиром 4-го эскадрона кавалерийского полка,
произведшего при Аустерлице знаменитую атаку.
Сухтелён Павел Петрович (1778—1833) — граф, в 1805 г. был корнетом
кавалергардского полка. В Аустерлицком сражении ранен и взят в плен, из
которого возвратился в Россию в 1806 г. Впоследствии генерал-лейтенант,
генерал-адъютант.
Ларрёй Доминик Жан (1766—1842)—барон, врач Наполеона. С 1792 г.
участвовал во всех походах республики и империи в качестве главного вра-
чебного инспектора.
том ВТО РОЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВЫ I-III
С полным соблюдением исторической правды
вплоть до деталей описан Толстым Английский клуб — место
времяпрепровождения московской высшей знати.
Интересные фактические сведения об Английском клубе на-
ходим в книге Н. Родионова «Л. Н. Толстой о Москве»: «В те
времена Английский клуб находился в доме князя Гагарина на
Страстном (Нарышкинском) бульваре у Петровских ворот, где
теперь помещается Хирургическая клиника Московского универ-
ситета, а до этого — Ново-Екатерининская больница. Дом этот
был выстроен зодчим Казаковым в 1775 г. Позже Английский
клуб был перенесен на Тверскую (теперь ул. Горького, дом №21),
в дом, принадлежавший в начале XIX века графам Разумов-
ским. Ныне в этом доме помещается Музей Революции» Ч
Писатель нарисовал замечательную жанровую картину чест-
вования героя Шенграбенского сражения князя Петра Ивано-
вича Багратиона. При сопоставлении отдельных эпизодов этого
описания с воспоминаниями современников без труда убеждаем-
ся, как строг был Толстой в изображении даже мельчайших
подробностей реальных событий.
Толстой пишет о московском вельможном дворянстве, устро-
ившем торжественный обед в честь Багратиона: «Большинство
присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими,
самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движе-
ниями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по извест-
1 Н. Родионов. Л. Н. Толстой о Москве. М., «Московский рабочий»,
1958, стр. 66.
125
иым, привычным местам и сходились в известных, привычных
кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных
гостей — преимущественно молодежи...» (Гл. III; 10, 16.)
Изображением именитых гостей Английского клуба писатель
подчеркивает строгий отбор, который был установлен для посту-
пающих с самого основания клуба. Это находит подтверждение
в записках современников. С. П. Жихарев говорит о том, что
членами клуба были дворяне, принадлежащие к родовой или
чиновной знати Г
Устав московского Английского клуба строго ограничивал
число членов: в 1802 г. оно было определено в 400 человек, затем
эта цифра была доведена до 600 и оставалась без изменений до
1867 г.1 2
Весьма интересно замечание писателя о небольшой группе
лиц, вокруг которых группировались остальные посетители клу-
ба. Это были наиболее именитые представители московского
барства, которые выражали его общественное мнение. Толстой
пишет: «Старики из самых значительных составляли центр круж-
ков, к которым почтительно приближались даже незнакомые,
чтобы послушать известных людей». (Гл. III; 10, 16.)
В Английском клубе иногда допускались и некоторые оппо-
зиционные выпады фрондирующих дворян против правительст-
ва, хотя и носили они крайне умеренный характер. Видимо, пра-
вительство знало об этом и периодически засылало туда своих
осведомителей. С. П. Жихарев сообщает в рассказе о дне чест-
вования Багратиона 3 августа 1806 г.: «Многие утверждали, что
генерал Уваров прислан от государя с секретным поручением
узнать мнение московской публики насчет несчастного Аустер-
лицкого сражения и делаемых приготовлений к новой войне с
французами»3.
Интересные сведения об Английском клубе находим у мему-
ариста Ф. Ф. Вигеля и писателя М. Н. Загоскина. Они расска-
зывают о том, что в клубе была великолепная библиотека и
специальная газетная комната, где всегда можно было прочесть
свежие русские и иностранные газеты и журналы. В эту комнату
ненадолго забегали так называемые «вестовщики», чтобы пер-
выми поделиться сенсационными новостями «об испанских де-
лах, о перемене французских министров, о продаже имений с
публичного торга, об отъезжающих за границу и, в особенности,
о наградах и производстве в чины, потому что тут всегда пред-
ставляется обширное поле для всяких рассуждений, замечаний
и глубокомысленных заключений»4.
1 См.: С. П. Жихарев. Записки современника, ч. 1. СПб., 1859, стр. 279.
2 См.: «Устав московского Английского клуба». М., 1867.
3 С. П. Жихарев. Записки современника, ч. 1. СПб., 1859, стр. 332.
4 М. Н. Загоскин, Собр. соч., т. VII. М., 1901, стр. 290.
126
Ф. Ф. Вигель об этих «вестовщиках» пишет еще красноречивее:
«...Вестовщики... составляли интереснейшую часть клубного сос-
ловия». Они «ежедневно угощали самыми неправдоподобными
известиями, и им верили, их слушали, тогда как истина, все
дельное, рассудительное отвергалось с презрением» Ч
В третьей главе мы видим князя Петра Ивановича Багра-
тиона на парадном обеде, устроенном- московским вельможным
дворянством в честь этого героя Шенграбенского сражения.
Толстой раскрывает перед читателем новую черту в герое, до
этого ему неизвестную. Черта эта — необычайная скромность
замечательного полководца. Багратион даже несколько расте-
рялся, попав в обстановку подчеркнутого подобострастия и пре-
клонения перед ним. Толстой пишет: «Беклешов и Федор Петро-
вич Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях,
желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багра-
тион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью; про-
изошла остановка в дверях, и наконец Багратион все-таки про-
шел вперед. Он шел, не зная куда девать руки, застенчиво
и неловко, по паркету приемной: ему привычнее и легче было
ходить под пулями по вспаханному полю...» (Гл. III; 10,
17—18.)
Толстой показывает и внутреннее недовольство Багратиона
парадной шумихой, особенно в эпизоде преподнесения стихов на
серебряном блюде: «Чувствуя себя в их власти, Багратион реши-
тельно, обеими руками, взял блюдо и сердито, укоризненно по-
смотрел на графа, подносившего его». (Гл. III; 10, 18.)
В изображении торжественного обеда в честь Багратиона
Толстой твердо следует выработанному им принципу: в истори-
ческом произведении «быть до малейших подробностей вер-
ным действительности» (75, 353).
В «Войне и мире» читаем: «...Громогласный дворецкий про-
возгласил: «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из
столовой польский: «Гром победы раздавайся, веселися, храб-
рый росс...» (Гл. III; 10, 18—19.)
У С. П. Жихарева: «...Только отворили дверь в столовую,
оркестр заиграл тот же вечный польский, которым всегда на-
чинаются танцы в благородном собрании: «Гром победы разда-
вайся!» 1 2
Приглашение к столу у Толстого: «...Багратион впереди всех
пошел к столу. На первом месте, между двух Александров —
Беклешова и Нарышкина, что тоже имело значение по отноше-
нию к имени государя, посадили Багратиона: 300 человек раз-
1 Ф. Ф. В и г е л ь. Записки, ч. 7. М., 1893, стр. 235.
2 С. П. Жихарев. Записки современника, ч. 1. СПб., 1859, стр. 329.
127
местились в столовой по чинам и важности, кто поважнее, по-
ближе к чествуемому гостю». (Гл. III; 10, 19.)
У Жихарева: «Стол накрыт был кувертов на 300...»; «За
обедом князь сидел между двумя Александрами: А. А. Бекле-
шовым и А. Л. Нарышкиным, а против них двое старшин для
угощения» L
Сервировка стола у Толстого: «Труды его (графа Ростова.—
Б. К.) не пропали даром..Обеды его, постный и скоромный, были
великолепны... Все было прекрасно. На втором блюде, вместе с
исполинской стерлядью.., уже лакеи стали хлопать пробками и
наливать шампанское...» (Гл. III; 10, 19.)
У Жихарева: «...Все, что только можно было отыскать луч-
шего и редчайшего из мяс, рыб, зелени, вин и плодов,— все было
отыскано и куплено за дорогую цену...»1 2
К ГЛАВЕ I
Перекладные сани — сани, которые менялись на каждой почтовой станции.
Застава — место въезда в город и выезда из него. При въезде в Москву,
на больших дорогах, были сторожевые будки со шлагбаумом, в которых круг-
лые сутки дежурили военные, обязанные проверять документы и записывать
в книги всех приезжающих в город и уезжающих из него.
Венгерка — гусарская куртка с нашитыми поперечными шнурами по об-
разцу форменной одежды венгерских гусар.
Ларь — деревянный ящик особой формы для хранения вещей.
Выездной лакей — служащий, сопровождавший господ для выезда в гости
и общественные места.
Покромка — край, кромка (ткани).
Ломберный стол — четырехугольный стол, обтянутый сукном, для игры в
ломбер и другие карточные игры.
Дюпдр Луи (1782—1853) —французский артист балета. С 1803 г. жил в
Петербурге.
Антраша (фр.) — балетное па, прыжок в балетных танцах, при котором
танцующий быстро ударяет несколько раз одной ногой о другую.
К ГЛАВЕ II
Архаровы—богатая дворянская семья. Известен Иван Петрович Арха-
ров, московский хлебосол.
Камёнский Николай Михайлович (1778—1811) —граф, пехотный гене-
рал, младший сын фельдмаршала. В 1810 г. был главнокомандующим Мол-
давской армии, одержал победу при Батине.
Спаржа (лат.) — выросшие под землей съедобные побеги растения того
же названия.
Тортю (фр.) —изысканное блюдо, запекаемое и подающееся в черепахо-
вом панцире или такой же формы посуде.
Майонез (фр.) — здесь: холодное кушанье из птицы или рыбы, политое
соусом из прованского масла, яичного желтка и различных приправ.
Антрё (фр.) — общее название закусок, приготовляющихся в большинст-
ве случаев без соуса и подающихся в начале завтрака или обеда.
1 С. П Жихарев Записки современника, ч. 1. СПб., 1859, стр. 328, 330.
2 Там же, с гр. 328.
128
Ильюшка — Соколов Илья Осипович; около 40 лет управлял в Москве
хором цыган. Воспет Пушкиным и Денисом Давыдовым.
Растопчйн Федор Васильевич (1763—1828)—граф, русский государст-
венный деятель. Выдвинулся в царствование Павла I. В мае 1812 г. был наз-
начен военным губернатором и главнокомандующим в Москве. В условиях
начавшейся Отечественной войны 1812 года Растопчйн не принял необходи-
мых мер для создания так называемой Московской дружины и снабжения
русской армии боеприпасами и продовольствием. Он препятствовал созданию
народного ополчения. Будучи реакционером и крепостником, Растопчйн не
захотел раздать населению имевшееся в московском арсенале оружие, и оно
осталось французам.
Долгоруков Юрий Владимирович (1740—1830)—князь, генерал русской
армии. При Павле I был главнокомандующим в Москве. При Александре I,
в 1812 г., участвовал в формировании ополчения.
Валуев Петр Степанович (1743—1814) — археолог, старый москвич,
главноначальствующий Кремлевской экспедицией и заведующий Оружейной
палатой.
Вяземский Андрей Иванович (1750—-1807)—князь, действительный стат-
ский советник, постоянный посетитель Английского клуба, отец поэта
П. А. Вяземского.
Вольтер (псевдоним, подлинное имя — Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) —
писатель и философ, один из самых ярких представителей просветительной
философии во Франции в XVIII в.
К Г Л А В Е Ill
Ливрея (фр.) — форменная одежда особого покроя, обычно обшитая га-
лунами, для швейцаров; в буржуазных странах — также для лакеев.
Нарышкин Александр Львович (1760—1826)—придворный, бывший в
1799—1819 гг. директором императорских театров.
Конфиденциальный (лат.) — доверительный, не подлежащий огласке,
секретный.
Беклешдв Александр Андреевич (1745—1808) — административный дея-
тель, в 1804—1806 гг.— московский генерал-губернатор.
Тит (41—81) —римский император из династии Флавиев.
Алкид (или Геракл) — мифический греческий герой, отличавшийся нео-
быкновенной физической силон (латинское имя — Геркулес). В переносном
смысле — человек атлетического сложения.
Голенищев-Кутузов Павел Иванович — с 1767 по 1829 г. — сенатор, с
1810 г. — попечитель Московского университета; автор торжественных од.
Апраксин Степан Степанович (1757—1827) — граф, генерал от кавалерии,
бывший в 1804—1812 гг. смоленским генерал-губернатором.
ГЛАВЫ IV-VI
К ГЛ A BE IV
Кантата (ит.) — музыкальное произведение для пения с инструменталь-
ным или оркестровым сопровождением, состоящее из сольных, ансамблевых
и хоровых частей.
К ГЛАВЕ VI
Принципал (лат.) — глава, хозяин.
Людовик XVI (1'754—1793) — с 1774 г. король Франции; во время Вели-
кой французской революции казнен по приговору Конвента.
5 Б. И. Канд пев
129
Робеспьер Максимилиан Мари Исидор (1758—1794)—выдающийся дея-
тель французской буржуазной революции конца XVIII в., один из вождей
якобинцев, руководитель якобинского революционного правительства.
Мольер (псевдоним, подлинное имя — Жан Батист Поклен; 1622—1673) —
великий французский драматург, создатель национального комедийного теат-
ра, автор пьес «Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан», «Мизантроп» и др.
ГЛАВЫ VI-—IX
В письме Татьяны Берс, свояченицы Толстого, упоминается
маленькая княгиня, которую «хвалили дамы», но не могли опре-
делить, кого воспроизвел в этом образе писатель.
В маленькой княгине Лизе Болконской можно найти черты
живого лица, Луизы Ивановны Волконской, урожденной Труз-
сон (1825—1890). В 1842 г. она вышла замуж за троюродного
брата Толстого, князя Александра Алексеевича Волконского.
В яснополянском доме находится портрет Луизы Ивановны, на
обороте которого рукою Софьи Андреевны написано, что Луиза
Ивановна — прототип Лизы Болконской из «Войны и мира».
Сцена смерти маленькой княгини также связана с подлинным
трагическим событием, происшедшим в семье Толстого. Так
умерла мать Льва Николаевича при появлении на свет его
младшей сестры, Марии.
«...Официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван».
(Гл. VIII; 10, 36).
По традиции, строго соблюдаемой в семье Толстых, рожени-
цу перед родами перекладывали на темно-зеленый кожаный ди-
ван. На этом диване родился сам Лев Николаевич Толстой и все
его дети. Диван всегда стоял в яснополянском кабинете писате-
ля, где он находится и в настоящее время.
К ГЛ ABE VII
Ретирада (фр.) — отступление.
Пяльцы—прибор для рукоделья, в форме рамы на подставке, куда встав-
ляется туго натянутая ткань для вышивки.
К ГЛ ABE VIИ
Фрйштик (нем.) — ранний завтрак.
Молитвенник (церк.) — книга — сборник молитв.
Киот (церк.) — створчатая рама или род остекленного шкафа для икон;
божница.
Подстава (устар.) —сменные лошади, выставленные на пути движения
экипажа.
К ГЛАВЕ IX
Купель (церк.) — большой сосуд, чан, в котором совершается культовый
обряд крещения (погружения в воду).
130
ГЛАВЫ X-XVI
«У Иогеля были самые веселые балы в Москве». (Гл. XII;
10, 47.)
Иогель, как мы уже говорили, был самым популярным в Мос-
кве преподавателем танцев.
«Дети мои учились танцевать у Иогеля. Он считался в свое
время лучшим танцмейстером... Он бывал у Архаровых, у Не-
клюдовой, у Львовой, у Рожновой, у Шаховских, словом — везде,
куда я детей возила» 1,— передает рассказ своей бабки Д. Бла-
гово. Иогель был в то время настолько популярной личностью,
что о нем неоднократно писалось в журналах1 2.
Иогель был приглашен из Франции Г. И. Бибиковым (бра-
том известного полководца времен Екатерины II)—специаль-
но для того, чтобы в подмосковном имении Бибикова устроить
балет3. Обучением танцам он продолжал заниматься и в 80 лет.
У него в детстве учился танцевать Л. Н. Толстой.
Николай Ростов проиграл Долохову 43 тысячи рублей и был
потрясен этим. Таково одно из первых его столкновений с же-
стокой действительностью.
В этом эпизоде Толстой отражает типичное для дворянского
быта явление. Ряд документов XIX в. свидетельствует о том,
что картежная игра имела характер неудержимой и почти все-
общей страсти среди дворян. В карты нередко проигрывались
целые состояния, причем страстью к игре людей не слишком ис-
кушенных пользовались шулеры, разорявшие неумелых игроков
(несомненно, что и Долохов обыгрывает Ростова не чистым
путем).
Декабрист И. Д. Якушкин пишет: «...Офицеры, сходившись
между собой... играли в карЛ. без зазрения совести надувая
друг друга»4.
М. А. Волкова пишет В. И. Ланской: «Кн. Андрей — дрянь:
если б он проиграл все свое состояние, я пожалела бы о его
жене и дочери, но не о нем. Это человек ни на что не годный,
между тем многих он губит, и никто его терпеть не может.
Кн. Петр ненавидит его и встречается с ним только за карточ-
ным столом, потому что жить не может без игры. Наверное, он
будет жертвой своей страсти. Где же ему, юноше 21 года, усто-
ять против двух опытных игроков, каковы его партнеры»5.
1 Д. Вл а го в о. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 207.
2 См.: «Дамский журнал», 1827, № 10, стр. 208; «Дамский журнал», 1828, .
№ 10, стр. 170.
3 См.: Е. Менгден. Из дневника внучки. «Русская старина», январь
1913 г., стр. 124.
4 И. Д. Якушкин. Записки, изд. 2. Д1., 1905, стр. 4.
5 «Вестник Европы», 1874, № 10, стр. 568.
5*
131
В первой трети XIX в. появился ряд книг об игроках, что
несомненно свидетельствует о популярности в то время карточ-
ной игры. Назовем такие произведения, как «Жизнь игрока, опи-
санная им самим, или Открытие хитрости карточной игры»; «Ле-
онид, или Некоторые черты из жизни Наполеона» Р. Зотова;
«Семейство Холмских» Д. Н. Бегичева (И. Ф. Масанов считает,
что автором последнего произведения является Пав. Дм. Голем-
бовский) L
Тема карточной игры проникла и в творчество великих пи-
сателей эпохи (А. С. Пушкин, «Пиковая дама»; М. Ю. Лермон-
тов, «Маскарад», «Повесть о Лугине», «Казначейша»; Н. В. Го-
голь, «Игроки»).
В то время уличенные в шулерстве за карточной игрой попа-
дали даже в Петропавловскую крепость, и со стороны Третьего
отделения за такими игроками было установлено наблюдение1 2.
В доме Ростовых две очень молодые невесты. Долохов делает
предложение шестнадцатилетней Соне, а Денисов — Наташе, ко-
торой не было еще шестнадцати лет.
Записки современников подтверждают историческую верность
этого явления. В то время девицы выходили замуж едва ли не
подростками. Так, например, Д. Благово пишет: «Жениху был
двадцать пятый год, невесте пятнадцатый; по тогдашнему это
было так принято, что девушек отдавали рано замуж; сказыва-
ли мне, что матушкина мать, княжна Мещерская, была двенад-
цати лет, когда выходила замуж»3.
К ГЛАВЕ X
Анафема (греч.) — отлучение от церкви; иногда употребляется как бран-
ное. **
К ГЛ ABE XI
Крещение (церк.) — один из главных праздников у православных хри-
стиан.
К ГЛ ABE XII
Па (фр.) — ритмическое движение, шаг в танце.
Горчаковы — русский княжеский род.
Экосез (фр.) — старинный шотландский танец, род кадрили.
К ГЛАВЕ XIV
Амштёттенский мост — мост через реку Ипс в Австрии у местечка Амш-
теттен.
1 См.: И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов, т. 1. М., 1956, стр. 149.
2 См.: И. М. Т р о ц к и й. Третье отделение при Николае I. М., 1930.
3 Д. Благово. Рассказы бабушки.,. СПб., 1885, стр. 52—53.
132
К ГЛАВЕ XV
Пасьянс (фр.) — особая раскладка игральных карт по определенным пра-
вилам для развлечения или гадания.
Прелюдия (лат.) — вступление, введение.
Баркарола (ит.) — песня венецианских лодочников; в колеблющемся рит-
ме баркаролы находят отражение всплески волн и равномерные движения
весел; форма баркаролы использована также в инструментальной музыке.
К ГЛАВЕ XVI
Апоплексия (апоплексический удар) — паралич тела или отдельных его
частей вследствие кровоизлияния в мозг.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВЫ I-V
Основное в этих главах — знакомство Пьера с
учением масонов и вступление в Петербургскую ложу.
Масонство, франкмасонство (от фр. frans-macon — вольный
каменщик) — религиозно-этическое течение, которое возникло в
начале XVIII в. в Англии, а затем распространилось и в других
странах.
Организационные формы масоны заимствовали из обихода
средневековых цеховых объединений каменщиков, которые кол-
лективно хранили свои инструменты в специальных помеще-
ниях, так называемых ложах; они же служили каменщикам ме-
стом сбора. Масоны стали называть ложами свои организацион-
ные единицы и места собраний.
Масоны ставили своей целью путем самопознания и само-
усовершенствования людей искоренить пороки человеческого об-
щества, призывали к объединению, проповедовали принципы
братской любви, равенства и взаимопомощи. Провозглашение
этих идеалов в условиях эксплуататорского общества было уто-
пией и отвлекало от реальной общественной борьбы. Сущность
масонства была безусловно реакционной, так как оно в конечном
счете сводилось к проповеди более утонченных форм религиоз-
ных суеверий и мистики.
В России масонство появилось в 30-х годах XVIII в. В состав
масонских обществ вошли крупные царские чиновники. Масоны
повели ожесточенную борьбу против распространения материа-
лизма и атеизма в науке и культуре.
Однако царское правительство стало преследовать масонские
организации из-за боязни существования каких бы то ни было
организаций.
133
Масонская ложа. С франц, гравюры конца XVIII в.
В начале XIX в. масонские ложи приобрели довольно широ-
кое распространение в дворянской среде. Произошла неко-
торая демократизация масонских лож. В период появления
в России подпольных политических организаций масонские
ложи использовались будущими декабристами в целях конспи-
рации.
Членом масонской ложи «Овидий» состоял в период своей
южной ссылки А. С. Пушкин. В 1821 г. в послании генералу
131
П. С. Пущину, основателю этой масонской ложи, поэт воск-
лицал:
И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа,
Ты молоток возьмешь во длань
II воззовешь: Свобода!
Хвалю тебя, о верный брат!
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй, им просвещенный! 1
Новые настроения в масонских ложах, демократизация их
насторожили правительство, и в 1822 г. масонские ложи были
закрыты.
В деятельности масонов александровской эпохи были неко-
торые моменты, импонировавшие Толстому, и о них писатель
говорит весьма тепло и сочувственно. Это прежде всего вопро-
сы нравственного самоусовершенствования. Носителем этих
идей является Осип Алексеевич БазДеев, который произвел на
Пьера сильное впечатление своей страстной проповедью. «Выс-
шая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую
мы хотим воспринять в себя,— сказал он.— Могу ли я в нечи-
стый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте се?
Только внутренним очищением самого себя я могу до известной
чистоты довести воспринимаемую влагу».
«— Да, да, это так! — радостно сказал Пьер». (Гл. II;
/Д 70.)
Но многое в деятельности масонских лож было глубоко ан-
типатично Толстому, в том числе, как явствует из указанных
глав, обрядовая сторона. Писатель дал довольно пространную
картину сложной и нелепой церемонии посвящения Пьера в ма-
соны.
Об отрицательном отношении Толстого к масонам мы узнаем
из его письма к жене: «...Пошел в Румянцевский музей и сидел
там до трех, читал масонские рукописи... И не могу тебе опи-
сать, почему чтение нагнало на меня тоску, от которой не мог
избавиться весь день. Грустно то, что все эти масоны были
дураки» (S3, 129).
Толстой, как большой художник-реалист, прекрасно пони-
мал, что мысли Баздеева, до фанатизма преданного идее нрав-
ственного самоусовершенствования, далеко не все члены масон-
ских лож способны были понять и еще менее способны осуще-
ствить в своем личном поведении.
1 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч, в 10 тт., т. II. М., Изд-во АН СССР,
1956, стр. 57.
135
Посвящение в масоны. С франц, гравюры конца XVIII в.
А. И. Кирпичников прав, говоря о масонах, что они «скром*
но философствовали, умеренно либеральничали и сентименталь-
ничали и мало делали...» 1
В дальнейшем Пьер увидел, что под благообразной личиной
святош кроется вовсе не то, что пытались демонстрировать
братья по каменщичеству. Толстой пишет: «Из-под масонских
фартуков и знаков он видел на них мундиры и кресты, которых
они добивались в жизни». (Ч. 3, гл. VII; 10, 171.) Пьер видел, что
многие представители высшего общества, располагавшие не
меньшим богатством, чем он, и принесшие масонскую клятву
отдать все свое имущество для ближнего, уклонялись от внесе-
ния даже грошовой милостыни, и в его душу стало закрады-
ваться сомнение. Дальше мы узнаем, что Пьер вернулся к
прежней жизни: стал пить, посещать балы, званые вечера и хо-
лостяцкие пирушки.
Образ «благодетеля» Пьера, убедившего его стать на путь
правоверного масонства, Иосифа Алексеевича Баздеева на-
писан, видимо, с реального лица — Иосифа Алексеевича
Поздеева. Д. Благово в мемуарах приводит следующие воспо-
минания своей бабки: «...Верстах в восьми или десяти от нас жил
старичок Поздеев. В прежнее время он служил в Малолетнем
Шляхетском корпусе в Петербурге; ...он был масон, попавший-
1 А. И. К и р п il ч и и к о 6. Очерки по истории новой русской литерату-
ры, т. 1. М., 1903, стр. 427.
136
ся в историю, которая была в конце 1780-х годов. Был он человек
очень умный, ученый, но большой нелюдим и с большими стран-
ностями. Как звали его — не припомню, он был женат и имел
детей. Муж мой у него бывал, и Поздеев всегда был ему очень
рад... после него, говорят, осталось в его деревне множество ма-
сонских картин, книг разных и всяких вещей, которые масоны
употребляли на своих собраниях» Ч
Поздеев пользовался популярностью у московских масонов.
Это обстоятельство, очевидно, и заставило Толстого оставить
без изменения имя и отчество персонажа и внести незначитель-
ное изменение в его фамилию.
К ГЛАВЕ I
Торжок — уездный город Тверской губернии на реке Тверце.
Курьерские лошади, курьерская езда — езда на перекладных почтовых
лошадях без задержек, на правах курьера.
Смотрйтель— должностное лицо, которому поручено заведование чем-ни-
будь, надзор, присмотр за чем-нибудь; здесь: станционный смотритель.
Сюза — французская писательница, автор романа в письмах «Амалия
Мансфельд».
Адам— по библии — первый человек на земле, прародитель человеческо-
го рода.
Адамова голова—изображение человеческого черепа с двумя накрест
лежащими под ним костями; здесь: масонский знак.
К ГЛ АВЕ 11
Сдаточные лошади — переменные лошади, передаваемые от ямщика к
ямщику.
Мартинизм — мистическое учение, распространенное среди масонов в
XVIII в. (по имени основателя его — Мартинеса Паскалиса).
Мартинист — последователь мартинизма.
Новиков Николай Иванович (1744—1818)—выдающийся русский просве-
титель, писатель-сатирик, журналист, книгоиздатель. В годы жестокой реак-
ции после разгрома восстания Пугачева поддался распространенному тогда
увлечению масонским учением о «братстве всех людей» и вступил в масон-
ский орден.
К ГЛ АВЕ 111
Фома Кемпййский (1379—1471) — католический священник, писатель, член
«Союза благочестивых братьев».
Рйтор (греч.)—в древней Греции — учитель красноречия; у масонов —
человек, на обязанности которого лежит подготовка желающих вступить в
члены масонской ложи.
Храм Соломона — храм, построенный израильским царем Соломоном в
989—982 гг. до н. э. на горе Мориа. Имел у масонов символическое значение.
К ГЛАВЕ IV
Аллегория (греч.) — иносказание; выражение отвлеченного понятия при
помощи конкретного образа.
1 Д. Б лагов о. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 82—83.
137
ГЛАВЫ VI-VII
«В конце 1806 гола, когда получены были уже все печальные
подробности об уничтожении Наполеоном прусской армии под
Испои и Ауэрштедтом...» (Гл. VI; 10, 86.)
В этот период сложилась следующая историческая обстанов-
ка. Одержав победу над союзниками в 1805 г., Наполеон превра-
тил Пруссию в вассальное государство. Одновременно он давал
делегациям поляков обещания восстановить самостоятельную
Польшу в ее старых границах. Это означало намерение Напо-
леона захватить белорусские, литовские и украинские земли,
которые после разделов Польши вошли в состав Российской
империи. Создавалось угрожающее для России положение.
Нужно было принимать контрмеры. В «Истории СССР» чи-
таем:
«Россия, Англия и Пруссия составили против Наполеона но-
вую коалицию.
Но русские войска еще не успели дойти до прусской террито-
рии, как две победы Наполеона, одержанные в один день, 14 ок-
тября 1806 г., при Иене и Ауэрштедте, решили участь Пруссии.
Прусская армия была разбита наголову»1.
Прусский король Фридрих Вильгельм III писал Александру!:
«Из всей моей многочисленной и храброй армии остаются теперь
только слабые обломки... В глубокой горести, с коею пишу пись-
мо сие, утешаюсь одним убеждением, что во всяком случае могу
положиться на помощь вашего величества»1 2.
Прусский король не преувеличивал сложившееся положение.
Академик Е. В. Тарле говорит об этом следующее: «Совсем не-
слыханная и никогда ранее не испытанная паника овладела бег-
лецами, когда они, поделившись вестями, узнали теперь, что все
погибло и что никакой армии больше нет»3 (курсив наш.—
Б, /(.).
«27 октября 1806 г., через 19 дней после начала войны и че-
рез 13 дней после битвы при Иене и Ауэрштедте, Наполеон в
сопровождении четырех маршалов... торжественно въехал в
Берлин»4.
Пруссия была покорена молниеносно. 21 ноября 1806 г. На-
полеон подписал свой знаменитый Берлинский декрет о конти-
нентальной блокаде, запрещающей союзным и подвластным На-
полеону государствам торговать с Англией.
1 «История СССР. Россия в XIX веке», изд. 3, т. 2, под ред. М. В. Неч-
киной. М., Госполитиздат, 1955, стр. 56.
2 Цит. по кн.: Л. Н. Толстой. Война и мир, т. III—IV. Л., ГИХЛ, 1935,
стр. 680.
3 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 171.
4 Т а м же, стр. 172.
138
Одновременно французский император стал энергично го-
товиться к вторжению в Польшу и к новому выступлению против
русских, которые уже двигались к границам Восточной Пруссии.
«Вена находит основания предлагаемого договора до того
невозможными, что достигнуть их нельзя даже рядом самых бле-
стящих успехов: и опа сомневается в средствах, которые могут
их нам доставить. Это подлинная фраза венского кабинета,—
сказал датский поверенный в делах». (Гл. VI; 10, 88.)
Эти слова взяты Толстым из донесения графа Разумовского
от 24 мая 1807 г. по вопросу о договоре, заключенном Александ-
ром I с прусским королем 14 апреля 1807 г. Договор был направ-
лен против Наполеона 1.
К ГЛ АВЕ V/
Марат Жан Поль (1743—1793) — выдающийся деятель французской
буржуазной революции конца XVIII в., ученый и публицист.
Легитимисты (лат.)—реакционеры, монархисты, сторонники так называ-
емой законной династии монархов, свергнутой революцией; партия легити-
мистов возникла во Франции после июльской революции 1830 г.
Иена — город в немецком эрцгерцогстве Саксен-Веймарском.
Ауэрштедт — деревня в прусской провинции Мерзебург на речке Эмзе, у
которой 14 октября 1806 г. произошло сражение между прусскими и фран-
цузскими войсками.
«Ты этого хотел, Жорж Дандэн»— реплика из комедии Мольера «Жорж
Дандэн, или Одураченный муж».
Глогау — город и крепость в Пруссии, на реке Одере, сдавшийся Напо-
леону 2 ноября 1806 г.
К ГЛ ABE VII
Фридрих Вильгельм III (1770—1840) —с 1797 г. прусский король.
Шварценберг Карл Филипп (1771—1820) — князь, австрийский фельд-
маршал.
ГЛАВЫ VIII-IX
Битва при Прейсиш-Эйлау произошла 8 февраля 1807 г. Это
была одна из самых кровопролитных битв того времени. Но кон-
чилась она ничем. Обе стороны праздновали победу. Наполеон
прекрасно понимал, что русские не потеряли своей боеспособ-
ности и продолжали представлять серьезную военную силу. Гер-
цог Виченский Коленкур писал: «В течение четырех месяцев мы
не могли добиться никакого результата с русскими, и господь
знает, когда мы их настигнем!»1 2
1 См.: А. И. М и х а й л о в с к и й-Д а н и л с в с к и й. Описание второй вой-
ны императора Александра с Наполеоном. СПб., 1846, стр. 261—262.
2 См.: Е. Тар ле, 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 182.
139
Письмо Билибина написано по материалам Михайловского-
Данилевского. Оно характеризует период между началом второй
войны (ноябрь 1806 г.) и Прейсиш-Эйлауским сражением.
К гл ABE VIII
Ратник — воин, военный человек (стар, и ритор.); солдат, рядовой госу-
дарственного ополчения (дореволюц.).
Бённигсенх Леонтий Леонтьевич (1745—1826)—граф, генерал от кава-
лерии. В кампанию 1806 г. победил французов под Пултуском. В 1807 г.—
главнокомандующий русской армии. В Отечественной войне 1812 г. при со-
действии английского комиссара при русской армии и английского посла он
получил пост начальника Главного штаба и сильно вредил М. И. Кутузову,
вмешиваясь в его боевые распоряжения. Беннигсен писал Александру I кле-
ветнические доносы на Кутузова и других русских военачальников. В ноябре
1812 г. по настоянию Кутузова Беннигсен был удален из армии.
Прёйсиш-Эйлау— город в Пруссии.
Виктория—в древнеримской мифологии — богиня победы.
Корчёва— уездный город в Тверской губернии.
К ГЛАВЕ IX
Аб'фво (лат.) — с самого начала.
Прозоровский Александр Александрович (1732—1809)—князь, генерал-
фельдмаршал. Во время войны России с Турцией в 1808 г. был назначен глав-
нокомандующим русской армии, действовавшей против турок.
Васильев Владимир Федорович — граф, в 1807 г. — ротмистр кавалер-
гардского полка, впоследствии тульский губернатор. По воспоминаниям Де-
ниса Давыдова, был послан из Петербурга курьером к главнокомандующему
русской армии графу М. Ф. Каменскому.
Кор д’армё (фр.) — главные силы армии.
Семорёцкий— генерал русской армии.
Остролёнка — уездный город Ломжинской губернии, при впадении реки
Омулева в Нарев.
Мародёр (фр.) — человек, похищающий на поле сражения вещи убитых
и раненых; морально разложившийся солдат, грабящий население во время
войны; грабитель.
ГЛАВЫ X—XIV
В «Войне и мире» Толстой дал широкую картину дворянской
жизни, изобразив ряд фамилий, ряд дворянских гнезд. Но кре-
постное крестьянство показано только в поместьях Пьера Безу-
хова, Болконских и Ростовых.
Пьер Безухов, незаконнорожденный сын графа Кирилла Вла-
димировича Безухова, после смерти отца стал наследником его
огромного состояния. Ему досталось, по словам Анны Михайлов-
ны Друбецкой, 40 тысяч крепостных душ и миллионы. Он стал на-
следником имений, приносящих 500 тысяч годового дохода.
1 В основном тексте работы написание этой фамилии дается по роману
Толстого (Бенигсен), а не по современной норме (Беннигсен), так как речь
идет прежде всего о художественном образе.
140
Такое огромное богатство не выдумано Толстым, и оно не 6ьр
ло исключительным явлением. Д. Благово в книге «Рассказы ба-
бушки...» приводит следующие данные о богатстве князя Юсупо-
ва: «Он не знал на память всех своих имений, потому что они
у него были почти во всех губерниях и уездах, и я слыхала, что
у него слишком сорок тысяч душ крестьян. Когда у него спра-
шивали: «Что, князь, имеете вы имение в такой-то губернии и
уезде?» — он отвечал: «Не знаю, надо справиться в памятной
книжке». Ему приносили памятную книжку, в которой по губер-
ниям и уездам были записаны все его имения, он справлялся и
почти всегда оказывалось, что у него там было имение. Он был
богат как по себе, так и по своей жене, которая, как все племян-
ницы Потемкина-Таврического, имела несметное богатство»1.
Подобное богатство имели почти все крупные екатерининские
вельможи, а их в царствование Александра I было еще немало.
Пьер Безухов, будучи членом масонской ложи и искренне ру-
ководствуясь одним из принципов этой организации — творить
благодеяния, выехал в Киевскую губернию, где находилась
большая часть его имений. Планы его коренных преобразований
в положении крепостных сводились к следующему: освободить
крестьян от крепостной зависимости, а до этого не отягощать
их работой, женщин с детьми не посылать на работу, оказывать
крестьянам помощь, наказания употреблять только «увещатель-
ные», в каждом имении учредить больницы, приюты и школы.
(Гл. X; 10, 102—103.)
Профессор Б. Эйхенбаум поставил под сомнение историч-
ность преобразований Пьера, так как изображаемая Толстым
эпоха, по его мнению, не могла дать какого-либо толчка для по-
добного мероприятия. Исследователь считает, что, «нарушая ис-
торическую перспективу, Толстой приписывает Пьеру те мысли
и настроения, которые были у него в 50-х годах, когда он, под
впечатлением крестьянских восстаний, решил улучшить положе-
ние своих крестьян»1 2.
Обратимся к историческим фактам. В 1804 г. появилась кни-
га поэта-радищевца, члена Вольного общества любителей сло-
весности, наук и художеств И. П. Пнина «Опыт о просвещении
относительно к России», в которой автор совершенно ясно выра-
зил мысль о необходимости отмены крепостного права в России.
Эта же мысль проводилась в диссертации Кайсарова «Об осво-
бождении крепостных в России», опубликованной в 1806 г. за
границей. Отчетливо прозвучала идея о необходимости освобож-
дения крестьян в книге Стройновского «Об условиях помещиков
и «крестьян», вышедшей в 1808 г.
1 Д. Благово. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 228.
2 Л. Н. Толстой. Война и мир, т. Ill—IV. Л., ГИХЛ, 1935, стр. 681.
141
В 1812 г. Вольное экономическое общество объявило конкурс
на решение задачи «о сравнительной выгодности крепостного
и вольнонаемного труда»; высшей награды был удостоен профес-
сор Якоб, который обосновал мысль о невыгодности барщинной
системы.
Декабрист Николай Тургенев в 1819 г. подал Александру I
записку о крепостном праве: «Нечто о крепостном состоянии в
России»; и сам он в сентябре 1818 г. уничтожил у себя в имении
барщину, переведя всех крестьян на оброк. Об этом брат его,
Александр, 18 сентября того же года писал П. Вяземскому:
«Брат возвратился из деревни... Он провел там в действие либе-
рализм свой: уничтожил барщину и посадил на оброк мужиков
наших, уменьшил через то доходы наши. Но поступил справед-
ливо, следовательно, и согласно с нашею пользою»1.
В журнале «Сын Отечества» (1818, № 17) была напечатана
статья Куницына (лицейского учителя Пушкина), направленная
против крепостного права. Н. И. Тургенев в переписке с П. А. Вя-
земским обратил его внимание на содержание этой статьи. Чте-
ние ее, видимо, произвело большое впечатление на Вяземского,
так как после этого он стал обдумывать план освобождения
своих крестьян и при встрече с Н. И. Тургеневым взволнованно
говфрил о горемычном положении крепостных.
Приведенные факты показывают, что, изображая попытки
Пьера Безухова улучшить положение крестьян, Толстой не на-
рушает исторической перспективы,— нарисованная им картина
исторически достоверна и правдива.
Итак, Пьер прибыл в свои киевские поместья с целью корен-
ным образом изменить положение крепостных крестьян. Он вы-
звал к себе всех управляющих и объяснил свои цели и желания.
Через эту деятельность Пьера Толстой и раскрывает чита-
телю волновавший его вопрос об отчужденности «высшего
круга от других сословий», главным образом помещиков от
крепостных. Этот вопрос, как известно, был предметом твор-
ческих раздумий Толстого на протяжении всего его писатель-
ского пути.
Долгие раздумья и личная практика помогли писателю на-
щупать художественно правдивые линии в отображении постав-
ленной проблемы. Толстой рисует верную картину взаимоотно-
шений барина и мужика, их страшную отчужденность друг от
друга, полное непонимание барином психологии мужика, подо-
зрительность и недоверчивость со стороны мужика к зате-
ям барина.
Вот как показано отношение управляющих к намере-
ниям Пьера: «Некоторые управляющие (тут были и полуграмот-
1 «Остафьевский архив князей Вяземских», т. 1. 1812—1819. СПб., 1899,
стр. 121.
142
ные экономы) слушали испуганно, предполагая смысл речи в
том, что молодой граф недоволен их управлением и утайкой де-
нег; другие, после первого страха, находили забавным шепеля-
венье Пьера и новые, неслыханные ими слова; третьи находили
просто удовольствие послушать, как говорит барин; четвертые,
самые умные, в том числе и главноуправляющий, поняли из этой
речи то, каким образом надо обходиться с барином для дости-
жения своих целей». (Гл. X; 10, 103.)
Цель управляющих была одна: как можно искуснее обманы-
вать барина и, пользуясь его некомпетентностью в хозяйственных
делах, его наивностью, наживать себе капиталы.
Толстой показывает, как все мероприятия, имеющие целью,
по мысли Пьера, улучшить положение крестьян, обратились про-
тив самих же крестьян. Писатель раскрывает всю подноготную
бесправного положения людей, отданных на жестокую эксплуа-
тацию, поругание и циничное издевательство со стороны если
не самого барина, то его управляющих. Эта картина полного и
безудержного произвола плутов-приказчиков глубоко историче-
ски верна. Она была логическим порождением крепостничества.
В отличие от Пьера Безухова, Болконские сами принимают
непосредственное участие в управлении имением. Старый князь
Николай Андреевич, как говорилось выше, жил безвыездно в
Лысых Горах и, имея весьма деятельный характер, сам вникал
во все детали поместного хозяйства.
Сохранились воспоминания современников, рисующие коло-
ритную картину времяпрепровождения помещика, имеющего
за всем свой хозяйский глаз. В сборнике «Раут на 1852 год» чи-
таем: «Барин поглядывает на хозяйственные постройки, на рас-
садку лип или берез в разбиваемом саду, по английскому вкусу,
на стрижку елей и сосен, словно рекрутов под гребенку, в ста-
ринном саду, с прямыми, накрест дорогами, с темными аллеями,
с куртинами, шпалерами, сухими канавками, подъемными мо-
стиками, деревянными солдатиками и разными затеями, сюр-
призами, китайскими беседками, оранжереями...»1
Старый князь вел большое строительство, держал всю двор-
ню в страхе и трепете, хотя и не имел репутации жестокого ба-
рина. Затворническая жизнь фрондирующих екатерининских
вельмож в царствование Александра I не была редкостью. Со-
здавая образ Николая Андреевича Болконского и опираясь при
этом на факты из жизни его деда по матери, князя Николая Сер-
геевича Волконского, Толстой воспроизвел типичное для того
времени явление. Знаменитый поэт и крупный вельможа
Г. Р. Державин в 1803 г, был уволен от всех дел и остаток жиз-
1 «Картины русского быта в старину. Из записок И. В. Сушкова». См. сб.
«Раут на 1852 год». М., 1852, стр. 475—476.
143
ни, 13 лет, прожил на покое в своем новгородском имении — се-
ле Званка. Александр I с первых же дней своего царствования
постарался избавиться от лиц, влиятельных в царствование Пав-
ла I. Он удалил шталмейстера Кутайсова, государственного про-
курора Обольянинова, московского обер-полицмейстера Эртеля.
Сын Болконского, князь Андрей, после аустерлицкой ката-
строфы решил не служить и поселился в выделенном ему отцом
имении Богучарово. Он затеял там большие строительные ра-
боты.
Взгляд князя Андрея на свою миссию помещика и на крепост-
ных крестьян оказался диаметрально противоположным поня-
тиям Пьера. Восторженный и умиленный своими, как казалось
ему, замечательными успехами в улучшении жизни крепостных
крестьян, Пьер решил заехать к своему другу Андрею Болкон-
скому, и между ними разгорелся спор по волнующим их обоих
вопросам. Из этого спора и выясняются взгляды князя Андрея
на крепостное право.
«—Ну, давай спорить, — сказал князь Андрей. — Ты гово-
ришь школы,— продолжал он, загибая палец,— поучения и так
далее, то есть ты хочешь вывести его, — сказал он, указывая на
мужика, снявшего шапку, проходившего мимо их,— из его жи-
вотного состояния и дать ему нравственных потребностей, а мне
кажется, что единственно возможное счастье — есть счастье жи-
вотное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хо-
чешь его сделать мною, но не дав ему моих средств. Другое ты
говоришь: облегчить его работу. А по-моему, труд физический для
него есть такая же необходимость, такое же условие его сущест-
вования, как для меня и для тебя труд умственный. Ты не мо-
жешь не думать. Я ложусь спать в 3-м часу, мне приходят мыс-
ли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра оттого, что
я думаю и не могу не думать, как он не может не пахать, не ко-
сить; иначе он пойдет в кабак или сделается болен. Как я не пе-
ренесу его страшного физического труда, а умру через неделю,
так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет
и умрет. Третье, — что бишь еще ты сказал? — Князь Андрей
загнул третий палец.
— Ах, да, больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а
ты пустил ему кровь, вылечил. Он калекой будет ходить 10 лет,
всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие
родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лиш-
ний работник пропал — как я смотрю на него, а то ты из любви
же к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно». (Гл. XI;
10, 112).
И в другом месте:
« — Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, — продолжал
он. — Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не
144
засекал и не посылал в Сибирь) и еще меньше для крестьян.
Ежели их бьют, секут, посылают в Сибирь, то я думаю, что им
от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скот-
скую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как
и был прежде». (Гл. XI; 10, 114.)
Приведенные высказывания князя Андрея о крепостных кре-
стьянах носят крайне консервативный характер. Сравнивать че-
ловека с животным и думать, что русский крепостной, основной
кормилец государства, не нуждается ни в школах, ни в больни-
цах, что он способен только на каторжный физический труд
и что каждая свободная минута грозит ему кабаком — означало
заявить себя махровым ретроградом.
Откуда эти понятия у князя Андрея? Имеют ли они какую-
либо почву, или это плод творческого вымысла писателя? Не-
сомненно, высказывания Андрея Болконского, система его взгля-
дов на положение крепостного мужика имеют историческую подо-
плеку: определенная группа русских помещиков рассуждала
именно так.
Интересно отметить значительную аналогию во взглядах кня-
зя Андрея с мыслями, высказанными Н. В. Гоголем в его «Вы-
бранных местах из переписки с друзьями»:
«Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое ис-
кусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже
староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слег-
ка у себя в затылке» (курсив наш.— Б. К.);
«Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возмож-
ность читать пустые книжонки, которые издают для народа евро-
пейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже
то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких
работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши до-
мой, он заснет как убитый, богатырским сном»1.
Как видим, Гоголь в конце жизни, находясь в плену у мисти-
ков и мракобесов, пришел к выводу, что мужику не нужно ни
книг, ни просвещения, что он животное, привык к побоям и что
нужно лишь спасать его душу моралистическими наставлениями
и молитвами.
Известно, какой гнев и возмущение вызвала книга Гоголя
у передовых читателей, известно знаменитое письмо Белинского
к Гоголю, где великий критик подверг реакционные взгляды пи-
сателя уничтожающей критике. Но известно и то, что определен-
ная группа дворян стала на сторону Гоголя и считала его
«Переписку» выдающимся явлением. К ним относятся епископ
Иннокентий, Иван Аксаков, Самарин, Шевырев и отчасти По-
годин.
1 Н. В. Гоголь. Поли. собр. соч., т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1952,
стр. 324-325.
145
Значит, крайне консервативные суждения Андрея Болконско-
го по вопросам крепостного права уходят своими корнями в дей-
ствительность, являются ее реальным отражением.
Но не нарушается ли тогда цельность образа князя Андрея,
передового, мыслящего человека, чуждого каких бы то ни было
стремлений к корысти, к казенному благополучию? Как мог че-
ловек выдающегося ума и прогрессивных взглядов, подлинный
патриот, презрительно относящийся к петербургской великосвет-
ской знати, занять столь консервативную позицию по одному из
основных вопросов, волновавших все передовое дворянство эпо-
хи? Можно ли поставить знак тождества между взглядами на
крепостничество Андрея Болконского и ярых консерваторов
эпохи, проповедовавших официальную точку зрения на данный
вопрос? Нам думается, что нет.
На страницах романа Толстого, где даны рассуждения кня-
зя Андрея о крепостном праве, изображен не убежденный сто-
ронник крепостной системы, а, наоборот, ее противник. Андрей
Болконский видит в ней не только зло для крестьян, которые
влачат животное существование и всегда подвергаются жесто-
кому физическому истязанию, но и источник нравственной экзе-
куции для самих дворян, по крайней мере дворян передовых.
По его мнению, отмена крепостной системы нужна и для тех
людей, которые гибнут нравственно, грубеют от того, что у них
есть возможность казнить направо и налево.
Глубоко справедлив вывод В. Ермилова, что «если бы... мыс-
ли князя Андрея означали крепостническое мракобесие, то не
было бы и тех его слов, смысл которых сводится к тому, что
скотское состояние рабов оскотинивает господ»1. В главе «Бо-
гучаровский спор» автор цитируемой книги дал обстоятельный
анализ возникшей между Андреем Болконским и Пьером Безу-
ховым философской дискуссии о смысле жизни. Ценные мысли
высказал по этому вопросу и С. Бочаров1 2. Наконец, что особен-
но важно отметить, что именно и подтверждает близость А. Бол-
конского к людям декабристского склада, — это его конкретные
дела. Споря с Пьером о целесообразности каких-либо нововве-
дений, облегчающих положение крепостных, сам он целым ря-
дом мероприятий значительно улучшил состояние, быт богуча-
ровских крестьян (об этом ниже).
К ГЛ ABE X
Придел—добавочный, обычно боковой, алтарь в церкви.
Петров день — христианский праздник, праздновавшийся 29 июня (ст. ст.).
1 В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослит-
издат, 1961, стр. 243.
2 См.: С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиз-
дат, 1963, стр. 66—75.
146
Фуражиры. С гравюры И. Клейна 1819 г.
Русская кавалерия в походе. С гравюры И. Клейна 1815 г.
К гл ABE XI
Фронтон (фр.) — треугольное поле под двускатной крышей здания.
Предводитель дворянства — выборный представитель дворянства (гу-
бернии или уезда), заведовавший сословными делами дворянства и в то же
время занимавший соответственные места в местных органах самоуправ-
ления.
К ГЛ ABE XII
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель, критик, ис-
торик и философ.
К ГЛ ABE XIII
Лампада (греч.) — небольшой сосуд с фитилем, наполненный маслом;
зажигается перед иконами.
Мйро (церк.) — масло с приятным запахом, употребляемое в христиан-
ских церковных обрядах.
К ГЛ ABE XIV
Ладан (перс.)—желтоватая и красноватая ароматическая смола, кото-
рой окуривают помещение при религиозных служениях.
Угодник — название некоторых святых; человек, «угодивший» богу.
Г Л АВЫ XV—XVIII
От Аустерлицкого сражения до Отечественной войны
1812 г. тянется цепь исторических событий, связанных с даль-
нейшими завоевательными походами Наполеона против госу-
дарств, остававшихся вне поля его непосредственного влияния.
За это время он окончательно подчинил себе Пруссию, Австрию,
учинил кровавую расправу над непокорной Испанией. На кон-
тиненте не оставалось ни одного государства, способного про-
тивопоставить себя всесильному властелину. Имел Наполеон
два крупных столкновения и с русской армией и оба раза одер-
жал победу над ней.
Толстой не нашел нужным подробно описывать события это-
го периода. Во втором томе своего романа, состоявшем из
97 глав, он лишь 7 глав посвятил военно-политическим событиям.
Повествование об этом периоде начинается фразой:
«Армия наша после неоднократных отступлений, наступле-
ний и сражений при Пултуске, при Прейсиш-Эйлау, сосредото-
чивалась около Бартенштейна». (Гл. XV; 10, 125.)
Дальше Толстой в самой обнаженной форме рисует бедст-
венное положение прославленного в боях Павлоградского пол-
ка, который, потеряв в боях только двух раненых, лишился поч-
ти половины личного состава из-за голода и болезней. Причем
здесь Толстой использует тонкий композиционный прием: ответ-
ственным за снабжение полка оказывается вор Телянин. Вот
148
где одна из причин бедствии
армии, вот те, кто обеспечи-
вает армию продовольствием.
Положение в госпиталях
было настолько нетерпимым,
что больные солдаты, опух-
шие от дурной пищи, еле во-
лочившие ноги, предпочитали
службу в полку госпиталю.
Ужасающая картина гос-
питальной жизни нарисована
Толстым с документальной
точностью. В «Русской стари-
не» за май 1890 г. была поме-
щена статья М. С., бывшего
офицера лейб-гвардии Павлов-
ского полка. Он писал сле-
дующее: «Что выносили тогда
Матвей Иванович Платов.
С портрета работы Дж. Доу
герои-солдаты русские, сра--
жаясь за пределами отечест-
ва, за чуждые совершенно
нам интересы — просто выра-
зить невозможно, и это тогда, когда офицеры и солдаты целы-
ми месяцами не получали жалованья; заразительные болезни
опустошали ряды полка гораздо более, нежели неприятельские
ядра, — когда в одном июне месяце 1807 года мы видим боль-
ных в полку до 540 человек, а между тем госпитали того вре-
мени, без преувеличения, по отзыву очевидцев, представляли
«ужасы человечества» Ч
К ГЛАВЕ XV
Фураж (фр.)— корм для скота; фуражир — заведующий получением и
выдачей фуража в войсковых частях.
Бартенлитёйн, — город в прусском округе Кенигсберг.
Платов Матвей Иванович (1751—1818) — герой Отечественной войны
1812 г., выдающийся генерал русской армии, атаман Донского казачьего вой-
ска (с 1801 г.), соратник А. В. Суворова и М. И. Кутузова.
Удинд Шарль Николай, герцог Реджио (1767—1847) — маршал Франции.
В кампаниях 1805 и 1806—1807 гг. командовал гренадерским корпусом.
Амуниция (лат.) — снаряжение военнослужащего, включая предметы во-
оружения; конская амуниция — предметы для запряжки животного, седловки
или вьючения.
Свййка — игра, состоящая в том, что толстый гвоздь с большой шляпкой
нужно броском вонзить в землю, попав в середину лежащего на земле
кольца.
1 «Русская старина», 1890, т. 6, май, стр. 486.
149
К ГЛ A BE XVI
Ротмистр (нем.)—офицерский чин в кавалерии, соответствующий капи-
тану в пехоте.
Рекогносцировка (лат.)—разведка местности, противника, населения
и т. п.; рекогносцировкой обычно называется разведка, производимая лично
командиром части или штабными офицерами.
К ГЛАВЕ XVII
Фрйдландское сражение — сражение 2(14) июня 1807 г. у города Фрид-
ланда (в Восточной Пруссии, на реке Алле) между русскими войсками под
начальством Беннигсена и французами под командованием Наполеона. Рус-
ские потерпели поражение.
Молитён — местечко в Пруссии.
ГЛАВЫ XIX—XXI
В этих главах показано свидание императоров, Александра I
и Наполеона, состоявшееся 25 июня 1807 г. у Тильзита, на Не-
мане. На этом свидании Наполеону удалось добиться от Алек-
сандра I согласия на вступление в континентальную систему,
которая предусматривала запрещение торговли с Англией. Этот
эпизод Толстой описывает коротко, в полном соответствии с ис-
торическими источниками. Интересно отметить тонкое изображе-
ние писателем восприятия дружбы двух воевавших императо-
ров придворными, штабными офицерами и армейскими людьми.
Это прекрасно показано на столкновении типичного армейского
офицера Николая Ростова и Бориса Друбецкого, успевшего к
этому времени сделать значительную карьеру.
«...Ростова странно поразил в квартире Бориса вид француз-
ских офицеров в тех самых мундирах, на которые он привык
совсем иначе смотреть из фланкерской цепи. Как только он уви-
дал высунувшегося из двери французского офицера, это чувст-
во войны, враждебности, которое он всегда испытывал при виде
неприятеля, вдруг охватило его. Он остановился на пороге и по-
русски спросил, тут ли живет Друбецкой. Борис, заслышав чу-
жой голос в передней, вышел к нему навстречу. Лицо его в пер-
вую минуту, когда он узнал Ростова, выразило досаду».
(Гл. XIX; 10, 140.)
В этой небольшой сцене весь Николай Ростов и весь Борис
Друбецкой. Нет необходимости приводить дальнейшие сцены,
где описывается ужин для французских офицеров в доме Бори-
са, холодный прием им своего друга детства, в доме которого
он, собственно, вырос. Все это совершенно естественно вытекает
из подлой натуры друбецких и им подобных представителей ве-
ликосветской черни, которая ничего не имела за душой, кроме
алчного желания добиться высоких чинов и положения. Для этой ,
породы людей не существует понятия ни о национальном до- ,
стоинстве, ни о национальной гордости.
150
Банкет преображенцев в Тильзите. С франц, гравюры нач. XIX в.
Рисуя Наполеона при свидании с Александром I на Немане,
Толстой пользуется каждым движением несимпатичного ему ге-
роя, чтобы внести в его портрет отрицательные штрихи. Когда
Наполеон подъехал к Александру I, опытный глаз заправского
кавалериста-павлоградца Николая Ростова сразу заметил его
дурную, нетвердую посадку в седле и неприятно-притворную
улыбку. Показывая, как Наполеон собственноручно прикалывает
к груди русского солдата Лазарева орден Почетного легиона,
Толстой подчеркивает проявление в характере Бонапарта наив-
ного высокомерия: раз его рука коснулась груди простого солда-
та— значит, солдат осчастливлен на всю жизнь.
К ГЛ ABE XIX
Неман — река Балтийского бассейна; под названием Мемеля протека-
ла в пределах бывшей Пруссии.
Вензель (польск.)—чьи-нибудь инициалы, красиво переплетенные, напи-
санные вязью.
Корчма — трактир, постоялый двор в Белоруссии и на Украине.
Тильзит — город в Восточной Пруссии, при впадении реки Тильзы в
Неман.
К ГЛ ABE XX
Камер-фурьёр (нем.)—придворный чин, служитель, наблюдавший за
прислугой и парадными столами. В камер-фурьерском журнале записывались
все события придворной жизни.
151
Лосйны— белые рейтузы в обтяжку, сделанные из тонкой лоспной кожи;
принадлежность формы гвардейских полков. Лосины причиняли много не-
удобств. Их надевали мокрыми на ночь, за ночь они высыхали и натягивались.
Орден Почётного легиона — французский нагрудный знак отличия, уч-
режденный Наполеоном I в 1802 г. Давался за заслуги всем гражданам.
Имел пять степеней (классов).
Звезда Почётного легиона — высшая степень ордена Почетного легиона,
учрежденного Наполеоном,
К ГЛ ABE XXI
Чепрак, или чапрак (турецк.) — суконная, ковровая или меховая подстил-
ка под седло, сверх потника.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВЫ I—III
«В 1808 году император Александр ездил в
Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном...»
(Гл. I; 10, 151.)
Это свидание состоялось в сентябре 1808 г. в прусском горо-
де Эрфурте; итогом его явилась секретная конвенция, обязы-
вающая Россию действовать сообща с Францией против Авст-
рии, если последняя объявит войну Наполеону.
В этих главах Толстой говорит и о практических шагах кня-
зя Андрея по благоустройству своих имений, по улучшению жиз-
ни и быта крепостных крестьян: «Одно именье его в триста душ
крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был
один из первых примеров в России); в других барщина замене-
на оброком. В Богучарово была выписана на его счет ученая
бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обу-
чал детей крестьянских и дворовых грамоте». (Гл. I; 10, 152.)
Нововведения князя Андрея носят, несомненно, прогрессив-
ный характер; они целиком соответствуют исторической дейст-
вительности. Как известно, «граф С. П. Румянцев обратился к
правительству за разрешением отпустить крестьян своего име-
ния на волю с землей. В связи с этим 20 февраля 1803 г. был
издан указ о свободных хлебопашцах, разрешавший помещикам
по их желанию отпускать крестьян на волю поодиночке или це-
лыми деревнями с обязательным наделением землей на правах
собственности за выкуп»
1 См.: «История СССР. Россия в XIX веке», изд. 3, т. 2, под ред.
М. В. Нечкиной. М., Госполитиздат, 1955, стр. 46.
.152
Указ этот вызвал недовольство консервативного дворянства.
Министр юстиции всячески тормозил его проведение в жизнь,
усматривая в нем проявление якобинства.
Перевод крестьян с барщины на оброк (очень ограниченный)
явился облегчением для крестьян. А. С. Пушкин это нововведе-
ние своего героя — Онегина — охарактеризовал так:
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил:
И раб судьбу благословил.
Оброк стал прогрессивным фактором развития помещичьего
хозяйства. Поэтому в нечерноземных губерниях помещики, стре-
мясь повысить доходность хозяйства, переводили крестьян с бар-
щины на оброк. Все это относится к эпохе царствования Алек-
сандра I.
Существенно отметить также, что Толстой в конце 50-х и на-
чале 60-х годов, накануне реформы, сам мучительно думал над
проблемой взаимоотношений мужика и барина, искал пути об-
легчения тяжелой доли крепостных крестьян. Свои мысли он за-
носил в дневник, делился ими в письмах к друзьям. Приведем
некоторые из них.
18 августа 1857 г. Толстой писал А. А. Толстой: «В России
скверно, скверно, скверно. В Петербурге, в Москве все что-то
кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши то же происхо-
дит патриархальное варварство, воровство и беззаконие... Еже-
ли бы вы видели, как я в одну неделю, как барыня на улице пал-
кой била свою девку... как в моих глазах чиновник избил до по-
лусмерти 70-летнего больного старика... и пропасть другого,
тогда бы вы поверили мне...» (60, 222).
4 сентября 1857 г. Толстой пишет в дневнике: «Отпустил Саш-
ку. Уговорился с ним, с Федором». Сашка — молодой крестьян-
ский парень, садовник. Толстой «уговорился» с ним и с другим
крестьянином относительно работы у него в хозяйстве в качестве
вольнонаемных рабочих 1.
13 сентября 1857 г.: «Перемена хозяйства состоит в том, что
крестьяне на оброке». В течение сентября — октября все ясно-
полянские крестьяне были переведены с барщины на оброк, и
хозяйство в Ясной Поляне Толстой начал вести наемным
трудом1 2.
4 января 1858 г. Толстой пишет В. П. Боткину: «...Дворянст-
во почуяло, что у него не было других прерогатив, как крепост-
ное право, и озлобленно ухватилось за него. Противников осво-
бождения 90 на 100...» (60, 246).
1 См.: Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича
Толстого. АГ, Гослитиздат, 1958, стр. 166.
2 См. там ж е.
153
14—21 февраля 1858 г. — ответ Толстого на циркулярное об-
ращение крапивенского уездного предводителя дворянства ко
всем проживавшим в этом уезде дворянам о том, «не угодно ли
им приступить к открытию комитета для устройства быта поме-
щичьих крестьян». На это предложение Толстой и двое других
крапивенских помещиков письменно ответили согласием L
Попытка Толстого вести хозяйство на артельных началах
встретила сопротивление яснополянских крестьян. Запись в
дневнике летом 1858 г.: «Сражение в полном разгаре. Мужики
пробуют, упираются»1 2.
Суть этой дневниковой записи хорошо раскрывает И. С. Тур-
генев в письме А. В. Дружинину от 25 января 1857 г.: «Я прочел
его (Толстого.— Б. К.) «Утро помещика». Главное нравственное
впечатление этого рассказа... состоит в том, что, пока будет су-
ществовать крепостное состояние, пет возможности сближения
и понимания обеих сторон, несмотря на самую бескорыстную и
честную готовность сближения — и это впечатление хорошо и
верно...»3.
К ГЛАВЕ 1
Эрфурт — город в Тюрингии, входившей в состав Прусского государства.
ГЛАВЫ IV-VI
В этих главах Толстой повествует о приезде князя Андрея в
Петербург с целью принять участие в преобразованиях и рефор-
мах, предполагаемых в государстве. Это период деятельности
двух всесильных помощников Александра I: по военной части —
Аракчеева, по гражданской — Сперанского.
Михаил Михайлович Сперанский (1772—1839), сын сельско-
го священника, благодаря серьезной теоретической подготовке,
широкому кругозору и личным качествам, необходимым полити-
ческому деятелю, сумел в царствование Александра I занять вид-
ный государственный пост стат-секретаря при особе императора и
затем, войдя в доверие к царю, взять основные нити государст-
венного управления в свои руки. Еще в 1803 г. Сперанский полу-
чил от Александра I задание составить «Записку об устройстве
судебных и правительственных учреждений», которая преследо-
вала цель осторожного введения в России конституционной! мо-
нархии и указывала пути, гарантирующие страну от возможных
революционных потрясений.
1 См.: Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Тол-
стого. М., Гослитиздат, 1958, стр. 180.
2 Т а м же, стр. 190.
3 И. С. Тургенев. Собр. соч. в 12 гт., т. 12. М., Гослитиздат, 1958,
стр. 2G9.
154
После Тильзитского мира Сперанский получил новое зада-
ние от Александра I — составить проект государственного преоб-
разования. Проект этот под названием «Введение к Уложению
государственных законов» был закончен к 1809 г. «Основная за-
дача проекта заключалась в предотвращении революционного
потрясения путем некоторых уступок «духу времени», т. е. бур-
жуазным социально-экономическим тенденциям» L Но правитель-
ство усмотрело в проекте слишком смелые шаги, и была претво-
рена в жизнь только идея учреждения Государственного совета
и преобразования министерств: в 1810 г., 1 января, правительство
издало манифест об учреждении Государственного совета — со-
вещательного органа при императоре, состоящего из чиновни-
ков, назначаемых царем (Сперанский получил пост государст-
венного секретаря), а в 1811 г. был издан закон о министерст-
вах, по которому к ранее существовавшим восьми министерствам
добавлялись министерство полиции и министерство путей сообще-
ния, а также государственный контроль.
В 1810—1811 годах молодой, талантливый государственный
деятель достиг зенита своего политического влияния и могу-
щества.
Дворянство отнеслось крайне враждебно к реформам и проек-
там Сперанского. Особенное озлобление вызвали два правительст-
венных распоряжения, связанных с деятельностью Сперанского:
указ о придворных званиях, обязывающий придворных нести го-
сударственную службу, и указ об экзаменах на чин, по которому
для производства в чин коллежского асессора необходимо было
представить свидетельство одного из русских университетов об
успешном его окончании, а для производства в чин статского со-
ветника, кроме такого свидетельства, нужно было состоять 10 лет
на службе.
Дворянство требовало удаления Сперанского, и Александр I,
также все более холодно и подозрительно относившийся к нему,
уступил этим настояниям. В марте 1812 г. Сперанский был от-
странен от государственной службы и сослан в Нижний Новго-
род, а затем (в сентябре 1812 г.) —в Пермь.
Однако позднее, при содействии Аракчеева, Сперанскому
удалось вновь занять ряд государственных должностей. В 1837 г.
он был награжден высшим орденом Андрея Первозванного, а
1 января 1839 г. ( в год смерти) получил титул графа.
Источником для изображения Сперанского и его деятельнос-
ти послужила Толстому книга М. А. Корфа «Жизнь графа Спе-
ранского» (СПб., 1861).
Толстой не симпатизировал ни личности Сперанского, ни его
преобразовательной деятельности. Причина этой антипатии ко-
1 «История СССР». Учебник для пединститутов, под ред. П. И. Кабанова
и А. И. Козаченко, ч. I, М., Учпедгиз, 1961, стр. 468.
155
ренилась в том, что писатель улавливал контуры будущей
России, какой она могла бы стать, если бы все нововведения го-
сударственного секретаря были приняты и деятельность его не
оборвалась столь печально. Советские историки в результате ис-
следований проектов Сперанского пришли к выводу, что он стре-
мился «придать Российской империи хотя бы внешний вид со-
временного «европейского» буржуазного государства» !, т. е. в
проектах Сперанского явно или скрыто сквозило то, к чему пи-
тал самые враждебные чувства Толстой,— европейская буржуаз-
ная действительность. Кроме того, Толстой относился крайне от-
рицательно ко всем реформаторам, претендующим на какую-то
серьезную роль в деле изменения жизни общества путем выду-
манных ими преобразований. Подобные преобразования Толстой
считал вздорными и неестественными.
М. М. Сперанский, по понятиям писателя, относился именно
к категории таких деятелей. Вот его портрет в романе: «Вся фи-
гура Сперанского имела особенный тип, по которому сейчас
можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором
жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверен-
ности неловких и тупых движений, ни у кого он не видал
такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и
несколько влажных глаз, не видал такой твердости ничего
незначащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса...»
(Гл. V, 10, 164.)
Толстой характеризует Сперанского как крайнего рационали-
ста: «Сперанский в глазах князя Андрея был... человек, разумно
объясняющий все явления жизни, признающий действительным
только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило
разумности...» (Гл. VI; 10, 168.)
Люди холодного, исключительно логического ума всегда про-
изводили отталкивающее впечатление на Толстого, для которо-
го одним из высших мерил человеческой личности была способ-
ность глубоко чувствовать, откликаться на несправедливость и
зло прежде всего сердцем, а не умом.
Писатель тонко иронизирует над Сперанским: «Видно было,
что никогда Сперанскому... не приходило сомнение в том, что не
вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?» (Гл. VI;
10, 169.)
Оценивая эти страницы «Войны и мира», В. Ермилов выска-
зал ряд интересных соображений. Нам думается, исследователь
прав, придя к выводу, что «несомненна глубокая вредность
толстовской пассеистской проповеди. Но рациональное зерно
толстовской «критики разума» заключается в опровержении
слепой веры в непогрешимость логических догм и конструкций,
1 «История СССР. Россия в XIX веке», изд. 3, т, 2, под ред. М. В. Иеч-
киной. М., Госполитиздат, 1955, стр. 67.
156
исключающей творческое начало, означающей отрыв от движе-
ния жизни, истории» L
«В изображении всей деятельности Сперанского Толстой дер-
жит в поле своего зрения современную ему действительность
шестидесятых годов, — говорит далее Ермилов. — В этом месте
своего романа Толстой не только полемизирует с революционе-
рами-шестидесятниками, но прежде всего издевается над
оторванностью от действительности либералов, над нежизнен-
ностью либерализма, несерьезностью, призрачностью тех пустя-
ков, которым либералы придают глубокомысленное значение»1 2.
К ГЛАВЕ IV
Апогей (греч.) — высшая степень, наивысший расцвет.
Коллежский асессор — чиновник 8-го класса. В царской России чиновники
гражданского ведомства делились (на основании табели о рангах, изданной
еще Петром I в 1722 г.) на 14 классов.
Кочубей Виктор Павлович (1768—1834)—русский дипломат и государ-
ственный деятель.
Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834)—всесильный временщик при
Павле I и Александре I, с деятельностью которого связан целый период ре-
акционного полицейского деспотизма и грубой военщины (так называемой
аракчеевщины).
К ГЛАВЕ V
Аффектация (лат.) — искусственное возбуждение, неестественность, вы-
чурность, рисовка.
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855)—сотрудник Сперанско-
го, сосланный после его падения. С 1816 г., благодаря протекции Аракчеева
и князя Голицына, вновь занял видное служебное положение. С этого време-
ни известен своей реакционностью.
Новый указ о придворных чинах. Имеется в виду указ, изданный Спе-
ранским в 1809 г., согласно которому отменялась привилегия представителей
знатных фамилий получать чины с детских лет.
Монтескьё Шарль Луи (1689—1755) — французский социолог, вырази-
тель политических настроений французской буржуазии середины XVIII в.
К ГЛАВЕ VI
Метафизика (греч.) — в идеалистической философии — антинаучные из-
мышления о первоначалах бытия, о сущности мира, о предметах, недоступ-
ных чувственному опыту. Метод мышления, противоположный диалектике.
Метафизика рассматривает явления не в их развитии и взаимной связи, а
разрозненно, изолированно, в состоянии покоя и неподвижности, застоя и
неизменяемости; служит для обоснования консервативной и реакционной
идеологии.
Кутейник — человек, происходивший из духовного звания.
Розенкампф Густав Андреевич (1762—1832)—барон, юрист, бывший в
1803—1822 гг. членом комиссии по составлению законов.
1 В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослит-
издат, 1961, стр. 255.
2 Т а м же, стр. 256. Подробно о сближении Андрея Болконского со
Сперанским см. в гл. «Роман с либерализмом» названной книги Ермилова.
157
ГЛАВЫ A ll—XIII
Пьер Безухов настолько увлекся масонством, что выехал за
границу для ознакомления с деятельностью зарубежных масо-
нов. Вернувшись на родину, он решил направить деятельность
русской масонской организации по общественно-политическому
руслу. Полный провал этой затеи свидетельствует о том, на-
сколько далеки были масоны от практической деятельности, от
подлинного «служения ближнему своему», о чем они так много
говорили. Состоя в организации, они продолжали обычный па-
разитический образ жизни, масонство для них было скорее
приятным и забавным времяпрепровождением, чем серьезным
делом.
К ГЛ ABE VII
Мйстика (греч.) — вера в таинственное, сверхъестественное, божествен-
ное; мистицизм — склонность к мистике.
Великий мастер—одна из высших ступеней масонской иерархии.
Иллюминатство (лат.) — религиозно-мистическое течение, возникшее в
1776 г. в Баварии. Ставило своей целью борьбу с невежеством, распростране-
ние нравственности и просвещения. Тайной целью общества была замена хри-
стианской религии деизмом и монархической формы правления — республи-
канской. Близко к масонству.
К ГЛ ABE IX
Коленкур Арман Август, герцог Виченцский (1773—1827)—дипломат и
сподвижник Наполеона. С 1805 г. — генерал; в 1807 и 1811 гг. — французский
посол в России. Был противником войны Франции с Россией и пытался
предотвратить ее, смело возражая самовлюбленному Наполеону. Сопровож-
дал его в Россию, участвовал в Бородинском сражении. Оставил интересные
мемуары. Под его именем Наполеон бежал из России через Германию.
Линь Шарль Жозеф (1735—1814) — бельгийский политический деятель и
писатель. Служил во Франции, затем перешел на австрийскую службу. Друг
австрийского императора Иосифа II. При Екатерине II посетил Россию.
К ГЛ ABE X
Урусов, вероятно, Александр Михайлович (1766—1853)—князь, член Го-
сударственного совета.
Фавор (разг.) — покровительство, расположение влиятельного лица, бла-
говоление.
Великий архитектбн (греч.) — торжественный эпитет бога, которому при-
писывалось построение вселенной.
Алкать (поэт.)—сильно желать.
Стегнб— верхняя часть ноги, от таза до колена.
«Песнь песней» — самая поэтическая из книг библии.
Партер (фр.) — места в зрительном зале, расположенные рядами между
сценой и противоположной стеной пли амфитеатром.
Лифляндский дворянин — дворянин из прибалтийских немцев (Лифлян-
дия — устаревшее название части Латвийской и Эстонской ССР).
Остзейский край — немецкое название прибалтийского края: Эстлянд-
ская, Лифляндская и Курляндская губернии.
158
К ГЛАВЕ XIII
Папильотка (фр.) — бумажка для завивки волос.
Сфинкс (греч.)—каменное изваяние лежащего льва с человеческой го-
ловой.
Керубини Луиджи (1760—1842)—итальянский композитор, автор опер,
камерных произведений, месс, реквиемов, кантат и др. Из Херубиновской опе-
ры — из оперы Керубини,
ГЛАВЫ XIV-XVTI
Как мы уже отмечали, Толстой правдив не только в рас-
крытии основных закономерностей жизни великосветского об-
щества— он исторически правдив и точен и в обрисовке быта
этого общества. От внимательного взгляда писателя не ускольз-
нула ни одна характерная деталь повседневной жизни петер-
бургского и московского барства.
Как величайший художник-психолог и в то же время как ге-
ниальный мастер жанровой живописи, до малейших подробно-
стей верный исторической правде, рисует Толстой знаменитый
первый бал Наташи.
Исторически точен Толстой и в изображении нарядов вели-
косветского общества.
Бальный наряд графа Ильи Андреича Ростова и князя
Андрея Болконского Толстой рисует так:
«Он (граф Ростов. — Б. К.) был в синем фраке, чулках и
башмаках, надушенный и припомаженный». (Гл. XIV; 10, 196.)
«Князь Андрей в своем полковничьем, белом (по кавалерии)
мундире, в чулках и башмаках...» (Гл. XVI; 10, 201.)
Нас не должно смущать то, что граф Ростов и князь Андрей
одеты в какой-то смешанный костюм: часть от екатерининского
времени (чулки и башмаки), а часть от александровского —
фрак. Дело в том, что с воцарением Александра I многое в
мужском и женском туалете изменилось, но некоторые знатные
представители света продолжали соблюдать фасоны одежды
екатерининской эпохи. Вот что пишет об этом Д. Бла-
гово: «Когда молодой государь перестал употреблять пудру и
остриг волосы, конечно, глядя на него, и другие сделали то же.
Однако многие знатные старики гнушались новою модой и до
тридцатых еще годов продолжали пудриться и носили француз-
ские кафтаны. Так, я помню, некоторые до смерти оставались
верны своим привычкам: князь Куракин, князь Николай Бори-
сович Юсупов, князь Лобанов, Лунин и еще другие, умер-
шие в тридцатых годах, являлись на балы и ко двору, оде-
тые по моде Екатерининских времен: в пудре, в чулках и
башмаках...» 1
1 Д. Благово. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 223—224.
159
И в другом месте: «Княжна (Прасковья Михайловна Долго-
рукова.— Б. К-) была, я думаю, самая последняя в Москве ста-
рожилка, которая, имея от роду почти девяносто лет (она умер-
ла в 1844 году), все еще одевалась как при императрице Ека-
терине II» L
К ГЛ ABE XIV
Иллюминация (лат.) — яркое освещение, устраиваемое на улицах по слу-
чаю каких-нибудь торжеств, праздников.
Полицмейстер (нем.) — начальник полиции в крупных городах.
Красный лакей — выражение объясняется тем, что придворные лакеи но-
сили красную одежду (ливрею).
Таврический сад — парк в Петербурге, при Таврическом дворце, построен-
ном Потемкиным и ставшем затем дворцовым владением.
Корсаж (фр.) — верхняя часть женского платья, плотно облегающая фи-
гуру; широкий пояс юбки.
Пеньюар (фр.) — утренний женский капот, домашнее легкое платье.
Ток, или тока (фр.) — высокий, прямой, без полей женский головной убор.
К ГЛАВЕ XV
Марья Антоновна Нарышкина (1779—1854) — фаворитка Александра I.
Кавалергард — солдат или офицер одного из полков, входивших в состав
гвардейской тяжелой кавалерии; офицерский состав этих полков комплекто-
вался из лиц высшей аристократии.
Фармазон — искаженное «франкмасон» (см. стр. 133).
К ГЛАВЕ XVI
Польский—польский национальный танец, которым обычно открывался
бал или торжественное собрание. К нему Г. Р. Державиным были сочинены
стихи «Гром победы раздавайся».
Глиссандо (ит.) —движение в танце, когда танцующий скользит ногами
по полу.
К ГЛАВЕ XVII
Котильон (фр.) — танец эпохи Людовика XIV, состоящий из нескольких
фигур, которые выбираются танцующими. Сперва танцует одна пара, затем
другая, повторяющая фигуру первой пары и т. д.
ГЛАВА XVIII
К ГЛАВЕ XVIII
Жерве Андрей Андреевич (1773—1832) — государственный деятель, род-
ственник Сперанского. Служил в министерстве иностранных дел и финансов.
Столыпин Аркадий Алексеевич (1778—1825) — сенатор и писатель.
1 Д. Б л а г о в о. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 224.
160
ГЛАВЫ XX-XXVI
Ряд эпизодов, характеризующих взаимоотношения Наташи
и князя Андрея, ведут нас к аналогичным взаимоотношениям
между Татьяной Берс (сестрой Софьи Андреевны) и Сергеем Ни-
колаевичем (братом Толстого). Приведем пример:
«Ни Сопя, ни Лев Николаевич пе
удивились предложению Сергея Ни-
колаевича. Решили ждать год, но это
ужаснуло и поразило меня.
— Как целый год? Почему? —
спросила я. Мне год казался веч-
ностью, и я заплакала.
— Вы так молоды, — говорил
мне Сергей Николаевич, целуя
руки,— вам еще 17-ти лет нет, с
моей стороны было бы преступлени-
ем жениться, не давая вам обду-
мать и испытать своего чувства.
— Меня испытывать не надо, —
серьезно и твердым голосом сказа-
ла я.
— Я должен устроить свои дела,
это тоже возьмет много времени,—
продолжал он.
Мои счастливые первые минуты
омрачились тем, что надо ждать
год».
(Т. А. К у з м и н с к а я. Моя
жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула,
1960, стр. 249—250.)
«— Сказала ли вам maman, что
это не может быть раньше года? —
сказал князь Андрей, продолжая
глядеть в ее глаза...
— Нет,— отвечала она, но она
не понимала того, что он спраши-
вал.
— Простите меня, — сказал
князь Андрей, — но вы так молоды,
а я уже так много испытал жизни.
Мне страшно за вас. Вы не
знаете себя...
— Как ни тяжел мне будет
этот год, отсрочивающий мое сча-
стье, — продолжал князь Андрей, —
в этот срок вы проверите себя...
— Зачем вы это говорите? —
перебила его Наташа. — Вы знаете,
что с того самого дня, как вы в
первый раз приехали в Отрадное, я
полюбила вас, — сказала она, твер-
до уверенная, что она говорила
правду».
(«Война и мир», т. 2, ч. 3, гл. XXIII;
10, 226.)
Мы неоднократно ссылались на Т. А. Кузминскую и в даль-
нейшем будем цитировать ее мемуары «Моя жизнь дома и в
Ясной Поляне». Поэтому считаем необходимым коротко оста-
новиться на личности мемуаристки и ее сочинении.
Татьяна Андреевна Кузминская, урожденная Берс (1846—
1925) была свояченицей Л. И. Толстого, младшей сестрой его
жены Софьи Андреевны. Она с детства находилась в сердечной
дружбе с великим писателем. После женитьбы Толстого Татья-
на Андреевна, будучи молодой девушкой, часто и продолжитель-
но жила в Ясной Поляне и называла ее «милым своим вторым
родительским домом». Таня была старательной переписчицей ру-
кописей Толстого, в частности писала под его диктовку некото-
рые главы «Войны и мира». Она обладала прекрасным голосом
и своим пением доставляла Льву Николаевичу большое наслаж-
дение.
В литературе о «Войне и мире» давно высказано соображе-
ние, что Т. А. Кузминская — прототип Наташи Ростовой. Сам
Толстой не скрывал того, что личность, характер Тани помогает
ему в создании любимой героини — Наташи. «...Ты думаешь, ты
6 Б. И. Кандиев
161
даром живешь у нас, — я тебя всю записываю...»1, — сказал од-
нажды Лев Николаевич свояченице.
В письме Толстого к художнику М. С. Башилову, иллюстра-
тору «Воины и мира», содержатся такие строчки: «Я чувствую, что
бессовестно говорить вам теперь о типе Наташи, когда у вас уже
сделан прелестный рисунок; но само собой разумеется, что вы
можете оставить мои слова без внимания. Но я уверен, что вы,
как художник, посмотрев Танин дагеротип 12-ти лет, потом ее
карточку в белой рубашке 16-ти и потом ее большой портрет
прошлого года (т. е. 19 лет.— Б. К. ), не упустите воспользовать-
ся этим типом и его переходами, особенно близко подходящим к
моему типу» (61, 153).
Примечательно признание актрисы Л. Савельевой, исполняю-
щей роль Наташи Ростовой в кинофильме по великому произве-
дению Л. Н. Толстого: «Перед каждой съемкой, наверное в со-
тый раз, перечитываю нужные страницы «Войны и мира». Очень
помогли мне воспоминания Т. А. Кузминской»1 2.
Проф. С. М. Брейтбург дал высокую оценку книге Т. А. Куз-
минской. Он пишет: «Столь задушевное взаимное расположение
между мемуаристкой и писателем и почти беспримерная продол-
жительность их общения, в сочетании с необычайно емкой па-
мятливостью и незаурядными литературными способностями
Т. А. Кузминской, обеспечили книге «Моя жизнь дома и в Ясной
Поляне» многостороннее и глубокое познавательное значе-
ние в отношении жизни, деятельности и творчества Л. Н. Тол-
стого» 3.
К ГЛ ABE XX
Филиация — связь, преемственность; развитие чего-либо в преемственной
связи, в прямой зависимости.
Панины — русский дворянский род.
Роббер (англ.) — в карточных играх — круг игры, состоящий из трех от-
дельных партий.
К ГЛ ABE XXII
Ипохондрия (греч.) — нервное расстройство, болезненный страх перед
заболеваниями, существующими только в расстроенном воображении больно-
го; угнетенное состояние духа, состояние безнадежности.
К ГЛ ABE XX VI
Вериги (церк.) — железные цепи, кольца и т. п., носимые на голом теле
религиозными людьми, давшими в этом обет.
1 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, I960,
стр. 290.
2 «Юность», 1964, № 6, стр. 93.
3 С. М. Брейтбург. Мемуары «Наташи Ростовой». Вст. статья к кни-
ге Т. А. Кузминской «А1оя жизнь дома и в Ясной Поляне». Тула, 1960, стр. 8.
162
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВЫ I—II
В лице Ильи Андреича Ростова Толстой показал
колоритный тип разоряющегося аристократа эпохи царствова-
ния Александра I. Добрейший и хлебосольный граф Илья Ан-
дреич Ростов, завсегдатай Английского клуба и незаменимый
устроитель парадных обедов, принадлежит к галерее дворян,
социальная биография которых прекрасно очерчена А. С. Пуш-
киным в романе «Евгений Онегин»:
...Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.
Илья Андреич Ростов сам не занимался хозяйством, оно це-
ликом было доверено плуту-приказчику, и поэтому естественно,
что при огромных расходах щедрой и гостеприимной графской
семьи материальное положение Ростовых с каждым днем ката-
строфически ухудшалось.
Типичность такого положения дел в дворянских семьях под-
тверждается рядом документов, оставленных современниками.
Так, декабрист А. А. Бестужев писал из крепости Николаю I:
«Наибольшая часть лучшего дворянства... доверяет хозяйство
наемникам, которые обирают крестьян, обманывают господ, и
таким образом 9/ю имений в России расстроено и в закладе»1.
О том же писал декабрист П. Г. Каховский: «Сколько дворян-
ских имений заложено в казне, верно более половины всех их»1 2.
В 1824 г. А. Я. Булгаков писал из Москвы брату: «Одна пе-
сня у всех: нет денег и взять негде»3.
Та же практическая неприспособленность, умение только тра-
тить, но не вести хозяйство — и у молодого Ростова. Вызванный
матерью, которая была напугана угрозой полного разорения,
Николай не знал, с чего, собственно, начать свои нововведения
в хозяйстве, чтобы поправить запущенные дела. Как и отец, он
ничего не понимал в делах и смог только накричать на вора-
управителя. Таков был первый и последний шаг молодого Росто-
ва по устройству стоящего на грани полного разорения поместья
старого графа. Чувствуя свою неспособность разобраться в за-
путанных делах отца, Николай больше за них не принимался.
Единственный выход из такого положения разоряющиеся
дворяне видели в женитьбе на богатых невестах. Эта тема про-
1 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 131—132.
2 «Из писем и показании декабристов», под ред. А. К. Бороздина. СПб.,
1906, стр. 9.
3 «Русский архив», 1901 № 5, стр. 55
6* 163
ходит через многие страницы романа-эпопеи (ищут богатую на-
следницу Анатоль Курагин, Берг, мечтает о женитьбе Николая
на Жюли или княжне Марье Ростова-мать).
Я ГЛ ABE I
Манёвр (фр.) — передвижение войск (или флота) в боевой обстановке с
целью нанести удар противнику с наиболее выгодной позиции.
К ГЛ ABE II
Земский — в царской России — волостной или общинный писарь.
Транспорт (бухг.) — перенос итога с одной страницы на другую.
ГЛАВЫ III—VII
Толстой рисует замечательную картину охоты. Она отлича-
ется такой художественной выразительностью, что дает зритель-
ные, слуховые и осязательные ощущения. Мы воочию видим по-
гоню собак за спасающимся зверем, слышим звуки улюлюканий
охотников, осязаем шерсть черно-пегой Милки или старого Ка-
рая. Такую картину мог написать только художник, сам много
раз бывавший на охоте в качестве не только зрителя, но и страст-
ного участника.
Мемуары оставили потомству ряд интересных зарисовок охо-
ты, так как она была широко распространенной барской заба-
вой. Охота воспроизведена и во многих художественных произ-
ведениях, рисующих дворянскую жизнь в XIX в. Содержание
огромной псарни и охотничьей прислуги требовало больших зат-
рат, но все это не смущало помещиков: лишь бы была удовлет-
ворена барская прихоть, честолюбие.
Обратимся к мемуарным зарисовкам этой стороны помещи-
чьей жизни. Вот одна из таких картин:
«Охота напоминает что-то воинственное: и всадники и воево-
ды одеты и вооружены, сообразно званию, значению и должно-
сти; шаровары или рейтузы сверх сапогов, куртки, чекмени, вен-
герки, казакины с патронташами, картузы, шляпы, шапочки,
колпаки, ермолки, турецкие в серебряной обделке кинжалы, с
чернью, с цветными камнями, охотничьи ножи в рябой, ослиной
коже, с костяными рукоятками, тульские и турецкие пистолеты,
арапники и хлыстики, свистки и духовые рога.
Передовой отряд составляют псари, которые ведут гончих
на смычках. Главное войско — ловчие, с борзыми всех пород,
статей, наклонностей, достоинств, добродетелей... За борзыми
тянутся охотники-господа на дрожках, в одноколках и коляс-
ках; за ними подвигаются линейки с барынями и барышнями...»
И далее: «Гончие пущены с разных точек в лес. Псари трубят,
порскают и хлопают арапниками. Собаки визжат, лают, бегают,
нюхают, вдруг зальются, вдруг замолкнут, вдруг затянут всеми
стаями такую песню, напав на след зайца, волка или лисицы, что
164
лес дрожит, в ушах трещит. По опушке леса ловчие выжидают
зверя или зверька, чтоб проводить его дальше на поляну, где
нетерпеливо высматривают желанного гостя стремянные — и
вот добыча направлена прямехонько на господ... ату его!..» 1
Однако сцена охоты в «Войне и мире» — не просто мастерски
написанная картина из дворянского быта, ее значение не только
в огромной впечатляющей силе как произведения высокого ис-
кусства, но и в чем-то другом, более значительном.
Сцена охоты играет важную роль в общей композиции ро-
мана-эпопеи Толстого и помогает читателю глубже проникнуть
в творческую концепцию писателя. Это великолепно показал
Мих. Лифшиц в отклике на статью известного словенского кри-
тика Иосипа Видмара «Из дневника».
Анализируя поэтическое мастерство Толстого в области пей-
зажа и в особенности диалога, Мих. Лифшиц говорит: «И все
же речи людей также не самое важное в искусстве. Самое важ-
ное то, что происходит, сама фабула охоты... Здесь основной фо-
кус, в котором собираются все лучи, освещающие картину как
целое. Это источник ее поэтического обаяния, реальная связь
вещей и человеческих отношений, то, что в конечном счете дает
пейзажу его настроение, а разговорам людей и всем разнообраз-
ным звукам, наполняющим осенний воздух в это свежее утро,
их смысл и особую красоту. То, что происходит, есть само содер-
жание дела или, если угодно, это гениальное развитие мысли,
заложенной в его объективном содержании»1 2.
Дальше Мих. Лифшиц тонко анализирует всю сцену охоты со
стороны ее социального содержания, определяет расстановку
ее участников, которая, естественно, должна была возникнуть
там, где потребовались от человека отвага, мужество, находчи-
вость и сноровка — качества, мало присущие сибаритствующим
барам.
«Как всякое серьезное испытание,— замечает Лифшиц,—
охота подводит своего рода «гамбургский счет». Она перевора-
чивает социальные отношения, и на один миг все, что тянется
кверху или книзу, все ступени и ценности меняются местами.
Игра становится настоящим миром, а то, другое,— звания, бо-
гатство, связи, условия — чем-то ненастоящим»3.
Такой аспект анализа сцены охоты в «Войне и мире» приво-
дит исследователя к выводу, что в ней выражен «результат об-
щего взгляда на жизнь, принадлежащего Толстому н как бы
разлитого в его произведении...»4.
1 «Картины русского быта в старину. Из записок И. В. Сушкова». См.
си. «Раут на 1852 год». М., 1852, стр. 488—491.
2 «Новый мир», 1957, № 9, стр. 209.
3 Т а м ж е, с гр. 210.
4 Т а м ж е, стр. 212.
165
Интересные соображения о сцене охоты высказал и С. Бо-
чаров1. Автор книги устанавливает органическую связь между
этим небольшим эпизодом и грандиозными батальными карти-
нами всей эпопеи 1812 г. «Разве не близок всему Данилиному
облику образ «дубины народной войны»?1 2 — спрашивает Боча-
ров. И отвечает: «На охоте, где он был главной фигурой, от него
зависел ее успех, крестьянин-охотник всего на мгновение стано-
вился господином над своим барином, который на охоте был
бесполезен»3. Отсюда аналогия между «бесполезным барином»
на охоте и совершенно бесполезной камарильей целого ряда во-
енных и гражданских чинов во всей кампании двенадцатого года.
Так, при внимательном рассмотрении этого, казалось бы, ма-
ло связанного с ведущей темой романа-эпопеи эпизода устанав-
ливается его широкое социально-историческое значение.
«Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай
оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял
предложение дядюшки оставить охоту ночевать у него (у дя-
дюшки), в его деревеньке Михайловке». (Гл. VII; 10, 261.)
Прекрасна по своей простоте и поэтичности сцена в гостях
у дядюшки. В ней Толстой выразил свою любовь ко всему рус-
скому. Сам дядюшка — этот типичный русский провинциальный
помещик средней руки — полон поэтического обаяния. Его лю-
били во всей губернии как благороднейшего и бескорыстнейшего
чудака. Толстой говорит, что «его призывали судить семейные
дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его вы-
бирали в судьи и другие должности...» (Гл. VII; 10, 264.)
Полна поэзии, обаяния и русская красавица, крепостная
женщина Анисья Федоровна. Вот ее портрет: «...Вошла толстая,
румяная, красивая женщина лет 40, с двойным подбородком и
полными, румяными губами. Она с гостеприимной представи-
тельностью и привлекательностью в глазах и каждом движении
оглянула гостей и с ласковой улыбкой почтительно поклонилась
им». (Гл. VII; 10, 263.)
Красоту и обаяние дядюшки и Анисьи Федоровны дополняет
истинно русское хлебосольство, то радушие, отпечаток которого
лежит на каждом блюде деревенской кухни, с такой любовью
приготовленном для желанных гостей.
Толстой не только показывает провинциальный помещичий
быт — он раскрывает русскую музыкальную душу.
Здесь уместно сделать маленький экскурс в историю бала-
лайки, этого, казалось бы, незатейливого русского народного
инструмента.
1 См.: С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиз-
дат, 1963, стр. 19—32.
2 Т а м ж е, стр. 30,
3 Т а м же.
166
Балалайка появилась в на-
чале XVIII в., она получила
широкое распространение в
народе, преимущественно в кре-
стьянской среде, широко при-
менялась для сопровождения
танцев, народных песен и час-
тушек. Часто балалайка вклю-
чалась деревенскими музы-
кантами в ансамбли. Митька,
дядюшкин кучер, очевидно, иг-
рал на балалайке работы дере-
венских умельцев, которая яви-
лась прообразом нынешней ба-
лалайки.
Образцы старинных русских
балалаек
Долгое время этот инстру-
мент третировался дворян-
ской знатью, и крайне тернист
был его путь на концертную
сцену, к полному и всеобще-
му признанию. Знаменателен
факт обращения В. В. Андре-
ева, первого организатора ор-
кестра балалаечников, с пись-
мом (3 марта 1896 г.) к
Л. Н. Толстому, в котором он просил великого писателя рассеять
его сомнения в разумности начатого им дела. Толстой дал весь-
ма доброжелательный ответ. Он писал:
«Милостивый государь Василий Васильевич. Я думаю, чтобы
делаете очень хорошее дело, стараясь удержать в народе его ста-
ринные, прелестные песни. Думаю, что и путь, избранный ва-
ми, приведет вас к цели, и потому желаю успеха вашему делу.
С совершенным уважением готовый к услугам Л. Толстой.
20 марта 1896» (69, 69).
Характерно здесь словарное совпадение: «...это прелесть что
такое», — говорит Наташа о песнях, наигранных Митькой;
«...удержать в народе его старинные, прелестные песни»,— пи-
шет Андрееву Толстой (курсив наш.— Б. К.).
Не менее знаменателен и другой факт—приглашение Тол-
стым в 1909 г. в Ясную Поляну знаменитого виртуоза игры на
балалайке, прозванного в газетах и журналах Европы и Амери-
ки «балалаечным Паганини», Бориса Сергеевича Трояновского.
Встреча прославленного музыканта с писателем доставила по-
следнему большое эстетическое наслаждение. «Я, буквально,
слышал нежный женский голос,— говорил Толстой об игре Тро-
яновского.— Когда слушаешь балалайку издали, получается пол-
ная иллюзия пения. Удары пальцев по струнам, которые слышны
167
здесь вблизи, на расстоянии совершенно исчезают, и издали
слышится только один чистый, певучий звук»1.
В знак признательности музыканту Толстой подарил ему
свою фотографию с надписью: «Борису Сергеевичу Трояновско-
му как выражение благодарности за большое, давно не испытан-
ное удовольствие, доставленное мне его самобытно-талантливой
игрой. Лев Толстой. 6 июня 1909 г.»1 2.
Автор «Войны и мира» был влюблен во все самобытно-рус-
ское, во все первозданное, несущее черты подлинной народности.
И этой любовью он щедро наградил свою героиню, Наташу.
Русские самобытные черты в характере Наташи Ростовой от-
мечали критики — современники Толстого. Так, Николай Ахша-
румов писал о ней: «Эта графиня, воспитанная француженкой-
эмигранткой и блестящая па бале у Нарышкиных, в главных чер-
тах своего характера ближе к простому народу, чем к своим
светским сестрам и современницам»3.
Завершающим эпизодом нарисованной Толстым картины яв-
ляется пляска Наташи под музыку дядюшки, который оказался
отличным гитаристом — исполнителем русских песен. Дядюшка с
таким мастерством и задушевностью взял первые аккорды из-
вестной русской песни «По улице мостовой», что они сразу за-
дели за живое слушателей, а Наташа уже не смогла устоять на
месте, сбросила с себя платок и своей пляской привела в изум-
ление всех присутствующих.
Имели ли место в действительности подобные сцены деревен-
ских развлечений? Мог ли писатель в самой жизни наблюдать
аналогичные картины? Приведем воспоминания современников.
Один из них пишет: «В деревне случается порой, что и старый
барин с пожилою барыней, как дети, веселятся в кругу своих
верных челядинцев: созовут в столовую горничных, молодых и
старых, да запевал и бойких плясунов из дворовых — и пошла
потеха: и песни и пляски — что твои цыгане!.. Старая барыня с
участием следит за всеми движениями и прыжками сельских
Дюпоров, за толкотней толпы в кругах и за пляской на выход
доморощенных Фанни и Тальони. Сам старый барин, приплясы-
вая... мало-помалу начинает подтягивать — ай! во лузях!.. во по-
ле береза стояла... вор воробей... потом решительно примыкает
к хору и напоследок совершенно слагает с себя все величие
домовладыки, утопая в весельи, как сыр в масле!..4
1 Б. Трояновский. Русские народные песни. М., Музгиз, 1962, стр. 3.
2 Т а м ж е, стр. 3.
3 Н. Д. А х ш а р у м о в. «Война и мир». Сочинение гр. Толстого. 1—4 части.
«Всемирный труд», 1868, апрель, стр. 50.
4 «Картины русского быта в старину. Из записок Н. В. Сушкова». См. сб.
«Раут на 1852 год». М., 1852, стр. 482—483.
168
Сцене пляски Наташи в гостях у дядюшки соответствует
реальный эпизод, имевший место с Татьяной Кузминской у Дья-
ковых, соседей Толстых по имению.
Варвара Валентиновна Нагорнова (племянница Толстого)
в 1916 г. в приложении к газете «Новое время» поместила ста-
тью «Оригинал Наташи Ростовой», в которой рассказывала:
«В шестой фигуре кадрили оркестр заиграл «Камаринского».
Лев Николаевич стал выкликать, кто может плясать «русскую»,
но все стояли молча. Тогда он обратился к Колокольцеву со
словами: «Пройдись «русскую», неужели вы можете стоять на
месте?» Оркестр забирал все больше и больше.
— Ну, ну,— понукал дядя. Колокольцев сделал решительный
шаг вперед и, описав плавный круг, остановился перед Таней.
Я видела ее колебание и мне стало страшно за нее».
Приведя эти воспоминания В. В. Нагорновой в книге «Моя
жизнь в Ясной Поляне», Т. А. Кузминская продолжает:
«Но не только Варя, а и сама я чувствовала робость, а вме-
сте с тем еле-еле стояла на месте. Я чувствовала, как во мне
дрожало сердце, как дрожали плечи, руки, ноги, и как они сами,
помимо моей воли, могли бы делать то, что нужно.
Варенька пишет: «Лицо ее выражало восторженную реши-
тельность, и, вдруг, подбоченясь одной рукой и подняв другую,
она легкими шагами поплыла навстречу Колокольцеву. Кто-то
бросил ей платок. Подхватив его на лету, она уже, не заботясь
об окружающих, плясала так, как будто она никогда ничего дру-
гого не делала. Все зааплодировали» Ч
К ГЛ ABE III
Замолаживать (обл.) — пасмурнеть, заволакиваться туманом, клониться
к дождю.
Доезжачий (охотн.) — старший псарь, распоряжающийся собаками во
время охоты.
Арапник — охотничий кнут для собак.
Порскать (охотн.) — криком натравливать гончих на зверя.
Ловчий — лицо, заведовавшее (у бар, помещиков) разными видами лов-
ли (охотой, рыбной ловлей), преимущественно же псовой охотой.
К ГЛАВЕ IV
Заказ — заповедный лес или роща, в которой запрещено («заказано»)
рубить и охотиться.
Игреневая лошадь — лошадь рыжей масти, с белесоватыми хвостом и
гривой.
Стремянный — конюх-слуга, ухаживающий за верховой лошадью своего
господина.
Лаз (охотн.) —место или путь, по которому обычно проходят звери; при
псовой охоте выслеживается охотниками заранее.
1 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула,
1960, стр. 417.
169
Выжлятник — в псовой охоте — старший псарь, который водит стаю
гончих собак, пускает и отзывает ее.
Свалить стаи (охотн.)—соединить несколько стай гончих собак в одну.
Выжлец (охотн.) — гончий кобель.
Оттопать, или оттоптать, зверя (охотн.) — спугнуть, отогнать зверя с
опушки леса, вернуть его в поле.
Помкнуть (охотн.) — вынудить зверя бежать в определенном, желательном
для охотника направлении.
Уймище— лес, обширное пространство.
Подать голос (охотн.)—дать знать, что гончие собаки подняли и гонят
зверя; о появлении каждого зверя дают знать особым звуком.
К ГЛ A BE V
Засека — место, оставшееся после вырубки леса и покрытое пнями, мо-
лодыми побегами.
Сострунить (охотн.) — перевязать зверю морду, связать его, чтобы при-
везти живым.
К ГЛ ABE VI
Завести гончих — пустить гончих собак с определенного, нужного места.
Спеть, доспеть — здесь: поспеть, погнаться (о собаках).
Чумбур, или чембур (тюрк.) — род повода, одинарный ремень (кроме
поводьев), специально служащий для привязывания.
Торока (спец.) — ремешки с пряжками для привязывания позади седла,
у задней луки, убитого зверя и пр.
Диана — в древнеримской мифологии — богиня охоты, сестра Аполлона,
бога искусств. (В древнегреческой мифологии — Артемида.)
Угорь — здесь: крутой подъем.
Чистопсовая, или густопсовая, собака—охотничья собака русской псо
вой породы — с большой грудью, толстой шеей, широким крестцом,вся мох-
натая, особое правило (хвост).
Лады (собаки) — сложение, стать, признаки и особенности той или дру-
гой породы охотничьей собаки.
Поддзрить (охотн.) — заметить лежачего зайца.
Смычок — в псовой охоте — две гончие собаки, связанные цепочкой за
ошейники.
Воззриться—заметить, увидеть зайца (о собаках).
Заложйться— погнаться (о собаках).
Отсесть (охотн.) — сделать прыжок вверх или в сторону (к зайцу).
Повиснуть (охотн.) — настигнуть зайца и продолжать некоторое время
на одинаковом расстоянии бежать за ним (о собаках).
Вихнуть (охотн.) — вильнуть, изменить направление бега, резко свер-
нуть в сторону (о русаке).
Пазанчить, или отпазанчить (охотн.)—отрезать у затравленного зайца
задние ляжки (пазанки) до щиколотки.
Пазанка (охотн.) — у зайцев и у собак часть задней ноги от скакатель-
ного (голенпого) сустава и ниже, а также часть передней ноги от запястья
и ниже.
Угонка (охотн.) — момент во время псовой охоты, когда собаки насти-
гают зверя и заставляют его повернуть.
К ГЛ ABE VII
Казакйн— короткий полукафтан.
Юрага — сыворотка, остатки от сбитого масла.
Душеприказчик—лицо, которому завещатель поручает привести в ис-
полнение свое завещание.
Каурый (обл.) — светло-каштановый, желто-рыжий (о масти лошади).
170
ГЛАВЫ VIII-XII
Толстой рисует душевное смятение супругов Ростовых в свя-
зи со все более и более ухудшающимся положением семьи. Илья
Андреич вышел из предводителей, что значительно сократило
расходы, так как теперь уже не нужно было иметь большого
приема и Отрадненская жизнь стала значительно умеренней и
тише. Но тем не менее, замечает Толстой, дом был переполнен
народом и ежедневно за столом находилось более 20 человек.
Что же это были за люди?
Толстой рисует типичную картину жизни богатой бар-
ской семьи, количественный состав которой определяется нали-
чием в ней не столько родственников, сколько лиц обслуживаю-
щего персонала: учителей, воспитателей, наконец приживалов и
приживалок. Толстой пишет: «Все это были свои, обжившиеся
в доме люди, почти члены семейства или такие, которые, каза-
лось, необходимо должны были жить в доме графа. Таковы бы-
ли Диммлер— музыкант с женой, Фогель — танцевальный учи-
тель с семейством, старушка-барышня Белова, жившая в доме,
и еще многие другие: учителя Пети, бывшая гувернантка бары-
шень и просто люди, которым лучше или выгоднее было жить
у графа, чем дома. Не было такого большого приезда, как пре-
жде, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с
Усадьба. С картины, приписываемой графу А. Г. Кушелеву-Безбородко
графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличен-
ная Николаем, охота, те же 50 лошадей и 15 кучеров на конюш-
не, те же дорогие подарки в именины и торжественные на весь
уезд обеды; те же графские висты и бостоны, за которыми он,
распуская всем на вид карты, давал себя каждый день на
сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять
партию графа Ильи Андреича, как на самую выгодную аренду».
(Гл. VIII; 10, 269.)
Вот где источник разорения беспечных и безалаберных дво-
рян, не умеющих не только сколько-нибудь рационально поста-
вить доставшееся им в наследство хозяйство, но и оградить
его от полного разорения. Картина, созданная Толстым, напи-
сана с натуры, и отражает она не единичные явления в эпоху
крепостничества, а типические.
Каролина Павлова в своих воспоминаниях говорит о знатной
и богатой помещице Наталье Андреевне Карповой следующее:
«В доме своем она имела все, что следовало и что, по ее мнению,
иметь в доме было необходимо: свою церковь, своих певчих,
своих швей, своего портного, своего башмачника, своего обой-
щика, своего столяра... Челядь бесчисленная, толпа горничных
под начальством барской барыни; особая комната для болонок
и для приставленных к ним девушек; у каждой двери господ-
ских покоев огромный малый» *.
Ряженые па святках и святочные гаданья были обычным
развлечением усадебного дворянства.
Устройство своеобразных вечеров в дни святочных праздни-
ков имеет свою длительную и чисто русскую традицию. Корни
ее уходят в седую старину, поэтическая их прелесть связана с
русским народным творчеством.
Рисуя Ростовых как барскую семью, не порывавшую с рус-
ским бытом, русскими обычаями, изображая молодое поколение
этой семьи исключительно талантливым в музыкальном отно-
шении, Толстой не мог обойти и этой стороны поместного быта
жизни,— он дал в своем романе ряд ярких сцен святочных раз-
влечений. Толстой пишет:
«Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, ба-
рыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье,
сначала робко жались в передней; потом, прячась один за дру-
гого, вытеснились в залу; и сначала застенчиво, а потом все ве-
селее и дружнее начались песни, пляски, хоровые и святочные
игры». (Гл. X; 10, 279.)
«...После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна
соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг;
1 К. Павлов. Собр. соч., т. II. М., 1915, стр. 296.
172
Тройка. С акварели К. Бегерова
принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие иг*
ры». (Гл. XI; 10, 284.)
Сцены с ряжеными и святочным гаданьем написаны Толстым
с натуры. Вспоминая детские годы, Толстой рассказывает о
святочных развлечениях: «Это было... на святках, в то время,
как мы, дети, и несколько дворовых в зале играли в «пошел руб-
лик». Про эти святочные увеселения надо тоже рассказать. Свя-
точные увеселения происходили так: Дворовые все, очень много,
человек 30, наряжались, приходили в дом и играли в разные
игры и плясали под игру на скрипке старика Григорья... Это было
очень весело. Ряженые были, как всегда, медведь с поводырем
и козой, турки и турчанки, разбойники, крестьянки — мужчины
и мужики — бабы. Помню, как казались*мне красивы некоторые
ряженые и как хороша была особенно Маша-турчанка. Иногда
тетинька наряжала и нас. Был особенно желателен какой-то
пояс с каменьями и кисейные полотенца, вышитые серебром и
золотом, и очень я себе казался хорош с усами, наведенными
жженой пробкой. Помню, как, глядя в зеркало на свое с чер-
ными усами и бровями лицо, я не мог удержать улыбки удо-
вольствия, а надо было делать величественное лицо турка... В
одну из святок в моем первом детстве... приехали к нам все Ис*
леньевы ряженые: отец — дед моей жены, три его сына и три до-
чери. На всех были удивительные для нас костюмы: был туалет,
был сапог, картонный паяц и еще что-то...
Такие увеселения происходили первые дни рождества и под
новый год, иногда и после, до крещенья» (34, 377—378).
173
Эти старинные традиции были еще весьма широко распрост-
ранены в начале XIX в. как в деревенском быту, так и в дворян-
ских усадьбах. Они нашли отражение в произведениях Жуков-
ского («Светлана»), Пушкина («Евгений Онегин»). О ряженых
говорит проф. П. А. Висковатов в биографии Лермонтова, рисуя
детство поэта: «Святками каждый вечер приходили в барские
покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли, кто во что
горазд»
К ГЛАВЕ VIII
Вист (англ.) — род карточной игры вчетвером.
Тенёта — сеть для ловли зверей.
К ГЛ ABE IX
Фейерверк (нем.) — цветные огни, получаемые сжиганием слабовзрывча-
тых смесей; употребляются для иллюминации или сигнализации.
Святки — церковный праздник, продолжающийся с 25 декабря до 6 ян-
варя ст. ст. (от рождества до крещения).
К ГЛ ABE X
Ноктюрн (фр.)—род небольшого лирического музыкального произведе-
ния
Фильд Джон (1782—1837) — пианист и композитор, известный своими
фортепьянными концертами и ноктюрнами. В 1804—1831 гг. жил в Петербур-
ге, давая уроки и концерты.
Метампсикдза (метемпсихоза) — лженаучная теория о переселении душ
после смерти из одного человека в другого или в животное.
Фижмы (нем.)—принадлежность женской моды XVIII и начала XIX в.,
широкий каркас в виде обруча, вставляемый под юбку у бедер для прида-
ния пышности фигуре.
Анфилада (фр.)—длинный, сквозной ряд комнат, у которых двери или
арки расположены по одной линии.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ГЛАВЫ I-V
«За обедом разговор зашел о последней полити-
ческой новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольден-
бургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной
ко всем европейским дворам». (Гл. III; 10, 304.)
Присоединив Ольденбургское герцогство к Франции, Напо-
леон предоставил герцогу, как близкому родственнику Алек-
сандра I, право выбрать другую область. Герцог отказался от
этого предложения, после чего к нему явились французские ко-
1 П. А. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчест-
во. В кн.: М. Ю. Л ер мон то в. Сочинения, т. 6. М., 1891, стр. 18.
174
миссары с предписанием опечатать все казенные суммы и заяви-
ли, что его владение присоединено к Франции, а ему выделен Эр-
фурт. В ответ на это действие Наполеона русский император ра-
зослал своим послам в европейских странах ноту протеста для
вручения ее соответствующим правительственным лицам.
Одним из актов в общей цепи корыстных стремлений и по-
ступков Бориса Друбецкого была его женитьба на немолодой
и некрасивой, но богатой Жюли Карагиной. Борис ее не любил
и не мог любить, но пензенские и нижегородские имения не да-
вали ему покоя. Несмотря на отвращение к Жюли, Борис сделал
ей предложение. Жюли не только приняла предложение, но, лю-
буясь красивым, молодым женихом, заставила его высказать
все то, что в таких случаях говорят, хотя и была убеждена в
полной неискренности его слов. Толстой замечает, что «за пен-
зенские имения и нижегородские леса опа могла требовать
этого, и она получила то, что требовала». (Гл. V; 10, 314).
Все это было совершенно естественно для представителей
паразитического общества, имеющего только одно желание:
жить не трудясь, богато и роскошно. Передаваемые из поколе-
ния в поколение традиции великосветской жизни выработали
определенные понятия, что значит держать свой дом па высоте
требований света. Десять, пятнадцать тысяч годового дохода
не считались состоянием, достаточным для того, чтобы можно
было решиться вступить в брак с девицей без богатого прида-
ного. Средняя норма для высшего круга по неписаному уставу
считалась 80—100 тысяч. Без этих средств нечего было и думать
о твердом положении в свете.
Интересны рассуждения по этому вопросу М. А. Волковой в
письме к подруге, В. И. Ланской: «Прежде ты говорила, что бо-
гатство— последняя вещь в супружестве; если встретишь че-
ловека достойного и полюбишь его, то можно довольствоваться
небольшими средствами и быть в тысячу раз счастливее живу-
щих в роскоши. Так рассуждала ты три года тому назад. До
чего изменились твои воззрения с тех пор, как ты живешь среди
роскоши и тщеславия! Разве без богатства уже и жить нельзя?
Неужели все те, у кого пятнадцать тысяч в год, — несчастны» Г
И в другом месте: «Я знаю молодых людей, имеющих по-
больше 15-ти тысяч в год, которые не решались жениться на де-
вушках тоже не без состояния, но, по их мнению, недостаточно
богатых для них; то есть они полагают, что нельзя жить с се-
мейством, не имея от восьмидесяти до ста тысяч дохода»1 2.
Считалось необходимым иметь роскошный дом с прекрасной
и дорогой обстановкой, примерно такой, как описывает в своих
1 «Вестник Европы», 1874, № 9, стр. 150.
2 Там же, стр. 156.
175
записках Д. Благово: «До 1812 года дом был украшен по тог-
дашнему очень хорошо лепными фигурами; внутренность дома
графская: штучные полы, мебель с позолотой; мраморные столы,
хрустальные люстры, штофные шпалеры, словом сказать, все
было в надлежащем порядке...» ].
Дом обставлялся надлежащим образом, иначе быстро можно
было уронить реноме своей фамилии. Но дело было не только в
роскошной обстановке, в дорогих обедах или нарядах. Все это,
быть может, и не могло вызвать столь колоссальных расходов.
Дело было и в прожигании жизни, в картежной игре, вследст-
вие которой проигрывались за ночь целые состояния. Толстой ни-
сколько не преувеличивает, вкладывая в уста князя Василия
грустные слова о разгульном его сыне Анатоле: «Нет, вы зна-
ете ли, что этот Анатоль мне стоит 40 000 в год...» (Гл. I; 9, 8.)
К ГЛ АВЕ 1
Бенефис — спектакль в пользу одного из артистов — участников его.
Мария Луиза (1791—1847) — императрица французская, дочь австрий-
ского императора Франца I и Марии Терезии; с 1809 г. — жена Наполеона I.
«Астрой» — название одной из масонских лож.
«Ищущие манны» — название масонской ложи; манна — легендарная пи-
ща, «падающая с неба».
Шотландский ковёр. Принадлежностью каждой масонской ложи был свой
ковер в символическом изображении; ложи стремились получить эти ковры
из наиболее уважаемой и старинной масонской организации.
Корпуленция (лат.) — ироническое выражение, означающее: дородство,
тучность.
К ГЛ ABE III
Лопухйн, вероятно, Иван Владимирович (1756—1816)—известный масон
и мистик. Жил в Москве, где был сенатором. В 1812 г. вышел в отставку. Кня-
зем, как его называл Толстой, не был.
Ольденбургский герцог Петр Фридрих Людвиг (ум. в 1829 г.)—принц.
Был женат на принцессе Виртембергской Фредерике (ум. в 1785 г.), сестре
императрицы Марии Федоровны. Воспитывался при русском дворе и служил
в русской армии. В 1785 г. был назначен соправителем герцогства Ольден-
бургского, с 1823 г. — самостоятельным его правителем.
Ольденбургское дело — насильственное присоединение к Франции герцог-
ства Ольденбургского. Наполеон совершил этот акт в 1811 г. с целью укреп-
ления контитентальной системы.
Лористбн Александр Жак Бернар Ло (1768—1828) —маршал Франции.
Участвовал в кампаниях 1805—1809 гг. В 1811 г. был послом в Петербурге.
Тильзитский мир — мир между Францией, с одной стороны, и союзными
Россией и Пруссией — с другой; заключен после военного разгрома Пруссии
Наполеоном осенью 1806 г. Мирные условия были выработаны в результате
переговоров Наполеона и Александра I.
Кунсткамера (нем.) — собрание редкостей, естественноисторических
и других.
Гусли — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент, на ко-
тором играли обеими руками, положив его на колени.
1 Д. Благово. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 283,
176
К ГЛ ABE V
Буриме (фр.) — заданная рифма и написанное на нее стихотворение; в
начале XVIII в. — модная светская игра.
ГЛАВЫ VI-XIII
Из эпизодических фигур «Войны и мира» весьма колорит-
ным является образ Марьи Дмитриевны Ахросимовой. О про-
тотипе Ахросимовой, Наталье Дмитриевне Офросимовой, оста-
вили интересные воспоминания многие современники. Выше мы
приводили соответствующие страницы из мемуаров С. П. Жи-
харева «Записки современника» и А. А. Стаховича «Клочки
воспоминаний». Весьма любопытны также воспоминания об
Офросимовой Д. Н. Свербеева:
«...Настасья Дмитриевна Офросимова, переехавшая после
своего вдовства из Л4осквы в Петербург для длительного над-
зора за гвардейской службой своих двух или трех сыновей, из
коих младшему, капитану гвардии, было уже гораздо за 30 лет.
Обращаясь нахально со всеми членами высшего московского и
петербургского общества, детей своих держала она в страхе бо-
жием и в порядке и говорила с любовью о их беспрекословном
к ней повиновении: «У меня есть руки, а у них щеки...» Бойкость
характера Настасьи Дмитриевны известна была обществу обеих
столиц и самому императору. Надо сказать, что она всегда
стояла за правду и везде громогласно поражала порок. Еще в
1809 году, когда государь Александр, вместе с своей сестрой
в. к. Екатериной Павловной, посещал Москву, Офросимовой
удалось одним словом с выразительной жестикуляцией унич-
тожить взяточника, сенатора С. Вот как это было: государь си-
дел в своей маленькой ложе над сценой небольшого москов-
ского на Арбатской площади театра; Офросимова, не подчиня-
вшаяся никоим обычаям, была в первом ряду кресел и в антрак-
те, привстав, стала к рампе, отделяющей партер от оркестра,
судорожно засучивая рукава своего платья. Увидев в 3 или 4
№ бенуара сенатора, она... в виду всех пальцем погрозила се-
натору и, указав движением руки на ложу государя, громоглас-
но во всеуслышание партера произнесла: «С., берегись!» Затем
она преспокойно села в свои кресла, а С., кажется, вышел из
ложи. Очень понятно, что государь начал расспросы, что бы
все это могло значить. Ему были вынуждены объяснить, что
действительный тайный советник М. Г. С. хотя и почитается в
обществе самым дельным из всех московских сенаторов, но в то
же время многими, и не без вероятности, признается взяточни-
ком. Через несколько времени сенатор С. был отставлен»1.
1 Д. Н. С вер беев. Записки, т. 1, 1799—1826. М., 1899, стр. 260—262.
(В отличие от других мемуаристов, Свербеев называет Офросимову не На-
тальей, а Настасьей.)
177
Неоднократные упоминания имени Натальи Дмитриевны
Офросимовой в мемуарных произведениях первой четверти
XIX в. свидетельствуют о несомненной ее популярности. По-
этому очень возможно, что Толстой знал эту колоритную фи-
гуру эпохи не только по книжным источникам, а и по преда-
ниям и воспоминаниям светских «старожилов».
С реальных лиц написан также портрет Анатоля Курагина.
Прототипами для этого героя послужили князь Анатолий Ба-
рятинский и Анатолий Шостак. О последнем яркие страницы
оставила в своих воспоминаниях Татьяна Кузминская. Цитируя
также высказывания В. В. Нагорновой, Кузминская пишет:
«А. Шостак был один из тех людей, которых часто встре-
чаешь в свете... Он был самоуверен, прост и чужд застенчиво-
сти». Он любил женщин и нравился им. Он умел подойти к ним
просто, ласково и смело. Он умел внушить им, что сила любви
дает права, что любовь есть высшее наслаждение. «Преград для
него не существовало. Не бывши добрым, он был добродушен.
В денежных делах честен и даже щедр. В обществе он бывал
остроумен и блестящ, прекрасно владел языками и слыл за ум-
ного малого» !.
Т. Кузминская нарисовала ряд сцен ухаживания за ней это-
го искусного донжуана. Все это очень напоминает взаимоотноше-
ния, сложившиеся между Наташей и Анатолем. Вот, например,
сцена в театре по воспоминаниям Т. Кузминской.
«Капельдинер отворил дверь, и вошел Anatole. Вся фигура
его дышала каким-то небрежным изяществом. Все, что он де-
лал— входил в ложу, здоровался, целовал руку Julie, — все
было так, как должно быть: просто, непринужденно, ласково,
особенно со мной, как мне казалось тогда...
— Vous etes dclicieuse aujourd’hui, cette coiffure vous va a
merveille (Вы прелестны сегодня, эта прическа так чудно идет
вам), — продолжал он, играя моим веером и близко нагибаясь
ко мне.
Я чувствовала, что краснею, и хотела отодвинуться. «Он,
пожалуй, обидится», — снова мелькнуло у меня в голове, и я
осталась на месте. Опять что-то необъяснимое и страшное при-
тягивало меня к нему.
Несколько минут длилось молчание. Он, улыбаясь, при-
стально глядел на меня, как бы изучая мой туалет, мое выра-«
жение лица, мою шею с бархоткой... «Нет, это не должно быть...
Ведь никто никогда не был со мной так, как он», — думала я,
упрекая себя, обвиняя его, но в чем, я не умела себе ответить,
и решительно встала, чтобы уйти»1 2.
1 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1960,
стр. 206—207.
2 Т а м ж е, стр. 182—183.
178
Большой театр в старом Петербурге. С акварели К. Беггрова
Воспоминания Кузминской были написаны полвека спустя
после «Войны и мира», и изображенная ею сцена могла быть
передана Толстому в устном рассказе. Толстой, задумав образ
Наташи как сквозное действующее лицо романа, вел постоян-
ное и длительное наблюдение за своей любимой свояченицей,
Татьяной. Она в свою очередь была душевно расположена к пи-
сателю и охотно ему рассказывала о своих переживаниях. Когда
Толстой узнал о случившемся с Таней в Петербурге, его очень
заинтересовала личность Анатолия Шостака. Лев Николае-
вич старался поподробнее узнать о переживаниях Тани во время
ее увлечения этим великосветским львом. «...Лев Николаевич
часто останавливал меня вопросами: «Что же ты чувствовала,
что это было нехорошо?» или «Как же он был с тобою?» и т. п.
Я не подозревала тогда цели его вопросов и была с ним откро-
венна» — писала Кузминская в своих воспоминаниях.
Это признание Кузминской показывает, что Толстой в своих
наблюдениях над окружающей его средой не ограничивался
только внешними впечатлениями, — ему нужны были не только
портретные черты натуры, но и ее душа.
1 Т А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 19G0,
стр. 19G.
179
Дело, конечно, не в прототипах, не во взаимоотношениях
между Таней Берс и Анатолием Шостаком, о которых рассказы-
вала свояченица писателя. Все эти предания и наблюдения мог-
ли послужить для автора «Войны и мира» лишь первоначаль-
ной канвой, на которой выросла сложная жизненная филосо-
фия, так гениально воплощенная в образе обаятельной, не-
сколько наивно рассуждающей Наташи и аморального, безу-
держного в своих чувственных влечениях Анатоля Курагина.
Эту жизненную философию глубоко и тонко раскрыл С. Боча-
ров в своей небольшой книге о «Войне и мире»1.
Скажем несколько слов о знаменитой владетельнице модного
магазина на Кузнецком мосту — Обер-Шальме. Опа упоминает-
ся в романе в нескольких местах:
«На другой день утром Марья Дмитриевна свозила бары-
шень к Иверской и к m-me Обер-Шальме... Марья Дмитриевна
заказала почти все приданое». (Гл. VI; 10, 316.)
«После отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовым приехала
модистка от мадам Шальме...» (Гл. XII; 10, 335.)
В высших светских кругах мадам Обер-Шальме была весьма
популярной личностью; имя ее упоминается во многих мемуар-
ных произведениях эпохи. Вот что пишет, например, С. Жиха-
рев: «Кузины наши показывали мне свои наряды: кружева,
кружева и кружева; есть в четверть аршина шириною. Много
денег оставлено в магазине мадам Обер-Шальме! Достаточно
было бы на годовое продовольствие иному семейству. Недаром
старики эту Обер-Шальме переименовали в обер-шельму»1 2.
Упоминает о ней и Д. Благово: «Была в Москве одна фран-
цузская торговка модным товаром, на Кузнецком мосту—ма-
дам Обер-Шальме, препронырливая и превкрадчивая, к кото-
рой ездила вся Москва покупать шляпы и головные уборы, и
так как она очень дорого брала, то и прозвали ее обер-
шельма»3.
Дальше Благово говорит о том, что эту авантюристку впо-
следствии обвинили в шпионаже, у нее нашли фальшивые день-
ги, и она была выслана из Москвы.
К ГЛ ABE VI
Кацавейка, или куцавёйка (обл.) — распашная короткая кофта, подбитая
или отороченная мехом.
Колотовка (обл.)—драчливая, сварливая женщина.
1 См.: С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиз-
дат, 1963, стр 87—104.
2 С. Жихарев. Записки современника, ч. 1. СПб., 1859, стр. 6.
3Д. Благово. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 153.
180
К Г JI ABE VIII
Бенуар (фр.) — нижний ярус лож в театре.
Капельдинер (нем.) —'служитель при театре, проверяющий входные би-
леты.
Семёнова Нимфодора Семеновна (1787—1876)—русская оперная ак-
триса.
Увертюра (фр.) — музыкальное вступление к опере, оперетте, балету.
Капельмейстер (нем.) — руководитель вокальной капеллы или оркестра,
дирижер.
К ГЛАВЕ IX
Эксельбант (аксельбант) — плетеный шнур, который носили па плече в
знак отличия адъютанты, офицеры Генерального штаба и жандармы.
Раёк — галерка, верхние места в театре, под потолком.
Хроматические гаммы — гаммы, состоящие из последовательного ряда
полутонов.
Септима (лат.)—в музыке — седьмая ступень или интервал от первой
до седьмой ступени. Аккорд уменьшенной септимы — один из диссонансов,
т. е. неблагозвучных аккордов.
К ГЛАВЕ X
Нарышкины — русский дворянский род.
К ГЛАВЕ XIII
Гросс-фатер (нем.) — старинный немецкий танец, принятый на балах
светского общества.
Комета 1812 года. С акварели Н. Лангера
ГЛАВЫ XIV-XXII
«Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знав-
ший Долохова и Анатоля и служивший им своими тройками».
(Гл. XVI; 10; 351.)
Проф. А. И. Кирпичников, исследовавший вопрос о прото-
типах героев «Войны и мира», говорит: «...Даже ямщик Бала-
га, любимец Долохова и Анатоля Курагина, не выдуман: в
«Русской старине» за 1894 г., № 3, современник рассказывает о
Балаге, отчаянном ямщике Анатолия Барятинского...»1
«Речь шла о Сперанском, известие о внезапной ссылке и
мнимой измене которого только что дошло до Москвы». (Гл.
XXI; 10, 367.)
Основная масса дворянства, как указывалось выше, встре-
тила деятельность Сперанского крайне враждебно и даже стала
распространять слухи, что он действует по указке Наполеона.
Вот что пишет по этому поводу один из современников: «Всего
же более повредила Сперанскому в общественном мнении ловко
пущенная мысль, что он приводит в исполнение наполеоновские
идеи, навеянные на него в Эрфурте»1 2.
Конечно, Толстой не верил в измену Сперанского, и он уста-
ми князя Андрея защищает его от незаслуженных поношений.
(Гл. XXI.)
К ГЛАВЕ XIV
Модистка — мастерица, изготовляющая предметы женского туалета.
К ГЛ ABE XVI
Бешмет (татарск.)—татарский полукафтан, верхнее мужское и женское
платье; одевается под кафтан, тулуп или черкеску.
К ГЛ ABE XVII
Стёша (Стешка) — цыганская певица, которой, по преданию, знамени-
тая итальянская актриса Каталани подарила свою шаль, как лучшей певи-
це. Знакомство Каталани со Стешей отмечено Пушкиным. В начале XIX в.
Стеша пользовалась в Москве большой известностью.
1 А. И. Кирпичников. Очерки по истории русской литературы, т. 1.
М., 1903, стр. 409.
2 Е, Ковалевский. Граф Блудов и его время. СПб., 1866, стр. 77.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВЫ I—III
Третий том «Войны и мира» начинается ис-
торико-философскими рассуждениями автора о причине войны
1812 г. В них отчетливо звучит концепция Толстого о законо-
мерностях исторических событий. Концепция эта, как известно,
носит фаталистический характер. На се анализе и критике мы
подробно остановимся в комментариях к первой части эпилога
произведения. Здесь только отметим, что истинных причин воз-
никновения войны России с наполеоновской Францией писатель
не раскрыл в силу ошибочности основных посылок его философ-
ской и исторической теории.
Во второй главе Толстой приступает к военно-историческому
повествованию о событиях 1812 г. Писатель рисует двух импера-
торов накануне кампании. Уже с первых строчек этого повество-
вания мы улавливаем иронию писателя в отношении Наполеона,
пытающегося внешне играть роль миротворца. Несмотря па то
что «Наполеон сам писал письмо императору Александру, назы-
вая его Monsieur mon frere (государь брат мой) и искренне уве-
ряя, что он не желает войны и что всегда будет любить и ува-
жать его, — он ехал к армии и отдавал на каждой станции новые
приказания, имевшие целью торопить движение армии от за-
пада к востоку». (Гл. II; 11, 8.) О том же пишет Е. Тарле: «I о-
ворилось, что он едет в Дрезден для осмотра великой армии на
Висле, но все знали, что он едет на войну с Россией» Г
Толстой делает весьма существенное замечание о военно-
авантюристических планах и намерениях французского импера-
1 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 447.
183
Переправа польского уланского полка через Вислу. С англ, гравюры нач. XIX в.
тора. Речь идет о распоряжении Наполеона как можно скорее
доставить в Россию фальшивые ассигнации (гл. II). О фальши-
вых ассигнациях Толстой упоминает и в дальнейшем: «...Он ве-
лел раздать жалованье своим войскам русскими, сделанными
им, фальшивыми деньгами». (Ч. 2, гл. IX; 12, 88.)
Наполеон прекрасно знал, что предстоящая война против
сильного врага потребует больших расходов; знал он и то, что,
пользуясь столь нечистоплотным способом финансирования кам-
пании, при необходимости можно всегда разыграть роль окле-
ветанного и невинного человека. И что всегда найдутся доста-
точно восторженные поклонники, которые постараются его ре-
абилитировать перед судом истории.
Один из современных исследователей творчества Толстого,
В. Шкловский, поставил под сомнение утверждение Толстого о
фальшивых деньгах, отправляемых Наполеоном в Россию. Он
писал: «Нужно отметить, что даже русскими военными истори-
ками, печатающимися, как говорил Толстой, иждивением пра-
вительства, обвинение Наполеона в распространении фальши-
вых денег поддерживалось весьма неохотно. От обвинения этого
отказался, например, генерал Богданович...»1
1 В. Ш к л о в с к и й. Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и
мир». М., «Федерация», 1928, стр. 178.
184
А между тем распространение французских фальшивых де-
нег нашло отражение в мемуарных произведениях об эпохе Оте-
чественной войны 1812 г. Так, например, в «Записках» Свербеева
читаем: «Проверив с Дубовицким отчет Глазунова по управле-
нию, мы нашли, что по ним от Глазунова следовало получить
нам 500 или 700 р. ассигнациями, он и не спорил и выслал мне
по почте всю сумму сторублевыми бумажками. Все они оказа-
лись фальшивые, французские» Г
Д. Благово пишет: «... У нее (мадам Обер-Шальме.— Б. /\.)
нашли фальшивую монету»1 2.
Другое свидетельство: «К увенчанию всех наглостей, Наполе-
он привез в Москву множество поддельных бумажек; ими платил
жалованье шайкам своим и сими ложными деньгами надеялся
провести русских крестьян»3.
О фальшивых деньгах, распространяемых Наполеоном в Рос-
сии, говорит и К. Ф. Толь в своих записках: «В числе средств,
к которым прибегнул Наполеон, желая завоевать Россию, было
одно достаточно неблаговидное, а именно фабрикация фальши-
вых русских ассигнаций...»4
«...В Париже оставалась другая супруга...»
Имеется в виду Жозефина Мария Роза, урожденная Таше де
ла Пажери (1763—1814). С 1779 г. была женой виконта Алек-
сандра Богарнэ, казненного в эпоху террора. Затем вышла замуж
за генерала Бонапарта. В 1804 г. вступила в церковный брак с
Наполеоном и была коронована как французская императрица.
В 1809 г. Наполеон развелся с нею.
Если Наполеон изображается Толстым в полной готовности
к предстоящей кампании, сильным, дерзким и самоуверенным,
то Александр I рисуется беспечным и всерьез не думающим о
предстоящей войне. Александр I целый месяц в Вильно зани-
мался смотрами и маневрами, но они носили скорее характер
развлечения для императора, чем определенной формы военных
приготовлений, смотра сил и боевого снаряжения. Толстой пи-
шет: «Ничего не было готово для войны, которой все ожидали
и для приготовления к которой император приехал из Петербур-
га». (Гл. III; /Л 11.)
Не был еще разработан общий стратегический план дейст-
вий всех армейских соединений. Присутствие императора не
только не содействовало выработке и принятию такого плана,
а наоборот, вносило колебания, неустойчивость и дезориентацию
в среду генералитета. Не был назначен главнокомандующий,
1 Д. Н. С в ер бее в. Записки, т. 1. 1799—1826. М.,1899, стр. 145.
2Д. Благово. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 154.
3 «Москва, или Исторический путеводитель...», ч.1. М., 1827, стр. 248,
4 «Военный сборник», 1910, №11, стр. 51.
185
а сам Александр I не принимал этого звания. Таким образом,
приезд государя к армии, но справедливому заключению Тол-
стого, имел только отрицательные последствия. «Чем дольше
жил император в Вильне, тем менее готовились к войне...»
(Гл. III; И, 12.)
Не менее беспечным изображает Толстой и окружение царя.
Вся его многочисленная свита, все его советники, вся его опора
была озабочена только одним — чтобы государь не скучал, не
лишен был возможности приятного времяпрепровождения. Даже
известие о переходе армии Наполеона через Неман, т. е. о на-
чале войны, было получено Александром на блестящем бале,
устроенном в его честь генерал-адъютантом. Здесь же в уста
взволнованного и «лично оскорбленного» императора Толстой
вложил знаменитую фразу о том, что он не помирится с врагом
до тех пор, пока ни одного вооруженного неприятеля не останет-
ся на его земле.
Все официальные историки и многие мемуаристы видят в этой
фразе проявление твердой воли императора, в ней стараются
уловить голос решительного монарха, убежденного в своем во-
енном могуществе и благоприятном исходе кампании. Толстой
мог узнать об этой фразе из книги И. Радожицкого «Походные
записки артиллериста». Она приводится и в целом ряде других
источников, известных писателю !. Но Толстой придал этой фра-
зе совершенно иной смысл: в «Войне и мире» она звучит как
проявление позерства государя, плохо прикрывавшего его рас-
терянность и трусость.
К ГЛ АВЕ 1
Континентальная система — система экономической политики, проводив-
шаяся Наполеоном I в интересах французской промышленной буржуазии.
Была объявлена Берлинским декретом в конце 1806 г., заключалась в полном
запрещении торговых сношений с Англией.
Меттернйх Клемент Венцеслав (1773—1859)—князь, австрийский поли-
тический деятель; с 1809 по 1848 г. был министром иностранных дел Авст-
рии. Имел сильное влияние на общеевропейские дела.
Талейран Шарль Морис (1754—1838) — французский политический дея-
тель и дипломат. Занимал пост министра иностранных дел при Наполеоне
и при Бурбонах.
Раут (англ.) — торжественный званый вечер без танцев.
Висла — река в Западной Европе, впадающая в Балтийское море.
Фатум (лат.) — неотвратимая судьба, рок, неизбежное.
Дрезден — столица Саксонии (области в Германии), на берегу Эльбы.
К ГЛ АВЕ П
Позен (Познань) — польский город; с 1793 по 1807 г. находился в соста-
ве Пруссии, захватившей часть польских земель.
’ См., напр.: «Жизнь Наполеона Бонапарта», т. Ill. СПб, 1837, стр. 124;
«Сын отечества», 1812, № 12, стр. 263.
186
Торн — город и крепость в Западной Пруссии, на Висле (исконная тер-
ритория Польши).
Данциг — немецкое название польского города-порта Гданьска. С 1793 г.
входил в состав Пруссии. В 1807 г. разгромленная Наполеоном Пруссия по-
теряла Гданьск, он стал вольным городом. С 1815 г. (по решению Венского
конгресса) вновь передан Пруссии. Ныне — в составе Польши.
Кенигсберг (с 1946 г. — Калининград)—главный город Восточной Прус-
сии (на исконно славянской земле).
Кашмир — провинция Индии.
Кбвно—губернский город.
Егерь — солдат из особых стрелковых (егерских) полков.
Вйлия — река, правый приток Немана.
Бертьё «Луи Александр, герцог Невшательский (1753—1815)—маршал
Франции; в 1812—1814 гг. — начальник главного штаба наполеоновской ар-
мии. После падения Наполеона перешел на сторону Бурбонов.
К ГЛ ABE III
Вильно — губернский город, при впадении реки Вилейки в Вилию.
Закрёт— загородный замок графа Л. Л. Беннигсена под Вильной.
Балашев Александр Дмитриевич (1770—1837) — государственный дея-
тель. При Александре I был московским обер-полицмейстером (1804—1807),
петербургским военным губернатором (1809—1810), членом Государственно-
го совета (1810—1834) и министром полиции (1810—1816). В 1812 г. сопро-
вождал Александра I в Вильну и доставил его письмо Наполеону.
Шишков Александр Семенович (1754—1841)—адмирал, глава литера-
турной реакции первой трети XIX в., идеолог реакционных дворянских кру-
гов. В 1812—1813 гг. — государственный секретарь и автор царских мани-
фестов о войне 1812 г., в 1814—1828 гг. — министр просвещения.
Рескрипт (лат.) — письменное обещание, изъявление воли монарха в от-
ношении лица пли учреждения.
Салтыков Николай Иванович (1736—1816)—князь, генерал-фельдмар-
шал, в 1812 г. — председатель Государственного совета и Комитета мини-
стров.
Куракин Александр Борисович (1752—1818)—русский дипломат. При
Александре I был послом в Вене (1806—1808), а затем (1808—1812) в Па-
риже.
Бассанб Маре Гуго Бернар, позже герцог Бассано (1763—1839) — фран-
цузский политический деятель, с 1811 г. был министром иностранных дел На-
полеона.
ГЛАВЫ IV-VII
«Отправляя Балашева, государь вновь повторил ему слова
о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хо-
тя один вооруженный неприятель на русской земле...» (Гл. IV;
11, 15.)
Александр I решил отправить к Наполеону одного из своих
придворных генералов, Балашева, на переговоры. Этим шагом
делалась последняя попытка избежать ужасавшей его войны.
В текст письма к французскому императору Александр I не
вставил ни одной резкой фразы, в том числе и процитированных
слов.
187
Балашев также прекрасно понял неуместность сказанной
Александром фразы и при объяснении с Наполеоном заменил
ее другой. «Он (Балашев. — Б. К.) не мог сказать этих слов,
хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: с условием, чтобы
французские войска отступили за Неман». (Гл. VI; 11, 24.) ’
Изображение Толстым состояния Александра I и неподготов-
ленности армии к новой войне с Наполеоном вполне соответст-
вует исторической действительности и находит полное подтвер-
ждение в трудах советских исследователей. Но совершенно про-
тивоположное мы находим в работах официозных историков и
мемуаристов. В «Записках современника» читаем: «...Все наде-
ются на государя, и очень мало находится таких людей, которые
не уверены были бы в успешном окончании кампании...» 1 И в
другом месте: «Рескрипт государя С.-Петербургскому главно-
командующему генералу Вязьмитинову читают во всех домах,
восхищаются им и благословляют провидение, ниспославшее
России такого царя-отца»1 2.
Мы можем лишь в общих чертах восстановить подлинную
картину умонастроений придворных кругов того времени, потому
что знаем о них больше всего от иностранцев. Русские современ-
ники мало писали об этом, а русские историки долгое время счи-
тали своим долгом вместо правдивого и беспристрастного ана-
лиза изображать какую-то торжественно-театральную обста-
новку, чтобы показать якобы проявившийся именно в высших
кругах русского общества подъем патриотического духа в годи-
ну нашествия.
На самом же деле и король Бернадот в Швеции, и герман-
ские монархи, и датский двор получали одно донесение за дру-
гим от своих официальных представителей и неофициальных на-
блюдателей о том, что и сам царь обеспокоен в высшей степени,
и, главное, вокруг него раздражены и встревожены очень многие.
Большой жизненной и художественной правды достигает Тол-
стой и в изображении переговоров с Наполеоном, лишив русско-
го посланника той напыщенности и преисполненности ура-пат-
риотическими чувствами и фразами, какими его наградил Бог-
данович3. Сравним источник, которым пользовался Толстой, с
романом-эпопеей:
1 «Записки современника с 1805 по 1819 год», ч. 1. СПб., 1859, стр. 177.
2 Там же, стр. 211. (Данный источник Толстой имел при написании
«Войны и мира».)
3 Модест Иванович Богданович (1805—1882) — русский историк и писа-
тель. Ему принадлежит трехтомная история войны 1812 г. По мнению специа-
листов, исторические труды Богдановича представляют значительный инте-
рес как монографии по военной истории, богатые фактическим материалом.
Толстой пользовался трудом Богдановича о войне 1812 г.
188
Богданович
«Смею уверить ваше величество, — пре-
рвал Балашев, — что русские войска, вместо того
чтобы сомневаться в своих силах, с нетерпени-
ем желают боя, и в особенности с тех пор, как
наши границы подвержены опасности. Эта вой-
на будет ужасна; вы будете иметь дело не с од-
ними войсками, а со всем русским народом, ко-
торый предан государю и отечеству».
(«История Отечественной войны 1812 года»,
т. I. СПб., 1859, стр. 143.)
Толстой
«Балашев, чувствуя
необходимость возра-
жать, сказал, что со
стороны России дела не
представляются в та-
ком мрачном виде».
(«Война и мир», т. 3,
ч. 1, гл. VI.)
И действительно, мог ли Балашев позволить себе возражать
своенравному и деспотически резкому Наполеону (как это пи-
шет Богданович), приехав к нему хотя бы с малой надеждой
предотвратить войну? Несомненно, нет. Во-первых, этому не
благоприятствовала обстановка, и, во-вторых, ловкий интриган,
придворный'карьерист был достаточно умудрен в вопросах при-
дворного этикета и дипломатии, чтобы не разыгрывать роль кня-
зя Долгорукова, над которым зло издевался Наполеон во время
свидания перед Аустерлицким сражением. В описании этого
эпизода Богдановичем лишний раз прозвучал голос вернопод-
данного историка, обеспокоенного лишь тем, чтобы выставить
все моменты войны 1812 г. в выгодном для царя и придворных
кругов свете и тем самым подчеркнуть величие Александра I, ок-
ружившего себя столь преданными и надежными сановниками.
Историческая правда, безусловно, на стороне Толстого.
В первой встрече Наполеона с Балашевым, нарисованной
Толстым сочными мазками художника-реалиста, французский
император предстает перед нами как законченный самодур.
Упоенный ничем не ограниченной властью, баловень бесконеч-
ных удач на поле брани, видимо, не обладая ни чувством при-'
родного такта, ни сознанием человеческого достоинства, Напо-«
леон доходил до предельных форм проявления своего разнуз-
данного нрава. Во встрече с Балашевым Толстой показал нам
французского императора с замечательной глубиной тонкого и
проницательного художника-психолога.
Обладание престолом, постоянный успех в военных авантюрах,
лесть, пресмыкательство и подобострастие многих низвергнутых
владык привели Наполеона к убеждению, что его воля, его по-
ступки, проявление его личного я и есть тот высший критерий,
по которому нужно судить о правильности и неправильности
человеческих поступков. Толстой пишет: «Видно было, что уже
давно для Наполеона в его убеждении не существовало воз-
можности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было
хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того,
что хорошо и дурно, но потому, что он делал это». (Гл. VII;
//,29.)
189
Рисуя сцену первого приема императором русского посла и
сцену обеда, Толстой повернул своего героя к читателю еще од-
ной стороной. Могучий властелин судеб царей и царств оказал-
ся человеком крайне неуравновешенного нрава, в его поведении
в течение нескольких часов обнаруживаются неожиданные и
резкие переходы от состояния сильного раздражения и гнева
до снисходительно-ласкового и вполне умиротворенного. Импе-
ратор, минуту назад грозивший Александру I анафемой, вдруг
переходит к полной предупредительности и джентльменству, и
его свидание с Балашевым заканчивается подчеркнуто велико-
душным жестом: «— Готовы ли лошади для генерала? — при-
бавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балаше-
ва.— Дайте ему моих, ему далеко ехать». (Гл. VII; 11, 32.)
Нарисованная Толстым сцена встречи Наполеона с Балаше-
вым не является плодом творческой фантазии писателя. Эта
встреча нашла отражение на страницах исторических трудов и
целого ряда мемуарных произведений, с той только разницей,
что Толстой нарисовал картину высокой художественной выра-
зительности, дал глубокую психологическую мотивировку по-
ведения действующих лиц.
К ГЛ ABE IV
Рыконты,— деревня на Немане (в Литве), в которой в начале войны
1812 г. стояли французские аванпосты.
Мюрат Каролина (1782—1839) — младшая сестра Наполеона, бывшая с
1800 г. женой Иоахима Мюрата (маршала Франции, с 1805 по 1815 г. — неа-
политанского короля).
Даву Луи (1770—1823) — маршал наполеоновской Франции. Известен
своей жестокостью с подчиненными.
К ГЛ ABE V
Де Кастро — адъютант маршала Даву.
Мамелюки (фр.) — здесь: конные гвардейцы из личной охраны Наполео-
на; остатки отборной гвардии египетских войск, вывезенные Наполеоном из
египетского похода.
К ГЛ ABE VI
Тюррён—приближенный Наполеона I.
Дюрбк Жерар Кристоф Мишель (1772—1813)—французский маршал.
Сблизился с Наполеоном и стал его первым адъютантом. Сопровождал На-
полеона во всех его походах 1805—1813 гг. Был министром двора Наполеона.
Ботфорты (фр.) — род высоких кавалерийских сапог.
Баденские — герцоги великого герцогства Баденского (государства в Юж-
ной Германии, позднее вошедшего в состав Германской империи).
Молдавия (Молдова) и Валахия — славянские княжества, расположен-
ные на территории современной Румынии. В течение нескольких веков на-
ходились в зависимости от Турции. В войнах 1806—1812 гг. Россия пыталась
освободить их от турецкого ига. Княжества объединились в одно государст-
во в 1859 г.
Ботнический залив — залив в северной части Балтийского моря.
190
Штейн Генрих Фридрих Карл (1757—1831) —прусский министр, изгнан-
ный из Германии Наполеоном I; в 1809—1812 гг. жил в России.
Армфёльд Густав Маврикий (1757—1814)—шведский генерал и госу-
дарственный деятель. Бежал из Швеции из-за личной вражды с королем
Был принят на русскую службу. В 1812 г. сопровождал Александра I во
время его пребывания в армии.
Барклай де Толли1 Михаил Богданович (1761—1818) — князь, русский
генерал-фельдмаршал, участник многих войн. В 1810—1812 гг. — военный
министр. В начале войны 1812 г. был фактическим главнокомандующим рус-
ских войск: он командовал 1-й Западной армией и ему же, как военно-
му министру, подчинялась 2-я армия II. И. Багратиона. После назначения
главнокомандующим М. И. Кутузова по-прежнему командовал 1-й Западной
армией. Родился в семье военнослужащего русской армии. Происходил из
шотландского рода.
Пфуль Карл Людвиг Август (1757—1826)—барон, прусский генерал, с
1806 г. на русской службе в чине генерал-майора. В 1812 г. по поручению
Александра I составил план военных действий против Наполеона. После не-
удачного проекта укрепления Дрисского лагеря был вызван в Петербург, а
затем уехал в Англию.
Бернадбтт Жан Батист Жюль (1764—1844) — маршал Наполеона; сде-
лал военную карьеру во время французской революции. Усыновленный в
1810 г. шведским королем Карлом XIII, стал фактическим правителем Шве-
ции. С 1818 г. — король шведский под именем Карла XIV Иоанна.
К ГЛ ABE VII
Бесьёр Жан Батист, герцог Истрийский (1768—1813)—французский
маршал. В 1812 г. командовал гвардейской кавалерией Наполеона.
Сёврская чашка—чашка, представляющая собой высокохудожественное
изделие из фарфора, изготовленное па заводе в г. Севр (близ Парижа). От-
сюда: севрская чашка, севрский фарфор и т. п.
Виртембёргские — герцоги королевства Вюртембург в Германии.
Веймарские — герцоги великого герцогства Саксеи-Веймар-Эйзенахско-
го в Германии.
ГЛАВЫ VIII-XI
Толстой посвящает ряд страниц романа-эпопеи изображению
состояния русской ставки, когда появление неприятеля на рус-
ской территории и его продвижение внутрь страны стало бес-
спорным фактом. С присущей ему проницательностью и беспо-
щадностью писателя-реалиста, срывающего «все и всяческие
маски», Толстой рисует весьма неприглядную картину положе-
ния русской армии и ее командования в начале войны 1812 г.
Армия была разделена на три соединения: 1-й армией командо-
вал Барклай де Толли, 2-й — Багратион и 3-й — Тормасов. Царь
находился при первой армии, но не в роли главнокомандующе-
го. Александр I был окружен группой лиц самых разнообразных
ориентаций, интересов и способностей. Всю эту массу придвор-
ных интриганов, любителей легких путей продвижения по слу-
1 Мы даем написание имени Барклая де Толли, принятое в последних из-
даниях «Войны и мира»,— без дефиса.
191
жебной лестнице, получения чинов и наград Толстой делит на
восемь групп и дает каждой из них весьма остроумную и меткую
характеристику. Наконец, Толстой говорит о девятой группе,
стремления которой наиболее соответствовали настоятельным
требованиям сложившейся обстановки. Это были те, кто пони-
мал всю гибельность для успеха дела пребывания при армии
бездарного и честолюбивого царя. Вопрос о немедленном отъез-
де Александра I из армии дальновидными представителями этой
группы рассматривался как решающий момент в начале кампа-
нии 1812 г. Авторы письма царю (Шишков, Аракчеев и Балашев)
так боялись грозного нашествия, что махнули рукой на непри-
дворный свой образ действий.
Толстой сумел правильно расшифровать сложившуюся воен-
ную ситуацию и дать ей соответствующую оценку. Он пишет:
«...Шишков, государственный секретарь, бывший одним из глав-
ных представителей этой партии, написал государю письмо, ко-
торое согласились подписать Балашев и Аракчеев. В письме
этом, пользуясь данным ему от государя позволением рассуж-
дать об общем ходе дел, он почтительно и под предлогом необ-
ходимости для государя воодушевить к войне народ в столице,
предлагал государю оставить войско». (Гл. IX; 11, 45.)
Вторым весьма серьезным событием начала Отечественной
войны следует считать сооружение Дрисского лагеря, едва не по-
губившего всю русскую армию. Дрисские укрепления, построен-
ные по плану тупого военного теоретика немецкой школы Пфуля,
ранее преподававшего тактику Александру I, представляли со-
бой образец бессмысленных измышлений кабинетного военного
«ученого», убежденного в непогрешимости своего гения. Для
Александра I Пфуль был непререкаемым авторитетом. Но с точ-
ки зрения элементарных понятий в области тактики Дрисские
укрепления оказались настолько абсурдным явлением, что даже
Александр I, совершенно лишенный военных талантов, усомнил-
ся в их целесообразности и согласился с мнением Мишо, Барк-
лая де Толли и Паулуччи о необходимости немедленного их ос-
тавления, чтобы не очутиться в ловушке, устроенной, к радости
Наполеона, собственными руками противника.
Толстой дал замечательную характеристику творцу Дрис-
ского лагеря, усмотрев в нем сочетание ряда характерных черт
военачальников, снискавших себе курьезную славу: «Пфуль с
первого взгляда, в своем русском, генеральском, дурно сшитом
мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем,
показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда
не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много
других немецких теоретиков-генералов, которых князю Андрею
удалось видеть в 1805 году; но он был типичнее всех их». (Гл. X;
И, 46.)
192
Эти саркастические строчки о Пфуле как синтезе всего не-
лепого, бездарного и предельно самовлюбленного в своем лож-
ном величии лучше всего показывают позицию Толстого в оцен-
ке автора Дрисского лагеря. А о самом укреплении Толстой
сказал устами полковника Мишо, сопровождавшего Александ-
ра I при осмотре лагеря: «...Мишо объезжал с государем Дрис-
ские укрепления и доказывал государю, что укрепленный лагерь
этот, устроенный Пфулем и считавшийся до сих пор chefd’ oeuv-
ге’ом (верхом совершенства) тактики, долженствующим погу-
бить Наполеона, — что лагерь этот есть бессмыслица и погибель
русской армии». (Гл. X; 11, 45.)
Данные о генерале Пфуле Толстой взял у французского исто-
рика Тьера и у Богдановича, но довел характеристику этого не-
замысловатого стратега до гротеска. У М. Богдановича читаем о
Пфуле следующее:
«Он считался в прусском генеральном штабе гениальным че-
ловеком. В действительности же — хотя ему нельзя было отка-
зать ни в уме, ни в образовании, однако же сведения его были
весьма ограничены, или — лучше сказать — односторонни. Погру-
женный в изучение действий Юлия Цезаря и Фридриха Велико-
го, он не разъяснил их критическим исследованием и усвоил эти
знания буквально, не разгадав их духа. Все события новейших
войн остались для него чуждыми; к тому же, уклоняясь от об-
щества и ведя созерцательную жизнь, он не только казался чу-
даком, но и был им в действительности. Слабодушный, бесха-
рактерный, он терялся при всяком неожиданном случае, а меж-
ду тем выказывал какую-то искусственную решительность, ко-
торая была ему несвойственна... Чтобы исследовать основания
плана, составленного Фулем, не должно терять из вида, что по-
стоянным занятием его было изучение Семилетней войны, а един-
ственным плодом этого занятия — вывод из действий Фридриха
Великого и принца Генриха нескольких механических правил,
главным из коих было то, что оборонительную войну должно
вести двумя армиями, из которых одна удерживала бы неприя-
теля с фронта, между тем как другая действовала бы ему во
фланг и тыл. Затем Фуль занял от Бюлова идею, будто бы луч-
ший способ удержать наступающего противника заключается в
том, чтобы расположить свою армию в стороне от прикрываемо-
го пути, заняв так называемую фланговую позицию» Г
Кроме трудов Тьера и Богдановича, Толстой использовал так-
же письма Жозефа де Местра «Correspondance diplomatique»
(Париж, 1860—1861; 2 тома).
Толстой воспользовался трудом М. Богдановича и для опи-
сания состояния 1-й армии.
1 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. I. СПб.,
1859, стр. 100—101.
7 Б. И. Кандисв
193
Богданович пишет: «В та-
ком положении находилась сия
армия, когда на военном со-
вете, созванном государем и
состоявшем из Барклая, гра-
фа Аракчеева, принца Геор-
гия Ольденбургского, князя
Волконского и Вольцогена,
положено было оставить
Дрисский лагерь, но не реше-
но, куда именно следовало на-
править армии. Затем, по
предложению находившегося
тогда в главной квартире гер-
цога Александра Виртемберг-
ского, поддержанному Барк-
лаем, принято направление к
Витебску, где первая армия,
Алексей Петрович Ермолов.
С портрета работы Дж. Доу
заняв выгодную позицию,
должна была соединиться со
второю... Таким образом,
план Пфуля был устранен, и
вместо расположения одной из армий в укрепленной позиции,
между тем как другая действовала бы на сообщения неприяте-
ля, положено было отступать с целью соединения обеих
армий» \
К ГЛ ABE VIII
Бухарест, или Букарешт— столица Румынии, расположена на реке Дым-
бовице.
К ГЛ ABE IX
Дрйсса — уездный город Витебской губернии на Западной Двине; так же
называется река, правый приток Западной Двины.
Тормасов Александр Петрович (1752—1819) — граф, генерал от кавале-
рии. В 1812 г. главнокомандующий 3-й резервной армии, защищавшей юж-
ную Россию.
Паулуччи Филипп Осипович (1779—1849) — маркиз, итальянец, генерал-
лейтенант, служивший сначала во французской, а затем, с 1807 по 1829 г., — в
русской армии.
Вольцбген Людвиг Юстус (1774—1845) — барон, прусский генерал, воен-
ный теоретик; с 1807 г. — на русской службе. Состоял при Главном штабе,
вместе с Пфулем разрабатывал планы кампании 1812 г. Беспринципный
карьерист, бонапартист, он в русских военных кругах считался почти измен-
ником.
Облйческое движение — военный термин: обходное движение.
1 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. I. СПб.,
1859, стр. 172.
194
Де Местр Жозеф Мари (1753—
1821) — граф, французский писатель
и пьемонтский государственный дея-
тель. С 1803 по 1817 г. жил в Петер-
бурге в качестве посланника при им-
ператорском дворе от лишенного вла-
дений сардинского короля.
Ермолов Алексей Петрович
(1772—1861)—генерал русской ар-
мии. Участвовал в кампаниях 1805—
1807 гг. В 1812 г. был начальником
штаба 1-й армии.
Витебск — губернский город на
Западной Двине.
К ГЛ ABE X
Мишо де Боретур Александр
Францевич (1771 — 1841) — военный
инженер сардинской армии; в 1805 г.
принят на русскую службу в инже-
нерные войска; с 1811 г. — полков-
ник. Резко критиковал план Пфуля
по устройству Дрисского лагеря.
В 1812 г. был послан Кутузовым к
Александру I с известием об оставле-
нии Москвы.
Николай Николаевич Раевский.
С портрета работы Дж. Доу
Чернышёв Александр Иванович (1786—1857)—генерал русской армии и
государственный деятель. Участник кампаний 1805—1807 гг. Исполнял ди-
пломатические поручения. В 1811 г. состоял при Александре I флигель-адъю-
тантом. В 1812 г. командовал партизанским отрядом.
ГЛАВЫ XII-XV
«...Офицер рассказал подробности Салтановского сраже*
ния...» (Гл. XII; 11, 55.)
Это сражение произошло 23 июля 1812 г. у деревни Салтанов-
ки (Могилевской губернии) между русскими войсками 2-й
армии — под командованием Н. Н. Раевского-отца и француза-
ми— под командованием Даву. Рисуемый Толстым эпизод с
Раевским и его сыновьями — исторический факт. Вот что пишет
об этом сражении Е. Тарле:
«Когда в этой тяжкой битве среди мушкетеров на один миг
под градом пуль произошло смятение, Раевский, как тогда гово-
рили и писали, схватил за руки своих двух сыновей, и они втроем
бросились вперед. Николай Николаевич Раевский был, как и его
прямой начальник Багратион, любимцем солдат. Поведение
под Дашковкой было для него обычным в тяжелые минуты боя» Г
Основа эпизода в корчме (гл. XIII) взята писателем из книги
И. Радожицкого «Походные записки артиллериста». Приводим
соответствующий отрывок из этой книги.
1 Е. В. Тарле. 1812 год. М„ Изд-во АН СССР, 1961, стр. 493.
7* 195
«Перед походом поступил к нам в бригаду молодой лекарь,
который для услаждения сердца вез с собою молодую, прекрас-
ную супругу, сентиментальную немочку. Видеть на походе краса-
вицу есть что-то особенно привлекательное для холостых и же-
натых, ибо один взгляд ее возжигает животный магнетизм. Бед-
ный лекарь в дождливую погоду не знал, куда деваться с ми-
лою подругою; кроме брички он ничего не имел, но вечно жить в
бричке—в такой тесноте — хоть кому наскучит. Мы вспомнили
о красавице и, для сохранения ее здоровья, предложили лекарю
на время укрыться от непогоды с нами, в собрании честных ка-
валеров. Скромность и стыдливость колебали даму принять пред-
ложение; однако необходимость отдохновения под каким-либо
сухим кровом превозмогла ее робость: супруги перешептались
между собою, взялись за руки и, казалось, условились не разлу-
чаться, разумея у нас какую-то для себя опасность. Они вошли
и сели вместе. Ей поднесли чаю, а лекарю пуншу — стакан за
стаканом; начались вопросы, ответы, шутки — лекаря оттерли от
подруги и усыпили. Тут (однако ж не то, что вы думаете, любез-
ный читатель) вся молодежь стала увиваться около улыбающей-
ся румяной немочки, как шмели около розы... иные вздыхали,
иные были вне себя от какого-то магнетического или гальвани-
ческого действия взоров красавицы.
Развязка была бы любопытна, но вдруг принесли кастрюлю
с кашицею и сковороды с битком. Тогда от идеального перешли
к материальному; сели обедать при захождении солнца. Супный
аромат защекотал обоняние спящего лекаря, звон жестяных та-
релок и ложек коснулся его слуха: он проснулся, вспомнил о же-
не, бросился к ней, и вот с улыбкою удовольствия они опять си-
дят вместе и вместе из одной тарелки кушают русский суп» L
К Г Л ABE XII
Ремонт — приобретение войсковыми частями лошадей для восполнения
понесенных потерь.
Свенцяны — уездный город Виленской губернии.
Раевский Николай Николаевич, старший (1771—1829)—генерал русской
армии. Участвовал во многих войнах. Один из героев Отечественной войны.
В Бородинском сражении командовал центральным редутом, который полу-
чил наименование редута Раевского. Семья Раевского была близка с
А. С. Пушкиным, сыновья его, Николай и Александр, были друзьями поэта.
Фермопилы — узкий проход в Эгейских горах, представлявший собой
единственную дорогу из Фессалии в Среднюю Грецию. В 480 г. до н. э. здесь,
при нашествии персов, погиб геройской смертью, вместе с 300 спартанцами,
спартанский царь Леонид.
К ГЛ А В Е XIV
Островна — местечко в Могилевской губернии. Бой при Островне произо-
шел 13 июля 1812 г.
1 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, т. 1. М., 1835,
стр. 71—72,
196
Остерман-Толстой Александр Иванович (1770—1857)—граф, генерал рус-
ской армии. Участвовал в войнах 1805—1807 гг. В 1812 г. командовал 4-м
армейским корпусом 1-й Западной армии. Участвовал в Бородинском сраже-
нии и в заграничном походе русской армии в 1813—1814 гг.
К ГЛАВЕ XV
Заводная лошадь—название запасной лошади в кавалерии (идет в «за-
воде», т. е. в запасе).
ГЛАВЫ XVI-XVIII
К ГЛ А В Е XVI
Консилиум (лат.) — совещание нескольких врачей, созываемое для опре-
деления болезни и методов лечения больного в трудных случаях.
Гомеопатия (греч ) — учение о том, что лечить от болезней следует очень
малыми дозами тех лекарств, которые в больших дозах вызывают в организ-
ме здорового человека симптомы, подобные симптомам данной болезни.
Гомеопат — врач, применяющий гомеопатические методы лечения.
Мудрое Матвей Яковлевич (1776—1831)—известный русский врач, про-
фессор Московского университета.
Пневмония (греч.) — воспаление легких.
К ГЛ ABE XVII
Петровский пост (Петровка) — пост в честь апостолов Петра и Павла,
продолжающийся с 9-й недели после пасхи до 29 июня
Богородица (Божья матерь, Дева Мария) — по учению православной
церкви, мать Иисуса Христа.
К ГЛ ABE XVIII
Царские врата (церк.) — средние двери в церковном иконостасе (т. е. в
украшенной иконами стенке, отделяющей алтарь от средней части храма).
Амвон — возвышение перед входом в алтарь, главную часть церкви.
Стихарь — одежда некоторых церковнослужителей.
Синод — высшее церковное учреждение в царской России (полное офи-
циальное название — Святейший правительствующий синод).
Ектенья (церк.) — часть православного богослужения.
Орарь (церк.) — часть дьяконского облачения, перевязь с крестами по
левому плечу.
Скуфья (церк.)—остроконечная мягкая шапка черного или фиолетового
цвета у православных служителей культа.
Десница (церк.-книжн.) — правая рука.
Моисей (род. ок. 1600 г. до и. э.) —в библейской мифологии — пророк ев-
рейского народа, выведший его из Египта в Палестину и давший ему законы.
Амалйк (А малёк)— герой библии, родоначальник племени амалекитян.
Гедеон — герой библии, судья израильского народа, освободивший его из-
под ига мидианитян.
Мадиам — герой библии.
Давид (1055—1015 гг. до н. э.) — иудейский царь.
Голиаф — по библейскому преданию, великан, вступивший в единоборство
с иудейским царем Давидом (1055—1015 гг. до н. э.) и убитый им.
.197
ГЛАВЫ XIX-XX
«Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее,
выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество
относительно Наполеона». (Гл. XIX; 11, 77.)
Эпизод с апокалиптическими вычислениями основан на сведе-
ниях из исторического труда М. Богдановича «История Отечест-
венной войны 1812 года». Богданович пишет: «В самом имени
Наполеона, переложенном в цифры по еврейскому счислению,
мнили отыскать зверя (антихриста), означенного в апокалипси-
се числом 666; а как в другом месте апокалипсиса опреде-
лен был предел славы этого зверя числом 42, то надеялись, что
1812 год, в котором Наполеон имел от рода 43 года, будет време-
нем его падения» Г
«...К Растопчину привели какого-то немца и объявили ему,
что это шампиньон». (Гл. XX; 11, 83.)
По всей вероятности, эту шутку выдумал сам Растопчйн; о
ней рассказано в «Записках» С. Глинки.
ГЛАВЫ XXI-XXIII
В изображении Толстого дворянские семьи, близко стоящие
к народу и несущие в себе, несмотря на графское или княжеское
происхождение и аристократическое воспитание, черты подлинно
русских людей, проявили себя в Отечественной войне 1812 г. как
истинные патриоты, разделили с народом горе, страдания и бед-
ствия, вызванные нашествием наполеоновских полчищ.
Были ли в действительности такие помещики? Обратимся к
источникам.
Вот что пишет, например, в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель:
«...Ободряло меня совершенное перерождение большей части на-
ших помещиков: они не хвастались, не храбрились, а показыва-
ли спокойную решимость жертвовать всем, и жизнью, и состоя-
нием, чтобы спасти честь и независимость России. Весьма не-
многие не об ней думали, а о своей особе и о своем ларце, и те
втихомолку только вздыхали»1 2.
В том же духе о дворянах пишет в своих воспоминаниях
Каролина Павлова: «... Почти все оказались гораздо мужествен-
нее и лучше, чем сами полагали себя. Те, которые впадали в уны-
ние и горевали о потере имущества, были редкими исключения-
ми. Всякий личный интерес делался второстепенным и мелким в
это время»3.
1 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. 1. СПб.,
1859, стр. 92.
2 Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. 4. М., 1892, стр. 43.
3 К. П а в л о в а. Собр. соч., т. II. М., 1915, стр. 277.
198
Находит подтверждение в мемуарной литературе и поступок
старого князя Болконского, вооружившего своих крестьян для
борьбы с французами. Ф. Ф- Вигель пишет: «Некоторые помещи-
ки сами собою вооружили дворовых людей и крестьян и состави-
ли из них небольшие партизанские отряды, которые при перехо-
де французов тревожили их, нападали на их обозы и захватыва-
ли отсталых...» Г
Но далеко пе все дворяне были настроены истинно патриоти-
чески и готовы были жертвовать жизнью и имуществом. Нема-
ло оказалось среди первого сословия и ловких интриганов, и
прожженных карьеристов, и просто беспринципных болтунов и
позеров. Толстой нарисовал в данных главах картину московско-
го дворянского собрания по случаю приезда в Москву царя. Кар-
тина эта полна злой иронии: «Все дворяне, те самые, которых
каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, — все были
в мундирах, кто в Екатерининских, кто в Павловских, кто в но-
вых Александровских, кто в общем дворянском, и этот общий ха-
рактер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим
старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам.
Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые,,
плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые».
(Гл. XXII; 11, 90—91.)
Эти подслеповатые плешивые старики шамкающим ртом про-
износили речи, высказывая бессвязный вздор, и при виде чувст-
вительного государя сами впадали в крайнюю экзальтацию; они
необдуманно высказывали готовность отдать все свое состояние
для спасения отечества и государя. Толстой заканчивает главу
саркастической фразой: «На другой день государь уехал. Все
собранные дворяне сияли мундиры, опять разместились по до-
мам и клубам и покряхтывая отдавали приказания управляю-
щим об ополчении, и удивлялись тому, что они сделали». (Кур-
сив наш. — Б. К.; гл. XXIII; 11, 97.)
Последние слова писателя показывают, что многие дворяне
при встрече с царем больше играли роль патриотов, чем на са-
мом деле были ими. Толстой рисует истинное лицо высшего со-
словия, весьма падкого на лесть и угодничество, но мало спо-
собного оказать реальную помощь отечеству в минуты серьез-
ной опасности.
Современники событий рассказывают, что сейчас же после
сдачи Смоленска многие дворяне стали покидать Москву, чем
вызвали гнев и нарекание народа. Когда французы приблизи-
лись к Москве и над юродом нависла реальная угроза разруше-
ния и падения, некоторые дворяне, спасая свою жизнь и личное
благополучие, чтобы не раздразнить народ, переодевались в
женское платье, бакенбарды подвязывали платками, симулируя
болезнь зубов, и удирали.
1 Ф. Ф. В и г е л ь. Записки, ч. 4. М., 1892, стр. 58.
199
Многие дворяне, обещав царю отдать и людей, и имущество,
и свою жизнь, на самом деле старались сбыть в ополченские от-
ряды самых негодных крестьян. Помещик Орлов-Давыдов при-
казывал своему приказчику: «Пьяниц, мотов, непрочных для
вотчины отнюдь не беречь» L
Об этом пишет и Д. Н. Свербеев: «Тут, конечно, всякий ста-
рался соблюсти свои выгоды; отдавались люди пожилых лег, не
отличного поведения и с телесными недостатками...»1 2
Чрезвычайно характерен ответ Волконского Александру I о
духе армии, народа и дворянства. О первых двух Волконский
отозвался весьма похвально, а о дворянстве вынужден был ска-
зать: «Я стыжусь, что принадлежу к нему: было много слов, а
на деле ничего» 3.
Вопрос о лжепатриотическом поведении некоторой части рус-
ского дворянства в Отечественной войне 1812 г. нашел отраже-
ние и в исследованиях советских историков. В статье «Отечест-
венная война 1812 г. и русское общество» А. В. Фадеев пишет:
«Патриотические жесты и декларации дворян имели в большин-
стве случаев показной характер. Известный богач Демидов и ка-
мергер князь Гагарин обещали каждый обмундировать полк
ополченцев, но не выполнили своего обязательства. Многие на
словах выражали готовность «постоять за отечество», а на деле
старались уклониться от участия в ополчении»4.
Иначе, чем у Толстого, передан эпизод приезда Александра I
в Москву и «патриотический» порыв дворянства в произведении
Н. Полевого «Повесть о великой битве Бородинской». Полевой
пишет: «Царь Александр вверил свое воинство мужественным и
опытным вождям и поспешно отправился в Москву готовить но-
вые силы. Памятен навсегда тот час, когда встретили его жители
Москвы, когда по его слову все готовы были приняться за ору-
жие, дворянство поголовно просилось на бой...»5 (курсив наш.—
Б. /<.).
Царь побывал и на купеческом собрании. «Пьер в числе дру-
гих увидал государя, выходящего из залы купечества со слеза-
ми умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что
начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дро-
жащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидал государя, он
выходил, сопутствуемый двумя купцами. Один был знаком
Пьеру, толстый откупщик, другой — голова, с худым, узкобо-
родым желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли сле-
зы, но толстый откупщик рыдал как ребенок и все твердил:
1 «Ученые записки Ленингр. гос. ун-та», т. IV. Л., 1938, стр. 105.
2 Д. Н. Свербеев. Записки, т. 1. М., 1899, стр. 74.
8 «Ученые записки Ленингр. гос. ун-та», т. IV. Л., 1938, стр. 106.
4 «История СССР», 1962, № 6, стр. 22.
5 Н. Полевой. Повесть о великой битве Бородинской, бывшей 26 ав-
густа 1812 года. СПб., 1844, стр. 20—21.
200
— И жизнь, и имущество возьми, ваше величество!»
(Гл. XXIII; 11, 97.)
Эта сцена, полная сентиментальности и умиления, тонко пе-
редает то притворство, которое наполняло атмосферу купеческо-
го собрания при встрече с лицемерным и до экзальтации чувст-
вительным царем. Толстый откупщик, сквозь рыдания твердив-
ший одну и ту же фразу: «И жизнь, и имущество возьми, ваше
величество!» — это тот самый купец, который, притворно попла-
кав перед царем, начнет прикидывать свои планы, как бы поосно-
вательнее нажиться на государственных поставках, как бы не
упустить столь благоприятный момент, чтобы набить цены на
ходкий товар.
Самым ходким товаром при отдаче Москвы оказалось ору-
жие, и купцы не упустили случая воспользоваться бедственным
положением отечества. Вот что пишут по этому поводу современ-
ники событий: «До воззвания к первопрестольной столице Моск-
ве государем императором (т. е. до встречи купцов с царем.—
Б. К.) в лавках купеческих сабля и шпага продавались по б р.
и дешевле; пара пистолетов тульского мастерства 8 и 7 р.; ружье,
карабин того же мастерства 11, 12, 15 р., дороже не продавали;
но когда прочтено было воззвание императора и учреждено опол-
чение противу врага, то та же самая сабля или шпага стоила уже
30—40 р.; пара пистолетов 35 и даже 50 р.; ружье, карабин не
продавали ниже 80 р. и проч. Купцы видели, что с голыми рука-
ми отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались
этим случаем для своего обогащения...»1
Сцена собрания дворян и купцов Толстым написана по ма-
териалам С. Н. Глинки, автора «Записок о 1812 годе» (СПб.,
1836).
«Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в
свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал».
(Гл. XXI; 11, 86.)
Стремление юного патриота Пети Ростова попасть в дейст-
вующую армию не было единичным явлением. Д. Н. Свербеев в
своих «Записках» пишет: «Удалившись в горьких слезах в свою
комнату... в какой-то молитве выразил я всю мою скорбь, в ней
просил я бога допустить и меня, 12-летнего отрока, стать в ряды
защитников отечества»1 2.
Денис Давыдов вспоминает о своем юном брате, храбром
партизане его отряда3.
«Шестнадцатилетний Никита Муравьев бежал из дома свое-
го отца-сенатора и, преодолев многочисленные препятствия, до-
1 А. Д. Бестужев-Рюмин. Сочинения. М., 1859, стр. 66.
2 Д. Н. Свербеев. Записки, г. 1. М., 1899, стр. 61.
3 См.: Д. В. Давыдов. Сочинения, ч. 1. Дневник партизанских дейст-
вий 1812 года. М., 1860, стр. 100—102.
201
бился зачисления на военную службу»1,— пишет советский ис-
торик А. В. Фадеев в статье «Отечественная война 1812 года и
русское общество».
И, наконец, нельзя не вспомнить взволнованные стихи
А. С. Пушкина о лицейской поре:
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... 1 2
Эпизод с бисквитами, очевидно, навеян книгой А. Рязанцева
«Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в
1812 году» (М., 1862; книга вышла анонимно). На страницах 26—
27 этой книги читаем: «В день прибытия государя в Москву, во
время обеда в Кремлевском дворце, император, заметив собрав-
шийся народ, с дворцового парапета смотревший в растворен-
ные окна на царскую трапезу, встал из-за стола, приказал ка-
мер-лакеям принести несколько корзин фруктов и своими рука-
ми с благосклонностью начал их раздавать народу».
При создании «Войны и мира» Толстой этой книгой пользо-
вался.
К ГЛ ABE XIX
Апокалипсис (греч.) — одна из книг Нового завета, приписываемая хри-
стианской церковью Иоанну Богослову и содержащая мистические пророче-
ства о конце мира.
К ГЛ ABE XX
Сольфёджи (ит.) — вокальные упражнения для развития слуха и приоб-
ретения навыка читать ноты; воспроизведение нот голосом.
Голицыны — русский княжеский род.
К ГЛ ABE XXI
Непрезентабельный (разг.-фам.) — непредставительный, не имеющий до-
стойного вида.
Собдрне (церк.) — вместе, всем собором, при участии многих священно-
служителей.
К ГЛ ABE XXII
Глинка Сергей Николаевич (1776—1847) — писатель. В 1808—1824 гг. из-
давал журнал «Русский вестник», посвященный борьбе с французским влия-
нием в России. Этот журнал в 1812 г. пользовался большим успехом.
К ГЛ ABE XXIII
Дмитриев-Мамонов Матвей Александрович (1790—1863) — граф, сын фа-
ворита Екатерины II. В 1812 г. на свой счет сформировал конный полк. Мамо-
новский полк отличился в сражениях под Тарутином и Малоярославцем.
1 «История СССР», 1962, № 6, стр 23.
2 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 тт., т. III. М., Изд-во АН СССР,
’956, стр. 375.
202
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВЫ I-V
Вовремя определив непригодность Дрисского ла-
геря, русское командование отдало войскам приказ отступить в
направлении Смоленска. В Отечественной войне 1812 г. бои за
Смоленск сыграли важную роль. Несмотря на то что Барклай
де Толли уклонился от большого и решительного сражения за
город и отдал его противнику, все же действия русской армии
под Смоленском не предвещали Наполеону ничего отрадного
в затеянной им военной кампании.
Бомбардировка Смоленска началась с утра 16 августа (нов.
ст.), и непрерывные бои с временным утиханием продолжались
до 18 августа, когда после взрыва пороховых складов Барклай
де Толли отдал войскам приказ покинуть город.
Вслед за этим 19 августа маршал Ней столкнулся с русским
арьергардом, и произошла кровопролитная битва, стоившая
французам огромных потерь; в ней был убит один из любимых
генералов Наполеона, Гюден.
Героическая защита пылающего Смоленска и битва при Ва-
лутиной горе, по словам генерала Сегюра \ произвели на фран-
цузов и на самого Наполеона зловещее впечатление. Завоева-
тель, прошедший триумфальным маршем по всей Западной Ев-
ропе, почувствовал что-то совершенно иное во всем облике рус-
ских людей, с таким ожесточением защищающих каждую пядь
родной земли.
Наполеон понял, что народ, уходящий из родных мест вслед
за армией, не щадящий ни своего имущества, ни жизни во имя
чести, нельзя так легко завоевать, как это ему удавалось до сих
пор во всех проведенных им войнах (за исключением войны в
Испании).
Все это лишало каких бы то ни было надежд и на возмож-
ность мира, мысли о котором в глубине сознания таил Наполеон.
Толстой не стал изображать потрясающие по своему драма-
тизму сцены гибели жителей и раненых, оставленных в огне пы-
лающего, как гигантский костер, Смоленска. Писатель сосредо-
точил свое внимание на другом: он показывает, как реагировали
жители города и окрестных деревень на вторжение врагов. Бы-
ла ли это покорность запуганного населения, поступки людей,
лишенных чувства национальной гордости и достоинства, гото-
1 Сегюр (Segur) Филипп Поль (1780—1873)—граф, французский воен-
ный деятель и писатель, участник нашествия па Россию в 1812 г. Этот по-
ход Сегюр описал в книге «История Наполеона и великой армии в течение
1812 года».
203
вых из-за своекорыстных соображений без сопротивления отдать
себя на милость победителя,— вот тот вопрос, который главным
образом занимал творческую мысль писателя. Как же Толстой
решил его?
Изображение того нравственного величия русского народа,
того патриотизма, который с особенной силой проявился в Боро-
динском сражении и в партизанской войне, Толстой начинает со
страниц, посвященных героическому Смоленску.
Французы подвергли Смоленск варварскому артиллерийско-
му обстрелу, вследствие чего в городе стали возникать пожары.
Толстой пишет:
«С разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье
гранат, падавших в городе... Это было бомбардирование, ко-
торое в 5-м часу приказал открыть Наполеон по городу, из
130 орудий.
...С двух сторон поднимались и расходились черные клубы
дыма от пожаров». (Гл. IV; 11, 115, 117.)
Это описание пожара Смоленска вследствие бомбардировки
его вражеской артиллерией соответствует воспоминаниям оче-
видцев. Ф. Глинка, участник событий, в «Письмах русского офи-
цера» писал: «Я видел ужаснейшую картину, я был свидетелем
гибели Смоленска... Наполеон приказал жечь город, которого
никак не мог взять грудью. Тучи бомб, гранат и чиненых ядер
полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, церкви и
башни обнялись пламенем— и все, что может гореть, запы-
лало!» 1
Нам очень важно обратить внимание на приведенные строки
романа, потому что дворянско-буржуазная историография на-
стойчиво утверждала мысль, что якобы сжигание и разрушение
городов и деревень на пути следования неприятеля — дело толь-
ко русских, что французы никаких разрушительных действий не
производили. Толстой, как видим, не поддался этой версии —
он дал истинную картину происходивших событий.
Сами французы, писавшие о 1812 годе, не могли умолчать о
своих варварских действиях, превращавших русскую землю в
выжженную пустыню. Так, французский генерал Шамбре, очеви-
дец событий, откровенно заявил на страницах своей «Истории»1 2,
что «страна становилась добычей пламени. Даже храмы не со-
ставляли исключения, в них беспорядочно останавливались лю-
ди, лошади, обоз. Наконец, начиная со Смоленска, поход принял
характер вторжения, напоминавшего нашествие варваров»3. Он
же свидетельствует о сожжении французами Гжатска и До-
рогобужа.
1 Ф. Глинка. Письма русского офицера. М., 1815, стр. 34 -35.
2 «Histoire de I’expedition de Russie». Paris, 1825, стр. 277—278.
3 Цит. по ст. С. Кожухова «К вопросу об оценке роли /М. И Кутузова
в Отечественной войне 1812 года». «Большевик», 1951, № 15, сгр. 30.
204
Каннибаловские действия французов нашли широкое отраже-
ние и в мемуарах, записках русских очевидцев событий. Так, в
письме А. Ф. Мерзлякова к Ф. М. Вельяминову-Зернову от
14 марта 1813 г. читаем следующее: «Кто не проклинает фран-
цузов-злодеев, тот или глуп, или злодей. Ах, надобно слышать
здесь тысячи анекдотов от оставшихся русских, дабы знать, до
какой степени простиралось их скотство и неистовство!» 1
Об этом же пишет М. А. Волкова в письме В. И. Ланской:
«...Я ехала по дороге, где неприятель на расстоянии шестиде-
сяти верст сжег деревни...»1 2 (имеется в виду московская доро-
га.— Б. К.).
Ф. Глинка писал: «Я видел разорение моей родины и слышал
тяжкие вздохи ее. Повсюду пепел и разрушение! — Город весь
сквозной; домы без кровель, без окон, без дверей. Пустота пуга-
ет; ветер свищет среди обгорелых стен; по ночам кажется, что
развалины воют. В деревнях ничего не слыхать, кроме стона и
жалоб; а что, спросишь ты, нашел я у себя? — Одно запусте-
ние!» 3
Или вот любопытный документ, говорящий о поджогах и опу-
стошительных действиях французов. Староста Григорий Андреев
6 ноября 1812 г. пишет из села Курчина Боровского уезда свое-
му помещику: «Разоренных селений обыватели, около 1500 се-
мей, от неприятеля в ваших рощах недель семь укрывались и
очень много пожгли вашего лесу... Назад тому недели три при-
шли к нам французы и хотели деревню сжечь, но я с помощью
божиею и крестьян ваших их всех перебил до смерти, как то-
щих собак; — нашли мы при них с образов оклады серебряные
помятые, рясу и нитку жемчугу»4.
После отступления от Смоленска 10 августа 1812 г. Баграти-
он обратился к А. А. Аракчееву с просьбой о переводе его из
2-й Западной армии: «...вся главная квартира немцами на-
полнена так, что русскому жить невозможно и толку ника-
кого нет» 5.
Багратион был истинным и верным учеником великого Суво-
рова и очень хорошо усвоил основные принципы его книги «Нау-
ка побеждать», рожденной в огне победоносных военных дейст-
вий всемирно прославленного полководца. Как известно, основ-
ной тактический принцип Суворова — бить неприятеля в насту-
пательных действиях, невзирая на его численность; быстрота и
натиск были постоянно сопутствующими приемами полководца.
1 «Русский архив», 1865, кн. II, стр. 1075.
2 «Вестник Европы», 1874, № 9, стр. 118.
3 Ф. Г л и н к а. Письма русского офицера, ч. 6. М., 1815, стр. 64.
4 «Сын отечества», 1812, ч. 2, № 9, стр. 127—128.
5 «Генерал Багратион». Сборник документов и материалов. М., Госполит-
издат, 1945, стр. 226.
205
Слово «ретирада» («отступление») не употреблялось в частях
суворовской армии. Кирилл Пигарев, автор книги о Суворове, пи-
шет: «Не только понятие отступления было изгнано из его (Су-
ворова.—Б. К.) военного катехизиса, но и само слово «ретира-
да» вычеркнуто из словаря военных терминов, употребительных
в его войсках. «Нет ретирады», — гласит один из приказов Суво-
рова 1774 г. «Ни о каких ретирадах в пехоте и в кавалерии не
мыслить»1, — сказано в «Науке побеждать».
Поэтому совершенно естественно то возмущение, которое вы-
зывала у Багратиона отступательная тактика Барклая де Толли.
Пусть Багратион ошибался в этом отношении, мы знаем, что
время оправдало тактику отступления; пусть не вполне справед-
ливы те упреки, которые он со всем пылом уязвленной души бро-
сал в лицо ненавистным ему людям, но одно совершенно очевид-
но: Багратион во всем, что он делал, руководствовался горячим
желанием избавить свое отечество от бедствия, оградить на-
циональное достоинство русского воина от позорного пятна быть
обвиненным в трусости перед неприятелем.
И это состояние Багратиона великолепно уловил Толстой.
В пятой главе писатель поместил письмо Багратиона графу
Аракчееву, датируя его 7 августа 1812 г. Пересматривая сборник
документов и материалов, связанных с деятельностью Багратио-
на, нам не удалось обнаружить в нем этого письма. Видимо,
оно — творческий вымысел Толстого. Если это так, то письмо
Багратиона поразительно и по верности изложенных в нем мыс-
лей полководца, и по стилю, тонко воспроизводящему язык воен-
ных реляций того времени. Для доказательства нашей мысли
сопоставим это письмо с донесением Багратиона Александру I
об оставлении русскими войсками Смоленска.
Письмо Багратиона
Аракчееву
Милостивый госу-
дарь граф Алексей Ан-
дреевич. Я думаю, что
министр уже рапорто-
вал об оставлении не-
приятелю Смоленска.
Больно, грустно, и вся
армия в отчаянии, что
самое важное место по-
напрасну бросили. Я, с
моей стороны, просил лич-
но его, убедительнейшим
Донесение П. И. Багратиона Александру I об
оставлении русскими войсками Смоленска
№ 476 7(19) августа 1812 года.
Высочайший вашего императорского вели-
чества собственноручный рескрипт от 28 июля
я имел счастие получить под Смоленском, в то
самое время, когда французский император На-
полеон всеми своими силами производит на
Смоленск атаку.
Всемилостивейший государь! Нет слов и толь
сильных выражений, которыми бы я мог изъяс-
нить благодарность в таковой мере, в какой пре-
исполнен я за высочайшие милости и благодея-
ния. Удостой вниманием твоим неложное увере-
ние о преданности моей высочайшему твоему
1 К. Пигарев. Солдат-полководец. М., Гослитиздат, 1943, стр. 29.
206
образом, наконец и пи-
сал; но ничто его не со-
гласило. Я клянусь вам
моею честью, что Напо-
леон был в таком мешке,
как никогда, и он бы мог
потерять половину ар-
мии, но не взять Смолен-
ска. Войска наши так
дрались и так дерутся,
как никогда. Я удержал
с 15-ю тысячами более
35-ти часов и бил их; но
он не хотел остаться и
14-ти часов. Это стыдно,
и пятно армии нашей; а
ему самому, мне кажет-
ся, и жить на свете не
должно. Ежели он доно-
сит, что потеря вели-
ка, — неправда: может
быть, около 4-х тысяч,
не более, но и того нет;
хотя бы и десять, как
быть, война! Но за-
то неприятель потерял
бездну...
Что стоило еще ос-
таваться два дня? По
крайней мере, они бы
сами ушли; ибо не име-
ли воды напоить людей
и лошадей. Он дал сло-
во мне, что не отступит,
но вдруг прислал диспо-
зицию, что он в ночь
уходит. Таким образом
воевать не можно, и мы
можем неприятеля скоро
привести в Москву...
Слух носится, ч го
вы думаете о мире. Что-
бы помириться, Боже
сохрани! После всех по-
жертвований и после та-
ких сумасбродных от-
ступлений — мириться:
вы поставите всю Рос-
сию против себя, и вся-
кий из нас за стыд по-
ставит носить мундир.
Ежели уж так пошло —
надо драться, пока Рос-
сия может и пока люди
на ногах...
Надо командовать
одному, а не двум. Ваш
министр, может, хоро-
престолу и отечеству. Поистине нет для меня па
свете блага, которое бы я предпочел благу мо-
его отечества. Сими чувствами быв движим, я все
мои дела располагаю согласно им и ничего не
упущу, чтобы оправдать доверенность, каковою
угодно было тебе, всемилостивейший монарх,
меня удостоить. Настоящее поведение мое да бу-
дет доказательством, что я ни в какой мере не
уклонялся и не уклоняюсь от обязанностей вы-
сочайшей твоей службы и никакие личности не
произведут побуждений, противных пользам лю-
безного отечества. В таковых расположениях
моих, всемилостивейший государь, не могу я как
верноподданный сокрыть истинного моего при-
скорбия, превышающего меру терпения, что
дела наши не соответствуют желанию твоему,
желанию всей России и ожиданию целой Ев-
ропы.
Из сношений моих с военным министром,
всеподданнейше от меня представленных ваше-
му императорскому величеству, известны сделан-
ные ему от меня предложения в предупреждении
неприятеля о покушениях его пробраться далее
внутрь России, наступательным со стороны на-
шей противудействиям, на которые военный ми-
нистр не согласился, а неприятель сим восполь-
зовался и нанес новый вред России.
Прости, всемилостивейший государь, с родным
тебе милосердием патриотической ревности, дей-
ствием которой дерзаю я открыть тебе то, что
чувствую: я не быв введен в круг познаний по-
литических, неизвестны мне тайны политики, но
находясь на поприще военном, знаю преданность
к тебе и отечеству русских воинов, знаю, с ка-
ким желанием они готовы всякий час в отмще-
ние неприятелю за нанесенное России беспокой-
ство и вред и потому позволяю себе заключать,
что, действуя наступательно с должною осто-
рожностью и благоразумием, храбрые русские
воины не позволяли бы иметь неприятелю ника-
кого над собою превосходства, они доказали уже
при многих в настоящую кампанию сражениях,
доказали и при последнем защищении Смоленска
4-го сего августа, где 15 тыс. русских воинов вве-
ренной мне армии держались 24 часа противу
всей многочисленной неприятельской силы и мож-
но сказать оспорили почти победу, опрокинув на-
ступивших на них, пе допустя па две версты к
городу и положив на месте до 10 тыс. человек,
на другой же день угодно было министру защи-
щение города принять на себя, как из всеподдан-
нейшего донесения моего от 5-го сего августа ва-
ше императорское величество видеть изволили,
а я по соглашению с ним отступил на Москов-
скую дорогу для прикрытия оной и отражения
неприятеля в случае покушения его к сей сторо-
не. По выгодности позиции и по укреплениям се-
го города, нельзя было не считать нужным удер-
207
ший по министерству; но
генерал не то, что пло-
хой, но дрянной, и ему
отдали судьбу всего на-
шего Отечества... Я, пра-
во, с ума схожу от доса-
ды; простите мне, что
дерзко пишу. Видно, что
тот не любит государя и
желает гибели нам всем,
кто советует заключить
мир и командовать ар-
миею министру. И так я
пишу вам правду: го-
товьте ополчение. Ибо
министр самым мастер-
ским образом ведет в
столицу за собою гостя.
Большое подозрение по-
дает всей армии госпо-
дин флигель-адъютант
Вольцоген. Он, говорят,
более Наполеона, не-
жели наш, и он совету-
ет все министру. Я не
токмо учтив против не-
го, но повинуюсь, как
капрал, хотя и старее
его. Это больно; но, лю-
бя моего благодетеля и
государя, — повинуюсь.
Только жаль государя,
что вверяет таким слав-
ную армию. Вообразите,
что нашею ретирадою
мы потеряли людей от
усталости и в госпита-
лях более 15-ти тысяч;
а ежели бы наступали,
того бы не было. Ска-
жите, ради Бога, что на-
ша Россия — мать на-
ша — скажет, что так
страшимся и за что та-
кое доброе и усердное
отечество отдаем своло-
чам и вселяем в каждо-
го подданного ненависть
и посрамление? Чего
трусить и кого бояться?
Я не виноват, что ми-
нистр нерешим, трус,
бестолков, медлителен и
все имеет худые качест-
ва. Вся армия плачет со-
вершенно, и ругают его
насмерть...»
(Гл. V; 11, 124—12G.)
живать его; я, отступая от города, просил о сем
военного министра и отношением моим и в осо-
бенности чрез нарочно отправленных, но военный
министр рассудил держаться в оном не более
12-ти часов и после вслед за мною отступил, пре-
доставив город власти неприятеля.
Всемилостивейший государь! В полном упова-
нии на беспредельное милосердие твое, я, при-
няв решимость открыть пред тобою всеисходя-
ще [из] моего сердца и чувств, не могу”умол-
чать о том, что отступление от Смоленска навело
уныние в храбрых твоих воинах, готовых едино-
душно защищать свое отечество до последней
капли крови. Признаюсь, всемилостивейший го-
сударь, что я и сам в великом недоумении, не
знав ни прямой надежной цели, ни пределов на-
шему отступлению. Ежели военный министр ищет
выгодной позиции, то, по мнению моему, и Смо-
ленск представлял не малую удобность к затруд-
нению неприятеля на долгое время и к нанесе-
нию ему важного вреда! Я по соображению об-
стоятельств и судя, что неприятель в два дня при
Смоленске потерял более 20 тыс., когда со сторо-
ны нашей и в половину не составляет потери, по-
зволяю себе мыслить, что при удержании Смо-
ленска еще один или два дня, неприятель при-
нужден [бы] был ретироваться.
Сколько по патриотической ревности моей,
столько и по званию главнокомандующего, обя-
занного ответственностью, я долгом поставил все
сие довести до высочайшего сведения вашего им-
ператорского величества и дерзаю надеяться на
беспредельное милосердие твое, что безуспеш-
ность в делах наших не будет причтена в вину
мне, из уважения на положение мое, не пред-
ставляющее вовсе ни средств, ни возможностей
действовать мне инако, как согласуй по всем
распоряжениям военного министра, который со
стороны своей уклоняется вовсе следовать в чем-
либо моим мнениям и предложениям.
Всемилостивейший государь! Учини по высо-
чайшей твоей воле и положи предел нашим не-
решимостям, не представляющим, как кажется,
ничего полезного, а вовлекающим лишь отечест-
во наше в новые бедствия и служащим к совер-
шенному войск изнурению.
Всемилостивейший государь вашего импе-
раторского величества верноподданный (князь
Багратион)
(«Генерал Багратион». Сборник документов
и материалов. М., Госполитиздат, 1945,
стр. 233—235.)
208
Подлинное письмо Багратиона — вопль оскорбленного патрио-
тического чувства, писано оно буквально кровью сердца. Пись-
мо, созданное рукою Толстого, свидетельствует о глубоком
постижении писателем душевных движений Багратиона, о
мастерстве языка.
К ГЛАВЕ I
Скифская война — здесь: война, которая ведется с нарушением обычных
законов войны.
Любомйрский Константин Ксаверьевич (1786—1870) — князь, в 1812 г.—
флигель-адъютант Александра I.
Бранйцкий, очевидно, Владислав Ксаверьевич (1782—1843)—офицер, в
1812 г. состоял в свите Александра I.
Влбцкий — генерал-адъютант Александра I в 1812 г.
Неверовский Дмитрий Петрович (1771—1813) —русский генерал; в 1812 г.
командовал дивизией.
К ГЛ ABE IV
Дворник — здесь: содержатель постоялого двора.
Aui Казимир Иванович — барон; в 1807—1822 гг. — смоленский губернатор.
Дорогобуж—уездный город Смоленской губернии, на реке Днепре.
ГЛАВА VI
Провал Аустерлицкого сражения показал полную бездар-
ность в военном отношении Александра I и в то же время пора-
зительную военную прозорливость М. И. Кутузова. Но несмот-
ря на это, царь удалил Кутузова из армии.
Наступил 1812 год. Толстой, придерживаясь последователь-
ности военно-исторических событий, рисует отступление русской
армии в глубь страны, ропот в ее рядах, народное возмущение
действиями нерусского главнокомандующего первой армии, ко-
торому была фактически подчинена и 2-я армия, Барклая де
Толли.
Об отношении в армии к Барклаю де Толли вспоминает со-
временник событий, Н. Е. Митаревский: «Высшие офицеры обви-
няли его в нерешительности, младшие — в трусости, а между
солдатами носилась молва, что он немец, подкуплен Бонапар-
том и изменяет России. Обвиняли его за то, что даром отдал
Смоленск, что пошел от него по петербургской дороге и тем чуть
не отдал всю армию в руки Наполеона. Особенно неприятное
впечатление произвело известие, что Барклай-де-Толли поссорил-
ся с князем Багратионом, которого все превозносили до небес» L
И в другом месте: «Все в один голос роптали: «Когда бы нас
разбили — другое дело, а то даром отдают Россию, а нас только
мучат походами»1 2.
1 Н. Е. Митаревский. Воспоминания о войне 1812 года. М., 1871,
стр. 46—47.
2 Т а м же, стр. 53.
209
Михаил Богданович Барклай де Толли.
С портрета работы Дж. Доу
Такой важный и злободневный вопрос, как вопрос о главно-
командующем всей русской армии в столь опасный и ответствен-
ный для России момент, не мог не найти соответствующего ре-
зонанса в столичных салонах. Этот вопрос обсуждался п в сало-
не Анны Павловны Шерер. Узнав о возможности назначения на
этот пост Кутузова, князь Василий с пренебрежением отзывает-
ся о нем:
«— Разве возможно назначить главнокомандующим челове-
ка, который не может верхом сесть, засыпает на совете, челове-
ка самых дурных нравов! Хорошо он себя рекомендовал в Бука-
реште! Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве
можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого,
просто слепого? Хорош будет генерал слепой! Он ничего не ви-
дит. В жмурки играть... ровно ничего не видит!»
Никто не возражал на это». (Гл. VI; 11, 128.)
Такому глумлению подвергался будущий спаситель отечест-
ва в петербургских салонах, где царил дух придводных интриг,
где знали о нерасположении к Кутузову самого царя.
Но 29 июля (10 августа) 1812 г. был издан указ о возведе-
нии Кутузова в княжеское достоинство, который заставил
призадуматься слишком ретивых критиков полководца, а
8 (20) августа Кутузов был назначен полномочным главнокоман-
дующим армий всего края, занимаемого войсками. Флюгер
салона Анны Павловны повернулся в диаметрально противопо-
ложную сторону. Толстой пишет: «Князь Василий вошел в ком-
нату с видом счастливого победителя, человека, достигшего це-
ли своих желаний.
— Eh bien, vous savez la grande nouvelle. Le prince Koutouzoff
est marechai (Ну вот, знаете великую новость? Кутузов — фельд-
маршал). Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! —
говорил князь Василий». (Гл. VI; И, 128—129.)
Анна Павловна и князь Василий своим отношением к Куту-
зову превосходно передают придворную атмосферу, сложившую-
ся вокруг имени великого полководца. То притворство и неис-
кренность, которые звучат в устах этих двух представителей
высшего петербургского света, символизируют собой отношение
к Кутузову Александра I. Если до Аустерлица царь относился к
Кутузову недоброжелательно, то после этой кампании он возне-
навидел полководца. И назначение Кутузова главнокомандую-
щим не было выбором царя. Е. Тарле пишет: «...все члены коми-
тета знали, что царь терпеть не может Кутузова...» Г
Об этом есть ряд исторических свидетельств. Д. П. Бутур-
лин говорил, что «государь не доверял нй высоким военным спо-
собностям, ни личным свойствам Кутузова»1 2. Сам Александр I
1 Е. Т а р л е. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 532.
2 «Русский архив», 1873, кн. I, стр. 1029.
211
писал Барклаю де Толли, что Кутузова он назначил главноко-
мандующим вопреки собственным убеждениям Г Об этом же
рассказывали граф Е. Ф. Комаровский («Русский архив», 1867,
стр. 779), П. В. Чичагов («Русский архив», 1870, стр. 1523) и
П. С. Молчанов («Русский архив», 1873, кн. I, стр. 1026).
Однако Александр I вынужден был уступить требованию на-
рода. В исторических документах читаем: «Он не мог не утвер-
дить этой кандидатуры, потому что «в общем, Кутузов в боль-
шом фаворе среди публики как тут (в Петербурге. — Е. Г.), так
и в Москве»1 2.
Иначе расценил этот исторический факт Н. Полевой3. Он пи-
шет: «Воля царя Александра избрала нового полководца рус-
ским...»; и далее: «Единовластие над войсками вручено было
ему царем, и полная доверенность дана на все»4.
Имел ли Толстой какое-либо основание говорить о Кутузове
как о народном избраннике, были ли в его руках документы, го-
ворящие об отношении к Кутузову широких народных масс? Да,
были. И они, видимо, укрепили писателя в мысли о верности на-
меченной им концепции исторического романа. Процитируем не-
которые из этих документов.
Вот голос одного из современников и участников события,
Ф. Глинки: «...Переезд Кутузова из С.-Петербурга к армии по-
ходил на какое-то торжественное шествие. Предания того вре-
мени передают нам великую пиитическую повесть о беспредель-
ном сочувствии, пробужденном в народе высочайшим назначе-
нием Михаила Ларионовича в звании главнокомандующего
армии. Жители городов, оставляя все дела расчета и торга, выхо-
дили на большую дорогу, где мчалась безостановочно почтовая
карета, которой все малейшие приметы заранее известны были
всякому. Почтеннейшие граждане выносили хлеб-соль; духовен-
ство напутствовало предводителя армии молитвами; окольные
монастыри высылали к нему на дорогу иноков с иконами и бла-
гословениями от святых угодников; а народ, не находя другого
средства к выражению своих простых душевных порывов, при-
бегал к старому, радушному обычаю — отпрягал лошадей и вез
карету на себе. Жители деревень, оставляя сельские работы
(ибо это была пора косы и серпа), сторожили также под доро-
гою, чтобы взглянуть, поклониться и в избытке усердия поцело-
1 См.: М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. II.
СПб., 1859, стр. 124.
2 Е. Т а р л е. 1812 год. ДА., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 533.
3 Николай Алексеевич Полевой (1794—1846)—русский журналист, пи-
сатель и критик. В первый период своей деятельности — сторонник конститу-
ционной монархии. Впоследствии занял более реакционную позицию, стал пи-
сать верноподданнические произведения, выступил против Белинского, про
тив гоголевского направления в литературе.
4 Н. П о л е в о й. Повесть о великой битве Бородинской. СПб., 1844, стр. 27.
212
вать горячий след, оставленный колесом путешественника. Са-
мовидцы рассказывали мне, что матери издалека бежали с груд-
ными младенцами, становились на колени и, между тем как стар-
цы кланялись седыми головами в землю, они с безотчетным воп-
лем подымали младенцев своих вверх, как будто поручая их
защите верховного воеводы» L
Аналогичные сцены народной манифестации нарисовал
Ф. Глинка и в другом своем сочинении — «Письмах русского
офицера»1 2.
Тема народного избранничества ясно прозвучала и в стихот-
ворении А. С. Пушкина «Перед гробницею святой», посвящен-
ном М. И. Кутузову.
О необычайной популярности Кутузова и любви к нему
армии говорит в своем сочинении и другой участник событий,
подполковник артиллерии Илья Радожицкий: «...С приездом в
армию князя Кутузова, во время самого критического положе-
ния России... обнаружилось явно, сколь сильно могло присутст-
вие любимого полководца воскресить упадший дух русских как
в войске, так и в народе»3.
Находит свое полное подтверждение в мемуарных докумен-
тах восторженный прием, оказанный Кутузову солдатской мас-
сой. Ф. Глинка пишет: «Вот то-то приехал «наш батюшка»! —
говорили солдаты: — «он все наши нужды знает; как не по-
драться с ним; в глазах его все до одного рады головы поло-
жить» 4.
Все эти и другие аналогичные материалы находились в ру-
ках Толстого, и он несомненно воспользовался ими для создания
образа великого полководца; писатель проникся мыслью о на-
родном избранничестве Кутузова как носителя патриотических
чувств, чаяний народных масс.
К ГЛАВЕ VI
Плутарх (46—120)—греческий писатель, автор многочисленных сочине-
ний по религии, философии и истории. Наибольшую известность получили его
«Сравнительные жизнеописания» — 46 биографий знаменитых людей.
Фрондировать (фр.) — стоять в оппозиции, выражать недовольство, глав-
ным образом по непринципиальным вопросам.
Лопухин Петр Васильевич (1744—1827) — князь, бывший при Екате-
рине II ярославским и вологодским генерал-губернатором, а при Александ-
ре I (в 1803—1810 гг.) — министром юстиции, председателем Государственного
совета и Комитета министров.
«Жокбнда» — новелла легкого содержания французского писателя Ла-
фонтена.
1 ч>. Глинка. Очерки Бородинского сражения. М., 1839, стр. 5—6.
2 См.: Ф. Глинка. Письма русского офицера, ч. 4. М., 1815, стр. 50.
3 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, т. 1. М., 1835,
стр. 132—133.
4 Ф. Глинка. Письма русского офицера, ч. 4. М., 1815, стр. 53.
213
ГЛАВА VII
Эпизод с захваченным в плен русским казаком Толстой пе-
редает, сопоставляя изображаемую им картину с рассказом
французского историка Тьера (из книги Тьера «Histoire de
1’Empire»).
По описанию Тьера, пленный казак, узнав о том, что перед
ним прославленный французский император Наполеон, «охва-
ченный каким-то остолбенением, не произнес ни слова и продол-
жал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого дошло
до него через степи Востока».
Толстой критически относился к Тьеру как историку наполе-
оновских завоеваний и не поверил в справедливость его слов.
Пленный казак в «Войне и мире», пьяный плутоватый ден-
щик Лаврушка, просто «притворился изумленным, ошелом-
ленным».
Проф. Н. Н. Гусев в статье «Историческая правда «Войны и
мира» расшифровал этот эпизод. Он пишет: «Теперь оказывает-
ся, что Тьер выдумал весь этот эпизод с «остолбенением» казака.
Случай с поимкой двух русских солдат на переходе из Вязьмы к
Цареву Займищу был взят Тьером из неопубликованных в то
время записок французского посла в Петербурге Коленкура. На-
следники Коленкура долгое время никого не допускали до его
записок; только Тьеру и другому историку—Вандаю было раз-
решено познакомиться с ними в рукописи. Всего только пять лет
назад, в 1933 г., был опубликован первый том записок Коленку-
ра под заглавием «Memoires du generale de Caulaincour, due
de Vicence». Оказалось, что у Коленкура нет пн слова о том изум-
лении, которое будто бы почувствовал русский казак при виде
Наполеона. Коленкур рассказывает, что были взяты в плен двое:
повар Платова, негр, и казак, отбившийся от русского арьер-
гарда. Наполеон сначала через переводчика расспрашивал нег-
ра, и когда тому сказали, что с ним разговаривает император, негр
«поклонился, несколько раз распростерся на земле, начал танце-
вать, скакать, петь и всячески кривляться». О впечатлении, ко-
торое произвел Наполеон на казака, Коленкур не упоминает» L
К ГЛАВЕ VII
Вязьма — уездный город Смоленской губернии, на реке Вязьме.
Царёво Займище — село Вяземского уезда, Смоленской губернии, на ре-
ках Сеже и Любигости, в 41 версте от Вязьмы. Здесь в 1812 г. Кутузов при-
нял начальство над русскими войсками.
Бородино — село Можайского уезда, Московской губернии, на реке Коло-
че, где произошло знаменитое Бородинское сражение.
Пагоды — название храмов в Китае, Индии, Японии.
1 «Литературная газета», 10 сентября 1938 г.
214
ГЛАВЫ VIII-XI
Толстой не был бы великим писателем-реалистом, если бы не
дал некоторых зарисовок крестьянских волнений во время вой-
ны 1812 г. Без этого картина эпохи была бы неполной.
Толстой изобразил богучаровских крестьян, проявивших не-
покорность своей госпоже. Он пишет об этих крестьянах: «Меж-
ду ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о пере-
числении их всех в казаки, то о новой вере. Слухи о войне и Бо-
напарте и его нашествии соединились для них с такими же неяс-
ными представлениями об антихристе, конце света и чистой во-
ле». (Гл. IX; И, 142.)
Крестьяне ждали каких-то перемен в своей судьбе, а порой
сами решали изменить свое подневольное положение. Так, за
20 лет до Отечественной войны они неожиданно стали подни-
маться с насиженных мест и уходить на поиски более благодат-
ных земель, на юго-восток.
В войну 1812 г. эти затаенные мысли крестьян стали вновь
пробиваться наружу. Толстой пишет: «Теперь, в 1812 году, для
человека, близко жившего с народом, заметно было, что эти под-
водные струи производили сильную работу и были близки к
проявлению». (Гл. IX; И, 143.)
Поверив французским прокламациям, обещавшим крестья-
нам свободную и спокойную жизнь, богучаровские крестьяне не
только решили сами не уезжать, но и стали чинить препятствия
отъезду княжны Марьи.
Писатель исторически верно передает умонастроение многих
крестьян.
Участник Отечественной войны генерал Н. Н. Раевский в кон-
це июля 1812 г. писал: «Я боюсь прокламаций, дабы не дал На-
полеон вольности народу, боюсь в нашем краю внутренних бес-
покойств» 1.
Такую же боязнь «внутренних беспокойств» высказал в пись-
ме к министру народного просвещения графу Разумовскому
один из наиболее влиятельных масонов, Поздеев: «Мужики на-
ши... ожидают какой-то вольности, это очаровательное слово
кружит их»1 2.
Советский историк Л. Н. Бычков, исследовавший вопрос о
классовой борьбе в России во время Отечественной войны 1812 г.,
пишет: «Первый главнокомандующий русской армии Барклай
де Толли, обосновывая и оправдывая стратегическое отступле-
ние русской армии в начальный период войны, указывал, в част-
ности, на возможность осложнения обстановки в связи с анти-
1 Цит. по статье Л. Н. Бычкова «О классовой борьбе в России во время
Отечественной войны 1812 года». «Вопросы истории», 1962, № 8, стр. 48—49.
2 Т а м ж е, стр. 49.
215
крепостническими настроениями в стране... Подобную мысль
высказывал также видный участник войны 1812 г. А. П. Ер-
молов» L
Усиливали волнения крестьян антипатриотические поступки
некоторых помещиков Смоленской губернии. В 1962 г. журнал
«Новый мир» впервые опубликовал дневник участника войны
1812 г. офицера Александра Васильевича Чичерина. Автор
дневника принадлежал к старинному дворянскому роду, и у
нас нет оснований считать его записки тенденциозными. Чиче-
рин пишет: «Жадные и корыстные помещики остались в своих
владениях, чтобы избежать полного разорения, и, волей-неволей
содействуя замыслам неприятеля, открыли ему свои амбары;
проливая неискренние слезы и рассуждая о патриотизме,
они принесли верность отечеству в жертву своему корысто-
любию» 1 2.
Из своих наблюдений Чичерин сделал вывод о пагубном
влиянии на крепостных крестьян предательских действий некото-
рой части смоленских помещиков. Он пишет: «Идеи свободы,
распространившиеся по всей стране, всеобщая нищета, полное
разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до
которого дошли помещики, унизительное зрелище, которое они
представляют своим крестьянам, — разве не может все это при-
вести к тревогам и беспорядкам?..»3.
Важно отметить то обстоятельство, что общин героический
дух русского крепостного крестьянства был основан, в частности,
на надежде его получить какие-то льготы от царя по окончании
войны. Крепостной люд не мог допустить и мысли о том, что пос-
ле всех лишений и страданий, после тех огромных жертв, кото-
рые он принес во время войны, останется тем же бесправным и
нищим рабом. Однако надежды парода не оправдались.
Декабрист А. Бестужев писал Николаю I из тюрьмы: «Еще
война длилась, когда ратники, возвратясь домой, первые разнес-
ли ропот в классе народа. «Мы проливали кровь, говорили они,
а пас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину
от тирана, а пас вновь тиранят господа»4.
Царь 30 августа 1814 г. издал манифест, в котором «всемило-
стивейше» благодарил все сословия и давал им разные льготы.
О крестьянах же говорилось: «Крестьяне, верный наш народ,
да получат мзду свою от бога»5 — и давалось заверение, что
«забота... о их благосостоянии предупредится попечением о них
1 Л. Н. Бычков. О классовой борьбе в России во время Отечественной
войны 1812 года. «Вопросы истории», 1962, № 8, стр. 48.
2 «Новый мир», 1962, № 9, стр. 29.
3 Там ж е.
4 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 128—129.
5 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 611.
216
господ их»1, т. е. манифест подтверждал незыблемость крепост-
ного права. Это настолько потрясло истинных спасителей оте-
чества, что многие из них, вернувшись под кнут помещика, не
могли уже перенести крепостного состояния и кончили жизнь
самоубийством. Известно, что А. С. Грибоедов на этих мотивах
хотел построить свою драму «1812 год».
Изменнические действия некоторых смоленских помещиков,
о которых пишет очевидец событий офицер Чичерин, не были
распространенным явлением. Толстой не погрешил против исто-
рической правды, изобразив отъезд княжны Марьи из имения
Богучарова. Эпизод этот интересен высокой художественной
правдой и простотой, правдивостью в решении патриотической
темы.
Обратимся к запискам современников эпохи. Ф. Ф. Вигель
пишет: «В селениях, куда приходили они днем (речь идет об
отступающем от Смоленска Курляндском драгунском полке.—
Б. К.), везде находили они крестьян или убирающих скромные
свои пожитки, или уже их уложивших на возы и готовых к
отъезду...»1 2
И в другом месте: «Но бедные смольняне, в таком дальнем
расстоянии от имений своих истратившие взятые с собой неболь-
шие суммы, угрожаемы были совершенной нищетой...»3
Приведенные цитаты из записок одного из энергичных дея-
телей эпохи, участника событий Отечественной войны 1812 г.
Ф. Ф. Вигеля показывают, что уезжали из веками насиженных
мест и крестьяне, и помещики. О всеобщей эвакуации жителей
Смоленской губернии говорит и Норов: «...Это ожесточение бес-
престанно усугублялось, особенно при виде длинных обозов
несчастных жителей Смоленска и окрестных сел с женами и
грудными детьми»4.
В тесной связи с вопросом о выезде русских из Смоленска
как первого пункта, где Наполеон почувствовал что-то необычай-
ное и зловещее для предпринятой им новой войны, находится и
вопрос об отношении жителей Смоленской губернии к отступаю-
щим русским войскам и вторгавшемуся неприятелю.
Сошлемся на «Записки...» А. П. Ермолова, непосредственного
участника событий: «...в Смоленской губернии приняли нас как
избавителей, и невозможно было изъявить более ненависти и
злобы к неприятелю, ни величайшего усердия к подаянию нам
всех способов, предлагая содействия нам, не жалея ни собствен-
ности, ни самой жизни не щадя. Поселяне приходили ко мне
1 Цит. по статье Л. Н. Бычкова «О классовой борьбе в России во вре-
мя Отечественной войны 1812 года». «Вопросы истории», 1962, № 8, стр. 57.
2 Ф. Вигель. Записки, ч. 4. М., 1892, стр. 60.
3 Т а м же, стр. 63.
4 «Военный сборник», 1868, № 11, стр. 212.
217
спрашивать, позволено ли будет вооружиться против врагов и
не подвергнутся ли они за то ответственности? Главнокомандую-
щий приказал издать прокламацию к жителям Смоленской гу-
бернии, приглашая их вооружаться...» 1
О всеобщем патриотическом подъеме русского народа в по-
ру вступления врага в пределы Смоленской губернии говорит и
Богданович: «Войска (русские. — Б. К.) при первом шаге в Смо-
ленскую губернию встречены были с истинно-русским радушием:
крестьяне привозили в лагерь съестные припасы и отказывались
брать за них деньги либо принимали с благодарностью ничтож-
ную плату. Многие из них изъявляли готовность вооружиться и
простодушно спрашивали: «Не будем ли мы в ответе, если убьем
француза?» 1 2
Приведенные документы доказывают полную историческую
достоверность изображения Толстым русского народа в борь-
бе с Наполеоном. Художественная правда страниц «Войны и
мира» нашла подтверждение и в трудах советских историков,
посвященных 1812 году3.
К ГЛ АВЕ VIII
Печатная молитва. При совершении похорон по православному обряду в
гроб вместе с покойником кладут печатную молитву, как бы сопровождающую
его на тот свет.
Псалтырь—книга Ветхого завета, сборник гимнов-псалмов. По преданию,
написана царем Давидом.
К ГЛАВЕ IX
Тягло — при крепостном праве — «рабочая единица», состоящая из двух
человек. Муж с женой или две души из семьи составляли тягло. Всякие рас-
кладки — наделение землей, трудовая повинность и пр. — производились по
тяглам.
К ГЛ ABE X
Плерезы (фр.) — траурные нашивки на платье.
Рамо — французский генерал.
1 А. П. Ермолов. Записки о 1812 годе. М., 1863, стр. 24.
2 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. 1.
СПб., 1859, стр. 205—206.
3 См.: П. А. Жили н. Контрнаступление Кутузова в 1812 году. М., Воениз-
дат, 1950, стр. 37—43; Н. Ф. Г а р н и ч. 1812 год. М., Госкультпросветиздат, 1952,
стр. 54—56; В. Бабкин. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 го-
да. М., Соцэкгиз, 1962, стр. 112; Н. М. Дружинин. Историческое значение
Отечественной войны 1812 года. «Вопросы истории», 1962, № 12, стр. 52;
М. Нечкина и П. Жилин. Бессмертная эпопея. «Коммунист», 1962, № 12,
стр. 39.
218
ГЛАВЫ XIII-XIV
Толстой нарисовал замечательную но психологической и ис-
торической правдивости сцену объяснения княжны Марьи с кре-
стьянами на сходке, их упорство в стремлении отстоять свои
убеждения, отказ брать хлеб и ехать в подмосковное имение Бол-
конских. Из создавшегося тяжелого для княжны Марьи поло-
жения вывел ее Николай Ростов. И то, что двум офицерам с
денщиком Лаврушкой моментально удалось усмирить бунт бо-
гучаровских крестьян, заставить их немедленно и беспрекословно
выполнить волю барыни, показывает не только незрелость этого
крестьянского бунта, но и сомнительность тех методов, которые
пытались использовать французы в своих провокационных це-
лях. Сошлемся на выводы исследователя проблемы клас-
совой борьбы в 1812 г. Л. Н. Бычкова. Он пишет: «...Крестьяне,
испытавшие на себе насильническую, грабительскую политику
наполеоновской армии с момента ее вторжения в Россию — по-
литику охраны феодальных отношений, подавления крестьянских
восстаний — не поддались на провокацию Наполеона. Распро-
странением слухов о том, что наполеоновская армия якобы яв-
ляется армией «освободителей крестьян», не удалось подорвать
тыл русской армии. Крестьяне сами опровергали эти слухи,
разоблачали наполеоновских агентов»1.
Дальше Бычков приводит интересный документ, обнаружен-
ный им в бумагах главной квартиры русской армии за сентябрь
1812 г. Найденный источник свидетельствует: «Деревни Валовой
погоста Шубиньки, Бронницкого уезда, на Коломенской дороге
в сторону 15 верст, крестьянин Андрея Ключарева, Никита Ма-
каров, пришел объявить в главную квартиру, что господин их
деревни, которая состоит из 80 душ, принимает французов,
запрещает им (крестьянам. — Л. Б.) оных брать и-обороняться
против их, заставляет кормить неприятеля как можно лучше,
казакам же, которые в опой деревне находятся, запрещает да-
вать им хлеба и стращает мужиков, что есть ли они малейшую
обиду сделают французам, то он всю деревню отдаст неприя-
телю. Он же Ключарев (помещик.— Л. Б.) по объявлению оного
крестьянина имеет какой-то билет от французов, полученный в
Москве, чтоб такого-то Ключарева французские войска не трога-
ли и чтоб имели всякое уважение к нему, и получил провожатого
из Москвы, дабы по дороге его французские войска не трогали»1 2.
Таким образом, были и факты сознательного сопротивления
крестьян помещикам, которые вставали на сторону французов.
Бунт богучаровских крестьян произошел в первую стадию
войны 1812 г., до Бородинского сражения. Дальнейший ход со-
1 Л. Н. Бычков. О классовой борьбе в России во время Отечественной
войны 1812 года. «Вопросы истории», 1962, № 8, стр. 52.
2 Т а м же, стр. 52—53.
219
бытии со всей очевидностью показал нетнпичность этого явле-
ния. Чем глубже продвигался неприятель, тем ожесточеннее
становился народ и тем решительнее он выказывал свою волю
бороться сплоченной стеной против врага. Академик Н. М. Дру-
жинин пишет об этом: «Чем дальше развертывалось нашествие
Наполеона, тем больше росла тревога населения, тем выше под-
нималась волна патриотического подъема, захватывавшая разно-
образные слои населения» Г
Историческую верность нарисованной Толстым картины бун-
та, нестойкости его подтверждает Е. Тарле: «...Крестьяне в 1812 г.
то в одном, то в другом месте восставали против помещиков...
Но наличие неприятельской армии в стране, конечно, не усили-
вало, а, напротив, ослабляло движение против помещиков»1 2.
К ГЛ ABE XIV
Г ладу х (от слова гладкий) — толстый, упитанный человек.
Рундук — большой ларь с поднимающейся крышкой.
ГЛАВЫ XV—XVI
Получив назначение, Кутузов отправился к армии, которая
к этому времени подошла к Цареву Займищу, где Барклай де
Толли предполагал дать Наполеону сражение.
Толстой описывает восторженную встречу нового главноко-
мандующего солдатами русской армии. «На поле за деревней
слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного ко-
личества голосов, кричавших «ура!» новому главнокомандующе-
му». (Гл. XV; 11, 165.)
Вот что рассказывает о восторженном приеме Кутузова ар-
мией участник похода Митаревский: «Пришли мы в Царево Зай-
мище и тут прибыл в армию фельдмаршал Кутузов. Приезду его
все чрезвычайно обрадовались, так что доходило до энтузиаз-
ма... Простые солдаты вскоре начали говорить: «Не успел при-
ехать старик Кутузов, как уж пошли другие распорядки»3.
В этих главах Толстой пишет также о плане партизанской
войны с участием гусар и казаков.
Денис Давыдов в «Дневнике партизанских действий» рас-
сказывает, что он подал свой план Барклаю де Толли, но без-
результатно. Затем, около 20 августа, Давыдов обратился к Ба-
гратиону, который сочувственно отнесся к плану партизанской
войны и доложил о нем Кутузову. Главнокомандующий разре-
1 Н. М. Дружили н. Историческое значение Отечественной войны 1812
года. «Вопросы истории», 1962, № 12, стр. 52.
2 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АИ СССР, 1961, стр. 601.
3 И. Е. Митаревский. Воспоминания о войне 1812 года. М.» 1871,
стр. 49—50.
220
Кутузов делает смотр войскам. С русской гравюры пере. пол. XIX в.
шил Денису Давыдову собрать партию в 130 человек гусаров и
казаков и приступить к осуществлению плана. Это было уже под
Бородином, и Давыдов только после боя 26 августа начал свои
партизанские действия.
«Он держал в руке французскую книгу... Это были Les cheva-
liers du Cyqne, сочинение madame de Genlis...» (Гл. XVI;/Л 171.)
Роман-эпопея «Вонна и мир» вызвал среди реакционно наст-
роенных современников ряд резких и грубых выпадов против
Толстого. Одним из таких критиков был А. С. Норов, бывший
министр народного просвещения, участник Бородинского сраже-
ния. Он считал, что в произведении Толстого собраны только
скандальные анекдоты военного времени. Норов никак не мог
совместить мысли и чувства истинного патриота с возможностью
чтения французского романа.
По поводу этого критического замечания Данилевский в ста-
тье «Историки-очевидцы», напечатанной в № 41 «Всемирной
иллюстрации» за 1869 г., привел любопытный эпизод из поход-
ной жизни Норова, поставивший критика в весьма щекотливое
положение.
Г. Данилевский писал: «При разборе петербургской библио-
теки А. С. Норова один из его знакомых, профессор г. Савваитов.
221
развернул крошечную кни-
жечку, роман конца прошлого
столетия «Похождения Роде-
рика Рандома» («Aventures de
Roderik Random», tom I—II...)
и на обертке ее переплета про-
чел следующую надпись, сде-
ланную рукою А. С. Норова:
«Lu a Moscou, blesse et faitpri-
sonnier de guerre chezlesFran-
Qais, au mois de September.
1812. («Читал в Москве ранен-
ный и попавший военноплен-
ным к французам, в сентябре
1812 г.») L
К ГЛ A BE XV
Петр Петрович Коновнипын.
С портрета работы Дж. Доу
ббер-интендант — старший или
главный интендант; интендант (фр.) —
офицер, ведающий вопросами снаб-
жения войск продовольствием, фу-
ражом и т. д.
Коновнйцын Петр Петрович
(1764—1822) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант. В 1812 г. командо-
вал 3-й пехотной дивизией в 3-м корпусе Тучкова. Отличился в бою при
Островне, при обороне Смоленска в бою при Валутиной горе. На пути к Бо-
родину командовал арьергардом русской армии. В Бородинском бою сме-
нил раненого Багратиона. После Бородинского сражения состоял дежурным
генералом армии. В 1819 г. состоял при Александре I, в 1815—1819 гг. зани-
мал пост военного министра.
К ГЛАВЕ XVI
Жанлйс Стефания Фелисита (1746—1830)—французская писательница,
автор нравоучительных романов.
Рущук — турецкая крепость на правом берегу Дуная. В войну России с
Турцией (1806—1812 гг.) долго и безуспешно осаждалась русскими войсками.
ГЛАВЫ XVII-XVIII
«Растопчинские афишки с изображением вверху питейного
дома, целовальника и московского мещанина Карпушки Чиги-
рина, который быв в ратниках и выпив лишний крючок на тыч-
ке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился,
разругал скверными словами всех французов, вышел из питей-
ного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу, чита-
1 «Всемирная иллюстрация», 1869, № 41, стр. 238.
222
отправленная еЪ мЪоша ср-
жЫя, привезли ошЬ Главн*ыомая^у^*игй
ариями с^Ьдукмщя ИЕйЪегнЬа
3^ф«;*.мй» дем*. £&££<•>. &йМ e*?s w*s & Г•*';&'
Jfrfrr £|S« ««:$*$❖< О* |М4$ Fyww :
ЗйЬ fs»?»XJ Й& KS3.r*» •КЙГЗ* Ив^И*****' cb sW<W)«>
ЪмЬ s^mwab <-^>y 4Шйф& ^aW?S> ** H^ts.r^x «>*« *й^«&иЙ-
&л £$>f$ & .jo cb $ii»t#»» фЬ
»®мЬ
^«й^лт«?л* Ш Й»
«m&< »b suWb m <|um <a» « &$W»*. * **** *ЪЙШ~
Д*хЛ.«?^ ^й£&£й(£$* Я'Г# Нх:Г<5Я Ь«Г^ х <Ь
\>мЬ ^ле^ь? л<* лл^Л^
i* £*й-д&» ^f<,> яе^«Ь«?у<йЬ *>*$?$? &
л£: ЗЙА#*#- «Ь
4*&&, *»•» %£* tfyj'S^ah г?«^|?ллЬ»
cb>w>&to «йм^*Ь -;-^|»й>*«1:#«.е<«!$.» >t-*^;.««.^ >>^?*^4<>:.
Ь^Ш. «^«se^ г?.йх*л1» j®^>y<«sh $г|??*&8,
^%*sh ^<xi>rw> ук|>Т;<<^г<?Ь WA$W3e&&
J^asw gt> &«®лк? ГуСй-оза
^2 A0rJfr>na. ГрафЪ P»c»»0w*»kK
♦а»^-
Афишка Растопчина
лись и обсуживались наравне с последним буриме Василия
Львовича Пушкина». (Гл. XVII; 11, 174.)
Федор Васильевич Растопчин в 1812—1814 гг. был московским
градоначальником; в Отечественную войну разыгрывал роль
воинствующего патриота. Он сочинял «афишки», написанные
ёрническим языком с целью возбудить среди неискушенной мас-
сы ура-патриотическое настроение. Растопчин игриво восхвалял
русскую удаль, трунил над французами и теми, кто видел в них
опасность. Даже накануне Бородинского сражения он продолжал
убеждать население Москвы, что Наполеону не быть в первопре-
стольном городе и что все спокойно могут оставаться на местах.
«Варвара Ивановна говорила, что чуть не убил ее народ за
то, что она по-французски заговорила». (Гл. XVIII; И, 179.)
Историческую достоверность отмеченного подтверждают мно-
гие мемуаристы того времени. Так, Сергей Глинка свидетельст-
вует: «Добрые граждане, поспешавшие возлагать на алтарь оте-
чества и сотни, и тысячи, и десятки тысяч, слыша французское
бормотанье, с скорбным лицом удалялись и, с удивлением по-
глядывая друг на друга, восклицали: «Господи боже наш! и о
русских-то пожертвованиях болтают и суесловят по-француз-
ски» Г
1 С. Глии к а. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, стр. 30.
223
О пристрастии к французскому языку, особенно в высших
сферах дворянского сословия, свидетельствует огромная мемуар-
ная литература того времени. Декабрист И. Д. Якушкин вспо-
минал, что в детстве его оставляли без обеда за разговоры с се-
страми по-русски, а не по-французски Г Благово устами своей
бабушки повествует о духе французомании в аристократичес-
кой среде.
Сам Лев Николаевич в «Воспоминаниях» неоднократно го-
ворит о засилии в дворянских семьях французского языка. Так,
например, характеризуя свою бабку Пелагею Николаевну, он
замечает, что «она, как все тогда, знала по-французски лучше,
чем по-русски...» (34, 359). То же самое Толстой замечает о своей
дальней родственнице Т. А. Ергольской: «Она была воспитана
барышней богатого дома — говорила и писала по-французски
лучше, чем по-русски...» (34, 356).
О чрезмерном увлечении французским языком говорят поэты
эпохи (А. С. Грибоедов — «Горе от ума»; А. С. Пушкин — «Ев-
гений Онегин»; И. А. Крылов — «Урок дочкам»). Без знания
французского языка, как об этом свидетельствует Д. Н. Свербе-
ев, нельзя было рассчитывать на успех в обществе1 2.
Представители высших аристократических кругов настолько
сжились с французским языком, что даже в годы Отечественной
войны, когда нужно было продемонстрировать свой «патрио-
тизм», ругали французов на французском языке. Каролина Пав-
лова пишет: «У графини Строгановой собиралось обыкновенно
много приезжих из А1осквы; всякий рассказывал, что узнал но-
вого; толковали о полученных известиях п о разных слухах. Это
общество было, разумеется, составлено из людей comme il faut
и большею частью аристократов. Странное должно оно было про-
изводить впечатление, когда с французским своим образованием,
с французскими приемами, на французском языке бранило фран-
цузов» 3.
Эту особенность дворянского быта в период царствования
Александра I Толстой не мог обойти: он считал ее явлением ти-
пическим и решил отразить в историческом романе-эпопее. В ста-
тье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» он писал:
«Есть характер того времени (как и характер каждой эпохи),
вытекающий из большой отчужденности высшего круга от других
сословий, из царствовавшей философии, из особенностей воспи-
тания, из привычки употреблять французский язык и т. п. И этот
характер я старался, сколько умел, выразить» (16, 8).
И Толстой достиг своей цели.
1 И. Д. Якушкин. Записки, изд. 2, М., 1905, стр. 116.
2 См.: Д. Н. С вер беев. Записки, т. 1, AL, 1899, стр. 211.
3 К. Павлова. Собр. соч., т. II. М., 1915, стр. 274.
224
Академик В. В. Виноградов, исследуя язык «Войны и мира»,
пришел к выводу: «...при посредстве французского языка Л. Тол-
стой с необыкновенной художественной глубиной и с порази-
тельным разнообразием стилистических приемов изображает
отрыв высшей придворно-бюрократической аристократии от
истинных моральных и идейных основ русской народной куль-
туры» Ч
Толстой совершенно сознательно изобразил высшее аристо-
кратическое общество говорящим преимущественно на француз-
ском языке.
«В этот день Пьер... поехал в село Воронцово смотреть
большой воздушный шар, который строился Леппихом для по-
гибели врага...» (Гл. XVIII; 11, 180.)
Попытки воспользоваться аэростатом для военных целей от-
носятся к концу XVIII в. Все они не имели успеха.
В 1812 г. в Москве появился голландец Леппих и предложил
проект воздушного шара, который, по его уверению, должен был
явиться решающей силой в борьбе с Наполеоном. Из этой затеи
ничего не вышло, так как шар был готов только к ноябрю, но и
тогда не смог подняться вследствие проницаемости оболочки.
Вопреки мнению Александра I, возлагавшего слишком большие
надежды па Леппиха, Москва отнеслась к нему скептически. Это
настроение очень хорошо выразил в своих записках С. Глинка:
«К заглушению мысли о предстоявшей опасности занимали умы
народа сооружением на Воробьевых горах какого-то огромного
шара, который, по словам разгульной молвы, поднявшись над
войсками Наполеона, польет огненный дождь, особенно на ар-
тиллерию. Шутя или не шутя, мне предлагали место на этом
огненном шаре». Глинка отказался, заявив, что не привык ни к
чиновному возвышению, ни к летанию по воздуху. «У меня на
высоте закружится голова»1 2, — сказал он.
Этот иронический тон сквозит и в «Войне и мире».
Интересные данные о шаре Леппиха мы находим в истори-
ческом труде М. Богдановича. Он рассказывает подробно о со-
оружении шара:
«Еще в то время, когда Наполеона Большая армия подхо-
дила к Смоленску, явился к московскому главнокомандующему
уроженец голландский, Смид (Франц Леппих), предложивший
построить огромный воздушный шар, который, по уверению изо-
бретателя, мог быть вооружен огнестрельными снарядами, вро-
де боевых ракет, и послужить к истреблению неприятеля; сот-
рудником его в этом предприятии был доктор медицины Шеф-
1 «Литературное наследство. Л. Н. Толстой», тт. 35—36, вып. 1. М.,
Изд-во АН СССР, 1939, стр. 157.
2 См.: С. Глинка. Записки о 1812 годе. СПб., 1836, стр. 43—44.
8 Б. И. Кандиев
225
лер, из Вюрцбурга. Трудно поверить, в особенности приняв во
внимание недоверчивость Растопчина к иностранцам, чтобы он
действительно был убежден в пользе машины, предложенной
Смидом; гораздо вероятнее, что он имел в виду только отвлечь
общее внимание от предстоявшей опасности и остановить пе-
реселение московских жителей. Сам же Смид, фанатически уве-
ренный в достоинстве своего изобретения, издержал для соору-
жения летучей машины и для наполнения шара газом огромное
количество железа, строевого леса, тафты, селитренной кислоты
и проч. Множество рабочих и работниц занимались этим делом
под руководством Смида в селе Воронцове, в шести верстах от
Москвы, по калужской дороге, где находилась команда из 160
человек пехоты и нескольких драгун, для недопущения любо-
пытных и для охранения Смида от злонамеренных покушений.
Сам государь, в письме к московскому военному губернатору,
повелел оказывать Леппиху все нужные пособия, составить для
шара экипаж из способных и усердных людей и войти в сноше-
ния с князем Кутузовым насчет употребления летучей машины.
Но, по-видимому, полиция не весьма заботилась о сохранении
в тайне замысловатого предприятия. Вся Москва заговорила о
нем; многие обращали его в шутку. Растопчин, который, напро-
тив того, желал придать работам Смида как можно большую
важность, приказал напечатать в ведомостях следующее объя-
вление:
«От главнокомандующего в Москве. Здесь мне было поруче-
но от государя сделать большой шар, на котором 50 человек
полетят, куда захотят, и по ветру, и против ветра, а что от него
будет, узнаете и порадуетесь. Если погода будет хороша, то
завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для про-
бы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это
от злодея, а он сделан к его вреду и погибели».
Небольшой шар действительно поднялся, что не удивило ни-
кого из присутствующих при опыте; самая же машина упорно
оставалась на месте; но Смид, не теряя самоуверенности, про-
должал работы. Наконец, когда неприятель уже подходил к
Москве, большой шар со всеми принадлежавшими к нему сна-
добьями и рабочими был перевезен на ста тридцати подводах
в Нижний Новгород»
Из книги Богдановича мы узнаем, что в октябре 1812 г. Смид
переехал со своим аппаратом в Петербург и занимался в Ора-
ниенбауме приведением в действие своей летучей машины, но,
потерпев неудачу, в начале 1813 г. уехал за границу.
1 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. II. СПб.,
1859, стр. 265.
226
К ГЛ ABE XVII
Целовальник — продавец вина в питейных домах, кабаках.
Тычёк—сибирское название кабачка.
Пушкин Василий Львович (1767—1830) — поэт, дядя А. С. Пушкина. Слу-
жил в лейб-гвардии. С 1797 г. вышел в отставку и занялся исключительно ли-
тературой. В своем творчестве В. Л. Пушкин высмеивал расточительство, гал-
ломанию, нечестность глупомотовых, безмозгловых, плутовых, наставляя «за-
коны почитать, отечеству служить».
Чигйрин Карпушка — московский мещанин, целовальник, герой растоп-
чинских афиш.
Корпия (лат.) — перевязочный материал, нащипанные из тряпок нитки,
которые употреблялись прежде вместо ваты.
Галлицизм (вид варваризма) — оборот речи, выражение в каком-нибудь
языке, составленное по образцу французского языка.
Харон — в греческой мифологии — сын Эреба (Мрака) и Ночи; старик,
перевозящий тени умерших через Стикс, реку подземного царства.
Жанна д'Арк, Орлеанская дева (1412—1431)—французская националь-
ная героиня, освободившая Францию от ига англичан. Попав в плен к англи-
чанам, была сожжена на костре как колдунья.
Амазонки (греч.) — в древнегреческой мифологии — воинственное племя
женщин.
Оболенские — русский княжеский род.
К ГЛ ABE XVIII
Витгенштейн Петр Христианович (1768—1842) — генерал-фельдмаршал
русской армии. Участвовал в войнах 1805—1807 гг. В начале войны 1812 г.
командовал 1-м корпусом, защищавшим пути на Петербург. После смерти
Кутузова был главнокомандующим русской армии.
Воронцово — село Московского уезда и губернии в 7 верстах от Калуж-
ской заставы.
Болотная площадь — площадь в Москве против Кремля, на другой сто-
роне Москвы-реки.
Кобыла — здесь: деревянная скамья, на которую клали наказываемого
кнутом.
Лобное место — круглое плоское возвышение, устроенное в Москве на
Красной площади, по преданию, в XVI в. С него в старину объявлялись цар-
ские приказы, произносились речи перед народом; место, на котором соверша-
лись казни.
Можайск — уездный город Московской губернии, при впадении речек Мо-
жайки и Шелковки в Москву-реку.
ГЛАВЫ XIX—XXIII
Толстой уделил Бородинскому сражению исключительно
большое внимание и подошел к его изображению с ответствен-
ностью историка и художника-реалиста.
Для более наглядного представления о той местности, где
произошло знаменитое сражение, Толстой 25 сентября 1867 г.
вместе с братом Софьи Андреевны, Степой, совершил поездку
на поле Бородина. В течение двух дней писатель изучал место
Бородинской битвы. Он дважды объехал все поле, сделал за-
8*
227
Французская армия под Москвой. С гравюры Бовинэ по картине Куше
метки и составил план сражения, который потом напечатал в
своей книге. 27 сентября, вернувшись в Москву, Толстой писал
жене: «Сейчас приехал из Бородина. Я очень доволен, очень,—
своей поездкой и даже тем, как я перенес ее, несмотря на отсут-
ствие сна и еды порядочной. Только бы дал бог здоровья и спо-
койствия, а я напишу такое бородинское сражение, какого еще
не было!..» (83, 152—153).
Толстой сдержал свое слово, дав потрясающую картину Бо-
родинской битвы L
Художественное изображение Бородинского сражения пред-
варяется рассуждениями автора о Шевардинской битве, о смы-
сле и значении кровавого дня Бородина. Многие мысли, выска-
занные Толстым, ошибочны, как ошибочна во многом и его фа-
талистическая философия, но об этом речь будет ниже. Здесь
мы коротко остановимся на тех замечаниях Толстого, которые
несомненно заслуживают внимания и являются исторически до-
стоверными.
1 Поездку Л. Н. Толстого на Бородинское поле живо изобразил В. Шклов-
ский в книге «Лев Толстой». М., «Молодая гвардия», 1963, стр. 401—405.
228
Толстой отнесся критически к бородинской позиции, и его оцен-
ка нашла подтверждение в работах целого ряда позднейших
исследователей. Так, в «Инженерном журнале» № 8 за 1912 г.
читаем: «По свидетельству генерала Вистицкого, бывшего но-
минально генерал-квартирмейстером армии, Кутузов при пер-
вом ближайшем обозрении позиции «не остался ею доволен», и
опытный, дальновидный полководец наш не мог не обратить вни-
мания на ее некоторые существенные недостатки» Ч
В чем заключаются эти недостатки, очень хорошо разъясня-
ют современные нам военные специалисты. Сошлемся на одного
из них. Б. Соколов в статье «Стратегия и тактика Бородин-
ского сражения» наряду с положительными сторонами бородин-
ской позиции отметили ряд весьма существенных отрицательных
ее сторон: «...течение Колочи с юга-запада на северо-восток
под углом, а не перпендикулярно к дорогам, по которым дви-
гался наступающий противник, вследствие чего река явля-
лась фронтальным прикрытием не для всего боевого порядка
русской армии; мелководность и низость ее берегов выше Бо-
родина подвергали центр и левое крыло русской армии опасности
непосредственной атаки со стороны противника в этом направ-
лении; новая Смоленская дорога от деревни Горок круто пово-
рачивает па юго-восток, что не дает кратчайшего пути на Мо-
скву, который шел прямо на восток, северно-восточнее Бороди-
на у деревни Маслово,— противник же мог его использовать
для глубокого обхода русской армии; старая Смоленская дорога,
проходившая через лес, давала противнику возможность непо-
средственного обхвата левого фланга русских»1 2.
Но бородинская позиция была лучшей из всех позиций, ка-
кую можно было выбрать, начиная от Царева Займища.
Справедливо и замечание Толстого о том, что поле Боро-
динского сражения не было должным образом укреплено.
(Гл. XIX; 11, 185.)
Сохранились документы, свидетельствующие о слабом ук-
реплении бородинской позиции. Вот что писал генерал А. П. Ер-
молов: «Слабость левого крыла в сравнении с прочими частями
позиции была ощутительна, укрепления же на нем ничтожны
и по краткости времени нельзя было успеть сделать их луч-
шими» 3.
Об этом же говорит в своих воспоминаниях участник Боро-
динского сражения офицер Д. Н. Болговский: «...При Бородине
только расположение нашего правого фланга могло внушать
1 «Инженерный журнал», 1912, № 8, стр. 912.
2 «Исторический журнал», 1943, № 2, стр. 66.
3 «Бородино». Документу, письма, воспоминания. М., «Советская Рос-
сия», 1962, стр. 351.
229
уважение неприятелю, остальная часть линии не имела другой
опоры, кроме самоотвержения войск и твердой решимости по-
бедить или умереть» х.
Из работ более поздних исследователей выясняется, что не-
чем, собственно, было проводить интенсивные работы. Оказы-
вается, еще на марше к Бородину Кутузов обратился с требо-
ванием к Растопчину прислать ему необходимые инструменты,
как то: 1200 железных лопат, 1000 топоров и 250 буравов. Ин-
струмент был доставлен вечером 26 августа, когда в нем не было
никакой надобности, так как битва уже совершилась1 2.
Отсутствие необходимых инструментов для инженерных ра-
бот на бородинской позиции подтверждают и советские исследо-
ватели.
Так, например, проф. И. Коробков пишет: «Необходимость
сражения созрела в обострении арьергардных боев, и Куту-
зов дал его, хотя ему и не удалось к тому времени получить
ни достаточных подкреплений, ни даже инструментов для инже-
нерных работ...»3.
В ряде статей о Бородинской битве этот вопрос советскими
историками обойден4.
Те небольшие работы, которые были проделаны по укрепле-
нию бородинской позиции, оказывались ничтожными и возво-
дились не там, где это больше всего требовалось. Основные
работы были сосредоточены на правом фланге, на месте распо-
ложения 1-й армии, зато левый фланг и центр оказались плохо
укрепленными.
Вполне соответствует исторической действительности и за-
мечание Толстого о крайне ограниченных возможностях меди-
цинского обеспечения предстоящего Бородинского сражения:
«...На сто тысяч войска малым числом 20 тысяч раненых счи-
тать надо; а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лека-
рей на шесть тысяч нет». (Гл. XX; И, 190.)
Сошлемся на свидетельство исследователя данного вопроса.
Действительный член Академии медицинских наук СССР, про-
фессор И. Д. Страшун в книге «Русский врач на войне» пишет:
«...Кампания 1812 года в санитарном отношении прошла под
знаком острого недостатка во врачах, что в сочетании с колос-
1 «Бородино». Документы, письма, воспоминания. М., «Советская Рос-
сия», 1962, стр. 339.
2 См.: «Инженерный журнал», 1912, № 8, стр. 918.
3 «Вопросы истории», 1945, № 3-4, стр. 18.
4 См.: А. Ярославцев. Стратегия Кутузова в войне 1812 года. «Воен-
ная мысль», 1945, № 9; Б. Кац. О замысле Кутузова в Бородинском сраже-
нии. «Историк-марксист», 1941, № 3; М. Брагин. Разгром Наполеона
русской армией. «Военно-исторический журнал», 1941, № 6—7; Л. Г. Бес-
кровный. Бородинское сражение. «История СССР», 1962, № 6.
230
сальной убылью в войсках приводило к тому, что многие ране-
ные оставались без помощи...» 1
Нехватка в медицинских работниках стала ощущаться уже в
начале войны. 17 июля 1812 г. Александру I было послано до-
несение, что «большая часть раненых офицеров и солдат оста-
ется после первой перевязки без подаяния дальнейшей по-
мощи» 1 2.
«...Ахиллесовой пятой» военно-санитарной службы в Боро-
динском бою оказался резкий недостаток транспорта»3.
Все эти моменты не могли не отразиться на успехе сражения,
в котором решалась судьба целого государства, в котором на
карту была поставлена жизнь сотен тысяч людей.
К этому еще нужно прибавить резкую вражду между главно-
командующим Кутузовым и его начальником штаба Бенигсеном.
Вокруг каждого из них образовались партии, враждебные одна
другой. Все, что было честного, истинно любящего свое отечест-
во и готового положить свою голову в борьбе за него, оказалось
на стороне Кутузова; все карьеристы, проходимцы, любители
легких путей получения чинов и наград — на стороне Бенигсена.
Олицетворением последних является Борис Друбецкой.
Если в лице Андрея Болконского Толстой дает образ передо-
вого русского офицера, близко к сердцу принимающего бедствия
своего отечества, образ того самого офицера, логика духовной
жизни которого в конце концов привела его на Сенатскую
площадь, то в образе Бориса Друбецкого отчетливо вырисовыва-
ются черты другой, противоположной группы офицеров. Образы
князя Андрея и Бориса Друбецкого являются сквозными и ди-
намичными. Автор, ставя этих героев в новую ситуацию, всегда
раскрывает каждого из них с какой-то новой стороны. Вот почему
необходимо остановиться на образе Бориса, представленного нам
писателем в рассматриваемых главах.
Вот портрет Друбецкого, проникнутый иронией и подчерки-
вающий его позерство, стремление занять место в кругу высших
мира сего: «Борис был одет элегантно, с оттенком походной
воинственности. На нем был длинный сюртук и плеть через
плечо, так же, как у Кутузова». (Гл. XXII; //, 195.)
Борис состоял при Бенигсене и выполнял при нем лакейски
угодническую роль. Он знал о вражде между Кутузовым и Бе-
нигсеном и ловко использовал ее для своей выгоды. В присут-
ствии Кутузова выказывая ему раболепное уважение, он в то же
время старался везде, где это могло иметь значение, подчер-
кнуть, что действительным главнокомандующим является Бе-
нигсен, что все дело ведется только им, а Кутузов лишь меша-
1 И. Д. С т р а ш у н. Русский врач на войне. М.» Медиздат, 1947, стр. 77.
2 Т а м же.
3 Т а м же, стр. 98.
231
ет вести дело подобающим образом. « — По правде вам сказать,
entrc nous (между нами), левый фланг наш бог знает в каком
положении, — сказал Борис, доверчиво понижая голос, — граф
Бенигсен совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить
вон тот курган, совсем не так... но, — Борис пожал плечами,—
Светлейший не захотел...» (Гл. XXII; 11, 196.)
Даже фразу об ополченцах, надевших перед боем чистые ру-
бахи, Борис произнес неспроста, а преследуя своекорыстные
цели: ему хотелось быть услышанным светлейшим.
Были ли такие офицеры в русской армии 1812 г.? Несомнен-
но, были, и количество их не столь ограниченное. Знаменитый
партизан Денис Давыдов, прибыв в главную квартиру, был
удивлен наличием в ней огромного количества штабных офице-
ров. Он пишет: «Сколько я тут видел чиновников, украшенных
разноцветными орденами, ныне возвышенных и занимающих
высокие должности; их в то время возили при главной квартире
подобно слонам Великого Могола! Сколько я там видел ныне
значительных особ, тогда теснившихся в многочисленной свите
главнокомандующего и жаждавших не только приветствия и
угощения, но и единого его взора! Умолчу о подлостях, гово-
римых ими даже мне, недостойному!» 1
Вражда между главнокомандующим и его начальником
штаба имела порой серьезные отрицательные последствия. Так,
перед Бородинским сражением Бенигсен самовольно передви-
нул 3-й корпус с позиции, определенной Кутузовым. По мне-
нию военных специалистов, это вмешательство Бенигсена в дис-
позицию войск при Бородинском сражении привело к пагубным
результатам.
Из поля творческого внимания Толстого не выпало это об-
стоятельство. Насколько глубоко проник писатель в стратеги-
ческие планы Кутузова, показывает нам следующее сопоставле-
ние суждений Толстого с мнением по этому вопросу советских
исследователей.
«Война и мир»
«Здесь, на крайнем ле-
вом фланге, Бенигсен
много и горячо говорил
и сделал, как казалось
Пьеру, важное в воен-
ном отношении распо-
ряжение. Впереди рас-
положения войск Тучко-
ва находилось возвы-
шение. Это возвышение
не было занято войска-
Исследования советских военных историков
«Беннигсен, объезжая позицию 25 августа, на-
кануне сражения, нашел расположение 3-го кор-
пуса неправильным и выдвинул его вперед на от-
крытую поляну перед курганом (Утицкий кур-
ган), на одну линию с багратионовыми флешами,
имея в виду прикрытие старой Смоленской доро-
ги. Об этой перемене он не доложил Кутузову,
чем и провалил наиболее существенную часть его
замысла». (Б. Соколов. Стратегия и тактика
Бородинского сражения. «Исторический журнал»,
1943, № 2, стр. 69.)
1 Д. Давыдов. Дневник партизанских действий 1812 года. М., Гослит-
издат, 1941, стр. 117—118.
232
ми. Бенигсен громко
критиковал эту ошибку,
говоря, что было безум-
но оставить незанятою
командующую местно-
стью высоту и поста-
вить войско под нею.
Некоторые генералы вы-
ражали то же мнение.
Один в особенности с
воинской горячностью
говорил о том, что их
поставили тут на убой.
Бенигсен приказал своим
именем передвинуть вой-
ска на высоту.
Распоряжение это на
левом фланге еще более
заставило Пьера усом-
ниться в его способно-
сти понять военное де-
ло. Слушая Бепигсена и
генералов, осуждавших
положение войск под го-
рою, Пьер вполне по-
нимал их и разделял
их мнение; но именно
вследствие этого он не
мог понять, каким обра-
зом мог тот, кто поста-
вил их тут под горою,
сделать такую очевид-
ную и грубую ошибку.
Пьер не знал того, что
войска эти были постав-
лены не для защиты по-
зиции, как думал Бениг-
сен, а были поставлены
в скрытое место для за-
сады, т. е. для того, что-
бы быть незамеченными
и вдруг ударить на по-
двигавшегося неприяте-
ля. Бенигсен не знал это-
го и передвинул войска
вперед по особенным
соображениям, не ска-
зав об этом главноко-
мандующему».
(Гл. XXIII; 11, 200—201.)
«Кутузов вложил в оборонительное сражение
идею активности. Он подготовил два контрудара.
Первый — от Утицы. Отправляя офицеров на ре-
когносцировку района для расположения в «за-
саде» 3-го корпуса, Кутузов указал: «Когда не-
приятель употребит в дело последние свои ре-
зервы на левый фланг Багратиона, то я пущу
ему скрытое войско во фланг и тыл». II действи-
тельно, на «Плане позиции при селе Бородине
близ гор. Можайска, 1812 г., август 25», подпи-
санном лично Кутузовым, указано, что 3-й кор-
пус Тучкова и московское ополчение должны бы-
ли быть «расположены скрытно» фронтом перпен-
дикулярно вероятному удару французов. Но, во-
преки воле Кутузова, его начальник штаба Бенниг-
сен отменил это распоряжение и выдвинул корпус
Тучкова в общую линию фронта, чем и втянул его
в бой с самого начала сражения. Беннигсен даже
не доложил Кутузову о произведенных им измене-
ниях». (А. Т о т о в ц е в. Полководческий путь
М. И. Кутузова. «Военная мысль», № 12, 1945,
стр. 61.)
«...Кутузов не собирался ограничиваться пас-
сивной обороной, а намеревался, сковав в центре
главные силы противника, нанести удар с левого
фланга. Его замысел был нарушен Бепнигсеном,
который передвинул III корпус* Тучкова, чтобы
заполнить просвет между Семеновскими флеша-
ми и Утицким курганом. Этим самым исключа-
лась возможность внезапного удара по атакую-
щему правому флангу противника». (Л. Г. Бес-
кровный. Отечественная война 1812 года. Л4.,
Соцэкгиз, 1962, стр. 381—382.)
Опираясь на документальный материал, пол-
ковник Бескровный подчеркивает, что передвиже-
ние корпуса Тучкова Наполеон заметил и внес
коррективы в диспозицию своих корпусов. (Т а м
ж е, стр. 382.)
«...Кутузов не знал того, что вслед за ним
русскую позицию попозже объезжал и Бенниг-
сен, который, ничего не поняв в замысле Кутузо-
ва и именно поэтому нисколько ему не сочув-
ствуя, приказал вывести 3-й корпус из прикры-
того кустарником и отчасти лесом места, куда
его поместил Кутузов, и поставил его так, что о
внезапности нападения уже речи быть не могло».
(Е. В. Тарле. Бородино. М., Изд-во АН СССР,
1962, стр. 19.)
«Кутузов отдает крайне важное, точное распо-
ряжение, это распоряжение самовольно, без ве-
дома главнокомандующего отменяется и заменя-
ется совершенно другим, вопреки протестам
Тучкова. Весь план и повеление Кутузова сводят-
ся к нулю, к большому вреду для дела, и при-
том тайком, за спиной главнокомандующего».
(Т а м ж е, стр. 35.)
233
За прикрытием. С литографии по рисунку И. Клейна
Поступок Бенигсена должен был квалифицироваться как
тягчайшее военное преступление, и виновника следовало пре-
дать военно-полевому суду, но не только этого не произошло, а
Бенигсен остался в тон же роли начальника штаба и продол-
жал вредить главнокомандующему, пока Кутузов под благовид-
ным предлогом не удалил его из армии.
Во всем этом прекрасно разобрался Толстой и воспроизвел
в своем романе исторически верно.
Канун Бородинского сражения Толстой рисует главным об-
разом в восприятии Пьера Безухова, решившего присутствовать
при генеральной битве русских с французами. 25 августа Пьер
выехал из Можайска и по дороге встретил кавалерийский полк,
который двигался с лихими кавалерийскими песнями. Из уст
одного солдата Пьер услыхал слова, которые открыли ему гла-
за на многое:
«...Всем народам навалиться хотят, одно слово — Москва.
Один конец сделать хотят». (Гл. XX; 11, 189.)
В этих словах заложен весь смысл событий, секрет победы
.русских над французами. Толстой гениально уловил психологию
защитников Бородинской позиции: дальше некуда было от-
ступать, позади Москва.
т4
Пьера удивило то, что на лицах кавалеристов не было ни
тени озабоченности, испуга, уныния в ожидании предстоящего
сражения. Наоборот, каким-то задором и, казалось бы, неоправ-
данным весельем веяло от них, Пьер думает: «Кавалеристы идут
на сраженье и встречают раненых, и ни на минуту не задумы-
ваются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают ра-
неным. А из этих всех 20 тысяч обречены на смерть, а они удив-
ляются на мою шляпу!» (Гл. XX, 11, 190.)
Пьер встречает и мужиков-ополченцев, которые столь же
спокойно, без скорби и уныния выполняют работы по укрепле-
нию позиций. Увидев их, громко и с хохотом разговаривающих
и в то же время ловко и деловито выполняющих указания офи-
церов, Пьер вспомнил слова солдата: «Всем народом навалить-
ся хотят...», и смысл их стал для него еще более ясным. Вид сол-
дат, так уверенно работающих на поле сражения, показался
Пьеру более значительным, чем все то, «что он видел и слышал
до сих пор о торжественности и значительности настоящей ми-
нуты». (Гл. XX; 11, 191.)
Проникая в мир психологических переживаний русских вои-
нов, находящихся в ожидании решающего сражения с Наполео-
ном, Толстой подчеркивает, что мысль о возможности быть уби-
тым или искалеченным в бою занимала их меньше всего; если
даже и думали они о смерти, то считали неуместным говорить об
этом вслух. Офицер объясняет Пьеру расположение войск на
Бородинской позиции и неожиданно заканчивает свой рассказ
словами:
«Ну, да где бы ни было, многих завтра не досчитаемся...»
Старый унтер-офицер, подошедший к офицеру во время его
рассказа, молча ожидал конца речи своего начальника; но в
этом месте он, очевидно недовольный словами офицера, пере-
бил его.
— За турами ехать надо, — сказал он строго.
Офицер как будто смутился, как будто он понял, что можно
думать о том, сколь многих не досчитаются завтра, но не сле-
дует говорить об этом». (Гл. XXI; 11, 193.)
Эти маленькие сцены удивительно верно передают истинный
мир душевных переживаний воинов накануне боя. Действи-
тельно, тот, кто участвовал в боях, по собственному опыту
знает, какая торжественная тишина устанавливается накануне
его. Люди говорят полушепотом, лица их серьезны и сосредото-
ченны. Но в эти минуты нет и не может быть разговоров о воз-
можности быть убитым или искалеченным.
Д ГЛАВЕ XIX
Редут (фр.) — сомкнутое квадратное или многоугольное полевое укреп-
ление с наружным рвом и земляной насыпью для укрытия стрелков от не-
приятельского огня.
235
Шевардйнский редут — передовое укрепление перед левым флангом
главной Бородинской позиции.
Шевардйнское сражение — сражение у села Шевардина, происшедшее
24 августа (5 сентября) 1812 г. Сражение было дано французам русскими с
целью выиграть время для укрепления левого фланга Бородинской позиции
(флешей).
Колдча — река, правый приток Москвы-реки.
Понятовский Иосиф Антонович (1763—1813) — князь, племянник поль-
ского короля Станислава-Августа, польский генерал. Участвовал в нашествии
Наполеона на Россию в 1812 г., командуя польским корпусом.
КГ Л ABE XXI
Амфитеатр — у древних греков — здание для зрелищ с возвышающи-
мися полукружием или кругом местами для зрителей.
Туры — круглые корзины без дна из кольев, сплетенных хворостом, при-
менявшиеся для возведения земляных укреплений.
К ГЛ ABE XXII
Кайсаров Андрей Сергеевич (1782—1813) — писатель. Недолго был на
военной службе; затем — профессор русского языка в Дерптском универси-
тете. В 1812 г. снова вступил в армию.
Марин Сергей Никифорович (1776—1813) — флигель-адъютант Александ-
ра I, поэт; особенно известен был как автор сатирических произведений и
пародий.
К ГЛАВЕ XXIII
Редут Раевского — центральное укрепление русских позиций в Бородин-
ском сражении, называвшееся иначе центральным редутом или курганной
батареей. Названо именем Н. Н. Раевского, командовавшего центром рус-
ских войск.
Овин—строение, приспособленное для сушки хлебов в снопах перед
молотьбой.
Тучков Николай Алексеевич (1761—1812) — генерал-лейтенант. Участ-
вовал в войнах 1799, 1807, 1808 гг. В 1812 г. командовал 3-м пехотным кор-
пусом. В Бородинском сражении получил смертельное ранение.
ГЛАВЫ XXIV—XXV
Мысли лучшей части русского офицерства, глубоко пережи-
вающего трагедию родной страны, Толстой вложил в уста князя
Андрея Болконского. Он ожесточен не только тем, что враг
вторгся на русскую землю, разоряет города и села, что его соб-
ственное имение осталось в тылу у неприятеля, но и теми бес-
конечными безобразиями, которые творились в штабах русской
армии из-за интриг, наличия власти у лиц, не разделяющих ду-
ховной драмы русских людей. Начальник штаба ставки главно-
командующего генерал Бенигсен вызывает бурю негодования в
душе князя Андрея. В разговоре с Пьером Болконский желчно
заявляет: «...Те, с кем ты ездил по позиции, не только не содей-
236
ствуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только
своими маленькими интересами.
— В такую минуту? — укоризненно сказал Пьер.
— В такую минуту, — повторил князь Андрей, — для них
это только такая минута, в которую можно подкопаться под
ьрага и получить лишний крестик или ленточку». (Гл. XXV, 11,
206—207.)
Однако князь Андрей глубоко убежден, что в предстоящем
сражении русские окажутся победителями. С сознанием полной
ответственности он заявляет Пьеру: «...что бы там ни было, что
бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Зав-
тра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!» (Гл. XXV;
11, 207.)
Эта победа будет за русскими, по мнению Андрея Болкон-
ского, потому, что завтра будут драться за родную землю, не-
истово, не жалея себя.
Эти слова особенно по душе пришлись капитану Тимохину.
Он с восторгом подтверждает мнение своего командира полка.
«Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — прогово-
рил Тимохин, — что себя жалеть теперь! Солдаты в моем ба-
тальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, гово-
рят». (Гл. XXV; 11, 207.)
Прекрасной иллюстрацией к словам князя Андрея и капи-
тана Тимохина могут служить воспоминания начальника свод-
но-гренадерской дивизии в Бородинском сражении М. С. Во-
ронцова. Он пишет: «Час спустя дивизия не существовала. Из
4 тысяч человек приблизительно на вечерней перекличке ока-
залось менее 300; из 18 штаб-офицеров оставалось только 3, из
которых, кажется, только один не был хотя бы легко ранен...
в наших рядах не было ни беглецов, ни сдавшихся в плен.
Если бы на следующий день меня могли спросить, где моя
дивизия, я ответил бы... указав пальцем назначенное нам место:
«вот она» Г
Князь Андрей настолько потрясен совершившимися собы-
тиями и настолько ожесточен против врага, что высказывает
мнение о необходимости уничтожать пленных: «Французы ра-
зорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорб-
ляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники
все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия.
Надо их казнить». (Гл. XXV; 11, 208.)
Эти гневные слова, вложенные Толстым в уста Андрея Бол-
конского, приобретают особое значение, если учесть, что дво-
рянско-буржуазная историография умалчивала о варварских
разрушительных действиях французов во время войны 1812 г.
1 «Бородино». Документы, письма, воспоминания. М., «Советская Рос-
сия», 1962, стр. 342—343.
237
Вместо того чтобы воздать должное русскому военному искус-
ству, оценить по достоинству храбрость и стойкость русских
людей в тяжелой борьбе с сильным и коварным врагом, она пре-
увеличенно восхваляла сожжение русскими своих городов и де-
ревень, усматривая в этом проявление народной войны. Об из-
вращенном освещении многих событий Отечественной войны
1812 г. говорят в статье «Бессмертная эпопея» авторитетные со-
ветские историки академик М. В. Нечкина и доктор историчес-
ких наук П. А. Жилин:
«Дореволюционные дворянские и буржуазные историки
часто давали извращенное толкование событий Отечественной
войны 1812 года, принижая значение Кутузова и других полко-
водцев, возвеличивая роль самодержавия, «преданность парода
царю» и несуществующую любовь крестьян к помещикам; из
явно пронаполеоновских зарубежных источников черпалось
объяснение гибели «великой армии» исключительно в резуль-
тате русских морозов, восхвалялась «гуманность» французов,
замалчивался страшный материальный ущерб, нанесенный
России агрессором» L
Толстой сумел критически отнестись к ложной концепции
предшествующих и современных ему историков, трудами ко-
торых ему пришлось пользоваться. Обладая исторической про-
зорливостью и гениальным даром писателя-реалиста, он сумел
осветить великую эпопею народного героизма с большой до-
стоверностью. Его суждения и выводы об изображенных собы-
тиях почти целиком совпадают с советской историографией.
Но, к сожалению, неверные положения дореволюционной ис-
торической науки проникли и в труды ряда советских ис-
ториков. Об этом также пишут М. В. Нечкина и П. А. Жилин.
Они отмечают, что в трудах некоторых советских историков
«роли народа в войне, историческому творчеству народных масс
уделялось недостаточно внимания. Почти целиком выпадали
многие важные события. Первый, тяжелый период войны, когда
наша армия была вынуждена отступать в глубь страны, замал-
чивался; недооценивалось значение Смоленскогю сражения. Ос-
тавались в тени многие талантливые полководцы русской ар-
мии и т. д.» 1 2.
Разговор с князем Андреем дал Пьеру внутреннее просвет-
ление. То, что наблюдал он с Можайской горы и никак не мог
до конца понять, вдруг прояснилось для него с полной очевид-
ностью. «Он понял ту скрытую (latente), как говорится в физике,
теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых
1 М. Нечкина и П. Жил и н. Бессмертная эпопея. «Коммунист», 1962,
№ 12, стр. 45.
2 Т а м же, стр. 45—46.
238
он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спо-
койно и как будто легкомысленно готовились к смерти». (Гл.
XXV; /Л 208.)
Так рисует Толстой моральный дух русской армии в канун
Бородинского сражения. Эти пламенные патриотические стра-
ницы романа вызвали скептическую улыбку профессора акаде-
мии Генерального штаба А. Витмера, критика претенциозного
и мелкопридирчивого. Он поставил под сомнение значение пат-
риотических чувств русских воинов в борьбе с Наполеоном. По
его мнению, участь боя решает не патриотизм, а «хорошо вос-
питанный солдат... Без патриотизма, в силу чувства долга и
дисциплины».
«...Солдат регулярной армии... — пишет Витмер, — есть,
прежде всего, ремесленник» Г
О Тимохине, который восторженно солидаризуется со своим
командиром, критик пишет, что он «не рассуждает... не ожесто-
чен против врага, не воодушевлен патриотизмом; он просто ре-
месленник, но в деле такой ремесленник стоит героя»1 2.
Положение о солдате как о ремесленнике возрождало не-
лепую формулу немецкой военной мудрости: «Солдат есть про-
стой механизм, артикулом предусмотренный», — усвоенную и
проводимую в жизнь незадачливым императором Павлом I.
Обратимся к документам, которые подтверждают историче-
скую верность художественного воспроизведения Толстым ка-
нуна Бородинского сражения.
Ф. Глинка пишет: «Я слышал, как квартирьеры громко сзы-
вали к порции: «Водку привезли, кто хочет, ребята! Ступай к
чарке!» Никто не шелохнулся. По местам вырывался глубокий
вздох и слышались слова: «Спасибо за честь! Не к тому изгото-
вились: не такой завтра день!» 3.
И в другом месте: «Русские хотели выполнить сердечный
обет, данный накануне перед св. иконою богородицы, — великий
обет: «Положить свои головы за веру и отечество»4.
Илья Радожицкий писал: «Представляя себе опасность, ко-
торой подверглось отечество, никто не думал о собственной
жизни, но каждый желал умереть или омыть в крови врагов
унижение, нанесенное русскому оружию бесконечною ретира-
дою» 5.
В том же духе передает настроение всей армии и генерал
Ермолов: «Армия наша, столько раз приготовленная к сраже-
1 «Военный сборник», 1869, № 1, стр. 97.
2 Т а м же.
3 Ф. Глинка. Очерки Бородинского сражения, воспоминания о 1812 го-
де, ч. 1. М., 1893, стр. 41.
4 Т а м ж е, ч. 2, стр. 98.
5 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, т. 1. М., 1835,
стр. 72.
239
нию и почти в виду неприятеля отходящая, перестала уже верить
возможности оного, хотя всегда желала того с нетерпением;
здесь, однако же, остановись более обыкновенного и продолжая
приготовления, главнокомандующий дал тому вид правдоподо-
бия, и все начали уже верить» L
К ГЛАВЕ XXV
Клаузевиц Карл (1780—1831) — прусский генерал, военный теоретик. В
1812 г. вступил в ряды русской армии. Оставил ряд военных книг, в том
числе «1812 год». В 1814 г. вернулся на прусскую службу.
Ассигнация (фр.) — бумажный денежный знак. Один рубль серебром
равнялся З’/г руб. ассигнациями.
ГЛАВЫ XXVI—XXIX
В этих главах изображен Наполеон накануне Бородинского
сражения. Здесь дана знаменитая сцена туалета императора.
Ее обычно цитируют для доказательства крайне неприязненного
отношения русского романиста к французскому императору. И
действительно, нужно отметить, что Толстой не пожалел кра-
сок, чтобы представить Бонапарта в весьма неприглядном свете.
Портретная характеристика Наполеона гармонирует с ранее
отмеченными чертами его духовного мира: самодовольством,
тщеславием, убежденностью в собственном величии и непогре-
шимости.
Сцена утреннего туалета Наполеона написана Толстым по
материалам книги Лас Каза: «De Las Cases, comte, Memorial de
Sainte-Helene» (Paris), в которой подробно рассказывается о
жизни Наполеона в изгнании.
Об эпизоде с портретом сына рассказано во многих источ*
киках, и особенно подробно — в мемуарах самого де Боссе (De
Beausset. «Memoires anecdotiques sur I’interieur de Palais». Paris,
1827—1829).
25 августа после утреннего туалета Наполеон целый день
осматривал позиции Бородинского поля и отдавал приказания.
Затем под его диктовку была написана диспозиция предстоя-
щего сражения. Толстой едко иронизирует над замечаниями и
указаниями Наполеона при осмотре местности и над его диспо-
зицией: «Диспозиция эта, весьма неясно и спутанно написан-
ная,— ежели позволить себе без религиозного ужаса к гениаль-
ности Наполеона относиться к распоряжениям его, — заключала
в себе четыре пункта — четыре распоряжения. Ни одно из этих
1 А. П. Ермолов. Записки о 1812 годе. М., 1863, стр. 56.
240
распоряжений не могло быть
и не было исполнено». (Гл.
XXVII; /Л 217.)
Взгляд Толстого на Напо-
леона как на полководца ис-
ходит из той же историко-фи-
лософской концепции, что и
на роль Кутузова, т. е. из тео-
рии фатализма. Отсюда про-
тиворечивость суждений писа-^
теля: то он утверждает, что
воля Наполеона нигде не на-
шла своего практического при-
менения в Бородинском сра-
жении, так как он находился
слишком далеко от поля бит-
вы, ход сражения ему не был
известен и поэтому «ни одно
распоряжение его во время
сражения не могло быть ис-
полнено» (гл. XXVII; 11, 218),
то, через две страницы, пи-
сатель заявляет, что «Наполе-
он в Бородинском сражении
Наполеон I. С франц, лубочной
гравюры нач. XIX в.
исполнял свое дело представи-
теля власти так же хорошо и
еще лучше, чем в других сра-
жениях» (гл. XXVIII; 11, 221).
Отрицание военного гения
Наполеона, несомненно, ошибочно у Толстого, и его рассуждения
о несостоятельности распоряжений французского, императора не
соответствуют исторической действительности.ТЙзвестно, что ис-
ключительность гения Бонапарта признавали и Кутузов, и весь
его генералитет. Великий русский полководец трудность борьбы
с нашествием французов видел не только в том, что вражеская
армия значительно превосходила численностью русскую армию,
но и в том, что во главе ее стоял крупный стратег, отважный,
волевой и проницательный полководец.
К ГЛАВЕ XXVI
Префект (лат.)—во Франции и других странах — высший правитель-
ственный чиновник в департаменте, в провинции и в округе.
Боссе Луи Франсуа Жозеф (1770—1835) — писатель и придворный. С
1805 г.— префект дворца Наполеона и камергер.
Фабвьё — французский полковник, привезший Наполеону во время Бо-
родинской битвы известие о поражении французских войск в Испании у Са-
ламанки.
241
Жерар Франсуа Паскаль Симон (1779—1837) — французский художник,
портретист.
Саламанское сражение — сражение 22 июля 1812 г., которое произошло
в окрестностях Саламанки, в Испании, между англо-испанскими войсками
Веллингтона и французами под начальством Мармона. Окончилось пора-
жением французов.
Сикстинская мадонна — знаменитая картина великого итальянского ху-
дожника Рафаэля Санцио (1483—1520), написанная в 1518 г. Находится в
Дрезденской галерее.
Бильбоке (фр.) — игрушка, состоящая из шарика и деревянной чашечки
на стержне, в которую ловят этот шарик, подбрасывая его.
Скипетр (греч.)—жезл, украшенный драгоценными камнями и резьбой;
является знаком царской власти.
К ГЛАВЕ XXVII
Компан Жан Доминик (1769—1845)—граф, французский генерал. В
1812 г. командовал 5-й пехотной дивизией в корпусе Даву.
Ней Мишель, герцог Эльхингенский (1769—1815) — французский мар-
шал. В 1812 г. командовал 3-м корпусом. В Бородинском сражении командо-
вал центром французской армии, получил от Наполеона титул «князь Мо-
сковский».
Пернетти — французский генерал. В Бородинском сражении командо-
вал артиллерией 1-го корпуса.
Дессё Жозеф Мари (1764—1834) — французский генерал, в 1812 г. на-
чальник дивизии. Участвовал в Бородинском сражении.
Фриан Луи (1758—1829) — граф, французский генерал. Принимал уча-
стие в войнах Наполеона 1805, 1806—1807, 1809 и 1812 гг. Участвовал в
Бородинском сражении.
Фушё де Карейль Луи Франсуа (1762—1835) — граф, французский гене-
рал, участник Бородинского сражения.
Сорбьё Жан Бартелеми (1762—1827)—французский генерал, участник
Бородинского сражения.
Моран Луи Шарль (1771—1835) — граф, французский генерал, участник
многих наполеоновских войн. В Бородинском сражении командовал дивизией.
Жерар Морис Этьенн (1773—1852) — французский маршал. В 1812 г.
командовал бригадой, потом дивизией. Участник Бородинского сражения.
При отступлении французских войск командовал арьергардом в корпусе Даву.
К ГЛАВЕ XXVIII
Варфоломёевская ночь — один из наиболее кровавых эпизодов религиоз-
ных войн. В ночь с 23 на 24 августа 1572 г. (накануне дня св. Варфоломея)
по инициативе Екатерины Медичи и по приказу ее сына Карла IX в Париже
было произведено избиение католиками гугенотов.
Карл IX — французский король (1550—1574).
К ГЛАВЕ XXIX
Рапп Жан (1772—1821) — граф, французский генерал. В 1800—1814 гг.
состоял в должности адъютанта Наполеона. Участвовал во многих наполе-
оновских войнах. В Бородинском сражении получил ранение.
Корвизар Жан Никола (1755—1821) — барон, французский врач, поль-
зовавшийся большой известностью, автор печатных трудов; первый медик
Наполеона.
242
ГЛАВЫ XXX-XXXIV
Бородинскому сражению Толстой посвятил ряд глав, изобра-
зив довольно детально всю динамику боя. Критик А. С. Норов,
явно предубежденный по отношению к Толстому, готовый при-
драться к нему за малейшую неточность в описании расположе-
ния армейских соединений на поле Бородина, и тот вынужден
был дважды заметить на протяжении своей статьи, что «граф
Толстой в своем романе... прекрасно и верно изобразил общие
фазисы Бородинской битвы»1.
Но нас интересует в «Войне и мире» не только изображение
внешней стороны событий в день Бородинского сражения, ибо
внешнее правдоподобие не может явиться еще полным доказа-
тельством историчности произведения. Правда художника-реа-
листа заключена прежде всего в том, как показан высокий мо-
ральный облик русского воина, выступившего на поле брани для
смертельной схватки с врагом. С замечательной психологиче-
ской глубиной рисует Толстой душевный мир простых русских
людей, удерживавших свои боевые позиции без показной воин-
ственной позы, без нарочитого ухарства; людей, проникну-
тых полным сознанием серьезности момента, занятых только
одной мыслью — не пустить врага дальше, ибо позади — Мос-
ква. 29 августа Кутузов доносил Александру I: «Баталия, 26 чи-
сла бывшая, была самая кровопролитнейшая из всех тех, ко-
торые в новейших временах известны. Место баталии нами
одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту по-
зицию, в которую пришел нас атаковать»1 2.
В другом донесении царю Кутузов писал: «Сей день пребу-
дет вечным памятником мужества и отличной храбрости рос-
сийских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались
отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить
неприятелю. Французская армия под предводительством самого
Наполеона, будучи в превосходнейших силах, не превозмогла
твердость духа российского солдата, жертвовавшего с бодро-
стию жизнию за свое отечество»3.
Стойкость русских войск казалась французам непостижимой.
«Генералы Наполеона, Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в бли-
зости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, не-
сколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные
массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось
во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бег-
1 «Военный сборник», 1868, № 11, стр. 224.
2 «М. И. Кутузов». Сборник документов, т. IV, ч. I. М., Воениздат, 1954,
стр. 175—176.
3 Там ж е, стр. 168.
243
Сражение под Москвой. С франц, лубочной гравюры
стве неприятеля, стройные массы войск возвращались от-
туда расстроенными, испуганными толпами». (Гл XXXIV;
11, 239.)
«Все те прежние приемы, бывало неизменно увенчиваемые ус-
пехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резер-
вов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer
(железных людей), все эти приемы уже были употреблены, и не
только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те
же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости
подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве
войск.
Прежде, после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз, ска-
кали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъю-
танты, объявляя трофеями корпуса пленных, des faisceaux des
drapeaux et d’aigles ennemis (связки неприятельских орлов и зна-
мен), и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пу-
скать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Ма-
ренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом, и так далее, и
так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войска-
ми». (Гл. XXXIV; 11, 242.)
Толстой с удивительной проницательностью передает мир ду-
шевных переживаний баловня судьбы Наполеона, который до
244
этого не знал поражений и препятствий для своего стремитель-
ного удара, обращавшего в бегство неприятеля.
Никакие усилия французов не могли сломить воли русских
стоять насмерть; одни и те же позиции по нескольку раз пере-
ходили из рук в руки. Наполеон приказывал усилить огонь, но
результат получался все тот же.
Самодовольно-оптимистическому настроению Наполеона пе-
ред боем автор противопоставил его крайне угнетенное и мрач-
ное состояние во время сражения, когда уже день клонился к ве-
черу и не было видно никаких признаков победы.
К ГЛАВЕ XXXI
Чинёнка — разрывное ядро, начиненное порохом.
Заколяниться — зачерстветь от жары или стужи, стать твердым.
Бруствер (нем.)—земляная насыпь на наружной стороне окопа для ук-
рытия стрелков от неприятельского огня.
К ГЛАВЕ XXXIII
Флешь (фр.) — полевое укрытие в форме тупого угла.
К ГЛАВЕ XXXIV
Пунш (англ.)—спиртной напиток, приготовляемый из рома, сахара, чая,
кипятка и лимонного сока.
Клаперёд Мишель (1774—1841) — французский генерал, участник Боро-
динского сражения.
Лоди — город в Италии, на реке Адде, где 10 мая 1796 г. Бонапарт
выиграл у австрийцев сражение, быстро захватив город и мост.
маренго — деревня в Северной Италии, около которой 14 июня 1800 г.
французские войска под начальством Бонапарта одержали первую победу над
австрийцами.
Ваграм — австрийская деревня на Руссбахе, левом притоке Дуная, у
которой 5—6 июля 1809 г. произошло сражение между французскими напо-
леоновскими войсками и австрийцами, окончившееся победой французов.
ГЛАВА XXXV
В этой главе дана характеристика главнокомандующего
М. И. Кутузова во время Бородинской битвы — в самый ответст-
венный момент его полководческой деятельности. Создав гран-
диозное батальное полотно, Толстой уделил очень мало внима-
ния Кутузову, так как не придавал должного значения роли
командующих в боевых действиях. Здесь мы наблюдаем проти-
воречие между Кутузовым — созерцателем хода сражения и Ку-
тузовым, проявляющим волю истинного полководца L Толстой
1 Говоря о противоречивости образа Кутузова, как и о других противоре-
чиях в романе-эпопее, мы не склонны объяснять это противоречием между
мировоззрением и творческим методом писателя, между Толстым-философом
и Толстым-художником, как это делают многие исследователи. Мы счита-
245
Бородинское сражение. С гравюры по рисунку Д. Скотти 1814 г.
пишет: «Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тя-
желым телом на покрытой ковром лавке, на том самом месте,
па котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распо-
ряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что
предлагали ему.
«Да, да, сделайте это»,— отвечал он на различные предложе-
ния. «Да, да, съезди, голубчик, посмотри», — обращался он то к
тому, то к другому из приближенных; или: «Нет, не надо, лучше
подождем», — говорил он. Он выслушивал привозимые ему до-
несения, отдавал приказания, когда это требовалось подчинен-
ными...» (Гл. XXXV; И, 244—245.)
Такая характеристика действий полководца еще не означает
ни отрицания его роли, ни непризнания его значения в ходе бое-
вых действий. В ней скорее проглядывает образ спокойного, урав-
новешенного военачальника, опытного воина, который прекрас-
но понимает, что чрезмерная взволнованность и суетливость со-
здают тревожную атмосферу среди подчиненных. Если бы Тол-
стой и дальше рисовал образ именно в этом плане, то полу-
чилась бы цельная и последовательная характеристика Куту-
зова, каким его знает читатель по военно-историческим сочине-
ниям. Сошлемся на мнение авторитетного советского военного
историка, автора обстоятельной монографии об Отечественной
ем это следствием противоречивости самой мысли Толстого, как философской,
так и творческой, явившейся отражением противоречивости русской действи-
тельности, так гениально изображенной писателем.
246
войне 1812 г., полковника Л. Г. Бескровного. Он пишет: «Мно-
гим казалось, что Кутузов инертен и как бы безучастен к сра-
жению. Он получал донесения от дежурных офицеров, а их было
около 30 человек, и отдавал короткие приказания о передвиже-
нии войск с одного фланга на другой. В то время, когда поло-
жение становилось неясным, он направлял своих помощников
из штаба, напутствуя их: «Съезди, голубчик, посмотри там». Мы
не знаем ни одного случая, когда бы Кутузов вмешался в дей-
ствия нижестоящих начальников. Некоторые генералы, входив-
шие в состав Главной квартиры, воспитанные на канонах ли-
нейной тактики, не понимали, что новая форма боевых дейст-
вий требовала от всех начальников и солдат проявления боевой
инициативы и самостоятельности и в выборе решения и в его осу-
ществлении. И частные начальники, представляя свои обязан-
ности, превосходно руководили боевыми действиями, каждый на
своем участке. Кутузов с величайшим спокойствием и мужест-
вом управлял сражением. Он терпеливо ждал, когда и где вы-
явится направление главного удара, и проявил максимум энер-
гии в момент наивысшего напряжения сражения, чтобы вырвать
инициативу у Наполеона» Г
Но в дальнейшем повествовании выступили совершенно про-
тивоположные мотивы, искажающие образ Кутузова и вступа-
ющие в логическое противоречие с ранее сказанным. Толстой
продолжает так:
«...Но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовал-
ся смыслом (курсив наш. — Б. К.) слов того, что ему говорили,
а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших ин-
тересовало его. Долголетним военным опытом он знал и стар-
ческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек,
борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что ре-
шают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего,
не место, на котором стоят войска, не количество пушек и уби-
тых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и
он следил за этою силой и руководил ею, насколько это было в
его власти». (Гл. XXXV; 11, 245.)
Однако, парадоксально высказываясь о распоряжениях
главнокомандующего, о боевых позициях, о вооружении армии,
Толстой все-таки не отрицал их значения в ходе военных дейст-
вий и в успехе воюющих сторон. Эти суждения писателя явля-
ются, вернее всего, стремлением особо подчеркнуть и выдвинуть
на первый план моральный дух войска, боевую настроенность
русского воина.
Убеждение в первостепенном значении духа войск Толстой
пронес через всю свою сознательную жизнь. В 1898 г., в статье
1 Л. Г. Бескровный. Бородинское сражение. «История СССР», 1962,
№ 6, стр. 13.
247
Михаил Илларионович Кутузов. С портрета работы Дж. Доу
«Голод или не голод?», Толстой писал: «Военные люди знают,
что такое значит дух войска; знают, что этот неосязаемый эле-
мент есть первое главное условие успеха, что при отсутствии
этого элемента делаются недействительными все другие. Пу-
скай будут солдаты прекрасно одеты, накормлены, вооружены,
пускай будет сильнейшая позиция, — сраженье будет проигра-
но, если не будет того неосязаемого элемента, который называ-
ется духом войска» (29, 221).
На исходе дня Бородинского сражения к крайне усталому
и изнуренному главнокомандующему явился е донесением от
Барклая де Толли флигель-адъютант Вольцоген и доложил, что
положение на левом фланге катастрофическое, все позиции за-
няты неприятелем и русские панически бегут. Как же реагиро-
вал на это донесение «пассивный» созерцатель событий Ку-
тузов?
«Кутузов... удивленно, как будто не понимая того, что ему го-
ворили, уставился на Вольцогена...
— Вы видели? Вы видели?.. — нахмурившись закричал Ку-
тузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. — Как вы...
как вы смеете!.. — делая угрожающие жесты трясущимися ру-
ками и захлебываясь, закричал он. — Как смеете вы, милости-
вый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передай-
те от меня генералу Барклаю, что его сведения несправедливы
и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандую-
щему, лучше, чем ему.
Вольцоген хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его.
— Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге.
Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяй-
те себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к гене-
ралу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное наме-
рение атаковать неприятеля, — строго сказал Кутузов». (Гл.
XXXV; 11, 247.)
Заключительная фраза Кутузова о его намерении на следу-
ющий день перейти в наступление находит документальное под-
тверждение. «Я, — писал Кутузов Барклаю де Толли и Дохту-
рову, •— из всех движений неприятельских вижу, что он не ме-
нее нас ослабел в сие сражение, и потому, завязавши уже дело
с ним, решился я в сегодняшнюю ночь устроить все войско в по-*
рядок, снабдить артиллерию новыми зарядами и завтра возо-
бновить сражение с неприятелем» L
Как это можно совместить с предыдущим утверждением пи-
сателя о незначимое™ роли главнокомандующего? Ведь такая
бурная реакция на донесение Вольцогена вовсе не означала
вспышки гнева самодурствующего «старого господина», как пы-
1 «Л1. И. Кутузов». Сборник документов, т. IV, ч. 1. М., Воениздат, 1954,
стр. 150—151.
249
тался истолковать поведение Кутузова чопорный, холодный и
самовлюбленный Вольцоген. Это было закономерное действие
опытного главнокомандующего, держащего все нити грандиоз-
ного сражения на огромном пространстве в своих руках и мето-
дически точно и последовательно выполняющего план гене-
рального сражения. Ответ Кутузова Вольцогену показывает,
что главнокомандующий был прекрасно ориентирован в дейст-
вительном положении вещей на поле боя, знал, что, несмотря на
временный тактический успех французов на отдельных участ-
ках сражения, воля русских к дальнейшей обороне вовсе не
была сломлена и донесение Вольцогена о паническом бегстве
русских на левом фланге, во-первых, было весьма преувеличе-
но и, во-вторых, отражало только эпизодический момент, а не
общую картину генерального сражения. Правильность понима-
ния ситуации главнокомандующим тотчас подтвердил генерал
Раевский, проведший целый день на главном пункте Бородин-
ского поля: «Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих
местах, и что французы не смеют атаковать более» (гл. XXXV;
11,248).
Представим теперь другое положение. Допустим, что Куту-
зов, действительно, просидел целый день на одном и том же ме-
сте, не делал никаких распоряжений, а только соглашался или
не соглашался с тем, что ему говорили. Будучи убежденным в
том, что главнокомандующий ничего не может изменить в ходе
сражения, он старался не вникать в процесс боевых операций
и не знал действительного хода Бородинской битвы. Как он
должен был реагировать на донесение Вольцогена? Логика ве-
щей нам подсказывает, что Кутузов должен был растеряться,
бормотать что-то невнятное вместо отдачи точно сформулиро-
ванного боевого приказа. • И, конечно, этого было бы доста-
точно, чтобы полная растерянность главнокомандующего пере-
далась командному составу, а затем солдатам и началось пани-
ческое бегство по всему фронту сражения.
Произошло же как раз обратное. Толстой пишет: «И по не-
определимой, таинственной связи, поддерживающей во всей ар-
мии одно и то же настроение, называемое духом армии и сос-
тавляющей главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к
сражению на завтрашний день, передались одновременно во все
концы войска». (Гл. XXXV; И, 248.)
Интересно привести здесь и соображения новейшего иссле-
дователя данной проблемы, профессора А. Скафтымова. В
статье «Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Тол-
стого «Война и мир» А. Скафтымов, не отрицая теоретической
ошибочности философско-исторической концепции Толстого, не
без основания считает, что автор «Войны и мира» говорит не о
пассивности и бездеятельности великого полководца, а о чем-то
совершенно ином. Скафтымов пишет:
250
«Нельзя сомневаться в том, что Толстой, говоря об отказе
«от своей личной воли, направленной на другое», и о «покорно-
сти общему ходу дел», имел в виду не безвольную беспечность
Кутузова (как это часто трактуется в критике), а особый ха-
рактер, особый тип его деятельности, воодушевленной и обо-
снованной требованиями объективной (внеличной) необходи-
мости. Эта особенность Кутузова в романе оттеняется характе-
ристикой других исторических лиц, которые в своей деятельно-
сти руководствовались «личными соображениями».
В описании поведения Кутузова при Бородинском сражении
у Толстого опять речь идет не о его «пассивности», а о его на-
пряженной деятельности, как представлял себе Толстой дея-
тельность полководца в ее разумном содержании»!.
Заметим, что еще А. С. Пушкин говорил о «мудром деятель-
ном (подчеркнуто нами.— Б. К.) бездействии» Кутузова1 2.
Следуя своей ошибочной философской концепции фатализ-
ма, Толстой не смог показать цельный и исторически вполне
верный образ Кутузова. Мы не находим на страницах «Войны
и мира» ни стратегического, ни тактического замысла великого
полководца, ни оперативной деятельности его как главнокоман-
дующего в столь ответственный момент Отечественной войны
1812 г., как Бородинское сражение. Известно, что Кутузов от-
несся к генеральному сражению с французами со всей ответст-
венностью и проделал все, что было в его силах. Он постарался
избрать наиболее подходящую позицию для сражения и про-
вести возможные инженерные работы. Об этом Кутузов писал
царю: «Доношу вашему императорскому величеству, что пози-
ция, в которой я остановился при деревне Бородине, в 12 вер-
стах впереди Можайска, одна из наилучших, какую только на
плоских местах найти можно. Слабое место сей позиции, кото-
рое находится с левого фланга, постараюсь я исправить по-
средством искусства»3.
Накануне Бородинского сражения Кутузовым была вырабо-
тана подробная диспозиция4, предусматривающая расположе-
ние частей 1-й и 2-й армий при селе Бородино. Она получила
очень высокую оценку военных специалистов, исследовавших
стратегию и тактику Бородинского сражения. Вот что читаем по
этому вопросу на страницах «Исторического журнала»: «Стра-
тегия и тактика Кутузова в Бородинском сражении прежде
всего определялась новыми принципами военного искусства на-
чала XIX в., одним из требований которого было сосредоточе-
1 «Русская литература», 1959, № 2, стр. 77.
2 А. С. П у ш к и н. Полное собрание сочинений в 10 тт., т. VII. М., Изд-во
АН СССР, 1958, стр. 484.
3 «Фельдмаршал Кутузов». Сборник документов и материалов. М., Гос-
политиздат, 1947, стр. 157.
4 См. там же, стр. 159—163.
251
ние сил на решающем участке поля боя. Кутузов вписал новые
страницы в национальное русское военное искусство, значитель-
но расширив и дополнив суворовскую «Науку побеждать» 1.
Та же высокая оценка полководческого мастерства Кутузова
в Бородинском сражении звучит и во вступительной статье к
книге «Фельдмаршал Кутузов», где мы читаем: «...Кутузов пра-
вильным замыслом сражения, искусным построением боевого
порядка, наличием резервов обеспечил себе максимальную сво-
боду действий и возможность управлять ходом сражения»1 2.
Приведем также оценку роли главнокомандующего в Боро-
динском сражении, данную советским историком академиком
Е. В. Тарле: «Прежде всего инициатива сражения принадлежа-
ла Кутузову, так же как он взял на свою ответственность и
окончательный выбор позиции... Все распоряжения Кутузова от-
мечены и перед боем, и во время боя глубокой продуман-
ностью... Широта кругозора, свойственная великим полковод-
цам, охватывала громадные растянувшиеся линии... Кутузов
очень успешно провел с нужными ему результатами ту оборони-
тельную операцию, каковой с самого начала являлось для него
и для его армии Бородинское сражение...»3
Нам могут возразить, что Толстой писал не военно-истори-
ческий трактакт о Бородинском сражении, а создал художест-
венную летопись этого величайшего события. Верно. Но верно
и то, что в тех местах художественного повествования, где
объективная реальность совпадает с философско-историческими
взглядами Толстого, он дает картины, отличающиеся не только
высокой художественной выразительностью, но и документаль-
ной точностью (Шенграбенское и Аустерлицкое сражения, от-
ступление французов, партизанская война и т. п.).
«...Привезено было известие о взятии в плен Мюрата...»
(Гл. XXXV; 11, 245.)
Известие это оказалось ложным. В плен был взят генерал
Бонами, который, увидев у своей груди штык русского грена-
дера, закричал: «Я король!» Он был доставлен к Кутузову.
И. Радожицкий, записками которого пользовался Толстой,
рассказывает, что ложный слух пустил картавящий майор Елец-
кого полка Т., который скакал по линии войск и восторженно кри-
чал: «Бьятцы! Мюята взяли!»4.
1 Б. Соколов. Стратегия и тактика Бородинского сражения. «Истори-
ческий журнал», 1943, № 2, стр. 71.
2 «Фельдмаршал Кутузов». Сборник документов и материалов. М., Гос-
политиздат, 1947, стр. 21.
3 Е. В. Т а р л е. Бородино. М., Изд во АН СССР, 1962, стр. 73—76. См.
также: Н. М. Д р у ж пни н. Историческое значение Отечественной войны
1812 года. «Вопросы истории», 1962, № 12, стр. 55.
4 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, т. 1. М., 1835,
стр. 144.
252
ГЛАВЫ XXXVI-XXXIX
«Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора
200 орудий направлены на русских, но что русские все так же
стоят.
— Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, — сказал
адъютант». (Гл. XXXVIII; 11, 257.)
Поле битвы было ужасным. «Несколько десятков тысяч чело-
век лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на по-
лях и лугах...» (Гл. XXXIX; 11, 260.)
«Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ране-
ными, в соединении... с известиями об убитых и раненых двадца-
ти знакомых генералах и с сознанием бессильности своей преж-
де сильной руки произвели неожиданное впечатление на Напо-
леона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и ра-
неных, испытывая тем свою душевную силу (как он думал).
В этот день ужасный вид поля сражения победил... душевную
силу...» (Гл. XXXVIII; 11, 256.)
Академик Тарле пишет о состоянии Наполеона: «Угрюмый
ни с кем не разговаривая, сопровождаемый свитой и генерала-
ми, не смевшими прерывать его молчания, Наполеон объезжал
вечером поле битвы, глядя воспаленными глазами на бесконеч-
ные груды трупов» Ч
Наполеон потерял в этой битве 58 578 солдат и 49 генералов.
Русская армия потеряла 38 506 солдат и офицеров и 22 генерала,
что составляет почти треть всего состава армии1 2.
Наполеон на другой день после битвы хвастливо писал сво-
ей жене об одержанной победе, о разгроме всей 120-тысячной
армии противника, о взятии нескольких тысяч пленных3.
Для раздувания сведений о мнимой победе Наполеона над
Россией французская историография заимствовала из наполео-
новских лживых бюллетеней версию о «великой победе под
Москвой». Эту версию охотно подхватили русский царь и его
окружение, чтобы унизить Кутузова, истинного героя Бородин-
ской битвы. О поражении русских писали Александру I придвор-
ный льстец Винцингероде и Роберт Вильсон4. О поражении рус-
ских писали историки Богданович5 и Витмер 6.
1 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР. 1961, стр. 558.
2 См.: Л. Г. Бескровный. Бородинское сражение. «История СССР»,
1962, № 6, стр. 14—15.
3 См.: Е Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 558.
4 См. т а м ж е, стр. 559—560.
5 См.: М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. III.
СПб., 1860, стр. 102.
6 См.: А. Витмер. По поводу исторических указаний четвертого гома
«Войны и мира» графа Толстого. «Военный сборник», 1868, № 12.
253
Толстой изобразил Бородинскую битву как нравственную по-
беду русских. Описание этого грандиозного и грозного сражения
писатель закончил следующими выводами:
«Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье
чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все ге-
нералы, все участвовавшие и неучаствовавшие солдаты француз-
ской армии, после всех опытов прежних сражений (где после
вдесятеро меньших усилий неприятель бежал) испытывали оди-
наковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв ПО-
ЛОВИНУ войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале
сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии
была истощена. Не та победа, которая определяется подхвачен-
ными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем
пространством, на котором стояли и стоят войска, а победа
нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном
превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана
под Бородином. Французское нашествие, как разъяренный зверь,
получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало
свою гибель; но оно не могло остановиться, так же как и не мог-
ло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После дан-
ного толчка французское войско еще могло докатиться до Моск-
вы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно
должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нане-
сенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского
сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, воз-
вращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысяч-
ного нашествия и погибель Наполеоновской Франции, на кото-
рую в первый раз под Бородином была наложена рука сильней-
шего духом противника». (Гл. XXXIX; 11, 262—263.)
Рассмотрим, насколько Толстой исторически достоверен и в
своей батальной живописи, и в изображении психологии русских
людей на поле Бородина, и в своих выводах.
Обратимся к свидетельству современников, участников собы-
тия. Ф. Глинка, автор «Очерков Бородинского сражения», при-
водит слышанные им слова рядового, прекрасно передающие, по
его мнению, состояние духа войска в Бородинском сражении.
Слова эти следующие: «Отчего в Бородине дрались так храбро?
Оттого, сударь, что тогда никто не ссылался и не надеялся на
других, а всякий сам себе говорил: хоть все беги, я буду стоять!
Хоть все сдайся, я умру, а не сдамся! Оттого все стояли и уми-
рали» Г
Нам думается, что эти простые, бесхитростные слова как
нельзя лучше передают состояние русского воина в знаменитой
1 Ф. Глинка. Очерки Бородинского сражения, воспоминания о 1812 го-
де, ч. 2. М., 1839, стр. 101.
254
битве, где решалась судьба отечества, судьба многомиллионного
русского народа. Стойкость войск в Бородинском сражении от-
мечал М. И. Кутузов. «Милостивый государь мой граф Федор
Васильевич! — писал он графу Растопчину.— Сегодня было весь-
ма жаркое и кровопролитное сражение... Русское войско не усту-
пило в нем ни шагу, хотя неприятель в весьма превосходных
силах действовал против него...» 1
В таком же духе о стойкости русских и о чувстве победы, ис-
пытываемом всей русской армией после Бородинского сражения,
говорит другой участник сражения, Илья Радожицкий: «...рус-
ские не были разбиты, приведены в замешательство, нигде не
бежали. Наши силы еще оставались сосредоточенными от села
Горки по Семеновскому оврагу до старой Смоленской дороги и
стояли во всей готовности отражать дальнейшие покушения не-
приятелей»1 2. Дальше Радожицкий замечает, что здесь именно,
на полях Бородинской битвы, были впервые разгромлены вой-
ска грозного «завоевателя Европы»3.
Необыкновенную стойкость русских в Бородинском сраже-
нии признавали свидетели событий и во вражеском стане. Так,
например, участник сражения, французский офицер и военный
историк Пеле восклицает: «Что может быть поучительнее Боро-
динского сражения?.. Наполеон, давший и выигравший наиболь-
шее число сражений, не переставал утверждать, что это сраже-
ние было прекраснейшим из всех, им данных, и одновременно —
ужаснейшим»4.
Об этом же говорят герцог Фегензак и маршал Сен-Сир5.
О стойкости русских и безрезультатности сражения для фран-
цузов говорил и сам Наполеон: «Из пятидесяти данных мною
сражений это было сражение, в котором проявлено наиболее до-
блестей и достигнуто наименее результатов»6; «Русские стяжа-
ли право быть непобедимыми»7.
Что касается критики, то и она, если обратиться к наиболее
проницательным и объективным ценителям изображенной в
«Войне и мире» картины великой битвы, полностью солидаризи-
ровалась с Толстым. Сошлемся на генерала Драгомирова, не-
однократно говорившего о превосходной батальной живописи
автора «Войны и мира» и целиком разделявшего точку зрения
1 «Бородино». Документы, письма, воспоминания. М., «Советская Россия»,
1962, стр. 96.
2 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, т. 1. М., 1835,
стр. 150—151.
3 Т а м же, стр. 151.
4 «Инженерный журнал», 1912, № 8, стр. 961.
6 См.: А. Попов. Французы в Москве в 1812 году. М., 1876, стр. 5—6.
6 См.: «Инженерный журнал», 1912, № 8, стр. 961—962.
7 См.: М. Н е ч к и н а и П. Ж и л и н. Бессмертная эпопея. «Коммунист»,
1962, № 12, стр. 40.
255
Толстого, что Бородинская битва была победой1, а также на ста-
тью генерал-майора Н. Л. Лачинова «По поводу последнего ро-
мана графа Л. Толстого», помещенную в «Русском инвалиде»
(статья была подписана инициалами «Н. Л.»).
Лачинов писал: «...Когда автор освобождается от предвзятой
идеи и рисует картины, сродные его таланту, они поражают чи-
тателя своей художественной правдой. Так описана им страш-
ная внутренняя борьба, вынесенная Наполеоном в день Бородин-
ского сражения,— та кровавая рана, которой суждено было за-
жить только на острове св. Елены. Вообще нам кажется, что
нигде, ни в одном сочинении, несмотря на все желание, не до-
казана так ясно победа, одержанная нашими войсками под Бо-
родином, как в немногих страницах в конце последней части
романа; историки обыкновенно брались за это совсем не с той
стороны, как гр. Толстой; они сличали и сравнивали число по-
терь и трофеев, число сажен, на которые отступали наши войска,
всегда говоря 400 сажен вместо версты, и не обратили внимания
на самую из действительных побед, одержанную нашими вой-
сками,— победу нравственную» 1 2.
Статья эта глубоко взволновала Толстого, и он 11 февраля
1869 г. обратился к редактору названной газеты с письмом:
« Я сейчас прочел в 96 № вашей газеты статью г-на Н. Л. о
4-м томе моего сочинения.
Позвольте вас просить передать автору этой статьи мою глу-
бокую благодарность за радостное чувство, которое доставила
мне его статья, и просить его открыть мне свое имя и, как осо-
бенную честь, позволить мне вступить с ним в переписку.
Признаюсь, я никогда не смел надеяться со стороны военных
людей (автор, наверное, военный специалист) на такую снисхо-
дительную критику.
Со многими доводами его (разумеется, где он противного мое-
му мнения) я согласен совершенно, со многими нет. Ежели бы я
во время своей работы мог пользоваться советами такого чело-
века, я избежал бы многих ошибок.
Автор этой статьи очень обязал бы меня, ежели бы сообщил
мне свое имя и адрес» (61, 197).
Работы современных исследователей также подтверждают
художественную и историческую правду страниц «Войны и ми-
ра», посвященных Бородинской битве, и выводы писателя об ис-
ходе этого сражения3.
1 См.: М. И. Драгомиров. Разбор романа «Война и мир». Киев, 1895.
2 «Русский инвалид»/ 10(22) апреля 1868 г.
3 См.: Н. Коробов. Военное искусство Кутузова. «Вопросы истории»,
1945, № 3—4; А. Готовцев. Полководческий путь М. И. Кутузова.
«Военная мысль», 1945, № 10—11—12; Б. Соколов. Стратегия и тактика
Бородинского сражения. «Исторический журнал», 1943, №2; Н. Коробков.
Кутузов-стратег. «Исторический журнал», 1942, № 3; М. Браги н. Разгром
Наполеона русской армией. «Военно-исторический журнал», 1941, № 4;
256
После выхода «Войны и мира» нашлись и такие критики, ко-
торые, соглашаясь с оценкой Толстым исхода сражения как
нравственной победы русских, поставили под сомнение историч-
ность самой картины битвы, нарисованной писателем.
Из критиков 60-х годов это были князь Вяземский, Норов и
Витмер. Все трое обвиняли автора «Войны и мира» в искажении
действительности, в попрании чувства патриотизма и в умалении
славы героев этой величайшей битвы.
Норов писал: «...Я не мог без оскорбленного патриотического
чувства дочитать этот роман, имеющий претензию быть исто-
рическим» !.
Критик возмущен тем, что Толстой, в общем верно изобразив
отдельные фазисы Бородинской битвы, якобы обошел молчанием
действительных героев Бородина. Норову хотелось бы прочитать
на страницах «Войны и мира» ура-патриотические тирады в ду-
хе Загоскина и^Булгарина об Александре I и его сподвижниках,
воюющих с Наполеоном в кабинетах дворцов Петербурга. Ему
хотелось панегирических речей и по своему адресу: из статьи его
видно, что своему участию в Бородинском сражении он прида-
вал немаловажное значение.
Резко полемический тон статьи Норова вызвал разноречивую
реакцию. Периодические издания, идущие на поводу у официоз-
ной идеологии, отнеслись к ней вполне одобрительно и легко рас-
шифровали основную тенденцию автора. «Петербургская газе-
та» писала: «Нам живо припомнилось то чудное, блестящее вре-
мя, когда наш Александр, как новый Агомемнон, решал судьбу
народов и, прекрати кровавую войну, даровал вожделенный мир
измученной Европе...»* Е. 2 * ч.
Б. Кац. О замысле Кутузова в Бородинском сражении. «Историк-марксист»,
1941, № 3; Е. Ярославцев. Стратегия Кутузова в войне 1812 года. «Воен-
ная мысль», 1945, № 9; Н. Павленко. Некоторые вопросы Бородинского
сражения (1812 год). «Военно-исторический журнал», 1941, № 5; Н. Ф. Г а р-
н и ч. 1812 год. М., Госкультпросветиздат, 1952; Е. В. Тарле. Михаил Илла-
рионович Кутузов — полководец и дипломат. «Вопросы истории», 1952, К? 3;
Е. Т а р л е, 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 559—561; Е. В. Т а р л е.
Бородино. М., Изд-во АН СССР, 1962; Л. Г. Бескровный. Бородинское
сражение. «История СССР», 1962, № 6; Л. Г. Бескровны й. Отечественная
война 1812 года. М., Соцэкгиз, 1962; «Бородино». Документы, письма, воспо-
минания. М., «Советская Россия», 1962; М. Нечкина и П. Жилин. Бес-
смертная эпопея, «Коммунист», 1962, № 12. Н. М. Дружинин. Историче-
ское значение Отечественной войны 1812 года. «Вопросы истории», 1962. № 12;
П. Я. Алешкин, В. К. Г о л о в н и к о в. Московское народное ополчение в
Отечественной войне 1812 года. «Вопросы истории», 1962, № 9; П. А. Жилин.
Некоторые вопросы изучения истории Отечественной войны 1812 года. «Воп-
росы истории», 1962, № 6; «М. И. Кутузов». Сборник документов, т. IV,
ч. I. М., Воениздат, 1954.
1 А. Норов. «Война и мир» (1805—1812) с исторической точки зрения
и по воспоминаниям современника. «Военный сборник», 1862, № 11, стр. 190.
2 «Несколько заметок по поводу критического отзыва А. С. Норова о ро-
мане «Война и мир». «Петербургская газета», 1869, № 3.
9 Б. И. Кандиев
257
И далее: «Мы вполне разделяем мнение нашего почтенного и
заслуженного ветерана и убеждены также, что не малая часть
русских читателей отозвалась сочувственно к справедливому его
негодованию...» 1
Профессор Петербургского университета А. В. Никитенко,
человек реакционных взглядов, охотно взялся за литературную
правку статьи Норова и выразил полную удовлетворенность ее
критическим направлением 1 2.
«Петербургской газете» возражал журнал «Всемирная иллю-
страция». Г. Данилевский, автор статьи «Историки-очевидцы (по
поводу книги графа Л. Н. Толстого «Война и мир»)» писал:
«Я возражал А. С. Норову, что не всегда отдельные участники и
непосредственные очевидцы известных исторических событий пе-
редают их вернее позднейших историков, имевших доступ к более
разнообразным источникам...» И далее, иронизируя над крохо-
борческой, мелкопридирчивой критикой Норова, добавил: «...ху-
дожественная правда романа графа Толстого никак не зависит
собственно от того: стояла ли такая-то колонна во время такого-
то боя направо или налево от полководца и т. п...»3
В чем же основной пафос толстовского изображения Боро-
динской битвы, почему он вызвал гневную реакцию у представи-
телей реакционного лагеря?
Любя в «Войне и мире» мысль народную, желая руководство-
ваться в изображении грозного 1812 года истиной, а не офици-
альными историческими реляциями, писатель изобразил в своем
романе в качестве главного героя события русский народ. По-
святив ему ряд блестящих страниц при изображении Бородинско-
го боя, Толстой отдал дань уважения тем полководцам, которые
воплощали в своей деятельности чаяния и желания народа, его
могучий патриотический порыв и спокойную русскую храбрость.
Это прежде всего — Кутузов и Багратион. Для Норовых и Вя-
земских почетного места не оказалось, как и для Бенигсенов,
Вольцогенов и других претендентов на славу спасителей отече-
ства, поскольку и в действительности не они были героями дня.
К ГЛ ABE XXXVI
Хребтуг — небольшой мешок для овса, привязываемый к оглобле, для
кормления запряженной лошади.
К ГЛ ABE XXXVIII
Виртембёргцы — прусские солдаты Вюртембергского герцогства.
Мекленбургцы — обитатели Северо-Восточной Германии, Мекленбургско-
го княжества, находившиеся в рядах наполеоновской армии.
1 «Несколько заметок по поводу критического отзыва А. С. Норова о ро-
мане «Война и мир». «Петербургская газета», 1869, № 3.
2 См.: А. В. Никитенко. Дневник, т. III. М., Гослитиздат, 1956,
стр. 130—132.
3 «Всемирная иллюстрация», 1869, № 41, стр. 238.
258
Тосканцы — обитатели небольших островов в Тирренском море, между
побережьем Италии и Корсикой. Входили в состав армии Наполеона.
Калиш — губернский город в Польше.
К ГЛАВЕ XXXIX
Давыдовы — русский дворянский род и известная дворянская семья в
Москве, владевшая имениями в Московской губернии.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВЫ I—II
К ГЛАВЕ I
Софизм (греч.) — формально правильное, но ложное по существу умо-
заключение, основанное на натяжке, на преднамеренно неправильном подбо-
ре исходных положений в цепи рассуждений.
К ГЛАВЕ II
Березина — река, большой левый приток Днепра. Через нее, у города
Борисова (уездный город Минской губернии на р. Березине), 14—16(26—28)
ноября 1812 г., во время отступления из России, переправлялись преследуемые
русской армией остатки французских войск.
Фили — деревня в 9 верстах от Москвы, в которой 1(13) сентября 1812 г.
под председательством Кутузова состоялся военный совет русских генералов,
решивший отдать французам Москву без сражения.
ГЛАВЫ III-IV
Главный вопрос, который волновал писателя, тревожил его
творческое воображение при описании каждого эпизода войны
1812 г., был, как мы неоднократно об этом говорили, вопрос о
патриотизме русских людей в годину тяжелых испытаний. Пи-
сатель был глубоко убежден, что русский человек по своей на-
туре, всем своим существом — истинный патриот, что в глубине
своей души, в глубине своего сознания он таит это горячее и бла-
городное чувство любви к родине, и поэтому его борьба с врагом,
его лишения и страдания в этой борьбе, его самопожертвование
не есть поза, не есть желание блеснуть перед кем-то особой
воинственностью, особой отвагой и храбростью. Нет, это его ес-
тественное состояние, его природа, проявление его существа,
обычное и закономерное. Этот мотив проходит через весь роман
Толстого и достигает кульминации в оставлении Москвы, древ-
ней столицы Руси, во имя спасения всей армии, во имя спасения
самой России.
Для доказательства этой мысли Толстой прибегает к самым
разнообразным формам поэтического выражения, нигде не про-
являя нарочитости и грубой тенденциозности, нигде не впадая в
сентенциозную назойливость.
9* 259
Под Москвой решался вопрос о дальнейшей тактике в борьбе
с армией Наполеона, которая все еще представляла собой вну-
шительную силу, так как численно превосходила армию Куту-
зова. Фельдмаршал, выслушав самые разнообразные толки ок-
ружающей его свиты, пришел к одному совершенно ясному и
неоспоримому решению, что сражение под Москвой есть
безумие, которое, кроме катастрофы, ничего дать не может.
«...Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой фи-
зической возможности...» (Гл. III; //, 272.)
Главнокомандующий не мог допустить сражения измученной,
понесшей огромные потери русской армии с еще сильной ар-
мией французов.
Подтвердим сказанное документом. 29 августа 1812 г. Ку-
тузов доносил Александру I: «Баталия, 26-го числа бывшая, бы-
ла самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших
временах известны. Место баталии нами одержано совершенно,
и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в которую при-
шел нас атаковать. ...Чрезвычайная потеря... с нашей стороны
сделанная, особливо тем, что переранены самые нужные гене-
ралы, принудила меня отступить по Московской дороге» 1 (кур-
сив наш. — Б. Д’.).
Русского полководца Кутузова беспокоит другая мысль: «Не-
ужели это я допустил до Москвы Наполеона и когда же я это
сделал? Когда это решилось?» (Гл. III; 11, 272.) Вот тот траги-
ческий вопрос, который мучил седовласого фельдмаршала, тре-
бовал прямого п честного ответа, требовал решения, которое спа-
сло бы Россию от позора и порабощения.
В подмосковной деревне Фили собрался совет, который дол-
жен был решить вопрос о сражении за Москву.
О совете в Филях сохранился ценный документ. Приведем
выдержку из него:
«Фельдмаршал, представя Военному совету положение ар-
мии, просил мнения каждого из членов на следующие вопросы:
ожидать ли неприятеля в позиции и дать ему сражение или сдать
оному столицу без сражения? На сие генерал Барклай-де-Толли
отвечал, что в позиции, в которой армия расположена, сраже-
ния принять невозможно и что лучше отступить с армиею через
Москву по дороге к Нижнему Новгороду, как к пункту главных
наших сообщений между северными и южными губерниями.
Генерал Беннигсен, выбравший позицию пред Москвою, счи-
тал ее непреоборимою и потому предлагал ожидать в оной не-
приятеля и дать сражение.
Генерал Дохтуров был сего же мнения.
1 «Бородино». Документы, письма, воспоминания. М., «Советская Рос-
сия», 1962, стр. 117.
260
Генерал Коновницын, находя позицию пред Москвою невы-
годною, предлагал итти на неприятеля и атаковать его там, где
встретят, в чем также согласны были генералы Остерман и Ер-
молов; по сей последний присовокупил вопрос: известны ли
нам дороги, по которым колонны должны двинуться на
неприятеля?
Полковник Толь представил совершенную невозможность
держаться армии в выбранной генералом Беинигсеном позиции,
ибо с неминуемою потерею сражения, а вместе с ним и Москвы,
армия подверглась совершенному истреблению и потерянию всей
артиллерии, и потому предлагал немедленно оставить позицию
при Филях, сделать фланговый марш линиями влево и располо-
жить армию правым флангом к деревне Воробьевой, а левым
между Новой и Старой Калугскими дорогами в направление
между деревень Шатилова и Воронкова; из сей же позиции, ес-
ли обстоятельства потребуют, отступить по Старой Калугской
дороге, поелику главные запасы съестные и военные ожидаются
по сему направлению.
После сего фельдмаршал, обратясь к членам, сказал, что с
потерянием Москвы не потеряна еще Россия и что первою обя-
занностью поставляет он сберечь армию, сблизиться к тем вой-
скам, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступленном
Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю и поэтому
намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге.
Вследствие сего, приказано было армии быть в готовности к
выступлению...» 1
Как видим, начальник штаба армии Бенигсен высказался за
необходимость сражения под Москвой. На его сторону стали
Ермолов, Дохтуров и Раевский, другие были против.
Присоединение к мнению Бенигсена трех указанных боевых
генералов как будто противоречит концепции Толстого об истин-
но русских сынах отечества и корпорации карьеристов и интри-
ганов. Однако приведенный документ показывает, что это было
так на самом деле — все три генерала действительно стали на
сторону Бенигсена. Толстой не мог произвольно вносить коррек-
тивы в историю, и он этого не сделал. Он дал объяснение противо-
речивому положению: «Руководимые ли чувством потребности
жертвы перед оставлением столицы или другими личными со-
ображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что
настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что
Москва уже теперь оставлена». (Гл IV; 11, 275.)
Да, Кутузов созвал совет вовсе не для того, чтобы выслуши-
вать вздорные предложения Бенигсена, а для того, чтобы про-
диктовать свой приказ и начать переправу войск через Москву.
1 Из, «Журнала военных действий», сентябрь 1812 г. См.: «Бородино».
Документы, письма, воспоминания. М., «Советская Россия», 1962, стр. 188.
261
1 сентября в письме Ф. В. Растопчину главнокомандующий
писал о решении оставить Москву: «Неприятель, отделив колон-
ны свои на Звенигород и Боровск, и невыгодное здешнее место-
положение принуждает меня с горестию Москву оставить» Г
Совет кончился очень быстро, словами главнокомандующего:
«Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут не согласны
со мной. Но я (он остановился) властью, врученною мне моим
государем и отечеством, я — приказываю отступление». (Гл. IV;
И, 276.)
Для изображения совета в Филях Толстой использовал ряд
источников: записки А. П. Ермолова, исторические труды Ми-
хайловского-Данилевского и Богдановича. Описание внешности
собравшихся на совет генералов дано по книге Михайловского-
Данилевского «Военная галерея Зимнего дворца», т. 4 (СПб.,
1847).
К ГЛАВЕ III
Корсар — французский офицер, участник Испанского похода Наполеона.
Сарагоса — главный город испанской провинции Сарагосы, прославив-
шийся геройской обороной во время войны с французами 1808—1809 гг.
ГЛАВЫ V—XI
В главе V Толстой говорит об эвакуации населения из
Москвы. Эпизод этот рассматривается писателем как явление
еще более значительное, чем отступление армии без боя. Толстой
старается не только нарисовать картину московских событий,
но и дать психологическую мотивировку действий людей, уча-
ствующих в событиях.
Писатель высказывает твердое убеждение в том, что оставле-
ние жителями Москвы было актом не случайным и не неожидан-
ным, а совершенно закономерным, вытекающим из органической
природы русского человека. Толстой пишет: «Начиная от Смо-
ленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия
графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что
произошло в Москве... Как только неприятель подходил, бога-
тейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество;
беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что остава-
лось». (Гл. V; 11, 277.)
Замечание Толстого, что сами русские истребляли оставлен-
ное имущество, нисколько не противоречит сказанному выше о
варварских действиях французов по уничтожению городов и де-
ревень. Справедливость этого замечания писателя находит пол-
1 «Бородино». Документы, письма, воспоминания. М., «Советская Рос-
сия», 1962, стр. 143—144.
262
ное подтверждение и в советской исторической науке. Вот что
пишет по этому поводу журнал «Большевик»: «Факты и доку-
менты говорят о том, что русские, проникнутые священным чув-
ством ненависти к вторгшемуся врагу, при приближении неприя-
теля действительно уничтожали все, что мог использовать не-
приятель в военных целях, для снабжения своей армии,— запасы
продовольствия, фуража, боеприпасов...» 1
Об этом же читаем в монографии Л. Г. Бескровного: «Кре-
стьяне уходили в леса, унося с собою продовольствие и угоняя
скот» 1 2.
Толстой был глубоко убежден, что действия и поступки рус-
ских и впредь будут проявляться в той же форме, если враг
пойдет на русскую землю с целью ее порабощения. Толстой
замечает: «Сознание того, что это так будет и всегда так будет,
лежало и лежит в душе русского человека». (Гл. V; 11, 277.)
Эти слова великого писателя нашли полное подтверждение в
грозные годы Великой Отечественной войны Советского Союза
с фашистской Германией, когда в 1941 г. часть территории была
оккупирована врагом. Точно так, как во времена отдаленных
предков, народы Советского Союза уходили из городов и сел, не
желая оставаться под владычеством врага и сжигая все, что
могло быть им использовано.
На страницах, посвященных Москве периода войны 1812 г.,
мы знакомимся с фигурой московского градоначальника графа
Растопчина, которого Толстой рисует как отъявленного демагога,
лжепатриота.
Деяния Растопчина идут вразрез со стремлениями честных,
патриотически настроенных русских людей. Он в своих афишах
стыдит тех, кто покидает город, угрожает заклеймить их позор-
ным именем труса. Однако народ не обращает внимания на эти
афиши и уезжает из Москвы. Уезжает не потому, что тот же
Растопчин распространял слухи об ужасах, производимых Напо-
леоном на покоренной земле. Первыми покинули город именно
те, кто прекрасно знал, что в столицах покоренной Европы жите-
ли оставались и неплохо проводили время в обществе галантных
французов. И тем не менее уезжали, потому что «для русских
людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под
управлением французов в Москве. Под управлением французов
нельзя было быть: это было хуже всего». (Гл. V; И, 278.)
И далее: «Та барыня, которая еще в июне месяце, с своими
арапами и шутихами, поднималась из Москвы в саратовскую
деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слу-
1 «Большевик», 1951, № 15, стр. 30.
2 Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 года. М., Соцэкгиз,
1962, стр. 339.
263
га, и со страхом чтоб ее не остановили по приказанию графа Ра-
стопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спа-
сло Россию. Граф же Растопчйн... не понимал значения совер-
шающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить
кого-то, что-то совершить патрпотически-геройское, и как маль-
чик резвился над величавым и неизбежным событием оставления
и сожжения Москвы, и старался своею маленькой рукою то по-
ощрить, то задерживать течение громадного, уносившего его
вместе с собой, народного потока». (Гл. V; 11, 278—279.)
В приведенных словах Толстой с полной ясностью выразил
свой взгляд на роль в событиях 1812 г. русского народа и отдель-
ных лиц, облеченных властью, но не только не оказывающих ре-
альную помощь народу в борьбе с вражеским нашествием, а, на-
оборот, мешающих ему. Эти люди мешали и своим неумением, и
склонностью к самым низменным интригам и подлейшим поступ-
кам, и своей трусостью при внешней воинственности. Борьба с
ними честных людей была весьма трудной, так как свою духов-
ную нищету они ловко прикрывали лжепатриотическими треску-
чими фразами и демагогическими поступками.
«...Без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку
старого почтенного почт-директора Ключарева». (Гл. N;ll, 279.)
Федор Петрович Ключарев (1754—1820) был московским
почт-директором еще при графе Гудовиче — предшественнике
Растопчина. Заняв пост главнокомандующего, Растопчйн искал
случая расправиться с Ключаревым, которого он считал руково-
дителем заговора масонской организации мартинистов. Случай
представился: молодой сын Ключарева дружил с купеческим сы-
ном Верещагиным и приносил ему добытые через отца запре-
щенные иностранные газеты. Верещагин переводил их и давал
читать другим. Когда об этом узнала полиция, Ключарев был
выслан из Москвы. Верещагин погиб трагически. (О нем скажем
подробно при комментировании глав XXIV — XXV 3-й части
третьего тома.)
Центральное место в комментируемых главах занимает Рас-
топчин. Образ Растопчина на страницах «Войны и мира» исто-
рически правдив. Естественно, что он резко отличается от Рас-
топчина многих мемуарных произведений и официальных исто-
рических трактатов. Так, например, весьма высокими доброде-
телями наделяет Растопчина современник войны 1812 г. реакци-
онный публицист Вигель, делая его истинным героем грозных
событий:
«Все жители Москвы чрезвычайно обрадовались, когда в ис-
ходе мая 1812 г. назначили его к ним главнокомандующим... Он
выпрямился во всю вышину роста и ума своего и вдруг явился
грозным повелителем, с своими нахмуренными бровями, как бы
Юпитером-громовержцем... Он совершенно знал дух непокорно-
264
сти дворян, знал также своеволие, предрассудки, поверия про-
стого народа... Сжав тех и других в мощной руке своей, он в то
же время умел овладеть их умами и привязать к себе. Искусство
удивительное, которое не умели у пас довольно оценить. Если
вспомнить, что Москва имела тогда сильное влияние на внутрен-
ние провинции и что пример ее действовал на все государство,
то надобно признаться, что заслуги его в сем году суть бес-
смертны» L
В таком же духе изображает Растопчина и Д. Благово: «Что
там ни говори про его действия во время французов в Москве,
но Москва многим ему обязана, а главное тем, что он поджег ее,
чем совершенно сгубил Бонапарта и его скопища, иначе бы мы
от хищника и не избавились»1 2.
Полным заботы и трогательной любви к народу изображен
Растопчин в книге «Москва, или Исторический путеводитель по
знаменитой столице государства Российского»: «Московский
градоначальник и в сии слезные минуты, зная доброту русского
сердца, увещевал обывателей посещать раненых, кормить, оде-
вать и облегчать их болезнь христианским соболезнованием...
Московский градоначальник сам несколько раз навещал ра-
неных, к каждому подходил, каждого расспрашивал и, с изо-
билием снабжая их всем нужным, говорил: на здоровье, ре-
бята!» 3
Однако были и современники, которые сумели разглядеть под-
линное лицо Растопчина. Толстой, знакомый с разноречивыми
оценками личности и деятельности Растопчина, проявил в его
изображении подлинную творческую самостоятельность, как ис-
тинный художник-реалист. Для доказательства нашей мысли
приведем высказывание одного из лучших знатоков рассматри-
ваемой эпохи — историка А. Н. Попова, который говорил крити-
ку Н. Н. Страхову: «Это лицо угадано автором «Войны и мира»
совершенно верно... самые подробные и многочисленные истори-
ческие изыскания только подтверждают поэтическую проница-
тельность гр. Л. Н. Толстого»4.
Толстовская трактовка образа Растопчина и его деятельно-
сти целиком совпадает с оценкой этой исторической личности со-
ветскими исследователями.
1 Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. 4. М., 1892, стр. 38.
2Д. Благово. Рассказы бабушки... СПб., 1885, стр. 406.
3 «Москва, или Исторический путеводитель по знаменитой столице го-
сударства Российского», ч. I. М., 1827, стр. 238—239. См. характеристику
Растопчина и его действий также в следующих произведениях: Е. Ковалев-
ский. Граф Блудов и его время. СПб., 1866, стр. 134—135, 142; П. А. Вя-
земский. Воспоминания о 1812 годе. «Русский архив», 1869, стр. 184—185;
Д. Н. Свербеев. Записки, т. I. М., 1899, стр. 465; К. Павлова. Собр.
соч., т. II. М., 1915, стр. 275—276.
4 Цит. по кн.: Н. Гусев. Толстой в расцвете художественного гения. ЛА.,
1927, стр. 96.
265
Критическое изображение в «Войне и мире» Растопчина вы-
звало резкие нарекания на писателя, и особенно гневно высту-
пил сын московского градоначальника, А. Ф. Растопчин. Но ему
была дана достаточно вразумительная отповедь. Корреспондент
газеты «Санкт-Петербургские ведомости» М. Де-Пуле в статье
«Война из-за «Войны и мира» писал: «...Призываемый им (сыном
графа Ф. Растопчина. — Б. К.) на суд автор романа «Война и
мир» на вопросы: почему ты не воспел отцу моему гимна за ве-
рещагинское дело? почему в факте убиения Верещагина не уз-
рел ничего грандиозного, римского? — как правдивый художник,
граф Толстой иначе ничего не может сказать, как: — не мог! Мо-
жет быть, покойные Загоскин и Кукольник сделали бы по же-
ланию А. Ф. Растопчина...» 1
Это был, несомненно, голос передовых читателей 60-х годов
прошлого столетия, мнение тех ценителей художественного сло-
ва, которые с первых же страниц «Войны и мира» почувствовали
могучую художественную правду романа-эпопеи, резко отличаю-
щегося от реакционных лжепатриотических произведений мно-
гих исторических романистов.
(Растопчину посвящены также главы XXIV—XXV, завер-
шающие его характеристику.)
К ГЛАВЕ V
Три горы, или Трёхгорная застава — местность на краю Москвы, с юж-
ной части города.
Августин — Алексей Васильевич Виноградский (1766—1819), духовный пи-
сатель и проповедник. В 1812 г. фактически управлял Московской епархией.
К ГЛАВЕ V/
«Общество Иисусово» — так назывался католический монашеский орден
иезуитов, основанный в 1539 г. для распространения католицизма.
Колумбово яйцо — выражение, связанное с рассказом о Колумбе, кото-
тый взялся поставить яйцо на плоском месте (чего никто не мог сделать).
Расплющив ударом кончик яйца, он поставил его на стол. Выражение озна-
чает, что нередко лучшее решение трудного вопроса — самое простое.
К ГЛАВЕ VIII
Кавардак — смесь, болтушка, окрошка, безвкусная похлебка.
К ГЛАВЕ X
Васйльчиков Илларион Васильевич (1775—1847) — генерал-адъютант.
В 1812 г. состоял в арьергарде 2-й армии. В Бородинском сражении был ра-
нен. Затем командовал 4-м кавалерийским корпусом.
Чуйка — длинный суконный кафтан, армяк или шуба.
Яма — название старинной тюрьмы в Москве; так называемая долговая,
или временная, тюрьма, в которую заключали несостоятельных должников.
1 «Санкт-Петербургские ведомости», 1869, № 114.
266
Гамбургская газета — «Гамбургские известия», периодический орган (из-
давался с 1792 г.), откуда в России узнавали главные сведения о европей-
ских событиях.
ГЛАВЫ XII-XVII
Пожалуй, самый замечательный эпизод из целой серии пре-
красных жанровых картин, посвященных семье Ростовых, — это
эпизод эвакуации раненых из Москвы, в котором Наташа про-
явила себя как истинная патриотка. Эта сцена написана Толстым
с поразительным мастерством.
Бескорыстие Наташи, ее готовность все отдать страдающим
людям, не думая о своих несчастьях, находит отклик в сердцах
всех Ростовых.
Особенно рельефно выступают лучшие черты семейства Ро-
стовых, какими-то невидимыми нитями связанных с русским на-
родом, благодаря контрасту между ними и Бергом, которого в
эти страшные для русских людей дни по-прежнему заботит толь-
ко одно: личная выгода, возможность получить что-то для себя.
Существенно заметить, что в раннем варианте этой сцены фи-
гурировал офицер,‘явившийся от Растопчина с приказанием об
отдаче прибывшего из деревни транспорта для эвакуации ране-
ных (14, 365). Переделав данную сюжетную ситуацию коренным
образом, Толстой ярче и глубже выразил патриотические чувст-
ва своей любимой героини Наташи и, наоборот, снял с образа
Растопчина краски, совершенно ему чуждые.
К ГЛАВЕ XV
Лопухины — русский дворянский род.
К ГЛАВЕ XVII
Гайдук (польск.) — здесь: выездной лакей.
Сухарева башня — каменная башня-ворота, построенная при Петре I при
въезде в Москву с севера, по дороге из Архангельска. В 1701—1715 гг. здесь
помещалась первая в России «Школа навигацких и математических наук»
и обсерватория. В 1789 г. сюда были переведены торговые ряды и образо-
вался рынок случайных вещей и старья.
Фриз (фр.) — название сукна, грубый сорт шерстяной материи (фризо-
вая шинель).
ГЛАВА XIX
«...В 10 часов утра 2 сентября Наполеон стоял между своими
войсками на Поклонной горе и смотрел на открывшееся перед
ним зрелище... Вот он наконец, этот знаменитый азиатский го-
род с своими бесчисленными церквами, священная Москва! Дав-
но пора!..» (Гл. XIX; 11, 323—324.)
Эта сцена исторически достоверна. Советский военный исто-
рик Л. Г. Бескровный пишет: «2 (14) сентября Наполеон с гвар-
267
Вид Московского Кремля из-за реки Яузы. С картины М. Воробьева 1820 г.
дней прибыл на Поклонную гору. Взорам французов предстал
один из красивейших городов мира. Москва! Наполеон долго
смотрел на Москву через зрительную трубу. Затем, проследив
за подходом корпусов Богарнэ и Понятовского, он дал сигнал к
вступлению в город. Галопом помчалась конница, бегом двину-
лась к городу пехота. Наполеон остановился у Камер-коллеж-
ского вала в ожидании депутации жителей с ключами от города.
Но Наполеону доложили, что ^Москва пуста. «Какое невероятное
событие», — промолвил пораженный император. Он потребовал
привести к нему бояр. Может быть, говорил Наполеон, русские
«не знают, как сдаваться; все здесь ново и для них, и для нас».
Он хорошо помнил встречи, которые устраивали ему буржу-
азные слои населения Вены, Берлина и других столиц. Недаром
он отметил в записках о походе 1806 г.: «Я побывал уже триум-
фатором в Милане, в Каире, в Вене, но, признаюсь, нигде меня
не встречали так горячо, как у тех самых пруссаков, которые так
громили меня в своих речах, не давая себе труда дать мне оцен-
ку. Меня приняли скорее как освободителя, чем как победителя».
И вот после этих триумфальных встреч — гробовое молчание
огромного города, таившее в себе грозное предзнаменование же-
стокой борьбы» Ч
1 Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 года. М., Соцэкгиз,
1962, стр. 420—422. (Слова Наполеона Л. Г. Бескровный цитирует по работе
К. Клаудевица «1806 год». М., 1938.)
268
К ГЛАВЕ XIX
Поклонная гора — под Москвой, в шести километрах от Дорогомилов-
ской заставы.
Бурнус (араб.) — плащ, носимый бедуинами (арабами-кочевниками).
Камер-коллежский вал — улица в Москве.
ГЛАВЫ ХХ-ХХШ
«Москва между тем была пуста...» (Гл. XX; И, 327.)
«Moscou deserte! Quel evenement invraisemblable!» («Москва
пуста! Какое невероятное событие!») —говорил он (Наполеон.—
Б. /<.) сам с собой». (Гл. XX; 11, 329.)
Оставление Москвы населением — исторический факт, полу*
чивший оценку в исторической литературе. Об этом событии го-
ворится и в монографии об Отечественной войне 1812 г.
Л. Г. Бескровного: «Наполеон стремился в Москву, занятие ко-
торой, казалось, сулило окончание войны, возможность продик-
товать России такие условия мира, которые надолго обеспечат
Франции прочное положение в Европе и полное господство над
ее народами. Надежда эта развеялась в первый же день. Моск-
ва не встретила Наполеона покорностью... Это был вызов рус-
ского народа... безмолвие опустевшей Москвы свидетельствова-
Московский Кремль. С гравюры Ф. Дюрфельдта
ло о решимости народа продолжать борьбу, несмотря ни на ка-
кие жертвы» Г
Французы были ошеломлены случившимся. Сохранились до-
кументальные свидетельства о зловещем впечатлении, которое
произвело на них оставление Москвы жителями. Сошлемся на
одно из них—на показания французского артиллериста: «Всту-
пая вслед за пехотой, я проходил через громадные площади и
улицы. Я заглядывал в окна каждого дома и, не находя ни одной
живой души, цепенел от ужаса. Изредка мы встречали кавале-
рийские полки, мчавшиеся во весь опор по улицам и также ни-
кого не находившие»1 2.
К ГЛ A BE XX
Колддезня — покрышка на улей.
К ГЛАВЕ XXi
Яузский мост— мост в Москве через реку Яузу.
Василий Блаженный — храм Василия Блаженного (Покровский собор)
на Красной площади, построенный в 1555—1560 гг. русскими зодчими Пост-
ником и Бармой в ознаменование победы над Казанским ханством.
Боровицкие ворота — ворота Московского Кремля.
ГЛАВЫ XXIV—XXV
Верещагин Михаил Николаевич (1790—1812)—сын москов-
ского купца. В 1812 г. якобы перевел на русский язык из «Гам-
бургской газеты» два сообщения о Наполеоне: «Письмо Напо-
леона к прусскому королю» и «Речь Наполеона к князьям Рейн-
ского союза в Дрездене», за что Растопчиным был обвинен в за-
говоре и государственной измене. Был арестован, заключен в
тюрьму и предан суду. 17 июля магистрат приговорил его к бес-
срочной ссылке в каторжные работы в Нерчинск. Сенат 19 авгу-
ста утвердил приговор, с добавлением, по предложению Растоп-
чина, 25 ударов плетью. 2 сентября, в день вступления францу-
зов в Москву, Растопчйн казнил Верещагина, отдав его на
растерзание солдатам своего конвоя и разъяренной толпе.
По поводу этого события академик Е. Тарле пишет следую-
щее: «Купеческий сын Верещагин (так обыкновенно излагается
дело) «перевел на русский язык два газетных сообщения о На-
полеоне, а именно: письмо Наполеона к прусскому королю и
речь Наполеона к князьям Рейнского союза в Дрездене». На са-
мом деле Наполеон и письма такого к королю не писал и с речью
1 Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 года. М., Соцэкгиз,
1962, стр. 424—425.
2 Цит. по кн.: Е. Т а р л е. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 582.
270
к князьям Рейнского союза не обращался. Да и не мог говорить
такой вздор (в Дрездене!) и не мог писать какой-то нелепый на-
бор фраз прусскому королю... Ведь эти две странные, курьезно
безграмотные «прокламации» никогда ничего общего с Наполео-
ном не имели, а сочинены (как Верещагин в конце концов и при-
знал) самим Верещагиным. Мы знаем, что он не только сообщил
эти свои произведения товарищу своему Мешкову, но, по-види-
мому, размножил их и разослал».
«Таким образом, — резюмирует Тарле, — должно признать,
что это было либо поступком умственно ненормального челове-
ка, либо преступным по замыслу, хотя и вполне бессмысленным
по выполнению действием» L
Сцена казни Верещагина принадлежит к одной из наиболее
потрясающих страниц «Войны и мира» как по психологической
глубине изображения разъяренной толпы и самого Растопчина,
так и по необыкновенной художественной выразительности всей
нарисованной картины. Очевидно, этому содействовал живой рас-
сказ очевидца событий, глубоко взволновавший писателя. Учи-
тель Яснополянской школы Н. П. Петерсон вспоминал: «Однаж-
ды он (Толстой. — Б. К.) попросил меня разыскать все, что пи-
салось о Верещагине... Я собрал множество рассказов об этом
событии, газетных и других... Лев Николаевич что-то долго не
приходил, а когда пришел и я указал ему на литературу о Вере-
щагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в су-
масшедшем доме встретил какого-то старика — очевидца этого
события, и тот ему рассказал, как это произошло»* 2.
К ГЛАВЕ XXIV
Канапе (фр.)—диван.
Консистория (церк.)—учреждение при церковно-административном ок-
руге (епархии) с административными и судебными функциями.
Сенат (лат.) — высшее судебно-административное учреждение в царской
России.
Викарный (лат.) — викарий, т. е. епископ, не имеющий самостоятельной
епархии, подчиненный по должности епархиальному архиерею.
Мешков Петр Алексеевич (род. в 1780 г.) — губернский секретарь; в
1812 г.— частный поверенный разных лиц. Был замешан в деле Верещагина:
списал у него заграничные военные сообщения о Наполеоне, после чего они
стали известны в публике. Суд приговорил Мешкова к лишению чинов, дво-
рянства и к сдаче в солдаты.
К ГЛАВЕ XXV
Посконная ткань — грубая ткань из конопляной пряжи, изготовленная
кустарным способом.
’ Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 572—573.
2 «Международный альманах о Толстом», изд. 2. М., 1909, стр. 261—262.
271
ГЛАВА XXVI
«Французы приписывали пожар Москвы au patriotisms fero-
се de Rastopchine (дикому патриотизму Растопчина); русские —
изуверству французов». (Гл. XXVI; 11, 354.)
Пожар Москвы, как необычайное по своей значимости собы-
тие, нашел отражение на страницах почти всех произведений,
посвященных 1812 году. Писали о пожаре Москвы и русские, и
иностранцы. Толстой, несомненно, воспользовался многими ис-
точниками для решения вопроса об истинных причинах пожара
Москвы.
Рассматривая пожар Москвы как одно из звеньев величест-
венной борьбы русского народа с варварским нашествием На-
полеона, писатель не считает возможным искать причину возни*
кновения такого колоссального явления в действиях одного или
нескольких лиц.
Москва сгорела потому, рассуждает Толстой, что при таком
поведении русских людей, как оно проявилось с первых дней
Отечественной войны с французами, она не могла не сгореть.
Пожар Москвы означал, что Наполеон столкнулся со стой-
кими и мужественными защитниками своей родины.
Толстой пишет: «Москва сожжена жителями, это правда; но
не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые
выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела,
Пожар Москвы. С нем. гравюры нач. XIX в.
как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что
жители ее не подносили хлеба-соли и ключей французам, а вы-
ехали из нее». (Гл. XXVI; И, 355.)
Таким образом, Толстой вопрос о пожаре Москвы рассматри-
вает не в примитивном плане физического уничтожения города
(от какой первой спички сгорел город — русской или француз-
ской), а в аспекте решения своей общей творческой задачи —
задачи изображения великого патриотического подвига русского
народа.
Однако к указанному выводу Толстой пришел не сразу. Чер-
новые варианты свидетельствуют, что вопрос о пожаре Москвы
волновал писателя на протяжении всей его работы над романом-
эпопеей и на разных этапах он решался по-разному. Сначала
Толстой считал сожжение города патриотическим подвигом рус-
ских, о чем он писал прямо и открыто. Приведем соответствую-
щие места из черновой рукописи.
«— А, Безухий, — сказал человек, которого Пьер тотчас же
узнал за Долохова. Долохов взял его за руку, как будто они
всегда были друзья. — Вот что, ты остался, и хорошо. Я за-
палил уже Каретный ряд, мои молодцы зажгут везде...»
U4, 396);
«Ты видел? — сказал Долохов. — Уж в Кремле. Да не надол-
го. Я завтра запалю все. У меня молодцы готовы. Сам свой дом
запалю...
— Да кто же распорядился жечь? — спросил он (Пьер.—
Б. К.).
— Огонь, — отвечал Долохов. — А свой дом зажжешь?
— Я не знаю, — отвечал Пьер. — Разумеется, я не желал бы
видеть в нем французов...
Долохов.— Ну, я тебе удружу. Завтра сделаю визит с крас-
ным петухом...» (14, 397).
Но, видимо, изучение источников и рассказы очевидцев убе-
дили Толстого в несостоятельности этой точки зрения, так как
в целом ряде вариантов он говорит о невиновности русских, пав-
ших жертвой жестокого и коварного врага. Так, например, Тол-
стой писал:
«..Он (Пьер.— Б. К.), сам не зная о том, получил это успо-
коение и это согласие с самим собою только через страдания фи-
зические и нравственные, через ужасные полчаса, которые он
провел с мнимыми (курсив наш. — Б. К.) поджигателями на
Девичьем поле»
Наполеон «приказал раздавать привезенные фальшивые руб-
ли солдатам и погоревшим русским, приказал расстрелять не-
сколько невинных людей...»1 2 (курсив наш. — Б. К.).
1 Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого, рукопись №91.
2 Та м же, рукопись № 109.
273
*
Наполеон в Кремле во время пожара Москвы.
С гравюры Дема и Мюллера по рисунку А. Мейера
Мысль о сожжении Москвы французами не была чужда и
Пушкину, который в неоконченном романе о 1812 годе — «Ро-
славлев» — вложил в уста своей героини Полины гневную фра-
зу: «Благородные, просвещенные французы ознаменовали свое
торжество достойным образом. Они зажгли Москву. Москва го-
рит уже два дни» Ч
О разорении Москвы и ее поджоге французами говорит в сво-
их воспоминаниях о 1812 годе Н. Е. Митаревский: «По занятии
Москвы французы ошалели... Офицеры и даже генералы начали
брать, что попадется под руку. Солдаты принялись за хлебное,
а потом пустились в грабеж... грабили и истребляли... Когда ста-
ло вечереть, то на небе начал обозначаться дым, а когда стем-
нело, то в стороне от Москвы огромное пространство горизонта
покрылось заревом. Зарево переливалось с густым дымом, обоз-
началось даже пламя. Так продолжалось до самого рассвета.
Начали говорить, что это не случайный пожар, но что Москву
жгут французы нарочно»1 2.
Вопрос о пожаре Москвы в 1812 г. нашел отражение и в тру-
дах советских историков. М. Нечкина и П. Жилин пишут:
«...Вторжение Наполеона было причиной пожара Москвы. Бес-
чинства мародеров в оставленном жителями городе, небрежное
обращение с огнем, грабежи, разрешенные командованием,—
вот причина пожаров, вспыхнувших сразу во многих районах го-
рода. Правда, имели место и случаи уничтожения продовольст-
вия и снаряжения русскими, с тем чтобы они не достались за-
хватчику. Кутузов велел при отступлении уничтожить те боепри-
пасы и сжечь фураж, которые оказалось невозможно вывезти»3.
Из приведенного высказывания крупных советских исследо-
вателей видно, что сожжение Москвы было делом рук и фран-
цузов, и русских, следствием нежелания москвичей оставаться
под властью французов и следствием разложения «великой» на-
полеоновской армии. Именно так и показал пожар Москвы ге-
ниальный художник в своем романе-эпопее.
К ГЛАВЕ XXVI
Благовест (иерк.) — удары в один колокол (средний) перед богослу-
жением.
Кутафьи ворота (Кутафья башня) — небольшая круглая башня с воро-
тами перед мостом через Неглинку, ведущим к Троицким воротам Кремля.
К ней выходила улица Воздвиженка (ныне улица Калинина).
1 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 тт., т. VI. М., Изд-во АН СССР,
1957, стр. 212—213.
2 Н. Е. Митаревский. Воспоминания о войне 1812 года. М., 1871,
стр. 90.
3 М. Нечкина и П. Жилин. Бессмертная эпопея. «Коммунист», 1962,
№ 12, стр. 41.
275
ГЛАВЫ XXVII-XXIX
Наполеон и его армия показаны в «Войне и мире» как нечто
единое, они символизируют жестокость агрессора, пришедшего
огнем и мечом поработить чужую страну. Армия Наполеона
не знала поражений. Не встречая на своем пути достаточно силь-
ного и мужественного противника, она привыкла к легким по-
бедам и стала считать себя великой, непобедимой армией. Само-
сознание представителей вражеской армии, ее спесь и высокоме-
рие лучше всего передаются в образе французского офицера
Рамбаля. По понятиям этого офицера, только то величественно
и свято, что французское.
Толстой сталкивает его с умным, образованным и до мозга
костей русским, истинным патриотом Пьером. Между ними про-
изошел следующий любопытный разговор:
« — Кстати, скажите, пожалуйста, правда ли, что все женщи-
ны уехали из А1осквы? Странная мысль, чего они боялись?
— А разве французские дамы не покинули Париж, ес-
ли бы русские вступили? — совершенно резонно задал контр-
вопрос Пьер.
В ответ Рамбаль только расхохотался.
— Ну, отмочил: Париж?.. Но то Париж... Париж...
...Человек, который не знает Парижа — дикарь. Парижани-
на узнаешь за две мили. Париж — это Тальма, Дюшенуа, Потье,
Сорбонна, бульвары... Во всем мире существует только один
Париж...
Но воротимся к вашим дамам; говорят, что они очень краси-
вы. Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда
французская армия в Москве! Они пропустили чудесный случай.
Ваши мужики, я понимаю, но вы — люди образованные — долж-
ны бы были знать нас лучше этого. Мы брали Вену, Берлин,
Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира. Нас бо-
ятся, но нас любят. Не вредно знать нас поближе. И потом
император... Это великодушие, милосердие, справедливость,
порядок, гений — вот что такое Император». (Гл. XXIX; 11,
366—368.)
Так выглядят французская армия и Наполеон в хвастливой
браваде Рамбаля.
Сделав эту обширную выписку из романа, мы должны отме-
тить интересный композиционный прием Толстого. Того са-
мого Рамбаля, который так заносчиво и самодовольно говорил
о величии французской нации и императора и сожалел, что рус-
ские дамы покинули Москву, не воспользовавшись благоприят-
ным случаем, чтобы «поближе» узнать французов, Толстой за-
ставил «поближе» познакомиться с русскими, но только не с да-
мами, а с простыми солдатами. Но об этом ниже.
276
К ГЛ A BE XXVIL
Кабалистический (др.-евр.)—загадочный, таинственный.
Немецкий студент, покушавшийся на жизнь Наполеона — имеется в виду
Фридрих Штапс (1792—1809), 12 октября 1809 г., в Вене, покушавшийся
на жизнь Наполеона. По приговору военной комиссии был расстрелян.
Абордаж (фр.) — атака неприятельского судна в морском сражении по-
средством подхода к нему вплотную, сцепления с ним. Это выражение вошло
в речь как призыв к оружию, к схватке, к борьбе.
К ГЛАВЕ XXIX
Тальма Франсуа Жозеф (1763—1826) — французский актер.
Дюшенуа Екатерина Жозефина Рафен (ок. 1780—1835) — французская
трагическая актриса.
Потьё Роберт Жозеф (1699—1772) — французский юрист, судья и про-
фессор в Орлеане.
Сорбонна — название высшей богословской школы в Париже, основан-
ной в 1253 г.; впоследствии богословский факультет Парижского универ-
ситета.
ГЛАВЫ XXX—XXXII
Эпизод неожиданной встречи Наташи с раненым Болконским
в сюжетном построении менее чуткого к жизненной и художест-
венной правде писателя мог прозвучать мелодраматически и вы-
глядеть композиционной натяжкой. Встреча эта носит, несомнен-
но, случайный характер, ее могло бы и не быть. Во всяком слу-
чае, предшествующие сюжетные перипетии вовсе не ведут к не-
избежности этой встречи. И если у Толстого она прозвучала ор-
ганично, как сцена, наполненная глубокой художественной прав-
дой, то только потому, что писатель не свел ее к банальному сю-
жетному положению, в которых обычно дается счастливое завер-
шение романической истории. Толстой пишет: «Хотя, вследствие
теперь установившегося сближения между раненым князем Анд-
реем и Наташей, приходило в голову, что в случае выздоровле-
ния прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены,
никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом:
нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти, не только над
Болконским, но над всею Россией заслонял все другие предпо-
ложения». (Гл. XXXII; 11, 386.)
В воспоминаниях Кузминской есть любопытное место, пока-
зывающее интерес писателя к глубинам психических процессов.
Кузминская, отвечая на расспросы Толстого, поведала ему о сво-
ем бредовом состоянии во время болезни. «Этот бред, — пишет
Кузминская, — Лев Николаевич вложил в уста князя Андрея в
романе «Война и мир» Г
1 Т. А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, I960,
стр. 271.
277
Это — весьма ценное свидетельство об отношении писателя,
прославленного психолога, к своему творчеству. Обладая ге-
ниальным даром проникновения в тончайшие процессы челове-
ческой психики, «великий сердцевед» (выражение П. И. Чайков-
ского) ищет материал для художественных образов романа в
реальной действительности.
Интересно замечание А. П. Чехова о ране князя Андрея:
«Если б я был около князя Андрея, то я бы его вылечил. Стран-
но читать, что рана князя, богатого человека, проводившего дни
и ночи с доктором, пользовавшегося уходом Наташи и Сони, из-
давала трупный запах. Какая паршивая была тогда медицина!»1
К ГЛАВЕ XXX
Мытищи Большие — село в 18 км к северу от Москвы.
Мытищи Малые — село в 12 км от Москвы.
К ГЛАВЕ XXXI
Трдице-Сёргиева лавра — монастырь, основанный Сергием Радонежским
в первой половине XIV в. Находится в 72 км от Москвы.
К ГЛАВЕ XXXIJ
Сомнамбул, сомнамбула (лат.) — лицо, страдающее сомнамбулизмом —
нервной болезнью, которая выражается в хождении во сне, бессознательных
действиях.
ГЛАВЫ XXXIII—XXXIV
К ГЛАВЕ XXXIII
Грузинские — русский княжеский род.
Вицмундир — форменный фрак гражданских чиновников.
К ГЛАВЕ XXXIV
Дюронёль Антуан Жан Огюст (1771 —1849) — французский генерал, наз-
наченный при занятии французами Москвы комендантом города.
Зубовский вал — улица в Москве.
1 А. П. Чехов. Поли. собр. соч., т. XV. М., Гослитиздат, 1949, стр. 260.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВЫ I—III
«Император отсылает австрийские знамена, дру-
жеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне на-
стоящей дороги...» (Гл. I; 12, 6.)
Речь идет о сражении под Клястицами (селение Витебской
губернии), которое на короткое время прославило генерал-
фельдмаршала русской армии П. X. Витгенштейна. Суть фразы
Билибина заключена в намеке на недавнее союзничество с
Россией австрийцев, которые теперь стали сражаться против
русских.
«Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из
Татариновой». (Гл. II; 12, 7.)
Здесь Толстой допускает ряд хронологических неточностей.
Донесение Кутузова из Татариновой датируется 24 августа, и
поэтому оно не могло содержать сообщения о смерти Багратио-
на, Кутайсова и Тучкова, павших в Бородинском сражении 26 ав-
густа. Сообщение о Бородинской битве никак не могло быть до-
ставлено в Петербург 27 августа. И все эти события не совпада-
ют с днем рождения царя (родился 12 декабря).
Несовпадения, очевидно, объясняются обмолвками Толстого.
Вероятно, следовало бы вечер у Анны Павловны Шерер дати-
ровать не 26 августа, а 29-м, так как в главе говорится: «Пред-
чувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На дру-
гой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рожде-
ния государя, князь Волконский... получил конверт от князя Ку-
тузова». (Гл. II; 12, 7.) Донесение действительно было получе-
но 30 августа, во время молебствия по случаю именин царя (но
не дня рождения).
279
Александр Иванович Кутайсов.
С портрета работы Дж. Доу
Академик Е. Тарле поста-
вил под сомнение словесный
каламбур Мишо во время
встречи с царем, нашедший
место как в его личных за-
писках, так и в трудах верно-
подданных историков (напри-
мер, Михайловского-Данилев-
ского и Богдановича). Тарле
пишет: «И здесь Мишо в ка-
честве истинного француза
старого режима, придворного
каламбуриста и остряка пи-
шет о том затейливом обороте
фразы, который он будто бы
пустил в ход в ответ на вопрос
Александра о духе русской
армии. На самом деле все это,
конечно, выдумано через семь
лет, на досуге. Посмел ли бы
маленький человек, эмигрант-
полковник, прикармливаемый
в России, да еще в такой трагический момент, когда царь перед
ним плачет, вдруг начинать ни с того, ни с сего какие-то словес-
ные выверты и прибегать к юмористическим загадкам!»1
Толстой использовал этот каламбур, чтобы еще резче под-
черкнуть лицемерие, любовь к позе, стремление показать себя
в наиболее выгодном свете, присущее придворным кругам и са-
мому Александру. Основа этого эпизода взята Толстым из кни-
ги М. Богдановича «История Отечественной войны 1812 года»,
т. II (СПб., 1859, стр. 597—599).
К Г Л А В Е 1
Мария Федоровна (императрица-мать), урожденная принцесса Виртем-
бергская (1759—1828) — русская императрица, жена Павла I, мать Алек-
сандра I.
Елизавета Алексеевна (1779—1826) — русская императрица, жена Алек-
сандра I.
Сергий Радонежский (1314—1392) — основатель Троице-Сергиевой лав-
ры; причислен православной церковью к святым.
Преосвящённый — титул архиерея или епископа.
Осанна (др.-евр. спаси) —молитвенный возглас.
К ГЛАВЕН
Кутайсов Александр Иванович (1784 — 1812) — граф, русский генерал,
участник войны 1806—1807 гг., в 1812 г. был начальником артиллерии 1-й
армии. Убит в Бородинском сражении.
1 Е. Т а р л е. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 590.
280
Монтрезбр — адъютант Кутузова, посланный им к Растопчину с письмом,
содержавшим требование выделить полицейских офицеров для препровожде-
ния армии на Рязанскую дорогу.
ГЛАВЫ IV—VIII
К ГЛАВЕ IV
Статский генерал — т. е. штатский, гражданский генерал, — чиновник
гражданского ведомства не ниже V класса.
Коралл — камень, представляющий собой известковое отложение мор-
ских животных, живущих неподвижными колониями на скалах и по виду
похожих на растения; имеет ярко-красный цвет.
К ГЛАВЕ VII
Клирос (греч.) — место для певчих в церкви на возвышении перед иконо-
стасом, с правой и левой стороны от так называемых царских ворот.
К ГЛАВЕ VIII
Настоятель — начальник мужского монастыря; старший священник церк-
ви у православных.
ГЛАВЫ IX-XIII
Для написания глав о пленении Пьера и его мытарствах, ко-
торые едва не стоили ему жизни, Толстой заимствовал матери-
ал из «Записок» В. А. Перовского. Автор «Записок» рассказы-
вает, что, будучи тогда молодым офицером, он не смог вовремя
выбраться из Москвы и был задержан у Лефортовской заставы
в тот момент, когда уже истек срок перемирия. Перовский попал
к генералу Себастиани, и тот обещал отпустить его после того,
как он будет представлен Мюрату. К Мюрату Перовский попал
только на третий день своего пленения и опять не был освобож-
ден— его направили к генералу Бертье в Кремль. У Бертье Пе-
ровский пробыл еще ночь, так как у французского генерала воз-
никла мысль представить пленника Наполеону. Перовского за-
перли в церкви Спаса-на-Бору. В это время в Москве уже бу-
шевал пожар и французам было не до Перовского. Пленник
просидел взаперти голодный двое суток и был случайно обнару-1
жен французскими саперами. Его доставили на Девичье поле к
маршалу Даву, на допрос. Даву не поверил рассказу Перовского
и признал в нем плененного под Смоленском русского офицера,
бежавшего затем из-под стражи. Перовский был уже пригово-
рен к расстрелу, но его спас от смерти адъютант Даву, не под-
твердивший сходства убежавшего офицера с допрашиваемым.
Вместе с другими пленными Перовского эвакуировали в Смо-
ленск. По дороге ему пришлось перенести страшные невзгоды и
281
страдания. Освободился он лишь в 1814 г., убежав под Орлеаном
к казакам.
В «Летописи...» Н. Н. Гусева под датой «1857 г. Октября
29» есть запись: «У А. А. Толстой Т. слушает историю плена гра-
фа В. А. Перовского в войну 1812 г.»1
В XII и XIII главах дается основная характеристика Плато-
на Каратаева, образ которого вызвал обилие литературных суж-
дений. Многие из них носят парадоксальный характер и очень
плохо согласуются с текстом романа-эпопеи. Об этом достаточ-
но обстоятельно пишет Ник. Ардене (Н. Н. Апостолов) в
статье «К вопросам философии истории в «Войне и мире»
Л. Толстого»1 2.
Мнение многих исследователей о том, что образ Платона Ка-
ратаева не соответствует реальной действительности, что он по-
строен по ложной схеме, никак не может быть признано пра-
вильным. А ведь эта ошибочная точка зрения проникла и в ста-
бильный школьный учебник, где говорится: «В образе Каратае-
ва Толстой пытался воплотить черты идеализируемого им пат-
риархального крестьянства»3 (курсив наш. — Б. К.).
Эпитетом «идеализированный» ставится под сомнение реали-
стичность образа Каратаева, его жизненная правдивость. А меж-
ду тем, если вникнуть в суть вопроса, если подойти дифферен-
цированно к русскому крестьянству изображаемой поры, то
Платоны Каратаевы окажутся олицетворением его большинст-
ва. Так подходит к характеристике русского крестьянства
В. И. Ленин в своей статье «Лев Толстой, как зеркало русской
революции». Он пишет: «В нашей революции меньшая часть
крестьянства действительно боролась, хоть сколько-нибудь ор-
ганизуясь для этой цели, и совсем небольшая часть поднималась
с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтоже-
ние царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть
крестьянства (курсив наш. — Б. К.) плакала и молилась, резо-
нерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходате-
лей»,— совсем в духе Льва Николаича Толстого!»4
Очевидно, типичным представителем этой «большей» части
крестьянства и является Платон Каратаев. В этом отношении
мы совершенно согласны с высказыванием Н. Арденса: «Платон
Каратаев «резонерствует». Толстой правильно отмечает в кара-
таевском «резонерстве» характерную бытовую черту русского
1 Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Тол-
стого. М., Гослитиздат, 1958, стр. 170.
2 См.: «Ученые записки Арзамасского пед. ин-та», вып. 1. Арзамас, 1957,
стр. 75—87.
3 А. А. Зерчанинов, Д. Я. Райхи н. Русская литература. Учебник
для средней школы. М., «Просвещение», 1965, стр. 283.
4 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 17, стр 211.
282
народа, подчеркнутую В. И. Лениным и многосторонне запечат-
ленную в истории русской культуры и литературы» 1.
Близок к этому суждению и Я. Билинкис, заявивший, что
«образ Каратаева построен как олицетворение «основы» харак-
тера «простого народа» и что «в Каратаеве как художественном
образе сказались не только слабость автора «Войны и мира», но
и его сила»1 2.
К ГЛАВЕ IX
Крымский Брод — улица в Москве.
К ГЛАВЕХ
«Иван Великий» — колокольня московских кремлевских соборов.
Щербатов Дмитрий Михайлович (1760—1839) — предводитель дворянст-
ва Серпуховского уезда Московской губернии. Жил в Москве в своем доме на
Девичьем поле (ныне — дом на углу Савинского переулка и Погодинской ули-
цы, известный как дом Погодина; М. П. Погодину он принадлежал позднее).
Щербатовы — русский княжеский род.
Экмюльский герцог — маршал Даву (см. стр. 190).
К ГЛАВЕ XII
Вотчина — поместье; происходит от слова отчина — земля, которая была
пожалована «отцам» за государеву службу и переходила по наследству к по-
томству; в старину говорили «отчина и дедина».
«Христьяне настоящие были». Народ в старину плохо различал слова
крестьяне и христиане и вкладывал иногда в эту путаницу особый смысл:
жизнь барская ему казалась басурманской.
Сам-пят ребят — означает: сам, жена и трое детей.
«Животов полон двор», т. е. домашнего скота.
Флора и Лавра — святые, которые особенно уважались народом как по-
кровители скота.
ГЛАВЫ XIV—XVI
«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть —
пробуждение...» (Гл. XVI; 12, 64.)
Здесь Толстым впервые выражена мысль, которая позже, в
преклонные годы, полностью овладела его сознанием. Толстой
считал, что жизнь можно сравнить с длительным сном, а смерть
есть лишь пробуждение от жизни.,
К ГЛАВЕ XIV
Антонов огонь — гангрена, омертвение тканей тела вследствие зараже-
ния крови.
1 Н. Н. А р д е н с. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., Изд-во АН СССР,
1962, стр. 232.
2 Я. Билинкис. О творчестве Л. Н. Толстого. Л., «Советский писа-
тель», 1959, стр. 239—240.
283
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВЫ I-III
Оставив Москву, русская армия вышла на старую
Рязанскую дорогу. Движение по Рязанской дороге было гени-
альным маневром Кутузова, так как дальнейшее развитие и осу-
ществление его стратегического плана по разгрому и изгнанию
из России наполеоновской армии требовало перехода на Калуж-
скую дорогу, чтобы предотвратить проникновение французской
армии в плодородные южные губернии и в города с военными за-
водами (Тула, Брянск). Для последовательного осуществления
этого плана Кутузов у Красной Пахры с основными силами своей
армии круто повернул на юг и остановился у местечка Тарутино,
что давало ему возможность контролировать действия против-
ника и обеспечить полную безопасность южных губерний. Свое-
му арьергарду Кутузов приказал продолжать отступление по
Рязанской дороге с целью ввести в заблуждение неприятеля,
что и было достигнуто с большим мастерством: Мюрат несколь-
ко дней бился в поисках внезапно исчезнувшей в неизвестном
направлении кутузовской армии.
Весь этот гениальный марш-маневр великого полководца,
повторяем, был одним из звеньев его общего стратегического
плана по разгрому французской армии.
Перечисленные нами военные эпизоды нашли отражение в
«Войне и мире» Толстого в тех же очертаниях и в той же после-
довательности, как они даются в любом историческом и специ-
альном военном сочинении о 1812 годе, но получили, как и все
крупные исторические события, своеобразное толкование в духе
фаталистической философии.
К ГЛАВЕ I
Красная Пахра — село Подольского уезда Московской губернии.
Ланской Василий Сергеевич (1754—1831)—сенатор; в 1812 г. заведовал
интендантским управлением, с 1813 г. — президент, а с 1815 г. — наместник
Царства Польского и член Государственного совета. В 1825—1828 гг. был
министром внутренних дел.
Тарутино — село Боровского уезда Калужской губернии, на реке Наре.
К ГЛАВЕ II
Куранты (фр.) — старинные башенные или стенные часы, бой которых
сопровождается музыкой; музыкальный механизм таких часов.
ГЛАВЫ IV-VII
Толстой в полном соответствии с данными о событиях, на-
шедших отражение на страницах исторических сочинений, кото-
рыми он пользовался при создании романа, изображает Тару-
284
тинский бой, первое сражение, знаменующее собой коренной пе-
релом в войне 1812 г.
Тарутинское сражение произошло 6(18) октября 1812 г. меж-
ду русской армией и авангардом французских войск под началь-
ством Мюрата около села Тарутина Боровского уезда Калужской
губернии. Русские перешли в наступление и нанесли противнику,
хотя и не особенно чувствительное, поражение.
Писатель последовательно раскрывает всю хитросплетенную
паутину интриг в штабе главнокомандующего, весьма незавид-
ную роль Ермолова, по вине которого сорвался первоначальный
план наступления на французов под Тарутином.
Эпизод с невыполнением распоряжения Кутузова перед Та-
рутинским сражением исторически достоверен. Генерал М. Бог-
данович, трудом которого пользовался Толстой, пишет об этом
так: «...Предположено было напасть на Мюрата с рассветом 5-го
октября. Вышло иначе. Офицер, посланный из главной квар-
тиры Коновницыным с диспозициею к генералу Ермолову,
не мог найти его во всем лагере, потому что Ермолов в тот
день уехал к дежурному генералу Кнкину, в селение, лежавшее
в трех верстах от левого фланга лагеря. Между тем Кутузов от-
правился из Леташевки на дрожках в лагерь, где надеялся
встретить войска в полной готовности к выступлению, но, к
крайнему удивлению своему, нашел людей, большею частью,
спящими, лошадей — неоседланными; ни одно орудие не было
запряжено; никто из генералов не находился на своем месте.
Фельдмаршал, разгневанный неисполнением отданного им при-
казания, осыпал упреками первого попавшегося ему на глаза
офицера квартирмейстерской части подполковника Эйхена. На-
чальники войск предлагали выступить из лагеря несколько поз-
же, но Кутузов, неохотно решавшийся на предположенное на-
ступление, отложил его на целые сутки, о чем дано было знать и
Дорохову» Г
Кроме труда Богдановича, Толстой воспользовался также
«Дневником партизанских действий» Дениса Давыдова. Из этой
же книги взяты некоторые подробности Тарутинского сражения.
Кутузов 5 (17) октября приказал Ермолову срочно рассле-
довать причину срыва выступления войск. «Ваше превосходи-
тельство известны были, — писал он, — о намерении нашем ата-
ковать сегодня на рассвете неприятеля. На сей конец я сам при-
ехал в Тарутино в 8-м часу ввечеру, но, к удивлению моему,
узнал от корпусных там собравшихся господ начальников, что
никто из них приказа даже и в 8 часов вечера не получал, кроме
тех войск, к коим сам г. генерал от кавалерии барон Беннигсен
прибыл... Сии причины, к прискорбию моему, понудили отложить
1 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. II.
СПб., 1859, стр. 475—476.
285
намерение наше атаковать сего числа неприятеля... Я не могу
оставить без розыскания причины сего, каковое упущение вам
исследовать предписывая, ожидать буду немедленно вашего о
сем донесения» Г Советский военный специалист полковник
Л. Г. Бескровный дает следующие комментарии к возникшему
инциденту: «До нас не дошла докладная записка Ермолова о
результатах расследования. Ни он, ни Беннигсен ничего не гово-
рят об этом инциденте в своих мемуарах. Очевидно, все же от-
ветственность за срыв своевременной доставки диспозиции в вой-
ска несут как тот, так и другой: Беннигсен, которому поручалось
командование войсками правого фланга в этом сражении, не
проверил получение приказа корпусными командирами, а Ермо-
лов, неприязненно относившийся к Беннигсену, не счел возмож-
ным вмешиваться в его прерогативы»1 2.
Любопытно заметить, что при всех своих теоретических за-
блуждениях, при совершенно неправильной оценке роли Кутузо-
ва в марше-маневре и в Тарутинском сражении, Толстой, говоря
о значении этого сражения, пришел буквально к тем же выводам,
что и советские историки. Он пишет: «При самом малом напря-
жении, при величайшей путанице и при самой ничтожной потере,
были приобретены самые большие результаты во всю кампа-
нию, был сделан переход от отступления к наступлению, была
обличена слабость французов и был дан тот толчок, которого
только и ожидало Наполеоновское войско для начатия бегства».
(Гл. VII; 12, 82.)
Выводы Е. Тарле о Тарутинском сражении:
«Сражение 18 октября... имело большие политические и мо-
ральные последствия. В моральном отношении оно подняло дух
русской армии: оно было первым чисто наступательным сраже-
нием за всю войну, притом успешным для русской стороны.
В политическом отношении оно явилось последним, решающим
толчком, заставившим Наполеона наконец выйти из Москвы»3.
Оценка Тарутинского сражения полковником, доктором исто-
рических наук П. А. Жилиным: «...Бой на р. Чернишня явился
важным событием, крупной тактической победой, значительно
укрепившей боевой дух русской армии. Здесь впервые за всю
войну были осуществлены успешные наступательные действия»4.
О блестящей победе, одержанной Кутузовым под Тарутином
над французской армией, говорит в своей монографии об Отече-
ственной войне 1812 г. и полковник Л. Г. Бескровный: «Пораже-
1 «М. И. Кутузов». Сборник документов, т. IV, ч. 2. М., Воениздат, 1955,
стр. 12.
2 Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 года. М., Соцэкгиз,
1962, стр. 495.
3 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 649.
4 П. А. Ж и л и н. Контрнаступление Кутузова в 1812 году. М., Воениздат,
1950, стр. 146.
286
ние Мюрата под Тарутином было логическим следствием круп-
ных тактических промахов Наполеона. Оно предрешалось хотя
бы уже тем, что эти войска, будучи примерно вчетверо слабее
русской армии, оказались брошенными на произвол судьбы.
О своем положении Мюрат доносил Наполеону еще до сражения
и получил в ответ указание последнего в случае атаки отойти
и «окопаться» у Вороновского дефиле. Получив сведения о пора-
жении Мюрата, Наполеон был раздражен. Он обвинял Мюрата
и Себастиани в невнимании к полевой службе, он обвинял и се-
бя в том, что не посетил позиций на Чернишне и не дал личных
указаний. Фельдмаршал Кутузов блестяще использовал тактиче-
ские просчеты Мюрата и Наполеона и добился победы» L
К ГЛАВЕ IV
Кйкин Петр Андреевич (1772—1834)—русский генерал, участник турец-
кой войны. В 1812 г. был дежурным генералом русской армии. Впоследст-
вии — статс-секретарь при Александре I.
Торбан—украинский струнный музыкальный инструмент вроде банду-
ры, но без ладов.
К ГЛАВЕ V
Леташёвка — деревня Боровского уезда Калужской губернии, в ней
после оставления Москвы находился Главный штаб русской армии.
Эйхен, вероятно, Федор Яковлевич (ум. в 1847 г.)—офицер русской ар-
мии. В 1812—1813 гг. в чине полковника участвовал в сражениях с францу-
зами. В 1826—1837 гг. — комендант Ораниенбаума.
К ГЛ ABE VI
Орлов-Денисов Василий Васильевич (1775—1843)—граф, русский гене-
рал. Участвовал в войнах 1806 и 1808 гг. В 1812 г. принимал участие во всех
главных сражениях. По его инициативе русские войска обошли под Тарути-
ном левый фланг французов.
Греков, очевидно, Тимофей Дмитриевич (род. в 1780 г.) — генерал-майор
Войска Донского. Участвовал в турецких войнах 1788—1793 гг. и в войнах
против французов 1806—1809 гг. и 1812—1815 гг.
Багговут Карл Федорович (1761—1812)—генерал русской армии.
В 1812 г. командовал пехотным корпусом в армии Барклая де Толли. Убит
в Тарутинском сражении.
ГЛАВЫ VIII—X
«...Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного
капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы...»
(Гл. IX; 12, 84—85.)
Оборванный капитан Яковлев, Иван Алексеевич (1767—
1846),—это отец А. И. Герцена, который, действительно, оказал-
1 Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 года. М., Соцэкгиз,
1962, стр. 502.
287
ся в крайне затруднительном положении в занятой неприятелем
Москве. Он был доставлен к Наполеону и выпущен из города
лишь с условием, что доставит письмо Александру I. Об этом
Герцен в «Былом и думах» пишет следующее:
«Мотье вспомнил, что, он знал моего отца в Париже, и доло-
жил Наполеону; Наполеон велел на другое утро представить его
себе. В синем поношенном полуфраке с бронзовыми пуговица-
ми, назначенном для охоты, без парика, в сапогах, несколько
дней не чищенных, в черном белье и с небритой бородой, мой
отец — поклонник приличий и строжайшего этикета — явился в
тронную залу Кремлевского дворца по зову императора францу-
зов.
Разговор их, который я столько раз слышал, довольно верно
передан в истории барона Фен и в истории Михайловского-Да-
нилевского.
После обыкновенных фраз, отрывистых слов и лаконических
отметок, которым лет тридцать пять приписывали глубокий
смысл, пока не догадались, что смысл их очень часто был пошл,
Наполеон разбранил Растопчина за пожар, говорил, что это ван-
дализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к ми-
ру, толковал, что его война в Англии, а не в России, хвастался
тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенско-
му собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно
окружен, что мирные расположения его не известны императору.
Отец мой заметил, что предложить мир скорее дело победи-
теля.
— Я сделал что мог, я посылал к Кутузову, он не вступает
ни в какие переговоры и не доводит до сведения государя моих
предложений. Хотят войны, не моя вина — будет им война.
После всей этой комедии отец мой попросил у него пропуск
для выезда из Москвы.
— Я пропусков не велел никому давать. Зачем вы едете? Че-
го вы боитесь? Я велел открыть рынки.
Император французов в это время, кажется, забыл, что, сверх
открытых рынков, не мешает иметь покрытый дом и что жизнь
на Тверской площади средь неприятельских солдат не из самых
приятных.
Отец мой заметил это ему; Наполеон подумал и вдруг спро-
сил:
— Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня?
На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими.
— Я принял бы предложение в. в.,— заметил ему мой отец,—
но мне трудно ручаться.
— Даете ли вы честное слово, что употребите все средства I
лично доставить письмо?
— Je m’engage sur mon honneur, Sire (Ручаюсь честью, го- ;
сударь).
288
— Этого довольно, я пришлю за вами. Имеете вы в чем-ни-
будь нужду?
— В крыше для моего семейства, пока я здесь, больше ни
в чем.
— Герцог Тревизский сделает что может.
Мортье действительно дал комнату в генерал-губернаторском
доме и велел нас снабдить съестными припасами; его метрдо-
тель прислал даже вина. Так прошло несколько дней, после ко-
торых, в четыре часа утра, Мортье прислал за моим отцом
адъютанта и отправил его в Кремль»1.
Возможно, Л. II. Толстой знал, что Иван Алексеевич
Яковлев — отец Герцена, так как первая часть книги «Былое и
думы» была опубликована в «Полярной звезде» в 1856 г., задол-
го до начала работы над «Войной и миром».
Эпизод с Яковлевым нашел отражение и в книге М. Богда-
новича «История Отечественной войны 1812 года», т. II (СПб.,
1859, стр. 320—325).
В этих же главах Толстой повествует о бесчинствах француз-
ской армии в Москве и о тщетных попытках Наполеона устано-
вить в ней какой-либо порядок. Так называемая великая армия
Наполеона, по характеристике автора «Войны и мира», превра-
тилась в огромную шайку мародеров и грабителей. Чины армии
доносили:
«Священник, которого я нашел и пригласил начать служить
обедню, вычистил и запер церковь. В ту же ночь пришли опять
ломать двери и замки, рвать книги и производить другие беспо-
рядки» (гл. X; 12, 89);
«Часть моего округа продолжает подвергаться грабежу сол-
дат 3-го корпуса, которые не довольствуются тем, что отнимают
скудное достояние несчастных жителей, попрятавшихся в подва-
лы, но еще и с жестокостью бьют их саблями, как я сам много
раз видел» (гл. X; 12, 90).
Участник наполеоновского похода генерал Сегюр писал в
своих записках: «Нам совестно было смотреть на себя. Нас
устрашал крик ужаса, который раздастся по всей Европе. С опу-
щенными глазами мы подходили друг к другу, пораженные этим
страшным событием; оно помрачило нашу славу, оно вырывало
из наших рук плоды победы, оно угрожало нашему существова-
нию в настоящем и будущем. Мы — войско разбойников, над ко-
торым должно совершиться правосудие неба и образованного
мира»1 2.
1 А. И Герцен. Собр. соч. в 30 тт., т. 8. М., Изд-во АН СССР, 1956,
стр. 18—19.
2 Цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к
биографии с 1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957, стр. 783.
Ю Б. И. Кандиеа
289
Но и сам император недалеко ушел от своих солдат — воров
и грабителей. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный
tresor (сокровище).
В четырех номерах газеты «Комсомольская правда» напеча-
тана серия статей под общим названием «Секрет императора
Наполеона» L В них приводится ряд документальных данных о
грабежах французской армии, а также говорится о попытке На-
полеона вывезти из России огромные ценности.
Участник русского похода наполеоновской армии Маренгоне
писал в своих мемуарах: «Наполеон велел забрать брильянты,
жемчуг, золото и серебро, которое было в церквах. Он велел да-
же снять позолоченный крест с купола Ивана Великого»1 2.
По словам автора статьи, Наполеон нагрузил награбленны-
ми ценностями двадцать пять телег.
Любопытно свидетельство о грабежах французов генерал-
обер-провиантмейстера войск Наполеона Пюибюска. В книге
«Письма о войне в России 1812 года» он пишет: «Несмотря на
сожжение Москвы, в некоторых частях города найдены еще дра-
гоценности; жаль, что нет возможности установить порядок.
Вследствие сего, вместо ровных частей при разделах найденно-
го, начальство наше дозволило грабить»3.
«Армия,— писал русский историк Беляев,— при своем выступ-
лении из Москвы представляла странное зрелище: громадное ко-
личество всевозможных повозок, наполненных запасами продо-
вольствия и награбленным имуществом, толпы людей, дым по-
жаров, который окутывал путь ее следствия, все это скорее на-
поминало прежние нашествия полчищ варваров, чем движение
организованных европейских войск»4.
24 октября казачий атаман Платов доносил Кутузову: «От-
бил часть обоза с церковным серебром и другими вещами...»5
Неизвестный русский разведчик 25 октября доносил графу
Орлову-Денисову: «...На сих днях ждут транспорта в 200 пово-
зок; говорят бежавшие оттуда подводчики наши, что сии повоз-
ки все с золотом и серебром, поход их так скор, что и днем и
ночью с фонарями едут и идут к Смоленску, в Вязьме все те же
слухи» 6.
Но так как русская армия наседала, Наполеону не удалось
вывезти из России награбленное добро. Есть ряд свидетельств,
что 2 ноября 1812 г. поспешно отступавший из России француз-
ский завоеватель решил все драгоценности утопить в Семлевском
1 См.: «Комсомольская правда», 23, 25, 26 и 27 октября 1960 г.
2 Цит. по статье Я. Голованова «Секрет императора Наполеона». «Ком-
сомольская правда», 25 октября 1960 г.
3 Т а м же.
4 Т а м же.
5 Т а м же.
6 Т а м же.
290
озере (в 29 км к юго-западу от города Вязьмы). Французы бро-
сили там и большую часть старинных воинских доспехов из Мос-
ковского арсенала. Об этом пишут английский романист Валь-
тер Скотт в книге «Жизнь Наполеона Бонапарта, императора
французов» и русский историк Михайловский-Данилевский.
Граф Сегюр писал в своих мемуарах: «От Гжатска до Михай-
ловской деревни, расположенной между Дорогобужем и Смолен-
ском, в императорской колонне не случилось ничего замечатель-
ного, если не считать того, что нам пришлось бросить в Семлев-
ском озере вывезенную из Москвы добычу: пушки, старинное
оружие, украшения Кремля и крест Ивана Великого. Трофеи,
слава — все те блага, ради которых мы пожертвовали всем,—
стали нас тяготить»
К ГЛ ABE IX
Себастиани Орас (1775—1851)—граф, французский маршал, участник
многих войн, в том числе 1812—1814 гг.
Тутолмйн Иван Васильевич (1751—1815)—генерал-майор; в 1812 г/был
директором Московского воспитательного дома. Во время занятия францу-
зами Москвы оставался в своей должности, предотвратив от разорения вос-
питательный дом. Был послан Наполеоном к Александру I с предложением
о перемирии.
Муниципалитет (нем.) — городское самоуправление в буржуазных стра-
нах.
Лабаз — помещение для торговли зерном, мукой.
К ГЛАВЕ X
Фен (Фэн) Агатон Жан Франсуа (1776—1837) — барон, личный секретарь
Наполеона; написал историю похода 1812 г.
Обер-церемониймейстер (нем.) — главный из высших придворных чинов,
следящий за выполнением церемониала и руководящий дворцовыми церемо-
ниями.
ГЛАВЫ XI—XIV
К ГЛ ABE XI
Швальня — полковая или ротная портновская мастерская.
Снасть — инструмент, необходимый для дела.
К ГЛАВЕ XIII
Цыбик,— ящик для чая, обшитый сыромятной кожей (из такой кожи
Каратаев сшил Пьеру башмаки).
Чешуя — здесь: медная чешуя киверной застежки под подбородком (под-
бородник).
Чубук — полый деревянный стержень, на который насаживается кури-
тельная трубка и через который курящий втягивает дым табака.
1 См.: Я. Голованов. Секрет императора Наполеона. «Комсомольская
правда», 25 октября 1960 г.
10’
291
К ГЛАВЕ XIV
Богарне Евгений, вице-король итальянский, герцог Монтенбергский (1781 —
1824) — принц французской империи, пасынок Наполеона, в 1806 г. им усы-
новленный; участник многих войн; в 1812 г. был начальником 4-го корпуса
французских войск.
Палубы—повозки с лубяной крышей для защиты от дождя и солнца,
вроде кибитки.
ГЛАВЫ XV—XIX
Дальше предметом последовательного повествования Толсто-
го становится отступление армии Наполеона и ее почти полная
гибель.
Наполеон делает еще одну попытку заключить мир: в первых
числах октября в ставке Кутузова появляется новый парламен-
тер с письмом от французского императора. Но ответ Кутузова
этому посланцу был таким же резко отрицательным, как и Ло-
ристону. Попытка прославленного завоевателя сделать хорошую
мину при плохой игре явно не удалась, и оставалось только одно:
продолжить уже начатый им путь позорного бегства из пределов
русской земли.
Вопрос о том, какова нанесенная французской армии рана,
мучил Кутузова целый месяц, замечает Толстой. Кутузов строил
самые разнообразные предположения о возможных планах
Наполеона, он знал, что французская армия еще представля-
ет боевую силу, и больше всего беспокоился о том, чтобы Бона-
парт не стал на путь выжидательных приемов борьбы, не про-
тивопоставил бы ему, Кутузову, его же тактику, т. е. не остался
бы в Москве на очень длительный срок.
В момент этих раздумий, пишет Толстой, дежурный генерал
Коновницын, Толь и посланный генералом Дохтуровым офицер
Болховитинов прибыли на квартиру главнокомандующего с до-
несением, свидетельствующим, что французская армия покинула
Москву и отступает. Кутузов был потрясен долгожданным из-
вестием, подтверждающим его мудрые предположения. Толстой
изобразил эту сцену с большой экспрессией.
«Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказа-
ния. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его.
Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщи-
лось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторо-
ну, к красному углу избы, черневшему от образов.
— Господи, Создатель мой! Внял Ты молитве нашей... — дро-
жащим голосом сказал он, сложив руки.— Спасена Россия. Бла-
годарю тебя, Господи! — И он заплакал». (Гл. XVII; 12, ИЗ.)
Оставление Наполеоном Москвы — это кульминационный
пункт в борьбе русского народа с нашествием французов, борь-
292
бе, полной тягчайших лишений и страданий. Вот почему так ес-
тественно звучат в устах седого главнокомандующего слова
благодарности за спасение России; вот почему полученное
им известие вызвало у него слезы радости. Эта сцена угадана
Толстым чутьем истинно русского, народного художника-реа-
листа.
Слова, вложенные в уста Кутузова, и выводы писателя о
дальнейшей деятельности великого народного полководца нашли
полное подтверждение в исследованиях советских ученых. Вот
что пишет о Кутузове акад. II. М. Дружинин: «Чтобы возглавить
развертывающуюся народную войну и придать ей организован-
ность и силу, нужен был главнокомандующий, который осознает
значение всенародного отпора и обладает авторитетом в гла-
зах всего народа. Таким военным вождем мог быть только
М. И. Кутузов, являвшийся когда-то «правой рукой» Суворова,
человек, соединявший в себе боевой опыт и личную отвагу с та-
лантом полководца и искусством дипломата» *.
«...Последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказав-
шего то, что все думали, что надо только уйти как можно ско-
рее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать
ничего против этой, всеми сознаваемой истины». (Гл. XVIII;
12, 114.)
Слово «солдат» употреблено Толстым в переносном значении.
Мутон занимал высокое положение в генералитете Наполеона.
М. Богданович рассказывает об этом эпизоде следующее:
«13 октября, в пять часов утра, прибыл из Малоярославца к
Наполеону состоявший при нем officier d’ordonnance (адъютант)
Гурго с донесением, что русские оставались на занятой ими вве-
черу позиции и что в ночи было слышно, вправо от большой
дороги, движение кавалерии, которая, по всей вероятности, дви-
галась к Медыни. Наполеон, получив спи сведения, приказал
отозвать к себе сперва Мюрата, потом Бессьера и, наконец.
Мутона (графа Лобау). «Кажется,— сказал он им,— что непри-
ятель удерживается на занятом им месте и что нам придется
дать сражение. Выгодно ли это будет для нас или не лучше ли
уклониться от боя?» Бессьер и Мюрат, полагая ошибочно, что
наша армия состояла из необученных ополчений, не сомневались
одержать победу, но заметили, что и после выигранного сраже-
ния войска их будут расстроены; что кавалерийские и артилле-
рийские лошади были изнурены от недостатка в фураже и что
нельзя вознаградить потерю их; наконец — что все раненые по-
гибнут; в таком положении дел успех наступления к Калуге был
весьма сомнителен, и, по их мнению, следовало отступить к Смо-
1 Н. М. Дружинин. Историческое значение Отечественной войны
1812 года. «Вопросы истории», 1962, № 12, стр. 54—55.
Ю2 В. И- Кандиев
1 v ООО
Иван Семенович Дорохов.
С портрета работы Дж. Доу
леиску. «Л вы что думаете?»—
спросил Наполеон, подойдя к
Мутону.— «Отступать по крат-
чайшей и известнейшей дороге
на Можайск, к Неману, и, по
возможности, поспешнее»,—по-
вторил Мутон несколько раз» L
«Со времени известия о вы-
ходе французов из Москвы и
до конца кампании, вся дея-
тельность Кутузова заключа-
ется только в том, чтобы вла-
стью, хитростью, просьбами
удерживать свои войска от
бесполезных наступлений, ма-
невров и столкновений с гибну-
щим врагом». (Гл. XVIII; /2,
113—114.)
«Под Вязьмой Ермолов,
Мнлорадович, Платов и дру-
гие, находясь в близости от
французов, не могли воздержаться от желания отрезать и оп-
рокинуть два французских корпуса. Кутузову, извещая его о
своем намерении, они прислали в конверте, вместо донесения,
лист белой бумаги». (Гл. XIX; 12, 117).
22 октября под Вязьмой произошло сражение, в котором
главные силы русской армии не участвовали. А. И. Михайлов-
ский-Данилевский пишет об этом следующее:
«Во время сражения наша главная армия находилась на
марше из Дубровы, ввечеру пришла к Быкову, в 8 верстах от
Вязьмы, и в деле не участвовала, что по неведению настоящих
причин подало повод к противоречащим суждениям. Одни об-
виняют медленность князя Кутузова, зачем не ударил он во
фланг и тыл французов, не отбросил их от Вязьмы, не сбил с
пути их действий, словом, зачем пренебрег верною победою.
Другие превозносят его похвалами, что он не вступал в сраже-
ние, предпочитая без боя выжидать разрушения неприятельской
армии, долженствовавшего само собою последовать от стужи и
голода. Упреки и похвалы несправедливы. Причина неприбытия
главной армии к Вяземскому сражению зависела не от Куту-
зова... Решаясь, 21 вечером, атаковать на следующее утро фран-
цузов, Л1илорадович донес о намерении своем фельдмаршалу,
описал ему, в каком разброде идут неприятели, и, зная его осто-
1 М. Б о г т а н о в и ч. История Отечественной войны 1812 года, т. III.
СПб., 1860, стр 41.
294
Александр Никитич Сеславин.
С портрета работы Дж. Доу
рожность, присовокупил в
окончании: «Уверяю вашу
светлость, что нам не предсто-
ит опасности». — «Будь Суво-
ров на месте Кутузова, — ска-
зал Милорадович, — то, не
прибавляя этих слов, я напи-
сал бы просто: Иду атаковать.
Суворов отвечал бы мне: С бо-
гом! Но с Кутузовым надобно
поступать иначе. Конверт, где
должно было находиться доне-
сение, отослали в главную
квартиру. Распечатав его, де-
журный генерал Коновницын
нашел его пустым (у Толстого:
«лист белой бумаги». — Б. К.),
ибо, ошибкою, донесение за-
были вложить в него. Это упу-
щение было виною, что князь
Кутузов не мог знать в надле-
жащее время о предположен-
ной Милорадовичем атаке и побудительных причинах к нападе-
нию. Вот обстоятельство, разрешающее вопрос, почему главная
армия не подоспела к Вяземскому сражению» L
М. Богданович держался в этом вопросе другой точки зрения.
Не говоря ни слова о пустом конверте, он пишет: «Нельзя не
сознаться в том, что Наполеон, на месте Кутузова, не стал бы
строить противнику «золотого моста» (одно из любимых выра-
жений князя Кутузова), а дал бы под Вязьмою генеральное сра-
жение и, судя по относительной силе обеих сторон, одержал бы
решительную победу»1 2.
К ГЛ A BE XV
Дорохов Иван Семенович (1762—1815)—генерал-лейтенант, один из
храбрейших русских генералов. В 1812 г командовал одной из бригад 1-й
армии, затем партизанским отрядом, отличившимся в войне с французами.
Брусьё Жан Батист (1766—1814) — граф, французский генерал, участ-
ник многих войн. В 1812 г., во время похода в Россию, был начальником ди-
визии французских войск.
Пароксизм (греч.) — периодически возвращающийся приступ болезни.
Арйстово — деревня близ Тарутина, Боровского уезда Калужской гу-
бернии.
Сеславин Александр Никитич (1780—1858)—русский генерал. Участво-
1 А. И. Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной
войны 1812 года, ч. III. СПб., 1839, стр. 381—382.
2 ЛА. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. III.
СПб., 1860, стр. 81.
вал в кампаниях 1805, 1807 и 1810 гг. В 1812 г. командовал партизанским
отрядом.
Фигнер Александр Самойлович (1787—1813)—штабс-капитан артилле-
рии, известный партизан 1812 г., командовавший отдельным партизанским
отрядом.
К ГЛАВЕ XVI
Серники — лучинки, обмокнутые концом в растопленную серу. До изобре-
тения спичек употреблялись для зажигания огня.
К ГЛАВЕ XVII
Бертелемй — французский офицер; в 1812 г. Наполеон посылал его к Ку-
тузову с предложением мира.
Медынь — уездный город Калужской губернии, на реке Медынке.
Юхнов — уездный город Смоленской губернии, на реке Кунове, при впа-
дении ее в реку Угру.
Сталь Жермена (1766—1817)—французская писательница. За оппози-
цию Наполеону подверглась преследованию, жила в изгнании. В своих рома-
нах («Дельфина», «Коринна») выступала проповедницей свободы женской
личности и культа чувства. В 1812 г. была в России.
К ГЛАВЕ XVIII
Мутон Дюверне Режи Бартелеми (1779—1816) — барон, французский
генерал. После поражения при Малоярославце, на совете 25 октября 1812 г.,
предложил Наполеону немедленно начать отступление по уже известной фран-
цузам Смоленской дороге.
К ГЛ ABE XIX
«Золотой мост» — выражение, заимствованное из французского; соответ-
ствует русскому: «скатертью дорога».
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВЫ I—II
В этих главах Толстой, полемизируя с бур-
жуазными историками, высказывает мысль, что война 1812 г. не
подходит «ни под какие прежние предания войн».
Все историки мира, по мысли Толстого, пришли к единому
мнению о том, что войны, возникавшие в результате столкнове-
ний между странами, усиливали или ослабляли то или иное го-
сударство в зависимости от победы или поражения войска. Этот
незыблемый закон истории подтвердили и многочисленные на-
полеоновские войны. Но не то, говорит Толстой, случилось в
Отечественной войне 1812 г. Здесь результат получился прямо
противоположный: «Но вдруг в 1812 году французами одержана
победа под Москвой, Москва взята, и вслед за тем без новых
сражений не Россия перестала существовать, а перестала суще-
ствовать 600-тысячная армия, потом наполеоновская Франция».
(Гл. I; 12, 119.)
296
Чем же можно объяснить такое разительное отклонение от
обычных закономерностей истории? Толстой дает на этот вопрос
своеобразный ответ, вызвавший много споров. Он объясняет это,
па первый взгляд, необычное явление характером войны 1812 г.:
«Со времени пожара Смоленска началась война, не подхо-
дящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов
и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять
отступление, пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транс-
портов, партизанская война, все это были отступления от пра-
вил». (Гл. I; 12, 120.)
Весь этот особый арсенал войны 1812 г. Толстой очень метко
и образно назвал «дубиной народной войны». Но дело было,
по мысли Толстого, не только в народной партизанской войне и
не только в Карпах и Власах, которые отказывались продавать
сено врагу и жгли его. Дело было, по мысли Толстого, и в духе
войска, в том огромном моральном факторе, который перекры-
вает собой все остальные факторы войн: численность войск, ге-
ниальность полководцев, вооружение, место расположения вою-
ющих сторон и т. п. Толстой определяет этот фактор так: «...Дух
войска, т. е. большее или меньшее желание драться и подвергать
себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно
независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или
не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стре-
ляющими 30 раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание
драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для
драки». (Гл. II; 12, 122.)
Эти положения великого писателя вызвали резкую критику
со стороны военных специалистов того времени. А. Витмер в
статье «По поводу исторических указаний четвертого тома «Вой-
ны и мира» графа Л. Н. Толстого» подверг критике суждения пи-
сателя о народном характере войны 1812 г.: «... Народная война
вовсе не может быть названа не только исключительною, но и
главнейшею причиной гибели французской армии, напротив то-
го, все дошедшие до нас сведения заставляют думать, что воору-
женное восстание народа принесло неприятелю сравнительно
весьма мало вреда...»1
М. И. Драгомиров в монографии «Война и мир» графа
Л. Н. Толстого с военной точки зрения» (Киев, 1895) пришел к
выводу, что военно-теоретические рассуждения Толстого не вы-
держивают самой снисходительной критики.
Часто критики Толстого, теряя в пылу полемики меру объек-
тивности, приписывали автору «Войны и мира» абсолютное от-
рицание многих серьезных (отмеченных Толстым) факторов вой-
ны. Этого, конечно, не было, и подобное умозаключение крити-
ков не подтверждается текстом «Войны и мира». Толстой был
1 «Военный сборник», 1868, № 12, стр. 447.
102* 297
трезвым мыслителем, к тому же имеющим военный опыт, чтобы
не впадать в такую крайность. Он, любя в «Войне и мире» «мысль
народную», старался лишь особо подчеркнуть моральный фак-
тор в победе русских над врагом, в чем безусловно был прав.
Недаром война 1812 г. получила название Отечественной и на-
род снискал в ней бессмертную славу.
Мысль о духе войск как главнейшем факторе победы, ви-
димо, рано возникла в сознании Толстого и прочно держалась на
протяжении всего периода работы над романом-эпопеей. Следы
этих рассуждений мы находим в черновых вариантах «Войны и
мира». Так, например, характеризуя результаты военных стол-
кновений с Наполеоном в 1805 г. за рубежом, Толстой пишет:
«...Разбить правое крыло Наполеона, удержав центр, отбросить
его в Богемские горы, отрезав от Венской дороги. Все это могло
быть, ежели бы на нашей стороне было не количество войск, не
новейшее, смертельнейшее боевое орудие, не больший порядок
в продовольствии войска, даже не искусство военачальников,
ио ежели бы на нашей стороне было то, что нельзя свесить,
счесть и определить, но то, что всегда и везде, при всех возмож-
ных условиях неравенства, решало, решает и будет решать
участь сражений, ежели бы на нашей стороне была высшая сте-
пень настроенности духа войска» {13, 522—523).
Выработанным понятием о духе войска как решающем фак-
торе в боевых действиях Толстой очень дорожил и пронес его
через всю свою жизнь.
Первостепенное значение морального фактора в деле воен-
ной победы над врагом признавал В. И. Ленин. Он писал сле-
дующее: «Во всякой войне победа в конечном счете обусловли-
вается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проли-
вают свою кровь. Убеждение в справедливости войны, сознание
необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих
братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслы-
ханные тяжести» Г
К ГЛ АВЕ II
Гверильясы — испанские партизаны, ведшие в 1808—1814 гг. народную
войну против войск Наполеона.
ГЛАВЫ III-VII
«Прежде чем партизанская война была официально принята
нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской ар-
мии— отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены каза-
ками и мужиками...» (Гл. III; 12, 123.)
Толстой посвящает ряд ярких картин смелым действиям рус-
ских партизан, которые, по справедливому замечанию писателя,
1 В. И. Л е н и н. Поли собр. соч., изд. 5, т. 41, стр. 121.
298
сыграли огромную роль в разгроме неприятельской армии. Воз-
никновение партизанского движения в Отечественной войне
1812 г. Толстой рассматривает как закономерный процесс в ве-
личественной борьбе русского народа с иноземными захватчика-
ми, как неотъемлемую часть справедливой оборонительной
войны.
Возникновение партизанской войны Толстой относит к перио-
ду вступления неприятеля в Смоленск, т. е. еще задолго до того
времени, когда этот вид борьбы с врагом был официально при-
знан командованием и правительством. Это замечание писателя
находит подтверждение в воспоминаниях современников L
Толстой создал образы замечательных военачальников пар-
тизанских отрядов, как Денисов, Долохов, и образы партизан
из народной гущи — Тихон Щербатый, старостиха Василиса и
др. В изображении их смелых похождений нет ничего надуман-
ного и преувеличенного. Целый ряд документов показывает ис-
торическую достоверность толстовского повествования о дейст-
виях партизанских отрядов и отдельных смельчаков-партизан.
Приведем некоторые из них.
«Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу
в оружия оборонительные, без искусства, одним мужеством от-
ражают злодеев. Даже женщины сражаются!.. Сегодня крестья-
не Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытеснены буду-
чи из одних засек, переходили в другие соседственные леса через
то селение, где была главная квартира. Тут перевязывали мно-
гих раненых. Один 14-летний мальчик, имевший насквозь прост-
реленную ногу, шел пешком и не жаловался... Две молодые кре-
стьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь
к деду своему; другая убила древесным суком француза, по-
ранившего ее мать. Многие имели простреленные шапки, полы
и лапти. Вот почтенные поселяне — воины! Они горько жалова-
лись, что бывший у них управитель поляк отобрал у них всякое
оружие при приближении французов»1 2.
А вот описание одного из многочисленных подвигов знаме-
нитого командира партизанского отряда капитана Фигнера, ко-
торый послужил прототипом толстовского Долохова:
«Рассказывали еще один случай, как Фигнер чуть не был
пойман, и однако спасся еще чудеснее. Отряд французов в од-
ном месте подстерег его и, сделав нападение, вогнал в лес, при-
мыкавший к болоту. Уже день склонился к вечеру, и поздно было
продолжать дальнейшее действие в лесу; однако, опасаясь вы-
пустить из рук вредного наездника, французы окружили лес, бу-
дучи уверены, что непроходимое болото за лесом воспрепятству-
ет его бегству, а с рассветом дня он сам попадется к ним, живой
1 См., например: Ф. Ф. Вигель. Записки, ч. 4. М., 1892, стр. 58.
2 Ф. Глинка. Письма русского офицера, ч. 4. М., 1815, стр. 47—48.
299
или мертвый. Фигнер действительно находился в самом затруд-
нительном положении: болото казалось непроходимым ни для
конного, ни для пешего. Пользуясь темнотою ночи, он попробо-
вал с двумя товарищами пройти пешком через болото, шириною
с полверсты; кой-как с помощью шестов, по кочкам, им удалось
перебраться на ту сторону, и, к счастью, верстах в двух они
нашли деревушку. Фигнер тотчас собрал немногих крестьян,
объявил им опасность своей партии, указал средство для спасе-
ния и велел немедленно нести на берег солому и доски. Этими
материалами он выстлал по болоту дорожку; к полуночи возвра-
тился в свою западню, где товарищи его, завалившись за пенька-
ми, сторожили французов, которые вокруг леса развели огонь и
шумели. Фигнер со всей осторожностью велел своим, по оди-
ночке, переводить лошадей по досчатой дорожке. Когда лошадей
перевели, он велел пешим стать в ширину болота на известном
расстоянии, и первый, оставаясь с краю от леса, стал переда-
вать через ближнего дальним доски и солому; таким образом он
успел переправить всю партию и даже изгладить след дороги.
С рассветом дня, французы приступили к лесу со всех сторон,
и пошли облавою в добром порядке; наконец сошлись все у бо-
лота, и зевали друг на друга: куда он девался с казаками?.. Его
не было, и след простыл. Конные сунулись в болото, но лошади
стали вязнуть, и пешие не могли переступить шага. Эта шутка
столько изумила французов, что они долго не могли образу-
миться и почитали Фигнера ужасным разбойником, который их
истребляет и морочит, как дьявол» L
Многие эпизоды партизанской борьбы народ запечатлел
в лубочных картинках. Приведем описание одной из таких
сцен, данное в книге Д. Ровинского «Русские народные кар-
тинки»:
«Бабушка Кузминична угощает французских мародеров ща-
ми». В Смоленской губернии зашли тощие французы в одну избу
и просят старуху чего-нибудь поесть; та сжалилась на них и по-
дала им щей. Не понравились щи французам; стали они в них
плевать и ругать старуху. Тогда она хватила одного француза
горшком в голову, выбежала на улицу, приперла дверь ухватом
и созвала народ»1 2.
В этой книге описываются и картинки, посвященные старо-
стихе Василисе3.
1 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, т. 1. М., 1835,
стр. 213—215.
2 Д. Ровииский. Русские народные картинки, кн. IV. СПб., 1881, стр.
443—444.
3 Упоминание о женщинах, участвовавших в партизанской войне с фран-
цузами, см. также в следующих книгах: Ф. Глинка. Письма русского офи-
цера, ч. 4. М., 1815, стр. 48; Ев. Ковалевский. Граф Блудов и его время.
СПб., 1866, стр 80.
300
Многочисленные и много-
образные подвиги партизан-
ских отрядов и отдельных пар-
тизан получили высокую оцен-
ку и на страницах «Войны и
мира». «Партизаны уничтожа-
ли великую армию по ча-
стям», — писал Толстой (Гл.
Ill; 12, 124.) Одно из докумен-
тальных подтверждений этого
находим в «Дневнике» Дениса
Давыдова. Автор говорит, что
со 2 сентября до 23 октября он
взял в плен 3560 рядовых и
43 штаб- и обер-офицера.
Говоря о дубине народной
войны, которая погубила все
Денис Васильевич Давыдов.
С портрета работы Дж. Доу
французское нашествие, писа-
тель прежде всего имел в виду
партизанскую войну.
Партизанская война в кам-
пании 1812 г. высоко оценена
и советскими историками. Так,
П. А. Жилин пишет: «За короткий период пребывания русской
армии в Тарутинском лагере действиями партизанских отрядов
противнику были нанесены значительные потери. Эти потери ока-
зались настолько чувствительными, что влияние их сказалось па
всем последующем ходе войны» Г
Описание того, как Денисов решает уклониться от подчине-
ния одному из двух начальников крупных отрядов, заимствовано
Толстым из «Дневника партизанских действий» Дениса Давы-
дова. Давыдов рассказывает, как он «попался между отрядами
двух генералов-адъютантов, графа Ожаровского и графа Орло-
ва-Денисова», и отделался от них при помощи той же уловки1 2.
«Эсаул Ловайскнй — третий, также в бурке и папахе...»
(Гл. IV; 12, 126.)
Кутузов, узнав об успехах Давыдова, усилил его отряд двумя
казачьими полками. Фамилия Ловайский, очевидно, происходит
от известной на Дону фамилии Иловайских.
«Это был взятый утром французский барабанщик». (Гл. IV;
12, 127). Эпизод с пленным мальчиком-барабанщиком заимство-
ван Толстым из «Дневника» Дениса Давыдова. К начальнику
1 П. А. Жилин. Контрнаступление Кутузова в 1812 году. М , Воениздат,
1950, стр. 107.
2 См.: Д. В. Давыдов. Сочинения, ч. I. Дневник партизанских дейст-
вий 1812 года. М., 1860. стр. 67—68,
301
партизанского отряда в числе других французов попал в плен
«барабанщик молодой гвардии, именем Викентий Бод (Vincent
Bode), пятнадцатилетний мальчик, оторванный от родительского
дома и, как ранний цвет, перенесенный за три тысячи верст под
русское лезвие и на русские морозы» Г
’Из «Дневника» Давыдова мы узнаем о дальнейшей судьбе
мальчика. Давыдов оставил его при себе, и в 1814 г. привез в
Париж, к родителям. Этой части биографии Викентия Бода в
«Войне и мире» нет.
Интересное наблюдение над эпизодом с пленным мальчиком-
барабанщиком сделал Я. Билинкис. Он пишет: «В «Войне и ми-
ре» самая «естественность» «простого народа» наполнена преж-
де всего человеческим содержанием...
...Толстой подчеркнул человечность отношения к Vincent’y не
офицера из высшего круга (как это было у Дениса Давыдова),
а прежде всего «казаков, мужиков, солдат», вообще простых лю-
дей — всех вместе»1 2.
Гуманность, сердечность и отзывчивость к чужому горю
простых людей исследователь объясняет веками выработав-
шейся точкой зрения «народного крестьянского «мира» на все
и всех», к которой, по мнению Билинкиса, в значительной мере
приобщился и сам Толстой»3.
Замечательный образ русского богатыря Толстой дал в лице
Тихона Щербатого. Он является олицетворением той необычай-
ной стихийной мощи, которая способна была противопоставить
себя огромной вражеской армии.
Развитие идейно-тематической линии «Войны и мира» по
пути создания народно-героической эпопеи весьма существенно
сказалось на лепке этого образа. В первоначальных набросках
Тихон Щербатый представлен в весьма неблаговидном свете.
В рукописных материалах мы читаем следующее:
«Тихон Шестипалый (такое прозвище он имел в ранних на-
бросках.— Б. К.) был мужик из Покровского. Когда при начале
своих действий Денисов прибыл в Покровское, ему жаловались
на двух мужиков, принимавших французов, Прокофия Рыжего
и Тихона Шестипалого. Денисов... велел расстрелять обоих. Но
Тихон Шестипалый пал в ноги, обещая, что будет служить вер-
но, что он только по глупости, и Денисов простил его и взял в
свою партию» (14, 158).
1 Д. В. Давыдов. Сочинения, ч. 1. Дневник партизанских действий
1812 года. М., 1860, стр. 61.
2 Я. Билинкис. О творчестве Л. Н. Толстого. Л., «Советский писа-
тель», 1959, стр. 236. См. также об этом в статье Н. Прянишникова «Заметка
о «Войне и мире» Льва Толстого». «Степные огни», 1946, № 5, стр. 250—251.
3 Я. Б и л и н к и с. О творчестве Л. Н. Толстого. Л., «Советский писатель»,
1959, стр. 236.
302
И в другом месте: «...Староста, смеясь, сказал, что у них в
деревне только Тишка Щербатый занимался этими делами, но
что Тишка — мужичонка дрянной...» 1
Естественно, что Толстой, углубляя тему героической народ-
ной войны, должен был выбросить из биографии своего героя
страшное клеймо изменника. В окончательном тексте образ Ти-
хона Щербатого дан в положительных чертах, как образ честно-
го и мужественного русского богатыря, бойца-партизана.J3 нем
все_ просто, бесхитростно, он все делает шутя, как бы мимохо-"
дом, неудивительно ловко ибесстрашно.
"‘ТдеТтодсмотрел Толстой этот образ? ТТз какого материала он
вылепил его? Обратимся к документам эпохи. Денис Давыдов в
своем «Дневнике» пишет о крестьянине Федоре, который при-
стал к его партии: «...Мы подошли к селению Теплухе, что на
столбовой Смоленской дороге, и расположились на ночлеге, при-
няв все меры предосторожности; там явился ко мне крестьянин
Федор из Царева-Займища, изъявивший желание служить в
моей партии. Этот удалец, оставя жену и детей, скрывавшихся
в лесах, находился при мне до изгнания неприятеля из Смолен-
ской губернии и только по очищении губернии от врагов возвра-
тился на свое пепелище»1 2.
Д. Ровинский рассказывает: «Русский Геркулес загнал фран-
цузов в лес и давил как мух. Г. Н. Геннади рассказывал мне,
что этот геркулес г. Сычевки был не кто иной, как староста его
деда Дениска, который пошел в ратники и с ватагой своих одно-
сельчан занимался истреблением французских мародеров, или
по тогдашнему народному прозвищу мародеров»3.
Под стать Тихону Щербатому и русский Сцевола, о котором
рассказывает Ровинский: «В армии Наполеона вступающим в
войско накладывали на руку клеймо; такое клеймо наложили
одному крестьянину, которого думали заманить на французскую
службу; крестьянин, увидав клеймо на руке своей, схватил то-
пор и отсек клейменую руку»4.
О неустрашимости и презрении к смерти говорят документы
о расстрелах русских крестьян-патриотов, ведущих борьбу с вра*
жескими мародерами. Автор процитированной нами книги по-
местил в ней народную картинку с надписью: «Дух неустраши-
мости русских». Смысл картинки разъяснен так: «Подмосковные
крестьяне ежедневно хватали большое число французов, отправь
лившихся на грабеж, и убивали их. Чтобы устрашить их, фран-
1 Отдел рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого Министерства
культуры РСФСР, рукопись 98.
2 Д. В. Давыдов. Сочинения, ч. 1. Дневник партизанских действий
1812 года. М., 1860, стр. 31.
3 Д. Р о в и н с к и й. Русские народные картинки, кн. IV. СПб., 1881,
стр. 426.
4 Т а м же, стр. 427.
303
цузские начальники приказали схватить несколько крестьян из
соседних деревень; похватали человек двадцать, привели в Мо-
скву, приговорили к смерти; прочли им приговор, переведенный
на русский язык, и расстреляли. Перед смертью крестьяне о по-
щаде не просили и, кланяясь миру, говорили: помилуй меня, гос-
поди! Прощайте, добрые люди»1.
В том же сборнике Ровинского читаем: «Когда Мюрат вошел
в Кремль и стал расспрашивать находившихся тогда в здании
арсенала больных, раздался из Кремля выстрел, и вслед за тем
выскочил ратник московского ополчения, который тут же проко-
лол пикой одного польского полковника, принятого им за самого
Мюрата. Ратник был в ту же минуту изрублен»1 2.
Приведенные нами документы говорят о типичности образа
Тихона Щербатого как носителя патриотического чувства рус-
ского народа. Тихон Щербатый во многих отношениях олицетво-
ряет собой «дубину народной войны».
К ГЛАВЕ III
Василиса Кожина (старостиха Василиса) — крестьянка Сычевского уез-
да Смоленской губернии, героиня партизанской войны 1812 г., организатор
и командир отряда партизан.
Микулйно— деревня Боровского уезда Калужской губернии, близ Тару-
тина.
К ГЛ ABE IV
Есаул — офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий чинам
ротмистра и капитана.
Попона — толстое покрывало для лошадей; в попоне водят разгорячен-
ную лошадь.
К ГЛАВЕ V
Пластун — пеший казак, несший сторожевую и разведочную службу.
Мушкетон — старинное кавалерийское ружье с коротким и широким
стволом.
К ГЛ ABE VII
Ординарец (нем.) — здесь: офицер, состоящий при командующем для ис-
полнения его поручений.
ГЛАВЫ VIII-XI
«Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди об-
раз Николая Чудотворца и в манере говорить, во всех приемах
выказывал особенность своего положения». (Гл. VIII; 12, 139.)
Д. Давыдов пишет о себе: «Тогда я на опыте узнал, что в на-
родной войне должно не только говорить языком черни, но при-
1 Д. Р о в и н с к и й. Русские народные картинки, кн. IV. СПб., 1881,
стр. 432.
2 Т а м же, стр. 445—446.
304
норавливаться к ней, к ее обычаям и ее одежде. Я надел мужи-
чий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны по-
весил образ св. Николая и заговорил языком вполне народ-
ным» 1.
И. Радожицкий говорит о Фигнере: «Мы тотчас заметили в на-
ружности его перемену: он был с отращенною бородкою; волосы
на голове его были острижены в кружок, как у русского мужич-
ка»; «Фигнер казался довольно набожным; у него па груди под
мундиром всегда висел образ Николая Чудотворца»1 2.
Толстой имел под руками оба эти источника и, очевидно,
заимствовал из них внешний вид начальника партизанского от-
ряда Василия Денисова.
Разговор Долохова с Денисовым о том, как нужно поступать
с пленными (гл. VIII), напоминает аналогичный разговор капи-
тана Фигнера с Давыдовым 3.
«Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долохо-
вым поехали...» (Гл. IX; 12, 141.)
Мемуарные произведения об Отечественной войне 1812 г.
содержат много рассказов о смелых наездах русских офицеров
во вражеский стан с разведывательной целью. Д. Давыдов в сво-
ем «Дневнике» пишет: «При Тарутине Фигнер не раз показы-
вал ту точку в середине неприятельского лагеря, где он намере-
вался находиться в следующий день. В самом деле, на другой
день он, переодетый во французский мундир, находился в сере-
дине неприятельского лагеря и обозревал его расположение.
Это повторялось не раз»4.
Интересные сведения о своем боевом друге Фигнере приво-
дит И. Радожицкий: «Днем обыкновенно он прятал их (своих
удальцов.— Б. К.) в чащу леса, а сам, переодевшись французом,
поляком или итальянцем, иногда с трубачом, а иногда один, ез-
дил к неприятельским форпостам; тут делал он выговор пикет-
ному караулу за оплошность и невнимательность, давая знать,
что в стороне есть партия казаков; в другом месте извещал, чго
русские занимают такую-то деревню, а потому для фуражиро-
вания лучше идти в противную сторону»5. У Радожицкого же
есть рассказ о том, как отряды Фигнера и Сеславина отбили
французский транспорт с вещами и русскими пленными.
1 Д. В. Давыдов. Сочинения, ч. 1. Дневник партизанских действий
1812 года. М., 1860, стр 20.
2 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, т. 1. М., 1835, стр.
206, 166.
3 См.: Д. В. Д а в ы д о в. Сочинения, ч. 1. Дневник партизанских действий
1812 года. М., 1860, стр. 76—77.
4 Т а м же, стр. 76.
6 И. Радожицкий. Походные записки артиллериста, ч. 1. М., 1835,
стр. 210.
305
О смелых действиях Фигнера рассказывает и М. Богданович:
«...Фигнер не раз переодевался во французский мундир и,
беседуя с неприятелями, выведывал такие известия, каких не
могли ему сообщить шпионы... Фигнер... оставил своих партиза-
нов в лесу, с приказанием слезть с лошадей и отдыхать до его
возвращения; сам же он, вызвав ехать с собою двух офицеров
Польского уланского полка (которых мундир подходил к одеж-
де польских улан, служивших в Наполеоновой армии), приказал
одному из них, говорившему кое-как по-французски, в случае
встречи с неприятелями, отвечать и за себя и за товарища свое-
го, вовсе не знавшего иностранных языков. Затем все трое, вы-
ехав из леса, увидели верстах в двух от себя, на открытом про-
странстве, кругом села, довольно обширный французский ла-
герь. «Поедем к ним», — сказал Фигнер, — и вместе с своими
товарищами, маленькою рысцою, подъехал к лагерю так без-
заботно, что часовым даже не пришло в голову остановить его.
Приблизясь к кирасирскому полку, проходившему ночью мимо его
отряда, Фигнер обратился к стоявшим вместе двум офицерам,
пожелал им доброго утра и вступил с ними в продолжительную
беседу, между тем как офицеры его, разговаривая поневоле с
обступившими их кирасирами, отчаивались в своем спасении.
Наконец — он распрощался с неожиданными знакомыми, повер-
нул лошадь назад и отъехал несколько шагов, но вдруг опять
возвратился к французским офицерам, сделал им несколько воп-
росов и хладнокровно отправился в лес, к своему отряду»1.
Эпизод, изображенный Толстым, более всего напоминает
соответствующий эпизод из «Истории» М. Богдановича: «...Фиг-
нер, с находившимся в его отряде Сумского гусарского полка по-
ручиком Орловым, оба переодетые во французские мундиры, от-
правились с проводником из крестьян в село Вороново, где на-
ходился тогда лагерь авангарда Наполеоновой армии и была
расположена главная квартира Мюрата. Пробравшись незамет-
но через цепь ведетов (часовых со стороны неприятеля.—
Б. /(.), Фигнер подъехал к мосту на речке, прикрывавшей не-
приятельские бивуаки. Пехотный часовой, стоявший на мосту,
встретил его окликом: qui vive? и потребовал отзыв; но Фигнер
вместо отзыва (которого, разумеется, не знал) разругал часово-
го за неправильную будто бы формальность в отношении к рун-
ду (поверке караулов, обходу. — Б. К.), поверяющему посты.
Часовой, совсем сбившийся с толку, пропустил обоих партиза-
нов в лагерь, куда Фигнер явился как свой, подъезжал ко мно-
гим кострам, говорил весьма хладнокровно с офицерами и, узнав
все, что было ему нужно, возвратился к мосту. Там снова сделав
наставление знакомому часовому, чтобы он не осмеливался оста-
1 М. Б о г д а н о в и ч. История Отечественной войны 1812 года, т. II. СПб.,
1859, стр. 383—385.
306
навливать рундов, переехал через мост и сначала пробирался ша-
гом, а потом, приблизясь к цепи ведетов, промчался через нее
вместе с Орловым, под пулями, и возвратился к отряду» Г
«Урааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, по-
скакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был
пороховой дым». (Гл. XI; 12, 150.)
Денис Давыдов вспоминает о своем юном брате, храбром пар-
тизане его отряда: «Брат мой Лев, будучи моложе всех, был ме-
нее других способен покориться необходимости. Он с отборными
казаками пустился вдоль улицы и, невзирая на град пуль, осы-
павших его и казаков, с ним скакавших, ударил на резерв, по-
казавшийся в средине улицы, и погнал его к мосту»1 2. Дальше
автор рисует ряд эпизодов, свидетельствующих о необычайной
отваге юного патриота.
К ГЛ ABE VIИ
Чекмень (тюрк.) — верхняя мужская одежда в виде суконного полукаф-
тана в талию со сборками сзади (носили чекмень крестьяне и казаки).
Николай Угодник, или Николай Чудотворец — по учению православной
церкви — святой, архиепископ Мирликийский.
Сюртук — мужская двубортная одежда с длинными, почти до колен, по-
лами, в талию, обычно с отложным воротником; военный сюртук — сюртук
со стоячим воротником и закрытой грудью.
К ГЛАВЕ X
Фура (нем.) — большая длинная повозка, телега для клади.
Фуга (ит.) — форма полифонических (многоголосных) произведений, ос-
нованная на последовательном повторении разными голосами одной темы.
ГЛАВЫ XIII-XV
Рассказ Платона Каратаева о купце (гл. XIII) впоследствии
лег в основу отдельной повести Толстого «Бог правду видит, да
не скоро скажет».
«— Vous avez compris, mon enfant (Вы поняли, мое дитя),—
сказал учитель.
— Vous avez compris, sacrc nom (Вы поняли, черт возьми),—
закричал голос, и Пьер проснулся». (Гл. XV; 12, 158.)
Толстой с молодых лет интересовался природой сновидений и
придерживался той теории сна, согласно которой это явление,
как бы оно ни было сложно и длительно, возникает в нашем моз-
1 М. Богданович. История Отечественной войны 1812 года, т. II.
СПб., 1859, стр 385.
2 Д. В. Давыдов. Сочинения, ч. 1. Дневник партизанских действий
1812 года. М., I860, стр. 100.
307
гу мгновенно в момент пробуждения и содержание сна определя-
ется теми внешними ощущениями, которые нас разбудили. Так
кончаются почти все сны, описанные в «Войне и мире». Подобное
же изображение сна мы находим в раннем рассказе Толстого
«История вчерашнего дня» (1, 279—295).
К Г Л А В Е XII
Жюнб Килек, герцог Д’Абрантес (1771 —1813)—французский генерал.
За неудачные военные действия в 1812 г. Наполеон удалил его из армии.
Депо (фр.) — здесь: воинская часть, сопровождающая пленных и воен-
ный обоз.
К ГЛ ABE XIII
Риза (церк.-слав.) — верхнее облачение священника, надеваемое во вре-
мя богослужения.
Макарьев — пристань и уездный город Нижегородской губернии (на
Волге), где с XVI в. происходила большая Макарьевская ярмарка, на ко-
торую съезжались купцы со всей России. В 1817 г. место ярмарки перенесено
в Нижний Новгород.
ГЛАВЫ XVI—XIX
В этих главах Толстой полемизирует с иностранными и рус-
скими историками по поводу их оценки последнего периода вой-
ны 1812 г.
Основная мысль Толстого, которая проходит через все стра-
ницы романа, посвященные отступлению вражеской армии, сво-
дится к одному: русский народ вместе со своим полководцем сде-
лал все, чтобы спасти родину от наполеоновских орд,— он нанес
врагу смертельную рану в Бородинском сражении, он принял все
меры к тому, чтобы лишить французов благоприятных условий
для отдыха и укрепления боеспособности, он проявил необычай-
ную стойкость в своих патриотических чувствах, он поднял дуби-
ну народной войны, чтобы «гвоздить» неприятеля, пока не задох-
нется все нашествие, и, дождавшись того желанного момента,
когда смертельно раненый зверь повернул свою голову в ту сто-
рону, откуда пришел, и стал бегством спасать свое израненное
тело, русский народ, как опытный погонщик, поднял свой кнут и,
«угрожая им и стегая бегущее животное», погнал врага из преде-
лов отечества.
Все это делала армия Кутузова потому, что, по глубокому
убеждению Толстого, «цель народа была одна: очистить свою
землю от нашествия». (Гл. XIX; /2, 170.)
Толстой говорит об ужасных условиях, в которых пришлось
действовать героической русской армии, об ее плохой обеспечен-
ности провиантом и амуницией по милости интендантских мошен-
ников и беспечности самого царя.
308
Толстой пишет: «В движении русской армии от Тарутина до
Красного выбыло пятьдесят тысяч больными и отсталыми, т. е.
число, равное населению большого губернского города. Половина
людей выбыла из армии без сражений». (Гл. XIX; 12, 168—169.)
Эти замечания Толстого о плохом обеспечении русской армии
обмундированием подтверждаются историческими документами.
Так, в донесении главного врача армии Виллие в Петербург чи-
таем: «До сих пор большая часть солдат носит летние панталоны,
а у многих шинели сделались столь ветхи, что не могут защищать
их от сырой и холодной погоды»1.
О плохом снабжении армии зимним обмундированием говорит
и советский военный специалист полковник Л. Г. Бескровный:
«Транспорты шли медленно, а войска испытывали острую нужду
в теплых вещах»1 2.
Правда, Кутузов, находясь в Тарутинском лагере, принял
энергичные меры по обеспечению армии обмундированием. Он
требовал срочной доставки обмундирования, торопил губернато-
ров, чтобы они «постарались всеми мерами выслать оные в армию
как только возможно скорее... Вы дадите ответ за тех солдат, —
писал Кутузов, — которые занемогут непосредственно от сту-
жи»3. В результате этих мер, по данным полковника П. А. Жи-
лина, было получено из разных губерний свыше 55 тыс. полу-
шубков и 50 тыс. пар сапог. Но это количество могло обеспечить
лишь 40% тарутинской армии и 20% всей русской армии, нахо-
дящейся под ружьем.
Вот эту сложную ситуацию при преследовании врага русской
армией вплоть до вступления ее в Вильно и окончательного из-
гнания Наполеона из России Толстой разгадал с гениальной про-
зорливостью.
Русский народ блестяще справился с возложенной на него
историей тяжелой задачей, он разгромил армию «непобедимого»
завоевателя и изгнал се из пределов своей земли. Этим была со-
здана предпосылка для окончательного поражения всесильного
завоевателя, для освобождения народов Европы от его тирании.
К ГЛ ABE XIX
Чичагов Павел Васильевич (1765—1849) — адмирал, при Александре I—•
морской министр и член Государственного совета. В 1812 г. Александр I пору-
чил ему преследование отступавших французских войск, которые вследствие
медлительности Чичагова успели переправиться через Березину.
1 П. А. Ж и л и п. Контрнаступление Кутузова в 1812 году. М., Воениздат,
1950, стр. 122.
2 Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 года. М., Соцэкгиз, 1962,
стр. 473.
3 М. И. Кутузов. Сборник документов, т. IV, ч. 2. М., Воениздат,
1955, стр. 271,
309
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВЫ IV-V
В этих главах Толстой высказывает возмущение
крайней несправедливостью русских историков в оценке заслуг
великого полководца Кутузова. В то время, говорит Толстой, как
Наполеон, «это ничтожнейшее орудие истории», вознесен на не-
досягаемую высоту, Кутузов, отдавший себя целиком самоотвер-
женному служению родному народу, любимой отчизне, заслужил
только порицание на страницах их исторических трудов.
Толстой рисует Кутузова как крупного исторического деятеля,
который стойко и последовательно шел к достижению поставлен-
ной цели, к осуществлению воли народа. Писатель говорит о
необыкновенной скромности, простоте и человечности русского
главнокомандующего: «Кутузов никогда не говорил о 40 веках,
которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит оте-
честву, о том, что он намерен совершить или совершил: он вооб-
ще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всег-
да самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые
простые и обыкновенные вещи». (Гл. V; 12, 183.) Здесь Толстой
сопоставляет простого и скромного и в то же время истинно вели-
кого полководца Кутузова с самовлюбленным и хвастливым На-
полеоном, который во время египетского похода, перед битвой, у
подножия пирамид провозгласил: «Солдаты! Сорок веков смот-
рят на вас сегодня с высоты этих пирамид» \
Толстой с исключительной любовью рисовал образ М. II. Ку-
тузова; на протяжении всего повествования о военных событиях,
связанных с деятельностью русского главнокомандующего, пи-
сатель нигде не обмолвился ни одним критическим словом о нем.
Всю деятельность Кутузова он рассматривает как цепь мудрых
поступков, органически вытекающих из природы совершающихся
событий. Несмотря на давление, оказываемое на него окружаю-
щими генералами, несмотря на неоднократные окрики самого ца-
ря, Кутузов до конца стойко и последовательно выполнял возло-
женную на него историей задачу. По мнению Толстого, «источник
этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явле-
ний лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во
всей чистоте и силе его. Только признание в нем этого чувства за-
ставило народ такими странными путями его, в немилости нахо-
дящегося старика, выбрать, против воли царя, в представители
народной войны». (Гл. V; 12, 185.)
Толстой уделяет много внимания интригам, разыгравшимся в
штабе Кутузова во время преследования русской армией Напо-
1 Цит. по кн.: Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 66.
310
леона. Исторические документы доказывают нам правдивость
нарисованной Толстым картины. Наполеоновская армия, вынуж-
денная бежать из Москвы по разоренной Смоленской дороге, дей-
ствительно, представляла собой соблазнительный объект для вся-
кого рода военно-оперативных действий со стороны русских, и то,
что делалось главнокомандующим, многим из его окружения ка-
залось далеко не достаточным. Штабные генералы настаивали
на том, чтобы отрезать всю французскую армию и захватить в
плен самого Наполеона.
Особенно неистовствовал в этом отношении английский став-
ленник Роберт Вильсон. В своих бесконечных доносах Александ-
ру I и лорду Каткерту, который представлял британское
правительство в России, он доходил до открытого обвине-
ния Кутузова в полном бездействии и в преступной медлитель-
ности в борьбе с врагом. Вот что писал Вильсон в одном из до-
несений царю: «Офицеры и войска Вашего Величества дерутся с
необычайной неустрашимостью, но я считаю своим долгом, как в
отношении к ним, так и к вам, Государь, с прискорбием заявить,
что они достойны иметь и нуждаются в лучшем предводителе.
Бездействие фельдмаршала после победы над Мюратом, когда
следовало двинуться со всей армией влево, медленность его в
присылке подкреплений генералу Дохтурову, личное бездействие
по прибытии на место сражения до 5 часов вечера, хотя он це-
лый день пробыл в 5 верстах от него, личная осторожность во
всех сражениях, нерешительность в принятии мер,— подверга-
ют войска Вашего Величества гибельному беспорядку, то
вследствие медленности, то вследствие поспешности без всякого
повода» Г
Можно подумать, что сэр Вильсон глубоко переживает непо-
рядки в русском войске, трагедию русского народа, который яко-
бы из-за незадачливого главнокомандующего не сможет воздать
должное жестокому врагу за все причиненные им бедствия. Нет,
беспокойство английского ставленника имеет совсем иную подоп-
леку, что раскрывается в дальнейших словах донесения. «...Нель-
зя не сожалеть, — пишет Вильсон, — о той слабости, которая по-
буждает говорить его, что он не имеет другого желания, как то,
чтобы выгнать неприятеля из России, тогда как от него зависит
избавление от ига целого света»2, т. е. нельзя не сожалеть, что
Англии не удастся чужой кровью купить себе государственное
благополучие. Вот в чем была вина народного полководца
М. И. Кутузова. И сэр Вильсон настолько возмущен действиями
главнокомандующего, что своему патрону доносит о таких своих
сокровенных мысЛях: «...Если вы можете способствовать удале-
---------- "7
1 Цит. по кн.: А. Попов. От Малоярославца до Березины. Историческое
исследование. СПб., 1877, стр. 103.
2 Т а м же.
311
нию фельдмаршала Кутузова, то тем самым окажете великую
услугу России и Европе» L
Подобные нападки и имел в виду Толстой, когда писал, что
«в 12-м и 13-м годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Госу-
дарь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по вы-
сочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придвор*
ный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под
Красным и под Березиной лишивший русские войска славы —
полной победы над французами». (Гл. V; 12, 182—183.)
Точка зрения Толстого на взаимоотношения Кутузова с Виль-
соном нашла полное подтверждение в трудах советских истори-
ков. Вот что пишет об этом академик Е. Тарле: «Для Вильсона,
т. е. для Англии, личная гибель Наполеона или его плен, после
чего можно было надеяться на падение его империи, — только
это и было единственно важным моментом. Для Кутузова же
единственно важным было освободить Россию, принеся наимень-
ший ущерб русской армии»1 2.
В плане рассматриваемой нами проблемы чрезвычайно важ-
ным является решение вопроса о роли и значении Барклая де
Толли в Отечественной войне 1812 г. Какое место в этой войне
следует ему отвести по сравнению с Кутузовым? Вопрос этот име-
ет свою историю и на протяжении более чем столетия решался то
в пользу Кутузова, то в пользу Барклая де Толли.
Мы уже приводили ряд высказываний современников и участ-
ников событий, воздавших должное Кутузову как великому
полководцу, избраннику народному и спасителю России. Выска-
зался по этому вопросу и А. С. Пушкин. В 1831 г. он написал
стихотворение «Перед гробницею святой...», где с глубоким бла-
гоговением перед памятью умершего Кутузова говорил о заслу-
гах его перед отечеством. Поэт писал:
В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас3»
Через четыре года, в 1835 г., Пушкин написал стихотворение
«Полководец», в котором отметил и заслуги Барклая де Толли
в борьбе с Наполеоном. Обращаясь к тени умершего полководца,
поэт восклицает:
1 Цит. по кн.: А. Попов. От Малоярославца до Березины. Историческое
исследование. СПб., 1877, стр. 104.
2 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 660.
3 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 тт,, т. Ill. М., Изд-во АН СССР,
1957, стр. 220.
312
О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою,
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...1
Это стихотворение вызвало «Критическую заметку» Л. Голе-
нищева-Кутузова. После ее появления А. С. Пушкин выступил с
«Объяснением», из которого видно, что великий поэт нисколько
не изменил своего взгляда на бессмертные заслуги Кутузова, что
он остался верен своей точке зрения на великого полководца как
первой величины в Отечественной войне 1812 г. Пушкин прямо пи-
сал, что совершенное Кутузовым не мог бы совершить Барклай
де Толли. Поэт восклицает: «И мог ли Барклай-де-Толли совер-
шить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить
сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной! битвы,
где равен был неравный спор, отдать Москву Наполеону и стать
в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже
о превосходстве военного гения.) Один Кутузов мог предложить
Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву не-
приятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятель-
ном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и
выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в на-
родную доверенность, которую так чудно он оправдал!1 2.
Мы видим, что пушкинские слова о Кутузове в зародышевой
форме несут в себе те мысли, которые с таким блеском развер-
нул на страницах «Войны и мира» Л. Н. Толстой. О стихотворе-
нии А. С. Пушкина «Полководец» и «Объяснении» к нему Толс-
той не мог не знать, так как и то и другое вошло в анненковское
издание сочинений поэта (СПб., 1855—1857), которое имелось
в яснополянской библиотеке Толстого.
Оценивая роль и значение М. И. Кутузова в Отечественной
войне 1812 г., сошлемся на выдержки из книги авторитетного
военного историка Л. Г. Бескровного: «Стратегия Кутузова бы-
ла глубоко национальной. Великий полководец владел самыми
сложными формами ведения войны... для решения стратегиче-
ских задач Кутузов использовал все формы и методы борьбы.
Одинаково сильный и в обороне и в наступлении, он дал свое
решение вопроса о соотношении этих двух форм ведения боевых
1 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт., т. III. М., Изд-во АН СССР.
1957, стр. 331.
2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт., т. VII. М., Изд-во АН СССР
1958, стр. 484.
313
действий»; «Кутузов был замечательным мастером маневра. Он
превосходно действовал крупными массами иа огромном теат-
ре войны и достигал их взаимодействия в самых трудных и не-
выгодных условиях. Он превосходно использовал каждый род
войска как на театре войны, так и на поле боя; он разработал
и осуществил сложную операцию как форму военного искусст-
ва»; «Кутузов внес новое и в систему организации и руководст-
ва войсками»; «Наконец, Кутузов проделал огромную работу по
организации тыла и приспособлению его к нуждам войны» !.
Аналогичные суждения о Кутузове находим и в трудах дру-
гих советских историков1 2.
Но советские историки, воздавая должное Кутузову как вели-
кому полководцу, не умаляют достоинства других военачальни-
ков кутузовского генералитета. К ним относится и Барклай де
Толли, оценка роли которого вызвала в художественной литера-
туре и в исторической науке споры. Абсолютное большинство со-
ветских историков считает Барклая де Толли выдающимся пол-
ководцем, образованным и отважным генералом 3.
К ГЛ ABE III
Стбры (ит. stora) — шторы, оконная занавеска, сворачивающаяся в виде
рулона.
К ГЛАВЕ IV
Красный — уездный город Смоленской губернии.
Принц Евгений Виртембергский (1788—1858)—двоюродный брат Алек-
сандра I, генерал от инфантерии. В 1812 г. — генерал-майор, командир 4-й
пехотной дивизии, а позже 2-го корпуса.
Жезл — посох, трость или палка, служащие символом власти, почетного
положения (отсюда: маршальский жезл).
Полотняные Заводы — село Медынского уезда Калужской губернии.
К ГЛАВЕ V
Пирамида (греч.)—колоссальное каменное сооружение с четырехуголь-
ным основанием и сходящимися к вершине боковыми гранями, служившее
гробницей фараонам в древнем Египте. В окрестностях Каира до нашего вре-
мени сохранилось до 80 пирамид.
1 Л. Г. Бескровный. Отечественная война 1812 года. М., Соцэкгиз,
1962. стр. 595—596.
2 См.: Л. Н. Пунин. Фельдмаршал Кутузов. Военно-биографический
очерк. М., Воениздат, 1957; Е. В. Тарле. Михаил Илларионович Кутузов —
полководец и дипломат, в книге: Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН ССС1
1961, стр. 731—799; Н. М. Дружинин. Историческое значение Отечествен-
ной войны 1812 года. «Вопросы истории», 1962, № 12, стр. 55—56; П. А. Жи-
лин. Полководческая деятельность М. И. Кутузова в Отечественной войне
1812 года. «Военно-исторический журнал», 1962, № 7, стр. 29—41.
3 См. статью Е. Мусницкого «К вопросу об оценке роли М. Б. Барклая
де Толли в Отечественной войне 1812 года». «Военно-исторический журнал»,
1962, № 8.
314
ГЛАВЫ VI-IX
В IX главе Толстой рисует замечательную сцену встречи
французского капитана Рамбаля и его денщика Мореля с рус-
скими солдатами. Это тот самый Рамбаль, который заносчиво и
самодовольно говорил о величии французской нации и импера-
тора и сожалел, что русские дамы покинули Москву, не восполь-
зовавшись благоприятным случаем, чтобы поближе узнать
французов. Эта сцена имеет большое идейное и композиционное
значение. Капитан Рамбаль вместе со своим денщиком Море-
лем, раздетый и голодный, набрел на роту русских солдат, рас-
положившихся у опушки леса. Солдаты окружили вниманием и
заботой выбившихся из сил «завоевателей», накормили их.
И когда солдаты подняли обессилевшего Рамбаля, чтобы доста-
вить его к полковнику, он обнял их и жалобно заговорил: «Oh,
mes braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voila des hommes! oh
mes braves, mes bons amis! (О молодцы! О мои добрые, добрые
друзья! Вот люди! О мои храбрые, добрые друзья!)» (Гл. IX;
12, 195.)
Этот тонкий композиционный прием позволил Толстому без
лишних слов показать, на чьей стороне истинное величие, кто
проявляет подлинно человеческие чувства.
К ГЛ ABE VI
Доброе — село Красненского уезда Смоленской губернии.
К ГЛАВЕ VII
Мушкатёрский (мушкетёрский) полк — полк, вооруженный мушкетами,
т. е. фитильными крупнокалиберными ружьями. В XVIII в. пехотные полки у
нас часто назывались мушкатерскими. Это название держалось до 1811 г. й
в 1812 г. доживало последние дни.
ГЛАВЫ X-XI
«Представителю русского народа, после того как враг был
уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую сте-
пень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать
больше было нечего. Представителю народной войны ничего не
оставалось, кроме смерти. И он умер». (Гл. XI; 12, 203.)
М. И. Кутузов скончался через несколько месяцев после
вступления в Вильну, которое описывает Толстой,— 16(28)
апреля 1813 г. в силезском городе Бунцлау. Прах его был пе-
ревезен в Россию и погребен в Казанском соборе.
В этих главах Толстой завершает лепку образа Александ-
ра I. Здесь уместно дать более пространные комментарии к это-
му образу.
315
В целом в «Войне и мире» Александру I отведено сравни-
тельно мало места. В качестве действующего лица он фигури-
рует лишь в нескольких эпизодах: при Аустерлицком сражении,
в Москве, куда он прибыл с целью поднять патриотический дух
московского дворянства и купечества, и в ряде других неболь-
ших сцен. В остальных случаях имя его лишь упоминается при
тех или других обстоятельствах. Уже это является ярким свиде-
тельством того, что персоне царя романист не придал сколько-
нибудь важного значения в совершающихся событиях.
Огромное количество источников, которыми пользовался
Толстой, работая над «Войной и миром», представляет собой
сплошное славословие царю. Федор Глинка в «Очерках Боро-
динского сражения», обращаясь к Александру I, патетически
восклицал: «Мужественный, твердый. Ты был неподвижным
столпом, на который оперлась уязвленная Россия» Г
Адмирал Шишков, С. Жихарев и Е. Ковалевский наградили
Александра I лаврами избавителя Европы от наполеоновской
тирании. Ковалевский писал: «...если континент был проклят в
Бонапарте, то он получил благословение в Александре, этом
законном императоре и освободителе человечества»1 2.
В слащавых до приторности тонах, на все лады мемуаристы
курили фимиам царю, подчеркивая его «отеческую» заботу о
верноподданном народе.
«Я узнал от живущих на большой дороге, что государь,
проезжая там вчерашний день, весьма ласково разговаривал с
поселянами, заходил в церкви, молился и приказывал народу
молиться. Не так ли поступали древние цари, отцы народа»3,—
писал Ф. Глинка.
Почти все исторические работы и записки современников
1812 г. переполнены подобными панегирическими словоизлия-
ниями по адресу Александра I. Все они были известны Толсто-
му, но все они отброшены им как вздор, ничего не имеющий об-
щего с исторической правдой.
В изображении Александра I Толстой пользуется самыми
разнообразными приемами и благодаря этому достигает уди-
вительной пластичности образа, правдивого психологического
рисунка.
Имя царя появляется на первых страницах романа: о нем
говорит в своем салоне Анна Павловна Шерер, фрейлина и
приближенная императрицы Марии Федоровны. Ее салон досту-
пен лишь для представителей высшего света, в этом салоне
царят лицемерие, лесть и подобострастие, здесь витает дух казен-
1 Ф. Глинка. Очерки Бородинского сражения. Воспоминания о 1812
годе. М., 1839, стр. 111—IV.
2 Ев. Ковалевский. Граф Блудов и его время. СПб., 1866, стр. 9
5 Ф. Глинка. Письма русского офицера, ч. 4. М., 1815, стр. 13.
316
кого патриотизма. Поэтому совершенно естественно, что рома-
нист вложил в уста Анны Павловны тирады, целиком совпадаю-
щие по форме и содержанию с приведенными цитатами.
Из многочисленных исторических сочинений Толстой знал,
что молодой царь обладал весьма привлекательной внешностью
и, по выражению Сперанского, «был сущим прельстителем».
Правда, эта внешность, ласковый голос, изысканные манеры
царя очаровывали далеко не всех. Люди умные, проницатель-
ные и дальновидные оставили весьма неприглядную характе-
ристику Александра I. И Толстой восторженное преклонение
перед особой царя приписывает не умному, холодно рассуди-
тельному князю Андрею Болконскому, а ограниченному и
экзальтированному Николаю Ростову (см. т. I, ч. 3, гл. VIII).
Второй раз неотразимое впечатление Александра I на присутст-
вующих Толстой рисует сквозь призму восприятия восторжен-
ного подростка Пети Ростова (см. т. III, ч. 1, гл. XXI).
Хвалебные гимны, расточаемые по адресу царя представи-
телями сановного великосветского круга, восторг и восхищение
обворожительной наружностью, недосягаемым величием Алек-
сандра I в восприятии Ростовых — все это весьма умелые твор-
ческие приемы писателя в создании образа одного из крупных
по положению, но ничтожных по сыгранной ими роли историче-
ских лиц эпохи. Такой прием позволил писателю с чувством
тонкого юмора выразить свое критическое отношение к Алек-
сандру I.
В ряде эпизодов Толстой разоблачает Александра I и более
резко. Вспомним страницы «Войны и мира», где изображено
позорное поражение войск союзников в Аустерлицком сраже-
нии— поражение, одной из причин которого явилась ограничен-
ность, полководческая бездарность и трусость царя. Не менее
бичующие страницы посвятил романист Александру I, изобра-
жая его глупое положение перед началом кампании 1812 г.,
изгнание его под благовидным предлогом из армии, как силы,
парализующей все умное и дельное в русском генералитете;
его легковерие в отношении клеветнических и провокационных
писем английского ставленника Роберта Вильсона и врагов Ку-
тузова Бенигсена, Растопчина и др.; требование решительных
действий от главнокомандующего, тогда как это не диктовалось
обстоятельствами. Все эти моменты, нашедшие обстоятельную
и глубокую разработку в трудах советских исследователей, с
полной исторической правдивостью дает Толстой на страницах
«Войны и мира».
Справедливую оценку личности и деяний царя мы находим и
у некоторых проницательных современников. ДУеткую характе-
ристику дал Александру I П. В. Долгоруков, который на осно-
вании исторических документов и бытовых преданий писал о
нем: «Ум имел он недальний и невысокий, но хитрый до край-
317
пости; лукавый и скрытный, он вполне заслужил сказанное об
нем Наполеоном I: «Александр лукав, как грек византийский».
Слабый характером, он скрывал эту слабость под величавостью
своей осанки. Его постоянною,., главною заботою было при-
влечь и удержать на своей стороне общественное мнение Европы,
и в этом, равно как в хитрости и в лукавстве своего характера,
он был достойным внуком Екатерины, хотя весьма далек был
от пее умом»
В критической оценке Александра I Толстой имел предшест-
венников и в художественной литературе. Это был прежде всего
великий Пушкин. (См. также «Агитационные песни поэтов-дека-
бристов»: «Царь наш, немец прусский», 1823 г.; «Ах, где те ост-
рова»; «Ты скажи, говори», 1824 г.; «Уж как шел кузнец»,
1824 г.) 1 2.
Разыскания советских литературоведов показали, что Пуш-
кин уже в ранние лицейские годы испытывал к царю крайне не-
приязненные чувства. Ему приписывается едкая эпиграмма на
Александра I — «Двум Александрам Павловичам» (1813):
Романов и Зернов лихой,
Вы сходны меж собою:
Зернов! хромаешь ты ногой,
Романов головою.
Но что, найду ль довольно сил
Сравненье кончить шпицом?
Тот в кухне нос переломил,
А тот под Австерлицом 3.
Сравнение царствующей особы с помощником лицейского
гувернера А. П. Зерновым, который пользовался, по словам това-
рища Пушкина — Корфа, репутацией «подлого и гнусного глуп-
ца», было выражением предельного презрения к Александру I.
В 1818 г., когда Александр I был в апогее славы, Пушкин,
вопреки восторженным барабанным стихам, прославлявшим
мнимые добродетели честолюбивого царя, в стихотворении
«Сказки (Моё1)» дал подлинный его портрет:
Ура! в Россию скачет
Кочующий деспот...4
В 1824 г. Пушкин вновь «почтил» Александра I эпиграммой,
коротко, но метко определив его роль в войне под Аустерлицем
и в кампании 1812 г.:
1 П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., 1934, стр. 413.
2 См.: «Поэзия декабристов». Л., «Советский писатель», 1950.
3 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 тт., т. I. М., Пзд-во АН СССР,
1956, стр. 423.
4 См.: А. С. Пушкин. Поли. собр. соч. в 10 тт., т. 1. М., Пзд-во АН
СССР, 1956, стр. 342.
318
Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел! 1
И, наконец, через шесть лет, в десятой, зашифрованной гла-
ве «Евгения Онегина», Пушкин вновь вернулся к Александру I
и в одном четверостишии дал его убийственную характеристику:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой.
Над нами царствовал тогда 1 2.
Не нашлось похвального слова Александру I и у другого пев-
ца эпохи — великого баснописца И. А. Крылова, который посвя-
тил 1812 году ряд замечательных басен. Наоборот, видимо в от-
вет на предложение включиться в общий хор панегирических
песен во славу мнимого героя великих событий, баснописец с
присущим ему лукавством отделался скромным заявлением о
немощи своего голоса, об отсутствии дара одописца:
Так я крушуся и жалею,
Что лиры Пиндара мне не дано в удел:
Я б Александра пел 3.
Не воздал хвалы Александру I и М. Ю. Лермонтов. В сти-
хотворении «Два великана», как показал с полной убедитель-
ностью Н. Л. Бродский, Наполеон противопоставляется поэтом
не Александру I, а русскому народу4.
Ряд интересных соображений об образе Александра I в
«Войне и мире» высказал В. Ермилов в книге «Толстой-худож-
ник и роман «Война и мир»,
А ГЛАВЕ VIII
Унтер-офицер — лицо младшего командного состава в царской и иност-
ранных армиях.
1 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт., т. II. М., Изд-во АН СССР,
1956, стр. 360.
2 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт., т. I. М., Изд-во АН СССР,
1957, стр. 209.
3 И. А. Крылов. Сочинение в 2 тт., т. I. М., «Правда», 1956, стр. 47.
4 См.: Н. Л. Бродский. «Бородино» М. Ю. Лермонтова и его патриоти-
ческие традиции. М.—Л., Изд-во АПН РСФСР, 1948, стр. 29.
319
К ГЛАВЕ X
Диверсия (фр.) — военная операция, которая производится вне дейст-
вия главных сил, для того чтобы отвлечь внимание противника.
Борисов — уездный город Минской губернии, на реке Березине.
ГЛАВЫ ХП-ХШ
«Он (Пьер.— Б. К.) в плену узнал, что Бог в Каратаеве бо-
лее велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом ма-
сонами Архитектоне вселенной». (Гл. XII; 12, 205.)
Здесь и на протяжении комментируемых глав в целом Толс-
той проводит свою излюбленную мысль о нравственном превос-
ходстве простых людей, людей-тружеников над дворянами.
Сближение с народом, по мысли писателя, есть лучшее средство
для духовного обновления и нравственного возрождения дво-
рянства.
ГЛАВА XIV
К ГЛ ABE XIV
Грановитая палата — палата в Московском Кремле. В ней происходили
торжественные церемонии московского двора, большие царские обеды, за-
седания земских сборов и пр.
ГЛАВА XVIII
«...А еще говорят, что он (полицмейстер.— Б. /(.) нечестен
и пользуется». (Гл. XVIII; 12, 225.) Речь идет о полицмейстере
Ивашкине, который, войдя в большое доверие у Растопчина,
«грел руки» во время разорения Москвы (как и вся полиция).
«Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напо-
миная Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга, по обго-
релым кварталам». (Гл. XVIII; 12, 226.) Это сравнение возникло
у Пьера потому, что берега Рейна богаты развалинами средне-
вековых замков, а здание Колизея в Риме, огромного цирка-
амфитеатра, построенного при императорах Веспасиане и Тите
в 80 г. н. э., представляет собой руины.
К ГЛ ABE XVIII
«Я заеду за комиссиями» — т. е. за поручениями.
эпилог
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВЫ I-IV
Четыре главы первой части эпилога Тол-
стой посвятил теоретическим рассуждениям по ряду философ-
ских проблем. Здесь поставлены вопросы о движущих силах ис-
тории, о недоступности человеческому разуму знания конечных
целей истории, о сущности прогресса и реакции, о добре и зле, о
роли и значении исторических деятелей, о случае и гении. Как
складывается и развивается философская мысль Толстого и как
он отвечает на поставленные вопросы?
Толстой высказывает глубокое убеждение, что исторический
процесс непрерывен, только внешние его проявления приобретают
разный характер. По мнению Толстого, где-то в глубине дейст-
вуют «таинственные силы, двигающие человечество», но «за-
коны, определяющие их движение, неизвестны» и недоступны
человеку.
Семь лет после 1812 г. являли собой новую картину истори-
ческой жизни народов: «Исторические лица, прежде во главе
войск отражавшие движение масс приказаниями войн, походов,
сражений, теперь отражали бурлившее движение политически-
ми и дипломатическими соображениями, законами, трактатами...
Эту деятельность исторических лиц историки называют ре-
акцией». (Гл. I; 12, 235.)
Люди, игравшие заметную роль в жизни страны, теперь «оп-
равдываются или осуждаются,— говорит Толстой,— смотря по
тому, содействовали ли они прогрессу или реакции». (Гл. I;
12, 235.)
В этот период Александр I оказался на стороне сил реакции.
И «в настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого
историка, нет человека, который бы не бросил своего камушка
321
в Александра за неправильные поступки его в этот период цар-
ствования». (Гл. I; 12, 236.)
Но деятельность исторического лица, по мнению Толстого, не
подсудна истории, так как понятия о благе и зле исторически
преходящи: «То, что казалось благом, через 10 лет представля-
ется злом, и наоборот». (Гл. I; 12, 237.) Кроме того, суждения об
этих моральных категориях связаны с позицией критика: «...од-
новременно мы находим в истории совершенно противоположные
взгляды на то, что было зло и что было благо». (Гл. I; 12, 237.)
Эти два высказывания вступают в противоречие с философ-
скими взглядами Толстого на морально-этические категории, ко-
торые он считал внеисторическими. В статье «Л. Н. Толстой и
его эпоха» В. И. Ленин подчеркнул это обстоятельство: «Он
(Толстой. — Б. К.) рассуждает отвлеченно, он допускает только
точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин ре-
лигии...»1; «В «Люцерне» (писано в 1857 году) Л. Толстой объ-
являет, что признание «цивилизации» благом есть «воображаемое
знание», которое «уничтожает инстинктивные, блаженнейшие
первобытные потребности добра в человеческой натуре»1 2 (кур-
сив наш.— Б. К.).
По мысли Толстого, о деятельности исторических лиц «нель-
зя сказать, что она была полезна или вредна, ибо мы не можем
сказать, для чего она полезна и для чего вредна». (Гл. I; 12,
237.) Для исторических деятелей и событий не существует неиз-
менного мерила хорошего и дурного.
Дальше писатель высказывает убеждение: «Если допустить,
что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничто-
жится возможность жизни». (Гл. I; 12, 238.)
На чем покоится этот конечный вывод писателя по рассмат-
риваемому вопросу? Толстой глубоко убежден, что жизнь чело-
веческая не может строиться по заранее разработанным про-
граммам, инструкциям, трактатам и т. п. Отсюда его неприязнь
к таким деятелям, как Сперанский, и ко всякого рода государст-
венным преобразователям. Толстой считает, что жизнь челове-
ческая имеет свою логику развития, она есть вечно текущий сло-
жный и противоречивый процесс. Подчинить жизнь каким-то
заранее выдуманным программным измышлениям невозможно.
Вот как он рассуждает: «Положим, что Александр мог сделать
все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые
обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели
движения человечества, распорядиться по topi программе народ-
ности, свободы, равенства и прогресса (более новой, кажется,
нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим,
что эта программа была бы возможна и составлена, и что Алек-
1 В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 101.
2 Там же.
322
сандр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятель-
ностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему
направлению правительства,— с деятельностью, которая, по мне-
нию историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не бы-
ло; жизни бы не было; ничего бы не было». (Гл. I; /2, 237—238.)
Таким образом, Толстой обнаруживает недоверие к челове-
ческому разуму, к его огромной созидательной силе и утвержда-
ет мысль о предопределении свыше законов исторического раз-
вития. Эти мысли, высказанные во второй части эпилога «Вой-
ны и мира», писатель развил в целую философскую систему (но
об этом ниже, при комментировании глав I—XII второй части
эпилога). Они, безусловно, носят ошибочный и реакционный ха-
рактер.
Вторая глава первой части эпилога посвящена рассмотрению
таких понятий, как случай и гений. «Если допустить, что великие
люди ведут человечество к достижению известных целей... то не-
возможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о
гении». (Гл. II; 12, 238.) По что такое случай? Что такое ге-
ний?— задает вопросы писатель.
Толстой считает, что слова «случай» и «гений» не обозначают
ничего действительно существующего и поэтому не могут быть
определены; слова эти только обозначают известную степень по-
нимания явлений: «Я не знаю, почему происходит такое-то яв-
ление; думаю, что не могу знать: потому не хочу знать и говорю:
случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечело-
веческими свойствами действие; не понимаю, почему это проис-
ходит, и говорю: гений». (Гл. II; 12, 238.)
И только тогда, по мнению Толстого, человечеству не нужны
будут эти крайне неопределенные и беспредметные понятия, ко-
гда оно отрешится «от знания близкой и понятной цели» и когда
признает, что «конечная цель нам недоступна».
В третьей главе Толстой приводит целую серию исторических
фактов, которые призваны подтвердить его теоретические рас-
суждения о роли случайности и гения в историческом процессе.
Эти факты достоверны, и обращение к ним свидетельствует о
широкой осведомленности Толстого в сложнейших событиях изо-
бражаемой им эпохи. Но подбор фактов и их толкование часто
носят произвольный и тенденциозный характер, что объясняется
историко-философской концепцией автора «Войны и мира».
«Бесчисленное количество так называемых случайностей со-
путствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у прави-
телей французов, служит ему в пользу». (Гл. III, 12, 240.)
Речь идет о том, что после переворота во Франции 9 терми-
дора (27 июля 1794 г.) положение Наполеона резко ухудшилось.
323
Академик Е. Тарле пишет: «Новые люди относились к нему по-
дозрительно... Тулонский подвиг уже был забыт... А тут еще
подвернулась новая неприятность. Неожиданно термидорианский
Комитет общественного спасения приказал ему ехать в Вандею
на усмирение мятежников, и когда генерал Бонапарт прибыл в
Париж, то узнал, что ему дают командование пехотной брига-
дой, тогда как он был артиллеристом... Произошло запальчивое
объяснение между ним и членом комитета Обри, и Бонапарт по-
дал в отставку» Г
Но вскоре фортуна вновь улыбнулась Наполеону: республи-
ка почувствовала в нем острую нужду. В исторический день
13 вандемьера (5 октября 1795 г.) молодой артиллерийский ге-
нерал Бонапарт разгромил монархический мятеж и снискал го-
рячую благодарность нового правительства. После этого он по-
лучил назначение на должность командующего военными силами
тыла.
«Во время войн в Италии он несколько раз находится на
краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом».
(Гл. Ill; 12, 241.)
Толстой имеет в виду целый ряд военных эпизодов, когда
Наполеон, действительно, находясь на волосок от смерти, оста-
вался невредимым. Так, он со своим штабом прошел по очень
опасной, но короткой дороге—по знаменитому «карнизу» при-
морской гряды Альпийских гор, где на протяжении всего пути им
угрожала, казалось бы, неминуемая смерть от крейсировавших
у самого берега английских судов. В знаменитом сражении под
Лоди (город в Италии, на реке Адде) Наполеон во главе грена-
дерского батальона бросился под смертоносную картечь двадца-
ти австрийских орудий и остался невредим. В кровопролитной
битве при Арколе Наполеон со знаменем в руках бросился па
мост, около него пало несколько солдат и адъютантов, а главно-
командующего не задела ни одна пуля.
«Русские войска, те самые, которые могут разрушить его
славу, по разным дипломатическим соображениям не вступают
в Европу до тех пор, пока он там». (Гл. III; 12, 241.)
Толстой имеет в виду внешнюю политику Павла I, которая
оказалась на руку Наполеону. Екатерина II собиралась высту-
пить в роли жандарма-укротителя французской революции, но
осуществить эти намерения ей не пришлось из-за кончины. Па-
вел 1 также был враждебно настроен против французской бур-
жуазной революции и, несмотря на ненависть к матери, готов-
ность все делать ей наперекор, в отношении французской рево-
люции оказался полным ее единомышленником. Однако вопрос
о походе против революционной Франции затянулся вследствие
1 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 32—33.
324
закулисной борьбы в области внешней политики. Поход так и
не был начат, несмотря на то что Павел принял на себя покро-
вительство над Мальтийским орденом и заявил, что будет доби-
ваться возврата Ордену острова Мальта, захваченного францу-
зами в связи с экспедицией! в Египет в 1798 г.
«По возвращении из Италии он находит правительство в Па-
риже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие
в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются.
И сам собой для него является выход из этого опасного положе-
ния, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в
Африку». (Гл. Ill; 12, 241.)
Толстой имеет в виду интриги и борьбу внутри Директории
в 1797 г. Действиям Наполеона по возвращении из итальянского
похода академик Е. Тарле дает следующую характеристику:
«Едва приехав в Париж, Бонапарт принялся проводить через
Директорию проект новой большой войны: в качестве генерала,
назначенного действовать против Англии, он решил, что есть
место, откуда можно грозить англичанам более успешно, чем на
Ламанше, где их флот сильнее французского. Он предложил за-
воевать Египет и создать на Востоке подступы и плацдармы для
дальнейшей угрозы английскому владычеству в Индии» !.
«Неприступная Мальта сдается без выстрела...» (Гл. III;
12, 241.)
Остров Мальта, принадлежавший с XVI в. Ордену мальтий-
ских рыцарей, был сдан Наполеону по его требованию без боя
и объявлен владением Французской республики.
«Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной
лодки, пропускает целую армию». (Гл. III; 12, 241.)
Речь идет о том, как Наполеон искусным распространением
слухов, что он намерен пройти со своим флотом через
Гибралтар, обогнуть Испанию и высадиться в Ирландии, об-
манул командира английской эскадры Нельсона. Академик
Е. Тарле пишет: «Этот слух дошел до Нельсона и обманул его: он
сторожил Наполеона у Гибралтара, когда французский флот
вышел из гавани и пошел прямо на восток, к Мальте»1 2.
«В Африке над безоружными почти жителями совершается
целый ряд злодеяний». (Гл. III; 12, 241.)
Наполеон беспощадно расправился с каирцами, которые в
конце октября 1798 г. попытались поднять восстание и убили
несколько человек из оккупационной армии. Несколько дней
1 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр 60.
а Т а м ж е, стр. 65.
325
подряд казнили от 12 до 30 человек в день. Невероятная распра-
ва распространилась и на соседние селения, куда дошли отголо-
ски каирского восстания. Академик Е. Тарле пишет: «Генерал
Бонапарт, узнав о первом же из этих восстаний, приказал своему
адъютанту Круазье отправиться туда, окружить все племя, пе-
ребить всех без исключения мужчин, а женщин и детей привести
в Каир, самые же дома, где жило племя, сжечь. Это было ис-
полнено в точности. Много детей и женщин, которых гнали пеш-
ком, умерло по дороге, а спустя несколько часов после этой
карательной экспедиции на главной площади Каира появились
ослы, навьюченные мешками. Мешки были раскрыты, и по пло-
щади покатились головы казненных мужчин провинившегося
племени» Г
Можно было бы привести и другие примеры невероятной же-
стокости Наполеона во время его африканского похода.
«...Император Австрии считает за милость то, что человек
этот принимает в свое ложе дочь Кесарей...» (Гл. III; 12, 243.)
Наполеон развелся со своей первой женой, бездетной Жо-
зефиной Богарнэ. Он сватался к великой княгине Анне Павлов-
не (сестре Александра I), но получил отказ. В 1810 г. вступил
в брак с дочерью австрийского императора Франца I Марией
Луизой.
«Человека, которого, десять лет тому назад и год после, счи-
тали разбойником вне закона, посылают на остров, в двух днях
переезда от Франции, отдаваемый ему во владение с гвардией и
миллионами, которые платят ему за что-то». (Гл. III; 12, 244.)
Речь идет о заточении Наполеона на острове Эльба (Среди-
земное море), куда он был отправлен в сопровождении неболь-
шой свиты после отречения от престола в апреле 1814 г. Остров
Эльба был отдан во владение Наполеону.
«Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без
солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его;
но, по странной случайности, никто не только не берет, но все
с восторгом встречают того человека, которого проклинали день
тому назад и будут проклинать через месяц.
Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокуп-
ного действия». (Гл. IV; 12, 244.)
Имеются в виду исторические события, связанные с уходом
Наполеона 26 февраля 1815 г. с острова Эльба. Наполеон с от-
рядом примерно в 1100 человек решил вернуться во Францию
и восстановить империю. В книге Е. Тарле читаем: «Невероятное
совершилось. Безоружный человек без выстрела, без малейшей
1 Е. Т а р л е. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 69.
326
борьбы в 19 дней прошел от Средиземного побережья до Пари-
жа, изгнал династию Бурбонов и воцарился снова» \
«И проходят несколько лет в том, что этот человек, в одиноче-
стве на своем острове, играет сам перед собой жалкую комедию,
интригует и лжет, оправдывая свои деяния...» (Гл. IV; 12, 245.)
Речь идет о периоде пребывания Наполеона на острове
Св. Елены (с 1815 по 1821 г.), куда он был заточен после
вторичного отречения от престола. Находясь в вынужденном
бездействии, страшно тоскуя, Наполеон, однако, по свидетель-
ству историков, переносил свое положение стоически. А может
быть, как и утверждает Толстой, играл эту роль.
Во время длительного морского пути к месту заточения На-
полеон начал диктовать свои воспоминания, продолженные и на
острове. По поручению Наполеона секретарь его Лас Каз напе-
чатал эти воспоминания во Франции («Memorial de St. Helene»,
Paris, 1823—1824). Эти мемуары являются важным источником
для изучения жизни и деятельности Наполеона. Они имелись в
яснополянской библиотеке Толстого.
Историки подтверждают лживость и демагогичность воспо-
минаний Наполеона. Вот что пишет об этом один из лучших ис-
следователей жизни и деятельности французского императора:
«...Материалы, порожденные пребыванием императора на остро-
ве Св. Елены, дают очень мало. «Бог» изрекал непогрешимые
глаголы, а верующие записывали»1 2.
К ГЛАВЕ I
Фотий (1792—1838) — архимандрит, один из крупных вождей феодаль-
ной реакции второй половины царствования Александра Г, стяжал себе славу
«святого» и «ревнителя веры», пользовался огромным авторитетом среди
крепостнического дворянства. А. С. Пушкин в своих убийственных эпиграм-
мах на Фотия высмеял его мракобесие и показной аскетизм, соединявшийся
с развратом в кругу великосветских поклонниц.
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854)—философ, один из
выдающихся представителей немецкого классического идеализма. В построе-
нии философской системы опирался на успехи современных ему физики, хи-
мии, биологии. Недостатки философии Шеллинга отчасти были результатом
незрелости самого естествознания. Последние годы жизни Шеллинга ознаме-
нованы обострением реакционности, мистицизма, в меньшей мере характер-
ных и для ранних его философских работ.
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814)—немецкий философ, представитель
субъективного идеализма. Признавал существование бога и бессмертие ду-
ши. В политическом отношении был идеологом буржуазии. Всестороннюю
критику философии Фихте дал В. И. Ленин в книге «Материализм и эмпирио-
критицизм».
Шатобриан Франсуа Рене (1768—1848) — французский писатель и поли-
тический деятель, представитель реакционного романтизма, сторонник мо-
нархии.
1 Е. Тарле. 1812 год. М., Изд-во АН СССР, 1961, стр. 356.
2 Т а м же, стр. 377.
327
Конституция Польши. На Венском конгрессе (1815 г.) был произведен
передел польских земель, по которому часть бывшего Варшавского герцог-
ства, получившая название Королевства Польского, отошла к России и была
признана неразрывно связанной с «всероссийским престолом», но имеющей
свою конституцию. По этой конституции Королевством Польским правил ко-
роль — или сам русский император, или его ставленник. Александр I (а за-
тем и Николай I) присягал в Варшаве на верность конституции. После вос-
стания 1830 г. конституция перестала существовать и права Польши были
значительно урезаны.
Священный союз — политическое соглашение, заключенное 26 сентября
1815 г. в Париже Александром I, австрийским императором Францем и прус-
ским королем Фридрихом Вильгельмом III. Основной целью союза являлось
подавление революционных и национально-освободительных движений. Позд-
нее к Священному союзу присоединилась Франция, а затем и большинство
других европейских государств.
Семёновский полк — старейший лейб-гвардейский полк в России, сформи-
рованный будущим императором Петром I в подмосковном селе Семеновском
(в 1683 г.). В 1820 г. в полку вспыхнуло восстание, вызванное жестоким об-
ращением с солдатами. Волнения были подавлены, полк расформирован, а
зачинщики подвергнуты жестоким телесным наказаниям.
Профессйруют — открыто признают за собой.
К ГЛ ABE II
Денник (обл.) — закрытое стойло для одной лошади или одного барана.
К ГЛАВЕ III
Кесарь — наименование императора у греков и части славян; в данном
случае имеется в виду Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.)—римский госу-
дарственный деятель, полководец и писатель.
Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.) — крупнейший полково-
дец и государственный деятель древнего мира. С 336 г — царь Македонии,
сильной рабовладельческой монархии на Балканском полуострове, чье господ-
ство было распространено отцом Александра Македонского, Филиппом И,
на всю Грецию. Покорил Персию, Финикию, Египет. После смерти Александ-
ра его огромная империя распалась.
К ГЛАВЕ IV
Сурьма—(перс.). — здесь: в смысле сурьмило — краска для чернения во-
лос, имеющая в своем составе сурьму.
Эфир (греч.) — в учении греческих философов — тончайшая материя,
наполняющая мировое пространство, так называемое «пятое начало» (квинт-
эссенция), в отличие от четырех стихий, или элементов (огня, воздуха, во-
ды и земли).
ГЛАВЫ V-IX
В образе Николая Ростова Толстой дает яркую и весьма ко-
лоритную фигуру помещика, который сумел взять бразды прав-
ления в свои руки и наладил у себя в поместье крепкое хозяй-
ство. Завершая социальную биографию Николая Ростова, Тол-
стой пишет: «...Состояние его быстро увеличивалось; соседние
328
мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго
после его смерти в народе хранилась набожная память об
его управлении. «Хозяин был... Наперед мужицкое, а потом
свое. Ну и потачки не давал. Одно слово — хозяин!» (Гл. VII;
12 257.)
Став владельцем большого и богатого поместья, расплатив-
шись с долгами, Николай Ростов, по словам Толстого, повел
свое хозяйство образцово. «...К 1820 году Николай так устроил
свои денежные дела, что прикупил небольшое именье подле Лы-
сых Гор и вел переговоры о выкупе отцовского Отрадного...»
(Гл. VII; 12, 254.)
Что же обеспечило Николаю Ростову такой успех в управле-
нии поместьем?
«Начав хозяйничать по необходимости, он скоро так пристра-
стился к хозяйству, что оно сделалось для него любимым и почти
исключительным занятием. Николай был хозяин простой, не лю-
бил нововведений, в особенности английских, которые входили
тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяй-
стве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих
хлебов и вообще не занимался отдельно ни одною частью хозяй-
ства. У него перед глазами всегда было только одно именье, а
не какая-нибудь отдельная часть его. В именье же главным пред-
метом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и в воз-
духе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез по-
средство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг,
т. е. работник-мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал
вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе
его внимание; мужик представлялся ему не только орудием, но и
целью и судьею. Он сначала всматривался в мужика, стараясь
понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и
только притворялся, что распоряжается и приказывает, в сущ-
ности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и сужде-
ниям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда по-
нял вкусы и стремления мужика, когда научился говорить его
речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал
себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять
им, т. е. исполнять по отношению к мужикам ту самую долж-
ность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Ни-
колая приносило самые блестящие результаты». (Гл. VII; 12,
254—255.)
Нас интересуют две стороны этого рассуждения. Во-первых,
Николай Ростов изображается как помещик, не признающий ни-
каких нововведений в поместном хозяйстве. В этом отношении он
олицетворяет собой ту группу помещиков, о которых в универ-
ситетском курсе «Истории СССР» говорится следующее: «Боль-
шинство помещиков коснело в рутинных, привычных формах
П Б. И. Кандиев
329
крепостного хозяйства...»1 Во-вторых, Толстой изображением
хозяйственных успехов Ростова отвечает на волновавший его,
писателя, вопрос: как должен себя вести помещик по отношению
к крестьянам, чтобы устранить веками складывавшуюся и
продолжающую углубляться пропасть между барином и мужи-
ком? Выше мы приводили ряд картин из произведений Толстого,
где он весьма ярко раскрыл мир душевного смятения и помещи-
ка, и крестьянина, их взаимное недоверие и непонимание. Нико-
лаю Ростову удалось сродниться с крестьянином, он нашел путь
к его сердцу, завоевал его доверие и снискал себе репутацию
строгого, но справедливого хозяина. Удалось это Николаю, по
мнению Толстого, потому, что он стал хозяйничать не мудрствуя
лукаво, не по книжкам, не по «модным» теориям, не с примене-
нием заграничных истин, а исповедуя мужицкую правду. Важно
также отметить любовь Н. Ростова к русскому народу, о кото-
ром Толстой говорит с особой теплотой: «...Он всеми силами
души любил этот наш русский народ и его быт и потому только
понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства,
которые приносили хорошие результаты». (Гл. VII; 12, 256.)
Рассуждения Толстого о добром, любящем барине, который
якобы умелым хозяйствованием нашел путь к сочетанию инте-
ресов крепостного крестьянства и помещика, безусловно, утопич-
ны. Они отражают не реальную действительность, а поиски ве-
ликого писателя в решении одного из самых сложных и жгучих
для него вопросов: можно ли сделать так, чтобы в рамках кре-
постного уклада жилось хорошо и барину и мужику? Страни-
цами «Войны и мира» о хозяйствовании Николая Ростова Тол-
стой пытался дать положительный ответ на этот вопрос. По ве-
рил ли сам писатель в пору создания'«Войны и мира» в крепо-
стное право как уклад, способный обеспечить гармонию
интересов двух антагонистических классов? Очевидно, нет. Об
этом говорят документы, созданные рукой самого Толстого. Вот
что читаем в черновом варианте «Войны и мира»: «Митинька
жил с семьей в большом флигеле села Отрадного, и все, имевшие
дела до графа, знали, что тут-то у него решались все дела.
У крыльца его в новых кафтанах, чисто обутые начальники из
мужиков, и мужики растерзанные, и бабы просительницы. Ми-
тинька вышел к ним в шубке, румяный, гордый, рассеянный...
— Ну, вы что?
Старый мужик повалился в ноги.
— Отец!.. Ваньку взяли, хошь бы Митюшку оставили! При-
кажи отменить.
— Да тебе говорили, что это только на времяг
— Как, батюшка, на время? Сказывают, всех заберут.
1 «История СССР. Россия в XIX веке», изд. 3, т. 2, под ред. М. В. Нечки-
ной. М., Госполитиздат, 1955, стр. 22.
330
Баба, просившая о муже, бросилась в ноги.
— Ну, ну, твоего-то давно пора за грубиянство.— Из-за угла
вышло еще человек десять оборванцев, видимо, те же просители...
В это время мимо крыльца прикащикова флигеля прогремела
огромная карета цугом на сытой шестерке серых. Два лакея в
галунах стояли — гладкие — сзади. Кучер толстый, красный, с
помаженной бородой крикнул на народ, подручный жеребец за-
играл» (13, 621—622. Курсив наш. — Б. К.).
Эта картина в комментариях не нуждается.
Сошлемся и на более ранние документы. В августе 1855 г.
Толстой сделал следующую запись в дневнике: «...Пришла мысль
сделать мои 4 эпохи истории Русского помещика... Главная
мысль романа должна быть невозможность жизни правильной
помещика образованного нашего века с рабством...» (47, 58).
И еще запись, сделанная в 1856 г.: «Два сильных человека
связаны острой цепью, обоим больно, как кто зашевелится, и как
один зашевелится, невольно режет другого, и обоим простора нет
работать» (147, 80). Эта запись, очевидно, также относится к
взаимоотношениям помещика и крепостного крестьянина.
Приведенные данные убеждают нас, что нарисованная Тол-
стым в «Войне и мире» картина хозяйствования добродетельного
помещика Николая Ростова не должна восприниматься нами
прямолинейно и безоговорочно. В создании этого образа про-
явилась все та же противоречивость писателя, характерная для
него на протяжении всего творческого пути.
Краткую обобщающую характеристику Николая Ростова дал
В. Ермилов. «История Николая Ростова,— пишет он,— это исто-
рия рядового человека, ограниченного своею сословностью,
классовостью, искреннего, доброго...» 1
К ГЛАВЕ V
Причастившись. Причастие —- вино и хлеб, употребляемые при причаще-
нии; причаститься — значит принять причастие.
С молотка (продать, пойти) — с аукциона, с публичного торга (удара-
ми молотка на аукционах дается знать, что вещь продана).
Сивцев Вражек — переулок в Москве (на Арбате).
К ГЛ ABE VII
Прозрение — внезапное просветление мысли, уразумение.
Дебет (лат.) — в приходо-расходных книгах — счет поступлений и дол-
гов данному учреждению.
Кредит (лат.) — счет лица или учреждения, дающего что-нибудь в заем.
Одонья (обл.) — круглая кладь, кладушка хлеба в снопах и круглая
кладь сена.
1 В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослит-
издат, 1961, стр. 100. См. также стр. 88—149.
К ГЛ ABE VIII
Камэ, или камея (ит.) — камень с резным рельефным изображением.
Лаокодн — в греческом эпосе — троянский жрец бога Аполлона, вопреки
воле богов решивший спасти Трою и в наказание за это по их повелению
задушенный змеями. В 1506 г. в Риме была найдена античная скульптура
(примерно III—I вв. до н. э.), изображающая смерть Лаокоона и его сыно-
вей. Скульптура находится в Ватиканском музее в Риме.
ГЛАВЫ X—XVI
Изобразив критически столичное дворянство, Толстой в эпи-
логе романа дал некий идеал дворянских семей — это семья Ни-
колая Ростова и Марьи Болконской и семья Пьера Безухова и
Наташи Ростовой. Всему лживому, своекорыстному и амораль-
ному, что присуще большому свету, Толстой противопоставил
простое, бесхитростное, гармоничное в усадебной жизни Росто-
вых и Безуховых.
Толстой пишет: «Как в каждой настоящей семье, в Лысогор-
ском доме жило вместе несколько совершенно различных миров,
которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки
один другому, сливались в одно гармоническое целое». (Гл. XII;
12, 273.)
Что особенно восхищает романиста в жизни этих двух по-
хожих друг на друга семейных гнезд? Прежде всего простота и
естественность всего процесса семейной жизни. Николай Ростов
оказался, как говорилось выше, превосходным хозяином, нашед-
шим путь к сердцу мужика; княжна Л1арья — любящей женой и
добродетельной матерью. «Николай жил с своею женой так хо-
рошо, что даже Соня и старая графиня, желавшие, из ревности,
несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека».
(Гл. IX; 12, 262.) И если между ними возникали иногда непри-
язненные отношения, то и это скорее подчеркивало полноту их
счастливой жизни, чем угрожало какими-либо серьезными по-
следствиями.
Идиллию семейного счастья являет собой и супружеская
жизнь Наташи с Пьером.
Полное перерождение Наташи, которое произошло после ее
замужества, не раз вызывало резкие критические выступления
против Толстого за то, что он волшебницу Наташу, полную оба-
яния и грации, в замужестве превратил всего лишь «в сильную
и плодовитую самку».
В литературе о «Войне и мире» неоднократно писалось о том,
что Толстой в решении «женского вопроса» полемизировал с ре-
волюционерами-демократами. В противовес их широкой пропа-
ганде эмансипации женщины от рабских семейных уз, права
женщины на высшее образование, общественную деятельность
и т. д., Толстой рисует свой идеал русской женщины — Наташу.
332
Изобразив в эпилоге семейную жизнь своей любимой герои-
ни, Толстой дает ряд публицистических тезисов о сущности и на-
значении брака, основах семейной жизни, назначении женщины
в семье и т. п. Основная идея Толстого в вопросах семьи и брака
сводится к признанию полной несовместимости обязанностей же-
ны и матери с какими-либо другими увлечениями. Примерная
жена и мать бывает, по мнению Толстого, так поглощена своими
семейными обязанностями, что для чего-либо другого у нее нет
и не может быть свободного времени: «...Она (Наташа.— Б. К.),
нося, рождая и кормя детей и принимая участие в каждой ми-
нуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям
иначе, как отказавшись от света». (Гл. X; 12, 266.)
Поведение своей героини писатель объясняет способностью
человеческой натуры целиком погружаться в один предмет.
«Предмет, в который погрузилась вполне Наташа — была се-
мья, т. е. муж, которого надо было держать так, чтобы он нераз-
дельно принадлежал ей, дому,— и дети, которых надо было но-
сить, рожать, кормить и воспитывать». (Гл. X; 12, 267.)
Все эти рассуждения Толстого показывают, что он пришел к
категорическому выводу о несовместимости супружеских обя-
занностей жены и матери с какими-либо другими интересами.
Женщина рождена только для одного: достигнув возраста, ког-
да ее физическое развитие позволит вступить в брак, она долж-
на обзавестись семьей и все свое внимание и энергию сосредо-
точить на создании семейного гнезда, на рождении детей и их
воспитании. Такая миссия женщины, по мнению писателя, вы-
текает из самой ее природы.
Толстой вступает в резкую и решительную полемику с теми,
кто пытается увести женщину от этого, раз и навсегда предна-
чертанного для нее пути. Он пишет: «Толки и рассуждения о
правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах
их, хотя и не назывались еще, как теперь, вопросами, были
тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не
интересовали Наташу, но она решительно не понимала их.
Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для
тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получае-
мое супругами друг от друга, т. е. одно начало брака, а не все
его значение, состоящее в семье». (Гл. X; 12, 267—268.)
Как расценить суждения Толстого о Наташе в замужестве?
Есть ли это только продукт творческой фантазии писателя или
Толстой исходил из каких-то реальных фактов?
Оказывается, и здесь Толстой не изменил жизненной правде.
С. Жихарев в «Записках современника» рассказывает о двух
сестрах: «...Старшая, которая так хорошо играет на скрипке, вы-
ходит замуж.... Младшей я не советовал бы выходить замуж,
чтобы не потерять прекрасный редкий талант, который требует
еще развития; а оно едва ли возможно при домашних хлопотах
333
и заботах супружеской жизни. Я уверен, что старшую сестрицу
через год мы не узнаем: забудет скрипку и фортепиано, обопьет-
ся чаю, растолстеет, обленится... Итальянская Сильфида пре-
вратится в жирную купчиху» \
Д. Н. Свербеев в своих «Записках» говорит о знакомстве с
Верой Львовой, которая «была прехорошенькая и преталантли-
вая: пела удивительно (этому искусству успешно учил ее италь-
янец Бравур), превосходно играла на арфе, не говорю уже о
фортепианах, списывала картину масляными красками и отлич-
но играла на сцене» 1 2.
Правда, судьба Веры Львовой несколько иная: она парали-
зовала все свои дарования не замужеством, а одеянием инокини.
Эти факты говорят о том, что среди русских женщин были
богато и многосторонне одаренные натуры, и не супружеские
обязанности явились виной их гибели, а крепостническая систе-
ма, которая исключала возможность широкого приложения ду-
ховных сил женщины.
В целом Толстой нарисовал исторически верную картину по-
ложения женщины-дворянки в условиях жизни как великосвет-
ского общества, так и усадебного дворянства. Но по достоин-
ству осудив первых, он оказался несправедливым в своих по-
пытках окружить ореолом высшей добродетели вторых. Толстой
был глубоко убежден, что женщина, целиком отдаваясь семье,
воспитанию детей, выполняет работу огромной общественной
важности. И в этом он, безусловно, прав. Нельзя согласиться с
писателем лишь в том отношении, что все интересы женщины
должны быть ограничены рамками семьи.
Решение женского вопроса в романе вызвало резкие крити-
ческие суждения уже у современников Толстого. С. И. Сычев-
ский писал: «Теперь из всего вышеизложенного постараемся
определить отношение автора, как человека с замечательным
умом и талантом, к так называемому женскому вопросу. Ни
одна из женщин не является у него вполне самостоятельным
деятелем за исключением развратной Элен. Все прочие только
и годятся для того, чтобы дополнить мужчину. В гражданскую
деятельность не мешается ни одна из них. Самая светлая из
всех женщин романа «Война и мир» — Наташа — счастлива ра-
достями семейной и личной жизни... Одним словом, г-н Толстой
решает женский вопрос в самом, так называемом, отсталом,
рутинном смысле»3.
Толстой остался верен своей точке зрения на женский воп-
рос до конца жизни.
1 С. А. Жихарев. Записки современника. СПб., 1859, стр. 355—356.
(Источник, которым пользовался Л. Н. Толстой.)
2 Д. Н. Свербеев. Записки, т. 1. М., 1899, стр. 170.
3 С. И. Сыче век ий. Очерки новейшей русской литературы. «Война и
мир» графа Л. Н. Толстого. «Одесский вестник», 1868, № 155,
334
В. И. Ленин, оценивая «Крейцерову сонату» и имея в виду
этот вопрос, писал следующее: «Толстой верен этой идео-
логии и в «Крейцеровой сонате», когда он говорит: «эмансипа-
ция женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне»...» 1
В эпилоге мы находим отзвуки деятельности реакционно-ми-
стического Библейского общества, которое было организовано
в 1812 г. для распространения среди населения религиозных
идей.
Александр I всячески поощрял деятельность общества. При
содействии правительства оно к 1824 г. довольно широко рас-
кинуло свои сети, располагая 89 отделениями и большими воз-
можностями в распространении религиозной литературы (около
полумиллиона экземпляров книг «священного писания») 1 2. Об-
щество было закрыто в 1826 г. по приказу Николая I, объявив-
шего издание библии исключительным правом синода.
Деятельность этого общества, вероятно, и имел в виду Тол-
стой, рисуя диалог между Денисовым и Пьером:
«— Ну что же, все это безумие, и Госнер и Татаринова,—
спросил Денисов, — неужели все продолжается?
— Как продолжается? — вскрикнул Пьер, сильнее, чем ког-
да-нибудь.— Библейское общество — это теперь все правитель-
ство». (Гл. XIII; 12, 279.)
И дальше: «— Аракчеев и Голицын, — неосторожно сказал
Пьер, — это теперь все правительство. И какое! Во всем видят
заговоры, всего боятся». (Гл. XIII; 12, 280.)
Более меткую характеристику правительства 20-х годов XIX в.,
как олицетворение его в этих двух изуверах, придумать трудно.
Недаром оба они вызвали гневные стихи декабриста Рылеева
(«К временщику») и едкие эпиграммы А. С. Пушкина.
Чуткий к исторической правде, великий художник-реалист
не мог обойти такой важнейший момент, как возникновение
тайных обществ (начали свою деятельность в 1816 г.). Из мно-
гочисленных исторических исследований движения декабристов
известно, что в 1820 г. количество заговорщиков значительно
увеличилось, программа их с ростом недовольства закабален-
ного крепостного крестьянства и солдат (возмущение Семенов-
ского полка в 1820 г.), а также в связи с расширением револю-
ционного движения на Западе (испанская и неаполитанская
революции 1820 г., греческое восстание 1821 г. и др.) стала прини-
мать более радикальные формы. Около 1820 г. декабристы ста-
ли обдумывать вопрос о решительном военном нажиме па пра-
вительство. Этот кульминационный момент в деятельности тай-
1 В. И. Л е н и п. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 102.
2 См.: «История СССР. Россия в XIX веке», изд. 3, т. 2, под ред. М. В. Неч-
киной. М., Госполитиздат, 1955, стр. 109.
335
ных обществ п находит отзвук в романе-эпопее. Именно в 1820 г.
по приглашению князя Федора Пьер ездил в Петербург на ка-
кое-то тайное совещание. Из диалога между Николаем Росто-
вым и Пьером мы узнаем, что совещание было по весьма важ-
ным политическим вопросам. Толстой пишет:
« — О чем это? — спросил Николай.
— Все о том же и о том же, — сказал Пьер, оглядываясь
вокруг себя. — Все видят, что дела идут так скверно, что это
нельзя так оставить и что обязанность всех честных людей про-
тиводействовать по мере сил». (Гл. XIV; 12, 282).
Когда Пьеру представилась возможность более открыто вы-
сказаться обо всем, что было предметом тайного совещания,
перед слушателями открылась весьма печальная картина.
« — Вот что,— начал Пьер...— Положение в Петербурге вот
какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому ми-
стицизму... Он ищет только спокойствия и спокойствие ему мо-
гут дать только те люди sans foi ni loi (без веры и совести), ко-
торые рубят и душат все сплеча...
J — Ну, и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка:
шагистика, поселения, — мучат народ; просвещение душат. Что
молодо, честно, то губят!» (Гл. XIV; 12, 283.)
Здесь очень сжато, в отдельных отрывочных фразах Толстой
удивительно глубоко и верно охарактеризовал вторую полови-
ну царствования Александра I. Из огромного следственного ма-
териала по делу декабристов видно, что их волновали и возму-
щали те же самые вопросы, те же уродливые явления самодер-
жавно-крепостнической системы, о которых говорит писатель
устами Пьера.
Рассмотрим каждое положение, высказанное Толстым, и
подтвердим нашу мысль историческими документами.
Пьер говорит об исключительно тяжелом положении русско-
го народа, о чрезмерных злоупотреблениях во всех звеньях го-
сударственного аппарата и о том, «что это нельзя так оставить
и что обязанность всех честных людей противодействовать по
мере сил».
Мысль Пьера о священной обязанности каждого истинного
сына отечества бороться с окружающим злом высказывалась
многими декабристами. Вот что пишет, например, о себе один
из видных деятелей тайного общества, генерал-майор М. Ф. Ор-
лов: «Я... вознамерился сделать тайное общество, составленное
из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и дру-
гим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутрен-
нем управлении России» Г
1 М. В. Д о в и а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 3.
336
А. И. Тургенев в письме к кн. Вяземскому в 1819 г. писал об
Орлове следующее: «Лучшее в М. Орлове есть страсть его к
благу отечества. Она сберегает в нем душу его благородную и
возвышенную» Г
А. Бестужев в письме к Николаю I откровенно признавался
в том, что заставило декабристов уйти в подполье: «Луч надеж-
ды, что государь император даст конституцию... Но с 1817 г. все
переменилось. Люди, видевшие худое или желавшие лучшего, от
множества шпионов принуждены стали разговаривать скрыт-
но, — и вот начало тайных обществ» 1 2.
Подполковник Батеньков писал царю из крепости: «Вина моя
в существе ее проста: она состоит в жажде политической свобо-
ды и в кратковременной случайной встрече с людьми, еще бо-
лее исполненными сей же жажды»3.
Дальше Пьер говорит о том, что царь самоустранился, ни во
что не вникает, что он является лишь номинальным правителем,
фактически же вся полнота власти находится в руках жестоких
и бессовестных временщиков.
Эта мысль находит подтверждение как в мемуарах, так и в
поэзии декабристов. Полковник Булатов писал великому князю
Михаилу Павловичу: «При покойном государе императоре граф
Алексей Андреевич (Аракчеев. — Б. К.) имел власть самого го-
сударя распоряжаться участью людей, и как по свойству души
своей не склонен к добру, то и нет примера, чтобы кому-нибудь
сделал добро»4.
Декабрист Александр Михайлович Муравьев в своих воспо-
минаниях говорил: «Забыв все свои обязанности относительно
России, Александр, к концу своего царствования, предоставил
все дело управления страною известному Аракчееву...»5
Об этом же пишет Якушкин: «...Он (Александр.— Б. К.) с
каждым днем становился мрачнее и все более и более отчуж-
дался от России. Граф Аракчеев уже явно управлял государст-
вом»6.
И в другом месте: «Разводы, парады и военные смотры были
почти его (царя. — Б. К.) единственные занятия...»7
Поэты-декабристы К. Рылеев и А. Бестужев-Марлинский пи-
сали в своей агитационной песне: «Ах, тошно мне»:
1 «Остафьевский архив князей Вяземских», т. 1, 1812—1819. СПб., 1899,
стр. 297.
2 М. В. Д о в и а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 129.
3 Т а м же, стр. 137.
4 Т а м ж е, стр. 248.
5 В. II. Семевский Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 84.
6 И. Д. Я к у ш к и п. Записки, изд. 2. М., 1905, стр. 33.
7 Т а м же, стр. 12.
337
Всех затеей
Аракчеев
И всему тому виной.
Он царя подстрекнет,
Царь указ подмахнет
О бездеятельности Александра I и его полном безразличии
к судьбе народа говорит и один из наиболее пламенных и сме-
лых декабристов — Каховский: «Неужели, будучи верховным
правителем и судьею, полезнее было бывать каждый день у раз-
вода, чем когда-нибудь посетить главное правительствующее
место и судилище народное... Покойный император, объезжая
области государства, вникнул ли где в состояние народное?»1 2
Пьер говорит о злоупотреблениях в судопроизводстве: «...в
судах воровство...»
Это положение Толстого также находит подтверждение в мно-
гочисленных показаниях декабристов.
Декабрист А. Бестужев в письме к Николаю I с глубокой
скорбью писал о злоупотреблениях судейских дельцов: «...Одни
судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия бы-
ла обетованной землей. Лихоимство их взошло до неслыханной
степени бесстыдства. Писаря заводили лошадей, повытчики по-
купали деревни, так что в столице под глазами блюстителей
производился явный торг правосудием...»3
По мнению декабриста Штейнгеля, злоупотребления судей-
ских чиновников приняли такие формы, что царское правительст-
во оказалось бессильным их ликвидировать. В своих показаниях
он пишет: «Посылались сенаторы, производили исследование,
тысячами отдавали бедных чиновников под суд и определяли но-
вых, а те принимались за то же, только смелее, ибо обыкновен-
но поступали на места с протекцией. Сколько и теперь есть гу-
бернаторов, состоящих под бесконечным судом»4.
В письме 14 марта 1826 г. к генералу Левашову, члену след-
ственной комиссии, Каховский так характеризует состояние су-
допроизводства: «Образование судопроизводства нашего ужасно
невыгодно и обременительно для судящихся: существует множе-
ство инстанций, и чтобы пройти длинную лестницу мытарств су-
дебных, нужно и долгое время, и большие средства... Часто жиз-
ни не достает дождаться конца... Бедный человек может ли из
дальней губернии ехать в столицу выслушивать дело в сенате?
Многие не имеют и способов подавать апелляции, переносить
1 «Поэзия декабристов». Л., «Советский писатель», 1950, стр. 246.
2 В. И. С е м е в с к и й. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 79.
3 М. В. До в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 132.
4 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб, 1909, стр. 89.
338
дела, и нередко правый, но бедный делается виноватым пред ви-:
новным, по богатым и сильным...» 1
Эти мысли А. Бестужев-Марлинский вместе с соратником но
перу К. Рылеевым облек в народнопоэтическую форму:
Баре с земским судом
И с приходским попом
Нас морочат
И волочат
По дорогам да судам.
А уж правды нигде
Не ищи мужик в суде,
Без синюхи
Судьи глухи,
Без вины ты виноват... 1 2
«В армии одна палка: шагистика, поселения...» — заявляет
Пьер.
Жестокие телесные наказания в армии и абсурдная муштра
особенно возмущали передовое мыслящее офицерство александ-
ровской эпохи. Поэтому естественно, что ни один из декабристов,
хорошо знавших армейскую жизнь, не умолчал в своих показани-
ях о чудовищных методах наказания ни в чем не повинных солдат.
Вот что говорит об этом В. Ф. Раевский: «Первое зло, кото-
рое вкралось в русскую армию, есть несоразмерно жестокие те-
лесные наказания, которые употребляют офицеры, вопреки всем
законам, для усовершенствования солдат, и, к несчастию и сты-
ду, других средств большая часть из них не постигает... Унтер-
офицеры, подражая офицерам, ефрейторы — унтер-офицерам,
считают некоторого рода отличием бить, и несчастный солдат,
не находя нигде защиты, не смея даже жаловаться на инспек-
торских смотрах, впадает в бесчувственное ожесточение... Из
20 наказанных... 2 солдата только сознаются, что они наказаны
справедливо, другие все ропщут на несправедливость и жесто-
кость...» 3
В следственном деле Раевского есть приказание командира
дивизии Желтухина командиру батальона, поражающее не
только своей жестокостью, но и безграничным цинизмом. Вот
оно: «Сдери с солдат шкуру от затылка до пяток, а офицеров
переверни кверху ногами, не бойся ничего — я тебя поддержу»4.
В. И. Семевский приводит еще целый ряд документов, сви-
детельствующих о жестоких и несправедливых наказаниях ун-
тер-офицерского и рядового состава 5.
1 М. В. Д о в н а р-З а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 88.
2 «Поэзия декабристов». Л., «Советский писатель», 1950, стр. 246.
3 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 114.
4 Т а м же, стр. 115.
5 См. там ж е, стр. 115—117.
339
Суровая муштра и чудовищные телесные наказания нашли
отражение в записках многих декабристов. Вот что пишет об
этом, например, декабрист Якушкин: «Царь был всякий день
у развода; во всех полках начались учения, и шагистика вошла
в полную свою силу» Г
И в другом месте: «...Жестокие наказания употреблялись не
за одно дурное поведение, но и иногда за самый ничтожный
проступок по службе и даже за какой-нибудь промах во
фрунте»1 2.
Муштра и телесные наказания стали настолько распростра-
ненным явлением, что об этом заговорили даже высокопостав-
ленные лица. Так, например, князь Константин Павлович в
1817 г. писал Н. М. Сипягину (очевидно, генерал-майору) сле-
дующее: «Я таких теперь мыслей о гвардии, что ее столько у
вас учат и даже за 10 дней приготовляют приказами, как про-
ходить колоннами, что если гвардии стать на руки ногами вверх,
а головою вниз и маршировать, так промаршируют, и немудре-
но: как не научиться всему. Есть у вас в числе главнокоманду-
ющих танцмейстеры, фехтмейстеры» 3.
Генерал Сабанеев в письме к Киселеву 7 декабря 1820 г. го-
ворит: «Нигде не слышно другого звука, кроме ружейных при-
емов и командных слов, нигде другого разговора, кроме краг,
ремней, и вообще солдатского туалета и учебного шага. Быва-
ло, везде песни, везде веселье, теперь нигде его не услышишь,
везде цыц-гаузы, и целая армия состоит из учебных команд.
Чему же учат? — Учебному шагу, стойке и проч.»4.
Палка и шагистика также нашли отражение в поэзии К. Ры-
леева и Бестужева-Марлинского:
Прижимают локти,
Забирают в когти.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь5.
И в другой песне:
Близ Фонтанки-реки
Собирались полки.
Слава!
Что ни свет, ни заря
v Для потехи царя.
Слава!6
1 И. Д. Я к у ш к и н. Записки, изд. 2. М., 1905, стр. 5.
2 Т а м ж е, стр 26.
3 «Русская старина», 1900, № 4, стр. 112.
4 В. И. С е м е в с к и й. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 118.
5 «Поэзия декабристов». Л., «Советский писатель», 1950, стр. 242.
6 Т а м ж е, стр. 241.
340
Вариант этой песни:
Там их учат и мучат
Что ни свет, ни заря,
Для потехи царя.
Слава!
Военные поселения также вызвали волну негодования и воз-
мущения всей передовой дворянской интеллигенции, и прежде
всего декабристов. В следственных материалах и в мемуарах
осужденных мы находим самые резкие высказывания об этом
чудовищном институте, введенном по воле Александра I и при
активном содействии его ближайшего помощника Аракчеева.
Перед нами дневниковая запись одного из наиболее прогрес-
сивных деятелей эпохи, Николая Ивановича Тургенева, сделан-
ная им в апреле 1817 г.: «О поселениях говорят все неприятное.
Об этих переменах нельзя говорить шутя. Я уверен, что вся эта
мера в полноте не удастся... За что же тысячи невинных жертв
погибнут или отяготятся несчастием?»
В том же году Тургенев делает в дневнике новую запись:
«Слухи о военных поселенцах все те же. Их селят и разоряют.
Права собственности, права человечества забыты... Мне горько
и то, что эти поселения делаются по воле государя»1 2.
А. Бестужев в письме к Николаю I также подчеркивает па-
губное значение поселений для народа: «...Поселения парализо-
вали не только умы, но и все промыслы тех мест, где устроились,
и навели ужас на остальные»3.
Особенно резко и смело высказался о поселениях декабрист
Штейнгель в письме к Николаю I: «Насильственная система так
называемого водворения поселений принята была с изумлением
и ропотом... и не могло быть иначе. После тяжкой Отечествен-
ной войны... внезапно войти в селения военною рукою, взять
домы мирных земледельцев, все дедами и самими ими нажитое,
да и их самих в общий состав нового воинства — едва ли исто-
рия представляет что-либо тому подобное»4.
Подполковник Г. С. Батепьков, член Северного общества,
находясь на службе в совете военных поселений, прекрасно ви-
дел всю подноготную этого предприятия. В своих показаниях
он заявил следующее: «Военные поселения представили мне
страшную картину несправедливостей, притеснений, наружного
обмана, низостей — все виды деспотизма»5.
1 «Поэзия декабристов». Л., «Советский писатель», 1950, стр. 808.
2 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 171—172.
3 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 130.
4 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 177.
5 Там ж е, стр. 176.
341
Совершенно естественно, что военные поселения вызвали не
только возмущение и негодование народа, но и открытые вос-
стания. Они подавлялись с чудовищной жестокостью. Описание
одной из расправ (в 1819 г.) мы находим в записках декабриста
Александра Муравьева: «Ужасные сцены произошли в Чугуеве,
где священники благословляли своих духовных детей, решив-
шихся бесстрашно выдержать мучительные наказания и про-
клинавших тех, кто, при виде их, выказывал слабость... Диви-
зионы пехоты были приведены, чтобы исполнить обязанности па-
лачей» Г
Об этом же говорит Якушкин в «Записках»: «В новгород-
ской губернии казенные крестьяне тех волостей, которые были
назначены под первые военные поселения, возмутились. Гр.
Аракчеев привел против них кавалерию и артиллерию; по ним
стреляли, их рубили, многих прогнали сквозь строй, и бедные
люди должны были покориться»1 2.
«...Просвещение душат. Что молодо, честно, то губят»,— го-
ворит Пьер.
Ряд исторических документов и художественных произведе-
ний о первой четверти XIX в. свидетельствует о крутых мерах
царского правительства в борьбе с разумной постановкой уни-
верситетского и школьного преподавания. Это вызывало возму-
щение в среде прогрессивного дворянства эпохи.
И. Тургенев 14 сентября 1820 г. записал в своем дневнике
выдержку из инструкции директору Казанского университета,
которая предписывала «смотреть, чтобы жены сторожей не мыли
белья и не пекли хлебов на сторону, чтобы учители внушали по-
корность юношеству, чтобы внушали, что все языческие герои
были пустые гордецы; чтобы директор входил в сношение с по-
лициею для узнапия, куда, к кому ходят в город учители и что
они делают»3.
24 сентября 1821 г. он делает запись: «Четырем профессорам
здешнего университета (Герману, Арсеньеву, Галичу и Раупаху)
запрещено читать лекции, которые куратор называет обдуман-
ною системою неверия»4.
Декабрист Каховский в письме к Николаю I гневно говорит
об аналогичном событии: «Чтобы доказать, сколь старались по-
гасить просвещение, достаточно напомнить, что в петербургском
университете за недоказанное преступление разогнаны лучшие
профессоры»5.
1 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 174—175.
2 II. Д. Якушкин. Записки, изд. 2. М., 1905, стр. 12.
3 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 183—184.
4 Т а м же, стр. 184.
6 Т а м ж е.
342
Л. М. Муравьев пишет в своих воспоминаниях: «Профессора
наших университетов были преданы инквизиторской власти»1.
А. Бестужев писал Николаю I из крепости: «Уничтожение
нормальных школ п гонение на просвещение заставило думать,
в безнадежности, о важнейших мерах»1 2.
Все эти явления нашли отражение в творчестве передовых
поэтов эпохи. «Школы все — казармы»,— писали в своей аги-
тационной песне Рылеев и Бестужев-Марлинский.
Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий,
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два.
А книги сохранят так: для больших оказий, —
заявляет герой комедии Грибоедова «Горе от ума» полковник
Скалозуб, олицетворяющий собой аракчеевское офицерство.
Ученье — вот чума, ученость — вот причина,
Что нынче пуще, чем когда,
Безумных развелось людей, и дел, и мнений, —
говорит заядлый крепостник и невежда Фамусов, герой той же
комедии.
Министра народного просвещения князя А. Н. Голицына
Пушкин назвал губителем просвещения:
Вот Хвостовой покровитель,
Вот холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша! 3
Гонению и наказаниям подвергались не только профессора,
но и студенты и даже подростки-гимназисты. За малейшее по-
дозрение в политической неблагонадежности их ссылали в Си-
бирь и отдавали в солдаты. А. М. Муравьев рассказывает о
студенте виленского университета Платере, который вместе со
своими товарищами был отдан в солдаты4. Семевский передает
суть обстоятельств так: «Дело было не в университете, а в Ви-
ленской гимназии, находившейся, как и другие учебные заведе-
ния виленского округа, под надзором виленского университета.
В день 3 мая 1823 г. ученик 5 класса Платер, вместе с тремя
товарищами, написали на классной доске: «Да здравствует кон-
1 М. В. Д о в н а р-3 а по л ьский. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 129.
2 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов.
СПб., 1909, стр. 184.
3 А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10 тт., т. I. М., Изд-во АН СССР,
1956, стр. 407. (Хвостова — хозяйка «мистического» салона, автор мистических
брошюр. Бантыш-Каменский — чиновник коллегии иностранных дел.)
4 См.: В. И. С е м е в с к и й. Политические и общественные идеи декаб-
ристов. СПб., 1909, стр. 186.
343
ституция 3 мая! (Принята Польским сеймом 3 мая 1791 г.—
Б. К.) Какое приятное воспоминание для нас, соотечественни-
ков, но некому о ней напомнить». Местный военный губернатор
Римский-Корсаков страшно раздул эту историю и донес о ней
цес. Константину Павловичу (царский наместник, брат Нико-
лая.— Б. К.). В Вильну был прислан из Варшавы Новосильцов,
подстрекавший имп. Александра к реакционной политике отно-
сительно Польши, и дело кончилось тем, что 15-летний Платер
и его трое товарищей были отданы в солдаты» Ч
А. Бестужев в письме к царю говорит о новом возмутитель-
ном явлении в русском обществе — о размножении шпионов, а
А. М. Муравьев в своих воспоминаниях свидетельствует, что
«на основании только доноса низкого шпиона, запирали в кре-
пость или ссылали в отдаленный гарнизон и даже в Сибирь»1 2.
А. С. Грибоедов в уста Чацкого вложил гневные слова против
гонителей всего прогрессивного и разумного:
Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется — враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний,
Или в душе его сам бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,
Они тотчас: — Разбой! Пожар!..
Этот страх правительства и реакционных сил, боязнь волне-
ний, распространения прогрессивных идей вызвали правитель-
ственное постановление, о котором Н. Тургенев 3 августа 1822 г.
писал в дневнике: «На сих днях (1 августа.— Б. К.) вышел ре-
скрипт о закрытии и о запрещении всяких тайных обществ...»3
Об этом же пишет в письме Николаю I Штсйнгель4.
Высказанная Толстым устами Пьера мысль: «Все видят, что
это не может так идти, все слишком натянуто и непременно лоп-
нет»— прекрасно передает настроение передовой дворянской ин-
теллигенции, с одной стороны, возмущенной действиями прави-
тельства и, с другой, глубоко убежденной в том, что вся эта
дикая обстановка должна привести русское общество к каким-то
очень серьезным потрясениям.
Декабрист М. Ф. Орлов отметил в своих записках: «...Россия
стоит на краю пропасти... надобно всем честным людям иметь
тесную связь, дабы при случае раздался отечественный отголо-
сок» 5.
1 В И. Семевский Политические и общественные идеи декабристов.
СПб. 1909, стр. 186.
2 Т а м ж е, стр. 190.
3 Т а м ж е, стр. 189.
4 См та м ж е , стр. 190.
5 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 9.
344
А. Бестужев говорит в письме к Николаю I: «Солдаты ропта-
ли на истому учениями, чисткою, караулами; офицеры на ску-
дность жалованья и непомерную строгость. Матросы на черную
работу, удвоенную по злоупотреблению, морские офицеры на
бездействие. Люди с дарованием жаловались, что им загражда-
ют дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности, уче-
ные на то, что нм не дают учить молодежь, на препятствия в
учении. Словом, во всех углах виделись недовольные лица, на
улицах пожимали плечами, везде шептались — все говорили: к
чему это приведет? Все элементы были в брожении» Г
Чрезвычайно интересно совпадение имени деятеля тайного
общества — князя Федора, к которому по вызову ездил Пьер, с
именем одного из «крамольных» лиц, приводящих в ужас вели-
косветскую чернь, в знаменитой комедии А. С. Грибоедова «Го-
ре от ума»:
Нет, в Петербурге институт
Пе-да-го-ги-ческий, так, кажется, зовут:
Там упражняются в расколах и в безверьи
Профессоры!! — у них учился наш родня,
И вышел! хоть сейчас в аптеку, в подмастерьи.
От женщин бегает, и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,
Князь Федор, мой племянник.
На это совпадение в двух названных произведениях имени и
сословного положения какого-то передового деятеля эпохи до
сих пор в литературе не указывалось. Очень возможно, что под
именем князя Федора скрывается одно и то же лицо.
В эпилоге мы имеем не только оценку общественной жизни
20-х годов XIX в., но и высказывания писателя (устами своих
героев) о методах борьбы со злом, перспективах его искоре-
нения.
Из сообщения Пьера о результатах его поездки в Петербург
видно, что на тайном совещании вопрос о методах и приемах
борьбы с правительством широко дебатировался, но единого
мнения не было выработано.
«— ...Я одно говорил им в Петербурге.
— Кому? — спросил Денисов.
— Ну, вы знаете кому, — сказал Пьер, значительно взгля-
дывая исподлобья: князю Федору и им всем. — Соревновать
просвещению и благотворительности, все это хорошо, разуме-
ется. Цель прекрасная и все; но в настоящих обстоятельствах
надо другое». (Гл. XIV; 12, 283.)
1 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 132.
345
Дальше Пьер ясно излагает свою программу и тактику дей-
ствия: «...Этого мало, я им говорю. Когда все ждут неминуе-
мого переворота, надо как можно теснее и больше народа
взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе».
(Гл. XIV; 12, 283.)
Что же это за катастрофа, которой боится Пьер? Это выяс-
няется из дальнейших его рассуждений: «Мы только для того,
чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей, и чтоб
Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для
этого беремся рука с рукой, с одною целью общего блага и об-
щей безопасности». (Гл. XIV; 12, 284.)
Таким образом, цель наиболее передовых членов Петербург-
ского тайного общества, куда ездил в 1820 г. Пьер, определен-
ная: убрать аракчеевский режим, т. е. самодержавный произвол,
но все сделать так, чтобы не впасть в другую, более опасную
для дворянства беду—не допустить пугачевщины. Это те идеи,
которые волновали наиболее умеренную часть декабристов, со-
ставлявших количественное большинство в тайных обществах.
Подтвердим высказанное положение документами. Один из
видных декабристов, М. Ф. Орлов, в своих показаниях подчерк-
нул следующее: «...Я вел жизнь уединенную и занимался сочи-
нением, которое намерен был представить правительству. Я на-
деюсь, что ежели начало оного, находящееся в забранных у меня
бумагах, удостоится воззрения его императорского величества,
оно докажет, что правила мои далеки от всякого мятежническо-
го покушения» Г
А. Бестужев писал из крепости Николаю I: «А как ропот на-
рода, от истощения и злоупотребления земских и гражданских
властей происшедший, грозил кровавою революцией), то обще-
ства вознамерились отвратить меньшим злом большее..!»1 2
М. И. Муравьев-Апостол в письме брату Сергею Ивановичу
также замечает: «Допустим даже, что нам легко будет пустить
в дело секиру революции; но поручитесь ли Вы в том, что суме-
ете ее остановить?»3.
Приведенные документы показывают, что дамоклов меч кре-
стьянской революции висел и над декабристами, и они его
боялись больше, чем сохранения аракчеевского режима.
Именно—«страшно далеки они от народа», как с гениальной
глубиной определил В. И. Ленин сущность дворянского этапа
революционного движения в России.
Замечательно четко обрисовал писатель и позицию двух
остальных участников беседы с Пьером: отставного генерала
Денисова и бывшего полкового командира Ростова.
1 М. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906,
стр. 14.
2 Т а м ж е, стр. 129.
3 Т а м же, стр. 275.
346
Рассуждения Пьера о немецком Тугендбунде показались
боевому русскому генералу малопонятными и неубедитель-
ными:
«— Ну, б’ат, это колбасникам хо’ошо тугендбунд, а я этого
не понимаю, да и не выговог’ю,— послышался громкий, реши-
тельный голос Денисова. — Все сквег’но и мег’зко, я согласен,
только тугендбунд я не понимаю, а не нг’авится — так бунт, вот
это так! Je suis vot’e homme! (Тогда я ваш!)». (Гл. XIV; 12, 285.)
Тугендбунд упоминается здесь не случайно. В показаниях
декабристов неоднократно говорится об этой немецкой органи-
зации Г
Денисов готов включиться в бунт против правительства. Он
критикует существующие порядки. Но в занятой им позиции,
большую роль играет субъективный элемент. Толстой говорит об
этом: «Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по
службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению,
делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях
делал свои замечания на слова Пьера». (Гл. XIV; 12, 281—282.)
Выше мы говорили о том, что прообразом для Денисова по-
служил известный герой Отечественной войны 1812 г. Денис Да-
выдов. Посмотрим, как с ним обстояло дело. В формулярном
списке Давыдова имеется отметка: «В действительных сраже-
ниях находился... Под Ляховом 28 октября, под Смоленском 29,
под Красным 2 и 4 ноября, под Копысом 9 ноября, где разбил
наголову депо Французской армии, под Белыничами 14-го и за
отличие награжден орденом св. Георгия 4-го класса; занял от-
рядом своим г. Гродно 8 декабря и за отличие награжден ор-
деном св. Владимира 3-й степени»1 2.
Н. Задонский, автор обстоятельной монографии о прослав-
ленном герое Отечественной войны 1812 г. Денисе Давыдове,
к приведенному документу дает следующий комментарий:
«...Мизерность награды по сравнению с заслугами... задевала
честолюбие. Два креста последних степеней — ничего более! Да
еще с записью в формуляр, что пожалованы за Ляхово, Копыс,
Белыничи и Гродно... Ни звука о партизанской деятельности,
словно ее никогда и не существовало! А многие сверстники, пре-
бывавшие всю войну в штабах и резервных частях, давно обо-
гнали его в чинах и украсились орденами куда солидней»3.
Николай Ростов, потерпев поражение в словесной полемике
с Пьером, как с болеее сильным и гибким противником, решил
вопрос так, как решали его в действительности все вернопод-
1 См.: ЛА. В. Д о в н а р-3 а п о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев,
1906, стр. 3, 49, 76.
2 Н. Задонски й. Денис Давыдов. Историческая хроника. Воронеж,
1955, стр. 318.
3 Т а м ж е, стр. 305—306.
347
данные и ограниченные службисты. «Составь вы тайное обще-
ство, начни вы противодействовать правительству, какое бы
оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели
мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни
на секунду не задумаюсь и пойду». (Гл. XIV; 12, 285).
Такой финал для Николая Ростова совершенно закономе-
рен. Об этом хорошо говорит В. Ермилов в книге «Толстой-ху-
дожник и роман «Война и мир»: «В событиях 1812 года Нико-
лай Ростов предстает всего лишь в нескольких моментах, цент-
ральным из которых является усмирение богучаровского бунта.
Выбрать во всей героической эпопее 1812 года для Николая
Ростова главною ролью не что иное, как подавление бунта,—
это означает, что Толстой ведет совершенно последовательно
художественно неумолимый путь Ростова: тильзитское подав-
ление своего внутреннего бунта; подавление мужицкого бунта
в Богучарове; образ аракчеевского рубаки, готового к подавле-
нию декабрьского бунта, в эпилоге»
Наконец, в кабинете Николая при этом разговоре, не спуская
влюбленных глаз с Пьера, присутствовал пятнадцатилетний
Николенька Болконский. Когда окончился спор и все отпра-
вились ужинать, он, «бледный, с блестящими, лучистыми гла-
зами», подошел к Пьеру и взволнованно спросил:
«— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... он бы
согласен был с вами?»
Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная
и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в
этом мальчике во время разговора...
— Я думаю, что да, — сказал он...» (Гл. XIV; 12, 285.)
Несомненно, что в юном Болконском формируется будущий
декабрист. «Да, я сделаю то, чем бы даже он (отец. — Б. К.)
был доволен», — думает он, находясь под впечатлением этой
беседы в кабинете Пьера. (Гл. XVI; 12, 295.)
Г. Русанов приводит следующий свой разговор с Толстым:
«—Скажите, Николенька Болконский должен был выступить в
романе из эпохи декабристов? — О, да! непременно! — с улыб-
кой, осветившей его лицо, сказал Толстой»1 2.
Композиционное значение последней сцены глубоко раскрыл
С. Бочаров: «Своей концовкой «Война и мир» — открытая кни-
га: последние слова повествования — это мечты ребенка, планы
жизни, которая вся впереди. Судьба героев романа, этих Бол-
конского, Пьера, Наташи и Николая,—только звено в бесконеч-
ном опыте человечества, всех людей, и прошлых, и будущих, и в
1 В. Ермилов. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослит-
издат, 1961, стр. 149.
2 «Толстовский ежегодник». М., 1912, стр. 63.
348
их числе того человека, который сегодня, в 60-е годы нашего
века, спустя сто лет после того, как она написана, читает «Войну
и мир» Г
Мы рассмотрели мысли Толстого о периоде царствования
Александра I, предшествующем выступлению декабристов на
Сенатской площади. Анализ их показывает, что Толстой сквозь
десятилетия, отделяющие его от изображенных событий, сумел
рассмотреть отвратительные стороны самодержавно-крепост-
нической системы александровского царствования. Оценка рус-
ской действительности 20-х годов XIX в., данная Толстым, це-
ликом совпадает с высказываниями о том же периоде декабри-
стов и с художественным отображением ее прогрессивными
поэтами и писателями эпохи.
Возникает вопрос: откуда мог Толстой почерпнуть необхо-
димый материал для изображения в романе декабризма? Из-
вестно, что следственные дела о декабристах строго хранились
в государственном архиве Министерства иностранных дел и до
конца XIX в. были недоступны ни для историков, пи для писа-
телей. В силу этого Толстой лишен был возможности исполь-
зовать этот ценнейший материал. Поэзия декабристов в России
также была под строгим цензурным запретом. (Цитированные
нами агитационные песни Рылеева и Бестужева-Марлинского
Толстой мог прочитать только в «Полярной звезде» Герцена,
издаваемой в Лондоне. Песпи «Царь наш, немец прусский...»,
«Ах, где те острова...», «Ты скажи, говори...» и «Ах, тошно
мне...» впервые напечатаны в «Полярной звезде», 1859, кн. V;
«Уж как шел кузнец...» — в книге «Русская потаенная литера-
тура XIX столетия», Лондон, 1861; стихотворение В. Ф. Раев-
ского «К друзьям» — в «Русской старине», 1890, кн. V; «К вре-
менщику» К. Ф. Рылеева — в «Невском зрителе», 1820, ч. IV.)
Официальная историография не могла дать писателю исто-
рически правдивый материал, так как если она и затрагивала
вопросы декабризма, то только в отрицательном плане. Таким
образом, в изображении тайных обществ и в критике самодер-
жавно-крепостнической системы Толстой мог опереться лишь
на предания современников, ссыльных революционеров, на эпи-
столярный и рукописный мемуарный материал.
Но и этот материал был богатейшим. Г. Русанов в статье
«Поездка в Ясную Поляну» приводит следующие слова писа-
теля: «Декабристы были слишком всем известные люди. Ос-
талась масса записок, мемуаров, писем их эпохи, и я положи-
тельно терялся в этой массе» 1 2.
1 С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиздат,
1963, стр. 140—141.
2 «Толстовский ежегодник». М.» 1912, стр. 63.
349
Страницы «Войны и мира», посвященные эпохе декабризма,
еще раз убеждают нас в глубокой справедливости знаменитого
положения В. И. Ленина: «И если перед нами действительно
великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сто-
рон революции он должен был отразить в своих произведе-
ниях» Ч
К ГЛАВЕ X
Роброн (др.) — очень широкое женское платье с округленным шлейфом
(длинным, волочащимся сзади подолом).
К ГЛАВЕ XII
Рюш (фр.) — полосы материи, собранные в складки и употребляемые
для отделки и украшения женской одежды, платьев, чепчиков и пр.
К ГЛАВЕ XIII
Гбсснер Иоанн (1773—1858) — немецкий пастор, мистик и проповедник.
В 1820 г. был приглашен в Петербург и избран директором Библейского об-
щества.
Татаринова Екатерина Филипповна, урожденная Буксгевден (1783—
1856) — сектантка; в 1817 г. основала в Петербурге религиозно-мистическую
секту с радениями и пророчествами.
К ГЛАВЕ XIV
Крюднер (или Крйденер) Варвара Юлия, урожденная Фитингоф (1764—
1825) — писательница, проповедница и «предсказательница». Некоторое вре-
мя имела влияние на Александра I.
Шварц Федор Ефимович — полковник, командир Семеновского полка,
типичный представитель аракчеевского офицерства, ввел в полку жестокий
палочный режим, чем вызвал волнение, бывшее предвестником декабрьских
событий 1825 г.
К ГЛАВЕ XVI
Сисмднди Леопард (1773—1842)—известный швейцарский экономист.
Руссо Жан Жак (1712—1778)—выдающийся французский писатель,
просветитель, демократ, одип из идейных предшественников якобинцев.
Муций Сцевдла Гай — легендарный римлянин; взятый врагами в плен,
в доказательство своего мужества и твердости воли сжег на огне руку, пос-
ле чего был отпущен на свободу.
Тугендбунд (нем., «Союз добродетели») — немецкое политическое обще-
ство, основанное в 1808 г. в Кенигсберге (Пруссия). Объединял представите-
лей либерального дворянства и буржуазной интеллигенции. Ставил целью
подготовку борьбы против наполеоновской Франции, проводил национали-
стическую пропаганду в либерально-буржуазном духе. В 1809 г. был запре-
щен королем Фридрихом Вильгельмом III по указанию Наполеона, но про-
должал свою деятельность нелегально. Распался после окончания наполео-
новских войн.
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 17, стр. 206.
350
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВЫ I- XII
«Война и мир» представляет собой в жанровом
и композиционном отношении весьма своеобразное явление. Это,
кажется, единственный случай во всей мировой литературе, ког-
да писатель в одном произведении соединяет два разных спосо-
ба познания и отражения действительности: в образах и силло-
гизмах, в ярких картинах и сложных философских формулах.
Такая жанровая форма была настолько необычной для художе-
ственной литературы, что вызвала недоумение читателей, и Тол-
стой вынужден был выступить с комментариями к своему про-
изведению (см. стр. 13—24 нашей книги).
Приведем некоторые отзывы современников об историко-
философских и военно-исторических рассуждениях писателя в
«Войне и мире».
А. П. Пятковский, автор статьи «Историческая эпоха в ро-
мане графа Л. Н. Толстого», писал следующее: «Философская же
начинка, которою автор обильно снабдил целые главы «Войны
и мира», если и отличает этот роман от «Юрия Милославско-
го»— то отличие служит не к выгоде гр. Толстого» \ Как видим,
критик выражает явное недовольство по поводу наличия в «Вой-
не и мире» философских рассуждений автора; они оказались на-
столько неприемлемыми для Пятковского, что он поставил роман
Толстого ниже «Юрия Милославского» Загоскина.
Суровый приговор вынес «Войне и миру» из-за наличия в
ней теоретических рассуждений и критик М. Де-Пуле в статье
«Война из-за «Войны и мира»: «Главный недостаток романа
графа Толстого состоит в умышленном или неумышленном за-
бвении художественной азбуки, в нарушении границ возможно-
сти для поэтического творчества; автор не только силится
одолеть и подчинить себе историю, но, в самодовольстве кажу-
щейся ему победы, вносит в свое произведение чуть не теорети-
ческие трактаты, т. е. элемент безобразия в художественном про-
изведении, глину и кирпич о бок мрамора и бронзы»1 2.
Не одобрили наличия в произведении (по крайней мере, в
художественной ткани его) теоретических рассуждений и бли-
жайшие друзья Толстого — А. А. Фет, В. П. Боткин, Н. Н. Стра-
хов, мнением которых писатель дорожил.
Все это привело к тому, что в третьем издании собрания
сочинений Толстого, осуществленном в 1873 г., автор внес
в текст «Войны и мира» весьма существенные изменения. Он
1 «Неделя», 1868, № 26, стр. 826.
2 «Санкт-Петербургские ведомости», 27 мая 1869 г.
351
изъял историко-философские и военно-исторические рассужде-
ния из текста романа-эпопеи и выделил их в особое приложе-
ние под названием «Статьи о кампании двенадцатого года».
Приложение это составило девятнадцать глав, каждой из ко-
торых было дано название: I. План кампании 12 года. II. Как
действительно произошло Бородинское сражение. III. Распоря-
жения Наполеона для Бородинского сражения. IV. Об участии
воли Наполеона в Бородинском сражении. V. Об отступлении
до Филей. VI. Оставление Москвы жителями. VII. О пожаре
Москвы. VIII. Фланговый марш. IX. Тарутинское сражение.
X. Деятельность Наполеона в Москве. XI. Отступление францу-
зов из Москвы. XII. Победы и их последствия. XIII. Дух войска
и партизанская война. XIV. Бегство Наполеона. XV. Преследо-
вание французов русскими. XVI. Кутузов. XVII. Березинская
переправа. XVIII. О значении Александра и Наполеона.
XIX. Вопросы истории.
Это издание «Войны и мира» вызвало восторженные отзывы
критики. В газете «Московские ведомости» отмечалось:
«Что касается «Войны и мира», то этот роман в последнем
издании напечатан в исправленном виде. Исправления эти в
сущности гораздо важнее, чем могут показаться с первого
взгляда. Граф Толстой вычеркнул... все рассуждения о военном
искусстве и все взгляды на историю вообще и некоторые собы-
тия 12-го года соединил под общим названием — «Мысли о
войне 12-го года».
Какого бы кто ни был мнения об этих рассуждениях и взгля-
дах, всякий, наверное, согласится, что они лишним бременем
лежали на романе и насильственно отрывали читателя от худо-
жественного рассказа» Г
В 1880 г. вышло следующее издание сочинений Толстого в
11 томах; в нем роман «Война и мир» напечатан в той же ре-
дакции, что и в 1873 г. Но уже во всех последующих изданиях,
начиная с 1886 г., печатание романа стало осуществляться по
образцу двух первых изданий. В чем причина отмеченного яв-
ления?
Если иметь в виду только наименование глав теоретического
трактата Толстого, то и тогда без труда можно заметить, что ни
одна из них не выпадает из творческой концепции романа: каж-
дая освещает соответствующие страницы «Войны и мира», где
в образной форме раскрыты те или другие исторические собы-
тия эпохи. Этого не поняли многие критики (см. об этом по-
дробно в главе о жанре «Войны и мира»). Нападки их на Тол-
стого за введение в роман теоретических рассуждений исходи-
ли из традиционных представлений о жанре романа, из поня-
тий догматической поэтики, с одной стороны, и из ложных по-
1 «Московские ведомости», 1874, № 2.,
352
нятий о Толстом-художнике и Толстом-мыслителе, якобы друг
с другом не связанных органически, — с другой.
Приступая к комментариям философских и исторических
взглядов Толстого, высказанных в эпилоге, мы, руководствуясь
ленинской теорией отражения, исходим из понимания творче-
ства писателя как результата чувственного и абстрактного по-
знания им действительности в диалектическом единстве. По-
этому мы не можем признать верным деление Толстого на вели-
кого художника и на слабого мыслителя, как это делали многие
исследователи творчества писателя. Эту мысль особенно настой-
чиво проводил Г. В. Плеханов. В статье «Еще о Толстом» он
писал: «...Его огромный ум до такой степени «ушел в талант, в
творческую фантазию» (во вторых кавычках — слова Белин-
ского.— Б. К.), что в роли мыслителя граф Толстой везде об-
наруживает почти ребяческую беспомощность»
Но В. И. Ленин в статье «Л. Н. Толстой и современное ра-
бочее движение», оценивая все творчество Толстого, говорит о
нем как о писателе, «который дал ряд самых замечательных ху-
дожественных произведений, ставящих его в число великих пи-
сателей всего мира...» и как о мыслителе, «который с громадной
силой, уверенностью, искренностью поставил целый ряд вопро-
сов, касающихся основных черт современного политического и
общественного устройства» 1 2.
В статье «Л. Н. Толстой» Ленин, определяя исторический
диапазон и идейно-тематическое содержание творчества писа-
теля, замечает, что «Толстой поразительно рельефно воплотил
в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и
проповедник — черты исторического своеобразия всей первой
русской революции, ее силу и ее слабость»3. (Курсив наш.—
Б. К)
Таким образом, мы видим, что и в первой и во второй цита-
тах, взятых из разных статей, Ленин отчетливо проводит мысль
об органическом единстве Толстого-писателя и Толстого-мы-
слителя. Причем, отмечая великий писательский талант Тол-
стого, Ленин говорит и о громадной его силе как мы-
слителя.
Внимательный анализ художественной ткани «Войны и ми-
ра» и теоретических рассуждений автора воочию убеждает нас,
что Толстой равно противоречив как в своем художественном
творчестве, так и в теоретизировании. Эти два момента у писа-
теля настолько органически слиты, что попытки отделить одно
от другого обречены на неудачу, чем и объясняется восстанов-
ление в пятом издании собрания сочинений Толстого (1886)
1 «Л. Н. Толстой в русской критике». М, Гослитиздат, 1960, стр. 389.
2 В. И. .4 е н и п. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 38.
3 Т а м ж е, стр. 20.
353
композиционной формы романа-эпопеи по образцу первых его
двух изданий.
Вопрос об источниках философской концепции «Войны и
мира» Л. Н. Толстого ждет своего исследователя. Утверждение
проф. Б. М. Эйхенбаума о влиянии на Толстого С. Урусова, ав-
тора книги «Обзор кампаний 1812 и 1813 годов...», и его едино-
мышленников по историко-философским взглядам (М. Погоди-
на, Ю. Самарина, С. Юрьева) вызывает сомнение. Проф. Эй-
хенбаум пишет:
«Толстой, борясь с идеей прогресса и вообще с воззрениями
передовой («разночинской») интеллигенции, объединяется с ар-
хаистами-славянофилами и вместе с ними, а отчасти под их ру-
ководством, разрабатывает философскую часть своего романа.
Кружок Толстого — это кружок «самобытно» мыслящих
людей, кружок «доморощенных гениев». Среди них Толстой —
главный ударник и удачник. «Война и мир» превращается в
злободневный агитационный роман» !.
Эйхенбаум неоднократно повторял эту точку зрения на ге-
незис философских взглядов Толстого1 2.
Затрагивая этот вопрос, проф. А. Скафтымов в статье «Об'раз
Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого «Война и
мир» убедительно доказывает несостоятельность высказанной
Эйхенбаумом точки зрения на генезис философских взглядов
великого писателя, и даже более того: утверждает, что не
С. Урусов оказал влияние на Толстого, а, наоборот, Толстой на
Урусова 3.
Из письма Толстого Погодину 21 марта 1868 г. мы узнаем,
что философия «Войны и мира» — плод длительных и мучитель-
ных раздумий автора великого романа-эпопеи, а не порожде-
ние внешнего влияния или полемических дебатов. Толстой пи-
шет: «Мысли мои о границах свободы и зависимости и мой
взгляд на историю не случайный парадокс, который на минут-
ку занял меня. Мысли эти — плод всей умственной работы моей
жизни и составляют нераздельную часть того миросозерцания,
которое бог один знает, какими трудами и страданиями выра-
боталось во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастье»
(61, 195).
Рассматривая вопрос о философско-исторических традици-
ях, которые могли повлиять на Толстого, А. Скафтымов с до-
статочным основанием отмечает возможность влияния на пи-
сателя немецкой идеалистической философии — «Системы тран-
1 «Литературная газета», 19 января 1931 г.
2 См.: Б. Эйхенбаум. Лев Толстой, кн. 2. М.—Л., Гослитиздат, 1951;
Л. Н. Толстой. Война и мир, тт. III—IV. Комментарии. Л., ГИХЛ, 1935.
3 См.: «Русская литература», 1959, № 2, стр. 79—80.
354
сцендентального идеализма» Шеллинга и «Философии истории»
Гегеля. Мысль эта не новая. Замечания о сходстве взглядов
Толстого и Гегеля имеются в статье М. Рубинштейна «Филосо-
фия истории в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 1 и в статье
Ф. В. Константинова «Роль личности в истории, в развитии об-
щества»1 2. А. Скафтымов, упоминая своих предшественников,
расширил и углубил их положения.
Интересные и свежие мысли о философской концепции
«Войны и мира» имеются также в статье II. И. Арденса «К во-
просам философии истории в «Войне и мире» Л. Толстого»3.
Историко-философские рассуждения Толстого пронизывают
весь роман-эпопею «Война и мир», но наиболее полное и после-
довательное выражение нашли они во второй части эпилога,
состоящей из двенадцати глав. В них писатель пытается поста-
вить и разрешить следующие волнующие его вопросы:
1. Что составляет предмет исторической науки?
2. Как та или другая историческая школа подходила к ре-
шению основных проблем своей науки?
3. Проблема закономерности исторического развития.
4. Движущие силы истории.
5. Роль личности и масс в историческом процессе.
6. Проблема свободы и необходимости в действиях человека.
Все перечисленные вопросы, по сути дела, вращаются во-
круг одной основной проблемы в философской концепции Тол-
стого— проблемы движущих сил истории. Эта проблема в свою
очередь упирается в решение вопроса о роли личности и масс
в историческом процессе. На нем мы и сосредоточим свое вни-
мание.
Толстой совершенно справедливо считает, что «предмет ис-
тории есть жизнь народов и человечества». (Гл. I; 12, 296.) Но,
по его мнению, описать жизнь не только всего человечества, а
даже отдельного народа — дело невозможное. Поэтому, пола-
гает Толстой, историки и решили прибегнуть к такому приему,
который бы помог им невозможное сделать возможным: они
стали описывать жизнь и деятельность правящих лиц, рассмат-
ривая их как носителей всего того, что присуще целому наро-
ду. Эта группа историков рассматривала правящее лицо, т. е.
царя, как помазанника бога, и считала, что народы подчиня-
ются единодержавной власти поставленного над ними верхов-
ного правителя, который в своем царствовании осуществляет
1 См.: «Русская мысль», июль 1911 г., стр. 94—95.
2 См. сб. «Роль народных масс и личности в истории». М., Госполитиздат,
1957, стр. 294.
3 «Ученые записки Арзамасского пед. ин-та», выи. I. Арзамас, 1957,
стр. 29—96.
355
волю божества. «Таким образом, — говорит Толстой, — вопросы
эти разрешались верою в непосредственное участие Божества в
делах человечества». (Гл. I; 12, 296.)
Так решала проблему исторической закономерности старая
историческая школа.
Новая историческая наука отвергла данную постановку во-
проса об источнике власти лиц и цели исторического движения.
Вместо деятелей, наделенных высшей властью божеством, она
поставила особо одаренных людей, деятелей с необыкновенными
способностями, «или просто людей самых разнообразных свойств,
от монархов до журналистов, руководящих массами». (Гл. I;
12, 296—297.)
Новая история вместо одной цели, якобы угодной божеству,
выдвинула другую цель — стремление к цивилизации всего че-
ловечества; вместо одних народов, якобы носителей божествен-
ного промысла (иудейского, греческого и римского), выдвинула
другие народы (французский, германский и английский). Но, про-
делав эту манипуляцию, новая история, по сути дела, ничего не
решила, ни на шаг не двинула историческую науку вперед. Она
пришла другим путем к тому же самому: «к признанию того,
что 1) народы руководятся единичными людьми и 2) что суще-
ствует известная цель, к которой движутся народы и человече-
ство». (Гл. I; 12, 297.)
Эти два вопроса в тех или других вариантах одинаково реше-
ны новыми историками от Гиббона до Бокля, заявляет Толстой.
Не признавая историческую концепцию «древних историков»
(терминология Толстого) верной, писатель подвергает резкой
критике и взгляды историков нового времени. Их объяснению
исторических явлений Толстой дал замечательную характери-
стику, полную едкой иронии и сарказма. Приведем ее пол-
ностью:
«Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек;
у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дур-
но управлял Францией. Наследники Людовика тоже были сла-
бые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были та-
кие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом, некоторые
люди писали в это время книжки. В конце XVIII столетия в Па-
риже собралось десятка два людей, которые стали говорить о
том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции
люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля
и еще многих. В это же время во Франции был гениальный че-
ловек— Наполеон. Он везде всех побеждал, т. е. убивал много
людей, потому что он был очень гениален. И он поехал убивать
для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал и был такой
хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе по-
виноваться. И все повиновались ему. Сделавшись императором,
он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии,
356
И там много убил. В России же был император Александр, ко-
торый решился восстановить порядок в Европе и потому воевал
с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в
11-м опять поссорился, и опять они стали убивать много народу.
И Наполеон привел 600 тысяч человек в Россию и завоевал
Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда импера-
тор Александр, с помощью советов Штейна и других, соединил
Европу для ополчения против нарушителя ее спокойствия. Все
союзники Наполеона сделались вдруг его врагами; и это ополче-
ние пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзни-
ки победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполео-
на отречься от престола и послали его на остров Эльбу, не лишая
его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря
на то, что пять лет тому назад и год после этого, все его считали
разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII,
над которым до тех пор и французы, и союзники только смея-
лись. Наполеон же, проливая слезы перед старою гвардией, от-
рекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные госу-
дарственные люди и дипломаты (в особенности Талейран, успев-
ший сесть прежде другого на известное кресло и тем увеличив-
ший границы Франции) разговаривали в Вене и этим разгово-
ром делали народы счастливыми или несчастливыми. Вдруг
дипломаты и монархи чуть было не поссорились; они уже готовы
были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это
время Наполеон с баталионом приехал во Францию, и францу-
зы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союз-
ные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с фран-
цузами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров
Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлу-
ченный с милыми сердцу и с любимою им Францией, умирал па
скале медленной смертью и передал свои великие деяния по-
томству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали
опять обижать свои народы». (Гл. I; 12, 298—299.)
По поводу этой саркастической страницы сам Толстой заме-
чает, что он вовсе не собирался окарикатуривать исторические
труды новых историков, что они сами себя ставят в комичное
положение полной несостоятельностью своих ответов по крайней
мере на основной предложенный им вопрос: «Какая сила дви-
жет народами?»
Толстой ставит вопрос прямо: «Если вместо божественной
власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта
новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь инте-
рес истории». (Гл. I; 12, 300.)
Толстой анализирует взгляды частных историков (истори-
ков отдельных народов) и общих историков (пишущих всемир-
ные истории). Этот анализ приводит его к убеждению, что ни те,
ни другие удовлетворительного ответа на поставленный вопрос
357
не дают, так как взгляды их крайне противоречивы и взаимо-
исключающи.
Одновременно Толстой подвергает резкой критике и третью
категорию историков — историков культуры, которые считают
движущей силой истории деятелей умственного труда: писателей,
журналистов, ученых и др. «Возможно понять, что Наполеон
имел власть, и потому совершилось событие; с некоторою уступ-
чивостью можно еще понять, что Наполеон, вместе с другими
влияниями, был причиной события; но каким образом книга
Contrat Social (Общественный договор) сделала то, что францу-
зы стали топить друг друга,— не может быть понято без объяс-
нения причинной связи этой новой силы с событием». (Гл. II;
12, 303.)
Толстой понимал прогрессивное значение деятельности лю-
дей умственного труда, и здесь отрицается их роль лишь в ка-
честве движущих сил исторического процесса. Абсолютное
отрицание действенного значения «Общественного договора»
безусловно ошибочно.
Все это показывает, что Толстой искал в трудах историков от-
вета на вопрос о силе, движущей народами, и ни старые, ни но-
вые историки дать ему вполне вразумительного и исчерпывающе-
го ответа на этот вопрос не могли.
Толстой считал, что «единственное понятие, посредством ко-
торого может быть объяснено движение народов, есть понятие
силы, равной всему движению народов». (Гл. III; 12, 305.) Поста-
новка вопроса о силе, способной двигать народами, и является
одной из центральных проблем исторической концепции Толсто-
го. Выдвинув этот вопрос, писатель пришел к совершенно спра-
ведливому выводу о том, что, «до тех пор пока пишутся истории
отдельных лиц,— будь они Кесари, Александры или Лютеры и
Вольтеры, а не история всех, без одного исключения всех, лю-
дей, принимающих участие в событии» (гл. III; 12, 305), истори-
кам никогда не удастся решить вопрос о движущих силах исто-
рического процесса иначе, как путем признания силы, способ-
ной двигать массами, за этими историческими деятелями. Когда
перед этими историками ставится вопрос: в чем же источник
этой силы? — они выдвигают единственное доступное им поня-
тие— власть. Все исторические события, по их мнению, есть ре-
зультат деятельности отдельных лиц, облаченных неограничен-
ной верховной властью.
Но тогда возникает новый вопрос: что же такое власть и в
чем ее источник, почему миллионы людей подчиняются воле
одного себе подобного существа?
Развивая свои мысли о возможных источниках власти, Тол-
стой доказывает, что они лежат не в физических и не в нравст-
венных свойствах лица, имеющего власть, а если это так, «то
очевидно, что источник этой власти должен находиться вне ли-
358
ца,— в тех отношениях к массам, в которых находится лицо,
обладающее властью». (Гл. IV; 12, 307—308.)
Некоторые историки утверждают, говорит Толстой, якобы
«исторические лица имеют власть только потому, что они испол-
няют перенесенную на них волю масс». Но «если сила, двигаю-
щая народами, лежит не в исторических лицах, а в самих наро-
дах, то в чем же состоит значение этих исторических лиц?» (Гл.
IV; 12, 311.)
Дальнейшее развитие идеи власти приводит Толстого к убеж-
дению, что теория о перенесении совокупности воль масс на
историческое лицо не нашла подтверждения в историческом
опыте, точно так же как и теория о влиянии приказаний одного
лица на ход событий, — события идут чередой независимо от че-
ловеческой воли, и иллюзорное представление о причинной за-
висимости их от людских приказаний есть следствие совпадения
событий с некоторыми приказаниями. Приказание приобретает
характер ярлыка событий.
Мы пришли к источнику фатализма в исторической концеп-
ции Толстого. Отсюда рассуждение писателя о том, что «в исто-
рических событиях так называемые великие люди суть ярлыки,
дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки,
менее всего имеют связи с самим событием» (т. III, ч. 1, гл. Г, 11,
7; речь идет о причинной связи и зависимости). Отсюда и образ-
ное сравнение Наполеона с ребенком, сидящим в карете, дер-
гающим за тесемки и воображающим, что он правит лошадьми.
Логика рассуждений Толстого о причинности и исторической
закономерности явлений привела его к теории предопределения.
Свои окончательные выводы по этому вопросу он сформулиро-
вал так: «На вопрос о том, что составляет причину исторических
событий, представляется... ответ, заключающийся в том, что ход
мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения
всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что
влияние Наполеонов на ход этих событий есть только внешнее и
фиктивное» (т. III, ч. 2, гл. XXVIII; 11, 219.)
Таким образом, Толстой решительно отрицает действенное
значение исторических лиц: они — ярлыки событий, их роль в
историческом движении — оптический обман, иллюзия, которая
создана несостоятельными в научном отношении историками.
Однако необходимо отметить, что, изобразив в «Войне и мире»
плеяду исторических лиц, Толстой нашел возможным назвать
Кутузова «великим человеком» и отвести ему роль деятеля, ко-
торый, «постигая волю провидения», сумел блестяще выполнить
свою историческую миссию \
1 См. об этом подробно в статье А. Скафтымова «Образ Кутузова и фи-
лософия истории в романе Л. Толстого «Война и мир». «Русская литерату-
ра», 1959, № 2.
359
Отрицая самодовлеющую роль исторических лиц, низводя их
общественное значение почти до нуля. Толстой делает попытку
решить вопрос о роли и значении народных масс в историческом
процессе.
По теории Толстого, «есть две стороны жизни в каждом че-
ловеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвле-
ченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек
неизбежно исполняет предписанные ему законы» (т. III, ч. I,
гл. I; 11, 6). Человек сознательно живет только для себя, но слу-
жит бессознательным орудием для достижения исторических,
общечеловеческих целей. «Совершенный поступок невозвратим,
и действие его, совпадая во времени с миллионами действий
других людей, получает историческое значение» (т. III, ч. 1, гл. I;
11, 6).
Таковы основные положения историко-философских рассужде-
ний Толстого. К какому же общему выводу можно прийти, ана-
лизируя их?
Толстой остроумно разоблачил научную несостоятельность
концепции буржуазных историков-идеалистов, показал полную
их беспочвенность в попытках решить коренной вопрос истори-
ческой науки — вопрос о движущих силах истории. Особенно
много внимания уделил писатель той школе историков, которая
окружала ореолом величия отдельную личность, как единствен-
ную движущую силу, приписывая ей сверхъестественные свойст-
ва. Эта критика Толстого верна, хотя она и давалась с непра-
вильных позиций.
Существенно отметить здесь совпадение философских поло-
жений Толстого о роли личности и народных масс в историче-
ском процессе с мыслями великого критика, революционера-де-
мократа Н. А. Добролюбова, хотя они подходили к решению
этих проблем с разных позиций. Вот что читаем мы у Добролю-
бова об обусловленности роли личности историческими обстоя-
тельствами: «...Историческая личность, даже и великая, состав-
ляет не более как искру, которая может взорвать порох, но не
воспламенит камней, и сама тотчас потухнет, если не встретит
материала, скоро загорающегося. ...Этот материал всегда под-
готавливается обстоятельствами исторического развития народа,
и... вследствие исторических-то обстоятельств и являются лич-
ности, выражающие в себе потребности общества и времени»1.
Эта же концепция прозвучала у Добролюбова и в другой
статье, где идет речь о значении деятелей культуры в истории ци-
вилизации народов. В «истории прогресса целого человечества,—
пишет он, — не имеют особенного значения не только Станкеви-
1 Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 тт., т. II. М.—Л., Гослитиздат,
1962, стр. 274—275.
360
чи, но и Белинские, и не только Белинские, но и Байроны и Гё-
те; не будь их — то, что сделано ими, сделали бы другие» Г
Очень близок Добролюбов к Толстому и в характеристике
методов исторического исследования, которыми руководствова-
лись в своей научной деятельности многие историки Европы.
В знаменитой статье «О степени участия народности в развитии
русской литературы» он пишет следующее: «...множество есть
историй, написанных с большим талантом и знанием дела и с ка-
толической точки зрения, и с рационалистической, и с монархи-
ческой, и с либеральной — всех не перечтешь. Но много ли явля-
лось в Европе историков народа (курсив наш. — Б. К.), которые
бы смотрели на события с точки зрения народных выгод, рас-
сматривали, что выиграл или проиграл народ в известную эпо-
ху, где было добро и худо для массы, для людей вообще, а не
для нескольких титулованных личностей, завоевателей, полко-
водцев и т. п.?»1 2
Рассуждения Толстого о роли народных масс в историческом
процессе вносят существенные коррективы в развиваемую им
теорию философского фатализма. Возникает вопрос, кто в конеч-
ном счете, по Толстому, разгромил Наполеона: неведомая сила
свыше, «предопределение», «фатум» или реальные силы, за-
ложенные и в русской регулярной армии, и в партизанском дви-
жении, и в патриотических действиях крестьян, которые уходили
из насиженных мест, сжигая свое имущество, чтобы оно не доста-
лось врагу? Толстой говорит о «предопределении», о «фатуме»
и в то же время рисует яркие и убедительные картины героиче-
ской борьбы русского народа с вражеским нашествием.
Если суммировать все, что говорит Толстой в «Войне и мире»
о русских людях, от смоленского купца Ферапонтова до Кутузо-
ва, одержавшего верх над прославленным Наполеоном, то у чи-
тателя не остается сомнений, что победу над врагом, по рома-
ну-эпопее, одержали именно реальные силы. Победила Россия,
поднявшаяся на священную войну за свою честь и свободу. При-
чем важно отметить, что свой патриотический долг перед оте-
чеством русский парод выполнил не бессознательно, не в качест-
ве слепого орудия «фатума», а с полным пониманием своего ве-
ликого подвига («Всем народом навалиться хотят», — говорит
солдат накануне Бородинского сражения).
Автор монографии «Творческий! путь Л. Н. Толстого»
Н. Н. Ардене так расшифровал понимание Толстым «бессозна-
тельной» деятельности: «...Бессознательная деятельность в пони-
мании автора — это не безыдейное социальное явление в исто-
рии, как можно было бы подумать. Это стихийное — «грозное и
1 Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 тт., т. II. М.—Л., Гослитиздат,
1962, стр. 386.
2 Т а м же, стр. 228—229.
12 В. И. Кандиев
361
величественное» — проявление народного гнева и непреклонной
цели отстоять свое правое дело» L
Сошлемся также на конечный вывод Арденса о философской
теории Толстого: «Учась и пробуя ключи к историческим «загад-
кам», после многих «вывороченных с болью» утверждений, Толс-
той вывел твердое заключение: историю делают народные силы,
приходящие по определенным причинам в движение, и благо
тем народам, которые умеют проявлять эту свою силу! Вот что
хочет сказать, в конце концов, Толстой, обосновывающий фило-
софию истории на материале эпохи 1805—1812 гг.»1 2.
Высказав ряд глубоких мыслей по вопросам философии и
истории, Толстой не смог создать стройной системы взглядов на
исторический процесс, так как его исходная позиция была оши-
бочной и во многих отношениях реакционной.
Стройная система, раскрывающая закономерности истори-
ческого процесса, содержится в философском учении марксиз-
ма-ленинизма, доказавшего, что история общественного разви-
тия есть прежде всего история развития производства, история
способов производства, сменяющих друг друга на протяжении
веков, история производительных сил и производственных отно-
шений. Следовательно, история общественного развития есть
вместе с тем история самих производителей материальных благ.
Трудящиеся массы являются основными силами производст-
венного процесса. «Первая производительная сила всего чело-
вечества есть рабочий, трудящийся»3, — писал В. И. Ленин.
Так рассматривает суть исторического процесса марксистско-
ленинская философия.
К ГЛ ABE I
Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк и политический дея-
тель.
Боклъ Генри Томас (1821—1862) — английский историк, автор знамени-
той в свое время книги «История цивилизации в Англии».
Людовик XIV (1638—1715)—король Франции в 1643—1715 гг.
Эльба — остров в Средиземном море, принадлежащий Италии. С 4 мая
1814 г. по 26 февраля 1815 г. был местом ссылки Наполеона 1.
Людовик XVIII (1755—1824)—в 1814—1824 гг. король Франции (брат
Людовика XVI).
К ГЛАВЕ II
Ланфрё Пьер (1828—1877)—французский публицист и историк, умерен-
ный республиканец. В противовес Тьеру, изобразил Наполеона как врага сво-
боды, врага народа и тирана.
1 Н. Н. А р д е н с. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., Изд-во АН
СССР, 1962, стр. 261.
2 Т а м же, стр. 265.
3 В. И. Л е и и и. Поли. собр. соч., изд. 5, т. 38, стр. 359.
362
Гервйнус Георг Готфрид (1805—1871) — немецкий историк.
Шлоссер Фридрих Христофор (1776—1861)—немецкий историк.
К ГЛАВЕ III
Лютер Мартин (1483—1546)—крупнейший церковный реформатор в Гер
мании, по имени которого называется протестантская церковь.
К ГЛАВЕ IV
Людовик XI Валуа (1423—1483) — в 1461 —1483 гг. король Франции.
Наполеон III (1808—1873)—с 1852 г. французский император.
Булонь — французский приморский город, в департаменте Па-де-Кале.
Рейнский союз — объединение ряда германских государств, признавших
зависимость от Наполеона I в военных и политических делах. Начало объ-
единению было положено в 1806 г. договором между Францией и 16 герман-
скими государствами об оборонительном и наступательном союзе. Распался
в 1813 г.
Конвент Национальный — представительное собрание эпохи Великой
французской революции (1789—1794). Создан в результате народного вос-
стания 1792 г. По составу, политическим стремлениям был неоднороден (жи-
рондисты, якобинцы, «болото»). В период высшего революционного подъема
власть принадлежала якобинцам, осуществившим ликвидацию феодальных
отношений и проводившим политику революционного террора по отношению
к врагам революции. После переворота 9 термидора (27 июля 1794 г.) яко-
бинская диктатура была низвергнута и к власти вернулись жирондисты —
правое крыло Конвента. Конвент был распущен 26 октября 1795 г. в связи
с принятием конституции III года Республики, передавшей власть Совету
пятисот и Совету старейшин.
Директория — руководящий орган власти французской буржуазной рес-
публики, выбиравшийся согласно конституции III года (1795) Советом пя-
тисот и Советом старейшин. Управляла страной с октября 1795 по ноябрь
1799 г. Была свергнута Бонапартом (контрреволюционный переворот 18 брю-
мера). Политика Директории сводилась к защите интересов крупной буржуа-
зии.
Иоанн IV—Иван Васильевич Грозный (1530—1584), первый русский
царь (с 1547 г.), деятельность которого была направлена на укрепление Рус-
ского централизованного государства. Известен своей жестокостью в борьбе
с боярской аристократией, отстаивавшей выгодную ей феодальную раздроб-
ленность.
Карл I Стюарт (1600—1649)—с 1625 г. король Англии, Шотландии и
Ирландии. Вел длительную борьбу с парламентом за сохранение неограни-
ченной королевской власти. Когда парламентская партия во главе с Кромве-
лем одержала победу в гражданской войне, был предан суду и казнен.
Карл X Филипп (1757—1836)—король Франции в 1824—1836 гг.
Людовик Филипп (1773—1853)—король Франции в 1830—1848 гг.
Дидердт (Дидро) Дени (1713—1784)—крупнейший идеолог предреволю-
ционной французской буржуазии XVIII в., философ-материалист, писатель и те-
оретик искусства, просветитель, глава энциклопедистов.
Бомарше Пьер Огюстен Карон (1732—1799) — выдающийся французский
драматург, автор комедий «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»
и др. В 1773—1774 гг. опубликовал знаменитые «Мемуары» — 4 памфлета,
разоблачающие французское судопроизводство.
Курбский Андрей Михайлович (1528—1583)—князь, русский политиче-
ский деятель, идеолог консервативного боярства, боровшегося против центра-
лизованной верховной власти. В 1564 г. бежал из Дерпта (ныне Тарту), где
был воеводой, к польскому королю Сигизмунду. В Польше стал членом ко-
ролевской рады и продолжал вести борьбу против русского царя. Перепис-
ка, которую Курбский вел с Иваном IV, будучи за границей, представляет
большой интерес как исторический документ эпохи.
12*
363
Готфрид Бульбиский (ок. 1060—1100)—герцог Нижней Лотарингии,
главный начальник отрядов, участвовавших в первом крестовом походе.
Пётр Амьенский, Пустынник (род. в 1050 г.) — аскет, организатор перво-
го крестового похода.
Иерусалим — главный город древней Палестины.
Миннезйнгеры — средневековые немецкие поэты, слагавшие сентименталь-
ные песни и исполнявшие их под аккомпанемент струнных инструментов.
К ГЛАВЕ V
Мексика — федеральная республика в южной части Северной Америки.
Помещики-консерваторы в союзе с либералами — мелкой буржуазией и мел-
кобуржуазной интеллигенцией— в 1822 г. добились отделения Мексики от
Испании и провозгласили Мексиканскую империю во главе с Дон-Августи-
ном. В 1861 г. в дела Мексики вмешалась коалиция европейских держав —
Англия, Испания и Франция. Особенно интенсивным оказалось вмешатель-
ство Франции, оно завершилось водворением на мексиканский троп эрцгер-
цога австрийского Максимилиана.
Бисмарк Отто (1815—1898)—князь, крупнейший государственный дея-
тель и дипломат Германии XIX в., первый канцлер Германской империи (с
1871 г.), прозванный «железным канцлером»:
К ГЛАВЕ X
Ньютон Исаак (1643—1727) — великий английский математик, астроном
и физик.
К ГЛАВЕ XI
Кеплер Иоганн (1571—1630) — выдающийся немецкий астроном, открыв-
ший на основе учения Коперника законы движения планет.
Коперник Николай (1473—1543)—гениальный польский астроном. От-
крыл гелиоцентрическую систему строения нашей планетной системы, соглас-
но которой в ее центре находится Солнце.
Птоломёй (Птолемей) Клавдий (II в. и. э.)—древнегреческий астроном,
математик и географ. «Птолемеева система» была основой астрономии вплоть
до Коперника. В ней проводилась мысль, что Земля является неподвижной,
а вокруг нее вращаются семь планет
Иисус Навин — герой Библии, преемник Монсея, вождь израильтян, за-
воевавший Хананею.
БИБЛИОГРАФИЯ ПО «ВОЙНЕ И МИРУ»
СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА О Л. Н. ТОЛСТОМ
Лев Толстой, как зеркало русской революции. [1908]
Л. Н. Толстой. [1910]
Не начало ли поворота? [1910]
Л. Толстой и современное рабочее движение. [1910]
Толстой и пролетарская борьба. [1910]
Герои «оговорочки». [1910]
Лев Толстой и его эпоха. [19П]
Статьи В. И. Ленина о Л. Н. Толстом помещены в Полном собрании сочи-
нений Ленина, изд. 5, тт. 17—20. Имеются и отдельные издания этих статей.
ЛИТЕРАТУРА О СТАТЬЯХ ЛЕНИНА, ПОСВЯЩЕННЫХ ТОЛСТОМУ
Бонч-Бруевич. В. И. Ленин и Толстой. Воспоминания. «Правда»,
19 ноября 1935 г.
Луначарский А. В. Ленин и литературоведение. В кн.: А. В. Л у-
н а ч а р с к и й. Классики русской литературы. Избранные статьи. М., Гос-
литиздат, 1937.
Мейлах Б. С. Статьи Ленина о Толстом. История создания и пробле-
матика. В кн.: Б. С. Мейлах. Ленин и проблемы русской литературы кон-
ца XIX — начала XX века. Лениздат, 1956.
Благой Д. Д. Ленин о Толстом. В кн.: Л. Н. Толсто й. Сборник ста-
тей, под общ. ред. Д. Д. Благого. М., Учпедгиз, 1955.
Бочаров С. Статьи В. И. Ленина о Толстом и проблема художествен-
ного метода. «Вопросы литературы», 1958, № 4.
Иванов В. Ленинский принцип партийности литературы. «Коммунист»,
1956, № 5; то же в кн.: «За коммунистическую идейность литературы и ис-
кусства». М., Господитиздат, 1957.
Мезенцев П. А. Художник и революция в эстетических воззрениях
Ленина. Статьи о Льве Толстом. «Ученые записки Московского библиотеч-
ного ин-та», вып. 8. М., 1961,
365
Щербина В. Р. «Зеркало русской революции». Л. Н. Толстой и совре-
менность. В кн.: В. Р. Щербина. Ленин и вопросы литературы. М., Изд-во
АН СССР, 1961.
Асмус В. Ф. Мировоззрение Толстого. «Литературное наследство»,
1961, т. 69, кн. 1.
ТВОРЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ II ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
«ВОИНЫ II МИРА»
Апостолов Н. Н. Материалы по истории литературной деятельности
Л. Н. Толстого. «Печать и революция», 1924, кн. 4.
Глинка С. Н. Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника
московского ополчения. СПб., 1836.
Г рузинский А. Е. Первый период работы над «Войной и миром», «Го-
лос минувшего», 1923, № 1.
Гудзий Н. К. Как работал Л. Толстой. М., «Советский писатель», 1936.
Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855
по 1869 год. М., Пзд-во АН СССР, 1957.
Гусев Н. Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого.
1828—1890. М., Госполитиздат, 1958.
Гусев Н. Н. Авторские исправления текста «Войны и мира». В кн.:
«Летописи Государственного музея», кн. 12. М., Изд-во Гос. лит. музея, 1948.
Давыдов Д. В. Сочинения Дениса Васильевича Давыдова, изд. 4, ис-
правл. и дополн. по рукописям автора. М., 1860, части I—III.
Ермолов А. П. Записки Алексея Петровича Ермолова. С приложени-
ями. М., 1865
Жихарев С. П. Записки современника с 1805 по 1819 год. Часть I.
Дневник студента. СПб., 1859.
3 а й д е н ш н у р Э. Е. Поиски начала романа «Война и мир». «Литера-
турное наследство. Лев Толстой», кн. 1. М., Изд-во АН СССР, 1961.
Кирпичников А. И. Московское общество в изображении Грибоедо-
ва и графа Л. Толстого. В кн.: А. И. Кирпичников. Очерки по истории
русской литературы, изд. 2, № 1. М., 1903.
М и х а й л о в с к и й - Д а н и л е в с к и й А. И. Описание Отечественной
войны 1812 года по высочайшему повелению сочиненное, т. I—IV. СПб.,
1839.
Мы шковская Л. М. Преображение материала. «Молодая гвардия»,
1957, № 3. (О работе Толстого над источниками «Войны и мира».)
Покровский К. В. Источники «Войны и мира». В кн.: «Война и мир»,
сб. под ред. В. П. Обнинского и Т. И. Полнера. М., 1912.
Р[а д о ж и ц к и й] И. Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год
артиллерии подполковника И. Р., тт. I—IV. М., 1835.
Родионов Н. С. Работа Л. Н. Толстого над рукописями «Войны и
мира». В кн.: «Яснополянский сборник». Литературно-критические статьи и
материалы о жизни и творчестве Л. Н. Толстого. Тула, 1955.
1 Указываются только наиболее широко использованные источники.
366
Розова 3. Г. «Дневник» партизана Д. Давыдова как материал для
«Войны и мира» Л. Толстого. «Труды кафедры русской литературы Львов-
ского университета», вып. 2, 1958.
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., юб. изд., тт. 13, 14, 15—16.
Штейн гель В. Записки, касательно составления и самого похода
санкт-петербургского ополчения против врагов отечества в 1812 и 1813 го-
дах, с кратким обозрением всех происшествий, во время бедствия и спасе-
ния нашего отечества случившихся, и с подробном описанием осады и взя-
тия Данцига, ч. I—II. СПб., 1814—1815.
Ц я в л о в с к и й М. А. Как писался и печатался роман «Война и мир».
В кн.: «Толстой и о Толстом». Новые материалы, сб. 3. М., 1927.
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В «ВОЙНЕ И МИРЕ».
ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ РОМАНА-ЭПОПЕИ
Асмус В. Ф. Мировоззрение Толстого. «Литературное наследство. Лев
Толстой», кн. 1. М., Пзд-во АН СССР, 1961.
Ардене Н. К вопросам философии истории в «Войне и мире» Л. Тол-
стого. «Ученые записки Арзамасского пед. ин-та», вып. 1. Арзамас, 1957.
Ардене Н. Творческий путь Л. Н. Толстого. М., Пзд-во АН СССР,
1963. Часть 2, гл. VIII—XII.
Бродский Н. Л. «Бородино» М. КЗ. Лермонтова и его патриотические
традиции. М.—Л., Изд-во АПН РСФСР, 1948.
Бочаров С. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиздат, 1963.
Бочаров А. Существует такое качество— публицистичность. «Вопро-
сы литературы», 1958, № 10.
Бурсов Б. И. Лев Толстой и русский роман. М.—Л., Изд-во АН
СССР, 1963.
Ермилов В. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослитиз-
дат, 1961.
Жилин П. А. Контрнаступление Кутузова в 1812 году. М., Воепиздат,
1950. (Характеристика Кутузова в романе-эпопее.)
Замошкин И. Писатели и вопросы стратегии. «Знамя», 1935, № 4.
Замошкин II. Толстой и война. «Знамя», 1935, № И.
Караваева А. По дорогам жизни. Дневники, очерки, воспоминания.
М., «Советский писатель», 1957. (См. размышления об изобра/кении Толстым
Аустерлицкого боя в «Войне и мире».)
Кони А. Ф. На жизненном пути, т. 5. Л., «Прибой», 1929. (О сцене
убийства Верещагина.)
Коробков Н. Историческая достоверность и творческая интуиция
«Литература и искусство», 9 октября 1943 г.
Короленко В. Г. О литературе. Составление, подготовка текста и
примечания А. В. Храбровицкого. М., Гослитиздат, 1957. (Раздел «Из днев-
ников».)
Камински й В. И. К вопросу о роли В. В. Берви-Флеровского в рус-
ском общественно-литературном движении 70—80-х гг. XIX века. «Ученые за
367
писки Выборгского пед, ин-та», т. 1, вып. 1, 1957. (О статье Флеровского,
посвященной «Войне и миру».)
Леушева С. II. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., Учпедгиз,
1957.
Луначарский А. В. Плеханов как искусствовед и литературный кри-
тик. «Литературный критик», 1935, № 7. (О политической направленности
«Войны и мира».)
Луначарский А. В. Статьи о Чернышевском. М., Гослитиздат, 1958.
(Об оценке «Войны и мира» Плехановым и Воровским.)
Недошивин Г. К вопросу о сущности эстетического. В кн.: «Вопро-
сы эстетики», т. 1. М., 1958. (О «Войне и мире» и «Анне Карениной» в связи
с вопросом о подлинном искусстве, о произведениях, являющихся результа-
том эстетического освоения мира.)
Никитенко А. В. Дневник, т. 3, 1866—1877. Л., Гослитиздат, 1956.
(В дневниковых записях 7 сентября, 13 октября, 27 декабря 1868 г. — по по-
воду отзыва П. А. Вяземского о «Войне и мире».)
Павлов Т. Некоторые методологические вопросы эстетики. В кн.:
«Проблемы эстетики». М., Изд-во АН СССР, 1958. (Об изображении Толстым
народных масс и исторических личностей в «Войне и мире».)
Петров С. М. Исторический роман в русской литературе. М., Учпед-
гиз, 1961. (Гл. II).
Петров С. М. «Декабристский элемент» в романе «Война и мир»
Л. Н. Толстого. «Известия АН СССР», Отд. лит-ры и языка, т. XVII, вып. 2.
М., 1958.
Поспелов Г. Н. Эпоха расцвета критического реализма. Из курса лек-
ций по истории русской литературы XIX века. М., Изд-во МГУ, 1958. (О при-
чинах, побудивших писателя обратиться к изображению исторического прош-
лого; «Война и мир» как народно-героическая эпопея.)
Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н Толстого. Проблематика и поэ-
тика. М., Изд-во МГУ, 1959. (Гл. I—V.)
Скафтымов А. Образ Кутузова и философия истории в романе
Л. Н. Толстого «Война и мир». «Русская литература», 1959, № 2.
Фейнберг И. Незавершенная книга Пушкина, («История Петра I».)
«Новый мир», 1949, № 6. Эта же статья в «Вестнике АН СССР», 1949, № 5.
(Различие в изображении полководца у Голсюго— «Война и мир» — и
Пушкина — «История Петра», «Полтава».)
X р а п ч е н к о М. Б. Лев Толстой как художник. М., «Советский писа-
тель», 1963. (Гл. III.)
ИЗОБРАЖЕНИЕ ДВОРЯНСТВА В «ВОЙНЕ И МИРЕ»
Бочаров С. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиздат,
1963.
Бычков С. П. Роман «Война и мир». В кн.: «Л. Н. Толстой». Сборник
статей. Пособие для учителя. М., Учпедгиз, 1955.
Б ы ч к о в С. Послесловие к роману Л. Н. Толстого «Война и мир», кн. 1—
2 М., Гослитиздат, 1949.
368
Ермилов В. Толстой-художник и роман «Война и мир». М., Гослитиз-
дат, 1961.
Кирпичников А. И. Очерки по истории новой русской литературы,
изд. 2, доп. М., 1903. (Глава «Московское общество в изображении Грибоедо-
ва и Л. Толстого».)
М о т ы л е в а Т. Принципы изображения человека в творчестве Л. Н. Тол-
стого. «Октябрь», 1953, № 9.
М ы ш к о в с к а я Л. Мастерство Л. Н. Толстого. М., «Советский писа-
тель», 1958. (Главы «Работа Толстого над образом», «Из творческой истории
«Войны и мира».)
Писарев Д. И. Старое барство. («Война и мир». Сочинение графа
Л. Н. Толстого. Тома I, II и III. В кн.: Сочинения в 4 тт., т. 4. М„ Гослитиз-
дат, 1956; то же в книге: «Л. Н. Толстой в русской критике». М., Гослитиз-
дат, 1952.)
Родионов Н. С. Работа Л. Н. Толстого над рукописями «Войны и
мира». В кн.: «Яснополянский сборник». Литературно-критические статьи и
материалы о жизни и творчестве Л. Н. Толстого. Тула, 1955.
Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэ-
тика. М., Изд-во МГУ, 1959. (Гл. 3, разделы 1 и 2.)
Тим рот А. Герои и образы романа «Война и мир» Л. Н. Толстого.
Тула, 1956.
Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М., «Советский писа-
тель», 1963. (Гл. 3.)
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАРОДА В «ВОИНЕ И МИРЕ»
Абрамов В. А. Образ Платона Каратаева в героической эпопее
Л. Н. Толстого «Война и мир». «Ученые записки Бурят-Монгольского пед.
ин-та», вып. 9, 1956.
Ардене Н. (Апостолов). Творческий путь Л. Н. Толстого. М., Изд-во
АН СССР, 1962. (Гл. 11.)
Архангельский А. «Война и мир» Л. Н. Толстого — героическая
эпопея русского народа. Из цикла лекций о Л. Н. Толстом. Тула, 1953.
Б и л и н к и с Я. О творчестве Л. Н. Толстого. Очерки. Л., «Советский пи-
сатель», 1959. (Глава «Мир в «Войне и мире».)
Бочаров С. Роман Л. Толстого «Война и мир». М., Гослитиздат, 1963.
Бычков С. П. Роман «Война и мир» — народно-героическая эпопея.
(Проблематика и основные образы.) В кн.: С. П. Бычков. Творчество
Л. Н. Толстого. М., Изд-во АН СССР, 1954.
Бычков С. Л. И. Толстой и проблема народа. (Пятидесятые и шести-
десятые годы.) В кн.: «Историко-литературный сборник». М., Гослитиздат,
1947.
Бурнусов В. Народная эпопея. В кн.: Л. Н. Толстой. Война и
мир, тт. 3—4. Минск, Учпедгиз, БССР, 1956.
Гудзий Н. К. «Война и мир» как народная эпопея. «Литература в
школе», 1940, № 1.
369
Краснов Г. В. Работа Толстого над образом Тушина. В кн.: «Тол-
стой-художник». Сборник статей. ЛА., Изд-во АН СССР, 1961.
Одиноков В. Г. Психологический аспект проблемы народности в ро-
мане Л. Н. Толстого «Война и мир». В кн.: «Вопросы творчества и языка
русских писателей (XVIII—XIX вв.)». «Труды кафедры рус. языка и лит-ры
Новосибирского пед. ин-та». Новосибирск, 1960.
Петров С. М. Исторический роман в русской литературе. М., Учпед-
гиз, 1961. (Гл. 2.)
Рождественский Б. В. «Мысль народная» в романе-эпопее
Л. Н. Толстого «Война и мир». «Ученые записки Московского гор. пед. ин-та
им. В. П. Потемкина», т. 67, вып. 6. М., 1957.
Румянцев М. О. «Война и мир» Толстого — героическая эпопея рус-
ского народа. «Ученые записки Рижского пед. ин-та», т. И. Рига, 1958.
Сабуров А. А. «Война и мир» как национально-героическая эпопея.
В кн.: «Творчество Л. Н. Толстого». Сборник статей. М„ Гослитиздат, 1959.
Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэти-
ка. М., Изд-во МГУ, 1959. (Гл. 3, раздел III.)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ «ВОЙНЫ И МИРА».
МАСТЕРСТВО ТОЛСТОГО
Жанр «Вонны и мира»
Бра й н и н а Б. Великая эпопея народного героизма. (О романе Л. Н. Тол-
стого «Война и мир».) «Книга и пролетарская революция», 1938, № 10—11.
Бычков С. Народно-героическая эпопея Л. Н. Толстого «Война и
мир». Стенограмма публичной лекции. М., «Правда», 1949.
В а л ь б е Б. Пушкин — исторический романист. «Литературная учеба»,
1935, № 2—3.
Гачев Г. Содержательность формы. (Эпос. «Илиада» и «Война и мир».)
«Вопросы литературы», 1965, № 10, стр. 149—170.
Гудзий И. К. «Война и мир» как народная эпопея. «Литература в
школе», 1940, № 1.
Л е у ш е в а С. И. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». М., Учпедгиз,
1957. (Гл. II и IV.)
М о т ы л е в а Т. Л. Эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» и ее мировое
значение. «Литература в школе», 1953, № 4.
Петров С. М. Исторический роман в русской литературе. М., Учпед-
гиз, 1961. (Гл. II.)
Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэ-
тика. М., Изд-во МГУ, 1959. (Гл. VI и VII.)
Сазонов П. Г. Некоторые вопросы жанра, композиции и сюжета в
романе Л. Н. Толстого «Война и мир». В кн.: «Об идейности и художествен-
ном мастерстве». «Ученые записки Академии общественных паук при ЦК
КПСС», вып. 24, 1957.
Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М., «Советский писа-
тель», 1958.
Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М., «Советский писа-
тель», 1963. (Гл. III.)
370
Композиция «Войны и мира»
Благой Д. Д. Развитие реализма в творчестве Пушкина. «Литератур-
ная учеба», 1935, № 1. (Сравнение композиции «Евгения Онегина» и «Войны
и мира».)
Виноградов Б. С. О некоторых художественных особенностях рома-
на-эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого. (Заметки.) «Ученые записки Гроз-
ненского пед. ин-та». Филологическая серия, вып. 5, № 8, 1953.
Кандиев Б. И. Из наблюдений над сюжетом и композицией «Войны и
мира» Л. Н. Толстого. «Ученые записки Северо-Осетинского пед. ин-та». Се-
рия филологических наук, т. 23, вып. 3. Орджоникидзе, 1958.
Леушева С. И. «Война и мир» Л. Н. Толстого. М., Изд-во АПН
РСФСР, 1954. (Гл. III, разд. 3.)
Рыбникова М. А. По вопросам композиции. М., 1924. (Глава «Прие-
мы письма в «Войне и мире».)
Рыбникова М. А. Избранные труды. М., Изд-во АПН РСФСР, 1958.
(Об оценке композиций «Наташа Ростова» и «Петя Ростов», сделанных
Л. Постниковой по роману «Война и мир».)
Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэ-
тика. М., Изд-во МГУ, 1959. (Гл. VIII.)
Портретное мастерство Толстого
Дружкина В. А. Портретная живопись в романе «Война и мир».
В кн.: «Толстой и о Толстом». Новые материалы. Сборник второй. Редакция
В. Г. Черткова и Н. Н. Гусева. М., 1926.
Заколпский Н. О приемах писательского мастерства. (Портрет.)
«Литературная Мордовия». 1951, № 4 (8).
Лавренев Б. О двух рассказах. «Литературная учеба», 1933, № 2.
(Мастерство Толстого при изображении внешнего облика героев «Войны и
мира».)
Мышковская Л. Работа Л. Н. Толстого над образом и словом.
«Октябрь», 1951, № 6.
Мышковская Л. М. Мастерство Л. Н. Толстого. М., «Советский писа-
тель», 1958. (Главы «Работа Толстого над образом», «Из творческой истории
«Войны и мира».)
Подвицкий Н. Б. Портрет в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».
«Ученые записки Ульяновского пед. ин-та», вып. 8. Ульяновск, 1956.
Поляк Л. М. Принципы изображения человека в романах Л. Н. Толсто-
го. «Ученые записки МГУ. Труды кафедры русской литературы», вып. НО. М.,
1946.
Поляк Л. М. Портрет в романе Л. Н. Толстого. «Литература в школе»,
1937, № 5 и 9.
Шепелева 3. Искусство создания портрета в романе Л. Н. Толстого
«Война и мир». В сб. «Мастерство русских классиков». М., Гослитиздат, 1959.
371
Пейзаж в .«Войне и мире»
Авдеева А. Ф. Пейзаж в романе «Война и мир» Л. Н. Толстого. Сб.
студ. научн. работ Ульяновского пед. ин-та, вып. 2. Ульяновск, 1958.
Виноградов Б. С. О некоторых художественных особенностях рома-
на-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир». (Заметки.) «Ученые записки Гроз-
ненского пед. ин-та», вып. 5, № 8. Грозный, 1953.
Гриб П. Я. Пейзаж в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». «Ученые
записки Енисейского пед. ин-та», вып. 4, 1960.
Курдюмова Т. Ф. Некоторые наблюдения над пейзажем в романе
«Война и мир». «Литература в школе», 1961, № 2.
Литвинов В. Изучение пейзажей романа Л. Н. Толстого «Война и
мир» в IX классе. «Литература в школе», 1956, № 2.
М ы ш к о в с к а я Л. Работа Толстого над образом. В кн.: Л. М ы ш к о в -
с к а я. Мастерство Л. Н. Толстого. М., «Советский писатель», 1958.
Потапова И. А. Из наблюдений над пейзажем в романе Л. Толстого
«Война и мир». «Ученые записки Волгоградского пед. ин-та», вып. 15. Волго-
град, 1961.
Пудовкин В. Избранные статьи. М., «Искусство», 1955. (Описание Бо-
родинского поля в «Войне и мире».)
Мастерство психологического анализа в «Войне и мире»
Безрукова 3. П. Формы психологического анализа в романах
Л. Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». В кн.: «Лев Николаевич
Толстой». Сборник статей о творчестве. М., Изд-во МГУ, 1956.
Бычков С. П. Роман «Война и мир» (последний раздел статьи напи-
сан 3. С. Шепелевой). В кн.: «Л. Н. Толстой». Сборник статей. Пособие для
учителя. М., Учпедгиз, 1955.
Леушева С. И. «Война и мир» Л. Н. Толстого. М., Изд-во АПН
РСФСР, 1954. (Гл. III, раздел 4.)
Люксембург?. В. Короленко. (По поводу «Истории моего совре-
менника».) «Красная Новь», 1921, № 2. (Об изображении детской психоло-
гии в романах «Война и мир» и «Анна Каренина».)
Моты лева Т. Принципы изображения человека в творчестве Л. Н. Тол-
стого. «Октябрь», 1953, № 9.
Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэ-
тика. М., Изд-во МГУ, 1959. (Гл. IX.)
Страхов И. В. Л. Н. Толстой как психолог. «Ученые записки Сара-
товского пед. ин-та». Кафедра психологии, вып. X. Саратов, 1947.
Храпченко М. Б. Лев Толстой как художник. М., «Советский писа-
тель», 1963. (Гл. VIII.)
Чернышевский Н. Г. «Детство» и «Отрочество». Сочинение графа
Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого. В кн.: Н. Г. Чер-
нышевский. Поли. собр. соч., т. 3. М., Гослитиздат, 1947; то же в кн.:
«Л. Н. Толстой в русской критике», изд. 2. М., Гослитиздат, 1952.
Шепелева 3. С. Художественное мастерство Л. Н. Толстого. (Роман
«Война и мир».) Кострома, 1954.
372
Богатство изобразительных средств в «Войне и мире»
Виноградов В. В. Пушкин и русский литературный язык XIX века.
В кн.: «Пушкин — родоначальник новой русской литературы». М. — Л.,
1941.
Виноградов В. В. Наука о языке художественной литературы и ее
задачи (на материале русской литературы). М., Изд-во АН СССР, 1958. (Раз-
личные способы выражения «образа автора» в «Войне и мире», «Анне Каре-
ниной» и в «Воскресении».)
Виноградов В. В. Из истории стилей русского исторического рома-
на (Пушкин и Гоголь). «Вопросы литературы», 1958, № 12. (Частично — о тра-
дициях Пушкина в «Войне и мире».)
Виноградов В. В. О языке Толстого. 50—60-е годы. «Литературное
наследство», 1939, № 35—36.
Григорьева Л. П. Вставные конструкции в романе Л. Н. Толстого
«Война и мир». В кн.: «Вопросы изучения русского языка». Алма-Ата, 1955.
Ефимов А. II. О работе Л. Н. Толстого над языком романа «Война и
мир». «Вестник Московского университета», № 11. Серия общественных наук,
вып. 4. М., 1953.
Ефимов А. И. О языке художественных произведений, изд. 2, испр. и
доп. М., Учпедгиз, 1954.
Климова Т. И. О некоторых особенностях диалога в романе Л. Н. Тол-
стого «Война и мир». «Ученые записки Пермского пед. ин-та», т. 107. Пермь,
1963.
Леушева С. И. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». Пособие для
учителя. М., Учпедгиз, 1957.
Мейлах Б. С. Вопросы литературы и эстетики. Сборник статей. Л.,
«Советский писатель», 1958. (Пример метафоры из «Войны и мира».)
М и л ы х М. К. Прямая речь в художественной прозе. Ростов-на-Дону,
1958. (Особенности построения конструкций с прямой речью показаны на
ряде примеров из произведения «Война и мир».)
Пугач С. Речевые приемы выражения внутреннего мира персонажа в
романе Л. Толстого «Война и мир». «Русский язык в школе», 1962, № 6.
Сабуров А. А. Язык и стиль «Войны и мира». В кн.: А. А. Сабуров.
«Война и мир» Л. Н. Толстого. Проблематика и поэтика. М., Изд-во МГУ,
1959.
С е н к е в и ч - Г у д к о в а В. В. Классовый жаргон столичной аристокра-
тии в романе Л. Н. Толстого «Вонна и мир». «Ученые записки Карело-Фин-
ского пед. ин-та», т. 2, вып. 1. Петрозаводск, 1956.
Успенский II. Н. О некоторых особенностях языка и стиля произве-
дений Л. И Толстого. «Русский язык в школе», 1953, № 4.
Ч и ч е р и н А. В. Литература как искусство слова. Очерки теории ли-
тературы. М., «Работник просвещения», 1927.
Чичерин А. В. О языке и стиле романа-эпопеи «Война и мир». Львов,
Пзд-во Львовского ун-та, 1956.
Чичерин А. Стиль романов Л. Толстого. «Русская литература», 1963,
№ 1.
373
СЦЕНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОМАНА-ЭПОПЕИ
(ЭКРАНИЗАЦИЯ, ОПЕРНЫЕ II ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВКИ)
Агапитова А. В. Летопись жизни и творчества В. И. Качалова. В кн.:
«Василий Иванович Качалов». Сборник статей, воспоминаний и писем. М.,
«Искусство», 1954. (Отзыв рецензента «Ленинградской правды» об исполне-
нии Качаловым фрагментов из «Войны и мира».)
Димитров Г. Замечательное произведение, удачный спектакль. «Вой-
на и мир» на сцене Софийского оперного театра. «Советская культура», 18 ян-
варя 1958 г.
Дмитриев А. Патриотический оперный спектакль «Война и мир»
С. Прокофьева в постановке Малого оперного театра. «Вечерний Ленин-
град», 1955.
Евлахов О. «Война и мир». «Известия», 28 апреля 1955 г. (О поста-
новке оперы С. Прокофьева по роману Толстого в Ленинградском оперном
театре им. Кирова.)
«Инсценировка «Войны и мира». «Театр», 1958, № 6.
К а л и т и н Н. «Война и мир». Опера С. Прокофьева на сцепе Музы-
кального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
«Москва», 1958, № 3.
Кандиев Б. И. «Война и мир» Л. Н. Толстого на экране. «Социали-
стическая Осетия», 14 августа 1959 г.
Келдыш Ю. «Война и мир» на оперной сцене. «Ленинградская прав-
да», 23 июня 1955 г.
Кабалевский Д. «Война и мир». «Советский Союз», 1958, № 2. (Об
опере «Война и мир» па сцене Московского музыкального театра им. Стани-
славского и Немировича Данченко.)
Козицкий Ф. Эпопея народного героизма. Опера С. Прокофьева
«Война и мир» на сцене Киевского гос. акад, театра оперы и балета нм.
Т. Г. Шевчепко. «Правда Украины», 2 февраля 1957 г.
М а й б о р о д а Г. «Война и мир». Спектакль Киевского театра оперы и
балета им. Шевченко. «Правда», 20 марта 1957 г.
Мартынов И. Патриотический спектакль «Красная Звезда», 22 нояб-
ря 1957 г. (Об опере С. Прокофьева «Война и мир» в театре им. К. С. Ста-
ниславского и Вл. И. Немировича-Данченко.)
Мартынов И. Лауреат Ленинской премии Сергей Прокофьев. Крат-
кий очерк жизни и творчества. М., «Знание*», 1958. (Анализ оперы «Война и
мир».)
Нестьев И. Прокофьев. М., Музгиз, 1957. (Анализ оперы «Война и
мир».)
Прокофьев С. От автора. В кн.: «Московская филармония. Июнь.
1945 год». М., 1945. (О работе над оперой «Война и мир».)
У теш ев А. Опера С. С. Прокофьева «Война и мир». М., «Советский
композитор», 1960.
Хренников Т. 30 лет советской музыки и задачи советских компози-
торов. «Советская музыка», 1948, № 2. (Об опере С. С. Прокофьева «Война
и мир».)
374
Чекин И. «Война и мир» па экране. «Литературная газета», 8 апреля
1958 г. (О широкоэкранном фильме по роману Толстого в постановке амери-
канского режиссера К. Видора.)
«ВОИНА И МНР» В ЖИВОПИСИ
Б р а и н и н а Р. Новые иллюстрации к «Воине и миру». «Московский
комсомолец», 28 февраля 1954 г. (Об иллюстрациях Д. А. Шмаринова к «Вой-
не и миру».)
В е р е й с к и й О. Новые иллюстрации к «Войне и миру». «Огонек», 1954,
№ 9. (Об иллюстрациях Д. А. Шмаринова.)
Горина Т. И. Илларион Михайлович Прянишников. 1840—1894. М.,
«Искусство», 1958. (О картине Прянишникова «Эпизод из войны 1812 года».)
Г о р д е з и а п и Б. И. А. Шарлемань. Перевод с грузинского Г. Долид-
зе. Тбилиси, «Заря Востока», 1958. (Об иллюстрациях И. А. Шарлеманя к
«Войне и миру» и «Севастопольским рассказам».)
Кузьминский К. С. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и
XIX вв. М., Изогиз, 1937. (Об иллюстрациях М. Башилова к «Войне и миру»
и оценке их Толстым.)
Садовень В. В. Русские художники-баталисты XVIII—XIX веков. М.,
«Искусство», 1955. (Сопоставление картины А. Д. Кившенко «Военный совет
в Филях в 1812 году» с описанием этого же события в романе «Война и мир».
Об иллюстрациях А. Д. Кившенко и П. О. Ковалевского к «Войне и миру».)
Лаптев А. Об иллюстрациях Д. Шмаринова к роману Л. Н. Толстого
«Война и мир». «Искусство», 1953, № 6.
Холодовская М. Вступительная статья в кн.: «Михаил Гордеевич
Дерегус». М., 1954. (Об иллюстрациях художника М. Г. Дерегуса к «Войне
и миру».)
Чегодаев А. Вступительная статья в книге «Каталог выставки произ-
ведений Дементия Алексеевича Шмаринова». М., 1954. (Анализ серии рисун-
ков к «Войне и миру».)
Чегодаев А. О книжной иллюстрации. «Искусство», 1955, № 4. (Об
иллюстрациях Д. Шмаринова и В. Серова к «Войне и миру».)
Шепелева 3. Писатель и художник. «Нева», 1956, № 9. (О взаимоот-
ношениях Л. Н. Толстого и М. С. Башилова, работа художника над иллюстра-
циями к «Войне и миру».)
Ш м а р и н о в Д. А. Как я работал над иллюстрациями к «Делу Арта-
моновых» и «Войне и миру». В кн.: «Из творческого опыта», вып. 2. М., 1957.
ВЛИЯНИЕ РОМАНА-ЭПОПЕИ Л. Н. ТОЛСТОГО
НА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Барсук А. И. Из наблюдений над стилем «Молодой гвардии» А. Фа-
деева. В кн.: «Вопросы советской литературы», сб. 3. М.—Л., 1956. (О бли-
зости стиля и некоторых приемов изображения героев Фадеевым и Толстым
на примере романов «Война и мир» и «Молодая гвардия».)
375
Брайнина Б. Я. Воспитание правдой. Литературно-критические ста-
тьи. М., «Советский писатель», 1956. (О традициях «Войны и мира» в романе
К. А. Федина «Необыкновенное лето».)
Векслер И. И. Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. М.,
«Советский писатель», 1948. (Об общих чертах и различии героев А. Толсто-
го— «Две жизни», «Хождение по мукам» — и Л. Толстого — «Война и мир».)
Голубов С. Правда и вымысел в советском историческом романе. «Во-
просы литературы», 1958, № 1. (О художественной детали и исторических
фактах в художественных произведениях на примерах из «Войны и мира»
и «Анны Карениной».)
Гура В. В. Жизнь и творчество М. А. Шолохова. Пособие для учите-
ля. М., Учпедгиз, 1955. (Упоминание о композиционном сходстве «Тихого
Дона» с «Войной и миром».)
Жидков Л. В. Повесть о защитниках Сталинграда. («Дни и ночи»
К. Симонова.) «Ученые записки Московского гор. пед. пн-та им. В. П. По-
темкина». Кафедра советской литературы, т. 70, вып. 1. М., 1958. (Своеобра-
зие метода Толстого в обрисовке русских воинов в «Войне и мире» и следова-
ние толстовскому методу.)
Коляда Е. Г. Особенности сюжетной конструкции романа-эпопеи «Ти-
хий Дон» М. Шолохова. «Ученые записки Московского гор. пед. ин-та им.
В. П. Потемкина». Кафедра советской литературы, т. 70, вып. 1. М., 1958.
Лежнев И. Традиция и новаторство в творчестве М. А. Шолохова.
В кн.: «Советская художественная проза». М., 1955. (О вкладе Толстого в ис-
кусство эпоса.)
Лежнев И. Путь Шолохова. Творческая биография. М., «Советский
писатель», 1958. (О творческом восприятии традиций Толстого.)
Макаренко А. С. О литературе. Статьи, выступления, письма. М.,
«Советский писатель», 1956. (Сравнение романа А. Н. Толстого «Петр I»
с «Войной и миром».)
Н а у м о в Е. М. Горький в борьбе за идейность и мастерство советских
писателей. М., Гослитиздат, 1958. (Об изучении Д. Фурмановым «Войны и
мира».)
Петров С. М. Советский исторический роман в годы Великой Отечест-
венной войны. «Ученые записки Института мировой литературы им. М. Горь-
кого», т. 1. М., 1952. (Сопоставление отдельных образов «Войны и мира» с
героями романа С. Голубова «Багратион».)
Петров С. М. Советский исторический роман. М., «Советский писатель»,
1958. (О влиянии «Войны и мира» на роман О. Форш «Одеты камнем».)
С и р к е с П. Лев Толстой и Михаил Шолохов. Проблема мастерства в
«Войне и мире» и «Тихом Доне». «Дон», 1961, № 3.
Тагер Е. Проблема эпоса в творчестве М. Горького. В кн.: «Творчество
М. Горького и вопросы социалистического реализма». М., Изд-во АН СССР,
1958. (Изображение действительности в русском романе XIX в. на примере
творчества Толстого—«Анна Каренина», «Война и мир».)
Тимофеев Л. И. Проблемы теории литературы. М., Учпедгиз, 1955.
(О традициях Толстого в творчесгве Шолохова. Сопоставление «Тихого
Дона» с «Войной и миром».)
376
Чарный М. Л. Н. Толстой. «Октябрь», 1940, кн. 2. (Сравнение романа
А. Толстого «Петр I» с «Войной и миром».)
Чарный М. Жизнь и литература. М„ «Советский писатель», 1957.
(О функции природы в «Войне и мире» и «Поднятой целине».)
Шитова В. и С а п п а к В. Перечитывая «Клопа». «Театр», 1955, № 8.
(Об использовании одинакового художественного приема Толстым — «Война и
мир» — и Маяковским — «Клоп».)
Юрьев Ю. М. Записки, ч. 1—3. Письма, статьи и речи. Редакция и всту-
пительная статья Евгения Кузнецова. Л. — М., «Искусство», 1948. (Воспоми-
нания о посещении Толстым ученого публициста и театроведа С. А. Юрьева.
Влияние образа Пети Ростова на Сумбатова-Южина — «Старый закал».)
МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА-ЭПОПЕИ
Благой Д. Д. Мировое значение русской классической литературы. Сте-
нограмма публичной лекции. М„ «Правда», 1948.
М о т ы л е в а Т. Л. «О мировом значении Л. Н. Толстого». М., «Совет-
ский писатель», 1957.
Стасов В. В. Письма к родным, т. 2, 1880—1894. М., Музгиз, 1958.
(В письмах к Д. В. Стасову 31 августа 1887 г., 25 августа 1890 г., 15 июля
1894 г.—сравнение «Разгрома» Золя с «Войной и миром» и «Севастопольскими
рассказами».)
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА-ЭПОПЕИ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Айзерман Л. С. О записях на уроках литературы в старших клас-
сах. (Из опыта работы.) «Литература в школе», 1956, № 4.
Белинская Н. И. Анализ некоторых характерных особенностей худо-
жественного мастерства Л. Н. Толстого в романе «Война и мир». В кн.: «Изу-
чение художественных текстов в VIII—X классах школы». Из опыта работы
учителей. Сборник статей. М., Учпедгиз, 1956.
Бодрова Е. И. Из опыта изучения в 9 классе эпопеи Л. Н. Толстого
«Война и мир». В кн.: «Из опыта преподавания литературы в школе». Ростов-
на-Дону, 1941.
Б р а ж е Т. Г. Целостное изучение эпического произведения. М., «Просве-
щение», 1964.
Бражник Н. И. Изучение романа Л. Н. Толстого «Война и мир» в
средней школе. М., Учпедгиз, 1957.
Бражник Н. И. Система уроков в IX классе по изучению романа
Л. Н. Толстого «Война и мир». «Литература в школе», 1956, № 1.
Бурмакина В. Д. Из опыта преподавания литературы в VIII—X
классах, под ред. Н. И. Кудряшова. М., Изд-во АПН РСФСР, 1952.
Бычихина А. С. Некоторые вопросы работы над сочинением в
старших классах. В кн.: «В помощь учителю». Архангельск, 1953.
377
Голубков В. В. Формирование теоретико-литературных понятий в
8—10 классах. «Литература в школе», 1948, № 5.
Гордеева Н. Б. Использование иллюстраций русских художников при
изучении романа Л. Н. Толстого «Война и мир» в IX классе средней школы.
«Ученые записки Московского пед. ин-та им. В. И. Ленина», вып. 3. М., 1957.
Гордеева И. Б. Изучение мастерства Л. Н. Толстого в школе
(«Война и мир»), под ред. В. В. Голубкова. М., Изд-во АПН РСФСР, 1958.
Кандиев Б. И. «Война и мир» Л. Н. Толстого. Учебно-методическое
пособие. Орджоникидзе, 1959.
Кленицкая И. Я. Как добиться эмоционального восприятия образа
героя учащимися. «Литература в школе», 1958, № 3.
Клюшников В. Выпускники пишут сочинение. «Учительская газета»,
3 июня 1958 г. (О недостатках сочинений на аттестат зрелости на тему
«Семья Болконских в романе Толстого «Война и мир».)
Константинова И. Дневник и письма. Калинин, 1957. (Школьное
сочинение партизанки И. Константиновой на тему «Кто из героев романа Тол-
стого «Война и мир» мне больше всего нравится и почему».)
Л а ш и н а А. М. Из опыта работы по языку на уроках литературы. В кн.:
«За прочные знания по русскому языку и литературе». Калинин, 1954. (Раз-
дел «Работа над языком и стилем романа Л. Н. Толстого «Война и мир».)
Лебедев Э. И. Опыт изучения романа «Война и мир». «Литература в
школе», 1940, № 5.
Л е й з е р о в Н. Л. Об изучении художественного мастерства писателя в
старших классах. «Литература в школе», 1958, № 1. (Сопоставление пейза-
жа в пушкинской прозе с пейзажем в «Войне и мире».)
Литвинов В. Изучение пейзажей романа Л. Н. Толстого «Война и
мир» в IX классе. «Литература в школе», 1956, № 2.
Литвинов В. В. Опрос учащихся по литературе. В кн.: «Русский язык
и литература в школе». Методический сборник, вып. 2. М., 1944. (О методи-
ке опроса учащихся по роману «Война и. мир».)
Литвинов В. В. Изучение языка романа «Война и мир» в 9 классе.
К 125-летию со дня рождения Л. Н. Толстого. «Русский язык в школе»,
1953, № 4.
Молдавская Н. Д. О заданиях для самостоятельной работы над
языком художественных произведений. «Литература в школе», 1958, № 4.
(О работе над языком романа «Война и мир».)
Мотольская Д. К. Изучение композиции литературного произведе-
ния. В кн.: «Вопросы изучения мастерства писателей на уроках литературы
в 8—10 классах». Л., 1957. (О композиции романа «Война и мир».)
Некрасова А. М. Работа над темой «Показ народной войны в рома-
не «Война и мир» в 9 классе. «Литература в школе», 1955, № 6.
Некрасова А. М. Из наблюдений над языком романа Л. Н. Толстого
«Война и мир» в 9 классе. В кн.: «Изучение языка художественных произве-
дений в школе». М., 1955.
Никитина Е. И. Изучение в 9 классе романа Л. Н. Толстого «Война
и мир». Ульяновск, 1953.
П о п о в а И. С. Повторение литературы XIX века в 10 классе». Л., Учпед-
378
гиз, 1958. (Методические указания к теме «Л. Н. Толстой. «Война и мир».)
Портнов М. Л. Методика опроса учащихся на уроках литературы в
старших классах средней школы. М., Учпедгиз, 1958.
Сорокин В. II. Анализ литературного произведения в средней школе.
М., Учпедгиз, 1955. (Раздел «Война и мир» — о композиции, методике ана-
лиза романа в школе.)
Терентьева А. А. Планирование уроков по изучению романа
Л. Н. Толстого «Война и мир». «Ученые записки Ленингр. пед. ин-та им.
А. И. Герцена». Кафедра методики литературы, т. 146. Л., 1957.
Толстой Л. Н. К 125-летию со дня рождения. Материал в помощь
учителю. Под общей ред. В. В. Голубкова. М., Учпедгиз, 1953.
«Л. Н. Толстой в школе», сборник под ред. В. В. Голубкова и С. М. Пет-
рова. М., «Просвещение», 1965.
УКАЗАТЕЛЬ ТРУДНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛОВ,
СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ 1
Аббат 69
Абордаж 277
Абово 140
Авангард 107
Аванпост 107
Августин 266
Адам 137
Адамова голова 137
Александр I 68
Александр Македонский
328
Аллегория 137
Алкать 158
Алкид 129
Аллюр 115
Альзасец (эльзасеи) 116
Амазонки 227
А малик (Амалек) 197
Амвон 197
Амуниция 149
Амфитеатр 236
Амштеттен 105
Амштеттенский мост 132
Анафема 132
Англез 84
Английский клуб 125—127
Английский посланник 68
Антонов огонь 283
Антраша 128
Антре 128
Анфилада 174
Апогей 157
Апокалипсис 202
Апоплексия (апоплекси-
ческий удар) 133
Апостол 89
Апраксин Степан Степа-
нович 129
Апраксины 70
Аракчеев Алексей Андре-
евич 157
Арапник 169
Аристова 295
Аркольский мост 70
Армфельд Густав Мав-
рикий 191
Арнауты 114
Арфа 84
Архаровы 128
Арьергард (ариергард)
100
Ассигнация 240
Астрей 176
Аугест 124
Аудиенция 106
Аудитор ПО
Ауэрштедт 139
Аустерлицкое сражение
119—123
Ацэрсперг фон Ма утери
‘106
Аффектация 157
Ахиллесова пята 90
Аш Казимир Иванович
209
Багговут Карл Федорович
287
Багратион Петр Ивано-
вич 101
Баденские 190
Балага 182
Балашёв Александр
Дмитриевич 187
Банник НО
Баркарола 133
Барклай де Толли Миха-
ил Богданович 191
Бартенштейн 149
Бассано Маре Гуго Бер-
пар 187
Бахус 96
Беклешов Александр
Андреевич 129
Беловиц 119
Бельяр Огюстен 106
Бенефис 176
Беннигсен Леонтий Ле-
онтьевич 140
Бенуар 181
Берейтор 123
Березина 259
Бернадотт Жан Батист
Жюль 191
Бертелеми 296
1 Указатель составлен к тексту, напечатанному петитом и содержащему
краткую характеристику названий и имен (подлинных, а не вымышленных),
объяснение трудных слов, встречающихся па страницах «Войны и мира». Ио
основному тексту в указателе даются лишь те имена и названия, которые не
вынесены в петит, поскольку исчерпывающе прокомментированы в основном
тексте книги.
380
Бертье Луи Александр
187
Бесьер Жан Батист 191
Бешмет 182
Библейское общество 335
Бивак (бивуак) 116
Бильбоке 242
Бисмарк Отто 364
Благовест 275
Богарне Евгений 292
Богемия 106
Богородица 197
Бокль Генри Томас 362
Болотная площадь 2Т1
Бомарше Пьер Огюстен
Карон 363
Бонапарт (Наполеон I)
68
Бонапартист 70
Борисов 320
Боровицкие ворота 270
Бородино 214
Боссе Луи Франсуа Жо-
зеф 241
Бостон 84
Ботнический залив 190
Ботфорты 190
Брандскугель ПО
Браницкий, очевидно.
Владислав Ксаверьевич
209
Браунау 95
Бретёр 70
Бригадир 114
Брульон 114
Бруствер 245
Брусье Жан Батист 295
Брюмер 70
Брюнн 96
Буксгевден Федор Федо-
рович 107
Булонь 363
Бурбоны 70
Буриме 177
Бурнус 269
Бухарест (Букарешт) 194
Ваграм 245
Валахия 190
Валуев Петр Степанович
129
Вальтрап 100
Варфоломеевская ночь
242
Василий Блаженный 270
Василиса Кожина (ста-
ростиха Василиса) 304
Васильев Владимир Фе-
дорович 140
Васильчиков Илларион
Васильевич 266
Вахмистр 99
Веймарские 191
Вейротер 107
Великий архитектон 158
Великий мастер 158
Венгерка 128
Венецианское цельное
зеркало 83
Вензель 151
Венский вальс 115
Верещагин 270—271
Вериги 162
Викарный 271
Виконт 69
Виктория 140
Вилия 187
Вилье (Виллие) 118
Вильно 187
Вильнёв Пьер Шарль 84
Вимпфен Макс 118
Винес 113
Винцингероде Фердинанд
Федорович 69
Виртембергцы 258
Виртембергские 191
Висла 186
Вист 174
Витгенштейн Петр Хри-
стианович 227
Витебск 195
Вихнуть 170
Вицмундир 278
Вишау 116
Владимира святого орден
101
Влоцкий 209
Воззриться 170
Волконский Петр Михай-
лович 123
Вольтер (Франсуа Мари
Аруэ) 129
Вольцоген Людвиг Юс-
тус 194
Воронцово 227
Вотчина 283
Врбна Рудольф 106
Выездной лакей 128
Выжлец 170
Выжлятник 170
Вяземский Андрей Ива-
• нович 129
Вязмитинов Сергей Кузь-
мич 113
Вязьма 214
Гайдук 267
Галиция 114
Галлицизм 227
Гамбургская газета 267
Гарденберг Карл Август
68
Гасконцы 106
Г аугвиц Христиан Ав-
густ 68
Гверильясы 298
Гедеон 197
Генерал-аншеф 89
Генуя 68
Гервинус Георг Готфрид
363
Гердер Иоганн Готфрид
148
Гиббон Эдуард 362
Г лад ух 220
Глинка Сергей Николае-
вич 202
Г лиссандо 160
Глогау 139
Глухая исповедь 84
Гогенлоэ, очевидно, Ней-
штейн Ингельфинген
Фридрих Людвиг 118
Г оленищев-Кутузов Па-
вел Иванович 129
Голиаф 197
Голицын Александр Ни-
колаевич 69
Голицыны 202
Гомеопатия 197
Горчаковы 132
Госснер Иоанн 350
Гостиердак 124
Государственный канцлер
113
Государственный совет
113
Готфрид Бульонский 364
Гофкригсрат 96
Грановитая палата 320
Грассирование 83
Греков, очевидно, Тимо-
фей Дмитриевич 287
Гренадеры 107
Гросс-фатер 181
Грузинские 278
Грунт 107
Гунтерсдорф ПО
Гурьев Михаил Василье-
вич 119
Гурьев дом 119
Гусары 99
Гусли 176
Давид 197
Даву Луи 190
Давыдовы 259
381
«Данила Ку пор» 84
Данциг (Гданьск) 187
Дворник 209
Дебет 331
Де Каст ре 190
Де Местр Жозеф Мари
195
Демосфен 106
Денник 328
Депо 308
Дессе Жозеф Мари 242
Десница 197
Дефиле 119
Диана 170
Диверсия 320
Дидерот (Дидро) Дени
363
Директория 363
Дирнштейн (Дюрен-
штейн) 106
Диспозиция 118
Дмитриев-Мамонов Мат-
вей Александрович 202
Доброе 315
Доезжачий 169
Долгоруков Михаил Пет-
рович 115
Долгоруков Петр Пет-
рович 115
Долгоруков Юрий Влади-
мирович 129
Доппель-кюммель 100
Дорогобуж 209
Дорохов Иван Семено-
вич 295
Дохтуров Дмитрий Сер-
геевич 105
Дрезден 186
Дрисса 194
Душеприказчик 170
Дюпор Луи 128
Дюрок Жерар Кристоф
Мишель 190
Дюронель Антуан Жан
Огюст 278
Дюссек Иоганн Ладислас
89
Дюшенуа Екатерина Жо-
зефина Рафен 277
Евангелие 89
Егерь 187
Единорог 110
Ектенья 197
Елены святой остров 110
Елизавета Алексеевна,
русская императрица
280
Елизавета Филиппина
Мария Елена 70
Ермолов Алексей Петро-
вич 195
Есаул 304
Ефрейтор 101
Жабо 69
Жанлис Стефания Фели-
сита 222
Жанна д'Арк 227
Жезл 314
Жерар Морис Этьенн 242
Жерар Франсуа Паскаль
Симон 242
Жерве Андрей Андреевич
160
Животов полон двор 283
Жозефина Мария Роза
185
«Жоконда» 213
Жорж Дандэн 139
Жорж Маргарита Жозе-
фина Веймар 69
Жюно Андох 308
Завести гончих 170
Заводная лошадь 197
Заказ 169
Заколяниться 245
Закрет 187
Заложиться 170
Зальценек 99
Замок эскадрона 115
Замолаживать 169
Засека 170
Застава 128
Земский 164
Золовка 70
«Золотой мост» 296
Зубовский вал 278
Зубовы 90
«Иван Великий» 283
Игреневая лошадь 169
Иена 139
Иерусалим 364
Иисус Навин 364
Иллюминатство 158
Иллюминация 160
Ильюшка 129
Империал 70
Инн 100
Иоанн IV 363
Йоге ль 80, 131
Ипохондрия 162
«Ищущие манны» 176
Кабалистический 277
Кабриолет 106
Кавалергард 160
Кавардак 266
Кадило 85
Казакин 170
Кайсаров Андрей Сер-
геевич 236
Калиш 259
Каменский Михаил Фе-
дотович 86
Каменский Николай Ми-
хайлович 128
Камергер 106
Камердинер 89
Камер-коллежский вал
269
Камер-фурьер 151
Камер-юнкер ИЗ
Камзол 114
Камлот НО
Кампо Формио 106
Камчатная ткань 83
Камэ (камея) 332
Канапе 271
Кантата 129
Капельдинер 181
Капельмейстер 181
Капот 101
Капрал 116
Карабинер 123
Каре НО
Карл X Филипп 363
Карл IX 242
Карл I Стюарт 363
Каурый 170
Кацавейка (куцавейка)
180
Кашмир 187
Квартирмейстер (квар-
тирьер) 96
Кенигсберг 187
Кеплер Иоганн 364
Керубини Луиджи 159
Кесарь 328
Кивер 100
Кикин Петр Андреевич
287
Киот 130
Клавикорд 84
Клаперед Мишель 245
Клаузевиц Карл 240
Клирос 281
«Ключ таинства» 89
«Ключ» 75—80
Ключарев Федор Петро-
вич 264
Кобельниц 118
Кобыла 227
Ковно 187
Коленкур Арман Август
158
382
Колет 124
Коллежский асессор 157
Колумбово яйцо 266
Колотовка 180
Колодезня 270
Колона 236
Компан Жан Доминик
242
Конвент^ЗЖ
Конде 70
Коновницын Петр Пет-
рович 222
Консилиум 197
Консистория 271
Константин Павлович,
великий князь 114
Конституция Польши 328
Континентальная систе-
ма 186
Конфиденциальный 129
Коперник Николай 364
Коралл 281
Кор д’арме 140
Корвизар Жан Никола
242
Корнет 96
Корпия 227
Корпуленция 176
Корсаж 160
Корсар 262
Корсиканское чудовище
89
Корчева 140
Корчма 151
Котильон 160
Кочубей Виктор Павло-
вич 157
Красный 314
Красная Пахра 284
Красный лакей 160
Кредит 331
Кремортартар 84
Креме 105
Крещение 132
Кроаты (хорваты) 96
Крымский брод 283
Крюднер (Криденер)
Варвара Юлия 350
Куверт 83
Кунсткамера 176
Кунктатор 118
Купель 130
Куракин Александр Бо-
рисович 187
Куранты 284
Курбский Андрей Ми-
хайлович 363
Курьерские лошади 137
Кутайсов Александр
Иванович 280
Кутасы 100
Кутафьи ворота (Кута-
фья башня) 275
Кутейник 157
Кутузов Михаил Илла-
рионович 70
Лабаз 291
Ладан 148
Лады (собаки) 170
Лаз 169
Лазутчик 107
Лампада 148
Ламбах 105
Ланжерон Александр
Федорович 118
Ланн Жан 106
Ланской Василий Сер-
геевич 284
Ланфре Пьер 362
Лаокоон 332
Ларь 128
Ларрей Доминик Жан
124
Лафатер Иоганн Каспар
69
Лафет 106
Легитимисты 139
Лейб-гусар 70
Лемарруа Жан Леонар
Франсуа 107
Ленты 115
Леппих Франц 225—226
Леташёвка 287
Лех 97
Ливрея 129
Линь Шарль Жозеф 158
Лифляндский дворянин
158
Лихтенштейн Иоганн
Иосиф 118
Лобное место 227
Ловчий 169
Лоди 245
Ложечник 96
Ломбардные билеты 90
Ломберный стол 128
Лопухин, вероятно, Иван
Владимирович 176
Лопухин Петр Василье-
вич 213
Лопухины 267
Лористон Александр
Жак Бернар Ло 176
Лорнет 69
Лосины 152
Лукка 68
Любомирский Констан-
тин Ксаверьевич 209
Людовик XI Валуа 363
Людовик XIV 362
Людовик XV 69
Людовик XVI 129
Людовик XVII 70
Людовик XVIII 362
Людовик Филипп 363
Лютер Мартин 363
Магницкий Михаил Ле-
онтьевич 157
Мадиам 197
Майонез 128
Макарьев 308
Макк Карл 96
Мальбрук 89
Мальта 68
Мамелюки 190
Манёвр 164
Манерка 107
Мантилья 83
Марат Жан Поль 139
Маренго 245
Марин Сергей Никифо-
рович 236
Мария Луиза, императ-
рица французская 176
Марии Терезии орден 106
Мария Федоровна, уро-
жденная принцесса
Виртембергская 280
Маркитант 107
Марков Аркадий Ивано-
вич 115
Мародёр 140
Мартинизм 137
Мартинист 137
Марья Антоновна На-
рышкина 160
Масака 114
Масонство (франкмасон-
ство) 133—137
Медынь 296
Мекленбургцы 258
Мексика 364
Мельк 105
Меморандум 98
Ментик 99
Метампсикоза (метам-
психоза) 174
Метафизика \Ъ1
Меттерних Клемент Вен-
цеслав 186
Метрдотель 69
Мешков Петр Алексее-
вич 271
Микулино 304
383
Милорадович Михаил
Андреевич 118
Миннезингеры 364
Миро 148
Мистика 158
Митрополит 84
Михельсон Иван Ивано-
вич 89
Мишо де Боретур Алек-
сандр Францевич 195
Модистка 182
Можайск 227
Моисей 197
Молдавия (Молдова) 190
Молитвенник 130
Молитен 150
Мольер (Жан Батист
Поклен) 130
Монморанси 69
Монтескье Шарль Луи
157
Монтрезор 281
Моран Луи Шарль 242
Моро Жан Виктор 90
Мортье Эдуард Адольф
Казимир 105
Мох 69
Мудрое Матвей Яковле-
вич 197
Мундштук 100
Муниципалитет 291
Мутон Дюверне Режч
Бартелеми 296
Муций Сцевола Гай 350
Мушкатёры (мушкетёры)
106
Мушкетёрский (мушке-
тёрский) полк 315
Мушкетон 304
Мытищи Большие 278
Мытищи Малые 278
Мюрат Иоахим 106
Мюрат Каролина 190
Наполеон III 363
Нарышкин Александр
Львович 129
Нарышкины 181
Настоятель 281
Неверовский Дмитрий
Петрович 209
Ней Мишель 242
Неман 151
Немецкий студент, поку-
шавшийся на жизнь
Наполеона 277
Н епрезентабелъный 202
Николай Угодник (Ни-
колай Чудотворец) 307
Нимфы 69
Новиков Николай Ива-
нович 137
Новосильцев Николай
Николаевич 68
Новый указ о придвор-
ных чинах 157
Ноктюрн 174
Ностиц, очевидно, Григо-
рий Иванович 98
Ньютон Исаак 364
Обер-гофмаршал 118
Обер-интендант 222
Обер - церемонимейстер
291
Обер-Шальме 180
Облическое движение
194
Оболенские 227
«Общество Иисусово»
266
Овин 236
Одонья 331
Одр 84
Ольденбургский герцог
176
Ольденбургское дело 176
Ольмюц 106
Орарь 197
Ординарец 304
Орлов Алексей Григорь-
евич 83
Орлов-Денисов Василий
Васильевич 287
Осанна 280
Остерман-Толстой Алек-
сандр Иванович 197
Остзейский край 158
О строена 196
Остроленка 140
Отсесть 170
Оттопать (оттоптать)
зверя 170
Оттоманка 84
Па 132
Пагоды 214
Пазанка 170
Пазанчить (отпазанчить)
170
Пален, вероятно, Федор
Петрович 90
Палубы 292
Пальник 115
Панины 162
Папильотка 159
Парис и Елена 113
Парламентёрство 107
Пароксизм 295
Пароль (в карточной иг-
ре) 99
Партер 158
Пассаж 89
Пасьянс 133
Паулуччи Филипп Оси-
пович 194
Пеньюар 160
Перекладные сани 128
Пернетти 212
«Песнь песней» 158
Пётр Амьенский, Пу-
стынник 364
Петров день 146
Петровский пост (Пет-
ровка) 197
Печатная молитва 218
Пикет 119
Пикировка 84
Пирамида 314
Питт Вильям Младший
83
Пластун 304
Платов Матвей Ивано-
вич 149
Плерезы 218
Плутарх 213
Плюмаж 70
Плющ 69
Пневмония 197
Повиснуть 170
Погребец 90
Подать голос 170
Подвёртки 100
Подозрить 170
Подпоручик 101
Подстава 130
Подъездок 99
Позен (Познань) 186
Поклонная гора 269
Покромка 128
Полицмейстер 160
Полка 119
Полотняные заводы 314
Польский 160
Помкнуть 170
Понятовский Иосиф Ан-
тонович 236
Попона 304
Порскать 169
Поручик 83
Посконная ткань 271
Потёмкин Григорий
Александрович 90
Потсдам 113
Потье Роберт Жозеф 277
Почётного легиона звез-
да 152
384
Почётного легиона ор-
ден 152
Прапорщик 83
Прац (Працен, или
Пратц) 123
Праценские высоты 123
Предводитель дворянст-
ва 148
Прелюдия 133
Пржебышевский (Пржи-
бышевский) Игнатии
Яковлевич 119
П рейсиш-Эйлау 140
Преосвященный 280
Префект 241
Придел 146
Принц Евгений Виртем-
бергский 311
Принципал 129
Причастившись 331
Причетник 85
Прозоровский Александр
Александрович 140
Прозрение 331
Промеморийка 98
Пропозиция 114
Профессируют 328
Псалтырь 218
Птоломей (Птолемей)
Клавдий 364
Пудромант 89
Пунш 245
Пушкин Василий Льво-
вич 227
Пфуль Карл Людвиг Ав-
густ 191
Пяльцы 130
Раевский Николай Нико-
лаевич, старший 196
Раевского редут 236
Раёк 181
Разумовские 83
Разумовский Андрей Ки-
риллович 105
Рамо 218
Рапп Жан 242
Растопчин Федор Ва-
сильевич 129
Ратник 140
Раут 186
Редингот 70
Редут 235
'Рейнвейн 84
Рейнский союз 363
Рейтузы 101
Рекогносцировка 150
Рекрут 89
Реляция 101
Ремарка 90
Ремонт 196
Репнин Николай Григо-
рьевич 124
Рескрипт 187
Ретирада 130
Риза 308
Ритор 137
Роба 69
Роббер 162
Робеспьер Максимилиан
Мари Иосидор 130
Роброн 350
Роганы 69
Розенкампф Густав Анд-
реевич 157
Ростбиф 69
Ротмистр 150
Роялист 70
Румянцев Николай Пет-
рович 69
Румянцевы 83
Рундук 220
Руссо Жан Жак 350
Рущук 222
Рыконты 190
Рюш 350
Савари 118
Саламанское сражение
242
Саламони (Соломопи)
83
Салоп 83
Салтановское сражение
195
Салтыков Николай Ива-
нович 187
Сам-пят ребят 283
Сангвинический, сангви-
ник 84
Сарагоса 262
Сардонический 84
Свайка 149
Свалить стаи 170
Свенцяны 196
Святки 174
Священный союз 328
Сдаточные лошади 137
Себастиана Орас 291
Севрская чашка 191
Семёнова Нимфодора
Семеновна 181
Семёновский полк 328
Семпель 99
Семорецкий 140
Сенат 271
Септима 181
Сергий Радонежский 280
Серники 296
Сеславин Александр Ни-
китич 295—296
Сивцев Вражек 331
Сикстинская мадонна
242
Синод 197
Сисмонди Леонард 350
Скипетр 242
Скифская война 209
Скуфья 197
С молотка 331
Смотритель 137
Смычок 170
Снасть 291
Соборне 202
Соборование 84
Сокольниц 118
Солома под окнами 85
Соломона храм 137
Сольфеджи 202
Сомнабул (сомнамбула)
278
Соната 89
Сондирование (зондиро-
вание) 124
Сорбонна 277
Сорбье Жан Бартелеми
242
Сострунить 170
Соте 84
Софизм 259
Спаржа 128
Сперанский 154—157, 182
Спеть (доспеть) 170
Сталь Жермена 296
Статский генерал 281
Статский советник 113
Стегно 158
Стерн Лоренс 90
Стёша (Стешка) 182
Стихарь 197
Столыпин Аркадий Алек-
сеевич 160
Сторы 314
Стремянный 169
Строганов Павел Алек-
сандрович 123
Субалтерн-офицер 96
Субординация 115
Султан 116
Сурьма 328
Сухарева башня 267
Сухтелен Павел Пет-
рович 124
Сфинкс 159
Сюза 137
Сюртук 307
385
Таврический сад 160
Талейран Шарль Морис
186
Талер 105
Тальма Франсуа Жозеф
277
Тарутино 284
Татаринова Екатерина
Филипповна 350
Ташка 101
Темляк 114
Тенёта 174
Тильзит 151
Тильзитский мир 176
Тит 129
Ток (тока) 160
Толстой Николай Алек-
сандрович 118
Толстой Петр Александ-
рович 89
Толь Карл Федорович
124
Торбан 287
Торжок 137
Тормасов Александр Пе-
трович 194
Торн 187
Торока 170
Тортю 128
Тосканцы 259
Транспорт 164
Траун 100
Трензель 99
Три горы (Трехгорная за-
става) 266
Троице-Сергиева лавра
278
Тугендбунд 350
Тулон 106
Туры 236
Тутолмин Иван Василье-
вич 291
Тучков Николай Алек-
сеевич 236
Тычёк 227
Тьер Луи Адольф ПО
Тюрасский лес 119
Тюррен 190
Тягло 218
Уваров Федор Петрович
124
Увертюра 181
Угодник 148
Угонка 170
Угорь 170
Удино Шарль Николай
149
Узурпатор 70
Уймище 170
Уланы 124
Ульм 97
Унтер-офицер 319
i Урусов, вероятно, Алек-
; сандр Михайлович 158
Фабвье 241
Фавор 158
«Фараон» 96
Фармазон 160
Фатум 186
Фейерверк 174
Фейерверкер 110
Фельдфебель 96
Фельдмаршал 96
Фен (Фэн) Агатон Жан
Франсуа 291
Фердинанд Карл Иосиф
96
Фермопилы 196
Фигнер Александр Са-
мойлович 296
Фижмы 174
Фили 259
Филиация 162
Фильд Джон 174
Фихте Иоганн Готлиб
327
Фланкёры 101
Флешь 245
Флигель-адъютант 70
Флора и Лавра 283
Флюгера пик 115
Фома Кемпийский 137
Форейтор 70
Форшпан 100
Фотий 327
Франц Иоганн Карл 97
Фрейлина 69
Фридландское сражение
150
Фриан Луи 242
Фридрих 11 Великий 90
Фридрих Вильгельм 111
139
Фриз 267
Фриштик 130
Фрондировать 213
Фронтон 148
Фуга 307
Фура 307
Фураж 149
Фурштатский солдат 100
Фурштатское седло ПО
Фуше де К а рей ль Луи
Франсуа 242
Харон 227
Химера 69
Хоры 84
Хофс - кригс - вурст-
шнапс-рат 90
Хребтуг 258
Христъяне 283
Хроматические гаммы
181
Царёво Займище 214
Царицын луг 96
Царские врата 197
Цезарь Юлий 70
Целовальник 227
Цнайм (Знайм) 107
Цуг 83
Цыбик 291
Чарторижский Адам Ада-
мович 115
Чекмень 307
Чепрак (чапрак) 152
Чернышёв Александр
Иванович 195
Чешуя 291
Чигирин Карпушка 227
Чикчиры (кичкиры) 99
Чинёнка 245
Чистопсовая (густопсо-
псовая) собака 170
Чичагов Павел Василье-
вич 309
Чубук 291
Чуйка 266
Чумбур (чембур) 170
Шатобриан Франсуа Ре-
не 327
Швальня 291
Шварц Федор Ефимович
350
Шварценберг Карл Фи-
липп 139
Шевардинский редут 236
Шевардинское сражение
236
Шеллинг Фридрих Виль-
гельм 327
Шенбрунн 106
Шенграбен (Голлабрун)
107
Шифр 69
Шишков Александр Се-
менович 187
Шлапаниц 118
Шлоссер Фридрих Хри-
стофор 363
Шмит 105
386
Шотландский ковер 176
Штаб-ротмистр 100
Штейн Генрих Фридрих
Карл 191
Штральзунд 89
Штраух 98
Щербатов Дмитрий Ми-
хайлович 283
Щербатовы 283
Эйхен, вероятно, Федор
Яковлевич 287
Экмюльский герцог 283
Экосез 132
Эксельбант (аксельбант)
181
Экспедиция в Англию 84
Элоиза 88
Эльба 362
Эмигранты 69
Энгиенский герцог 69
Энглизированная (анг-
лизированная) лошадь
115
Энс 100
Эполеты 96
Эрфурт 154
Эрцгерцог 97
Эрцгерцогство Австрий-
ское 95
Эскадрон 99
Эссен Иван Иванович 115
Эфес 101
Эфир 328
Южная армия 89
Юнкер 99
Юрага 170
Юхнов 296
Якобинец 70
Яма 266
Янтарь 84
Яузский мост 270
Яффа 70
Яхонтовые сережки 84
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие .................................................... 3
Л. Н. Толстой о «Войне и мире» ................................. 8
Из писем, дневниковых записей и устных высказываний .... —
Из выступлений в печати ................................... 12
Из черновых вступлений и предисловий к роману, набросков
к эпилогу.................................................. 21
Отечественные писатели и критики о «Войне и мире».............. 24
Зарубежные писатели и критики о «Войне и мире»................ 29
Западноевропейские страны и США ............................ —
Славянские страны ......................................... 34
Страны Востока............................................. 35
Жанр «Войны и мира»............................................ 37
О заглавии романа-эпопеи....................................... 51
О тексте романа-эпопеи......................................... 57
Тем первый
Часть первая................................................... 61
Главы I—V (61). Главы VI—IX (70). Главы X—XXIV (71). Гла-
вы XXV—XXVIII (85).
Часть вторая .................................................. 90
Главы I—II (90). Глава III (96). Глава IV (98). Главы V—VIII
(100). Главы IX—XV (101). Главы XVI—XXI (107).
Часть третья.................................................. 111
Главы I—II (111). Главы III—VI (113). Главы VII—IX (114).
Глава X (115). Главы XI—XIII (116). Главы XIV—XIX (119).
Том второй
Часть первая.................................................. 125
Главы I—III (125). Главы IV—VI (129). Главы VI—IX (131).
Главы X—XVI (131).
Часть вторая.................................................. 133
Главы I-V (133). Главы VI—VII (138). Главы VIII—IX (139).
Главы X—XIV (140). Главы XV—XVIII (148). Главы XIX—XXI
(150).
388
Часть третья ............................................ 152
Главы I—III (152). Главы IV—VI (154). Главы VII—XIII (158).
Главы XIV—XVII (159). Глава XVIII (160). Главы XX—XXVI
(161).
Часть четвертая.......................................... 163
Главы I—II (163). Главы III—VII (164). Главы VIII—XII (171).
Часть пятая.............................................. 174
Главы I—V (174). Главы VI—XIII (177). Главы XIV—XXII (182).
Том третий
Часть первая............................................. 183
Главы I—III (183). Главы IV—VII (187). Главы VIII—XI (191).
Главы XII—XV (195). Главы XVI—XVIII (197). Главы XIX—XX
(198). Главы XXI—XXIII (198).
Часть вторая............................................. 203
Главы I—V (203). Глава VI (209). Глава VII (214). Главы VIII—
XI (215). Главы XIII—XIV (219). Главы XV—XVI (220). Главы
XVII—XVIII (222). Главы XIX—XXIII (227). Главы X^IV—XXV
(236). Главы XXVI—ХХТХ- (240). Главы XXX—хУ XIV (543)7
Глава XXXV (245). Главы XXXVI—XXXIX (253).
Часть третья............................................. 259
Главы I—II (259). Главы III—IV (259). Главы V—XI (262).
Главы XII—XVII (267). Глава XIX (267). Главы XX—XXIII (269).
Главы XXIV—XXV (270). Глава XXVI (272). Главы XXVII—
XXIX (276). Главы XXX—XXXII (277). Главы XXXIII—XXXIV
(278).
Том четвертый
Часть первая .................................................... 279
Главы I—III (279). Главы IV—VIII (281). Главы IX—XIII (281).
Главы XIV—XVI (283).
Часть вторая..................................................... 284
Главы I—III (284). Главы IV—VII (284). Главы VIII—X (287).
Главы XI—XIV (291). Главы XV—XIX (292).
Часть третья..................................................... 296
Главы I—II (296). Главы III—VII (298). Главы VIII—XI (304).
Главы XIII—XV (307). Главы XVI—XIX (308).
Часть четвертая.................................................. 310
Главы IV—V (310). Главы VI—IX (315). Главы X—XI (315).
Главы XII—XIII (320). Глава XIV (320). Глава XVIII (320).
Эпилог
Часть первая..................................................... 321
Главы I—IV (321). Главы V—IX (328). Главы X—XVI (332).
Часть вторая..................................................... 351
Главы I—XII (351).
389
Библиография по «Войне и миру» ...............................
Статьи В. И. Ленина о Л. Н. Толстом (365). Литература о статьях
Ленина, посвященных Толстому (365). Творческая история и основ-
ные источники «Войны и мира» (366). Исторические события в «Войне
и мире». Философская концепция романа-эпопеи ((367). Изображе-
ние дворянства в «Войне и мире» (368). Изображение народа в
«Войне и мире» (369). Художественные особенности «Войны и ми-
ра». Мастерство Толстого (370). Сценическая интерпретация рома-
на-эпопеи (экранизация, оперные и драматические постановки)
(374). «Война и мир» в живописи (375). Влияние романа-эпопеи
Л. Н. Толстого на советских писателей (375). Мировое значе-
ние романа-эпопеи (377). Методические пособия по изуче-
нию романа-эпопеи в средней школе (377).
Указатель трудных для понимания слов, собственных имен и на-
званий .......................................................
365
380
Богдан Иванович Кандиев
РОМАН-ЭПОПЕЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
«ВОЙНА И МИР»
Редактор Л. А. Белова
Обложка художника Е. Д1. Батыря
Художественный редактор Н. М. Ременникова
Технический редактор Т. Н. Зыкина
Корректор Т, М. Графовская
Сдано в набор 3/VIII 1965 г. Подписано к печа-
ти 18/V 1966 г. 60x90'/!,;. Печ. л. 24,5 4-вкл. 0,125.
Уч.-изд. л. 25,37-1-вкл. 0,09. Тираж 45 тыс. экз.
БЗ № 73—1966-№ 6 А 13441.
Издательство «Просвещение» Комитета по печати
при Совете Министров РСФСР. Москва, 3-й проезд
Марьиной рощи, 41.
Саратовский полиграфический комбинат Росглав-
полиграфпрома Комитета по печати при Совете
Министров РСФСР. Саратов, ул. Чернышев-
ского, 59. Заказ №331.
Цена без переплета 1р. 10 к., переплет 18 к.