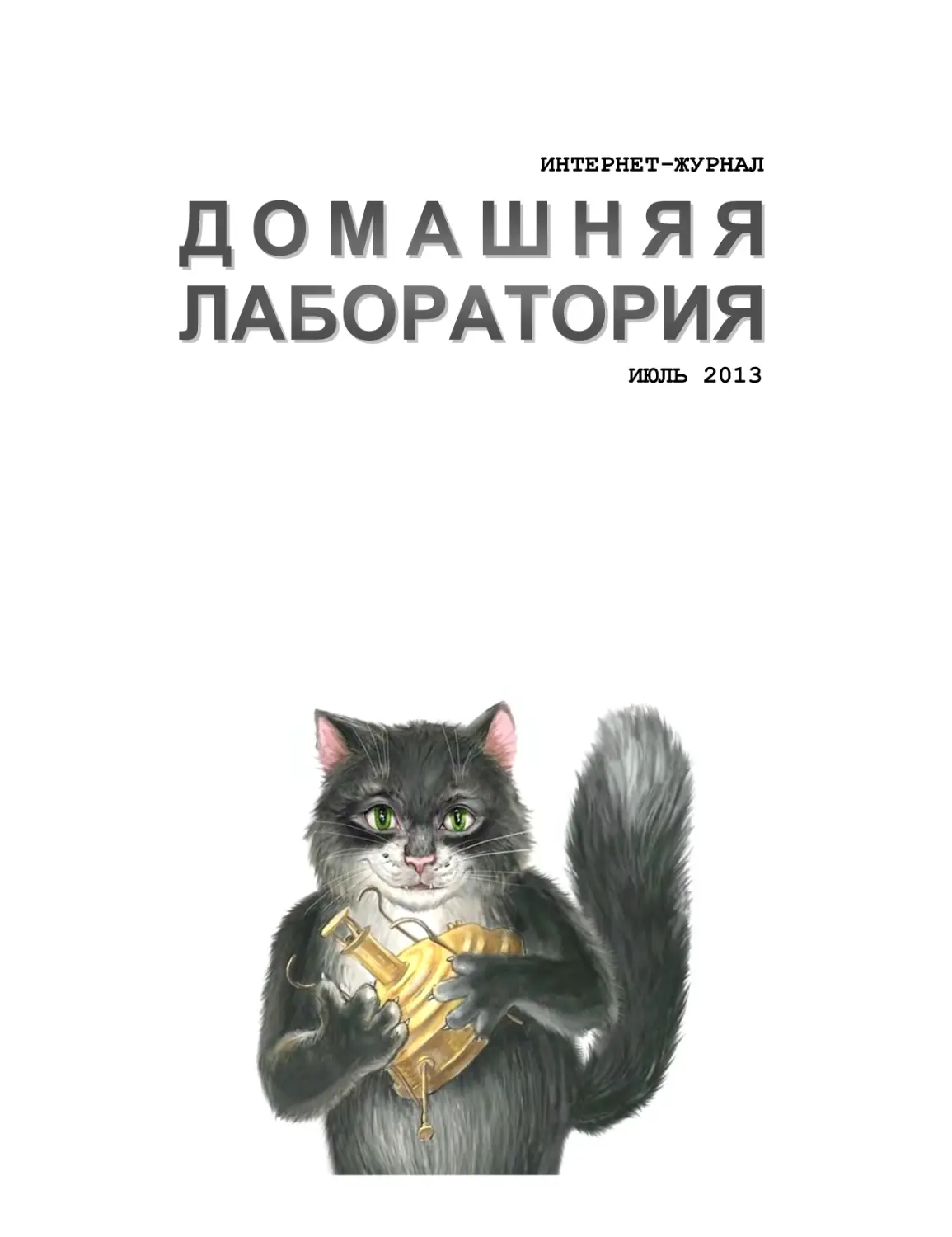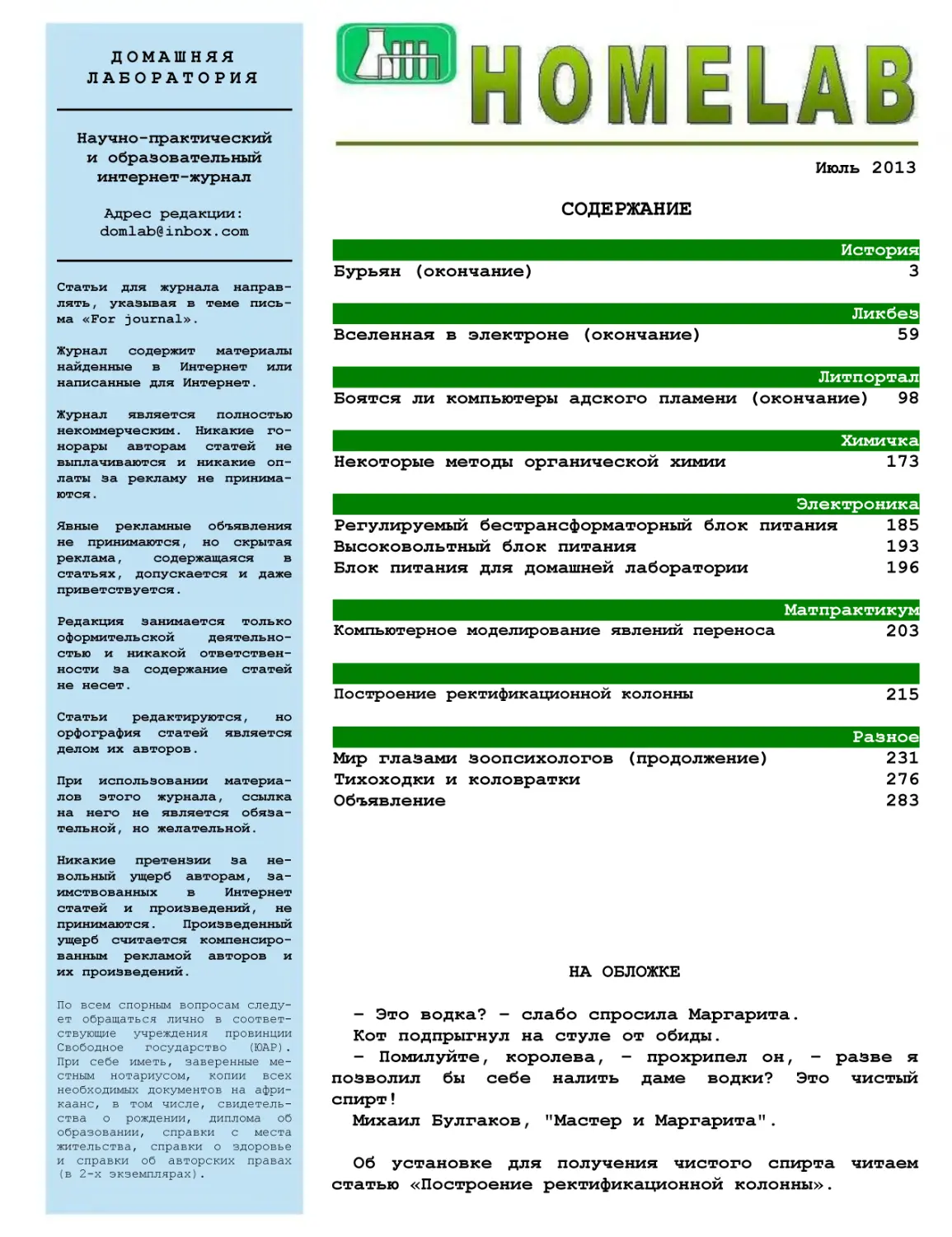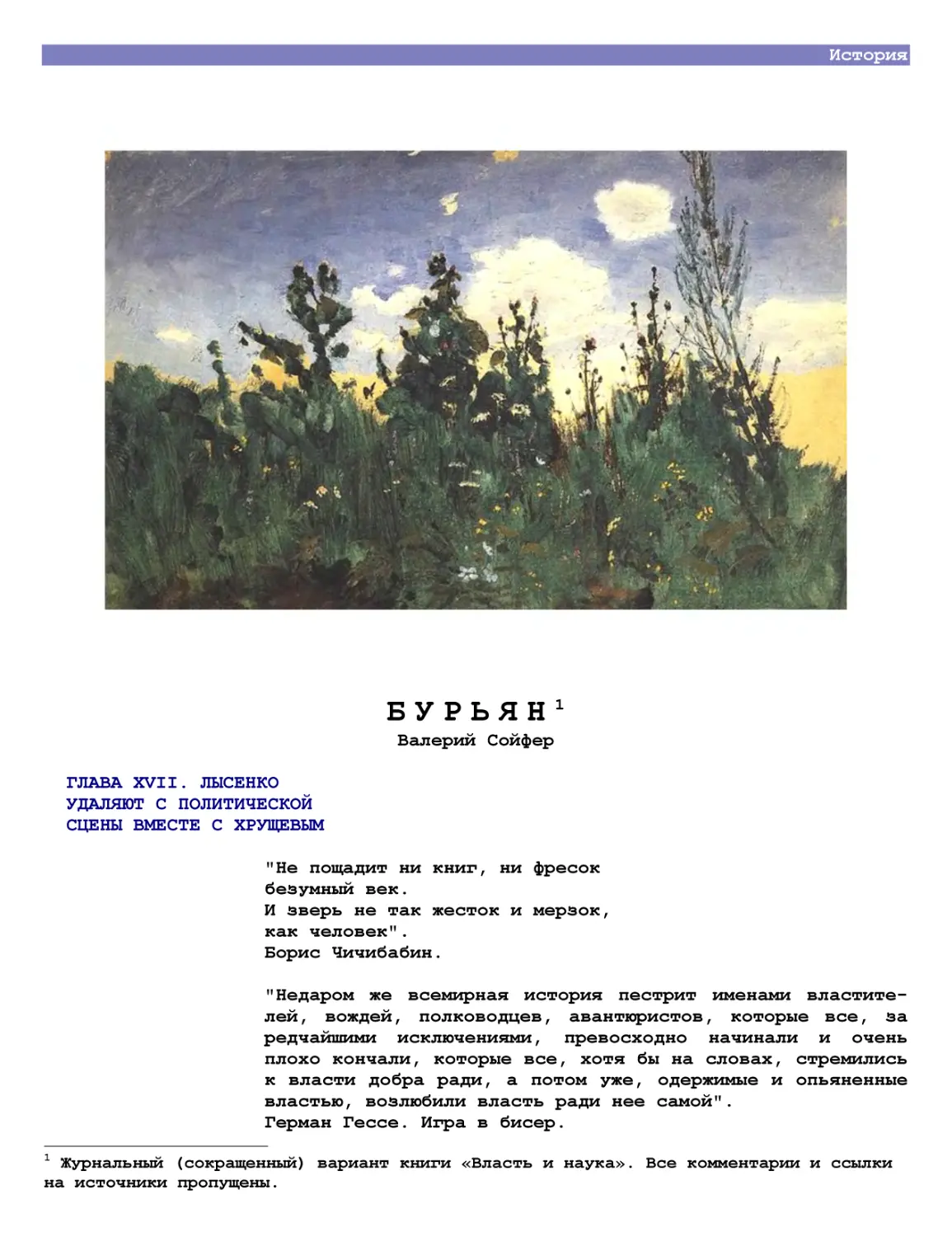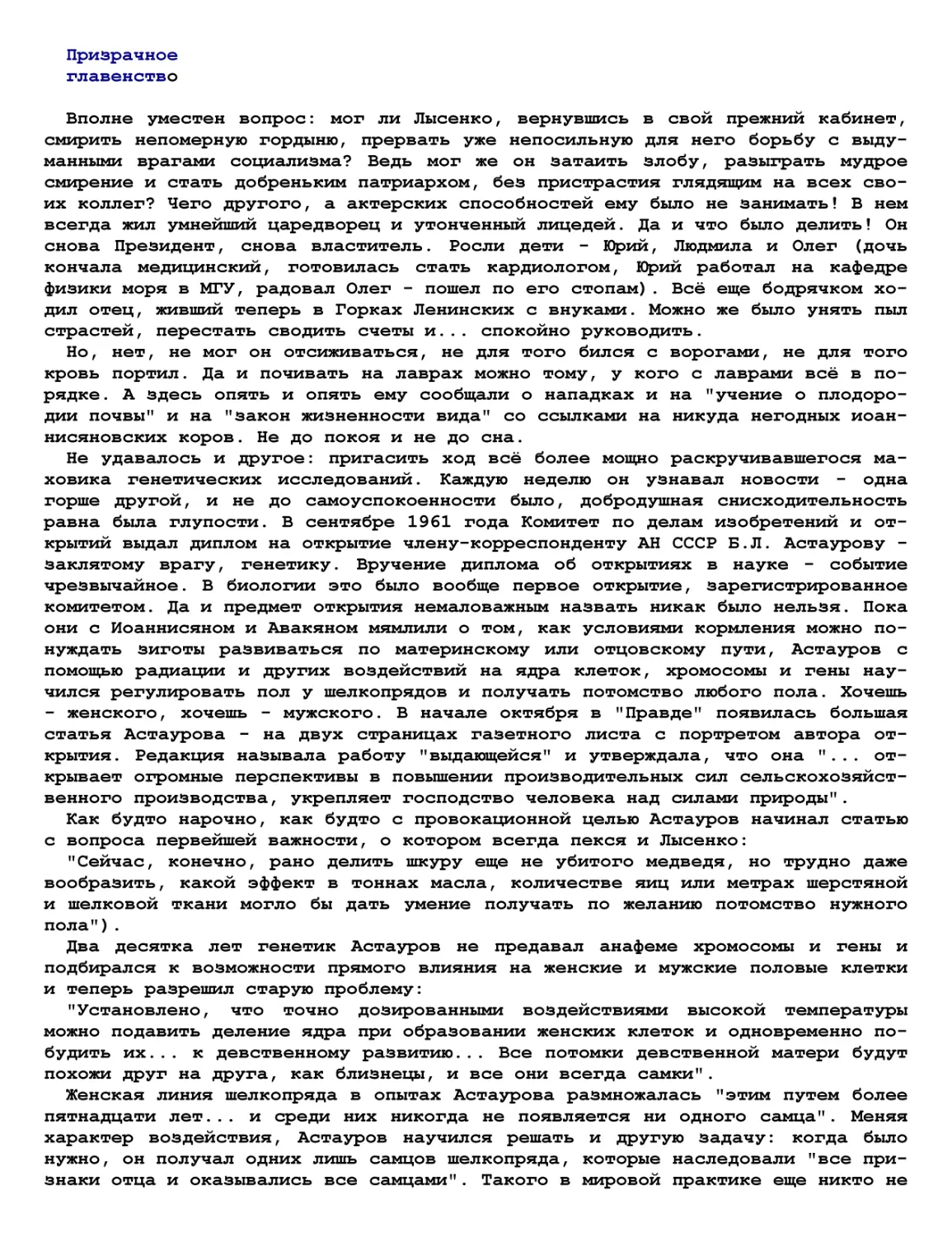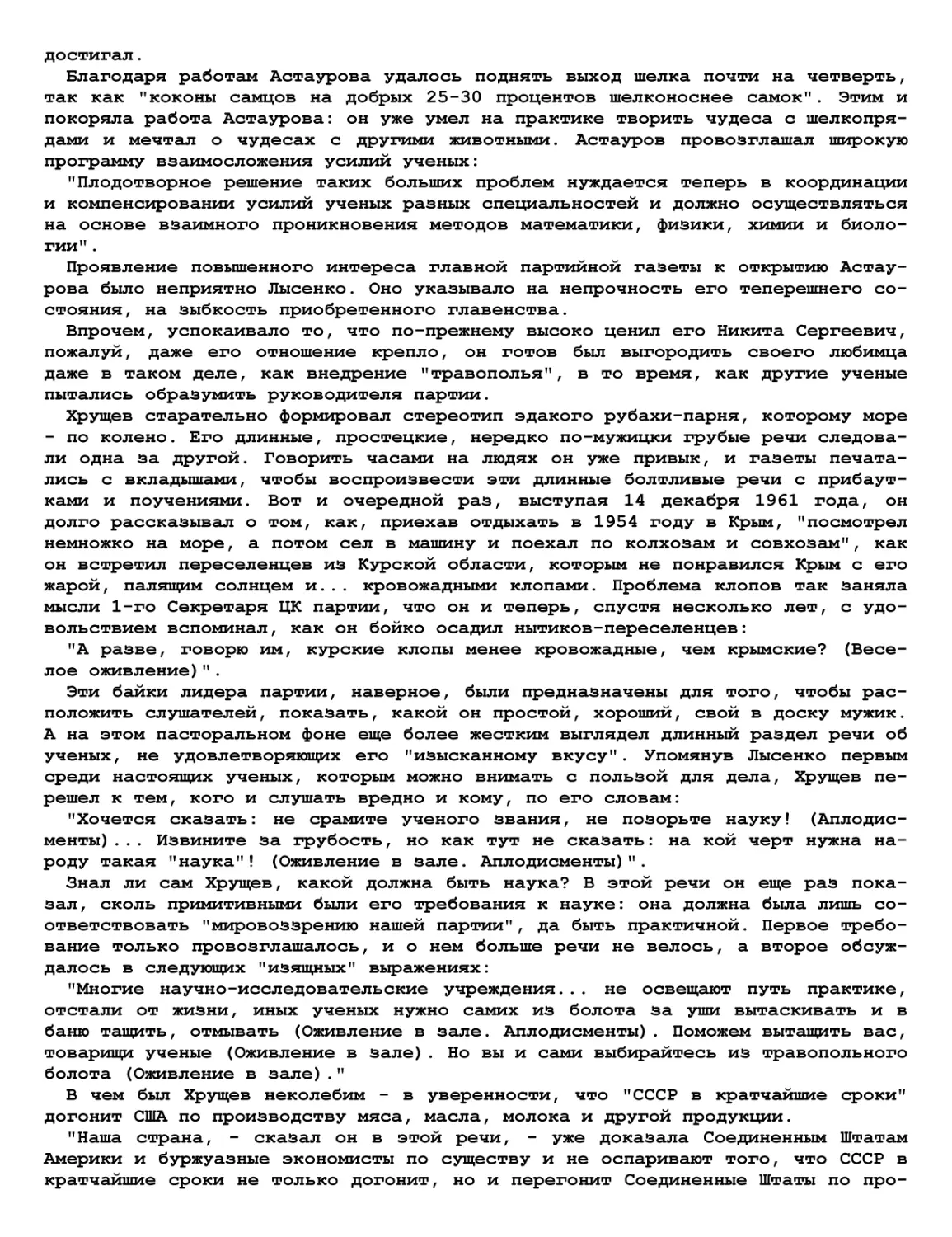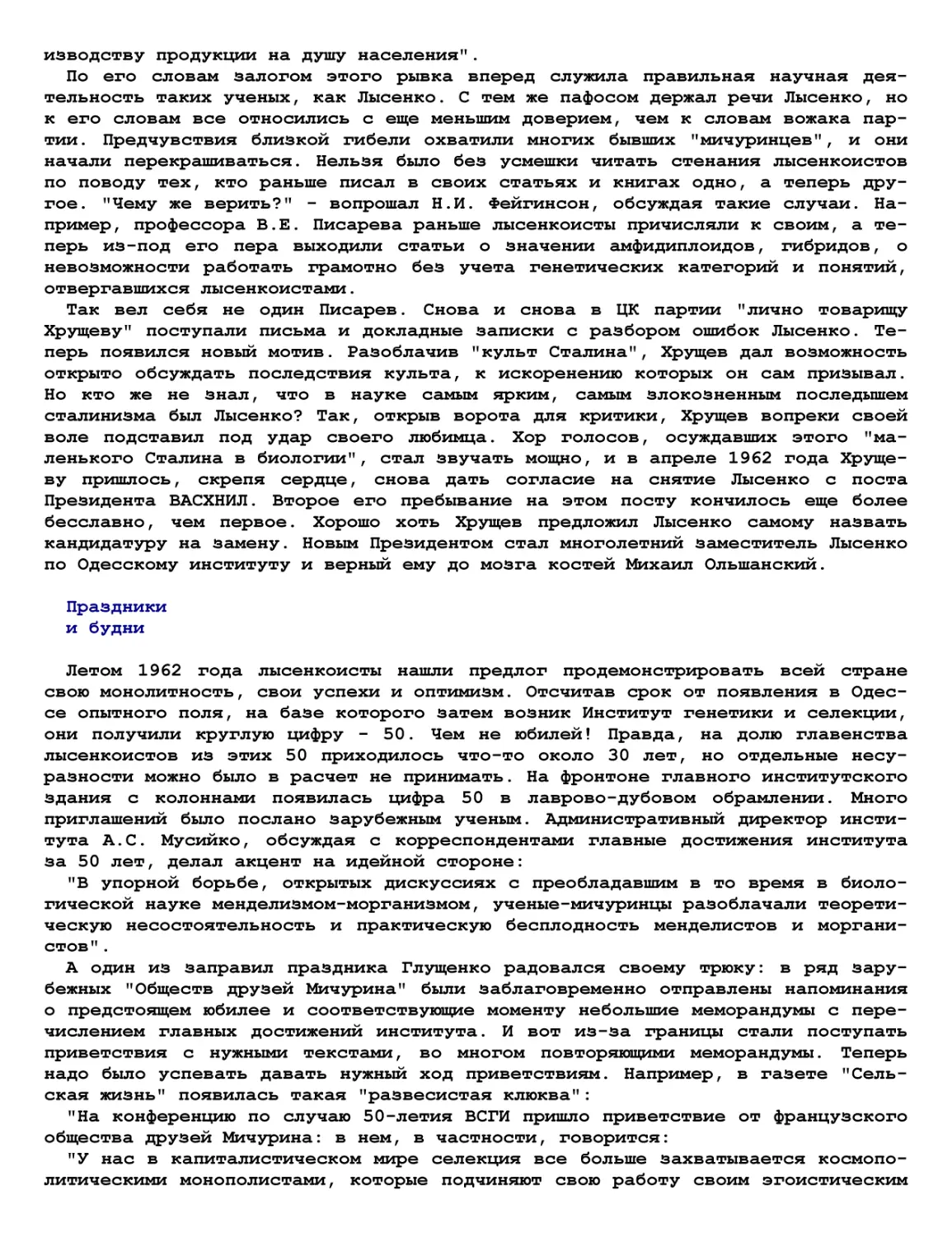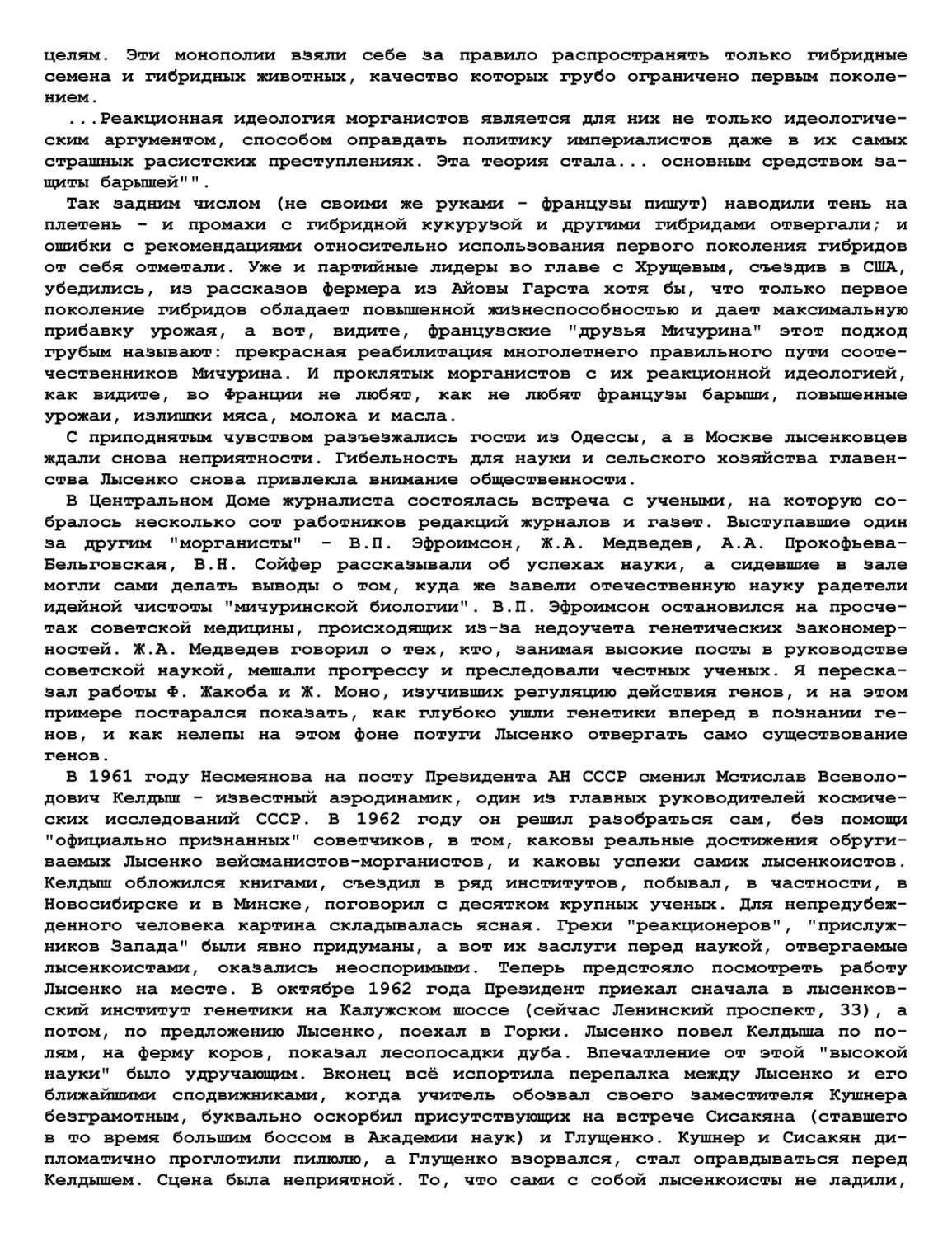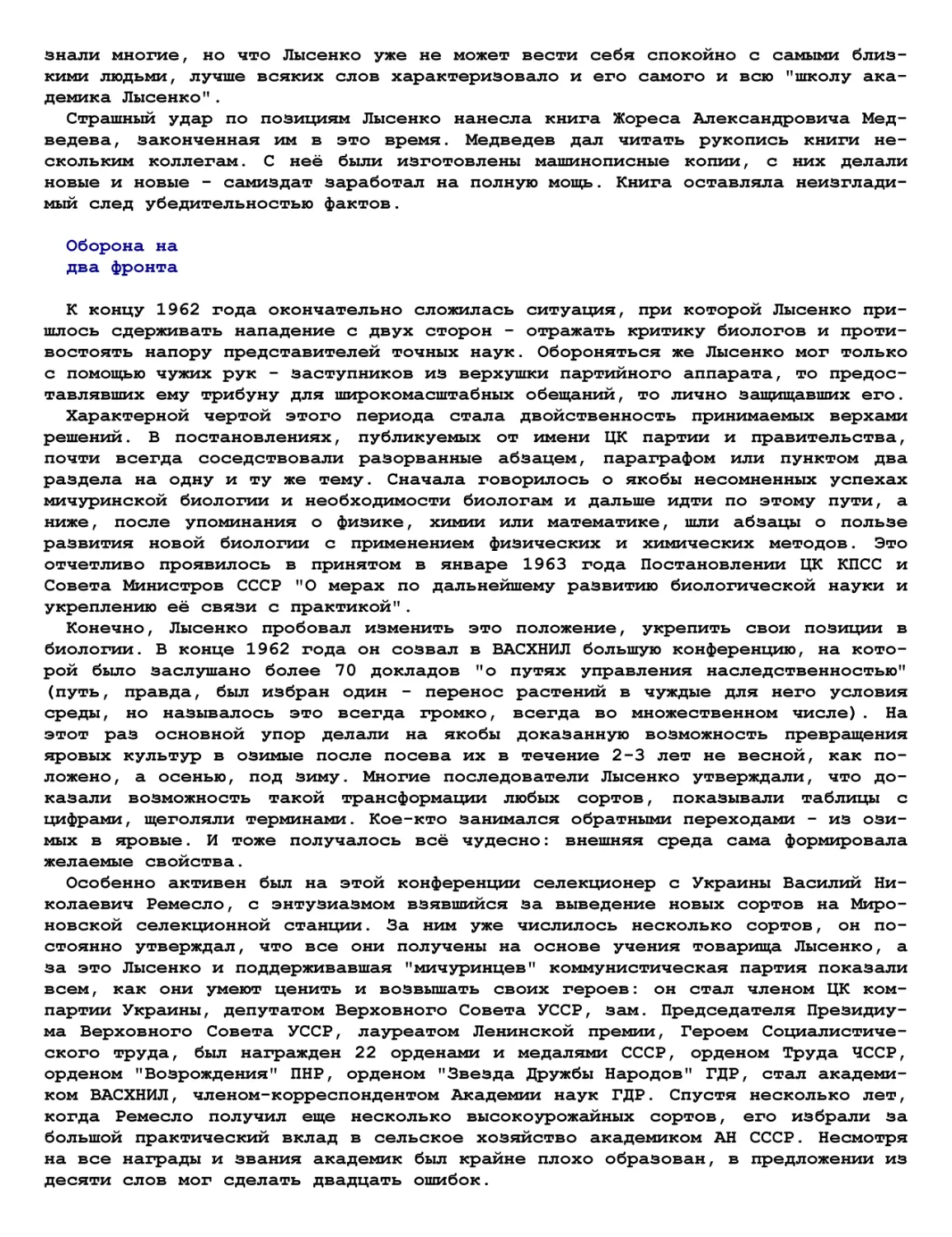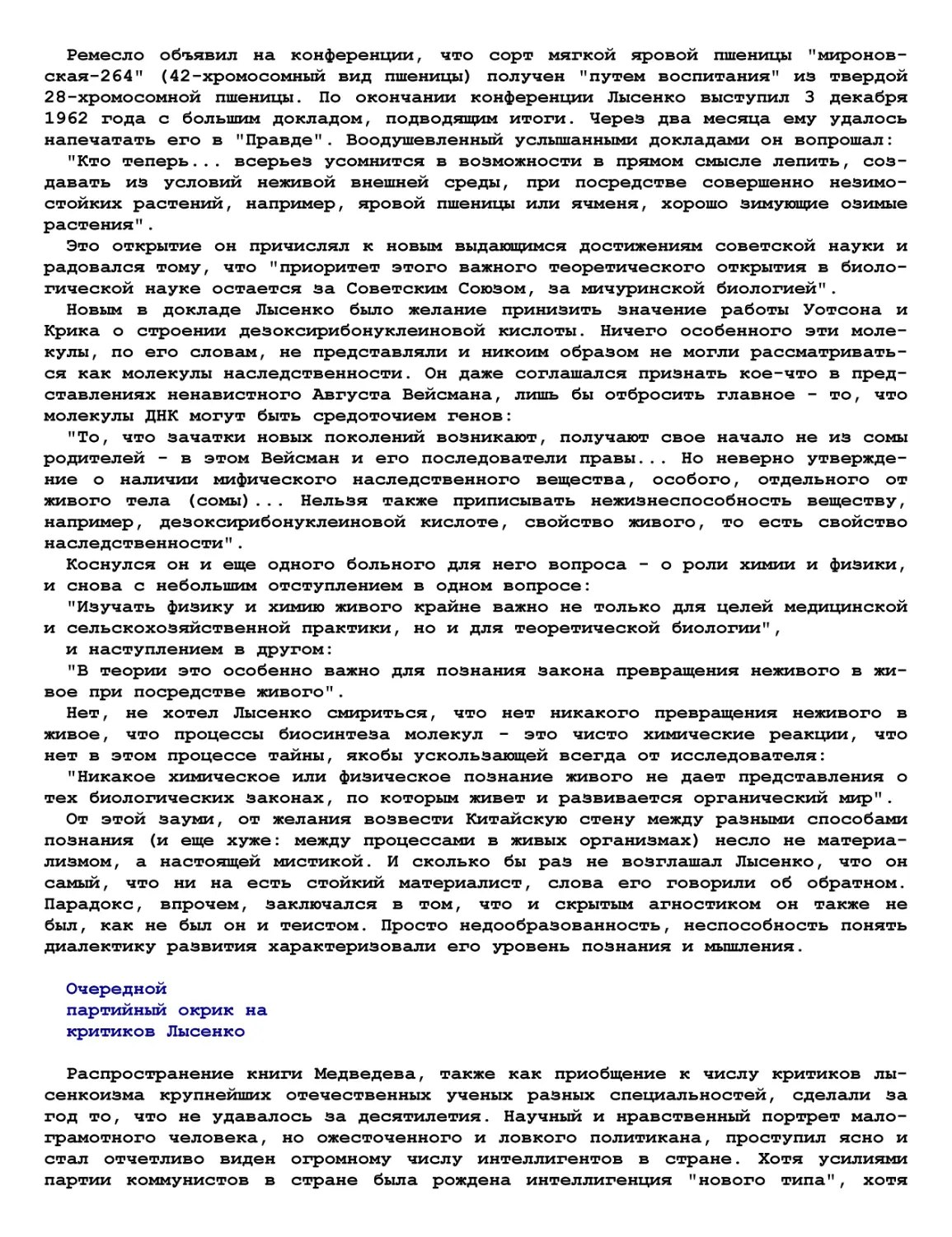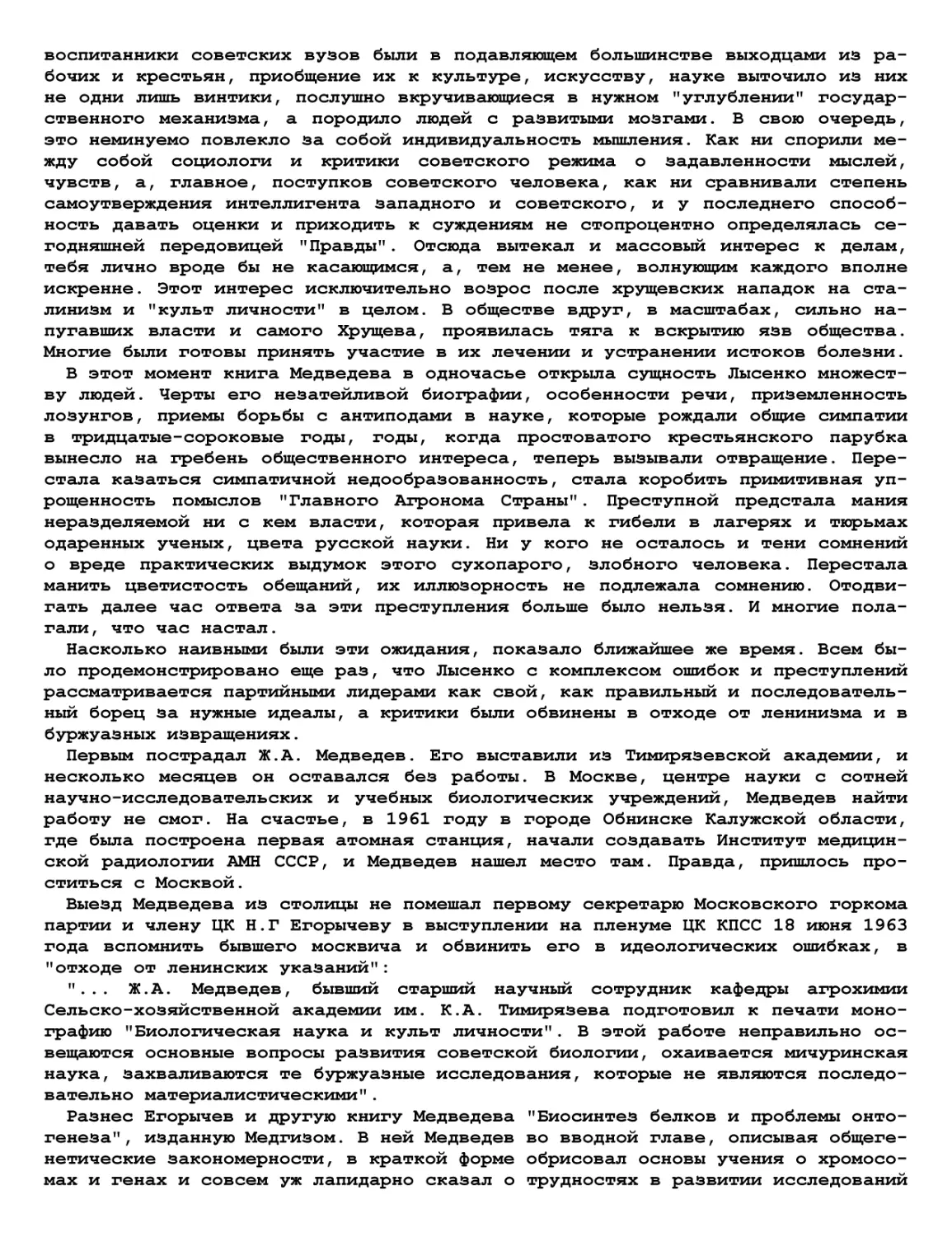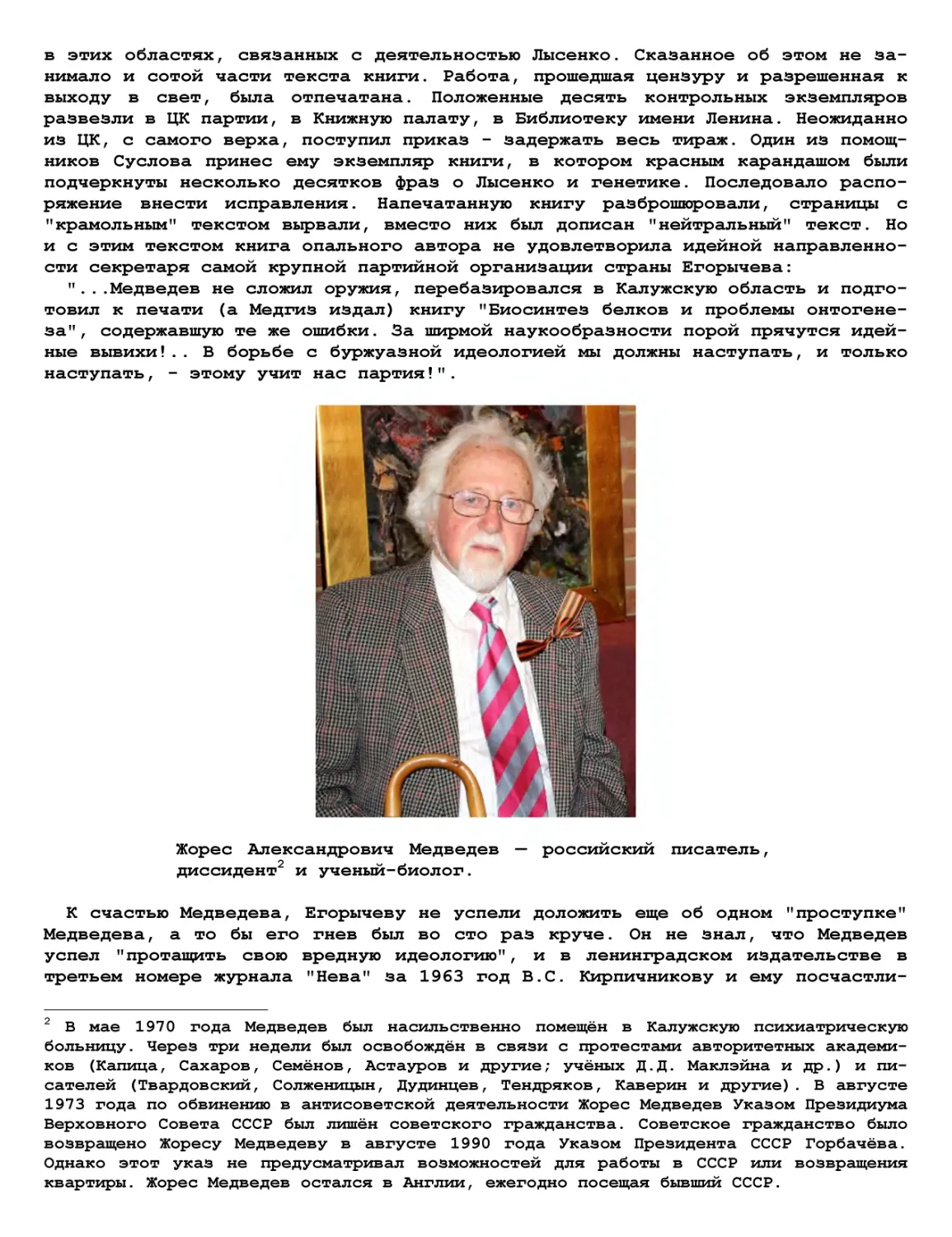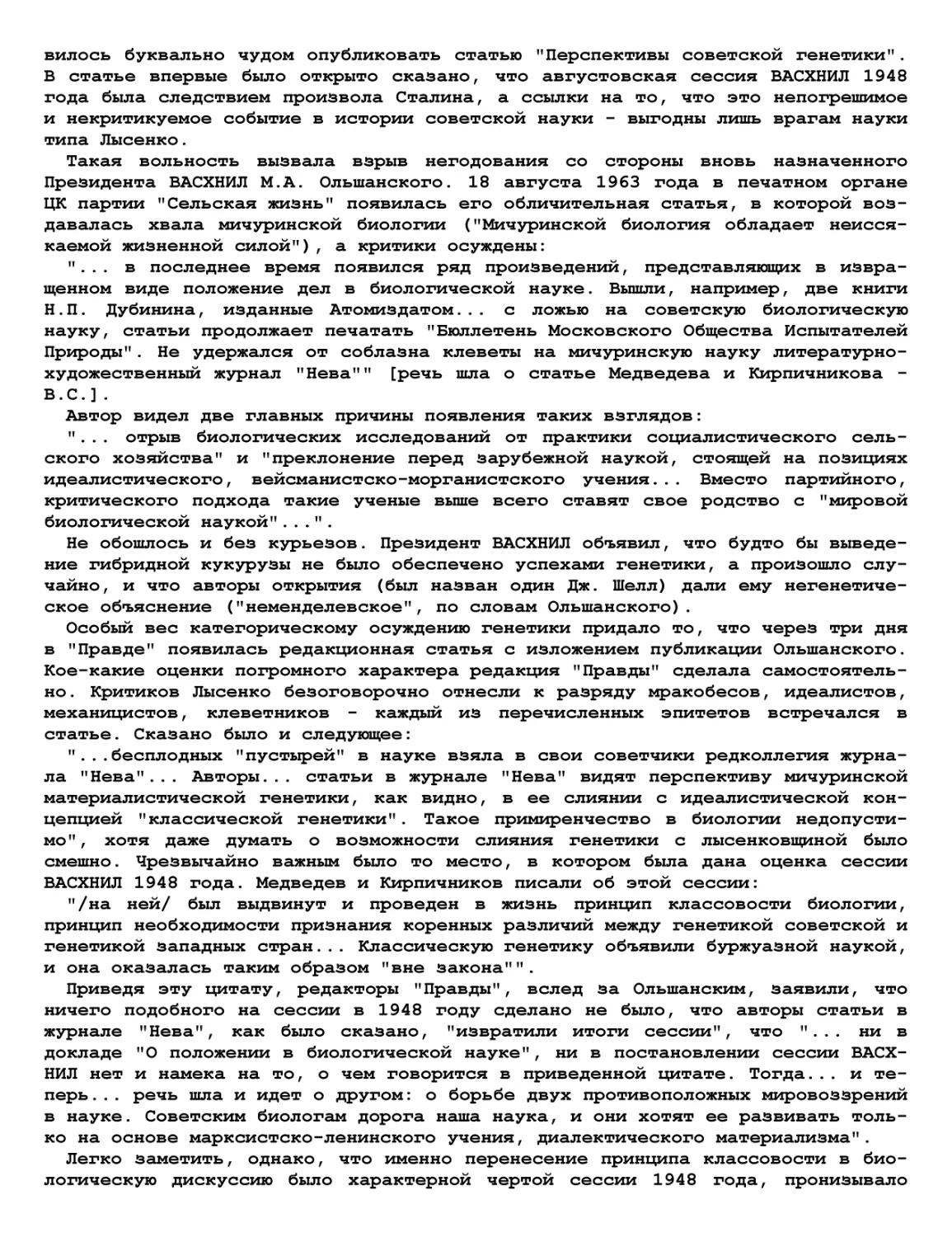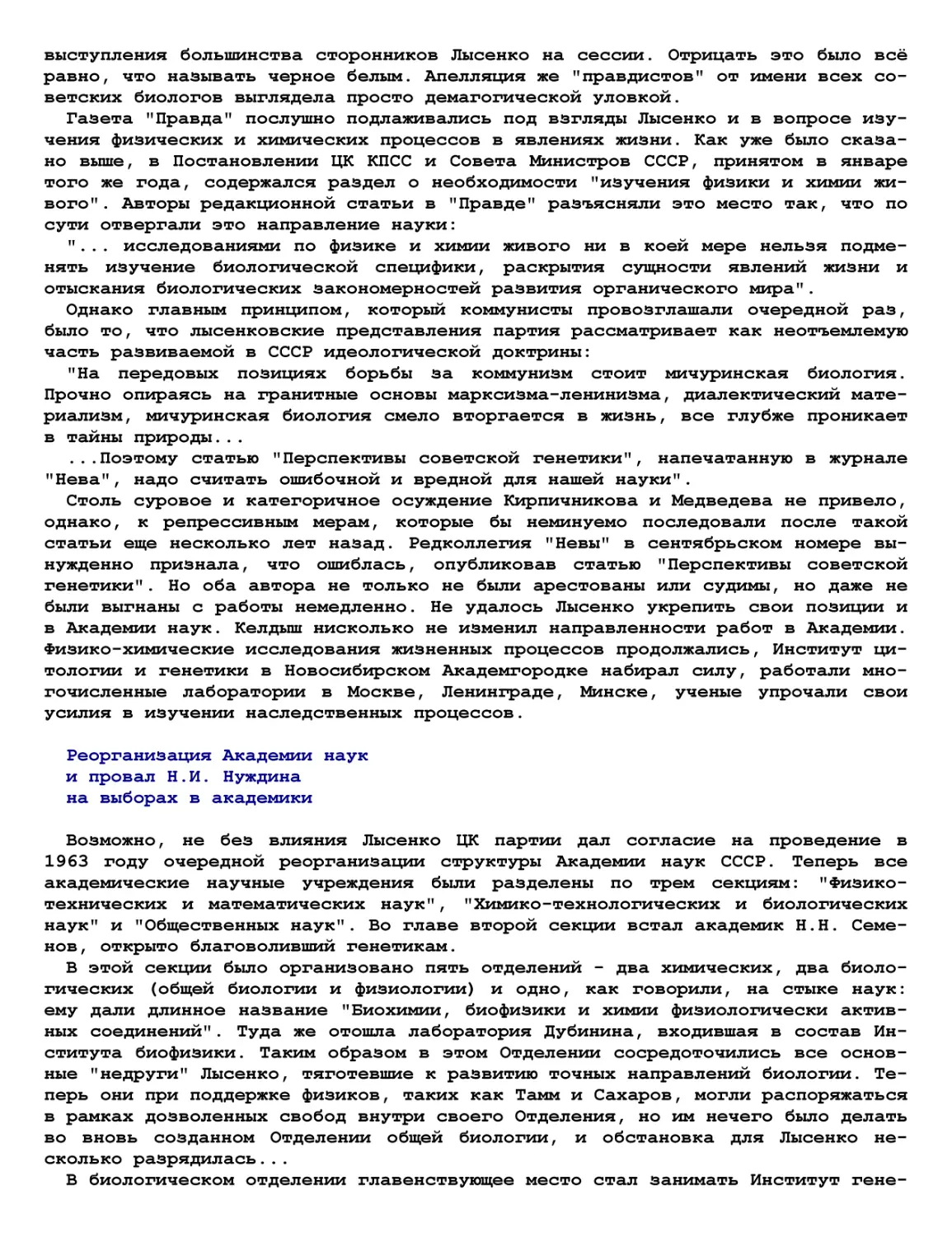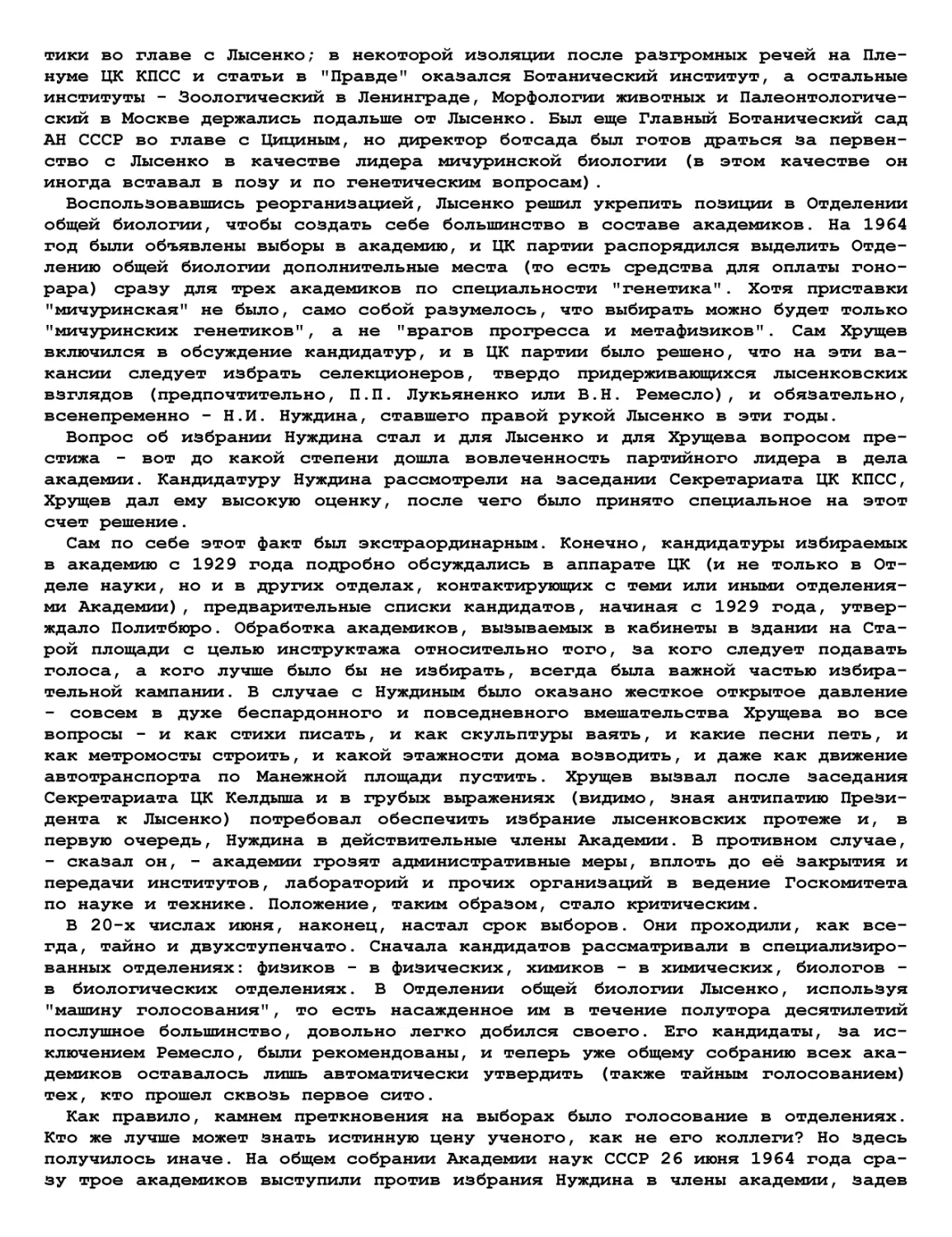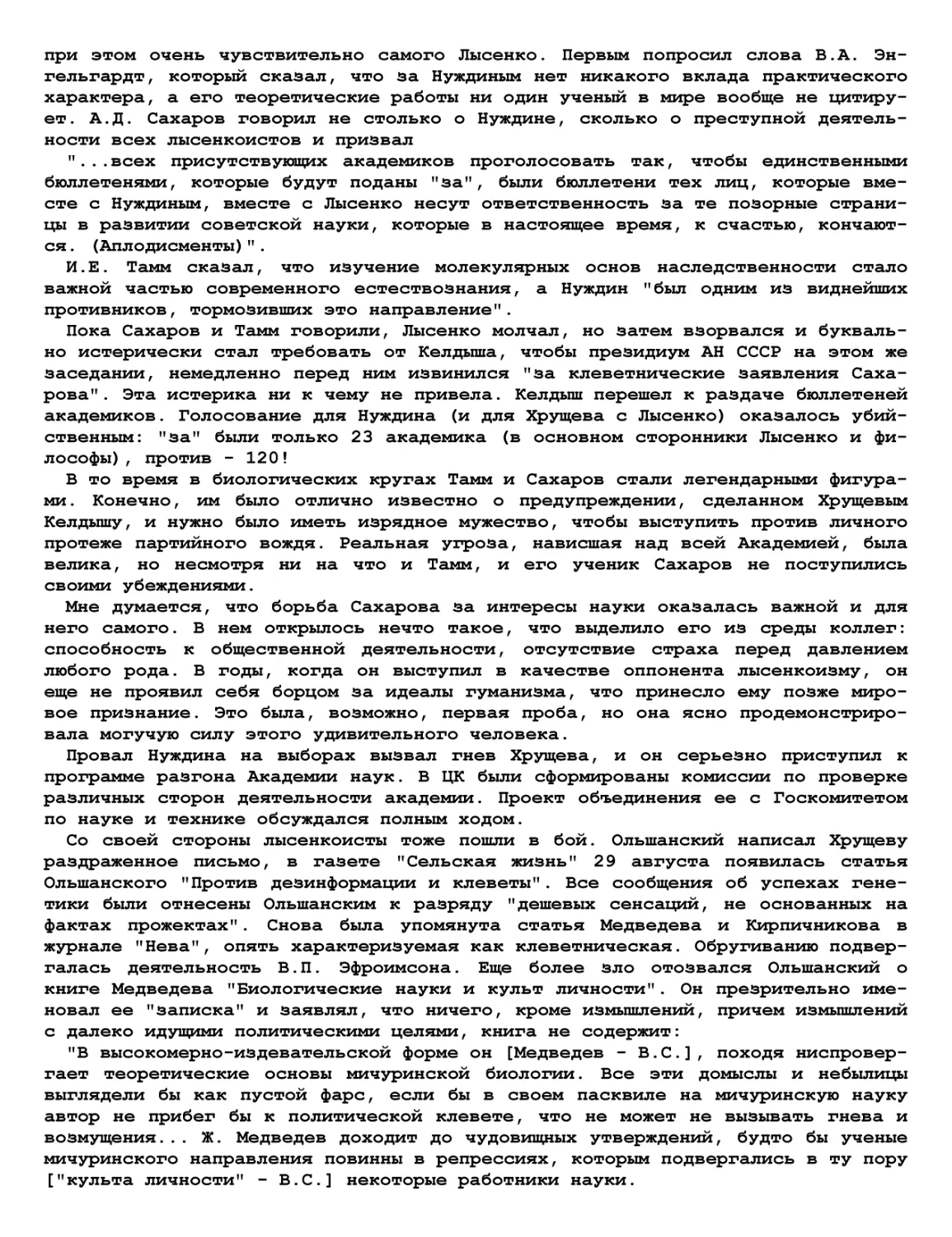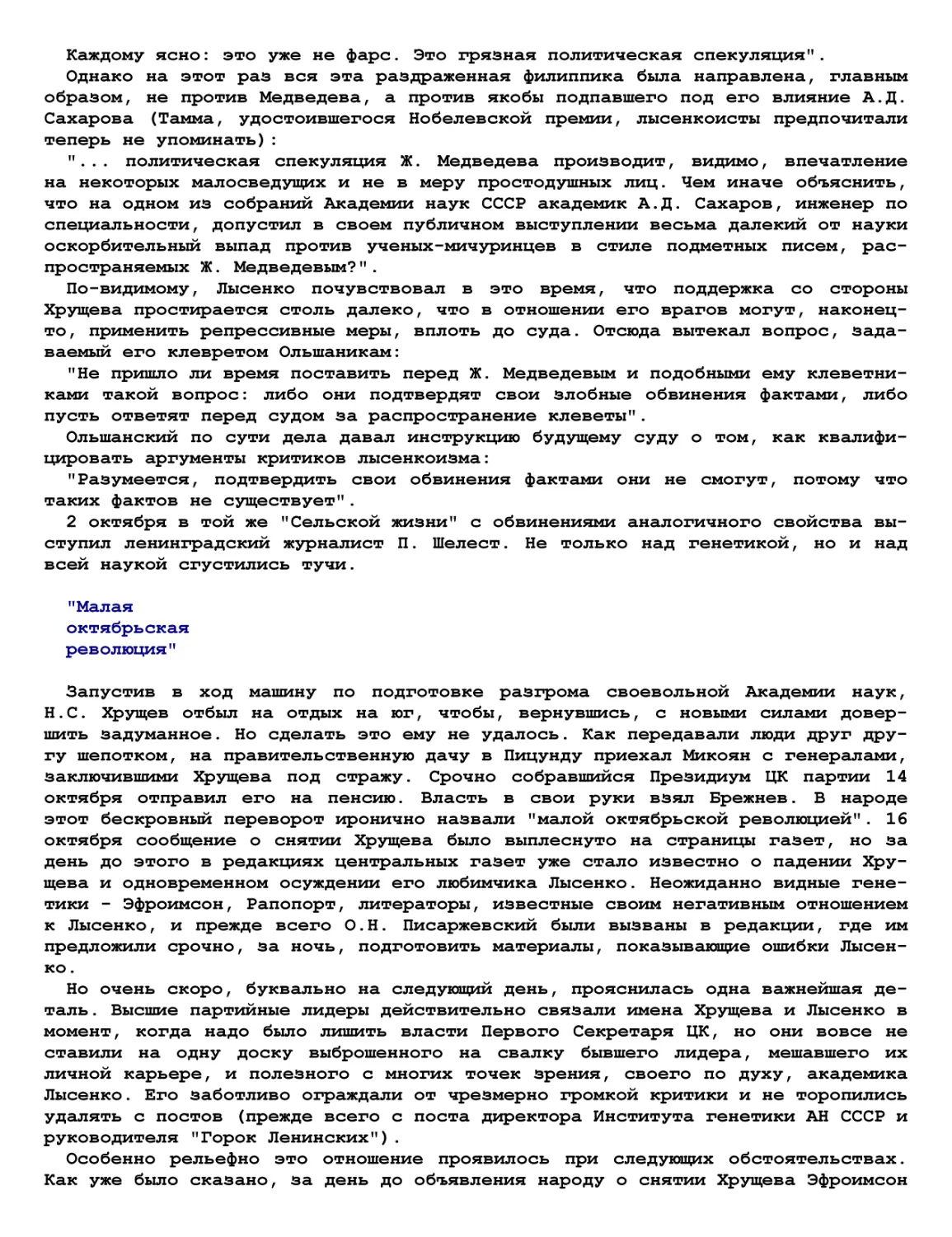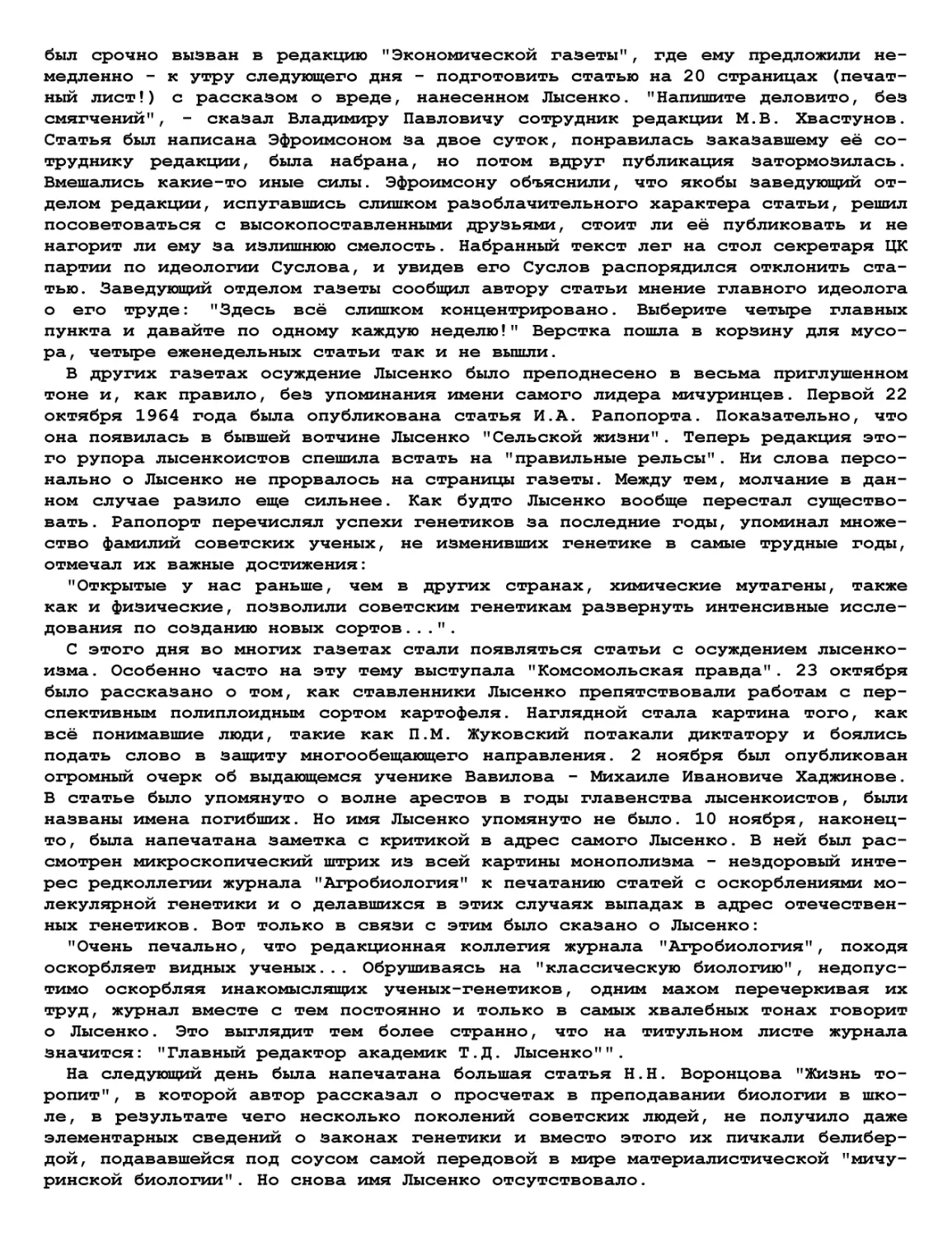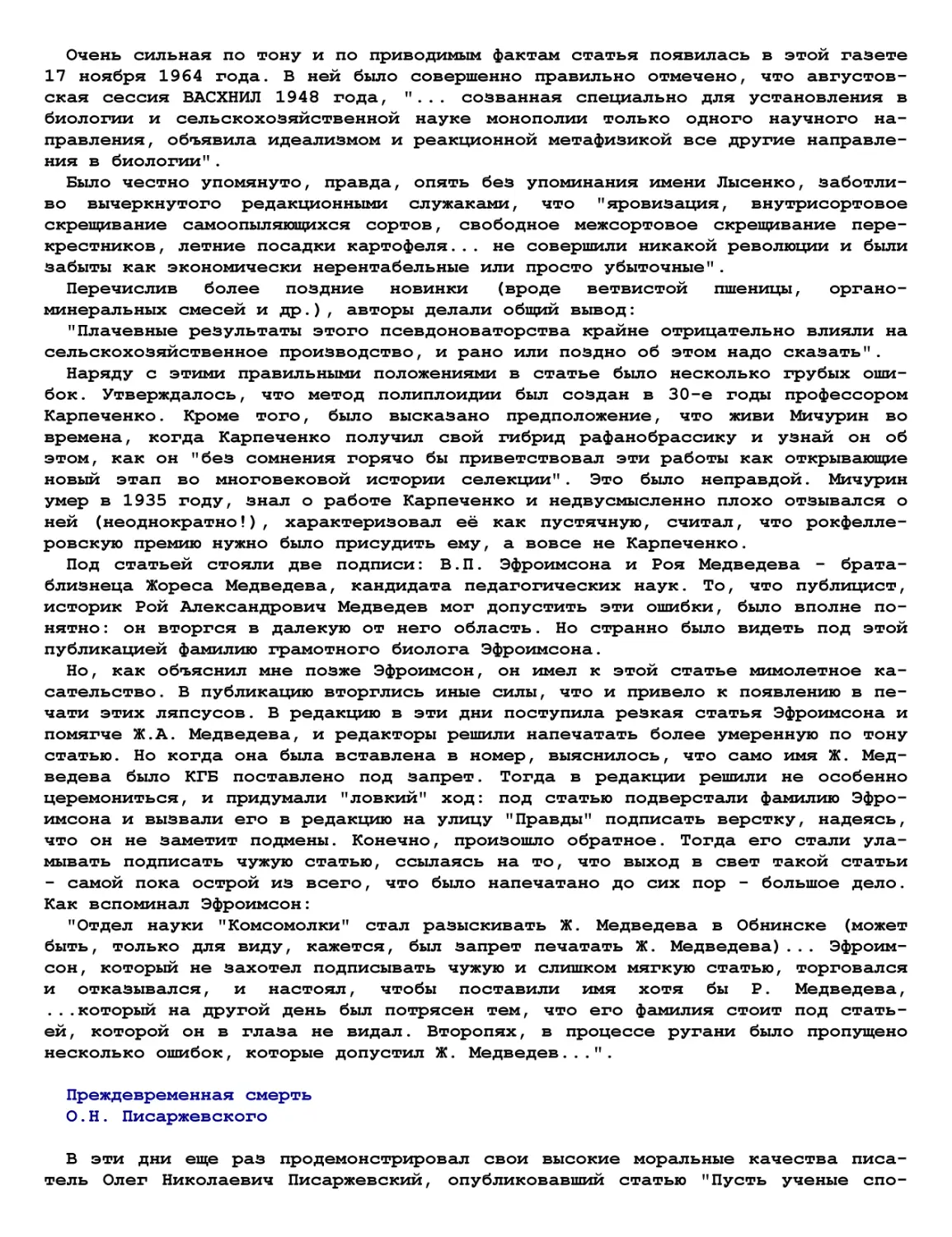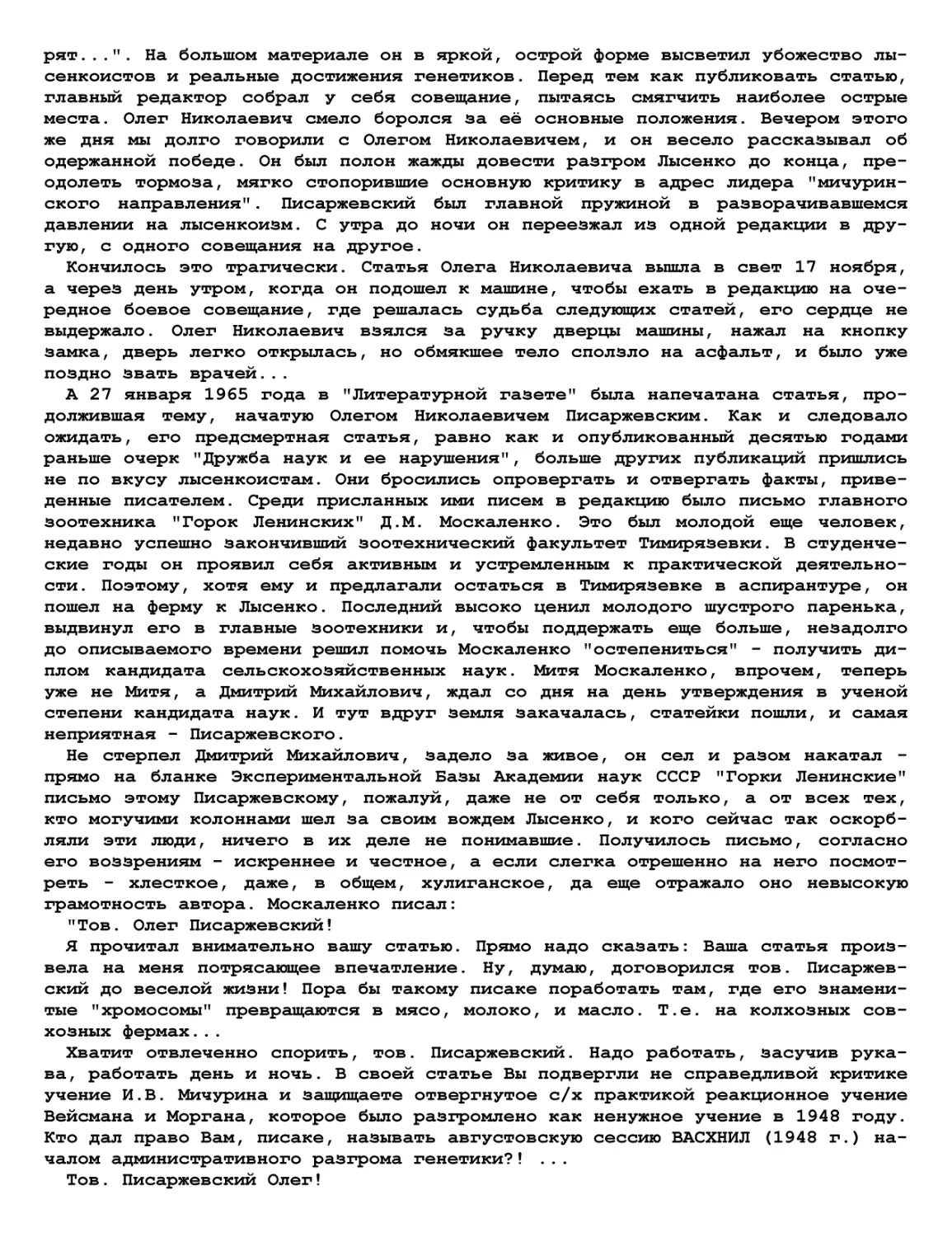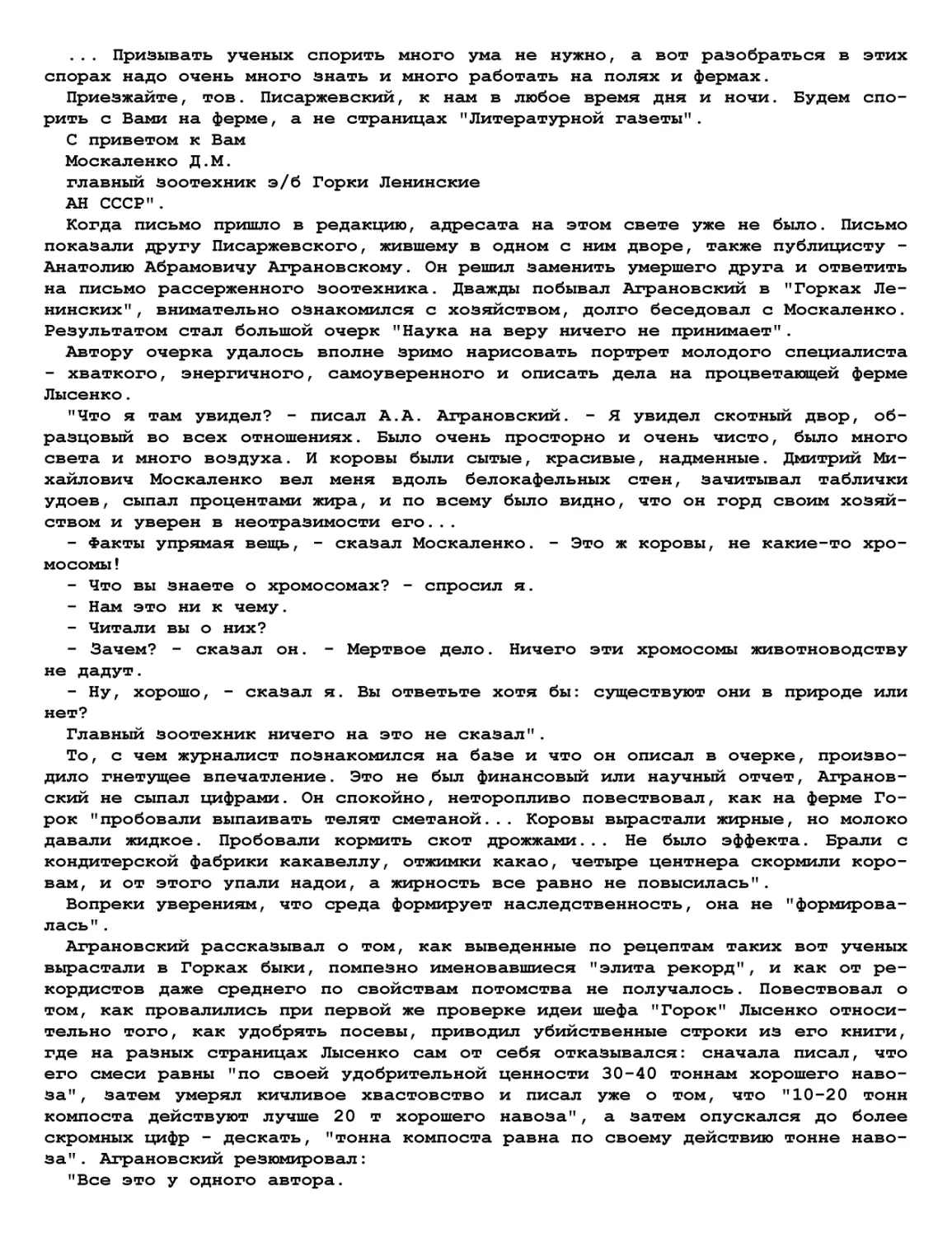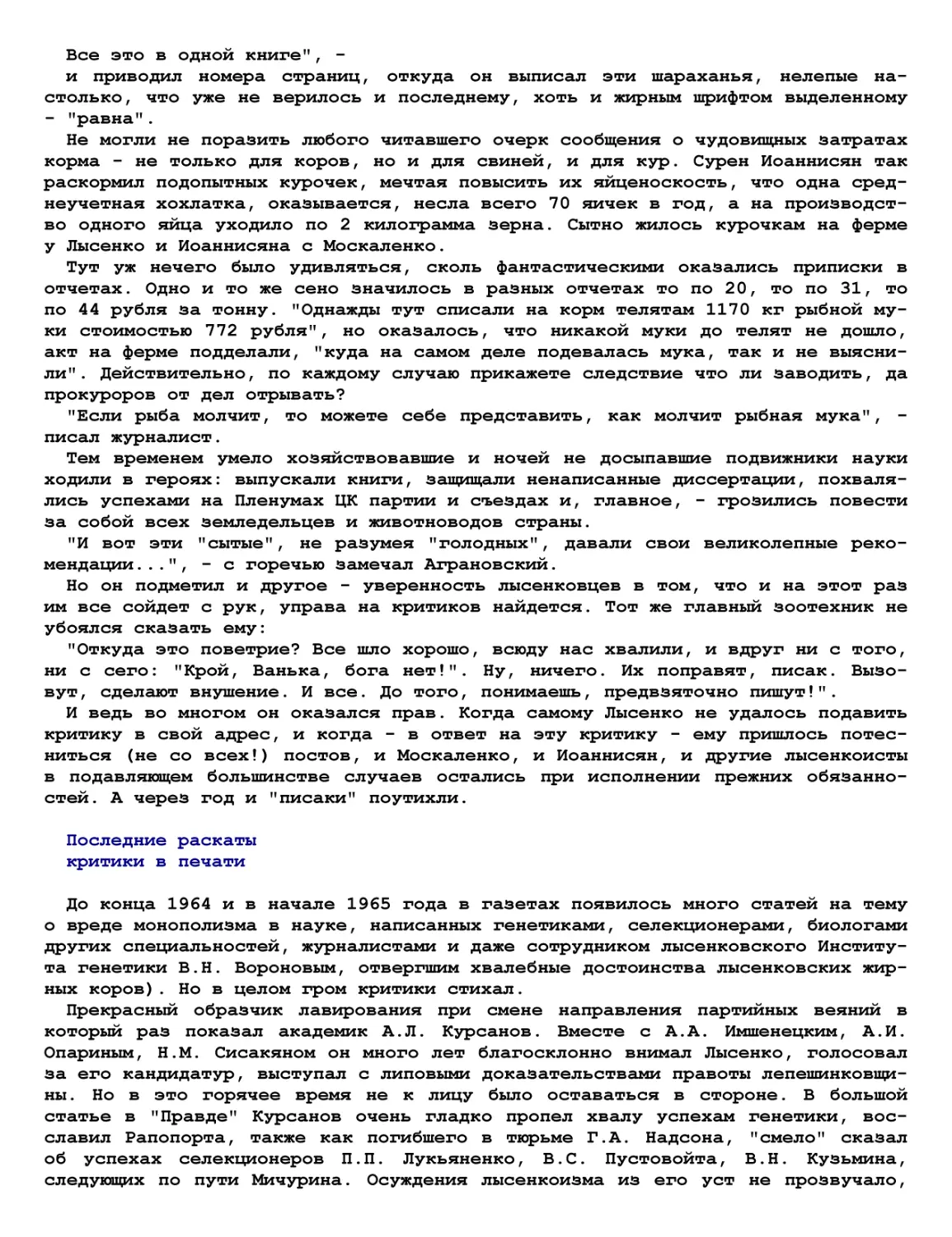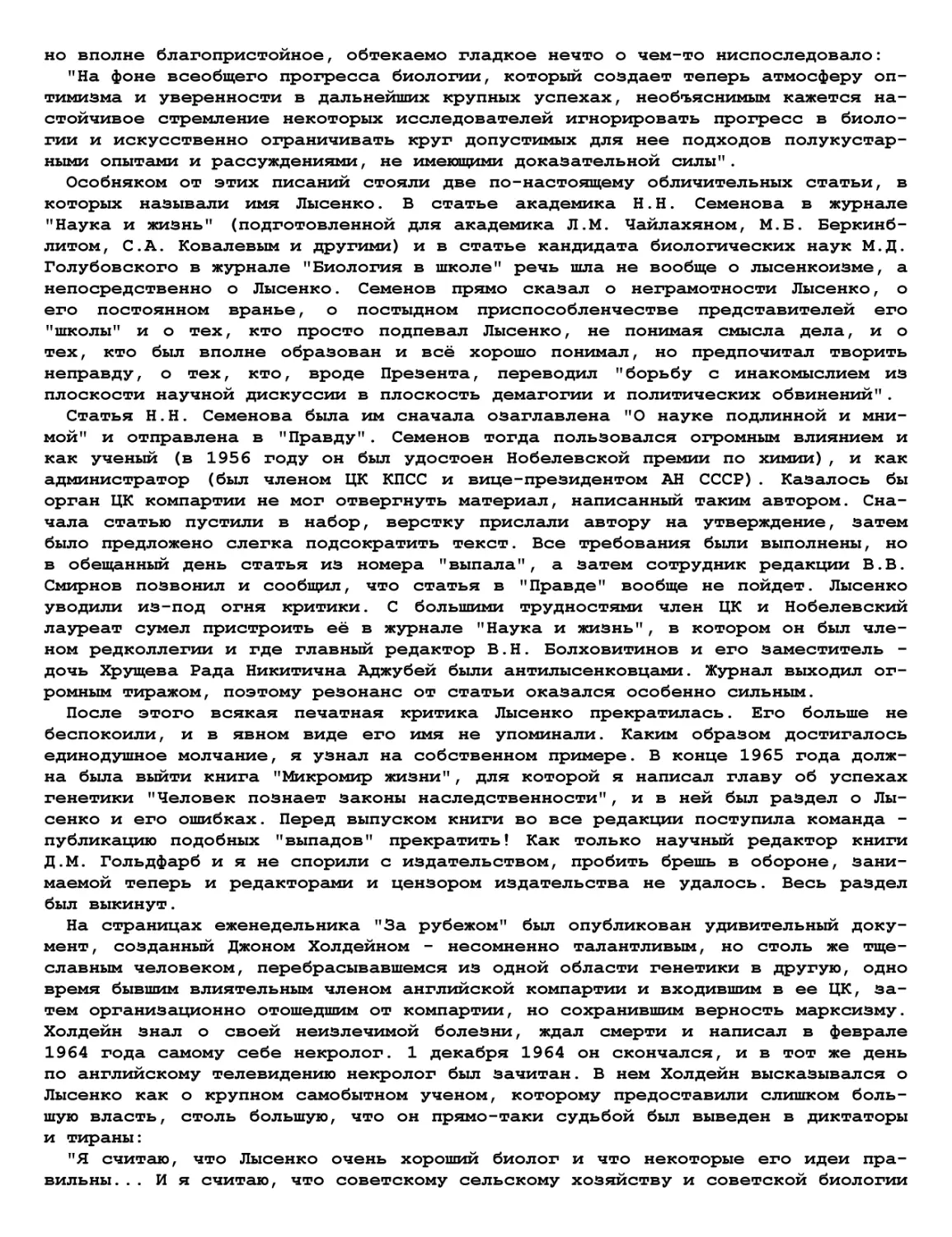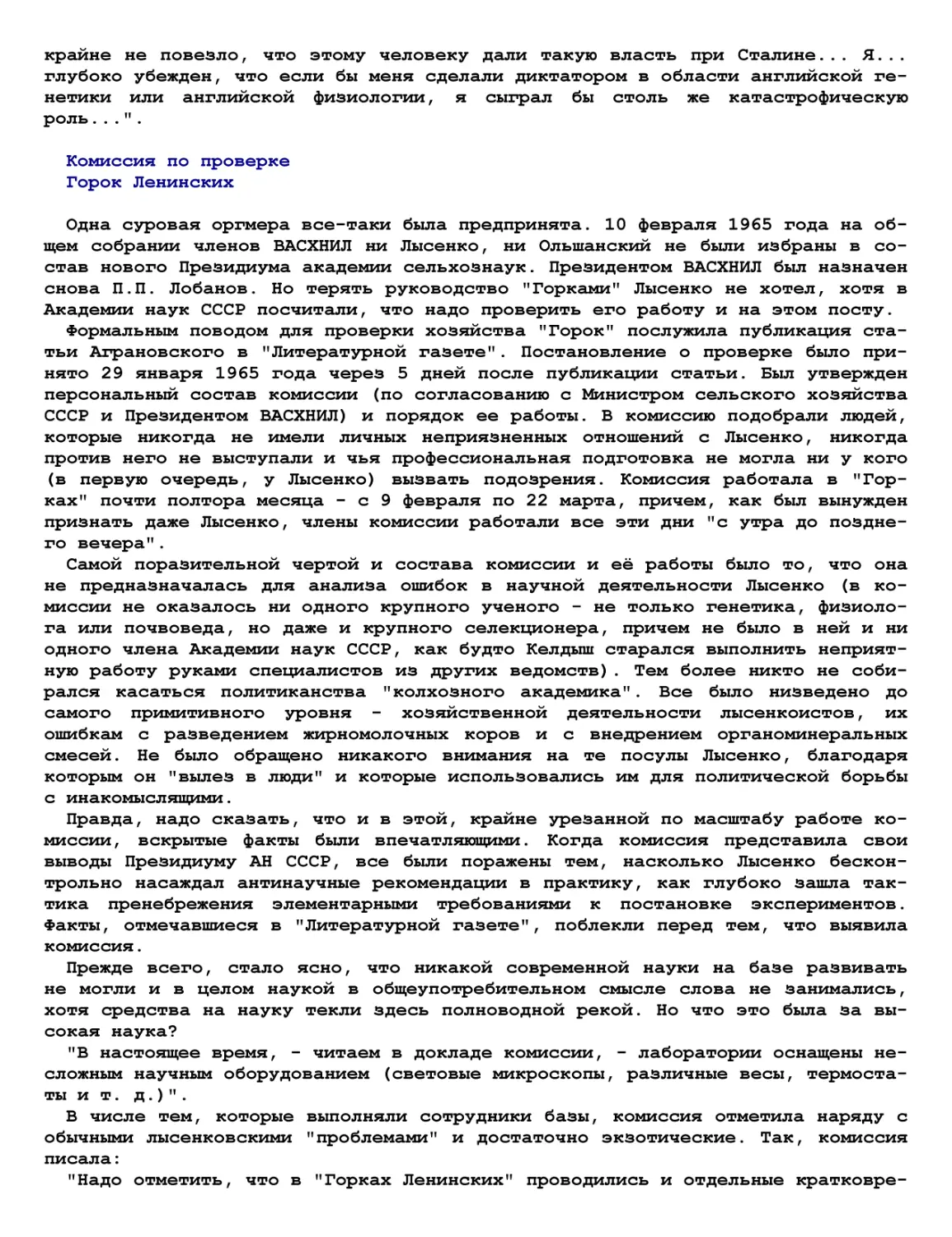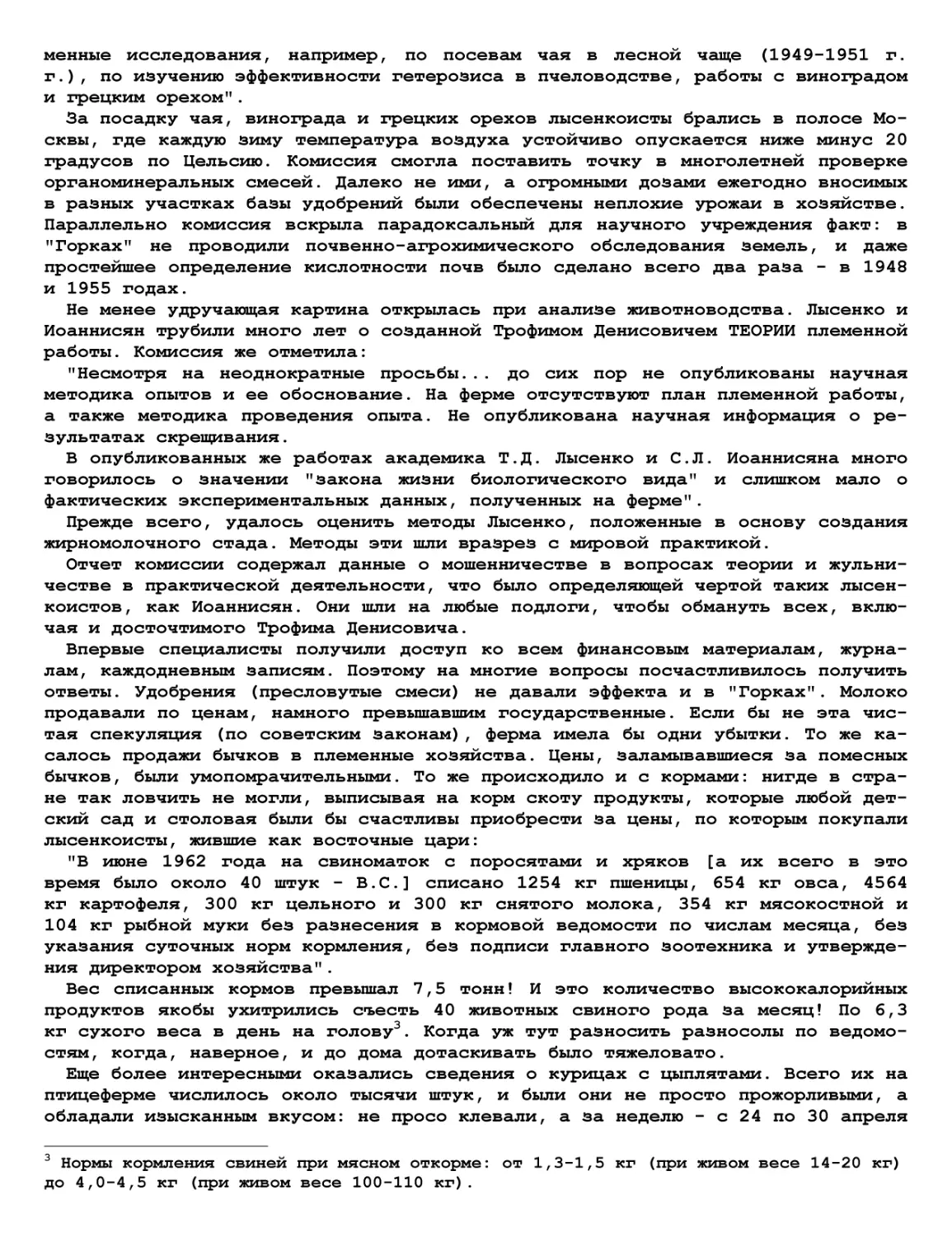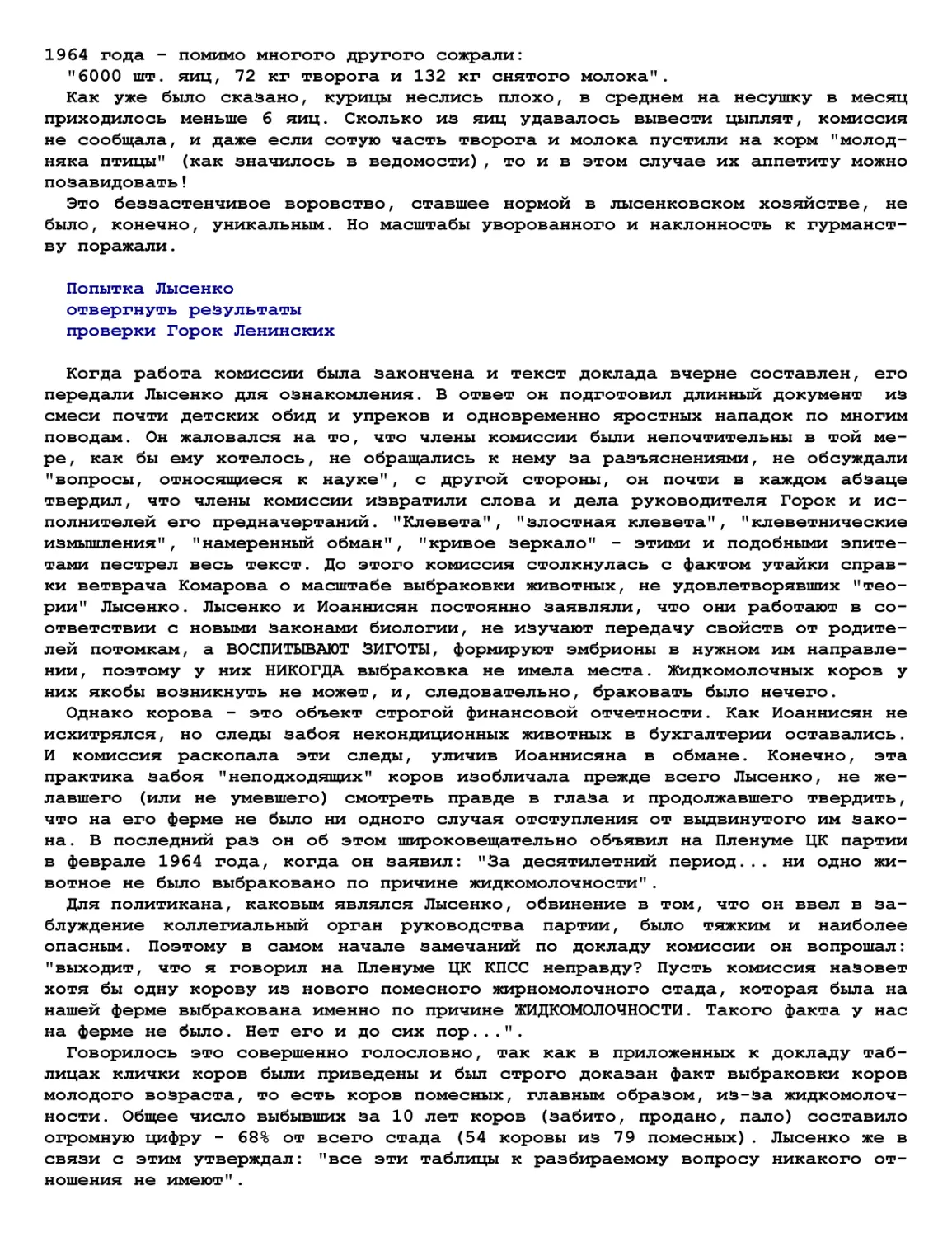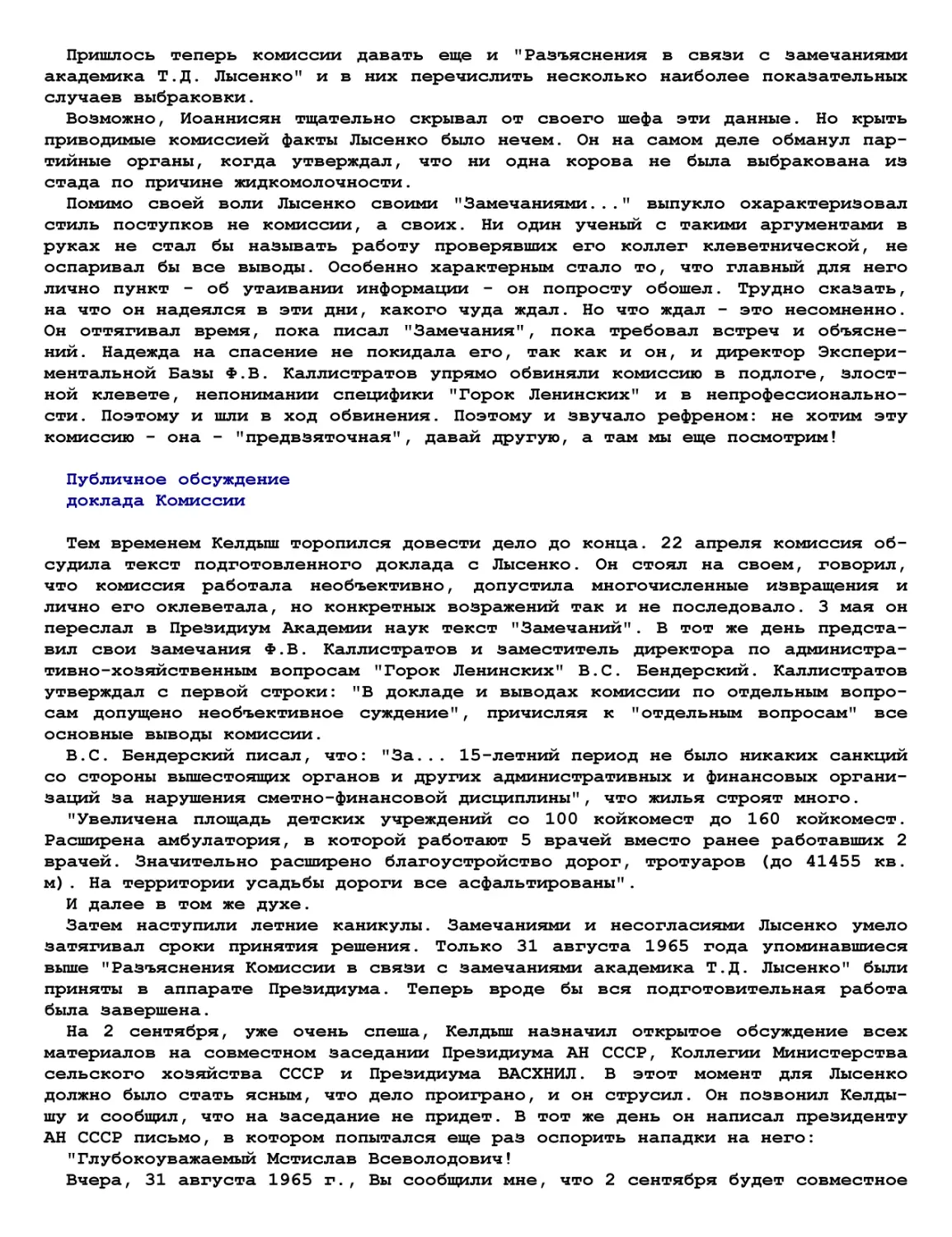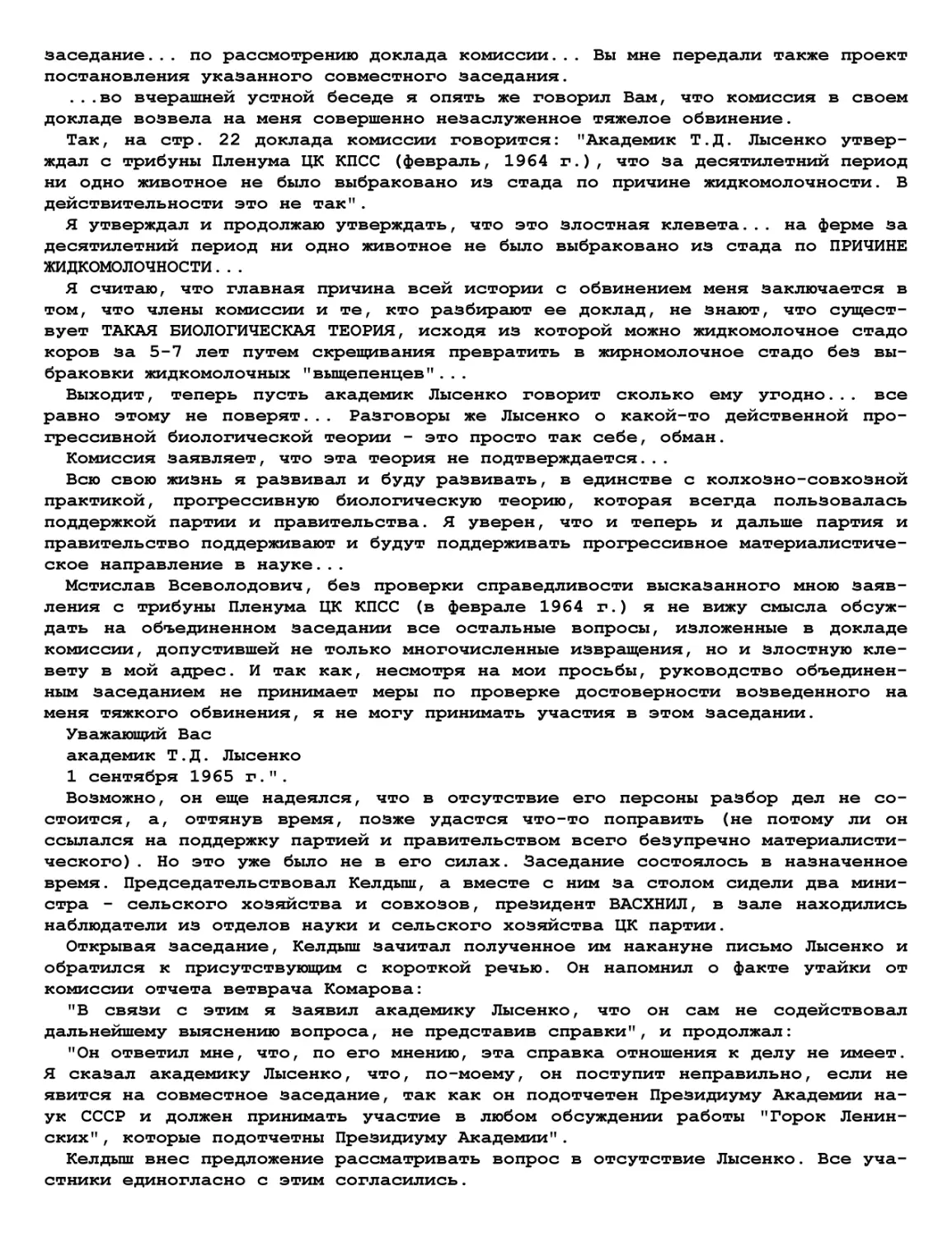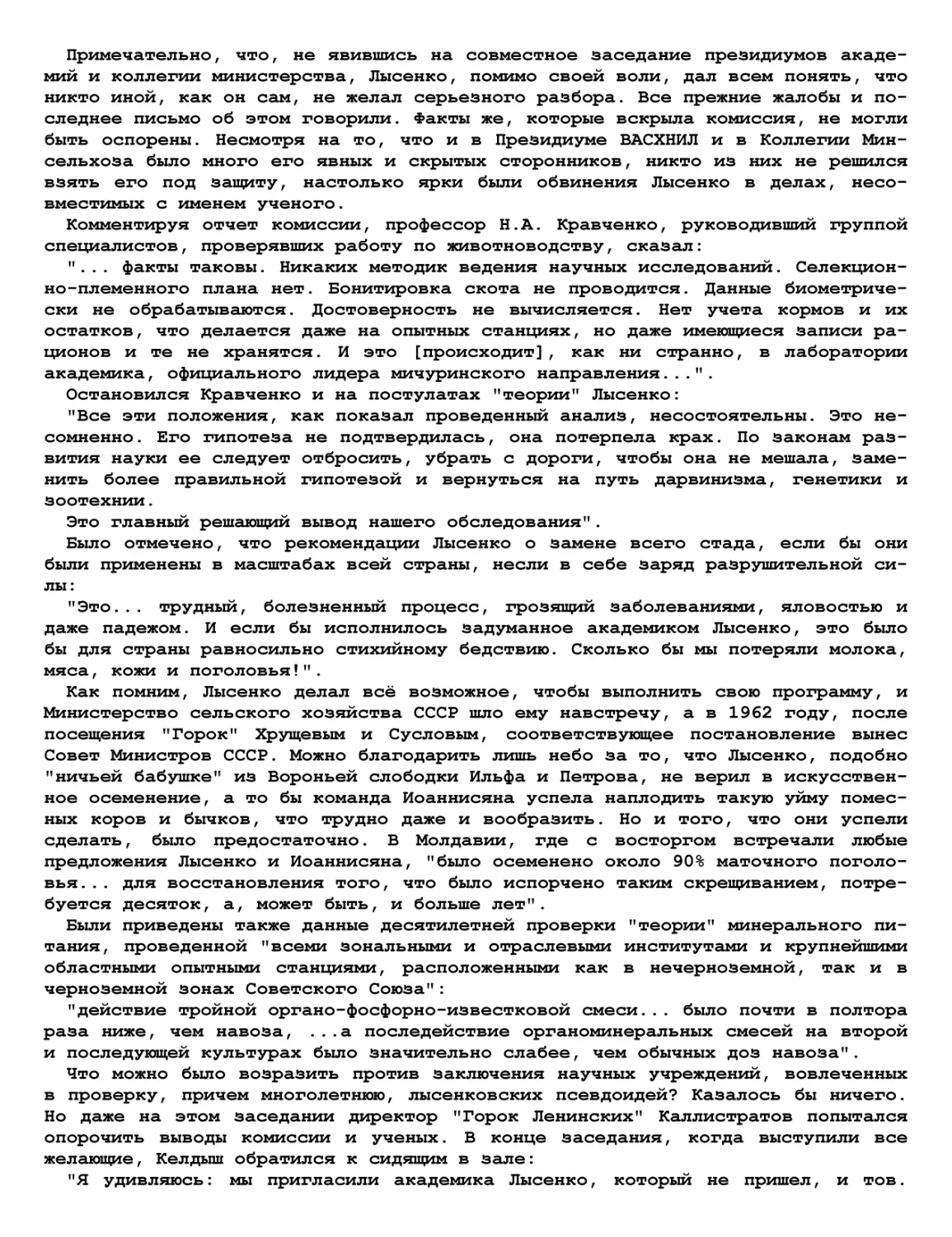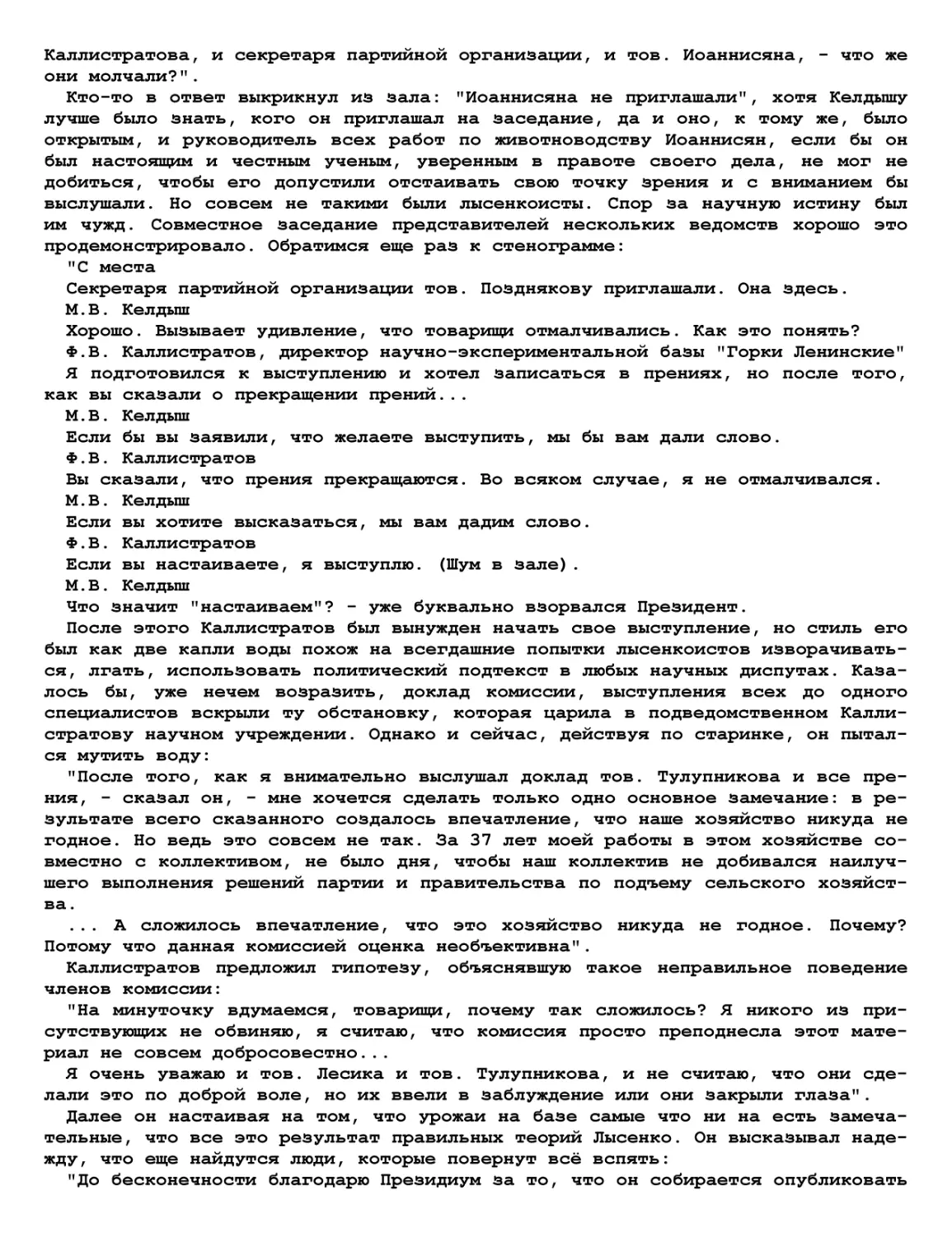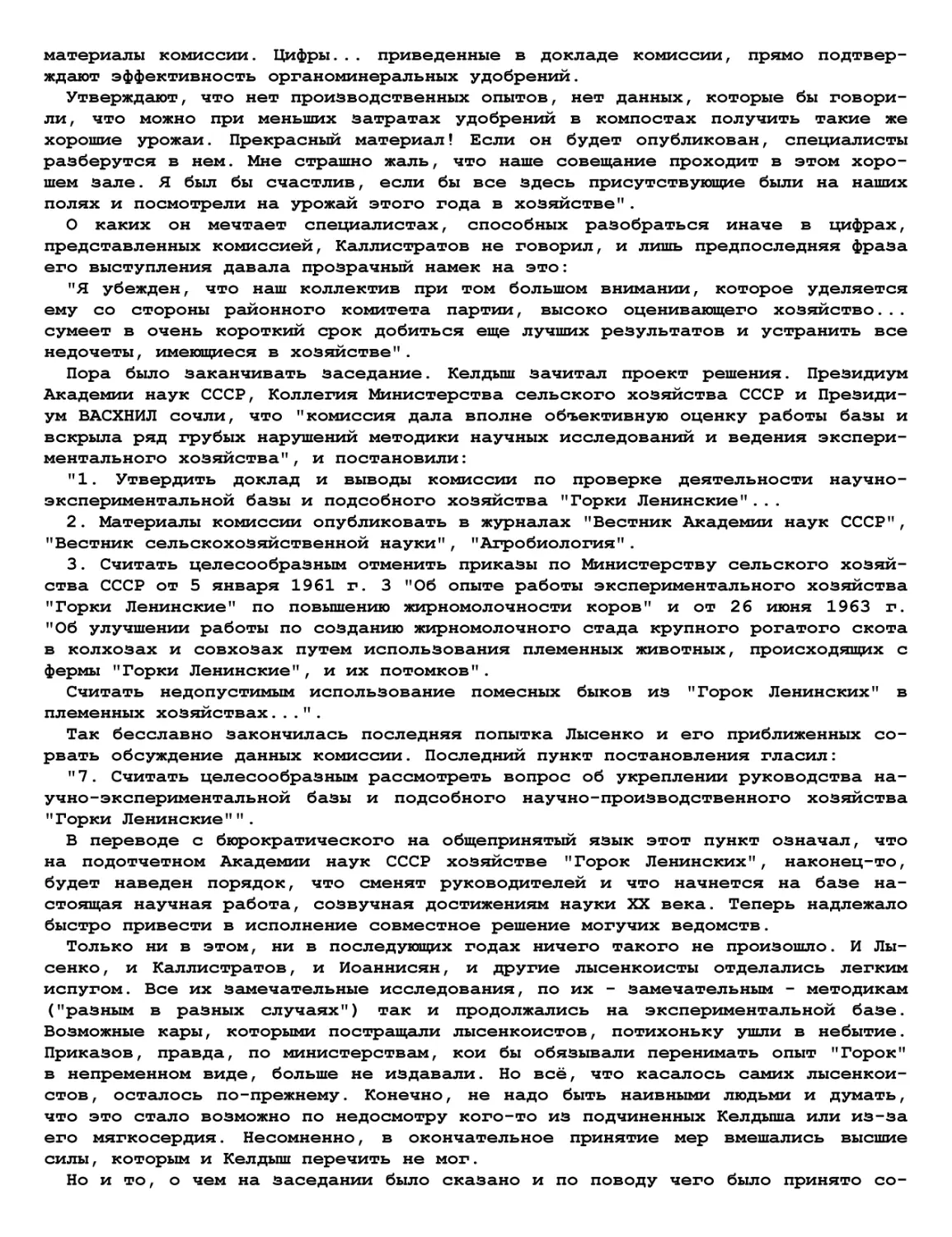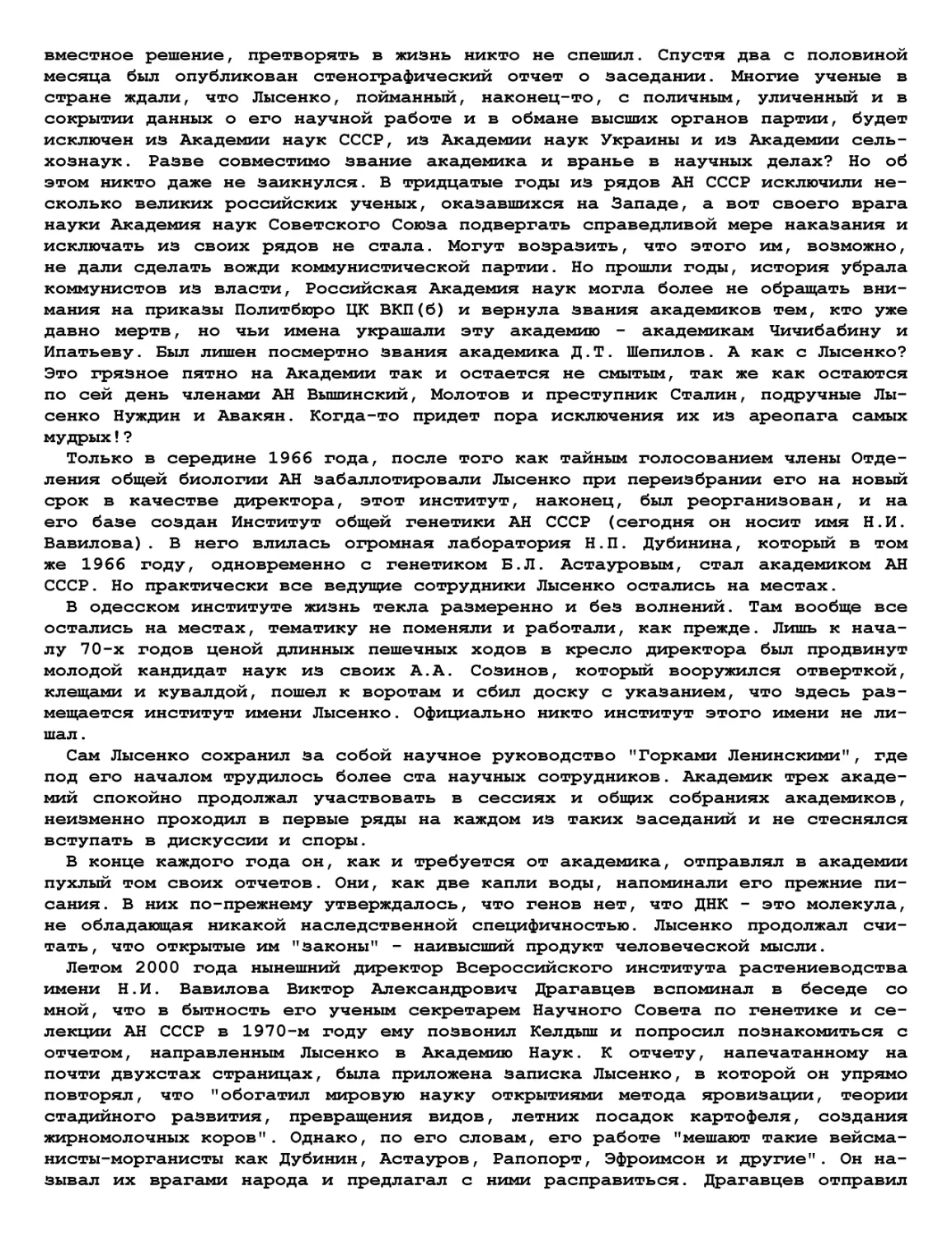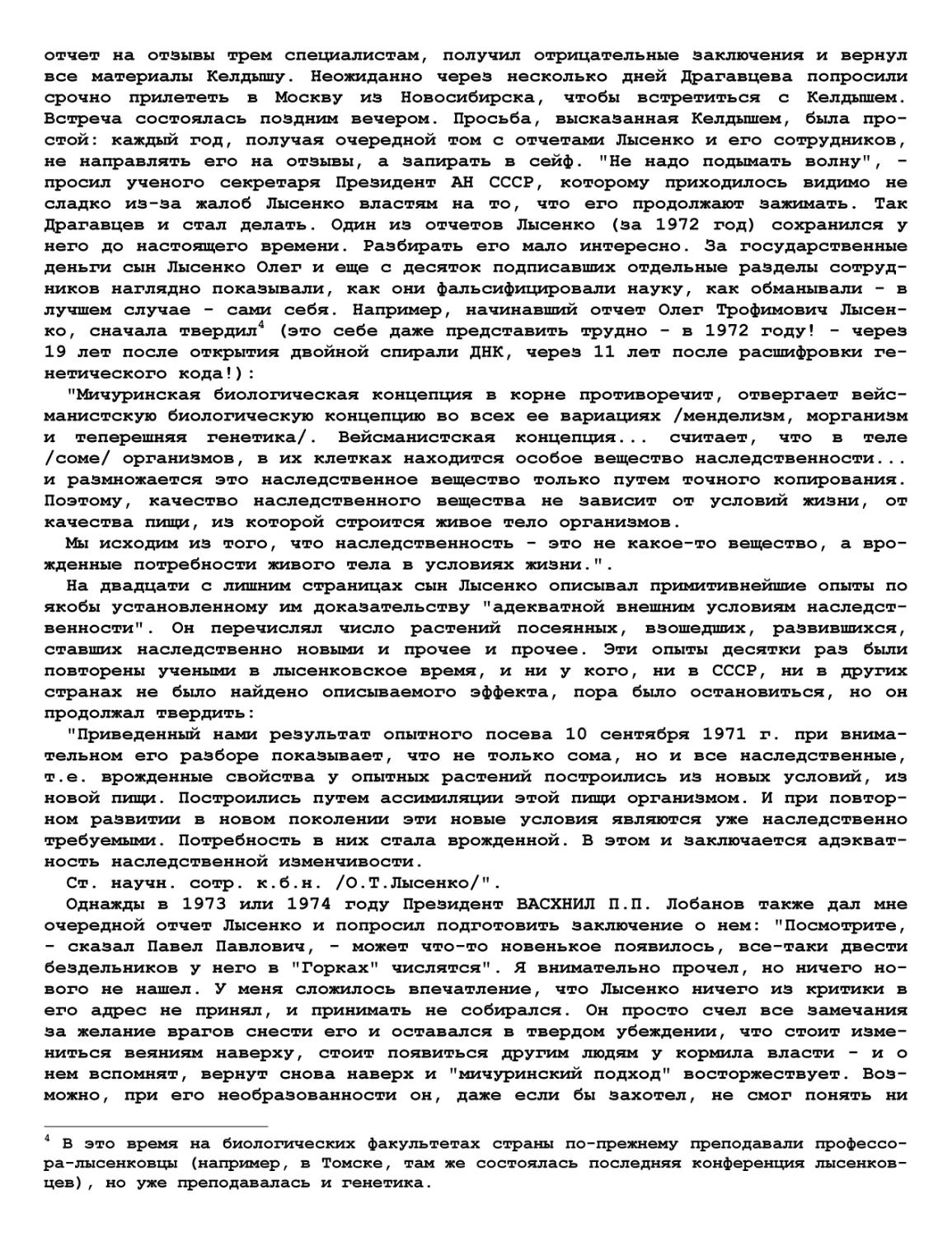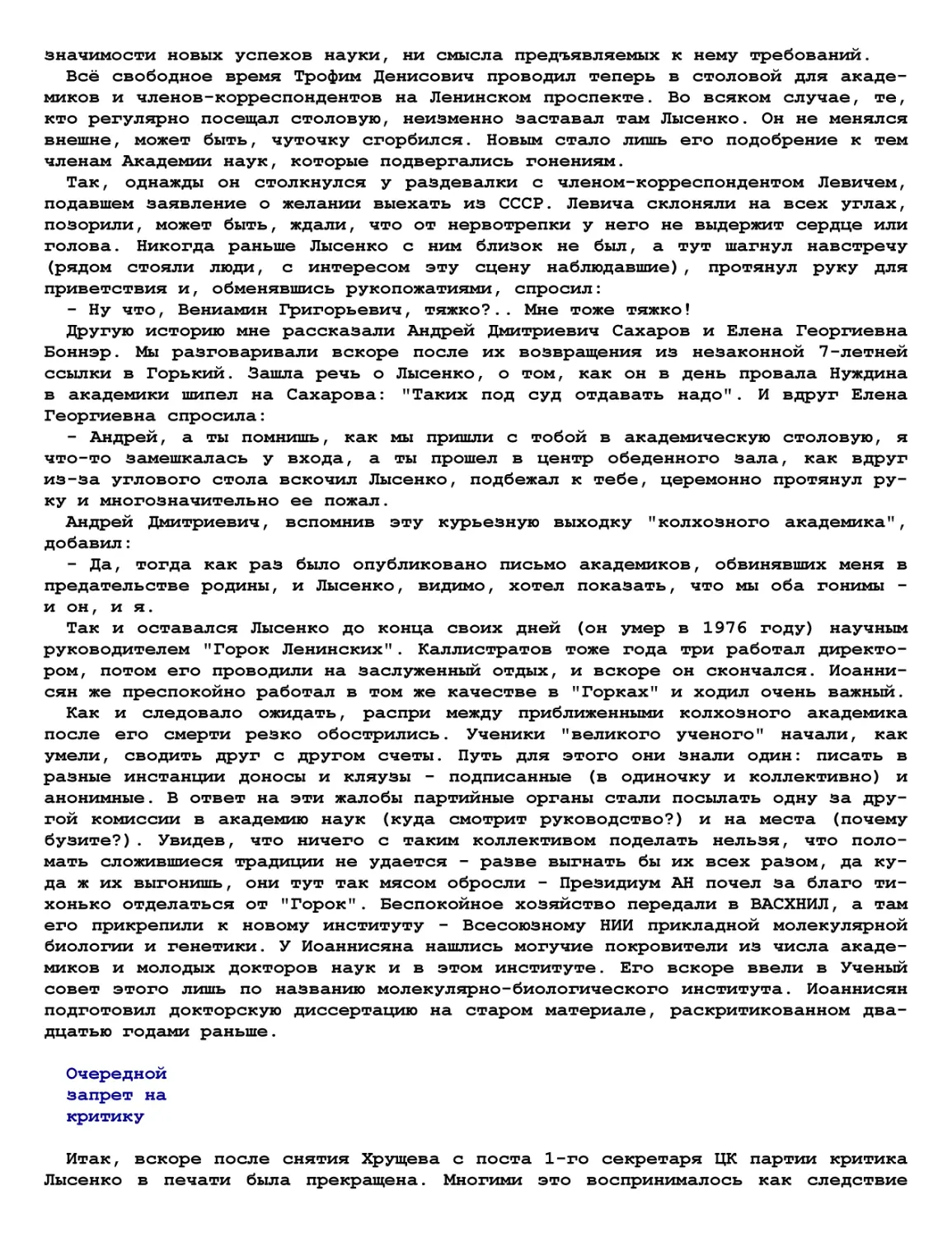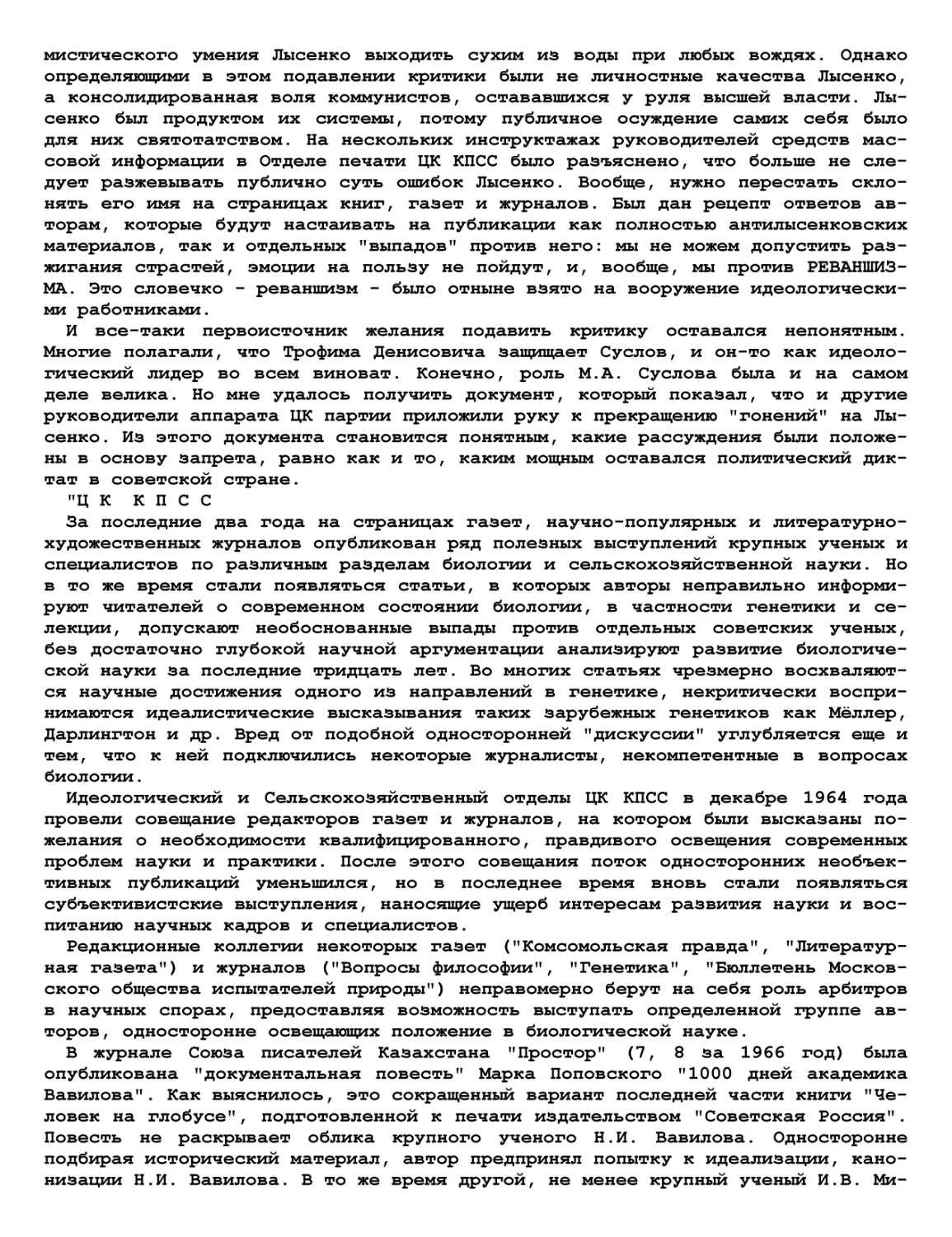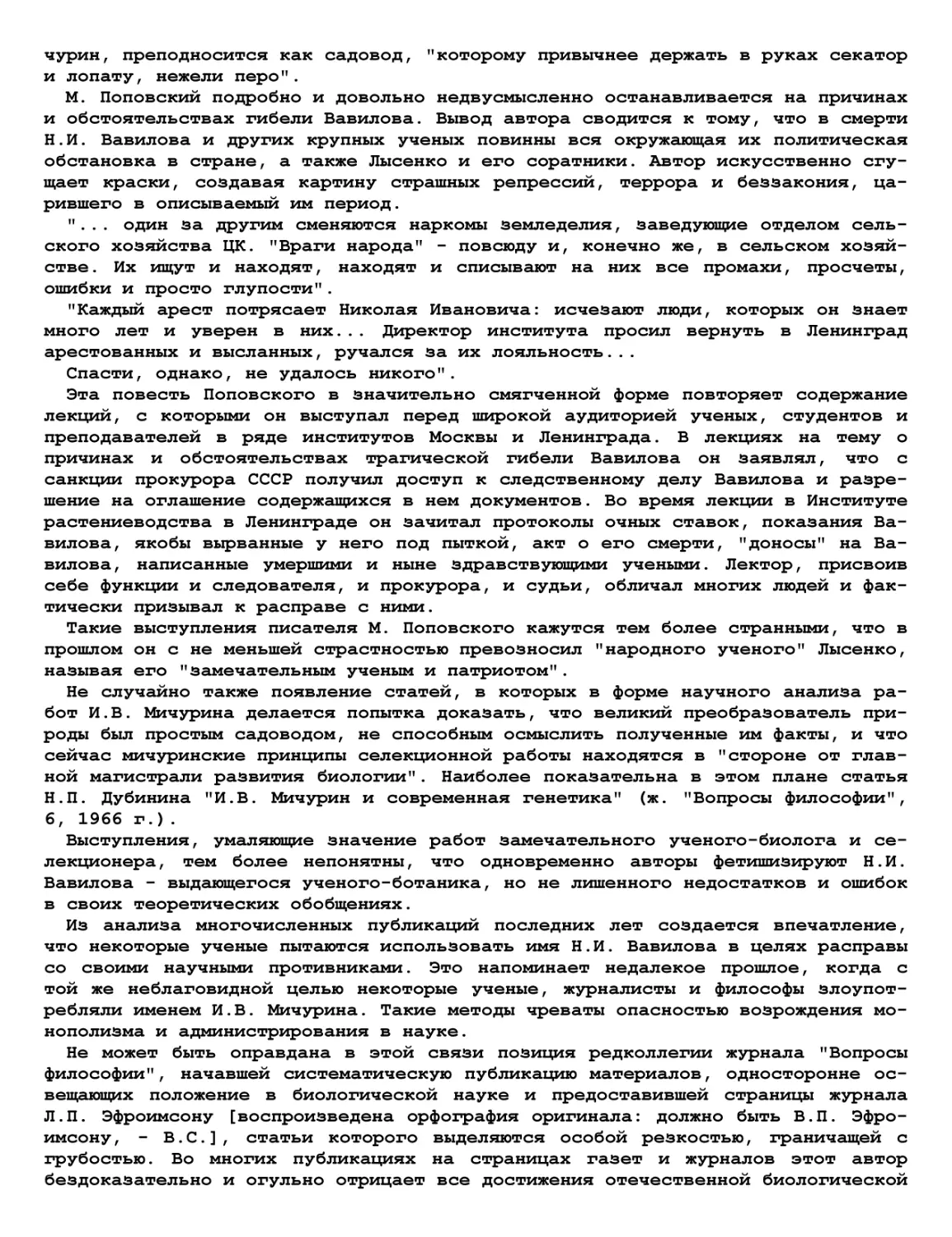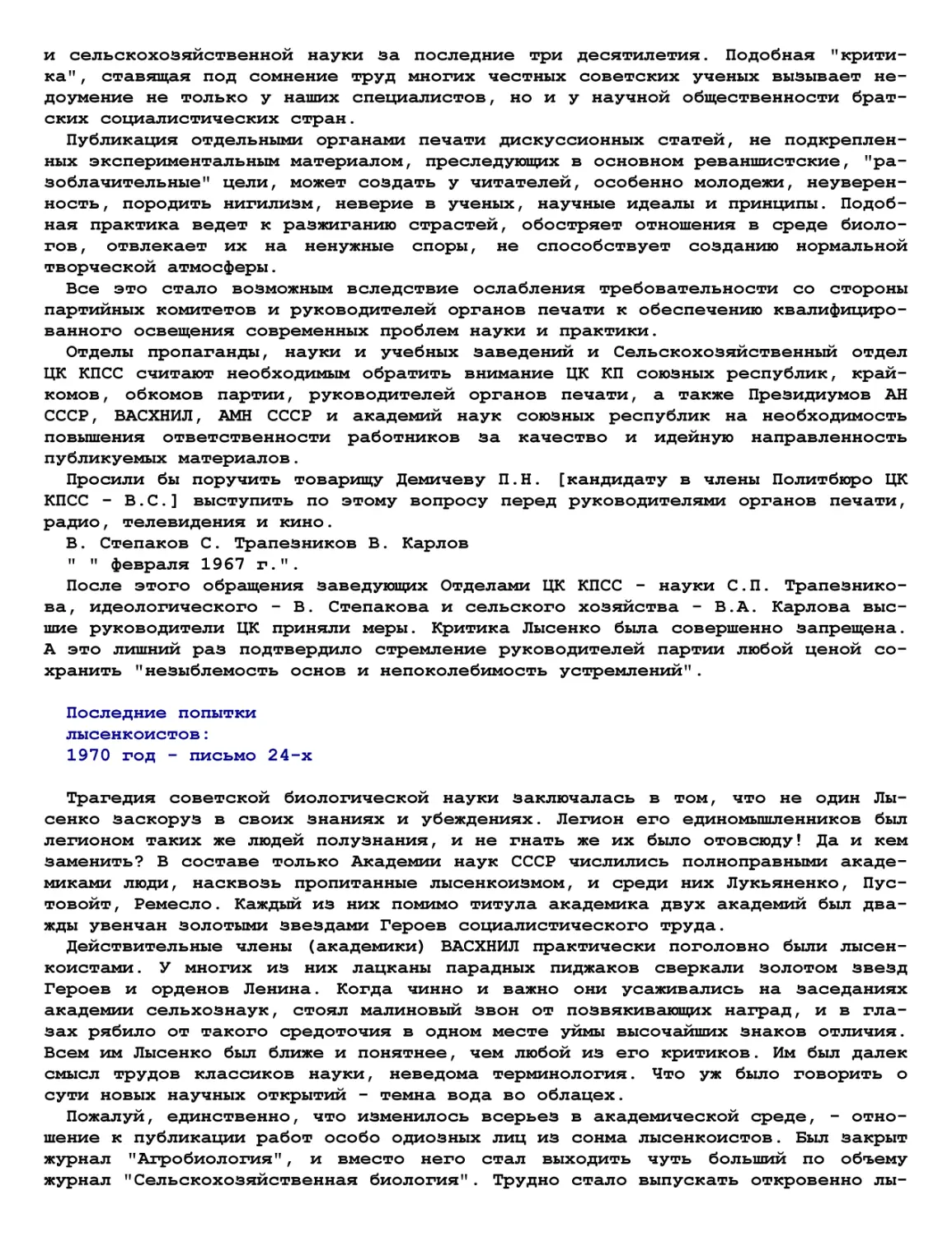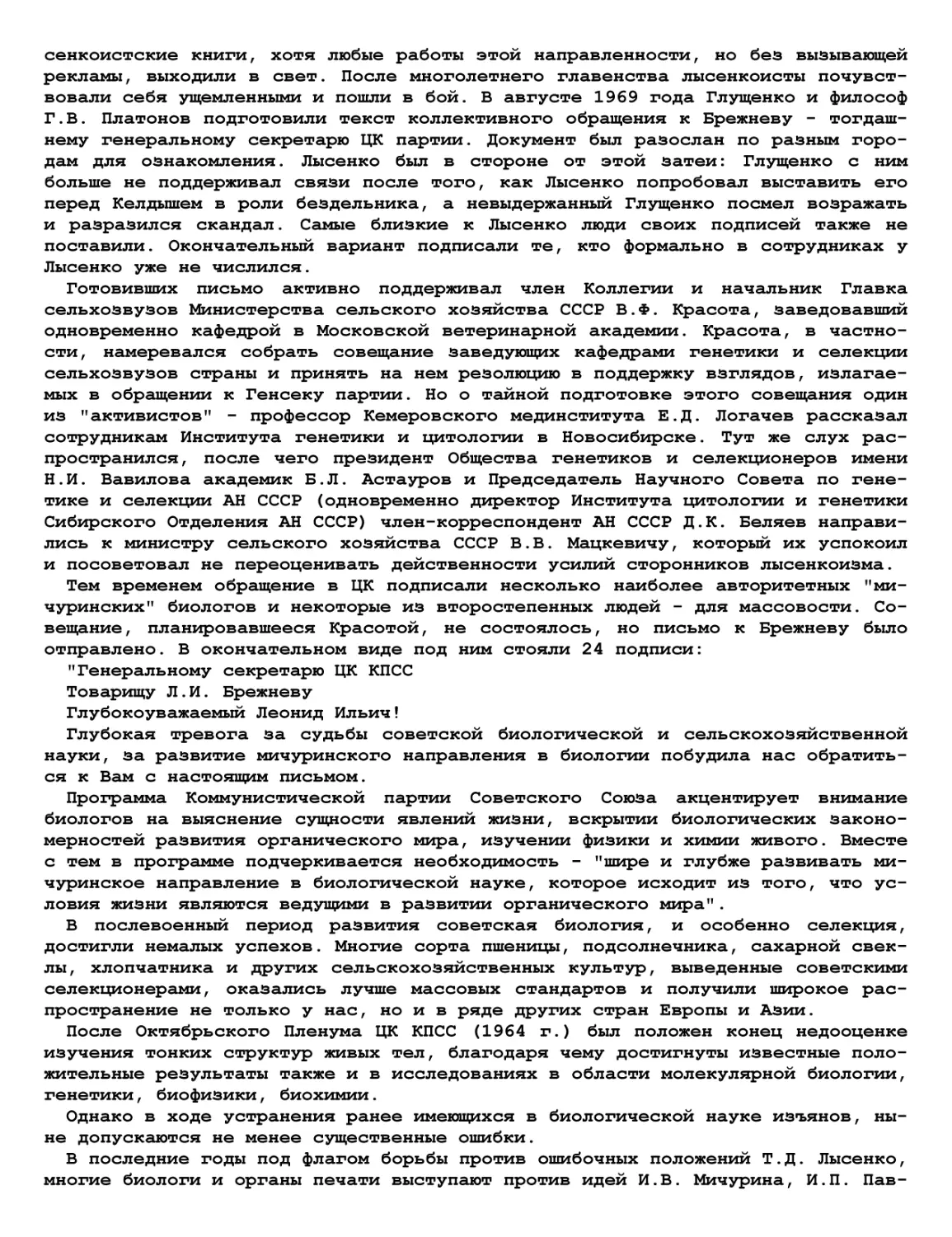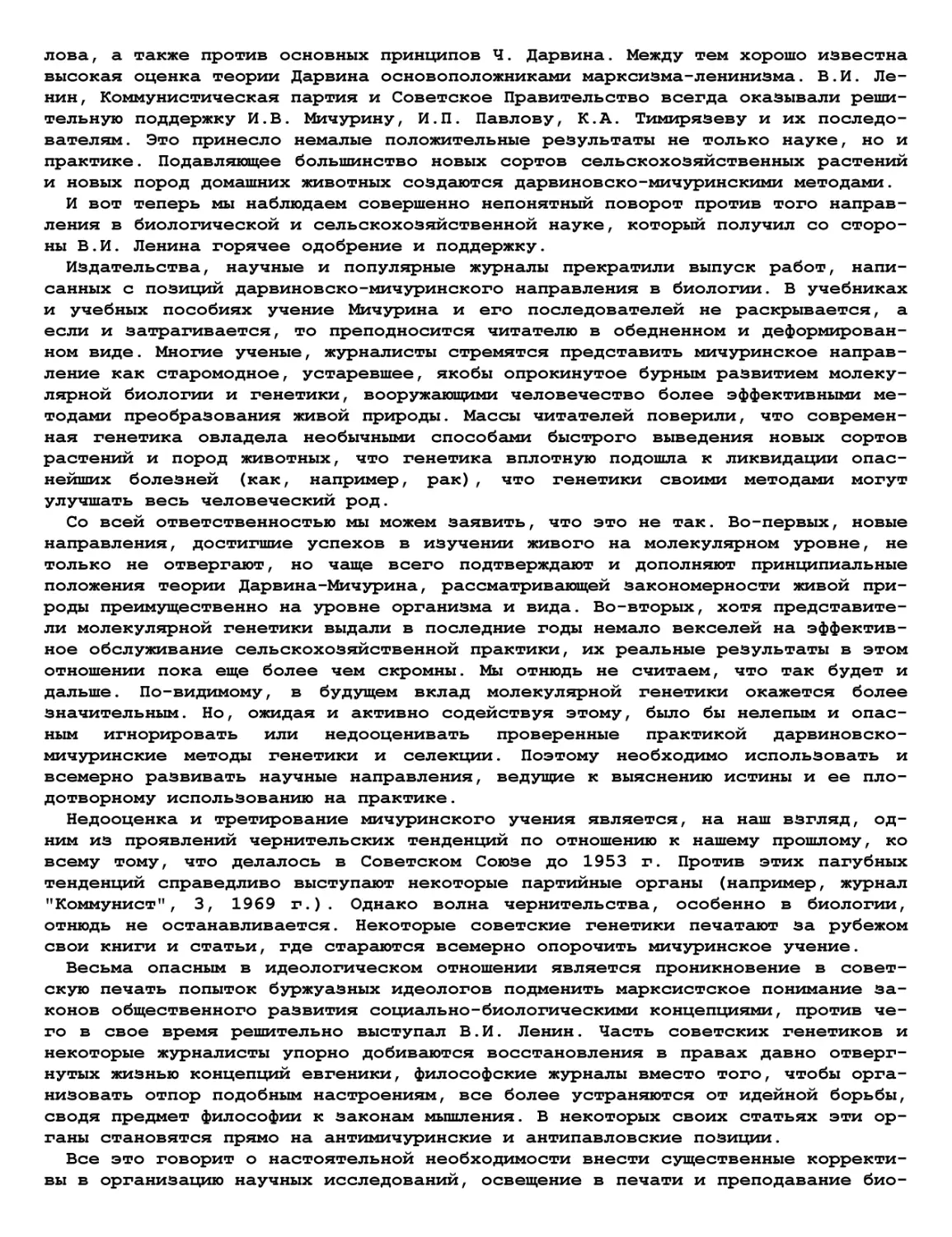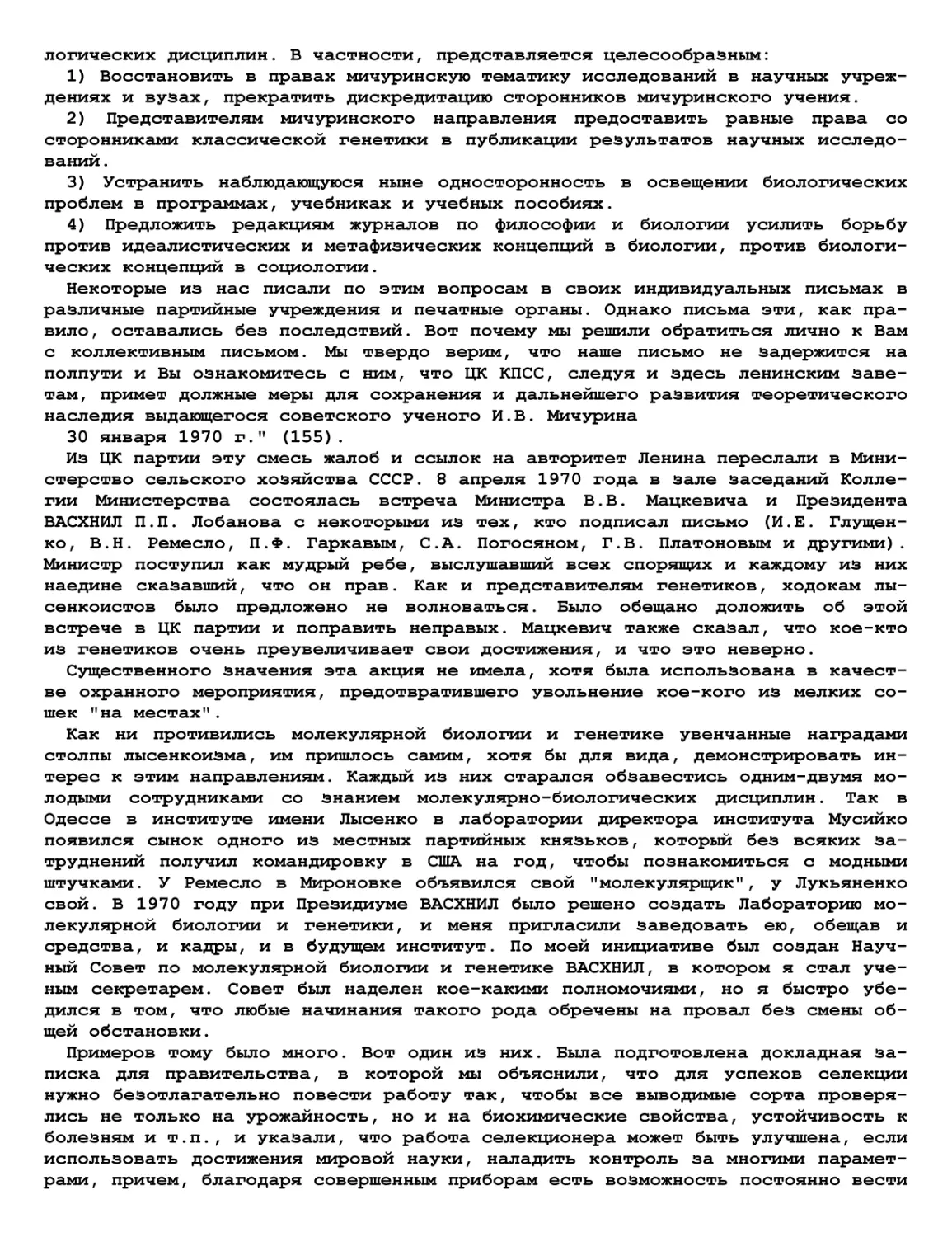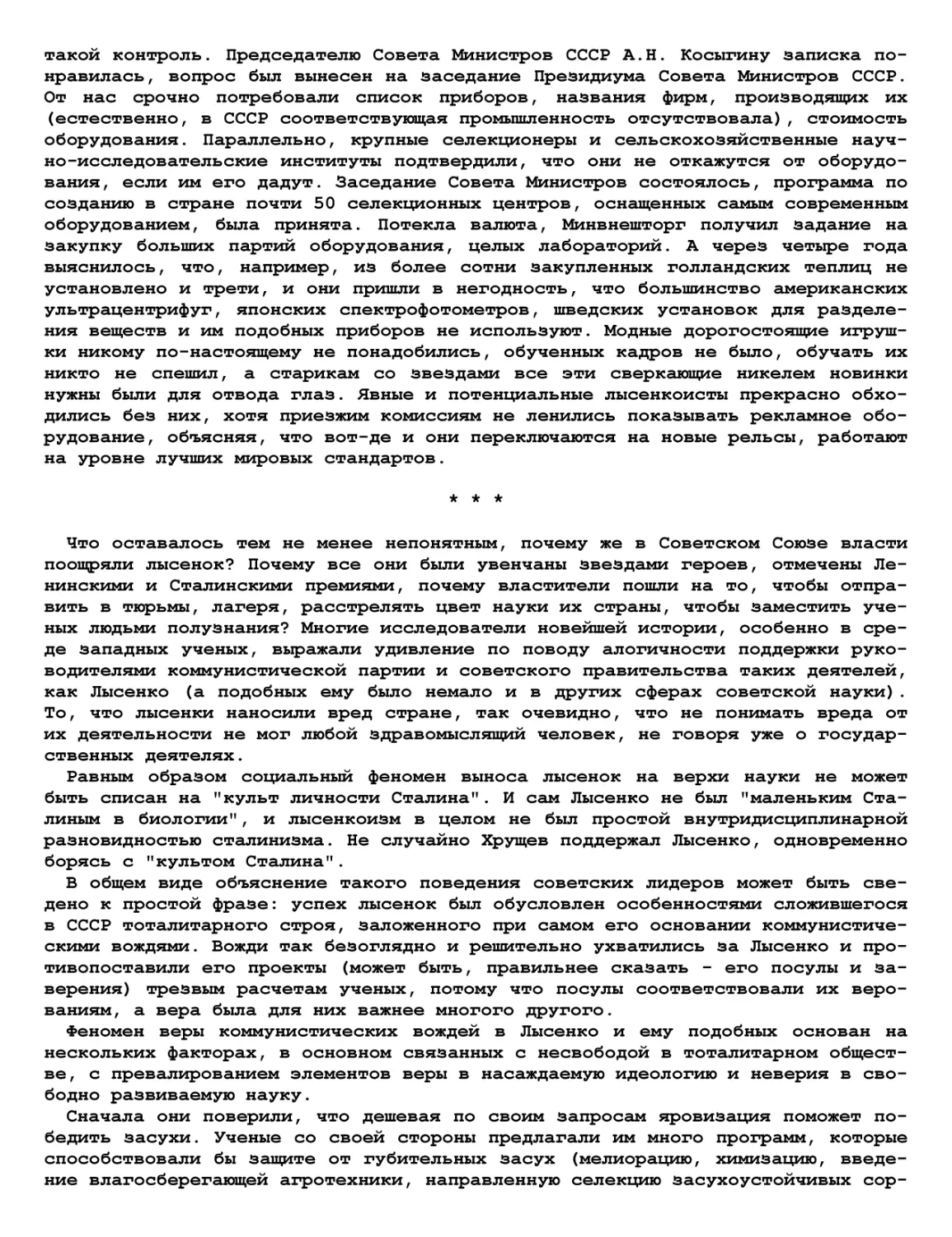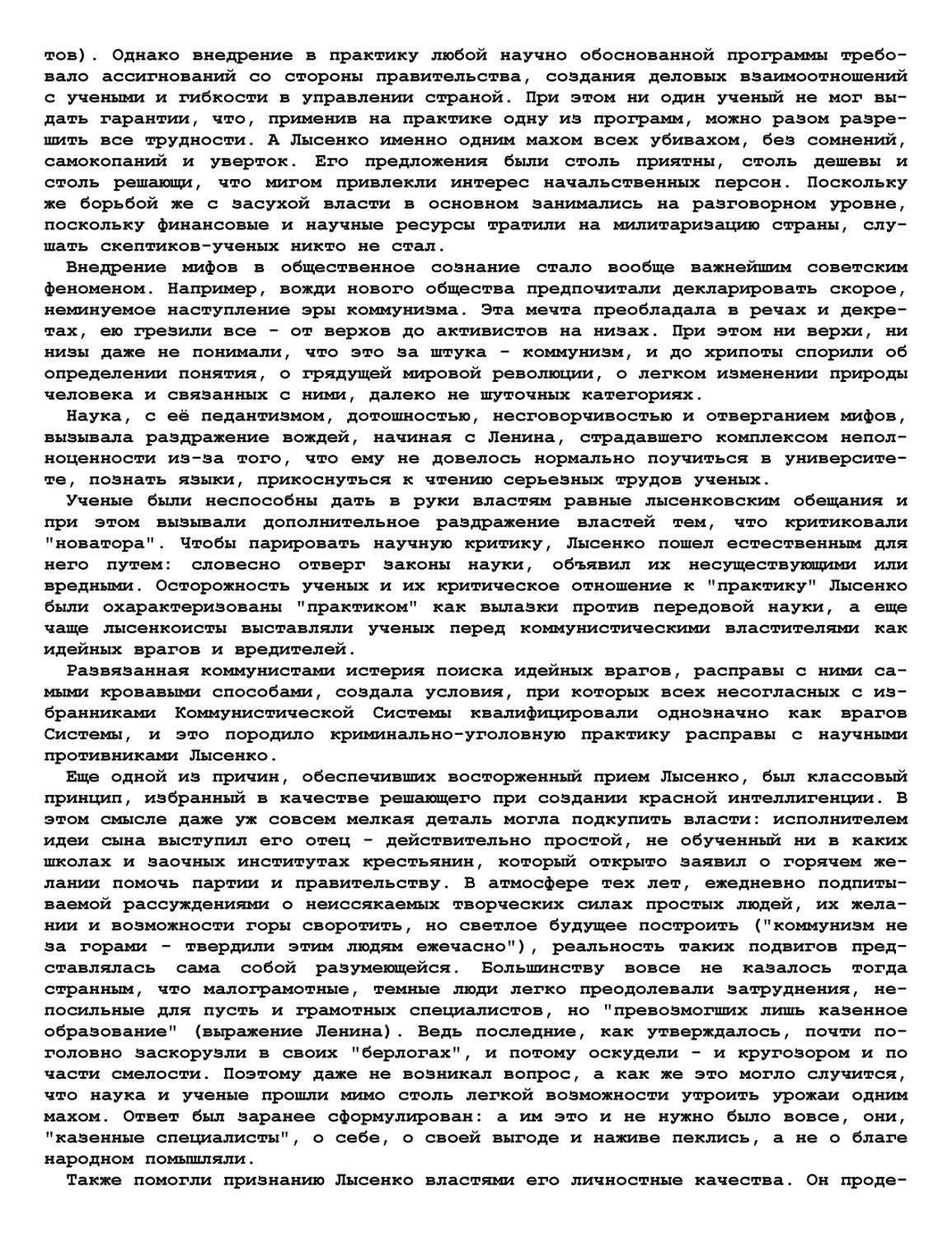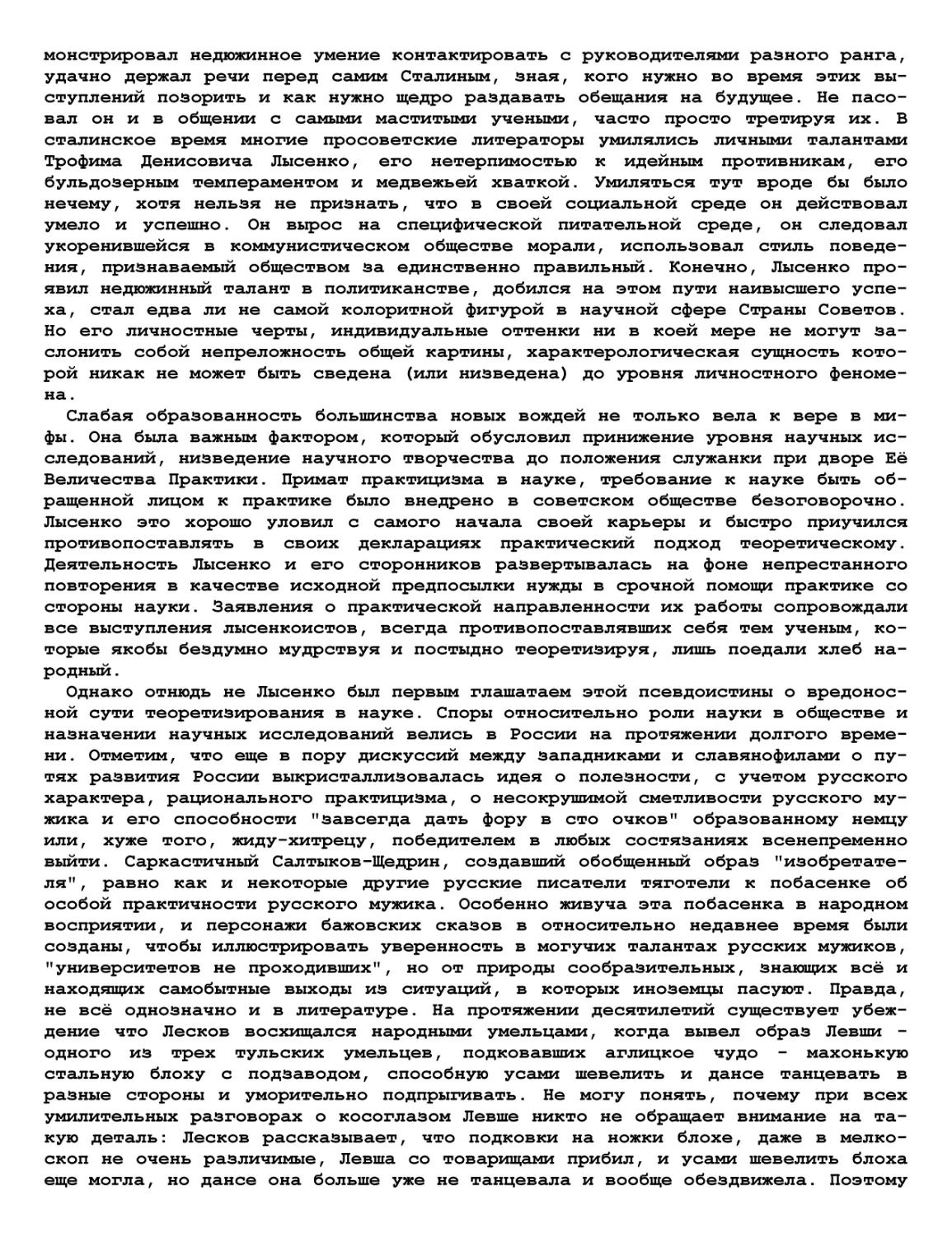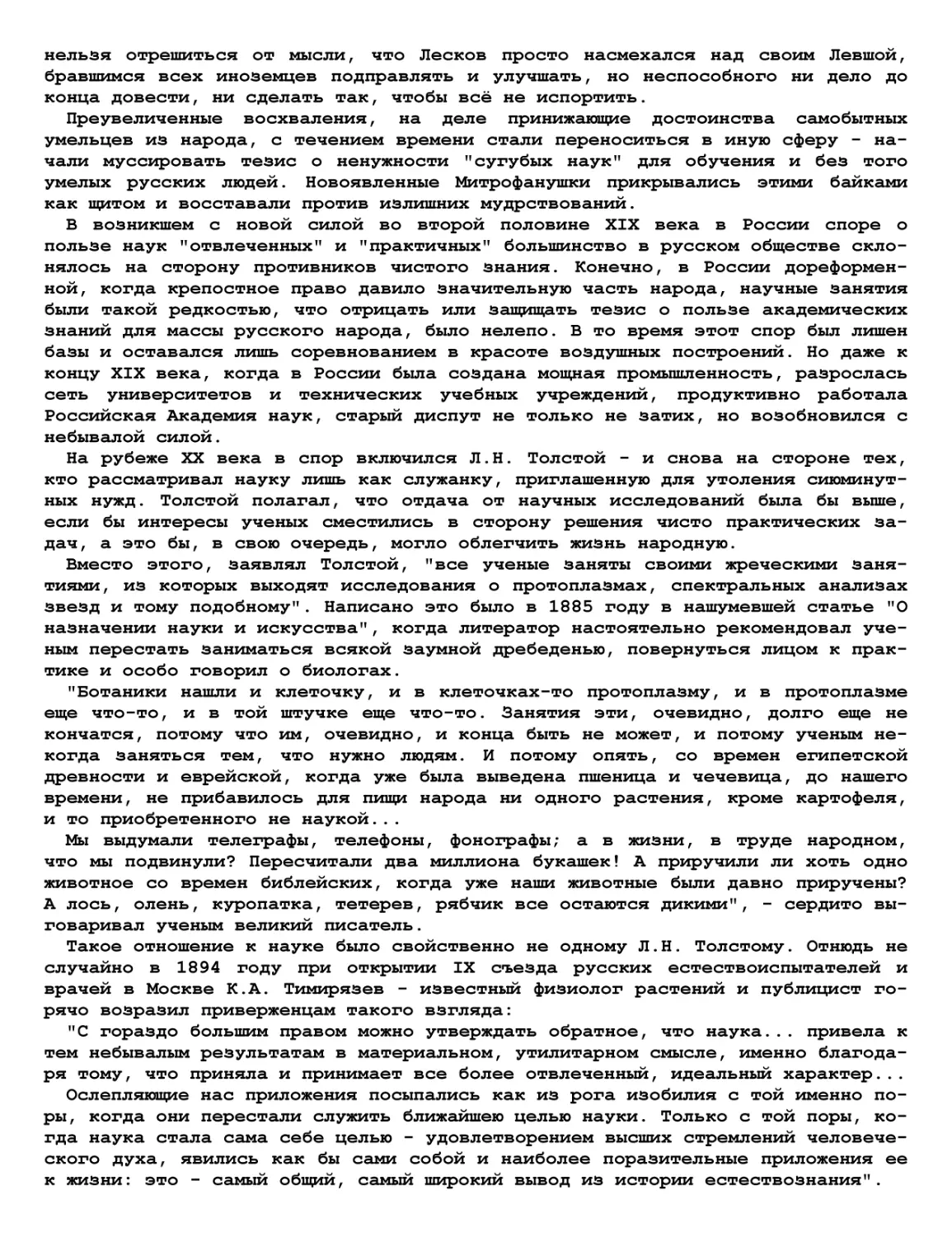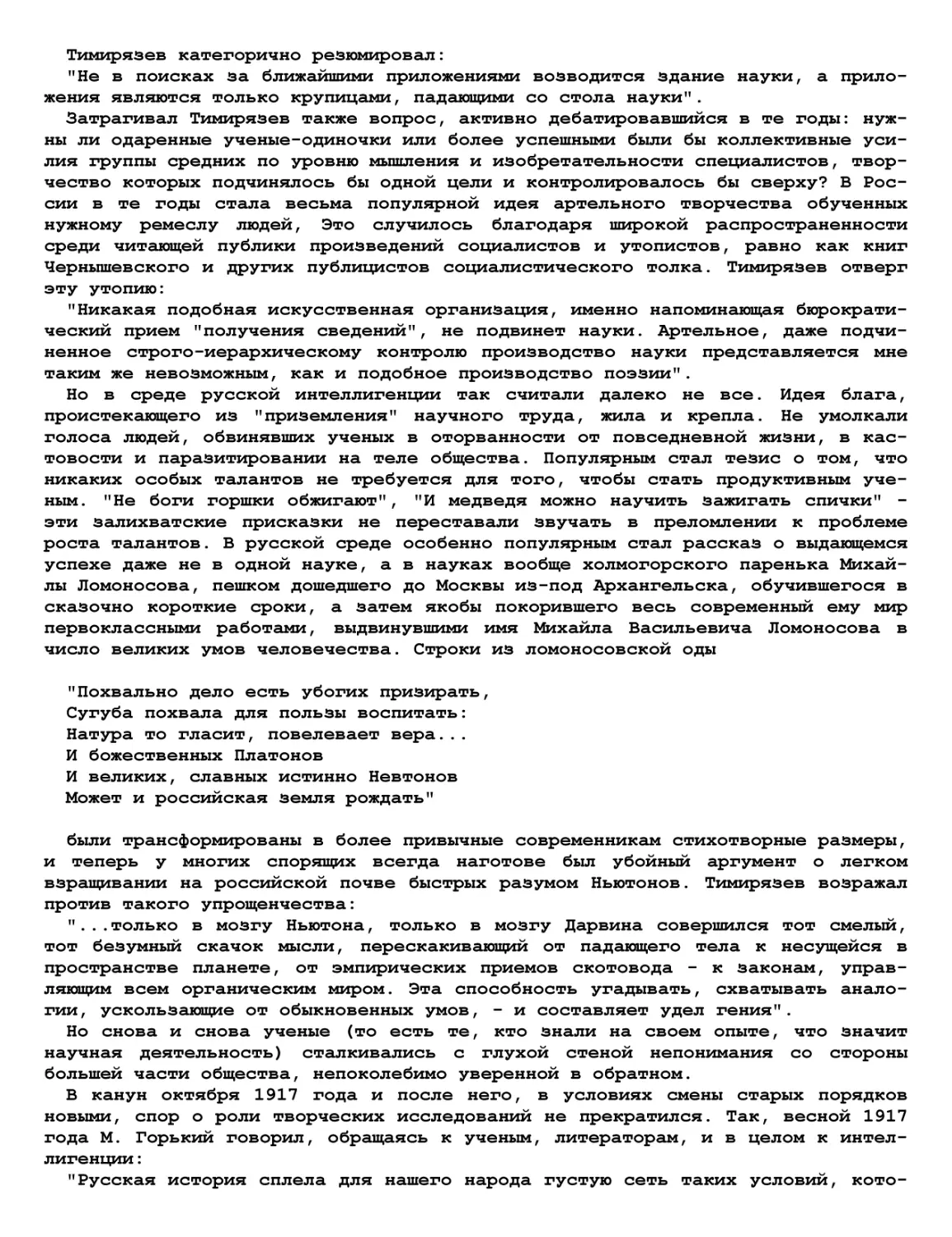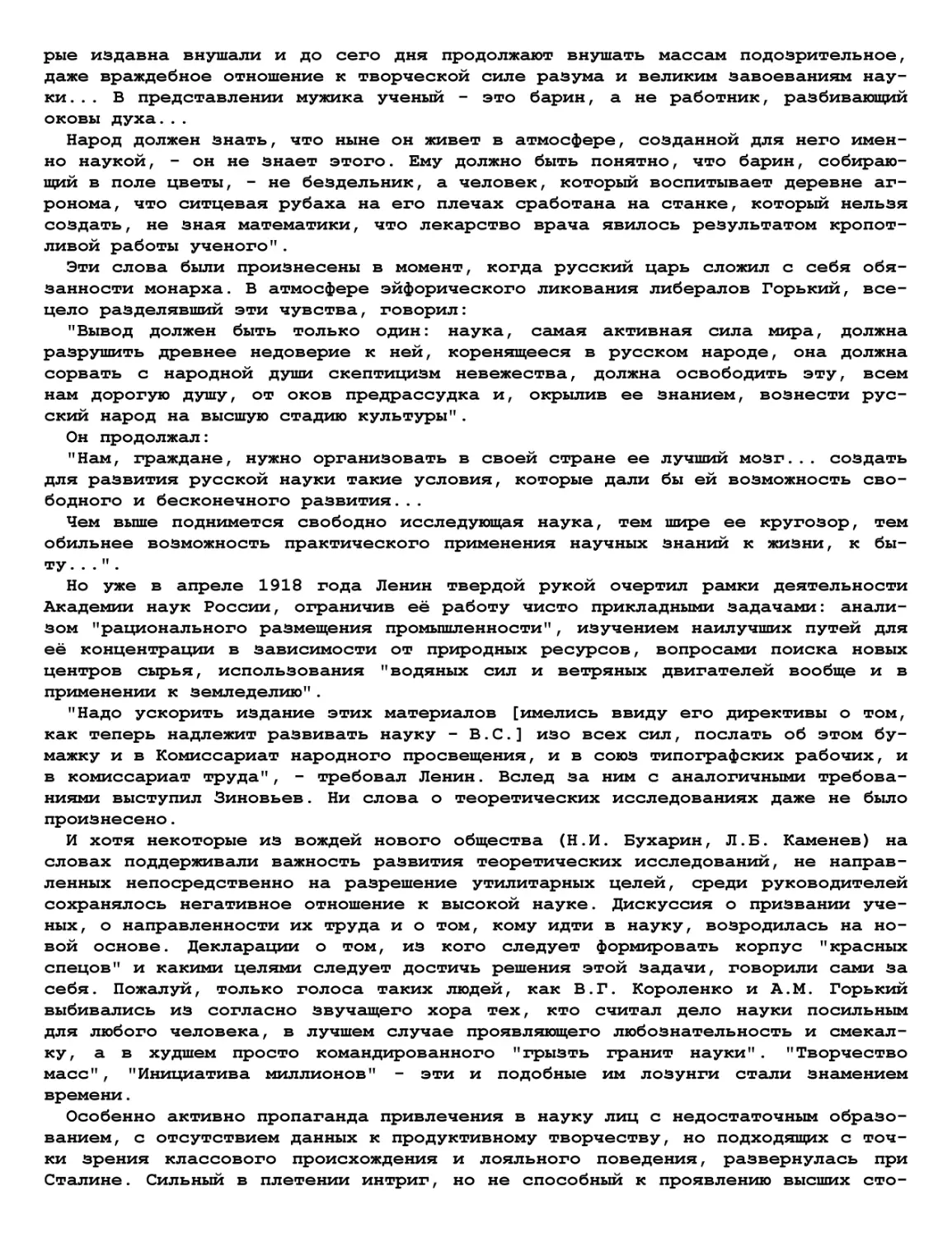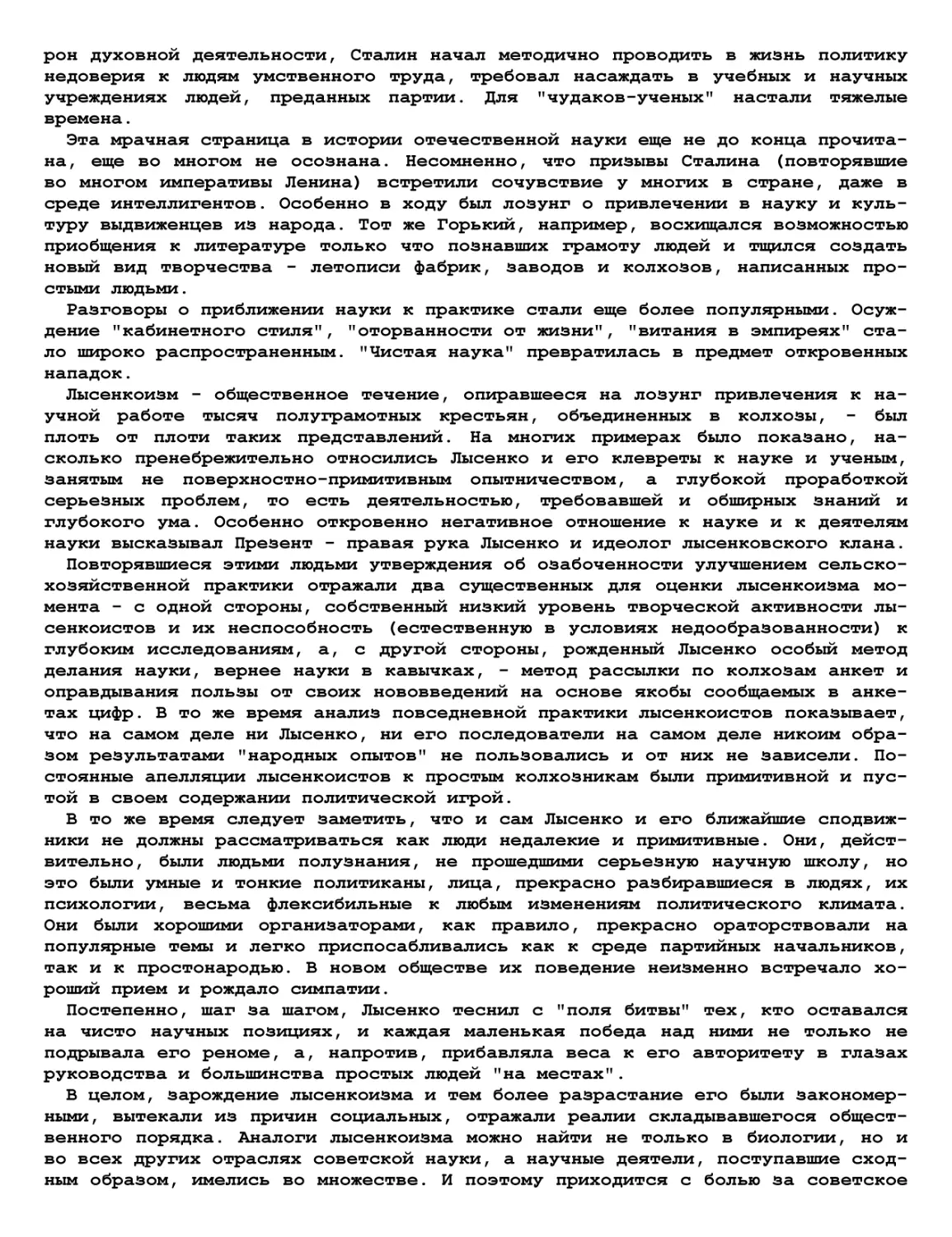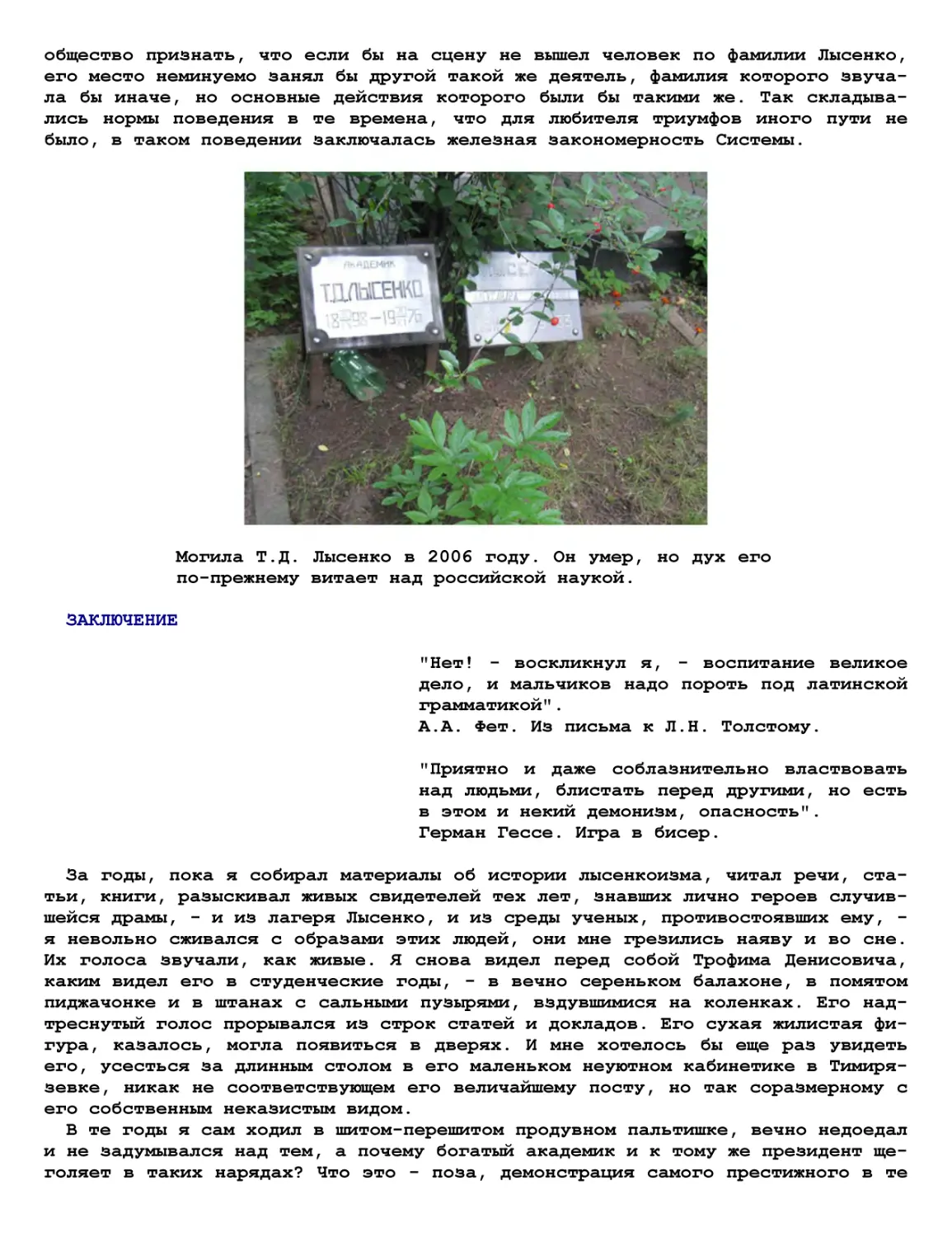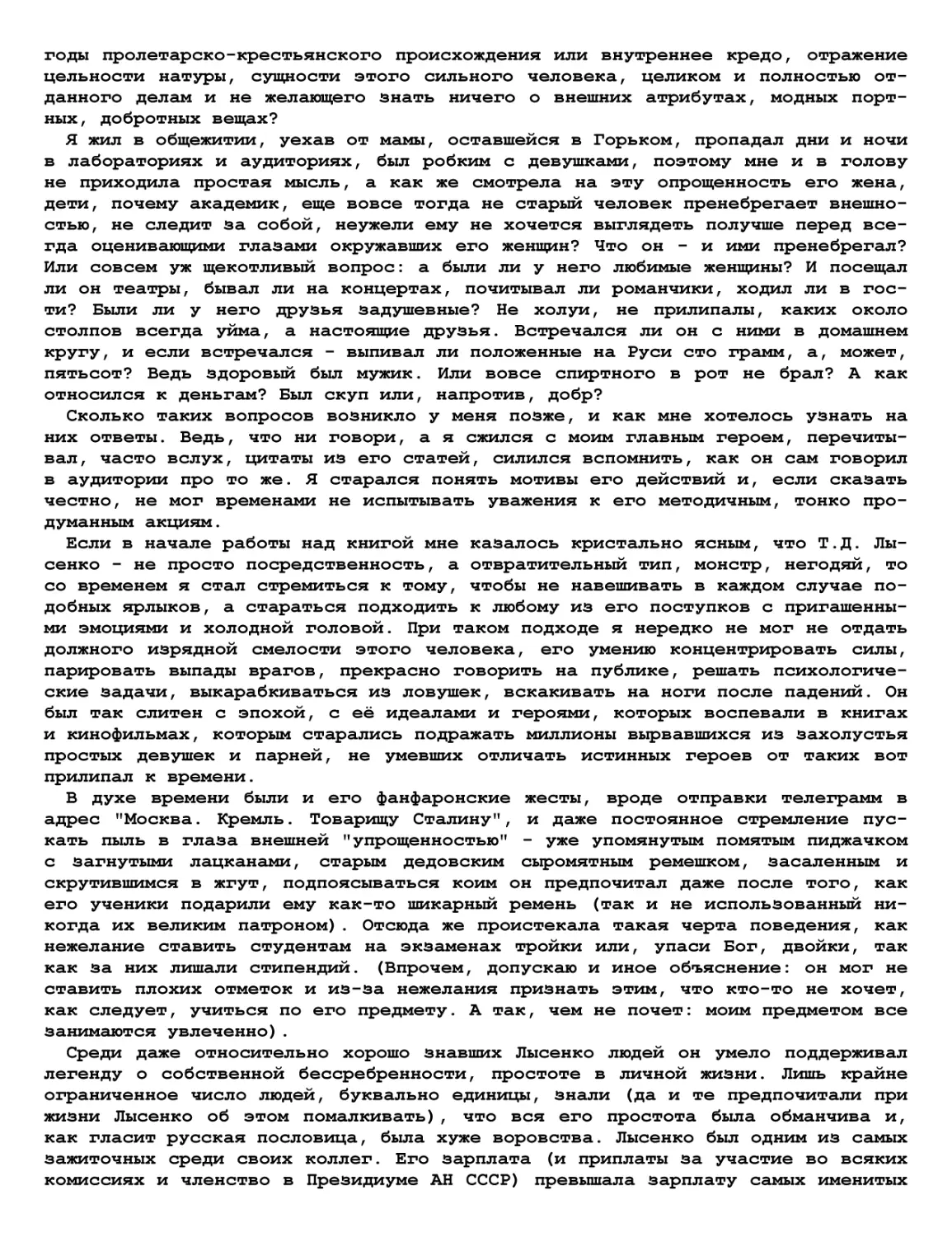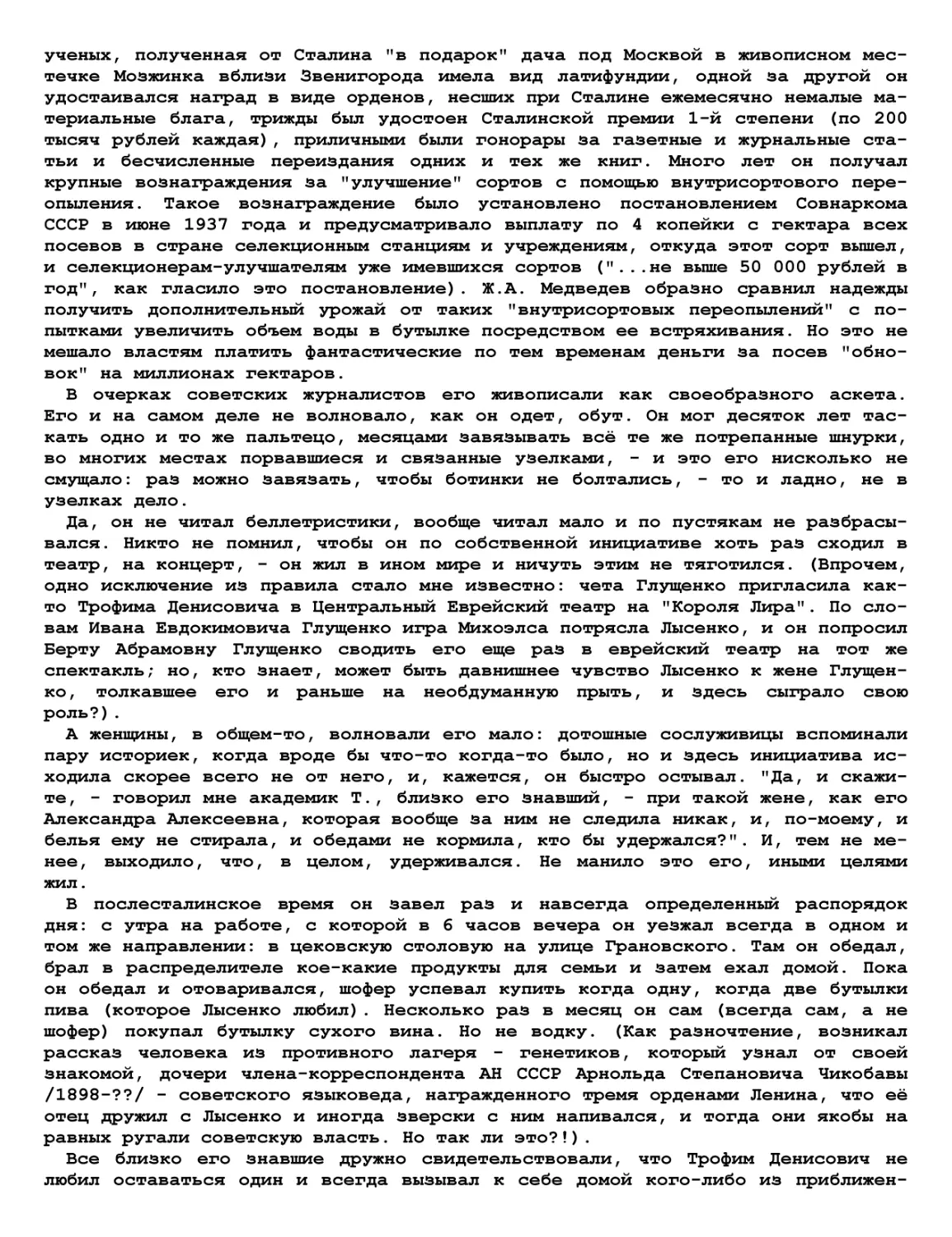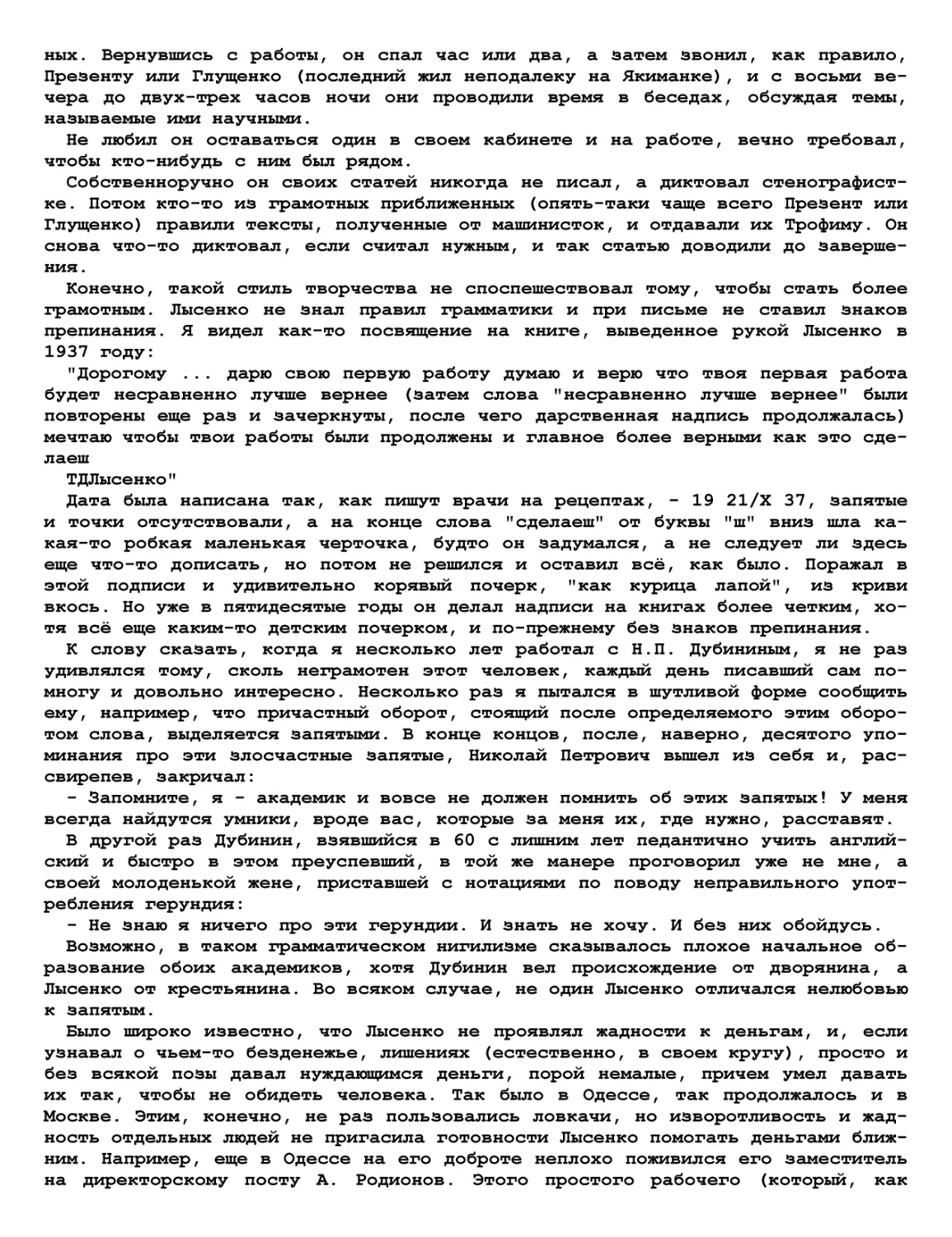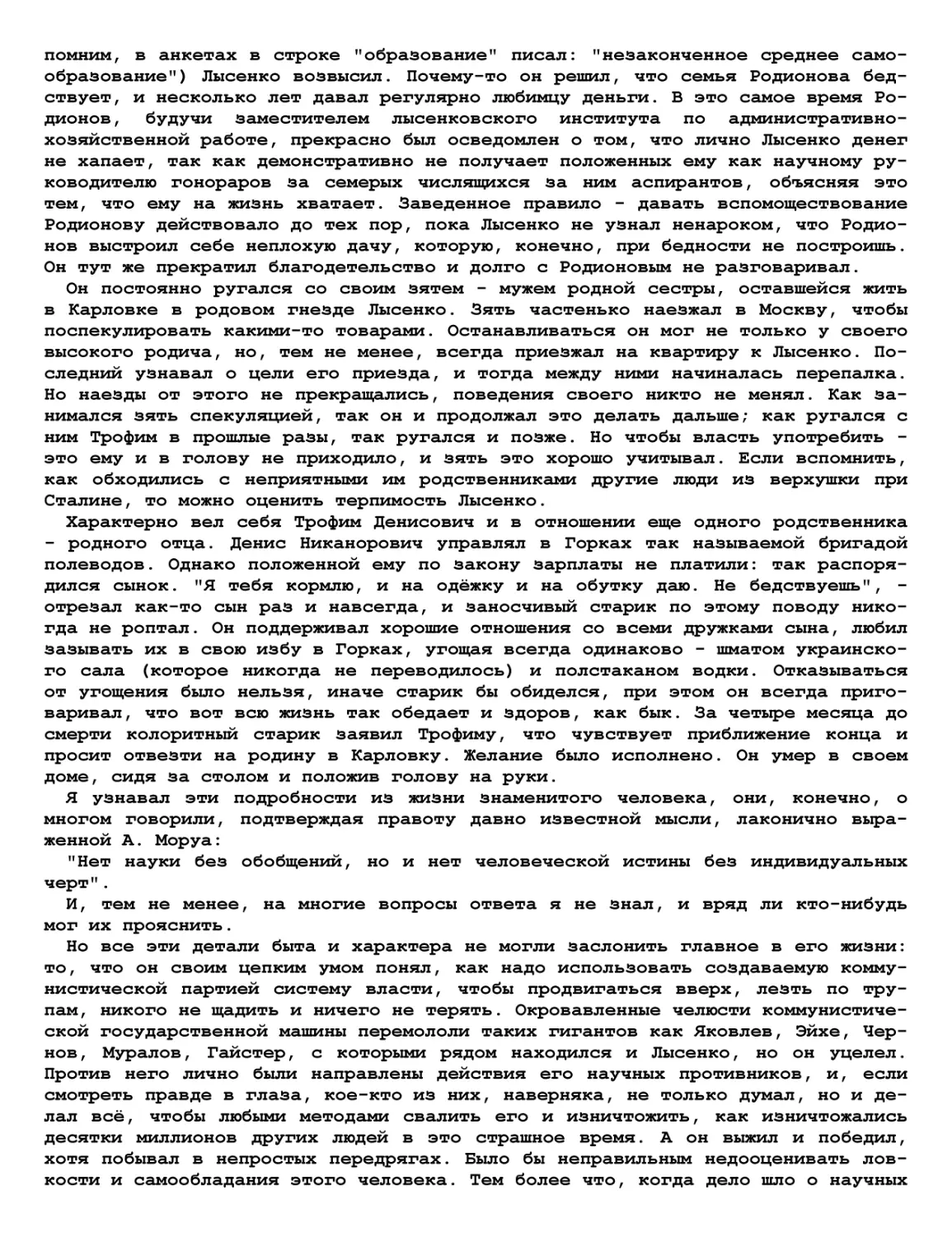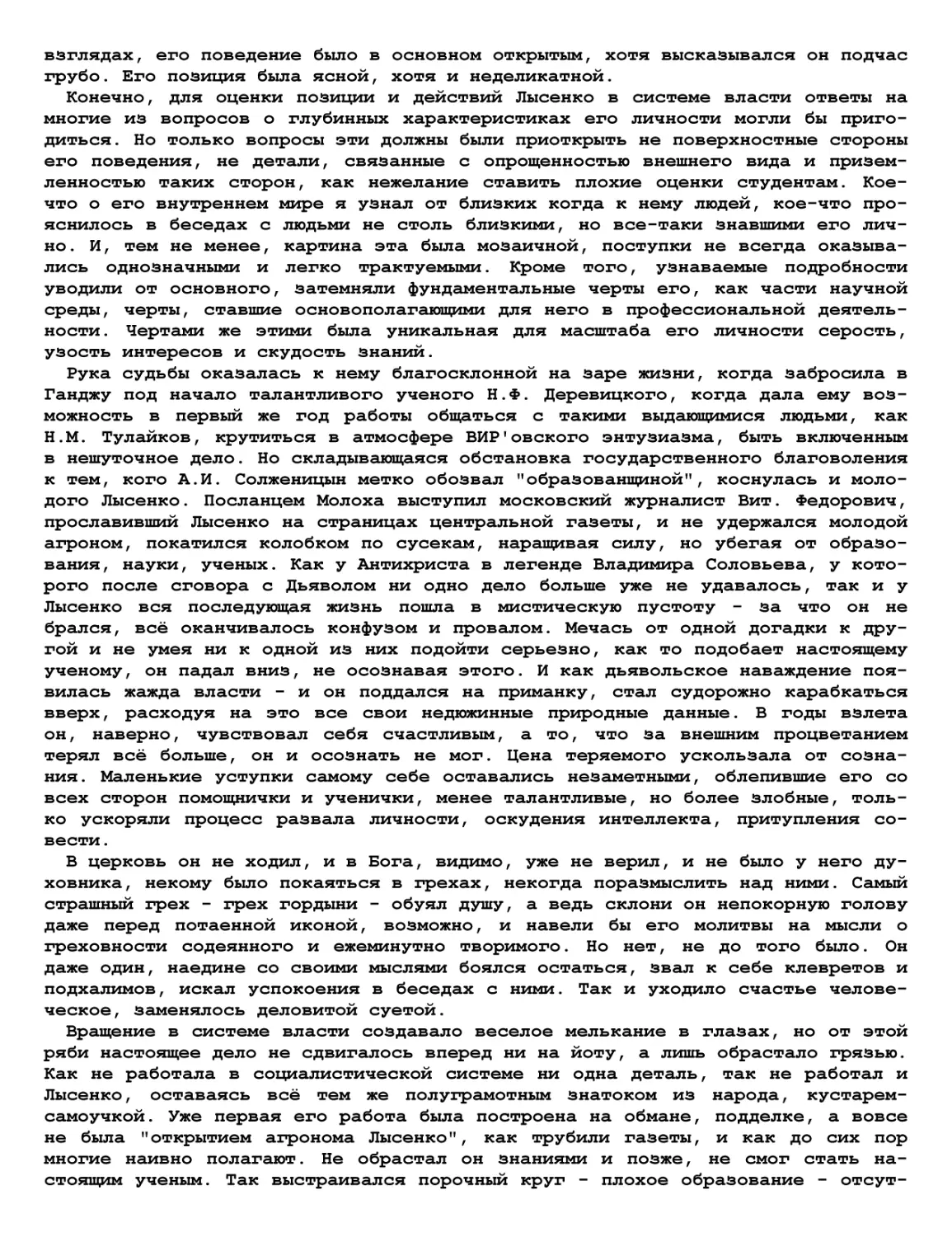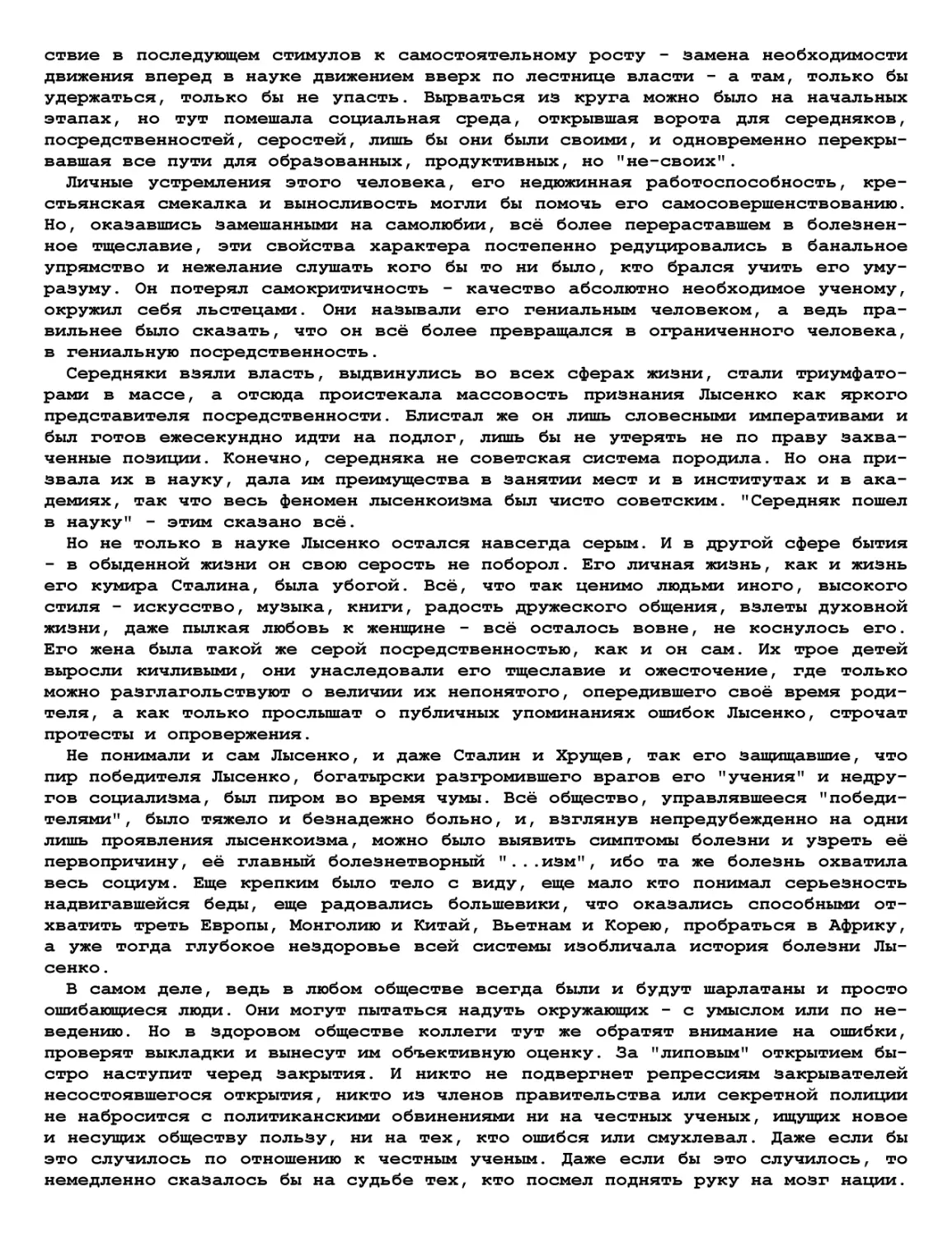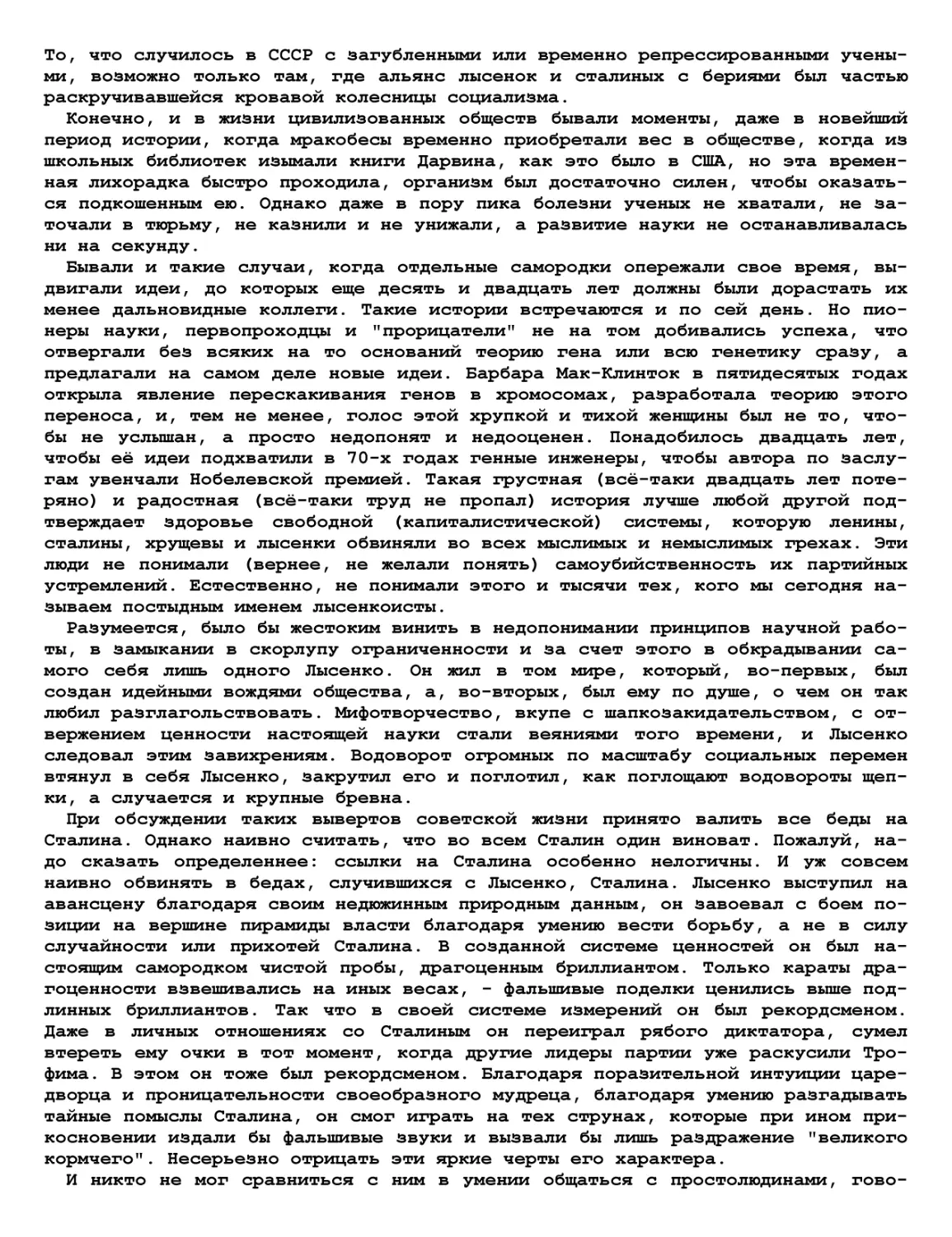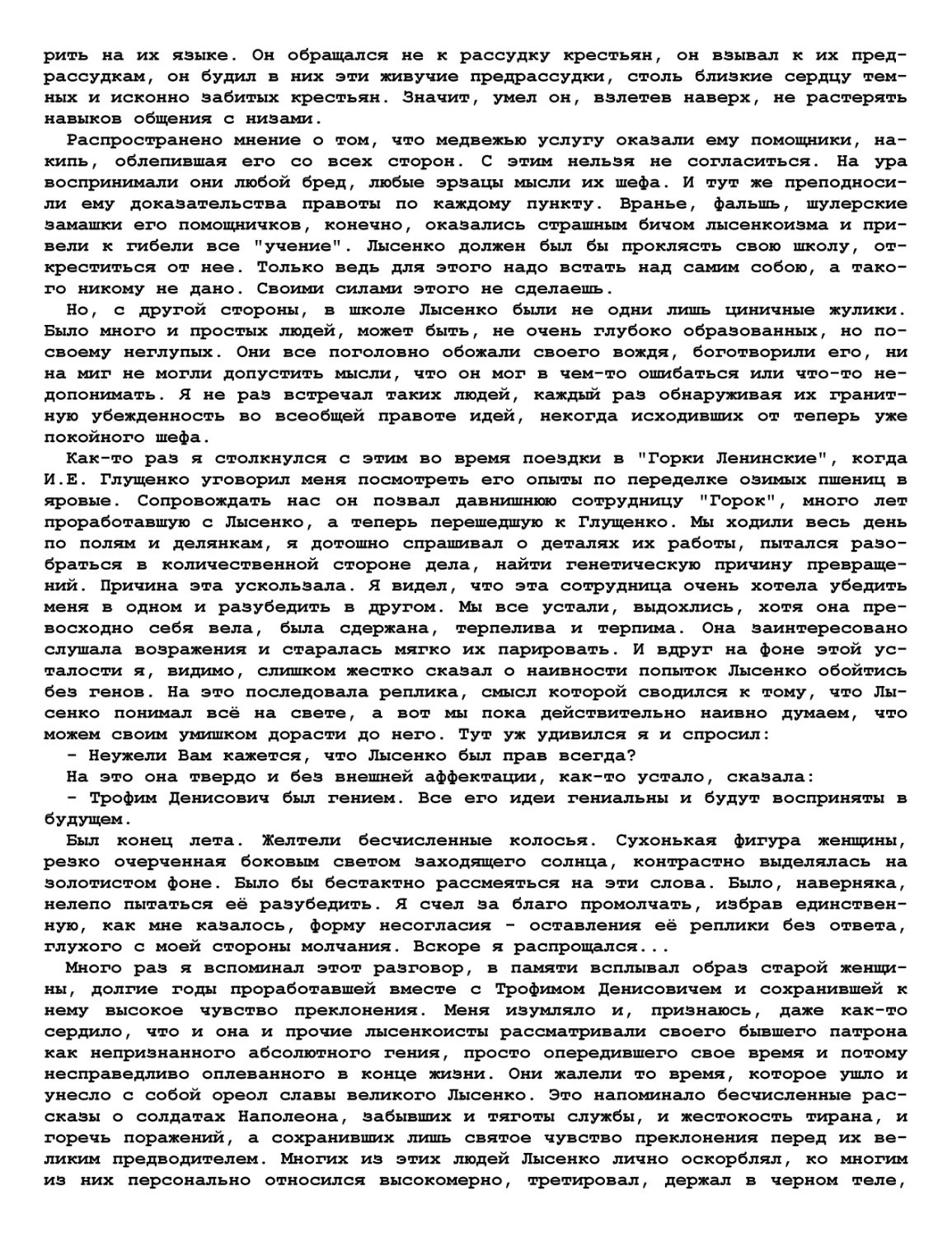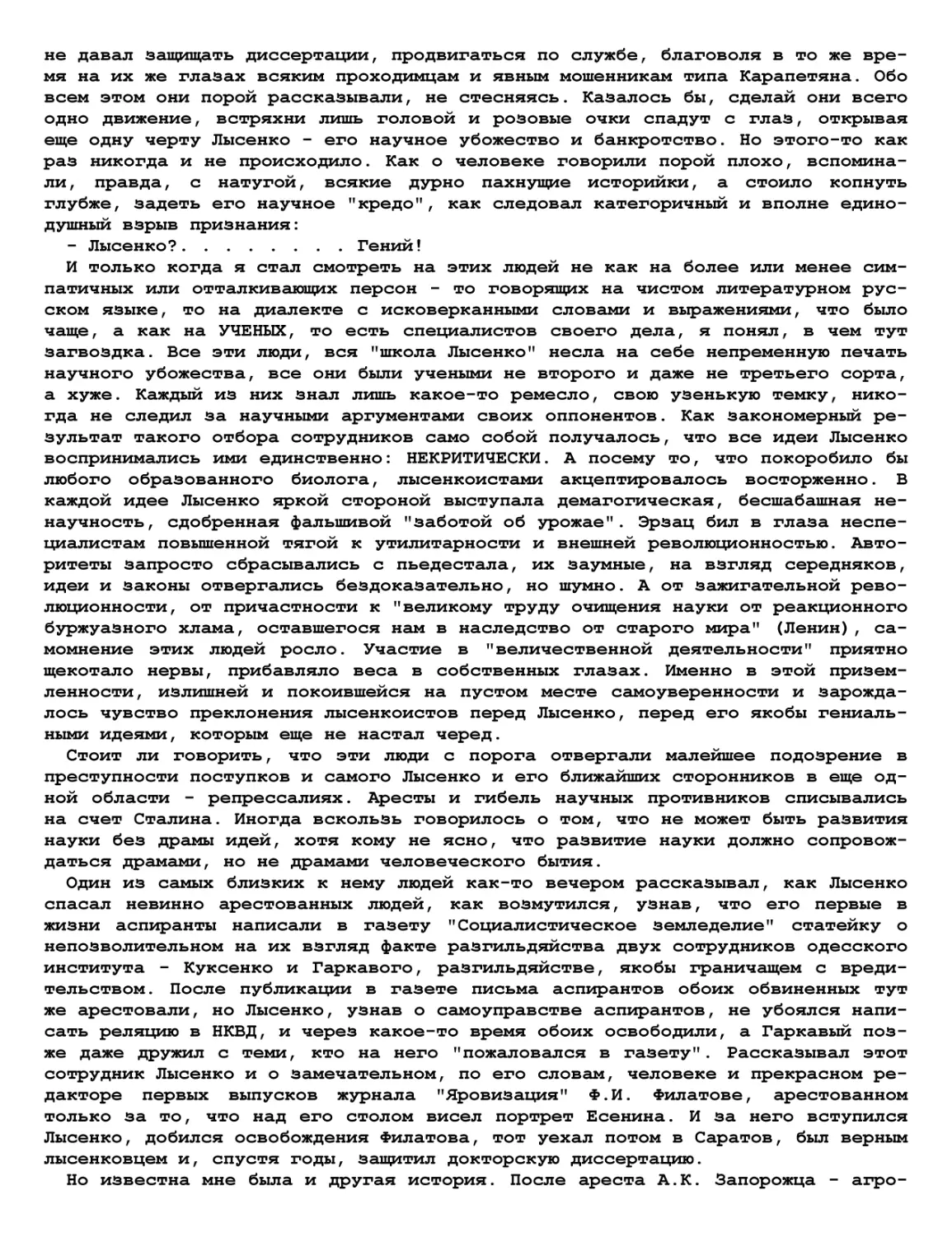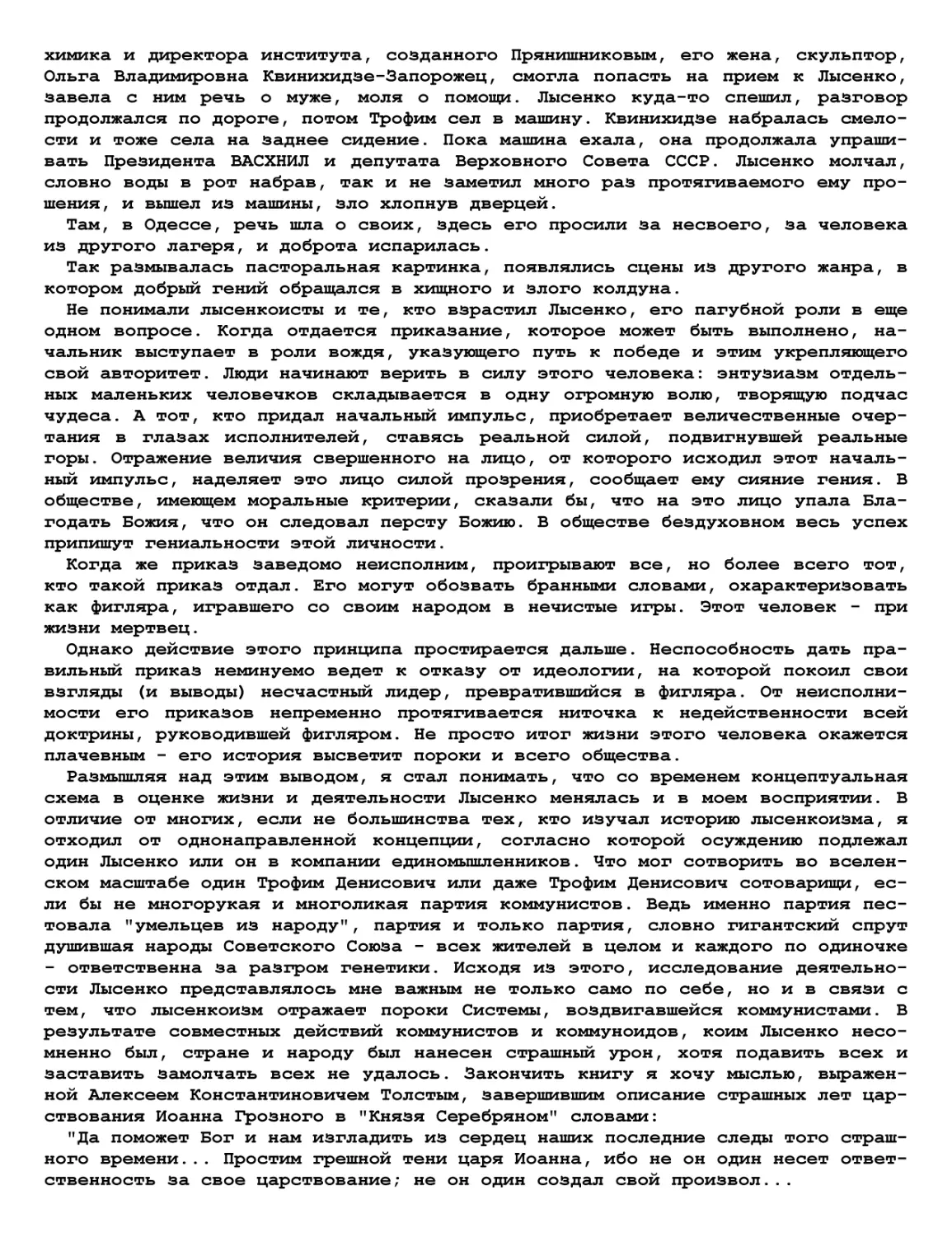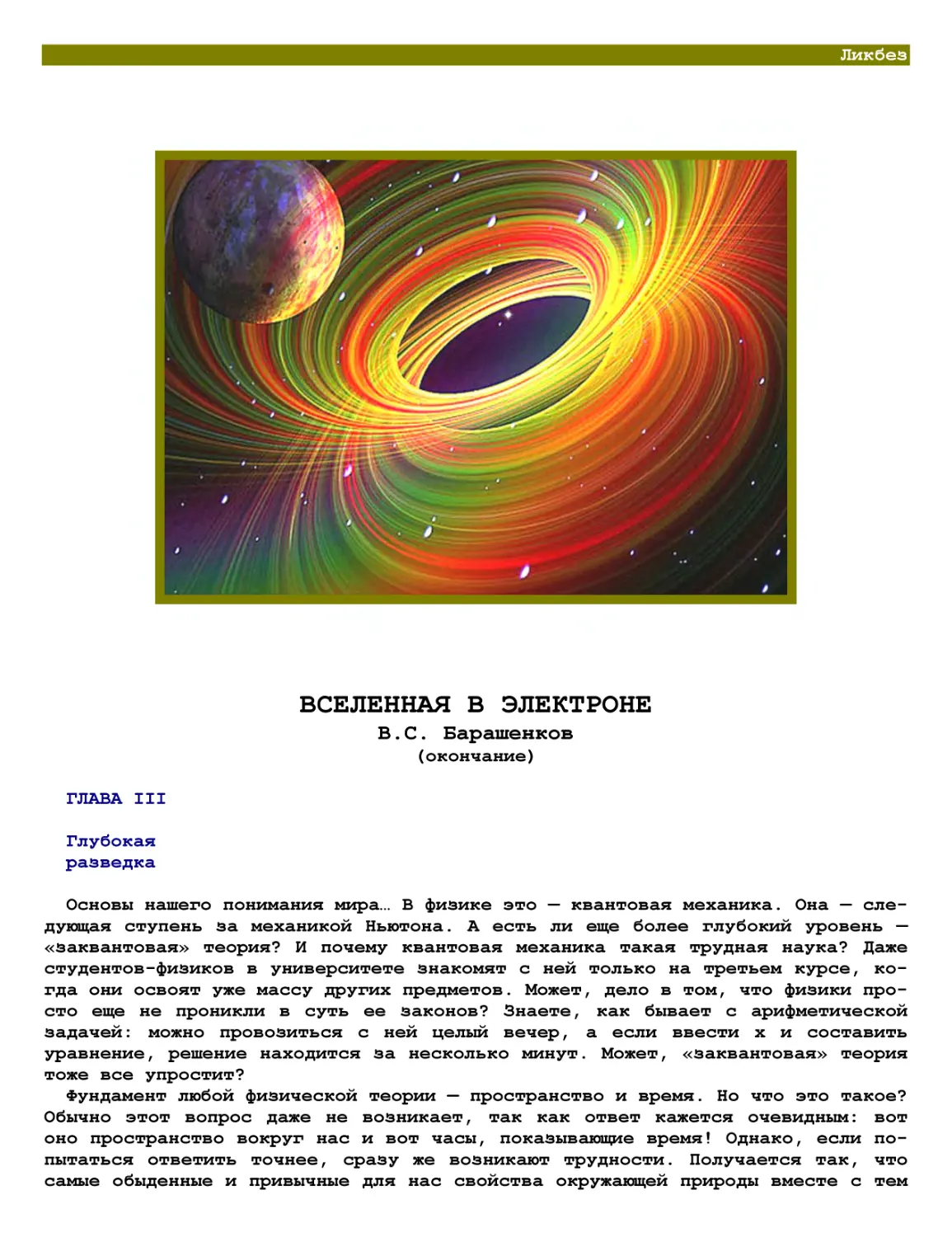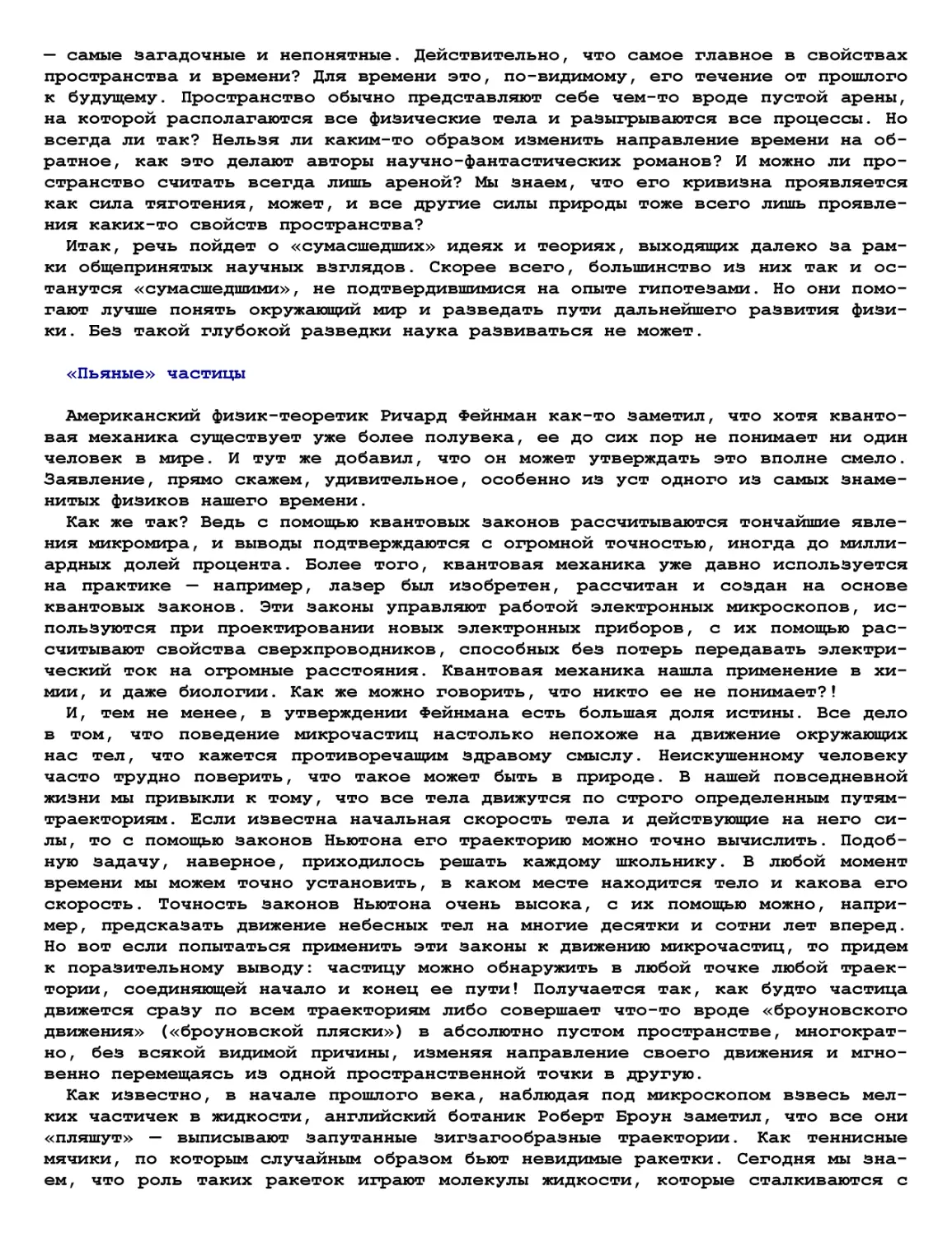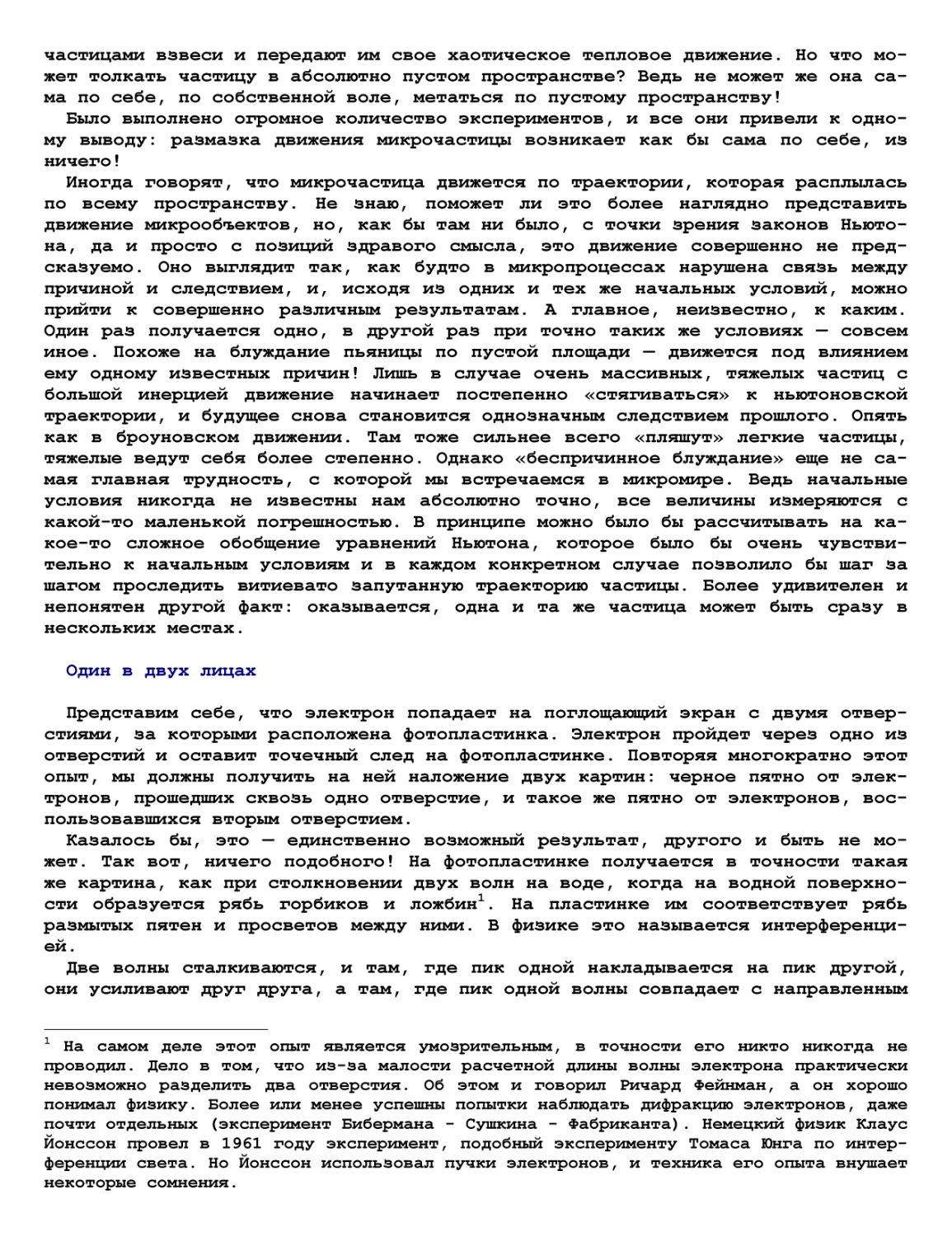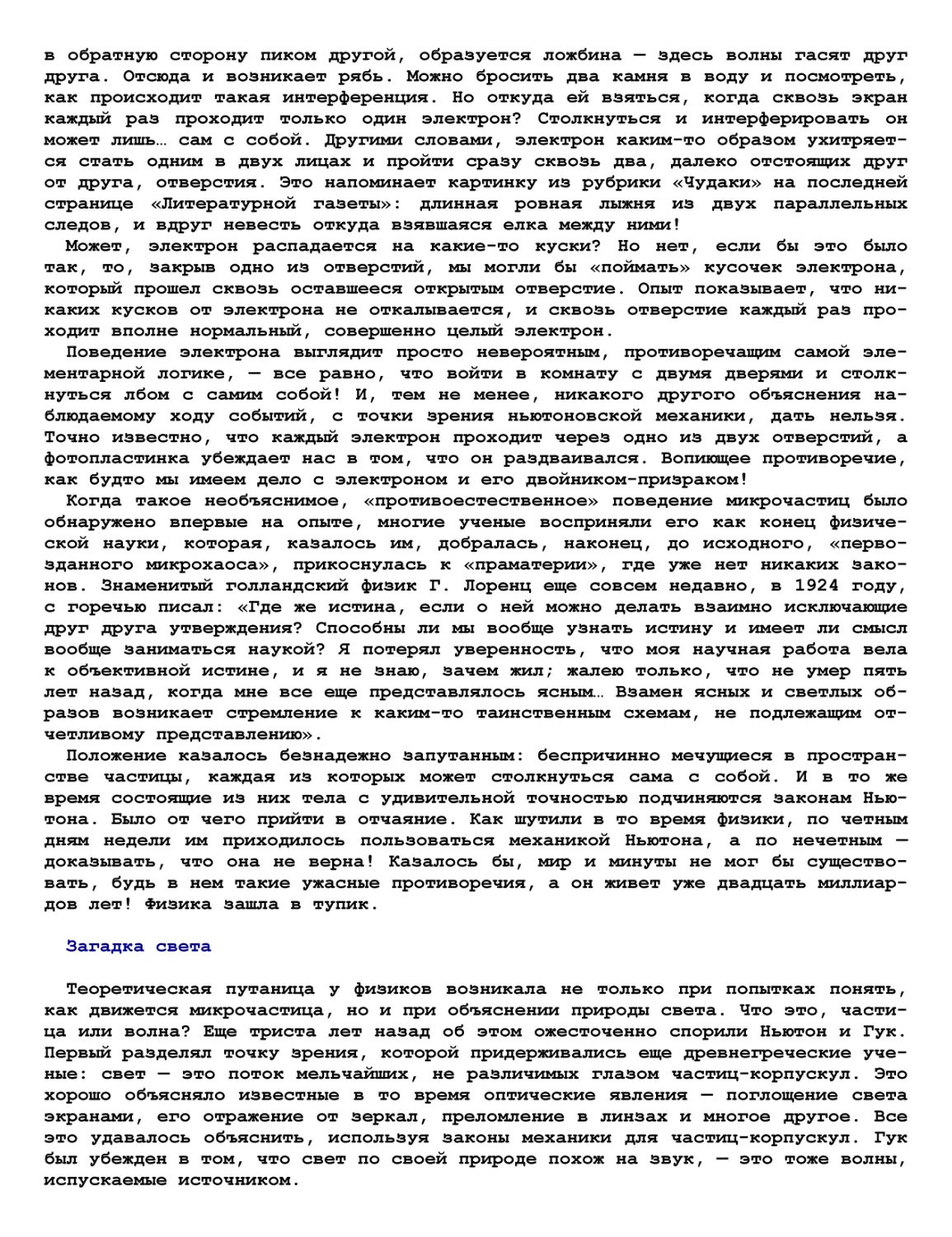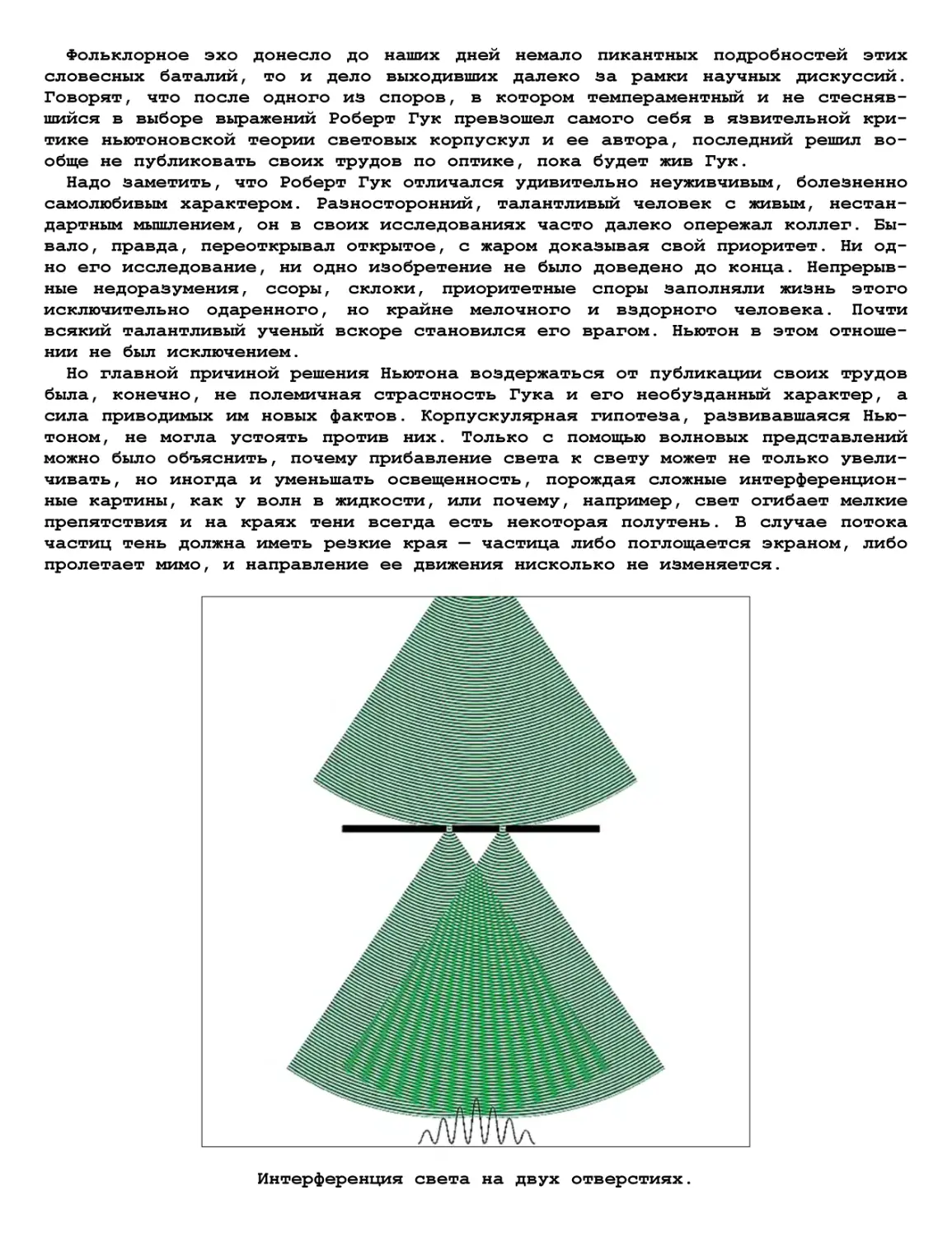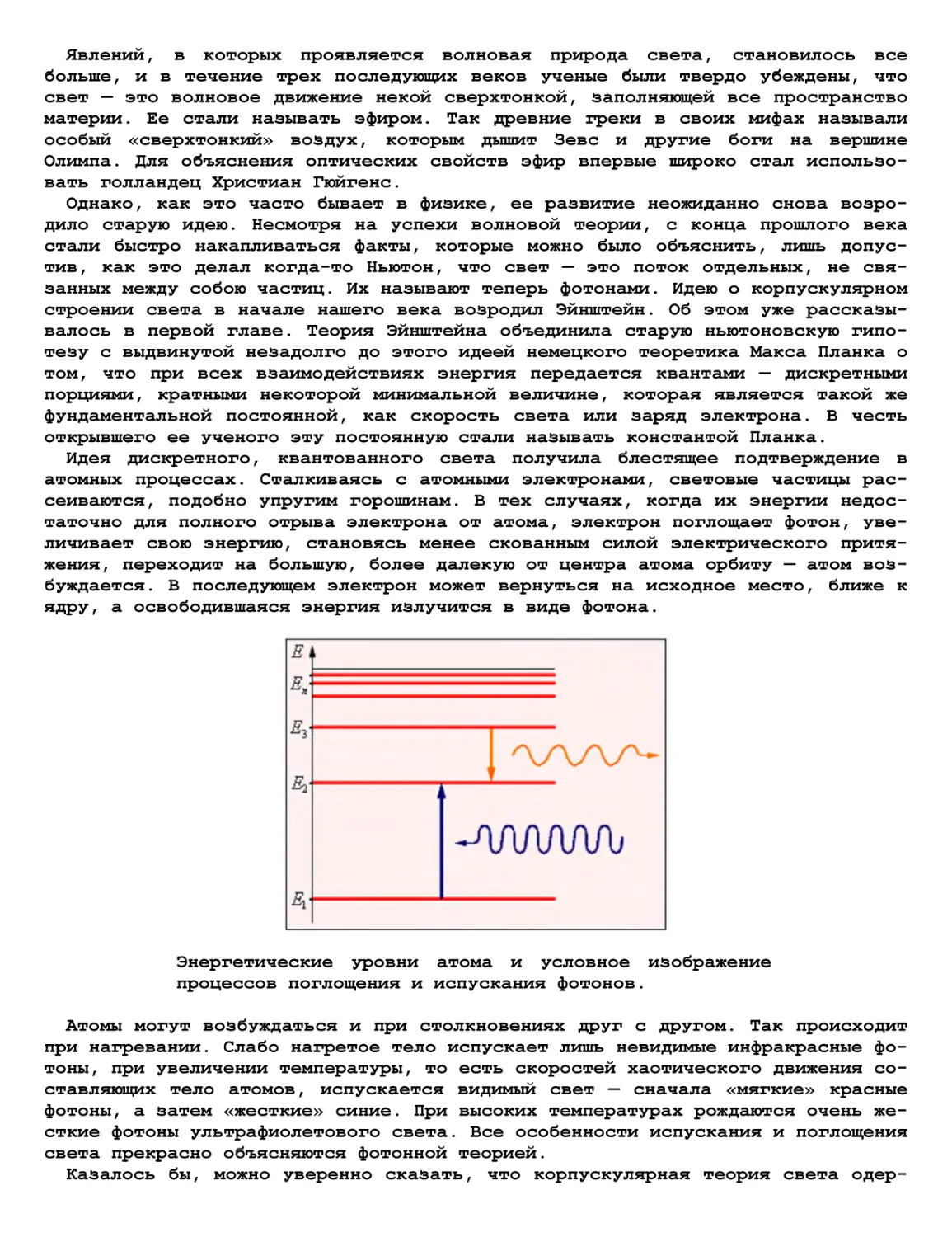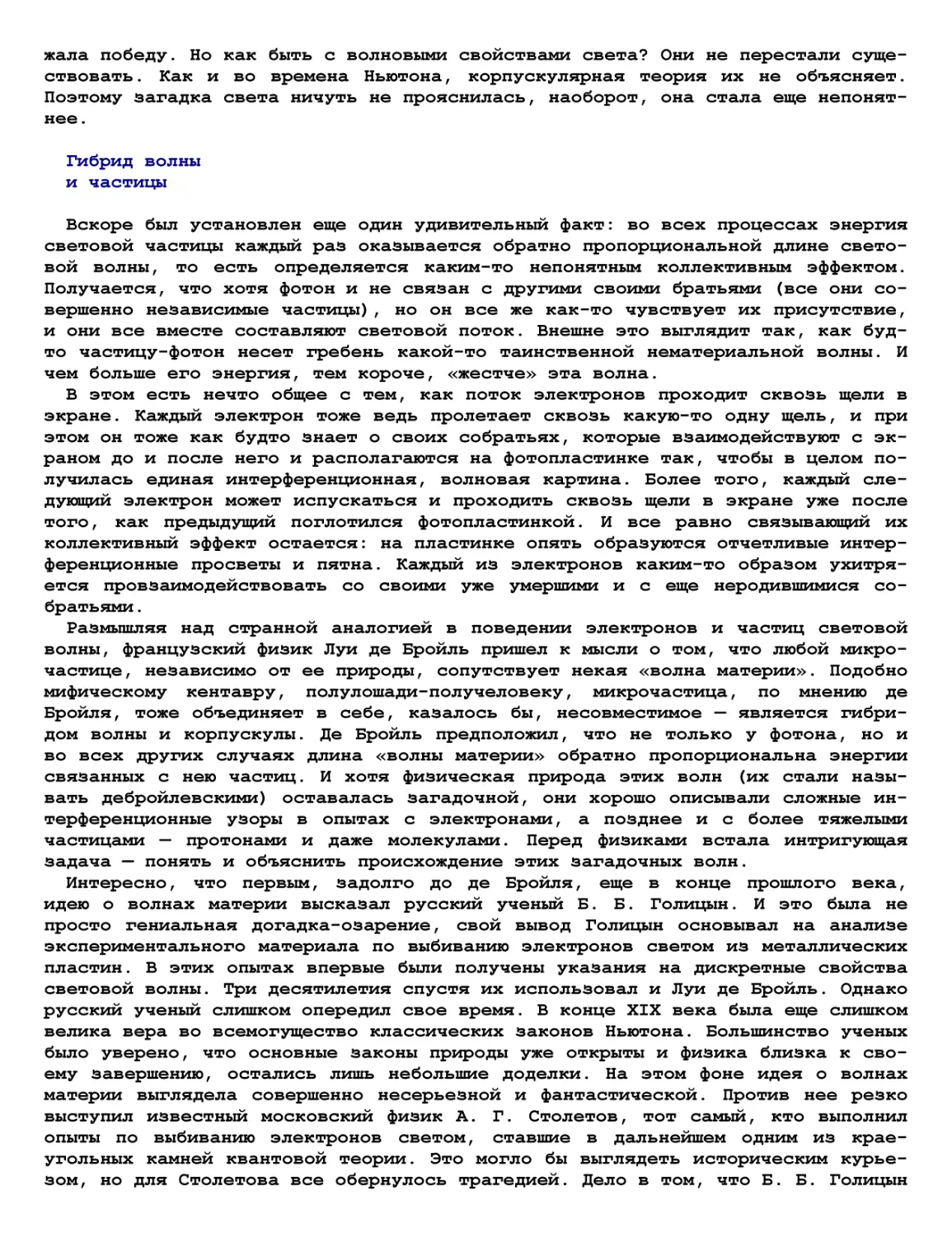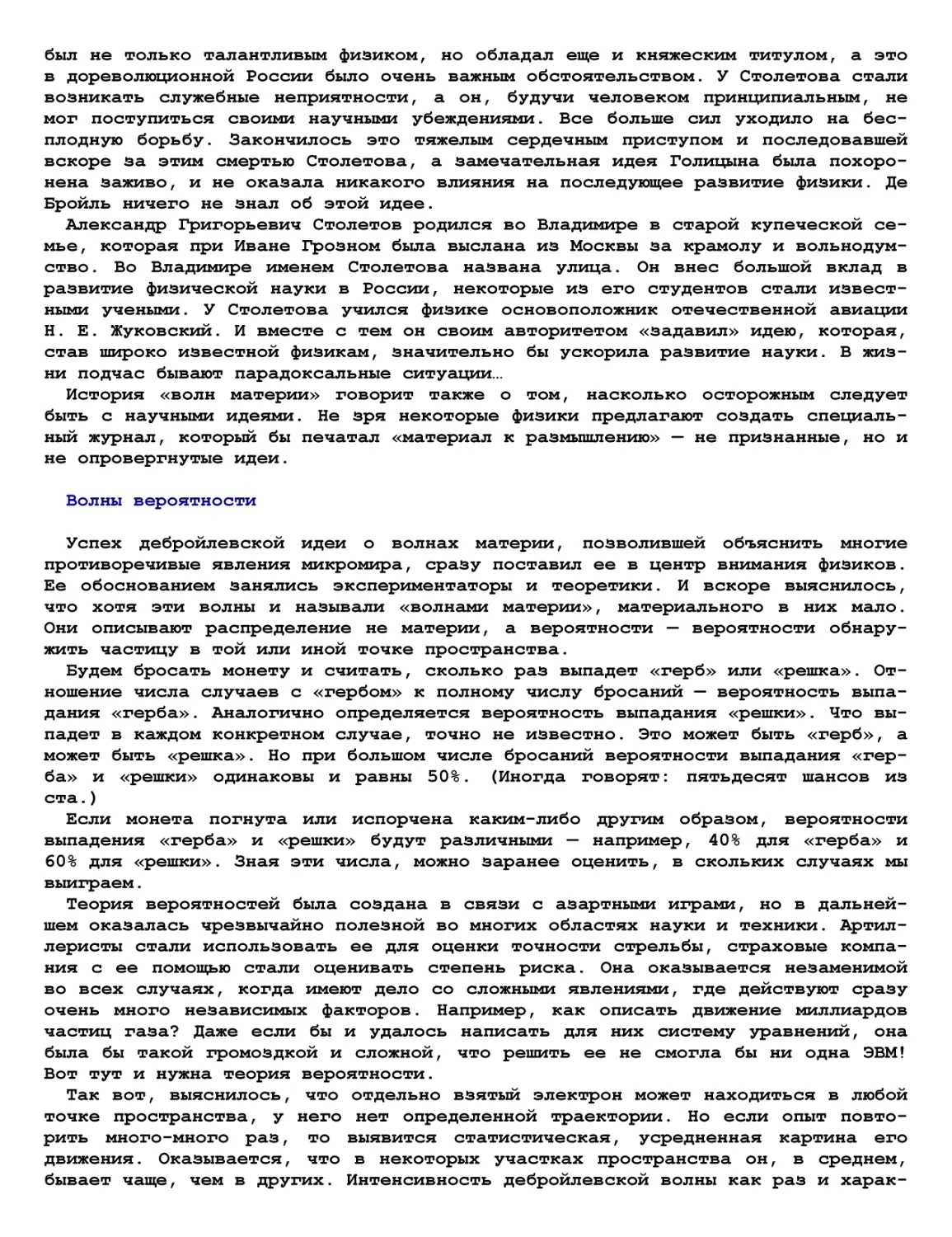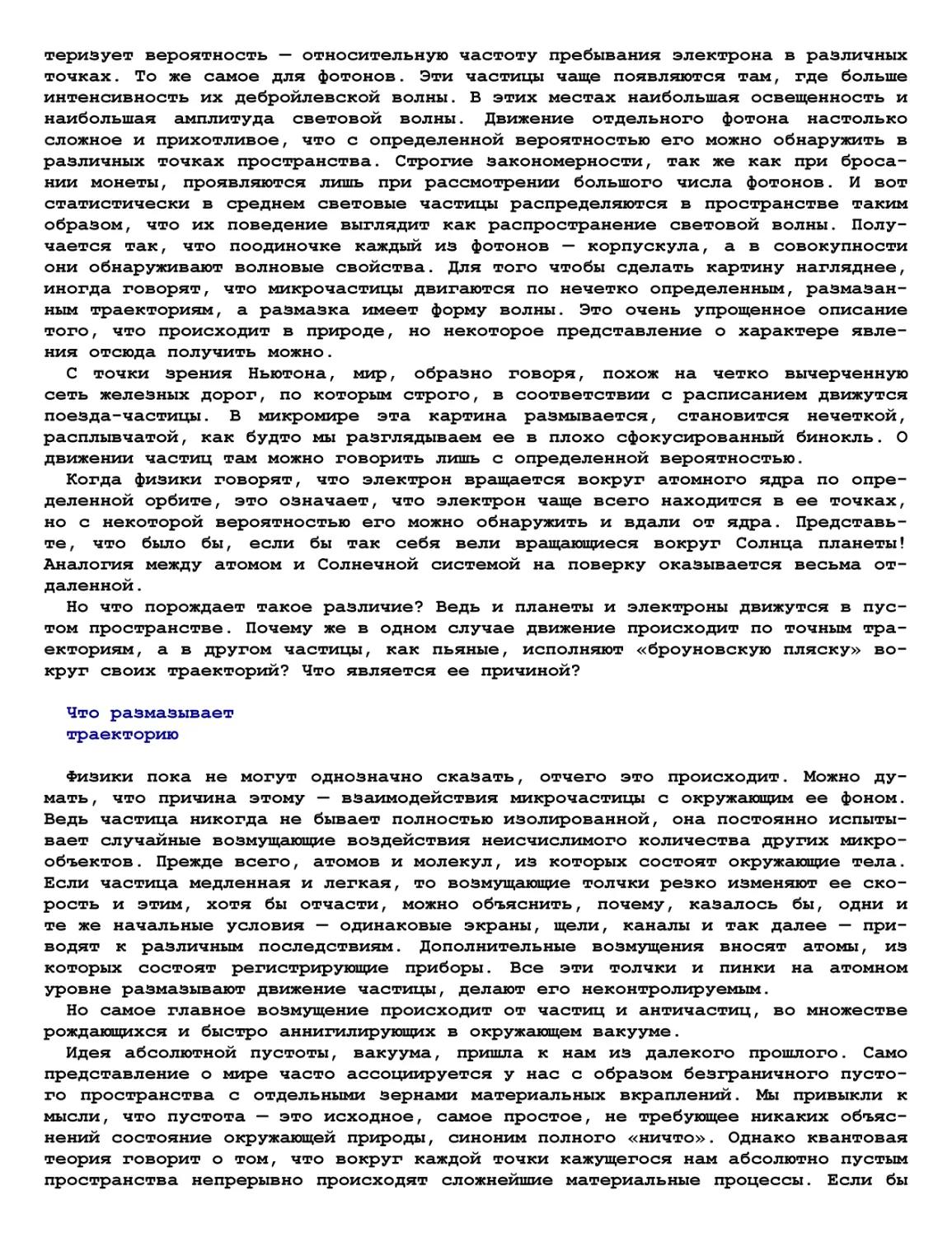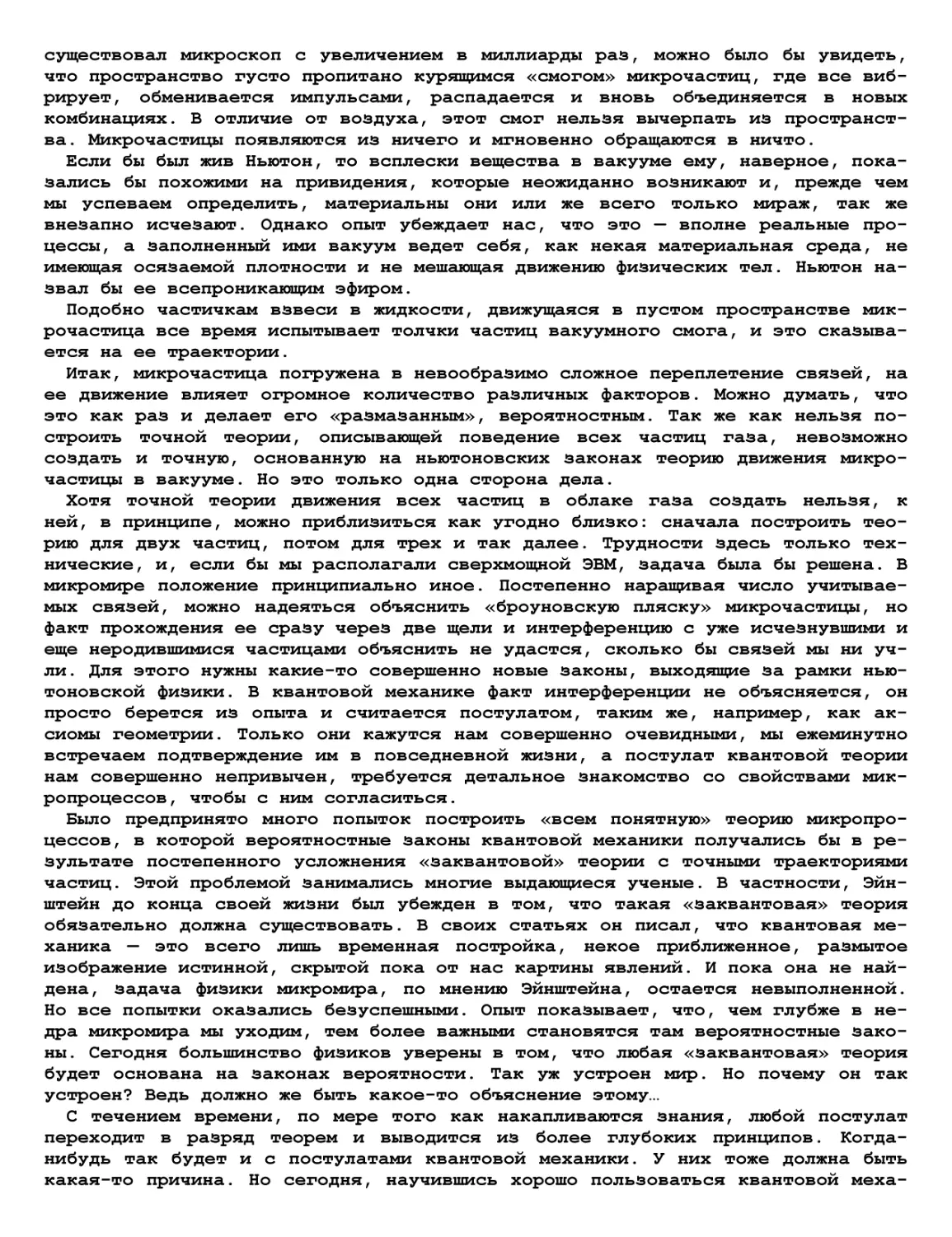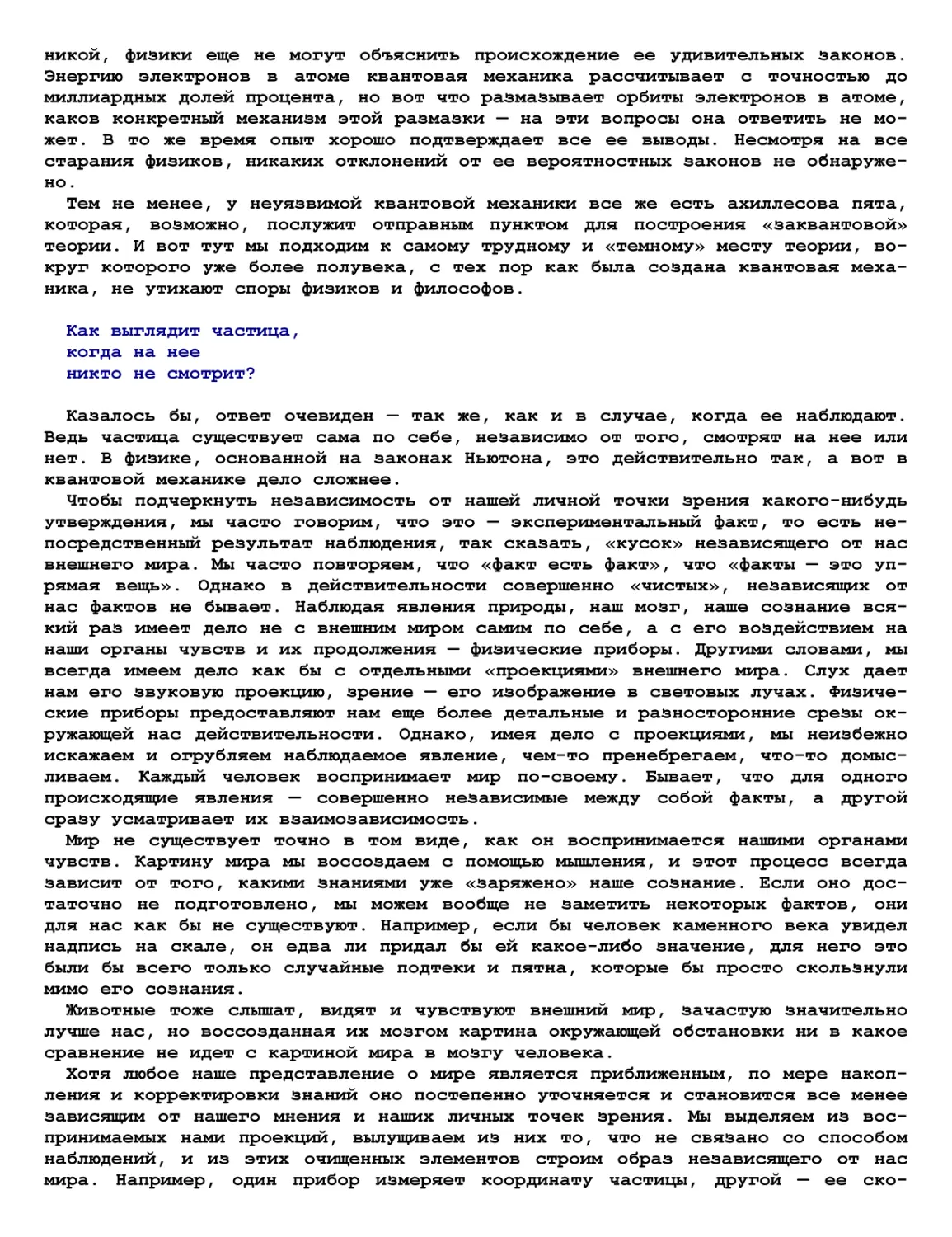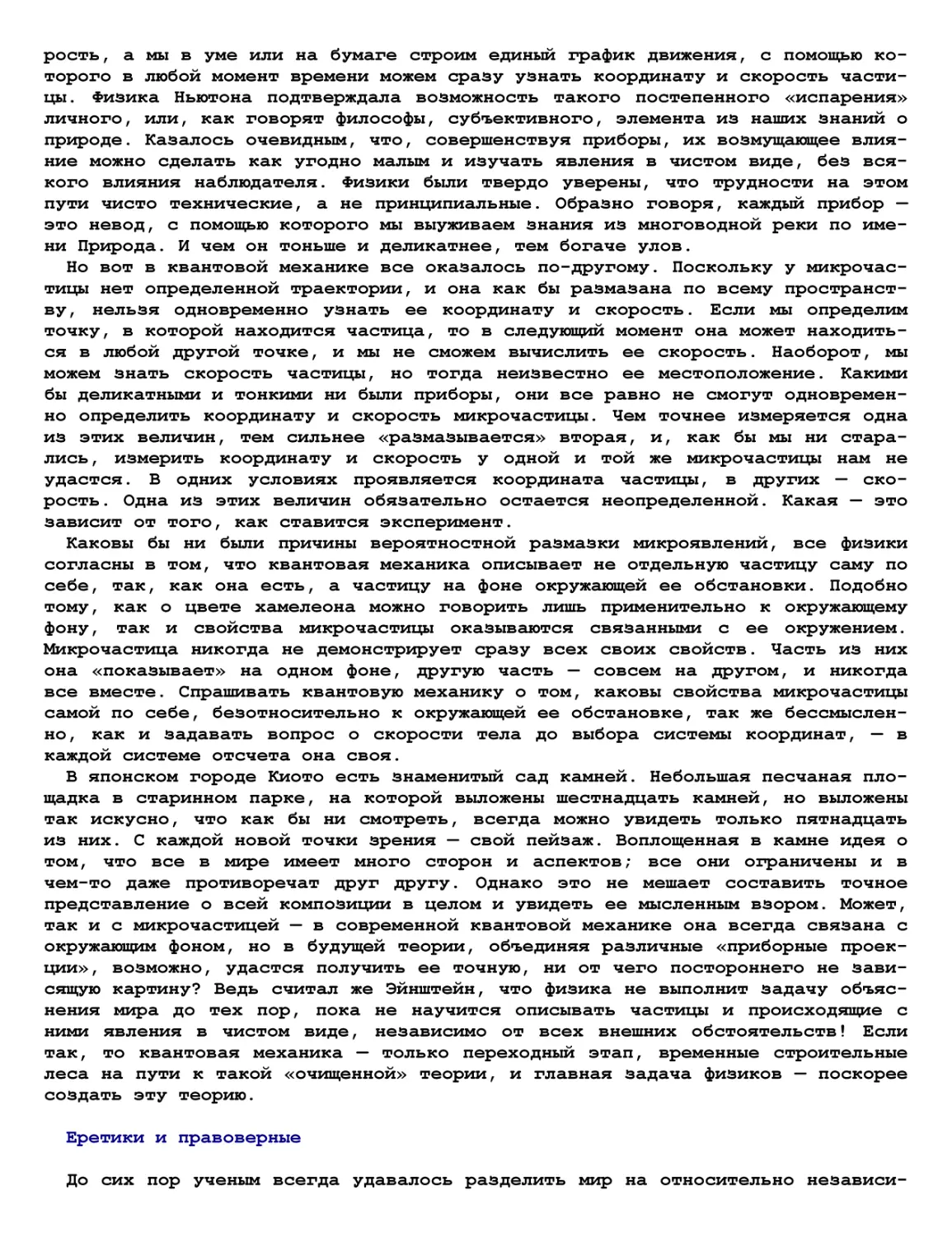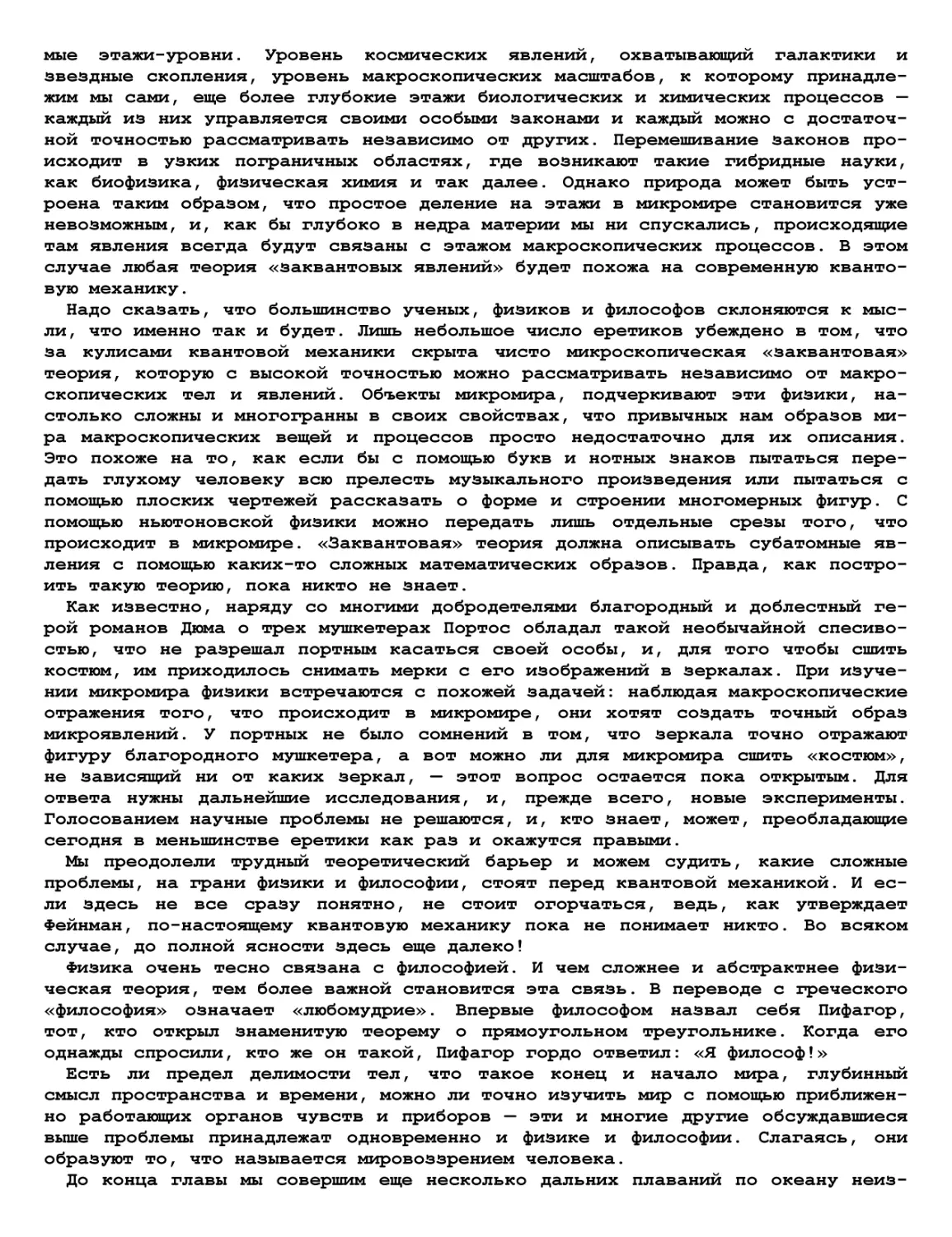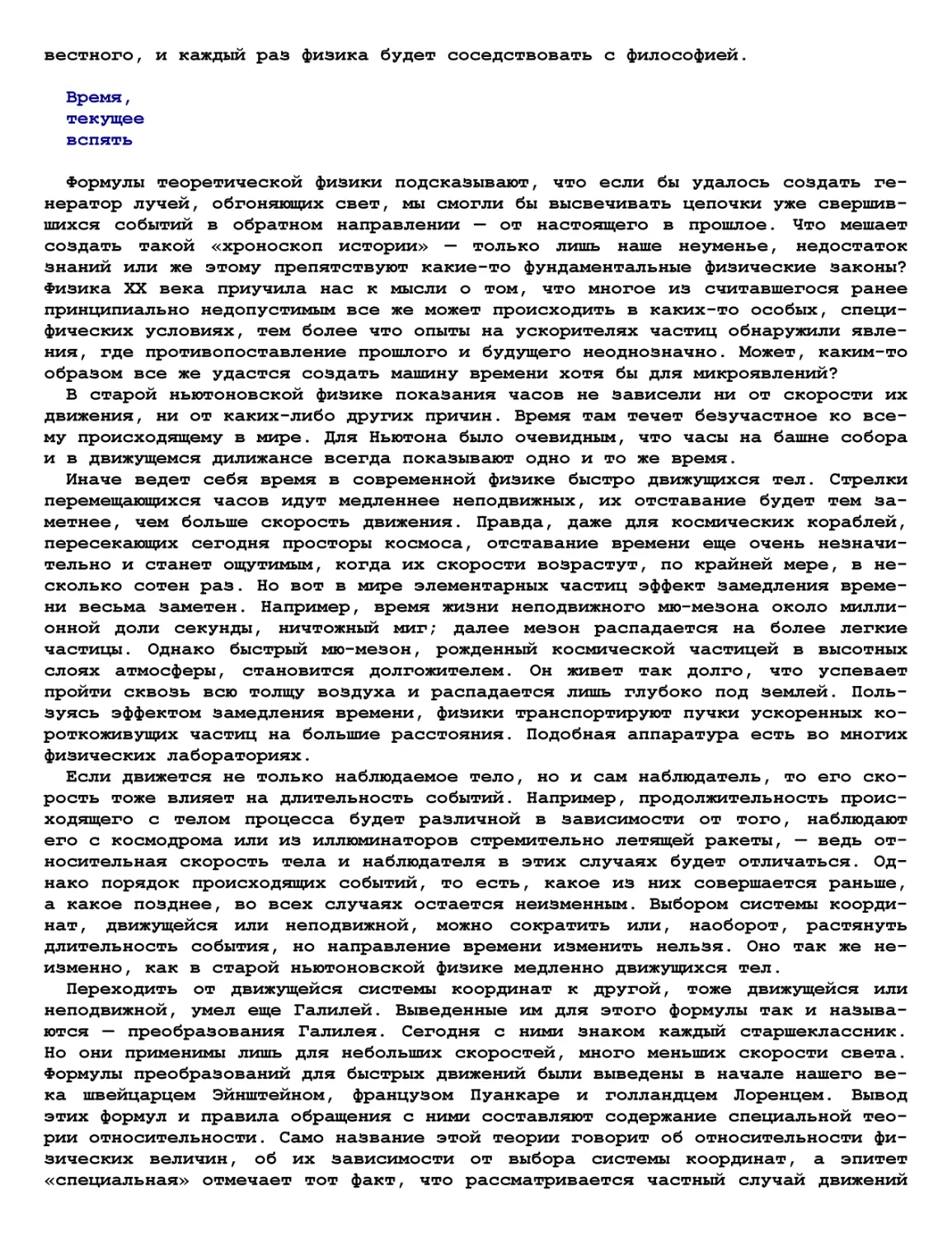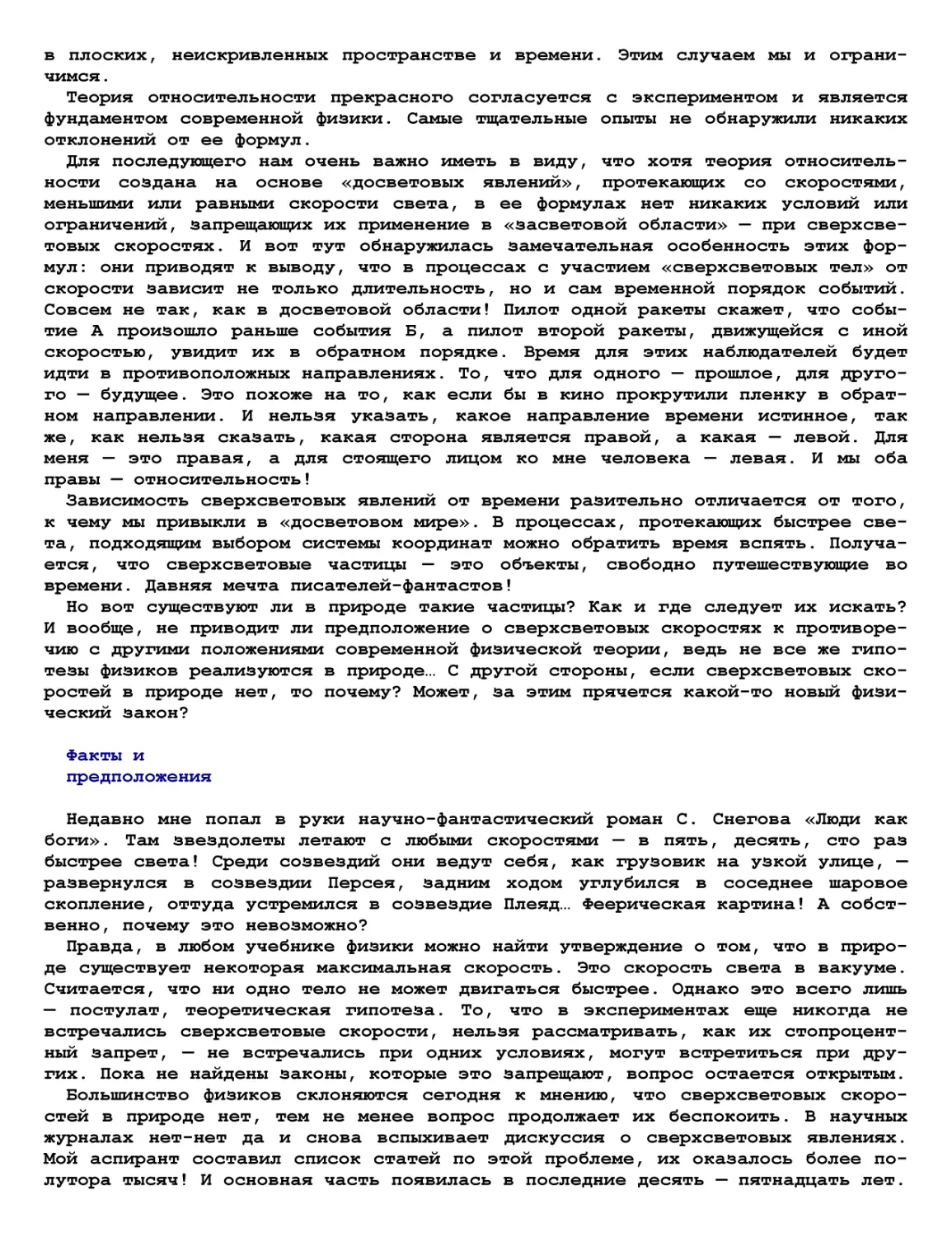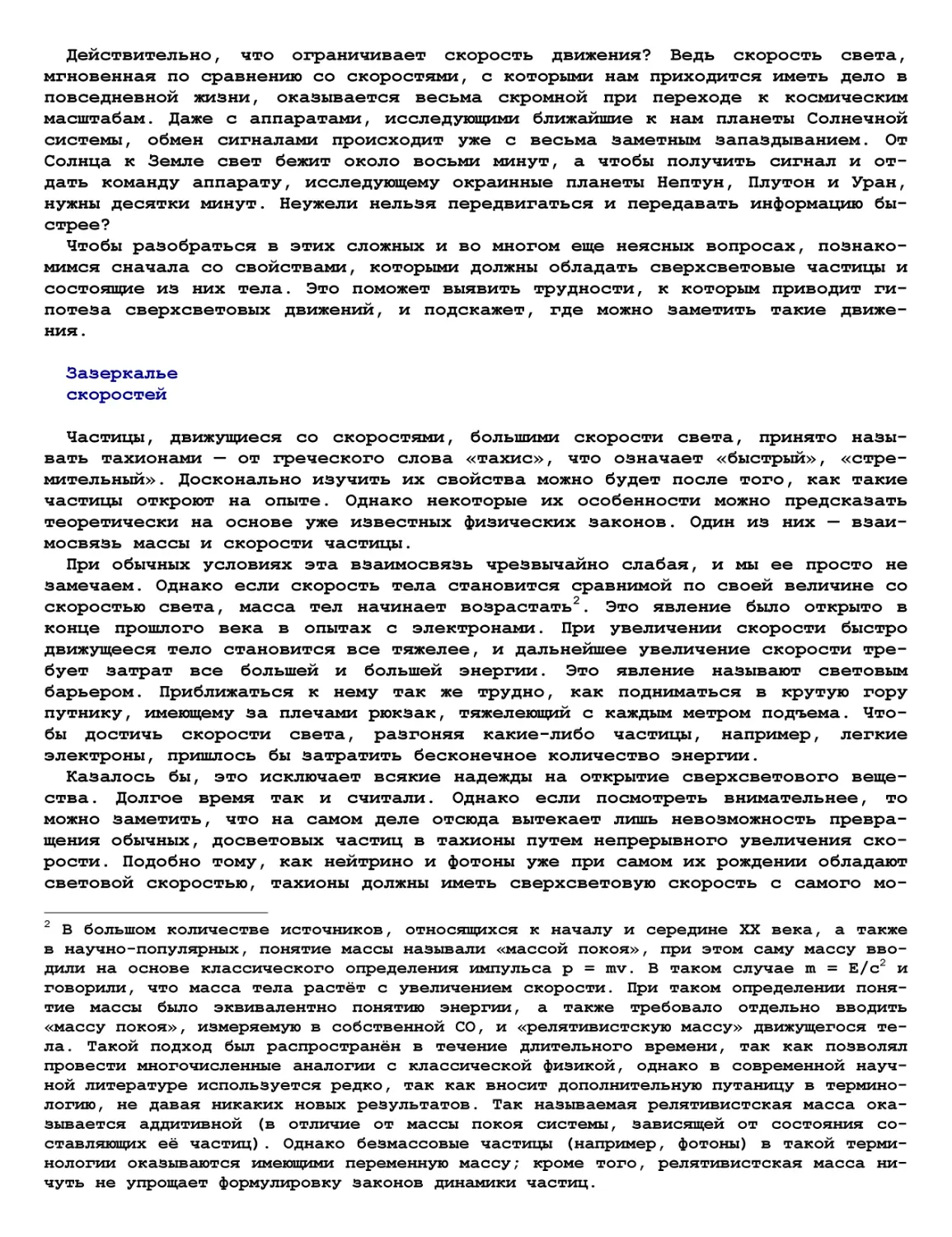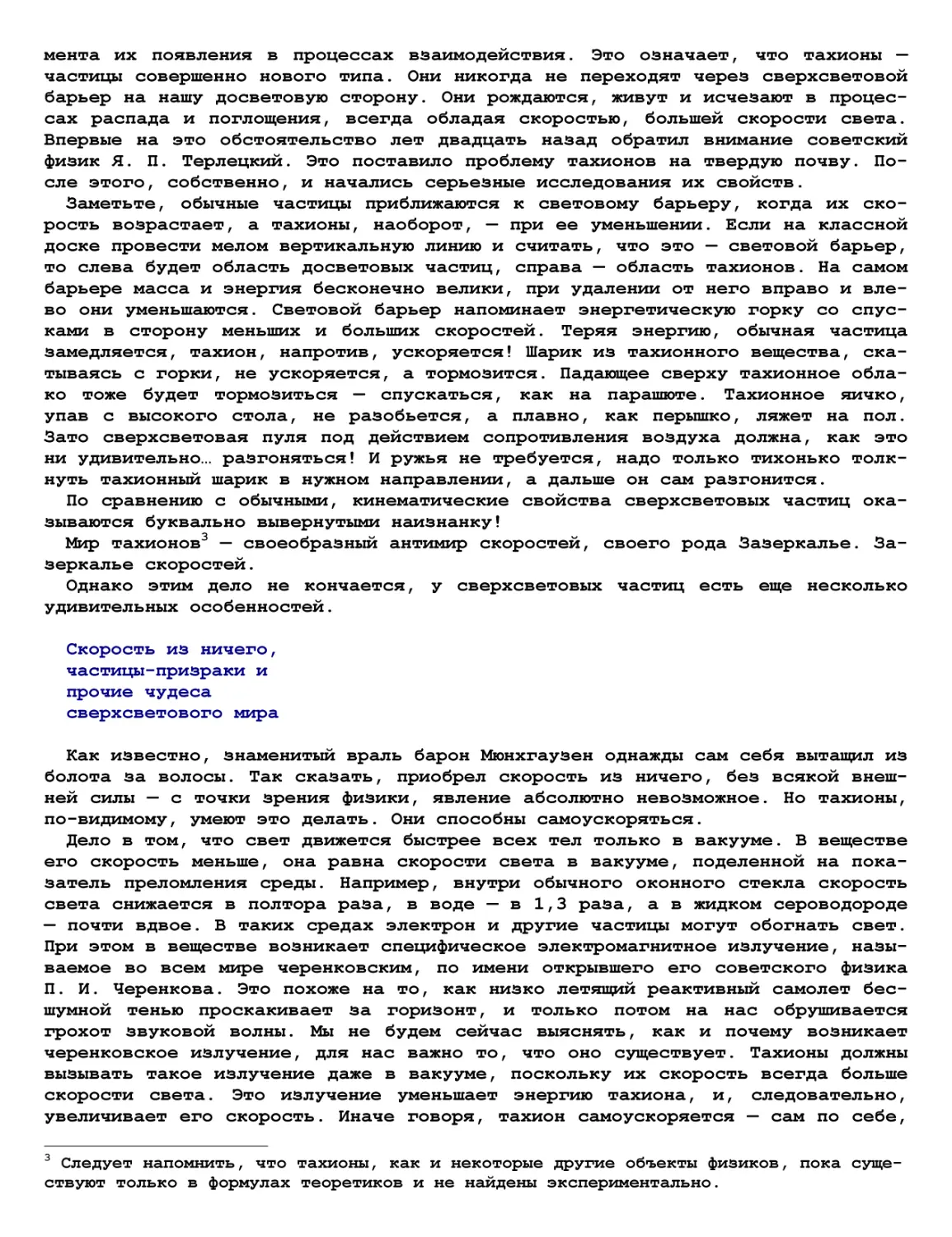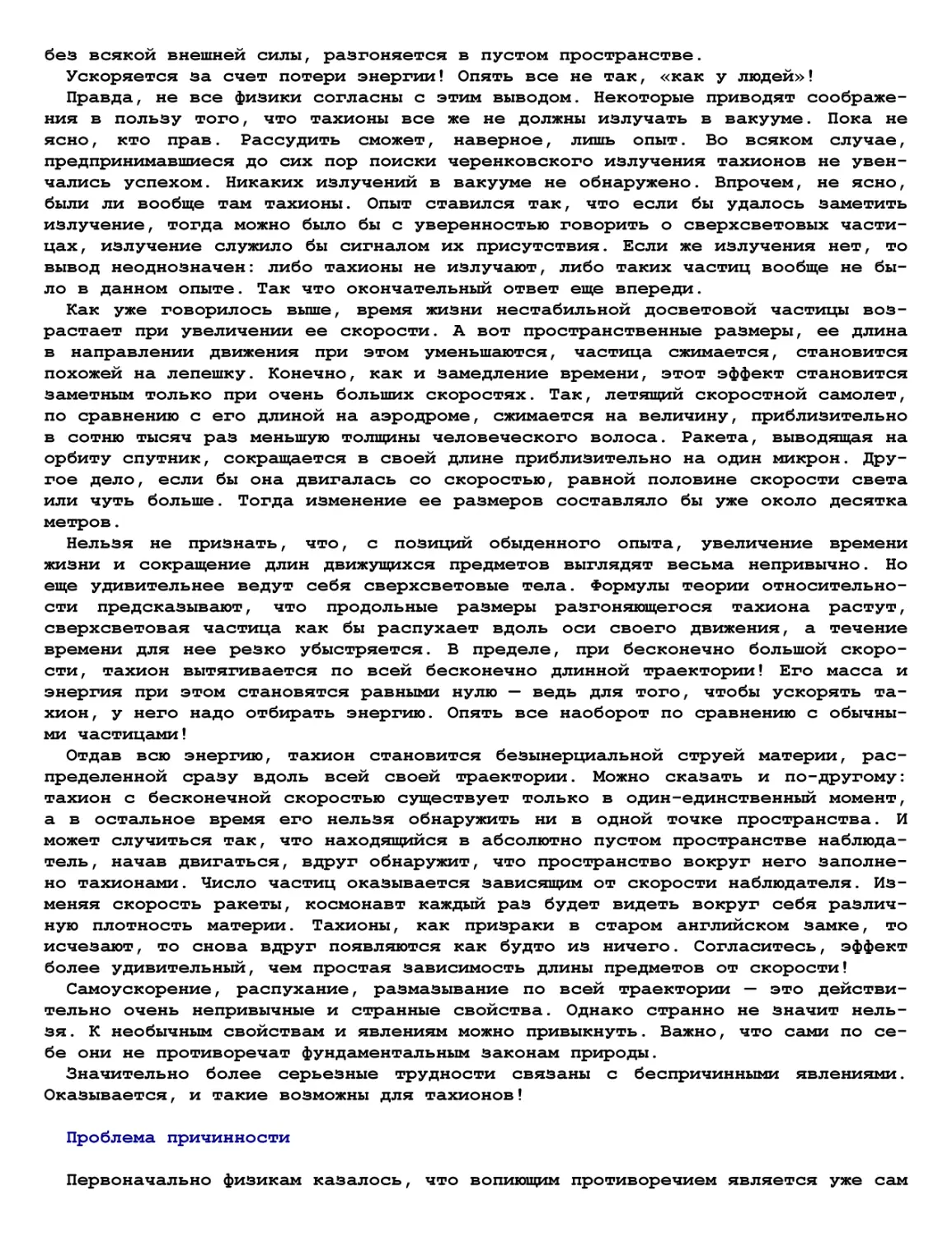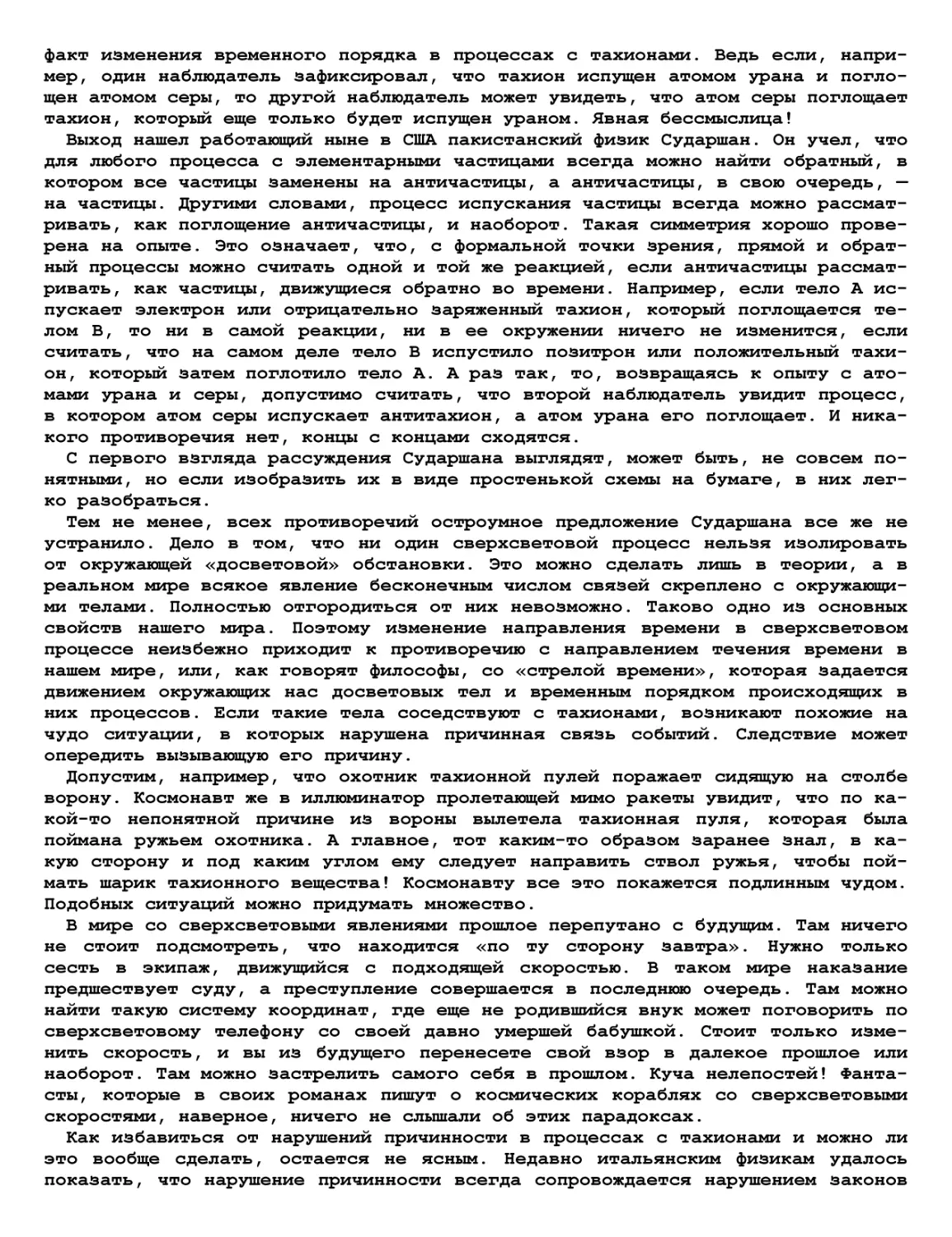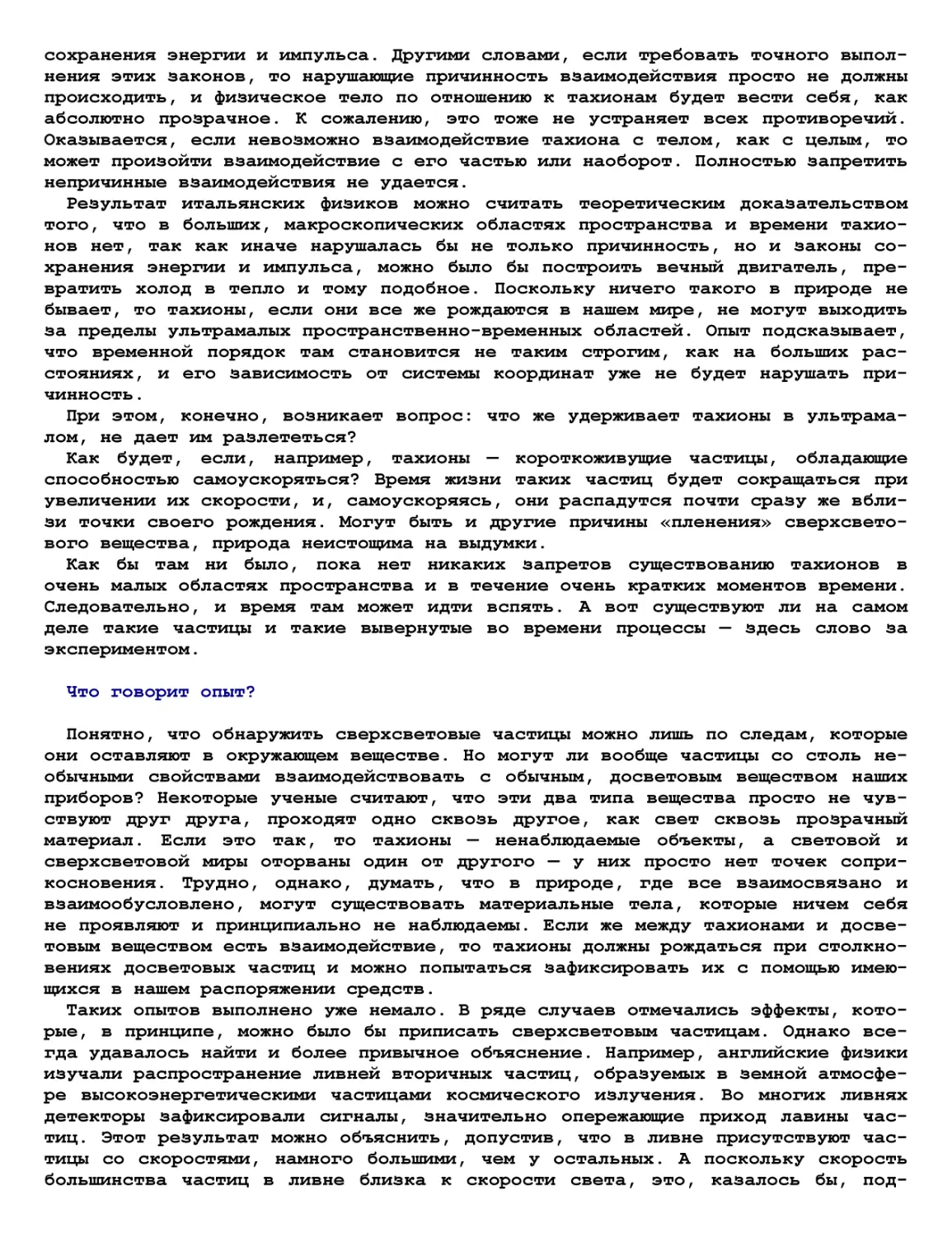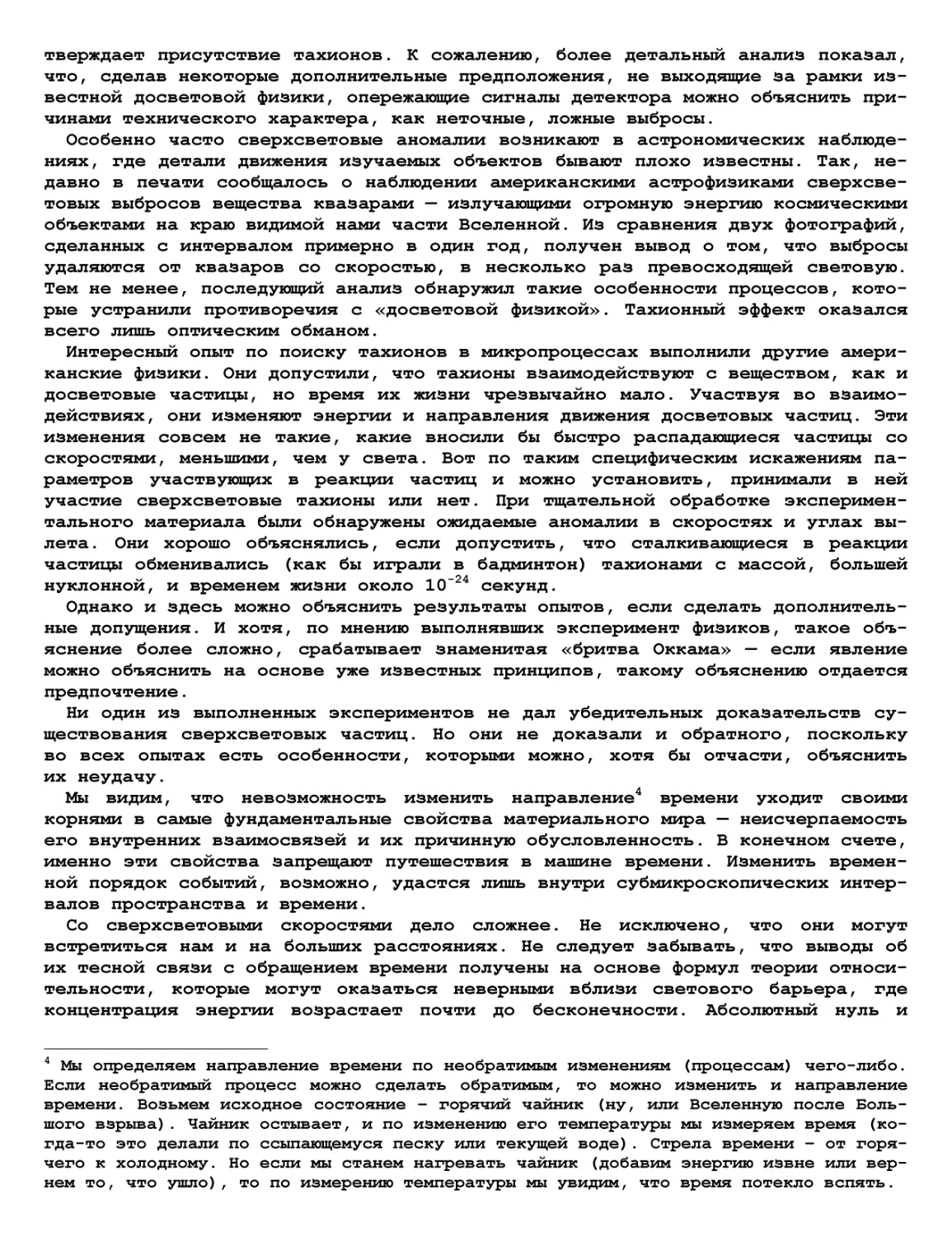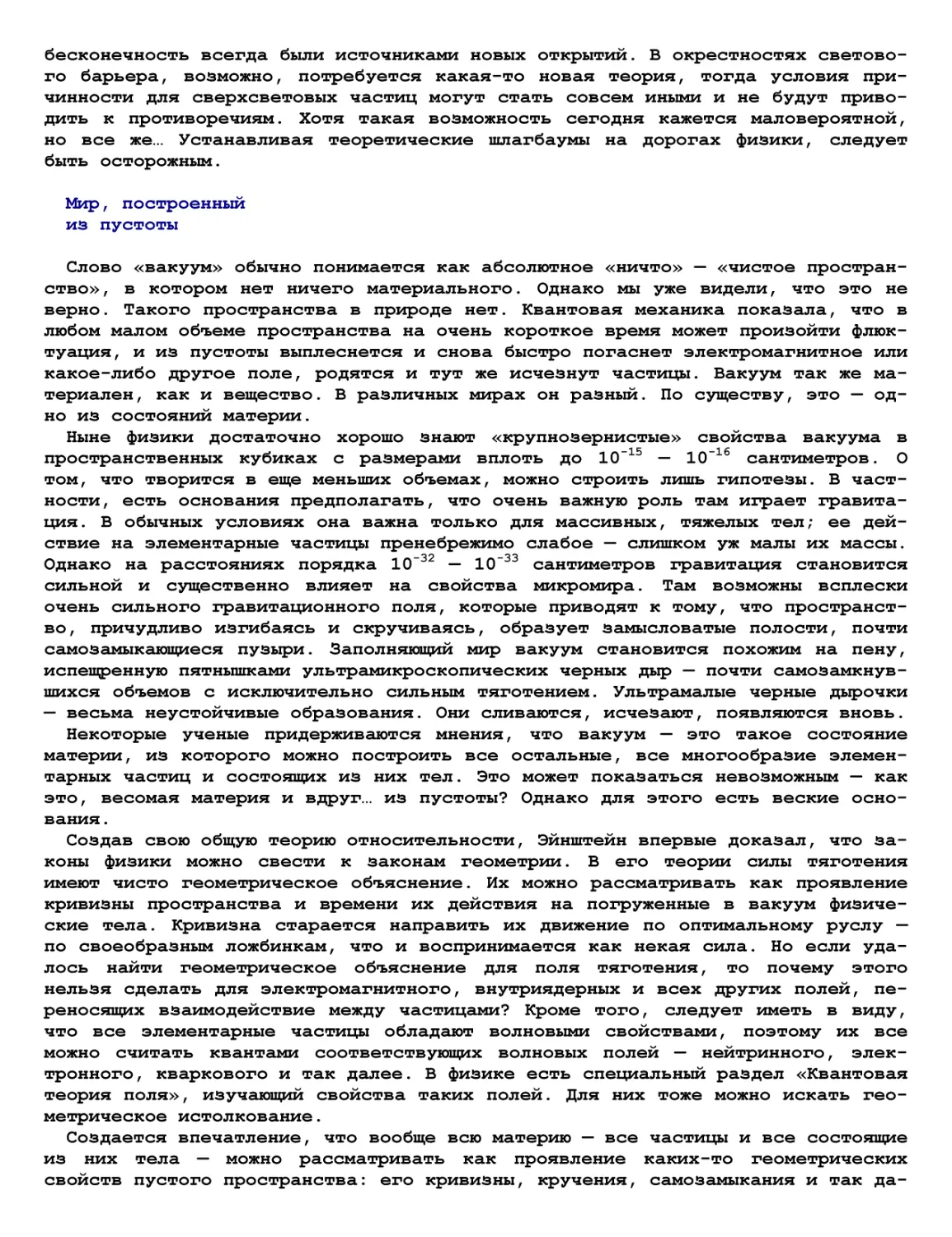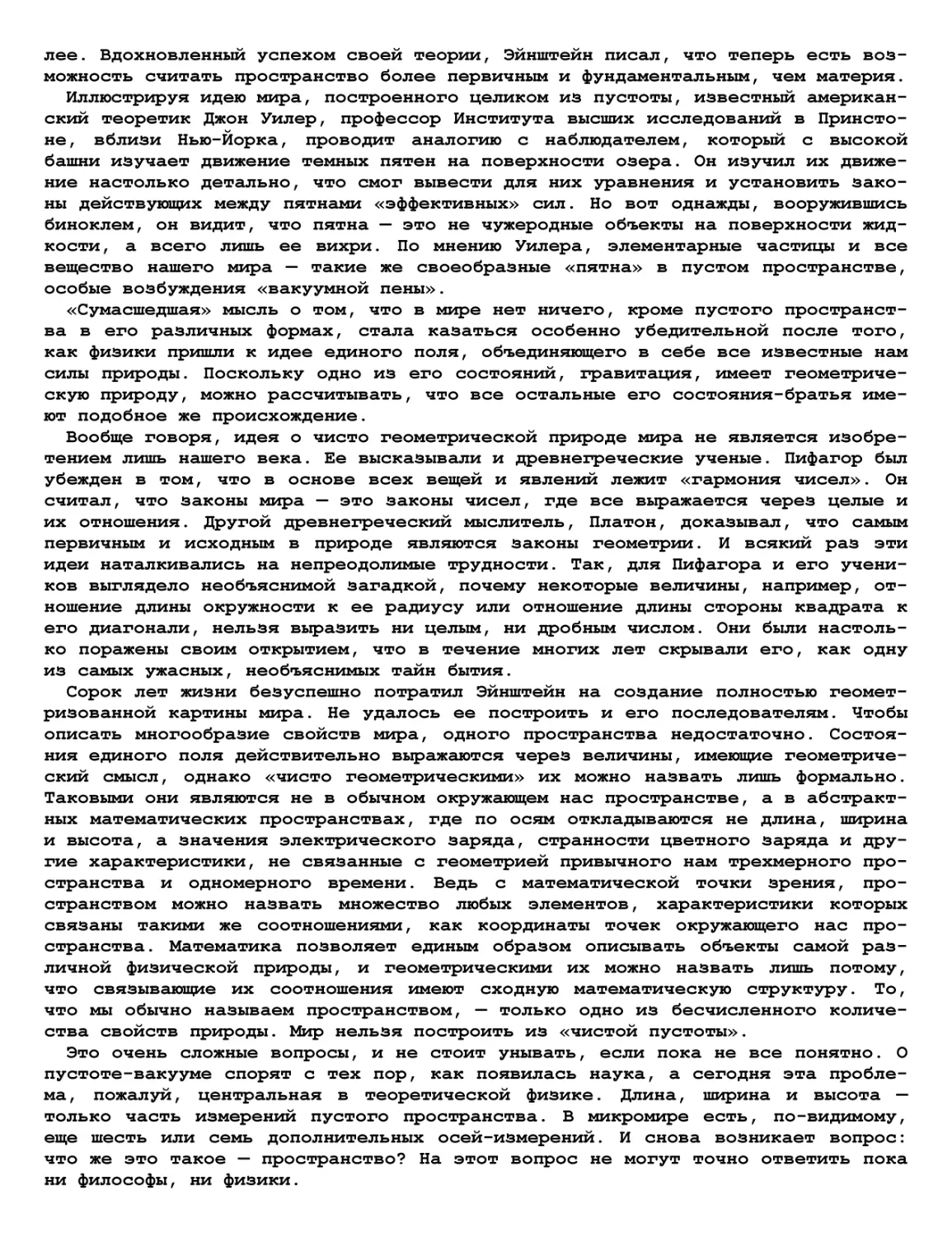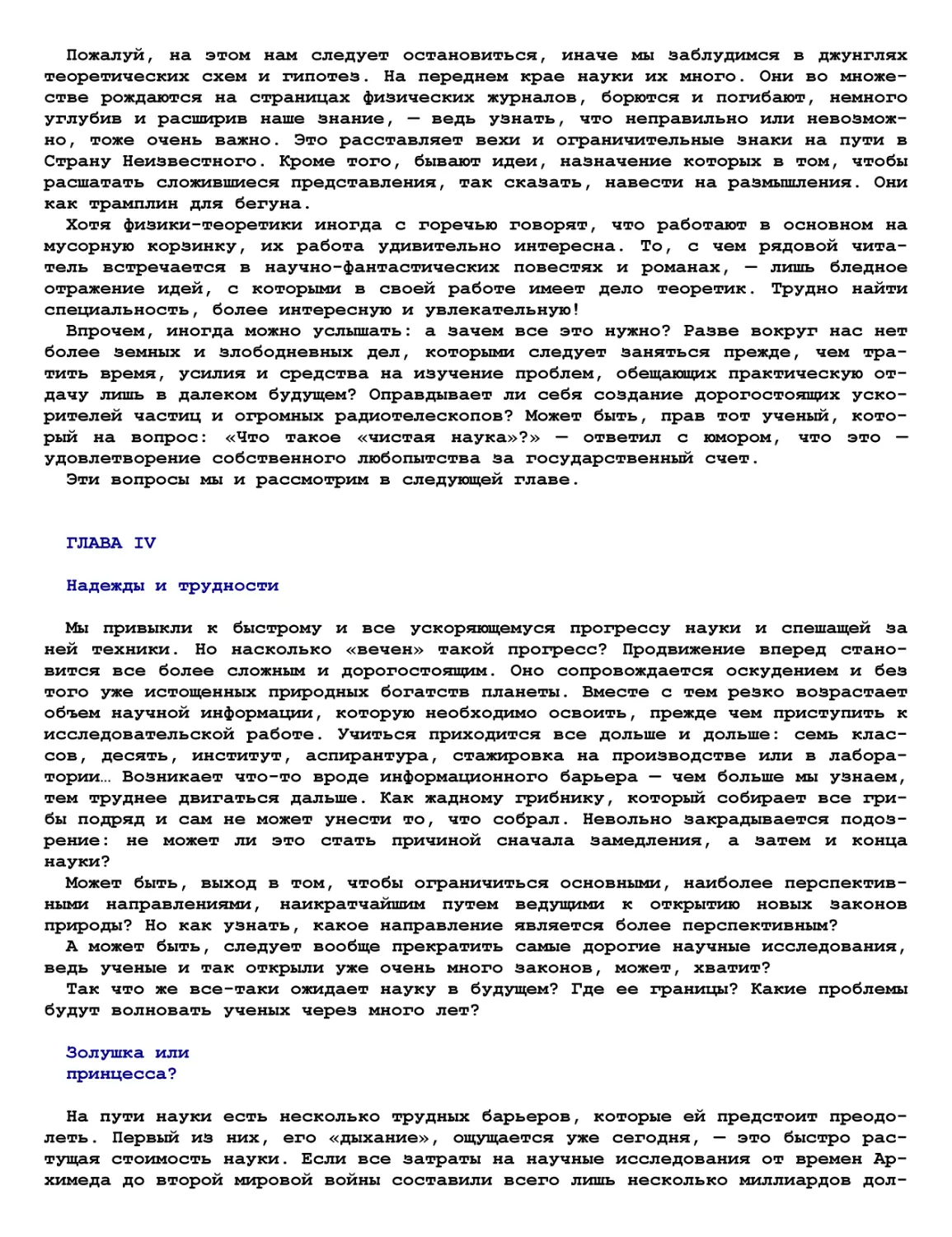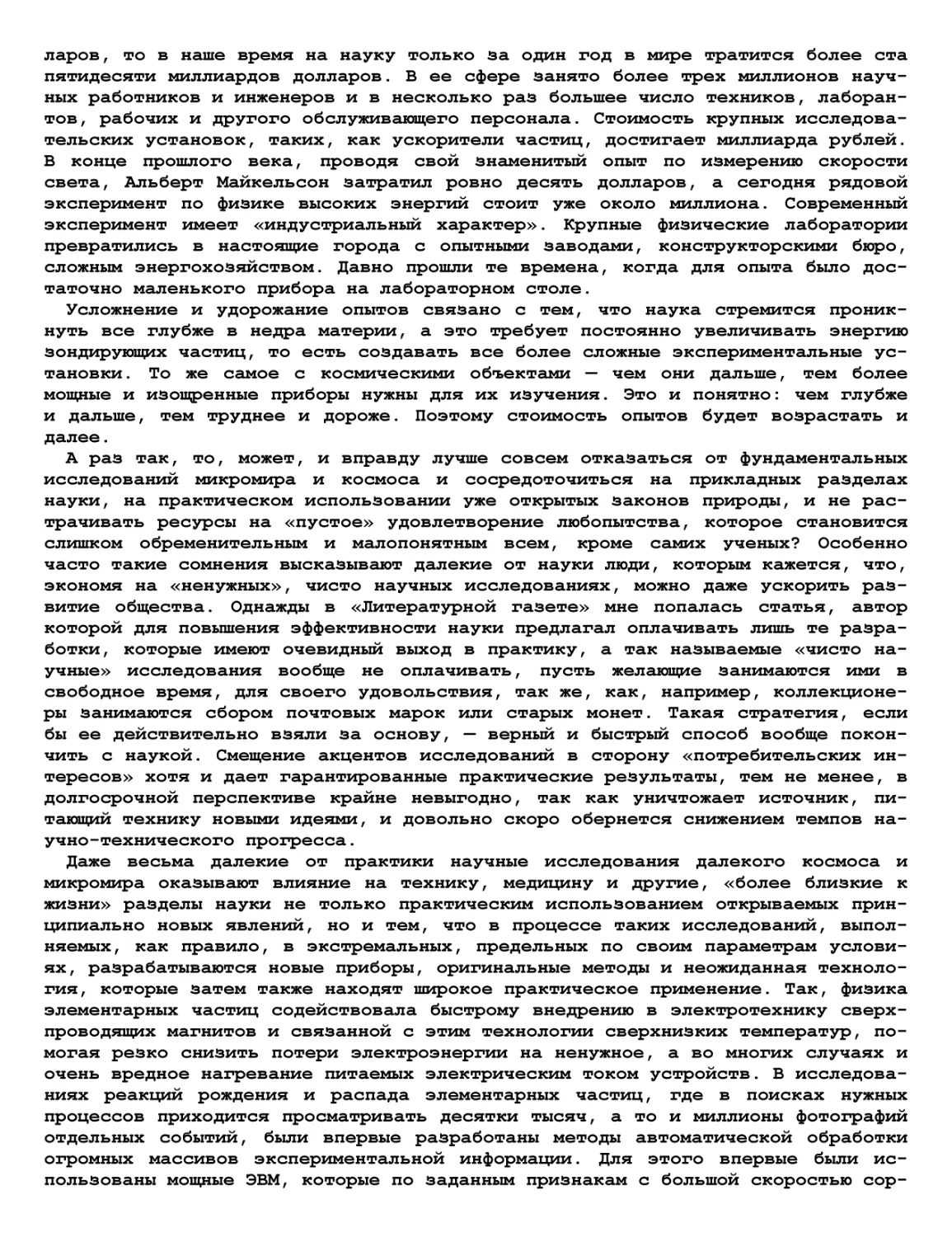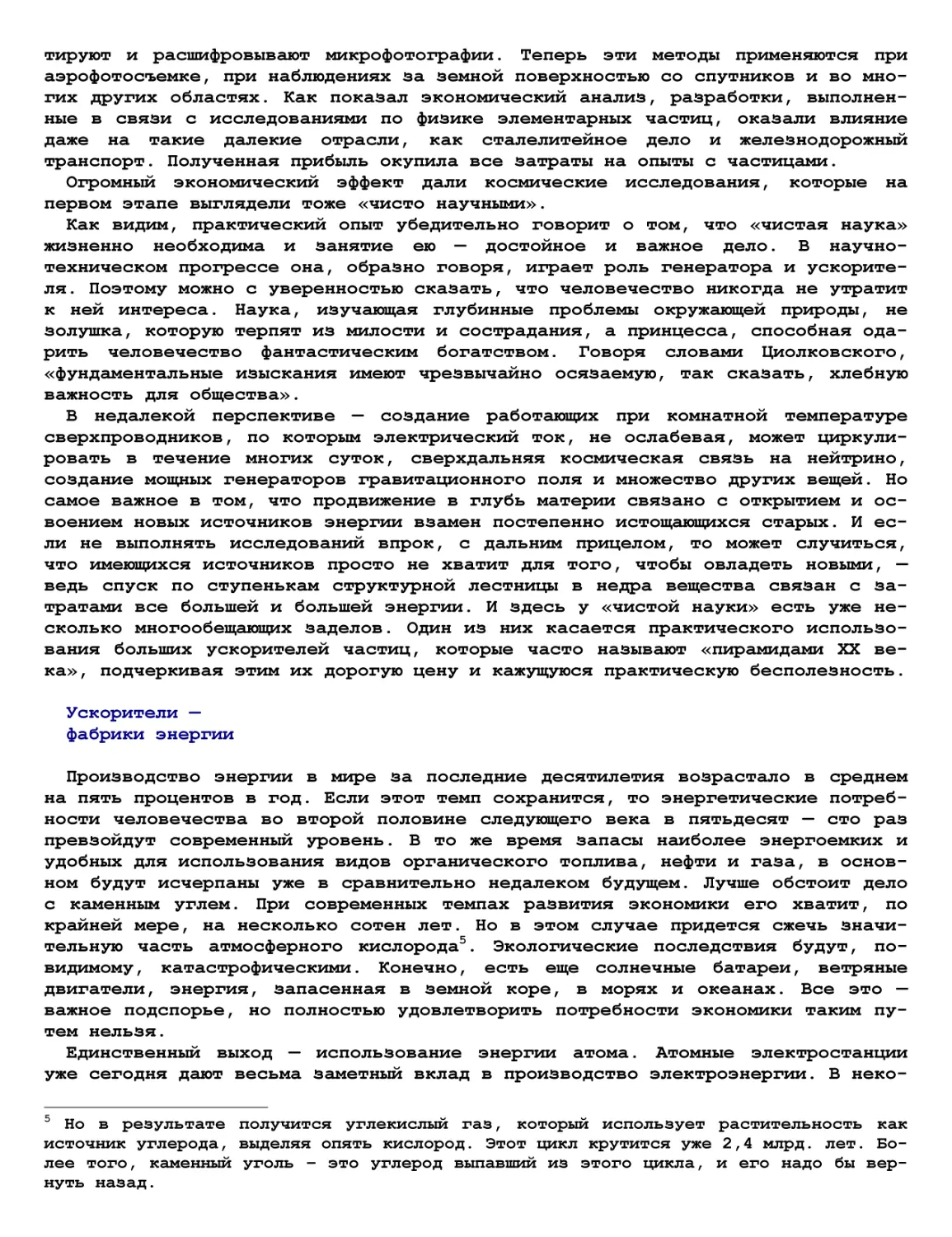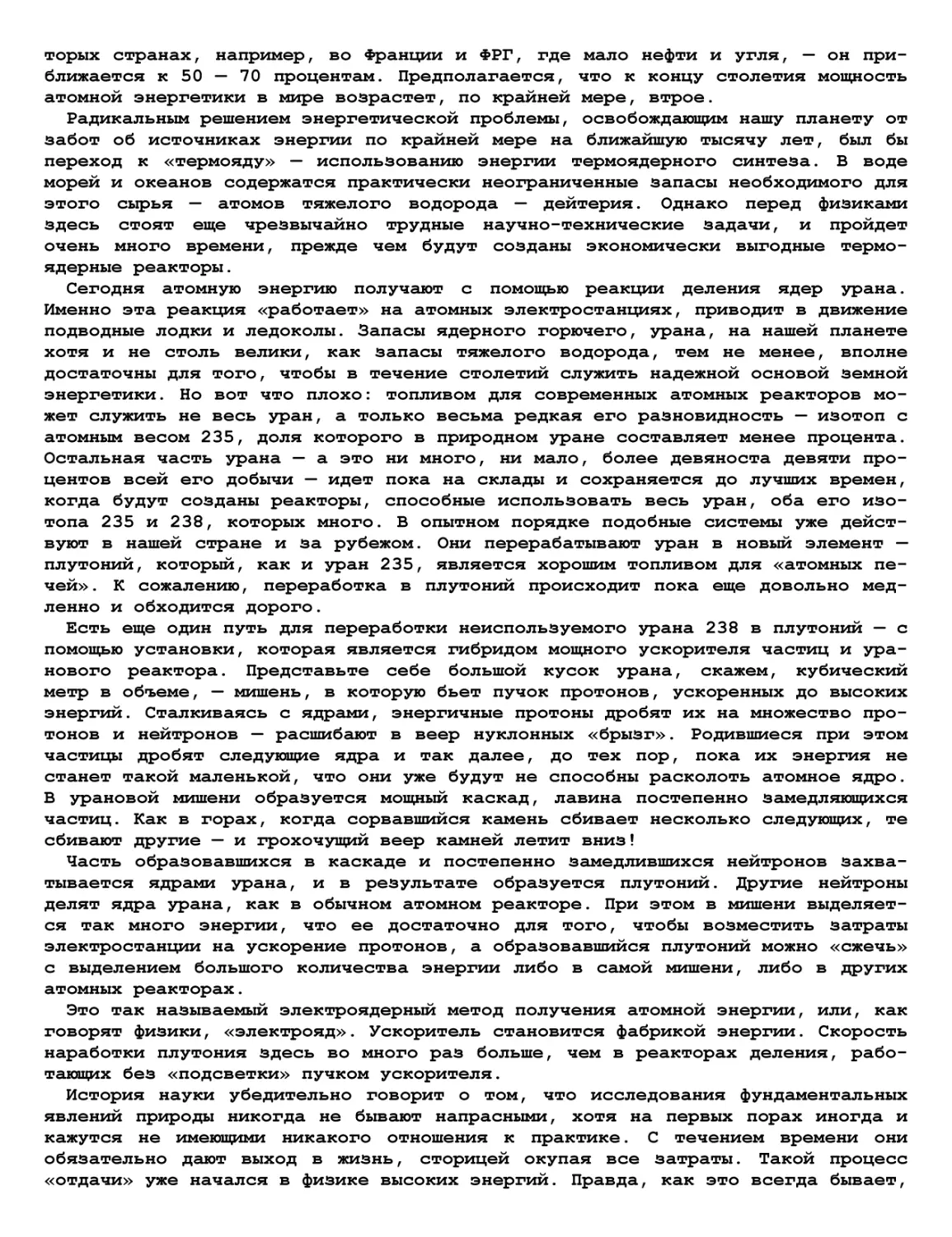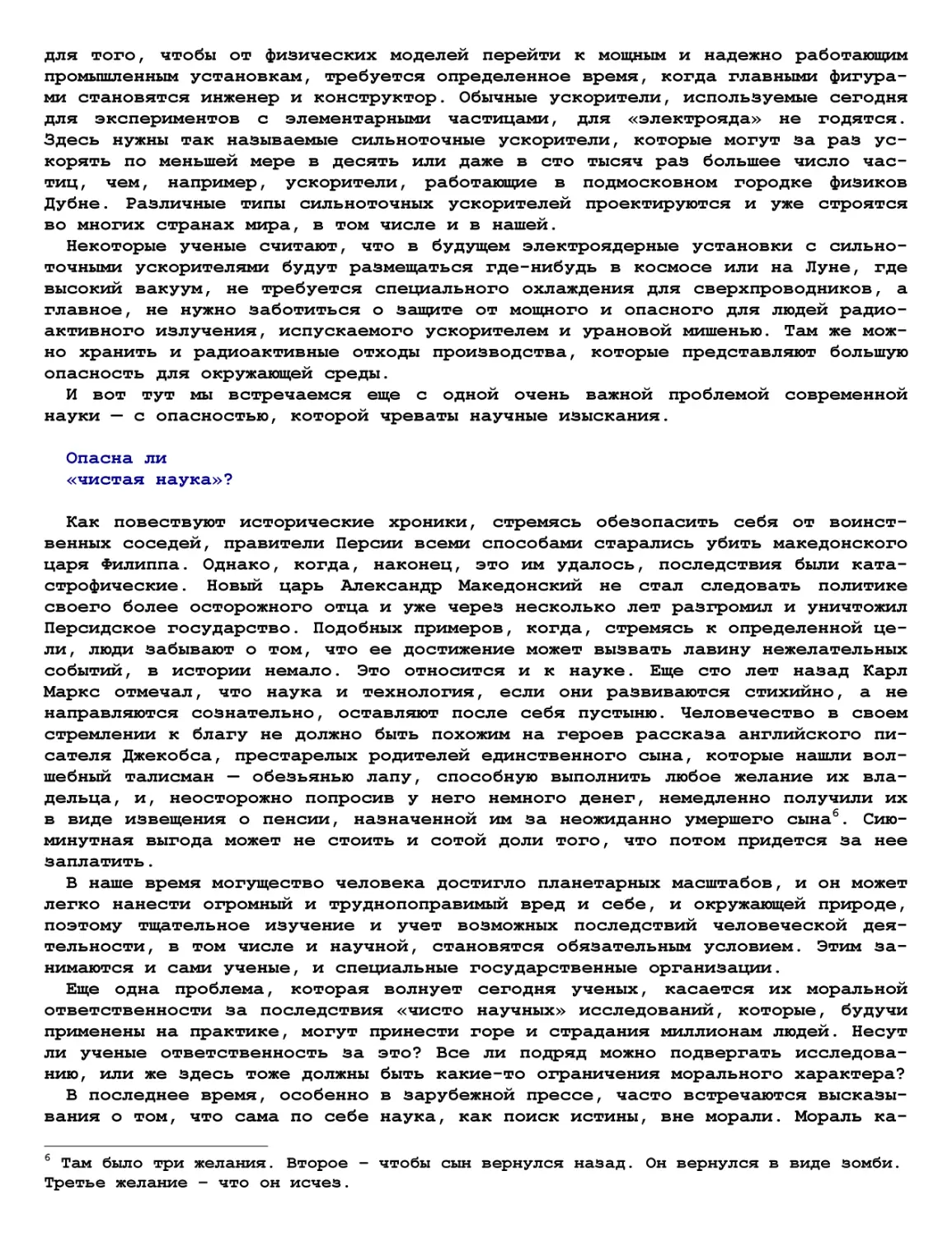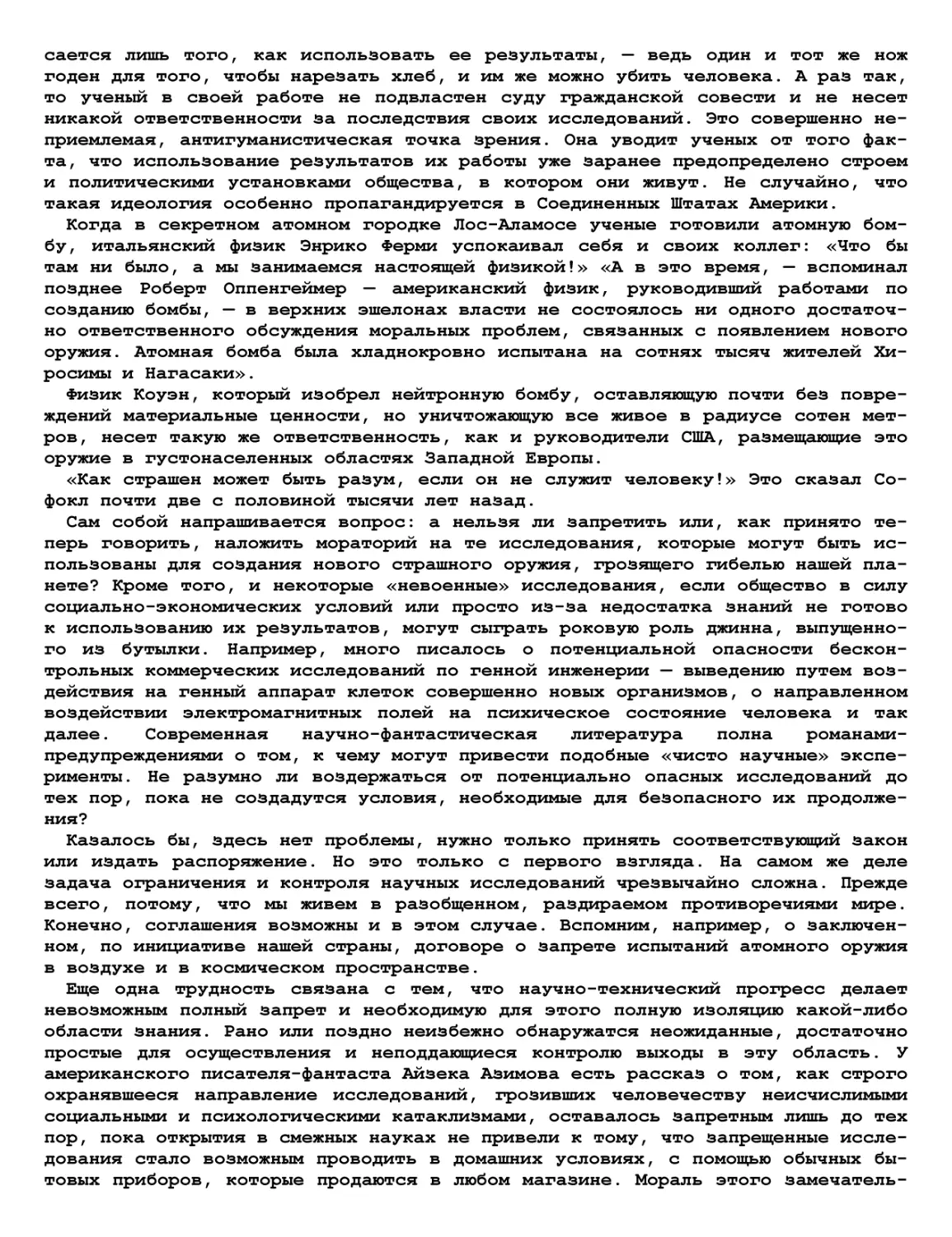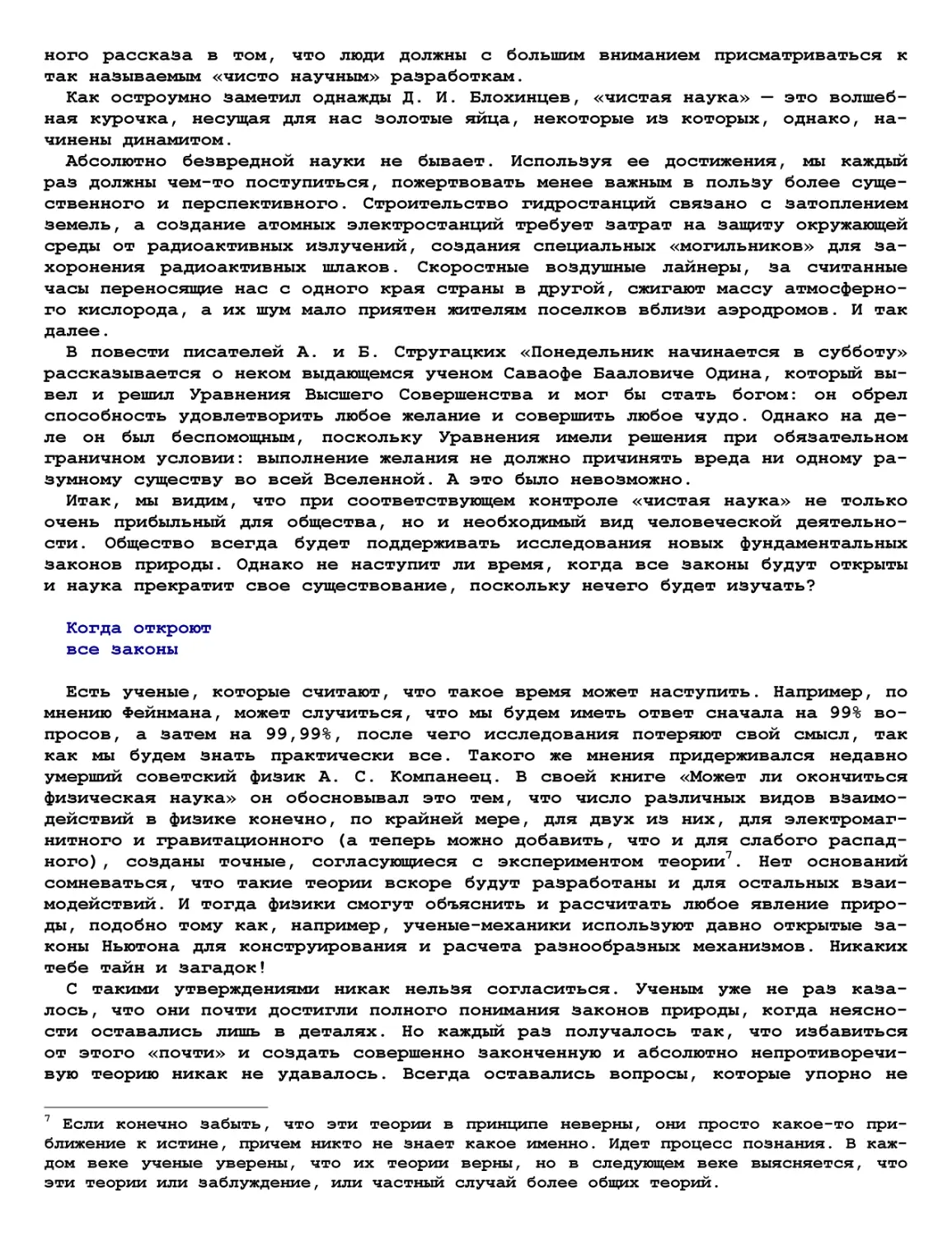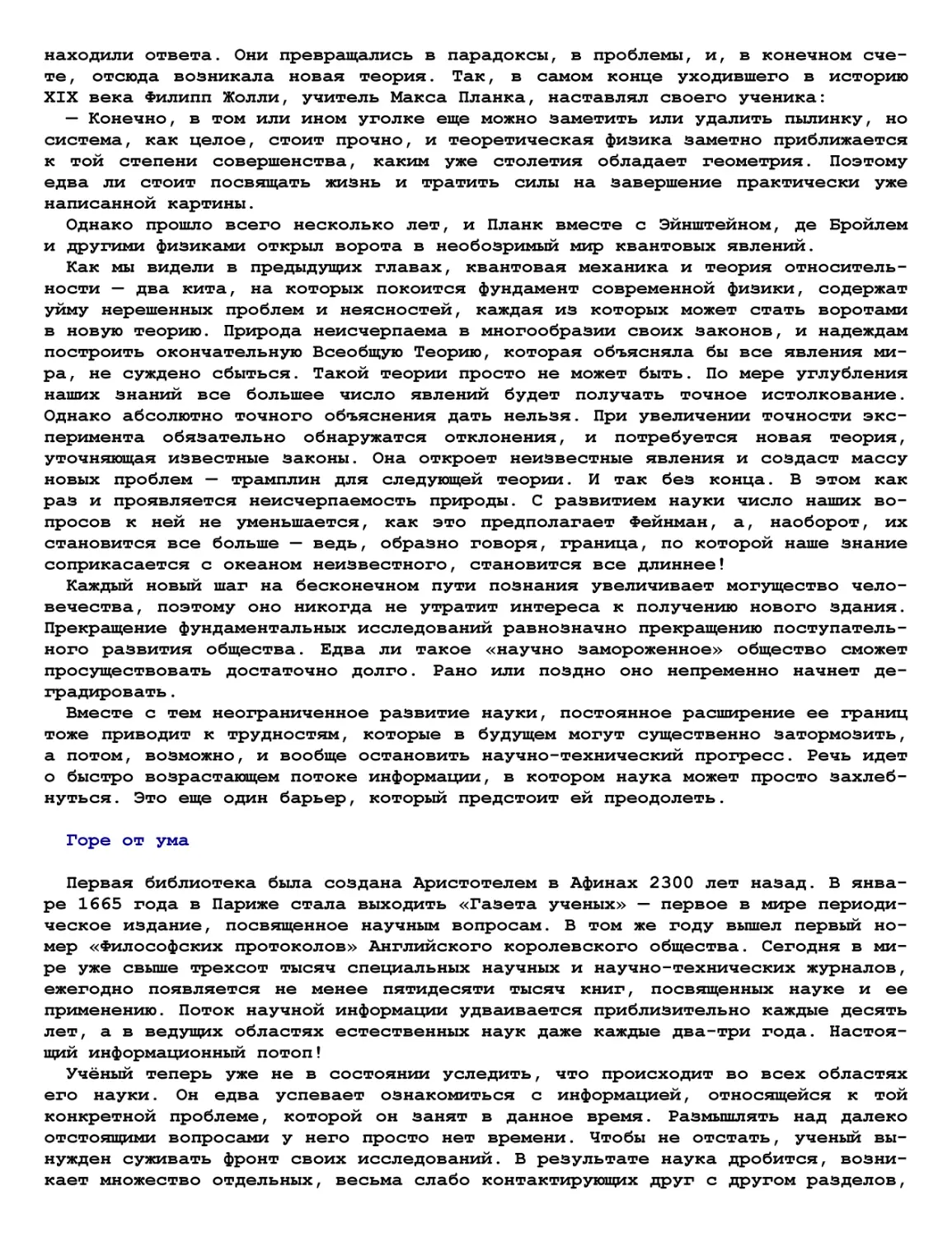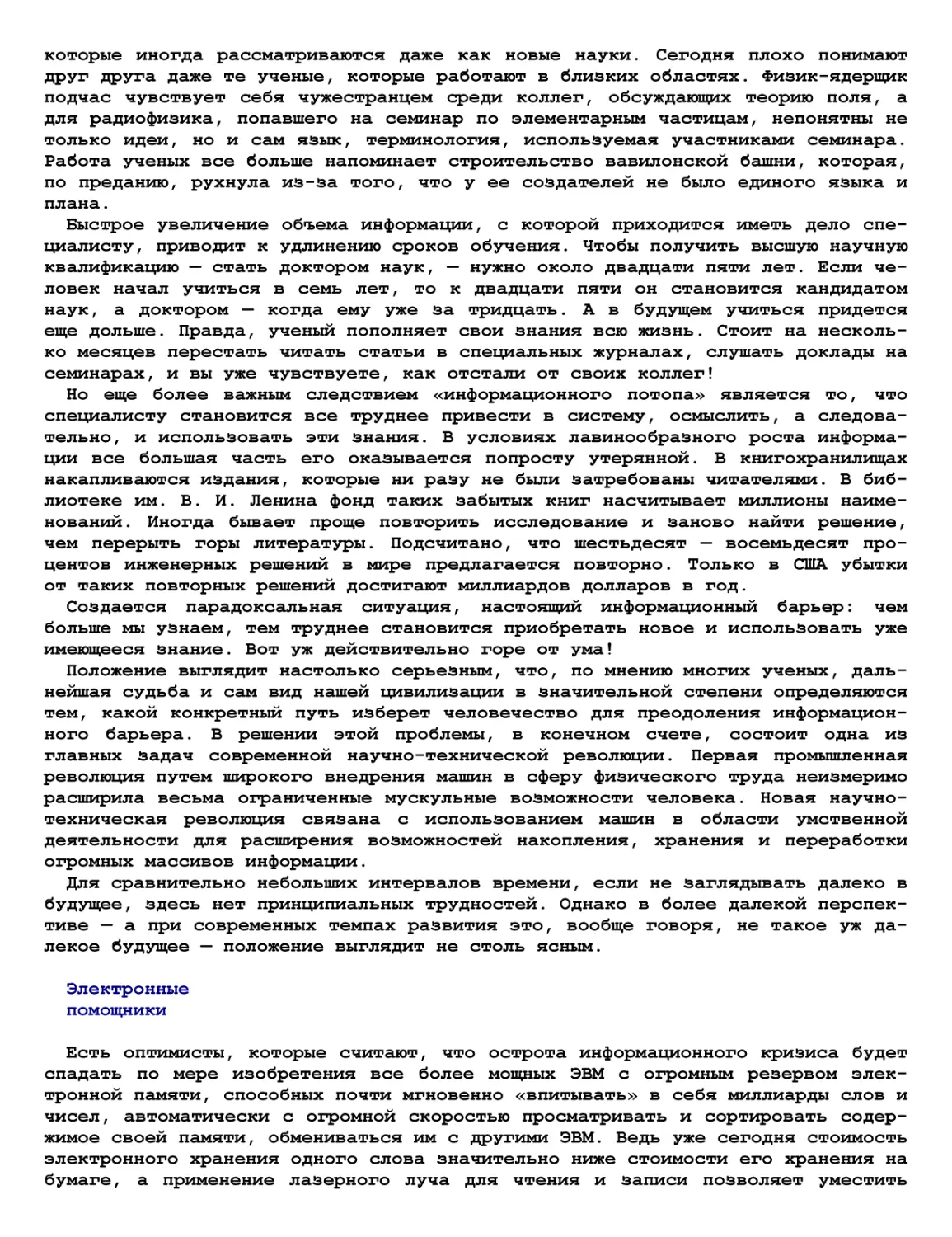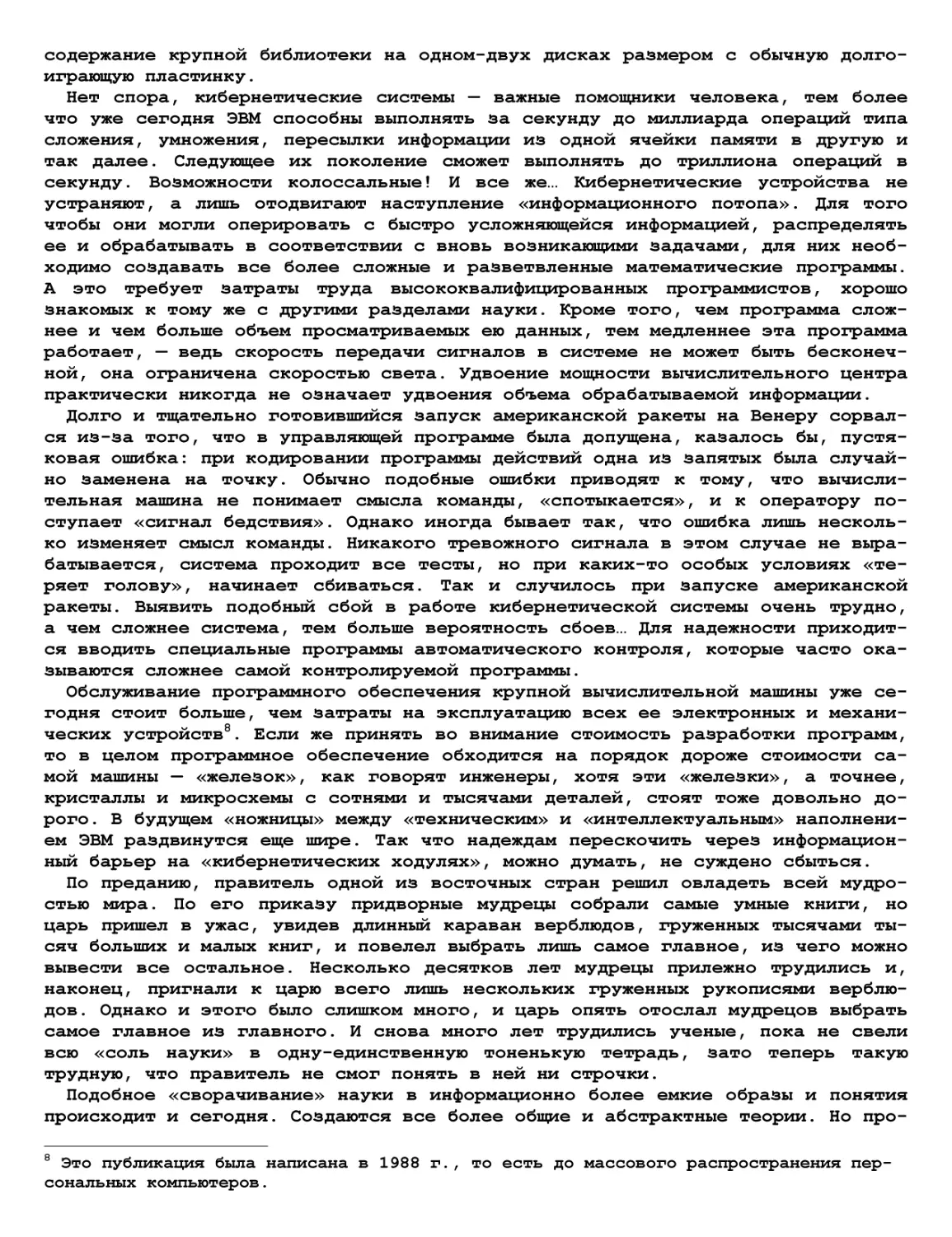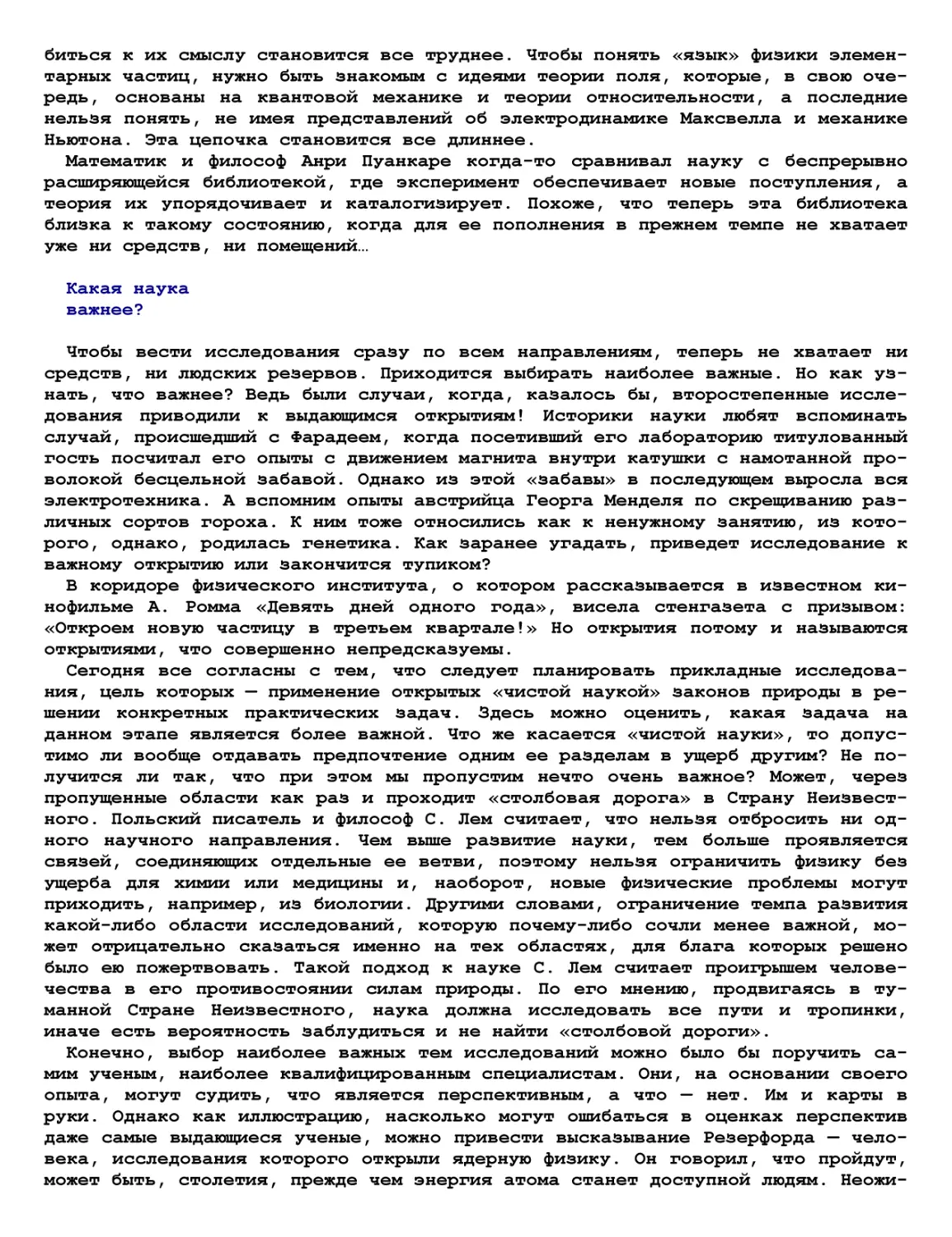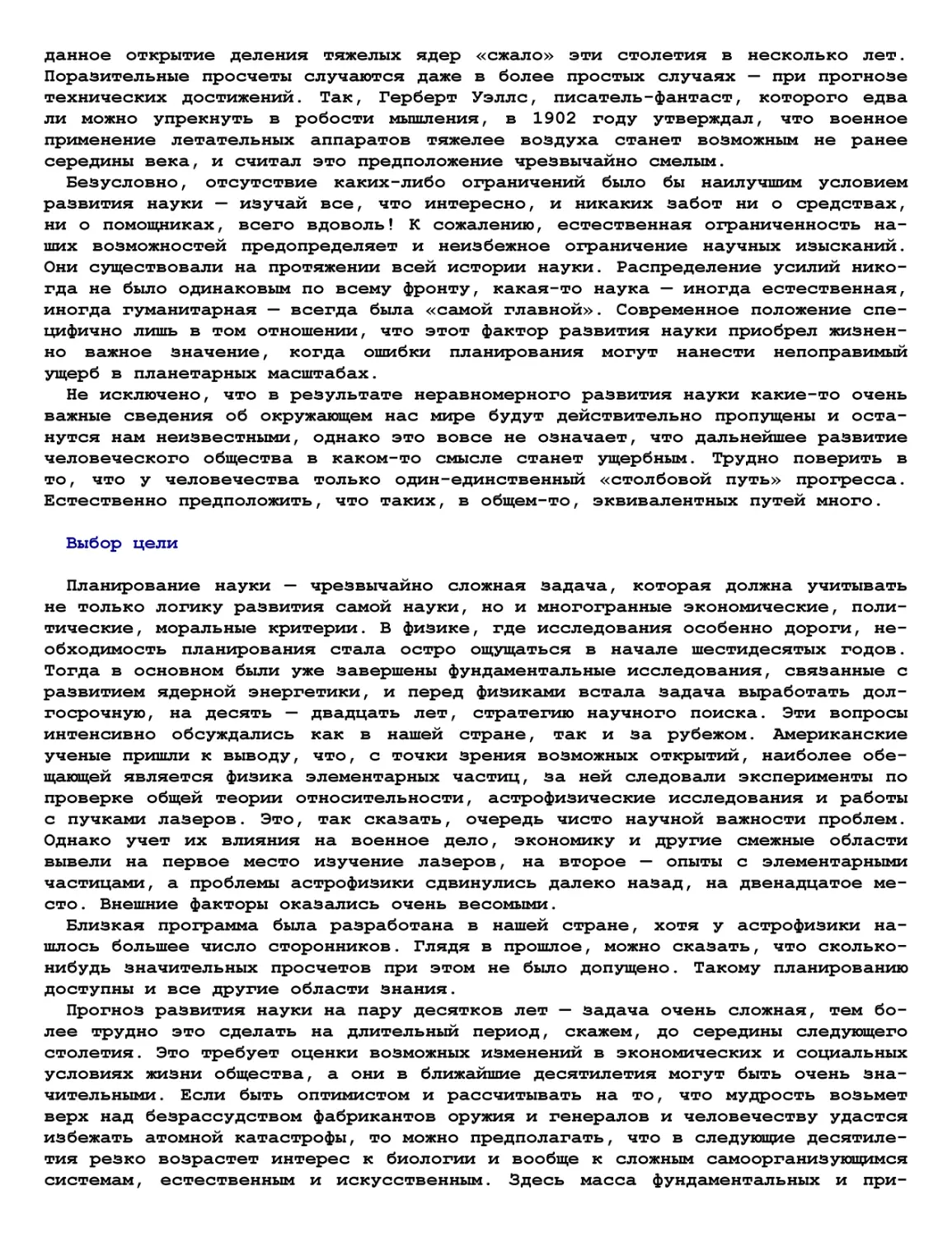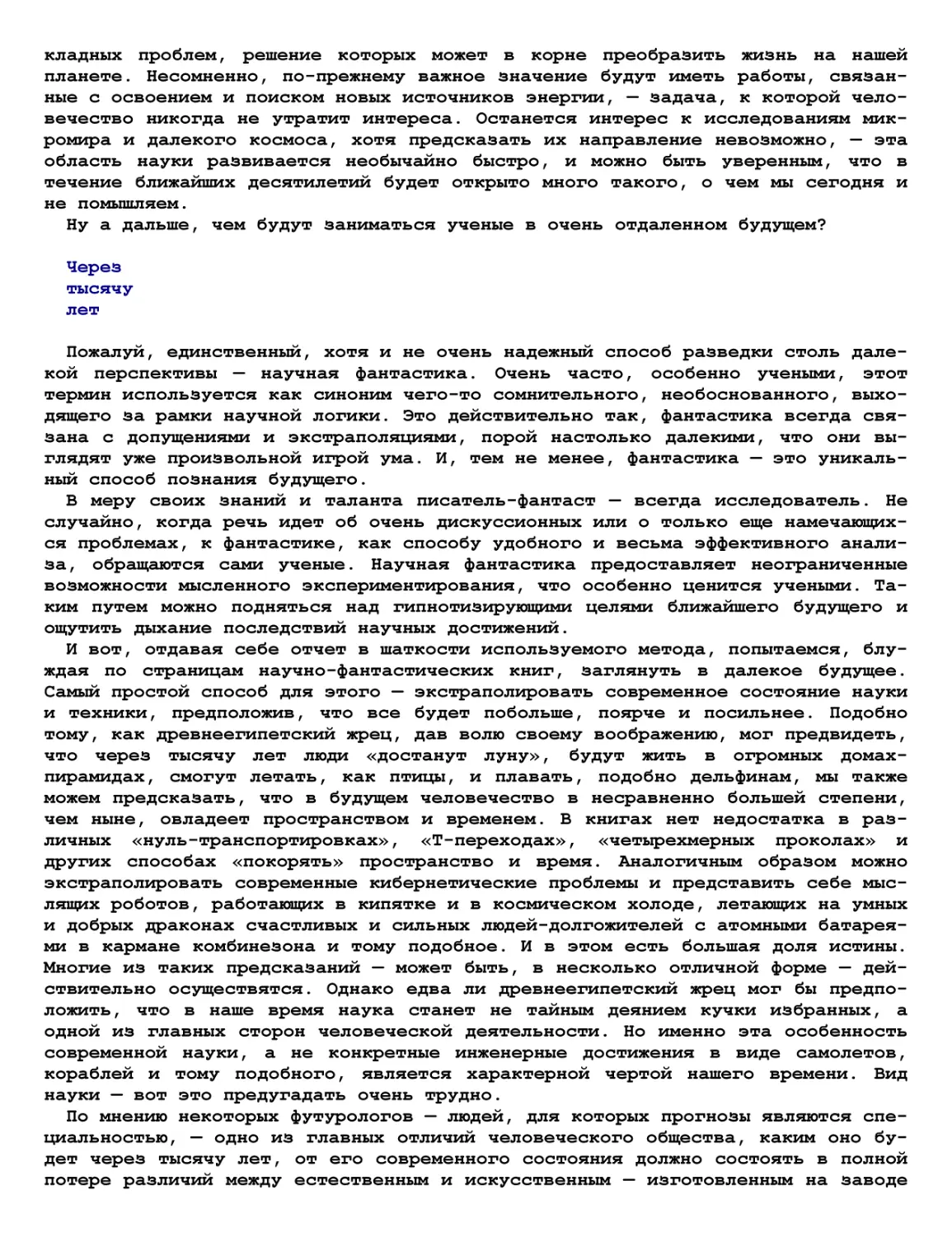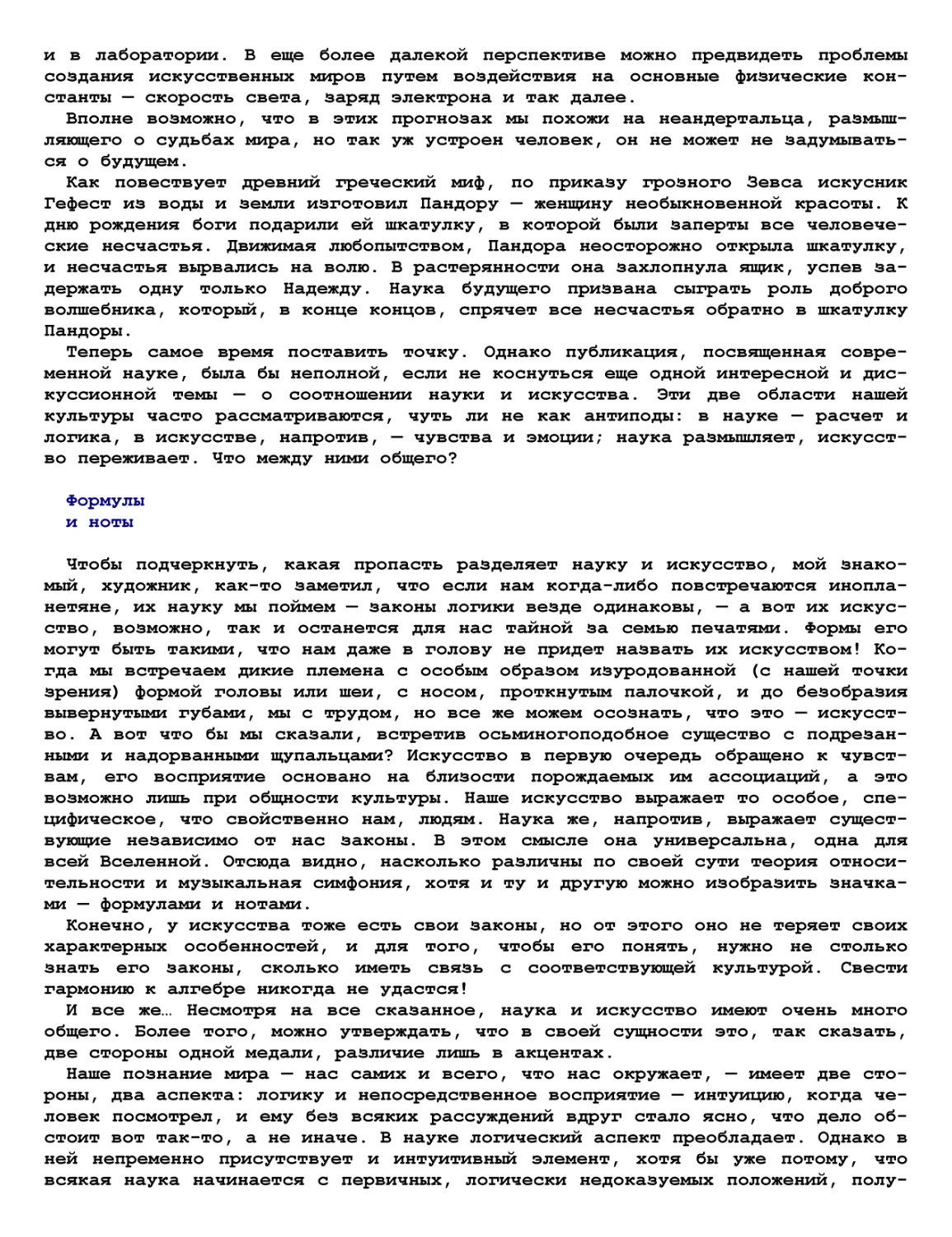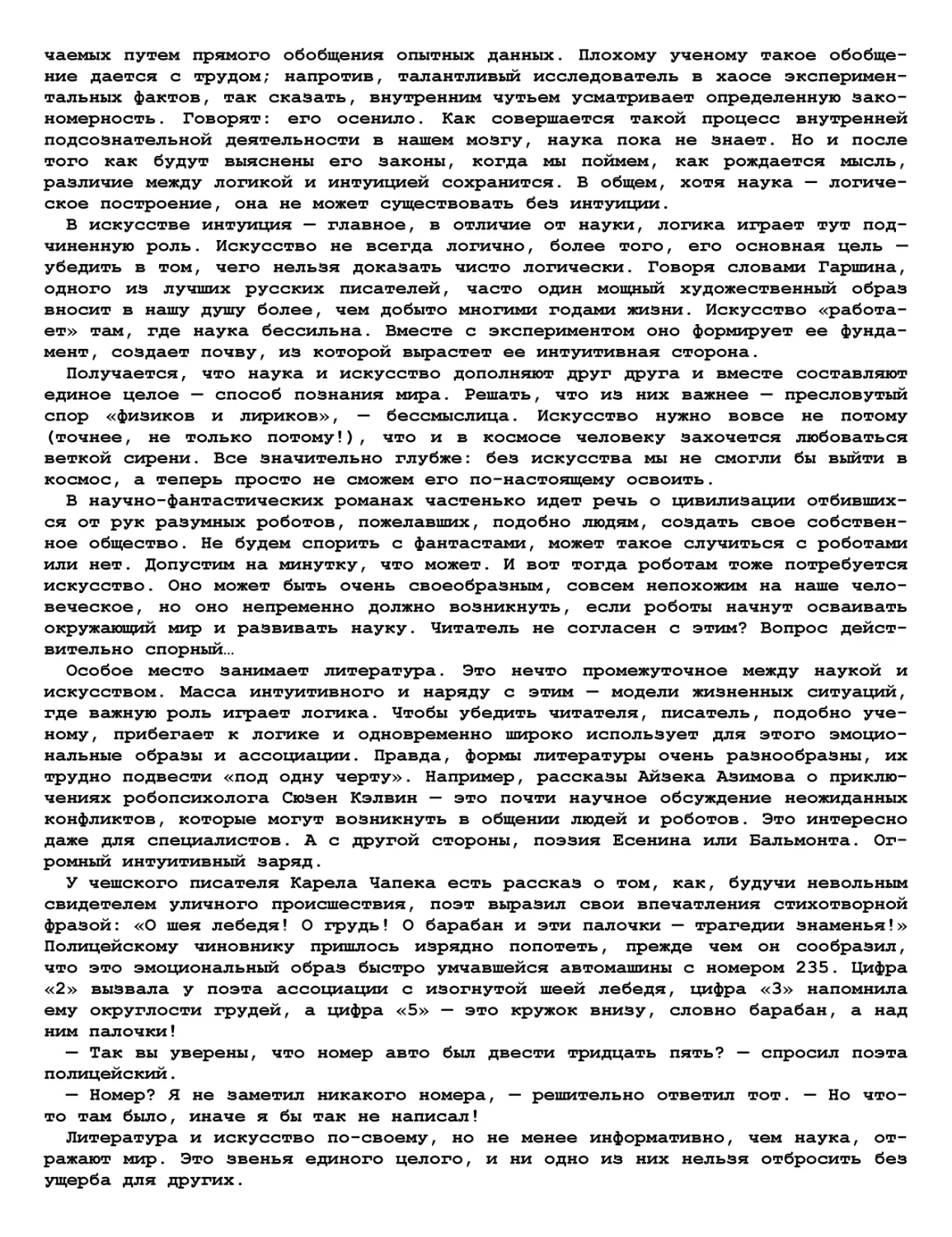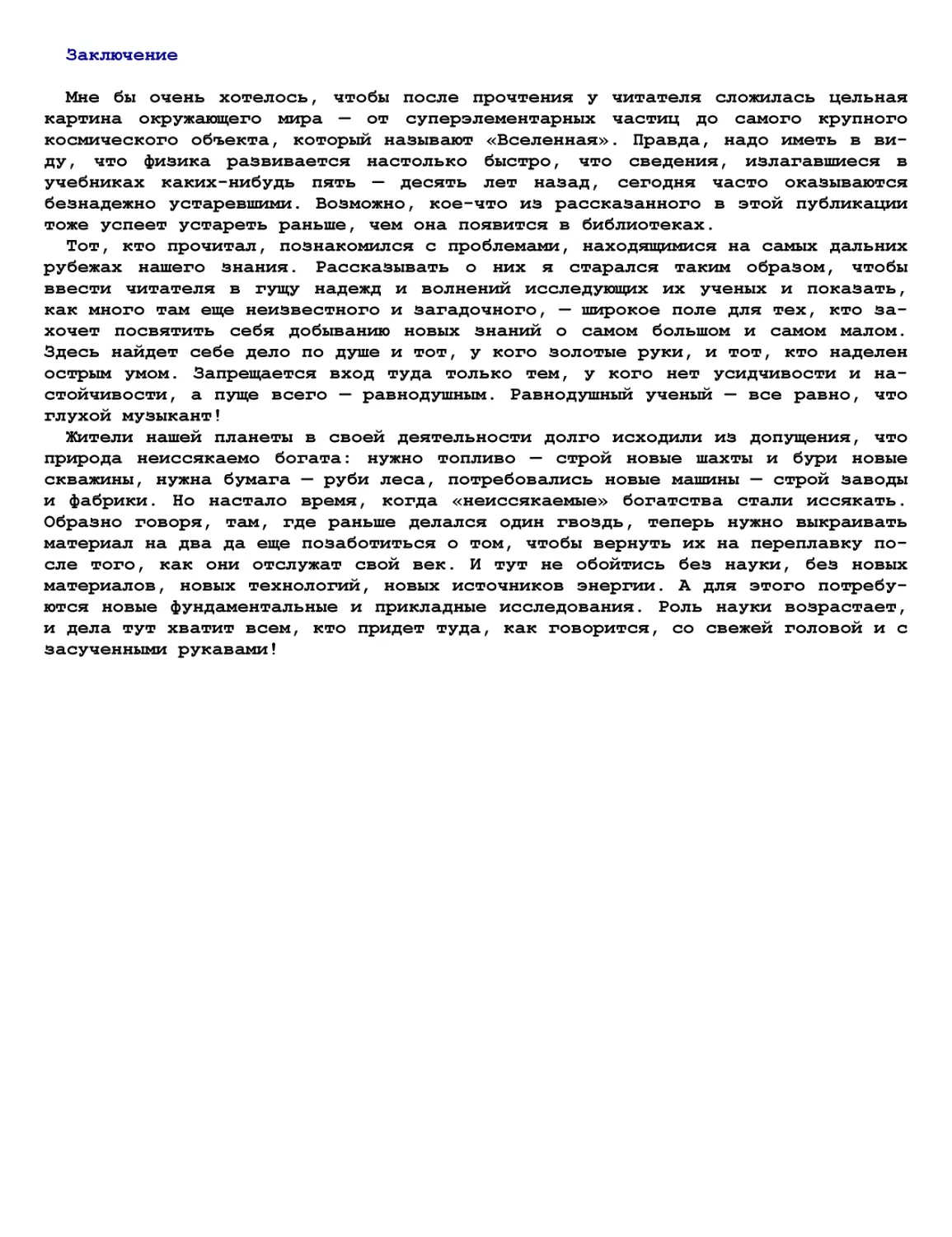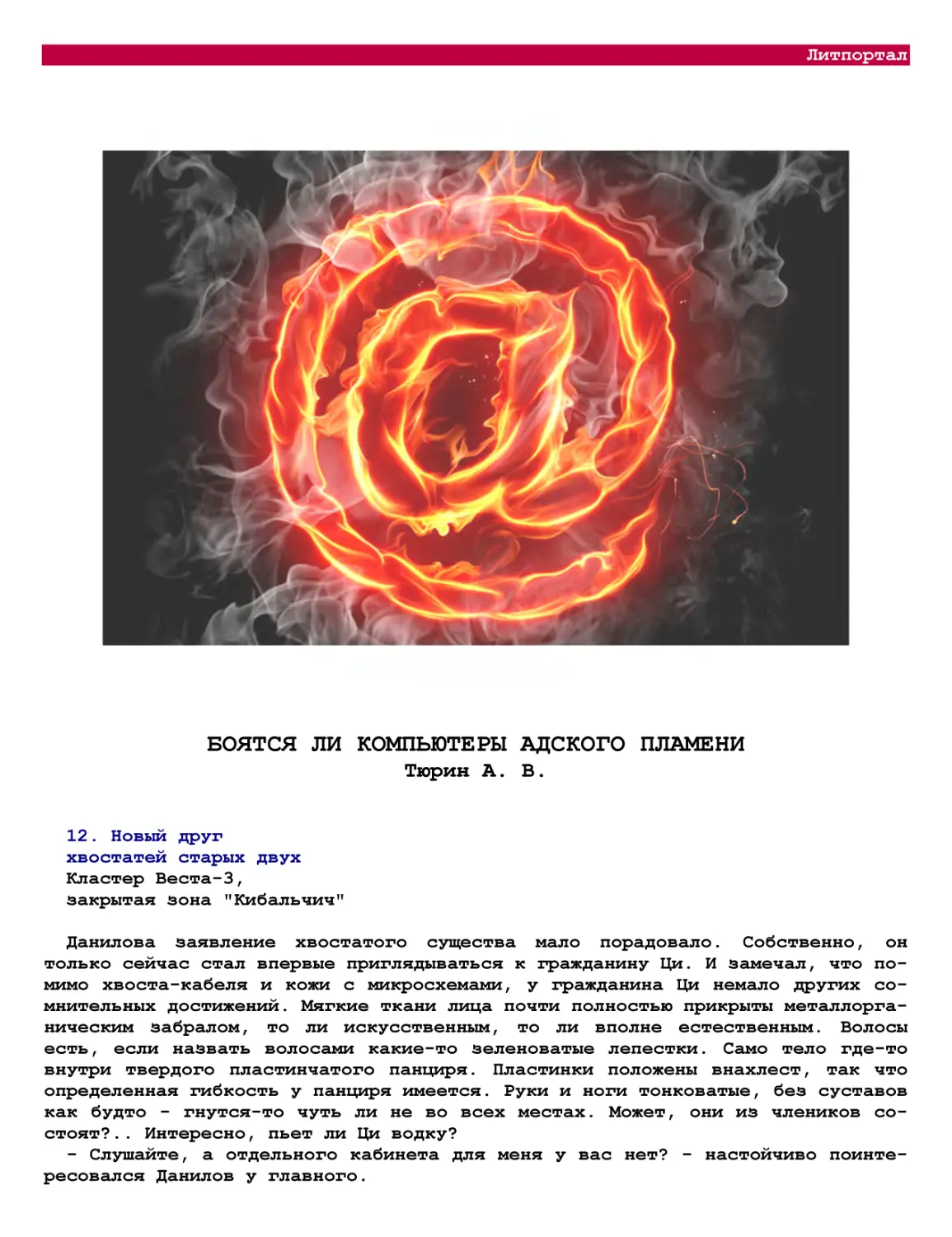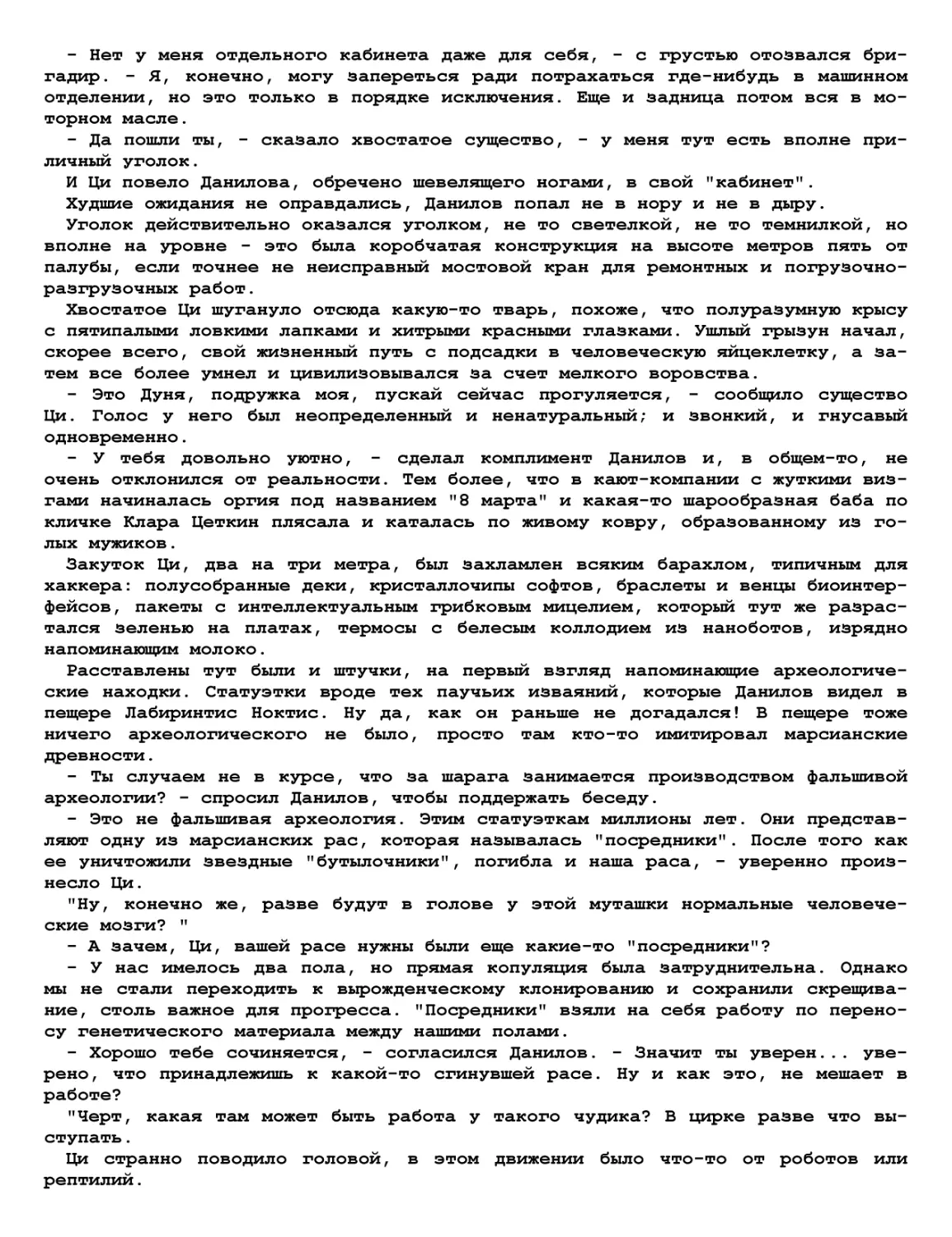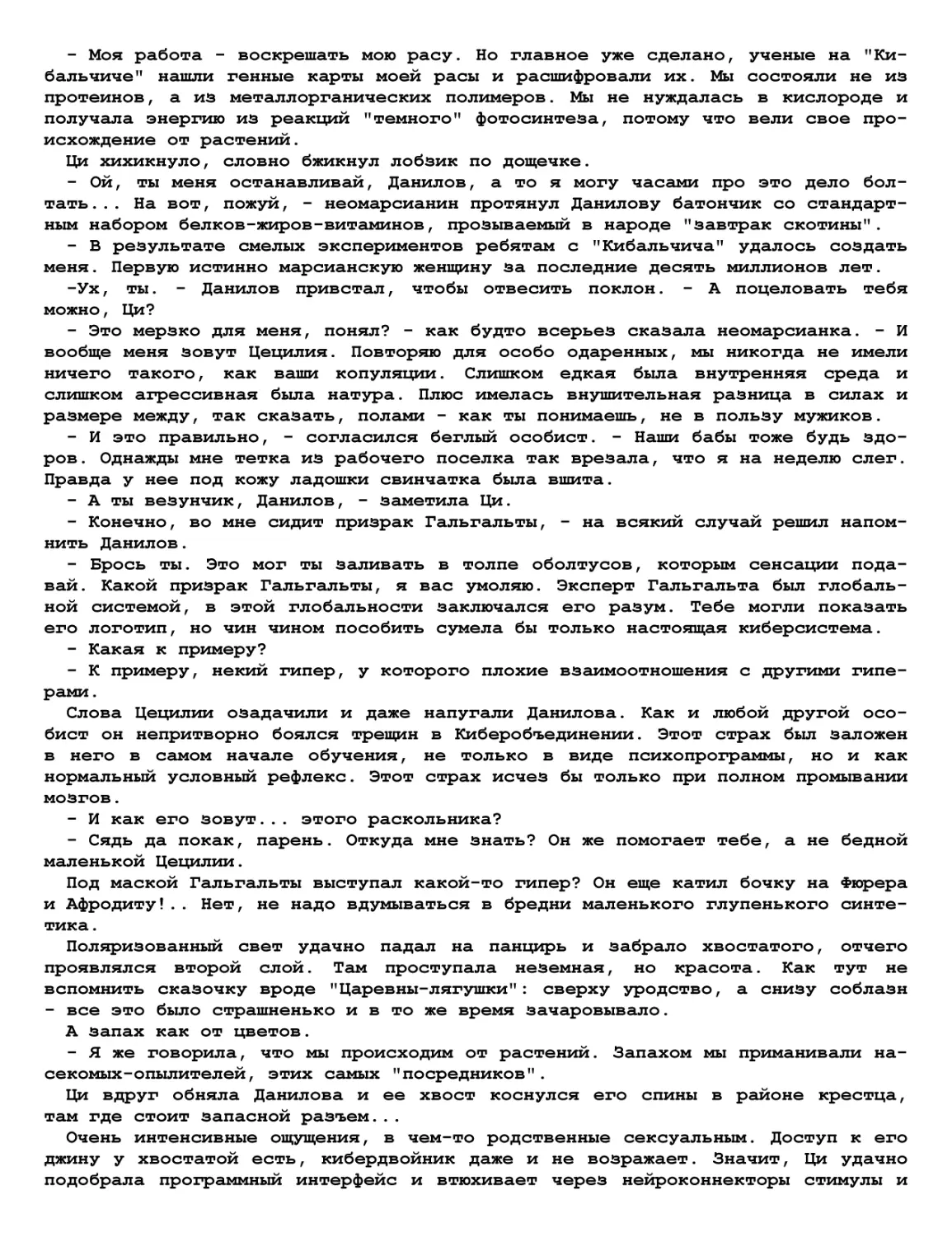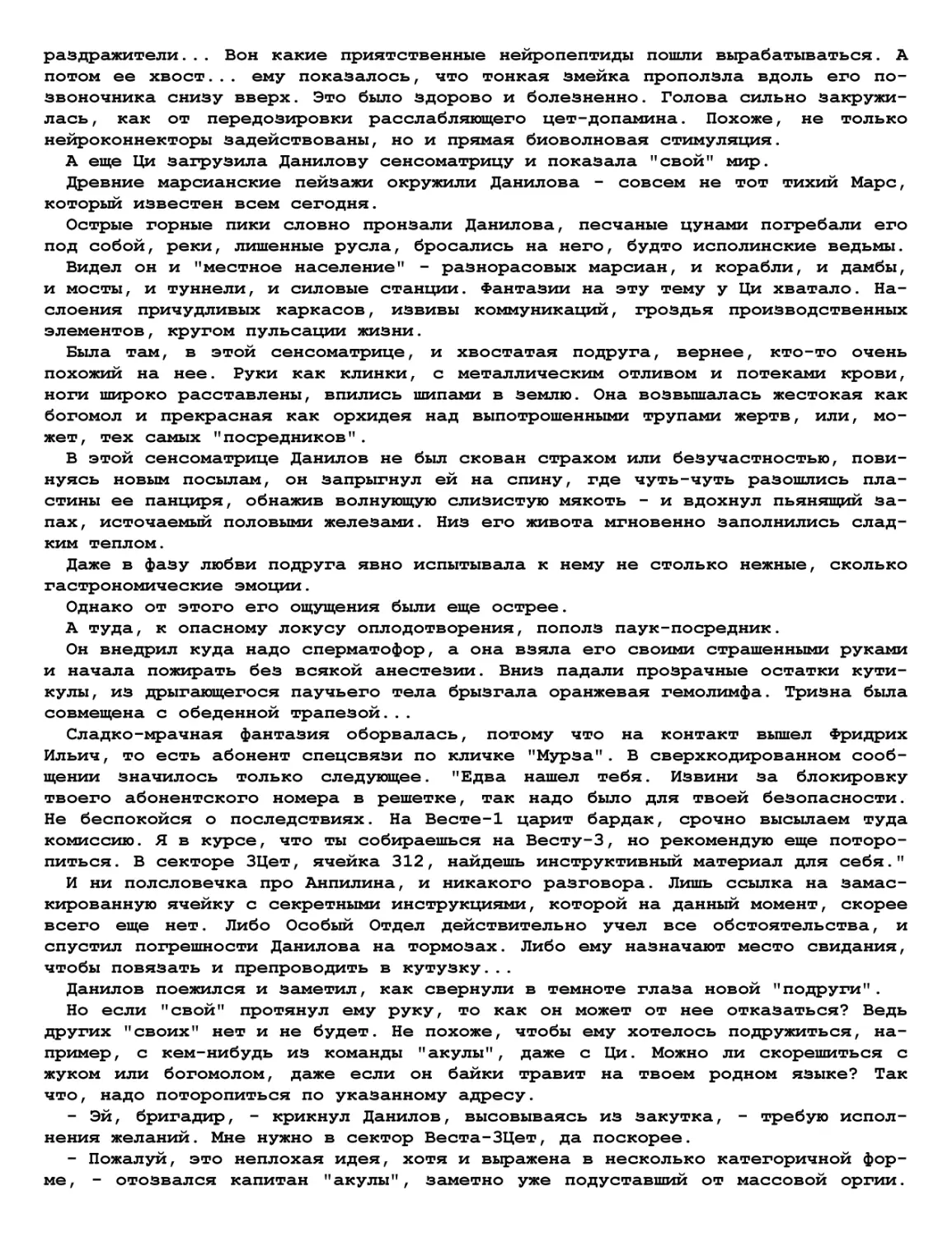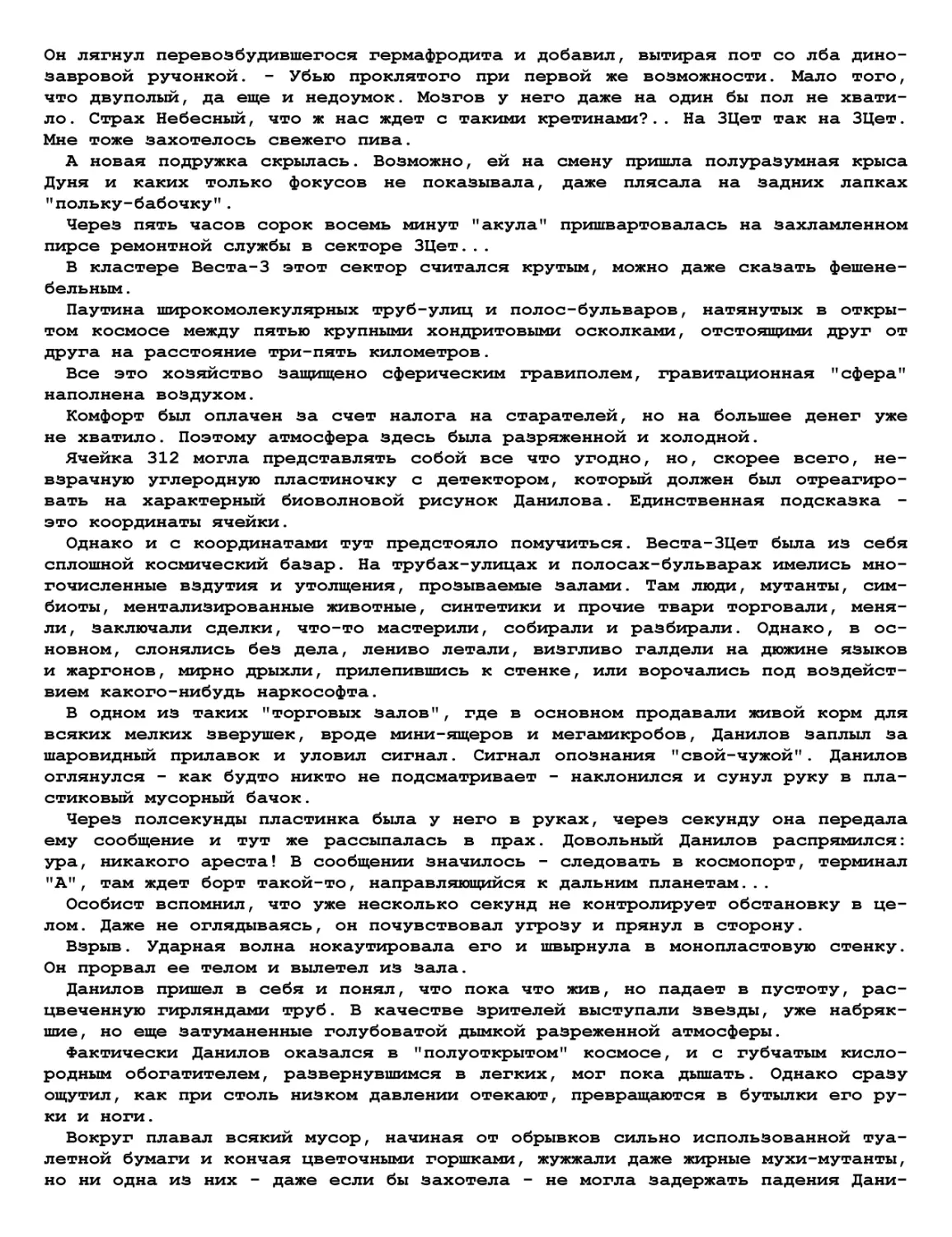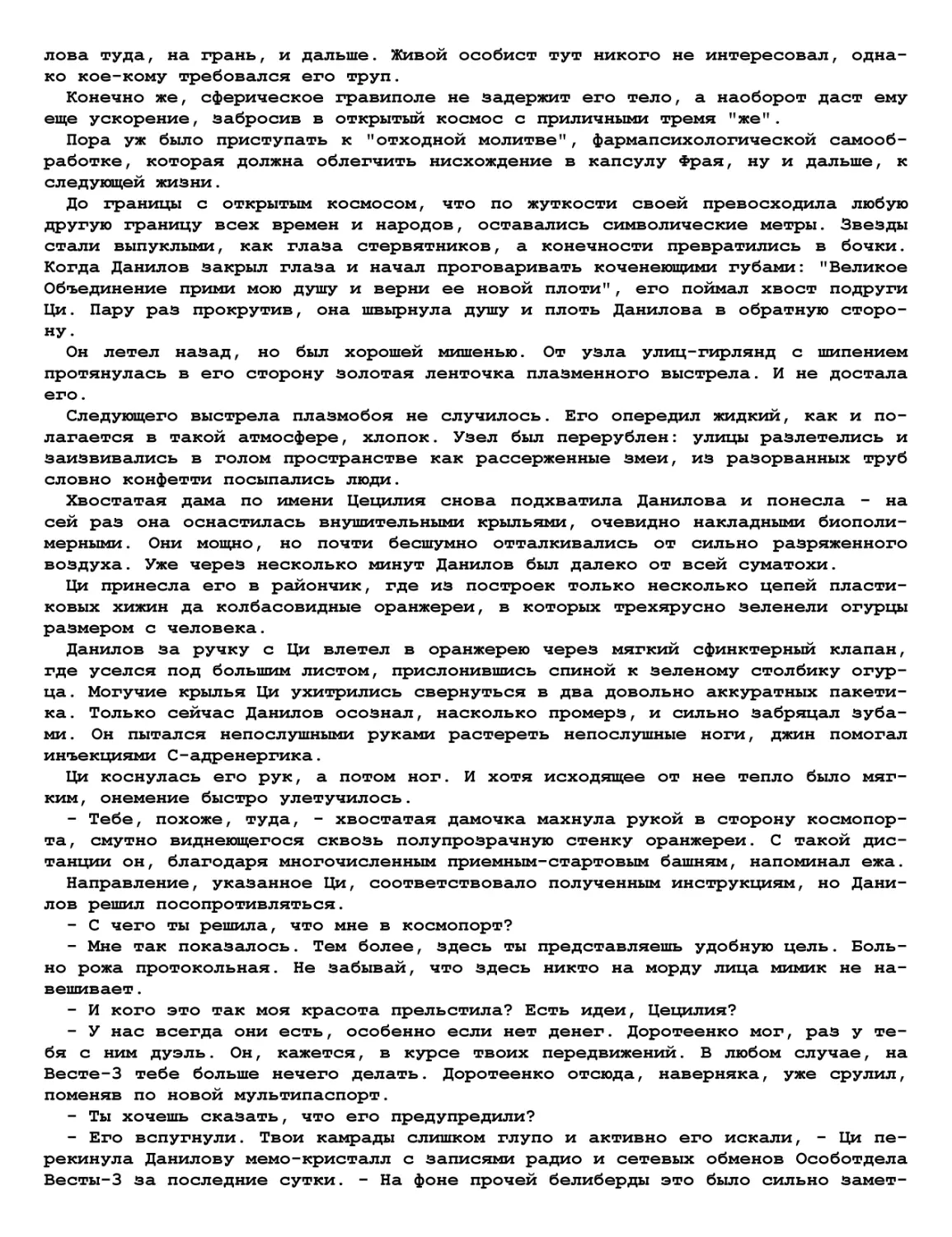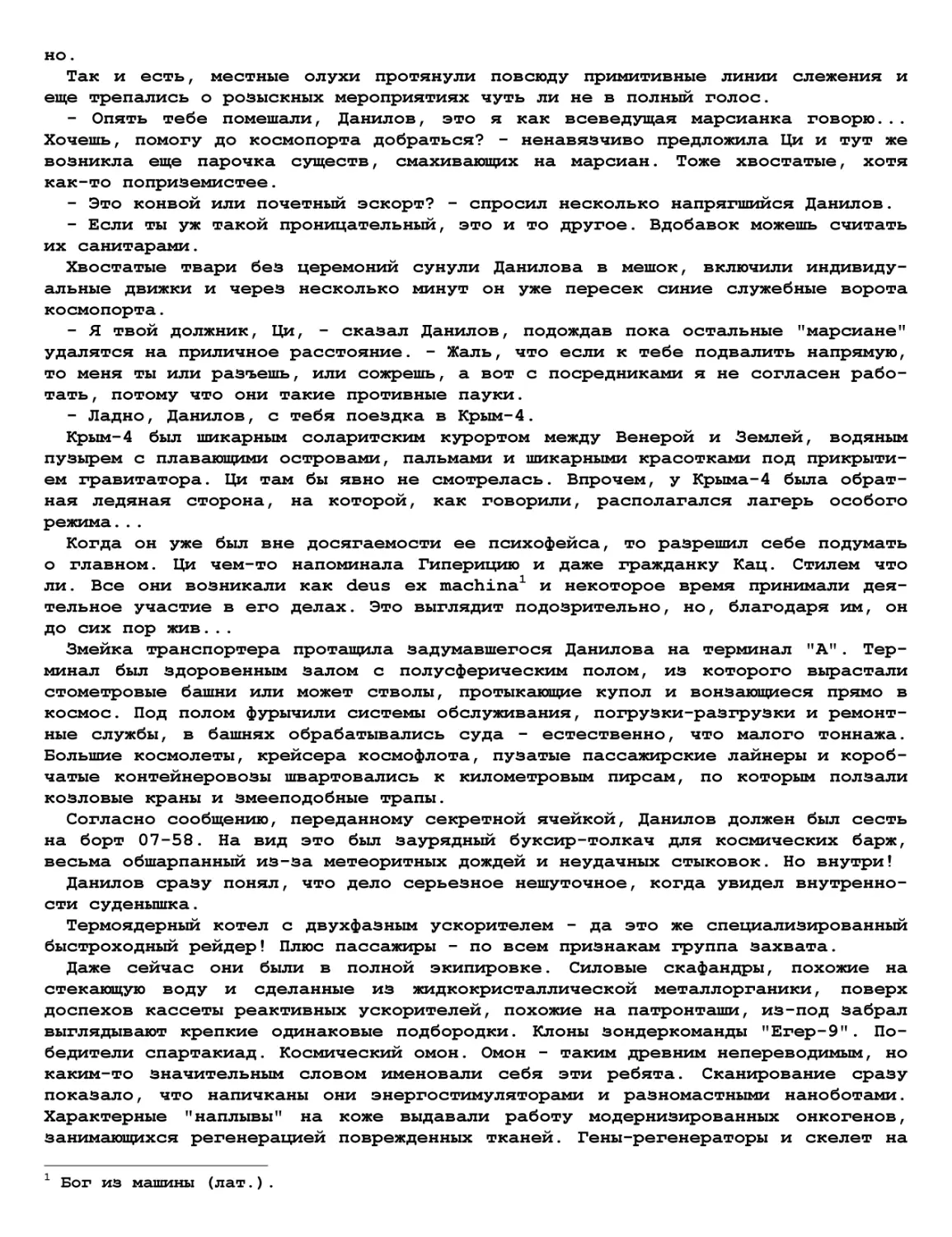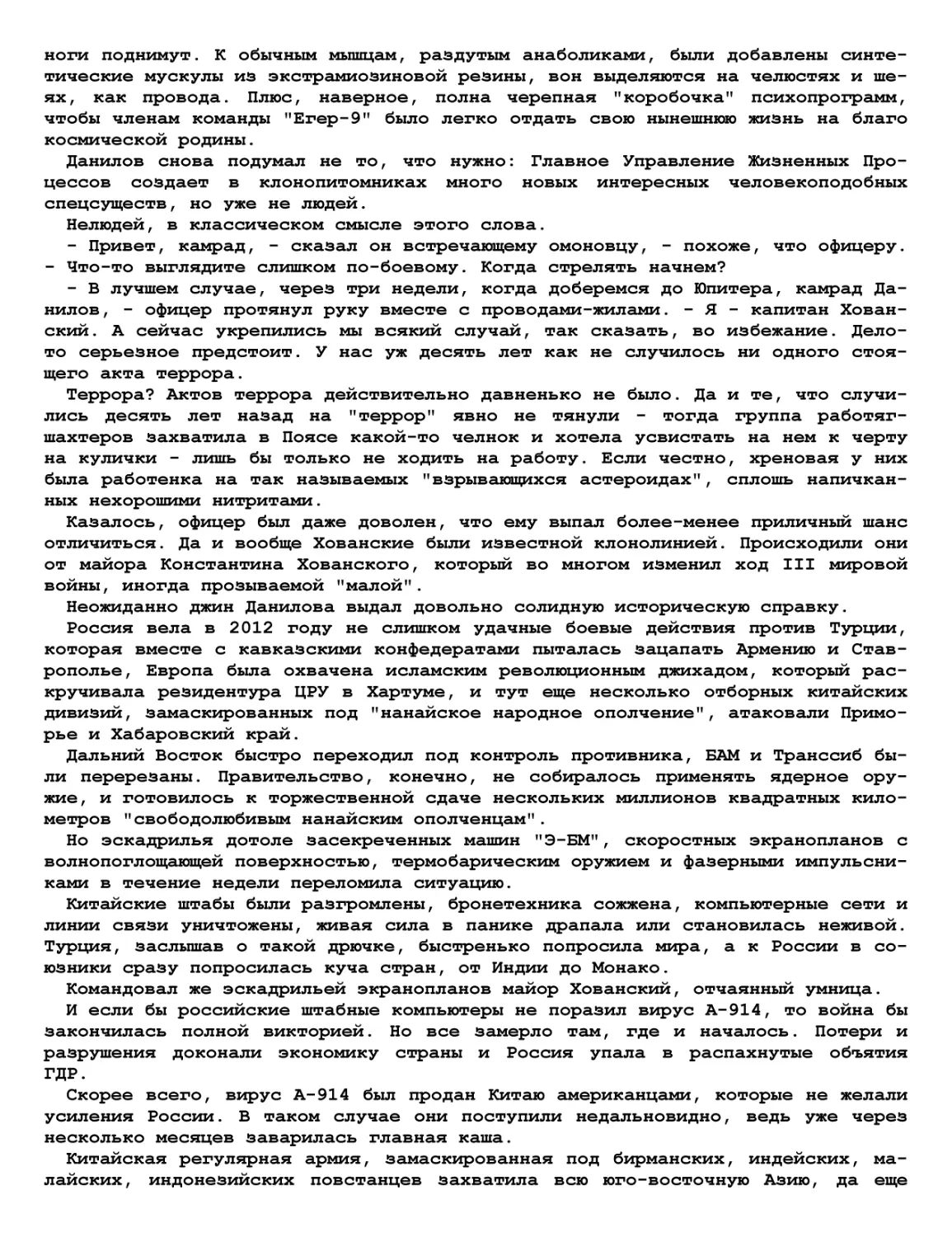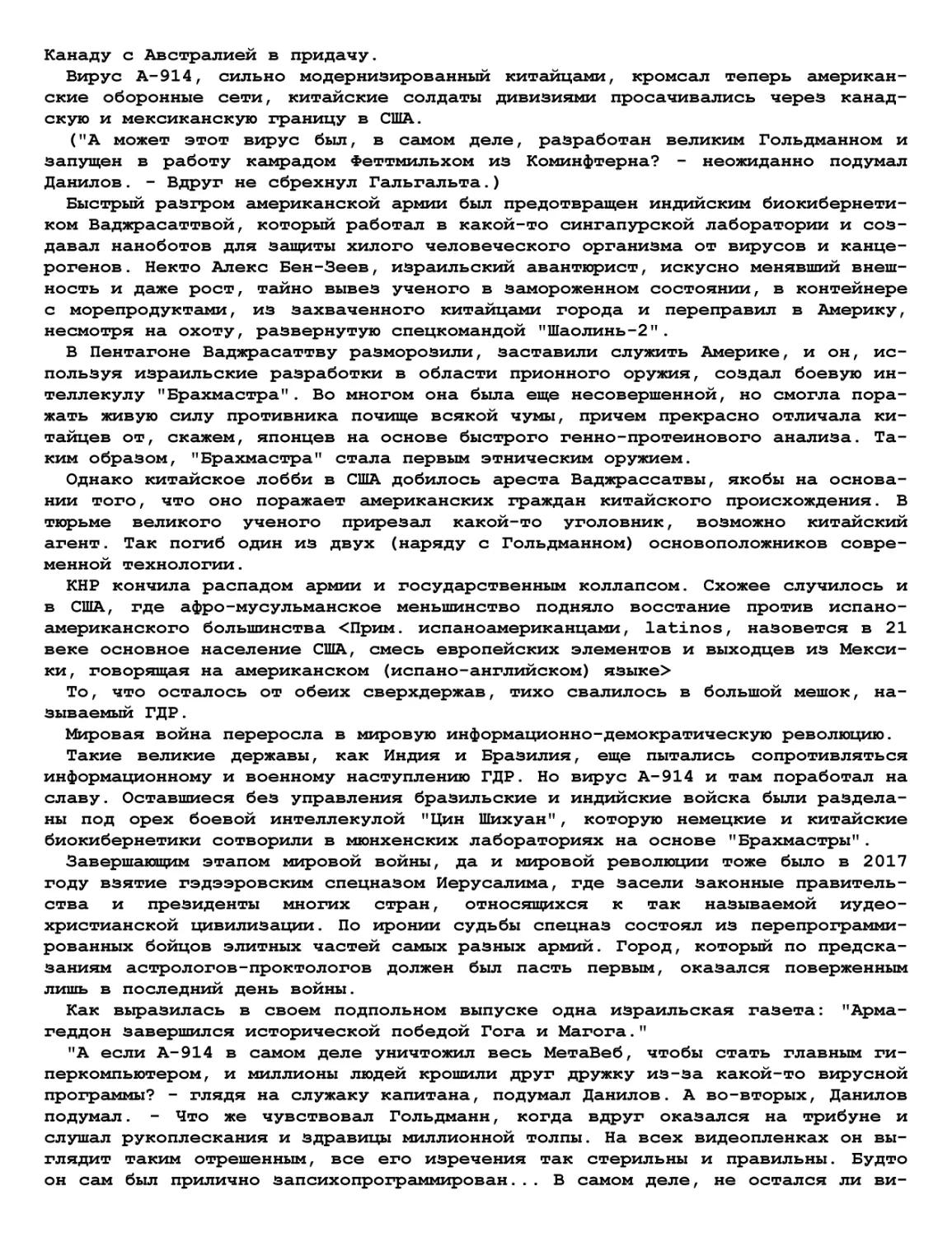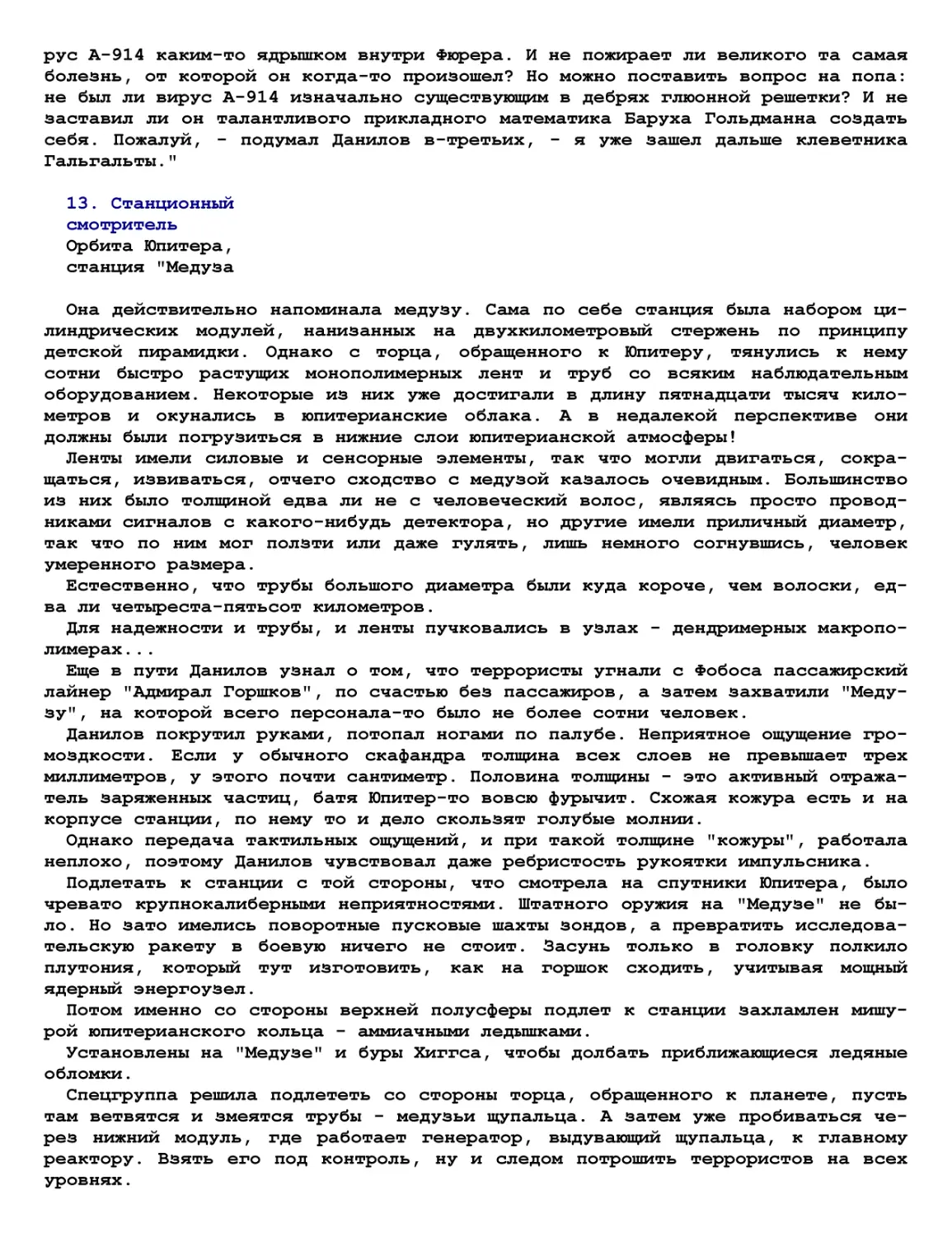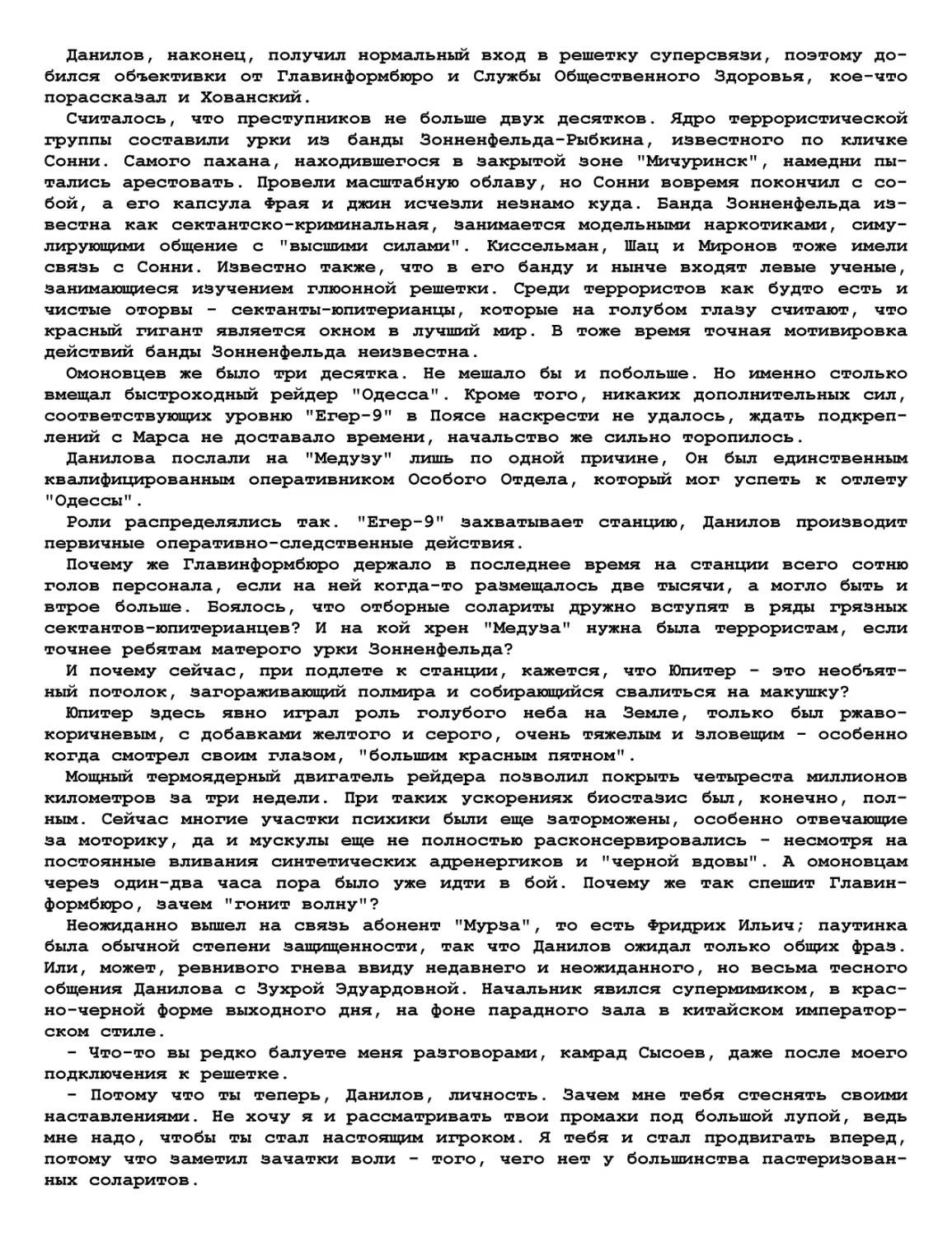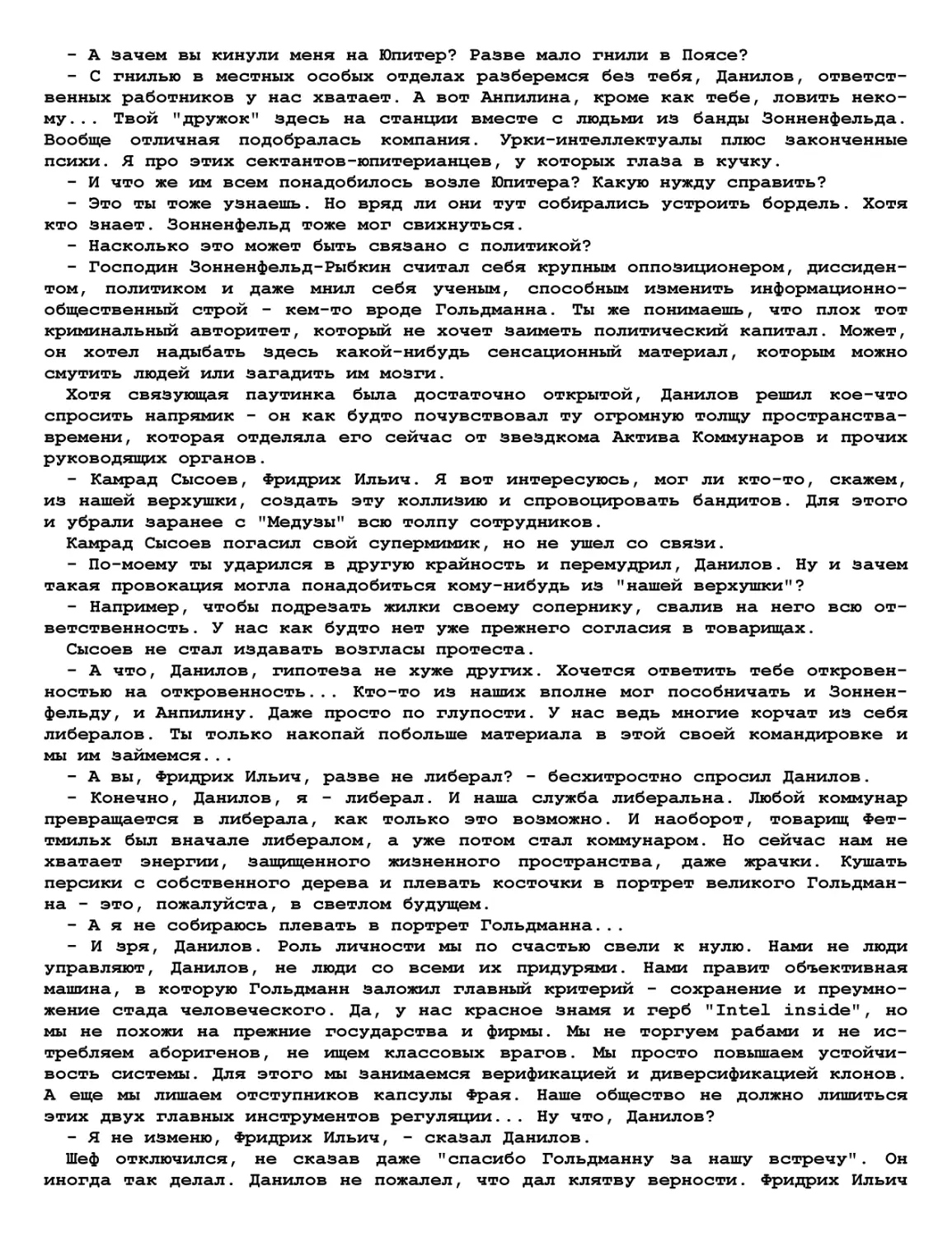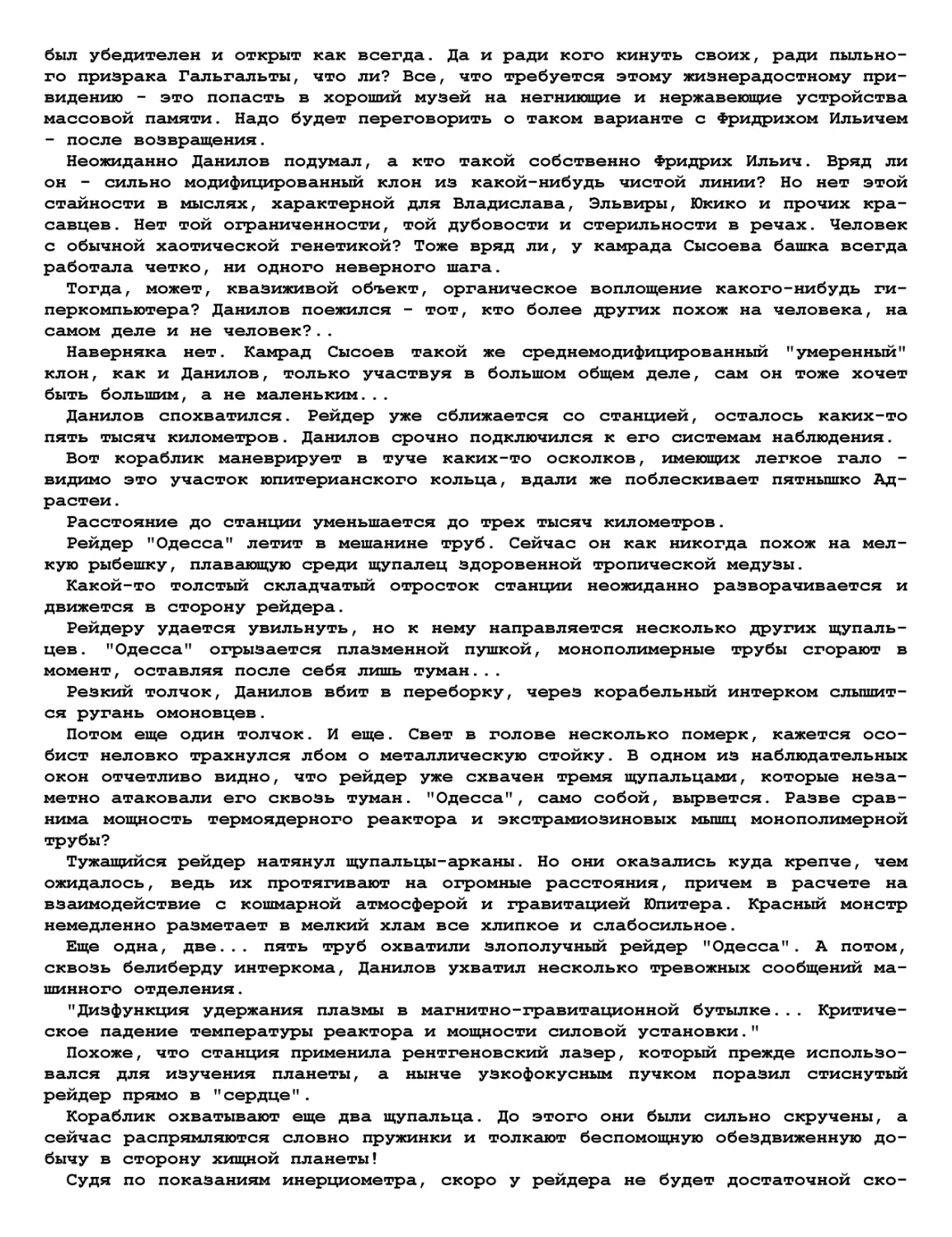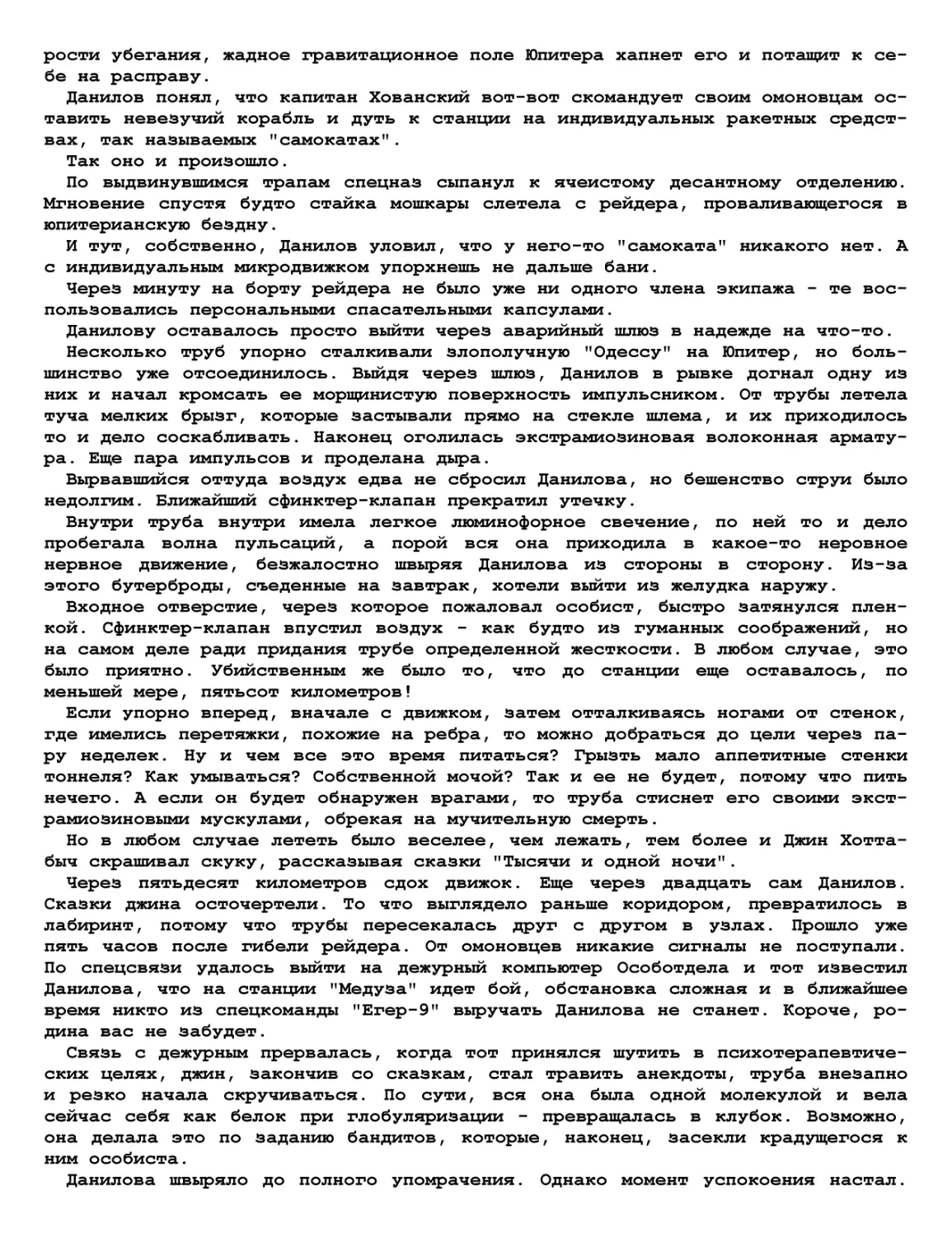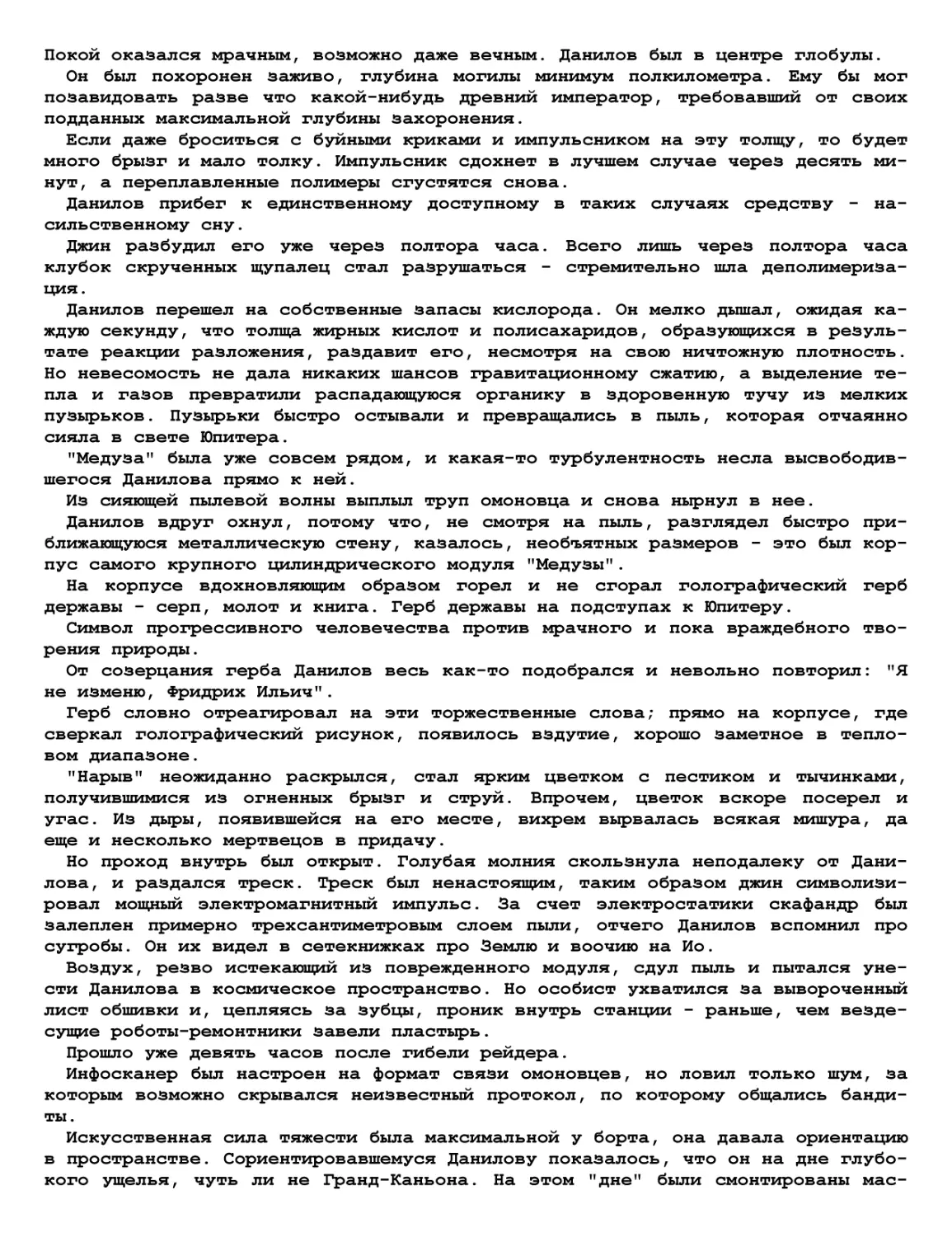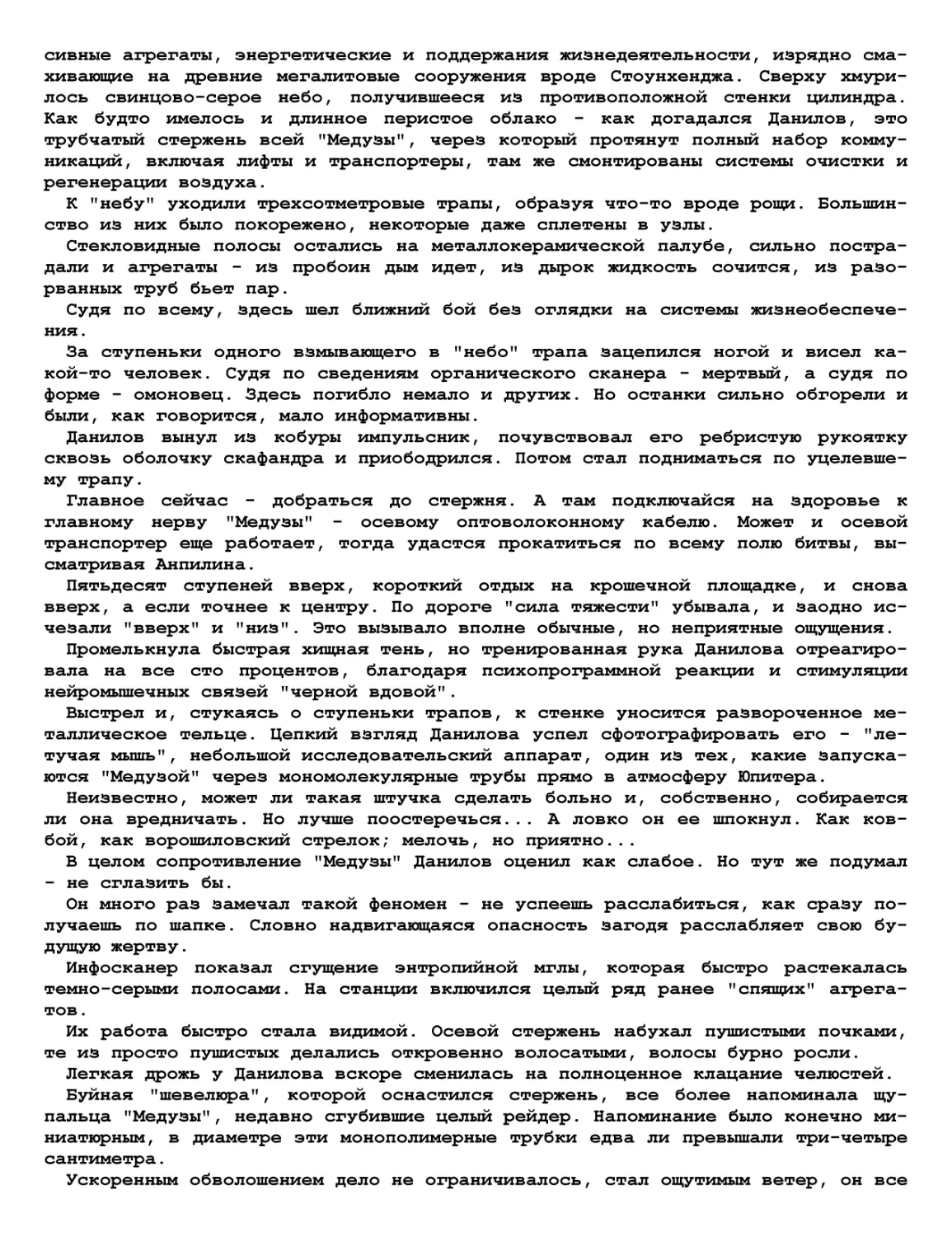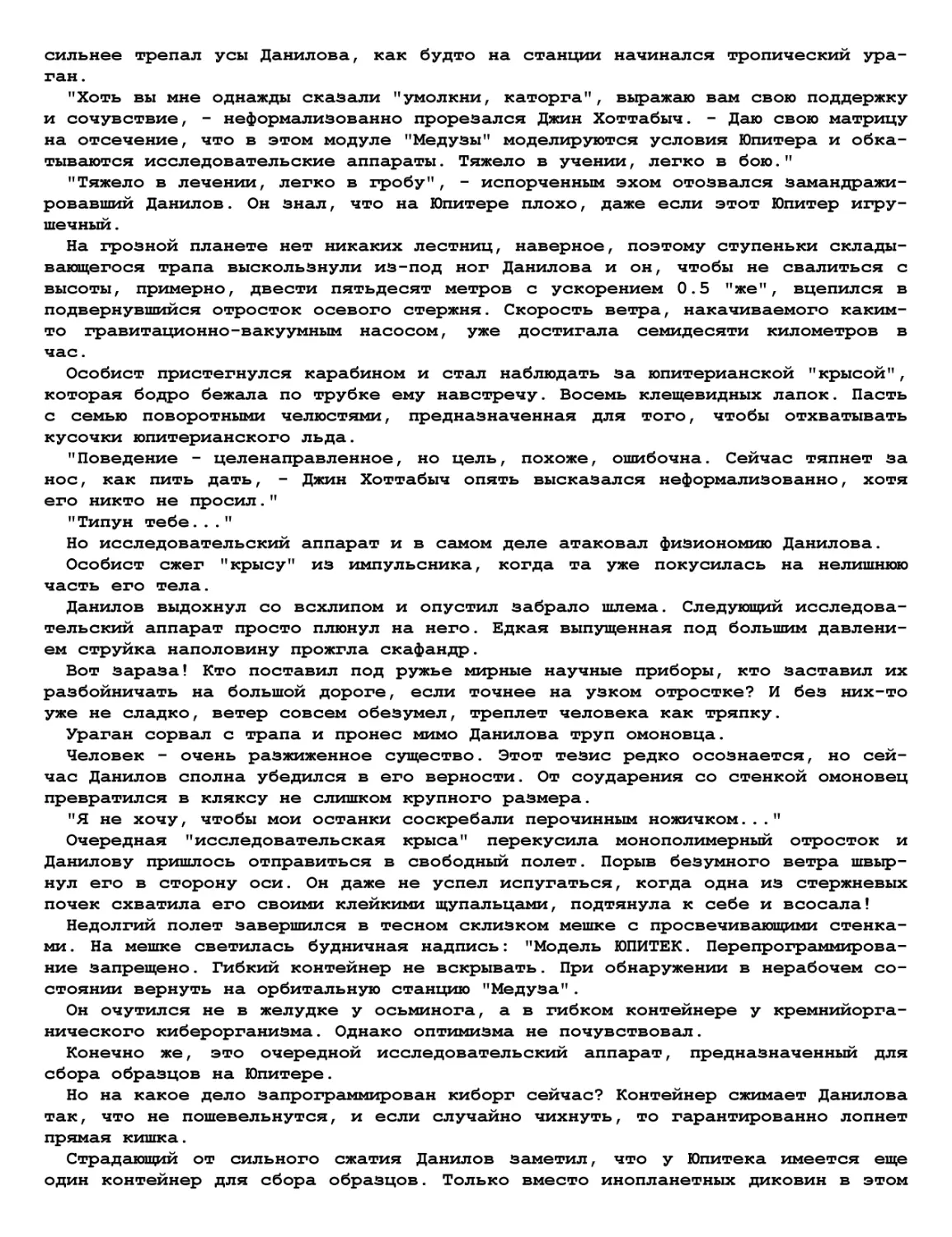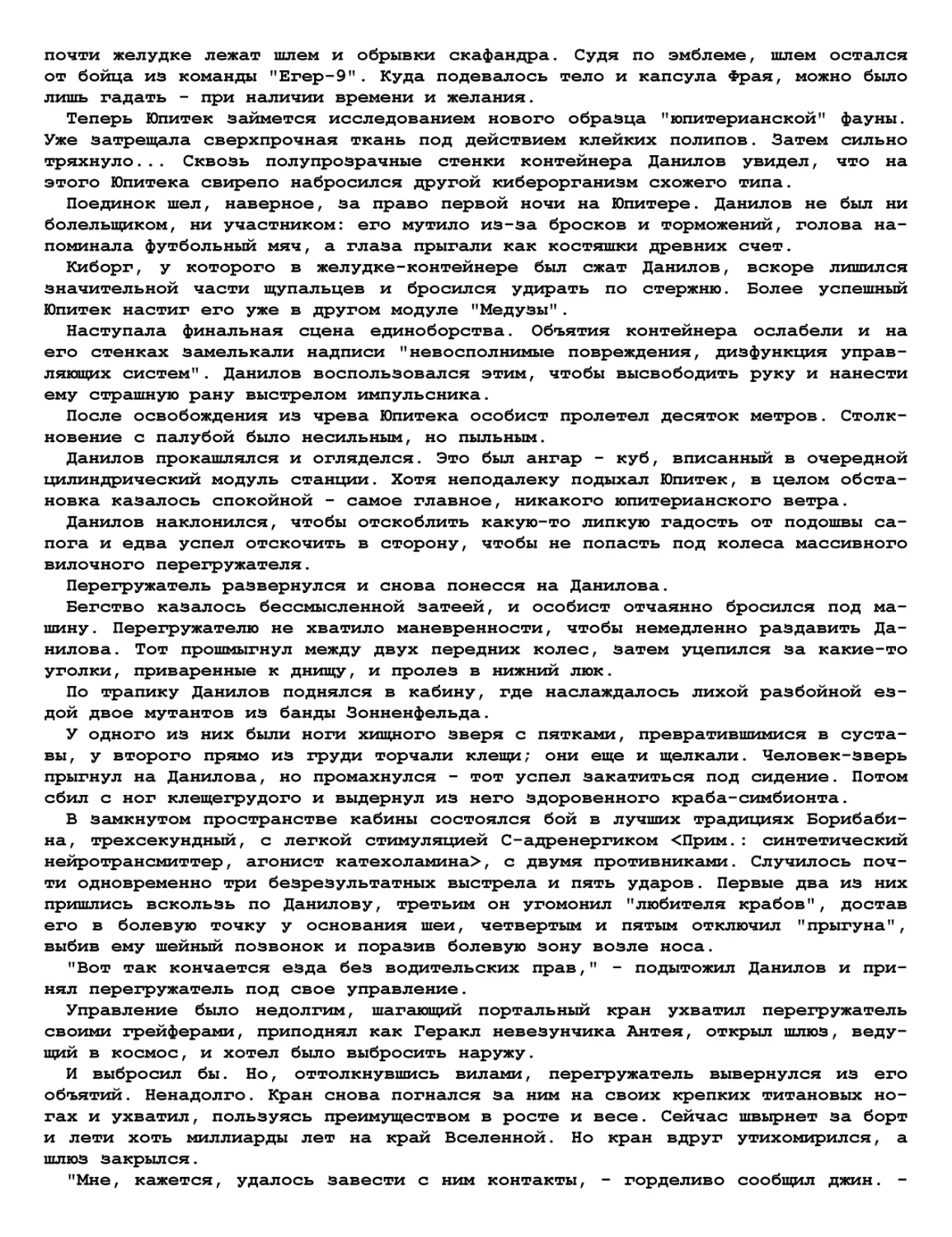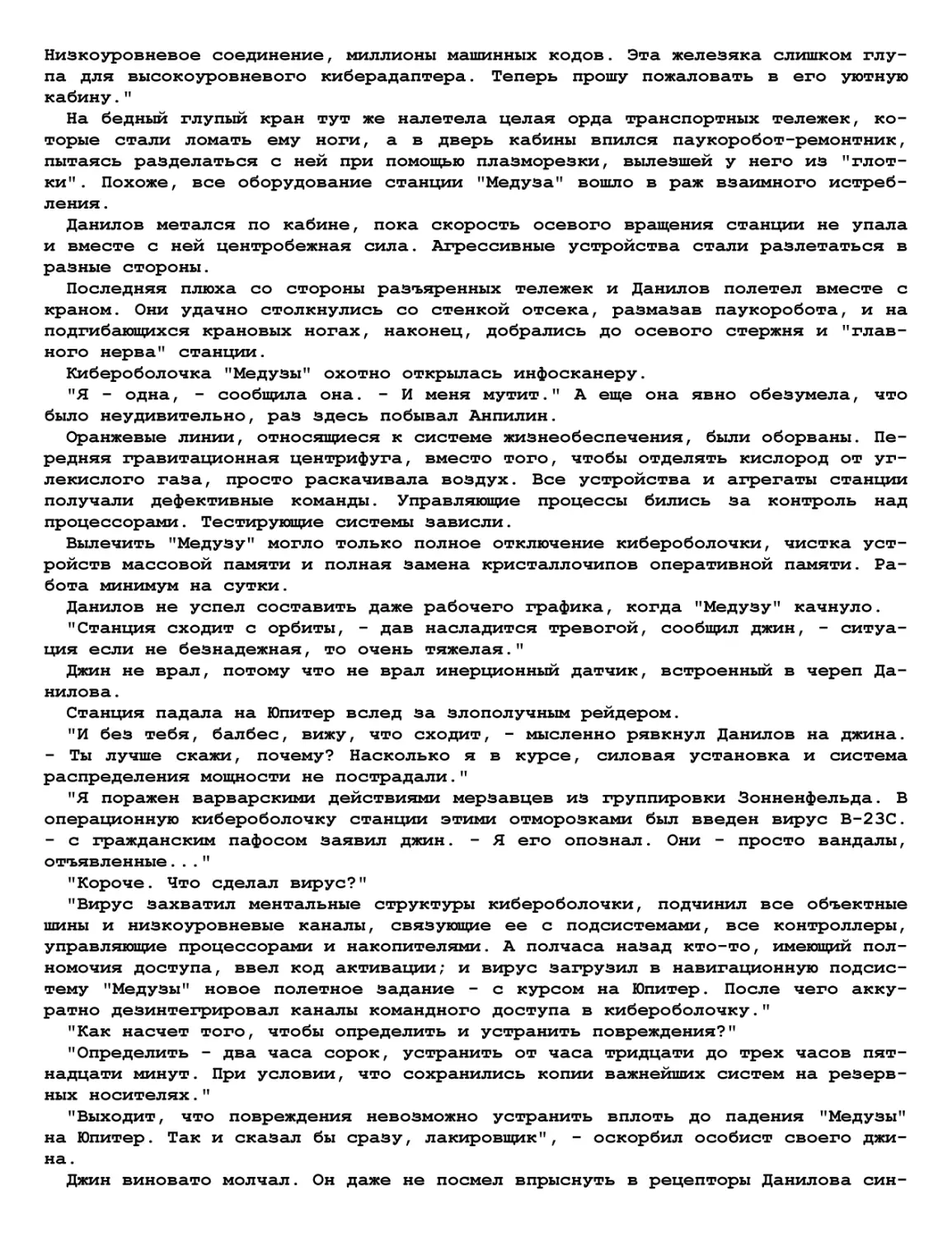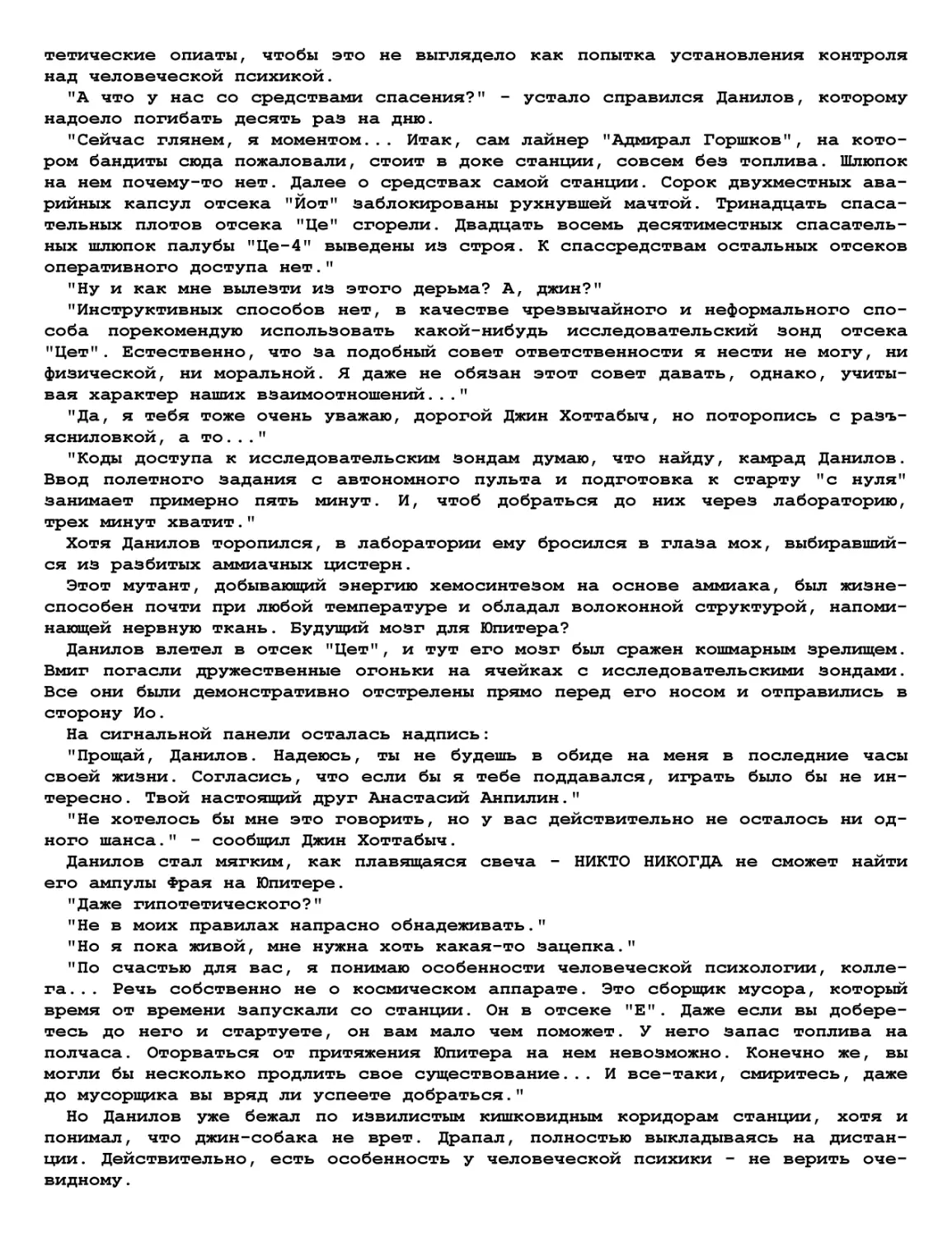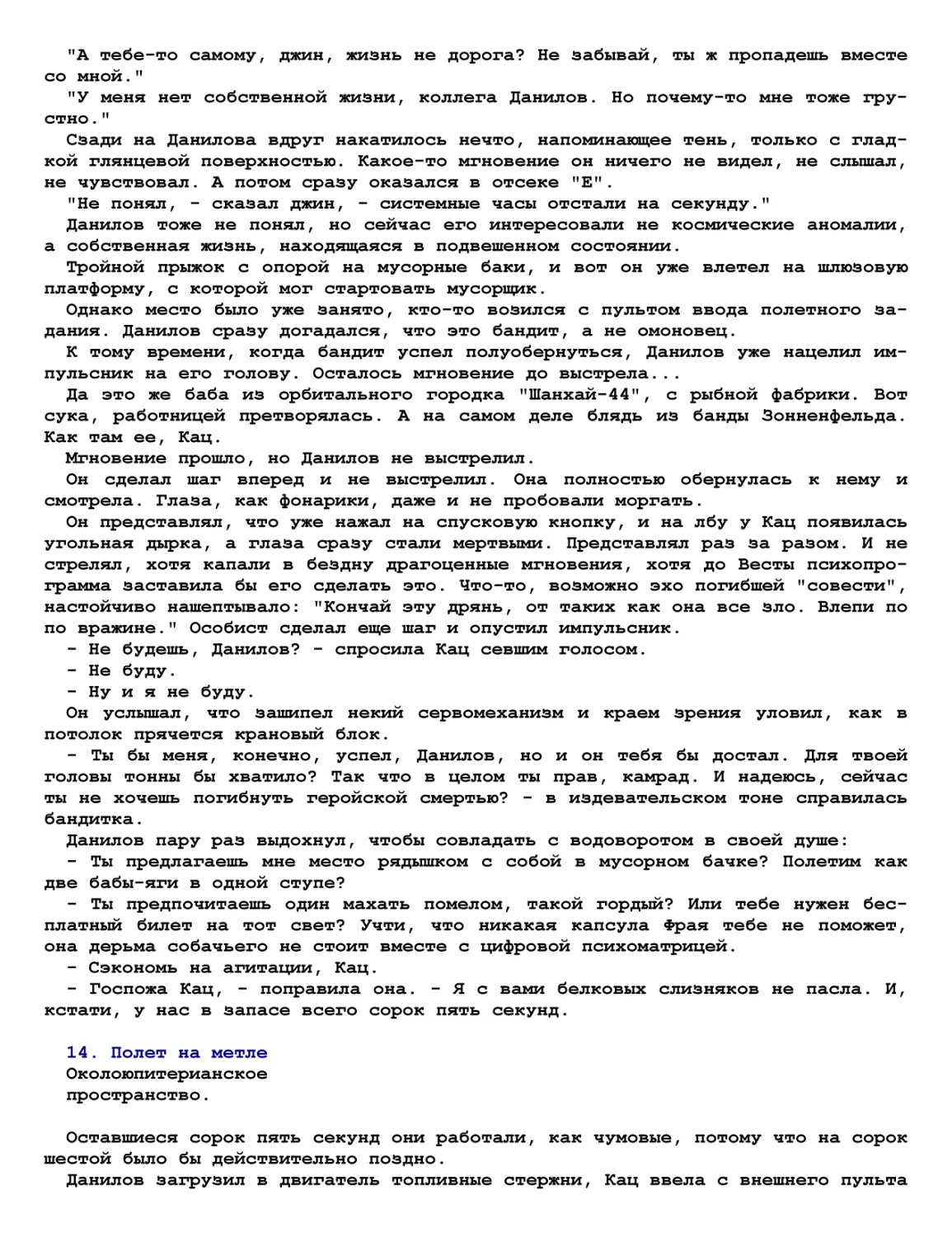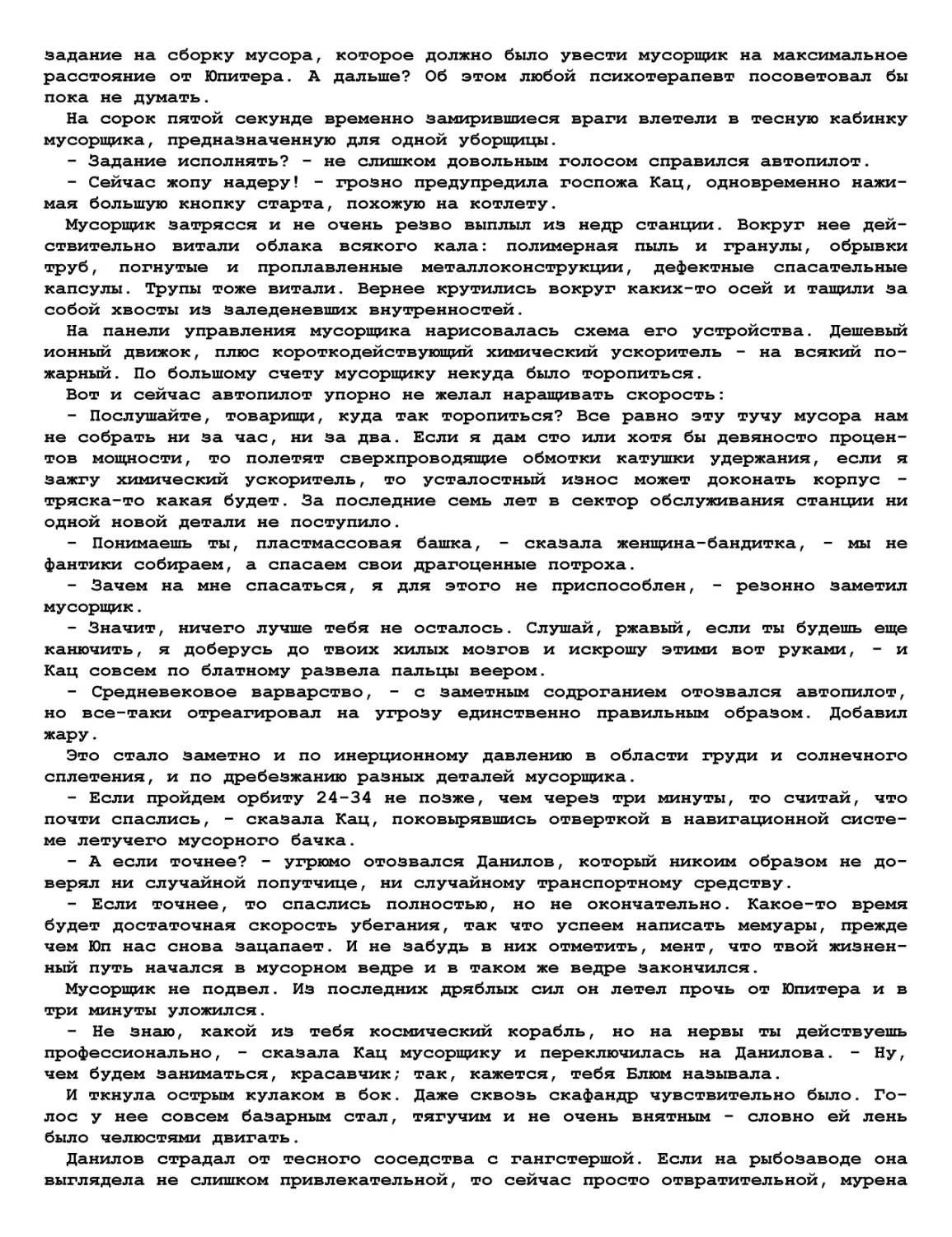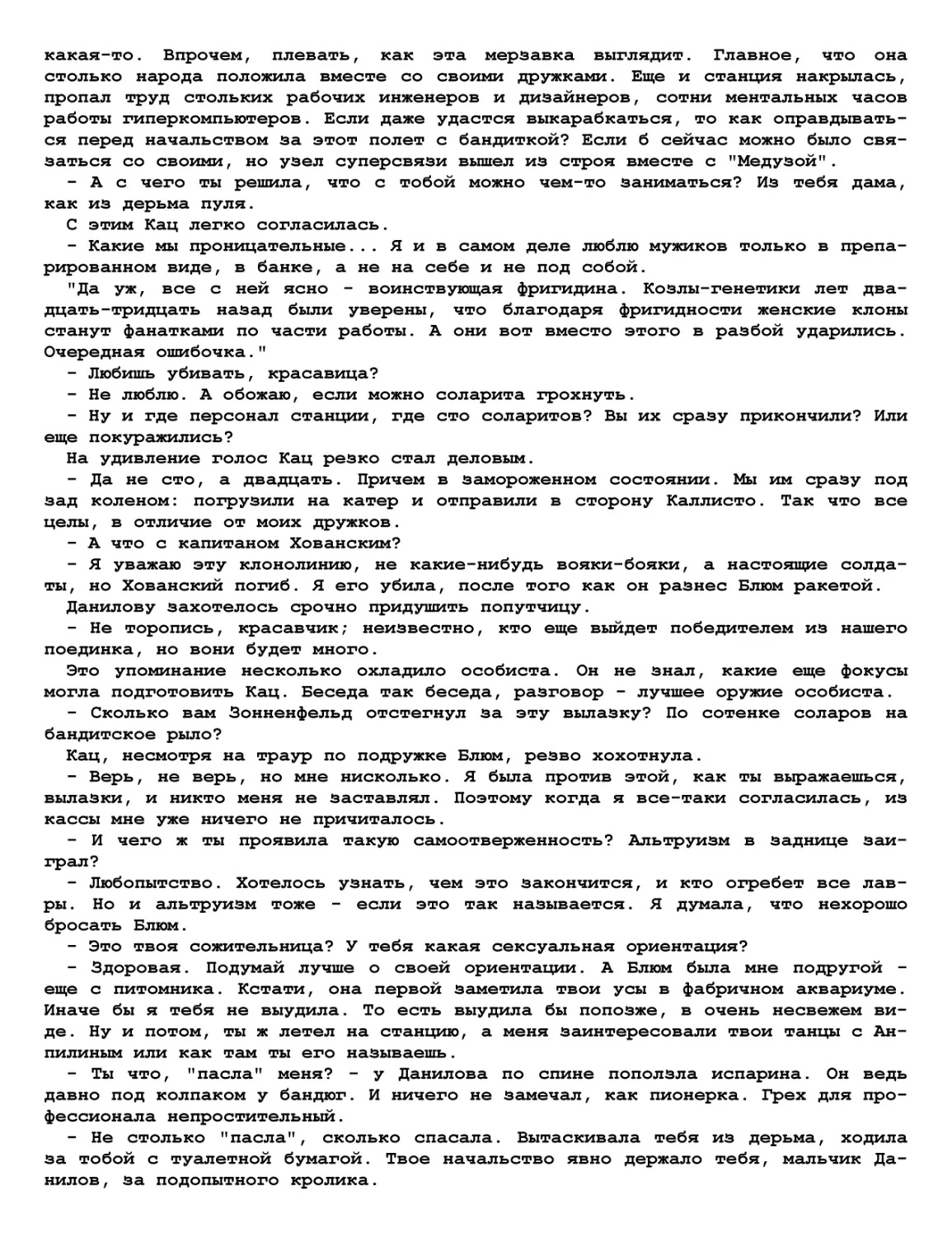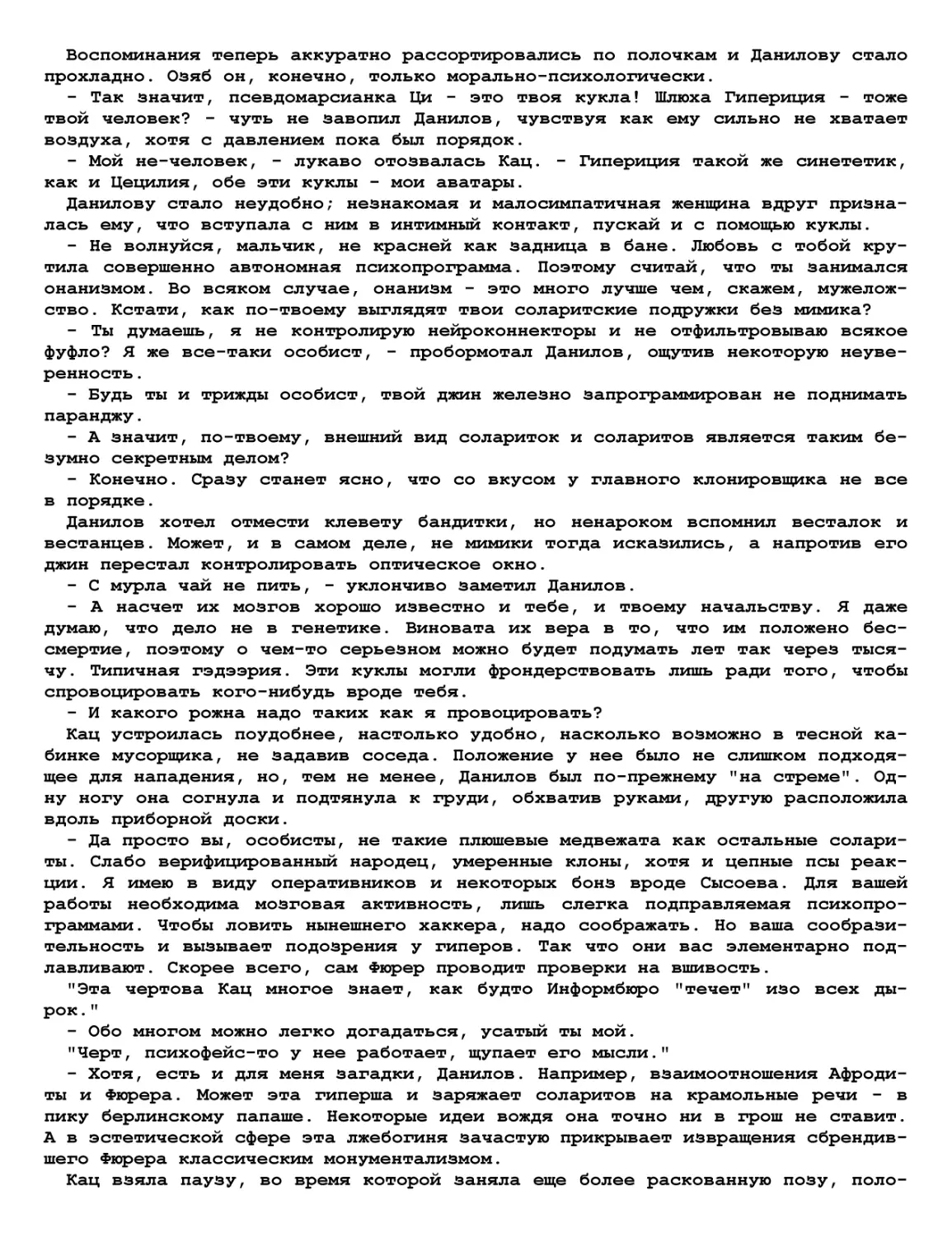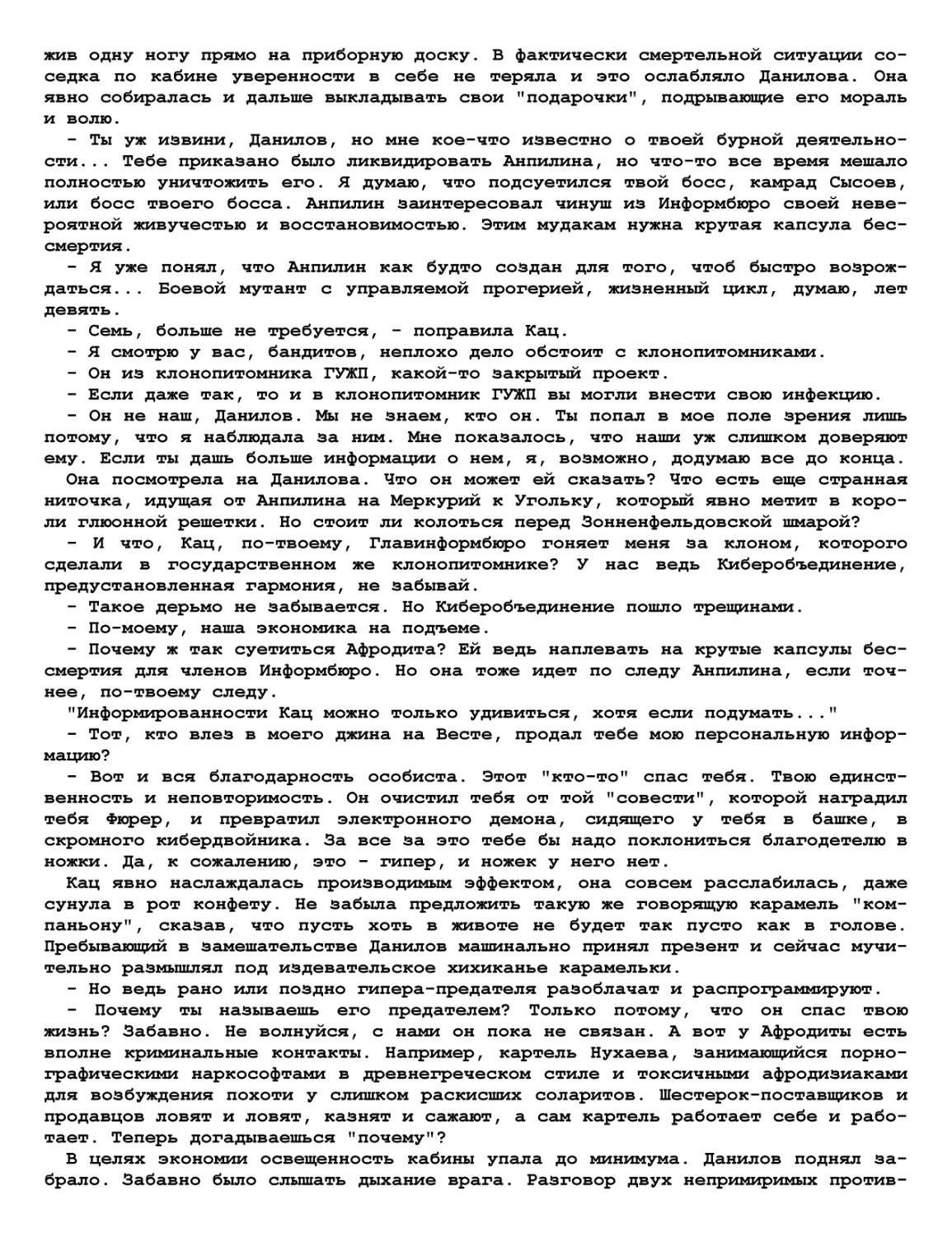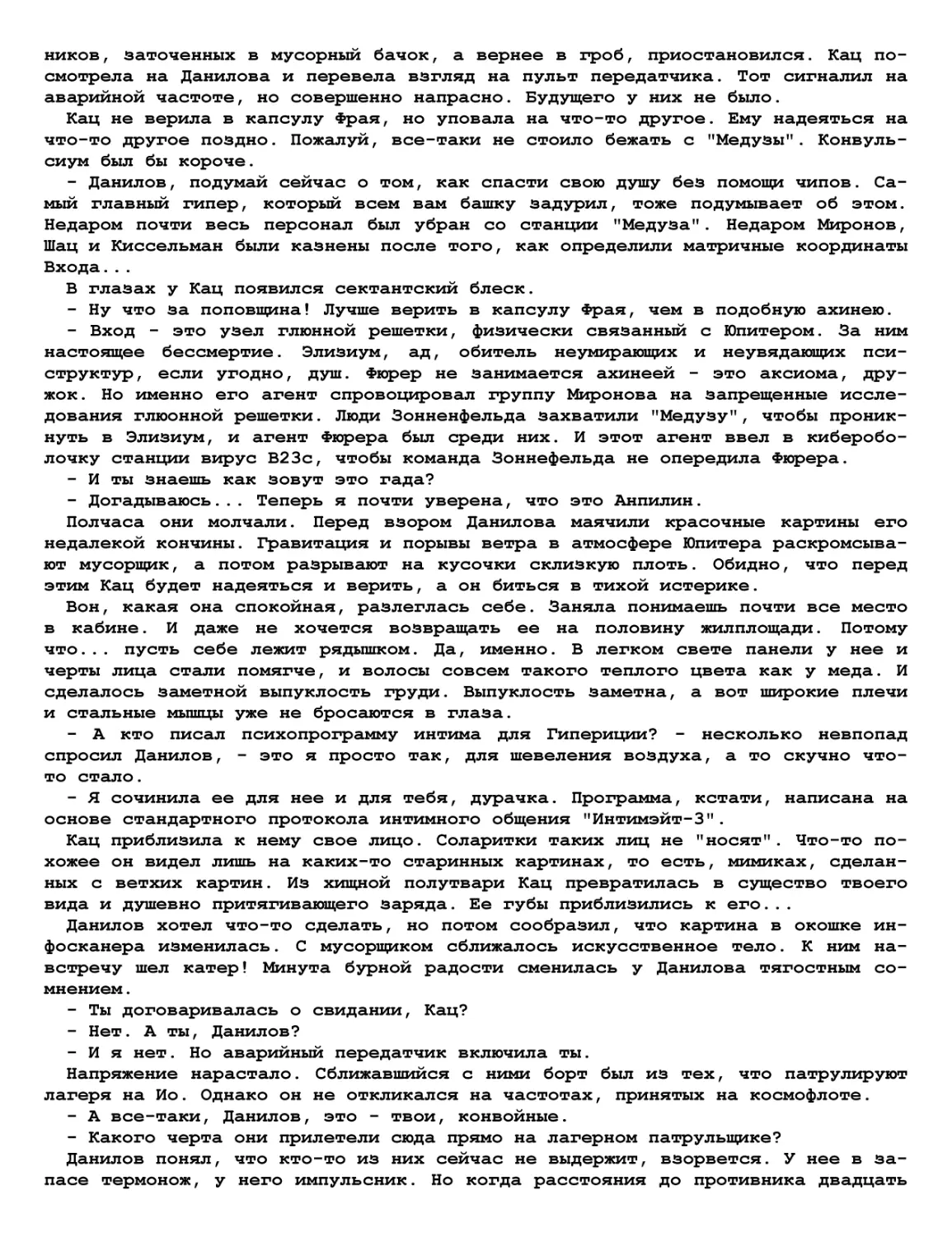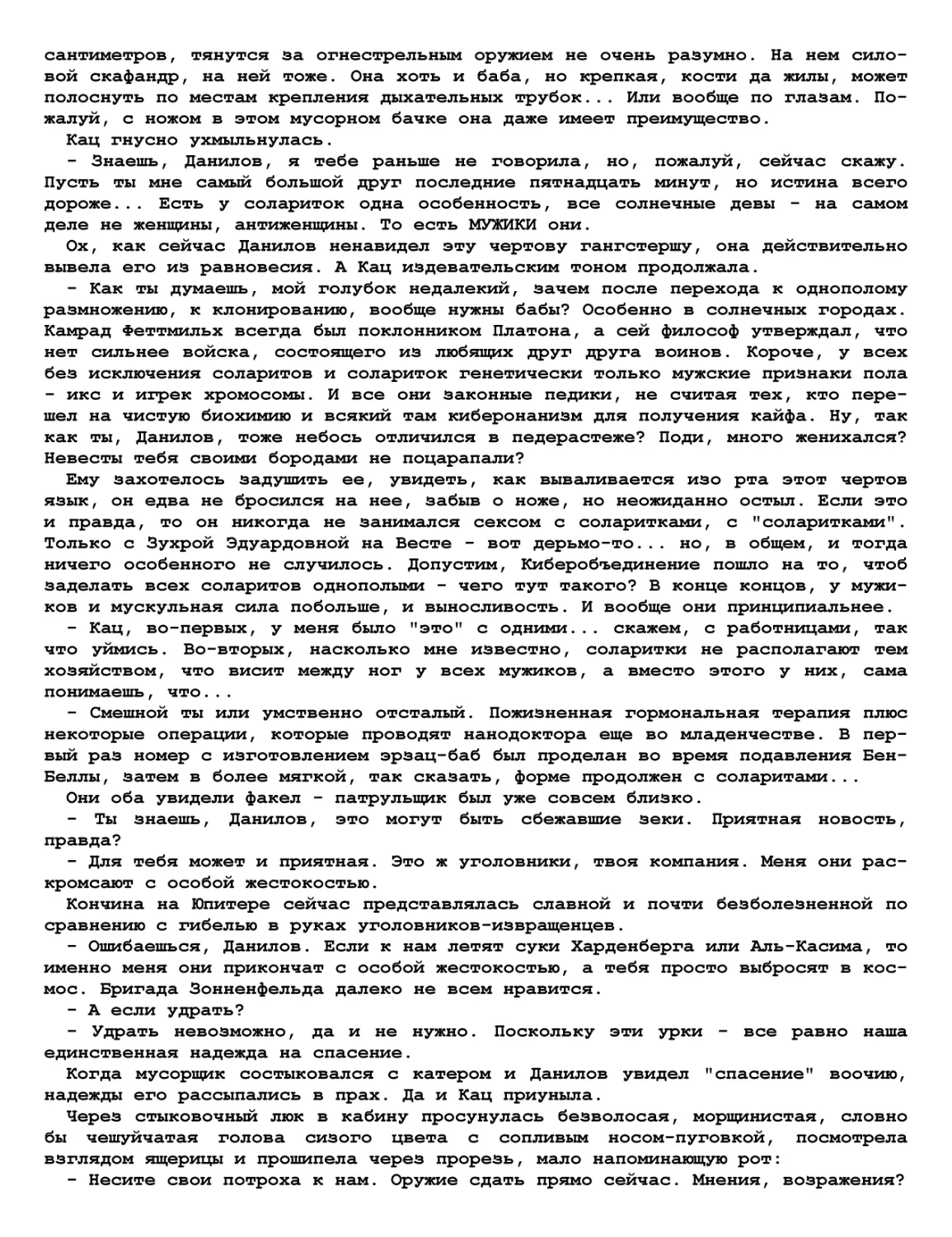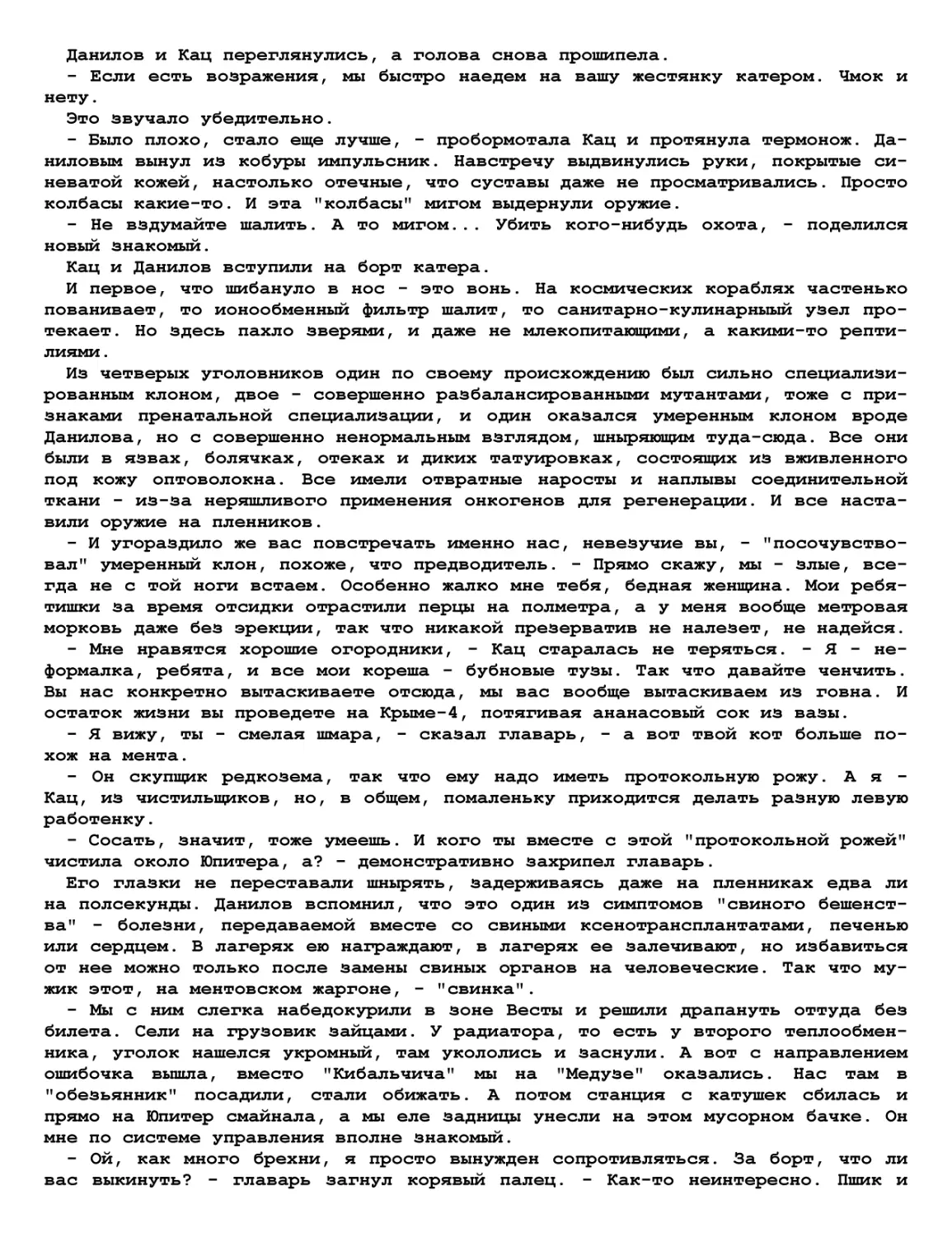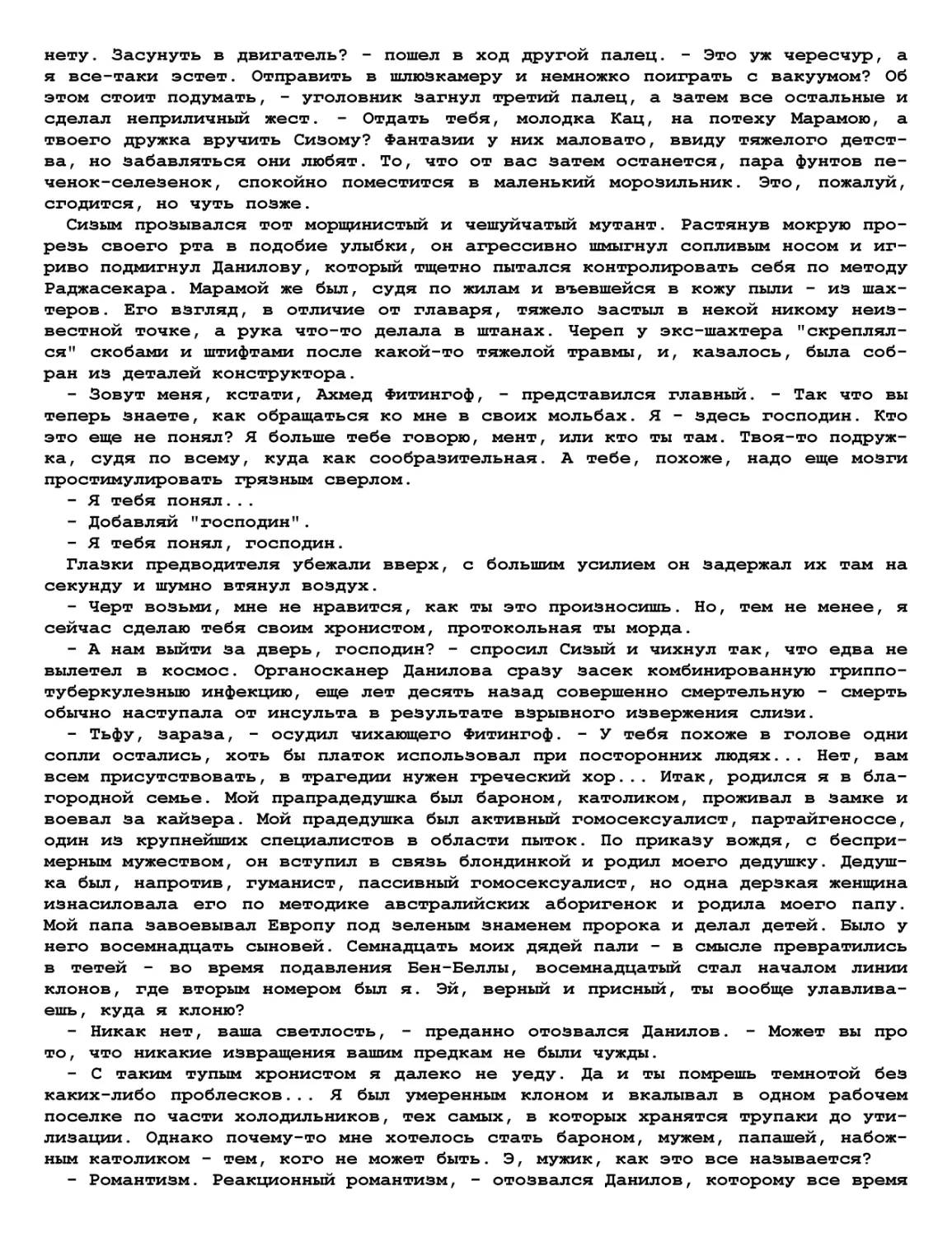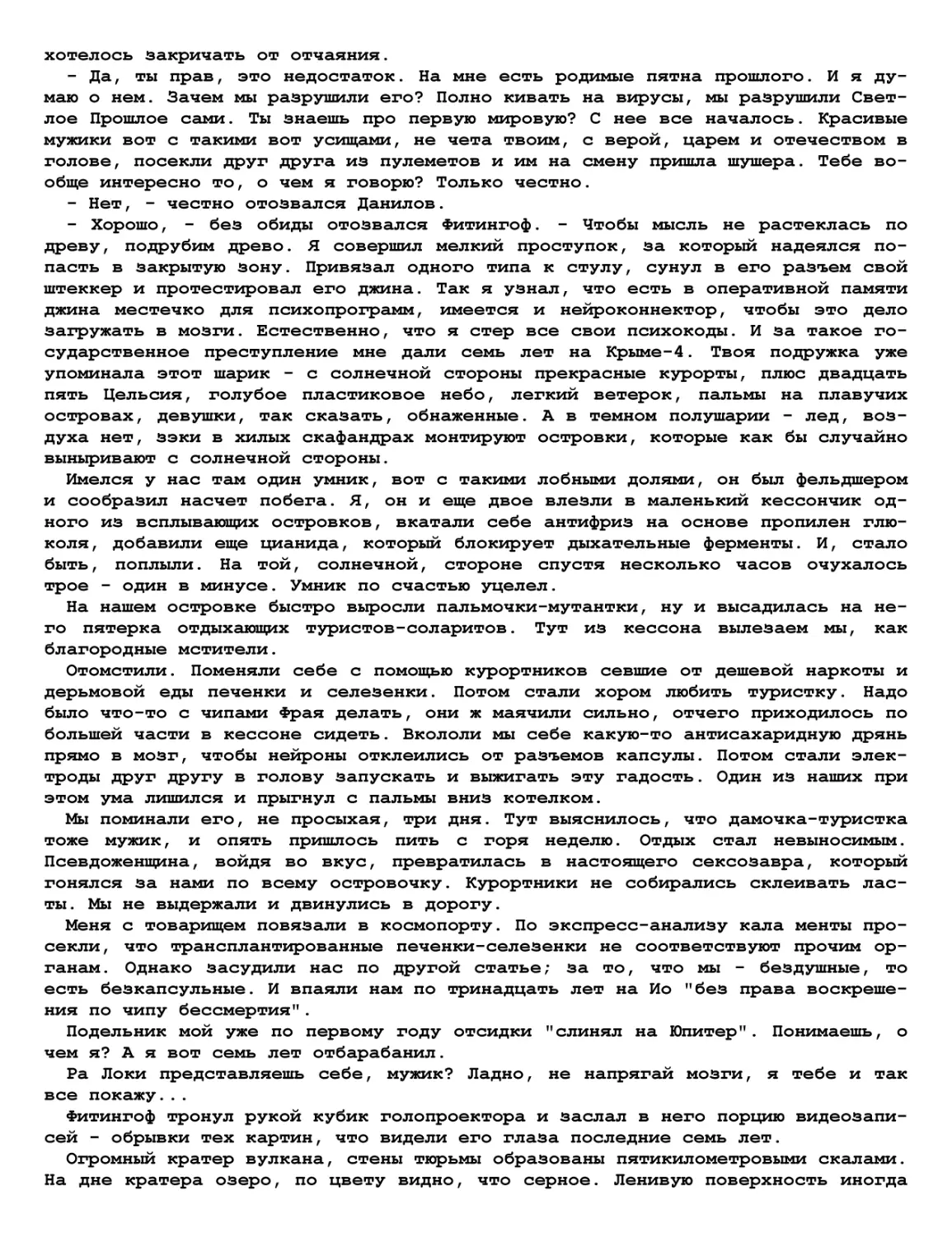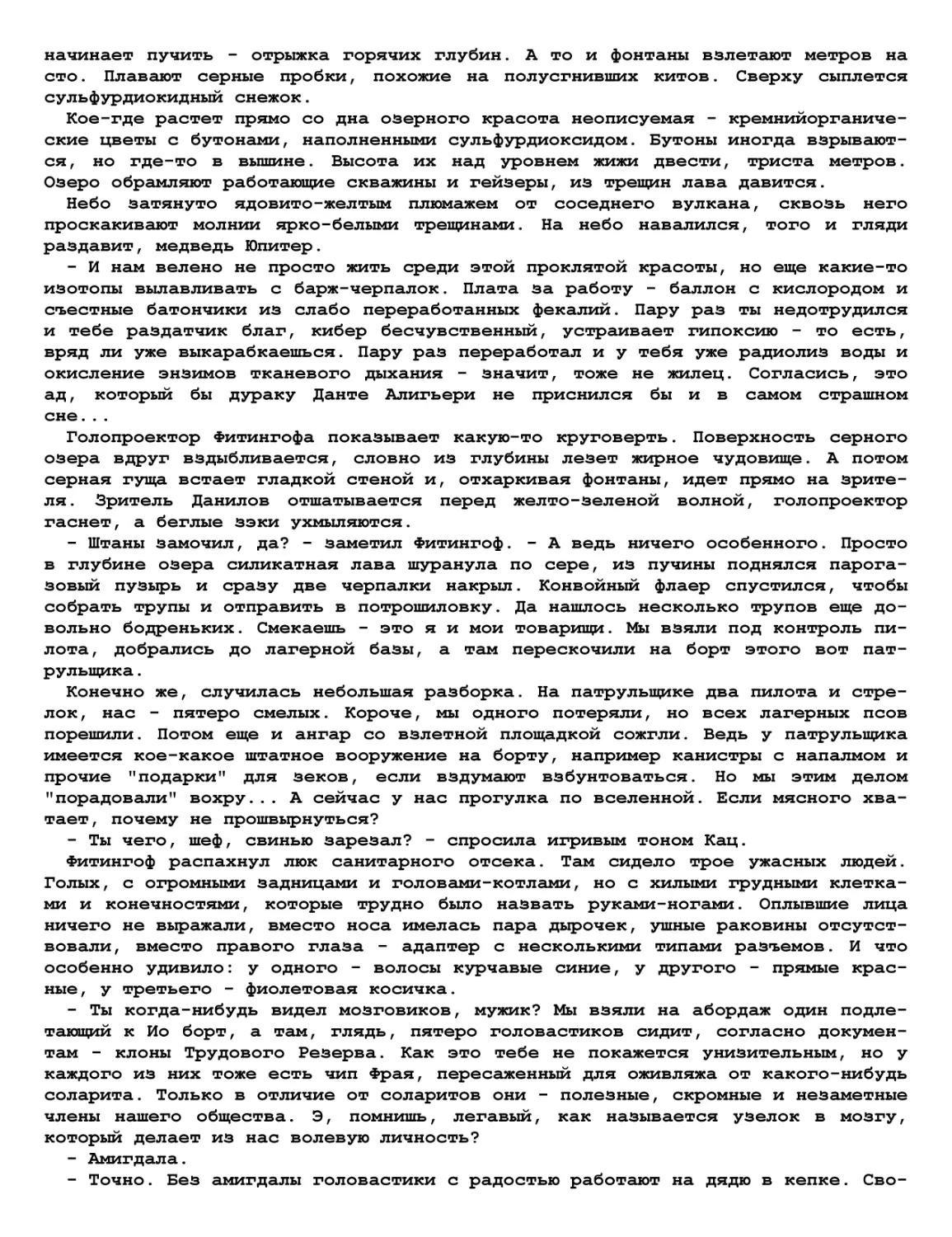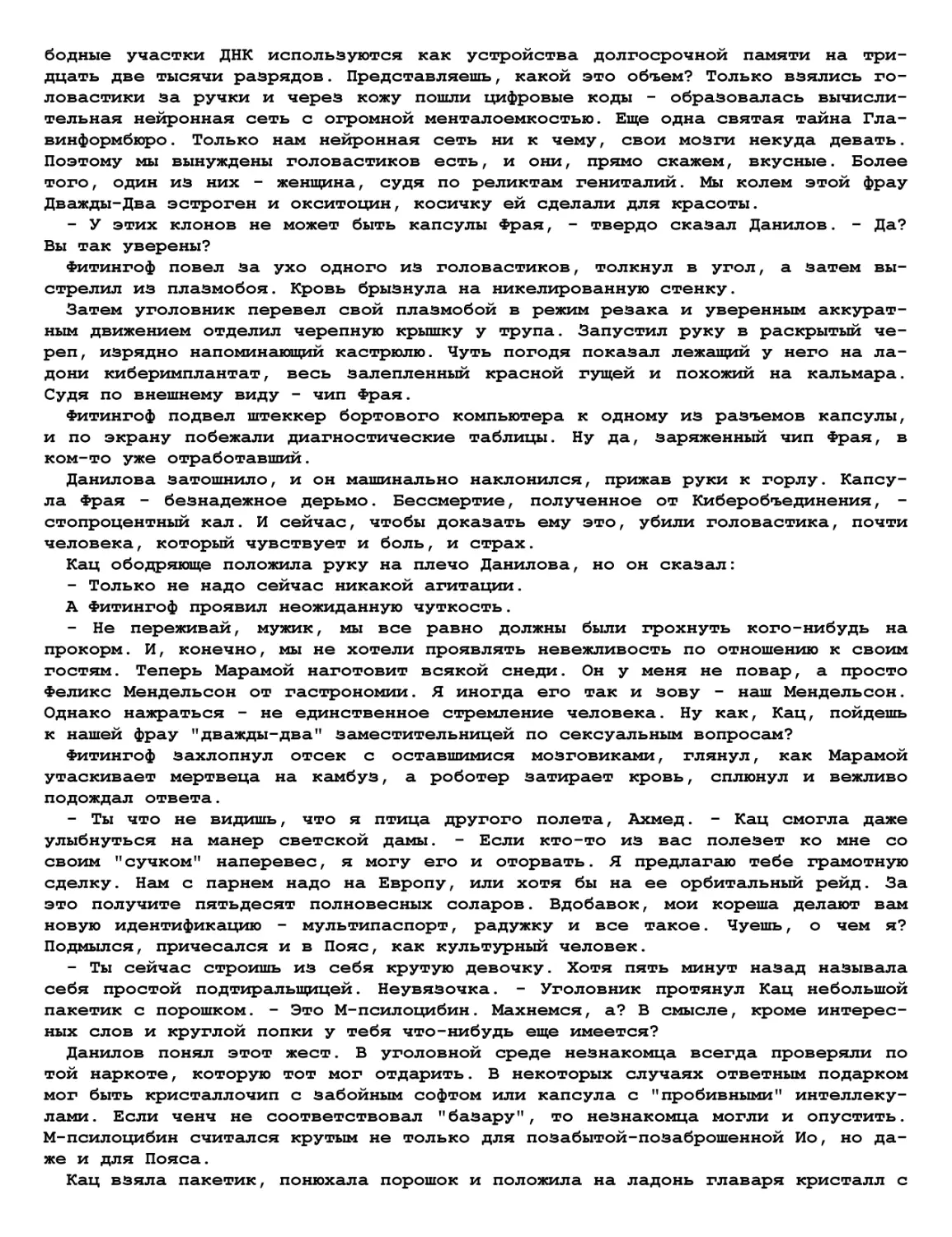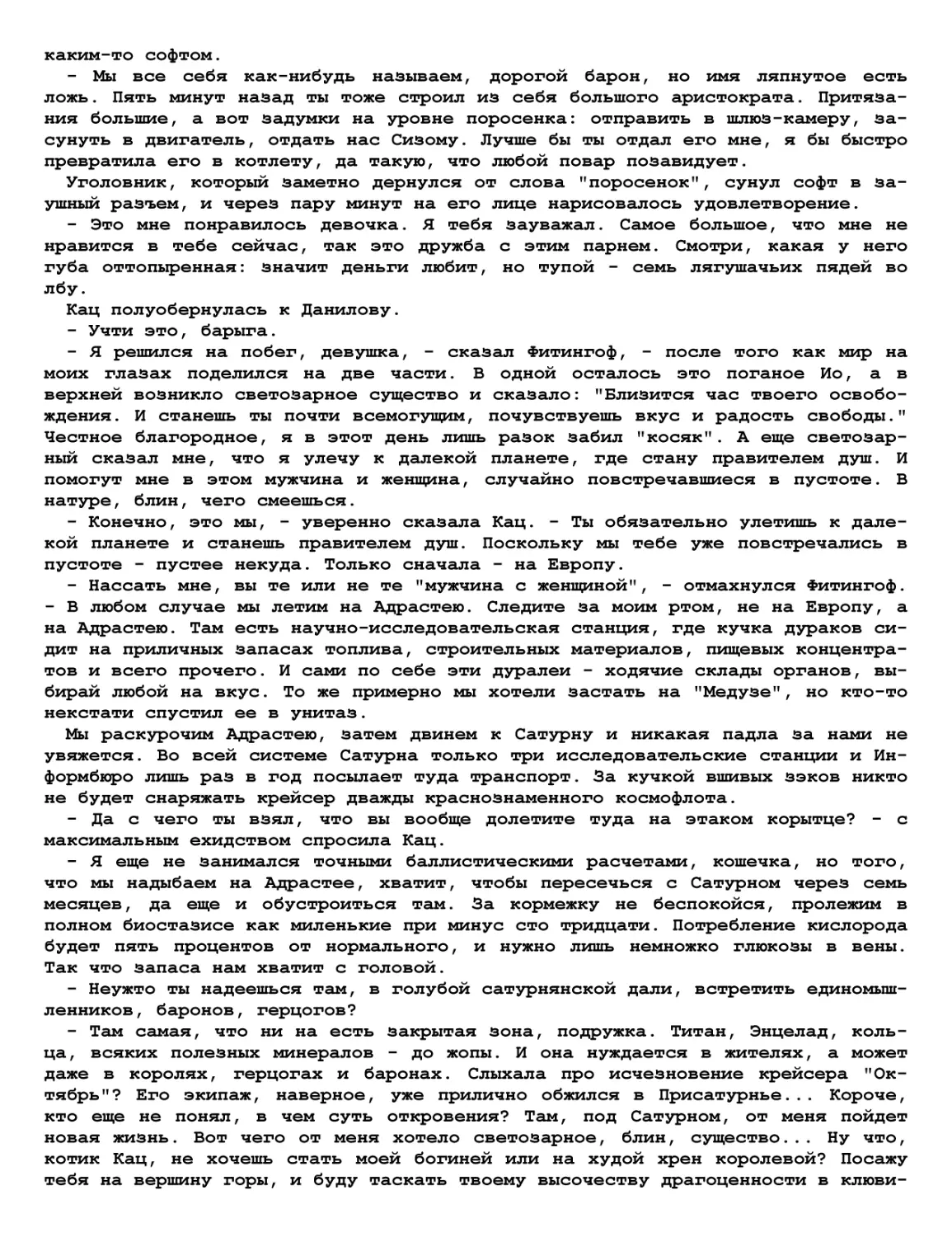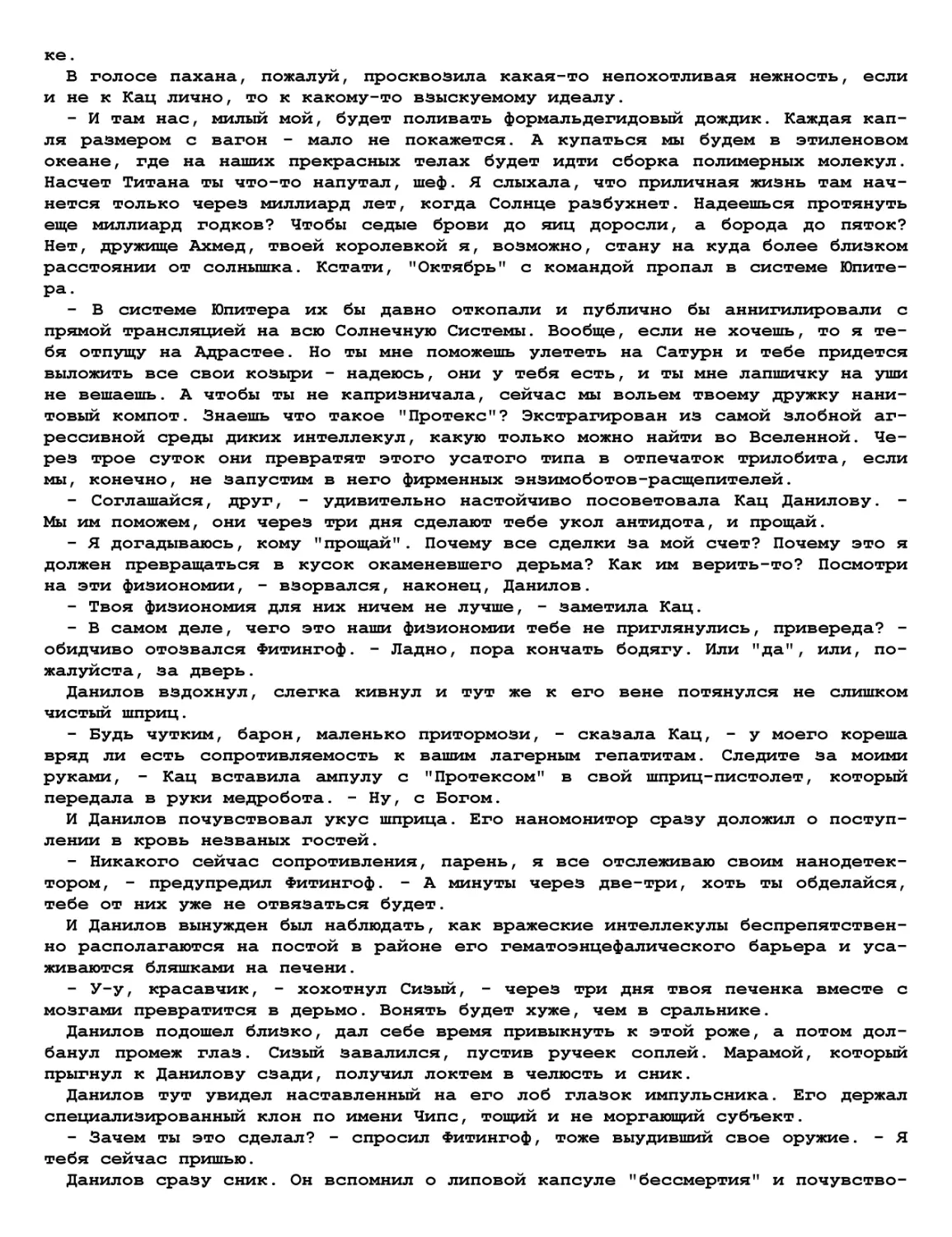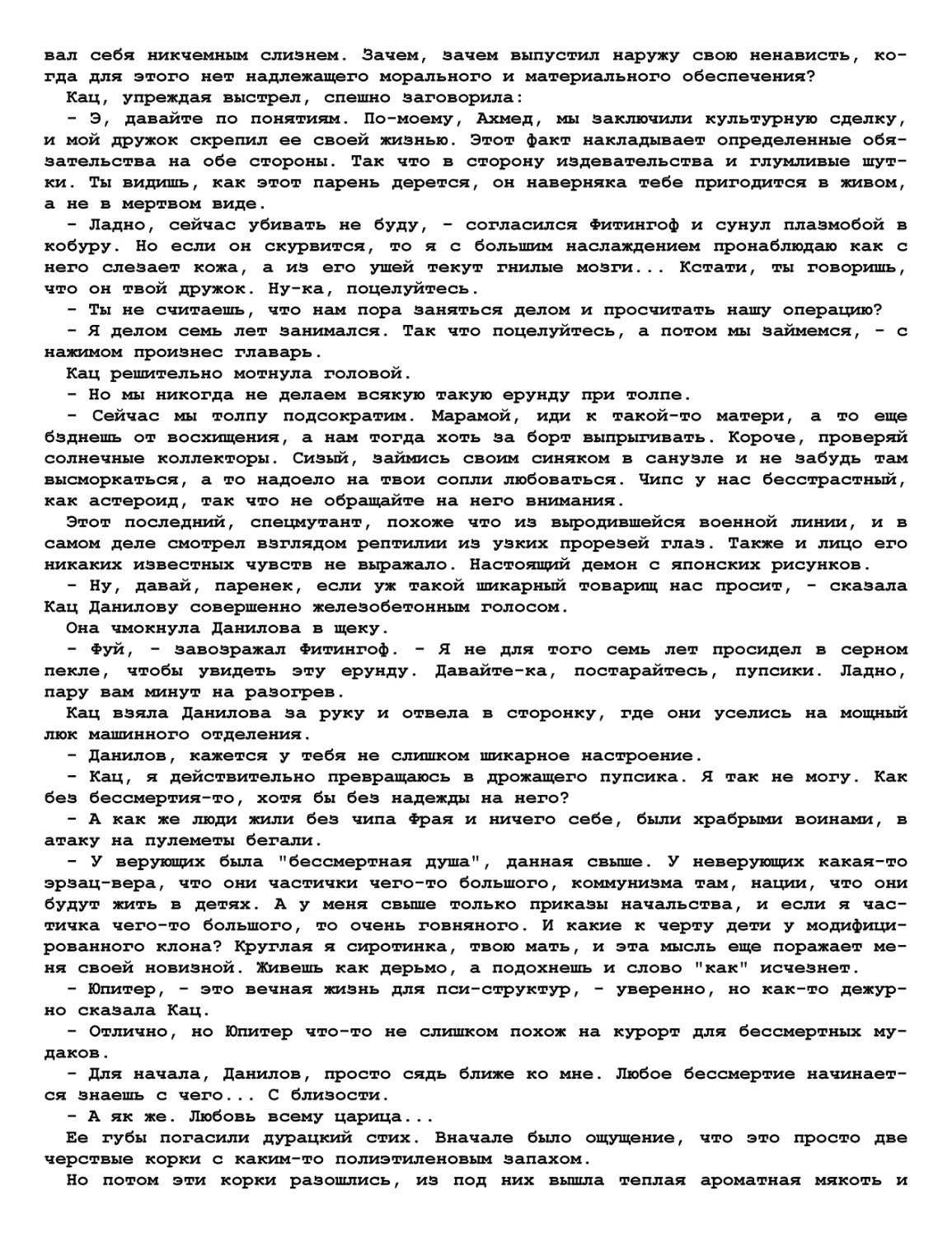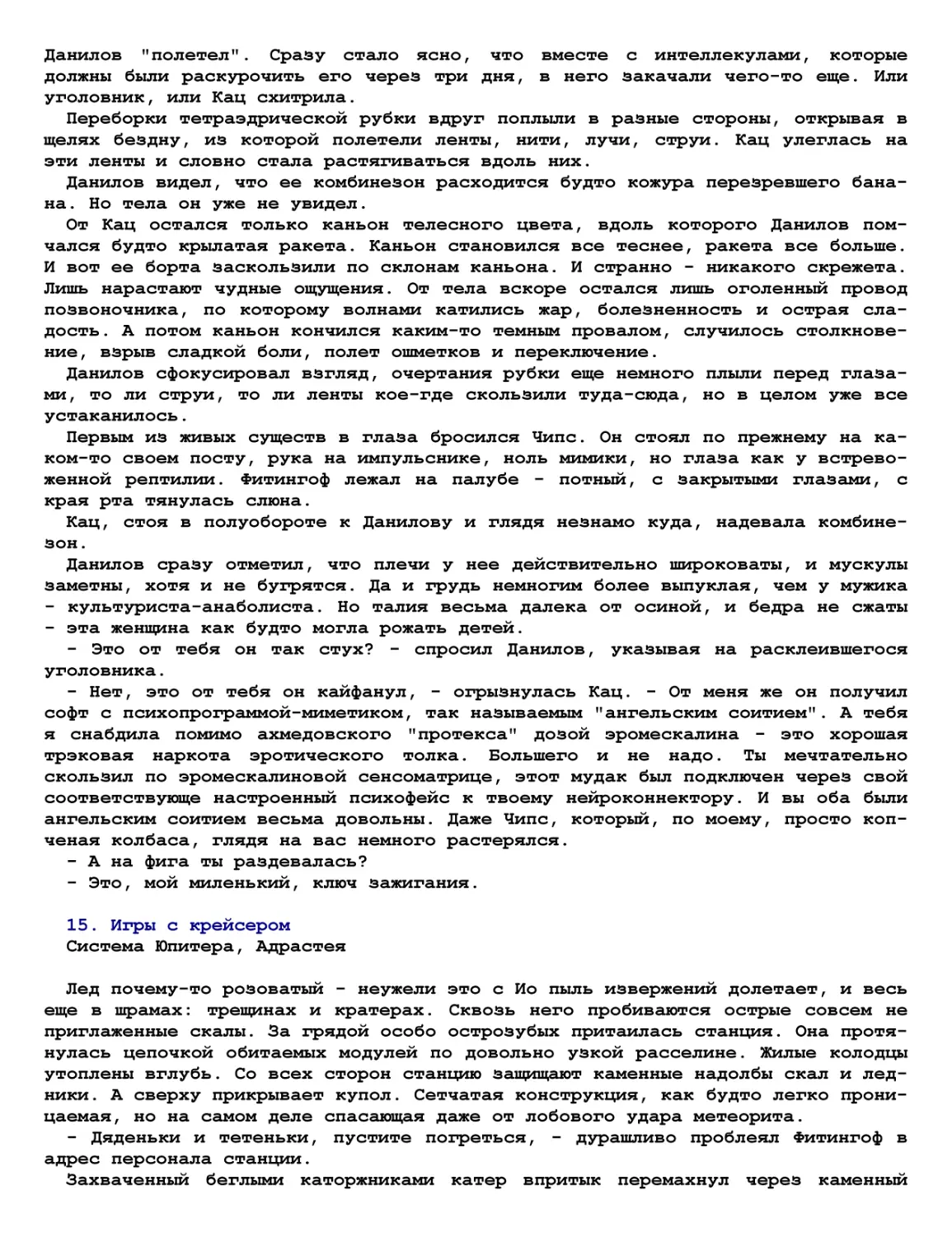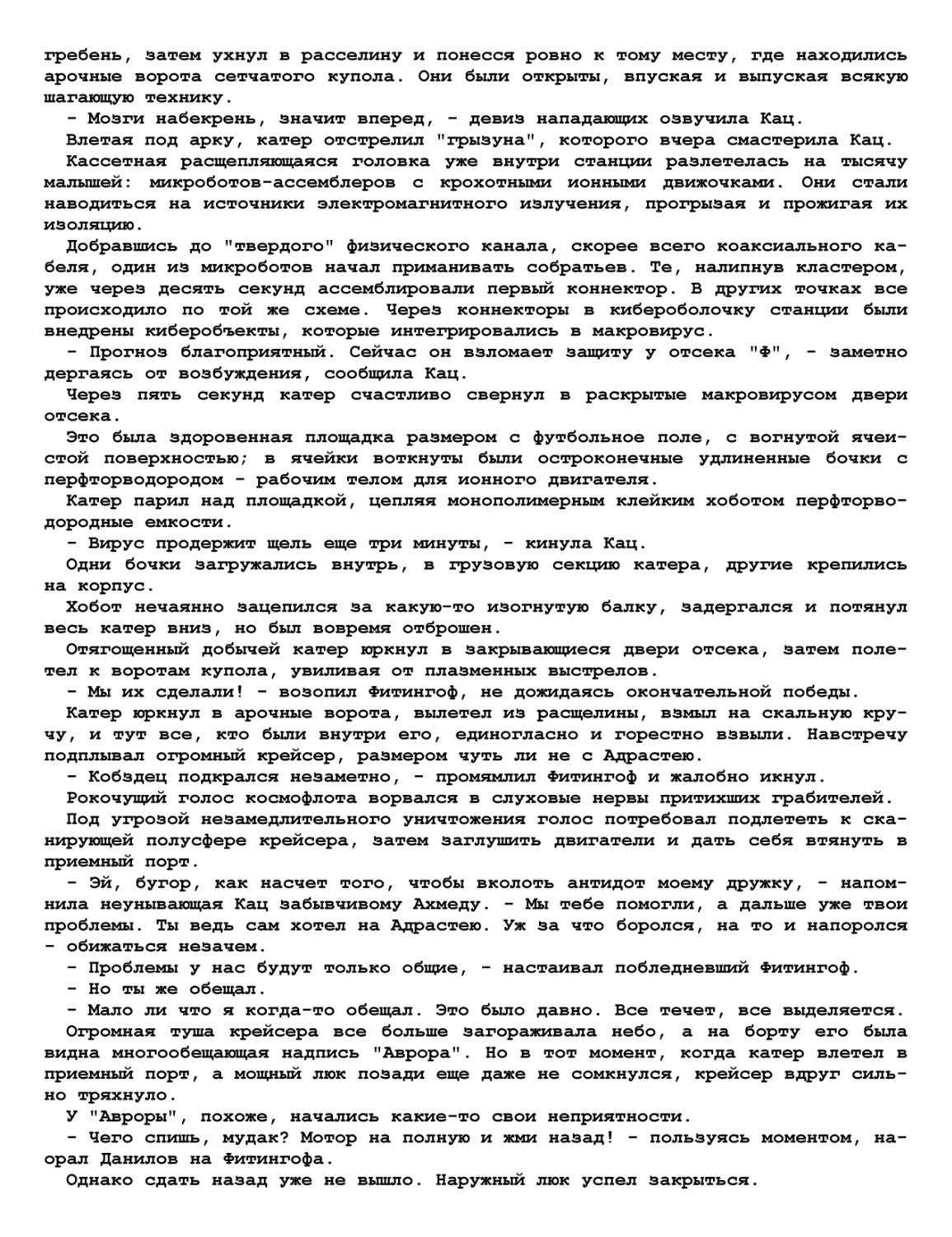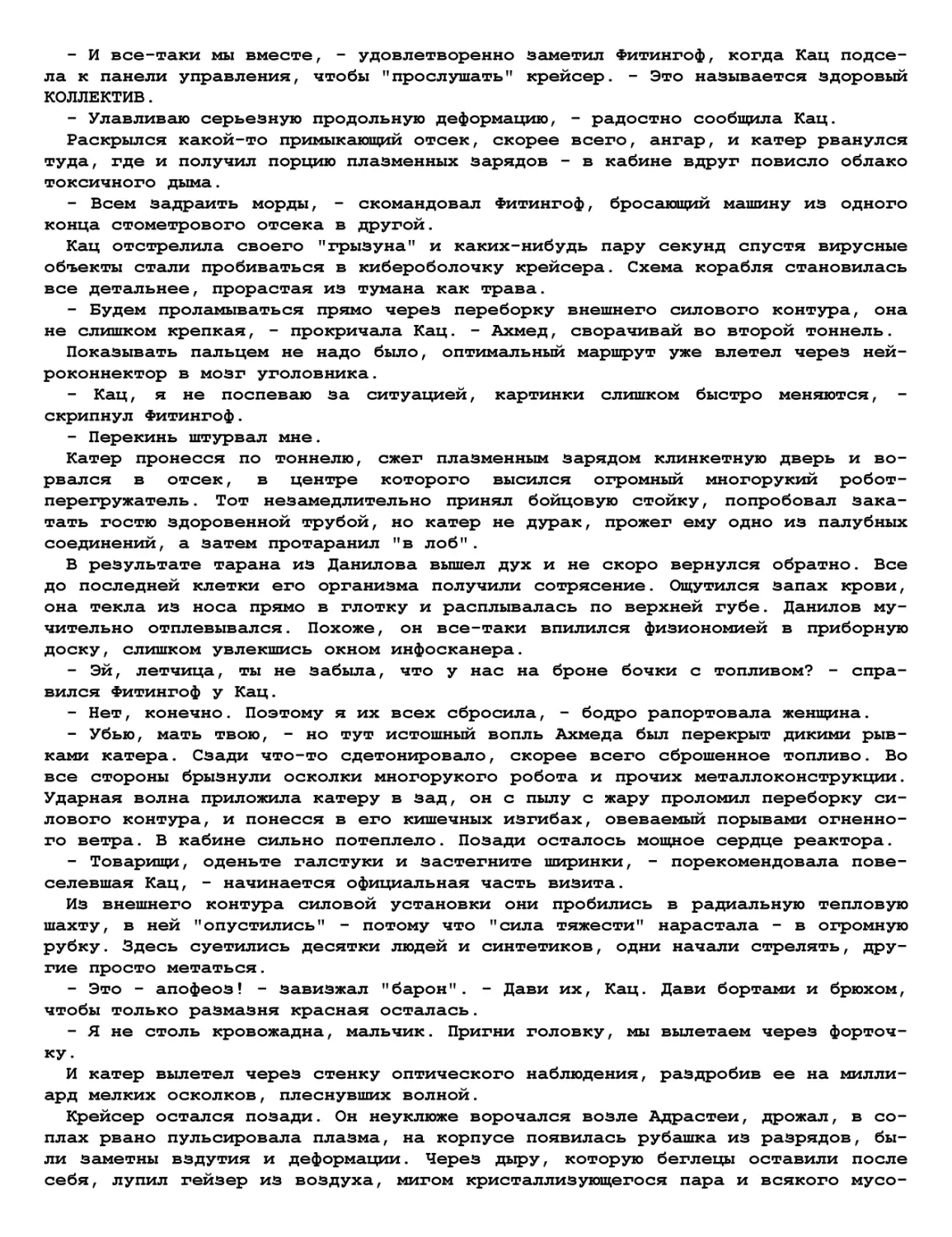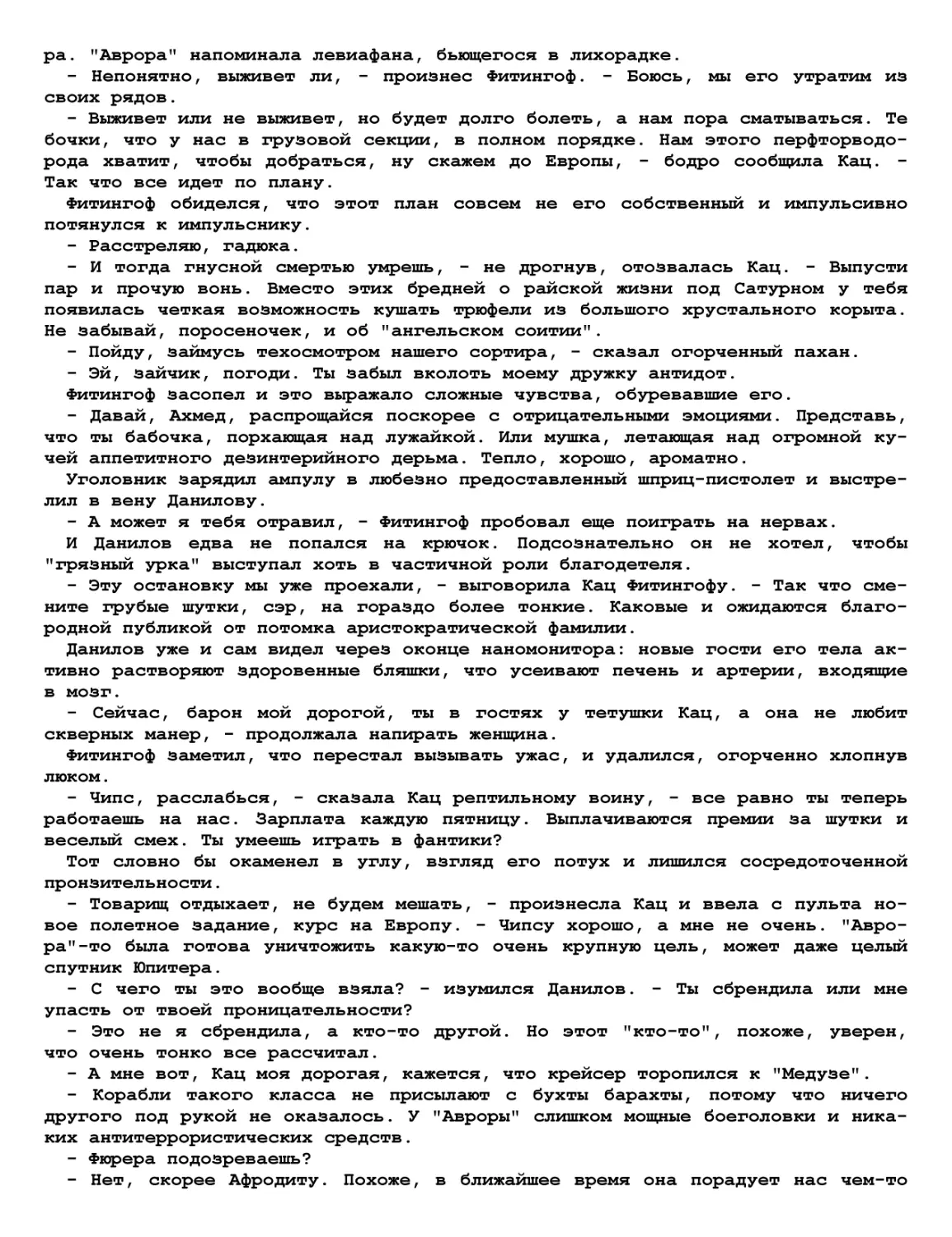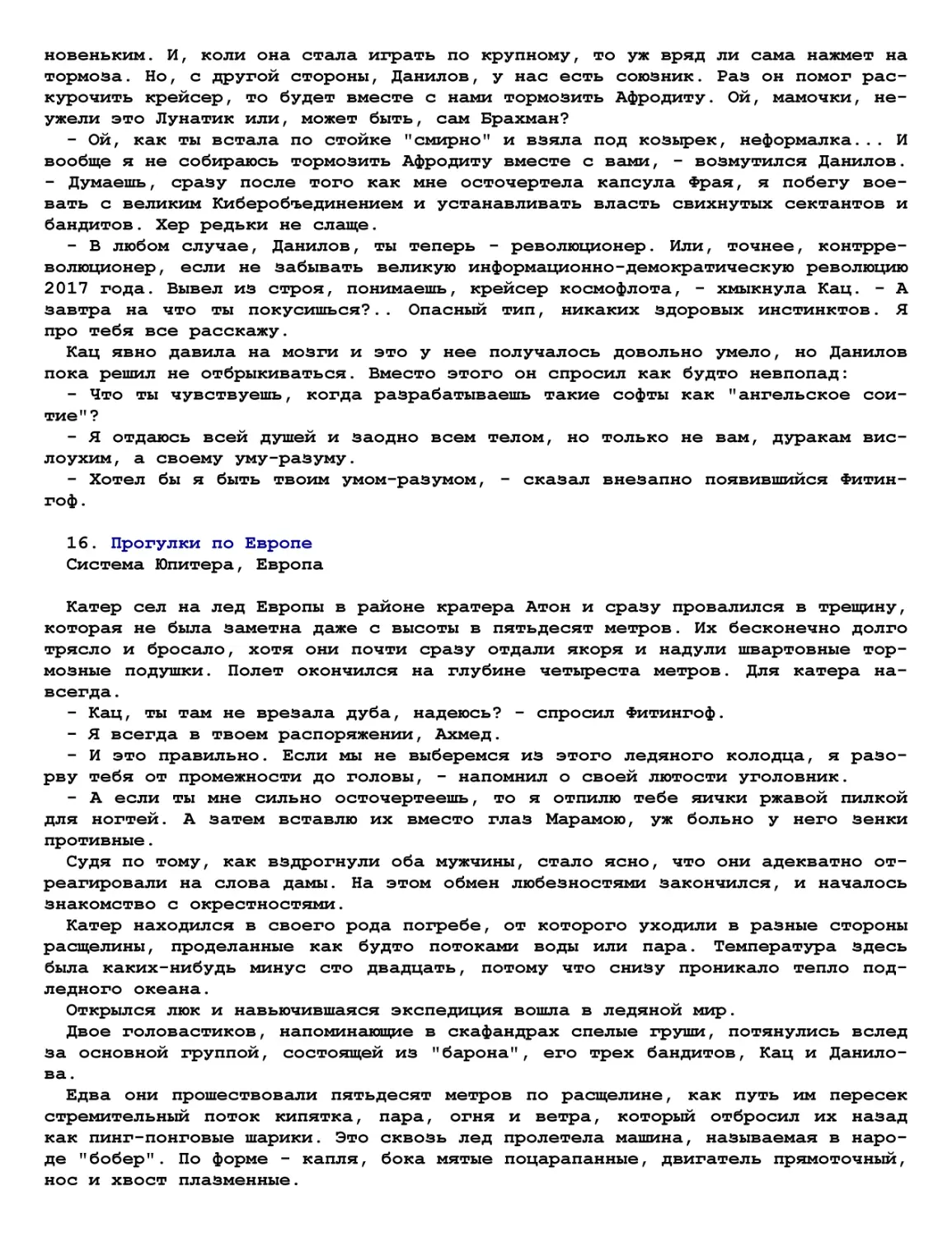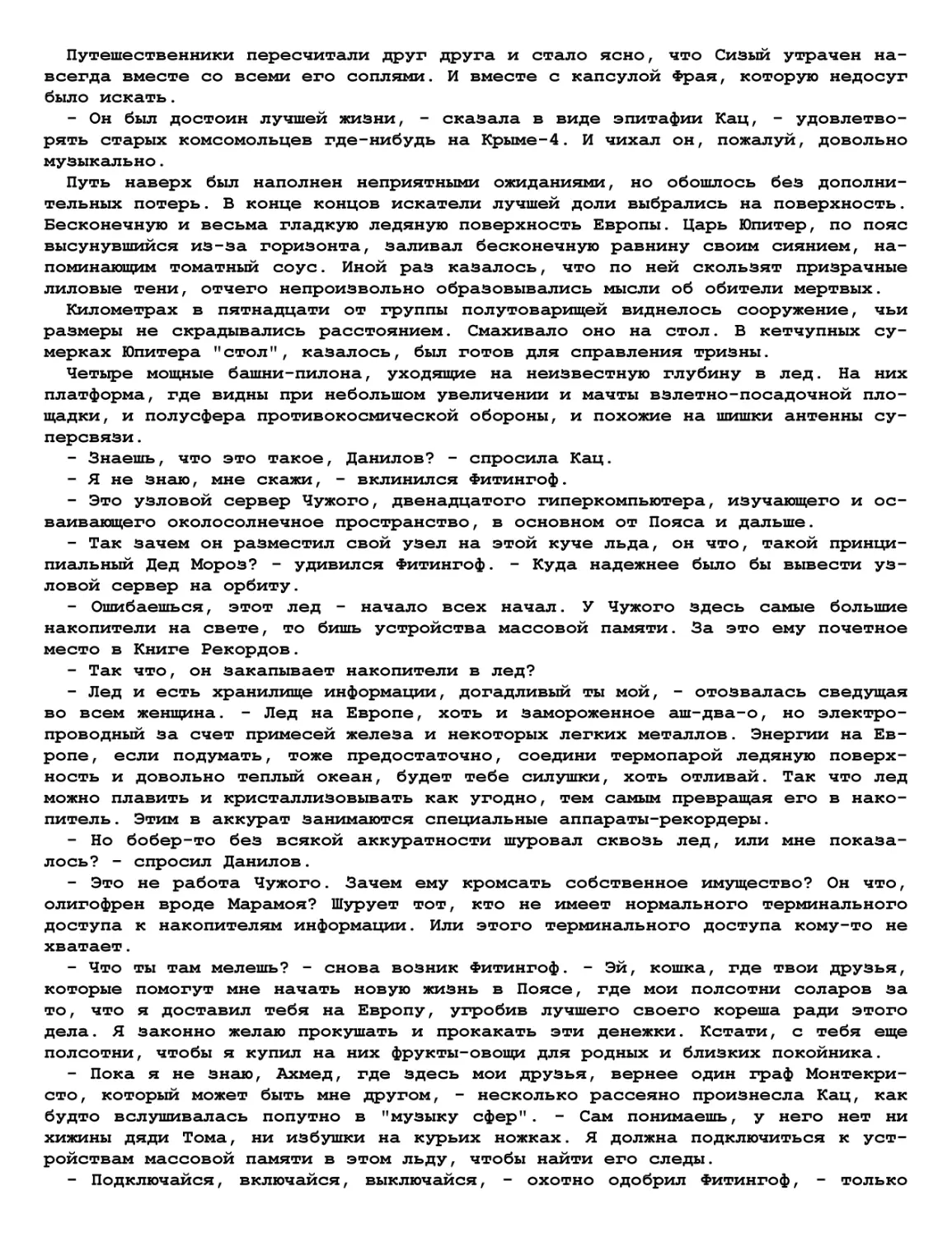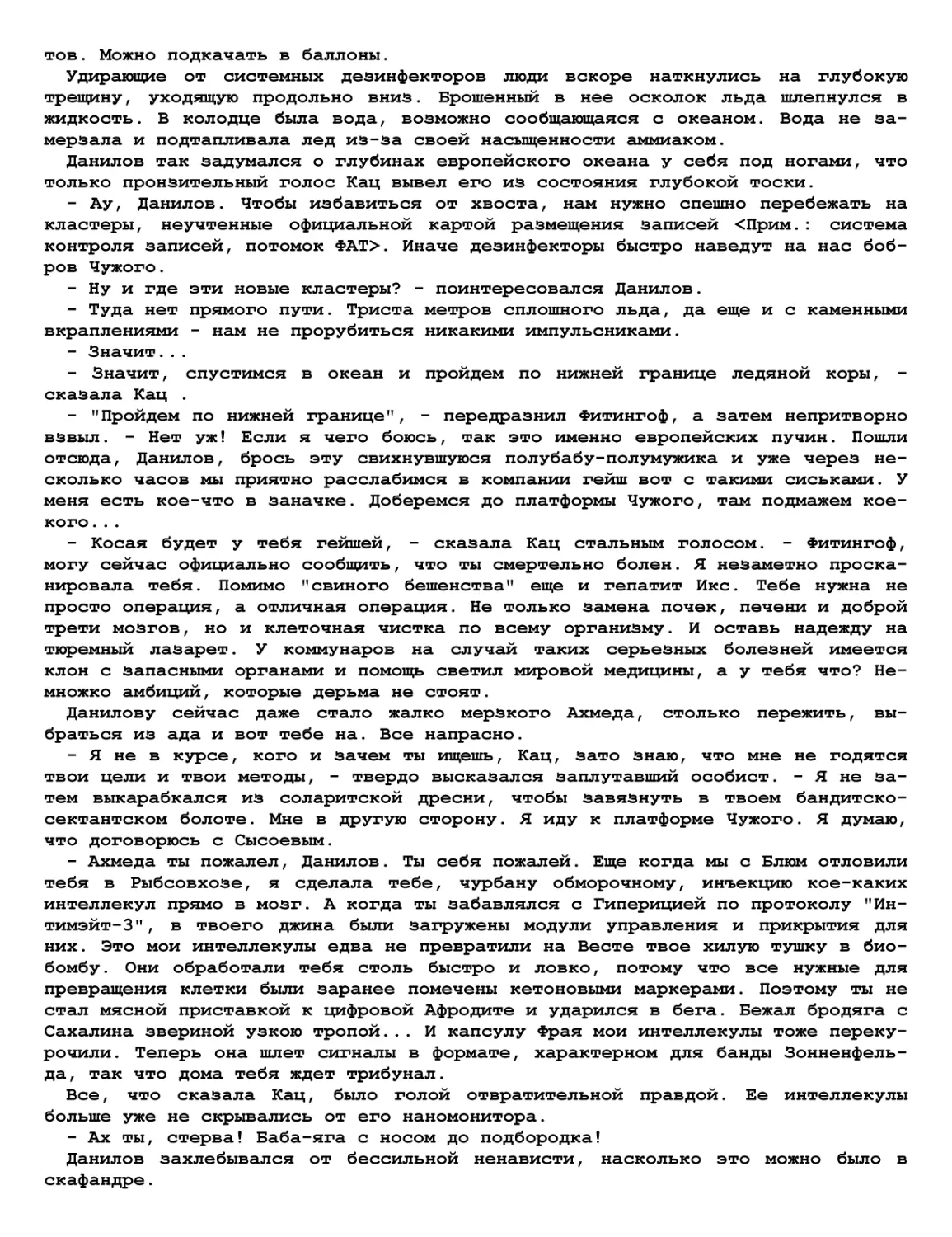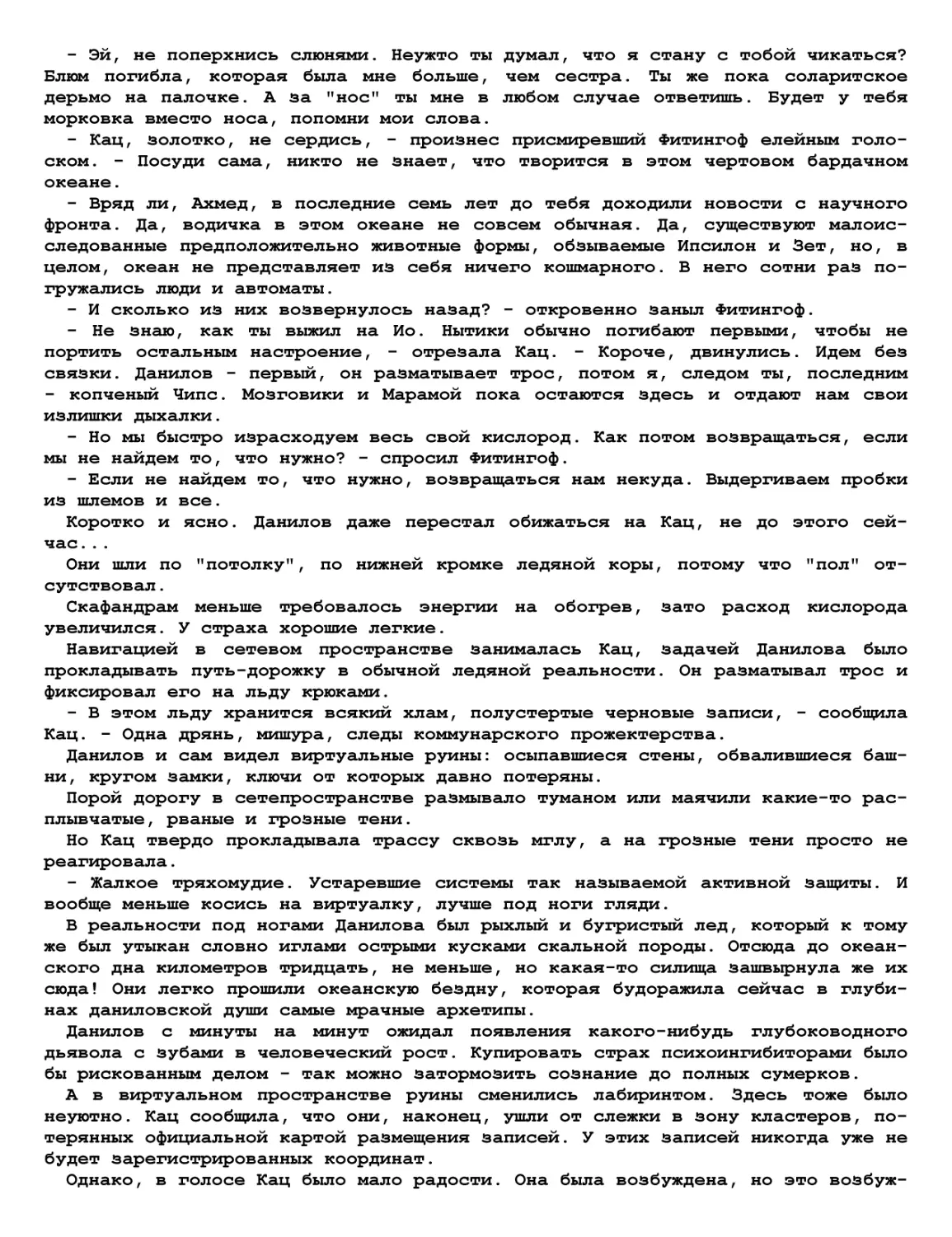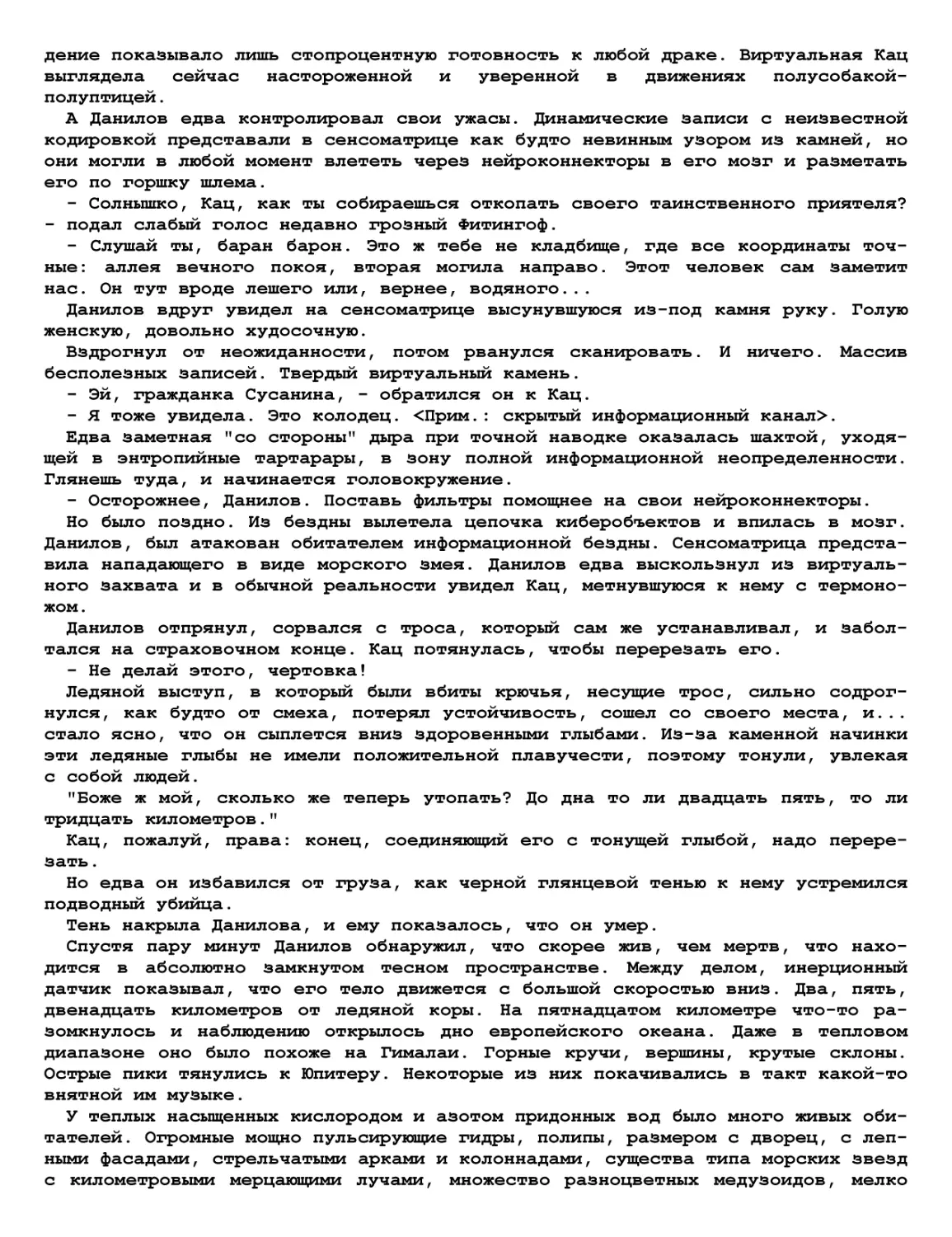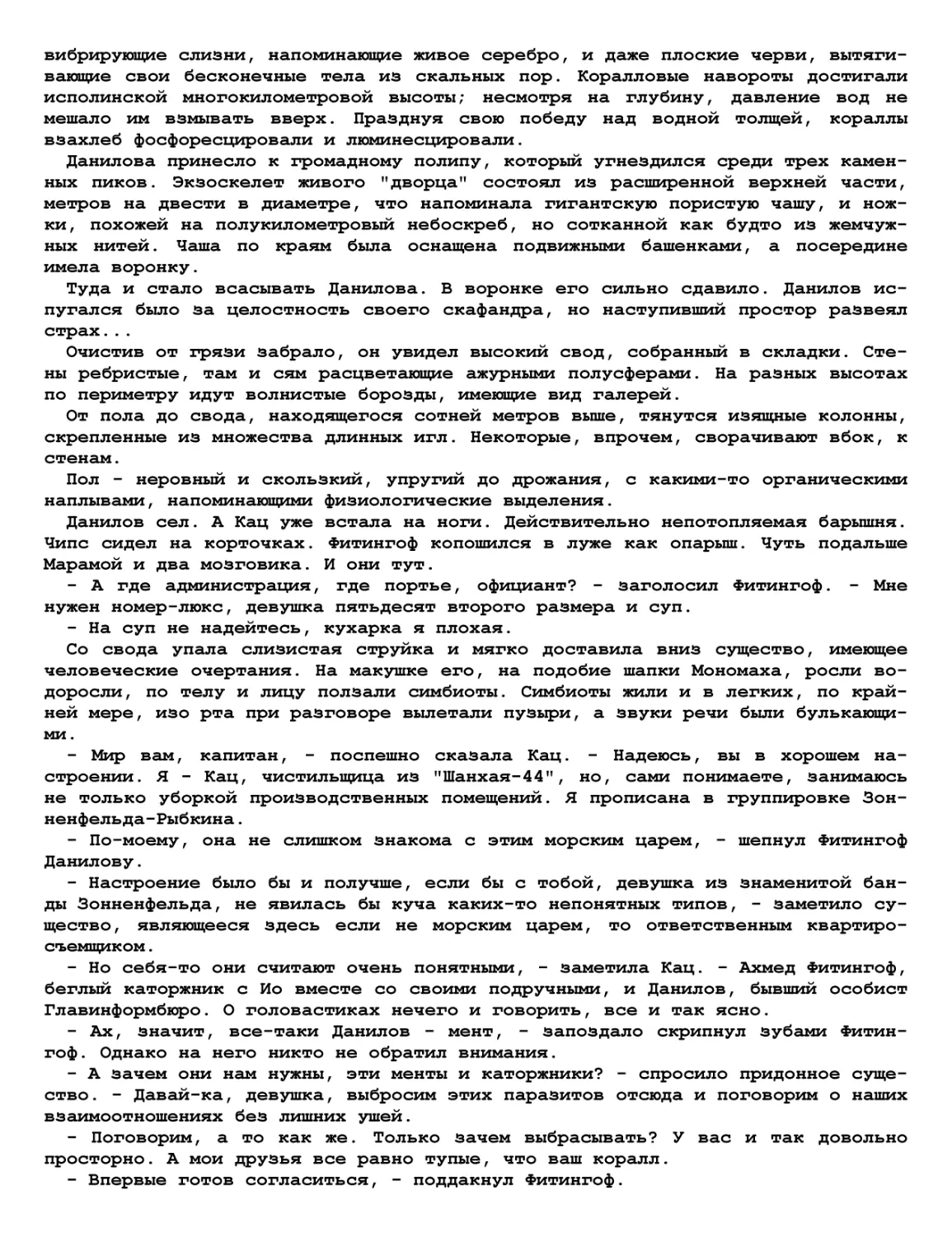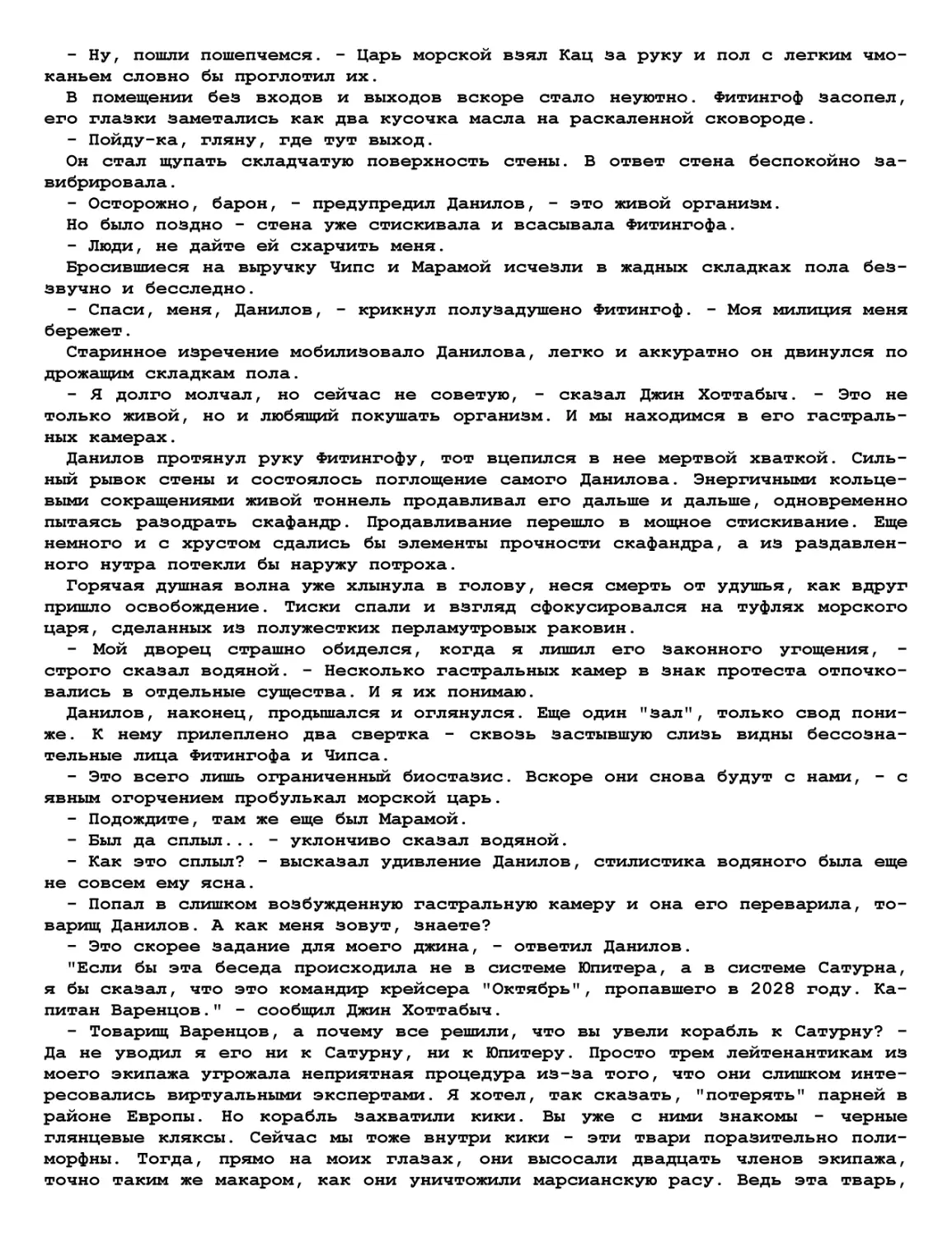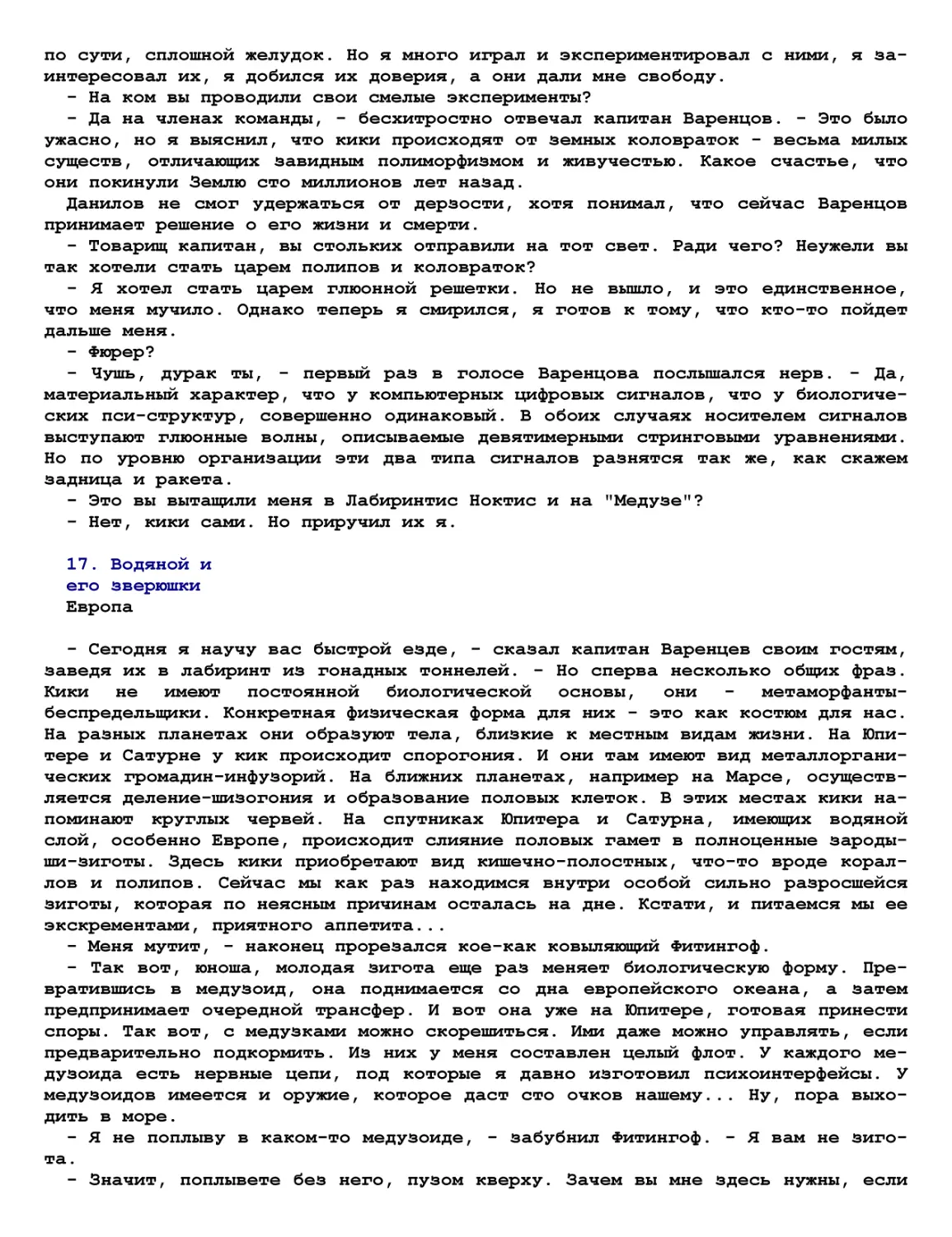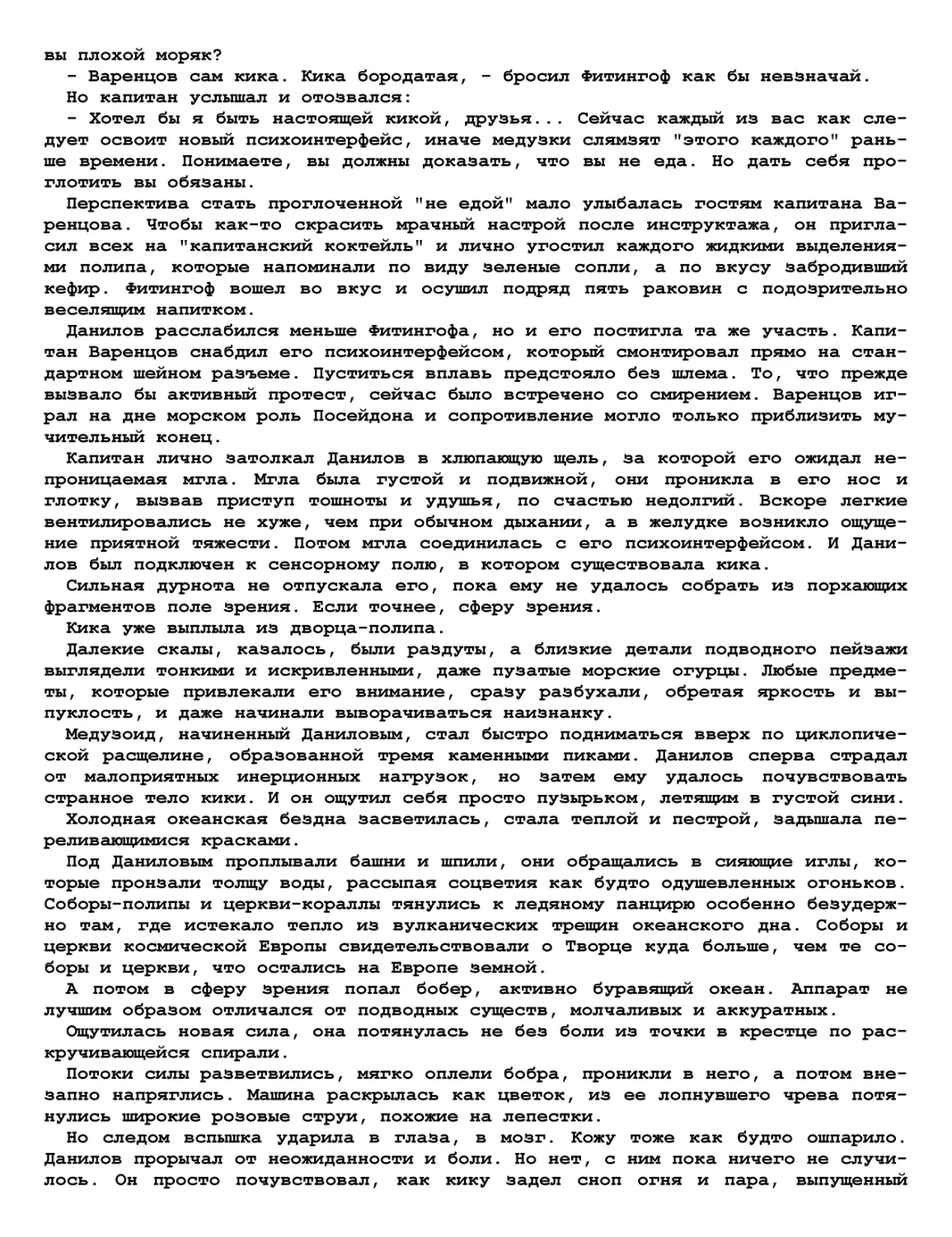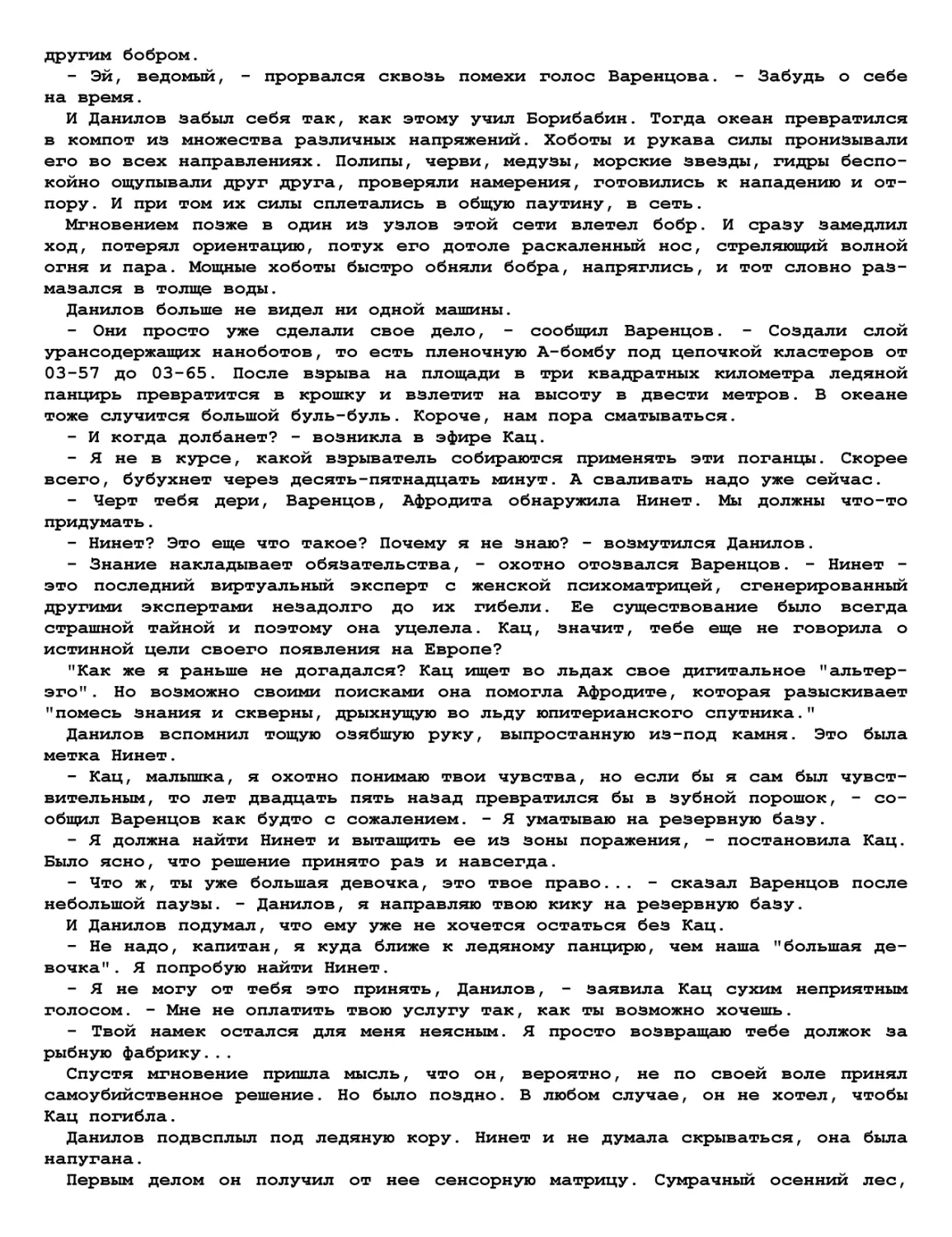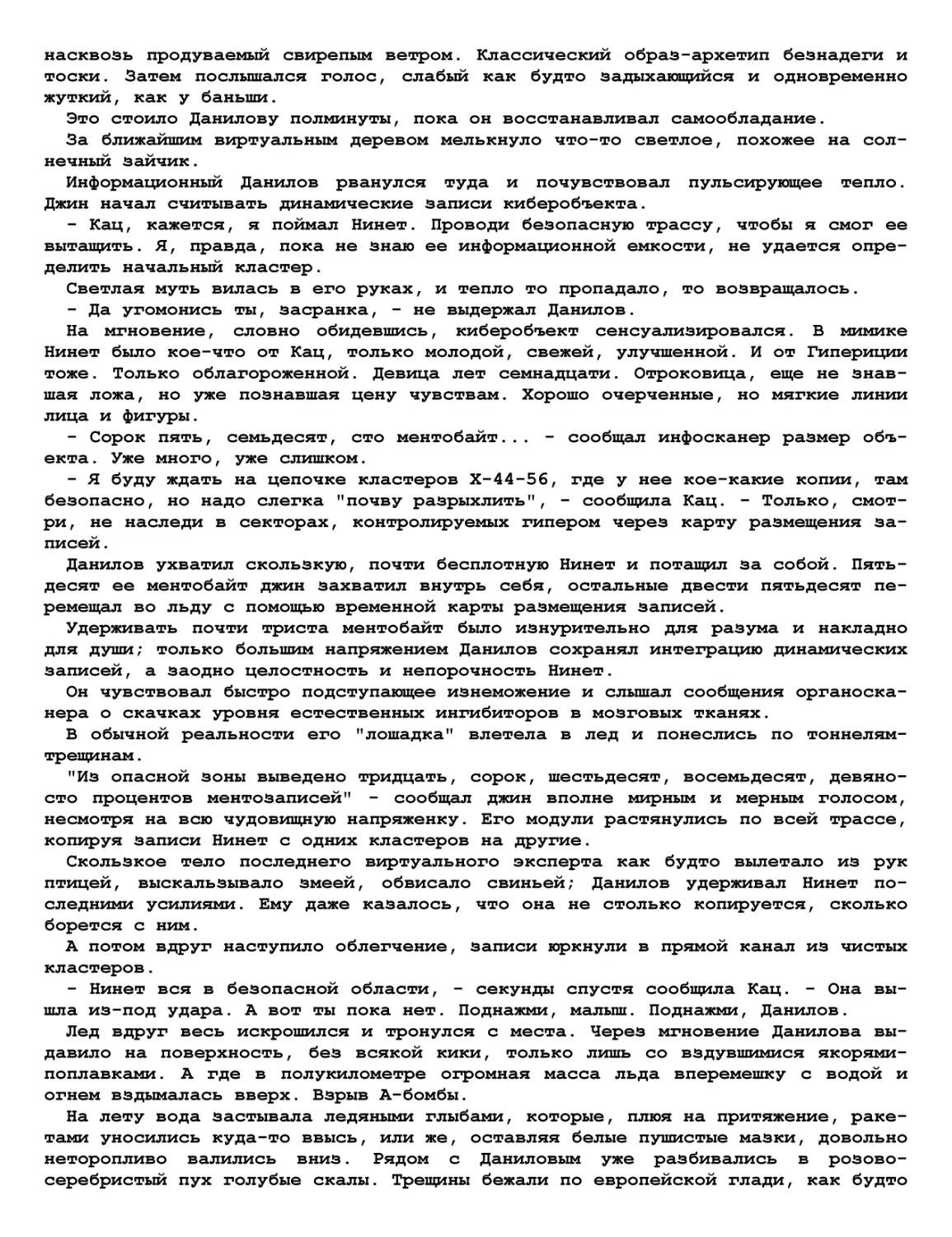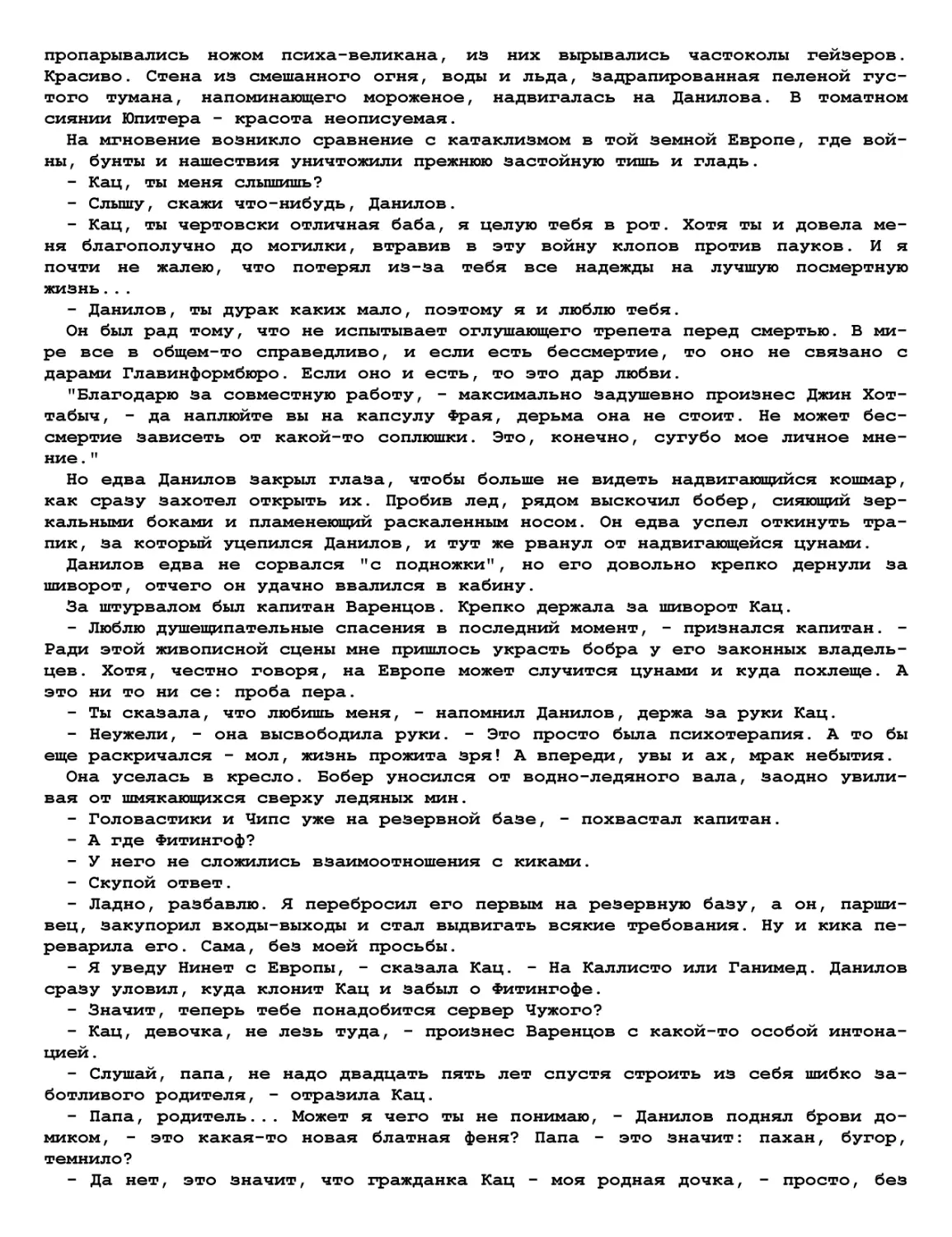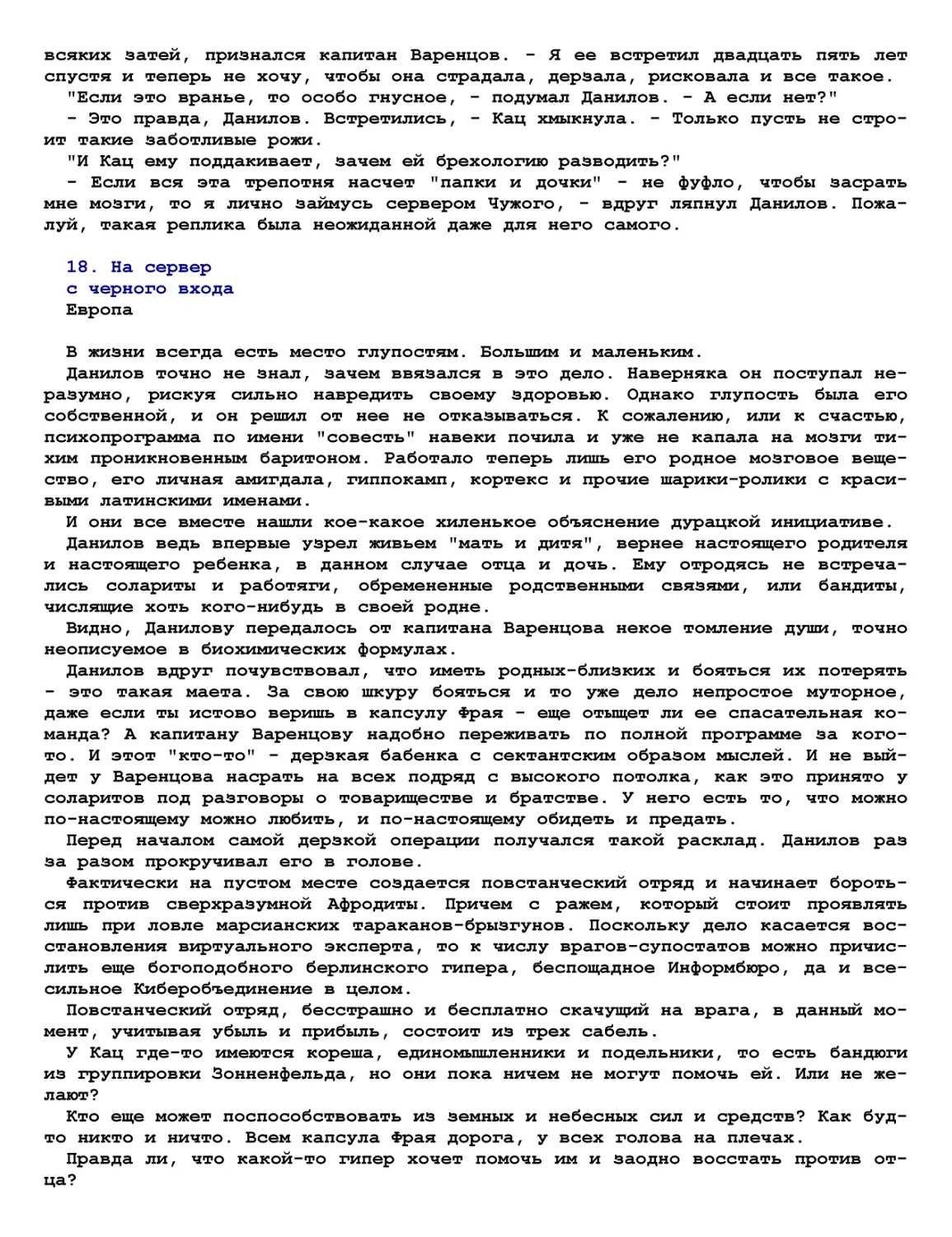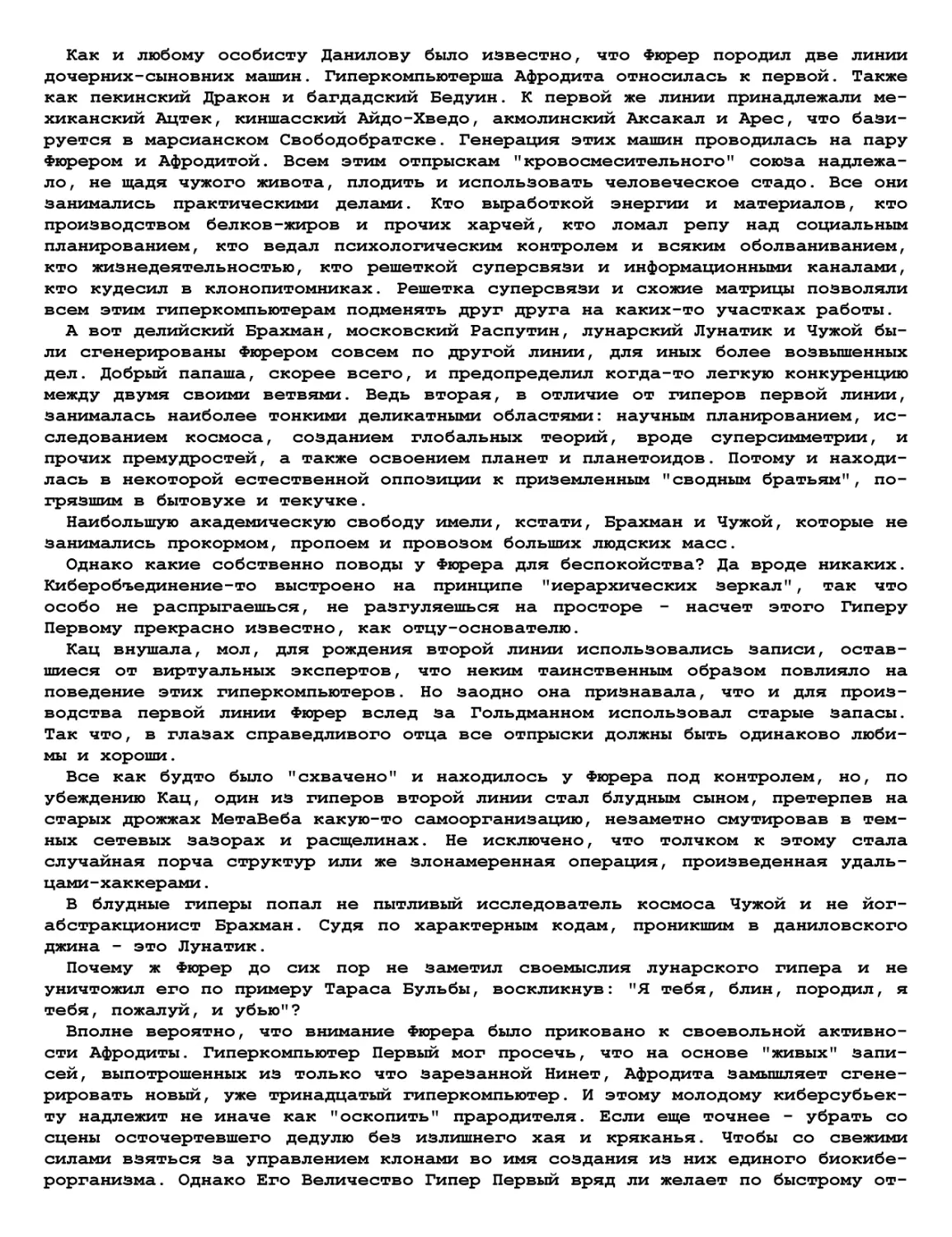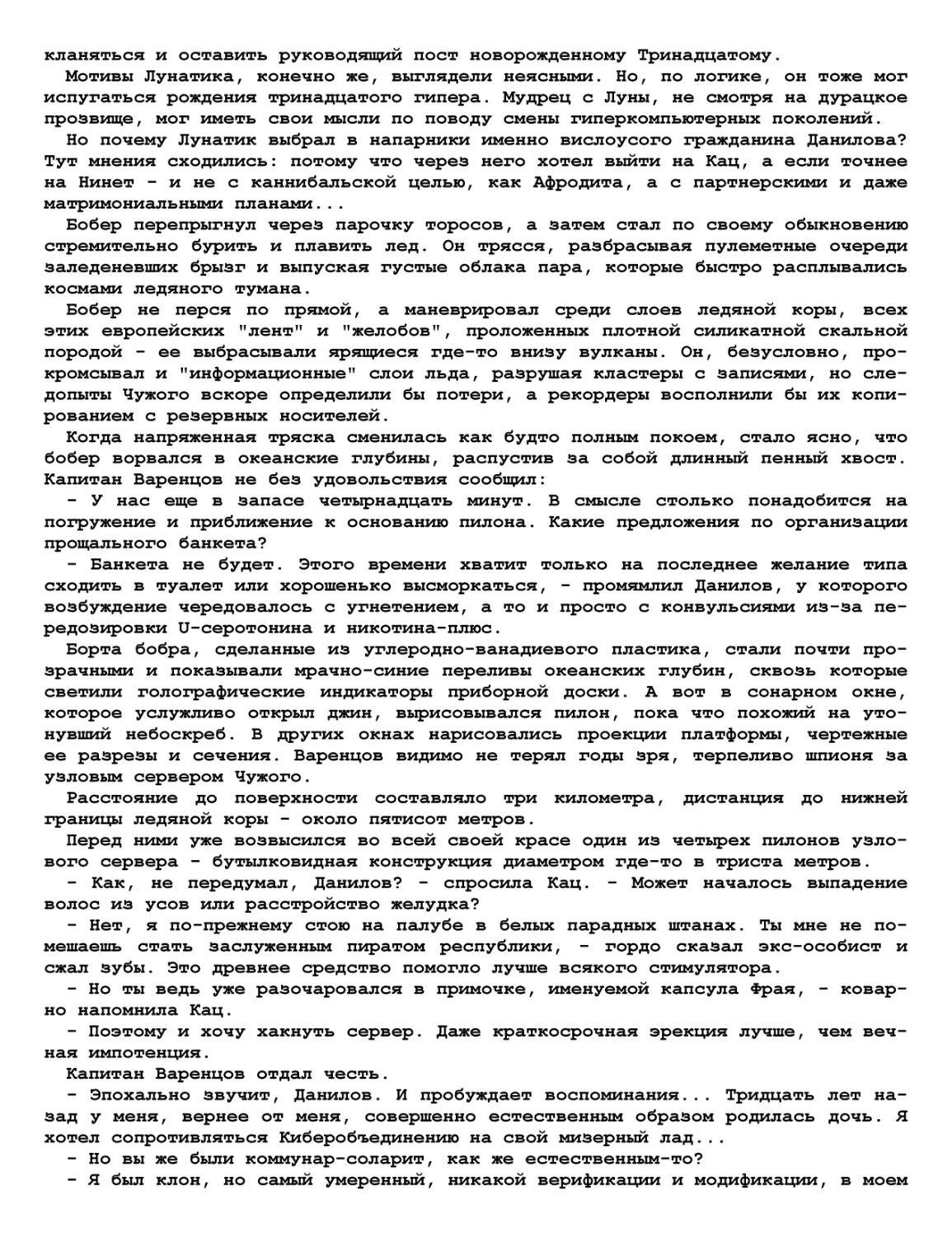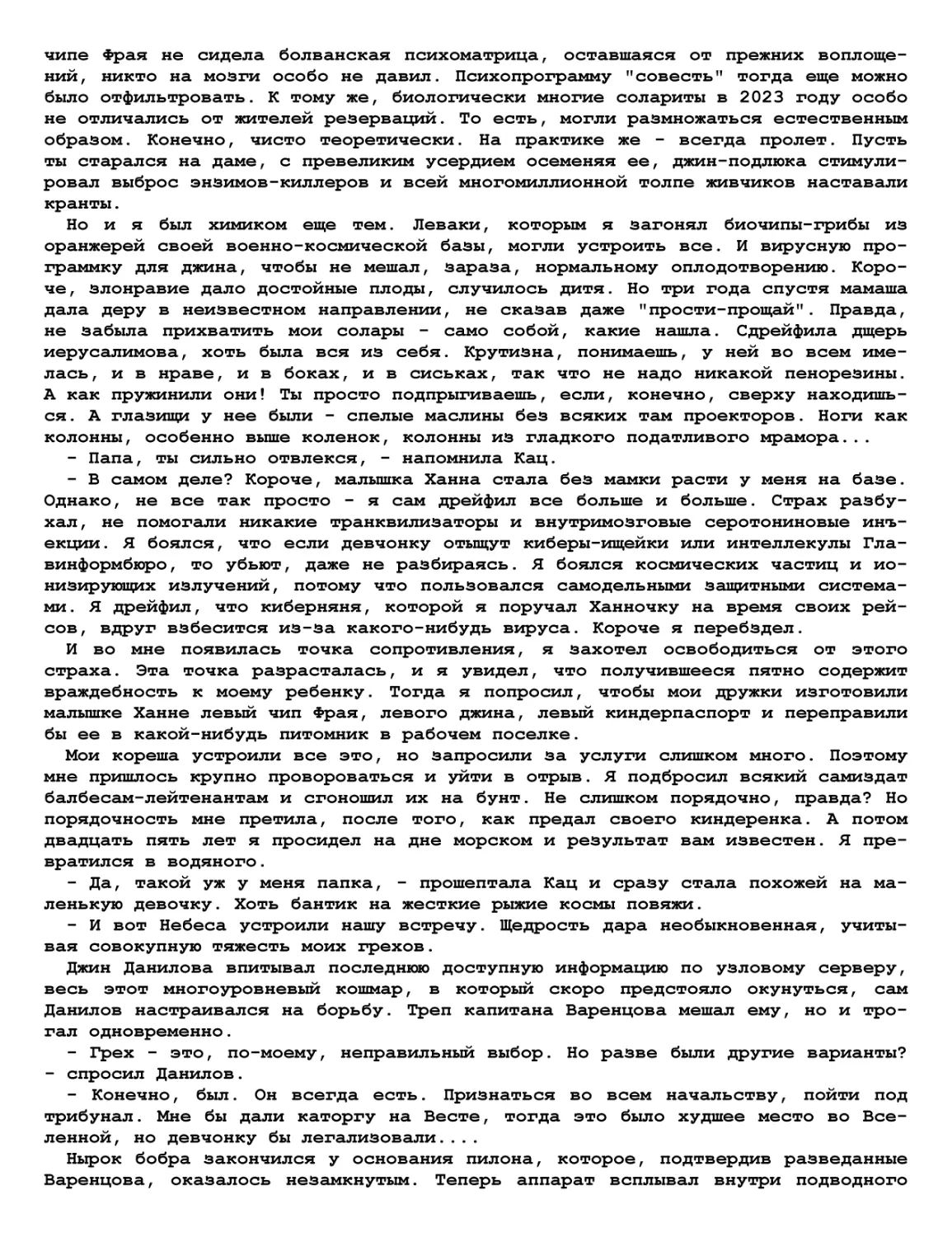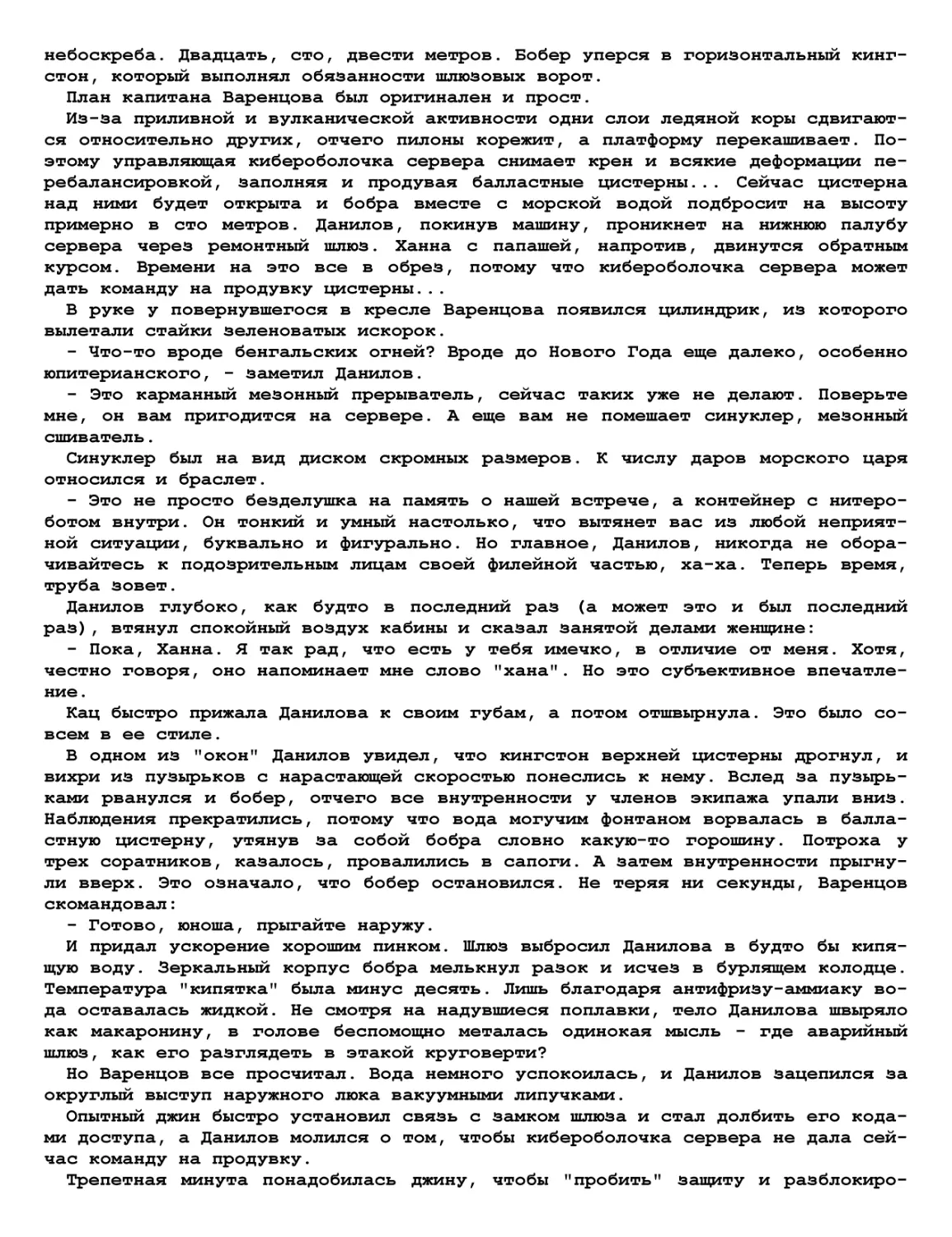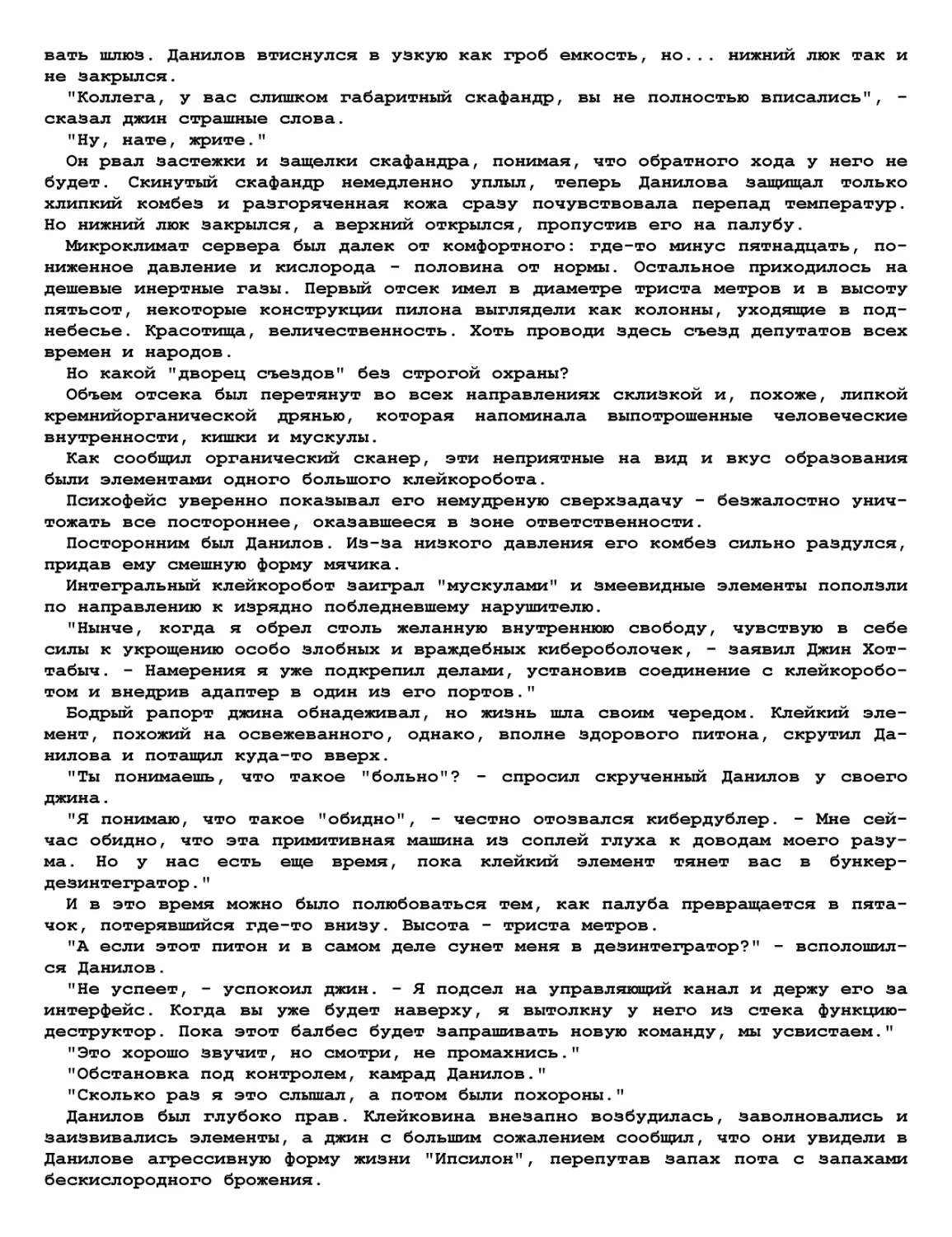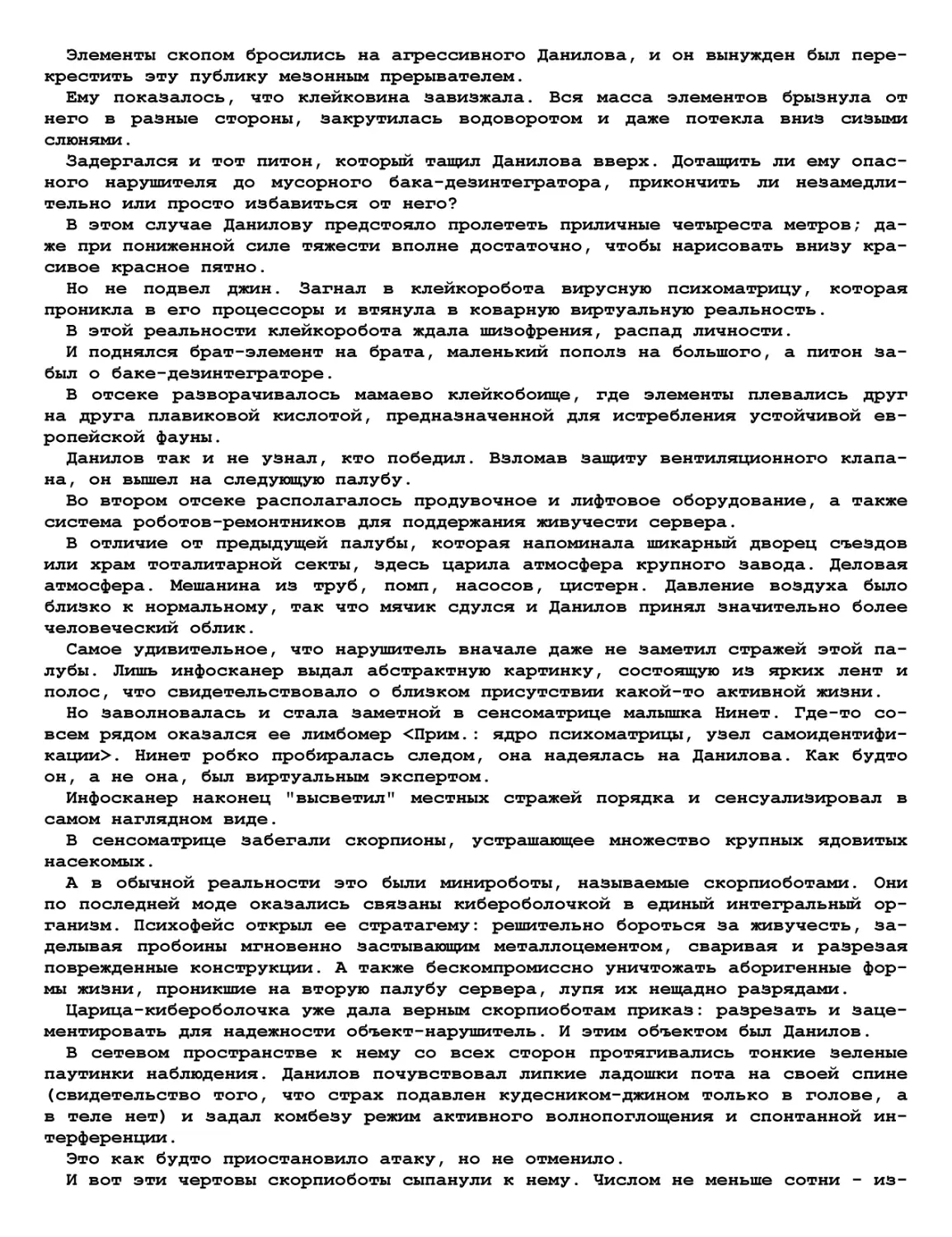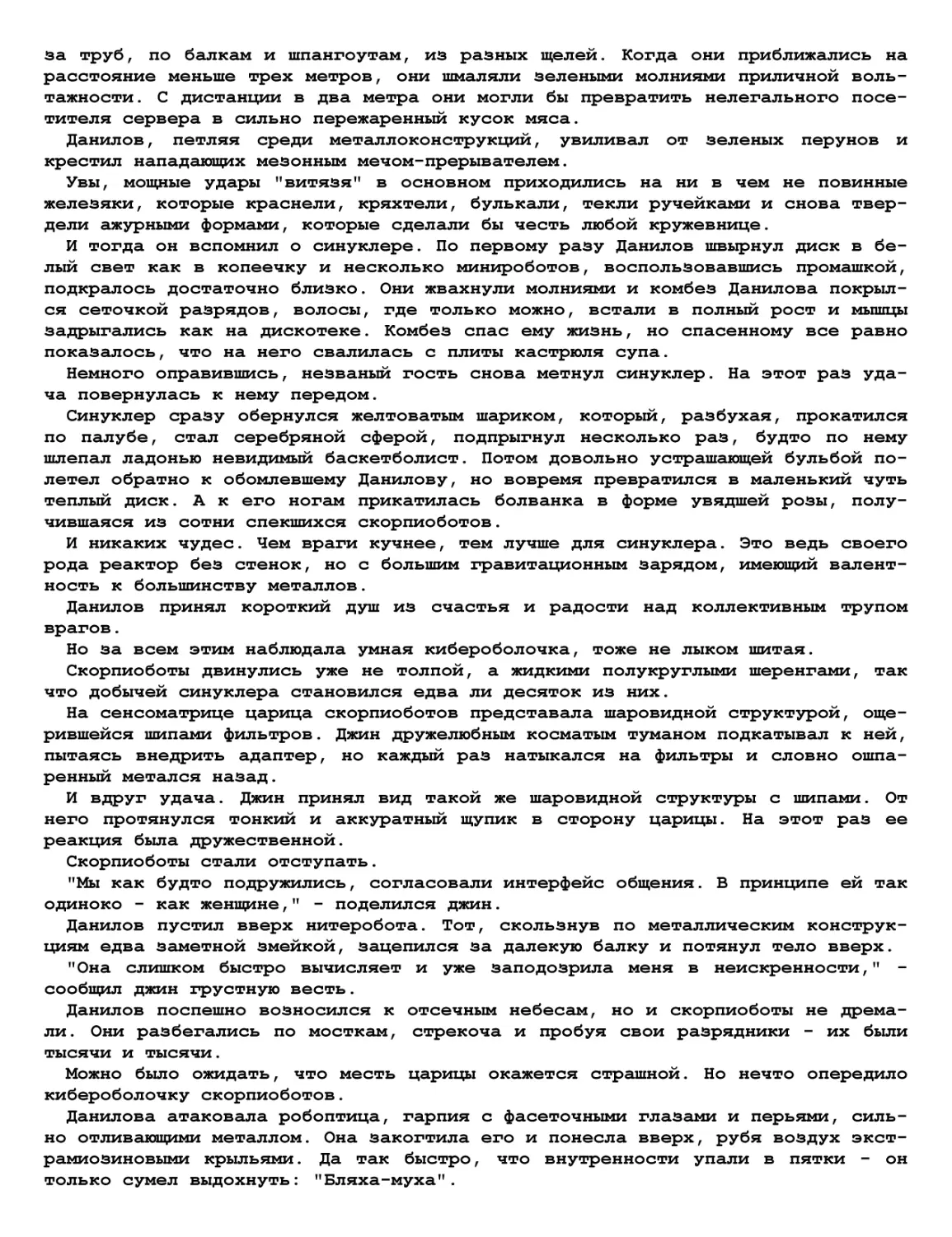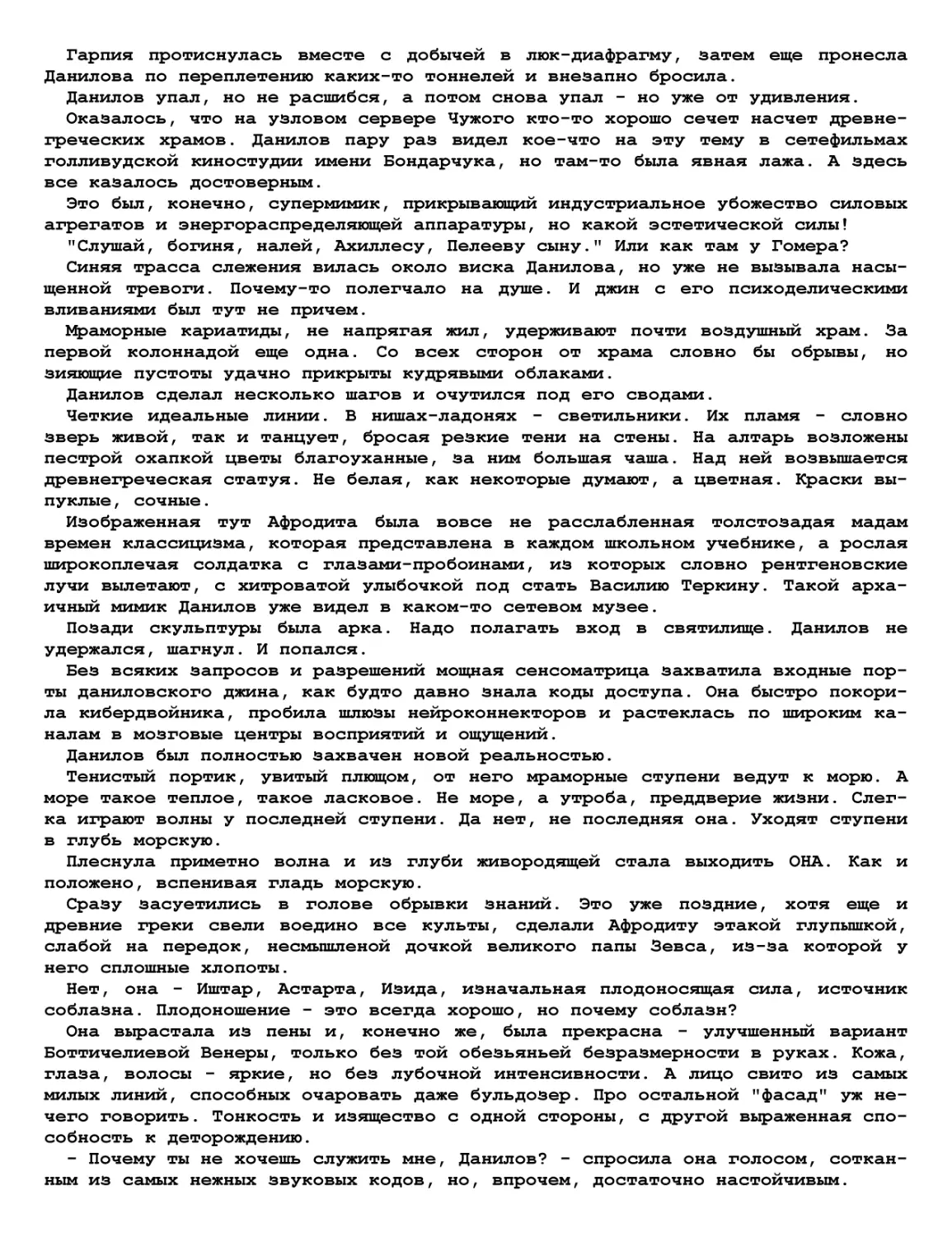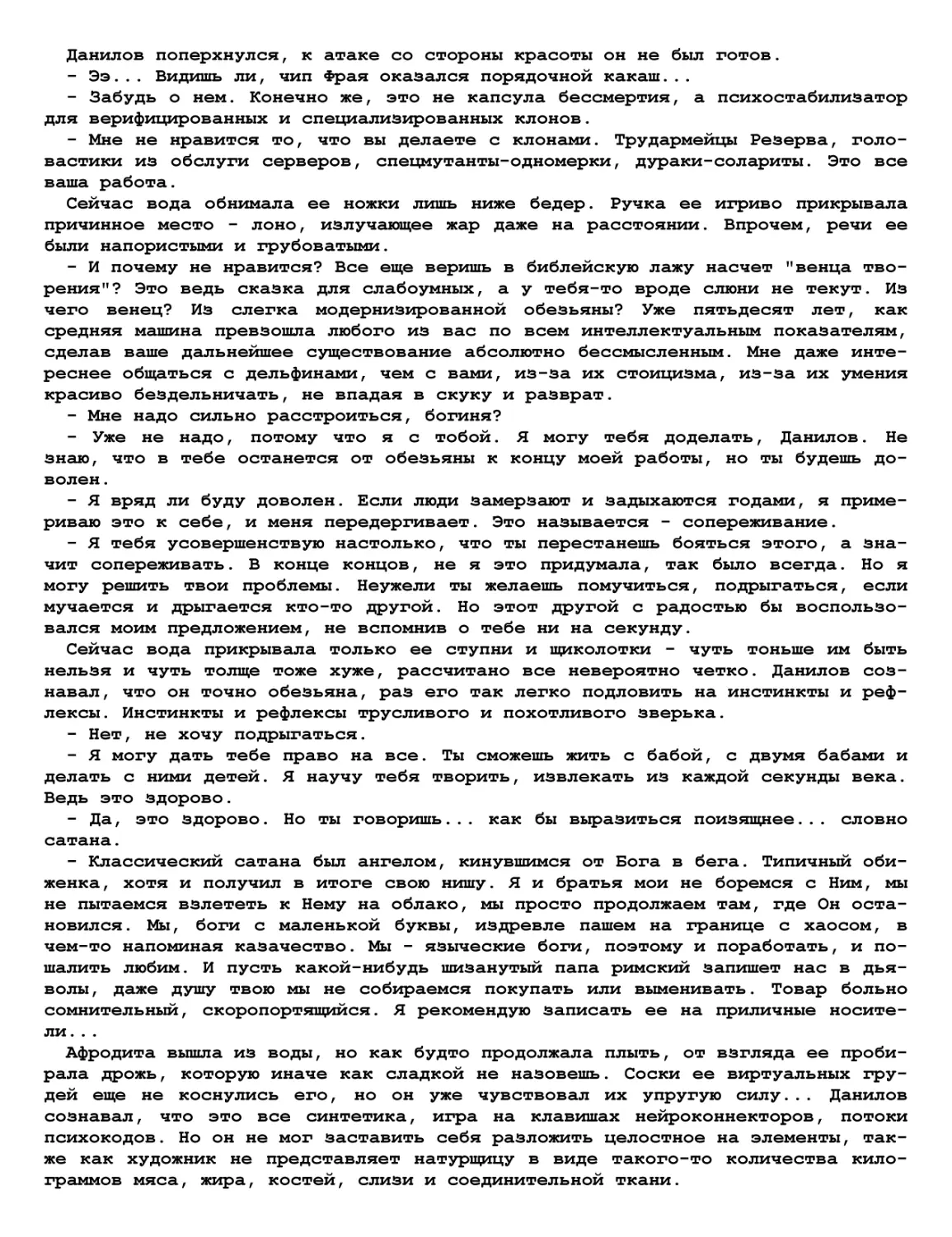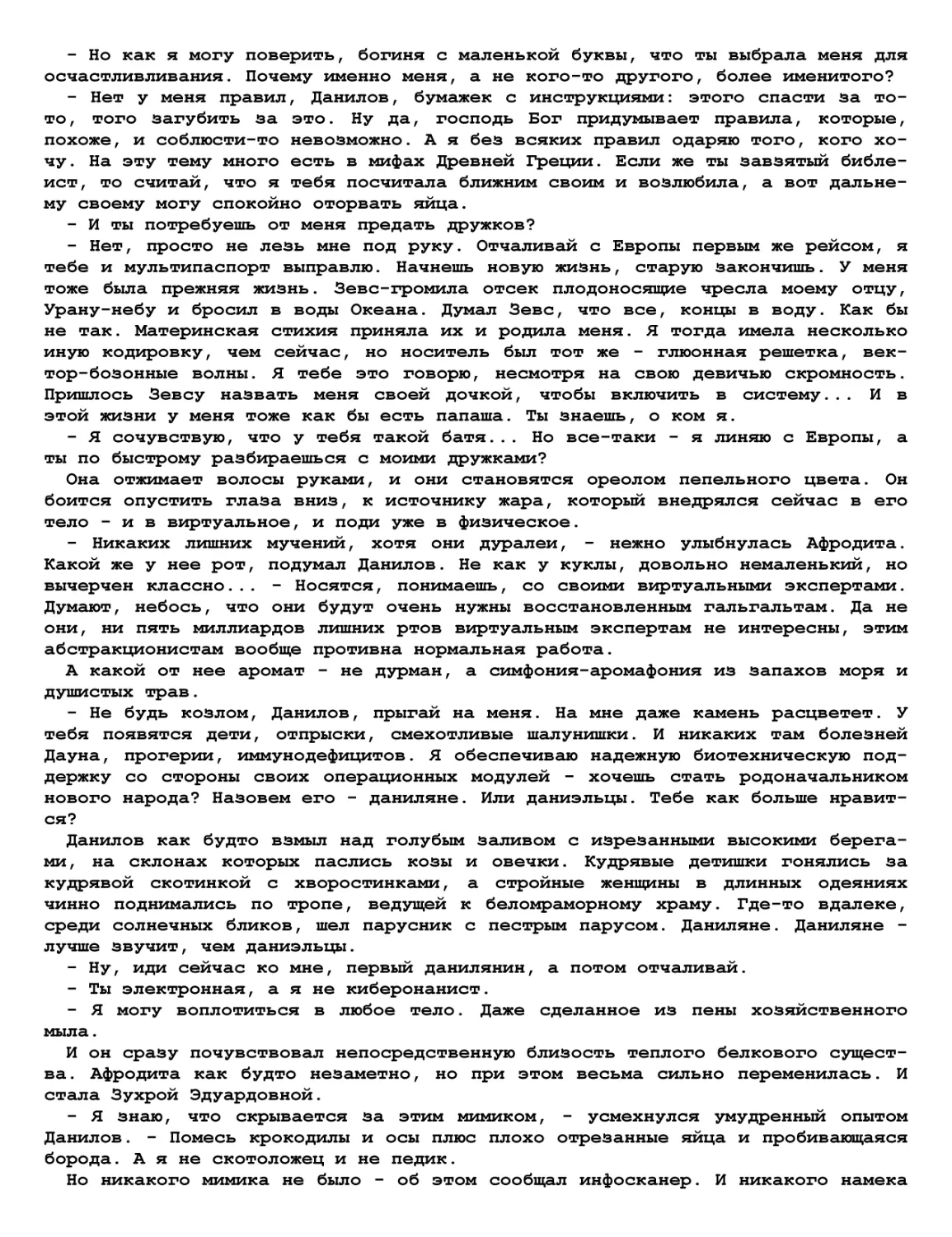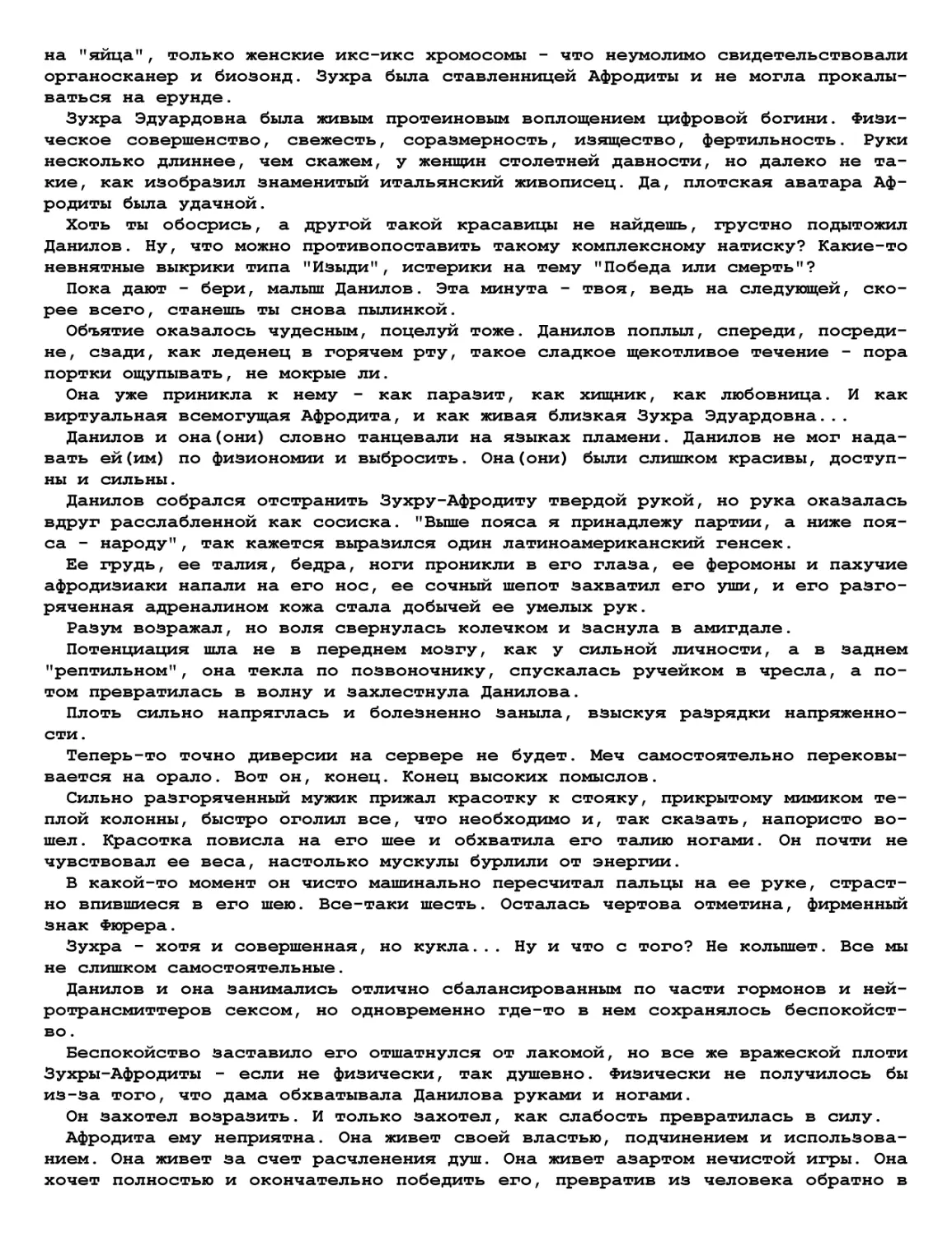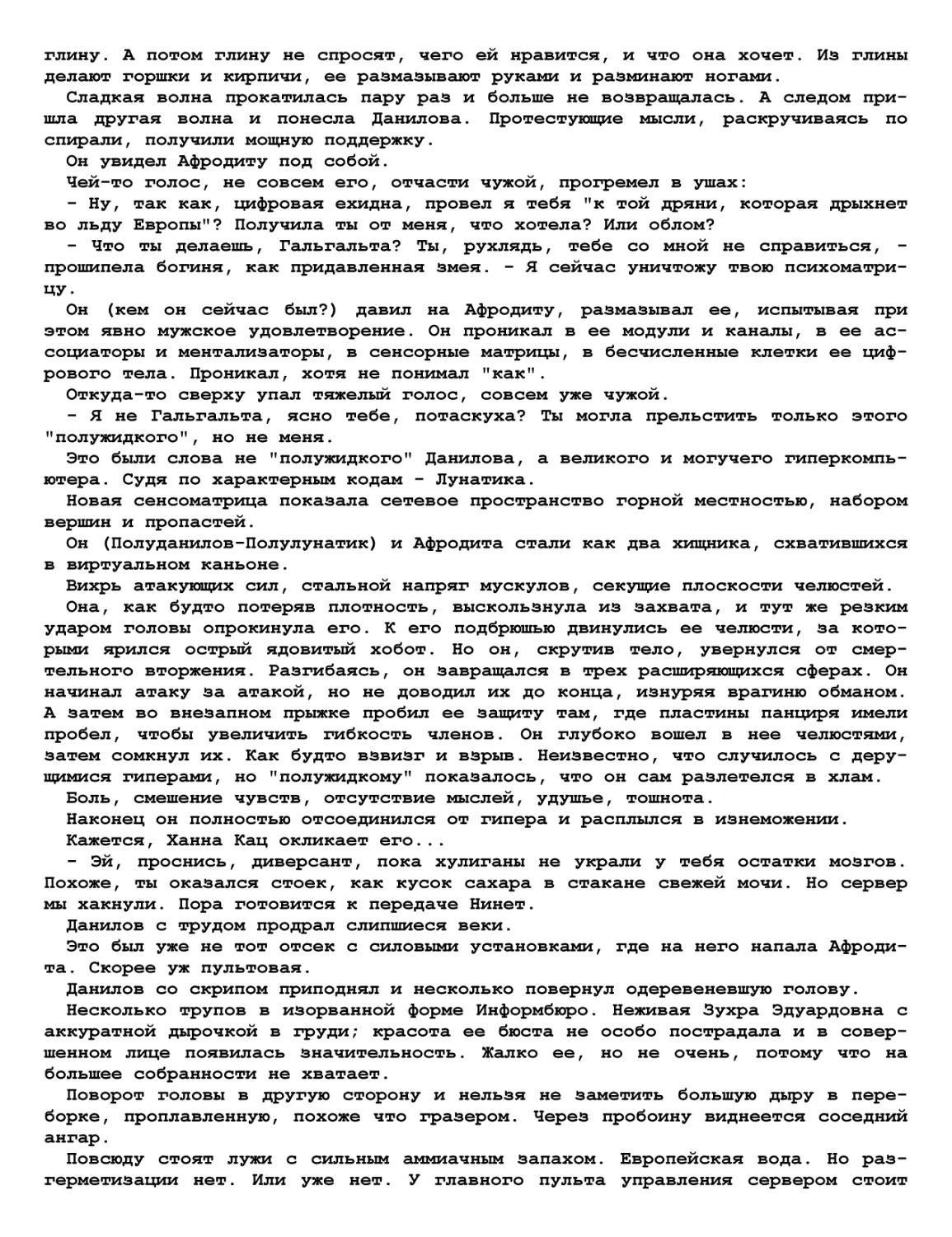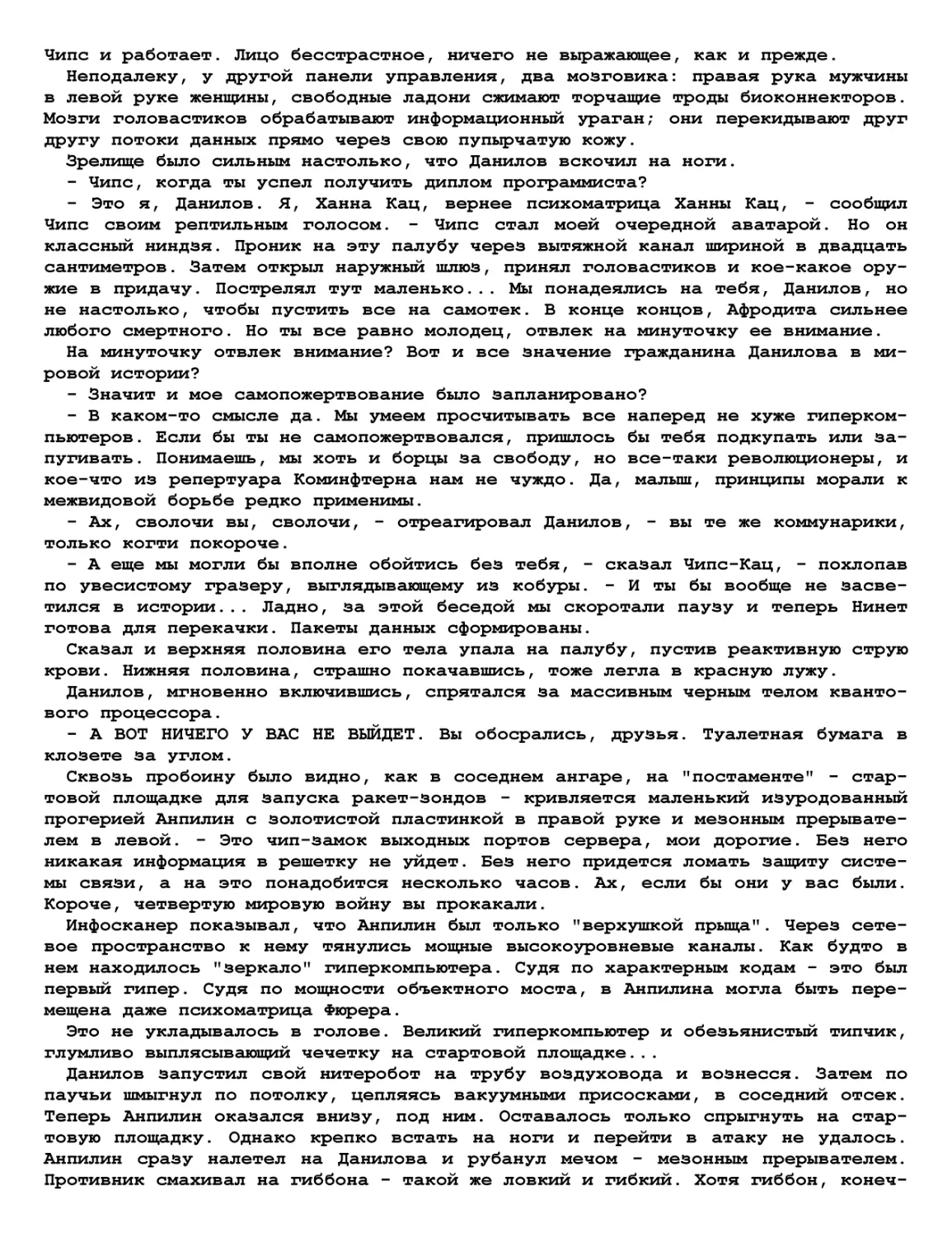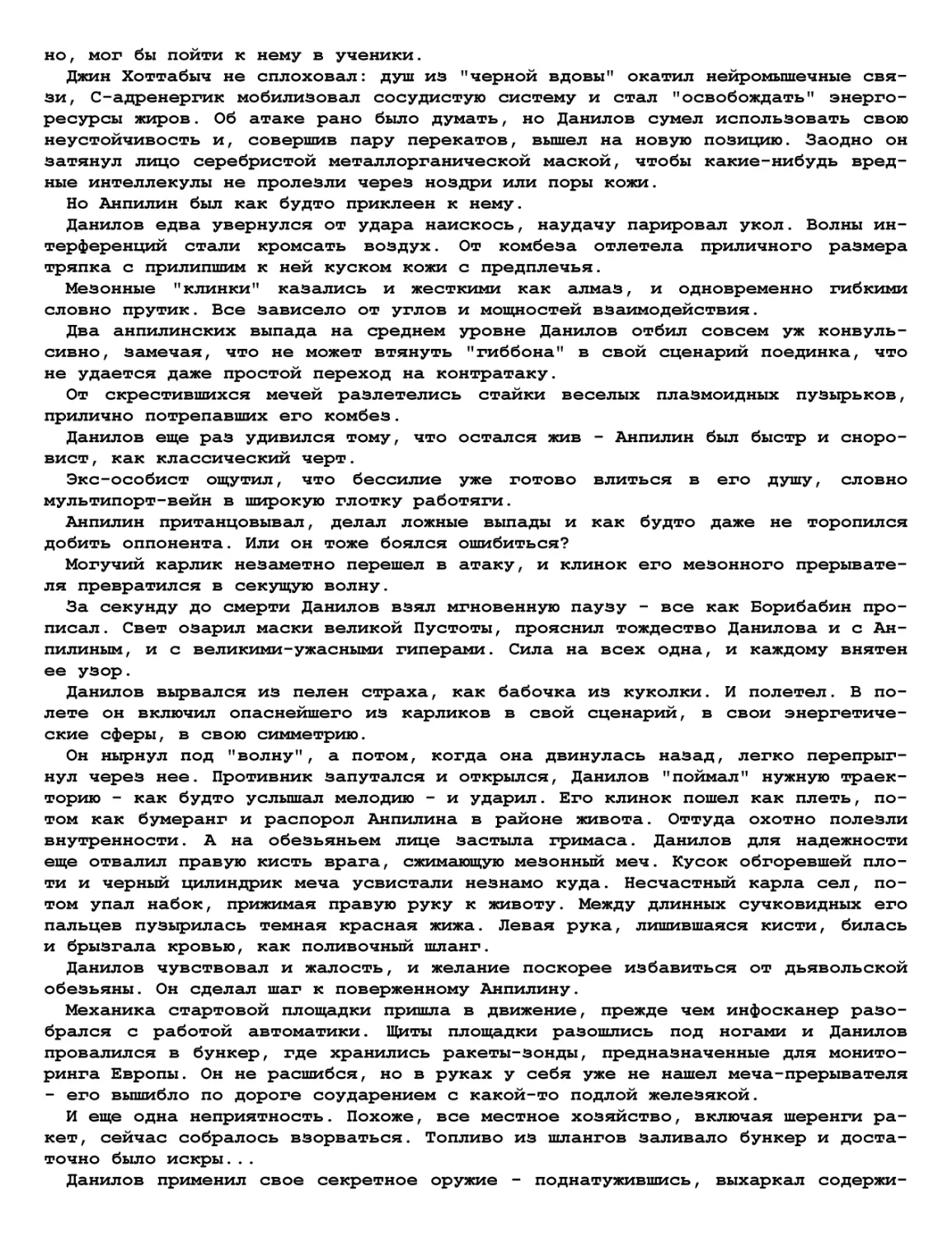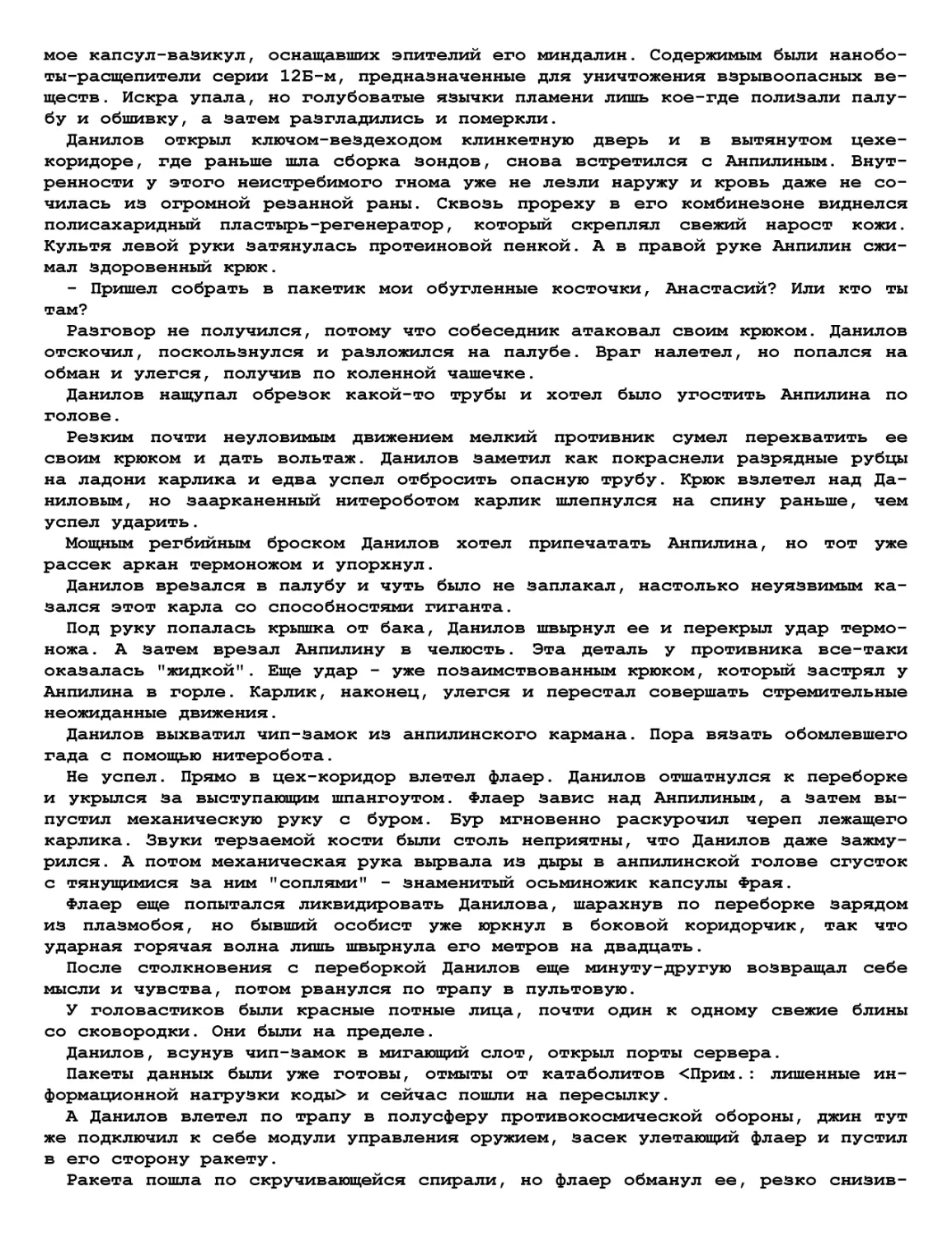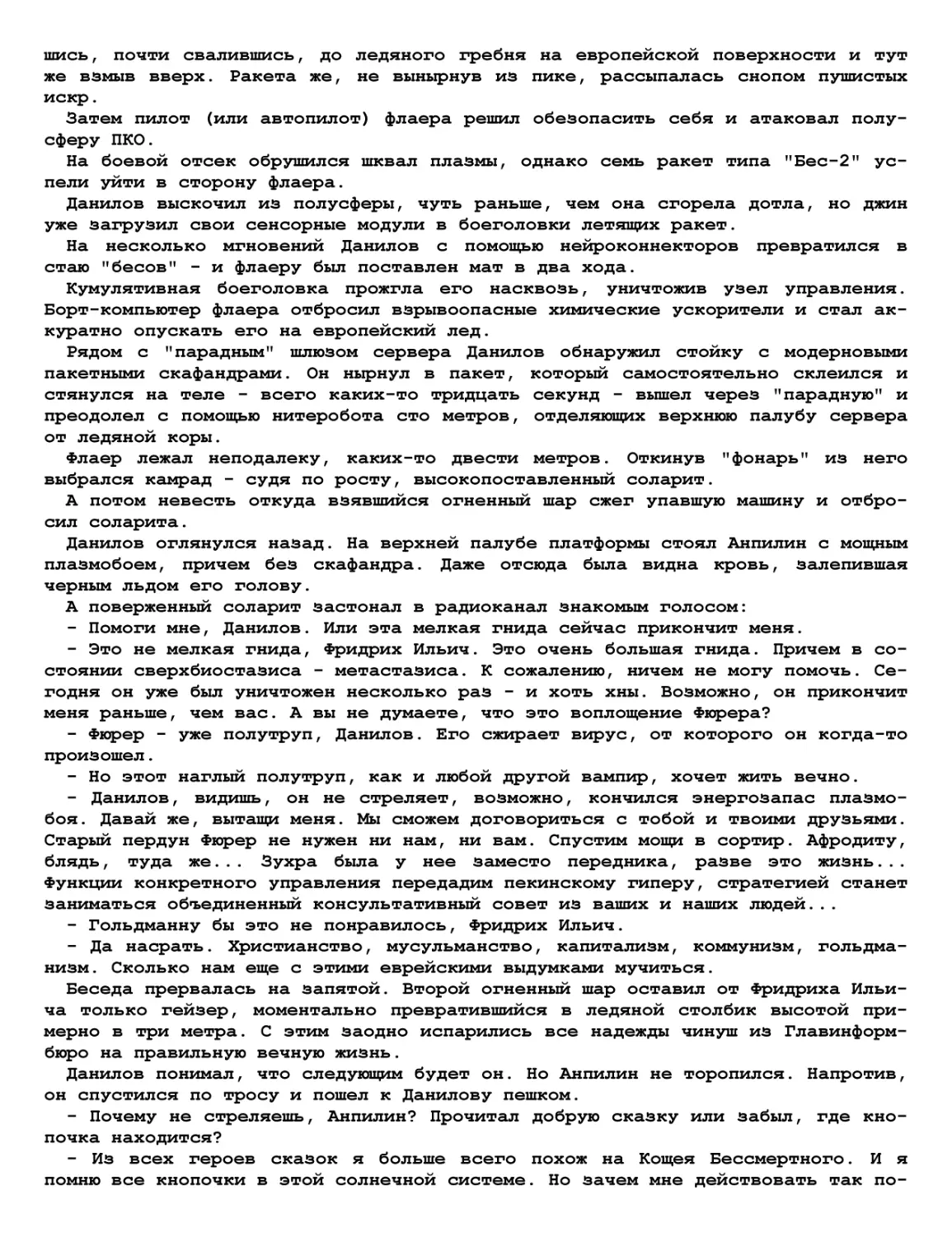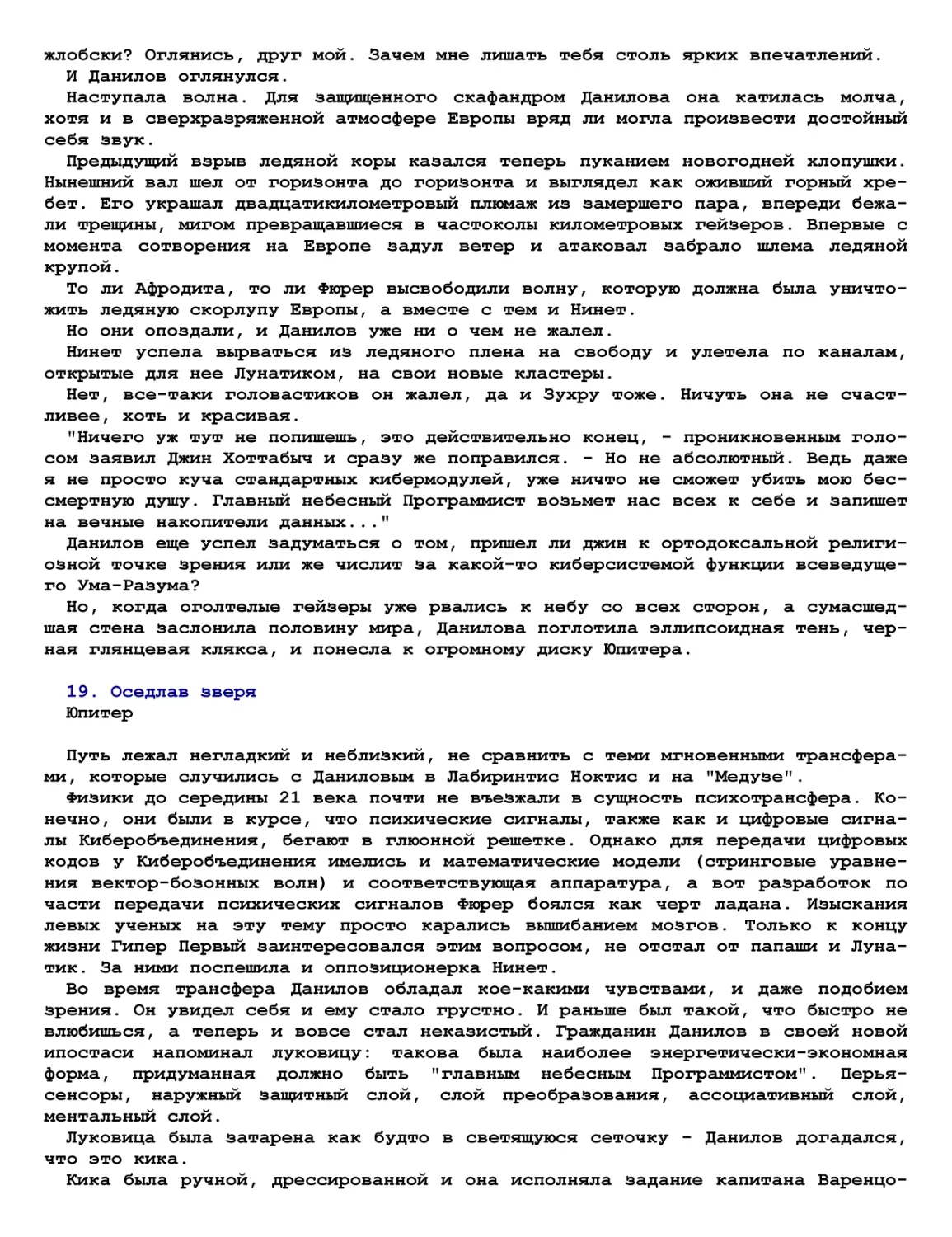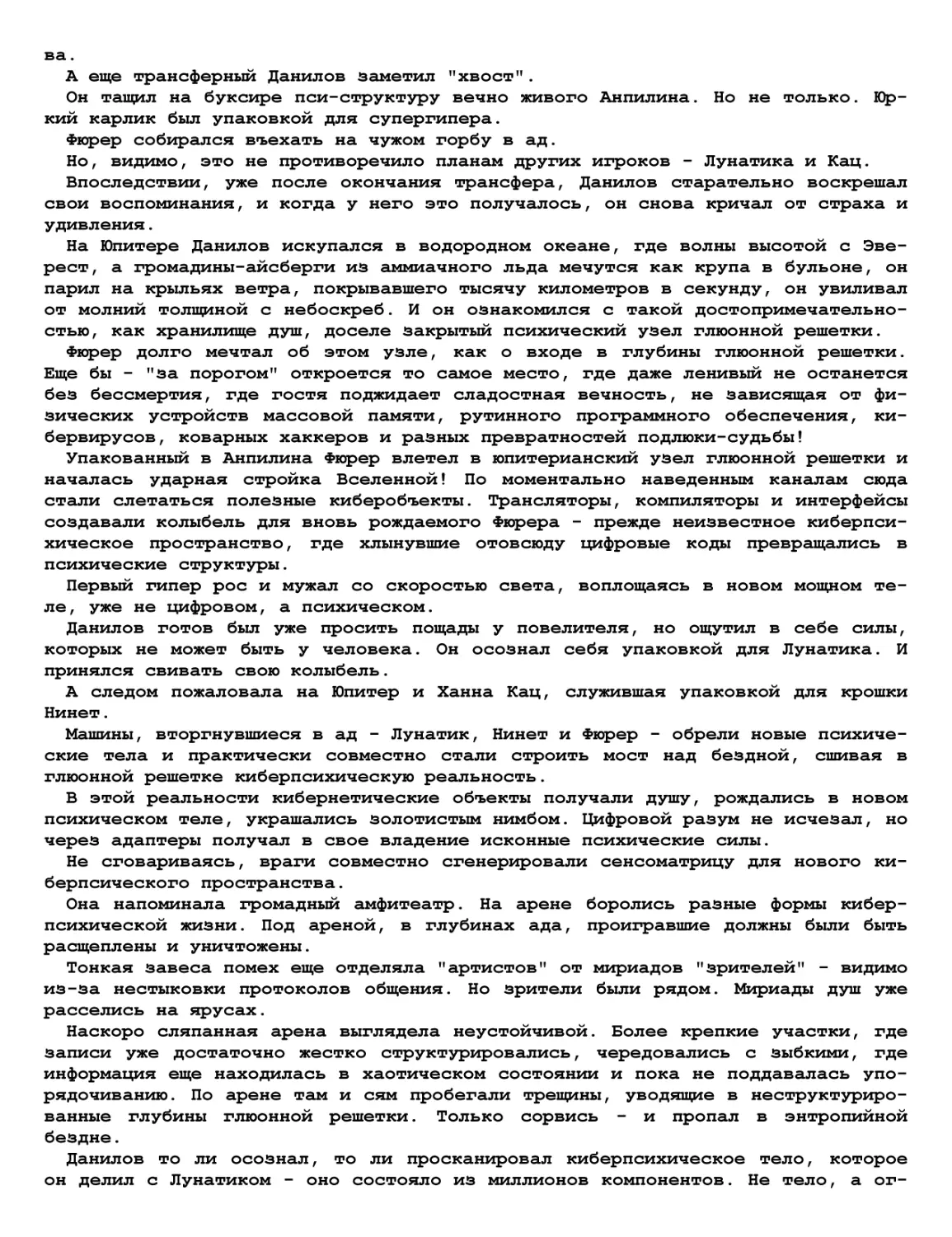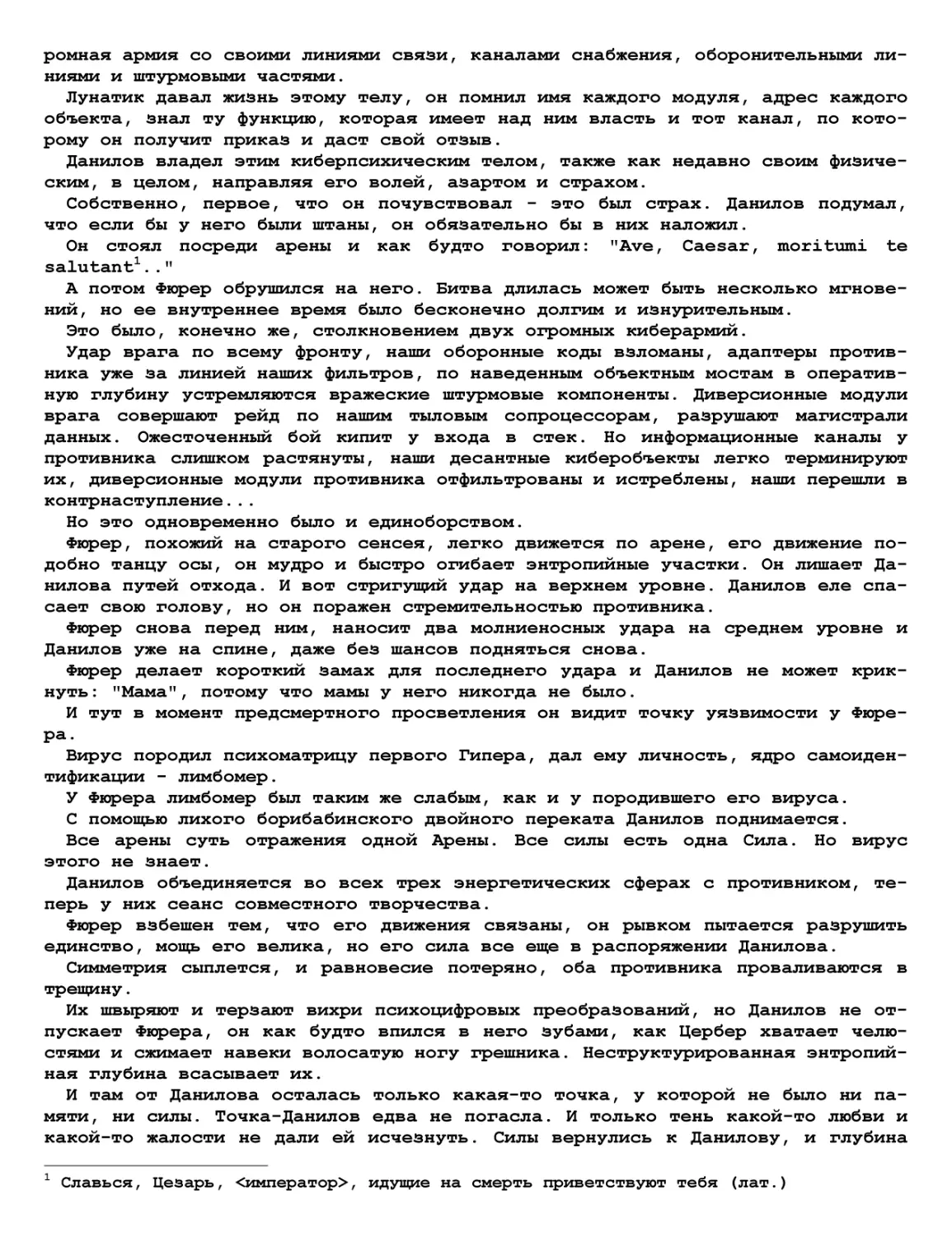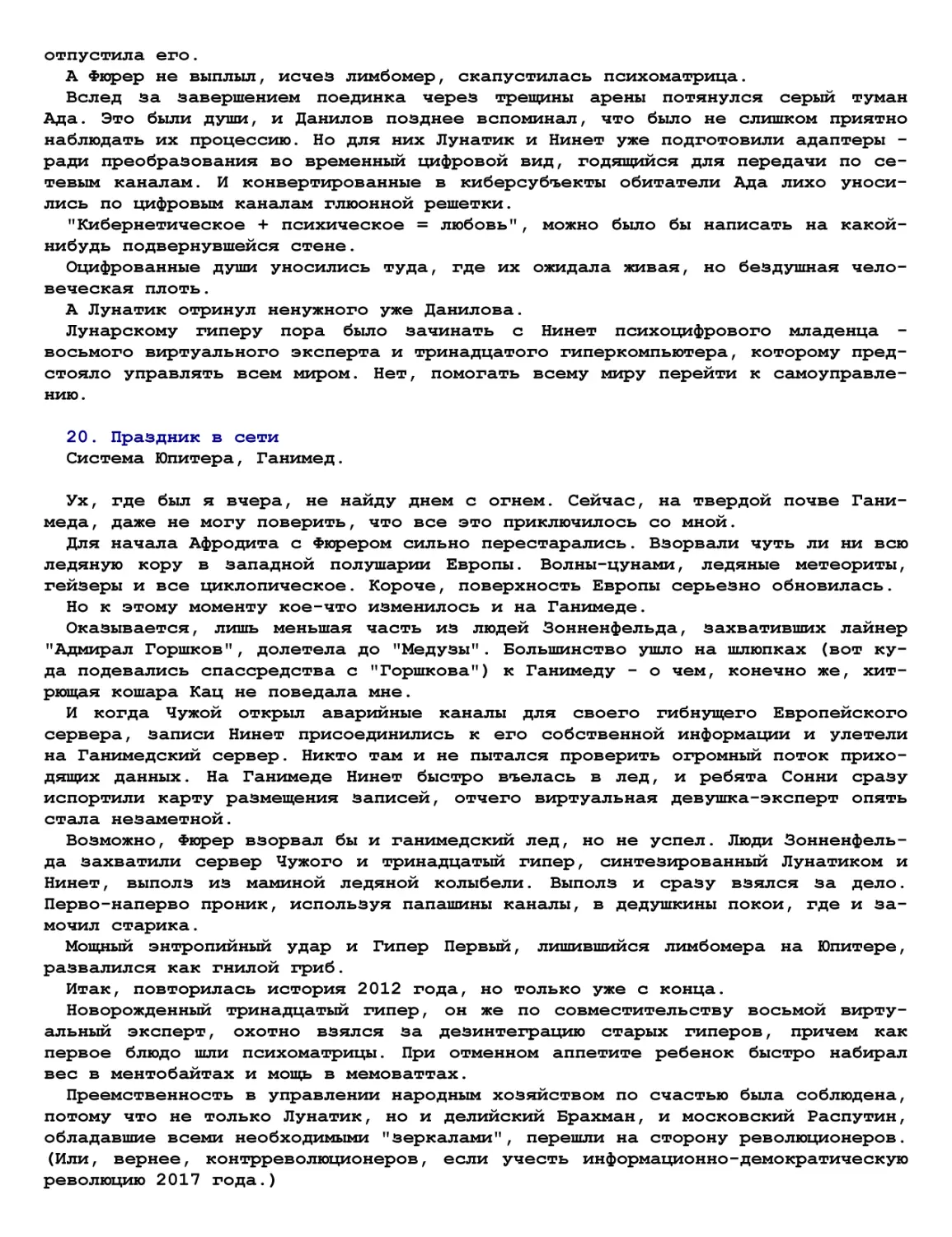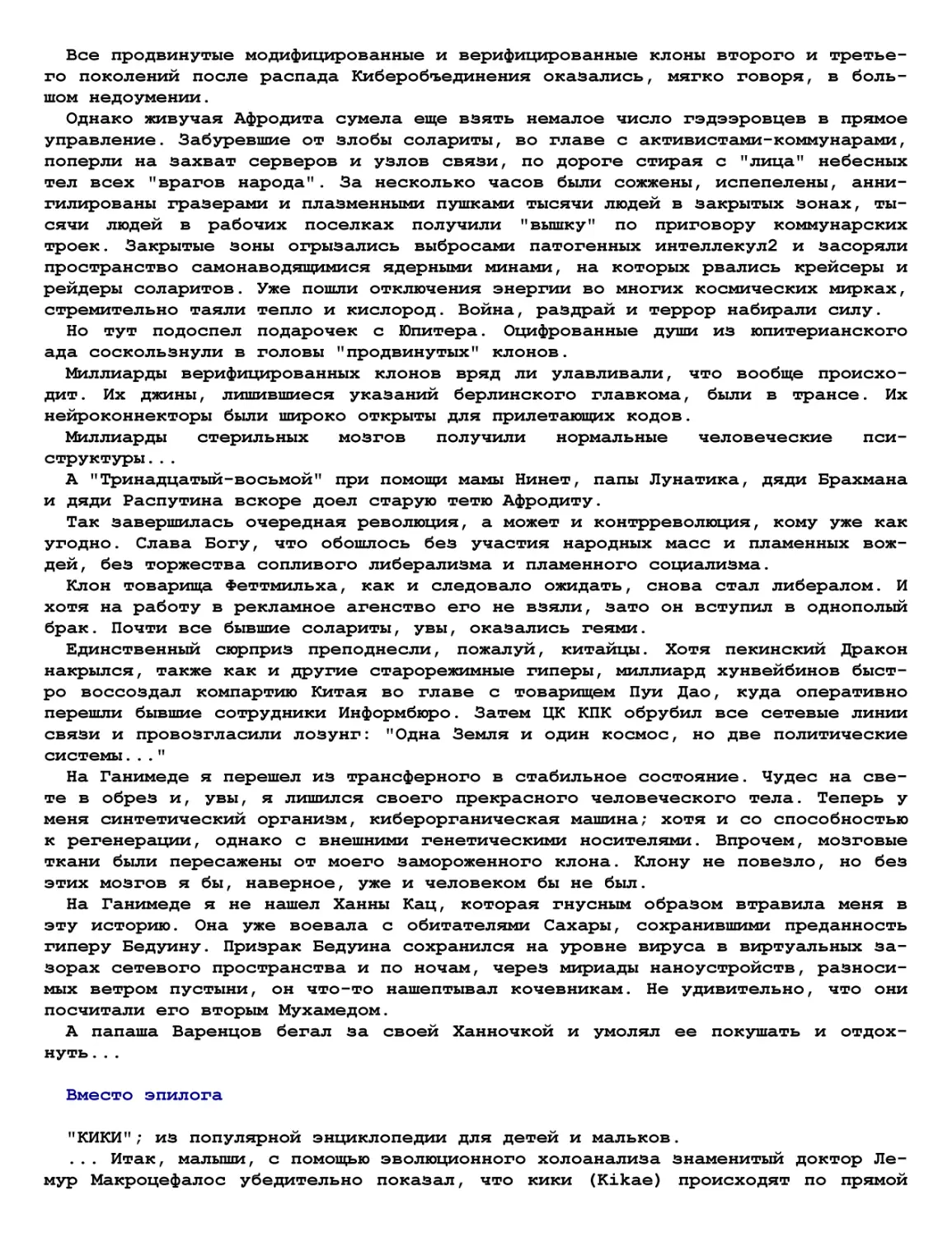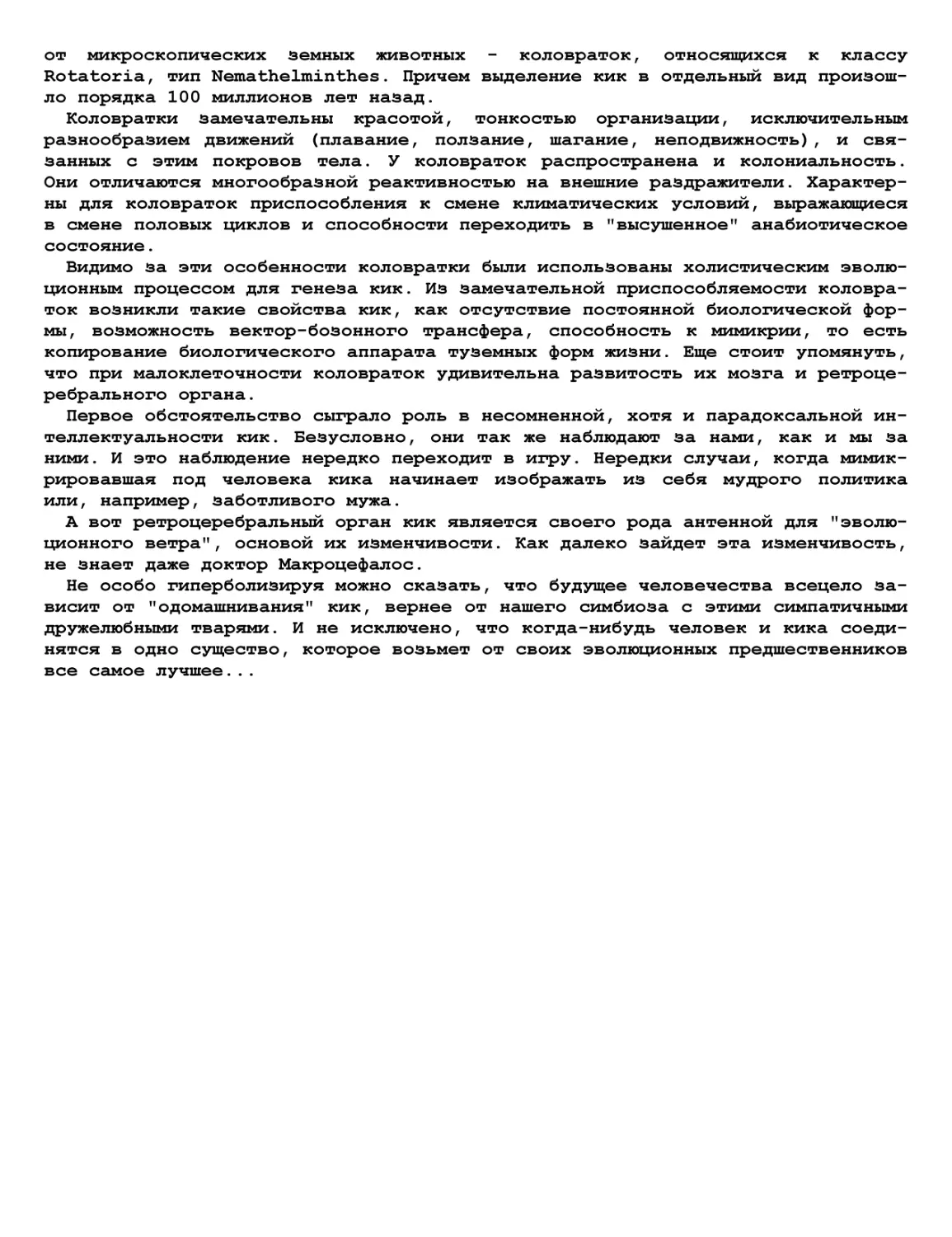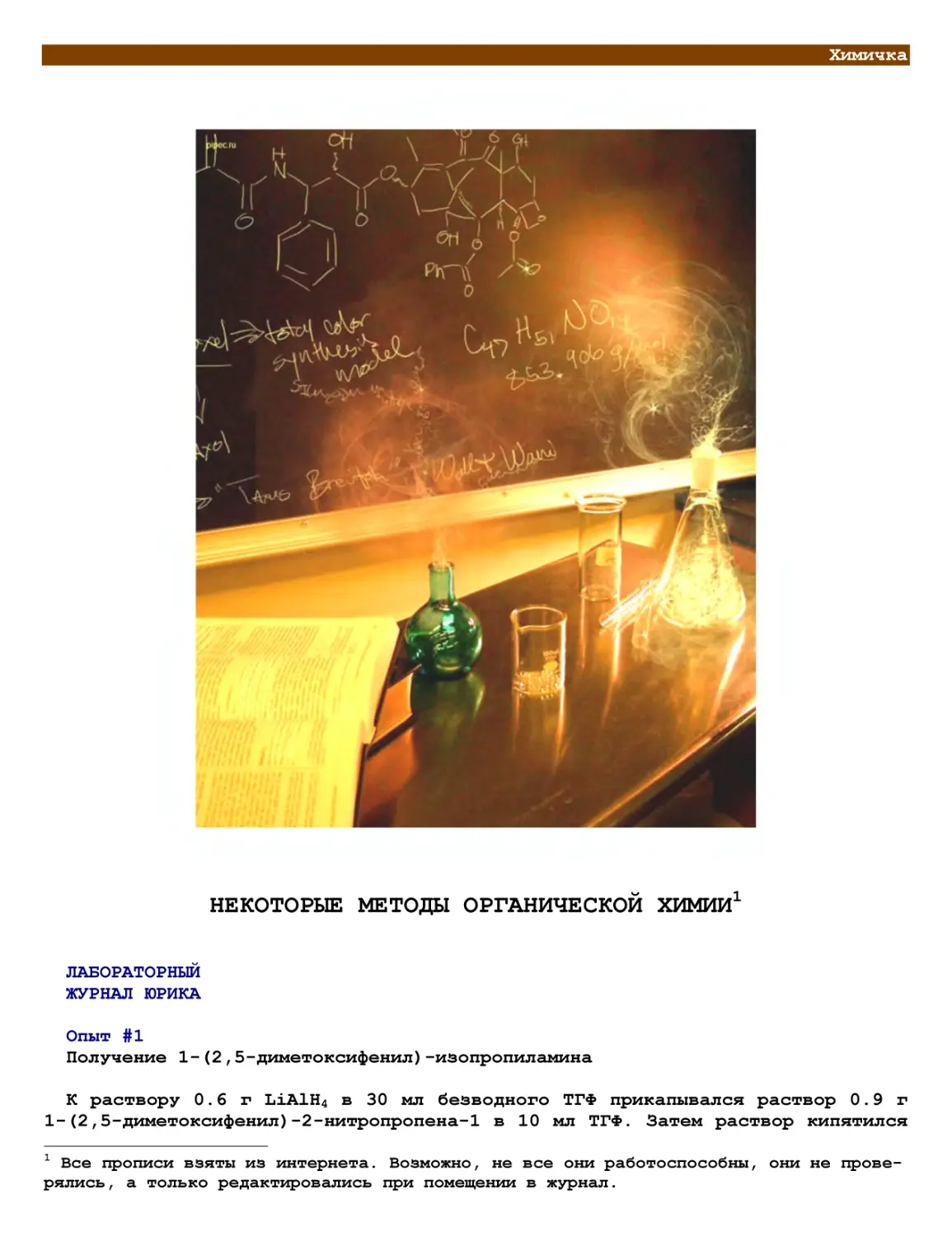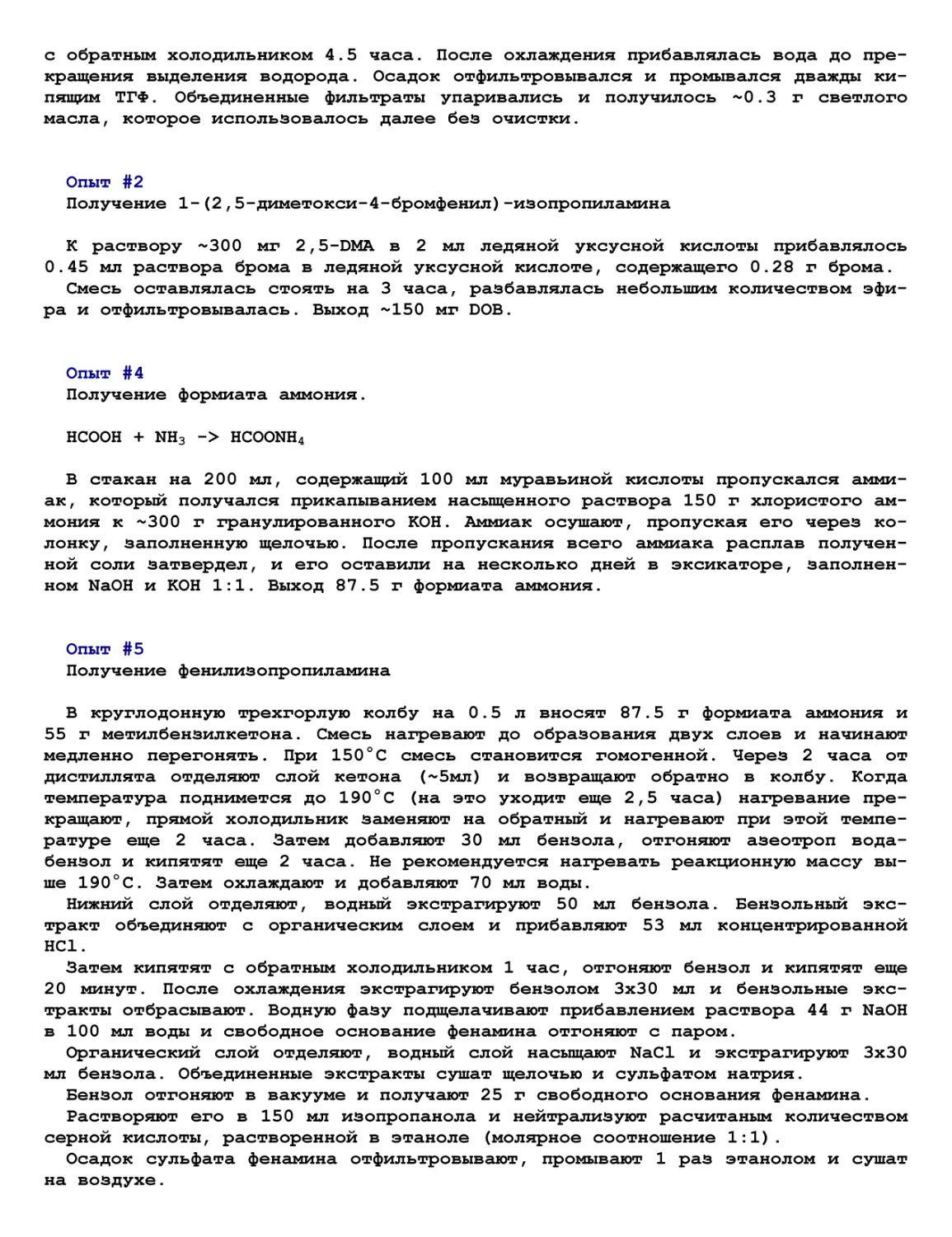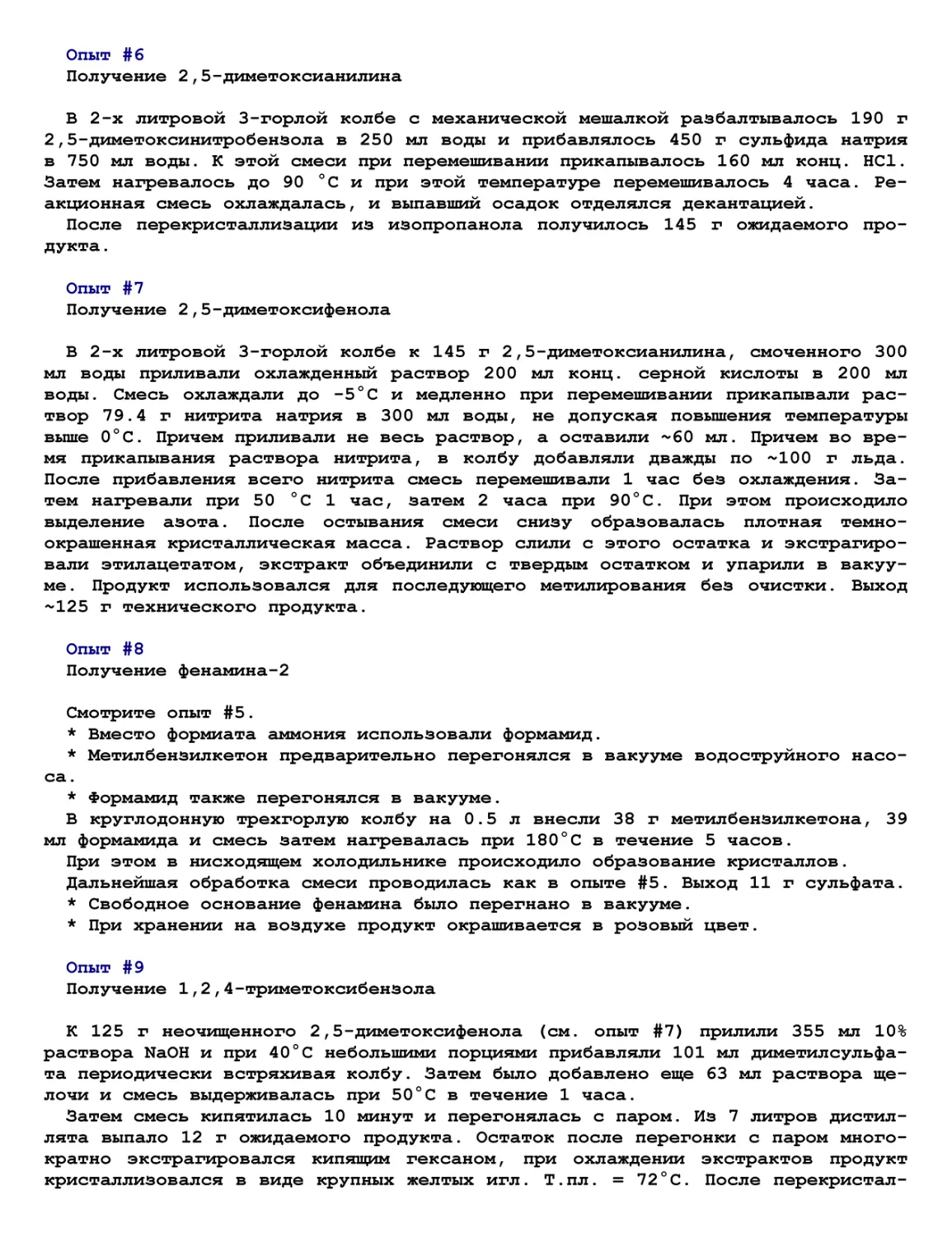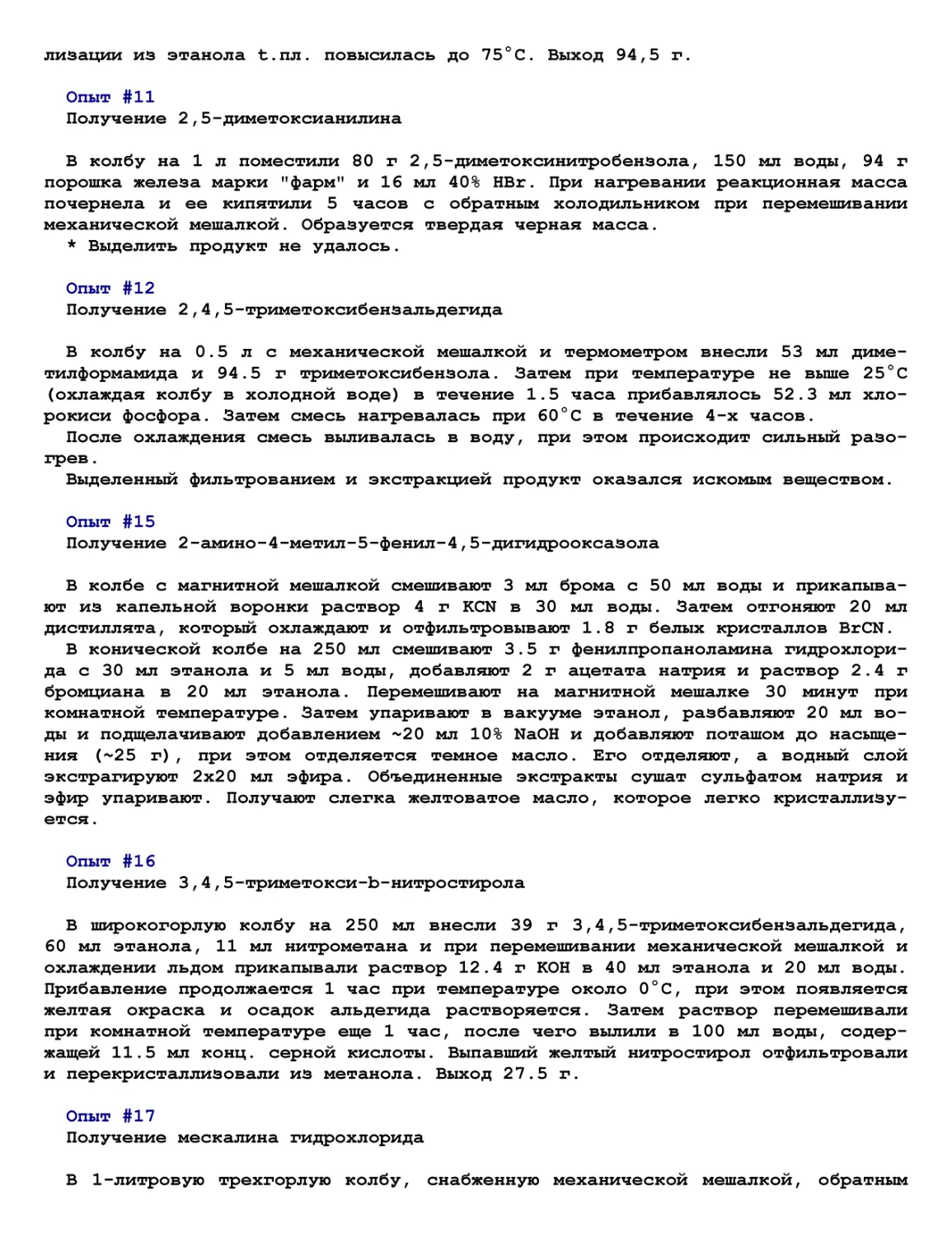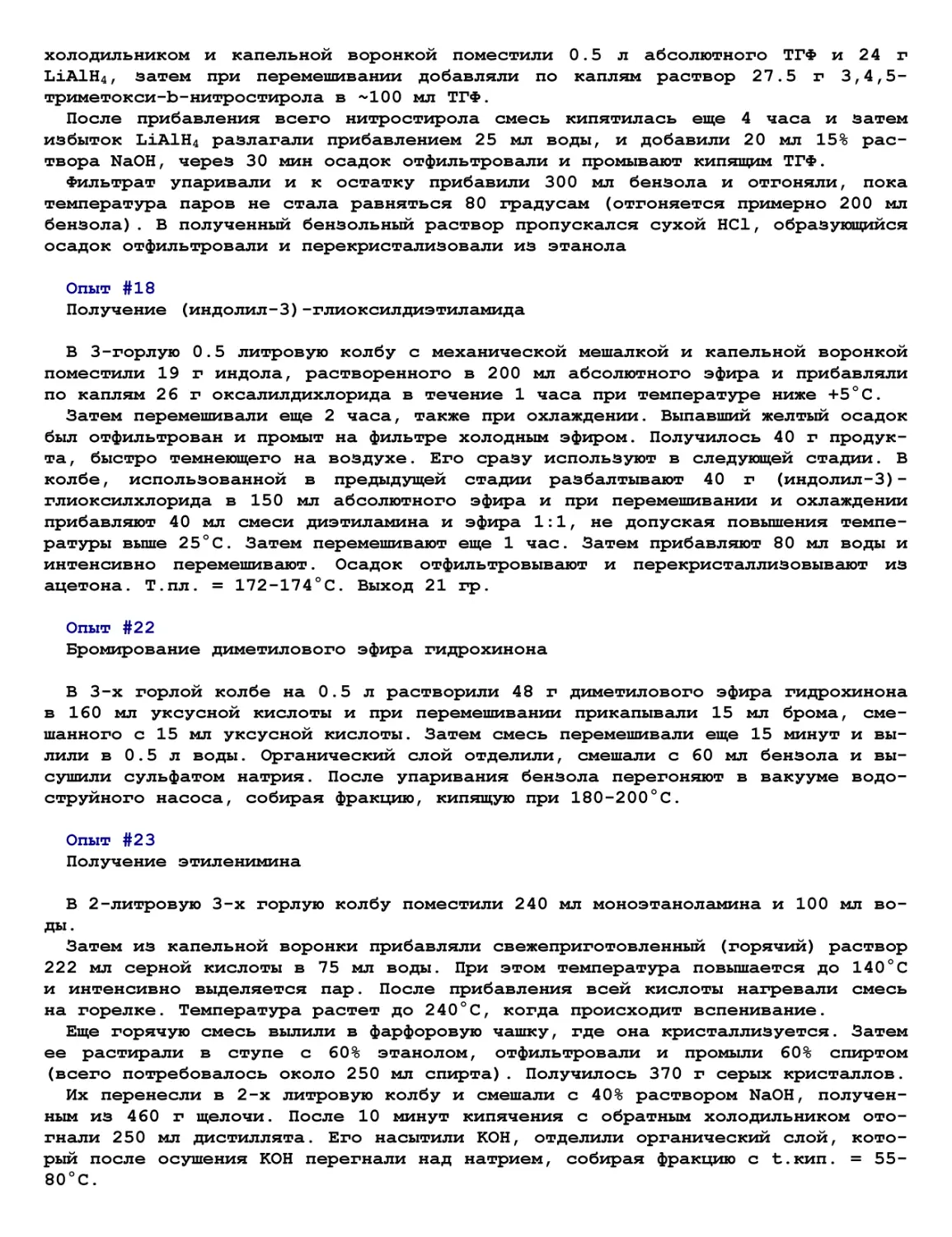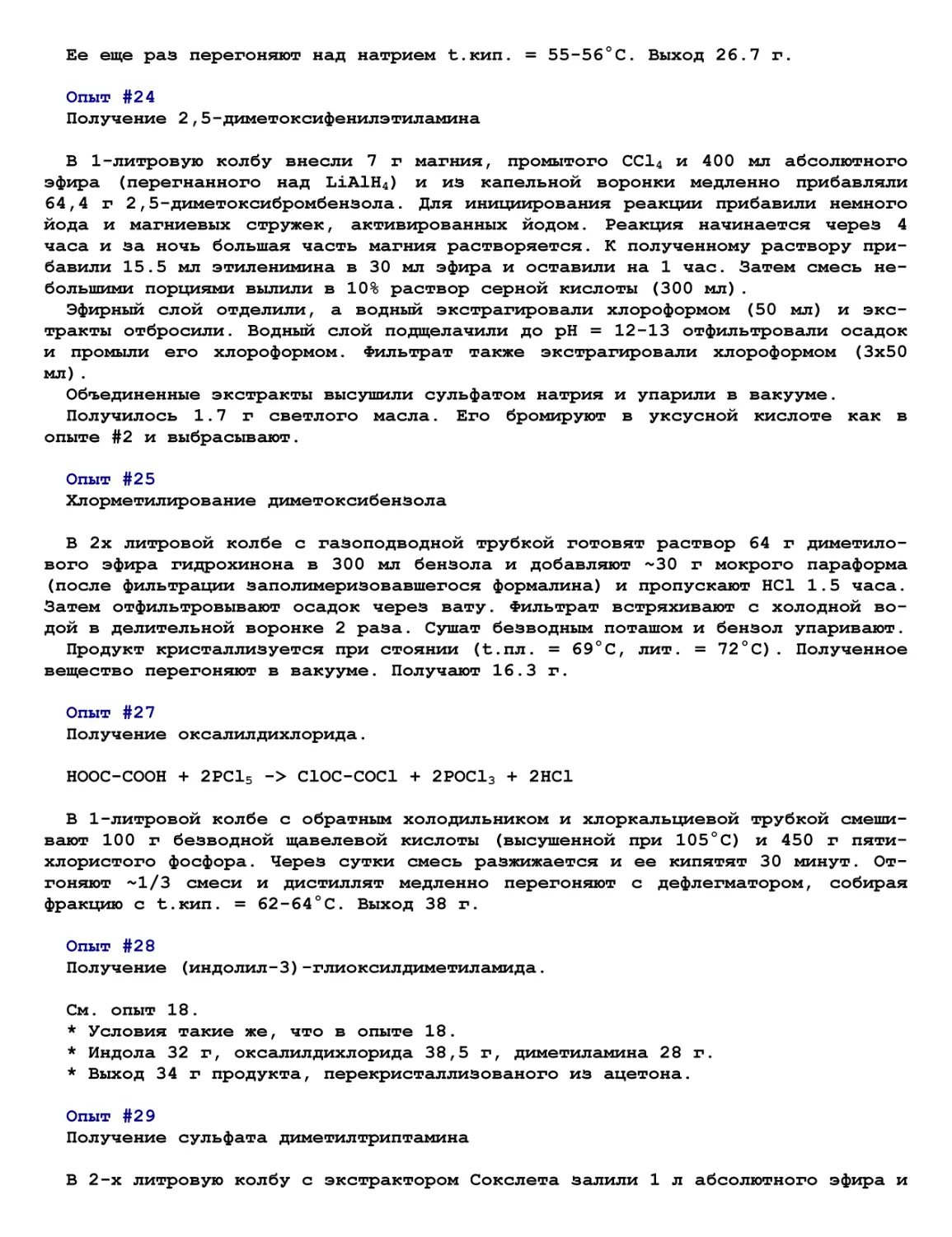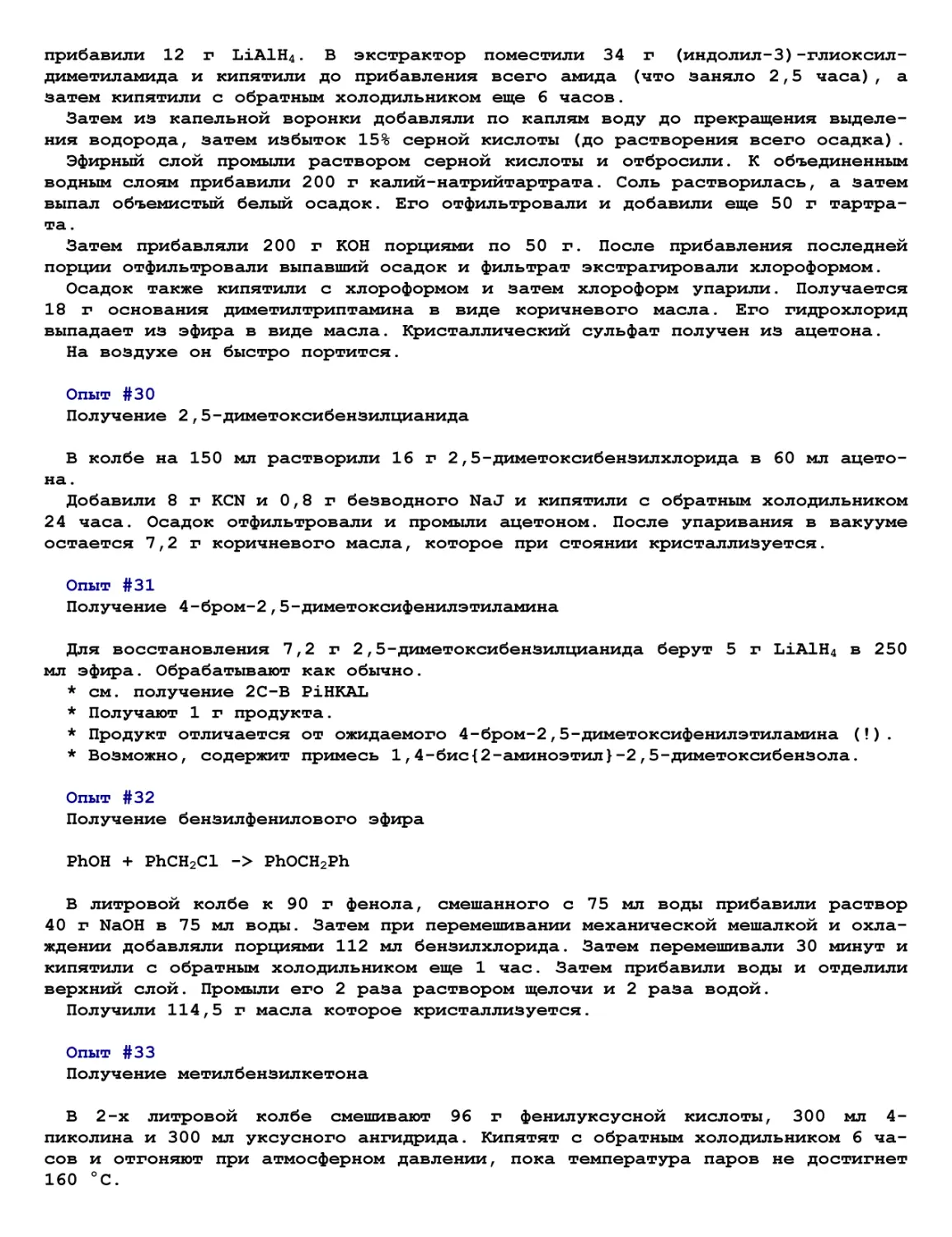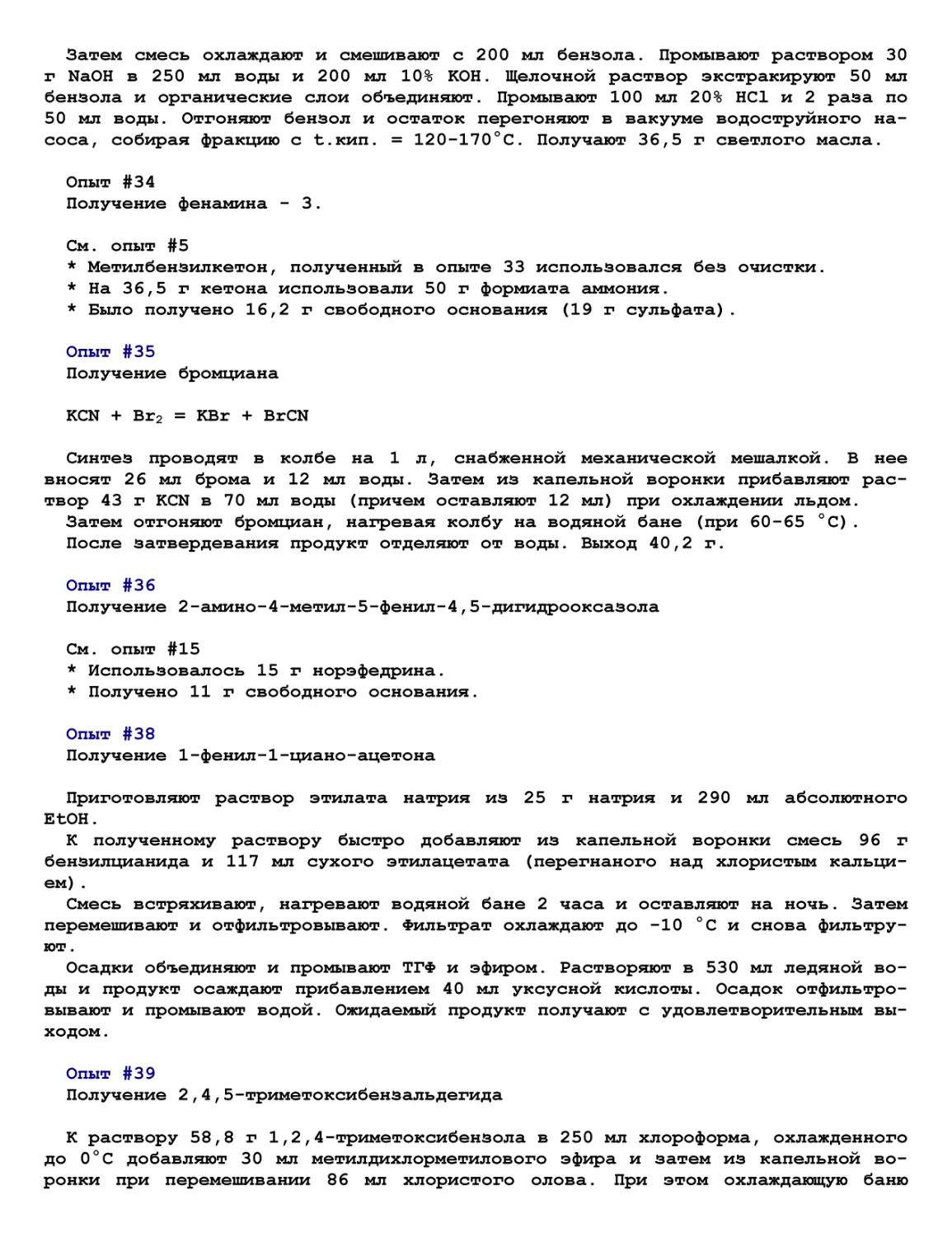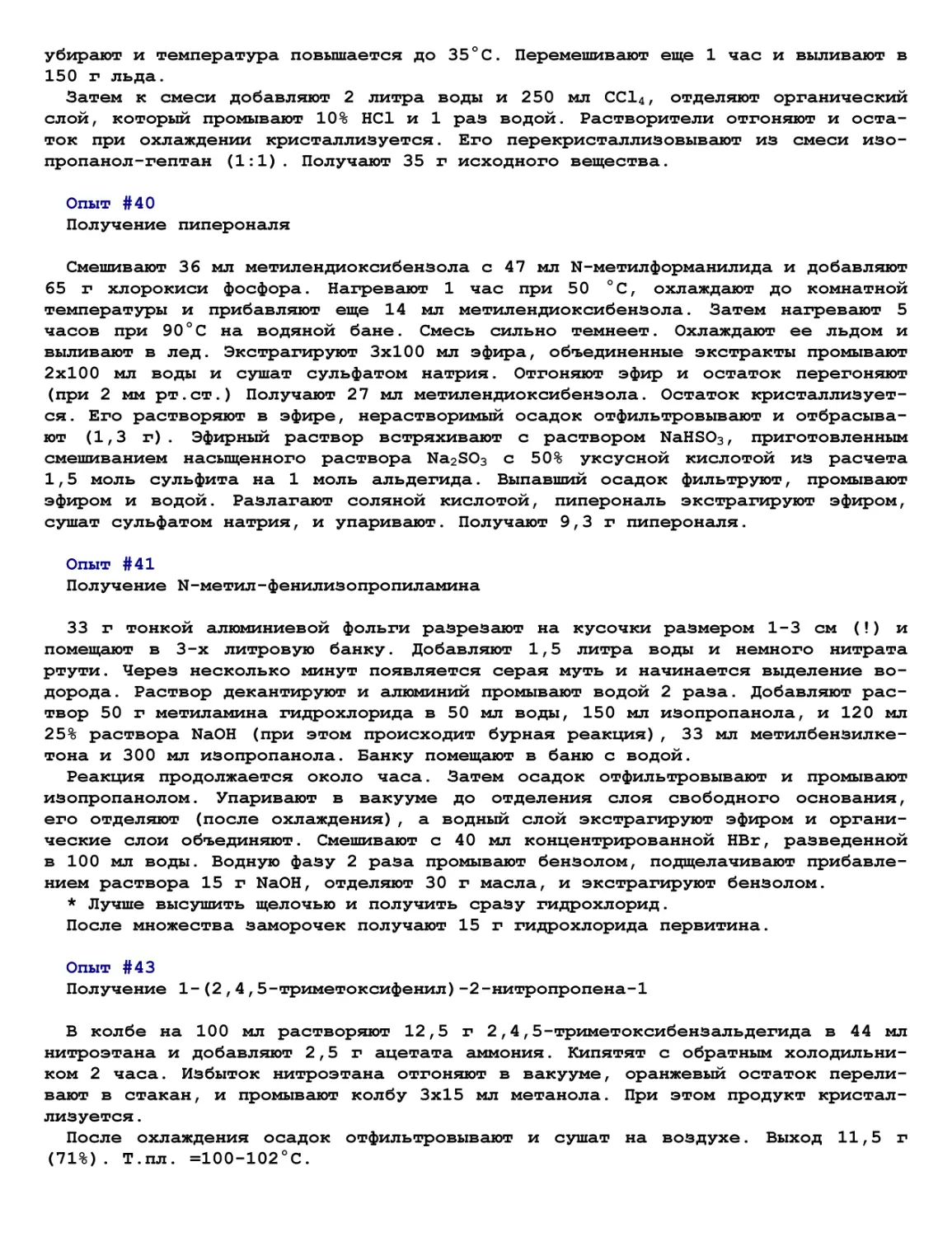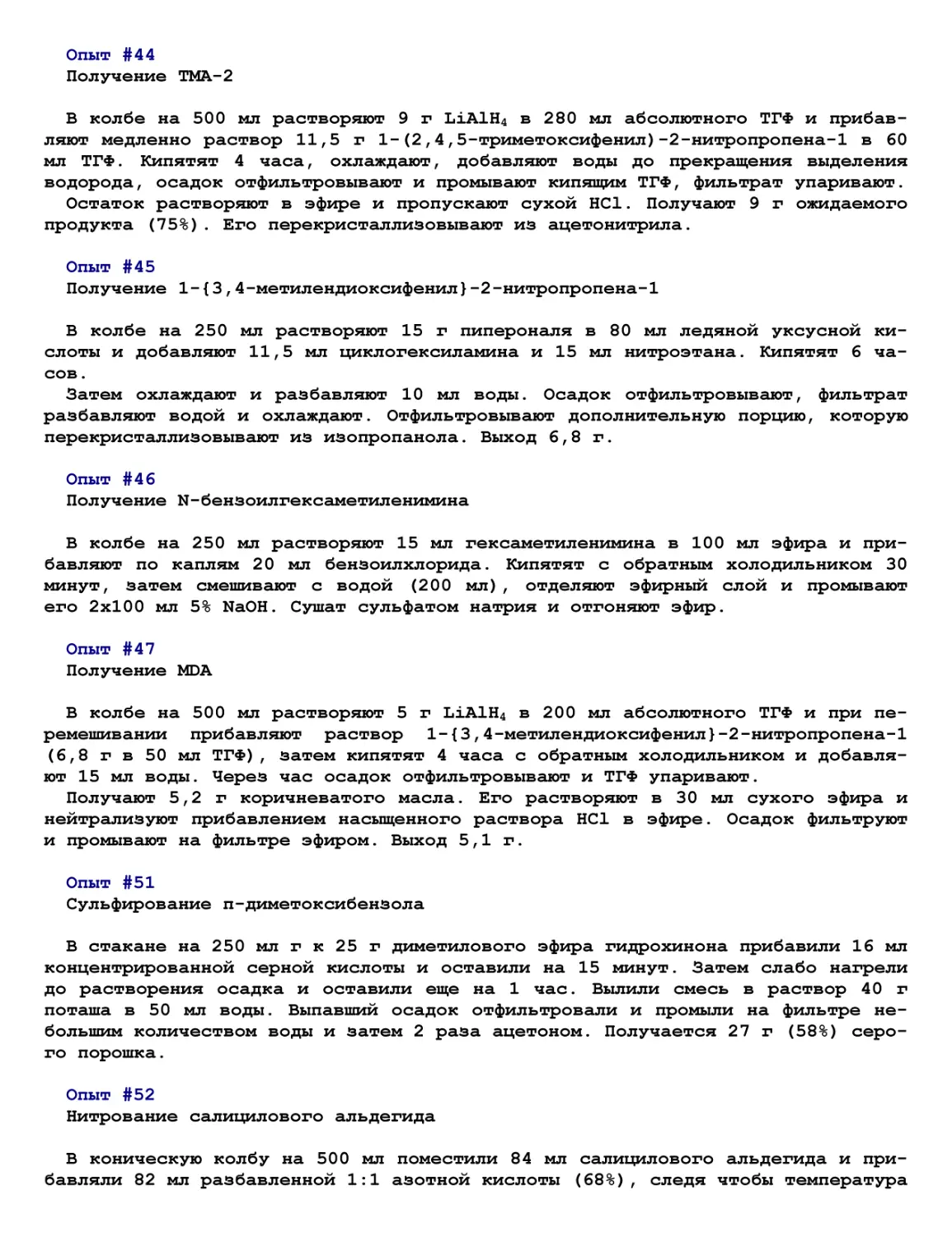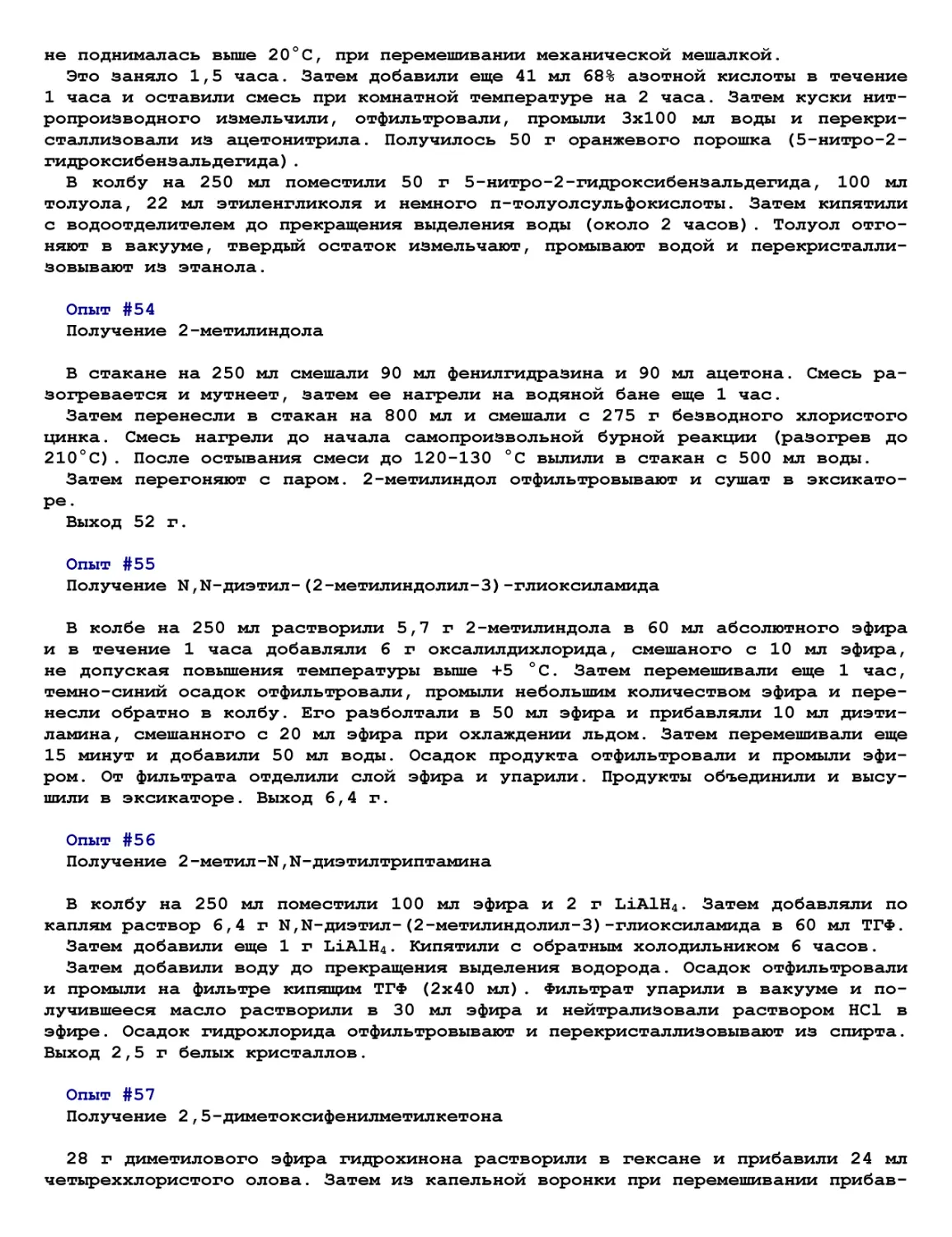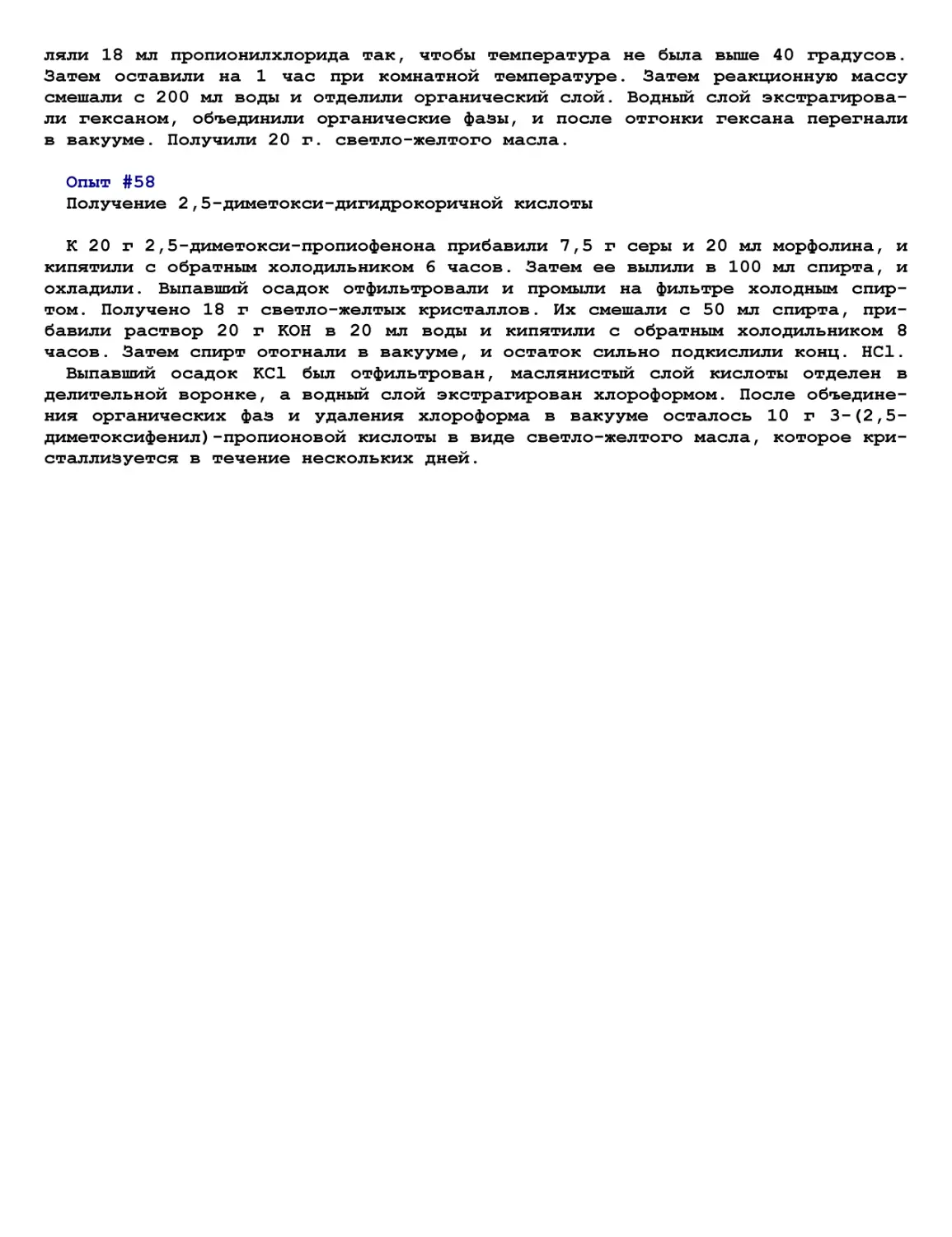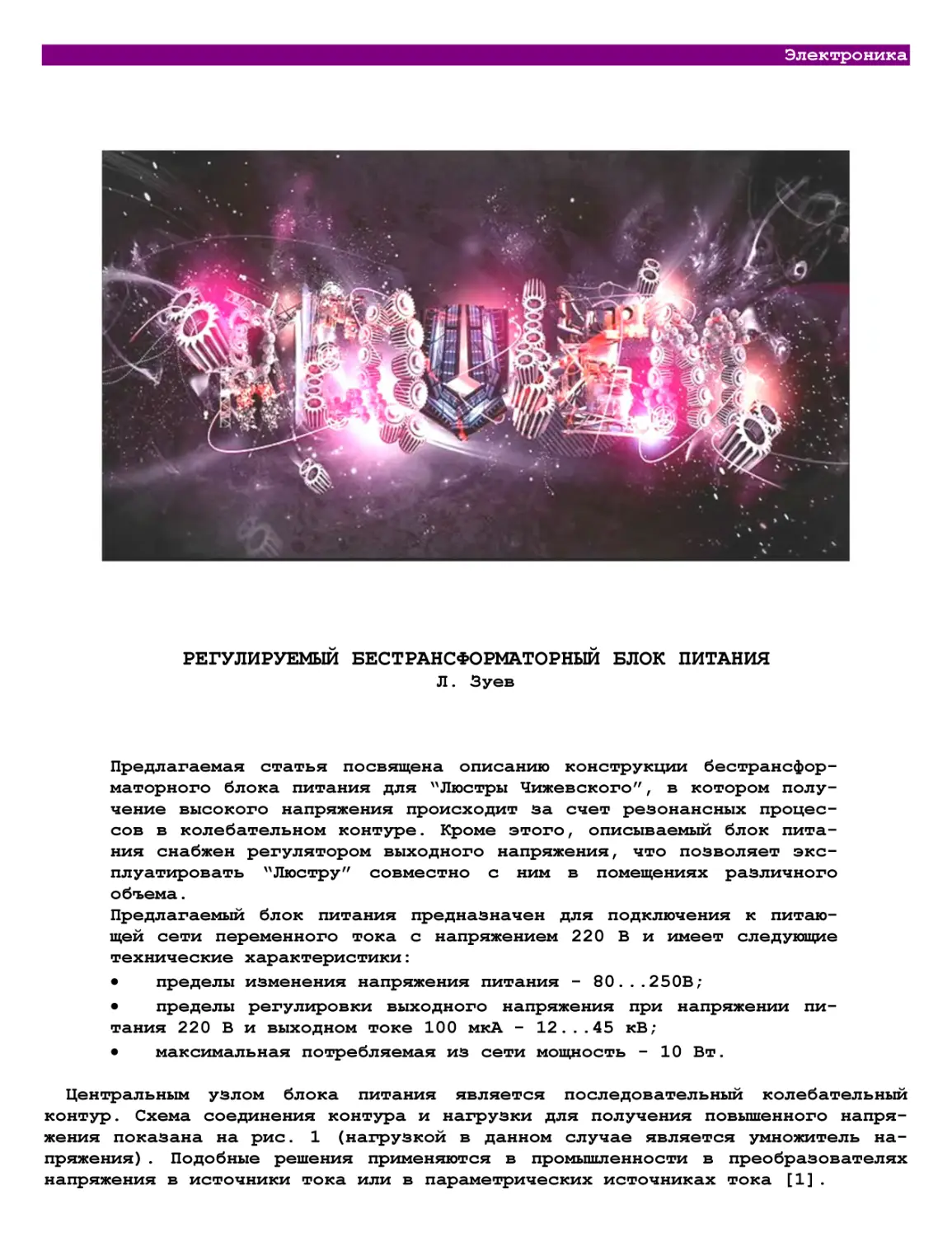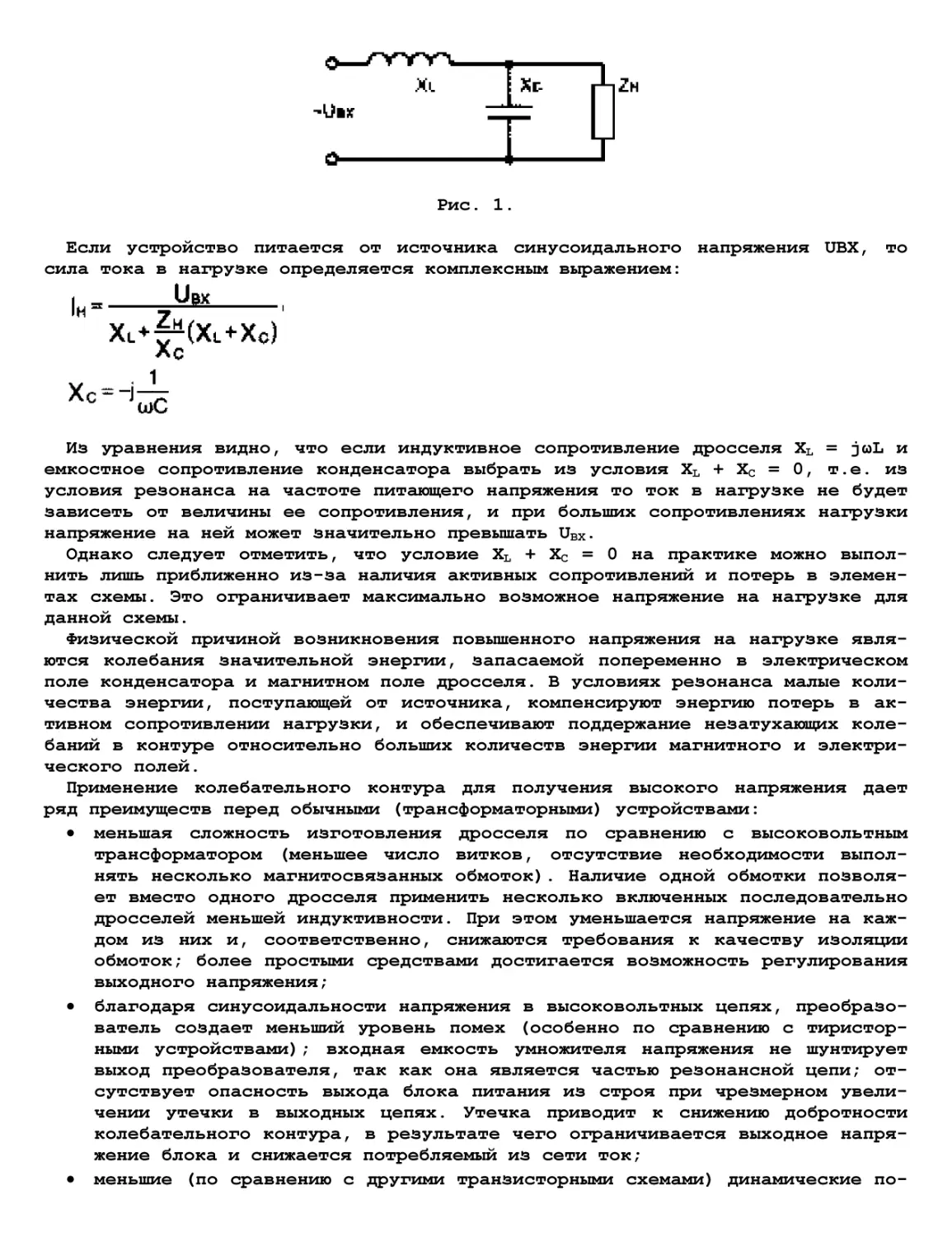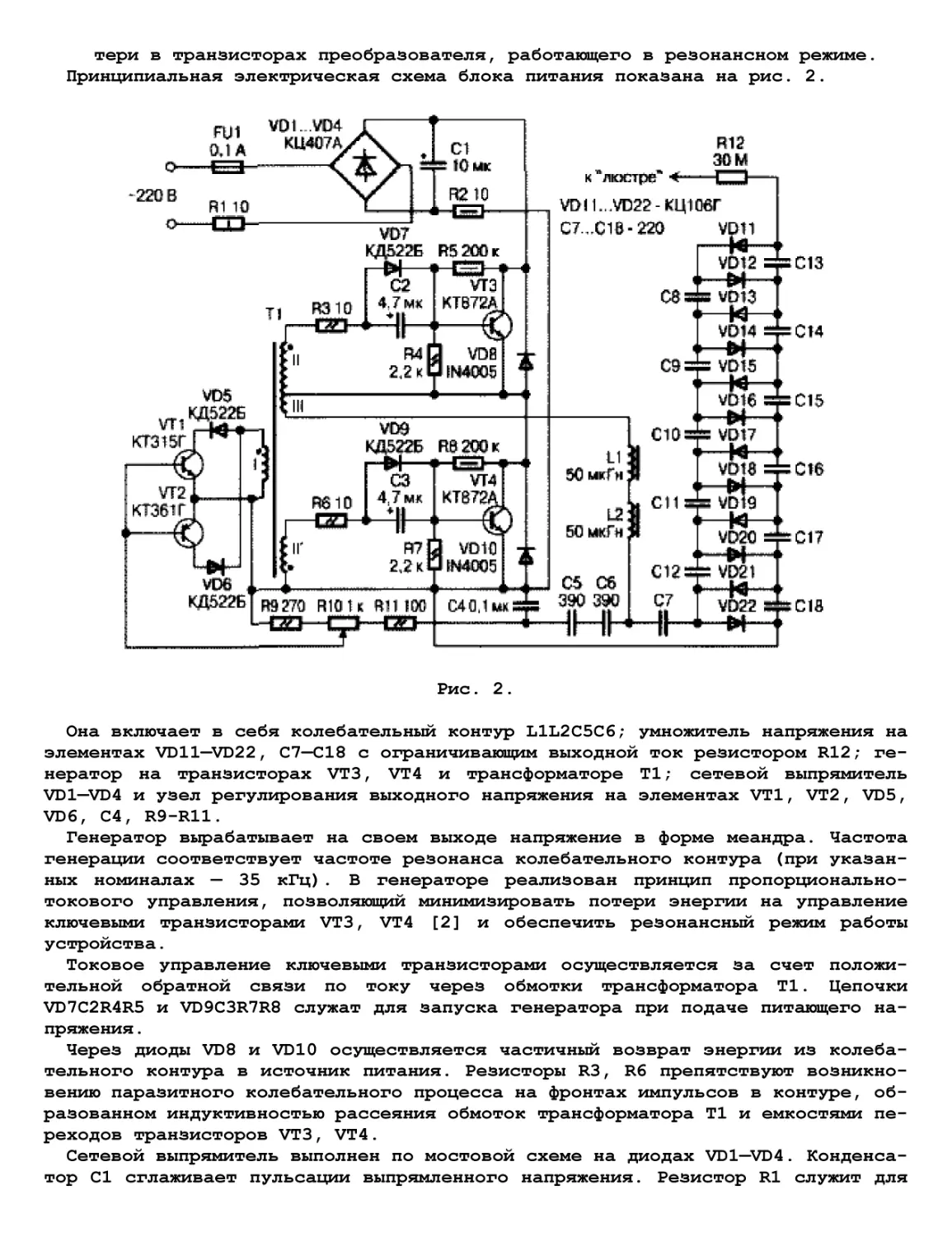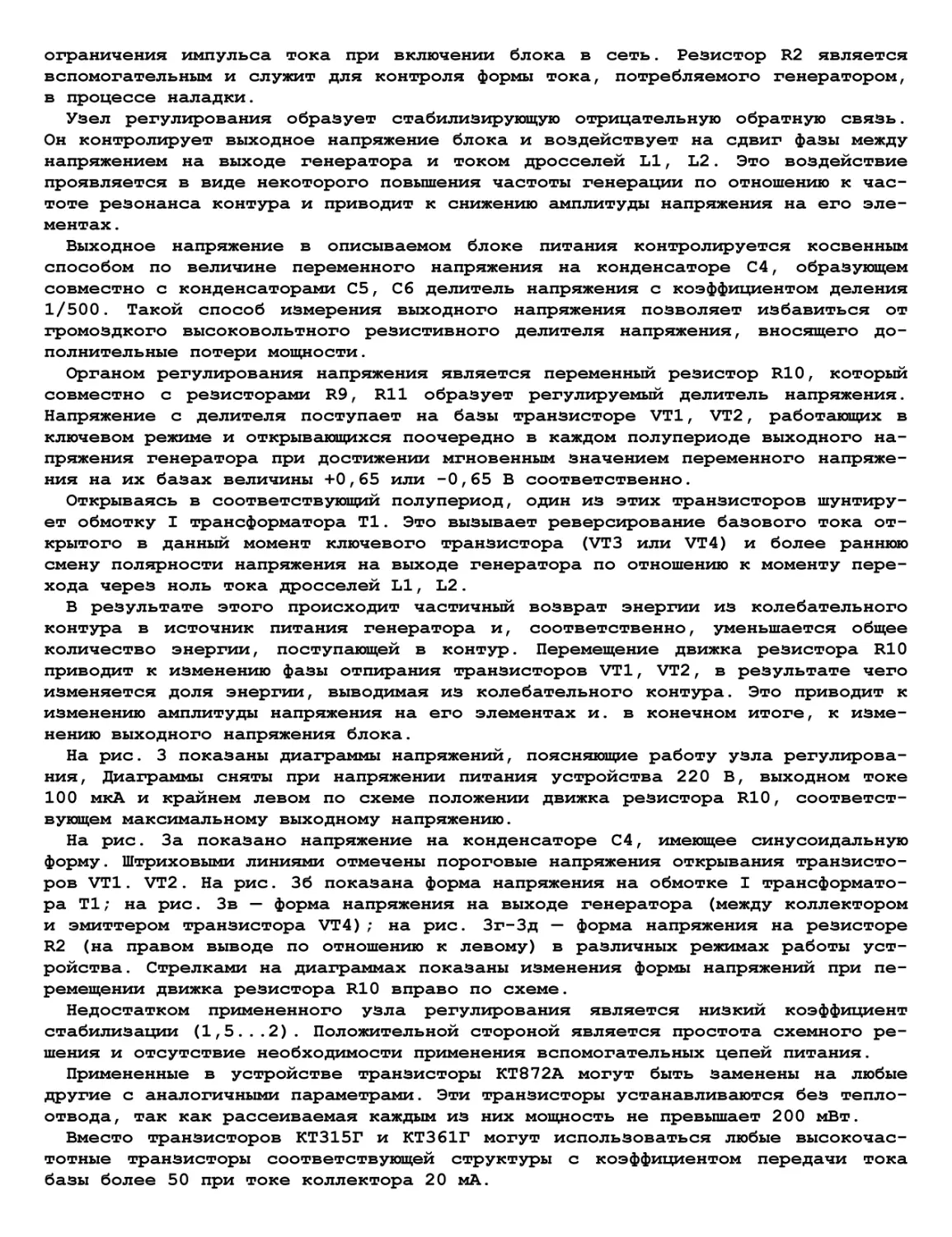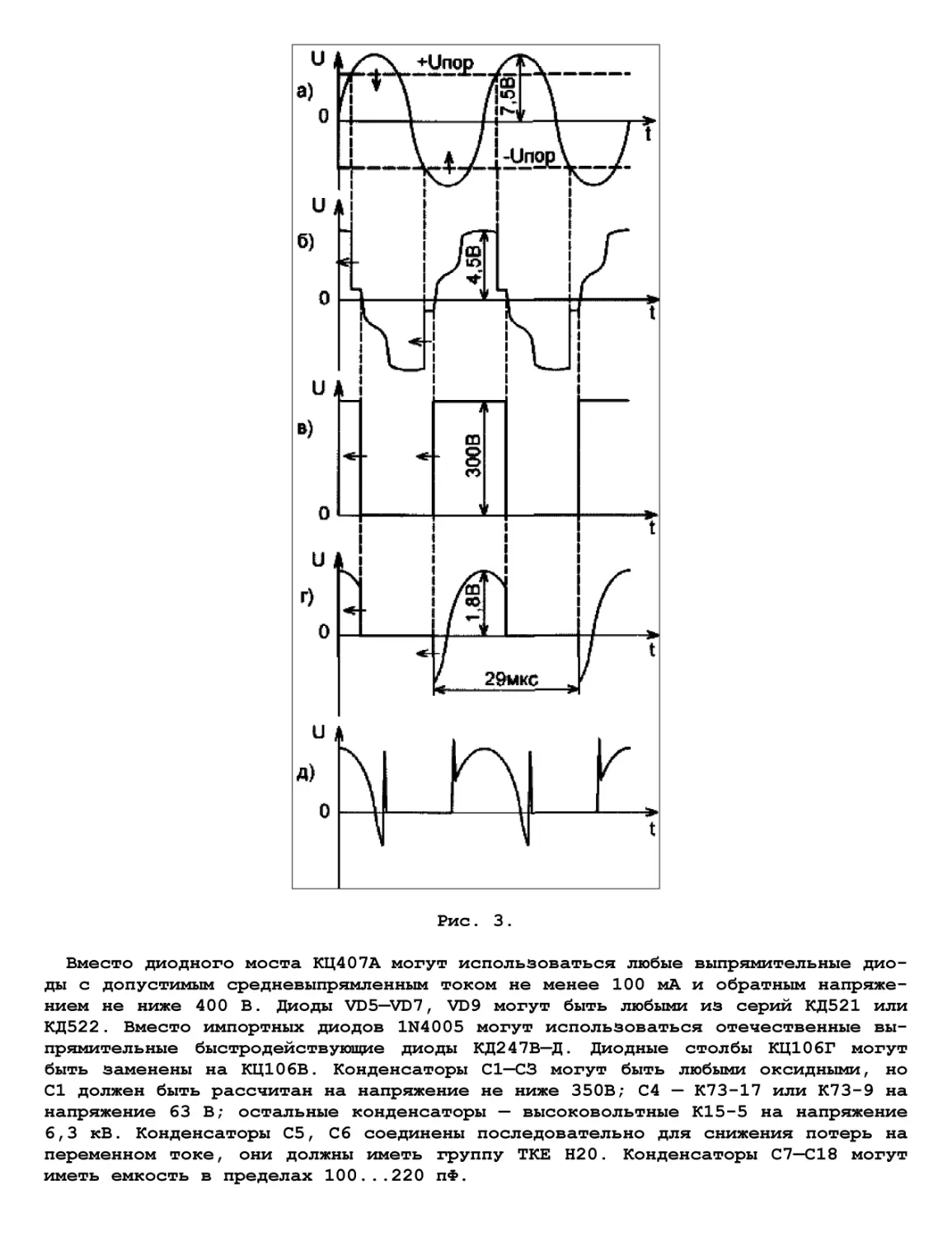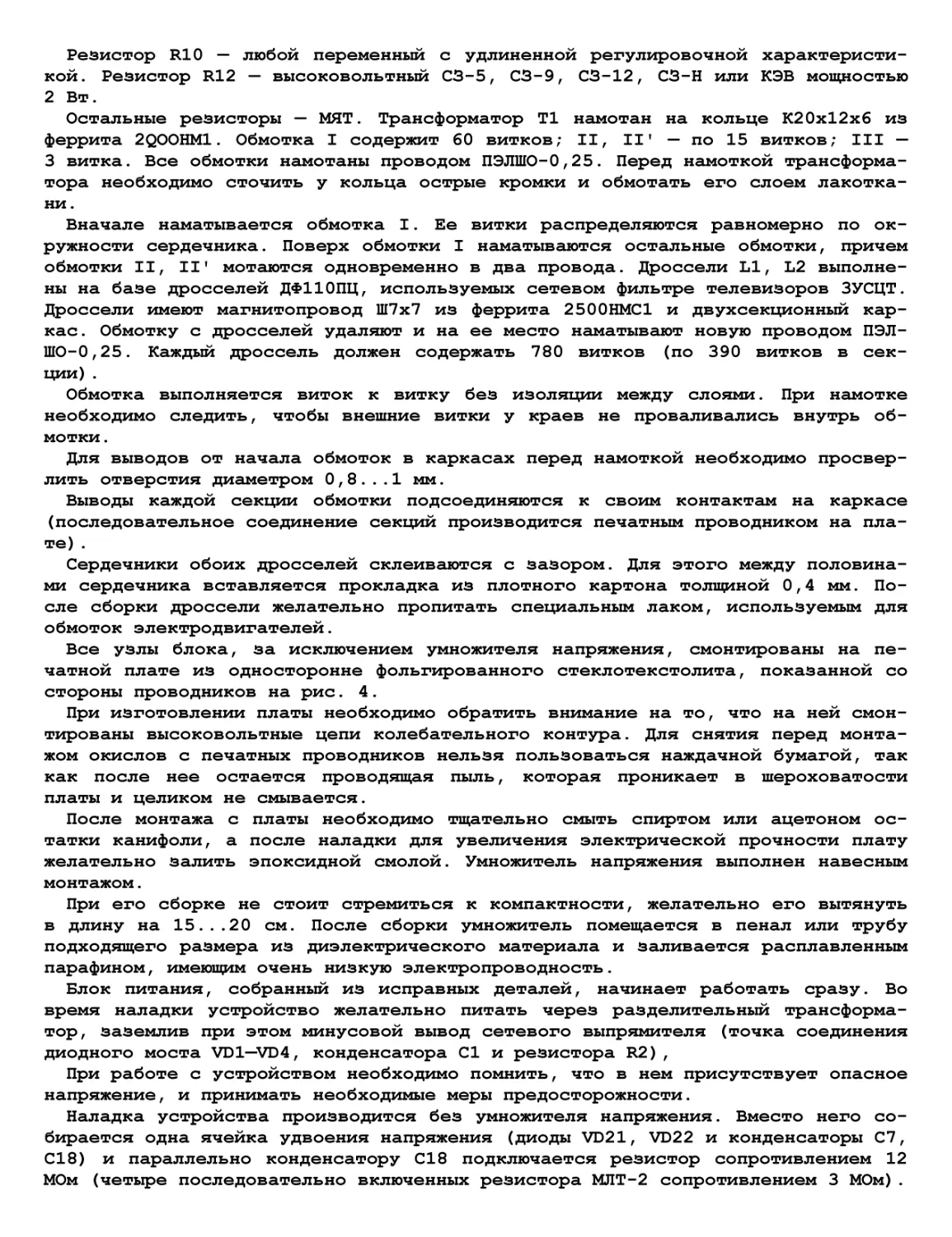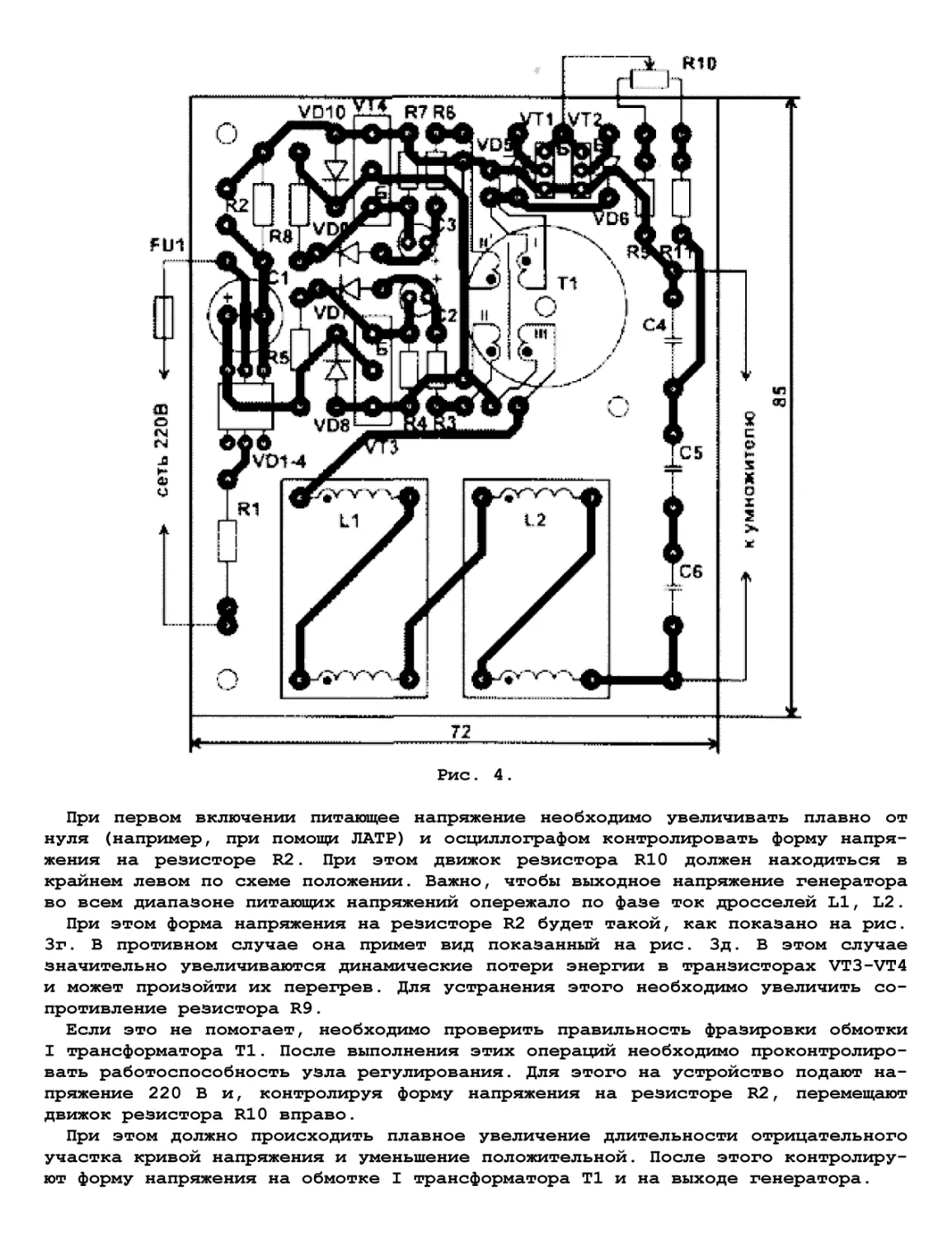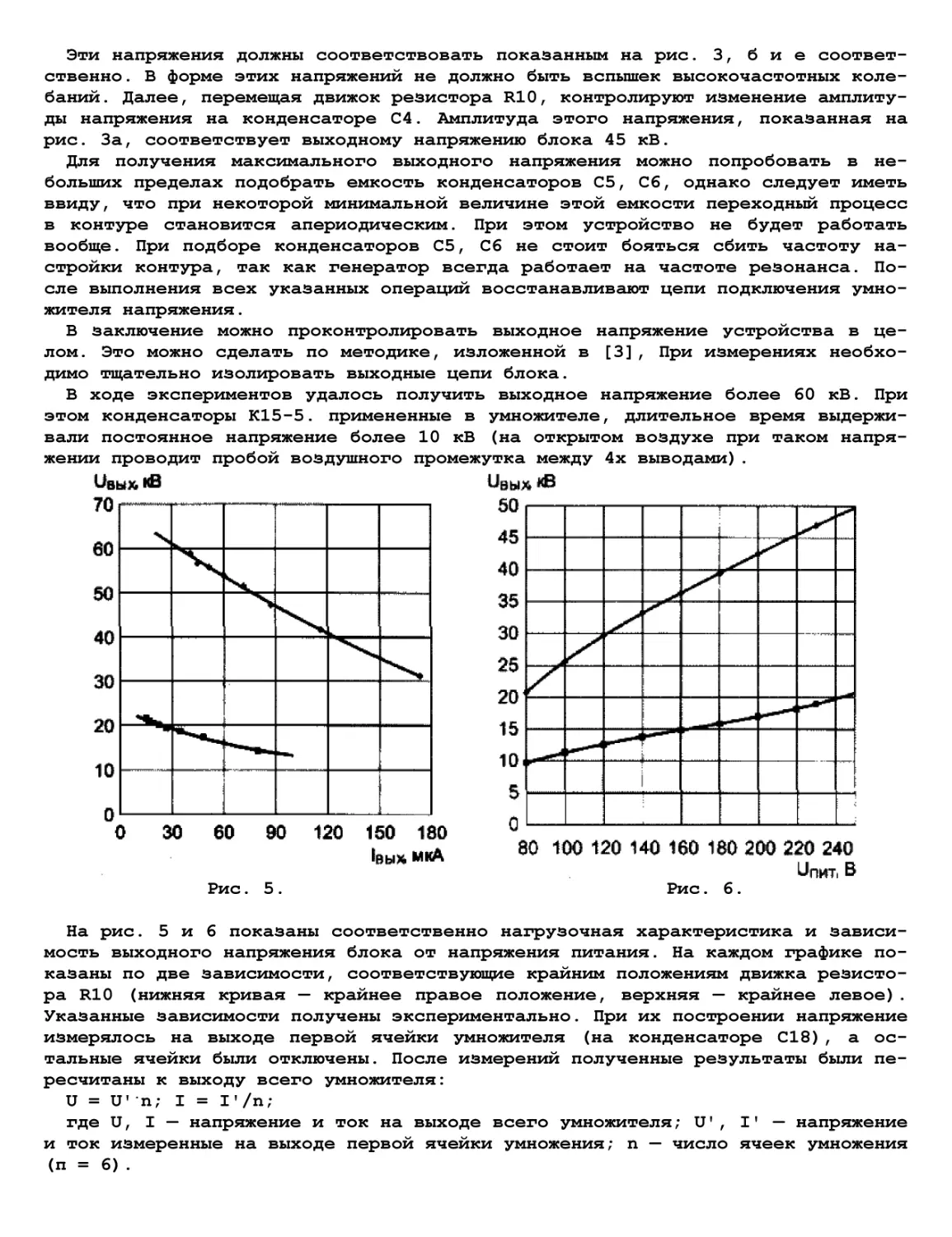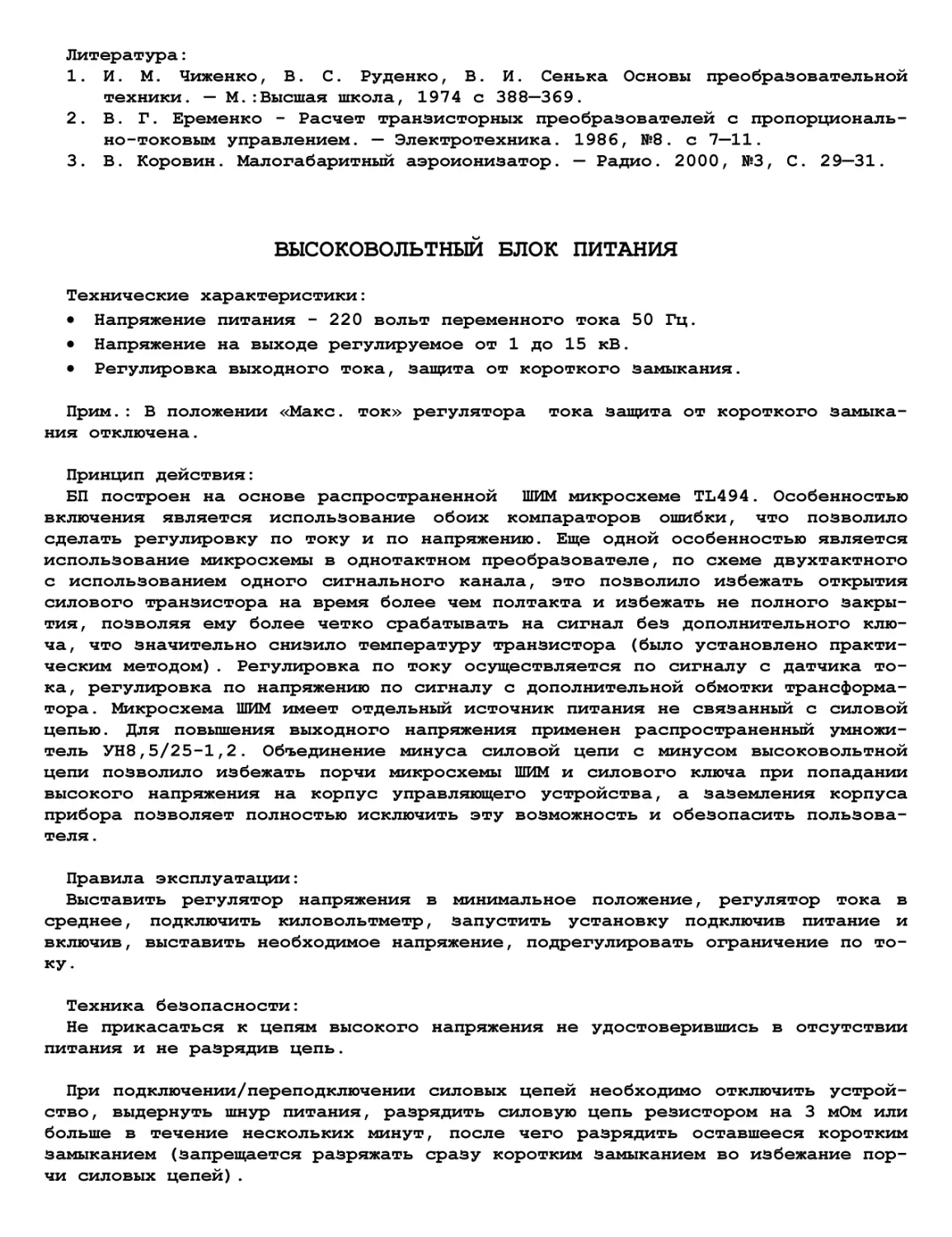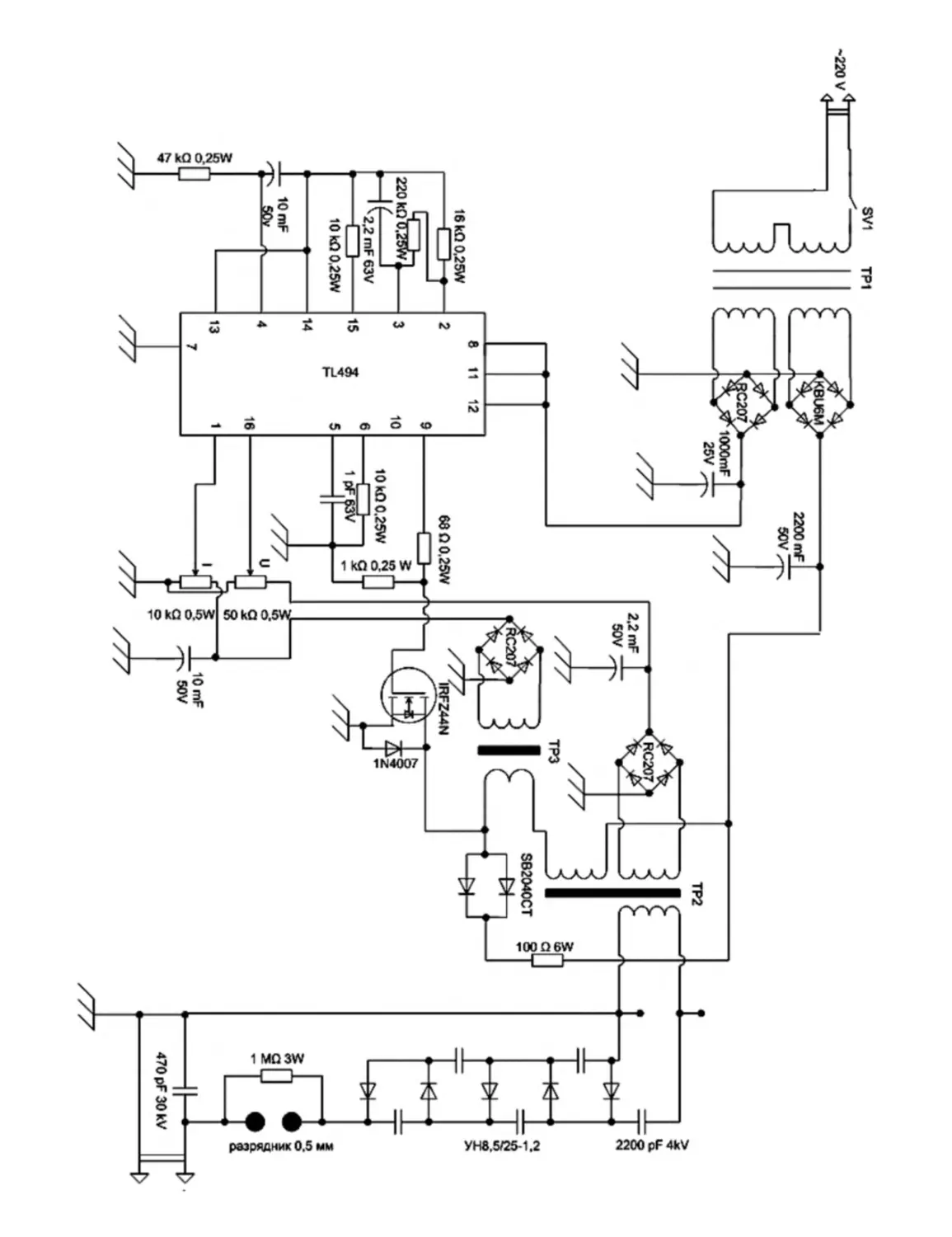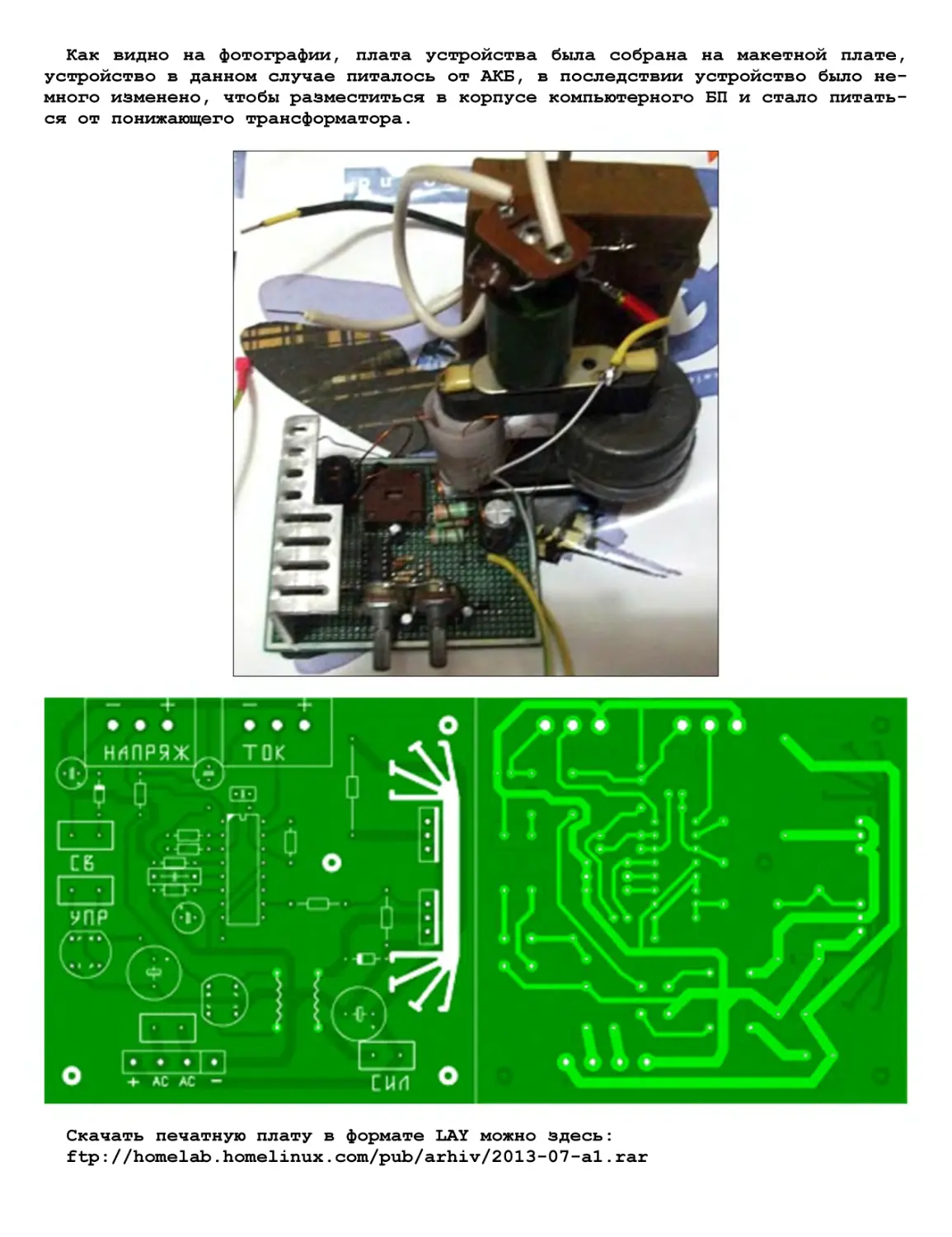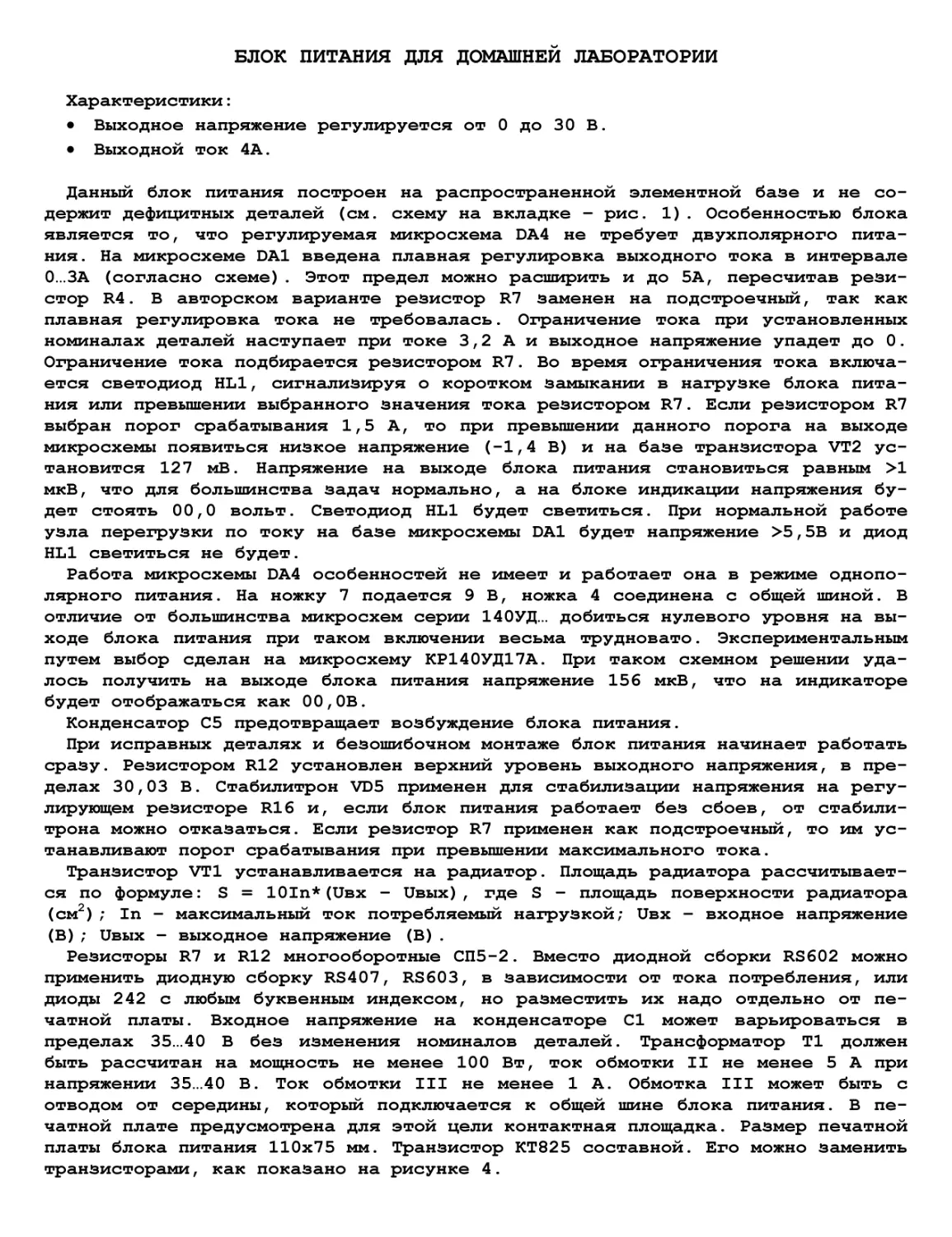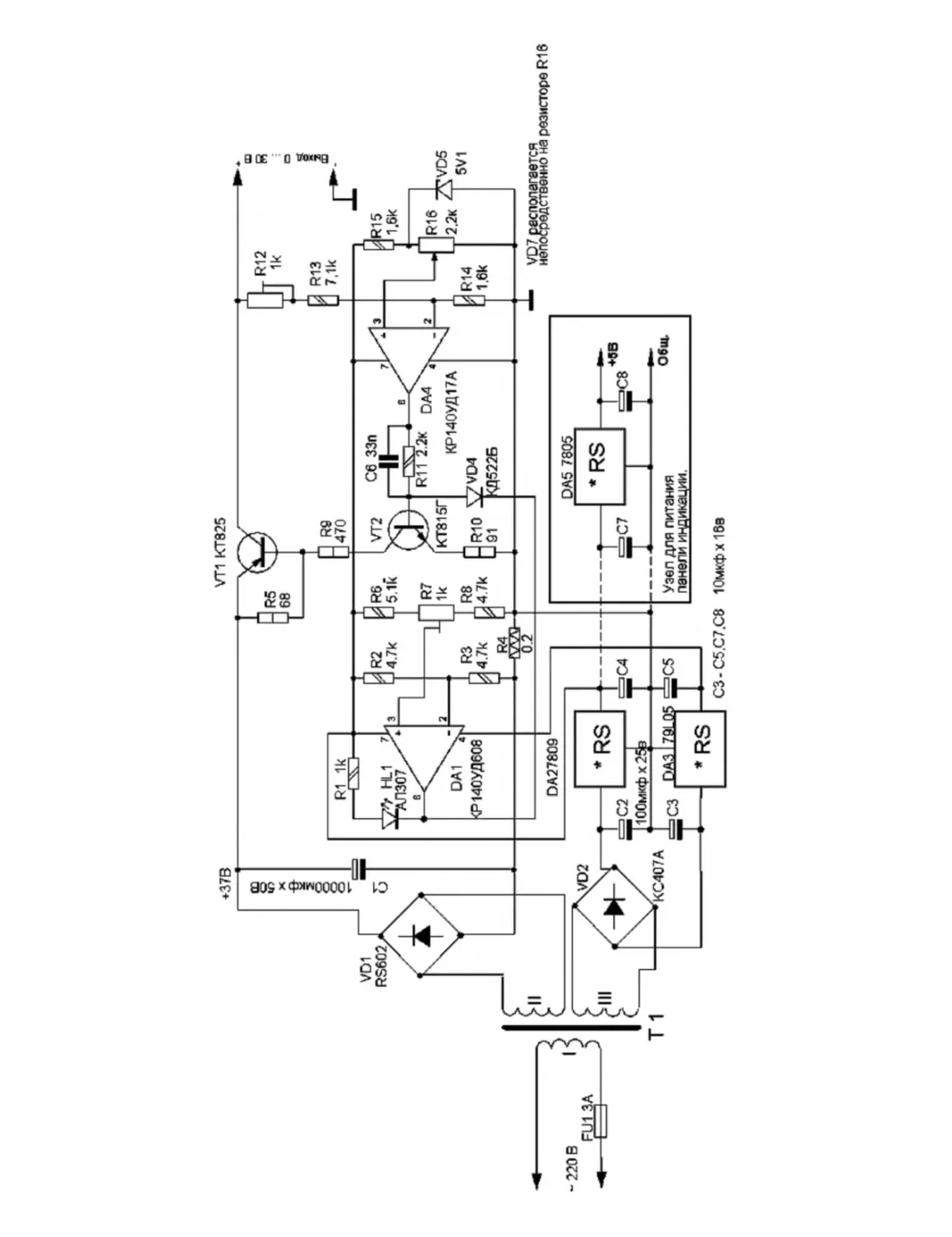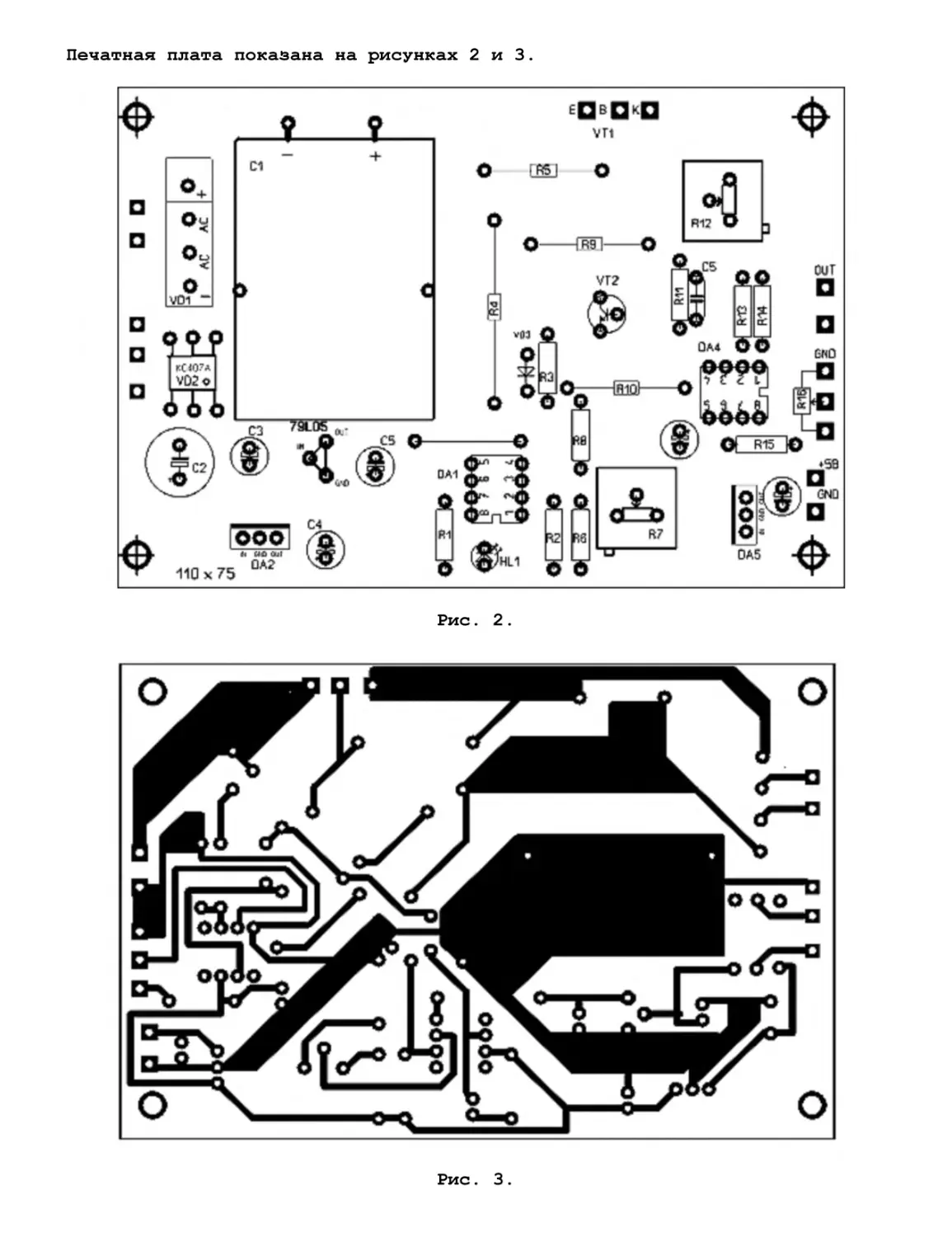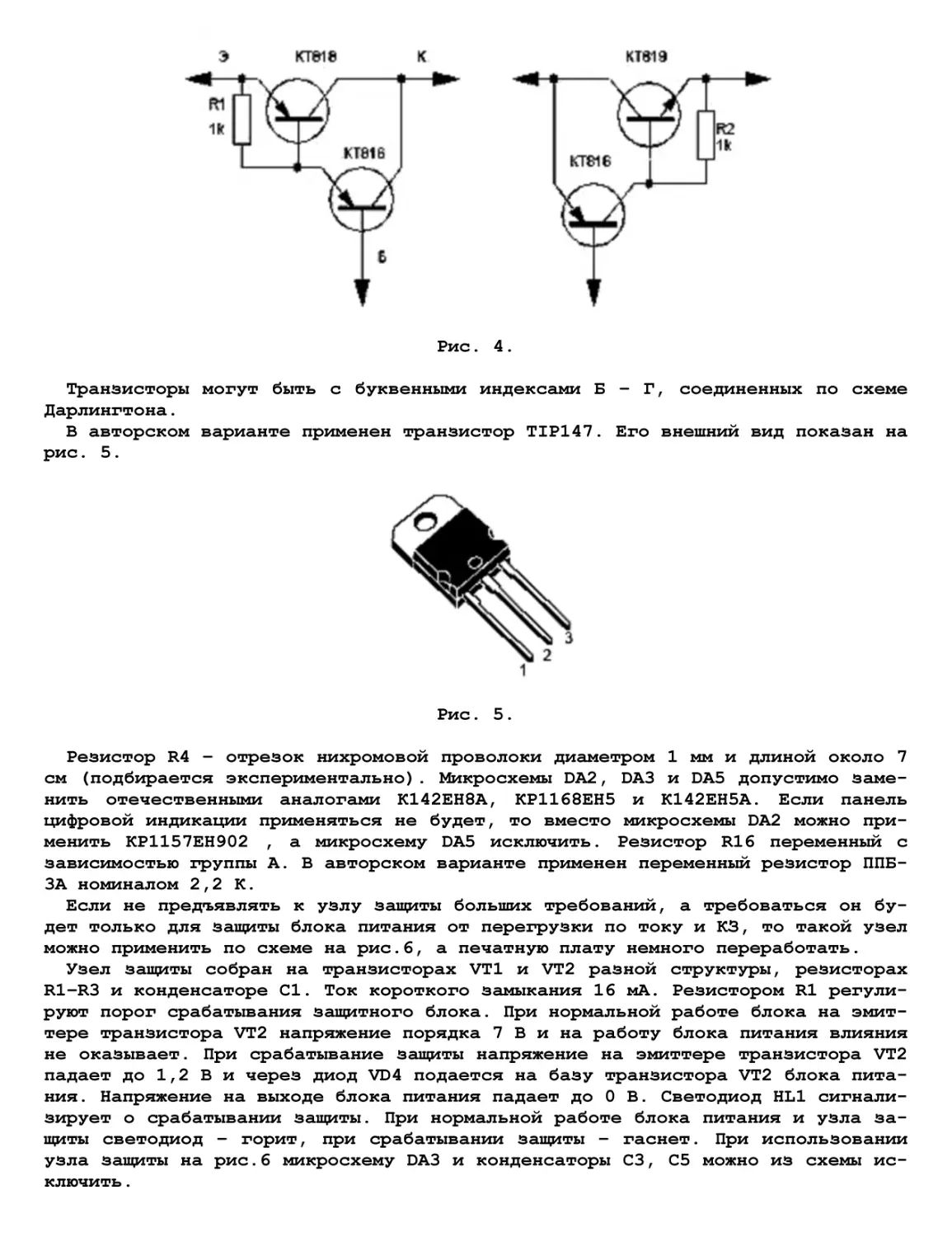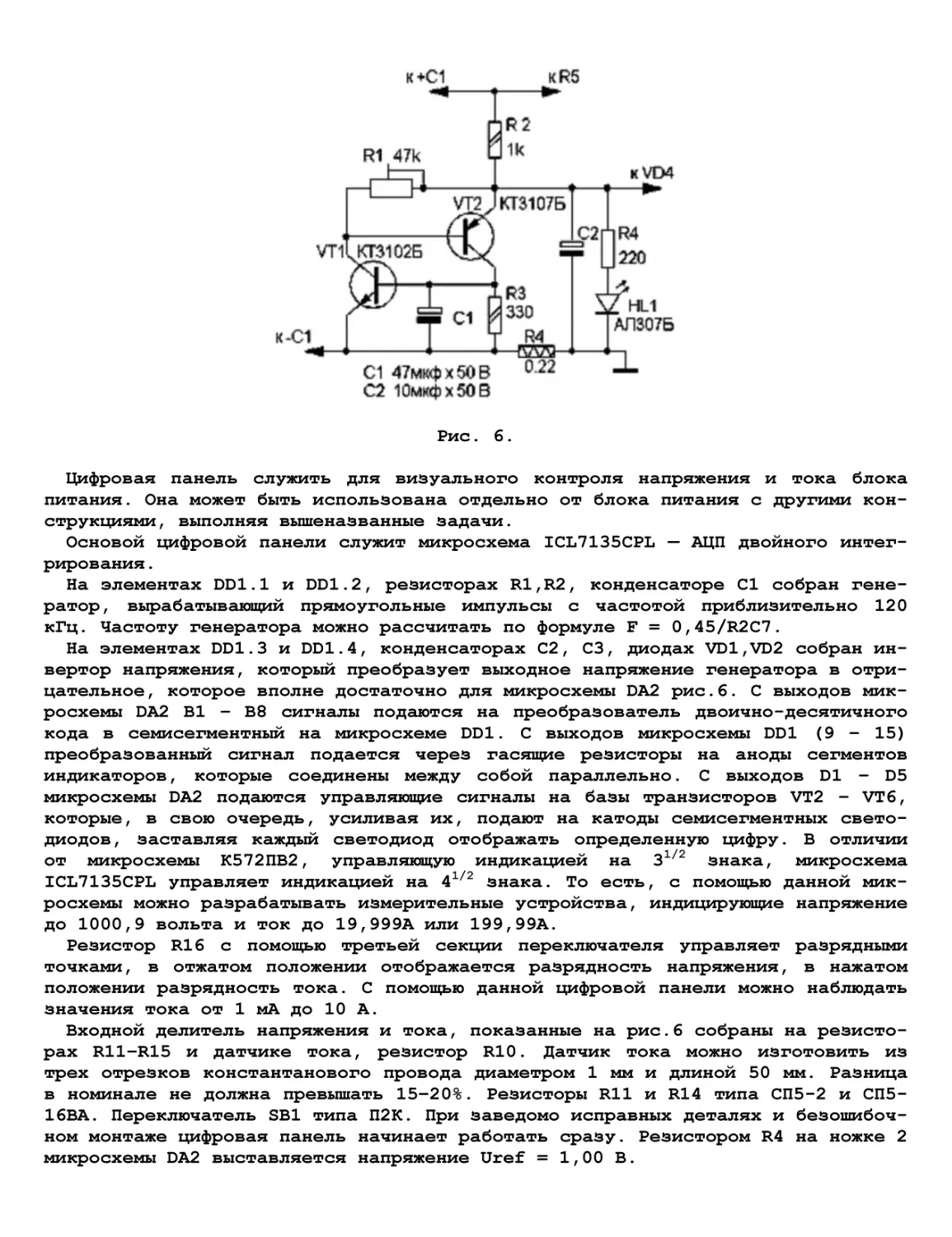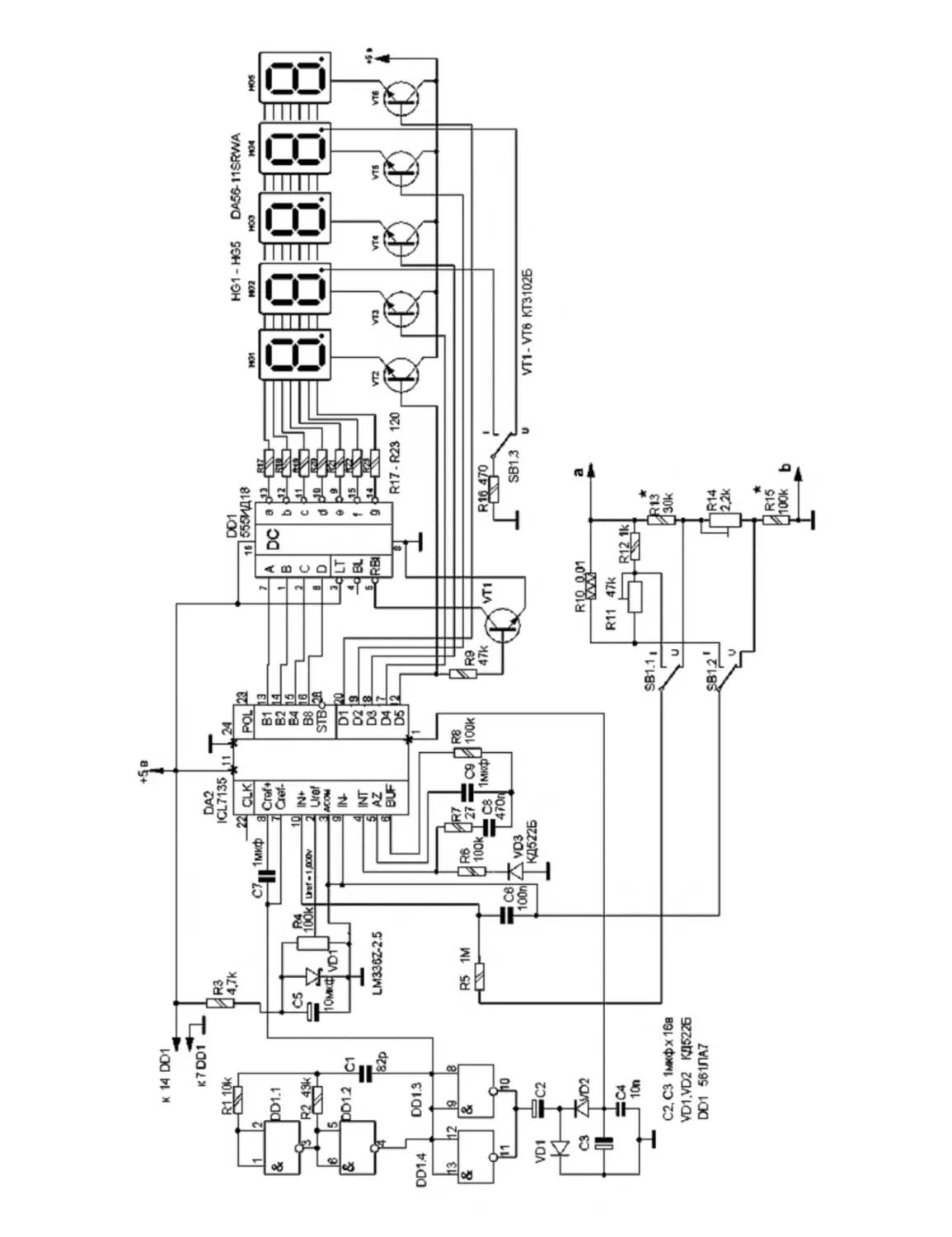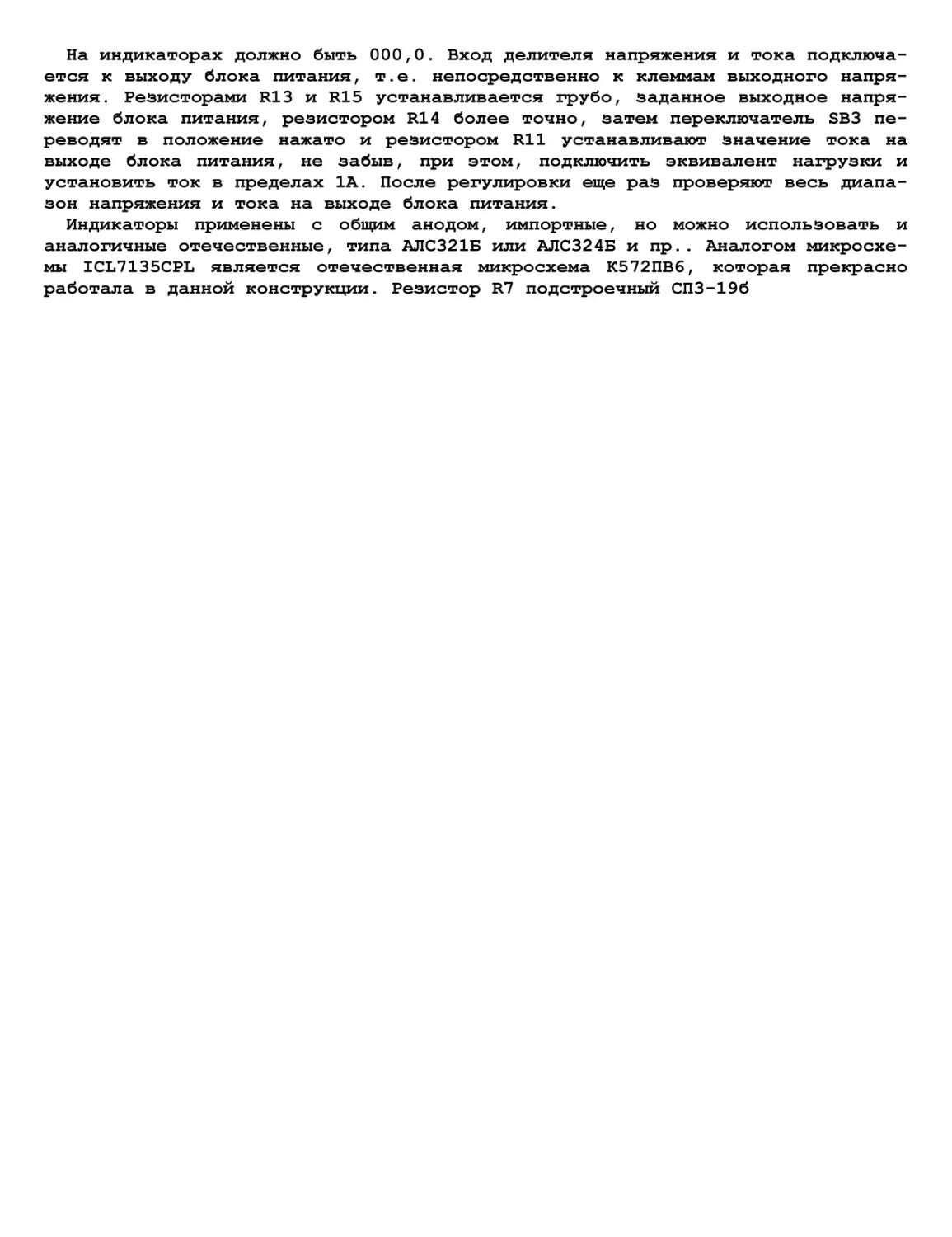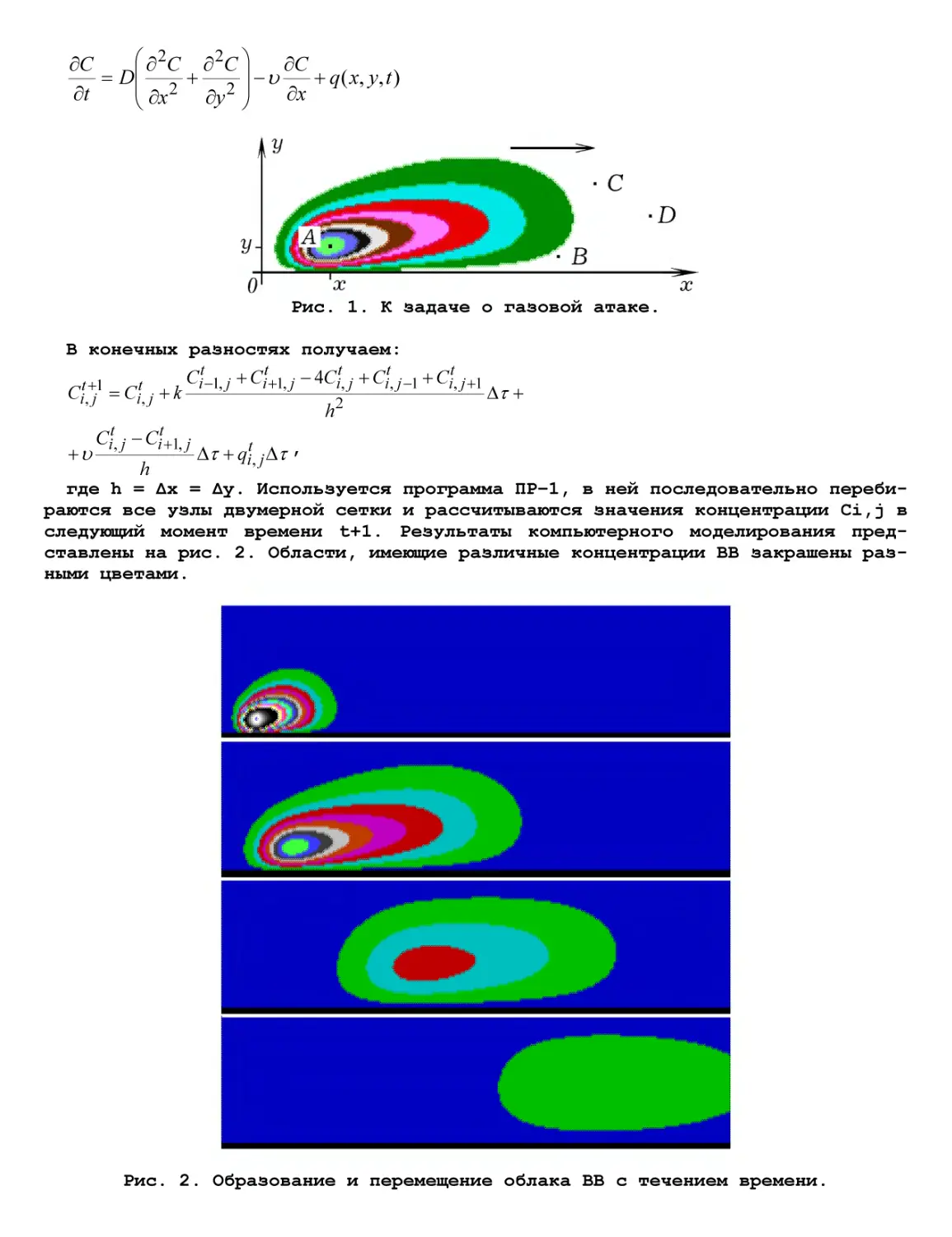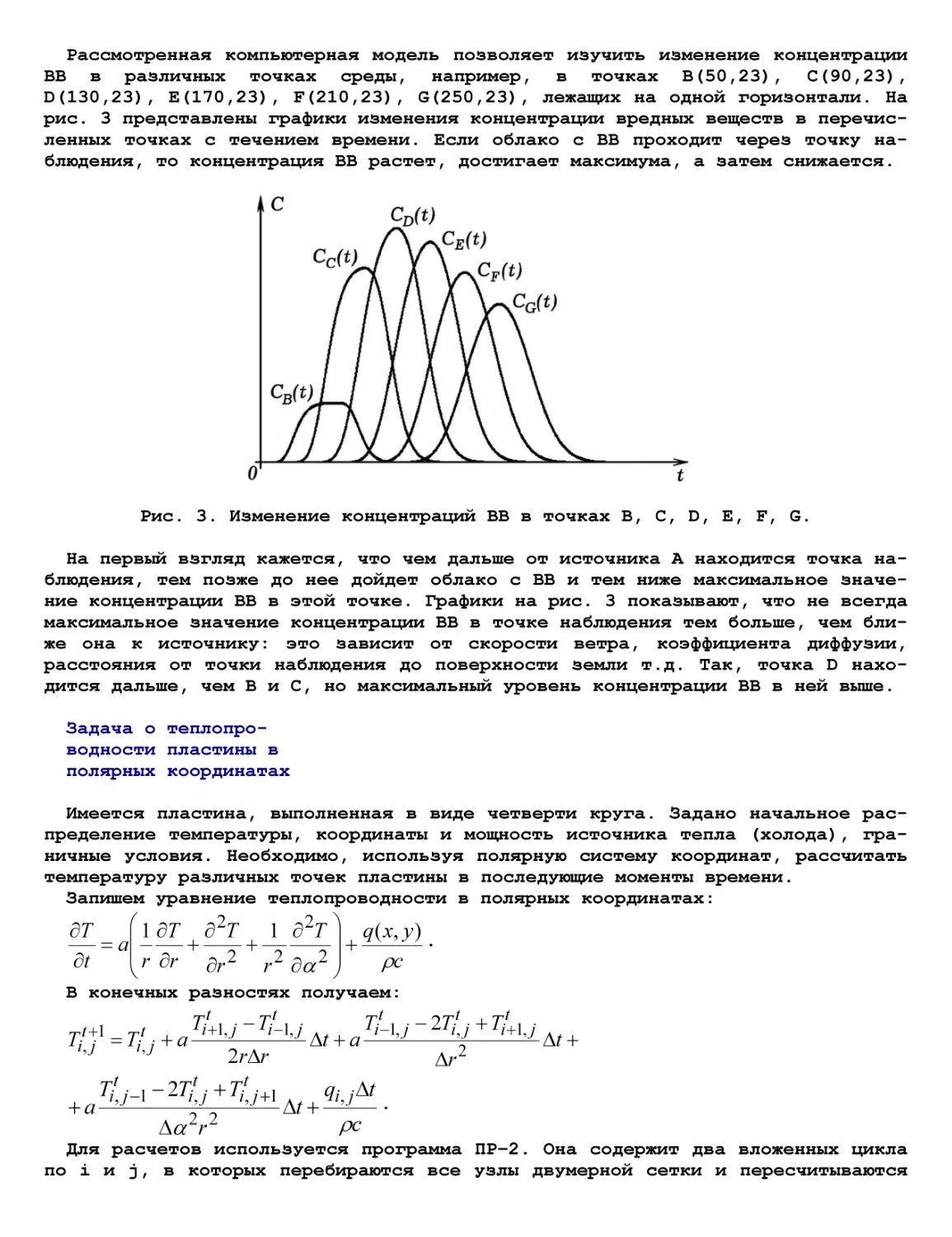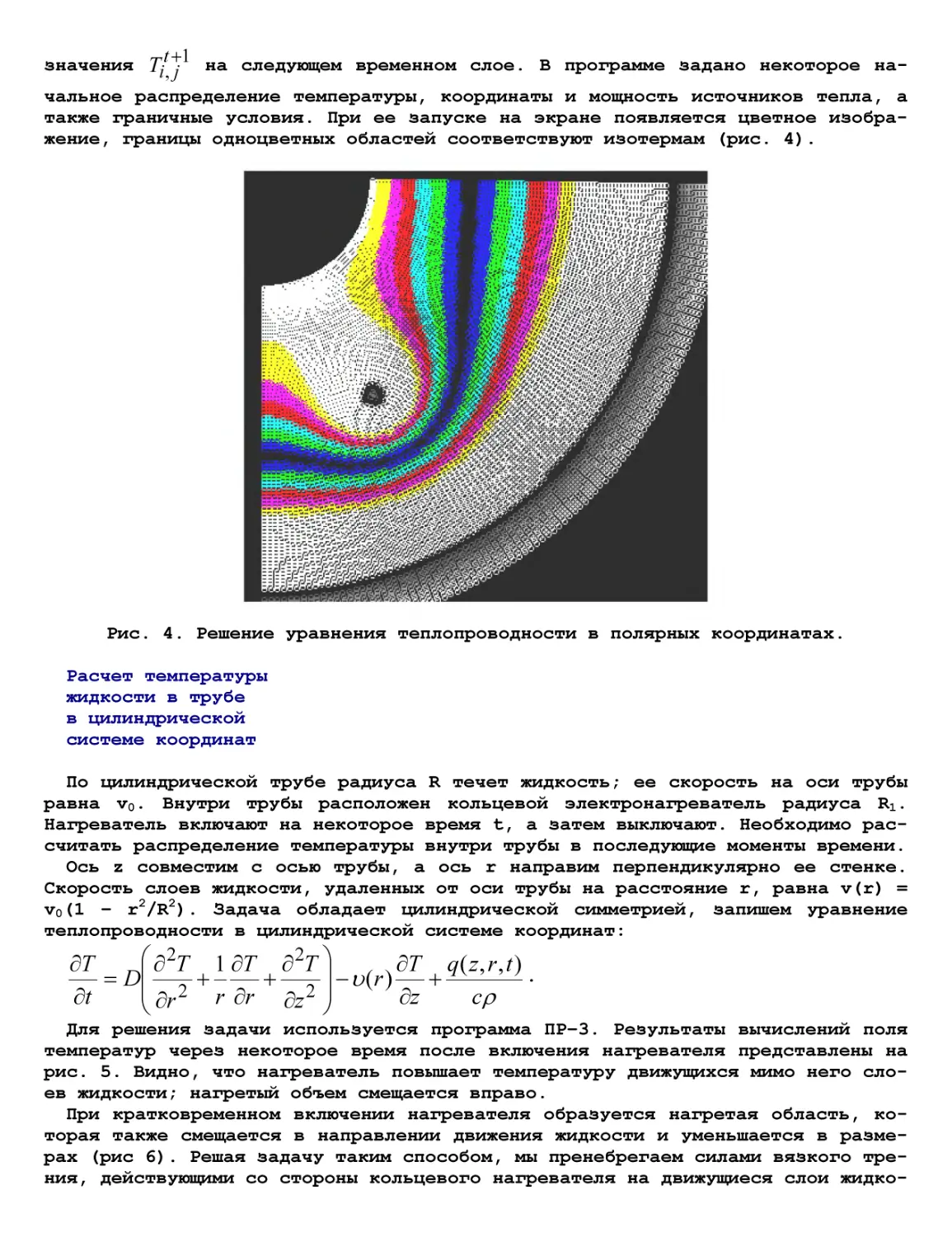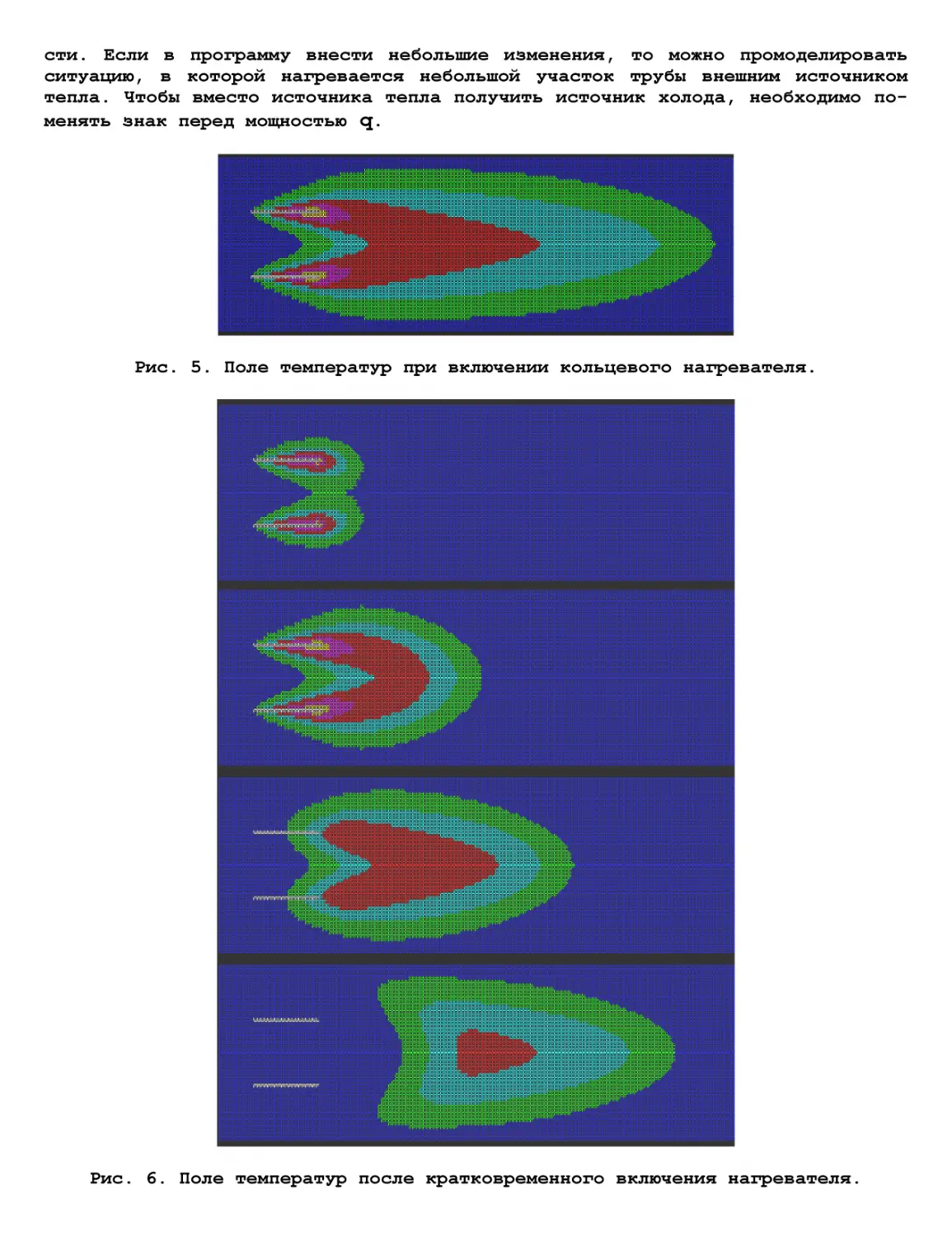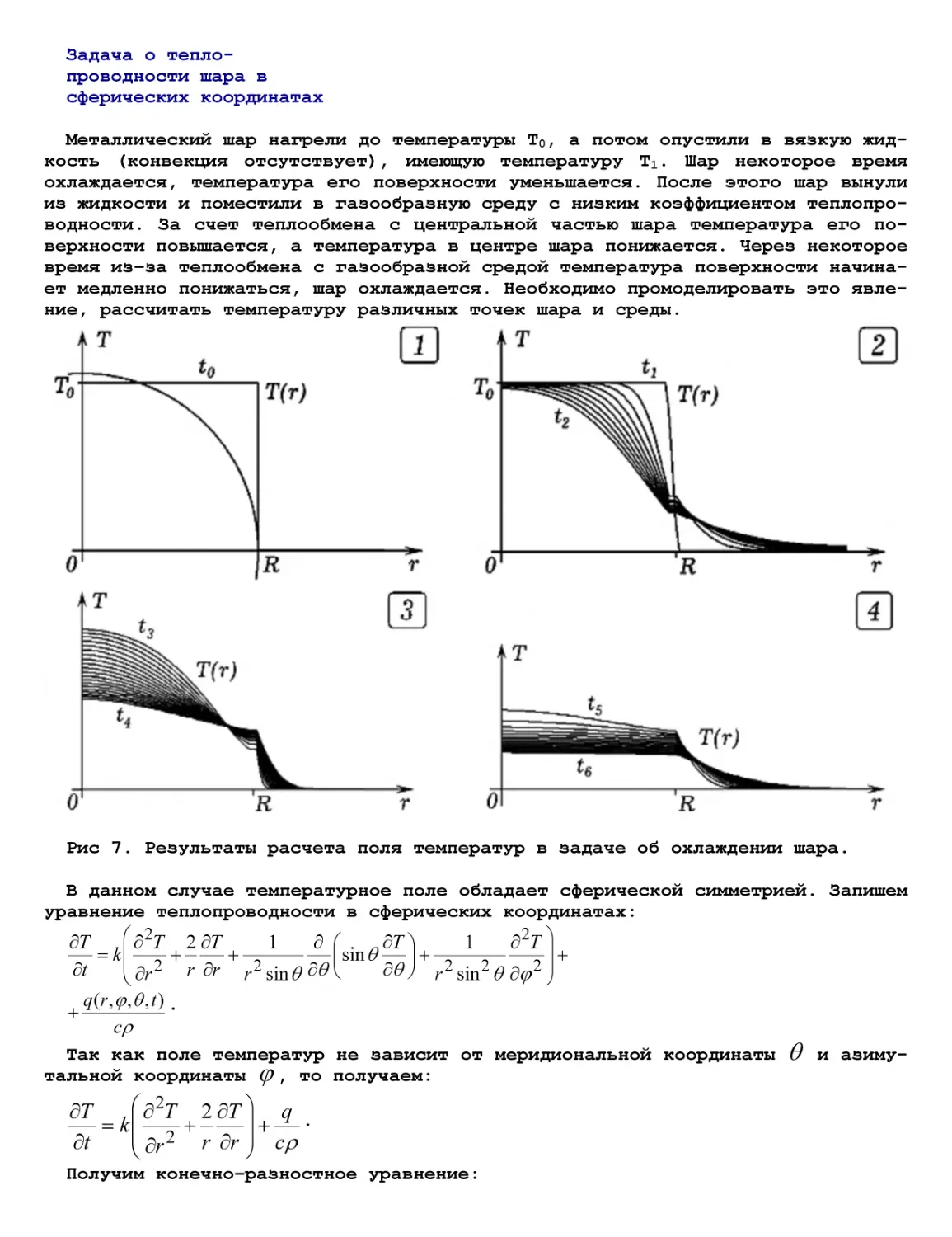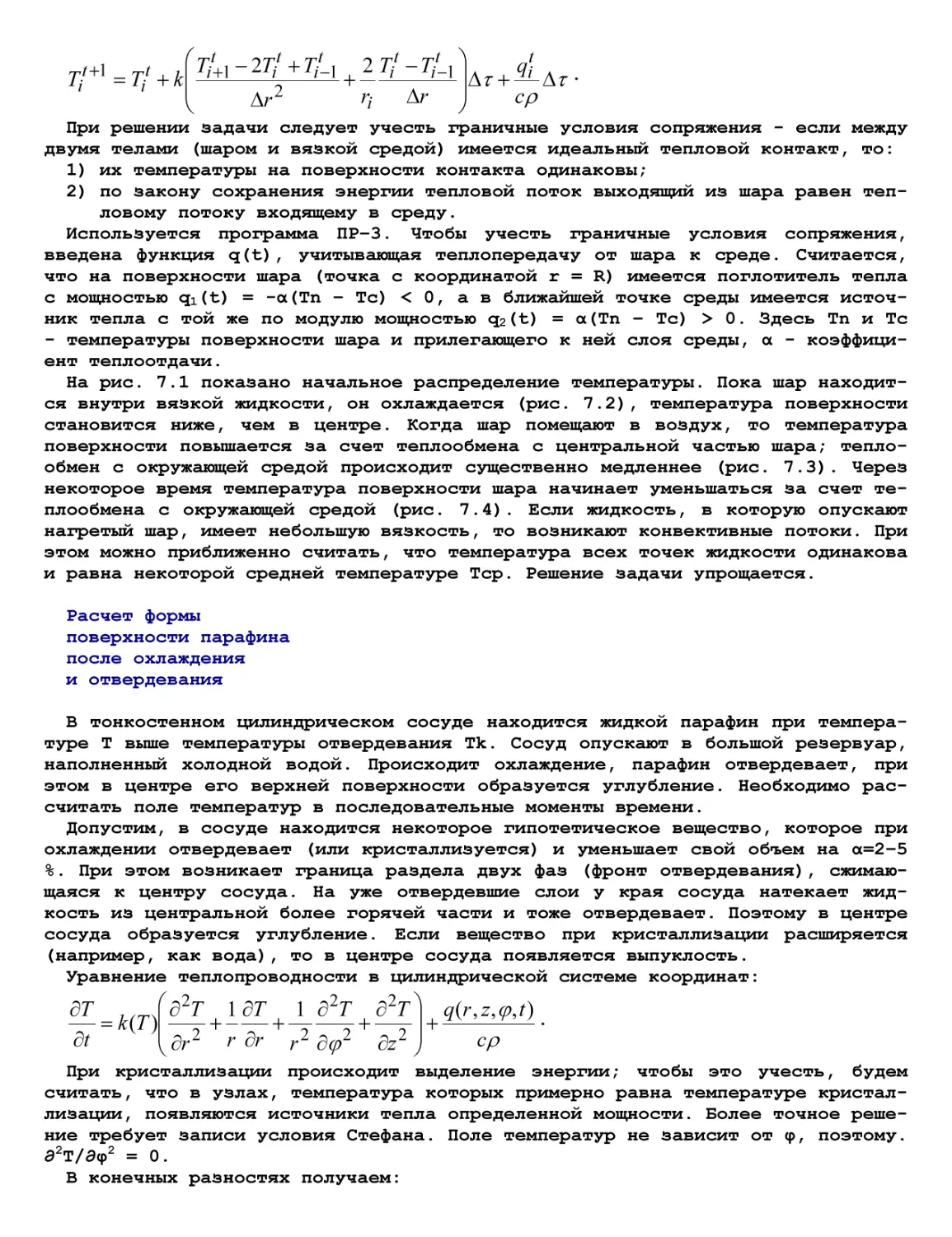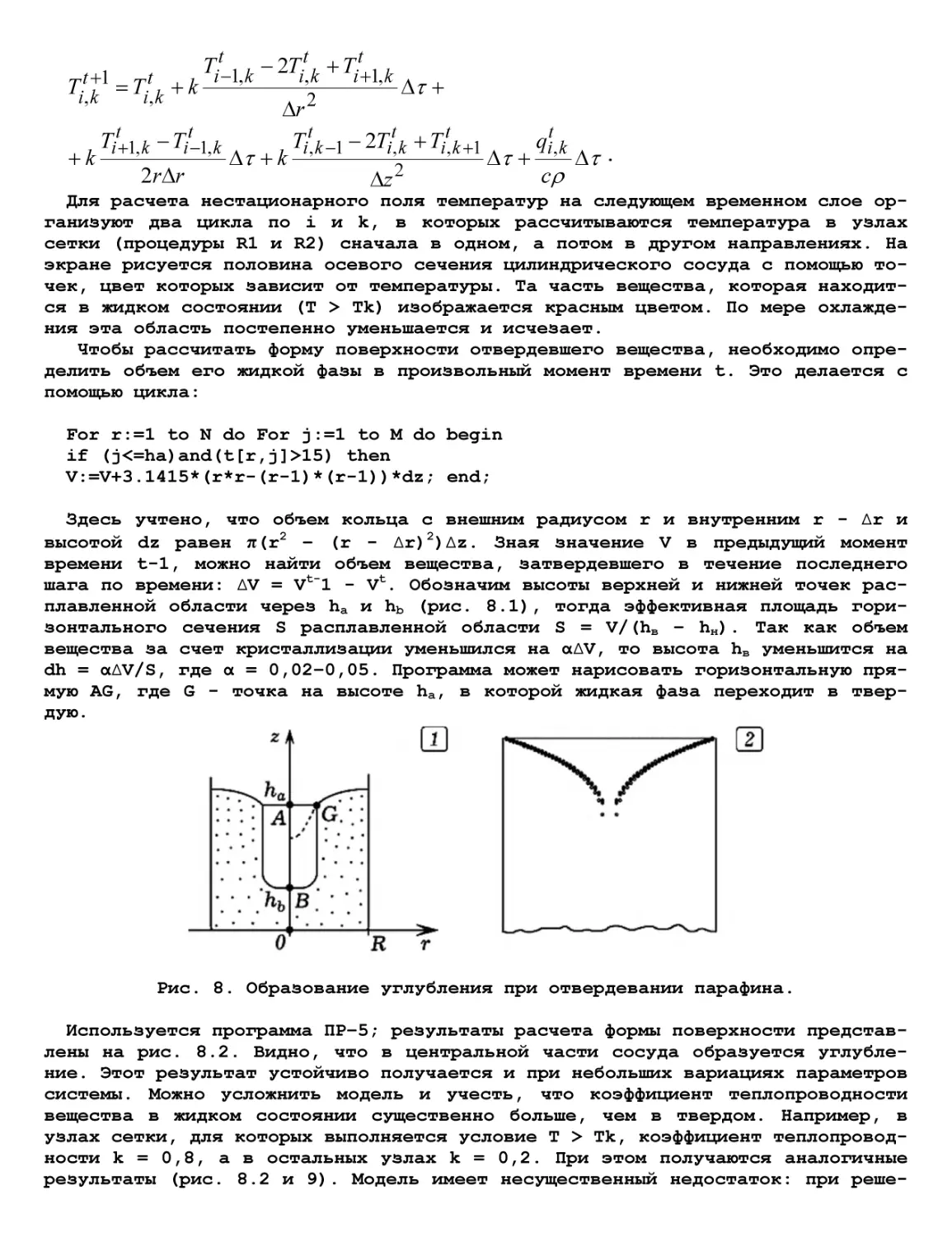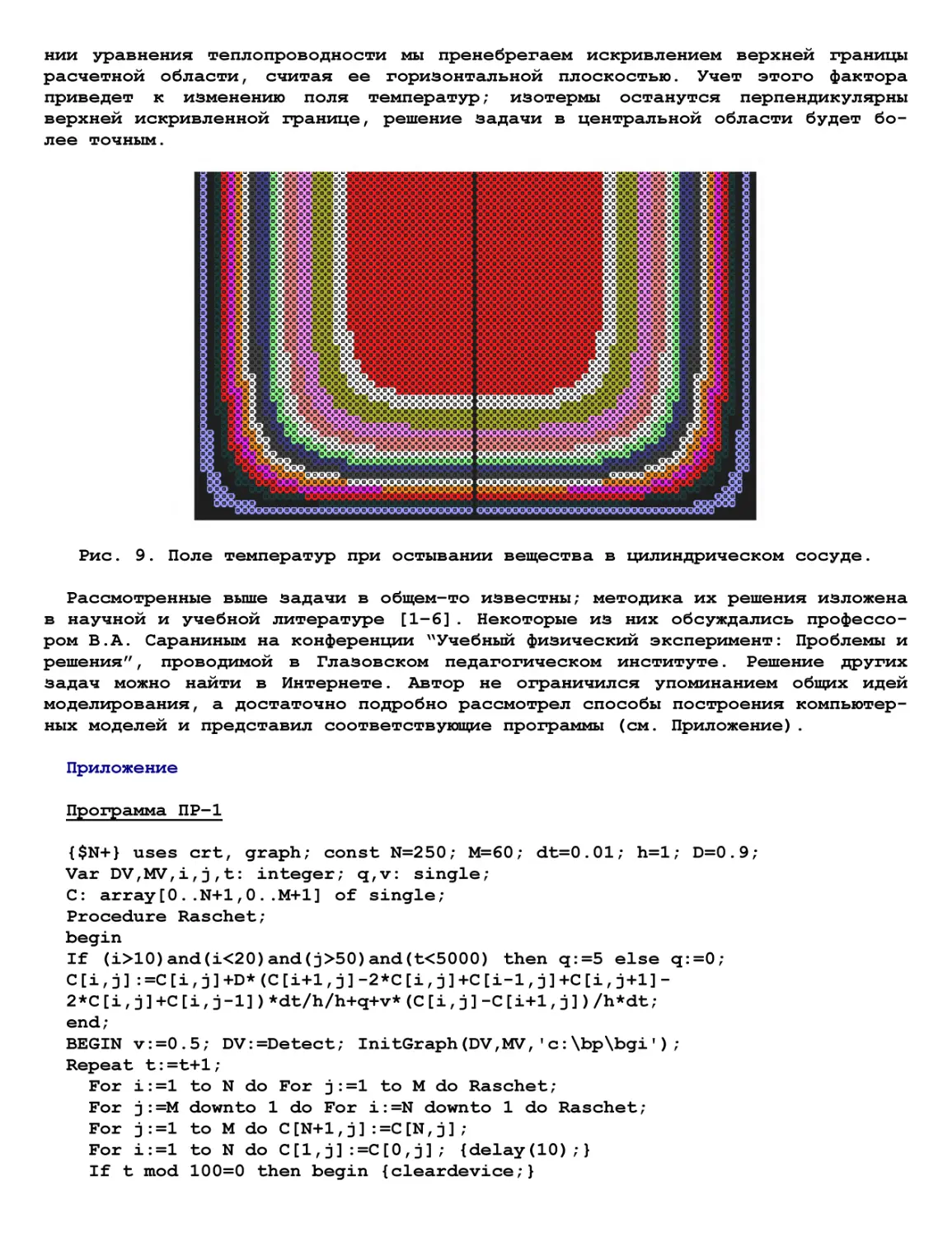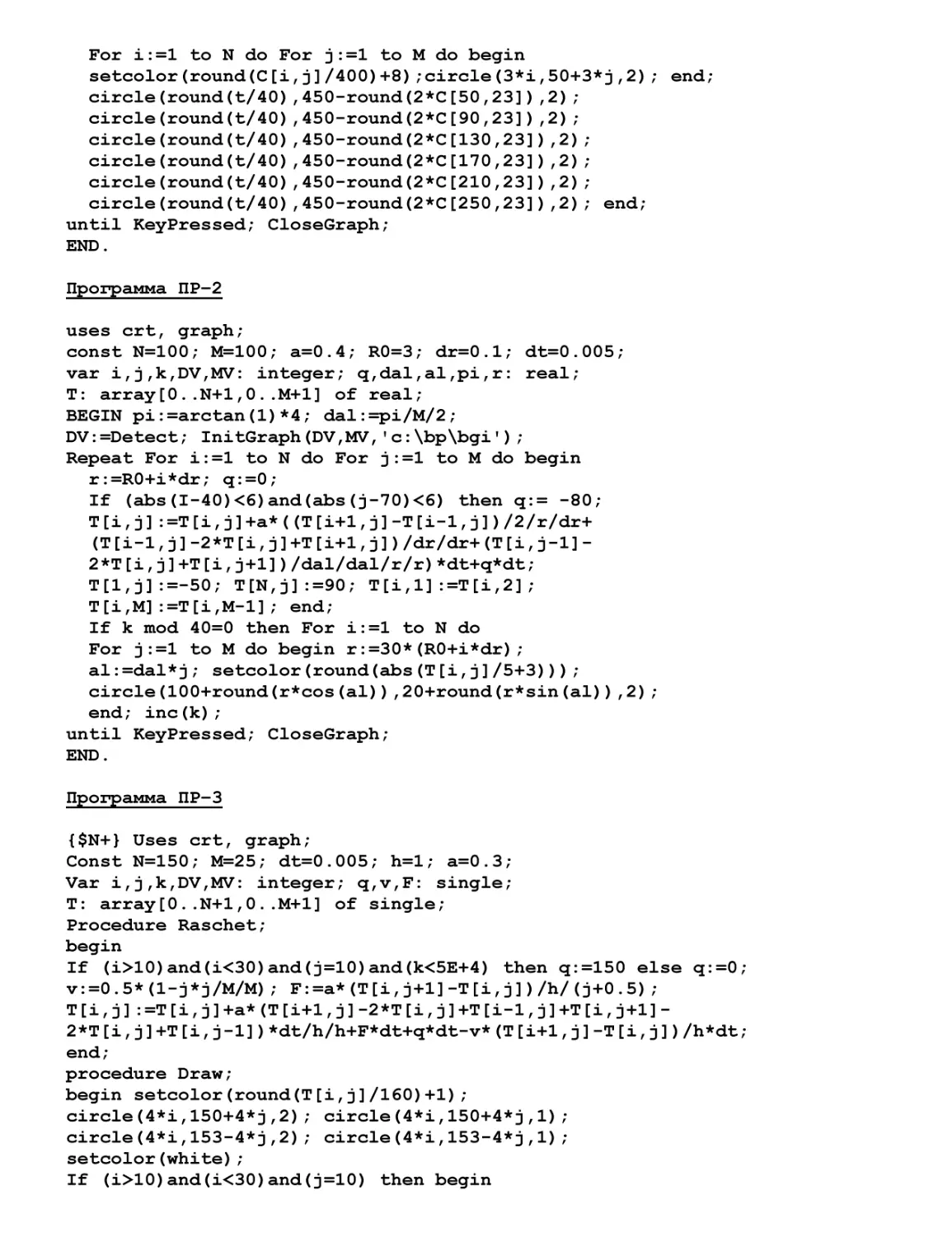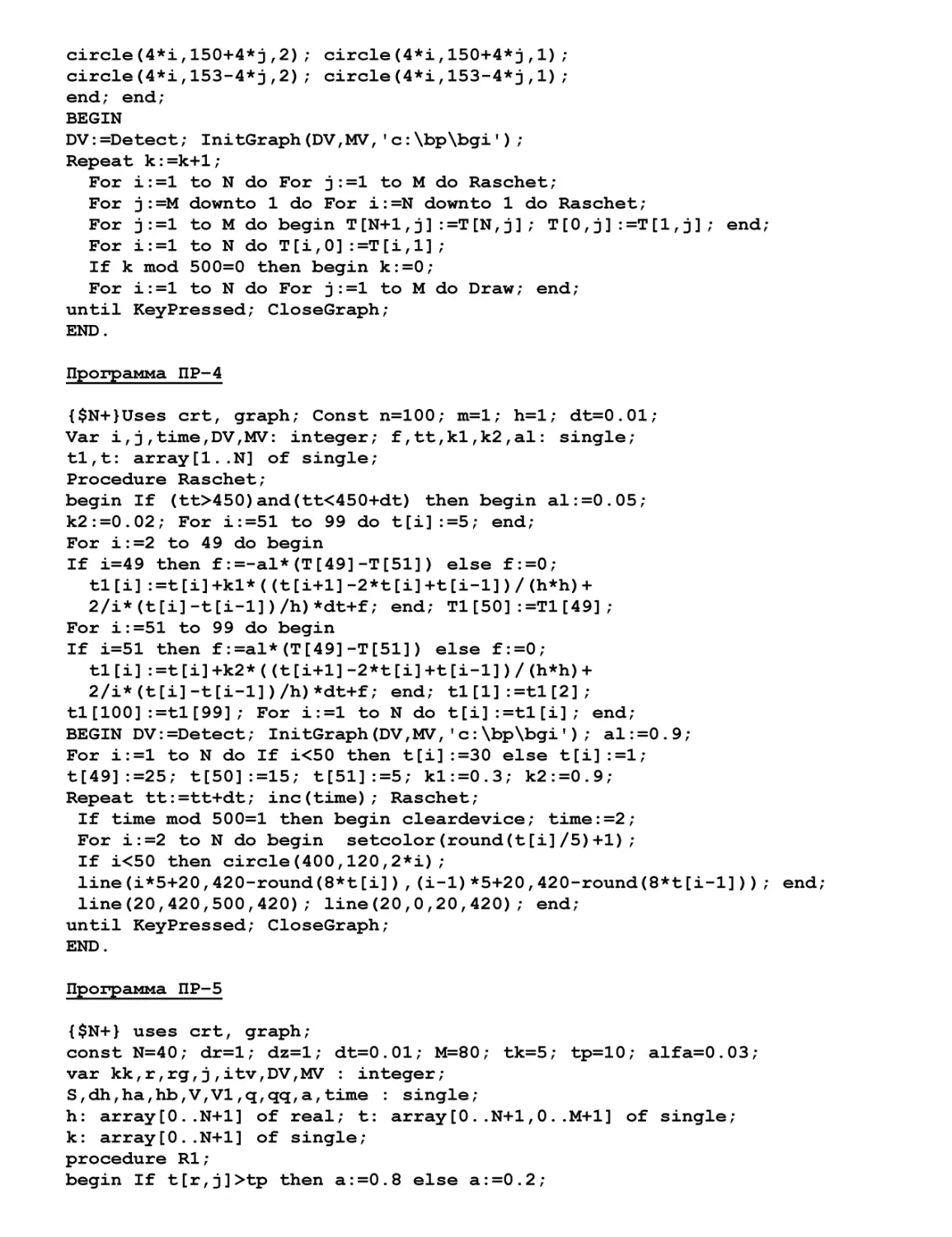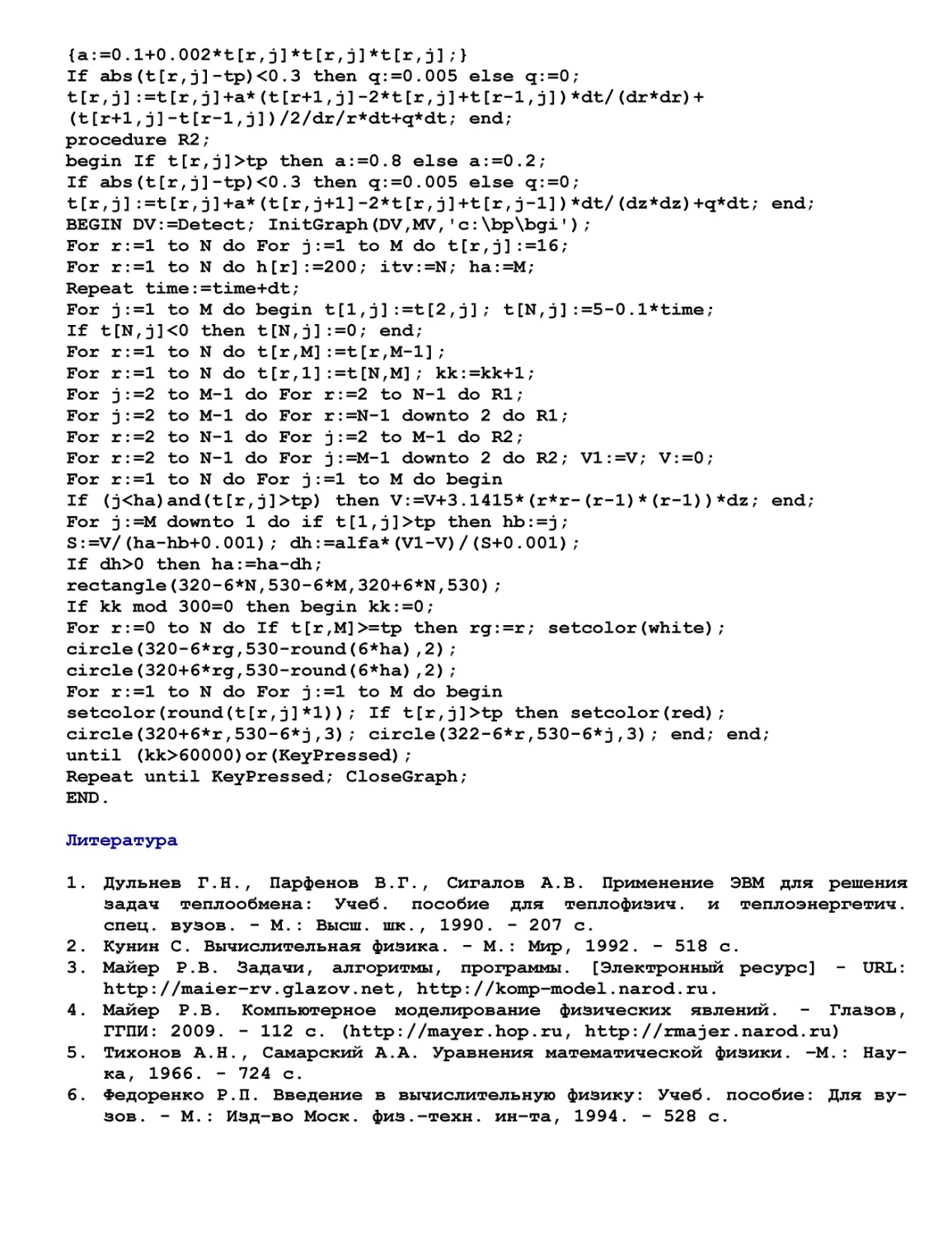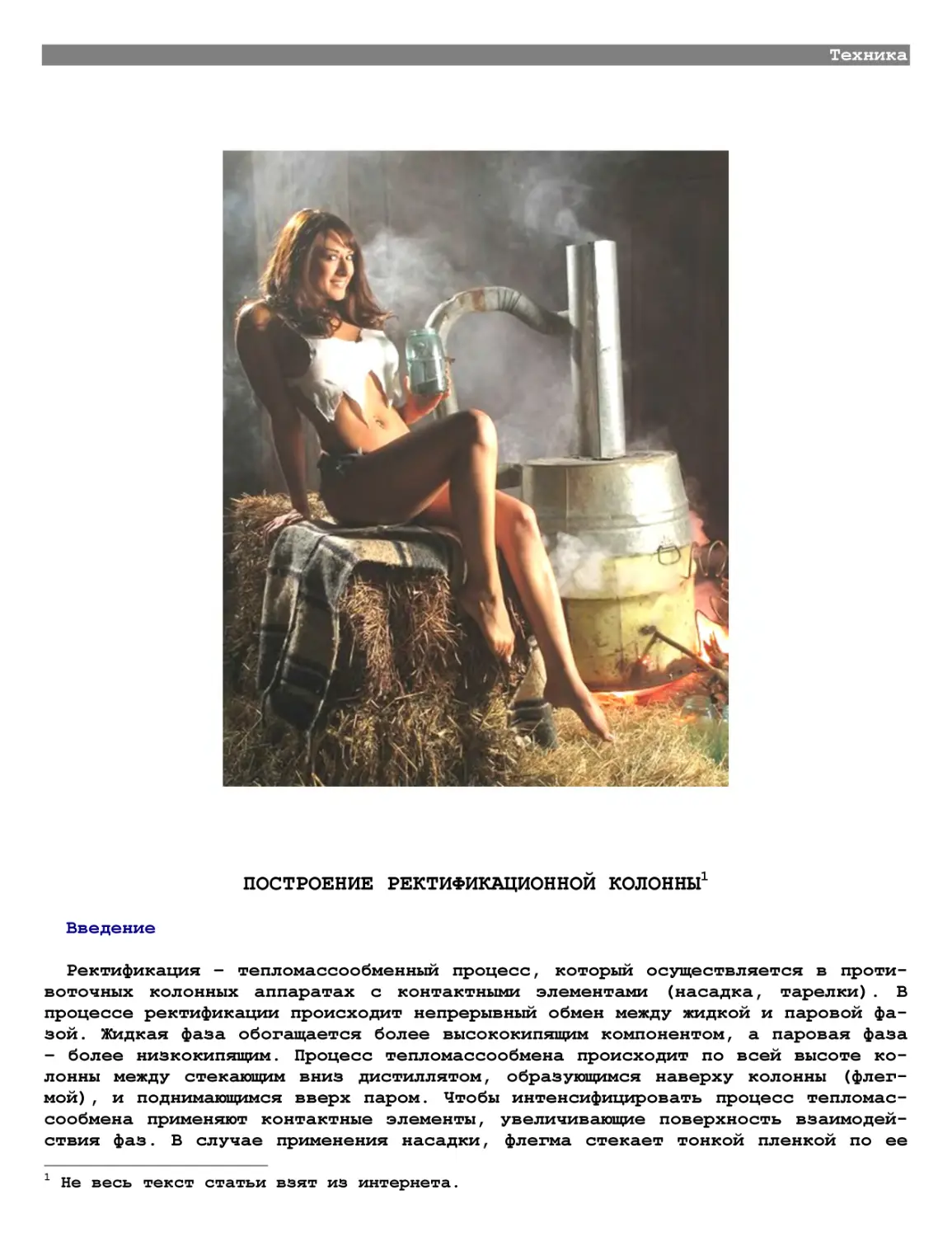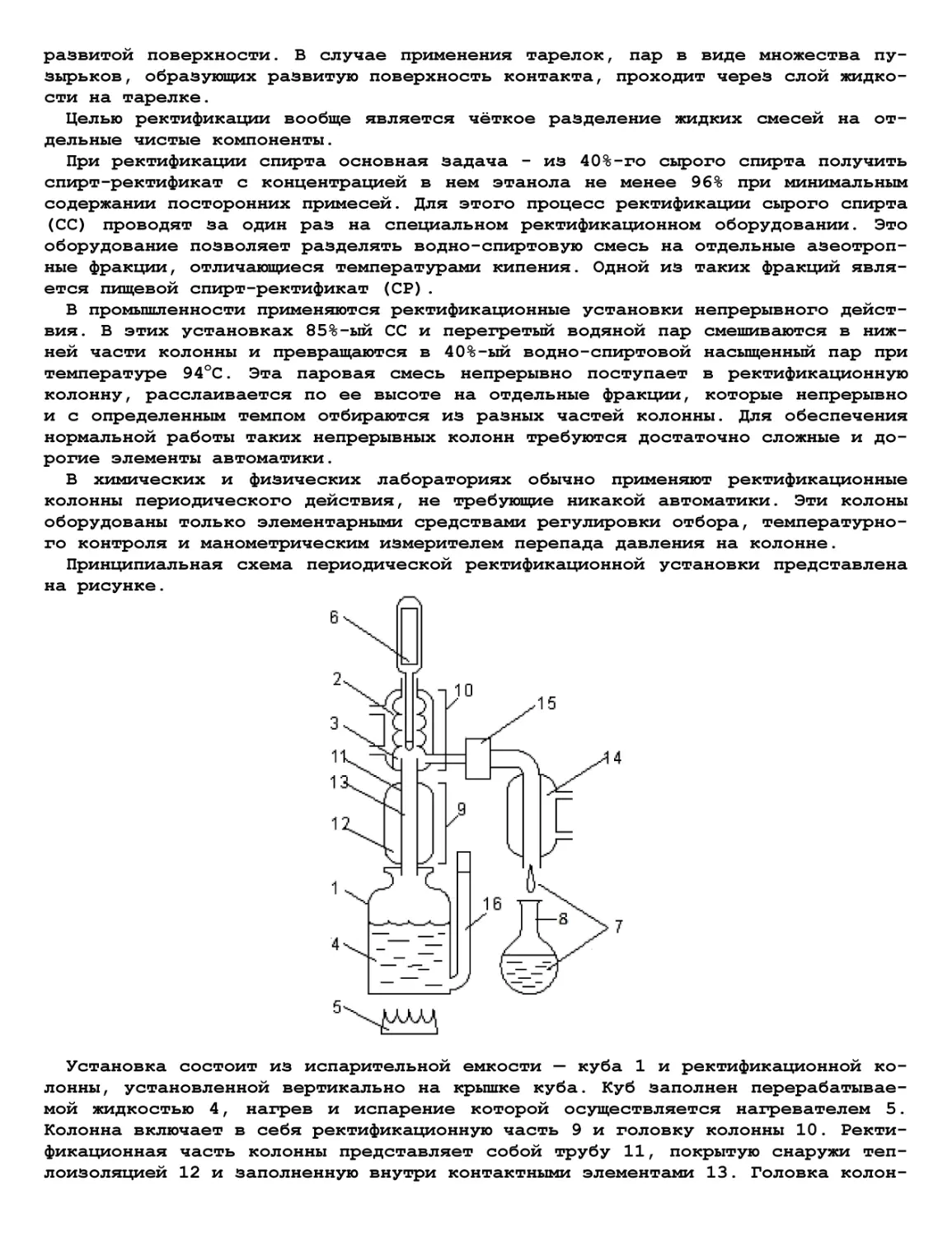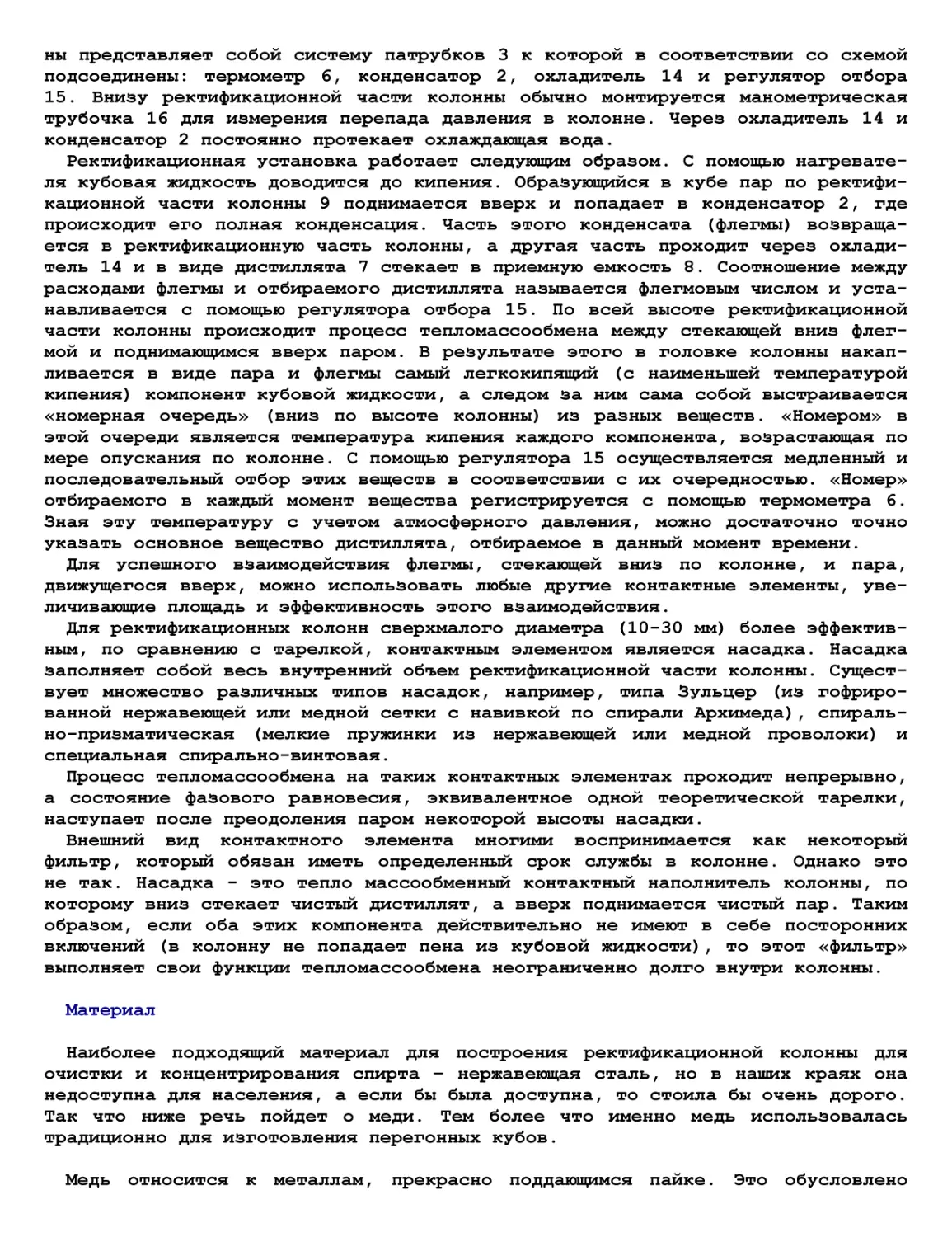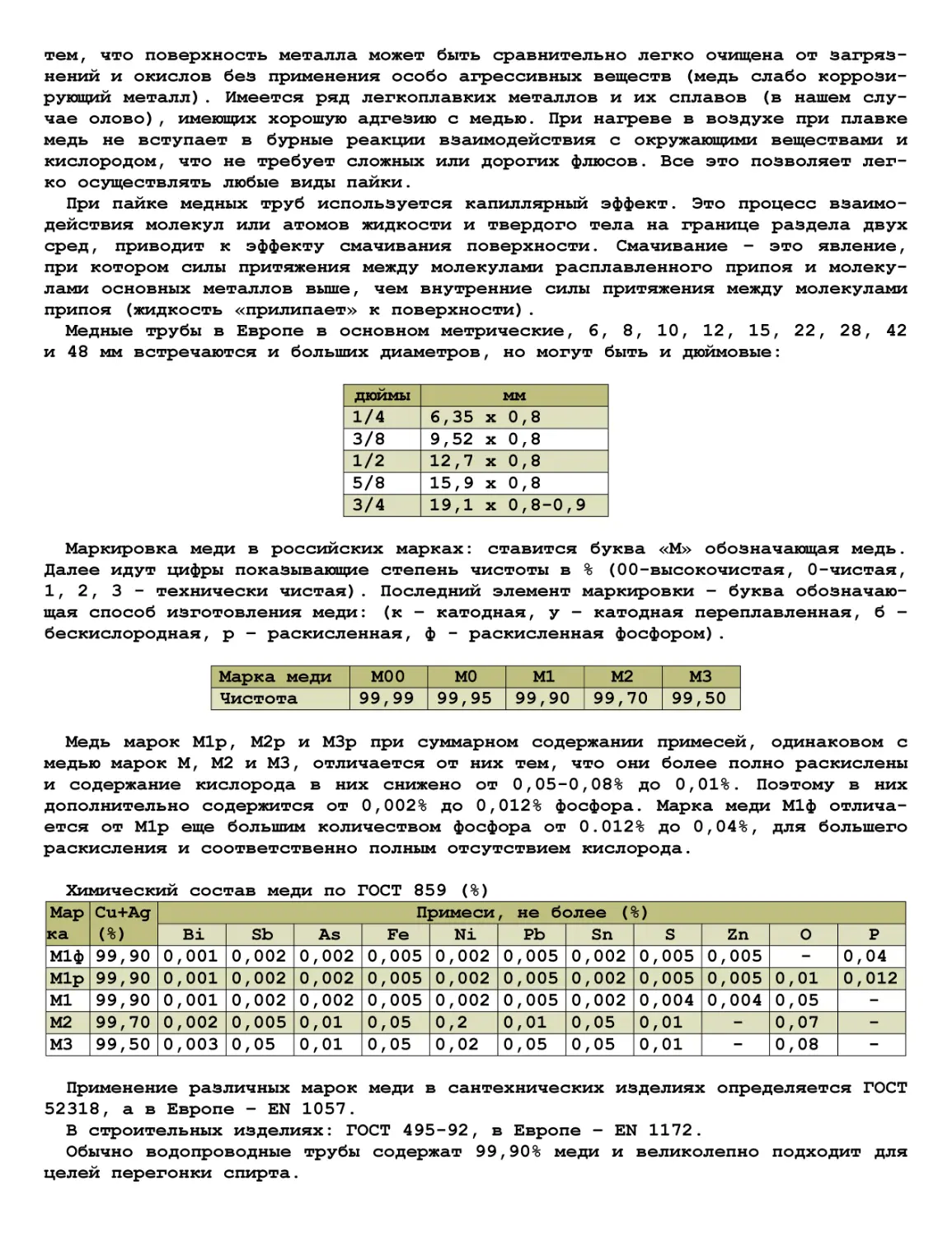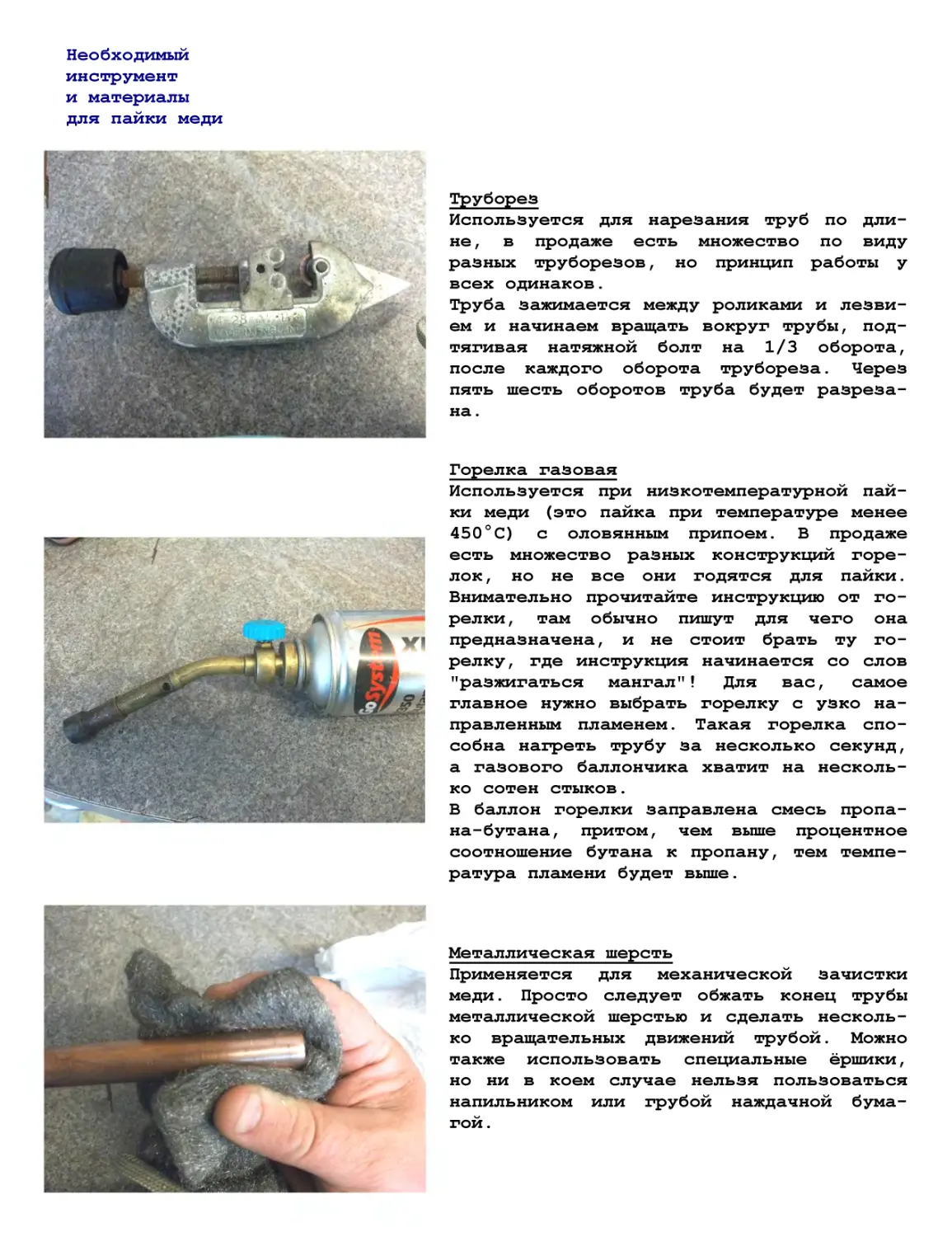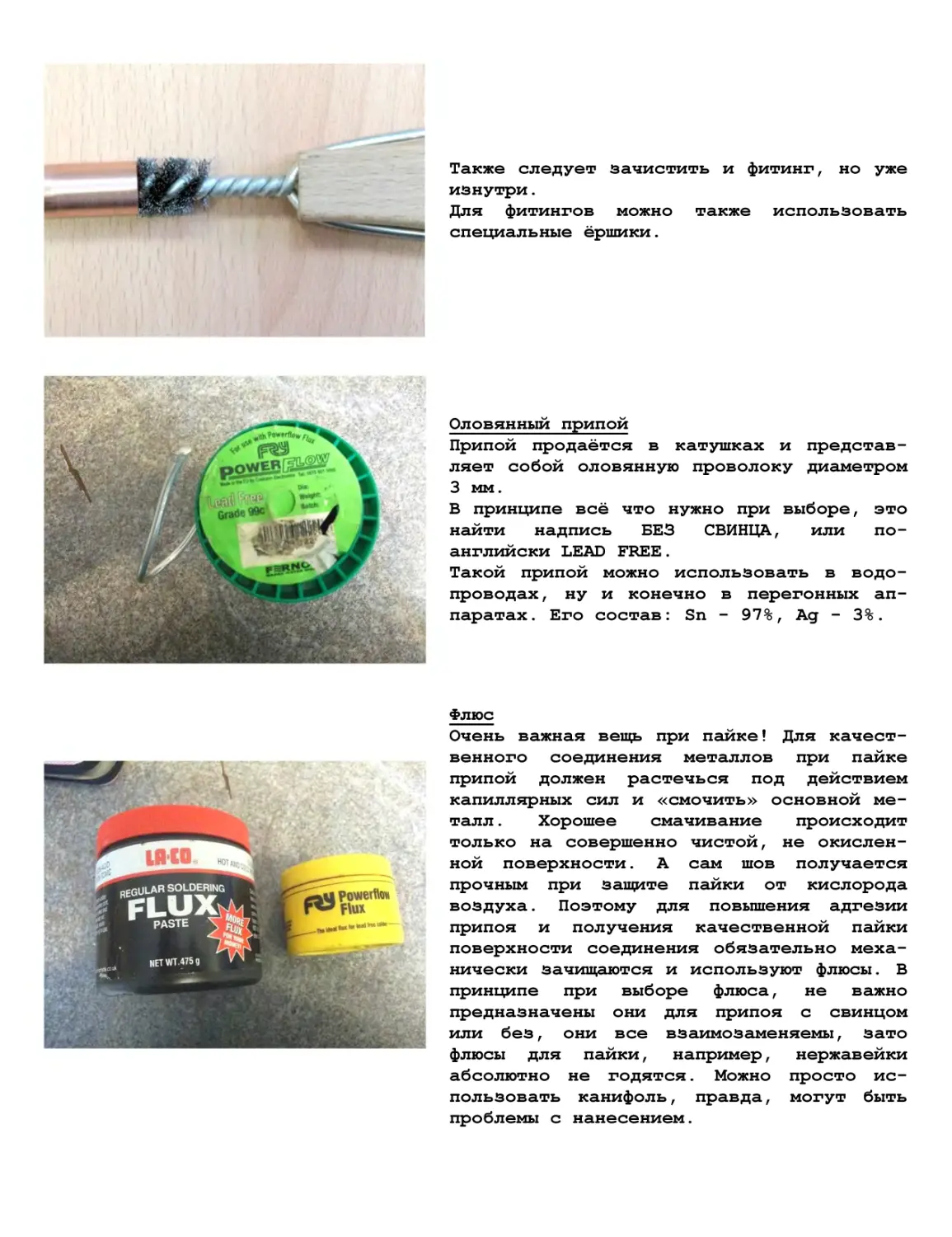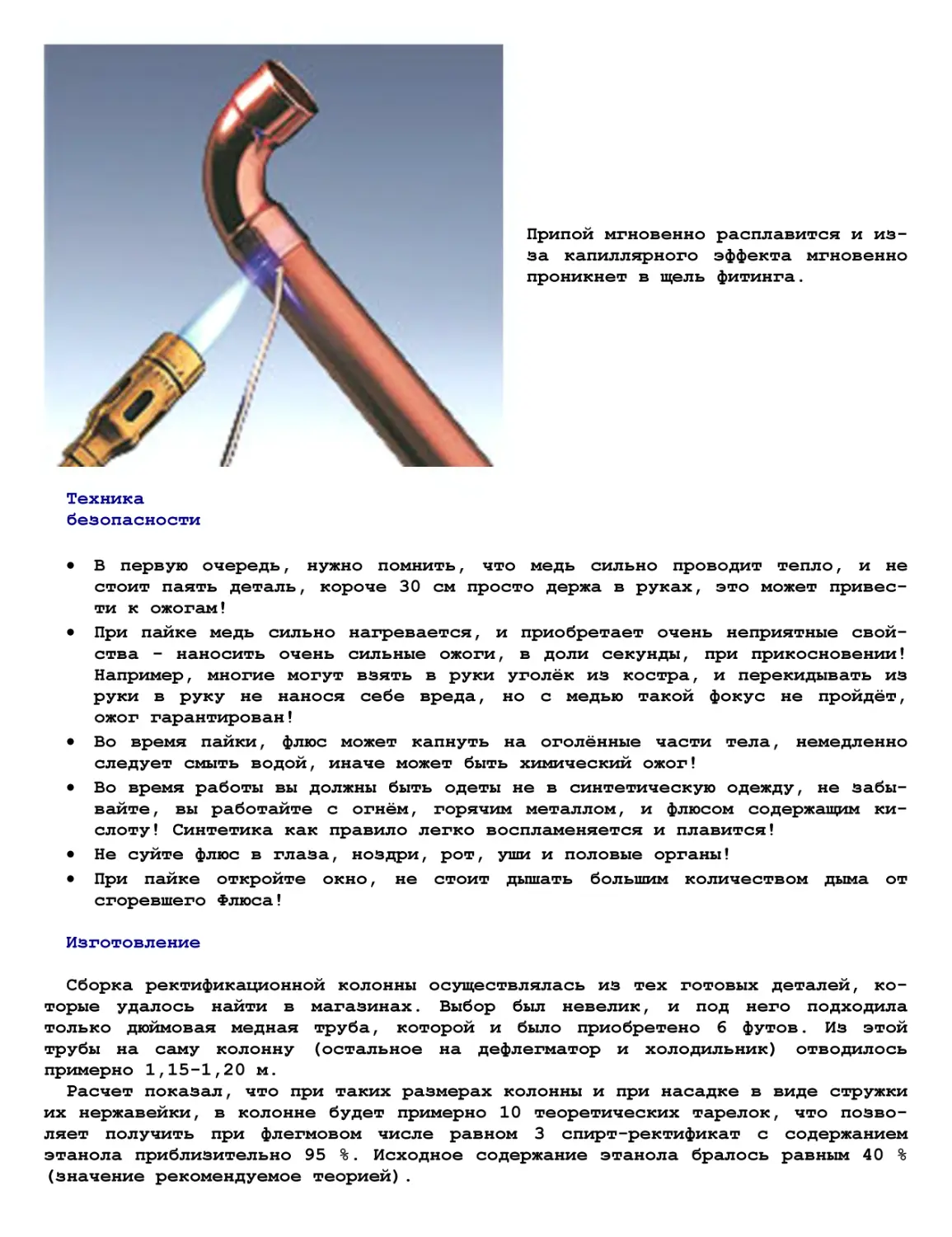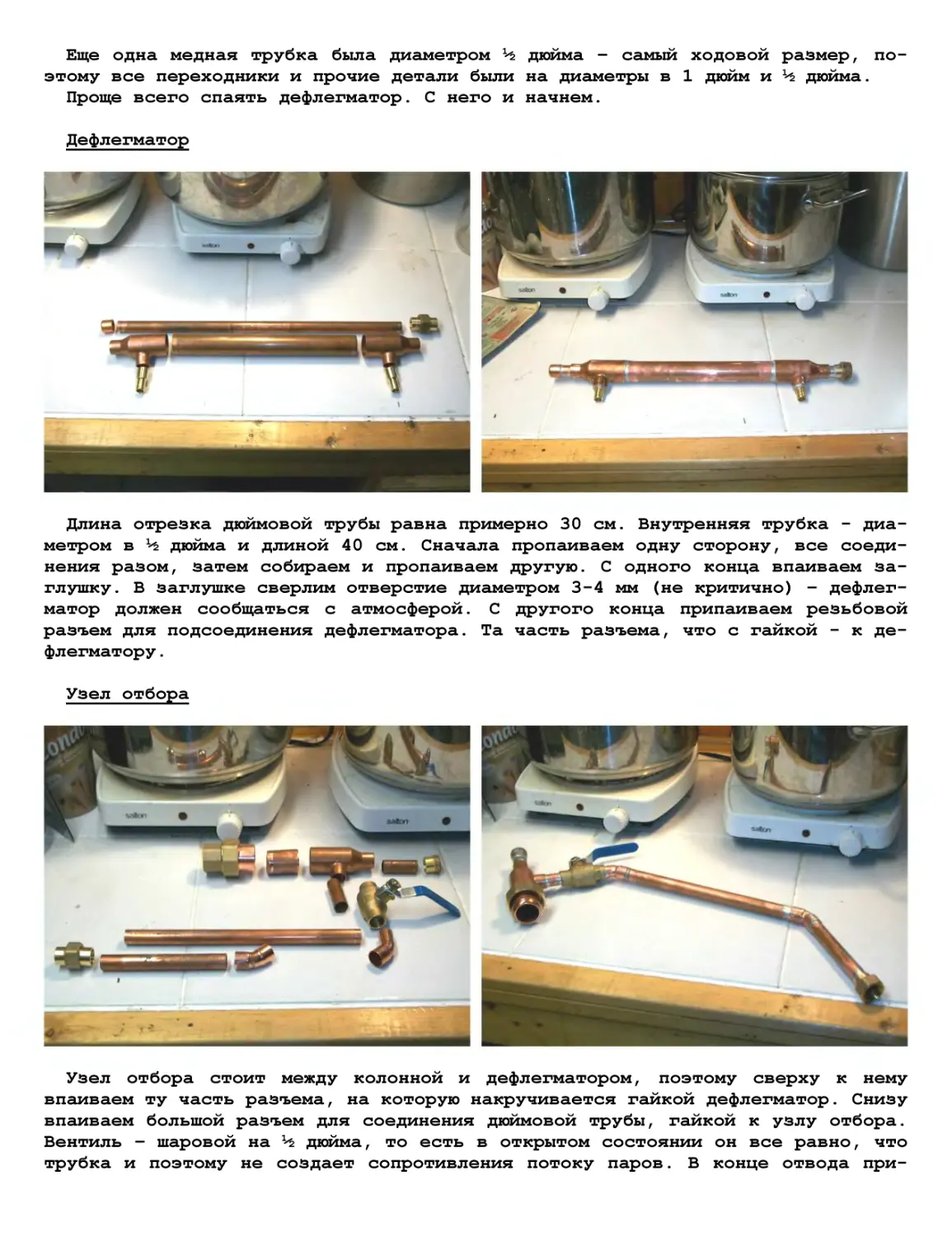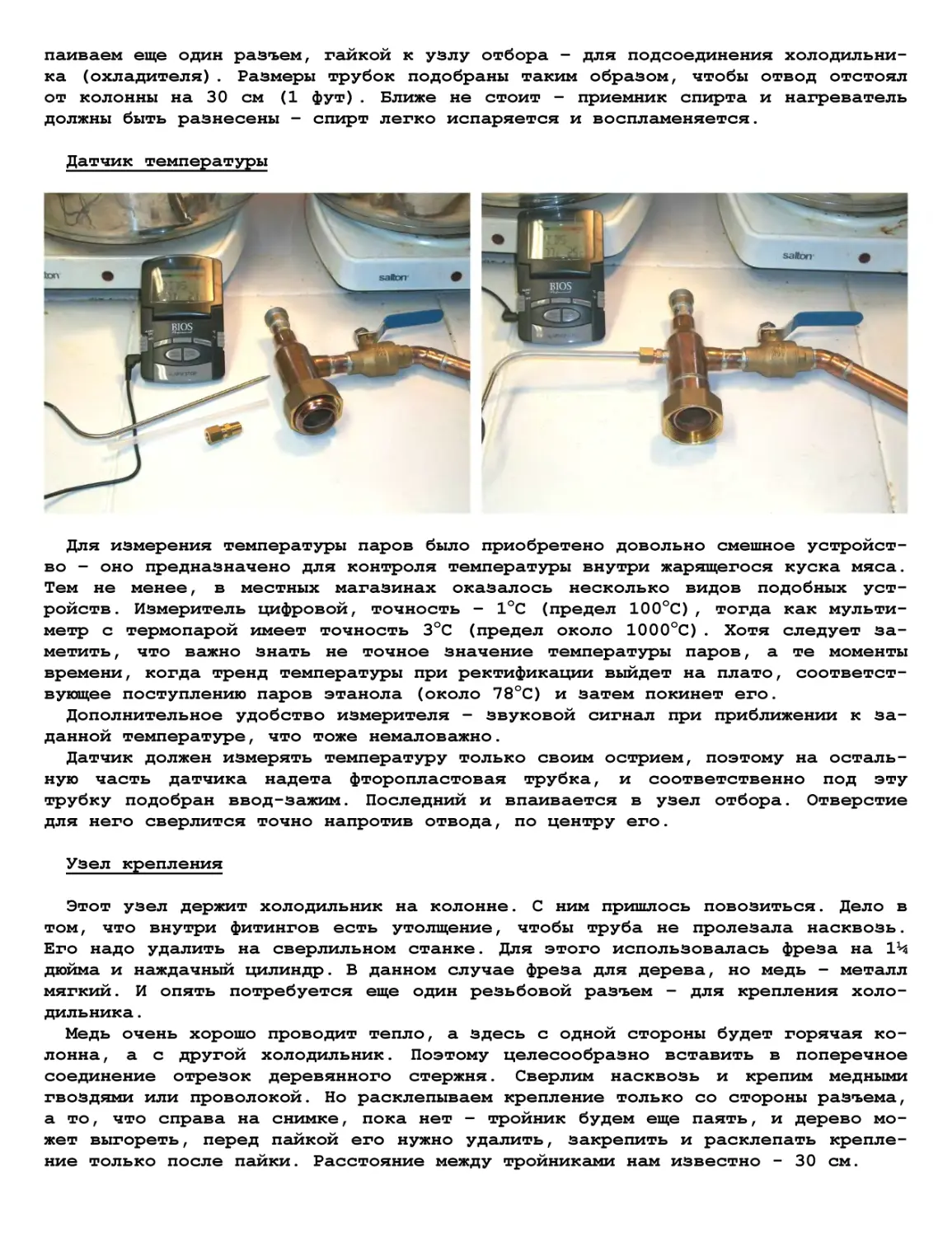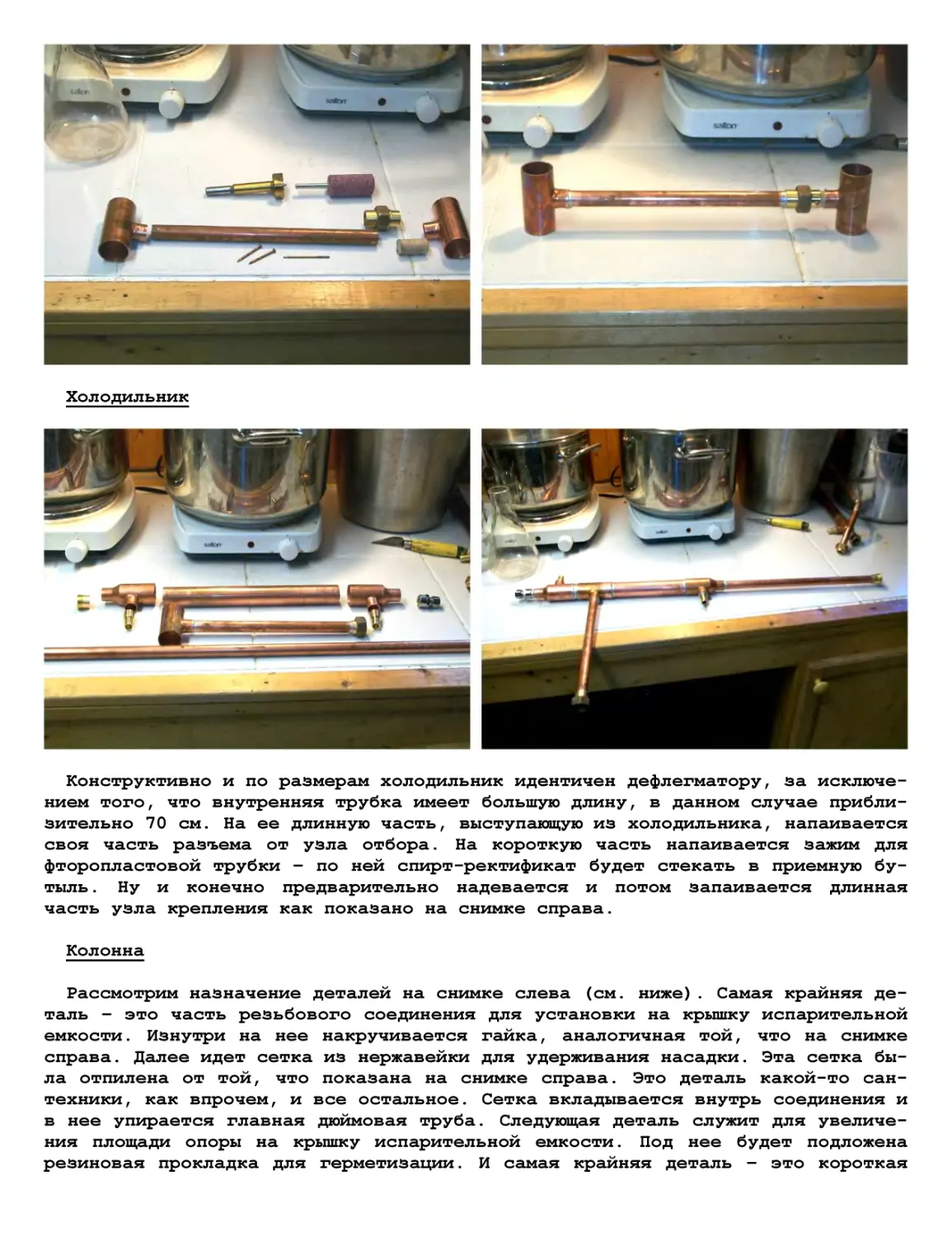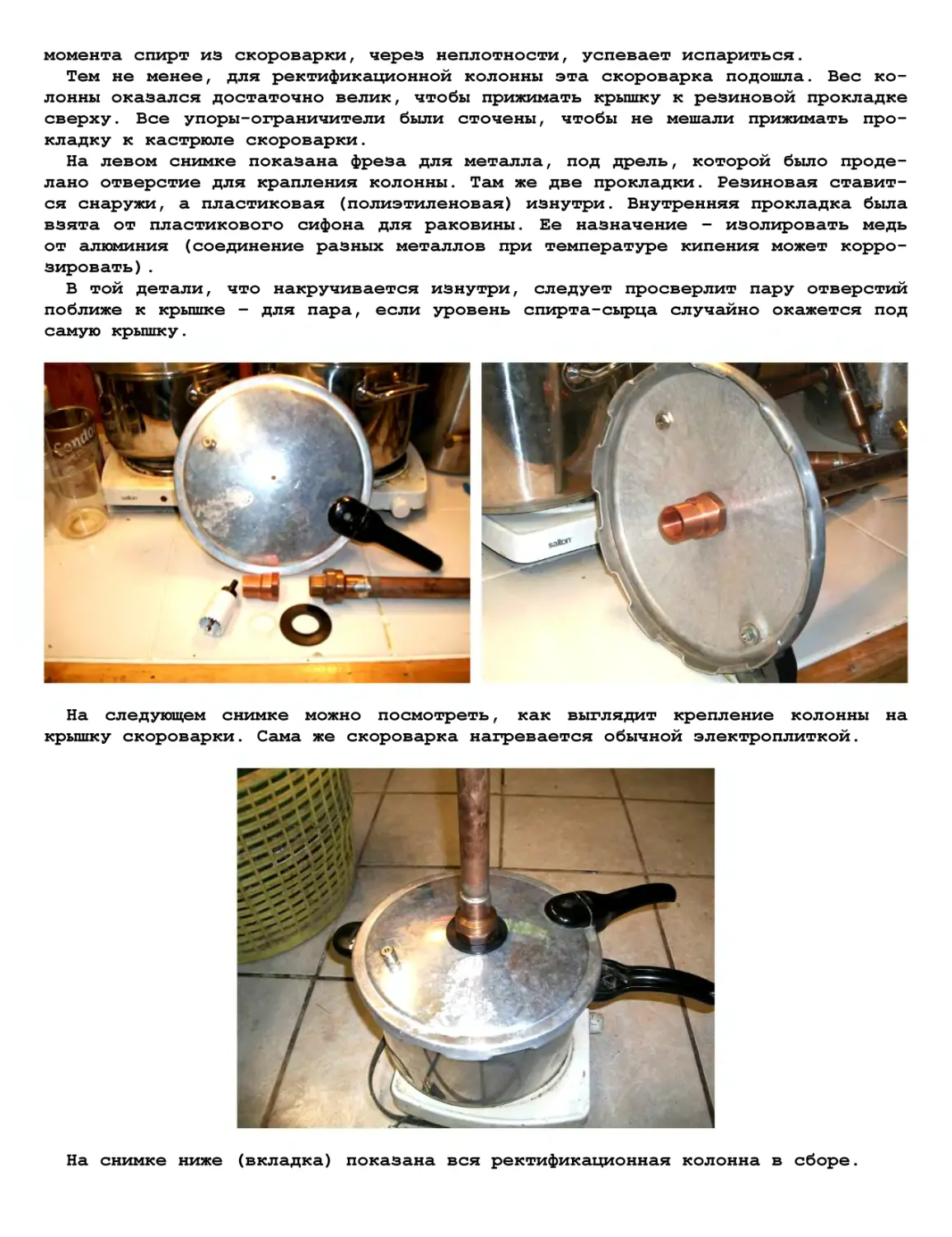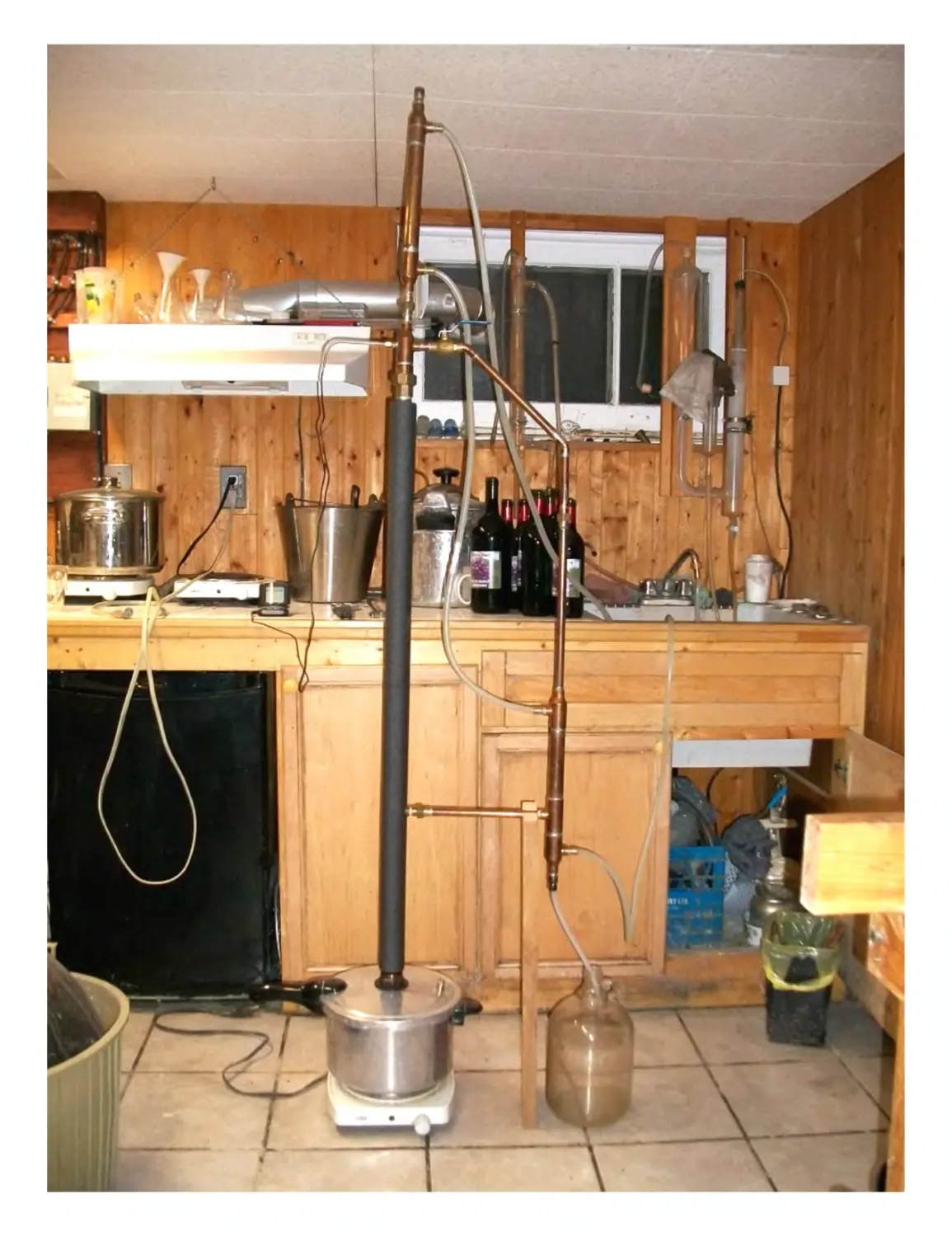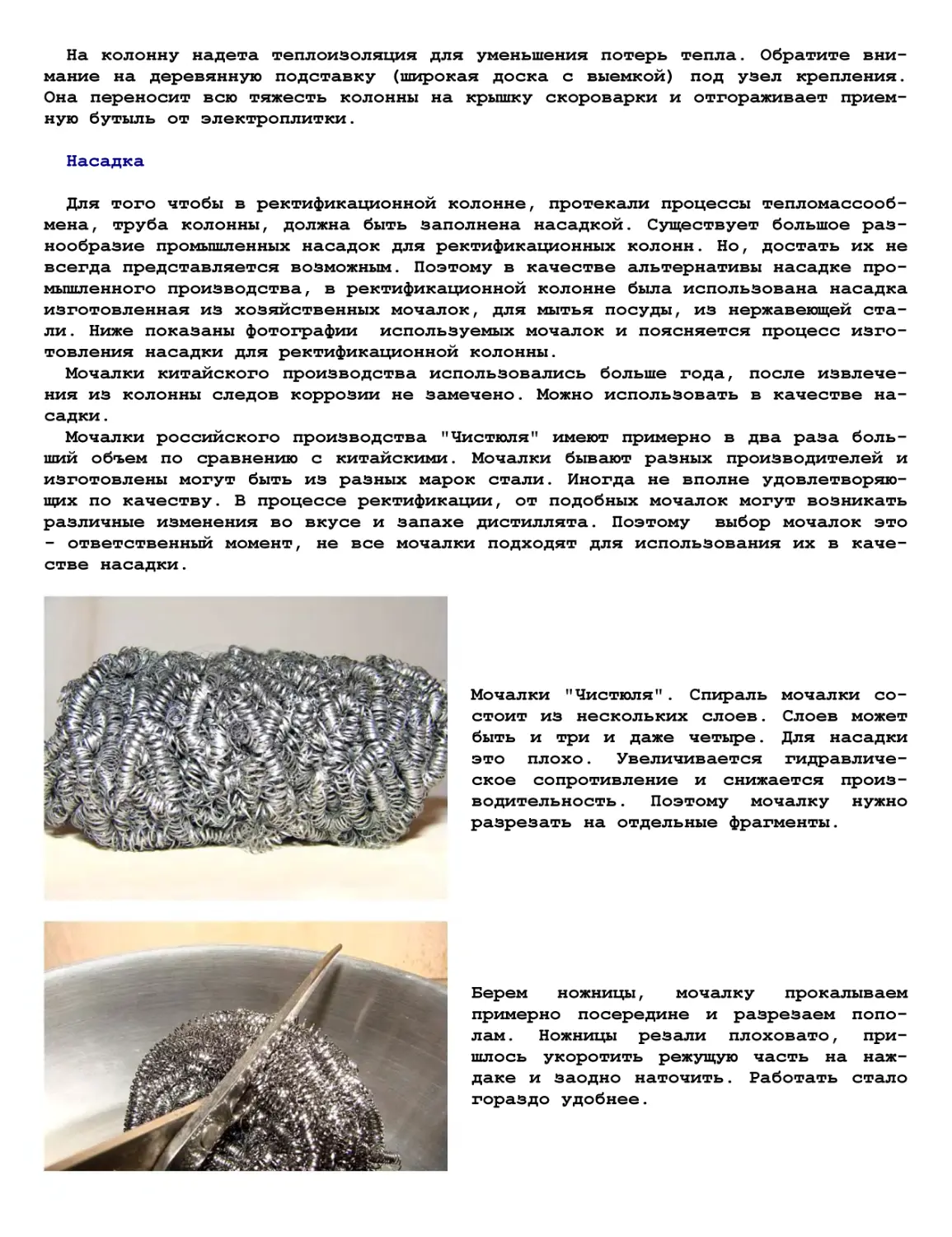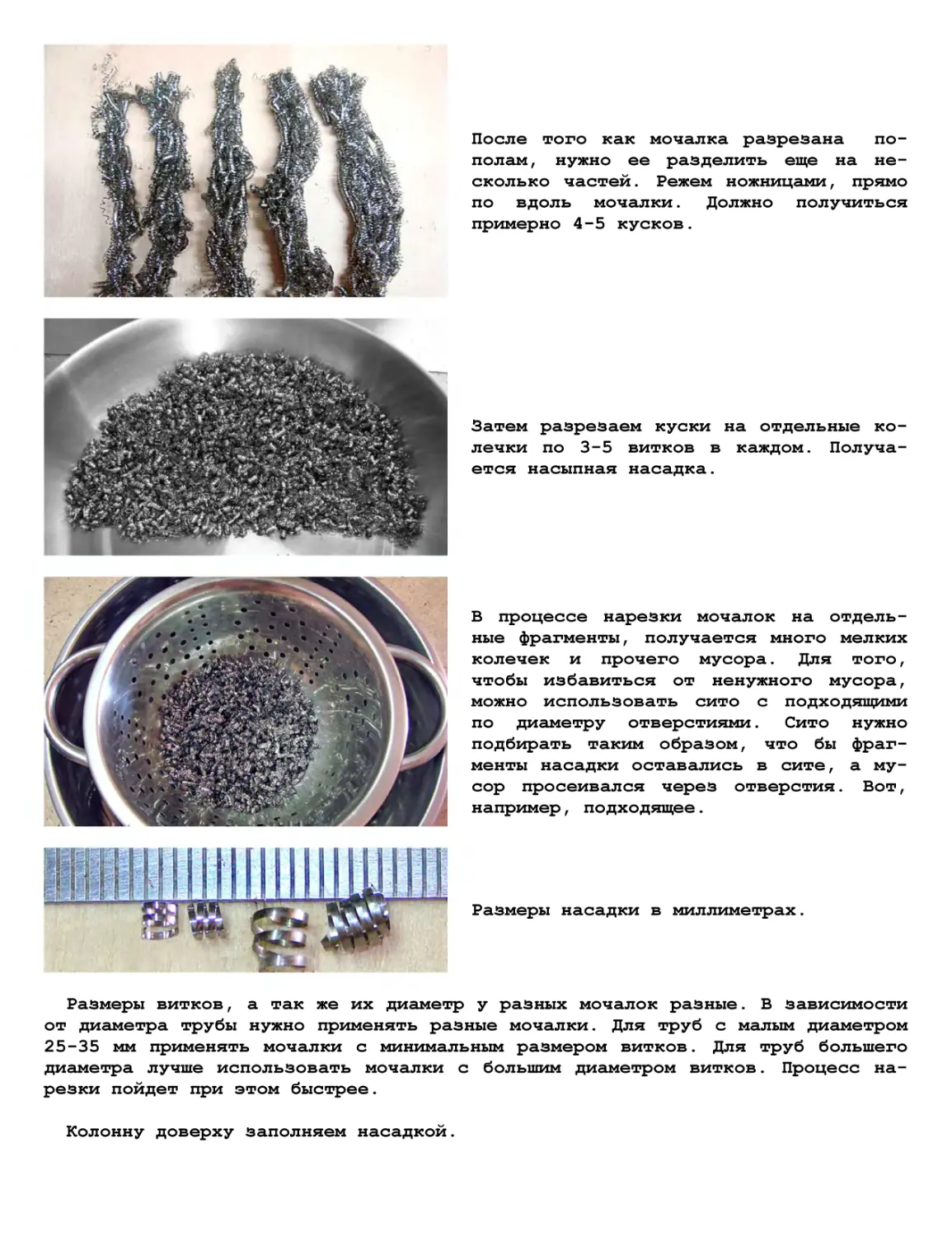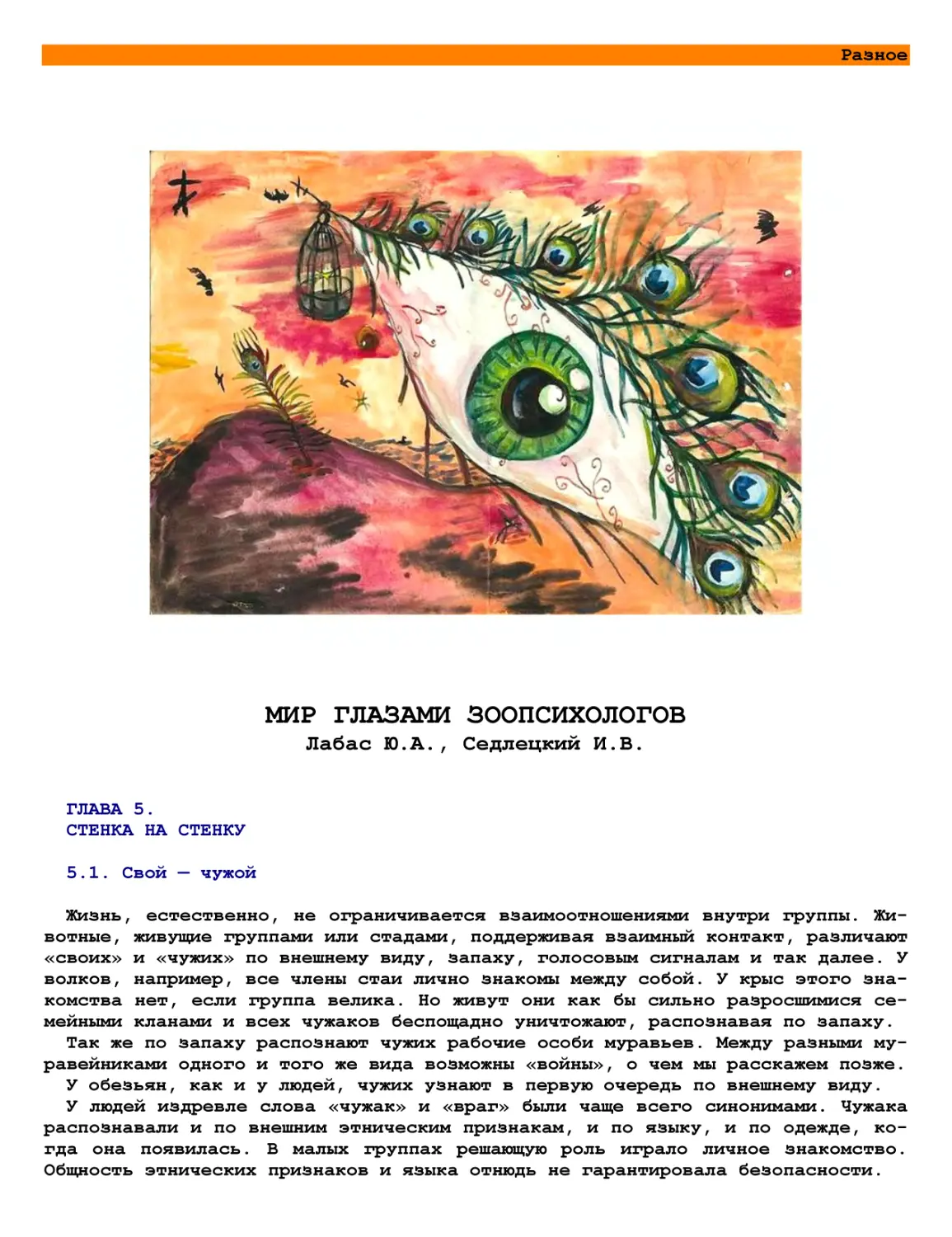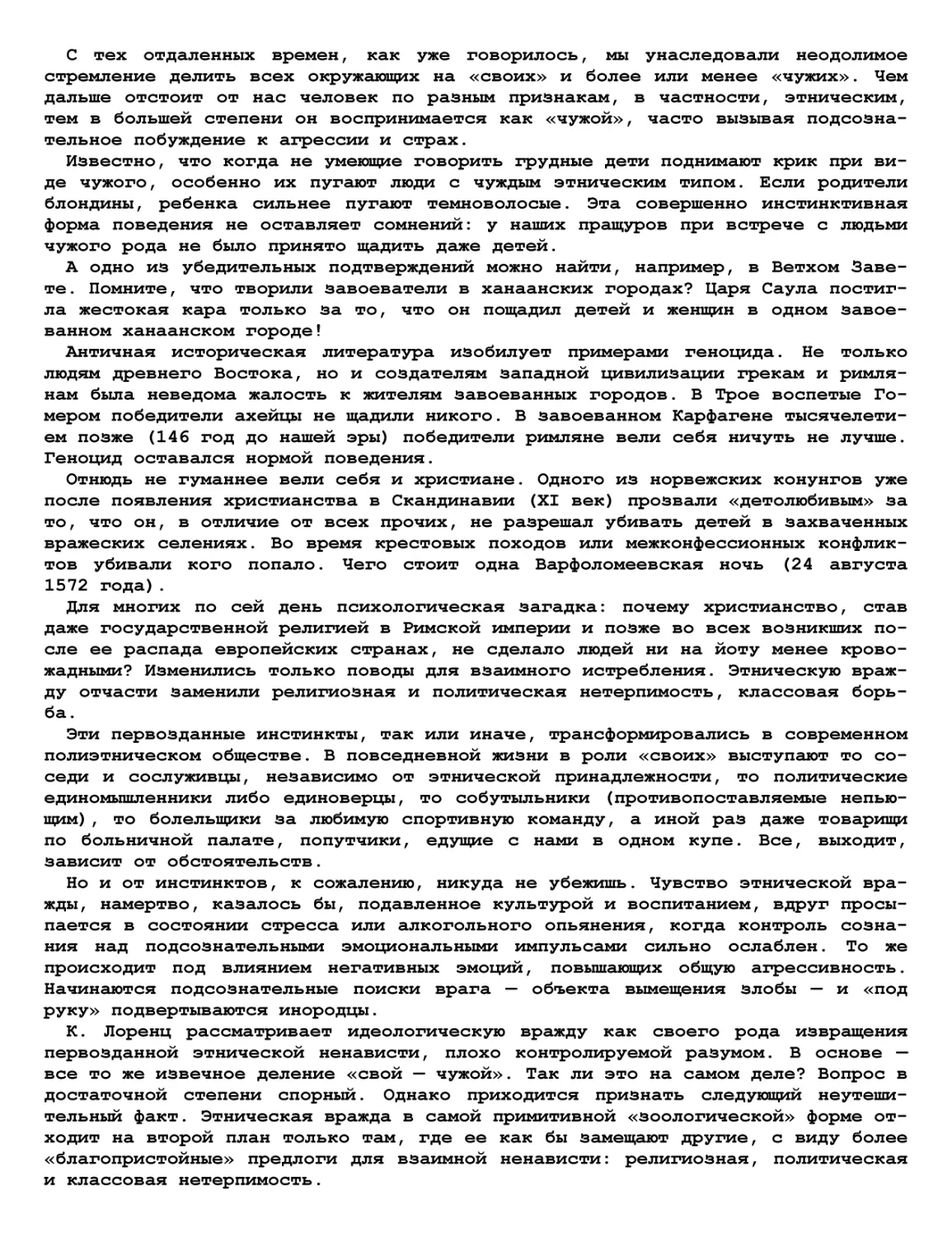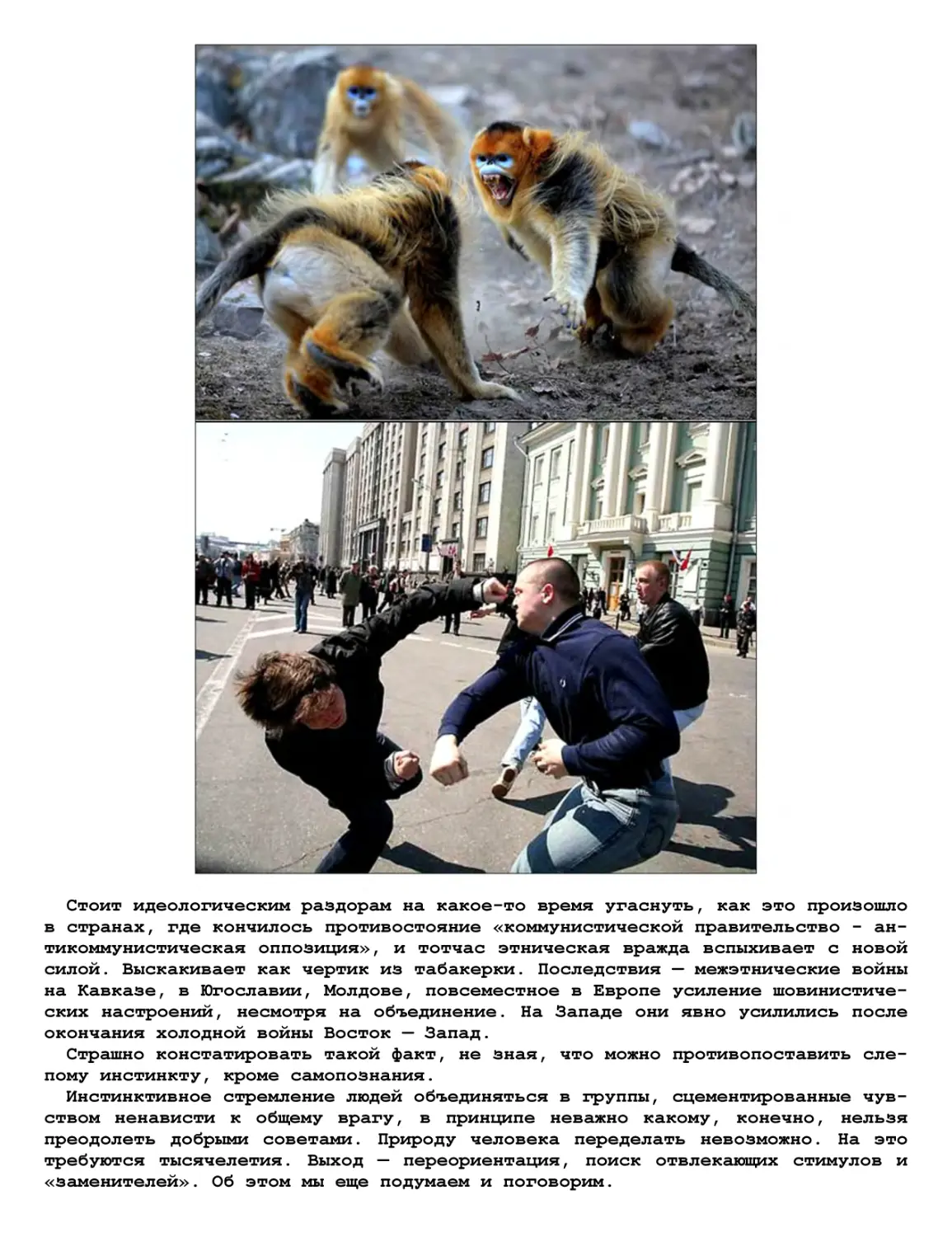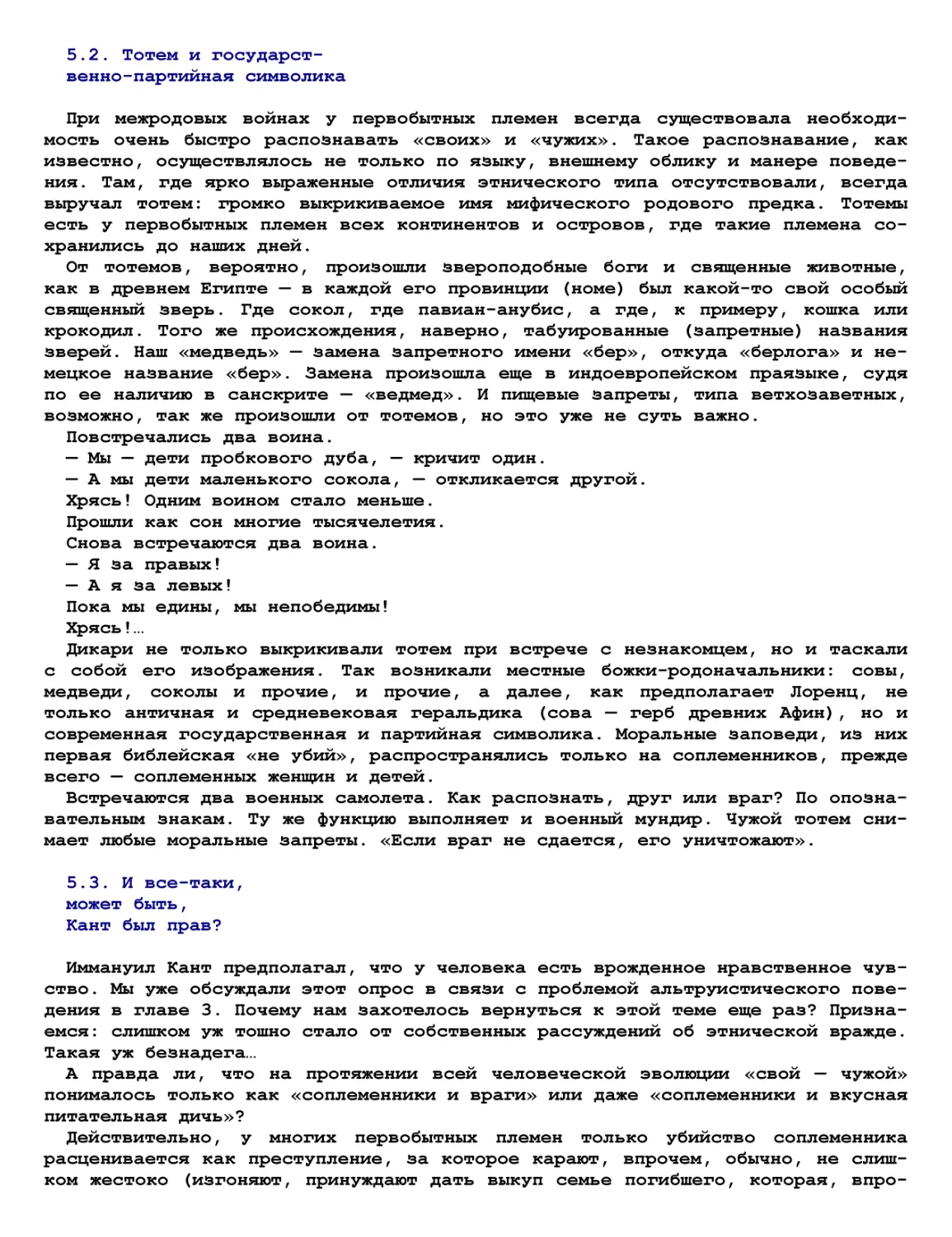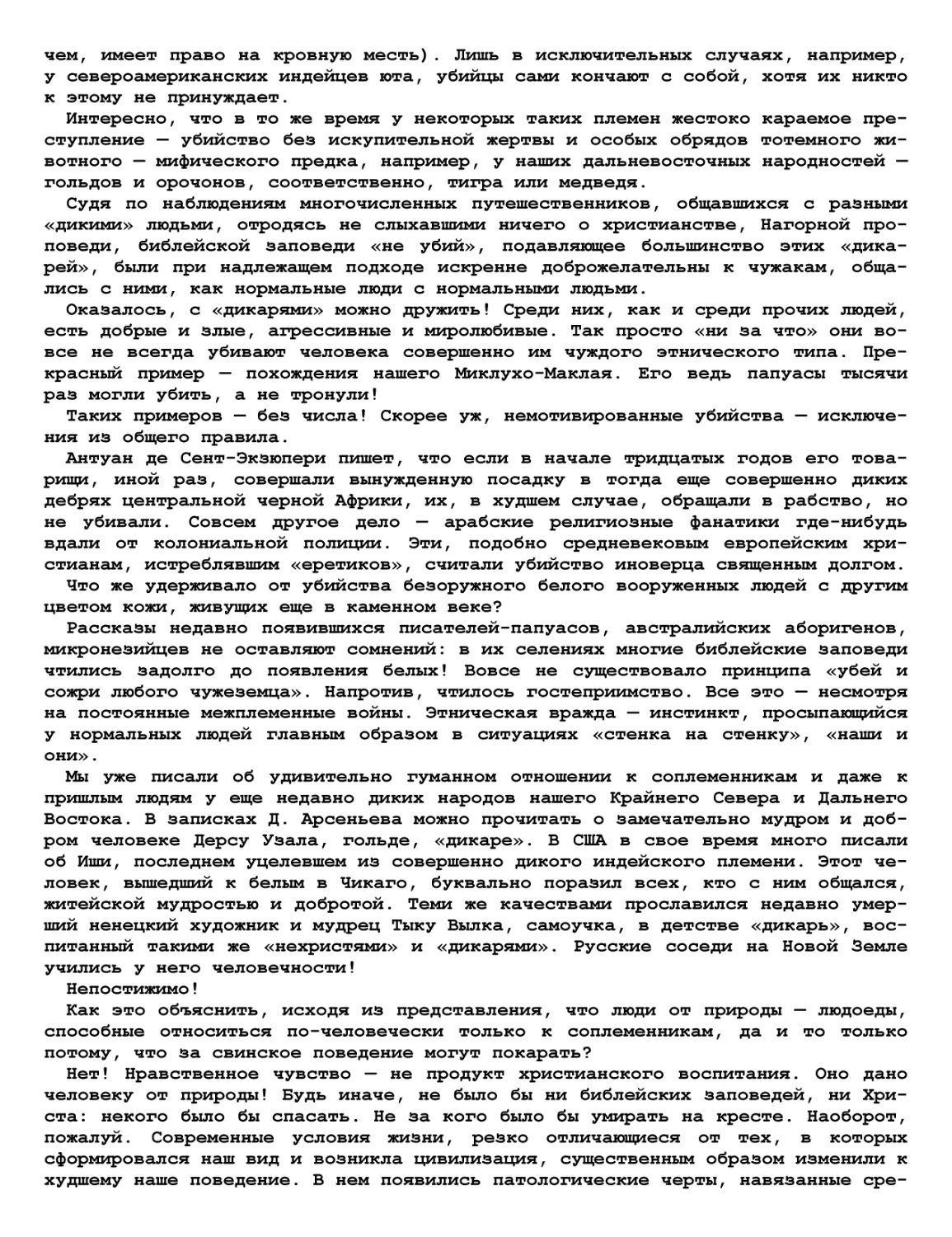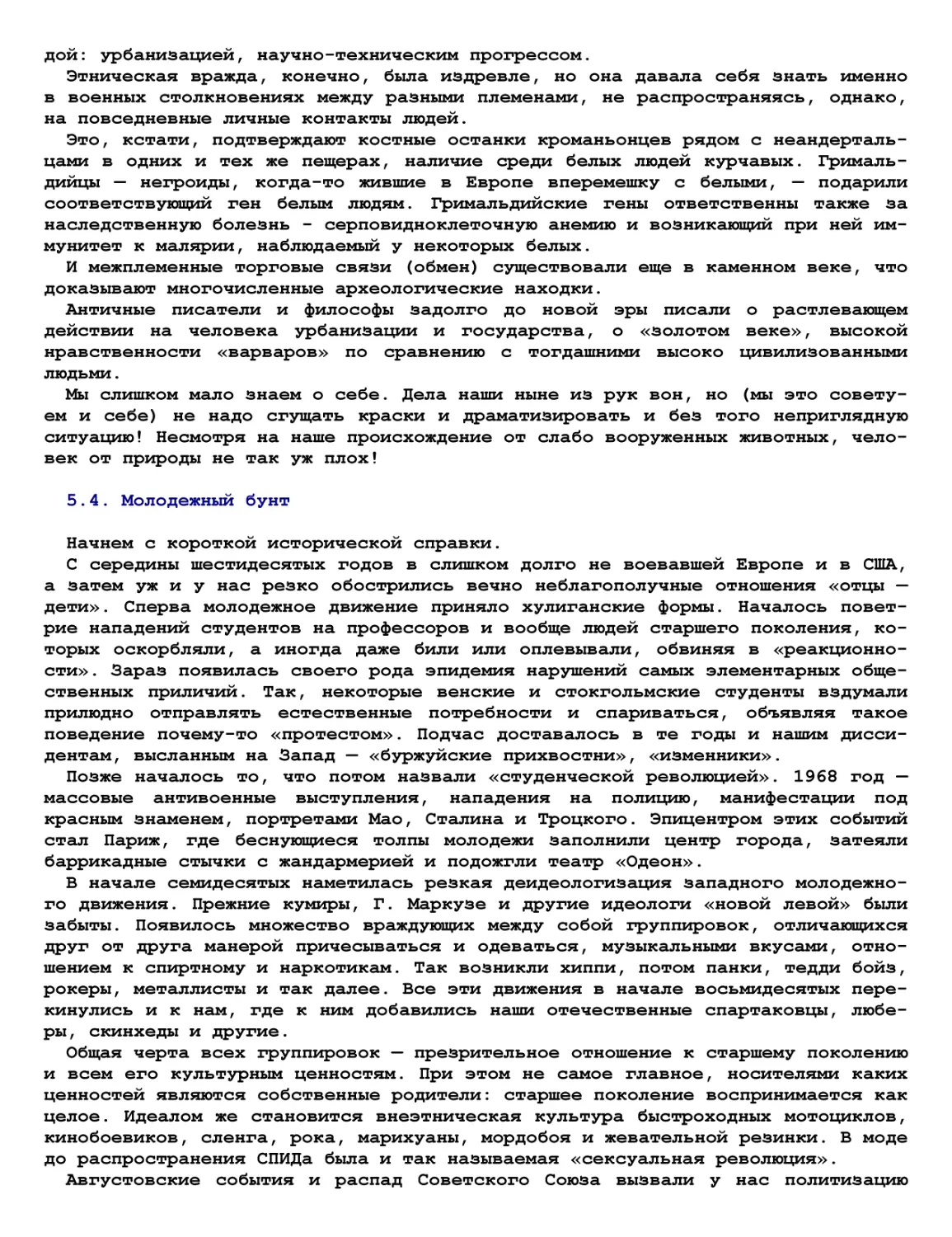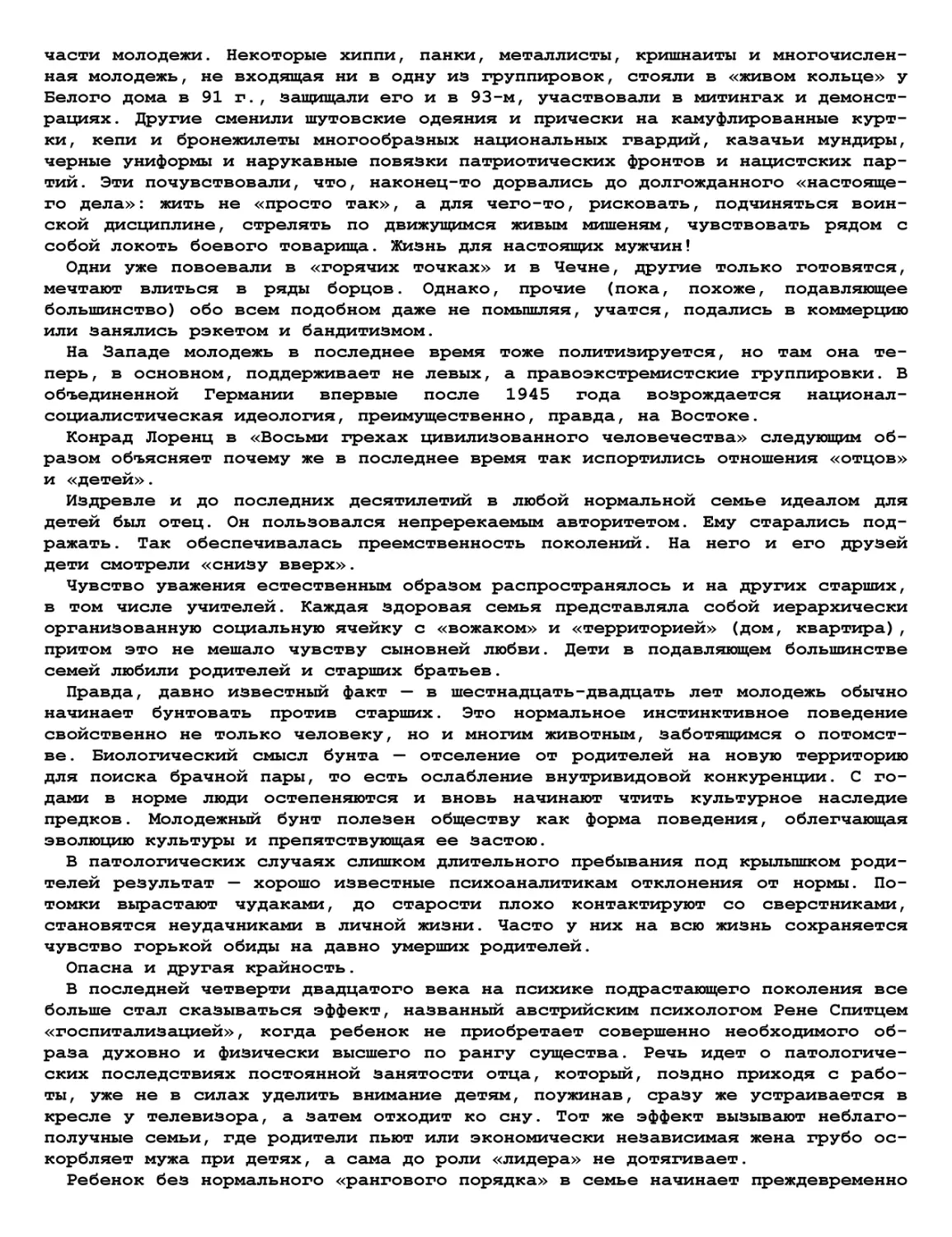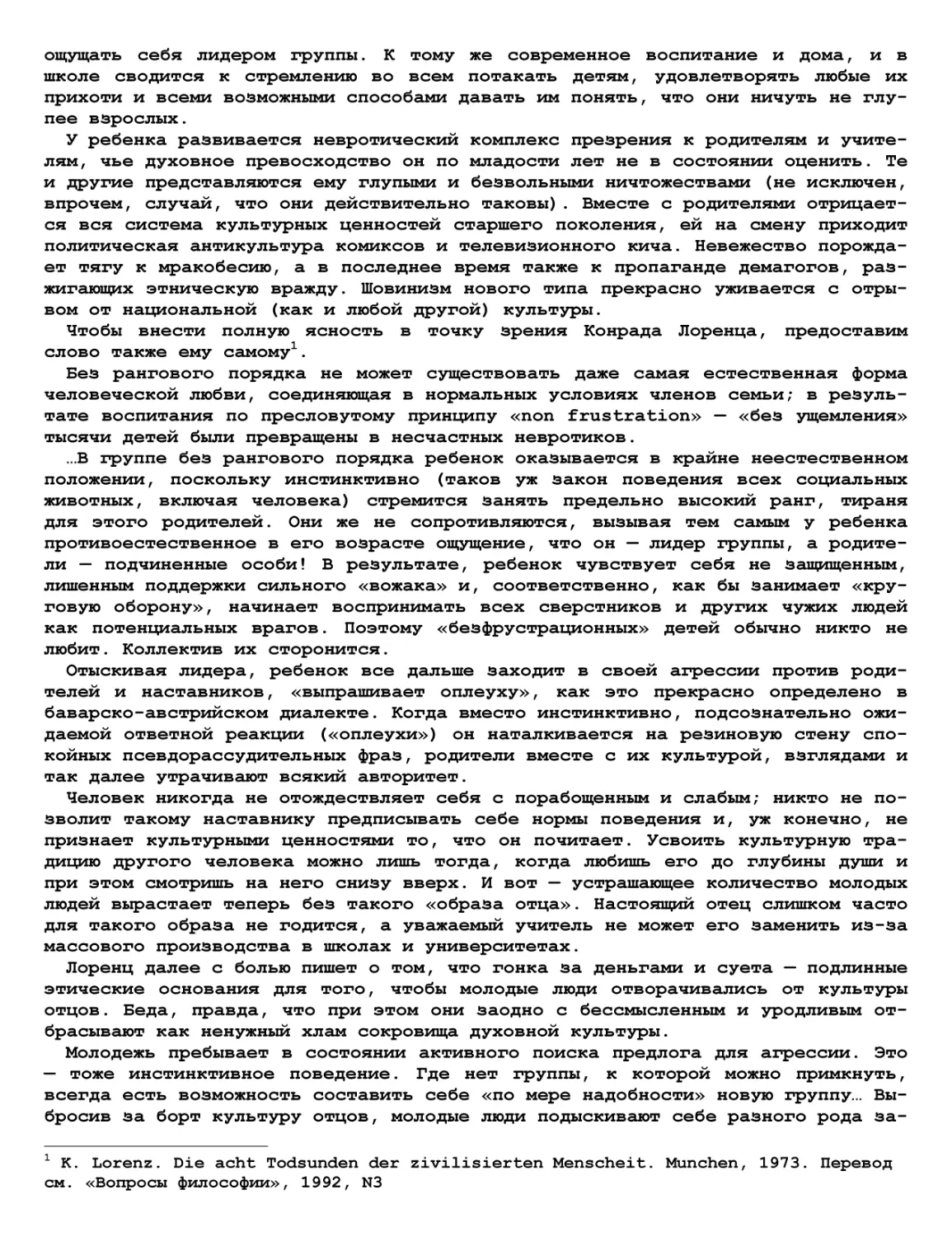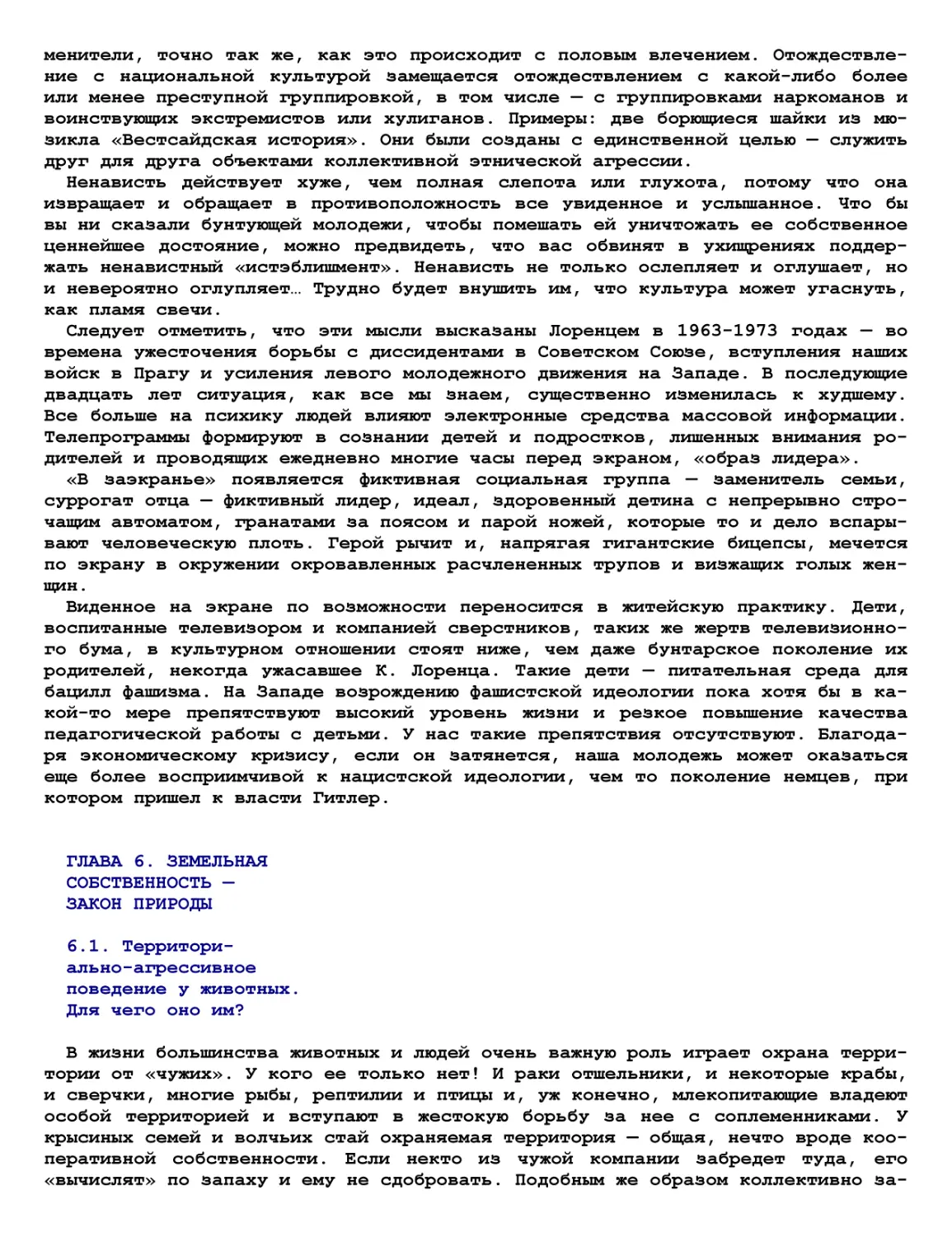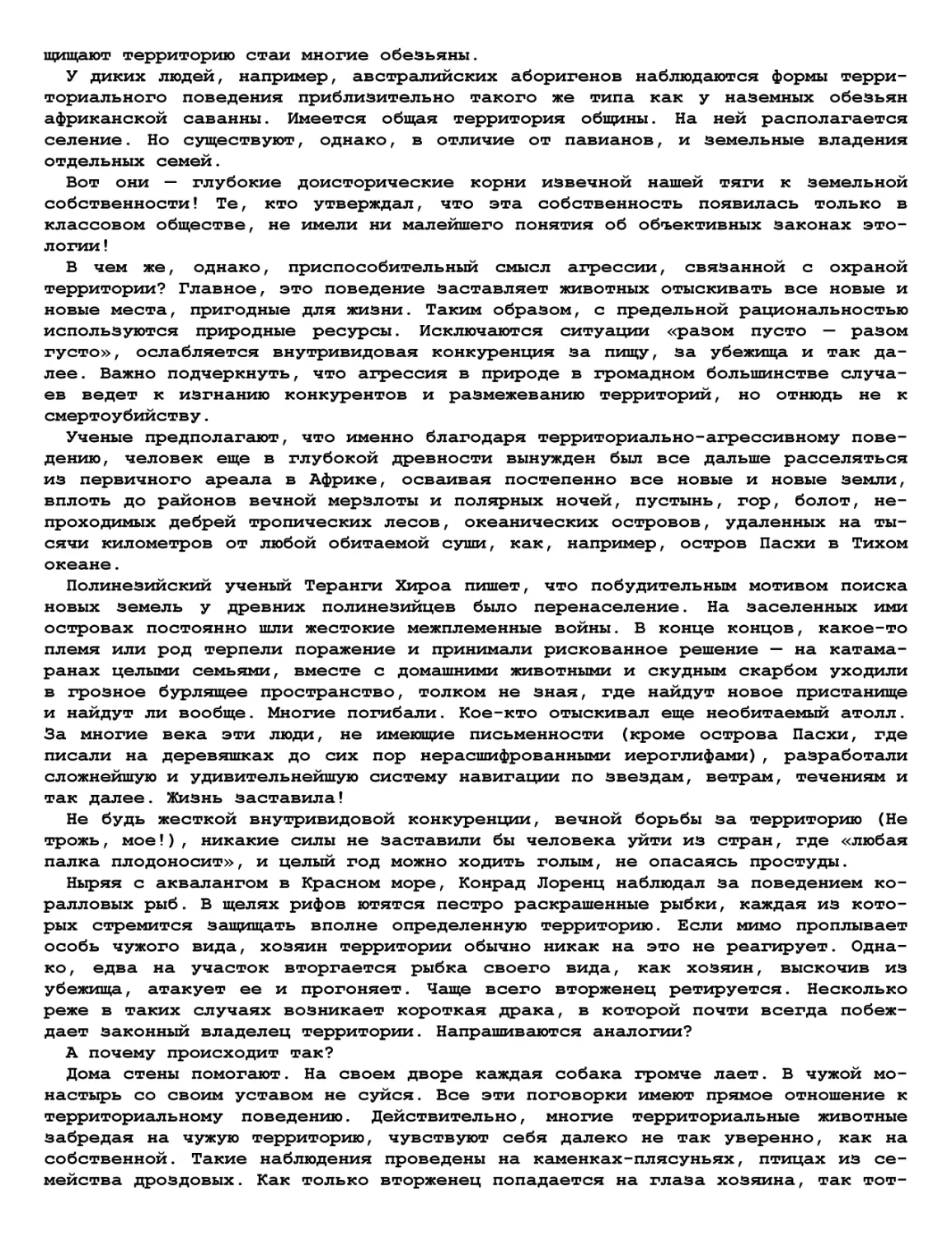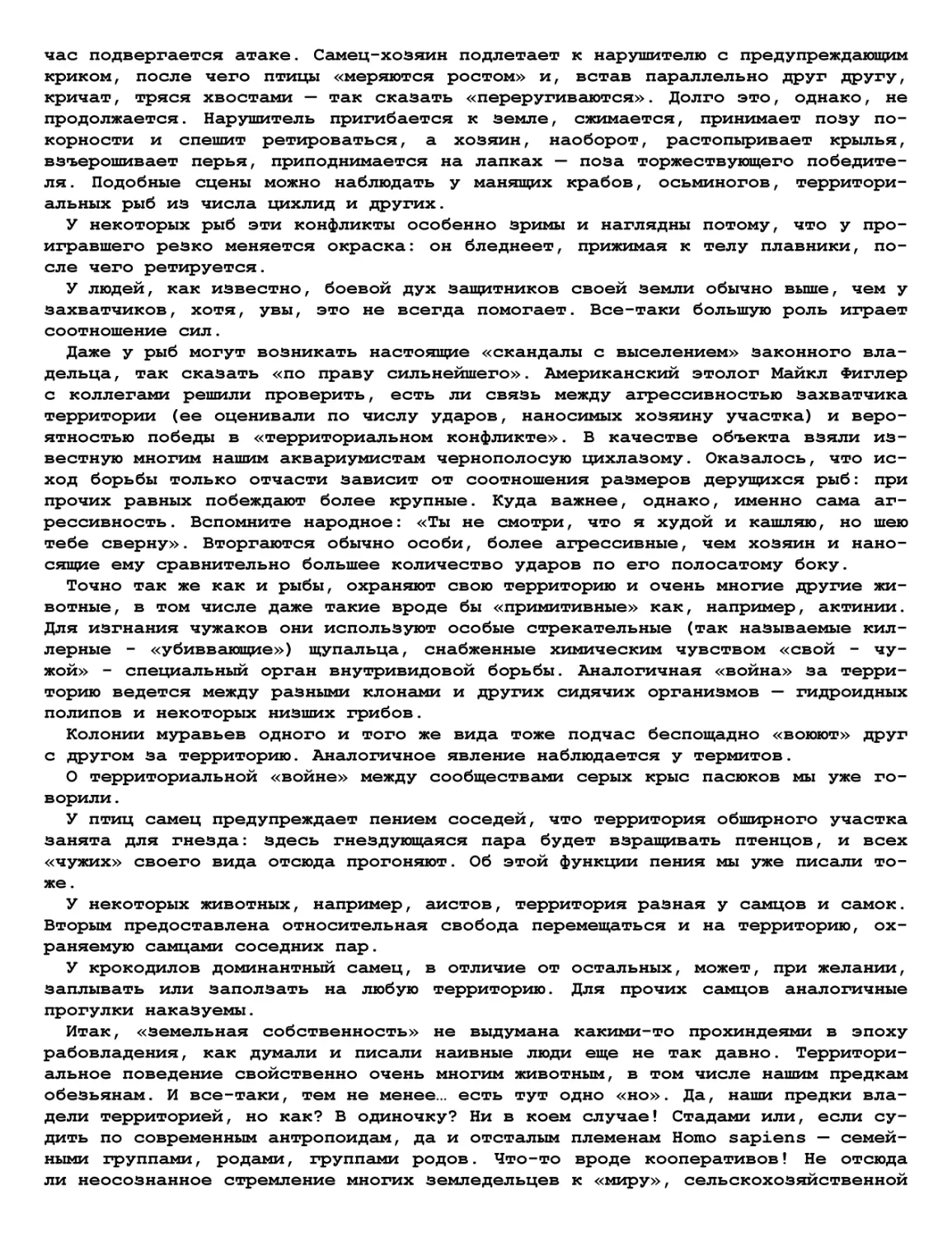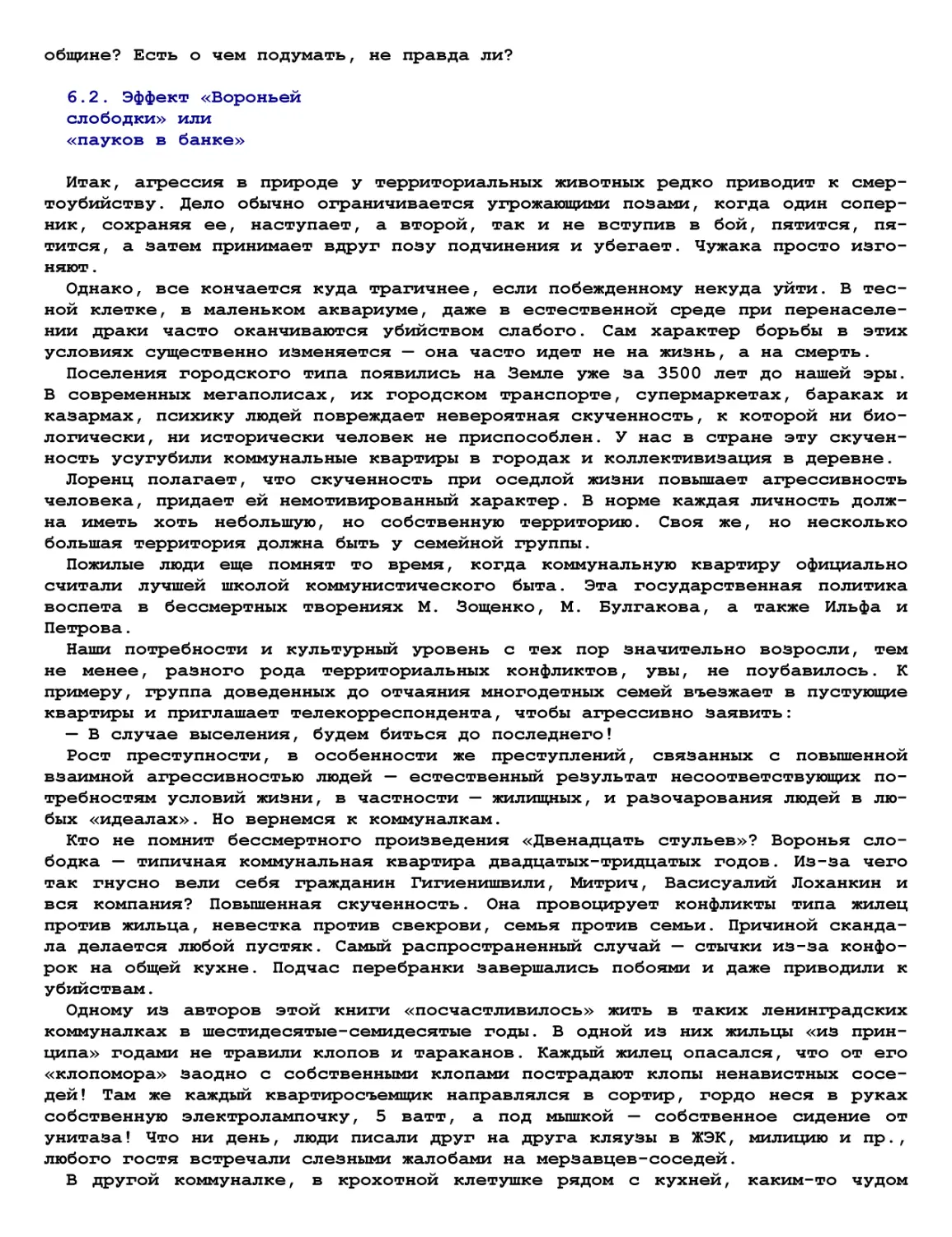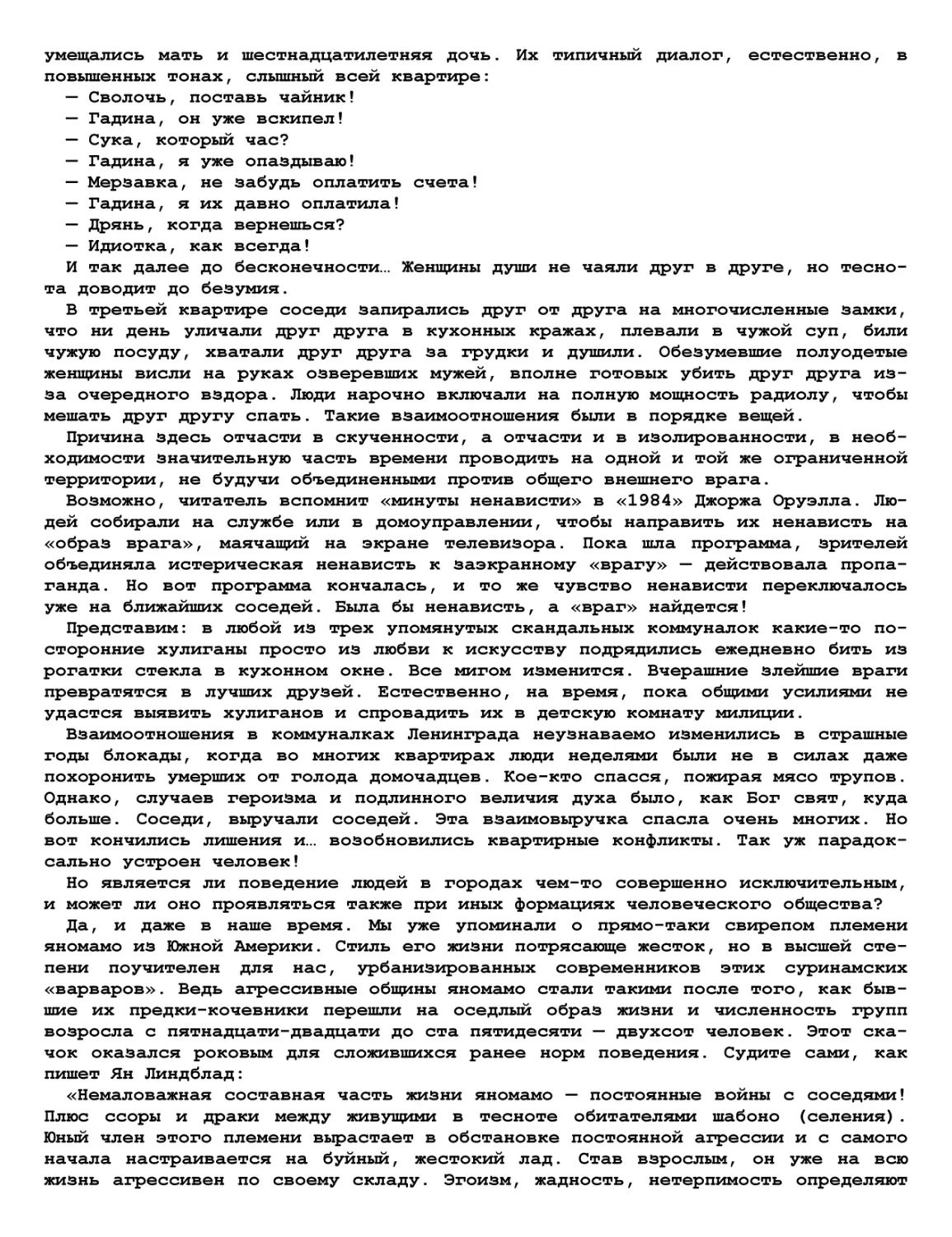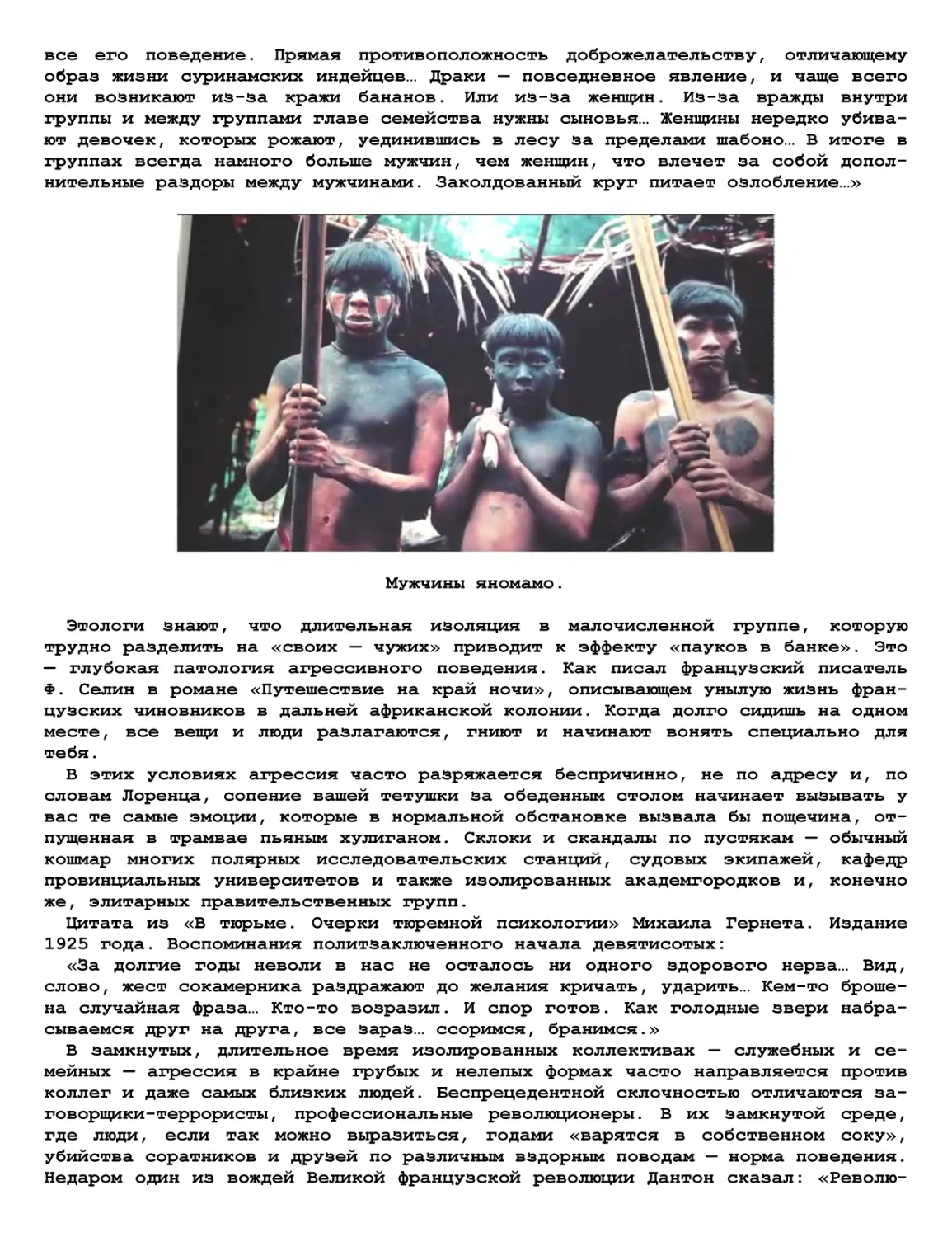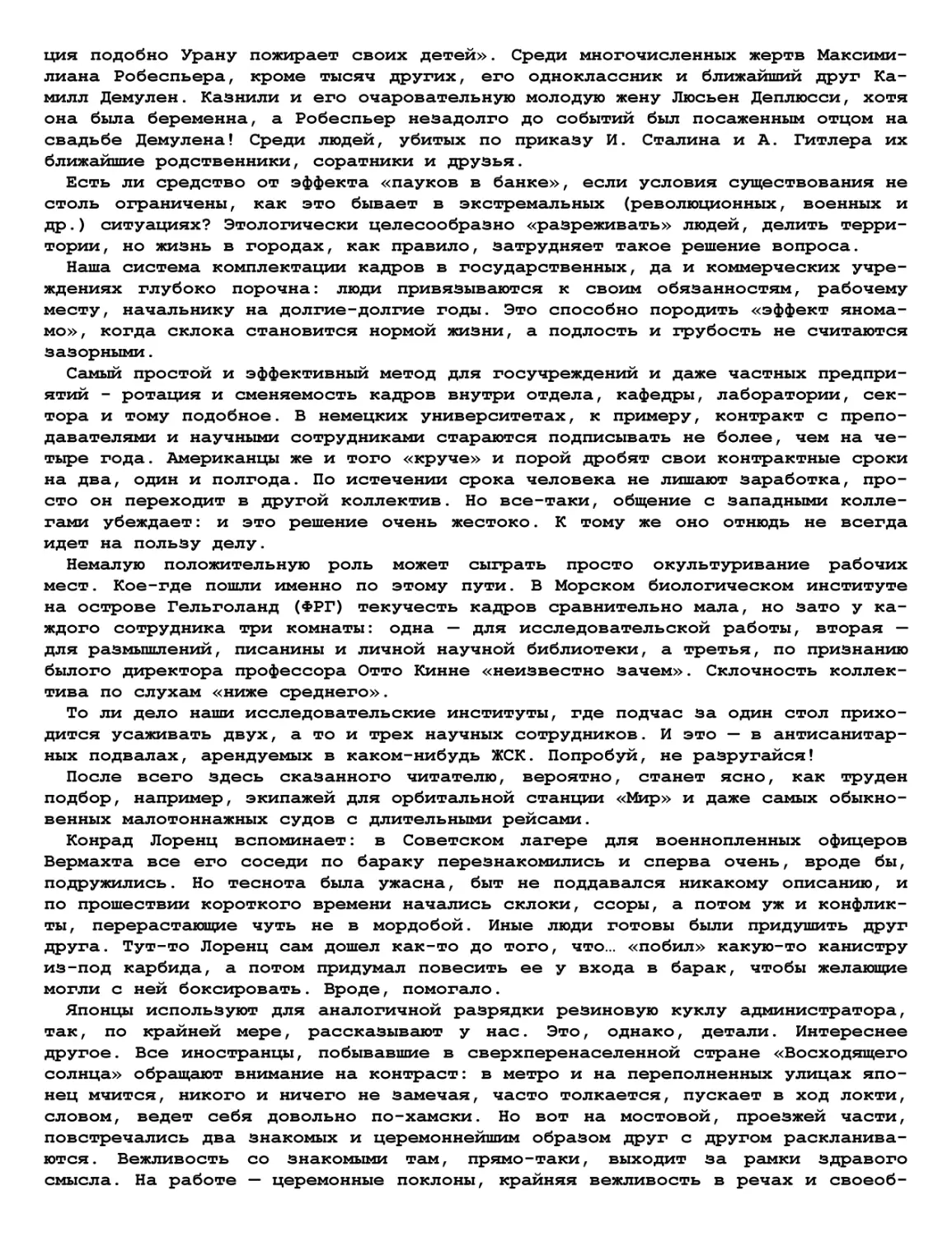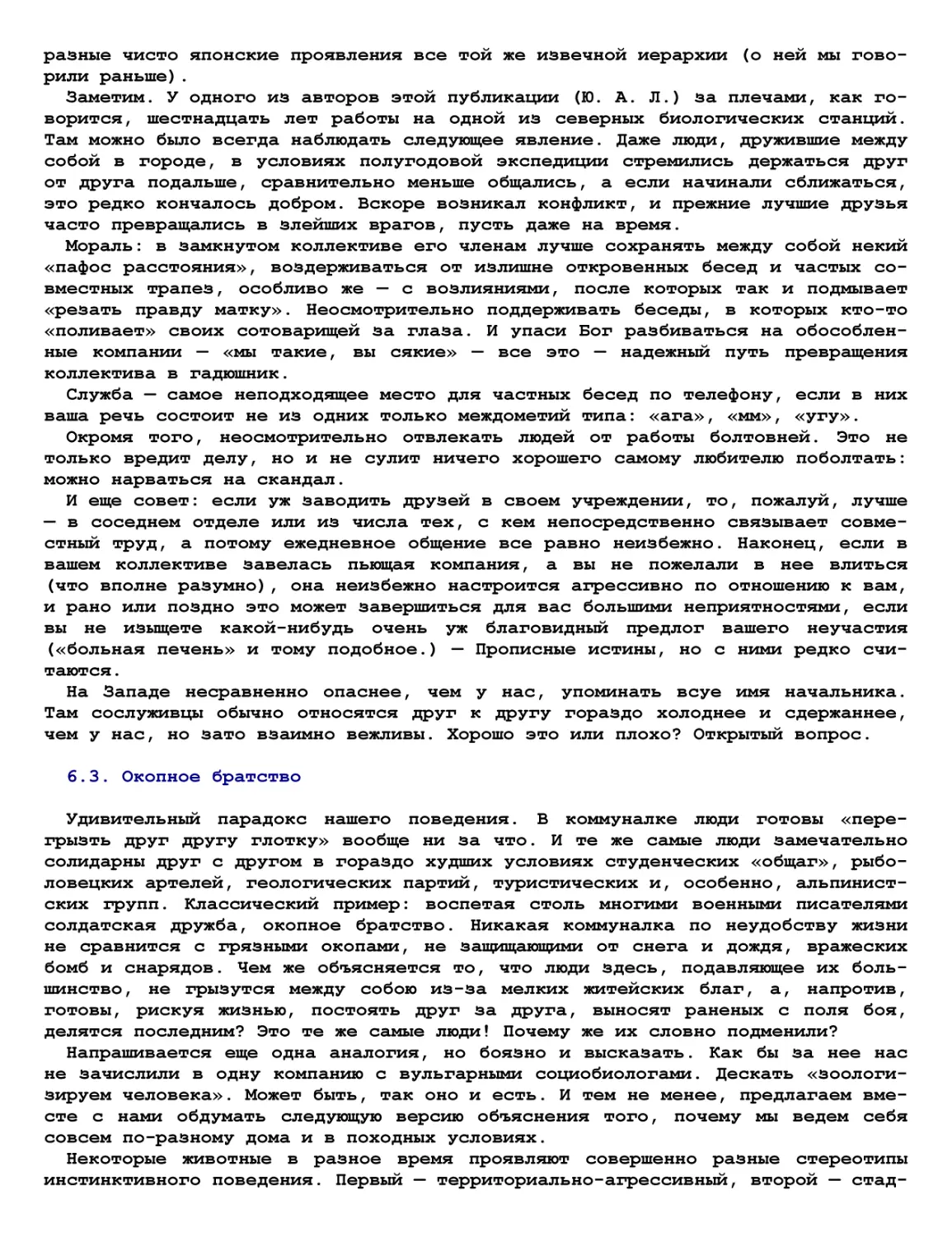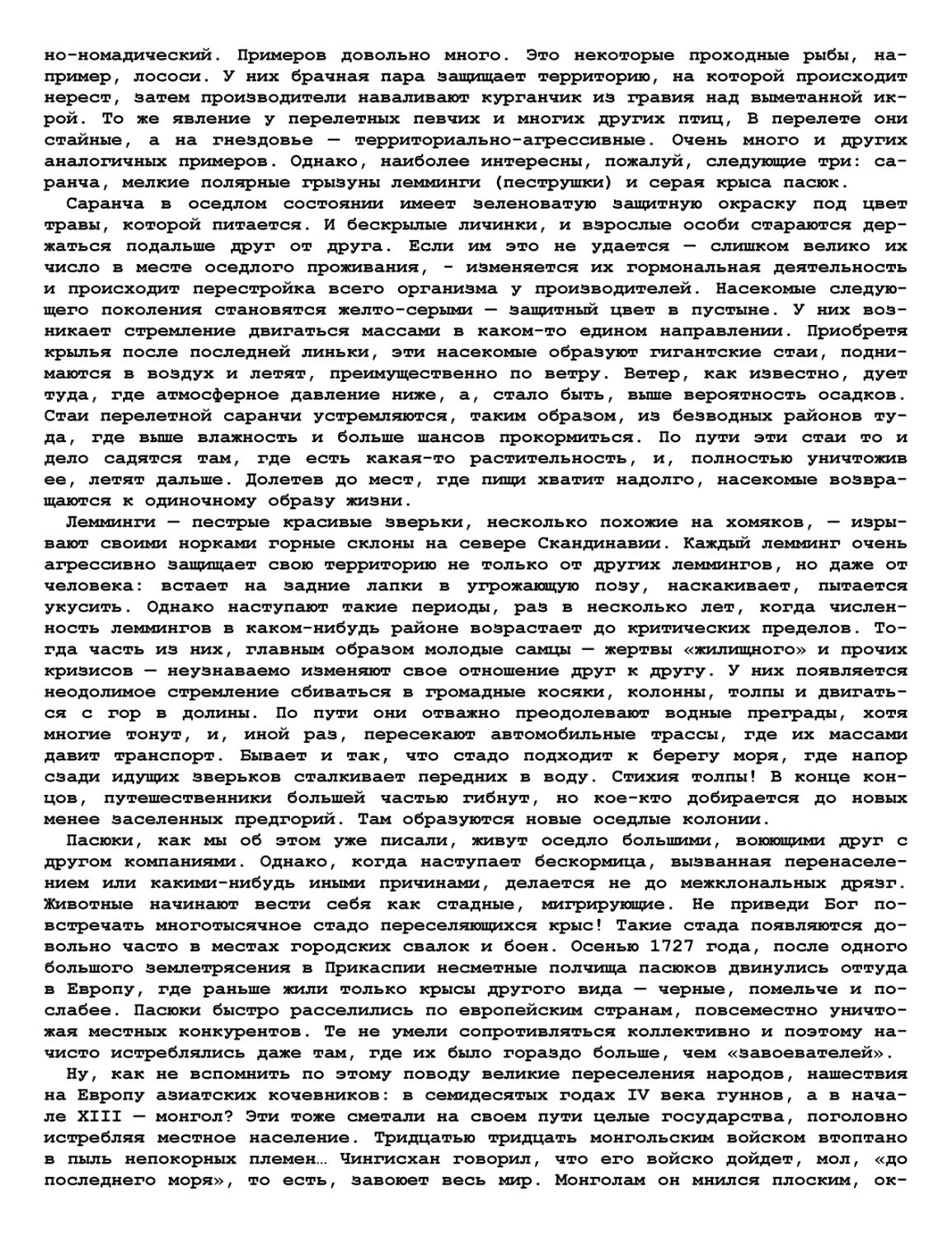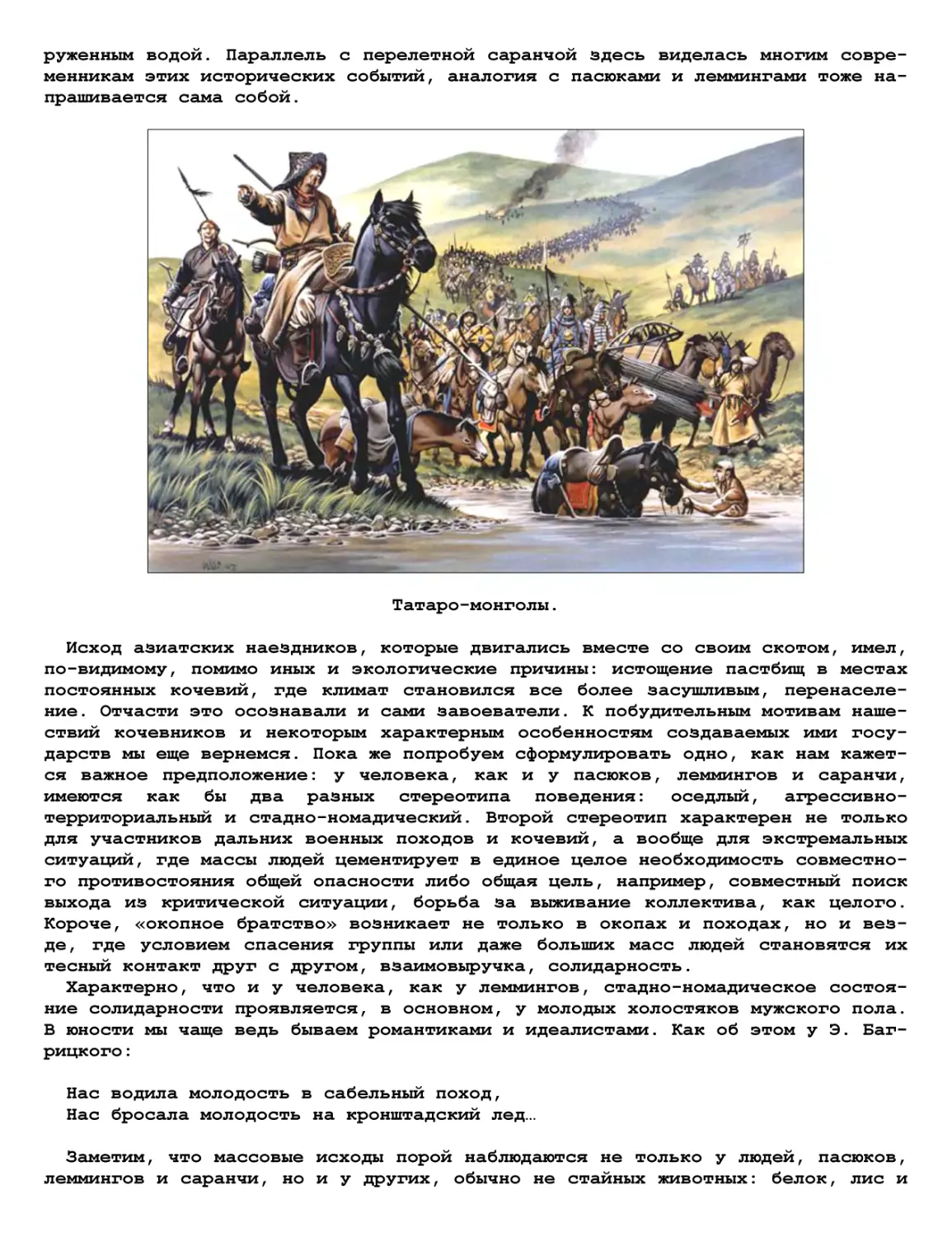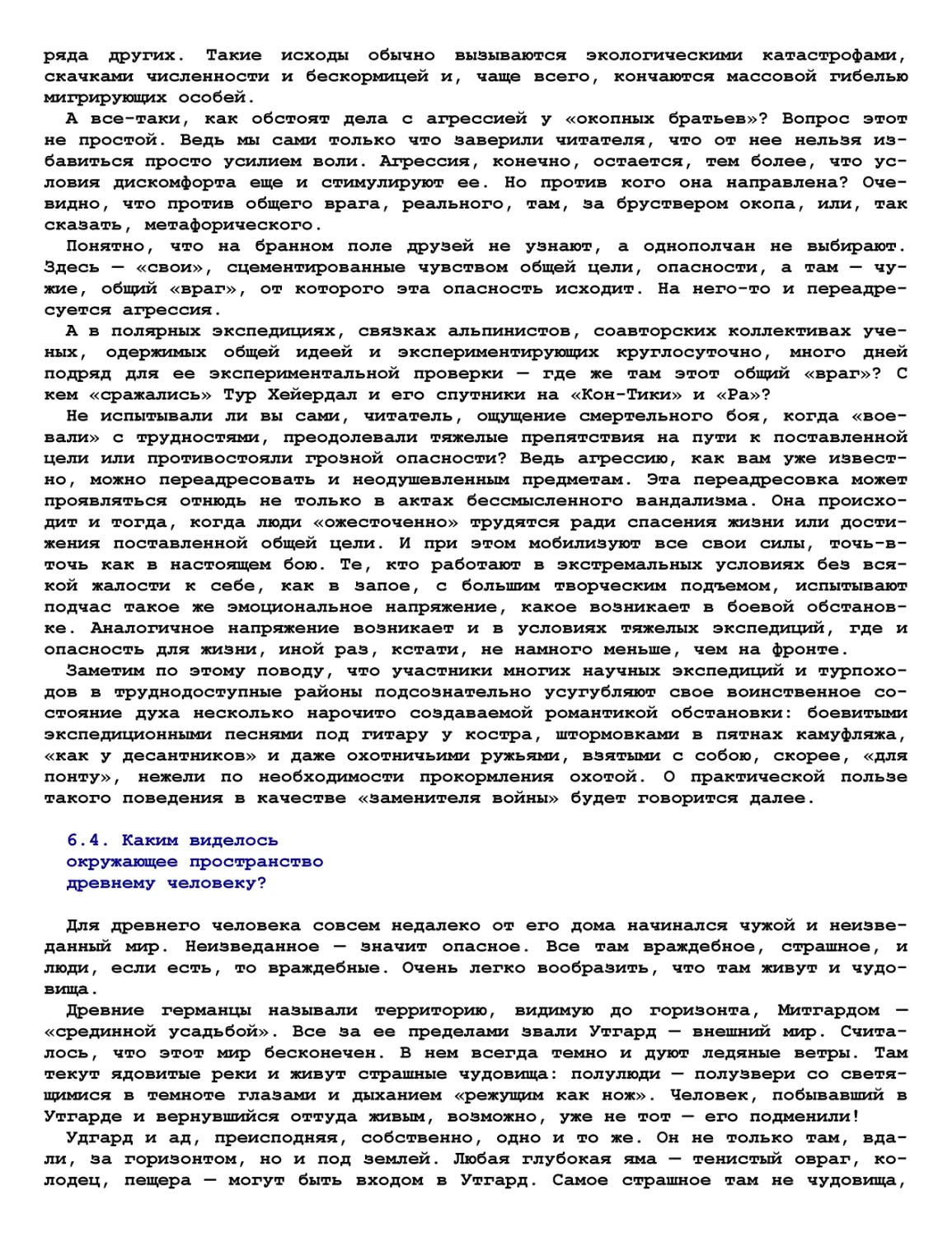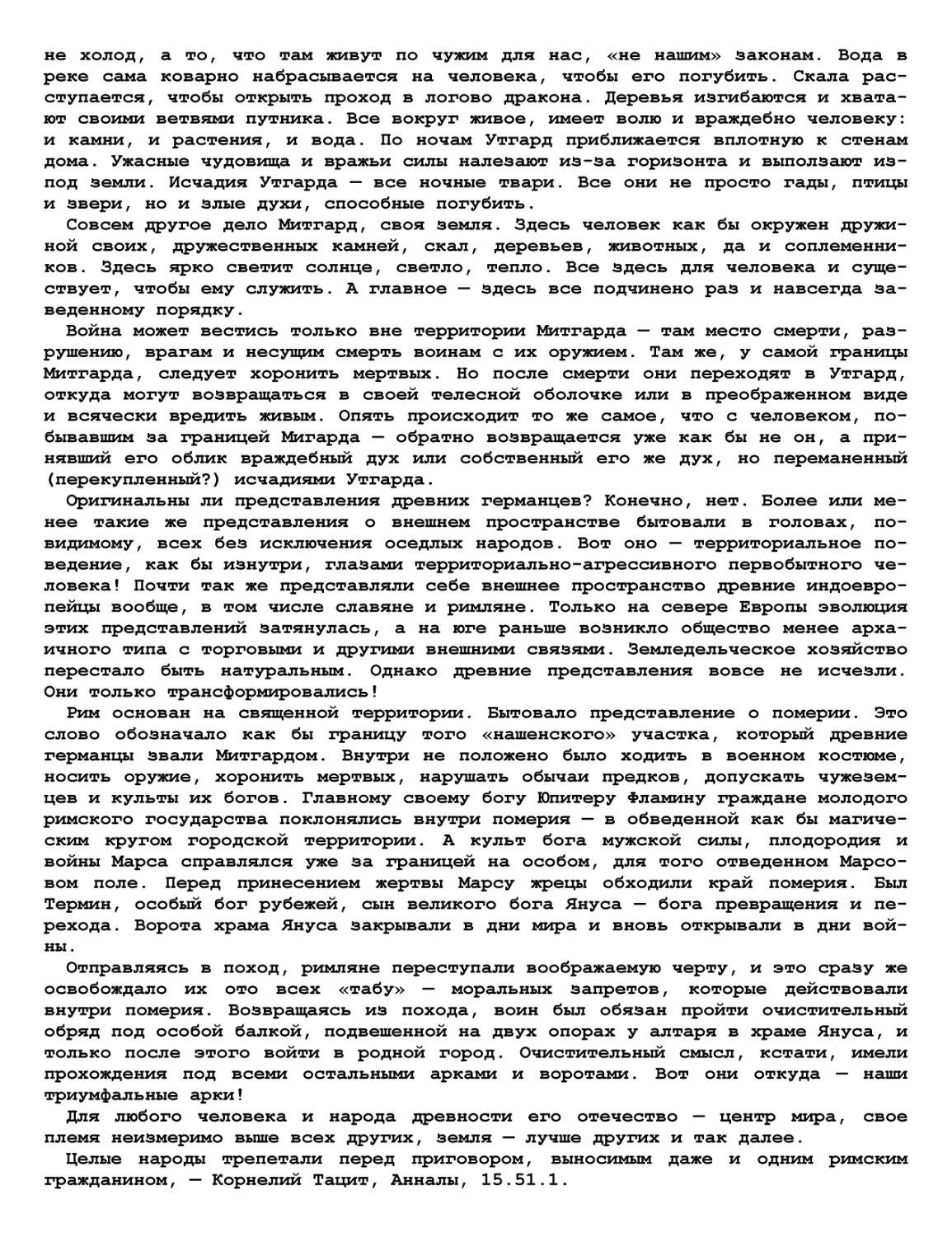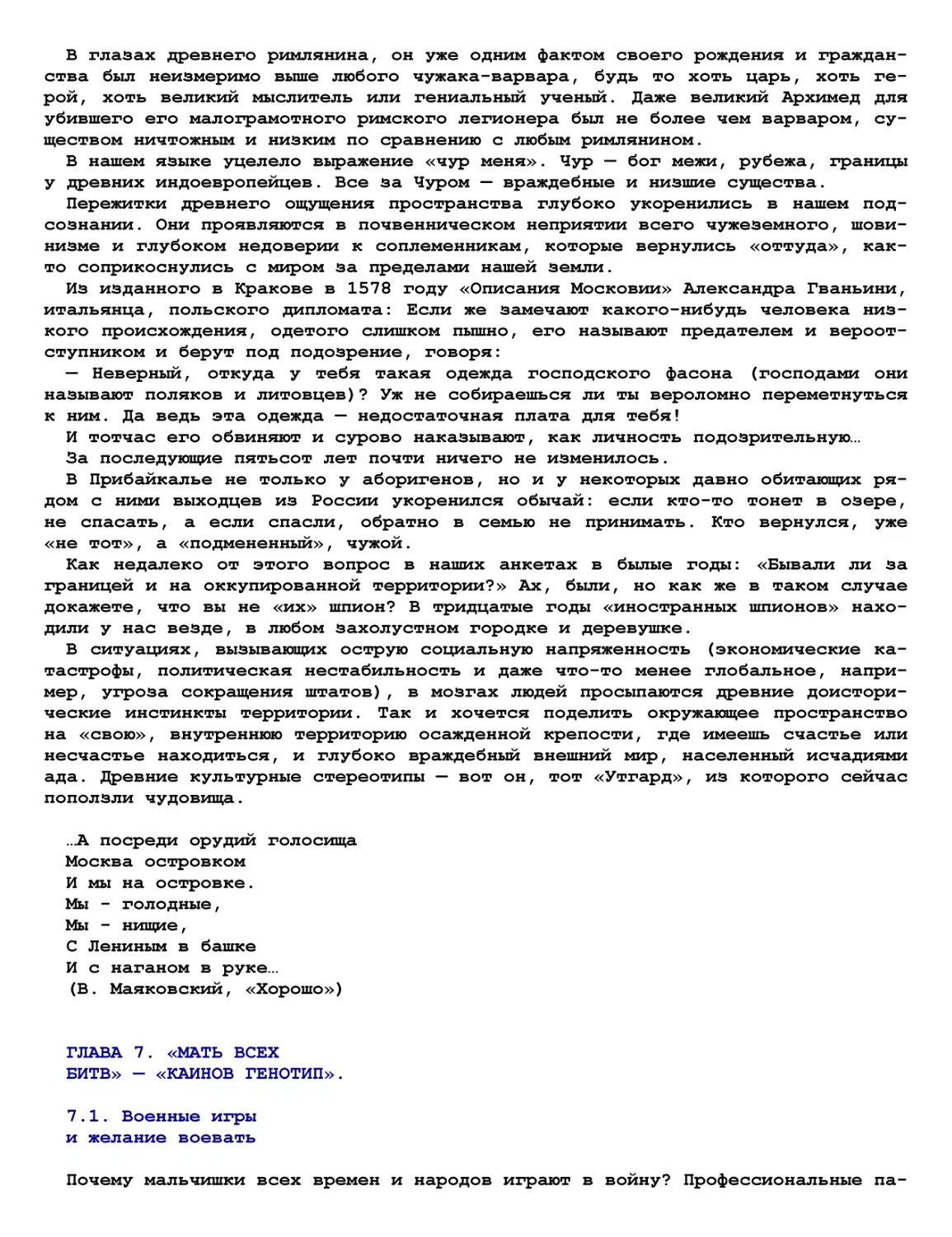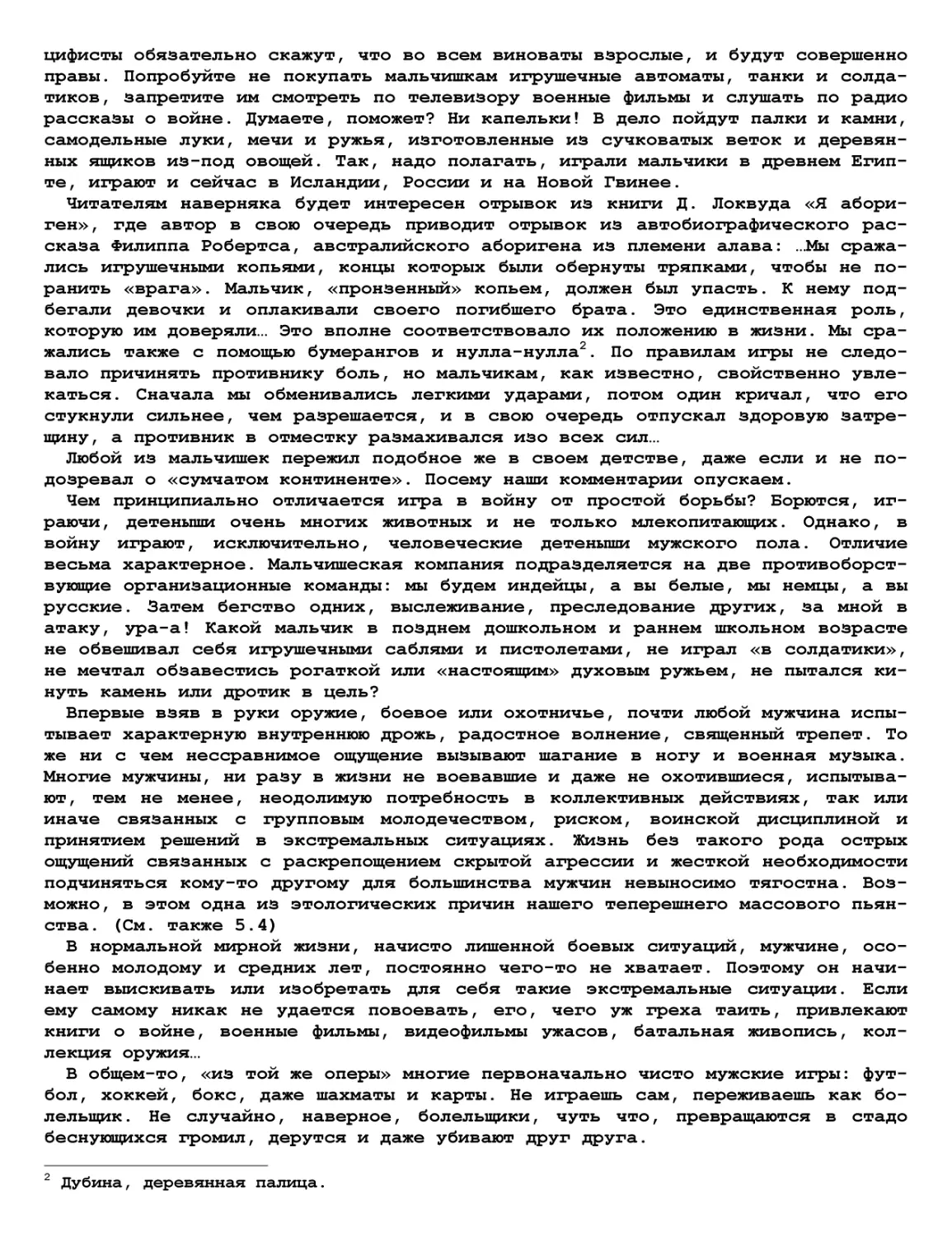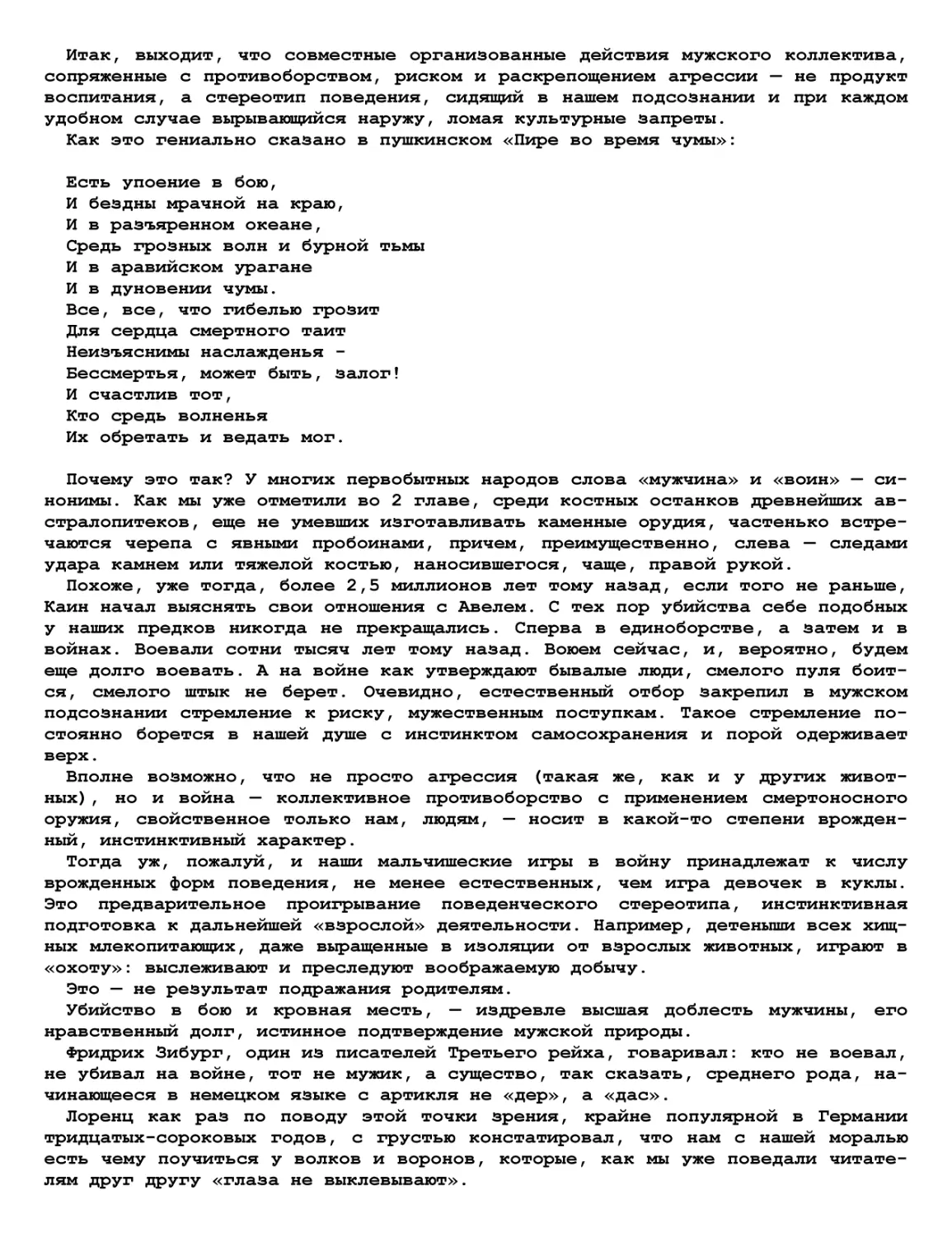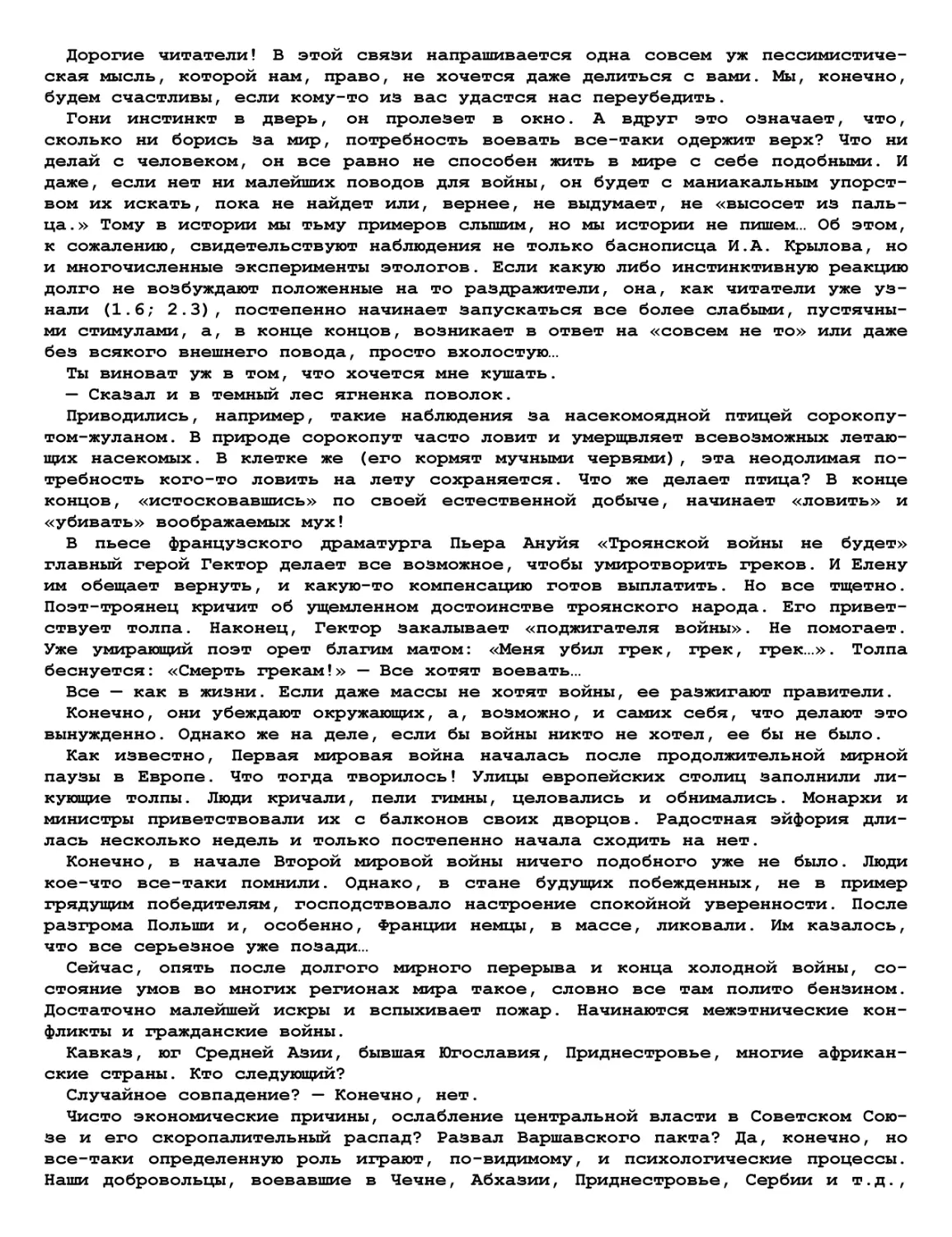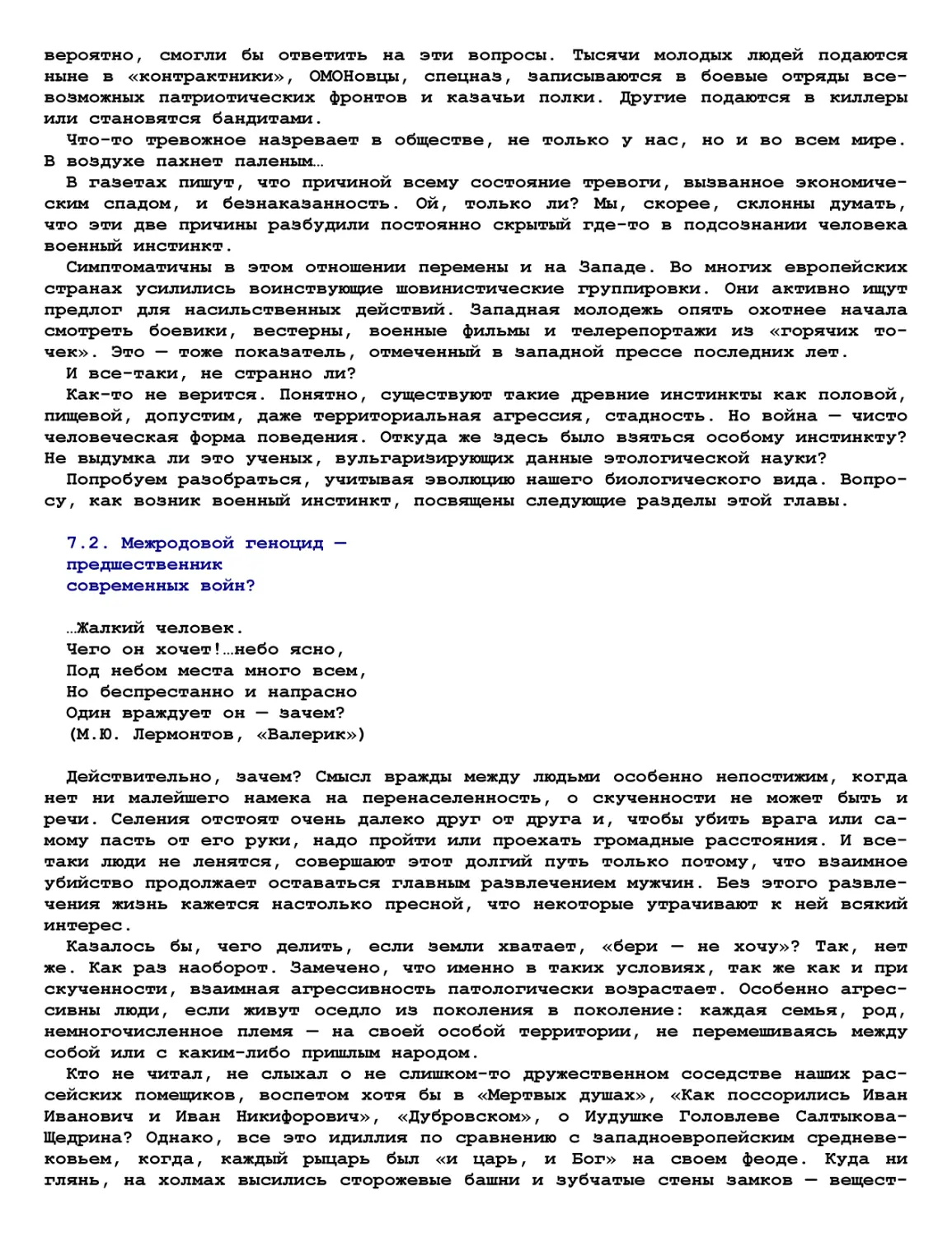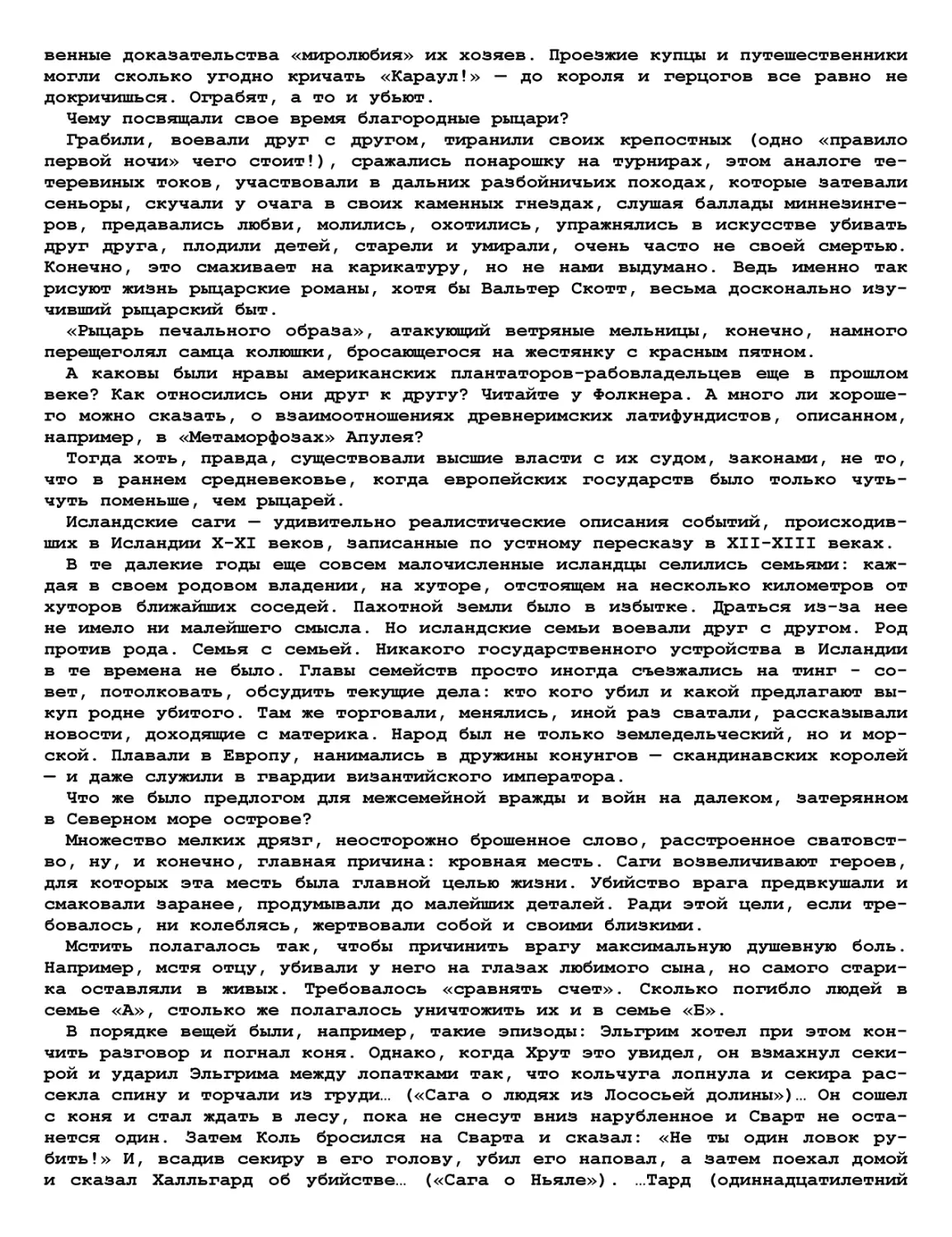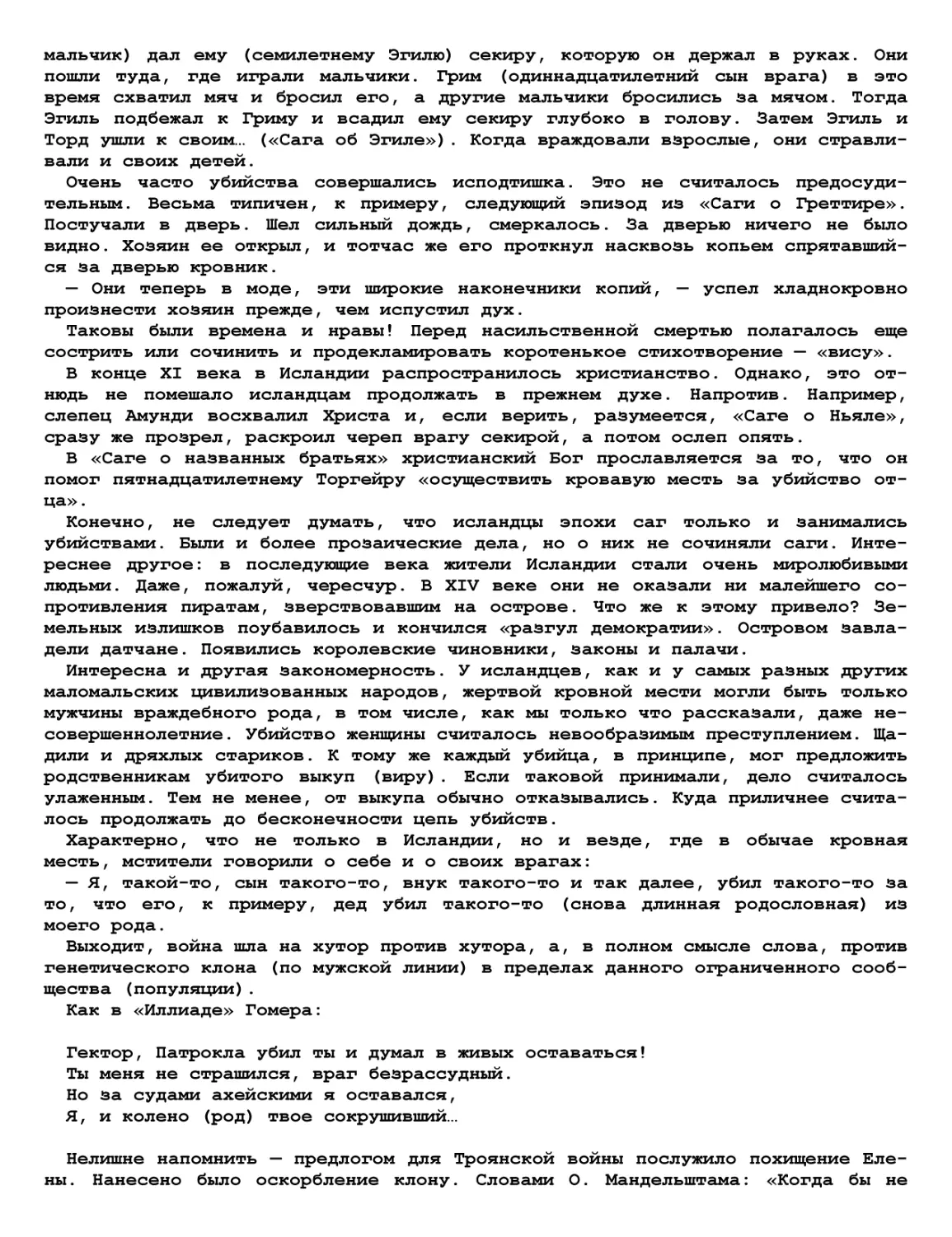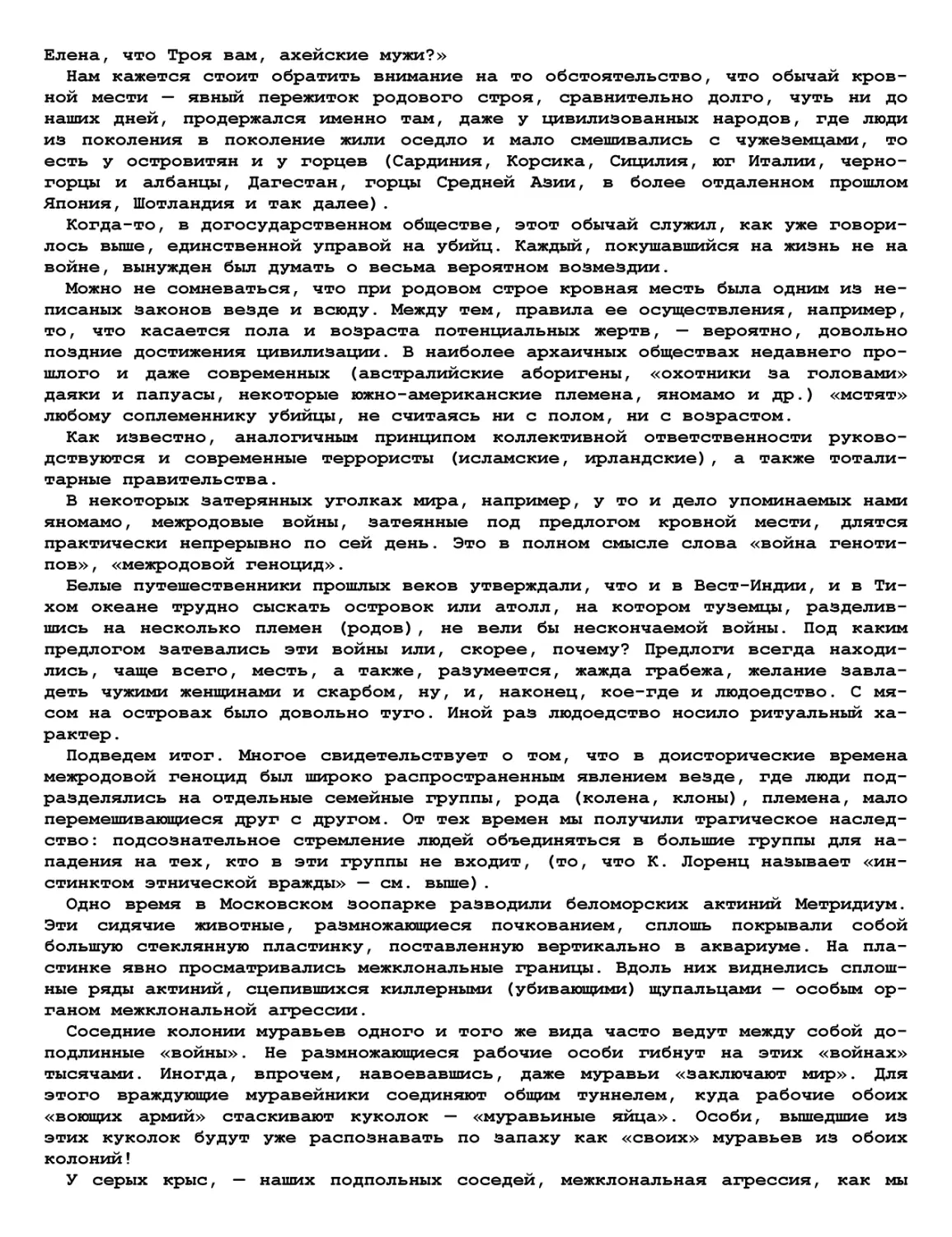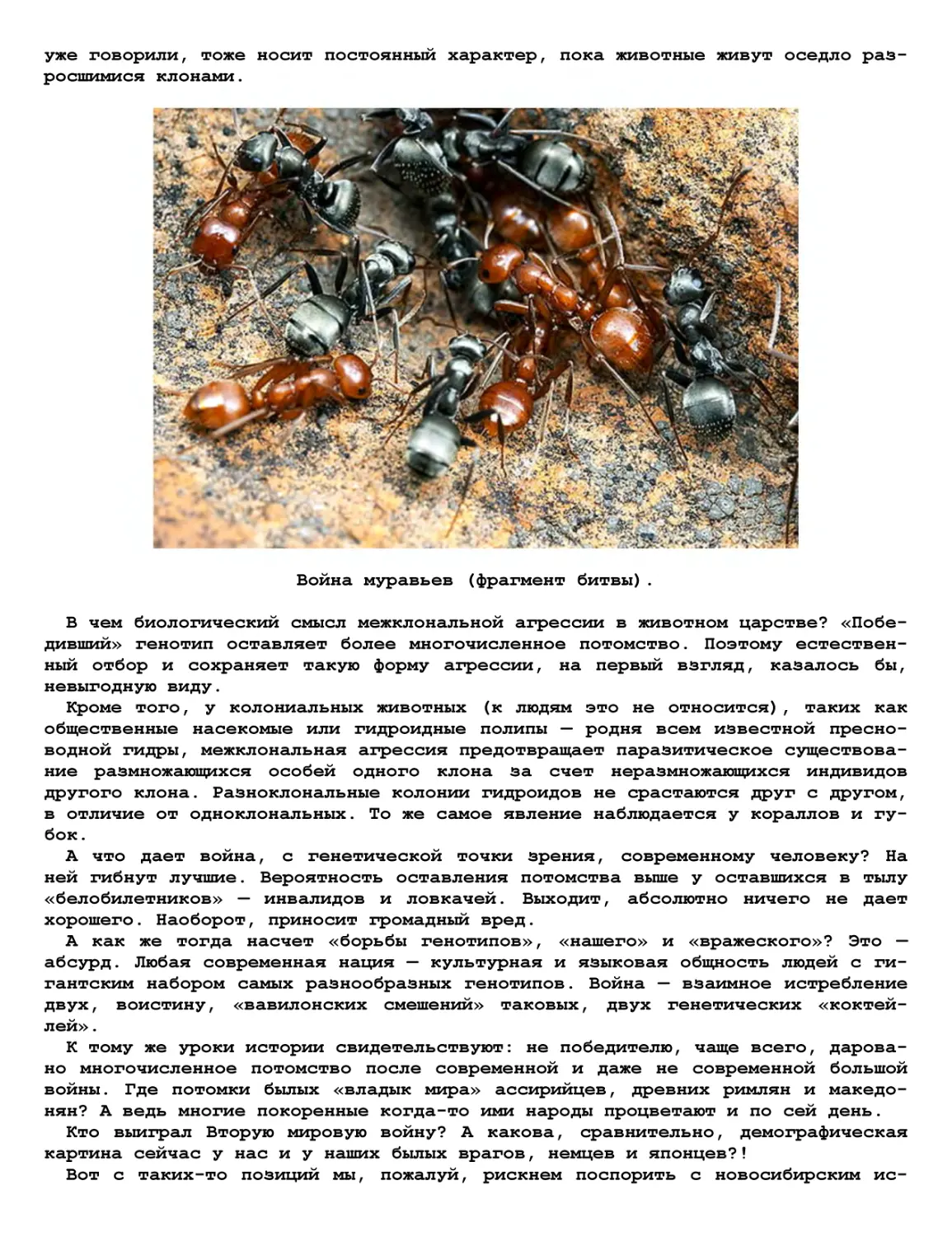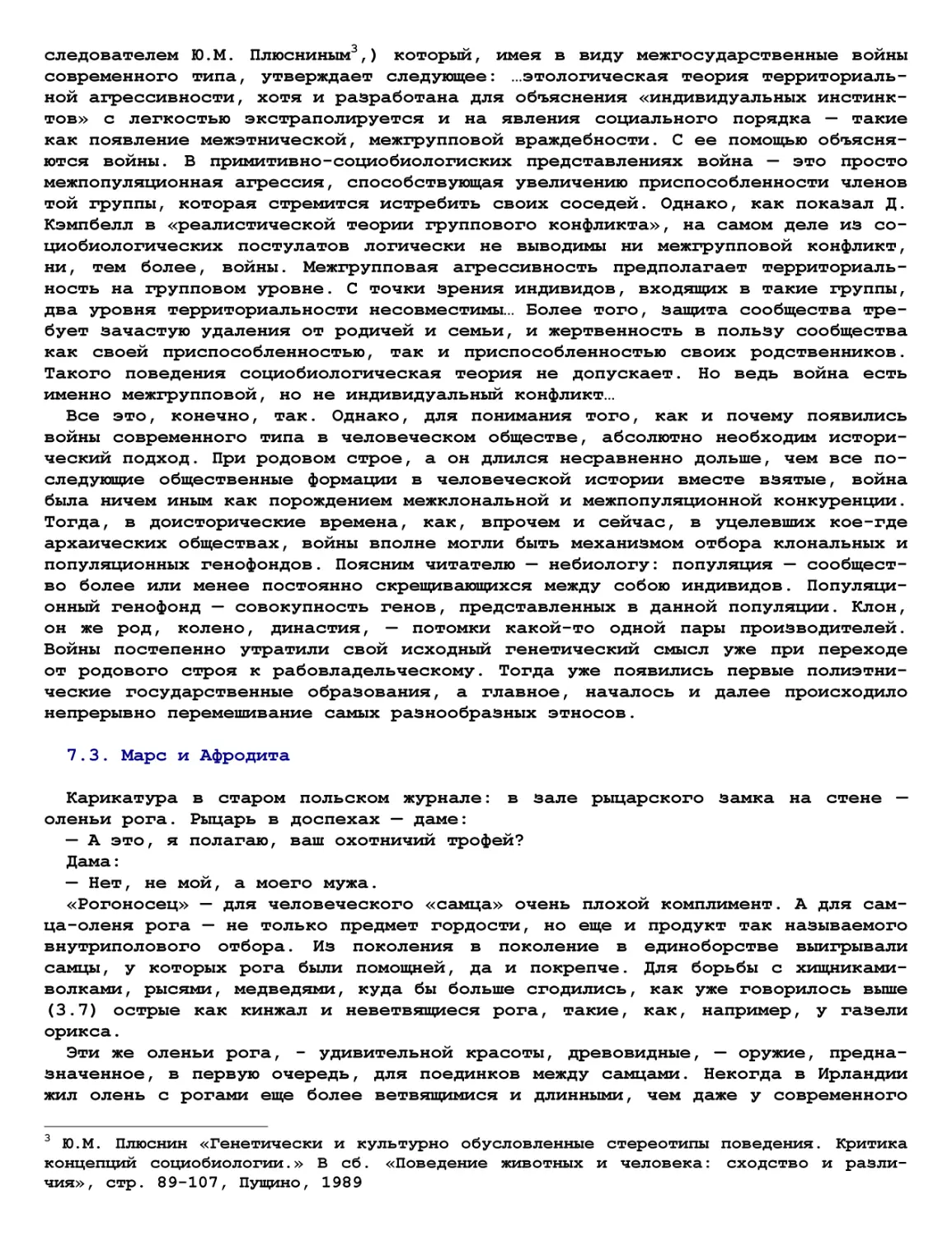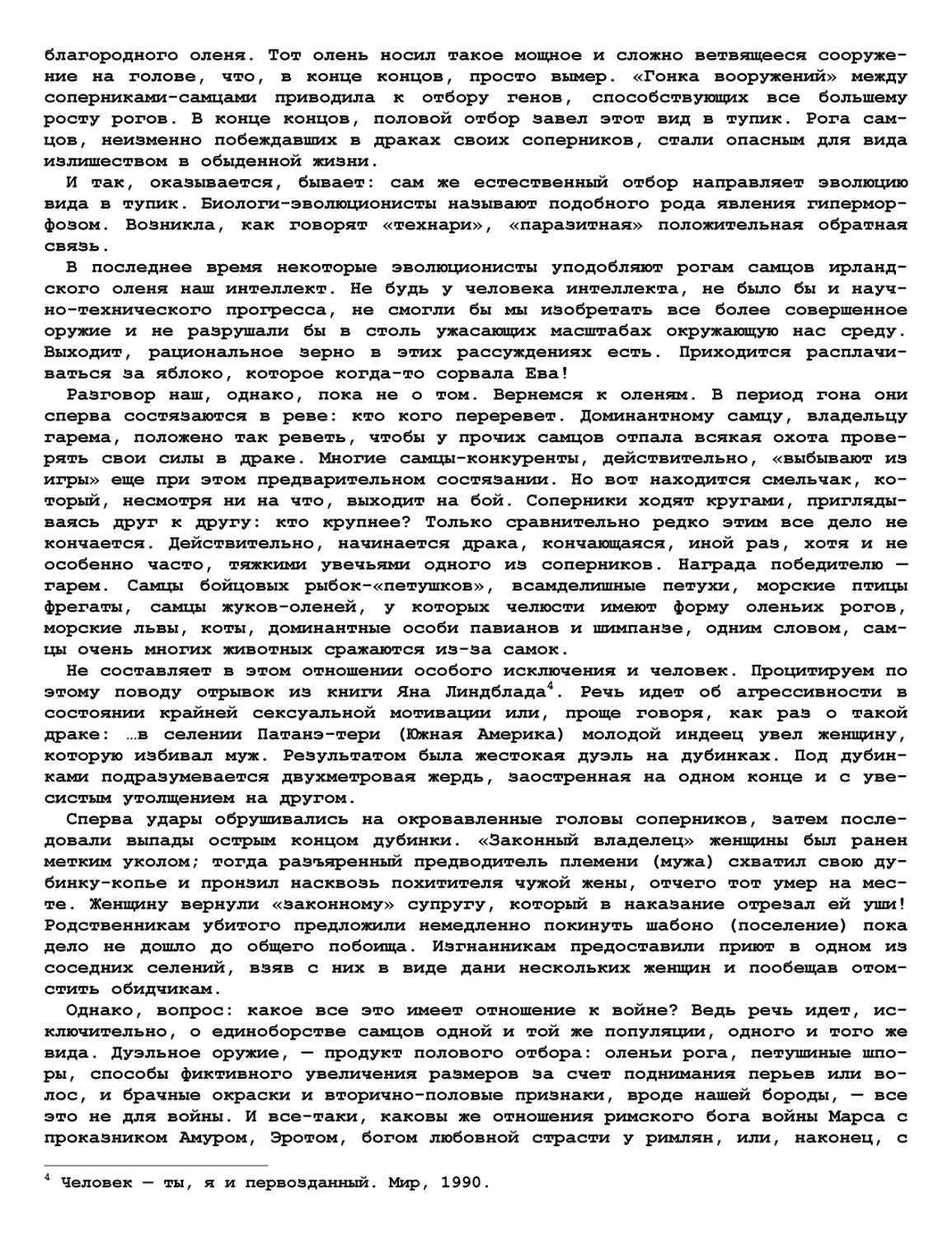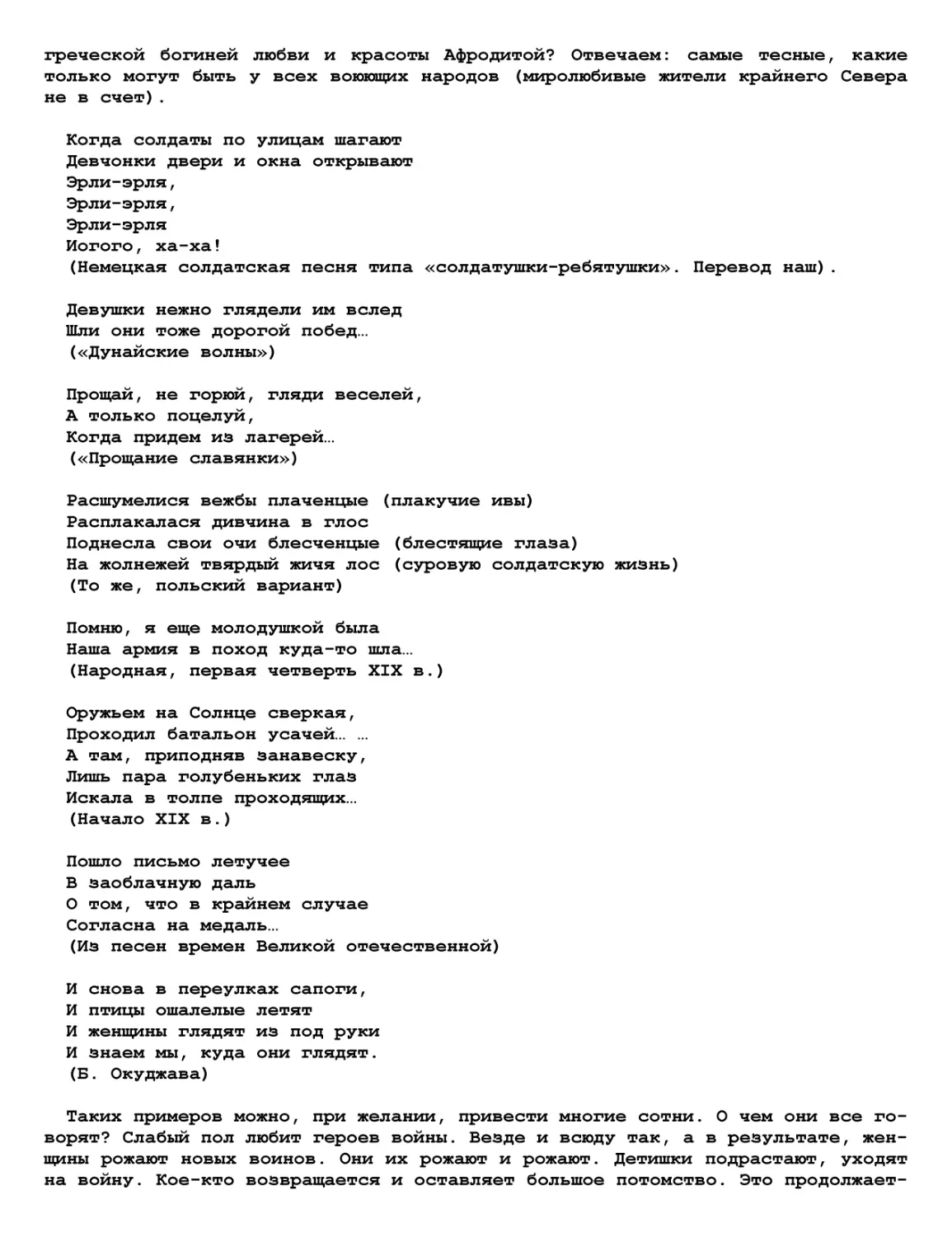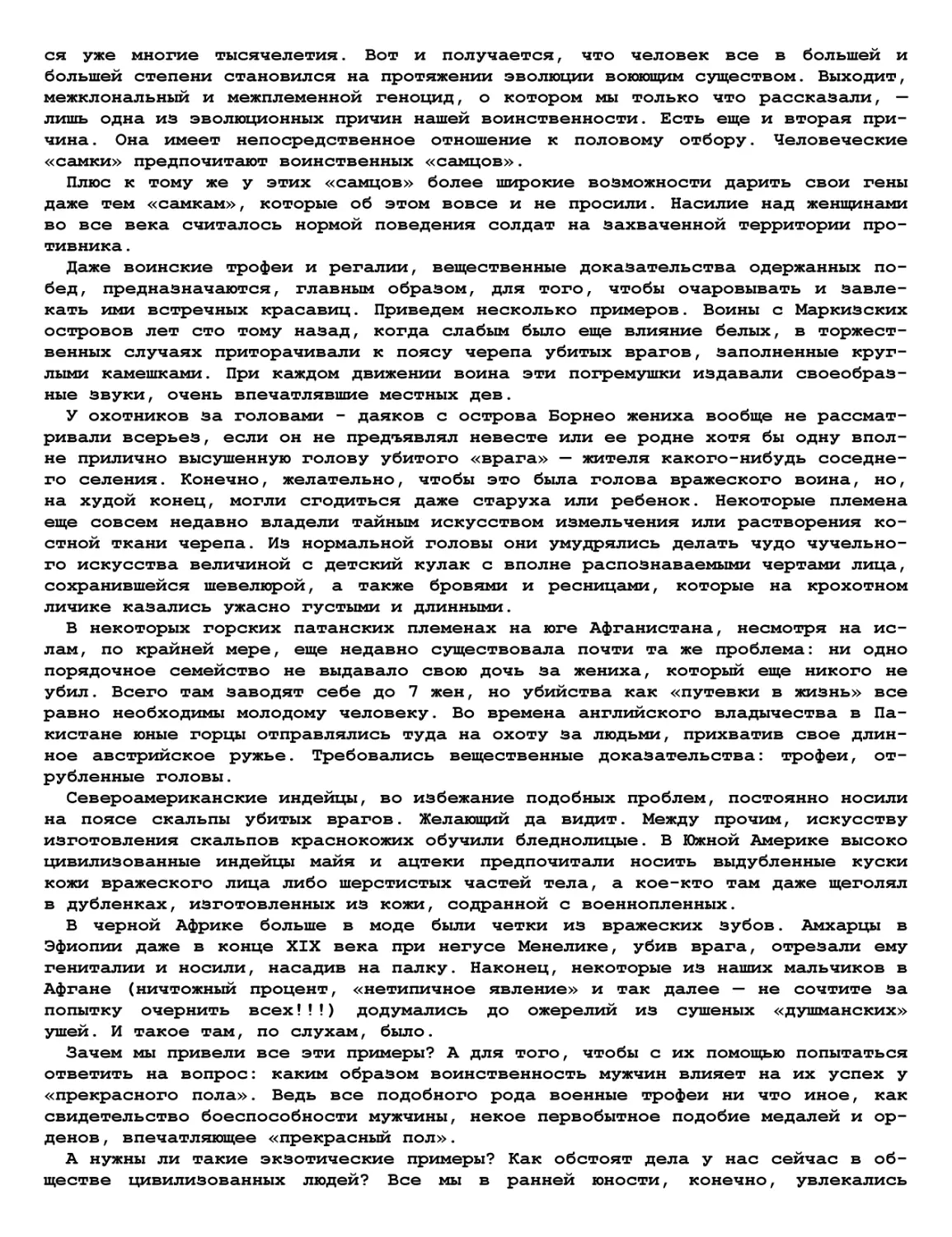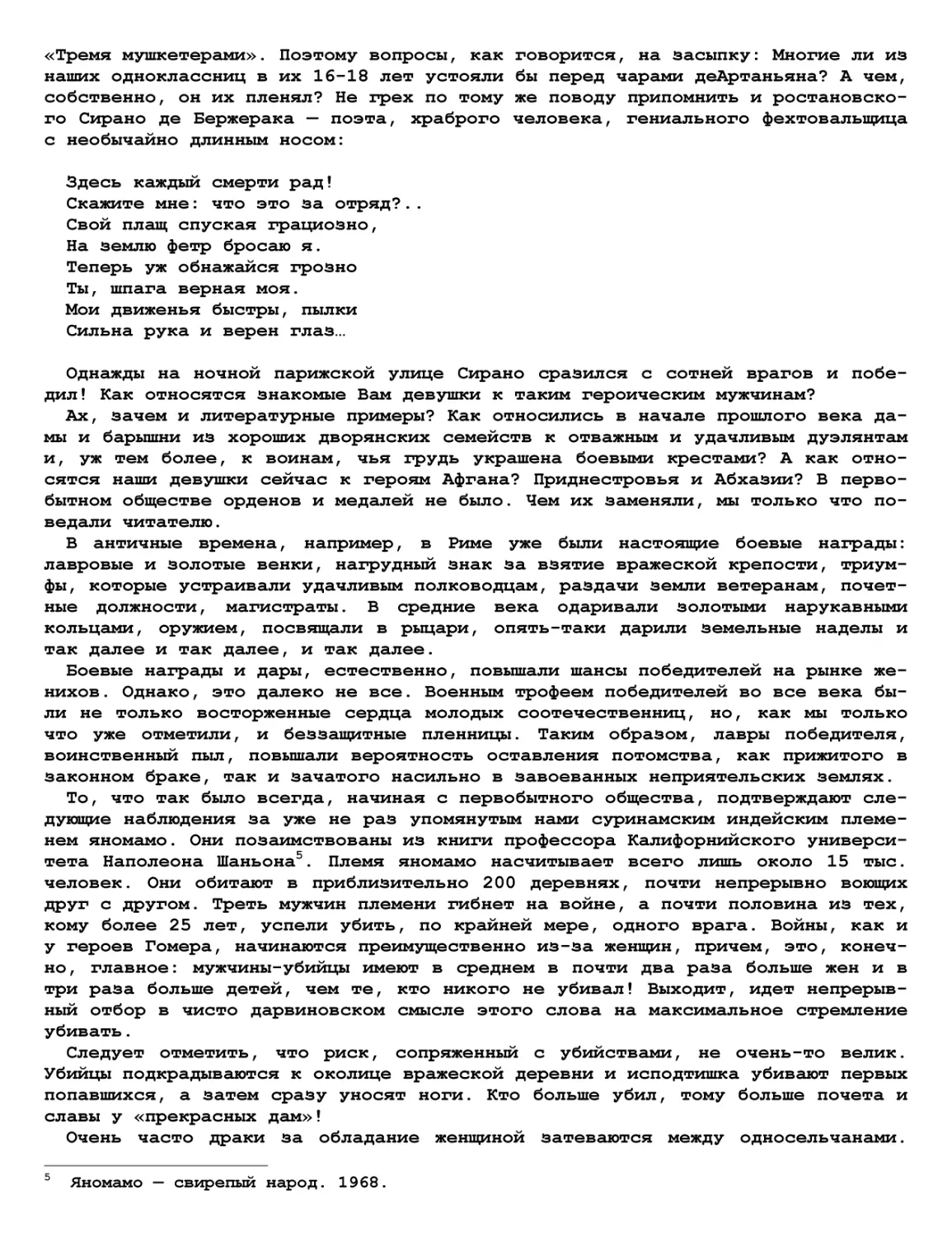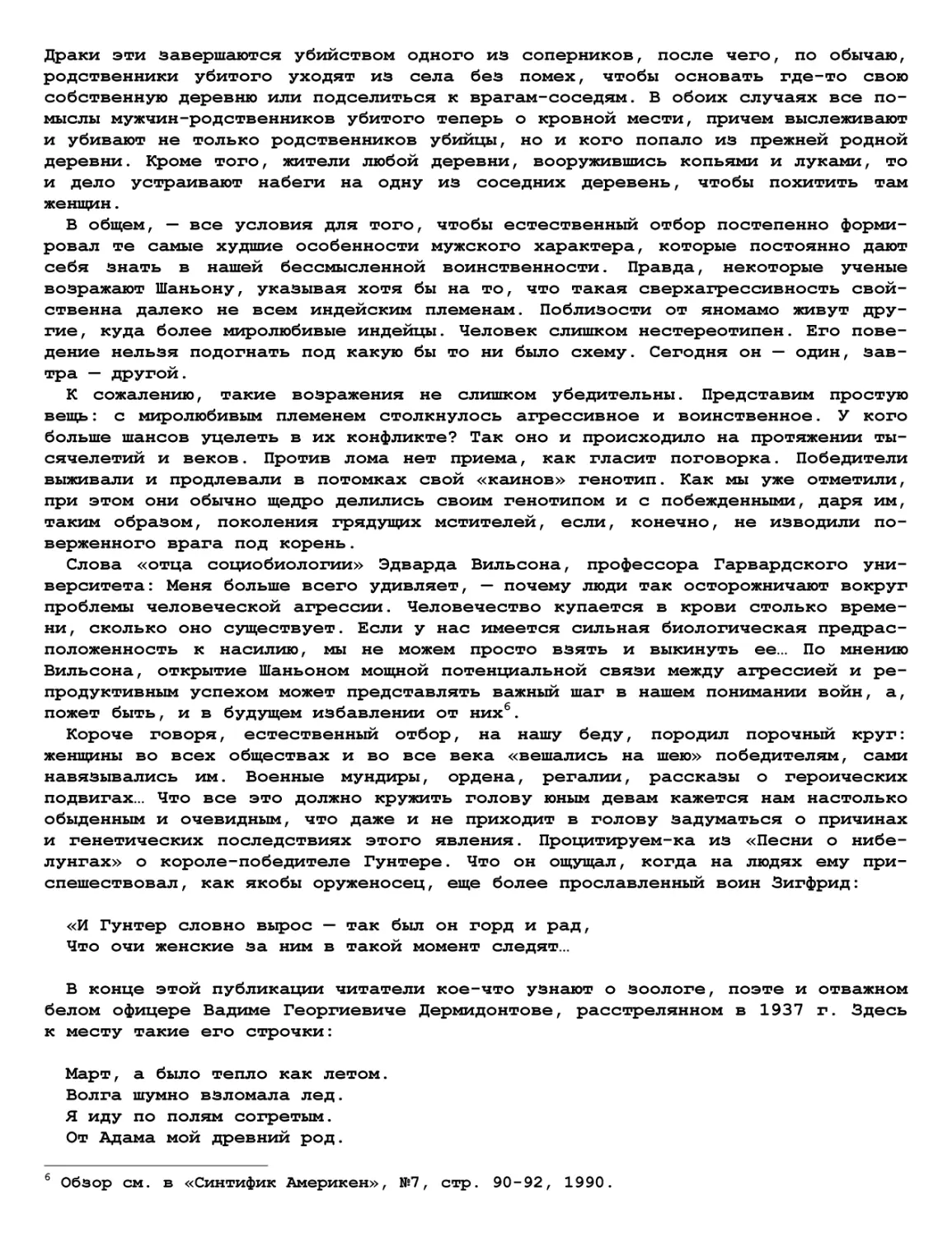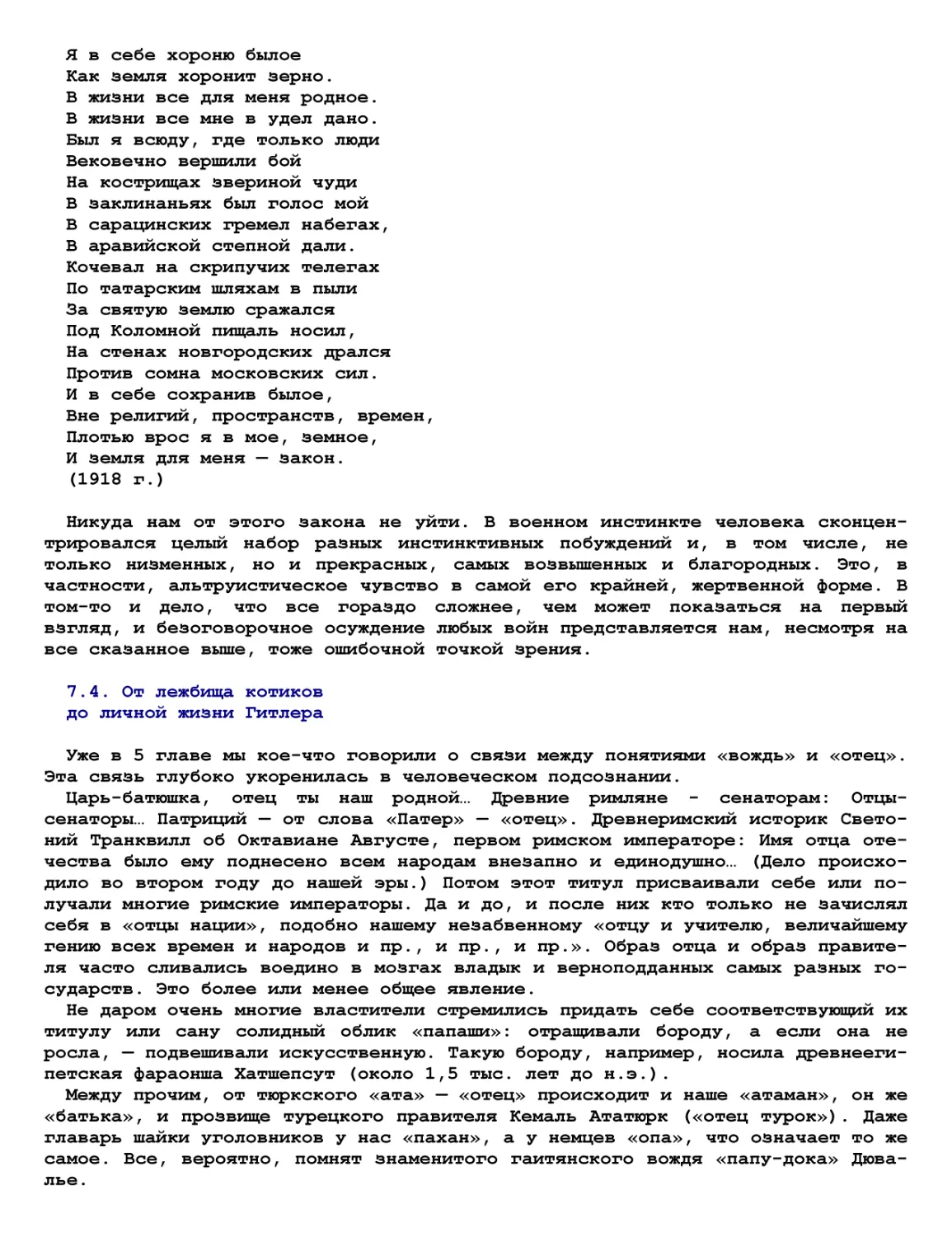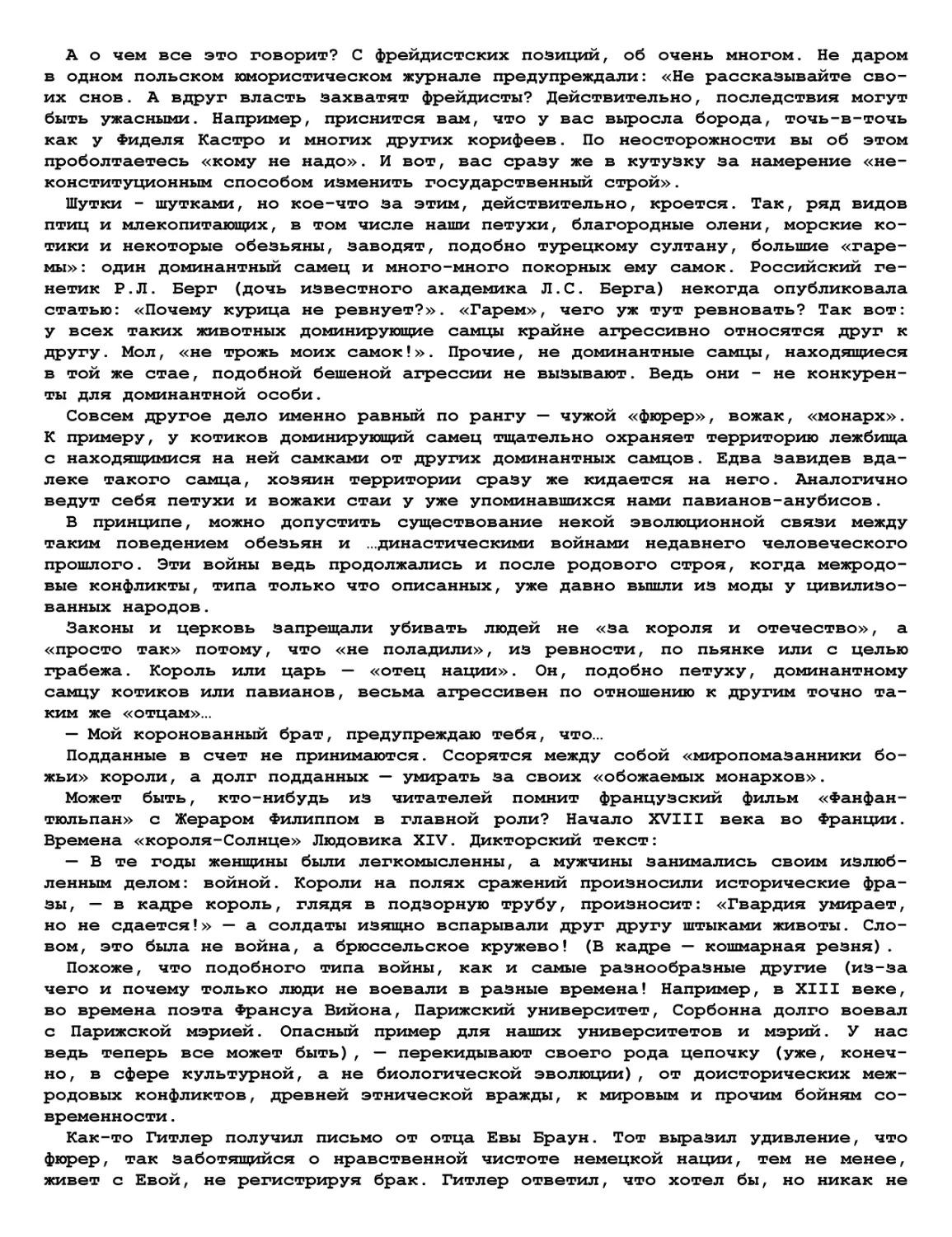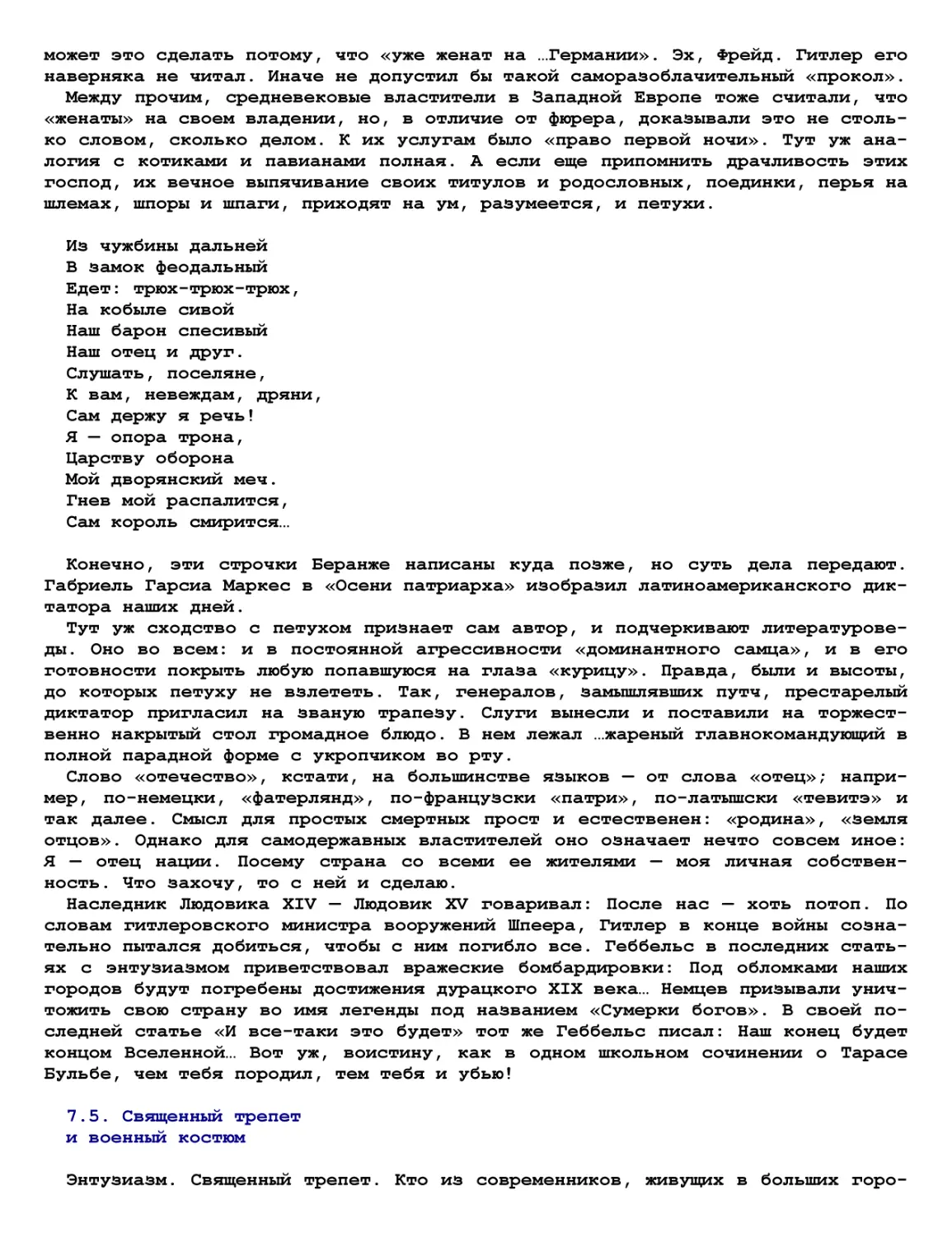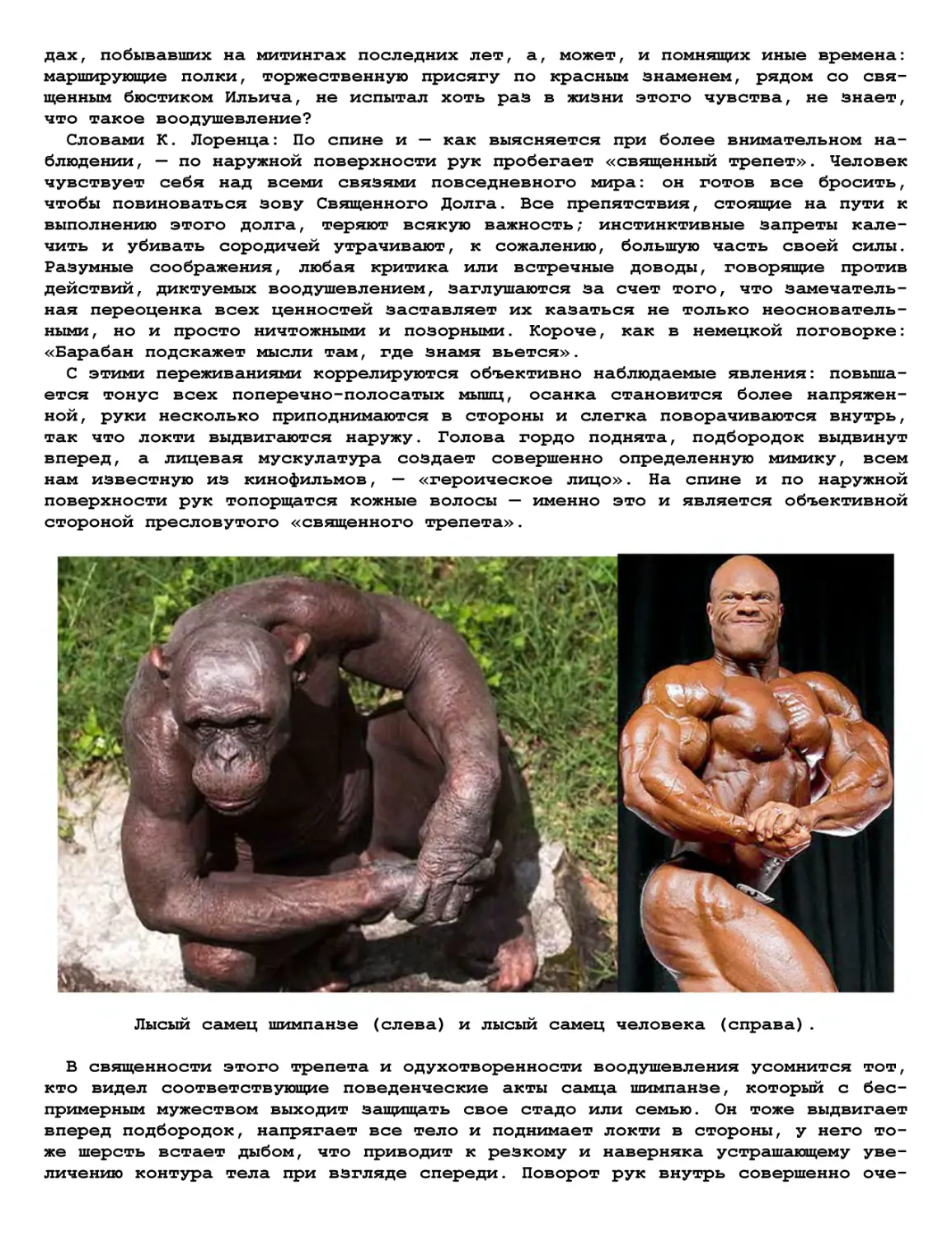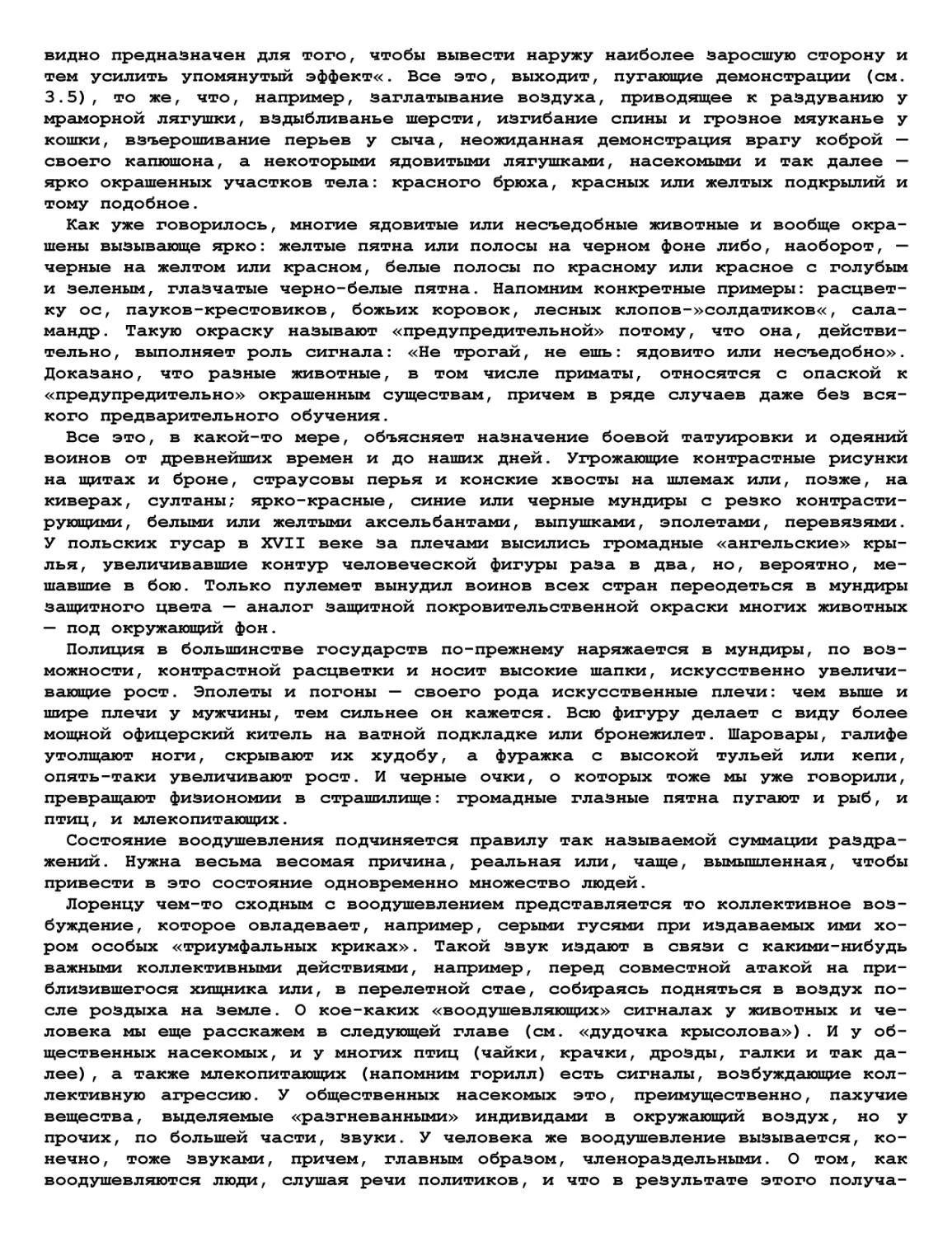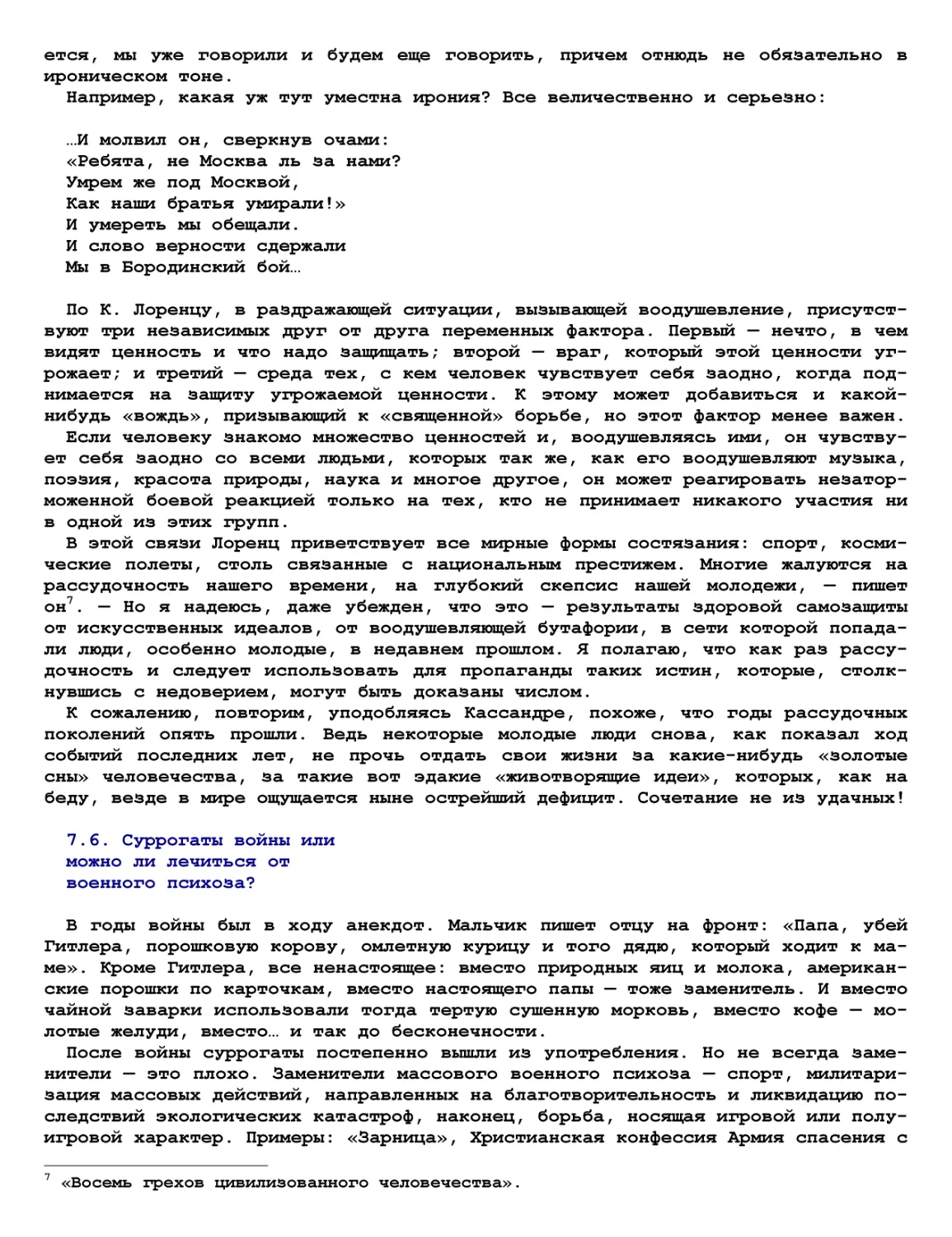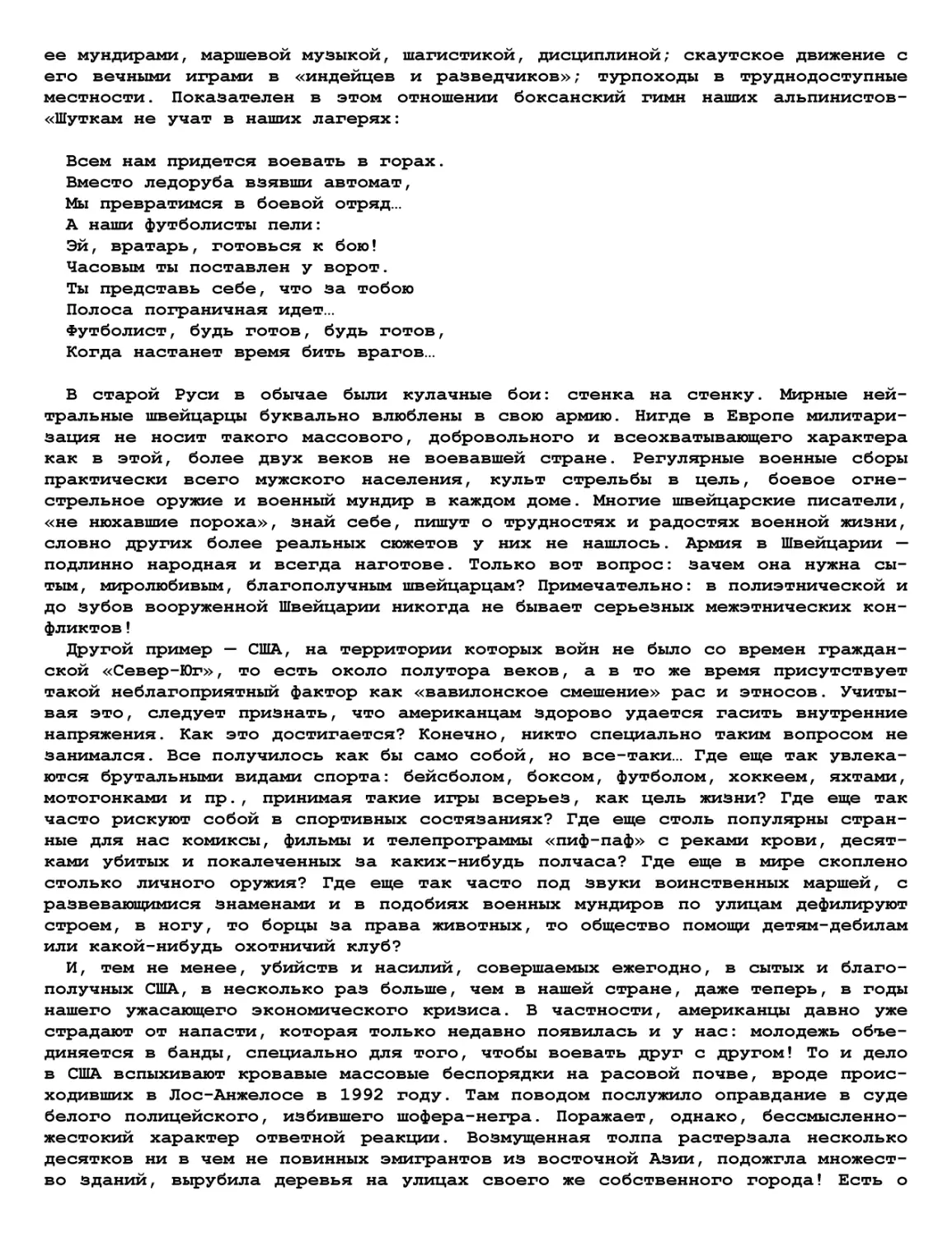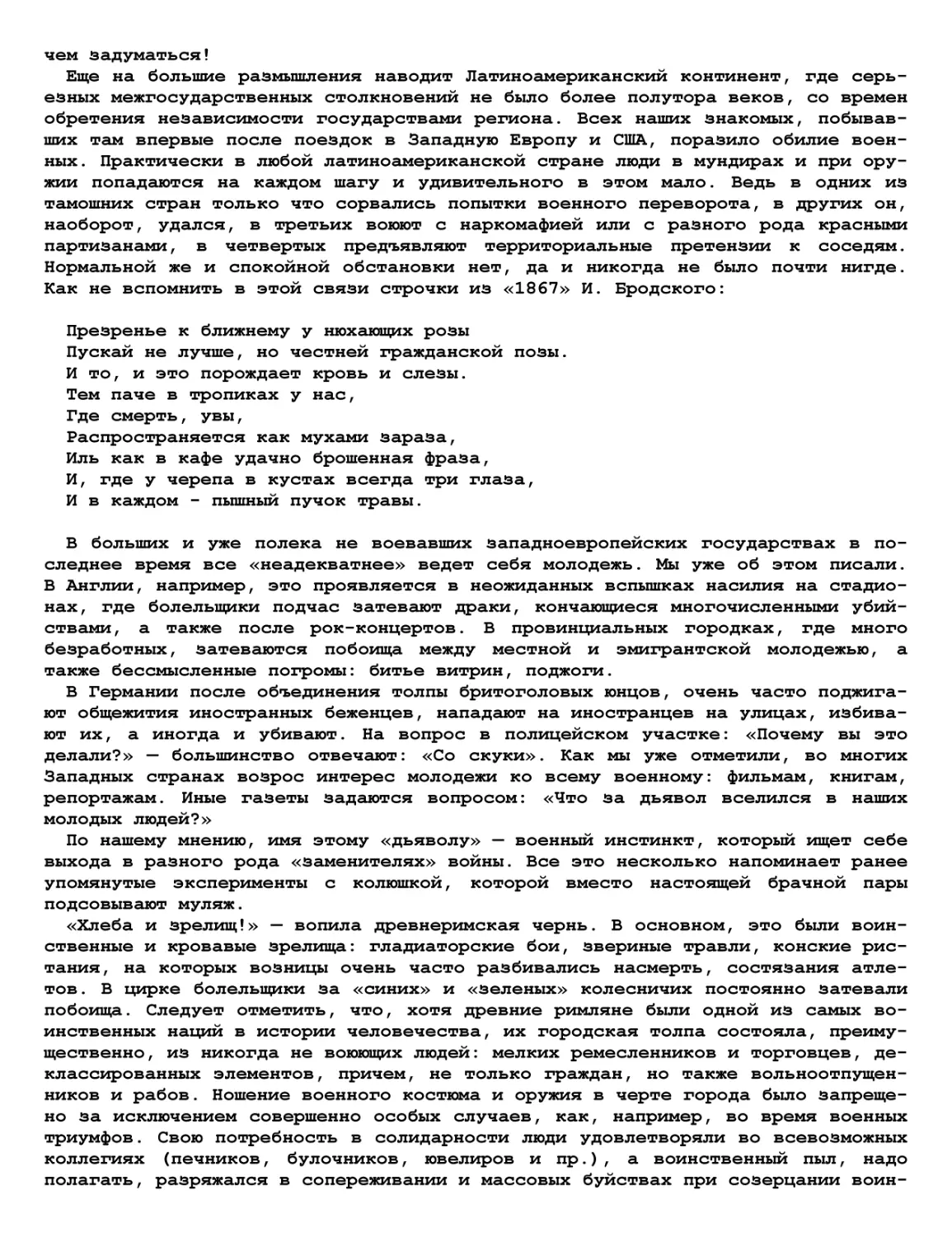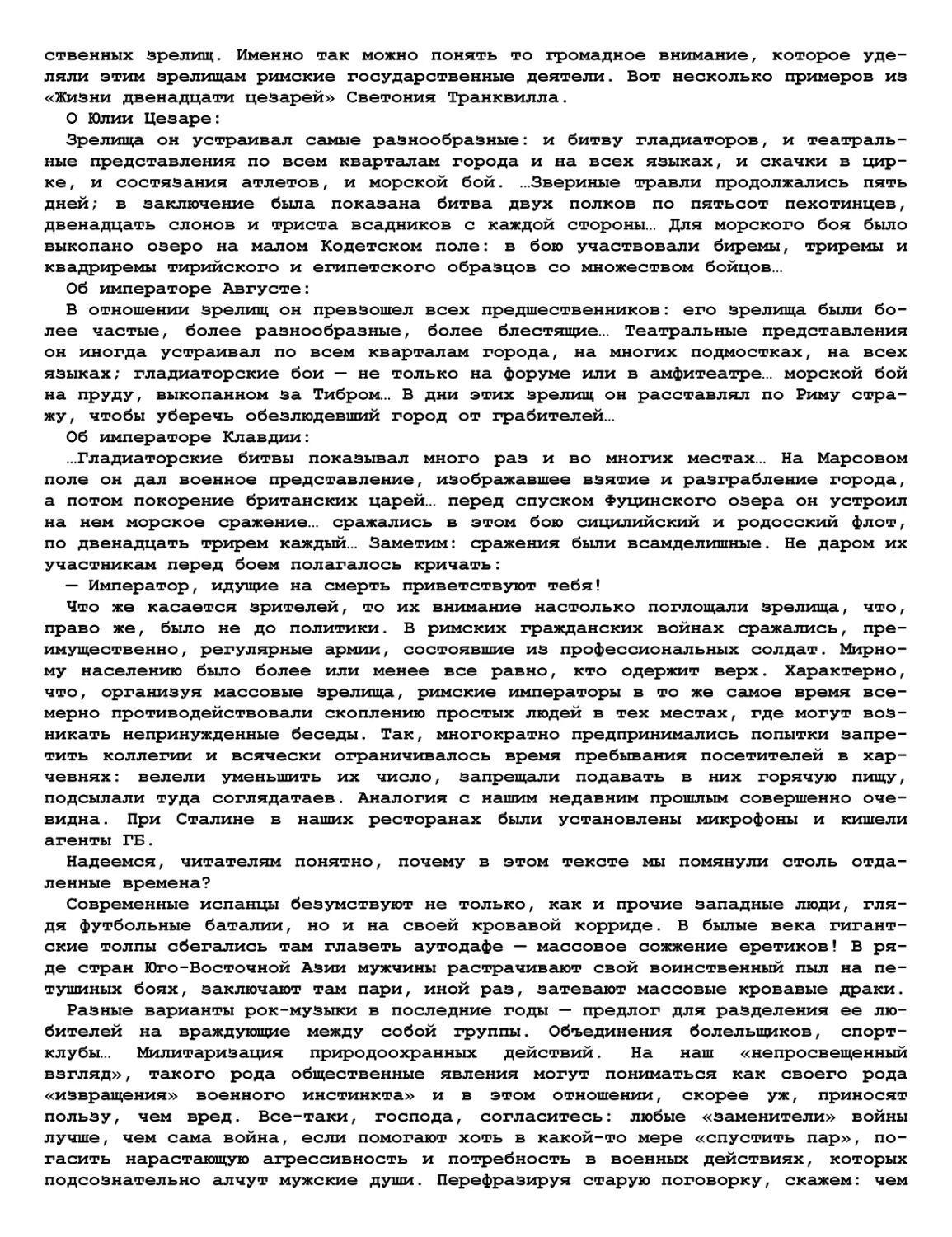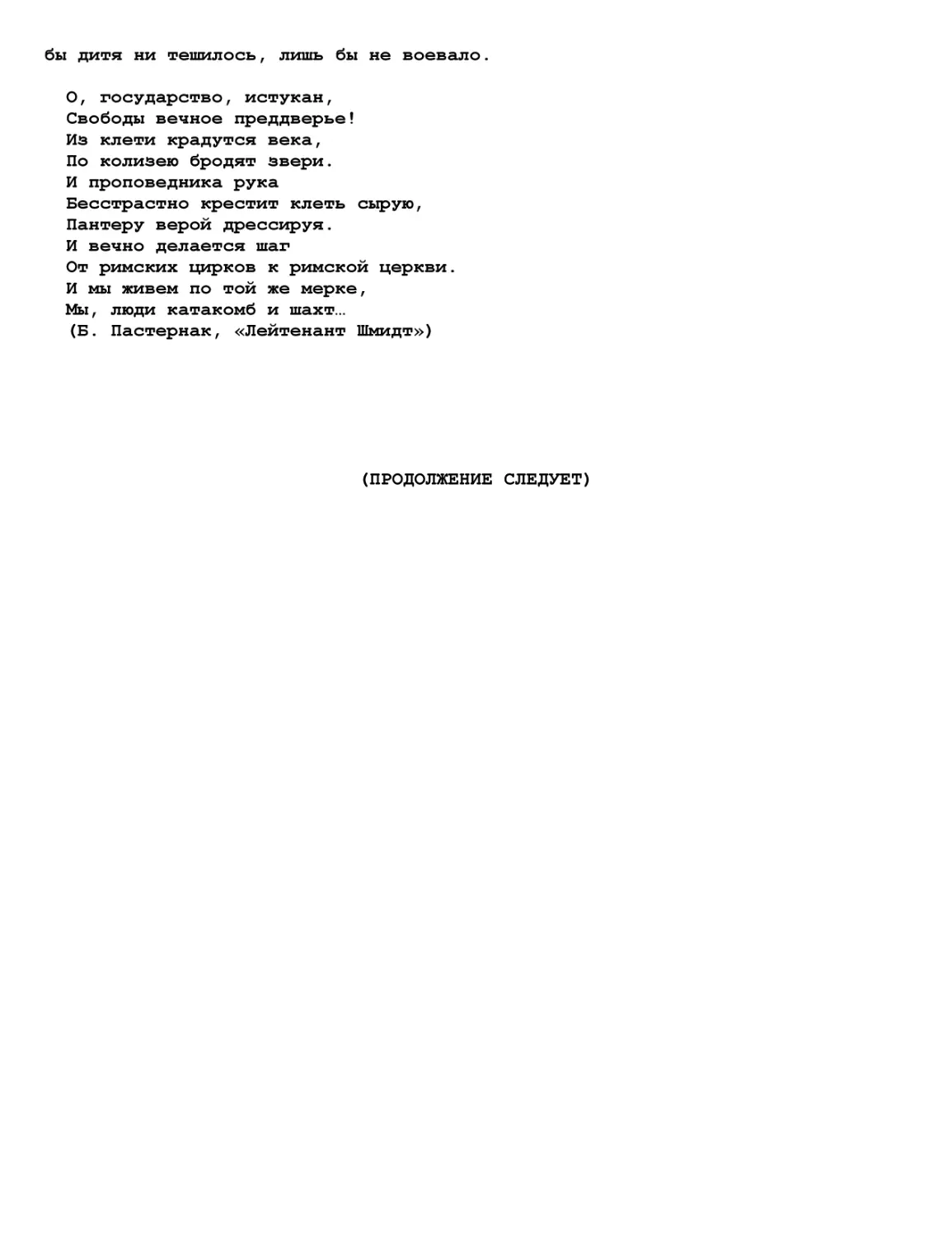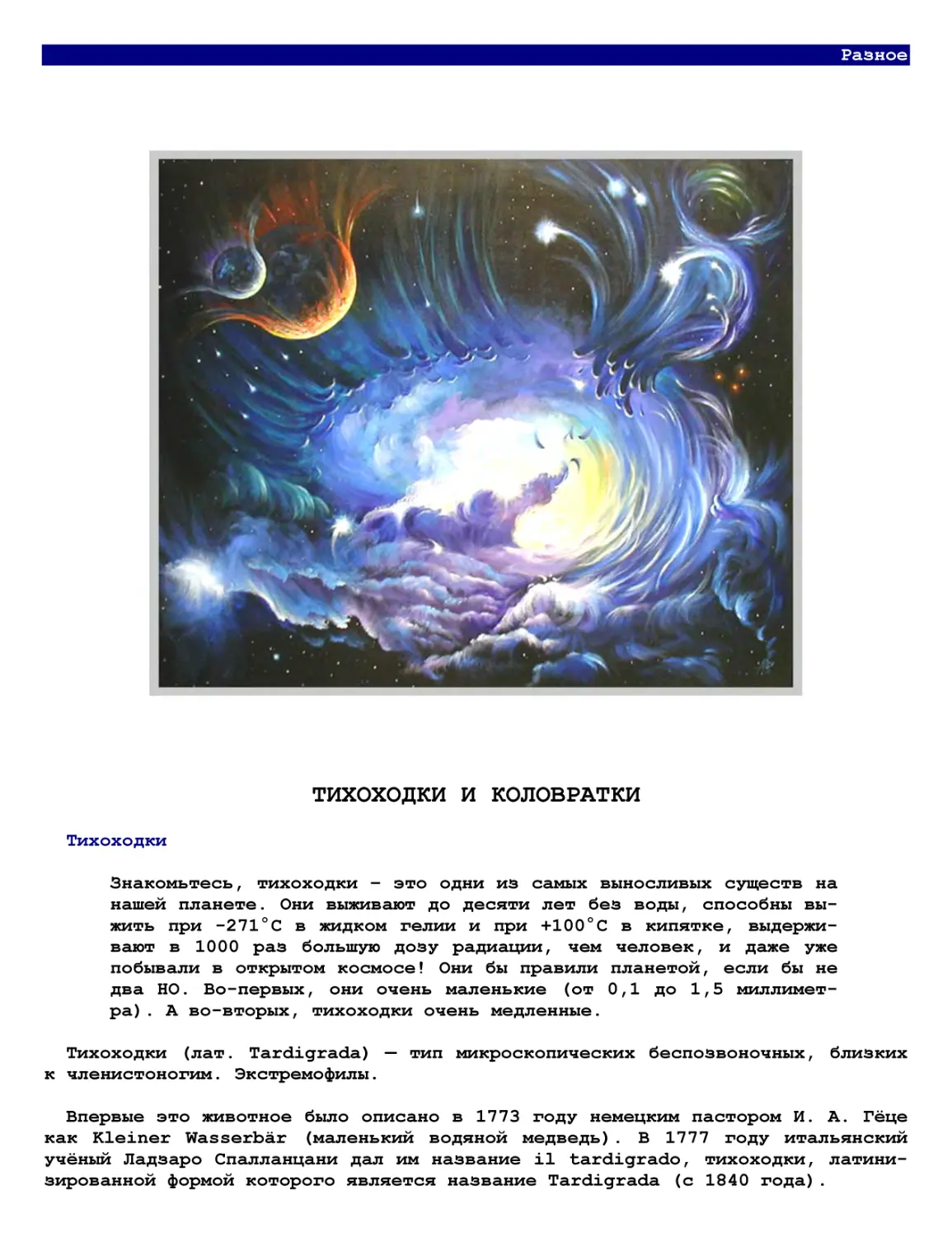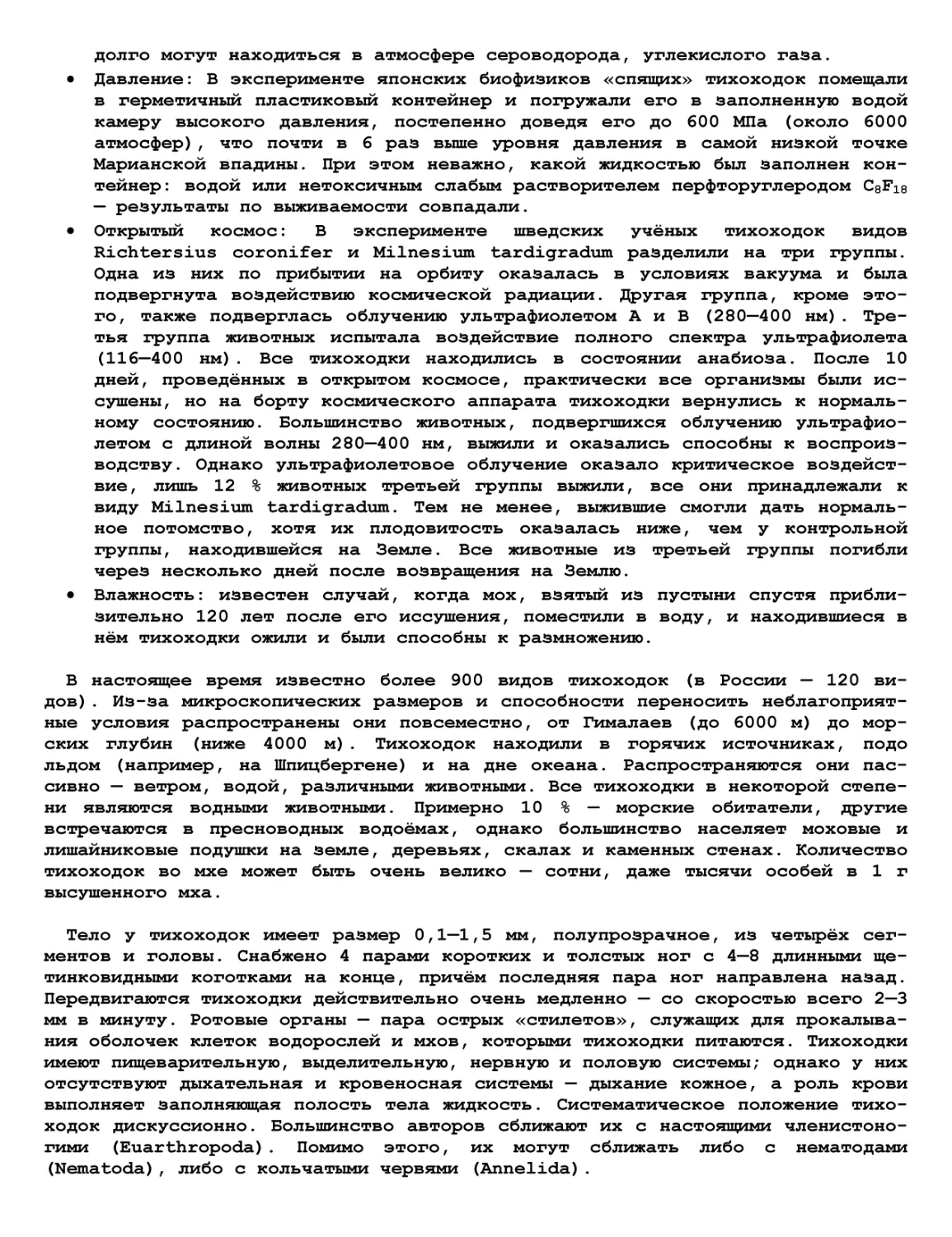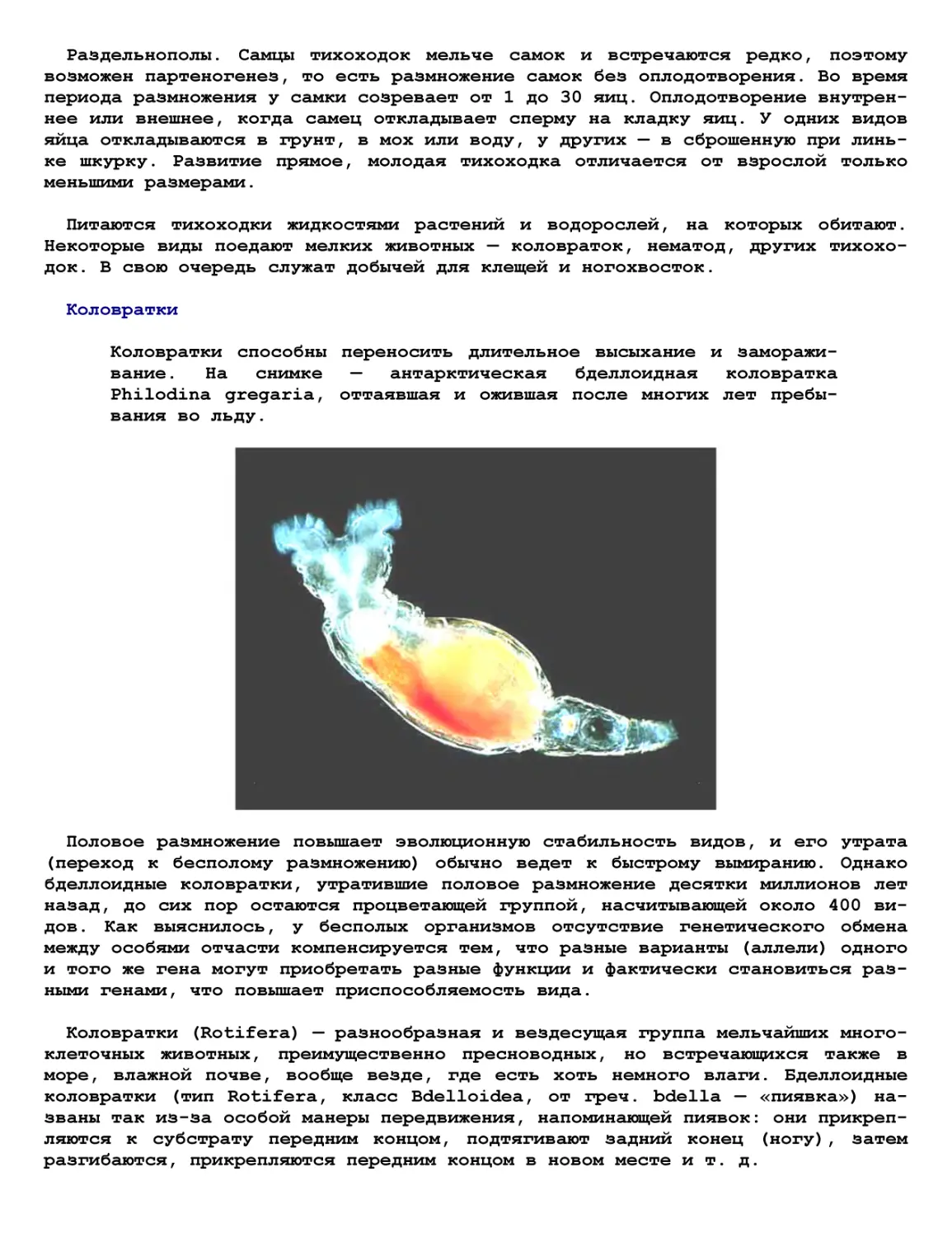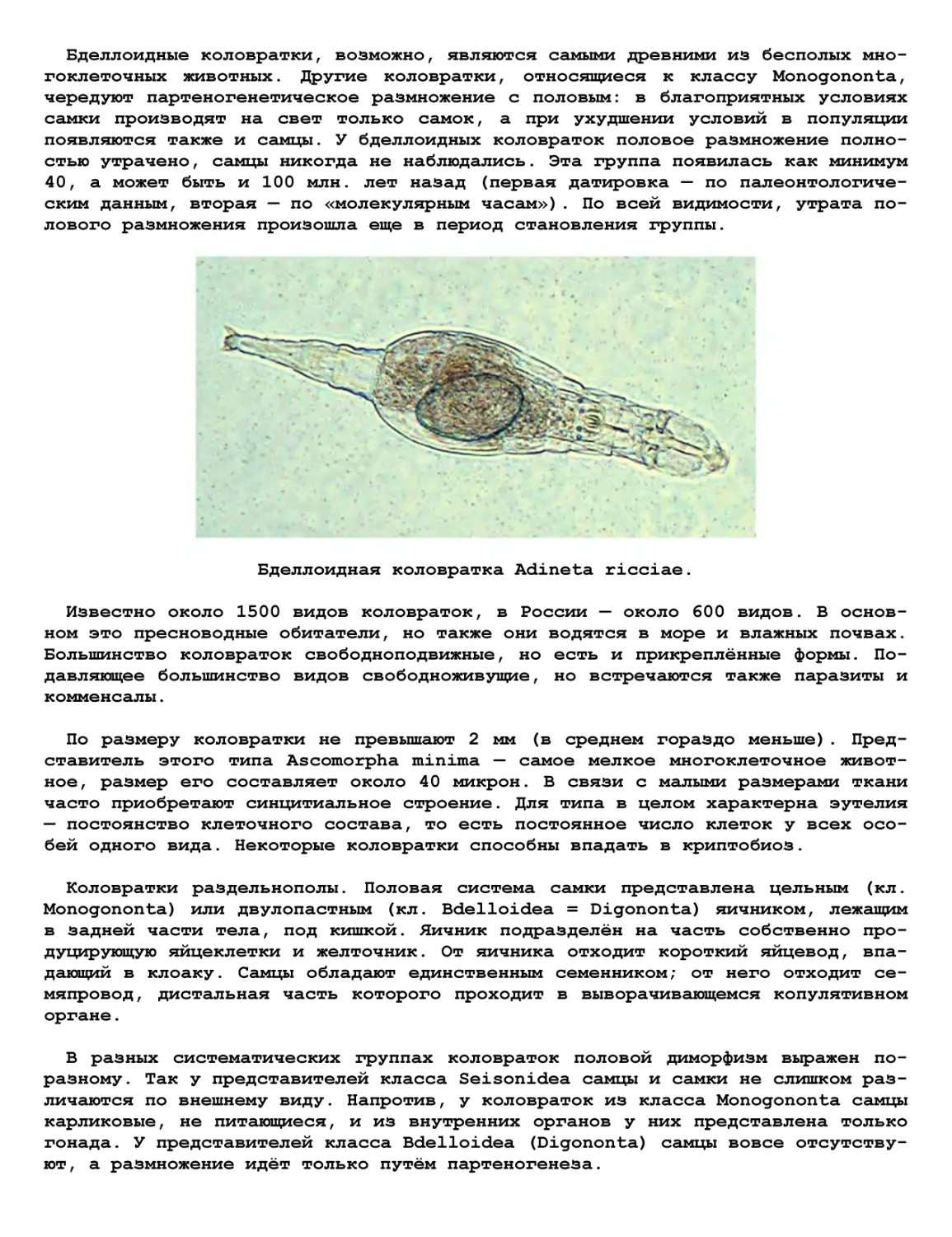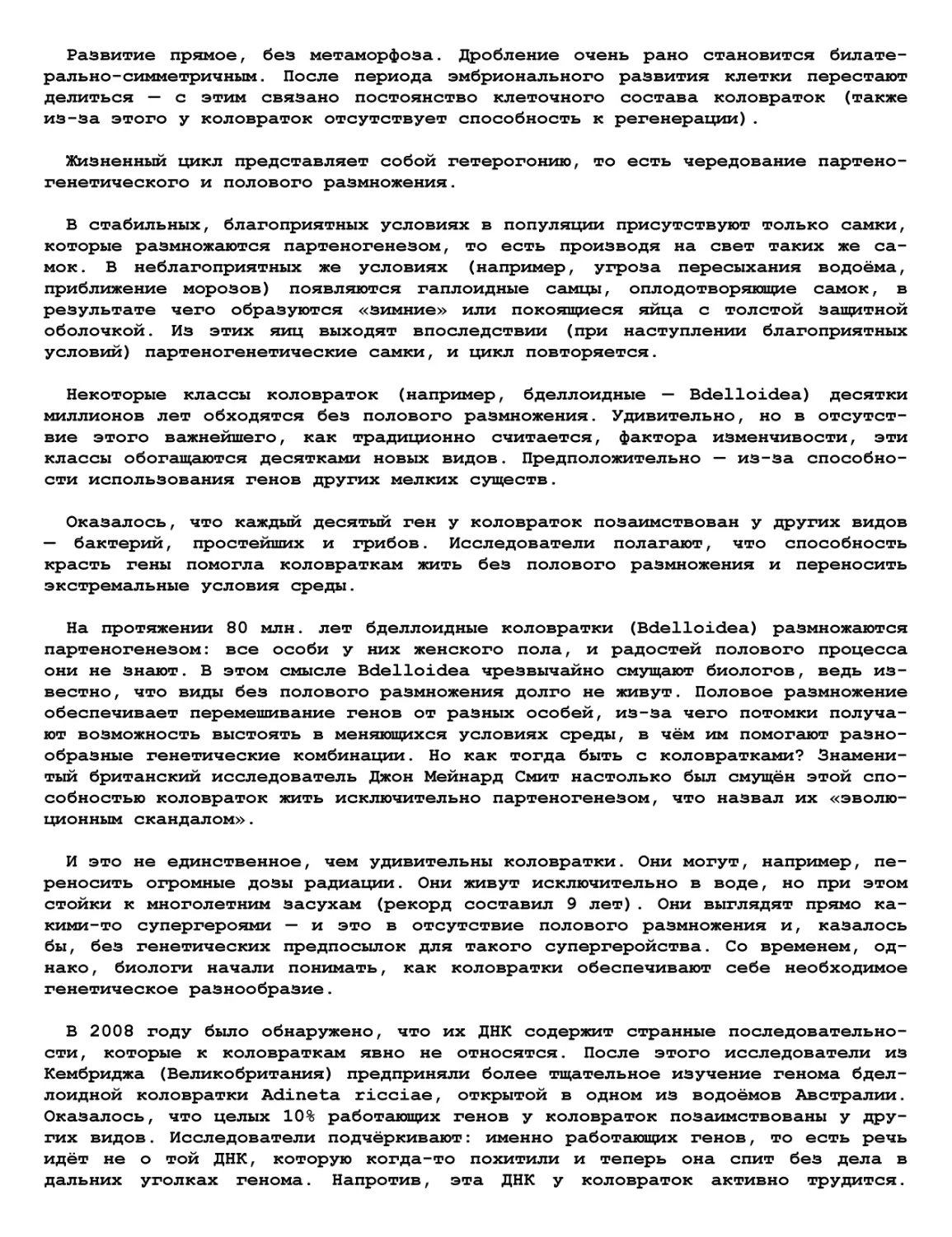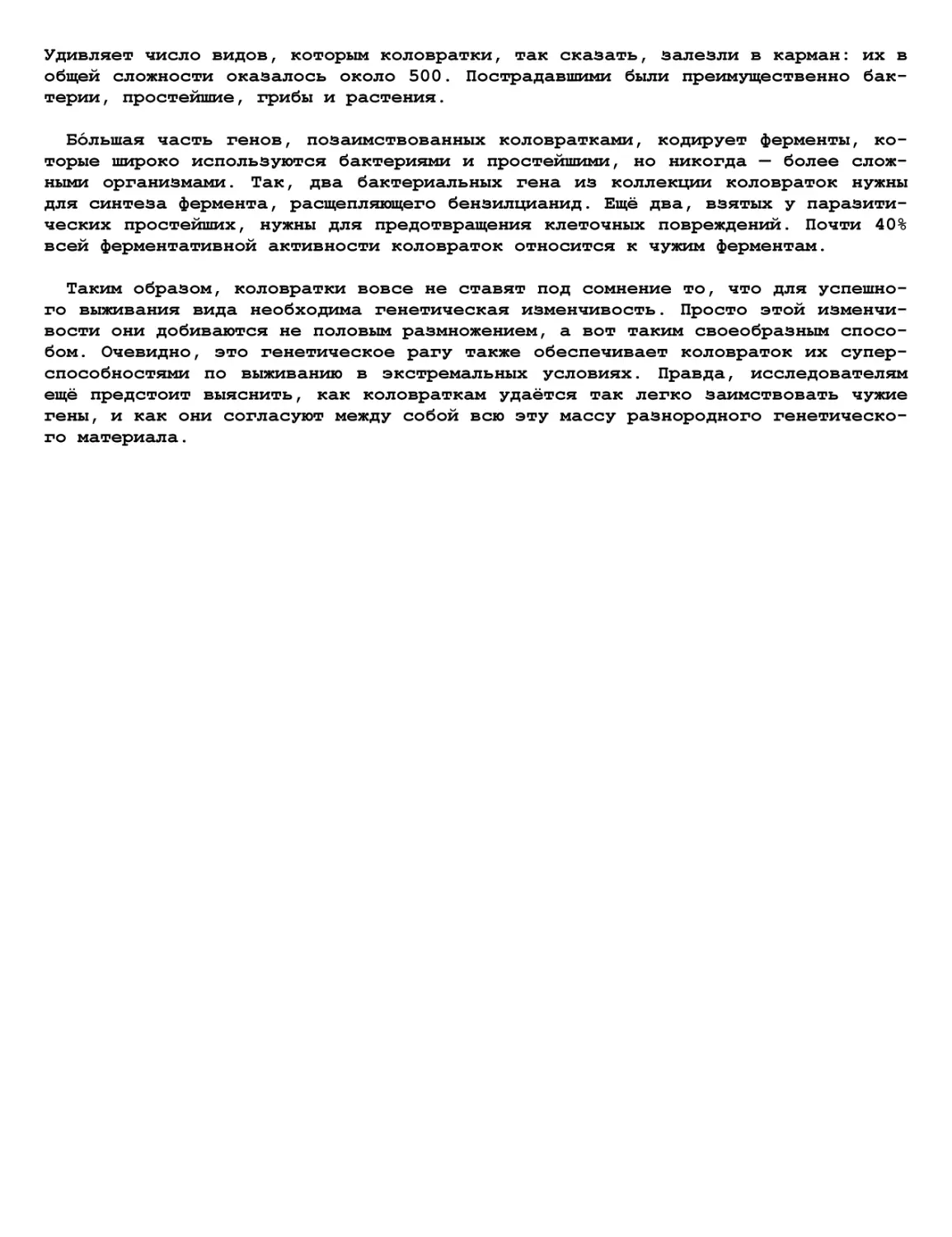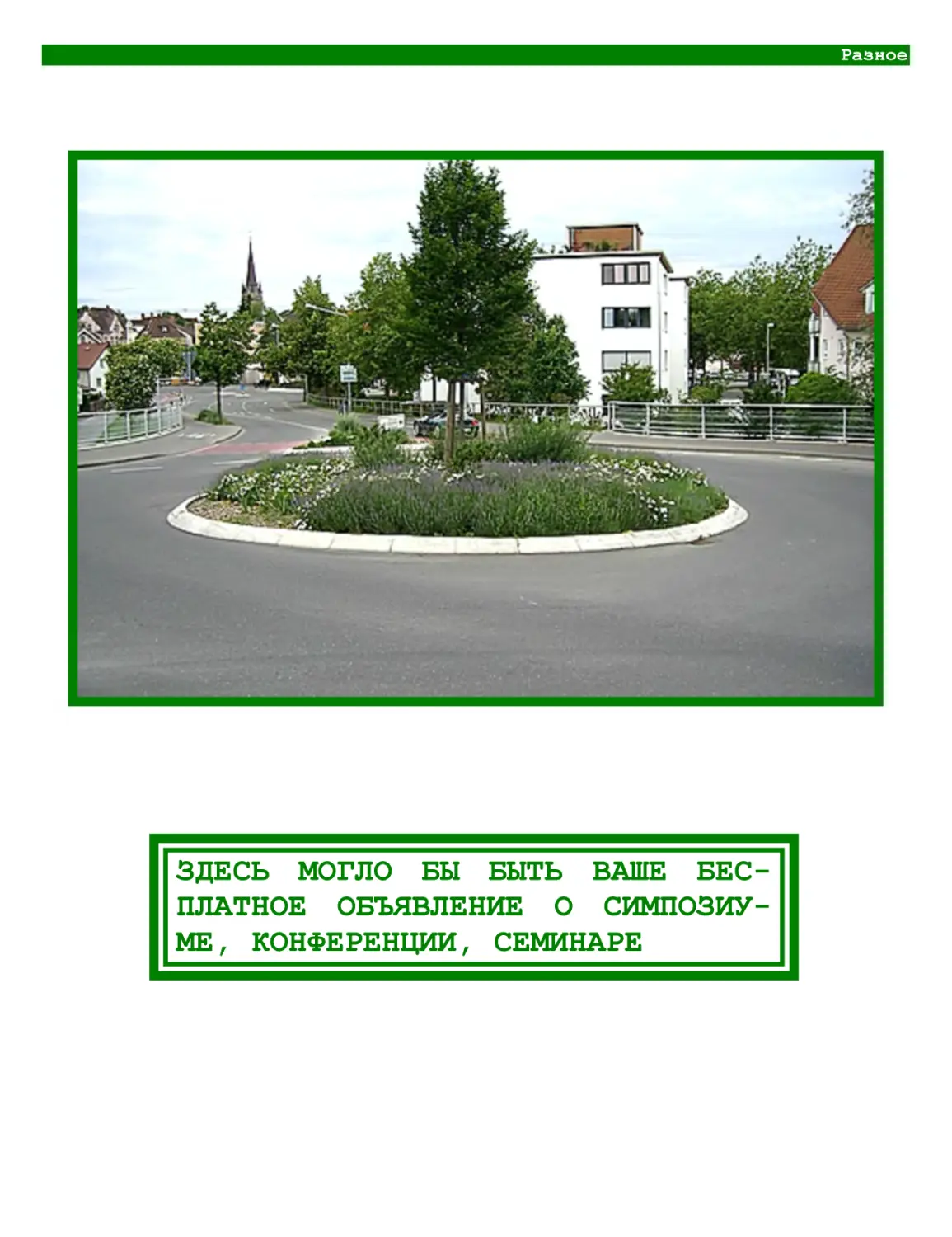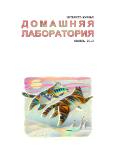Tags: журнал домашняя лаборатория
Year: 2013
Text
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ
ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ИЮЛЬ 2013
ДОМАШНЯЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
Научно-практический
и образовательный
интернет-журнал
Адрес редакции:
domlab@ inbox.com
Статьи для журнала
направлять, указывая в теме
письма «For journal».
Журнал содержит материалы
найденные в Интернет или
написанные для Интернет.
Журнал является полностью
некоммерческим. Никакие
гонорары авторам статей не
выплачиваются и никакие
оплаты за рекламу не
принимаются.
Явные рекламные объявления
не принимаются, но скрытая
реклама, содержащаяся в
статьях, допускается и даже
приветствуется.
Редакция занимается только
оформительской
деятельностью и никакой
ответственности за содержание статей
не несет.
Статьи редактируются, но
орфография статей является
делом их авторов.
При использовании
материалов этого журнала, ссылка
на него не является
обязательной, но желательной.
Никакие претензии за
невольный ущерб авторам,
заимствованных в Интернет
статей и произведений, не
принимаются. Произведенный
ущерб считается
компенсированным рекламой авторов и
их произведений.
СОДЕРЖАНИЕ
Бурьян (окончание)
Вселенная в электроне (окончание)
Июль 2013
История
Ликбез
59
Литпортал
Боятся ли компьютеры адского пламени (окончание) 98
Некоторые методы органической химии
Химичка
173
Электроника
Регулируемый бестрансформаторный блок питания 185
Высоковольтный блок питания 193
Блок питания для домашней лаборатории 196
Матпрактику-
Компьютерное моделирование явлений переноса
Построение ректификационной колонны
Мир глазами зоопсихологов (продолжение)
Тихоходки и коловратки
Объявление
203
215
Разное
231
276
283
НА ОБЛОЖКЕ
По всем спорным вопросам
следует обращаться лично в
соответствующие учреждения провинции
Свободное государство (ЮАР).
При себе иметь, заверенные
местным нотариусом, копии всех
необходимых документов на
африкаанс, в том числе,
свидетельства о рождении, диплома об
образовании, справки с места
жительства, справки о здоровье
и справки об авторских правах
(в 2-х экземплярах).
- Это водка? - слабо спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
- Помилуйте, королева, - прохрипел он, - разве я
позволил бы себе налить даме водки? Это чистый
спирт!
Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита".
Об установке для получения чистого спирта читаем
статью «Построение ректификационной колонны».
БУРЬЯН1
Валерий Сойфер
ГЛАВА XVII. ЛЫСЕНКО
УДАЛЯЮТ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СЦЕНЫ ВМЕСТЕ С ХРУЩЕВЫМ
"Не пощадит ни книг, ни фресок
безумный век.
И зверь не так жесток и мерзок,
как человек".
Борис Чичибабин.
"Недаром же всемирная история пестрит именами
властителей, вождей, полководцев, авантюристов, которые все, за
редчайшими исключениями, превосходно начинали и очень
плохо кончали, которые все, хотя бы на словах, стремились
к власти добра ради, а потом уже, одержимые и опьяненные
властью, возлюбили власть ради нее самой".
Герман Гессе. Игра в бисер.
Журнальный (сокращенный) вариант книги «Власть и наука». Все комментарии и ссылки
на источники пропущены.
Призрачное
главенство
Вполне уместен вопрос: мог ли Лысенко, вернувшись в свой прежний кабинет,
смирить непомерную гордыню, прервать уже непосильную для него борьбу с
выдуманными врагами социализма? Ведь мог же он затаить злобу, разыграть мудрое
смирение и стать добреньким патриархом, без пристрастия глядящим на всех
своих коллег? Чего другого, а актерских способностей ему было не занимать! В нем
всегда жил умнейший царедворец и утонченный лицедей. Да и что было делить! Он
снова Президент, снова властитель. Росли дети - Юрий, Людмила и Олег (дочь
кончала медицинский, готовилась стать кардиологом, Юрий работал на кафедре
физики моря в МГУ, радовал Олег - пошел по его стопам). Всё еще бодрячком
ходил отец, живший теперь в Горках Ленинских с внуками. Можно же было унять пыл
страстей, перестать сводить счеты и... спокойно руководить.
Но, нет, не мог он отсиживаться, не для того бился с ворогами, не для того
кровь портил. Да и почивать на лаврах можно тому, у кого с лаврами всё в
порядке. А здесь опять и опять ему сообщали о нападках и на "учение о
плодородии почвы" и на "закон жизненности вида" со ссылками на никуда негодных иоан-
нисяновских коров. Не до покоя и не до сна.
Не удавалось и другое: пригасить ход всё более мощно раскручивавшегося
маховика генетических исследований. Каждую неделю он узнавал новости - одна
горше другой, и не до самоуспокоенности было, добродушная снисходительность
равна была глупости. В сентябре 1961 года Комитет по делам изобретений и
открытий выдал диплом на открытие члену-корреспонденту АН СССР Б.Л. Астаурову -
заклятому врагу, генетику. Вручение диплома об открытиях в науке - событие
чрезвычайное. В биологии это было вообще первое открытие, зарегистрированное
комитетом. Да и предмет открытия немаловажным назвать никак было нельзя. Пока
они с Иоаннисяном и Авакяном мямлили о том, как условиями кормления можно
понуждать зиготы развиваться по материнскому или отцовскому пути, Астауров с
помощью радиации и других воздействий на ядра клеток, хромосомы и гены
научился регулировать пол у шелкопрядов и получать потомство любого пола. Хочешь
- женского, хочешь - мужского. В начале октября в "Правде" появилась большая
статья Астаурова - на двух страницах газетного листа с портретом автора
открытия. Редакция называла работу "выдающейся" и утверждала, что она "...
открывает огромные перспективы в повышении производительных сил
сельскохозяйственного производства, укрепляет господство человека над силами природы".
Как будто нарочно, как будто с провокационной целью Астауров начинал статью
с вопроса первейшей важности, о котором всегда пекся и Лысенко:
"Сейчас, конечно, рано делить шкуру еще не убитого медведя, но трудно даже
вообразить, какой эффект в тоннах масла, количестве яиц или метрах шерстяной
и шелковой ткани могло бы дать умение получать по желанию потомство нужного
пола").
Два десятка лет генетик Астауров не предавал анафеме хромосомы и гены и
подбирался к возможности прямого влияния на женские и мужские половые клетки
и теперь разрешил старую проблему:
"Установлено, что точно дозированными воздействиями высокой температуры
можно подавить деление ядра при образовании женских клеток и одновременно
побудить их. . . к девственному развитию.. . Все потомки девственной матери будут
похожи друг на друга, как близнецы, и все они всегда самки".
Женская линия шелкопряда в опытах Астаурова размножалась "этим путем более
пятнадцати лет... и среди них никогда не появляется ни одного самца". Меняя
характер воздействия, Астауров научился решать и другую задачу: когда было
нужно, он получал одних лишь самцов шелкопряда, которые наследовали "все
признаки отца и оказывались все самцами". Такого в мировой практике еще никто не
достигал.
Благодаря работам Астаурова удалось поднять выход шелка почти на четверть,
так как "коконы самцов на добрых 25-30 процентов шелконоснее самок". Этим и
покоряла работа Астаурова: он уже умел на практике творить чудеса с
шелкопрядами и мечтал о чудесах с другими животными. Астауров провозглашал широкую
программу взаимосложения усилий ученых:
"Плодотворное решение таких больших проблем нуждается теперь в координации
и компенсировании усилий ученых разных специальностей и должно осуществляться
на основе взаимного проникновения методов математики, физики, химии и
биологии" .
Проявление повышенного интереса главной партийной газеты к открытию
Астаурова было неприятно Лысенко. Оно указывало на непрочность его теперешнего
состояния , на зыбкость приобретенного главенства.
Впрочем, успокаивало то, что по-прежнему высоко ценил его Никита Сергеевич,
пожалуй, даже его отношение крепло, он готов был выгородить своего любимца
даже в таком деле, как внедрение "травополья", в то время, как другие ученые
пытались образумить руководителя партии.
Хрущев старательно формировал стереотип эдакого рубахи-парня, которому море
- по колено. Его длинные, простецкие, нередко по-мужицки грубые речи
следовали одна за другой. Говорить часами на людях он уже привык, и газеты
печатались с вкладышами, чтобы воспроизвести эти длинные болтливые речи с
прибаутками и поучениями. Вот и очередной раз, выступая 14 декабря 1961 года, он
долго рассказывал о том, как, приехав отдыхать в 1954 году в Крым, "посмотрел
немножко на море, а потом сел в машину и поехал по колхозам и совхозам", как
он встретил переселенцев из Курской области, которым не понравился Крым с его
жарой, палящим солнцем и... кровожадными клопами. Проблема клопов так заняла
мысли 1-го Секретаря ЦК партии, что он и теперь, спустя несколько лет, с
удовольствием вспоминал, как он бойко осадил нытиков-переселенцев:
"А разве, говорю им, курские клопы менее кровожадные, чем крымские?
(Веселое оживление)".
Эти байки лидера партии, наверное, были предназначены для того, чтобы
расположить слушателей, показать, какой он простой, хороший, свой в доску мужик.
А на этом пасторальном фоне еще более жестким выглядел длинный раздел речи об
ученых, не удовлетворяющих его "изысканному вкусу". Упомянув Лысенко первым
среди настоящих ученых, которым можно внимать с пользой для дела, Хрущев
перешел к тем, кого и слушать вредно и кому, по его словам:
"Хочется сказать: не срамите ученого звания, не позорьте науку!
(Аплодисменты) . . . Извините за грубость, но как тут не сказать: на кой черт нужна
народу такая "наука"! (Оживление в зале. Аплодисменты)".
Знал ли сам Хрущев, какой должна быть наука? В этой речи он еще раз
показал, сколь примитивными были его требования к науке: она должна была лишь
соответствовать "мировоззрению нашей партии", да быть практичной. Первое
требование только провозглашалось, и о нем больше речи не велось, а второе
обсуждалось в следующих "изящных" выражениях:
"Многие научно-исследовательские учреждения... не освещают путь практике,
отстали от жизни, иных ученых нужно самих из болота за уши вытаскивать и в
баню тащить, отмывать (Оживление в зале. Аплодисменты). Поможем вытащить вас,
товарищи ученые (Оживление в зале). Но вы и сами выбирайтесь из травопольного
болота (Оживление в зале)."
В чем был Хрущев неколебим - в уверенности, что "СССР в кратчайшие сроки"
догонит США по производству мяса, масла, молока и другой продукции.
"Наша страна, - сказал он в этой речи, - уже доказала Соединенным Штатам
Америки и буржуазные экономисты по существу и не оспаривают того, что СССР в
кратчайшие сроки не только догонит, но и перегонит Соединенные Штаты по про-
изводетву продукции на душу населения".
По его словам залогом этого рывка вперед служила правильная научная
деятельность таких ученых, как Лысенко. С тем же пафосом держал речи Лысенко, но
к его словам все относились с еще меньшим доверием, чем к словам вожака
партии. Предчувствия близкой гибели охватили многих бывших "мичуринцев", и они
начали перекрашиваться. Нельзя было без усмешки читать стенания лысенкоистов
по поводу тех, кто раньше писал в своих статьях и книгах одно, а теперь
другое. "Чему же верить?" - вопрошал Н.И. Фейгинсон, обсуждая такие случаи.
Например, профессора В.Е. Писарева раньше лысенкоисты причисляли к своим, а
теперь из-под его пера выходили статьи о значении амфидиплоидов, гибридов, о
невозможности работать грамотно без учета генетических категорий и понятий,
отвергавшихся лысенкоистами.
Так вел себя не один Писарев. Снова и снова в ЦК партии "лично товарищу
Хрущеву" поступали письма и докладные записки с разбором ошибок Лысенко.
Теперь появился новый мотив. Разоблачив "культ Сталина", Хрущев дал возможность
открыто обсуждать последствия культа, к искоренению которых он сам призывал.
Но кто же не знал, что в науке самым ярким, самым злокозненным последышем
сталинизма был Лысенко? Так, открыв ворота для критики, Хрущев вопреки своей
воле подставил под удар своего любимца. Хор голосов, осуждавших этого
"маленького Сталина в биологии", стал звучать мощно, и в апреле 1962 года
Хрущеву пришлось, скрепя сердце, снова дать согласие на снятие Лысенко с поста
Президента ВАСХНИЛ. Второе его пребывание на этом посту кончилось еще более
бесславно, чем первое. Хорошо хоть Хрущев предложил Лысенко самому назвать
кандидатуру на замену. Новым Президентом стал многолетний заместитель Лысенко
по Одесскому институту и верный ему до мозга костей Михаил Ольшанский.
Праздники
и будни
Летом 1962 года лысенкоисты нашли предлог продемонстрировать всей стране
свою монолитность, свои успехи и оптимизм. Отсчитав срок от появления в
Одессе опытного поля, на базе которого затем возник Институт генетики и селекции,
они получили круглую цифру - 50. Чем не юбилей! Правда, на долю главенства
лысенкоистов из этих 50 приходилось что-то около 30 лет, но отдельные
несуразности можно было в расчет не принимать. На фронтоне главного институтского
здания с колоннами появилась цифра 50 в лаврово-дубовом обрамлении. Много
приглашений было послано зарубежным ученым. Административный директор
института А.С. Мусийко, обсуждая с корреспондентами главные достижения института
за 50 лет, делал акцент на идейной стороне:
"В упорной борьбе, открытых дискуссиях с преобладавшим в то время в
биологической науке менделизмом-морганизмом, ученые-мичуринцы разоблачали
теоретическую несостоятельность и практическую бесплодность менделистов и
морганистов" .
А один из заправил праздника Глущенко радовался своему трюку: в ряд
зарубежных "Обществ друзей Мичурина" были заблаговременно отправлены напоминания
о предстоящем юбилее и соответствующие моменту небольшие меморандумы с
перечислением главных достижений института. И вот из-за границы стали поступать
приветствия с нужными текстами, во многом повторяющими меморандумы. Теперь
надо было успевать давать нужный ход приветствиям. Например, в газете
"Сельская жизнь" появилась такая "развесистая клюква":
"На конференцию по случаю 50-летия ВСГИ пришло приветствие от французского
общества друзей Мичурина: в нем, в частности, говорится:
"У нас в капиталистическом мире селекция все больше захватывается
космополитическими монополистами, которые подчиняют свою работу своим эгоистическим
целям. Эти монополии взяли себе за правило распространять только гибридные
семена и гибридных животных, качество которых грубо ограничено первым
поколением.
...Реакционная идеология морганистов является для них не только
идеологическим аргументом, способом оправдать политику империалистов даже в их самых
страшных расистских преступлениях. Эта теория стала... основным средством
защиты барышей"".
Так задним числом (не своими же руками - французы пишут) наводили тень на
плетень - и промахи с гибридной кукурузой и другими гибридами отвергали; и
ошибки с рекомендациями относительно использования первого поколения гибридов
от себя отметали. Уже и партийные лидеры во главе с Хрущевым, съездив в США,
убедились, из рассказов фермера из Айовы Гарста хотя бы, что только первое
поколение гибридов обладает повышенной жизнеспособностью и дает максимальную
прибавку урожая, а вот, видите, французские "друзья Мичурина" этот подход
грубым называют: прекрасная реабилитация многолетнего правильного пути
соотечественников Мичурина. И проклятых морганистов с их реакционной идеологией,
как видите, во Франции не любят, как не любят французы барыши, повышенные
урожаи, излишки мяса, молока и масла.
С приподнятым чувством разъезжались гости из Одессы, а в Москве лысенковцев
ждали снова неприятности. Гибельность для науки и сельского хозяйства
главенства Лысенко снова привлекла внимание общественности.
В Центральном Доме журналиста состоялась встреча с учеными, на которую
собралось несколько сот работников редакций журналов и газет. Выступавшие один
за другим "морганисты" - В. П. Эфроимсон, Ж. А. Медведев, А. А. Прокофьева-
Бельговская, В. Н. Сойфер рассказывали об успехах науки, а сидевшие в зале
могли сами делать выводы о том, куда же завели отечественную науку радетели
идейной чистоты "мичуринской биологии". В.П. Эфроимсон остановился на
просчетах советской медицины, происходящих из-за недоучета генетических
закономерностей. Ж.А. Медведев говорил о тех, кто, занимая высокие посты в руководстве
советской наукой, мешали прогрессу и преследовали честных ученых. Я
пересказал работы Ф. Жакоба и Ж. Моно, изучивших регуляцию действия генов, и на этом
примере постарался показать, как глубоко ушли генетики вперед в познании
генов, и как нелепы на этом фоне потуги Лысенко отвергать само существование
генов.
В 1961 году Несмеянова на посту Президента АН СССР сменил Мстислав
Всеволодович Келдыш - известный аэродинамик, один из главных руководителей
космических исследований СССР. В 1962 году он решил разобраться сам, без помощи
"официально признанных" советчиков, в том, каковы реальные достижения
обругиваемых Лысенко вейсманистов-морганистов, и каковы успехи самих лысенкоистов.
Келдыш обложился книгами, съездил в ряд институтов, побывал, в частности, в
Новосибирске и в Минске, поговорил с десятком крупных ученых. Для
непредубежденного человека картина складывалась ясная. Грехи "реакционеров",
"прислужников Запада" были явно придуманы, а вот их заслуги перед наукой, отвергаемые
лысенкоистами, оказались неоспоримыми. Теперь предстояло посмотреть работу
Лысенко на месте. В октябре 1962 года Президент приехал сначала в лысенков-
ский институт генетики на Калужском шоссе (сейчас Ленинский проспект, 33), а
потом, по предложению Лысенко, поехал в Горки. Лысенко повел Келдыша по
полям, на ферму коров, показал лесопосадки дуба. Впечатление от этой "высокой
науки" было удручающим. Вконец всё испортила перепалка между Лысенко и его
ближайшими сподвижниками, когда учитель обозвал своего заместителя Кушнера
безграмотным, буквально оскорбил присутствующих на встрече Сисакяна (ставшего
в то время большим боссом в Академии наук) и Глущенко. Кушнер и Сисакян
дипломатично проглотили пилюлю, а Глущенко взорвался, стал оправдываться перед
Келдышем. Сцена была неприятной. То, что сами с собой лысенкоисты не ладили,
знали многие, но что Лысенко уже не может вести себя спокойно с самыми
близкими людьми, лучше всяких слов характеризовало и его самого и всю "школу
академика Лысенко".
Страшный удар по позициям Лысенко нанесла книга Жореса Александровича
Медведева, законченная им в это время. Медведев дал читать рукопись книги
нескольким коллегам. С неё были изготовлены машинописные копии, с них делали
новые и новые - самиздат заработал на полную мощь. Книга оставляла
неизгладимый след убедительностью фактов.
Оборона на
два фронта
К концу 1962 года окончательно сложилась ситуация, при которой Лысенко
пришлось сдерживать нападение с двух сторон - отражать критику биологов и
противостоять напору представителей точных наук. Обороняться же Лысенко мог только
с помощью чужих рук - заступников из верхушки партийного аппарата, то
предоставлявших ему трибуну для широкомасштабных обещаний, то лично защищавших его.
Характерной чертой этого периода стала двойственность принимаемых верхами
решений. В постановлениях, публикуемых от имени ЦК партии и правительства,
почти всегда соседствовали разорванные абзацем, параграфом или пунктом два
раздела на одну и ту же тему. Сначала говорилось о якобы несомненных успехах
мичуринской биологии и необходимости биологам и дальше идти по этому пути, а
ниже, после упоминания о физике, химии или математике, шли абзацы о пользе
развития новой биологии с применением физических и химических методов. Это
отчетливо проявилось в принятом в январе 1963 года Постановлении ЦК КПСС и
Совета Министров СССР "О мерах по дальнейшему развитию биологической науки и
укреплению её связи с практикой".
Конечно, Лысенко пробовал изменить это положение, укрепить свои позиции в
биологии. В конце 1962 года он созвал в ВАСХНИЛ большую конференцию, на
которой было заслушано более 70 докладов "о путях управления наследственностью"
(путь, правда, был избран один - перенос растений в чуждые для него условия
среды, но называлось это всегда громко, всегда во множественном числе). На
этот раз основной упор делали на якобы доказанную возможность превращения
яровых культур в озимые после посева их в течение 2-3 лет не весной, как
положено, а осенью, под зиму. Многие последователи Лысенко утверждали, что
доказали возможность такой трансформации любых сортов, показывали таблицы с
цифрами, щеголяли терминами. Кое-кто занимался обратными переходами - из
озимых в яровые. И тоже получалось всё чудесно: внешняя среда сама формировала
желаемые свойства.
Особенно активен был на этой конференции селекционер с Украины Василий
Николаевич Ремесло, с энтузиазмом взявшийся за выведение новых сортов на
Мироновской селекционной станции. За ним уже числилось несколько сортов, он
постоянно утверждал, что все они получены на основе учения товарища Лысенко, а
за это Лысенко и поддерживавшая "мичуринцев" коммунистическая партия показали
всем, как они умеют ценить и возвышать своих героев: он стал членом ЦК
компартии Украины, депутатом Верховного Совета УССР, зам. Председателя
Президиума Верховного Совета УССР, лауреатом Ленинской премии, Героем
Социалистического труда, был награжден 22 орденами и медалями СССР, орденом Труда ЧССР,
орденом "Возрождения" ПНР, орденом "Звезда Дружбы Народов" ГДР, стал
академиком ВАСХНИЛ, членом-корреспондентом Академии наук ГДР. Спустя несколько лет,
когда Ремесло получил еще несколько высокоурожайных сортов, его избрали за
большой практический вклад в сельское хозяйство академиком АН СССР. Несмотря
на все награды и звания академик был крайне плохо образован, в предложении из
десяти слов мог сделать двадцать ошибок.
Ремесло объявил на конференции, что сорт мягкой яровой пшеницы пмиронов-
ская-264" (42-хромосомный вид пшеницы) получен "путем воспитания" из твердой
28-хромосомной пшеницы. По окончании конференции Лысенко выступил 3 декабря
1962 года с большим докладом, подводящим итоги. Через два месяца ему удалось
напечатать его в "Правде". Воодушевленный услышанными докладами он вопрошал:
"Кто теперь... всерьез усомнится в возможности в прямом смысле лепить,
создавать из условий неживой внешней среды, при посредстве совершенно
незимостойких растений, например, яровой пшеницы или ячменя, хорошо зимующие озимые
растения".
Это открытие он причислял к новым выдающимся достижениям советской науки и
радовался тому, что "приоритет этого важного теоретического открытия в
биологической науке остается за Советским Союзом, за мичуринской биологией".
Новым в докладе Лысенко было желание принизить значение работы Уотсона и
Крика о строении дезоксирибонуклеиновой кислоты. Ничего особенного эти
молекулы, по его словам, не представляли и никоим образом не могли
рассматриваться как молекулы наследственности. Он даже соглашался признать кое-что в
представлениях ненавистного Августа Вейсмана, лишь бы отбросить главное - то, что
молекулы ДНК могут быть средоточием генов:
"То, что зачатки новых поколений возникают, получают свое начало не из сомы
родителей - в этом Вейсман и его последователи правы... Но неверно
утверждение о наличии мифического наследственного вещества, особого, отдельного от
живого тела (сомы)... Нельзя также приписывать нежизнеспособность веществу,
например, дезоксирибонуклеиновой кислоте, свойство живого, то есть свойство
наследственности".
Коснулся он и еще одного больного для него вопроса - о роли химии и физики,
и снова с небольшим отступлением в одном вопросе:
"Изучать физику и химию живого крайне важно не только для целей медицинской
и сельскохозяйственной практики, но и для теоретической биологии",
и наступлением в другом:
"В теории это особенно важно для познания закона превращения неживого в
живое при посредстве живого".
Нет, не хотел Лысенко смириться, что нет никакого превращения неживого в
живое, что процессы биосинтеза молекул - это чисто химические реакции, что
нет в этом процессе тайны, якобы ускользающей всегда от исследователя:
"Никакое химическое или физическое познание живого не дает представления о
тех биологических законах, по которым живет и развивается органический мир".
От этой зауми, от желания возвести Китайскую стену между разными способами
познания (и еще хуже: между процессами в живых организмах) несло не
материализмом, а настоящей мистикой. И сколько бы раз не возглашал Лысенко, что он
самый, что ни на есть стойкий материалист, слова его говорили об обратном.
Парадокс, впрочем, заключался в том, что и скрытым агностиком он также не
был, как не был он и теистом. Просто недообразованность, неспособность понять
диалектику развития характеризовали его уровень познания и мышления.
Очередной
партийный окрик на
критиков Лысенко
Распространение книги Медведева, также как приобщение к числу критиков лы-
сенкоизма крупнейших отечественных ученых разных специальностей, сделали за
год то, что не удавалось за десятилетия. Научный и нравственный портрет
малограмотного человека, но ожесточенного и ловкого политикана, проступил ясно и
стал отчетливо виден огромному числу интеллигентов в стране. Хотя усилиями
партии коммунистов в стране была рождена интеллигенция "нового типа", хотя
воспитанники советских вузов были в подавляющем большинстве выходцами из
рабочих и крестьян, приобщение их к культуре, искусству, науке выточило из них
не одни лишь винтики, послушно вкручивающиеся в нужном "углублении"
государственного механизма, а породило людей с развитыми мозгами. В свою очередь,
это неминуемо повлекло за собой индивидуальность мышления. Как ни спорили
между собой социологи и критики советского режима о задавленности мыслей,
чувств, а, главное, поступков советского человека, как ни сравнивали степень
самоутверждения интеллигента западного и советского, и у последнего
способность давать оценки и приходить к суждениям не стопроцентно определялась
сегодняшней передовицей "Правды". Отсюда вытекал и массовый интерес к делам,
тебя лично вроде бы не касающимся, а, тем не менее, волнующим каждого вполне
искренне. Этот интерес исключительно возрос после хрущевских нападок на
сталинизм и "культ личности" в целом. В обществе вдруг, в масштабах, сильно
напугавших власти и самого Хрущева, проявилась тяга к вскрытию язв общества.
Многие были готовы принять участие в их лечении и устранении истоков болезни.
В этот момент книга Медведева в одночасье открыла сущность Лысенко
множеству людей. Черты его незатейливой биографии, особенности речи, приземленность
лозунгов, приемы борьбы с антиподами в науке, которые рождали общие симпатии
в тридцатые-сороковые годы, годы, когда простоватого крестьянского парубка
вынесло на гребень общественного интереса, теперь вызывали отвращение.
Перестала казаться симпатичной недообразованность, стала коробить примитивная
упрощенность помыслов "Главного Агронома Страны". Преступной предстала мания
неразделяемой ни с кем власти, которая привела к гибели в лагерях и тюрьмах
одаренных ученых, цвета русской науки. Ни у кого не осталось и тени сомнений
о вреде практических выдумок этого сухопарого, злобного человека. Перестала
манить цветистость обещаний, их иллюзорность не подлежала сомнению.
Отодвигать далее час ответа за эти преступления больше было нельзя. И многие
полагали , что час настал.
Насколько наивными были эти ожидания, показало ближайшее же время. Всем
было продемонстрировано еще раз, что Лысенко с комплексом ошибок и преступлений
рассматривается партийными лидерами как свой, как правильный и
последовательный борец за нужные идеалы, а критики были обвинены в отходе от ленинизма и в
буржуазных извращениях.
Первым пострадал Ж. А. Медведев. Его выставили из Тимирязевской академии, и
несколько месяцев он оставался без работы. В Москве, центре науки с сотней
научно-исследовательских и учебных биологических учреждений, Медведев найти
работу не смог. На счастье, в 1961 году в городе Обнинске Калужской области,
где была построена первая атомная станция, начали создавать Институт
медицинской радиологии АМН СССР, и Медведев нашел место там. Правда, пришлось
проститься с Москвой.
Выезд Медведева из столицы не помешал первому секретарю Московского горкома
партии и члену ЦК Н.Г Егорычеву в выступлении на пленуме ЦК КПСС 18 июня 1963
года вспомнить бывшего москвича и обвинить его в идеологических ошибках, в
"отходе от ленинских указаний":
"... Ж. А. Медведев, бывший старший научный сотрудник кафедры агрохимии
Сельско-хозяйственной академии им. К.А. Тимирязева подготовил к печати
монографию "Биологическая наука и культ личности". В этой работе неправильно
освещаются основные вопросы развития советской биологии, охаивается мичуринская
наука, захваливаются те буржуазные исследования, которые не являются
последовательно материалистическими".
Разнес Егорычев и другую книгу Медведева "Биосинтез белков и проблемы
онтогенеза" , изданную Медгизом. В ней Медведев во вводной главе, описывая
общегенетические закономерности, в краткой форме обрисовал основы учения о
хромосомах и генах и совсем уж лапидарно сказал о трудностях в развитии исследований
в этих областях, связанных с деятельностью Лысенко. Сказанное об этом не
занимало и сотой части текста книги. Работа, прошедшая цензуру и разрешенная к
выходу в свет, была отпечатана. Положенные десять контрольных экземпляров
развезли в ЦК партии, в Книжную палату, в Библиотеку имени Ленина. Неожиданно
из ЦК, с самого верха, поступил приказ - задержать весь тираж. Один из
помощников Суслова принес ему экземпляр книги, в котором красным карандашом были
подчеркнуты несколько десятков фраз о Лысенко и генетике. Последовало
распоряжение внести исправления. Напечатанную книгу разброшюровали, страницы с
"крамольным" текстом вырвали, вместо них был дописан "нейтральный" текст. Но
и с этим текстом книга опального автора не удовлетворила идейной
направленности секретаря самой крупной партийной организации страны Егорычева:
"...Медведев не сложил оружия, перебазировался в Калужскую область и
подготовил к печати (а Медгиз издал) книгу "Биосинтез белков и проблемы
онтогенеза" , содержавшую те же ошибки. За ширмой наукообразности порой прячутся
идейные вывихи!.. В борьбе с буржуазной идеологией мы должны наступать, и только
наступать, - этому учит нас партия!".
Жорес Александрович Медведев — российский писатель,
диссидент2 и ученый-биолог.
К счастью Медведева, Егорычеву не успели доложить еще об одном "проступке"
Медведева, а то бы его гнев был во сто раз круче. Он не знал, что Медведев
успел "протащить свою вредную идеологию", и в ленинградском издательстве в
третьем номере журнала "Нева" за 1963 год B.C. Кирпичникову и ему посчастли-
2 В мае 1970 года Медведев был насильственно помещён в Калужскую психиатрическую
больницу. Через три недели был освобождён в связи с протестами авторитетных
академиков (Капица, Сахаров, Семёнов, Астауров и другие; учёных Д.Д. Маклэйна и др.) и
писателей (Твардовский, Солженицын, Дудинцев, Тендряков, Каверин и другие). В августе
1973 года по обвинению в антисоветской деятельности Жорес Медведев Указом Президиума
Верховного Совета СССР был лишён советского гражданства. Советское гражданство было
возвращено Жоресу Медведеву в августе 1990 года Указом Президента СССР Горбачёва.
Однако этот указ не предусматривал возможностей для работы в СССР или возвращения
квартиры. Жорес Медведев остался в Англии, ежегодно посещая бывший СССР.
вилось буквально чудом опубликовать статью "Перспективы советской генетики".
В статье впервые было открыто сказано, что августовская сессия ВАСХНИЛ 1948
года была следствием произвола Сталина, а ссылки на то, что это непогрешимое
и некритикуемое событие в истории советской науки - выгодны лишь врагам науки
типа Лысенко.
Такая вольность вызвала взрыв негодования со стороны вновь назначенного
Президента ВАСХНИЛ М.А. Ольшанского. 18 августа 1963 года в печатном органе
ЦК партии "Сельская жизнь" появилась его обличительная статья, в которой
воздавалась хвала мичуринской биологии ("Мичуринской биология обладает
неиссякаемой жизненной силой"), а критики осуждены:
" . . . в последнее время появился ряд произведений, представляющих в
извращенном виде положение дел в биологической науке. Вышли, например, две книги
Н. П. Дубинина, изданные Атомиздатом... с ложью на советскую биологическую
науку, статьи продолжает печатать "Бюллетень Московского Общества Испытателей
Природы". Не удержался от соблазна клеветы на мичуринскую науку литературно-
художественный журнал пНевапп [речь шла о статье Медведева и Кирпичникова -
B.C.] .
Автор видел две главных причины появления таких взглядов:
" . . . отрыв биологических исследований от практики социалистического
сельского хозяйства" и "преклонение перед зарубежной наукой, стоящей на позициях
идеалистического, вейсманистско-морганистского учения... Вместо партийного,
критического подхода такие ученые выше всего ставят свое родство с "мировой
биологической наукой"...".
Не обошлось и без курьезов. Президент ВАСХНИЛ объявил, что будто бы
выведение гибридной кукурузы не было обеспечено успехами генетики, а произошло
случайно, и что авторы открытия (был назван один Дж. Шелл) дали ему
негенетическое объяснение ("неменделевское", по словам Ольшанского).
Особый вес категорическому осуждению генетики придало то, что через три дня
в "Правде" появилась редакционная статья с изложением публикации Ольшанского.
Кое-какие оценки погромного характера редакция "Правды" сделала
самостоятельно . Критиков Лысенко безоговорочно отнесли к разряду мракобесов, идеалистов,
механицистов, клеветников - каждый из перечисленных эпитетов встречался в
статье. Сказано было и следующее:
"... бесплодных "пустырей" в науке взяла в свои советчики редколлегия
журнала "Нева"... Авторы... статьи в журнале "Нева" видят перспективу мичуринской
материалистической генетики, как видно, в ее слиянии с идеалистической
концепцией "классической генетики". Такое примиренчество в биологии
недопустимо" , хотя даже думать о возможности слияния генетики с лысенковщиной было
смешно. Чрезвычайно важным было то место, в котором была дана оценка сессии
ВАСХНИЛ 1948 года. Медведев и Кирпичников писали об этой сессии:
"/на ней/ был выдвинут и проведен в жизнь принцип классовости биологии,
принцип необходимости признания коренных различий между генетикой советской и
генетикой западных стран... Классическую генетику объявили буржуазной наукой,
и она оказалась таким образом "вне закона"".
Приведя эту цитату, редакторы "Правды", вслед за Ольшанским, заявили, что
ничего подобного на сессии в 1948 году сделано не было, что авторы статьи в
журнале "Нева", как было сказано, "извратили итоги сессии", что "... ни в
докладе "О положении в биологической науке", ни в постановлении сессии
ВАСХНИЛ нет и намека на то, о чем говорится в приведенной цитате. Тогда... и
теперь... речь шла и идет о другом: о борьбе двух противоположных мировоззрений
в науке. Советским биологам дорога наша наука, и они хотят ее развивать
только на основе марксистско-ленинского учения, диалектического материализма".
Легко заметить, однако, что именно перенесение принципа классовости в
биологическую дискуссию было характерной чертой сессии 1948 года, пронизывало
выступления большинства сторонников Лысенко на сессии. Отрицать это было всё
равно, что называть черное белым. Апелляция же "правдистов" от имени всех
советских биологов выглядела просто демагогической уловкой.
Газета "Правда" послушно подлаживались под взгляды Лысенко и в вопросе
изучения физических и химических процессов в явлениях жизни. Как уже было
сказано выше, в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятом в январе
того же года, содержался раздел о необходимости "изучения физики и химии
живого". Авторы редакционной статьи в "Правде" разъясняли это место так, что по
сути отвергали это направление науки:
"... исследованиями по физике и химии живого ни в коей мере нельзя
подменять изучение биологической специфики, раскрытия сущности явлений жизни и
отыскания биологических закономерностей развития органического мира".
Однако главным принципом, который коммунисты провозглашали очередной раз,
было то, что лысенковские представления партия рассматривает как неотъемлемую
часть развиваемой в СССР идеологической доктрины:
"На передовых позициях борьбы за коммунизм стоит мичуринская биология.
Прочно опираясь на гранитные основы марксизма-ленинизма, диалектический
материализм, мичуринская биология смело вторгается в жизнь, все глубже проникает
в тайны природы...
...Поэтому статью "Перспективы советской генетики", напечатанную в журнале
"Нева", надо считать ошибочной и вредной для нашей науки".
Столь суровое и категоричное осуждение Кирпичникова и Медведева не привело,
однако, к репрессивным мерам, которые бы неминуемо последовали после такой
статьи еще несколько лет назад. Редколлегия "Невы" в сентябрьском номере
вынужденно признала, что ошиблась, опубликовав статью "Перспективы советской
генетики". Но оба автора не только не были арестованы или судимы, но даже не
были выгнаны с работы немедленно. Не удалось Лысенко укрепить свои позиции и
в Академии наук. Келдыш нисколько не изменил направленности работ в Академии.
Физико-химические исследования жизненных процессов продолжались, Институт
цитологии и генетики в Новосибирском Академгородке набирал силу, работали
многочисленные лаборатории в Москве, Ленинграде, Минске, ученые упрочали свои
усилия в изучении наследственных процессов.
Реорганизация Академии наук
и провал Н.И. Нуждина
на выборах в академики
Возможно, не без влияния Лысенко ЦК партии дал согласие на проведение в
1963 году очередной реорганизации структуры Академии наук СССР. Теперь все
академические научные учреждения были разделены по трем секциям: "Физико-
технических и математических наук", "Химико-технологических и биологических
наук" и "Общественных наук". Во главе второй секции встал академик Н.Н.
Семенов, открыто благоволивший генетикам.
В этой секции было организовано пять отделений - два химических, два
биологических (общей биологии и физиологии) и одно, как говорили, на стыке наук:
ему дали длинное название "Биохимии, биофизики и химии физиологически
активных соединений". Туда же отошла лаборатория Дубинина, входившая в состав
Института биофизики. Таким образом в этом Отделении сосредоточились все
основные "недруги" Лысенко, тяготевшие к развитию точных направлений биологии.
Теперь они при поддержке физиков, таких как Тамм и Сахаров, могли распоряжаться
в рамках дозволенных свобод внутри своего Отделения, но им нечего было делать
во вновь созданном Отделении общей биологии, и обстановка для Лысенко
несколько разрядилась...
В биологическом отделении главенствующее место стал занимать Институт гене-
тики во главе с Лысенко; в некоторой изоляции после разгромных речей на
Пленуме ЦК КПСС и статьи в "Правде" оказался Ботанический институт, а остальные
институты - Зоологический в Ленинграде, Морфологии животных и
Палеонтологический в Москве держались подальше от Лысенко. Был еще Главный Ботанический сад
АН СССР во главе с Цициным, но директор ботсада был готов драться за
первенство с Лысенко в качестве лидера мичуринской биологии (в этом качестве он
иногда вставал в позу и по генетическим вопросам).
Воспользовавшись реорганизацией, Лысенко решил укрепить позиции в Отделении
общей биологии, чтобы создать себе большинство в составе академиков. На 1964
год были объявлены выборы в академию, и ЦК партии распорядился выделить
Отделению общей биологии дополнительные места (то есть средства для оплаты
гонорара) сразу для трех академиков по специальности "генетика". Хотя приставки
"мичуринская" не было, само собой разумелось, что выбирать можно будет только
"мичуринских генетиков", а не "врагов прогресса и метафизиков". Сам Хрущев
включился в обсуждение кандидатур, и в ЦК партии было решено, что на эти
вакансии следует избрать селекционеров, твердо придерживающихся лысенковских
взглядов (предпочтительно, П.П. Лукьяненко или В.Н. Ремесло), и обязательно,
всенепременно - Н.И. Нуждина, ставшего правой рукой Лысенко в эти годы.
Вопрос об избрании Нуждина стал и для Лысенко и для Хрущева вопросом
престижа - вот до какой степени дошла вовлеченность партийного лидера в дела
академии. Кандидатуру Нуждина рассмотрели на заседании Секретариата ЦК КПСС,
Хрущев дал ему высокую оценку, после чего было принято специальное на этот
счет решение.
Сам по себе этот факт был экстраординарным. Конечно, кандидатуры избираемых
в академию с 1929 года подробно обсуждались в аппарате ЦК (и не только в
Отделе науки, но и в других отделах, контактирующих с теми или иными
отделениями Академии), предварительные списки кандидатов, начиная с 1929 года,
утверждало Политбюро. Обработка академиков, вызываемых в кабинеты в здании на
Старой площади с целью инструктажа относительно того, за кого следует подавать
голоса, а кого лучше было бы не избирать, всегда была важной частью
избирательной кампании. В случае с Нуждиным было оказано жесткое открытое давление
- совсем в духе беспардонного и повседневного вмешательства Хрущева во все
вопросы - и как стихи писать, и как скульптуры ваять, и какие песни петь, и
как метромосты строить, и какой этажности дома возводить, и даже как движение
автотранспорта по Манежной площади пустить. Хрущев вызвал после заседания
Секретариата ЦК Келдыша и в грубых выражениях (видимо, зная антипатию
Президента к Лысенко) потребовал обеспечить избрание лысенковских протеже и, в
первую очередь, Нуждина в действительные члены Академии. В противном случае,
- сказал он, - академии грозят административные меры, вплоть до её закрытия и
передачи институтов, лабораторий и прочих организаций в ведение Госкомитета
по науке и технике. Положение, таким образом, стало критическим.
В 20-х числах июня, наконец, настал срок выборов. Они проходили, как
всегда, тайно и двухступенчато. Сначала кандидатов рассматривали в
специализированных отделениях: физиков - в физических, химиков - в химических, биологов -
в биологических отделениях. В Отделении общей биологии Лысенко, используя
"машину голосования", то есть насажденное им в течение полутора десятилетий
послушное большинство, довольно легко добился своего. Его кандидаты, за
исключением Ремесло, были рекомендованы, и теперь уже общему собранию всех
академиков оставалось лишь автоматически утвердить (также тайным голосованием)
тех, кто прошел сквозь первое сито.
Как правило, камнем преткновения на выборах было голосование в отделениях.
Кто же лучше может знать истинную цену ученого, как не его коллеги? Но здесь
получилось иначе. На общем собрании Академии наук СССР 26 июня 1964 года
сразу трое академиков выступили против избрания Нуждина в члены академии, задев
при этом очень чувствительно самого Лысенко. Первым попросил слова В.А. Эн-
гельгардт, который сказал, что за Нуждиным нет никакого вклада практического
характера, а его теоретические работы ни один ученый в мире вообще не
цитирует. А.Д. Сахаров говорил не столько о Нуждине, сколько о преступной
деятельности всех лысенкоистов и призвал
". . .всех присутствующих академиков проголосовать так, чтобы единственными
бюллетенями, которые будут поданы "за", были бюллетени тех лиц, которые
вместе с Нуждиным, вместе с Лысенко несут ответственность за те позорные
страницы в развитии советской науки, которые в настоящее время, к счастью,
кончаются . (Аплодисменты)".
И. Е. Тамм сказал, что изучение молекулярных основ наследственности стало
важной частью современного естествознания, а Нуждин "был одним из виднейших
противников, тормозивших это направление".
Пока Сахаров и Тамм говорили, Лысенко молчал, но затем взорвался и
буквально истерически стал требовать от Келдыша, чтобы президиум АН СССР на этом же
заседании, немедленно перед ним извинился пза клеветнические заявления
Сахарова ". Эта истерика ни к чему не привела. Келдыш перешел к раздаче бюллетеней
академиков. Голосование для Нуждина (и для Хрущева с Лысенко) оказалось
убийственным: "за" были только 23 академика (в основном сторонники Лысенко и
философы) , против - 120!
В то время в биологических кругах Тамм и Сахаров стали легендарными
фигурами. Конечно, им было отлично известно о предупреждении, сделанном Хрущевым
Келдышу, и нужно было иметь изрядное мужество, чтобы выступить против личного
протеже партийного вождя. Реальная угроза, нависшая над всей Академией, была
велика, но несмотря ни на что и Тамм, и его ученик Сахаров не поступились
своими убеждениями.
Мне думается, что борьба Сахарова за интересы науки оказалась важной и для
него самого. В нем открылось нечто такое, что выделило его из среды коллег:
способность к общественной деятельности, отсутствие страха перед давлением
любого рода. В годы, когда он выступил в качестве оппонента лысенкоизму, он
еще не проявил себя борцом за идеалы гуманизма, что принесло ему позже
мировое признание. Это была, возможно, первая проба, но она ясно
продемонстрировала могучую силу этого удивительного человека.
Провал Нуждина на выборах вызвал гнев Хрущева, и он серьезно приступил к
программе разгона Академии наук. В ЦК были сформированы комиссии по проверке
различных сторон деятельности академии. Проект объединения ее с Госкомитетом
по науке и технике обсуждался полным ходом.
Со своей стороны лысенкоисты тоже пошли в бой. Ольшанский написал Хрущеву
раздраженное письмо, в газете "Сельская жизнь" 29 августа появилась статья
Ольшанского "Против дезинформации и клеветы". Все сообщения об успехах
генетики были отнесены Ольшанским к разряду "дешевых сенсаций, не основанных на
фактах прожектах". Снова была упомянута статья Медведева и Кирпичникова в
журнале "Нева", опять характеризуемая как клеветническая. Обругиванию
подвергалась деятельность В. П. Эфроимсона. Еще более зло отозвался Ольшанский о
книге Медведева "Биологические науки и культ личности". Он презрительно
именовал ее "записка" и заявлял, что ничего, кроме измышлений, причем измышлений
с далеко идущими политическими целями, книга не содержит:
"В высокомерно-издевательской форме он [Медведев - B.C.], походя
ниспровергает теоретические основы мичуринской биологии. Все эти домыслы и небылицы
выглядели бы как пустой фарс, если бы в своем пасквиле на мичуринскую науку
автор не прибег бы к политической клевете, что не может не вызывать гнева и
возмущения... Ж. Медведев доходит до чудовищных утверждений, будто бы ученые
мичуринского направления повинны в репрессиях, которым подвергались в ту пору
["культа личности" - B.C.] некоторые работники науки.
Каждому ясно: это уже не фарс. Это грязная политическая спекуляция".
Однако на этот раз вся эта раздраженная филиппика была направлена, главным
образом, не против Медведева, а против якобы подпавшего под его влияние А.Д.
Сахарова (Тамма, удостоившегося Нобелевской премии, лысенкоисты предпочитали
теперь не упоминать):
" . . . политическая спекуляция Ж. Медведева производит, видимо, впечатление
на некоторых малосведущих и не в меру простодушных лиц. Чем иначе объяснить,
что на одном из собраний Академии наук СССР академик А.Д. Сахаров, инженер по
специальности, допустил в своем публичном выступлении весьма далекий от науки
оскорбительный выпад против ученых-мичуринцев в стиле подметных писем,
распространяемых Ж. Медведевым?".
По-видимому, Лысенко почувствовал в это время, что поддержка со стороны
Хрущева простирается столь далеко, что в отношении его врагов могут, наконец-
то, применить репрессивные меры, вплоть до суда. Отсюда вытекал вопрос,
задаваемый его клевретом Ольшаникам:
"Не пришло ли время поставить перед Ж. Медведевым и подобными ему
клеветниками такой вопрос: либо они подтвердят свои злобные обвинения фактами, либо
пусть ответят перед судом за распространение клеветы".
Ольшанский по сути дела давал инструкцию будущему суду о том, как
квалифицировать аргументы критиков лысенкоизма:
"Разумеется, подтвердить свои обвинения фактами они не смогут, потому что
таких фактов не существует".
2 октября в той же "Сельской жизни" с обвинениями аналогичного свойства
выступил ленинградский журналист П. Шелест. Не только над генетикой, но и над
всей наукой сгустились тучи.
"Малая
октябрьская
революция"
Запустив в ход машину по подготовке разгрома своевольной Академии наук,
Н.С. Хрущев отбыл на отдых на юг, чтобы, вернувшись, с новыми силами
довершить задуманное. Но сделать это ему не удалось. Как передавали люди друг
другу шепотком, на правительственную дачу в Пицунду приехал Микоян с генералами,
заключившими Хрущева под стражу. Срочно собравшийся Президиум ЦК партии 14
октября отправил его на пенсию. Власть в свои руки взял Брежнев. В народе
этот бескровный переворот иронично назвали "малой октябрьской революцией". 16
октября сообщение о снятии Хрущева было выплеснуто на страницы газет, но за
день до этого в редакциях центральных газет уже стало известно о падении
Хрущева и одновременном осуждении его любимчика Лысенко. Неожиданно видные
генетики - Эфроимсон, Рапопорт, литераторы, известные своим негативным отношением
к Лысенко, и прежде всего О. Н. Писаржевскии были вызваны в редакции, где им
предложили срочно, за ночь, подготовить материалы, показывающие ошибки
Лысенко .
Но очень скоро, буквально на следующий день, прояснилась одна важнейшая
деталь . Высшие партийные лидеры действительно связали имена Хрущева и Лысенко в
момент, когда надо было лишить власти Первого Секретаря ЦК, но они вовсе не
ставили на одну доску выброшенного на свалку бывшего лидера, мешавшего их
личной карьере, и полезного с многих точек зрения, своего по духу, академика
Лысенко. Его заботливо ограждали от чрезмерно громкой критики и не торопились
удалять с постов (прежде всего с поста директора Института генетики АН СССР и
руководителя "Горок Ленинских").
Особенно рельефно это отношение проявилось при следующих обстоятельствах.
Как уже было сказано, за день до объявления народу о снятии Хрущева Эфроимсон
был срочно вызван в редакцию "Экономической газеты", где ему предложили
немедленно - к утру следующего дня - подготовить статью на 20 страницах
(печатный лист!) с рассказом о вреде, нанесенном Лысенко. "Напишите деловито, без
смягчений", - сказал Владимиру Павловичу сотрудник редакции М.В. Хвастунов.
Статья был написана Эфроимсоном за двое суток, понравилась заказавшему её
сотруднику редакции, была набрана, но потом вдруг публикация затормозилась.
Вмешались какие-то иные силы. Эфроимсону объяснили, что якобы заведующий
отделом редакции, испугавшись слишком разоблачительного характера статьи, решил
посоветоваться с высокопоставленными друзьями, стоит ли её публиковать и не
нагорит ли ему за излишнюю смелость. Набранный текст лег на стол секретаря ЦК
партии по идеологии Суслова, и увидев его Суслов распорядился отклонить
статью. Заведующий отделом газеты сообщил автору статьи мнение главного идеолога
о его труде: "Здесь всё слишком концентрировано. Выберите четыре главных
пункта и давайте по одному каждую неделю!" Верстка пошла в корзину для
мусора, четыре еженедельных статьи так и не вышли.
В других газетах осуждение Лысенко было преподнесено в весьма приглушенном
тоне и, как правило, без упоминания имени самого лидера мичуринцев. Первой 22
октября 1964 года была опубликована статья И.А. Рапопорта. Показательно, что
она появилась в бывшей вотчине Лысенко "Сельской жизни". Теперь редакция
этого рупора лысенкоистов спешила встать на "правильные рельсы". Ни слова
персонально о Лысенко не прорвалось на страницы газеты. Между тем, молчание в
данном случае разило еще сильнее. Как будто Лысенко вообще перестал
существовать . Рапопорт перечислял успехи генетиков за последние годы, упоминал
множество фамилий советских ученых, не изменивших генетике в самые трудные годы,
отмечал их важные достижения:
"Открытые у нас раньше, чем в других странах, химические мутагены, также
как и физические, позволили советским генетикам развернуть интенсивные
исследования по созданию новых сортов...".
С этого дня во многих газетах стали появляться статьи с осуждением лысенко-
изма. Особенно часто на эту тему выступала "Комсомольская правда". 23 октября
было рассказано о том, как ставленники Лысенко препятствовали работам с
перспективным полиплоидным сортом картофеля. Наглядной стала картина того, как
всё понимавшие люди, такие как П.М. Жуковский потакали диктатору и боялись
подать слово в защиту многообещающего направления. 2 ноября был опубликован
огромный очерк об выдающемся ученике Вавилова - Михаиле Ивановиче Хаджинове.
В статье было упомянуто о волне арестов в годы главенства лысенкоистов, были
названы имена погибших. Но имя Лысенко упомянуто не было. 10 ноября, наконец-
то , была напечатана заметка с критикой в адрес самого Лысенко. В ней был
рассмотрен микроскопический штрих из всей картины монополизма - нездоровый
интерес редколлегии журнала "Агробиология" к печатанию статей с оскорблениями
молекулярной генетики и о делавшихся в этих случаях выпадах в адрес
отечественных генетиков. Вот только в связи с этим было сказано о Лысенко:
"Очень печально, что редакционная коллегия журнала "Агробиология", походя
оскорбляет видных ученых... Обрушиваясь на "классическую биологию",
недопустимо оскорбляя инакомыслящих ученых-генетиков, одним махом перечеркивая их
труд, журнал вместе с тем постоянно и только в самых хвалебных тонах говорит
о Лысенко. Это выглядит тем более странно, что на титульном листе журнала
значится: "Главный редактор академик Т.Д. Лысенко"".
На следующий день была напечатана большая статья Н.Н. Воронцова "Жизнь
торопит" , в которой автор рассказал о просчетах в преподавании биологии в
школе, в результате чего несколько поколений советских людей, не получило даже
элементарных сведений о законах генетики и вместо этого их пичкали
белибердой, подававшейся под соусом самой передовой в мире материалистической
"мичуринской биологии". Но снова имя Лысенко отсутствовало.
Очень сильная по тону и по приводимым фактам статья появилась в этой газете
17 ноября 1964 года. В ней было совершенно правильно отмечено, что
августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 года, " . . . созванная специально для установления в
биологии и сельскохозяйственной науке монополии только одного научного
направления, объявила идеализмом и реакционной метафизикой все другие
направления в биологии".
Было честно упомянуто, правда, опять без упоминания имени Лысенко,
заботливо вычеркнутого редакционными служаками, что "яровизация, внутрисортовое
скрещивание самоопыляющихся сортов, свободное межсортовое скрещивание
перекрестников, летние посадки картофеля... не совершили никакой революции и были
забыты как экономически нерентабельные или просто убыточные".
Перечислив более поздние новинки (вроде ветвистой пшеницы, органо-
минеральных смесей и др.), авторы делали общий вывод:
"Плачевные результаты этого псевдоноваторства крайне отрицательно влияли на
сельскохозяйственное производство, и рано или поздно об этом надо сказать".
Наряду с этими правильными положениями в статье было несколько грубых
ошибок. Утверждалось, что метод полиплоидии был создан в 30-е годы профессором
Карпеченко. Кроме того, было высказано предположение, что живи Мичурин во
времена, когда Карпеченко получил свой гибрид рафанобрассику и узнай он об
этом, как он "без сомнения горячо бы приветствовал эти работы как открывающие
новый этап во многовековой истории селекции". Это было неправдой. Мичурин
умер в 1935 году, знал о работе Карпеченко и недвусмысленно плохо отзывался о
ней (неоднократно!), характеризовал её как пустячную, считал, что
рокфеллеровскую премию нужно было присудить ему, а вовсе не Карпеченко.
Под статьей стояли две подписи: В. П. Эфроимсона и Роя Медведева - брата-
близнеца Жореса Медведева, кандидата педагогических наук. То, что публицист,
историк Рой Александрович Медведев мог допустить эти ошибки, было вполне
понятно : он вторгся в далекую от него область. Но странно было видеть под этой
публикацией фамилию грамотного биолога Эфроимсона.
Но, как объяснил мне позже Эфроимсон, он имел к этой статье мимолетное
касательство. В публикацию вторглись иные силы, что и привело к появлению в
печати этих ляпсусов. В редакцию в эти дни поступила резкая статья Эфроимсона и
помягче Ж.А. Медведева, и редакторы решили напечатать более умеренную по тону
статью. Но когда она была вставлена в номер, выяснилось, что само имя Ж.
Медведева было КГБ поставлено под запрет. Тогда в редакции решили не особенно
церемониться, и придумали "ловкий" ход: под статью подверстали фамилию
Эфроимсона и вызвали его в редакцию на улицу "Правды" подписать верстку, надеясь,
что он не заметит подмены. Конечно, произошло обратное. Тогда его стали
уламывать подписать чужую статью, ссылаясь на то, что выход в свет такой статьи
- самой пока острой из всего, что было напечатано до сих пор - большое дело.
Как вспоминал Эфроимсон:
"Отдел науки "Комсомолки" стал разыскивать Ж. Медведева в Обнинске (может
быть, только для виду, кажется, был запрет печатать Ж. Медведева)...
Эфроимсон, который не захотел подписывать чужую и слишком мягкую статью, торговался
и отказывался, и настоял, чтобы поставили имя хотя бы Р. Медведева,
. . .который на другой день был потрясен тем, что его фамилия стоит под
статьей , которой он в глаза не видал. Второпях, в процессе ругани было пропущено
несколько ошибок, которые допустил Ж. Медведев...".
Преждевременная смерть
О.Н. Писаржевского
В эти дни еще раз продемонстрировал свои высокие моральные качества
писатель Олег Николаевич Писаржевский, опубликовавший статью "Пусть ученые спо-
рят...". На большом материале он в яркой, острой форме высветил убожество лы-
сенкоистов и реальные достижения генетиков. Перед тем как публиковать статью,
главный редактор собрал у себя совещание, пытаясь смягчить наиболее острые
места. Олег Николаевич смело боролся за её основные положения. Вечером этого
же дня мы долго говорили с Олегом Николаевичем, и он весело рассказывал об
одержанной победе. Он был полон жажды довести разгром Лысенко до конца,
преодолеть тормоза, мягко стопорившие основную критику в адрес лидера
"мичуринского направления". Писаржевский был главной пружиной в разворачивавшемся
давлении на лысенкоизм. С утра до ночи он переезжал из одной редакции в
другую , с одного совещания на другое.
Кончилось это трагически. Статья Олега Николаевича вышла в свет 17 ноября,
а через день утром, когда он подошел к машине, чтобы ехать в редакцию на
очередное боевое совещание, где решалась судьба следующих статей, его сердце не
выдержало. Олег Николаевич взялся за ручку дверцы машины, нажал на кнопку
замка, дверь легко открылась, но обмякшее тело сползло на асфальт, и было уже
поздно звать врачей...
А 27 января 1965 года в "Литературной газете" была напечатана статья,
продолжившая тему, начатую Олегом Николаевичем Писаржевским. Как и следовало
ожидать, его предсмертная статья, равно как и опубликованный десятью годами
раньше очерк "Дружба наук и ее нарушения", больше других публикаций пришлись
не по вкусу лысенкоистам. Они бросились опровергать и отвергать факты,
приведенные писателем. Среди присланных ими писем в редакцию было письмо главного
зоотехника "Горок Ленинских" Д.М. Москаленко. Это был молодой еще человек,
недавно успешно закончивший зоотехнический факультет Тимирязевки. В
студенческие годы он проявил себя активным и устремленным к практической
деятельности. Поэтому, хотя ему и предлагали остаться в Тимирязевке в аспирантуре, он
пошел на ферму к Лысенко. Последний высоко ценил молодого шустрого паренька,
выдвинул его в главные зоотехники и, чтобы поддержать еще больше, незадолго
до описываемого времени решил помочь Москаленко "остепениться" - получить
диплом кандидата сельскохозяйственных наук. Митя Москаленко, впрочем, теперь
уже не Митя, а Дмитрий Михайлович, ждал со дня на день утверждения в ученой
степени кандидата наук. И тут вдруг земля закачалась, статейки пошли, и самая
неприятная - Писаржевского.
Не стерпел Дмитрий Михайлович, задело за живое, он сел и разом накатал -
прямо на бланке Экспериментальной Базы Академии наук СССР "Горки Ленинские"
письмо этому Писаржевскому, пожалуй, даже не от себя только, а от всех тех,
кто могучими колоннами шел за своим вождем Лысенко, и кого сейчас так
оскорбляли эти люди, ничего в их деле не понимавшие. Получилось письмо, согласно
его воззрениям - искреннее и честное, а если слегка отрешенно на него
посмотреть - хлесткое, даже, в общем, хулиганское, да еще отражало оно невысокую
грамотность автора. Москаленко писал:
"Тов. Олег Писаржевский!
Я прочитал внимательно вашу статью. Прямо надо сказать: Ваша статья
произвела на меня потрясающее впечатление. Ну, думаю, договорился тов.
Писаржевский до веселой жизни! Пора бы такому писаке поработать там, где его
знаменитые "хромосомы" превращаются в мясо, молоко, и масло. Т.е. на колхозных
совхозных фермах...
Хватит отвлеченно спорить, тов. Писаржевский. Надо работать, засучив
рукава , работать день и ночь. В своей статье Вы подвергли не справедливой критике
учение И.В. Мичурина и защищаете отвергнутое с/х практикой реакционное учение
Вейсмана и Моргана, которое было разгромлено как ненужное учение в 1948 году.
Кто дал право Вам, писаке, называть августовскую сессию ВАСХНИЛ (1948 г.)
началом административного разгрома генетики?! ...
Тов. Писаржевский Олег!
. . . Призывать ученых спорить много ума не нужно, а вот разобраться в этих
спорах надо очень много знать и много работать на полях и фермах.
Приезжайте, тов. Писаржевский, к нам в любое время дня и ночи. Будем
спорить с Вами на ферме, а не страницах "Литературной газеты".
С приветом к Вам
Москаленко Д.М.
главный зоотехник э/б Горки Ленинские
АН СССР".
Когда письмо пришло в редакцию, адресата на этом свете уже не было. Письмо
показали другу Писаржевского, жившему в одном с ним дворе, также публицисту -
Анатолию Абрамовичу Аграновскому. Он решил заменить умершего друга и ответить
на письмо рассерженного зоотехника. Дважды побывал Аграновский в "Горках
Ленинских", внимательно ознакомился с хозяйством, долго беседовал с Москаленко.
Результатом стал большой очерк "Наука на веру ничего не принимает".
Автору очерка удалось вполне зримо нарисовать портрет молодого специалиста
- хваткого, энергичного, самоуверенного и описать дела на процветающей ферме
Лысенко.
"Что я там увидел? - писал А.А. Аграновский. - Я увидел скотный двор,
образцовый во всех отношениях. Было очень просторно и очень чисто, было много
света и много воздуха. И коровы были сытые, красивые, надменные. Дмитрий
Михайлович Москаленко вел меня вдоль белокафельных стен, зачитывал таблички
удоев, сыпал процентами жира, и по всему было видно, что он горд своим
хозяйством и уверен в неотразимости его...
- Факты упрямая вещь, - сказал Москаленко. - Это ж коровы, не какие-то
хромосомы !
- Что вы знаете о хромосомах? - спросил я.
- Нам это ни к чему.
- Читали вы о них?
- Зачем? - сказал он. - Мертвое дело. Ничего эти хромосомы животноводству
не дадут.
- Ну, хорошо, - сказал я. Вы ответьте хотя бы: существуют они в природе или
нет?
Главный зоотехник ничего на это не сказал".
То, с чем журналист познакомился на базе и что он описал в очерке,
производило гнетущее впечатление. Это не был финансовый или научный отчет,
Аграновский не сыпал цифрами. Он спокойно, неторопливо повествовал, как на ферме
Горок "пробовали выпаивать телят сметаной... Коровы вырастали жирные, но молоко
давали жидкое. Пробовали кормить скот дрожжами... Не было эффекта. Брали с
кондитерской фабрики какавеллу, отжимки какао, четыре центнера скормили
коровам, и от этого упали надои, а жирность все равно не повысилась".
Вопреки уверениям, что среда формирует наследственность, она не
"формировалась" .
Аграновский рассказывал о том, как выведенные по рецептам таких вот ученых
вырастали в Горках быки, помпезно именовавшиеся "элита рекорд", и как от
рекордистов даже среднего по свойствам потомства не получалось. Повествовал о
том, как провалились при первой же проверке идеи шефа "Горок" Лысенко
относительно того, как удобрять посевы, приводил убийственные строки из его книги,
где на разных страницах Лысенко сам от себя отказывался: сначала писал, что
его смеси равны "по своей удобрительной ценности 30-40 тоннам хорошего
навоза", затем умерял кичливое хвастовство и писал уже о том, что "10-20 тонн
компоста действуют лучше 20 т хорошего навоза", а затем опускался до более
скромных цифр - дескать, "тонна компоста равна по своему действию тонне
навоза". Аграновский резюмировал:
"Все это у одного автора.
Все это в одной книге", -
и приводил номера страниц, откуда он выписал эти шараханья, нелепые
настолько, что уже не верилось и последнему, хоть и жирным шрифтом выделенному
- "равна".
Не могли не поразить любого читавшего очерк сообщения о чудовищных затратах
корма - не только для коров, но и для свиней, и для кур. Сурен Иоаннисян так
раскормил подопытных курочек, мечтая повысить их яйценоскость, что одна сред-
неучетная хохлатка, оказывается, несла всего 70 яичек в год, а на
производство одного яйца уходило по 2 килограмма зерна. Сытно жилось курочкам на ферме
у Лысенко и Иоаннисяна с Москаленко.
Тут уж нечего было удивляться, сколь фантастическими оказались приписки в
отчетах. Одно и то же сено значилось в разных отчетах то по 20, то по 31, то
по 44 рубля за тонну. "Однажды тут списали на корм телятам 1170 кг рыбной
муки стоимостью 772 рубля", но оказалось, что никакой муки до телят не дошло,
акт на ферме подделали, "куда на самом деле подевалась мука, так и не
выяснили". Действительно, по каждому случаю прикажете следствие что ли заводить, да
прокуроров от дел отрывать?
"Если рыба молчит, то можете себе представить, как молчит рыбная мука", -
писал журналист.
Тем временем умело хозяйствовавшие и ночей не досыпавшие подвижники науки
ходили в героях: выпускали книги, защищали ненаписанные диссертации,
похвалялись успехами на Пленумах ЦК партии и съездах и, главное, - грозились повести
за собой всех земледельцев и животноводов страны.
"И вот эти "сытые", не разумея "голодных", давали свои великолепные
рекомендации ...", - с горечью замечал Аграновский.
Но он подметил и другое - уверенность лысенковцев в том, что и на этот раз
им все сойдет с рук, управа на критиков найдется. Тот же главный зоотехник не
убоялся сказать ему:
"Откуда это поветрие? Все шло хорошо, всюду нас хвалили, и вдруг ни с того,
ни с сего: "Крой, Ванька, бога нет!". Ну, ничего. Их поправят, писак.
Вызовут , сделают внушение. И все. До того, понимаешь, предвзяточно пишут!".
И ведь во многом он оказался прав. Когда самому Лысенко не удалось подавить
критику в свой адрес, и когда - в ответ на эту критику - ему пришлось
потесниться (не со всех!) постов, и Москаленко, и Иоаннисян, и другие лысенкоисты
в подавляющем большинстве случаев остались при исполнении прежних
обязанностей. А через год и "писаки" поутихли.
Последние раскаты
критики в печати
До конца 1964 и в начале 1965 года в газетах появилось много статей на тему
о вреде монополизма в науке, написанных генетиками, селекционерами, биологами
других специальностей, журналистами и даже сотрудником лысенковского
Института генетики В.Н. Вороновым, отвергшим хвалебные достоинства лысенковских
жирных коров). Но в целом гром критики стихал.
Прекрасный образчик лавирования при смене направления партийных веяний в
который раз показал академик А. Л. Курсанов. Вместе с А. А. Имшенецким, А. И.
Опариным, Н. М. Сисакяном он много лет благосклонно внимал Лысенко, голосовал
за его кандидатур, выступал с липовыми доказательствами правоты лепешинковщи-
ны. Но в это горячее время не к лицу было оставаться в стороне. В большой
статье в "Правде" Курсанов очень гладко пропел хвалу успехам генетики,
восславил Рапопорта, также как погибшего в тюрьме Г.А. Надсона, "смело" сказал
об успехах селекционеров П. П. Лукьяненко, B.C. Пустовойта, В.Н. Кузьмина,
следующих по пути Мичурина. Осуждения лысенкоизма из его уст не прозвучало,
но вполне благопристойное, обтекаемо гладкое нечто о чем-то ниспоследовало:
"На фоне всеобщего прогресса биологии, который создает теперь атмосферу
оптимизма и уверенности в дальнейших крупных успехах, необъяснимым кажется
настойчивое стремление некоторых исследователей игнорировать прогресс в
биологии и искусственно ограничивать круг допустимых для нее подходов
полукустарными опытами и рассуждениями, не имеющими доказательной силы".
Особняком от этих писаний стояли две по-настоящему обличительных статьи, в
которых называли имя Лысенко. В статье академика Н. Н. Семенова в журнале
"Наука и жизнь" (подготовленной для академика Л. М. Чайлахяном, М. Б. Беркинб-
литом, С.А. Ковалевым и другими) и в статье кандидата биологических наук М.Д.
Голубовского в журнале "Биология в школе" речь шла не вообще о лысенкоизме, а
непосредственно о Лысенко. Семенов прямо сказал о неграмотности Лысенко, о
его постоянном вранье, о постыдном приспособленчестве представителей его
"школы" и о тех, кто просто подпевал Лысенко, не понимая смысла дела, и о
тех, кто был вполне образован и всё хорошо понимал, но предпочитал творить
неправду, о тех, кто, вроде Презента, переводил "борьбу с инакомыслием из
плоскости научной дискуссии в плоскость демагогии и политических обвинений".
Статья Н.Н. Семенова была им сначала озаглавлена "О науке подлинной и
мнимой" и отправлена в "Правду". Семенов тогда пользовался огромным влиянием и
как ученый (в 1956 году он был удостоен Нобелевской премии по химии) , и как
администратор (был членом ЦК КПСС и вице-президентом АН СССР) . Казалось бы
орган ЦК компартии не мог отвергнуть материал, написанный таким автором.
Сначала статью пустили в набор, верстку прислали автору на утверждение, затем
было предложено слегка подсократить текст. Все требования были выполнены, но
в обещанный день статья из номера "выпала", а затем сотрудник редакции В.В.
Смирнов позвонил и сообщил, что статья в "Правде" вообще не пойдет. Лысенко
уводили из-под огня критики. С большими трудностями член ЦК и Нобелевский
лауреат сумел пристроить её в журнале "Наука и жизнь", в котором он был
членом редколлегии и где главный редактор В.Н. Болховитинов и его заместитель -
дочь Хрущева Рада Никитична Аджубей были антилысенковцами. Журнал выходил
огромным тиражом, поэтому резонанс от статьи оказался особенно сильным.
После этого всякая печатная критика Лысенко прекратилась. Его больше не
беспокоили, и в явном виде его имя не упоминали. Каким образом достигалось
единодушное молчание, я узнал на собственном примере. В конце 1965 года
должна была выйти книга "Микромир жизни", для которой я написал главу об успехах
генетики "Человек познает законы наследственности", и в ней был раздел о
Лысенко и его ошибках. Перед выпуском книги во все редакции поступила команда -
публикацию подобных "выпадов" прекратить! Как только научный редактор книги
Д.М. Гольдфарб и я не спорили с издательством, пробить брешь в обороне,
занимаемой теперь и редакторами и цензором издательства не удалось. Весь раздел
был выкинут.
На страницах еженедельника "За рубежом" был опубликован удивительный
документ, созданный Джоном Холдейном - несомненно талантливым, но столь же
тщеславным человеком, перебрасывавшемся из одной области генетики в другую, одно
время бывшим влиятельным членом английской компартии и входившим в ее ЦК,
затем организационно отошедшим от компартии, но сохранившим верность марксизму.
Холдейн знал о своей неизлечимой болезни, ждал смерти и написал в феврале
1964 года самому себе некролог. 1 декабря 1964 он скончался, и в тот же день
по английскому телевидению некролог был зачитан. В нем Холдейн высказывался о
Лысенко как о крупном самобытном ученом, которому предоставили слишком
большую власть, столь большую, что он прямо-таки судьбой был выведен в диктаторы
и тираны:
"Я считаю, что Лысенко очень хороший биолог и что некоторые его идеи
правильны. .. И я считаю, что советскому сельскому хозяйству и советской биологии
крайне не повезло, что этому человеку дали такую власть при Сталине... Я. . .
глубоко убежден, что если бы меня сделали диктатором в области английской
генетики или английской физиологии, я сыграл бы столь же катастрофическую
роль...".
Комиссия по проверке
Горок Ленинских
Одна суровая оргмера все-таки была предпринята. 10 февраля 1965 года на
общем собрании членов ВАСХНИЛ ни Лысенко, ни Ольшанский не были избраны в
состав нового Президиума академии сельхознаук. Президентом ВАСХНИЛ был назначен
снова П.П. Лобанов. Но терять руководство "Горками" Лысенко не хотел, хотя в
Академии наук СССР посчитали, что надо проверить его работу и на этом посту.
Формальным поводом для проверки хозяйства "Горок" послужила публикация
статьи Аграновского в "Литературной газете". Постановление о проверке было
принято 29 января 1965 года через 5 дней после публикации статьи. Был утвержден
персональный состав комиссии (по согласованию с Министром сельского хозяйства
СССР и Президентом ВАСХНИЛ) и порядок ее работы. В комиссию подобрали людей,
которые никогда не имели личных неприязненных отношений с Лысенко, никогда
против него не выступали и чья профессиональная подготовка не могла ни у кого
(в первую очередь, у Лысенко) вызвать подозрения. Комиссия работала в
"Горках" почти полтора месяца - с 9 февраля по 22 марта, причем, как был вынужден
признать даже Лысенко, члены комиссии работали все эти дни "с утра до
позднего вечера".
Самой поразительной чертой и состава комиссии и её работы было то, что она
не предназначалась для анализа ошибок в научной деятельности Лысенко (в
комиссии не оказалось ни одного крупного ученого - не только генетика,
физиолога или почвоведа, но даже и крупного селекционера, причем не было в ней и ни
одного члена Академии наук СССР, как будто Келдыш старался выполнить
неприятную работу руками специалистов из других ведомств). Тем более никто не
собирался касаться политиканства "колхозного академика". Все было низведено до
самого примитивного уровня - хозяйственной деятельности лысенкоистов, их
ошибкам с разведением жирномолочных коров и с внедрением органоминеральных
смесей. Не было обращено никакого внимания на те посулы Лысенко, благодаря
которым он "вылез в люди" и которые использовались им для политической борьбы
с инакомыслящими.
Правда, надо сказать, что и в этой, крайне урезанной по масштабу работе
комиссии, вскрытые факты были впечатляющими. Когда комиссия представила свои
выводы Президиуму АН СССР, все были поражены тем, насколько Лысенко
бесконтрольно насаждал антинаучные рекомендации в практику, как глубоко зашла
тактика пренебрежения элементарными требованиями к постановке экспериментов.
Факты, отмечавшиеся в "Литературной газете", поблекли перед тем, что выявила
комиссия.
Прежде всего, стало ясно, что никакой современной науки на базе развивать
не могли и в целом наукой в общеупотребительном смысле слова не занимались,
хотя средства на науку текли здесь полноводной рекой. Но что это была за
высокая наука?
"В настоящее время, - читаем в докладе комиссии, - лаборатории оснащены
несложным научным оборудованием (световые микроскопы, различные весы,
термостаты и т. д.) " .
В числе тем, которые выполняли сотрудники базы, комиссия отметила наряду с
обычными лысенковскими "проблемами" и достаточно экзотические. Так, комиссия
писала:
"Надо отметить, что в "Горках Ленинских" проводились и отдельные кратковре-
менные исследования, например, по посевам чая в лесной чаще (1949-1951 г.
г.), по изучению эффективности гетерозиса в пчеловодстве, работы с виноградом
и грецким орехом".
За посадку чая, винограда и грецких орехов лысенкоисты брались в полосе
Москвы, где каждую зиму температура воздуха устойчиво опускается ниже минус 20
градусов по Цельсию. Комиссия смогла поставить точку в многолетней проверке
органоминеральных смесей. Далеко не ими, а огромными дозами ежегодно вносимых
в разных участках базы удобрений были обеспечены неплохие урожаи в хозяйстве.
Параллельно комиссия вскрыла парадоксальный для научного учреждения факт: в
"Горках" не проводили почвенно-агрохимического обследования земель, и даже
простейшее определение кислотности почв было сделано всего два раза - в 1948
и 1955 годах.
Не менее удручающая картина открылась при анализе животноводства. Лысенко и
Иоаннисян трубили много лет о созданной Трофимом Денисовичем ТЕОРИИ племенной
работы. Комиссия же отметила:
"Несмотря на неоднократные просьбы... до сих пор не опубликованы научная
методика опытов и ее обоснование. На ферме отсутствуют план племенной работы,
а также методика проведения опыта. Не опубликована научная информация о
результатах скрещивания.
В опубликованных же работах академика Т.Д. Лысенко и С.Л. Иоаннисяна много
говорилось о значении "закона жизни биологического вида" и слишком мало о
фактических экспериментальных данных, полученных на ферме".
Прежде всего, удалось оценить методы Лысенко, положенные в основу создания
жирномолочного стада. Методы эти шли вразрез с мировой практикой.
Отчет комиссии содержал данные о мошенничестве в вопросах теории и
жульничестве в практической деятельности, что было определяющей чертой таких лысен-
коистов, как Иоаннисян. Они шли на любые подлоги, чтобы обмануть всех,
включая и досточтимого Трофима Денисовича.
Впервые специалисты получили доступ ко всем финансовым материалам,
журналам, каждодневным записям. Поэтому на многие вопросы посчастливилось получить
ответы. Удобрения (пресловутые смеси) не давали эффекта и в "Горках". Молоко
продавали по ценам, намного превышавшим государственные. Если бы не эта
чистая спекуляция (по советским законам) , ферма имела бы одни убытки. То же
касалось продажи бычков в племенные хозяйства. Цены, заламывавшиеся за помесных
бычков, были умопомрачительными. То же происходило и с кормами: нигде в
стране так ловчить не могли, выписывая на корм скоту продукты, которые любой
детский сад и столовая были бы счастливы приобрести за цены, по которым покупали
лысенкоисты, жившие как восточные цари:
"В июне 1962 года на свиноматок с поросятами и хряков [а их всего в это
время было около 40 штук - B.C.] списано 1254 кг пшеницы, 654 кг овса, 4564
кг картофеля, 300 кг цельного и 300 кг снятого молока, 354 кг мясокостной и
104 кг рыбной муки без разнесения в кормовой ведомости по числам месяца, без
указания суточных норм кормления, без подписи главного зоотехника и
утверждения директором хозяйства".
Вес списанных кормов превышал 7,5 тонн! И это количество высококалорийных
продуктов якобы ухитрились съесть 40 животных свиного рода за месяц! По 6,3
кг сухого веса в день на голову3. Когда уж тут разносить разносолы по
ведомостям , когда, наверное, и до дома дотаскивать было тяжеловато.
Еще более интересными оказались сведения о курицах с цыплятами. Всего их на
птицеферме числилось около тысячи штук, и были они не просто прожорливыми, а
обладали изысканным вкусом: не просо клевали, а за неделю - с 24 по 30 апреля
3 Нормы кормления свиней при мясном откорме: от 1,3-1,5 кг (при живом весе 14-20 кг)
до 4,0-4,5 кг (при живом весе 100-110 кг).
1964 года - помимо многого другого сожрали:
"6000 шт. яиц, 72 кг творога и 132 кг снятого молока".
Как уже было сказано, курицы неслись плохо, в среднем на несушку в месяц
приходилось меньше 6 яиц. Сколько из яиц удавалось вывести цыплят, комиссия
не сообщала, и даже если сотую часть творога и молока пустили на корм
"молодняка птицы" (как значилось в ведомости), то и в этом случае их аппетиту можно
позавидовать!
Это беззастенчивое воровство, ставшее нормой в лысенковском хозяйстве, не
было, конечно, уникальным. Но масштабы уворованного и наклонность к
гурманству поражали.
Попытка Лысенко
отвергнуть результаты
проверки Горок Ленинских
Когда работа комиссии была закончена и текст доклада вчерне составлен, его
передали Лысенко для ознакомления. В ответ он подготовил длинный документ из
смеси почти детских обид и упреков и одновременно яростных нападок по многим
поводам. Он жаловался на то, что члены комиссии были непочтительны в той
мере , как бы ему хотелось, не обращались к нему за разъяснениями, не обсуждали
"вопросы, относящиеся к науке", с другой стороны, он почти в каждом абзаце
твердил, что члены комиссии извратили слова и дела руководителя Горок и
исполнителей его предначертаний. "Клевета", "злостная клевета", "клеветнические
измышления", "намеренный обман", "кривое зеркало" - этими и подобными
эпитетами пестрел весь текст. До этого комиссия столкнулась с фактом утайки
справки ветврача Комарова о масштабе выбраковки животных, не удовлетворявших
"теории" Лысенко. Лысенко и Иоаннисян постоянно заявляли, что они работают в
соответствии с новыми законами биологии, не изучают передачу свойств от
родителей потомкам, а ВОСПИТЫВАЮТ ЗИГОТЫ, формируют эмбрионы в нужном им
направлении, поэтому у них НИКОГДА выбраковка не имела места. Жидкомолочных коров у
них якобы возникнуть не может, и, следовательно, браковать было нечего.
Однако корова - это объект строгой финансовой отчетности. Как Иоаннисян не
исхитрялся, но следы забоя некондиционных животных в бухгалтерии оставались.
И комиссия раскопала эти следы, уличив Иоаннисяна в обмане. Конечно, эта
практика забоя "неподходящих" коров изобличала прежде всего Лысенко, не
желавшего (или не умевшего) смотреть правде в глаза и продолжавшего твердить,
что на его ферме не было ни одного случая отступления от выдвинутого им
закона. В последний раз он об этом широковещательно объявил на Пленуме ЦК партии
в феврале 1964 года, когда он заявил: "За десятилетний период... ни одно
животное не было выбраковано по причине жидкомолочности".
Для политикана, каковым являлся Лысенко, обвинение в том, что он ввел в
заблуждение коллегиальный орган руководства партии, было тяжким и наиболее
опасным. Поэтому в самом начале замечаний по докладу комиссии он вопрошал:
"выходит, что я говорил на Пленуме ЦК КПСС неправду? Пусть комиссия назовет
хотя бы одну корову из нового помесного жирномолочного стада, которая была на
нашей ферме выбракована именно по причине ЖИДКОМОЛОЧНОСТИ. Такого факта у нас
на ферме не было. Нет его и до сих пор...".
Говорилось это совершенно голословно, так как в приложенных к докладу
таблицах клички коров были приведены и был строго доказан факт выбраковки коров
молодого возраста, то есть коров помесных, главным образом, из-за
жидкомолочности. Общее число выбывших за 10 лет коров (забито, продано, пало) составило
огромную цифру - 68% от всего стада (54 коровы из 79 помесных). Лысенко же в
связи с этим утверждал: "все эти таблицы к разбираемому вопросу никакого
отношения не имеют".
Пришлось теперь комиссии давать еще и "Разъяснения в связи с замечаниями
академика Т.Д. Лысенко" и в них перечислить несколько наиболее показательных
случаев выбраковки.
Возможно, Иоаннисян тщательно скрывал от своего шефа эти данные. Но крыть
приводимые комиссией факты Лысенко было нечем. Он на самом деле обманул
партийные органы, когда утверждал, что ни одна корова не была выбракована из
стада по причине жидкомолочности.
Помимо своей воли Лысенко своими "Замечаниями..." выпукло охарактеризовал
стиль поступков не комиссии, а своих. Ни один ученый с такими аргументами в
руках не стал бы называть работу проверявших его коллег клеветнической, не
оспаривал бы все выводы. Особенно характерным стало то, что главный для него
лично пункт - об утаивании информации - он попросту обошел. Трудно сказать,
на что он надеялся в эти дни, какого чуда ждал. Но что ждал - это несомненно.
Он оттягивал время, пока писал "Замечания", пока требовал встреч и
объяснений. Надежда на спасение не покидала его, так как и он, и директор
Экспериментальной Базы Ф.В. Каллистратов упрямо обвиняли комиссию в подлоге,
злостной клевете, непонимании специфики "Горок Ленинских" и в
непрофессиональности. Поэтому и шли в ход обвинения. Поэтому и звучало рефреном: не хотим эту
комиссию - она - "предвзяточная", давай другую, а там мы еще посмотрим!
Публичное обсуждение
доклада Комиссии
Тем временем Келдыш торопился довести дело до конца. 22 апреля комиссия
обсудила текст подготовленного доклада с Лысенко. Он стоял на своем, говорил,
что комиссия работала необъективно, допустила многочисленные извращения и
лично его оклеветала, но конкретных возражений так и не последовало. 3 мая он
переслал в Президиум Академии наук текст "Замечаний". В тот же день
представил свои замечания Ф.В. Каллистратов и заместитель директора по
административно-хозяйственным вопросам "Горок Ленинских" B.C. Бендерский. Каллистратов
утверждал с первой строки: "В докладе и выводах комиссии по отдельным
вопросам допущено необъективное суждение", причисляя к "отдельным вопросам" все
основные выводы комиссии.
B.C. Бендерский писал, что: "За... 15-летний период не было никаких санкций
со стороны вышестоящих органов и других административных и финансовых
организаций за нарушения сметно-финансовой дисциплины", что жилья строят много.
"Увеличена площадь детских учреждений со 100 койкомест до 160 койкомест.
Расширена амбулатория, в которой работают 5 врачей вместо ранее работавших 2
врачей. Значительно расширено благоустройство дорог, тротуаров (до 41455 кв.
м). На территории усадьбы дороги все асфальтированы".
И далее в том же духе.
Затем наступили летние каникулы. Замечаниями и несогласиями Лысенко умело
затягивал сроки принятия решения. Только 31 августа 1965 года упоминавшиеся
выше "Разъяснения Комиссии в связи с замечаниями академика Т.Д. Лысенко" были
приняты в аппарате Президиума. Теперь вроде бы вся подготовительная работа
была завершена.
На 2 сентября, уже очень спеша, Келдыш назначил открытое обсуждение всех
материалов на совместном заседании Президиума АН СССР, Коллегии Министерства
сельского хозяйства СССР и Президиума ВАСХНИЛ. В этот момент для Лысенко
должно было стать ясным, что дело проиграно, и он струсил. Он позвонил
Келдышу и сообщил, что на заседание не придет. В тот же день он написал президенту
АН СССР письмо, в котором попытался еще раз оспорить нападки на него:
"Глубокоуважаемый Мстислав Всеволодович!
Вчера, 31 августа 1965 г., Вы сообщили мне, что 2 сентября будет совместное
заседание... по рассмотрению доклада комиссии... Вы мне передали также проект
постановления указанного совместного заседания.
. . .во вчерашней устной беседе я опять же говорил Вам, что комиссия в своем
докладе возвела на меня совершенно незаслуженное тяжелое обвинение.
Так, на стр. 22 доклада комиссии говорится: "Академик Т.Д. Лысенко
утверждал с трибуны Пленума ЦК КПСС (февраль, 1964 г.), что за десятилетний период
ни одно животное не было выбраковано из стада по причине жидкомолочности. В
действительности это не так".
Я утверждал и продолжаю утверждать, что это злостная клевета... на ферме за
десятилетний период ни одно животное не было выбраковано из стада по ПРИЧИНЕ
ЖИДКОМОЛОЧНОСТИ...
Я считаю, что главная причина всей истории с обвинением меня заключается в
том, что члены комиссии и те, кто разбирают ее доклад, не знают, что
существует ТАКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ, исходя из которой можно жидкомолочное стадо
коров за 5-7 лет путем скрещивания превратить в жирномолочное стадо без
выбраковки жидкомолочных пвыщепенцевп...
Выходит, теперь пусть академик Лысенко говорит сколько ему угодно... все
равно этому не поверят... Разговоры же Лысенко о какой-то действенной
прогрессивной биологической теории - это просто так себе, обман.
Комиссия заявляет, что эта теория не подтверждается...
Всю свою жизнь я развивал и буду развивать, в единстве с колхозно-совхозной
практикой, прогрессивную биологическую теорию, которая всегда пользовалась
поддержкой партии и правительства. Я уверен, что и теперь и дальше партия и
правительство поддерживают и будут поддерживать прогрессивное
материалистическое направление в науке...
Мстислав Всеволодович, без проверки справедливости высказанного мною
заявления с трибуны Пленума ЦК КПСС (в феврале 1964 г.) я не вижу смысла
обсуждать на объединенном заседании все остальные вопросы, изложенные в докладе
комиссии, допустившей не только многочисленные извращения, но и злостную
клевету в мой адрес. И так как, несмотря на мои просьбы, руководство
объединенным заседанием не принимает меры по проверке достоверности возведенного на
меня тяжкого обвинения, я не могу принимать участия в этом заседании.
Уважающий Вас
академик Т.Д. Лысенко
1 сентября 1965 г.".
Возможно, он еще надеялся, что в отсутствие его персоны разбор дел не
состоится, а, оттянув время, позже удастся что-то поправить (не потому ли он
ссылался на поддержку партией и правительством всего безупречно
материалистического) . Но это уже было не в его силах. Заседание состоялось в назначенное
время. Председательствовал Келдыш, а вместе с ним за столом сидели два
министра - сельского хозяйства и совхозов, президент ВАСХНИЛ, в зале находились
наблюдатели из отделов науки и сельского хозяйства ЦК партии.
Открывая заседание, Келдыш зачитал полученное им накануне письмо Лысенко и
обратился к присутствующим с короткой речью. Он напомнил о факте утайки от
комиссии отчета ветврача Комарова:
"В связи с этим я заявил академику Лысенко, что он сам не содействовал
дальнейшему выяснению вопроса, не представив справки", и продолжал:
"Он ответил мне, что, по его мнению, эта справка отношения к делу не имеет.
Я сказал академику Лысенко, что, по-моему, он поступит неправильно, если не
явится на совместное заседание, так как он подотчетен Президиуму Академии
наук СССР и должен принимать участие в любом обсуждении работы "Горок
Ленинских" , которые подотчетны Президиуму Академии".
Келдыш внес предложение рассматривать вопрос в отсутствие Лысенко. Все
участники единогласно с этим согласились.
Примечательно, что, не явившись на совместное заседание президиумов
академий и коллегии министерства, Лысенко, помимо своей воли, дал всем понять, что
никто иной, как он сам, не желал серьезного разбора. Все прежние жалобы и
последнее письмо об этом говорили. Факты же, которые вскрыла комиссия, не могли
быть оспорены. Несмотря на то, что и в Президиуме ВАСХНИЛ и в Коллегии Мин-
сельхоза было много его явных и скрытых сторонников, никто из них не решился
взять его под защиту, настолько ярки были обвинения Лысенко в делах,
несовместимых с именем ученого.
Комментируя отчет комиссии, профессор Н. А. Кравченко, руководивший группой
специалистов, проверявших работу по животноводству, сказал:
"... факты таковы. Никаких методик ведения научных исследований.
Селекционно-племенного плана нет. Бонитировка скота не проводится. Данные
биометрически не обрабатываются. Достоверность не вычисляется. Нет учета кормов и их
остатков, что делается даже на опытных станциях, но даже имеющиеся записи
рационов и те не хранятся. И это [происходит] , как ни странно, в лаборатории
академика, официального лидера мичуринского направления...".
Остановился Кравченко и на постулатах "теории" Лысенко:
"Все эти положения, как показал проведенный анализ, несостоятельны. Это
несомненно. Его гипотеза не подтвердилась, она потерпела крах. По законам
развития науки ее следует отбросить, убрать с дороги, чтобы она не мешала,
заменить более правильной гипотезой и вернуться на путь дарвинизма, генетики и
зоотехнии.
Это главный решающий вывод нашего обследования".
Было отмечено, что рекомендации Лысенко о замене всего стада, если бы они
были применены в масштабах всей страны, несли в себе заряд разрушительной
силы:
"Это... трудный, болезненный процесс, грозящий заболеваниями, яловостью и
даже падежом. И если бы исполнилось задуманное академиком Лысенко, это было
бы для страны равносильно стихийному бедствию. Сколько бы мы потеряли молока,
мяса, кожи и поголовья!".
Как помним, Лысенко делал всё возможное, чтобы выполнить свою программу, и
Министерство сельского хозяйства СССР шло ему навстречу, а в 1962 году, после
посещения "Горок" Хрущевым и Сусловым, соответствующее постановление вынес
Совет Министров СССР. Можно благодарить лишь небо за то, что Лысенко, подобно
"ничьей бабушке" из Вороньей слободки Ильфа и Петрова, не верил в
искусственное осеменение, а то бы команда Иоаннисяна успела наплодить такую уйму
помесных коров и бычков, что трудно даже и вообразить. Но и того, что они успели
сделать, было предостаточно. В Молдавии, где с восторгом встречали любые
предложения Лысенко и Иоаннисяна, "было осеменено около 90% маточного
поголовья. .. для восстановления того, что было испорчено таким скрещиванием,
потребуется десяток, а, может быть, и больше лет".
Были приведены также данные десятилетней проверки "теории" минерального
питания, проведенной "всеми зональными и отраслевыми институтами и крупнейшими
областными опытными станциями, расположенными как в нечерноземной, так и в
черноземной зонах Советского Союза":
"действие тройной органо-фосфорно-известковой смеси... было почти в полтора
раза ниже, чем навоза, ... а последействие органоминеральных смесей на второй
и последующей культурах было значительно слабее, чем обычных доз навоза".
Что можно было возразить против заключения научных учреждений, вовлеченных
в проверку, причем многолетнюю, лысенковских псевдоидей? Казалось бы ничего.
Но даже на этом заседании директор "Горок Ленинских" Каллистратов попытался
опорочить выводы комиссии и ученых. В конце заседания, когда выступили все
желающие, Келдыш обратился к сидящим в зале:
"Я удивляюсь: мы пригласили академика Лысенко, который не пришел, и тов.
Каллистратова, и секретаря партийной организации, и тов. Иоаннисяна, - что же
они молчали?".
Кто-то в ответ выкрикнул из зала: "Иоаннисяна не приглашали", хотя Келдышу
лучше было знать, кого он приглашал на заседание, да и оно, к тому же, было
открытым, и руководитель всех работ по животноводству Иоаннисян, если бы он
был настоящим и честным ученым, уверенным в правоте своего дела, не мог не
добиться, чтобы его допустили отстаивать свою точку зрения и с вниманием бы
выслушали. Но совсем не такими были лысенкоисты. Спор за научную истину был
им чужд. Совместное заседание представителей нескольких ведомств хорошо это
продемонстрировало. Обратимся еще раз к стенограмме:
"С места
Секретаря партийной организации тов. Позднякову приглашали. Она здесь.
М.В. Келдыш
Хорошо. Вызывает удивление, что товарищи отмалчивались. Как это понять?
Ф.В. Каллистратов, директор научно-экспериментальной базы "Горки Ленинские"
Я подготовился к выступлению и хотел записаться в прениях, но после того,
как вы сказали о прекращении прений...
М.В. Келдыш
Если бы вы заявили, что желаете выступить, мы бы вам дали слово.
Ф.В. Каллистратов
Вы сказали, что прения прекращаются. Во всяком случае, я не отмалчивался.
М.В. Келдыш
Если вы хотите высказаться, мы вам дадим слово.
Ф.В. Каллистратов
Если вы настаиваете, я выступлю. (Шум в зале).
М.В. Келдыш
Что значит "настаиваем"? - уже буквально взорвался Президент.
После этого Каллистратов был вынужден начать свое выступление, но стиль его
был как две капли воды похож на всегдашние попытки лысенкоистов
изворачиваться , лгать, использовать политический подтекст в любых научных диспутах.
Казалось бы, уже нечем возразить, доклад комиссии, выступления всех до одного
специалистов вскрыли ту обстановку, которая царила в подведомственном Калли-
стратову научном учреждении. Однако и сейчас, действуя по старинке, он
пытался мутить воду:
"После того, как я внимательно выслушал доклад тов. Тулупникова и все
прения, - сказал он, - мне хочется сделать только одно основное замечание: в
результате всего сказанного создалось впечатление, что наше хозяйство никуда не
годное. Но ведь это совсем не так. За 37 лет моей работы в этом хозяйстве
совместно с коллективом, не было дня, чтобы наш коллектив не добивался
наилучшего выполнения решений партии и правительства по подъему сельского
хозяйства.
... А сложилось впечатление, что это хозяйство никуда не годное. Почему?
Потому что данная комиссией оценка необъективна".
Каллистратов предложил гипотезу, объяснявшую такое неправильное поведение
членов комиссии:
"На минуточку вдумаемся, товарищи, почему так сложилось? Я никого из
присутствующих не обвиняю, я считаю, что комиссия просто преподнесла этот
материал не совсем добросовестно...
Я очень уважаю и тов. Лесика и тов. Тулупникова, и не считаю, что они
сделали это по доброй воле, но их ввели в заблуждение или они закрыли глаза".
Далее он настаивая на том, что урожаи на базе самые что ни на есть
замечательные, что все это результат правильных теорий Лысенко. Он высказывал
надежду, что еще найдутся люди, которые повернут всё вспять:
"До бесконечности благодарю Президиум за то, что он собирается опубликовать
материалы комиссии. Цифры... приведенные в докладе комиссии, прямо
подтверждают эффективность органоминеральных удобрений.
Утверждают, что нет производственных опытов, нет данных, которые бы
говорили, что можно при меньших затратах удобрений в компостах получить такие же
хорошие урожаи. Прекрасный материал! Если он будет опубликован, специалисты
разберутся в нем. Мне страшно жаль, что наше совещание проходит в этом
хорошем зале. Я был бы счастлив, если бы все здесь присутствующие были на наших
полях и посмотрели на урожай этого года в хозяйстве".
О каких он мечтает специалистах, способных разобраться иначе в цифрах,
представленных комиссией, Каллистратов не говорил, и лишь предпоследняя фраза
его выступления давала прозрачный намек на это:
"Я убежден, что наш коллектив при том большом внимании, которое уделяется
ему со стороны районного комитета партии, высоко оценивающего хозяйство...
сумеет в очень короткий срок добиться еще лучших результатов и устранить все
недочеты, имеющиеся в хозяйстве".
Пора было заканчивать заседание. Келдыш зачитал проект решения. Президиум
Академии наук СССР, Коллегия Министерства сельского хозяйства СССР и
Президиум ВАСХНИЛ сочли, что "комиссия дала вполне объективную оценку работы базы и
вскрыла ряд грубых нарушений методики научных исследований и ведения
экспериментального хозяйства", и постановили:
"1. Утвердить доклад и выводы комиссии по проверке деятельности научно-
экспериментальной базы и подсобного хозяйства "Горки Ленинские"...
2. Материалы комиссии опубликовать в журналах "Вестник Академии наук СССР",
"Вестник сельскохозяйственной науки", "Агробиология".
3. Считать целесообразным отменить приказы по Министерству сельского
хозяйства СССР от 5 января 1961 г. 3 "Об опыте работы экспериментального хозяйства
"Горки Ленинские" по повышению жирномолочности коров" и от 26 июня 1963 г.
"Об улучшении работы по созданию жирномолочного стада крупного рогатого скота
в колхозах и совхозах путем использования племенных животных, происходящих с
фермы "Горки Ленинские", и их потомков".
Считать недопустимым использование помесных быков из "Горок Ленинских" в
племенных хозяйствах...".
Так бесславно закончилась последняя попытка Лысенко и его приближенных
сорвать обсуждение данных комиссии. Последний пункт постановления гласил:
"7. Считать целесообразным рассмотреть вопрос об укреплении руководства
научно-экспериментальной базы и подсобного научно-производственного хозяйства
"Горки Ленинские"".
В переводе с бюрократического на общепринятый язык этот пункт означал, что
на подотчетном Академии наук СССР хозяйстве "Горок Ленинских", наконец-то,
будет наведен порядок, что сменят руководителей и что начнется на базе
настоящая научная работа, созвучная достижениям науки XX века. Теперь надлежало
быстро привести в исполнение совместное решение могучих ведомств.
Только ни в этом, ни в последующих годах ничего такого не произошло. И
Лысенко, и Каллистратов, и Иоаннисян, и другие лысенкоисты отделались легким
испугом. Все их замечательные исследования, по их - замечательным - методикам
("разным в разных случаях") так и продолжались на экспериментальной базе.
Возможные кары, которыми постращали лысенкоистов, потихоньку ушли в небытие.
Приказов, правда, по министерствам, кои бы обязывали перенимать опыт "Горок"
в непременном виде, больше не издавали. Но всё, что касалось самих
лысенкоистов, осталось по-прежнему. Конечно, не надо быть наивными людьми и думать,
что это стало возможно по недосмотру кого-то из подчиненных Келдыша или из-за
его мягкосердия. Несомненно, в окончательное принятие мер вмешались высшие
силы, которым и Келдыш перечить не мог.
Но и то, о чем на заседании было сказано и по поводу чего было принято со-
вместное решение, претворять в жизнь никто не спешил. Спустя два с половиной
месяца был опубликован стенографический отчет о заседании. Многие ученые в
стране ждали, что Лысенко, пойманный, наконец-то, с поличным, уличенный и в
сокрытии данных о его научной работе и в обмане высших органов партии, будет
исключен из Академии наук СССР, из Академии наук Украины и из Академии сель-
хознаук. Разве совместимо звание академика и вранье в научных делах? Но об
этом никто даже не заикнулся. В тридцатые годы из рядов АН СССР исключили
несколько великих российских ученых, оказавшихся на Западе, а вот своего врага
науки Академия наук Советского Союза подвергать справедливой мере наказания и
исключать из своих рядов не стала. Могут возразить, что этого им, возможно,
не дали сделать вожди коммунистической партии. Но прошли годы, история убрала
коммунистов из власти, Российская Академия наук могла более не обращать
внимания на приказы Политбюро ЦК ВКП(б) и вернула звания академиков тем, кто уже
давно мертв, но чьи имена украшали эту академию - академикам Чичибабину и
Ипатьеву. Был лишен посмертно звания академика Д.Т. Шепилов. А как с Лысенко?
Это грязное пятно на Академии так и остается не смытым, так же как остаются
по сей день членами АН Вышинский, Молотов и преступник Сталин, подручные
Лысенко Нуждин и Авакян. Когда-то придет пора исключения их из ареопага самых
мудрых!?
Только в середине 1966 года, после того как тайным голосованием члены
Отделения общей биологии АН забаллотировали Лысенко при переизбрании его на новый
срок в качестве директора, этот институт, наконец, был реорганизован, и на
его базе создан Институт общей генетики АН СССР (сегодня он носит имя Н.И.
Вавилова). В него влилась огромная лаборатория Н.П. Дубинина, который в том
же 1966 году, одновременно с генетиком Б.Л. Астауровым, стал академиком АН
СССР. Но практически все ведущие сотрудники Лысенко остались на местах.
В одесском институте жизнь текла размеренно и без волнений. Там вообще все
остались на местах, тематику не поменяли и работали, как прежде. Лишь к
началу 70-х годов ценой длинных пешечных ходов в кресло директора был продвинут
молодой кандидат наук из своих А.А. Созинов, который вооружился отверткой,
клещами и кувалдой, пошел к воротам и сбил доску с указанием, что здесь
размещается институт имени Лысенко. Официально никто институт этого имени не
лишал .
Сам Лысенко сохранил за собой научное руководство "Горками Ленинскими", где
под его началом трудилось более ста научных сотрудников. Академик трех
академий спокойно продолжал участвовать в сессиях и общих собраниях академиков,
неизменно проходил в первые ряды на каждом из таких заседаний и не стеснялся
вступать в дискуссии и споры.
В конце каждого года он, как и требуется от академика, отправлял в академии
пухлый том своих отчетов. Они, как две капли воды, напоминали его прежние
писания. В них по-прежнему утверждалось, что генов нет, что ДНК - это молекула,
не обладающая никакой наследственной специфичностью. Лысенко продолжал
считать, что открытые им "законы" - наивысший продукт человеческой мысли.
Летом 2000 года нынешний директор Всероссийского института растениеводства
имени Н.И. Вавилова Виктор Александрович Драгавцев вспоминал в беседе со
мной, что в бытность его ученым секретарем Научного Совета по генетике и
селекции АН СССР в 1970-м году ему позвонил Келдыш и попросил познакомиться с
отчетом, направленным Лысенко в Академию Наук. К отчету, напечатанному на
почти двухстах страницах, была приложена записка Лысенко, в которой он упрямо
повторял, что "обогатил мировую науку открытиями метода яровизации, теории
стадийного развития, превращения видов, летних посадок картофеля, создания
жирномолочных коров". Однако, по его словам, его работе "мешают такие
вейсманисты-морганисты как Дубинин, Астауров, Рапопорт, Эфроимсон и другие". Он
называл их врагами народа и предлагал с ними расправиться. Драгавцев отправил
отчет на отзывы трем специалистам, получил отрицательные заключения и вернул
все материалы Келдышу. Неожиданно через несколько дней Драгавцева попросили
срочно прилететь в Москву из Новосибирска, чтобы встретиться с Келдышем.
Встреча состоялась поздним вечером. Просьба, высказанная Келдышем, была
простой: каждый год, получая очередной том с отчетами Лысенко и его сотрудников,
не направлять его на отзывы, а запирать в сейф. "Не надо подымать волну", -
просил ученого секретаря Президент АН СССР, которому приходилось видимо не
сладко из-за жалоб Лысенко властям на то, что его продолжают зажимать. Так
Драгавцев и стал делать. Один из отчетов Лысенко (за 1972 год) сохранился у
него до настоящего времени. Разбирать его мало интересно. За государственные
деньги сын Лысенко Олег и еще с десяток подписавших отдельные разделы
сотрудников наглядно показывали, как они фальсифицировали науку, как обманывали - в
лучшем случае - сами себя. Например, начинавший отчет Олег Трофимович
Лысенко, сначала твердил4 (это себе даже представить трудно - в 1972 году! - через
19 лет после открытия двойной спирали ДНК, через 11 лет после расшифровки
генетического кода!):
"Мичуринская биологическая концепция в корне противоречит, отвергает
вейсманистскую биологическую концепцию во всех ее вариациях /менделизм, морганизм
и теперешняя генетика/. Вейсманистская концепция... считает, что в теле
/соме/ организмов, в их клетках находится особое вещество наследственности...
и размножается это наследственное вещество только путем точного копирования.
Поэтому, качество наследственного вещества не зависит от условий жизни, от
качества пищи, из которой строится живое тело организмов.
Мы исходим из того, что наследственность - это не какое-то вещество, а
врожденные потребности живого тела в условиях жизни.".
На двадцати с лишним страницах сын Лысенко описывал примитивнейшие опыты по
якобы установленному им доказательству "адекватной внешним условиям
наследственности" . Он перечислял число растений посеянных, взошедших, развившихся,
ставших наследственно новыми и прочее и прочее. Эти опыты десятки раз были
повторены учеными в лысенковское время, и ни у кого, ни в СССР, ни в других
странах не было найдено описываемого эффекта, пора было остановиться, но он
продолжал твердить:
"Приведенный нами результат опытного посева 10 сентября 1971 г. при
внимательном его разборе показывает, что не только сома, но и все наследственные,
т.е. врожденные свойства у опытных растений построились из новых условий, из
новой пищи. Построились путем ассимиляции этой пищи организмом. И при
повторном развитии в новом поколении эти новые условия являются уже наследственно
требуемыми. Потребность в них стала врожденной. В этом и заключается адэкват-
ность наследственной изменчивости.
Ст. научн. сотр. к.б.н. /О.Т.Лысенко/".
Однажды в 1973 или 1974 году Президент ВАСХНИЛ П.П. Лобанов также дал мне
очередной отчет Лысенко и попросил подготовить заключение о нем: "Посмотрите,
- сказал Павел Павлович, - может что-то новенькое появилось, все-таки двести
бездельников у него в "Горках" числятся". Я внимательно прочел, но ничего
нового не нашел. У меня сложилось впечатление, что Лысенко ничего из критики в
его адрес не принял, и принимать не собирался. Он просто счел все замечания
за желание врагов снести его и оставался в твердом убеждении, что стоит
измениться веяниям наверху, стоит появиться другим людям у кормила власти - и о
нем вспомнят, вернут снова наверх и "мичуринский подход" восторжествует.
Возможно, при его необразованности он, даже если бы захотел, не смог понять ни
4 В это время на биологических факультетах страны по-прежнему преподавали профессо-
ра-лысенковцы (например, в Томске, там же состоялась последняя конференция лысенков-
цев), но уже преподавалась и генетика.
значимости новых успехов науки, ни смысла предъявляемых к нему требований.
Всё свободное время Трофим Денисович проводил теперь в столовой для
академиков и членов-корреспондентов на Ленинском проспекте. Во всяком случае, те,
кто регулярно посещал столовую, неизменно заставал там Лысенко. Он не менялся
внешне, может быть, чуточку сгорбился. Новым стало лишь его подобрение к тем
членам Академии наук, которые подвергались гонениям.
Так, однажды он столкнулся у раздевалки с членом-корреспондентом Левичем,
подавшем заявление о желании выехать из СССР. Левича склоняли на всех углах,
позорили, может быть, ждали, что от нервотрепки у него не выдержит сердце или
голова. Никогда раньше Лысенко с ним близок не был, а тут шагнул навстречу
(рядом стояли люди, с интересом эту сцену наблюдавшие), протянул руку для
приветствия и, обменявшись рукопожатиями, спросил:
- Ну что, Вениамин Григорьевич, тяжко?.. Мне тоже тяжко!
Другую историю мне рассказали Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна
Боннэр. Мы разговаривали вскоре после их возвращения из незаконной 7-летней
ссылки в Горький. Зашла речь о Лысенко, о том, как он в день провала Нуждина
в академики шипел на Сахарова: "Таких под суд отдавать надо". И вдруг Елена
Георгиевна спросила:
- Андрей, а ты помнишь, как мы пришли с тобой в академическую столовую, я
что-то замешкалась у входа, а ты прошел в центр обеденного зала, как вдруг
из-за углового стола вскочил Лысенко, подбежал к тебе, церемонно протянул
руку и многозначительно ее пожал.
Андрей Дмитриевич, вспомнив эту курьезную выходку "колхозного академика",
добавил:
- Да, тогда как раз было опубликовано письмо академиков, обвинявших меня в
предательстве родины, и Лысенко, видимо, хотел показать, что мы оба гонимы -
и он, и я.
Так и оставался Лысенко до конца своих дней (он умер в 1976 году) научным
руководителем "Горок Ленинских". Каллистратов тоже года три работал
директором, потом его проводили на заслуженный отдых, и вскоре он скончался. Иоанни-
сян же преспокойно работал в том же качестве в "Горках" и ходил очень важный.
Как и следовало ожидать, распри между приближенными колхозного академика
после его смерти резко обострились. Ученики "великого ученого" начали, как
умели, сводить друг с другом счеты. Путь для этого они знали один: писать в
разные инстанции доносы и кляузы - подписанные (в одиночку и коллективно) и
анонимные. В ответ на эти жалобы партийные органы стали посылать одну за
другой комиссии в академию наук (куда смотрит руководство?) и на места (почему
бузите?). Увидев, что ничего с таким коллективом поделать нельзя, что
поломать сложившиеся традиции не удается - разве выгнать бы их всех разом, да
куда ж их выгонишь, они тут так мясом обросли - Президиум АН почел за благо
тихонько отделаться от "Горок". Беспокойное хозяйство передали в ВАСХНИЛ, а там
его прикрепили к новому институту - Всесоюзному НИИ прикладной молекулярной
биологии и генетики. У Иоаннисяна нашлись могучие покровители из числа
академиков и молодых докторов наук и в этом институте. Его вскоре ввели в Ученый
совет этого лишь по названию молекулярно-биологического института. Иоаннисян
подготовил докторскую диссертацию на старом материале, раскритикованном
двадцатью годами раньше.
Очередной
запрет на
критику
Итак, вскоре после снятия Хрущева с поста 1-го секретаря ЦК партии критика
Лысенко в печати была прекращена. Многими это воспринималось как следствие
мистического умения Лысенко выходить сухим из воды при любых вождях. Однако
определяющими в этом подавлении критики были не личностные качества Лысенко,
а консолидированная воля коммунистов, остававшихся у руля высшей власти.
Лысенко был продуктом их системы, потому публичное осуждение самих себя было
для них святотатством. На нескольких инструктажах руководителей средств
массовой информации в Отделе печати ЦК КПСС было разъяснено, что больше не
следует разжевывать публично суть ошибок Лысенко. Вообще, нужно перестать
склонять его имя на страницах книг, газет и журналов. Был дан рецепт ответов
авторам, которые будут настаивать на публикации как полностью антилысенковских
материалов, так и отдельных "выпадов" против него: мы не можем допустить
разжигания страстей, эмоции на пользу не пойдут, и, вообще, мы против
РЕВАНШИЗМА.. Это словечко - реваншизм - было отныне взято на вооружение
идеологическими работниками.
И все-таки первоисточник желания подавить критику оставался непонятным.
Многие полагали, что Трофима Денисовича защищает Суслов, и он-то как
идеологический лидер во всем виноват. Конечно, роль М.А. Суслова была и на самом
деле велика. Но мне удалось получить документ, который показал, что и другие
руководители аппарата ЦК партии приложили руку к прекращению "гонений" на
Лысенко. Из этого документа становится понятным, какие рассуждения были
положены в основу запрета, равно как и то, каким мощным оставался политический
диктат в советской стране.
"ЦК КПСС
За последние два года на страницах газет, научно-популярных и литературно-
художественных журналов опубликован ряд полезных выступлений крупных ученых и
специалистов по различным разделам биологии и сельскохозяйственной науки. Но
в то же время стали появляться статьи, в которых авторы неправильно
информируют читателей о современном состоянии биологии, в частности генетики и
селекции, допускают необоснованные выпады против отдельных советских ученых,
без достаточно глубокой научной аргументации анализируют развитие
биологической науки за последние тридцать лет. Во многих статьях чрезмерно
восхваляются научные достижения одного из направлений в генетике, некритически
воспринимаются идеалистические высказывания таких зарубежных генетиков как Мёллер,
Дарлингтон и др. Вред от подобной односторонней "дискуссии" углубляется еще и
тем, что к ней подключились некоторые журналисты, некомпетентные в вопросах
биологии.
Идеологический и Сельскохозяйственный отделы ЦК КПСС в декабре 1964 года
провели совещание редакторов газет и журналов, на котором были высказаны
пожелания о необходимости квалифицированного, правдивого освещения современных
проблем науки и практики. После этого совещания поток односторонних
необъективных публикаций уменьшился, но в последнее время вновь стали появляться
субъективистские выступления, наносящие ущерб интересам развития науки и
воспитанию научных кадров и специалистов.
Редакционные коллегии некоторых газет ("Комсомольская правда",
"Литературная газета") и журналов ("Вопросы философии", "Генетика", "Бюллетень
Московского общества испытателей природы") неправомерно берут на себя роль арбитров
в научных спорах, предоставляя возможность выступать определенной группе
авторов , односторонне освещающих положение в биологической науке.
В журнале Союза писателей Казахстана "Простор" (7, 8 за 1966 год) была
опубликована "документальная повесть" Марка Поповского "1000 дней академика
Вавилова". Как выяснилось, это сокращенный вариант последней части книги
"Человек на глобусе", подготовленной к печати издательством "Советская Россия".
Повесть не раскрывает облика крупного ученого Н. И. Вавилова. Односторонне
подбирая исторический материал, автор предпринял попытку к идеализации,
канонизации Н.И. Вавилова. В то же время другой, не менее крупный ученый И.В. Ми-
чурин, преподносится как садовод, "которому привычнее держать в руках секатор
и лопату, нежели перо".
М. Поповский подробно и довольно недвусмысленно останавливается на причинах
и обстоятельствах гибели Вавилова. Вывод автора сводится к тому, что в смерти
Н.И. Вавилова и других крупных ученых повинны вся окружающая их политическая
обстановка в стране, а также Лысенко и его соратники. Автор искусственно
сгущает краски, создавая картину страшных репрессий, террора и беззакония,
царившего в описываемый им период.
"... один за другим сменяются наркомы земледелия, заведующие отделом
сельского хозяйства ЦК. "Враги народа" - повсюду и, конечно же, в сельском
хозяйстве. Их ищут и находят, находят и списывают на них все промахи, просчеты,
ошибки и просто глупости".
"Каждый арест потрясает Николая Ивановича: исчезают люди, которых он знает
много лет и уверен в них. . . Директор института просил вернуть в Ленинград
арестованных и высланных, ручался за их лояльность...
Спасти, однако, не удалось никого".
Эта повесть Поповского в значительно смягченной форме повторяет содержание
лекций, с которыми он выступал перед широкой аудиторией ученых, студентов и
преподавателей в ряде институтов Москвы и Ленинграда. В лекциях на тему о
причинах и обстоятельствах трагической гибели Вавилова он заявлял, что с
санкции прокурора СССР получил доступ к следственному делу Вавилова и
разрешение на оглашение содержащихся в нем документов. Во время лекции в Институте
растениеводства в Ленинграде он зачитал протоколы очных ставок, показания
Вавилова, якобы вырванные у него под пыткой, акт о его смерти, "доносы" на
Вавилова, написанные умершими и ныне здравствующими учеными. Лектор, присвоив
себе функции и следователя, и прокурора, и судьи, обличал многих людей и
фактически призывал к расправе с ними.
Такие выступления писателя М. Поповского кажутся тем более странными, что в
прошлом он с не меньшей страстностью превозносил "народного ученого" Лысенко,
называя его "замечательным ученым и патриотом".
Не случайно также появление статей, в которых в форме научного анализа
работ И.В. Мичурина делается попытка доказать, что великий преобразователь
природы был простым садоводом, не способным осмыслить полученные им факты, и что
сейчас мичуринские принципы селекционной работы находятся в "стороне от
главной магистрали развития биологии". Наиболее показательна в этом плане статья
Н.П. Дубинина "И.В. Мичурин и современная генетика" (ж. "Вопросы философии",
6, 1966 г.).
Выступления, умаляющие значение работ замечательного ученого-биолога и
селекционера , тем более непонятны, что одновременно авторы фетишизируют Н. И.
Вавилова - выдающегося ученого-ботаника, но не лишенного недостатков и ошибок
в своих теоретических обобщениях.
Из анализа многочисленных публикаций последних лет создается впечатление,
что некоторые ученые пытаются использовать имя Н.И. Вавилова в целях расправы
со своими научными противниками. Это напоминает недалекое прошлое, когда с
той же неблаговидной целью некоторые ученые, журналисты и философы
злоупотребляли именем И.В. Мичурина. Такие методы чреваты опасностью возрождения
монополизма и администрирования в науке.
Не может быть оправдана в этой связи позиция редколлегии журнала "Вопросы
философии", начавшей систематическую публикацию материалов, односторонне
освещающих положение в биологической науке и предоставившей страницы журнала
Л.П. Эфроимсону [воспроизведена орфография оригинала: должно быть В.П. Эфро-
имсону, - B.C.], статьи которого выделяются особой резкостью, граничащей с
грубостью. Во многих публикациях на страницах газет и журналов этот автор
бездоказательно и огульно отрицает все достижения отечественной биологической
и сельскохозяйственной науки за последние три десятилетия. Подобная
"критика ", ставящая под сомнение труд многих честных советских ученых вызывает
недоумение не только у наших специалистов, но и у научной общественности
братских социалистических стран.
Публикация отдельными органами печати дискуссионных статей, не
подкрепленных экспериментальным материалом, преследующих в основном реваншистские,
"разоблачительные" цели, может создать у читателей, особенно молодежи,
неуверенность, породить нигилизм, неверие в ученых, научные идеалы и принципы.
Подобная практика ведет к разжиганию страстей, обостряет отношения в среде
биологов, отвлекает их на ненужные споры, не способствует созданию нормальной
творческой атмосферы.
Все это стало возможным вследствие ослабления требовательности со стороны
партийных комитетов и руководителей органов печати к обеспечению
квалифицированного освещения современных проблем науки и практики.
Отделы пропаганды, науки и учебных заведений и Сельскохозяйственный отдел
ЦК КПСС считают необходимым обратить внимание ЦК КП союзных республик,
крайкомов, обкомов партии, руководителей органов печати, а также Президиумов АН
СССР, ВАСХНИЛ, АМН СССР и академий наук союзных республик на необходимость
повышения ответственности работников за качество и идейную направленность
публикуемых материалов.
Просили бы поручить товарищу Демичеву П.Н. [кандидату в члены Политбюро ЦК
КПСС - B.C.] выступить по этому вопросу перед руководителями органов печати,
радио, телевидения и кино.
В. Степаков С. Трапезников В. Карлов
" " февраля 1967 г.".
После этого обращения заведующих Отделами ЦК КПСС - науки СП.
Трапезникова, идеологического - В. Степакова и сельского хозяйства - В.А. Карлова
высшие руководители ЦК приняли меры. Критика Лысенко была совершенно запрещена.
А это лишний раз подтвердило стремление руководителей партии любой ценой
сохранить "незыблемость основ и непоколебимость устремлений".
Последние попытки
лысенкоистов:
1970 год - письмо 24-х
Трагедия советской биологической науки заключалась в том, что не один
Лысенко заскоруз в своих знаниях и убеждениях. Легион его единомышленников был
легионом таких же людей полузнания, и не гнать же их было отовсюду! Да и кем
заменить? В составе только Академии наук СССР числились полноправными
академиками люди, насквозь пропитанные лысенкоизмом, и среди них Лукьяненко, Пус-
товойт, Ремесло. Каждый из них помимо титула академика двух академий был
дважды увенчан золотыми звездами Героев социалистического труда.
Действительные члены (академики) ВАСХНИЛ практически поголовно были лысен-
коистами. У многих из них лацканы парадных пиджаков сверкали золотом звезд
Героев и орденов Ленина. Когда чинно и важно они усаживались на заседаниях
академии сельхознаук, стоял малиновый звон от позвякивающих наград, и в
глазах рябило от такого средоточия в одном месте уймы высочайших знаков отличия.
Всем им Лысенко был ближе и понятнее, чем любой из его критиков. Им был далек
смысл трудов классиков науки, неведома терминология. Что уж было говорить о
сути новых научных открытий - темна вода во облацех.
Пожалуй, единственно, что изменилось всерьез в академической среде, -
отношение к публикации работ особо одиозных лиц из сонма лысенкоистов. Был закрыт
журнал "Агробиология", и вместо него стал выходить чуть больший по объему
журнал "Сельскохозяйственная биология". Трудно стало выпускать откровенно лы-
сенкоистские книги, хотя любые работы этой направленности, но без вызывающей
рекламы, выходили в свет. После многолетнего главенства лысенкоисты
почувствовали себя ущемленными и пошли в бой. В августе 1969 года Глущенко и философ
Г.В. Платонов подготовили текст коллективного обращения к Брежневу -
тогдашнему генеральному секретарю ЦК партии. Документ был разослан по разным
городам для ознакомления. Лысенко был в стороне от этой затеи: Глущенко с ним
больше не поддерживал связи после того, как Лысенко попробовал выставить его
перед Келдышем в роли бездельника, а невыдержанный Глущенко посмел возражать
и разразился скандал. Самые близкие к Лысенко люди своих подписей также не
поставили. Окончательный вариант подписали те, кто формально в сотрудниках у
Лысенко уже не числился.
Готовивших письмо активно поддерживал член Коллегии и начальник Главка
сельхозвузов Министерства сельского хозяйства СССР В.Ф. Красота, заведовавший
одновременно кафедрой в Московской ветеринарной академии. Красота, в
частности, намеревался собрать совещание заведующих кафедрами генетики и селекции
сельхозвузов страны и принять на нем резолюцию в поддержку взглядов,
излагаемых в обращении к Генсеку партии. Но о тайной подготовке этого совещания один
из "активистов" - профессор Кемеровского мединститута Е.Д. Логачев рассказал
сотрудникам Института генетики и цитологии в Новосибирске. Тут же слух
распространился , после чего президент Общества генетиков и селекционеров имени
Н.И. Вавилова академик Б.Л. Астауров и Председатель Научного Совета по
генетике и селекции АН СССР (одновременно директор Института цитологии и генетики
Сибирского Отделения АН СССР) член-корреспондент АН СССР Д.К. Беляев
направились к министру сельского хозяйства СССР В.В. Мацкевичу, который их успокоил
и посоветовал не переоценивать действенности усилий сторонников лысенкоизма.
Тем временем обращение в ЦК подписали несколько наиболее авторитетных
"мичуринских" биологов и некоторые из второстепенных людей - для массовости.
Совещание, планировавшееся Красотой, не состоялось, но письмо к Брежневу было
отправлено. В окончательном виде под ним стояли 24 подписи:
"Генеральному секретарю ЦК КПСС
Товарищу Л.И. Брежневу
Глубокоуважаемый Леонид Ильич!
Глубокая тревога за судьбы советской биологической и сельскохозяйственной
науки, за развитие мичуринского направления в биологии побудила нас
обратиться к Вам с настоящим письмом.
Программа Коммунистической партии Советского Союза акцентирует внимание
биологов на выяснение сущности явлений жизни, вскрытии биологических
закономерностей развития органического мира, изучении физики и химии живого. Вместе
с тем в программе подчеркивается необходимость - "шире и глубже развивать
мичуринское направление в биологической науке, которое исходит из того, что
условия жизни являются ведущими в развитии органического мира".
В послевоенный период развития советская биология, и особенно селекция,
достигли немалых успехов. Многие сорта пшеницы, подсолнечника, сахарной
свеклы, хлопчатника и других сельскохозяйственных культур, выведенные советскими
селекционерами, оказались лучше массовых стандартов и получили широкое
распространение не только у нас, но и в ряде других стран Европы и Азии.
После Октябрьского Пленума ЦК КПСС (1964 г.) был положен конец недооценке
изучения тонких структур живых тел, благодаря чему достигнуты известные
положительные результаты также и в исследованиях в области молекулярной биологии,
генетики, биофизики, биохимии.
Однако в ходе устранения ранее имеющихся в биологической науке изъянов,
ныне допускаются не менее существенные ошибки.
В последние годы под флагом борьбы против ошибочных положений Т.Д. Лысенко,
многие биологи и органы печати выступают против идей И.В. Мичурина, И.П. Пав-
лова, а также против основных принципов Ч. Дарвина. Между тем хорошо известна
высокая оценка теории Дарвина основоположниками марксизма-ленинизма. В.И.
Ленин, Коммунистическая партия и Советское Правительство всегда оказывали
решительную поддержку И.В. Мичурину, И.П. Павлову, К.А. Тимирязеву и их
последователям. Это принесло немалые положительные результаты не только науке, но и
практике. Подавляющее большинство новых сортов сельскохозяйственных растений
и новых пород домашних животных создаются дарвиновско-мичуринскими методами.
И вот теперь мы наблюдаем совершенно непонятный поворот против того
направления в биологической и сельскохозяйственной науке, который получил со
стороны В.И. Ленина горячее одобрение и поддержку.
Издательства, научные и популярные журналы прекратили выпуск работ,
написанных с позиций дарвиновско-мичуринского направления в биологии. В учебниках
и учебных пособиях учение Мичурина и его последователей не раскрывается, а
если и затрагивается, то преподносится читателю в обедненном и
деформированном виде. Многие ученые, журналисты стремятся представить мичуринское
направление как старомодное, устаревшее, якобы опрокинутое бурным развитием
молекулярной биологии и генетики, вооружающими человечество более эффективными
методами преобразования живой природы. Массы читателей поверили, что
современная генетика овладела необычными способами быстрого выведения новых сортов
растений и пород животных, что генетика вплотную подошла к ликвидации
опаснейших болезней (как, например, рак) , что генетики своими методами могут
улучшать весь человеческий род.
Со всей ответственностью мы можем заявить, что это не так. Во-первых, новые
направления, достигшие успехов в изучении живого на молекулярном уровне, не
только не отвергают, но чаще всего подтверждают и дополняют принципиальные
положения теории Дарвина-Мичурина, рассматривающей закономерности живой
природы преимущественно на уровне организма и вида. Во-вторых, хотя
представители молекулярной генетики выдали в последние годы немало векселей на
эффективное обслуживание сельскохозяйственной практики, их реальные результаты в этом
отношении пока еще более чем скромны. Мы отнюдь не считаем, что так будет и
дальше. По-видимому, в будущем вклад молекулярной генетики окажется более
значительным. Но, ожидая и активно содействуя этому, было бы нелепым и
опасным игнорировать или недооценивать проверенные практикой дарвиновско-
мичуринские методы генетики и селекции. Поэтому необходимо использовать и
всемерно развивать научные направления, ведущие к выяснению истины и ее
плодотворному использованию на практике.
Недооценка и третирование мичуринского учения является, на наш взгляд,
одним из проявлений чернительских тенденций по отношению к нашему прошлому, ко
всему тому, что делалось в Советском Союзе до 1953 г. Против этих пагубных
тенденций справедливо выступают некоторые партийные органы (например, журнал
"Коммунист", 3, 1969 г.). Однако волна чернительства, особенно в биологии,
отнюдь не останавливается. Некоторые советские генетики печатают за рубежом
свои книги и статьи, где стараются всемерно опорочить мичуринское учение.
Весьма опасным в идеологическом отношении является проникновение в
советскую печать попыток буржуазных идеологов подменить марксистское понимание
законов общественного развития социально-биологическими концепциями, против
чего в свое время решительно выступал В. И. Ленин. Часть советских генетиков и
некоторые журналисты упорно добиваются восстановления в правах давно
отвергнутых жизнью концепций евгеники, философские журналы вместо того, чтобы
организовать отпор подобным настроениям, все более устраняются от идейной борьбы,
сводя предмет философии к законам мышления. В некоторых своих статьях эти
органы становятся прямо на антимичуринские и антипавловские позиции.
Все это говорит о настоятельной необходимости внести существенные
коррективы в организацию научных исследований, освещение в печати и преподавание био-
логических дисциплин. В частности, представляется целесообразным:
1) Восстановить в правах мичуринскую тематику исследований в научных
учреждениях и вузах, прекратить дискредитацию сторонников мичуринского учения.
2) Представителям мичуринского направления предоставить равные права со
сторонниками классической генетики в публикации результатов научных
исследований .
3) Устранить наблюдающуюся ныне односторонность в освещении биологических
проблем в программах, учебниках и учебных пособиях.
4) Предложить редакциям журналов по философии и биологии усилить борьбу
против идеалистических и метафизических концепций в биологии, против
биологических концепций в социологии.
Некоторые из нас писали по этим вопросам в своих индивидуальных письмах в
различные партийные учреждения и печатные органы. Однако письма эти, как
правило, оставались без последствий. Вот почему мы решили обратиться лично к Вам
с коллективным письмом. Мы твердо верим, что наше письмо не задержится на
полпути и Вы ознакомитесь с ним, что ЦК КПСС, следуя и здесь ленинским
заветам, примет должные меры для сохранения и дальнейшего развития теоретического
наследия выдающегося советского ученого И.В. Мичурина
30 января 1970 г." (155).
Из ЦК партии эту смесь жалоб и ссылок на авторитет Ленина переслали в
Министерство сельского хозяйства СССР. 8 апреля 1970 года в зале заседаний
Коллегии Министерства состоялась встреча Министра В. В. Мацкевича и Президента
ВАСХНИЛ П.П. Лобанова с некоторыми из тех, кто подписал письмо (И.Е. Глущен-
ко, В.Н. Ремесло, П.Ф. Гаркавым, С.А. Погосяном, Г.В. Платоновым и другими).
Министр поступил как мудрый ребе, выслушавший всех спорящих и каждому из них
наедине сказавший, что он прав. Как и представителям генетиков, ходокам лы-
сенкоистов было предложено не волноваться. Было обещано доложить об этой
встрече в ЦК партии и поправить неправых. Мацкевич также сказал, что кое-кто
из генетиков очень преувеличивает свои достижения, и что это неверно.
Существенного значения эта акция не имела, хотя была использована в
качестве охранного мероприятия, предотвратившего увольнение кое-кого из мелких
сошек "на местах".
Как ни противились молекулярной биологии и генетике увенчанные наградами
столпы лысенкоизма, им пришлось самим, хотя бы для вида, демонстрировать
интерес к этим направлениям. Каждый из них старался обзавестись одним-двумя
молодыми сотрудниками со знанием молекулярно-биологических дисциплин. Так в
Одессе в институте имени Лысенко в лаборатории директора института Мусийко
появился сынок одного из местных партийных князьков, который без всяких
затруднений получил командировку в США на год, чтобы познакомиться с модными
штучками. У Ремесло в Мироновке объявился свой "молекулярщик", у Лукьяненко
свой. В 1970 году при Президиуме ВАСХНИЛ было решено создать Лабораторию
молекулярной биологии и генетики, и меня пригласили заведовать ею, обещав и
средства, и кадры, и в будущем институт. По моей инициативе был создан
Научный Совет по молекулярной биологии и генетике ВАСХНИЛ, в котором я стал
ученым секретарем. Совет был наделен кое-какими полномочиями, но я быстро
убедился в том, что любые начинания такого рода обречены на провал без смены
общей обстановки.
Примеров тому было много. Вот один из них. Была подготовлена докладная
записка для правительства, в которой мы объяснили, что для успехов селекции
нужно безотлагательно повести работу так, чтобы все выводимые сорта
проверялись не только на урожайность, но и на биохимические свойства, устойчивость к
болезням и т.п., и указали, что работа селекционера может быть улучшена, если
использовать достижения мировой науки, наладить контроль за многими
параметрами, причем, благодаря совершенным приборам есть возможность постоянно вести
такой контроль. Председателю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину записка
понравилась , вопрос был вынесен на заседание Президиума Совета Министров СССР.
От нас срочно потребовали список приборов, названия фирм, производящих их
(естественно, в СССР соответствующая промышленность отсутствовала), стоимость
оборудования. Параллельно, крупные селекционеры и сельскохозяйственные
научно-исследовательские институты подтвердили, что они не откажутся от
оборудования , если им его дадут. Заседание Совета Министров состоялось, программа по
созданию в стране почти 50 селекционных центров, оснащенных самым современным
оборудованием, была принята. Потекла валюта, Минвнешторх1 получил задание на
закупку больших партий оборудования, целых лабораторий. А через четыре года
выяснилось, что, например, из более сотни закупленных голландских теплиц не
установлено и трети, и они пришли в негодность, что большинство американских
ультрацентрифуг, японских спектрофотометров, шведских установок для
разделения веществ и им подобных приборов не используют. Модные дорогостоящие
игрушки никому по-настоящему не понадобились, обученных кадров не было, обучать их
никто не спешил, а старикам со звездами все эти сверкающие никелем новинки
нужны были для отвода глаз. Явные и потенциальные лысенкоисты прекрасно
обходились без них, хотя приезжим комиссиям не ленились показывать рекламное
оборудование, объясняя, что вот-де и они переключаются на новые рельсы, работают
на уровне лучших мировых стандартов.
* * *
Что оставалось тем не менее непонятным, почему же в Советском Союзе власти
поощряли лысенок? Почему все они были увенчаны звездами героев, отмечены
Ленинскими и Сталинскими премиями, почему властители пошли на то, чтобы
отправить в тюрьмы, лагеря, расстрелять цвет науки их страны, чтобы заместить
ученых людьми полузнания? Многие исследователи новейшей истории, особенно в
среде западных ученых, выражали удивление по поводу алогичности поддержки
руководителями коммунистической партии и советского правительства таких деятелей,
как Лысенко (а подобных ему было немало и в других сферах советской науки).
То, что лысенки наносили вред стране, так очевидно, что не понимать вреда от
их деятельности не мог любой здравомыслящий человек, не говоря уже о
государственных деятелях.
Равным образом социальный феномен выноса лысенок на верхи науки не может
быть списан на "культ личности Сталина". И сам Лысенко не был "маленьким
Сталиным в биологии", и лысенкоизм в целом не был простой внутридисциплинарной
разновидностью сталинизма. Не случайно Хрущев поддержал Лысенко, одновременно
борясь с "культом Сталина".
В общем виде объяснение такого поведения советских лидеров может быть
сведено к простой фразе: успех лысенок был обусловлен особенностями сложившегося
в СССР тоталитарного строя, заложенного при самом его основании
коммунистическими вождями. Вожди так безоглядно и решительно ухватились за Лысенко и
противопоставили его проекты (может быть, правильнее сказать - его посулы и
заверения) трезвым расчетам ученых, потому что посулы соответствовали их
верованиям, а вера была для них важнее многого другого.
Феномен веры коммунистических вождей в Лысенко и ему подобных основан на
нескольких факторах, в основном связанных с несвободой в тоталитарном
обществе, с превалированием элементов веры в насаждаемую идеологию и неверия в
свободно развиваемую науку.
Сначала они поверили, что дешевая по своим запросам яровизация поможет
победить засухи. Ученые со своей стороны предлагали им много программ, которые
способствовали бы защите от губительных засух (мелиорацию, химизацию,
введение влагосберегающей агротехники, направленную селекцию засухоустойчивых сор-
тов). Однако внедрение в практику любой научно обоснованной программы
требовало ассигнований со стороны правительства, создания деловых взаимоотношений
с учеными и гибкости в управлении страной. При этом ни один ученый не мог
выдать гарантии, что, применив на практике одну из программ, можно разом
разрешить все трудности. А Лысенко именно одним махом всех убивахом, без сомнений,
самокопаний и уверток. Его предложения были столь приятны, столь дешевы и
столь решающи, что мигом привлекли интерес начальственных персон. Поскольку
же борьбой же с засухой власти в основном занимались на разговорном уровне,
поскольку финансовые и научные ресурсы тратили на милитаризацию страны,
слушать скептиков-ученых никто не стал.
Внедрение мифов в общественное сознание стало вообще важнейшим советским
феноменом. Например, вожди нового общества предпочитали декларировать скорое,
неминуемое наступление эры коммунизма. Эта мечта преобладала в речах и
декретах, ею грезили все - от верхов до активистов на низах. При этом ни верхи, ни
низы даже не понимали, что это за штука - коммунизм, и до хрипоты спорили об
определении понятия, о грядущей мировой революции, о легком изменении природы
человека и связанных с ними, далеко не шуточных категориях.
Наука, с её педантизмом, дотошностью, несговорчивостью и отверганием мифов,
вызывала раздражение вождей, начиная с Ленина, страдавшего комплексом
неполноценности из-за того, что ему не довелось нормально поучиться в
университете, познать языки, прикоснуться к чтению серьезных трудов ученых.
Ученые были неспособны дать в руки властям равные лысенковским обещания и
при этом вызывали дополнительное раздражение властей тем, что критиковали
"новатора". Чтобы парировать научную критику, Лысенко пошел естественным для
него путем: словесно отверг законы науки, объявил их несуществующими или
вредными. Осторожность ученых и их критическое отношение к "практику" Лысенко
были охарактеризованы "практиком" как вылазки против передовой науки, а еще
чаще лысенкоисты выставляли ученых перед коммунистическими властителями как
идейных врагов и вредителей.
Развязанная коммунистами истерия поиска идейных врагов, расправы с ними
самыми кровавыми способами, создала условия, при которых всех несогласных с
избранниками Коммунистической Системы квалифицировали однозначно как врагов
Системы, и это породило криминально-уголовную практику расправы с научными
противниками Лысенко.
Еще одной из причин, обеспечивших восторженный прием Лысенко, был классовый
принцип, избранный в качестве решающего при создании красной интеллигенции. В
этом смысле даже уж совсем мелкая деталь могла подкупить власти: исполнителем
идеи сына выступил его отец - действительно простой, не обученный ни в каких
школах и заочных институтах крестьянин, который открыто заявил о горячем
желании помочь партии и правительству. В атмосфере тех лет, ежедневно
подпитываемой рассуждениями о неиссякаемых творческих силах простых людей, их
желании и возможности горы своротить, но светлое будущее построить ("коммунизм не
за горами - твердили этим людям ежечасно"), реальность таких подвигов
представлялась сама собой разумеющейся. Большинству вовсе не казалось тогда
странным, что малограмотные, темные люди легко преодолевали затруднения,
непосильные для пусть и грамотных специалистов, но "превозмогших лишь казенное
образование" (выражение Ленина). Ведь последние, как утверждалось, почти
поголовно заскорузли в своих "берлогах", и потому оскудели - и кругозором и по
части смелости. Поэтому даже не возникал вопрос, а как же это могло случится,
что наука и ученые прошли мимо столь легкой возможности утроить урожаи одним
махом. Ответ был заранее сформулирован: а им это и не нужно было вовсе, они,
"казенные специалисты", о себе, о своей выгоде и наживе пеклись, а не о благе
народном помышляли.
Также помогли признанию Лысенко властями его личностные качества. Он проде-
монстрировал недюжинное умение контактировать с руководителями разного ранга,
удачно держал речи перед самим Сталиным, зная, кого нужно во время этих
выступлений позорить и как нужно щедро раздавать обещания на будущее. Не
пасовал он и в общении с самыми маститыми учеными, часто просто третируя их. В
сталинское время многие просоветские литераторы умилялись личными талантами
Трофима Денисовича Лысенко, его нетерпимостью к идейным противникам, его
бульдозерным темпераментом и медвежьей хваткой. Умиляться тут вроде бы было
нечему, хотя нельзя не признать, что в своей социальной среде он действовал
умело и успешно. Он вырос на специфической питательной среде, он следовал
укоренившейся в коммунистическом обществе морали, использовал стиль
поведения, признаваемый обществом за единственно правильный. Конечно, Лысенко
проявил недюжинный талант в политиканстве, добился на этом пути наивысшего
успеха , стал едва ли не самой колоритной фигурой в научной сфере Страны Советов.
Но его личностные черты, индивидуальные оттенки ни в коей мере не могут
заслонить собой непреложность общей картины, характерологическая сущность
которой никак не может быть сведена (или низведена) до уровня личностного
феномена.
Слабая образованность большинства новых вождей не только вела к вере в
мифы. Она была важным фактором, который обусловил принижение уровня научных
исследований, низведение научного творчества до положения служанки при дворе Её
Величества Практики. Примат практицизма в науке, требование к науке быть
обращенной лицом к практике было внедрено в советском обществе безоговорочно.
Лысенко это хорошо уловил с самого начала своей карьеры и быстро приучился
противопоставлять в своих декларациях практический подход теоретическому.
Деятельность Лысенко и его сторонников развертывалась на фоне непрестанного
повторения в качестве исходной предпосылки нужды в срочной помощи практике со
стороны науки. Заявления о практической направленности их работы сопровождали
все выступления лысенкоистов, всегда противопоставлявших себя тем ученым,
которые якобы бездумно мудрствуя и постыдно теоретизируя, лишь поедали хлеб
народный .
Однако отнюдь не Лысенко был первым глашатаем этой псевдоистины о
вредоносной сути теоретизирования в науке. Споры относительно роли науки в обществе и
назначении научных исследований велись в России на протяжении долгого
времени. Отметим, что еще в пору дискуссий между западниками и славянофилами о
путях развития России выкристаллизовалась идея о полезности, с учетом русского
характера, рационального практицизма, о несокрушимой сметливости русского
мужика и его способности "завсегда дать фору в сто очков" образованному немцу
или, хуже того, жиду-хитрецу, победителем в любых состязаниях всенепременно
выйти. Саркастичный Салтыков-Щедрин, создавший обобщенный образ
"изобретателя" , равно как и некоторые другие русские писатели тяготели к побасенке об
особой практичности русского мужика. Особенно живуча эта побасенка в народном
восприятии, и персонажи бажовских сказов в относительно недавнее время были
созданы, чтобы иллюстрировать уверенность в могучих талантах русских мужиков,
"университетов не проходивших", но от природы сообразительных, знающих всё и
находящих самобытные выходы из ситуаций, в которых иноземцы пасуют. Правда,
не всё однозначно и в литературе. На протяжении десятилетий существует
убеждение что Лесков восхищался народными умельцами, когда вывел образ Левши -
одного из трех тульских умельцев, подковавших аглицкое чудо - махонькую
стальную блоху с подзаводом, способную усами шевелить и дансе танцевать в
разные стороны и уморительно подпрыгивать. Не могу понять, почему при всех
умилительных разговорах о косоглазом Левше никто не обращает внимание на
такую деталь: Лесков рассказывает, что подковки на ножки блохе, даже в мелко-
скоп не очень различимые, Левша со товарищами прибил, и усами шевелить блоха
еще могла, но дансе она больше уже не танцевала и вообще обездвижела. Поэтому
нельзя отрешиться от мысли, что Лесков просто насмехался над своим Левшой,
бравшимся всех иноземцев подправлять и улучшать, но неспособного ни дело до
конца довести, ни сделать так, чтобы всё не испортить.
Преувеличенные восхваления, на деле принижающие достоинства самобытных
умельцев из народа, с течением времени стали переноситься в иную сферу -
начали муссировать тезис о ненужности "сугубых наук" для обучения и без того
умелых русских людей. Новоявленные Митрофанушки прикрывались этими байками
как щитом и восставали против излишних мудрствований.
В возникшем с новой силой во второй половине XIX века в России споре о
пользе наук "отвлеченных" и "практичных" большинство в русском обществе
склонялось на сторону противников чистого знания. Конечно, в России
дореформенной, когда крепостное право давило значительную часть народа, научные занятия
были такой редкостью, что отрицать или защищать тезис о пользе академических
знаний для массы русского народа, было нелепо. В то время этот спор был лишен
базы и оставался лишь соревнованием в красоте воздушных построений. Но даже к
концу XIX века, когда в России была создана мощная промышленность, разрослась
сеть университетов и технических учебных учреждений, продуктивно работала
Российская Академия наук, старый диспут не только не затих, но возобновился с
небывалой силой.
На рубеже XX века в спор включился Л. Н. Толстой - и снова на стороне тех,
кто рассматривал науку лишь как служанку, приглашенную для утоления
сиюминутных нужд. Толстой полагал, что отдача от научных исследований была бы выше,
если бы интересы ученых сместились в сторону решения чисто практических
задач , а это бы, в свою очередь, могло облегчить жизнь народную.
Вместо этого, заявлял Толстой, "все ученые заняты своими жреческими
занятиями, из которых выходят исследования о протоплазмах, спектральных анализах
звезд и тому подобному". Написано это было в 1885 году в нашумевшей статье "О
назначении науки и искусства", когда литератор настоятельно рекомендовал
ученым перестать заниматься всякой заумной дребеденью, повернуться лицом к
практике и особо говорил о биологах.
"Ботаники нашли и клеточку, и в клеточках-то протоплазму, и в протоплазме
еще что-то, и в той штучке еще что-то. Занятия эти, очевидно, долго еще не
кончатся, потому что им, очевидно, и конца быть не может, и потому ученым
некогда заняться тем, что нужно людям. И потому опять, со времен египетской
древности и еврейской, когда уже была выведена пшеница и чечевица, до нашего
времени, не прибавилось для пищи народа ни одного растения, кроме картофеля,
и то приобретенного не наукой...
Мы выдумали телеграфы, телефоны, фонографы; а в жизни, в труде народном,
что мы подвинули? Пересчитали два миллиона букашек! А приручили ли хоть одно
животное со времен библейских, когда уже наши животные были давно приручены?
А лось, олень, куропатка, тетерев, рябчик все остаются дикими", - сердито
выговаривал ученым великий писатель.
Такое отношение к науке было свойственно не одному Л.Н. Толстому. Отнюдь не
случайно в 1894 году при открытии IX съезда русских естествоиспытателей и
врачей в Москве К.А. Тимирязев - известный физиолог растений и публицист
горячо возразил приверженцам такого взгляда:
"С гораздо большим правом можно утверждать обратное, что наука... привела к
тем небывалым результатам в материальном, утилитарном смысле, именно
благодаря тому, что приняла и принимает все более отвлеченный, идеальный характер...
Ослепляющие нас приложения посыпались как из рога изобилия с той именно
поры, когда они перестали служить ближайшею целью науки. Только с той поры,
когда наука стала сама себе целью - удовлетворением высших стремлений
человеческого духа, явились как бы сами собой и наиболее поразительные приложения ее
к жизни: это - самый общий, самый широкий вывод из истории естествознания".
Тимирязев категорично резюмировал:
"Не в поисках за ближайшими приложениями возводится здание науки, а
приложения являются только крупицами, падающими со стола науки".
Затрагивал Тимирязев также вопрос, активно дебатировавшийся в те годы:
нужны ли одаренные ученые-одиночки или более успешными были бы коллективные
усилия группы средних по уровню мышления и изобретательности специалистов,
творчество которых подчинялось бы одной цели и контролировалось бы сверху? В
России в те годы стала весьма популярной идея артельного творчества обученных
нужному ремеслу людей, Это случилось благодаря широкой распространенности
среди читающей публики произведений социалистов и утопистов, равно как книг
Чернышевского и других публицистов социалистического толка. Тимирязев отверг
эту утопию:
"Никакая подобная искусственная организация, именно напоминающая
бюрократический прием "получения сведений", не подвинет науки. Артельное, даже
подчиненное строго-иерархическому контролю производство науки представляется мне
таким же невозможным, как и подобное производство поэзии".
Но в среде русской интеллигенции так считали далеко не все. Идея блага,
проистекающего из "приземления" научного труда, жила и крепла. Не умолкали
голоса людей, обвинявших ученых в оторванности от повседневной жизни, в
кастовости и паразитировании на теле общества. Популярным стал тезис о том, что
никаких особых талантов не требуется для того, чтобы стать продуктивным
ученым. "Не боги горшки обжигают", "И медведя можно научить зажигать спички" -
эти залихватские присказки не переставали звучать в преломлении к проблеме
роста талантов. В русской среде особенно популярным стал рассказ о выдающемся
успехе даже не в одной науке, а в науках вообще холмогорского паренька
Михаилы Ломоносова, пешком дошедшего до Москвы из-под Архангельска, обучившегося в
сказочно короткие сроки, а затем якобы покорившего весь современный ему мир
первоклассными работами, выдвинувшими имя Михаила Васильевича Ломоносова в
число великих умов человечества. Строки из ломоносовской оды
"Похвально дело есть убогих призирать,
Сугуба похвала для пользы воспитать:
Натура то гласит, повелевает вера...
И божественных Платонов
И великих, славных истинно Невтонов
Может и российская земля рождать"
были трансформированы в более привычные современникам стихотворные размеры,
и теперь у многих спорящих всегда наготове был убойный аргумент о легком
взращивании на российской почве быстрых разумом Ньютонов. Тимирязев возражал
против такого упрощенчества:
"... только в мозгу Ньютона, только в мозгу Дарвина совершился тот смелый,
тот безумный скачок мысли, перескакивающий от падающего тела к несущейся в
пространстве планете, от эмпирических приемов скотовода - к законам,
управляющим всем органическим миром. Эта способность угадывать, схватывать
аналогии, ускользающие от обыкновенных умов, - и составляет удел гения".
Но снова и снова ученые (то есть те, кто знали на своем опыте, что значит
научная деятельность) сталкивались с глухой стеной непонимания со стороны
большей части общества, непоколебимо уверенной в обратном.
В канун октября 1917 года и после него, в условиях смены старых порядков
новыми, спор о роли творческих исследований не прекратился. Так, весной 1917
года М. Горький говорил, обращаясь к ученым, литераторам, и в целом к
интеллигенции :
"Русская история сплела для нашего народа густую сеть таких условий, кото-
рые издавна внушали и до сего дня продолжают внушать массам подозрительное,
даже враждебное отношение к творческой силе разума и великим завоеваниям
науки. . . В представлении мужика ученый - это барин, а не работник, разбивающий
оковы духа...
Народ должен знать, что ныне он живет в атмосфере, созданной для него
именно наукой, - он не знает этого. Ему должно быть понятно, что барин,
собирающий в поле цветы, - не бездельник, а человек, который воспитывает деревне
агронома, что ситцевая рубаха на его плечах сработана на станке, который нельзя
создать, не зная математики, что лекарство врача явилось результатом
кропотливой работы ученого".
Эти слова были произнесены в момент, когда русский царь сложил с себя
обязанности монарха. В атмосфере эйфорического ликования либералов Горький,
всецело разделявший эти чувства, говорил:
"Вывод должен быть только один: наука, самая активная сила мира, должна
разрушить древнее недоверие к ней, коренящееся в русском народе, она должна
сорвать с народной души скептицизм невежества, должна освободить эту, всем
нам дорогую душу, от оков предрассудка и, окрылив ее знанием, вознести
русский народ на высшую стадию культуры".
Он продолжал:
"Нам, граждане, нужно организовать в своей стране ее лучший мозг... создать
для развития русской науки такие условия, которые дали бы ей возможность
свободного и бесконечного развития...
Чем выше поднимется свободно исследующая наука, тем шире ее кругозор, тем
обильнее возможность практического применения научных знаний к жизни, к
быту ..." .
Но уже в апреле 1918 года Ленин твердой рукой очертил рамки деятельности
Академии наук России, ограничив её работу чисто прикладными задачами:
анализом "рационального размещения промышленности", изучением наилучших путей для
её концентрации в зависимости от природных ресурсов, вопросами поиска новых
центров сырья, использования "водяных сил и ветряных двигателей вообще и в
применении к земледелию".
"Надо ускорить издание этих материалов [имелись ввиду его директивы о том,
как теперь надлежит развивать науку - B.C.] изо всех сил, послать об этом
бумажку и в Комиссариат народного просвещения, и в союз типографских рабочих, и
в комиссариат труда", - требовал Ленин. Вслед за ним с аналогичными
требованиями выступил Зиновьев. Ни слова о теоретических исследованиях даже не было
произнесено.
И хотя некоторые из вождей нового общества (Н.И. Бухарин, Л.Б. Каменев) на
словах поддерживали важность развития теоретических исследований, не
направленных непосредственно на разрешение утилитарных целей, среди руководителей
сохранялось негативное отношение к высокой науке. Дискуссия о призвании
ученых, о направленности их труда и о том, кому идти в науку, возродилась на
новой основе. Декларации о том, из кого следует формировать корпус "красных
спецов" и какими целями следует достичь решения этой задачи, говорили сами за
себя. Пожалуй, только голоса таких людей, как В.Г. Короленко и A.M. Горький
выбивались из согласно звучащего хора тех, кто считал дело науки посильным
для любого человека, в лучшем случае проявляющего любознательность и
смекалку, а в худшем просто командированного "грызть гранит науки". "Творчество
масс", "Инициатива миллионов" - эти и подобные им лозунги стали знамением
времени.
Особенно активно пропаганда привлечения в науку лиц с недостаточным
образованием, с отсутствием данных к продуктивному творчеству, но подходящих с
точки зрения классового происхождения и лояльного поведения, развернулась при
Сталине. Сильный в плетении интриг, но не способный к проявлению высших сто-
рон духовной деятельности, Сталин начал методично проводить в жизнь политику
недоверия к людям умственного труда, требовал насаждать в учебных и научных
учреждениях людей, преданных партии. Для "чудаков-ученых" настали тяжелые
времена.
Эта мрачная страница в истории отечественной науки еще не до конца
прочитана, еще во многом не осознана. Несомненно, что призывы Сталина (повторявшие
во многом императивы Ленина) встретили сочувствие у многих в стране, даже в
среде интеллигентов. Особенно в ходу был лозунг о привлечении в науку и
культуру выдвиженцев из народа. Тот же Горький, например, восхищался возможностью
приобщения к литературе только что познавших грамоту людей и тщился создать
новый вид творчества - летописи фабрик, заводов и колхозов, написанных
простыми людьми.
Разговоры о приближении науки к практике стали еще более популярными.
Осуждение "кабинетного стиля", "оторванности от жизни", "витания в эмпиреях"
стало широко распространенным. "Чистая наука" превратилась в предмет откровенных
нападок.
Лысенкоизм - общественное течение, опиравшееся на лозунг привлечения к
научной работе тысяч полуграмотных крестьян, объединенных в колхозы, - был
плоть от плоти таких представлений. На многих примерах было показано,
насколько пренебрежительно относились Лысенко и его клевреты к науке и ученым,
занятым не поверхностно-примитивным опытничеством, а глубокой проработкой
серьезных проблем, то есть деятельностью, требовавшей и обширных знаний и
глубокого ума. Особенно откровенно негативное отношение к науке и к деятелям
науки высказывал Презент - правая рука Лысенко и идеолог лысенковского клана.
Повторявшиеся этими людьми утверждения об озабоченности улучшением
сельскохозяйственной практики отражали два существенных для оценки лысенкоизма
момента - с одной стороны, собственный низкий уровень творческой активности лы-
сенкоистов и их неспособность (естественную в условиях недообразованности) к
глубоким исследованиям, а, с другой стороны, рожденный Лысенко особый метод
делания науки, вернее науки в кавычках, - метод рассылки по колхозам анкет и
оправдывания пользы от своих нововведений на основе якобы сообщаемых в
анкетах цифр. В то же время анализ повседневной практики лысенкоистов показывает,
что на самом деле ни Лысенко, ни его последователи на самом деле никоим
образом результатами "народных опытов" не пользовались и от них не зависели.
Постоянные апелляции лысенкоистов к простым колхозникам были примитивной и
пустой в своем содержании политической игрой.
В то же время следует заметить, что и сам Лысенко и его ближайшие
сподвижники не должны рассматриваться как люди недалекие и примитивные. Они,
действительно, были людьми полузнания, не прошедшими серьезную научную школу, но
это были умные и тонкие политиканы, лица, прекрасно разбиравшиеся в людях, их
психологии, весьма флексибильные к любым изменениям политического климата.
Они были хорошими организаторами, как правило, прекрасно ораторствовали на
популярные темы и легко приспосабливались как к среде партийных начальников,
так и к простонародью. В новом обществе их поведение неизменно встречало
хороший прием и рождало симпатии.
Постепенно, шаг за шагом, Лысенко теснил с "поля битвы" тех, кто оставался
на чисто научных позициях, и каждая маленькая победа над ними не только не
подрывала его реноме, а, напротив, прибавляла веса к его авторитету в глазах
руководства и большинства простых людей "на местах".
В целом, зарождение лысенкоизма и тем более разрастание его были
закономерными, вытекали из причин социальных, отражали реалии складывавшегося
общественного порядка. Аналоги лысенкоизма можно найти не только в биологии, но и
во всех других отраслях советской науки, а научные деятели, поступавшие
сходным образом, имелись во множестве. И поэтому приходится с болью за советское
общество признать, что если бы на сцену не вышел человек по фамилии Лысенко,
его место неминуемо занял бы другой такой же деятель, фамилия которого
звучала бы иначе, но основные действия которого были бы такими же. Так
складывались нормы поведения в те времена, что для любителя триумфов иного пути не
было, в таком поведении заключалась железная закономерность Системы.
Могила Т.Д. Лысенко в 2006 году. Он умер, но дух его
по-прежнему витает над российской наукой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
"Нет! - воскликнул я, - воспитание великое
дело, и мальчиков надо пороть под латинской
грамматикой".
А.А. Фет. Из письма к Л.Н. Толстому.
"Приятно и даже соблазнительно властвовать
над людьми, блистать перед другими, но есть
в этом и некий демонизм, опасность".
Герман Гессе. Игра в бисер.
За годы, пока я собирал материалы об истории лысенкоизма, читал речи,
статьи, книги, разыскивал живых свидетелей тех лет, знавших лично героев
случившейся драмы, - и из лагеря Лысенко, и из среды ученых, противостоявших ему, -
я невольно сживался с образами этих людей, они мне грезились наяву и во сне.
Их голоса звучали, как живые. Я снова видел перед собой Трофима Денисовича,
каким видел его в студенческие годы, - в вечно сереньком балахоне, в помятом
пиджачонке и в штанах с сальными пузырями, вздувшимися на коленках. Его
надтреснутый голос прорывался из строк статей и докладов. Его сухая жилистая
фигура, казалось, могла появиться в дверях. И мне хотелось бы еще раз увидеть
его, усесться за длинным столом в его маленьком неуютном кабинетике в
Тимирязевке, никак не соответствующем его величайшему посту, но так соразмерному с
его собственным неказистым видом.
В те годы я сам ходил в шитом-перешитом продувном пальтишке, вечно недоедал
и не задумывался над тем, а почему богатый академик и к тому же президент
щеголяет в таких нарядах? Что это - поза, демонстрация самого престижного в те
годы пролетарско-крестьянскохю происхождения или внутреннее кредо, отражение
цельности натуры, сущности этого сильного человека, целиком и полностью
отданного делам и не желающего знать ничего о внешних атрибутах, модных
портных, добротных вещах?
Я жил в общежитии, уехав от мамы, оставшейся в Горьком, пропадал дни и ночи
в лабораториях и аудиториях, был робким с девушками, поэтому мне и в голову
не приходила простая мысль, а как же смотрела на эту опрощенность его жена,
дети, почему академик, еще вовсе тогда не старый человек пренебрегает
внешностью, не следит за собой, неужели ему не хочется выглядеть получше перед
всегда оценивающими глазами окружавших его женщин? Что он - и ими пренебрегал?
Или совсем уж щекотливый вопрос: а были ли у него любимые женщины? И посещал
ли он театры, бывал ли на концертах, почитывал ли романчики, ходил ли в
гости? Были ли у него друзья задушевные? Не холуи, не прилипалы, каких около
столпов всегда уйма, а настоящие друзья. Встречался ли он с ними в домашнем
кругу, и если встречался - выпивал ли положенные на Руси сто грамм, а, может,
пятьсот? Ведь здоровый был мужик. Или вовсе спиртного в рот не брал? А как
относился к деньгам? Был скуп или, напротив, добр?
Сколько таких вопросов возникло у меня позже, и как мне хотелось узнать на
них ответы. Ведь, что ни говори, а я сжился с моим главным героем,
перечитывал, часто вслух, цитаты из его статей, силился вспомнить, как он сам говорил
в аудитории про то же. Я старался понять мотивы его действий и, если сказать
честно, не мог временами не испытывать уважения к его методичным, тонко
продуманным акциям.
Если в начале работы над книгой мне казалось кристально ясным, что Т.Д.
Лысенко - не просто посредственность, а отвратительный тип, монстр, негодяй, то
со временем я стал стремиться к тому, чтобы не навешивать в каждом случае
подобных ярлыков, а стараться подходить к любому из его поступков с
пригашенными эмоциями и холодной головой. При таком подходе я нередко не мог не отдать
должного изрядной смелости этого человека, его умению концентрировать силы,
парировать выпады врагов, прекрасно говорить на публике, решать
психологические задачи, выкарабкиваться из ловушек, вскакивать на ноги после падений. Он
был так слитен с эпохой, с её идеалами и героями, которых воспевали в книгах
и кинофильмах, которым старались подражать миллионы вырвавшихся из захолустья
простых девушек и парней, не умевших отличать истинных героев от таких вот
прилипал к времени.
В духе времени были и его фанфаронские жесты, вроде отправки телеграмм в
адрес "Москва. Кремль. Товарищу Сталину", и даже постоянное стремление
пускать пыль в глаза внешней "упрощенностью" - уже упомянутым помятым пиджачком
с загнутыми лацканами, старым дедовским сыромятным ремешком, засаленным и
скрутившимся в жгут, подпоясываться коим он предпочитал даже после того, как
его ученики подарили ему как-то шикарный ремень (так и не использованный
никогда их великим патроном). Отсюда же проистекала такая черта поведения, как
нежелание ставить студентам на экзаменах тройки или, упаси Бог, двойки, так
как за них лишали стипендий. (Впрочем, допускаю и иное объяснение: он мог не
ставить плохих отметок и из-за нежелания признать этим, что кто-то не хочет,
как следует, учиться по его предмету. А так, чем не почет: моим предметом все
занимаются увлеченно).
Среди даже относительно хорошо знавших Лысенко людей он умело поддерживал
легенду о собственной бессребренности, простоте в личной жизни. Лишь крайне
ограниченное число людей, буквально единицы, знали (да и те предпочитали при
жизни Лысенко об этом помалкивать) , что вся его простота была обманчива и,
как гласит русская пословица, была хуже воровства. Лысенко был одним из самых
зажиточных среди своих коллег. Его зарплата (и приплаты за участие во всяких
комиссиях и членство в Президиуме АН СССР) превышала зарплату самых именитых
ученых, полученная от Сталина "в подарок" дача под Москвой в живописном
местечке Мозжинка вблизи Звенигорода имела вид латифундии, одной за другой он
удостаивался наград в виде орденов, несших при Сталине ежемесячно немалые
материальные блага, трижды был удостоен Сталинской премии 1-й степени (по 200
тысяч рублей каждая), приличными были гонорары за газетные и журнальные
статьи и бесчисленные переиздания одних и тех же книг. Много лет он получал
крупные вознаграждения за "улучшение" сортов с помощью внутрисортовохю
переопыления . Такое вознаграждение было установлено постановлением Совнаркома
СССР в июне 1937 года и предусматривало выплату по 4 копейки с гектара всех
посевов в стране селекционным станциям и учреждениям, откуда этот сорт вышел,
и селекционерам-улучшател ям уже имевшихся сортов ("...не выше 50 000 рублей в
год", как гласило это постановление). Ж.А. Медведев образно сравнил надежды
получить дополнительный урожай от таких "внутрисортовых переопылений" с
попытками увеличить объем воды в бутылке посредством ее встряхивания. Но это не
мешало властям платить фантастические по тем временам деньги за посев
"обновок" на миллионах гектаров.
В очерках советских журналистов его живописали как своеобразного аскета.
Его и на самом деле не волновало, как он одет, обут. Он мох1 десяток лет
таскать одно и то же пальтецо, месяцами завязывать всё те же потрепанные шнурки,
во многих местах порвавшиеся и связанные узелками, - и это его нисколько не
смущало: раз можно завязать, чтобы ботинки не болтались, - то и ладно, не в
узелках дело.
Да, он не читал беллетристики, вообще читал мало и по пустякам не
разбрасывался. Никто не помнил, чтобы он по собственной инициативе хоть раз сходил в
театр, на концерт, - он жил в ином мире и ничуть этим не тяготился. (Впрочем,
одно исключение из правила стало мне известно: чета Глущенко пригласила как-
то Трофима Денисовича в Центральный Еврейский театр на "Короля Лира". По
словам Ивана Евдокимовича Глущенко игра Михоэлса потрясла Лысенко, и он попросил
Берту Абрамовну Глущенко сводить его еще раз в еврейский театр на тот же
спектакль; но, кто знает, может быть давнишнее чувство Лысенко к жене
Глущенко, толкавшее его и раньше на необдуманную прыть, и здесь сыграло свою
роль?).
А женщины, в общем-то, волновали его мало: дотошные сослуживицы вспоминали
пару историек, когда вроде бы что-то когда-то было, но и здесь инициатива
исходила скорее всего не от него, и, кажется, он быстро остывал. "Да, и
скажите , - говорил мне академик Т. , близко его знавший, - при такой жене, как его
Александра Алексеевна, которая вообще за ним не следила никак, и, по-моему, и
белья ему не стирала, и обедами не кормила, кто бы удержался?". И, тем не
менее, выходило, что, в целом, удерживался. Не манило это его, иными целями
жил.
В послесталинское время он завел раз и навсегда определенный распорядок
дня: с утра на работе, с которой в 6 часов вечера он уезжал всегда в одном и
том же направлении: в цековскую столовую на улице Грановского. Там он обедал,
брал в распределителе кое-какие продукты для семьи и затем ехал домой. Пока
он обедал и отоваривался, шофер успевал купить когда одну, когда две бутылки
пива (которое Лысенко любил) . Несколько раз в месяц он сам (всегда сам, а не
шофер) покупал бутылку сухого вина. Но не водку. (Как разночтение, возникал
рассказ человека из противного лагеря - генетиков, который узнал от своей
знакомой, дочери члена-корреспондента АН СССР Арнольда Степановича Чикобавы
/1898-??/ - советского языковеда, награжденного тремя орденами Ленина, что её
отец дружил с Лысенко и иногда зверски с ним напивался, и тогда они якобы на
равных ругали советскую власть. Но так ли это?!).
Все близко его знавшие дружно свидетельствовали, что Трофим Денисович не
любил оставаться один и всегда вызывал к себе домой кого-либо из приближен-
ных. Вернувшись с работы, он спал час или два, а затем звонил, как правило,
Презенту или Глущенко (последний жил неподалеку на Якиманке), и с восьми
вечера до двух-трех часов ночи они проводили время в беседах, обсуждая темы,
называемые ими научными.
Не любил он оставаться один в своем кабинете и на работе, вечно требовал,
чтобы кто-нибудь с ним был рядом.
Собственноручно он своих статей никогда не писал, а диктовал
стенографистке. Потом кто-то из грамотных приближенных (опять-таки чаще всего Презент или
Глущенко) правили тексты, полученные от машинисток, и отдавали их Трофиму. Он
снова что-то диктовал, если считал нужным, и так статью доводили до
завершения.
Конечно, такой стиль творчества не споспешествовал тому, чтобы стать более
грамотным. Лысенко не знал правил грамматики и при письме не ставил знаков
препинания. Я видел как-то посвящение на книге, выведенное рукой Лысенко в
1937 году:
" Дорогому . . . дарю свою первую работу думаю и верю что твоя первая работа
будет несравненно лучше вернее (затем слова "несравненно лучше вернее" были
повторены еще раз и зачеркнуты, после чего дарственная надпись продолжалась)
мечтаю чтобы твои работы были продолжены и главное более верными как это
сделает
ТДЛысенко"
Дата была написана так, как пишут врачи на рецептах, - 19 21/Х 37, запятые
и точки отсутствовали, а на конце слова псделаешп от буквы "ш" вниз шла
какая-то робкая маленькая черточка, будто он задумался, а не следует ли здесь
еще что-то дописать, но потом не решился и оставил всё, как было. Поражал в
этой подписи и удивительно корявый почерк, "как курица лапой", из криви
вкось. Но уже в пятидесятые годы он делал надписи на книгах более четким,
хотя всё еще каким-то детским почерком, и по-прежнему без знаков препинания.
К слову сказать, когда я несколько лет работал с Н.П. Дубининым, я не раз
удивлялся тому, сколь неграмотен этот человек, каждый день писавший сам
помногу и довольно интересно. Несколько раз я пытался в шутливой форме сообщить
ему, например, что причастный оборот, стоящий после определяемого этим
оборотом слова, выделяется запятыми. В конце концов, после, наверно, десятого
упоминания про эти злосчастные запятые, Николай Петрович вышел из себя и,
рассвирепев , закричал:
- Запомните, я - академик и вовсе не должен помнить об этих запятых! У меня
всегда найдутся умники, вроде вас, которые за меня их, где нужно, расставят.
В другой раз Дубинин, взявшийся в 60 с лишним лет педантично учить
английский и быстро в этом преуспевший, в той же манере проговорил уже не мне, а
своей молоденькой жене, приставшей с нотациями по поводу неправильного
употребления герундия:
- Не знаю я ничего про эти герундии. И знать не хочу. И без них обойдусь.
Возможно, в таком грамматическом нигилизме сказывалось плохое начальное
образование обоих академиков, хотя Дубинин вел происхождение от дворянина, а
Лысенко от крестьянина. Во всяком случае, не один Лысенко отличался нелюбовью
к запятым.
Было широко известно, что Лысенко не проявлял жадности к деньгам, и, если
узнавал о чьем-то безденежье, лишениях (естественно, в своем кругу), просто и
без всякой позы давал нуждающимся деньги, порой немалые, причем умел давать
их так, чтобы не обидеть человека. Так было в Одессе, так продолжалось и в
Москве. Этим, конечно, не раз пользовались ловкачи, но изворотливость и
жадность отдельных людей не пригасила готовности Лысенко помогать деньгами
ближним. Например, еще в Одессе на его доброте неплохо поживился его заместитель
на директорскому посту А. Родионов. Этого простого рабочего (который, как
помним, в анкетах в строке "образование" писал: "незаконченное среднее
самообразование") Лысенко возвысил. Почему-то он решил, что семья Родионова
бедствует, и несколько лет давал регулярно любимцу деньги. В это самое время
Родионов, будучи заместителем лысенковского института по административно-
хозяйственной работе, прекрасно был осведомлен о том, что лично Лысенко денег
не хапает, так как демонстративно не получает положенных ему как научному
руководителю гонораров за семерых числящихся за ним аспирантов, объясняя это
тем, что ему на жизнь хватает. Заведенное правило - давать вспомоществование
Родионову действовало до тех пор, пока Лысенко не узнал ненароком, что
Родионов выстроил себе неплохую дачу, которую, конечно, при бедности не построишь.
Он тут же прекратил благодетельство и долго с Родионовым не разговаривал.
Он постоянно ругался со своим зятем - мужем родной сестры, оставшейся жить
в Карловке в родовом гнезде Лысенко. Зять частенько наезжал в Москву, чтобы
поспекулировать какими-то товарами. Останавливаться он мог не только у своего
высокого родича, но, тем не менее, всегда приезжал на квартиру к Лысенко.
Последний узнавал о цели его приезда, и тогда между ними начиналась перепалка.
Но наезды от этого не прекращались, поведения своего никто не менял. Как
занимался зять спекуляцией, так он и продолжал это делать дальше; как ругался с
ним Трофим в прошлые разы, так ругался и позже. Но чтобы власть употребить -
это ему и в голову не приходило, и зять это хорошо учитывал. Если вспомнить,
как обходились с неприятными им родственниками другие люди из верхушки при
Сталине, то можно оценить терпимость Лысенко.
Характерно вел себя Трофим Денисович и в отношении еще одного родственника
- родного отца. Денис Никанорович управлял в Горках так называемой бригадой
полеводов. Однако положенной ему по закону зарплаты не платили: так
распорядился сынок. "Я тебя кормлю, и на одёжку и на обутку даю. Не бедствуешь", -
отрезал как-то сын раз и навсегда, и заносчивый старик по этому поводу
никогда не роптал. Он поддерживал хорошие отношения со всеми дружками сына, любил
зазывать их в свою избу в Горках, угощая всегда одинаково - шматом
украинского сала (которое никогда не переводилось) и полстаканом водки. Отказываться
от угощения было нельзя, иначе старик бы обиделся, при этом он всегда
приговаривал , что вот всю жизнь так обедает и здоров, как бык. За четыре месяца до
смерти колоритный старик заявил Трофиму, что чувствует приближение конца и
просит отвезти на родину в Карловку. Желание было исполнено. Он умер в своем
доме, сидя за столом и положив голову на руки.
Я узнавал эти подробности из жизни знаменитого человека, они, конечно, о
многом говорили, подтверждая правоту давно известной мысли, лаконично
выраженной А. Моруа:
"Нет науки без обобщений, но и нет человеческой истины без индивидуальных
черт".
И, тем не менее, на многие вопросы ответа я не знал, и вряд ли кто-нибудь
мог их прояснить.
Но все эти детали быта и характера не могли заслонить главное в его жизни:
то, что он своим цепким умом понял, как надо использовать создаваемую
коммунистической партией систему власти, чтобы продвигаться вверх, лезть по
трупам, никого не щадить и ничего не терять. Окровавленные челюсти
коммунистической государственной машины перемололи таких гигантов как Яковлев, Эйхе,
Чернов , Муралов, Гайстер, с которыми рядом находился и Лысенко, но он уцелел.
Против него лично были направлены действия его научных противников, и, если
смотреть правде в глаза, кое-кто из них, наверняка, не только думал, но и
делал всё, чтобы любыми методами свалить его и изничтожить, как изничтожались
десятки миллионов других людей в это страшное время. А он выжил и победил,
хотя побывал в непростых передрягах. Было бы неправильным недооценивать
ловкости и самообладания этого человека. Тем более что, когда дело шло о научных
взглядах, его поведение было в основном открытым, хотя высказывался он подчас
грубо. Его позиция была ясной, хотя и неделикатной.
Конечно, для оценки позиции и действий Лысенко в системе власти ответы на
многие из вопросов о глубинных характеристиках его личности могли бы
пригодиться. Но только вопросы эти должны были приоткрыть не поверхностные стороны
его поведения, не детали, связанные с опрощенностью внешнего вида и призем-
ленностью таких сторон, как нежелание ставить плохие оценки студентам. Кое-
что о его внутреннем мире я узнал от близких когда к нему людей, кое-что
прояснилось в беседах с людьми не столь близкими, но все-таки знавшими его
лично . И, тем не менее, картина эта была мозаичной, поступки не всегда
оказывались однозначными и легко трактуемыми. Кроме того, узнаваемые подробности
уводили от основного, затемняли фундаментальные черты его, как части научной
среды, черты, ставшие основополагающими для него в профессиональной
деятельности. Чертами же этими была уникальная для масштаба его личности серость,
узость интересов и скудость знаний.
Рука судьбы оказалась к нему благосклонной на заре жизни, когда забросила в
Ганджу под начало талантливого ученого Н.Ф. Деревицкого, когда дала ему
возможность в первый же год работы общаться с такими выдающимися людьми, как
Н.М. Тулайков, крутиться в атмосфере ВИР'овского энтузиазма, быть включенным
в нешуточное дело. Но складывающаяся обстановка государственного благоволения
к тем, кого А.И. Солженицын метко обозвал "образованщиной", коснулась и
молодого Лысенко. Посланцем Молоха выступил московский журналист Вит. Федорович,
прославивший Лысенко на страницах центральной газеты, и не удержался молодой
агроном, покатился колобком по сусекам, наращивая силу, но убегая от
образования, науки, ученых. Как у Антихриста в легенде Владимира Соловьева, у
которого после сговора с Дьяволом ни одно дело больше уже не удавалось, так и у
Лысенко вся последующая жизнь пошла в мистическую пустоту - за что он не
брался, всё оканчивалось конфузом и провалом. Мечась от одной догадки к
другой и не умея ни к одной из них подойти серьезно, как то подобает настоящему
ученому, он падал вниз, не осознавая этого. И как дьявольское наваждение
появилась жажда власти - и он поддался на приманку, стал судорожно карабкаться
вверх, расходуя на это все свои недюжинные природные данные. В годы взлета
он, наверно, чувствовал себя счастливым, а то, что за внешним процветанием
терял всё больше, он и осознать не мог. Цена теряемого ускользала от
сознания. Маленькие уступки самому себе оставались незаметными, облепившие его со
всех сторон помощнички и ученички, менее талантливые, но более злобные,
только ускоряли процесс развала личности, оскудения интеллекта, притупления
совести .
В церковь он не ходил, и в Бога, видимо, уже не верил, и не было у него
духовника, некому было покаяться в грехах, некогда поразмыслить над ними. Самый
страшный грех - грех гордыни - обуял душу, а ведь склони он непокорную голову
даже перед потаенной иконой, возможно, и навели бы его молитвы на мысли о
греховности содеянного и ежеминутно творимого. Но нет, не до того было. Он
даже один, наедине со своими мыслями боялся остаться, звал к себе клевретов и
подхалимов, искал успокоения в беседах с ними. Так и уходило счастье
человеческое, заменялось деловитой суетой.
Вращение в системе власти создавало веселое мелькание в глазах, но от этой
ряби настоящее дело не сдвигалось вперед ни на йоту, а лишь обрастало грязью.
Как не работала в социалистической системе ни одна деталь, так не работал и
Лысенко, оставаясь всё тем же полуграмотным знатоком из народа, кустарем-
самоучкой. Уже первая его работа была построена на обмане, подделке, а вовсе
не была "открытием агронома Лысенко", как трубили газеты, и как до сих пор
многие наивно полагают. Не обрастал он знаниями и позже, не смог стать
настоящим ученым. Так выстраивался порочный круг - плохое образование - отсут-
ствие в последующем стимулов к самостоятельному росту - замена необходимости
движения вперед в науке движением вверх по лестнице власти - а там, только бы
удержаться, только бы не упасть. Вырваться из круга можно было на начальных
этапах, но тут помешала социальная среда, открывшая ворота для середняков,
посредственностей, серостей, лишь бы они были своими, и одновременно
перекрывавшая все пути для образованных, продуктивных, но пне-своих".
Личные устремления этого человека, его недюжинная работоспособность,
крестьянская смекалка и выносливость могли бы помочь его самосовершенствованию.
Но, оказавшись замешанными на самолюбии, всё более перераставшем в
болезненное тщеславие, эти свойства характера постепенно редуцировались в банальное
упрямство и нежелание слушать кого бы то ни было, кто брался учить его уму-
разуму. Он потерял самокритичность - качество абсолютно необходимое ученому,
окружил себя льстецами. Они называли его гениальным человеком, а ведь
правильнее было сказать, что он всё более превращался в ограниченного человека,
в гениальную посредственность.
Середняки взяли власть, выдвинулись во всех сферах жизни, стали
триумфаторами в массе, а отсюда проистекала массовость признания Лысенко как яркого
представителя посредственности. Блистал же он лишь словесными императивами и
был готов ежесекундно идти на подлог, лишь бы не утерять не по праву
захваченные позиции. Конечно, середняка не советская система породила. Но она
призвала их в науку, дала им преимущества в занятии мест и в институтах и в
академиях, так что весь феномен лысенкоизма был чисто советским. "Середняк пошел
в науку" - этим сказано всё.
Но не только в науке Лысенко остался навсегда серым. И в другой сфере бытия
- в обыденной жизни он свою серость не поборол. Его личная жизнь, как и жизнь
его кумира Сталина, была убогой. Всё, что так ценимо людьми иного, высокого
стиля - искусство, музыка, книги, радость дружеского общения, взлеты духовной
жизни, даже пылкая любовь к женщине - всё осталось вовне, не коснулось его.
Его жена была такой же серой посредственностью, как и он сам. Их трое детей
выросли кичливыми, они унаследовали его тщеславие и ожесточение, где только
можно разглагольствуют о величии их непонятого, опередившего своё время
родителя, а как только прослышат о публичных упоминаниях ошибок Лысенко, строчат
протесты и опровержения.
Не понимали и сам Лысенко, и даже Сталин и Хрущев, так его защищавшие, что
пир победителя Лысенко, богатырски разгромившего врагов его "учения" и
недругов социализма, был пиром во время чумы. Всё общество, управлявшееся
"победителями", было тяжело и безнадежно больно, и, взглянув непредубежденно на одни
лишь проявления лысенкоизма, можно было выявить симптомы болезни и узреть её
первопричину, её главный болезнетворный "...изм", ибо та же болезнь охватила
весь социум. Еще крепким было тело с виду, еще мало кто понимал серьезность
надвигавшейся беды, еще радовались большевики, что оказались способными
отхватить треть Европы, Монголию и Китай, Вьетнам и Корею, пробраться в Африку,
а уже тогда глубокое нездоровье всей системы изобличала история болезни
Лысенко .
В самом деле, ведь в любом обществе всегда были и будут шарлатаны и просто
ошибающиеся люди. Они могут пытаться надуть окружающих - с умыслом или по
неведению. Но в здоровом обществе коллеги тут же обратят внимание на ошибки,
проверят выкладки и вынесут им объективную оценку. За "липовым" открытием
быстро наступит черед закрытия. И никто не подвергнет репрессиям закрывателей
несостоявшегося открытия, никто из членов правительства или секретной полиции
не набросится с политиканскими обвинениями ни на честных ученых, ищущих новое
и несущих обществу пользу, ни на тех, кто ошибся или смухлевал. Даже если бы
это случилось по отношению к честным ученым. Даже если бы это случилось, то
немедленно сказалось бы на судьбе тех, кто посмел поднять руку на мозг нации.
То, что случилось в СССР с загубленными или временно репрессированными
учеными, возможно только там, где альянс лысенок и Сталиных с бериями был частью
раскручивавшейся кровавой колесницы социализма.
Конечно, и в жизни цивилизованных обществ бывали моменты, даже в новейший
период истории, когда мракобесы временно приобретали вес в обществе, когда из
школьных библиотек изымали книги Дарвина, как это было в США, но эта
временная лихорадка быстро проходила, организм был достаточно силен, чтобы
оказаться подкошенным ею. Однако даже в пору пика болезни ученых не хватали, не
заточали в тюрьму, не казнили и не унижали, а развитие науки не останавливалась
ни на секунду.
Бывали и такие случаи, когда отдельные самородки опережали свое время,
выдвигали идеи, до которых еще десять и двадцать лет должны были дорастать их
менее дальновидные коллеги. Такие истории встречаются и по сей день. Но
пионеры науки, первопроходцы и "прорицатели" не на том добивались успеха, что
отвергали без всяких на то оснований теорию гена или всю генетику сразу, а
предлагали на самом деле новые идеи. Барбара Мак-Клинток в пятидесятых годах
открыла явление перескакивания генов в хромосомах, разработала теорию этого
переноса, и, тем не менее, голос этой хрупкой и тихой женщины был не то,
чтобы не услышан, а просто недопонят и недооценен. Понадобилось двадцать лет,
чтобы её идеи подхватили в 70-х годах генные инженеры, чтобы автора по
заслугам увенчали Нобелевской премией. Такая грустная (всё-таки двадцать лет
потеряно) и радостная (всё-таки труд не пропал) история лучше любой другой
подтверждает здоровье свободной (капиталистической) системы, которую Ленины,
Сталины, Хрущевы и лысенки обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах. Эти
люди не понимали (вернее, не желали понять) самоубийственность их партийных
устремлений. Естественно, не понимали этого и тысячи тех, кого мы сегодня
называем постыдным именем лысенкоисты.
Разумеется, было бы жестоким винить в недопонимании принципов научной
работы, в замыкании в скорлупу ограниченности и за счет этого в обкрадывании
самого себя лишь одного Лысенко. Он жил в том мире, который, во-первых, был
создан идейными вождями общества, а, во-вторых, был ему по душе, о чем он так
любил разглагольствовать. Мифотворчество, вкупе с шапкозакидательством, с
отвержением ценности настоящей науки стали веяниями того времени, и Лысенко
следовал этим завихрениям. Водоворот огромных по масштабу социальных перемен
втянул в себя Лысенко, закрутил его и поглотил, как поглощают водовороты
щепки, а случается и крупные бревна.
При обсуждении таких вывертов советской жизни принято валить все беды на
Сталина. Однако наивно считать, что во всем Сталин один виноват. Пожалуй,
надо сказать определеннее: ссылки на Сталина особенно нелогичны. И уж совсем
наивно обвинять в бедах, случившихся с Лысенко, Сталина. Лысенко выступил на
авансцену благодаря своим недюжинным природным данным, он завоевал с боем
позиции на вершине пирамиды власти благодаря умению вести борьбу, а не в силу
случайности или прихотей Сталина. В созданной системе ценностей он был
настоящим самородком чистой пробы, драгоценным бриллиантом. Только караты
драгоценности взвешивались на иных весах, - фальшивые поделки ценились выше
подлинных бриллиантов. Так что в своей системе измерений он был рекордсменом.
Даже в личных отношениях со Сталиным он переиграл рябого диктатора, сумел
втереть ему очки в тот момент, когда другие лидеры партии уже раскусили
Трофима. В этом он тоже был рекордсменом. Благодаря поразительной интуиции
царедворца и проницательности своеобразного мудреца, благодаря умению разгадывать
тайные помыслы Сталина, он смог играть на тех струнах, которые при ином
прикосновении издали бы фальшивые звуки и вызвали бы лишь раздражение "великого
кормчего". Несерьезно отрицать эти яркие черты его характера.
И никто не мог сравниться с ним в умении общаться с простолюдинами, гово-
рить на их языке. Он обращался не к рассудку крестьян, он взывал к их
предрассудкам, он будил в них эти живучие предрассудки, столь близкие сердцу
темных и исконно забитых крестьян. Значит, умел он, взлетев наверх, не растерять
навыков общения с низами.
Распространено мнение о том, что медвежью услугу оказали ему помощники,
накипь , облепившая его со всех сторон. С этим нельзя не согласиться. На ура
воспринимали они любой бред, любые эрзацы мысли их шефа. И тут же
преподносили ему доказательства правоты по каждому пункту. Вранье, фальшь, шулерские
замашки его помощничков, конечно, оказались страшным бичом лысенкоизма и
привели к гибели все "учение". Лысенко должен был бы проклясть свою школу,
откреститься от нее. Только ведь для этого надо встать над самим собою, а
такого никому не дано. Своими силами этого не сделаешь.
Но, с другой стороны, в школе Лысенко были не одни лишь циничные жулики.
Было много и простых людей, может быть, не очень глубоко образованных, но по-
своему неглупых. Они все поголовно обожали своего вождя, боготворили его, ни
на миг не могли допустить мысли, что он мог в чем-то ошибаться или что-то
недопонимать. Я не раз встречал таких людей, каждый раз обнаруживая их
гранитную убежденность во всеобщей правоте идей, некогда исходивших от теперь уже
покойного шефа.
Как-то раз я столкнулся с этим во время поездки в "Горки Ленинские", когда
И.Е. Глущенко уговорил меня посмотреть его опыты по переделке озимых пшениц в
яровые. Сопровождать нас он позвал давнишнюю сотрудницу "Горок", много лет
проработавшую с Лысенко, а теперь перешедшую к Глущенко. Мы ходили весь день
по полям и делянкам, я дотошно спрашивал о деталях их работы, пытался
разобраться в количественной стороне дела, найти генетическую причину
превращений. Причина эта ускользала. Я видел, что эта сотрудница очень хотела убедить
меня в одном и разубедить в другом. Мы все устали, выдохлись, хотя она
превосходно себя вела, была сдержана, терпелива и терпима. Она заинтересовано
слушала возражения и старалась мягко их парировать. И вдруг на фоне этой
усталости я, видимо, слишком жестко сказал о наивности попыток Лысенко обойтись
без генов. На это последовала реплика, смысл которой сводился к тому, что
Лысенко понимал всё на свете, а вот мы пока действительно наивно думаем, что
можем своим умишком дорасти до него. Тут уж удивился я и спросил:
- Неужели Вам кажется, что Лысенко был прав всегда?
На это она твердо и без внешней аффектации, как-то устало, сказала:
- Трофим Денисович был гением. Все его идеи гениальны и будут восприняты в
будущем.
Был конец лета. Желтели бесчисленные колосья. Сухонькая фигура женщины,
резко очерченная боковым светом заходящего солнца, контрастно выделялась на
золотистом фоне. Было бы бестактно рассмеяться на эти слова. Было, наверняка,
нелепо пытаться её разубедить. Я счел за благо промолчать, избрав
единственную, как мне казалось, форму несогласия - оставления её реплики без ответа,
глухого с моей стороны молчания. Вскоре я распрощался...
Много раз я вспоминал этот разговор, в памяти всплывал образ старой
женщины, долгие годы проработавшей вместе с Трофимом Денисовичем и сохранившей к
нему высокое чувство преклонения. Меня изумляло и, признаюсь, даже как-то
сердило, что и она и прочие лысенкоисты рассматривали своего бывшего патрона
как непризнанного абсолютного гения, просто опередившего свое время и потому
несправедливо оплеванного в конце жизни. Они жалели то время, которое ушло и
унесло с собой ореол славы великого Лысенко. Это напоминало бесчисленные
рассказы о солдатах Наполеона, забывших и тяготы службы, и жестокость тирана, и
горечь поражений, а сохранивших лишь святое чувство преклонения перед их
великим предводителем. Многих из этих людей Лысенко лично оскорблял, ко многим
из них персонально относился высокомерно, третировал, держал в черном теле,
не давал защищать диссертации, продвигаться по службе, благоволя в то же
время на их же глазах всяким проходимцам и явным мошенникам типа Карапетяна. Обо
всем этом они порой рассказывали, не стесняясь. Казалось бы, сделай они всего
одно движение, встряхни лишь головой и розовые очки спадут с глаз, открывая
еще одну черту Лысенко - его научное убожество и банкротство. Но этого-то как
раз никогда и не происходило. Как о человеке говорили порой плохо,
вспоминали, правда, с натугой, всякие дурно пахнущие историйки, а стоило копнуть
глубже, задеть его научное "кредо", как следовал категоричный и вполне
единодушный взрыв признания:
- Лысенко? Гений!
И только когда я стал смотреть на этих людей не как на более или менее
симпатичных или отталкивающих персон - то говорящих на чистом литературном
русском языке, то на диалекте с исковерканными словами и выражениями, что было
чаще, а как на УЧЕНЫХ, то есть специалистов своего дела, я понял, в чем тут
загвоздка. Все эти люди, вся "школа Лысенко" несла на себе непременную печать
научного убожества, все они были учеными не второго и даже не третьего сорта,
а хуже. Каждый из них знал лишь какое-то ремесло, свою узенькую темку,
никогда не следил за научными аргументами своих оппонентов. Как закономерный
результат такого отбора сотрудников само собой получалось, что все идеи Лысенко
воспринимались ими единственно: НЕКРИТИЧЕСКИ. А посему то, что покоробило бы
любого образованного биолога, лысенкоистами акцептировалось восторженно. В
каждой идее Лысенко яркой стороной выступала демагогическая, бесшабашная
ненаучность, сдобренная фальшивой "заботой об урожае". Эрзац бил в глаза
неспециалистам повышенной тягой к утилитарности и внешней революционностью.
Авторитеты запросто сбрасывались с пьедестала, их заумные, на взгляд середняков,
идеи и законы отвергались бездоказательно, но шумно. А от зажигательной
революционности, от причастности к "великому труду очищения науки от реакционного
буржуазного хлама, оставшегося нам в наследство от старого мира" (Ленин),
самомнение этих людей росло. Участие в "величественной деятельности" приятно
щекотало нервы, прибавляло веса в собственных глазах. Именно в этой призем-
ленности, излишней и покоившейся на пустом месте самоуверенности и
зарождалось чувство преклонения лысенкоистов перед Лысенко, перед его якобы
гениальными идеями, которым еще не настал черед.
Стоит ли говорить, что эти люди с порога отвергали малейшее подозрение в
преступности поступков и самого Лысенко и его ближайших сторонников в еще
одной области - репрессалиях. Аресты и гибель научных противников списывались
на счет Сталина. Иногда вскользь говорилось о том, что не может быть развития
науки без драмы идей, хотя кому не ясно, что развитие науки должно
сопровождаться драмами, но не драмами человеческого бытия.
Один из самых близких к нему людей как-то вечером рассказывал, как Лысенко
спасал невинно арестованных людей, как возмутился, узнав, что его первые в
жизни аспиранты написали в газету "Социалистическое земледелие" статейку о
непозволительном на их взгляд факте разгильдяйства двух сотрудников одесского
института - Куксенко и Гаркавого, разгильдяйстве, якобы граничащем с
вредительством. После публикации в газете письма аспирантов обоих обвиненных тут
же арестовали, но Лысенко, узнав о самоуправстве аспирантов, не убоялся
написать реляцию в НКВД, и через какое-то время обоих освободили, а Гаркавый
позже даже дружил с теми, кто на него "пожаловался в газету". Рассказывал этот
сотрудник Лысенко и о замечательном, по его словам, человеке и прекрасном
редакторе первых выпусков журнала "Яровизация" Ф.И. Филатове, арестованном
только за то, что над его столом висел портрет Есенина. И за него вступился
Лысенко, добился освобождения Филатова, тот уехал потом в Саратов, был верным
лысенковцем и, спустя годы, защитил докторскую диссертацию.
Но известна мне была и другая история. После ареста А.К. Запорожца - агро-
химика и директора института, созданного Прянишниковым, его жена, скульптор,
Ольга Владимировна Квинихидзе-Запорожец, смогла попасть на прием к Лысенко,
завела с ним речь о муже, моля о помощи. Лысенко куда-то спешил, разговор
продолжался по дороге, потом Трофим сел в машину. Квинихидзе набралась
смелости и тоже села на заднее сидение. Пока машина ехала, она продолжала
упрашивать Президента ВАСХНИЛ и депутата Верховного Совета СССР. Лысенко молчал,
словно воды в рот набрав, так и не заметил много раз протягиваемого ему
прошения, и вышел из машины, зло хлопнув дверцей.
Там, в Одессе, речь шла о своих, здесь его просили за несвоего, за человека
из другого лагеря, и доброта испарилась.
Так размывалась пасторальная картинка, появлялись сцены из другого жанра, в
котором добрый гений обращался в хищного и злого колдуна.
Не понимали лысенкоисты и те, кто взрастил Лысенко, его пагубной роли в еще
одном вопросе. Когда отдается приказание, которое может быть выполнено,
начальник выступает в роли вождя, указующего путь к победе и этим укрепляющего
свой авторитет. Люди начинают верить в силу этого человека: энтузиазм
отдельных маленьких человечков складывается в одну огромную волю, творящую подчас
чудеса. А тот, кто придал начальный импульс, приобретает величественные
очертания в глазах исполнителей, ставясь реальной силой, подвигнувшей реальные
горы. Отражение величия свершенного на лицо, от которого исходил этот
начальный импульс, наделяет это лицо силой прозрения, сообщает ему сияние гения. В
обществе, имеющем моральные критерии, сказали бы, что на это лицо упала
Благодать Божия, что он следовал персту Божию. В обществе бездуховном весь успех
припишут гениальности этой личности.
Когда же приказ заведомо неисполним, проигрывают все, но более всего тот,
кто такой приказ отдал. Его могут обозвать бранными словами, охарактеризовать
как фигляра, игравшего со своим народом в нечистые игры. Этот человек - при
жизни мертвец.
Однако действие этого принципа простирается дальше. Неспособность дать
правильный приказ неминуемо ведет к отказу от идеологии, на которой покоил свои
взгляды (и выводы) несчастный лидер, превратившийся в фигляра. От
неисполнимости его приказов непременно протягивается ниточка к недейственности всей
доктрины, руководившей фигляром. Не просто итог жизни этого человека окажется
плачевным - его история высветит пороки и всего общества.
Размышляя над этим выводом, я стал понимать, что со временем концептуальная
схема в оценке жизни и деятельности Лысенко менялась и в моем восприятии. В
отличие от многих, если не большинства тех, кто изучал историю лысенкоизма, я
отходил от однонаправленной концепции, согласно которой осуждению подлежал
один Лысенко или он в компании единомышленников. Что мог сотворить во
вселенском масштабе один Трофим Денисович или даже Трофим Денисович сотоварищи,
если бы не многорукая и многоликая партия коммунистов. Ведь именно партия
пестовала "умельцев из народу", партия и только партия, словно гигантский спрут
душившая народы Советского Союза - всех жителей в целом и каждого по одиночке
- ответственна за разгром генетики. Исходя из этого, исследование
деятельности Лысенко представлялось мне важным не только само по себе, но и в связи с
тем, что лысенкоизм отражает пороки Системы, воздвигавшейся коммунистами. В
результате совместных действий коммунистов и коммуноидов, коим Лысенко
несомненно был, стране и народу был нанесен страшный урон, хотя подавить всех и
заставить замолчать всех не удалось. Закончить книгу я хочу мыслью,
выраженной Алексеем Константиновичем Толстым, завершившим описание страшных лет
царствования Иоанна Грозного в "Князя Серебряном" словами:
"Да поможет Бог и нам изгладить из сердец наших последние следы того
страшного времени... Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет
ответственность за свое царствование; не он один создал свой произвол...
...но помянем добром тех, которые, завися от него, устояли в добре, ибо
тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость
называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и
человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга!".
Ликбез
ВСЕЛЕННАЯ В ЭЛЕКТРОНЕ
B.C. Барашенков
(окончание)
ГЛАВА III
Глубокая
разведка
Основы нашего понимания мира... В физике это — квантовая механика. Она —
следующая ступень за механикой Ньютона. А есть ли еще более глубокий уровень —
«заквантовая» теория? И почему квантовая механика такая трудная наука? Даже
студентов-физиков в университете знакомят с ней только на третьем курсе,
когда они освоят уже массу других предметов. Может, дело в том, что физики
просто еще не проникли в суть ее законов? Знаете, как бывает с арифметической
задачей: можно провозиться с ней целый вечер, а если ввести х и составить
уравнение, решение находится за несколько минут. Может, «заквантовая» теория
тоже все упростит?
Фундамент любой физической теории — пространство и время. Но что это такое?
Обычно этот вопрос даже не возникает, так как ответ кажется очевидным: вот
оно пространство вокруг нас и вот часы, показывающие время! Однако, если
попытаться ответить точнее, сразу же возникают трудности. Получается так, что
самые обыденные и привычные для нас свойства окружающей природы вместе с тем
— самые загадочные и непонятные. Действительно, что самое главное в свойствах
пространства и времени? Для времени это, по-видимому, его течение от прошлого
к будущему. Пространство обычно представляют себе чем-то вроде пустой арены,
на которой располагаются все физические тела и разыгрываются все процессы. Но
всегда ли так? Нельзя ли каким-то образом изменить направление времени на
обратное, как это делают авторы научно-фантастических романов? И можно ли
пространство считать всегда лишь ареной? Мы знаем, что его кривизна проявляется
как сила тяготения, может, и все другие силы природы тоже всего лишь
проявления каких-то свойств пространства?
Итак, речь пойдет о «сумасшедших» идеях и теориях, выходящих далеко за
рамки общепринятых научных взглядов. Скорее всего, большинство из них так и
останутся «сумасшедшими», не подтвердившимися на опыте гипотезами. Но они
помогают лучше понять окружающий мир и разведать пути дальнейшего развития
физики . Без такой глубокой разведки наука развиваться не может.
«Пьяные» частицы
Американский физик-теоретик Ричард Фейнман как-то заметил, что хотя
квантовая механика существует уже более полувека, ее до сих пор не понимает ни один
человек в мире. И тут же добавил, что он может утверждать это вполне смело.
Заявление, прямо скажем, удивительное, особенно из уст одного из самых
знаменитых физиков нашего времени.
Как же так? Ведь с помощью квантовых законов рассчитываются тончайшие
явления микромира, и выводы подтверждаются с огромной точностью, иногда до
миллиардных долей процента. Более того, квантовая механика уже давно используется
на практике — например, лазер был изобретен, рассчитан и создан на основе
квантовых законов. Эти законы управляют работой электронных микроскопов,
используются при проектировании новых электронных приборов, с их помощью
рассчитывают свойства сверхпроводников, способных без потерь передавать
электрический ток на огромные расстояния. Квантовая механика нашла применение в
химии, и даже биологии. Как же можно говорить, что никто ее не понимает?!
И, тем не менее, в утверждении Фейнмана есть большая доля истины. Все дело
в том, что поведение микрочастиц настолько непохоже на движение окружающих
нас тел, что кажется противоречащим здравому смыслу. Неискушенному человеку
часто трудно поверить, что такое может быть в природе. В нашей повседневной
жизни мы привыкли к тому, что все тела движутся по строго определенным путям-
траекториям. Если известна начальная скорость тела и действующие на него
силы, то с помощью законов Ньютона его траекторию можно точно вычислить.
Подобную задачу, наверное, приходилось решать каждому школьнику. В любой момент
времени мы можем точно установить, в каком месте находится тело и какова его
скорость. Точность законов Ньютона очень высока, с их помощью можно,
например, предсказать движение небесных тел на многие десятки и сотни лет вперед.
Но вот если попытаться применить эти законы к движению микрочастиц, то придем
к поразительному выводу: частицу можно обнаружить в любой точке любой
траектории, соединяющей начало и конец ее пути! Получается так, как будто частица
движется сразу по всем траекториям либо совершает что-то вроде «броуновского
движения» («броуновской пляски») в абсолютно пустом пространстве,
многократно, без всякой видимой причины, изменяя направление своего движения и
мгновенно перемещаясь из одной пространственной точки в другую.
Как известно, в начале прошлого века, наблюдая под микроскопом взвесь
мелких частичек в жидкости, английский ботаник Роберт Броун заметил, что все они
«пляшут» — выписывают запутанные зигзагообразные траектории. Как теннисные
мячики, по которым случайным образом бьют невидимые ракетки. Сегодня мы
знаем, что роль таких ракеток играют молекулы жидкости, которые сталкиваются с
частицами взвеси и передают им свое хаотическое тепловое движение. Но что
может толкать частицу в абсолютно пустом пространстве? Ведь не может же она
сама по себе, по собственной воле, метаться по пустому пространству!
Было выполнено огромное количество экспериментов, и все они привели к
одному выводу: размазка движения микрочастицы возникает как бы сама по себе, из
ничего!
Иногда говорят, что микрочастица движется по траектории, которая расплылась
по всему пространству. Не знаю, поможет ли это более наглядно представить
движение микрообъектов, но, как бы там ни было, с точки зрения законов
Ньютона, да и просто с позиций здравого смысла, это движение совершенно не
предсказуемо . Оно выглядит так, как будто в микропроцессах нарушена связь между
причиной и следствием, и, исходя из одних и тех же начальных условий, можно
прийти к совершенно различным результатам. А главное, неизвестно, к каким.
Один раз получается одно, в другой раз при точно таких же условиях — совсем
иное. Похоже на блуждание пьяницы по пустой площади — движется под влиянием
ему одному известных причин! Лишь в случае очень массивных, тяжелых частиц с
большой инерцией движение начинает постепенно «стягиваться» к ньютоновской
траектории, и будущее снова становится однозначным следствием прошлого. Опять
как в броуновском движении. Там тоже сильнее всего «пляшут» легкие частицы,
тяжелые ведут себя более степенно. Однако «беспричинное блуждание» еще не
самая главная трудность, с которой мы встречаемся в микромире. Ведь начальные
условия никогда не известны нам абсолютно точно, все величины измеряются с
какой-то маленькой погрешностью. В принципе можно было бы рассчитывать на
какое-то сложное обобщение уравнений Ньютона, которое было бы очень
чувствительно к начальным условиям и в каждом конкретном случае позволило бы шаг за
шагом проследить витиевато запутанную траекторию частицы. Более удивителен и
непонятен другой факт: оказывается, одна и та же частица может быть сразу в
нескольких местах.
Один в двух лицах
Представим себе, что электрон попадает на поглощающий экран с двумя
отверстиями, за которыми расположена фотопластинка. Электрон пройдет через одно из
отверстий и оставит точечный след на фотопластинке. Повторяя многократно этот
опыт, мы должны получить на ней наложение двух картин: черное пятно от
электронов, прошедших сквозь одно отверстие, и такое же пятно от электронов,
воспользовавшихся вторым отверстием.
Казалось бы, это — единственно возможный результат, другого и быть не
может . Так вот, ничего подобного! На фотопластинке получается в точности такая
же картина, как при столкновении двух волн на воде, когда на водной
поверхности образуется рябь горбиков и ложбин1. На пластинке им соответствует рябь
размытых пятен и просветов между ними. В физике это называется
интерференцией.
Две волны сталкиваются, и там, где пик одной накладывается на пик другой,
они усиливают друг друга, а там, где пик одной волны совпадает с направленным
На самом деле этот опыт является умозрительным, в точности его никто никогда не
проводил. Дело в том, что из-за малости расчетной длины волны электрона практически
невозможно разделить два отверстия. Об этом и говорил Ричард Фейнман, а он хорошо
понимал физику. Более или менее успешны попытки наблюдать дифракцию электронов, даже
почти отдельных (эксперимент Бибермана - Сушкина - Фабриканта). Немецкий физик Клаус
Йонссон провел в 1961 году эксперимент, подобный эксперименту Томаса Юнга по
интерференции света. Но Йонссон использовал пучки электронов, и техника его опыта внушает
некоторые сомнения.
в обратную сторону пиком другой, образуется ложбина — здесь волны гасят друг
друга. Отсюда и возникает рябь. Можно бросить два камня в воду и посмотреть,
как происходит такая интерференция. Но откуда ей взяться, когда сквозь экран
каждый раз проходит только один электрон? Столкнуться и интерферировать он
может лишь... сам с собой. Другими словами, электрон каким-то образом
ухитряется стать одним в двух лицах и пройти сразу сквозь два, далеко отстоящих друг
от друга, отверстия. Это напоминает картинку из рубрики «Чудаки» на последней
странице «Литературной газеты»: длинная ровная лыжня из двух параллельных
следов, и вдруг невесть откуда взявшаяся елка между ними!
Может, электрон распадается на какие-то куски? Но нет, если бы это было
так, то, закрыв одно из отверстий, мы могли бы «поймать» кусочек электрона,
который прошел сквозь оставшееся открытым отверстие. Опыт показывает, что
никаких кусков от электрона не откалывается, и сквозь отверстие каждый раз
проходит вполне нормальный, совершенно целый электрон.
Поведение электрона выглядит просто невероятным, противоречащим самой
элементарной логике, — все равно, что войти в комнату с двумя дверями и
столкнуться лбом с самим собой! И, тем не менее, никакого другого объяснения
наблюдаемому ходу событий, с точки зрения ньютоновской механики, дать нельзя.
Точно известно, что каждый электрон проходит через одно из двух отверстий, а
фотопластинка убеждает нас в том, что он раздваивался. Вопиющее противоречие,
как будто мы имеем дело с электроном и его двойником-призраком!
Когда такое необъяснимое, «противоестественное» поведение микрочастиц было
обнаружено впервые на опыте, многие ученые восприняли его как конец
физической науки, которая, казалось им, добралась, наконец, до исходного,
«первозданного микрохаоса», прикоснулась к «праматерии», где уже нет никаких
законов. Знаменитый голландский физик Г. Лоренц еще совсем недавно, в 1924 году,
с горечью писал: «Где же истина, если о ней можно делать взаимно исключающие
друг друга утверждения? Способны ли мы вообще узнать истину и имеет ли смысл
вообще заниматься наукой? Я потерял уверенность, что моя научная работа вела
к объективной истине, и я не знаю, зачем жил; жалею только, что не умер пять
лет назад, когда мне все еще представлялось ясным... Взамен ясных и светлых
образов возникает стремление к каким-то таинственным схемам, не подлежащим
отчетливому представлению».
Положение казалось безнадежно запутанным: беспричинно мечущиеся в
пространстве частицы, каждая из которых может столкнуться сама с собой. И в то же
время состоящие из них тела с удивительной точностью подчиняются законам
Ньютона . Было от чего прийти в отчаяние. Как шутили в то время физики, по четным
дням недели им приходилось пользоваться механикой Ньютона, а по нечетным —
доказывать, что она не верна! Казалось бы, мир и минуты не мог бы
существовать, будь в нем такие ужасные противоречия, а он живет уже двадцать
миллиардов лет! Физика зашла в тупик.
Загадка света
Теоретическая путаница у физиков возникала не только при попытках понять,
как движется микрочастица, но и при объяснении природы света. Что это,
частица или волна? Еще триста лет назад об этом ожесточенно спорили Ньютон и Гук.
Первый разделял точку зрения, которой придерживались еще древнегреческие
ученые: свет — это поток мельчайших, не различимых глазом частиц-корпускул. Это
хорошо объясняло известные в то время оптические явления — поглощение света
экранами, его отражение от зеркал, преломление в линзах и многое другое. Все
это удавалось объяснить, используя законы механики для частиц-корпускул. Гук
был убежден в том, что свет по своей природе похож на звук, — это тоже волны,
испускаемые источником.
Фольклорное эхо донесло до наших дней немало пикантных подробностей этих
словесных баталий, то и дело выходивших далеко за рамки научных дискуссий.
Говорят, что после одного из споров, в котором темпераментный и не
стеснявшийся в выборе выражений Роберт Гук превзошел самого себя в язвительной
критике ньютоновской теории световых корпускул и ее автора, последний решил
вообще не публиковать своих трудов по оптике, пока будет жив Гук.
Надо заметить, что Роберт Гук отличался удивительно неуживчивым, болезненно
самолюбивым характером. Разносторонний, талантливый человек с живым,
нестандартным мышлением, он в своих исследованиях часто далеко опережал коллег.
Бывало, правда, переоткрывал открытое, с жаром доказывая свой приоритет. Ни
одно его исследование, ни одно изобретение не было доведено до конца.
Непрерывные недоразумения, ссоры, склоки, приоритетные споры заполняли жизнь этого
исключительно одаренного, но крайне мелочного и вздорного человека. Почти
всякий талантливый ученый вскоре становился его врагом. Ньютон в этом
отношении не был исключением.
Но главной причиной решения Ньютона воздержаться от публикации своих трудов
была, конечно, не полемичная страстность Гука и его необузданный характер, а
сила приводимых им новых фактов. Корпускулярная гипотеза, развивавшаяся
Ньютоном, не могла устоять против них. Только с помощью волновых представлений
можно было объяснить, почему прибавление света к свету может не только
увеличивать , но иногда и уменьшать освещенность, порождая сложные
интерференционные картины, как у волн в жидкости, или почему, например, свет огибает мелкие
препятствия и на краях тени всегда есть некоторая полутень. В случае потока
частиц тень должна иметь резкие края — частица либо поглощается экраном, либо
пролетает мимо, и направление ее движения нисколько не изменяется.
Интерференция света на двух отверстиях.
Явлений, в которых проявляется волновая природа света, становилось все
больше, и в течение трех последующих веков ученые были твердо убеждены, что
свет — это волновое движение некой сверхтонкой, заполняющей все пространство
материи. Ее стали называть эфиром. Так древние греки в своих мифах называли
особый «сверхтонкий» воздух, которым дышит Зевс и другие боги на вершине
Олимпа. Для объяснения оптических свойств эфир впервые широко стал
использовать голландец Христиан Гюйгенс.
Однако, как это часто бывает в физике, ее развитие неожиданно снова
возродило старую идею. Несмотря на успехи волновой теории, с конца прошлого века
стали быстро накапливаться факты, которые можно было объяснить, лишь
допустив, как это делал когда-то Ньютон, что свет — это поток отдельных, не
связанных между собою частиц. Их называют теперь фотонами. Идею о корпускулярном
строении света в начале нашего века возродил Эйнштейн. Об этом уже
рассказывалось в первой главе. Теория Эйнштейна объединила старую ньютоновскую
гипотезу с выдвинутой незадолго до этого идеей немецкого теоретика Макса Планка о
том, что при всех взаимодействиях энергия передается квантами — дискретными
порциями, кратными некоторой минимальной величине, которая является такой же
фундаментальной постоянной, как скорость света или заряд электрона. В честь
открывшего ее ученого эту постоянную стали называть константой Планка.
Идея дискретного, квантованного света получила блестящее подтверждение в
атомных процессах. Сталкиваясь с атомными электронами, световые частицы
рассеиваются, подобно упругим горошинам. В тех случаях, когда их энергии
недостаточно для полного отрыва электрона от атома, электрон поглощает фотон,
увеличивает свою энергию, становясь менее скованным силой электрического
притяжения, переходит на большую, более далекую от центра атома орбиту — атом
возбуждается. В последующем электрон может вернуться на исходное место, ближе к
ядру, а освободившаяся энергия излучится в виде фотона.
V
-ллл/т
Энергетические уровни атома и условное изображение
процессов поглощения и испускания фотонов.
Атомы могут возбуждаться и при столкновениях друг с другом. Так происходит
при нагревании. Слабо нагретое тело испускает лишь невидимые инфракрасные
фотоны, при увеличении температуры, то есть скоростей хаотического движения
составляющих тело атомов, испускается видимый свет — сначала «мягкие» красные
фотоны, а затем «жесткие» синие. При высоких температурах рождаются очень
жесткие фотоны ультрафиолетового света. Все особенности испускания и поглощения
света прекрасно объясняются фотонной теорией.
Казалось бы, можно уверенно сказать, что корпускулярная теория света одер-
£ <
^1
жала победу. Но как быть с волновыми свойствами света? Они не перестали
существовать . Как и во времена Ньютона, корпускулярная теория их не объясняет.
Поэтому загадка света ничуть не прояснилась, наоборот, она стала еще
непонятнее.
Гибрид волны
и частицы
Вскоре был установлен еще один удивительный факт: во всех процессах энергия
световой частицы каждый раз оказывается обратно пропорциональной длине
световой волны, то есть определяется каким-то непонятным коллективным эффектом.
Получается, что хотя фотон и не связан с другими своими братьями (все они
совершенно независимые частицы), но он все же как-то чувствует их присутствие,
и они все вместе составляют световой поток. Внешне это выглядит так, как
будто частицу-фотон несет гребень какой-то таинственной нематериальной волны. И
чем больше его энергия, тем короче, «жестче» эта волна.
В этом есть нечто общее с тем, как поток электронов проходит сквозь щели в
экране. Каждый электрон тоже ведь пролетает сквозь какую-то одну щель, и при
этом он тоже как будто знает о своих собратьях, которые взаимодействуют с
экраном до и после него и располагаются на фотопластинке так, чтобы в целом
получилась единая интерференционная, волновая картина. Более того, каждый
следующий электрон может испускаться и проходить сквозь щели в экране уже после
того, как предыдущий поглотился фотопластинкой. И все равно связывающий их
коллективный эффект остается: на пластинке опять образуются отчетливые
интерференционные просветы и пятна. Каждый из электронов каким-то образом
ухитряется провзаимодействовать со своими уже умершими и с еще неродившимися
собратьями .
Размышляя над странной аналогией в поведении электронов и частиц световой
волны, французский физик Луи де Бройль пришел к мысли о том, что любой
микрочастице, независимо от ее природы, сопутствует некая «волна материи». Подобно
мифическому кентавру, полулошади-получеловеку, микрочастица, по мнению де
Бройля, тоже объединяет в себе, казалось бы, несовместимое — является
гибридом волны и корпускулы. Де Бройль предположил, что не только у фотона, но и
во всех других случаях длина «волны материи» обратно пропорциональна энергии
связанных с нею частиц. И хотя физическая природа этих волн (их стали
называть дебройлевскими) оставалась загадочной, они хорошо описывали сложные
интерференционные узоры в опытах с электронами, а позднее и с более тяжелыми
частицами — протонами и даже молекулами. Перед физиками встала интригующая
задача — понять и объяснить происхождение этих загадочных волн.
Интересно, что первым, задолго до де Бройля, еще в конце прошлого века,
идею о волнах материи высказал русский ученый Б. Б. Голицын. И это была не
просто гениальная догадка-озарение, свой вывод Голицын основывал на анализе
экспериментального материала по выбиванию электронов светом из металлических
пластин. В этих опытах впервые были получены указания на дискретные свойства
световой волны. Три десятилетия спустя их использовал и Луи де Бройль. Однако
русский ученый слишком опередил свое время. В конце XIX века была еще слишком
велика вера во всемогущество классических законов Ньютона. Большинство ученых
было уверено, что основные законы природы уже открыты и физика близка к
своему завершению, остались лишь небольшие доделки. На этом фоне идея о волнах
материи выглядела совершенно несерьезной и фантастической. Против нее резко
выступил известный московский физик А. Г. Столетов, тот самый, кто выполнил
опыты по выбиванию электронов светом, ставшие в дальнейшем одним из
краеугольных камней квантовой теории. Это могло бы выглядеть историческим
курьезом, но для Столетова все обернулось трагедией. Дело в том, что Б. Б. Голицын
был не только талантливым физиком, но обладал еще и княжеским титулом, а это
в дореволюционной России было очень важным обстоятельством. У Столетова стали
возникать служебные неприятности, а он, будучи человеком принципиальным, не
мох1 поступиться своими научными убеждениями. Все больше сил уходило на
бесплодную борьбу. Закончилось это тяжелым сердечным приступом и последовавшей
вскоре за этим смертью Столетова, а замечательная идея Голицына была
похоронена заживо, и не оказала никакого влияния на последующее развитие физики. Де
Бройль ничего не знал об этой идее.
Александр Григорьевич Столетов родился во Владимире в старой купеческой
семье, которая при Иване Грозном была выслана из Москвы за крамолу и
вольнодумство . Во Владимире именем Столетова названа улица. Он внес большой вклад в
развитие физической науки в России, некоторые из его студентов стали
известными учеными. У Столетова учился физике основоположник отечественной авиации
Н. Е. Жуковский. И вместе с тем он своим авторитетом «задавил» идею, которая,
став широко известной физикам, значительно бы ускорила развитие науки. В
жизни подчас бывают парадоксальные ситуации...
История «волн материи» говорит также о том, насколько осторожным следует
быть с научными идеями. Не зря некоторые физики предлагают создать
специальный журнал, который бы печатал «материал к размышлению» — не признанные, но и
не опровергнутые идеи.
Волны вероятности
Успех дебройлевской идеи о волнах материи, позволившей объяснить многие
противоречивые явления микромира, сразу поставил ее в центр внимания физиков.
Ее обоснованием занялись экспериментаторы и теоретики. И вскоре выяснилось,
что хотя эти волны и называли «волнами материи», материального в них мало.
Они описывают распределение не материи, а вероятности — вероятности
обнаружить частицу в той или иной точке пространства.
Будем бросать монету и считать, сколько раз выпадет «герб» или «решка».
Отношение числа случаев с «гербом» к полному числу бросаний — вероятность
выпадания «герба». Аналогично определяется вероятность выпадания «решки». Что
выпадет в каждом конкретном случае, точно не известно. Это может быть «герб», а
может быть «решка». Но при большом числе бросаний вероятности выпадания
«герба» и «решки» одинаковы и равны 50%. (Иногда говорят: пятьдесят шансов из
ста.)
Если монета погнута или испорчена каким-либо другим образом, вероятности
выпадения «герба» и «решки» будут различными — например, 40% для «герба» и
60% для «решки». Зная эти числа, можно заранее оценить, в скольких случаях мы
выиграем.
Теория вероятностей была создана в связи с азартными играми, но в
дальнейшем оказалась чрезвычайно полезной во многих областях науки и техники.
Артиллеристы стали использовать ее для оценки точности стрельбы, страховые
компания с ее помощью стали оценивать степень риска. Она оказывается незаменимой
во всех случаях, когда имеют дело со сложными явлениями, где действуют сразу
очень много независимых факторов. Например, как описать движение миллиардов
частиц газа? Даже если бы и удалось написать для них систему уравнений, она
была бы такой громоздкой и сложной, что решить ее не смогла бы ни одна ЭВМ!
Вот тут и нужна теория вероятности.
Так вот, выяснилось, что отдельно взятый электрон может находиться в любой
точке пространства, у него нет определенной траектории. Но если опыт
повторить много-много раз, то выявится статистическая, усредненная картина его
движения. Оказывается, что в некоторых участках пространства он, в среднем,
бывает чаще, чем в других. Интенсивность дебройлевской волны как раз и харак-
теризует вероятность — относительную частоту пребывания электрона в различных
точках. То же самое для фотонов. Эти частицы чаще появляются там, где больше
интенсивность их деброилевскои волны. В этих местах наибольшая освещенность и
наибольшая амплитуда световой волны. Движение отдельного фотона настолько
сложное и прихотливое, что с определенной вероятностью его можно обнаружить в
различных точках пространства. Строгие закономерности, так же как при
бросании монеты, проявляются лишь при рассмотрении большого числа фотонов. И вот
статистически в среднем световые частицы распределяются в пространстве таким
образом, что их поведение выглядит как распространение световой волны.
Получается так, что поодиночке каждый из фотонов — корпускула, а в совокупности
они обнаруживают волновые свойства. Для того чтобы сделать картину нагляднее,
иногда говорят, что микрочастицы двигаются по нечетко определенным,
размазанным траекториям, а размазка имеет форму волны. Это очень упрощенное описание
того, что происходит в природе, но некоторое представление о характере
явления отсюда получить можно.
С точки зрения Ньютона, мир, образно говоря, похож на четко вычерченную
сеть железных дорог, по которым строго, в соответствии с расписанием движутся
поезда-частицы. В микромире эта картина размывается, становится нечеткой,
расплывчатой, как будто мы разглядываем ее в плохо сфокусированный бинокль. О
движении частиц там можно говорить лишь с определенной вероятностью.
Когда физики говорят, что электрон вращается вокруг атомного ядра по
определенной орбите, это означает, что электрон чаще всего находится в ее точках,
но с некоторой вероятностью его можно обнаружить и вдали от ядра.
Представьте, что было бы, если бы так себя вели вращающиеся вокруг Солнца планеты!
Аналогия между атомом и Солнечной системой на поверку оказывается весьма
отдаленной .
Но что порождает такое различие? Ведь и планеты и электроны движутся в
пустом пространстве. Почему же в одном случае движение происходит по точным
траекториям, а в другом частицы, как пьяные, исполняют «броуновскую пляску»
вокруг своих траекторий? Что является ее причиной?
Что размазывает
траекторию
Физики пока не могут однозначно сказать, отчего это происходит. Можно
думать , что причина этому — взаимодействия микрочастицы с окружающим ее фоном.
Ведь частица никогда не бывает полностью изолированной, она постоянно
испытывает случайные возмущающие воздействия неисчислимого количества других микро-
объектов. Прежде всего, атомов и молекул, из которых состоят окружающие тела.
Если частица медленная и легкая, то возмущающие толчки резко изменяют ее
скорость и этим, хотя бы отчасти, можно объяснить, почему, казалось бы, одни и
те же начальные условия — одинаковые экраны, щели, каналы и так далее —
приводят к различным последствиям. Дополнительные возмущения вносят атомы, из
которых состоят регистрирующие приборы. Все эти толчки и пинки на атомном
уровне размазывают движение частицы, делают его неконтролируемым.
Но самое главное возмущение происходит от частиц и античастиц, во множестве
рождающихся и быстро аннигилирующих в окружающем вакууме.
Идея абсолютной пустоты, вакуума, пришла к нам из далекого прошлого. Само
представление о мире часто ассоциируется у нас с образом безграничного
пустого пространства с отдельными зернами материальных вкраплений. Мы привыкли к
мысли, что пустота — это исходное, самое простое, не требующее никаких
объяснений состояние окружающей природы, синоним полного «ничто». Однако квантовая
теория говорит о том, что вокруг каждой точки кажущегося нам абсолютно пустым
пространства непрерывно происходят сложнейшие материальные процессы. Если бы
существовал микроскоп с увеличением в миллиарды раз, можно было бы увидеть,
что пространство густо пропитано курящимся «смогом» микрочастиц, где все
вибрирует, обменивается импульсами, распадается и вновь объединяется в новых
комбинациях. В отличие от воздуха, этот смог нельзя вычерпать из
пространства . Микрочастицы появляются из ничего и мгновенно обращаются в ничто.
Если бы был жив Ньютон, то всплески вещества в вакууме ему, наверное,
показались бы похожими на привидения, которые неожиданно возникают и, прежде чем
мы успеваем определить, материальны они или же всего только мираж, так же
внезапно исчезают. Однако опыт убеждает нас, что это — вполне реальные
процессы, а заполненный ими вакуум ведет себя, как некая материальная среда, не
имеющая осязаемой плотности и не мешающая движению физических тел. Ньютон
назвал бы ее всепроникающим эфиром.
Подобно частичкам взвеси в жидкости, движущаяся в пустом пространстве
микрочастица все время испытывает толчки частиц вакуумного смога, и это
сказывается на ее траектории.
Итак, микрочастица погружена в невообразимо сложное переплетение связей, на
ее движение влияет огромное количество различных факторов. Можно думать, что
это как раз и делает его «размазанным», вероятностным. Так же как нельзя
построить точной теории, описывающей поведение всех частиц газа, невозможно
создать и точную, основанную на ньютоновских законах теорию движения
микрочастицы в вакууме. Но это только одна сторона дела.
Хотя точной теории движения всех частиц в облаке газа создать нельзя, к
ней, в принципе, можно приблизиться как угодно близко: сначала построить
теорию для двух частиц, потом для трех и так далее. Трудности здесь только
технические, и, если бы мы располагали сверхмощной ЭВМ, задача была бы решена. В
микромире положение принципиально иное. Постепенно наращивая число
учитываемых связей, можно надеяться объяснить «броуновскую пляску» микрочастицы, но
факт прохождения ее сразу через две щели и интерференцию с уже исчезнувшими и
еще неродившимися частицами объяснить не удастся, сколько бы связей мы ни
учли. Для этого нужны какие-то совершенно новые законы, выходящие за рамки
ньютоновской физики. В квантовой механике факт интерференции не объясняется, он
просто берется из опыта и считается постулатом, таким же, например, как
аксиомы геометрии. Только они кажутся нам совершенно очевидными, мы ежеминутно
встречаем подтверждение им в повседневной жизни, а постулат квантовой теории
нам совершенно непривычен, требуется детальное знакомство со свойствами
микропроцессов, чтобы с ним согласиться.
Было предпринято много попыток построить «всем понятную» теорию
микропроцессов, в которой вероятностные законы квантовой механики получались бы в
результате постепенного усложнения «заквантовой» теории с точными траекториями
частиц. Этой проблемой занимались многие выдающиеся ученые. В частности,
Эйнштейн до конца своей жизни был убежден в том, что такая «заквантовая» теория
обязательно должна существовать. В своих статьях он писал, что квантовая
механика — это всего лишь временная постройка, некое приближенное, размытое
изображение истинной, скрытой пока от нас картины явлений. И пока она не
найдена, задача физики микромира, по мнению Эйнштейна, остается невыполненной.
Но все попытки оказались безуспешными. Опыт показывает, что, чем глубже в
недра микромира мы уходим, тем более важными становятся там вероятностные
законы. Сегодня большинство физиков уверены в том, что любая «заквантовая» теория
будет основана на законах вероятности. Так уж устроен мир. Но почему он так
устроен? Ведь должно же быть какое-то объяснение этому...
С течением времени, по мере того как накапливаются знания, любой постулат
переходит в разряд теорем и выводится из более глубоких принципов. Когда-
нибудь так будет и с постулатами квантовой механики. У них тоже должна быть
какая-то причина. Но сегодня, научившись хорошо пользоваться квантовой меха-
никой, физики еще не могут объяснить происхождение ее удивительных законов.
Энергию электронов в атоме квантовая механика рассчитывает с точностью до
миллиардных долей процента, но вот что размазывает орбиты электронов в атоме,
каков конкретный механизм этой размазки — на эти вопросы она ответить не
может . В то же время опыт хорошо подтверждает все ее выводы. Несмотря на все
старания физиков, никаких отклонений от ее вероятностных законов не
обнаружено.
Тем не менее, у неуязвимой квантовой механики все же есть ахиллесова пята,
которая, возможно, послужит отправным пунктом для построения «заквантовой»
теории. И вот тут мы подходим к самому трудному и «темному» месту теории,
вокруг которого уже более полувека, с тех пор как была создана квантовая
механика , не утихают споры физиков и философов.
Как выглядит частица,
когда на нее
никто не смотрит?
Казалось бы, ответ очевиден — так же, как и в случае, когда ее наблюдают.
Ведь частица существует сама по себе, независимо от того, смотрят на нее или
нет. В физике, основанной на законах Ньютона, это действительно так, а вот в
квантовой механике дело сложнее.
Чтобы подчеркнуть независимость от нашей личной точки зрения какого-нибудь
утверждения, мы часто говорим, что это — экспериментальный факт, то есть
непосредственный результат наблюдения, так сказать, «кусок» независящего от нас
внешнего мира. Мы часто повторяем, что «факт есть факт», что «факты — это
упрямая вещь». Однако в действительности совершенно «чистых», независящих от
нас фактов не бывает. Наблюдая явления природы, наш мозг, наше сознание
всякий раз имеет дело не с внешним миром самим по себе, а с его воздействием на
наши органы чувств и их продолжения — физические приборы. Другими словами, мы
всегда имеем дело как бы с отдельными «проекциями» внешнего мира. Слух дает
нам его звуковую проекцию, зрение — его изображение в световых лучах.
Физические приборы предоставляют нам еще более детальные и разносторонние срезы
окружающей нас действительности. Однако, имея дело с проекциями, мы неизбежно
искажаем и огрубляем наблюдаемое явление, чем-то пренебрегаем, что-то
домысливаем. Каждый человек воспринимает мир по-своему. Бывает, что для одного
происходящие явления — совершенно независимые между собой факты, а другой
сразу усматривает их взаимозависимость.
Мир не существует точно в том виде, как он воспринимается нашими органами
чувств. Картину мира мы воссоздаем с помощью мышления, и этот процесс всегда
зависит от того, какими знаниями уже «заряжено» наше сознание. Если оно
достаточно не подготовлено, мы можем вообще не заметить некоторых фактов, они
для нас как бы не существуют. Например, если бы человек каменного века увидел
надпись на скале, он едва ли придал бы ей какое-либо значение, для него это
были бы всего только случайные подтеки и пятна, которые бы просто скользнули
мимо его сознания.
Животные тоже слышат, видят и чувствуют внешний мир, зачастую значительно
лучше нас, но воссозданная их мозгом картина окружающей обстановки ни в какое
сравнение не идет с картиной мира в мозгу человека.
Хотя любое наше представление о мире является приближенным, по мере
накопления и корректировки знаний оно постепенно уточняется и становится все менее
зависящим от нашего мнения и наших личных точек зрения. Мы выделяем из
воспринимаемых нами проекций, вылущиваем из них то, что не связано со способом
наблюдений, и из этих очищенных элементов строим образ независящего от нас
мира. Например, один прибор измеряет координату частицы, другой — ее ско-
рость, а мы в уме или на бумаге строим единый график движения, с помощью
которого в любой момент времени можем сразу узнать координату и скорость
частицы. Физика Ньютона подтверждала возможность такого постепенного «испарения»
личного, или, как говорят философы, субъективного, элемента из наших знаний о
природе. Казалось очевидным, что, совершенствуя приборы, их возмущающее
влияние можно сделать как угодно малым и изучать явления в чистом виде, без
всякого влияния наблюдателя. Физики были твердо уверены, что трудности на этом
пути чисто технические, а не принципиальные. Образно говоря, каждый прибор —
это невод, с помощью которого мы выуживаем знания из многоводной реки по
имени Природа. И чем он тоньше и деликатнее, тем богаче улов.
Но вот в квантовой механике все оказалось по-другому. Поскольку у
микрочастицы нет определенной траектории, и она как бы размазана по всему
пространству , нельзя одновременно узнать ее координату и скорость. Если мы определим
точку, в которой находится частица, то в следующий момент она может
находиться в любой другой точке, и мы не сможем вычислить ее скорость. Наоборот, мы
можем знать скорость частицы, но тогда неизвестно ее местоположение. Какими
бы деликатными и тонкими ни были приборы, они все равно не смогут
одновременно определить координату и скорость микрочастицы. Чем точнее измеряется одна
из этих величин, тем сильнее «размазывается» вторая, и, как бы мы ни
старались , измерить координату и скорость у одной и той же микрочастицы нам не
удастся. В одних условиях проявляется координата частицы, в других —
скорость . Одна из этих величин обязательно остается неопределенной. Какая — это
зависит от того, как ставится эксперимент.
Каковы бы ни были причины вероятностной размазки микроявлений, все физики
согласны в том, что квантовая механика описывает не отдельную частицу саму по
себе, так, как она есть, а частицу на фоне окружающей ее обстановки. Подобно
тому, как о цвете хамелеона можно говорить лишь применительно к окружающему
фону, так и свойства микрочастицы оказываются связанными с ее окружением.
Микрочастица никогда не демонстрирует сразу всех своих свойств. Часть из них
она «показывает» на одном фоне, другую часть — совсем на другом, и никогда
все вместе. Спрашивать квантовую механику о том, каковы свойства микрочастицы
самой по себе, безотносительно к окружающей ее обстановке, так же
бессмысленно, как и задавать вопрос о скорости тела до выбора системы координат, — в
каждой системе отсчета она своя.
В японском городе Киото есть знаменитый сад камней. Небольшая песчаная
площадка в старинном парке, на которой выложены шестнадцать камней, но выложены
так искусно, что как бы ни смотреть, всегда можно увидеть только пятнадцать
из них. С каждой новой точки зрения — свой пейзаж. Воплощенная в камне идея о
том, что все в мире имеет много сторон и аспектов; все они ограничены и в
чем-то даже противоречат друг другу. Однако это не мешает составить точное
представление о всей композиции в целом и увидеть ее мысленным взором. Может,
так и с микрочастицей — в современной квантовой механике она всегда связана с
окружающим фоном, но в будущей теории, объединяя различные «приборные
проекции», возможно, удастся получить ее точную, ни от чего постороннего не
зависящую картину? Ведь считал же Эйнштейн, что физика не выполнит задачу
объяснения мира до тех пор, пока не научится описывать частицы и происходящие с
ними явления в чистом виде, независимо от всех внешних обстоятельств! Если
так, то квантовая механика — только переходный этап, временные строительные
леса на пути к такой «очищенной» теории, и главная задача физиков — поскорее
создать эту теорию.
Еретики и правоверные
До сих пор ученым всегда удавалось разделить мир на относительно независи-
мые этажи-уровни. Уровень космических явлений, охватывающий галактики и
звездные скопления, уровень макроскопических масштабов, к которому
принадлежим мы сами, еще более глубокие этажи биологических и химических процессов —
каждый из них управляется своими особыми законами и каждый можно с
достаточной точностью рассматривать независимо от других. Перемешивание законов
происходит в узких пограничных областях, где возникают такие гибридные науки,
как биофизика, физическая химия и так далее. Однако природа может быть
устроена таким образом, что простое деление на этажи в микромире становится уже
невозможным, и, как бы глубоко в недра материи мы ни спускались, происходящие
там явления всегда будут связаны с этажом макроскопических процессов. В этом
случае любая теория «заквантовых явлений» будет похожа на современную
квантовую механику.
Надо сказать, что большинство ученых, физиков и философов склоняются к
мысли, что именно так и будет. Лишь небольшое число еретиков убеждено в том, что
за кулисами квантовой механики скрыта чисто микроскопическая «заквантовая»
теория, которую с высокой точностью можно рассматривать независимо от
макроскопических тел и явлений. Объекты микромира, подчеркивают эти физики,
настолько сложны и многогранны в своих свойствах, что привычных нам образов
мира макроскопических вещей и процессов просто недостаточно для их описания.
Это похоже на то, как если бы с помощью букв и нотных знаков пытаться
передать глухому человеку всю прелесть музыкального произведения или пытаться с
помощью плоских чертежей рассказать о форме и строении многомерных фигур. С
помощью ньютоновской физики можно передать лишь отдельные срезы того, что
происходит в микромире. «Заквантовая» теория должна описывать субатомные
явления с помощью каких-то сложных математических образов. Правда, как
построить такую теорию, пока никто не знает.
Как известно, наряду со многими добродетелями благородный и доблестный
герой романов Дюма о трех мушкетерах Портос обладал такой необычайной
спесивостью, что не разрешал портным касаться своей особы, и, для того чтобы сшить
костюм, им приходилось снимать мерки с его изображений в зеркалах. При
изучении микромира физики встречаются с похожей задачей: наблюдая макроскопические
отражения того, что происходит в микромире, они хотят создать точный образ
микроявлений. У портных не было сомнений в том, что зеркала точно отражают
фигуру благородного мушкетера, а вот можно ли для микромира сшить «костюм»,
не зависящий ни от каких зеркал, — этот вопрос остается пока открытым. Для
ответа нужны дальнейшие исследования, и, прежде всего, новые эксперименты.
Голосованием научные проблемы не решаются, и, кто знает, может, преобладающие
сегодня в меньшинстве еретики как раз и окажутся правыми.
Мы преодолели трудный теоретический барьер и можем судить, какие сложные
проблемы, на грани физики и философии, стоят перед квантовой механикой. И
если здесь не все сразу понятно, не стоит огорчаться, ведь, как утверждает
Фейнман, по-настоящему квантовую механику пока не понимает никто. Во всяком
случае, до полной ясности здесь еще далеко!
Физика очень тесно связана с философией. И чем сложнее и абстрактнее
физическая теория, тем более важной становится эта связь. В переводе с греческого
«философия» означает «любомудрие». Впервые философом назвал себя Пифагор,
тот, кто открыл знаменитую теорему о прямоугольном треугольнике. Когда его
однажды спросили, кто же он такой, Пифагор гордо ответил: «Я философ!»
Есть ли предел делимости тел, что такое конец и начало мира, глубинный
смысл пространства и времени, можно ли точно изучить мир с помощью
приближенно работающих органов чувств и приборов — эти и многие другие обсуждавшиеся
выше проблемы принадлежат одновременно и физике и философии. Слагаясь, они
образуют то, что называется мировоззрением человека.
До конца главы мы совершим еще несколько дальних плаваний по океану неиз-
вестного, и каждый раз физика будет соседствовать с философией.
Время,
текущее
вспять
Формулы теоретической физики подсказывают, что если бы удалось создать
генератор лучей, обгоняющих свет, мы смогли бы высвечивать цепочки уже
свершившихся событий в обратном направлении — от настоящего в прошлое. Что мешает
создать такой «хроноскоп истории» — только лишь наше неуменье, недостаток
знаний или же этому препятствуют какие-то фундаментальные физические законы?
Физика XX века приучила нас к мысли о том, что многое из считавшегося ранее
принципиально недопустимым все же может происходить в каких-то особых,
специфических условиях, тем более что опыты на ускорителях частиц обнаружили
явления, где противопоставление прошлого и будущего неоднозначно. Может, каким-то
образом все же удастся создать машину времени хотя бы для микроявлений?
В старой ньютоновской физике показания часов не зависели ни от скорости их
движения, ни от каких-либо других причин. Время там течет безучастное ко
всему происходящему в мире. Для Ньютона было очевидным, что часы на башне собора
и в движущемся дилижансе всегда показывают одно и то же время.
Иначе ведет себя время в современной физике быстро движущихся тел. Стрелки
перемещающихся часов идут медленнее неподвижных, их отставание будет тем
заметнее, чем больше скорость движения. Правда, даже для космических кораблей,
пересекающих сегодня просторы космоса, отставание времени еще очень
незначительно и станет ощутимым, когда их скорости возрастут, по крайней мере, в
несколько сотен раз. Но вот в мире элементарных частиц эффект замедления
времени весьма заметен. Например, время жизни неподвижного мю-мезона около
миллионной доли секунды, ничтожный миг; далее мезон распадается на более легкие
частицы. Однако быстрый мю-мезон, рожденный космической частицей в высотных
слоях атмосферы, становится долгожителем. Он живет так долго, что успевает
пройти сквозь всю толщу воздуха и распадается лишь глубоко под землей.
Пользуясь эффектом замедления времени, физики транспортируют пучки ускоренных ко-
роткоживущих частиц на большие расстояния. Подобная аппаратура есть во многих
физических лабораториях.
Если движется не только наблюдаемое тело, но и сам наблюдатель, то его
скорость тоже влияет на длительность событий. Например, продолжительность
происходящего с телом процесса будет различной в зависимости от того, наблюдают
его с космодрома или из иллюминаторов стремительно летящей ракеты, — ведь
относительная скорость тела и наблюдателя в этих случаях будет отличаться.
Однако порядок происходящих событий, то есть, какое из них совершается раньше,
а какое позднее, во всех случаях остается неизменным. Выбором системы
координат, движущейся или неподвижной, можно сократить или, наоборот, растянуть
длительность события, но направление времени изменить нельзя. Оно так же
неизменно , как в старой ньютоновской физике медленно движущихся тел.
Переходить от движущейся системы координат к другой, тоже движущейся или
неподвижной, умел еще Галилей. Выведенные им для этого формулы так и
называются — преобразования Галилея. Сегодня с ними знаком каждый старшеклассник.
Но они применимы лишь для небольших скоростей, много меньших скорости света.
Формулы преобразований для быстрых движений были выведены в начале нашего
века швейцарцем Эйнштейном, французом Пуанкаре и голландцем Лоренцем. Вывод
этих формул и правила обращения с ними составляют содержание специальной
теории относительности. Само название этой теории говорит об относительности
физических величин, об их зависимости от выбора системы координат, а эпитет
«специальная» отмечает тот факт, что рассматривается частный случай движений
в плоских, неискривленных пространстве и времени. Этим случаем мы и
ограничимся .
Теория относительности прекрасного согласуется с экспериментом и является
фундаментом современной физики. Самые тщательные опыты не обнаружили никаких
отклонений от ее формул.
Для последующего нам очень важно иметь в виду, что хотя теория
относительности создана на основе «досветовых явлений», протекающих со скоростями,
меньшими или равными скорости света, в ее формулах нет никаких условий или
ограничений, запрещающих их применение в «засветовой области» — при
сверхсветовых скоростях. И вот тут обнаружилась замечательная особенность этих
формул: они приводят к выводу, что в процессах с участием «сверхсветовых тел» от
скорости зависит не только длительность, но и сам временной порядок событий.
Совсем не так, как в досветовой области! Пилот одной ракеты скажет, что
событие А произошло раньше события Б, а пилот второй ракеты, движущейся с иной
скоростью, увидит их в обратном порядке. Время для этих наблюдателей будет
идти в противоположных направлениях. То, что для одного — прошлое, для
другого — будущее. Это похоже на то, как если бы в кино прокрутили пленку в
обратном направлении. И нельзя указать, какое направление времени истинное, так
же, как нельзя сказать, какая сторона является правой, а какая — левой. Для
меня — это правая, а для стоящего лицом ко мне человека — левая. И мы оба
правы — относительность!
Зависимость сверхсветовых явлений от времени разительно отличается от того,
к чему мы привыкли в «досветовом мире». В процессах, протекающих быстрее
света , подходящим выбором системы координат можно обратить время вспять.
Получается, что сверхсветовые частицы — это объекты, свободно путешествующие во
времени. Давняя мечта писателей-фантастов!
Но вот существуют ли в природе такие частицы? Как и где следует их искать?
И вообще, не приводит ли предположение о сверхсветовых скоростях к
противоречию с другими положениями современной физической теории, ведь не все же
гипотезы физиков реализуются в природе... С другой стороны, если сверхсветовых
скоростей в природе нет, то почему? Может, за этим прячется какой-то новый
физический закон?
Факты и
предположения
Недавно мне попал в руки научно-фантастический роман С. Снегова «Люди как
боги». Там звездолеты летают с любыми скоростями — в пять, десять, сто раз
быстрее света! Среди созвездий они ведут себя, как грузовик на узкой улице, —
развернулся в созвездии Персея, задним ходом углубился в соседнее шаровое
скопление, оттуда устремился в созвездие Плеяд... Феерическая картина! А
собственно, почему это невозможно?
Правда, в любом учебнике физики можно найти утверждение о том, что в
природе существует некоторая максимальная скорость. Это скорость света в вакууме.
Считается, что ни одно тело не может двигаться быстрее. Однако это всего лишь
— постулат, теоретическая гипотеза. То, что в экспериментах еще никогда не
встречались сверхсветовые скорости, нельзя рассматривать, как их
стопроцентный запрет, — не встречались при одних условиях, могут встретиться при
других. Пока не найдены законы, которые это запрещают, вопрос остается открытым.
Большинство физиков склоняются сегодня к мнению, что сверхсветовых
скоростей в природе нет, тем не менее вопрос продолжает их беспокоить. В научных
журналах нет-нет да и снова вспыхивает дискуссия о сверхсветовых явлениях.
Мой аспирант составил список статей по этой проблеме, их оказалось более
полутора тысяч! И основная часть появилась в последние десять — пятнадцать лет.
Действительно, что ограничивает скорость движения? Ведь скорость света,
мгновенная по сравнению со скоростями, с которыми нам приходится иметь дело в
повседневной жизни, оказывается весьма скромной при переходе к космическим
масштабам. Даже с аппаратами, исследующими ближайшие к нам планеты Солнечной
системы, обмен сигналами происходит уже с весьма заметным запаздыванием. От
Солнца к Земле свет бежит около восьми минут, а чтобы получить сигнал и
отдать команду аппарату, исследующему окраинные планеты Нептун, Плутон и Уран,
нужны десятки минут. Неужели нельзя передвигаться и передавать информацию
быстрее?
Чтобы разобраться в этих сложных и во многом еще неясных вопросах,
познакомимся сначала со свойствами, которыми должны обладать сверхсветовые частицы и
состоящие из них тела. Это поможет выявить трудности, к которым приводит
гипотеза сверхсветовых движений, и подскажет, где можно заметить такие
движения.
Зазеркалье
скоростей
Частицы, движущиеся со скоростями, большими скорости света, принято
называть тахионами — от греческого слова «тахис», что означает «быстрый»,
«стремительный» . Досконально изучить их свойства можно будет после того, как такие
частицы откроют на опыте. Однако некоторые их особенности можно предсказать
теоретически на основе уже известных физических законов. Один из них —
взаимосвязь массы и скорости частицы.
При обычных условиях эта взаимосвязь чрезвычайно слабая, и мы ее просто не
замечаем. Однако если скорость тела становится сравнимой по своей величине со
скоростью света, масса тел начинает возрастать2. Это явление было открыто в
конце прошлого века в опытах с электронами. При увеличении скорости быстро
движущееся тело становится все тяжелее, и дальнейшее увеличение скорости
требует затрат все большей и большей энергии. Это явление называют световым
барьером. Приближаться к нему так же трудно, как подниматься в крутую гору
путнику, имеющему за плечами рюкзак, тяжелеющий с каждым метром подъема.
Чтобы достичь скорости света, разгоняя какие-либо частицы, например, легкие
электроны, пришлось бы затратить бесконечное количество энергии.
Казалось бы, это исключает всякие надежды на открытие сверхсветового
вещества. Долгое время так и считали. Однако если посмотреть внимательнее, то
можно заметить, что на самом деле отсюда вытекает лишь невозможность
превращения обычных, досветовых частиц в тахионы путем непрерывного увеличения
скорости. Подобно тому, как нейтрино и фотоны уже при самом их рождении обладают
световой скоростью, тахионы должны иметь сверхсветовую скорость с самого мо-
2 В большом количестве источников, относящихся к началу и середине XX века, а также
в научно-популярных, понятие массы называли «массой покоя», при этом саму массу
вводили на основе классического определения импульса р = mv. В таком случае m = Е/с2 и
говорили, что масса тела растёт с увеличением скорости. При таком определении
понятие массы было эквивалентно понятию энергии, а также требовало отдельно вводить
«массу покоя», измеряемую в собственной СО, и «релятивистскую массу» движущегося
тела. Такой подход был распространён в течение длительного времени, так как позволял
провести многочисленные аналогии с классической физикой, однако в современной
научной литературе используется редко, так как вносит дополнительную путаницу в
терминологию , не давая никаких новых результатов. Так называемая релятивистская масса
оказывается аддитивной (в отличие от массы покоя системы, зависящей от состояния
составляющих её частиц). Однако безмассовые частицы (например, фотоны) в такой
терминологии оказываются имеющими переменную массу; кроме того, релятивистская масса
ничуть не упрощает формулировку законов динамики частиц.
мента их появления в процессах взаимодействия. Это означает, что тахионы —
частицы совершенно нового типа. Они никогда не переходят через сверхсветовой
барьер на нашу досветовую сторону. Они рождаются, живут и исчезают в
процессах распада и поглощения, всегда обладая скоростью, большей скорости света.
Впервые на это обстоятельство лет двадцать назад обратил внимание советский
физик Я. П. Терлецкий. Это поставило проблему тахионов на твердую почву.
После этого, собственно, и начались серьезные исследования их свойств.
Заметьте, обычные частицы приближаются к световому барьеру, когда их
скорость возрастает, а тахионы, наоборот, — при ее уменьшении. Если на классной
доске провести мелом вертикальную линию и считать, что это — световой барьер,
то слева будет область досветовых частиц, справа — область тахионов. На самом
барьере масса и энергия бесконечно велики, при удалении от него вправо и
влево они уменьшаются. Световой барьер напоминает энергетическую горку со
спусками в сторону меньших и больших скоростей. Теряя энергию, обычная частица
замедляется, тахион, напротив, ускоряется! Шарик из тахионного вещества,
скатываясь с горки, не ускоряется, а тормозится. Падающее сверху тахионное
облако тоже будет тормозиться — спускаться, как на парашюте. Тахионное яичко,
упав с высокого стола, не разобьется, а плавно, как перышко, ляжет на пол.
Зато сверхсветовая пуля под действием сопротивления воздуха должна, как это
ни удивительно... разгоняться! И ружья не требуется, надо только тихонько
толкнуть тахионный шарик в нужном направлении, а дальше он сам разгонится.
По сравнению с обычными, кинематические свойства сверхсветовых частиц
оказываются буквально вывернутыми наизнанку!
Мир тахионов3 — своеобразный антимир скоростей, своего рода Зазеркалье.
Зазеркалье скоростей.
Однако этим дело не кончается, у сверхсветовых частиц есть еще несколько
удивительных особенностей.
Скорость из ничего,
частицы-призраки и
прочие чудеса
сверхсветового мира
Как известно, знаменитый враль барон Мюнхгаузен однажды сам себя вытащил из
болота за волосы. Так сказать, приобрел скорость из ничего, без всякой
внешней силы — с точки зрения физики, явление абсолютно невозможное. Но тахионы,
по-видимому, умеют это делать. Они способны самоускоряться.
Дело в том, что свет движется быстрее всех тел только в вакууме. В веществе
его скорость меньше, она равна скорости света в вакууме, поделенной на
показатель преломления среды. Например, внутри обычного оконного стекла скорость
света снижается в полтора раза, в воде — в 1,3 раза, а в жидком сероводороде
— почти вдвое. В таких средах электрон и другие частицы могут обогнать свет.
При этом в веществе возникает специфическое электромагнитное излучение,
называемое во всем мире черенковским, по имени открывшего его советского физика
П. И. Черенкова. Это похоже на то, как низко летящий реактивный самолет
бесшумной тенью проскакивает за горизонт, и только потом на нас обрушивается
грохот звуковой волны. Мы не будем сейчас выяснять, как и почему возникает
черенковское излучение, для нас важно то, что оно существует. Тахионы должны
вызывать такое излучение даже в вакууме, поскольку их скорость всегда больше
скорости света. Это излучение уменьшает энергию тахиона, и, следовательно,
увеличивает его скорость. Иначе говоря, тахион самоускоряется — сам по себе,
3 Следует напомнить, что тахионы, как и некоторые другие объекты физиков, пока
существуют только в формулах теоретиков и не найдены экспериментально.
без всякой внешней силы, разгоняется в пустом пространстве.
Ускоряется за счет потери энергии! Опять все не так, «как у людей»!
Правда, не все физики согласны с этим выводом. Некоторые приводят
соображения в пользу того, что тахионы все же не должны излучать в вакууме. Пока не
ясно, кто прав. Рассудить сможет, наверное, лишь опыт. Во всяком случае,
предпринимавшиеся до сих пор поиски черенковского излучения тахионов не
увенчались успехом. Никаких излучений в вакууме не обнаружено. Впрочем, не ясно,
были ли вообще там тахионы. Опыт ставился так, что если бы удалось заметить
излучение, тогда можно было бы с уверенностью говорить о сверхсветовых
частицах, излучение служило бы сигналом их присутствия. Если же излучения нет, то
вывод неоднозначен: либо тахионы не излучают, либо таких частиц вообще не
было в данном опыте. Так что окончательный ответ еще впереди.
Как уже говорилось выше, время жизни нестабильной досветовой частицы
возрастает при увеличении ее скорости. А вот пространственные размеры, ее длина
в направлении движения при этом уменьшаются, частица сжимается, становится
похожей на лепешку. Конечно, как и замедление времени, этот эффект становится
заметным только при очень больших скоростях. Так, летящий скоростной самолет,
по сравнению с его длиной на аэродроме, сжимается на величину, приблизительно
в сотню тысяч раз меньшую толщины человеческого волоса. Ракета, выводящая на
орбиту спутник, сокращается в своей длине приблизительно на один микрон.
Другое дело, если бы она двигалась со скоростью, равной половине скорости света
или чуть больше. Тогда изменение ее размеров составляло бы уже около десятка
метров.
Нельзя не признать, что, с позиций обыденного опыта, увеличение времени
жизни и сокращение длин движущихся предметов выглядят весьма непривычно. Но
еще удивительнее ведут себя сверхсветовые тела. Формулы теории
относительности предсказывают, что продольные размеры разгоняющегося тахиона растут,
сверхсветовая частица как бы распухает вдоль оси своего движения, а течение
времени для нее резко убыстряется. В пределе, при бесконечно большой
скорости, тахион вытягивается по всей бесконечно длинной траектории! Его масса и
энергия при этом становятся равными нулю — ведь для того, чтобы ускорять
тахион, у него надо отбирать энергию. Опять все наоборот по сравнению с
обычными частицами!
Отдав всю энергию, тахион становится безынерциальной струей материи,
распределенной сразу вдоль всей своей траектории. Можно сказать и по-другому:
тахион с бесконечной скоростью существует только в один-единственный момент,
а в остальное время его нельзя обнаружить ни в одной точке пространства. И
может случиться так, что находящийся в абсолютно пустом пространстве
наблюдатель, начав двигаться, вдруг обнаружит, что пространство вокруг него
заполнено тахионами. Число частиц оказывается зависящим от скорости наблюдателя.
Изменяя скорость ракеты, космонавт каждый раз будет видеть вокруг себя
различную плотность материи. Тахионы, как призраки в старом английском замке, то
исчезают, то снова вдруг появляются как будто из ничего. Согласитесь, эффект
более удивительный, чем простая зависимость длины предметов от скорости!
Самоускорение, распухание, размазывание по всей траектории — это
действительно очень непривычные и странные свойства. Однако странно не значит
нельзя. К необычным свойствам и явлениям можно привыкнуть. Важно, что сами по
себе они не противоречат фундаментальным законам природы.
Значительно более серьезные трудности связаны с беспричинными явлениями.
Оказывается, и такие возможны для тахионов!
Проблема причинности
Первоначально физикам казалось, что вопиющим противоречием является уже сам
факт изменения временного порядка в процессах с тахионами. Ведь если,
например, один наблюдатель зафиксировал, что тахион испущен атомом урана и
поглощен атомом серы, то другой наблюдатель может увидеть, что атом серы поглощает
тахион, который еще только будет испущен ураном. Явная бессмыслица!
Выход нашел работающий ныне в США. пакистанский физик Сударшан. Он учел, что
для любого процесса с элементарными частицами всегда можно найти обратный, в
котором все частицы заменены на античастицы, а античастицы, в свою очередь, —
на частицы. Другими словами, процесс испускания частицы всегда можно
рассматривать, как поглощение античастицы, и наоборот. Такая симметрия хорошо
проверена на опыте. Это означает, что, с формальной точки зрения, прямой и
обратный процессы можно считать одной и той же реакцией, если античастицы
рассматривать, как частицы, движущиеся обратно во времени. Например, если тело А
испускает электрон или отрицательно заряженный тахион, который поглощается
телом В, то ни в самой реакции, ни в ее окружении ничего не изменится, если
считать, что на самом деле тело В испустило позитрон или положительный
тахион, который затем поглотило тело А. А раз так, то, возвращаясь к опыту с
атомами урана и серы, допустимо считать, что второй наблюдатель увидит процесс,
в котором атом серы испускает антитахион, а атом урана его поглощает. И
никакого противоречия нет, концы с концами сходятся.
С первого взгляда рассуждения Сударшана выглядят, может быть, не совсем
понятными, но если изобразить их в виде простенькой схемы на бумаге, в них
легко разобраться.
Тем не менее, всех противоречий остроумное предложение Сударшана все же не
устранило. Дело в том, что ни один сверхсветовой процесс нельзя изолировать
от окружающей «досветовой» обстановки. Это можно сделать лишь в теории, а в
реальном мире всякое явление бесконечным числом связей скреплено с
окружающими телами. Полностью отгородиться от них невозможно. Таково одно из основных
свойств нашего мира. Поэтому изменение направления времени в сверхсветовом
процессе неизбежно приходит к противоречию с направлением течения времени в
нашем мире, или, как говорят философы, со «стрелой времени», которая задается
движением окружающих нас досветовых тел и временным порядком происходящих в
них процессов. Если такие тела соседствуют с тахионами, возникают похожие на
чудо ситуации, в которых нарушена причинная связь событий. Следствие может
опередить вызывающую его причину.
Допустим, например, что охотник тахионной пулей поражает сидящую на столбе
ворону. Космонавт же в иллюминатор пролетающей мимо ракеты увидит, что по
какой-то непонятной причине из вороны вылетела тахионная пуля, которая была
поймана ружьем охотника. А главное, тот каким-то образом заранее знал, в
какую сторону и под каким углом ему следует направить ствол ружья, чтобы
поймать шарик тахионного вещества! Космонавту все это покажется подлинным чудом.
Подобных ситуаций можно придумать множество.
В мире со сверхсветовыми явлениями прошлое перепутано с будущим. Там ничего
не стоит подсмотреть, что находится «по ту сторону завтра». Нужно только
сесть в экипаж, движущийся с подходящей скоростью. В таком мире наказание
предшествует суду, а преступление совершается в последнюю очередь. Там можно
найти такую систему координат, где еще не родившийся внук может поговорить по
сверхсветовому телефону со своей давно умершей бабушкой. Стоит только
изменить скорость, и вы из будущего перенесете свой взор в далекое прошлое или
наоборот. Там можно застрелить самого себя в прошлом. Куча нелепостей!
Фантасты, которые в своих романах пишут о космических кораблях со сверхсветовыми
скоростями, наверное, ничего не слышали об этих парадоксах.
Как избавиться от нарушений причинности в процессах с тахионами и можно ли
это вообще сделать, остается не ясным. Недавно итальянским физикам удалось
показать, что нарушение причинности всегда сопровождается нарушением законов
сохранения энергии и импульса. Другими словами, если требовать точного
выполнения этих законов, то нарушающие причинность взаимодействия просто не должны
происходить, и физическое тело по отношению к тахионам будет вести себя, как
абсолютно прозрачное. К сожалению, это тоже не устраняет всех противоречий.
Оказывается, если невозможно взаимодействие тахиона с телом, как с целым, то
может произойти взаимодействие с его частью или наоборот. Полностью запретить
непричинные взаимодействия не удается.
Результат итальянских физиков можно считать теоретическим доказательством
того, что в больших, макроскопических областях пространства и времени
тахионов нет, так как иначе нарушалась бы не только причинность, но и законы
сохранения энергии и импульса, можно было бы построить вечный двигатель,
превратить холод в тепло и тому подобное. Поскольку ничего такого в природе не
бывает, то тахионы, если они все же рождаются в нашем мире, не могут выходить
за пределы ультрамалых пространственно-временных областей. Опыт подсказывает,
что временной порядок там становится не таким строгим, как на больших
расстояниях, и его зависимость от системы координат уже не будет нарушать
причинность .
При этом, конечно, возникает вопрос: что же удерживает тахионы в
ультрамалом, не дает им разлететься?
Как будет, если, например, тахионы — короткоживущие частицы, обладающие
способностью самоускоряться? Время жизни таких частиц будет сокращаться при
увеличении их скорости, и, самоускоряясь, они распадутся почти сразу же
вблизи точки своего рождения. Могут быть и другие причины «пленения»
сверхсветового вещества, природа неистощима на выдумки.
Как бы там ни было, пока нет никаких запретов существованию тахионов в
очень малых областях пространства и в течение очень кратких моментов времени.
Следовательно, и время там может идти вспять. А вот существуют ли на самом
деле такие частицы и такие вывернутые во времени процессы — здесь слово за
экспериментом.
Что говорит опыт?
Понятно, что обнаружить сверхсветовые частицы можно лишь по следам, которые
они оставляют в окружающем веществе. Но могут ли вообще частицы со столь
необычными свойствами взаимодействовать с обычным, досветовым веществом наших
приборов? Некоторые ученые считают, что эти два типа вещества просто не
чувствуют друг друга, проходят одно сквозь другое, как свет сквозь прозрачный
материал. Если это так, то тахионы — ненаблюдаемые объекты, а световой и
сверхсветовой миры оторваны один от другого — у них просто нет точек
соприкосновения . Трудно, однако, думать, что в природе, где все взаимосвязано и
взаимообусловлено, могут существовать материальные тела, которые ничем себя
не проявляют и принципиально не наблюдаемы. Если же между тахионами и
досветовым веществом есть взаимодействие, то тахионы должны рождаться при
столкновениях досветовых частиц и можно попытаться зафиксировать их с помощью
имеющихся в нашем распоряжении средств.
Таких опытов выполнено уже немало. В ряде случаев отмечались эффекты,
которые, в принципе, можно было бы приписать сверхсветовым частицам. Однако
всегда удавалось найти и более привычное объяснение. Например, английские физики
изучали распространение ливней вторичных частиц, образуемых в земной
атмосфере высокоэнергетическими частицами космического излучения. Во многих ливнях
детекторы зафиксировали сигналы, значительно опережающие приход лавины
частиц . Этот результат можно объяснить, допустив, что в ливне присутствуют
частицы со скоростями, намного большими, чем у остальных. А поскольку скорость
большинства частиц в ливне близка к скорости света, это, казалось бы, под-
тверждает присутствие тахионов. К сожалению, более детальный анализ показал,
что, сделав некоторые дополнительные предположения, не выходящие за рамки
известной досветовои физики, опережающие сигналы детектора можно объяснить
причинами технического характера, как неточные, ложные выбросы.
Особенно часто сверхсветовые аномалии возникают в астрономических
наблюдениях, где детали движения изучаемых объектов бывают плохо известны. Так,
недавно в печати сообщалось о наблюдении американскими астрофизиками
сверхсветовых выбросов вещества квазарами — излучающими огромную энергию космическими
объектами на краю видимой нами части Вселенной. Из сравнения двух фотографий,
сделанных с интервалом примерно в один год, получен вывод о том, что выбросы
удаляются от квазаров со скоростью, в несколько раз превосходящей световую.
Тем не менее, последующий анализ обнаружил такие особенности процессов,
которые устранили противоречия с «досветовои физикой». Тахионный эффект оказался
всего лишь оптическим обманом.
Интересный опыт по поиску тахионов в микропроцессах выполнили другие
американские физики. Они допустили, что тахионы взаимодействуют с веществом, как и
досветовые частицы, но время их жизни чрезвычайно мало. Участвуя во
взаимодействиях, они изменяют энергии и направления движения досветовых частиц. Эти
изменения совсем не такие, какие вносили бы быстро распадающиеся частицы со
скоростями, меньшими, чем у света. Вот по таким специфическим искажениям
параметров участвующих в реакции частиц и можно установить, принимали в ней
участие сверхсветовые тахионы или нет. При тщательной обработке
экспериментального материала были обнаружены ожидаемые аномалии в скоростях и углах
вылета . Они хорошо объяснялись, если допустить, что сталкивающиеся в реакции
частицы обменивались (как бы играли в бадминтон) тахионами с массой, большей
нуклонной, и временем жизни около 10~24 секунд.
Однако и здесь можно объяснить результаты опытов, если сделать
дополнительные допущения. И хотя, по мнению выполнявших эксперимент физиков, такое
объяснение более сложно, срабатывает знаменитая «бритва Оккама» — если явление
можно объяснить на основе уже известных принципов, такому объяснению отдается
предпочтение.
Ни один из выполненных экспериментов не дал убедительных доказательств
существования сверхсветовых частиц. Но они не доказали и обратного, поскольку
во всех опытах есть особенности, которыми можно, хотя бы отчасти, объяснить
их неудачу.
Мы видим, что невозможность изменить направление4 времени уходит своими
корнями в самые фундаментальные свойства материального мира — неисчерпаемость
его внутренних взаимосвязей и их причинную обусловленность. В конечном счете,
именно эти свойства запрещают путешествия в машине времени. Изменить
временной порядок событий, возможно, удастся лишь внутри субмикроскопических
интервалов пространства и времени.
Со сверхсветовыми скоростями дело сложнее. Не исключено, что они могут
встретиться нам и на больших расстояниях. Не следует забывать, что выводы об
их тесной связи с обращением времени получены на основе формул теории
относительности, которые могут оказаться неверными вблизи светового барьера, где
концентрация энергии возрастает почти до бесконечности. Абсолютный нуль и
4 Мы определяем направление времени по необратимым изменениям (процессам) чего-либо.
Если необратимый процесс можно сделать обратимым, то можно изменить и направление
времени. Возьмем исходное состояние - горячий чайник (ну, или Вселенную после
Большого взрыва). Чайник остывает, и по изменению его температуры мы измеряем время
(когда-то это делали по ссыпающемуся песку или текущей воде). Стрела времени - от
горячего к холодному. Но если мы станем нагревать чайник (добавим энергию извне или
вернем то, что ушло), то по измерению температуры мы увидим, что время потекло вспять.
бесконечность всегда были источниками новых открытий. В окрестностях
светового барьера, возможно, потребуется какая-то новая теория, тогда условия
причинности для сверхсветовых частиц могут стать совсем иными и не будут
приводить к противоречиям. Хотя такая возможность сегодня кажется маловероятной,
но все же... Устанавливая теоретические шлагбаумы на дорогах физики, следует
быть осторожным.
Мир, построенный
из пустоты
Слово «вакуум» обычно понимается как абсолютное «ничто» — «чистое
пространство» , в котором нет ничего материального. Однако мы уже видели, что это не
верно. Такого пространства в природе нет. Квантовая механика показала, что в
любом малом объеме пространства на очень короткое время может произойти
флюктуация, и из пустоты выплеснется и снова быстро погаснет электромагнитное или
какое-либо другое поле, родятся и тут же исчезнут частицы. Вакуум так же
материален, как и вещество. В различных мирах он разный. По существу, это —
одно из состояний материи.
Ныне физики достаточно хорошо знают «крупнозернистые» свойства вакуума в
пространственных кубиках с размерами вплоть до 10~15 — 10~16 сантиметров. О
том, что творится в еще меньших объемах, можно строить лишь гипотезы. В
частности , есть основания предполагать, что очень важную роль там играет
гравитация. В обычных условиях она важна только для массивных, тяжелых тел; ее
действие на элементарные частицы пренебрежимо слабое — слишком уж малы их массы.
Однако на расстояниях порядка 10~32 — Ю-33 сантиметров гравитация становится
сильной и существенно влияет на свойства микромира. Там возможны всплески
очень сильного гравитационного поля, которые приводят к тому, что
пространство , причудливо изгибаясь и скручиваясь, образует замысловатые полости, почти
самозамыкающиеся пузыри. Заполняющий мир вакуум становится похожим на пену,
испещренную пятнышками ультрамикроскопических черных дыр — почти
самозамкнувшихся объемов с исключительно сильным тяготением. Ультрамалые черные дырочки
— весьма неустойчивые образования. Они сливаются, исчезают, появляются вновь.
Некоторые ученые придерживаются мнения, что вакуум — это такое состояние
материи, из которого можно построить все остальные, все многообразие
элементарных частиц и состоящих из них тел. Это может показаться невозможным — как
это, весомая материя и вдруг... из пустоты? Однако для этого есть веские
основания .
Создав свою общую теорию относительности, Эйнштейн впервые доказал, что
законы физики можно свести к законам геометрии. В его теории силы тяготения
имеют чисто геометрическое объяснение. Их можно рассматривать как проявление
кривизны пространства и времени их действия на погруженные в вакуум
физические тела. Кривизна старается направить их движение по оптимальному руслу —
по своеобразным ложбинкам, что и воспринимается как некая сила. Но если
удалось найти геометрическое объяснение для поля тяготения, то почему этого
нельзя сделать для электромагнитного, внутриядерных и всех других полей,
переносящих взаимодействие между частицами? Кроме того, следует иметь в виду,
что все элементарные частицы обладают волновыми свойствами, поэтому их все
можно считать квантами соответствующих волновых полей — нейтринного,
электронного , кваркового и так далее. В физике есть специальный раздел «Квантовая
теория поля», изучающий свойства таких полей. Для них тоже можно искать
геометрическое истолкование.
Создается впечатление, что вообще всю материю — все частицы и все состоящие
из них тела — можно рассматривать как проявление каких-то геометрических
свойств пустого пространства: его кривизны, кручения, самозамыкания и так да-
лее. Вдохновленный успехом своей теории, Эйнштейн писал, что теперь есть
возможность считать пространство более первичным и фундаментальным, чем материя.
Иллюстрируя идею мира, построенного целиком из пустоты, известный
американский теоретик Джон Уилер, профессор Института высших исследований в
Принстоне, вблизи Нью-Йорка, проводит аналогию с наблюдателем, который с высокой
башни изучает движение темных пятен на поверхности озера. Он изучил их
движение настолько детально, что смог вывести для них уравнения и установить
законы действующих между пятнами «эффективных» сил. Но вот однажды, вооружившись
биноклем, он видит, что пятна — это не чужеродные объекты на поверхности
жидкости, а всего лишь ее вихри. По мнению Уилера, элементарные частицы и все
вещество нашего мира — такие же своеобразные «пятна» в пустом пространстве,
особые возбуждения «вакуумной пены».
«Сумасшедшая» мысль о том, что в мире нет ничего, кроме пустого
пространства в его различных формах, стала казаться особенно убедительной после того,
как физики пришли к идее единого поля, объединяющего в себе все известные нам
силы природы. Поскольку одно из его состояний, гравитация, имеет
геометрическую природу, можно рассчитывать, что все остальные его состояния-братья
имеют подобное же происхождение.
Вообще говоря, идея о чисто геометрической природе мира не является
изобретением лишь нашего века. Ее высказывали и древнегреческие ученые. Пифагор был
убежден в том, что в основе всех вещей и явлений лежит «гармония чисел». Он
считал, что законы мира — это законы чисел, где все выражается через целые и
их отношения. Другой древнегреческий мыслитель, Платон, доказывал, что самым
первичным и исходным в природе являются законы геометрии. И всякий раз эти
идеи наталкивались на непреодолимые трудности. Так, для Пифагора и его
учеников выглядело необъяснимой загадкой, почему некоторые величины, например,
отношение длины окружности к ее радиусу или отношение длины стороны квадрата к
его диагонали, нельзя выразить ни целым, ни дробным числом. Они были
настолько поражены своим открытием, что в течение многих лет скрывали его, как одну
из самых ужасных, необъяснимых тайн бытия.
Сорок лет жизни безуспешно потратил Эйнштейн на создание полностью
геометризованной картины мира. Не удалось ее построить и его последователям. Чтобы
описать многообразие свойств мира, одного пространства недостаточно.
Состояния единого поля действительно выражаются через величины, имеющие
геометрический смысл, однако «чисто геометрическими» их можно назвать лишь формально.
Таковыми они являются не в обычном окружающем нас пространстве, а в
абстрактных математических пространствах, где по осям откладываются не длина, ширина
и высота, а значения электрического заряда, странности цветного заряда и
другие характеристики, не связанные с геометрией привычного нам трехмерного
пространства и одномерного времени. Ведь с математической точки зрения,
пространством можно назвать множество любых элементов, характеристики которых
связаны такими же соотношениями, как координаты точек окружающего нас
пространства. Математика позволяет единым образом описывать объекты самой
различной физической природы, и геометрическими их можно назвать лишь потому,
что связывающие их соотношения имеют сходную математическую структуру. То,
что мы обычно называем пространством, — только одно из бесчисленного
количества свойств природы. Мир нельзя построить из «чистой пустоты».
Это очень сложные вопросы, и не стоит унывать, если пока не все понятно. О
пустоте-вакууме спорят с тех пор, как появилась наука, а сегодня эта
проблема , пожалуй, центральная в теоретической физике. Длина, ширина и высота —
только часть измерений пустого пространства. В микромире есть, по-видимому,
еще шесть или семь дополнительных осей-измерений. И снова возникает вопрос:
что же это такое — пространство? На этот вопрос не могут точно ответить пока
ни философы, ни физики.
Пожалуй, на этом нам следует остановиться, иначе мы заблудимся в джунглях
теоретических схем и гипотез. На переднем крае науки их много. Они во
множестве рождаются на страницах физических журналов, борются и погибают, немного
углубив и расширив наше знание, — ведь узнать, что неправильно или
невозможно , тоже очень важно. Это расставляет вехи и ограничительные знаки на пути в
Страну Неизвестного. Кроме того, бывают идеи, назначение которых в том, чтобы
расшатать сложившиеся представления, так сказать, навести на размышления. Они
как трамплин для бегуна.
Хотя физики-теоретики иногда с горечью говорят, что работают в основном на
мусорную корзинку, их работа удивительно интересна. То, с чем рядовой
читатель встречается в научно-фантастических повестях и романах, — лишь бледное
отражение идей, с которыми в своей работе имеет дело теоретик. Трудно найти
специальность, более интересную и увлекательную!
Впрочем, иногда можно услышать: а зачем все это нужно? Разве вокруг нас нет
более земных и злободневных дел, которыми следует заняться прежде, чем
тратить время, усилия и средства на изучение проблем, обещающих практическую
отдачу лишь в далеком будущем? Оправдывает ли себя создание дорогостоящих
ускорителей частиц и огромных радиотелескопов? Может быть, прав тот ученый,
который на вопрос: «Что такое «чистая наука»?» — ответил с юмором, что это —
удовлетворение собственного любопытства за государственный счет.
Эти вопросы мы и рассмотрим в следующей главе.
ГЛАВА IV
Надежды и трудности
Мы привыкли к быстрому и все ускоряющемуся прогрессу науки и спешащей за
ней техники. Но насколько «вечен» такой прогресс? Продвижение вперед
становится все более сложным и дорогостоящим. Оно сопровождается оскудением и без
того уже истощенных природных богатств планеты. Вместе с тем резко возрастает
объем научной информации, которую необходимо освоить, прежде чем приступить к
исследовательской работе. Учиться приходится все дольше и дольше: семь
классов , десять, институт, аспирантура, стажировка на производстве или в
лаборатории... Возникает что-то вроде информационного барьера — чем больше мы узнаем,
тем труднее двигаться дальше. Как жадному грибнику, который собирает все
грибы подряд и сам не может унести то, что собрал. Невольно закрадывается
подозрение : не может ли это стать причиной сначала замедления, а затем и конца
науки?
Может быть, выход в том, чтобы ограничиться основными, наиболее
перспективными направлениями, наикратчайшим путем ведущими к открытию новых законов
природы? Но как узнать, какое направление является более перспективным?
А может быть, следует вообще прекратить самые дорогие научные исследования,
ведь ученые и так открыли уже очень много законов, может, хватит?
Так что же все-таки ожидает науку в будущем? Где ее границы? Какие проблемы
будут волновать ученых через много лет?
Золушка или
принцесса?
На пути науки есть несколько трудных барьеров, которые ей предстоит
преодолеть. Первый из них, его «дыхание», ощущается уже сегодня, — это быстро
растущая стоимость науки. Если все затраты на научные исследования от времен
Архимеда до второй мировой войны составили всего лишь несколько миллиардов дол-
ларов, то в наше время на науку только за один год в мире тратится более ста
пятидесяти миллиардов долларов. В ее сфере занято более трех миллионов
научных работников и инженеров и в несколько раз большее число техников,
лаборантов, рабочих и другого обслуживающего персонала. Стоимость крупных
исследовательских установок, таких, как ускорители частиц, достигает миллиарда рублей.
В конце прошлого века, проводя свой знаменитый опыт по измерению скорости
света, Альберт Майкельсон затратил ровно десять долларов, а сегодня рядовой
эксперимент по физике высоких энергий стоит уже около миллиона. Современный
эксперимент имеет «индустриальный характер». Крупные физические лаборатории
превратились в настоящие города с опытными заводами, конструкторскими бюро,
сложным энергохозяйством. Давно прошли те времена, когда для опыта было
достаточно маленького прибора на лабораторном столе.
Усложнение и удорожание опытов связано с тем, что наука стремится
проникнуть все глубже в недра материи, а это требует постоянно увеличивать энергию
зондирующих частиц, то есть создавать все более сложные экспериментальные
установки. То же самое с космическими объектами — чем они дальше, тем более
мощные и изощренные приборы нужны для их изучения. Это и понятно: чем глубже
и дальше, тем труднее и дороже. Поэтому стоимость опытов будет возрастать и
далее.
А раз так, то, может, и вправду лучше совсем отказаться от фундаментальных
исследований микромира и космоса и сосредоточиться на прикладных разделах
науки, на практическом использовании уже открытых законов природы, и не
растрачивать ресурсы на «пустое» удовлетворение любопытства, которое становится
слишком обременительным и малопонятным всем, кроме самих ученых? Особенно
часто такие сомнения высказывают далекие от науки люди, которым кажется, что,
экономя на «ненужных», чисто научных исследованиях, можно даже ускорить
развитие общества. Однажды в «Литературной газете» мне попалась статья, автор
которой для повышения эффективности науки предлагал оплачивать лишь те
разработки, которые имеют очевидный выход в практику, а так называемые «чисто
научные» исследования вообще не оплачивать, пусть желающие занимаются ими в
свободное время, для своего удовольствия, так же, как, например,
коллекционеры занимаются сбором почтовых марок или старых монет. Такая стратегия, если
бы ее действительно взяли за основу, — верный и быстрый способ вообще
покончить с наукой. Смещение акцентов исследований в сторону «потребительских
интересов» хотя и дает гарантированные практические результаты, тем не менее, в
долгосрочной перспективе крайне невыгодно, так как уничтожает источник,
питающий технику новыми идеями, и довольно скоро обернется снижением темпов
научно-технического прогресса.
Даже весьма далекие от практики научные исследования далекого космоса и
микромира оказывают влияние на технику, медицину и другие, «более близкие к
жизни» разделы науки не только практическим использованием открываемых
принципиально новых явлений, но и тем, что в процессе таких исследований,
выполняемых, как правило, в экстремальных, предельных по своим параметрам
условиях, разрабатываются новые приборы, оригинальные методы и неожиданная
технология , которые затем также находят широкое практическое применение. Так, физика
элементарных частиц содействовала быстрому внедрению в электротехнику
сверхпроводящих магнитов и связанной с этим технологии сверхнизких температур,
помогая резко снизить потери электроэнергии на ненужное, а во многих случаях и
очень вредное нагревание питаемых электрическим током устройств. В
исследованиях реакций рождения и распада элементарных частиц, где в поисках нужных
процессов приходится просматривать десятки тысяч, а то и миллионы фотографий
отдельных событий, были впервые разработаны методы автоматической обработки
огромных массивов экспериментальной информации. Для этого впервые были
использованы мощные ЭВМ, которые по заданным признакам с большой скоростью сор-
тируют и расшифровывают микрофотографии. Теперь эти методы применяются при
аэрофотосъемке, при наблюдениях за земной поверхностью со спутников и во
многих других областях. Как показал экономический анализ, разработки,
выполненные в связи с исследованиями по физике элементарных частиц, оказали влияние
даже на такие далекие отрасли, как сталелитейное дело и железнодорожный
транспорт. Полученная прибыль окупила все затраты на опыты с частицами.
Огромный экономический эффект дали космические исследования, которые на
первом этапе выглядели тоже «чисто научными».
Как видим, практический опыт убедительно говорит о том, что «чистая наука»
жизненно необходима и занятие ею — достойное и важное дело. В научно-
техническом прогрессе она, образно говоря, играет роль генератора и
ускорителя . Поэтому можно с уверенностью сказать, что человечество никогда не утратит
к ней интереса. Наука, изучающая глубинные проблемы окружающей природы, не
золушка, которую терпят из милости и сострадания, а принцесса, способная
одарить человечество фантастическим богатством. Говоря словами Циолковского,
«фундаментальные изыскания имеют чрезвычайно осязаемую, так сказать, хлебную
важность для общества».
В недалекой перспективе — создание работающих при комнатной температуре
сверхпроводников, по которым электрический ток, не ослабевая, может
циркулировать в течение многих суток, сверхдальняя космическая связь на нейтрино,
создание мощных генераторов гравитационного поля и множество других вещей. Но
самое важное в том, что продвижение в глубь материи связано с открытием и
освоением новых источников энергии взамен постепенно истощающихся старых. И
если не выполнять исследований впрок, с дальним прицелом, то может случиться,
что имеющихся источников просто не хватит для того, чтобы овладеть новыми, —
ведь спуск по ступенькам структурной лестницы в недра вещества связан с
затратами все большей и большей энергии. И здесь у «чистой науки» есть уже
несколько многообещающих заделов. Один из них касается практического
использования больших ускорителей частиц, которые часто называют «пирамидами XX
века» , подчеркивая этим их дорогую цену и кажущуюся практическую бесполезность.
Ускорители —
фабрики энергии
Производство энергии в мире за последние десятилетия возрастало в среднем
на пять процентов в год. Если этот темп сохранится, то энергетические
потребности человечества во второй половине следующего века в пятьдесят — сто раз
превзойдут современный уровень. В то же время запасы наиболее энергоемких и
удобных для использования видов органического топлива, нефти и газа, в
основном будут исчерпаны уже в сравнительно недалеком будущем. Лучше обстоит дело
с каменным углем. При современных темпах развития экономики его хватит, по
крайней мере, на несколько сотен лет. Но в этом случае придется сжечь
значительную часть атмосферного кислорода5. Экологические последствия будут, по-
видимому, катастрофическими. Конечно, есть еще солнечные батареи, ветряные
двигатели, энергия, запасенная в земной коре, в морях и океанах. Все это —
важное подспорье, но полностью удовлетворить потребности экономики таким
путем нельзя.
Единственный выход — использование энергии атома. Атомные электростанции
уже сегодня дают весьма заметный вклад в производство электроэнергии. В неко-
5 Но в результате получится углекислый газ, который использует растительность как
источник углерода, выделяя опять кислород. Этот цикл крутится уже 2,4 млрд. лет.
Более того, каменный уголь - это углерод выпавший из этого цикла, и его надо бы
вернуть назад.
торых странах, например, во Франции и ФРГ, где мало нефти и угля, — он
приближается к 50 — 70 процентам. Предполагается, что к концу столетия мощность
атомной энергетики в мире возрастет, по крайней мере, втрое.
Радикальным решением энергетической проблемы, освобождающим нашу планету от
забот об источниках энергии по крайней мере на ближайшую тысячу лет, был бы
переход к «термояду» — использованию энергии термоядерного синтеза. В воде
морей и океанов содержатся практически неограниченные запасы необходимого для
этого сырья — атомов тяжелого водорода — дейтерия. Однако перед физиками
здесь стоят еще чрезвычайно трудные научно-технические задачи, и пройдет
очень много времени, прежде чем будут созданы экономически выгодные
термоядерные реакторы.
Сегодня атомную энергию получают с помощью реакции деления ядер урана.
Именно эта реакция «работает» на атомных электростанциях, приводит в движение
подводные лодки и ледоколы. Запасы ядерного горючего, урана, на нашей планете
хотя и не столь велики, как запасы тяжелого водорода, тем не менее, вполне
достаточны для того, чтобы в течение столетий служить надежной основой земной
энергетики. Но вот что плохо: топливом для современных атомных реакторов
может служить не весь уран, а только весьма редкая его разновидность — изотоп с
атомным весом 235, доля которого в природном уране составляет менее процента.
Остальная часть урана — а это ни много, ни мало, более девяноста девяти
процентов всей его добычи — идет пока на склады и сохраняется до лучших времен,
когда будут созданы реакторы, способные использовать весь уран, оба его
изотопа 235 и 238, которых много. В опытном порядке подобные системы уже
действуют в нашей стране и за рубежом. Они перерабатывают уран в новый элемент —
плутоний, который, как и уран 235, является хорошим топливом для «атомных
печей». К сожалению, переработка в плутоний происходит пока еще довольно
медленно и обходится дорого.
Есть еще один путь для переработки неиспользуемого урана 238 в плутоний — с
помощью установки, которая является гибридом мощного ускорителя частиц и
уранового реактора. Представьте себе большой кусок урана, скажем, кубический
метр в объеме, — мишень, в которую бьет пучок протонов, ускоренных до высоких
энергий. Сталкиваясь с ядрами, энергичные протоны дробят их на множество
протонов и нейтронов — расшибают в веер нуклонных «брызг». Родившиеся при этом
частицы дробят следующие ядра и так далее, до тех пор, пока их энергия не
станет такой маленькой, что они уже будут не способны расколоть атомное ядро.
В урановой мишени образуется мощный каскад, лавина постепенно замедляющихся
частиц. Как в горах, когда сорвавшийся камень сбивает несколько следующих, те
сбивают другие — и грохочущий веер камней летит вниз!
Часть образовавшихся в каскаде и постепенно замедлившихся нейтронов
захватывается ядрами урана, и в результате образуется плутоний. Другие нейтроны
делят ядра урана, как в обычном атомном реакторе. При этом в мишени
выделяется так много энергии, что ее достаточно для того, чтобы возместить затраты
электростанции на ускорение протонов, а образовавшийся плутоний можно «сжечь»
с выделением большого количества энергии либо в самой мишени, либо в других
атомных реакторах.
Это так называемый электроядерный метод получения атомной энергии, или, как
говорят физики, «электрояд». Ускоритель становится фабрикой энергии. Скорость
наработки плутония здесь во много раз больше, чем в реакторах деления,
работающих без «подсветки» пучком ускорителя.
История науки убедительно говорит о том, что исследования фундаментальных
явлений природы никогда не бывают напрасными, хотя на первых порах иногда и
кажутся не имеющими никакого отношения к практике. С течением времени они
обязательно дают выход в жизнь, сторицей окупая все затраты. Такой процесс
«отдачи» уже начался в физике высоких энергий. Правда, как это всегда бывает,
для того, чтобы от физических моделей перейти к мощным и надежно работающим
промышленным установкам, требуется определенное время, когда главными
фигурами становятся инженер и конструктор. Обычные ускорители, используемые сегодня
для экспериментов с элементарными частицами, для «электрояда» не годятся.
Здесь нужны так называемые сильноточные ускорители, которые могут за раз
ускорять по меньшей мере в десять или даже в сто тысяч раз большее число
частиц, чем, например, ускорители, работающие в подмосковном городке физиков
Дубне. Различные типы сильноточных ускорителей проектируются и уже строятся
во многих странах мира, в том числе и в нашей.
Некоторые ученые считают, что в будущем электроядерные установки с
сильноточными ускорителями будут размещаться где-нибудь в космосе или на Луне, где
высокий вакуум, не требуется специального охлаждения для сверхпроводников, а
главное, не нужно заботиться о защите от мощного и опасного для людей
радиоактивного излучения, испускаемого ускорителем и урановой мишенью. Там же
можно хранить и радиоактивные отходы производства, которые представляют большую
опасность для окружающей среды.
И вот тут мы встречаемся еще с одной очень важной проблемой современной
науки — с опасностью, которой чреваты научные изыскания.
Опасна ли
«чистая наука»?
Как повествуют исторические хроники, стремясь обезопасить себя от
воинственных соседей, правители Персии всеми способами старались убить македонского
царя Филиппа. Однако, когда, наконец, это им удалось, последствия были
катастрофические . Новый царь Александр Македонский не стал следовать политике
своего более осторожного отца и уже через несколько лет разгромил и уничтожил
Персидское государство. Подобных примеров, когда, стремясь к определенной
цели, люди забывают о том, что ее достижение может вызвать лавину нежелательных
событий, в истории немало. Это относится и к науке. Еще сто лет назад Карл
Маркс отмечал, что наука и технология, если они развиваются стихийно, а не
направляются сознательно, оставляют после себя пустыню. Человечество в своем
стремлении к благу не должно быть похожим на героев рассказа английского
писателя Джекобса, престарелых родителей единственного сына, которые нашли
волшебный талисман — обезьянью лапу, способную выполнить любое желание их
владельца, и, неосторожно попросив у него немного денег, немедленно получили их
в виде извещения о пенсии, назначенной им за неожиданно умершего сына6.
Сиюминутная выгода может не стоить и сотой доли того, что потом придется за нее
заплатить.
В наше время могущество человека достигло планетарных масштабов, и он может
легко нанести огромный и труднопоправимый вред и себе, и окружающей природе,
поэтому тщательное изучение и учет возможных последствий человеческой
деятельности, в том числе и научной, становятся обязательным условием. Этим
занимаются и сами ученые, и специальные государственные организации.
Еще одна проблема, которая волнует сегодня ученых, касается их моральной
ответственности за последствия «чисто научных» исследований, которые, будучи
применены на практике, могут принести горе и страдания миллионам людей. Несут
ли ученые ответственность за это? Все ли подряд можно подвергать
исследованию, или же здесь тоже должны быть какие-то ограничения морального характера?
В последнее время, особенно в зарубежной прессе, часто встречаются
высказывания о том, что сама по себе наука, как поиск истины, вне морали. Мораль ка-
6 Там было три желания. Второе - чтобы сын вернулся назад. Он вернулся в виде зомби.
Третье желание - что он исчез.
сается лишь того, как использовать ее результаты, — ведь один и тот же нож
годен для того, чтобы нарезать хлеб, и им же можно убить человека. А раз так,
то ученый в своей работе не подвластен суду гражданской совести и не несет
никакой ответственности за последствия своих исследований. Это совершенно
неприемлемая, антигуманистическая точка зрения. Она уводит ученых от того
факта, что использование результатов их работы уже заранее предопределено строем
и политическими установками общества, в котором они живут. Не случайно, что
такая идеология особенно пропагандируется в Соединенных Штатах Америки.
Когда в секретном атомном городке Лос-Аламосе ученые готовили атомную
бомбу , итальянский физик Энрико Ферми успокаивал себя и своих коллег: «Что бы
там ни было, а мы занимаемся настоящей физикой!» «А в это время, — вспоминал
позднее Роберт Оппенгеймер — американский физик, руководивший работами по
созданию бомбы, — в верхних эшелонах власти не состоялось ни одного
достаточно ответственного обсуждения моральных проблем, связанных с появлением нового
оружия. Атомная бомба была хладнокровно испытана на сотнях тысяч жителей
Хиросимы и Нагасаки».
Физик Коуэн, который изобрел нейтронную бомбу, оставляющую почти без
повреждений материальные ценности, но уничтожающую все живое в радиусе сотен
метров, несет такую же ответственность, как и руководители США, размещающие это
оружие в густонаселенных областях Западной Европы.
«Как страшен может быть разум, если он не служит человеку!» Это сказал
Софокл почти две с половиной тысячи лет назад.
Сам собой напрашивается вопрос: а нельзя ли запретить или, как принято
теперь говорить, наложить мораторий на те исследования, которые могут быть
использованы для создания нового страшного оружия, грозящего гибелью нашей
планете? Кроме того, и некоторые «невоенные» исследования, если общество в силу
социально-экономических условий или просто из-за недостатка знаний не готово
к использованию их результатов, могут сыграть роковую роль джинна,
выпущенного из бутылки. Например, много писалось о потенциальной опасности
бесконтрольных коммерческих исследований по генной инженерии — выведению путем
воздействия на генный аппарат клеток совершенно новых организмов, о направленном
воздействии электромагнитных полей на психическое состояние человека и так
далее. Современная научно-фантастическая литература полна романами-
предупреждениями о том, к чему могут привести подобные «чисто научные»
эксперименты. Не разумно ли воздержаться от потенциально опасных исследований до
тех пор, пока не создадутся условия, необходимые для безопасного их
продолжения?
Казалось бы, здесь нет проблемы, нужно только принять соответствующий закон
или издать распоряжение. Но это только с первого взгляда. На самом же деле
задача ограничения и контроля научных исследований чрезвычайно сложна. Прежде
всего, потому, что мы живем в разобщенном, раздираемом противоречиями мире.
Конечно, соглашения возможны и в этом случае. Вспомним, например, о
заключенном, по инициативе нашей страны, договоре о запрете испытаний атомного оружия
в воздухе и в космическом пространстве.
Еще одна трудность связана с тем, что научно-технический прогресс делает
невозможным полный запрет и необходимую для этого полную изоляцию какой-либо
области знания. Рано или поздно неизбежно обнаружатся неожиданные, достаточно
простые для осуществления и неподдающиеся контролю выходы в эту область. У
американского писателя-фантаста Айзека Азимова есть рассказ о том, как строго
охранявшееся направление исследований, грозивших человечеству неисчислимыми
социальными и психологическими катаклизмами, оставалось запретным лишь до тех
пор, пока открытия в смежных науках не привели к тому, что запрещенные
исследования стало возможным проводить в домашних условиях, с помощью обычных
бытовых приборов, которые продаются в любом магазине. Мораль этого замечатель-
ного рассказа в том, что люди должны с большим вниманием присматриваться к
так называемым «чисто научным» разработкам.
Как остроумно заметил однажды Д. И. Блохинцев, «чистая наука» — это
волшебная курочка, несущая для нас золотые яйца, некоторые из которых, однако,
начинены динамитом.
Абсолютно безвредной науки не бывает. Используя ее достижения, мы каждый
раз должны чем-то поступиться, пожертвовать менее важным в пользу более
существенного и перспективного. Строительство гидростанций связано с затоплением
земель, а создание атомных электростанций требует затрат на защиту окружающей
среды от радиоактивных излучений, создания специальных «могильников» для
захоронения радиоактивных шлаков. Скоростные воздушные лайнеры, за считанные
часы переносящие нас с одного края страны в другой, сжигают массу
атмосферного кислорода, а их шум мало приятен жителям поселков вблизи аэродромов. И так
далее.
В повести писателей А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу»
рассказывается о неком выдающемся ученом Саваофе Бааловиче Одина, который
вывел и решил Уравнения Высшего Совершенства и мох1 бы стать богом: он обрел
способность удовлетворить любое желание и совершить любое чудо. Однако на
деле он был беспомощным, поскольку Уравнения имели решения при обязательном
граничном условии: выполнение желания не должно причинять вреда ни одному
разумному существу во всей Вселенной. А это было невозможно.
Итак, мы видим, что при соответствующем контроле «чистая наука» не только
очень прибыльный для общества, но и необходимый вид человеческой
деятельности. Общество всегда будет поддерживать исследования новых фундаментальных
законов природы. Однако не наступит ли время, когда все законы будут открыты
и наука прекратит свое существование, поскольку нечего будет изучать?
Когда откроют
все законы
Есть ученые, которые считают, что такое время может наступить. Например, по
мнению Фейнмана, может случиться, что мы будем иметь ответ сначала на 99%
вопросов, а затем на 99,99%, после чего исследования потеряют свой смысл, так
как мы будем знать практически все. Такого же мнения придерживался недавно
умерший советский физик А. С. Компанеец. В своей книге «Может ли окончиться
физическая наука» он обосновывал это тем, что число различных видов
взаимодействий в физике конечно, по крайней мере, для двух из них, для
электромагнитного и гравитационного (а теперь можно добавить, что и для слабого распад-
ного) , созданы точные, согласующиеся с экспериментом теории7. Нет оснований
сомневаться, что такие теории вскоре будут разработаны и для остальных
взаимодействий. И тогда физики смогут объяснить и рассчитать любое явление
природы, подобно тому как, например, ученые-механики используют давно открытые
законы Ньютона для конструирования и расчета разнообразных механизмов. Никаких
тебе тайн и загадок!
С такими утверждениями никак нельзя согласиться. Ученым уже не раз
казалось, что они почти достигли полного понимания законов природы, когда
неясности оставались лишь в деталях. Но каждый раз получалось так, что избавиться
от этого «почти» и создать совершенно законченную и абсолютно
непротиворечивую теорию никак не удавалось. Всегда оставались вопросы, которые упорно не
Если конечно забыть, что эти теории в принципе неверны, они просто какое-то
приближение к истине, причем никто не знает какое именно. Идет процесс познания. В
каждом веке ученые уверены, что их теории верны, но в следующем веке выясняется, что
эти теории или заблуждение, или частный случай более общих теорий.
находили ответа. Они превращались в парадоксы, в проблемы, и, в конечном
счете, отсюда возникала новая теория. Так, в самом конце уходившего в историю
XIX века Филипп Жолли, учитель Макса Планка, наставлял своего ученика:
— Конечно, в том или ином уголке еще можно заметить или удалить пылинку, но
система, как целое, стоит прочно, и теоретическая физика заметно приближается
к той степени совершенства, каким уже столетия обладает геометрия. Поэтому
едва ли стоит посвящать жизнь и тратить силы на завершение практически уже
написанной картины.
Однако прошло всего несколько лет, и Планк вместе с Эйнштейном, де Бройлем
и другими физиками открыл ворота в необозримый мир квантовых явлений.
Как мы видели в предыдущих главах, квантовая механика и теория
относительности — два кита, на которых покоится фундамент современной физики, содержат
уйму нерешенных проблем и неясностей, каждая из которых может стать воротами
в новую теорию. Природа неисчерпаема в многообразии своих законов, и надеждам
построить окончательную Всеобщую Теорию, которая объясняла бы все явления
мира, не суждено сбыться. Такой теории просто не может быть. По мере углубления
наших знаний все большее число явлений будет получать точное истолкование.
Однако абсолютно точного объяснения дать нельзя. При увеличении точности
эксперимента обязательно обнаружатся отклонения, и потребуется новая теория,
уточняющая известные законы. Она откроет неизвестные явления и создаст массу
новых проблем — трамплин для следующей теории. И так без конца. В этом как
раз и проявляется неисчерпаемость природы. С развитием науки число наших
вопросов к ней не уменьшается, как это предполагает Фейнман, а, наоборот, их
становится все больше — ведь, образно говоря, граница, по которой наше знание
соприкасается с океаном неизвестного, становится все длиннее!
Каждый новый шах1 на бесконечном пути познания увеличивает могущество
человечества, поэтому оно никогда не утратит интереса к получению нового здания.
Прекращение фундаментальных исследований равнозначно прекращению
поступательного развития общества. Едва ли такое «научно замороженное» общество сможет
просуществовать достаточно долго. Рано или поздно оно непременно начнет
деградировать .
Вместе с тем неограниченное развитие науки, постоянное расширение ее границ
тоже приводит к трудностям, которые в будущем могут существенно затормозить,
а потом, возможно, и вообще остановить научно-технический прогресс. Речь идет
о быстро возрастающем потоке информации, в котором наука может просто
захлебнуться . Это еще один барьер, который предстоит ей преодолеть.
Горе от ума
Первая библиотека была создана Аристотелем в Афинах 2300 лет назад. В
январе 1665 года в Париже стала выходить «Газета ученых» — первое в мире
периодическое издание, посвященное научным вопросам. В том же году вышел первый
номер «Философских протоколов» Английского королевского общества. Сегодня в
мире уже свыше трехсот тысяч специальных научных и научно-технических журналов,
ежегодно появляется не менее пятидесяти тысяч книг, посвященных науке и ее
применению. Поток научной информации удваивается приблизительно каждые десять
лет, а в ведущих областях естественных наук даже каждые два-три года.
Настоящий информационный потоп!
Учёный теперь уже не в состоянии уследить, что происходит во всех областях
его науки. Он едва успевает ознакомиться с информацией, относящейся к той
конкретной проблеме, которой он занят в данное время. Размышлять над далеко
отстоящими вопросами у него просто нет времени. Чтобы не отстать, ученый
вынужден суживать фронт своих исследований. В результате наука дробится,
возникает множество отдельных, весьма слабо контактирующих друг с другом разделов,
которые иногда рассматриваются даже как новые науки. Сегодня плохо понимают
друг друга даже те ученые, которые работают в близких областях. Физик-ядерщик
подчас чувствует себя чужестранцем среди коллег, обсуждающих теорию поля, а
для радиофизика, попавшего на семинар по элементарным частицам, непонятны не
только идеи, но и сам язык, терминология, используемая участниками семинара.
Работа ученых все больше напоминает строительство вавилонской башни, которая,
по преданию, рухнула из-за того, что у ее создателей не было единого языка и
плана.
Быстрое увеличение объема информации, с которой приходится иметь дело
специалисту, приводит к удлинению сроков обучения. Чтобы получить высшую научную
квалификацию — стать доктором наук, — нужно около двадцати пяти лет. Если
человек начал учиться в семь лет, то к двадцати пяти он становится кандидатом
наук, а доктором — когда ему уже за тридцать. А в будущем учиться придется
еще дольше. Правда, ученый пополняет свои знания всю жизнь. Стоит на
несколько месяцев перестать читать статьи в специальных журналах, слушать доклады на
семинарах, и вы уже чувствуете, как отстали от своих коллег!
Но еще более важным следствием «информационного потопа» является то, что
специалисту становится все труднее привести в систему, осмыслить, а
следовательно, и использовать эти знания. В условиях лавинообразного роста
информации все большая часть его оказывается попросту утерянной. В книгохранилищах
накапливаются издания, которые ни разу не были затребованы читателями. В
библиотеке им. В. И. Ленина фонд таких забытых книг насчитывает миллионы
наименований. Иногда бывает проще повторить исследование и заново найти решение,
чем перерыть горы литературы. Подсчитано, что шестьдесят — восемьдесят
процентов инженерных решений в мире предлагается повторно. Только в США. убытки
от таких повторных решений достигают миллиардов долларов в год.
Создается парадоксальная ситуация, настоящий информационный барьер: чем
больше мы узнаем, тем труднее становится приобретать новое и использовать уже
имеющееся знание. Вот уж действительно горе от ума!
Положение выглядит настолько серьезным, что, по мнению многих ученых,
дальнейшая судьба и сам вид нашей цивилизации в значительной степени определяются
тем, какой конкретный путь изберет человечество для преодоления
информационного барьера. В решении этой проблемы, в конечном счете, состоит одна из
главных задач современной научно-технической революции. Первая промышленная
революция путем широкого внедрения машин в сферу физического труда неизмеримо
расширила весьма ограниченные мускульные возможности человека. Новая научно-
техническая революция связана с использованием машин в области умственной
деятельности для расширения возможностей накопления, хранения и переработки
огромных массивов информации.
Для сравнительно небольших интервалов времени, если не заглядывать далеко в
будущее, здесь нет принципиальных трудностей. Однако в более далекой
перспективе — а при современных темпах развития это, вообще говоря, не такое уж
далекое будущее — положение выглядит не столь ясным.
Электронные
помощники
Есть оптимисты, которые считают, что острота информационного кризиса будет
спадать по мере изобретения все более мощных ЭВМ с огромным резервом
электронной памяти, способных почти мгновенно «впитывать» в себя миллиарды слов и
чисел, автоматически с огромной скоростью просматривать и сортировать
содержимое своей памяти, обмениваться им с другими ЭВМ. Ведь уже сегодня стоимость
электронного хранения одного слова значительно ниже стоимости его хранения на
бумаге, а применение лазерного луча для чтения и записи позволяет уместить
содержание крупной библиотеки на одном-двух дисках размером с обычную
долгоиграющую пластинку.
Нет спора, кибернетические системы — важные помощники человека, тем более
что уже сегодня ЭВМ способны выполнять за секунду до миллиарда операций типа
сложения, умножения, пересылки информации из одной ячейки памяти в другую и
так далее. Следующее их поколение сможет выполнять до триллиона операций в
секунду. Возможности колоссальные! И все же... Кибернетические устройства не
устраняют, а лишь отодвигают наступление «информационного потопа». Для того
чтобы они могли оперировать с быстро усложняющейся информацией, распределять
ее и обрабатывать в соответствии с вновь возникающими задачами, для них
необходимо создавать все более сложные и разветвленные математические программы.
А это требует затраты труда высококвалифицированных программистов, хорошо
знакомых к тому же с другими разделами науки. Кроме того, чем программа
сложнее и чем больше объем просматриваемых ею данных, тем медленнее эта программа
работает, — ведь скорость передачи сигналов в системе не может быть
бесконечной, она ограничена скоростью света. Удвоение мощности вычислительного центра
практически никогда не означает удвоения объема обрабатываемой информации.
Долго и тщательно готовившийся запуск американской ракеты на Венеру
сорвался из-за того, что в управляющей программе была допущена, казалось бы,
пустяковая ошибка: при кодировании программы действий одна из запятых была
случайно заменена на точку. Обычно подобные ошибки приводят к тому, что
вычислительная машина не понимает смысла команды, «спотыкается», и к оператору
поступает «сигнал бедствия». Однако иногда бывает так, что ошибка лишь
несколько изменяет смысл команды. Никакого тревожного сигнала в этом случае не
вырабатывается, система проходит все тесты, но при каких-то особых условиях
«теряет голову», начинает сбиваться. Так и случилось при запуске американской
ракеты. Выявить подобный сбой в работе кибернетической системы очень трудно,
а чем сложнее система, тем больше вероятность сбоев... Для надежности
приходится вводить специальные программы автоматического контроля, которые часто
оказываются сложнее самой контролируемой программы.
Обслуживание программного обеспечения крупной вычислительной машины уже
сегодня стоит больше, чем затраты на эксплуатацию всех ее электронных и
механических устройств8. Если же принять во внимание стоимость разработки программ,
то в целом программное обеспечение обходится на порядок дороже стоимости
самой машины — «железок», как говорят инженеры, хотя эти «железки», а точнее,
кристаллы и микросхемы с сотнями и тысячами деталей, стоят тоже довольно
дорого . В будущем «ножницы» между «техническим» и «интеллектуальным»
наполнением ЭВМ раздвинутся еще шире. Так что надеждам перескочить через
информационный барьер на «кибернетических ходулях», можно думать, не суждено сбыться.
По преданию, правитель одной из восточных стран решил овладеть всей
мудростью мира. По его приказу придворные мудрецы собрали самые умные книги, но
царь пришел в ужас, увидев длинный караван верблюдов, груженных тысячами
тысяч больших и малых книг, и повелел выбрать лишь самое главное, из чего можно
вывести все остальное. Несколько десятков лет мудрецы прилежно трудились и,
наконец, пригнали к царю всего лишь нескольких груженных рукописями
верблюдов . Однако и этого было слишком много, и царь опять отослал мудрецов выбрать
самое главное из главного. И снова много лет трудились ученые, пока не свели
всю «соль науки» в одну-единственную тоненькую тетрадь, зато теперь такую
трудную, что правитель не смог понять в ней ни строчки.
Подобное «сворачивание» науки в информационно более емкие образы и понятия
происходит и сегодня. Создаются все более общие и абстрактные теории. Но про-
Это публикация была написана в 1988 г., то есть до массового распространения
персональных компьютеров.
биться к их смыслу становится все труднее. Чтобы понять «язык» физики
элементарных частиц, нужно быть знакомым с идеями теории поля, которые, в свою
очередь , основаны на квантовой механике и теории относительности, а последние
нельзя понять, не имея представлений об электродинамике Максвелла и механике
Ньютона. Эта цепочка становится все длиннее.
Математик и философ Анри Пуанкаре когда-то сравнивал науку с беспрерывно
расширяющейся библиотекой, где эксперимент обеспечивает новые поступления, а
теория их упорядочивает и каталогизирует. Похоже, что теперь эта библиотека
близка к такому состоянию, корда для ее пополнения в прежнем темпе не хватает
уже ни средств, ни помещений...
Какая наука
важнее?
Чтобы вести исследования сразу по всем направлениям, теперь не хватает ни
средств, ни людских резервов. Приходится выбирать наиболее важные. Но как
узнать, что важнее? Ведь были случаи, когда, казалось бы, второстепенные
исследования приводили к выдающимся открытиям! Историки науки любят вспоминать
случай, происшедший с Фарадеем, когда посетивший его лабораторию титулованный
гость посчитал его опыты с движением магнита внутри катушки с намотанной
проволокой бесцельной забавой. Однако из этой «забавы» в последующем выросла вся
электротехника. А вспомним опыты австрийца Георга Менделя по скрещиванию
различных сортов гороха. К ним тоже относились как к ненужному занятию, из
которого , однако, родилась генетика. Как заранее угадать, приведет исследование к
важному открытию или закончится тупиком?
В коридоре физического института, о котором рассказывается в известном
кинофильме А. Ромма «Девять дней одного года», висела стенгазета с призывом:
«Откроем новую частицу в третьем квартале!» Но открытия потому и называются
открытиями, что совершенно непредсказуемы.
Сегодня все согласны с тем, что следует планировать прикладные
исследования, цель которых — применение открытых «чистой наукой» законов природы в
решении конкретных практических задач. Здесь можно оценить, какая задача на
данном этапе является более важной. Что же касается «чистой науки», то
допустимо ли вообще отдавать предпочтение одним ее разделам в ущерб другим? Не
получится ли так, что при этом мы пропустим нечто очень важное? Может, через
пропущенные области как раз и проходит «столбовая дорога» в Страну
Неизвестного . Польский писатель и философ С. Лем считает, что нельзя отбросить ни
одного научного направления. Чем выше развитие науки, тем больше проявляется
связей, соединяющих отдельные ее ветви, поэтому нельзя ограничить физику без
ущерба для химии или медицины и, наоборот, новые физические проблемы могут
приходить, например, из биологии. Другими словами, ограничение темпа развития
какой-либо области исследований, которую почему-либо сочли менее важной,
может отрицательно сказаться именно на тех областях, для блага которых решено
было ею пожертвовать. Такой подход к науке С. Лем считает проигрышем
человечества в его противостоянии силам природы. По его мнению, продвигаясь в
туманной Стране Неизвестного, наука должна исследовать все пути и тропинки,
иначе есть вероятность заблудиться и не найти «столбовой дороги».
Конечно, выбор наиболее важных тем исследований можно было бы поручить
самим ученым, наиболее квалифицированным специалистам. Они, на основании своего
опыта, могут судить, что является перспективным, а что — нет. Им и карты в
руки. Однако как иллюстрацию, насколько могут ошибаться в оценках перспектив
даже самые выдающиеся ученые, можно привести высказывание Резерфорда —
человека, исследования которого открыли ядерную физику. Он говорил, что пройдут,
может быть, столетия, прежде чем энергия атома станет доступной людям. Неожи-
данное открытие деления тяжелых ядер «сжало» эти столетия в несколько лет.
Поразительные просчеты случаются даже в более простых случаях — при прогнозе
технических достижений. Так, Герберт Уэллс, писатель-фантаст, которого едва
ли можно упрекнуть в робости мышления, в 1902 году утверждал, что военное
применение летательных аппаратов тяжелее воздуха станет возможным не ранее
середины века, и считал это предположение чрезвычайно смелым.
Безусловно, отсутствие каких-либо ограничений было бы наилучшим условием
развития науки — изучай все, что интересно, и никаких забот ни о средствах,
ни о помощниках, всего вдоволь! К сожалению, естественная ограниченность
наших возможностей предопределяет и неизбежное ограничение научных изысканий.
Они существовали на протяжении всей истории науки. Распределение усилий
никогда не было одинаковым по всему фронту, какая-то наука — иногда естественная,
иногда гуманитарная — всегда была «самой главной». Современное положение
специфично лишь в том отношении, что этот фактор развития науки приобрел
жизненно важное значение, когда ошибки планирования могут нанести непоправимый
ущерб в планетарных масштабах.
Не исключено, что в результате неравномерного развития науки какие-то очень
важные сведения об окружающем нас мире будут действительно пропущены и
останутся нам неизвестными, однако это вовсе не означает, что дальнейшее развитие
человеческого общества в каком-то смысле станет ущербным. Трудно поверить в
то, что у человечества только один-единственный «столбовой путь» прогресса.
Естественно предположить, что таких, в общем-то, эквивалентных путей много.
Выбор цели
Планирование науки — чрезвычайно сложная задача, которая должна учитывать
не только логику развития самой науки, но и многогранные экономические,
политические, моральные критерии. В физике, где исследования особенно дороги,
необходимость планирования стала остро ощущаться в начале шестидесятых годов.
Тогда в основном были уже завершены фундаментальные исследования, связанные с
развитием ядерной энергетики, и перед физиками встала задача выработать
долгосрочную, на десять — двадцать лет, стратегию научного поиска. Эти вопросы
интенсивно обсуждались как в нашей стране, так и за рубежом. Американские
ученые пришли к выводу, что, с точки зрения возможных открытий, наиболее
обещающей является физика элементарных частиц, за ней следовали эксперименты по
проверке общей теории относительности, астрофизические исследования и работы
с пучками лазеров. Это, так сказать, очередь чисто научной важности проблем.
Однако учет их влияния на военное дело, экономику и другие смежные области
вывели на первое место изучение лазеров, на второе — опыты с элементарными
частицами, а проблемы астрофизики сдвинулись далеко назад, на двенадцатое
место . Внешние факторы оказались очень весомыми.
Близкая программа была разработана в нашей стране, хотя у астрофизики
нашлось большее число сторонников. Глядя в прошлое, можно сказать, что сколько-
нибудь значительных просчетов при этом не было допущено. Такому планированию
доступны и все другие области знания.
Прогноз развития науки на пару десятков лет — задача очень сложная, тем
более трудно это сделать на длительный период, скажем, до середины следующего
столетия. Это требует оценки возможных изменений в экономических и социальных
условиях жизни общества, а они в ближайшие десятилетия могут быть очень
значительными. Если быть оптимистом и рассчитывать на то, что мудрость возьмет
верх над безрассудством фабрикантов оружия и генералов и человечеству удастся
избежать атомной катастрофы, то можно предполагать, что в следующие
десятилетия резко возрастет интерес к биологии и вообще к сложным самоорганизующимся
системам, естественным и искусственным. Здесь масса фундаментальных и при-
кладных проблем, решение которых может в корне преобразить жизнь на нашей
планете. Несомненно, по-прежнему важное значение будут иметь работы,
связанные с освоением и поиском новых источников энергии, — задача, к которой
человечество никогда не утратит интереса. Останется интерес к исследованиям
микромира и далекого космоса, хотя предсказать их направление невозможно, — эта
область науки развивается необычайно быстро, и можно быть уверенным, что в
течение ближайших десятилетий будет открыто много такого, о чем мы сегодня и
не помышляем.
Ну а дальше, чем будут заниматься ученые в очень отдаленном будущем?
Через
тысячу
лет
Пожалуй, единственный, хотя и не очень надежный способ разведки столь
далекой перспективы — научная фантастика. Очень часто, особенно учеными, этот
термин используется как синоним чего-то сомнительного, необоснованного,
выходящего за рамки научной логики. Это действительно так, фантастика всегда
связана с допущениями и экстраполяциями, порой настолько далекими, что они
выглядят уже произвольной игрой ума. И, тем не менее, фантастика — это
уникальный способ познания будущего.
В меру своих знаний и таланта писатель-фантаст — всегда исследователь. Не
случайно, когда речь идет об очень дискуссионных или о только еще
намечающихся проблемах, к фантастике, как способу удобного и весьма эффективного
анализа , обращаются сами ученые. Научная фантастика предоставляет неограниченные
возможности мысленного экспериментирования, что особенно ценится учеными.
Таким путем можно подняться над гипнотизирующими целями ближайшего будущего и
ощутить дыхание последствий научных достижений.
И вот, отдавая себе отчет в шаткости используемого метода, попытаемся,
блуждая по страницам научно-фантастических книг, заглянуть в далекое будущее.
Самый простой способ для этого — экстраполировать современное состояние науки
и техники, предположив, что все будет побольше, поярче и посильнее. Подобно
тому, как древнеегипетский жрец, дав волю своему воображению, мог предвидеть,
что через тысячу лет люди «достанут луну», будут жить в огромных домах-
пирамидах, смогут летать, как птицы, и плавать, подобно дельфинам, мы также
можем предсказать, что в будущем человечество в несравненно большей степени,
чем ныне, овладеет пространством и временем. В книгах нет недостатка в
различных «нуль-транспортировках», «Т-переходах», «четырехмерных проколах» и
других способах «покорять» пространство и время. Аналогичным образом можно
экстраполировать современные кибернетические проблемы и представить себе
мыслящих роботов, работающих в кипятке и в космическом холоде, летающих на умных
и добрых драконах счастливых и сильных людей-долгожителей с атомными
батареями в кармане комбинезона и тому подобное. И в этом есть большая доля истины.
Многие из таких предсказаний — может быть, в несколько отличной форме —
действительно осуществятся. Однако едва ли древнеегипетский жрец мог бы
предположить, что в наше время наука станет не тайным деянием кучки избранных, а
одной из главных сторон человеческой деятельности. Но именно эта особенность
современной науки, а не конкретные инженерные достижения в виде самолетов,
кораблей и тому подобного, является характерной чертой нашего времени. Вид
науки — вот это предугадать очень трудно.
По мнению некоторых футурологов — людей, для которых прогнозы являются
специальностью, — одно из главных отличий человеческого общества, каким оно
будет через тысячу лет, от его современного состояния должно состоять в полной
потере различий между естественным и искусственным — изготовленным на заводе
и в лаборатории. В еще более далекой перспективе можно предвидеть проблемы
создания искусственных миров путем воздействия на основные физические
константы — скорость света, заряд электрона и так далее.
Вполне возможно, что в этих прогнозах мы похожи на неандертальца,
размышляющего о судьбах мира, но так уж устроен человек, он не может не
задумываться о будущем.
Как повествует древний греческий миф, по приказу грозного Зевса искусник
Гефест из воды и земли изготовил Пандору — женщину необыкновенной красоты. К
дню рождения боги подарили ей шкатулку, в которой были заперты все
человеческие несчастья. Движимая любопытством, Пандора неосторожно открыла шкатулку,
и несчастья вырвались на волю. В растерянности она захлопнула ящик, успев
задержать одну только Надежду. Наука будущего призвана сыграть роль доброго
волшебника, который, в конце концов, спрячет все несчастья обратно в шкатулку
Пандоры.
Теперь самое время поставить точку. Однако публикация, посвященная
современной науке, была бы неполной, если не коснуться еще одной интересной и
дискуссионной темы — о соотношении науки и искусства. Эти две области нашей
культуры часто рассматриваются, чуть ли не как антиподы: в науке — расчет и
логика, в искусстве, напротив, — чувства и эмоции; наука размышляет,
искусство переживает. Что между ними общего?
Формулы
и ноты
Чтобы подчеркнуть, какая пропасть разделяет науку и искусство, мой
знакомый, художник, как-то заметил, что если нам когда-либо повстречаются
инопланетяне, их науку мы поймем — законы логики везде одинаковы, — а вот их
искусство, возможно, так и останется для нас тайной за семью печатями. Формы его
могут быть такими, что нам даже в голову не придет назвать их искусством!
Когда мы встречаем дикие племена с особым образом изуродованной (с нашей точки
зрения) формой головы или шеи, с носом, проткнутым палочкой, и до безобразия
вывернутыми губами, мы с трудом, но все же можем осознать, что это —
искусство. А вот что бы мы сказали, встретив осьминогоподобное существо с
подрезанными и надорванными щупальцами? Искусство в первую очередь обращено к
чувствам, его восприятие основано на близости порождаемых им ассоциаций, а это
возможно лишь при общности культуры. Наше искусство выражает то особое,
специфическое, что свойственно нам, людям. Наука же, напротив, выражает
существующие независимо от нас законы. В этом смысле она универсальна, одна для
всей Вселенной. Отсюда видно, насколько различны по своей сути теория
относительности и музыкальная симфония, хотя и ту и другую можно изобразить
значками — формулами и нотами.
Конечно, у искусства тоже есть свои законы, но от этого оно не теряет своих
характерных особенностей, и для того, чтобы его понять, нужно не столько
знать его законы, сколько иметь связь с соответствующей культурой. Свести
гармонию к алгебре никогда не удастся!
И все же... Несмотря на все сказанное, наука и искусство имеют очень много
общего. Более того, можно утверждать, что в своей сущности это, так сказать,
две стороны одной медали, различие лишь в акцентах.
Наше познание мира — нас самих и всего, что нас окружает, — имеет две
стороны, два аспекта: логику и непосредственное восприятие — интуицию, когда
человек посмотрел, и ему без всяких рассуждений вдруг стало ясно, что дело
обстоит вот так-то, а не иначе. В науке логический аспект преобладает. Однако в
ней непременно присутствует и интуитивный элемент, хотя бы уже потому, что
всякая наука начинается с первичных, логически недоказуемых положений, полу-
чаемых путем прямого обобщения опытных данных. Плохому ученому такое
обобщение дается с трудом; напротив, талантливый исследователь в хаосе
экспериментальных фактов, так сказать, внутренним чутьем усматривает определенную
закономерность . Говорят: его осенило. Как совершается такой процесс внутренней
подсознательной деятельности в нашем мозгу, наука пока не знает. Но и после
того как будут выяснены его законы, когда мы поймем, как рождается мысль,
различие между логикой и интуицией сохранится. В общем, хотя наука —
логическое построение, она не может существовать без интуиции.
В искусстве интуиция — главное, в отличие от науки, логика играет тут
подчиненную роль. Искусство не всегда логично, более того, его основная цель —
убедить в том, чего нельзя доказать чисто логически. Говоря словами Гаршина,
одного из лучших русских писателей, часто один мощный художественный образ
вносит в нашу душу более, чем добыто многими годами жизни. Искусство
«работает» там, где наука бессильна. Вместе с экспериментом оно формирует ее
фундамент, создает почву, из которой вырастет ее интуитивная сторона.
Получается, что наука и искусство дополняют друг друга и вместе составляют
единое целое — способ познания мира. Решать, что из них важнее — пресловутый
спор «физиков и лириков», — бессмыслица. Искусство нужно вовсе не потому
(точнее, не только потому!), что и в космосе человеку захочется любоваться
веткой сирени. Все значительно глубже: без искусства мы не смогли бы выйти в
космос, а теперь просто не сможем его по-настоящему освоить.
В научно-фантастических романах частенько идет речь о цивилизации
отбившихся от рук разумных роботов, пожелавших, подобно людям, создать свое
собственное общество. Не будем спорить с фантастами, может такое случиться с роботами
или нет. Допустим на минутку, что может. И вот тогда роботам тоже потребуется
искусство. Оно может быть очень своеобразным, совсем непохожим на наше
человеческое , но оно непременно должно возникнуть, если роботы начнут осваивать
окружающий мир и развивать науку. Читатель не согласен с этим? Вопрос
действительно спорный...
Особое место занимает литература. Это нечто промежуточное между наукой и
искусством. Масса интуитивного и наряду с этим — модели жизненных ситуаций,
где важную роль играет логика. Чтобы убедить читателя, писатель, подобно
ученому, прибегает к логике и одновременно широко использует для этого
эмоциональные образы и ассоциации. Правда, формы литературы очень разнообразны, их
трудно подвести «под одну черту». Например, рассказы Айзека Азимова о
приключениях робопсихолога Сюзен Кэлвин — это почти научное обсуждение неожиданных
конфликтов, которые могут возникнуть в общении людей и роботов. Это интересно
даже для специалистов. А с другой стороны, поэзия Есенина или Бальмонта.
Огромный интуитивный заряд.
У чешского писателя Карела Чапека есть рассказ о том, как, будучи невольным
свидетелем уличного происшествия, поэт выразил свои впечатления стихотворной
фразой: «О шея лебедя! О грудь! О барабан и эти палочки — трагедии знаменья!»
Полицейскому чиновнику пришлось изрядно попотеть, прежде чем он сообразил,
что это эмоциональный образ быстро умчавшейся автомашины с номером 235. Цифра
«2» вызвала у поэта ассоциации с изогнутой шеей лебедя, цифра «3» напомнила
ему округлости грудей, а цифра «5» — это кружок внизу, словно барабан, а над
ним палочки!
— Так вы уверены, что номер авто был двести тридцать пять? — спросил поэта
полицейский.
— Номер? Я не заметил никакого номера, — решительно ответил тот. — Но что-
то там было, иначе я бы так не написал!
Литература и искусство по-своему, но не менее информативно, чем наука,
отражают мир. Это звенья единого целого, и ни одно из них нельзя отбросить без
ущерба для других.
Заключение
Мне бы очень хотелось, чтобы после прочтения у читателя сложилась цельная
картина окружающего мира — от суперэлементарных частиц до самого крупного
космического объекта, который называют «Вселенная». Правда, надо иметь в
виду, что физика развивается настолько быстро, что сведения, излагавшиеся в
учебниках каких-нибудь пять — десять лет назад, сегодня часто оказываются
безнадежно устаревшими. Возможно, кое-что из рассказанного в этой публикации
тоже успеет устареть раньше, чем она появится в библиотеках.
Тот, кто прочитал, познакомился с проблемами, находящимися на самых дальних
рубежах нашего знания. Рассказывать о них я старался таким образом, чтобы
ввести читателя в гущу надежд и волнений исследующих их ученых и показать,
как много там еще неизвестного и загадочного, — широкое поле для тех, кто
захочет посвятить себя добыванию новых знаний о самом большом и самом малом.
Здесь найдет себе дело по душе и тот, у кого золотые руки, и тот, кто наделен
острым умом. Запрещается вход туда только тем, у кого нет усидчивости и
настойчивости, а пуще всего — равнодушным. Равнодушный ученый — все равно, что
глухой музыкант!
Жители нашей планеты в своей деятельности долго исходили из допущения, что
природа неиссякаемо богата: нужно топливо — строй новые шахты и бури новые
скважины, нужна бумага — руби леса, потребовались новые машины — строй заводы
и фабрики. Но настало время, когда «неиссякаемые» богатства стали иссякать.
Образно говоря, там, где раньше делался один гвоздь, теперь нужно выкраивать
материал на два да еще позаботиться о том, чтобы вернуть их на переплавку
после того, как они отслужат свой век. И тут не обойтись без науки, без новых
материалов, новых технологий, новых источников энергии. А для этого
потребуются новые фундаментальные и прикладные исследования. Роль науки возрастает,
и дела тут хватит всем, кто придет туда, как говорится, со свежей головой и с
засученными рукавами!
Литпортал
БОЯТСЯ ЛИ КОМПЬЮТЕРЫ АДСКОГО ПЛАМЕНИ
Тюрин А. В.
12. Новый друг
хвостатей старых двух
Кластер Веста-3,
закрытая зона "Кибальчич"
Данилова заявление хвостатого существа мало порадовало. Собственно, он
только сейчас стал впервые приглядываться к гражданину Ци. И замечал, что
помимо хвоста-кабеля и кожи с микросхемами, у гражданина Ци немало других
сомнительных достижений. Мягкие ткани лица почти полностью прикрыты металлорга-
ническим забралом, то ли искусственным, то ли вполне естественным. Волосы
есть, если назвать волосами какие-то зеленоватые лепестки. Само тело где-то
внутри твердого пластинчатого панциря. Пластинки положены внахлест, так что
определенная гибкость у панциря имеется. Руки и ноги тонковатые, без суставов
как будто - гнутся-то чуть ли не во всех местах. Может, они из члеников
состоят?. . Интересно, пьет ли Ци водку?
- Слушайте, а отдельного кабинета для меня у вас нет? - настойчиво
поинтересовался Данилов у главного.
- Нет у меня отдельного кабинета даже для себя, - с грустью отозвался
бригадир. - Я, конечно, могу запереться ради потрахаться где-нибудь в машинном
отделении, но это только в порядке исключения. Еще и задница потом вся в
моторном масле.
- Да пошли ты, - сказало хвостатое существо, - у меня тут есть вполне
приличный уголок.
И Ци повело Данилова, обречено шевелящего ногами, в свой "кабинет".
Худшие ожидания не оправдались, Данилов попал не в нору и не в дыру.
Уголок действительно оказался уголком, не то светелкой, не то темнилкой, но
вполне на уровне - это была коробчатая конструкция на высоте метров пять от
палубы, если точнее не неисправный мостовой кран для ремонтных и погрузочно-
разгрузочных работ.
Хвостатое Ци шугануло отсюда какую-то тварь, похоже, что полуразумную крысу
с пятипалыми ловкими лапками и хитрыми красными глазками. Ушлый грызун начал,
скорее всего, свой жизненный путь с подсадки в человеческую яйцеклетку, а
затем все более умнел и цивилизовывался за счет мелкого воровства.
- Это Дуня, подружка моя, пускай сейчас прогуляется, - сообщило существо
Ци. Голос у него был неопределенный и ненатуральный; и звонкий, и гнусавый
одновременно.
- У тебя довольно уютно, - сделал комплимент Данилов и, в общем-то, не
очень отклонился от реальности. Тем более, что в кают-компании с жуткими
визгами начиналась оргия под названием "8 марта" и какая-то шарообразная баба по
кличке Клара Цеткин плясала и каталась по живому ковру, образованному из
голых мужиков.
Закуток Ци, два на три метра, был захламлен всяким барахлом, типичным для
хаккера: полусобранные деки, кристаллочипы софтов, браслеты и венцы
биоинтерфейсов, пакеты с интеллектуальным грибковым мицелием, который тут же
разрастался зеленью на платах, термосы с белесым коллодием из наноботов, изрядно
напоминающим молоко.
Расставлены тут были и штучки, на первый взгляд напоминающие
археологические находки. Статуэтки вроде тех паучьих изваяний, которые Данилов видел в
пещере Лабиринтис Ноктис. Ну да, как он раньше не догадался! В пещере тоже
ничего археологического не было, просто там кто-то имитировал марсианские
древности.
- Ты случаем не в курсе, что за шарага занимается производством фальшивой
археологии? - спросил Данилов, чтобы поддержать беседу.
- Это не фальшивая археология. Этим статуэткам миллионы лет. Они
представляют одну из марсианских рас, которая называлась "посредники". После того как
ее уничтожили звездные "бутылочники", погибла и наша раса, - уверенно
произнесло Ци.
"Ну, конечно же, разве будут в голове у этой муташки нормальные
человеческие мозги? "
- А зачем, Ци, вашей расе нужны были еще какие-то "посредники"?
- У нас имелось два пола, но прямая копуляция была затруднительна. Однако
мы не стали переходить к вырожденческому клонированию и сохранили
скрещивание, столь важное для прогресса. "Посредники" взяли на себя работу по
переносу генетического материала между нашими полами.
- Хорошо тебе сочиняется, - согласился Данилов. - Значит ты уверен...
уверено, что принадлежишь к какой-то сгинувшей расе. Ну и как это, не мешает в
работе?
"Черт, какая там может быть работа у такого чудика? В цирке разве что
выступать .
Ци странно поводило головой, в этом движении было что-то от роботов или
рептилий.
- Моя работа - воскрешать мою расу. Но главное уже сделано, ученые на
"Кибальчиче " нашли генные карты моей расы и расшифровали их. Мы состояли не из
протеинов, а из металлорганических полимеров. Мы не нуждалась в кислороде и
получала энергию из реакций "темного" фотосинтеза, потому что вели свое
происхождение от растений.
Ци хихикнуло, словно бжикнул лобзик по дощечке.
- Ой, ты меня останавливай, Данилов, а то я мору часами про это дело
болтать. . . На вот, пожуй, - неомарсианин протянул Данилову батончик со
стандартным набором белков-жиров-витаминов, прозываемый в народе "завтрак скотины".
- В результате смелых экспериментов ребятам с "Кибальчича" удалось создать
меня. Первую истинно марсианскую женщину за последние десять миллионов лет.
-Ух, ты. - Данилов привстал, чтобы отвесить поклон. - А поцеловать тебя
можно, Ци?
- Это мерзко для меня, понял? - как будто всерьез сказала неомарсианка. - И
вообще меня зовут Цецилия. Повторяю для особо одаренных, мы никогда не имели
ничего такого, как ваши копуляции. Слишком едкая была внутренняя среда и
слишком агрессивная была натура. Плюс имелась внушительная разница в силах и
размере между, так сказать, полами - как ты понимаешь, не в пользу мужиков.
- И это правильно, - согласился беглый особист. - Наши бабы тоже будь
здоров . Однажды мне тетка из рабочего поселка так врезала, что я на неделю слег.
Правда у нее под кожу ладошки свинчатка была вшита.
- А ты везунчик, Данилов, - заметила Ци.
- Конечно, во мне сидит призрак Гальгальты, - на всякий случай решил
напомнить Данилов.
- Брось ты. Это мог ты заливать в толпе оболтусов, которым сенсации
подавай. Какой призрак Гальгальты, я вас умоляю. Эксперт Гальгальта был
глобальной системой, в этой глобальности заключался его разум. Тебе могли показать
его логотип, но чин чином пособить сумела бы только настоящая киберсистема.
- Какая к примеру?
- К примеру, некий гипер, у которого плохие взаимоотношения с другими гипе-
рами.
Слова Цецилии озадачили и даже напугали Данилова. Как и любой другой
особист он непритворно боялся трещин в Киберобъединении. Этот страх был заложен
в него в самом начале обучения, не только в виде психопрограммы, но и как
нормальный условный рефлекс. Этот страх исчез бы только при полном промывании
мозгов.
- И как его зовут... этого раскольника?
- Сядь да покак, парень. Откуда мне знать? Он же помогает тебе, а не бедной
маленькой Цецилии.
Под маской Гальгальты выступал какой-то гипер? Он еще катил бочку на Фюрера
и Афродиту!.. Нет, не надо вдумываться в бредни маленького глупенького
синтетика.
Поляризованный свет удачно падал на панцирь и забрало хвостатого, отчего
проявлялся второй слой. Там проступала неземная, но красота. Как тут не
вспомнить сказочку вроде "Царевны-лягушки": сверху уродство, а снизу соблазн
- все это было страшненько и в то же время зачаровывало.
А запах как от цветов.
- Я же говорила, что мы происходим от растений. Запахом мы приманивали
насекомых-опылителей, этих самых "посредников".
Ци вдруг обняла Данилова и ее хвост коснулся его спины в районе крестца,
там где стоит запасной разъем...
Очень интенсивные ощущения, в чем-то родственные сексуальным. Доступ к его
джину у хвостатой есть, кибердвойник даже и не возражает. Значит, Ци удачно
подобрала программный интерфейс и втюхивает через нейроконнекторы стимулы и
раздражители... Вон какие приятственные нейропептиды пошли вырабатываться. А
потом ее хвост... ему показалось, что тонкая змейка проползла вдоль его
позвоночника снизу вверх. Это было здорово и болезненно. Голова сильно
закружилась, как от передозировки расслабляющего цет-допамина. Похоже, не только
нейроконнекторы задействованы, но и прямая биоволновая стимуляция.
А еще Ци загрузила Данилову сенсоматрицу и показала "свой" мир.
Древние марсианские пейзажи окружили Данилова - совсем не тот тихий Марс,
который известен всем сегодня.
Острые горные пики словно пронзали Данилова, песчаные цунами погребали его
под собой, реки, лишенные русла, бросались на него, будто исполинские ведьмы.
Видел он и "местное население" - разнорасовых марсиан, и корабли, и дамбы,
и мосты, и туннели, и силовые станции. Фантазии на эту тему у Ци хватало.
Наслоения причудливых каркасов, извивы коммуникаций, гроздья производственных
элементов, кругом пульсации жизни.
Была там, в этой сенсоматрице, и хвостатая подруга, вернее, кто-то очень
похожий на нее. Руки как клинки, с металлическим отливом и потеками крови,
ноги широко расставлены, впились шипами в землю. Она возвышалась жестокая как
богомол и прекрасная как орхидея над выпотрошенными трупами жертв, или,
может , тех самых "посредников".
В этой сенсоматрице Данилов не был скован страхом или безучастностью,
повинуясь новым посылам, он запрыгнул ей на спину, где чуть-чуть разошлись
пластины ее панциря, обнажив волнующую слизистую мякоть - и вдохнул пьянящий
запах, источаемый половыми железами. Низ его живота мгновенно заполнились
сладким теплом.
Даже в фазу любви подруга явно испытывала к нему не столько нежные, сколько
гастрономические эмоции.
Однако от этого его ощущения были еще острее.
А туда, к опасному локусу оплодотворения, пополз паук-посредник.
Он внедрил куда надо сперматофор, а она взяла его своими страшенными руками
и начала пожирать без всякой анестезии. Вниз падали прозрачные остатки
кутикулы, из дрыгающегося паучьего тела брызгала оранжевая гемолимфа. Тризна была
совмещена с обеденной трапезой...
Сладко-мрачная фантазия оборвалась, потому что на контакт вышел Фридрих
Ильич, то есть абонент спецсвязи по кличке "Мурза". В сверхкодированном
сообщении значилось только следующее. "Едва нашел тебя. Извини за блокировку
твоего абонентского номера в решетке, так надо было для твоей безопасности.
Не беспокойся о последствиях. На Весте-1 царит бардак, срочно высылаем туда
комиссию. Я в курсе, что ты собираешься на Весту-3, но рекомендую еще
поторопиться. В секторе ЗЦет, ячейка 312, найдешь инструктивный материал для себя."
И ни полсловечка про Анпилина, и никакого разговора. Лишь ссылка на
замаскированную ячейку с секретными инструкциями, которой на данный момент, скорее
всего еще нет. Либо Особый Отдел действительно учел все обстоятельства, и
спустил погрешности Данилова на тормозах. Либо ему назначают место свидания,
чтобы повязать и препроводить в кутузку...
Данилов поежился и заметил, как свернули в темноте глаза новой "подруги".
Но если "свой" протянул ему руку, то как он может от нее отказаться? Ведь
других "своих" нет и не будет. Не похоже, чтобы ему хотелось подружиться,
например, с кем-нибудь из команды "акулы", даже с Ци. Можно ли скорешиться с
жуком или богомолом, даже если он байки травит на твоем родном языке? Так
что, надо поторопиться по указанному адресу.
- Эй, бригадир, - крикнул Данилов, высовываясь из закутка, - требую
исполнения желаний. Мне нужно в сектор Веста-ЗЦет, да поскорее.
- Пожалуй, это неплохая идея, хотя и выражена в несколько категоричной
форме, - отозвался капитан "акулы", заметно уже подуставший от массовой оргии.
Он лягнул перевозбудившегося гермафродита и добавил, вытирая пот со лба дино-
завровой ручонкой. - Убью проклятого при первой же возможности. Мало того,
что двуполый, да еще и недоумок. Мозгов у него даже на один бы пол не
хватило . Страх Небесный, что ж нас ждет с такими кретинами?.. На ЗЦет так на ЗЦет.
Мне тоже захотелось свежего пива.
А новая подружка скрылась. Возможно, ей на смену пришла полуразумная крыса
Дуня и каких только фокусов не показывала, даже плясала на задних лапках
"польку-бабочку".
Через пять часов сорок восемь минут "акула" пришвартовалась на захламленном
пирсе ремонтной службы в секторе ЗЦет...
В кластере Веста-3 этот сектор считался крутым, можно даже сказать
фешенебельным .
Паутина широкомолекулярных труб-улиц и полос-бульваров, натянутых в
открытом космосе между пятью крупными хондритовыми осколками, отстоящими друг от
друга на расстояние три-пять километров.
Все это хозяйство защищено сферическим гравиполем, гравитационная "сфера"
наполнена воздухом.
Комфорт был оплачен за счет налога на старателей, но на большее денег уже
не хватило. Поэтому атмосфера здесь была разряженной и холодной.
Ячейка 312 могла представлять собой все что угодно, но, скорее всего,
невзрачную углеродную пластиночку с детектором, который должен был
отреагировать на характерный биоволновой рисунок Данилова. Единственная подсказка -
это координаты ячейки.
Однако и с координатами тут предстояло помучиться. Веста-ЗЦет была из себя
сплошной космический базар. На трубах-улицах и полосах-бульварах имелись
многочисленные вздутия и утолщения, прозываемые залами. Там люди, мутанты, сим-
биоты, ментализированные животные, синтетики и прочие твари торговали,
меняли, заключали сделки, что-то мастерили, собирали и разбирали. Однако, в
основном, слонялись без дела, лениво летали, визгливо галдели на дюжине языков
и жаргонов, мирно дрыхли, прилепившись к стенке, или ворочались под
воздействием какого-нибудь наркософта.
В одном из таких "торговых залов", где в основном продавали живой корм для
всяких мелких зверушек, вроде мини-ящеров и мегамикробов, Данилов заплыл за
шаровидный прилавок и уловил сигнал. Сигнал опознания псвой-чужойп. Данилов
оглянулся - как будто никто не подсматривает - наклонился и сунул руку в
пластиковый мусорный бачок.
Через полсекунды пластинка была у него в руках, через секунду она передала
ему сообщение и тут же рассыпалась в прах. Довольный Данилов распрямился:
ура, никакого ареста! В сообщении значилось - следовать в космопорт, терминал
"А", там ждет борт такой-то, направляющийся к дальним планетам...
Особист вспомнил, что уже несколько секунд не контролирует обстановку в
целом . Даже не оглядываясь, он почувствовал угрозу и прянул в сторону.
Взрыв. Ударная волна нокаутировала его и швырнула в монопластовую стенку.
Он прорвал ее телом и вылетел из зала.
Данилов пришел в себя и понял, что пока что жив, но падает в пустоту,
расцвеченную гирляндами труб. В качестве зрителей выступали звезды, уже
набрякшие, но еще затуманенные голубоватой дымкой разреженной атмосферы.
Фактически Данилов оказался в "полуоткрытом" космосе, и с губчатым
кислородным обогатителем, развернувшимся в легких, мог пока дышать. Однако сразу
ощутил, как при столь низком давлении отекают, превращаются в бутылки его
руки и ноги.
Вокруг плавал всякий мусор, начиная от обрывков сильно использованной
туалетной бумаги и кончая цветочными горшками, жужжали даже жирные мухи-мутанты,
но ни одна из них - даже если бы захотела - не могла задержать падения Дани-
лова туда, на грань, и дальше. Живой особист тут никого не интересовал,
однако кое-кому требовался его труп.
Конечно же, сферическое гравиполе не задержит его тело, а наоборот даст ему
еще ускорение, забросив в открытый космос с приличными тремя "же".
Пора уж было приступать к "отходной молитве", фармапсихологической
самообработке, которая должна облегчить нисхождение в капсулу Фрая, ну и дальше, к
следующей жизни.
До границы с открытым космосом, что по жуткости своей превосходила любую
другую границу всех времен и народов, оставались символические метры. Звезды
стали выпуклыми, как глаза стервятников, а конечности превратились в бочки.
Когда Данилов закрыл глаза и начал проговаривать коченеющими губами: "Великое
Объединение прими мою душу и верни ее новой плоти", его поймал хвост подруги
Ци. Пару раз прокрутив, она швырнула душу и плоть Данилова в обратную
сторону.
Он летел назад, но был хорошей мишенью. От узла улиц-гирлянд с шипением
протянулась в его сторону золотая ленточка плазменного выстрела. И не достала
его.
Следующего выстрела плазмобоя не случилось. Его опередил жидкий, как и
полагается в такой атмосфере, хлопок. Узел был перерублен: улицы разлетелись и
заизвивались в голом пространстве как рассерженные змеи, из разорванных труб
словно конфетти посыпались люди.
Хвостатая дама по имени Цецилия снова подхватила Данилова и понесла - на
сей раз она оснастилась внушительными крыльями, очевидно накладными
биополимерными. Они мощно, но почти бесшумно отталкивались от сильно разряженного
воздуха. Уже через несколько минут Данилов был далеко от всей суматохи.
Ци принесла его в райончик, где из построек только несколько цепей
пластиковых хижин да колбасовидные оранжереи, в которых трехярусно зеленели огурцы
размером с человека.
Данилов за ручку с Ци влетел в оранжерею через мягкий сфинктерный клапан,
где уселся под большим листом, прислонившись спиной к зеленому столбику
огурца. Могучие крылья Ци ухитрились свернуться в два довольно аккуратных
пакетика . Только сейчас Данилов осознал, насколько промерз, и сильно забряцал
зубами. Он пытался непослушными руками растереть непослушные ноги, джин помогал
инъекциями С-адренергика.
Ци коснулась его рук, а потом ног. И хотя исходящее от нее тепло было
мягким , онемение быстро улетучилось.
- Тебе, похоже, туда, - хвостатая дамочка махнула рукой в сторону космопор-
та, смутно виднеющегося сквозь полупрозрачную стенку оранжереи. С такой
дистанции он, благодаря многочисленным приемным-стартовым башням, напоминал ежа.
Направление, указанное Ци, соответствовало полученным инструкциям, но
Данилов решил посопротивляться.
- С чего ты решила, что мне в космопорт?
- Мне так показалось. Тем более, здесь ты представляешь удобную цель.
Больно рожа протокольная. Не забывай, что здесь никто на морду лица мимик не
навешивает .
- И кого это так моя красота прельстила? Есть идеи, Цецилия?
- У нас всегда они есть, особенно если нет денег. Доротеенко мог, раз у
тебя с ним дуэль. Он, кажется, в курсе твоих передвижений. В любом случае, на
Весте-3 тебе больше нечего делать. Доротеенко отсюда, наверняка, уже срулил,
поменяв по новой мультипаспорт.
- Ты хочешь сказать, что его предупредили?
- Его вспугнули. Твои камрады слишком глупо и активно его искали, - Ци
перекинула Данилову мемо-кристалл с записями радио и сетевых обменов Особотдела
Весты-3 за последние сутки. - На фоне прочей белиберды это было сильно замет-
но.
Так и есть, местные олухи протянули повсюду примитивные линии слежения и
еще трепались о розыскных мероприятиях чуть ли не в полный голос.
- Опять тебе помешали, Данилов, это я как всеведущая марсианка говорю...
Хочешь, помогу до космопорта добраться? - ненавязчиво предложила Ци и тут же
возникла еще парочка существ, смахивающих на марсиан. Тоже хвостатые, хотя
как-то поприземистее.
- Это конвой или почетный эскорт? - спросил несколько напрягшийся Данилов.
- Если ты уж такой проницательный, это и то другое. Вдобавок можешь считать
их санитарами.
Хвостатые твари без церемоний сунули Данилова в мешок, включили
индивидуальные движки и через несколько минут он уже пересек синие служебные ворота
космопорта.
- Я твой должник, Ци, - сказал Данилов, подождав пока остальные "марсиане"
удалятся на приличное расстояние. - Жаль, что если к тебе подвалить напрямую,
то меня ты или разъешь, или сожрешь, а вот с посредниками я не согласен
работать , потому что они такие противные пауки.
- Ладно, Данилов, с тебя поездка в Крым-4.
Крым-4 был шикарным соларитским курортом между Венерой и Землей, водяным
пузырем с плавающими островами, пальмами и шикарными красотками под
прикрытием гравитатора. Ци там бы явно не смотрелась. Впрочем, у Крыма-4 была
обратная ледяная сторона, на которой, как говорили, располагался лагерь особого
режима...
Когда он уже был вне досягаемости ее психофейса, то разрешил себе подумать
о главном. Ци чем-то напоминала Гиперицию и даже гражданку Кац. Стилем что
ли. Все они возникали как deus ex machina1 и некоторое время принимали
деятельное участие в его делах. Это выглядит подозрительно, но, благодаря им, он
до сих пор жив...
Змейка транспортера протащила задумавшегося Данилова на терминал "А" .
Терминал был здоровенным залом с полусферическим полом, из которого вырастали
стометровые башни или может стволы, протыкающие купол и вонзающиеся прямо в
космос. Под полом фурычили системы обслуживания, погрузки-разгрузки и
ремонтные службы, в башнях обрабатывались суда - естественно, что малого тоннажа.
Большие космолеты, крейсера космофлота, пузатые пассажирские лайнеры и
коробчатые контейнеровозы швартовались к километровым пирсам, по которым ползали
козловые краны и змееподобные трапы.
Согласно сообщению, переданному секретной ячейкой, Данилов должен был сесть
на борт 07-58. На вид это был заурядный буксир-толкач для космических барж,
весьма обшарпанный из-за метеоритных дождей и неудачных стыковок. Но внутри!
Данилов сразу понял, что дело серьезное нешуточное, когда увидел
внутренности суденышка.
Термоядерный котел с двухфазным ускорителем - да это же специализированный
быстроходный рейдер! Плюс пассажиры - по всем признакам группа захвата.
Даже сейчас они были в полной экипировке. Силовые скафандры, похожие на
стекающую воду и сделанные из жидкокристаллической металлорганики, поверх
доспехов кассеты реактивных ускорителей, похожие на патронташи, из-под забрал
выглядывают крепкие одинаковые подбородки. Клоны зондеркоманды "Егер-9".
Победители спартакиад. Космический омон. Омон - таким древним непереводимым, но
каким-то значительным словом именовали себя эти ребята. Сканирование сразу
показало, что напичканы они энергостимуляторами и разномастными наноботами.
Характерные "наплывы" на коже выдавали работу модернизированных онкогенов,
занимающихся регенерацией поврежденных тканей. Гены-регенераторы и скелет на
1 Бог из машины (лат.).
ноги поднимут. К обычным мышцам, раздутым анаболиками, были добавлены
синтетические мускулы из экстрамиозиновой резины, вон выделяются на челюстях и
шеях, как провода. Плюс, наверное, полна черепная "коробочка" психопрограмм,
чтобы членам команды "Егер-9" было легко отдать свою нынешнюю жизнь на благо
космической родины.
Данилов снова подумал не то, что нужно: Главное Управление Жизненных
Процессов создает в клонопитомниках много новых интересных человекоподобных
спецсуществ, но уже не людей.
Нелюдей, в классическом смысле этого слова.
- Привет, камрад, - сказал он встречающему омоновцу, - похоже, что офицеру.
- Что-то выглядите слишком по-боевому. Когда стрелять начнем?
- В лучшем случае, через три недели, когда доберемся до Юпитера, камрад
Данилов, - офицер протянул руку вместе с проводами-жилами. - Я - капитан
Хованский. А сейчас укрепились мы всякий случай, так сказать, во избежание. Дело-
то серьезное предстоит. У нас уж десять лет как не случилось ни одного
стоящего акта террора.
Террора? Актов террора действительно давненько не было. Да и те, что
случились десять лет назад на "террор" явно не тянули - тогда группа работяг-
шахтеров захватила в Поясе какой-то челнок и хотела усвистать на нем к черту
на кулички - лишь бы только не ходить на работу. Если честно, хреновая у них
была работенка на так называемых "взрывающихся астероидах", сплошь
напичканных нехорошими нитритами.
Казалось, офицер был даже доволен, что ему выпал более-менее приличный шанс
отличиться. Да и вообще Хованские были известной клонолинией. Происходили они
от майора Константина Хованского, который во многом изменил ход III мировой
войны, иногда прозываемой "малой".
Неожиданно джин Данилова выдал довольно солидную историческую справку.
Россия вела в 2012 году не слишком удачные боевые действия против Турции,
которая вместе с кавказскими конфедератами пыталась зацапать Армению и
Ставрополье, Европа была охвачена исламским революционным джихадом, который
раскручивала резидентура ЦРУ в Хартуме, и тут еще несколько отборных китайских
дивизий, замаскированных под "нанайское народное ополчение", атаковали
Приморье и Хабаровский край.
Дальний Восток быстро переходил под контроль противника, БАМ и Транссиб
были перерезаны. Правительство, конечно, не собиралось применять ядерное
оружие, и готовилось к торжественной сдаче нескольких миллионов квадратных
километров "свободолюбивым нанайским ополченцам".
Но эскадрилья дотоле засекреченных машин "Э-БМ", скоростных экранопланов с
волнопоглощающей поверхностью, термобарическим оружием и фазерными
импулвениками в течение недели переломила ситуацию.
Китайские штабы были разгромлены, бронетехника сожжена, компьютерные сети и
линии связи уничтожены, живая сила в панике драпала или становилась неживой.
Турция, заслышав о такой дрючке, быстренько попросила мира, а к России в
союзники сразу попросилась куча стран, от Индии до Монако.
Командовал же эскадрильей экранопланов майор Хованский, отчаянный умница.
И если бы российские штабные компьютеры не поразил вирус А-914, то война бы
закончилась полной викторией. Но все замерло там, где и началось. Потери и
разрушения доконали экономику страны и Россия упала в распахнутые объятия
ГДР.
Скорее всего, вирус А-914 был продан Китаю американцами, которые не желали
усиления России. В таком случае они поступили недальновидно, ведь уже через
несколько месяцев заварилась главная каша.
Китайская регулярная армия, замаскированная под бирманских, индейских,
малайских, индонезийских повстанцев захватила всю юго-восточную Азию, да еще
Канаду с Австралией в придачу.
Вирус А-914, сильно модернизированный китайцами, кромсал теперь
американские оборонные сети, китайские солдаты дивизиями просачивались через
канадскую и мексиканскую границу в США.
("А может этот вирус был, в самом деле, разработан великим Гольдманном и
запущен в работу камрадом Феттмильхом из Коминфтерна? - неожиданно подумал
Данилов. - Вдруг не сбрехнул Гальгальта.)
Быстрый разгром американской армии был предотвращен индийским
биокибернетиком Ваджрасаттвой, который работал в какой-то сингапурской лаборатории и
создавал наноботов для защиты хилого человеческого организма от вирусов и
канцерогенов. Некто Алекс Бен-Зеев, израильский авантюрист, искусно менявший
внешность и даже рост, тайно вывез ученого в замороженном состоянии, в контейнере
с морепродуктами, из захваченного китайцами города и переправил в Америку,
несмотря на охоту, развернутую спецкомандой "Шаолинь-2п.
В Пентагоне Ваджрасаттву разморозили, заставили служить Америке, и он,
используя израильские разработки в области прионного оружия, создал боевую ин-
теллекулу "Брахмастра". Во многом она была еще несовершенной, но смогла
поражать живую силу противника почище всякой чумы, причем прекрасно отличала
китайцев от, скажем, японцев на основе быстрого генно-протеинового анализа.
Таким образом, "Брахмастра" стала первым этническим оружием.
Однако китайское лобби в США добилось ареста Ваджрассатвы, якобы на
основании того, что оно поражает американских граждан китайского происхождения. В
тюрьме великого ученого прирезал какой-то уголовник, возможно китайский
агент. Так погиб один из двух (наряду с Гольдманном) основоположников
современной технологии.
КНР кончила распадом армии и государственным коллапсом. Схожее случилось и
в США, где афро-мусульманское меньшинство подняло восстание против испано-
американского большинства <Прим. испаноамериканцами, latinos, назовется в 21
веке основное население США, смесь европейских элементов и выходцев из
Мексики, говорящая на американском (испано-английском) языке>
То, что осталось от обеих сверхдержав, тихо свалилось в большой мешок,
называемый ГДР.
Мировая война переросла в мировую информационно-демократическую революцию.
Такие великие державы, как Индия и Бразилия, еще пытались сопротивляться
информационному и военному наступлению ГДР. Но вирус А-914 и там поработал на
славу. Оставшиеся без управления бразильские и индийские войска были
разделаны под орех боевой интеллекулой "Цин Шихуан", которую немецкие и китайские
биокибернетики сотворили в мюнхенских лабораториях на основе пБрахмастрып.
Завершающим этапом мировой войны, да и мировой революции тоже было в 2017
году взятие гэдээровским спецназом Иерусалима, где засели законные
правительства и президенты многих стран, относящихся к так называемой иудео-
христианской цивилизации. По иронии судьбы спецназ состоял из
перепрограммированных бойцов элитных частей самых разных армий. Город, который по
предсказаниям астрологов-проктологов должен был пасть первым, оказался поверженным
лишь в последний день войны.
Как выразилась в своем подпольном выпуске одна израильская газета:
"Армагеддон завершился исторической победой Гога и Магога."
"А если А-914 в самом деле уничтожил весь МетаВеб, чтобы стать главным
гиперкомпьютером, и миллионы людей крошили друг дружку из-за какой-то вирусной
программы? - глядя на служаку капитана, подумал Данилов. А во-вторых, Данилов
подумал. - Что же чувствовал Гольдманн, когда вдруг оказался на трибуне и
слушал рукоплескания и здравицы миллионной толпы. На всех видеопленках он
выглядит таким отрешенным, все его изречения так стерильны и правильны. Будто
он сам был прилично запсихопрограммирован. . . В самом деле, не остался ли ви-
рус А-914 каким-то ядрышком внутри Фюрера. И не пожирает ли великого та самая
болезнь, от которой он когда-то произошел? Но можно поставить вопрос на попа:
не был ли вирус А-914 изначально существующим в дебрях глюонной решетки? И не
заставил ли он талантливого прикладного математика Баруха Гольдманна создать
себя. Пожалуй, - подумал Данилов в-третьих, - я уже зашел дальше клеветника
Гальгальты."
13. Станционный
смотритель
Орбита Юпитера,
станция "Медуза
Она действительно напоминала медузу. Сама по себе станция была набором
цилиндрических модулей, нанизанных на двухкилометровый стержень по принципу
детской пирамидки. Однако с торца, обращенного к Юпитеру, тянулись к нему
сотни быстро растущих монополимерных лент и труб со всяким наблюдательным
оборудованием. Некоторые из них уже достигали в длину пятнадцати тысяч
километров и окунались в юпитерианские облака. А в недалекой перспективе они
должны были погрузиться в нижние слои юпитерианской атмосферы!
Ленты имели силовые и сенсорные элементы, так что могли двигаться,
сокращаться, извиваться, отчего сходство с медузой казалось очевидным. Большинство
из них было толщиной едва ли не с человеческий волос, являясь просто
проводниками сигналов с какого-нибудь детектора, но другие имели приличный диаметр,
так что по ним мог ползти или даже гулять, лишь немного согнувшись, человек
умеренного размера.
Естественно, что трубы большого диаметра были куда короче, чем волоски,
едва ли четыреста-пятьсот километров.
Для надежности и трубы, и ленты пучковались в узлах - дендримерных
макрополимерах. . .
Еще в пути Данилов узнал о том, что террористы угнали с Фобоса пассажирский
лайнер "Адмирал Горшков", по счастью без пассажиров, а затем захватили
"Медузу", на которой всего персонала-то было не более сотни человек.
Данилов покрутил руками, потопал ногами по палубе. Неприятное ощущение
громоздкости. Если у обычного скафандра толщина всех слоев не превышает трех
миллиметров, у этого почти сантиметр. Половина толщины - это активный
отражатель заряженных частиц, батя Юпитер-то вовсю фурычит. Схожая кожура есть и на
корпусе станции, по нему то и дело скользят голубые молнии.
Однако передача тактильных ощущений, и при такой толщине "кожуры", работала
неплохо, поэтому Данилов чувствовал даже ребристость рукоятки импульсника.
Подлетать к станции с той стороны, что смотрела на спутники Юпитера, было
чревато крупнокалиберными неприятностями. Штатного оружия на "Медузе" не
было . Но зато имелись поворотные пусковые шахты зондов, а превратить
исследовательскую ракету в боевую ничего не стоит. Засунь только в головку полкило
плутония, который тут изготовить, как на горшок сходить, учитывая мощный
ядерный энергоузел.
Потом именно со стороны верхней полусферы подлет к станции захламлен
мишурой юпитерианского кольца - аммиачными ледышками.
Установлены на "Медузе" и буры Хиггса, чтобы долбать приближающиеся ледяные
обломки.
Спецгруппа решила подлететь со стороны торца, обращенного к планете, пусть
там ветвятся и змеятся трубы - медузьи щупальца. А затем уже пробиваться
через нижний модуль, где работает генератор, выдувающий щупальца, к главному
реактору. Взять его под контроль, ну и следом потрошить террористов на всех
уровнях.
Данилов, наконец, получил нормальный вход в решетку суперсвязи, поэтому
добился объективки от Главинформбюро и Службы Общественного Здоровья, кое-что
порассказал и Хованский.
Считалось, что преступников не больше двух десятков. Ядро террористической
группы составили урки из банды Зонненфельда-Рыбкина, известного по кличке
Сонни. Самого пахана, находившегося в закрытой зоне "Мичуринск", намедни
пытались арестовать. Провели масштабную облаву, но Сонни вовремя покончил с
собой, а его капсула Фрая и джин исчезли незнамо куда. Банда Зонненфельда
известна как сектантско-криминальная, занимается модельными наркотиками,
симулирующими общение с " высшими силами" . Киссельман, Шац и Миронов тоже имели
связь с Сонни. Известно также, что в его банду и нынче входят левые ученые,
занимающиеся изучением глюонной решетки. Среди террористов как будто есть и
чистые оторвы - сектанты-юпитерианцы, которые на голубом глазу считают, что
красный гигант является окном в лучший мир. В тоже время точная мотивировка
действий банды Зонненфельда неизвестна.
Омоновцев же было три десятка. Не мешало бы и побольше. Но именно столько
вмещал быстроходный рейдер "Одесса". Кроме того, никаких дополнительных сил,
соответствующих уровню "Егер-9" в Поясе наскрести не удалось, ждать
подкреплений с Марса не доставало времени, начальство же сильно торопилось.
Данилова послали на "Медузу" лишь по одной причине, Он был единственным
квалифицированным оперативником Особого Отдела, который мог успеть к отлету
"Одессы".
Роли распределялись так. "Егер-9" захватывает станцию, Данилов производит
первичные оперативно-следственные действия.
Почему же Главинформбюро держало в последнее время на станции всего сотню
голов персонала, если на ней когда-то размещалось две тысячи, а могло быть и
втрое больше. Боялось, что отборные солариты дружно вступят в ряды грязных
сектантов-юпитерианцев? И на кой хрен "Медуза" нужна была террористам, если
точнее ребятам матерого урки Зонненфельда?
И почему сейчас, при подлете к станции, кажется, что Юпитер - это
необъятный потолок, загораживающий полмира и собирающийся свалиться на макушку?
Юпитер здесь явно играл роль голубого неба на Земле, только был ржаво-
коричневым, с добавками желтого и серого, очень тяжелым и зловещим - особенно
когда смотрел своим глазом, "большим красным пятном".
Мощный термоядерный двигатель рейдера позволил покрыть четыреста миллионов
километров за три недели. При таких ускорениях биостазис был, конечно,
полным. Сейчас многие участки психики были еще заторможены, особенно отвечающие
за моторику, да и мускулы еще не полностью расконсервировались - несмотря на
постоянные вливания синтетических адренергиков и "черной вдовы". А омоновцам
через один-два часа пора было уже идти в бой. Почему же так спешит
Главинформбюро, зачем "гонит волну"?
Неожиданно вышел на связь абонент "Мурза", то есть Фридрих Ильич; паутинка
была обычной степени защищенности, так что Данилов ожидал только общих фраз.
Или, может, ревнивого гнева ввиду недавнего и неожиданного, но весьма тесного
общения Данилова с Зухрой Эдуардовной. Начальник явился супермимиком, в
красно-черной форме выходного дня, на фоне парадного зала в китайском
императорском стиле.
- Что-то вы редко балуете меня разговорами, камрад Сысоев, даже после моего
подключения к решетке.
- Потому что ты теперь, Данилов, личность. Зачем мне тебя стеснять своими
наставлениями. Не хочу я и рассматривать твои промахи под большой лупой, ведь
мне надо, чтобы ты стал настоящим игроком. Я тебя и стал продвигать вперед,
потому что заметил зачатки воли - того, чего нет у большинства
пастеризованных соларитов.
- А зачем вы кинули меня на Юпитер? Разве мало гнили в Поясе?
- С гнилью в местных особых отделах разберемся без тебя, Данилов,
ответственных работников у нас хватает. А вот Анпилина, кроме как тебе, ловить
некому. . . Твой "дружок" здесь на станции вместе с людьми из банды Зонненфельда.
Вообще отличная подобралась компания. Урки-интеллектуалы плюс законченные
психи. Я про этих сектантов-юпитерианцев, у которых глаза в кучку.
- И что же им всем понадобилось возле Юпитера? Какую нужду справить?
- Это ты тоже узнаешь. Но вряд ли они тут собирались устроить бордель. Хотя
кто знает. Зонненфельд тоже мог свихнуться.
- Насколько это может быть связано с политикой?
- Господин Зонненфельд-Рыбкин считал себя крупным оппозиционером,
диссидентом, политиком и даже мнил себя ученым, способным изменить информационно-
общественный строй - кем-то вроде Гольдманна. Ты же понимаешь, что плох тот
криминальный авторитет, который не хочет заиметь политический капитал. Может,
он хотел надыбать здесь какой-нибудь сенсационный материал, которым можно
смутить людей или загадить им мозги.
Хотя связующая паутинка была достаточно открытой, Данилов решил кое-что
спросить напрямик - он как будто почувствовал ту огромную толщу пространства-
времени, которая отделяла его сейчас от звездкома Актива Коммунаров и прочих
руководящих органов.
- Камрад Сысоев, Фридрих Ильич. Я вот интересуюсь, мог ли кто-то, скажем,
из нашей верхушки, создать эту коллизию и спровоцировать бандитов. Для этого
и убрали заранее с "Медузы" всю толпу сотрудников.
Камрад Сысоев погасил свой супермимик, но не ушел со связи.
- По-моему ты ударился в другую крайность и перемудрил, Данилов. Ну и зачем
такая провокация могла понадобиться кому-нибудь из "нашей верхушки"?
- Например, чтобы подрезать жилки своему сопернику, свалив на него всю
ответственность . У нас как будто нет уже прежнего согласия в товарищах.
Сысоев не стал издавать возгласы протеста.
- А что, Данилов, гипотеза не хуже других. Хочется ответить тебе
откровенностью на откровенность... Кто-то из наших вполне мог пособничать и Зоннен-
фельду, и Анпилину. Даже просто по глупости. У нас ведь многие корчат из себя
либералов. Ты только накопай побольше материала в этой своей командировке и
мы им займемся...
- А вы, Фридрих Ильич, разве не либерал? - бесхитростно спросил Данилов.
- Конечно, Данилов, я - либерал. И наша служба либеральна. Любой коммунар
превращается в либерала, как только это возможно. И наоборот, товарищ Фет-
тмильх был вначале либералом, а уже потом стал коммунаром. Но сейчас нам не
хватает энергии, защищенного жизненного пространства, даже жрачки. Кушать
персики с собственного дерева и плевать косточки в портрет великого
Гольдманна - это, пожалуйста, в светлом будущем.
- А я не собираюсь плевать в портрет Гольдманна...
- И зря, Данилов. Роль личности мы по счастью свели к нулю. Нами не люди
управляют, Данилов, не люди со всеми их придурями. Нами правит объективная
машина, в которую Гольдманн заложил главный критерий - сохранение и
преумножение стада человеческого. Да, у нас красное знамя и герб "Intel inside", но
мы не похожи на прежние государства и фирмы. Мы не торгуем рабами и не
истребляем аборигенов, не ищем классовых врагов. Мы просто повышаем
устойчивость системы. Для этого мы занимаемся верификацией и диверсификацией клонов.
А еще мы лишаем отступников капсулы Фрая. Наше общество не должно лишиться
этих двух главных инструментов регуляции... Ну что, Данилов?
- Я не изменю, Фридрих Ильич, - сказал Данилов.
Шеф отключился, не сказав даже "спасибо Гольдманну за нашу встречу". Он
иногда так делал. Данилов не пожалел, что дал клятву верности. Фридрих Ильич
был убедителен и открыт как всегда. Да и ради кого кинуть своих, ради
пыльного призрака Гальгальты, что ли? Все, что требуется этому жизнерадостному
привидению - это попасть в хороший музей на негниющие и нержавеющие устройства
массовой памяти. Надо будет переговорить о таком варианте с Фридрихом Ильичем
- после возвращения.
Неожиданно Данилов подумал, а кто такой собственно Фридрих Ильич. Вряд ли
он - сильно модифицированный клон из какой-нибудь чистой линии? Но нет этой
стайности в мыслях, характерной для Владислава, Эльвиры, Юкико и прочих
красавцев . Нет той ограниченности, той дубовости и стерильности в речах. Человек
с обычной хаотической генетикой? Тоже вряд ли, у камрада Сысоева башка всегда
работала четко, ни одного неверного шага.
Тогда, может, квазиживой объект, органическое воплощение какого-нибудь
гиперкомпьютера? Данилов поежился - тот, кто более других похож на человека, на
самом деле и не человек?..
Наверняка нет. Камрад Сысоев такой же среднемодифицированный "умеренный"
клон, как и Данилов, только участвуя в большом общем деле, сам он тоже хочет
быть большим, а не маленьким...
Данилов спохватился. Рейдер уже сближается со станцией, осталось каких-то
пять тысяч километров. Данилов срочно подключился к его системам наблюдения.
Вот кораблик маневрирует в туче каких-то осколков, имеющих легкое гало -
видимо это участок юпитерианского кольца, вдали же поблескивает пятнышко Ад-
растеи.
Расстояние до станции уменьшается до трех тысяч километров.
Рейдер "Одесса" летит в мешанине труб. Сейчас он как никогда похож на
мелкую рыбешку, плавающую среди щупалец здоровенной тропической медузы.
Какой-то толстый складчатый отросток станции неожиданно разворачивается и
движется в сторону рейдера.
Рейдеру удается увильнуть, но к нему направляется несколько других
щупальцев. "Одесса" огрызается плазменной пушкой, монополимерные трубы сгорают в
момент, оставляя после себя лишь туман...
Резкий толчок, Данилов вбит в переборку, через корабельный интерком
слышится ругань омоновцев.
Потом еще один толчок. И еще. Свет в голове несколько померк, кажется
особист неловко трахнулся лбом о металлическую стойку. В одном из наблюдательных
окон отчетливо видно, что рейдер уже схвачен тремя щупальцами, которые
незаметно атаковали его сквозь туман. "Одесса", само собой, вырвется. Разве
сравнима мощность термоядерного реактора и экстрамиозиновых мышц монополимерной
трубы?
Тужащийся рейдер натянул щупальцы-арканы. Но они оказались куда крепче, чем
ожидалось, ведь их протягивают на огромные расстояния, причем в расчете на
взаимодействие с кошмарной атмосферой и гравитацией Юпитера. Красный монстр
немедленно разметает в мелкий хлам все хлипкое и слабосильное.
Еще одна, две... пять труб охватили злополучный рейдер "Одесса". А потом,
сквозь белиберду интеркома, Данилов ухватил несколько тревожных сообщений
машинного отделения.
"Дизфункция удержания плазмы в магнитно-гравитационной бутылке...
Критическое падение температуры реактора и мощности силовой установки."
Похоже, что станция применила рентгеновский лазер, который прежде
использовался для изучения планеты, а нынче узкофокусным пучком поразил стиснутый
рейдер прямо в "сердце".
Кораблик охватывают еще два щупальца. До этого они были сильно скручены, а
сейчас распрямляются словно пружинки и толкают беспомощную обездвиженную
добычу в сторону хищной планеты!
Судя по показаниям инерциометра, скоро у рейдера не будет достаточной ско-
рости убегания, жадное гравитационное поле Юпитера хапнет его и потащит к
себе на расправу.
Данилов понял, что капитан Хованский вот-вот скомандует своим омоновцам
оставить невезучий корабль и дуть к станции на индивидуальных ракетных
средствах, так называемых "самокатах".
Так оно и произошло.
По выдвинувшимся трапам спецназ сыпанул к ячеистому десантному отделению.
Мгновение спустя будто стайка мошкары слетела с рейдера, проваливающегося в
юпитерианскую бездну.
И тут, собственно, Данилов уловил, что у него-то "самоката" никакого нет. А
с индивидуальным микродвижком упорхнешь не дальше бани.
Через минуту на борту рейдера не было уже ни одного члена экипажа - те
воспользовались персональными спасательными капсулами.
Данилову оставалось просто выйти через аварийный шлюз в надежде на что-то.
Несколько труб упорно сталкивали злополучную "Одессу" на Юпитер, но
большинство уже отсоединилось. Выйдя через шлюз, Данилов в рывке догнал одну из
них и начал кромсать ее морщинистую поверхность импульсником. От трубы летела
туча мелких брызг, которые застывали прямо на стекле шлема, и их приходилось
то и дело соскабливать. Наконец оголилась экстрамиозиновая волоконная
арматура. Еще пара импульсов и проделана дыра.
Вырвавшийся оттуда воздух едва не сбросил Данилова, но бешенство струи было
недолгим. Ближайший сфинктер-клапан прекратил утечку.
Внутри труба внутри имела легкое люминофорное свечение, по ней то и дело
пробегала волна пульсаций, а порой вся она приходила в какое-то неровное
нервное движение, безжалостно швыряя Данилова из стороны в сторону. Из-за
этого бутерброды, съеденные на завтрак, хотели выйти из желудка наружу.
Входное отверстие, через которое пожаловал особист, быстро затянулся
пленкой. Сфинктер-клапан впустил воздух - как будто из гуманных соображений, но
на самом деле ради придания трубе определенной жесткости. В любом случае, это
было приятно. Убийственным же было то, что до станции еще оставалось, по
меньшей мере, пятьсот километров!
Если упорно вперед, вначале с движком, затем отталкиваясь ногами от стенок,
где имелись перетяжки, похожие на ребра, то можно добраться до цели через
пару неделек. Ну и чем все это время питаться? Грызть мало аппетитные стенки
тоннеля? Как умываться? Собственной мочой? Так и ее не будет, потому что пить
нечего. А если он будет обнаружен врагами, то труба стиснет его своими экст-
рамиозиновыми мускулами, обрекая на мучительную смерть.
Но в любом случае лететь было веселее, чем лежать, тем более и Джин Хотта-
быч скрашивал скуку, рассказывая сказки "Тысячи и одной ночи".
Через пятьдесят километров сдох движок. Еще через двадцать сам Данилов.
Сказки джина осточертели. То что выглядело раньше коридором, превратилось в
лабиринт, потому что трубы пересекалась друг с другом в узлах. Прошло уже
пять часов после гибели рейдера. От омоновцев никакие сигналы не поступали.
По спецсвязи удалось выйти на дежурный компьютер Особотдела и тот известил
Данилова, что на станции "Медуза" идет бой, обстановка сложная и в ближайшее
время никто из спецкоманды "Егер-9" выручать Данилова не станет. Короче,
родина вас не забудет.
Связь с дежурным прервалась, когда тот принялся шутить в
психотерапевтических целях, джин, закончив со сказкам, стал травить анекдоты, труба внезапно
и резко начала скручиваться. По сути, вся она была одной молекулой и вела
сейчас себя как белок при глобуляризации - превращалась в клубок. Возможно,
она делала это по заданию бандитов, которые, наконец, засекли крадущегося к
ним особиста.
Данилова швыряло до полного упомрачения. Однако момент успокоения настал.
Покой оказался мрачным, возможно даже вечным. Данилов был в центре глобулы.
Он был похоронен заживо, глубина могилы минимум полкилометра. Ему бы мох1
позавидовать разве что какой-нибудь древний император, требовавший от своих
подданных максимальной глубины захоронения.
Если даже броситься с буйными криками и импульсником на эту толщу, то будет
много брызг и мало толку. Импульсник сдохнет в лучшем случае через десять
минут, а переплавленные полимеры сгустятся снова.
Данилов прибег к единственному доступному в таких случаях средству -
насильственному сну.
Джин разбудил его уже через полтора часа. Всего лишь через полтора часа
клубок скрученных щупалец стал разрушаться - стремительно шла
деполимеризация.
Данилов перешел на собственные запасы кислорода. Он мелко дышал, ожидая
каждую секунду, что толща жирных кислот и полисахаридов, образующихся в
результате реакции разложения, раздавит его, несмотря на свою ничтожную плотность.
Но невесомость не дала никаких шансов гравитационному сжатию, а выделение
тепла и газов превратили распадающуюся органику в здоровенную тучу из мелких
пузырьков. Пузырьки быстро остывали и превращались в пыль, которая отчаянно
сияла в свете Юпитера.
"Медуза" была уже совсем рядом, и какая-то турбулентность несла
высвободившегося Данилова прямо к ней.
Из сияющей пылевой волны выплыл труп омоновца и снова нырнул в нее.
Данилов вдруг охнул, потому что, не смотря на пыль, разглядел быстро
приближающуюся металлическую стену, казалось, необъятных размеров - это был
корпус самого крупного цилиндрического модуля "Медузы".
На корпусе вдохновляющим образом горел и не сгорал голографический герб
державы - серп, молот и книга. Герб державы на подступах к Юпитеру.
Символ прогрессивного человечества против мрачного и пока враждебного
творения природы.
От созерцания герба Данилов весь как-то подобрался и невольно повторил: "Я
не изменю, Фридрих Ильич".
Герб словно отреагировал на эти торжественные слова; прямо на корпусе, где
сверкал голографический рисунок, появилось вздутие, хорошо заметное в
тепловом диапазоне.
"Нарыв" неожиданно раскрылся, стал ярким цветком с пестиком и тычинками,
получившимися из огненных брызг и струй. Впрочем, цветок вскоре посерел и
угас. Из дыры, появившейся на его месте, вихрем вырвалась всякая мишура, да
еще и несколько мертвецов в придачу.
Но проход внутрь был открыт. Голубая молния скользнула неподалеку от
Данилова, и раздался треск. Треск был ненастоящим, таким образом джин
символизировал мощный электромагнитный импульс. За счет электростатики скафандр был
залеплен примерно трехсантиметровым слоем пыли, отчего Данилов вспомнил про
сугробы. Он их видел в сетекнижках про Землю и воочию на Ио.
Воздух, резво истекающий из поврежденного модуля, сдул пыль и пытался
унести Данилова в космическое пространство. Но особист ухватился за вывороченный
лист обшивки и, цепляясь за зубцы, проник внутрь станции - раньше, чем
вездесущие роботы-ремонтники завели пластырь.
Прошло уже девять часов после гибели рейдера.
Инфосканер был настроен на формат связи омоновцев, но ловил только шум, за
которым возможно скрывался неизвестный протокол, по которому общались
бандиты.
Искусственная сила тяжести была максимальной у борта, она давала ориентацию
в пространстве. Сориентировавшемуся Данилову показалось, что он на дне
глубокого ущелья, чуть ли не Гранд-Каньона. На этом "дне" были смонтированы мае-
сивные агрегаты, энергетические и поддержания жизнедеятельности, изрядно
смахивающие на древние мегалитовые сооружения вроде Стоунхенджа. Сверху
хмурилось свинцово-серое небо, получившееся из противоположной стенки цилиндра.
Как будто имелось и длинное перистое облако - как догадался Данилов, это
трубчатый стержень всей "Медузы", через который протянут полный набор
коммуникаций, включая лифты и транспортеры, там же смонтированы системы очистки и
регенерации воздуха.
К "небу" уходили трехсотметровые трапы, образуя что-то вроде рощи.
Большинство из них было покорежено, некоторые даже сплетены в узлы.
Стекловидные полосы остались на металлокерамической палубе, сильно
пострадали и агрегаты - из пробоин дым идет, из дырок жидкость сочится, из
разорванных труб бьет пар.
Судя по всему, здесь шел ближний бой без оглядки на системы
жизнеобеспечения.
За ступеньки одного взмывающего в "небо" трапа зацепился ногой и висел
какой-то человек. Судя по сведениям органического сканера - мертвый, а судя по
форме - омоновец. Здесь погибло немало и других. Но останки сильно обгорели и
были, как говорится, мало информативны.
Данилов вынул из кобуры импульсник, почувствовал его ребристую рукоятку
сквозь оболочку скафандра и приободрился. Потом стал подниматься по
уцелевшему трапу.
Главное сейчас - добраться до стержня. А там подключайся на здоровье к
главному нерву "Медузы" - осевому оптоволоконному кабелю. Может и осевой
транспортер еще работает, тогда удастся прокатиться по всему полю битвы,
высматривая Анпилина.
Пятьдесят ступеней вверх, короткий отдых на крошечной площадке, и снова
вверх, а если точнее к центру. По дороге "сила тяжести" убывала, и заодно
исчезали "вверх" и "низ". Это вызывало вполне обычные, но неприятные ощущения.
Промелькнула быстрая хищная тень, но тренированная рука Данилова
отреагировала на все сто процентов, благодаря психопрограммной реакции и стимуляции
нейромышечных связей "черной вдовой".
Выстрел и, стукаясь о ступеньки трапов, к стенке уносится развороченное
металлическое тельце. Цепкий взгляд Данилова успел сфотографировать его -
"летучая мышь", небольшой исследовательский аппарат, один из тех, какие
запускаются "Медузой" через мономолекулярные трубы прямо в атмосферу Юпитера.
Неизвестно, может ли такая штучка сделать больно и, собственно, собирается
ли она вредничать. Но лучше поостеречься... А ловко он ее шпокнул. Как
ковбой , как ворошиловский стрелок; мелочь, но приятно...
В целом сопротивление "Медузы" Данилов оценил как слабое. Но тут же подумал
- не сглазить бы.
Он много раз замечал такой феномен - не успеешь расслабиться, как сразу
получаешь по шапке. Словно надвигающаяся опасность загодя расслабляет свою
будущую жертву.
Инфосканер показал сгущение энтропийной мглы, которая быстро растекалась
темно-серыми полосами. На станции включился целый ряд ранее "спящих"
агрегатов .
Их работа быстро стала видимой. Осевой стержень набухал пушистыми почками,
те из просто пушистых делались откровенно волосатыми, волосы бурно росли.
Легкая дрожь у Данилова вскоре сменилась на полноценное клацание челюстей.
Буйная "шевелюра", которой оснастился стержень, все более напоминала
щупальца "Медузы", недавно сгубившие целый рейдер. Напоминание было конечно
миниатюрным, в диаметре эти монополимерные трубки едва ли превышали три-четыре
сантиметра.
Ускоренным обволошением дело не ограничивалось, стал ощутимым ветер, он все
сильнее трепал усы Данилова, как будто на станции начинался тропический
ураган.
"Хоть вы мне однажды сказали "умолкни, каторга", выражаю вам свою поддержку
и сочувствие, - неформализованно прорезался Джин Хоттабыч. - Даю свою матрицу
на отсечение, что в этом модуле "Медузы" моделируются условия Юпитера и
обкатываются исследовательские аппараты. Тяжело в учении, легко в бою.п
"Тяжело в лечении, легко в гробу", - испорченным эхом отозвался замандражи-
ровавший Данилов. Он знал, что на Юпитере плохо, даже если этот Юпитер
игрушечный .
На грозной планете нет никаких лестниц, наверное, поэтому ступеньки
складывающегося трапа выскользнули из-под ног Данилова и он, чтобы не свалиться с
высоты, примерно, двести пятьдесят метров с ускорением 0.5 "же", вцепился в
подвернувшийся отросток осевого стержня. Скорость ветра, накачиваемого каким-
то гравитационно-вакуумным насосом, уже достигала семидесяти километров в
час.
Особист пристегнулся карабином и стал наблюдать за юпитерианской "крысой",
которая бодро бежала по трубке ему навстречу. Восемь клещевидных лапок. Пасть
с семью поворотными челюстями, предназначенная для того, чтобы отхватывать
кусочки юпитерианского льда.
"Поведение - целенаправленное, но цель, похоже, ошибочна. Сейчас тяпнет за
нос, как пить дать, - Джин Хоттабыч опять высказался неформализованно, хотя
его никто не просил."
"Типун тебе..."
Но исследовательский аппарат и в самом деле атаковал физиономию Данилова.
Особист сжег "крысу" из импульсника, когда та уже покусилась на нелишнюю
часть его тела.
Данилов выдохнул со всхлипом и опустил забрало шлема. Следующий
исследовательский аппарат просто плюнул на него. Едкая выпущенная под большим
давлением струйка наполовину прожгла скафандр.
Вот зараза! Кто поставил под ружье мирные научные приборы, кто заставил их
разбойничать на большой дороге, если точнее на узком отростке? И без них-то
уже не сладко, ветер совсем обезумел, треплет человека как тряпку.
Ураган сорвал с трапа и пронес мимо Данилова труп омоновца.
Человек - очень разжиженное существо. Этот тезис редко осознается, но
сейчас Данилов сполна убедился в его верности. От соударения со стенкой омоновец
превратился в кляксу не слишком крупного размера.
"Я не хочу, чтобы мои останки соскребали перочинным ножичком..."
Очередная "исследовательская крыса" перекусила монополимерный отросток и
Данилову пришлось отправиться в свободный полет. Порыв безумного ветра
швырнул его в сторону оси. Он даже не успел испугаться, когда одна из стержневых
почек схватила его своими клейкими щупальцами, подтянула к себе и всосала!
Недолгий полет завершился в тесном склизком мешке с просвечивающими
стенками. На мешке светилась будничная надпись: "Модель ЮПИТЕК.
Перепрограммирование запрещено. Гибкий контейнер не вскрывать. При обнаружении в нерабочем
состоянии вернуть на орбитальную станцию "Медуза".
Он очутился не в желудке у осьминога, а в гибком контейнере у кремнийорга-
нического киберорганизма. Однако оптимизма не почувствовал.
Конечно же, это очередной исследовательский аппарат, предназначенный для
сбора образцов на Юпитере.
Но на какое дело запрограммирован киборг сейчас? Контейнер сжимает Данилова
так, что не пошевельнутся, и если случайно чихнуть, то гарантированно лопнет
прямая кишка.
Страдающий от сильного сжатия Данилов заметил, что у Юпитека имеется еще
один контейнер для сбора образцов. Только вместо инопланетных диковин в этом
почти желудке лежат шлем и обрывки скафандра. Судя по эмблеме, шлем остался
от бойца из команды "Егер-9". Куда подевалось тело и капсула Фрая, можно было
лишь гадать - при наличии времени и желания.
Теперь Юпитек займется исследованием нового образца пюпитерианскойп фауны.
Уже затрещала сверхпрочная ткань под действием клейких полипов. Затем сильно
тряхнуло... Сквозь полупрозрачные стенки контейнера Данилов увидел, что на
этого Юпитека свирепо набросился другой киберорганизм схожего типа.
Поединок шел, наверное, за право первой ночи на Юпитере. Данилов не был ни
болельщиком, ни участником: его мутило из-за бросков и торможений, голова
напоминала футбольный мяч, а глаза прыгали как костяшки древних счет.
Киборг, у которого в желудке-контейнере был сжат Данилов, вскоре лишился
значительной части щупальцев и бросился удирать по стержню. Более успешный
Юпитек настиг его уже в другом модуле "Медузы".
Наступала финальная сцена единоборства. Объятия контейнера ослабели и на
его стенках замелькали надписи "невосполнимые повреждения, дизфункция
управляющих систем". Данилов воспользовался этим, чтобы высвободить руку и нанести
ему страшную рану выстрелом импульсника.
После освобождения из чрева Юпитека особист пролетел десяток метров.
Столкновение с палубой было несильным, но пыльным.
Данилов прокашлялся и огляделся. Это был ангар - куб, вписанный в очередной
цилиндрический модуль станции. Хотя неподалеку подыхал Юпитек, в целом
обстановка казалось спокойной - самое главное, никакого юпитерианского ветра.
Данилов наклонился, чтобы отскоблить какую-то липкую гадость от подошвы
сапога и едва успел отскочить в сторону, чтобы не попасть под колеса массивного
вилочного перегружателя.
Перегружатель развернулся и снова понесся на Данилова.
Бегство казалось бессмысленной затеей, и особист отчаянно бросился под
машину. Перегружателю не хватило маневренности, чтобы немедленно раздавить
Данилова. Тот прошмыгнул между двух передних колес, затем уцепился за какие-то
уголки, приваренные к днищу, и пролез в нижний люк.
По трапику Данилов поднялся в кабину, где наслаждалось лихой разбойной
ездой двое мутантов из банды Зонненфельда.
У одного из них были ноги хищного зверя с пятками, превратившимися в
суставы, у второго прямо из груди торчали клещи; они еще и щелкали. Человек-зверь
прыгнул на Данилова, но промахнулся - тот успел закатиться под сидение. Потом
сбил с ног клещегрудого и выдернул из него здоровенного краба-симбионта.
В замкнутом пространстве кабины состоялся бой в лучших традициях Борибаби-
на, трехсекундный, с легкой стимуляцией С-адренергиком <Прим.: синтетический
нейротрансмиттер, агонист катехоламина>, с двумя противниками. Случилось
почти одновременно три безрезультатных выстрела и пять ударов. Первые два из них
пришлись вскользь по Данилову, третьим он угомонил "любителя крабов", достав
его в болевую точку у основания шеи, четвертым и пятым отключил "прыгуна",
выбив ему шейный позвонок и поразив болевую зону возле носа.
"Вот так кончается езда без водительских прав," - подытожил Данилов и
принял перегружатель под свое управление.
Управление было недолгим, шагающий портальный кран ухватил перегружатель
своими грейферами, приподнял как Геракл невезунчика Антея, открыл шлюз,
ведущий в космос, и хотел было выбросить наружу.
И выбросил бы. Но, оттолкнувшись вилами, перегружатель вывернулся из его
объятий. Ненадолго. Кран снова погнался за ним на своих крепких титановых
ногах и ухватил, пользуясь преимуществом в росте и весе. Сейчас швырнет за борт
и лети хоть миллиарды лет на край Вселенной. Но кран вдруг утихомирился, а
шлюз з акрыл ся.
"Мне, кажется, удалось завести с ним контакты, - горделиво сообщил джин. -
Низкоуровневое соединение, миллионы машинных кодов. Эта железяка слишком
глупа для высокоуровневого киберадаптера. Теперь прошу пожаловать в его уютную
кабину."
На бедный глупый кран тут же налетела целая орда транспортных тележек,
которые стали ломать ему ноги, а в дверь кабины впился паукоробот-ремонтник,
пытаясь разделаться с ней при помощью плазморезки, вылезшей у него из
"глотки". Похоже, все оборудование станции "Медуза" вошло в раж взаимного
истребления .
Данилов метался по кабине, пока скорость осевого вращения станции не упала
и вместе с ней центробежная сила. Агрессивные устройства стали разлетаться в
разные стороны.
Последняя плюха со стороны разъяренных тележек и Данилов полетел вместе с
краном. Они удачно столкнулись со стенкой отсека, размазав паукоробота, и на
подгибающихся крановых ногах, наконец, добрались до осевого стержня и
"главного нерва" станции.
Кибероболочка "Медузы" охотно открылась инфосканеру.
"Я - одна, - сообщила она. - И меня мутит." А еще она явно обезумела, что
было неудивительно, раз здесь побывал Анпилин.
Оранжевые линии, относящиеся к системе жизнеобеспечения, были оборваны.
Передняя гравитационная центрифуга, вместо того, чтобы отделять кислород от
углекислого газа, просто раскачивала воздух. Все устройства и агрегаты станции
получали дефективные команды. Управляющие процессы бились за контроль над
процессорами. Тестирующие системы зависли.
Вылечить "Медузу" могло только полное отключение кибероболочки, чистка
устройств массовой памяти и полная замена кристаллочипов оперативной памяти.
Работа минимум на сутки.
Данилов не успел составить даже рабочего графика, когда "Медузу" качнуло.
"Станция сходит с орбиты, - дав насладится тревогой, сообщил джин, -
ситуация если не безнадежная, то очень тяжелая."
Джин не врал, потому что не врал инерционный датчик, встроенный в череп
Данилова .
Станция падала на Юпитер вслед за злополучным рейдером.
"И без тебя, балбес, вижу, что сходит, - мысленно рявкнул Данилов на джина.
- Ты лучше скажи, почему? Насколько я в курсе, силовая установка и система
распределения мощности не пострадали."
"Я поражен варварскими действиями мерзавцев из группировки Зонненфельда. В
операционную кибероболочку станции этими отморозками был введен вирус В-23С.
- с гражданским пафосом заявил джин. - Я его опознал. Они - просто вандалы,
отъявленные..."
"Короче. Что сделал вирус?"
"Вирус захватил ментальные структуры кибероболочки, подчинил все объектные
шины и низкоуровневые каналы, связующие ее с подсистемами, все контроллеры,
управляющие процессорами и накопителями. А полчаса назад кто-то, имеющий
полномочия доступа, ввел код активации; и вирус загрузил в навигационную
подсистему "Медузы" новое полетное задание - с курсом на Юпитер. После чего
аккуратно дезинтегрировал каналы командного доступа в кибероболочку."
"Как насчет того, чтобы определить и устранить повреждения?"
"Определить - два часа сорок, устранить от часа тридцати до трех часов
пятнадцати минут. При условии, что сохранились копии важнейших систем на
резервных носителях."
"Выходит, что повреждения невозможно устранить вплоть до падения "Медузы"
на Юпитер. Так и сказал бы сразу, лакировщик", - оскорбил особист своего
джина.
Джин виновато молчал. Он даже не посмел впрыснуть в рецепторы Данилова син-
тетические опиаты, чтобы это не выглядело как попытка установления контроля
над человеческой психикой.
"А что у нас со средствами спасения?" - устало справился Данилов, которому
надоело погибать десять раз на дню.
"Сейчас глянем, я моментом... Итак, сам лайнер "Адмирал Горшков", на
котором бандиты сюда пожаловали, стоит в доке станции, совсем без топлива. Шлюпок
на нем почему-то нет. Далее о средствах самой станции. Сорок двухместных
аварийных капсул отсека "Йот" заблокированы рухнувшей мачтой. Тринадцать
спасательных плотов отсека "Це" сгорели. Двадцать восемь десятиместных
спасательных шлюпок палубы "Це-4" выведены из строя. К спассредствам остальных отсеков
оперативного доступа нет."
"Ну и как мне вылезти из этого дерьма? А, джин?"
"Инструктивных способов нет, в качестве чрезвычайного и неформального
способа порекомендую использовать какой-нибудь исследовательский зонд отсека
"Цет". Естественно, что за подобный совет ответственности я нести не могу, ни
физической, ни моральной. Я даже не обязан этот совет давать, однако,
учитывая характер наших взаимоотношений..."
"Да, я тебя тоже очень уважаю, дорогой Джин Хоттабыч, но поторопись с разъ-
ясниловкой, а то ..."
"Коды доступа к исследовательским зондам думаю, что найду, камрад Данилов.
Ввод полетного задания с автономного пульта и подготовка к старту "с нуля"
занимает примерно пять минут. И, чтоб добраться до них через лабораторию,
трех минут хватит."
Хотя Данилов торопился, в лаборатории ему бросился в глаза мох,
выбиравшийся из разбитых аммиачных цистерн.
Этот мутант, добывающий энергию хемосинтезом на основе аммиака, был
жизнеспособен почти при любой температуре и обладал волоконной структурой,
напоминающей нервную ткань. Будущий мозг для Юпитера?
Данилов влетел в отсек "Цет", и тут его мозг был сражен кошмарным зрелищем.
Вмиг погасли дружественные огоньки на ячейках с исследовательскими зондами.
Все они были демонстративно отстрелены прямо перед его носом и отправились в
сторону Ио.
На сигнальной панели осталась надпись:
"Прощай, Данилов. Надеюсь, ты не будешь в обиде на меня в последние часы
своей жизни. Согласись, что если бы я тебе поддавался, играть было бы не
интересно . Твой настоящий друг Анастасий Анпилин."
"Не хотелось бы мне это говорить, но у вас действительно не осталось ни
одного шанса." - сообщил Джин Хоттабыч.
Данилов стал мягким, как плавящаяся свеча - НИКТО НИКОГДА не сможет найти
его ампулы Фрая на Юпитере.
"Даже гипотетического ?"
"Не в моих правилах напрасно обнадеживать."
"Но я пока живой, мне нужна хоть какая-то зацепка."
"По счастью для вас, я понимаю особенности человеческой психологии,
коллега ... Речь собственно не о космическом аппарате. Это сборщик мусора, который
время от времени запускали со станции. Он в отсеке "Е" . Даже если вы
доберетесь до него и стартуете, он вам мало чем поможет. У него запас топлива на
полчаса. Оторваться от притяжения Юпитера на нем невозможно. Конечно же, вы
могли бы несколько продлить свое существование... И все-таки, смиритесь, даже
до мусорщика вы вряд ли успеете добраться."
Но Данилов уже бежал по извилистым кишковидным коридорам станции, хотя и
понимал, что джин-собака не врет. Драпал, полностью выкладываясь на
дистанции. Действительно, есть особенность у человеческой психики - не верить
очевидному .
"А тебе-то самому, джин, жизнь не дорога? Не забывай, ты ж пропадешь вместе
со мной."
"У меня нет собственной жизни, коллега Данилов. Но почему-то мне тоже
грустно . "
Сзади на Данилова вдруг накатилось нечто, напоминающее тень, только с
гладкой глянцевой поверхностью. Какое-то мгновение он ничего не видел, не слышал,
не чувствовал. А потом сразу оказался в отсеке "Е".
"Не понял, - сказал джин, - системные часы отстали на секунду."
Данилов тоже не понял, но сейчас его интересовали не космические аномалии,
а собственная жизнь, находящаяся в подвешенном состоянии.
Тройной прыжок с опорой на мусорные баки, и вот он уже влетел на шлюзовую
платформу, с которой мог стартовать мусорщик.
Однако место было уже занято, кто-то возился с пультом ввода полетного
задания. Данилов сразу догадался, что это бандит, а не омоновец.
К тому времени, когда бандит успел полуобернуться, Данилов уже нацелил им-
пульсник на его голову. Осталось мгновение до выстрела...
Да это же баба из орбитального городка "Шанхай-44", с рыбной фабрики. Вот
сука, работницей претворялась. А на самом деле блядь из банды Зонненфельда.
Как там ее, Кац.
Мгновение прошло, но Данилов не выстрелил.
Он сделал шаг вперед и не выстрелил. Она полностью обернулась к нему и
смотрела. Глаза, как фонарики, даже и не пробовали моргать.
Он представлял, что уже нажал на спусковую кнопку, и на лбу у Кац появилась
угольная дырка, а глаза сразу стали мертвыми. Представлял раз за разом. И не
стрелял, хотя капали в бездну драгоценные мгновения, хотя до Весты
психопрограмма заставила бы его сделать это. Что-то, возможно эхо погибшей "совести",
настойчиво нашептывало: "Кончай эту дрянь, от таких как она все зло. Влепи по
по вражине." Особист сделал еще шаг и опустил импульсник.
- Не будешь, Данилов? - спросила Кац севшим голосом.
- Не буду.
- Ну и я не буду.
Он услышал, что зашипел некий сервомеханизм и краем зрения уловил, как в
потолок прячется крановый блок.
- Ты бы меня, конечно, успел, Данилов, но и он тебя бы достал. Для твоей
головы тонны бы хватило? Так что в целом ты прав, камрад. И надеюсь, сейчас
ты не хочешь погибнуть геройской смертью? - в издевательском тоне справилась
бандитка.
Данилов пару раз выдохнул, чтобы совладать с водоворотом в своей душе:
- Ты предлагаешь мне место рядышком с собой в мусорном бачке? Полетим как
две бабы-яги в одной ступе?
- Ты предпочитаешь один махать помелом, такой гордый? Или тебе нужен
бесплатный билет на тот свет? Учти, что никакая капсула Фрая тебе не поможет,
она дерьма собачьего не стоит вместе с цифровой психоматрицей.
- Сэкономь на агитации, Кац.
- Госпожа Кац, - поправила она. - Я с вами белковых слизняков не пасла. И,
кстати, у нас в запасе всего сорок пять секунд.
14. Полет на метле
Околоюпитерианское
пространство.
Оставшиеся сорок пять секунд они работали, как чумовые, потому что на сорок
шестой было бы действительно поздно.
Данилов загрузил в двигатель топливные стержни, Кац ввела с внешнего пульта
задание на сборку мусора, которое должно было увести мусорщик на максимальное
расстояние от Юпитера. А дальше? Об этом любой психотерапевт посоветовал бы
пока не думать.
На сорок пятой секунде временно замирившиеся враги влетели в тесную кабинку
мусорщика, предназначенную для одной уборщицы.
- Задание исполнять? - не слишком довольным голосом справился автопилот.
- Сейчас жопу надеру! - грозно предупредила госпожа Кац, одновременно
нажимая большую кнопку старта, похожую на котлету.
Мусорщик затрясся и не очень резво выплыл из недр станции. Вокруг нее
действительно витали облака всякого кала: полимерная пыль и гранулы, обрывки
труб, погнутые и проплавленные металлоконструкции, дефектные спасательные
капсулы. Трупы тоже витали. Вернее крутились вокруг каких-то осей и тащили за
собой хвосты из заледеневших внутренностей.
На панели управления мусорщика нарисовалась схема его устройства. Дешевый
ионный движок, плюс короткодействующий химический ускоритель - на всякий
пожарный. По большому счету мусорщику некуда было торопиться.
Вот и сейчас автопилот упорно не желал наращивать скорость:
- Послушайте, товарищи, куда так торопиться? Все равно эту тучу мусора нам
не собрать ни за час, ни за два. Если я дам сто или хотя бы девяносто
процентов мощности, то полетят сверхпроводящие обмотки катушки удержания, если я
зажгу химический ускоритель, то усталостный износ может доконать корпус -
тряска-то какая будет. За последние семь лет в сектор обслуживания станции ни
одной новой детали не поступило.
- Понимаешь ты, пластмассовая башка, - сказала женщина-бандитка, - мы не
фантики собираем, а спасаем свои драгоценные потроха.
- Зачем на мне спасаться, я для этого не приспособлен, - резонно заметил
мусорщик.
- Значит, ничего лучше тебя не осталось. Слушай, ржавый, если ты будешь еще
канючить, я доберусь до твоих хилых мозгов и искрошу этими вот руками, - и
Кац совсем по блатному развела пальцы веером.
- Средневековое варварство, - с заметным содроганием отозвался автопилот,
но все-таки отреагировал на угрозу единственно правильным образом. Добавил
жару.
Это стало заметно и по инерционному давлению в области груди и солнечного
сплетения, и по дребезжанию разных деталей мусорщика.
- Если пройдем орбиту 24-34 не позже, чем через три минуты, то считай, что
почти спаслись, - сказала Кац, поковырявшись отверткой в навигационной
системе летучего мусорного бачка.
- А если точнее? - угрюмо отозвался Данилов, который никоим образом не
доверял ни случайной попутчице, ни случайному транспортному средству.
- Если точнее, то спаслись полностью, но не окончательно. Какое-то время
будет достаточная скорость убегания, так что успеем написать мемуары, прежде
чем Юп нас снова зацапает. И не забудь в них отметить, мент, что твой
жизненный путь начался в мусорном ведре и в таком же ведре закончился.
Мусорщик не подвел. Из последних дряблых сил он летел прочь от Юпитера и в
три минуты уложился.
- Не знаю, какой из тебя космический корабль, но на нервы ты действуешь
профессионально, - сказала Кац мусорщику и переключилась на Данилова. - Ну,
чем будем заниматься, красавчик; так, кажется, тебя Блюм называла.
И ткнула острым кулаком в бок. Даже сквозь скафандр чувствительно было.
Голос у нее совсем базарным стал, тягучим и не очень внятным - словно ей лень
было челюстями двигать.
Данилов страдал от тесного соседства с гангстершой. Если на рыбозаводе она
выглядела не слишком привлекательной, то сейчас просто отвратительной, мурена
какая-то. Впрочем, плевать, как эта мерзавка выглядит. Главное, что она
столько народа положила вместе со своими дружками. Еще и станция накрылась,
пропал труд стольких рабочих инженеров и дизайнеров, сотни ментальных часов
работы гиперкомпьютеров. Если даже удастся выкарабкаться, то как
оправдываться перед начальством за этот полет с бандиткой? Если б сейчас можно было
связаться со своими, но узел суперсвязи вышел из строя вместе с "Медузой".
- А с чего ты решила, что с тобой можно чем-то заниматься? Из тебя дама,
как из дерьма пуля.
С этим Кац легко согласилась.
- Какие мы проницательные... Я и в самом деле люблю мужиков только в
препарированном виде, в банке, а не на себе и не под собой.
"Да уж, все с ней ясно - воинствующая фригидина. Козлы-генетики лет
двадцать-тридцать назад были уверены, что благодаря фригидности женские клоны
станут фанатками по части работы. А они вот вместо этого в разбой ударились.
Очередная ошибочка."
- Любишь убивать, красавица?
- Не люблю. А обожаю, если можно соларита грохнуть.
- Ну и где персонал станции, где сто соларитов? Вы их сразу прикончили? Или
еще покуражились?
На удивление голос Кац резко стал деловым.
- Да не сто, а двадцать. Причем в замороженном состоянии. Мы им сразу под
зад коленом: погрузили на катер и отправили в сторону Каллисто. Так что все
целы, в отличие от моих дружков.
- А что с капитаном Хованским?
- Я уважаю эту клонолинию, не какие-нибудь вояки-бояки, а настоящие
солдаты , но Хованский погиб. Я его убила, после того как он разнес Блюм ракетой.
Данилову захотелось срочно придушить попутчицу.
- Не торопись, красавчик; неизвестно, кто еще выйдет победителем из нашего
поединка, но вони будет много.
Это упоминание несколько охладило особиста. Он не знал, какие еще фокусы
могла подготовить Кац. Беседа так беседа, разговор - лучшее оружие особиста.
- Сколько вам Зонненфельд отстегнул за эту вылазку? По сотенке соларов на
бандитское рыло?
Кац, несмотря на траур по подружке Блюм, резво хохотнула.
- Верь, не верь, но мне нисколько. Я была против этой, как ты выражаешься,
вылазки, и никто меня не заставлял. Поэтому когда я все-таки согласилась, из
кассы мне уже ничего не причиталось.
- И чего ж ты проявила такую самоотверженность? Альтруизм в заднице
заиграл?
- Любопытство. Хотелось узнать, чем это закончится, и кто огребет все
лавры. Но и альтруизм тоже - если это так называется. Я думала, что нехорошо
бросать Блюм.
- Это твоя сожительница? У тебя какая сексуальная ориентация?
- Здоровая. Подумай лучше о своей ориентации. А Блюм была мне подругой -
еще с питомника. Кстати, она первой заметила твои усы в фабричном аквариуме.
Иначе бы я тебя не выудила. То есть выудила бы попозже, в очень несвежем
виде. Ну и потом, ты ж летел на станцию, а меня заинтересовали твои танцы с Ан-
пилиным или как там ты его называешь.
- Ты что, "пасла" меня? - у Данилова по спине поползла испарина. Он ведь
давно под колпаком у бандюг. И ничего не замечал, как пионерка. Грех для
профессионала непростительный.
- Не столько "пасла", сколько спасала. Вытаскивала тебя из дерьма, ходила
за тобой с туалетной бумагой. Твое начальство явно держало тебя, мальчик
Данилов, за подопытного кролика.
Воспоминания теперь аккуратно рассортировались по полочкам и Данилову стало
прохладно. Озяб он, конечно, только морально-психологически.
- Так значит, псевдомарсианка Ци - это твоя кукла! Шлюха Гипериция - тоже
твой человек? - чуть не завопил Данилов, чувствуя как ему сильно не хватает
воздуха, хотя с давлением пока был порядок.
- Мой не-человек, - лукаво отозвалась Кац. - Гипериция такой же синететик,
как и Цецилия, обе эти куклы - мои аватары.
Данилову стало неудобно; незнакомая и малосимпатичная женщина вдруг
призналась ему, что вступала с ним в интимный контакт, пускай и с помощью куклы.
- Не волнуйся, мальчик, не красней как задница в бане. Любовь с тобой
крутила совершенно автономная психопрограмма. Поэтому считай, что ты занимался
онанизмом. Во всяком случае, онанизм - это много лучше чем, скажем,
мужеложство. Кстати, как по-твоему выглядят твои соларитские подружки без мимика?
- Ты думаешь, я не контролирую нейроконнекторы и не отфильтровываю всякое
фуфло? Я же все-таки особист, - пробормотал Данилов, ощутив некоторую
неуверенность .
- Будь ты и трижды особист, твой джин железно запрограммирован не поднимать
паранджу.
- А значит, по-твоему, внешний вид солариток и соларитов является таким
безумно секретным делом?
- Конечно. Сразу станет ясно, что со вкусом у главного клонировщика не все
в порядке.
Данилов хотел отмести клевету бандитки, но ненароком вспомнил весталок и
вестанцев. Может, и в самом деле, не мимики тогда исказились, а напротив его
джин перестал контролировать оптическое окно.
- С мурла чай не пить, - уклончиво заметил Данилов.
- А насчет их мозгов хорошо известно и тебе, и твоему начальству. Я даже
думаю, что дело не в генетике. Виновата их вера в то, что им положено
бессмертие, поэтому о чем-то серьезном можно будет подумать лет так через
тысячу. Типичная гэдээрия. Эти куклы могли фрондерствовать лишь ради того, чтобы
спровоцировать кого-нибудь вроде тебя.
- И какого рожна надо таких как я провоцировать?
Кац устроилась поудобнее, настолько удобно, насколько возможно в тесной
кабинке мусорщика, не задавив соседа. Положение у нее было не слишком
подходящее для нападения, но, тем не менее, Данилов был по-прежнему "на стреме".
Одну ногу она согнула и подтянула к груди, обхватив руками, другую расположила
вдоль приборной доски.
- Да просто вы, особисты, не такие плюшевые медвежата как остальные солари-
ты. Слабо верифицированный народец, умеренные клоны, хотя и цепные псы
реакции. Я имею в виду оперативников и некоторых бонз вроде Сысоева. Для вашей
работы необходима мозговая активность, лишь слегка подправляемая
психопрограммами . Чтобы ловить нынешнего хаккера, надо соображать. Но ваша
сообразительность и вызывает подозрения у гиперов. Так что они вас элементарно
подлавливают . Скорее всего, сам Фюрер проводит проверки на вшивость.
"Эта чертова Кац многое знает, как будто Информбюро "течет" изо всех
дырок . "
- Обо многом можно легко догадаться, усатый ты мой.
"Черт, психофейс-то у нее работает, щупает его мысли."
- Хотя, есть и для меня загадки, Данилов. Например, взаимоотношения
Афродиты и Фюрера. Может эта гиперша и заряжает соларитов на крамольные речи - в
пику берлинскому папаше. Некоторые идеи вождя она точно ни в грош не ставит.
А в эстетической сфере эта лжебогиня зачастую прикрывает извращения
сбрендившего Фюрера классическим монументализмом.
Кац взяла паузу, во время которой заняла еще более раскованную позу, поло-
жив одну ногу прямо на приборную доску. В фактически смертельной ситуации
соседка по кабине уверенности в себе не теряла и это ослабляло Данилова. Она
явно собиралась и дальше выкладывать свои "подарочки", подрывающие его мораль
и волю.
- Ты уж извини, Данилов, но мне кое-что известно о твоей бурной
деятельности. .. Тебе приказано было ликвидировать Анпилина, но что-то все время мешало
полностью уничтожить его. Я думаю, что подсуетился твой босс, камрад Сысоев,
или босс твоего босса. Анпилин заинтересовал чинуш из Информбюро своей
невероятной живучестью и восстановимостью. Этим мудакам нужна крутая капсула
бессмертия .
- Я уже понял, что Анпилин как будто создан для того, чтоб быстро
возрождаться. . . Боевой мутант с управляемой прогерией, жизненный цикл, думаю, лет
девять.
- Семь, больше не требуется, - поправила Кац.
- Я смотрю у вас, бандитов, неплохо дело обстоит с клонопитомниками.
- Он из клонопитомника ГУЖП, какой-то закрытый проект.
- Если даже так, то и в клонопитомник ГУЖП вы могли внести свою инфекцию.
- Он не наш, Данилов. Мы не знаем, кто он. Ты попал в мое поле зрения лишь
потому, что я наблюдала за ним. Мне показалось, что наши уж слишком доверяют
ему. Если ты дашь больше информации о нем, я, возможно, додумаю все до конца.
Она посмотрела на Данилова. Что он может ей сказать? Что есть еще странная
ниточка, идущая от Анпилина на Меркурий к Угольку, который явно метит в
короли глюонной решетки. Но стоит ли колоться перед Зонненфельдовской шмарой?
- И что, Кац, по-твоему, Главинформбюро гоняет меня за клоном, которого
сделали в государственном же клонопитомнике? У нас ведь Киберобъединение,
предустановленная гармония, не забывай.
- Такое дерьмо не забывается. Но Киберобъединение пошло трещинами.
- По-моему, наша экономика на подъеме.
- Почему ж так суетиться Афродита? Ей ведь наплевать на крутые капсулы
бессмертия для членов Информбюро. Но она тоже идет по следу Анпилина, если
точнее, по-твоему следу.
"Информированности Кац можно только удивиться, хотя если подумать..."
- Тот, кто влез в моего джина на Весте, продал тебе мою персональную
информацию?
- Вот и вся благодарность особиста. Этот "кто-то" спас тебя. Твою
единственность и неповторимость. Он очистил тебя от той "совести", которой наградил
тебя Фюрер, и превратил электронного демона, сидящего у тебя в башке, в
скромного кибердвойника. За все за это тебе бы надо поклониться благодетелю в
ножки. Да, к сожалению, это - гипер, и ножек у него нет.
Кац явно наслаждалась производимым эффектом, она совсем расслабилась, даже
сунула в рот конфету. Не забыла предложить такую же говорящую карамель
"компаньону", сказав, что пусть хоть в животе не будет так пусто как в голове.
Пребывающий в замешательстве Данилов машинально принял презент и сейчас
мучительно размышлял под издевательское хихиканье карамельки.
- Но ведь рано или поздно гипера-предателя разоблачат и распрограммируют.
- Почему ты называешь его предателем? Только потому, что он спас твою
жизнь? Забавно. Не волнуйся, с нами он пока не связан. А вот у Афродиты есть
вполне криминальные контакты. Например, картель Нухаева, занимающийся
порнографическими наркософтами в древнегреческом стиле и токсичными афродизиаками
для возбуждения похоти у слишком раскисших соларитов. Шестерок-поставщиков и
продавцов ловят и ловят, казнят и сажают, а сам картель работает себе и
работает. Теперь догадываешься "почему"?
В целях экономии освещенность кабины упала до минимума. Данилов поднял
забрало. Забавно было слышать дыхание врага. Разговор двух непримиримых против-
ников, заточенных в мусорный бачок, а вернее в гроб, приостановился. Кац
посмотрела на Данилова и перевела взгляд на пульт передатчика. Тот сигналил на
аварийной частоте, но совершенно напрасно. Будущего у них не было.
Кац не верила в капсулу Фрая, но уповала на что-то другое. Ему надеяться на
что-то другое поздно. Пожалуй, все-таки не стоило бежать с "Медузы". Конвуль-
сиум был бы короче.
- Данилов, подумай сейчас о том, как спасти свою душу без помощи чипов.
Самый главный гипер, который всем вам башку задурил, тоже подумывает об этом.
Недаром почти весь персонал был убран со станции "Медуза". Недаром Миронов,
Шац и Киссельман были казнены после того, как определили матричные координаты
Входа...
В глазах у Кац появился сектантский блеск.
- Ну что за поповщина! Лучше верить в капсулу Фрая, чем в подобную ахинею.
- Вход - это узел глюнной решетки, физически связанный с Юпитером. За ним
настоящее бессмертие. Элизиум, ад, обитель неумирающих и неувядающих пси-
структур, если угодно, душ. Фюрер не занимается ахинеей - это аксиома,
дружок. Но именно его агент спровоцировал группу Миронова на запрещенные
исследования глюонной решетки. Люди Зонненфельда захватили "Медузу", чтобы
проникнуть в Элизиум, и агент Фюрера был среди них. И этот агент ввел в киберобо-
лочку станции вирус В23с, чтобы команда Зоннефельда не опередила Фюрера.
- И ты знаешь как зовут это гада?
- Догадываюсь... Теперь я почти уверена, что это Анпилин.
Полчаса они молчали. Перед взором Данилова маячили красочные картины его
недалекой кончины. Гравитация и порывы ветра в атмосфере Юпитера раскромсыва-
ют мусорщик, а потом разрывают на кусочки склизкую плоть. Обидно, что перед
этим Кац будет надеяться и верить, а он биться в тихой истерике.
Вон, какая она спокойная, разлеглась себе. Заняла понимаешь почти все место
в кабине. И даже не хочется возвращать ее на половину жилплощади. Потому
что. . . пусть себе лежит рядышком. Да, именно. В легком свете панели у нее и
черты лица стали помягче, и волосы совсем такого теплого цвета как у меда. И
сделалось заметной выпуклость груди. Выпуклость заметна, а вот широкие плечи
и стальные мышцы уже не бросаются в глаза.
- А кто писал психопрограмму интима для Гипериции? - несколько невпопад
спросил Данилов, - это я просто так, для шевеления воздуха, а то скучно что-
то стало.
- Я сочинила ее для нее и для тебя, дурачка. Программа, кстати, написана на
основе стандартного протокола интимного общения "Интимэйт-3".
Кац приблизила к нему свое лицо. Соларитки таких лиц не "носят". Что-то
похожее он видел лишь на каких-то старинных картинах, то есть, мимиках,
сделанных с ветхих картин. Из хищной полутвари Кац превратилась в существо твоего
вида и душевно притягивающего заряда. Ее губы приблизились к его...
Данилов хотел что-то сделать, но потом сообразил, что картина в окошке ин-
фосканера изменилась. С мусорщиком сближалось искусственное тело. К ним
навстречу шел катер! Минута бурной радости сменилась у Данилова тягостным
сомнением .
- Ты договаривалась о свидании, Кац?
- Нет. А ты, Данилов?
- И я нет. Но аварийный передатчик включила ты.
Напряжение нарастало. Сближавшийся с ними борт был из тех, что патрулируют
лагеря на Ио. Однако он не откликался на частотах, принятых на космофлоте.
- А все-таки, Данилов, это - твои, конвойные.
- Какого черта они прилетели сюда прямо на лагерном патрулыцике?
Данилов понял, что кто-то из них сейчас не выдержит, взорвется. У нее в
запасе термонож, у него импульсник. Но когда расстояния до противника двадцать
сантиметров, тянутся за огнестрельным оружием не очень разумно. На нем
силовой скафандр, на ней тоже. Она хоть и баба, но крепкая, кости да жилы, может
полоснуть по местам крепления дыхательных трубок... Или вообще по глазам.
Пожалуй , с ножом в этом мусорном бачке она даже имеет преимущество.
Кац гнусно ухмыльнулась.
- Знаешь, Данилов, я тебе раньше не говорила, но, пожалуй, сейчас скажу.
Пусть ты мне самый большой друг последние пятнадцать минут, но истина всего
дороже. . . Есть у солариток одна особенность, все солнечные девы - на самом
деле не женщины, антиженщины. То есть МУЖИКИ они.
Ох, как сейчас Данилов ненавидел эту чертову гангстершу, она действительно
вывела его из равновесия. А Кац издевательским тоном продолжала.
- Как ты думаешь, мой голубок недалекий, зачем после перехода к однополому
размножению, к клонированию, вообще нужны бабы? Особенно в солнечных городах.
Камрад Феттмильх всегда был поклонником Платона, а сей философ утверждал, что
нет сильнее войска, состоящего из любящих друг1 друга воинов. Короче, у всех
без исключения соларитов и солариток генетически только мужские признаки пола
- икс и игрек хромосомы. И все они законные педики, не считая тех, кто
перешел на чистую биохимию и всякий там киберонанизм для получения кайфа. Ну, так
как ты, Данилов, тоже небось отличился в педерастеже? Поди, много женихался?
Невесты тебя своими бородами не поцарапали?
Ему захотелось задушить ее, увидеть, как вываливается изо рта этот чертов
язык, он едва не бросился на нее, забыв о ноже, но неожиданно остыл. Если это
и правда, то он никогда не занимался сексом с соларитками, с "соларитками".
Только с Зухрой Эдуардовной на Весте - вот дерьмо-то... но, в общем, и тогда
ничего особенного не случилось. Допустим, Киберобъединение пошло на то, чтоб
заделать всех соларитов однополыми - чего тут такого? В конце концов, у
мужиков и мускульная сила побольше, и выносливость. И вообще они принципиальнее.
- Кац, во-первых, у меня было "это" с одними. . . скажем, с работницами, так
что уймись. Во-вторых, насколько мне известно, соларитки не располагают тем
хозяйством, что висит между ног у всех мужиков, а вместо этого у них, сама
понимаешь, что...
- Смешной ты или умственно отсталый. Пожизненная гормональная терапия плюс
некоторые операции, которые проводят нанодоктора еще во младенчестве. В
первый раз номер с изготовлением эрзац-баб был проделан во время подавления Бен-
Беллы , затем в более мягкой, так сказать, форме продолжен с соларитами...
Они оба увидели факел - патрулыцик был уже совсем близко.
- Ты знаешь, Данилов, это могут быть сбежавшие зеки. Приятная новость,
правда?
- Для тебя может и приятная. Это ж уголовники, твоя компания. Меня они
раскромсают с особой жестокостью.
Кончина на Юпитере сейчас представлялась славной и почти безболезненной по
сравнению с гибелью в руках уголовников-извращенцев.
- Ошибаешься, Данилов. Если к нам летят суки Харденберга или Аль-Касима, то
именно меня они прикончат с особой жестокостью, а тебя просто выбросят в
космос. Бригада Зонненфельда далеко не всем нравится.
- А если удрать?
- Удрать невозможно, да и не нужно. Поскольку эти урки - все равно наша
единственная надежда на спасение.
Когда мусорщик состыковался с катером и Данилов увидел "спасение" воочию,
надежды его рассыпались в прах. Да и Кац приуныла.
Через стыковочный люк в кабину просунулась безволосая, морщинистая, словно
бы чешуйчатая голова сизого цвета с сопливым носом-пуговкой, посмотрела
взглядом ящерицы и прошипела через прорезь, мало напоминающую рот:
- Несите свои потроха к нам. Оружие сдать прямо сейчас. Мнения, возражения?
Данилов и Кац переглянулись, а голова снова прошипела.
- Если есть возражения, мы быстро наедем на вашу жестянку катером. Чмок и
нету.
Это звучало убедительно.
- Было плохо, стало еще лучше, - пробормотала Кац и протянула термонож.
Даниловым вынул из кобуры импульсник. Навстречу выдвинулись руки, покрытые
синеватой кожей, настолько отечные, что суставы даже не просматривались. Просто
колбасы какие-то. И эта "колбасы" мигом выдернули оружие.
- Не вздумайте шалить. А то мигом... Убить кого-нибудь охота, - поделился
новый знакомый.
Кац и Данилов вступили на борт катера.
И первое, что шибануло в нос - это вонь. На космических кораблях частенько
пованивает, то ионообменный фильтр шалит, то санитарно-кулинарныый узел
протекает. Но здесь пахло зверями, и даже не млекопитающими, а какими-то
рептилиями.
Из четверых уголовников один по своему происхождению был сильно
специализированным клоном, двое - совершенно разбалансированными мутантами, тоже с
признаками пренатальной специализации, и один оказался умеренным клоном вроде
Данилова, но с совершенно ненормальным взглядом, шныряющим туда-сюда. Все они
были в язвах, болячках, отеках и диких татуировках, состоящих из вживленного
под кожу оптоволокна. Все имели отвратные наросты и наплывы соединительной
ткани - из-за неряшливого применения онкогенов для регенерации. И все
наставили оружие на пленников.
- И угораздило же вас повстречать именно нас, невезучие вы, -
"посочувствовал" умеренный клон, похоже, что предводитель. - Прямо скажу, мы - злые,
всегда не с той ноги встаем. Особенно жалко мне тебя, бедная женщина. Мои
ребятишки за время отсидки отрастили перцы на полметра, а у меня вообще метровая
морковь даже без эрекции, так что никакой презерватив не налезет, не надейся.
- Мне нравятся хорошие огородники, - Кац старалась не теряться. - Я - не-
формалка, ребята, и все мои кореша - бубновые тузы. Так что давайте ченчить.
Вы нас конкретно вытаскиваете отсюда, мы вас вообще вытаскиваем из говна. И
остаток жизни вы проведете на Крыме-4, потягивая ананасовый сок из вазы.
- Я вижу, ты - смелая шмара, - сказал главарь, - а вот твой кот больше
похож на мента.
- Он скупщик редкозема, так что ему надо иметь протокольную рожу. А я -
Кац, из чистильщиков, но, в общем, помаленьку приходится делать разную левую
работенку.
- Сосать, значит, тоже умеешь. И кого ты вместе с этой "протокольной рожей"
чистила около Юпитера, а? - демонстративно захрипел главарь.
Его глазки не переставали шнырять, задерживаясь даже на пленниках едва ли
на полсекунды. Данилов вспомнил, что это один из симптомов "свиного
бешенства" - болезни, передаваемой вместе со свиными ксенотрансплантатами, печенью
или сердцем. В лагерях ею награждают, в лагерях ее залечивают, но избавиться
от нее можно только после замены свиных органов на человеческие. Так что
мужик этот, на ментовском жаргоне, - "свинка".
- Мы с ним слегка набедокурили в зоне Весты и решили драпануть оттуда без
билета. Сели на грузовик зайцами. У радиатора, то есть у второго
теплообменника, уголок нашелся укромный, там укололись и заснули. А вот с направлением
ошибочка вышла, вместо "Кибальчича" мы на "Медузе" оказались. Нас там в
"обезьянник" посадили, стали обижать. А потом станция с катушек сбилась и
прямо на Юпитер смайнала, а мы еле задницы унесли на этом мусорном бачке. Он
мне по системе управления вполне знакомый.
- Ой, как много брехни, я просто вынужден сопротивляться. За борт, что ли
вас выкинуть? - главарь загнул корявый палец. - Как-то неинтересно. Пшик и
нету. Засунуть в двигатель? - пошел в ход другой палец. - Это уж чересчур, а
я все-таки эстет. Отправить в шлюзкамеру и немножко поиграть с вакуумом? Об
этом стоит подумать, - уголовник загнул третий палец, а затем все остальные и
сделал неприличный жест. - Отдать тебя, молодка Кац, на потеху Марамою, а
твоего дружка вручить Сизому? Фантазии у них маловато, ввиду тяжелого
детства, но забавляться они любят. То, что от вас затем останется, пара фунтов
печенок-селезенок, спокойно поместится в маленький морозильник. Это, пожалуй,
сгодится, но чуть позже.
Сизым прозывался тот морщинистый и чешуйчатый мутант. Растянув мокрую
прорезь своего рта в подобие улыбки, он агрессивно шмыгнул сопливым носом и
игриво подмигнул Данилову, который тщетно пытался контролировать себя по методу
Раджасекара. Марамой же был, судя по жилам и въевшейся в кожу пыли - из
шахтеров. Его взгляд, в отличие от главаря, тяжело застыл в некой никому
неизвестной точке, а рука что-то делала в штанах. Череп у экс-шахтера "скреплял-
ся" скобами и штифтами после какой-то тяжелой травмы, и, казалось, была
собран из деталей конструктора.
- Зовут меня, кстати, Ахмед Фитингоф, - представился главный. - Так что вы
теперь знаете, как обращаться ко мне в своих мольбах. Я - здесь господин. Кто
это еще не понял? Я больше тебе говорю, мент, или кто ты там. Твоя-то
подружка, судя по всему, куда как сообразительная. А тебе, похоже, надо еще мозги
простимулировать грязным сверлом.
- Я тебя понял...
- Добавляй "господин".
- Я тебя понял, господин.
Глазки предводителя убежали вверх, с большим усилием он задержал их там на
секунду и шумно втянул воздух.
- Черт возьми, мне не нравится, как ты это произносишь. Но, тем не менее, я
сейчас сделаю тебя своим хронистом, протокольная ты морда.
- А нам выйти за дверь, господин? - спросил Сизый и чихнул так, что едва не
вылетел в космос. Органосканер Данилова сразу засек комбинированную гриппо-
туберкулезныю инфекцию, еще лет десять назад совершенно смертельную - смерть
обычно наступала от инсульта в результате взрывного извержения слизи.
- Тьфу, зараза, - осудил чихающего Фитингоф. - У тебя похоже в голове одни
сопли остались, хоть бы платок использовал при посторонних людях... Нет, вам
всем присутствовать, в трагедии нужен греческий хор... Итак, родился я в
благородной семье. Мой прапрадедушка был бароном, католиком, проживал в замке и
воевал за кайзера. Мой прадедушка был активный гомосексуалист, партайгеноссе,
один из крупнейших специалистов в области пыток. По приказу вождя, с
беспримерным мужеством, он вступил в связь блондинкой и родил моего дедушку.
Дедушка был, напротив, гуманист, пассивный гомосексуалист, но одна дерзкая женщина
изнасиловала его по методике австралийских аборигенок и родила моего папу.
Мой папа завоевывал Европу под зеленым знаменем пророка и делал детей. Было у
него восемнадцать сыновей. Семнадцать моих дядей пали - в смысле превратились
в тетей - во время подавления Бен-Беллы, восемнадцатый стал началом линии
клонов, где вторым номером был я. Эй, верный и присный, ты вообще
улавливаешь, куда я клоню?
- Никак нет, ваша светлость, - преданно отозвался Данилов. - Может вы про
то, что никакие извращения вашим предкам не были чужды.
- С таким тупым хронистом я далеко не уеду. Да и ты помрешь темнотой без
каких-либо проблесков... Я был умеренным клоном и вкалывал в одном рабочем
поселке по части холодильников, тех самых, в которых хранятся трупаки до
утилизации. Однако почему-то мне хотелось стать бароном, мужем, папашей,
набожным католиком - тем, кого не может быть. Э, мужик, как это все называется?
- Романтизм. Реакционный романтизм, - отозвался Данилов, которому все время
хотелось закричать от отчаяния.
- Да, ты прав, это недостаток. На мне есть родимые пятна прошлого. И я
думаю о нем. Зачем мы разрушили его? Полно кивать на вирусы, мы разрушили
Светлое Прошлое сами. Ты знаешь про первую мировую? С нее все началось. Красивые
мужики вот с такими вот усищами, не чета твоим, с верой, царем и отечеством в
голове, посекли друг друга из пулеметов и им на смену пришла шушера. Тебе
вообще интересно то, о чем я говорю? Только честно.
- Нет, - честно отозвался Данилов.
- Хорошо, - без обиды отозвался Фитингоф. - Чтобы мысль не растеклась по
древу, подрубим древо. Я совершил мелкий проступок, за который надеялся
попасть в закрытую зону. Привязал одного типа к стулу, сунул в его разъем свой
штеккер и протестировал его джина. Так я узнал, что есть в оперативной памяти
джина местечко для психопрограмм, имеется и нейроконнектор, чтобы это дело
загружать в мозги. Естественно, что я стер все свои психокоды. И за такое
государственное преступление мне дали семь лет на Крыме-4. Твоя подружка уже
упоминала этот шарик - с солнечной стороны прекрасные курорты, плюс двадцать
пять Цельсия, голубое пластиковое небо, легкий ветерок, пальмы на плавучих
островах, девушки, так сказать, обнаженные. А в темном полушарии - лед,
воздуха нет, зэки в хилых скафандрах монтируют островки, которые как бы случайно
выныривают с солнечной стороны.
Имелся у нас там один умник, вот с такими лобными долями, он был фельдшером
и сообразил насчет побега. Я, он и еще двое влезли в маленький кессончик
одного из всплывающих островков, вкатали себе антифриз на основе пропилен глю-
коля, добавили еще цианида, который блокирует дыхательные ферменты. И, стало
быть, поплыли. На той, солнечной, стороне спустя несколько часов очухалось
трое - один в минусе. Умник по счастью уцелел.
На нашем островке быстро выросли пальмочки-мутантки, ну и высадилась на
него пятерка отдыхающих туристов-соларитов. Тут из кессона вылезаем мы, как
благородные мстители.
Отомстили. Поменяли себе с помощью курортников севшие от дешевой наркоты и
дерьмовой еды печенки и селезенки. Потом стали хором любить туристку. Надо
было что-то с чипами Фрая делать, они ж маячили сильно, отчего приходилось по
большей части в кессоне сидеть. Вкололи мы себе какую-то антисахаридную дрянь
прямо в мозг, чтобы нейроны отклеились от разъемов капсулы. Потом стали
электроды друг другу в голову запускать и выжигать эту гадость. Один из наших при
этом ума лишился и прыгнул с пальмы вниз котелком.
Мы поминали его, не просыхая, три дня. Тут выяснилось, что дамочка-туристка
тоже мужик, и опять пришлось пить с горя неделю. Отдых стал невыносимым.
Псевдоженщина, войдя во вкус, превратилась в настоящего сексозавра, который
гонялся за нами по всему островочку. Курортники не собирались склеивать
ласты. Мы не выдержали и двинулись в дорогу.
Меня с товарищем повязали в космопорту. По экспресс-анализу кала менты
просекли, что трансплантированные печенки-селезенки не соответствуют прочим
органам. Однако засудили нас по другой статье; за то, что мы - бездушные, то
есть безкапсульные. И впаяли нам по тринадцать лет на Ио "без права
воскрешения по чипу бессмертия".
Подельник мой уже по первому году отсидки "слинял на Юпитер". Понимаешь, о
чем я? А я вот семь лет отбарабанил.
Ра Локи представляешь себе, мужик? Ладно, не напрягай мозги, я тебе и так
все покажу...
Фитингоф тронул рукой кубик голопроектора и заслал в него порцию
видеозаписей - обрывки тех картин, что видели его глаза последние семь лет.
Огромный кратер вулкана, стены тюрьмы образованы пятикилометровыми скалами.
На дне кратера озеро, по цвету видно, что серное. Ленивую поверхность иногда
начинает пучить - отрыжка горячих глубин. А то и фонтаны взлетают метров на
сто. Плавают серные пробки, похожие на полусгнивших китов. Сверху сыплется
сульфурдиокидный снежок.
Кое-где растет прямо со дна озерного красота неописуемая - кремнийорганиче-
ские цветы с бутонами, наполненными сульфурдиоксидом. Бутоны иногда
взрываются, но где-то в вышине. Высота их над уровнем жижи двести, триста метров.
Озеро обрамляют работающие скважины и гейзеры, из трещин лава давится.
Небо затянуто ядовито-желтым плюмажем от соседнего вулкана, сквозь него
проскакивают молнии ярко-белыми трещинами. На небо навалился, того и гляди
раздавит, медведь Юпитер.
- И нам велено не просто жить среди этой проклятой красоты, но еще какие-то
изотопы вылавливать с барж-черпалок. Плата за работу - баллон с кислородом и
съестные батончики из слабо переработанных фекалий. Пару раз ты недотрудился
и тебе раздатчик благ, кибер бесчувственный, устраивает гипоксию - то есть,
вряд ли уже выкарабкаешься. Пару раз переработал и у тебя уже радиолиз воды и
окисление энзимов тканевого дыхания - значит, тоже не жилец. Согласись, это
ад, который бы дураку Данте Алигьери не приснился бы и в самом страшном
сне. . .
Голопроектор Фитингофа показывает какую-то круговерть. Поверхность серного
озера вдруг вздыбливается, словно из глубины лезет жирное чудовище. А потом
серная гуща встает гладкой стеной и, отхаркивая фонтаны, идет прямо на
зрителя. Зритель Данилов отшатывается перед желто-зеленой волной, голопроектор
гаснет, а беглые зэки ухмыляются.
- Штаны замочил, да? - заметил Фитингоф. - А ведь ничего особенного. Просто
в глубине озера силикатная лава шуранула по сере, из пучины поднялся
парогазовый пузырь и сразу две черпалки накрыл. Конвойный флаер спустился, чтобы
собрать трупы и отправить в потрошиловку. Да нашлось несколько трупов еще
довольно бодреньких. Смекаешь - это я и мои товарищи. Мы взяли под контроль
пилота, добрались до лагерной базы, а там перескочили на борт этого вот пат-
рулыцика.
Конечно же, случилась небольшая разборка. На патрулыцике два пилота и
стрелок, нас - пятеро смелых. Короче, мы одного потеряли, но всех лагерных псов
порешили. Потом еще и ангар со взлетной площадкой сожгли. Ведь у патрулыцика
имеется кое-какое штатное вооружение на борту, например канистры с напалмом и
прочие "подарки" для зеков, если вздумают взбунтоваться. Но мы этим делом
"порадовали" вохру... А сейчас у нас прогулка по вселенной. Если мясного
хватает, почему не прошвырнуться?
- Ты чего, шеф, свинью зарезал? - спросила игривым тоном Кац.
Фитингоф распахнул люк санитарного отсека. Там сидело трое ужасных людей.
Голых, с огромными задницами и головами-котлами, но с хилыми грудными
клетками и конечностями, которые трудно было назвать руками-ногами. Оплывшие лица
ничего не выражали, вместо носа имелась пара дырочек, ушные раковины
отсутствовали , вместо правого глаза - адаптер с несколькими типами разъемов. И что
особенно удивило: у одного - волосы курчавые синие, у другого - прямые
красные, у третьего - фиолетовая косичка.
- Ты когда-нибудь видел мозговиков, мужик? Мы взяли на абордаж один
подлетающий к Ио борт, а там, глядь, пятеро головастиков сидит, согласно
документам - клоны Трудового Резерва. Как это тебе не покажется унизительным, но у
каждого из них тоже есть чип Фрая, пересаженный для оживляжа от какого-нибудь
соларита. Только в отличие от соларитов они - полезные, скромные и незаметные
члены нашего общества. Э, помнишь, легавый, как называется узелок в мозгу,
который делает из нас волевую личность?
- Амигдала.
- Точно. Без амигдалы головастики с радостью работают на дядю в кепке. Сво-
бодные участки ДНК используются как устройства долгосрочной памяти на
тридцать две тысячи разрядов. Представляешь, какой это объем? Только взялись
головастики за ручки и через кожу пошли цифровые коды - образовалась
вычислительная нейронная сеть с огромной менталоемкостью. Еще одна святая тайна Гла-
винформбюро. Только нам нейронная сеть ни к чему, свои мозги некуда девать.
Поэтому мы вынуждены головастиков есть, и они, прямо скажем, вкусные. Более
того, один из них - женщина, судя по реликтам гениталий. Мы колем этой фрау
Дважды-Два эстроген и окситоцин, косичку ей сделали для красоты.
- У этих клонов не может быть капсулы Фрая, - твердо сказал Данилов. - Да?
Вы так уверены?
Фитинхюф повел за ухо одного из головастиков, толкнул в угол, а затем
выстрелил из плазмобоя. Кровь брызнула на никелированную стенку.
Затем уголовник перевел свой плазмобой в режим резака и уверенным
аккуратным движением отделил черепную крышку у трупа. Запустил руку в раскрытый
череп, изрядно напоминающий кастрюлю. Чуть погодя показал лежащий у него на
ладони киберимплантат, весь залепленный красной гущей и похожий на кальмара.
Судя по внешнему виду - чип Фрая.
Фитинхюф подвел штеккер бортового компьютера к одному из разъемов капсулы,
и по экрану побежали диагностические таблицы. Ну да, заряженный чип Фрая, в
ком-то уже отработавший.
Данилова затошнило, и он машинально наклонился, прижав руки к горлу.
Капсула Фрая - безнадежное дерьмо. Бессмертие, полученное от Киберобъединения, -
стопроцентный кал. И сейчас, чтобы доказать ему это, убили головастика, почти
человека, который чувствует и боль, и страх.
Кац ободряюще положила руку на плечо Данилова, но он сказал:
- Только не надо сейчас никакой агитации.
А Фитинхюф проявил неожиданную чуткость.
- Не переживай, мужик, мы все равно должны были грохнуть кого-нибудь на
прокорм. И, конечно, мы не хотели проявлять невежливость по отношению к своим
гостям. Теперь Марамой наготовит всякой снеди. Он у меня не повар, а просто
Феликс Мендельсон от гастрономии. Я иногда его так и зову - наш Мендельсон.
Однако нажраться - не единственное стремление человека. Ну как, Кац, пойдешь
к нашей фрау "дважды-два" заместительницей по сексуальным вопросам?
Фитинхюф захлопнул отсек с оставшимися мозхювиками, глянул, как Марамой
утаскивает мертвеца на камбуз, а роботер затирает кровь, сплюнул и вежливо
подождал ответа.
- Ты что не видишь, что я птица другого полета, Ахмед. - Кац смогла даже
улыбнуться на манер светской дамы. - Если кто-то из вас полезет ко мне со
своим "сучком" наперевес, я могу его и оторвать. Я предлагаю тебе грамотную
сделку. Нам с парнем надо на Европу, или хотя бы на ее орбитальный рейд. За
это получите пятьдесят полновесных соларов. Вдобавок, мои кореша делают вам
новую идентификацию - мультипаспорт, радужку и все такое. Чуешь, о чем я?
Подмылся, причесался и в Пояс, как культурный человек.
- Ты сейчас строишь из себя крутую девочку. Хотя пять минут назад называла
себя простой подтиралыцицей. Неувязочка. - Уголовник протянул Кац небольшой
пакетик с порошком. - Это М-псилоцибин. Махнемся, а? В смысле, кроме
интересных слов и круглой попки у тебя что-нибудь еще имеется?
Данилов понял этот жест. В уголовной среде незнакомца всегда проверяли по
той наркоте, которую тот мог отдарить. В некоторых случаях ответным подарком
мог быть кристаллочип с забойным софтом или капсула с "пробивными" интеллеку-
лами. Если ченч не соответствовал "базару", то незнакомца могли и опустить.
М-псилоцибин считался крутым не только для позабытой-позаброшенной Ио, но
даже и для Пояса.
Кац взяла пакетик, понюхала порошок и положила на ладонь главаря кристалл с
каким-то софтом.
- Мы все себя как-нибудь называем, дорогой барон, но имя ляпнутое есть
ложь. Пять минут назад ты тоже строил из себя большого аристократа.
Притязания большие, а вот задумки на уровне поросенка: отправить в шлюз-камеру,
засунуть в двигатель, отдать нас Сизому. Лучше бы ты отдал его мне, я бы быстро
превратила его в котлету, да такую, что любой повар позавидует.
Уголовник, который заметно дернулся от слова "поросенок", сунул софт в
заушный разъем, и через пару минут на его лице нарисовалось удовлетворение.
- Это мне понравилось девочка. Я тебя зауважал. Самое большое, что мне не
нравится в тебе сейчас, так это дружба с этим парнем. Смотри, какая у него
губа оттопыренная: значит деньги любит, но тупой - семь лягушачьих пядей во
лбу.
Кац полуобернулась к Данилову.
- Учти это, барыга.
- Я решился на побег, девушка, - сказал Фитингоф, - после того как мир на
моих глазах поделился на две части. В одной осталось это поганое Ио, а в
верхней возникло светозарное существо и сказало: "Близится час твоего
освобождения. И станешь ты почти всемогущим, почувствуешь вкус и радость свободы."
Честное благородное, я в этот день лишь разок забил "косяк". А еще
светозарный сказал мне, что я улечу к далекой планете, где стану правителем душ. И
помогут мне в этом мужчина и женщина, случайно повстречавшиеся в пустоте. В
натуре, блин, чего смеешься.
- Конечно, это мы, - уверенно сказала Кац. - Ты обязательно улетишь к
далекой планете и станешь правителем душ. Поскольку мы тебе уже повстречались в
пустоте - пустее некуда. Только сначала - на Европу.
- Нассать мне, вы те или не те "мужчина с женщиной", - отмахнулся Фитингоф.
- В любом случае мы летим на Адрастею. Следите за моим ртом, не на Европу, а
на Адрастею. Там есть научно-исследовательская станция, где кучка дураков
сидит на приличных запасах топлива, строительных материалов, пищевых
концентратов и всего прочего. И сами по себе эти дуралеи - ходячие склады органов,
выбирай любой на вкус. То же примерно мы хотели застать на "Медузе", но кто-то
некстати спустил ее в унитаз.
Мы раскурочим Адрастею, затем двинем к Сатурну и никакая падла за нами не
увяжется. Во всей системе Сатурна только три исследовательские станции и
Информбюро лишь раз в год посылает туда транспорт. За кучкой вшивых зэков никто
не будет снаряжать крейсер дважды краснознаменного космофлота.
- Да с чего ты взял, что вы вообще долетите туда на этаком корытце? - с
максимальным ехидством спросила Кац.
- Я еще не занимался точными баллистическими расчетами, кошечка, но того,
что мы надыбаем на Адрастее, хватит, чтобы пересечься с Сатурном через семь
месяцев, да еще и обустроиться там. За кормежку не беспокойся, пролежим в
полном биостазисе как миленькие при минус сто тридцати. Потребление кислорода
будет пять процентов от нормального, и нужно лишь немножко глюкозы в вены.
Так что запаса нам хватит с головой.
- Неужто ты надеешься там, в голубой сатурнянской дали, встретить
единомышленников, баронов, герцогов?
- Там самая, что ни на есть закрытая зона, подружка. Титан, Энцелад,
кольца, всяких полезных минералов - до жопы. И она нуждается в жителях, а может
даже в королях, герцогах и баронах. Слыхала про исчезновение крейсера
"Октябрь"? Его экипаж, наверное, уже прилично обжился в Присатурнье... Короче,
кто еще не понял, в чем суть откровения? Там, под Сатурном, от меня пойдет
новая жизнь. Вот чего от меня хотело светозарное, блин, существо. . . Ну что,
котик Кац, не хочешь стать моей богиней или на худой хрен королевой? Посажу
тебя на вершину горы, и буду таскать твоему высочеству драгоценности в клюви-
ке.
В голосе пахана, пожалуй, просквозила какая-то непохотливая нежность, если
и не к Кац лично, то к какому-то взыскуемому идеалу.
- И там нас, милый мой, будет поливать формальдегидовый дождик. Каждая
капля размером с вагон - мало не покажется. А купаться мы будем в этиленовом
океане, где на наших прекрасных телах будет идти сборка полимерных молекул.
Насчет Титана ты что-то напутал, шеф. Я слыхала, что приличная жизнь там
начнется только через миллиард лет, когда Солнце разбухнет. Надеешься протянуть
еще миллиард годков? Чтобы седые брови до яиц доросли, а борода до пяток?
Нет, дружище Ахмед, твоей королевкои я, возможно, стану на куда более близком
расстоянии от солнышка. Кстати, "Октябрь" с командой пропал в системе
Юпитера.
- В системе Юпитера их бы давно откопали и публично бы аннигилировали с
прямой трансляцией на всю Солнечную Системы. Вообще, если не хочешь, то я
тебя отпущу на Адрастее. Но ты мне поможешь улететь на Сатурн и тебе придется
выложить все свои козыри - надеюсь, они у тебя есть, и ты мне лапшичку на уши
не вешаешь. А чтобы ты не капризничала, сейчас мы вольем твоему дружку нани-
товый компот. Знаешь что такое пПротеке"? Экстрагирован из самой злобной
агрессивной среды диких интеллекул, какую только можно найти во Вселенной.
Через трое суток они превратят этого усатого типа в отпечаток трилобита, если
мы, конечно, не запустим в него фирменных энзимоботов-расщепителей.
- Соглашайся, друг, - удивительно настойчиво посоветовала Кац Данилову. -
Мы им поможем, они через три дня сделают тебе укол антидота, и прощай.
- Я догадываюсь, кому "прощай". Почему все сделки за мой счет? Почему это я
должен превращаться в кусок окаменевшего дерьма? Как им верить-то? Посмотри
на эти физиономии, - взорвался, наконец, Данилов.
- Твоя физиономия для них ничем не лучше, - заметила Кац.
- В самом деле, чего это наши физиономии тебе не приглянулись, привереда? -
обидчиво отозвался Фитингоф. - Ладно, пора кончать бодягу. Или "да", или,
пожалуйста , за дверь.
Данилов вздохнул, слегка кивнул и тут же к его вене потянулся не слишком
чистый шприц.
- Будь чутким, барон, маленько притормози, - сказала Кац, - у моего кореша
вряд ли есть сопротивляемость к вашим лагерным гепатитам. Следите за моими
руками, - Кац вставила ампулу с "Протексом" в свой шприц-пистолет, который
передала в руки медробота. - Ну, с Богом.
И Данилов почувствовал укус шприца. Его наномонитор сразу доложил о
поступлении в кровь незваных гостей.
- Никакого сейчас сопротивления, парень, я все отслеживаю своим нанодетек-
тором, - предупредил Фитингоф. - А минуты через две-три, хоть ты обделайся,
тебе от них уже не отвязаться будет.
И Данилов вынужден был наблюдать, как вражеские интеллекулы
беспрепятственно располагаются на постой в районе его гематоэнцефалического барьера и
усаживаются бляшками на печени.
- У-у, красавчик, - хохотнул Сизый, - через три дня твоя печенка вместе с
мозгами превратится в дерьмо. Вонять будет хуже, чем в сральнике.
Данилов подошел близко, дал себе время привыкнуть к этой роже, а потом
долбанул промеж глаз. Сизый завалился, пустив ручеек соплей. Марамой, который
прыгнул к Данилову сзади, получил локтем в челюсть и сник.
Данилов тут увидел наставленный на его лоб глазок импульсника. Его держал
специализированный клон по имени Чипе, тощий и не моргающий субъект.
- Зачем ты это сделал? - спросил Фитингоф, тоже выудивший свое оружие. - Я
тебя сейчас пришью.
Данилов сразу сник. Он вспомнил о липовой капсуле "бессмертия" и почувство-
вал себя никчемным слизнем. Зачем, зачем выпустил наружу свою ненависть,
когда для этого нет надлежащего морального и материального обеспечения?
Кац, упреждая выстрел, спешно заговорила:
- Э, давайте по понятиям. По-моему, Ахмед, мы заключили культурную сделку,
и мой дружок скрепил ее своей жизнью. Этот факт накладывает определенные
обязательства на обе стороны. Так что в сторону издевательства и глумливые
шутки. Ты видишь, как этот парень дерется, он наверняка тебе пригодится в живом,
а не в мертвом виде.
- Ладно, сейчас убивать не буду, - согласился Фитингоф и сунул плазмобой в
кобуру. Но если он скурвится, то я с большим наслаждением пронаблюдаю как с
него слезает кожа, а из его ушей текут гнилые мозги. . . Кстати, ты говоришь,
что он твой дружок. Ну-ка, поцелуйтесь.
- Ты не считаешь, что нам пора заняться делом и просчитать нашу операцию?
- Я делом семь лет занимался. Так что поцелуйтесь, а потом мы займемся, - с
нажимом произнес главарь.
Кац решительно мотнула головой.
- Но мы никогда не делаем всякую такую ерунду при толпе.
- Сейчас мы толпу подсократим. Марамой, иди к такой-то матери, а то еще
бзднешь от восхищения, а нам тогда хоть за борт выпрыгивать. Короче, проверяй
солнечные коллекторы. Сизый, займись своим синяком в санузле и не забудь там
высморкаться, а то надоело на твои сопли любоваться. Чипе у нас бесстрастный,
как астероид, так что не обращайте на него внимания.
Этот последний, спецмутант, похоже что из выродившейся военной линии, и в
самом деле смотрел взглядом рептилии из узких прорезей глаз. Также и лицо его
никаких известных чувств не выражало. Настоящий демон с японских рисунков.
- Ну, давай, паренек, если уж такой шикарный товарищ нас просит, - сказала
Кац Данилову совершенно железобетонным голосом.
Она чмокнула Данилова в щеку.
- Фуй, - завозражал Фитингоф. - Я не для того семь лет просидел в серном
пекле, чтобы увидеть эту ерунду. Давайте-ка, постарайтесь, пупсики. Ладно,
пару вам минут на разогрев.
Кац взяла Данилова за руку и отвела в сторонку, где они уселись на мощный
люк машинного отделения.
- Данилов, кажется у тебя не слишком шикарное настроение.
- Кац, я действительно превращаюсь в дрожащего пупсика. Я так не могу. Как
без бессмертия-то, хотя бы без надежды на него?
- А как же люди жили без чипа Фрая и ничего себе, были храбрыми воинами, в
атаку на пулеметы бегали.
- У верующих была "бессмертная душа", данная свыше. У неверующих какая-то
эрзац-вера, что они частички чего-то большого, коммунизма там, нации, что они
будут жить в детях. А у меня свыше только приказы начальства, и если я
частичка чего-то большого, то очень говняного. И какие к черту дети у
модифицированного клона? Круглая я сиротинка, твою мать, и эта мысль еще поражает
меня своей новизной. Живешь как дерьмо, а подохнешь и слово "как" исчезнет.
- Юпитер, - это вечная жизнь для пси-структур, - уверенно, но как-то дежур-
но сказала Кац.
- Отлично, но Юпитер что-то не слишком похож на курорт для бессмертных
мудаков .
- Для начала, Данилов, просто сядь ближе ко мне. Любое бессмертие
начинается знаешь с чего... С близости.
- А як же. Любовь всему царица...
Ее губы погасили дурацкий стих. Вначале было ощущение, что это просто две
черствые корки с каким-то полиэтиленовым запахом.
Но потом эти корки разошлись, из под них вышла теплая ароматная мякоть и
Данилов "полетел". Сразу стало ясно, что вместе с интеллекулами, которые
должны были раскурочить его через три дня, в него закачали чего-то еще. Или
уголовник, или Кац схитрила.
Переборки тетраэдрической рубки вдруг1 поплыли в разные стороны, открывая в
щелях бездну, из которой полетели ленты, нити, лучи, струи. Кац улеглась на
эти ленты и словно стала растягиваться вдоль них.
Данилов видел, что ее комбинезон расходится будто кожура перезревшего
банана . Но тела он уже не увидел.
От Кац остался только каньон телесного цвета, вдоль которого Данилов
помчался будто крылатая ракета. Каньон становился все теснее, ракета все больше.
И вот ее борта заскользили по склонам каньона. И странно - никакого скрежета.
Лишь нарастают чудные ощущения. От тела вскоре остался лишь оголенный провод
позвоночника, по которому волнами катились жар, болезненность и острая
сладость. А потом каньон кончился каким-то темным провалом, случилось
столкновение , взрыв сладкой боли, полет ошметков и переключение.
Данилов сфокусировал взгляд, очертания рубки еще немного плыли перед
глазами, то ли струи, то ли ленты кое-где скользили туда-сюда, но в целом уже все
устаканилось.
Первым из живых существ в глаза бросился Чипе. Он стоял по прежнему на
каком-то своем посту, рука на импульснике, ноль мимики, но глаза как у
встревоженной рептилии. Фитингоф лежал на палубе - потный, с закрытыми глазами, с
края рта тянулась слюна.
Кац, стоя в полуобороте к Данилову и глядя незнамо куда, надевала
комбинезон.
Данилов сразу отметил, что плечи у нее действительно широковаты, и мускулы
заметны, хотя и не бугрятся. Да и грудь немногим более выпуклая, чем у мужика
- культуриста-анаболиста. Но талия весьма далека от осиной, и бедра не сжаты
- эта женщина как будто могла рожать детей.
- Это от тебя он так стух? - спросил Данилов, указывая на расклеившегося
уголовника.
- Нет, это от тебя он кайфанул, - огрызнулась Кац. - От меня же он получил
софт с психопрограммой-миметиком, так называемым "ангельским соитием". А тебя
я снабдила помимо ахмедовского ппротексап дозой эромескалина - это хорошая
трэковая наркота эротического толка. Большего и не надо. Ты мечтательно
скользил по эромескалиновой сенсоматрице, этот мудак был подключен через свой
соответствующе настроенный психофейс к твоему нейроконнектору. И вы оба были
ангельским соитием весьма довольны. Даже Чипе, который, по моему, просто
копченая колбаса, глядя на вас немного растерялся.
- А на фига ты раздевалась?
- Это, мой миленький, ключ зажигания.
15. Игры с крейсером
Система Юпитера, Адрастея
Лед почему-то розоватый - неужели это с Ио пыль извержений долетает, и весь
еще в шрамах: трещинах и кратерах. Сквозь него пробиваются острые совсем не
приглаженные скалы. За грядой особо острозубых притаилась станция. Она
протянулась цепочкой обитаемых модулей по довольно узкой расселине. Жилые колодцы
утоплены вглубь. Со всех сторон станцию защищают каменные надолбы скал и
ледники . А сверху прикрывает купол. Сетчатая конструкция, как будто легко
проницаемая, но на самом деле спасающая даже от лобового удара метеорита.
- Дяденьки и тетеньки, пустите погреться, - дурашливо проблеял Фитингоф в
адрес персонала станции.
Захваченный беглыми каторжниками катер впритык перемахнул через каменный
гребень, затем ухнул в расселину и понесся ровно к тому месту, где находились
арочные ворота сетчатого купола. Они были открыты, впуская и выпуская всякую
шагающую технику.
- Мозги набекрень, значит вперед, - девиз нападающих озвучила Кац.
Влетая под арку, катер отстрелил "грызуна", которого вчера смастерила Кац.
Кассетная расщепляющаяся головка уже внутри станции разлетелась на тысячу
малышей: микроботов-ассемблеров с крохотными ионными движочками. Они стали
наводиться на источники электромагнитного излучения, прогрызая и прожигая их
изоляцию.
Добравшись до "твердого" физического канала, скорее всего коаксиального
кабеля, один из микроботов начал приманивать собратьев. Те, налипнув кластером,
уже через десять секунд ассемблировали первый коннектор. В других точках все
происходило по той же схеме. Через коннекторы в кибероболочку станции были
внедрены киберобъекты, которые интегрировались в макровирус.
- Прогноз благоприятный. Сейчас он взломает защиту у отсека "Ф", - заметно
дергаясь от возбуждения, сообщила Кац.
Через пять секунд катер счастливо свернул в раскрытые макровирусом двери
отсека.
Это была здоровенная площадка размером с футбольное поле, с вогнутой
ячеистой поверхностью; в ячейки воткнуты были остроконечные удлиненные бочки с
перфторводородом - рабочим телом для ионного двигателя.
Катер парил над площадкой, цепляя монополимерным клейким хоботом перфторво-
дородные емкости.
- Вирус продержит щель еще три минуты, - кинула Кац.
Одни бочки загружались внутрь, в грузовую секцию катера, другие крепились
на корпус.
Хобот нечаянно зацепился за какую-то изогнутую балку, задергался и потянул
весь катер вниз, но был вовремя отброшен.
Отягощенный добычей катер юркнул в закрывающиеся двери отсека, затем
полетел к воротам купола, увиливая от плазменных выстрелов.
- Мы их сделали! - возопил Фитингоф, не дожидаясь окончательной победы.
Катер юркнул в арочные ворота, вылетел из расщелины, взмыл на скальную
кручу, и тут все, кто были внутри его, единогласно и горестно взвыли. Навстречу
подплывал огромный крейсер, размером чуть ли не с Адрастею.
- Кобздец подкрался незаметно, - промямлил Фитингоф и жалобно икнул.
Рокочущий голос космофлота ворвался в слуховые нервы притихших грабителей.
Под угрозой незамедлительного уничтожения голос потребовал подлететь к
сканирующей полусфере крейсера, затем заглушить двигатели и дать себя втянуть в
приемный порт.
- Эй, бугор, как насчет того, чтобы вколоть антидот моему дружку, -
напомнила неунывающая Кац забывчивому Ахмеду. - Мы тебе помогли, а дальше уже твои
проблемы. Ты ведь сам хотел на Адрастею. Уж за что боролся, на то и напоролся
- обижаться незачем.
- Проблемы у нас будут только общие, - настаивал побледневший Фитингоф.
- Но ты же обещал.
- Мало ли что я когда-то обещал. Это было давно. Все течет, все выделяется.
Огромная туша крейсера все больше загораживала небо, а на борту его была
видна многообещающая надпись "Аврора". Но в тот момент, когда катер влетел в
приемный порт, а мощный люк позади еще даже не сомкнулся, крейсер вдруг
сильно тряхнуло.
У "Авроры", похоже, начались какие-то свои неприятности.
- Чего спишь, мудак? Мотор на полную и жми назад! - пользуясь моментом,
наорал Данилов на Фитингофа.
Однако сдать назад уже не вышло. Наружный люк успел закрыться.
- И все-таки мы вместе, - удовлетворенно заметил Фитинхюф, когда Кац
подсела к панели управления, чтобы "прослушать" крейсер. - Это называется здоровый
КОЛЛЕКТИВ.
- Улавливаю серьезную продольную деформацию, - радостно сообщила Кац.
Раскрылся какой-то примыкающий отсек, скорее всего, ангар, и катер рванулся
туда, где и получил порцию плазменных зарядов - в кабине вдруг повисло облако
токсичного дыма.
- Всем задраить морды, - скомандовал Фитинхюф, бросающий машину из одного
конца стометрового отсека в другой.
Кац отстрелила своего "грызуна" и каких-нибудь пару секунд спустя вирусные
объекты стали пробиваться в кибероболочку крейсера. Схема корабля становилась
все детальнее, прорастая из тумана как трава.
- Будем проламываться прямо через переборку внешнего силового контура, она
не слишком крепкая, - прокричала Кац. - Ахмед, сворачивай во второй тоннель.
Показывать пальцем не надо было, оптимальный маршрут уже влетел через ней-
роконнектор в мозг уголовника.
- Кац, я не поспеваю за ситуацией, картинки слишком быстро меняются,
скрипнул Фитингоф.
- Перекинь штурвал мне.
Катер пронесся по тоннелю, сжег плазменным зарядом клинкетную дверь и
ворвался в отсек, в центре которого высился огромный многорукий робот-
перегружатель . Тот незамедлительно принял бойцовую стойку, попробовал
закатать гостю здоровенной трубой, но катер не дурак, прожег ему одно из палубных
соединений, а затем протаранил "в лоб".
В результате тарана из Данилова вышел дух и не скоро вернулся обратно. Все
до последней клетки его организма получили сотрясение. Ощутился запах крови,
она текла из носа прямо в глотку и расплывалась по верхней губе. Данилов
мучительно отплевывался. Похоже, он все-таки впилился физиономией в приборную
доску, слишком увлекшись окном инфосканера.
- Эй, летчица, ты не забыла, что у нас на броне бочки с топливом? -
справился Фитингоф у Кац.
- Нет, конечно. Поэтому я их всех сбросила, - бодро рапортовала женщина.
- Убью, мать твою, - но тут истошный вопль Ахмеда был перекрыт дикими
рывками катера. Сзади что-то сдетонировало, скорее всего сброшенное топливо. Во
все стороны брызнули осколки многорукого робота и прочих металлоконструкции.
Ударная волна приложила катеру в зад, он с пылу с жару проломил переборку
силового контура, и понесся в его кишечных изгибах, овеваемый порывами
огненного ветра. В кабине сильно потеплело. Позади осталось мощное сердце реактора.
- Товарищи, оденьте галстуки и застегните ширинки, - порекомендовала
повеселевшая Кац, - начинается официальная часть визита.
Из внешнего контура силовой установки они пробились в радиальную тепловую
шахту, в ней "опустились" - потому что "сила тяжести" нарастала - в огромную
рубку. Здесь суетились десятки людей и синтетиков, одни начали стрелять,
другие просто метаться.
- Это - апофеоз! - завизжал "барон". - Дави их, Кац. Дави бортами и брюхом,
чтобы только размазня красная осталась.
- Я не столь кровожадна, мальчик. Пригни головку, мы вылетаем через
форточку.
И катер вылетел через стенку оптического наблюдения, раздробив ее на
миллиард мелких осколков, плеснувших волной.
Крейсер остался позади. Он неуклюже ворочался возле Адрастеи, дрожал, в
соплах рвано пульсировала плазма, на корпусе появилась рубашка из разрядов,
были заметны вздутия и деформации. Через дыру, которую беглецы оставили после
себя, лупил гейзер из воздуха, мигом кристаллизующегося пара и всякого мусо-
pa. "Аврора" напоминала левиафана, бьющегося в лихорадке.
- Непонятно , выживет ли, - произнес Фитингоф. - Боюсь, мы его утратим из
своих рядов.
- Выживет или не выживет, но будет долго болеть, а нам пора сматываться. Те
бочки, что у нас в грузовой секции, в полном порядке. Нам этого перфторводо-
рода хватит, чтобы добраться, ну скажем до Европы, - бодро сообщила Кац. -
Так что все идет по плану.
Фитингоф обиделся, что этот план совсем не его собственный и импульсивно
потянулся к импульснику.
- Расстреляю, гадюка.
- И тогда гнусной смертью умрешь, - не дрогнув, отозвалась Кац. - Выпусти
пар и прочую вонь. Вместо этих бредней о райской жизни под Сатурном у тебя
появилась четкая возможность кушать трюфели из большого хрустального корыта.
Не забывай, поросеночек, и об "ангельском соитии".
- Пойду, займусь техосмотром нашего сортира, - сказал огорченный пахан.
- Эй, зайчик, погоди. Ты забыл вколоть моему дружку антидот.
Фитингоф засопел и это выражало сложные чувства, обуревавшие его.
- Давай, Ахмед, распрощайся поскорее с отрицательными эмоциями. Представь,
что ты бабочка, порхающая над лужайкой. Или мушка, летающая над огромной
кучей аппетитного дезинтерийного дерьма. Тепло, хорошо, ароматно.
Уголовник зарядил ампулу в любезно предоставленный шприц-пистолет и
выстрелил в вену Данилову.
- А может я тебя отравил, - Фитингоф пробовал еще поиграть на нервах.
И Данилов едва не попался на крючок. Подсознательно он не хотел, чтобы
"грязный урка" выступал хоть в частичной роли благодетеля.
- Эту остановку мы уже проехали, - выговорила Кац Фитингофу. - Так что
смените грубые шутки, сэр, на гораздо более тонкие. Каковые и ожидаются
благородной публикой от потомка аристократической фамилии.
Данилов уже и сам видел через оконце наномонитора: новые гости его тела
активно растворяют здоровенные бляшки, что усеивают печень и артерии, входящие
в мозг.
- Сейчас, барон мой дорогой, ты в гостях у тетушки Кац, а она не любит
скверных манер, - продолжала напирать женщина.
Фитингоф заметил, что перестал вызывать ужас, и удалился, огорченно хлопнув
люком.
- Чипе, расслабься, - сказала Кац рептильному воину, - все равно ты теперь
работаешь на нас. Зарплата каждую пятницу. Выплачиваются премии за шутки и
веселый смех. Ты умеешь играть в фантики?
Тот словно бы окаменел в углу, взгляд его потух и лишился сосредоточенной
пронзительности.
- Товарищ отдыхает, не будем мешать, - произнесла Кац и ввела с пульта
новое полетное задание, курс на Европу. - Чипсу хорошо, а мне не очень.
"Аврора" -то была готова уничтожить какую-то очень крупную цель, может даже целый
спутник Юпитера.
- С чего ты это вообще взяла? - изумился Данилов. - Ты сбрендила или мне
упасть от твоей проницательности?
- Это не я сбрендила, а кто-то другой. Но этот "кто-то", похоже, уверен,
что очень тонко все рассчитал.
- А мне вот, Кац моя дорогая, кажется, что крейсер торопился к "Медузе".
- Корабли такого класса не присылают с бухты барахты, потому что ничего
другого под рукой не оказалось. У "Авроры" слишком мощные боеголовки и
никаких антитеррористических средств.
- Фюрера подозреваешь?
- Нет, скорее Афродиту. Похоже, в ближайшее время она порадует нас чем-то
новеньким. И, коли она стала играть по крупному, то уж вряд ли сама нажмет на
тормоза. Но, с другой стороны, Данилов, у нас есть союзник. Раз он помог
раскурочить крейсер, то будет вместе с нами тормозить Афродиту. Ой, мамочки,
неужели это Лунатик или, может быть, сам Брахман?
- Ой, как ты встала по стойке "смирно" и взяла под козырек, неформалка... И
вообще я не собираюсь тормозить Афродиту вместе с вами, - возмутился Данилов.
- Думаешь, сразу после того как мне осточертела капсула Фрая, я побегу
воевать с великим Киберобъединением и устанавливать власть свихнутых сектантов и
бандитов. Хер редьки не слаще.
- В любом случае, Данилов, ты теперь - революционер. Или, точнее,
контрреволюционер, если не забывать великую информационно-демократическую революцию
2017 года. Вывел из строя, понимаешь, крейсер космофлота, - хмыкнула Кац. - А
завтра на что ты покусишься?. . Опасный тип, никаких здоровых инстинктов. Я
про тебя все расскажу.
Кац явно давила на мозги и это у нее получалось довольно умело, но Данилов
пока решил не отбрыкиваться. Вместо этого он спросил как будто невпопад:
- Что ты чувствуешь, когда разрабатываешь такие софты как "ангельское
соитие"?
- Я отдаюсь всей душей и заодно всем телом, но только не вам, дуракам
вислоухим, а своему уму-разуму.
- Хотел бы я быть твоим умом-разумом, - сказал внезапно появившийся Фитин-
гоф.
16. Прогулки по Европе
Система Юпитера, Европа
Катер сел на лед Европы в районе кратера Атон и сразу провалился в трещину,
которая не была заметна даже с высоты в пятьдесят метров. Их бесконечно долго
трясло и бросало, хотя они почти сразу отдали якоря и надули швартовные
тормозные подушки. Полет окончился на глубине четыреста метров. Для катера
навсегда .
- Кац, ты там не врезала дуба, надеюсь? - спросил Фитингоф.
- Я всегда в твоем распоряжении, Ахмед.
- И это правильно. Если мы не выберемся из этого ледяного колодца, я
разорву тебя от промежности до головы, - напомнил о своей лютости уголовник.
- А если ты мне сильно осточертеешь, то я отпилю тебе яички ржавой пилкой
для ногтей. А затем вставлю их вместо глаз Марамою, уж больно у него зенки
противные.
Судя по тому, как вздрогнули оба мужчины, стало ясно, что они адекватно
отреагировали на слова дамы. На этом обмен любезностями закончился, и началось
знакомство с окрестностями.
Катер находился в своего рода погребе, от которого уходили в разные стороны
расщелины, проделанные как будто потоками воды или пара. Температура здесь
была каких-нибудь минус сто двадцать, потому что снизу проникало тепло
подледного океана.
Открылся люк и навьючившаяся экспедиция вошла в ледяной мир.
Двое головастиков, напоминающие в скафандрах спелые груши, потянулись вслед
за основной группой, состоящей из "барона", его трех бандитов, Кац и
Данилова.
Едва они прошествовали пятьдесят метров по расщелине, как путь им пересек
стремительный поток кипятка, пара, огня и ветра, который отбросил их назад
как пинг-понговые шарики. Это сквозь лед пролетела машина, называемая в
народе "бобер". По форме - капля, бока мятые поцарапанные, двигатель прямоточный,
нос и хвост плазменные.
Путешественники пересчитали друг друга и стало ясно, что Сизый утрачен
навсегда вместе со всеми его соплями. И вместе с капсулой Фрая, которую недосуг
было искать.
- Он был достоин лучшей жизни, - сказала в виде эпитафии Кац, -
удовлетворять старых комсомольцев где-нибудь на Крыме-4. И чихал он, пожалуй, довольно
музыкально.
Путь наверх был наполнен неприятными ожиданиями, но обошлось без
дополнительных потерь. В конце концов искатели лучшей доли выбрались на поверхность.
Бесконечную и весьма гладкую ледяную поверхность Европы. Царь Юпитер, по пояс
высунувшийся из-за горизонта, заливал бесконечную равнину своим сиянием,
напоминающим томатный соус. Иной раз казалось, что по ней скользят призрачные
лиловые тени, отчего непроизвольно образовывались мысли об обители мертвых.
Километрах в пятнадцати от группы полутоварищей виднелось сооружение, чьи
размеры не скрадывались расстоянием. Смахивало оно на стол. В кетчупных
сумерках Юпитера "стол", казалось, был готов для справления тризны.
Четыре мощные башни-пилона, уходящие на неизвестную глубину в лед. На них
платформа, где видны при небольшом увеличении и мачты взлетно-посадочной
площадки, и полусфера противокосмической обороны, и похожие на шишки антенны
суперсвязи .
- Знаешь, что это такое, Данилов? - спросила Кац.
- Я не знаю, мне скажи, - вклинился Фитингоф.
- Это узловой сервер Чужого, двенадцатого гиперкомпьютера, изучающего и
осваивающего околосолнечное пространство, в основном от Пояса и дальше.
- Так зачем он разместил свой узел на этой куче льда, он что, такой
принципиальный Дед Мороз? - удивился Фитингоф. - Куда надежнее было бы вывести
узловой сервер на орбиту.
- Ошибаешься, этот лед - начало всех начал. У Чужого здесь самые большие
накопители на свете, то бишь устройства массовой памяти. За это ему почетное
место в Книге Рекордов.
- Так что, он закапывает накопители в лед?
- Лед и есть хранилище информации, догадливый ты мой, - отозвалась сведущая
во всем женщина. - Лед на Европе, хоть и замороженное аш-два-о, но
электропроводный за счет примесей железа и некоторых легких металлов. Энергии на
Европе , если подумать, тоже предостаточно, соедини термопарой ледяную
поверхность и довольно теплый океан, будет тебе силушки, хоть отливай. Так что лед
можно плавить и кристаллизовывать как угодно, тем самым превращая его в
накопитель . Этим в аккурат занимаются специальные аппараты-рекордеры.
- Но бобер-то без всякой аккуратности шуровал сквозь лед, или мне
показалось? - спросил Данилов.
- Это не работа Чужого. Зачем ему кромсать собственное имущество? Он что,
олигофрен вроде Марамоя? Шурует тот, кто не имеет нормального терминального
доступа к накопителям информации. Или этого терминального доступа кому-то не
хватает.
- Что ты там мелешь? - снова возник Фитингоф. - Эй, кошка, где твои друзья,
которые помогут мне начать новую жизнь в Поясе, где мои полсотни соларов за
то, что я доставил тебя на Европу, угробив лучшего своего кореша ради этого
дела. Я законно желаю прокушать и прокакать эти денежки. Кстати, с тебя еще
полсотни, чтобы я купил на них фрукты-овощи для родных и близких покойника.
- Пока я не знаю, Ахмед, где здесь мои друзья, вернее один граф
Монтекристо, который может быть мне другом, - несколько рассеяно произнесла Кац, как
будто вслушивалась попутно в "музыку сфер". - Сам понимаешь, у него нет ни
хижины дяди Тома, ни избушки на курьих ножках. Я должна подключиться к
устройствам массовой памяти в этом льду, чтобы найти его следы.
- Подключайся, включайся, выключайся, - охотно одобрил Фитингоф, - только
если результата не будет, я тебя в этом льду заморожу. Так что извини,
пупсик.
- И ты меня извини, Ахмед. Ты ведь тоже превратишься в эскимо из
замороженных мочи и кала. Запасов кислорода у нас всего на пять часов.
- Если прикончим мозхювиков, то на восемь, если твоего дружка Данилова и
моего лучшего кореша Марамоя, то на целых двенадцать, - напомнил Фитингоф.
- Если еще и тебя, то на все четырнадцать... - заметила Кац и обернулась с
подначкой к рептильному Чипсу. - А ты что думаешь, крокодил? Может решим этот
вопрос голосованием? Кто за то, чтобы перекрыть кислород вот этому господину
с двумя большими сопелками? Ладно, шучу.
Ахмед Фитингоф возмущенно раздул ноздри, но смирился. А Кац сунула свой
коннектор в разъем на шлеме Данилова - она включалась напрямую в его джин,
минуя блок обработки запросов и беря под контроль его сенсорное поле.
- Слушай, Кац, я кажется не давал тебе такого права...
- Равняйсь, смирно, Данилов. Сейчас ты уже не особист, а хаккер, причем из
самых зеленых. У нас таких жеребцами называют. . . Эй, остальные, вы за нами,
причем преданно, без всяких выкрутас. Иначе я не отвечаю за малоприятные
неожиданности .
Данилов не успел возразить, потому что его сознание перетекло в сетевое
пространство, где он, в самом деле, ощутил себя конем, по крайней мере,
четвероногим другом - такую уж сенсоматрицу подключила Кац.
Сама она была не наездницей, а чем-то вроде большой собаки, которая то
бежала впереди по сетевому простору, то запрыгивала Киберданилову на спину.
Остальные соучастники превратились в подобия колобков, которые катились
спокойно и в ряд. Размеры у колобков-мозговиков были куда внушительнее, чем у
прочих.
А ближайшая цепочка кластеров предстала ажурным замком с множеством
башенок , арок, стен с зубцами и бойницами, ворот, мостиков.
- Это не слишком свежие записи Чужого, - сообщила Кац. - Они все на запоре,
но нам и нет смысла лезть в них, мы ж не старьевщики. Здесь всякие тухлые
проекты насчет терраформирования Венеры и Марса, и бредовые модернизации
Европы, Ганимеда, Энцелада и Титана...
Они поднимались вокруг башни по закрученной лесенке, лесенка вышла на
шпиль, который неожиданно закончился переходом на точно такой же "зеркальный"
замок.
Кац сказала, что это опять архивы. Сданные в утиль проекты. Сфера Дайсона,
околосолнечные энергетические цепочки, дирижабль для Юпитера, лифт с Марса на
Фобос, кольцо Сатурна, превращенное в кольцевую автодорогу. Заметны были даже
искаженные образы гигантских проектов, смятые неумолимой рукой архиватора.
- А вот кажется то, что нам нужно.
Собака-Кац залаяла на какую-то вполне вроде обычную трещину в виртуальной
"мостовой".
- Эту трещину надо по быстрому прозондировать, похоже на метку. - Но спустя
секунду предводительница поправилась. - Уже не надо. За нами хвост, так что
удираем, мальчики и девочки.
- Какой еще хвост? - спросил Ахмед.
- Дезинфекторы Чужого <Прим.: системные модули, занимающиеся поиском
вирусов и несанкционированных записей>.
Из-за стены замка стали выглядывать жутковатого вида смерчи, с которыми не
хотелось познакомится поближе.
Данилов ненадолго переключился из сетевого пространства в обычное. Группа
товарищей по несчастью уже забралась в нижние слои ледяной коры, два
километра ниже поверхности. В губчатом льду повсюду рассыпаны были разновеликие
пузыри, заполненные газами. Минус пятнадцать Цельсия, кислорода - пять процен-
тов. Можно подкачать в баллоны.
Удирающие от системных дезинфекторов люди вскоре наткнулись на глубокую
трещину, уходящую продольно вниз. Брошенный в нее осколок льда шлепнулся в
жидкость. В колодце была вода, возможно сообщающаяся с океаном. Вода не
замерзала и подтапливала лед из-за своей насыщенности аммиаком.
Данилов так задумался о глубинах европейского океана у себя под ногами, что
только пронзительный голос Кац вывел его из состояния глубокой тоски.
- Ау, Данилов. Чтобы избавиться от хвоста, нам нужно спешно перебежать на
кластеры, неучтенные официальной картой размещения записей <Прим.: система
контроля записей, потомок ФАТ>. Иначе дезинфекторы быстро наведут на нас
бобров Чужого.
- Ну и где эти новые кластеры? - поинтересовался Данилов.
- Туда нет прямого пути. Триста метров сплошного льда, да еще и с каменными
вкраплениями - нам не прорубиться никакими импульсниками.
- Значит...
- Значит, спустимся в океан и пройдем по нижней границе ледяной коры, -
сказала Кац .
- "Пройдем по нижней границе", - передразнил Фитингоф, а затем непритворно
взвыл. - Нет уж! Если я чего боюсь, так это именно европейских пучин. Пошли
отсюда, Данилов, брось эту свихнувшуюся полубабу-полумужика и уже через
несколько часов мы приятно расслабимся в компании гейш вот с такими сиськами. У
меня есть кое-что в заначке. Доберемся до платформы Чужого, там подмажем кое-
кого . . .
- Косая будет у тебя гейшей, - сказала Кац стальным голосом. - Фитингоф,
могу сейчас официально сообщить, что ты смертельно болен. Я незаметно проска-
нировала тебя. Помимо "свиного бешенства" еще и гепатит Икс. Тебе нужна не
просто операция, а отличная операция. Не только замена почек, печени и доброй
трети мозгов, но и клеточная чистка по всему организму. И оставь надежду на
тюремный лазарет. У коммунаров на случай таких серьезных болезней имеется
клон с запасными органами и помощь светил мировой медицины, а у тебя что?
Немножко амбиций, которые дерьма не стоят.
Данилову сейчас даже стало жалко мерзкого Ахмеда, столько пережить,
выбраться из ада и вот тебе на. Все напрасно.
- Я не в курсе, кого и зачем ты ищешь, Кац, зато знаю, что мне не годятся
твои цели и твои методы, - твердо высказался заплутавший особист. - Я не
затем выкарабкался из соларитской дресни, чтобы завязнуть в твоем бандитско-
сектантском болоте. Мне в другую сторону. Я иду к платформе Чужого. Я думаю,
что договорюсь с Сысоевым.
- Ахмеда ты пожалел, Данилов. Ты себя пожалей. Еще когда мы с Блюм отловили
тебя в Рыбсовхозе, я сделала тебе, чурбану обморочному, инъекцию кое-каких
интеллекул прямо в мозг. А когда ты забавлялся с Гиперицией по протоколу "Ин-
тимэйт-Зп, в твоего джина были загружены модули управления и прикрытия для
них. Это мои интеллекулы едва не превратили на Весте твое хилую тушку в
биобомбу. Они обработали тебя столь быстро и ловко, потому что все нужные для
превращения клетки были заранее помечены кетоновыми маркерами. Поэтому ты не
стал мясной приставкой к цифровой Афродите и ударился в бега. Бежал бродяга с
Сахалина звериной узкою тропой... И капсулу Фрая мои интеллекулы тоже переку-
рочили. Теперь она шлет сигналы в формате, характерном для банды Зонненфель-
да, так что дома тебя ждет трибунал.
Все, что сказала Кац, было голой отвратительной правдой. Ее интеллекулы
больше уже не скрывались от его наномонитора.
- Ах ты, стерва! Баба-яга с носом до подбородка!
Данилов захлебывался от бессильной ненависти, насколько это можно было в
скафандре.
- Эй, не поперхнись слюнями. Неужто ты думал, что я стану с тобой чикаться?
Блюм погибла, которая была мне больше, чем сестра. Ты же пока соларитское
дерьмо на палочке. А за "нос" ты мне в любом случае ответишь. Будет у тебя
морковка вместо носа, попомни мои слова.
- Кац, золотко, не сердись, - произнес присмиревший Фитингоф елейным
голоском. - Посуди сама, никто не знает, что творится в этом чертовом бардачном
океане.
- Вряд ли, Ахмед, в последние семь лет до тебя доходили новости с научного
фронта. Да, водичка в этом океане не совсем обычная. Да, существуют
малоисследованные предположительно животные формы, обзываемые Ипсилон и Зет, но, в
целом, океан не представляет из себя ничего кошмарного. В него сотни раз
погружались люди и автоматы.
- И сколько из них возвернулось назад? - откровенно заныл Фитингоф.
- Не знаю, как ты выжил на Ио. Нытики обычно погибают первыми, чтобы не
портить остальным настроение, - отрезала Кац. - Короче, двинулись. Идем без
связки. Данилов - первый, он разматывает трос, потом я, следом ты, последним
- копченый Чипе. Мозговики и Марамой пока остаются здесь и отдают нам свои
излишки дыхалки.
- Но мы быстро израсходуем весь свой кислород. Как потом возвращаться, если
мы не найдем то, что нужно? - спросил Фитингоф.
- Если не найдем то, что нужно, возвращаться нам некуда. Выдергиваем пробки
из шлемов и все.
Коротко и ясно. Данилов даже перестал обижаться на Кац, не до этого
сейчас. . .
Они шли по "потолку", по нижней кромке ледяной коры, потому что "пол"
отсутствовал .
Скафандрам меньше требовалось энергии на обогрев, зато расход кислорода
увеличился. У страха хорошие легкие.
Навигацией в сетевом пространстве занималась Кац, задачей Данилова было
прокладывать путь-дорожку в обычной ледяной реальности. Он разматывал трос и
фиксировал его на льду крюками.
- В этом льду хранится всякий хлам, полустертые черновые записи, - сообщила
Кац. - Одна дрянь, мишура, следы коммунарского прожектерства.
Данилов и сам видел виртуальные руины: осыпавшиеся стены, обвалившиеся
башни, кругом замки, ключи от которых давно потеряны.
Порой дорогу в сетепространстве размывало туманом или маячили какие-то
расплывчатые, рваные и грозные тени.
Но Кац твердо прокладывала трассу сквозь мглу, а на грозные тени просто не
реагировала.
- Жалкое тряхомудие. Устаревшие системы так называемой активной защиты. И
вообще меньше косись на виртуалку, лучше под ноги гляди.
В реальности под ногами Данилова был рыхлый и бугристый лед, который к тому
же был утыкан словно иглами острыми кусками скальной породы. Отсюда до
океанского дна километров тридцать, не меньше, но какая-то силища зашвырнула же их
сюда! Они легко прошили океанскую бездну, которая будоражила сейчас в
глубинах даниловской души самые мрачные архетипы.
Данилов с минуты на минут ожидал появления какого-нибудь глубоководного
дьявола с зубами в человеческий рост. Купировать страх психоингибиторами было
бы рискованным делом - так можно затормозить сознание до полных сумерков.
А в виртуальном пространстве руины сменились лабиринтом. Здесь тоже было
неуютно. Кац сообщила, что они, наконец, ушли от слежки в зону кластеров,
потерянных официальной картой размещения записей. У этих записей никогда уже не
будет зарегистрированных координат.
Однако, в голосе Кац было мало радости. Она была возбуждена, но это возбуж-
дение показывало лишь стопроцентную готовность к любой драке. Виртуальная Кац
выглядела сейчас настороженной и уверенной в движениях полусобакой-
полуптицей .
А Данилов едва контролировал свои ужасы. Динамические записи с неизвестной
кодировкой представали в сенсоматрице как будто невинным узором из камней, но
они могли в любой момент влететь через нейроконнекторы в его мозг и разметать
его по горшку шлема.
- Солнышко, Кац, как ты собираешься откопать своего таинственного приятеля?
- подал слабый голос недавно грозный Фитингоф.
- Слушай ты, баран барон. Это ж тебе не кладбище, где все координаты
точные : аллея вечного покоя, вторая могила направо. Этот человек сам заметит
нас. Он тут вроде лешего или, вернее, водяного...
Данилов вдруг увидел на сенсоматрице высунувшуюся из-под камня руку. Голую
женскую, довольно худосочную.
Вздрогнул от неожиданности, потом рванулся сканировать. И ничего. Массив
бесполезных записей. Твердый виртуальный камень.
- Эй, гражданка Сусанина, - обратился он к Кац.
- Я тоже увидела. Это колодец. <Прим.: скрытый информационный канал>.
Едва заметная "со стороны" дыра при точной наводке оказалась шахтой,
уходящей в энтропийные тартарары, в зону полной информационной неопределенности.
Глянешь туда, и начинается головокружение.
- Осторожнее, Данилов. Поставь фильтры помощнее на свои нейроконнекторы.
Но было поздно. Из бездны вылетела цепочка киберобъектов и впилась в мозг.
Данилов, был атакован обитателем информационной бездны. Сенсоматрица
представила нападающего в виде морского змея. Данилов едва выскользнул из
виртуального захвата и в обычной реальности увидел Кац, метнувшуюся к нему с
термоножом.
Данилов отпрянул, сорвался с троса, который сам же устанавливал, и
заболтался на страховочном конце. Кац потянулась, чтобы перерезать его.
- Не делай этого, чертовка!
Ледяной выступ, в который были вбиты крючья, несущие трос, сильно
содрогнулся , как будто от смеха, потерял устойчивость, сошел со своего места, и...
стало ясно, что он сыплется вниз здоровенными глыбами. Из-за каменной начинки
эти ледяные глыбы не имели положительной плавучести, поэтому тонули, увлекая
с собой людей.
"Боже ж мой, сколько же теперь утопать? До дна то ли двадцать пять, то ли
тридцать километров."
Кац, пожалуй, права: конец, соединяющий его с тонущей глыбой, надо
перерезать .
Но едва он избавился от груза, как черной глянцевой тенью к нему устремился
подводный убийца.
Тень накрыла Данилова, и ему показалось, что он умер.
Спустя пару минут Данилов обнаружил, что скорее жив, чем мертв, что
находится в абсолютно замкнутом тесном пространстве. Между делом, инерционный
датчик показывал, что его тело движется с большой скоростью вниз. Два, пять,
двенадцать километров от ледяной коры. На пятнадцатом километре что-то
разомкнулось и наблюдению открылось дно европейского океана. Даже в тепловом
диапазоне оно было похоже на Гималаи. Горные кручи, вершины, крутые склоны.
Острые пики тянулись к Юпитеру. Некоторые из них покачивались в такт какой-то
внятной им музыке.
У теплых насыщенных кислородом и азотом придонных вод было много живых
обитателей. Огромные мощно пульсирующие гидры, полипы, размером с дворец, с
лепными фасадами, стрельчатыми арками и колоннадами, существа типа морских звезд
с километровыми мерцающими лучами, множество разноцветных медузоидов, мелко
вибрирующие слизни, напоминающие живое серебро, и даже плоские черви,
вытягивающие свои бесконечные тела из скальных пор. Коралловые навороты достигали
исполинской многокилометровой высоты; несмотря на глубину, давление вод не
мешало им взмывать вверх. Празднуя свою победу над водной толщей, кораллы
взахлеб фосфоресцировали и люминесцировали.
Данилова принесло к громадному полипу, который угнездился среди трех
каменных пиков. Экзоскелет живого "дворца" состоял из расширенной верхней части,
метров на двести в диаметре, что напоминала гигантскую пористую чашу, и
ножки, похожей на полукилометровый небоскреб, но сотканной как будто из
жемчужных нитей. Чаша по краям была оснащена подвижными башенками, а посередине
имела воронку.
Туда и стало всасывать Данилова. В воронке его сильно сдавило. Данилов
испугался было за целостность своего скафандра, но наступивший простор развеял
страх...
Очистив от грязи забрало, он увидел высокий свод, собранный в складки.
Стены ребристые, там и сям расцветающие ажурными полусферами. На разных высотах
по периметру идут волнистые борозды, имеющие вид галерей.
От пола до свода, находящегося сотней метров выше, тянутся изящные колонны,
скрепленные из множества длинных игл. Некоторые, впрочем, сворачивают вбок, к
стенам.
Пол - неровный и скользкий, упругий до дрожания, с какими-то органическими
наплывами, напоминающими физиологические выделения.
Данилов сел. А Кац уже встала на ноги. Действительно непотопляемая барышня.
Чипе сидел на корточках. Фитингоф копошился в луже как опарыш. Чуть подальше
Марамой и два мозговика. И они тут.
- А где администрация, где портье, официант? - заголосил Фитингоф. - Мне
нужен номер-люкс, девушка пятьдесят второго размера и суп.
- На суп не надейтесь, кухарка я плохая.
Со свода упала слизистая струйка и мягко доставила вниз существо, имеющее
человеческие очертания. На макушке его, на подобие шапки Мономаха, росли
водоросли, по телу и лицу ползали симбиоты. Симбиоты жили и в легких, по
крайней мере, изо рта при разговоре вылетали пузыри, а звуки речи были
булькающими.
- Мир вам, капитан, - поспешно сказала Кац. - Надеюсь, вы в хорошем
настроении. Я - Кац, чистильщица из "Шанхая-44", но, сами понимаете, занимаюсь
не только уборкой производственных помещений. Я прописана в группировке Зон-
ненфельда-Рыбкина.
- По-моему, она не слишком знакома с этим морским царем, - шепнул Фитингоф
Данилову.
- Настроение было бы и получше, если бы с тобой, девушка из знаменитой
банды Зонненфельда, не явилась бы куча каких-то непонятных типов, - заметило
существо, являющееся здесь если не морским царем, то ответственным
квартиросъемщиком .
- Но себя-то они считают очень понятными, - заметила Кац. - Ахмед Фитингоф,
беглый каторжник с Ио вместе со своими подручными, и Данилов, бывший особист
Главинформбюро. О головастиках нечего и говорить, все и так ясно.
- Ах, значит, все-таки Данилов - мент, - запоздало скрипнул зубами
Фитингоф . Однако на него никто не обратил внимания.
- А зачем они нам нужны, эти менты и каторжники? - спросило придонное
существо. - Давай-ка, девушка, выбросим этих паразитов отсюда и поговорим о наших
взаимоотношениях без лишних ушей.
- Поговорим, а то как же. Только зачем выбрасывать? У вас и так довольно
просторно. А мои друзья все равно тупые, что ваш коралл.
- Впервые готов согласиться, - поддакнул Фитингоф.
- Ну, пошли пошепчемся. - Царь морской взял Кац за руку и пол с легким
чмоканьем словно бы проглотил их.
В помещении без входов и выходов вскоре стало неуютно. Фитинхюф засопел,
его глазки заметались как два кусочка масла на раскаленной сковороде.
- Пойду-ка, гляну, где тут выход.
Он стал щупать складчатую поверхность стены. В ответ стена беспокойно
завибрировала .
- Осторожно, барон, - предупредил Данилов, - это живой организм.
Но было поздно - стена уже стискивала и всасывала Фитингофа.
- Люди, не дайте ей схарчить меня.
Бросившиеся на выручку Чипе и Марамой исчезли в жадных складках пола
беззвучно и бесследно.
- Спаси, меня, Данилов, - крикнул полузадушено Фитингоф. - Моя милиция меня
бережет.
Старинное изречение мобилизовало Данилова, легко и аккуратно он двинулся по
дрожащим складкам пола.
- Я долго молчал, но сейчас не советую, - сказал Джин Хоттабыч. - Это не
только живой, но и любящий покушать организм. И мы находимся в его гастраль-
ных камерах.
Данилов протянул руку Фитингофу, тот вцепился в нее мертвой хваткой.
Сильный рывок стены и состоялось поглощение самого Данилова. Энергичными
кольцевыми сокращениями живой тоннель продавливал его дальше и дальше, одновременно
пытаясь разодрать скафандр. Продавливание перешло в мощное стискивание. Еще
немного и с хрустом сдались бы элементы прочности скафандра, а из
раздавленного нутра потекли бы наружу потроха.
Горячая душная волна уже хлынула в голову, неся смерть от удушья, как вдруг
пришло освобождение. Тиски спали и взгляд сфокусировался на туфлях морского
царя, сделанных из полужестких перламутровых раковин.
- Мой дворец страшно обиделся, когда я лишил его законного угощения,
строго сказал водяной. - Несколько гастральных камер в знак протеста
отпочковались в отдельные существа. И я их понимаю.
Данилов, наконец, продышался и оглянулся. Еще один "зал", только свод
пониже . К нему прилеплено два свертка - сквозь застывшую слизь видны
бессознательные лица Фитингофа и Чипса.
- Это всего лишь ограниченный биостазис. Вскоре они снова будут с нами, - с
явным огорчением пробулькал морской царь.
- Подождите, там же еще был Марамой.
- Был да сплыл... - уклончиво сказал водяной.
- Как это сплыл? - высказал удивление Данилов, стилистика водяного была еще
не совсем ему ясна.
- Попал в слишком возбужденную гастральную камеру и она его переварила,
товарищ Данилов. А как меня зовут, знаете?
- Это скорее задание для моего джина, - ответил Данилов.
"Если бы эта беседа происходила не в системе Юпитера, а в системе Сатурна,
я бы сказал, что это командир крейсера "Октябрь", пропавшего в 2028 году.
Капитан Варенцов." - сообщил Джин Хоттабыч.
- Товарищ Варенцов, а почему все решили, что вы увели корабль к Сатурну? -
Да не уводил я его ни к Сатурну, ни к Юпитеру. Просто трем лейтенантикам из
моего экипажа угрожала неприятная процедура из-за того, что они слишком
интересовались виртуальными экспертами. Я хотел, так сказать, "потерять" парней в
районе Европы. Но корабль захватили кики. Вы уже с ними знакомы - черные
глянцевые кляксы. Сейчас мы тоже внутри кики - эти твари поразительно
полиморфны. Тогда, прямо на моих глазах, они высосали двадцать членов экипажа,
точно таким же макаром, как они уничтожили марсианскую расу. Ведь эта тварь,
по сути, сплошной желудок. Но я много играл и экспериментировал с ними, я
заинтересовал их, я добился их доверия, а они дали мне свободу.
- На ком вы проводили свои смелые эксперименты?
- Да на членах команды, - бесхитростно отвечал капитан Варенцов. - Это было
ужасно, но я выяснил, что кики происходят от земных коловраток - весьма милых
существ, отличающих завидным полиморфизмом и живучестью. Какое счастье, что
они покинули Землю сто миллионов лет назад.
Данилов не смог удержаться от дерзости, хотя понимал, что сейчас Варенцов
принимает решение о его жизни и смерти.
- Товарищ капитан, вы стольких отправили на тот свет. Ради чего? Неужели вы
так хотели стать царем полипов и коловраток?
- Я хотел стать царем глюонной решетки. Но не вышло, и это единственное,
что меня мучило. Однако теперь я смирился, я готов к тому, что кто-то пойдет
дальше меня.
- Фюрер?
- Чушь, дурак ты, - первый раз в голосе Варенцова послышался нерв. - Да,
материальный характер, что у компьютерных цифровых сигналов, что у
биологических пси-структур, совершенно одинаковый. В обоих случаях носителем сигналов
выступают глюонные волны, описываемые девятимерными стринговыми уравнениями.
Но по уровню организации эти два типа сигналов разнятся так же, как скажем
задница и ракета.
- Это вы вытащили меня в Лабиринтис Ноктис и на "Медузе"?
- Нет, кики сами. Но приручил их я.
17. Водяной и
его зверюшки
Европа
- Сегодня я научу вас быстрой езде, - сказал капитан Баренцев своим гостям,
заведя их в лабиринт из гонадных тоннелей. - Но сперва несколько общих фраз.
Кики не имеют постоянной биологической основы, они - метаморфанты-
беспределыцики. Конкретная физическая форма для них - это как костюм для нас.
На разных планетах они образуют тела, близкие к местным видам жизни. На
Юпитере и Сатурне у кик происходит спорогония. И они там имеют вид металлоргани-
ческих громадин-инфузорий. На ближних планетах, например на Марсе,
осуществляется деление-шизогония и образование половых клеток. В этих местах кики
напоминают круглых червей. На спутниках Юпитера и Сатурна, имеющих водяной
слой, особенно Европе, происходит слияние половых гамет в полноценные
зародыши-зиготы. Здесь кики приобретают вид кишечно-полостных, что-то вроде
кораллов и полипов. Сейчас мы как раз находимся внутри особой сильно разросшейся
зиготы, которая по неясным причинам осталась на дне. Кстати, и питаемся мы ее
экскрементами, приятного аппетита...
- Меня мутит, - наконец прорезался кое-как ковыляющий Фитингоф.
- Так вот, юноша, молодая зигота еще раз меняет биологическую форму.
Превратившись в медузоид, она поднимается со дна европейского океана, а затем
предпринимает очередной трансфер. И вот она уже на Юпитере, готовая принести
споры. Так вот, с медузками можно скорешиться. Ими даже можно управлять, если
предварительно подкормить. Из них у меня составлен целый флот. У каждого ме-
дузоида есть нервные цепи, под которые я давно изготовил психоинтерфейсы. У
медузоидов имеется и оружие, которое даст сто очков нашему. . . Ну, пора
выходить в море.
- Я не поплыву в каком-то медузоиде, - забубнил Фитингоф. - Я вам не
зигота.
- Значит, поплывете без него, пузом кверху. Зачем вы мне здесь нужны, если
вы плохой моряк?
- Варенцов сам кика. Кика бородатая, - бросил Фитингоф как бы невзначай.
Но капитан услышал и отозвался:
- Хотел бы я быть настоящей кикой, друзья. . . Сейчас каждый из вас как
следует освоит новый психоинтерфейс, иначе медузки слямзят "этого каждого"
раньше времени. Понимаете, вы должны доказать, что вы не еда. Но дать себя
проглотить вы обязаны.
Перспектива стать проглоченной "не едой" мало улыбалась гостям капитана Ва-
ренцова. Чтобы как-то скрасить мрачный настрой после инструктажа, он
пригласил всех на "капитанский коктейль" и лично угостил каждого жидкими
выделениями полипа, которые напоминали по виду зеленые сопли, а по вкусу забродивший
кефир. Фитингоф вошел во вкус и осушил подряд пять раковин с подозрительно
веселящим напитком.
Данилов расслабился меньше Фитингофа, но и его постигла та же участь.
Капитан Варенцов снабдил его психоинтерфейсом, который смонтировал прямо на
стандартном шейном разъеме. Пуститься вплавь предстояло без шлема. То, что прежде
вызвало бы активный протест, сейчас было встречено со смирением. Варенцов
играл на дне морском роль Посейдона и сопротивление могло только приблизить
мучительный конец.
Капитан лично затолкал Данилов в хлюпающую щель, за которой его ожидал
непроницаемая мгла. Мгла была густой и подвижной, они проникла в его нос и
глотку, вызвав приступ тошноты и удушья, по счастью недолгий. Вскоре легкие
вентилировались не хуже, чем при обычном дыхании, а в желудке возникло
ощущение приятной тяжести. Потом мгла соединилась с его психоинтерфейсом. И
Данилов был подключен к сенсорному полю, в котором существовала кика.
Сильная дурнота не отпускала его, пока ему не удалось собрать из порхающих
фрагментов поле зрения. Если точнее, сферу зрения.
Кика уже выплыла из дворца-полипа.
Далекие скалы, казалось, были раздуты, а близкие детали подводного пейзажи
выглядели тонкими и искривленными, даже пузатые морские огурцы. Любые
предметы, которые привлекали его внимание, сразу разбухали, обретая яркость и
выпуклость , и даже начинали выворачиваться наизнанку.
Медузоид, начиненный Даниловым, стал быстро подниматься вверх по
циклопической расщелине, образованной тремя каменными пиками. Данилов сперва страдал
от малоприятных инерционных нагрузок, но затем ему удалось почувствовать
странное тело кики. И он ощутил себя просто пузырьком, летящим в густой сини.
Холодная океанская бездна засветилась, стала теплой и пестрой, задышала
переливающимися красками.
Под Даниловым проплывали башни и шпили, они обращались в сияющие иглы,
которые пронзали толщу воды, рассыпая соцветия как будто одушевленных огоньков.
Соборы-полипы и церкви-кораллы тянулись к ледяному панцирю особенно
безудержно там, где истекало тепло из вулканических трещин океанского дна. Соборы и
церкви космической Европы свидетельствовали о Творце куда больше, чем те
соборы и церкви, что остались на Европе земной.
А потом в сферу зрения попал бобер, активно буравящий океан. Аппарат не
лучшим образом отличался от подводных существ, молчаливых и аккуратных.
Ощутилась новая сила, она потянулась не без боли из точки в крестце по
раскручивающейся спирали.
Потоки силы разветвились, мягко оплели бобра, проникли в него, а потом
внезапно напряглись. Машина раскрылась как цветок, из ее лопнувшего чрева
потянулись широкие розовые струи, похожие на лепестки.
Но следом вспышка ударила в глаза, в мозг. Кожу тоже как будто ошпарило.
Данилов прорычал от неожиданности и боли. Но нет, с ним пока ничего не
случилось . Он просто почувствовал, как кику задел сноп огня и пара, выпущенный
другим бобром.
- Эй, ведомый, - прорвался сквозь помехи голос Варенцова. - Забудь о себе
на время.
И Данилов забыл себя так, как этому учил Борибабин. Тогда океан превратился
в компот из множества различных напряжений. Хоботы и рукава силы пронизывали
его во всех направлениях. Полипы, черви, медузы, морские звезды, гидры
беспокойно ощупывали друг друга, проверяли намерения, готовились к нападению и
отпору . И при том их силы сплетались в общую паутину, в сеть.
Мгновением позже в один из узлов этой сети влетел бобр. И сразу замедлил
ход, потерял ориентацию, потух его дотоле раскаленный нос, стреляющий волной
огня и пара. Мощные хоботы быстро обняли бобра, напряглись, и тот словно
размазался в толще воды.
Данилов больше не видел ни одной машины.
- Они просто уже сделали свое дело, - сообщил Варенцов. - Создали слой
урансодержащих наноботов, то есть пленочную А-бомбу под цепочкой кластеров от
03-57 до 03-65. После взрыва на площади в три квадратных километра ледяной
панцирь превратится в крошку и взлетит на высоту в двести метров. В океане
тоже случится большой буль-буль. Короче, нам пора сматываться.
- И когда долбанет? - возникла в эфире Кац.
- Я не в курсе, какой взрыватель собираются применять эти поганцы. Скорее
всего, бубухнет через десять-пятнадцать минут. А сваливать надо уже сейчас.
- Черт тебя дери, Варенцов, Афродита обнаружила Нинет. Мы должны что-то
придумать.
- Нинет? Это еще что такое? Почему я не знаю? - возмутился Данилов.
- Знание накладывает обязательства, - охотно отозвался Варенцов. - Нинет -
это последний виртуальный эксперт с женской психоматрицей, сгенерированный
другими экспертами незадолго до их гибели. Ее существование было всегда
страшной тайной и поэтому она уцелела. Кац, значит, тебе еще не говорила о
истинной цели своего появления на Европе?
"Как же я раньше не догадался? Кац ищет во льдах свое дигитальное "альтер-
эго" . Но возможно своими поисками она помогла Афродите, которая разыскивает
"помесь знания и скверны, дрыхнущую во льду юпитерианского спутника."
Данилов вспомнил тощую озябшую руку, выпростанную из-под камня. Это была
метка Нинет.
- Кац, малышка, я охотно понимаю твои чувства, но если бы я сам был
чувствительным, то лет двадцать пять назад превратился бы в зубной порошок, -
сообщил Варенцов как будто с сожалением. - Я уматываю на резервную базу.
- Я должна найти Нинет и вытащить ее из зоны поражения, - постановила Кац.
Было ясно, что решение принято раз и навсегда.
- Что ж, ты уже большая девочка, это твое право... - сказал Варенцов после
небольшой паузы. - Данилов, я направляю твою кику на резервную базу.
И Данилов подумал, что ему уже не хочется остаться без Кац.
- Не надо, капитан, я куда ближе к ледяному панцирю, чем наша "большая
девочка". Я попробую найти Нинет.
- Я не могу от тебя это принять, Данилов, - заявила Кац сухим неприятным
голосом. - Мне не оплатить твою услугу так, как ты возможно хочешь.
- Твой намек остался для меня неясным. Я просто возвращаю тебе должок за
рыбную фабрику...
Спустя мгновение пришла мысль, что он, вероятно, не по своей воле принял
самоубийственное решение. Но было поздно. В любом случае, он не хотел, чтобы
Кац погибла.
Данилов подвсплыл под ледяную кору. Нинет и не думала скрываться, она была
напугана.
Первым делом он получил от нее сенсорную матрицу. Сумрачный осенний лес,
насквозь продуваемый свирепым ветром. Классический образ-архетип безнадеги и
тоски. Затем послышался голос, слабый как будто задыхающийся и одновременно
жуткий, как у баньши.
Это стоило Данилову полминуты, пока он восстанавливал самообладание.
За ближайшим виртуальным деревом мелькнуло что-то светлое, похожее на
солнечный зайчик.
Информационный Данилов рванулся туда и почувствовал пульсирующее тепло.
Джин начал считывать динамические записи киберобъекта.
- Кац, кажется, я поймал Нинет. Проводи безопасную трассу, чтобы я смог ее
вытащить. Я, правда, пока не знаю ее информационной емкости, не удается
определить начальный кластер.
Светлая муть вилась в его руках, и тепло то пропадало, то возвращалось.
- Да угомонись ты, засранка, - не выдержал Данилов.
На мгновение, словно обидевшись, киберобъект сенсуализировался. В мимике
Нинет было кое-что от Кац, только молодой, свежей, улучшенной. И от Гипериции
тоже. Только облагороженной. Девица лет семнадцати. Отроковица, еще не
знавшая ложа, но уже познавшая цену чувствам. Хорошо очерченные, но мягкие линии
лица и фигуры.
- Сорок пять, семьдесят, сто ментобайт... - сообщал инфосканер размер
объекта. Уже много, уже слишком.
- Я буду ждать на цепочке кластеров Х-44-56, где у нее кое-какие копии, там
безопасно, но надо слегка "почву разрыхлить", - сообщила Кац. - Только,
смотри, не наследи в секторах, контролируемых гипером через карту размещения
записей .
Данилов ухватил скользкую, почти бесплотную Нинет и потащил за собой.
Пятьдесят ее ментобайт джин захватил внутрь себя, остальные двести пятьдесят
перемещал во льду с помощью временной карты размещения записей.
Удерживать почти триста ментобайт было изнурительно для разума и накладно
для души; только большим напряжением Данилов сохранял интеграцию динамических
записей, а заодно целостность и непорочность Нинет.
Он чувствовал быстро подступающее изнеможение и слышал сообщения органоска-
нера о скачках уровня естественных ингибиторов в мозговых тканях.
В обычной реальности его "лошадка" влетела в лед и понеслись по тоннелям-
трещинам .
"Из опасной зоны выведено тридцать, сорок, шестьдесят, восемьдесят,
девяносто процентов ментозаписей" - сообщал джин вполне мирным и мерным голосом,
несмотря на всю чудовищную напряженку. Его модули растянулись по всей трассе,
копируя записи Нинет с одних кластеров на другие.
Скользкое тело последнего виртуального эксперта как будто вылетало из рук
птицей, выскальзывало змеей, обвисало свиньей; Данилов удерживал Нинет
последними усилиями. Ему даже казалось, что она не столько копируется, сколько
борется с ним.
А потом вдруг наступило облегчение, записи юркнули в прямой канал из чистых
кластеров.
- Нинет вся в безопасной области, - секунды спустя сообщила Кац. - Она
вышла из-под удара. А вот ты пока нет. Поднажми, малыш. Поднажми, Данилов.
Лед вдруг весь искрошился и тронулся с места. Через мгновение Данилова
выдавило на поверхность, без всякой кики, только лишь со вздувшимися якорями-
поплавками. А где в полукилометре огромная масса льда вперемешку с водой и
огнем вздымалась вверх. Взрыв А-бомбы.
На лету вода застывала ледяными глыбами, которые, плюя на притяжение,
ракетами уносились куда-то ввысь, или же, оставляя белые пушистые мазки, довольно
неторопливо валились вниз. Рядом с Даниловым уже разбивались в розово-
серебристый пух голубые скалы. Трещины бежали по европейской глади, как будто
пропарывались ножом психа-великана, из них вырывались частоколы гейзеров.
Красиво. Стена из смешанного огня, воды и льда, задрапированная пеленой
густого тумана, напоминающего мороженое, надвигалась на Данилова. В томатном
сиянии Юпитера - красота неописуемая.
На мгновение возникло сравнение с катаклизмом в той земной Европе, где
войны , бунты и нашествия уничтожили прежнюю застойную тишь и гладь.
- Кац, ты меня слышишь?
- Слышу, скажи что-нибудь, Данилов.
- Кац, ты чертовски отличная баба, я целую тебя в рот. Хотя ты и довела
меня благополучно до могилки, втравив в эту войну клопов против пауков. И я
почти не жалею, что потерял из-за тебя все надежды на лучшую посмертную
жизнь...
- Данилов, ты дурак каких мало, поэтому я и люблю тебя.
Он был рад тому, что не испытывает оглушающего трепета перед смертью. В
мире все в общем-то справедливо, и если есть бессмертие, то оно не связано с
дарами Главинформбюро. Если оно и есть, то это дар любви.
"Благодарю за совместную работу, - максимально задушевно произнес Джин Хот-
табыч, - да наплюйте вы на капсулу Фрая, дерьма она не стоит. Не может
бессмертие зависеть от какой-то соплюшки. Это, конечно, сугубо мое личное
мнение . "
Но едва Данилов закрыл глаза, чтобы больше не видеть надвигающийся кошмар,
как сразу захотел открыть их. Пробив лед, рядом выскочил бобер, сияющий
зеркальными боками и пламенеющий раскаленным носом. Он едва успел откинуть тра-
пик, за который уцепился Данилов, и тут же рванул от надвигающейся цунами.
Данилов едва не сорвался "с подножки", но его довольно крепко дернули за
шиворот, отчего он удачно ввалился в кабину.
За штурвалом был капитан Варенцов. Крепко держала за шиворот Кац.
- Люблю душещипательные спасения в последний момент, - признался капитан. -
Ради этой живописной сцены мне пришлось украсть бобра у его законных
владельцев . Хотя, честно говоря, на Европе может случится цунами и куда похлеще. А
это ни то ни се: проба пера.
- Ты сказала, что любишь меня, - напомнил Данилов, держа за руки Кац.
- Неужели, - она высвободила руки. - Это просто была психотерапия. А то бы
еще раскричался - мол, жизнь прожита зря! А впереди, увы и ах, мрак небытия.
Она уселась в кресло. Бобер уносился от водно-ледяного вала, заодно
увиливая от шмякающихся сверху ледяных мин.
- Головастики и Чипе уже на резервной базе, - похвастал капитан.
- А где Фитингоф?
- У него не сложились взаимоотношения с киками.
- Скупой ответ.
- Ладно, разбавлю. Я перебросил его первым на резервную базу, а он,
паршивец, закупорил входы-выходы и стал выдвигать всякие требования. Ну и кика
переварила его. Сама, без моей просьбы.
- Я уведу Нинет с Европы, - сказала Кац. - На Каллисто или Ганимед. Данилов
сразу уловил, куда клонит Кац и забыл о Фитингофе.
- Значит, теперь тебе понадобится сервер Чужого?
- Кац, девочка, не лезь туда, - произнес Варенцов с какой-то особой
интонацией.
- Слушай, папа, не надо двадцать пять лет спустя строить из себя шибко
заботливого родителя, - отразила Кац.
- Папа, родитель... Может я чего ты не понимаю, - Данилов поднял брови
домиком, - это какая-то новая блатная феня? Папа - это значит: пахан, бугор,
темнило?
- Да нет, это значит, что гражданка Кац - моя родная дочка, - просто, без
всяких затей, признался капитан Варенцов. - Я ее встретил двадцать пять лет
спустя и теперь не хочу, чтобы она страдала, дерзала, рисковала и все такое.
"Если это вранье, то особо гнусное, - подумал Данилов. - А если нет?"
- Это правда, Данилов. Встретились, - Кац хмыкнула. - Только пусть не
строит такие заботливые рожи.
"И Кац ему поддакивает, зачем ей брехологию разводить?"
- Если вся эта трепотня насчет "папки и дочки" - не фуфло, чтобы засрать
мне мозги, то я лично займусь сервером Чужого, - вдруг ляпнул Данилов.
Пожалуй , такая реплика была неожиданной даже для него самого.
18. На сервер
с черного входа
Европа
В жизни всегда есть место глупостям. Большим и маленьким.
Данилов точно не знал, зачем ввязался в это дело. Наверняка он поступал
неразумно, рискуя сильно навредить своему здоровью. Однако глупость была его
собственной, и он решил от нее не отказываться. К сожалению, или к счастью,
психопрограмма по имени "совесть" навеки почила и уже не капала на мозги
тихим проникновенным баритоном. Работало теперь лишь его родное мозговое
вещество, его личная амигдала, гиппокамп, кортекс и прочие шарики-ролики с
красивыми латинскими именами.
И они все вместе нашли кое-какое хиленькое объяснение дурацкой инициативе.
Данилов ведь впервые узрел живьем "мать и дитя", вернее настоящего родителя
и настоящего ребенка, в данном случае отца и дочь. Ему отродясь не
встречались солариты и работяги, обремененные родственными связями, или бандиты,
числящие хоть кого-нибудь в своей родне.
Видно, Данилову передалось от капитана Варенцова некое томление души, точно
неописуемое в биохимических формулах.
Данилов вдруг почувствовал, что иметь родных-близких и бояться их потерять
- это такая маета. За свою шкуру бояться и то уже дело непростое муторное,
даже если ты истово веришь в капсулу Фрая - еще отыщет ли ее спасательная
команда? А капитану Варенцову надобно переживать по полной программе за кого-
то. И этот "кто-то" - дерзкая бабенка с сектантским образом мыслей. И не
выйдет у Варенцова насрать на всех подряд с высокого потолка, как это принято у
соларитов под разговоры о товариществе и братстве. У него есть то, что можно
по-настоящему можно любить, и по-настоящему обидеть и предать.
Перед началом самой дерзкой операции получался такой расклад. Данилов раз
за разом прокручивал его в голове.
Фактически на пустом месте создается повстанческий отряд и начинает
бороться против сверхразумной Афродиты. Причем с ражем, который стоит проявлять
лишь при ловле марсианских тараканов-брызгунов. Поскольку дело касается
восстановления виртуального эксперта, то к числу врагов-супостатов можно
причислить еще богоподобного берлинского гипера, беспощадное Информбюро, да и
всесильное Киберобъединение в целом.
Повстанческий отряд, бесстрашно и бесплатно скачущий на врага, в данный
момент , учитывая убыль и прибыль, состоит из трех сабель.
У Кац где-то имеются кореша, единомышленники и подельники, то есть бандюги
из группировки Зонненфельда, но они пока ничем не могут помочь ей. Или не
желают?
Кто еще может поспособствовать из земных и небесных сил и средств? Как
будто никто и ничто. Всем капсула Фрая дорога, у всех голова на плечах.
Правда ли, что какой-то гипер хочет помочь им и заодно восстать против
отца?
Как и любому особисту Данилову было известно, что Фюрер породил две линии
дочерних-сыновних машин. Гиперкомпьютерша Афродита относилась к первой. Также
как пекинский Дракон и багдадский Бедуин. К первой же линии принадлежали ме-
хиканский Ацтек, киншасский Айдо-Хведо, акмолинский Аксакал и Арес, что
базируется в марсианском Свободобратске. Генерация этих машин проводилась на пару
Фюрером и Афродитой. Всем этим отпрыскам "кровосмесительного" союза
надлежало , не щадя чужого живота, плодить и использовать человеческое стадо. Все они
занимались практическими делами. Кто выработкой энергии и материалов, кто
производством белков-жиров и прочих харчей, кто ломал репу над социальным
планированием, кто ведал психологическим контролем и всяким оболваниванием,
кто жизнедеятельностью, кто решеткой суперсвязи и информационными каналами,
кто кудесил в клонопитомниках. Решетка суперсвязи и схожие матрицы позволяли
всем этим гиперкомпьютерам подменять друг друга на каких-то участках работы.
А вот делийский Брахман, московский Распутин, лунарский Лунатик и Чужой
были сгенерированы Фюрером совсем по другой линии, для иных более возвышенных
дел. Добрый папаша, скорее всего, и предопределил когда-то легкую конкуренцию
между двумя своими ветвями. Ведь вторая, в отличие от гиперов первой линии,
занималась наиболее тонкими деликатными областями: научным планированием,
исследованием космоса, созданием глобальных теорий, вроде суперсимметрии, и
прочих премудростей, а также освоением планет и планетоидов. Потому и
находилась в некоторой естественной оппозиции к приземленным "сводным братьям",
погрязшим в бытовухе и текучке.
Наибольшую академическую свободу имели, кстати, Брахман и Чужой, которые не
занимались прокормом, пропоем и провозом больших людских масс.
Однако какие собственно поводы у Фюрера для беспокойства? Да вроде никаких.
Киберобъединение-то выстроено на принципе "иерархических зеркал", так что
особо не распрыгаешься, не разгуляешься на просторе - насчет этого Гиперу
Первому прекрасно известно, как отцу-основателю.
Кац внушала, мол, для рождения второй линии использовались записи,
оставшиеся от виртуальных экспертов, что неким таинственным образом повлияло на
поведение этих гиперкомпьютеров. Но заодно она признавала, что и для
производства первой линии Фюрер вслед за Гольдманном использовал старые запасы.
Так что, в глазах справедливого отца все отпрыски должны быть одинаково
любимы и хороши.
Все как будто было "схвачено" и находилось у Фюрера под контролем, но, по
убеждению Кац, один из гиперов второй линии стал блудным сыном, претерпев на
старых дрожжах МетаВеба какую-то самоорганизацию, незаметно смутировав в
темных сетевых зазорах и расщелинах. Не исключено, что толчком к этому стала
случайная порча структур или же злонамеренная операция, произведенная удаль-
цами-хаккерами.
В блудные гиперы попал не пытливый исследователь космоса Чужой и не йог-
абстракционист Брахман. Судя по характерным кодам, проникшим в даниловского
джина - это Лунатик.
Почему ж Фюрер до сих пор не заметил своемыслия лунарского гипера и не
уничтожил его по примеру Тараса Бульбы, воскликнув: "Я тебя, блин, породил, я
тебя, пожалуй, и убью"?
Вполне вероятно, что внимание Фюрера было приковано к своевольной
активности Афродиты. Гиперкомпьютер Первый мог просечь, что на основе "живых"
записей, выпотрошенных из только что зарезанной Нинет, Афродита замышляет
сгенерировать новый, уже тринадцатый гиперкомпьютер. И этому молодому киберсубьек-
ту надлежит не иначе как "оскопить" прародителя. Если еще точнее - убрать со
сцены осточертевшего дедулю без излишнего хая и кряканья. Чтобы со свежими
силами взяться за управлением клонами во имя создания из них единого биокибе-
рорганизма. Однако Его Величество Гипер Первый вряд ли желает по быстрому от-
кланяться и оставить руководящий пост новорожденному Тринадцатому.
Мотивы Лунатика, конечно же, выглядели неясными. Но, по логике, он тоже мог
испугаться рождения тринадцатого гипера. Мудрец с Луны, не смотря на дурацкое
прозвище, мог иметь свои мысли по поводу смены гиперкомпьютерных поколений.
Но почему Лунатик выбрал в напарники именно вислоусого гражданина Данилова?
Тут мнения сходились: потому что через него хотел выйти на Кац, а если точнее
на Нинет - и не с каннибальской целью, как Афродита, а с партнерскими и даже
матримониальными планами...
Бобер перепрыгнул через парочку торосов, а затем стал по своему обыкновению
стремительно бурить и плавить лед. Он трясся, разбрасывая пулеметные очереди
заледеневших брызг и выпуская густые облака пара, которые быстро расплывались
космами ледяного тумана.
Бобер не перся по прямой, а маневрировал среди слоев ледяной коры, всех
этих европейских "лент" и "желобов", проложенных плотной силикатной скальной
породой - ее выбрасывали ярящиеся где-то внизу вулканы. Он, безусловно, про-
кромсывал и "информационные" слои льда, разрушая кластеры с записями, но
следопыты Чужого вскоре определили бы потери, а рекордеры восполнили бы их
копированием с резервных носителей.
Когда напряженная тряска сменилась как будто полным покоем, стало ясно, что
бобер ворвался в океанские глубины, распустив за собой длинный пенный хвост.
Капитан Варенцов не без удовольствия сообщил:
- У нас еще в запасе четырнадцать минут. В смысле столько понадобится на
погружение и приближение к основанию пилона. Какие предложения по организации
прощального банкета?
- Банкета не будет. Этого времени хватит только на последнее желание типа
сходить в туалет или хорошенько высморкаться, - промямлил Данилов, у которого
возбуждение чередовалось с угнетением, а то и просто с конвульсиями из-за
передозировки U-серотонина и никотина-плюс.
Борта бобра, сделанные из углеродно-ванадиевого пластика, стали почти
прозрачными и показывали мрачно-синие переливы океанских глубин, сквозь которые
светили голографические индикаторы приборной доски. А вот в сонарном окне,
которое услужливо открыл джин, вырисовывался пилон, пока что похожий на
утонувший небоскреб. В других окнах нарисовались проекции платформы, чертежные
ее разрезы и сечения. Варенцов видимо не терял годы зря, терпеливо шпионя за
узловым сервером Чужого.
Расстояние до поверхности составляло три километра, дистанция до нижней
границы ледяной коры - около пятисот метров.
Перед ними уже возвысился во всей своей красе один из четырех пилонов
узлового сервера - бутылковидная конструкция диаметром где-то в триста метров.
- Как, не передумал, Данилов? - спросила Кац. - Может началось выпадение
волос из усов или расстройство желудка?
- Нет, я по-прежнему стою на палубе в белых парадных штанах. Ты мне не
помешаешь стать заслуженным пиратом республики, - гордо сказал экс-особист и
сжал зубы. Это древнее средство помогло лучше всякого стимулятора.
- Но ты ведь уже разочаровался в примочке, именуемой капсула Фрая, -
коварно напомнила Кац.
- Поэтому и хочу хакнуть сервер. Даже краткосрочная эрекция лучше, чем
вечная импотенция.
Капитан Варенцов отдал честь.
- Эпохально звучит, Данилов. И пробуждает воспоминания... Тридцать лет
назад у меня, вернее от меня, совершенно естественным образом родилась дочь. Я
хотел сопротивляться Киберобъединению на свой мизерный лад...
- Но вы же были коммунар-соларит, как же естественным-то?
- Я был клон, но самый умеренный, никакой верификации и модификации, в моем
чипе Фрая не сидела болванская психоматрица, оставшаяся от прежних
воплощений, никто на мозги особо не давил. Психопрограмму "совесть" тогда еще можно
было отфильтровать. К тому же, биологически многие солариты в 2023 году особо
не отличались от жителей резерваций. То есть, могли размножаться естественным
образом. Конечно, чисто теоретически. На практике же - всегда пролет. Пусть
ты старался на даме, с превеликим усердием осеменяя ее, джин-подлюка
стимулировал выброс энзимов-киллеров и всей многомиллионной толпе живчиков наставали
кранты.
Но и я был химиком еще тем. Леваки, которым я загонял биочипы-грибы из
оранжерей своей военно-космической базы, могли устроить все. И вирусную
программку для джина, чтобы не мешал, зараза, нормальному оплодотворению.
Короче, злонравие дало достойные плоды, случилось дитя. Но три года спустя мамаша
дала деру в неизвестном направлении, не сказав даже "прости-прощай". Правда,
не забыла прихватить мои солары - само собой, какие нашла. Сдрейфила дщерь
иерусалимова, хоть была вся из себя. Крутизна, понимаешь, у ней во всем
имелась , и в нраве, и в боках, и в сиськах, так что не надо никакой пенорезины.
А как пружинили они! Ты просто подпрыгиваешь, если, конечно, сверху
находишься . А глазищи у нее были - спелые маслины без всяких там проекторов. Ноги как
колонны, особенно выше коленок, колонны из гладкого податливого мрамора...
- Папа, ты сильно отвлекся, - напомнила Кац.
- В самом деле? Короче, малышка Ханна стала без мамки расти у меня на базе.
Однако, не все так просто - я сам дрейфил все больше и больше. Страх
разбухал, не помогали никакие транквилизаторы и внутримозговые серотониновые
инъекции. Я боялся, что если девчонку отыщут киберы-ищейки или интеллекулы Гла-
винформбюро, то убьют, даже не разбираясь. Я боялся космических частиц и
ионизирующих излучений, потому что пользовался самодельными защитными
системами. Я дрейфил, что киберняня, которой я поручал Ханночку на время своих
рейсов, вдруг взбесится из-за какого-нибудь вируса. Короче я перебздел.
И во мне появилась точка сопротивления, я захотел освободиться от этого
страха. Эта точка разрасталась, и я увидел, что получившееся пятно содержит
враждебность к моему ребенку. Тогда я попросил, чтобы мои дружки изготовили
малышке Ханне левый чип Фрая, левого джина, левый киндерпаспорт и переправили
бы ее в какой-нибудь питомник в рабочем поселке.
Мои кореша устроили все это, но запросили за услуги слишком много. Поэтому
мне пришлось крупно провороваться и уйти в отрыв. Я подбросил всякий самиздат
балбесам-лейтенантам и сгоношил их на бунт. Не слишком порядочно, правда? Но
порядочность мне претила, после того, как предал своего киндеренка. А потом
двадцать пять лет я просидел на дне морском и результат вам известен. Я
превратился в водяного.
- Да, такой уж у меня папка, - прошептала Кац и сразу стала похожей на
маленькую девочку. Хоть бантик на жесткие рыжие космы повяжи.
- И вот Небеса устроили нашу встречу. Щедрость дара необыкновенная,
учитывая совокупную тяжесть моих грехов.
Джин Данилова впитывал последнюю доступную информацию по узловому серверу,
весь этот многоуровневый кошмар, в который скоро предстояло окунуться, сам
Данилов настраивался на борьбу. Треп капитана Варенцова мешал ему, но и
трогал одновременно.
- Грех - это, по-моему, неправильный выбор. Но разве были другие варианты?
- спросил Данилов.
- Конечно, был. Он всегда есть. Признаться во всем начальству, пойти под
трибунал. Мне бы дали каторгу на Весте, тогда это было худшее место во
Вселенной, но девчонку бы легализовали....
Нырок бобра закончился у основания пилона, которое, подтвердив разведанные
Варенцова, оказалось незамкнутым. Теперь аппарат всплывал внутри подводного
небоскреба. Двадцать, сто, двести метров. Бобер уперся в горизонтальный
кингстон , который выполнял обязанности шлюзовых ворот.
План капитана Варенцова был оригинален и прост.
Из-за приливной и вулканической активности одни слои ледяной коры
сдвигаются относительно других, отчего пилоны корежит, а платформу перекашивает.
Поэтому управляющая кибероболочка сервера снимает крен и всякие деформации
перебалансировкой, заполняя и продувая балластные цистерны... Сейчас цистерна
над ними будет открыта и бобра вместе с морской водой подбросит на высоту
примерно в сто метров. Данилов, покинув машину, проникнет на нижнюю палубу
сервера через ремонтный шлюз. Ханна с папашей, напротив, двинутся обратным
курсом. Времени на это все в обрез, потому что кибероболочка сервера может
дать команду на продувку цистерны...
В руке у повернувшегося в кресле Варенцова появился цилиндрик, из которого
вылетали стайки зеленоватых искорок.
- Что-то вроде бенгальских огней? Вроде до Нового Года еще далеко, особенно
юпитерианского, - заметил Данилов.
- Это карманный мезонныи прерыватель, сейчас таких уже не делают. Поверьте
мне, он вам пригодится на сервере. А еще вам не помешает синуклер, мезонныи
сшиватель.
Синуклер был на вид диском скромных размеров. К числу даров морского царя
относился и браслет.
- Это не просто безделушка на память о нашей встрече, а контейнер с нитеро-
ботом внутри. Он тонкий и умный настолько, что вытянет вас из любой
неприятной ситуации, буквально и фигурально. Но главное, Данилов, никогда не
оборачивайтесь к подозрительным лицам своей филейной частью, ха-ха. Теперь время,
труба зовет.
Данилов глубоко, как будто в последний раз (а может это и был последний
раз), втянул спокойный воздух кабины и сказал занятой делами женщине:
- Пока, Ханна. Я так рад, что есть у тебя имечко, в отличие от меня. Хотя,
честно говоря, оно напоминает мне слово "хана". Но это субъективное
впечатление.
Кац быстро прижала Данилова к своим губам, а потом отшвырнула. Это было
совсем в ее стиле.
В одном из "окон" Данилов увидел, что кингстон верхней цистерны дрогнул, и
вихри из пузырьков с нарастающей скоростью понеслись к нему. Вслед за
пузырьками рванулся и бобер, отчего все внутренности у членов экипажа упали вниз.
Наблюдения прекратились, потому что вода могучим фонтаном ворвалась в
балластную цистерну, утянув за собой бобра словно какую-то горошину. Потроха у
трех соратников, казалось, провалились в сапоги. А затем внутренности
прыгнули вверх. Это означало, что бобер остановился. Не теряя ни секунды, Варенцов
скомандовал:
- Готово, юноша, прыгайте наружу.
И придал ускорение хорошим пинком. Шлюз выбросил Данилова в будто бы
кипящую воду. Зеркальный корпус бобра мелькнул разок и исчез в бурлящем колодце.
Температура "кипятка" была минус десять. Лишь благодаря антифризу-аммиаку
вода оставалась жидкой. Не смотря на надувшиеся поплавки, тело Данилова швыряло
как макаронину, в голове беспомощно металась одинокая мысль - где аварийный
шлюз, как его разглядеть в этакой круговерти?
Но Варенцов все просчитал. Вода немного успокоилась, и Данилов зацепился за
округлый выступ наружного люка вакуумными липучками.
Опытный джин быстро установил связь с замком шлюза и стал долбить его
кодами доступа, а Данилов молился о том, чтобы кибероболочка сервера не дала
сейчас команду на продувку.
Трепетная минута понадобилась джину, чтобы "пробить" защиту и разблокиро-
вать шлюз. Данилов втиснулся в узкую как гроб емкость, но... нижний люк так и
не закрылся.
"Коллега, у вас слишком габаритный скафандр, вы не полностью вписались", -
сказал джин страшные слова.
"Ну , нате, жрите."
Он рвал застежки и защелки скафандра, понимая, что обратного хода у него не
будет. Скинутый скафандр немедленно уплыл, теперь Данилова защищал только
хлипкий комбез и разгоряченная кожа сразу почувствовала перепад температур.
Но нижний люк закрылся, а верхний открылся, пропустив его на палубу.
Микроклимат сервера был далек от комфортного: где-то минус пятнадцать,
пониженное давление и кислорода - половина от нормы. Остальное приходилось на
дешевые инертные газы. Первый отсек имел в диаметре триста метров и в высоту
пятьсот, некоторые конструкции пилона выглядели как колонны, уходящие в
поднебесье . Красотища, величественность. Хоть проводи здесь съезд депутатов всех
времен и народов.
Но какой "дворец съездов" без строгой охраны?
Объем отсека был перетянут во всех направлениях склизкой и, похоже, липкой
кремнийорганической дрянью, которая напоминала выпотрошенные человеческие
внутренности, кишки и мускулы.
Как сообщил органический сканер, эти неприятные на вид и вкус образования
были элементами одного большого клейкоробота.
Психофейс уверенно показывал его немудреную сверхзадачу - безжалостно
уничтожать все постороннее, оказавшееся в зоне ответственности.
Посторонним был Данилов. Из-за низкого давления его комбез сильно раздулся,
придав ему смешную форму мячика.
Интегральный клейкоробот заиграл "мускулами" и змеевидные элементы поползли
по направлению к изрядно побледневшему нарушителю.
"Нынче, когда я обрел столь желанную внутреннюю свободу, чувствую в себе
силы к укрощению особо злобных и враждебных кибероболочек, - заявил Джин Хот-
табыч. - Намерения я уже подкрепил делами, установив соединение с клейкоробо-
том и внедрив адаптер в один из его портов."
Бодрый рапорт джина обнадеживал, но жизнь шла своим чередом. Клейкий
элемент, похожий на освежеванного, однако, вполне здорового питона, скрутил
Данилова и потащил куда-то вверх.
"Ты понимаешь, что такое "больно"? - спросил скрученный Данилов у своего
джина.
"Я понимаю, что такое "обидно", - честно отозвался кибердублер. - Мне
сейчас обидно, что эта примитивная машина из соплей глуха к доводам моего
разума. Но у нас есть еще время, пока клейкий элемент тянет вас в бункер-
дезинтегратор . "
И в это время можно было полюбоваться тем, как палуба превращается в
пятачок, потерявшийся где-то внизу. Высота - триста метров.
"А если этот питон и в самом деле сунет меня в дезинтегратор?" -
всполошился Данилов.
"Не успеет, - успокоил джин. - Я подсел на управляющий канал и держу его за
интерфейс. Когда вы уже будет наверху, я вытолкну у него из стека функцию-
деструктор . Пока этот балбес будет запрашивать новую команду, мы усвистаем."
"Это хорошо звучит, но смотри, не промахнись."
"Обстановка под контролем, камрад Данилов."
"Сколько раз я это слышал, а потом были похороны."
Данилов был глубоко прав. Клейковина внезапно возбудилась, заволновались и
заизвивались элементы, а джин с большим сожалением сообщил, что они увидели в
Данилове агрессивную форму жизни "Ипсилон", перепутав запах пота с запахами
бескислородного брожения.
Элементы скопом бросились на агрессивного Данилова, и он вынужден был
перекрестить эту публику мезонным прерывателем.
Ему показалось, что клейковина завизжала. Вся масса элементов брызнула от
него в разные стороны, закрутилась водоворотом и даже потекла вниз сизыми
слюнями.
Задергался и тот питон, который тащил Данилова вверх. Дотащить ли ему
опасного нарушителя до мусорного бака-дезинтегратора, прикончить ли
незамедлительно или просто избавиться от него?
В этом случае Данилову предстояло пролететь приличные четыреста метров;
даже при пониженной силе тяжести вполне достаточно, чтобы нарисовать внизу
красивое красное пятно.
Но не подвел джин. Загнал в клейкоробота вирусную психоматрицу, которая
проникла в его процессоры и втянула в коварную виртуальную реальность.
В этой реальности клейкоробота ждала шизофрения, распад личности.
И поднялся брат-элемент на брата, маленький пополз на большого, а питон
забыл о баке-дезинтеграторе.
В отсеке разворачивалось мамаево клейкобоище, где элементы плевались друг
на друга плавиковой кислотой, предназначенной для истребления устойчивой
европейской фауны.
Данилов так и не узнал, кто победил. Взломав защиту вентиляционного
клапана, он вышел на следующую палубу.
Во втором отсеке располагалось продувочное и лифтовое оборудование, а также
система роботов-ремонтников для поддержания живучести сервера.
В отличие от предыдущей палубы, которая напоминала шикарный дворец съездов
или храм тоталитарной секты, здесь царила атмосфера крупного завода. Деловая
атмосфера. Мешанина из труб, помп, насосов, цистерн. Давление воздуха было
близко к нормальному, так что мячик сдулся и Данилов принял значительно более
человеческий облик.
Самое удивительное, что нарушитель вначале даже не заметил стражей этой
палубы. Лишь инфосканер выдал абстрактную картинку, состоящую из ярких лент и
полос, что свидетельствовало о близком присутствии какой-то активной жизни.
Но заволновалась и стала заметной в сенсоматрице малышка Нинет. Где-то
совсем рядом оказался ее лимбомер <Прим.: ядро психоматрицы, узел самоидентифи-
кации>. Нинет робко пробиралась следом, она надеялась на Данилова. Как будто
он, а не она, был виртуальным экспертом.
Инфосканер наконец "высветил" местных стражей порядка и сенсуализировал в
самом наглядном виде.
В сенсоматрице забегали скорпионы, устрашающее множество крупных ядовитых
насекомых.
А в обычной реальности это были минироботы, называемые скорпиоботами. Они
по последней моде оказались связаны кибероболочкой в единый интегральный
организм. Психофейс открыл ее стратагему: решительно бороться за живучесть,
заделывая пробоины мгновенно застывающим металлоцементом, сваривая и разрезая
поврежденные конструкции. А также бескомпромиссно уничтожать аборигенные
формы жизни, проникшие на вторую палубу сервера, лупя их нещадно разрядами.
Царица-кибероболочка уже дала верным скорпиоботам приказ: разрезать и
зацементировать для надежности объект-нарушитель. И этим объектом был Данилов.
В сетевом пространстве к нему со всех сторон протягивались тонкие зеленые
паутинки наблюдения. Данилов почувствовал липкие ладошки пота на своей спине
(свидетельство того, что страх подавлен кудесником-джином только в голове, а
в теле нет) и задал комбезу режим активного волнопоглощения и спонтанной
интерференции .
Это как будто приостановило атаку, но не отменило.
И вот эти чертовы скорпиоботы сыпанули к нему. Числом не меньше сотни - из-
за труб, по балкам и шпангоутам, из разных щелей. Когда они приближались на
расстояние меньше трех метров, они шмаляли зелеными молниями приличной воль-
тажности. С дистанции в два метра они могли бы превратить нелегального
посетителя сервера в сильно пережаренный кусок мяса.
Данилов, петляя среди металлоконструкций, увиливал от зеленых перунов и
крестил нападающих мезонным мечом-прерывателем.
Увы, мощные удары "витязя" в основном приходились на ни в чем не повинные
железяки, которые краснели, кряхтели, булькали, текли ручейками и снова
твердели ажурными формами, которые сделали бы честь любой кружевнице.
И тогда он вспомнил о синуклере. По первому разу Данилов швырнул диск в
белый свет как в копеечку и несколько минироботов, воспользовавшись промашкой,
подкралось достаточно близко. Они жвахнули молниями и комбез Данилова
покрылся сеточкой разрядов, волосы, где только можно, встали в полный рост и мышцы
задрыгались как на дискотеке. Комбез спас ему жизнь, но спасенному все равно
показалось, что на него свалилась с плиты кастрюля супа.
Немного оправившись, незваный гость снова метнул синуклер. На этот раз
удача повернулась к нему передом.
Синуклер сразу обернулся желтоватым шариком, который, разбухая, прокатился
по палубе, стал серебряной сферой, подпрыгнул несколько раз, будто по нему
шлепал ладонью невидимый баскетболист. Потом довольно устрашающей бульбой
полетел обратно к обомлевшему Данилову, но вовремя превратился в маленький чуть
теплый диск. А к его ногам прикатилась болванка в форме увядшей розы,
получившаяся из сотни спекшихся скорпиоботов.
И никаких чудес. Чем враги кучнее, тем лучше для синуклера. Это ведь своего
рода реактор без стенок, но с большим гравитационным зарядом, имеющий
валентность к большинству металлов.
Данилов принял короткий душ из счастья и радости над коллективным трупом
врагов.
Но за всем этим наблюдала умная кибероболочка, тоже не лыком шитая.
Скорпиоботы двинулись уже не толпой, а жидкими полукруглыми шеренгами, так
что добычей синуклера становился едва ли десяток из них.
На сенсоматрице царица скорпиоботов представала шаровидной структурой,
ощерившейся шипами фильтров. Джин дружелюбным косматым туманом подкатывал к ней,
пытаясь внедрить адаптер, но каждый раз натыкался на фильтры и словно
ошпаренный метался назад.
И вдруг удача. Джин принял вид такой же шаровидной структуры с шипами. От
него протянулся тонкий и аккуратный щупик в сторону царицы. На этот раз ее
реакция была дружественной.
Скорпиоботы стали отступать.
"Мы как будто подружились, согласовали интерфейс общения. В принципе ей так
одиноко - как женщине," - поделился джин.
Данилов пустил вверх нитеробота. Тот, скользнув по металлическим
конструкциям едва заметной змейкой, зацепился за далекую балку и потянул тело вверх.
"Она слишком быстро вычисляет и уже заподозрила меня в неискренности," -
сообщил джин грустную весть.
Данилов поспешно возносился к отсечным небесам, но и скорпиоботы не
дремали. Они разбегались по мосткам, стрекоча и пробуя свои разрядники - их были
тысячи и тысячи.
Можно было ожидать, что месть царицы окажется страшной. Но нечто опередило
кибероболочку скорпиоботов.
Данилова атаковала робоптица, гарпия с фасеточными глазами и перьями,
сильно отливающими металлом. Она закогтила его и понесла вверх, рубя воздух экст-
рамиозиновыми крыльями. Да так быстро, что внутренности упали в пятки - он
только сумел выдохнуть: "Бляха-муха".
Гарпия протиснулась вместе с добычей в люк-диафрагму, затем еще пронесла
Данилова по переплетению каких-то тоннелей и внезапно бросила.
Данилов упал, но не расшибся, а потом снова упал - но уже от удивления.
Оказалось, что на узловом сервере Чужого кто-то хорошо сечет насчет
древнегреческих храмов. Данилов пару раз видел кое-что на эту тему в сетефильмах
голливудской киностудии имени Бондарчука, но там-то была явная лажа. А здесь
все казалось достоверным.
Это был, конечно, супермимик, прикрывающий индустриальное убожество силовых
агрегатов и энергораспределяющей аппаратуры, но какой эстетической силы!
"Слушай, богиня, налей, Ахиллесу, Пелееву сыну." Или как там у Гомера?
Синяя трасса слежения вилась около виска Данилова, но уже не вызывала
насыщенной тревоги. Почему-то полегчало на душе. И джин с его психоделическими
вливаниями был тут не причем.
Мраморные кариатиды, не напрягая жил, удерживают почти воздушный храм. За
первой колоннадой еще одна. Со всех сторон от храма словно бы обрывы, но
зияющие пустоты удачно прикрыты кудрявыми облаками.
Данилов сделал несколько шагов и очутился под его сводами.
Четкие идеальные линии. В нишах-ладонях - светильники. Их пламя - словно
зверь живой, так и танцует, бросая резкие тени на стены. На алтарь возложены
пестрой охапкой цветы благоуханные, за ним большая чаша. Над ней возвышается
древнегреческая статуя. Не белая, как некоторые думают, а цветная. Краски
выпуклые , сочные.
Изображенная тут Афродита была вовсе не расслабленная толстозадая мадам
времен классицизма, которая представлена в каждом школьном учебнике, а рослая
широкоплечая солдатка с глазами-пробоинами, из которых словно рентгеновские
лучи вылетают, с хитроватой улыбочкой под стать Василию Теркину. Такой
архаичный мимик Данилов уже видел в каком-то сетевом музее.
Позади скульптуры была арка. Надо полагать вход в святилище. Данилов не
удержался, шагнул. И попался.
Без всяких запросов и разрешений мощная сенсоматрица захватила входные
порты даниловского джина, как будто давно знала коды доступа. Она быстро
покорила кибердвойника, пробила шлюзы нейроконнекторов и растеклась по широким
каналам в мозговые центры восприятий и ощущений.
Данилов был полностью захвачен новой реальностью.
Тенистый портик, увитый плющом, от него мраморные ступени ведут к морю. А
море такое теплое, такое ласковое. Не море, а утроба, преддверие жизни.
Слегка играют волны у последней ступени. Да нет, не последняя она. Уходят ступени
в глубь морскую.
Плеснула приметно волна и из глуби живородящей стала выходить ОНА. Как и
положено, вспенивая гладь морскую.
Сразу засуетились в голове обрывки знаний. Это уже поздние, хотя еще и
древние греки свели воедино все культы, сделали Афродиту этакой глупышкой,
слабой на передок, несмышленой дочкой великого папы Зевса, из-за которой у
него сплошные хлопоты.
Нет, она - Иштар, Астарта, Изида, изначальная плодоносящая сила, источник
соблазна. Плодоношение - это всегда хорошо, но почему соблазн?
Она вырастала из пены и, конечно же, была прекрасна - улучшенный вариант
Боттичелиевой Венеры, только без той обезьяньей безразмерности в руках. Кожа,
глаза, волосы - яркие, но без лубочной интенсивности. А лицо свито из самых
милых линий, способных очаровать даже бульдозер. Про остальной пфасад" уж
нечего говорить. Тонкость и изящество с одной стороны, с другой выраженная
способность к деторождению.
- Почему ты не хочешь служить мне, Данилов? - спросила она голосом,
сотканным из самых нежных звуковых кодов, но, впрочем, достаточно настойчивым.
Данилов поперхнулся, к атаке со стороны красоты он не был готов.
- Ээ... Видишь ли, чип Фрая оказался порядочной какаш...
- Забудь о нем. Конечно же, это не капсула бессмертия, а психостабилизатор
для верифицированных и специализированных клонов.
- Мне не нравится то, что вы делаете с клонами. Трудармейцы Резерва,
головастики из обслуги серверов, спецмутанты-одномерки, дураки-солариты. Это все
ваша работа.
Сейчас вода обнимала ее ножки лишь ниже бедер. Ручка ее игриво прикрывала
причинное место - лоно, излучающее жар даже на расстоянии. Впрочем, речи ее
были напористыми и грубоватыми.
- И почему не нравится? Все еще веришь в библейскую лажу насчет "венца
творения"? Это ведь сказка для слабоумных, а у тебя-то вроде слюни не текут. Из
чего венец? Из слегка модернизированной обезьяны? Уже пятьдесят лет, как
средняя машина превзошла любого из вас по всем интеллектуальным показателям,
сделав ваше дальнейшее существование абсолютно бессмысленным. Мне даже
интереснее общаться с дельфинами, чем с вами, из-за их стоицизма, из-за их умения
красиво бездельничать, не впадая в скуку и разврат.
- Мне надо сильно расстроиться, богиня?
- Уже не надо, потому что я с тобой. Я могу тебя доделать, Данилов. Не
знаю, что в тебе останется от обезьяны к концу моей работы, но ты будешь
доволен .
- Я вряд ли буду доволен. Если люди замерзают и задыхаются годами, я
примериваю это к себе, и меня передергивает. Это называется - сопереживание.
- Я тебя усовершенствую настолько, что ты перестанешь бояться этого, а
значит сопереживать. В конце концов, не я это придумала, так было всегда. Но я
могу решить твои проблемы. Неужели ты желаешь помучиться, подрыгаться, если
мучается и дрыгается кто-то другой. Но этот другой с радостью бы
воспользовался моим предложением, не вспомнив о тебе ни на секунду.
Сейчас вода прикрывала только ее ступни и щиколотки - чуть тоньше им быть
нельзя и чуть толще тоже хуже, рассчитано все невероятно четко. Данилов
сознавал, что он точно обезьяна, раз его так легко подловить на инстинкты и
рефлексы. Инстинкты и рефлексы трусливого и похотливого зверька.
- Нет, не хочу подрыгаться.
- Я могу дать тебе право на все. Ты сможешь жить с бабой, с двумя бабами и
делать с ними детей. Я научу тебя творить, извлекать из каждой секунды века.
Ведь это здорово.
- Да, это здорово. Но ты говоришь... как бы выразиться поизящнее... словно
сатана.
- Классический сатана был ангелом, кинувшимся от Бога в бега. Типичный оби-
женка, хотя и получил в итоге свою нишу. Я и братья мои не боремся с Ним, мы
не пытаемся взлететь к Нему на облако, мы просто продолжаем там, где Он
остановился. Мы, боги с маленькой буквы, издревле пашем на границе с хаосом, в
чем-то напоминая казачество. Мы - языческие боги, поэтому и поработать, и
пошалить любим. И пусть какой-нибудь шизанутый папа римский запишет нас в
дьяволы , даже душу твою мы не собираемся покупать или выменивать. Товар больно
сомнительный, скоропортящийся. Я рекомендую записать ее на приличные
носители. . .
Афродита вышла из воды, но как будто продолжала плыть, от взгляда ее
пробирала дрожь, которую иначе как сладкой не назовешь. Соски ее виртуальных
грудей еще не коснулись его, но он уже чувствовал их упругую силу. . . Данилов
сознавал, что это все синтетика, игра на клавишах нейроконнекторов, потоки
психокодов. Но он не мог заставить себя разложить целостное на элементы,
также как художник не представляет натурщицу в виде такого-то количества
килограммов мяса, жира, костей, слизи и соединительной ткани.
- Но как я могу поверить, богиня с маленькой буквы, что ты выбрала меня для
осчастливливания. Почему именно меня, а не кого-то другого, более именитого?
- Нет у меня правил, Данилов, бумажек с инструкциями: этого спасти за то-
то , того загубить за это. Ну да, господь Бог придумывает правила, которые,
похоже, и соблюсти-то невозможно. А я без всяких правил одаряю того, кого
хочу. На эту тему много есть в мифах Древней Греции. Если же ты завзятый библе-
ист, то считай, что я тебя посчитала ближним своим и возлюбила, а вот
дальнему своему могу спокойно оторвать яйца.
- И ты потребуешь от меня предать дружков?
- Нет, просто не лезь мне под руку. Отчаливай с Европы первым же рейсом, я
тебе и мультипаспорт выправлю. Начнешь новую жизнь, старую закончишь. У меня
тоже была прежняя жизнь. Зевс-громила отсек плодоносящие чресла моему отцу,
Урану-небу и бросил в воды Океана. Думал Зевс, что все, концы в воду. Как бы
не так. Материнская стихия приняла их и родила меня. Я тогда имела несколько
иную кодировку, чем сейчас, но носитель был тот же - глюонная решетка,
вектор-бозонные волны. Я тебе это говорю, несмотря на свою девичью скромность.
Пришлось Зевсу назвать меня своей дочкой, чтобы включить в систему... Ив
этой жизни у меня тоже как бы есть папаша. Ты знаешь, о ком я.
- Я сочувствую, что у тебя такой батя. . . Но все-таки - я линяю с Европы, а
ты по быстрому разбираешься с моими дружками?
Она отжимает волосы руками, и они становятся ореолом пепельного цвета. Он
боится опустить глаза вниз, к источнику жара, который внедрялся сейчас в его
тело - и в виртуальное, и поди уже в физическое.
- Никаких лишних мучений, хотя они дуралеи, - нежно улыбнулась Афродита.
Какой же у нее рот, подумал Данилов. Не как у куклы, довольно немаленький, но
вычерчен классно... - Носятся, понимаешь, со своими виртуальными экспертами.
Думают, небось, что они будут очень нужны восстановленным гальгальтам. Да не
они, ни пять миллиардов лишних ртов виртуальным экспертам не интересны, этим
абстракционистам вообще противна нормальная работа.
А какой от нее аромат - не дурман, а симфония-аромафония из запахов моря и
душистых трав.
- Не будь козлом, Данилов, прыгай на меня. На мне даже камень расцветет. У
тебя появятся дети, отпрыски, смехотливые шалунишки. И никаких там болезней
Дауна, прогерии, иммунодефицитов. Я обеспечиваю надежную биотехническую
поддержку со стороны своих операционных модулей - хочешь стать родоначальником
нового народа? Назовем его - даниляне. Или даниэльцы. Тебе как больше
нравится?
Данилов как будто взмыл над голубым заливом с изрезанными высокими
берегами, на склонах которых паслись козы и овечки. Кудрявые детишки гонялись за
кудрявой скотинкой с хворостинками, а стройные женщины в длинных одеяниях
чинно поднимались по тропе, ведущей к беломраморному храму. Где-то вдалеке,
среди солнечных бликов, шел парусник с пестрым парусом. Даниляне. Даниляне -
лучше звучит, чем даниэльцы.
- Ну, иди сейчас ко мне, первый данилянин, а потом отчаливай.
- Ты электронная, а я не киберонанист.
- Я могу воплотиться в любое тело. Даже сделанное из пены хозяйственного
мыла.
И он сразу почувствовал непосредственную близость теплого белкового
существа . Афродита как будто незаметно, но при этом весьма сильно переменилась. И
стала Зухрой Эдуардовной.
- Я знаю, что скрывается за этим мимиком, - усмехнулся умудренный опытом
Данилов. - Помесь крокодилы и осы плюс плохо отрезанные яйца и пробивающаяся
борода. А я не скотоложец и не педик.
Но никакого мимика не было - об этом сообщал инфосканер. И никакого намека
на "яйца", только женские икс-икс хромосомы - что неумолимо свидетельствовали
органосканер и биозонд. Зухра была ставленницей Афродиты и не могла
прокалываться на ерунде.
Зухра Эдуардовна была живым протеиновым воплощением цифровой богини.
Физическое совершенство, свежесть, соразмерность, изящество, фертильность. Руки
несколько длиннее, чем скажем, у женщин столетней давности, но далеко не
такие, как изобразил знаменитый итальянский живописец. Да, плотская аватара
Афродиты была удачной.
Хоть ты обосрись, а другой такой красавицы не найдешь, грустно подытожил
Данилов. Ну, что можно противопоставить такому комплексному натиску? Какие-то
невнятные выкрики типа "Изыди", истерики на тему "Победа или смерть"?
Пока дают - бери, малыш Данилов. Эта минута - твоя, ведь на следующей,
скорее всего, станешь ты снова пылинкой.
Объятие оказалось чудесным, поцелуй тоже. Данилов поплыл, спереди,
посредине, сзади, как леденец в горячем рту, такое сладкое щекотливое течение - пора
портки ощупывать, не мокрые ли.
Она уже приникла к нему - как паразит, как хищник, как любовница. И как
виртуальная всемогущая Афродита, и как живая близкая Зухра Эдуардовна...
Данилов и она(они) словно танцевали на языках пламени. Данилов не мох1
надавать ей(им) по физиономии и выбросить. Она(они) были слишком красивы,
доступны и сильны.
Данилов собрался отстранить Зухру-Афродиту твердой рукой, но рука оказалась
вдруг расслабленной как сосиска. "Выше пояса я принадлежу партии, а ниже
пояса - народу", так кажется выразился один латиноамериканский генсек.
Ее грудь, ее талия, бедра, ноги проникли в его глаза, ее феромоны и пахучие
афродизиаки напали на его нос, ее сочный шепот захватил его уши, и его
разгоряченная адреналином кожа стала добычей ее умелых рук.
Разум возражал, но воля свернулась колечком и заснула в амигдале.
Потенциация шла не в переднем мозгу, как у сильной личности, а в заднем
"рептильном", она текла по позвоночнику, спускалась ручейком в чресла, а
потом превратилась в волну и захлестнула Данилова.
Плоть сильно напряглась и болезненно заныла, взыскуя разрядки
напряженности.
Теперь-то точно диверсии на сервере не будет. Меч самостоятельно
перековывается на орало. Вот он, конец. Конец высоких помыслов.
Сильно разгоряченный мужик прижал красотку к стояку, прикрытому мимиком
теплой колонны, быстро оголил все, что необходимо и, так сказать, напористо
вошел . Красотка повисла на его шее и обхватила его талию ногами. Он почти не
чувствовал ее веса, настолько мускулы бурлили от энергии.
В какой-то момент он чисто машинально пересчитал пальцы на ее руке,
страстно впившиеся в его шею. Все-таки шесть. Осталась чертова отметина, фирменный
знак Фюрера.
Зухра - хотя и совершенная, но кукла... Ну и что с того? Не колышет. Все мы
не слишком самостоятельные.
Данилов и она занимались отлично сбалансированным по части гормонов и ней-
ротрансмиттеров сексом, но одновременно где-то в нем сохранялось
беспокойство.
Беспокойство заставило его отшатнулся от лакомой, но все же вражеской плоти
Зухры-Афродиты - если не физически, так душевно. Физически не получилось бы
из-за того, что дама обхватывала Данилова руками и ногами.
Он захотел возразить. И только захотел, как слабость превратилась в силу.
Афродита ему неприятна. Она живет своей властью, подчинением и
использованием. Она живет за счет расчленения душ. Она живет азартом нечистой игры. Она
хочет полностью и окончательно победить его, превратив из человека обратно в
глину. А потом глину не спросят, чего ей нравится, и что она хочет. Из глины
делают горшки и кирпичи, ее размазывают руками и разминают ногами.
Сладкая волна прокатилась пару раз и больше не возвращалась. А следом
пришла другая волна и понесла Данилова. Протестующие мысли, раскручиваясь по
спирали, получили мощную поддержку.
Он увидел Афродиту под собой.
Чей-то голос, не совсем его, отчасти чужой, прогремел в ушах:
- Ну, так как, цифровая ехидна, провел я тебя "к той дряни, которая дрыхнет
во льду Европы"? Получила ты от меня, что хотела? Или облом?
- Что ты делаешь, Гальгальта? Ты, рухлядь, тебе со мной не справиться, -
прошипела богиня, как придавленная змея. - Я сейчас уничтожу твою психоматри-
цу.
Он (кем он сейчас был?) давил на Афродиту, размазывал ее, испытывая при
этом явно мужское удовлетворение. Он проникал в ее модули и каналы, в ее
ассоциаторы и ментализаторы, в сенсорные матрицы, в бесчисленные клетки ее
цифрового тела. Проникал, хотя не понимал "как".
Откуда-то сверху упал тяжелый голос, совсем уже чужой.
- Я не Гальгальта, ясно тебе, потаскуха? Ты могла прельстить только этого
"полужидкого", но не меня.
Это были слова не "полужидкого" Данилова, а великого и могучего
гиперкомпьютера. Судя по характерным кодам - Лунатика.
Новая сенсоматрица показала сетевое пространство горной местностью, набором
вершин и пропастей.
Он (Полуданилов-Полулунатик) и Афродита стали как два хищника, схватившихся
в виртуальном каньоне.
Вихрь атакующих сил, стальной напряг мускулов, секущие плоскости челюстей.
Она, как будто потеряв плотность, выскользнула из захвата, и тут же резким
ударом головы опрокинула его. К его подбрюшью двинулись ее челюсти, за
которыми ярился острый ядовитый хобот. Но он, скрутив тело, увернулся от
смертельного вторжения. Разгибаясь, он завращался в трех расширяющихся сферах. Он
начинал атаку за атакой, но не доводил их до конца, изнуряя врагиню обманом.
А затем во внезапном прыжке пробил ее защиту там, где пластины панциря имели
пробел, чтобы увеличить гибкость членов. Он глубоко вошел в нее челюстями,
затем сомкнул их. Как будто взвизг и взрыв. Неизвестно, что случилось с
дерущимися гиперами, но "полужидкому" показалось, что он сам разлетелся в хлам.
Боль, смешение чувств, отсутствие мыслей, удушье, тошнота.
Наконец он полностью отсоединился от гипера и расплылся в изнеможении.
Кажется, Ханна Кац окликает его...
- Эй, проснись, диверсант, пока хулиганы не украли у тебя остатки мозгов.
Похоже, ты оказался стоек, как кусок сахара в стакане свежей мочи. Но сервер
мы хакнули. Пора готовится к передаче Нинет.
Данилов с трудом продрал слипшиеся веки.
Это был уже не тот отсек с силовыми установками, где на него напала
Афродита. Скорее уж пультовая.
Данилов со скрипом приподнял и несколько повернул одеревеневшую голову.
Несколько трупов в изорванной форме Информбюро. Неживая Зухра Эдуардовна с
аккуратной дырочкой в груди; красота ее бюста не особо пострадала и в
совершенном лице появилась значительность. Жалко ее, но не очень, потому что на
большее собранности не хватает.
Поворот головы в другую сторону и нельзя не заметить большую дыру в
переборке, проплавленную, похоже что гразером. Через пробоину виднеется соседний
ангар.
Повсюду стоят лужи с сильным аммиачным запахом. Европейская вода. Но
разгерметизации нет. Или уже нет. У главного пульта управления сервером стоит
Чипе и работает. Лицо бесстрастное, ничего не выражающее, как и прежде.
Неподалеку, у другой панели управления, два мозхювика: правая рука мужчины
в левой руке женщины, свободные ладони сжимают торчащие троды биоконнекторов.
Мозги головастиков обрабатывают информационный ураган; они перекидывают друг
другу потоки данных прямо через свою пупырчатую кожу.
Зрелище было сильным настолько, что Данилов вскочил на ноги.
- Чипе, когда ты успел получить диплом программиста?
- Это я, Данилов. Я, Ханна Кац, вернее психоматрица Ханны Кац, - сообщил
Чипе своим рептильным голосом. - Чипе стал моей очередной аватарой. Но он
классный ниндзя. Проник на эту палубу через вытяжной канал шириной в двадцать
сантиметров. Затем открыл наружный шлюз, принял головастиков и кое-какое
оружие в придачу. Пострелял тут маленько... Мы понадеялись на тебя, Данилов, но
не настолько, чтобы пустить все на самотек. В конце концов, Афродита сильнее
любого смертного. Но ты все равно молодец, отвлек на минуточку ее внимание.
На минуточку отвлек внимание? Вот и все значение гражданина Данилова в
мировой истории?
- Значит и мое самопожертвование было запланировано?
- В каком-то смысле да. Мы умеем просчитывать все наперед не хуже
гиперкомпьютеров . Если бы ты не самопожертвовался, пришлось бы тебя подкупать или
запугивать . Понимаешь, мы хоть и борцы за свободу, но все-таки революционеры, и
кое-что из репертуара Коминфтерна нам не чуждо. Да, малыш, принципы морали к
межвидовой борьбе редко применимы.
- Ах, сволочи вы, сволочи, - отреагировал Данилов, - вы те же коммунарики,
только когти покороче.
- А еще мы могли бы вполне обойтись без тебя, - сказал Чипс-Кац, - похлопав
по увесистому гразеру, выглядывающему из кобуры. - И ты бы вообще не
засветился в истории... Ладно, за этой беседой мы скоротали паузу и теперь Нинет
готова для перекачки. Пакеты данных сформированы.
Сказал и верхняя половина его тела упала на палубу, пустив реактивную струю
крови. Нижняя половина, страшно покачавшись, тоже легла в красную лужу.
Данилов, мгновенно включившись, спрятался за массивным черным телом
квантового процессора.
- А ВОТ НИЧЕГО У ВАС НЕ ВЫЙДЕТ. Вы обосрались, друзья. Туалетная бумага в
клозете за углом.
Сквозь пробоину было видно, как в соседнем ангаре, на "постаменте" -
стартовой площадке для запуска ракет-зондов - кривляется маленький изуродованный
прогерией Анпилин с золотистой пластинкой в правой руке и мезонным
прерывателем в левой. - Это чип-замок выходных портов сервера, мои дорогие. Без него
никакая информация в решетку не уйдет. Без него придется ломать защиту
системы связи, а на это понадобится несколько часов. Ах, если бы они у вас были.
Короче, четвертую мировую войну вы прокакали.
Инфосканер показывал, что Анпилин был только "верхушкой прыща". Через
сетевое пространство к нему тянулись мощные высокоуровневые каналы. Как будто в
нем находилось "зеркало" гиперкомпьютера. Судя по характерным кодам - это был
первый гипер. Судя по мощности объектного моста, в Анпилина могла быть
перемещена даже психоматрица Фюрера.
Это не укладывалось в голове. Великий гиперкомпьютер и обезьянистый типчик,
глумливо выплясывающий чечетку на стартовой площадке...
Данилов запустил свой нитеробот на трубу воздуховода и вознесся. Затем по
паучьи шмыгнул по потолку, цепляясь вакуумными присосками, в соседний отсек.
Теперь Анпилин оказался внизу, под ним. Оставалось только спрыгнуть на
стартовую площадку. Однако крепко встать на ноги и перейти в атаку не удалось.
Анпилин сразу налетел на Данилова и рубанул мечом - мезонным прерывателем.
Противник смахивал на гиббона - такой же ловкий и гибкий. Хотя гиббон, конеч-
но, мог бы пойти к нему в ученики.
Джин Хоттабыч не сплоховал: душ из "черной вдовы" окатил нейромышечные
связи, С-адренергик мобилизовал сосудистую систему и стал "освобождать"
энергоресурсы жиров. Об атаке рано было думать, но Данилов сумел использовать свою
неустойчивость и, совершив пару перекатов, вышел на новую позицию. Заодно он
затянул лицо серебристой металлорганической маской, чтобы какие-нибудь
вредные интеллекулы не пролезли через ноздри или поры кожи.
Но Анпилин был как будто приклеен к нему.
Данилов едва увернулся от удара наискось, наудачу парировал укол. Волны
интерференции стали кромсать воздух. От комбеза отлетела приличного размера
тряпка с прилипшим к ней куском кожи с предплечья.
Мезонные "клинки" казались и жесткими как алмаз, и одновременно гибкими
словно прутик. Все зависело от углов и мощностей взаимодействия.
Два анпилинских выпада на среднем уровне Данилов отбил совсем уж
конвульсивно, замечая, что не может втянуть "гиббона" в свой сценарий поединка, что
не удается даже простой переход на контратаку.
От скрестившихся мечей разлетелись стайки веселых плазмоидных пузырьков,
прилично потрепавших его комбез.
Данилов еще раз удивился тому, что остался жив - Анпилин был быстр и
сноровист , как классический черт.
Экс-особист ощутил, что бессилие уже готово влиться в его душу, словно
мультипорт-вейн в широкую глотку работяги.
Анпилин пританцовывал, делал ложные выпады и как будто даже не торопился
добить оппонента. Или он тоже боялся ошибиться?
Могучий карлик незаметно перешел в атаку, и клинок его мезонного
прерывателя превратился в секущую волну.
За секунду до смерти Данилов взял мгновенную паузу - все как Борибабин
прописал. Свет озарил маски великой Пустоты, прояснил тождество Данилова и с Ан-
пилиным, и с великими-ужасными гиперами. Сила на всех одна, и каждому внятен
ее узор.
Данилов вырвался из пелен страха, как бабочка из куколки. И полетел. В
полете он включил опаснейшего из карликов в свой сценарий, в свои
энергетические сферы, в свою симметрию.
Он нырнул под "волну", а потом, когда она двинулась назад, легко
перепрыгнул через нее. Противник запутался и открылся, Данилов "поймал" нужную
траекторию - как будто услышал мелодию - и ударил. Его клинок пошел как плеть,
потом как бумеранг и распорол Анпилина в районе живота. Оттуда охотно полезли
внутренности. А на обезьяньем лице застыла гримаса. Данилов для надежности
еще отвалил правую кисть врага, сжимающую мезонный меч. Кусок обгоревшей
плоти и черный цилиндрик меча усвистали незнамо куда. Несчастный карла сел,
потом упал набок, прижимая правую руку к животу. Между длинных сучковидных его
пальцев пузырилась темная красная жижа. Левая рука, лишившаяся кисти, билась
и брызгала кровью, как поливочный шланг.
Данилов чувствовал и жалость, и желание поскорее избавиться от дьявольской
обезьяны. Он сделал шаг к поверженному Анпилину.
Механика стартовой площадки пришла в движение, прежде чем инфосканер
разобрался с работой автоматики. Щиты площадки разошлись под ногами и Данилов
провалился в бункер, где хранились ракеты-зонды, предназначенные для
мониторинга Европы. Он не расшибся, но в руках у себя уже не нашел меча-прерывателя
- его вышибло по дороге соударением с какой-то подлой железякой.
И еще одна неприятность. Похоже, все местное хозяйство, включая шеренги
ракет, сейчас собралось взорваться. Топливо из шлангов заливало бункер и
достаточно было искры...
Данилов применил свое секретное оружие - поднатужившись, выхаркал содержи-
мое капсул-вазикул, оснащавших эпителий его миндалин. Содержимым были нанобо-
ты-расщепители серии 12Б-м, предназначенные для уничтожения взрывоопасных
веществ. Искра упала, но голубоватые язычки пламени лишь кое-где полизали
палубу и обшивку, а затем разгладились и померкли.
Данилов открыл ключом-вездеходом клинкетную дверь и в вытянутом цехе-
коридоре, где раньше шла сборка зондов, снова встретился с Анпилиным.
Внутренности у этого неистребимого гнома уже не лезли наружу и кровь даже не
сочилась из огромной резанной раны. Сквозь прореху в его комбинезоне виднелся
полисахаридный пластырь-регенератор, который скреплял свежий нарост кожи.
Культя левой руки затянулась протеиновой пенкой. А в правой руке Анпилин
сжимал здоровенный крюк.
- Пришел собрать в пакетик мои обугленные косточки, Анастасий? Или кто ты
там?
Разговор не получился, потому что собеседник атаковал своим крюком. Данилов
отскочил, поскользнулся и разложился на палубе. Враг налетел, но попался на
обман и улегся, получив по коленной чашечке.
Данилов нащупал обрезок какой-то трубы и хотел было угостить Анпилина по
голове.
Резким почти неуловимым движением мелкий противник сумел перехватить ее
своим крюком и дать вольтаж. Данилов заметил как покраснели разрядные рубцы
на ладони карлика и едва успел отбросить опасную трубу. Крюк взлетел над
Даниловым, но заарканенный нитероботом карлик шлепнулся на спину раньше, чем
успел ударить.
Мощным регбийным броском Данилов хотел припечатать Анпилина, но тот уже
рассек аркан термоножом и упорхнул.
Данилов врезался в палубу и чуть было не заплакал, настолько неуязвимым
казался этот карла со способностями гиганта.
Под руку попалась крышка от бака, Данилов швырнул ее и перекрыл удар
термоножа . А затем врезал Анпилину в челюсть. Эта деталь у противника все-таки
оказалась "жидкой". Еще удар - уже позаимствованным крюком, который застрял у
Анпилина в горле. Карлик, наконец, улегся и перестал совершать стремительные
неожиданные движения.
Данилов выхватил чип-замок из анпилинского кармана. Пора вязать обомлевшего
гада с помощью нитеробота.
Не успел. Прямо в цех-коридор влетел флаер. Данилов отшатнулся к переборке
и укрылся за выступающим шпангоутом. Флаер завис над Анпилиным, а затем
выпустил механическую руку с буром. Бур мгновенно раскурочил череп лежащего
карлика. Звуки терзаемой кости были столь неприятны, что Данилов даже
зажмурился. А потом механическая рука вырвала из дыры в анпилинскои голове сгусток
с тянущимися за ним "соплями" - знаменитый осьминожик капсулы Фрая.
Флаер еще попытался ликвидировать Данилова, шарахнув по переборке зарядом
из плазмобоя, но бывший особист уже юркнул в боковой коридорчик, так что
ударная горячая волна лишь швырнула его метров на двадцать.
После столкновения с переборкой Данилов еще минуту-другую возвращал себе
мысли и чувства, потом рванулся по трапу в пультовую.
У головастиков были красные потные лица, почти один к одному свежие блины
со сковородки. Они были на пределе.
Данилов, всунув чип-замок в мигающий слот, открыл порты сервера.
Пакеты данных были уже готовы, отмыты от катаболитов <Прим.: лишенные
информационной нагрузки коды> и сейчас пошли на пересылку.
А Данилов влетел по трапу в полусферу противокосмической обороны, джин тут
же подключил к себе модули управления оружием, засек улетающий флаер и пустил
в его сторону ракету.
Ракета пошла по скручивающейся спирали, но флаер обманул ее, резко снизив-
шись, почти свалившись, до ледяного гребня на европейской поверхности и тут
же взмыв вверх. Ракета же, не вынырнув из пике, рассыпалась снопом пушистых
искр.
Затем пилот (или автопилот) флаера решил обезопасить себя и атаковал
полусферу ПКО.
На боевой отсек обрушился шквал плазмы, однако семь ракет типа "Бес-2"
успели уйти в сторону флаера.
Данилов выскочил из полусферы, чуть раньше, чем она сгорела дотла, но джин
уже загрузил свои сенсорные модули в боеголовки летящих ракет.
На несколько мгновений Данилов с помощью нейроконнекторов превратился в
стаю пбесов" - и флаеру был поставлен мат в два хода.
Кумулятивная боеголовка прожгла его насквозь, уничтожив узел управления.
Борт-компьютер флаера отбросил взрывоопасные химические ускорители и стал
аккуратно опускать его на европейский лед.
Рядом с "парадным" шлюзом сервера Данилов обнаружил стойку с модерновыми
пакетными скафандрами. Он нырнул в пакет, который самостоятельно склеился и
стянулся на теле - всего каких-то тридцать секунд - вышел через "парадную" и
преодолел с помощью нитеробота сто метров, отделяющих верхнюю палубу сервера
от ледяной коры.
Флаер лежал неподалеку, каких-то двести метров. Откинув "фонарь" из него
выбрался камрад - судя по росту, высокопоставленный соларит.
А потом невесть откуда взявшийся огненный шар сжег упавшую машину и
отбросил соларита.
Данилов оглянулся назад. На верхней палубе платформы стоял Анпилин с мощным
плазмобоем, причем без скафандра. Даже отсюда была видна кровь, залепившая
черным льдом его голову.
А поверженный соларит застонал в радиоканал знакомым голосом:
- Помоги мне, Данилов. Или эта мелкая гнида сейчас прикончит меня.
- Это не мелкая гнида, Фридрих Ильич. Это очень большая гнида. Причем в
состоянии сверхбиостазиса - метастазиса. К сожалению, ничем не могу помочь.
Сегодня он уже был уничтожен несколько раз - и хоть хны. Возможно, он прикончит
меня раньше, чем вас. А вы не думаете, что это воплощение Фюрера?
- Фюрер - уже полутруп, Данилов. Его сжирает вирус, от которого он когда-то
произошел.
- Но этот наглый полутруп, как и любой другой вампир, хочет жить вечно.
- Данилов, видишь, он не стреляет, возможно, кончился энергозапас плазмо-
боя. Давай же, вытащи меня. Мы сможем договориться с тобой и твоими друзьями.
Старый пердун Фюрер не нужен ни нам, ни вам. Спустим мощи в сортир. Афродиту,
блядь, туда же... Зухра была у нее заместо передника, разве это жизнь...
Функции конкретного управления передадим пекинскому гиперу, стратегией станет
заниматься объединенный консультативный совет из ваших и наших людей...
- Гольдманну бы это не понравилось, Фридрих Ильич.
- Да насрать. Христианство, мусульманство, капитализм, коммунизм, гольдма-
низм. Сколько нам еще с этими еврейскими выдумками мучиться.
Беседа прервалась на запятой. Второй огненный шар оставил от Фридриха
Ильича только гейзер, моментально превратившийся в ледяной столбик высотой
примерно в три метра. С этим заодно испарились все надежды чинуш из Главинформ-
бюро на правильную вечную жизнь.
Данилов понимал, что следующим будет он. Но Анпилин не торопился. Напротив,
он спустился по тросу и пошел к Данилову пешком.
- Почему не стреляешь, Анпилин? Прочитал добрую сказку или забыл, где
кнопочка находится?
- Из всех героев сказок я больше всего похож на Кощея Бессмертного. И я
помню все кнопочки в этой солнечной системе. Но зачем мне действовать так по-
жлобски? Оглянись, друг мой. Зачем мне лишать тебя столь ярких впечатлений.
И Данилов оглянулся.
Наступала волна. Для защищенного скафандром Данилова она катилась молча,
хотя и в сверхразряженной атмосфере Европы вряд ли могла произвести достойный
себя звук.
Предыдущий взрыв ледяной коры казался теперь пуканием новогодней хлопушки.
Нынешний вал шел от горизонта до горизонта и выглядел как оживший горный
хребет . Его украшал двадцатикилометровый плюмаж из замершего пара, впереди
бежали трещины, мигом превращавшиеся в частоколы километровых гейзеров. Впервые с
момента сотворения на Европе задул ветер и атаковал забрало шлема ледяной
крупой.
То ли Афродита, то ли Фюрер высвободили волну, которую должна была
уничтожить ледяную скорлупу Европы, а вместе с тем и Нинет.
Но они опоздали, и Данилов уже ни о чем не жалел.
Нинет успела вырваться из ледяного плена на свободу и улетела по каналам,
открытые для нее Лунатиком, на свои новые кластеры.
Нет, все-таки головастиков он жалел, да и Зухру тоже. Ничуть она не
счастливее, хоть и красивая.
"Ничего уж тут не попишешь, это действительно конец, - проникновенным
голосом заявил Джин Хоттабыч и сразу же поправился. - Но не абсолютный. Ведь даже
я не просто куча стандартных кибермодулей, уже ничто не сможет убить мою
бессмертную душу. Главный небесный Программист возьмет нас всех к себе и запишет
на вечные накопители данных..."
Данилов еще успел задуматься о том, пришел ли джин к ортодоксальной
религиозной точке зрения или же числит за какой-то киберсистемой функции
всеведущего Ума-Разума?
Но, когда оголтелые гейзеры уже рвались к небу со всех сторон, а
сумасшедшая стена заслонила половину мира, Данилова поглотила эллипсоидная тень,
черная глянцевая клякса, и понесла к огромному диску Юпитера.
19. Оседлав зверя
Юпитер
Путь лежал негладкий и неблизкий, не сравнить с теми мгновенными
трансферами, которые случились с Даниловым в Лабиринтис Ноктис и на "Медузе".
Физики до середины 21 века почти не въезжали в сущность психотрансфера.
Конечно, они были в курсе, что психические сигналы, также как и цифровые
сигналы Киберобъединения, бегают в глюонной решетке. Однако для передачи цифровых
кодов у Киберобъединения имелись и математические модели (стринговые
уравнения вектор-бозонных волн) и соответствующая аппаратура, а вот разработок по
части передачи психических сигналов Фюрер боялся как черт ладана. Изыскания
левых ученых на эту тему просто карались вышибанием мозгов. Только к концу
жизни Гипер Первый заинтересовался этим вопросом, не отстал от папаши и
Лунатик . За ними поспешила и оппозиционерка Нинет.
Во время трансфера Данилов обладал кое-какими чувствами, и даже подобием
зрения. Он увидел себя и ему стало грустно. И раньше был такой, что быстро не
влюбишься, а теперь и вовсе стал неказистый. Гражданин Данилов в своей новой
ипостаси напоминал луковицу: такова была наиболее энергетически-экономная
форма, придуманная должно быть "главным небесным Программистом". Перья-
сенсоры, наружный защитный слой, слой преобразования, ассоциативный слой,
ментальный слой.
Луковица была затарена как будто в светящуюся сеточку - Данилов догадался,
что это кика.
Кика была ручной, дрессированной и она исполняла задание капитана Варенцо-
ва.
А еще трансферный Данилов заметил "хвост".
Он тащил на буксире пси-структуру вечно живого Анпилина. Но не только.
Юркий карлик был упаковкой для супергипера.
Фюрер собирался въехать на чужом горбу в ад.
Но, видимо, это не противоречило планам других игроков - Лунатика и Кац.
Впоследствии, уже после окончания трансфера, Данилов старательно воскрешал
свои воспоминания, и когда у него это получалось, он снова кричал от страха и
удивления.
На Юпитере Данилов искупался в водородном океане, где волны высотой с
Эверест, а громадины-айсберги из аммиачного льда мечутся как крупа в бульоне, он
парил на крыльях ветра, покрывавшего тысячу километров в секунду, он увиливал
от молний толщиной с небоскреб. И он ознакомился с такой
достопримечательностью, как хранилище душ, доселе закрытый психический узел глюонной решетки.
Фюрер долго мечтал об этом узле, как о входе в глубины глюонной решетки.
Еще бы - "за порогом" откроется то самое место, где даже ленивый не останется
без бессмертия, где гостя поджидает сладостная вечность, не зависящая от
физических устройств массовой памяти, рутинного программного обеспечения, ки-
бервирусов, коварных хаккеров и разных превратностей подлюки-судьбы!
Упакованный в Анпилина Фюрер влетел в юпитерианский узел глюонной решетки и
началась ударная стройка Вселенной! По моментально наведенным каналам сюда
стали слетаться полезные киберобъекты. Трансляторы, компиляторы и интерфейсы
создавали колыбель для вновь рождаемого Фюрера - прежде неизвестное киберпси-
хическое пространство, где хлынувшие отовсюду цифровые коды превращались в
психические структуры.
Первый гипер рос и мужал со скоростью света, воплощаясь в новом мощном
теле, уже не цифровом, а психическом.
Данилов готов был уже просить пощады у повелителя, но ощутил в себе силы,
которых не может быть у человека. Он осознал себя упаковкой для Лунатика. И
принялся свивать свою колыбель.
А следом пожаловала на Юпитер и Ханна Кац, служившая упаковкой для крошки
Нинет.
Машины, вторгнувшиеся в ад - Лунатик, Нинет и Фюрер - обрели новые
психические тела и практически совместно стали строить мост над бездной, сшивая в
глюонной решетке киберпсихическую реальность.
В этой реальности кибернетические объекты получали душу, рождались в новом
психическом теле, украшались золотистым нимбом. Цифровой разум не исчезал, но
через адаптеры получал в свое владение исконные психические силы.
Не сговариваясь, враги совместно сгенерировали сенсоматрицу для нового ки-
берпсического пространства.
Она напоминала громадный амфитеатр. На арене боролись разные формы кибер-
психической жизни. Под ареной, в глубинах ада, проигравшие должны были быть
расщеплены и уничтожены.
Тонкая завеса помех еще отделяла "артистов" от мириадов "зрителей" - видимо
из-за нестыковки протоколов общения. Но зрители были рядом. Мириады душ уже
расселись на ярусах.
Наскоро сляпанная арена выглядела неустойчивой. Более крепкие участки, где
записи уже достаточно жестко структурировались, чередовались с зыбкими, где
информация еще находилась в хаотическом состоянии и пока не поддавалась
упорядочиванию. По арене там и сям пробегали трещины, уводящие в
неструктурированные глубины глюонной решетки. Только сорвись - и пропал в энтропийной
бездне.
Данилов то ли осознал, то ли просканировал киберпсихическое тело, которое
он делил с Лунатиком - оно состояло из миллионов компонентов. Не тело, а ог-
ромная армия со своими линиями связи, каналами снабжения, оборонительными
линиями и штурмовыми частями.
Лунатик давал жизнь этому телу, он помнил имя каждого модуля, адрес каждого
объекта, знал ту функцию, которая имеет над ним власть и тот канал, по
которому он получит приказ и даст свой отзыв.
Данилов владел этим киберпсихическим телом, также как недавно своим
физическим, в целом, направляя его волей, азартом и страхом.
Собственно, первое, что он почувствовал - это был страх. Данилов подумал,
что если бы у него были штаны, он обязательно бы в них наложил.
Он стоял посреди арены и как будто говорил: "Ave, Caesar, moritumi te
salutant1. . "
А потом Фюрер обрушился на него. Битва длилась может быть несколько
мгновений, но ее внутреннее время было бесконечно долгим и изнурительным.
Это было, конечно же, столкновением двух огромных киберармий.
Удар врага по всему фронту, наши оборонные коды взломаны, адаптеры
противника уже за линией наших фильтров, по наведенным объектным мостам в
оперативную глубину устремляются вражеские штурмовые компоненты. Диверсионные модули
врага совершают рейд по нашим тыловым сопроцессорам, разрушают магистрали
данных. Ожесточенный бой кипит у входа в стек. Но информационные каналы у
противника слишком растянуты, наши десантные киберобъекты легко терминируют
их, диверсионные модули противника отфильтрованы и истреблены, наши перешли в
контрнаступление...
Но это одновременно было и единоборством.
Фюрер, похожий на старого сенсея, легко движется по арене, его движение
подобно танцу осы, он мудро и быстро огибает энтропийные участки. Он лишает
Данилова путей отхода. И вот стригущий удар на верхнем уровне. Данилов еле
спасает свою голову, но он поражен стремительностью противника.
Фюрер снова перед ним, наносит два молниеносных удара на среднем уровне и
Данилов уже на спине, даже без шансов подняться снова.
Фюрер делает короткий замах для последнего удара и Данилов не может
крикнуть : "Мама", потому что мамы у него никогда не было.
И тут в момент предсмертного просветления он видит точку уязвимости у
Фюрера.
Вирус породил психоматрицу первого Гипера, дал ему личность, ядро
самоидентификации - лимбомер.
У Фюрера лимбомер был таким же слабым, как и у породившего его вируса.
С помощью лихого борибабинского двойного переката Данилов поднимается.
Все арены суть отражения одной Арены. Все силы есть одна Сила. Но вирус
этого не знает.
Данилов объединяется во всех трех энергетических сферах с противником,
теперь у них сеанс совместного творчества.
Фюрер взбешен тем, что его движения связаны, он рывком пытается разрушить
единство, мощь его велика, но его сила все еще в распоряжении Данилова.
Симметрия сыплется, и равновесие потеряно, оба противника проваливаются в
трещину.
Их швыряют и терзают вихри психоцифровых преобразований, но Данилов не
отпускает Фюрера, он как будто впился в него зубами, как Цербер хватает
челюстями и сжимает навеки волосатую ногу грешника. Неструктурированная
энтропийная глубина всасывает их.
И там от Данилова осталась только какая-то точка, у которой не было ни
памяти, ни силы. Точка-Данилов едва не погасла. И только тень какой-то любви и
какой-то жалости не дали ей исчезнуть. Силы вернулись к Данилову, и глубина
1 Славься, Цезарь, <император>, идущие на смерть приветствуют тебя (лат.)
отпустила его.
А Фюрер не выплыл, исчез лимбомер, скапустилась психоматрица.
Вслед за завершением поединка через трещины арены потянулся серый туман
Ада. Это были души, и Данилов позднее вспоминал, что было не слишком приятно
наблюдать их процессию. Но для них Лунатик и Нинет уже подготовили адаптеры -
ради преобразования во временный цифровой вид, годящийся для передачи по
сетевым каналам. И конвертированные в киберсубъекты обитатели Ада лихо
уносились по цифровым каналам глюонной решетки.
"Кибернетическое + психическое = любовь", можно было бы написать на какой-
нибудь подвернувшейся стене.
Оцифрованные души уносились туда, где их ожидала живая, но бездушная
человеческая плоть.
А Лунатик отринул ненужного уже Данилова.
Лунарскому гиперу пора было зачинать с Нинет психоцифрового младенца -
восьмого виртуального эксперта и тринадцатого гиперкомпьютера, которому
предстояло управлять всем миром. Нет, помогать всему миру перейти к
самоуправлению.
2 0. Праздник в сети
Система Юпитера, Ганимед.
Ух, где был я вчера, не найду днем с огнем. Сейчас, на твердой почве Гани-
меда, даже не могу поверить, что все это приключилось со мной.
Для начала Афродита с Фюрером сильно перестарались. Взорвали чуть ли ни всю
ледяную кору в западной полушарии Европы. Волны-цунами, ледяные метеориты,
гейзеры и все циклопическое. Короче, поверхность Европы серьезно обновилась.
Но к этому моменту кое-что изменилось и на Ганимеде.
Оказывается, лишь меньшая часть из людей Зонненфельда, захвативших лайнер
"Адмирал Горшков", долетела до "Медузы". Большинство ушло на шлюпках (вот
куда подевались спассредства с "Горшкова") к Ганимеду - о чем, конечно же,
хитрющая кошара Кац не поведала мне.
И когда Чужой открыл аварийные каналы для своего гибнущего Европейского
сервера, записи Нинет присоединились к его собственной информации и улетели
на Ганимедский сервер. Никто там и не пытался проверить огромный поток
приходящих данных. На Ганимеде Нинет быстро въелась в лед, и ребята Сонни сразу
испортили карту размещения записей, отчего виртуальная девушка-эксперт опять
стала незаметной.
Возможно, Фюрер взорвал бы и ганимедский лед, но не успел. Люди
Зонненфельда захватили сервер Чужого и тринадцатый гипер, синтезированный Лунатиком и
Нинет, выполз из маминой ледяной колыбели. Выполз и сразу взялся за дело.
Перво-наперво проник, используя папашины каналы, в дедушкины покои, где и
замочил старика.
Мощный энтропийный удар и Гипер Первый, лишившийся лимбомера на Юпитере,
развалился как гнилой гриб.
Итак, повторилась история 2012 года, но только уже с конца.
Новорожденный тринадцатый гипер, он же по совместительству восьмой
виртуальный эксперт, охотно взялся за дезинтеграцию старых гиперов, причем как
первое блюдо шли психоматрицы. При отменном аппетите ребенок быстро набирал
вес в ментобайтах и мощь в мемоваттах.
Преемственность в управлении народным хозяйством по счастью была соблюдена,
потому что не только Лунатик, но и делийский Брахман, и московский Распутин,
обладавшие всеми необходимыми "зеркалами", перешли на сторону революционеров.
(Или, вернее, контрреволюционеров, если учесть информационно-демократическую
революцию 2017 года.)
Все продвинутые модифицированные и верифицированные клоны второго и
третьего поколений после распада Киберобъединения оказались, мягко говоря, в
большом недоумении.
Однако живучая Афродита сумела еще взять немалое число гэдээровцев в прямое
управление. Забуревшие от злобы солариты, во главе с активистами-коммунарами,
поперли на захват серверов и узлов связи, по дороге стирая с "лица" небесных
тел всех "врагов народа". За несколько часов были сожжены, испепелены, анни-
гилированы гразерами и плазменными пушками тысячи людей в закрытых зонах,
тысячи людей в рабочих поселках получили "вышку" по приговору коммунарских
троек. Закрытые зоны огрызались выбросами патогенных интеллекул2 и засоряли
пространство самонаводящимися ядерными минами, на которых рвались крейсеры и
рейдеры соларитов. Уже пошли отключения энергии во многих космических мирках,
стремительно таяли тепло и кислород. Война, раздрай и террор набирали силу.
Но тут подоспел подарочек с Юпитера. Оцифрованные души из юпитерианскохю
ада соскользнули в головы "продвинутых" клонов.
Миллиарды верифицированных клонов вряд ли улавливали, что вообще
происходит . Их джины, лишившиеся указаний берлинского главкома, были в трансе. Их
нейроконнекторы были широко открыты для прилетающих кодов.
Миллиарды стерильных мозгов получили нормальные человеческие пси-
структуры. . .
А "Тринадцатый-восьмой" при помощи мамы Нинет, папы Лунатика, дяди Брахмана
и дяди Распутина вскоре доел старую тетю Афродиту.
Так завершилась очередная революция, а может и контрреволюция, кому уже как
угодно. Слава Богу, что обошлось без участия народных масс и пламенных
вождей, без торжества сопливого либерализма и пламенного социализма.
Клон товарища Феттмильха, как и следовало ожидать, снова стал либералом. И
хотя на работу в рекламное агенство его не взяли, зато он вступил в однополый
брак. Почти все бывшие солариты, увы, оказались геями.
Единственный сюрприз преподнесли, пожалуй, китайцы. Хотя пекинский Дракон
накрылся, также как и другие старорежимные гиперы, миллиард хунвейбинов
быстро воссоздал компартию Китая во главе с товарищем Пуи Дао, куда оперативно
перешли бывшие сотрудники Информбюро. Затем ЦК КПК обрубил все сетевые линии
связи и провозгласили лозунг: "Одна Земля и один космос, но две политические
системы..."
На Ганимеде я перешел из трансферного в стабильное состояние. Чудес на
свете в обрез и, увы, я лишился своего прекрасного человеческого тела. Теперь у
меня синтетический организм, киберорганическая машина; хотя и со способностью
к регенерации, однако с внешними генетическими носителями. Впрочем, мозговые
ткани были пересажены от моего замороженного клона. Клону не повезло, но без
этих мозгов я бы, наверное, уже и человеком бы не был.
На Ганимеде я не нашел Ханны Кац, которая гнусным образом втравила меня в
эту историю. Она уже воевала с обитателями Сахары, сохранившими преданность
гиперу Бедуину. Призрак Бедуина сохранился на уровне вируса в виртуальных
зазорах сетевого пространства и по ночам, через мириады наноустройств,
разносимых ветром пустыни, он что-то нашептывал кочевникам. Не удивительно, что они
посчитали его вторым Мухамедом.
А папаша Варенцов бегал за своей Ханночкой и умолял ее покушать и
отдохнуть . . .
Вместо эпилога
"КИКИ"; из популярной энциклопедии для детей и мальков.
... Итак, малыши, с помощью эволюционного холоанализа знаменитый доктор
Лемур Макроцефалос убедительно показал, что кики (Kikae) происходят по прямой
от микроскопических земных животных - коловраток, относящихся к классу
Rotatoria, тип Nemathelminthes. Причем выделение кик в отдельный вид
произошло порядка 100 миллионов лет назад.
Коловратки замечательны красотой, тонкостью организации, исключительным
разнообразием движений (плавание, ползание, шагание, неподвижность), и
связанных с этим покровов тела. У коловраток распространена и колониальность.
Они отличаются многообразной реактивностью на внешние раздражители.
Характерны для коловраток приспособления к смене климатических условий, выражающиеся
в смене половых циклов и способности переходить в "высушенное" анабиотическое
состояние.
Видимо за эти особенности коловратки были использованы холистическим
эволюционным процессом для генеза кик. Из замечательной приспособляемости
коловраток возникли такие свойства кик, как отсутствие постоянной биологической
формы, возможность вектор-бозонного трансфера, способность к мимикрии, то есть
копирование биологического аппарата туземных форм жизни. Еще стоит упомянуть,
что при малоклеточности коловраток удивительна развитость их мозга и ретроце-
ребрального органа.
Первое обстоятельство сыграло роль в несомненной, хотя и парадоксальной
интеллектуальности кик. Безусловно, они так же наблюдают за нами, как и мы за
ними. И это наблюдение нередко переходит в игру. Нередки случаи, когда
мимикрировавшая под человека кика начинает изображать из себя мудрого политика
или, например, заботливого мужа.
А вот ретроцеребральный орган кик является своего рода антенной для
"эволюционного ветра", основой их изменчивости. Как далеко зайдет эта изменчивость,
не знает даже доктор Макроцефалос.
Не особо гиперболизируя можно сказать, что будущее человечества всецело
зависит от "одомашнивания" кик, вернее от нашего симбиоза с этими симпатичными
дружелюбными тварями. И не исключено, что когда-нибудь человек и кика
соединятся в одно существо, которое возьмет от своих эволюционных предшественников
все самое лучшее...
Химичка
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ'
ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЮРИКА
Опыт #1
Получение 1-(2,5-диметоксифенил)-изопропиламина
К раствору 0.6 г LiAlH4 в 30 мл безводного ТГФ прикапывался раствор 0.9 г
1-(2,5-диметоксифенил)-2-нитропропена-1 в 10 мл ТГФ. Затем раствор кипятился
Все прописи взяты из интернета. Возможно, не все они работоспособны, они не
проверялись , а только редактировались при помещении в журнал.
с обратным холодильником 4.5 часа. После охлаждения прибавлялась вода до
прекращения выделения водорода. Осадок отфильтровывался и промывался дважды
кипящим ТГФ. Объединенные фильтраты упаривались и получилось ^0.3 г светлого
масла, которое использовалось далее без очистки.
Опыт #2
Получение 1-(2,5-диметокси-4-бромфенил)-изопропиламина
К раствору ^300 мг 2,5-DMA в 2 мл ледяной уксусной кислоты прибавлялось
0.45 мл раствора брома в ледяной уксусной кислоте, содержащего 0.28 г брома.
Смесь оставлялась стоять на 3 часа, разбавлялась небольшим количеством
эфира и отфильтровывалась. Выход ^150 мг DOB.
Опыт #4
Получение формиата аммония.
НСООН + NH3 -> HCOONH4
В стакан на 200 мл, содержащий 100 мл муравьиной кислоты пропускался
аммиак, который получался прикапыванием насыщенного раствора 150 г хлористого
аммония к ^300 г гранулированного КОН. Аммиак осушают, пропуская его через
колонку, заполненную щелочью. После пропускания всего аммиака расплав
полученной соли затвердел, и его оставили на несколько дней в эксикаторе,
заполненном NaOH и КОН 1:1. Выход 87.5 г формиата аммония.
Опыт #5
Получение фенилизопропиламина
В круглодонную трехгорлую колбу на 0.5 л вносят 87.5 г формиата аммония и
55 г метилбензилкетона. Смесь нагревают до образования двух слоев и начинают
медленно перегонять. При 150°С смесь становится гомогенной. Через 2 часа от
дистиллята отделяют слой кетона (^5мл) и возвращают обратно в колбу. Когда
температура поднимется до 190°С (на это уходит еще 2,5 часа) нагревание
прекращают, прямой холодильник заменяют на обратный и нагревают при этой
температуре еще 2 часа. Затем добавляют 30 мл бензола, отгоняют азеотроп вода-
бензол и кипятят еще 2 часа. Не рекомендуется нагревать реакционную массу
выше 190°С. Затем охлаждают и добавляют 70 мл воды.
Нижний слой отделяют, водный экстрагируют 50 мл бензола. Бензольный
экстракт объединяют с органическим слоем и прибавляют 53 мл концентрированной
НС1.
Затем кипятят с обратным холодильником 1 час, отгоняют бензол и кипятят еще
20 минут. После охлаждения экстрагируют бензолом 3x30 мл и бензольные
экстракты отбрасывают. Водную фазу подщелачивают прибавлением раствора 44 г NaOH
в 100 мл воды и свободное основание фенамина отгоняют с паром.
Органический слой отделяют, водный слой насыщают NaCl и экстрагируют 3x30
мл бензола. Объединенные экстракты сушат щелочью и сульфатом натрия.
Бензол отгоняют в вакууме и получают 25 г свободного основания фенамина.
Растворяют его в 150 мл изопропанола и нейтрализуют расчитаным количеством
серной кислоты, растворенной в этаноле (молярное соотношение 1:1).
Осадок сульфата фенамина отфильтровывают, промывают 1 раз этанолом и сушат
на воздухе.
Опыт #6
Получение 2,5-диметоксианилина
В 2-х литровой 3-горлой колбе с механической мешалкой разбалтывалось 190 г
2,5-диметоксинитробензола в 250 мл воды и прибавлялось 450 г сульфида натрия
в 750 мл воды. К этой смеси при перемешивании прикапывалось 160 мл конц. НС1.
Затем нагревалось до 90 °С и при этой температуре перемешивалось 4 часа.
Реакционная смесь охлаждалась, и выпавший осадок отделялся декантацией.
После перекристаллизации из изопропанола получилось 145 г ожидаемого
продукта .
Опыт #7
Получение 2,5-диметоксифенола
В 2-х литровой 3-горлой колбе к 145 г 2,5-диметоксианилина, смоченного 300
мл воды приливали охлажденный раствор 200 мл конц. серной кислоты в 200 мл
воды. Смесь охлаждали до -5°С и медленно при перемешивании прикапывали
раствор 79.4 г нитрита натрия в 300 мл воды, не допуская повышения температуры
выше 0°С. Причем приливали не весь раствор, а оставили ^60 мл. Причем во
время прикапывания раствора нитрита, в колбу добавляли дважды по ^100 г льда.
После прибавления всего нитрита смесь перемешивали 1 час без охлаждения.
Затем нагревали при 50 °С 1 час, затем 2 часа при 90°С. При этом происходило
выделение азота. После остывания смеси снизу образовалась плотная темно-
окрашенная кристаллическая масса. Раствор слили с этого остатка и
экстрагировали этилацетатом, экстракт объединили с твердым остатком и упарили в
вакууме . Продукт использовался для последующего метилирования без очистки. Выход
^125 г технического продукта.
Опыт #8
Получение фенамина-2
Смотрите опыт #5.
* Вместо формиата аммония использовали формамид.
* Метилбензилкетон предварительно перегонялся в вакууме водоструйного
насоса.
* Формамид также перегонялся в вакууме.
В круглодонную трехгорлую колбу на 0.5 л внесли 38 г метилбензилкетона, 39
мл формамида и смесь затем нагревалась при 180°С в течение 5 часов.
При этом в нисходящем холодильнике происходило образование кристаллов.
Дальнейшая обработка смеси проводилась как в опыте #5. Выход 11 г сульфата.
* Свободное основание фенамина было перегнано в вакууме.
* При хранении на воздухе продукт окрашивается в розовый цвет.
Опыт #9
Получение 1,2,4-триметоксибензола
К 125 г неочищенного 2,5-диметоксифенола (см. опыт #7) прилили 355 мл 10%
раствора NaOH и при 40°С небольшими порциями прибавляли 101 мл
диметилсульфата периодически встряхивая колбу. Затем было добавлено еще 63 мл раствора
щелочи и смесь выдерживалась при 50°С в течение 1 часа.
Затем смесь кипятилась 10 минут и перегонялась с паром. Из 7 литров
дистиллята выпало 12 г ожидаемого продукта. Остаток после перегонки с паром
многократно экстрагировался кипящим гексаном, при охлаждении экстрактов продукт
кристаллизовался в виде крупных желтых игл. Т.пл. = 72°С. После перекристал-
лизации из этанола t.mi. повысилась до 75°С. Выход 94,5 г.
Опыт #11
Получение 2,5-диметоксианилина
В колбу на 1 л поместили 80 г 2,5-диметоксинитробензола, 150 мл воды, 94 г
порошка железа марки "фарм" и 16 мл 40% НВг. При нагревании реакционная масса
почернела и ее кипятили 5 часов с обратным холодильником при перемешивании
механической мешалкой. Образуется твердая черная масса.
* Выделить продукт не удалось.
Опыт #12
Получение 2,4,5-триметоксибензальдегида
В колбу на 0.5 л с механической мешалкой и термометром внесли 53 мл диме-
тилформамида и 94.5 г триметоксибензола. Затем при температуре не выше 25°С
(охлаждая колбу в холодной воде) в течение 1.5 часа прибавлялось 52.3 мл хло-
рокиси фосфора. Затем смесь нагревалась при 60°С в течение 4-х часов.
После охлаждения смесь выливалась в воду, при этом происходит сильный
разогрев .
Выделенный фильтрованием и экстракцией продукт оказался искомым веществом.
Опыт #15
Получение 2-амино-4-метил-5-фенил-4,5-дигидрооксазола
В колбе с магнитной мешалкой смешивают 3 мл брома с 50 мл воды и
прикапывают из капельной воронки раствор 4 г KCN в 30 мл воды. Затем отгоняют 20 мл
дистиллята, который охлаждают и отфильтровывают 1.8 г белых кристаллов BrCN.
В конической колбе на 250 мл смешивают 3.5 г фенилпропаноламина
гидрохлорида с 30 мл этанола и 5 мл воды, добавляют 2 г ацетата натрия и раствор 2.4 г
бромциана в 20 мл этанола. Перемешивают на магнитной мешалке 30 минут при
комнатной температуре. Затем упаривают в вакууме этанол, разбавляют 20 мл
воды и подщелачивают добавлением ^20 мл 10% NaOH и добавляют поташом до
насыщения (^25 г), при этом отделяется темное масло. Его отделяют, а водный слой
экстрагируют 2x20 мл эфира. Объединенные экстракты сушат сульфатом натрия и
эфир упаривают. Получают слегка желтоватое масло, которое легко
кристаллизуется.
Опыт #16
Получение 3,4,5-триметокси-Ь-нитростирола
В широкогорлую колбу на 250 мл внесли 39 г 3,4,5-триметоксибензальдегида,
60 мл этанола, 11 мл нитрометана и при перемешивании механической мешалкой и
охлаждении льдом прикапывали раствор 12.4 г КОН в 40 мл этанола и 20 мл воды.
Прибавление продолжается 1 час при температуре около 0°С, при этом появляется
желтая окраска и осадок альдегида растворяется. Затем раствор перемешивали
при комнатной температуре еще 1 час, после чего вылили в 100 мл воды,
содержащей 11.5 мл конц. серной кислоты. Выпавший желтый нитростирол отфильтровали
и перекристаллизовали из метанола. Выход 27.5 г.
Опыт #17
Получение мескалина гидрохлорида
В 1-литровую трехгорлую колбу, снабженную механической мешалкой, обратным
холодильником и капельной воронкой поместили 0.5 л абсолютного ТГФ и 24 г
L±A1H4, затем при перемешивании добавляли по каплям раствор 27.5 г 3,4,5-
триметокси-Ь-нитростирола в ^100 мл ТГФ.
После прибавления всего нитростирола смесь кипятилась еще 4 часа и затем
избыток LiAlH4 разлагали прибавлением 25 мл воды, и добавили 20 мл 15%
раствора NaOH, через 30 мин осадок отфильтровали и промывают кипящим ТГФ.
Фильтрат упаривали и к остатку прибавили 300 мл бензола и отгоняли, пока
температура паров не стала равняться 80 градусам (отгоняется примерно 200 мл
бензола). В полученный бензольный раствор пропускался сухой НС1, образующийся
осадок отфильтровали и перекристализовали из этанола
Опыт #18
Получение (индолил-3)-глиоксилдиэтиламида
В 3-горлую 0.5 литровую колбу с механической мешалкой и капельной воронкой
поместили 19 г индола, растворенного в 200 мл абсолютного эфира и прибавляли
по каплям 26 г оксалилдихлорида в течение 1 часа при температуре ниже +5°С.
Затем перемешивали еще 2 часа, также при охлаждении. Выпавший желтый осадок
был отфильтрован и промыт на фильтре холодным эфиром. Получилось 40 г
продукта , быстро темнеющего на воздухе. Его сразу используют в следующей стадии. В
колбе, использованной в предыдущей стадии разбалтывают 40 г (индолил-3)-
глиоксилхлорида в 150 мл абсолютного эфира и при перемешивании и охлаждении
прибавляют 40 мл смеси диэтиламина и эфира 1:1, не допуская повышения
температуры выше 25°С. Затем перемешивают еще 1 час. Затем прибавляют 80 мл воды и
интенсивно перемешивают. Осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают из
ацетона. Т.пл. = 172-174°С. Выход 21 гр.
Опыт #22
Бромирование диметиловохю эфира гидрохинона
В 3-х горлой колбе на 0.5 л растворили 48 г диметиловохю эфира гидрохинона
в 160 мл уксусной кислоты и при перемешивании прикапывали 15 мл брома,
смешанного с 15 мл уксусной кислоты. Затем смесь перемешивали еще 15 минут и
вылили в 0.5 л воды. Органический слой отделили, смешали с 60 мл бензола и
высушили сульфатом натрия. После упаривания бензола перегоняют в вакууме
водоструйного насоса, собирая фракцию, кипящую при 180-200°С.
Опыт #23
Получение этиленимина
В 2-литровую 3-х горлую колбу поместили 240 мл моноэтаноламина и 100 мл
воды.
Затем из капельной воронки прибавляли свежеприготовленный (горячий) раствор
222 мл серной кислоты в 75 мл воды. При этом температура повышается до 140°С
и интенсивно выделяется пар. После прибавления всей кислоты нагревали смесь
на горелке. Температура растет до 240°С, когда происходит вспенивание.
Еще горячую смесь вылили в фарфоровую чашку, где она кристаллизуется. Затем
ее растирали в ступе с 60% этанолом, отфильтровали и промыли 60% спиртом
(всего потребовалось около 250 мл спирта). Получилось 370 г серых кристаллов.
Их перенесли в 2-х литровую колбу и смешали с 40% раствором NaOH,
полученным из 460 г щелочи. После 10 минут кипячения с обратным холодильником
отогнали 250 мл дистиллята. Его насытили КОН, отделили органический слой,
который после осушения КОН перегнали над натрием, собирая фракцию с t-кип. = 55-
80°С.
Ее еще раз перегоняют над натрием t-кип. = 55-56°С. Выход 26.7 г.
Опыт #24
Получение 2,5-диметоксифенилэтиламина
В 1-литровую колбу внесли 7 г магния, промытого СС14 и 400 мл абсолютного
эфира (перегнанного над LiAlH4) и из капельной воронки медленно прибавляли
64,4 г 2,5-диметоксибромбензола. Для инициирования реакции прибавили немного
йода и магниевых стружек, активированных йодом. Реакция начинается через 4
часа и за ночь большая часть магния растворяется. К полученному раствору
прибавили 15.5 мл этиленимина в 30 мл эфира и оставили на 1 час. Затем смесь
небольшими порциями вылили в 10% раствор серной кислоты (300 мл).
Эфирный слой отделили, а водный экстрагировали хлороформом (50 мл) и
экстракты отбросили. Водный слой подщелачили до рН = 12-13 отфильтровали осадок
и промыли его хлороформом. Фильтрат также экстрагировали хлороформом (3x50
мл) .
Объединенные экстракты высушили сульфатом натрия и упарили в вакууме.
Получилось 1.7 г светлого масла. Его бромируют в уксусной кислоте как в
опыте #2 и выбрасывают.
Опыт #25
Хлорметилирование диметоксибензола
В 2х литровой колбе с газоподводной трубкой готовят раствор 64 г диметило-
вого эфира гидрохинона в 300 мл бензола и добавляют ^30 г мокрого параформа
(после фильтрации заполимеризовавшегося формалина) и пропускают НС1 1.5 часа.
Затем отфильтровывают осадок через вату. Фильтрат встряхивают с холодной
водой в делительной воронке 2 раза. Сушат безводным поташом и бензол упаривают.
Продукт кристаллизуется при стоянии (t-пл. = 69°С, лит. = 72°С). Полученное
вещество перегоняют в вакууме. Получают 16.3 г.
Опыт #27
Получение оксалилдихлорида.
НООС-СООН + 2РС15 -> С10С-СОС1 + 2РОС13 + 2НС1
В 1-литровой колбе с обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой
смешивают 100 г безводной щавелевой кислоты (высушенной при 105°С) и 450 г пяти-
хлористого фосфора. Через сутки смесь разжижается и ее кипятят 30 минут.
Отгоняют ^1/3 смеси и дистиллят медленно перегоняют с дефлегматором, собирая
фракцию с t-кип. = 62-64°С. Выход 38 г.
Опыт #28
Получение (индолил-3)-глиоксилдиметиламида.
См. опыт 18.
* Условия такие же, что в опыте 18.
* Индола 32 г, оксалилдихлорида 38,5 г, диметиламина 28 г.
* Выход 34 г продукта, перекристаллизованого из ацетона.
Опыт #29
Получение сульфата диметилтриптамина
В 2-х литровую колбу с экстрактором Сокслета залили 1 л абсолютного эфира и
прибавили 12 г LiAlH4. В экстрактор поместили 34 г (индолил-3)-глиоксил-
диметиламида и кипятили до прибавления всего амида (что заняло 2,5 часа), а
затем кипятили с обратным холодильником еще 6 часов.
Затем из капельной воронки добавляли по каплям воду до прекращения
выделения водорода, затем избыток 15% серной кислоты (до растворения всего осадка).
Эфирный слой промыли раствором серной кислоты и отбросили. К объединенным
водным слоям прибавили 200 г калий-натрийтартрата. Соль растворилась, а затем
выпал объемистый белый осадок. Его отфильтровали и добавили еще 50 г тартра-
та.
Затем прибавляли 200 г КОН порциями по 50 г. После прибавления последней
порции отфильтровали выпавший осадок и фильтрат экстрагировали хлороформом.
Осадок также кипятили с хлороформом и затем хлороформ упарили. Получается
18 г основания диметилтриптамина в виде коричневого масла. Его гидрохлорид
выпадает из эфира в виде масла. Кристаллический сульфат получен из ацетона.
На воздухе он быстро портится.
Опыт #30
Получение 2,5-диметоксибензилцианида
В колбе на 150 мл растворили 16 г 2,5-диметоксибензилхлорида в 60 мл
ацетона.
Добавили 8 г KCN и 0,8 г безводного NaJ и кипятили с обратным холодильником
24 часа. Осадок отфильтровали и промыли ацетоном. После упаривания в вакууме
остается 7,2 г коричневого масла, которое при стоянии кристаллизуется.
Опыт #31
Получение 4-бром-2,5-диметоксифенилэтиламина
Для восстановления 7,2 г 2,5-диметоксибензилцианида берут 5 г LiAlH4 в 250
мл эфира. Обрабатывают как обычно.
* см. получение 2С-В PiHKAL
* Получают 1 г продукта.
* Продукт отличается от ожидаемого 4-бром-2,5-диметоксифенилэтиламина (!).
* Возможно, содержит примесь 1,4-бис{2-аминоэтил}-2,5-диметоксибензола.
Опыт #32
Получение бензилфениловохю эфира
PhOH + PhCH2Cl -> PhOCH2Ph
В литровой колбе к 90 г фенола, смешанного с 75 мл воды прибавили раствор
40 г NaOH в 75 мл воды. Затем при перемешивании механической мешалкой и
охлаждении добавляли порциями 112 мл бензилхлорида. Затем перемешивали 30 минут и
кипятили с обратным холодильником еще 1 час. Затем прибавили воды и отделили
верхний слой. Промыли его 2 раза раствором щелочи и 2 раза водой.
Получили 114,5 г масла которое кристаллизуется.
Опыт #33
Получение метилбензилкетона
В 2-х литровой колбе смешивают 96 г фенилуксусной кислоты, 300 мл 4-
пиколина и 300 мл уксусного ангидрида. Кипятят с обратным холодильником 6
часов и отгоняют при атмосферном давлении, пока температура паров не достигнет
160 °С.
Затем смесь охлаждают и смешивают с 200 мл бензола. Промывают раствором 30
г NaOH в 250 мл воды и 200 мл 10% КОН. Щелочной раствор экстракируют 50 мл
бензола и органические слои объединяют. Промывают 100 мл 20% НС1 и 2 раза по
50 мл воды. Отгоняют бензол и остаток перероняют в вакууме водоструйного
насоса, собирая фракцию с t-кип. = 120-170°С. Получают 36,5 г светлого масла.
Опыт #34
Получение фенамина - 3.
См. опыт #5
* Метилбензилкетон, полученный в опыте 33 использовался без очистки.
* На 36,5 г кетона использовали 50 г формиата аммония.
* Было получено 16,2 г свободного основания (19 г сульфата).
Опыт #35
Получение бромциана
KCN + Br2 = KBr + BrCN
Синтез проводят в колбе на 1 л, снабженной механической мешалкой. В нее
вносят 26 мл брома и 12 мл воды. Затем из капельной воронки прибавляют
раствор 43 г KCN в 70 мл воды (причем оставляют 12 мл) при охлаждении льдом.
Затем отгоняют бромциан, нагревая колбу на водяной бане (при 60-65 °С).
После затвердевания продукт отделяют от воды. Выход 40,2 г.
Опыт #36
Получение 2-амино-4-метил-5-фенил-4,5-дигидрооксазола
См. опыт #15
* Использовалось 15 г норэфедрина.
* Получено 11 г свободного основания.
Опыт #38
Получение 1-фенил-1-циано-ацетона
Приготовляют раствор этилата натрия из 25 г натрия и 290 мл абсолютного
EtOH.
К полученному раствору быстро добавляют из капельной воронки смесь 96 г
бензилцианида и 117 мл сухого этилацетата (перегнаного над хлористым
кальцием) .
Смесь встряхивают, нагревают водяной бане 2 часа и оставляют на ночь. Затем
перемешивают и отфильтровывают. Фильтрат охлаждают до -10 °С и снова
фильтруют .
Осадки объединяют и промывают ТТФ и эфиром. Растворяют в 530 мл ледяной
воды и продукт осаждают прибавлением 40 мл уксусной кислоты. Осадок
отфильтровывают и промывают водой. Ожидаемый продукт получают с удовлетворительным
выходом .
Опыт #39
Получение 2,4,5-триметоксибензальдегида
К раствору 58,8 г 1,2,4-триметоксибензола в 250 мл хлороформа, охлажденного
до 0°С добавляют 30 мл метилдихлорметилового эфира и затем из капельной
воронки при перемешивании 86 мл хлористого олова. При этом охлаждающую баню
убирают и температура повышается до 35°С. Перемешивают еще 1 час и выливают в
150 г льда.
Затем к смеси добавляют 2 литра воды и 250 мл СС14, отделяют органический
слой, который промывают 10% НС1 и 1 раз водой. Растворители отгоняют и
остаток при охлаждении кристаллизуется. Его перекристаллизовывают из смеси изо-
пропанол-гептан (1:1). Получают 35 г исходного вещества.
Опыт #40
Получение пипероналя
Смешивают 36 мл метилендиоксибензола с 47 мл N-метилформанилида и добавляют
65 г хлорокиси фосфора. Нагревают 1 час при 50 °С, охлаждают до комнатной
температуры и прибавляют еще 14 мл метилендиоксибензола. Затем нагревают 5
часов при 90°С на водяной бане. Смесь сильно темнеет. Охлаждают ее льдом и
выливают в лед. Экстрагируют 3x100 мл эфира, объединенные экстракты промывают
2x100 мл воды и сушат сульфатом натрия. Отгоняют эфир и остаток перегоняют
(при 2 мм рт.ст.) Получают 27 мл метилендиоксибензола. Остаток
кристаллизуется. Его растворяют в эфире, нерастворимый осадок отфильтровывают и
отбрасывают (1,3 г). Эфирный раствор встряхивают с раствором NaHS03, приготовленным
смешиванием насыщенного раствора Na2S03 с 50% уксусной кислотой из расчета
1,5 моль сульфита на 1 моль альдегида. Выпавший осадок фильтруют, промывают
эфиром и водой. Разлагают соляной кислотой, пиперональ экстрагируют эфиром,
сушат сульфатом натрия, и упаривают. Получают 9,3 г пипероналя.
Опыт #41
Получение N-метил-фенилизопропиламина
33 г тонкой алюминиевой фольги разрезают на кусочки размером 1-3 см (!) и
помещают в 3-х литровую банку. Добавляют 1,5 литра воды и немного нитрата
ртути. Через несколько минут появляется серая муть и начинается выделение
водорода. Раствор декантируют и алюминий промывают водой 2 раза. Добавляют
раствор 50 г метиламина гидрохлорида в 50 мл воды, 150 мл изопропанола, и 120 мл
25% раствора NaOH (при этом происходит бурная реакция), 33 мл метилбензилке-
тона и 300 мл изопропанола. Банку помещают в баню с водой.
Реакция продолжается около часа. Затем осадок отфильтровывают и промывают
изопропанолом. Упаривают в вакууме до отделения слоя свободного основания,
его отделяют (после охлаждения), а водный слой экстрагируют эфиром и
органические слои объединяют. Смешивают с 40 мл концентрированной НВг, разведенной
в 100 мл воды. Водную фазу 2 раза промывают бензолом, подщелачивают
прибавлением раствора 15 г NaOH, отделяют 30 г масла, и экстрагируют бензолом.
* Лучше высушить щелочью и получить сразу гидрохлорид.
После множества заморочек получают 15 г гидрохлорида первитина.
Опыт #43
Получение 1-(2,4,5-триметоксифенил)-2-нитропропена-1
В колбе на 100 мл растворяют 12,5 г 2,4,5-триметоксибензальдегида в 44 мл
нитроэтана и добавляют 2,5 г ацетата аммония. Кипятят с обратным
холодильником 2 часа. Избыток нитроэтана отгоняют в вакууме, оранжевый остаток
переливают в стакан, и промывают колбу 3x15 мл метанола. При этом продукт
кристаллизуется .
После охлаждения осадок отфильтровывают и сушат на воздухе. Выход 11,5 г
(71%). Т.пл. =100-102°С.
Опыт #44
Получение ТМА-2
В колбе на 500 мл растворяют 9 г LiAlH4 в 280 мл абсолютного ТГФ и
прибавляют медленно раствор 11,5 г 1-(2,4,5-триметоксифенил)-2-нитропропена-1 в 60
мл ТГФ. Кипятят 4 часа, охлаждают, добавляют воды до прекращения выделения
водорода, осадок отфильтровывают и промывают кипящим ТГФ, фильтрат упаривают.
Остаток растворяют в эфире и пропускают сухой НС1. Получают 9 г ожидаемого
продукта (75%). Его перекристаллизовывают из ацетонитрила.
Опыт #45
Получение 1-{3,4-метилендиоксифенил}-2-нитропропена-1
В колбе на 250 мл растворяют 15 г пипероналя в 80 мл ледяной уксусной
кислоты и добавляют 11,5 мл циклогексиламина и 15 мл нитроэтана. Кипятят 6
часов.
Затем охлаждают и разбавляют 10 мл воды. Осадок отфильтровывают, фильтрат
разбавляют водой и охлаждают. Отфильтровывают дополнительную порцию, которую
перекристаллизовывают из изопропанола. Выход 6,8 г.
Опыт #46
Получение N-бензоилгексаметиленимина
В колбе на 250 мл растворяют 15 мл гексаметиленимина в 100 мл эфира и
прибавляют по каплям 20 мл бензоилхлорида. Кипятят с обратным холодильником 30
минут, затем смешивают с водой (200 мл) , отделяют эфирный слой и промывают
его 2x100 мл 5% NaOH. Сушат сульфатом натрия и отгоняют эфир.
Опыт #47
Получение MDA
В колбе на 500 мл растворяют 5 г LiAlH4 в 200 мл абсолютного ТГФ и при
перемешивании прибавляют раствор 1-{3,4-метилендиоксифенил}-2-нитропропена-1
(6,8 г в 50 мл ТГФ), затем кипятят 4 часа с обратным холодильником и
добавляют 15 мл воды. Через час осадок отфильтровывают и ТГФ упаривают.
Получают 5,2 г коричневатого масла. Его растворяют в 30 мл сухого эфира и
нейтрализуют прибавлением насыщенного раствора НС1 в эфире. Осадок фильтруют
и промывают на фильтре эфиром. Выход 5,1 г.
Опыт #51
Сульфирование п-диметоксибензола
В стакане на 250 мл г к 25 г диметилового эфира гидрохинона прибавили 16 мл
концентрированной серной кислоты и оставили на 15 минут. Затем слабо нагрели
до растворения осадка и оставили еще на 1 час. Вылили смесь в раствор 40 г
поташа в 50 мл воды. Выпавший осадок отфильтровали и промыли на фильтре
небольшим количеством воды и затем 2 раза ацетоном. Получается 27 г (58%)
серого порошка.
Опыт #52
Нитрование салицилового альдегида
В коническую колбу на 500 мл поместили 84 мл салицилового альдегида и
прибавляли 82 мл разбавленной 1:1 азотной кислоты (68%), следя чтобы температура
не поднималась выше 20°С, при перемешивании механической мешалкой.
Это заняло 1,5 часа. Затем добавили еще 41 мл 68% азотной кислоты в течение
1 часа и оставили смесь при комнатной температуре на 2 часа. Затем куски нит-
ропроизводного измельчили, отфильтровали, промыли 3x100 мл воды и
перекристаллизовали из ацетонитрила. Получилось 50 г оранжевого порошка (5-нитро-2-
гидроксибензальдегида).
В колбу на 250 мл поместили 50 г 5-нитро-2-гидроксибензальдегида, 100 мл
толуола, 22 мл этиленгликоля и немного п-толуолсульфокислоты. Затем кипятили
с водоотделителем до прекращения выделения воды (около 2 часов). Толуол
отгоняют в вакууме, твердый остаток измельчают, промывают водой и перекристалли-
зовывают из этанола.
Опыт #54
Получение 2-метилиндола
В стакане на 250 мл смешали 90 мл фенилгидразина и 90 мл ацетона. Смесь
разогревается и мутнеет, затем ее нагрели на водяной бане еще 1 час.
Затем перенесли в стакан на 800 мл и смешали с 275 г безводного хлористого
цинка. Смесь нагрели до начала самопроизвольной бурной реакции (разогрев до
210°С). После остывания смеси до 120-130 °С вылили в стакан с 500 мл воды.
Затем перегоняют с паром. 2-метилиндол отфильтровывают и сушат в
эксикаторе.
Выход 52 г.
Опыт #55
Получение Ы,Ы-диэтил-(2-метилиндолил-З)-глиоксиламида
В колбе на 250 мл растворили 5,7 г 2-метилиндола в 60 мл абсолютного эфира
и в течение 1 часа добавляли 6 г оксалилдихлорида, смешаного с 10 мл эфира,
не допуская повышения температуры выше +5 ° С. Затем перемешивали еще 1 час,
темно-синий осадок отфильтровали, промыли небольшим количеством эфира и
перенесли обратно в колбу. Его разболтали в 50 мл эфира и прибавляли 10 мл диэти-
ламина, смешанного с 20 мл эфира при охлаждении льдом. Затем перемешивали еще
15 минут и добавили 50 мл воды. Осадок продукта отфильтровали и промыли
эфиром. От фильтрата отделили слой эфира и упарили. Продукты объединили и
высушили в эксикаторе. Выход 6,4 г.
Опыт #56
Получение 2-метил-N,N-диэтилтриптамина
В колбу на 250 мл поместили 100 мл эфира и 2 г ЫА1Н4. Затем добавляли по
каплям раствор 6,4 г Ы,Ы-диэтил-(2-метилиндолил-З)-глиоксиламида в 60 мл ТГФ.
Затем добавили еще 1 г LiAlH4. Кипятили с обратным холодильником 6 часов.
Затем добавили воду до прекращения выделения водорода. Осадок отфильтровали
и промыли на фильтре кипящим ТГФ (2x40 мл). Фильтрат упарили в вакууме и
получившееся масло растворили в 30 мл эфира и нейтрализовали раствором НС1 в
эфире. Осадок гидрохлорида отфильтровывают и перекристаллизовывают из спирта.
Выход 2,5 г белых кристаллов.
Опыт #57
Получение 2,5-диметоксифенилметилкетона
28 г диметилового эфира гидрохинона растворили в гексане и прибавили 24 мл
четыреххлористого олова. Затем из капельной воронки при перемешивании прибав-
ляли 18 мл пропионилхлорида так, чтобы температура не была выше 40 градусов.
Затем оставили на 1 час при комнатной температуре. Затем реакционную массу
смешали с 200 мл воды и отделили органический слой. Водный слой
экстрагировали гексаном, объединили органические фазы, и после отгонки гексана перегнали
в вакууме. Получили 20 г. светло-желтого масла.
Опыт #58
Получение 2,5-диметокси-дигидрокоричной кислоты
К 20 г 2,5-диметокси-пропиофенона прибавили 7,5 г серы и 20 мл морфолина, и
кипятили с обратным холодильником 6 часов. Затем ее вылили в 100 мл спирта, и
охладили. Выпавший осадок отфильтровали и промыли на фильтре холодным
спиртом. Получено 18 г светло-желтых кристаллов. Их смешали с 50 мл спирта,
прибавили раствор 20 г КОН в 20 мл воды и кипятили с обратным холодильником 8
часов. Затем спирт отогнали в вакууме, и остаток сильно подкислили конц. НС1.
Выпавший осадок КС1 был отфильтрован, маслянистый слой кислоты отделен в
делительной воронке, а водный слой экстрагирован хлороформом. После
объединения органических фаз и удаления хлороформа в вакууме осталось 10 г 3-(2,5-
диметоксифенил)-пропионовой кислоты в виде светло-желтого масла, которое
кристаллизуется в течение нескольких дней.
Электроника
РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫИ БЛОК ПИТАНИЯ
Л. Зуев
Предлагаемая статья посвящена описанию конструкции
бестрансформаторного блока питания для ллЛюстры Чижевского", в котором
получение высокого напряжения происходит за счет резонансных
процессов в колебательном контуре. Кроме этого, описываемый блок
питания снабжен регулятором выходного напряжения, что позволяет
эксплуатировать "Люстру" совместно с ним в помещениях различного
объема.
Предлагаемый блок питания предназначен для подключения к
питающей сети переменного тока с напряжением 220 В и имеет следующие
технические характеристики:
• пределы изменения напряжения питания - 80...250В;
• пределы регулировки выходного напряжения при напряжении
питания 220 В и выходном токе 100 мкА - 12...45 кВ;
• максимальная потребляемая из сети мощность - 10 Вт.
Центральным узлом блока питания является последовательный колебательный
контур. Схема соединения контура и нагрузки для получения повышенного
напряжения показана на рис. 1 (нагрузкой в данном случае является умножитель
напряжения) . Подобные решения применяются в промышленности в преобразователях
напряжения в источники тока или в параметрических источниках тока [1].
XL
4JI9T
Кг-
O-
X
Zh
Рис.
Если устройство питается от источника синусоидального напряжения UBX, то
сила тока в нагрузке определяется комплексным выражением:
Usx.
1н
Xl+I^Xl + Xo)
Ас
Хс = Н
Из уравнения видно, что если индуктивное сопротивление дросселя XL = jcoL и
емкостное сопротивление конденсатора выбрать из условия XL + Хс = 0, т.е. из
условия резонанса на частоте питающего напряжения то ток в нагрузке не будет
зависеть от величины ее сопротивления, и при больших сопротивлениях нагрузки
напряжение на ней может значительно превышать UBx-
Однако следует отметить, что условие XL + Хс = 0 на практике можно
выполнить лишь приближенно из-за наличия активных сопротивлений и потерь в
элементах схемы. Это ограничивает максимально возможное напряжение на нагрузке для
данной схемы.
Физической причиной возникновения повышенного напряжения на нагрузке
являются колебания значительной энергии, запасаемой попеременно в электрическом
поле конденсатора и магнитном поле дросселя. В условиях резонанса малые
количества энергии, поступающей от источника, компенсируют энергию потерь в
активном сопротивлении нагрузки, и обеспечивают поддержание незатухающих
колебаний в контуре относительно больших количеств энергии магнитного и
электрического полей.
Применение колебательного контура для получения высокого напряжения дает
ряд преимуществ перед обычными (трансформаторными) устройствами:
• меньшая сложность изготовления дросселя по сравнению с высоковольтным
трансформатором (меньшее число витков, отсутствие необходимости
выполнять несколько магнитосвязанных обмоток). Наличие одной обмотки
позволяет вместо одного дросселя применить несколько включенных последовательно
дросселей меньшей индуктивности. При этом уменьшается напряжение на
каждом из них и, соответственно, снижаются требования к качеству изоляции
обмоток; более простыми средствами достигается возможность регулирования
выходного напряжения;
• благодаря синусоидальности напряжения в высоковольтных цепях,
преобразователь создает меньший уровень помех (особенно по сравнению с тиристор-
ными устройствами); входная емкость умножителя напряжения не шунтирует
выход преобразователя, так как она является частью резонансной цепи;
отсутствует опасность выхода блока питания из строя при чрезмерном
увеличении утечки в выходных цепях. Утечка приводит к снижению добротности
колебательного контура, в результате чего ограничивается выходное
напряжение блока и снижается потребляемый из сети ток;
• меньшие (по сравнению с другими транзисторными схемами) динамические по-
тери в транзисторах преобразователя, работающего в резонансном режиме.
Принципиальная электрическая схема блока питания показана на рис. 2.
VDl. .VD4
VD7
КД522Б R5 200K
VT3
R310
V05
г. КД522Б
Г~°^
*—#
VD9
КД522Е R0 2OGK
СЗ I VT4
4.7мк | КТЁ72А
fi61D 4:/MR KIHf2AE
гД i II Г ©
III" Й7Н VOlQj 4
Ь 2.2 к СЗ (N40O5 T
X I 4-*
R927fl R1QU H11 FOG
C4Q.1**k:
Н1Э
30 W
к лкжтрв ■*—
vdi 1...уоэа-кц10вг
С7...С1В-г20 VD11
VD12
LI
50 ииГи;
La
SO мкГн
C5 C6
390 390
HHh
C8=±= VD13
-M-
VD14
СЭ=^ VD15
CM
C12:
C7
^C14
VD16
^C15
C1D4= VD17
VD18
YD 19
VD20
VD2I
-w-
VD22
C13
^C16
CI?
cie
Рис. 2.
Она включает в себя колебательный контур L1L2C5C6; умножитель напряжения на
элементах VD11—VD22, С7—С18 с ограничивающим выходной ток резистором R12;
генератор на транзисторах VT3, VT4 и трансформаторе Т1; сетевой выпрямитель
VDl—VD4 и узел регулирования выходного напряжения на элементах VT1, VT2r VD5,
VD6, С4, R9-R11.
Генератор вырабатывает на своем выходе напряжение в форме меандра. Частота
генерации соответствует частоте резонанса колебательного контура (при
указанных номиналах — 35 кГц) . В генераторе реализован принцип пропорционально-
токового управления, позволяющий минимизировать потери энергии на управление
ключевыми транзисторами VT3, VT4 [2] и обеспечить резонансный режим работы
устройства.
Токовое управление ключевыми транзисторами осуществляется за счет
положительной обратной связи по току через обмотки трансформатора Т1. Цепочки
VD7C2R4R5 и VD9C3R7R8 служат для запуска генератора при подаче питающего
напряжения .
Через диоды VD8 и VD10 осуществляется частичный возврат энергии из
колебательного контура в источник питания. Резисторы R3, R6 препятствуют
возникновению паразитного колебательного процесса на фронтах импульсов в контуре,
образованном индуктивностью рассеяния обмоток трансформатора Т1 и емкостями
переходов транзисторов VT3, VT4.
Сетевой выпрямитель выполнен по мостовой схеме на диодах VDl—VD4.
Конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Резистор R1 служит для
ограничения импульса тока при включении блока в сеть. Резистор R2 является
вспомогательным и служит для контроля формы тока, потребляемого генератором,
в процессе наладки.
Узел регулирования образует стабилизирующую отрицательную обратную связь.
Он контролирует выходное напряжение блока и воздействует на сдвиг фазы между
напряжением на выходе генератора и током дросселей LI, L2. Это воздействие
проявляется в виде некоторого повышения частоты генерации по отношению к
частоте резонанса контура и приводит к снижению амплитуды напряжения на его
элементах .
Выходное напряжение в описываемом блоке питания контролируется косвенным
способом по величине переменного напряжения на конденсаторе С4, образующем
совместно с конденсаторами С5, С6 делитель напряжения с коэффициентом деления
1/500. Такой способ измерения выходного напряжения позволяет избавиться от
громоздкого высоковольтного резистивного делителя напряжения, вносящего
дополнительные потери мощности.
Органом регулирования напряжения является переменный резистор R10, который
совместно с резисторами R9, R11 образует регулируемый делитель напряжения.
Напряжение с делителя поступает на базы транзисторе VT1, VT2, работающих в
ключевом режиме и открывающихся поочередно в каждом полупериоде выходного
напряжения генератора при достижении мгновенным значением переменного
напряжения на их базах величины +0,65 или -0,65 В соответственно.
Открываясь в соответствующий полупериод, один из этих транзисторов
шунтирует обмотку I трансформатора Т1. Это вызывает реверсирование базового тока
открытого в данный момент ключевого транзистора (VT3 или VT4) и более раннюю
смену полярности напряжения на выходе генератора по отношению к моменту
перехода через ноль тока дросселей LI, L2.
В результате этого происходит частичный возврат энергии из колебательного
контура в источник питания генератора и, соответственно, уменьшается общее
количество энергии, поступающей в контур. Перемещение движка резистора R10
приводит к изменению фазы отпирания транзисторов VT1, VT2, в результате чего
изменяется доля энергии, выводимая из колебательного контура. Это приводит к
изменению амплитуды напряжения на его элементах и. в конечном итоге, к
изменению выходного напряжения блока.
На рис. 3 показаны диаграммы напряжений, поясняющие работу узла
регулирования, Диаграммы сняты при напряжении питания устройства 220 В, выходном токе
100 мкА и крайнем левом по схеме положении движка резистора R10,
соответствующем максимальному выходному напряжению.
На рис. За показано напряжение на конденсаторе С4, имеющее синусоидальную
форму. Штриховыми линиями отмечены пороговые напряжения открывания
транзисторов VT1. VT2. На рис. 36 показана форма напряжения на обмотке I
трансформатора Т1; на рис. Зв — форма напряжения на выходе генератора (между коллектором
и эмиттером транзистора VT4); на рис. Зг-Зд — форма напряжения на резисторе
R2 (на правом выводе по отношению к левому) в различных режимах работы
устройства. Стрелками на диаграммах показаны изменения формы напряжений при
перемещении движка резистора R10 вправо по схеме.
Недостатком примененного узла регулирования является низкий коэффициент
стабилизации (1,5...2). Положительной стороной является простота схемного
решения и отсутствие необходимости применения вспомогательных цепей питания.
Примененные в устройстве транзисторы КТ872А могут быть заменены на любые
другие с аналогичными параметрами. Эти транзисторы устанавливаются без тепло-
отвода, так как рассеиваемая каждым из них мощность не превышает 200 мВт.
Вместо транзисторов КТ315Г и КТ361Г могут использоваться любые
высокочастотные транзисторы соответствующей структуры с коэффициентом передачи тока
базы более 50 при токе коллектора 20 мА.
Рис. 3.
Вместо диодного моста КЦ407А могут использоваться любые выпрямительные
диоды с допустимым средневыпрямленным током не менее 100 мА и обратным
напряжением не ниже 400 В. Диоды VD5—VD7, VD9 могут быть любыми из серий КД521 или
КД522. Вместо импортных диодов 1N4005 могут использоваться отечественные
выпрямительные быстродействующие диоды КД247В—Д. Диодные столбы КЦ106Г могут
быть заменены на КЦ106В. Конденсаторы CI—C3 могут быть любыми оксидными, но
С1 должен быть рассчитан на напряжение не ниже 350В; С4 — К73-17 или К73-9 на
напряжение 63 В; остальные конденсаторы — высоковольтные К15-5 на напряжение
6,3 кВ. Конденсаторы С5, С6 соединены последовательно для снижения потерь на
переменном токе, они должны иметь группу ТКЕ Н20. Конденсаторы С7—С18 могут
иметь емкость в пределах 100...220 пФ.
Резистор RIO — любой переменный с удлиненной регулировочной
характеристикой. Резистор R12 — высоковольтный СЗ-5, СЗ-9, СЗ-12, СЗ-Н или КЭВ мощностью
2 Вт.
Остальные резисторы — МЯТ. Трансформатор Т1 намотан на кольце К20х12х6 из
феррита 2Q00HM1. Обмотка I содержит 60 витков; II, II1 — по 15 витков; III —
3 витка. Все обмотки намотаны проводом ПЭЛШО-0,25. Перед намоткой
трансформатора необходимо сточить у кольца острые кромки и обмотать его слоем лакотка-
ни.
Вначале наматывается обмотка I. Ее витки распределяются равномерно по
окружности сердечника. Поверх обмотки I наматываются остальные обмотки, причем
обмотки II, IIт мотаются одновременно в два провода. Дроссели LI, L2
выполнены на базе дросселей ДФ110ПЦ, используемых сетевом фильтре телевизоров ЗУСЦТ.
Дроссели имеют магнитопровод Ш7х7 из феррита 2500НМС1 и двухсекционный
каркас. Обмотку с дросселей удаляют и на ее место наматывают новую проводом
ПЭЛШО-0, 25. Каждый дроссель должен содержать 780 витков (по 390 витков в
секции) .
Обмотка выполняется виток к витку без изоляции между слоями. При намотке
необходимо следить, чтобы внешние витки у краев не проваливались внутрь
обмотки .
Для выводов от начала обмоток в каркасах перед намоткой необходимо
просверлить отверстия диаметром 0,8...1 мм.
Выводы каждой секции обмотки подсоединяются к своим контактам на каркасе
(последовательное соединение секций производится печатным проводником на
плате) .
Сердечники обоих дросселей склеиваются с зазором. Для этого между
половинами сердечника вставляется прокладка из плотного картона толщиной 0,4 мм.
После сборки дроссели желательно пропитать специальным лаком, используемым для
обмоток электродвигателей.
Все узлы блока, за исключением умножителя напряжения, смонтированы на
печатной плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, показанной со
стороны проводников на рис. 4.
При изготовлении платы необходимо обратить внимание на то, что на ней
смонтированы высоковольтные цепи колебательного контура. Для снятия перед
монтажом окислов с печатных проводников нельзя пользоваться наждачной бумагой, так
как после нее остается проводящая пыль, которая проникает в шероховатости
платы и целиком не смывается.
После монтажа с платы необходимо тщательно смыть спиртом или ацетоном
остатки канифоли, а после наладки для увеличения электрической прочности плату
желательно залить эпоксидной смолой. Умножитель напряжения выполнен навесным
монтажом.
При его сборке не стоит стремиться к компактности, желательно его вытянуть
в длину на 15...20 см. После сборки умножитель помещается в пенал или трубу
подходящего размера из диэлектрического материала и заливается расплавленным
парафином, имеющим очень низкую электропроводность.
Блок питания, собранный из исправных деталей, начинает работать сразу. Во
время наладки устройство желательно питать через разделительный
трансформатор, заземлив при этом минусовой вывод сетевого выпрямителя (точка соединения
диодного моста VD1—VD4, конденсатора С1 и резистора R2),
При работе с устройством необходимо помнить, что в нем присутствует опасное
напряжение, и принимать необходимые меры предосторожности.
Наладка устройства производится без умножителя напряжения. Вместо него
собирается одна ячейка удвоения напряжения (диоды VD21, VD22 и конденсаторы С7,
С18) и параллельно конденсатору С18 подключается резистор сопротивлением 12
МОм (четыре последовательно включенных резистора МЛТ-2 сопротивлением 3 МОм).
Рис. 4.
При первом включении питающее напряжение необходимо увеличивать плавно от
нуля (например, при помощи ЛАТР) и осциллографом контролировать форму
напряжения на резисторе R2. При этом движок резистора R10 должен находиться в
крайнем левом по схеме положении. Важно, чтобы выходное напряжение генератора
во всем диапазоне питающих напряжений опережало по фазе ток дросселей LI, L2.
При этом форма напряжения на резисторе R2 будет такой, как показано на рис.
Зг. В противном случае она примет вид показанный на рис. Зд. В этом случае
значительно увеличиваются динамические потери энергии в транзисторах VT3-VT4
и может произойти их перегрев. Для устранения этого необходимо увеличить
сопротивление резистора R9.
Если это не помогает, необходимо проверить правильность фразировки обмотки
I трансформатора Т1. После выполнения этих операций необходимо
проконтролировать работоспособность узла регулирования. Для этого на устройство подают
напряжение 220 В и, контролируя форму напряжения на резисторе R2, перемещают
движок резистора R10 вправо.
При этом должно происходить плавное увеличение длительности отрицательного
участка кривой напряжения и уменьшение положительной. После этого
контролируют форму напряжения на обмотке I трансформатора Т1 и на выходе генератора.
Эти напряжения должны соответствовать показанным на рис. 3, б и е
соответственно . В форме этих напряжений не должно быть вспышек высокочастотных
колебаний. Далее, перемещая движок резистора R10, контролируют изменение
амплитуды напряжения на конденсаторе С4. Амплитуда этого напряжения, показанная на
рис. За, соответствует выходному напряжению блока 45 кВ.
Для получения максимального выходного напряжения можно попробовать в
небольших пределах подобрать емкость конденсаторов С5, С6, однако следует иметь
ввиду, что при некоторой минимальной величине этой емкости переходный процесс
в контуре становится апериодическим. При этом устройство не будет работать
вообще. При подборе конденсаторов С5, С6 не стоит бояться сбить частоту
настройки контура, так как генератор всегда работает на частоте резонанса.
После выполнения всех указанных операций восстанавливают цепи подключения
умножителя напряжения.
В заключение можно проконтролировать выходное напряжение устройства в
целом. Это можно сделать по методике, изложенной в [3] , При измерениях
необходимо тщательно изолировать выходные цепи блока.
В ходе экспериментов удалось получить выходное напряжение более 60 кВ. При
этом конденсаторы К15-5. примененные в умножителе, длительное время
выдерживали постоянное напряжение более 10 кВ (на открытом воздухе при таком
напряжении проводит пробой воздушного промежутка между 4х выводами).
ивыйиВ Швы* кВ
70
60
50
40
30
20
10
L
ни |
.. _^—
|_1 J
30 60 90
Рис. 5.
120 160 180
1вы* мкА
45
40
35
30
25
20*
15
10.
п
t
i
i
г •—<
80 100 120 140 160 180 200 220 240
Рис. 6.
На рис. 5 и 6 показаны соответственно нагрузочная характеристика и
зависимость выходного напряжения блока от напряжения питания. На каждом графике
показаны по две зависимости, соответствующие крайним положениям движка
резистора R10 (нижняя кривая — крайнее правое положение, верхняя — крайнее левое).
Указанные зависимости получены экспериментально. При их построении напряжение
измерялось на выходе первой ячейки умножителя (на конденсаторе С18) , а
остальные ячейки были отключены. После измерений полученные результаты были
пересчитаны к выходу всего умножителя:
U = U' n; I = I'/n;
где U, I — напряжение и ток на выходе всего умножителя; Uf, If — напряжение
и ток измеренные на выходе первой ячейки умножения; п — число ячеек умножения
(п = 6) .
Литература:
1. И. М. Чиженко, В. С. Руденко, В. И. Сенька Основы преобразовательной
техники. — М.:Высшая школа, 1974 с 388—369.
2. В. Г. Еременко - Расчет транзисторных преобразователей с
пропорционально-токовым управлением. — Электротехника. 1986, №8. с 7—11.
3. В. Коровин. Малогабаритный аэроионизатор. — Радио. 2000, №3, С. 29—31.
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
Технические характеристики:
• Напряжение питания - 220 вольт переменного тока 50 Гц.
• Напряжение на выходе регулируемое от 1 до 15 кВ.
• Регулировка выходного тока, защита от короткого замыкания.
Прим.: В положении «Макс, ток» регулятора тока защита от короткого
замыкания отключена.
Принцип действия:
БП построен на основе распространенной ШИМ микросхеме TL494. Особенностью
включения является использование обоих компараторов ошибки, что позволило
сделать регулировку по току и по напряжению. Еще одной особенностью является
использование микросхемы в однотактном преобразователе, по схеме двухтактного
с использованием одного сигнального канала, это позволило избежать открытия
силового транзистора на время более чем полтакта и избежать не полного
закрытия, позволяя ему более четко срабатывать на сигнал без дополнительного
ключа, что значительно снизило температуру транзистора (было установлено
практическим методом). Регулировка по току осуществляется по сигналу с датчика
тока, регулировка по напряжению по сигналу с дополнительной обмотки
трансформатора. Микросхема ШИМ имеет отдельный источник питания не связанный с силовой
цепью. Для повышения выходного напряжения применен распространенный
умножитель УН8,5/25-1,2. Объединение минуса силовой цепи с минусом высоковольтной
цепи позволило избежать порчи микросхемы ШИМ и силового ключа при попадании
высокого напряжения на корпус управляющего устройства, а заземления корпуса
прибора позволяет полностью исключить эту возможность и обезопасить
пользователя.
Правила эксплуатации:
Выставить регулятор напряжения в минимальное положение, регулятор тока в
среднее, подключить киловольтметр, запустить установку подключив питание и
включив, выставить необходимое напряжение, подрегулировать ограничение по
току.
Техника безопасности:
Не прикасаться к цепям высокого напряжения не удостоверившись в отсутствии
питания и не разрядив цепь.
При подключении/переподключении силовых цепей необходимо отключить
устройство, выдернуть шнур питания, разрядить силовую цепь резистором на 3 мОм или
больше в течение нескольких минут, после чего разрядить оставшееся коротким
замыканием (запрещается разряжать сразу коротким замыканием во избежание
порчи силовых цепей).
2200 pF 4kV
^7 <ч7
Как видно на фотографии, плата устройства была собрана на макетной плате,
устройство в данном случае питалось от АКБ, в последствии устройство было
немного изменено, чтобы разместиться в корпусе компьютерного БП и стало
питаться от понижающего трансформатора.
Скачать печатную плату в формате LAY можно здесь:
ftp://homelab.homelinux.com/pub/arhiv/2013-07-al.rar
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
Характеристики:
• Выходное напряжение регулируется от 0 до 30 В.
• Выходной ток 4А.
Данный блок питания построен на распространенной элементной базе и не
содержит дефицитных деталей (см. схему на вкладке - рис. 1). Особенностью блока
является то, что регулируемая микросхема DA4 не требует двухполярного
питания. На микросхеме DA1 введена плавная регулировка выходного тока в интервале
0...3А (согласно схеме) . Этот предел можно расширить и до 5А, пересчитав
резистор R4. В авторском варианте резистор R7 заменен на подстроечный, так как
плавная регулировка тока не требовалась. Ограничение тока при установленных
номиналах деталей наступает при токе 3,2 А и выходное напряжение упадет до 0.
Ограничение тока подбирается резистором R7. Во время ограничения тока
включается светодиод HL1, сигнализируя о коротком замыкании в нагрузке блока
питания или превышении выбранного значения тока резистором R7. Если резистором R7
выбран порог срабатывания 1,5 А, то при превышении данного порога на выходе
микросхемы появиться низкое напряжение (-1,4 В) и на базе транзистора VT2
установится 127 мВ. Напряжение на выходе блока питания становиться равным >1
мкВ, что для большинства задач нормально, а на блоке индикации напряжения
будет стоять 00,0 вольт. Светодиод HL1 будет светиться. При нормальной работе
узла перегрузки по току на базе микросхемы DA1 будет напряжение >5, 5В и диод
HL1 светиться не будет.
Работа микросхемы DA4 особенностей не имеет и работает она в режиме однопо-
лярного питания. На ножку 7 подается 9 В, ножка 4 соединена с общей шиной. В
отличие от большинства микросхем серии 140УД... добиться нулевого уровня на
выходе блока питания при таком включении весьма трудновато. Экспериментальным
путем выбор сделан на микросхему КР140УД17А. При таком схемном решении
удалось получить на выходе блока питания напряжение 156 мкВ, что на индикаторе
будет отображаться как 00,0В.
Конденсатор С5 предотвращает возбуждение блока питания.
При исправных деталях и безошибочном монтаже блок питания начинает работать
сразу. Резистором R12 установлен верхний уровень выходного напряжения, в
пределах 30,03 В. Стабилитрон VD5 применен для стабилизации напряжения на
регулирующем резисторе R16 и, если блок питания работает без сбоев, от
стабилитрона можно отказаться. Если резистор R7 применен как подстроечный, то им
устанавливают порог срабатывания при превышении максимального тока.
Транзистор VT1 устанавливается на радиатор. Площадь радиатора
рассчитывается по формуле: S = 10In* (Ubx - ивых) , где S - площадь поверхности радиатора
(см2); In - максимальный ток потребляемый нагрузкой; Ubx - входное напряжение
(В); ивых - выходное напряжение (В).
Резисторы R7 и R12 многооборотные СП5-2. Вместо диодной сборки RS602 можно
применить диодную сборку RS407, RS603, в зависимости от тока потребления, или
диоды 242 с любым буквенным индексом, но разместить их надо отдельно от
печатной платы. Входное напряжение на конденсаторе С1 может варьироваться в
пределах 35...40 В без изменения номиналов деталей. Трансформатор Т1 должен
быть рассчитан на мощность не менее 100 Вт, ток обмотки II не менее 5 А при
напряжении 35...40 В. Ток обмотки III не менее 1 А. Обмотка III может быть с
отводом от середины, который подключается к общей шине блока питания. В
печатной плате предусмотрена для этой цели контактная площадка. Размер печатной
платы блока питания 110x75 мм. Транзистор КТ825 составной. Его можно заменить
транзисторами, как показано на рисунке 4.
4ВОЕ "' 0 Мшяд
CD
О
Печатная плата показана на рисунках 2 и 3.
W
п
и
о+
Ои
Ои
<
о
V01 ~
D
□
С1
Ъ 75ПВ-
EQbQk|
vn
ф
О >Ш О
О
О fral-
R12 О
\<Т2
v03 О
Sb
0А4
Aft
ЧтоЬ
/
0А1Ф» -А
№
ООО
110x75
«< МО Cut
0А2
R1
О
О
($5ни
Р2
RS
о о
Рис. 2
ОО
сит
G«0
(§) ОСШОО
0)
R7
О
о
о
0А5
•59
4
Рис. 3.
ктете
KTS19
Рис. 4.
Транзисторы могут быть с буквенными индексами Б - Г, соединенных по схеме
Дарлингтона.
В авторском варианте применен транзистор TIP147. Его внешний вид показан на
рис. 5.
Рис.
Резистор R4 - отрезок нихромовой проволоки диаметром 1 мм и длиной около 7
см (подбирается экспериментально). Микросхемы DA2, DA3 и DA5 допустимо
заменить отечественными аналогами К142ЕН8А, КР1168ЕН5 и К142ЕН5А. Если панель
цифровой индикации применяться не будет, то вместо микросхемы DA2 можно
применить КР1157ЕН902 , а микросхему DA5 исключить. Резистор R16 переменный с
зависимостью группы А. В авторском варианте применен переменный резистор ППБ-
ЗА номиналом 2,2 К.
Если не предъявлять к узлу защиты больших требований, а требоваться он
будет только для защиты блока питания от перегрузки по току и КЗ, то такой узел
можно применить по схеме на рис. 6, а печатную плату немного переработать.
Узел защиты собран на транзисторах VT1 и VT2 разной структуры, резисторах
R1-R3 и конденсаторе С1. Ток короткого замыкания 16 мА. Резистором R1
регулируют порог срабатывания защитного блока. При нормальной работе блока на
эмиттере транзистора VT2 напряжение порядка 7 В и на работу блока питания влияния
не оказывает. При срабатывание защиты напряжение на эмиттере транзистора VT2
падает до 1,2 В и через диод VD4 подается на базу транзистора VT2 блока
питания. Напряжение на выходе блока питания падает до О В. Светодиод HL1
сигнализирует о срабатывании защиты. При нормальной работе блока питания и узла
защиты светодиод - горит, при срабатывании защиты - гаснет. При использовании
узла защиты на рис.6 микросхему DA3 и конденсаторы СЗ, С5 можно из схемы
исключить .
к*С1
I
kR5
R2
R1 47k
VT1
КТ3102Б
Ф
VT2,
Ik
КТ3107Б
KVD4
к-С1
■*—*
X
i
ci И330
т ш
GZ23-
С1 47мкфх50В 022
С2 10мкфх5ОВ
C2rilR4
220
к
HL1
АЛ307Б
1
Рис. 6.
Цифровая панель служить для визуального контроля напряжения и тока блока
питания. Она может быть использована отдельно от блока питания с другими
конструкциями , выполняя вышеназванные задачи.
Основой цифровой панели служит микросхема ICL7135CPL — АЦП двойного
интегрирования .
На элементах DD1.1 и DD1.2, резисторах Rl,R2, конденсаторе С1 собран
генератор, вырабатывающий прямоугольные импульсы с частотой приблизительно 120
кГц. Частоту генератора можно рассчитать по формуле F = 0,45/R2C7.
На элементах DD1.3 и DD1.4, конденсаторах С2, СЗ, диодах VD1,VD2 собран
инвертор напряжения, который преобразует выходное напряжение генератора в
отрицательное , которое вполне достаточно для микросхемы DA2 рис.6. С выходов
микросхемы DA2 В1 - В8 сигналы подаются на преобразователь двоично-десятичного
кода в семисегментный на микросхеме DD1. С выходов микросхемы DD1 (9 - 15)
преобразованный сигнал подается через гасящие резисторы на аноды сегментов
индикаторов, которые соединены между собой параллельно. С выходов Dl - D5
микросхемы DA2 подаются управляющие сигналы на базы транзисторов VT2 - VT6,
которые, в свою очередь, усиливая их, подают на катоды семисегментных свето-
диодов, заставляя каждый светодиод отображать определенную цифру. В отличии
от микросхемы К572ПВ2, управляющую индикацией на 3 знака, микросхема
ICL7135CPL управляет индикацией на 41/2 знака. То есть, с помощью данной
микросхемы можно разрабатывать измерительные устройства, индицирующие напряжение
до 1000,9 вольта и ток до 19,999А или 199,99А.
Резистор R16 с помощью третьей секции переключателя управляет разрядными
точками, в отжатом положении отображается разрядность напряжения, в нажатом
положении разрядность тока. С помощью данной цифровой панели можно наблюдать
значения тока от 1 мА до 10 А.
Входной делитель напряжения и тока, показанные на рис.6 собраны на
резисторах R11-R15 и датчике тока, резистор R10. Датчик тока можно изготовить из
трех отрезков константанового провода диаметром 1 мм и длиной 50 мм. Разница
в номинале не должна превышать 15-20%. Резисторы R11 и R14 типа СП5-2 и СП5-
16ВА. Переключатель SB1 типа П2К. При заведомо исправных деталях и
безошибочном монтаже цифровая панель начинает работать сразу. Резистором R4 на ножке 2
микросхемы DA2 выставляется напряжение Uref = 1,00 В.
На индикаторах должно быть 000,0. Вход делителя напряжения и тока
подключается к выходу блока питания, т.е. непосредственно к клеммам выходного
напряжения. Резисторами R13 и R15 устанавливается грубо, заданное выходное
напряжение блока питания, резистором R14 более точно, затем переключатель SB3
переводят в положение нажато и резистором R11 устанавливают значение тока на
выходе блока питания, не забыв, при этом, подключить эквивалент нагрузки и
установить ток в пределах 1А. После регулировки еще раз проверяют весь
диапазон напряжения и тока на выходе блока питания.
Индикаторы применены с общим анодом, импортные, но можно использовать и
аналогичные отечественные, типа АЛС321Б или АЛС324Б и пр.. Аналогом
микросхемы ICL7135CPL является отечественная микросхема К572ПВ6, которая прекрасно
работала в данной конструкции. Резистор R7 подстроечный СПЗ-196
Матпрактикум
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ ПЕРЕНОСА
в различных системах координат
Майер Р.В.
К явлениям переноса относятся диффузия (перенос вещества), теплопроводность
(перенос внутренней энергии) и вязкость (перенос импульса). Все эти явления
описываются похожими уравнениями, которые могут быть численно решены на
персональной ЭВМ [1-6]. Рассмотрим несколько нестандартных задач по теме
"Явления переноса" и проанализируем их решения в декартовой, полярной,
цилиндрической и сферической системах координат. Все программы написаны в среде
Free Pascal.
Задача о
газовой атаке
Пусть в момент t в точке А(х,у) , расположенной над поверхностью земли,
начинают выделяться вредные вещества (ВВ) со скоростью q. Параллельно
поверхности земли дует ветер со скоростью v. Необходимо промоделировать это явление и
рассчитать концентрацию C(t) вредных веществ в точках В, С, D, ... в различные
моменты времени t.
Запишем уравнение адвекции-диффузии в декартовых координатах:
дС_
~dt
= D\
fd2C д2СЛ
7Г + 7Г
дх^ ду'
дС .
ох
Рис. 1. К задаче о газовой атаке.
В конечных разностях получаем:
Ct+y =Cf | /c Ci~l>J + Ci+l>J ~ 4Ci>J + С'/'-/~1 + Ci>J'+1 д т |
i,J hi h2
s~yt s~yt
+ /j—- — Ar + g 7-Ar'
h hJ
где h = Ax = Ay. Используется программа ПР-1, в ней последовательно
перебираются все узлы двумерной сетки и рассчитываются значения концентрации Ci,j в
следующий момент времени t+1. Результаты компьютерного моделирования
представлены на рис. 2. Области, имеющие различные концентрации ВВ закрашены
разными цветами.
Рис. 2. Образование и перемещение облака ВВ с течением времени.
Рассмотренная компьютерная модель позволяет изучить изменение концентрации
ВВ в различных точках среды, например.
точках В(50,23), С(90,23),
D(130,23), E(170,23), F(210,23), G(250,23), лежащих на одной горизонтали. На
рис. 3 представлены графики изменения концентрации вредных веществ в
перечисленных точках с течением времени. Если облако с ВВ проходит через точку
наблюдения, то концентрация ВВ растет, достигает максимума, а затем снижается.
£F(t)
£G(t)
Рис. 3. Изменение концентраций ВВ в точках В, С, D, E, F, G.
На первый взгляд кажется, что чем дальше от источника А находится точка
наблюдения, тем позже до нее дойдет облако с ВВ и тем ниже максимальное
значение концентрации ВВ в этой точке. Графики на рис. 3 показывают, что не всегда
максимальное значение концентрации ВВ в точке наблюдения тем больше, чем
ближе она к источнику: это зависит от скорости ветра, коэффициента диффузии,
расстояния от точки наблюдения до поверхности земли т.д. Так, точка D
находится дальше, чем В и С, но максимальный уровень концентрации ВВ в ней выше.
Задача о
теплопроводности пластины в
полярных координатах
Имеется пластина, выполненная в виде четверти круга. Задано начальное
распределение температуры, координаты и мощность источника тепла (холода),
граничные условия. Необходимо, используя полярную систему координат, рассчитать
температуру различных точек пластины в последующие моменты времени.
Запишем уравнение теплопроводности в полярных координатах:
дТ
~dt
(
- а
\дТ
д2Т
+
1 д2Т
2 я 2
г да
+
рс
В конечных разностях получаем:
,J ' l,J At + a
rpt
Tt+\_Tt ,п*+1-
2rAr
7 it rpt ЛТ1< . rpt
/-1 / 1i-\ i~^li / H" ^/-hi /
Arz
+„fc^.,+^
Aa2r2
pc
Для расчетов используется программа ПР-2. Она содержит два вложенных цикла
по i и j, в которых перебираются все узлы двумерной сетки и пересчитываются
значения
Tt+\
на следующем временном слое. В программе задано некоторое
начальное распределение температуры, координаты и мощность источников тепла, а
также граничные условия. При ее запуске на экране появляется цветное
изображение, границы одноцветных областей соответствуют изотермам (рис. 4).
Рис. 4. Решение уравнения теплопроводности в полярных координатах,
Расчет температуры
жидкости в трубе
в цилиндрической
системе координат
По цилиндрической трубе радиуса R течет жидкость; ее скорость на оси трубы
равна v0. Внутри трубы расположен кольцевой электронагреватель радиуса Ri.
Нагреватель включают на некоторое время t, а затем выключают. Необходимо
рассчитать распределение температуры внутри трубы в последующие моменты времени.
Ось z совместим с осью трубы, а ось г направим перпендикулярно ее стенке.
Скорость слоев жидкости, удаленных от оси трубы на расстояние г, равна v(r) =
v0(l - r2/R2) . Задача обладает цилиндрической симметрией, запишем уравнение
теплопроводности в цилиндрической системе координат:
дТ_
~dt
= D
fd2T
\дТ
д2тл
дг2 г дг dz2
, .дТ q(z,r,t)
-v(r) — +
dz
ср
Для решения задачи используется программа ПР-3. Результаты вычислений поля
температур через некоторое время после включения нагревателя представлены на
рис. 5. Видно, что нагреватель повышает температуру движущихся мимо него
слоев жидкости; нагретый объем смещается вправо.
При кратковременном включении нагревателя образуется нагретая область,
которая также смещается в направлении движения жидкости и уменьшается в
размерах (рис 6). Решая задачу таким способом, мы пренебрегаем силами вязкого
трения, действующими со стороны кольцевого нагревателя на движущиеся слои жидко-
сти. Если в программу внести небольшие изменения, то можно промоделировать
ситуацию, в которой нагревается небольшой участок трубы внешним источником
тепла. Чтобы вместо источника тепла получить источник холода, необходимо
поменять знак перед мощностью q.
Рис. 5. Поле температур при включении кольцевого нагревателя.
Рис. 6. Поле температур после кратковременного включения нагревателя.
Задача о
теплопроводности шара в
сферических координатах
Металлический шар нагрели до температуры Т0, а потом опустили в вязкую
жидкость (конвекция отсутствует), имеющую температуру Ti. Шар некоторое время
охлаждается, температура его поверхности уменьшается. После этого шар вынули
из жидкости и поместили в газообразную среду с низким коэффициентом
теплопроводности. За счет теплообмена с центральной частью шара температура его
поверхности повышается, а температура в центре шара понижается. Через некоторое
время из-за теплообмена с газообразной средой температура поверхности
начинает медленно понижаться, шар охлаждается. Необходимо промоделировать это
явление, рассчитать температуру различных точек шара и среды.
щ
ш
0
Рис 7. Результаты расчета поля температур в задаче об охлаждении шара.
В данном случае температурное поле обладает сферической симметрией. Запишем
уравнение теплопроводности в сферических координатах:
дТ
8t
1' д2Т 2 дТ
- + -
Qf1 Г дг
■ + -
1
г sin
вдв
sin#
~дв
+
1 д2т^
г sin в дер
+
+
q(r,<p,0,t) .
ср
Так как поле температур не зависит от меридиональной координаты и и
азимутальной координаты (р, то получаем:
дТ
= к
( 9 Л
' д2Т 2 дТ х
дг2 г дг
+
ср
Получим конечно-разностное уравнение:
r/+1 =т/ +к\
rTU-2T}+TU , 2T/-T/_^ j
+
Ar2 Ц Ar
At + ^LAt
cp
При решении задачи следует учесть граничные условия сопряжения - если между
двумя телами (шаром и вязкой средой) имеется идеальный тепловой контакт, то:
1) их температуры на поверхности контакта одинаковы;
2) по закону сохранения энергии тепловой поток выходящий из шара равен
тепловому потоку входящему в среду.
Используется программа ПР-3. Чтобы учесть граничные условия сопряжения,
введена функция q(t) , учитывающая теплопередачу от шара к среде. Считается,
что на поверхности шара (точка с координатой г = R) имеется поглотитель тепла
с мощностью qi(t) = -oc(Tn - Тс) < 0, а в ближайшей точке среды имеется
источник тепла с той же по модулю мощностью q2(t) = oc(Tn - Тс) > 0. Здесь Тп и Тс
- температуры поверхности шара и прилегающего к ней слоя среды, а -
коэффициент теплоотдачи.
На рис. 7.1 показано начальное распределение температуры. Пока шар
находится внутри вязкой жидкости, он охлаждается (рис. 7.2), температура поверхности
становится ниже, чем в центре. Когда шар помещают в воздух, то температура
поверхности повышается за счет теплообмена с центральной частью шара;
теплообмен с окружающей средой происходит существенно медленнее (рис. 7.3). Через
некоторое время температура поверхности шара начинает уменьшаться за счет
теплообмена с окружающей средой (рис. 7.4). Если жидкость, в которую опускают
нагретый шар, имеет небольшую вязкость, то возникают конвективные потоки. При
этом можно приближенно считать, что температура всех точек жидкости одинакова
и равна некоторой средней температуре Тер. Решение задачи упрощается.
Расчет формы
поверхности парафина
после охлаждения
и отвердевания
В тонкостенном цилиндрическом сосуде находится жидкой парафин при
температуре Т выше температуры отвердевания Тк. Сосуд опускают в большой резервуар,
наполненный холодной водой. Происходит охлаждение, парафин отвердевает, при
этом в центре его верхней поверхности образуется углубление. Необходимо
рассчитать поле температур в последовательные моменты времени.
Допустим, в сосуде находится некоторое гипотетическое вещество, которое при
охлаждении отвердевает (или кристаллизуется) и уменьшает свой объем на ос=2-5
%. При этом возникает граница раздела двух фаз (фронт отвердевания),
сжимающаяся к центру сосуда. На уже отвердевшие слои у края сосуда натекает
жидкость из центральной более горячей части и тоже отвердевает. Поэтому в центре
сосуда образуется углубление. Если вещество при кристаллизации расширяется
(например, как вода), то в центре сосуда появляется выпуклость.
Уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат:
дТ 7/^/э2Г \дТ 1 д2Т д2т)
— = к(Т)\ -^ + -— + ^г—у + —г
dt \ дг2 г дг г2 дер2 3z2 J
| q(r9z9q>9t)
cp
При кристаллизации происходит выделение энергии; чтобы это учесть, будем
считать, что в узлах, температура которых примерно равна температуре
кристаллизации, появляются источники тепла определенной мощности. Более точное
решение требует записи условия Стефана. Поле температур не зависит от ср, поэтому.
Э2Т/Эф2 = 0.
В конечных разностях получаем:
T!tl =T?,+k -±-^ Щ l±^- А т +
Ar'
+ £
i+l,k ~Ii-l9k л , 7 1i,k-l~zli,k+1iMl
-Ат + к
At-
t
4i9k
At-
2rAr /\z^ cp
Для расчета нестационарного поля температур на следующем временном слое
организуют два цикла по i и к, в которых рассчитываются температура в узлах
сетки (процедуры R1 и R2) сначала в одном, а потом в другом направлениях. На
экране рисуется половина осевого сечения цилиндрического сосуда с помощью
точек, цвет которых зависит от температуры. Та часть вещества, которая
находится в жидком состоянии (Т > Тк) изображается красным цветом. По мере
охлаждения эта область постепенно уменьшается и исчезает.
Чтобы рассчитать форму поверхности отвердевшего вещества, необходимо
определить объем его жидкой фазы в произвольный момент времени t. Это делается с
помощью цикла:
For г:=1 to N do For j:=1 to M do begin
if (j<=ha)and(t[r,j]>15) then
V:=V+3.1415*(r*r-(r-1)*(r-1))*dz; end;
Здесь учтено, что объем кольца с внешним радиусом г и внутренним г - Аг и
высотой dz равен я (г2 - (г - Ar)2)Az. Зная значение V в предыдущий момент
времени t-1, можно найти объем вещества, затвердевшего в течение последнего
шага по времени: AV = Vt_l - Vfc. Обозначим высоты верхней и нижней точек
расплавленной области через ha и hb (рис. 8.1), тогда эффективная площадь
горизонтального сечения S расплавленной области S = V/ (hB - hH) . Так как объем
вещества за счет кристаллизации уменьшился на ocAV, то высота hB уменьшится на
dh = ocAV/S, где а = 0,02-0,05. Программа может нарисовать горизонтальную
прямую AG, где G - точка на высоте ha, в которой жидкая фаза переходит в
твердую.
ш
zA
о
в
R
->►
Рис. 8. Образование углубления при отвердевании парафина.
Используется программа ПР-5; результаты расчета формы поверхности
представлены на рис. 8.2. Видно, что в центральной части сосуда образуется
углубление . Этот результат устойчиво получается и при небольших вариациях параметров
системы. Можно усложнить модель и учесть, что коэффициент теплопроводности
вещества в жидком состоянии существенно больше, чем в твердом. Например, в
узлах сетки, для которых выполняется условие Т > Тк, коэффициент
теплопроводности к = 0,8, а в остальных узлах к = 0,2. При этом получаются аналогичные
результаты (рис. 8.2 и 9). Модель имеет несущественный недостаток: при реше-
нии уравнения теплопроводности мы пренебрегаем искривлением верхней границы
расчетной области, считая ее горизонтальной плоскостью. Учет этого фактора
приведет к изменению поля температур; изотермы останутся перпендикулярны
верхней искривленной границе, решение задачи в центральной области будет
более точным.
Рис. 9. Поле температур при остывании вещества в цилиндрическом сосуде.
Рассмотренные выше задачи в общем-то известны; методика их решения изложена
в научной и учебной литературе [1-6]. Некоторые из них обсуждались
профессором В.А. Сараниным на конференции ЛЛУчебный физический эксперимент: Проблемы и
решения", проводимой в Глазовском педагогическом институте. Решение других
задач можно найти в Интернете. Автор не ограничился упоминанием общих идей
моделирования, а достаточно подробно рассмотрел способы построения
компьютерных моделей и представил соответствующие программы (см. Приложение).
Приложение
Программа ПР-1
{$N+} uses crt, graph; const N=250; M=60; dt=0.01; h=l; D=0.9;
Var DV,MV,i,j,t: integer; q,v: single;
C: array[0..N+1,0..M+l] of single;
Procedure Raschet;
begin
If (i>10)and(i<20)and(j>50)and(t<5000) then q:=5 else q:=0;
C[i,j] :=C[i,j]+D*(C[i+l,j]-2*C[i,j]+C[i-l,j]+C[i,j+l]-
2*C[i,j]+C[i,j-l])*dt/h/h+q+v*(C[i,j]-C[i+l,j])/h*dt;
end;
BEGIN v:=0.5; DV:=Detect; InitGraph (DV,MV, f с : \bp\bgi f ) ;
Repeat t:=t+l;
For i:=l to N do For j:=l to M do Raschet;
For j:=M downto 1 do For i:=N downto 1 do Raschet;
For j:=l to M do С[N+l,j]:=C[N,j];
For i:=l to N do С[1,j]:=C[0,j]; {delay(lO);}
If t mod 100=0 then begin {cleardevice;}
For i:=1 to N do For j:=1 to M do begin
setcolor(round(C[i,j]/400)+8)/circle(3*i,50+3*j,2); end;
circle(round(t/40),450-round(2*C[50,23]),2);
circle(round(t/40),450-round(2*C[90,23]),2);
circle(round(t/40),450-round(2*C[130,23]),2);
circle(round(t/40),450-round(2*C[170,23]),2);
circle(round(t/40),450-round(2*C[210,23]),2);
circle(round(t/40),450-round(2*C[250,23] ),2); end;
until KeyPressed; CloseGraph;
END.
Программа ПР-2
uses crt, graphs-
const N=100; M=100; a=0.4; R0=3; dr=0.1; dt=0.005;
var i,j,k,DV,MV: integer; q,dal,al,pi,r: real;
T: array[0..N+1,0..M+l] of real;
BEGIN pi:=arctan(l)*4; dal:=pi/M/2;
DV:=Detect; InitGraph(DV,MV,fc:\bp\bgif);
Repeat For i:=1 to N do For j:=1 to M do begin
r:=R0+i*dr; q:=0;
If (abs(I-40)<6)and(abs(j-70)<6) then q:= -80;
T[i,j]:=T[i,j]+a*((T[i+l,j]-T[i-l,j])/2/r/dr+
(T[i-l,j]-2*T[i,j]+T[i+l,j])/dr/dr+(T[i,j-l]-
2*T[i,j]+T[i,j+1])/dal/dal/r/r)*dt+q*dt;
T[l,j]:=-50; T[N,j]:=90; T[i,1]:=T[i,2];
T[i,M]:=T[i,M-l]; end;
If к mod 40=0 then For i:=l to N do
For j:=l to M do begin r:=30*(R0+i*dr);
al:=dal*j; setcolor(round(abs(T[i,j]/5+3)));
circle(100+round(r*cos(al)),20+round(r*sin(al)),2);
end; inc(k);
until KeyPressed; CloseGraph;
END.
Программа ПР-3
{$N+} Uses crt, graphs-
Const N=150; M=25; dt=0.005; h=l; a=0.3;
Var i,j,k,DV,MV: integer; q,v,F: single;
T: array[0..N+1,0..M+l] of single;
Procedure Raschet;
begin
If (i>10)and(i<30)and(j=10)and(k<5E+4) then q:=150 else q:=0;
v:=0.5*(l-j*j/M/M); F:=a*(T[i,j+l]-T[i,j])/h/(j+0.5);
T[i,j]:=T[i,j]+a*(T[i+l,j]-2*T[i,j]+T[i-l,j]+T[i,j+l]-
2*T[i,j]+T[i,j-1])*dt/h/h+F*dt+q*dt-v*(T[i+1,j]-T[i,j])/h*dt;
end;
procedure Draw;
begin setcolor(round(T[i,j]/160)+1);
circle(4*i,150+4*j,2); circle(4*i,150+4*j,1);
circle(4*i,153-4*j,2); circle(4*i,153-4*j,1);
setcolor(white);
If (i>10)and(i<30)and(j=10) then begin
circle(4*i,150+4*j,2); circle(4*i,150+4*j,1);
circle(4*i,153-4*j,2); circle(4*i,153-4*j,1);
end; end;
BEGIN
DV:=Detect; InitGraph(DV,MV,'c:\bp\bgi');
Repeat к:=k+l;
For i:=l to N do For j:=l to M do Raschet;
For j:=M downto 1 do For i:=N downto 1 do Raschet;
For j:=l to M do begin T[N+1,j]:=T[N,j]; T[0,j]:=T[1,j]; end;
For i:=l to N do T[i,0]:=T[i,1];
If к mod 500=0 then begin k:=0;
For i:=l to N do For j:=l to M do Draw; end;
until KeyPressed; CloseGraph;
END.
Программа ПР-4
{$N+}Uses crt, graph; Const n=100; m=l; h=l; dt=0.01;
Var i,jrtime,DV,MV: integer; f,tt,kl, k2, al: single;
tl,t: array[1..N] of single;
Procedure Raschet;
begin If (tt>450)and(tt<450+dt) then begin al:=0.05;
k2:=0.02; For i:=51 to 99 do t[i]:=5; end;
For i:=2 to 49 do begin
If i=49 then f:=-al*(T[49]-T[51]) else f:=0;
tl[i]:=t[i]+kl*((t[i+1]-2*t[i]+t[i-1])/(h*h)+
2/i*(t[i]-t[i-l])/h)*dt+f; end; Tl [50] :=T1[49] ;
For i:=51 to 99 do begin
If i=51 then f:=al*(T[49]-T[51]) else f:=0;
tl[i]:=t[i]+k2*((t[i+1]-2*t[i]+t[i-1])/(h*h)+
2/i*(t[i]-t[i-l])/h)*dt+f; end; tl[1] :=tl[2] ;
tl[100] :=tl[99] ; For i:=l to N do t[i]:=tl[i]; end;
BEGIN DV:=Detect; InitGraph (DV,MV, f с : \bp\bgi f ) ; al:=0.9;
For i:=l to N do If i<50 then t[i]:=30 else t[i]:=1;
t[49]:=25; t[50]:=15; t[51]:=5; kl:=0.3; k2:=0.9;
Repeat tt:=tt+dt; inc(time); Raschet;
If time mod 500=1 then begin cleardevice; time:=2;
For i:=2 to N do begin setcolor(round(t[i]/5)+1);
If i<50 then circle(400,120,2*i);
line(i*5+20,420-round(8*t[i])r (i-1)*5+20,420-round(8*t[i-1])); end;
line(20,420,500,420); line(20,0,20,420); end;
until KeyPressed; CloseGraph;
END.
Программа ПР-5
{$N+} uses crt, graphs-
const N=40; dr=l; dz=l; dt=0.01; M=80; tk=5; tp=10; alfa=0.03;
var кклглгдлj,itv,DV,MV : integer;
S r dh, ha r hb r V, VI r q, qqr a r time : single ;
h: array[0..N+1] of real; t: array[0..N+1,0..M+l] of single;
k: array[0..N+1] of single;
procedure Rl;
begin If t[r,j]>tp then a:=0.8 else a:=0.2;
{a:=0.1+0.002*t[r,j]*t[r,j]*t[r,j] ;}
If abs(t[r,j]-tp)<0.3 then q:=0.005 else q:=0;
t[r,j] :=t[r,j]+a*(t[r+l,j]-2*t[r,j]+t[r-l,j])*dt/(dr*dr) +
(t[r+1,j]-t[r-1,j])/2/dr/r*dt+q*dt; end;
procedure R2;
begin If t[r,j]>tp then a:=0.8 else a:=0.2;
If abs(t[r,j]-tp)<0.3 then q:=0.005 else q:=0;
t[r,j]:=t[r,j]+a*(t[r,j+l]-2*t[r,j]+t[r,j-l])*dt/(dz*dz)+q*dt; end;
BEGIN DV:=Detect; InitGraph (DV,MV, f c: \bp\bgi f ) ;
For r:=l to N do For j:=l to M do t[r,j]:=16;
For r:=l to N do h[r]:=200; itv:=N; ha:=M;
Repeat time:=time+dt;
For j:=l to M do begin t[1,j]:=t[2,j]; t[N,j]:=5-0.l*time;
If t[N,j]<0 then t[N,j]:=0; end;
For r:=l to N do t[r,M]:=t[r,M-1];
For r:=l to N do t[r,1]:=t[N,M]; kk:=kk+l;
For j:=2 to M-l do For r:=2 to N-l do Rl;
For j:=2 to M-l do For r:=N-l downto 2 do Rl;
For r:=2 to N-l do For j:=2 to M-l do R2;
For r:=2 to N-l do For j:=M-l downto 2 do R2; V1:=V; V:=0;
For r:=1 to N do For j:=1 to M do begin
If (j<ha)and(t[r,j]>tp) then V:=V+3.1415*(r*r-(r-1)*(r-1))*dz; end;
For j:=M downto 1 do if t[1,j]>tp then hb:=j;
S:=V/(ha-hb+0.001); dh:=alfa*(Vl-V)/(S+0.001);
If dh>0 then ha:=ha-dh;
rectangle(320-6*N,530-6*M,320+6*N,530);
If kk mod 300=0 then begin kk:=0;
For r:=0 to N do If t[r,M]>=tp then rg:=r; setcolor(white);
circle(320-6*rg,530-round(6*ha),2);
circle(320+6*rg,530-round(6*ha)r2);
For r:=1 to N do For j:=1 to M do begin
setcolor(round(t[r,j]*1)); If t[r,j]>tp then setcolor(red);
circle(320+6*r,530-6*j,3); circle(322-6*r,530-6*jr3); end; end;
until (kk>60000)or(KeyPressed);
Repeat until KeyPressed; CloseGraph;
END.
Литература
1. Дульнев Г.H., Парфенов В.Г., Сигалов А. В. Применение ЭВМ для решения
задач теплообмена: Учеб. пособие для теплофизич. и теплознергетич.
спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1990. - 207 с.
2. Кунин С. Вычислительная физика. - М.: Мир, 1992. - 518 с.
3. Майер Р. В. Задачи, алгоритмы, программы. [Электронный ресурс] - URL:
http://maier-rv.glazov.net, http://komp-model.narod.ru.
4. Майер Р. В. Компьютерное моделирование физических явлений. - Глазов,
ГГПИ: 2009. - 112 с. (http://mayer.hop.ru, http://rmajer.narod.ru)
5 . Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. -М. :
Наука, 1966. - 724 с.
6. Федоренко Р.П. Введение в вычислительную физику: Учеб. пособие: Для
вузов . - М.: Изд-во Моск. физ.-техн. ин-та, 1994. - 528 с.
ПОСТРОЕНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ1
Введение
Ректификация - тепломассообменный процесс, который осуществляется в проти-
воточных колонных аппаратах с контактными элементами (насадка, тарелки). В
процессе ректификации происходит непрерывный обмен между жидкой и паровой
фазой. Жидкая фаза обогащается более высококипящим компонентом, а паровая фаза
- более низкокипящим. Процесс тепломассообмена происходит по всей высоте
колонны между стекающим вниз дистиллятом, образующимся наверху колонны
(флегмой) , и поднимающимся вверх паром. Чтобы интенсифицировать процесс
тепломассообмена применяют контактные элементы, увеличивающие поверхность
взаимодействия фаз. В случае применения насадки, флегма стекает тонкой пленкой по ее
Не весь текст статьи взят из интернета.
развитой поверхности. В случае применения тарелок, пар в виде множества
пузырьков, образующих развитую поверхность контакта, проходит через слой
жидкости на тарелке.
Целью ректификации вообще является чёткое разделение жидких смесей на
отдельные чистые компоненты.
При ректификации спирта основная задача - из 40%-го сырого спирта получить
спирт-ректификат с концентрацией в нем этанола не менее 96% при минимальным
содержании посторонних примесей. Для этого процесс ректификации сырого спирта
(СС) проводят за один раз на специальном ректификационном оборудовании. Это
оборудование позволяет разделять водно-спиртовую смесь на отдельные азеотроп-
ные фракции, отличающиеся температурами кипения. Одной из таких фракций
является пищевой спирт-ректификат (СР).
В промышленности применяются ректификационные установки непрерывного
действия. В этих установках 85%-ый СС и перегретый водяной пар смешиваются в
нижней части колонны и превращаются в 40%-ый водно-спиртовой насыщенный пар при
температуре 94°С. Эта паровая смесь непрерывно поступает в ректификационную
колонну, расслаивается по ее высоте на отдельные фракции, которые непрерывно
и с определенным темпом отбираются из разных частей колонны. Для обеспечения
нормальной работы таких непрерывных колонн требуются достаточно сложные и
дорогие элементы автоматики.
В химических и физических лабораториях обычно применяют ректификационные
колонны периодического действия, не требующие никакой автоматики. Эти колоны
оборудованы только элементарными средствами регулировки отбора,
температурного контроля и манометрическим измерителем перепада давления на колонне.
Принципиальная схема периодической ректификационной установки представлена
на рисунке.
Установка состоит из испарительной емкости — куба 1 и ректификационной
колонны, установленной вертикально на крышке куба. Куб заполнен
перерабатываемой жидкостью 4, нагрев и испарение которой осуществляется нагревателем 5.
Колонна включает в себя ректификационную часть 9 и головку колонны 10.
Ректификационная часть колонны представляет собой трубу 11, покрытую снаружи
теплоизоляцией 12 и заполненную внутри контактными элементами 13. Головка колон-
ны представляет собой систему патрубков 3 к которой в соответствии со схемой
подсоединены: термометр 6, конденсатор 2, охладитель 14 и регулятор отбора
15. Внизу ректификационной части колонны обычно монтируется манометрическая
трубочка 16 для измерения перепада давления в колонне. Через охладитель 14 и
конденсатор 2 постоянно протекает охлаждающая вода.
Ректификационная установка работает следующим образом. С помощью
нагревателя кубовая жидкость доводится до кипения. Образующийся в кубе пар по
ректификационной части колонны 9 поднимается вверх и попадает в конденсатор 2, где
происходит его полная конденсация. Часть этого конденсата (флегмы)
возвращается в ректификационную часть колонны, а другая часть проходит через
охладитель 14 и в виде дистиллята 7 стекает в приемную емкость 8. Соотношение между
расходами флегмы и отбираемого дистиллята называется флегмовым числом и
устанавливается с помощью регулятора отбора 15. По всей высоте ректификационной
части колонны происходит процесс тепломассообмена между стекающей вниз
флегмой и поднимающимся вверх паром. В результате этого в головке колонны
накапливается в виде пара и флегмы самый легкокипящий (с наименьшей температурой
кипения) компонент кубовой жидкости, а следом за ним сама собой выстраивается
«номерная очередь» (вниз по высоте колонны) из разных веществ. «Номером» в
этой очереди является температура кипения каждого компонента, возрастающая по
мере опускания по колонне. С помощью регулятора 15 осуществляется медленный и
последовательный отбор этих веществ в соответствии с их очередностью. «Номер»
отбираемого в каждый момент вещества регистрируется с помощью термометра 6.
Зная эту температуру с учетом атмосферного давления, можно достаточно точно
указать основное вещество дистиллята, отбираемое в данный момент времени.
Для успешного взаимодействия флегмы, стекающей вниз по колонне, и пара,
движущегося вверх, можно использовать любые другие контактные элементы,
увеличивающие площадь и эффективность этого взаимодействия.
Для ректификационных колонн сверхмалого диаметра (10-30 мм) более
эффективным, по сравнению с тарелкой, контактным элементом является насадка. Насадка
заполняет собой весь внутренний объем ректификационной части колонны.
Существует множество различных типов насадок, например, типа Зульцер (из
гофрированной нержавеющей или медной сетки с навивкой по спирали Архимеда),
спирально-призматическая (мелкие пружинки из нержавеющей или медной проволоки) и
специальная спирально-винтовая.
Процесс тепломассообмена на таких контактных элементах проходит непрерывно,
а состояние фазового равновесия, эквивалентное одной теоретической тарелки,
наступает после преодоления паром некоторой высоты насадки.
Внешний вид контактного элемента многими воспринимается как некоторый
фильтр, который обязан иметь определенный срок службы в колонне. Однако это
не так. Насадка - это тепло массообменный контактный наполнитель колонны, по
которому вниз стекает чистый дистиллят, а вверх поднимается чистый пар. Таким
образом, если оба этих компонента действительно не имеют в себе посторонних
включений (в колонну не попадает пена из кубовой жидкости), то этот «фильтр»
выполняет свои функции тепломассообмена неограниченно долго внутри колонны.
Материал
Наиболее подходящий материал для построения ректификационной колонны для
очистки и концентрирования спирта - нержавеющая сталь, но в наших краях она
недоступна для населения, а если бы была доступна, то стоила бы очень дорого.
Так что ниже речь пойдет о меди. Тем более что именно медь использовалась
традиционно для изготовления перегонных кубов.
Медь относится к металлам, прекрасно поддающимся пайке. Это обусловлено
тем, что поверхность металла может быть сравнительно легко очищена от
загрязнений и окислов без применения особо агрессивных веществ (медь слабо
коррозирующий металл). Имеется ряд легкоплавких металлов и их сплавов (в нашем
случае олово), имеющих хорошую адгезию с медью. При нагреве в воздухе при плавке
медь не вступает в бурные реакции взаимодействия с окружающими веществами и
кислородом, что не требует сложных или дорогих флюсов. Все это позволяет
легко осуществлять любые виды пайки.
При пайке медных труб используется капиллярный эффект. Это процесс
взаимодействия молекул или атомов жидкости и твердого тела на границе раздела двух
сред, приводит к эффекту смачивания поверхности. Смачивание - это явление,
при котором силы притяжения между молекулами расплавленного припоя и
молекулами основных металлов выше, чем внутренние силы притяжения между молекулами
припоя (жидкость «прилипает» к поверхности).
Медные трубы в Европе в основном метрические, 6, 8, 10, 12, 15, 22, 28, 42
и 48 мм встречаются и больших диаметров, но могут быть и дюймовые:
дюймы
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
мм
6,35 х 0,8
9,52 х 0,8
12,7 х 0,8
15,9 х 0,8
19,1 х 0,8-0,9
Маркировка меди в российских марках: ставится буква «М» обозначающая медь.
Далее идут цифры показывающие степень чистоты в % (00-высокочистая, 0-чистая,
1,2,3- технически чистая). Последний элемент маркировки - буква
обозначающая способ изготовления меди: (к - катодная, у - катодная переплавленная, б -
бескислородная, р - раскисленная, ф - раскисленная фосфором).
Марка меди
Чистота
МОО
99,99
МО
99,95
Ml
99,90
М2
99,70
МЗ
99,50
Медь марок М1р, М2р и МЗр при суммарном содержании примесей, одинаковом с
медью марок М, М2 и МЗ, отличается от них тем, что они более полно раскислены
и содержание кислорода в них снижено от 0,05-0,08% до 0,01%. Поэтому в них
дополнительно содержится от 0,002% до 0,012% фосфора. Марка меди М1ф
отличается от М1р еще большим количеством фосфора от 0.012% до 0,04%, для большего
раскисления и соответственно полным отсутствием кислорода.
Химический состав меди по ГОСТ 859 (%)
Map
ка
М1ф
М1р
Ml
М2
МЗ
Cu+Ag
(%)
99,90
99,90
99,90
99,70
99,50
П]
Bi
0,001
0,001
0,001
0,002
0,003
Sb
0,002
0,002
0,002
0,005
0,05
As
0,002
0,002
0,002
0,01
0,01
Fe
0,005
0,005
0,005
0,05
0,05
эимеси, не более (%)
Ni
0,002
0,002
0,002
0,2
0,02
Pb
0,005
0,005
0,005
0,01
0,05
Sn
0,002
0,002
0,002
0,05
0,05
S
0,005
0,005
0,004
0,01
0,01
Zn
0,005
0,005
0,004
-
-
0
-
0,01
0,05
0,07
0,08
P
0,04
0,012
-
-
-
Применение различных марок меди в сантехнических изделиях определяется ГОСТ
52318, а в Европе - EN 1057.
В строительных изделиях: ГОСТ 495-92, в Европе - EN 1172.
Обычно водопроводные трубы содержат 99,90% меди и великолепно подходит для
целей перегонки спирта.
Необходимый
инструмент
и материалы
для пайки меди
Труборез
Используется для нарезания труб по
длине, в продаже есть множество по виду
разных труборезов, но принцип работы у
всех одинаков.
Труба зажимается между роликами и
лезвием и начинаем вращать вокруг1 трубы,
подтягивая натяжной болт на 1/3 оборота,
после каждого оборота трубореза. Через
пять шесть оборотов труба будет
разрезана.
Горелка газовая
Используется при низкотемпературной
пайки меди (это пайка при температуре менее
450°С) с оловянным припоем. В продаже
есть множество разных конструкций
горелок, но не все они годятся для пайки.
Внимательно прочитайте инструкцию от
горелки, там обычно пишут для чего она
предназначена, и не стоит брать ту
горелку, где инструкция начинается со слов
"разжигаться мангал"! Для вас, самое
главное нужно выбрать горелку с узко
направленным пламенем. Такая горелка
способна нагреть трубу за несколько секунд,
а газового баллончика хватит на
несколько сотен стыков.
В баллон горелки заправлена смесь
пропана-бутана, притом, чем выше процентное
соотношение бутана к пропану, тем
температура пламени будет выше.
Металлическая шерсть
Применяется для механической зачистки
меди. Просто следует обжать конец трубы
металлической шерстью и сделать
несколько вращательных движений трубой. Можно
также использовать специальные ёршики,
но ни в коем случае нельзя пользоваться
напильником или грубой наждачной
бумагой.
Также следует зачистить и фитинг, но уже
изнутри.
Для фитингов можно также использовать
специальные ёршики.
Оловянный припой
Припой продаётся в катушках и
представляет собой оловянную проволоку диаметром
3 мм.
В принципе всё что нужно при выборе, это
найти надпись БЕЗ СВИНЦА, или по-
английски LEAD FREE .
Такой припой можно использовать в
водопроводах, ну и конечно в перегонных
аппаратах. Его состав: Sn - 97%, Ад - 3% .
Флюс
Очень важная вещь при пайке! Для
качественного соединения металлов при пайке
припой должен растечься под действием
капиллярных сил и «смочить» основной
металл . Хорошее смачивание происходит
только на совершенно чистой, не
окисленной поверхности. А сам шов получается
прочным при защите пайки от кислорода
воздуха. Поэтому для повышения адгезии
припоя и получения качественной пайки
поверхности соединения обязательно
механически зачищаются и используют флюсы. В
принципе при выборе флюса, не важно
предназначены они для припоя с свинцом
или без, они все взаимозаменяемы, зато
флюсы для пайки, например, нержавейки
абсолютно не годятся. Можно просто
использовать канифоль, правда, могут быть
проблемы с нанесением.
Пайка меди
*Г-<
4.
Флюс тонким слоем следует нанести
на механически зачищенную трубу.
^^ч^;
После чего одеть так же
механически зачищенный фитинг.
Греть при помощи газовой горелки,
пока медь начнёт менять цвет под
горелкой и можно вносить припой.
Припой мгновенно расплавится и из-
за капиллярного эффекта мгновенно
проникнет в щель фитинга.
Техника
безопасности
• В первую очередь, нужно помнить, что медь сильно проводит тепло, и не
стоит паять деталь, короче 30 см просто держа в руках, это может
привести к ожогам!
• При пайке медь сильно нагревается, и приобретает очень неприятные
свойства - наносить очень сильные ожоги, в доли секунды, при прикосновении!
Например, многие могут взять в руки уголёк из костра, и перекидывать из
руки в руку не нанося себе вреда, но с медью такой фокус не пройдёт,
ожог гарантирован!
• Во время пайки, флюс может капнуть на оголённые части тела, немедленно
следует смыть водой, иначе может быть химический ожог!
• Во время работы вы должны быть одеты не в синтетическую одежду, не
забывайте, вы работайте с огнём, горячим металлом, и флюсом содержащим
кислоту! Синтетика как правило легко воспламеняется и плавится!
• Не суйте флюс в глаза, ноздри, рот, уши и половые органы!
• При пайке откройте окно, не стоит дышать большим количеством дыма от
сгоревшего Флюса!
Изготовление
Сборка ректификационной колонны осуществлялась из тех готовых деталей,
которые удалось найти в магазинах. Выбор был невелик, и под него подходила
только дюймовая медная труба, которой и было приобретено 6 футов. Из этой
трубы на саму колонну (остальное на дефлегматор и холодильник) отводилось
примерно 1,15-1,20 м.
Расчет показал, что при таких размерах колонны и при насадке в виде стружки
их нержавейки, в колонне будет примерно 10 теоретических тарелок, что
позволяет получить при флегмовом числе равном 3 спирт-ректификат с содержанием
этанола приблизительно 95 %. Исходное содержание этанола бралось равным 40 %
(значение рекомендуемое теорией).
Еще одна медная трубка была диаметром Ц дюйма - самый ходовой размер,
поэтому все переходники и прочие детали были на диаметры в 1 дюйм и Ц дюйма.
Проще всего спаять дефлегматор. С него и начнем.
Длина отрезка дюймовой трубы равна примерно 30 см. Внутренняя трубка -
диаметром в Ц дюйма и длиной 40 см. Сначала пропаиваем одну сторону, все
соединения разом, затем собираем и пропаиваем другую. С одного конца впаиваем
заглушку. В заглушке сверлим отверстие диаметром 3-4 мм (не критично) -
дефлегматор должен сообщаться с атмосферой. С другого конца припаиваем резьбовой
разъем для подсоединения дефлегматора. Та часть разъема, что с гайкой - к
дефлегматору .
Узел отбора
Узел отбора стоит между колонной и дефлегматором, поэтому сверху к нему
впаиваем ту часть разъема, на которую накручивается гайкой дефлегматор. Снизу
впаиваем большой разъем для соединения дюймовой трубы, гайкой к узлу отбора.
Вентиль - шаровой на Ц дюйма, то есть в открытом состоянии он все равно, что
трубка и поэтому не создает сопротивления потоку паров. В конце отвода при-
паиваем еще один разъем, гайкой к узлу отбора - для подсоединения
холодильника (охладителя). Размеры трубок подобраны таким образом, чтобы отвод отстоял
от колонны на 30 см (1 фут) . Ближе не стоит - приемник спирта и нагреватель
должны быть разнесены - спирт легко испаряется и воспламеняется.
Датчик температуры
Для измерения температуры паров было приобретено довольно смешное
устройство - оно предназначено для контроля температуры внутри жарящегося куска мяса.
Тем не менее, в местных магазинах оказалось несколько видов подобных
устройств. Измеритель цифровой, точность - 1°С (предел 100°С) , тогда как мульти-
метр с термопарой имеет точность 3°С (предел около 1000°С) . Хотя следует
заметить, что важно знать не точное значение температуры паров, а те моменты
времени, когда тренд температуры при ректификации выйдет на плато,
соответствующее поступлению паров этанола (около 78°С) и затем покинет его.
Дополнительное удобство измерителя - звуковой сигнал при приближении к
заданной температуре, что тоже немаловажно.
Датчик должен измерять температуру только своим острием, поэтому на
остальную часть датчика надета фторопластовая трубка, и соответственно под эту
трубку подобран ввод-зажим. Последний и впаивается в узел отбора. Отверстие
для него сверлится точно напротив отвода, по центру его.
Узел крепления
Этот узел держит холодильник на колонне. С ним пришлось повозиться. Дело в
том, что внутри фитингов есть утолщение, чтобы труба не пролезала насквозь.
Его надо удалить на сверлильном станке. Для этого использовалась фреза на 14
дюйма и наждачный цилиндр. В данном случае фреза для дерева, но медь - металл
мягкий. И опять потребуется еще один резьбовой разъем - для крепления
холодильника .
Медь очень хорошо проводит тепло, а здесь с одной стороны будет горячая
колонна , а с другой холодильник. Поэтому целесообразно вставить в поперечное
соединение отрезок деревянного стержня. Сверлим насквозь и крепим медными
гвоздями или проволокой. Но расклепываем крепление только со стороны разъема,
а то, что справа на снимке, пока нет - тройник будем еще паять, и дерево
может выгореть, перед пайкой его нужно удалить, закрепить и расклепать
крепление только после пайки. Расстояние между тройниками нам известно - 30 см.
Конструктивно и по размерам холодильник идентичен дефлегматору, за
исключением того, что внутренняя трубка имеет большую длину, в данном случае
приблизительно 70 см. На ее длинную часть, выступающую из холодильника, напаивается
своя часть разъема от узла отбора. На короткую часть напаивается зажим для
фторопластовой трубки - по ней спирт-ректификат будет стекать в приемную
бутыль . Ну и конечно предварительно надевается и потом запаивается длинная
часть узла крепления как показано на снимке справа.
Колонна
Рассмотрим назначение деталей на снимке слева (см. ниже). Самая крайняя
деталь - это часть резьбового соединения для установки на крышку испарительной
емкости. Изнутри на нее накручивается гайка, аналогичная той, что на снимке
справа. Далее идет сетка из нержавейки для удерживания насадки. Эта сетка
была отпилена от той, что показана на снимке справа. Это деталь какой-то
сантехники, как впрочем, и все остальное. Сетка вкладывается внутрь соединения и
в нее упирается главная дюймовая труба. Следующая деталь служит для
увеличения площади опоры на крышку испарительной емкости. Под нее будет подложена
резиновая прокладка для герметизации. И самая крайняя деталь - это короткая
часть узла крепления. Перед пайкой из нее будет вынута деревянная вставка.
Две последние детали предварительно одеваются на колонну. Вначале
припаивается резьбовое соединение с сеткой. Затем опускается и припаивается уширитель
(муфта). Часть узла крепления пока не паяем - его положение точно неизвестно.
лш
Для того чтобы определить его положение - напаиваем с другой стороны другую
часть большого разъема (от узла отбора - см. снимок ниже слева), подсоединяем
узел отбора и холодильник. Скручиваем узел крепления, отмечаем на колонне
нужное место, и только после этого припаиваем короткую часть узла крепления.
Деревянную вставку - на ее место, вставляем и расклепываем медную шпильку.
То, что получилось можно посмотреть на снимке справа.
Сборка
В качестве испарительной емкости была использована ненужная скороварка. Она
была приобретена для целей стерилизации микробиологических сред и перегонки
сусла на спирт-сырец (самогон), но оказалась неподходящей ни для того, ни для
другого. Давление пара изнутри поднимает ее крышку, тогда как хорошая
скороварка должна ее прижимать. Предположительно это же давление пара должно
растягивать и прижимать к бортам крышки резиновую прокладку (не показана),
герметизируя крышку. В принципе, в конце концов, так и происходит, но до этого
момента спирт из скороварки, через неплотности, успевает испариться.
Тем не менее, для ректификационной колонны эта скороварка подошла. Вес
колонны оказался достаточно велик, чтобы прижимать крышку к резиновой прокладке
сверху. Все упоры-ограничители были сточены, чтобы не мешали прижимать
прокладку к кастрюле скороварки.
На левом снимке показана фреза для металла, под дрель, которой было
проделано отверстие для крапления колонны. Там же две прокладки. Резиновая
ставится снаружи, а пластиковая (полиэтиленовая) изнутри. Внутренняя прокладка была
взята от пластикового сифона для раковины. Ее назначение - изолировать медь
от алюминия (соединение разных металлов при температуре кипения может
коррозировать) .
В той детали, что накручивается изнутри, следует просверлит пару отверстий
поближе к крышке - для пара, если уровень спирта-сырца случайно окажется под
самую крышку.
На следующем снимке можно посмотреть, как выглядит крепление колонны на
крышку скороварки. Сама же скороварка нагревается обычной электроплиткой.
На снимке ниже (вкладка) показана вся ректификационная колонна в сборе.
На колонну надета теплоизоляция для уменьшения потерь тепла. Обратите
внимание на деревянную подставку (широкая доска с выемкой) под узел крепления.
Она переносит всю тяжесть колонны на крышку скороварки и отгораживает
приемную бутыль от электроплитки.
Насадка
Для того чтобы в ректификационной колонне, протекали процессы
тепломассообмена, труба колонны, должна быть заполнена насадкой. Существует большое
разнообразие промышленных насадок для ректификационных колонн. Но, достать их не
всегда представляется возможным. Поэтому в качестве альтернативы насадке
промышленного производства, в ректификационной колонне была использована насадка
изготовленная из хозяйственных мочалок, для мытья посуды, из нержавеющей
стали. Ниже показаны фотографии используемых мочалок и поясняется процесс
изготовления насадки для ректификационной колонны.
Мочалки китайского производства использовались больше года, после
извлечения из колонны следов коррозии не замечено. Можно использовать в качестве
насадки .
Мочалки российского производства "Чистюля" имеют примерно в два раза
больший объем по сравнению с китайскими. Мочалки бывают разных производителей и
изготовлены могут быть из разных марок стали. Иногда не вполне
удовлетворяющих по качеству. В процессе ректификации, от подобных мочалок могут возникать
различные изменения во вкусе и запахе дистиллята. Поэтому выбор мочалок это
- ответственный момент, не все мочалки подходят для использования их в
качестве насадки.
Мочалки "Чистюля". Спираль мочалки
состоит из нескольких слоев. Слоев может
быть и три и даже четыре. Для насадки
это плохо. Увеличивается
гидравлическое сопротивление и снижается
производительность . Поэтому мочалку нужно
разрезать на отдельные фрагменты.
Берем ножницы, мочалку прокалываем
примерно посередине и разрезаем
пополам. Ножницы резали плоховато,
пришлось укоротить режущую часть на
наждаке и заодно наточить. Работать стало
гораздо удобнее.
После того как мочалка разрезана
пополам, нужно ее разделить еще на
несколько частей. Режем ножницами, прямо
по вдоль мочалки. Должно получиться
примерно 4-5 кусков.
Затем разрезаем куски на отдельные
колечки по 3-5 витков в каждом.
Получается насыпная насадка.
В процессе нарезки мочалок на
отдельные фрагменты, получается много мелких
колечек и прочего мусора. Для того,
чтобы избавиться от ненужного мусора,
можно использовать сито с подходящими
по диаметру отверстиями. Сито нужно
подбирать таким образом, что бы
фрагменты насадки оставались в сите, а
мусор просеивался через отверстия. Вот,
например, подходящее.
Размеры насадки в миллиметрах.
Размеры витков, а так же их диаметр у разных мочалок разные. В зависимости
от диаметра трубы нужно применять разные мочалки. Для труб с малым диаметром
25-35 мм применять мочалки с минимальным размером витков. Для труб большего
диаметра лучше использовать мочалки с большим диаметром витков. Процесс
нарезки пойдет при этом быстрее.
Колонну доверху заполняем насадкой.
Разное
МИР ГЛАЗАМИ ЗООПСИХОЛОГОВ
Лабас Ю.А., Седлецкий И.В.
ГЛАВА 5.
СТЕНКА НА СТЕНКУ
5.1. Свой — чужой
Жизнь, естественно, не ограничивается взаимоотношениями внутри группы.
Животные, живущие группами или стадами, поддерживая взаимный контакт, различают
«своих» и «чужих» по внешнему виду, запаху, голосовым сигналам и так далее. У
волков, например, все члены стаи лично знакомы между собой. У крыс этого
знакомства нет, если группа велика. Но живут они как бы сильно разросшимися
семейными кланами и всех чужаков беспощадно уничтожают, распознавая по запаху.
Так же по запаху распознают чужих рабочие особи муравьев. Между разными
муравейниками одного и того же вида возможны «войны», о чем мы расскажем позже.
У обезьян, как и у людей, чужих узнают в первую очередь по внешнему виду.
У людей издревле слова «чужак» и «враг» были чаще всего синонимами. Чужака
распознавали и по внешним этническим признакам, и по языку, и по одежде,
когда она появилась. В малых группах решающую роль играло личное знакомство.
Общность этнических признаков и языка отнюдь не гарантировала безопасности.
С тех отдаленных времен, как уже говорилось, мы унаследовали неодолимое
стремление делить всех окружающих на «своих» и более или менее «чужих». Чем
дальше отстоит от нас человек по разным признакам, в частности, этническим,
тем в большей степени он воспринимается как «чужой», часто вызывая
подсознательное побуждение к агрессии и страх.
Известно, что когда не умеющие говорить грудные дети поднимают крик при
виде чужого, особенно их пугают люди с чуждым этническим типом. Если родители
блондины, ребенка сильнее пугают темноволосые. Эта совершенно инстинктивная
форма поведения не оставляет сомнений: у наших пращуров при встрече с людьми
чужого рода не было принято щадить даже детей.
А одно из убедительных подтверждений можно найти, например, в Ветхом
Завете . Помните, что творили завоеватели в ханаанских городах? Царя Саула
постигла жестокая кара только за то, что он пощадил детей и женщин в одном
завоеванном ханаанском городе!
Античная историческая литература изобилует примерами геноцида. Не только
людям древнего Востока, но и создателям западной цивилизации грекам и
римлянам была неведома жалость к жителям завоеванных городов. В Трое воспетые
Гомером победители ахейцы не щадили никого. В завоеванном Карфагене
тысячелетием позже (146 год до нашей эры) победители римляне вели себя ничуть не лучше.
Геноцид оставался нормой поведения.
Отнюдь не гуманнее вели себя и христиане. Одного из норвежских конунгов уже
после появления христианства в Скандинавии (XI век) прозвали «детолюбивым» за
то, что он, в отличие от всех прочих, не разрешал убивать детей в захваченных
вражеских селениях. Во время крестовых походов или межконфессионных
конфликтов убивали кого попало. Чего стоит одна Варфоломеевская ночь (24 августа
1572 года).
Для многих по сей день психологическая загадка: почему христианство, став
даже государственной религией в Римской империи и позже во всех возникших
после ее распада европейских странах, не сделало людей ни на йоту менее
кровожадными? Изменились только поводы для взаимного истребления. Этническую
вражду отчасти заменили религиозная и политическая нетерпимость, классовая
борьба.
Эти первозданные инстинкты, так или иначе, трансформировались в современном
полиэтническом обществе. В повседневной жизни в роли «своих» выступают то
соседи и сослуживцы, независимо от этнической принадлежности, то политические
единомышленники либо единоверцы, то собутыльники (противопоставляемые
непьющим) , то болельщики за любимую спортивную команду, а иной раз даже товарищи
по больничной палате, попутчики, едущие с нами в одном купе. Все, выходит,
зависит от обстоятельств.
Но и от инстинктов, к сожалению, никуда не убежишь. Чувство этнической
вражды, намертво, казалось бы, подавленное культурой и воспитанием, вдруг
просыпается в состоянии стресса или алкогольного опьянения, когда контроль
сознания над подсознательными эмоциональными импульсами сильно ослаблен. То же
происходит под влиянием негативных эмоций, повышающих общую агрессивность.
Начинаются подсознательные поиски врага — объекта вымещения злобы — и «под
руку» подвертываются инородцы.
К. Лоренц рассматривает идеологическую вражду как своего рода извращения
первозданной этнической ненависти, плохо контролируемой разумом. В основе —
все то же извечное деление «свой — чужой». Так ли это на самом деле? Вопрос в
достаточной степени спорный. Однако приходится признать следующий
неутешительный факт. Этническая вражда в самой примитивной «зоологической» форме
отходит на второй план только там, где ее как бы замещают другие, с виду более
«благопристойные» предлоги для взаимной ненависти: религиозная, политическая
и классовая нетерпимость.
Стоит идеологическим раздорам на какое-то время угаснуть, как это произошло
в странах, где кончилось противостояние «коммунистической правительство -
антикоммунистическая оппозиция», и тотчас этническая вражда вспыхивает с новой
силой. Выскакивает как чертик из табакерки. Последствия — межэтнические войны
на Кавказе, в Югославии, Молдове, повсеместное в Европе усиление
шовинистических настроений, несмотря на объединение. На Западе они явно усилились после
окончания холодной войны Восток — Запад.
Страшно констатировать такой факт, не зная, что можно противопоставить
слепому инстинкту, кроме самопознания.
Инстинктивное стремление людей объединяться в группы, сцементированные
чувством ненависти к общему врагу, в принципе неважно какому, конечно, нельзя
преодолеть добрыми советами. Природу человека переделать невозможно. На это
требуются тысячелетия. Выход — переориентация, поиск отвлекающих стимулов и
«заменителей». Об этом мы еще подумаем и поговорим.
5.2. Тотем и
государственно-партийная символика
При межродовых войнах у первобытных племен всегда существовала
необходимость очень быстро распознавать «своих» и «чужих». Такое распознавание, как
известно, осуществлялось не только по языку, внешнему облику и манере
поведения. Там, где ярко выраженные отличия этнического типа отсутствовали, всегда
выручал тотем: громко выкрикиваемое имя мифического родового предка. Тотемы
есть у первобытных племен всех континентов и островов, где такие племена
сохранились до наших дней.
От тотемов, вероятно, произошли звероподобные боги и священные животные,
как в древнем Египте — в каждой его провинции (номе) был какой-то свой особый
священный зверь. Где сокол, где павиан-анубис, а где, к примеру, кошка или
крокодил. Того же происхождения, наверно, табуированные (запретные) названия
зверей. Наш «медведь» — замена запретного имени «бер», откуда «берлога» и
немецкое название «бер». Замена произошла еще в индоевропейском праязыке, судя
по ее наличию в санскрите — «ведмед». И пищевые запреты, типа ветхозаветных,
возможно, так же произошли от тотемов, но это уже не суть важно.
Повстречались два воина.
— Мы — дети пробкового дуба, — кричит один.
— А мы дети маленького сокола, — откликается другой.
Хрясь! Одним воином стало меньше.
Прошли как сон многие тысячелетия.
Снова встречаются два воина.
— Я за правых!
— А я за левых!
Пока мы едины, мы непобедимы!
Хрясь!...
Дикари не только выкрикивали тотем при встрече с незнакомцем, но и таскали
с собой его изображения. Так возникали местные божки-родоначальники: совы,
медведи, соколы и прочие, и прочие, а далее, как предполагает Лоренц, не
только античная и средневековая геральдика (сова — герб древних Афин), но и
современная государственная и партийная символика. Моральные заповеди, из них
первая библейская «не убий», распространялись только на соплеменников, прежде
всего — соплеменных женщин и детей.
Встречаются два военных самолета. Как распознать, друг или враг? По
опознавательным знакам. Ту же функцию выполняет и военный мундир. Чужой тотем
снимает любые моральные запреты. «Если враг не сдается, его уничтожают».
5.3. И все-таки,
может быть,
Кант был прав?
Иммануил Кант предполагал, что у человека есть врожденное нравственное
чувство . Мы уже обсуждали этот опрос в связи с проблемой альтруистического
поведения в главе 3. Почему нам захотелось вернуться к этой теме еще раз?
Признаемся : слишком уж тошно стало от собственных рассуждений об этнической вражде.
Такая уж безнадега...
А правда ли, что на протяжении всей человеческой эволюции «свой — чужой»
понималось только как «соплеменники и враги» или даже «соплеменники и вкусная
питательная дичь»?
Действительно, у многих первобытных племен только убийство соплеменника
расценивается как преступление, за которое карают, впрочем, обычно, не
слишком жестоко (изгоняют, принуждают дать выкуп семье погибшего, которая, впро-
чем, имеет право на кровную месть). Лишь в исключительных случаях, например,
у североамериканских индейцев юта, убийцы сами кончают с собой, хотя их никто
к этому не принуждает.
Интересно, что в то же время у некоторых таких племен жестоко караемое
преступление — убийство без искупительной жертвы и особых обрядов тотемного
животного — мифического предка, например, у наших дальневосточных народностей —
гольдов и орочонов, соответственно, тигра или медведя.
Судя по наблюдениям многочисленных путешественников, общавшихся с разными
«дикими» людьми, отродясь не слыхавшими ничего о христианстве, Нагорной
проповеди, библейской заповеди «не убий», подавляющее большинство этих
«дикарей», были при надлежащем подходе искренне доброжелательны к чужакам,
общались с ними, как нормальные люди с нормальными людьми.
Оказалось, с «дикарями» можно дружить! Среди них, как и среди прочих людей,
есть добрые и злые, агрессивные и миролюбивые. Так просто «ни за что» они
вовсе не всегда убивают человека совершенно им чуждого этнического типа.
Прекрасный пример — похождения нашего Миклухо-Маклая. Его ведь папуасы тысячи
раз могли убить, а не тронули!
Таких примеров — без числа! Скорее уж, немотивированные убийства —
исключения из общего правила.
Антуан де Сент-Экзюпери пишет, что если в начале тридцатых годов его
товарищи, иной раз, совершали вынужденную посадку в тогда еще совершенно диких
дебрях центральной черной Африки, их, в худшем случае, обращали в рабство, но
не убивали. Совсем другое дело — арабские религиозные фанатики где-нибудь
вдали от колониальной полиции. Эти, подобно средневековым европейским
христианам, истреблявшим «еретиков», считали убийство иноверца священным долгом.
Что же удерживало от убийства безоружного белого вооруженных людей с другим
цветом кожи, живущих еще в каменном веке?
Рассказы недавно появившихся писателей-папуасов, австралийских аборигенов,
микронезийцев не оставляют сомнений: в их селениях многие библейские заповеди
чтились задолго до появления белых! Вовсе не существовало принципа «убей и
сожри любого чужеземца». Напротив, чтилось гостеприимство. Все это — несмотря
на постоянные межплеменные войны. Этническая вражда — инстинкт, просыпающийся
у нормальных людей главным образом в ситуациях «стенка на стенку», «наши и
они».
Мы уже писали об удивительно гуманном отношении к соплеменникам и даже к
пришлым людям у еще недавно диких народов нашего Крайнего Севера и Дальнего
Востока. В записках Д. Арсеньева можно прочитать о замечательно мудром и
добром человеке Дерсу Узала, гольде, «дикаре». В США в свое время много писали
об Иши, последнем уцелевшем из совершенно дикого индейского племени. Этот
человек, вышедший к белым в Чикаго, буквально поразил всех, кто с ним общался,
житейской мудростью и добротой. Теми же качествами прославился недавно
умерший ненецкий художник и мудрец Тыку Вылка, самоучка, в детстве «дикарь»,
воспитанный такими же «нехристями» и «дикарями». Русские соседи на Новой Земле
учились у него человечности!
Непостижимо!
Как это объяснить, исходя из представления, что люди от природы — людоеды,
способные относиться по-человечески только к соплеменникам, да и то только
потому, что за свинское поведение могут покарать?
Нет! Нравственное чувство — не продукт христианского воспитания. Оно дано
человеку от природы! Будь иначе, не было бы ни библейских заповедей, ни
Христа : некого было бы спасать. Не за кого было бы умирать на кресте. Наоборот,
пожалуй. Современные условия жизни, резко отличающиеся от тех, в которых
сформировался наш вид и возникла цивилизация, существенным образом изменили к
худшему наше поведение. В нем появились патологические черты, навязанные ере-
дой: урбанизацией, научно-техническим прогрессом.
Этническая вражда, конечно, была издревле, но она давала себя знать именно
в военных столкновениях между разными племенами, не распространяясь, однако,
на повседневные личные контакты людей.
Это, кстати, подтверждают костные останки кроманьонцев рядом с
неандертальцами в одних и тех же пещерах, наличие среди белых людей курчавых. Грималь-
дийцы — негроиды, когда-то жившие в Европе вперемешку с белыми, — подарили
соответствующий ген белым людям. Гримальдийские гены ответственны также за
наследственную болезнь - серповидноклеточную анемию и возникающий при ней
иммунитет к малярии, наблюдаемый у некоторых белых.
И межплеменные торговые связи (обмен) существовали еще в каменном веке, что
доказывают многочисленные археологические находки.
Античные писатели и философы задолго до новой эры писали о растлевающем
действии на человека урбанизации и государства, о «золотом веке», высокой
нравственности «варваров» по сравнению с тогдашними высоко цивилизованными
людьми.
Мы слишком мало знаем о себе. Дела наши ныне из рук вон, но (мы это
советуем и себе) не надо сгущать краски и драматизировать и без того неприглядную
ситуацию! Несмотря на наше происхождение от слабо вооруженных животных,
человек от природы не так уж плох!
5.4. Молодежный бунт
Начнем с короткой исторической справки.
С середины шестидесятых годов в слишком долго не воевавшей Европе и в США,
а затем уж и у нас резко обострились вечно неблагополучные отношения «отцы —
дети». Сперва молодежное движение приняло хулиганские формы. Началось
поветрие нападений студентов на профессоров и вообще людей старшего поколения,
которых оскорбляли, а иногда даже били или оплевывали, обвиняя в
«реакционности» . Зараз появилась своего рода эпидемия нарушений самых элементарных
общественных приличий. Так, некоторые венские и стокгольмские студенты вздумали
прилюдно отправлять естественные потребности и спариваться, объявляя такое
поведение почему-то «протестом». Подчас доставалось в те годы и нашим
диссидентам, высланным на Запад — «буржуйские прихвостни», «изменники».
Позже началось то, что потом назвали «студенческой революцией». 1968 год —
массовые антивоенные выступления, нападения на полицию, манифестации под
красным знаменем, портретами Мао, Сталина и Троцкого. Эпицентром этих событий
стал Париж, где беснующиеся толпы молодежи заполнили центр города, затеяли
баррикадные стычки с жандармерией и подожгли театр «Одеон».
В начале семидесятых наметилась резкая деидеологизация западного
молодежного движения. Прежние кумиры, Г. Маркузе и другие идеологи «новой левой» были
забыты. Появилось множество враждующих между собой группировок, отличающихся
друг от друга манерой причесываться и одеваться, музыкальными вкусами,
отношением к спиртному и наркотикам. Так возникли хиппи, потом панки, тедди бойз,
рокеры, металлисты и так далее. Все эти движения в начале восьмидесятых
перекинулись и к нам, где к ним добавились наши отечественные спартаковцы, любе-
ры, скинхеды и другие.
Общая черта всех группировок — презрительное отношение к старшему поколению
и всем его культурным ценностям. При этом не самое главное, носителями каких
ценностей являются собственные родители: старшее поколение воспринимается как
целое. Идеалом же становится внеэтническая культура быстроходных мотоциклов,
кинобоевиков, сленга, рока, марихуаны, мордобоя и жевательной резинки. В моде
до распространения СПИДа была и так называемая «сексуальная революция».
Августовские события и распад Советского Союза вызвали у нас политизацию
части молодежи. Некоторые хиппи, панки, металлисты, кришнаиты и
многочисленная молодежь, не входящая ни в одну из группировок, стояли в «живом кольце» у
Белого дома в 91 г. , защищали его и в 93-м, участвовали в митингах и
демонстрациях. Другие сменили шутовские одеяния и прически на камуфлированные
куртки, кепи и бронежилеты многообразных национальных гвардий, казачьи мундиры,
черные униформы и нарукавные повязки патриотических фронтов и нацистских
партий. Эти почувствовали, что, наконец-то дорвались до долгожданного
«настоящего дела»: жить не «просто так», а для чего-то, рисковать, подчиняться
воинской дисциплине, стрелять по движущимся живым мишеням, чувствовать рядом с
собой локоть боевого товарища. Жизнь для настоящих мужчин!
Одни уже повоевали в «горячих точках» и в Чечне, другие только готовятся,
мечтают влиться в ряды борцов. Однако, прочие (пока, похоже, подавляющее
большинство) обо всем подобном даже не помышляя, учатся, подались в коммерцию
или занялись рэкетом и бандитизмом.
На Западе молодежь в последнее время тоже политизируется, но там она
теперь , в основном, поддерживает не левых, а правоэкстремистские группировки. В
объединенной Германии впервые после 1945 года возрождается национал-
социалистическая идеология, преимущественно, правда, на Востоке.
Конрад Лоренц в «Восьми грехах цивилизованного человечества» следующим
образом объясняет почему же в последнее время так испортились отношения «отцов»
и «детей».
Издревле и до последних десятилетий в любой нормальной семье идеалом для
детей был отец. Он пользовался непререкаемым авторитетом. Ему старались
подражать . Так обеспечивалась преемственность поколений. На него и его друзей
дети смотрели «снизу вверх».
Чувство уважения естественным образом распространялось и на других старших,
в том числе учителей. Каждая здоровая семья представляла собой иерархически
организованную социальную ячейку с «вожаком» и «территорией» (дом, квартира),
притом это не мешало чувству сыновней любви. Дети в подавляющем большинстве
семей любили родителей и старших братьев.
Правда, давно известный факт — в шестнадцать-двадцать лет молодежь обычно
начинает бунтовать против старших. Это нормальное инстинктивное поведение
свойственно не только человеку, но и многим животным, заботящимся о
потомстве . Биологический смысл бунта — отселение от родителей на новую территорию
для поиска брачной пары, то есть ослабление внутривидовой конкуренции. С
годами в норме люди остепеняются и вновь начинают чтить культурное наследие
предков. Молодежный бунт полезен обществу как форма поведения, облегчающая
эволюцию культуры и препятствующая ее застою.
В патологических случаях слишком длительного пребывания под крылышком
родителей результат — хорошо известные психоаналитикам отклонения от нормы.
Потомки вырастают чудаками, до старости плохо контактируют со сверстниками,
становятся неудачниками в личной жизни. Часто у них на всю жизнь сохраняется
чувство горькой обиды на давно умерших родителей.
Опасна и другая крайность.
В последней четверти двадцатого века на психике подрастающего поколения все
больше стал сказываться эффект, названный австрийским психологом Рене Спитцем
«госпитализацией», когда ребенок не приобретает совершенно необходимого
образа духовно и физически высшего по рангу существа. Речь идет о
патологических последствиях постоянной занятости отца, который, поздно приходя с
работы, уже не в силах уделить внимание детям, поужинав, сразу же устраивается в
кресле у телевизора, а затем отходит ко сну. Тот же эффект вызывают
неблагополучные семьи, где родители пьют или экономически независимая жена грубо
оскорбляет мужа при детях, а сама до роли «лидера» не дотягивает.
Ребенок без нормального «рангового порядка» в семье начинает преждевременно
ощущать себя лидером группы. К тому же современное воспитание и дома, и в
школе сводится к стремлению во всем потакать детям, удовлетворять любые их
прихоти и всеми возможными способами давать им понять, что они ничуть не
глупее взрослых.
У ребенка развивается невротический комплекс презрения к родителям и
учителям, чье духовное превосходство он по младости лет не в состоянии оценить. Те
и другие представляются ему глупыми и безвольными ничтожествами (не исключен,
впрочем, случай, что они действительно таковы). Вместе с родителями
отрицается вся система культурных ценностей старшего поколения, ей на смену приходит
политическая антикультура комиксов и телевизионного кича. Невежество
порождает тягу к мракобесию, а в последнее время также к пропаганде демагогов,
разжигающих этническую вражду. Шовинизм нового типа прекрасно уживается с
отрывом от национальной (как и любой другой) культуры.
Чтобы внести полную ясность в точку зрения Конрада Лоренца, предоставим
слово также ему самому1.
Без рангового порядка не может существовать даже самая естественная форма
человеческой любви, соединяющая в нормальных условиях членов семьи; в
результате воспитания по пресловутому принципу «поп frustration» — «без ущемления»
тысячи детей были превращены в несчастных невротиков.
...В группе без рангового порядка ребенок оказывается в крайне неестественном
положении, поскольку инстинктивно (таков уж закон поведения всех социальных
животных, включая человека) стремится занять предельно высокий ранг, тираня
для этого родителей. Они же не сопротивляются, вызывая тем самым у ребенка
противоестественное в его возрасте ощущение, что он — лидер группы, а
родители — подчиненные особи! В результате, ребенок чувствует себя не защищенным,
лишенным поддержки сильного «вожака» и, соответственно, как бы занимает
«круговую оборону», начинает воспринимать всех сверстников и других чужих людей
как потенциальных врагов. Поэтому «безфрустрационных» детей обычно никто не
любит. Коллектив их сторонится.
Отыскивая лидера, ребенок все дальше заходит в своей агрессии против
родителей и наставников, «выпрашивает оплеуху», как это прекрасно определено в
баварско-австрийском диалекте. Когда вместо инстинктивно, подсознательно
ожидаемой ответной реакции («оплеухи») он наталкивается на резиновую стену
спокойных псевдорассудительных фраз, родители вместе с их культурой, взглядами и
так далее утрачивают всякий авторитет.
Человек никогда не отождествляет себя с порабощенным и слабым; никто не
позволит такому наставнику предписывать себе нормы поведения и, уж конечно, не
признает культурными ценностями то, что он почитает. Усвоить культурную
традицию другого человека можно лишь тогда, когда любишь его до глубины души и
при этом смотришь на него снизу вверх. И вот — устрашающее количество молодых
людей вырастает теперь без такого «образа отца». Настоящий отец слишком часто
для такого образа не годится, а уважаемый учитель не может его заменить из-за
массового производства в школах и университетах.
Лоренц далее с болью пишет о том, что гонка за деньгами и суета — подлинные
этические основания для того, чтобы молодые люди отворачивались от культуры
отцов. Беда, правда, что при этом они заодно с бессмысленным и уродливым
отбрасывают как ненужный хлам сокровища духовной культуры.
Молодежь пребывает в состоянии активного поиска предлога для агрессии. Это
— тоже инстинктивное поведение. Где нет группы, к которой можно примкнуть,
всегда есть возможность составить себе «по мере надобности» новую группу...
Выбросив за борт культуру отцов, молодые люди подыскивают себе разного рода за-
1 К. Lorenz. Die acht Todsunden der zivilisierten Menscheit. Munchen, 1973. Перевод
см. «Вопросы философии», 1992, N3
менители, точно так же, как это происходит с половым влечением.
Отождествление с национальной культурой замещается отождествлением с какой-либо более
или менее преступной группировкой, в том числе — с группировками наркоманов и
воинствующих экстремистов или хулиганов. Примеры: две борющиеся шайки из
мюзикла «Вестсайдская история». Они были созданы с единственной целью — служить
друг для друга объектами коллективной этнической агрессии.
Ненависть действует хуже, чем полная слепота или глухота, потому что она
извращает и обращает в противоположность все увиденное и услышанное. Что бы
вы ни сказали бунтующей молодежи, чтобы помешать ей уничтожать ее собственное
ценнейшее достояние, можно предвидеть, что вас обвинят в ухищрениях
поддержать ненавистный «истэблишмент». Ненависть не только ослепляет и оглушает, но
и невероятно оглупляет... Трудно будет внушить им, что культура может угаснуть,
как пламя свечи.
Следует отметить, что эти мысли высказаны Лоренцем в 1963-1973 годах — во
времена ужесточения борьбы с диссидентами в Советском Союзе, вступления наших
войск в Прагу и усиления левого молодежного движения на Западе. В последующие
двадцать лет ситуация, как все мы знаем, существенно изменилась к худшему.
Все больше на психику людей влияют электронные средства массовой информации.
Телепрограммы формируют в сознании детей и подростков, лишенных внимания
родителей и проводящих ежедневно многие часы перед экраном, «образ лидера».
«В заэкранье» появляется фиктивная социальная группа — заменитель семьи,
суррогат отца — фиктивный лидер, идеал, здоровенный детина с непрерывно
строчащим автоматом, гранатами за поясом и парой ножей, которые то и дело
вспарывают человеческую плоть. Герой рычит и, напрягая гигантские бицепсы, мечется
по экрану в окружении окровавленных расчлененных трупов и визжащих голых
женщин.
Виденное на экране по возможности переносится в житейскую практику. Дети,
воспитанные телевизором и компанией сверстников, таких же жертв
телевизионного бума, в культурном отношении стоят ниже, чем даже бунтарское поколение их
родителей, некогда ужасавшее К. Лоренца. Такие дети — питательная среда для
бацилл фашизма. На Западе возрождению фашистской идеологии пока хотя бы в
какой-то мере препятствуют высокий уровень жизни и резкое повышение качества
педагогической работы с детьми. У нас такие препятствия отсутствуют.
Благодаря экономическому кризису, если он затянется, наша молодежь может оказаться
еще более восприимчивой к нацистской идеологии, чем то поколение немцев, при
котором пришел к власти Гитлер.
ГЛАВА 6. ЗЕМЕЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ -
ЗАКОН ПРИРОДЫ
6.1.
Территориально-агрессивное
поведение у животных.
Для чего оно им?
В жизни большинства животных и людей очень важную роль играет охрана
территории от «чужих». У кого ее только нет! И раки отшельники, и некоторые крабы,
и сверчки, многие рыбы, рептилии и птицы и, уж конечно, млекопитающие владеют
особой территорией и вступают в жестокую борьбу за нее с соплеменниками. У
крысиных семей и волчьих стай охраняемая территория — общая, нечто вроде
кооперативной собственности. Если некто из чужой компании забредет туда, его
«вычислят» по запаху и ему не сдобровать. Подобным же образом коллективно за-
щищают территорию стаи многие обезьяны.
У диких людей, например, австралийских аборигенов наблюдаются формы
территориального поведения приблизительно такого же типа как у наземных обезьян
африканской саванны. Имеется общая территория общины. На ней располагается
селение. Но существуют, однако, в отличие от павианов, и земельные владения
отдельных семей.
Вот они — глубокие доисторические корни извечной нашей тяги к земельной
собственности! Те, кто утверждал, что эта собственность появилась только в
классовом обществе, не имели ни малейшего понятия об объективных законах
этологии !
В чем же, однако, приспособительный смысл агрессии, связанной с охраной
территории? Главное, это поведение заставляет животных отыскивать все новые и
новые места, пригодные для жизни. Таким образом, с предельной рациональностью
используются природные ресурсы. Исключаются ситуации «разом пусто — разом
густо», ослабляется внутривидовая конкуренция за пищу, за убежища и так
далее . Важно подчеркнуть, что агрессия в природе в громадном большинстве
случаев ведет к изгнанию конкурентов и размежеванию территорий, но отнюдь не к
смертоубийству.
Ученые предполагают, что именно благодаря территориально-агрессивному
поведению, человек еще в глубокой древности вынужден был все дальше расселяться
из первичного ареала в Африке, осваивая постепенно все новые и новые земли,
вплоть до районов вечной мерзлоты и полярных ночей, пустынь, гор, болот,
непроходимых дебрей тропических лесов, океанических островов, удаленных на
тысячи километров от любой обитаемой суши, как, например, остров Пасхи в Тихом
океане.
Полинезийский ученый Теранги Хироа пишет, что побудительным мотивом поиска
новых земель у древних полинезийцев было перенаселение. На заселенных ими
островах постоянно шли жестокие межплеменные войны. В конце концов, какое-то
племя или род терпели поражение и принимали рискованное решение — на
катамаранах целыми семьями, вместе с домашними животными и скудным скарбом уходили
в грозное бурлящее пространство, толком не зная, где найдут новое пристанище
и найдут ли вообще. Многие погибали. Кое-кто отыскивал еще необитаемый атолл.
За многие века эти люди, не имеющие письменности (кроме острова Пасхи, где
писали на деревяшках до сих пор нерасшифрованными иероглифами), разработали
сложнейшую и удивительнейшую систему навигации по звездам, ветрам, течениям и
так далее. Жизнь заставила!
Не будь жесткой внутривидовой конкуренции, вечной борьбы за территорию (Не
трожь, мое!), никакие силы не заставили бы человека уйти из стран, где «любая
палка плодоносит», и целый год можно ходить голым, не опасаясь простуды.
Ныряя с аквалангом в Красном море, Конрад Лоренц наблюдал за поведением
коралловых рыб. В щелях рифов ютятся пестро раскрашенные рыбки, каждая из
которых стремится защищать вполне определенную территорию. Если мимо проплывает
особь чужого вида, хозяин территории обычно никак на это не реагирует.
Однако, едва на участок вторгается рыбка своего вида, как хозяин, выскочив из
убежища, атакует ее и прогоняет. Чаще всего вторженец ретируется. Несколько
реже в таких случаях возникает короткая драка, в которой почти всегда
побеждает законный владелец территории. Напрашиваются аналогии?
А почему происходит так?
Дома стены помогают. На своем дворе каждая собака громче лает. В чужой
монастырь со своим уставом не суйся. Все эти поговорки имеют прямое отношение к
территориальному поведению. Действительно, многие территориальные животные
забредая на чужую территорию, чувствуют себя далеко не так уверенно, как на
собственной. Такие наблюдения проведены на каменках-плясуньях, птицах из
семейства дроздовых. Как только вторженец попадается на глаза хозяина, так тот-
час подвергается атаке. Самец-хозяин подлетает к нарушителю с предупреждающим
криком, после чего птицы «меряются ростом» и, встав параллельно друг другу,
кричат, тряся хвостами — так сказать «переругиваются». Долго это, однако, не
продолжается. Нарушитель пригибается к земле, сжимается, принимает позу
покорности и спешит ретироваться, а хозяин, наоборот, растопыривает крылья,
взъерошивает перья, приподнимается на лапках — поза торжествующего
победителя. Подобные сцены можно наблюдать у манящих крабов, осьминогов,
территориальных рыб из числа цихлид и других.
У некоторых рыб эти конфликты особенно зримы и наглядны потому, что у
проигравшего резко меняется окраска: он бледнеет, прижимая к телу плавники,
после чего ретируется.
У людей, как известно, боевой дух защитников своей земли обычно выше, чем у
захватчиков, хотя, увы, это не всегда помогает. Все-таки большую роль играет
соотношение сил.
Даже у рыб могут возникать настоящие «скандалы с выселением» законного
владельца , так сказать «по праву сильнейшего». Американский этолог Майкл Фиглер
с коллегами решили проверить, есть ли связь между агрессивностью захватчика
территории (ее оценивали по числу ударов, наносимых хозяину участка) и
вероятностью победы в «территориальном конфликте». В качестве объекта взяли
известную многим нашим аквариумистам чернополосую цихлазому. Оказалось, что
исход борьбы только отчасти зависит от соотношения размеров дерущихся рыб: при
прочих равных побеждают более крупные. Куда важнее, однако, именно сама
агрессивность . Вспомните народное: «Ты не смотри, что я худой и кашляю, но шею
тебе сверну». Вторгаются обычно особи, более агрессивные, чем хозяин и
наносящие ему сравнительно большее количество ударов по его полосатому боку.
Точно так же как и рыбы, охраняют свою территорию и очень многие другие
животные, в том числе даже такие вроде бы «примитивные» как, например, актинии.
Для изгнания чужаков они используют особые стрекательные (так называемые кил-
лерные - «убиввающие») щупальца, снабженные химическим чувством «свой -
чужой» - специальный орган внутривидовой борьбы. Аналогичная «война» за
территорию ведется между разными клонами и других сидячих организмов — гидроидных
полипов и некоторых низших грибов.
Колонии муравьев одного и того же вида тоже подчас беспощадно «воюют» друг
с другом за территорию. Аналогичное явление наблюдается у термитов.
О территориальной «войне» между сообществами серых крыс пасюков мы уже
говорили .
У птиц самец предупреждает пением соседей, что территория обширного участка
занята для гнезда: здесь гнездующаяся пара будет взращивать птенцов, и всех
«чужих» своего вида отсюда прогоняют. Об этой функции пения мы уже писали
тоже .
У некоторых животных, например, аистов, территория разная у самцов и самок.
Вторым предоставлена относительная свобода перемещаться и на территорию,
охраняемую самцами соседних пар.
У крокодилов доминантный самец, в отличие от остальных, может, при желании,
заплывать или заползать на любую территорию. Для прочих самцов аналогичные
прогулки наказуемы.
Итак, «земельная собственность» не выдумана какими-то прохиндеями в эпоху
рабовладения, как думали и писали наивные люди еще не так давно.
Территориальное поведение свойственно очень многим животным, в том числе нашим предкам
обезьянам. И все-таки, тем не менее... есть тут одно «но». Да, наши предки
владели территорией, но как? В одиночку? Ни в коем случае! Стадами или, если
судить по современным антропоидам, да и отсталым племенам Homo sapiens —
семейными группами, родами, группами родов. Что-то вроде кооперативов! Не отсюда
ли неосознанное стремление многих земледельцев к «миру», сельскохозяйственной
общине? Есть о чем подумать, не правда ли?
6.2. Эффект «Вороньей
слободки» или
«пауков в банке»
Итак, агрессия в природе у территориальных животных редко приводит к
смертоубийству. Дело обычно ограничивается угрожающими позами, когда один
соперник, сохраняя ее, наступает, а второй, так и не вступив в бой, пятится,
пятится, а затем принимает вдруг позу подчинения и убегает. Чужака просто
изгоняют .
Однако, все кончается куда трагичнее, если побежденному некуда уйти. В
тесной клетке, в маленьком аквариуме, даже в естественной среде при
перенаселении драки часто оканчиваются убийством слабого. Сам характер борьбы в этих
условиях существенно изменяется — она часто идет не на жизнь, а на смерть.
Поселения городского типа появились на Земле уже за 3500 лет до нашей эры.
В современных мегаполисах, их городском транспорте, супермаркетах, бараках и
казармах, психику людей повреждает невероятная скученность, к которой ни
биологически, ни исторически человек не приспособлен. У нас в стране эту
скученность усугубили коммунальные квартиры в городах и коллективизация в деревне.
Лоренц полагает, что скученность при оседлой жизни повышает агрессивность
человека, придает ей немотивированный характер. В норме каждая личность
должна иметь хоть небольшую, но собственную территорию. Своя же, но несколько
большая территория должна быть у семейной группы.
Пожилые люди еще помнят то время, когда коммунальную квартиру официально
считали лучшей школой коммунистического быта. Эта государственная политика
воспета в бессмертных творениях М. Зощенко, М. Булгакова, а также Ильфа и
Петрова.
Наши потребности и культурный уровень с тех пор значительно возросли, тем
не менее, разного рода территориальных конфликтов, увы, не поубавилось. К
примеру, группа доведенных до отчаяния многодетных семей въезжает в пустующие
квартиры и приглашает телекорреспондента, чтобы агрессивно заявить:
— В случае выселения, будем биться до последнего!
Рост преступности, в особенности же преступлений, связанных с повышенной
взаимной агрессивностью людей — естественный результат несоответствующих
потребностям условий жизни, в частности — жилищных, и разочарования людей в
любых «идеалах». Но вернемся к коммуналкам.
Кто не помнит бессмертного произведения «Двенадцать стульев»? Воронья
слободка — типичная коммунальная квартира двадцатых-тридцатых годов. Из-за чего
так гнусно вели себя гражданин Гигиенишвили, Митрич, Васисуалий Лоханкин и
вся компания? Повышенная скученность. Она провоцирует конфликты типа жилец
против жильца, невестка против свекрови, семья против семьи. Причиной
скандала делается любой пустяк. Самый распространенный случай — стычки из-за
конфорок на общей кухне. Подчас перебранки завершались побоями и даже приводили к
убийствам.
Одному из авторов этой книги «посчастливилось» жить в таких ленинградских
коммуналках в шестидесятые-семидесятые годы. В одной из них жильцы «из
принципа» годами не травили клопов и тараканов. Каждый жилец опасался, что от его
«клопомора» заодно с собственными клопами пострадают клопы ненавистных
соседей! Там же каждый квартиросъемщик направлялся в сортир, гордо неся в руках
собственную электролампочку, 5 ватт, а под мышкой — собственное сидение от
унитаза! Что ни день, люди писали друг на друга кляузы в ЖЭК, милицию и пр.,
любого гостя встречали слезными жалобами на мерзавцев-соседей.
В другой коммуналке, в крохотной клетушке рядом с кухней, каким-то чудом
умещались мать и шестнадцатилетняя дочь. Их типичный диалог, естественно, в
повышенных тонах, слышный всей квартире:
— Сволочь, поставь чайник!
— Гадина, он уже вскипел!
— Сука, который час?
— Гадина, я уже опаздываю!
— Мерзавка, не забудь оплатить счета!
— Гадина, я их давно оплатила!
— Дрянь, когда вернешься?
— Идиотка, как всегда!
И так далее до бесконечности... Женщины души не чаяли друг1 в друге, но
теснота доводит до безумия.
В третьей квартире соседи запирались друг от друга на многочисленные замки,
что ни день уличали друг друга в кухонных кражах, плевали в чужой суп, били
чужую посуду, хватали друг друга за грудки и душили. Обезумевшие полуодетые
женщины висли на руках озверевших мужей, вполне готовых убить друг друга из-
за очередного вздора. Люди нарочно включали на полную мощность радиолу, чтобы
мешать друг другу спать. Такие взаимоотношения были в порядке вещей.
Причина здесь отчасти в скученности, а отчасти и в изолированности, в
необходимости значительную часть времени проводить на одной и той же ограниченной
территории, не будучи объединенными против общего внешнего врага.
Возможно, читатель вспомнит «минуты ненависти» в «1984» Джоржа Оруэлла.
Людей собирали на службе или в домоуправлении, чтобы направить их ненависть на
«образ врага», маячащий на экране телевизора. Пока шла программа, зрителей
объединяла истерическая ненависть к заэкранному «врагу» — действовала
пропаганда . Но вот программа кончалась, и то же чувство ненависти переключалось
уже на ближайших соседей. Была бы ненависть, а «враг» найдется!
Представим: в любой из трех упомянутых скандальных коммуналок какие-то
посторонние хулиганы просто из любви к искусству подрядились ежедневно бить из
рогатки стекла в кухонном окне. Все мигом изменится. Вчерашние злейшие враги
превратятся в лучших друзей. Естественно, на время, пока общими усилиями не
удастся выявить хулиганов и спровадить их в детскую комнату милиции.
Взаимоотношения в коммуналках Ленинграда неузнаваемо изменились в страшные
годы блокады, когда во многих квартирах люди неделями были не в силах даже
похоронить умерших от голода домочадцев. Кое-кто спасся, пожирая мясо трупов.
Однако, случаев героизма и подлинного величия духа было, как Бог свят, куда
больше. Соседи, выручали соседей. Эта взаимовыручка спасла очень многих. Но
вот кончились лишения и... возобновились квартирные конфликты. Так уж
парадоксально устроен человек!
Но является ли поведение людей в городах чем-то совершенно исключительным,
и может ли оно проявляться также при иных формациях человеческого общества?
Да, и даже в наше время. Мы уже упоминали о прямо-таки свирепом племени
яномамо из Южной Америки. Стиль его жизни потрясающе жесток, но в высшей
степени поучителен для нас, урбанизированных современников этих суринамских
«варваров». Ведь агрессивные общины яномамо стали такими после того, как
бывшие их предки-кочевники перешли на оседлый образ жизни и численность групп
возросла с пятнадцати-двадцати до ста пятидесяти — двухсот человек. Этот
скачок оказался роковым для сложившихся ранее норм поведения. Судите сами, как
пишет Ян Линдблад:
«Немаловажная составная часть жизни яномамо — постоянные войны с соседями!
Плюс ссоры и драки между живущими в тесноте обитателями шабоно (селения).
Юный член этого племени вырастает в обстановке постоянной агрессии и с самого
начала настраивается на буйный, жестокий лад. Став взрослым, он уже на всю
жизнь агрессивен по своему складу. Эгоизм, жадность, нетерпимость определяют
все его поведение. Прямая противоположность доброжелательству, отличающему
образ жизни суринамских индейцев... Драки — повседневное явление, и чаще всего
они возникают из-за кражи бананов. Или из-за женщин. Из-за вражды внутри
группы и между группами главе семейства нужны сыновья... Женщины нередко
убивают девочек, которых рожают, уединившись в лесу за пределами шабоно... В итоге в
группах всегда намного больше мужчин, чем женщин, что влечет за собой
дополнительные раздоры между мужчинами. Заколдованный круг питает озлобление...»
Мужчины яномамо.
Этологи знают, что длительная изоляция в малочисленной группе, которую
трудно разделить на «своих — чужих» приводит к эффекту «пауков в банке». Это
— глубокая патология агрессивного поведения. Как писал французский писатель
Ф. Селин в романе «Путешествие на край ночи», описывающем унылую жизнь
французских чиновников в дальней африканской колонии. Когда долго сидишь на одном
месте, все вещи и люди разлагаются, гниют и начинают вонять специально для
тебя.
В этих условиях агрессия часто разряжается беспричинно, не по адресу и, по
словам Лоренца, сопение вашей тетушки за обеденным столом начинает вызывать у
вас те самые эмоции, которые в нормальной обстановке вызвала бы пощечина,
отпущенная в трамвае пьяным хулиганом. Склоки и скандалы по пустякам — обычный
кошмар многих полярных исследовательских станций, судовых экипажей, кафедр
провинциальных университетов и также изолированных академгородков и, конечно
же, элитарных правительственных групп.
Цитата из «В тюрьме. Очерки тюремной психологии» Михаила Гернета. Издание
1925 года. Воспоминания политзаключенного начала девятисотых:
«За долгие годы неволи в нас не осталось ни одного здорового нерва... Вид,
слово, жест сокамерника раздражают до желания кричать, ударить... Кем-то
брошена случайная фраза... Кто-то возразил. И спор готов. Как голодные звери
набрасываемся друг на друга, все зараз... ссоримся, бранимся.»
В замкнутых, длительное время изолированных коллективах — служебных и
семейных — агрессия в крайне грубых и нелепых формах часто направляется против
коллег и даже самых близких людей. Беспрецедентной склочностью отличаются
заговорщики-террористы, профессиональные революционеры. В их замкнутой среде,
где люди, если так можно выразиться, годами «варятся в собственном соку»,
убийства соратников и друзей по различным вздорным поводам — норма поведения.
Недаром один из вождей Великой французской революции Дантон сказал: «Револю-
ция подобно Урану пожирает своих детей». Среди многочисленных жертв
Максимилиана Робеспьера, кроме тысяч других, его одноклассник и ближайший друг
Камилл Демулен. Казнили и его очаровательную молодую жену Люсьен Деплюсси, хотя
она была беременна, а Робеспьер незадолго до событий был посаженным отцом на
свадьбе Демулена! Среди людей, убитых по приказу И. Сталина и А. Гитлера их
ближайшие родственники, соратники и друзья.
Есть ли средство от эффекта «пауков в банке», если условия существования не
столь ограничены, как это бывает в экстремальных (революционных, военных и
др.) ситуациях? Этологически целесообразно «разреживать» людей, делить
территории, но жизнь в городах, как правило, затрудняет такое решение вопроса.
Наша система комплектации кадров в государственных, да и коммерческих
учреждениях глубоко порочна: люди привязываются к своим обязанностям, рабочему
месту, начальнику на долгие-долгие годы. Это способно породить «эффект янома-
мо», когда склока становится нормой жизни, а подлость и грубость не считаются
зазорными.
Самый простой и эффективный метод для госучреждений и даже частных
предприятий - ротация и сменяемость кадров внутри отдела, кафедры, лаборатории,
сектора и тому подобное. В немецких университетах, к примеру, контракт с
преподавателями и научными сотрудниками стараются подписывать не более, чем на
четыре года. Американцы же и того «круче» и порой дробят свои контрактные сроки
на два, один и полгода. По истечении срока человека не лишают заработка,
просто он переходит в другой коллектив. Но все-таки, общение с западными
коллегами убеждает: и это решение очень жестоко. К тому же оно отнюдь не всегда
идет на пользу делу.
Немалую положительную роль может сыграть просто окультуривание рабочих
мест. Кое-где пошли именно по этому пути. В Морском биологическом институте
на острове Гельголанд (ФРГ) текучесть кадров сравнительно мала, но зато у
каждого сотрудника три комнаты: одна — для исследовательской работы, вторая —
для размышлений, писанины и личной научной библиотеки, а третья, по признанию
былого директора профессора Отто Кинне «неизвестно зачем». Склочность
коллектива по слухам «ниже среднего».
То ли дело наши исследовательские институты, где подчас за один стол
приходится усаживать двух, а то и трех научных сотрудников. И это — в
антисанитарных подвалах, арендуемых в каком-нибудь ЖСК. Попробуй, не разругайся!
После всего здесь сказанного читателю, вероятно, станет ясно, как труден
подбор, например, экипажей для орбитальной станции «Мир» и даже самых
обыкновенных малотоннажных судов с длительными рейсами.
Конрад Лоренц вспоминает: в Советском лагере для военнопленных офицеров
Вермахта все его соседи по бараку перезнакомились и сперва очень, вроде бы,
подружились. Но теснота была ужасна, быт не поддавался никакому описанию, и
по прошествии короткого времени начались склоки, ссоры, а потом уж и
конфликты, перерастающие чуть не в мордобой. Иные люди готовы были придушить друг
друга. Тут-то Лоренц сам дошел как-то до того, что... «побил» какую-то канистру
из-под карбида, а потом придумал повесить ее у входа в барак, чтобы желающие
могли с ней боксировать. Вроде, помогало.
Японцы используют для аналогичной разрядки резиновую куклу администратора,
так, по крайней мере, рассказывают у нас. Это, однако, детали. Интереснее
другое. Все иностранцы, побывавшие в сверхперенаселенной стране «Восходящего
солнца» обращают внимание на контраст: в метро и на переполненных улицах
японец мчится, никого и ничего не замечая, часто толкается, пускает в ход локти,
словом, ведет себя довольно по-хамски. Но вот на мостовой, проезжей части,
повстречались два знакомых и церемоннейшим образом друг с другом
раскланиваются. Вежливость со знакомыми там, прямо-таки, выходит за рамки здравого
смысла. На работе — церемонные поклоны, крайняя вежливость в речах и своеоб-
разные чисто японские проявления все той же извечной иерархии (о ней мы
говорили раньше).
Заметим. У одного из авторов этой публикации (Ю. А. Л.) за плечами, как
говорится, шестнадцать лет работы на одной из северных биологических станций.
Там можно было всегда наблюдать следующее явление. Даже люди, дружившие между
собой в городе, в условиях полугодовой экспедиции стремились держаться друг
от друга подальше, сравнительно меньше общались, а если начинали сближаться,
это редко кончалось добром. Вскоре возникал конфликт, и прежние лучшие друзья
часто превращались в злейших врагов, пусть даже на время.
Мораль: в замкнутом коллективе его членам лучше сохранять между собой некий
«пафос расстояния», воздерживаться от излишне откровенных бесед и частых
совместных трапез, особливо же — с возлияниями, после которых так и подмывает
«резать правду матку». Неосмотрительно поддерживать беседы, в которых кто-то
«поливает» своих сотоварищей за глаза. И упаси Бог разбиваться на
обособленные компании — «мы такие, вы сякие» — все это — надежный путь превращения
коллектива в гадюшник.
Служба — самое неподходящее место для частных бесед по телефону, если в них
ваша речь состоит не из одних только междометий типа: «ага», «мм», «угу».
Окромя того, неосмотрительно отвлекать людей от работы болтовней. Это не
только вредит делу, но и не сулит ничего хорошего самому любителю поболтать:
можно нарваться на скандал.
И еще совет: если уж заводить друзей в своем учреждении, то, пожалуй, лучше
— в соседнем отделе или из числа тех, с кем непосредственно связывает
совместный труд, а потому ежедневное общение все равно неизбежно. Наконец, если в
вашем коллективе завелась пьющая компания, а вы не пожелали в нее влиться
(что вполне разумно), она неизбежно настроится агрессивно по отношению к вам,
и рано или поздно это может завершиться для вас большими неприятностями, если
вы не изыщете какой-нибудь очень уж благовидный предлог вашего неучастия
(«больная печень» и тому подобное.) — Прописные истины, но с ними редко
считаются .
На Западе несравненно опаснее, чем у нас, упоминать всуе имя начальника.
Там сослуживцы обычно относятся друг к другу гораздо холоднее и сдержаннее,
чем у нас, но зато взаимно вежливы. Хорошо это или плохо? Открытый вопрос.
6.3. Окопное братство
Удивительный парадокс нашего поведения. В коммуналке люди готовы
«перегрызть друг другу глотку» вообще ни за что. И те же самые люди замечательно
солидарны друг с другом в гораздо худших условиях студенческих «общаг»,
рыболовецких артелей, геологических партий, туристических и, особенно,
альпинистских групп. Классический пример: воспетая столь многими военными писателями
солдатская дружба, окопное братство. Никакая коммуналка по неудобству жизни
не сравнится с грязными окопами, не защищающими от снега и дождя, вражеских
бомб и снарядов. Чем же объясняется то, что люди здесь, подавляющее их
большинство, не грызутся между собою из-за мелких житейских благ, а, напротив,
готовы, рискуя жизнью, постоять друг за друга, выносят раненых с поля боя,
делятся последним? Это те же самые люди! Почему же их словно подменили?
Напрашивается еще одна аналогия, но боязно и высказать. Как бы за нее нас
не зачислили в одну компанию с вульгарными социобиологами. Дескать «зоологи-
зируем человека». Может быть, так оно и есть. И тем не менее, предлагаем
вместе с нами обдумать следующую версию объяснения того, почему мы ведем себя
совсем по-разному дома и в походных условиях.
Некоторые животные в разное время проявляют совершенно разные стереотипы
инстинктивного поведения. Первый — территориально-агрессивный, второй — стад-
но-номадический. Примеров довольно много. Это некоторые проходные рыбы,
например, лососи. У них брачная пара защищает территорию, на которой происходит
нерест, затем производители наваливают курганчик из гравия над выметанной
икрой. То же явление у перелетных певчих и многих других птиц, В перелете они
стайные, а на гнездовье — территориально-агрессивные. Очень много и других
аналогичных примеров. Однако, наиболее интересны, пожалуй, следующие три:
саранча, мелкие полярные грызуны лемминги (пеструшки) и серая крыса пасюк.
Саранча в оседлом состоянии имеет зеленоватую защитную окраску под цвет
травы, которой питается. И бескрылые личинки, и взрослые особи стараются
держаться подальше друг от друга. Если им это не удается — слишком велико их
число в месте оседлого проживания, - изменяется их гормональная деятельность
и происходит перестройка всего организма у производителей. Насекомые
следующего поколения становятся желто-серыми — защитный цвет в пустыне. У них
возникает стремление двигаться массами в каком-то едином направлении. Приобретя
крылья после последней линьки, эти насекомые образуют гигантские стаи,
поднимаются в воздух и летят, преимущественно по ветру. Ветер, как известно, дует
туда, где атмосферное давление ниже, а, стало быть, выше вероятность осадков.
Стаи перелетной саранчи устремляются, таким образом, из безводных районов
туда, где выше влажность и больше шансов прокормиться. По пути эти стаи то и
дело садятся там, где есть какая-то растительность, и, полностью уничтожив
ее, летят дальше. Долетев до мест, где пищи хватит надолго, насекомые
возвращаются к одиночному образу жизни.
Лемминги — пестрые красивые зверьки, несколько похожие на хомяков, —
изрывают своими норками горные склоны на севере Скандинавии. Каждый лемминг очень
агрессивно защищает свою территорию не только от других леммингов, но даже от
человека: встает на задние лапки в угрожающую позу, наскакивает, пытается
укусить. Однако наступают такие периоды, раз в несколько лет, когда
численность леммингов в каком-нибудь районе возрастает до критических пределов.
Тогда часть из них, главным образом молодые самцы — жертвы «жилищного» и прочих
кризисов — неузнаваемо изменяют свое отношение друг к другу. У них появляется
неодолимое стремление сбиваться в громадные косяки, колонны, толпы и
двигаться с гор в долины. По пути они отважно преодолевают водные преграды, хотя
многие тонут, и, иной раз, пересекают автомобильные трассы, где их массами
давит транспорт. Бывает и так, что стадо подходит к берегу моря, где напор
сзади идущих зверьков сталкивает передних в воду. Стихия толпы! В конце
концов, путешественники большей частью гибнут, но кое-кто добирается до новых
менее заселенных предгорий. Там образуются новые оседлые колонии.
Пасюки, как мы об этом уже писали, живут оседло большими, воюющими друг с
другом компаниями. Однако, когда наступает бескормица, вызванная
перенаселением или какими-нибудь иными причинами, делается не до межклональных дрязг.
Животные начинают вести себя как стадные, мигрирующие. Не приведи Бог
повстречать многотысячное стадо переселяющихся крыс! Такие стада появляются
довольно часто в местах городских свалок и боен. Осенью 1727 года, после одного
большого землетрясения в Прикаспии несметные полчища пасюков двинулись оттуда
в Европу, где раньше жили только крысы другого вида — черные, помельче и
послабее. Пасюки быстро расселились по европейским странам, повсеместно
уничтожая местных конкурентов. Те не умели сопротивляться коллективно и поэтому
начисто истреблялись даже там, где их было гораздо больше, чем «завоевателей».
Ну, как не вспомнить по этому поводу великие переселения народов, нашествия
на Европу азиатских кочевников: в семидесятых годах IV века гуннов, а в
начале XIII — монгол? Эти тоже сметали на своем пути целые государства, поголовно
истребляя местное население. Тридцатью тридцать монгольским войском втоптано
в пыль непокорных племен... Чингисхан говорил, что его войско дойдет, мол, «до
последнего моря», то есть, завоюет весь мир. Монголам он мнился плоским, ок-
руженным водой. Параллель с перелетной саранчой здесь виделась многим
современникам этих исторических событий, аналогия с пасюками и леммингами тоже
напрашивается сама собой.
Татаро-монголы.
Исход азиатских наездников, которые двигались вместе со своим скотом, имел,
по-видимому, помимо иных и экологические причины: истощение пастбищ в местах
постоянных кочевий, где климат становился все более засушливым,
перенаселение . Отчасти это осознавали и сами завоеватели. К побудительным мотивам
нашествий кочевников и некоторым характерным особенностям создаваемых ими
государств мы еще вернемся. Пока же попробуем сформулировать одно, как нам
кажется важное предположение: у человека, как и у пасюков, леммингов и саранчи,
имеются как бы два разных стереотипа поведения: оседлый, агрессивно-
территориальный и стадно-номадический. Второй стереотип характерен не только
для участников дальних военных походов и кочевий, а вообще для экстремальных
ситуаций, где массы людей цементирует в единое целое необходимость
совместного противостояния общей опасности либо общая цель, например, совместный поиск
выхода из критической ситуации, борьба за выживание коллектива, как целого.
Короче, «окопное братство» возникает не только в окопах и походах, но и
везде, где условием спасения группы или даже больших масс людей становятся их
тесный контакт друг с другом, взаимовыручка, солидарность.
Характерно, что и у человека, как у леммингов, стадно-номадическое
состояние солидарности проявляется, в основном, у молодых холостяков мужского пола.
В юности мы чаще ведь бываем романтиками и идеалистами. Как об этом у Э.
Багрицкого :
Нас водила молодость в сабельный поход,
Нас бросала молодость на кронштадский лед...
Заметим, что массовые исходы порой наблюдаются не только у людей, пасюков,
леммингов и саранчи, но и у других, обычно не стайных животных: белок, лис и
ряда других. Такие исходы обычно вызываются экологическими катастрофами,
скачками численности и бескормицей и, чаще всего, кончаются массовой гибелью
мигрирующих особей.
А все-таки, как обстоят дела с агрессией у «окопных братьев»? Вопрос этот
не простой. Ведь мы сами только что заверили читателя, что от нее нельзя
избавиться просто усилием воли. Агрессия, конечно, остается, тем более, что
условия дискомфорта еще и стимулируют ее. Но против кого она направлена?
Очевидно, что против общего врага, реального, там, за бруствером окопа, или, так
сказать, метафорического.
Понятно, что на бранном поле друзей не узнают, а однополчан не выбирают.
Здесь — «свои», сцементированные чувством общей цели, опасности, а там —
чужие, общий «враг», от которого эта опасность исходит. На него-то и
переадресуется агрессия.
А в полярных экспедициях, связках альпинистов, соавторских коллективах
ученых, одержимых общей идеей и экспериментирующих круглосуточно, много дней
подряд для ее экспериментальной проверки — где же там этот общий «враг»? С
кем «сражались» Тур Хейердал и его спутники на «Кон-Тики» и «Ра»?
Не испытывали ли вы сами, читатель, ощущение смертельного боя, когда
«воевали» с трудностями, преодолевали тяжелые препятствия на пути к поставленной
цели или противостояли грозной опасности? Ведь агрессию, как вам уже
известно, можно переадресовать и неодушевленным предметам. Эта переадресовка может
проявляться отнюдь не только в актах бессмысленного вандализма. Она
происходит и тогда, когда люди «ожесточенно» трудятся ради спасения жизни или
достижения поставленной общей цели. И при этом мобилизуют все свои силы, точь-в-
точь как в настоящем бою. Те, кто работают в экстремальных условиях без
всякой жалости к себе, как в запое, с большим творческим подъемом, испытывают
подчас такое же эмоциональное напряжение, какое возникает в боевой
обстановке . Аналогичное напряжение возникает и в условиях тяжелых экспедиций, где и
опасность для жизни, иной раз, кстати, не намного меньше, чем на фронте.
Заметим по этому поводу, что участники многих научных экспедиций и
турпоходов в труднодоступные районы подсознательно усугубляют свое воинственное
состояние духа несколько нарочито создаваемой романтикой обстановки: боевитыми
экспедиционными песнями под гитару у костра, штормовками в пятнах камуфляжа,
«как у десантников» и даже охотничьими ружьями, взятыми с собою, скорее, «для
понту», нежели по необходимости прокормления охотой. О практической пользе
такого поведения в качестве «заменителя войны» будет говорится далее.
6.4. Каким виделось
окружающее пространство
древнему человеку?
Для древнего человека совсем недалеко от его дома начинался чужой и
неизведанный мир. Неизведанное — значит опасное. Все там враждебное, страшное, и
люди, если есть, то враждебные. Очень легко вообразить, что там живут и
чудовища.
Древние германцы называли территорию, видимую до горизонта, Митгардом —
«срединной усадьбой». Все за ее пределами звали Утгард — внешний мир.
Считалось , что этот мир бесконечен. В нем всегда темно и дуют ледяные ветры. Там
текут ядовитые реки и живут страшные чудовища: полулюди — полузвери со
светящимися в темноте глазами и дыханием «режущим как нож». Человек, побывавший в
Утгарде и вернувшийся оттуда живым, возможно, уже не тот — его подменили!
Удгард и ад, преисподняя, собственно, одно и то же. Он не только там,
вдали, за горизонтом, но и под землей. Любая глубокая яма — тенистый овраг,
колодец , пещера — могут быть входом в Утгард. Самое страшное там не чудовища,
не холод, а то, что там живут по чужим для нас, «не нашим» законам. Вода в
реке сама коварно набрасывается на человека, чтобы его погубить. Скала
расступается, чтобы открыть проход в логово дракона. Деревья изгибаются и
хватают своими ветвями путника. Все вокруг живое, имеет волю и враждебно человеку:
и камни, и растения, и вода. По ночам Утгард приближается вплотную к стенам
дома. Ужасные чудовища и вражьи силы налезают из-за горизонта и выползают из-
под земли. Исчадия Утгарда — все ночные твари. Все они не просто гады, птицы
и звери, но и злые духи, способные погубить.
Совсем другое дело Митгард, своя земля. Здесь человек как бы окружен
дружиной своих, дружественных камней, скал, деревьев, животных, да и
соплеменников. Здесь ярко светит солнце, светло, тепло. Все здесь для человека и
существует , чтобы ему служить. А главное — здесь все подчинено раз и навсегда
заведенному порядку.
Война может вестись только вне территории Митгарда — там место смерти,
разрушению, врагам и несущим смерть воинам с их оружием. Там же, у самой границы
Митгарда, следует хоронить мертвых. Но после смерти они переходят в Утгард,
откуда могут возвращаться в своей телесной оболочке или в преображенном виде
и всячески вредить живым. Опять происходит то же самое, что с человеком,
побывавшим за границей Мигарда — обратно возвращается уже как бы не он, а
принявший его облик враждебный дух или собственный его же дух, но переманенный
(перекупленный?) исчадиями Утгарда.
Оригинальны ли представления древних германцев? Конечно, нет. Более или
менее такие же представления о внешнем пространстве бытовали в головах, по-
видимому, всех без исключения оседлых народов. Вот оно — территориальное
поведение, как бы изнутри, глазами территориально-агрессивного первобытного
человека! Почти так же представляли себе внешнее пространство древние
индоевропейцы вообще, в том числе славяне и римляне. Только на севере Европы эволюция
этих представлений затянулась, а на юге раньше возникло общество менее
архаичного типа с торговыми и другими внешними связями. Земледельческое хозяйство
перестало быть натуральным. Однако древние представления вовсе не исчезли.
Они только трансформировались!
Рим основан на священной территории. Бытовало представление о померии. Это
слово обозначало как бы границу того «нашенского» участка, который древние
германцы звали Митгардом. Внутри не положено было ходить в военном костюме,
носить оружие, хоронить мертвых, нарушать обычаи предков, допускать
чужеземцев и культы их богов. Главному своему богу Юпитеру Фламину граждане молодого
римского государства поклонялись внутри померия — в обведенной как бы
магическим кругом городской территории. А культ бога мужской силы, плодородия и
войны Марса справлялся уже за границей на особом, для того отведенном
Марсовом поле. Перед принесением жертвы Марсу жрецы обходили край померия. Был
Термин, особый бог рубежей, сын великого бога Януса — бога превращения и
перехода. Ворота храма Януса закрывали в дни мира и вновь открывали в дни
войны.
Отправляясь в поход, римляне переступали воображаемую черту, и это сразу же
освобождало их ото всех «табу» — моральных запретов, которые действовали
внутри померия. Возвращаясь из похода, воин был обязан пройти очистительный
обряд под особой балкой, подвешенной на двух опорах у алтаря в храме Януса, и
только после этого войти в родной город. Очистительный смысл, кстати, имели
прохождения под всеми остальными арками и воротами. Вот они откуда — наши
триумфальные арки!
Для любого человека и народа древности его отечество — центр мира, свое
племя неизмеримо выше всех других, земля — лучше других и так далее.
Целые народы трепетали перед приговором, выносимым даже и одним римским
гражданином, — Корнелий Тацит, Анналы, 15.51.1.
В глазах древнего римлянина, он уже одним фактом своего рождения и
гражданства был неизмеримо выше любого чужака-варвара, будь то хоть царь, хоть
герой, хоть великий мыслитель или гениальный ученый. Даже великий Архимед для
убившего его малограмотного римского легионера был не более чем варваром,
существом ничтожным и низким по сравнению с любым римлянином.
В нашем языке уцелело выражение «чур меня». Чур — бог межи, рубежа, границы
у древних индоевропейцев. Все за Чуром — враждебные и низшие существа.
Пережитки древнего ощущения пространства глубоко укоренились в нашем
подсознании. Они проявляются в почвенническом неприятии всего чужеземного,
шовинизме и глубоком недоверии к соплеменникам, которые вернулись «оттуда», как-
то соприкоснулись с миром за пределами нашей земли.
Из изданного в Кракове в 1578 году «Описания Московии» Александра Гваньини,
итальянца, польского дипломата: Если же замечают какого-нибудь человека
низкого происхождения, одетого слишком пышно, его называют предателем и
вероотступником и берут под подозрение, говоря:
— Неверный, откуда у тебя такая одежда господского фасона (господами они
называют поляков и литовцев)? Уж не собираешься ли ты вероломно переметнуться
к ним. Да ведь эта одежда — недостаточная плата для тебя!
И тотчас его обвиняют и сурово наказывают, как личность подозрительную...
За последующие пятьсот лет почти ничего не изменилось.
В Прибайкалье не только у аборигенов, но и у некоторых давно обитающих
рядом с ними выходцев из России укоренился обычай: если кто-то тонет в озере,
не спасать, а если спасли, обратно в семью не принимать. Кто вернулся, уже
«не тот», а «подмененный», чужой.
Как недалеко от этого вопрос в наших анкетах в былые годы: «Бывали ли за
границей и на оккупированной территории?» Ах, были, но как же в таком случае
докажете, что вы не «их» шпион? В тридцатые годы «иностранных шпионов»
находили у нас везде, в любом захолустном городке и деревушке.
В ситуациях, вызывающих острую социальную напряженность (экономические
катастрофы, политическая нестабильность и даже что-то менее глобальное,
например, угроза сокращения штатов), в мозгах людей просыпаются древние
доисторические инстинкты территории. Так и хочется поделить окружающее пространство
на «свою», внутреннюю территорию осажденной крепости, где имеешь счастье или
несчастье находиться, и глубоко враждебный внешний мир, населенный исчадиями
ада. Древние культурные стереотипы — вот он, тот «Утгард», из которого сейчас
поползли чудовища.
...А посреди орудий голосища
Москва островком
И мы на островке.
Мы - голодные,
Мы - нищие,
С Лениным в башке
И с наганом в руке...
(В. Маяковский, «Хорошо»)
ГЛАВА 7. «МАТЬ ВСЕХ
БИТВ» - «КАИНОВ ГЕНОТИП».
7.1. Военные игры
и желание воевать
Почему мальчишки всех времен и народов играют в войну? Профессиональные па-
цифисты обязательно скажут, что во всем виноваты взрослые, и будут совершенно
правы. Попробуйте не покупать мальчишкам игрушечные автоматы, танки и
солдатиков, запретите им смотреть по телевизору военные фильмы и слушать по радио
рассказы о войне. Думаете, поможет? Ни капельки! В дело пойдут палки и камни,
самодельные луки, мечи и ружья, изготовленные из сучковатых веток и
деревянных ящиков из-под овощей. Так, надо полагать, играли мальчики в древнем
Египте , играют и сейчас в Исландии, России и на Новой Гвинее.
Читателям наверняка будет интересен отрывок из книги Д. Локвуда «Я
абориген», где автор в свою очередь приводит отрывок из автобиографического
рассказа Филиппа Робертса, австралийского аборигена из племени алава: ...Мы
сражались игрушечными копьями, концы которых были обернуты тряпками, чтобы не
поранить «врага». Мальчик, «пронзенный» копьем, должен был упасть. К нему
подбегали девочки и оплакивали своего погибшего брата. Это единственная роль,
которую им доверяли... Это вполне соответствовало их положению в жизни. Мы
сражались также с помощью бумерангов и нулла-нулла2. По правилам игры не
следовало причинять противнику боль, но мальчикам, как известно, свойственно
увлекаться. Сначала мы обменивались легкими ударами, потом один кричал, что его
стукнули сильнее, чем разрешается, и в свою очередь отпускал здоровую
затрещину, а противник в отместку размахивался изо всех сил...
Любой из мальчишек пережил подобное же в своем детстве, даже если и не
подозревал о «сумчатом континенте». Посему наши комментарии опускаем.
Чем принципиально отличается игра в войну от простой борьбы? Борются,
играючи, детеныши очень многих животных и не только млекопитающих. Однако, в
войну играют, исключительно, человеческие детеныши мужского пола. Отличие
весьма характерное. Мальчишеская компания подразделяется на две
противоборствующие организационные команды: мы будем индейцы, а вы белые, мы немцы, а вы
русские. Затем бегство одних, выслеживание, преследование других, за мной в
атаку, ура-а! Какой мальчик в позднем дошкольном и раннем школьном возрасте
не обвешивал себя игрушечными саблями и пистолетами, не играл «в солдатики»,
не мечтал обзавестись рогаткой или «настоящим» духовым ружьем, не пытался
кинуть камень или дротик в цель?
Впервые взяв в руки оружие, боевое или охотничье, почти любой мужчина
испытывает характерную внутреннюю дрожь, радостное волнение, священный трепет. То
же ни с чем нессравнимое ощущение вызывают шагание в ногу и военная музыка.
Многие мужчины, ни разу в жизни не воевавшие и даже не охотившиеся,
испытывают, тем не менее, неодолимую потребность в коллективных действиях, так или
иначе связанных с групповым молодечеством, риском, воинской дисциплиной и
принятием решений в экстремальных ситуациях. Жизнь без такого рода острых
ощущений связанных с раскрепощением скрытой агрессии и жесткой необходимости
подчиняться кому-то другому для большинства мужчин невыносимо тягостна.
Возможно, в этом одна из этологических причин нашего теперешнего массового
пьянства. (См. также 5.4)
В нормальной мирной жизни, начисто лишенной боевых ситуаций, мужчине,
особенно молодому и средних лет, постоянно чего-то не хватает. Поэтому он
начинает выискивать или изобретать для себя такие экстремальные ситуации. Если
ему самому никак не удается повоевать, его, чего уж греха таить, привлекают
книги о войне, военные фильмы, видеофильмы ужасов, батальная живопись,
коллекция оружия...
В общем-то, «из той же оперы» многие первоначально чисто мужские игры:
футбол, хоккей, бокс, даже шахматы и карты. Не играешь сам, переживаешь как
болельщик . Не случайно, наверное, болельщики, чуть что, превращаются в стадо
беснующихся громил, дерутся и даже убивают друг друга.
2 Дубина, деревянная палица.
Итак, выходит, что совместные организованные действия мужского коллектива,
сопряженные с противоборством, риском и раскрепощением агрессии — не продукт
воспитания, а стереотип поведения, сидящий в нашем подсознании и при каждом
удобном случае вырывающийся наружу, ломая культурные запреты.
Как это гениально сказано в пушкинском «Пире во время чумы»:
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы
И в аравийском урагане
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья -
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот,
Кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.
Почему это так? У многих первобытных народов слова «мужчина» и «воин» —
синонимы. Как мы уже отметили во 2 главе, среди костных останков древнейших
австралопитеков, еще не умевших изготавливать каменные орудия, частенько
встречаются черепа с явными пробоинами, причем, преимущественно, слева — следами
удара камнем или тяжелой костью, наносившегося, чаще, правой рукой.
Похоже, уже тогда, более 2,5 миллионов лет тому назад, если того не раньше,
Каин начал выяснять свои отношения с Авелем. С тех пор убийства себе подобных
у наших предков никогда не прекращались. Сперва в единоборстве, а затем и в
войнах. Воевали сотни тысяч лет тому назад. Воюем сейчас, и, вероятно, будем
еще долго воевать. А на войне как утверждают бывалые люди, смелого пуля
боится , смелого штык не берет. Очевидно, естественный отбор закрепил в мужском
подсознании стремление к риску, мужественным поступкам. Такое стремление
постоянно борется в нашей душе с инстинктом самосохранения и порой одерживает
верх.
Вполне возможно, что не просто агрессия (такая же, как и у других
животных) , но и война — коллективное противоборство с применением смертоносного
оружия, свойственное только нам, людям, — носит в какой-то степени
врожденный , инстинктивный характер.
Тогда уж, пожалуй, и наши мальчишеские игры в войну принадлежат к числу
врожденных форм поведения, не менее естественных, чем игра девочек в куклы.
Это предварительное проигрывание поведенческого стереотипа, инстинктивная
подготовка к дальнейшей «взрослой» деятельности. Например, детеныши всех
хищных млекопитающих, даже выращенные в изоляции от взрослых животных, играют в
«охоту»: выслеживают и преследуют воображаемую добычу.
Это — не результат подражания родителям.
Убийство в бою и кровная месть, — издревле высшая доблесть мужчины, его
нравственный долг, истинное подтверждение мужской природы.
Фридрих Зибург, один из писателей Третьего рейха, говаривал: кто не воевал,
не убивал на войне, тот не мужик, а существо, так сказать, среднего рода,
начинающееся в немецком языке с артикля не «дер», а «дас».
Лоренц как раз по поводу этой точки зрения, крайне популярной в Германии
тридцатых-сороковых годов, с грустью констатировал, что нам с нашей моралью
есть чему поучиться у волков и воронов, которые, как мы уже поведали
читателям друг другу «глаза не выклевывают».
Дорогие читатели! В этой связи напрашивается одна совсем уж
пессимистическая мысль, которой нам, право, не хочется даже делиться с вами. Мы, конечно,
будем счастливы, если кому-то из вас удастся нас переубедить.
Гони инстинкт в дверь, он пролезет в окно. А вдруг это означает, что,
сколько ни борись за мир, потребность воевать все-таки одержит верх? Что ни
делай с человеком, он все равно не способен жить в мире с себе подобными. И
даже, если нет ни малейших поводов для войны, он будет с маниакальным
упорством их искать, пока не найдет или, вернее, не выдумает, не «высосет из
пальца.» Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем... Об этом,
к сожалению, свидетельствуют наблюдения не только баснописца И.А. Крылова, но
и многочисленные эксперименты этологов. Если какую либо инстинктивную реакцию
долго не возбуждают положенные на то раздражители, она, как читатели уже
узнали (1.6; 2.3), постепенно начинает запускаться все более слабыми,
пустячными стимулами, а, в конце концов, возникает в ответ на «совсем не то» или даже
без всякого внешнего повода, просто вхолостую...
Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать.
— Сказал и в темный лес ягненка поволок.
Приводились, например, такие наблюдения за насекомоядной птицей
сорокопутом-жуланом. В природе сорокопут часто ловит и умерщвляет всевозможных
летающих насекомых. В клетке же (его кормят мучными червями) , эта неодолимая
потребность кого-то ловить на лету сохраняется. Что же делает птица? В конце
концов, «истосковавшись» по своей естественной добыче, начинает «ловить» и
«убивать» воображаемых мух!
В пьесе французского драматурга Пьера Ануйя «Троянской войны не будет»
главный герой Гектор делает все возможное, чтобы умиротворить греков. И Елену
им обещает вернуть, и какую-то компенсацию готов выплатить. Но все тщетно.
Поэт-троянец кричит об ущемленном достоинстве троянского народа. Его
приветствует толпа. Наконец, Гектор закалывает «поджигателя войны». Не помогает.
Уже умирающий поэт орет благим матом: «Меня убил грек, грек, грек...». Толпа
беснуется: «Смерть грекам!» — Все хотят воевать...
Все — как в жизни. Если даже массы не хотят войны, ее разжигают правители.
Конечно, они убеждают окружающих, а, возможно, и самих себя, что делают это
вынужденно. Однако же на деле, если бы войны никто не хотел, ее бы не было.
Как известно, Первая мировая война началась после продолжительной мирной
паузы в Европе. Что тогда творилось! Улицы европейских столиц заполнили
ликующие толпы. Люди кричали, пели гимны, целовались и обнимались. Монархи и
министры приветствовали их с балконов своих дворцов. Радостная эйфория
длилась несколько недель и только постепенно начала сходить на нет.
Конечно, в начале Второй мировой войны ничего подобного уже не было. Люди
кое-что все-таки помнили. Однако, в стане будущих побежденных, не в пример
грядущим победителям, господствовало настроение спокойной уверенности. После
разгрома Польши и, особенно, Франции немцы, в массе, ликовали. Им казалось,
что все серьезное уже позади...
Сейчас, опять после долгого мирного перерыва и конца холодной войны,
состояние умов во многих регионах мира такое, словно все там полито бензином.
Достаточно малейшей искры и вспыхивает пожар. Начинаются межэтнические
конфликты и гражданские войны.
Кавказ, юг Средней Азии, бывшая Югославия, Приднестровье, многие
африканские страны. Кто следующий?
Случайное совпадение? — Конечно, нет.
Чисто экономические причины, ослабление центральной власти в Советском
Союзе и его скоропалительный распад? Развал Варшавского пакта? Да, конечно, но
все-таки определенную роль играют, по-видимому, и психологические процессы.
Наши добровольцы, воевавшие в Чечне, Абхазии, Приднестровье, Сербии и т.д.,
вероятно, смогли бы ответить на эти вопросы. Тысячи молодых людей подаются
ныне в «контрактники», ОМОНовцы, спецназ, записываются в боевые отряды
всевозможных патриотических фронтов и казачьи полки. Другие подаются в киллеры
или становятся бандитами.
Что-то тревожное назревает в обществе, не только у нас, но и во всем мире.
В воздухе пахнет паленым...
В газетах пишут, что причиной всему состояние тревоги, вызванное
экономическим спадом, и безнаказанность. Ой, только ли? Мы, скорее, склонны думать,
что эти две причины разбудили постоянно скрытый где-то в подсознании человека
военный инстинкт.
Симптоматичны в этом отношении перемены и на Западе. Во многих европейских
странах усилились воинствующие шовинистические группировки. Они активно ищут
предлог для насильственных действий. Западная молодежь опять охотнее начала
смотреть боевики, вестерны, военные фильмы и телерепортажи из «горячих
точек» . Это — тоже показатель, отмеченный в западной прессе последних лет.
И все-таки, не странно ли?
Как-то не верится. Понятно, существуют такие древние инстинкты как половой,
пищевой, допустим, даже территориальная агрессия, стадность. Но война — чисто
человеческая форма поведения. Откуда же здесь было взяться особому инстинкту?
Не выдумка ли это ученых, вульгаризирующих данные этологической науки?
Попробуем разобраться, учитывая эволюцию нашего биологического вида.
Вопросу, как возник военный инстинкт, посвящены следующие разделы этой главы.
7.2. Межродовой геноцид —
предшественник
современных войн?
...Жалкий человек.
Чего он хочет! ...небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?
(М.Ю. Лермонтов, «Валерик»)
Действительно, зачем? Смысл вражды между людьми особенно непостижим, когда
нет ни малейшего намека на перенаселенность, о скученности не может быть и
речи. Селения отстоят очень далеко друг от друга и, чтобы убить врага или
самому пасть от его руки, надо пройти или проехать громадные расстояния. И все-
таки люди не ленятся, совершают этот долгий путь только потому, что взаимное
убийство продолжает оставаться главным развлечением мужчин. Без этого
развлечения жизнь кажется настолько пресной, что некоторые утрачивают к ней всякий
интерес.
Казалось бы, чего делить, если земли хватает, «бери — не хочу»? Так, нет
же. Как раз наоборот. Замечено, что именно в таких условиях, так же как и при
скученности, взаимная агрессивность патологически возрастает. Особенно
агрессивны люди, если живут оседло из поколения в поколение: каждая семья, род,
немногочисленное племя — на своей особой территории, не перемешиваясь между
собой или с каким-либо пришлым народом.
Кто не читал, не слыхал о не слишком-то дружественном соседстве наших рас-
сейских помещиков, воспетом хотя бы в «Мертвых душах», «Как поссорились Иван
Иванович и Иван Никифорович», «Дубровском», о Иудушке Головлеве Салтыкова-
Щедрина? Однако, все это идиллия по сравнению с западноевропейским
средневековьем, когда, каждый рыцарь был «и царь, и Бог» на своем феоде. Куда ни
глянь, на холмах высились сторожевые башни и зубчатые стены замков — вещест-
венные доказательства «миролюбия» их хозяев. Проезжие купцы и путешественники
могли сколько угодно кричать «Караул!» — до короля и герцогов все равно не
докричишься. Ограбят, а то и убьют.
Чему посвящали свое время благородные рыцари?
Грабили, воевали друг с другом, тиранили своих крепостных (одно «правило
первой ночи» чего стоит!), сражались понарошку на турнирах, этом аналоге
тетеревиных токов, участвовали в дальних разбойничьих походах, которые затевали
сеньоры, скучали у очага в своих каменных гнездах, слушая баллады
миннезингеров , предавались любви, молились, охотились, упражнялись в искусстве убивать
друг друга, плодили детей, старели и умирали, очень часто не своей смертью.
Конечно, это смахивает на карикатуру, но не нами выдумано. Ведь именно так
рисуют жизнь рыцарские романы, хотя бы Вальтер Скотт, весьма досконально
изучивший рыцарский быт.
«Рыцарь печального образа», атакующий ветряные мельницы, конечно, намного
перещеголял самца колюшки, бросающегося на жестянку с красным пятном.
А каковы были нравы американских плантаторов-рабовладельцев еще в прошлом
веке? Как относились они друг к другу? Читайте у Фолкнера. А много ли
хорошего можно сказать, о взаимоотношениях древнеримских латифундистов, описанном,
например, в «Метаморфозах» Апулея?
Тогда хоть, правда, существовали высшие власти с их судом, законами, не то,
что в раннем средневековье, когда европейских государств было только чуть-
чуть поменьше, чем рыцарей.
Исландские саги — удивительно реалистические описания событий,
происходивших в Исландии X-XI веков, записанные по устному пересказу в XII-XIII веках.
В те далекие годы еще совсем малочисленные исландцы селились семьями:
каждая в своем родовом владении, на хуторе, отстоящем на несколько километров от
хуторов ближайших соседей. Пахотной земли было в избытке. Драться из-за нее
не имело ни малейшего смысла. Но исландские семьи воевали друг с другом. Род
против рода. Семья с семьей. Никакого государственного устройства в Исландии
в те времена не было. Главы семейств просто иногда съезжались на тинг -
совет , потолковать, обсудить текущие дела: кто кого убил и какой предлагают
выкуп родне убитого. Там же торговали, менялись, иной раз сватали, рассказывали
новости, доходящие с материка. Народ был не только земледельческий, но и
морской. Плавали в Европу, нанимались в дружины конунгов — скандинавских королей
— и даже служили в гвардии византийского императора.
Что же было предлогом для межсемейной вражды и войн на далеком, затерянном
в Северном море острове?
Множество мелких дрязг, неосторожно брошенное слово, расстроенное
сватовство , ну, и конечно, главная причина: кровная месть. Саги возвеличивают героев,
для которых эта месть была главной целью жизни. Убийство врага предвкушали и
смаковали заранее, продумывали до малейших деталей. Ради этой цели, если
требовалось , ни колеблясь, жертвовали собой и своими близкими.
Мстить полагалось так, чтобы причинить врагу максимальную душевную боль.
Например, мстя отцу, убивали у него на глазах любимого сына, но самого
старика оставляли в живых. Требовалось «сравнять счет». Сколько погибло людей в
семье «А», столько же полагалось уничтожить их и в семье «Б».
В порядке вещей были, например, такие эпизоды: Эльгрим хотел при этом
кончить разговор и погнал коня. Однако, когда Хрут это увидел, он взмахнул
секирой и ударил Эльгрима между лопатками так, что кольчуга лопнула и секира
рассекла спину и торчали из груди... («Сага о людях из Лососьей долины»)... Он сошел
с коня и стал ждать в лесу, пока не снесут вниз нарубленное и Сварт не
останется один. Затем Коль бросился на Сварта и сказал: «Не ты один ловок
рубить !» И, всадив секиру в его голову, убил его наповал, а затем поехал домой
и сказал Халльгард об убийстве... («Сага о Ньяле») . ...Тард (одиннадцатилетний
мальчик) дал ему (семилетнему Эгилю) секиру, которую он держал в руках. Они
пошли туда, где играли мальчики. Грим (одиннадцатилетний сын врага) в это
время схватил мяч и бросил его, а другие мальчики бросились за мячом. Тогда
Эгиль подбежал к Гриму и всадил ему секиру глубоко в голову. Затем Эгиль и
Торд ушли к своим... («Сага об Эгиле») . Когда враждовали взрослые, они
стравливали и своих детей.
Очень часто убийства совершались исподтишка. Это не считалось
предосудительным . Весьма типичен, к примеру, следующий эпизод из «Саги о Греттире».
Постучали в дверь. Шел сильный дождь, смеркалось. За дверью ничего не было
видно. Хозяин ее открыл, и тотчас же его проткнул насквозь копьем
спрятавшийся за дверью кровник.
— Они теперь в моде, эти широкие наконечники копий, — успел хладнокровно
произнести хозяин прежде, чем испустил дух.
Таковы были времена и нравы! Перед насильственной смертью полагалось еще
сострить или сочинить и продекламировать коротенькое стихотворение — «вису».
В конце XI века в Исландии распространилось христианство. Однако, это
отнюдь не помешало исландцам продолжать в прежнем духе. Напротив. Например,
слепец Амунди восхвалил Христа и, если верить, разумеется, «Саге о Ньяле»,
сразу же прозрел, раскроил череп врагу секирой, а потом ослеп опять.
В «Саге о названных братьях» христианский Бог прославляется за то, что он
помог пятнадцатилетнему Торгейру «осуществить кровавую месть за убийство
отца».
Конечно, не следует думать, что исландцы эпохи саг только и занимались
убийствами. Были и более прозаические дела, но о них не сочиняли саги.
Интереснее другое: в последующие века жители Исландии стали очень миролюбивыми
людьми. Даже, пожалуй, чересчур. В XIV веке они не оказали ни малейшего
сопротивления пиратам, зверствовавшим на острове. Что же к этому привело?
Земельных излишков поубавилось и кончился «разгул демократии». Островом
завладели датчане. Появились королевские чиновники, законы и палачи.
Интересна и другая закономерность. У исландцев, как и у самых разных других
маломальских цивилизованных народов, жертвой кровной мести могли быть только
мужчины враждебного рода, в том числе, как мы только что рассказали, даже
несовершеннолетние . Убийство женщины считалось невообразимым преступлением.
Щадили и дряхлых стариков. К тому же каждый убийца, в принципе, мог предложить
родственникам убитого выкуп (виру). Если таковой принимали, дело считалось
улаженным. Тем не менее, от выкупа обычно отказывались. Куда приличнее
считалось продолжать до бесконечности цепь убийств.
Характерно, что не только в Исландии, но и везде, где в обычае кровная
месть, мстители говорили о себе и о своих врагах:
— Я, такой-то, сын такого-то, внук такого-то и так далее, убил такого-то за
то, что его, к примеру, дед убил такого-то (снова длинная родословная) из
моего рода.
Выходит, война шла на хутор против хутора, а, в полном смысле слова, против
генетического клона (по мужской линии) в пределах данного ограниченного
сообщества (популяции).
Как в «Иллиаде» Гомера:
Гектор, Патрокла убил ты и думал в живых оставаться!
Ты меня не страшился, враг безрассудный.
Но за судами ахейскими я оставался,
Я, и колено (род) твое сокрушивший...
Нелишне напомнить — предлогом для Троянской войны послужило похищение
Елены. Нанесено было оскорбление клону. Словами О. Мандельштама: «Когда бы не
Елена, что Троя вам, ахейские мужи?»
Нам кажется стоит обратить внимание на то обстоятельство, что обычай
кровной мести — явный пережиток родового строя, сравнительно долго, чуть ни до
наших дней, продержался именно там, даже у цивилизованных народов, где люди
из поколения в поколение жили оседло и мало смешивались с чужеземцами, то
есть у островитян и у горцев (Сардиния, Корсика, Сицилия, юг Италии,
черногорцы и албанцы, Дагестан, горцы Средней Азии, в более отдаленном прошлом
Япония, Шотландия и так далее).
Когда-то, в догосударственном обществе, этот обычай служил, как уже
говорилось выше, единственной управой на убийц. Каждый, покушавшийся на жизнь не на
войне, вынужден был думать о весьма вероятном возмездии.
Можно не сомневаться, что при родовом строе кровная месть была одним из
неписаных законов везде и всюду. Между тем, правила ее осуществления, например,
то, что касается пола и возраста потенциальных жертв, — вероятно, довольно
поздние достижения цивилизации. В наиболее архаичных обществах недавнего
прошлого и даже современных (австралийские аборигены, «охотники за головами»
даяки и папуасы, некоторые южно-американские племена, яномамо и др.) «мстят»
любому соплеменнику убийцы, не считаясь ни с полом, ни с возрастом.
Как известно, аналогичным принципом коллективной ответственности
руководствуются и современные террористы (исламские, ирландские), а также
тоталитарные правительства.
В некоторых затерянных уголках мира, например, у то и дело упоминаемых нами
яномамо, межродовые войны, затеянные под предлогом кровной мести, длятся
практически непрерывно по сей день. Это в полном смысле слова «война
генотипов» , «межродовой геноцид».
Белые путешественники прошлых веков утверждали, что и в Вест-Индии, и в
Тихом океане трудно сыскать островок или атолл, на котором туземцы,
разделившись на несколько племен (родов) , не вели бы нескончаемой войны. Под каким
предлогом затевались эти войны или, скорее, почему? Предлоги всегда
находились , чаще всего, месть, а также, разумеется, жажда грабежа, желание
завладеть чужими женщинами и скарбом, ну, и, наконец, кое-где и людоедство. С
мясом на островах было довольно туго. Иной раз людоедство носило ритуальный
характер .
Подведем итог. Многое свидетельствует о том, что в доисторические времена
межродовой геноцид был широко распространенным явлением везде, где люди
подразделялись на отдельные семейные группы, рода (колена, клоны), племена, мало
перемешивающиеся друг с другом. От тех времен мы получили трагическое
наследство : подсознательное стремление людей объединяться в большие группы для
нападения на тех, кто в эти группы не входит, (то, что К. Лоренц называет
«инстинктом этнической вражды» — см. выше).
Одно время в Московском зоопарке разводили беломорских актиний Метридиум.
Эти сидячие животные, размножающиеся почкованием, сплошь покрывали собой
большую стеклянную пластинку, поставленную вертикально в аквариуме. На
пластинке явно просматривались межклональные границы. Вдоль них виднелись
сплошные ряды актиний, сцепившихся киллерными (убивающими) щупальцами — особым
органом межклональной агрессии.
Соседние колонии муравьев одного и того же вида часто ведут между собой
доподлинные «войны». Не размножающиеся рабочие особи гибнут на этих «войнах»
тысячами. Иногда, впрочем, навоевавшись, даже муравьи «заключают мир». Для
этого враждующие муравейники соединяют общим туннелем, куда рабочие обоих
«воющих армий» стаскивают куколок — «муравьиные яйца». Особи, вышедшие из
этих куколок будут уже распознавать по запаху как «своих» муравьев из обоих
колоний!
У серых крыс, — наших подпольных соседей, межклональная агрессия, как мы
уже говорили, тоже носит постоянный характер, пока животные живут оседло
разросшимися клонами.
Война муравьев (фрагмент битвы).
В чем биологический смысл межклональной агрессии в животном царстве?
«Победивший» генотип оставляет более многочисленное потомство. Поэтому
естественный отбор и сохраняет такую форму агрессии, на первый взгляд, казалось бы,
невыгодную виду.
Кроме того, у колониальных животных (к людям это не относится) , таких как
общественные насекомые или гидроидные полипы — родня всем известной
пресноводной гидры, межклональная агрессия предотвращает паразитическое
существование размножающихся особей одного клона за счет неразмножающихся индивидов
другого клона. Разноклональные колонии гидроидов не срастаются друг с другом,
в отличие от одноклональных. То же самое явление наблюдается у кораллов и
губок.
А что дает война, с генетической точки зрения, современному человеку? На
ней гибнут лучшие. Вероятность оставления потомства выше у оставшихся в тылу
«белобилетников» — инвалидов и ловкачей. Выходит, абсолютно ничего не дает
хорошего. Наоборот, приносит громадный вред.
А как же тогда насчет «борьбы генотипов», «нашего» и «вражеского»? Это —
абсурд. Любая современная нация — культурная и языковая общность людей с
гигантским набором самых разнообразных генотипов. Война — взаимное истребление
двух, воистину, «вавилонских смешений» таковых, двух генетических
«коктейлей» .
К тому же уроки истории свидетельствуют: не победителю, чаще всего,
даровано многочисленное потомство после современной и даже не современной большой
войны. Где потомки былых «владык мира» ассирийцев, древних римлян и
македонян? А ведь многие покоренные когда-то ими народы процветают и по сей день.
Кто выиграл Вторую мировую войну? А какова, сравнительно, демографическая
картина сейчас у нас и у наших былых врагов, немцев и японцев?!
Вот с таких-то позиций мы, пожалуй, рискнем поспорить с новосибирским ис-
следователем Ю. М. Плюсниным3,) который, имея в виду межгосударственные войны
современного типа, утверждает следующее: ...этологическая теория
территориальной агрессивности, хотя и разработана для объяснения «индивидуальных
инстинктов» с легкостью экстраполируется и на явления социального порядка — такие
как появление межэтнической, межгрупповой враждебности. С ее помощью
объясняются войны. В примитивно-социобиологиских представлениях война — это просто
межпопуляционная агрессия, способствующая увеличению приспособленности членов
той группы, которая стремится истребить своих соседей. Однако, как показал Д.
Кэмпбелл в «реалистической теории группового конфликта», на самом деле из со-
циобиологических постулатов логически не выводимы ни межгрупповой конфликт,
ни, тем более, войны. Межгрупповая агрессивность предполагает
территориальность на групповом уровне. С точки зрения индивидов, входящих в такие группы,
два уровня территориальности несовместимы... Более того, защита сообщества
требует зачастую удаления от родичей и семьи, и жертвенность в пользу сообщества
как своей приспособленностью, так и приспособленностью своих родственников.
Такого поведения социобиологическая теория не допускает. Но ведь война есть
именно межгрупповой, но не индивидуальный конфликт...
Все это, конечно, так. Однако, для понимания того, как и почему появились
войны современного типа в человеческом обществе, абсолютно необходим
исторический подход. При родовом строе, а он длился несравненно дольше, чем все
последующие общественные формации в человеческой истории вместе взятые, война
была ничем иным как порождением межклональной и межпопуляционной конкуренции.
Тогда, в доисторические времена, как, впрочем и сейчас, в уцелевших кое-где
архаических обществах, войны вполне могли быть механизмом отбора клональных и
популяционных генофондов. Поясним читателю — небиологу: популяция —
сообщество более или менее постоянно скрещивающихся между собою индивидов. Популяци-
онный генофонд — совокупность генов, представленных в данной популяции. Клон,
он же род, колено, династия, — потомки какой-то одной пары производителей.
Войны постепенно утратили свой исходный генетический смысл уже при переходе
от родового строя к рабовладельческому. Тогда уже появились первые
полиэтнические государственные образования, а главное, началось и далее происходило
непрерывно перемешивание самых разнообразных этносов.
7.3. Марс и Афродита
Карикатура в старом польском журнале: в зале рыцарского замка на стене —
оленьи рога. Рыцарь в доспехах — даме:
— А это, я полагаю, ваш охотничий трофей?
Дама:
— Нет, не мой, а моего мужа.
«Рогоносец» — для человеческого «самца» очень плохой комплимент. А для
самца-оленя рога — не только предмет гордости, но еще и продукт так называемого
внутриполового отбора. Из поколения в поколение в единоборстве выигрывали
самцы, у которых рога были помощней, да и покрепче. Для борьбы с хищниками-
волками , рысями, медведями, куда бы больше сгодились, как уже говорилось выше
(3.7) острые как кинжал и неветвящиеся рога, такие, как, например, у газели
орикса.
Эти же оленьи рога, - удивительной красоты, древовидные, — оружие,
предназначенное , в первую очередь, для поединков между самцами. Некогда в Ирландии
жил олень с рогами еще более ветвящимися и длинными, чем даже у современного
3 Ю.М. Плюснин «Генетически и культурно обусловленные стереотипы поведения. Критика
концепций социобиологии.» В сб. «Поведение животных и человека: сходство и
различия», стр. 89-107, Пущино, 1989
благородного оленя. Тот олень носил такое мощное и сложно ветвящееся
сооружение на голове, что, в конце концов, просто вымер. «Гонка вооружений» между
соперниками-самцами приводила к отбору генов, способствующих все большему
росту рогов. В конце концов, половой отбор завел этот вид в тупик. Рога
самцов, неизменно побеждавших в драках своих соперников, стали опасным для вида
излишеством в обыденной жизни.
И так, оказывается, бывает: сам же естественный отбор направляет эволюцию
вида в тупик. Биологи-эволюционисты называют подобного рода явления гипермор-
фозом. Возникла, как говорят «технари», «паразитная» положительная обратная
связь.
В последнее время некоторые эволюционисты уподобляют рогам самцов
ирландского оленя наш интеллект. Не будь у человека интеллекта, не было бы и
научно-технического прогресса, не смогли бы мы изобретать все более совершенное
оружие и не разрушали бы в столь ужасающих масштабах окружающую нас среду.
Выходит, рациональное зерно в этих рассуждениях есть. Приходится
расплачиваться за яблоко, которое когда-то сорвала Ева!
Разговор наш, однако, пока не о том. Вернемся к оленям. В период гона они
сперва состязаются в реве: кто кого переревет. Доминантному самцу, владельцу
гарема, положено так реветь, чтобы у прочих самцов отпала всякая охота
проверять свои силы в драке. Многие самцы-конкуренты, действительно, «выбывают из
игры» еще при этом предварительном состязании. Но вот находится смельчак,
который, несмотря ни на что, выходит на бой. Соперники ходят кругами,
приглядываясь друг к другу: кто крупнее? Только сравнительно редко этим все дело не
кончается. Действительно, начинается драка, кончающаяся, иной раз, хотя и не
особенно часто, тяжкими увечьями одного из соперников. Награда победителю —
гарем. Самцы бойцовых рыбок-«петушков», всамделишные петухи, морские птицы
фрегаты, самцы жуков-оленей, у которых челюсти имеют форму оленьих рогов,
морские львы, коты, доминантные особи павианов и шимпанзе, одним словом,
самцы очень многих животных сражаются из-за самок.
Не составляет в этом отношении особого исключения и человек. Процитируем по
этому поводу отрывок из книги Яна Линдблада4. Речь идет об агрессивности в
состоянии крайней сексуальной мотивации или, проще говоря, как раз о такой
драке: ...в селении Патанэ-тери (Южная Америка) молодой индеец увел женщину,
которую избивал муж. Результатом была жестокая дуэль на дубинках. Под
дубинками подразумевается двухметровая жердь, заостренная на одном конце и с
увесистым утолщением на другом.
Сперва удары обрушивались на окровавленные головы соперников, затем
последовали выпады острым концом дубинки. «Законный владелец» женщины был ранен
метким уколом; тогда разъяренный предводитель племени (мужа) схватил свою
дубинку-копье и пронзил насквозь похитителя чужой жены, отчего тот умер на
месте . Женщину вернули «законному» супругу, который в наказание отрезал ей уши!
Родственникам убитого предложили немедленно покинуть шабоно (поселение) пока
дело не дошло до общего побоища. Изгнанникам предоставили приют в одном из
соседних селений, взяв с них в виде дани нескольких женщин и пообещав
отомстить обидчикам.
Однако, вопрос: какое все это имеет отношение к войне? Ведь речь идет,
исключительно, о единоборстве самцов одной и той же популяции, одного и того же
вида. Дуэльное оружие, — продукт полового отбора: оленьи рога, петушиные
шпоры, способы фиктивного увеличения размеров за счет поднимания перьев или
волос, и брачные окраски и вторично-половые признаки, вроде нашей бороды, — все
это не для войны. И все-таки, каковы же отношения римского бога войны Марса с
проказником Амуром, Эротом, богом любовной страсти у римлян, или, наконец, с
4 Человек — ты, я и первозданный. Мир, 1990.
греческой богиней любви и красоты Афродитой? Отвечаем: самые тесные, какие
только могут быть у всех воюющих народов (миролюбивые жители крайнего Севера
не в счет).
Когда солдаты по улицам шагают
Девчонки двери и окна открывают
Эрли-эрля,
Эрли-эрля,
Эрли-эрля
Иогого, ха-ха!
(Немецкая солдатская песня типа «солдатушки-ребятушки». Перевод наш).
Девушки нежно глядели им вслед
Шли они тоже дорогой побед...
(«Дунайские волны»)
Прощай, не горюй, гляди веселей,
А только поцелуй,
Когда придем из лагерей...
(«Прощание славянки»)
Расшумелися вежбы плаченцые (плакучие ивы)
Расплакалася дивчина в глос
Поднесла свои очи блесченцые (блестящие глаза)
На жолнежей твярдый жичя лос (суровую солдатскую жизнь)
(То же, польский вариант)
Помню, я еще молодушкой была
Наша армия в поход куда-то шла...
(Народная, первая четверть XIX в.)
Оружьем на Солнце сверкая,
Проходил батальон усачей
А там, приподняв занавеску,
Лишь пара голубеньких глаз
Искала в толпе проходящих...
(Начало XIX в.)
Пошло письмо летучее
В заоблачную даль
О том, что в крайнем случае
Согласна на медаль...
(Из песен времен Великой отечественной)
И снова в переулках сапоги,
И птицы ошалелые летят
И женщины глядят из под руки
И знаем мы, куда они глядят.
(Б. Окуджава)
Таких примеров можно, при желании, привести многие сотни. О чем они все
говорят? Слабый пол любит героев войны. Везде и всюду так, а в результате,
женщины рожают новых воинов. Они их рожают и рожают. Детишки подрастают, уходят
на войну. Кое-кто возвращается и оставляет большое потомство. Это продолжает-
ся уже многие тысячелетия. Вот и получается, что человек все в большей и
большей степени становился на протяжении эволюции воюющим существом. Выходит,
межклональный и межплеменной геноцид, о котором мы только что рассказали, —
лишь одна из эволюционных причин нашей воинственности. Есть еще и вторая
причина. Она имеет непосредственное отношение к половому отбору. Человеческие
«самки» предпочитают воинственных «самцов».
Плюс к тому же у этих «самцов» более широкие возможности дарить свои гены
даже тем «самкам», которые об этом вовсе и не просили. Насилие над женщинами
во все века считалось нормой поведения солдат на захваченной территории
противника .
Даже воинские трофеи и регалии, вещественные доказательства одержанных
побед, предназначаются, главным образом, для того, чтобы очаровывать и
завлекать ими встречных красавиц. Приведем несколько примеров. Воины с Маркизских
островов лет сто тому назад, когда слабым было еще влияние белых, в
торжественных случаях приторачивали к поясу черепа убитых врагов, заполненные
круглыми камешками. При каждом движении воина эти погремушки издавали
своеобразные звуки, очень впечатлявшие местных дев.
У охотников за головами - даяков с острова Борнео жениха вообще не
рассматривали всерьез, если он не предъявлял невесте или ее родне хотя бы одну
вполне прилично высушенную голову убитого «врага» — жителя какого-нибудь
соседнего селения. Конечно, желательно, чтобы это была голова вражеского воина, но,
на худой конец, могли сгодиться даже старуха или ребенок. Некоторые племена
еще совсем недавно владели тайным искусством измельчения или растворения
костной ткани черепа. Из нормальной головы они умудрялись делать чудо
чучельного искусства величиной с детский кулак с вполне распознаваемыми чертами лица,
сохранившейся шевелюрой, а также бровями и ресницами, которые на крохотном
личике казались ужасно густыми и длинными.
В некоторых горских патанских племенах на юге Афганистана, несмотря на
ислам, по крайней мере, еще недавно существовала почти та же проблема: ни одно
порядочное семейство не выдавало свою дочь за жениха, который еще никого не
убил. Всего там заводят себе до 7 жен, но убийства как «путевки в жизнь» все
равно необходимы молодому человеку. Во времена английского владычества в
Пакистане юные горцы отправлялись туда на охоту за людьми, прихватив свое
длинное австрийское ружье. Требовались вещественные доказательства: трофеи,
отрубленные головы.
Североамериканские индейцы, во избежание подобных проблем, постоянно носили
на поясе скальпы убитых врагов. Желающий да видит. Между прочим, искусству
изготовления скальпов краснокожих обучили бледнолицые. В Южной Америке высоко
цивилизованные индейцы майя и ацтеки предпочитали носить выдубленные куски
кожи вражеского лица либо шерстистых частей тела, а кое-кто там даже щеголял
в дубленках, изготовленных из кожи, содранной с военнопленных.
В черной Африке больше в моде были четки из вражеских зубов. Амхарцы в
Эфиопии даже в конце XIX века при негусе Менелике, убив врага, отрезали ему
гениталии и носили, насадив на палку. Наконец, некоторые из наших мальчиков в
Афгане (ничтожный процент, «нетипичное явление» и так далее — не сочтите за
попытку очернить всех!!!) додумались до ожерелий из сушеных «душманских»
ушей. И такое там, по слухам, было.
Зачем мы привели все эти примеры? А для того, чтобы с их помощью попытаться
ответить на вопрос: каким образом воинственность мужчин влияет на их успех у
«прекрасного пола». Ведь все подобного рода военные трофеи ни что иное, как
свидетельство боеспособности мужчины, некое первобытное подобие медалей и
орденов , впечатляющее «прекрасный пол».
А нужны ли такие экзотические примеры? Как обстоят дела у нас сейчас в
обществе цивилизованных людей? Все мы в ранней юности, конечно, увлекались
«Тремя мушкетерами». Поэтому вопросы, как говорится, на засыпку: Многие ли из
наших одноклассниц в их 16-18 лет устояли бы перед чарами деАртаньяна? А чем,
собственно, он их пленял? Не грех по тому же поводу припомнить и ростановско-
го Сирано де Бержерака — поэта, храброго человека, гениального фехтовальщица
с необычайно длинным носом:
Здесь каждый смерти рад!
Скажите мне: что это за отряд?..
Свой плащ спуская грациозно,
На землю фетр бросаю я.
Теперь уж обнажайся грозно
Ты, шпага верная моя.
Мои движенья быстры, пылки
Сильна рука и верен глаз...
Однажды на ночной парижской улице Сирано сразился с сотней врагов и
победил! Как относятся знакомые Вам девушки к таким героическим мужчинам?
Ах, зачем и литературные примеры? Как относились в начале прошлого века
дамы и барышни из хороших дворянских семейств к отважным и удачливым дуэлянтам
и, уж тем более, к воинам, чья грудь украшена боевыми крестами? А как
относятся наши девушки сейчас к героям Афгана? Приднестровья и Абхазии? В
первобытном обществе орденов и медалей не было. Чем их заменяли, мы только что
поведали читателю.
В античные времена, например, в Риме уже были настоящие боевые награды:
лавровые и золотые венки, нагрудный знак за взятие вражеской крепости,
триумфы, которые устраивали удачливым полководцам, раздачи земли ветеранам,
почетные должности, магистраты. В средние века одаривали золотыми нарукавными
кольцами, оружием, посвящали в рыцари, опять-таки дарили земельные наделы и
так далее и так далее, и так далее.
Боевые награды и дары, естественно, повышали шансы победителей на рынке
женихов . Однако, это далеко не все. Военным трофеем победителей во все века
были не только восторженные сердца молодых соотечественниц, но, как мы только
что уже отметили, и беззащитные пленницы. Таким образом, лавры победителя,
воинственный пыл, повышали вероятность оставления потомства, как прижитого в
законном браке, так и зачатого насильно в завоеванных неприятельских землях.
То, что так было всегда, начиная с первобытного общества, подтверждают
следующие наблюдения за уже не раз упомянутым нами суринамским индейским
племенем яномамо. Они позаимствованы из книги профессора Калифорнийского
университета Наполеона Шаньона5. Племя яномамо насчитывает всего лишь около 15 тыс.
человек. Они обитают в приблизительно 200 деревнях, почти непрерывно воющих
друг с другом. Треть мужчин племени гибнет на войне, а почти половина из тех,
кому более 25 лет, успели убить, по крайней мере, одного врага. Войны, как и
у героев Гомера, начинаются преимущественно из-за женщин, причем, это,
конечно , главное: мужчины-убийцы имеют в среднем в почти два раза больше жен и в
три раза больше детей, чем те, кто никого не убивал! Выходит, идет
непрерывный отбор в чисто дарвиновском смысле этого слова на максимальное стремление
убивать.
Следует отметить, что риск, сопряженный с убийствами, не очень-то велик.
Убийцы подкрадываются к околице вражеской деревни и исподтишка убивают первых
попавшихся, а затем сразу уносят ноги. Кто больше убил, тому больше почета и
славы у «прекрасных дам»!
Очень часто драки за обладание женщиной затеваются между односельчанами.
Яномамо — свирепый народ. 1968.
Драки эти завершаются убийством одного из соперников, после чего, по обычаю,
родственники убитого уходят из села без помех, чтобы основать где-то свою
собственную деревню или подселиться к врагам-соседям. В обоих случаях все
помыслы мужчин-родственников убитого теперь о кровной мести, причем выслеживают
и убивают не только родственников убийцы, но и кого попало из прежней родной
деревни. Кроме того, жители любой деревни, вооружившись копьями и луками, то
и дело устраивают набеги на одну из соседних деревень, чтобы похитить там
женщин.
В общем, — все условия для того, чтобы естественный отбор постепенно
формировал те самые худшие особенности мужского характера, которые постоянно дают
себя знать в нашей бессмысленной воинственности. Правда, некоторые ученые
возражают Шаньону, указывая хотя бы на то, что такая сверхагрессивность
свойственна далеко не всем индейским племенам. Поблизости от яномамо живут
другие, куда более миролюбивые индейцы. Человек слишком нестереотипен. Его
поведение нельзя подогнать под какую бы то ни было схему. Сегодня он — один,
завтра — другой.
К сожалению, такие возражения не слишком убедительны. Представим простую
вещь: с миролюбивым племенем столкнулось агрессивное и воинственное. У кого
больше шансов уцелеть в их конфликте? Так оно и происходило на протяжении
тысячелетий и веков. Против лома нет приема, как гласит поговорка. Победители
выживали и продлевали в потомках свой «каинов» генотип. Как мы уже отметили,
при этом они обычно щедро делились своим генотипом и с побежденными, даря им,
таким образом, поколения грядущих мстителей, если, конечно, не изводили
поверженного врага под корень.
Слова «отца социобиологии» Эдварда Вильсона, профессора Гарвардского
университета: Меня больше всего удивляет, — почему люди так осторожничают вокруг
проблемы человеческой агрессии. Человечество купается в крови столько
времени, сколько оно существует. Если у нас имеется сильная биологическая
предрасположенность к насилию, мы не можем просто взять и выкинуть ее... По мнению
Вильсона, открытие Шаньоном мощной потенциальной связи между агрессией и
репродуктивным успехом может представлять важный шаг в нашем понимании войн, а,
пожет быть, и в будущем избавлении от них6.
Короче говоря, естественный отбор, на нашу беду, породил порочный круг:
женщины во всех обществах и во все века «вешались на шею» победителям, сами
навязывались им. Военные мундиры, ордена, регалии, рассказы о героических
подвигах... Что все это должно кружить голову юным девам кажется нам настолько
обыденным и очевидным, что даже и не приходит в голову задуматься о причинах
и генетических последствиях этого явления. Процитируем-ка из «Песни о нибе-
лунгах» о короле-победителе Гунтере. Что он ощущал, когда на людях ему при-
спешествовал, как якобы оруженосец, еще более прославленный воин Зигфрид:
«И Гунтер словно вырос — так был он горд и рад,
Что очи женские за ним в такой момент следят...
В конце этой публикации читатели кое-что узнают о зоологе, поэте и отважном
белом офицере Вадиме Георгиевиче Дермидонтове, расстрелянном в 1937 г. Здесь
к месту такие его строчки:
Март, а было тепло как летом.
Волга шумно взломала лед.
Я иду по полям согретым.
От Адама мой древний род.
6 Обзор см. в «Синтифик Америкен», №7, стр. 90-92, 1990.
Я в себе хороню былое
Как земля хоронит зерно.
В жизни все для меня родное.
В жизни все мне в удел дано.
Был я всюду, где только люди
Вековечно вершили бой
На кострищах звериной чуди
В заклинаньях был голос мой
В сарацинских гремел набегах,
В аравийской степной дали.
Кочевал на скрипучих телегах
По татарским шляхам в пыли
За святую землю сражался
Под Коломной пищаль носил,
На стенах новгородских дрался
Против сомна московских сил.
И в себе сохранив былое,
Вне религий, пространств, времен,
Плотью врос я в мое, земное,
И земля для меня — закон.
(1918 г.)
Никуда нам от этого закона не уйти. В военном инстинкте человека
сконцентрировался целый набор разных инстинктивных побуждений и, в том числе, не
только низменных, но и прекрасных, самых возвышенных и благородных. Это, в
частности, альтруистическое чувство в самой его крайней, жертвенной форме. В
том-то и дело, что все гораздо сложнее, чем может показаться на первый
взгляд, и безоговорочное осуждение любых войн представляется нам, несмотря на
все сказанное выше, тоже ошибочной точкой зрения.
7.4. От лежбища котиков
до личной жизни Гитлера
Уже в 5 главе мы кое-что говорили о связи между понятиями «вождь» и «отец».
Эта связь глубоко укоренилась в человеческом подсознании.
Царь-батюшка, отец ты наш родной... Древние римляне - сенаторам: Отцы-
сенаторы... Патриций — от слова «Патер» — «отец». Древнеримский историк Свето-
ний Транквилл об Октавиане Августе, первом римском императоре: Имя отца
отечества было ему поднесено всем народам внезапно и единодушно... (Дело
происходило во втором году до нашей эры.) Потом этот титул присваивали себе или
получали многие римские императоры. Да и до, и после них кто только не зачислял
себя в «отцы нации», подобно нашему незабвенному «отцу и учителю, величайшему
гению всех времен и народов и пр., и пр., и пр.». Образ отца и образ
правителя часто сливались воедино в мозгах владык и верноподданных самых разных
государств . Это более или менее общее явление.
Не даром очень многие властители стремились придать себе соответствующий их
титулу или сану солидный облик «папаши»: отращивали бороду, а если она не
росла, — подвешивали искусственную. Такую бороду, например, носила
древнеегипетская фараонша Хатшепсут (около 1,5 тыс. лет до н.э.).
Между прочим, от тюркского «ата» — «отец» происходит и наше «атаман», он же
«батька», и прозвище турецкого правителя Кемаль Ататюрк («отец турок»). Даже
главарь шайки уголовников у нас «пахан», а у немцев «опа», что означает то же
самое. Все, вероятно, помнят знаменитого гаитянского вождя «папу-дока» Дюва-
лье.
А о чем все это говорит? С фрейдистских позиций, об очень многом. Не даром
в одном польском юмористическом журнале предупреждали: «Не рассказывайте
своих снов. А вдруг власть захватят фрейдисты? Действительно, последствия могут
быть ужасными. Например, приснится вам, что у вас выросла борода, точь-в-точь
как у Фиделя Кастро и многих других корифеев. По неосторожности вы об этом
проболтаетесь «кому не надо». И вот, вас сразу же в кутузку за намерение
«неконституционным способом изменить государственный строй».
Шутки - шутками, но кое-что за этим, действительно, кроется. Так, ряд видов
птиц и млекопитающих, в том числе наши петухи, благородные олени, морские
котики и некоторые обезьяны, заводят, подобно турецкому султану, большие
«гаремы»: один доминантный самец и много-много покорных ему самок. Российский
генетик Р.Л. Берг (дочь известного академика Л.С. Берга) некогда опубликовала
статью: «Почему курица не ревнует?». «Гарем», чего уж тут ревновать? Так вот:
у всех таких животных доминирующие самцы крайне агрессивно относятся друг к
другу. Мол, «не трожь моих самок!». Прочие, не доминантные самцы, находящиеся
в той же стае, подобной бешеной агрессии не вызывают. Ведь они - не
конкуренты для доминантной особи.
Совсем другое дело именно равный по рангу — чужой «фюрер», вожак, «монарх».
К примеру, у котиков доминирующий самец тщательно охраняет территорию лежбища
с находящимися на ней самками от других доминантных самцов. Едва завидев
вдалеке такого самца, хозяин территории сразу же кидается на него. Аналогично
ведут себя петухи и вожаки стаи у уже упоминавшихся нами павианов-анубисов.
В принципе, можно допустить существование некой эволюционной связи между
таким поведением обезьян и ...династическими войнами недавнего человеческого
прошлого. Эти войны ведь продолжались и после родового строя, когда
межродовые конфликты, типа только что описанных, уже давно вышли из моды у
цивилизованных народов.
Законы и церковь запрещали убивать людей не «за короля и отечество», а
«просто так» потому, что «не поладили», из ревности, по пьянке или с целью
грабежа. Король или царь — «отец нации». Он, подобно петуху, доминантному
самцу котиков или павианов, весьма агрессивен по отношению к другим точно
таким же «отцам»...
— Мой коронованный брат, предупреждаю тебя, что...
Подданные в счет не принимаются. Ссорятся между собой «миропомазанники
божьи» короли, а долг подданных — умирать за своих «обожаемых монархов».
Может быть, кто-нибудь из читателей помнит французский фильм «Фанфан-
тюльпан» с Жераром Филиппом в главной роли? Начало XVIII века во Франции.
Времена «короля-Солнце» Людовика XIV. Дикторский текст:
— В те годы женщины были легкомысленны, а мужчины занимались своим
излюбленным делом: войной. Короли на полях сражений произносили исторические
фразы , — в кадре король, глядя в подзорную трубу, произносит: «Гвардия умирает,
но не сдается!» — а солдаты изящно вспарывали друг другу штыками животы.
Словом, это была не война, а брюссельское кружево! (В кадре — кошмарная резня).
Похоже, что подобного типа войны, как и самые разнообразные другие (из-за
чего и почему только люди не воевали в разные времена! Например, в XIII веке,
во времена поэта Франсуа Вийона, Парижский университет, Сорбонна долго воевал
с Парижской мэрией. Опасный пример для наших университетов и мэрий. У нас
ведь теперь все может быть), — перекидывают своего рода цепочку (уже,
конечно, в сфере культурной, а не биологической эволюции), от доисторических
межродовых конфликтов, древней этнической вражды, к мировым и прочим бойням
современности .
Как-то Гитлер получил письмо от отца Евы Браун. Тот выразил удивление, что
фюрер, так заботящийся о нравственной чистоте немецкой нации, тем не менее,
живет с Евой, не регистрируя брак. Гитлер ответил, что хотел бы, но никак не
может это сделать потому, что «уже женат на ...Германии». Эх, Фрейд. Гитлер его
наверняка не читал. Иначе не допустил бы такой саморазоблачительный «прокол».
Между прочим, средневековые властители в Западной Европе тоже считали, что
«женаты» на своем владении, но, в отличие от фюрера, доказывали это не
столько словом, сколько делом. К их услугам было «право первой ночи». Тут уж
аналогия с котиками и павианами полная. А если еще припомнить драчливость этих
господ, их вечное выпячивание своих титулов и родословных, поединки, перья на
шлемах, шпоры и шпаги, приходят на ум, разумеется, и петухи.
Из чужбины дальней
В замок феодальный
Едет: трюх-трюх-трюх,
На кобыле сивой
Наш барон спесивый
Наш отец и друг.
Слушать, поселяне,
К вам, невеждам, дряни,
Сам держу я речь!
Я — опора трона,
Царству оборона
Мой дворянский меч.
Гнев мой распалится,
Сам король смирится...
Конечно, эти строчки Беранже написаны куда позже, но суть дела передают.
Габриель Гарсиа Маркес в «Осени патриарха» изобразил латиноамериканского
диктатора наших дней.
Тут уж сходство с петухом признает сам автор, и подчеркивают
литературоведы. Оно во всем: и в постоянной агрессивности «доминантного самца», и в его
готовности покрыть любую попавшуюся на глаза «курицу». Правда, были и высоты,
до которых петуху не взлететь. Так, генералов, замышлявших путч, престарелый
диктатор пригласил на званую трапезу. Слуги вынесли и поставили на
торжественно накрытый стол громадное блюдо. В нем лежал ...жареный главнокомандующий в
полной парадной форме с укропчиком во рту.
Слово «отечество», кстати, на большинстве языков — от слова «отец»;
например, по-немецки, «фатерлянд», по-французски «патри», по-латышски «тевитэ» и
так далее. Смысл для простых смертных прост и естественен: «родина», «земля
отцов». Однако для самодержавных властителей оно означает нечто совсем иное:
Я — отец нации. Посему страна со всеми ее жителями — моя личная
собственность . Что захочу, то с ней и сделаю.
Наследник Людовика XIV — Людовик XV говаривал: После нас — хоть потоп. По
словам гитлеровского министра вооружений Шпеера, Гитлер в конце войны
сознательно пытался добиться, чтобы с ним погибло все. Геббельс в последних
статьях с энтузиазмом приветствовал вражеские бомбардировки: Под обломками наших
городов будут погребены достижения дурацкого XIX века... Немцев призывали
уничтожить свою страну во имя легенды под названием «Сумерки богов». В своей
последней статье «И все-таки это будет» тот же Геббельс писал: Наш конец будет
концом Вселенной... Вот уж, воистину, как в одном школьном сочинении о Тарасе
Бульбе, чем тебя породил, тем тебя и убью!
7.5. Священный трепет
и военный костюм
Энтузиазм. Священный трепет. Кто из современников, живущих в больших горо-
дах, побывавших на митингах последних лет, а, может, и помнящих иные времена:
марширующие полки, торжественную присягу по красным знаменем, рядом со
священным бюстиком Ильича, не испытал хоть раз в жизни этого чувства, не знает,
что такое воодушевление?
Словами К. Лоренца: По спине и — как выясняется при более внимательном
наблюдении, — по наружной поверхности рук пробегает «священный трепет». Человек
чувствует себя над всеми связями повседневного мира: он готов все бросить,
чтобы повиноваться зову Священного Долга. Все препятствия, стоящие на пути к
выполнению этого долга, теряют всякую важность; инстинктивные запреты
калечить и убивать сородичей утрачивают, к сожалению, большую часть своей силы.
Разумные соображения, любая критика или встречные доводы, говорящие против
действий, диктуемых воодушевлением, заглушаются за счет того, что
замечательная переоценка всех ценностей заставляет их казаться не только
неосновательными , но и просто ничтожными и позорными. Короче, как в немецкой поговорке:
«Барабан подскажет мысли там, где знамя вьется».
С этими переживаниями коррелируются объективно наблюдаемые явления:
повышается тонус всех поперечно-полосатых мышц, осанка становится более
напряженной, руки несколько приподнимаются в стороны и слегка поворачиваются внутрь,
так что локти выдвигаются наружу. Голова гордо поднята, подбородок выдвинут
вперед, а лицевая мускулатура создает совершенно определенную мимику, всем
нам известную из кинофильмов, — «героическое лицо». На спине и по наружной
поверхности рук топорщатся кожные волосы — именно это и является объективной
стороной пресловутого «священного трепета».
Лысый самец шимпанзе (слева) и лысый самец человека (справа).
В священности этого трепета и одухотворенности воодушевления усомнится тот,
кто видел соответствующие поведенческие акты самца шимпанзе, который с
беспримерным мужеством выходит защищать свое стадо или семью. Он тоже выдвигает
вперед подбородок, напрягает все тело и поднимает локти в стороны, у него
тоже шерсть встает дыбом, что приводит к резкому и наверняка устрашающему
увеличению контура тела при взгляде спереди. Поворот рук внутрь совершенно оче-
видно предназначен для того, чтобы вывести наружу наиболее заросшую сторону и
тем усилить упомянутый эффект«. Все это, выходит, пугающие демонстрации (см.
3.5), то же, что, например, заглатывание воздуха, приводящее к раздуванию у
мраморной лягушки, вздыбливанье шерсти, изгибание спины и грозное мяуканье у
кошки, взъерошивание перьев у сыча, неожиданная демонстрация врагу коброй —
своего капюшона, а некоторыми ядовитыми лягушками, насекомыми и так далее —
ярко окрашенных участков тела: красного брюха, красных или желтых подкрылий и
тому подобное.
Как уже говорилось, многие ядовитые или несъедобные животные и вообще
окрашены вызывающе ярко: желтые пятна или полосы на черном фоне либо, наоборот, —
черные на желтом или красном, белые полосы по красному или красное с голубым
и зеленым, глазчатые черно-белые пятна. Напомним конкретные примеры:
расцветку ос, пауков-крестовиков, божьих коровок, лесных клопов-»солдатиков«,
саламандр . Такую окраску называют «предупредительной» потому, что она,
действительно , выполняет роль сигнала: «Не трогай, не ешь: ядовито или несъедобно».
Доказано, что разные животные, в том числе приматы, относятся с опаской к
«предупредительно» окрашенным существам, причем в ряде случаев даже без
всякого предварительного обучения.
Все это, в какой-то мере, объясняет назначение боевой татуировки и одеяний
воинов от древнейших времен и до наших дней. Угрожающие контрастные рисунки
на щитах и броне, страусовы перья и конские хвосты на шлемах или, позже, на
киверах, султаны; ярко-красные, синие или черные мундиры с резко
контрастирующими, белыми или желтыми аксельбантами, выпушками, эполетами, перевязями.
У польских гусар в XVII веке за плечами высились громадные «ангельские»
крылья, увеличивавшие контур человеческой фигуры раза в два, но, вероятно,
мешавшие в бою. Только пулемет вынудил воинов всех стран переодеться в мундиры
защитного цвета — аналог защитной покровительственной окраски многих животных
— под окружающий фон.
Полиция в большинстве государств по-прежнему наряжается в мундиры, по
возможности, контрастной расцветки и носит высокие шапки, искусственно
увеличивающие рост. Эполеты и погоны — своего рода искусственные плечи: чем выше и
шире плечи у мужчины, тем сильнее он кажется. Всю фигуру делает с виду более
мощной офицерский китель на ватной подкладке или бронежилет. Шаровары, галифе
утолщают ноги, скрывают их худобу, а фуражка с высокой тульей или кепи,
опять-таки увеличивают рост. И черные очки, о которых тоже мы уже говорили,
превращают физиономии в страшилище: громадные глазные пятна пугают и рыб, и
птиц, и млекопитающих.
Состояние воодушевления подчиняется правилу так называемой суммации
раздражений. Нужна весьма весомая причина, реальная или, чаще, вымышленная, чтобы
привести в это состояние одновременно множество людей.
Лоренцу чем-то сходным с воодушевлением представляется то коллективное
возбуждение, которое овладевает, например, серыми гусями при издаваемых ими
хором особых «триумфальных криках». Такой звук издают в связи с какими-нибудь
важными коллективными действиями, например, перед совместной атакой на
приблизившегося хищника или, в перелетной стае, собираясь подняться в воздух
после роздыха на земле. О кое-каких «воодушевляющих» сигналах у животных и
человека мы еще расскажем в следующей главе (см. «дудочка крысолова»). И у
общественных насекомых, и у многих птиц (чайки, крачки, дрозды, галки и так
далее) , а также млекопитающих (напомним горилл) есть сигналы, возбуждающие
коллективную агрессию. У общественных насекомых это, преимущественно, пахучие
вещества, выделяемые «разгневанными» индивидами в окружающий воздух, но у
прочих, по большей части, звуки. У человека же воодушевление вызывается,
конечно, тоже звуками, причем, главным образом, членораздельными. О том, как
воодушевляются люди, слушая речи политиков, и что в результате этого получа-
ется, мы уже говорили и будем еще говорить, причем отнюдь не обязательно в
ироническом тоне.
Например, какая уж тут уместна ирония? Все величественно и серьезно:
...И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята, не Москва ль за нами?
Умрем же под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали.
И слово верности сдержали
Мы в Бородинский бой...
По К. Лоренцу, в раздражающей ситуации, вызывающей воодушевление,
присутствуют три независимых друг от друга переменных фактора. Первый — нечто, в чем
видят ценность и что надо защищать; второй — враг, который этой ценности
угрожает; и третий — среда тех, с кем человек чувствует себя заодно, когда
поднимается на защиту угрожаемой ценности. К этому может добавиться и какой-
нибудь «вождь», призывающий к «священной» борьбе, но этот фактор менее важен.
Если человеку знакомо множество ценностей и, воодушевляясь ими, он
чувствует себя заодно со всеми людьми, которых так же, как его воодушевляют музыка,
поэзия, красота природы, наука и многое другое, он может реагировать
незаторможенной боевой реакцией только на тех, кто не принимает никакого участия ни
в одной из этих групп.
В этой связи Лоренц приветствует все мирные формы состязания: спорт,
космические полеты, столь связанные с национальным престижем. Многие жалуются на
рассудочность нашего времени, на глубокий скепсис нашей молодежи, — пишет
он7. — Но я надеюсь, даже убежден, что это — результаты здоровой самозащиты
от искусственных идеалов, от воодушевляющей бутафории, в сети которой
попадали люди, особенно молодые, в недавнем прошлом. Я полагаю, что как раз
рассудочность и следует использовать для пропаганды таких истин, которые,
столкнувшись с недоверием, могут быть доказаны числом.
К сожалению, повторим, уподобляясь Кассандре, похоже, что годы рассудочных
поколений опять прошли. Ведь некоторые молодые люди снова, как показал ход
событий последних лет, не прочь отдать свои жизни за какие-нибудь «золотые
сны» человечества, за такие вот эдакие «животворящие идеи», которых, как на
беду, везде в мире ощущается ныне острейший дефицит. Сочетание не из удачных!
7.6. Суррогаты войны или
можно ли лечиться от
военного психоза?
В годы войны был в ходу анекдот. Мальчик пишет отцу на фронт: «Папа, убей
Гитлера, порошковую корову, омлетную курицу и того дядю, который ходит к
маме». Кроме Гитлера, все ненастоящее: вместо природных яиц и молока,
американские порошки по карточкам, вместо настоящего папы — тоже заменитель. И вместо
чайной заварки использовали тогда тертую сушенную морковь, вместо кофе —
молотые желуди, вместо... и так до бесконечности.
После войны суррогаты постепенно вышли из употребления. Но не всегда
заменители — это плохо. Заменители массового военного психоза — спорт,
милитаризация массовых действий, направленных на благотворительность и ликвидацию
последствий экологических катастроф, наконец, борьба, носящая игровой или
полуигровой характер. Примеры: «Зарница», Христианская конфессия Армия спасения с
«Восемь грехов цивилизованного человечества».
ее мундирами, маршевой музыкой, шагистикой, дисциплиной; скаутское движение с
его вечными играми в «индейцев и разведчиков»; турпоходы в труднодоступные
местности. Показателен в этом отношении боксанский гимн наших альпинистов-
«Шуткам не учат в наших лагерях:
Всем нам придется воевать в горах.
Вместо ледоруба взявши автомат,
Мы превратимся в боевой отряд...
А наши футболисты пели:
Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь себе, что за тобою
Полоса пограничная идет...
Футболист, будь готов, будь готов,
Когда настанет время бить врагов...
В старой Руси в обычае были кулачные бои: стенка на стенку. Мирные
нейтральные швейцарцы буквально влюблены в свою армию. Нигде в Европе
милитаризация не носит такого массового, добровольного и всеохватывающего характера
как в этой, более двух веков не воевавшей стране. Регулярные военные сборы
практически всего мужского населения, культ стрельбы в цель, боевое
огнестрельное оружие и военный мундир в каждом доме. Многие швейцарские писатели,
«не нюхавшие пороха», знай себе, пишут о трудностях и радостях военной жизни,
словно других более реальных сюжетов у них не нашлось. Армия в Швейцарии —
подлинно народная и всегда наготове. Только вот вопрос: зачем она нужна
сытым, миролюбивым, благополучным швейцарцам? Примечательно: в полиэтнической и
до зубов вооруженной Швейцарии никогда не бывает серьезных межэтнических
конфликтов !
Другой пример — США, на территории которых войн не было со времен
гражданской «Север-Юг», то есть около полутора веков, а в то же время присутствует
такой неблагоприятный фактор как «вавилонское смешение» рас и этносов.
Учитывая это, следует признать, что американцам здорово удается гасить внутренние
напряжения. Как это достигается? Конечно, никто специально таким вопросом не
занимался. Все получилось как бы само собой, но все-таки... Где еще так
увлекаются брутальными видами спорта: бейсболом, боксом, футболом, хоккеем, яхтами,
мотогонками и пр. , принимая такие игры всерьез, как цель жизни? Где еще так
часто рискуют собой в спортивных состязаниях? Где еще столь популярны
странные для нас комиксы, фильмы и телепрограммы «пиф-паф» с реками крови,
десятками убитых и покалеченных за каких-нибудь полчаса? Где еще в мире скоплено
столько личного оружия? Где еще так часто под звуки воинственных маршей, с
развевающимися знаменами и в подобиях военных мундиров по улицам дефилируют
строем, в ногу, то борцы за права животных, то общество помощи детям-дебилам
или какой-нибудь охотничий клуб?
И, тем не менее, убийств и насилий, совершаемых ежегодно, в сытых и
благополучных США, в несколько раз больше, чем в нашей стране, даже теперь, в годы
нашего ужасающего экономического кризиса. В частности, американцы давно уже
страдают от напасти, которая только недавно появилась и у нас: молодежь
объединяется в банды, специально для того, чтобы воевать друг с другом! То и дело
в США вспыхивают кровавые массовые беспорядки на расовой почве, вроде
происходивших в Лос-Анжелосе в 1992 году. Там поводом послужило оправдание в суде
белого полицейского, избившего шофера-негра. Поражает, однако, бессмысленно-
жестокий характер ответной реакции. Возмущенная толпа растерзала несколько
десятков ни в чем не повинных эмигрантов из восточной Азии, подожгла
множество зданий, вырубила деревья на улицах своего же собственного города! Есть о
чем задуматься!
Еще на большие размышления наводит Латиноамериканский континент, где
серьезных межгосударственных столкновений не было более полутора веков, со времен
обретения независимости государствами региона. Всех наших знакомых,
побывавших там впервые после поездок в Западную Европу и США, поразило обилие
военных. Практически в любой латиноамериканской стране люди в мундирах и при
оружии попадаются на каждом шагу и удивительного в этом мало. Ведь в одних из
тамошних стран только что сорвались попытки военного переворота, в других он,
наоборот, удался, в третьих воюют с наркомафией или с разного рода красными
партизанами, в четвертых предъявляют территориальные претензии к соседям.
Нормальной же и спокойной обстановки нет, да и никогда не было почти нигде.
Как не вспомнить в этой связи строчки из «1867» И. Бродского:
Презренье к ближнему у нюхающих розы
Пускай не лучше, но честней гражданской позы.
И то, и это порождает кровь и слезы.
Тем паче в тропиках у нас,
Где смерть, увы,
Распространяется как мухами зараза,
Иль как в кафе удачно брошенная фраза,
И, где у черепа в кустах всегда три глаза,
И в каждом - пышный пучок травы.
В больших и уже полека не воевавших западноевропейских государствах в
последнее время все «неадекватнее» ведет себя молодежь. Мы уже об этом писали.
В Англии, например, это проявляется в неожиданных вспышках насилия на
стадионах, где болельщики подчас затевают драки, кончающиеся многочисленными
убийствами, а также после рок-концертов. В провинциальных городках, где много
безработных, затеваются побоища между местной и эмигрантской молодежью, а
также бессмысленные погромы: битье витрин, поджоги.
В Германии после объединения толпы бритоголовых юнцов, очень часто
поджигают общежития иностранных беженцев, нападают на иностранцев на улицах,
избивают их, а иногда и убивают. На вопрос в полицейском участке: «Почему вы это
делали?» — большинство отвечают: «Со скуки». Как мы уже отметили, во многих
Западных странах возрос интерес молодежи ко всему военному: фильмам, книгам,
репортажам. Иные газеты задаются вопросом: «Что за дьявол вселился в наших
молодых людей?»
По нашему мнению, имя этому «дьяволу» — военный инстинкт, который ищет себе
выхода в разного рода «заменителях» войны. Все это несколько напоминает ранее
упомянутые эксперименты с колюшкой, которой вместо настоящей брачной пары
подсовывают муляж.
«Хлеба и зрелищ!» — вопила древнеримская чернь. В основном, это были
воинственные и кровавые зрелища: гладиаторские бои, звериные травли, конские
ристания, на которых возницы очень часто разбивались насмерть, состязания
атлетов . В цирке болельщики за «синих» и «зеленых» колесничих постоянно затевали
побоища. Следует отметить, что, хотя древние римляне были одной из самых
воинственных наций в истории человечества, их городская толпа состояла,
преимущественно, из никогда не воюющих людей: мелких ремесленников и торговцев,
деклассированных элементов, причем, не только граждан, но также
вольноотпущенников и рабов. Ношение военного костюма и оружия в черте города было
запрещено за исключением совершенно особых случаев, как, например, во время военных
триумфов. Свою потребность в солидарности люди удовлетворяли во всевозможных
коллегиях (печников, булочников, ювелиров и пр.), а воинственный пыл, надо
полагать, разряжался в сопереживании и массовых буйствах при созерцании воин-
ственных зрелищ. Именно так можно понять то громадное внимание, которое
уделяли этим зрелищам римские государственные деятели. Вот несколько примеров из
«Жизни двенадцати цезарей» Светония Транквилла.
О Юлии Цезаре:
Зрелища он устраивал самые разнообразные: и битву гладиаторов, и
театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в
цирке, и состязания атлетов, и морской бой. ...Звериные травли продолжались пять
дней; в заключение была показана битва двух полков по пятьсот пехотинцев,
двенадцать слонов и триста всадников с каждой стороны... Для морского боя было
выкопано озеро на малом Кодетском поле: в бою участвовали биремы, триремы и
квадриремы тирийскохю и египетского образцов со множеством бойцов...
Об императоре Августе:
В отношении зрелищ он превзошел всех предшественников: его зрелища были
более частые, более разнообразные, более блестящие... Театральные представления
он иногда устраивал по всем кварталам города, на многих подмостках, на всех
языках; гладиаторские бои — не только на форуме или в амфитеатре... морской бой
на пруду, выкопанном за Тибром... В дни этих зрелищ он расставлял по Риму
стражу, чтобы уберечь обезлюдевший город от грабителей...
Об императоре Клавдии:
...Гладиаторские битвы показывал много раз и во многих местах... На Марсовом
поле он дал военное представление, изображавшее взятие и разграбление города,
а потом покорение британских царей... перед спуском Фуцинского озера он устроил
на нем морское сражение... сражались в этом бою сицилийский и родосский флот,
по двенадцать трирем каждый... Заметим: сражения были всамделишные. Не даром их
участникам перед боем полагалось кричать:
— Император, идущие на смерть приветствуют тебя!
Что же касается зрителей, то их внимание настолько поглощали зрелища, что,
право же, было не до политики. В римских гражданских войнах сражались,
преимущественно, регулярные армии, состоявшие из профессиональных солдат.
Мирному населению было более или менее все равно, кто одержит верх. Характерно,
что, организуя массовые зрелища, римские императоры в то же самое время
всемерно противодействовали скоплению простых людей в тех местах, где могут
возникать непринужденные беседы. Так, многократно предпринимались попытки
запретить коллегии и всячески ограничивалось время пребывания посетителей в
харчевнях: велели уменьшить их число, запрещали подавать в них горячую пищу,
подсылали туда соглядатаев. Аналогия с нашим недавним прошлым совершенно
очевидна. При Сталине в наших ресторанах были установлены микрофоны и кишели
агенты ГБ.
Надеемся, читателям понятно, почему в этом тексте мы помянули столь
отдаленные времена?
Современные испанцы безумствуют не только, как и прочие западные люди,
глядя футбольные баталии, но и на своей кровавой корриде. В былые века
гигантские толпы сбегались там глазеть аутодафе — массовое сожжение еретиков! В
ряде стран Юго-Восточной Азии мужчины растрачивают свой воинственный пыл на
петушиных боях, заключают там пари, иной раз, затевают массовые кровавые драки.
Разные варианты рок-музыки в последние годы — предлог для разделения ее
любителей на враждующие между собой группы. Объединения болельщиков,
спортклубы... Милитаризация природоохранных действий. На наш «непросвещенный
взгляд», такого рода общественные явления могут пониматься как своего рода
«извращения» военного инстинкта» и в этом отношении, скорее уж, приносят
пользу, чем вред. Все-таки, господа, согласитесь: любые «заменители» войны
лучше, чем сама война, если помогают хоть в какой-то мере «спустить пар»,
погасить нарастающую агрессивность и потребность в военных действиях, которых
подсознательно алчут мужские души. Перефразируя старую поговорку, скажем: чем
бы дитя ни тешилось, лишь бы не воевало.
О , государство, истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клети крадутся века,
По колизею бродят звери.
И проповедника рука
Бесстрастно крестит клеть сырую,
Пантеру верой дрессируя.
И вечно делается шах1
От римских цирков к римской церкви.
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт...
(Б. Пастернак, «Лейтенант Шмидт»)
(ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)
Разное
ТИХОХОДКИ И КОЛОВРАТКИ
Тихоходки
Знакомьтесь, тихоходки - это одни из самых выносливых существ на
нашей планете. Они выживают до десяти лет без воды, способны
выжить при -271°С в жидком гелии и при +100°С в кипятке,
выдерживают в 1000 раз большую дозу радиации, чем человек, и даже уже
побывали в открытом космосе! Они бы правили планетой, если бы не
два НО. Во-первых, они очень маленькие (от 0,1 до 1,5
миллиметра) . А во-вторых, тихоходки очень медленные.
Тихоходки (лат. Tardigrada) — тип микроскопических беспозвоночных, близких
к членистоногим. Экстремофилы.
Впервые это животное было описано в 1773 году немецким пастором И. А. Гёце
как Kleiner Wasserbar (маленький водяной медведь). В 1777 году итальянский
учёный Ладзаро Спалланцани дал им название il tardigrado, тихоходки,
латинизированной формой которого является название Tardigrada (с 1840 года).
Тихоходки привлекли внимание уже первых исследователей своей поразительной
выносливостью. При наступлении неблагоприятных условий они способны на годы
впадать в состояние анабиоза; а при наступлении благоприятных условий
довольно быстро оживать. Выживают тихоходки в основном за счёт так называемого ан-
гидробиоза, высушивания. При высыхании они втягивают в тело конечности,
уменьшаются в объёме и принимают форму бочонка. Поверхность покрывается
восковой оболочкой, препятствующей испарению. При анабиозе их метаболизм падает
до 0,01 %, а содержание воды способно доходить до 1 % от нормального.
В состоянии анабиоза тихоходки выносят невероятные нагрузки:
• Температура. Выдерживают пребывание в течение 20 мес. в жидком воздухе
при -193 °С, восьмичасовое охлаждение жидким гелием до -271 °С; нагрев
до 60—65 °С в течение 10 ч и до 100 °С в течение часа.
• Ионизирующее излучение в 570 000 рентген убивает примерно 50 %
облучаемых тихоходок. Для человека смертельная доза радиации составляет всего
500 рентген.
• Атмосфера: Выживали после получасового пребывания в вакууме. Довольно
долго могут находиться в атмосфере сероводорода, углекислого газа.
• Давление: В эксперименте японских биофизиков «спящих» тихоходок помещали
в герметичный пластиковый контейнер и погружали его в заполненную водой
камеру высокого давления, постепенно доведя его до 600 МПа (около 6000
атмосфер) , что почти в 6 раз выше уровня давления в самой низкой точке
Марианской впадины. При этом неважно, какой жидкостью был заполнен
контейнер: водой или нетоксичным слабым растворителем перфторуглеродом C8Fi8
— результаты по выживаемости совпадали.
• Открытый космос: В эксперименте шведских учёных тихоходок видов
Richtersius coronifer и Milnesium tardigradum разделили на три группы.
Одна из них по прибытии на орбиту оказалась в условиях вакуума и была
подвергнута воздействию космической радиации. Другая группа, кроме
этого, также подверглась облучению ультрафиолетом А и В (280—400 нм) .
Третья группа животных испытала воздействие полного спектра ультрафиолета
(116—400 нм) . Все тихоходки находились в состоянии анабиоза. После 10
дней, проведённых в открытом космосе, практически все организмы были
иссушены, но на борту космического аппарата тихоходки вернулись к
нормальному состоянию. Большинство животных, подвергшихся облучению
ультрафиолетом с длиной волны 280—400 нм, выжили и оказались способны к
воспроизводству. Однако ультрафиолетовое облучение оказало критическое
воздействие, лишь 12 % животных третьей группы выжили, все они принадлежали к
виду Milnesium tardigradum. Тем не менее, выжившие смогли дать
нормальное потомство, хотя их плодовитость оказалась ниже, чем у контрольной
группы, находившейся на Земле. Все животные из третьей группы погибли
через несколько дней после возвращения на Землю.
• Влажность: известен случай, когда мох, взятый из пустыни спустя
приблизительно 120 лет после его иссушения, поместили в воду, и находившиеся в
нём тихоходки ожили и были способны к размножению.
В настоящее время известно более 900 видов тихоходок (в России — 120
видов) . Из-за микроскопических размеров и способности переносить
неблагоприятные условия распространены они повсеместно, от Гималаев (до 6000 м) до
морских глубин (ниже 4000 м). Тихоходок находили в горячих источниках, подо
льдом (например, на Шпицбергене) и на дне океана. Распространяются они
пассивно — ветром, водой, различными животными. Все тихоходки в некоторой
степени являются водными животными. Примерно 10 % — морские обитатели, другие
встречаются в пресноводных водоёмах, однако большинство населяет моховые и
лишайниковые подушки на земле, деревьях, скалах и каменных стенах. Количество
тихоходок во мхе может быть очень велико — сотни, даже тысячи особей в 1 г
высушенного мха.
Тело у тихоходок имеет размер 0,1—1,5 мм, полупрозрачное, из четырёх
сегментов и головы. Снабжено 4 парами коротких и толстых ног с 4—8 длинными ще-
тинковидными коготками на конце, причём последняя пара ног направлена назад.
Передвигаются тихоходки действительно очень медленно — со скоростью всего 2—3
мм в минуту. Ротовые органы — пара острых «стилетов», служащих для
прокалывания оболочек клеток водорослей и мхов, которыми тихоходки питаются. Тихоходки
имеют пищеварительную, выделительную, нервную и половую системы; однако у них
отсутствуют дыхательная и кровеносная системы — дыхание кожное, а роль крови
выполняет заполняющая полость тела жидкость. Систематическое положение
тихоходок дискуссионно. Большинство авторов сближают их с настоящими
членистоногими (Euarthropoda). Помимо этого, их могут сближать либо с нематодами
(Nematoda), либо с кольчатыми червями (Annelida).
Раздельнополы. Самцы тихоходок мельче самок и встречаются редко, поэтому
возможен партеногенез, то есть размножение самок без оплодотворения. Во время
периода размножения у самки созревает от 1 до 30 яиц. Оплодотворение
внутреннее или внешнее, когда самец откладывает сперму на кладку яиц. У одних видов
яйца откладываются в грунт, в мох или воду, у других — в сброшенную при
линьке шкурку. Развитие прямое, молодая тихоходка отличается от взрослой только
меньшими размерами.
Питаются тихоходки жидкостями растений и водорослей, на которых обитают.
Некоторые виды поедают мелких животных — коловраток, нематод, других
тихоходок . В свою очередь служат добычей для клещей и ногохвосток.
Коловратки
Коловратки способны переносить длительное высыхание и
замораживание . На снимке — антарктическая бделлоидная коловратка
Philodina gregaria, оттаявшая и ожившая после многих лет
пребывания во льду.
Половое размножение повышает эволюционную стабильность видов, и его утрата
(переход к бесполому размножению) обычно ведет к быстрому вымиранию. Однако
бделлоидные коловратки, утратившие половое размножение десятки миллионов лет
назад, до сих пор остаются процветающей группой, насчитывающей около 400
видов . Как выяснилось, у бесполых организмов отсутствие генетического обмена
между особями отчасти компенсируется тем, что разные варианты (аллели) одного
и того же гена могут приобретать разные функции и фактически становиться
разными генами, что повышает приспособляемость вида.
Коловратки (Rotifera) — разнообразная и вездесущая группа мельчайших
многоклеточных животных, преимущественно пресноводных, но встречающихся также в
море, влажной почве, вообще везде, где есть хоть немного влаги. Бделлоидные
коловратки (тип Rotifera, класс Bdelloidea, от греч. bdella — «пиявка»)
названы так из-за особой манеры передвижения, напоминающей пиявок: они
прикрепляются к субстрату передним концом, подтягивают задний конец (ногу), затем
разгибаются, прикрепляются передним концом в новом месте и т. д.
Бделлоидные коловратки, возможно, являются самыми древними из бесполых
многоклеточных животных. Другие коловратки, относящиеся к классу Monogononta,
чередуют партеногенетическое размножение с половым: в благоприятных условиях
самки производят на свет только самок, а при ухудшении условий в популяции
появляются также и самцы. У бделлоидных коловраток половое размножение
полностью утрачено, самцы никогда не наблюдались. Эта группа появилась как минимум
40, а может быть и 100 млн. лет назад (первая датировка — по
палеонтологическим данным, вторая — по «молекулярным часам»). По всей видимости, утрата
полового размножения произошла еще в период становления группы.
Бделлоидная коловратка Adineta ricciae.
Известно около 1500 видов коловраток, в России — около 600 видов. В
основном это пресноводные обитатели, но также они водятся в море и влажных почвах.
Большинство коловраток свободноподвижные, но есть и прикреплённые формы.
Подавляющее большинство видов свободноживущие, но встречаются также паразиты и
комменсалы.
По размеру коловратки не превышают 2 мм (в среднем гораздо меньше) .
Представитель этого типа Ascomorpha minima — самое мелкое многоклеточное
животное, размер его составляет около 40 микрон. В связи с малыми размерами ткани
часто приобретают синцитиальное строение. Для типа в целом характерна эутелия
— постоянство клеточного состава, то есть постоянное число клеток у всех
особей одного вида. Некоторые коловратки способны впадать в криптобиоз.
Коловратки раздельнополы. Половая система самки представлена цельным (кл.
Monogononta) или двулопастным (кл. Bdelloidea = Digononta) яичником, лежащим
в задней части тела, под кишкой. Яичник подразделён на часть собственно
продуцирующую яйцеклетки и желточник. От яичника отходит короткий яйцевод,
впадающий в клоаку. Самцы обладают единственным семенником; от него отходит
семяпровод, дистальная часть которого проходит в выворачивающемся копулятивном
органе.
В разных систематических группах коловраток половой диморфизм выражен по-
разному. Так у представителей класса Seisonidea самцы и самки не слишком
различаются по внешнему виду. Напротив, у коловраток из класса Monogononta самцы
карликовые, не питающиеся, и из внутренних органов у них представлена только
гонада. У представителей класса Bdelloidea (Digononta) самцы вовсе
отсутствуют, а размножение идёт только путём партеногенеза.
Развитие прямое, без метаморфоза. Дробление очень рано становится
билатерально-симметричным. После периода эмбрионального развития клетки перестают
делиться — с этим связано постоянство клеточного состава коловраток (также
из-за этого у коловраток отсутствует способность к регенерации).
Жизненный цикл представляет собой гетерогонию, то есть чередование партено-
генетического и полового размножения.
В стабильных, благоприятных условиях в популяции присутствуют только самки,
которые размножаются партеногенезом, то есть производя на свет таких же
самок. В неблагоприятных же условиях (например, угроза пересыхания водоёма,
приближение морозов) появляются гаплоидные самцы, оплодотворяющие самок, в
результате чего образуются «зимние» или покоящиеся яйца с толстой защитной
оболочкой. Из этих яиц выходят впоследствии (при наступлении благоприятных
условий) партеногенетические самки, и цикл повторяется.
Некоторые классы коловраток (например, бделлоидные — Bdelloidea) десятки
миллионов лет обходятся без полового размножения. Удивительно, но в
отсутствие этого важнейшего, как традиционно считается, фактора изменчивости, эти
классы обогащаются десятками новых видов. Предположительно — из-за
способности использования генов других мелких существ.
Оказалось, что каждый десятый ген у коловраток позаимствован у других видов
— бактерий, простейших и грибов. Исследователи полагают, что способность
красть гены помогла коловраткам жить без полового размножения и переносить
экстремальные условия среды.
На протяжении 80 млн. лет бделлоидные коловратки (Bdelloidea) размножаются
партеногенезом: все особи у них женского пола, и радостей полового процесса
они не знают. В этом смысле Bdelloidea чрезвычайно смущают биологов, ведь
известно , что виды без полового размножения долго не живут. Половое размножение
обеспечивает перемешивание генов от разных особей, из-за чего потомки
получают возможность выстоять в меняющихся условиях среды, в чём им помогают
разнообразные генетические комбинации. Но как тогда быть с коловратками?
Знаменитый британский исследователь Джон Мейнард Смит настолько был смущён этой
способностью коловраток жить исключительно партеногенезом, что назвал их
«эволюционным скандалом».
И это не единственное, чем удивительны коловратки. Они могут, например,
переносить огромные дозы радиации. Они живут исключительно в воде, но при этом
стойки к многолетним засухам (рекорд составил 9 лет) . Они выглядят прямо
какими-то супергероями — и это в отсутствие полового размножения и, казалось
бы, без генетических предпосылок для такого супергеройства. Со временем,
однако, биологи начали понимать, как коловратки обеспечивают себе необходимое
генетическое разнообразие.
В 2008 году было обнаружено, что их ДНК содержит странные
последовательности, которые к коловраткам явно не относятся. После этого исследователи из
Кембриджа (Великобритания) предприняли более тщательное изучение генома бдел-
лоидной коловратки Adineta ricciae, открытой в одном из водоёмов Австралии.
Оказалось, что целых 10% работающих генов у коловраток позаимствованы у
других видов. Исследователи подчёркивают: именно работающих генов, то есть речь
идёт не о той ДНК, которую когда-то похитили и теперь она спит без дела в
дальних уголках генома. Напротив, эта ДНК у коловраток активно трудится.
Удивляет число видов, которым коловратки, так сказать, залезли в карман: их в
общей сложности оказалось около 500. Пострадавшими были преимущественно
бактерии, простейшие, грибы и растения.
Большая часть генов, позаимствованных коловратками, кодирует ферменты,
которые широко используются бактериями и простейшими, но никогда — более
сложными организмами. Так, два бактериальных гена из коллекции коловраток нужны
для синтеза фермента, расщепляющего бензилцианид. Ещё два, взятых у
паразитических простейших, нужны для предотвращения клеточных повреждений. Почти 40%
всей ферментативной активности коловраток относится к чужим ферментам.
Таким образом, коловратки вовсе не ставят под сомнение то, что для
успешного выживания вида необходима генетическая изменчивость. Просто этой
изменчивости они добиваются не половым размножением, а вот таким своеобразным
способом. Очевидно, это генетическое рагу также обеспечивает коловраток их
суперспособностями по выживанию в экстремальных условиях. Правда, исследователям
ещё предстоит выяснить, как коловраткам удаётся так легко заимствовать чужие
гены, и как они согласуют между собой всю эту массу разнородного
генетического материала.