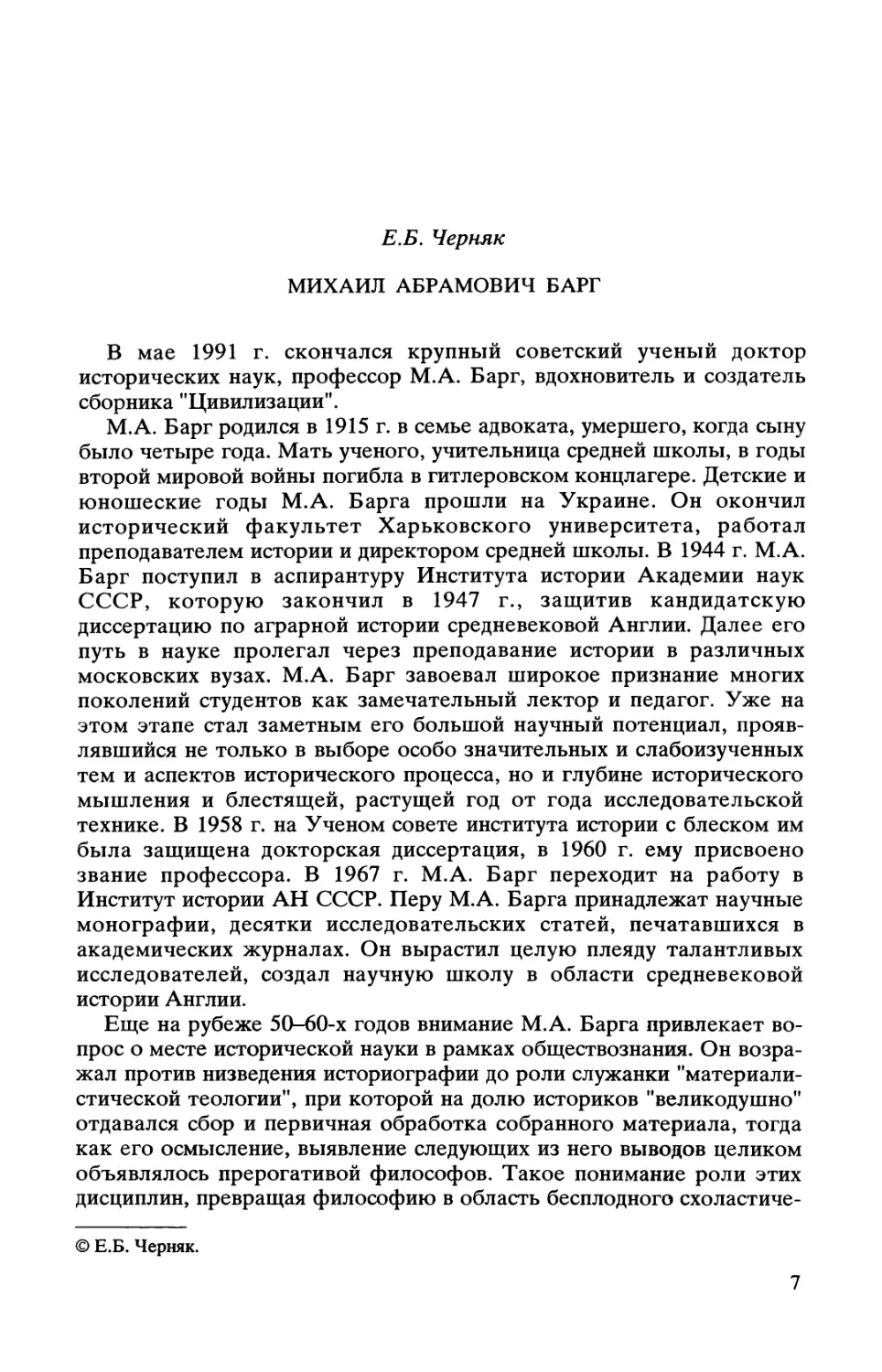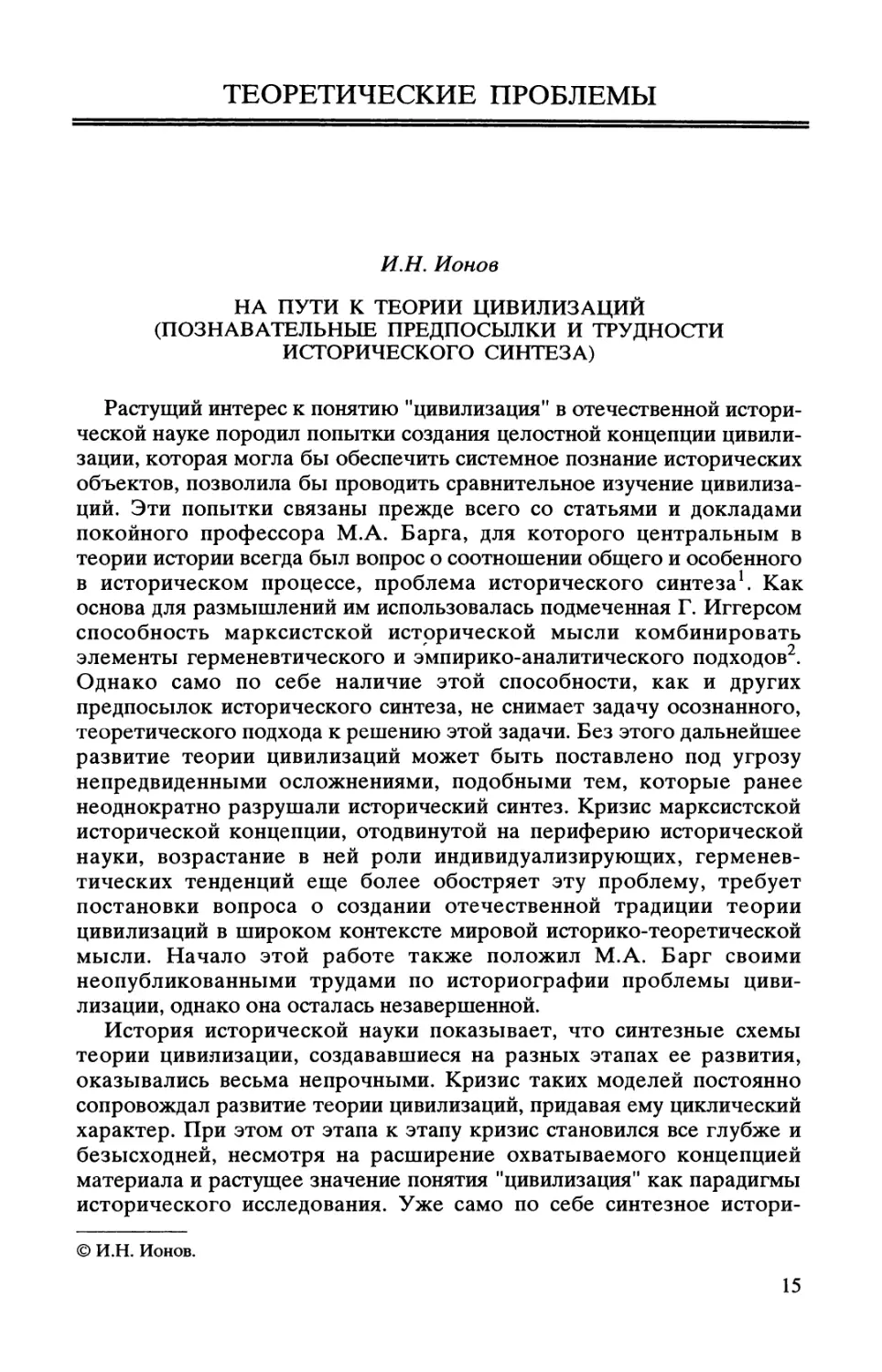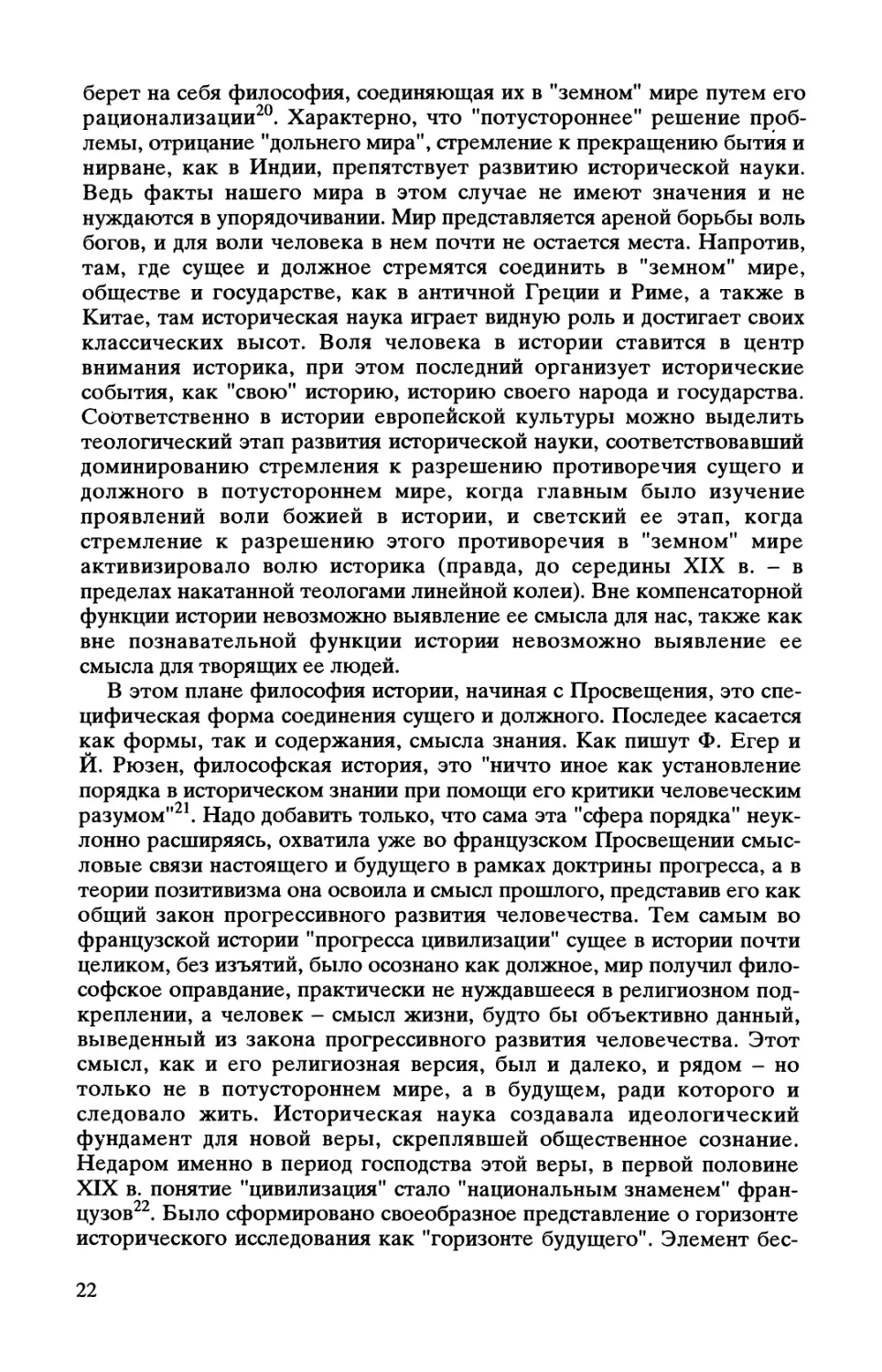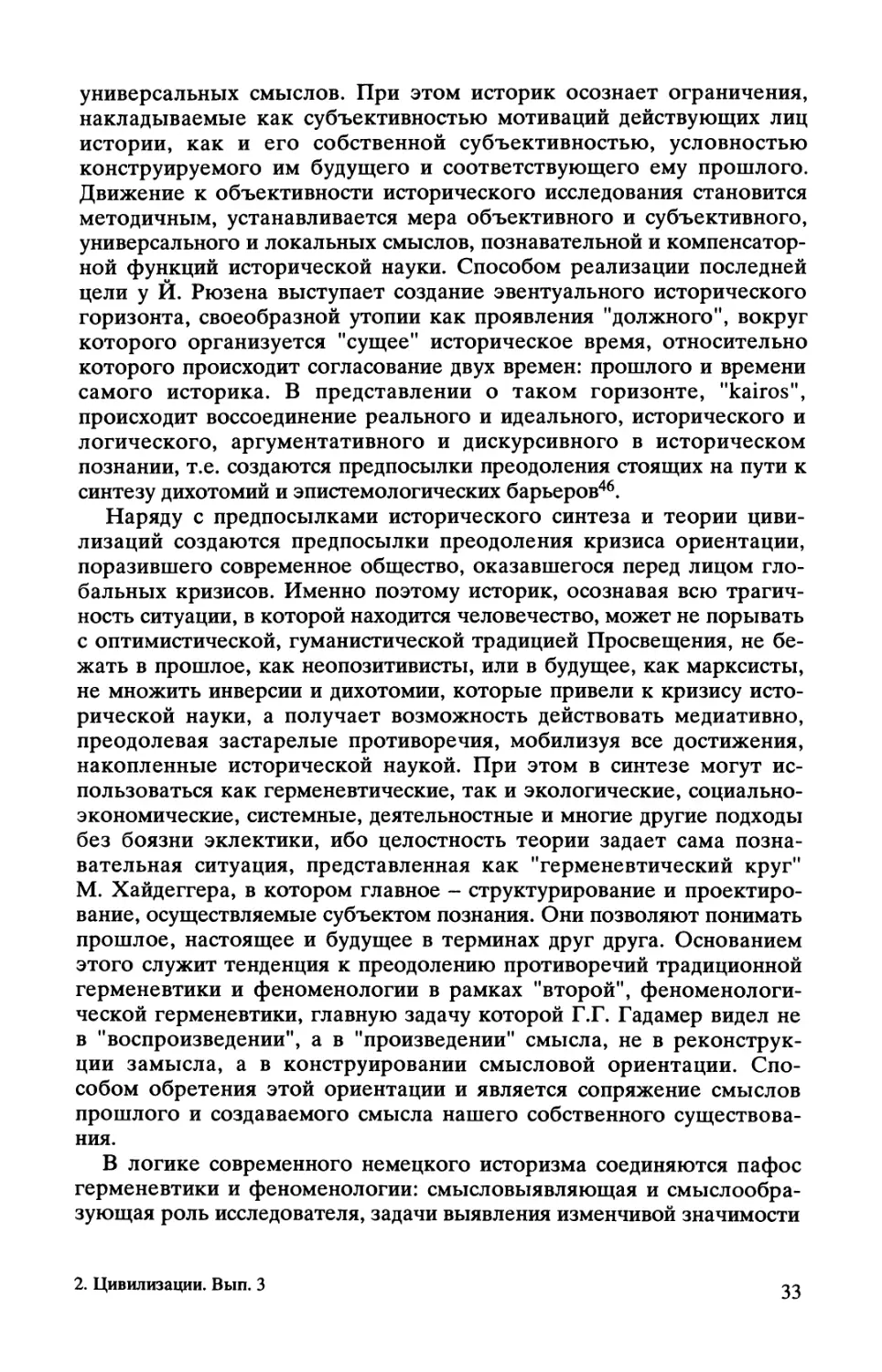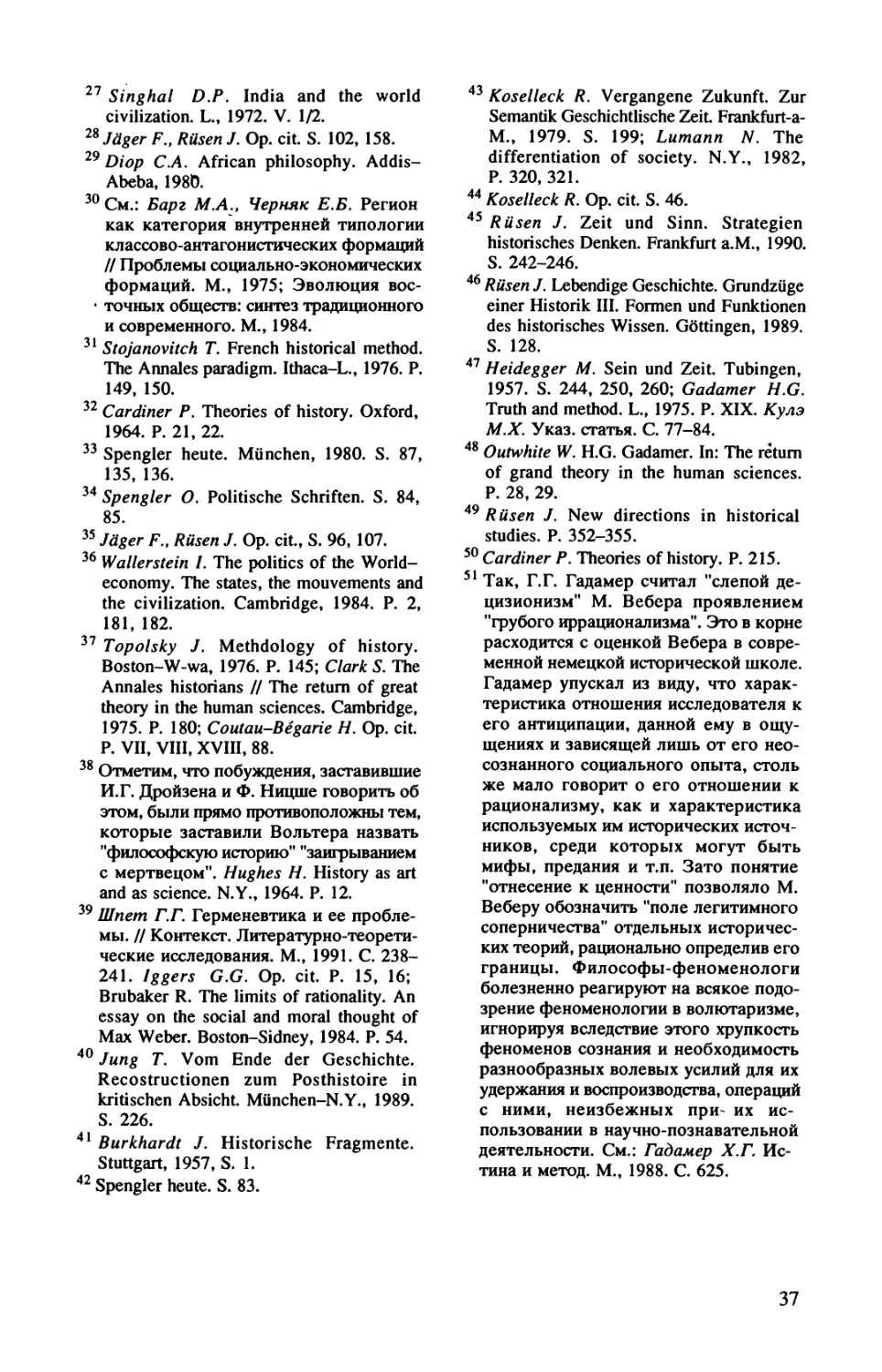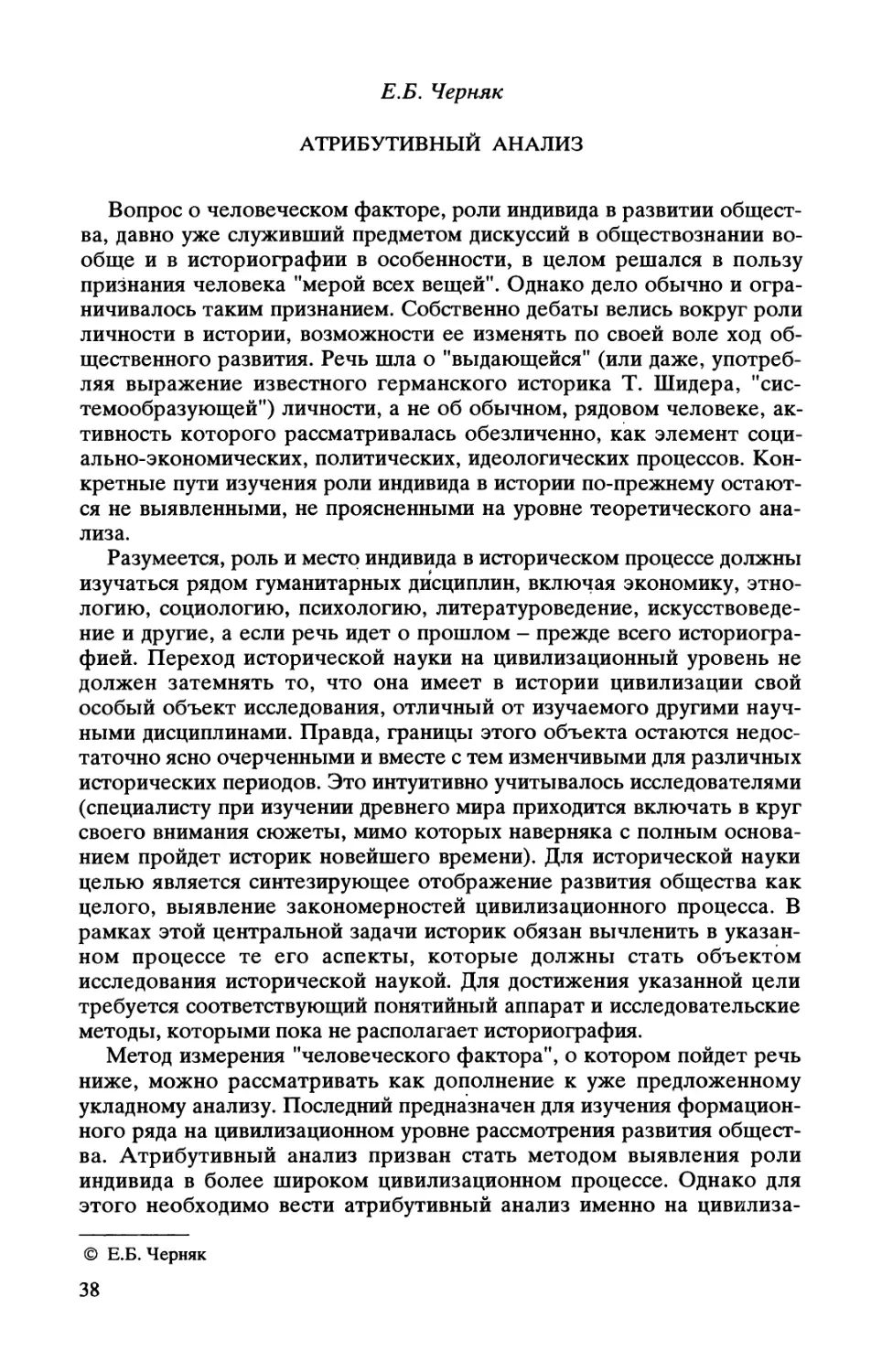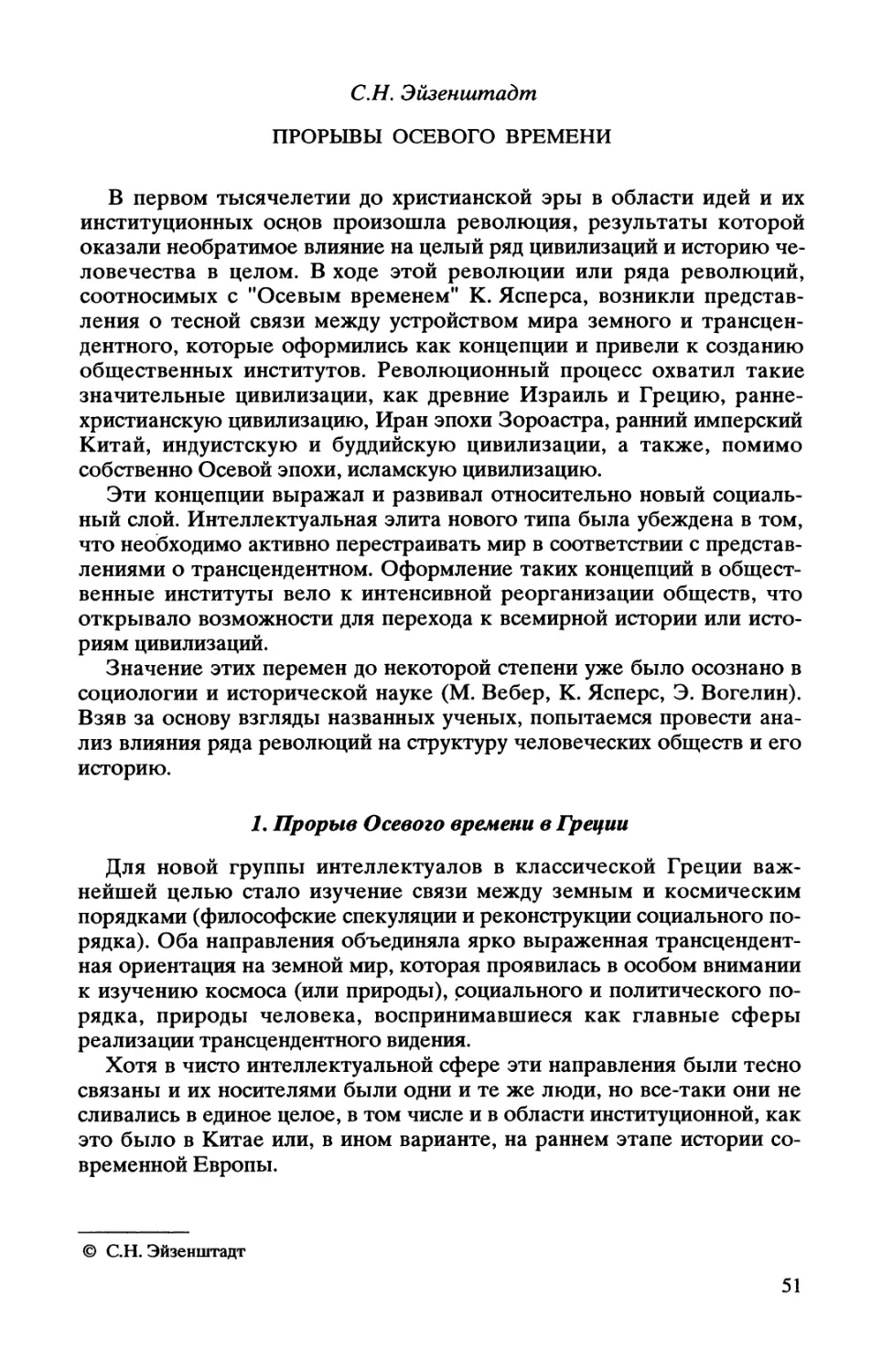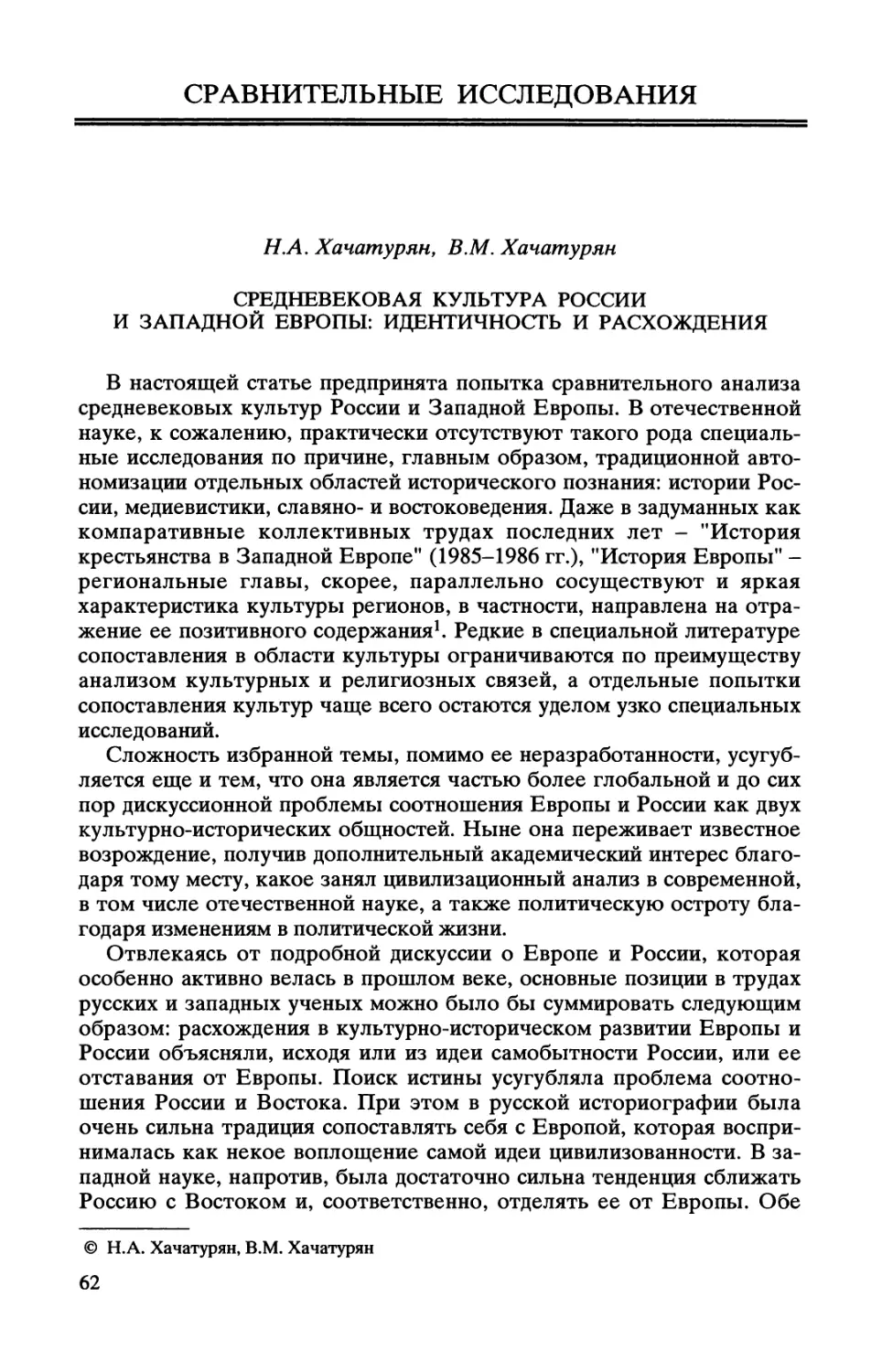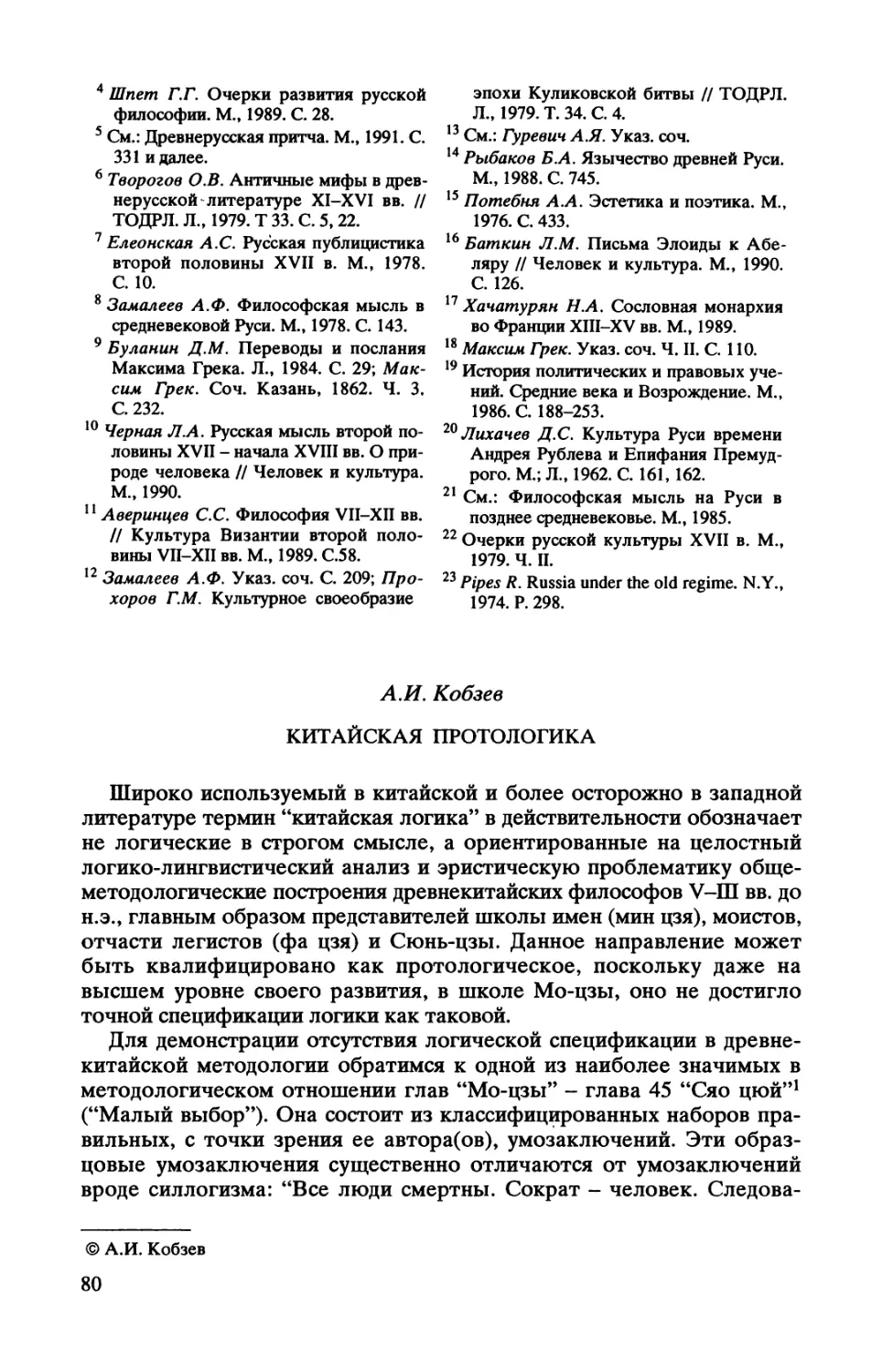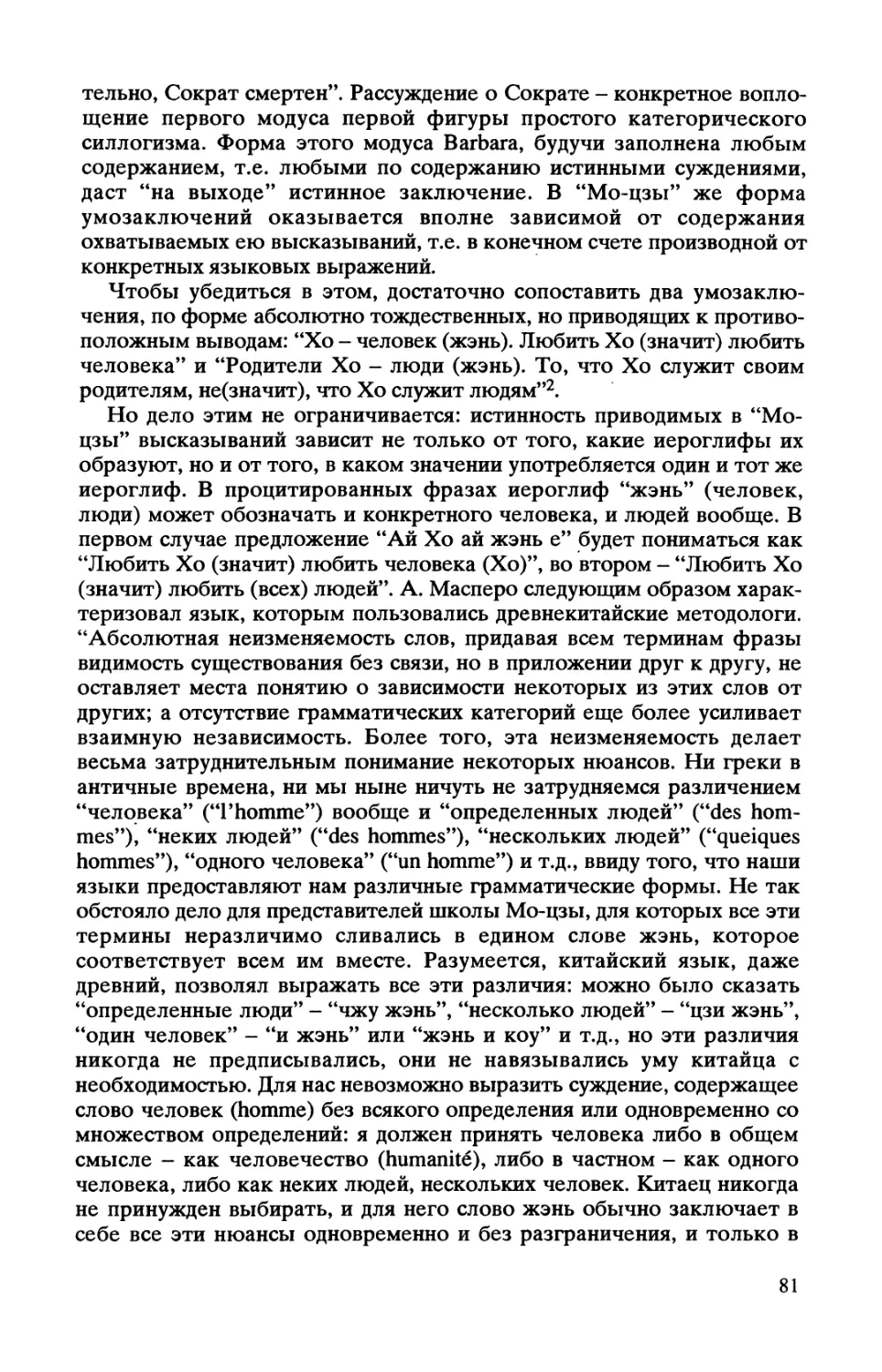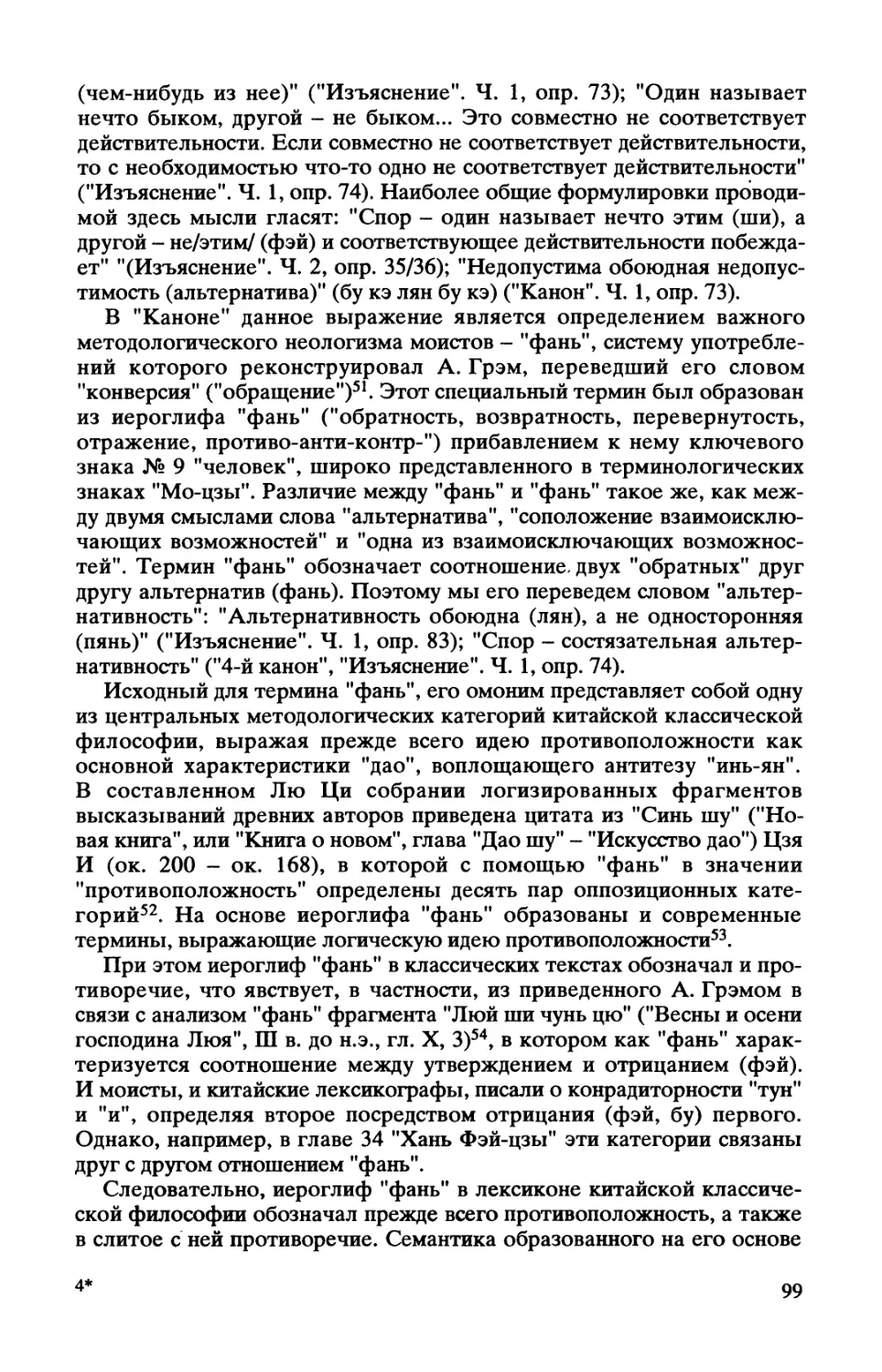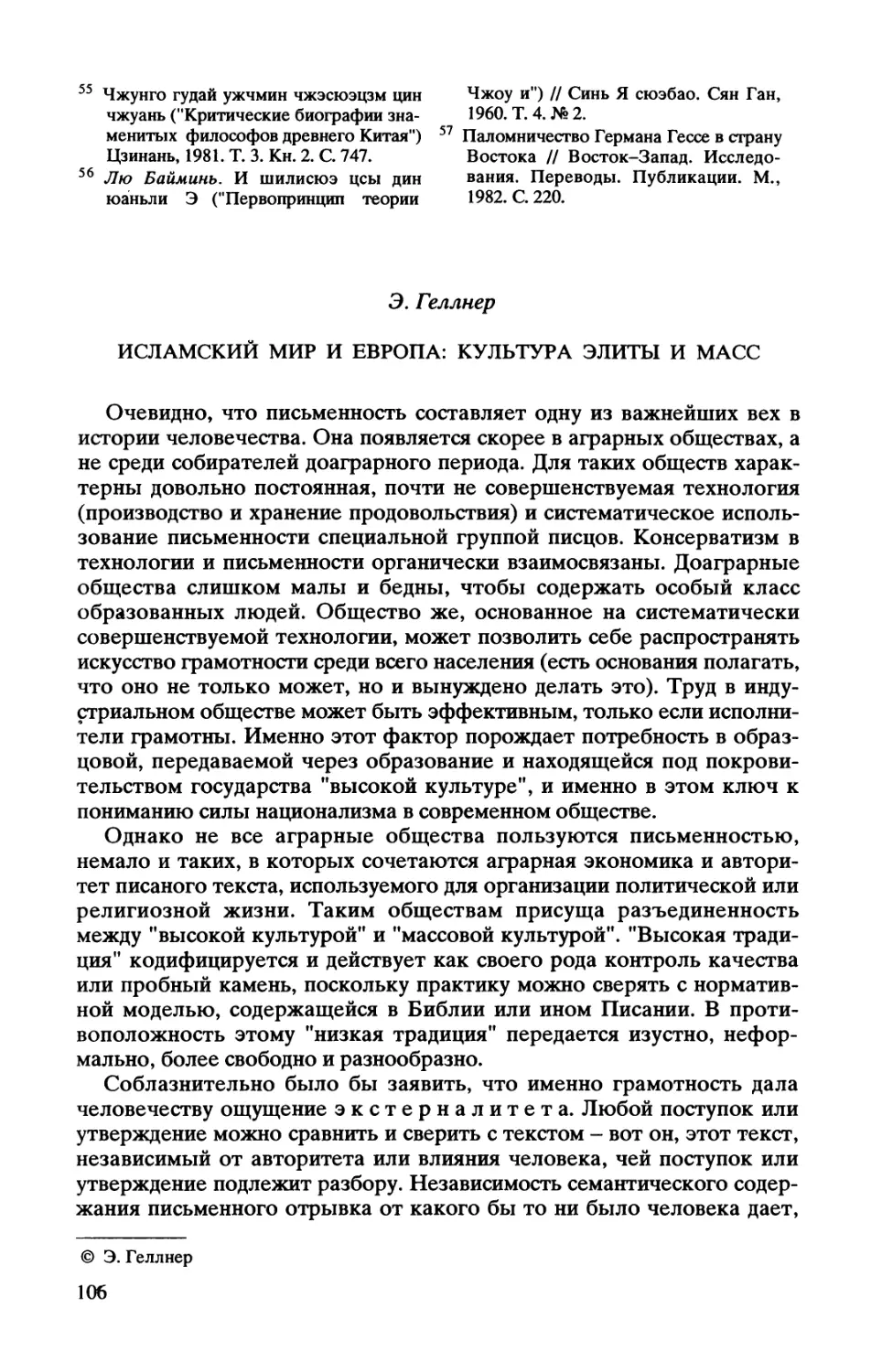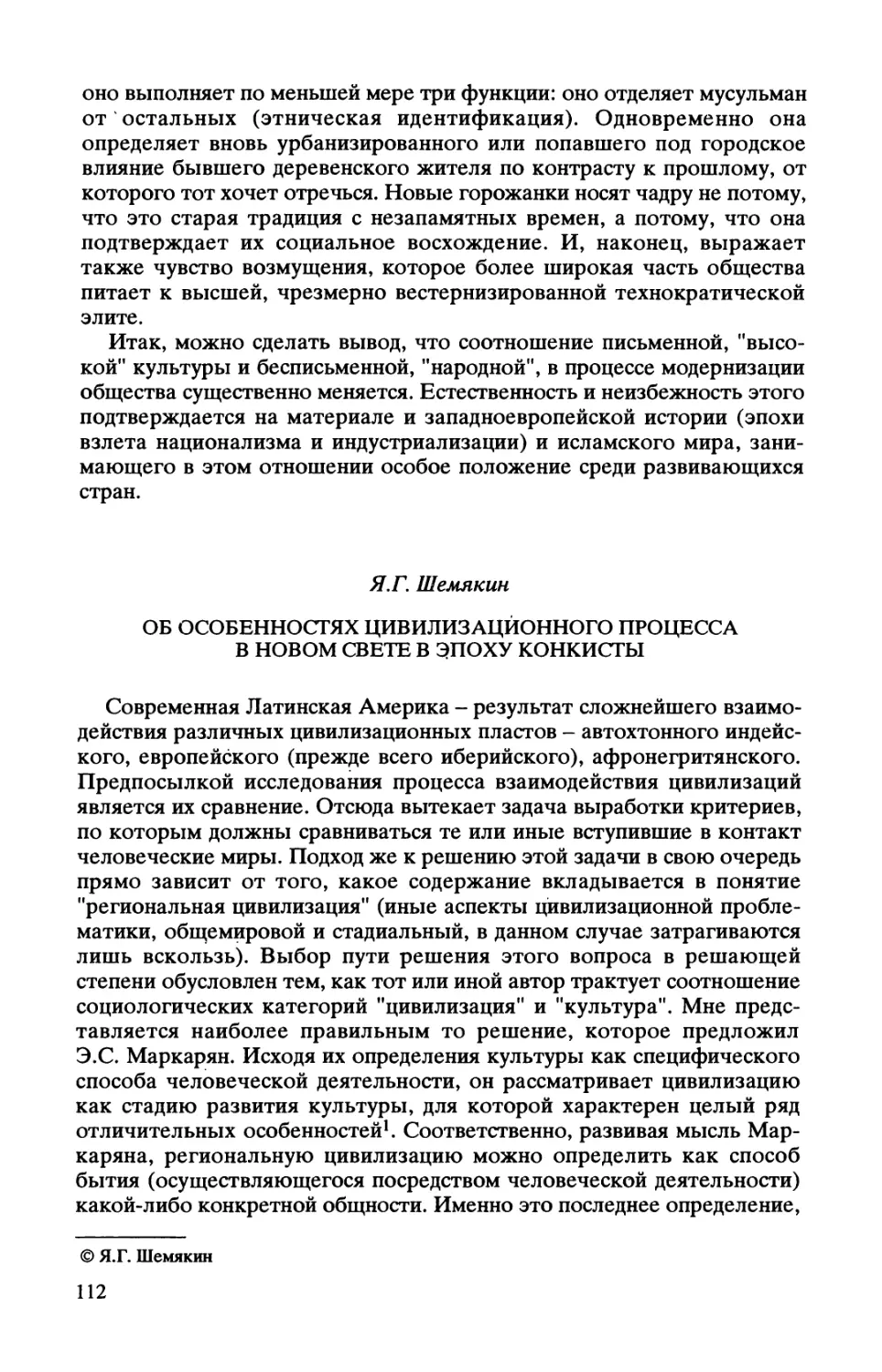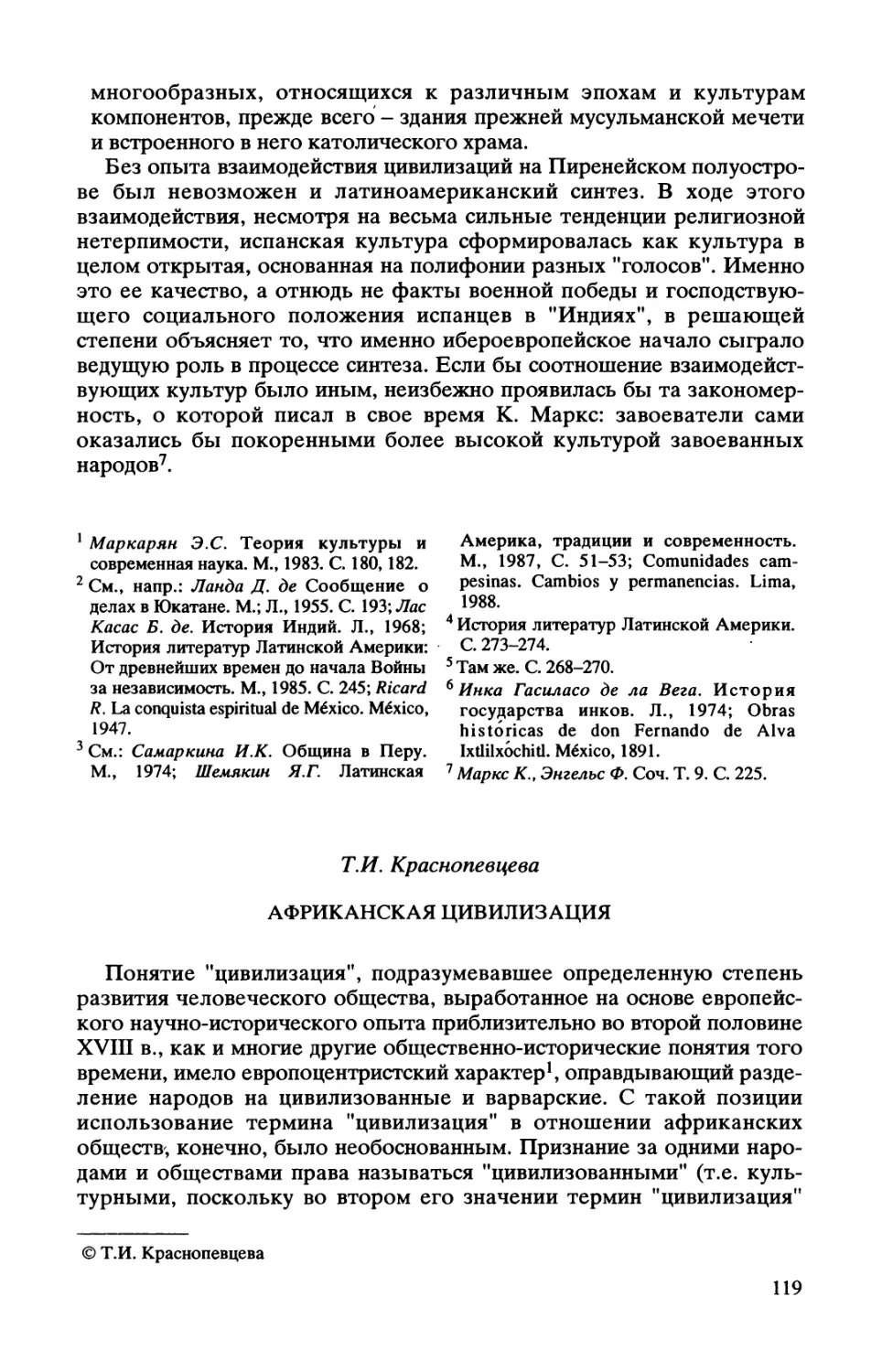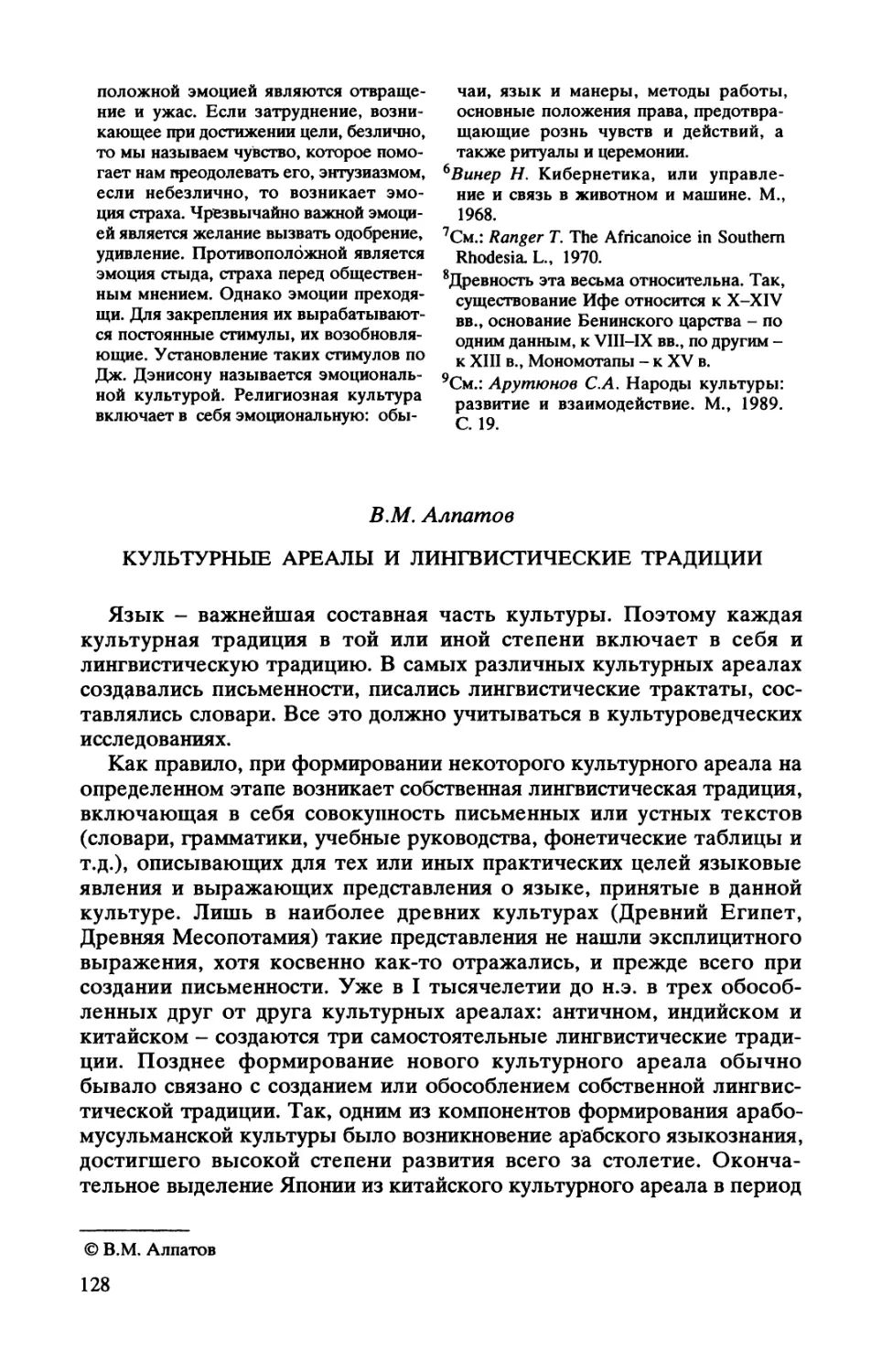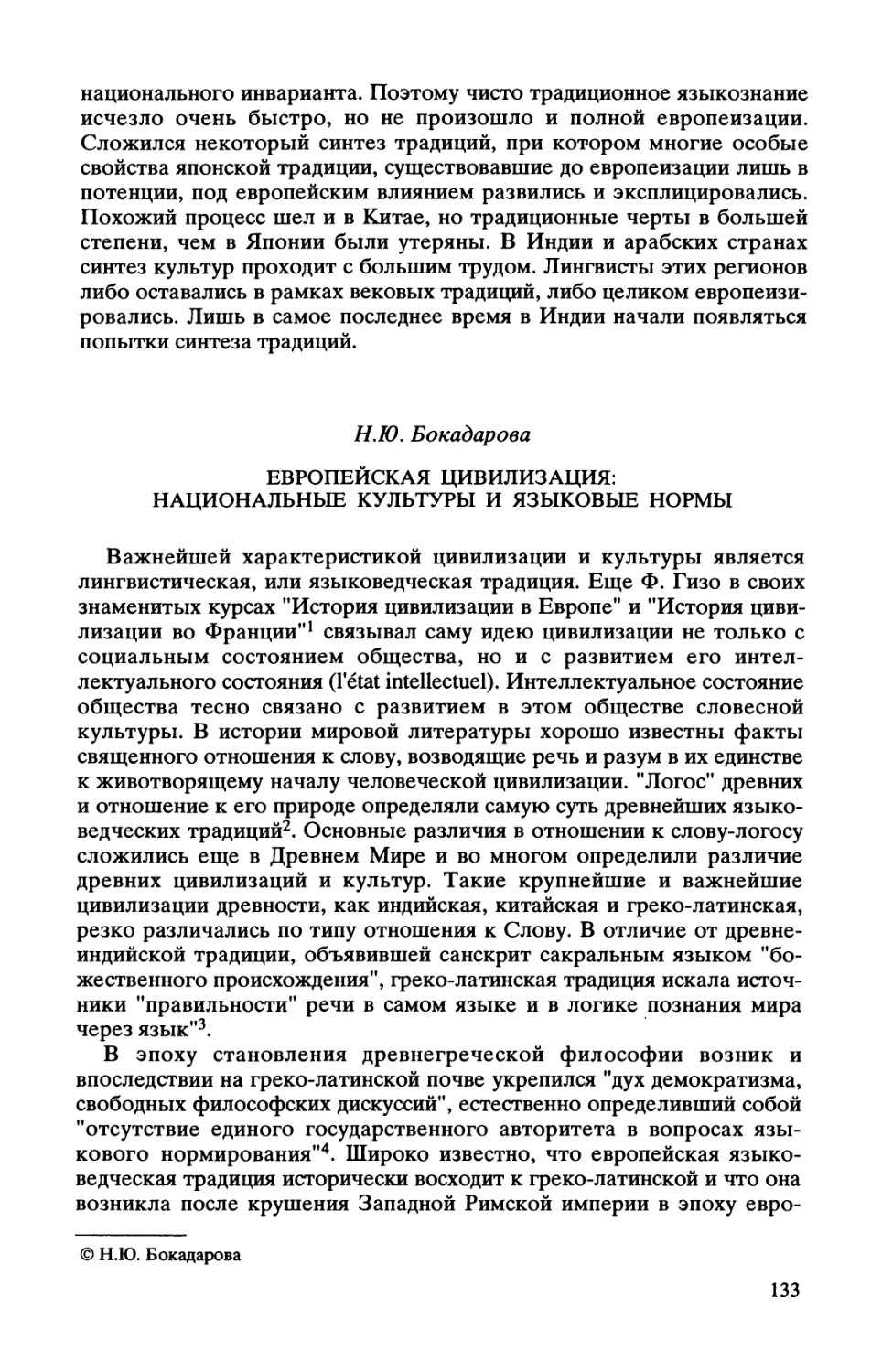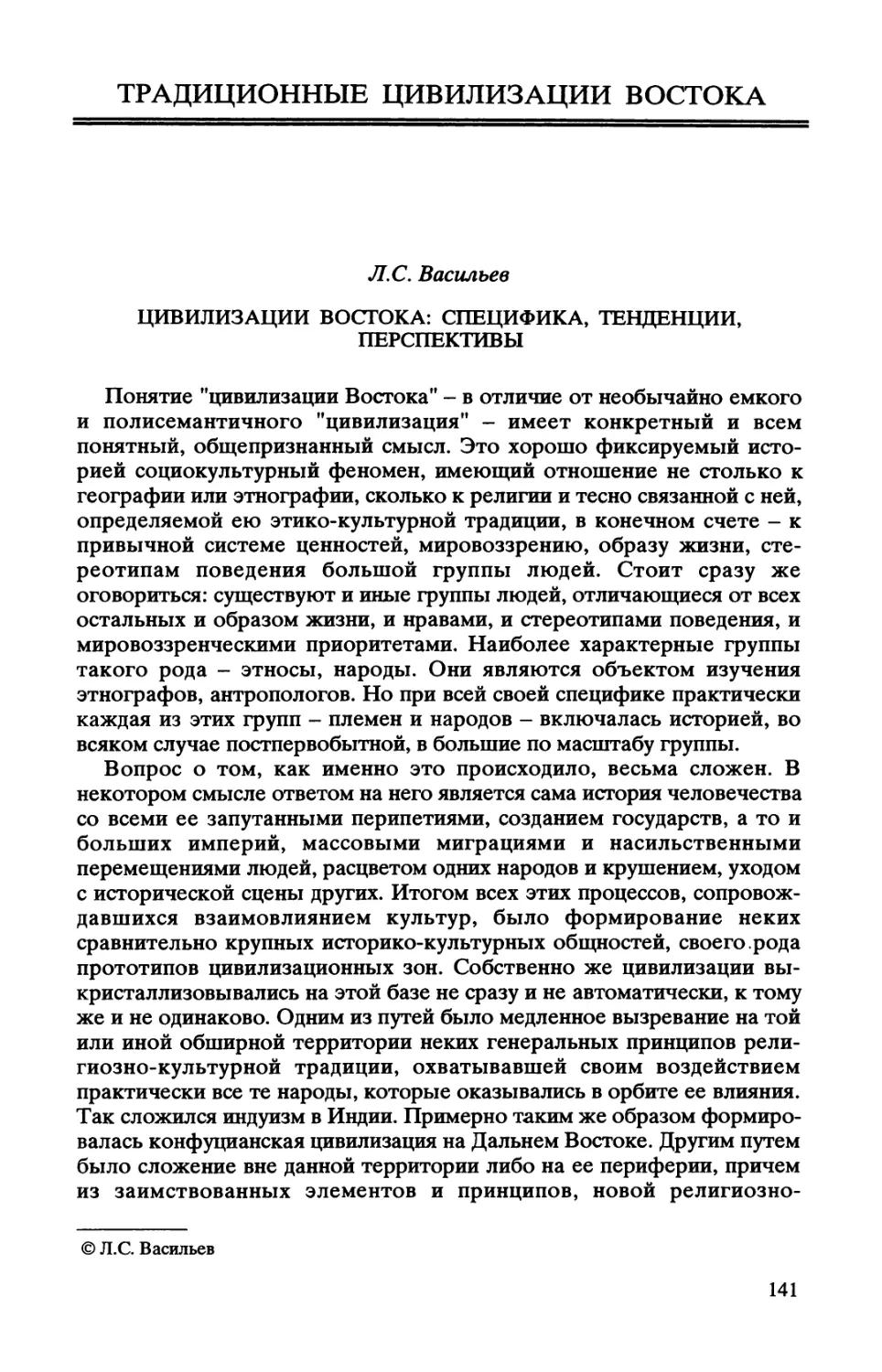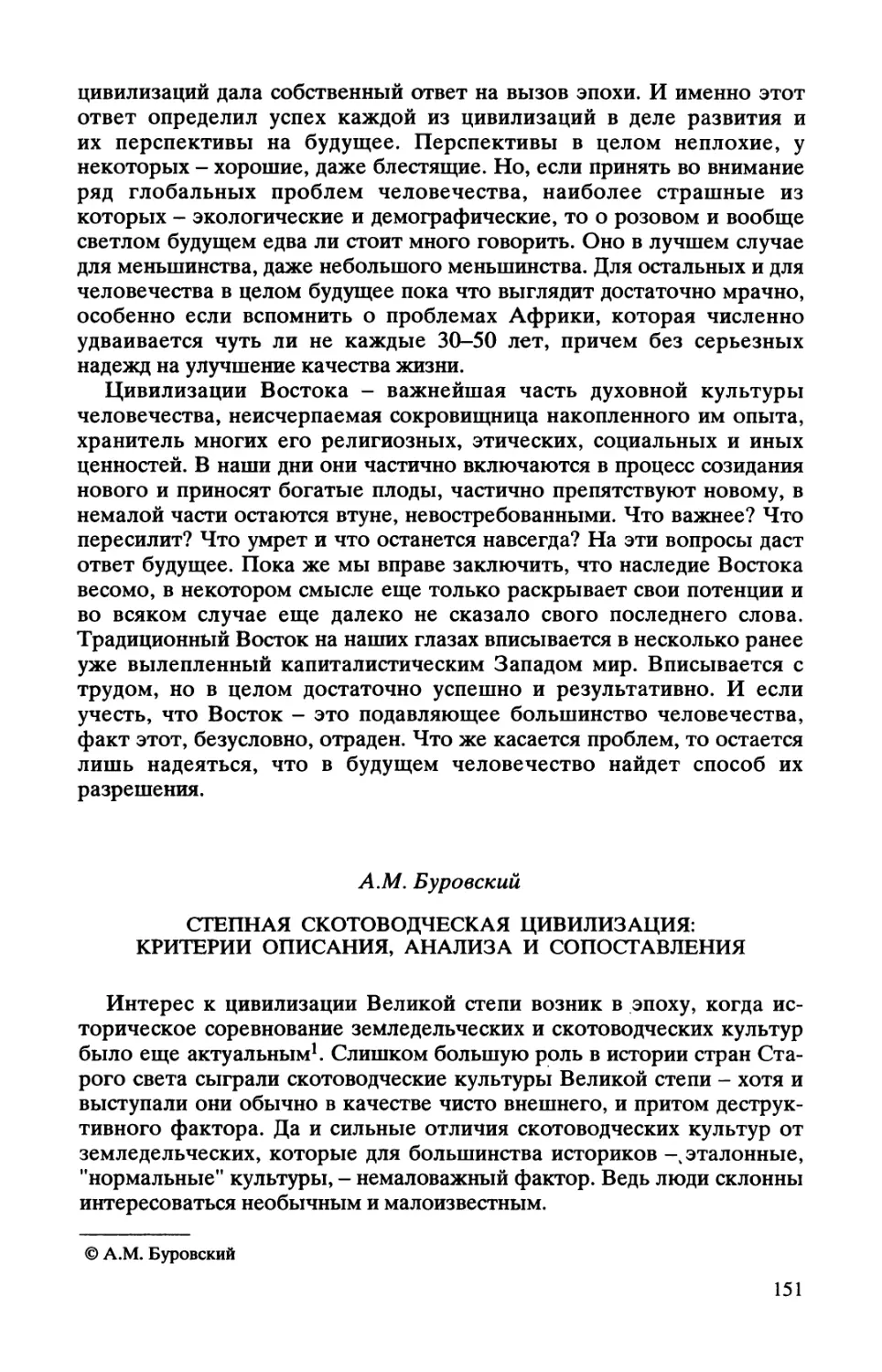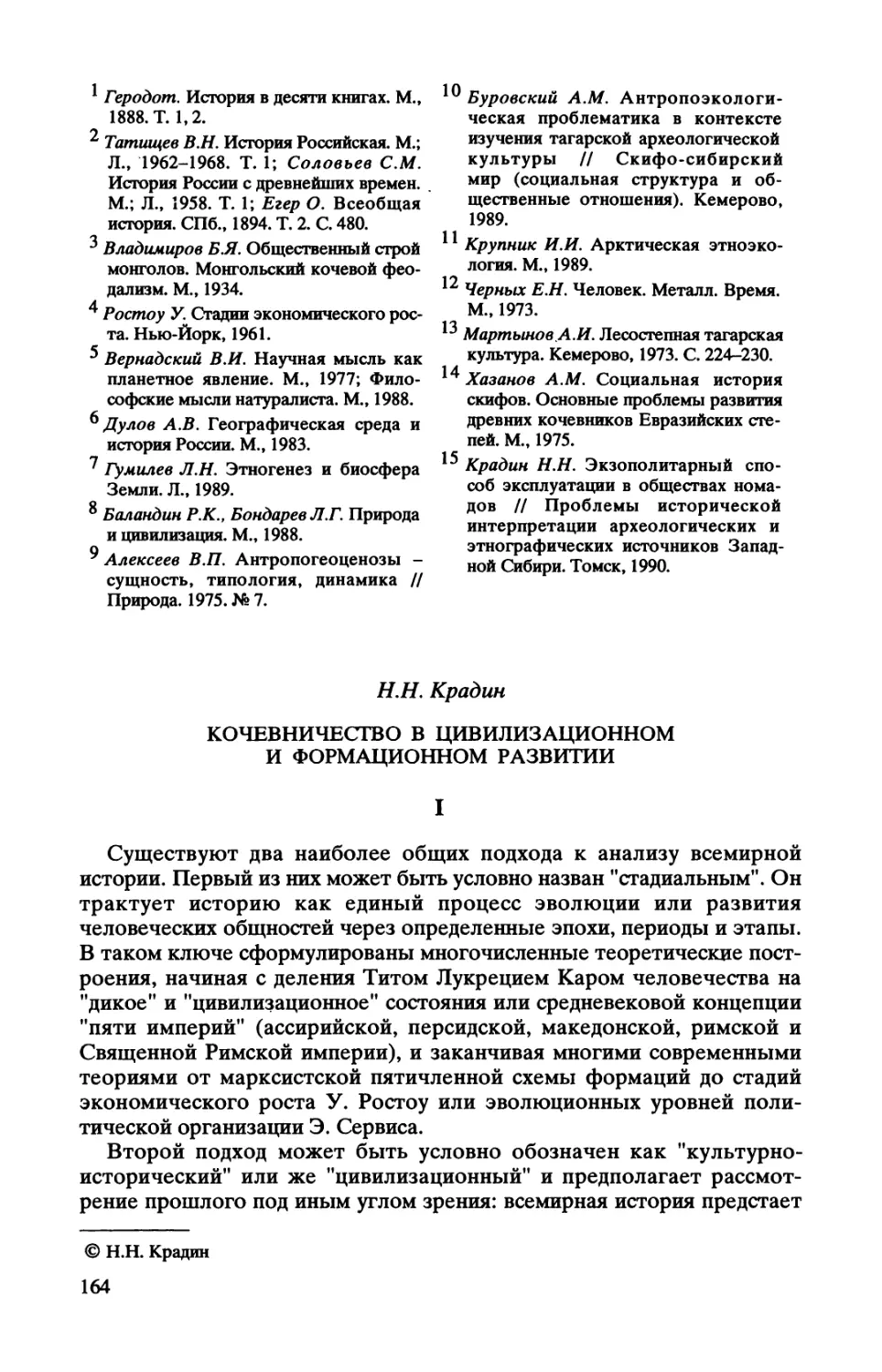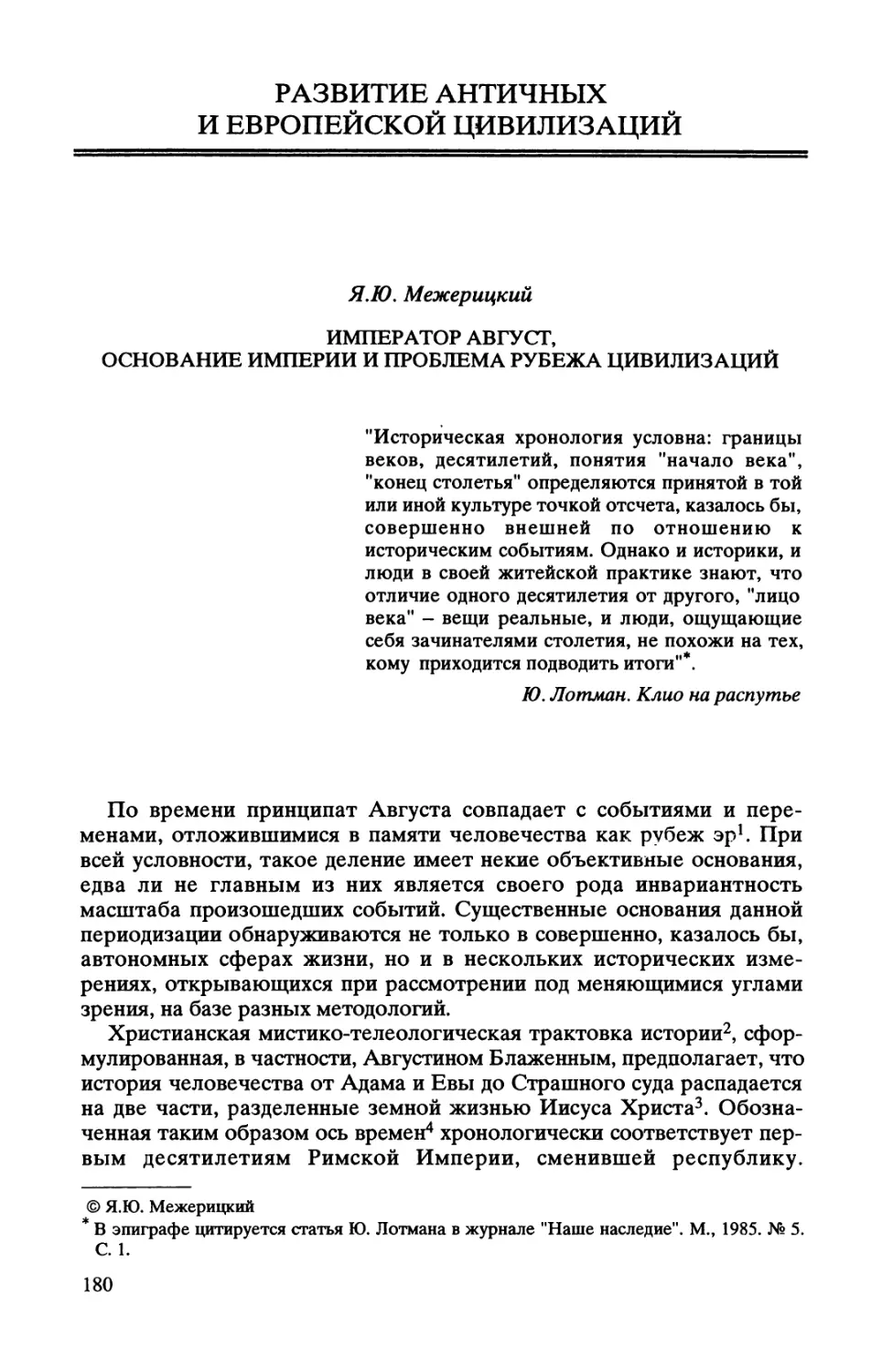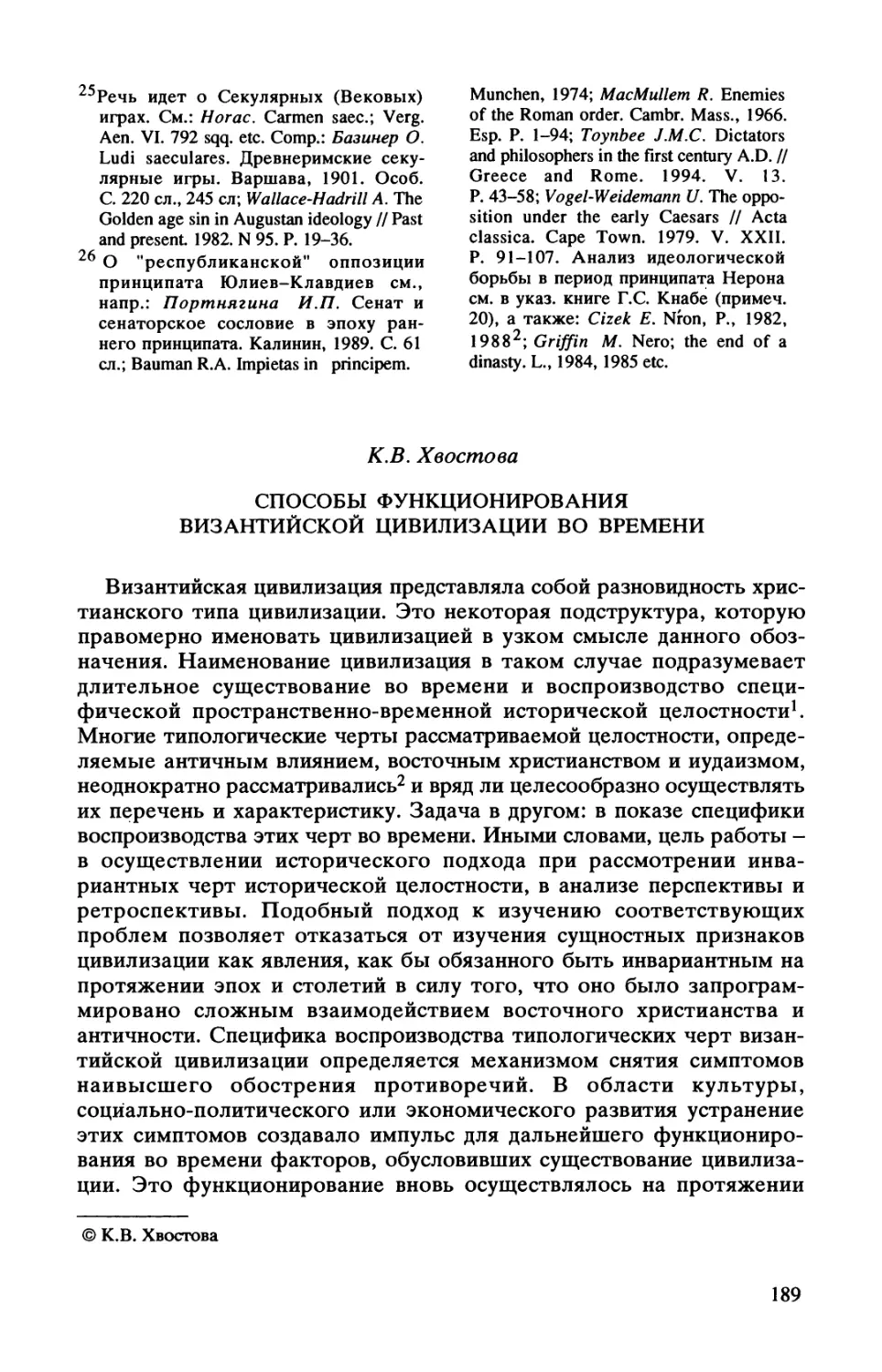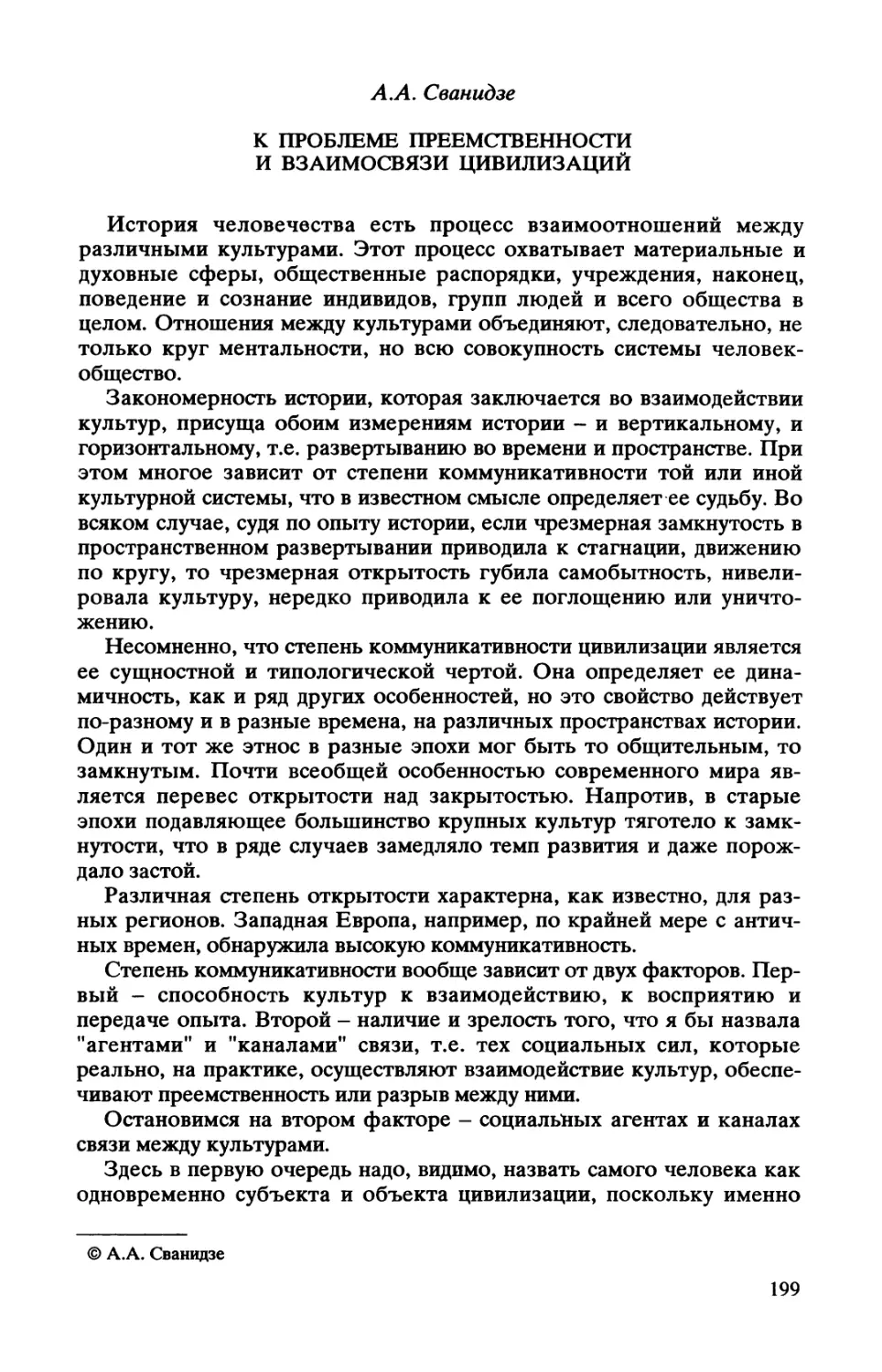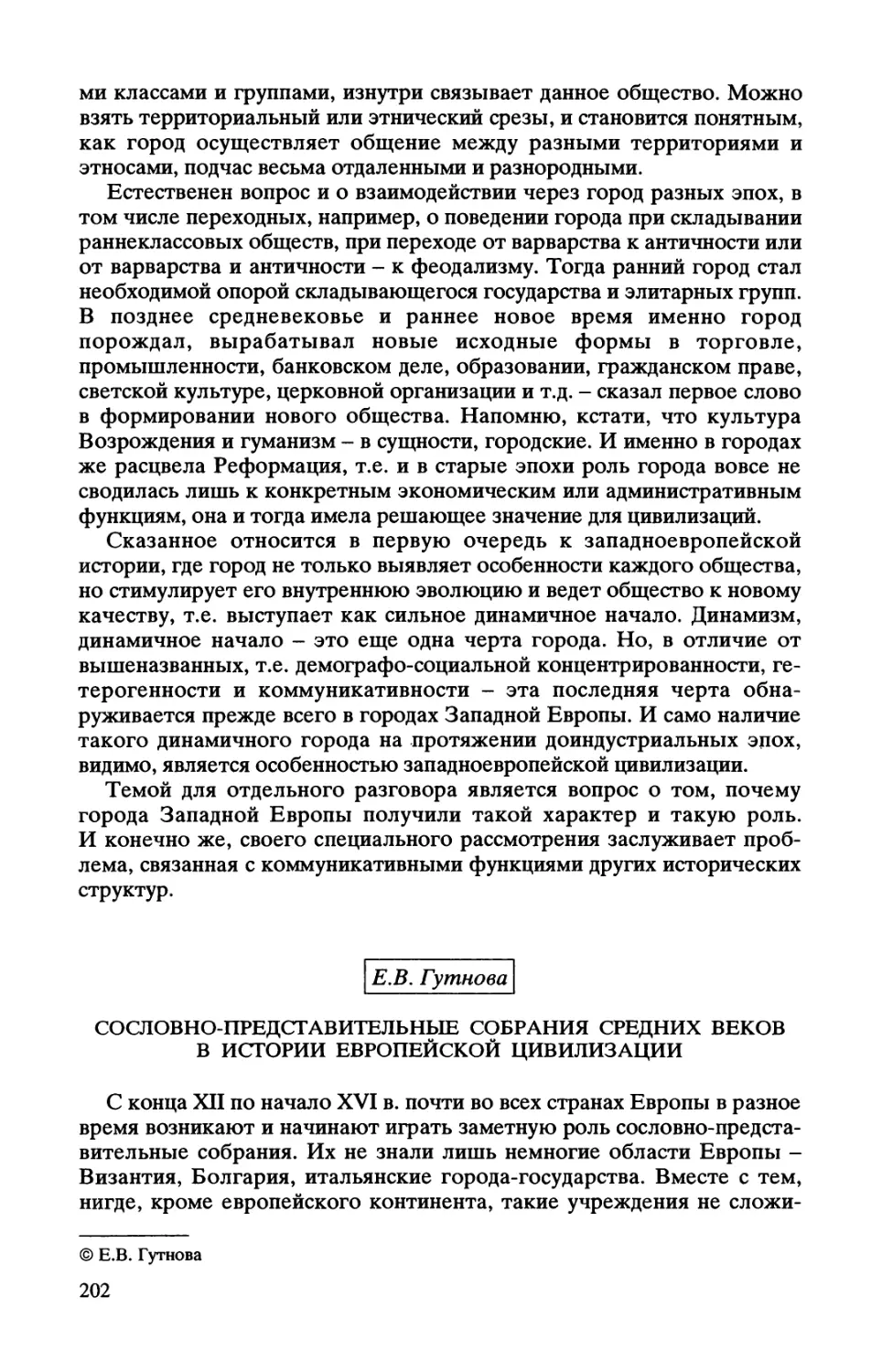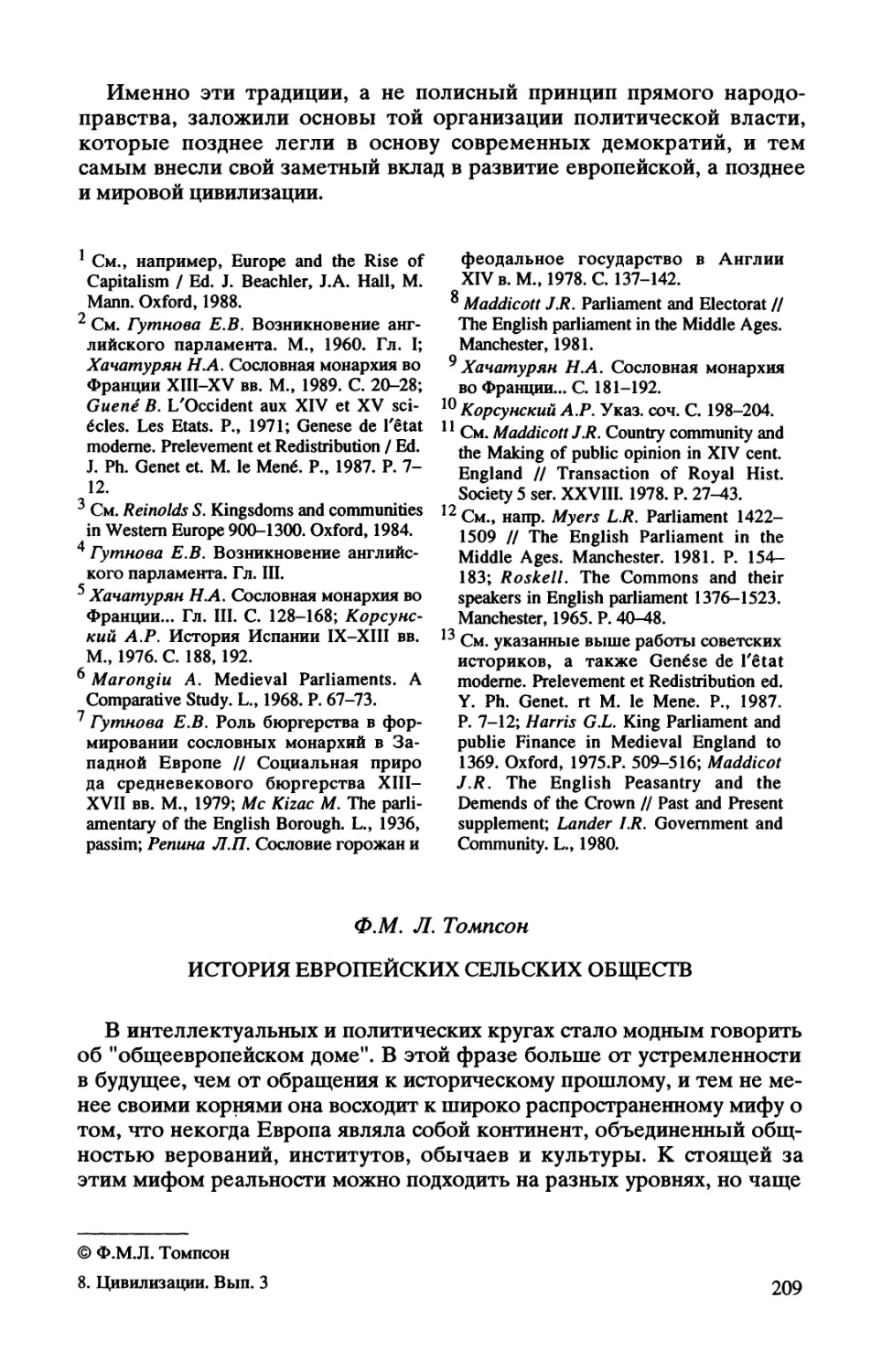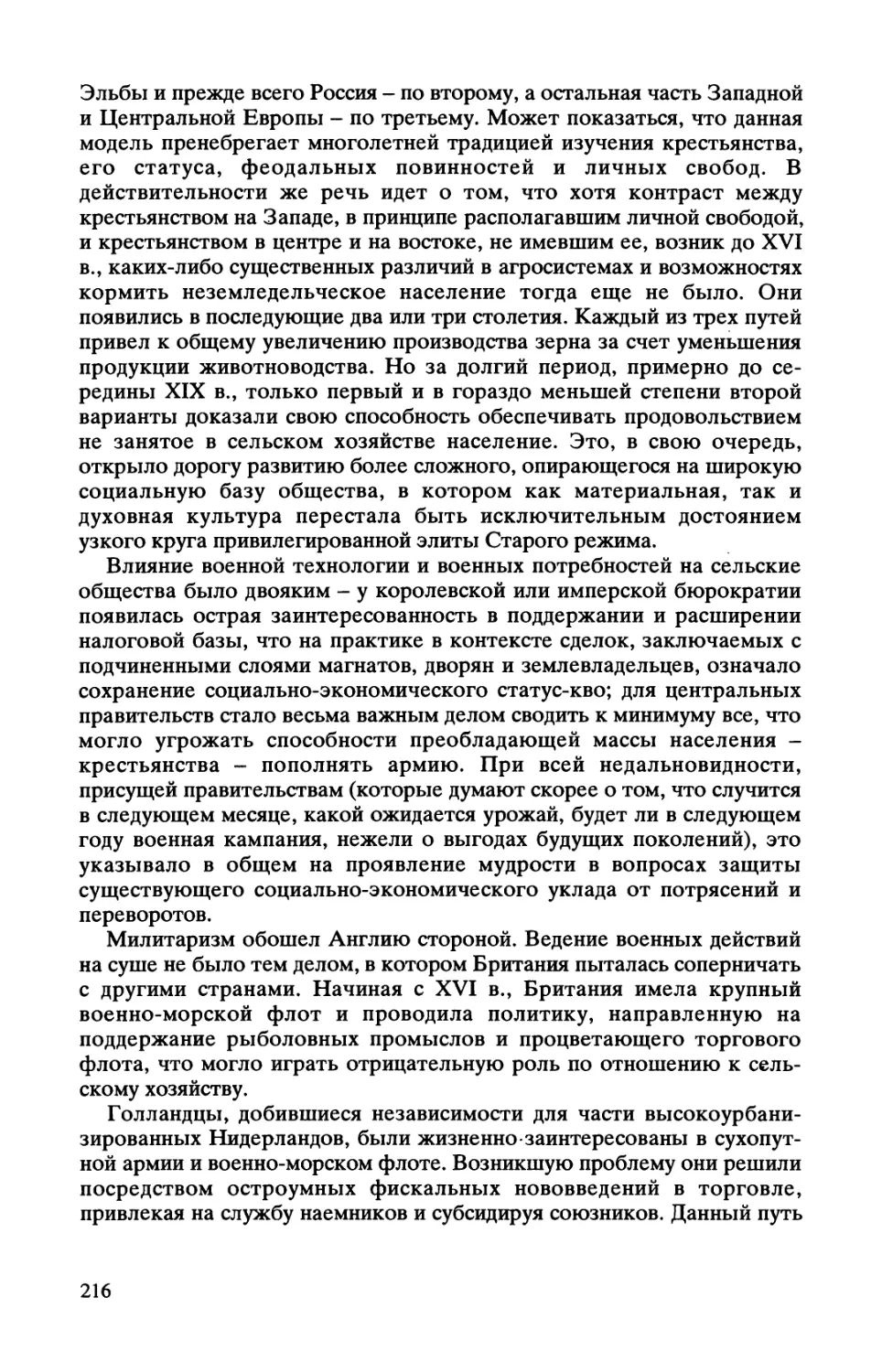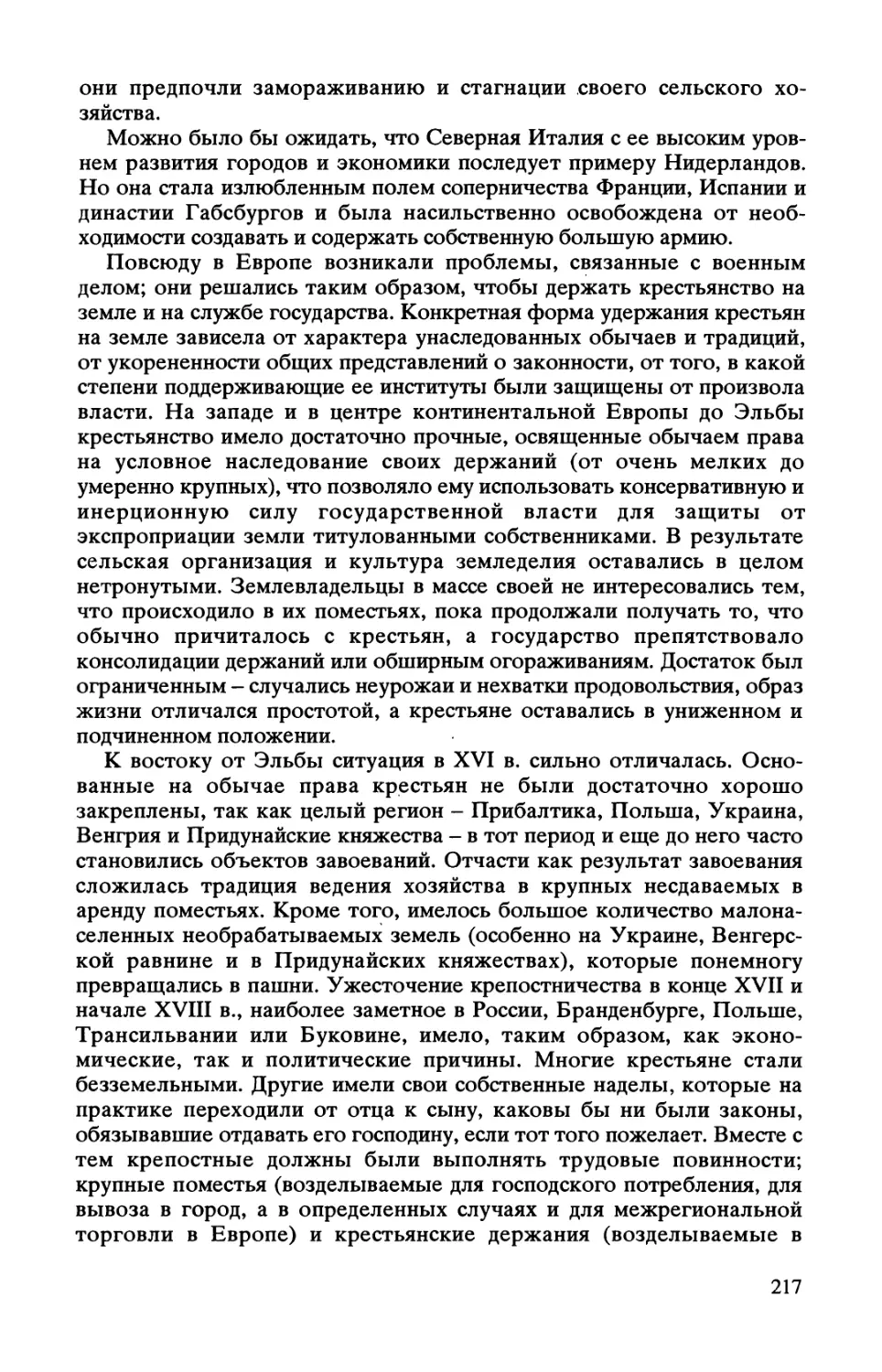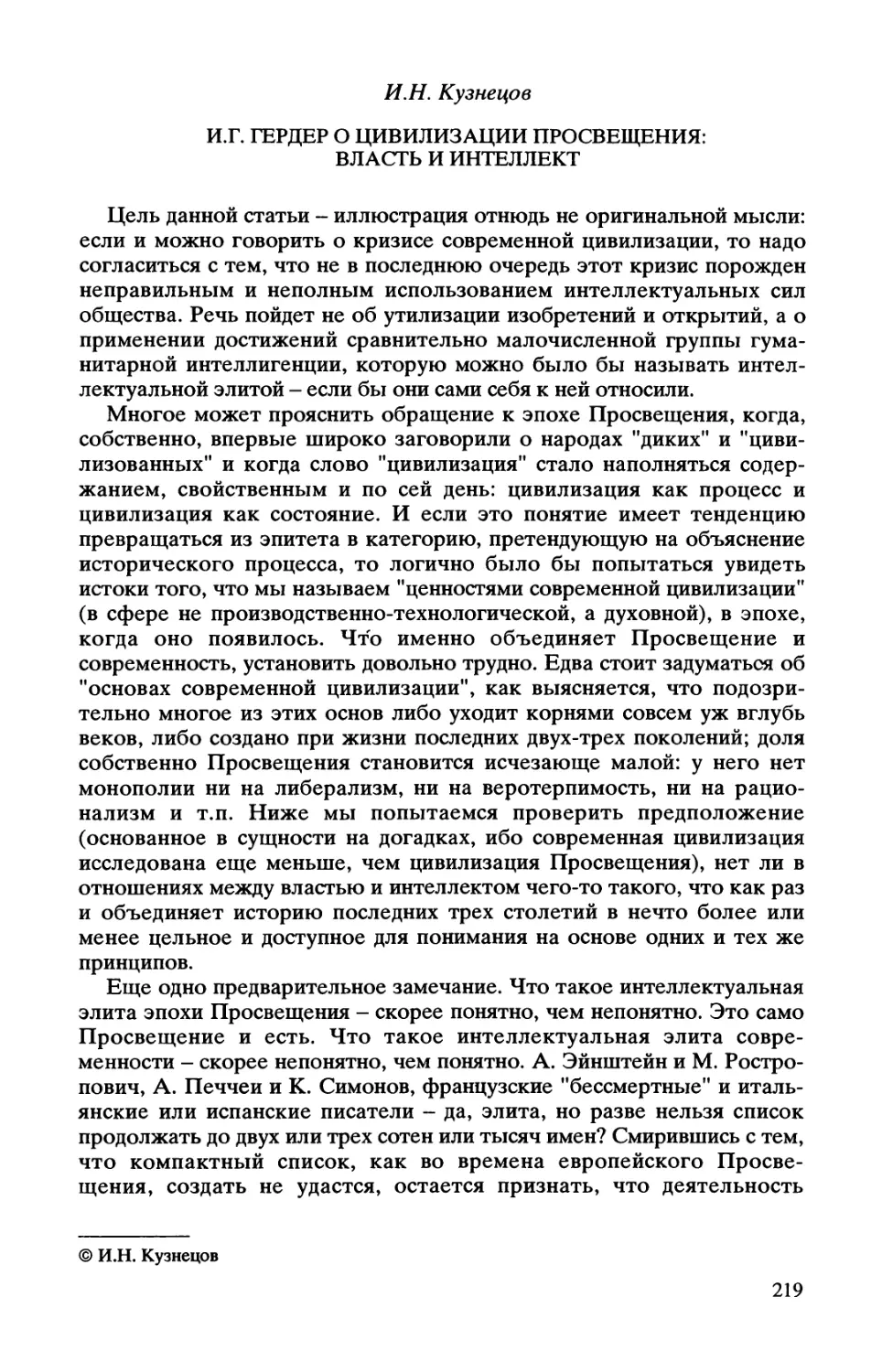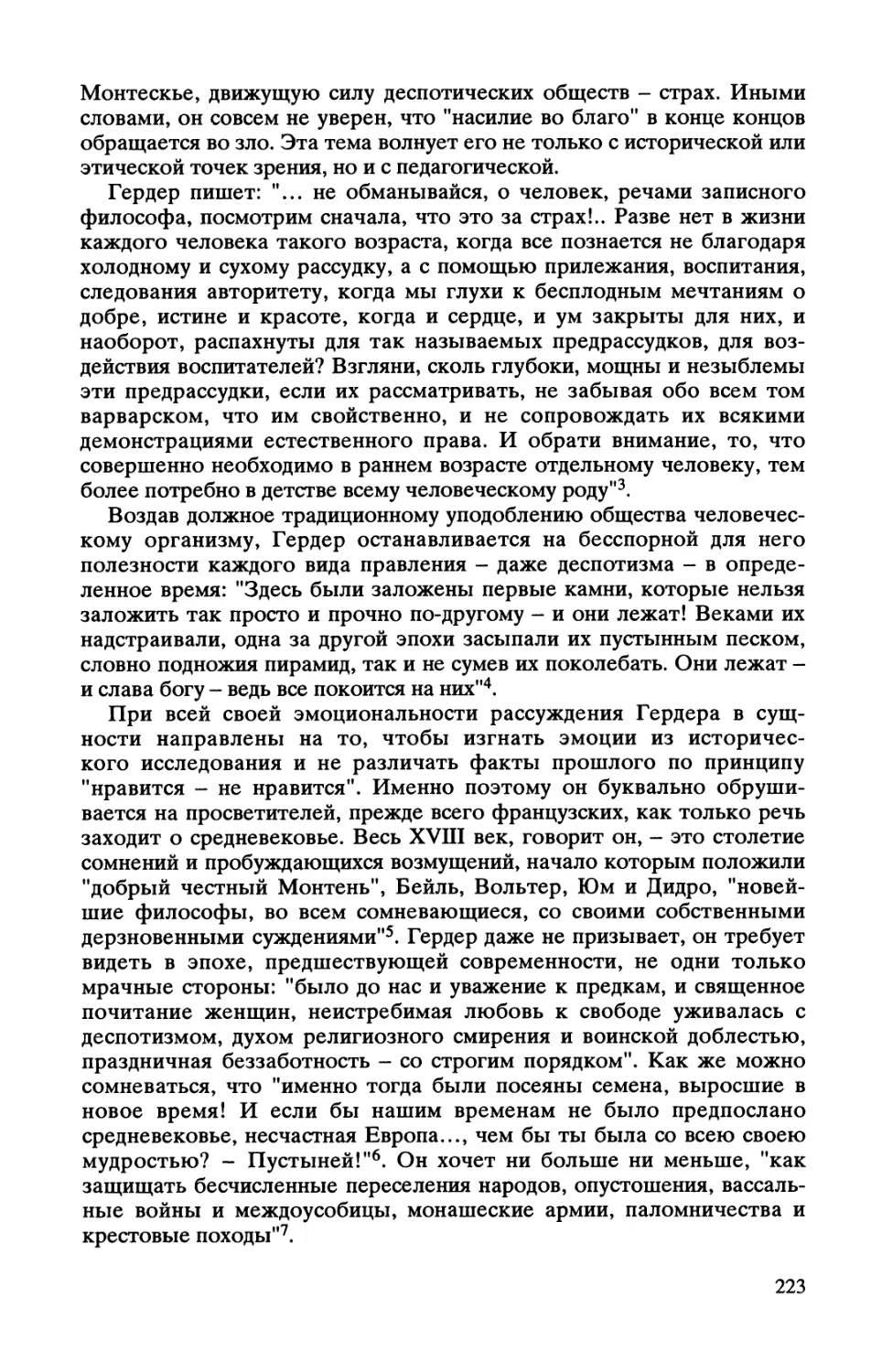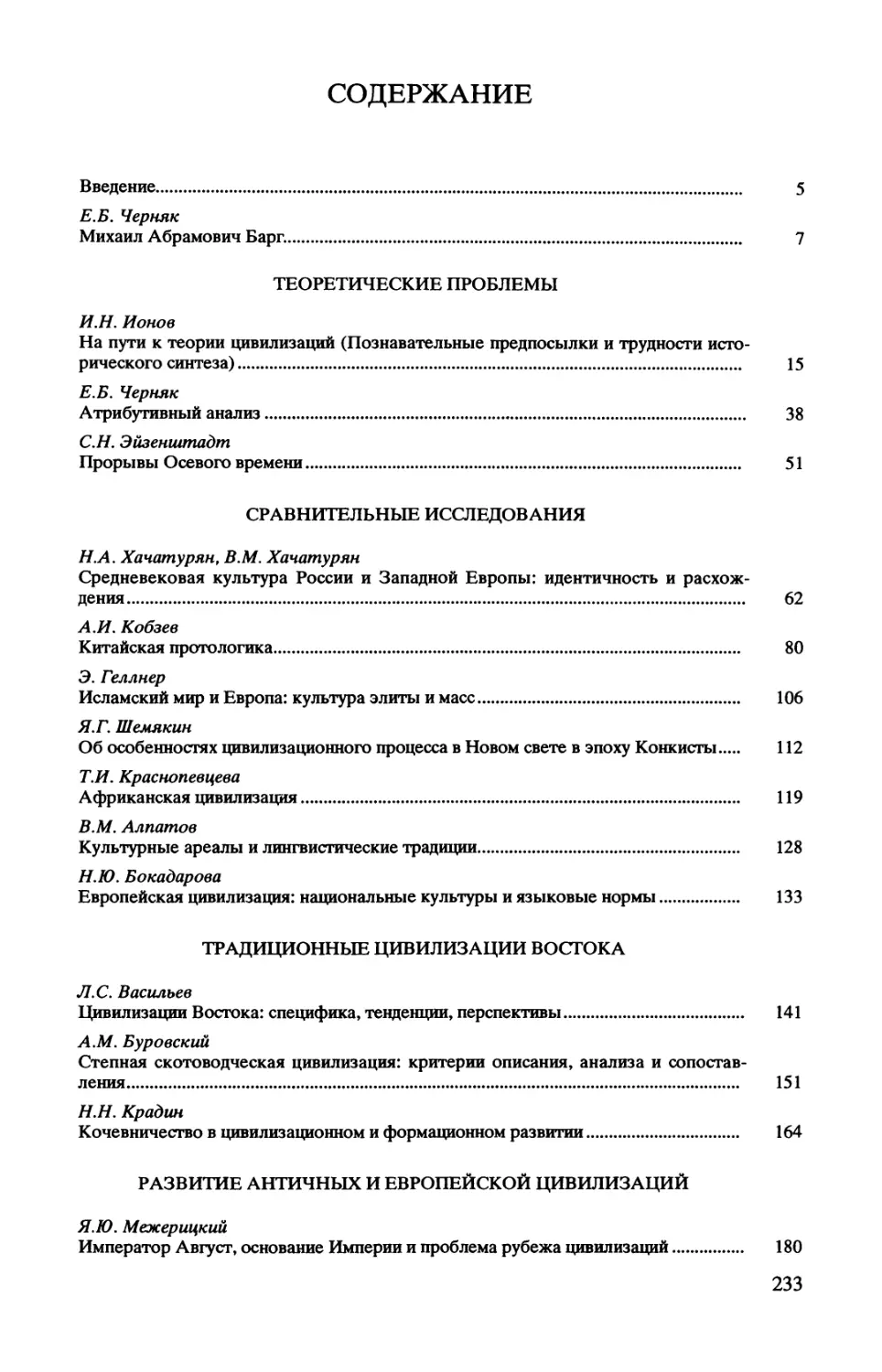Author: Чубарьян А.О.
Tags: всемирная история история цивилизаций цивилизация мировая экономика мировая история издательство наука
ISBN: 5-02-009754-3
Year: 1995
Text
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ Институт всеобщей истории
CIVILIZATIONS
Volume 3
MOSCOW "NAUKA" 1995
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Выпуск 3
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
А.О. Чубарьян - ответственный редактор, И.Н. Ионов, М.М. Наринский,
В.М. Хачатурян, Е.Б. Черняк
МОСКВА ’НАУКА' 1995
ББК 63.3(0) Ц 57
Редакционный совет:
академик ИД. Ковалъченко, академик Г.М. Бонгард-Левин, академик Б.А. Рыбаков, академик Г.Н. Севастьянов, академик С.Л. Тихвинский, чл.-корр. А.Н. Сахаров, чл.-корр. Л.О. Чубарьян, доктор исторических наук В.А. Тишков
Рецензенты:
доктор исторических наук И.В. Следзевский, кандидат исторических наук К.М. Андерсон
Ц 57 Цивилизации. Вып. 3. - М.: Наука, 1995. - 234 с.
ISBN 5-02-009754-3.
В центре внимания авторов широкий круг проблем: теория и историография цивилизационного анализа, пути выхода из кризиса современной исторической науки, сравнительные исследования по истории отдельных цивилизаций и др.
Для специалистов и широкого круга читателей.
0503010000^002 Ц 042(02)-95
49-94-1 полугодие
ББК 633(0)
ISBN 5-02-009754-3
© Коллектив авторов, 1995 © Российская Академия наук, 1995
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник является продолжением публикаций исследовательских работ отечественных и зарубежных историков, этнографов, археологов, филологов и философов, посвященных проблемам теории цивилизаций и практического применения цивилизационного подхода к решению конкретных задач исторической науки. Среди авторов сборника, начало которого было положено известным историком, профессором М.А. Баргом, такие всемирно известные специалисты в области сравнительной истории цивилизаций, как С.Н. Эйзенштадт, Э. Геллнер, Ф.Л. Томпсон, а также Л.С. Васильев, К.В. Хвостова, А.А. Сванидзе, Е.В. Гутнова - ведущие отечественные исследователи по истории отдельных стран и регионов.
При составлении сборника использованы разнородные материалы. Это соответствует принципиальной задаче, которую ставят перед собой составители - выявить многообразие точек зрения на проблему использования теории цивилизаций в исторической науке, обнародовать подготовленную годами работы специалистов фактическую базу и теоретический инструментарий.
Дело в том, что данный сборник - первый в серии, подготовленный после кончины инициатора этого издания профессора М.А. Барга. И дань его памяти составители отдают не только тем, что в сборнике помещена статья, посвященная научному наследию этого крупного ученого. В ряде статей, помещенных в книге, обозначены пути решения тех проблем, которые более всего волновали покойного профессора М.А. Барга. Их авторы, видят перспективу дальнейшего развития цивилизационного подхода в продвижении к историческому синтезу и превращении на его основе понятия "цивилизация" в полноценную, работающую категорию исторической науки. Решение этой задачи предполагает анализ взаимодействия в истории общего и особенного, материального и идеального, природы и культуры, рационального и иррационального, потребностей и ценностей человека, причинных и мотивационных связей. Кроме того, важнейшими являются проблемы, порождаемые сложной структурой активности историка в процессе исторического познания: вопросы взаимодействия исторической науки как общественного института и индивидуальной деятельности историка, познавательного и ценностного аспектов исторического знания. О сложности этих проблем говорит хотя бы то, что они заставили отвернуться от идеи "целостностной истории" и системных представлений о цивилизации историков французской исторической школы "Анналов", составлявших в 30-60-х годах XX в. один из передовых отрядов историков цивилизаций.
5
Сторонников подобных взглядов много и среди отечественных историков. Но в российской исторической традиции стремление к историческому синтезу постоянно подпитывается интуитивным ощущением "всеединства" мира, внутренне присущим нашей национальной культуре. Это обстоятельство подавляет развитие у нас исторического релятивизма, отрицающего возможности общих оснований для сравнительного изучения культур и цивилизаций. "Русскому духу присуще стремление к целостности и всеохватывающей конкретной тотальности, к последней и высшей ценности и основе", - писал видный философ "серебряного века" С.Л. Франк.
На эту традицию поиска системности в истории и разуме историка опираются авторы статей сборника, прослеживающие теоретические предпосылки исторического синтеза как основы теории цивилизаций - объективные, воспроизводящие идею "целостной истории" Ф. Броделя (статья Е.Б. Черняка) или познавательные, субъективные (статья И.Н. Ионова). В статье Н.А. и В.М.. Хачатурян прослежены, в частности, истоки того синкретического взгляда на мир в русской культурной традиции, который заставляет нас постоянно возвращаться к идее целостности истории. Ряд авторов статей пытается на деле осуществить исторический синтез как основу изучения истории отдельных цивилизаций. Некоторые из них, такие как А.М. Буровский, пытаются осуществить синтез путем исследования антропогеосистем и их энергетической эффективности. Другие, как А.И. Кобзев, сосредотачивают свое внимание на культуре, взаимодействии развития языка и менталитета.
Это определяет общий пафос сборника - принципиальный отказ от релятивистского, чисто культурологического подхода к истории цивилизаций, поиск путей широкого исторического синтеза. Конечно, решить эту задачу в рамках любого единичного труда невозможно. Однако каждый шаг, сделанный в этом направлении, имеет для нас двойную ценность. Он представляет не только научный интерес, ведет к преодолению кризиса в отечественной истории. Он возрождает интуиции национального сознания, способствует восстановлению российской культурной традиции.
Е.Б. Черняк
МИХАИЛ АБРАМОВИЧ БАРГ
В мае 1991 г. скончался крупный советский ученый доктор исторических наук, профессор М.А. Барг, вдохновитель и создатель сборника "Цивилизации”.
М.А. Барг родился в 1915 г. в семье адвоката, умершего, когда сыну было четыре года. Мать ученого, учительница средней школы, в годы второй мировой войны погибла в гитлеровском концлагере. Детские и юношеские годы М.А. Барга прошли на Украине. Он окончил исторический факультет Харьковского университета, работал преподавателем истории и директором средней школы. В 1944 г. М.А. Барг поступил в аспирантуру Института истории Академии наук СССР, которую закончил в 1947 г., защитив кандидатскую диссертацию по аграрной истории средневековой Англии. Далее его путь в науке пролегал через преподавание истории в различных московских вузах. М.А. Барг завоевал широкое признание многих поколений студентов как замечательный лектор и педагог. Уже на этом этапе стал заметным его большой научный потенциал, проявлявшийся не только в выборе особо значительных и слабоизученных тем и аспектов исторического процесса, но и глубине исторического мышления и блестящей, растущей год от года исследовательской технике. В 1958 г. на Ученом совете института истории с блеском им была защищена докторская диссертация, в 1960 г. ему присвоено звание профессора. В 1967 г. М.А. Барг переходит на работу в Институт истории АН СССР. Перу М.А. Барга принадлежат научные монографии, десятки исследовательских статей, печатавшихся в академических журналах. Он вырастил целую плеяду талантливых исследователей, создал научную школу в области средневековой истории Англии.
Еще на рубеже 50-60-х годов внимание М.А. Барга привлекает вопрос о месте исторической науки в рамках обществознания. Он возражал против низведения историографии до роли служанки "материалистической теологии", при которой на долю историков "великодушно" отдавался сбор и первичная обработка собранного материала, тогда как его осмысление, выявление следующих из него выводов целиком объявлялось прерогативой философов. Такое понимание роли этих дисциплин, превращая философию в область бесплодного схоластиче-
© Е.Б. Черняк.
7
ского оперирования затверженными ’’истинами”, вместе с тем лишало историографию права самостоятельного теоретического анализа процесса развития общества не только в глобальном, но и региональном масштабе, выявления закономерностей хода общественной эволюции на национальном и локальном уровне сравнительно с уровнем всемирно-историческим.
Некоторые из своих концепций М.А. Барг высказал в ряде статей. К числу таких работ надо отнести статьи о системно-структурном методе и его роли в историческом исследовании, о проблемах формализации такого исследования. Эту же задачу преследовала и статья М.А. Барга в журнале "Вопросы философии" (написанная совместно с Е.Б. Черняком) "Структура и развитие классово-антагонистических формаций" (1967 г.), в которой была поставлена проблема исследования разновидностей формаций как единиц исторического процесса.
В 70-80-е годы одной из главных тем в исследовательской работе М.А. Барга становится изучение онтологических проблем механизма исторического развития. Результаты этой работы частично отражены в (написанных совместно с Е.Б. Черняком) разделах книг "Проблемы социально-экономических формаций. Историко-типологические исследования" (1975 г.), "Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса" (1979 г.) и в труде "Великие социальные революции XVIIXVIII веков в структуре переходной эпохи от феодализма к капитализму" (1990 г.). В этих исследованиях впервые введена в научный оборот категория "общественно-необходимых общественных отношений" как субстрат всех остальных общественных отношений; этот субстрат является основой всемирно-исторического развития, а на региональном и глобальном уровне может подвергаться значительным модификациям и трансформациям под влиянием внутренней (несистемные элементы в данном обществе) и внешней среды (другие региональные общества). Задачей историка является, не останавливаясь только на изучении общественно-необходимых отношений, изучение которых делят между собой философия истории и теоретический отдел исторической науки, сосредоточить внимание как раз на указанных модификациях и трансформациях, которые являются исследовательским объектом для историографии. Различение уровней исторического процесса служит основой для последующего типологического анализа его базисных, идеологических и государственнополитических структур. Выявление разных уровней и субординации структур создает реальную основу для выяснения различия между социологическими законами, фиксирующих тенденции всемирноисторического развития, и историческими закономерностями, в которых воплощено своеобразие его региональных и локальных вариантов.
Задачи создания типологии исторических структур и исторических закономерностей логически подводили к совершенно неразработанной в теоретической историографии проблеме внутренней структуры общественных отношений. Совокупность таких отношений
8
создает все экономические, политические и идеологические структуры общества.
Выяснение параметров социальных отношений позволяет значительно глубже понять важнейшую категорию "переходная эпоха всемирной* истории" и предпринять попытки проанализировать ее историческую структуру опять-таки на глобальном и региональном уровнях. Особое место в осмыслении М.А. Баргом процесса общественного развития занимала отраженная как в упомянутых выше, так и в других трудах проблема всемирности, выявляющая единство при всем многообразии этого процесса.
Стремление к более точному уяснению структуры процесса исторического развития подчинено у М.А. Барга еще одной важной задаче - повышению доказательной силы выводов исторической науки. Это узел, связующий упомянутые выше труды М.А. Барга с его исследованиями гносеологических проблем историографии. Среди целого ряда фундаментальных теоретических исследований ученого важнейшее место, бесспорно, занимает труд "Категории и методы исторической науки", опубликованный в 1984 г. Эта книга, подытоживавшая другие исследования автора, дает новаторские решения ряда важнейших вопросов теоретической историографии и в этом смысле является этапной в ее развитии.
М.А. Барг подчеркивал в этой работе, что в определении предмета исторической науки, которое укоренилось в исторических и философских трудах, концептуализируется, скорее, то, чем историки преимущественно веками занимались, а не то, чем они должны прежде всего заниматься в рамках современной системы наук.
М.А. Баргу принадлежит большая научная заслуга в раскрытии и теоретическом осмыслении содержания категории "историческое время", к которой он обращался еще в своих конкретно-исторических трудах по английскому феодализму. Историческое время - это форма существования и движения мира истории. По отношению к календарному времени это социально опредмеченное время, "внутреннее", содержательное время исторического процесса. Календарное время, позволяя упорядочить события в порядке их следования одного за другим, ничего не сообщает нам об историческом существе процессов и ритмах изменений, которые лежат в их основе. Если положение данного "события", фиксированное в календарном времени, необратимо, то во времени историческом оно может быть настоящим, прошедшим и будущим. "Событие", планируемое на будущее, реализуясь с течением времени, становится настоящим, а затем отодвигается в прошлое. Вместе с тем событие, произошедшее в настоящем, содержательно принадлежит как будущему, так и прошлому.
По сути дела каждое отдельное историческое событие полихронно, поскольку разными своими сторонами принадлежит к различным хронологическим рядам исторического процесса, как динамической совокупности многих хроноструктур. С гносеологической точки зрения особо важно не смешивать структуру объективно-исторического
9
времени с "историческим временем", каким оно предстает в исторических трудах. Последнее объясняется тем, что исторический процесс - это бесконечное множество, которое в историческом понимании необходимо предстает как счетное, т.е. конечное множество. За представлением об одной интегральной "линейной" хронологии скрывается, как уже отмечалось, полихрония как в разных сферах, так и в рамках одной определенной сферы истории, множество различных исторических времен, воплотившихся в различиях ритма развития составляющих данного общества и их взаимодействия с другими обществами. Всемирно-историческое время (время передового "предельного" региона) в каждую эпоху неизбежно опережает локально-историческое (время остальных регионов). М.А. Баргом столь же основательно изучено содержание категорий "система", "целостность", "процесс", принцип системного в историческом исследовании. В целом здесь последовательно и действительно системно рассмотрен гносеологический аспект проблематики, исследованной в других теоретических работах автора и коллективных трудах, созданных при его участии.
Особо стоит отметить впервые произведенное на уровне теоретической истории выявление содержания такой стержневой для историографии категории историзма, как "научно-исторический факт".
В последние годы жизни М.А. Барг много внимания уделял изучению теоретических проблем истории цивилизаций и объединению усилий ученых нашей страны и их зарубежных коллег для организации совместных работ в этой области, имеющих фундаментальное значение для исторической науки на новейшем этапе ее развития. Термин "цивилизация" используется в историографии в самых различных смыслах, нередко просто для обозначения социологически обобщенного очерка истории той или иной страны с уделением преимущественного внимания рассказу об эволюции, главным образом культурных, идеологических и политических структур, и сведением к минимуму истории событийной.
На современной стадии историография, вне зависимости от ее общефилософски различных направлений, остро нуждается в категории, которая заключала бы в себе необходимую интегративную потенцию, как в рамках национальной истории, так и истории всемирной. Первоочередной научной задачей стало введение в научный оборот в качестве важнейшего средства исторического познания категории "цивилизации" с четко очерченными содержанием и границами. М.А. Барг предлагал такое определение этого понятия: обусловленный природными основами жизни, с одной стороны, и объективно-историческими ее предпосылками - с другой, уровень развития человеческой субъективности, проявляющийся в образе жизни индивидов, в способе их общения с природой и себе подобными. Как отмечал сам автор, очевидно, что акценты в данном определении с объективных форм выражения цивилизации - характера и уровня развития общественного производства, форм общественной организации - перенесены на
10
носителя данной цивилизации, историческое своеобразие которого сводится не только к тому, что и как он производит, но и к тому, каков стиль его труда и мышления, социального поведения. В рамках исторической науки можно так определить значение категории "цивилизация”, ее парадигмальный смысл: историко-антропологический - цивилизация - это историзованная природа общественного индивида, ее носителя, раскрывающаяся как универсальный стиль различных сторон его жизнедеятельности; социокультурный - это совокупность универсально-стилевых, духовных, материальных и нравственных средств, которыми данное сообщество вооружает своего члена и в его противостоянии внешнему миру; социологический - это диалектическое единство двух субстратов общества как динамически целостного, объективно необходимого и субъективно волевого, разрешающегося в процессе целенаправленной человеческой деятельности; и, наконец, исторический - это культурно-исторический тип организации общества, в котором его фундаментальная конститутивная идея, синтезирующая в нем бытие, парадигма, выступает превращенно как основание.
М.А. Барг рассматривал понятие "цивилизация" в качестве центра поисков парадигмы, призванной создать подлинно глобальное видение общества, включающее как объективный, так и субъективный ее аспект (человеческий, т.е. историко-антропологический). Придавая понятию "цивилизация" парадигмальный смысл (вместо описательного), историческая наука рассматривает общество сквозь познавательную призму, в которой оно выступает как всеобъемлющая микросистема, притом в человеческом плане, не абстрактно обезличенная, а подлинно историческая. Концепция цивилизации включает как объективный (сфера формации), так и субъективный (антропологический) аспекты исторического процесса. Тем самым создается возможность построения собственно исторической методологии, которая позволит различать не только противостояние общественных классов, не только проявление социальных антагонизмов, но и область социальнокультурного консенсуса, взаимодействия на базе общечеловеческих ценностей.
М.А. Барг считал, что историческая наука находится еще в самом начале предстоящего ей долгого пути изучения теоретических проблем истории цивилизации, в особенности сравнительно-исторического ее исследования и создания типологии ее региональных разновидностей.
С изучением теоретической проблематики исторической науки и, в частности, историографического ее аспекта был связан интерес М.А. Барга к истории исторической мысли, которой была посвящена его книга "Эпохи и идеи. Становление историзма". За годы, прошедшие со времени ее опубликования, книга не получила достойной оценки в научной литературе. Между тем этот труд М.А. Барга (и законченные, но еще не изданные его последующие части) имеет принципиальное значение для исторической науки вообще и истории исторической науки в особенности. Автору впервые удалось
11
проследить эволюцию исторического сознания Западной Европы. М.А. Барга интересовала не историография сама по себе, а менталитет людей, выполнявших в различных обществах функцию историков. Историю исторической науки можно изучать, во-первых, с внешней стороны, как сменявшие друг друга историографические направления (что и было до сих пор предметом интереса и исследований ученых), и, во-вторых, как невидимый на поверхности процесс, обусловленный связями с данным типом культуры, мировоззренческую суть которой выражает прежде всего именно историческое сознание. Необходимо анализировать его с учетом историзма самого исторического сознания и способов - идеологических, логических и других, с помощью которого оно осмысливало содержание истории. Историческое сознание, как об этом писал М.А. Барг, выступает в качестве фундаментальной мировоззренческой характеристики культуры любой эпохи.
Подводя итоги своего труда по эволюции западноевропейского историзма с V по XVIII в., М.А. Барг писал, "что историческое сознание народов, наиболее отчетливо в каждую культурноисторическую эпоху проявляющееся в том, как в ней содержательно раскрывалась идея истории, формировалось в процессе накопления исторического опыта. В конечном счете тип историзма, доступный каждой данной эпохе, задается ее выразителем столь же объективно, как и общественный способ производства".
Среди многих книг и статей М.А. Барга центральное место занимает его монография "Исследования по истории английского феодализма в XI-XIII вв.". Это поистине монументальный труд, которым по праву может гордиться историческая наука. В монографии исследованы направления и характер социальных сдвигов, происходивших в структуре основных классов английского общества с XI по XIII вв. Основой исследования послужило сопоставление данных двух источников - земельных кадастров, известных под именем "Книга страшного суда" (1086 г.) и "Сотенных свитков" (1279 г.). Такое сравнение требовало преодоления исключительных технических трудностей, но позволило создать поистине уникальную аграрную статистику средневековой Англии. Среди статистически проанализированных проблем нужно упомянуть соотношение виллы и манора, эволюцию среднеанглийской вотчины в 1086-1270 гг., изменения в иерархической структуре феодального землевладения, сдвиги в распределении феодальной собственности в XI-XIII вв., социальную динамику светского вотчинного землевладения (землевладение светских держателей и субдержателей короны), генезис вилланства общего права и ряд других. Особенно весомым для понимания исторических судеб английского феодализма стало всестороннее статистическое обследование места фригольда в системе аграрных отношений - генезис вилланства общего права, внутриманориального фригольда, его сословная принадлежность в 1279 г., особенности дифференциации фригольдеров "крестьянского типа", которые представляли в
12
большинстве порвавшие с земледелием, но не порвавшие с манором ремесленные и купеческие элементы. Значительный удельный вес этих слоев явился одной из причин относительно быстрой социальноэкономической эволюции средневековой Англии.
Более объемным, выходящим за рамки рассмотрения процессов в социально-экономической сфере, предстает в трудах ученого знаменитый вопрос о "кризисе XV века", новую концепцию которого М.А. Барг сформулировал в ряде своих трудов. (В частности, в монографии "Проблемы социальной истории в освещении современной западной медиевистики", 1973). По его мнению, дело Шло не о кризисе феодализма, а о новой фазе в восходящем развитии европейского общества, в которой политико-экономические сдвиги не только в области торговли и финансов, но прежде всего в основаниях феодального способа присвоения в сельском хозяйстве потребовали принципиально новых форм регулирования всей системы власти и авторитета, включая и сферу ее идеологических санкций. Ренессансный гуманизм, рассматриваемый в общеевропейской перспективе, должен быть в своих истоках соотнесен с той перестройкой феодальных общественнополитических и идеологических структур, которым предстояло приспособиться к требованиям полностью развитого простого товарного производства.
Особенности аграрного развития Англии на столетия вперед определили специфику экономического, социального и политического развития этой страны, обусловили многие черты и загадки кульминационного пункта британской средневековой истории - революции XVII в. Решению этой загадки посвящены несколько монографий и статьи ученого: "Английская буржуазная революция XVII в." (написана совместно с В.М. Лавровским); "Кромвель и его время", "Народные низы в английской буржуазной революции XVII в.".
М.А. Барг предпринимает фундаментальное исследование вопроса, основанное на изучении десятков и сотен памфлетов, трактатов, газет, листовок и переписки бурного времени революции. Концепция ученого в основном сводится к следующему: основа социального конфликта в этой крупной европейской революции - аграрный вопрос в самом широком смысле слова; содержание этого конфликта составляет борьба двух путей очищения страны от феодализма: пути лендлордизма и пути крестьянско-плебейской революционной демократии. Эта борьба нашла свое выражение в двух программах, выдвинутых различными лагерями в революции: буржуазно-дворянской, проводимой пресвитерианами и затем индепендентами, и крестьянскоплебейской.
Последняя книга М.А. Барга в цикле его работ по истории XVII столетия "Английская революция XVII века в портретах ее лидеров". Это не просто биографии трех ключевых фигур революции - Кромвеля, Лильберна и Уинстэнли. Это и портрет трагического и сложного времени, это и концепция Английской революции, положившей водо¬
13
раздел между двумя важнейшими формациями, господствовавшими в Европе нашей эры: феодализмом и капитализмом.
Сам много размышлявший о путях исторического развития человечества, М.А. Барг с пристальным вниманием вглядывается в то, как понимали и воспринимали историю люди разных эпох. Недаром он издает в ’’Памятниках исторической мысли" письма лорда Болингброка "Об изучении и пользе истории".
Отдельные труды М.А. Барга были уже давно известны и высоко оценены специалистами за рубежом. В последние годы к нему пришла все возрастающая международная известность. Одного знакомства с разделом его работы о перемещении земельной собственности в Англии (частью главы о фригольде), о котором большинство его британских коллег узнала из прочитанного им доклада во время научной командировки в Лондон, оказалось достаточным для оказания ему высокой чести - избрания членом Королевского исторического общества. Об этом М.А. Барг узнал за месяц до смерти.
М.А. Барг был великим тружеником, годами и десятилетиями работавшим по десять, двенадцать, четырнадцать часов в сутки с редкими днями отдыха, преданным, неподкупным рыцарем науки. Она составляла смысл его жизни, поэтому, когда речь шла об ее интересах, отметались любые компромиссы. Особо отталкивали его бездумное следование научной моде, мнимо важные темы, занятие которыми было рассчитано на внешний эффект, а по сути дела сводилось к повторению под новыми формулировками давно известного, не говоря уже об искажении научной истины в угоду политической конъюнктуре. М.А. Барг признавал лишь исследования, ориентированные на реальное приращение знания, на решение задач, действительно стоящих перед научно-исторической мыслью. У него было множество планов создания научных трудов по тематике, имеющей важное значение для судеб самой исторической науки и более глубокого понимания корней различий в развитии отдельных стран и регионов современного мира. Однако этим надеждам, увы, не суждено было осуществиться...
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И.Н. Ионов
НА ПУТИ К ТЕОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ТРУДНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА)
Растущий интерес к понятию "цивилизация" в отечественной исторической науке породил попытки создания целостной концепции цивилизации, которая могла бы обеспечить системное познание исторических объектов, позволила бы проводить сравнительное изучение цивилизаций. Эти попытки связаны прежде всего со статьями и докладами покойного профессора М.А. Барга, для которого центральным в теории истории всегда был вопрос о соотношении общего и особенного в историческом процессе, проблема исторического синтеза1. Как основа для размышлений им использовалась подмеченная Г. Иггерсом способность марксистской исторической мысли комбинировать элементы герменевтического и эмпирико-аналитического подходов2. Однако само по себе наличие этой способности, как и других предпосылок исторического синтеза, не снимает задачу осознанного, теоретического подхода к решению этой задачи. Без этого дальнейшее развитие теории цивилизаций может быть поставлено под угрозу непредвиденными осложнениями, подобными тем, которые ранее неоднократно разрушали исторический синтез. Кризис марксистской исторической концепции, отодвинутой на периферию исторической науки, возрастание в ней роли индивидуализирующих, герменевтических тенденций еще более обостряет эту проблему, требует постановки вопроса о создании отечественной традиции теории цивилизаций в широком контексте мировой историко-теоретической мысли. Начало этой работе также положил М.А. Барг своими неопубликованными трудами по историографии проблемы цивилизации, однако она осталась незавершенной.
История исторической науки показывает, что синтезные схемы теории цивилизации, создававшиеся на разных этапах ее развития, оказывались весьма непрочными. Кризис таких моделей постоянно сопровождал развитие теории цивилизаций, придавая ему циклический характер. При этом от этапа к этапу кризис становился все глубже и безысходней, несмотря на расширение охватываемого концепцией материала и растущее значение понятия "цивилизация" как парадигмы исторического исследования. Уже само по себе синтезное истори-
© И.Н. Ионов.
15
ческое знание было порождено кризисом целостных исторических доктрин "философской истории" Вико, Вольтера, Гердера и др., в которых локальные и стадиальные подходы к цивилизации, линейное и циклическое в ее развитии, природное и общественное, логическое и историческое сосуществовали в нерасчлененном единстве. Однако и первые попытки синтезной теории цивилизаций, осуществленные в XIX в. в рамках позитивистской традиции И. Тэном, К. Лампрехтом и др., отошли в свою очередь, к концу века в исторической науке на задний план под наступлением индивидуализирующей и нарративной тенденций. Правда, ни в конце XVIII, ни в конце XIX в. активного сопротивления тенденции создания широких исторических обобщений еще не существовало. Даже в немецкой, герменевтической исторической традиции были живы идеи И.Г. Гердера и Г.Ф. Гегеля, о чем свидетельствуют примеры Г. Рюккерта и И.Г. Дройзена. Позитивизм также признавал необходимость обобщений, делая их задачей социологии. Баденская школа лишь провозгласила отказ от номологического знания в истории, но не смогла добиться единства по этому поводу даже в собственных рядах. Все это позволило теории цивилизаций вновь пережить расцвет в XX в. Появились концепции М. Вебера, О. Шпенглера, А. Тойнби, историков школы "Анналов" и др., наложившие свой отпечаток на развитие исторической науки в целом. Однако уже в 70-е гг. стало переживать кризис наиболее мощное направление, связанное с изучением истории цивилизаций - школа "Анналов". Оказалась под ударом концепция "целостной истории" Ф. Броделя, трактуемая как "тоталитарная". Понятие "цивилизация" перестало быть предметом теоретического анализа для историков школы "Анналов", хотя на периферии французского обществоведения такие попытки еще встречаются3. Этот факт не может не стать предостережением для всех, кто пытается сегодня создавать синтезные модели истории, тем более что сторонники индивидуализирующего подхода не только вновь перешли в наступление, но и стараются теоретически обосновать невозможность концептуального, генерализирующего подхода. Наследие баденской школы получило в этих условиях новый, общемировой резонанс в рамках постмодернистской модели истории. Познавательная область теории цивилизации и исторического синтеза осознаются в условиях перехода от процесса модернизации западного общества к его постмодернистской модели, в условиях развертывания глобальных кризисов и угасания исторического оптимизма как область исторических миражей и познавательного кризиса, из которой различные научные школы отступают в разных направлениях, сосредоточиваясь на попытках синтеза в рамках узколокальной истории (истории сельских общин, городских кварталов и т.п.) или же прямо уходя в область "устной истории", изложения не переработанной теоретически исторической традиции. Глубина кризиса теории цивилизаций сегодня проявляется в том, что именно ее теоретические основы в сознании массы ученых-историков поставлены под вопрос4.
16
Превращение области исторического синтеза и теории цивилизации в область познавательного кризиса имеет свои глубокие гносеологические, ментальные и социальные корни. Логические проблемы связаны с доказанной К. Геделем невозможностью создания непротиворечивых формально-логических моделей сложных систем, усугубляемой как отмеченной П. Сорокиным многоуровневостью и разнородностью структурных элементов цивилизаций, так и наличием в теоретическом пространстве теории цивилизаций эпистемологических барьеров между природным и духовным, логическим и историческим и т.п. Ментальные проблемы сводятся в основном к амбивалентности рационалистического и мифологического подходов в позитивистской теории цивилизации, выявлению теологических корней линейной концепции цивилизации, покоящейся на вере в неизбежность прогресса знания и общества. На этом основании даже позитивисты, такие как К. Поппер, отвергают возможность построения моделей исторического развития, т.е. возможность самой теории цивилизации6. Несостоятельной оказывается и попытка привязать теорию цивилизации к определенной тенденции социального развития. Кризисы модернизации неоднократно приводили, например, к смене воззрений представителей одной традиции теории цивилизаций на роль революций в истории на противоположные (во Франции от Кондорсе до И. Тэна и от М. Блока до Ф. Фюре). Наличие полярных оценок историками ближайших и остающихся актуальными событий не может не подрывать авторитет теории в целом.
Однако мы видим нашу задачу не в анализе отдельных трудностей построения теории цивилизации, а в поиске общих предпосылок для их преодоления. В этом плане важно отметить, что антропологизация исторической науки, рост внимания к человеку в истории не разрушают до конца самой возможности теории цивилизаций. Напротив, "деятельностный” подход к истории, сторонником которого являлся и М.А. Барг, позволяет по-новому поставить не только проблему человека как субъекта истории, но и проблему человека как субъекта исторического исследования, расширить герменевтическую проблематику теории цивилизаций и проблемы ее построения. На наш взгляд, продвинуться вновь вглубь области познавательного кризиса, не рискуя поставить под удар создаваемую при этом концепцию, невозможно без осознания активности познающего субъекта, роли его субъективности в построении теории цивилизации и преодолении ее внутренних противоречий.
В этом смысле обнадеживающим представляется пример веберовской социологии, которая как форма сравнительной истории цивилизаций не только не испытывает кризис, но и переживает в 70-90-е годы XX в. ренессанс, став наряду с традицией А. Тойнби наиболее влиятельной школой в области теории и истории цивилизаций7. Это связано со своеобразием подхода М. Вебера к проблеме исторического синтеза. Если школа "Анналов" осуществляла синтез на неопозитивистской основе, дополняя изучение географической и искусственной
17
среды деятельности человека анализом его менталитета как структуры сознания, основы герменевтического подхода к истории, то М. Вебер и его последователи развертывали синтез на встречном направлении, стоя на позициях немецкой исторической школы, герменевтического подхода, ставшего традиционным со времен В. фон Гумбольдта и И.Г. Дройзена. При этом изначально субъективные элементы активности историка в познании играли важнейшую роль для представителей этой традиции. Эта активность оставалась осознанной и тогда, когда стремясь преодолеть узость историзма, немецкие обществоведы делали шаг навстречу позитивизму. Об этом свидетельствует, в частности, анализ Р. Ароном исследовательского подхода М. Вебера, вскрывающий субъективные основы произведенного им синтеза.
В своей известной книге "Критическая философия истории" Р. Арон, являясь скорее сторонником В. Дильтея, т.е. критикуя М. Вебера справа, отмечал, что существенным элементом теоретического подхода Вебера к исторической науке был учет волевого импульса историка. Ведь число событий в истории практически безгранично и чтобы конституировать часть из них в виде исторических, историк вынужден выбирать их произвольно, считаясь с невозможностью верифицируемого выбора. Веберовский способ такого отбора предполагал отнесение событий к ценностям. И хотя Вебер писал о необходимости освобождения суждения историка от момента оценки, сама по себе связь с ценностями неизбежно предполагала предварительный выбор самих ценностей, т.е. волевой акт. Р. Арон отмечал, что по Веберу "ориентация поиска... не определена природой вещей. Выбирает и определяет объект исследования воля историка". Это не означало само по себе, что такой подход является волюнтаристским. Универсальная истина восстанавливалась в ходе анализа отношений между отобранными фактами. Только они имели общезначимый характер. Сущность методологии М. Вебера состояла, тем самым, в синтезе субъективности и объективности в историческом познании, в противостоянии метафизическому и эстетизирующему подходам к истории как односторонним8. Объективность исторического исследования утверждалась и в его соотнесении с общественной практикой, являющейся воплощением воли активных индивидов. "Отнесение к ценности, - подчеркивал Р. Арон, - это, таким образом, форма вопроса к цивилизациям прошлого о том, что они означают по отношению к тем формам существования, которые мы выбираем"9. Здесь история прямо соотносится с политикой как объективное знание с проявлением субъективной воли. Поэтому неразрывное единство в жизненной практике М. Вебера исторических штудий и политической борьбы представлялось Р. Арону отражением характера его подхода к истории, взаимодополнительности в нем объективного и субъективного начал. Правда, сам М. Вебер стремился максимально разделить эти начала, акцентировал внимание на объективности исторического знания, возражал против его непосредственной связи с политической практикой10. Но в содержании его жизненной практики эта связь
18
восстанавливалась и фактически, подчеркивал Арон, мМакс Вебер хотел объективности в истории во имя политики, а не вопреки ей”. Он упрекал Вебера за то, что тот плохо понимал, как историк осознает свое настоящее в качестве предпосылок познания прошлого. "Эта диалектика исторической науки и жизни, знания прошлого и истолкования настоящего, - писал он, - имеет неизбежным следствием необходимость решения или множества решений, через которые индивид осознает себя и свою волю. Выбор следует из собственного положения человека, который, в процессе своего становления, как член своей исторической группы, вопрошает мир, в котором живет, свое прошлое и себя"11. Для Р. Арона центральной была проблема оправдания этой воли. Он не принимал ни позитивистский или марксистский взгляд, основанный на "желании иметь науку, в рамках которой хотеть значило бы мочь", ни веберовский подход, представлявшийся ему лишенным надежды в качестве опоры воли. Более сбалансированным казался ему подход В. Дильтея12.
Очевидно, что проблематика, затронутая Р. Ароном, непосредственно соотносится с двумя проблемами, до сих пор занимающими центральное значение в немецкой исторической теории: с проблемой интенциональности, поставленной в феноменологии Э. Гуссерля и проблемой временного горизонта, поставленной В. Дильтеем. Правда, трактовка им этих вопросов сегодня представляется довольно узкой. Как для Гуссерля и Дильтея, для Р. Арона активное формирование объекта исследования познающим разумом (подход, объединяющий позитивистов и М. Вебера) предполагало неверное истолкование принципа интенциональности, а временной горизонт как предпосылка герменевтического "переживания" и "понимания" истории должен был формироваться интуитивно, на экзистенциальном уровне, без непосредственной связи с общественной практикой13. Такой подход к феноменологии и герменевтике отвечал состоянию их разработки на период 1930-х годов, когда была написана его книга. Но у Р. Арона встречаются и элементы истолкования позитивистского и марксистского подходов, основанные на более современном, расширительном истолковании интенциональности как инварианта научного знания, ясно выраженном М. Хайдеггером в понятии "антиципации" ("предпонимания")14. Это делает его анализ весьма продуктивным и принципиально применимым ко всей истории исторического знания, в частности, к истории попыток исторического синтеза и создания теории цивилизаций. Используя его принципы, можно вскрыть субъективные, волевые предпосылки и препятствия, встающие на пути исторического синтеза, понять роль субъективной активности историка в построении концепции цивилизации.
В сущности, Р. Арон впервые развернуто поставил вопрос о соотношении объективных и субъективных моментов в историческом знании, вопрос, который приобрел ныне невиданную остроту. Исследования по методологии истории выявили, что приверженность "объективности" отнюдь не гарантирует историков от сильных проявлений субъек¬
19
тивных тенденций, как впрочем, и наоборот. Особенно ясно это можно показать на примере сравнения французской и английской позитивистской и немецкой герменевтической традиций. В сущности, "объективность" позитивистского знания о "социальной динамике" общества основывалась прежде всего на субъективном, волевом стремлении реализовать на практике идею прогресса, воплотить в жизнь потенциал модернизирующегося буржуазного общества, сделать его основой совершенствования человека. Соответственно в исторической науке этот проект линейного развития отражался в линейности восприятия прошлого, волевом отборе фактов, игнорировании тех из них, которые этому противоречили. Характерно в этом смысле неизбежное сведение истории цивилизации ее классиками Ф. Гизо, Г.Т. Боклем и др. к истории одной, "самой прогрессивной", чаще всего собственной страны при почти полном игнорировании или третировании как "неисторических" реалий Востока и Африки15. Социальноэкономические пристрастия позитивистской и неопозитивистской традиции, второстепенность для нее политической истории и вообще волевых проявлений активности человека представляются в свете этого как попытки скрыть от самих себя подлинный, субъективный характер приобретенного таким путем знания, его ограниченность "световым конусом" собственной воли. Объективизм позитивизма (и в значительной степени марксизма) выступает при этом как компенсаторный признак, следствие подсознательного стремления к избеганию постановки вопроса о характере полученного знания.
Напротив, в герменевтике проблема субъективности человека была центральной. В. Дильтей постулировал представление об относительности исторического знания вследствие его субъективности с одной стороны, и видел задачу своей концепции в воссоединении познания, чувств и воли - с другой16. Но сами волевые проявления историков в традиции немецкого историзма были ограничены. Это было связано с тем, что если позитивизм был порождением надежд на успех модернизации, то историзм был следствием стресса от революционных и модернизационных кризисов17. Дильтей ставил вопрос о временном горизонте, об активном и пассивном отношении историка к прошлому, но фактически этот горизонт был "вечным настоящим" переживания, в котором происходило герменевтическое "понимание". И хотя сам Дильтей не отрицал идеи прогресса, он не объективизировал, а субъективизировал ее, выявляя ее предпосылки в воле людей. Характерно, что критику Дильтея, стороннику концепции "социальной истории" М. Риделю такой подход, в отличие от Р. Арона казался безвольным, компенсаторным по отношению к социальной реальности Германии XIX в. Это был побег из реальности в историю, завершившийся у наследников Дильтея погружением в нее до полной неразличимости, затушевывавшей проблему субъекта и объекта познания18. Однако герменевтический подход на деле объективистски учитывал некоторые исторические и познавательные реальности, в частности, альтернативность истории, множественность векторов ее развития, в
20
пределе достигающую числа субъектов или даже актов деятельности, а также альтернативность исследовательских подходов, определяемую как множеством культур, так и множеством оценок этих культур, оценок их реальной исторической значимости познающим индивидом. Но парадоксальным образом этот объективизм познания противоречил задаче придания общего характера историческому знанию. В частности, именно поэтому М. Вебер выступал за его преодоление, предупреждая об опасности распадения истории на множество несогласуемых исторических перспектив. При этом речь у Вебера шла о необходимости анализа объективных связей, однако не ставился вопрос о разделении объективности сконструированной (волевой, позитивистской, субъективной) и объективного учета альтернативности истории и интенциональности действий человека19. Не учитывалось то, что объективность в трактовке исторического знания и стремление к объективности этого знания могли вступать в противоречие и выступать как стороны дихотомии, так что для правильного решения вопроса их надо было бы сначала развести.
Почему же объективное историческое знание оказалось непосредственно недостижимым для европейских историков? Почему стремление к объективности вело к реальному росту роли субъективности историка, а объективный подход к процессу познания приводил к распаду единой картины истории? Понять причины этого можно лишь последовательно рассматривая науку как инструмент адаптации человека к среде его деятельности. При этом выявляется, что всякое знание, в том числе историческое, представляет собой не только познавательный, но и компенсаторный механизм, является формой адаптации не только к внешней, но и духовной среде, не только к воздействующему на человека внешнему миру, но и к созданному им самим образу этого мира. Это две стороны знания, которые невозможно оторвать друг от друга. Наряду с религией философия, а затем и гуманитарная наука представляет собой инструмент преодоления разрыва между сущим и должным в мире, наличие которого придает человеческой жизни неустранимый дискомфорт. Из своего детства человек приносит с собой в жизнь мир волшебной сказки с ее верой в возможность достижения абсолютных результатов, преодоления противоречий между человеком и миром, которая жила в магическом сознании и не преодолена в существующем традиционном сознании. Цивилизации "осевого времени", как развернуто показал К. Ясперс, создают масштабные идеологические конструкции для преодоления противоречия сущего и должного, которое невозможно скрыть в условиях кризиса магического отношения к миру, противоречия глубинного, экзистенциального, уходящего корнями в факт смертности человека. В разных культурах этот разрыв преодолевается разными способами. Для одних главным является преодоление противостояния сущего и должного в потустороннем мире, чаще всего в форме "спасения" людей добродетельных. Однако не менее часто, как показал С.Н. Айзенштадт, функцию преодоления этого разрыва
21
берет на себя философия, соединяющая их в "земном” мире путем его рационализации20. Характерно, что "потустороннее" решение проблемы, отрицание "дольнего мира", стремление к прекращению бытия и нирване, как в Индии, препятствует развитию исторической науки. Ведь факты нашего мира в этом случае не имеют значения и не нуждаются в упорядочивании. Мир представляется ареной борьбы воль богов, и для воли человека в нем почти не остается места. Напротив, там, где сущее и должное стремятся соединить в "земном" мире, обществе и государстве, как в античной Греции и Риме, а также в Китае, там историческая наука играет видную роль и достигает своих классических высот. Воля человека в истории ставится в центр внимания историка, при этом последний организует исторические события, как "свою" историю, историю своего народа и государства. Соответственно в истории европейской культуры можно выделить теологический этап развития исторической науки, соответствовавший доминированию стремления к разрешению противоречия сущего и должного в потустороннем мире, когда главным было изучение проявлений воли божией в истории, и светский ее этап, когда стремление к разрешению этого противоречия в "земном" мире активизировало волю историка (правда, до середины XIX в. - в пределах накатанной теологами линейной колеи). Вне компенсаторной функции истории невозможно выявление ее смысла для нас, также как вне познавательной функции истории невозможно выявление ее смысла для творящих ее людей.
В этом плане философия истории, начиная с Просвещения, это специфическая форма соединения сущего и должного. Последее касается как формы, так и содержания, смысла знания. Как пишут Ф. Егер и Й. Рюзен, философская история, это "ничто иное как установление порядка в историческом знании при помощи его критики человеческим разумом"21. Надо добавить только, что сама эта "сфера порядка" неуклонно расширяясь, охватила уже во французском Просвещении смысловые связи настоящего и будущего в рамках доктрины прогресса, а в теории позитивизма она освоила и смысл прошлого, представив его как общий закон прогрессивного развития человечества. Тем самым во французской истории "прогресса цивилизации" сущее в истории почти целиком, без изъятий, было осознано как должное, мир получил философское оправдание, практически не нуждавшееся в религиозном подкреплении, а человек - смысл жизни, будто бы объективно данный, выведенный из закона прогрессивного развития человечества. Этот смысл, как и его религиозная версия, был и далеко, и рядом - но только не в потустороннем мире, а в будущем, ради которого и следовало жить. Историческая наука создавала идеологический фундамент для новой веры, скреплявшей общественное сознание. Недаром именно в период господства этой веры, в первой половине XIX в. понятие "цивилизация" стало "национальным знаменем" французов22. Было сформировано своеобразное представление о горизонте исторического исследования как "горизонте будущего". Элемент бес¬
22
порядка в мире признавался постольку, поскольку общество все же оставалось христианским и не могло допустить полного снятия проблемы потустороннего разрешения противоречия.
Но передача человеку права обладания всемогуществом божества, смена теодицеи на антроподицею не могла решить автоматически проблемы научности такого подхода. Более того, компенсаторная функция науки как формы адаптации к нашему образу мира входила в противоречие с ее познавательной функцией как формы адаптации к действительному, материальному миру. Понятие ’’цивилизация” в этом плане было не столь уж эффективным инструментом познания. Р.Л. Лэхоур отмечал, что "если единая линия прогресса к идеалу цивилизации вообще могла быть проведена, то она должна быть конечным результатом, а не исходным пунктом исторического исследования”, подчеркивая тем самым, что здесь философия не столько готовила инструментарий для исторической науки, сколько пыталась подменить собою конкретные исследования23. Следствием этого были потрясения, испытываемые концепцией цивилизации при каждом социальном кризисе и особенно в условиях кризиса ценностей традиционного общества, пошатнувшего статус традиционного сознания как ее неявной предпосылки. Под влиянием этих ударов уже довольно скоро, к началу XX в. выяснилось, что линейность прогрессистской исторической схемы - грубое насилие над историческим временем. Так, настоящее, в котором уживались традиционные и современные формы сознания, было произвольно развернуто в прошлое и будущее с господством соответственно первой и второй форм. Сами условия этой операции, статус прогресса как закона истории начали вызывать сомнения. Социальные кризисы и исторический опыт показывали, что любая стадия развития цивилизации не гарантирует автоматически дальнейшего прогресса. Тем самым ставилась под сомнение идея о возможности экстраполяции будущего из настоящего. С другой стороны, стало очевидным, что способностью развития обладают не только "прогрессивные”, но и "отсталые" народы, которые в состоянии не только быть носителями древних самобытных цивилизаций, но и в один прекрасный день сменить "авангард мировой цивилизации", заняв его место24. Это требовало внесения изменений не только в способ соотнесения настоящего и будущего, но и в соотнесение прошлого и будущего, т.е. разрушало всю историческую картину. Позитивистская история таким образом оказалась неспособной играть свою компенсаторную роль, что сказалось в обострении экзистенциальных проблем человека во Франции.
В Германии проблема соотнесения сущего и должного в истории была решена по-другому. Во-первых, там даже в условиях Просвещения гораздо более сильной оставалась потусторонняя составляющая этого решения. Протестантизм был исторически моложе католицизма и более успешно играл свою роль. Во-вторых, в истории должное присутствовало не в виде континуума, как у французов, а в форме монад Лейбница, как дискретных сущностей исторического процесса, не ис¬
23
черпывающих его содержания. Через такие сущности, "дух народа", народы и культуры, как носители особых индивидуальных смыслов, соотносились с богом, придававшим им всеобщий, универсальный смысл, являвшийся вместе с тем смыслом истории для историка. Тем самым отчасти снималось противоречие между познавательной и компенсаторной функциями науки, потусторонним и "земным" решением проблемы противоречия сущего и должного. Однако это "снятие" было в значительной степени кажущимся и нестойким. Такой подход по своему ослаблял познавательный импульс исторической теории. Неактуальность проблемы земного смысла истории для историка, которая после Гердера практически не ставилась, выводила на первый план фактографичность, ставшую неотъемлемой характеристикой ранкеанской исторической школы, хотя для самого Л. фон Ранке универсализирующий взгляд на мировую историю не был чужд. Однако смысл истории он видел не на земле, а в небесах - в идее бога25. По мере секуляризации сознания историков, кризиса религиозных представлений этот интегрирующий фактор играл все меньшую роль и герменевтическое сознание оказывалось в кризисе не менее остром, чем позитивистская общественная наука. Отсутствие общего смысла истории для историка порождало вторичную компенсацию, стремление подменить его индивидуальными смыслами действующих людей и культур, прежде всего собственной (что вело к национальному самодовольству в изучении истории Германии). Познание парадоксальным образом тормозилось тем, что угнетенной оказалась компенсаторная функция исторической науки, а вторичная компенсация заставляла творить мифы вокруг объектов познания. Эта проблема не решена до сих пор. Более того, она становится все более актуальной и для синтезных моделей исторического знания, созданных на базе неопозитивизма, по мере того как у их носителей исчерпывается исторический оптимизм.
Вместе с тем надо отметить, что кризисы французской и немецкой исторических традиций были не только показателями их слабости. Выход из этих кризисов помогал углублять представления об историческом процессе. Так, французская историческая школа смогла сформулировать представление о множестве цивилизаций. Немецкая историческая традиция в условиях кризиса со своей стороны подошла к основанной на единой теоретической базе концепции "высоких культур". При этом идея бога как смыслового средоточия исторического процесса в ходе ее секуляризации превращалась в источник плодотворных идей об интегрирующей роли религии в культуре различных стран и прогрессивной роли мировых религий в глобальном процессе рационализации (у М. Вебера). К тому же постепенность, дискретность движения немецких историков к идее множества цивилизаций, сбалансированность в их концепциях элементов традиционного (вера) и современного (научный анализ) сознания давали им определенные преимущества. Наука не позволяла погрести себя под архаичными, магическими представлениями о всемогуществе человека, о возмож¬
24
ности достижения им абсолютных результатов, неизбежно становящимися господствующими в условиях "обвальной секуляризации"; сохраняла главное достижение мировых религий - представление об ограниченности возможностей человека, содержащееся в идее греховности людей и отражающее в конечном счете факт недостижимости абсолютных результатов ни в практической деятельности человека, ни в его отношениях с другими людьми, ни в его отношении к самому себе. Религия снимала эту проблему путем прямого индивидуального и общественного отношения человека к богу, позволяющего достичь спасения как абсолютного результата религиозной деятельности. Это обстоятельство является до сих пор предпосылкой гармоничности и сохраняющегося авторитета таких доктрин истории цивилизации, как например теория А. Тойнби. Надо подчеркнуть в связи с этим неслучайность сравнения Тойнби и Гердера, внутреннее родство их теоретических построений26.
Опыт исторической мысли доказывает, что вне реализации компенсаторной роли исторической науки, попыток преодоления ею разрыва между сущим и должным невозможно достичь исторического синтеза. Правда, в условиях быстро изменяющейся "идеальной среды", перманентного кризиса ценностей в XX в. реализовать эту роль непросто. Это возможно лишь в рамках осознанно выбранной стратегии, учитывающей множество факторов, в частности, структуру и функции человеческого сознания. Следует отметить, что идея цивилизации создает и облегчающие эту задачу обстоятельства, такие как элементы конвергенции позитивистского и герменевтического подходов к истории, подталкивающие их к общему центру тяжести - идее множественности цивилизаций.
Однако такая конвергенция - скорее долговременная тенденция, чем легко достижимый результат. Синтез подходов парадоксальным образом становится актуальным лишь в крайних точках их разведения, так что большая часть пути приходится на удаление позиций друг от друга. Каждая из традиций стремится к самодостаточности, пытается произвести синтез на своей собственной основе. Это проявляется в тенденциях развития структурообразующих элементов такого синтеза, превращающихся в стороны дихотомии, в частности, в противопоставлении понятий "потребности" и "ценности". Позитивистское и прагматическое направления акцентируют роль потребностей человека и процесса их удовлетворения в истории, видя в этом самостоятельную ценность. История, особенно у классических позитивистов вроде Г.Т. Бокля, а также у сторонников экологического подхода к истории, становится историей удовлетворения потребностей. При этом верное в принципе положение о том, что без удовлетворения потребностей человек просто умер бы, абсолютизируется и извращается. Фактор, ограничивающий пределы возможности исторического развития, становится основанием для исследования самой истории. При этом последняя неизбежно превращается в историю целесообразной деятельности, историю рациональности. Но одновременно это и история отчуждения
25
человека, история машинизации мира (как в форме механизации производства, так и в форме бюрократизации как инструментализации отношений между людьми). Это история цивилизации как искусственной среды деятельности и вытеснения на ее периферию человека как инструмента удовлетворения общественных потребностей, т.е. история исторического тупика, несмотря на провозглашаемый ею "закон" исторического прогресса. Родовая сущность человека подменяется ею социальной сущностью человека как фактора общественного производства. С этой точки зрения стадии развития производства как заключительной фазы рациональной деятельности действительно выступают как структурирующие общественное развитие, и марксистская теория формаций предстает как неизбежное развитие позитивистской схемы. Но лишенная реальной перспективы, история лишается и многообразия. Цивилизацию, провозглашенную целью исследования, начинают мерить чуждой по отношению к ней мерой. Даже при признании множества цивилизаций остается возможность приведения их к общему знаменателю и измерение, условно говоря, "удавов - в попугаях". В этом проявляется тот факт, что на роль универсальной, научной истины претендует истина локальная. Происходит глобализация и универсализация смысла существования центра мировой цивилизации. Именно поэтому позитивистские эволюционистские доктрины развивались прежде всего в центре цивилизации (Франции и Англии XIX в.), в странах, вошедших в этот центр (в США в XX в.) или находящихся под влиянием надежды на вступление в этот центр (в третьем мире, например, в Индии в постколониальный период)27. Понятие "цивилизация" при этом является вторичным, развивается зависимо в рамках социальной парадигмы истории.
Те же тенденции прослеживаются и в герменевтической традиции, акцентирующей внимание на культурных ценностях. Потребность человека в ценностях, его неспособность удовлетвориться простым приспособлением к среде обитания, необходимость в смысловом оформлении окружающего его мира при этом абсолютизируется так же, как ценность удовлетворения физических и социальных потребностей у позитивистов. Герменевтика сосредоточивается на "понимании" этих смыслов, упуская из виду или отодвигая на задний план объективные свойства материальных носителей этих смыслов. Предел вновь превращается в основание теории. Родовая сущность человека снова подменяется, но не социальной, а культурной его сущностью. Понятие цивилизации, на этот раз открыто, вновь отодвигается на задний план. Отчасти это способствовало относительно объективному подходу к чужим ценностям, которые воспринимались не через призму собственных, а сами по себе. Но эта объективность уничтожалась релятивизмом, который Ф. Ницше охарактеризовал как "историческую болезнь"28. Акцентирование альтернативности исторического процесса суживало восприятие реального течения времени из прошлого в будущее. Историк схватывал в нем лишь связь современной культуры с традицией, дифференцирующую тенденцию, не заме¬
26
чая тенденции интегрирующей, представленной устремленностью времени в будущее, ограничивал себя ролью фиксатора смыслов, устраняясь от роли создателя новых, формирующихся смыслов. Это было связано с природой культуры, как объекта исследования, с ее укорененностью в традиции, в прошлом. Но при этом игнорировалась главная, творческая функция культуры, и историк, поставивший культуру в центр своего внимания, сам оказывался на ее обочине. Разрыв прошлого и будущего делал ущербным немецкий историзм, как ограниченность поля зрения делала ущербным прогрессизм позитивистов. История для классической герменевтики оказывалась "игрой в бисер", по-своему стоившей "измерения в попугаях". Несомненно, что для немецких историков это было связано с их стремлением духовно отстраниться от того периферийного положения, которое занимала Германия XVIII-XIX вв. в системе европейской цивилизации, вернуться к воспоминаниям о ее центральном положении в Европе в средние века. Характерно, что наследие этой традиции активно используется фундаменталистами в третьем мире, мечтающими о возрождении своих стран как центров цивилизаций29.
Трудности исторического синтеза, образование парадигмальной дихотомии общество-культура привело к начавшемуся еще в XIX в. общему кризису исторической теории. Он был оборотной стороной кризиса модернизации, выявившего невозможность непосредственного разрешения экзистенциальных проблем человека в буржуазном обществе. В этих условиях позитивистская и герменевтическая традиции предложили свои решения проблемы человека, основанные на свойственном им толковании его как существа общественного или культурного. В позитивистской традиции даже в этих условиях сохранилась воля к совершенствованию человека и внешнему, общественному разрешению его внутренних проблем. Поэтому рационализм позитивизма постоянно воспроизводился через социальный романтизм и столь же постоянно "соскальзывал" в него, замыкаясь на утопической традиции нового времени. Социология О. Конта, несмотря на субъективное желание последнего дать сбалансированный подход к идеям прогресса и порядка, была бы невозможна без волевого, утопического импульса Сен-Симона. В то же время позитивистская наука с ее стадиальным делением истории, социальным оптимизмом и верой в законосообразность прогрессивного движения человечества явилась средой развития марксистских взглядов на историю.
Марксистское деление философии на диалектический и исторический материализм было реверансом в сторону немецкой научной традиции с ее противопоставлением наук о природе и наук о духе. Трактовка естественно-исторического как социально-исторического открывала марксизму дорогу к исследованию форм сознания, порожденных общественной реальностью, т.е. к своего рода "пониманию" исходных импульсов человеческого поведения, позволяла не смеши¬
27
вать природно-средовые влияния и сферу собственно-человеческой, общественной жизни. Но главным образом это деление было предназначено для того, чтобы компенсировать разрыв между трезвостью диалектической логики и романтизмом "научного коммунизма". Во всяком случае в марксизме XX в. эта функция стала главной, естественно-исторический подход был замкнут на проблему революции, а вопросы воздействия среды и специфики форм сознания оттеснены на периферию марксистской теории, в анклав "азиатского способа производства", являвшийся чем-то вроде аппендикса в этом самодостаточном организме. Теоретически развитие в сторону исторического синтеза не было здесь невозможно, что доказывают хотя бы работы советских историков 1960-80-х годов30. Но для его реализации требовалось занять более твердую позицию по отношению к социальному романтизму, по-иному решить проблему о достижимости для человека абсолютных результатов деятельности, лишить марксизм его формы "вырожденной религии" (А.Ф. Лосев). Отчасти это движение наметилось во французской марксистской мысли, активно взаимодействовавшей со школой "Анналов". Оно сопровождалось выдвижением проблемы "азиатского способа производства" в центр научных интересов. Однако мифологизаторский подход, волевая деформация исторического знания оказались столь неотъемлемы от марксизма, что отход от социального романтизма подрывал самоидентификацию теории, способствовал растворению границ различных версий исторического синтеза. Марксизм, как и позитивизм, сохраняет свое лицо, пока в нем существует четкое, нормативное представление о будущем, пока это представление структурирует (и примитивизирует) воспроизводящиеся в рамках этих доктрин представления о прошлом31.
В герменевтической традиции XIX в. из-за неполной ее секуляризации представление о греховности человека, недостижимости для него абсолютных результатов деятельности было сохранено, но именно оно подавляло волевой импульс историка. Перспективы выхода из модернизационного кризиса рассматривались пессимистически, на первый план выходила задача сохранения традиции как живой связи времен, общинности как альтернативы зарождавшемуся массовому обществу. Представления о смысле истории как божественном плане к концу века казались преодоленными, историческая наука была слишком секуляризована, чтобы принять их32. Сыграло свою роль и представление об отсутствии общественной или индивидуальной гарантии спасения, характерное для протестантизма, его фатализм. Все это не могло не отразиться на волевом импульсе исторического познания, если он и появлялся. Примером этого была историческая концепция О. Шпенглера, сохраняющая отчасти свое значение и поныне как предтеча цивилизационного синтеза А. Тойнби. Воля стала для Шпенглера центральным понятием его метаистории, основой исторического мышления. С одной стороны, это свидетельствовало о необходимости преодоления узких рамок немецкого историзма и герменевтики. Но с другой, проявления этой воли оказывались иррациональными и
28
неспособными стать основой универсального, научного знания. Т.Б. Стронг отмечала, что в рамках концепции Шпенглера "можно было представить себе историческую литературу, которая не имела бы в себе ни капли обыкновенной эмпирической правды, и тем не менее могла бы претендовать на объективность"33. Воля у Шпенглера привела к вытеснению теоретической формой эмпирического содержания. Последнее было связано с тем, что воля Шпенглера, как и воля Ницше - это воля отчаяния, паническая реакция на кризис ценностей. О. Шпенглер писал: "Мы не верим во власть разума над жизнью. Мы чувствуем, что жизнь одолевает разум... Из оптимистов мы стали скептиками... Интересуясь прошлым и настоящим, как историей, будущее мы оставляем судьбе, которая не определяется причинами, которая из идей и воль формирует разнообразие культуры"34. Соответственно в истории он искал не причину, не смысл, а красоту, ибо история - это судьба. Ритмы судьбы у него замещали кантовскую идею "божественного плана" как основу целостности немецкого историзма, а ее непредсказуемость отражала фатализм протестантизма. Одновременно "философия жизни" Ф. Ницше и О. Шпенглера противостояла историзму и разрушала его. Она стала теоретическим обоснованием нацизма, противопоставившего понятию культуры как исторической парадигме понятия воли и власти. Причем столь разрушительной ее делала именно близость традиции историзма. В рамках концепции Шпенглера завершались процессы, начавшиеся в рамках этой концепции. Ф. Егер и И. Рюзен в частности утверждают, что понятие "культура" было дискредитировано уже самим историзмом35. Это отношение напоминает связь позитивизма и марксизма. Так же у современных неомарксистов оказалось в состоянии кризиса понятие "общество". И. Уоллерстейн идет до конца, критикуя это понятие как основу парадигмы и призывая отказаться от самого термина36. Марксизм и "философия жизни" стали таким образом формами кризиса не только позитивистской и герменевтической традиций, но и социальной и культурной парадигм исторической науки, тупиковыми стадиями развития этих двух направлений, судьба которых напоминает о необходимости настоящего, полномасштабного исторического синтеза.
Конечно, как и все абстракции, разделение позитивизма и герменевтики по принципу "воли" относительно. Позитивизм - это не только расширительное толкование традиции естественных наук нового времени как опытного знания, но и своего рода результат социальных экспериментов европейской истории, и в этом качестве - объективное знание. Прогресс науки и промышленности, индивидуального развития человека - факты истории мировой цивилизации. Но это знание существенно ограничено рамками опыта, некритическим, субъективным восприятием его масштабов и глубины. Оно ориентировано на преобразование среды и удовлетворение потребностей человека, но не учитывает, что среда не может быть преобразована целиком, а потребности человека никогда не могут быть удовлетворены
29
полностью. В этом - тупик не только марксизма, но и неопозитивизма, в том числе его синтезных моделей, ориентированных на анализ менталитета как предпосылку герменевтического "понимания" истории. Расширение границ опыта и связанное с этим разочарование подрывают волевое основание неопозитивистского исторического синтеза. Это видно на примере истории школы "Анналов", огромные достижения которой не должны заслонять присутствие сил, постепенно уничтожающих предпосылки данной версии исторического синтеза. Само рождение журнала "Анналы" было связано с отходом от тотального синтеза А. Бэрра и заменой свойственного последнему телеологизма на интеракционизм. Дальнейшее развитие школы от Л. Февра и М. Блока к Ф. Броделю как представителю ее второго поколения сопряжено с отходом от поссибилизма, делающего акцент на активности человека, к концепции "большой временной продолжительности", в рамках которой гораздо больший упор делается на активность среды обитания, а человек остается пленником условий своей жизни. Субъективное стремление Ф. Броделя к "целостной истории" не было подкреплено в достаточной мере верой в прогресс, и синтез оказался возможным лишь на островке, "вечного прошлого", а история событий как поле проявления человеческой субъективности утратила статус "настоящей" истории. Структурализм стал для Броделя внешней скрепой распадающегося синтеза, но оказался не приспособленным для этой роли, так что попытки третьего поколения школы "Анналов" к расширению и диверсификации поля исторических исследований разрушили синтез как принцип исторических изысканий на множество мелких попыток параллельного изучения действия различных факторов. В результате было раздроблено ранее единое поле исторических исследований и было поставлено под сомнение дальнейшее существование школы "Анналов", у которой отсутствует четвертое поколение, т.е. будущее37. Не трудно предсказать подобную же судьбу другим смелым попыткам исторического синтеза на модернизаторско-либеральной основе, подобных идеям Ф. Фукуямы.
В то же время в рамках традиционной герменевтики всегда оставалось место для воли историка. Однако это была созерцательная воля, не способная стать основой исторического синтеза, в полной мере восстановить историческую связь. Но порой и у немецких историков появлялось отвращение к роли "евнуха в гареме истории"38. Под влиянием этого чувства создавалась традиция, существовавшая в рамках немецкого историзма, но одновременно стремившаяся к его преодолению. Своеобразие этой традиции синтеза заключается в том, что все крупнейшие ее представители: историки гёттингенской школы, И.Г. Гердер, И.Г. Дройзен и М. Вебер в той или иной мере противопоставляли себя Просвещению и позитивизму. Причем со временем эта тенденция нарастала. Гёттингенская школа с ее представлением об историчности природы человека, Гердер с его подчеркнутым интересом к особенному, а не общему в развитии культур, к "духу народа", Дройзен со своим последовательным разведением логического и исто-
30
рического, Вебер с его неприятием оценочных суждений и "профессионального пророчества" историков на первый взгляд кажутся сторонниками крайней версии немецкой традиции, а не сторонниками исторического синтеза39. Во всяком случае во Франции движение навстречу немецкой теории истории шло гораздо более осознанно и открыто. Тем не менее, несмотря на внешнюю приверженность индивидуализации, их усилия были скорее направлены на установление меры проявления этого качества в немецкой историографии. Происходило это парадоксальным образом в конечном пункте разведения общего и особенного, исторического и логического, понимания и объяснения. Акцентируя внимание на одной стороне дихотомии, историки обнаруживали свою неспособность понять историческую реальность без учета воздействия другой стороны. "Понимание" исторических индивидов как носителей определенной культуры пришлось дополнить методами объяснения, анализом системы, в которой эти индивиды действуют. Систематическое отрицание родства с позитивистской традицией сопровождалось столь же систематическим усвоением достижений последней. Немецкие историки не могли не чувствовать, что как бы они не старались сосредоточиться на смысле изучаемого прошлого, логика их собственного времени не может не воздействовать на процесс исследования, результаты которого в противном случае стали бы совершенно экзотичны и непонятны для современников как по форме, так и по содержанию. Проблема "временного горизонта", поставленная В. Дильтеем и понятие "идеального типа", созданное М. Вебером, были инструментами, возникшими в ответ на новые задачи, которые ставило перед историком историческое познание, зародышами немецкой версии исторического синтеза. В то время как позитивисты искали пути ограничения рационалистической односторонности своего подхода, в немецкой исторической традиции велись поиски путей ограничения интуитивизма и иррациональности классической герменевтики.
Наследие немецкой исторической науки становится особенно важным сейчас, когда в позитивистской и неопозитивистской традиции исчерпывается волевой импульс, когда глобальные кризисы, порожденные современной цивилизацией создают картину "конца истории", культура постмодернизма уверяет, что человек плох по природе, а гуманизм, рожденный Возрождением и Просвещением, мертв40. В этих условиях мифологизаторская сущность позитивизма проявляется в признании неопозитивизмом мифа как инструмента познания, в попытках погружения в чуждые собственной традиции мифы и в мифологизаторском подходе к остаткам рационалистического знания, которое в свою очередь трактуется субъективистски, как один из возможных мифов. В условиях наступления форм традиционного сознания на историческую науку немецкий историзм мобилизует накопленные средства для сопротивления этой тенденции, проявляет волю, которая в сущности является отражением воли человечества к выживанию в условиях глобального кризиса.
31
Главным и наиболее эффективным из этих средств представляется осознанный подход немецких обществоведов к проблеме исторического времени. Еще Я. Буркхардт подчеркивал, что предметом изучения историка является не просто прошлое, а "прошлое, которое тесно связано с настоящим и будущим"41. О. Шпенглер поднялся до осознания того, что соединение времени историка и времени истории - это активный процесс, на который влияет как культура, так и субъективность историка42. Дальнейшее развитие эта мысль получила в 1970-е годы у Р. Козеллека, поставившего вопрос о том, "как, в данном настоящем, связаны временные измерения прошлого и будущего", а также у Н. Люманна, охарактеризовавшего историю как "временной горизонт, который всегда указывает на другой горизонт - будущего"43. Тем самым было творчески освоено представление об исторических альтернативах, исторических модальностях, разведено прош’ое нашего собственного настоящего и прошлое, являвшееся настоящим, скажем, какого-то африканского племени или греческого полиса, из которого наше настоящее непосредственно не вытекает и с которым не взаимодействует; разведено настоящее как прошлое желанного для нас будущего и прошлое некоего реального будущего. Объектом исторического исследования стал "перевал во времени", процесс реорганизации прошлого и будущего по отношению к настоящему. В этом качестве, например, Р. Козеллек изучал европейское Просвещение44. Следствием такой постановки вопроса был вывод о множественности стратегий историка по отношению к исторической реальности и самое главное - о множественности его волевых проявлений, в числе которых изучение прошлого как предпосылки собственного настоящего является не единственным, а лишь самым простым вариантом. Легко видеть, что исторический горизонт как "горизонт ожидания" в зависимости от стратегии развития общества может быть помещен в самые разные позиции. При этом уверенность в правильности наличной стратегии ведет к перемещению этого горизонта ожидания в будущее, экстраполированное из настоящего (для революционера - отрицающее настоящее). Разочарование в существующей стратегии ведет к перемещению горизонта ожидания в область "не нашего" прошлого, не реализованных пока в широком масштабе, спящих исторических альтернатив45. Целью такой операции может быть как побег в прошлое, использование экзотических исторических реалий историком как персонального духовного убежища, или же - как поиск возможных исторических предшественников для возможного будущего, в котором оказались бы разрешаемыми проблемы настоящего, т.е. позиция историка при этом может быть как пассивной, так и активной. Если пассивная позиция предполагает редукцию языка науки к смыслам культуры-убежища и не ведет к историческому синтезу, не предполагает вторжения в область познавательного кризиса, то активная позиция создает условия для такого вторжения, для построения теории цивилизаций, для взаимодействия смыслов локальных культур и конструируемых в процессе выработки стратегии будущего
32
универсальных смыслов. При этом историк осознает ограничения, накладываемые как субъективностью мотиваций действующих лиц истории, как и его собственной субъективностью, условностью конструируемого им будущего и соответствующего ему прошлого. Движение к объективности исторического исследования становится методичным, устанавливается мера объективного и субъективного, универсального и локальных смыслов, познавательной и компенсаторной функций исторической науки. Способом реализации последней цели у Й. Рюзена выступает создание эвентуального исторического горизонта, своеобразной утопии как проявления "должного", вокруг которого организуется "сущее" историческое время, относительно которого происходит согласование двух времен: прошлого и времени самого историка. В представлении о таком горизонте, "kairos", происходит воссоединение реального и идеального, исторического и логического, аргументативного и дискурсивного в историческом познании, т.е. создаются предпосылки преодоления стоящих на пути к синтезу дихотомий и эпистемологических барьеров46.
Наряду с предпосылками исторического синтеза и теории цивилизаций создаются предпосылки преодоления кризиса ориентации, поразившего современное общество, оказавшегося перед лицом глобальных кризисов. Именно поэтому историк, осознавая всю трагичность ситуации, в которой находится человечество, может не порывать с оптимистической, гуманистической традицией Просвещения, не бежать в прошлое, как неопозитивисты, или в будущее, как марксисты, не множить инверсии и дихотомии, которые привели к кризису исторической науки, а получает возможность действовать медиативно, преодолевая застарелые противоречия, мобилизуя все достижения, накопленные исторической наукой. При этом в синтезе могут использоваться как герменевтические, так и экологические, социальноэкономические, системные, деятельностные и многие другие подходы без боязни эклектики, ибо целостность теории задает сама познавательная ситуация, представленная как "герменевтический круг" М. Хайдеггера, в котором главное - структурирование и проектирование, осуществляемые субъектом познания. Они позволяют понимать прошлое, настоящее и будущее в терминах друг друга. Основанием этого служит тенденция к преодолению противоречий традиционной герменевтики и феноменологии в рамках "второй", феноменологической герменевтики, главную задачу которой Г.Г. Гадамер видел не в "воспроизведении", а в "произведении" смысла, не в реконструкции замысла, а в конструировании смысловой ориентации. Способом обретения этой ориентации и является сопряжение смыслов прошлого и создаваемого смысла нашего собственного существования.
В логике современного немецкого историзма соединяются пафос герменевтики и феноменологии: смысловыявляющая и смыслообразующая роль исследователя, задачи выявления изменчивой значимости
2. Цивилизации. Вып. 3
33
истории и признание роли ее идеальных, эйдетических моделей, являющихся историку в настоящем как содержание антиципаций. Такого рода синтез позволяет в условиях наступления исторического релятивизма сохранить идеал однозначности знания, общий позитивизму, марксизму, исторической школе и феноменологии47.
Исходный субъективистский посыл феноменологии не должен нас смущать. Феноменологическая герменевтика не разделительна, а медиативна по природе. Ее наскоки на позитивистскую традицию в этом смысле не более страшны, чем наскоки Дройзена или Вебера, всегда доводивших противостояние до абсолюта, но в результате неизбежно предлагавших компромисс48. Для теории исторического времени как предпосылки исторического синтеза такой компромисс - это превращение индивидуального смысла истории для историка в общественный, осуществляемое в ходе функционирования исторической науки как института общества. История выступает здесь не только как наука, но прежде всего - как инструмент ориентации общества, предпосылка общественной деятельности, в ходе которой происходит проверка субъективных построений ученого на соответствие исторической практике. Поэтому столь важным для Й. Рюзена является понятие "исторической дидактики", учет роли исторического образования как способа превращения исторической мысли в форму общественного сознания. Только тут происходит переход исторического знания в состояние, в котором снимается противоположность субъективного и объективного. Далее историческая концепция может развиваться или опровергаться в соответствии со сменой парадигм науки. Но это уже не может сказаться на оценке ее "объективности". Она стала частью общественного сознания, исторической ориентации общества, превратилась в его инструмент, сама стала в определенном смысле "объективной", во всяком случае опредмеченной49. Легко видеть, что этот подход одновременно повышает статус "компенсаторной" функции исторического знания, освобождая ее от клейма субъективизма и ставя в качестве функции внутренней ориентации наравне с познавательной функцией внешней ориентации, ибо они оказываются равно значимы как предпосылки общественной деятельности.
Надо отметить, что подобное же понимание проблемы существовало еще в традиционной герменевтике. Еще Дильтей ставил проблему "понимания" как предпосылки деятельности50. Новым здесь является акцент на центральной роли современности (у Гадамера) или утопии (у Рюзена) в процессе совмещения временных горизонтов. Это обстоятельство играет очень важную роль, потому что не позволяет уйти от вопроса о реалиях сегодняшнего дня, таких как продолжающееся существование мировой цивилизации, несмотря на ее кризис, не позволяет заранее хоронить ее, как это часто делают сторонники постмодернистской истории, не различающие желаемое и действительное. С другой стороны, это требует сознательного подхода к наследию
34
процесса модернизации, результатом которого эта цивилизация является, таких как достижения мировой науки. Надо учитывать, что включение в постмодернистские теории общенаучных, позитивистских по общему смыслу предпосылок при отрицании наследия модернизации делает временной горизонт историка двоящимся, противоречивым, предполагающим сразу две оценки нашей ближайшей истории. Чаще всего это происходит потому, что историки формируют свой "kairos" подсознательно, исходя из известного им исторического материала и столь же подсознательно сопрягают его с общетеоретическими взглядами, результатом чего является противоречивость концепции.
* * *
Подводя итоги сказанному, надо отметить, что подходы к историческому синтезу и теории цивилизаций, о которых мечтал М.А. Барг, чрезвычайно сложны. Им препятствует историческая традиция, крушение надежд неопозитивистов взять ’’крепость" с наскока и отсутствие интереса к сравнительной истории цивилизаций у приверженцев классической герменевтики. К тому же процесс становления новых, синтезных подходов, который мы бегло и весьма упрощенно изобразили, весьма противоречив. Общность тенденций развития теории на философском и конкретно-научном уровне не исключает серьезных противоречий между ними51. На наш взгляд, синтез более органично осуществляется на конкретно-научном уровне, но при этом идет несколько стихийно, оставляя неразрешенными противоречия из области теории познания. Для российских историков, воспитанных на марксистской традиции, вся эта проблематика остается чуждой, несмотря на традиционную, но забытую тягу русской философии (от И.В. Киреевского до С.Л. Франка) к проблемам ’’живознания” и "волящего знания". Однако проблемы исторического времени, совмещения временных горизонтов очевидны и их решение может способствовать переходу от разработки теоретических вопросов истории цивилизаций к практике конкретных исследований. Широта синтеза, осуществляемого сейчас в ходе преодоления старых форм немецкого историзма, делает возможным использование в нем достижений всех исторических школ, в том числе марксизма, что кстати привлекло внимание М.А. Барга и укрепило его связи с Й. Рюзеном, которого он считал одним из крупнейших специалистов в области теории истории. Теоретический вакуум, в котором оказалось большинство отечественных историков, должен обострить их внимание к тому, что происходит в исторической мысли Германии. Долгое время понятие "исторический синтез" было для нас синонимом направления журнала "Анналы". Сейчас историографическая ситуация меняется, порождая наряду с разочарованиями новые возможности, которые жаль было бы упустить.
2*
35
1 Барг МЛ. Категории и методы исторической науки. М., 1984; Он же. О категории "цивилизация" // Новая и новейшая история. 1990, № 5; Он же. Категория "цивилизация" как метод сравнительно-исторического исследования (человеческое измерение) // История СССР. 1991, № 5 и др.
2 Iggers G.G. New directions in european historiography. Middletown Conn., 1984. P. 40.
3 Coutau-Begarie H. Le phbnombne nouvelle histoire. Grandeur et decadence de Гёсо1е des Annales. P., 1989. P. VIII, 88- 90; Michaud G., Marc E. Vers une science des civilisations? Bruxelles, 1981.
4 Riisen J. New directions in historical studies. In: Miedzy Historic a Teoria. Refleksjie nad problematyka dzelow i wiedzy historicnej W-wa-Poznan, 1988. P. 348, 349.
5 From Frege to Godel. A source book in mathematical logic. 1879-1931. Cambridge, 1971. P. 582-617; Pitirim Sorokin in review. Durham, N.C., 1963. P. 411-414.
6 Popper K.R. The poverty of historicism. L., 1969. P. 3, 153; Lb with K. Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologische Voraussetzungen. Stuttgart, 1973. S. 28, 48, 69, 88.
7 Eisenstadt S.N. A sociological approach to the comparative civilizations. The development and directions of a research program. Jerusalem, 1986; The boundaries of civilizations in space and time. Ed. M. Melko, L.R. Scott. Langham, 1987.
8 Aron R. La philosophy critique de l'histoire. P., 1987. P. 234, 235, 253.
9 Ibidem. P. 241.
10 Weber M. Gesammelte AufsStze zur Wissenschaftslehre. Tubingen, 1922. P. 183-188, 259.
11 Aron R. Op. cit. P. 233, 289, 296.
12 Ibid. P. 290, 295.
13 de Mur alt A. The idea of phenomenology. Husserlian exemplarism. Evanston, 1979. P. 365-367. Отметим, что взгляды Э. Гуссерля на историю развивались и стали одним из источников синтеза, о котором идет речь в конце данной статьи. Ср. понятия "телос", "кайрос", "перевал во времени" - они имеют феноменологическую функцию: продуцируют "горизонты смысла" в истории. Буцениеце Э. Телеологическая струк¬
тура исторического бытия // Феноменология в современном мире. Рига, 1991. С. 83-96.
14 Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 18. Ricoeur Р. Husserl. An analysis of his phenomenology. Evanston, 167. P. 219. Г.Г. Гадамер прямо отрицал возможность применения феноменологичес-кой редукции к социально-исторической обусловленности сознания. См. Кулэ М.Х. Феноменология и герменевтика: сходство и различие подходов // Критика феноменологического направления современной буржуазной философии. Рига, 1981. С. 94-96.
15 Гизо Ф. История цивилизации в Европе. СПб., 1905; Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1906.
16 Antony С. From history to sociology. The transition in German historical thinking. Detroit, 1959. P. 21, 31.
17 Jdger F., Riisen J. Geschichte des Historismus. Miinchen, 1992. S. 23-25, 122.
18 Dilthey W. Der Aufbau der geschichtlischen Welt in den Geisteswissenschaften. Einleitung von M. Riedel. Frankfurt a.M., 1981. S. 358, 16, 80.
19 Aron R. Op. cit. P. 235.
20 The first axial age conference. The origins of diversity of axial age civilizations. Ed. by S.N. Eisenstadt. Albany, 1986. P. 16. Более обоснован этот подход к античным цивилизациям (Op. cit. Р. 29), менее - к китайской цивилизации (Ор. cit. *Р. 292-298), которая нам представляется пороговой по отношению к континууму осевых цивилизаций. Эту точку зрения, высказанную М. Вебером, поддерживают и некоторые современные синологи. Zinderle А. Мах Weber und China. Herrschafts - und Religions-sociologie. B., 1971.
21 Jdger F., Riisen J. Op. cit. S. 57.
22 Beneton P. Histoire des mots: culture et civilisation. P., 1973. P. 49-52; Lachore R.L. History of the idea of civilization in France. 1830-1870. Bonn, 1935. P. 4.
23 Ibid.
24 Beneton P. Op. cit. P. 131-133.
25 Kessel E. Ranke's Idee des Universalgeschichte. In: Historische Zeitschrift, 1954, N. 178. S. 302.
26 McNeill W.H. Arnold J. Toynbee. A life. N.-Y. - Oxford, 1989. P. 165.
36
27 Singhal D.P. India and the world civilization. L., 1972. V. 1/2.
28 Jdger F., Riisen J. Op. cit. S. 102, 158.
29 Diop C.A. African philosophy. AddisAbeba, 1980.
30 См.: Барг МЛ., Черняк Е.Б. Регион как категория внутренней типологии классово-антагонистических формаций // Проблемы социально-экономических формаций. М., 1975; Эволюция вос-
• точных обществ: синтез традиционного и современного. М, 1984.
31 Stojanovitch Т. French historical method. The Annales paradigm. Ithaca-L., 1976. P. 149, 150.
32 Cardiner P. Theories of history. Oxford, 1964. P. 21, 22.
33 Spengler heute. Munchen, 1980. S. 87, 135, 136.
34 Spengler О. Politische Schriften. S. 84, 85.
35 Jdger F., Riisen J. Op. cit., S. 96, 107.
36 Wallerstein /. The politics of the Worldeconomy. The states, the mouvements and the civilization. Cambridge, 1984. P. 2, 181, 182.
37 Topolsky J. Methdology of history. Boston-W-wa, 1976. P. 145; Clark S. The Annales historians // The return of great theory in the human sciences. Cambridge, 1975. P. 180; Coutau-Begarie H. Op. cit. P. VII, VIII, XVIII, 88.
38 Отметим, что побуждения, заставившие И.Г. Дройзена и Ф. Ницше говорить об этом, были прямо противоположны тем, которые заставили Вольтера назвать "философскую историю" "заигрыванием с мертвецом". Hughes Н. History as art and as science. N.Y., 1964. P. 12,
39 IUnem Г.Г. Герменевтика и ее проблемы. // Контекст. Литературно-теоретические исследования. М, 1991. С. 238- 241. Iggers G.G. Op. cit. Р. 15, 16; Brubaker R. The limits of rationality. An essay on the social and moral thought of Max Weber. Boston-Sidney, 1984. P. 54.
40 Jung T. Vom Ende der Geschichte. Recostructionen zum Posthistoire in kritischen Absicht. Munchen-N.Y., 1989. S. 226.
41 Burkhardt J. Historische Fragmente. Stuttgart, 1957, S. 1.
42 Spengler heute. S. 83.
43 Koselleck R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik Geschichtlische Zeit Frankfurt-aM., 1979. S. 199; Lumann N. The differentiation of society. N.Y., 1982, P. 320, 321.
44 Koselleck R. Op. cit. S. 46.
45 Riisen J. Zeit und Sinn. Strategien historisches Denken. Frankfurt a.M., 1990. S. 242-246.
46 Riisen J. Lebendige Geschichte. Grundziige einer Historik III. Formen und Funktionen des historisches Wissen. Gottingen, 1989. S. 128.
47 Heidegger M. Sein und Zeit. Tubingen, 1957. S. 244, 250, 260; Gadamer H.G. Truth and method. L., 1975. P. XIX. Кулэ M.X. Указ, статья. С. 77-84.
48 Outwhite W. H.G. Gadamer. In: The return of grand theory in the human sciences. P. 28, 29.
49 Riisen J. New directions in historical studies. P. 352-355.
50 Cardiner P. Theories of history. P. 215.
51 Так, Г.Г. Гадамер считал "слепой децизионизм" М. Вебера проявлением "грубого иррационализма". Это в корне расходится с оценкой Вебера в современной немецкой исторической школе. Гадамер упускал из виду, что характеристика отношения исследователя к его антиципации, данной ему в ощущениях и зависящей лишь от его неосознанного социального опыта, столь же мало говорит о его отношении к рационализму, как и характеристика используемых им исторических источников, среди которых могут быть мифы, предания и т.п. Зато понятие "отнесение к ценности" позволяло М. Веберу обозначить "поле легитимного соперничества" отдельных исторических теорий, рационально определив его границы. Философы-феноменологи болезненно реагируют на всякое подозрение феноменологии в волютаризме, игнорируя вследствие этого хрупкость феноменов сознания и необходимость разнообразных волевых усилий для их удержания и воспроизводства, операций с ними, неизбежных при- их использовании в научно-познавательной деятельности. См.: Гадамер XT. Истина и метод. М., 1988. С. 625.
37
Е.Б. Черняк
АТРИБУТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Вопрос о человеческом факторе, роли индивида в развитии общества, давно уже служивший предметом дискуссий в обществознании вообще и в историографии в особенности, в целом решался в пользу признания человека "мерой всех вещей". Однако дело обычно и ограничивалось таким признанием. Собственно дебаты велись вокруг роли личности в истории, возможности ее изменять по своей воле ход общественного развития. Речь шла о "выдающейся" (или даже, употребляя выражение известного германского историка Т. Шидера, "системообразующей") личности, а не об обычном, рядовом человеке, активность которого рассматривалась обезличенно, как элемент социально-экономических, политических, идеологических процессов. Конкретные пути изучения роли индивида в истории по-прежнему остаются не выявленными, не проясненными на уровне теоретического анализа.
Разумеется, роль и место индивида в историческом процессе должны изучаться рядом гуманитарных дисциплин, включая экономику, этнологию, социологию, психологию, литературоведение, искусствоведение и другие, а если речь идет о прошлом - прежде всего историографией. Переход исторической науки на цивилизационный уровень не должен затемнять то, что она имеет в истории цивилизации свой особый объект исследования, отличный от изучаемого другими научными дисциплинами. Правда, границы этого объекта остаются недостаточно ясно очерченными и вместе с тем изменчивыми для различных исторических периодов. Это интуитивно учитывалось исследователями (специалисту при изучении древнего мира приходится включать в круг своего внимания сюжеты, мимо которых наверняка с полным основанием пройдет историк новейшего времени). Для исторической науки целью является синтезирующее отображение развития общества как целого, выявление закономерностей цивилизационного процесса. В рамках этой центральной задачи историк обязан вычленить в указанном процессе те его аспекты, которые должны стать объектом исследования исторической наукой. Для достижения указанной цели требуется соответствующий понятийный аппарат и исследовательские методы, которыми пока не располагает историография.
Метод измерения "человеческого фактора", о котором пойдет речь ниже, можно рассматривать как дополнение к уже предложенному укладному анализу. Последний предназначен для изучения формационного ряда на цивилизационном уровне рассмотрения развития общества. Атрибутивный анализ призван стать методом выявления роли индивида в более широком цивилизационном процессе. Однако для этого необходимо вести атрибутивный анализ именно на цивилиза-
© Е.Б. Черняк 38
ционном уровне, отбрасывая те его компоненты, которые находятся вне этого уровня.
В качестве отправной категории "человеческого измерения" цивилизационного процесса предлагается понятие "атрибут", которым будем именовать материализованные в свойство индивида определенные направления и сферы его активности. Атрибут является тем самым одной из функций индивида, одной из "ролей", в которых он выступает в жизни (и которые нельзя смешивать со "сценическими ролями", т.е. с масками, позволяющими изображать из себя другого человека). Атрибуты порождаются в ходе взаимодействия человека с природой и обществом. В результате происходит их "атрибуция" индивиду.
Современная философия и психология подчеркивают несводимость индивида к его социально-групповому положению, относительную независимость поведения человека от обусловивших его факторов. С представлением об индивидуальности человека (особенно развитой индивидуальности) связывается наличие у нее многообразия качеств, включая социальные, сообщающие человеку подлинную неповторимость. В этом же заключается возможность самоопределения человека в форме сознательного социального выбора, могущего, в частности, найти выражение в нравственно мотивированном разрыве со своим классом. Задача историографии, особенно на цивилизационном уровне, заключается в выявлении многообразия исторически значимых атрибутов индивида, порожденных как формационными, так и неформационными компонентами развития общества. Сочетание определенных атрибутов индивида может в различных условиях меняться, получать иную качественную определенность, приобретать новые и терять старые атрибуты. Нужно помнить, что закономерности эволюции структур формационного ряда (включая как системные, так и несистемные для данной формации элементы) происходят в рамках более широкого цивилизационного развития, неформационные составляющие которого отнюдь не вторичны или производны от формационных сдвигов. В человеческом измерении это означает, что социальноэкономические и другие внешне "чисто общественные" атрибуты могут быть прямым или косвенным порождением неформационных компонентов развития цивилизации.
Цивилизация в "человеческом измерении" предстоит перед исследователем как огромная масса атрибутов множества индивидов. В данной связи важно обратить внимание на то, что категория атрибута имеет два аспекта - гносеологический и онтологический, первый из которых выявляет значение категории, в которой институцизируется активность индивида в определенной сфере. Однако понятие атрибута не является только познавательным орудием, оно имеет основание в самой действительности, будучи как бы "частью" индивида, осуществляющего данный вид деятельности. В атрибутах институцизируются все разнородные линии активности индивида, немалое число из которых неправомерно исключалось из поля зрения историка. Инсти-
39
туцизация в виде атрибутов превращает линии активности в нечто "осязаемое", доступное для всестороннего исследования.
Сама институцизация может быть одно- или двухступенчатой. В первом случае она превращает активность в свойство индивида. При двухступенчатой институцизации вслед за превращением активности в свойство оно само оформляется в определенный институт, тот или иной элемент какой-то из существующих структур, носителем которого становится индивид (занятие этим лицом поста в органах власти, экономических учреждениях, учебных заведениях и т.д.). Вторая ступень институцизации может находиться в частичном или в полном противоречии с первой вплоть до превращения данного атрибута в свою противоположность. Удобства, создаваемые для исследователя институцизацией, особенно велики, когда объектом изучения становится сочетание атрибутов, позволяющее, в частности, определять повышение или понижение удельного веса индивида в развитии общества.
Атрибуты следует разделить на "массовидные", типичные для лиц, принадлежащих к определенной группе людей, и "исключительные", могущие существовать только у одного человека в каждый данный момент (например, пост главы государства, любого другого института) или же постоянно. В последнем случае речь идет преимущественно о культурных, научных и отчасти политических атрибутах, основывающихся на исключительных талантах индивида в соединении со столь же исключительным стечением обстоятельств. Разумеется, возможность возникновения таких обстоятельств создается эпохой (появление Ломоносова после петровских реформ или Наполеона как душеприказчика Французской революции). В любом атрибуте - массовидном или исключительном - "воплощены" личные качества индивида, особенности его ума, темперамента, ценностных ориентиров и пр. Поэтому важно различать атрибут как таковой и его внешнюю форму, связанную с личными особенностями его носителя. На цивилизационном уровне анализа внешняя форма может оказаться имеющей не меньшее значение, чем сущность исключительного атрибута, выявляя роль данной личности в истории материальной и духовной жизни общества. Иначе обстоит дело с массовидными атрибутами, носители которых на цивилизационном уровне рассмотрения процесса развития общества выступают только как усредненные представители какойлибо группы (социальной, национальной и др.). Если при изучении исключительных атрибутов важно выявить их отличие от остальных, то для массовидных - наличие у них общих черт. Среди массовидных атрибутов существуют степени массовидности (в рамках всего общества, определенной группы и определенной сферы и т.д.). Из множества атрибутов необходимо вычленить имеющие существенное значение в цивилизационном процессе. Назовем эти последние "цивилизационными атрибутами". Под понятием цивилизационного атрибута следует понимать институцизацию одной из линий активности человека в сущностных сферах исторического процесса, вытекающей из социального,
40
экономического, этнического, национального, политического положения индивида, основ его мировоззрения, разделяемых им психологических стереотипов, его ментальности. Большая часть этих атрибутов (предстоит выяснить какая) трансформируется в отношения между классами и между другими группами людей. Всем этим цивилизационный атрибут должен быть отделен, с одной стороны, от широкого круга биологических и психологических атрибутов (отношения с родителями, детьми, вообще членами семьи и т.д.) в той мере, в какой они лишены цивилизационных черт (окраски), и от социальных, этнических и т.д. атрибутов, если они находятся вне сущностной сферы общественного развития (пассажир в городском транспорте, сосед по квартире и т.п.). Естественно, что представление о границах сущностной сферы во многом решается в зависимости от философскоисторических и методологических воззрений историка. На практике наблюдается достаточно высокая степень консенсуса в отношении того, что принадлежит к этой сфере, хотя иерархию ее подсистем и элементов каждая из основных школ и направлений трактует по-своему. Достигнутое в процессе конкретно-исторических исследований согласие касательно пределов сущностной сферы дает необходимые ориентиры к принадлежности того иного атрибута к числу цивилизационных атрибутов. (Далее, если это специально не оговорено, под атрибутом подразумевается цивилизационный атрибут).
Следует проводить четкое различие между атрибутом и его носителем. Судьба атрибута нередко оказывается иной, чем судьба индивида. Первый может исчезнуть либо перейти к другому индивиду, до этого обладавшего или нет таким (или аналогичным) атрибутом. Нужно, следовательно различать исчезновение данного атрибута или переход его к другому носителю. Об исчезновении атрибутов можно говорить, если индивиды, являющиеся их носителями, перестают выступать в таком качестве, что в особо больших масштабах случается во время экономических и социальных катаклизмов, собственно и составляя человеческую сторону этих последних. При этом может происходить и изменение характера атрибутов; заключенная в них функция принуждения может смениться на функцию убеждения, прямого воздействия на косвенное (через другие атрибуты), меняются удельный вес функций, сфера приложимости, длительность существования и т.д. Изменения некоторых атрибутов, особенно тех из них, которые имели юридическую или какую-либо другую общественную легализацию, обычно получают ту или иную официальную или квазиофициальную санкцию. Напротив, изменения атрибутов, целиком основанных на личных качествах индивида, редко сопровождают легализацию, часто отсутствует даже оповещение о том, что они произошли. Иногда такие изменения носят рутинный характер, будучи следствием приобретения индивидом стажа и необходимого опыта, находящих или не находящих выражение в продвижении по службе или каким-то иным путем.
41
"Содержание атрибута" - это сумма действий индивида в области, охватываемой этим атрибутом. Оно имеет субъективный и объективный аспекты - т.е. сами действия и представления об осуществленных, осуществляемых и ожидаемых действиях индивида в данной сфере его активности. Следует учитывать "многослойность" субъективного фактора, включающего адекватные или искаженные представления об указанных действиях не только у индивида, но и у других людей. Тем самым, своим субъективным аспектом атрибут входит одновременно в субъективный аспект атрибутов большего или меньшего числа других индивидов, претерпевая при этом определенную трансформацию. Такой "перенос" субъективного аспекта может оказывать влияние на другие атрибуты упомянутых лиц, относящиеся к различным сферам. В этом случае соотношение субъективного и объективного аспекта оказывается настолько сложным, что должно стать предметом специального анализа.
В рамках формационного ряда индивид, по сути дела, во всех отношениях выступает как "экономический человек", иными словами, в качестве живого воплощения экономических категорий. Отражая суть поведения большинства индивидов в решающих областях их жизни, понятие экономического человека является вместе с тем научной абстракцией, выявляющей механизм активности большинства людей, иначе говоря, атрибутов формационного ряда. Для массы индивидов, если брать относительно значительный отрезок времени, защита экономических и социальных интересов была доминантной основой их поведения. Экономический человек явно преобладал над историческим человеком, руководствующимся в своих поступках наравне с социально-экономическими также другими мотивами (традициями, национальными стереотипами и др.). Следовало бы добавить, что под понятием экономический человек обычно подразумевают индивида, отстаивающего свои "подлинные" интересы, открытые наукой и требующие преследование групповых и классовых интересов, даже при определенных обстоятельствах в ущерб личной выгоде. В реальной жизни преобладает индивид, защищающий свои экономические интересы так, как он их понимает. В то же время этот "экономикоисторический человек" - категория формационного ряда, являющегося только частью цивилизационного развития. Он составляет как бы основу "исторического" или "цивилизационного" человека, на поведение которого влияют причины, порождаемые другими неформационными компонентами и их взаимодействием с формационным процессом. Собственно, это воздействие в рамках формационного развития и превращает экономико-исторического человека в цивилизационного.
Здесь будет уместно упомянуть о попытках выдвинуть проблему ментальности в качестве краеугольного камня исторического синтеза, считать ее ключом, раскрывающим причины действий индивида, мотивы его поступков как представителя определенной среды (народности, социального слоя и т.д.), объединенной более или менее общими воззрениями на человека, его местом в обществе, утвердившимися
42
этическими нормами, поведенческими ориентирами. В мировоззрении и мировосприятии этой среды находят отражение черты национального характера, народной мифологии, религии, племенные и национальные стереотипы и пр. Однако абсолютизация роли ментальности неизбежно приводит к принижению значения объективных интересов индивида как фактора, определяющего его поведение. Взамен действий индивидов в центр внимания выдвигается отражение их в сознании, причем с упором на неадекватные компоненты этого отражения реальной действительности. Воздействие субъективного аспекта атрибута надо рассматривать как конкретный путь влияния менталитета на цивилизационный процесс. Это проявляется, в частности, в том, что один и тот же атрибут имеет различное значение в формационном и других компонентах этого процесса. Так, например, совокупность качеств, обусловивших такой атрибут, как "талантливый полководец" у франкского предводителя Карла Мартелла, привела его к победе над арабами в битве при Пуатье (732 г.), событию, имевшему ограниченное значение в истории феодальной формации. Напротив, в цивилизационном развитии это - важнейшая дата (решался вопрос о том, какая из двух столкнувшихся цивилизаций восторжествует во Франции или даже, возможно, Западной Европе в целом). В одной из совместных работ М.А. Барга и автора этих строк была выдвинута и подробно обоснована категория "сущностных социальных отношений", непосредственно или в снятом виде являющихся отношениями между классами данного общества в отличие от всех других отношений, не имеющих классового уровня ("градации"). Видимо, наряду с сущностными отношениями формационного ряда, которые имелись в виду в указанном понятии, следует ввести категорию "сущностных цивилизационных отношений", включающих первые, но не сводящиеся к ним. Это та часть сущностных цивилизационных отношений, которые, не являясь формационными, имеют высшую в рамках данной цивилизации градацию (отношения межнациональные, межконфес$сиональные и др.). Активность индивида может проявляться во всех градациях этих отношений (т.е. в его отношениях с другими индивидами, а также через этих последних или непосредственно с различными племенными, национальными, возрастными и т.п. группами). Одна из важнейших задач при изучении сравнительной истории цивилизации - выявление времени, условий, причин, в силу которых цивилизационный человек в своем поведении расходится или, напротив, сближается с экономикоисторическим и экономическим человеком.
Во многих социальных атрибутах присутствует биологический компонент, являющийся необходимым условием их существования (пол, возраст, здоровье, этнические особенности индивида - носителя атрибута). От них следует отличать собственно биологические атрибуты, имеющие социальную окрашенность (индивид в качестве отца, сына, брата).
В историографии - по крайней мере, на теоретическом уровне - преобладает недооценка роли "биологической основы" процесса об¬
43
щественного развития. Не уделяется должного внимания тому, что индивиды в разных обществах, облаченные в непохожие "исторические костюмы", находятся в отношениях, по сути дела определяемых биологическим (включая индивидуальную психологию) фактором. Биологическую подоплеку имеют, например, атрибуты правителей и придворных, фиксирующие их соперничество в борьбе за власть и связанные с ней блага, ее использование в личных целях, механизмы подготовки заговоров и преступлений. Не потому ли для многих поколений повествования Тацита казались рассказами об их современности, а рекомендации, которые давал монархам Макиавелли, пригодными для использования в разных странах через века после кончины флорентийского мыслителя? Часть биологических атрибутов является одной из причин феномена повторяемости в развитии общества, которые наша историография была склонна искать только в формационном ряду. Более того, такие атрибуты, особенно если они принадлежат к числу массовидных, порождали социальные атрибуты, носившие иррациональный характер (деятельность предпринимателя, которого биологически присущая страсть к накоплению все большего богатства побуждает к интенсивной трате жизненных сил для максимального увеличения прибыли, хотя бы реально оно не приносило ему ничего, кроме изменения цифр, обозначенных на его банковском счете). Нередко биологический атрибут выступает под маской социального, политического или идеологического либо, наоборот, эти последние внешне предстают в форме биологического атрибута. Полное исключение "биологического человека" из предмета исследования обществознания наносит историографии не меньший вред, чем попытка абсолютизации его роли в историческом процессе, блокируя путь к всестороннему пониманию цивилизационного человека.
Этнические атрибуты нередко выступают слитными с социальными, политическими, культурными и другими. В таких случаях этнический атрибут служит условием функционирования других, соединенных с ним. За рамками цивилизационного уровня атрибутивного анализа должно остаться большинство личностных атрибутов (знакомый, однофамилец, чужак и пр.). Последние не являются сущностными в указанном выше смысле, т.е. не имеют иной градации кроме отношений между индивидами; изучение этих атрибутов задача не историографии, а психологии. Отступлением от правила могут служить исключительные личностные атрибуты, о которых будет сказано ниже.
Из атрибутов определенного индивида следует вычленить прежде всего унаследованные, связанные с рождением и закрепленные воспитанием. Их исчезновение может быть следствием свободного волеизъявления человека, отказа от выполнения определенных функций, связанного обычно с потерей положения и места в общественной структуре и не столь важного в силу своей относительной редкости для понимания цивилизационного процесса. Смена этих атрибутов на новые обычно является результатом изменений в экономическом положении, социальном статусе, сдвигах в мировоззрении и политических
44
взглядах, в системе нравственных норм и поведенческих ориентиров. Будучи следствием объективных процессов развития общества, приобретенные атрибуты возникают при наличии у данного индивида суммы личных качеств (способностей, характера и т.д.), наконец, при его стремлении к подобным переменам. От таких атрибутов надо отличать "исключительные атрибуты", порождаемые исключительными дарованиями и поэтому являющиеся уделом лишь немногих или даже только одного человека. (Хотя для появления этих последних тоже требуется определенная историческая обстановка, что сближает их с другими приобретенными атрибутами). На цивилизационном уровне анализа атрибутов, присущих массе индивидов, следует абстрагироваться от качеств этих людей как неповторимых личностей, за вычетом только тех черт ума и характера, которые создают саму возможность появления и сохранения данного атрибута. Напротив, при изучении исключительных атрибутов такие личные особенности выдвигаются на передний план, поскольку именно они - или по крайней мере некоторые из них - делают возможным существование исключительного атрибута.
Наряду с разграничением унаследованные-приобретенные атрибуты следует ввести и другое: исходные-производные. Оно далеко не столь самоочевидно и безусловно, как первое, будучи зависимым от философско-исторических воззрений исследователей. Ясно, что базовые атрибуты могут быть как унаследованными, так и приобретенными. И те, и другие становились базовыми в силу принадлежности индивида к определенной группе людей (классовой, национальной, религиозной и т.д.). Производные от них атрибуты в свою очередь могут стать базовыми для других атрибутов. Различия в представлении об указанной иерархии атрибутов могут привести к существенным разногласиям при попытке выявить их место и значение в цивилизационном процессе, но не лишить убедительности этот анализ в целом. Базовые атрибуты в одних условиях с необходимостью, а в других лишь с вероятностью порождают производные, которые иногда должны (иногда только могут) способствовать увеличению потенциала или свертыванию породивших их и других производных атрибутов. Таким образом производные атрибуты могут находиться либо в гармонических, либо в противоречивых и даже антагонистических отношениях. Вопрос об отношениях между различными базовыми атрибутами (например экономическими), а также между базовыми и производными разных сфер (например экономической и идеологической) требует, разумеется, специального рассмотрения.
Теперь возникает потребность во введении новых категорий. Первая из них - "совокупность атрибутов", понимаемая как определенная система, и ее конкретизация в понятиях "совокупность цивилизационных атрибутов", "совокупность цивилизационных базовых атрибутов", "совокупность цивилизационных производных атрибутов". Дальнейшая конкретизация понятия совокупности цивилизационных атрибутов (всех или только базовых, либо только производных) происходит по
45
сферам, по временным и пространственным границам приложимости. Атрибуты, образующие систему в пределах совокупности, создают конкретную картину сложной многообразной активности индивидов как компонента функционирования и развития общества. Изменение удельного веса и роли атрибута в рамках совокупности, динамика смены атрибутов под воздействием общественных сдвигов является по сути дела "человеческим измерением" социальной мобильности.
В пределах сферы (или одной из субсфер, на которые возможно разделить эту сферу) существует набор массовидных цивилизационных атрибутов, т.е. атрибутов массы индивидов, которые образуют данную группу, объединяемых наличием у них одного или нескольких "интегрирующих" атрибутов. Обладание каким-либо из этих массовидных атрибутов индивидом, не принадлежащим к группе, является или редким исключением из правила, или упомянутый атрибут играет нетипичную роль в совокупности атрибутов такого индивида. Упомянутый атрибут может даже являться исключительным атрибутом. Совмещение у представителя деревенской верхушки атрибутов богатого крестьянина, использующего наемный труд, происходило в массе случаев в период перехода от феодализма к капитализму. Такое совмещение атрибутов у деревенского батрака было либо вообще немыслимым, либо являлось следствием исключительных обстоятельств и столь же исключительных дарований. Также несовместимыми, кроме как в исключительных случаях, могут быть определенные социальный и политический атрибуты, политический и идеологический, социальный и национальный и т.д. Задачей атрибутивного анализа является выявление массовидных сочетаний атрибутов, состава их типичных совокупностей.
На первой интеграционной стадии формации индивиды, принадлежащие к некоторым основным классам, обладали несколькими социальными атрибутами. В феодальном обществе крестьянин был барщинником или оброчником и одновременно лицом, ведущим хозяйство на собственной земле. Постепенно к этим атрибутам добавлялись новые: крестьянин мог выступать продавцом части продукции, произведенной на принадлежащем ему наделе, арендатором земли у своего и у чужого феодала, у соседей-крестьян, лицом, сдающим в аренду часть своего надела, нанимающим батраков или идущим в батраки. По мере развития деревенских промыслов тот же феодальнозависимый крестьянин мог выступать хозяином ремесленной мастерской, владеющим или арендующим средства производства, обрабатывающим купленное на рынке сырье с помощью членов семьи или наемных работников, продающим свой товар на рынке. Или, напротив, он мог стать наемным рабочим на дому, получающим у купцамануфактуриста сырье и орудия труда и сдающим ему готовую продукцию и т.д. Точно так же можно проследить умножение экономических и социальных атрибутов у представителей класса феодалов. Число экономических и социальных атрибутов резко возрастает на второй дифференционной стадии развития формации, причем один
46
из новых атрибутов на этой стадии может превратиться в базовый для остальных. Общественное развитие делает возможным приобретение индивидом-представителем определенной группы ряда массовидных атрибутов при наличии определенных жизненных обстоятельств и средней способности к целесообразным усилиям ради достижения поставленной цели.
Однако далеко не все атрибуты приобретаются индивидом в результате собственных усилий. Кроме унаследованных атрибутов, о которых уже говорилось выше, многие навязываются индивиду помимо его воли и даже сознания самим общественным развитием. Таким образом у индивида существует большее или меньшее количество неосознанных или только частично осознанных атрибутов. (Добавим к ним мнимые атрибуты, существующие не в реальной действительности, а лишь в сознании либо самого индивида, либо других лиц, или всех их вместе взятых).
Выбор индивидом атрибутов разрешается, поощряется или напротив ограничивается и запрещается вследствие воздействия различных факторов в каждой из сфер. Эти факторы могут быть как объективного, так и субъективного характера, включая политические, экономические, социально-психологические, религиозные и т.д. Они могут принимать форму воздействия других людей или различных институтов (государственных и прочих). Широта выбора атрибутов - кроме заведомо вредных для общества - является важным, хотя не единственным показателем народной свободы.
Атрибуты не имеют ничего общего с актерскими ролями. Однако имеются - нередко в большом количестве - атрибуты, заключащиеся в сокрытии подлинного облика индивида и смысла его активности в той или иной сфере. Это своего рода "атрибуты атрибутов", отдельные из которых имеют исключительный, другие - массовидный характер. Многие из них приобретали большое значение в цивилизационном процессе, которое еще предстоит всесторонне исследовать.
Как уже отмечалось, с самого рождения индивид выступает как носитель постепенно увеличивающегося количества унаследованных - природных и социально-экономических - атрибутов. К ним постепенно прибавляются новые атрибуты, часть из которых утрачивается на различных этапах жизненного пути данного человека. Процесс увеличения количества атрибутов в каждой из сфер протекал различно в разных цивилизациях на разных стадиях их развития. Одновременно в некоторых цивилизациях происходило раздвижение географических и социальных границ приложимости многих атрибутов. В докапиталистическую эру для подавляющего большинства или даже всех атрибутов огромного большинства людей пространственными пределами были границы села, города, округи. Социальными границами был круг земляков индивида, имевших аналогичный ему экономический и общественный статус, а также лиц, которым он был подчинен в существовавшей общественной и административной иерархии. Как правило, это были границы социально-экономического уклада, выход
47
за его пределы был возможен главным образом для представителей социальных верхов, в частности индивидов, связанных с внешней торговлей. Мноукладная экономика сохранялась на протяжении почти всей истории мировой цивилизации. Поэтому будет целесообразным провести еще одно расчленение атрибутов на внутриукладные и межукладные (для доиндустриальных периодов оно важно для понимания роли не только социально-экономических, но и всех других атрибутов). Превращение внутриукладных атрибутов в межукладные является одним из механизмов цивилизационного развития.
Социально-экономические атрибуты могут отражать отношения между людьми через отношения индивида к вещам. Для социальноэкономических атрибутов типично, что множество их, будучи потерянными одними индивидами, прямо переходили к другим. Сказанное о социально-экономических атрибутах может быть вполне применимо и к политическим, относящимся ко всем сферам государственной жизни и гражданского общества. И те, и другие переходы могут быть юридически оформлены. Профессиональные атрибуты фиксируют обладание и использование умений и навыков, являясь вместе с тем конкретизацией его социально-экономических атрибутов. Особого рассмотрения заслуживает вопрос о культурных атрибутах в широком смысле слова, включая все сферы духовной жизни. В них находит, в частности, отражение способность индивида, несмотря на все давление устоявшейся системы ценностей и воззрений его среды, осуществить свободный выбор среди имеющихся возможных атрибутов.
Отнюдь не тривиальной представляется задача установления границ атрибута. Перефразируя известное определение, можно сказать, что не только сам индивид, но и любой из его атрибутов является совокупностью, хотя относительно более узкой, общественных отношений. В каждом атрибуте присутствует ряд свойств (качеств) индивида, каждое из которых может одновременно рассматриваться как особый отдельный атрибут. Вместе с тем многие атрибуты предполагают контакты с индивидами, принадлежащими к различным человеческим группам, что также расчленяет исходный атрибут на ряд составляющих его атрибутов, имеющих различный смысл и значение в цивилизационном процессе. Такое же расчленение возможно по сферам функционирования атрибута, т.е. раздробления более широкой сферы на несколько субсфер. "Дробные" атрибуты могут аналогичным путем подвергаться дальнейшему расчленению, не теряя при этом своей качественной определенности, базовых или других цивилизационных атрибутов. Однако потеря в результате еще большего дробления подобной определенности выводит их из круга объектов, изучаемых историей цивилизации, хотя может оставлять в качестве предмета исследования для других общественных дисциплин.
Видимо, следует различать атрибут как нечто устойчивое и исполнение атрибута, которое может превратить его в новый, производный атрибут. Это нетрудно проиллюстрировать на примере различия между атрибутом, основой содержания которого является на¬
48
хождение на определенной должности, и осуществлением функций, предусмотренных этой должностью. Подобное различение позволяет более четко размежевать дробные и производные атрибуты. Некоторые из последних можно назвать временными производными атрибутами, возникающими и исчезающими при сохранении базового атрибута. Впрочем и дробные атрибуты могут возникать и исчезать опять-таки при существовании "целого” исходного атрибута. В случае же его исчезновения естественно уничтожаются производные атрибуты, хотя могут сохраняться некоторые базовые.
Вопрос о соотношении базовых и производных атрибутов относительно несложен, поскольку речь идет о какой-либо одной, пусть даже широкой сфере. Значительнее сложнее проблема соотношения базовых и производных атрибутов, находящихся в разных сферах. Представление об этом отношении как о причине и следствии признается одними и отвергается другими школами в философии и историографии. В случае "непризнания" взамен причинно-следственной связи выдвигается механизм исторической корреляции или меняются местами базовые и производные атрибуты. Надо заметить, что если брать в изоляции отдельные пары базово-производных ролей, они бесспорно могут меняться местами под влиянием исторической среды, причем такое изменение может закрепиться, получив государственную, религиозную или другую санкции.
Роль атрибута в пределах разных сфер и даже субсфер одной сферы может различаться по многим параметрам: ее осознанности, градациям, соотношением базовых или производных атрибутов и т.д. Важнейшей задачей представляется разработка системы параметров, по которым следует измерять атрибуты различных сфер (создать формулу атрибута).
Выше были высказаны сугубо предварительные соображения относительно атрибутивного анализа. Создание конкретных методик измерения атрибутов различных сфер, технология учета их удельного веса в совокупностях атрибутов, установление механики переходов одних из них в другие и т.д., наконец разработка типологии атрибутов и использование полученных результатов при рассмотрении цивилизационного развития - задача, решение которой возможно в результате объединения усилий многих исследователей. Данная статья может претендовать максимум на постановку проблемы, и даже предложенные решения тех или иных вопросов служат лишь тому, чтобы создать представление о познавательном потенциале этого анализа. Он будет умножен, если атрибутивный анализ применять наряду с укладным анализом и исследовательскими методами моделирования, имажинологии, клиометрии. Поскольку массовидные атрибуты - это однородные качественные признаки индивида, к изучению их могут широко привлекаться методы количественного анализа. Он позволяет, в частности, определить количественные соотношения между различными экономическими, социальными, политическими, идеологическими и прочими массовидными атрибутами у различных групп населения.
49
Особенно перспективным выглядит соединение возможностей укладного и атрибутивного анализа с контент-анализом. Эти методы в их совокупности способны образовать эффективный исследовательский инструментарий, необходимый для выявления роли индивида в развитии общества.
Успешное научное изучение сравнительной истории цивилизаций немыслимо без разработки стройной законченной системы взаимосвязанных и дополняющих друг друга исследовательских методов.
В капитальных монографиях М.А. Барга "Категории и методы исторической науки" (1984 г.) и И.Д. Ковальченко "Методы исторического исследования" (1987 г.) содержится всесторонний анализ общих проблем и основных методов реконструкции историографией процесса общественного развития. И.Д. Ковальченко, в частности, наряду с рассмотрением общенаучных методов и их роли в историческом исследовании уделяет особое внимание основным специфическим методам этого последнего (историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-системный методы, методы диахронного анализа общественно-исторической реальности), а также разнообразным количественным методам. Укладный и атрибутивный методы являются на наш взгляд примерами методов, которые необходимо будет добавить к перечисленным выше, при передвижении исторической науки на цивилизационный уровень. Однако главной задачей будет не только расширение количества используемых методов, но и нахождение оптимальных форм их сочетания в зависимости от особенностей исследуемого объекта и поставленной задачи. При этом субординация методов может различаться в рамках не только определенной задачи, но и ее составных частей. Один и тот же метод может в одном сочетании играть роль "фактического метода", с помощью которого открываются или просто вводятся в научный оборот новые факты, в другом - использоваться для их первичной обработки, в третьем - для осмысления их места в историческом процессе. Данный метод может служить вспомогательным методом для другого, решая отдельные части задачи или всю задачу, но в более узких пределах (территориальных границах, ограниченной группы лиц и т.п.). Атрибутивный и укладный анализы могут, например, выполнять указанные роли в отношении едва ли не всех перечисленных выше методов, а также по отношению друг друга.
Эти беглые замечания дают представление о познавательных возможностях, которые возникнут в результате разработки системы методов исследования цивилизационного процесса. Данная статья не содержит решения большинства затронутых в ней проблем. Она претендует максимум лишь на то, чтобы стать посильным вкладом в осознание необходимости использования потенциалов укладного и атрибутивного анализов и создания в перспективе системы методов изучения истории цивилизации.
50
С.Н. Эйзенштадт
ПРОРЫВЫ ОСЕВОГО ВРЕМЕНИ
В первом тысячелетии до христианской эры в области идей и их институционных осцов произошла революция, результаты которой оказали необратимое влияние на целый ряд цивилизаций и историю человечества в целом. В ходе этой революции или ряда революций, соотносимых с "Осевым временем" К. Ясперса, возникли представления о тесной связи между устройством мира земного и трансцендентного, которые оформились как концепции и привели к созданию общественных институтов. Революционный процесс охватил такие значительные цивилизации, как древние Израиль и Грецию, раннехристианскую цивилизацию, Иран эпохи Зороастра, ранний имперский Китай, индуистскую и буддийскую цивилизации, а также, помимо собственно Осевой эпохи, исламскую цивилизацию.
Эти концепции выражал и развивал относительно новый социальный слой. Интеллектуальная элита нового типа была убеждена в том, что необходимо активно перестраивать мир в соответствии с представлениями о трансцендентном. Оформление таких концепций в общественные институты вело к интенсивной реорганизации обществ, что открывало возможности для перехода к всемирной истории или историям цивилизаций.
Значение этих перемен до некоторой степени уже было осознано в социологии и исторической науке (М. Вебер, К. Ясперс, Э. Вогелин). Взяв за основу взгляды названных ученых, попытаемся провести анализ влияния ряда революций на структуру человеческих обществ и его историю.
1. Прорыв Осевого времени в Греции
Для новой группы интеллектуалов в классической Греции важнейшей целью стало изучение связи между земным и космическим порядками (философские спекуляции и реконструкции социального порядка). Оба направления объединяла ярко выраженная трансцендентная ориентация на земной мир, которая проявилась в особом внимании к изучению космоса (или природы), социального и политического порядка, природы человека, воспринимавшиеся как главные сферы реализации трансцендентного видения.
Хотя в чисто интеллектуальной сфере эти направления были тесно связаны и их носителями были одни и те же люди, но все-таки они не сливались в единое целое, в том числе и в области институционной, как это было в Китае или, в ином варианте, на раннем этапе истории современной Европы.
© С.Н. Эйзенштадт
51
Особая модель развития в Греции была обусловлена тем, что "прорывы" не уничтожали "старых" религиозных представлений и символов. Разумеется, старые верования заметно утратили свое преобладающее значение (как было в гомеровскую эпоху), но они служили символами законности политического и социального порядка полисов.
Сохранение старых религиозных концепций и символов, их нахождение в общественном порядке объясняется тем, что попытки изме нить политический порядок были почти полностью лишены ориентации на потусторонний мир. Она отсутствовала не только из-за способа воплощения трансцендентного видения, но и, так сказать, по определению.
В то же время задача соединить эти две линии развития (т.е. философского исследования и переустройства социополитической сферы), одержать победу в результате этой интеграции над элементами "язычества", отыскать возможность овладения ориентацией на потусторонний мир, - все это создавало вечную тему, которая, возможно, являлась наиболее мощной движущей силой в культурной деятель ности Греции.
Модель развития Греции оказалась уникальной для эпохи архаики, ибо импульс к образованию центров исходил из тех же источников, которые усиливали внутреннюю дифференциацию общностей. Ее носители (в области интеллектуальной и политической деятельности) отличались относительно высокой личной свободой (автономной), как в своей интеллектуальной, так и в политической деятельности. Однако оба типа деятельности, даже если они осуществлялись одними и теми же людьми, никогда не совпадали, несмотря на мощный интеллектуальный порыв в этом направлении, ни в интеллектуальной сфере, ни в рамках единых институтов.
Такой тип формирования общности и группировок элиты был связан с весьма специфическими условиями экономического, геополитического и межнационального характера. Наиболее важным среди них было развитие общностей "между" Великими Империями, что способствовало их относительной замкнутости и в то же время обеспечивало многочисленными международными рынками.
Разумеется, высокий уровень концентрации населения на относительно ограниченном пространстве и тенденция к дифференциации, наряду с особыми отношениями центра и периферии, были наиболее характерны для институционного развития древней Греции. Хотя центры, образовавшиеся в греческих городах-государствах, были почти полностью идентичны периферии, тем не менее структурно, и символически они были совершенно различны. Структурно и организационно центр отличался от периферии своими главными символами, храмами и учреждениями.
С точки зрения экологии центр в основном совпадал с местами наибольшей концентрации бывшего расселения племенной общности и обычно локализовался около мест, предназначенных для публичных собраний, постройки храмов, сокровищниц, царского двора.
52
Граждане могли участвовать в деятельности центра, хотя для многих социальных групп это было существенно ограничено, особенно в городах-государствах с олигархическими правлениями. Но такие ограничения почти не отличались от тех, которые имели место на периферии, активные члены общности принимали участие в деятельности и старых периферийных структур (родство, земля, семейные культы), и структур центра. В этом смысле можно говорить о постоянной циркуляции населения между этими двумя полюсами. Такие передвижения создавали очень высокую степень потенциального социальнополитического напряжения в новых политических системах.
Одним из наиболее важных результатов соединения всех моментов - относительно высокого уровня структурной дифференциации, структурно и символически выделенного центра, совпадения участия в деятельности центра и периферии - явилось относительно слабое развитие особого правящего класса, отличного от вождей различных социальных групп и подразделений.
С этой точки зрения, большое значение имела система ротации и временного замещения должностей в публичных учреждениях. Эта система была тесно связана с организационной структурой центров, в которой, в ответ на возрастающие потребности и проблемы, различные специальные задачи выполнялись весьма текучими группировками элиты.
Одновременно в городах-государствах формировалось множество эмбриональных группировок элиты с очень высокими потенциальными возможностями для социальной, культурной и политической деятельности.
Отсутствие различий между участием в деятельности общности и центра, а также тот факт, что участие в деятельности центра очень часто преследовало политические цели или задачи главных социальных подразделений общности, также служат объяснением основных направлений политического символизма в городах-государствах.
Основой этого символизма была единая модель политической и культурной деятельности, которой сопутствовало перенесение старых организационных принципов племенных и полупатриархальных общностей в новые структуры. Парадоксально, что эта тенденция была особенно заметна в наиболее социально дифференцированных греческих городах-государствах. Объединительным фактором политического символизма городов-государств было гражданство. Особое значение придавалось потенциально полному и равноправному участию индивидов в политической жизни и обусловленной законом взаимной ответственности индивида и правителей.
Благодаря тесной связи между социальными и политическими кризисами, а также "мирскому" содержанию политической деятельности, политическая жизнь в городах-государствах весьма сходна с ее течением в современных обществах. Но в отличие от обществ Нового времени в городе-государстве не допускалось разделение социальной и политической сфер.
53
Вероятно, природа отношений центра и периферии и политического символизма городов-государств привела к этому, обусловила слабое развитие совершенно автономных этических концепций, стоящих над существующим социальным и институционным порядком (по сравнению с другими цивилизациями Осевого времени).
Разумеется, политический символизм и практическая деятельность в греческих городах-государствах основывались на признании автономности этических норм, в отличие от племенных и социальных порядков. Тем не менее такое представление соединялось с задачей интегрировать эти порядки через свободу индивида. В свою очередь задача интеграции исходила из представления о полной идентичности социальной и политической сфер и вывода о ’’тотальном" участии граждан в политическом организме. Это подводило к идее о том, что возможности всех граждан в целом являют собой суть общности и ее центр. Таким образом, на этой основе допускалось возникновение напряжения и конфликтов между ними, как, например, "моральный протест" автономного индивида, изображенный в некоторых греческих трагедиях.
Признание связи между этическими и гражданскими законами и ограничение первых, возможно, явилось важнейшим фактором, обусловившим появление величайших культурных достижений.
2. Прорыв Осевого времени в древнем Израиле
Специфические черты и структура элиты в древнем Израиле, первой монотеистической цивилизации, были во многом противоположны древней Греции. Распад относительно замкнутых бесписьменных племенных групп характеризовался несколькими чертами. Одной из них был довольно высокий уровень технологии, ярко выраженная структурная гетерогенность различных племенных, локальных общностей и групп крестьян, кочевников, городских жителей, постоянные столкновения между ними, происходящие в одинаковых или экологически близких условиях, непрерывный процесс социальной дифференциации и возникновение социального напряжения. Вторая особенность заключается в том, что эти группы были связаны некими общими связями, которые, однако, не проникали ни в одну из них. Эти связи проявляются лишь в очень важном противопоставлении всеизраильской и всеплеменной ориентаций. В-третьих, такие общие связи не были заключены в четкие, полностью оформленные политические или религиозные рамки, в результате чего первоначально отсутствовало какое-либо их постоянное единое организационное или даже символическое сосредоточение. И последнее: отсутствие четких политических границ, динамичное политическое, экологическое (или международное) окружение. Палестина - вечный перекресток путей великих империй античности. Из-за мобильности населения сложно было сохранить устойчивую политическую общность и даже культурную самобытность.
54
Главной особенностью культуры древнего Израиля было появление монотеистической концепции, трансцендентного Бога, который создал Вселенную и вдохнул в нее свою волю и закон. Бог призвал множество народов, дабы они повиновались его заповедям и избрал народ Израиля, чтобы вступить с ним в особую связь. Эта трансцендентная концепция привела к тому, что культ частично утратил связь с ритуалом, магией и приобрел более высокую трансцендентную устремленность - процесс, который имеет некоторые интересные параллели с тем, что происходило в Индии. Это вело к универсализации и рационализации религии, а также к особому выделению этической стороны религиозной практики и законодательства, к развитию культа со множеством ритуальных предписаний. Каждую из указанных особенностей, наверное, можно было бы найти у соседних с Израилем народов, но их комбинация, очевидно, уникальна.
Носители такой культурной ориентации (священники, левиты, пророки, вожди, судьи, позднее цари) активно создавали межплеменные центры. Они не входили в состав бесписьменных племенных и территориальных общностей, а сохраняли свою идейную и организационную автономность и воспринимались населением как люди, открывающие новые ценности. Важно, что элита (носители политических, национальных и религиозных связей) была общей для многих племен.
Особенности элиты придали уникальный характер центрам в Израиле. Центры формировались в рамках более широких общностей, которые часто были недолговечны. Даже когда эти центры более или менее объединились в рамках монархии (особенно в царствование Давида), они включали элементы, которые редко сосуществовали мирно и превращались в относительно однородные группы элиты. Между группировками элиты в центрах постоянно происходили конфликты, чаще всего из-за различных концепций по поводу функций центра по отношению к другим группам в обществе. Таким образом, в Израиле не образовалось сложного правящего класса, скорее, появились эмбриональные компоненты той элиты, которая лишь в периоды монархической консолидации оформлялась в относительно сплоченную группу.
Именно в связи с таким типом развития формировались специфические для древнего Израиля "ответы" (институционные и символические) на основные проблемы цивилизаций Осевого времени. Среди них определение цивилизационной общности и основных институтов, в которых должны быть воплощены господствующие трансцендентные идеи. Главной сферой такого воплощения была признана социальнополитическая. Это не привело, как в Китае и отчасти в Греции, к частичной сакрализации данной области, хотя некоторые потенции для развития в этом направлении имели место. Эти связи были выработаны в процессе определения символических институционных границ иудейской нации по отношению к другим народам.
Следовательно, иудейская история характеризовалась постоянными попытками сочетать осознание своей культурной уникальности с
55
установлением тесной связи с другими народами и культурами. Эти усилия никогда, ни в один период иудейской истории не увенчивались успехом. Стремление к национальной самобытности сопровождалось амбивалентным отношением к другим культурам. Благодаря этому в иудейскую историю сразу было "встроено" сочетание религиозного универсализма и партикуляризма первобытной общности, идентификация которой происходит за счет отделения религиозного и символического от своих соседей. Тенденция к сепаратизму повлекла за собой появление постоянной комбинации символов первобытной, этнической, национальной, политической и религиозной идентичности. Но благодаря возрастающей тенденции к универсализму и соперничеству с другими религиями сам партикуляризм содержал в себе достаточно сильную тенденцию к универсализму. Таким образом, и позднее, в эпоху средневековья, иудейский народ не являлся, как полагал Вебер, "парией" в отношении религии. В действительности многие черты, присущие париям, согласно описанию Вебера, вовсе не характерны для евреев в этот период. Напротив, они приноравливались к другим нациям и религиям. Но было бы ошибкой считать эту ситуацию наиболее важным аспектом их связи с окружающим миром. В отличие от многих других малых народов евреи не только пытались удержать свои позиции в бурном потоке политических событий, но продолжали провозглашать идею универсальной ценности своих традиций и религии.
Другими словами, в этот период и последующие эпохи евреи, находясь в ненадежной, опасной политической и экономической ситуации, пытались тем не менее принимать активное участие в политической и культурной жизни. Они вырабатывали свою идентификацию, создавали институты, которые могли бы поддерживать их призывы к универсальной ценности.
Именно благодаря этим факторам возможно было в процессе институционных изменений сочетать религиозные и культурные новации, сохраняя при этом более древние символы коллективной идентичности.
3. Второй период процветания древнеизраильской цивилизации
Особенности прорыва к Осевому времени в древнем Израиле создали позднее возможность для нескольких вторичных прорывов. Наиболее важными среди них были оформление еврейской цивилизации в эпоху второго процветания и появление христианства.
Направления вторичных прорывов, а также цивилизации, возникшие на их основе, разумеется, были различны. Их следует сопоставить и с древним Израилем, и древней Грецией, и эллинистической цивилизацией.
В эпоху второго процветания развивались новые культурные тенденции, появились новые типы их носителей и новые модели, выражающие коллективную идентификацию. Однако этот процесс шел на
56
основе ярко выраженной преемственности по отношению к тем особенностям и символам, которые сформировались в предшествующий период.
Одной из вновь возникших тенденций была апокалиптическая и эсхатологическая, имеющая сильную ориентацию (хотя она и не была единственной) на потусторонний мир. Апокалиптические и даже просто трансцендентные идеи появились и стали включаться в иудейскую религиозную традицию только после горького опыта изгнания и исхода из Египта, в результате возрастающего осознания связи между настоящим и будущим в конце эпохи Первого Храма.
Вторая относительно новая тенденция, более созерцательная по своему характеру, связанная с этикой и философией, появилась на основе эллинизма. Круг ее носителей был весьма ограничен, хотя во времена египетской диаспоры, она, вероятно, имела гораздо большее распространение.
Наконец, идеология, изложенная в Завете, приобретала все большее значение. Она направляла усилия всех членов общности к сфере сакрального и, следовательно, возвращала их в некотором смысле к первоначальным устоям единства, но теперь уже в новой ситуции.
Однако эти возможности могли быть реализованы в основном благодаря тому, что возник новый тип власти, а также политической и культурной элиты. Ее составляли писцы, высшее духовенство и вожди разнообразных религиозно-политических движений, известные под названием фарисеи.
После возвращения из Вавилона а, может быть, в самом Вавилоне этот тип элиты стал наиболее деятельным. Они, конечно, не были однородны, как предполагает историография, основанная на раввинистической литературе. Очевидно, они объединяли в себе разные группировки, изменяясь, вступая во взаимодействие друг с другом и образуя коалиции. Эти группировки, не связанные с какой-либо бесписьменной закрытой структурой или группой были в принципе доступны для всех. Выражая основйые социально-культурные модели Закона, и, соответственно, активно включаясь в политическую жизнь, они не только создавали свои центры образования, но и были связаны с народной культурой и религиозностью. Эти группировки элиты возглавляли различные секты и были носителями тех идей, которые позднее, соединенные вместе, легли в основу Письменного Закона, отличающегося особым вниманием к ритуально-юридическим предписаниям, основанным на экзегезе, изучении священных текстов и на национальной (общинной) религиозности.
Другим важнейшим структурным изменением в период после изгнания было появление диаспоры как постоянного условия существования евреев. В результате возникло множество центров, которые усилили гетерогенность структуры еврейской цивилизации и разнообразие географической и геополитической ситуации для еврейского народа. Полная утрата политической независимости привела к исчезновению политических границ и способствовало развитию таких отношений
57
евреев с их соседями, которые дали Веберу основание определить евреев как парий.
В эпоху Второго Храма стали развиваться новые культурные и институционные модели. Одна из них была связана с ослаблением (если не с почти полной утратой) монополии на сакральность, которой владели священнослужители, некоторые цари и даже пророки. Доступ в сакральную область был открыт для всех членов общины, возросло значение нового типа связи между членами общины, основанного на концепции "священной общины". Сформировались новые критерии для причисления к элите, которые включали в себя изучение Закона и имели народную основу с характерной для нее ориентацией на роль молитвы, соблюдения правил и участия в "священной общине".
На фоне этих явлений в культуре стали развиваться тенденции к рационализации религии, причем каждая подразумевала разное институционное воплощение. Одна из них была философско-этической. Ее носители были представлены преимущественно аристократической интеллектуальной элитой, находившейся под сильным влиянием эллинистической культуры. Вторая была связана с выработкой и систематизацией профетической ориентации, с которой соединялись ярко выраженные эсхатологические идеи. Они способствовали расцвету жанра индивидуальных пророческих видений и положили начало попыткам организовать жизнь общины на тотальнорациональных началах, которые до этого были институционализированы только в некоторых сектах. Третье направление процесса рационализации развивалось в тесной связи с тенденцией к институционализации новых культурных феноменов. Это касалось оформления "Устного Закона", в котором преобладание ритуальных культовых элементов и видений - пророчеств сменилось разработкой экономических вопросов и особым вниманием к богослужению.
В контексте всех этих изменений трансформация Устного Закона стала центральной. Она соединяла две ориентации: на потусторонний мир и на мир иной, на эсхатологию. В данном случае потусторонний мир не достиг такой степени отличия от земного, как в других монотеистических религиях. Потенциально будучи революционными и универсалистскими (что особенно заметно в некоторых сектах и позднее в христианстве), эти ориентации были ограничены рамками традиции Устного Закона. Изменения же, происшедшие в Устном Законе, никогда не были полностью институционализированы. Очень важно, что изменения в Устном Законе не только не были в этот период преобладающими, но и не отличались однородностью. И даже позднее, когда они заняли определяющее положение и когда более древние по происхождению тенденции вошли в Устный Закон и были в нем трансформированы, они все-таки не подверглись забвению, и часто появлялись вновь как предвестники мистических и мессианских направлений мысли. Новые тенденции в большинстве своем включали компоненты главных культурно-религиозных традиций (ритуальных, юридических, эсхатологических) и элементы национальной идентич¬
58
ности (политические, религиозные и восходящие к первобытности), а также попытки решения основных дилемм, возникающих в процессе формирования национальной идентичности, т.е. между ориентацией на универсальность и партикуляризм.
Большинство группировок элиты стремилось установить динамическое равновесие между универсалистской и сепаратистской тенденциями. Эти решения в основном реализовывались (исключая самаритян) в очень широком национальном, политическом и религиозном контексте.
4. Формирование христианства и христианской цивилизации
Неудача, постигшая иудаизм и еврейский народ в соперничестве с другими религиями (что и привело к окончательной победе христианства и появлению средневековой христианской цивилизации), была именно всего лишь неудачей. Соперничество между иудаизмом и другими религиями продолжалось очень долго. Это объясняется не тем, что евреи превратились, согласно Веберу, в чисто религиозную общность. В их самосознании первобытно-национальные и политические символы по-прежнему соединялись с религиозными и этическими. Даже аскеты и представители различных сект были убеждены в существовании тесной связи между еврейской цивилизацией и народом.
Столкновение раннего христианства с иудаизмом, которое произошло во времена апостола Павла или немного позже, должно было быть гораздо более продолжительным, чем обычно полагают. В центре внимания были изменения, касающиеся иудейской религии.
Первая трансформация заключалась в том, что религиозные круги были оторваны от ’’этнических", хотя и не пренебрегали последними полностью, как это было позднее в Израиле. Вторая важнейшая трансформация религии, постепенно развивавшаяся в христианстве, состояла в том, что идея взаимодействия между Богом и Его народом утратила свою силу. Эта идея, являющаяся особенностью иудаизма, (область сакрального доступна всем членам общины) была замещена идеей достижения святости через посредника, сначала символически выраженной в образе Христа, а затем - в церкви. Благодаря этому христианство имело успех в соревновании религий античности. Еще одним существенным моментом была очень сильная социальная организация и связи, которые развивались между христианскими коммунами, причем многие из них - на основе социальных связей в еврейской диаспоре. Особое значение приобрело развитие аскетизма в эпоху раннего христианства, связанное и с еврейскими сектами, и с античным аскетизмом. Зарождались новое трансцендентное видение, ярко выраженная ориентация на иной мир в сочетании с сильными тенденциями к рационализации религии и отделению ее от политической сферы.
Может показаться, что деполитизация и ярко выраженная трансцендентная тенденция в раннем христианстве совершенно не соот¬
59
ветствует иудаизму, а также более позднему христианству, включенному в политическую сферу, и, наконец, христианской цивилизации Европы, с присущими ей цивилизационными и политическими ориентациями. Однако в противоположность тем концепциям, которые подчеркивают полную устремленность раннего христианства в область трансцендентного, более тщательный анализ показывает, что и христианство в целом, и монашеская и аскетическая среда, в частности, не были целиком трансцендентны, по сравнению, например, с буддизмом.
Существенная разница между христианством и буддизмом заключается в различии их основных культурных ориентаций, в концепциях спасения, а также в специфике идеологической и институционной динамики, порожденной ими. Именно это и объясняет расхождения трансцендентных тенденций в культурном развитии двух цивилизаций.
Если буддизм (и индуизм) можно прямо противопоставить иудаизму, христианству и до некоторой степени эллинизму, то Китай являет собой своего рода "средний" случай. В буддизме чистая трансцендентность была результатом развития идеи спасения в ином мире, образовавшей особую цивилизационную модель. Уже сама по себе институционализации этой модели вызвала распространение идеи отречения как наиболее полного воплощения данной культурной ориентации. Во всех остальных случаях, в том числе и в христианстве, с самого начала трансцендентное видение мира предполагало тесную связь между ориентациями на мир иной и мир здешний.
Христианская ориентация на потусторонний мир, безусловно, берущая свое начало в иудаизме, резко контрастировала с буддизмом, так как рассматривала переустройство земной жизни как часть пути к спасению; земной мир, следовательно, оказывался сферой, в которой возможно спасение. Эта же идея воплощалась и в Христе, который, в отличие от Будды, воспринимался не только как носитель трансцендентного видения, но и как земное воплощение Бога.
С этим была тесно связана идея о том, что не существует полного разделения между душой и телом, а также концепция воскрешения, которая содержала сильную ориентацию на земной мир и подробно обсуждалась платониками. Та же ориентация содержалась в христианской концепции Бога (унаследованной от иудаизма) как творца Вселенной и в историческом измерении христианской эсхатологии, заключающейся в том, что спасение произойдет в процессе исторического развития для всего человечества. Она проявляется и в полемике, которую христианство вело со школой платоников и гностиками, акцентирующими негативное отношение к материальному миру. Трудности, возникавшие у христианства по отношению к неоплатонизму (несмотря на то, что представителей патристики привлекало направление мысли платоников), также свидетельствуют О наличии потусторонней тенденции в христианстве.
Поскольку первоначально христианство имело низкий политической статус и преследовалось, эта его особенность почти не была заметна. В более благоприятных исторических обстоятельствах (обра¬
60
щение Константина) она набрала силу. И, хотя обращение в христианство Константина было, разумеется, решающим моментом для возникновения средневековой христианской цивилизации, тем не менее ее развитие шло на основе, заложенной еще в раннем христианстве.
Разумеется, основная концепция, соединяющая мир иной и земную жизнь, развивалась по-разному в различных областях христианской цивилизации: в католических странах, в Византии и позднее в русском православии, в зависимости от геополитической ситуации, структуры политической власти и элиты.
Основное отличие иудейской и христианской цивилизаций от древней Греции, эллинизма и в какой-то степени Рима заключается в том, что они постоянно перестраивали не компоненты культурных традиций, находящихся в других цивилизационных комплексах, а всю цивилизацию в целом.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Н.А. Хачатурян, В.М. Хачатурян
СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ: ИДЕНТИЧНОСТЬ И РАСХОЖДЕНИЯ
В настоящей статье предпринята попытка сравнительного анализа средневековых культур России и Западной Европы. В отечественной науке, к сожалению, практически отсутствуют такого рода специальные исследования по причине, главным образом, традиционной автономизации отдельных областей исторического познания: истории России, медиевистики, славяно- и востоковедения. Даже в задуманных как компаративные коллективных трудах последних лет - "История крестьянства в Западной Европе" (1985-1986 гг.), "История Европы" - региональные главы, скорее, параллельно сосуществуют и яркая характеристика культуры регионов, в частности, направлена на отражение ее позитивного содержания1. Редкие в специальной литературе сопоставления в области культуры ограничиваются по преимуществу анализом культурных и религиозных связей, а отдельные попытки сопоставления культур чаще всего остаются уделом узко специальных исследований.
Сложность избранной темы, помимо ее неразработанности, усугубляется еще и тем, что она является частью более глобальной и до сих пор дискуссионной проблемы соотношения Европы и России как двух культурно-исторических общностей. Ныне она переживает известное возрождение, получив дополнительный академический интерес благодаря тому месту, какое занял цивилизационный анализ в современной, в том числе отечественной науке, а также политическую остроту благодаря изменениям в политической жизни.
Отвлекаясь от подробной дискуссии о Европе и России, которая особенно активно велась в прошлом веке, основные позиции в трудах русских и западных ученых можно было бы суммировать следующим образом: расхождения в культурно-историческом развитии Европы и России объясняли, исходя или из идеи самобытности России, или ее отставания от Европы. Поиск истины усугубляла проблема соотношения России и Востока. При этом в русской историографии была очень сильна традиция сопоставлять себя с Европой, которая воспринималась как некое воплощение самой идеи цивилизованности. В западной науке, напротив, была достаточно сильна тенденция сближать Россию с Востоком и, соответственно, отделять ее от Европы. Обе
© Н.А. Хачатурян, В.М. Хачатурян 62
позиции, отнюдь не ставшие достоянием прошлого, отличаются выраженным максимализмом и требуют переосмысления, тем более что уровень тогдашней исторической науки, нередко публицистический характер сочинений, в которых ставились подобные вопросы, определили весьма общее их решение.
Следует признать, что современное состояние исторического знания открывает новые перспективы в оценке места России в Европе: утвердившееся в науке понятие цивилизации как меры истории вернуло ощущение самоценности пространственных и природно-этнических характеристик культурно-исторической общности; подчеркнуло во взаимосвязях составных частей межрегиональной общности фактор свободного выбора, трансформации усвоенного материала. Последнее позволило отказаться от рассмотрения одной из этих частей в качестве некоего эталона, по сравнению с которым все другие варианты развития выглядят отступлением. Иными словами, современный цивилизационный анализ дает пример более гибкого соотнесения категорий универсальности и самобытности, допустив, таким образом, существование локальных цивилизаций в пределах более крупной культурно-исторической общности. Не менее важно усложненное теперь представление о самом явлении культуры, в которой выделены культура элиты и культура простецов (двуголосие культуры), а идеологические конструкции дополнены ментальными2.
В предлагаемом нами компаративном анализе сделана попытка реализовать названные новые подходы. В рамках статьи, неизбежно имеющей общий характер, будут выделены только некоторые параметры культурного развития, которые могут служить, по нашему мнению, его индикаторами. Предложенная модель анализа имеет ряд ограничений. Основное внимание уделено характеристике русского варианта, своеобразие которого соотнесено с обобщенным образом культуры более крупной западноевропейской общности. Этот образ в известной мере условен, поскольку в нем элиминирована разность регионов в самой Европе, как, впрочем, условен в русский "вариант", так как в нем элиминирован синкретический характер культуры России, связанный с этническим и региональным разнообразием. Высказанные в статье соображения отнюдь не претендуют на окончательное решение, скорее, намечают возможные пути анализа, приглашают специалистов к диалогу.
Выбранный для сопоставления период отличается выраженной асинхронностью исторических процессов в Европе и России. Для России, с точки зрения ее культурного развития, только эпоха Петра I является своего рода водоразделом между средними веками и новым временем. Принятие христианства еще в X в. включило Россию в христианскую цивилизацию, тем не менее на протяжении средневековья духовное взаимодействие России и Европы было слабым. Особенно по сравнению с XVIII в., когда "европеизация" России стала государственной политикой, и с XIX в., когда ориентация на западноевропейскую систему ценностей стала потребностью русской интел¬
63
лектуальной элиты, а Запад, в свою очередь, открыл для себя культуру России. Национальное сознание в России в исследуемый период было склонно отделять себя от западного "латинства". Однако это не означало, что Россия была полностью изолирована от Европы - более того, хотя ее связи с Западом были менее устойчивы и значительны, чем с Византией, их развитие в целом нарастало. Этот процесс шел медленно и неравномерно, причем, в нем легче выделить влияние Запада в области материальной культуры и архитектуры, наличие литературных и фольклорных связей, нежели результаты проникновения западных идей.
Тем не менее исследователи выделяют подъем интернациональных связей со второй половины XI до первой половины XIII вв., несмотря на то, что в XI в. официально определился раскол христианской церкви, а в ХП в. окончательно оформилось латинское католичество, противопоставившее себя восточному христианству. Наиболее резко это противостояние проявится позже - как следствие захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. и далее - Флорентийской унии и образования униатской церкви.
В этот период связи прослеживаются в области материальной культуры (ремесленное и прикладное искусство, проникновение некоторых элементов романской и готической архитектуры), сведения о Руси проникают в западноевропейскую литературу и фольклор.
Фазы упадка в культурном взаимодействии Руси и Европы были связаны с татаро-монгольским нашествием и последующей агрессивной политикой католической церкви, немецких и шведских, позднее польских и шведских феодалов (крестовые походы на Восток в 40-е годы XIII в., польско-шведская интервенция в начале XVII в. и т.д.). Стимулируя отторжение от "латинства", они, однако, не могли перекрыть неуклонного нарастания культурного и исторического взаимодействия, предопределенного во многом процессом государственного укрепления России (централизацией страны, ее экономическим подъемом, начиная с XIV в., активизацией торговых и политических связей). Судя по имеющейся литературе, в XV-XVI вв. достаточно очевидны были контакты с западной цивилизацией в области архитектуры и строительной техники, благодаря деятельности приглашенных в Россию итальянских мастеров. Скромнее оцениваются результаты влияния на скульптуру и живопись. Недостаточно решен на сегодняшний день вопрос о воздействии западной философской мысли и культуры Возрождения. Однако в целом очевидно, что связи с Западной Европой и в этот период не поколебали преимущественного влияния греческого и греко-славянского мира. Более того, последнее усилилось в поствизантийскую эпоху, после падения Тырново, когда в XV-XVII вв. оформляется представление о Руси как освободительнице христианского Востока от турецкого ига, а греческая и славянская эмиграция в Россию дала новый мощный импульс к усвоению византийской культуры, к развитию переводческой рукописной и печатной традициям, основанию греко-славянских школ, к формированию
64
больших собраний греческих рукописей в Москве, просветительской деятельности ученых. Нельзя не признать исключительную роль экономических и культурных связей в качестве катализатора цивилизационного единства и преодоления асинхронности составляющих его частей. Тем не менее очевидно, что интенсивность или слабость культурных связей, а тем более их природа - уровни взаимодействия и его системность - в конечном счете могут быть поняты прежде всего в контексте глубинных явлений культурно-исторического развития России и Европы.
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на такой параметр, как цивилизационное пространство, в рамках которого шел процесс культурного развития. Большинство государств Западной Европы развивались на уже освоенной культурной территории, где находились центры мощной, высокоразвитой Римской цивилизации, концентрирующие ее достижения в области материальной и духовной культур. Уже в силу этого цивилизационный процесс не мог не иметь здесь интенсивного характера. В результате Западная Европа еще в V-VII вв., когда Россия не знала ни государственности, ни письменности, имела по крайней мере три мощных всплеска культуры: Остготское возрождение, давшее средневековой Европе Боэция и Кассиодора (V-VI вв.), творчество которых синтезировало античную культуру и христианскую теологию; Вестготское ’’возрождение" с Исидором Севильским и центры христианской учености в Британии с первым английским историком Бедой Достопочтенным (VI-VII вв.).
Проводя такие сопоставления, нужно сознавать, разумеется, их известную некорректность: во-первых, Древняя Русь позднее, чем Западная Европа, вступила на путь цивилизационного развития, вовторых, одной стране мы противопоставляем несколько государств Западной Европы. Но, даже принимая во внимание эти оговорки, нужно признать, что Россия на протяжении почти всего средневековья располагала небольшим, по сравнению с ее постоянно разраставшейся территорией, цивилизационным пространством, с редкими очагами культуры. Неслучайно русские философы Н. Бердяев и И. Ильин писали о "бремени земли" - необъятного, непомерного, разбегающегося пространства, на котором развернулась история российского государства3. Действительно, проблема внутренней колонизации, в основном решенная Западной Европой в XIII - начале XIV вв., для России вышла за рамки средневекового периода. Таким образом, хотя число цивилизационных центров, несмотря на страшный удар, нанесенный монголо-татарским нашествием, с течением времени возрастало, цивилизационный процесс шел в значительной мере экстенсивным путем, что не способствовало углублению цивилизационных традиций.
Важен также этнический состав населения Евразии, которое постепенно, с той или иной мерой активности, включалось в цивилизационный процесс. Здесь хотелось бы отметить роль лесостепных и кочевых племен, с которыми Русь находилась во многовековом и
3. Цивилизации. Вып. 3
65
непосредственном контакте (печенеги, половцы, монгольские племена). Если и можно говорить о цивилизации степной, то нужно иметь в виду, что она в корне отличается от цивилизации оседлой, земледельческой, городской, с характерным для нее менталитетом. Таким образом Восток был неразрывно связан с историей России. Но это был Восток, который не мог дать той утонченной культуры, чье влияние испытала, на себе Западная Европа. Благодаря главным образом арабам, Западная Европа не только познакомилась с достижениями философии и естествознания Востока, но по новому открыла на себя в XII-XIII вв. античное наследие, вступив в культурном развитии в эпоху аристотелизма и аверроизма. И хотя завоевания монголов на Руси не привели к искоренению христианства, его воздействие выразилось не только на уровне материальной культуры (в частности элементов военной техники в условиях степей), но и на уровне менталитета, этого почвенного слоя культуры, - как "восточного” "азиатского" мироощущения. Оно проявляло себя в первую очередь в слабо выраженном личностном сознании и "огосударствлении" индивида. Нельзя не отметить, однако, справедливости ради, что это влияние легло на почву, в известной мере подготовленную глубинными особенностями русского общества, что только усиливало результаты этого воздействия.
В затронутой проблеме синтеза культур специального внимания заслуживают особенности в характере усвоения греко-римского античного наследия Европой и Россией. Россия, являвшаяся духовной наследницей Византии, и латинская Европа - преемница тысячелетних традиций культуры греко-римского и восточно-эллинского мира, представляли собой преемственные цивилизации. Однако мера и характер усвоения предшествующих культур были для них существенно различны. Синтез, т.е. взаимодействие римских и кельто-германских начал на всех уровнях общественного, в том числе культурного развития на большей части территории Западной Европы, определили его динамизм и глубину усвоения здесь античного наследия. Эта глубина не являлась постоянной величиной, нарастая по мере тех "вызовов", которые рождались в западном средневековом обществе. Синтез стимулировал, в частности, исключительное развитие богословской и философской мысли - решающего компонента мировоззренческой структуры, а также сказался существенным образом на ее рационалистической направленности.
Ярким тому примером служит извечный вопрос о соотношении веры и разума, поставленный уже в эпоху раннего средневековья в трудах Боэция, творчество которого отразило встречу двух миров. Он стал центральным в схоластике в XI-XIII вв. в связи с новым обращением к учению Аристотеля, что открыло новую эпоху в духовной жизни западного средневековья, поколебав прежнее господство неоплатонизма и августинизма и обогатив философскую мысль элементами рационализма, натурфилософии и материализма. Позднее это облегчит переход западного общества к иной системе ценностей,
66
переход, который будет опять-таки ознаменован новым возрождением античности, только более полным и всесторонним.
Бессинтезный вариант генезиса феодализма в России сказался не только в замедленном развитии в целом, но и в несопоставимо меньшей роли античного наследия в ее культуре, испытавшей лишь его стороннее влияние, идущее через Византию и греко-славянский мир. Ориентированность на Византию имела исключительное значение в процессе включения России в христианскую цивилизацию и, тем самым, в ее сближении с Европой. Однако она же во многом способстовала отгороженности русской культуры и православной церкви от "латинства". Переживая в XV в. свой "закат", Византия не поощряла новых тенденций в культуре именно в ту эпоху, когда наиболее активно шел процесс формирования русской национальной культуры.
Следует учитывать и специфику духовной культуры Византии в целом. Будучи, подобно Риму, оплотом не только христианства, но и хранительницей античного наследия, она дала России великолепные образцы средневековой философии, однако с гораздо более выраженным тяготением к спиритуализации мысли и канонизации форм, чем это было в Западной Европе. Отмеченная особенность духовной культуры Византии не могла не сказаться на характере усвоения античности и в самой Византии, и, тем более, в России, получившей античное наследие "из вторых рук".
Хотелось бы подчеркнуть, что проблема усвоения античного наследия, безусловно, не должна быть сведена, как это часто происходит в исследованиях, к сбору информации о том, какие сведения об античной мифологии и истории, или какие мотивы и образы античной литературы перешли в литературу древней Руси. Вопрос состоит прежде всего в том, что именно было усвоено из богатейшего античного наследия и, главное, в каком виде этот материал был включен в древнерусскую философию и литературу. Но по собственным признаниям отечественных исследователей, эта отнюдь не формальная задача решена далеко не полностью.
Не претендуя, разумеется, на полное освещение этой сложной проблемы, хотелось бы выделить некоторые моменты, как нам представляется, весьма существенные. Вспомним, в частности, известное высказывание Г.Г. Шпета о том, что "Россия могла взять античную культуру прямо из Греции, но этого не сделала"4. Несмотря на очевидную категоричность этого заявления, нельзя не признать, что восприятие античности в византийском изводе должно было сказаться и на объеме, и на харакере ее усвоения.
Как известно, сведения об античной истории и мифологии содержались в переводных хронографах; из очень популярных в древней Руси сборников "Пчела" и "Мудрость Менандра" читатель мог получить некоторые сведения об античных философах. Однако в действительности информация, которую получал читатель из этих произведений, была очень скудна, "выборочна" и не отражала подлинного духа ушедшей культуры. Так, помещенные в сборниках изречений
з*
67
’’премудрости", приписываемые Плутарху, Сократу, Диону Римскому и Филону, затрагивая лишь бытовые и этические вопросы, имели весьма общий характер, не передавали философских концепций античных мыслителей и легко вписывались в христианскую систему ценностей5.
Иной характер имели произведения патристики, в которых сохранился отзвук античных философских идей, но подвергшихся христианизации, если не полностью, то в большей степени уничтожавшей "дух античности". Неизбежный процесс христианизации коснулся и "светских" произведений. Так, пересказы мифов в хронографах были фактически лишены собственно мифологической основы, превращаясь, скорее, в занимательные истории об "обожествленных людях древности, которым поклонялись язычники".
Византийские хронисты, упоминавшие о древнегреческих богах в своих обличениях против язычества, искажали при этом картину античного пантеона. В хронике Амартола, например, с языческими богами связывались различные пороки, осуждаемые церковью. Зевс и Афродита олицетворяли для Амартола прелюбодеяние, Арес - убийство, Дионис - пьянство6. Такая тенденциозная информация закреплялась в сознании древнерусского книжника, образуя своего рода устойчивые клише в восприятии античности, которые существовали и в последующий период. Ярким тому подтверждением являются характеристики античных богов, которые дал один из образованнейших людей XVII в. протопоп Аввакум: "Зевес-блудодей", "Ермиспияница", " Артемида-любодейка"7. Повествования о Троянской войне ("Притча о кралех XV в.", "История о разрушении Трои" Гвидо де Колумна XVIXVII вв.) представляли собой средневековые авантюрные романы, весьма далекие от гомеровского эпоса, с его особой поэтикой и мировосприятием. Античность в этих произведениях предстает как своего рода экзотический фон, дающий основу сюжету.
Разумеется, трансформация античного наследия была неизбежна и в Западной Европе: по причине духовного диктата христианства и в силу особенностей средневекового менталитета. В России, однако, этот процесс усиливался, во-первых, двойной "корректировкой" - и византийской, и русской, а во-вторых, отсутствием обязательного знания древних языков, что препятствовало (по крайней мере до XVII в.) интеллектуалам свободно обращаться к самостоятельному изучению античности.
Следует отметить также и резко отрицательное отношение к античности со стороны русской церкви на протяжении всего средневековья. Политика католической церкви выглядит в данном вопросе более гибкой и способной к абсорбированию даже опасных новаций, конечно, в трансформированной, нужной для нее форме. Примером этому может служить творчество Фомы Аквинского, в котором католическое богословие было соединено с философией Аристотеля, хотя и не без потерь для последней. Русская церковь, скорее, проявляла активность в отторжении от античной философии, чем в ее усвоении. Поэтому несомненно присутствовавшая на Руси тенденция свободного
68
обращения к античности отличалась слабостью, стремление подавить ее подогревалось враждой к "латинству”. Одним из немногих представителей этой тенденции, отличавшийся, по отзывам современников, высокой, на уровне византийской, образованностью, был Климент Смолятич (ХП в.) - "книжник и философ, якоже в русской земле не бяшет". Весьма характерно, что попытка сделать его митрополитом не удалась во многом потому, что представители духовенства не приняли и осудили Климента Смолятича за то, что он писал "от Омира, от Аристоля и от Платона". Отрицательный настрой к увлечению античной философией был характерен даже для наиболее просвещенных представителей духовенства в России. М. Грек, получивший западное образование, изучавший богословие и философию Аристотеля, испытавший, по мнению исследователей, влияние школы Фичино, осуждал "латинских сынов", прельстившихся "внешним учительством", т.е. философией Стагирита. Поэтому М. Грек призывал не переводить труды западных богословов, беречься от них, "якоже от гангрены и злейшия коросты"8. Предостерегая от излишнего увлечения эллинской мудростью, сам М. Грек использовал ее только в тех случаях, когда она не противоречила, с его точки зрения, христианству9.
В переломный для истории России XVII в., ознаменованный расколом, проявилась устойчивость такого отношения к античности. Протест против никоновской группировки с характерной для нее культурной ориентацией и на византийские образцы, и западноукраинскую богословскую школу, тесно соединялся с оппозицией по отношению к "елинской философии". И, наверное, не случайно Аввакум, идеолог староверов, поместил в ад наряду со своим врагом - царем Алексеем Михайловичем - также "еретиков-философов": Платона, Аристотеля, Пифагора и Диогена. Однако нельзя не отметить, что несмотря на оппозицию "латинству", характерную, кстати, и для массового сознания, в XVII в. нарастал интерес к естественнонаучным знаниям и Аристотелю. Исследователи считают возможным говорить о смене восточного влияния на западное10, что было обусловлено во многом появлением новой контактной зоны, созданной униатской церковью.
Приведенный нами материал подтверждает настоятельную необходимость, говоря о взаимодействии культур, оценить не только то, что может получить одна культура у другой, но и что она в состоянии использовать. Здесь важен и сам характер выбора артефактов, осуществляемый заимствующей культурой.
В этом плане в России сложилась вполне определенная и весьма показательная традиция в обращении не только к античному наследию, но и к самой византийской культуре. Как и в Европе, в России процесс приобщения к византийской (а вместе с ней и к античной) культуре имел несколько периодов. Первый из них проходил в XIXII вв., т.е. вскоре после принятия христианства. Что представляла собой в эту эпоху культура Византии? Именно XI-XII вв. (особенно XI в.) характеризуется как период подъема, появления "новой куль¬
69
турной атмосферы”, отличающейся ярко выраженной неортодоксальностью в развитии мысли11. Именно в эту эпоху усиливается антиклерикальная, антиортодоксальная направленность в освоении античной литературы и философии в том числе и Аристотеля. Весьма существенно, что и Западная Европа в это время испытывает сильное культурное влияние Византии, особенно Италия. Новое обогащение идеями античной философии идет не только через арабов, но и через Византию, что было связано с широкой деятельностью по переписке греческих оригиналов Платона и Аристотеля.
Проходивший в те же XI-XII вв. процесс оформления корпуса переводной древнерусской литературы был ориентирован в основном на ранневизантийскую литературу, притом каноническую, "официальную”. Поэтому многие произведения, в которых отразились новые прогрессивные тенденции, остались в основном неизвестны в древней Руси. Среди них были авантюрные романы, построенные по образцу античных, - Евмантия Макремволита, Никиты Евгениана, Константина Манасси, филологические трактаты и обширные комментарии к поэмам Гомера, наконец, народные героические поэмы, из которых на русскую почву попала только "Повесть о Девгении Акрите". Влияние Византии создало, конечно, уже к XII в. "светскую” струю в древнерусской книжности, однако весьма слабую, по сравнению с самой Византией.
Аналогичная ситуация имела место и в богословской литературе. Переводились главным образом сочинения И. Дамаскина, Григория Назианзина, Афанасия Александрийского, Ефрема Сирина, Иоанна Синайского и др. Византийское богословие XI в., в котором исследователи усматривают секуляризаторские тенденции, вероятно, представляло меньший интерес для древней Руси, лишь недавно христианизированной и получившей доступ к новой системе ценностей.
Однако любопытно, что подобная выборочность и ориентация на официальную линию при обращении к культуре Византии обнаруживается и позднее в культурной жизни Руси, придавая ей в целом "раннесредневековую тональность". Уже в XIV-XV вв. под влиянием идей Григория Синанта и Григория Паламы, продолживших мистическую линию Симеона Нового Богослова, на Руси формируется исихазм. Нельзя забывать, что в самой Византии исихазм возник как, в известной мере, реакция на возрождение рационализма и увлечение Аристотелем12.
Разумеется исихазм не определял полностью духовной атмосферы Руси XIV-XV вв., сосуществуя с рационалистическими тенденциями в богословской мысли, и все-таки активный интерес к учению Паламы подчеркивал несориентированность Руси на секулированную, рационалистическую мысль Византии XIII-XIV вв., представленную именами Никифора Хумна, Никифора Григоры, Федора Метохита.
Оценивая в целом особенности русской культуры как культуры преемственной, можно сказать, что ограниченное число произведений византийской литературы и античных авторов, “вторичное” усвоение античного наследия, выборочный характер переводов с греческого,
70
враждебность “латинству” - все это не способствовало созданию мощного культурного пласта, к которому было бы легко обратиться в поисках новых идеалов взамен устаревших средневековых ценностей, как это произошло в свое время в Европе. Здесь, очевидно, следует видеть одну из причин “смазанности” гуманистических и возрожденческих мотивов в русской культуре XV-XVI вв.
Говоря о факторах, определивших развитие средневековой духовной культуры, нельзя обойти вниманием роль традиций национального язычества. В процессах, происходящих в массовой культуре России и Европы, есть много общего. Массовое сознание и там, и здесь вступало в сложное взаимодействие с христианством, трансформируя его, “встраивая” в мифопоэтическую картину мира и, в свою очередь, испытывая воздействие новой системы ценностей. Мифопоэтические модели активно репродуцировались, находя свое отражение прежде всего в устной культуре, проникая также и в жанры церковной литературы (агиография, видения, поучения, exempla). Не вдаваясь в решение сложного вопроса о том, как соотносились друг с другом официально-религиозная и мифопоэтическая линии в средневековой культуре, примем за исходное уже не вызывающий сомнений факт, что письменная культура далеко не полностью была охвачена официальнорелигиозным сознанием13. Весьма существенным является в данном контексте вопрос о том, в каком виде “свое” язычество проникало в письменную культуру и какое складывалось к нему отношение. Нас интересуют не столько мифопоэтические модели, отразившиеся в письменной литературе, в том числе и церковной, сколько национальное язычество в его “чистой” форме - в виде героического или космогонического эпоса. В европейских странах К XIII в. осуществилась активная запись и литературная обработка национального языческого эпоса. В “Песни о Нибелунгах”, ирландских сагах, цикле о рыцарях Круглого стола, Эдде ярко отразилась дохристианская культура народов Европы. Языческий пантеон, система представлений о мире, языческая этика, несмотря на позднейшую христианизацию этих памятников, представлены в них достаточно полно. Учитывая то особое значение, которое имел для средневекового человека текст, сам факт письменной фиксации языческого эпоса трудно переоценить: он создавал ощущение органической исторической связи эпох и преемственности культур, облегчая возможность обращения к своим истокам.
Другая ситуация сложилась в древней Руси. При всем богатстве мифопоэтического творчества, отраженного в фольклорных и полуфольклорных жанрах даже после принятия христианства, национальный космогонический и героический эпос не вошел в письменную традицию. Причины этого явления определить сложно: возможно, это было связано с недостаточной завершенностью самого оформления эпоса к моменту принятия христианства, возможно, со слишком резко выраженной непримиримостью к язычеству со стороны церкви. В любом случае, после завершения эпохи двоеверия язычество как целостная система, наподобие той, которая была зафиксирована в
71
“Эдде”, не смогло занять подобающего места в сознании средневекового русского книжника как феномен, имеющий ценность с точки зрения национальных традиций.
Между тем в древнерусской литературе были попытки обращения к истокам своей культуры. В XIV в., в период подъема национальноисторического самосознания, “Задонщина” вполне целенаправленно была ориентирована не только на воссоздание героики “Слова о полку”, но и элементов язычества, отраженного в нем. Но хотя, по словам Б.А. Рыбакова, “Слово” воскрешало “языческую романтику”14 для людей XII-XIII вв., однако, само по себе не являясь мифологическим эпосом, оно давало весьма скудную информацию о славянском язычестве, чтобы создать основу для возрождения своей дохристианской культуры.
На протяжении всего средневековья в древнерусской литературе так и не сформировалось устойчивой тенденции обращения к “своей” античности. Она появляется позднее - в XVIII и XIX вв., когда “своя”, особая культурная традиция начала вызывать все больший интерес и постепенно заняла свое место в системе культурных ценностей.
Столь длительный разрыв устной, фольклорной и письменной традиций объясняется во многом и особенностями языковой ситуации. В начале своего развития древнерусская культура имела известное преимущество перед латиноязычной письменной культурой Европы, которая обеспечивала себе доступ к античному наследию, оставаясь недоступной широким массам. Преимущество Руси было обусловлено первоначальной межславянской языковой общностью и тем, что нормативный старославянский язык был создан на основе одного из болгарских диалектов. Это способствовало распространению христианства (ибо богослужение велось почти на “родном” языке) и памятников письменности, которые свободно циркулировали из Болгарии в древнюю Русь, а также широкому распространению письменности даже на бытовом уровне.
Западная Европа, однако, сравнительно рано начала преодолевать языковой разрыв: примерно с ХП в. стала появляться литература на национальных языках, что одновременно способствовало нарастанию процесса национального самосознания. В России, наоборот, с течением времени языковое преимущество было утрачено вследствие диглоссии, которая приводила к постоянно увеличивающемуся расхождению устной речи и нормативного церковнославянского языка, к усилению того “раскола”, дуальности, которые, по мнению Н. Бердяева, характеризуют русскую культуру. Возможность “переводов” богослужебных текстов на разговорный язык (т.е. установление двуязычия) возникла лишь в XVII в., а создание литературного языка на основе разговорной речи, как известно, завершилось только в XIX в.
Говоря о роли язычества в массовом сознании древней Руси, следует также обратить пристальное внимание на мифопоэтическое сознание как сознание архаического типа, с его особым видением мира. Вспомним, что А.А. Потебня рассматривал его как нечто вневременное,
72
свойственное “не одному какому-либо времени, а людям всех времен, стоящим на известной степени развития мысли”15. Архаические по происхождению модели, разумеется, включались в менталитет не только русского, но и западноевропейского средневекового человека. Однако, сопоставляя в данном аспекте Европу и Россию, необходимо выяснить, в каком темпе шел процесс их “изживания”, какие по значимости элементы архаики сменялись новыми моделями. Не имея возможности подобно рассмотреть эту проблему, решение которой требует специальных изысканий, приведем тем не менее несколько наиболее ярких и важных примеров. Речь идет прежде всего о видении потустороннего мира. В раннехристианской литературе, как известно, отсутствовала идея чистилища. Однако в Европе уже к ХП1 в. оформилось и получило признание церкви деление загробного мира на рай, ад и чистилище, как место для “средних”, “не вполне добрых” и “не вполне злых” людей. Идея чистилища разрушала резкую оппозицию понятий грех - праведность, добро - зло и, соответственно, столь же резкое, однозначное определение личности. Двуполосное, дуальное, построенное исключительно на оппозициях восприятие мира, свойственное архаическому типу сознания, было осложнено осознанием того, что существует некая категория людей, совмещающих в себе крайности и потому имеющих надежду на спасение. В России унаследованное от Византии представление о судьбе человека в загробном мире оставалось неизменным и, за исключением полемики с еретиками, не являлось предметом богословских споров. Разумеется, не всегда проблема греха и праведности решалась столь однозначно. В некоторых произведениях переводной византийской литературы (“Житие Василия Нового”) и оригинальной русской (“Повести Пафнутия Боровского” XVI в.) появляется некое промежуточное место, напоминающее limbos в “Божественной комедии” Данте, в котором находятся “милостивый блудник” или добрый язычник, выкупавший христиан из плена. Однако, несмотря на эти исключения, в русской культуре не получила развития тенденция к созданию трехчленной модели потустороннего мира, имеющей выраженное гуманистическое звучание.
Элементы архаики сказывались и в самом отношении к религии в средневековой Руси. Как известно, одной из характернейших особенностей языческой религиозности является склонность к обрядности и культу. Эта черта ярко проявилась не только в первые века после христианизации Руси, но и в XVII в., на исходе средневековья, когда развернулось мощное по масштабам, не имеющее себе равных в истории России религиозное движение староверцев, направленное против реформ официальной церкви. Тогда литургические обрядовые вопросы, решенные в основном в Западной Европе в эпоху Каролингского Возрождения, которую неслучайно называют “цивилизацией литургии”, на Руси стали едва ли не главными и в реформах, и в движении старообрядцев. Реформы прошли под знаком единства культа и его освобождения от местных наслоений, связанных с языческими представлениями, в частности. Специфика процесса
73
централизации страны, который в условиях России обернулся воссозданием государственности, остро ощущаемая и в XVII в. непреодоленность язычества - все это, несомненно, объясняет историческую необходимость подобных усилий. Однако нельзя не заметить, что не философские вопросы теологии - таинство причастия и евхаристии, божественного предопределения и спасения, толкование которых в реформационном движении Западной Европы отразило существенные изменения в религиозном и общественном сознании, а ритуал службы стал едва ли не главным в них: двоение или троение креста и пения аллилуйи, многоголосие и хождение посолонь, на “латинский” образец.
Последний фактор, на который хотелось бы обратить внимание в сопоставлении культур средневековой Западной Европы и Руси, связан с процессом секуляризации сознания и самоопределения человеческой личности. Ни на Западе, ни на Руси, даже в эпоху раннего средневековья, не было полного поглощения культуры христианским мировоззрением. Однако в Европе этот процесс получил более выраженные формы и привел в XV-XVI вв. к утверждению гуманистических идеалов.
Существенные сдвиги на этом пути определились уже в ХШ в., когда Сигер Брабантский в споре о вере и разуме теорией “двойственной истины” вывел философию из-под опеки религии. Утверждение идеи разума сопровождалось самоутверждением личности, ее способности детерминировать свою судьбу, ощущать свою самобытность в корпоративном социуме. Ансельм Кентерберийский уже в XII в. видел путь к Богу не в самоуничижении, но в рациональном и духовном совершенствовании человека. Кретьен де Труа связывал достоинство человека с его способностью преодолеть самого себя. Элоиза в посвящении к одному из своих писем напишет: “Господу особо (как монахиня), тебе (Абеляру) отдельно"16. Domino specialiter sui singulariter.
В России церковь умела более успешно справляться со светскими тенденциями. Кроме того, преобладание в менталитете общинного, “хорового” начала над личным также не способствовало ломке средневековой концепции личности. Существенную роль в усилении светской направленности и светского содержания русской средневековой культуры сыграл политический фактор: борьба с политической раздробленностью в ХП-ХШ вв., освободительная борьба против монголотатарского ига и возрождение русской государственности в XIV-XV вв.
Этими процессами обусловлено развитие патриотической литературы (“Слово о полку Игореве”, “Повесть о взятии Рязани Батыем”, “Задонщина”, цикл повестей о Куликовской битве, житие Михаила Черниговского), появление идеи общерусского единства и преемственной связи с Киевской Русью в летописной традиции XIV-XV вв. Мощная тенденция к политической централизации способствовала секуляризации политической мысли, параллельно создавая трудности для формирования самосознания личности в ее возрожденческой трактовке.
Влиявшие на развитие общественного самосознания и политической мысли аналогичные политические обстоятельства в Западной Европе
74
дополнялись по крайней мере двумя весьма существенными явлениями. К ним следует отнести борьбу королевской власти с католической церковью, породившую огромную политическую литературу по проблеме соотношения духовной и светской власти. Иоанн Солсберийский в контексте этой борьбы уже в XII в. напишет о праве народа на свержение государя-тирана. Второй, и может быть, более существенный импульс дадут процессы оформления западноевропейского общества, которые питались активностью его социальных сил. Мы имеем в виду развитость феодально-вассального права, с его принципом взаимной ответственности сеньора и вассала в их договоре, массового явления процесса оформления обычного права и его письменной фиксации, проходившей не без влияния, прямого или опосредованного, римского права. В сложных усилиях правительства и юристов по выработке во Франции XV-XVI вв. общегосударственного кодекса были отредактированы около 300 местных кутюмов, из которых 60 являлись провинциальными. Антитиранические идеи Фомы Аквитана в XIII в. будут соответствовать духу общества, переживавшего глубокие процессы сословного оформления и вдохновленного максимой - “Quod omnes tangit ab omnibus probari debet”. Западноевропейская политическая мысль к концу XV в. пройдет путь от идеи “договора”, “совета” монарха с сословиями, ограничения власти законом - до представления о ней как о службе, которую может исполнять и недостойный государь17. Повторяя в целом тот же вариант развития, русская политическая мысль XIV-XVI вв. окажется связанной с идеей сильного государя, четко сформулированной в теории Филофея “Москва-третий Рим”. Эта идея могла решаться в крайне авторитарной форме в трудах Ивана IV, сознававшего свою ответственность только перед Богом и проповедующего свое право “жаловать или казнить” холопов, из которых, по его мнению, и состояло все общество.
Однако параллельно, хотя постепенно и робко, формировались идеи ограничения царской власти: Иосиф Волоцкий выскажется за возможность критики государя и сопротивления злодею, поставив сакральность власти в зависимость от качества ее реализации. Максим Грек выдвинет понятия “закона” и “нравственности” в качестве критериев для оценки государя, однако возможность возмездия “мучителю” оставит Богу. Аналогичную идею ограничения власти государя “законом” выскажет публицист и дипломат, близкий Максиму Греку, - Федор Карпов, чья концепция была пронизана идеей разума и духом сомнения: предвосхищая Монтеня, он объявит сомнение главным в поисках истины - “изнемогаю умом, в глубину впад сомнения”18.
Особый интерес представляет появившаяся в литературе XVI в. идея “совета”. Ее офомление весьма красноречиво свидетельствует о принадлежности России к европейской цивилизации, давшей средневековью феномен сословного представительства, неизвестный восточному миру. Вместе с тем, толкование идеи “совета” отразило слабость сословно-представительного режима в России XVI-XVII вв. Право “совета”, ограничивающее власть государя, признавалось главным
75
образом за представителями господствующего класса. Завоеванием на этом пути было самоопределение дворянского служилого сословия и утверждение в этот период его политических притязаний (публицист Иван Пересветов). Более широкое толкование можно встретить у монаха Зиновия Отенского (середина XVI в.), включившего в “совет” старейшин города, а также у князя А. Курбского, мыслящего о совете всего народа (“всенародных человек”)19. Присущая теории сословного представительства сдержанность и неопределенность ограничительных идей соответствовала реальной слабости общественных сил России в их сословном определении, в первую очередь слабости городского сословия. Следует также заметить, что политические тезисы разрабатывались главным образом не в светской среде, и тем более не в среде юристов-профессионалов, как это имело место в Европе.
О набирающем силу процессе секуляризации сознания в условиях общего подъема культуры в XIV-XV вв. свидетельствует развитие изобразительного искусства, архитектуры и литературы. Исследователи отмечают в этих сферах порыв к свету и гармонии, вольному началу, земным радостям. Тем не менее отмеченные явления не охватили всей культуры в целом и радикально не изменили системы ценностей. Это был не в силах сделать и поворотный XVII в., отмеченный подъемом в области просвещения, естественных знаний и городской светской культуры, поскольку радикальность отторжения от религиозного и корпоративного сознания определялись уровнем общественного развития. Гуманизм и особенно Реформация в Западной Европе знаменовали собой рождение и в ряде случаев победу новых отношений, тогда как Россия XVII в. находилась в начале этого пути - с редкими мануфактурами в городе, еще далекими от собственно капиталистических предприятий со свободным наемным трудом, с преобладающим в экономике сильским хозяйством, которое отличала, скорее, ориентация на рынок, чем собственно предпринимательские тенденции.
В том же XVII в. получило завершение государственное оформление крепостного права. Будучи порожденным, в частности, новыми тенденциями в социально-экономическом развитии России, оно, тем не менее, консервировало феодальные отношения. Поэтому рассуждения в отечественной литературе о “народном гуманизме” или “Предвозрождении”, скорее, выглядят уступкой западной модели, чем реальной оценкой специфики культурного и духовного состояния русского общества в рассматриваемый период20.
В контексте затронутого вопроса о секуляризации культуры объяснения социального характера представляются хотя и необходимыми, но недостаточными. Одним из возможных дополнительных путей поиска, на наш взгляд, является рассмотрение особенностей, которые сложились в самом соотношении светского и духовного начал в русской культуре. Весьма существенно, в частности, понять, что представляли собой и как реализовывались притязания русской православной церкви на монополию в духовной жизни общества, чего
76
было больше в этих притязаниях в XVI-XVII вв.: желания не потерять ранее достигнутое или достичь еще не обретенное; как развита была богословская теоретическая мысль, долженствующая обеспечить защиту официальной церкви, и какое влияние на нее оказывало протестанстское богословие, как, наконец, в религиозном сознании общества соотносилось христианское и языческое сознание. В связи с поставленными не простыми и слабо разработанными в отечественной историографии вопросами хотелось бы высказать некоторые соображения, в частности относительно состояния философской и богословской мысли. Конец XV и XVI вв. были отмечены не только подъемом (по словам Иосифа Волоцкого, это было время “всеобщего возбуждения умов”), но и формированием “критического” направления в православии. Попытки изменения философской доктрины отразил спор иосифлян и нестяжателей. Он прошел под знаком религиозного субъективизма и индивидуализма: осознанного восприятия Писания, мобилизации средств разума для обоснования религиозных догм, признания примата “внутренней” религии над обрядовой практикой, отступления от признания посреднической роли духовенства. Однако попытки пропаганды религиозного индивидуализма и рационализма не вышли за рамки созерцательно-аскетического учения, - этого исихазма на русской почве (Нил Сорский, старец Артемий)21.
Значительно радикальнее выглядит толкование богословских вопросов в антицерковных ересях стригольников и антитринитариев в XIV-XV вв. В нем присутствовало отрицание церковной иерархии, построенной на мзде, идея спасения собственными силами, рационализм в критике догматов и Писания, отрицание таинства причастия, догмата о воскресении мертвых и существовании загробного мира, идеи естественнонаучного плана (по медицине, астрономии, математике). Однако и здесь протест не вышел за рамки средневековых бюргерских ересей. Они не приобрели характера широких общественных движений (крестьянско-плебейская ересь одиночек - Матвея Башкина и Феодосия Косого). Элитарная в целом ересь антитринитариев распространилась главным образом в среде высшего духовенства и боярства.
В XVII в. традицию попыток преобразования догмы продолжит раскольническое движение. В его среде под покровом внешнего консерватизма и ригоризма оформилась так называемая “народная вера”. Ее носители отрицали молитву и правила литургии в духе европейского анабаптизма, требовали второго крещения, предполагав шего сознательный выбор. Известный деятель раскольнического движения Аввакум выскажет пантеистические идеи в толковании Бога, в котором, по его словам, вмещаются небо, земля и всякая тварь. Перерождение движения в сектантство способствовало борьбе против него православной церкви, сумевшей провести реформу по укреплению своих позиций сверху, в союзе с государством.
Любопытно, что в реформаторской деятельности церковь волновали не только ставшие главными в ней обрядовые вопросы. В
77
условиях роста безверия и вольнодумия эта деятельность отразила потребность и заинтересованность в развитии богословской мысли, просвещении невежественных по большей части церковных кадров и неискушенных в христианстве народных масс. Явное преобладание в этой среде сельского населения только консервировало архаическое сознание, хотя своеобразие ситуации в России составляло не столько его сохранение, сколько разрыв, существовавший между узким слоем образованного духовенства и массой “простецов”. Этим исследователи объясняют обращение русской церкви к богословскому схоластическому опыту украинской церкви, попытки реформ в области образования22. Тем не менее в целом деятельность русской церкви в XVII в. была направлена, скорее, на утверждение традиционной официальной догмы православия и ее сохранение, в частности, перед опасностью “лютерского и колвинского закона”.
Отмеченное нами своеобразие условий и форм культурного развития Западной Европы и России побуждает обратиться к глубинным явлениям общественного процесса. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на тип общины - той социальной организации древних германцев и восточных славян, которая послужила исходной клеточкой цивилизационого процесса на территории Европы. Здесь, вероятно, исследователи прикасаются к той тайне истории, которая дала основание ввести в науку понятие “неподвижной истории”. Община древних германцев, как отмечают исследователи, превзошла предшествующие ей по времени на пути исторического процесса общины восточную и античную - в плане освобождения от пут коллективной общности и выделения личного начала. Русская община, возникшая на этапе средневековья параллельно германской общине, была в этом смысле подобна ей. Однако, несомненно, что в процессе формирования крупной земельной собственности и отношение зависимости “окняжение” земли на Руси опережало внутреннее расслоение в общине. Подобное явление не уникально и получило крайние формы выражения в бессинтезном варианте генезиса феодализма, например, в Скандинавии. Ясно и то, что уже зависимая от феодала русская сельская община, эта своеобразная репродукция или модификация древнеславянской, сохранит себя в условиях высокоразвитого товарного производства и даже генезиса капитализма. Подобный феномен нельзя объяснить только ролью государства; он питался какими-то глубинными импульсами, которые шли и от самой общинной структуры. Многочисленные исследования по истории переделов земли в XVI-XVII вв, позволяют говорить о сильных консервативных тенденциях, тормозящих развитие частнособственнических начал в аграрном секторе общества. И в этом смысле русская община выглядит менее динамичной, чем германская, заложившая код западноевропейской цивилизации.
Западноевропейский город, по нашему мнению, дал более автономизированный, по сравнению с русским средневековым городом, вариант сосуществования земельной и ремесленной собственности, что
78
явилось существенным условием прогресса ремесла, консолидации городского сословия, развития культуры в целом и ее секуляризации.
Даже история новгородской республики, самостоятельность которой была прервана в XV в., так живо напоминавшая западноевропейский вариант развития итальянских городов-государств, несет на себе печать политического и торгово-экономического преобладания боярства (боярское землевладение, вотчинное ремесло, торговля в городе). Русские города не пережили важного для политического самоопределения городского сословия коммунального или освободительного движения. Экономическая и политическая слабость городского сословия в значительной мере определила ограниченность сословно-представительной системы в России.
Завершая попытку цивилизационного и компаративного анализа, хотелось бы подчеркнуть, что его направленность на сопоставление русского и западного вариантов развития предопределила внимание к региональным особенностям культуры и причинам, породившим эти особенности. Поэтому позитивное содержание культуры, вклад каждого из регионов в мировую культуру нами элиминировались. Тем не менее в новом видении соотношения идентичности и расхождения в интеграционных процессах цивилизационных общностей представляется правомерной как крайняя точка зрения об изоляции (в частности, благодаря принятию восточного христианства)23, так и попытки, главным образом отечественной историографии, непременно доказать “схожесть”, а иногда даже опережающее развитие культурных процессов или форм общественного сознания.
Своеобразие исторического развития России на всех уровнях - культурном, социально-экономическом и политическом - позволяет считать эту страну не перекрестком восточных и западной цивилизаций, не окраиной Европы, а одной из локальных цивилизаций в пределах более крупной европейской общности. Ее средневековая культура выглядит как самоценное, самодостаточное явление, давшее свои крупные достижения с выраженным национальным началом: в живописи, архитектуре, в патриотизме прозаической и поэтической литературы, в особом развитии теолого-мистического направления философии, имевшего своеобразный выход в подъеме русской философской мысли второй половины XIX - начала XX вв., оказавшим глубокое влияние на западную философию XX в.
Вместе с тем, отмеченное своеобразие России указывает на общее с Европой направление в развитии исторического процесса, схожую природу и параллельное существование форм экономической, политической и культурной жизни.
1 История крестьянства в Западной Ев- блемы средневековой народной культуры,
pone. М., 1985-1986; История Европы. М., 1981; Одиссей: Человек в истории. М., М., 1992. T. 2. 1991.
2 Le Goff J. La civilisation de l’Occident 1 2 3 Ильин ИЛ. О России. М., 1991. С. 12,
medieval. Р., 1964; Гуревич А .Я. Про- 13.
79
4 Шпет Г.Г. Очерки развития русской философии. М., 1989. С. 28.
5 См.: Древнерусская притча. М., 1991. С.
331 и далее.
6 Творогов О.В. Античные мифы в древнерусской литературе XI-XVI вв. // ТОДРЛ. Л., 1979. Т 33. С. 5, 22.
7 Елеонская А.С. Русская публицистика второй половины XVII в. М., 1978. С 10.
8 Замалеев А.Ф. Философская мысль в средневековой Руси. М., 1978. С. 143.
9 Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Л., 1984. С. 29; Максим Грек. Соч. Казань, 1862. Ч. 3, С. 232.
10 Черная Л Л. Русская мысль второй половины XVII - начала XVIII вв. О природе человека // Человек и культура. М., 1990.
11 Аверинцев С.С. Философия VII—XII вв.
// Культура Византии второй половины VII-XII вв. М, 1989. С.58.
12 Замалеев А.Ф. Указ. соч. С. 209; Про¬
хоров Г.М. Культурное своеобразие
эпохи Куликовской битвы // ТОДРЛ. Л., 1979. Т. 34. С. 4.
13 См.: Гуревич А.Я. Указ. соч.
14 Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси.
М., 1988. С. 745.
15 Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М.,
1976. С. 433.
16 Баткин Л.М. Письма Элоиды к Абе¬
ляру // Человек и культура. М., 1990. С. 126.
17 Хачатурян Н.А. Сословная монархия
во Франции XIII-XV вв. М., 1989.
18 Максим Грек. Указ. соч. Ч. II. С. 110.
19 История политических и правовых уче¬
ний. Средние века и Возрождение. М., 1986. С. 188-253.
20 Лихачев Д.С. Культура Руси времени
Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.; Л., 1962. С. 161,162.
21 См.: Философская мысль на Руси в
позднее средневековье. М., 1985.
22 Очерки русской культуры XVII в. М.,
1979. Ч. II.
23 Pipes R. Russia under the old regime. N.Y.,
1974. P. 298.
А.И. Кобзев
КИТАЙСКАЯ ПРОТОЛОГИКА
Широко используемый в китайской и более осторожно в западной литературе термин “китайская логика” в действительности обозначает не логические в строгом смысле, а ориентированные на целостный логико-лингвистический анализ и эристическую проблематику общеметодологические построения древнекитайских философов V-Ш вв. до н.э., главным образом представителей школы имен (мин цзя), моистов, отчасти легистов (фа цзя) и Сюнь-цзы. Данное направление может быть квалифицировано как протологическое, поскольку даже на высшем уровне своего развития, в школе Мо-цзы, оно не достигло точной спецификации логики как таковой.
Для демонстрации отсутствия логической спецификации в древнекитайской методологии обратимся к одной из наиболее значимых в методологическом отношении глав “Мо-цзы” - глава 45 “Сяо цюй”1 (“Малый выбор”). Она состоит из классифицированных наборов правильных, с точки зрения ее автора(ов), умозаключений. Эти образцовые умозаключения существенно отличаются от умозаключений вроде силлогизма: “Все люди смертны. Сократ - человек. Следова-
© А.И. Кобзев
80
тельно, Сократ смертен”. Рассуждение о Сократе - конкретное воплощение первого модуса первой фигуры простого категорического силлогизма. Форма этого модуса Barbara, будучи заполнена любым содержанием, т.е. любыми по содержанию истинными суждениями, даст “на выходе” истинное заключение. В “Мо-цзы” же форма умозаключений оказывается вполне зависимой от содержания охватываемых ею высказываний, т.е. в конечном счете производной от конкретных языковых выражений.
Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить два умозаключения, по форме абсолютно тождественных, но приводящих к противоположным выводам: “Хо - человек (жэнь). Любить Хо (значит) любить человека” и “Родители Хо - люди (жэнь). То, что Хо служит своим родителям, не(значит), что Хо служит людям”2.
Но дело этим не ограничивается: истинность приводимых в “Моцзы” высказываний зависит не только от того, какие иероглифы их образуют, но и от того, в каком значении употребляется один и тот же иероглиф. В процитированных фразах иероглиф “жэнь” (человек, люди) может обозначать и конкретного человека, и людей вообще. В первом случае предложение “Ай Хо ай жэнь е” будет пониматься как “Любить Хо (значит) любить человека (Хо)”, во втором - “Любить Хо (значит) любить (всех) людей”. А. Масперо следующим образом характеризовал язык, которым пользовались древнекитайские методологи. “Абсолютная неизменяемость слов, придавая всем терминам фразы видимость существования без связи, но в приложении друг к другу, не оставляет места понятию о зависимости некоторых из этих слов от других; а отсутствие грамматических категорий еще более усиливает взаимную независимость. Более того, эта неизменяемость делает весьма затруднительным понимание некоторых нюансов. Ни греки в античные времена, ни мы ныне ничуть не затрудняемся различением “человека” (“ГЬотше”) вообще и “определенных людей” (“des homines”), “неких людей” (“des hommes”), “нескольких людей” (“queiques hommes”), “одного человека” (“un homme”) и т.д., ввиду того, что наши языки предоставляют нам различные грамматические формы. Не так обстояло дело для представителей школы Мо-цзы, для которых все эти термины неразличимо сливались в едином слове жэнь, которое соответствует всем им вместе. Разумеется, китайский язык, даже древний, позволял выражать все эти различия: можно было сказать “определенные люди” - “чжу жэнь”, “несколько людей” - “цзи жэнь”, “один человек” - “и жэнь” или “жэнь и коу” и т.д., но эти различия никогда не предписывались, они не навязывались уму китайца с необходимостью. Для нас невозможно выразить суждение, содержащее слово человек (homme) без всякого определения или одновременно со множеством определений: я должен принять человека либо в общем смысле - как человечество (humanite), либо в частном - как одного человека, либо как неких людей, нескольких человек. Китаец никогда не принужден выбирать, и для него слово жэнь обычно заключает в себе все эти нюансы одновременно и без разграничения, и только в
81
особых случаях, если уже имелось предварительное решение, слово в его уме различительно прилагается к тому или другому - сообразно обстоятельствам”3.
С предельной наглядностью неоднозначность одинаковых терминов обнаруживает себя в следующем моистском высказывании: “Одна лошадь - лошадь, две лошади - лошади” - “И ма ма е, эр ма ма е”4. В одном случае чисто лингвистическая особенность - отсутствие в китайском языке грамматической категории числа - не позволяет соблюсти логический принцип однозначности употребляемых терминов (русский перевод сглаживает эту особенность, ставя в соответствие одному и тому же иероглифу в разных позициях разные слова: “лошадь” и “лошади”).
С другой стороны, многие операции моистов, кажущиеся в переводе чисто логическими, на самом деле имеют в большей степени лингвистическую природу. Их известный тезис “Любить людей (жэнь) не (значит) исключать себя”5 на первый взгляд представляется правомерным выводом, полученным через ограничение третьего понятия. В развернутом виде это умозаключение должно выглядеть так: “В число людей вхожу и я, следовательно, в любовь к людям входит и любовь к себе”. Однако иероглифу “жэнь” помимо значения “человек, люди” присуще значение “другой, чужой”. В разбираемом тезисе он имеет как раз второе значение, поскольку присутствует здесь в паре со своим антонимом по этому значению, иероглифом “цзи”. И в русском языке любое высказывание о любви к людям подразумевает именно любовь к другим (людям) в противовес любви к себе. Поэтому правильнее было бы переводить тезис моистов так: “Любить других не значит исключать себя”. Но ведь понятие “другой” не охватывает собой понятия “Я”, напротив, другой это и есть не я. Стало быть, вывод у моистов получается только за счет того, что термин “жэнь” совмещает в себе значения “другой” и “человек”, а понятие “человек” является родовым по отношению к понятию “я”. В моистском выводе, таким образом, столько же логики, сколько в умозаключении: “Любить людей - это высший долг каждого. Я - человек. Следовательно, любить меня - высший долг каждого”.
В еще одном образцовом для древнего Китая методологическом трактате, представляющем идеи школы имен, - “Гунсунь Лун-цзы” - содержатся прямые нормативные высказывания о зависимости логической аргументации от языковой формы. В частности, в главе “Бай ма лунь” (“Суждения о белой лошади”) один из участников диалога говорит “Лошадь” без “белого” означает лошадь. “Белое” без “лошади” означает белое. Соединяя “белое” с “лошадью”, получаем сложное имя “белая лошадь”. Это составное именовать посредством несоставного нельзя. Поэтому говорить, что “белая лошадь” не есть “лошадь”, недопустимо”6.
Смысл заключительного вывода весьма тонок и трудноуловим, поскольку в нем имплицитно присутствует понимание того, что отрицательное определение есть тоже определение: хотя в знаменитом
82
афоризме Гунсунь Лун-цзы “Белая лошадь не есть лошадь” предикат “лошадь” и отрицается, все-таки это простое имя определяет субъект - составное имя “белая лошадь”, что, с точки зрения делающего вывод, незаконно, ибо сложное имя должно определяться сложным именем. В целом настоящий фрагмент показывает, как в спор об определении понятий тесно вплетаются аргументы, апеллирующие к языковой форме этих понятий - в данном случае играет роль их выраженность составными или простыми терминами.
Небезразличен для развития протологической мысли в Китае был и характер китайской письменности. Отнюдь не случайно то, что создатель науки логики в Европе Аристотель первым ввел формализм - использовал буквы для обозначения переменных. Ян Лукасевич, отметив, что в приводимых Аристотелем правильных силлогизмах все термины представлены буквами, дал этому следующую оценку: “Введение в логику переменных является одним из величайших открытий Аристотеля. Трудно поверить, что до сих пор, насколько мне известно, ни один философ или филолог не обратил внимания на этот исключительной важности факт”, - а в сноске к последней фразе солидаризировался с Д. Россом, который в своем издании “Аналитик” также “подчеркивал, что именно благодаря использованию переменных Аристотель стал основателем формальной логики”7.
Можно предположить, что на мысль конструировать общие матрицы суждений из букв Аристотеля натолкнуло то, что греческое слово “atoicheion” совмещало значение “буква” (см., например: Анаксимандр, 31) и “начало, основа”, будучи стандартным обозначением первоэлементов. Аналогичным образом латинский “elementum” знаменует собой и “первоначально” и “алфавит”.
Любитель каламбуров Платон не только играл указанными значениями термина atoicheion (“Тимей”, 48), но и пользовался понятием первоэлемента имени “Кратил” 422 a-в), разумея под ним семантически и грамматически далее не разложимую часть слова (см. также “Теэтет”, 203а-204в, “Софист”, 253а-в, “Филеб”, 18с). Ученик Платона Аристотель также употреблял этот термин в обоих его значениях, и поэтому вполне естественно он ассоциировался для него с чем-то общим, что на лингвистическом уровне конкретизируется в слово, а на онтологическом - в вещь. Действительно, первоэлемент и букву можно считать онтологическим и лингвистическим аналогами переменной, неопределенность которой не абсолютна (как, например, у бескачественной первоматерии и хаотического звука или штриха), будучи связанной кванторами и областью определения.
Неясно, в какой мере сам Аристотель осознавал значение своего нововведения, но уже такие его комментаторы, как Александр Афродисийский и Иоанн Филопон, вполне правильно истолковывали его8. Можно увидеть намек на логицизм (аксиоматический метод) и в названии сочинения, впервые в европейской (и, видимо, мировой) истории представившего в логико-дедуктивной форме естественнонаучное знание, - мы имеем в виду Евклидовы “Начала” - “Stiicheia”
83
(Ill в. до н.э.). Связь логики с буквенным формализмом осознавалась в античности и критиками логицизма. В частности, Плотин утверждал, что с точки зрения диалектики посылки силлогизма - всего лишь буквы (1, 3, 5). Семантическая пустотность букв самих по себе, т.е. не слившихся в слова, составляет основание подобной критики, невозможной в применении к иероглифам.
В распоряжении китайских мыслителей не было таких, не имеющих собственных лексических значений универсальных знаковых полуфабрикатов, какими являлись буквы греческого алфавита. Единственной категорией китайских иероглифов, могущих выполнять функцию переменных, были циклические знаки. Ныне именно они используются в этой роли9. Однако подобное их употребление возникло как отражение приемов западной логики. Несмотря на некоторые общие у циклических знаков с буквами свойства (помимо лексической “пустотности”, наличие числовых значений), их принципиально разнит то, что циклические знаки не представляют собой универсального “строительного материала” для всех прочих иероглифов, т.е. не являются “элементами”, как буквы для слов.
Развитая идеалистическая доктрина, как показала история платонизма, способна быть благодатным лоном для вызревания формальной логики. Именно гипостазирование Платоном понятий в виде самостоятельных сущностей - идей (эйдосов) позволило Аристотелю вполне осознать специфику логических отношений как отношений между понятиями, а не их материальными носителями - словами. В целом история европейской философии хорошо показывает глубинную генетическую связь формальной логики с идеализмом: в основе того и другого лежит осознание понятий как самостоятельных нематериальных сущностей, которые находятся в особых (логических) соотношениях. Гегель, стремившийся к синтезу исторического и логического, усматривал в этой генетической взаимосвязи проявление сущностного единства, что афористично выражено в тезисе “Силлогизм есть принцип идеализма”10. В китайской же философии отсутствие развитого идеализма влекло за собой отсутствие представления о понятийной сфере как особой реальности, для которой действительны только собственные - логические - законы, что в итоге и помешало китайским мыслителям дифференцировать логическое, лингвистическое и эристическое.
О невыработанности такой дифференциации свидетельствует прежде всего то, что в китайской философии самостоятельно не возник термин “логика”. Впервые с логической теорией китайцев познакомили индийские буддисты. Совершивший паломничество в Индию выдающийся переводчик буддийской литературы Сюаньцзан для обозначения индийской логики создал термин “инь мин” - “освещение оснований”, являющийся семантической калькой санскритского “hatuvidya”. Хотя иероглиф “инь” использовался в логическом значении, соответствующем индийскому термину “hetii” (“причинный признак”), его стандартный философский смысл - “причина, основание, пред¬
84
посылка, начало” - с необходимостью онологизировал теорию “инь мин”, растворяя ее в общефилософской этиологии.
Буддийская логика не конкурировала с логикой “Мо-цзы”11. Моизм был побежден в конце III в. до н.э., но отнюдь не предан полному забвению. Трактат “Мо-цзы” неизменно описывался в библиографических разделах династийных хроник (с I в.) и публиковался как в составе “Дао цзана” (по крайней мере с XII в.), так и отдельно (по крайней мере с XVI в)12. Если бы моистская методология имела статус универсальной логической теории, она непременно рано или поздно вошла бы в столкновение с привнесенной в Китай индийской логикой, тем более что включивший “Мо-цзы” “Дао цзан” был создан в противовес буддийской Трипитаке (Да цзан цзин). Но этого, повторяем, не произошло. Не получила в Китае статуса универсальной общепознавательной методологии и индийская логика. По-видимому, и то и другое здесь рассматривалось как частные учения: моистская методологизированная теория правильного употребления языка и буддийская методологизированная этиология (логизированная онтология). А частным учениям, относящимся к разным сферам бытия, вовсе не обязательно конкурировать друг с другом, они могут вполне мирно сосуществовать.
Следующий этап знакомства китайских мыслителей с логикой был открыт публикацией переводов западной логической литературы. Первая работа в этом направлении была выполнена астрономом Ли Чжицзао (1565-1630 гг.), переведшим на китайский язык португальский учебник формальной логики и использовавший для передачи термина “логика” старинное сочетание “мин ли” - “имена и принципы”. Затем в эпоху Цин (1644-1711 гг.). Ли Линьцзян, оформив это сочетание окончанием “сюэ” (“учение,... логия”), получил выражение “мин ли сюэ” - “учение об именах и принципах”. Расчленив его, знаменитый переводчик англоязычной литературы Янь Фу (1853-1921 гг.) и Сунь Ятсен (1866-1925 гг.) образовали соответственно термины “мин сюэ” - “учение об именах” и “ли цзэ сюэ” - “учение о принципах и правилах”. Выдающийся китайский филолог Ван Гоаэй (1877-1927 гг.) перевел “логику” как “бянь сюэ” - “учение о различениях, диалектика, эристика”. Во всех этих переводах проявились три обычных тенденции сведения логики к онтологии (учение о “принципах” - ли), лингвистике (учение об “именах” - мин) или эристике (учение о “различениях в споре” - бянь). Кроме того, все указанные переводы дают представление об однородности логики с методологическими построениями моистов, школы имен и Сюнь-цзы, поскольку термины “ли”, “мин”, “бянь” были в них ключевыми и даже использовались в качестве их наименований.
Широкое знакомство в XX в. с западной логической литературой позволило китайским ученым и философам осознать специфику логики, что вызвало потребность в качественно ином термине, подчеркивающем ее принципиальную новизну для Китая. В период существования Китайской республики (1912-1949 гг.) были предприняты по¬
85
пытки использовать японский иероглифический эквивалент “логики” - “ронригаку”, в китайском звучании “лунь ли сюэ” - “учение о принципах суждений”13. Его иноземная новизна была весьма поверхностной, вторичной, и он невольно возвращал в круг вредных в данном случае традиционных ассоциаций. Поэтому в КНР была стандартизирована фонетическая транскрипция “лоцзи” (“лоцзи сюэ” - “учение о логике”, “наука логики”). Таким образом, китайское научное сообщество признало иностранное происхождение логики.
* * *
Один из первых исследователей древнекитайской методологии, известный ученый, философ и общественный деятель Ху Ши (1891— 1962 гг.) выделял две главных конкурировавших друг с другом разновидности древнекитайской логики - конфуцианскую (теория “Чжоу и”) и моистскую14. Не соглашаясь с примененной им общей квалификацией (“логика”), мы считаем очень ценной и плодотворной демонстрацию единого методологического статуса теорий, изложенных в “Чжоу и” и протологических главах “Мо-цзы”. Здесь мы находим авторитетное подтверждение тезиса о борьбе за методологическое первенство между нумерологией и протологикой в Китае, сопоставимой с борьбой между пифагорейством и аристотелизмом в Европе.
Так же неразрывно, как материализм с идеализмом, связаны друг с другом и диалектика с логикой. Противоречие, деструктивное для логики и конструктивное для диалектики, принципиально недоступно эмпирическому восприятию в материальном мире, где физически невозможны объекты типа круглого квадрата. Поэтому, например, абсолютные материалисты - киники, отрицавшие идеальное как таковое, не признавали и существования противоречия вообще. Напротив, в сфере идеального, будь то самостоятельный мир идей или теория, претендующая на объяснение материальной действительности, противоречие легко допустимо. Более того, согласно Гегелю, диалектика - это “чистое движение мышления в понятиях”, т.е. матерь всего идеального и для нее “противоречие есть критерий истины, отсутствие противоречия - критерий заблуждения”15.
Для китайского натурализма не характерно противостояние материализма и идеализма, логики и диалектики. В произведениях китайских мыслителей пока не обнаружено ни формальной логики, ни диалектики в смысле признания синхронного тождества противоречащих характеристик, а не рассуждений о том, что одна противоположность во времени сменяет другую и наоборот или что противоположности взаимоопределяют друг друга. Тезис об отсутствии в классической китайской философии диалектики в указанном смысле более оригинален, чем тезис об отсутствии там формальной логики, но и он, по-видимому, впервые выдвигаемый в отечественной науке, не столь уж нов для мировой синологии16.
86
Собственно диалектика требует принципиально осознанного нарушения логического закона противоречия. Иллюзия подобного нарушения часто создается только потому, что в китайских философских сочинениях один и тот же термин, зачастую ключевой, употребляется в заведомо 'различных смыслах. Например, в первой строке наиболее диалектического произведения китайской философии - “Дао дэ цзина” - “Дао кэ дао фэй чан дао” один и тот же иероглиф “дао” в первом случае означает относительный “путь” (закономерность, метод, учение), во втором - его происхождение или выражение в словах, в третьем - абсолютный (“постоянный”) Путь17.
Диалектика же в собственном смысле, преодолевающая закон противоречия, не в силах проделать подобное с логическим законом тождества, поскольку для того, чтобы утверждать, что Р одновременно есть и не есть Р, необходимо в обоих случаях под Р понимать одно и то же. Иначе это будет не более чем софистика, релятивизм или та “внешняя диалектика”, которая, по определению Гегеля, делает “шатким все, что обыкновенно считается прочно установленным”18.
Итак, диалектика в собственном смысле, а не в этимологической, софистической, релятивистской, какой-либо другой особой, нестрогой или расширительной трактовке, нуждается по меньшей мере в понятии тождества противоречащих друг другу определений. Но ни оно, ни вообще понятия тождества и противоречия в строгом, логическом смысле не были самостоятельно выработаны в китайской классической философии.
Один из крупнейших китайских философов XX в. Чжан Дунсунь (1886-1973 гг.) объснял это положение исходя из позиции, близкой западной лингвистической философии, в частности общей семантики19. Он опирался на факт отсутствия в китайском языке (прежде всего вэньяне - языке традиционной китайской культуры) глагола-связки “быть” и производной от него субъектно-предикатной структуры предложения, которая является лингвистически адекватной формой выражения логического закона тождества. Поэтому, согласно Чжан Дунсуню, “система китайской логики, в той мере, в какой мы можем называть ее системой, не основана на законе тождества”20. Западная “логика тождества” - продукт европейской языковой среды. Необходимый элемент этой логики - понятие субстанции как субъекта отождествления - также производно от глагола “быть”, предполагающего субъект лингвистической предикации.
Грамматическая структура китайского предложения знаменует собой лишь взаимосвязь описываемых в нем объектов, ничего не говоря о соотношении объемов их понятий. Более того, даже отрицания (фэй, бу) в этом языке двусмысленны, не позволяя однозначно судить, идет ли речь о противоречии или противоположности, т.е. отношений “А и не-А” или “А и В”, что делает нерелевантным закон исключенного третьего. Отсюда проистекают неэксклюзивность китайских классификаций и традиция определений с помощью антонимов, а не через род и видовое отличие.
87
Логику мышления в таких лингвистических категориях Чжан Дунсунь называет коррелятивной, или “логикой противоположности”, которой чужды понятия тождества, противоречия, субстанции и формально-логический закон противоречий21.
Остановимся на историко-философском аспекте, связанном с натуралистичностью китайской классической философии.
В “натуралистическом” мире, представляющемся не более чем совокупностью материальных объектов, невозможно найти две абсолютно тождественные вещи. Такой мир полностью подчинен принципу индивидуации. Отождествление объектов становится возможным лишь при абстрагировании каких-то их отдельных свойств, мыслимых в качестве самостоятельных сущностей, т.е. при наличии некоторой теории идеализации. Только между идеальными образованиями может быть установлено абсолютное тождество, в материальном мире оно всегда будет относительным, даже с принятием предложенной Лейбницем абстракции тождества неразличимых. В любом случае, идет ли речь о гносеологических конструктах или онтологических сущностях, отождествлению как таковому подлежат их абстрагированные свойства, т.е. в конечном счете идеи (понятия, смыслы, концепты и т.п.).
Необходимая предпосылка любого достаточно строгого философского, логико-методологического или научного понятия тождества - представление об идеализирующей абстракции. В Европе такое представление было создано в рамках платоновского идеализма. Поэтому совершенно закономерно “тождество” (“тождественное”, “одно и то же” - to ayto, taytoa, taytotes) у Платона стало одним из центральных понятий, которое он включал в число пяти-шести главных категорий (“Теэтет”, 185-186, “Софист”, 254с-259, “Парменид”, 139-140).
Аристотель уже разработал логическую концепцию тождества, выделив три его разновидности: “Действительно, мы обычно называем тождественным то, что одно и то же по числу, или по виду, или по роду. По числу одно и то же то, что имеет, правда, несколько названий, но есть одна вещь, например, “одежда” и “платье”. По виду же одно и то же то, что по количеству больше одного, но не различается видом, как, например, человек тождествен человеку и лошадь - лошади. Ведь называют одним и тем же по виду то, что подпадает под один и тот же вид. И точно так же одним и тем же по роду называется то, что подпадает под один и тот же род, например, лошадь и человек” (“Топика”, 1, 7, 103а, 6-15). Специфику аристотелевского определения тождества составляет подход с точки зрения логических родовидовых отношений. Собственно отождествлению тут подлежат не материальные вещи сами по себе, а связанные с ними идеальные (идеализированные) конструкты - род и вид - или языковые выражения. Исходя из этой общей позиции, Аристотель и однозначные языковые выражения отождествлял по их логическому смыслу, т.е. оперировал с ними как со знаками идей.
88
Круг философских и логических терминов, связанных с понятием тождества, в современном китайском языке образован на основе иероглифа “тун” - “одинаковость, равенство, подобие, совпадение, совместимость, (объ)единение”. Коррелятивная пара “тун” и “и” (“различие, инаковость, непохожесть, неподобие, чуждость, странность, необычайность”) является одной из важнейших среди методологических категорий китайской классической философии.
Первое существенное отличие “тун” от категории “тождество” состоит в том, что китайский термин недифференцированно выражает два принципиально разных понятия - подобия и тождества. Известный польский синолог, один из первых исследователей древнекитайской методологии, применивший к ней современный формальнологический аппарат, Я. Хмелевский в этой связи писал: “С логической точки зрения должна быть специально подчеркнута двусмысленность “тун”: поскольку при употреблении данного слова не различались значения “тождественное, тождество” (identical, identity) и “подобное, подобие” (similar, similarity), в китайском языке не было чисто лексических средств для дифференциации этих двух тесно связанных, но не эквивалентных понятий”22. Далее Я. Хмелевский отмечал, что понятие тождества играло важную роль в европейской философии и было выражено логической формулой не позднее времен Фомы Аквинского (1225/6-1274). В отличие от этого строгого понятия “подобие” расплывчато, и “для него трудно найти какое-либо полезное приложение в логической теории”.
С последним утверждением могут не согласиться современные теоретики, но оно справедливо для традиционной формальной логики, являющейся предметом нашего рассмотрения. В европейской философии уже Платон четко и последовательно различал категории “тождество” (“тождественное”) и “подобие” (“подобное” - homoiom) (см., например, “Парменид”). Причем “тождественное” он связывал оппозицией с “иным”, а “подобное” - с “противоположным” (“Лисид”, 215е-218в). “Иное” же, понимаясь в смысле противоречия, образуемого с помощью слов “не” и “нет”, отличалось им от противоположности (’’Софист”, 257в)23. Таким образом, в категориальной структуре учения Платона имеются два вида единства: более сильное (менее общее) - тождество и менее сильное (более общее) - подобие, а также два вида различия: более сильное (менее общее) - противоположность и менее сильное (более общее) - инаковость (противоречие). Связаны они друг с другом “перекрестными” оппозициями: более сильному единству, тождеству соответствует более слабое различие, инаковость (противоречие); более слабому единству, подобию - более сильное различие, противоположность.
Анализ этой структуры обнаруживает, во-первых, корреляцию двух понятийных разграничений - между “тождеством” и “подобием” и между “противоречием” и “противоположностью”; во-вторых, взаимосвязь “тождества” с “противоречием”. Последняя получила историческое воплощение в главенстве “тождества” и “противоречия” над их
89
коррелятами - “подобием” и “противоположностью” - в европейской философии, что, видимо, объясняется большей логической (и соответственно - общеметодологической) значимостью первой пары категорий.
В китайской философии отсутствовала данная понятийная структура, но определенным образом проявлялись свойственные ей закономерности. Недифференцированность "тождества" и "подобия" коррелировала с недифференцированностью "противоречия" и "противоположности". А внутри понятийных комплексов "подобие-тождество" и "противоположность-противоречие" главенство принадлежало первым семантическим полюсам - "подобию" и "противоположности".
Доминирование "тождества" с "противоречием" в европейской философии и "подобия" с "противоположностью" в китайской, на наш взгляд, обусловлено еще более глубоким понятийно-мировоззренческим различием. Центральная категория европейской философии - "субстанция" ("сущность"), строго говоря, отсутствовала в китайской классической философии24, где основное внимание было сосредоточено не на объектах и их свойствах, а на процессах и отношениях (прежде всего - изменениях и структурах). Солидаризируясь с Чжан Дунсунем, Дж. Нидэм писал, что "отношение (лянь) было, возможно, более фундаментальной категорией китайской мысли, чем субстанция"25. "Тождество" и "противоречие" приобретают первостепенное значение, когда речь идет об одном и том же объекте (субстанции, сущности), "подобие" и "противоположность" - когда о разных. Для анализа единичного объекта наиболее важно то, чем он является и чем не является, или с какими признаками отождествляем и какие ему противоречат. Для сопоставления разных объектов важно то, в чем они подобны друг другу и в чем противоположны.
Детальное рассмотрение категориальной пары "тун-и" в смысловом аспекте "подобное - различное" было осуществлено Я. Хмелевским, поэтому обратимся только к проблеме соотношения "тун" с понятием тождества. Для ее решения главным материалом могут служить прямые определения "тун" в методологическом разделе "Мо-цзы". В "Каноне" (Ч. I, гл. 40, опр. 86) указаны четыре разновидности тун: повторенность (чун), единотелесность (ти), собранность (хэ), родственность (лэй), а в "Изъяснении" (Ч. I, гл. 42) они определены следующим образом: "Два имени (мин) одной реалии (ши) - (это) тун (как) повторенность. Невыделенность из целого - (это) тун (как) единотелесность. Совместное нахождение в помещении - (это) тун (как) собранность. Наличие оснований для тун - (это) тун (как) родственность". Далее следуют наименования и определения четырех разновидностей "и", представляющих собой, за исключением первой, отрицания соответствующих разновидностей тун: удвоенность (эр), неединотелесность (бу ти), несобранность (бу хэ), неродственность (бу лэй)26.
В еще одной методологической главе "Мо-цзы" - глава 44 "Да цюй" ("Большой выбор") содержится пространное рассуждение о "тун" и "и", в котором названы десять разновидностей "тун" и две "и".
90
Исходя из анализа структуры и семантики иероглифов фрагмента о десяти "тун”, мы полагаем, что его следует рассматривать как двухчастное построение: первая часть содержит наименования указанных ранее четырех стандартных разновидностей "тун", вторая - их новые разъяснения. В оригинале первая часть выглядит так: "Тун (как) повторенность, тун (как) совместность (цзюй), тун (как) связанность (лянь), тун (как) родственность (тун)"27. Ясно, что этот блок дублирует набор "тун" из "Канона" и "Изъяснения". Названия первой и четвертой разновидностей воспроизведены без изменений, а вторая и третья обозначены синонимичными их названиям иероглифами и переставлены местами. Собранности соответствует совместность: аллограф знака "цзюй" ("совместность") - иероглиф "цзюй", с ключом № 9 ("человек") входит в состав определения "собранности", где мы его перевели словом "совместное". Единотелесности соответствует связанность; знак "лянь" ("связанность") с отрицанием (бу) входит в состав определения неединотелесности.
Вторая часть разбираемого фрагмента в оригинале имеет следующий вид: "Тун имен тун, тун (как) курган, тун (как) карась (лягушка), тун этовости (шия), тун таковости (жань), тун корня "тун"28. Первая из этих разновидностей - "одинаковость одинаковых (подобие подобных) имен" совершенно очевидно дублирует определение повторенности, т.е. возвращает к началу первой части фрагмента, подтверждая правильность его дихотомии. Обозначающий вторую разновидность иероглиф "цю" ("курган") должен пониматься в смысле "скопление", что проясняет соответствие второй разновидности в первой части - совместности. Иероглиф "фу" ("карась", "лягушка") из обозначения третьей разновидности во второй части комментаторы идентифицируют с его синонимом, имеющим другой ключ - № 170 ("холм") и означающим "примыкание". Синонимичность "примыкания" и "связанности" не требует доказательств. Следовательно, трем разновидностям тун в первой части фрагмента в том же порядке соответствуют три разновидности во второй части. Остающиеся в ней еще три разновидности могут быть соотнесены только с одной разновидностью первой части. На наш взгляд, дело именно так и обстоит: одинаковость объектов, выражаемая местоимением "это (же)" (ши); одинаковость состояний, выражаемая местоимением "так (же)" (мань), и одинаковость изначальных форм ("корней" - гэнь) суть типичные варианты "родственности" (лэй), или "одинаковости (подобия) по роду" (тун лэй), т.е. универсальной корреляции.
Названные далее две разновидности "и" (различия, инаковости), "фэй" (не/это/, не/этовость/) и "бу жань" (не так, нетаковость) представляют собой отрицания соответствующих разновидностей "тун", относящихся в нашей интерпретации к одной (наиболее важной) категории "лэй", которой как раз и посвящен идущий затем текст главы "Да цюй"29.
В целом анализ свидетельствует о полноте четырехчленной классификации "тун" в "Каноне" и "Изъяснении". Она отчетливо высвечивает
91
общее представление о сведении разных элементов в единое целое, а не об их отождествлении. Последнее было бы и невозможно, поскольку объектами "тун" являются материальные предметы, а не логические смыслы. Единственную точку соприкосновения с первой разновидностью тождества у Аристотеля ("по числу") содержит определение "тун" как повторенное™. Но несмотря на интригующее подобие формулировок, их методологическое значение весьма различно. В рамках общего подхода моистов и других представителей древнекитайской протологики, не оперировавших категорией понятия как абстрагированного от вещи свойства или отделенного от слова смысла, соотаошение "имен" и "реалий" рассматривалось по аналогии с соотношениями всех прочих материальных объектов.
У Аристотеля "тождеством по числу" названа синонимичность, т.е. наличие у различающихся по смыслу языковых выражений одинакового значения ("единого по числу" денотата). В "Мо-цзы" же речь идет об эристически правильном употреблении слов, а не о логическом их смысле, поэтому "тун (как) повторенное™" распространяется на принципиально разграниченные Аристотелем разновидности тождества - "по числу" и "по роду".
Согласно приведенному определению - "два имени одной реалии" - повторенное™ означает синонимичность двух слов. Но указанный далее в тексте конкретный пример этой разновидности "тун" свидетельствует о более широком понимании данного отношения. В качестве "двух имен одной реалии" в "Мо-цзы" ("Цзин", "Шо", ч. 2, гл. 41, 43, опр. 35/36, 40/41) указаны "гоу" ("щенок, пес") и "цюань" ("собака")30. В частности, изъяснение к определению 35/36 ("Шо", ч. 2) гласит: "Если (имеет место) тун, то одно и то же некоторые могут назвать "гоу", а иные - "цюань"31.
Встречающиеся в семи парах определений и изъяснений из методологических глав "Мо-цзы", термины "гоу" и "цюань" использовались разными направлениями древнекитайских методологов для конкретизации их общих идей и имели статус своеобразных символов32. Но, как нередко случается с символами, их собственный смысл несколько утратил определенность. Еще Ху Ши обратил внимание на противоречивые сведения древних источников (понятийной субординации этих терминов). В словаре "Эр я" (Ш-П в. до н.э.) понятае "гоу", определенное как "щенок", подведено под более общее понятие "цюань" - "собака". В другом словаре - "Шо вэнь цзе цзы" (II в.), наоборот, понятие "цюань", трактуемое как "сторожевая собака", подведено под более общее понятие "гоу" - "пес". Сам Ху Ши охарактеризовал эту ситуацию выражением Сюньцзы - "путаница в именах и реалиях"33. Специальное исследование исторического соотношения терминов "гоу" и "цюань" и их употребление в "Мо-цзы" осуществил А. Грэм, показавший, что в разные времена и в разных социальных средах степень общности несомых ими понятий варьировалась34.
Для поздних моистов - составителей методологического раздела "Мо-цзы", по мнению А. Грэма, было ближе и понятнее простонарод¬
92
ное слово "гоу" в значении "домашний пес", но они осознавали большую степень общности слова "цюань" в значении "собака", распространявшегося и на охотничьих собак чуждой им аристократии35. Такое соотношение объемов понятий "гоу" и "цюань" соответствует данным наиболее близкого к "Мо-цзы" по времени словаря "Эр я". Подтверждается оно также некоторыми определениями и изъяснениями в методологических главах "Мо-цзы", где "гоу" и "цюань" представлены как обозначения менее общего и более общего понятий соответственно, т.е. как вид и род, например, "щенок" - "собака" ("Цзин", "Шо", ч. 1, опр. 79, ч. 2, опр. 54/55)36. В частности, определение и изъяснение 54/55 содержат формулу "Гоу цюань е" ("Щенок - (это) собака")37. Стандартное прочтение данной формулы подразумевает включение "гоу" в класс "цюань": "Щенок - разновидность собаки". Предположение об эквивалентности классов "гоу" и "цюань" (в смысле "Пес - (это) собака") опровергается как внутри, как и внетекстовым материалом.
Во-первых, сразу за разбираемой формулой в определении 54/55 следует утверждение допустимости (кэ) высказывания "Убить гоу не (значит) убить цюань", которое, видимо, надо понимать как "Убить (всех) щенков не (значит) убить (всех) собак". При любой трактовке иероглифов "гоу" и "цюань" ясно, что "гоу" здесь мыслится разновидностью "цюань".
Во-вторых, формула "Гоу цюань е" знаменует собой критический выпад против парадокса представителей школы имен (Ху Ши или Гунсунь Луна): "Гоу фэй цюань" - "Щенок не собака", зафиксированного в главе 33 "Чжуан-цзы"38. Данный парадокс построен на том же принципе, что и самый знаменитый тезис Гунсунь Лун-цзы "Бай ма фэй ма" - "Белая лошадь не лошадь"39. "Белая лошадь" и "лошадь" бесспорно соотносятся как вид и род, аналогичным должно мыслиться и соотношение между "щенком" и "собакой" в обеих противопоставленных друг другу формулах - "Щенок не собака" и "Щенок - (это) собака".
Итак, термины "гоу" и "цюань" в "Мо-цзы" без каких-либо оговорок употребляются в двух разных смыслах - как синонимы и обозначения вида и рода. Отсюда следует, что знаменуемая ими разновидность "тун" - повторенность, недифференцированно включала в себя два принципиально различных с логической точки зрения и разграниченных в Европе Аристотелем соотношения между именами. Подобная недифференцированность является прямым доказательством невыявленности логической специфики.
Не меньший интерес представляет и определение в "Мо-цзы" последней, четвертой разновидности "тун" - родственности. Оно выделяется среди остальных, с одной стороны, своей наибольшей обобщенностью, с другой - логической некорректностью - тавтолЬгичностью (idem per idem): и в определяемой, и в определяющей части содержится слово "тун". Объясняться это может довольно просто: настоящее высказывание является по существу не определением, а указанием на
93
общепринятую и потому не нуждающуюся в разъяснениях концепцию "сходства (подобия, одинаковости) по роду" (тун лэй), которая играла роль теоретического базиса "коррелятивного мышления".
В итоге наше сопоставление показало, что рожденное на Западе в ходе единого^процесса возникновения идеализма, диалектики и формальной логики понятие тождества, подразумевает установление единственного объекта ("одно и то же"): в онтологическом аспекте - это тождество самому себе, в гносеологическом и логикометодологическом - тождество объединяющей родо-видовой абстракции (идеи). Напротив, китайская категория "тун", общая для протологики и нумерологии, подразумевает принципиальную множественность (по крайней мере двойственность) своих объектов: в онтологическом аспекте объединяемых в определенную целостность ("единение"), в гносеологическом и методологическом - охватываемых коррелятивной связью ("родственностью"). Данный анализ категории "тун" позволяет правильно понять знаменитый социально-космологический термин китайской философии "да тун" ("великое единение", "великая общность") как обозначение наилучшей взаимосвязанности людей в обществе и вещей в мире.
На основе своей теории идей Платон сумел создать специальную методологическую науку о том, как "различать все по родам, не принимать один и тот же вид за иной и иной за тот же самый" ("Софист", 253), т.е. "диалектику", соединившую в себе диалектическое с логическим. Показательно в этом смысле, что приведенное определение диалектики, представляя собой не что иное, как описание основных логических принципов - обобщения и ограничения понятий, тождества и непротиворечивости, вполне может считаться одним из наиболее ранних определений логики.
Рассматривая более конкретно логические достижения Платона, следует прежде всего отметить, что он стал концептуально различать противоречащее ("иное") и противоположное ("Софист, 257в). В "Определениях" противоположность вообще формулируется на уровне аристотелевской логики - как "наибольшее расхождение, какое случается у однородных вещей в связи с каким-либо видовым отличием". Хотя это произведение ныне считается неподлинным, в данном пункте оно кажется близким к оригиналу.
Платон выдвинул онтологизированную формулировку закона противоречия: "Невозможно быть и не быть одним и тем же" "одновременно" и "в одном и том же отношении" ("Евтидем", 293), которая затем трансформировалась в классический постулат Аристотеля: "Невозможно, чтобы одно и то же было в одном и том же отношении" ("Метафизика", IV, 3, 1005в 20-23, см. также XI, 5, 1061в 35 - 1062а 1). Нетрудно заметить, что платоновско-аристотелевское понимание закона противоречия целиком строится на категории тождества ("одно и то же").
В сочинениях Аристотеля содержатся и чисто логические формулировки закона противоречия: "Противолежащие друг другу высказыва-
94
ния не могут быть вместе истинными". "Невозможно, чтобы противоречащее одно другому было вместе истинным в отношении одного и того же", "Невозможно одно и то же правильно утверждать и отрицать в одно и то же время", "Невозможно также, чтобы противоположности были в одно и то же время присущи одному и тому же" ("Метафизика", IV, 6, 1011в 12-21). Различие приведенных формулировок вызвано тем, что Аристотель определил целую иерархию разных видов противопоставления (antithesis), в которой разграничил отношения противолежания (antikeimenon), противоречия (antiphasis) и противоположности (enantion) (см., например: "Метафизика", X, 4, 1055а 5 - 1055в 30, "Категории", 10,11в 15 - 13в 35, "Об истолковании" 6-7, 17а 25 - 18а 12).
Для нас в данном случае наиболее важно то, что он строго логически различил противоположность и противоречие как два вида противолежания, первый из которых предполагает нечто промежуточное, среднее (metaxy, meaon) между членами этого отношения (противоположностями), а второй - нет ("Метафизика", X, 7, 1057в 13- 40). Противоположность, по Аристотелю, - это наибольшее, законченное (предельное) различие между двумя элементами одного вида или рода ("Метафизика", X, 4, 1055а 1-20), а противоречие - "противолежащие друг другу утверждение и отрицание" ("Об истолковании", 6,17а 33). Относительно одного и того же объекта противоположные определения не могут вместе утверждаться, но в силу наличия промежуточного (среднего) состояния могут вместе отрицаться, т.е. быть оба ложными; противоречащие определения не могут вместе ни утверждаться, ни отрицаться, т.е. "всегда только одно из них необходимо истинно, другое ложно" ("Категории", 10,11в 15 - 13в 35). Иногда Аристотель использовал термин "противоположности" для обозначения членов отношения противоречия (см., например: "Категории", 10, 12а). Видимо, это было вызвано лингвистическими причинами. Для сравнения отметим, что соответствующего термина нет и в русском языке. Несмотря на некоторую терминологическую несбалансированность, Аристотель провел четкое и ясное различение логических понятий противоположности и противоречия, которое стало общепринятым для европейских философов.
В завершение краткого обзора интересующих нас достижений древнегреческой логики, синхронной древнекитайской протологике, подчеркнем один выразительный факт, освещения которого мы не нашли в литературе. Строго говоря, закон противоречия в терминологии Аристотеля представляет собой один из видов более общего принципа - закона противолежания (или противопоставления), ибо противоречие здесь - разновидность противолежания. Таким же отдельным видом является и закон противоположности. Существование данной иерархии законов полностью подтверждается приведенными выше формулировками Аристотеля, последовательно в едином пассаже "Метафизики" провозгласившего невозможность совмещения: 1) противолежащих, 2) противоречащих, 3) противоположных друг
95
другу выражений. Однако в европейской логике наиболее общим стал считаться аристотелевский закон противоречия, равно как и само отношение противоречия возобладало над всеми остальными противопоставлениями.
Причины этого, на наш взгляд, заключены как в позиции Аристотеля, так и в некоторых более общих особенностях европейской культуры. Аристотель указывал, что в отличие от трех прочих разновидностей противолежания элементы противоречия - утверждение и отрицание, во-первых, не выходят из приоритетной двузначной сферы - истины и лжи, связанных строгой дизъюнкцией (законом исключенного третьего), т.е. не могут быть ни вместе истинными, ни вместе ложными, не истинными и не ложными вместе или порознь; во-вторых, являются таковыми вне зависимости от существования или несуществования определяемого ими объекта ("Категории", 10, 13в - 1-35). Противоречие имеет неоспоримые преимущества перед всеми другими противопоставлениями и в плане формализации. Только оно может быть столь легко формализовано - с помощью элементарных функторов "и" и "не" (А и не-А), соответствующих универсальным константам любого естественного языка. Наконец, в самом общем культурологическом аспекте особая роль противоречия (утверждения и отрицания) связана с выдающимся значением глагола "быть" в европейских языках и понятия "бытие" в европейской философии.
В современном китайском языке понятие противоречия выражает термин "мао дунь"40, имеющий буквальное значение "копье(и)щит".
Древнейший классический текст, в котором присутствует сочетание "мао дунь", - Хань Фэй-цзы" (III в. до н.э.). Хотя, возможно, оно и более древнего происхождения, поскольку в примечаниях к "Гулян чжуани" ("Комментарию Гуляна"), составленных ученым эпохи Тан (618-907) Ян Шисюнем, связанная с ним притча приписывается Чжуанцзы (IV - начало III в. до н.э.)41. В современном тексте "Чжуан-цзы" таковая отсутствует, но, разумеется, она могла находиться в утраченных главах.
Заимствование Хань Фэем притчи о копье и щите из даосского источника вполне вероятно, ибо к таковому он относился с большим вниманием, в частности специально занимаясь комментированием "Дао дэ цзина" ("Хань Фэй-цзы", гл. 20,21).
В "Хань Фэй-цзы" дважды (в гл. 36 и 40) рассказана история о неком человеке, продававшем копья и щиты. Первые он превозносил как всепробивающие, вторые - как ничем не пробиваемые. Но ему был задан вопрос: что будет, если вашим копьем поразить ваш щит, на который он не смог ответить. В главе 36 вывод из притчи дан в онтологизированной формулировке: "Непробиваемый щит и всепробивающее копье нельзя установить (ли) одновременно (тун ши)". В главе 40 почти идентичное изложение завершается гносеологизированной формулировкой: "Беря непробиваемый щит и всепробивающее копье в качестве имен, нельзя (их) оба (лян) установить"42.
96
Еще раз подчеркнем, что в европейской логической традиции со времен Платона и Аристотеля противоречие (контрадикторность) и противоположность (противность, контрарность) не просто различались, но строго разграничивались вплоть до противопоставления друг другу. Элементам отношения противоположности присущи одинаковые количественные характеристики, а элементам отношения противоречия - различные. Например, объемы противоположных понятий ’’белое” и ’’черное" равно определенны, в отличие от соотношения "белое" - "небелое", в котором первое понятие - определенное, а противоречащее ему второе - нет, поскольку под "небелым" можно понимать все что угодно. Такой второй член пары противоречащих понятий в традиционной логике назывался отрицательным или неопределенным понятием. Аналогичным образом различаются и соответствующие соотношения суждений: оба противоположных являются общими, а из противоречащих одно - общее, другое - частное. Возможно, эта неэквивалентность и обусловила отсутствие единого обозначения для элементов противоречия, в отличие от противоположности, элементы которой называются противоположными.
В традиционной европейской логике полярными были и общефилософские истолкования разбираемых отношений: противоположность считалась реально присущей объективной действительности, а противоречие - идеальным конструктором гносеологического субъекта. Попытка осуществить последовательный теоретический синтез противоположности и противоречия, отталкиваясь от этих стандартных истолкований, вылилась в создание такой грандиозной философской системы, как гегелевская диалектика. Вполне вероятно, что именно диалектическая логика, поставившая во главу угла отношение противоположности, сыграла роковую роль в его дальнейшей судьбе, отвратив от него внимание представителей формальной логики, которая со второй половины XIX в. начала революционно развиваться.
Но до начала этого качественно нового этапа противоположности европейской формальной логике принадлежало вполне респектабельное место. В основополагающей для данной традиции системе Аристотеля разграничение противоречия и противоположности столь фундаментально, что ее современная формализация, включенная в собрание сочинений Стагирита, представляет их двумя одинаково значимыми элементарными функторами: "контрадикторным отрицанием" и "оппозиционным отрицанием"43.
Действительно, противоречие и противоположность могут быть интерпретированы как разные виды отрицания, имеющие аналоги в естественном языке, например, в русском: "не" и "без" (ср.: противоречие "белый" - "небелый" и противоположность "умный" - "безумный"), на что уже указывалось в старой логической литературе44. Это явление не самоочевидно, поскольку интуитивно кажется, что отрицания в естественном языке ("не", "нет" и т.п.) соотносимы только с противоречием. Такой интуиции соответствует и традиция европейской
4. Цивилизации. Вып. 3
97
логики считать основным функтором контрадикторное отрицание. Правда, не исключено, что подобная интуиция сама является отражением данной традиции, легшей в фундамент европейской системы образования в виде принципа дефиниций и эксклюзивных классификаций. При более внимательном взгляде на отрицания в естественном языке выясняется, что практически все они двусмысленно сочетают в себе контрадикторность с контрарностью. Возвратясь к нашим примерам - "не" и "без", мы увидим противоположность "умный" - "неумный" (т.е. "глупый") и противоречие "дымный" - "бездымный"45. О таком же положении в китайском языке, как мы уже отмечали, писал Чжан Дунсунь.
Отсюда следует важный вывод: сам по себе естественный язык не достаточен для дифференциации понятий противоречия и противоположности, для этого еще необходимо теоретическое вмешательство. Основываясь на данном выводе и проведенных уточнениях, продолжим анализ термина "мао дунь".
По своему прямому смыслу, выраженному в породившей его притче, он соответствует отношению противоположности. Неоспоримым доказательством этому служат сами понятия "всепробивающее копье" и "непробиваемый щит", явно оба не соответствующие реальности. Иначе говоря, особенность рассказа "Хань Фэй-цзы" состоит в том, что не только противоположны понятия "всепробивающее копье" и "непробиваемый щит", но и ложны соответствующие им общие суждения: "Все пробиваемо этим копьем" и "Ничто не пробивает этот щит", а последняя ситуация как раз характеризует противоположность на уровне суждений.
Установление точного смысла термина "мао дунь" еще больше заостряет проблему осознанности специфики противоречия в традиционной китайской методологии. В своей работе Ху Ши дал положительный ответ на этот вопрос: для поздних моистов "принцип противоречия был каноном аргументаций", - и указал на три соответствующих пассажа в методологическом разделе "Мо-цзы"46. Их считал ясным выражением принципа противоречия и А. Масперо47. А. Грэм увидел здесь "признание принципа исключенного третьего на практике, если не в теории"48. Наиболее полно данную проблему исследовал Я. Хмелевский, пришедший к выводу, что монеты в единой формуле, подобной принципу двузначности в логике стоиков, не дифференцируя, сочетали два логических закона - противоречия и исключенного третьего49.
Рассмотрим интересующие нас оригинальные высказывания в "Мо-цзы": "Канон", "Изъяснение" (Ч. 1, гл. 40, 42, опр. 73, 74, ч. 2, гл. 41, 43, опр. 35/36)50. Их общей темой является спор (бянь) как диалектическое (в этимологическом смысле) состязание (чжэн), в ходе которого определяется двоица (лян) альтернатив и одна из них, соответствующая действительности (адн) с необходимостью (би), побеждает (шэн). Раскрытию темы служит один и тот же пример с быком: "Все быки и не быки сополагаются в двоицу (лян). Невозможно не быть
98
(чем-нибудь из нее)" (’’Изъяснение". Ч. 1, опр. 73); "Один называет нечто быком, другой - не быком... Это совместно не соответствует действительности. Если совместно не соответствует действительности, то с необходимостью что-то одно не соответствует действительности" ("Изъяснение". Ч. 1, опр. 74). Наиболее общие формулировки проводимой здесь мысли гласят: "Спор - один называет нечто этим (ши), а другой - не/этим/ (фэй) и соответствующее действительности побеждает" "(Изъяснение". Ч. 2, опр. 35/36); "Недопустима обоюдная недопустимость (альтернатива)" (бу кэ лян бу кэ) ("Канон". Ч. 1, опр. 73).
В "Каноне" данное выражение является определением важного методологического неологизма моистов - "фань", систему употреблений которого реконструировал А. Грэм, переведший его словом "конверсия" ("обращение")51. Этот специальный термин был образован из иероглифа "фань" ("обратность, возвратность, перевернутость, отражение, противо-анти-контр-") прибавлением к нему ключевого знака № 9 "человек", широко представленного в терминологических знаках "Мо-цзы". Различие между "фань" и "фань" такое же, как между двумя смыслами слова "альтернатива", "соположение взаимоисключающих возможностей" и "одна из взаимоисключающих возможностей". Термин "фань" обозначает соотношение, двух "обратных" друг другу альтернатив (фань). Поэтому мы его переведем словом "альтернативность": "Альтернативность обоюдна (лян), а не односторонняя (пянь)" ("Изъяснение". Ч. 1, опр. 83); "Спор - состязательная альтернативность" ("4-й канон", "Изъяснение". Ч. 1, опр. 74).
Исходный для термина "фань", его омоним представляет собой одну из центральных методологических категорий китайской классической философии, выражая прежде всего идею противоположности как основной характеристики "дао", воплощающего антитезу "инь-ян". В составленном Лю Ци собрании логизированных фрагментов высказываний древних авторов приведена цитата из "Синь шу" ("Новая книга", или "Книга о новом", глава "Дао шу" - "Искусство дао") Цзя И (ок. 200 - ок. 168), в которой с помощью "фань" в значении "противоположность" определены десять пар оппозиционных категорий52. На основе иероглифа "фань" образованы и современные термины, выражающие логическую идею противоположности53.
При этом иероглиф "фань" в классических текстах обозначал и противоречие, что явствует, в частности, из приведенного А. Грэмом в связи с анализом "фань" фрагмента "Люй ши чунь цю" ("Весны и осени господина Люя", Ш в. до н.э., гл. X, З)54, в котором как "фань" характеризуется соотношение между утверждением и отрицанием (фэй). И монеты, и китайские лексикографы, писали о конрадиторности "тун" и "и", определяя второе посредством отрицания (фэй, бу) первого. Однако, например, в главе 34 "Хань Фэй-цзы" эти категории связаны друг с другом отношением "фань".
Следовательно, иероглиф "фань" в лексиконе китайской классической философии обозначал прежде всего противоположность, а также в слитое с ней противоречие. Семантика образованного на его основе
4*
99
термина "фань", равным образом не предполагала различение этих отношений. Поздние монеты, несомненно, сумели уловить идею контрадикторности и выразить ее основной признак - ’’недопустимость обоюдной недопустимости (альтернатив)", однако нигде не сопоставили ее с идеей контрарности. Более того, они стали называть противоречие "альтернативностью" (фань), т.е. фактически "противоположностью". Поэтому нет ничего странного в том, что термин "фань", не был никем воспринят в качестве носителя принципиально нового смысла и тут же оказался забыт.
Небрежение им отразилось даже на самом тексте "Мо-цзы", в методологическом разделе которого он сохранился до наших дней лишь в двух определениях ("Конан". Ч. 2, опр. 30/31, 72/73), а в остальных четырех ("Канон", "Изъяснение". Ч. 1, опр. 73, 74, 83, ч. 2, опр. 3/5), согласно А. Грэму, был искажен и превращен в другие знаки. Показательно, что в новейшее время уже после знакомства с западной логикой понятие "противоречие" было связано на Дальнем Востоке с сочетанием "мао дунь", а не более подходящим термином "фань". Еще выразительнее тот факт, что Хань Фэй, заставший живую традицию моизма, не воспользовался созданным ею термином и определением противоречия.
Подведем некоторые итоги. Представители школы имен даосизма сформулировали два оппозиционных тезиса - об обоюдной допустимости контрарно-контрадикторных альтернативов (лян кэ) и о возможности их обоюдного устранения (лян ван). Легисты и монеты выдвинули два соответствующих антитезиса - о недопустимости обоюдного установления контрарных альтернатив (бу кэ лян ли) и о недопустимости обоюдного отвержения контрадикторных альтернатив (бу кэ лян бу кэ). В результате получился полный набор сочетаний отрицания и конъюнкции, т.е. таких логических констант, которых в сумме достаточно для образования всей системы исходных связок пропозиционального исчисления.
Специфику этого набора определяют две главные особенности. Вопервых, в нем возобладала идея антиконъюнкции, объединяющая формулы моистов и Хань Фэя. Антиконъюнкция, в современной логике называемая штрихом Шеффера (символ -"/"), обладает богатым логическим содержанием. Она способна быть одной-единственной исходной связкой для построения всего пропозиционального исчисления. К этой мысли пришел Ч. Пирс около 1880 г., но не опубликовал ее. Впервые она была выражена Х.М. Шеффером в 1913 г.
Для уточнения оценки данной идеи, быть может, небесполезным было бы рассмотрение ее предыстории в традиционной логике и протологике. Во всяком случае китайский материал позволяет сделать одно наблюдение, связанное со второй особенностью разбираемых тезисов, которое состоит в недостаточной дифференцированности контрадикторности и контрарности при явном доминировании последней.
Даже поздние монеты, дальше всех древнекитайских методологов продвинувшиеся в осмыслении противоречия, не эксплицировали его
100
отличие от противоположности. Более того, в своей дефиниции противоречия они использовали неадекватную терминологию, скорее подходящую для определения противоположности. Таковы взаимоопределяемые термины "фань" (’’альтернативность") и "лян" ("обоюдность"). Первый из них неотделим от представления об "обратной" (фань) противойоложности; второй предполагает одинаковый статус (равную значимость) сопоставляемых альтернатив, в то время как для отношения противоречия специфична показанная выше асимметрия его элементов.
Здесь кроется объяснение загадочной на первый взгляд исторической ситуации: методологически столь важное моистское определение противоречия было довольно легко предано забвению. Уже Хань Фэй, младший современник поздних моистов, внешне игнорировал их дефиницию и предложил свое определение противоположности, как бы не замечая ее кардинальное отличие от противоречия. Отдав таким образом приоритет контрарности перед контрадикторностью (правда, подчеркнем, в имплицитной форме), Хань Фэй оттолкнулся от моистской позиции в обоих смыслах, т.е. и отошел от нее, и учел ее. Последнее как раз и проявилось в общности формул, построенных на антиконъюнкции.
Антиконъюнкция логически выражает отношение несовместимости ("А и Б несовместны", "неверно, что А и В"), которое в свою очередь определяет специфику противоположности (ср.: "А гений и злодейство, Две вещи несовместимые"). Следовательно, общим для моистов и Хань Фэя было признание особой, главенствующей роли противоположности, что, по нашему мнению, обусловливалось принципиальной натуралистичностью китайской классической философии.
Как мы уже отмечали, контрадикторное отрицание связано с идеей трансцендирования, выхода за пределы реальной действительности в небытие или иное; высшее бытие - мир идеальных сущностей. Понятия абсолютного небытия и абсолютного (идеального) бытия составляют две стороны одной медали, что первым в Европе показал Парменид. А контрадикторное отрицание можно сравнить с формой, в которой отливается эта модель. Поэтому существует глубокая взаимообусловленность между натуралистичностью китайской классической философии и отсутствием в ней строгих понятий бытия, небытия, идеального, материального и противоречия. Доминировавшее здесь контрарное отрицание не подразумевало выход за пределы реальной действительности, поскольку понималось как утверждение иного, т.е. противополагание. Именно этот смысл естественноязыковой негации был акцентирован школой имен в афоризмах типа "Белая лошадь не лошадь". Они построены как утверждения различий: в данном случае - между белой лошадью и лошадью вообще (точнее, лошадью, чей цвет не определен), или соответствующими выражениями: "белая лошадь" и "лошадь", знаковые формы которых в буквальном смысле не одинаковы.
101
На основе такого отрицания и возникла формула антиконъюнкции "бу кэ лян” ("недопустима обоюдность", "нельзя совместно", "неверно, что оба"), воплощенная Хань Фэем в термине "мао дунь" ("/всепробивающее/ копье /и непробиваемый/ щит"). Неся в себе идею несовместимости, он использовался для обозначения не только контрарности, но и контрадикторности. Последняя трактовка позволила превратить "мао дунь" в современный эквивалент логического термина "противоречие".
Таким образом, в отличие от европейской логики, где контрарность определялась через контрадикторность, в китайской методологии, наоборот, контрадикторность определялась через контрарность, поскольку собственный смысл "мао дунь" - "противоположность". В определении контрарности через контрадикторность противоположности суть отрицания друг друга, предполагающие промежуточный (по Аристотелю - "средний") элемент. В определении контрадикторное™ через контрарность противоречащие альтернативы суть противоположное™, исключающие промежуточный элемент.
Своеобразие представления контрадикторности с помощью контрарности составляет определенность содержания обоих соотносимых понятий, в целом соответствующей китайскому классификационизму и, в частности, общефилософской теории "сходства по родам".
Обращаясь к примеру из "Мо-цзы", можно сказать, что в европейской контрадикторности "не быки" охватывают весь универсум за исключением быков, а в китайской - только представителей единого с быками "рода" шести видов домашних животных (лю чу), т.е. лошадей, овец, кур, собак и свиней.
Итак, бином "мао дунь" в китайской классической философии как методологический термин употреблялся в смысловой амплитуде от "противоположности" до "несовместимости". В последнем, расширительном смысле он распространялся и на противоречие, выступая таким образом в качестве аналога аристотелевского "противолежания" или "противопоставления".
При достаточной смысловой ясности бинома "мао дунь" интригующей остается его история. Почему методологически столь значимый термин, подытоживший собой соответствующие теоретические искания по меньшей мере четырех ведущих философских направлений древнего Китая - школы имен, даосизма, моизма и легизма, в последующий двухтысячелетний период развития китайской мысли практически вышел из употребления? Объяснение этому видится в решительной победе нумерологии над протологикой, что было официально закреплено примерно через столетие после написания "Хань Фэй-цзы". В начале второй половины П в. до н.э. один из столпов конфуцианской нумерологии Дун Чжуншу (190-179-120-104), сделавшись придворным ученым и министром (сян), добился признания за реформированным и последовательно нумерологизированным им конфуцианством статуса официальной общегосударственной идеологии. В этой идейной и социальной обстановке протологические
102
достижения основных противников конфуцианства - моистов и легистов стали, мягко говоря, неактуальными.
Противоположность - '’мао дунь”, понимаемая онтологически, как в главе 36 "Хань Фэй-цзы”, не только не отвергалась конфуцианской нумерологией, но, напротив, принималась ею в качестве едва ли не самого главного принципа, выраженного такими почтенными терминами, как "двоица начал" (’’две стороны" - лян дуань) Конфуция и "двоица образов" (лян и) "Чжоу и". Поэтому для конфуцианцев и любых нумерологов неологизм "мао дунь", нацеленный на отвержение противоположности, был неприемлем, а нацеленный на ее принятие - бесполезен, ибо они уже располагали своей собственной терминологией.
Нужда в выражении "мао дунь" возникла только тогда, когда в Китай стали проникать новые логические идеи с Запада. Любопытно, что первые признаки интереса к "мао дунь" в Китае нового времени проявились за два с лишним столетия до принятия этого бинома в качестве термина, обозначающего противоречие, но опять-таки в связи с западным влиянием. В XVII в. Фан Ичжи (1611-1671 гг.), через католических миссионеров познакомившийся с некоторыми аспектами европейской культуры и, возможно, первым среди ученых Срединной империи осознавший преимущества латинского алфавита для транскрибирования китайских слов, предпринял попытку уточнить традиционную терминологию. В частности, он стал различать догматическое изложение учения (щэ цзяо) и научное исследование природы ("изучение неба и земли" - сюэ тянь ди): первое страшится "мао дунь", второе не смущается им ("И гуань вэнь да" - "Пронизанные единым вопросы и ответы")55.
Идею противоречия синологи также часто связывают с оппозицией "инь-ян". Но и ее члены могут быть вместе отрицаемы (так, Единое и Хаос, Беспредельное, или Предел отсутствия, и Великий предел суть ни инь, ни ян), а следовательно, выражают отношение противоположности или, по крайней мере, несовместимости. Исследователь "Чжоу и" Лю Байминь, например, прямо противопоставляет первый принцип этого канонического произведения - закон дуальности "инь" и "ян" логическому закону противоречия56.
В терминологически нестрогом (что, разумеется, не может служить укором для беллетриста и эссеиста) высказывании Г. Гессе о величайшем китайском антиномисте Лао-цзы (которого в "доброй бедной Германии" почти все считали парадоксальным): "Его мысль как раз не парадоксальна, а строго биполярна, двуполюсна, т.е. имеет одно измерение"57 - заключено удивительное для непрофессионала прозрение истины. В самом деле, парадокс строится на противоречии, а "биполярность" Лао-цзы на противоположности.
Все основные законы европейской диалектики предполагают различение понятий противоречия и противоположности, осуществленное формальной логикой. Китайские философы не проводили такого различия, и потому их диалектические построения следует квалифицировать как таковые в особом, "несобственном", смысле. Высшие
103
онтологические категории европейской философии "бытие" и "небытие", разделенные контрадикторным отрицанием, знаменуют собой и логический, и диалектический приоритет отношения противоречия. Китайские аналоги этих категорий "ю" ("наличие", "обладание") и "у" ("отсутствие", "лишенность"), подобно аристотелевской паре "обладание" - "лишенность", могущие быть и взаимно контрадикторными, и взаимно контрарными, отражают недифференцированность противоречия и противоположности. О доминантной роли противоположности в этом слиянии свидетельствуют наиболее глубокие в древнекитайской философии осмысления "ю" и "у", содержащиеся в "Чжуан-цзы" и "Хуайнань-цзы", где данные категории представлены в виде онтологических полюсов, между которыми расположен целый ряд их комбинаторных модусов ("наличие отсутствия", "отсутствие наличия",
"отсутствие отсутствия" и т.п.).
1 Древнекитайская философия. М, 1983. Т. 2. С. 94-98.
2 Мао-цзы (/Трактат/Учителя Мо/) Чжу цзы чэн. Кн. 4. С. 252.
3 Maspiro R. Notes sur la loqique de Motseu et de son ecole // T'oung Pao. Leiden, 1928. Vol. 25.
4 Мо-цзы. C. 252.
5 Там же. С. 244, 245.
6 О сложности понимания этого места свидетельствует хотя бы то, что его разные переводы на русский язык (Никогосов Э.В. Древнекитайская философия. Т. 2. С. 60 и Карапетьянц А.М. Древнекитайская философия и древнекитайский язык // Историко-филологические исследования. М., 1974. С. 368) прямо противоположны по смыслу. А.М. Карапетьянц безоговорочно принял предложенную некоторыми исследователями элиминацию знаков "вэй кэ" ("недопустимо"), придающую всему фрагменту обратный смысл (С. 33). Мы придерживаемся текста, воспроизведенного Тань Цзефу (С. 18), и не считаем такое исправление оригинала оправданным (Косе Pao-koh J. Deux sophistes chinois. Houei Che et Kong-souen Long. P. 193. Тань Цзефу. Гун сунь Лун-цзы. Син мин фа вэй" ("4-й трактат") Учителя Гунсунь Луна". Раскрытие тонкостей (учения школы) форм и имен. Пекин, 1957.
7 Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. М., 1959. С. 42.
8 Там же.
9 Changt Tung-sun. La loqique chinoise // Tel quel. P., 1969. T. 38. P. 7, 8.
10 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1970. Т. 8. С. 265.
11 Шуцкий Ю.К. Китайская классическая "Книга перемен". М., 1960. С. 29.
12 Graham А.С. Later Monist Logic Ethics and
Science. Hong Kong - L., 1978. P. 73-76.
13 Кроме "ронригаку" в Японии конца XIX - начала XX в. (период Мэйдзи, 1868-1912 гг.) имели хождение такие переводы "логики", как "мэйригаку" (кит. "минли сюэ") - "учение о принципах разумения", "ронхо" (кит. "лунь фа") - "законы суждений", и вариант "ронригаку" - "ронрихо" (кит. "лунь ли фа") - "законы принципов суждений" Мао Даньцин. Гуаньюй Жибэнь чжесюэ ды шуюй и мин вэньти (К проблеме перевода терминов в японской философской терминологии) // Чжсэсюэ яньцзю. Пекин, 1987. № 4. С. 78-80.
14 Ни Shig. The Development of the Logical Method in Ancient China. Shanghai, 1928. P.21-130.
15 Гегель Г.В.Ф. Работа разных лет. Т. 1. С. 265.
16 Например, немецкий ученый Р. Трауцеттель считает, что китайская философия не знала ни логики, ни диалектики, ни софистики. (Saeculum, 1979).
17 Лао-цзы чжу ("/Трактат/ Учителя Лао" с комментариями) // Чжу цзы цзи чэн (Корпус философской классики)). Пекин, 1956. Кн. 3. С. 1.
104
18 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1 // Гегель Г.В.Ф. Соч. Л., 1932. Т. 9. С. 233.
19 Чжан Дунъсунъ. Цун Чжунго яньюй гоуцзао шан кань Чжунго чжэсю (Взгляд на китайскую философию с точки зрения структуры китайского языка // Дунфон цзычжи. Шанхай и др., 1936. Кн. 1,2.
20 Chang Tung-sun La logique chinoise // Tel quel. P. 1969. T. 38.
21 Ibid. P.8,9, 14, 19.
22 Chmielewski J. Notes on Early Chinese Logic CV-VIII) // Rocznik Orientalisticmy. W-wa, 1965-1969. T. 29. Z. 2; T. 38. Z. 1,T. 31.Z. 1; T. 32. Z. 2.
23 Cp. примечание А.Ф. Лосева: "У Платона категория различия обозначается словом "иное" (alio). Однако во многих случаях в "Софисте", а также в "Пармениде" наряду с alio в том же значении употребляется слово heteron ("другое"), хотя между этими терминами имеется различие: alio означает "иное вообще" (не-А в противоположность A); heteron - конкретное другое (в противоположность А)". Платон. Собр. соч. М., 1970. Т. 2. С. 571).
24 Chang. Tung-sun. La logique chinoise. P. 9,
13,15.
25 Needham J. Science and Civilization in China. Cambridge, 1956. Vol. 2. P. 199.
26 Мо-цзы. C. 194, 192. Древнекитайская философия. T. 2. С. 72.
27 Там же. С. 249.
28 Там же.
29 Там же. С. 247-250.
30 Там же. С. 202, 224,225.
31 Там же. С. 224.
32 Современные историко-научные исследования: наука в традиционном Китае. Реф. сб. М., 1987. С. 91.
33 Ху Ши. Чжунго гудай чжэсюэ ши (История древнекитайской философии). Шанхай, 1939. Кн. 3. С. 49- 50.
34 Graham А.С. Op. cit. Р. 218,219.
35 Ibid. Р. 219.
36 Мо-цзы. С. 198,211,228.
37 Там же. С. 211,228.
38 Чжуан-цзы изи изе ("/Трактат/ Учителя Чжуане" с собранием разъяснений) // Чжу цзы изи чэн. Кн. 3.
39 Тань цзефу. Гунсунь Лун-цзы. Син мин фа вэй ("/Трактат/ Учителя Гунсунь Луна"). Раскрытие тонкостей (учения школы) форм и имен. Пекин, 1957. С. 16-21.
40 Лоцзисюэ цыдянь (Логический словарь).
Цзилянь, 1983. С. 195, 197.
41 Чунь цю Гулян чжуань ("/Летопись/ весен и осеней с комментарием Гуляна)" // Ши сань цзин чжу шу. Кн. 35. С. 455,456..
42 Холь Фэй-цзы ("/Трактат/ Учителя Хунь Фэя") // Чжу цзы цзи чэн. Кн. 5. С. 300.
43 Аристотель. Соч. М., 1975. Т. 2. С. 669.
44 Асмус В.Ф. Логика. М., 1947. С. 47,48.
45 Два способа отрицания в русском языке - с помощью частиц "не" и "без" соответствуют двум фундаментальным лингвистическим категориям индоевропейского ареала - "бытию" и "обладанию", нашедшим прямое отра-
* жение в логике Аристотеля, в частности как два вида противолежания: утверждение - отрицание и обладание - лишенность. Из рассуждений Стагирита видно, что частица "не" может выражать и противоречие, и противоположность. Аналогичным образом его анализ противолежания обладания и лишенности, соотносимого нами с части- . цей "без", показывает, что члены данного отношения сами по себе противоположны, а в применении к своему носителю противоречат друг другу, т.е. на естественноязыковом уровне могут быть поняты и так и этак ("Категории", 10,12а-13а /4, т. 2, с. 80-84/).
46 Ни Shi. Op. cit Р. 141,142.
47 Maspero Н. Op. cit. P. 30,36, 37.
48 Graham A.C. "Being" in Western Philosophy Compared with Shih Fei and Yu/Wu in Chinese Philosophy // Asia major. L., 1959. Vol. 7. P. 91.
49 Chmielewski J. Op. cit P. 33-52.
50 Мо-цзы. C. 193,209,224.
51 Graham A.C. Later Mohist Logic... P. 184, 185.
52 Лю ци. Лунь ли гу ли ("Древние образцы принципов суждений). Шанхай, 1943.
С. 22,23.
53 Лоизисюэ цыдянь. С. 100—103.
54 Люй ши чунь цю ("Весны и осени господина Люя") // Чжу цзы изи чэн. Кн. 6.
С. 100.
105
55 Чжунго гудай ужчмин чжэсюэцзм цин чжуань ("Критические биографии знаменитых философов древнего Китая") Цзинань, 1981. Т. 3. Кн. 2. С. 747.
56 Лю Байминь. И шилисюэ цсы дин юаньли Э ("Первопринцип теории
Чжоу и") // Синь Я сюэбао. Сян Ган, 1960. Т. 4. № 2.
57 Паломничество Германа Гессе в страну Востока // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1982. С. 220.
Э. Геллнер
ИСЛАМСКИЙ МИР И ЕВРОПА: КУЛЬТУРА ЭЛИТЫ И МАСС
Очевидно, что письменность составляет одну из важнейших вех в истории человечества. Она появляется скорее в аграрных обществах, а не среди собирателей доаграрного периода. Для таких обществ характерны довольно постоянная, почти не совершенствуемая технология (производство и хранение продовольствия) и систематическое использование письменности специальной группой писцов. Консерватизм в технологии и письменности органически взаимосвязаны. Доаграрные общества слишком малы и бедны, чтобы содержать особый класс образованных людей. Общество же, основанное на систематически совершенствуемой технологии, может позволить себе распространять искусство грамотности среди всего населения (есть основания полагать, что оно не только может, но и вынуждено делать это). Труд в индустриальном обществе может быть эффективным, только если исполнители грамотны. Именно этот фактор порождает потребность в образцовой, передаваемой через образование и находящейся под покровительством государства "высокой культуре", и именно в этом ключ к пониманию силы национализма в современном обществе.
Однако не все аграрные общества пользуются письменностью, немало и таких, в которых сочетаются аграрная экономика и авторитет писаного текста, используемого для организации политической или религиозной жизни. Таким обществам присуща разъединенность между "высокой культурой" и "массовой культурой". "Высокая традиция" кодифицируется и действует как своего рода контроль качества или пробный камень, поскольку практику можно сверять с нормативной моделью, содержащейся в Библии или ином Писании. В противоположность этому "низкая традиция" передается изустно, неформально, более свободно и разнообразно.
Соблазнительно было бы заявить, что именно грамотность дала человечеству ощущение экстерналитета. Любой поступок или утверждение можно сравнить и сверить с текстом - вот он, этот текст, независимый от авторитета или влияния человека, чей поступок или утверждение подлежит разбору. Независимость семантического содержания письменного отрывка от какого бы то ни было человека дает,
© Э. Геллнер 106
так сказать, модель трансцендентной авторитетности, недосягаемой и неподвластной человеческому капризу или вмешательству.
Однако при всей своей привлекательности, такая теория стала бы чрезмерным упрощением и увела бы нас на ложный путь. Есть немало доказательств того, что устное слово не всегда улетучивается или поддается манипуляции; с другой стороны, письменные документы, вопреки тому, что можно было бы ожидать, не столь уж и безупречны. Так, если устное слово повторяется с верой и всепоглощающей заботой о сохранении строгости формы ритуала, то оно может даже превосходить непреложность писаного слова. С другой стороны, в обществах, пользующихся письмом, власть имущие не считают для себя затруднительным подправить письменный текст так, чтобы он провозглашал именно то, что они хотят слышать. Фабрикация письменных генеалогий, всевозможных актов и грамот - дело чрезвычайно распространенное.
Короче говоря, просто наличие или отсутствие письменности само по себе еще не создает такого уж радикального различия - заклинания, например, имеют сходство с неподвижностью рукописного шрифта, а Писание так же услужливо к требованиям власти, как и устное слово, хотя и в не столь откровенно оппортунистической форме. Тем не менее об обществе, где многие (но не все) умеют читать, можно вполне определенно сказать, что существует ярко выраженная разница между "высокой”, использующей письмо, традицией и бесписьменным обычаем. Что касается конкретных отношений между ними, то они варьируются: писцы могут ревностно защищать свою монополию и вытекающую отсюда власть или, напротив, пытаться распространить мудрость, которую они несут вместе с написанным словом, и сделать предписываемый им стиль поведения достоянием всего общества.
В современном мире, опирающемся на мощную и постоянно развивающуюся технологию, все меняется. Всеобщая грамотность становится возможной и, вероятно, обязательной. В прошлом также можно обнаружить определенные шаги в этом направлении. Рассмотрим разновидность родового - в социологическом смысле - "протестантизма" (оставляя в стороне специфику теологических доктрин). Протестантизм, взятый в этом смысле, можно определить как религиозное движение, имеющее две характерные черты. Первое - отрицание законности специальной категории людей, занимающих особое сакральное положение или обладающих привилегированным доступом к истине. Иными словами - это отмена или универсализация священства. Второе - позитивное учение о том, что истина дана в Священном Писании, одинаково доступном всем грамотным людям. В данном смысле протестантизм носит скриптуралистский характер: письменное слово - главное и единственное хранилище законности.
Понятно, что такой взгляд содержит в себе импульс по крайней мере к расширению круга грамотных. Вместе с тем в нем не обязательно есть импульс к выработке литературных национальных языков. Но именно этот эффект он произвел в среде протестантов Европы. Если
107
этот узкий смысл, который мы в данном контексте придали понятию "протестантизм", приложить к исламу, то обнаруживается, что здесь скриптуализм привел не к развитию национальных языков, а, напротивt усилил значимость арабского.
В Европе всеобщая грамотность распространяется лишь в эпоху национальных государств и во многом благодаря их деятельности. В этой связи представляется целесообразным остановиться на разнице между частичным завоеванием общества образовательной "высокой традицией" во имя "протестантизма" и полным его завоеванием, осуществленным во имя национализма. Разница очевидна - протестанты были в первую очередь богословами и лишь во вторую - поборниками национального языка. Конечно, они нередко выступали как протонационалисты, но прежде всего они стремились использовать привилегированный язык для того, чтобы передать и укрепить Истину, которая была превыше любого языка. Современный национализм иной, он не пытается внедрить или передать какую-либо доктрину. Ее просто нет. Его страсть к национальному языку и культуре, которые он поддерживает и для которых он старается найти надежную политическую защиту, имеет свой собственный источник - любовь к культуре как таковой, а не просто как к средству выражения некоей высшей истины. Именно средство выражения, а не Благая Весть является объектом его "великой страсти". Так что, хотя исходно "протестантизм" мог подготовить почву для национализма в Европе и содержал в себе немало элементов, напоминающих национализм в собственном смысле слова, тем не менее эти два движения имели различия и развивались несинхронно. Если религиозные войны закончились Вестфальским миром, а национальные войны, как утверждают, начались с французской революции, то тогда их разделяют полтора столетия, в течение которых войны в большой мере представляли собой технические операции, проводимые для достижения политических целей иными средствами.
Есть вопрос, который, несмотря на его очевидность, задают на удивление редко: почему всеобщая тенденция современных обществ к секуляризации столь явно отсутствует в исламе? В мире ислама религия сохранила всю свою политическую жизнестойкость. Примечательно, что это верно и для таких социально консервативных стран, как Саудовская Аравия или Нигерия, и для таких социально радикальных, как Южный Йемен, Ливия или Алжир. Единственная из мусульманских стран, которая систематически пыталась проводить политику секуляризации, - это, безусловно, кемалистская Турция. Однако в этом деле, как известно, она натолкнулась на большие трудности. Кемалистская элита, представлявшая собой в первом поколении нечто вроде опиравшихся на Священное писание пуритан секуляристского направления, так и не добилась успеха в стремлении передать свой энтузиазм широким массам. Недавние исследования дают основания полагать, что возникает своего рода компромисс между республиканизмом и исламом, а представители последующих поколений турецкой элиты,
108
похоже, стараясь так или иначе приспособиться к набожности читателей сельской местности и малых городов, утратили весь миссионерский пыл по поводу секуляризации. Резкий тон, в котором поначалу пропагандировали секуляризм, вероятнее всего, связан со склонностью к насилию, что характерно для современной политической жизни Турции.
Вернемся, однако, к главному вопросу - каким образом ислам, исключая Турцию, сохраняет удивительно прочные позиции в массах и элитах мусульманских стран?
В исламе Реформация и религиозные войны, с одной стороны, и век индустриализма и национализма - с другой, пришли не поочередно, а одновременно и наложились друг на друга, так что пытаться разделить их - дело чрезвычайно трудное. Священен ли арабский язык, потому что Слово Господа выражено им, или ценна вера, потому что она играет роль социального цемента для арабов? Требуя непременного ответа на этот вопрос, мы могли бы отделить тех, кто является в первую очередь возрожденцем-фундаменталистом и во вторую - националистом, от тех, кто прежде всего националист, относящийся к вере явно как к средству. Но если мы бы продолжали задавать этот вопрос, то, боюсь, мы бы начали искажать эмоциональную реальность, вместо того чтобы прояснить ее. Люди не обязаны иметь четкую и логическую структуру в своих убеждениях и чувствах.
Допустим, что предложенный тезис об индустриальном обществе верен и что оно уже в силу основ своего устройства вынуждено двигаться к уникальному и не имеющему прецедентов в истории человечества состоянию, при котором "высокая культура" охватывает все общество. Иными словами, оно вынуждено двигаться ко всеобщей грамотности и включенности всего населения в систему образования. Как уже подчеркивалось, в Европе это состояние было достигнуто только под эгидой национального. Европейский протестантизм появился на исторической сцене, видимо, слишком рано, чтобы навязать обществу данную программу, во всяком случае он не сделал этого.
Ислам, или по крайней мере его основное течение, тоже во многих отношениях необычайно хорошо пригоден к преобразованию отношений между культурой и образом правления, иными словами, к распространению на все общество "высокой культуры", что в Европе было сделано лишь национализмом. Официальное богословие ислама не признает духовенства или особого положения тех, кто передает божественную истину. Ислам, с его учением о равенстве верующих и умеренной благосклонностью к грамотным верующим, был готов к вступлению в современный мир.
Однако не ислам породил современный мир: в условиях, характерных для засушливой зоны, являющейся родиной ислама, обширные территории в сельской местности не поддавались управлению из центра, и дела здесь велись на принципах самоуправления местными племенами. В этих племенах царило чувство сплоченности, что превра¬
109
щало их в мощную военную силу, постоянно угрожавшую урбанизированным, более мирным, заселенным районам. Городские и экономически специализированные группы столь сильно зависели от государства в деле защиты от этих племен, что они даже не помышляли о какойлибо самостоятельности, подобной той, которая на Западе привела в конце концов к переходу к производительному обществу.
То, что мусульманское общество оказалось неспособным породить современность, не означает, что оно неспособно извлекать из него для себя пользу, когда современность, наделенная всеми преимуществами экономической и военной технологии, начинает господствовать в мире*.
Если такая оценка верна, то за ней следует ряд интересных выводов. Рассмотрим типичную "отсталую" или принадлежащую к "третьему миру" страну, помня при этом, что в начале XIX в. третий мир начинался на Рейне. Поначалу влияние современности на "отсталую" страну проявляется как потребность ликвидировать отставание в экономическом и военном отношениях и реорганизовать жизнь таким образом, чтобы заменить характерную для аграрного мира культурную рыхлость с ее вертикальным и региональным языковым и культурным разнообразием на образцовую, однородную, основанную на грамоте культуру, позволяющую обществу успешно функционировать и выдерживать конкуренцию.
Теоретически движение самореформирования можно было бы проводить с опорой на старую местную "высокую культуру". Но эта культура связана со старым режимом, представители которого имеют обычно все основания противиться переменам, лишающим их былых привилегий. Хотя из этого правила есть любопытные исключения, в целом старые режимы не поддаются реформированию. Есть, по существу, два крайних варианта развития - "вестернизация" и популизм. Если исключить "высокую культуру" старых режимов, которые ныне выглядят загнивающими, то остается либо непреклонная решимость следовать вдогонку за превосходящим в военном и экономическом отношении зарубежным соперником, или же идеализация любого аспекта местной культуры, не скомпрометировавшего себя глубокой вовлеченностью в коррупцию старого режима. На практике большинство идеологий в "третьем мире" имеют тенденцию сочетать
* Вспоминается случай, когда в своей лекции в одном из провинциальных университетов Индии я подчеркнул эту мысль. Мои слушатели, преимущественно индусы, или во всяком случае немусульмане, были возмущены. Они менее совместимы с ценностями современного мира, чем мусульмане! Сами же они считали мусульман, попросту говоря, фанатичными, косными, теократичными, нетерпимыми и отсталыми. Подобная характеристика подкреплялась несомненным фактом - в районе, где расположен университет, мусульмане занимают обычно более низкие ступени социальной иерархии. Мои возмущенные собеседники с жаром доказывали, что индуизм, как они его толковали, - это философия самореализации человека, которая скорее признает развитие реальных возможностей человека, нежели препятствует ему. Они подчеркивали, что имеется действительное сходство между лучшими элементами их собственной традиционной религии и идеалами Просвещения.
110
эти два элемента в той или иной пропорции. Заметим, что каждый из двух вариантов имеет весьма неприятный аспект. Прямая и бескомпромиссная вестернизация подразумевает презрение к своей собственной местной традиции, унизительное признание ее отсталой. Идеализация некоторых черт ’’невысокой культуры” имеет тот недостаток, что на деле ее можно осуществить и сделать привлекательной только посредством своего рода выборочного искажения и прямого выдумывания.
Именно в этом отношении мусульмане оказываются в уникальной ситуации. Они избегают этой болезненной дилеммы между развитием по западному образцу и популизмом. Лишь немногие из них являются открытыми сторонниками вестернизации - примечательно, что самый крупный из них, Кемаль Ататюрк, проводил свою политику развития по западному образцу как раз в той стране, где богословие имело наиболее глубокие корни и было проникнуто духом старого политического порядка, казалось бы, неспособного к действительному самореформированию. Но если среди мусульман мало открытых сторонников вестернизации, то еще меньше среди них популистов.
Ныне существующая традиция ислама способна во всех отношениях служить идеологией, в рамках которой предстоит утверждаться новому жизнеспособному порядку. Основанная на кодексе законов, проповедующая равенство, доктрина действительно существовала, она не была изобретена с целью справиться с новым кризисом. В прошлом она проводилась в жизнь меньшинством из горожан ученого люда, которые смотрели свысока на исступленные эксцессы, упоение культом личности, практиковавшиеся низшими слоями в городах и всеми в сельской местности. В былые времена именно "высокий ислам" был социологически неадекватным - самоуправляющиеся и изолированные сельские группы нуждались всего лишь в посредниках, неформальном духовенстве, которое от имени Бога выступало посредником между группами людей. Но в настоящее время эти местные группы с их потребностями в посредничестве и арбитраже значительно размыты. Колониальное и постколониальное государство достаточно сильно, чтобы разрушить автономию этих групп и навязать свой порядок всему обществу в целом. Посредники больше не нужны, и их былые прихожане вдруг вспомнили (или им напомнили) о "высоком богословии", которое они никогда окончательно не забывали. В течение последних ста лет внутри ислама происходит великая самореформация, которая не была должным образом замечена на Западе. Ислам во все времена переживал своего рода перманентную Реформацию, но в прошлом она всегда оказывалась неудачной. Происходящие сегодня централизация, урбанизация, мобильность и школьное образование сделали ее впервые в истории эффективной. И старое богословие, которое в прошлом не могло навязать себя обществу в широком масштабе и определяло только "высокую культуру" меньшинства, теперь весьма эффективно определяет все общество в целом. Внутри него
111
оно выполняет по меньшей мере три функции: оно отделяет мусульман от остальных (этническая идентификация). Одновременно она определяет вновь урбанизированного или попавшего под городское влияние бывшего деревенского жителя по контрасту к прошлому, от которого тот хочет отречься. Новые горожанки носят чадру не потому, что это старая традиция с незапамятных времен, а потому, что она подтверждает их социальное восхождение. И, наконец, выражает также чувство возмущения, которое более широкая часть общества питает к высшей, чрезмерно вестернизированной технократической элите.
Итак, можно сделать вывод, что соотношение письменной, "высокой" культуры и бесписьменной, "народной", в процессе модернизации общества существенно меняется. Естественность и неизбежность этого подтверждается на материале и западноевропейской истории (эпохи взлета национализма и индустриализации) и исламского мира, занимающего в этом отношении особое положение среди развивающихся стран.
Я. Г. Шемякин
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В НОВОМ СВЕТЕ В ЭПОХУ КОНКИСТЫ
Современная Латинская Америка - результат сложнейшего взаимодействия различных цивилизационных пластов - автохтонного индейского, европейского (прежде всего иберийского), афронегритянского. Предпосылкой исследования процесса взаимодействия цивилизаций является их сравнение. Отсюда вытекает задача выработки критериев, по которым должны сравниваться те или иные вступившие в контакт человеческие миры. Подход же к решению этой задачи в свою очередь прямо зависит от того, какое содержание вкладывается в понятие "региональная цивилизация" (иные аспекты цивилизационной проблематики, общемировой и стадиальный, в данном случае затрагиваются лишь вскользь). Выбор пути решения этого вопроса в решающей степени обусловлен тем, как тот или иной автор трактует соотношение социологических категорий "цивилизация" и "культура". Мне представляется наиболее правильным то решение, которое предложил Э.С. Маркарян. Исходя их определения культуры как специфического способа человеческой деятельности, он рассматривает цивилизацию как стадию развития культуры, для которой характерен целый ряд отличительных особенностей1. Соответственно, развивая мысль Маркаряна, региональную цивилизацию можно определить как способ бытия (осуществляющегося посредством человеческой деятельности) какой-либо конкретной общности. Именно это последнее определение,
© Я.Г. Шемякин 112
по моему мнению, в наибольшей степени отвечает задачам данной работы. Однако оно нуждается в дальнейшей конкретизации.
С известной точки зрения развитие и функционирование общества могут быть представлены как процесс возникновения, развертывания и разрешения противоречий. В этом плане "способ бытия" предстает как способ разрешения противоречий. Однако в данном случае речь идет не о всяких противоречиях.
Цивилизация представляет собой способ разрешения противоречий определенного типа - фундаментальных противоречий бытия мыслящей материи: между человеком и природой, обществом (социумом) и индивидом, временем и вечностью. Последнее раскрывается в конкретной истории как противоречие между традицией и инновацией. Соответственно те или иные региональные цивилизации суть различные способы решения указанных фундаментальных противоречий. Именно сравнение по выделенным основным параметрам (соотношение человека и природы, индивида и социума, традиции и инновации) позволяет выделить основные структурные характеристики взаимодействующих человеческих миров.
Любая культура (цивилизация) в одной из своих ипостасей представляет собой противоречивое системное единство традиции и инновации. То или иное соотношение между ними непосредственно определяет динамику развития конкретных культур. Следует особо отметить, что в понятии "цивилизация" отражена прежде всего та сторона исторического процесса, которая связана с обеспечением преемственности исторического опыта, передачи от поколения к поколению основополагающих черт культуры. Отсюда ключевое значение проблемы традиции в исследовании цивилизационного процесса.
* * *
Исходный пункт развертывания процессов, приведших в итоге к возникновению Латинской Америки в ее современном виде, - прямое столкновение индейского и иберийского миров в ходе открытия и завоевания (конкисты) Нового Света пятьсот лет назад. Очевидно ключевое значение исследования взаимодействия цивилизаций в эпоху конкисты для понимания всей последующей истории региона.
Характер взаимоотношений встретившихся миров был обусловлен двумя главными обстоятельствами. Во-первых, гигантским разрывом в уровнях развития: пришли в соприкосновение позднефеодальное общество Европы, в котором начинался уже генезис капитализма, и социальные системы, находящиеся либо на стадии первобытности, либо "на переходе" к классовому обществу, либо "стадиально равные" древним Шумеру и Египту. Во-вторых, качественным отличием способов разрешения фундаментальных противоречий человеческого бытия, характерных соответственно для иберийской Европы и доколумбовой Америки.
ИЗ
К концу XV в., к моменту появления на континенте европейцев, для всех индейских обществ (при весьма существенных различиях между ними во многих других аспектах) были свойственны следующие основные структурные характеристики: жесткая подчиненность всех этих обществ, включая высокие культуры доколумбовой Америки, природным ритмам, безусловное преобладание тенденции адептации к среде над попытками приспособить ее к собственным потребностям; вытекающее отсюда полное преобладание природной составляющей над человеческим элементом производительных сил; доминирование естественно сложившейся общности над индивидом, четко выраженная тенденция к растворению в подобной общности личностного начала; господство общинного архетипа как основы и системообразующего принципа доколумбовых обществ; качественное преобладание традиции над инновацией в системном единстве культуры; вытекающая из всех этих характеристик особенность исторической динамики автохтонных цивилизаций - циклическая форма социального движения.
Второй из основных участников встречи культур в Америке - иберийская Европа - имел особый цивилизационный статус. Испания и Португалия пребывали в "силовом поле" взаимодействия западноевропейской и арабской цивилизаций. Однако, несмотря на то, что арабская культура оказала значительное влияние на испанский и португальский этносы, европейское начало в христианских государствах Пиренейского полуострова в целом преобладало.
Для европейской цивилизации в XVI в., в том числе для иберийских народов, по сравнению с доколумбовыми обществами Нового Света были свойственны: совершенно другое соотношение между человеком и природой, несравненно более сильно выраженная тенденция к адаптированию - приспособлению внешней среды к человеческим потребностями; гораздо большая роль человеческого элемента и созданных людьми искусственных орудий труда в системе производительных сил; качественно иное, значительно более высокое положение личности по отношению к обществу и власти; гораздо большая роль инновационной стороны культуры; вытекающий из всех этих особенностей характер исторической динамики - преобладание в целом в рамках европейского региона (несмотря на сильные попятные движения, в том числе в истории Испании и Португалии) прогрессивной, поступательной формы социального движения. В то же время следует отметить, что для Европы конца XV-XVI вв., тем более для пиренейских государств, еще нельзя говорить ни о безусловном доминировании тенденции адаптирования над тенденцией адаптации к природной среде, ни о полном высвобождении личностного начала, во многом скованного средневековыми путами, ни о безусловном преобладании инновации над традицией. Тенденция прогрессивного, поступательного движения пробивала себе дорогу вопреки сильным контртенденциям, которые на различных исторических этапах в тех или иных странах становились преобладающими, как, например, в Испании после подавления восстания "комунерос" в 1521 г.
114
Как следует из изложенного выше, встретившиеся пятьсот лет назад по ту сторону Атлантики человеческие миры были чрезвычайно далеки, в некоторых отношениях несовместимы друг с другом. Когда сталкиваются столь разительно отличающиеся друг от друга общности, их первоначальная реакция друг на друга очень часто приобретает характер отрицания чуждого мира. Обобщение опыта исторического развития позволяет сделать вывод, о том, что в жизни общества наличествуют два основных вида отрицания: так называемое "снятие", предполагающее наряду с устранением всего отжившего и мешающего развитию сохранение положительного содержания отрицаемого, и тотальное деструктивное отрицание, суть которого проявляется в тенденции к полному уничтожению того, на что оно направлено, будь то иная цивилизация или собственное прошлое осуществляющей отрицание социальной системы.
Линия тотального отрицания чуждой, "демонической, реальности индейского мира прослеживается в поведении участников как военной, так и духовной конкисты со всей очевидностью: примеры общеизвестны, их можно было бы привести немало"2. Однако наряду с этой линией с самого начала наметилась иная, предполагающая наряду с устранением всего того, что не устраивало иберийских колонизаторов, сохранение тех элементов структуры доколумбовых цивилизаций, которые могли быть утилизированы в системе колониального господства. Причем речь идет именно о цивилизациях, поскольку в отношении индейцев, находившихся на стадии первобытнообщинного строя, относимых к категории "диких", проводилась, как правило, линия геноцида.
Следует отметить, что, несмотря на различие между ними, обе обозначенные выше линии конкисты были нацелены на разрушение индейских культур как целостностей. После завоевания Америки в Новом Свете имело место взаимодействие культур иберийских народов, которые, несмотря на присущую им социальную и этническую (в случае Испании) неоднородность, сохраняли свою целостность, с элементами индейских культур, целостность которых была нарушена. Свойственный иберийскому варианту европейской цивилизации способ решения фундаментальных противоречий человеческого бытия утвердился и стал господствующим в значительной части Нового Света. Однако доминирование, достигнутое в результате победы в открытом столкновении с индейским миром, еще не означало победы европейской цивилизации: о такой победе речь могла идти лишь в случае укоренения данной цивилизации на американской почве.
Уже в эпоху конкисты взаимодействие цивилизационных пластов не сводилось к прямому столкновению. В XVI в. зарождаются новые, более сложные формы такого взаимодействия. Их появление следует рассматривать как закономерную реакцию (причем с обеих сторон - и с индейской, и с иберийской) на попытку полностью стереть с лица земли целый мир и заменить его неким простым продолжением пиренейской Европы по другую сторону Атлантики. Тотальное отрицание
115
чревато в конечном счете гибелью общества, и поэтому любой сохранивший в той или иной мере жизнеспособность организм противится попыткам осуществления такого отрицания, стремлению строить новый мир на голом месте, полностью обрывая линию преемственности.
В этой связи встает проблема синтеза культур и цивилизаций в Новом свете. Следует отметить неправомерность расширительной трактовки данного понятия: отнюдь не всякое соединение, сочетание элементов взаимодействующих культур можно рассматривать как синтез. Последнйй имеет место лишь там и тогда, где и когда в ’’зоне взаимодействия" различных человеческих реальностей возникает нечто качественно новое, отличное от данных реальностей. С этой точки зрения многие формы "сцепления" элементов, вступивших в контакт цивилизаций в Америке эпохи конкисты, вряд ли правомерно характеризовать как синтез. В XVI-XVII вв. в Испанской Америке получила широкое распространение особая форма соединения взаимодействующих культур, которую можно охарактеризовать как симбиоз: т.е. такой тип системного единства, в рамках которого каждая из его составляющих сохраняет себя, а нового качества не возникает.
Так, сложился симбиоз испанского колониального строя и индейской общины. Последняя была интегрирована в возникшую после конкисты социально-экономическую систему, а общинный тип социокультурной организации был широко использован при создании социально-политической структуры управления "Индиями"3.
Можно привести также множество примеров симбиоза в сфере духовной культуры. Именно к этому типу системного единства относятся такие формы соединения и взаимодействия различных этнокультурных элементов, как использование испанцами и португальцами в ходе христианизации элементов индейской обрядности, автохтонных песенно-танцевальных жанров, опыта организации индейского театра; сохранение у индейцев, наряду с усвоенными элементами новой веры, прежних традиционных представлений и т.д.
Соотношение между находящимися в симбиозе этнокультурными элементами может быть самым различным: оно варьируется от положения, при котором ведущую роль играет автохтонное духовное наследие, а элементы иберийской культуры укореняются на периферии сознания, до ситуации, когда центральное место занимает уже европейско-христианская система ценностей, а сохраняющиеся компоненты духовного мира индейских народов занимают подчиненное положение, продолжая тем не менее оказывать определенное влияние на поведение людей и на их мировоззрение. Так, например, тип симбиоза с преобладание автохтонного начала отражен, на наш взгляд, в книгах "Чилам-Балам". Для них, как известно, характерно наличие в рамках одного и того же текста преданий майя, относящихся к доколумбову периоду, и своеобразно интерпретированных элементов европейской культурной традиции (упоминание библейских персонажей, перифразы из Библии, включение в книгу "Чилам-Балам из
116
Ишиля" испанской версии арабской новеллы об остроумной невольнице из "Тысячи и одной ночи" и др.). В книгах "Чилам-Балам" текст на латинице, по-видимому, представляющий собой в ряде случаев транслитерацию иероглифических рукописей, соседствует с иллюстрациями, содержащими иероглифические знаки, изображения майяского календаря, и наряду с этим - европейский зодиак4.
Ярким примером симбиоза иного вида, для которого характерна ведущая роль в противоречивом единстве испанско-христианских элементов, может служить мировоззрение Тесосомока, потомка правителей Теочтитлана и Аскапоцалько, крупного деятеля культуры XVI в., яркого представителя третьего поколения хронистов науа. Тесосомок, чистокровный индеец, был, несомненно, верующим католиком. Тем не менее, когда он пишет о прошлом своего народа, излагая наряду с историческими фактами его мифы и легенды, он искренне верит в реальность языческих божеств5.
В отличие от симбиоза в животном мире (где животные-симбионты не только остаются самими собой, но и в принципе не могут перейти в какое-то новое качество) культурно-цивилизационный симбиоз предполагает альтернативу: он может либо стать исходным пунктом формирования новых форм единства, открывающих путь к возникновению иного качества, либо не стать, если в отношениях между человеческими общностями возобладает логика тотального деструктивного отрицания. В Латинской Америке в конечном счете возобладала первая возможность. Общая динамика взаимодействия культур в эпоху конкисты развивалась следующим образом: от прямого столкновения произошел переход к симбиозу как основной форме взаимоотношений культур, в рамках которого наблюдаются первые симптомы культурного синтеза. Появились и отдельные выдающиеся личности, духовный мир которых являл собой уже зрелые образцы нового культурного качества, возникшего в ходе взаимодействия индейской и испанской традиций. Таковы Инка Гарсиласо де ла Вега и Фернандо де Альба Иштлилыпочитль6.
Следует отметить, что процессы цивилизационного синтеза наблюдаются практически исключительно в зонах "высоких культур" доколумбовой Америки. Это не случайно. Предпосылкой восприятия опыта иной цивилизации, установления каких-то форм связи различных культур является достаточно богатая культурная память. Именно она обеспечивает ту систему коммуникаций, разветвленную сеть каналов для восприятия, по которой могут транслироваться новая информация, иные ценности, чужой опыт.
Опыт взаимоотношений многообразных человеческих миров в Новом Свете свидетельствует о том, что соединение элементов вступивших в контакт культур в некую единую систему возможно лишь при определенных условиях: "расстояние" между взаимодействующими общностями с точки зрения сложности социальных организмов не может быть сколь угодно большим; оно должно быть ограничено определенными рамками. Выход за эти рамки делает невозможным
117
формирование на основе взаимодействующих элементов новой органической целостности.
Соотношение ибероевропейской и автохтонной составляющих в процессе синтеза в различных районах Нового Света было неодинаковым. Однако в целом налицо несомненное преобладание испанохристианского начала, определившего основу формирующейся новой культурно-цивилизационной целостности. Чем объяснить этот факт?
Разумеется, первоначально немалое значение имело то, что иберийский конкистадор утверждал свою культуру, свою систему ценностей как победитель. Однако не это обстоятельство сыграло главную роль. Обобщение опыта взаимодействия различных цивилизаций и культур в разных районах мира подводит к выводу о том, что основу и общее направление процесса синтеза определяет, как правило, наиболее открытая, в наибольшей степени способная к творческому восприятию чужого опыта человеческая общность. Подобные качества находятся в прямой зависимости от соотношения традиции и инновации в системном единстве цивилизации: открытость возможна лишь в том случае, если инновационная сторона культуры выражена достаточно сильно, не блокирована жесткой ориентацией на воспроизведение "заранее данных" отношений и образцов прошлого. В свою очередь, как уже говорилось, соотношение традиции и инновации непосредственно обусловлено свойственным той или иной цивилизации способом разрешения противоречий "общество - природа" и "индивид - социум".
Если исходить из проведенного выше сопоставления встретившихся цивилизаций по указанным параметрам, то мы неизбежно приходим к выводу, что из двух первоначальных участников цивилизационного взаимодействия - испанской культуры и "высоких культур" доколумбовой Америки - в наибольшей мере в силу своих структурных особенностей была предрасположена к синтезу первая.
Огромное значение имело также то обстоятельство, что представители формировавшегося испанского этноса накопили очень значительный опыт в ходе многовекового общения с арабской цивилизацией. Испанская культура представляла собой к XV-XVI вв. становящуюся целостность, характеризующуюся напряженным внутренним диалогом различных начал. Она эмпирически выработала многообразные, богатые формы связи, соединения и взаимодействия с иными культурами, прежде всего с арабской. Те или иные формы такого взаимодействия наиболее зримо воплотились в испанской архитектуре. Будучи ограниченным рамками небольшой статьи, приведу лишь два примера. На мой взгляд, одним из наиболее выдающихся проявлений синтеза на испанохристианской основе, но с органичным включением в целостность архитектурного ансамбля ряда арабских элементов является Толедский собор. Ярчайший образец иного типа взаимосвязи - симбиоза представляет собой знаменитый архитектурный комплекс, как правило, фигурирующий в различных изданиях под названием Кордовская мечеть: он представляет собой неразрывное парадоксальное единство
118
многообразных, относящихся к различным эпохам и культурам компонентов, прежде всего - здания прежней мусульманской мечети и встроенного в него католического храма.
Без опыта взаимодействия цивилизаций на Пиренейском полуострове был невозможен и латиноамериканский синтез. В ходе этого взаимодействия, несмотря на весьма сильные тенденции религиозной нетерпимости, испанская культура сформировалась как культура в целом открытая, основанная на полифонии разных ’’голосов”. Именно это ее качество, а отнюдь не факты военной победы и господствующего социального положения испанцев в "Индиях”, в решающей степени объясняет то, что именно ибероевропейское начало сыграло ведущую роль в процессе синтеза. Если бы соотношение взаимодействующих культур было иным, неизбежно проявилась бы та закономерность, о которой писал в свое время К. Маркс: завоеватели сами оказались бы покоренными более высокой культурой завоеванных народов7.
1 Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М, 1983. С. 180,182.
2 См., напр.: Ланда Д. де Сообщение о делах в Юкатане. М.; Л., 1955. С. 193; Лас Касас Б. де. История Индий. Л., 1968; История литератур Латинской Америки: От древнейших времен до начала Войны за независимость. М., 1985. С. 245; Ricard R. La conquista espiritual de Мёхко. M£xico, 1947.
3 См.: Самар кина И.К. Община в Перу.
М., 1974; Шемякин Я.Г. Латинская
Америка, традиции и современность. М., 1987, С. 51-53; Comunidades campesinas. Cambios у permanencias. Lima, 1988.
4 История литератур Латинской Америки. С. 273-274.
5 Там же. С. 268-270.
6 Инка Гасиласо де ла Вега. История государства инков. Л., 1974; Obras historicas de don Fernando de Alva Ixtlilxochitl. M£xico, 1891.
7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 9, С. 225.
Т.И. Краснопевцева АФРИКАНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Понятие ’’цивилизация”, подразумевавшее определенную степень развития человеческого общества, выработанное на основе европейского научно-исторического опыта приблизительно во второй половине XVIII в., как и многие другие общественно-исторические понятия того времени, имело европоцентристский характер1, оправдывающий разделение народов на цивилизованные и варварские. С такой позиции использование термина "цивилизация" в отношении африканских обществ, конечно, было необоснованным. Признание за одними народами и обществами права называться "цивилизованными" (т.е. культурными, поскольку во втором его значении термин "цивилизация"
© Т.И. Краснопевцева
119
является синонимом культуры), за другими - "нецивилизованными” ставило европейских философов в положение надчеловеческих арбитров, которыми они по своему человеческому происхождению являться не могли.
Ход исторического развития за последние двести лет показал всю относительность и субъективность такого рода оценок. Так, безусловные, как казалось, успехи европейской цивилизации обернулись вызреванием ситуации, грозящей уничтожением всему человечеству. Следовательно, именно в структуру европейской цивилизации был встроен механизм всеобщего разрушения, несовместимый в своей основе с тем созидательным началом, который несет в себе цивилизация как культура. Возможно ли в связи с этим считать европейскую цивилизацию высшей ступенью развития человеческого общества?
Таким образом, очевидно, что в случае сохранения самого понятия "цивилизация" в современном обществоведческом словаре, следует его некоторым образом переосмыслить, исходя, по возможности, из иных сравнительных характеристик.
Важнейшей из таких характеристик является природный или географический фактор, взятый, однако, не под углом зрения его количественной детерминации (что вновь привело бы нас в положение надчеловеческих арбитров), а под углом зрения его качественных особенностей2.
Грандиозность воздействия этого фактора выразилась в стихийно возникшем противопоставлении Восток-Запад, которое стало впоследствии первым макромасштабным вариантом цивилизационной классификации. Со временем она была дополнена введением более дробных делений: европейская, мезоамериканская (т.е. материковая). Позднее появились и еще более мелкие варианты цивилизационной классификации, имеющие в своей основе крупные устоявшиеся территориальнополиэтнические комплексы (например, индийская, китайская цивилизация), каждый из которых обладает своей природной детерминацией.
Другим подходом к цивилизационной классификации стал мировоззренческий (религиозный): христианская, исламская цивилизации.
Каждый из этих подходов, бесспорно, правомерен, хотя каждый, очевидно, и слишком размыт и, в то же время, ограничен (за исключением наиболее мелких градаций, когда имеет место полное совпадение небольшого природного региона со специфической формой мировоззрения, выработанного обществом, существующим в границах этого региона. Например, вавилонская цивилизация).
Правомерен потому, что как природный фактор играет определяющую роль в жизнедеятельности любого общества, так и мировоззрение, выработанное в условиях этой природной среды данным обществом (являющееся в определенном смысле квинтэссенцией его культуры) налагает неизгладимый отпечаток на весь характер его деятельности. Ограничен каждый из этих подходов потому, что как только мы переходим от микроуровней к макроуровням, то замечаем,
120
что утрачиваем определенность в отношении многих обществ, стоящих на промежуточных, пограничных позициях (например, Россия, Южная Африка, Центральная Америка). В этом плане использование термина "африканская цивилизация" также страдает некоторой неточностью. По особенностям взаимодействия природного и мировоззренческого факторов на континенте можно выделить по крайней мере три самостоятельных цивилизационных комплекса: Северный, связанный с культурно-историческим прошлым Средиземноморья, и имеющий своей южной границей пустыню Сахара; Центральноафриканский и Южный, представляющий собой переходную цивилизационную структуру, характеризующуюся повышенной интенсивностью сил межцивилизационного взаимодействия.
Однако, несмотря на эту относительную ограниченность, оба фактора (природный и мировоззренческий), безусловно, относятся к числу определяющих в деле переосмысления понятия "цивилизация".
Справедливости ради следует отметить, что наряду с природным и мировоззренческим подходами к цивилизационной классификации получил распространение другой, основанный на теоретических работах Ф. Энгельса и К. Маркса, рассматривавших общественное развитие через призму понятия "способа производства"3. Упрощенным (вульгаризованным) вариантом такого подхода стало деление человечества на коммунистическую и буржуазную цивилизации4.
На наш взгляд, такой подход к цивилизационной классификации неправомерен, поскольку представляет собой перенесение на социальную почву вульгаризованных политических представлений. Кроме того, вызывает определенные возражения и сам критерий, в соответствии с которым проводится классификация (способ производства). Действительно, сущность способа производства образуют отношения собственности на средства производста. Однако на всем протяжении существования homo sapiens именно эта категория подверглась наименьшим изменениям. Уже в III тысячелетии до н.э. в Египте и Шумере существовали те уклады и формы способа производства, что и в наши дни: государственный, общинный, частный, рабовладельческий.
Такое постоянство существующих на протяжении всей истории человечества отношений к собственности обусловлено, на наш взгляд, врожденно присущим человеку качеством, выраженном в стремлении обладания (в том числе собственностью на средства производства). Если число вариантов способов производства за последние 3-4 тысячелетия оставалось неизменным (хотя за это же время возникло, расцвело и угасло много цивилизаций), то, быть может, какоелибо соотношение этих укладов может дать основу для нашей классификации? Этот путь, однако, наталкивается на непреодолимые препятствия. Вопрос о соотношении в общественной структуре различных общественно-экономических укладов и о выделении среди них уклада, играющего господствующую роль, оказывается далеко не однозначным. Часто используемые при этом критерии (число задейст¬
121
вованных в данном укладе лиц или производимая в рамках данного уклада доля национального продукта) не только мало доступны для реального статистического учета, но даже при условном осуществлении такового они не в состоянии охарактеризовать истинные размеры влияния того или иного уклада на общественноэкономические структуры социума. Так, по степени влияния на общественные структуры античности Л.С. Васильев справедливо отводит определяющую роль мелкотоварному укладу, который называет частнособственническим началом. Между тем, по общепринятым канонам, античное общество характеризуется как рабовладельческое, т.е. ведущая роль отводится рабовладельческому укладу. Это парадоксально еще и потому, что именно это рабовладельческое общество создало образцы свободы и демократии для всего человечества.
Таким образом, возвращаясь к вопросу об определении понятия "цивилизация", следует обратить внимание прежде всего на два основополагающих фактора: природный и мировоззренческий. В таком случае цивилизацией можно считать форму существования человеческого общества, определяемую взаимодействием природного и мировоззренческого факторов, каждый из которых не является простейшим элементом, а представляет собой целый комплекс взаимосвязанных элементов. Так, влияние природного фактора на формирование цивилизационной специфики связано не только с климатом, но и с количеством и качеством водных ресурсов, лесов, характером почв, наличием полезных ископаемых и даже формой их залегания, особенностями и разнообразием животного мира.
Такое определение цивилизации не рассматривает, впрочем, немаловажный момент взаимосвязи человека и природы: момент эмоциональный. Дело в том, что еще до выработки определенной умственной реакции на контакт с природой человек воспринимает ее чувственно, эмоционально. Такое восприятие обусловливает эмоциональный стереотип поведения. При этом каждая единичная социальная группа вырабатывает свой стереотип эмоционального поведения5, который становится основой мировоззренческого восприятия. Причем, наиболее универсальные мировоззренческие позиции вырабатывались в природных условиях взаимодействия общностей с различным стереотипом эмоционального поведения, эмоциональной культуры (термин Дэнисона). Примером такого рода может служить возникновение христианского мировоззрения в регионе восточного Средиземноморья. Такие мировоззренческие позиции в силу собственной универсальности обладают большой внутренней силой, способствующей их распространению на различные природные регионы, в каждом из которых они претерпевают со временем определенные изменения под влиянием особенностей эмоциональной культуры местных общностей. Таковым, например, может считаться раздробление христианства в Европе на различные протестантские течения (англиканство, лютеранство, кальвинизм).
122
Установление строгих закономерностей, предопределяющих размеры вероятного распространения действия того или иного фактора (природного, эмоционального, мировоззренческого), невозможно в силу существования множественности вариантов их взаимодействия, в силу действия дополнительно возникающего фактора, обусловленного накоплением результата взаимодействия во времени (т.е. в истории) и в каждом конкретном месте нескольких общностей с различной эмоциональной культурой, а также в силу подмеченной Н. Винером "взаимозависимости наблюдателя и наблюдаемого явления"6, что подразумевает неизбежное привнесение субъективности в характер такого рода установлений.
Из этого общего рассуждения можно сделать, тем не менее, некоторые выводы.
Во-первых, исходя из необходимости учета эмоционального фактора, понятие "цивилизация" может быть дополнено. Цивилизация, таким образом, представляет собой форму существования человеческого общества, которая определяется взаимодействием не только природного и мировоззренческого, но и эмоционального факторов. Вовторых, действие эмоционального фактора представляет собой явление более специфичного, единичного порядка в сравнении с фактором мировоззренческим. Иными словами, эмоциональный фактор лежит у истоков формирования социальных групп меньшего размера (например, отдельных этносов), в то время как мировоззренческий может распространяться на ряд взаимосвязанных социальных групп. Вместе с тем, действие эмоционального фактора во времени не прекращается. Оно оказывает воздействие на возникновение и развитие различного рода модификаций уже распространенного мировоззрения.
В-третьих, чем более сложное сочетание указанных факторов находится во взаимодействии, тем больший импульс развития получает человеческая общность, находящаяся в этом взаимодействии. При этом, однако, развитие не следует воспринимать как движение вперед по восходящей линии, а лишь как модификацию во времени. Тогда скорость развития представляет собой частоту модификаций во времени.
Опираясь на предложенный вариант определения "цивилизация", попробуем дать характеристику африканской цивилизации. При этом, необходимо оговориться, что характеристика будет касаться только центральноафриканских районов (без учета территорий, относящихся или тяготеющих в своем культурно-историческом развитии к Средиземноморскому бассейну) на момент, предшествующий активной европейской цивилизационной экспансии XIX в. Для удобства можно воспользоваться опытом сравнительного цивилизационного анализа (по линии Восток - Запад), содержащегося в работе В.С. Соловьева "Великий спор и христианство".
По характеристике основных факторов, оказывающих воздействие на цивилизации, и основным выработанным ею цивилизационным ценностям может быть составлена следующая таблица:
123
Данная таблица не претендует на завершенность, а лишь воссоединяет и противопоставляет основные качественные критерии, которые могут быть применены при описании различных цивилизационных структур. Из таблицы следует, что многие пункты графы второй (африканская цивилизация) в значительной степени переплетаются и родственны с графой третьей (восточная цивилизация). Так, например, по первичному определяющему критерию - "отношению к природе" - африканская цивилизация представляет собой, по сути дела, подвариант восточной цивилизации. Различие заключается в том, что для классических цивилизаций Востока, как правило, была характерна грандиозность занимаемых ими территорий, в то время, как африканские формировались в основном на небольших территориях, дисперсно, обладали невысокой плотностью населения и невероятно высоким уровнем мобильности - готовностью к миграции в случае резкого ухудшения экологического баланса. Последнее обстоятельство, впрочем, отнюдь не означает, что африканские территориальные цивилизационные комплексы не вели к природнопреобразовательной деятельности. Эта точка зрения в последнее время получила широкое распространение, хотя, на наш взгляд, она не вполне справедлива. Напротив, небольшие по размерам, чрезвычайно жизнеспособные и мобильные африканские общинно-экологические ритуально-управляемые цивилизационные комплексы занимались природнопреобразовательной деятельностью в размерах, продиктованных условиями, необходимыми для поддержания гармоничного состояния экосистемы в целом. Подтверждением наличия такого рода деятельности могут служить не только результаты многочисленных современных исследований, проведенных на Западе, но и широко известные факты о том, что в ранний период европейской колонизации, до введения законов, ограничивающих их экономическую активность, африканцы оказались не в состоянии мгновенно трансформировать свое хозяйство и обеспечить потребности в продовольствии всей многотысячной массы европейских иммигрантов7.
При определенном сходстве восточной и африканской цивилизации, позволяющем рассматривать последнюю как своего рода подвид первой, напрашивается вопрос, является ли африканская цивилизация низшей ступенью восточной или это самостоятельная разновидность, предполагающая некоторую законченность и совершенство формы? Исторический материал, насыщенный многообразными свидетельствами цивилизационного взаимодействия, не дает возможности ответить на этот вопрос достаточно убедительно. Остается только довольствоваться некоторыми предположениями. Прежде всего следует заключить, что абсолютно нереально прийти к однозначному ответу, т.е. вывести какую-либо "всеобщую закономерность". Наличие на африканском континенте останков "древних царств"8 говорит в пользу того, что некоторые общинно-экологические цивилизационные комплексы тяготели к развивающимся вариантам жизнедеятельности, в то время как другие, например, нуэрский, в силу своей своеобразной
125
законченности и гармоничности могли обладать повышенной статичностью.
Сравнительный анализ трех цивилизаций показывает, что западная цивилизация располагает большей преобразовательной активностью, сложившейся под воздействием природного и эмоционального факторов. Это обусловливает в последние два столетия ее возрастающее давление на другие цивилизации, вызывая общественные кризисы и катаклизмы в пограничных цивилизационных зонах. Повышенная преобразовательная активность западной цивилизации, имеющая следствием большую подверженность изменениям во времени, способствовала формированию той точки зрения, что эти изменения в целом имеют положительную и восходящую направленность (теория прогресса). Это,в свою очередь, и послужило причиной возникновения различных идей европоцентристского толка. Одним из излюбленных аргументов в поддержку данной позиции до сих пор остается сравнительный перечень великих людей, которых дали миру разные цивилизации, страны и народы. При таком подходе, действительно, африканская цивилизация оказывается в невыгодном свете.
Вместе с тем африканская цивилизация в своем классическом выражении располагает одним неоценимым свойством, изначально не присущим европейской цивилизации и являющимся тем вкладом, который каждая конкретная цивилизация внесла в фонд цивилизации глобальной. Этот вклад состоит в выработке и сохранении форм общественной жизни, позволяющих поддерживать главное условие, необходимое для выживания человека, - сохранение баланса во взаимоотношениях с природой.
Сможет ли человечество в рамках всемирной, глобальной цивилизации воспринять и плодотворно использовать разноречивое наследие таких цивилизационных направлений, как африканское и европейское, - вопрос, который на сегодняшний день остается одним из наиболее сложных.
Опыт последних десятилетий показывает, что положительный эффект взаимодействия может быть достигнут по крайней мере между Востоком и Западом. Примерами такого рода положительного взаимодействия могут быть Япония, Тайвань, Южная Корея. Впрочем, эффективность цивилизационного взаимодействия там не дает возможности сколь-либо определенно оценить надежность и долгосрочность такого взаимодействия; а ограниченность охваченных этим взаимодействием территориальных комплексов предостерегает от прогнозов в отношении возможной глобализации таких процессов. Тем более, что положительный эффект цивилизационного взаимодействия стал возможным на сегодняшний день лишь в тех общностях, которые обладают одной весьма специфической чертой эмоциональной культуры - способностью к кропотливому однообразному труду, не несущему в себе неограниченной преобразовательной самодеятельности, присущей европейской цивилизации.
126
Если в восточной цивилизации прослеживается по крайней мере два варианта отношения к труду, как составной части эмоциональной культуры, то африканская цивилизация в этом аспекте остается одноплановой. Вместе с тем, перспективы эффективности цивилизационного взаимодействия, по-видимому, в значительной степени зависят от подверженности изменениям именно этой характеристики в составе цивилизационных качеств.
Вопрос об эффективности цивилизационного взаимодействия тесно связан с вопросом о его интенсивности, столь возросшей, что многие полагают всемирную цивилизацию созданием нового или даже новейшего времени. Вместе с тем, если исходить из того, что человечество является единым биологическим видом (а географические расы, не представляя собой самостоятельных видов, являются вариантами одного вида9), то следует признать, что возраст общепланетарной цивилизации значительно больше и исчисляется с момента появления человека как существа разумного. Создание столь различных по своим внешним формам обществ существами, относящимися тем не менее по своей биологической классификации к единому виду, предполагает наличие в процессе этого создания некоего Первичного стимула, творческого начала Высшей силы. "От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли..." (Бытие 17; 26, 27). Именно это изначально данное единство человеческой природы оставляет надежду на успех поисков более гармоничных форм цивилизационного взаимодействия человечества.
1 Этому в немалой степени способствовала реализация разработанной в то время теории прогресса, ставшей идеологическим стимулом начинавшейся индустриализации. Существует и такая точка» зрения, что идеологическим основанием европоцентризма стало христианство, приведшее к культурному единению романо-германских народов и принявшее форму христианоцентризма. См. Журавский А.В. Христианство и ислам. 1990. С. 5.
2В ходе дискуссии по африканской цивилизации в 1990 г. в ИМЭМО нашлись сторонники точки зрения, утверждавшей, что "чем меньше природной детерминации, тем выше уровень цивилизации". Однако, если придерживаться последней, то египетская цивилизация, вся деятельность которой определялась годовыми циклами разливов Нила, таковой не являлась. Кроме того, сторонники такой позиции вряд ли могут предложить какой-либо реальный критерий количественной детерминации природного фактора. Ход развития евро¬
пейской цивилизации показал, насколько иллюзорной оказалась победа европейцев над силами природы.
3Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 33, 173,174.
ЛМчедлов М.Н. Социализм - становление нового типа цивилизации. М., 1979.
5Похоже, что впервые на эмоциональные основы цивилизации обратил внимание Дж. Денисон в своей книге "Emotion basis or civilization", написанной в 1928 г. Реферат этой книги на русском языке был сделан проф. Н. Никифоровым в Харбине в 1930 г. В соответствии с основными положениями своей теории, Дж. Дэнисон рассматривал единение людей как основное условие цивилизации. Это единение происходит по-разному в патриархальных и фратриархальных группах и поддерживается посредством особой эмоциональной культуры.
Движущей силой в развитии всякой цивилизации являются эмоции. Простейшей эмоцией является желание, побуждающее нас к достижению какойнибудь цели или действию. Противо-
127
положной эмоцией являются отвращение и ужас. Если затруднение, возникающее при достижении цели, безлично, то мы называем чувство, которое помогает нам преодолевать его, энтузиазмом, если небезлично, то возникает эмоция страха. Чрезвычайно важной эмоцией является желание вызвать одобрение, удивление. Противоположной является эмоция стыда, страха перед общественным мнением. Однако эмоции преходящи. Для закрепления их вырабатываются постоянные стимулы, их возобновляющие. Установление таких стимулов по Дж. Дэнисону называется эмоциональной культурой. Религиозная культура включаете себя эмоциональную: обы¬
чаи, язык и манеры, методы работы, основные положения права, предотвращающие рознь чувств и действий, а также ритуалы и церемонии.
6Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1968.
7См.: Ranger Т. The Africanoice in Southern Rhodesia. L., 1970.
8Древность эта весьма относительна. Так, существование Ифе относится к X-XIV вв., основание Бенинского царства - по одним данным, к VIII—IX вв., по другим - к XIII в., Мономотапы - к XV в.
9См.: Арутюнов С.А. Народы культуры: развитие и взаимодействие. М., 1989. С. 19.
ВМ. Алпатов
КУЛЬТУРНЫЕ АРЕАЛЫ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
Язык - важнейшая составная часть культуры. Поэтому каждая культурная традиция в той или иной степени включает в себя и лингвистическую традицию. В самых различных культурных ареалах создавались письменности, писались лингвистические трактаты, составлялись словари. Все это должно учитываться в культуроведческих исследованиях.
Как правило, при формировании некоторого культурного ареала на определенном этапе возникает собственная лингвистическая традиция, включающая в себя совокупность письменных или устных текстов (словари, грамматики, учебные руководства, фонетические таблицы и т.д.), описывающих для тех или иных практических целей языковые явления и выражающих представления о языке, принятые в данной культуре. Лишь в наиболее древних культурах (Древний Египет, Древняя Месопотамия) такие представления не нашли эксплицитного выражения, хотя косвенно как-то отражались, и прежде всего при создании письменности. Уже в I тысячелетии до н.э. в трех обособленных друг от друга культурных ареалах: античном, индийском и китайском - создаются три самостоятельные лингвистические традиции. Позднее формирование нового культурного ареала обычно бывало связано с созданием или обособлением собственной лингвистической традиции. Так, одним из компонентов формирования арабомусульманской культуры было возникновение арабского языкознания, достигшего высокой степени развития всего за столетие. Окончательное выделение Японии из китайского культурного ареала в период
© В.М. Алпатов 128
"закрытия страны" (XVII - первая половина XIX вв.) было очень тесно связано со становлением национальной лингвистической традиции, противопоставленной ранее господствовавшей китайской. Тот же процесс, по-видимому, происходил в Тибете и ряде других районов.
Каждая из лингвистических традиций может изучаться в трех аспектах. Во-первых, это историко-филологическое изучение: установление критических текстов лингвистических трудов, их публикация и комментирование, датировка тех или иных сочинений, выяснение биографий их авторов, степени самостоятельности и т.д.; такое изучение составляет фундамент для любого другого. Во-вторых, это лингвистическое изучение: исследование отражения в традиции тех или иных проблем языкознания, связи между традицией и строем изучаемого языка. В-третьих, культуроведческое изучение. Сюда относится рассмотрение лингвистических трудов в общекультурном контексте соответствующей эпохи, изучение их связи с философскими, религиозными, политическими и прочими идеями, связи лингвистической традиции с особенностями культуры соответствующего ареала, проблем культурных влияний и взаимовлияний и т.д.; сюда же, вероятно, можно отнести и семиотическое изучение традиций. Культуроведческому изучению отдельных лингвистических традиций за последние десятилетия посвящено довольно большое число работ, однако исследователи разных культурных ареалов обычно обособлены друг от друга, сопоставительных исследований довольно мало. В данной статье мы хотим лишь наметить некоторые черты сходства и различий лингвистических традиций, занимаясь скорее постановкой вопросов, чем их разрешением.
Безусловно, различные традиции имеют универсальные или общие черты, не связанные единством происхождения. Они связаны как с универсальными свойствами человеческого языка, так и с общностью целей и задач в процессе культурного развития. Всем традициям, исключая европейскую на поздних ее этапах, свойственны по крайней мере три общие черты. Первая из них - практическая направленность. Описание языка всегда связано с конкретными целями, хотя значимость той или иной цели (обучение грамоте, правильному произношению, толкование древних текстов, стихосложение) в разных традициях может быть неодинаковой. Вторая черта - ориентация на описание одного языка. Таким языком всегда был культурный язык данного ареала: греческий, латинский, санскрит, классический арабский, вэньянь в Китае, бунго в Японии и т.д. Как правило, это не был родной язык исследователя и мог сильно от него отличаться (например, крупнейший представитель арабской традиции Сибавейхи по происхождению был персом); часто вообще этот язык не был никому известен без специального обучения. Существование других языков обычно игнорировалось, сопоставительные исследования либо существовали на периферии традиции (Макробий, Махмуд Кашгарский), либо отсутствовали вообще. Третья черта - чисто синхронный характер. Язык культуры рассматривался как данный человеку свыше и
5. Цивилизации. Выл. 3
129
неизменный во времени. Исторические изменения, если вообще замечались, то однозначно оценивались как "порча" языка, подлежащая устранению.
Все традиции, кроме европейской, сохранили эти черты вплоть до вторичной европеизации в XIX-XX вв. В Европе при переходе от Средних веков к Новому времени эти принципы стали меняться, что можно объяснить культурными причинами. Еще схоласты в XIII в. начали отделять "философские грамматики", не связанные с решением каких-либо практических задач, от учебных. Начиная с гуманистов появляется идея о том, что язык меняется со временем; впрочем, до XVIII в. она мало влияла на преобладающие типы лингвистических описаний; позднее, однако, идея историзма, вообще основополагающая для европейской культуры XIX в., на время подчинила себе всю науку о языке. Но, пожалуй, наибольшее значение имела идея о множественности языков и возможности их сопоставления. В позднесредневековой Европе сложилась особая ситуация: шло формирование национальных государств при том, что ни одно из них не имело ни политического, ни культурного преобладания перед всеми другими; культурное единство сопровождалось большим сходством языков единой индоевропейской семьи. После того, как латынь стала терять господствующее положение, языки Европы начали рассматриваться как равные; в то же время их большое сходство (как материальное, так и структурное) интерпретировалось как принципиальное единство устройства человеческого языка при частных поверхностных различиях. Такие идеи были невозможны в культурно превосходивших соседей-варваров Китае и античной Греции или в обособленной от мира Японии. Европейские грамматики даже в XVIII в. были намного ниже уровнем, чем грамматика великого индийца Панини, созданная более чем на два тысячелетия раньше. Но идеи о единстве человеческого языка и о сопоставлении множества языков создали "открытость" европейской традиции и возможность ее применения для описания любого языка.
Наряду с общими чертами традиции имеют и существенные различия. Они могут быть обусловлены различиями строя описываемых языков. Например, в традициях, связанных с языками, имеющими сложную морфологию, разграничены два типа описания: словарь и грамматика; но лишенный морфологии вэньянь не требовал этого, и китайская традиция пошла по пути словарного представления почти всей лингвистической информации. Но причины могут быть и культурными. Так, санскрит и древнегреческий язык не только родственны, но и типологически очень близки; тем не менее европейская и индийская традиция резко различаются во многих отношениях.
Одним из культурных различий следует считать разное отношение к письменности. На одном полюсе здесь находился Китай с его почти религиозным отношением к письменному знаку; в китайской культуре истинным считалось лишь то, что записано. Эти представления передались и Японии. Обратное представление было свойственно Индии,
130
где высочайшая культура создалась задолго до формирования письменности и устная форма передачи знания считалась наиболее адекватной. Европейский и арабский мир занимал здесь промежуточное положение, хотя в соответствующих традициях все же наблюдается крен в сторону письменной формы языка.
Прежде всего разную манифестацию имела сама лингвистическая деятельность. Везде, кроме Индии, сочинения по вопросам языка писали, но великая грамматика Панини, по-видимому, была создана в устной форме, таким же образом передавалась из поколения в поколение и лишь через несколько веков была записана. По-разному воспринимался и объект изучения. Вэньянь, бунго, средневековая латынь в основном функционировали на письме, представители соответствующих лингвистических традиций в той или иной степени занимались установлением и поддержанием орфографической нормы, однако никакой орфоэпии даже имплицитно не существовало, произношение текстов могло быть весьма различным. Иной подход был у арабских ученых. Их традиция формировалась в период интенсивного распространения арабской культуры и мусульманства среди неарабского населения; одновременно ставились задачи научить читать и произносить текст Корана. Поэтому важным было установление как орфографических, так и орфоэпических норм, а фонетика была развитой областью исследования. В Индии объектом описания также были почти исключительно устные тексты, изучение письменных памятников возникло позже и находилось на периферии интересов науки.
Устный характер индийской традиции приводил ко многим менее очевидным следствиям, противопоставлявшим ее другим традициям. Если исходная данность - множество письменных текстов, в той или иной степени обозримых, то наиболее естественная задача - проанализировать эти тексты, разделить на единицы, выявить свойства этих единиц и т.д. Аналитический характер имели все традиции, кроме индийской; в европейском языкознании ориентация на анализ господствовала до 60-х годов XX в. Задача синтеза, построения текстов либо не ставилась, либо выносилась за пределы лингвистики: в Европе ею занималась другая дисциплина - риторика - с иными, гораздо менее жесткими правилами. В Индии же ставилась обратная задача: построение канонических текстов из исходных единиц (звуков, корней, аффиксов) по определенным правилам. "Порождающий" характер правил был связан с представлением о языке как о закрытой системе, строго исчерпывающейся правилами; перечни элементов почти не допускают указаний типа "и т.д.", столь обычных и привычных для нас грамматиках. В других традициях, где исходны не правила, а тексты, язык представляется как открытая система, где всегда что-то может быть не учтено (такое представление, несомненно, помогло в дальнейшем ввести в европейскую традицию идею исторической изменчивости языка). Открытость описываемой системы и ориентация на анализ ведут к желательности текстуальных подтверждений для выдвигаемых положений; поэтому такое место в разных традициях от европейской
5*
131
до японской занимают иллюстрации примерами, хотя грамматика Панини вовсе лишена примеров. Устная форма бытования лингвистических текстов в Индии привела к жесткому и прямо формулированному требованию простоты и краткости правил; с этой точки зрения грамматика Панини - образец, который вряд ли можно превзойти. Но если лингвистический труд пишется, его большая длина, наоборот, нередко считается достоинством (сравни многотомную грамматику Присциана и столь же длинные труды японских филологов XVIII-XIX вв.)
Другим явным влиянием культуры на лингвистическое описание можно считать разное отношение к норме в связи с наличием или отсутствием набора сакральных текстов. Если традиция сама строит тексты, то вопрос о нормативном тексте не требует обсуждения: норме соответствует все написанное. Не требует обсуждения вопрос об отборе нормативных текстов и тогда, когда эти тексты сакральны: Коран в арабской традиции, Библия в европейской традиции средних веков. Однако при этом встал вопрос о неполноте исходного набора: для арабов нормой было все имевшееся в Коране, но какие-то слова и формы, необходимые для общения, там могли случайно отсутствовать. Поэтому нужно было дополнять норму; поскольку в период расцвета арабской традиции язык Корана еще не сильно отличался от разговорного, то использовалось наблюдение над языком тех бедуинских племен, которые считались носителями наиболее чистого языка. Для Западной Европы средних веков такой путь был невозможен, поэтому источником дополнения нормы служила объемистая позднеантичная грамматика Присциана. В культурах, где не было жесткого канона сакральных текстов (Китай, Япония), стояла другая проблема: как отобрать хорошие тексты. Эта же проблема вышла на первый план и в Европе, начиная с эпохи Возрождения.
Культурные причины расхождения традиций находятся довольно близко от поверхности. Дальнейшее исследование сможет выявить более глубинные связи, о которых пока трудно говорить достоверно. Иногда возникают вопросы, на которые сейчас сложно дать ответ. Например, сформировавшаяся в конце XVIII - начале XIX в., еще в период "закрытой страны", японская грамматика имеет некоторые черты, особо сходные с европейской традицией (трактовка спряжения, системы частей речи). Что это: случайное сходство, отражение типологически общих черт языков или какая-то культурная параллель? Совсем не изучено влияние языка на культуру, хотя широко известны предположения на этот счет у В. Гумбольдта, Б. Уорфа и др. Это влияние может быть как неосознанным через лингвистическую интуицию носителя языка, так и осознанным через сложившуюся лингвистическую традицию и основанное на ней школьное обучение.
Различия культур проявились и в процессе европеизации восточного языкознания, начавшегося в XIX в. Японская культура по окончании периода "закрытой страны" оказалась наиболее подготовленной к восприятию западных идей при сохранении некоторого устойчивого
132
национального инварианта. Поэтому чисто традиционное языкознание исчезло очень быстро, но не произошло и полной европеизации. Сложился некоторый синтез традиций, при котором многие особые свойства японской традиции, существовавшие до европеизации лишь в потенции, под европейским влиянием развились и эксплицировались. Похожий процесс шел и в Китае, но традиционные черты в большей степени, чем в Японии были утеряны. В Индии и арабских странах синтез культур проходит с большим трудом. Лингвисты этих регионов либо оставались в рамках вековых традиций, либо целиком европеизировались. Лишь в самое последнее время в Индии начали появляться попытки синтеза традиций.
Н.Ю. Бокадарова
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ
Важнейшей характеристикой цивилизации и культуры является лингвистическая, или языковедческая традиция. Еще Ф. Гизо в своих знаменитых курсах "История цивилизации в Европе" и "История цивилизации во Франции"1 связывал саму идею цивилизации не только с социальным состоянием общества, но и с развитием его интеллектуального состояния (l'etat intellectuel). Интеллектуальное состояние общества тесно связано с развитием в этом обществе словесной культуры. В истории мировой литературы хорошо известны факты священного отношения к слову, возводящие речь и разум в их единстве к животворящему началу человеческой цивилизации. "Логос" древних и отношение к его природе определяли самую суть древнейших языковедческих традиций2. Основные различия в отношении к слову-логосу сложились еще в Древнем Мире и во многом определили различие древних цивилизаций и культур. Такие крупнейшие и важнейшие цивилизации древности, как индийская, китайская и греко-латинская, резко различались по типу отношения к Слову. В отличие от древнеиндийской традиции, объявившей санскрит сакральным языком "божественного происхождения", греко-латинская традиция искала источники "правильности" речи в самом языке и в логике познания мира через язык"3.
В эпоху становления древнегреческой философии возник и впоследствии на греко-латинской почве укрепился "дух демократизма, свободных философских дискуссий", естественно определивший собой "отсутствие единого государственного авторитета в вопросах языкового нормирования"4. Широко известно, что европейская языковедческая традиция исторически восходит к греко-латинской и что она возникла после крушения Западной Римской империи в эпоху евро-
© Н.Ю. Бокадарова
133
пейского средневековья. Строго говоря, европейская языковедческая традиция объединяет в себе две во многом различные традиции: западноевропейскую, связанную в первую очередь с романо-германским миром, и восточноевропейскую, восходящую к греко-византийскому миру. При этом восточноевропейская традиция уже на ранних этапах своего развития проявила тенденции к значительному варьированию на базе различных народных культур и языков. Так, например, грузинская и армянская лингвистические традиции на самых первых этапах своего возникновения и развития во многом отошли от своих греко-византийских истоков не только по характеру письма, но и по ряду сакральных вопросов, связанных с природой языка и отношением к литературно-письменной культуре.
Ранние славянские литературно-письменные традиции были тесно связаны с греко-латинской традицией, но, тем не менее, пользовались собственными алфавитами и создавали свою редакцию книжной канонической литературы.
В отличие от восточноевропейских изводов западноевропейская лингвистическая традиция до Возрождения была практически единой. Она сложилась и существовала на базе так называемого тривия: латиноязычных грамматик, риторик (включая поэтики), а также логических учений ("диалектик”)5.
Западноевропейская языковедческая традиция была в то время (классическое средневекбвье и предренессанс) латиноязычной и действительно единой для всей романо-германо-кельтской Европы. Единый язык и единая система обучения делали границы между государствами и княжествами чисто символическими для учености и культуры в целом. Но в XV-XVI вв. происходят удивительные изменения, характерные, кстати, только для Западной Европы. Эти изменения связаны прежде всего с коренной ломкой представлений о человеке и его месте во Вселенной, и в первую очередь, с ломкой представлений о единой мирокосмической системе человеческого знания, отражающей макрокосмические законы Вселенной, имеющие божественную сущность. В ренессансный период человек получает психологическое право выходить в макрокосм, к Богу, не через сложную каноническую архитектонику католического обряда, а непосредственно сам, вне латиноязычного канона, на своем родном, народном наречии. Именно в ренессансный период вспыхивает острый интерес не только к языкам на народной основе, но и к греческому языку как живому источнику европейской культуры и учености.
В этот период активно создаются грамматики языков на народной основе, что приводит к необходимости пересмотра самих основ грамматики применительно к описанию каждого "народного" языка. Развиваются тенденции к обособлению грамматических традиций в пределах национальных государств. Это приводит к тому, что начинают всячески поощряться исследования, связанные со спецификой грамматических и лексических единиц различных языков, наблюдениями над
134
их особенностями. Создаются национальные языковые академии в Италии, Испании, Франции, делаются многочисленные попытки создания академии языка в Англии6.
Центробежные тенденции в западноевропейской культуре в эпоху Ренессанса приводят не только к рождению национальных языковедческих традиций в Европе, но и к созданию и укреплению стереотипов "антагонйстов" в области языковой политики и отношения к языковой норме. Создаются определенного рода фантомы европейской культуры и цивилизации, на почве которых возникают весьма любопытные явления. Так, уже в XVII-XVIII вв. в Европе закрепилась идея об "антагонистичности” французской и английской традиций отношения к языку и к его нормированию. Возможно, что толчком здесь послужила относящаяся к XIV-XV вв. активная борьба между английским и французским языками при английском дворе, окончившаяся победой английского литературного языка. Возможно, что французский язык, как язык, претендовавший в XIII-XV вв. на роль общеевропейского куртуазного языка, вызвал в эпоху кризиса средневековой придворной культуры и активного становления национального самосознания и национальных культур стремление бороться против влияния Франции в области нормирования языка. Все это так, и несомненно, что лингвистические "антагонисты" рождались вполне закономерно. Интересно, что сама Франция в XVI в. даже и не пыталась претендовать на роль законодательницы европейской языковой "моды", а сама поддалась в XVI - начале XVII вв. итальянскому влиянию при дворе и моде на итальянский язык. "Защита и прославление" французского языка в XVI в. протекали на фоне преклонения перед ренессансной Италией и ее культурой. Как тут не провести аналогии с весьма изощренной линией создания культур "антагонистов" у мадам де Сталь в ее "Корине...".
Романтизму как антагонисту двухтысячелетней европейской риторической культуры нужна была опора в истории европейской цивилизации, и он нашел ее (в лице своих теоретиков) в оппозициях "романский мир - германский мир", "подлинная историческая Античность - внеисторические декадентские попытки имитировать величие древних" (так можно суммировать идеи мадам де Сталь, Виктора Гюго и других теоретиков романтизма7).
Романтизм в Европе знаменовал собой не только новое течение в искусстве и литературе, но коренную перемену в самих принципах восприятия и видения мира. В области искусств речи и наук о языке это означало полную смену парадигмы словесной культуры8. Более чем двухтысячелетняя европейская риторическая культура рушилась на глазах у современников, и основной мишенью критики стала французская литература эпохи классицизма и Французская Академия. Это было связано с тем, что именно Франция XVII-XVIII вв. дала Европе дыхание "второго рождения европейского рационализма"9 и сформулировала языковые идеалы позднеевропейской риторической культуры. В области языковой нормы Французская Академия задала тон
135
жесткой регламентации и тщательной обработке словаря и следования грамматическим нормам. При этом французы воспринимали свою словесную культуру и свою "модель” языковой нормы, как принципиально универсальную. Для французской литературной культуры XVIII в. казалось само собой разумеющимся, что именно она наследовала традиции греко-римской античности. Автор знаменитого "литературного словаря" XVIII в. аббат де Кастр писал в предисловии к своему труду, что "это отнюдь не я, кто наставляет моих читателей, это Аристотель, Цицерон, Квинтилиан, Фенелон, Роллен и т.д. Это Гораций, Корнель, Расин, Депрео (Буало), Мольер, Ж.-Б. Руссо, Вольтер, д'Аламбер..."10.
Таким образом, еще в 70-80-е годы XVIII в. для французской цивилизации было характерно представление о том, что она является общеевропейской, что французский язык и литература по праву наследовали дух и богатства античной словесной культуры, что именно они сумели сохранить и приумножить их. И вдруг через несколько десятилетий те же французы начинают чувствовать антипатию к такого рода позиции, высмеивать ее. В воображении "романтиков" возникает образ "академика", представителя старой риторической культуры, принадлежащего по инерции и в силу своего консерватизма к ушедшей в прошлое "классической" французской цивилизации. Этот "академик" смешон в глазах "романтиков" уже хотя бы потому, что ему чуждо представление о возможности существования цивилизованной Европы вне Франции и независимо от нее. Идеи универсализма и единой европейской культуры, основанной на французской модели XVIII в., для "романтика" - не более, чем историческая случайность. "Случаю было угодно поручить Вам, парижанам, создать литературные репутации в Европе... Все добропорядочные писатели не только во Франции, но и во всей Европе льстили Вам для того, чтобы получить от вас взамен немного литературной славы; и то, что вы называете внутренним чувством, психологической очевидностью, не что иное как психологическая очевидность избалованного ребенка, другими словами, привычка к лести..."11 - с такими словами обращается к "академику" "романтик" у Стендаля.
Французская цивилизация в Европе XVII-XVIII вв. играла роль наследницы и патронессы всей этой, восходящей к греко-римской античности цивилизации. Она простирала свое влияние на светскую культуру и образованность всей Европы, в том числе и грекославянскую. Само по себе это явление хорошо известно, хотя, на наш взгляд, проанализировано лишь поверхностно, и по сути, несмотря на значительное количество исследований, остается весьма загадочным. Вполне вероятно, объяснение этому следует искать в том, что гуманитарные науки с 20-30-х годов XIX в. развивались под влиянием идей романтизма и неизменно оценивали эти идеи как верные и прогрессивные. И даже тогда, когда романтизм в европейской культуре завершил миссию ниспровергателя идеалов "классицизма", а фактически - всей европейской риторической культуры, историография
136
европейской цивилизации оставалась на позициях, выдвинутых романтиками. Так было в истории литературы, в истории языкознания, в истории материальной культуры.
Например, такая черта литературы, как "народность”, считалась в истории литературы несомненно положительной в отличие от следования образцам, правилам и жанрам "риторической культуры". Абсолютным достижением европейской литературы считалось то, что она в XIX в. наконец-то сумела порвать с канонами "классицизима" и вырваться из-под "гнета" "старой" поэтики и риторики. Как абсолютная истина цитируются слова В. Гюго о том, что "скоро все поймут, что писателя нужно судить не с точки зрения правил и жанров, которые находятся вне природы и вне искусства, но согласно неизменным законам этого искусства и особым законам, связанным с личностью каждого из них"12. Такого рода слова и мысли и сейчас кажутся вполне справедливыми и естественными для уха современного европейца или, скажем, американца, получившего образование в университете, коллеже или лицее.
Парадоксальным образом современная европейская цивилизация, сложившаяся благодаря единству "аристотелевского цикла", канонам тривия и квадривия и до сих пор существующая благодаря тому, что эти каноны имплицитно содержатся во всей системе европейского образования, на эксплицитном уровне подвергает эти каноны постоянным нападкам и критике в духе романтизма. Не менее парадоксальным образом европейская школа всячески дезавуирует свои реальные истоки и отказывается от изучения оригинальных текстов основателей европейской цивилизации. Наличие классического образования несколько смягчает картину небрежения светскими и научными источниками европейской цивилизации, но не меняет ее в целом, так как "основатели" изучаются просто как "античные авторы", в одном ряду с другими авторами античности.
Особенно ярко проявляется указанный парадокс европейской цивилизации в отношении к языковой норме, как понятию и как к идеалу культуры. Именно к романтикам восходит представление о том, что изучение языка в европейской традиции до начала XIX в. (а именно, до возникновения сравнительно-исторического метода) было "ненаучным" или "донаучным". Традиционные "искусства речи" (грамматика, риторика и "диалектика", или логика) отрицались в романтической историографии с тех же позиций, с которых отрицалась вся культура "классицизма". В ранг постулата науки о языке был возведен принцип так называемой "объективной точки зрения на язык" в отличие от "нормативной" точки зрения13.
Таким образом, все нормативные описания языка, а заодно и сами нормативные установки на "правильный" и "литературный" языки, объявлялись чисто произвольными и выводились из научного языкознания. Вместе с тем природа человеческой цивилизации и культуры связана с достаточно жесткими и определенными "правилами" языковой коммуникации и нормативными установками. Сам феномен ли¬
137
тературного языка и постоянного внимания общества к его "чистоте" и "правильности" (при всем многообразии исторических и национальных проявлений) свидетельствует о цивилизационной значимости языковых идеалов в обществе. Когда эти идеалы существуют в виде определенных, никак не камуфлируемых канонов, как это было в эпоху "риторической культуры" (до конца XVIII в.), "слово, знание и мораль" могут существовать и преподаваться в единстве". Нет и не может быть никакого противоречия между "объективной" и "нормативной" точками зрения на язык, просто-напросто такой оппозиции не существует.
Становление основных западноевропейских национальных литературных языков происходило в период господства "риторической культуры", хотя завершилось уже в эпоху романтизма. Обращаясь к истории литературных языков, языковеды зачастую переносят на нормализационные процессы, протекавшие в этот период, современные представления о норме, нормализации и их роли в функционировании языка. Это приводит к неадекватной оценке этих процессов. Нормирование языков видится как процесс регламентации обихода, причем регламентации достаточно произвольной, надуманной, "пуристической" и т.д.
Но законы "языкового обычая" на самом деле не могут произвольно нарушаться в литературном языке. Заботой каждой национальной культуры и цивилизации является постоянное движение литературного языка к языковому обычаю, могущее, правда, выражаться в различных национально-исторических формах. Так, для Франции XVII-XVIII вв. самым важным было возрождение "искусств речи" древних на почве французского языка, создание "разумного" и отточенного языкового обычая, способного преодолеть национальные границы и вступить "во вневременный диспут" с основателями европейской цивилизации14.
Авторы "Грамматики общей и рациональной Пор-Рояля" (1660 г.) писали, что "для тех, кто работает над описанием живого языка, должна стать правилом следующая максима: обороты речи, принятые в общем обиходе, следует оценивать как хорошую речь, даже если они противоречат правилам и принципу аналогии. Но при этом не следует приводить их для доказательства опровержения правил и нарушения аналогии. В противном случае в описании языка неизбежно будут рекомендованы к употреблению такие образцы речи, которые обиходом не допускаются"15.
Рациональная возвышенность и диалектическое единство "разума" ("правила", "принцип аналогии" и т.д.) и "обихода" в их постоянной борьбе определили направление процессов нормирования французского языка в эпоху становления его национальных норм. Именно поэтому для французской цивилизации наследие "риторической культуры", сохранившееся в текстах XVII-XVIII вв., играет до сих пор огромную роль. Академик Л.В. Щерба писал о том, что "богатство литературного языка определяется богатством всей еще читаемой
138
литературы”16. Во Франции поле активно читаемой и изучаемой в системе образования литературы начинается с Расина. Поэтому во французской цивилизации постоянно наблюдаются "рецидивы" "риторической культуры" (рождение неориторики, появление особого типа текстовой "толковательной культуры" и т.д.).
Если же обратиться для сравнения к русской культуре, то роль текстов "риторического" ее периода для современной русскоязычной цивилизации гораздо меньше, чем для французской. Во многом это объясняется тем, что поле "активно и широко читаемой русской литературы начинается в наши дни (такое положение сложилось сразу после 1917 г.) от А.С. Пушкина17. Феномен Пушкина в русской литературной культуре знаменует собой переход от "риторической" культуры слова к новому, антирационалистическому типу, и одновременно - завершение процессов формирования основных норм русского национального литературного языка. В русской культуре 10- 30-х годов XIX в. как бы в ускоренном темпе протекали те процессы, которые французская литературная культура переживала с эпохи Расина до начала XIX в. Не случайно Ю.Н. Тынянов назвал литературную эволюцию А.С. Пушкина "катастрофической"18.
Академический принцип нормирования французского языка в XVIIXVIII вв. с его "вневременным состязанием" с древними привел к свободно-рационалистическому ограничению словаря, к достаточно жесткой нормированности грамматики. Законам ясности и правильности должна была подчиняться и орфография, неоднократно реформированная в XVII-XVIII вв. Французская Академия сама выбрала и канонизировала "классических" французских авторов. Это были авторы эпохи Людовика XIV, в первую очередь Буур, Депрео (Буало), Расин, писавшие "элегантно и правильно"19. Вольтер, этот критик и ниспровергатель традиций, высказывал вместе с тем пожелание, чтобы французская Академия "довершила" процесс окончательного оформления бесспорных языковых норм, дав "исправленные издания классиков с грамматическим комментарием"20.
Столь жесткое академическое отношение к языковым нормам всегда претило англичанам, считавшим вообще, что дух лингвистического академизма противоречит духу "английского демократизма".
Попытки создания английской языковой академии успехом, как известно, не увенчались. Не стали англичане реформировать и свою орфографию. Словари, начиная со словаря доктора Джонсона (1755 г.), отражают все богатство языкового обычая английского языка с XV в. В отличие от французских академиков, ориентировавшихся только на писателей-классиков, английская традиция относится к цитате, как к "документальному свидетельству о наличии данного слова в языке. Именно поэтому, объясняет Джонсон, иногда приходится брать цитаты из произведений писателей, которых не назовешь "мастерами элегантности или стиля"21.
В Англии, как и во Франции в эпоху становления национальных литературных языков, в литературе, грамматике, риторике и поэтике
139
боролись различные взгляды и течения. В итоге Франция выбрала путь универсальных европейских моделей риторической культуры, Англия же отказалась от претензий на "общеевропейское”, выбрав в языке и литературе собственный путь. Поэтому английский язык и литература гораздо легче и естественнее пережили романтическую революцию в литературной культуре, только укрепившую авторитет их "классика" В. Шекспира.
1Гизо Ф. "История цивилизации в Европе (русск. пер. М. 1860,1862 и 1892); Он же. История цивилизации во Франции (русск. пер. М., 1977).
2Бокадарова Н.Ю. Античная языковедческая традиция // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 35.
^ам же. С. 35.
*Там же.
ъБокодарова Н.Ю. Европейская языковедческая традиция // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. С. 146.
6Ступин Л.П. Проблема нормативности в истории английской лексикографии. Л., 1979. С. 85-94.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
8См.: Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 7-14; Михайлов А.В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII-XIX вв. // Античность как тип культуры. М., 1988.
9Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма // Вопросы философии. 1989. № 1. С. 3-13.
l0Castres, ГаЬЬё S. de. Dictionnaire de Пйёrature. Р., 1770. Т. 1. Р. XII.
1 Литературные манифесты западноевро пейских романтиков. М, 1980. С. 475.
12Там же. С. 458.
13Сц. об этом: Бокадарова Н.Ю. Пробле мы историологии грамматики // Res Philologica. М.; Л., 1990. С. 98-110.
14С.С. Аверинцев полагает "важным для самосознания всей логико-риторичес кой культуры принцип состязания, т.е. как бы вневременного диспута... со своими отдаленными во времени собратьями" (Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма. С. 11).
15Грамматика общая и рациональная ПорРояля. Перевод с франц. М., 1990. С. 141.
16Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 135.
17Интересно было бы проанализировать возможные изменения в этой ситуации, связанные с переизданием трудов Н.М. Карамзина, М.В. Ломоносова и других "допушкинских" авторов.
1%Тынянов Ю.Н. Пушкин // Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 165.
l9Castres, Tabbe S. de. Op. cit. Т. 1. Р. 231.
20Ibid.
21 Ступин Л.П. Указ. соч. С. 102.
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА
Л. С. Васильев
ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА: СПЕЦИФИКА, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Понятие "цивилизации Востока" - в отличие от необычайно емкого и полисемантичного "цивилизация" - имеет конкретный и всем понятный, общепризнанный смысл. Это хорошо фиксируемый историей социокультурный феномен, имеющий отношение не столько к географии или этнографии, сколько к религии и тесно связанной с ней, определяемой ею этико-культурной традиции, в конечном счете - к привычной системе ценностей, мировоззрению, образу жизни, стереотипам поведения большой группы людей. Стоит сразу же оговориться: существуют и иные группы людей, отличающиеся от всех остальных и образом жизни, и нравами, и стереотипами поведения, и мировоззренческими приоритетами. Наиболее характерные группы такого рода - этносы, народы. Они являются объектом изучения этнографов, антропологов. Но при всей своей специфике практически каждая из этих групп - племен и народов - включалась историей, во всяком случае постпервобытной, в большие по масштабу группы.
Вопрос о том, как именно это происходило, весьма сложен. В некотором смысле ответом на него является сама история человечества со всеми ее запутанными перипетиями, созданием государств, а то и больших империй, массовыми миграциями и насильственными перемещениями людей, расцветом одних народов и крушением, уходом с исторической сцены других. Итогом всех этих процессов, сопровождавшихся взаимовлиянием культур, было формирование неких сравнительно крупных историко-культурных общностей, своего, род а прототипов цивилизационных зон. Собственно же цивилизации выкристаллизовывались на этой базе не сразу и не автоматически, к тому же и не одинаково. Одним из путей было медленное вызревание на той или иной обширной территории неких генеральных принципов религиозно-культурной традиции, охватывавшей своим воздействием практически все те народы, которые оказывались в орбите ее влияния. Так сложился индуизм в Индии. Примерно таким же образом формировалась конфуцианская цивилизация на Дальнем Востоке. Другим путем было сложение вне данной территории либо на ее периферии, причем из заимствованных элементов и принципов, новой религиозно-
© Л.С. Васильев
141
культурной традиции, энергично распространявшейся затем вширь и цивилизационно подчинявшей себе народы этой территории. Так появился в свое время буддизм, позже - ислам. То же самое можно сказать и о латиноамериканской цивилизации, социально-генетически родственной Востоку.
Цивилизаций, о которых идет речь, немного. В отличие от А. Тойнби, который ввел в науку несколько иной принцип членения и потому насчитал их в истории человечества около трех десятков, я бы выделил их намного меньше. Если оставить в стороне Европу и Латинскую Америку, цивилизационно находящуюся как бы между Востоком и Европой, а также не выделять в качестве особого цивилизационного образования конгломерат стран и народов древнего Ближнего Востока с их весьма неопределившимися религиозно-культурными цивилизационными параметрами (это же, естественно, относится и к полупервобытной Африке), то великих в полном смысле этого слова цивилизаций Востока окажется только три. Это арабо-исламская, индобуддийская и конфуцианско-дальневосточная. Именно они, заметно в целом противостоя Западу, олицетворяют Восток на протяжении достаточно длительного времени. Это и есть по преимуществу, - если не исключительно -, тот Восток, который в нашем историческом и цивилизационном сознании всегда сопрягается с Западом. Каков же он, этот Восток? Что характерно для него в целом, и чем отличается каждая из его великих цивилизаций?
Сначала о Востоке в целом. Начать следует с того, что внутренняя социальная, политическая и экономическая структура принципиально отлична от того, что характерно для Запада, начиная с античности. Гениально проанализированная Гегелем и Марксом, эта структура с ее приматом государства и аппарата власти и приниженностью ("поголовное рабство") индивида есть олицетворение того самого командноадминистративного строя, который дожил до наших дней и, более того, достиг своего зенита в форме тоталитаризма XX в., прежде всего в нашей стране и с ее марксистско-ленинским социализмом в его сталинской модификации. Этот строй изменялся на протяжении тысячелетия, обретал различные конкретные формы, но оставался неизменным по сути и не имел внутренних потенций к эволюции. Только раз в истории в результате своего рода социальной мутации на базе этого строя в уникальных природных, социально-политических и иных обстоятельствах возник иной, рыночно-частнособственнический, в его первоначальной античной форме. Оба строя на протяжении веков сосуществовали, подчас активно взаимодействовали (эллинизация, романизация и христианизация Ближнего Востока с завоеваний Александра до триумфа ислама или период европейского средневековья с господством на большей части поверженной античной Европы восточных по социальному генотипу германских и родственных им племен и государств), но при этом Восток продолжал оставаться Востоком с непременным господством в нем командно-административной структуры, а в Европе о наследии античности никогда не
142
забывали. Период европейского Ренессанса как раз свидетельствует об этом, равно как и городская жизнь в городах Европы, структурно отличных от неевропейских. Свою роль - и немалую - сыграла в судьбах Европы ее религия, христианство, открывшая простор для самосовершенствования индивида и тем способствовавшая, пусть и не непосредственно, косвенно, - возрождению активной рыночно-частнособственнической структуры в ее наиболее совершенной, капиталистической модификации.
Европейская рыночно-частнособственническая структура, с характерными только и именно для нее правами, гарантиями и привилегиями свободного гражданина, ничем не ограниченной энергией, инициативой и предприимчивостью закаленного в рыночной конкурентной борьбе собственника-индивида, с подчинением правового по принципам организации государства развитому и контролирующему аппарат власти гражданскому обществу, столь же принципиально отлична от восточной командно-административной системы, как и христианство от всех восточных религий. Только антично-христианская цивилизация Европы имела внутренние потенции для динамического развития, ибо давала простор для развития всех потенций человека, открывала путь перед любым, обладавшим достаточными для этого энергией, способностями, устремлениями.
Сформировавшиеся в условиях господства командно-административной структуры великие цивилизации Востока дать все это человеку не могли, что называется, по определению. Объем социальных, экономических и политических прав на Востоке был строго ограничен^ всевластием государства и его административного аппарата, всесилием и произволом представителя власти. И хотя на Востоке тоже существовала определенная сумма незыблемых норм и социальных гарантий, на страже которых стояли как привычные стереотипы бытия, религиозные предписания, так и мощные корпорации типа клана, общины, секты, касты и т.п., с их достаточно крепкой внутренней организацией, принципиальная разница заключается в том, что сами эти права и нормы были иными. Они определяли параметры гарантированного бытия каждого в строго предписанной ему социальной нише, но не предоставляли ему возможностей для всесторонней реализации заложенных в нем природой потенций. Точнее, все потенции каждого строго направлялись в русло Общепризнанных норм, предписанных образом жизни, структурой в целом, цивилизационными традициями. Принципиальное, структурное несходство Востока и Запада сыграло решающую роль в судьбах человечества, определив рывок вперед одних и отставание других. Отсюда и феномен колониализма, под знаком которого прошла история XVI-XX вв. - со времен Великих географических открытий и вплоть до послевоенной деколонизации.
Все это весьма существенно сказалось на цивилизациях Востока. В самом общем виде - в иных генеральных установках-ориентациях, определивших на века и тысячелетия весь стиль жизни соответст¬
143
вующих стран и народов. Принято считать, что в то время как в Европе господствует ориентация на материальный успех, на удачливого и способного индивида, на общество как сумму независимых граждан и на государство как орган, выражающий интересы общества (речь о господстве, но отнюдь не об абсолютном преобладании - история Европы знала всякое!), Восток характерен ориентацией на духовное и коллективистское начало, строго контролируемое государством. Отсюда и взаимоотношение религии (идеологии) и общества. На Западе влияние религии, христианства, необычайно сильно. Но здесь религия всегда была отделена от государства, а власть духовная весьма заметно противостояла власти политической. Иначе обстояло дело на Востоке, где то и другое - пусть в неодинаковой степени - было слито в нечто единое, цельное, непротиворечивое. На Востоке генеральная установка всегда была ориентирована на консервативную стабильность и на всесилие государства по классическому принципу знаменитого древнекитайского реформатора Шан Яна: "Слабый народ - сильное государство". Нельзя сказать, что в Европе государства никогда не были сильными или не стремились стать таковыми. Но открыто делать это за счет сознательного ослабления народа - такое было характерно именно для Востока с его, по Марксу, "поголовным рабством" бесправных подданных.
Это - то общее, что характеризует весь Восток в противопоставлении его Западу, Европе. Однако Восток не един, и характерные для него черты и признаки типичны для различных цивилизаций не в равной мере, - не говоря уже о том, что каждая из его великих цивилизаций имеет немало своего, особенного, специфичного, что обычно имеет отношение прежде всего к религии и сформированной ею религиозно-этической традиции. Сравнительный анализ, сопоставление этих традиций важны для определения их потенций и перспектив.
Арабо-исламская традиция-цивилизация, уходящая своими корнями в древний Ближний Восток, характерна прежде всего своим основанным на фанатичной вере и жестокой догматике божественного откровения сильным акцентом на религиозно детерминированное социальное поведение индивида. Генеральная установка ислама - покорность воле Аллаха, его посредника-пророка и замещающего последнего лиц, от халифов до султанов, эмиров, шейхов и имамов, - формирует хорошо организованный, строго дисциплинированный и целиком подчиненный лидеру социум. Слепое повиновение опирается как на сакрально детерминированный принцип деспотизма ("восточная деспотия" в ее наиболее совершенном виде) при полном влиянии и практическом совпадении религии и светской власти, так, и на сознательно культивируемый фатализм и принижение индивида, своего рода песчинки перед лицом всемогущего Аллаха, о чем каждому напоминает ежедневная пятикратная молитва.
Для арабо-исламской цивилизации характерно господство норм религиозного (шариат) и обычного (адат) права, но обе сферы
144
регулируют не столько права индивида, сколько его социальные обязанности. Заведомое господство права силы совмещается здесь с установкой на социальное равенство при отсутствии замкнутых наследственно неравных сословий: для исламской структуры характерна социальная мобильность - сила, способности, удачный случай могли любого поднять наверх, вплоть до трона, но при возвышении одного или немногих, остальные оставались бесправными и приниженными. Следует пояснить: речь идет об объективной - со стороны внешнего наблюдателя - оценке. Субъективно ни один из правоверных, включая и женщин, чей правовой потенциал по нормам шариата приравнен к половине мужского, и кто, казалось бы, реально принижен в повседневной жизни до предела - не ощущает себя обычно ни приниженным, ни бесправным: следуя традиции, все считают себя именно правоверными.
Индо-буддийская традиция-цивилизация отлична от исламской тем, что делает религиозный акцент на сакрально детерминированное индивидуальное поведение индивида с генеральной установкой на высшую ценность небытия. Эта установка на интроспекцию индивида, ждущего освобождения от мира, повлекла за собой не только религиозную терпимость (каждый сам за себя, кузнец своего счастья), но и относительную слабость государственной власти, а также определенную социальную рыхлость структуры, что, впрочем, в реальности было компенсировано системой жестких ограничений корпоративного характера (касты в Индии) и специфических религиозных институтов (буддийское монашество и его вершина - ламство в Тибете). Проблема социального равенства и социальная мобильность не характерны для этой цивилизации, построенной на основе постулата о высшей справедливости кармы, воздающей каждому по его заслугам. Нет здесь и исламского фатализма, ибо каждый, опираясь на нормы этики и традиции, вправе и даже обязан прилагать усилия для улучшения кармы. Зато индуистов и буддистов отличает развитая культура личного чувства, включая готовность к осознанному самопожертвованию (не обязанность умереть во имя Аллаха, особенно в священной войне - джихаде, но именно необязательная готовность принести себя в жертву во имя осознанного тобой долга, что особенно заметно на примере самосожжений, как индийских вдов - обряд сати, - так и буддистов).
Вообще индо-буддийская традиция-цивилизация по многим параметрам наиболее четко и очевидно противостоит арабо-исламской. Эти различия заметны не столько в сфере доктринальной, сколько в социокультурной: одна из них сравнительно слаба и пассивна, другая - сильна и до предела активна. Этот вывод вполне подтверждается историей ряда индуистско-буддийских в прошлом стран Юго-Восточной Азии, где мирными путями распространившийся ислам достаточно быстро взял верх (Малайя, Индонезия).
Китайско-конфуцианская (конфуцианско-дальневосточная) традиция-цивилизация основана на относительном безразличии к религии, с
145
ее догматами, верой, богами, мистикой, метафизикой, и характеризуется подчеркнутым вниманием к сфере социальной этики и политики. Акцент на первостепенную важность регулирования социально-семейных и иных корпоративных связей, а также административно регламентированное поведение обеспечили здесь, аналогично тому, как это имело место на иной основе в исламе, всемогущество государства, строгую дисциплину подданных и активность политического поведения.
Но, в отличие от призывов к покорности воле Аллаха, генеральная установка в рамках этой традиции - высшая ценность оптимально организованного бытия, фундаментом чего является постоянное самосовершенствование человека и стремление социума во главе с наиболее совершенными (мудрецами, всегда ценившимися наравне со святыми, если не выше их) к достижению состояния наивысшей гармонии. Патернализм в семье (культ предков) и обществе (культ старших), культура тяжелого повседневного труда, как физического, так и умственного, культ знаний и способностей способствовали воспитанию в человеке творческой энергии, инициативы и предприимчивости - тех самых качеств, которые столь нужны для достижения успеха в системе рыночно-частнособственнической европейского типа структуры. История бесстрастно напоминает: коль скоро китайцы оказывались в среде, куда проникали элементы этой структуры (речь о государствах Юго-Восточной Азии эпохи колониализма), именно их этнические меньшинства (хуацяо) становились субъектом экономических успехов и достигали процветания. Об этом же говорит и уникальная судьба Японии, дочерней по отношению к китайской цивилизации. Но в самом Китае о создании рыночно-частнособственнической структуры не могло быть и речи: жесткость имперской власти, всесилие государства с его централизованной бюрократической администрацией не только формально ограничивали деловую активность в стране, но и косвенно воздействовали на социум, культивируя престижность традиционной идеологическо-политической активности и третируя рыночноэкономическую деятельность, как нечто низшее, недостойное уважающего себя жителя Поднебесной (поразительные параллели и аналогии в структуре и ориентирах со сталинской моделью социализма).
Для конфуцианско-дальневосточной традиции типична не просто заметная социальная мобильность, как это было в исламе, но мобильность, достигающая идеала меритократии: система открывала путь наверх перед каждым, кто способен был лучше других овладеть мудростью древних и доказать свои способности в честном состязании с другими соискателями желанных ученых степеней. Как и в исламе, сфера чувства здесь была строго ограничена нормами общепризнанного долга. С индо-буддийской китайско-конфуцианская традиция сближается религиозной терпимостью, ставкой на самостоятельность и самосовершенствование каждого по все тому же принципу "кузнец
146
своего счастья сам”. Обратимся к более обстоятельному сравнению и анализу великих традиций-цивилизаций Востока.
1. В сфере генеральной установки исламская и индо-буддийская традиции с их откровенной ориентацией на религиозную доктрину, на потусторонние силы, заметно отличаются от китайской с ее поисками социальной гармонии и стремлением к усовершенствованию жизни здесь, на земле. Соответственно конфуцианская модель близка к европейской установке на достижение материального успеха. Высокая культура труда, патернализм, ставка на постоянное самосовершенствование и жесткая социальная дисциплина при этом оказались способными в благоприятных условиях компенсировать неразвитость таких институтов, как гражданское общество и правовое государство. Именно в этом секрет Японии, а в наши дни - также и Южной Кореи, Тайваня, Гонконга, Сингапура и некоторых стран с большими колониями хуацяо, как Таиланда, Малайзии, Индонезии.
2. В сфере отношения к человеку - как личности и как собственнику - ситуация аналогична, хотя есть и некоторые различия. Для всех трех цивилизаций характерен примат социума над индивидом, а для двух из них, исламской и китайской, еще и жесткий прессинг со стороны государства. В индо-буддийской цивилизации, особенно в Индии, альтернативой является давление со стороны социальной корпорации, прежде всего касты. Соответственно группируются права и возможности каждого: в мире ислама и на Дальнем Востоке заметна ставка на социальное равенство и вертикальную мобильность, тогда как индо-буддийская цивилизация и особенно Индия характеризуются принципиальным неравенством социальных групп. При этом ситуация в Китае предпочтительна в том смысле, что на передний план специально и старательно выдвигаются такие личностные факторы, как ум, способности, в меньшей степени столь характерные для истории исламских стран сила и удачный случай. Конечно, в мире ислама наряду с военной всегда ценилась и гражданская доблесть, но там сфера гражданских добродетелей почти исключительно ограничивалась собственно религией, тогда как на Дальнем Востоке она не только была намного шире, но и имела заметный, подчеркнутый приоритет. Объективно это давало наибольшие возможности для раскрытия потенциала каждого.
3. В сфере личностных связей, эмоционального стандарта, культуры чувств, включая отношение к женщине, исламская и китайская традиции опять-таки ближе друг к другу, хотя и не одинаковы. В индобуддийской традиции чувствам отведен намного больший простор, чем в исламской и китайской - соответственно и положение женщины несколько предпочтительней. Здесь можно зафиксировать некую близость к европейским стандартам.
4. В заключение стоит обратить внимание еще на одну сферу - на степень структурной жесткости традиции. Здесь водораздел иной: ислам четко противостоит двум другим цивилизациям, китайско-конфуцианской и индо-буддийской, которые отличаются доктринальной
147
терпимостью и уже в силу этого легче поддаются воздействию извне.
Все выделенные в анализе особенности дают основание для определенных выводов. Первый из них до предела очевиден: из всех трех великих цивилизаций Востока далее всего от европейской античнохристианской стоит наиболее близкая к ней по истокам, примыкающая к ней географически и сходная структурно (монотеизм) - исламская. Из двух других относительно ближе к европейской по ряду основных показателей находится дальневосточная, наиболее отдаленная и генетически ей чуждая.
Как эта ситуация повлияла на ход истории, особенно на протяжении последних пяти ее веков, когда колониальная экспансия европейцев и мировой капиталистический рынок превратили весь мир в нечто единое и тесно взаимно связанное? История стран Востока достаточно убедительно отвечает на этот вопрос.
Что касается стран Дальнего Востока, то практически все, начиная с Японии, по меньшей мере в последнее столетие продемонстрировали наивысшую степень приспособляемости к изменившейся в мире ситуации, более других оказались готовыми к заимствованию еврокапиталистической модели или, точнее, того наиболее существенного из этой модели, что позволило многим странам конфуцианской цивилизации гармонично сочетать свое и заимствованное и на этой основе достичь впечатляющих успехов в развитии. Больше того, в тех соседних с Дальним Востоком регионах, где оказалось немало живых носителей конфуцианской цивилизации (хуацяо), наблюдается аналогичная картина, причем прежде всего именно за счет хуацяо, т.е. за счет, если так можно выразиться, конфуцианского фермента. Местный буддийский (Таиланд) или исламский (Малайзия, Индонезия) субстрат длительное время был в плане развития в лучшем случае нейтральным и лишь в самое последнее время стал энергично становиться на путь рыночйо-частнособственнического развития.
Что касается индо-буддийского мира, то пассивность и нейтралитет традиции, как только что было упомянуто, не препятствовали процессу развития еврокапиталистического стандарта. Этого, естественно, для развития было Мало. Но в качестве компенсации - иЛи, если угодно, альтернативы, - здесь выступал колониализм. Для колонизаторов легче всего оказалось подчинить себе именно страны пассивной традиции, начиная с Индии й Юго-Восточной Азии (ислам сюда проник достаточно поздно и не пустил крепких корней к тому моменту, когда появились колонизаторы). Длительное господство колониализма сыграло в странах этой традиции исторически прогрессивную роль. Конкретно это выразилось в том, что колонизаторы медленно, но неуклонно внедряли в традиционную восточную структуру колонизованных ими стран еврокапиталистические рыночно-частнособственнические элементы. Рано или поздно, но количество стало в этих странах переходить в качество, что особенно явственно сказалось уже
148
после их деколонизации. Если прибавить к этому, что именно в ЮгоВосточной Азии проживала основная масса хуацяо, которые энергичнее других воспринимали и реализовывали уроки европейцев, то неудивителен и результат: после стран Дальнего Востока наибольших успехов в развитии добиваются в наши дни страны Юго-Восточной Азии. Особняком в этом плане стоит разве что Шри-Ланка, древний Цейлон.
Несколько слов стоит сказать об Индии, классической колонии эпохи колониализма, жемчужине Британской короны, как ее называли. Длительное колониальное владычество англичан - на сей раз без посредничества хуацяо, которых там не было, - сыграло свою роль и подготовило Индостан, включая и его исламские части, Пакистан (в большей мере) и Бангладеш к рыночной экономике. Пусть медленно, но все эти страны (Индия и Пакистан в большей степени) ныне уверенно идут по пути развития, хотя они при этом явно уступают большинству стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Что касается стран ислама, то, если оставить в стороне те из них, кто построил свое благосостояние на нефтедолларах и купленном за эти деньги чужом труде наемных работников, - большинство из них в наименьшей степени достигли заметных успехов. Только немногие из этих стран, оказавшиеся в наиболее благоприятных обстоятельствах и длительное время подвергавшиеся прямому и косвенному воздействию со стороны еврокапитализма с его рынком и со стороны европейской цивилизации с ее институтами (Турция, Пакистан, Египет), сумели преодолеть классическую восточную структуру, да и то далеко не полностью. Больше того, традиция в них еще настолько сильна и активна, что в принципе вполне может сделать достигнутые успехи обратимыми, как это произошло, в частности, в Иране. Разбогатевшие на нефтедолларах страны тоже от этого отнюдь не гарантированы - дух ислама в них необычайно силен, а он, с точки зрения рыночной структуры и связанных с нею европейского происхождения институтов, крайне неконструктивен.
Особо следует сказать о странах, имеющих отношение к сталинской модели социализма. Среди исламских таковых практически нет, а вот на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии они имеются, начиная с Китая. Судьба их незавидна, а успехи в деле развития минимальны и имеют явственную тенденцию к уменьшению, даже при попытках сделать рыночные инъекции. Объяснение здесь простое: те внутренние потенции, коими отличается классическая дальневосточная традиция, всегда, и в имперском Китае, сдерживались силой государственного аппарата (то, чего могли добиться хуацяо вне империи, - яркое тому доказательство). Социализм сталинско-маоистского типа структурно сильнее, застойней и страшнее любой самой жестокой империи, восточной деспотии. С еще большей силой, чем имперские нормы, он отторгает (опираясь на марксистский догмат) частную собственность и свободный рынок. Все потенции, противостоящие этому, не имеют
149
почвы для расцвета. Отсюда и прозябание, особенно заметное на фоне успехов соседей (наиболее наглядное сопоставление: север и юг Кореи, КНР и Тайвань).
Несколько слов в заключение о перспективах. В свете проделанного анализа они достаточно очевидны: наилучшие - у стран дальневосточной цивилизации и близких к ним юговосточноазиатских стран. Неплохие шансы у Индии и некоторых стран ислама, включая разбогатевшие на нефтедолларах, пусть с необходимыми оговорками. Наихудшие шансы с точки зрения перспектив развития, у наиболее бедных и сравнительно отсталых стран исламского мира, а также у некоторых из числа стран индо-буддийской цивилизации, в первую очередь тех из них, кто оказался причастен к сталинской модели социализма (это относится и к азиатским республикам бывшего СССР). Впрочем, в последнее время перспективы стран Востока оцениваются не только, а порой даже не столько с точки зрения развития, сколько в плане самодостаточности и достижений в процессе самоиндентификации. Иными словами, пусть мы идем не туда, куда все, пусть у нас не так хорошо, как у других, но зато мы идем своим путем и довольны тем, что имеем. Конечно, это тоже перспективы, быть может, своеобразные, но кое для кого заманчивые.
Не отвергая подобной постановки проблемы с порога, нельзя не заметить, что философия с позиций "не до жиру, быть бы живу", мало перспективна. Фундаментализм, являющийся ее основой, характерен исключительно для стран ислама (частично - для отсталых африканских стран) и объясняется той спецификой исламской традиции, о которой уже шла речь. Если же пойти дальше и обратить внимание на то, что в упомянутой философии подчас речь идет не столько о том, чтобы "быть живу", сколько о воспевании подобного образа жизненного примитива, то о радужных перспективах в будущем для соответствующих стран вообще говорить не приходится: те, кто ориентируются на вчерашний день, в некотором смысле обречены. И как ни трудно исламской структуре приспособиться к еврокапиталистической, примеры Турции, Пакистана, Египта показывают, что это всетаки, возможно, реально и, главное, наиболее перспективно. О том же свидетельствуют примеры совсем иного рода, как, например, преображение Кувейта. Поэтому, отнюдь не призывая к забвению высот кочтимых заповедей Корана, стоит заметить, что наибольшие перспективы в мире ислама у тех, кто почтение к этим заповедям успешно сочетает с уважением к еврокапиталистическому рынку. Или, иными словами, главное - это все же развитие.
Великие цивилизации Востока в силу имманентной им нединамичности традиционной структуры вынуждены были подчиниться динамическому еврокапиталистическому давлению и кое-что заимствовать из арсенала европейской цивилизации. Только после этого таившиеся в них потенции и имевшиеся ресурсы могут быть включены и заработать на полную мощность. В зависимости от социокультурной традиции и лежащей в ее основе религиозной доктрины каждая из этих
150
цивилизаций дала собственный ответ на вызов эпохи. И именно этот ответ определил успех каждой из цивилизаций в деле развития и их перспективы на будущее. Перспективы в целом неплохие, у некоторых - хорошие, даже блестящие. Но, если принять во внимание ряд глобальных проблем человечества, наиболее страшные из которых - экологические и демографические, то о розовом и вообще светлом будущем едва ли стоит много говорить. Оно в лучшем случае для меньшинства, даже небольшого меньшинства. Для остальных и для человечества в целом будущее пока что выглядит достаточно мрачно, особенно если вспомнить о проблемах Африки, которая численно удваивается чуть ли не каждые 30-50 лет, причем без серьезных надежд на улучшение качества жизни.
Цивилизации Востока - важнейшая часть духовной культуры человечества, неисчерпаемая сокровищница накопленного им опыта, хранитель многих его религиозных, этических, социальных и иных ценностей. В наши дни они частично включаются в процесс созидания нового и приносят богатые плоды, частично препятствуют новому, в немалой части остаются втуне, невостребованными. Что важнее? Что пересилит? Что умрет и что останется навсегда? На эти вопросы даст ответ будущее. Пока же мы вправе заключить, что наследие Востока весомо, в некотором смысле еще только раскрывает свои потенции и во всяком случае еще далеко не сказало свого последнего слова. Традиционный Восток на наших глазах вписывается в несколько ранее уже вылепленный капиталистическим Западом мир. Вписывается с трудом, но в целом достаточно успешно и результативно. И если учесть, что Восток - это подавляющее большинство человечества, факт этот, безусловно, отраден. Что же касается проблем, то остается лишь надеяться, что в будущем человечество найдет способ их разрешения.
А.М. Буровский
СТЕПНАЯ СКОТОВОДЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ: КРИТЕРИИ ОПИСАНИЯ, АНАЛИЗА И СОПОСТАВЛЕНИЯ
Интерес к цивилизации Великой степи возник в эпоху, когда историческое соревнование земледельческих и скотоводческих культур было еще актуальным1. Слишком большую роль в истории стран Старого света сыграли скотоводческие культуры Великой степи - хотя и выступали они обычно в качестве чисто внешнего, и притом деструктивного фактора. Да и сильные отличия скотоводческих культур от земледельческих, которые для большинства историков -к эталонные, "нормальные" культуры, - немаловажный фактор. Ведь люди склонны интересоваться необычным и малоизвестным.
© А.М. Буровский
151
Термин "цивилизация" будет использоваться нами только как обозначение определенного типа развития культуры, но не для обозначения уровня такового. Мы учитываем, что экономика Великой степи не была одинаковой на протяжении всей ее истории - в бронзовом веке, вплоть до сложения скифо-сибирского культурного единства включительно, в составе стада преобладал крупный рогатый скот, встречались свиньи, скотоводство носило яйлажный или отгонный характер, сочетаясь с земледелием (скорее всего мотыжным) на небольших участках в поймах рек. Начиная с эпохи Великого переселения народов, роль земледельческого уклада уменьшается, и происходит номадизация населения, формирование кочевничества как такового. В этническом и языковом отношении общества Великой степи еще более разнообразны, - известны степные скотоводческие народы ираноязычного, тюркоязычного, монголоязычного, тунгусоязычного, угороязычного корня. Не менее разнообразны степнякискотоводы в расовом аспекте. Соответственно, термин "цивилизация" будет употребляться не в значении "тип этнической культуры", а отражать скотоводческую или земледельческую направленность хозяйственной деятельности в целом.
Представляется очевидным, что скотоводческая направленность хозяйства в степной зоне является исторически обусловленной, так же как и земледельческая - в лесной и в меньшей степени - в лесостепной зонах. Хотя из этого правила есть, похоже, исключение - культуры сверленых боевых топоров.
Использовать тезис Энгельса о цивилизации как определенном уровне развития общества сложно. Для того, чтобы определять уровень развития каким-либо термином, следует сначала определить, по каким признакам вообще можно судить о развитии общества. А если этот термин претендует на универсальность - следует предварительно договориться, по каким критериям вообще сопоставимы столь разные типы обществ, как земледельческие и скотоводческие. Поиск действительно научных критериев для определения уровня развития обществ упирается как в необычайное разнообразие самих обществ, так и в субъективизм исследователей. Субъективизм вызывается несколькими важными и всеобщими причинами, которые касаются практически всех исследователей. Во-первых, общества Великой степи исследуются учеными, которые часто даже биологически, а тем более в культурном и духовном отношении являются наследниками земледельческих обществ, - т.е. соперников изучаемой цивилизации. Военные действия словно продолжаются в сочинениях многих историков XVIII-XIX вв., тем более в России, где со времен Петра Великого противопоставление "европеизма" и "азиатчины" в русской истории становится важнейшим элементом культурной традиции. Естественно, "азиатчина" определялась как явление предельно негативное. Даже самые серьезные историки прошлого не избежали при изображении исторических реалий оценок типа "азиатская жестокость" или "степное коварство"2. Из этого примера видно, как
152
общая культурная установка воздействует на деятельность специалиста в сугубо профессиональной области. Так же сочувствовали предкам и практически все образованные люди, и несправедливость, оскорбительность текстов О. Егера не только не осознавалась, но могла послужить подтверждением справедливости общественных представлений. Не уверен, что укоренившиеся представления о тупиковости, застойности степной скотоводческой цивилизации имеют другую природу. Представлений об архаичности и застойности степных скотоводческих обществ не избежал даже такой крупный теоретик, как А. Тойнби.
Кроме того, даже самые объективные и доброжелательные историки и культурологи будут сравнивать скотоводческие и земледельческие общества, исходя из критериев и оценок, выработанных при изучении земледельческих обществ. Это естественно - других критериев и представлений просто нет. Все науки об обществе, как уже упоминалось, связаны именно с этой традицией; а ведь применение одних и тех же универсализующих терминов к обществам разного типа может быть принципиально неверным. Итак, чтобы описывать общественный строй какого-либо этноса или исторического периода, нужно исходить из реалий этого общества или применять термины, соответствующие этим реалиям. А насколько они соответствуют? Скотоводческие и земледельческие общества явно очень различны. Те универсализующие термины, понятия, которые служат для описания общественных явлений, применяются для описания степных скотоводческих обществ, может быть, пригодны для описания и сравнения многих или даже всех земледельческих обществ. Но переносимы ли они на скотоводческие общества? Не оказываемся ли мы в положении испанских мореходов, которые упорно называли кациков "идальго" и присваивали им титул "дон"? К числу таких навязанных степной скотоводческой цивилизацией понятий можно отнести и феодализм3.
По-видимому, главная проблема, с которой сталкивается в настоящий момент наука, изучая общества Великой степи, выходит за пределы оценок самих историко-культурных реалий. Главная проблема - это поиск универсалий, которые позволят в одной системе оценок рассматривать как историко-культурные реалии степной скотоводческой цивилизации, так и реалии земледельческих обществ. Причем любых Земледельческих обществ - так как земледельческие общества друг от друга в любом случае отличаются меньше, чем каждое из них - от скотоводческого. Поиск таких универсалий неизбежно выводит нас за пределы обществоведческой, даже гуманитарной специфики. Возможность объективного сопоставления цивилизаций с земледельческим по преимуществу хозяйством и скотоводческих степных цивилизаций лежит не в сфере сравнения конкретно-исторических реалий или эталонных образцов монументального зодчества или художественного ремесла. Здесь необходимы более общие критерии, проявление столь глобальных закономерностей развития, чтобы этнокультурную, экологическую и историческую специфику можно
153
было просто игнорировать. Без "выхода" на столь глобальные закономерности мы обречены на постоянные попытки сравнивать в большей или меньшей степени несравнимое - даже если и освободимся от определяемого культурной традицией эмоционального отношения к объекту и от эмпирических обобщений.
Действительно глобальными (или, правильнее сказать - всеобщими) являются критерии, основанные на отношении к обществу как природному (если угодно, как к социоприродному - это ничего не меняет) объекту. То есть на видении общества не как особой реалии со своими законами развития, а как составной части материального мира, к которой применимы такие понятия, как энергетическая вооруженность и энергетическая эффективность, характер информационного поля, уровень трансформации живого и неживого вещества. Действительно, любое общество разворачивает свою деятельность в ландшафтной оболочке Земли. Это касается даже современных обществ, которые могут выходить за пределы ландшафтной сферы, но основная деятельность которых все же протекает в ней. В обществах же, которые в марксистской историографии называются "докапиталистическими", а в мировой "доиндустриальными"4, это обстоятельство не требует даже оговорки. Все общества формируют обитаемые ими ландшафты, трансформируют органическое и минеральное вещества, изменяют интенсивность и направление энергетических потоков в биосфере. Любые оценки, критерии, обобщения, основанные на исследовании деятельности такого рода, позволяют описать общество как социоприродную систему и сравнить с другими по совершенно действительно объективным критериям.
Отношение к человеку и его обществу как к естественным феноменам, к порождениям эволюции вещества и к человеку как наиболее сложному и тем самым отвечающему за общее состояние системы элементу материального мира положено в основу концепции биосферы и перерастания ее в ноосферу, выдвинутой в 1922 г. Э. Леру а и В.И. Вернадским и разработанной в трудах последнего5. При всей непоследовательности, в некоторых случаях - противоречивости высказываний В.И. Вернадского, при том, что понятие "ноосфера" используется в не меньшем числе смыслов, чем "феодализм", эта концепция открывает колоссальные возможности не только для понимания идущих в обществе процессов на нетрадиционной основе, но и описания и сравнения обществ на негуманитарной основе. В работах В.И. Вернадского дается общий методологический подход, отдельные общества не рассматриваются, а человечество выступает как суммарная биосферная сила. Впрочем, стоит исследователям заняться проблемой взаимодействия общества и ландшафта - и они начинают рассматривать общество как целостное являение, однозначно воздействующее на ландшафт6. Специфика отдельных обществ при этом игнорируется - получается, что разные общества отличаются друг от друга только в чисто гуманитарной сфере - языка, этнографии, социальной стратификации и политической организации. А при
154
воздействии на природу (правильнее, пожалуй, на остальную природу) они словно бы равны. Автор убежден в том, что и скотоводческие и земледельческие общества неоднозначны по характеру таких воздействий, но если сравнение скотоводческих обществ потребует более тонких методов и пристального анализа, то уж сопоставление земледельческих цивилизаций и скотоводческих возможно даже в "первом приближении", настолько они различны.
Л.Н. Гумилев стремится рассматривать не общество как единое целое, а отдельные этносы, каждый со своим "стереотипом поведения" в природе, каждый - строящий ландшафты в соответствии с этим "стереотипом". По Гумилеву, этнос может возникать только в строго определенных местах, в "месторазвитиях" и существует только в построенном им ландшафте7. Это дает возможность рассматривать общества как явления, воздействующие различным образом на природную среду даже одного региона, и принимать во внимание не только разрушительную для природы деятельность человека (как это обычно и делается), но и деятельность человека по созданию антропогенных ландшафтов. Исследователи или просто констатируют факт существования разных ландшафтов, антропогенных и естественных, или рассматривают изменение естественных ландшафтов как катастрофу или, по крайней мере, как нежелательное явление8. Такой подход возможен только в том случае, если общество и природа рассматриваются как антиподы, как качественно разные и не связанные между собой явления, и если естественный ландшафт принимается за эталон. Природа без человека (естественный ландшафт) нарушается и изменяется в худшую сторону, если возникает "природа с человеком" (антропогенный ландшафт) и обитающие в нем этнокультурные и социальные сообщества - ведь происходит искажение эталонного явления. Если же человек и его общества - составные части понятия "природа" - и не отделяются от него, то и строительство антропогенного ландшафта рассматривается не как разрушение природы (деформация), а как изменение (трансформация), не подразумевающее ухудшения обстановки.
Шаг, позволяющий рассматривать отдельный коллектив и вмещающий его ландшафт как единое целое - антропогеоценоз, принадлежит В.П. Алексееву9. Им вводятся такие рабочие понятия, как пищевая и производственно-хозяйственная цепочка, информационное поле, генофонд, - что открывает путь к исследованию общества как антропоэкологической системы. Сложность непосредственного применения разработок В.П. Алексеева заключается в том, что в интересующий нас период замкнутость отдельных хозяйственных коллективов остается в глубоком прошлом. Отдельные коллективы не только могут быть однотипными и включаться в один культурно-хозяйственный тип, но и быть сформированными единым в культурно-языковом отношении населением и включаться в единую историко-культурную область. Антропогеоценозы могут объединяться для совместной деятельности в природе (строго говоря, объединяются не антропогеоценозы, а хозяй¬
155
ственные коллективы) или для обмена продукцией, полученной на своей территории и собственными силами. В любом случае происходит размыкание пищевой и производственно-хозяйственной цепочек, возникает обмен генофондом, информацией, создание общих инженерно-ландшафтных сооружений (это особенно заметно в обществах поливного земледелия). Если такие связи коллективов антропогеоценозов устойчивы и принципиально важны для каждого из них, возникает антропогеографическая система, в рамках которой члены многих хозяйственных коллективов осуществляют общее воздействие на ландшафт. Для такой совокупности прочно связанных антропогеоценозов нами вводится понятие антропогеосистема10. Если антропогеоценоз в антропогеосфере подобен биогеоценозу в биогеосфере, то антропогеосистема играет роль более крупной ячейки, не имеющей в структуре биогеосферы прямых аналогий.
Скотоводческая и земледельческая направленность хозяйств порождает, естественно, совершенно различные антропогеосистемы всех уровней. Уже по типу антропогенных ландшафтов возможно различение типов цивилизации.
Сравнение уровня развития обществ по количеству извлеченного из природных систем, трансформированного механически, физически и химически вещества вполне возможно, причем как в абсолютных показателях, так и на душу населения. Еще один важный и часто определяющий критерий - количество перемещенного в пространстве вещества и способность перемещать его на большие расстояния (по этому критерию, судя по находкам в зоне распространения степной скотоводческой цивилизации, ее превосходство абсолютное!).
Объективным представляется сравнение обществ по обеспеченности населения предметами как первой, так и второй необходимости, по энерговооруженности рядового члена общества.
Сравнение культуры может осуществляться через выявление культурных образцов, принимаемых обществом как допустимые (важным представляется уже число таких образцов), возможность принятия инноваций в различных сферах деятельности, отношение к индивидуальному творчеству в различных сферах.
Объем информационного поля может сопоставляться, исходя из таких параметров, как географический кругозор, теоретические представления в области естественных наук, способность применять абстрагированное значение в решении конкретных производственных и общественно-политических задач.
Сам факт разделения труда, выделение несельскохозяйственного населения, лиц нефизического труда и лиц творческого интеллектуального труда - показатели как разделенности и производительности труда, так и способности направлять энергию на решение задач, впрямую не связанных с производством. Само существование государства можно рассматривать как проявление достижения обществом такого
156
уровня развития, при котором возникает необходимость во властных структурах (показатель усложнения!) и при котором значителен круг лиц, не включенных в производство.
Один из важных показателей - возможность тратить энергию на строительство сооружений нефункционального назначения (курганов, парков, зданий, храмов и т.д.). Если учитывать количество как затраченной на их сооружение энергии, так и количество труда, и сроки подготовки работников высшей квалификации, - эти показатели становятся сравнимыми.
Нами составлена система описания, включающая максимальное количество факторов, которая позволяет выделять и описывать элементы любого общества как антропоэкологической системы таким образом, что они становятся сравнимы с аналогичными элементами других систем.
Система описания
I. Размер антропогеосистемы
1. Численность хозяйственного коллектива антропогеоценоза и хозяйственно связанных коллективов в антропогеосистеме.
2. Площадь территории каждого антропогеоценоза и всей антропогеосистемы.
3. Типы сельскохозяйственных ландшафтов, которые создаются в антропогеосистеме.
II. Факторы ландшафтообразования
1. Соотношение антропогенных и естественных ландшафтов. Способность к сохранению естественных ландшафтов, сокращение ареалов и исчезновение диких животных и растений.
2. Стабильность антропогенных ландшафтов - эрозия почв, падение биологической продуктивности, нарушение водоснабжения и т.д.
3. Создание инженерно-ландшафтных сооружений (каналов, дренажных систем), монументальных сооружений и изваяний (курганов, зданий, сгелл, монументов и т.д.).
4. Коммуникационная сеть (километраж дорог на единицу населения, покрытие дорог, энергия, затрачиваемая на поддержание системы коммуникаций).
III. Энергетические критерии
1. Коэффициент энергетической эффективности по Крупнику11 - отношение используемой человеком энергии ко всей энергии Солнца, падающей на охваченную человеческой деятельностью территорию.
2. Интенсивность хозяйства - определяется урожайностью сельскохозяйственных культур, привесами скота.
3. Способность концентрировать и хранить энергию.
4. Известные и используемые виды энергии, кроме биохимической и механической.
157
IV. Трансформация вещества
1. Количество металла, приходящегося на единицу населения, сфера применения металла.
2. Количество обработанного камня, приходящегося на единицу населения. Сфера использования камня.
V. Социальные критерии
1. Количество специальностей и специализаций: а) в производственной сфере; б) в непроизводственной сфере.
2. Индекс несельскохозяйственного населения - т.е. процент лиц, не занятых в производстве продуктов питания.
3. Индекс непроизводственного населения - т.е. процент лиц, непосредственно не занятых ни в каком производстве.
4. Индекс интеллигенции - т.е. число лиц творческих профессий.
VI. Культурологические критерии
1. Наличие элитной культуры - т.е. культуры населения, непосредственно не связанного с производством.
2. Процент лиц, включенных в элитную культуру.
3. Способность к объективизации, сохранению и трансляции знания.
4. Географический кругозор.
5. Степень рационализации культуры - способность рассматривать явления в логической плоскости. Область сакрализации жизни.
6. Процент грамотных.
7. Процент владеющих иностранными языками.
8. Число учившихся и сроки обучения.
Разумеется, приведенная система описания отнюдь не исчерпывающа; это только приблизительная схема того, как можно ввести ряд в достаточной степени объективных, легко отчуждаемых от личности исследователя и не зависящих от его убеждений и пристрастий критериев, которые будут отражать тип и уровень развития общества как антропоэкологической системы.
Впрочем, данная система описания - скорее схема, чем подлежащий использованию инструмент - по той причине, что объективно, а тем более - количественно - большую часть признаков и их значений не отразить. Состояние источников не дает подобной возможности.
Но такая система упорядочивает совершаемые действия и позволяет систематизировать имеющиеся данные.
Попробуем сопоставить скотоводческую цивилизацию с земледельческими - как антропоэкологические системы.
При той же численности населения скотоводческие общества требуют несравненно больших по площади территорий. При этом обитаемые ими территории испытывают меньший антропогенный прессинг; скотовод не строит ландшафт, изменяя растительный покров на распаханных участках земли, а пасет скот в естественном ландшафте. По применяемой географами классификации - это косвенный антропогенный ландшафт; нам представляется правильнее называть его исполь-
158
зуемым. Какой бы значительный процент биомассы, возникающей в естественном ландшафте, ни поедался домашним скотом, в энергетическом аспекте человек присваивает в скотоводческом использу емом ландшафте гораздо меньше превратившейся в земные виды энергии Солнца, чем в земледельческом ландшафте - прямом антропогенном. Как одно из следствий - скотовод живет в ландшафтах, слабее затронутых непосредственной деятельностью человека. Даже селитебные ландшафты скотоводов "менее антропогенны" - участки географического пространства, где сделаны многочисленные находки салтово-маяцких древностей, лишены культурного слоя - места, посещаемые человеком, слабо отличаются (или совсем не отличаются) от обитаемых человеком. Место, которое скотовод-кочевник называет домом, и удаленные от него участки степи не так уж сильно контрастируют. Земледелец же обитает в ландшафте, который резко контрастирует с естественным й насыщен следами его деятельности. Вокруг этого, сильно выделенного из прочих, ландшафта простроена система антропогенных ландшафтов разного типа, главными среди которых являются земледельческие - полевые, огородные, садовые. Чем выше удаленность от центрального, наиболее антропогенного ландшафта, тем меньше степень антропогенного воздействия на природу. Для человека земледельческих цивилизаций картина мира естественным образом включает мир окультуренного и освоенного "космоса" и природного "хаоса", лежащего вне пределов упорядочивающей деятельности человека. Столь же естественна и картина концентрических кругов как формы упорядоченности Вселенной, и представление о мире как круге, в центре которого лежит "своя" страна или "свой" город. Для земледельческой цивилизации такого рода представления столь же неотвратимо вытекают из самого образа жизни и организации географического пространства, как социальная и духовная ценность постоянного обитания на одном месте - из самого факта оседлости.
Антропогеосистемы скотоводческой и земледельческой цивилизаций очень различны. Общее для них, пожалуй, только объединение хозяйственных коллективов в порядке регионального обмена, особенно обмена металлом. Такое размыкание производственно-хозяйственной цепочки характерно для бронзового и железного веков12 - выплавка металлов осуществляется всегда только в части скотоводческой, так и земледельческой Ойкумены.
Для скотоводческой цивилизации характерно объединение для совместного решения политических задач - это или задачи совместного изменения рельефа и ландшафта обитаемого пространства - возведение курганов, стелл, изваяний, - или для совместных действий членов хозяйственных коллективов вне пределов обитаемой ими территории.
Уже в скифо-сибирское время возведение некоторых курганов требовало усилий полутора тысяч человек на протяжении многих недель. Если принять расчеты А.И. Мартынова, согласно которым в
159
скифо-сибирскую эпоху численность членов отдельного хозяйственного коллектива не превышало 60-65 человек13, то можно представить себе масштаб обобществления труда для построения Аржана.
Естественно, не меньших масштабов требовало объединение скотоводов для решения задач этнической эксплуатации - будь то эпизодическое ограбление или строительство "кочевой империи" в масштабах "Великого эля" древних тюрок. Любые формы внешнеэксплуататорской деятельности (формы ее бесконечно разнообразны, в данной статье они рассматриваться не будут) предполагают наличие слабо дифференцированного в социальном отношении, но сплоченного дисциплиной и осознанием своего историко-культурного единства ядра и периферии - которые могут находиться на самом различном уровне социально-политического и экономического развития - и объединены только фактом политического подчинения центру. Такого типа политические образования некоторые историки жестко отделяют от государств, давая им даже особое наименование - "империя"14.
В империях осуществляется постоянное изъятие материальных ценностей (эксплуатация, если угодно), т.е. насильственное отторжение части уже извлеченных веществ и энергии у обществ, включенных в периферию империи. Суть этого процесса неизменна, изымается ли вещество и энергия путем организации набегов, неадекватной "торговли", постоянного взимания дани - и от того, взимается ли дань знатью покоренных народов или представителями инокультурного степного "ядра" империи. Эти подробности интересны для историка, но не для антропоэколога. Гораздо важнее, на решение каких задач идет вещество и энергия, полученные на периферии империи. Важно то, что приток материальных ценностей к "ядру" империи нимало не способствуют его развитию. Инфраструктура самого степного общества остается архаичной, разделение труда не интенсифицируется даже притоком ремесленников вглубь степного пояса - эти люди создают шедевры прикладного и монументального искусства, обогащают генофонд, но в социальном отношении остаются вне ядра. Их образ жизни и культура не являются ни желательным, ни даже допустимым образцом подражания. В исторической перспективе периферия империи неизбежно развивается быстрее центра и в конечном счете империя разваливается в вихре центробежных движений. Но кочевые империи, похоже, не доживают до этой стадии. По крайней мере, Русь сбрасывает иго уже не ханов Золотой орды, но ее преемников, т.е. периферия стала сильнее центра - последний утратил единство и в политическом отношении развалился. Видимо, сказывается непрочность политического объединения, не основанного на устойчивых формах экономической интеграции, и даже сам экономический базис скотоводческой цивилизации непрочен. Скотоводческий характер хозяйственной деятельности ставит общество на совсем другой уровень трофической пирамиды, чем земледельческое общество. Зависимость скотоводов от внешних обстоятельств огромна, происходит то накоп¬
160
ление энергоресурсов, то их исчезновение. Л.Н. Гумилев связывает эпохи, в которые возникали скотоводческие степные империи, с периодами увлажнения степи, а эпохи упадка степных обществ - с периодами усыхания. Цикличность колебания численности скота вокруг определенной отметки дополняется цикличностью социального развития империй, которым имманентно присуще недолгое существование. Кстати, не только кочевые империи существуют в целом недолго. Империи, имеющие ядро с земледельческим характером экономического развития, проходят те же стадии - захват периферии - стагнация центра - усиление периферии - развал империи. Такова историческая судьба и Афинской Архэ, и Римской империи, и империи Каролингов.
Для земледельческой цивилизации гораздо естественнее антропогеосистемы, основанные на разделении труда, на размыкании производственно-хозяйственной, а затем и пищевой цепочки. Эти формы разделения труда, которые носят не региональный, а экономический характер, приводят к возникновению городов как центров несельскохозяйственных форм деятельности человека. Города имеют каждый свою периферию, с которой связаны экономически; причем снабжение каждым из видов городской продукции может иметь свои особенности и свою границу (а периферии двух и более городов могут перекрещиваться - если население сельскохозяйственного района получает нужную ему продукцию в нескольких городах). Это делает антропогеосистему особенно сложной и постоянно усложняющейся - по мере возникновения как новых городов или роста старых, увеличения процента несельскохозяйственного населения, так и по мере возникновения новых ремесленных специализаций и усложнения самой городской инфраструктуры.
Такие, основанные на разделении труда, антропогеосистемы очень стабильны, они возникают вследствие саморазвития общества, и усложнение их - процесс естественный и закономерный. Возникновение в составе таких систем центров духовной жизни, учебных заведений, различных форм интеллектуальной деятельности вполне естественно и вызывается все тем же процессом разделения труда.
Земледельческие общества имеют огромные возможности для внутренней колонизации, для освоения менее продуктивных или неудобно расположенных, однако вполне пригодных для полеводства земель. Не случайно же в одной современной области России население по численности не уступает населению всей Руси X в. Рост населения, интенсификация сельского хозяйства, которая и делает возможным рост несельскохозяйственного населения, освоение земель на одной и той же территории, отсутствие острой необходимости связей с другими регионами порождают две важнейшие фундаментальные особенности развития земледельческих цивилизаций: культурноисторическую преемственность на протяжении очень длительных периодов и поступательный характер развития в целом. Циклизм скотоводческих цивилизаций приводит к тому, что на территории
6. Цивилизации. Вып. 3
161
Великой степи на протяжении всей ее истории возникают и разрушаются политические объединения разного ранга, постоянно происходит прерывание культурно-исторической традиции. В пределах развития каждой из них возводятся монументальные сооружения и изваяния, строятся целые города, которые играют роль исключительно политико-административных центров, никак не вписываясь в инфраструктуру скотоводческого "ядра" империи, и полностью исчезают после гибели империи. Возводятся дворцы и погребальные сооружения, изготовляются вещи в чуждой местному населению традиции. После очередного "взлета" - создания политического формирования, охватывающего очень большое географическое пространство и обладающего колоссальными энергетическими ресурсами, следует "падение" - резкое сокращение энергетических возможностей и, соответственно, переход на более низкий уровень социально-политического развития. Соответственно, исторический ландшафт Великой степи в большой мере представляет собой остатки культурного ландшафта разновременных цивилизаций, с которыми современное население не имеют ничего общего.
Но если Каракорум или Сарай-Бату не были нужны скотоводческому населению и запустели сразу, как только потеряли свое политическое значение, то раскопки Киева времен первых князей ведутся на территории современного города; антропогеосистема земледельческой цивилизации оказывается на практике исключительно стабильной. Если степняк живет и воспитывается в мире, где культурные остатки прежних кочевых империй (часто сопоставимые с современными по размерам и количеству затраченного труда) соседствуют с современным культурным ландшафтом, то представитель земледельческой цивилизации живет в мире, который был устроен и организован его предками, в ландшафте, который хранит память о поступательном развитии основанной на земледелии культуры. Идея линейного прогресса часто считается сугубо нововременной. Осмелимся высказать предположение, что представление о прогрессе вполне может рождаться у образованных представителей земледельческой средневековой культуры - знание истории предоставляет им доказательства роста населения, увеличения городов, размера построек и т.д. Другое дело, что для появления такой версии исторического развития необходимо время, на протяжении которого будет происходить развитие земледельческой цивилизации и скажется ее способность к поступательному расширению, а одновременно будет происходить накопление исторического опыта.
Политические антропогеосистемы земледельческих цивилизаций опираются на развитую систему экономической интеграции. Действия политической власти направлены не на организацию экзополитарной системы, а на организацию внутренней жизни, на кодификацию и упорядочивание уже сложившихся отношений. Это, кстати, делает власть, даже монархическую, более зависимой от населения - хотя бы какой-то его части, и всю систему более стабильной и предсказуемой.
162
Имперская же организация, кочевое "военно-агрегатное состояние общества"15 предполагает гораздо большие возможности для произвола и проявления личных качеств монарха. Интересно Сравнить, к чему чувствует свое призвание власть - ранние князья "устрояют Русь", тогда как Чингизиды стремятся дойти до "последнего моря". Качественные различия менталитета очевидны. И если варварские правды (как и правовые кодексы древневосточных царей, на которые они очень похожи) стремятся в первую очередь к кодификации права, то "Ясса" больше напоминает Устав вооруженных сил.
Накопление энергетического потенциала земледельческой цивилизации не подвержено столь катастрофическим колебаниям, как у скотоводов. В отличие от "хрупкого динамизма" скотоводческой цивилизации земледельческим свойственен скорее "постепенный, но неуклонный рост". Если в V-VI вв. славянские племена в своем развитии вряд ли существенно превосходили скотоводческие (сам факт уплаты дани хазарам как будто свидетельствует об обратном), то спустя тысячелетие неравномерного (в первую очередь в силу внешних факторов), но неуклонного развития инфраструктуры, внутренней колонизации и интенсификации сельского хозяйства, укрепления городских центров и обеспечения высокого уровня культурно-исторической преемственности, эта цивилизация вышла на уровень, совершенно несопоставимый с исходным решительно по всем показателям. Земледельческая цивилизация оказалась в состоянии обеспечить развитие таких важнейших узловых точек антропогеосистем, как интенсивность хозяйства, освоение новых видов энергии, количество трансформированного минерального вещества, качество коммуникаций, всех социальных признаков, связанных с перемещением все больших масс населения в несельскохозяйственную и вообще непроизводственную сферу.
Культуры этого типа или сами порождают нововременную культуру, или, по крайней мере, способны к ее восприятию и к формированию соответствующего этнокультурного варианта нововременной культуры. Нововременная культура, собственно, тоже может быть названа земледельческой, тогда как скотоводческая, похоже, войти в нововременную не может, во всяком случае - ее не порождает.
Степная скотоводческая цивилизация за то же тысячелетие вряд ли обеспечивала возможность выгодного сравнения с более ранними образцами скотоводческой цивилизации. По крайней мере, Неаполь Скифский по размерам не меньше и устроен не хуже Сарая-Бату, а ногайская орда и Крымское ханство, сохранившие и в историческое время режим экзополитарной эксплуатации, уже не могли соперничать с Русью или подчинять ее себе.
6*
163
1 Геродот. История в десяти книгах. М., 1888. Т. 1,2.
л
Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1962-1968. Т. 1; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. . М.; Л., 1958. Т. 1; Егер О. Всеобщая история. СПб., 1894. Т. 2. С. 480.
3 Владимиров Б.Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. М., 1934.
^ Ростоу У. Стадии экономического роста. Нью-Йорк, 1961.
^ Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1977; Философские мысли натуралиста. М., 1988.
^ Дулов А.В. Географическая среда и история России. М., 1983.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1989.
** Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М., 1988.
^ Алексеев В.П. Антропогеоценозы - сущность, типология, динамика // Природа. 1975. № 7.
Буровский А.М. Антропоэкологическая проблематика в контексте изучения татарской археологической культуры // Скифо-сибирский мир (социальная структура и общественные отношения). Кемерово, 1989.
* * Крупник И.И. Арктическая этноэкология. М., 1989.
17
Черных Е.Н. Человек. Металл. Время. М., 1973.
^ Мартынов А.И. Лесостепная татарская культура. Кемерово, 1973. С. 224-230.
^ Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников Евразийских степей. М., 1975.
^ Крадин Н.Н. Экзополитарный способ эксплуатации в обществах номадов // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Томск, 1990.
Н.Н. Крадин
КОЧЕВНИЧЕСТВО В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ И ФОРМАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
I
Существуют два наиболее общих подхода к анализу всемирной истории. Первый из них может быть условно назван "стадиальным". Он трактует историю как единый процесс эволюции или развития человеческих общностей через определенные эпохи, периоды и этапы. В таком ключе сформулированы многочисленные теоретические построения, начиная с деления Титом Лукрецием Каром человечества на "дикое" и "цивилизационное" состояния или средневековой концепции "пяти империй" (ассирийской, персидской, македонской, римской и Священной Римской империи), и заканчивая многими современными теориями от марксистской пятичленной схемы формаций до стадий экономического роста У. Ростоу или эволюционных уровней политической организации Э. Сервиса.
Второй подход может быть условно обозначен как "культурноисторический" или же "цивилизационный" и предполагает рассмотрение прошлого под иным углом зрения: всемирная история предстает
© Н.Н. Крадин
164
как мозаичная картина несвязанных преемственностью оригинальных, самостоятельных культур-цивилизаций. "Вместо монотонной картины линейнообразной всемирной истории, - писал О. Шпенглер, - ...я вижу феномен множества мощных культур, с первобытной силой вырастающих из недр породившей их страны, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего существования и каждая из них налагает на свой материал - человечество - свою собственную форму, и у каждой своя собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, желания и чувствования и, наконец, собственная смерть"1.
Рассматривая историю степного мира в рамках последнего подхода, номадизм, под которым имеет смысл понимать специфический тип хозяйственной деятельности и связанных с ним социокультурных характеристик, где основной формой деятельности является экстенсивное скотоводство с периодическими перекочевками населения и скота, можно обозначить как своеобразную мегацивилизационную целостность.
Эта мегацивилизация сыграла важную роль в истории человечества. Осваивая огромные степные пространства, номады значительно расширили границы ойкумены. Их миграции и завоевания оказали весомое влияние на ход развития многих древних и средневековых земледельческих цивилизаций, на этническую историю народов мира. Мобильная система коммуникаций номадов занимала одно из ключевых мест в трансляции политической, технологической и культурной информации, в установлении транзитных связей между локальными очагами человеческой культуры (например, Великий шелковый путь). Кочевники внесли важный вклад в сокровищницу мировой культуры (достаточно вспомнить, к примеру, результаты археологического изучения скифских древностей), во многих земледельческих цивилизациях прослеживается влияние степного мира в комплексе предметов конского снаряжения, вооружении, одежде, поведенческих императивах.
Местом распространения номадизма были открыты ландшафты аридной зоны, благоприятствовавшие выпасу крупных стад скота. Номадизм жестко детермирован природно-экологическими условиями существования. Однако в таких условиях он являлся наиболее оптимальным способом адаптации к природной среде. Из животных основную хозяйственную роль играли лошади (в некоторых областях - верблюды), крупный и мелкий рогатый скот.
Видовой состав стада и процентное соотношение скота во многом определялись экологией различных зон. Для Центральной и Средней Азии характерно преобладание в поголовье стада овец; есть также крупный рогатый скот, но главная роль в хозяйственной и военной деятельности принадлежит лошади. В Передней Азии', Аравии и Северной Африке в составе стада преобладают козы и овцы, основным верховым и транспортным животным является верблюд. В Южной Африке почти исключительно разводят коров, на тибетском высокогорье - яков, в Андах - лам, а в тундре Северной Азии - оленей.
165
До настоящего времени в науке отсутствуют общепринятые подходы к типологизации кочевого мира, поэтому только в самом общем приближении можно говорить о пяти локальных вариантах (цивилизациях) кочевой мегацивилизации, различающихся составом стада, типами кочевания, материальной культурой, формами и степенью развития социальной организации, нормативами и образом жизни. Кочевников евразийских степей можно условно назвать коневодами, североафриканских и переднеазиатских номадов - верблюдоводами, высокогорных скотоводов Тибета - яководами, Анд - ламоводами, животноводов Южной Африки - коровопасами и, наконец, народы северо-азиатской тундры - оленеводами.
Но только в первых двух из указанных кочевых цивилизаций широкое распространение получило всадничество. А это обусловило военную активность северо-африканских, переднеазиатских и евразийских номадов и их длительное политическое доминирование над окружающим земледельческим миром.
Основной рацион номадов составляла мясная и главным образом молочная пища. Подвижный образ жизни обусловливал то, что наиболее распространенным типом жилищ номадов были различные варианты разборных, легкопереносимых конструкций, покрываемых, как правило, шерстью или кожей: войлочная юрта у кочевников евразийских степей, шатры и палатки в Передней Азии, Северной Африке и Аравии, легкие жердяные жилища к югу от Сахары и др. По этой же причине домашняя утварь у кочевников была немногочисленна, а посуда делалась из удобных для транспортировки материалов (дерево, кожа и пр.). Одежда и обувь шились, как правило, из кожи, шерсти и/или меха. Важным ее атрибутом являлись штаны - сначала предмет насмешек и презрительного отношения со стороны цивилизованных земледельцев и горожан, затем заимствованный ими в силу своей незаменимости при верховой езде.
Сами кочевники также презирали стационарный образ жизни земледельцев и горожан. Только очень серьезные невзгоды могли заставить кочевников оседать на землю. Такое состояние обычно рассматривалось как самое большое несчастье, осевшие скотоводы являлись самой попираемой стратой и при первой же возможности старались вновь обзавестись скотом и начать кочевать. "Только безвыходная нищета может побудить кочевников заняться хлебопашеством, - свидетельствует один из наблюдателей жизни номадов прошлого столетия. - Но лишь только он обзавелся скотом, тотчас бросает свою неуклюжую лопату, которой он пахал землю вместо сохи, - он делается кочевником".
Кочевников, привыкших к обширным пространствам, стесняли тесные дома горожан и они, как правило, не любили городов. Известно, что тюрки даже выработали своеобразную антиурбанистическую доктрину, смысл которой сводился к тому, что подвижный образ жизни представлялся как самое действенное стратегическое оружие против Китая. Номады, "когда они сильны, идут вперед для приобретения;
166
когда слабы, то уклоняются и скрываются" - констатировали письменные источники.
Города в степи возникали только с завоеванием кочениками оседлоземледельческих обществ и включением их в состав собственных политических образований. Управление завоеванными земледельцами требовало от номадов иных методов политической власти. Необходима была оседлость и создание бюрократического аппарата по подобию того, который существовал в подчиненных государствах. Афористично эту мысль высказал киданьский министр Елюй Чуцфй, сказав Великому монгольскому хану, что можно завоевать земледельческое государство, сидя на коне, но управлять им с коня нельзя. Следовательно, города у кочевников возникали как центры власти, места сосредоточения административного аппарата, управляющего завоеванными территориями. В них происходила концентрация, перераспределение и реализация изъятого у земледельцев прибавочного продукта. На время существования степных империй эти города становились крупными очагами высокоразвитого ремесла (благо, умелый люд в них сгоняли со всего света), центрами транзитной торговли, идеологии и полиэтничной культуры.
II
Цивилизационный поход играет важную роль в осмыслении места кочевников во всемирной истории. Он показывает, что номады - это не столько воинственные варвары-завоеватели, сметавшие все на своем пути, а во многом непонятный и чуждый земледельцам мир великой, самобытной культуры. Однако, как заметил Л.Н. Гумилев, "культурноисторическая школа, которая находит место для роли тюрков и монголов в истории человечества, не в состоянии дать объяснение внутренним закономерностям их исторического развития"2. Как объяснить внезапное усиление кочевых народов, превращение их в мировые империи, перед которыми трепетали королевские дворы Европы и Азии и столь же внезапное исчезновение с мировой политической сцены?
Для объяснения этого вопроса в марксизме была выработана специфическая теория "кочевого феодализма", призванная также обозначить место номадизма в общем марше человечества от первобытности к коммунизму. При этом кочевые империи, возникавшие до середины I тысячелетия н.э., объявлялись либо рабовладельческими обществами, либо крупными племенными союзами, а все политические образования кочевников последующего времени, при их практически полном структурном тождестве с предшественниками почему-то назывались феодальными государствами. Главная причина образования империй виделась исключительно в борьбе между классами и в создании организации для регуляции этой борьбы - государства.
Однако в теории "кочевого феодализма" изначально были заложены неразрешимые противоречия. Социальную структуру кочевников
167
трудно объяснить в категориях ортодоксального исторического материализма. Почему при высокоразвитой частной собственности на средства производства (скот) номады, в сравнении с оседло-земледельческими обществами, выглядят более эгалитарными, чем теоретически это должно было бы быть? С другой стороны, как, исходя из принципов соответствия "базиса” и "надстройки", объяснить возникновение, расцвет и гибель степных империй, где степень развитости "надстройки" колебалась между акефальными племенными структурами и военно-империальными образованиями, а "базис" (экстенсивное скотоводство) оставался неизменным?
Эти парадоксы, сформулированные в книге Э. Геллнера3, в марксистском кочевниковедении решались двумя отчасти схожими путями. "Феодалисты" попросту закрывали глаза на разницу в потенциях и пределах развития между земледелием и экстенсивным кочевым скотоводством, завысив тем самым уровень развития "базиса" кочевых обществ. Их критически настроенные оппоненты исходили из противоположного. Они опирались на факт экстенсивного характера кочевой экономики, мало менявшейся с течением времени. Первобытный "базис" кочевых обществ предполагал и первобытную их "надстройку". Следовательно, кочевые общества в своем развитии достигали самое большее позднепервобытной (предклассовой, дофеодальной) стадии.
Последнее решение проблемы, несомненно, являлось определенным шагом вперед уже хотя бы потому, что большинство фактов укладывается в эту схему. Однако тезис о предклассовом характере номадизма предполагает процедуру занижения уровня развития "надстройки" ряда кочевых обществ, а те из империй, которые уж явно не соответствовали позднепервобытной модели, были подведены под категории диалектического материализма "случайного и необходимого" и обозначены как временные и эфемерные образования. Но такими ли эфемерными выглядят кочевые империи в сравнении, например, с тоталитарными государствами современности?
Еще один парадокс номадизма в контексте формационной теории заключается в том, что кочевники не укладываются полностью ни в одну из моделей доиндустриальных общественно-экономических формаций, традиционно выделяемых исследователями.
Несмотря на то, что очень многие кочевые общества, бесспорно, могут быть отнесены к "первичной" общественной формации, их внутренняя структура имела далеко не первобытный, эгалитарный характер. С одной стороны, трудно назвать первобытными социальные организмы, в которых присутствует частная собственность на средства производства и лица, аккумулировавшие ее в больших размерах, а также зачатки эксплуатации. С другой стороны, такая форма социально-политической организации номадов, как кочевая империя (империи охватывали гигантские территории и подчиняли многомиллионные государства) вряд ли может быть представлена в теории как особый вариант позднепервобытной "надстройки" - "военной демократии" или же племенного союза.
168
Если говорить о рабовладельческой формации, то факты показывают, что отношения данного типа существовали у кочевников во все эпохи. Но ни в один из периодов истории номадизма рабство не получило в степи широкого распространения. Во-первых, при скотоводстве большая часть потребностей в рабочей силе удовлетворялась за счет внутренних ресурсов, благо малоимущие номады имелись всегда. Во-вторых, кочевой образ жизни - не лучший способ надзора за рабами, всегда думавшими о побеге, а в-третьих, концентрация их в одном месте по типу латифундий опасна восстанием, поскольку степняки преимущественно кочуют небольшими объединениями. Рабы в кочевых обществах (преимущественно женщины) использовались только в домашнем хозяйстве, большинство же их поставлялось на работорговые рынки.
Некоторая часть малоимущих и бесскотных номадов могла подвергаться эксплуатации со стороны более зажиточных соплеменников путем привлечения их в качестве работников-батраков, либо посредством передачи беднякам некоторого количества скота на выпас (так называемый "саун"). Существование у номадов этого уклада послужило основой для формирования теории "кочевого феодализма".
Однако данная теория бы#а сформирована в основном на материалах нового и новейшего времени, когда кочевничество, не способное конкурировать с прединдустриальными цивилизациями, пришло в упадок, была деформирована его традиционная социальноэкономическая структура. Но даже в период заката номадизма данный уклад не был господствующим (за исключением, быть может, редких случаев), ни тем более единственным. К тому же, исследователи первой половины XX столетия придерживавшиеся теории "кочевого феодализма", во многом модернизировали изучаемые ими отношения.
Наконец, по моему глубокому убеждению, о феодализме как особой формации, с присущими ей "сеньориальным способом производства", вассалитетом, рыцарской моралью, особым типом ментальности и пр., можно говорить лишь применительно к средневековой Европе. Расширительное толкование термина "феодализм" лишает его содержательной нагрузки. Какой смысл в его использовании, если при этом уничтожаются все различия: между Западом и Востоком, между кочевниками и земледельцами?
Имелись определенные аналогии между некоторыми кочевыми обществами и восточными деспотиями (наиболее яркий пример - держава Чингисхана и его ближайших преемников), что неоднократно приводило исследователей к мысли о существовании у номадов азиатского способа производства. Однако даже в самых развитых из кочевых обществ повинности, взимаемые с простых номадов, были невелики в сравнении с эксплуатацией завоеванных земледельцев и не являлись главным источником доходов кочевой верхушки, а постоян¬
169
ная нужда скотоводов в земледельческой и ремесленной продукции требовала консолидации всех социальных слоев для осуществления войн и завоеваний и ограничивала возможности развития внутренней эксплуатации.
Таким образом, можно сделать вывод, что в кочевых обществах в той или иной степени развитости существовали уклады всех известных доиндустриальных способов производства, однако ни один из них не играл ведущей, принципиальной роли. Данное обстоятельство предполагает необходимость поиска критериев, которые бы показывали системообразующие черты кочевых обществ и отражали бы место номадизма во всемирной истории. Однако поскольку поиск таких критериев предполагает выявление принципиально иного системного качества, отличного от фундаментальных характеристик известных докапиталистических формаций (первобытной, азиатской /государственной, политарной/, античнорабовладельческой, феодальной), необходимо предварительно остановиться на некоторых общих вопросах формационной теории.
III
В настоящее время очевидно, что теория формаций является лишь одним из возможных подходов к изучению эволюции человечества. Она не может рассматриваться в качестве универсальной концепции отражения Всемирной истории, так как берет за основу лишь один из возможных критериев - классификацию социальных систем по различным видам производственной деятельности людей, которые "не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью"4.
Между тем человеческие общества можно классифицировать и изучать, исходя и из других критериев: хозяйственно-культурных типов, рас, языков, этнического родства, различия в культуре и пр. Каждый из этих подходов вносит свой вклад в целостную научную картину мира и предполагает независимый от формационного подхода взгляд на историю человечества. Теоретически возможно частичное пересечение по принципу кругов Эйлера. Но было бы в корне неверным стремиться подогнать все имеющиеся классификации под универсальную на все случаи жизни схему общественных формаций.
Вместе с тем, пора пересмотреть узкое однолинейное и механически-детерминистское понимание социальной эволюции. Следует вспомнить, что каждая эпоха дает свое понимание мироздания. Часы и паровая машина являлись символом эпохи перехода от традиционного общества к прединдустриальной и индустриальной стадии. Генезис этой стадии породил теории, изображавшие историю природы и общества как работу своего рода гигантских раз и навсегда отре¬
170
гулированных механизмов. И хотя марксистская диалектика критически переосмыслила механический материализм, представив мир как бесконечно развивающуюся материю от низших уровней к высшим, марксизм все же остался по-прежнему детерминистским взглядом на историю, являясь в этом плане наследником ньютоновского понимания мироздания.
Современное естествознание (в первую очередь исследования И. Пригожина и его школы) показывает, что картина мира Ньютона применима лишь в частных случаях. "Наше видение природы претерпевает радикальные изменения в сторону множественности, темпоральности и сложности. Долгое время в западной науке доминировала механическая картина мироздания. Ныне мы сознаем, что живем в плюралистическом мире. Существуют явления, которые представляются нам детерминированными... Помимо детерминированных процессов, некоторые фундаментальные явления, такие, например, как биологическая эволюция или эволюция человеческих культур, должны содержать некий вероятностный элемент"5.
В свете этого следует переосмыслить традиционное понимание формационного процесса.
В отечественной литературе термин "общественно-экономическая формация" принято понимать как общество (или модель общества), одновременно являющееся типом-стадией. Этот термин и понимание социальной эволюции как процесс смены одних формаций - стадий другими явились мишенью (кстати говоря, во много уязвимой), в которую западными исследователями было выпущено большое количество критических копий. Между тем, в стадиальном аспекте исторического процесса между так называемыми немарксистскими и марксистскими исследователями намного больше схожего, нежели принципиальных разногласий. Первые в большинстве своем выделяют примитивные, традиционные, индустриальные и постиндустриальные общества (стадии). По моему убеждению, эта схема во многом тождественна марксовому делению на "первичную" - "вторичную" и "третичную" формации и выделение в рамках "вторичной" двух "крупных форм": докапиталистической и капиталистической.
Однако в пределах стадии можно выделить несколько различных моделей социальных систем. В традиционных структурах это античные, феодальные, восточные и возможно какие-нибудь еще типы общества. На индустриальной стадии в современный период в самом широком приближении - капитализм, социализм и развивающися страны. Даже применительно к первобытности, на мой взгляд, вполне можно говорить о мозаичности социальных структур. Во всяком случае, выделенные К. Марксом в "Формах, предшествующих капиталистическому производству" три типа структур можно трактовать именно в таком контексте.
По этой причине следует различать в формационной теории два принципиально отличных уровня: стадиальный и типологический. Для удобства терминологического аппарата для понимания формации как
171
стадии можно использовать термин мегаформация, оставив за дефиницией формации ее подчиненный, типологический смысл.
Одни формационные типы могли переходить на более высокий мегаформационный уровень самоорганизации, другие, являясь в этом смысле "тупиковыми" линиями эволюции, не могли перешагнуть барьера. В качестве примера можно назвать общества высокоразвитых рыболовов, для которых максимальным был уровень вождеств - предгосударственных иерархических структур (впрочем, и здесь, если судить по данным этнографии, могли быть единичные исключения). Помимо того, вероятен факт того, что даже на одной мегаформационной стадии в критические ситуации возможна потеря системных качеств одного типа и переход в иное формационное состояние. Причем теоретически нельзя исключать возможность такого перехода не в рамках единичного социального организма, а в пределах целого типа систем - формации. Однако все эти вопросы заслуживают специального обстоятельного изучения.
Возвращаясь к определению общественно-экономической формации, следует отметить, что ее сущность нельзя сводить только к какому-то одному типу социальной связи. Сложные системы не сводимы к составляющим их компонентам. Соответственно, анализ этих систем не может подменяться сведением целого к анализу отдельной "клеточки". Поэтому, изучая, например, рабовладельческое общество, трудно сводить его только к взаимоотношению между рабовладельцами и рабами, особенно при учете того, что рабовладельческий уклад даже теоретически невозможен без взаимодействия с другими общественными подсистемами. Также нелегко понять сущность феодального общества, исследуя только отношения между крестьянами и сеньорами. Теория феодализма без городов, церкви, государственной системы получается кастрированной, лишенной потенций применения ее в реальности.
Пора согласиться, что природа не терпит абсолютной чистоты. Абсолютно чистые системы нежизнестойки, у них нет иммунитета, и попытки построения таких систем в жизни (а не в теории) убедительно показывают это. Так почему же в теории нужно так огрублять формационную модель? Общественно-экономическая формация - это модель социального организма, в которой присутствуют различные подсистемы, различные уклады. Лакмусовой бумажной формационности при этом выступает системообразующая подсистема, которая доминирует в обществе и пронизывает все это остальные подсистемы от экономических до культурно-идеологических уровней. Такой уклад можно было бы назвать формационнообразующим укладом.
Попытаемся теперь рассмотреть номадизм в контексте вышеизложенных принципов. Принимая, с одной стороны, понимание формации как сложносоставной модели социального организма, необходимо найти те качества, которые бы отражали формационнообразующие черты кочевых обществ. С другой стороны, необходимо определить место номадизма на мегаформационной шкале исторического процесса.
172
IV
Одной из принципиальных черт скотоводческой экономики является ее зависимость от природно-климатических колебаний. При этом не существует особенной разницы между древними, средневековыми и более поздними номадами. Вырисовывается тенденция, согласно которой примерно каждые десять - двенадцать лет случался массовый джут, в результате которого гибло, как правило, не менее половины от поголовья всего скота. Если учесть, что на восстановление требовалось примерно столько же времени, то можно предположить, что численность поголовья стад циклически колебалась вокруг определенной отметки, то увеличиваясь в результате благоприятных экологических условий, то сокращаясь от джутов и других неблагоприятных факторов.
Кроме того, увеличение производства при кочевом скотоводстве больше определяется естественными условиями обитания, нежели количеством вложенного труда. Экстенсивный характер скотоводства позволял ему развиваться только вширь, за счет расширения использования пастбищных ресурсов. Можно предположить, что все пригодные для скотоводства земли были относительно быстро освоены, что, в свою очередь, мешало росту поголовья скота и увеличению населения степи. В конечном счете сложился достаточно динамичный баланс между ресурсами пастбищ, количеством стад и общей численностью номадов. Сами кочевники эмпирически прекрасно осознавали данную зависимость. "Без травы нет скота, без скота нет пищи", - гласит монгольская пословица.
Таким образом, скотоводческая экономика в принципе эволюционирует в рамках простого воспроизводства, а при стечении ряда благоприятных факторов может привести к некоторому развитию, пределы которого ограничивает емкость экологической зоны. При этом, конечно, перед номадами всегда существовала реальная угроза климатического стресса. Причиной кризиса могли стать и иные условия, напрямую не связанные с климатом, такие как, например, чрезмерный прирост количества скота или же демографический взрыв численности номадов. Для разрешения этих и иных проблем кочевникам приходилось использовать различные регулятивные социальные механизмы, а также привлекать дополнительные энергетические источники.
Среди последних могли быть иные типы хозяйственной деятельности: охота, рыболовство и земледелие. Однако оседлость, занятие рыбной ловлей и земледелием рассматривались как альтернатива кочевому образу жизни и на этот шаг номадов могли вынудить только исключительные обстоятельства. Поэтому кочевники предпочитали развивать земледельческий сектор в экономике своего общества путем включения в состав социума мигрантов из соседних оседло-земледельческих государств, либо посредством угона в плен земледельческого населения. Поселки такого типа существовали у многих кочевых народов: у сюнну, сяньби, тюрков, киданей, монголов и др.
173
Вместе с тем, недостающие продукты земледелия, продукцию ремесел и пр. можно было получать от соседних земледельческих цивилизаций и иными способами: торговлей с земледельцами, посреднической торговлей между земледельческими странами, грабежом, взиманием контрибуции или дани, навязанным вассалитетом и, наконец, непосредственным завоеванием. Причем, когда номады чувствовали, что не уступают в силе своим соседям земледельцам, они предпочитали получать недостающую продукцию этими способами.
Война и экзоэксплуатация были широко распространены у кочевников. Весьма показательно свидетельство Страбона (VII, 4) о скифах: "Кочевники, правда, скорее воины, чем разбойники, все же ведут войну из-за дани. Действительно, они передают свою землю во владение тем, кто хочет ее обрабатывать, и довольствуются, если получают взамен условленную плату, и то умеренную, не для обогащения, но только для того, чтобы удовлетворить необходимые ежедневные потребности жизни. Однако с теми, кто им не уплачивает деньги, кочевники воюют".
У других древних и раннесредневековых кочевников евразийских степей внешнеэксплуататорские отношения были также широко распространены. Нарративные источники сообщают о наличии отношений данного типа у сяньби, усуней, сюнну, юэчжей, жужаней, тюрков, уйгуров и других номадов. Та же традиция наблюдалась и в более позднее время. Данничество, война и грабеж зафиксированы источниками у киданей, их западных наследников - каракиданей, доимперских монголов, в державе Чингисхана и в империях его наследников. Аналогичная картина наблюдалась и в новое время. Внешнеэксплуататорская деятельность была распространена у кочевых индейцев Северной Америки, в Африке экзоэксплуатация прослеживается в Южном Сомали, в Северной Эритрее, в государствах Межозерья, у туарегов Сахары и во многих других районах континента.
Однако для того, чтобы грабить или взимать дань, номадам было необходимо объединиться в единую, пусть даже временную структуру. Для эксплуатации небольших земледельческих оазисов, княжеств, политически разобщенных локальных общностей охотников, кочевников, рыболовов и пр. это можно было делать в рамках небольшого объединения (союза или конфедерации племен, вождества и т.п.). В таких образованиях верховный вождь был вынужден балансировать между различными социальными слоями (аристократией, простыми кочевниками, дружиной и др.) и было бы ошибочным рассматривать его как единоличного правителя, принимавшего все ответственные решения. Власть правителя держалась до тех пор, пока различные внутренние партии и большие социальные группы видели в ней для себя выгоду. В противном случае, подданные могли откочевать от него, свергнуть или даже убить. Поэтому лидер был вынужден идти на компромиссы.
Вместе с тем небольшие образования номадов не могли выступать на равных на политической арене с крупными земледельческо-город¬
174
скими цивилизациями, так как без особого труда были бы ими разгромлены и уничтожены. В данной ситуации были необходимы консолидация рассредоточенного по огромным степным пространствам населения в прочную военно-политическую организацию, централизация власти и установление жесткой военной дисциплины. Таким путем рождались кочевые империи. И только так в евразийских степях можно было на время преодолеть противоречия экстенсивной кочевой экономики.
Кочевая империя - это сложная, занимающая относительно большое пространство общественная система, состоящая из "кочевого ядра", имеющего форму иерархической (военно-иерархической) пирамидальной структуры при сравнительно неразвитой внутренней эксплуатации и зависимой, эксплуатирующейся территории, в которую могли входить как земледельческие, так и другие народы.
Для кочевого ядра, или иначе говоря номадной подсистемы империи, были характерны: 1) многоступенчатый, иерархичный тип социальной организации, в котором низшие звенья основаны на действительных экономических связях, кровном родстве, принципах трудовой кооперации, а более высокие уровни характеризуются фиктивным генеалогическим родством, военными, потестарно-политическими и др. связями; 2) триадный (реже - дуальный) принцип социальной организации на ее высшем уровне; 3) военно-иерархический характер социальной организации, как правило, по "десятичному" принципу.
По характеру отношений, существовавших между номадной и земледельческой подсистемами, можно выделить три типа кочевых империй. В первом случае кочевники и земледельцы не составляли ни единой взаимосвязанной экономической системы, ни тем более единого политического организма (державы сюнну и сяньби, жужаньский, аварский, тюркский, уйгурский каганаты, ранняя Скифия, Приазовская Болгария). Кочевые империи второй модели характеризуются тем, что кочевая и оседлая подсистемы составляют единый политический организм, однако между их экономическими системами отсутствует тесная связь (Золотая Орда, империя Юань). Империи третьего типа создавались после того, как номады завоевывали земледельческое общество и перемещались на его территорию. Соответственно, кочевое ядро и земледельческо-городское население входили в состав одного социального организма (парфянское и кушанское государства, поздняя Скифия, Тоба Вей, империи Сельджуков, Караханидов, Ильханов, Ляо, Дунайская и Волжская Болгарии).
В соответствии с тремя моделями кочевых империй можно выделить три варианта эксплуатации, посредством которых номады получали прибавочный продукт с зависимых территорий. В первом случае земледельческие цивилизации не входили непосредственно в состав кочевых империй. Там номады получали прибавочный продукт путем ♦периодических набегов, грабежей, войны, вымоганием так называемых "подарков", навязыванием неэквивалентной торговли. Данный тип эксплуатации удачнее всего отражает термин "дистанционная эксплуатация".
175
Второй вариант предполагал данническую эксплуатацию зависимых земледельческих государств в рамках единой политической системы. И лишь для кочевых империй третьего типа было характерно регулярное налогообложение земледельческого и городского населения внутри единого социального организма.
Между перечисленными типами эксплуатации имеются определенные различия. От дистанционной эксплуатации, имеющей эпизодический характер, дань отличается более регулярным характером отчуждения. С другой стороны, в отличие от данничества, критерием которого является внешнеэксплуататорская направленность, регулярное налогообложение земледельцев производится внутри, а не вне социального организма.
Таким образом, в соответствии с двумя тенденцияи (за синтез с земледельцами и против него), сосуществовавшими и противоборствовавшими в обществах номадов, можно выделить три типа или модели кочевых империй. Впрочем, эти модели, по всей видимости, имели универсальный характер и могут быть прослежены в той или иной вариации в истории номадизма. При этом еще раз следует заметить, что кочевые империи возникали как средство адаптации к крупным земледельческим цивилизациям и, поэтому, выделенные три типа намного чаще встречались не в форме империй, а в несколько уменьшенном масштабе в виде простых и составных вождеств, военноиерархических и военно-олигархических структур. Думается, в этом отношении не было принципиальной разницы между кочевническими образованиями различных эпох и континентов.
Итак, война и различные формы внешнеэксплуататорской деятельности являлись важным механизмом функционирования и воспроизводства крупных кочевых социально-политических образований. При этом, рассматривая отношения данных кочевых структур и оседлогородского мира в рамках взаимодействия единой суперсистемы, можно обозначить номадизм как своеобразную ’’надстройку" над земледельческим "базисом". Данная "надстройка" представляла собой специфический, господствовавший над земледельцами "класс-этнос" и в то же время нечто вроде тотального государственно-милитаристического аппарата. В этом сложносоставном механизме кочевая аристократия выполняла функции управления высших звеньев военной и гражданской администрации, а простые скотоводы непосредственно осуществляли экспансионистские и репрессивно-принудительные цели кочевого общества.
Для обозначения такого характера деятельности и совокупности таких способов эксплуатации (военного грабежа, данничества, налогообложения завоеванных земледельцев) и одновременно для таких социально-политических образований был предложен термин "экзополития" (от греч. "экзо" - вне и "полития" - государство, общество)6. Но можно ли рассматривать данный способ эксплуатации как основу для самостоятельного способа производства и соответственно особой общественно-экономической формации?
176
Если исходить из традиционного понимания внешнеэксплуататорской деятельности (в первую очередь данничества), то нет, поскольку обычно предполагается, что данничество не может стимулировать развитие общества, не может образовывать целостной социально-экономической системы и является лишь паразитическим придатком к другим укладам.
Но, думается, когда речь идет не о "технологических" способах производства (земледелие, скотоводство, рыболовство и т.д.), а об "общественных" (азиатский, рабовладельческий, феодальный и пр.), под производством следует понимать не способ, которым осуществляется получение энергии из внешней среды к социуму, а форму организации коллектива, посредством которой происходит это присвоение. Тем более, что в докапиталистических формах "сам работник выступает как одно из природных условий производства, служащих некоторому третьему лицу или общине... Рабство, крепостная зависимость и т.д. всегда являются вторичными формами, никогда не первоначальными, несмотря на то, что они необходимый и последовательный результат собственности, основанной на племенном строе"7. При этом следует помнить, что "война есть один из самых первобытных видов труда"8.
Другими словами, любой эксплуататор: магнат, кормящийся за счет ренты, бюрократ, существующий за счет налогов и неэквивалентной редистрибуции общественных ресурсов, завоеватель, живущий за счет дани, и т.п. - все они являются в той или иной степени "паразитами" на отношениях непосредственного производства. И в этом плане, на мой взгляд, вполне корректной представляется постановка вопроса о выделении особого "экзополитарного" способа производства.
Данному способу производства у кочевников соответствовала специфическая форма общественной организации (разного рода военнодемократические и военно-иерархические структуры). Наиболее развитый инвариант этой организации - "кочевая империя" - может быть поставлен в один типологический ряд с другими моделями доиндустриальных форм государственности: антично-рабовладельческим полисом, феодальным королевством, восточной деспотией.
От рабовладения и феодализма экзополитарный способ производства отличается тем, что первые два способа производства имеют "микросоциальный" характер, т.е. производственный процесс преимущественно осуществляется внутри небольших социально-экономических ячеек (домохозяйств, общины). К тому же и рабовладение и феодализм относятся к так называемой эндоэксплуатации. В экзополитарном же способе производства экономическая деятельность (т.е. война) носит всеобщий, макросоциальный характер. Данное обстоятельство сближает его с азиатским способом производства. Однако в последнем организация производства имеет внутреннюю направленность, также как и государственная эксплуатация эндогенный характер. Напротив, экзополитарный способ производства предполагает внешнюю направленность деятельности, чтобы изымать из оседло¬
177
городских обществ необходимую продукцию земледелия и ремесла. Соответственно и эксплуатация имеет экзогенный характер.
В период с середины I тысячелетия до н.э. до середины II тысячелетия н.э. - эпоху расцвета номадизма - экзополитарный способ эксплуатации доминировал среди остальных социально-экономических укладов, существовавших в кочевых обществах. Он представлял собой ведущую подсистему экономики, играл формационнообразующую роль. Это выразилось в том, что социальнополитическая организация кочевых обществ приобрела выраженно милитаристический характер (военно-демократические, военноиерархические, военно-олигархические структуры, кочевые империи). В определенном направлении трансформировались и социокультурные ценности общества. Среди номадов сложилось представление о большей престижности военных грабительских походов и грабительских набегов в сравнении с собственно скотоводством. Геродот (II, 167), в частности, отмечал, что скифы и подобные им варвары "меньше всех ценят тех граждан и их потомков, которые занимаются ремеслом, напротив, считают благородными тех, которым совершенно чужд ручной труд и которые ведают только военное дело". Все это накладывало определенный отпечаток на жизнь кочевников, послужило основой для формирования культа войны, воина-всадника, героизированных предков, нашедших, в свою очередь, отражение как в устном творчестве (героический эпос), так и в изобразительном искусстве (звериный стиль).
Таким образом, имеет смысл говорить об особом экзополитарном способе производства у кочевников, основанном на внешнеэксплуататорской деятельности (экзоэксплуатация была широко распространена и в других типах общественных структур, но именно у кочевников она играла системообразующую роль) и, следовательно, об особой общественно-экономической формации. Эта формация в силу своих фундаментальных свойств была тупиковой линией исторической эволюции и не могла вывести общество на индустриальный мегаформационный уровень.
В эпоху первоначального накопления натуральное хозяйство номадов, примитивный уровень их технологических производительных сил оказались неспособными конкурировать с новыми формами технологии и организации труда в рамках мануфактуры и фабрики. Появление огнестрельного оружия, видимо, положило конец военному превосходству кочевников. "Порох и пушки одержали верх над их быстротой" (Ф. Бродель). Номады стали вовлекаться в сферу влияния своих соседей, но уже в качестве подчиненной, эксплуатируемой стороны, их хозяйство начало перестраиваться, частично ориентируясь на внешний рынок. В результате деформировалась социальная структура, там, где это было возможно, кочевники седентеризировались, постепенно утрачивая черты своего хозяйственно-культурного типа. Номадизм как мегацивилизационная целостность оказался под угрозой исчезновения.
178
]Шпенглер О. Закат Европы. М; Пг., 1923. Т. 1.С. 20.
2Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л., 1989. С. 150.
3Gellner Е. State and Society in Soviet thought. Oxford, 1988. P.96.97.
4Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 6. С. 441.
5Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 34.
6Крадин Н.Н. Экзополитарный способ эксплуатации в обществах номадов // Проблемы исторической интерпретации археологических и этнографических источников Западной Сибири. Тез. докл. Томск, 1990.
1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. С. 485,486.
8Там же. С. 480.
РАЗВИТИЕ АНТИЧНЫХ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Я.Ю. Межерицкий ИМПЕРАТОР АВГУСТ,
ОСНОВАНИЕ ИМПЕРИИ И ПРОБЛЕМА РУБЕЖА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
"Историческая хронология условна: границы веков, десятилетий, понятия "начало века", "конец столетья" определяются принятой в той или иной культуре точкой отсчета, казалось бы, совершенно внешней по отношению к историческим событиям. Однако и историки, и люди в своей житейской практике знают, что отличие одного десятилетия от другого, "лицо века" - вещи реальные, и люди, ощущающие себя зачинателями столетия, не похожи на тех, кому приходится подводить итоги"* *.
Ю. Лотман. Клио на распутье
По времени принципат Августа совпадает с событиями и переменами, отложившимися в памяти человечества как рубеж эр1. При всей условности, такое деление имеет некие объективные основания, едва ли не главным из них является своего рода инвариантность масштаба произошедших событий. Существенные основания данной периодизации обнаруживаются не только в совершенно, казалось бы, автономных сферах жизни, но и в нескольких исторических измерениях, открывающихся при рассмотрении под меняющимися углами зрения, на базе разных методологий.
Христианская мистико-телеологическая трактовка истории2, сформулированная, в частности, Августином Блаженным, предполагает, что история человечества от Адама и Евы до Страшного суда распадается на две части, разделенные земной жизнью Иисуса Христа3. Обозначенная таким образом ось времен4 хронологически соответствует первым десятилетиям Римской Империи, сменившей республику.
© Я.Ю. Межерицкий
* В эпиграфе цитируется статья Ю. Лотмана в журнале "Наше наследие". М., 1985. № 5. С. 1.
180
Случайно ли такое совпадение? Вопрос риторический, поскольку общепризнано, что лишь в рамках "мирового" по тем временам государства (Pax Romana) могла получить развитие и широко распространиться такая универсальная, космополитическая религия, как христианство. Эта аксиома в свою очередь имеет вариации-ипостаси в различных системах мышления.
С одной стороны, мысль об империи как предпосылке победы новой религии появилась еще у христианских мыслителей; Тертуллиана, Оригена, Евсевия Кесарийского. Последний из них утверждал, что Империя - орудие божественного провидения, предназначенное для спасения человечества и построения Царства Божия на земле5.
С другой стороны, известные рационалистические объяснения, оперирующие социологическими и культурологическими категорями, указывают, что в рамках сформировавшейся средиземноморской общности, наряду с обострением классовых и этнических противоречий, происходила унификация всех сторон общественной жизни и государственного управления, осуществлялся интенсивный обмен результатами материального и духовного производства. Традиции и идеи, вырабатывавшиеся многочисленными этносами и культурами, настроения и религиозные переживания, возникавшие в различных странах, становились общим достоянием в рамках огромного государства. Это было одним из необходимых условий рождения христианства и его превращения в "мировую" религию6. Но процесс интеграции, способствовавший успехам новой религии, был также предпосылкой возникновения и условием укрепления самой Империи как монархического государства, объединившего средиземноморский мир. В этом смысле монархия, как и христианство, были следствием одних и тех же процессов, в первую очередь - разрушения античного полисного племенного и этнического партикуляризма и связанных с ним систем жизненных ценностей. Не приходится отрицать и обратной связи: в свою очередь монархия и христианство были факторами, которые содействовали разрушению старых и возникновению новых представлений и ориентаций.
Совершенно очевидно, что указанные и иные корреляции обусловлены не случайными совпадениями, - в них проявилась глубинная системная связь между процессами, происходившими в различных сферах жизни средиземноморского, и в частности римского, общества. Не указывают ли они на абсолютное значение происходивших качественных изменений, их "цивилизационный" ранг?
Важнейшей составляющей процесса образования цивилизации как исторической социокультурной общности является генезис ментальности, в том числе ее структурообразующего элемента - исторического сознания (историзма)7. Для римлян оно было прежде всего осмыслением хода и смысла истории Города, Народа и его Империи8. Но именно здесь происходили чрезвычайно важные изменения, обусловленные, в частности, установлением нового режима.
181
Символический акт, обозначивший начало особого типа правления - принципата, произошел 13 января 27 г. до н.э., когда Октавиан отказался от чрезвычайных полномочий и "возвратил республику сенату и народу". После этого, согласно официальной трактовке, представленной, в частности, знаменитыми "Res gestae divi Augusti", он превосходил других должностных лиц только "авторитетом" (auctoritas), но не властью (potestas)9.
В историографии преобладает мнение, что акт "восстановления республики" был с самого начала чистейшим лицемерием10. Обращение к свидетельствам предостерегает от чрезмерного упрощения картины. Современники встретили указанное событие с энтузиазмом. О каких-либо сомнениях в Риме по поводу "восстановления республики", которые относились бы к тому моменту, неизвестно. Это, разумеется, не означает, что указанные события были приняты за восстановление республики в новоевропейском понимании этого термина. В представлении римлян res publica - не конкретная форма государства, при которой власть принадлежит народу, в том числе через представителей, а "общее (общественное) достояние", "сфера общественных интересов"11.
Согласно трактовке "Res gestae", смысл урегулирования заключался в том, что res publica в означенном смысле перестала быть предметом вожделений и желанной добычей своекорыстных партийных группировок, возвратившись к законному суверену - Сенату и Римскому народу12. Август выступил при этом в роли не только великодушного победителя, но также умиротворителя и гаранта "восстановления". В момент наступления долгожданного мира мало у кого доставало скептицизма, чтобы усомниться в этом.
Имеется целый ряд свидетельств, что современники и участники событий вполне искренно приветствовали "восстановление республики". Не говоря уже о стихах знаменитых поэтов Августова века, Вергилия и Горация13, имеются документальные свидетельства, подтверждающие, что формула "восстановленной республики" первоначально принималась без особых подозрений, в том числе известные надписи "Laudatio Turiae", "Fasti Praenestini" (на 13 января) и др.14
Однако менее чем через сто лет после смерти основателя принципата, примерно около 120 г. н.э., великий римский историк Корнелий Тацит уже не сомневался, что Август, лицемерно заявляя о приверженности "республике", исподтишка устанавливал монархию15. Эта трактовка, будучи одновременно прагматической и антитиранистической (или "антитоталитаристской"), предпочиталась историками последующих веков официальной Августовой версии. Но самым убедительным оказывается тот "очевидный" и "объективный" факт, что основание Августова принципата действительно совпало с началом новой эпохи в истории Римской государственности - Империи. Поэтому, по крайней мере со времени Тацита, концепция возникновения принципата, согласно которой Август под личиной "восстановления республики" скрывал свои монархические замыслы, стала обще¬
182
принятой, надолго определив восприятие и оценку основателя принципата в историографии16.
Принципиальные расхождения между двумя интерпретациями, представленными наиболее ясно самими Августом и Тацитом, не следует сводить к лживости или правдивости одного из них. Ведь каждый выражал в конечном счете не просто свою версию событий, но формулировал их восприятие, оценку, образ, понимание в общественной ментальности на определенный исторический момент. И в этом смысле каждая из версий является "истинной"и ’’объективной”, ментальность является историческим объектом во всяком случае не меньшей значимости, чем что бы то ни было еще. Более того, по крайней мере в данном случае, ретроспективный и потому, казалось бы, претендующий на беспристрастность взгляд требует особо критического отношения, поскольку в силу некоторых обстоятельств явно искажает восприятие, синхронное рассматриваемым событиям.
Важнейшую причину расхождений следует искать в произошедшей в течение жизни двух-трех поколений смене восприятия римской истории, в которой ясно обнаружилась пропасть между республикой и Империей. И в этом отношении новая историография (несмотря на прошедшие почти две тысячи лет) оказывается гораздо ближе Тациту, чем сам древнеримский историк (менее чем через полтора столетия) - к современникам Августова урегулирования 27 года. Именно на этом относительно небольшом отрезке исторического времени и следует искать ту границу, что некоей непроницаемой пеленой отделила ментальность Тацита от ментальности Вергилия и Горация17.
Обнаружив невидимую для самого Тацита границу, которая, очевидно, не гарантировала суждения об указанных событиях sine ira et studio, но отгородила от историка ментальность современников событий, попытаемся проникнуть внутрь исторического пласта, в котором замешивалось тесто нового исторического сознания. Он был неоднородным, последовательно опускаясь в глубь десятилетий, можно обнаружить некие промежуточные вехи и истоки того историзма, для которого Августа и его урегулирование становились символами новой эпохи.
Один из важных этапов становления новой ментальности обнаруживается в сочинениях известного философа и политического деятеля времен Юлиев-Клавдиев - Луция Аннея Сенеки. Его поколение занимало срединное положение между Августом (Сенека родился примерно в середине его принципата, около 4 г. до н.э.) и Тацитом, детство которого совпало с последними годами жизни Сенеки, покончившего с собой по приказу Нерона в 65 г.
В сочинениях политического мыслителя, адресованных Нерону, и в первую очередь в трактате-наставлении "О милосердии", обнаруживается продуманная, хотя и не остававшаяся неизменной на протяжении его жизни историческая концепция. Ей присуще ясное понимание рубежа между двумя эпохами, "республикой" и "принципатом", "древностью" и "современностью"18, и это было важным элементом склады¬
183
вавшейся новой ментальности. Более того, наличие рубежа, отделившего республику с ее неурядицами и гражданскими войнами от Империи, положившей конец бесплодной борьбе и кровопролитию, - для Сенеки аксиома, не нуждающаяся в особой аргументации. Если что и требует обоснования - то это неизбежность и благотворность нового порядка вещей как для государства, так и для граждан.
Огромный государственный корабль, разрушавшийся смерчами гражданских распрей, мог спасти лишь сильный и умелый кормчий. Республика, с ее буйством желаний и эгоистических амбиций, была обречена. В ходе гражданских войн решалось уже не то, быть ли республике, но - кто ею завладеет: Помпей, Цезарь или какой-либо еще честолюбец. Этого не понял Катон (Утический), которого Сенека то боготворит, то беспощадно критикует за политическую близорукость19.
Сенекова критика Катона была направлена против его эпигонов, твердолобых приверженцев уже давно не существовавшей ’’свободной республики”. Но эта борьба идей, мнений, жизненных позиций всю жизнь продолжалась и в самом Сенеке, в представлениях которого обнаруживается немало штампов, унаследованных от предшественников. Впрочем, даже весьма незаурядным людям, жившим гораздо позже, в том числе и Тациту, не удалось полностью расстаться с "республиканскими" стереотипами и иллюзиями20.
Сенеке принадлежит заслуга теоретического оформления многих идей, которые легли в основу идеологии нового режима и шире - ментальности новой эпохи. Однако не он был их первооткрывателем, даже если иметь в виду собственно Рим21. К сожалению, можно составить лишь приблизительное представление об их генезисе. Утрачены почти все сочинения историков времени Юлиев-Клавдиев, в которых должна была впервые появиться, материализуясь в ткани повествования, идея рубежа, ознаменованного началом Августова принципата. Это труды Азиния Поллиниона, Сенеки-ритора, будущего императора Клавдия и др.22 Но сохранившиеся пассажи, фрагменты, упоминания дают возможность с полной уверенностью констатировать наличие такой литературы.
Одной из самых известных жертв политической цензуры при Тиберии был Кремуций Корд. Хотя причиной гибели историка и сожжения его труда в 25 г. н.э. были личные выпады против всесильного в тот момент временщика Элия Сеяна, главное официальное обвинение заключалось в том, что в своем сочинении он похвалил Брута и назвал Кассия "последним римлянином"23.
В 30 г. н.э., спустя 5 лет после обвинения и вынужденного самоубийства Корда, создает свою "Римскую историю" Веллей Патеркул. В отличие от предшественника, этот верноподданный служака, который был "большим роялистом, чем сам король", всеми силами стремился обосновать реставраторский характер принципата, утверждая, в частности, что при Августе "...законам (была) возвращена сила, судам - их авторитет, сенату - величие, магистратам - власть и старинный
184
порядок полномочий...". Не удовлетворившись этим и констатировав, что единственное изменение, введенное при Августе в государственное устройство, заключалось в добавлении двух преторов к прежним восьми, Он еще раз очень настойчиво проводит мысль о континуитете и о "восстановительном" характере мероприятий Августа: "Была установлена именно та (prisca Ша) древняя форма государства..."24. Здесь налицо полемический и апологетический характер сочинения. Пафос Веллея направлен против тех неведомых нам идеологических противников, которые, игнорируя "республиканский" имидж начала Тибериева принципата и невзирая на тот "показательный процесс" Кремуция Корда, продолжали утверждать, что после окончания гражданских войн не стало ни "республики", ни истинных римлян.
Истоки этой полемики, а следовательно, и концепции рубежа между "республикой" и принципатом, можно обнаружить и гораздо ранее, а именно, в правление самого Августа, во всяком случае, во второй половине его принципата. В упоминавшихся "Res gestae" очень настойчиво проводится мысль о том, что в своих действиях Август был лишь восстановителем и охранителем древних, исконно римских "республиканских" порядков и установлений, так что даже в нововведениях он не нарушал обычаев предков (Res gestae 8.5). Эти акценты, столь явные в документе, дорабатывавшемся чуть ли не до "последнего вздоха", но в основном завершенном ко 2 г. до н.э., свидетельствуют о появлении уже при жизни основателя принципата некоей альтернативной концепции установления нового режима и тем самым (в зародыше) римской истории.
В 27 г. до н.э. эту трактовку событий, если она и приходила кому-нибудь на ум, можно было спокойно игнорировать; еще в 17 г. до н.э. сам Август предпринял грандиозный пропагандистский фарс, который должен был знаменовать наступление Золотого века, его начало совершенно ясно связывалось с установлением нового режима25. Что Август в первые годы правления склонен был подчеркивать эпохальный, переломный характер своей деятельности, подтверждает, видимо, и некий цитируемый Светонием эдикт, из которого следует, что 'Август лелеял надежду войти в историю "творцом лучшего государственного устройства". Светоний, который был современником Тацита, не очень хорошо разбирался в идеологических контрверзах Августовой эпохи. С позиций здравого смысла он трактовал раскопанный в архивах документ как свидетельство отказа Августа "восстановить республику" и намерение ввести новый порядок вещей (Suet. Aug. 28. 1-2). Если этот эдикт относится к первой половине правления Августа, то Светоний ошибался лишь наполовину: обе цели какое-то время согласовывались между собой (Comp.: Res gestae 8.5).
Но недолго. Почувствовав перемены в настроении общества и столкнувшись к тому же с появлением идейной оппозиции, великий политик сумел вовремя исправить акценты. И вот идеи смены веков и основания нового режима тихо сдвигаются режиссерами правительственной пропаганды в тень, а на фасад принципата окончательно
185
выносится вывеска "восстановленной республики". Свое оформление эта ведущая идея Августова принципата как раз нашла при открытии во 2 г. до н.э. Форума Августа, где его статуя была представлена в ряду изображений выдающихся предков с элегиями, прославлявшими их заслуги перед "республикой". Как уже отмечалось, такое совпадение - не случайность, к тому же времени относится создание основного текста "Деяний" Августа. И в дальнейшем, по крайней мере еще в начале правления Тиберия, чем большее влияние приобретала идея "рубежа", и, соответственно, - более опасной казалась она правительству, тем активнее и упорнее противопоставляли ей концепцию "восстановленной республики". Но это не могло предотвратить ее очередную метаморфозу: из выражения настроений сравнительно широких слоев гражданства она превратилась в лозунг официальной пропаганды, утрачивавшей к тому же реальное содержание и в государственной политике.
И все же открытый разрыв с "республиканизмом" был чреват неприятными последствиями: сходя с идеологической вывески правительства, он превращался в знамя оппозиции. Уже трагическая развязка правления Калигулы наглядно продемонстрировала опасность конфликта с традицией. А политика Нерона, который пренебрег всеми заветами Августа, привела не только к гибели легкомысленного принцепса, но к падению династии и гражданской войне26.
Отнюдь не преуменьшая роли различных составляющих комплекса социально-исторических факторов, которые стали предпосылками установления монархии в Риме, невозможно переоценить значение бывшего вначале "слова". Новая терминология, меняющееся политическое мышление, мораль, религиозные идеи, общественные настроения - все то, что можно объединить понятием "ментальность", знаменовало смену не только режимов, но и эр. Появление в то же время новой концепции римской истории и шире - историзма как понимания и ощущения себя в прошлом, настоящем и будущем, также должно рассматриваться в контексте неодолимого процесса рождения новой цивилизации.
Течь идет о летосчислении в соответствии с эрой Дионисия (от "Рождества Христова", "новой" или "нашей" эрой).
2М.А. Барг предпочитает говорить о христианской "теологии истории". См." Барг МЛ. Эпохи и идеи: становление историзма. М., 1987. С. 103. Ср.: Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. С. 331; Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина М., 1984. С. 29 и сл.; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. С. 120.
3По Августину, история делится на шесть "веков" ("эонов"), которые уподоб¬
ляются шести дням творения и в то же время - возрастам человека. Последний из эонов должен продлиться от Рождества Христова до Страшного суда. В седьмой "день" после праведного Божьего суда будет положен конец времени и истории, наступит вечное царство божье (Aug. De civ. Dei. XXII. 30). Ср.: Уколова В.И. Представление об истории на рубеже античности и средневековья // Идейно-политическая борьба в средневековом обществе. М., 1984. С. 53; Она же. Философия истории Аврелия Августина // Религии мира. 1985.
186
М., 1986. С. 137. Убедительная трактовка проблемы историчности Иисуса Христа дана недавно А.И. Немировским в статье "Евангельский Иисус как человек и проповедник" // Вопросы истории. М., 1990. № 4. С. 112-132.
4К. Ясперс, который относил понятие "осевое время" к 800-200 гг. до н.э.. Как известно, этот выдающийся философ отрицал поворотное значение событий рубежа нашей эры, считая христианство поздним отражением созданного гораздо ранее общечеловеческого завета. См.: Аверинцев С. Ясперс // Философская энциклопедия. М, 1970. Т. 5. С. 622.
5В противоположность Августину, отрицавшему связь Града Божьего и Града Земного. См.: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. С. 126-127; Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. С. 339; WallaceHadrill D. Eusebius of Caesarea. Westminster, 1961.
6См., напр.: Свенцицкая И.С. Раннее христианство. Страницы истории. М., 1987. С. 11-23 и сл. Там же автор указывает на "переломный характер" первого века нашей эры (с. 23). Та же мысль подчеркнута в названии книги: Егоров А.Б. Рим на грани эпох: Проблемы рождения и формирования принципата. Л., 1985.
7Ср.: Барг МЛ. Эпохи и идеи. С. 3.: "Во все времена - с момента перехода человечества к цивилизации, историческое сознание явилось структурирующим элементом культуры..." Суждение категоричное, но вполне обоснованное, включая изложенную в указанной книге стройную систему фактов и размышлений о природе исторического сознания и типах историзма.
8См.: Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987. С. 200-202. Ср.: Она же. От гражданина - к подданному // Культура Древнего Рима. М., 1985. С. 22-105. Во второй из указанных публикаций автор приводит мысль о том, что провозглашение Августом осуществленности "золотого века" и завершенности "миссии Рима" привело к утрате исторической перспективы и "кризису коллективных целей". В дальнейшем это явилось одним из важнейших факторов, обусловивших
качественные изменения античной культуры. Представляется, здесь допущено некоторое преувеличение роли субъективного фактора. Значение Августова принципата, завершившего, по ее мнению, процесс оформления государства в Риме, отметила Штаерман и в дискуссионной статье "К проблеме возникновения государства в Риме" (Вестник древней истории. 1989. № 2. С. 91*). Безотносительно к общим выводам, которые вызвали сомнения у ряда исследователей, важно констатировать, что крупнейший знаток римской истории постоянно подчеркивает рубежное значение интересующего нас периода.
9Res gestae divi Augusti. 34. 1,3.
10 В качестве типичного примера сошлемся на книгу: Шифман И.Ш. Цезарь Август. Л., 1900. С. 6, 95 и сл., 103 и сл. и др. Противоположную позицию весьма убедительно отстаивал М. Хэммонд, в том числе в специальной статье: Hammond М. The sincerity of Augustus // Harvard studies in classical philology. Cambr. Mass., 1965. V. 69. P. 139-152.
11 Cm.: Cic. de rep. 1.39; 41. Впрочем, сенатское сословие считало "республику" прежде всего собственным достоянием. Со временем расхождение между этим пониманием и трактовкой Августа, который выражал интересы более широких слоев господствующего класса, неизбежно должно было обнаружиться. О сенате, как единственном полномочном представителе populi Romani, писали, в частности, Цицерон и Саллюстий. См.: Meyer Ed. Caesars Monarchic und das Prinzipat des Pompeius. Stuttgart-Berlin, 1922. S. 409, 410. О значении термина res publica см.: Brunt P.A. The fall of Roman republic. Oxf., 1988. P. 1 sqq.; Bleicken J. Staatsliche Ordung und Freiheit in der romischen Republik. Kallmiinz, 1972; Meyer Ch. Res publica amissa. Wiesbaden etc., 1966, 1988; Millar F. The political character of classical Roman republic. 200-151 B.C. // The journal of Roman studies. L., 1984. V. 74. P. 1-20; Suerba-um W. Vom antiken zum friimittelalterlichen Staatsbegritt. Munster, 1961. Bes. S. 1-106; Wirszubsk: Ch. Libertas as a political idea at Rome. Cambr., 1950 etc.
12 Res gestae 34.1; comp. I.I.
187
13Не останавливаясь на теме, которой посвящена обширная литература (см., например: Litte D. Politics in Augustan poetry // Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt. 2. Principat. Bd. 30 (1).
B. , - N.Y., 1982. S. 254-270; Starr Ch.
Virgil's acceptance of Octavian; Horace and Augustus I I Ids. Essays on ancient history. Leiden, 1979. P. 228-247 (reimpz); Woodman T., West D. (Eds.). Poetry and politics im the age of Augustus. L., - N.Y., 1984 etc., не можем не обратить внимания на прекрасный очерк М.Л. Гаспарова о Горации, в котором, в частности, говорится: "...Современники - и первым среди них Гораций - были вполне искренни, когда прославляли Августа как восстановителя республики". И далее: "Как и для всех его друзей, как и для большинства римского народа, Октавиан был для него спасителем отечества: в его лице для Горация не империя противостояла республике, а республика - анархии" (Гаспаров МЛ. Поэзия Горация // Квинт Гораций Флакк. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.
C. 32, 35). Что радость по поводу прекращения гражданских войн и триумфа Августа была "всеобщей" и "искренней", признал и И.Ш. Шифман, при каждом удобном случае подчеркивавший лицемерие основателя принципата (Указ, соч., см. примечание 10. С. 95).
14В известной надписи "Laudatio Turiae" существо свершенного Августом выражено фразой "pacato orbe terrarum, restituta republica. Цит. по изд.: Wistrand Е. The so-called Laudatio Turiae. Gotheborg, 1976. P. 26 sg., 51 (II. 25). Comp.: CIL VI. 1527, 31610, 37053-ILS 8393. Во введении к Пренестинским фастам (использованным Вергилием Флакком) основание для почестей, дарованных Октавиану сенатом, сформулировано следующим образом: quod rem publicam роpulo Romano restituit (CIL I2. S. 231: Fasti Praenestini). Comp.: Dessau 81 ("res publica conseruata"); CIL VI. 873 ("re publica conserunata") ect. Cf.: Judge E.A. "Res publica restituta": A modem illusion? // Polis and imperium. Studies in honar of E.T. Salmon. / Ed. by. J.A. S. Evans. Toronto, 1974. P. 279-311.
x5Tac. Ann. I. 1-4; 9-10 sqq.; comp.: IV. 33 etc.
l6Suet. Aug. 28; Dio LI.I.I; LII.I.I; LIII.I-18 (esp. 11,4; 17.1).
17Эту таинственную черту можно сравнить с оптической границей двух сред, на которой преломляются лучи света и тем самым искажаются истинные очертания предмета; или с облаками, заслоняющими от авиапассажира землю: не побывай он ранее на ее поверхности, вряд ли достигнутая высота, вопреки убеждению, что "сверху видней", способствовала бы созданию адекватного представления о планете.
x*Sen. De beneficiis II 26, 27 etc. См.: "Древность" и историческая концепция Сенеки // Норция. Воронеж, 1978. Вып. 2. С. 107,108 и примеч. 17.
190 неизбежности, необходимости и благотворности принципата как единовластия: Sen. Declem. 1.1.1.; 1.3.5; 1.4.1- 2 etc. Катон как воплощение идеала стоического мудреца: Cons, ad Marc. ХХН.З; De const. II.2; VII.7; De prov. II.I sqq. etc. Comp.: Cons. ad. Marc. XX.6; Cp. XIV. 13. Cp.: Plut. Cic. 45, где в цитируемом письме Брута к Аттику Цицерон обвиняется в том, что ищет "не свободы для отечества, а доброго господина для себя".
20Рассмотрению различных уровней сознания Сенеки под указанным углом зрения посвящена работа "Полисные и не полисные элементы в мировоззрении Сенеки" (в печати). О противоречивости мировоззрения Тацита, в котором отразилась диалектика общественного развития в период принципата, см.: Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. М., 1981.
210 влиянии на Сенеку идей политической философии эллинизма см., напр.: Adam Т. dementia principis. Stuttgart, 1970.
22Cf. The Cambridge ancient history. Cambr., 1934. V.X. P. 866 ff.
23Примечательно, что Август если не благосклонно, то вполне благодушно внимал Корду, читавшему для него свое сочинение за несколько лет до указанного обвинения. О Кремуции Корде, его труде и процессе см.: Тас. Ann. IV.34; Suet. Tib. 61; Dio LVII. 24; Comp. Sen. Cons, ad Marc. 1.5; 22.4-7.
24Vell. LXXXIX.34. О политических позициях историка см.: Немировский А.И., Дашкова М.Ф. "Римская история" Веллея Патеркула. Воронеж, 1985. С. 3-43.
188
25Речь идет о Секулярных (Вековых) играх. См.: Horae. Carmen saec.; Verg. Aen. VI. 792 sqq. etc. Comp.: Базинер О. Ludi saeculares. Древнеримские секулярные игры. Варшава, 1901. Особ. С. 220 сл., 245 сл; Wallace-Hadrill A. The Golden age sin in Augustan ideology // Past and present. 1982. N 95. P. 19-36.
26 О "республиканской" оппозиции принципата Юлиев-Клавдиев см., напр.: Портнягина И.П. Сенат и сенаторское сословие в эпоху раннего принципата. Калинин, 1989. С. 61 сл.; Bauman R.A. Impietas in principem.
Munchen, 1974; MacMullem R. Enemies of the Roman order. Cambr. Mass., 1966. Esp. P. 1-94; Toynbee J.M.C. Dictators and philosophers in the first century A.D. // Greece and Rome. 1994. V. 13. P. 43-58; Vogel-Weidemann U. The opposition under the early Caesars // Acta classica. Cape Town. 1979. V. XXII. P. 91-107. Анализ идеологической борьбы в период принципата Нерона см. в указ, книге Г.С. Кнабе (примем. 20), а также: Cizek Е. Nron, Р., 1982, 19882; Griffin М. Nero; the end of a dinasty. L., 1984,1985 etc.
K.B. Хвостова
СПОСОБЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВО ВРЕМЕНИ
Византийская цивилизация представляла собой разновидность христианского типа цивилизации. Это некоторая подструктура, которую правомерно именовать цивилизацией в узком смысле данного обозначения. Наименование цивилизация в таком случае подразумевает длительное существование во времени и воспроизводство специфической пространственно-временной исторической целостности1. Многие типологические черты рассматриваемой целостности, определяемые античным влиянием, восточным христианством и иудаизмом, неоднократно рассматривались2 и вряд ли целесообразно осуществлять их перечень и характеристику. Задача в другом: в показе специфики воспроизводства этих черт во времени. Иными словами, цель работы - в осуществлении исторического подхода при рассмотрении инвариантных черт исторической целостности, в анализе перспективы и ретроспективы. Подобный подход к изучению соответствующих проблем позволяет отказаться от изучения сущностных признаков цивилизации как явления, как бы обязанного быть инвариантным на протяжении эпох и столетий в силу того, что оно было запрограммировано сложным взаимодействием восточного христианства и античности. Специфика воспроизводства типологических черт византийской цивилизации определяется механизмом снятия симптомов наивысшего обострения противоречий. В области культуры, социально-политического или экономического развития устранение этих симптомов создавало импульс для дальнейшего функционирования во времени факторов, обусловивших существование цивилизации. Это функционирование вновь осуществлялось на протяжении
© К.В. Хвостова
189
некоторого промежутка времени до тех пор, пока противоречие, которое оказывалось лишь временно устраненным, не обострялось вновь. Это обстоятельство вынуждало общество, т.е. представителей правящей и интеллектуальной элиты, изыскивать новые способы снятия антиномии. Естественно, названный путь преодоления противоречий цивилизации в известной мере был присущ не только византийской, но и всякой иной соответствующей целостности. Однако византийская цивилизация в силу специфики гетерогенных факторов, вызвавших ее к жизни и обусловивших ее тысячелетнее развитие, безусловно, заслуживает в этом отношении специального внимания.
Византийцы сами осознавали наличие не только в окружающем их бытии, но и в их собственных теоретических представлениях противоречий, образующих, однако, единую нерасторжимую систему.
В этом плане характерно сравнение апофатического (отрицательного) и катафатического (положительного) богословий, содержащееся в одном из произведений Григория Паламы: "Апофатическая теология, - пишет Палама, - не противоречит катафатической, но показывает, что все то, что говорится о боге, не является истиной, так как находится в нас самих, а не в боге"3.
С точки зрения рассмотрения особенностей преодоления противоречий византийской цивилизации особенно интересны явления, относящиеся к социально-экономическим, политическим и правовым процессам империи. Поэтому именно они, их антиномии и способ их снятия находятся в центре внимания данного очерка. Меньшее внимание уделено детально изученным в специальной литературе проблемам византийской культуры: идеям мистицизма и рационализма, специфике византийской духовности, ее взаимосвязи с познанием окружающего мира с помощью логики.
Можно утверждать, что одной из ведущих антиномий византийской цивилизации, обусловливающей существование многих ее гетерогенных признаков, являлось противоречие между признанием в политикоправовой теории четкого разграничения между публичным и частным правом и смешением этих явлений в реальной жизни. При этом, число прецедентов, отражавших данное противоречие, возрастало во времени, а его разрешение превратилось в одну из основных предпосылок развития общества. Несмотря на огромную роль, которую играло это противоречие во всей истории византийской цивилизации, в историографии его изучению уделялось явно недостаточное внимание.
В рамках византийского правосознания резкое разграничение публичного и частного права и соответствующих прерогатив отчетливо выразил историк и философ XIV в. Никофор Григора, противопоставивший государственное управление "по законам ромеев" и наследственное владение "по обычаю латинян"4.
Возникающее в реальной жизни противоречие между теорией и конкретными ситуациями засвидетельствовал еще в XII в. хронист Зонара, упрекавший императора Алексея I Комнина в том, что тот
190
управлял не как император, а как господин5. В XV в., по словам хрониста Георгия Сфрандзи, Мануил II Палеолог говорит о сыне Иоанне в следующих словах: "Мой сын василевс подходит для василевса, но не нынешнего времени, ибо видит и замышляет великое, но такое, чего требовали времена благоденствия наших предков, а не сегодняшний день, когда дела у нас обстоят так, что не василевс требуется нашему государству, а хозяин"6.
Названное противоречие преодолевалось в рамках экономической и социальной политики императоров. В этом плане необходимо остановиться на специфических взаимосвязях экономики, общественной структуры и политики в Византии. Экономическая политика являлась одной из основных разновидностей внутренней политики императоров в целом.
Смысл выражения икономия (oikonomia), означающего в греческом языке управление домом, хозяйством, был сохранен в византийский период. Более того, это наименование составляет теперь одну из основных категорий политико-правовой доктрины и церковного права. Соответственно, Иоанн Дамаскин выразил в терминах христианского богословия идеи Аристотеля об экономике и политике. Вслед за Аристотелем он подразделяет философию на теоретическую и практическую. Под практической философией подразумевалось, в частности, искусство правителя управлять общественным хозяйством7. В практике реальных отношений икономия, т.е. управление, подразумевало взимание налогов, регламентацию отношений собственности, торговли и городских корпораций. Подобное управление признавалось первейшей обязанностью государственной власти, что был закреплено государственными постановлениями и освящено церковью.
В ранней Византии власти, осуществляя икономию, пытались лишить спонтанно возникавшие прецеденты смешения частной и публичной власти всякой юридической защиты и соответственно ликвидировать их. Иными словами, политика была нацелена на обеспечение соответствия теоретических идей и реальности. Именно эту цель преследовали распоряжения, направленные на запрещение частного патроната8, т.е. форм частной власти одних лиц и учреждений над другими.
В X в. характер экономической деятельности императоров меняется. Экономическая политика отличается лавированием. Это объясняется прогрессирующим процессом сращивания публично- и частноправовых прерогатив. В руках отдельных лиц или учреждений (в первую очередь церквей и монастырей) сосредоточивались управленческие функции и земледельческого права. В этот период высшие государственные чиновники и земельная аристократия интенсивно проникают в сельскую общину, стремясь к ее подчинению своей частной власти и к превращению свободных крестьянналогоплательщиков в поземельно-зависимых держателейарендаторов. Постановления императоров запрещают подобные действия9. Однако соответствующие императорские распоряжения,
191
известные в историографии как новеллы императоров Македонской династии, сами содержали немало противоречий и создавали лазейки для нарушения запретов. Иными словами, эти постановления были направлены не на искоренение, а на торможение процессов смешения частного и публичного права. На протяжении дальнейших столетий рассматриваемое противоречие нарастало. Но меры властей, направленные на снятие данной антиномии, становятся все более робкими. Запреты сменяются ограничениями, а далее форма снятия противоречия приобретает вообще парадоксальный характер. Ограничения частного патроната сочетаются с мерами, направленными на его поощрение. В результате некоторые формы смешения частного и публичного права не только завоевывают длительную традицию, но и получают легализацию. Факты и система пожалования частным собственникам различных видов иммунитета - свидетельство тому. Возникают явления, известные в науке под названием "приватизация власти".
Появляются формы идеологического обоснования развивающегося процесса совмещения в одних руках частных и публичных функций, что, в свою очередь, привело к ускоренным темпам роста крупной частной собственности и иммунитета.
В императорских жалованных грамотах соответствующая практика обосновывается целями благотворительности, идеей общего блага, заботой о подданных и т.д. Как видно, акцентируются основные мировоззренческие идеи, восходящие к принципам христианства. Наряду с этим, государство осуществляло контроль за состоянием частного землевладения, отражающий судорожные попытки поддержания граней между частными и публичными прерогативами. Эти меры объяснялись стремлением императорской власти сохранить слой свободных мелких налогоплательщиков, обусловливающий в конечном итоге само существование государственной власти. Тот факт, что форма снятия противоречия "приватизация власти" видоизменяется, обнаруживает кризис соответствующих черт цивилизации, т.е. углубление антиномии.
Поэтому, при историческом подходе к изучению реальности, историк вынужден констатировать нарастание в обществе черт нестабильности, спад экономики, обострение социально-политических и экономических противоречий. При историко-цивилизационном подходе целесообразно говорить о появлении наряду с сохранением инвариантных цивилизационных признаков разброса вокруг них вновь возникших особенностей, отражающих закат цивилизации.
Столь же сложным было развитие других цивилизационных черт, содержащих антиномии с меняющимся механизмом воспроизводства явления во времени. Характерным в этом плане было воспроизводство такой особенности цивилизации, как преобладание на протяжении всей византийской истории полной безусловной собственности. Глубокая антиномия этого явления обусловливалась параллельным, а иногда перекрещивающимся влиянием на формирование данного института римского вещного права и догм восточного христианства. Действи¬
192
тельно, согласно римскому вещному праву в его византийской интерпретации, собственник мог поступать с вещью полностью в соответствии со своим усмотрением: покупать, продавать, дарить, улучшать и т.д. Одновременно в рамках восточного богословия, как и западного, были распространены восходящие к патристике воззрения, согласно которым провозглашались идеи общей собственности и связанное с ними восхваление нестяжательства10.
Эта антиномия снималась в Византии в первую очередь на уровне высших теоретических пластов общественного сознания. А именно, полная безусловная собственность, регламентируемая римско-византийским вещным правом, в условиях Византии была переосмыслена в терминах богословия. В официальных документах, отражающих формально-юридическую позицию, мы неизменно встречаем формулировки, гласящие, что собственность - это порождение божественных и святых законов11. Если, согласно Фоме Аквинскому, собственность являлась результатом действия законов придуманных, народами, отличающихся от божественных законов, то в Византии собственность провозглашается божественным установлением. Такого рода снятие антиномии выглядит особенно неожиданным, если принять во внимание, что в восточном христианстве, как и на Западе, проводилось четкое различение божественного права и постановлений человека12. Эти последние могли лишь приближаться по своим качествам к божественному закону, а также созданному богом и данному человеку в ощущение естественному порядку вещей. Как видим, наименование в Византии прав собственности божественными и святыми законами выглядит как бы противоречащим самому духу христианского миросозерцания. В действительности, это лишь кажущееся несоответствие. Дело в том, что под божественными и святыми законами собственности в византийских документах подразумевались постановления императоров.. Это связано с тем, что императорская власть в византийской политико-правовой доктрине обожествлялась, т.е. рассматривалась как имеющая божественное происхождение13. Таким образом, снятие антиномии между христианской идеей общего блага, нестяжательства и общей собственности, с одной стороны, и принципом частной собственности византийского вещного права, с другой - было опосредованным. Оно определялось воззрениями о божественном происхождении власти византийских василевсов. Мы видим, таким образом, иерархию представлений, охватывающих всю сложность действительности.
Противоречивыми были многие идеи византийского права и соответствующие виды правосознания. Сложным было преодоление антиномии, заключающейся в провозглашенной в теории симфонии церкви и государства. Если официально церковные каноны и государственные законы рассматривались в правовом отношении как равнозначные, то на практике нередко отдавалось предпочтение тем или другим актам14. Это происходило в случае наличия в разных постановлениях известных расхождений. Обоснование выбора всегда происходило путем акценти¬
7. Цивилизации. Вып. 3
193
рования какой-либо ведущей мировоззренческой идеи: общего блага, нестяжательства, справедливости, божественного происхождения императорской власти, превосходства ромеев и т.д. Можно утверждать, что понимание византийцами текущей политики и внутренней обстановки в стране в целом складывалось именно таким способом. А именно, та или иная общетеоретическая идея подчеркивалась, выступала на первый план в соответствующей обстановке, иногда в ущерб другим теоретическим представлениям.
Например, в условиях экстремальной ситуации накануне завоевания империи османами идея превосходства ромеев как бы отходит на второй план, сосредоточивается внимание на эсхатологических представлениях, повышается их роль в общей системе христианского миросозерцания15. Снятие противоречий в условиях византийской цивилизации означало, как мы видим, способ переработки информации, состоящей из античных понятий и категорий богословия. Нам представляется, что изучение любой цивилизации невозможно вне информационного подхода. Цивилизации различаются способами получения, хранения и трансляции информации. И византийская цивилизация имела свой уникальный вид информационных изменений. Его роль в снятии антиномий ярко проявлялась в том, что многие общественные институты, восходившие к античности, обозначались наименованиями, одно из значений которых являлось ведущим понятием богословия. Приведем наиболее очевидные примеры. Название основной богословской категории "прония", означающей божественное провидение, использовалось и для обозначения императорского попечения над подданными. Далее, выражение "прония" приобретает, начиная с XI в., дополнительный смысл, делающий его термином. Речь идет об использовании этого слова для наименования отчисления со стороны государства в пользу чиновника или воина определенной денежной суммы в качестве жалования за службу. Позднее же, прония - это условная земельная собственность, пожалованная за исполнение государственной службы. Не менее интересен семантический диапазон выражений "энипостатой" и "анипостатой". Первое из них означало в богословии наличие в вещи сущности, второе - мнимое явление. Наряду с этим, данные выражения использовались для обозначения такого приземленного, с точки зрения византийцев, феномена, как наличие или отсутствие у поземельно зависимых крестьян их держания.
Характеризуя с позиций информатики факт возникновения в Византии терминов в результате появления нового смысла у выражений, являвшихся богословскими категориями, следует отметить наличие специфического византийского информационного кода. А именно, в терминах богословия были выражены те восходящие к античности явления повседневности, которые, складываясь в ходе исторического развития империи, не нашли при этом адекватного выражения в нормах действующего римско-византийского права. В силу этого, возникало противоречие между правопорядком и реальностью. Использование в такой ситуации богословских категорий отражало стрем¬
194
ление византийцев придать названным формам действительности определенные моральные и юридические гарантии, как бы освятить эти отношения с помощью божественных представлений и соответствующих наименований.
Для нас использование богословских выражений в качестве терминов для характеристики определенных отношений повседневности является индикатором того, что эти отношения, с одной стороны, играли существенную роль в обществе, а, с другой - не получили правового оформления.
С позиций историко-цивилизационного подхода к изучению реальности подобные явления, характеризующие механизм устранения общественного противоречия, можно оценить как повышение общественной роли и функции богословия. Действительно, ведь происходило не только расширение семантического поля понятий, одно из значений которых являлось богословской категорией, но и подчинение новой смысловой функции слова его базовому значению, т.е. богословскому понятию. Иными словами, это свидетельствует о включении в сферу религиозного опыта многих вновь возникающих и развивающихся отношений повседневности. Рассмотренная форма преодоления общественных противоречий - одно из проявлений свойственного византийской цивилизации традиционализма.
В конечном счете подобный путь возникновения терминов и решения противоречий правовой теории и повседневности восходит к учению об идеях Платона, мудрость которого всегда почиталась в Византии. Самостоятельное существование мира идей, как прообраза бытия, включало, согласным данным представлениям, все возможные смысловые содержания реальных явлений. Поэтому для византийцев представлялось правомерным сохранять наименования абстрактных понятий для характеристики реальных отношений повседневности, сходных, по их мнению, в главном с той идеей-прототипом, название которой использовалось в качестве термина.
По-иному обстояло дело при снятии противоречия, содержащегося в одном из ведущих понятий византийской политико-правовой доктрины - идее свободы. Согласно античным представлениям, свобода понималась как неограниченная способность личности распоряжаться своими возможностями. Это понятие характерно для определения собственности в рамках римско-византийского вещного права, как возможности свободного распоряжения вещью и для противопоставления свободных и рабов в римско-византийской политико-правовой доктрине. Параллельно с названным понятием свободы имело распространение и другое, восходящее к богословию, согласно которому свобода ассоциировалась со свободой воли человека, способного совершать различные поступки и приблизиться в своей деятельности к совершенству. Преодоление различия и противоречия двух форм представлений о свободе происходило в их слиянии. Механизм этого слияния заключался в том, что богословское понятие свободы не оставалось неизменным, оно эволюционировало, приобретая новые
7*
195
значения, т.е. расширялось его смысловое поле. Так, если в античности, равно как и в соответствующих интерпретационных традициях в византийскую эпоху, свобода воспринималась как некая целостность, лишенная степеней и градаций, то в сфере византийского канонического права развилось представление о степенях и иерархичности состояний свободы и зависимости.
Это новое представление оказалось вполне созвучным общехристианским идеям постепенного приближения к совершенству в соответствии с понятием искупления, т.е. иерархической структурой средневекового общехристианского миросозерцания в целом.
Идея степеней свободы, возникшая в области церковного права, в частности, при определении степени частичной свободы прота (главы) афонских монастырей от патриарха (прот Афона в поздней Византии, в отличие от предшествующего времени, утверждался патриархом), оказалась весьма важной для мировоззрения Византии в целом. Имплицитно она воздействовала на понимание свободы и в сфере светских отношений. Например, византийские поземельно-зависимые крестьяне в соответствии с римско-византийским правом рассматривались как свободные. Однако под влиянием идеи степеней свободы они в реальной жизни воспринимались как люди приниженного социального статуса.
Противоречия византийской общественной жизни нашли свое отражение в понимании случая, его роли в жизни человека.
В соответствии с богословскими представлениями случай (симвевикос) трактовался как присоединение к сущности (усии) некоторого конкретного несущностного признака. Благодаря такому пониманию вырабатывалась концепция индивидуального, представление о разнообразии видов. Интерпретация случая в восточном христианстве отражала все типологические черты идей сущности и акциденции, характерные для христианства в целом и выраженные достаточно четко на средневековом Западе. Эти идеи представлены в византийском богословии, как и на Западе, на категориальном уровне. В то же время на уровне рационалистических, прагматистско-политических представлений, при ориентации в событиях повседневности, а также в сфере обыденного языка можно выделить и другое восходящее к античности понимание случая. Так на этом уровне воззрений была воспринята аристотелевская трактовка случайностей в жизни человека. Речь идет о судьбе (тихе), а также случае, рассматриваемом как результат стечения многих внешних по отношению к человеку факторов. Употребление выражения симвевикос, не содержащее обобщения, поднимающегося до уровня философско-богословской категории и используемое наряду с понятием, близким к акциденции, создавало тем самым антиномию "случай" и одновременно предоставляло возможности для ее устранения. Благодаря пониманию случая как итога совпадения внешних факторов, как судьбы, византийцы разработали в области прагматистско-политических воззрений некую поведенческую модель. Суть ее состояла в том, что в рамках общего
196
провиденциализма признавалась способность человека к относительному политическому и социальному прогнозу. В политике возможен учет временного момента - кайроса, отражающего реальную политическую обстановку. Не всякий момент является, по мнению византийцев, благоприятным для совершения той или иной деятельности. Кайрос - это душа вещей, говорится в одном из императорских постановлений16. Понимание кайроса, восходящее к античной философии, имплицитно было интегрировано в систему общехристианских воззрений, и благодаря этому достигалось снятие названной антиномии "случай", заключавшейся в параллельном принятии античного и христианских представлений.
Идеи кайроса как случая, временного момента ярко выражены, например, в произведении историка XIV в. Никифора Григоры. Рассуждая о кайросе, он говорит о том, что время требовало и от Иоанна Витаци обстоятельности, а от Федора Ласкариса (оба - императоры Никейской империи) поспешности в делах. В восходящих к античности идеях ощущается аналогия с Екклезиастом: "Всему свое время и время всякой вещи под небом" (гл. З.1.).
Воззрения о кайросе ассоциировались с идеями изменчивости всего земного, а также с характерными для византийской культуры представлениями о циклическом времени. "Так как время, двигающееся по кругу, - читаем в одном из документов, является нам в виде постоянного бега, то вещи по необходимости согласуются с временем: или одни из них опускаются вниз, другие же вверх поднимаются: или вновь (все происходит) в соответствии со временем в форме круга, наподобие шара, т.е. те, которые были наверху, опускаются"17.
Одновременно с этим идея циклического времени содержала в себе представление о повторе аналогических общественных ситуаций. Эти повторы мыслились как результат одинакового проявления людьми добродетелей или совершения отрицательных поступков в разные моменты единого линейного эсхатологического времени. Иными словами, при анализе понимания византийцами циклического времени мы также сталкиваемся с имплицитным интегрированием античных воззрений в систему христианского миросозерцания. Снятие антиномии состояло в том, что античным воззрениям отводилась роль специфического прагматического уровня представлений, обладающего относительной самостоятельностью и играющего определенную роль при ориентации в мире повседневности и политических отношений.
Завершая характеристику механизма воспроизводства во времени сущностных признаков византийской цивилизации, необходимо отметить роль, которую играли в этом процессе те формы общественных представлений, которые формировались в результате обобщения непосредственных наблюдений над реальностью. Бытийный уровень сознания, на котором развивались названные обобщения, представлял собой подвижный постоянно меняющийся пласт сознания. Соответствующие обобщения не только не возвышались до уровня теории, но не являли собой знание. Действительно, в этих обобщениях отсутст¬
197
вовали четкие критерии, системы описания и характеристики. Данный вид обобщений представлял собой способ интуитивно-ценностной ориентации в повседневности. Например, историк XIV в. Иоанн Кантакузин объяснял раздачу представителям знати земель в уделы страхом перед бедностью и необходимостью создания достатка, т.е. обращался к непосредственным житейским переживаниям, не пытаясь объяснить их с помощью ведущих мировоззренческих идей и не прибегая к риторике.
В целом сохранение в рамках христианского богословия античного наследства с его особыми функциями, обусловливающего особенности византийской цивилизации, сочеталось с гибким, удивительно отлаженным механизмом воспроизводства цивилизационных черт во времени. Поэтому до конца существования империи продолжали функционировать инвариантные черты цивилизации.
В частности, развивалось присущее цивилизации яркое самосознание. В рамках иудаистской концепции избранного народа византийцы противопоставляли империю ромеев, рассматриваемую ими как главу всех христиан, окружающему миру ’’варваров”18. Постепенно формируется эллинское самосознание и соответствующий патриотизм, отражавшие жизнеспособность и активную роль античных традиций в жизни Византии19.
Эволюция и воспроизводство цивилизации происходили несмотря на конфликты и кризисы в социально-экономических и политических отношениях, а также такие испытания, выпавшие на долю культурного развития, как иконоборчество, унистские движения, ранневизантийские ереси.
1 Видимо, такое понимание цивилизации не противоречит ее определению в современной философской литературе. См., напр.: Гудожник Г.С. Цивилизация: развитие и современность // Вопр. философии, 1986. № 3; Диалог и коммуникация - философские проблемы (Материалы "Круглого стола") // Вопр. философии. 1989. № 7. Особый интерес для характеристики комплексных проблем западноевропейских цивилизаций представляет монография: Барг МЛ. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.
2 В частности, объектом пристального рассмотрения неоднократно становилась такая характерная черта византийской цивилизации, как специфические формы взаимоотношений церкви и государства, определяющие симфо¬
нию этих двух институтов и отличающие Византию от средневекового Запада. Отмечалось существование на протяжении всей византийской истории, в отличие от Запада, сильной императорской власти, разветвленной системы налогов, доминирование римской политико-правовой доктрины, полной безусловной собственности на землю при отсутствии ее иерархической структуры. Говорилось о преобладании денежной экономики. Отмечалось отсутствие вассалитета западного типа (Oudaltsova Z.V., Chvostova K.V. Structures sociales et ёсопоmiques dans la Basse-Byzance. XVI Intern. Byzantinistenkongress. Akten 1/1 // Jahrbuch der osterreichischen Byzantinistk. Wien, 1981. Bd. 31. Каждан А.П. Социальный состав господствующего класса Византии XI-XII вв., М., 1974. С. 221.
198
АЛ. Сванидзе
К ПРОБЛЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ВЗАИМОСВЯЗИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
История человечества есть процесс взаимоотношений между различными культурами. Этот процесс охватывает материальные и духовные сферы, общественные распорядки, учреждения, наконец, поведение и сознание индивидов, групп людей и всего общества в целом. Отношения между культурами объединяют, следовательно, не только круг ментальности, но всю совокупность системы человекобщество.
Закономерность истории, которая заключается во взаимодействии культур, присуща обоим измерениям истории - и вертикальному, и горизонтальному, т.е. развертыванию во времени и пространстве. При этом многое зависит от степени коммуникативности той или иной культурной системы, что в известном смысле определяет ее судьбу. Во всяком случае, судя по опыту истории, если чрезмерная замкнутость в пространственном развертывании приводила к стагнации, движению по кругу, то чрезмерная открытость губила самобытность, нивелировала культуру, нередко приводила к ее поглощению или уничтожению.
Несомненно, что степень коммуникативности цивилизации является ее сущностной и типологической чертой. Она определяет ее динамичность, как и ряд других особенностей, но это свойство действует по-разному и в разные времена, на различных пространствах истории. Один и тот же этнос в разные эпохи мог быть то общительным, то замкнутым. Почти всеобщей особенностью современного мира является перевес открытости над закрытостью. Напротив, в старые эпохи подавляющее большинство крупных культур тяготело к замкнутости, что в ряде случаев замедляло темп развития и даже порождало застой.
Различная степень открытости характерна, как известно, для разных регионов. Западная Европа, например, по крайней мере с античных времен, обнаружила высокую коммуникативность.
Степень коммуникативности вообще зависит от двух факторов. Первый - способность культур к взаимодействию, к восприятию и передаче опыта. Второй - наличие и зрелость того, что я бы назвала "агентами" и "каналами" связи, т.е. тех социальных сил, которые реально, на практике, осуществляют взаимодействие культур, обеспечивают преемственность или разрыв между ними.
Остановимся на втором факторе - социальных агентах и каналах связи между культурами.
Здесь в первую очередь надо, видимо, назвать самого человека как одновременно субъекта и объекта цивилизации, поскольку именно
© А.А. Сванидзе
199
индивидуальный и коллективный опыт людей, обновляющийся и закрепляющийся, передается по горизонтали и вертикали истории. В составе этого опыта - хозяйственные навыки, многообразные знания и представления, формы социального общения.
Затем - некоторые виды деятельности и соответствующие сферы общественной жизни, которые обеспечивают регулярность коммуникаций: торговля, которую по праву называют "общественным обменом веществ", дипломатия, война, сфера обучения, брачные связи ит.д.
Третья группа "агентов" взаимодействия культур - некоторые институты и идеи, прежде всего политико-государственные, правовые, конфессиональные, художественные. Трудно переоценить, например, роль в общении и разобщении культур великих религий мира. Или, скажем, роль римского права в вертикальной преемственности европейской культуры.
Наконец, это определенные микро- и макроструктуры, социальноорганизационные ячейки, которые можно назвать ассоциациями или общностями. В сущности, это те первичные группы, в рамках которых протекает повседневная жизнь людей каждой эпохи.
Остановимся на этих общностях. В Европе — от варварства и античности и до наших дней - таких ассоциаций было и сохраняется множество. Они весьма разнообразны: родственные, соседские, территориальные, профессиональные, сословные, партийные, религиозные, культурные, по специфическим личным интересам. Думаю, можно отметить, что особенностью именно западноевропейского культурного комплекса является эта множественность ассоциаций, чаще всего добровольных и вообще самых разных по форме: с уставами и без них, строго замкнутых и легкодоступных, принимавших в разные эпохи более или менее корпоративный характер.
Некоторые из них служили лишь для вертикальной проводимости культуры: например, сельская община, церковный приход, палата в парламенте. Но некоторые обладали универсальной культурной проводимостью. И здесь, видимо, приоритет принадлежит самому сложному конгломерату ассоциаций - городу.
Разговор о городе как важном компоненте истории цивилизаций начал еще Марк Блок. И сегодня в западной литературе городу в данной связи уделяется серьезное внимание. Это закономерно хотя бы потому, что город - трансисторическое образование. Возникая в период разложения родоплеменного общества, он затем постоянно сопровождает историю людей на Западном и Восточном полушариях. Меняя во времени и пространстве свой характер, облик и некоторые функции, город в каждой цивилизации оказывается удивительно единосущным (присущим) ей. Это относится не только к индустриальному обществу, которое по сути своей является преимущественно городским. Город был органичен и для старых цивилизаций, преимущественно аграрных, где он включал лишь небольшую часть населения и в известном смысле противостоял сельской периферии.
200
Более того. Город отражает и воплощает уровень и формы всеобщего разделения труда и социальной стратификации, особенности и уровень культуры в широком смысле слова.
Это происходит потому, что город, как известно, в каждое время и на каждой территории выступает как своего рода "общественный концентрат". В нем концентрируется население, численность и плотность которого много выше, чем в окружающих сельских поселениях. Далее, там концентрируются все функции общества, постепенно отрывающиеся от непосредственной деятельности на земле: обмен, промышленность, денежное хозяйство, транспорт и пути сообщения, строительство, оборона и др. Там концентрируется администрация (светская и церковная, гражданская и военная, судебная и фискальная), государственные, церковные и частные учреждения, резиденции правительства, военные и полицейские органы, учреждения образования, культуры и т.д.
Понятно, что город дает возможность постоянно общаться между собой разным сословиям и группам, представителям местной прессы и чужакам, представителям иных этносоциальных групп, иной культуры, которые постоянно скапливаются в городах.
Наконец, в городе образуется наибольшее число различных ассоциаций. Можно сказать, что городская жизнь буквально пронизана разными общностями, она из них как бы состоит, в них реализуется. Каждый горожанин оказывается в центре пересечения многих ассоциаций. Например, средневековый западноевропейский бюргер зачастую одновременно входил чуть не в десяток разных общностей: состоял в комменде, корабельном товариществе, купеческой гильдии, церковном приходе, сообществе соседей (принимал вместе с ними меры против пожаров, грязи и беспорядков на улице), в духовной гильдии или ордене, в муниципалитете (как советник или мэр), в воинском ополчении и, конечно, в бюргерской корпорации всего города в целом.
Эти ассоциации сыграли выдающуюся роль в получении горожанами всевозможных прав и привилегий, закреплении их личной свободы, выработке чувства собственного достоинства и личного самоуважения. Важно также, что система городских ассоциаций породила ту практику выборных органов управления, которая была: использована затем сословно-представительными учреждениями. Иными словами город внес вклад и в формирование западноевропейской демократии.
Анализ вопроса о городских ассоциациях окончательно убеждает в том, что к двум общепризнанным основным свойствам или значениям города (имеется в виду концентрированность и гетерогенность общественных проявлений) надо добавить еще одно, не менее важное: коммуникативность. Эти три основные свойства города и обеспечивали его роль, как активного центра и "агента" во взаимодействии культур на индивидуальном и системном уровнях и в разных плоскостях.
Так, если взять плоскость межсоциальных отношений, то можно легко проследить, как город организует взаимодействие между разны¬
201
ми классами и группами, изнутри связывает данное общество. Можно взять территориальный или этнический срезы, и становится понятным, как город осуществляет общение между разными территориями и этносами, подчас весьма отдаленными и разнородными.
Естественен вопрос и о взаимодействии через город разных эпох, в том числе переходных, например, о поведении города при складывании раннеклассовых обществ, при переходе от варварства к античности или от варварства и античности - к феодализму. Тогда ранний город стал необходимой опорой складывающегося государства и элитарных групп. В позднее средневековье и раннее новое время именно город порождал, вырабатывал новые исходные формы в торговле, промышленности, банковском деле, образовании, гражданском праве, светской культуре, церковной организации и т.д. - сказал первое слово в формировании нового общества. Напомню, кстати, что культура Возрождения и гуманизм - в сущности, городские. И именно в городах же расцвела Реформация, т.е. и в старые эпохи роль города вовсе не сводилась лишь к конкретным экономическим или административным функциям, она и тогда имела решающее значение для цивилизаций.
Сказанное относится в первую очередь к западноевропейской истории, где город не только выявляет особенности каждого общества, но стимулирует его внутреннюю эволюцию и ведет общество к новому качеству, т.е. выступает как сильное динамичное начало. Динамизм, динамичное начало - это еще одна черта города. Но, в отличие от вышеназванных, т.е. демографо-социальной концентрированности, гетерогенности и коммуникативности - эта последняя черта обнаруживается прежде всего в городах Западной Европы. И само наличие такого динамичного города на протяжении д©индустриальных эпох, видимо, является особенностью западноевропейской цивилизации.
Темой для отдельного разговора является вопрос о том, почему города Западной Европы получили такой характер и такую роль. И конечно же, своего специального рассмотрения заслуживает проблема, связанная с коммуникативными функциями других исторических структур.
Е.В. Гутнова
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ СОБРАНИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
С конца XII по начало XVI в. почти во всех странах Европы в разное время возникают и начинают играть заметную роль сословно-представительные собрания. Их не знали лишь немногие области Европы - Византия, Болгария, итальянские города-государства. Вместе с тем, нигде, кроме европейского континента, такие учреждения не сложи-
© Е.В. Гутнова 202
лись. Очевидно, они были одним из элементов уникальной европейской цивилизации. Сословные собрания возникали в различных странах в разное время, но в сходных социально-политических условиях: в атмосфере складывания городского сословия и окончательного оформления других общегосударственных сословий, в частности, мелкого и среднего рыцарства, и на фоне укреплявшейся государственной централизации.
Возникновение сословных собраний было, таким образом, одним из проявлений динамизма европейской цивилизации, истоки которого обнаружились уже в средние века1 и уходили своими корнями в микрои макро-структуры феодального общества.
Суть процесса государственной цивилизации, в рамках которого рождались и сословные собрания, составляло перерастание сеньориальной, патримониальной власти раннесредневековых королей - в публичную. Этот процесс сопровождался ограничением политического могущества крупных феодалов на местах и все большей концентрацией их политических интересов в центральном управлении. Одним из средств, стимулировавших проявление этих интересов в центре, стало привлечение магнатов, в качестве непосредственных вассалов короля, сначала в королевскую курию, а затем - в периодически собиравшиеся более широкие совещания светских и духовных магнатов, в качестве советников короля по их положению. Постепенно их вассальная обязанность давать своему сеньору-королю "совет и согласие" превращалась в высокоценимое право, обеспечивающее им ряд привилегий, возможность воздействовать на политику короны, хотя и представлявшие только себя лично магнаты консолидировались в сословие высшей знати (иногда вместе с крупными церковными феодалами, как в Англии, например). В качестве прирожденных советников короля, обладающих монопольным правом давать ему советы, магнаты стали претендовать уже на право защищать перед королем интересы "всего народа" или "всей страны".
Последующее привлечение в государственные собрания нижестоящих сословий - мелкого рыцарства (в отдельных странах), представителей городов (в большинстве таких собраний), духовенства, как сословия, - нарушало эту монополию крупнейших феодалов. Сословные собрания с таким более широким составом объединяли в себе три элемента - лично приглашаемых магнатов, выборных представителей других сословий и довольно многочисленный корпус высших должностных лиц короля. Присутствие в этих собраниях представительства от нижестоящих сословий, в сущности, конституировало совсем новое учреждение - собственно сословное собрание. Представительный принцип, лежавший в основе комплектования и функционирования выборной части таких собраний, опирался на древние традиции выборности и представительства, давно использовавшиеся в многослойной структуре корпоративных организаций, характерных для феодального строя и сохранявшихся в недрах публично¬
203
правового, в значительной мере отчужденного от общества государства.
В эту сеть корпораций входили такие микроструктуры, как сельские и городские общины, разного рода гильдии, а также более крупные территориальные объединения общин, такие, как церковные приходы или население провинций (например, сотен и графств в Англии). Позднее к ним прибавились общегосударственные сословия, складывавшиеся в значительной мере на базе провинциальных и городских общностей и через них получивших право на участие в сословных собраниях3.
Все местные корпорации такого рода были изнутри связаны общими интересами своих членов и функционировали на основе принципа их ’’общего согласия", имели свои органы самоуправления. Между собой и с государством они взаимодействовали через своих представителей.
Когда у центральной власти, в связи с развитием общегосударственного обложения, законодательства, наемной армии возникла потребность заручиться согласием не только магнатов, но и более низких сословий или сословных групп, она, естественно, воспользовалась традициями представительства, принятого в местных корпорациях.
Королевская власть задолго до возникновения сословных собраний искала контактов с органами местного самоуправления. Она или прямо включала их в свою судебно-административную систему на местах (например, в Англии с середины XII в.)4, или опиралась на их помощь спорадически5. Потребность в таких контактах диктовалась слабостью королевской администрации на местах, необходимостью иметь правдивую информацию, а также минимальную поддержку мероприятиям короны. Для короля приглашение представителей местных корпоративных общностей в сословные собрания стало одним из средств сохранения политической стабильности в стране. Но иногда магнаты, при поддержке с мест, навязывали ему сословно-представительные собрания силой: наиболее дальновидные из них в борьбе за власть с королем тоже быстро осознавали необходимость поддержки с мест, со стороны более широких социальных слоев, претендуя на то, чтобы быть заступниками "всего народа" (в Англии в 1258-1265 гг., в Арагоне и Каталонии в 1283 г., в Леоне в 1188 г.)6.
Появление представительного элемента в сословных собраниях, по воле ли короля, или баронской оппозиции, означало расширение спектра социальных слоев, с которыми корона могла вести постоянный диалог, осуществляя "обратную связь" со своими подданными. Этот сдвиг в структуре главных политических собраний сам по себе был шагом вперед в вопросе демократизации системы управления.
Таким образом, уникальный опыт средневековой Европы в создании сословно-представительных собраний стал возможным благодаря
204
сочетанию в странах этого региона относительно сильной монархической власти - с развитой вассально-ленной системой и живучестью общинно-корпоративных институтов, послуживших позднее основой для формирования общегосударственных сословий или сословных групп. Возможно, что корни этого феномена уходили в особенности европейского феодализма и еще глубже - в специфические черты общинных структур в этом регионе. Но эти вопросы требуют специального рассмотрения.
Роль представительного элемента была очень различна в сословных собраниях разных стран. Иногда он был представлен только горожанами и духовенством (Франция, Каталония), иногда городами и рыцарством при отсутствии духовенства (Англия) или вместе с духовенством (Арагон). Иногда, там, где сохранялось много свободных крестьян, в собрания приглашались и их представители (Кастилия, Швеция, Тироль, Русь).
Социальная позиция депутатов, в частности, горожан и рыцарей, зависела от состава избирателей. Иногда рыцари избирались в окружных территориальных собраниях, где присутствовали и свободные крестьяне (Англия), иногда на окружных собраниях только дворян (Польша, Венгрия, Арагон, Каталония), иногда в их выборах участвовали также горожане и крестьяне (Кастилия). Городские депутаты избирались на собраниях, состав которых сильно варьировал, в зависимости от политического строя города - более демократического или олигархического. Во многих странах депутаты от городов и сельских территорий вообще не избрались, а назначались должностными лицами короля. И от городов и от рыцарства в сословные собрания попадали, как правило, наиболее влиятельные и богатые люди, нередко королевские администраторы и легисты. Зависимые крестьяне и городские низы вообще не принимали участия в выборах. Все это было очень далеко от современных представлений о демократии. Однако депутаты с мест были связаны пожеланиями и интересами избравших их корпораций: имели от них "императивный мандат", оплачивались за их счет7, нередко обязывались отчитываться перед ними8. * Поэтому появление представительного элемента в государственных собраниях заметно расширяло каналы для выражения пожеланий и требований к королю с мест. Это подтверждается и деятельностью сословных собраний. Главными их функциями повсеместно являлись: разрешение экстраординарных государственных налогов, передача королю и обсуждение в собрании поступавших с мест петиций, санкционирование наиболее важных законов. Они являлись обычно также высшим судом и привлекались к решению наиболее важных вопросов внешней политики.
Совокупность прав сословных собраний в осуществлении всех этих функций была различна в разных странах. Иногда король не имел законного права собирать налоги без разрешения сословий (Англия, Кастилия), в других случаях - собрания не имели такой компетенции.
205
Но их отказ санкционировать субсидию на практике затруднял ее сбор, что вынуждало корону все же добиваться санкций сословий, в том числе и ценой разных уступок в их пользу. Торгуясь с правительством о размере очередного налога, представительная часть собраний в какойто мере -должна была учитывать реальные платежные возможности и настроения своих избирателей, а отчасти и массы населения своих округов, включая иногда даже зависимое крестьянство и рядовых граждан. Так, в принципе профеодальная позиция сословных собраний в этом вопросе отчасти корректировалась в сторону некоторой ее демократизации. То же заметно в их деятельности, связанной с петициями. Сначала большая часть их адресовалась королю и его совету. Но вскоре многие петиции, особенно коллективные (от общин и корпораций) стали объектом рассмотрения и дискуссий в самом собрании и материалом для более обобщенных требований сословий, которые нередко давали основу для законодательства. Социальный смысл таких общих петиций, составлявшихся уже в собраниях и изданных по ним законам, был обычно ограничен сословными интересами магнатов, рыцарства, в лучшем случае - городов. Но поскольку интересы парламентариев часто совпадали с нуждами их выборщиков, последние в какой-то мере отражались и в таких общих, подававшихся от имени собрания петициях: в требованиях о снижении налогов и пошлин, прощении недоимок, обуздания злоупотреблений местной администрации, прекращения бесплатных конфискаций провианта для армии и двора, о соблюдении права в судах, о пресечении бесчинства магнатов и т.п.
Голос массы свободных жителей королевства нередко звучал в сословных собраниях через депутатов сословий в Англии в 1339-1341 гг., 1376 г., 1386 г., во Франции в 1484 г., в кастильных кортесах и во многих других собраниях. Конечно, в законодательстве эта более демократическая установка представительных элементов собраний реализовалась далеко не полностью. Во-первых, потому, что не все собрания пользовались правом законодательной инициативы и даже обязательного санкционирования законов. Во-вторых, потому, что в повседневной практике сословных собраний компромисс между сословиями и королем достигался нередко за счет городов и крестьянства. Порой соглашению предшествовали острые конфликты, своего рода парламентские бунты. Главной активной силой их была представительная часть собраний, хотя их использовали в своих целях иногда и магнаты. Поэтому в таких "бунтах" часто лидировали города или рыцарство, отстаивавшие свои интересы против магнатов, а иногда и короны, выставляя себя глашатаями "всего народа". Так было, например, на Генеральных штатах 1356-1357 гг., 1380 и 1413 гг., во Франции9, на кастильских кортесах 1250, 1282, 1286, 1295, 1312, 1313 гг.10, во время оппозиционных выступлений английской "Палаты общин" (здесь застрельщиками были рыцари), в 1339-1341 гг., 1348-1349 гг., 1360 г., 1376 г., 1399 г., когда парламент низложил с согласия Палаты общин Ричарда II. В таких конфликтах часто
206
выдвигались требования ограничения королевского произвола, наказания советников-"изменников", иногда - введения в королевский совет лиц, угодных собранию, его контроля над финансамц, т.е. по существу ставился вопрос о политической власти. Обычно эти конфликты заканчивались очередным компромиссом с правительством и между Палатами. Но бывали случаи, когда летели головы королевских советников, а иногда и самого короля или происходила смена династии. Поэтому, хотя сословные собрания как центры политических компромиссов в известной мере "гармонизировали” политическую жизнь, как-то сдерживая вооруженные конфликты, одновременно они являлись и средоточием острой оппозиции короне и орудием ее ограничения. Эта оппозиция возбуждала и политическую активность широких масс в поддержку бунтующих сословий. В целом же в повседневной жизни и в острых ситуациях воздействие сословных собраний на политику государства было довольно значительным. Оно определялось прежде всего тем, что эти собрания были одним из важнейших центров "диалога" между королем и его подданными. При этом в реальной жизни и король и бароны часто оказывались перед лицом самостоятельных действий представительного элемента сословных собраний.
Отсюда проистекала их двойственная роль в политической структуре средневекового общества: они, конечно, служили опорой центральной власти, во многом поддерживая ее политику всесословным волеизъявлением. Но вместе с тем они были средоточием интересов всех свободных слоев общества, их претензий к правительству, своего рода барометром общественного мнения, средством его практической реализации. Поэтому они в чем-то и стесняли власть короля, оказывались носителями пусть ограниченной, сословной, но все же демократии.
Сословные собрания играли немалую роль в политическом воспитании общества, формирования в нем политической культуры, привитии ему навыков политической борьбы и достижения компромиссов, проведения выборов депутатов на местах. Чем дальше, тем больше в общественном сознании утверждалось мнение о важной политической роли сословных собраний11. По мере того, как вырабатывалась парламентская процедура, развивалась терпимость в дебатах, представления о свободе слова, депутатской неприкосновенности12.
Наконец, появление сословных собраний оказало значительное воздействие на политические теории и расхожие представления средневековья. У колыбели этих собраний стоял принцип "согласия" в двух его вариантах - непосредственных вассалов короля и представителей местных общинных корпораций. Опираясь на него, королевская власть при созыве собраний, чем дальше, тем больше старалась изобразить их как представительство всей страны. Одновременно она вводила в употребление понятие "общего блага" в качестве цели своей политики, часто оправдывая им свои требования к сословиям. Последние, однако, очень быстро сами взяли на
207
вооружение эти принципы» добавив к ним еще два: "общественной необходимости" (communa necescitas) и "народного суверенитета" в его средневековой форме. Они вслед за правительством привыкали видеть в сословных собраниях представительство не только отдельных сословий, но всей страны - "общины королевства", или "общины общин", по терминологии английских источников XTV-XV вв.
* * *
Конечно, демократизм средневековых сословно-представительных собраний был весьма относителен. Едва ли можно оспорить мнение тех ученых, которые подчеркивали классовую природу этих собраний, как органов феодального государства, враждебного трудовому народу13.
Однако классовые задачи не исчерпывают значения деятельности представительных учреждений средневековья, так же как и феодального государства в целом. Очевидно, их место в развитии феодального общества и в европейской цивилизации следует оценивать в более широком контексте.
Эти новые учреждения в своем развитии вышли за рамки уготованной им судьбы покорного орудия королевской власти или аристократических претензий магнатов. Вольно или невольно они оказались носителями некоторых элементов средневековой демократии. Ликвидировав монополию магнатов на совещательные обязанности при короле и ограничив их собственные олигархические притязания, сословно-представительные собрания, где в большей, где в меньшей степени, лимитировали и автократические стремления центральной власти. Наконец, возникновение сословных собраний и постепенный рост их влияния создавали определенные традиции представительной системы управления, выборности, порождали заметные сдвиги в политическом сознании народов.
Конечно, в феодальном обществе господствовали иерархизм и автократия, осуществляемая королем через достаточно сложный и разветвленный судебно-административный аппарат, действовавший помимо сословных собраний. Над умами политических деятелей того времени господствовал образ короля, как главы государства, помазанника божьего, сакрального вождя народа. Поэтому в своей повседневной практике сословные собрания были скорее покорны, чем мятежны. Чем больше усиливалась власть короля в XV-XVI вв., тем реже стали собираться эти собрания, или от них отказывались вовсе как от ненужного прикрытия в пору абсолютизма.
Однако, в истории, в этой копилке человеческого опыта, ничто не пропадает бесследно. Принцип представительства не умер. Он возродился в новых формах в XVII-XIX вв. Не случайно английская революция началась в парламенте, со ссылок на "Великую хартию вольностей" и средневековые традиции этого учреждения, а французские революция конца XVIII в. - с созыва, казалось бы, давно забытых Генеральных штатов.
208
Именно эти традиции, а не полисный принцип прямого народоправства, заложили основы той организации политической власти, которые позднее легли в основу современных демократий, и тем самым внесли свой заметный вклад в развитие европейской, а позднее
и мировой цивилизации.
1 См.» например» Europe and the Rise of Capitalism / Ed. J. Beachler» J.A. Hall, M. Mann. Oxford, 1988.
2 См. Гутнова E.B. Возникновение английского парламента. М.» 1960. Гл. I; Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции XIII-XV вв. М.» 1989. С. 20-28; Guene В. L'Occident aux XIV et XV scidcles. Les Etats. Р.» 1971; Genese de l'etat modeme. Prelevement et Redistribution / Ed. J. Ph. Genet et. M. le Мепё. Р.» 1987. P. 7- 12.
3 Cm. Reinolds S. Kingsdoms and communities in Western Europe 900-1300. Oxford, 1984.
4 Гутнова E.B. Возникновение английского парламента. Гл. III.
5 Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции... Гл. III. С. 128-168; Корсунский А.Р. История Испании IX-XIII вв. М., 1976. С. 188,192.
6 Marongiu A. Medieval Parliaments. А Comparative Study. L., 1968. P. 67-73.
7 Гутнова E.B. Роль бюргерства в формировании сословных монархий в Западной Европе // Социальная приро да средневекового бюргерства XIII— XVII вв. М.» 1979; Me Kizac М. The parliamentary of the English Borough. L., 1936, passim; Репина Л.П. Сословие горожан и
феодальное государство в Англии XIV в. М., 1978. С. 137-142.
® Maddicott J.R. Parliament and Electorat // The English parliament in the Middle Ages. Manchester, 1981.
9 Хачатурян H.A. Сословная монархия во Франции... С. 181-192.
10 Корсунский А.Р. Указ. соч. С. 198-204.
11 См. Maddicott J.R. Country community and the Making of public opinion in XIV cent. England // Transaction of Royal Hist. Society 5 ser. XXVIII. 1978. P. 27-43.
12 См., напр. Myers L.R. Parliament 1422- 1509 // The English Parliament in the Middle Ages. Manchester. 1981. P. 154- 183; Roskell. The Commons and their speakers in English parliament 1376-1523. Manchester, 1965. P. 40-48.
13 См. указанные выше работы советских историков, а также Gendse de l'dtat modeme. Prelevement et Redistribution ed. Y. Ph. Genet, rt M. le Mene. P., 1987. P. 7-12; Harris G.L. King Parliament and publie Finance in Medieval England to 1369. Oxford, 1975.P. 509-516; Maddicot J.R. The English Peasantry and the Demends of the Crown // Past and Present supplement; Lander I.R. Government and Community. L., 1980.
Ф.М. Л. Томпсон
ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ
В интеллектуальных и политических кругах стало модным говорить об "общеевропейском доме". В этой фразе больше от устремленности в будущее, чем от обращения к историческому прошлому, и тем не менее своими корнями она восходит к широко распространенному мифу о том, что некогда Европа являла собой континент, объединенный общностью верований, институтов, обычаев и культуры. К стоящей за этим мифом реальности можно подходить на разных уровнях, но чаще
© Ф.М.Л. Томпсон 8. Цивилизации. Вып. 3
209
всего ее рассматривают сверху вниз. В средние века от Ирландии до Московии (за исключением крошечного островка - Швейцарии), монархические формы правления были во многом сходны, хотя далеко не тождественны, и в общем и целом покоились на сходных иерархических структурах власти могущественных баронов. Они часто воевали друг с другом из-за территориальных или династических претензий, но жили в общих рамках христианства и в известной мере рыцарского кодекса, что служило четкой границей, отделявшей их от варваров. Следует помнить, что в период, предшествовавший Реформации, христианство было разделено на католичество и православие, Запад и Восток, а универсальный литературный язык класса образованных людей и церкви - латинский - был универсальным только в католической части Европы. То же можно сказать и о не зависящей от языка высокой культуре живописи и музыки в дореформационные времена. Эта культура была широко распространена, хорошо понималась и ценилась во многих местах, но опять же почти исключительно в пределах католической, латинской Европы. И действительно, в смысле культуры допустимо утверждать, что подлинно универсальная европейская цивилизация существовала, хотя и в очень узком искусственном кругу, только в XVIII и XIX вв., когда французский был языком дипломатии и языком двора.
По этим вопросам возможна широкая плодотворная дискуссия и есть все основания обсудить, по крайней мере относительно Малой Европы, тезис о том, что Реформация обозначила великий водораздел между Европой, объединенной христианством, и Европой, расколотой на отдельные династии и национальные государства. Настоящая работа преследует иную, дополнительную цель - подойти к понятию "общеевропейский дом" снизу вверх. "Низ" в данном случае - это огромная масса народов Европы и условий их прошлого бытия. Еще в 1800 г. без малого 90% всего населения Европы проживало в сельской местности (88,1% в Европе до Урала, 86,2% в Европе без России). Это подавляющее преобладание сельского населения было глубоко укоренившимся и чрезвычайно прочным. Доля городского населения Европы была удивительно постоянна - за пять столетий с 1300 по 1800 г. она отклонялась в ту или иную сторону всего на одного или два деления от 12%, каковы бы ни были подъемы или падения в абсолютных цифрах. И хотя после 1800 г. преобладание сельского населения стало уменьшаться, процесс размывания проходил не легко и быстро. Накануне первой мировой войны 70% жителей Европы все еще жили вне городов. Превращение их в меньшинство произошло в XX в., и в значительной степени после 1945 г. Данный процесс можно наглядно изобразить, исходя из противоположной тенденции роста городов. В 1800 г. в Европе был только один город с миллионным населением - Лондон, к 1900 г. было уже девять городов, в каждом из которых насчитывалось более миллиона жителей - Берлин, Бирмингем, Глазго, Лондон, Манчестер, Москва, Париж, Санкт-Петербург и Вена (примечательно, что четыре из них в Британии), к 1950 г. таких
210
городов было 26 (семь в Британии), в 1985 г. - 64 (и те же семь в Британии). Европа стала окончательно урбанизированной совсем недавно, а типичными очагами ее культуры, как народной, так и высокой, стали крупные города с большой концентрацией населения. На протяжении всей своей истории до XX в. Европа в общем и целом представляла собой сельский континент, и, надо думать, этот основополагающий демографический и экономический факт оказал глубокое влияние на характер и историю европейской цивилизации.
Задача данной работы - показать, что это влияние было решающим на уровне народной культуры, т.е. материальной культуры и моделей поведения массы населения, но минимальным на уровне высокой культуры, т.е. в сферах интеллекта, искусства, литературы, двора и правительства, светского общества. Религиозные верования и церкви, с трудом пережившие массовую урбанизацию, являют собой весьма любопытное явление, относительно которого, очевидно, можно сказать, что традиционный сельский фон имел первостепенное значение для поддержания их влияния на всех уровнях общества.
Минимальное влияние сельского общества на элитарную культуру - на то, что обычно имеется в виду под терминами "цивилизация” и "цивилизованное поведение" — имплицитно констатируется в общепринятом положении о том, что города традиционно являлись небольшими оазисами или маяками цивилизации и учености, расположенными в великих пустынях сельской простоты и невежества. Это могло быть и так и не так. Несомненным же представляется то, что огромное большинство памятников материальной культуры в Европе до XIX в. в области знаний, живописи, музыки и архитектуры, а также более эфемерные свидетельства изысканного и культурного поведения в манерах, одежде, еде и напитках имели под собой городскую основу и впервые появлялись либо при дворе, либо в городе. Вклад во все это религии и церкви был опять же неоднозначен; монастырский элемент обеспечивал то, что хотя бы в крупных городах доля культуры с деревенской основой не столь сильно уступала в количестве и качестве городской части.
Но даже если считать само собой разумеющимся, что цивилизация - это нечто, развивавшееся в городах, есть все основания утверждать, что косвенное влияние сельского общества и аграрной экономики было решающим в определении объема ее развития. Разумеется, было бы абсурдом измерять качество цивилизации аршином соотношения городского и сельского населения или утверждать, что период, когда 50% населения урбанизировано, обязательно цивилизованней того, когда горожан всего 10%. В равной степени было бы упрощением доказывать, что качество и характер цивилизации или культуры должны были оставаться по существу статичными и неизменными более 500 лет, вплоть до 1800 г., поскольку процент горожан оставался довольно постоянным на протяжении этого периода. Тем не менее, есть нижний предел возможности существования цивилизации элитарных культур, который поддается количественному определению и
8*
211
касается факторов, определяющих число людей, которых общество может содержать, освободив их время и мысли от постоянных забот о хлебе насущном и, кроме того, может содержать их в достаточно больших общинах, позволяющих достигать утонченного разделения, в том числе умственного.
Урбанизация - приблизительный, но во многом приемлемый критерий-заменитель для такого измерения. Это не означает, что сугубо деревенские или сельскохозяйственные общества не могли производить и не производили элит с образом жизни, далеким от монотонности и простоты, лежавших в основе крестьянской жизни. Не означает это и того, что все жители городов были в некотором смысле цивилизованнее остальных, ибо очевидно, что большинство из них были такими же простыми лесорубами и водовозами, что и их деревенские родственники, а их труд предназначался для поддержания малочисленного элитарного меньшинства внутри каждого города. Тем не менее в целом горожане при всем различии занятий, должностей и уровней дохода представляли собой единый, явно несельскохозяйственный сектор населения, группу, которая за некоторыми исключениями не занималась производством своих собственных продуктов питания, топлива или сырья. Если допустить, что межконтинентальной торговли продовольственными товарами не было (а такое допущение для средних веков и начала нового времени резонно - за исключением небольших количеств пряностей, а позднее деликатесов вроде кофе или чая), то в силу этого относительная величина европейского городского населения зависела от способности европейского сельского населения произвести прибавочный продукт. Судя по всему, для того, чтобы прокормить одного горожанина, всегда требовалось восемь, девять человек, работающих на земле. В рамках общеевропейского опыта это означало, что существовал довольно гибкий, но устойчивый предел способности сельскохозяйственной системы любой разновидности производить продовольствие для несельскохозяйственных общностей и, каков бы ни бы тип управления или социальных структур, попытки изъять излишки у земледельцев, будь то силой или методом денежных или иных стимулов, наталкивались на те же физические пределы.
Следовательно, во-первых, при традиционном демографическом и продовольственном режиме варианты и различия между аграрными и политическими структурами не были в своей основе связаны с вопросами масштабов городского населения и праздных элит, и, вовторых, размеры этих элит повсюду и примерно одинаково были ограничены уровнем производительности сельского хозяйства, который едва ли менялся из века в век. В условиях статичной технологии земледелия единственным способом увеличить общий объем продовольственных запасов и излишков в сельском хозяйстве могло быть увеличение количества земледельцев и умножение числа хозяйств, делающих то же, что и раньше, или же освоение новых земель с более высоким естественным плодородием, чем на старых землях. Первый
212
вариант, при условии рационального распределения и возделывания культур, означал скорее всего либо введение в оборот бросовых земель, либо разукрупнение существующих держаний, и в обоих случаях быстро приводил к падению производительности как земли, так и труда, и, следовательно, к уменьшению излишков, могущих стать предметов "экспорта" в несельскохозяйственный сектор. Именно так случалось в периоды возрастания населения. Второй вариант, возможный только там, где раньше земли были малонаселенными и приобретались, как правило, путем завоевания, мог привести к скачку в производительности и тем самым к пропорциональному увеличению элиты; или же, если земледельцы могли удерживать свой "экспорт" неизменным в физическом смысле, становилось возможным увеличение богатства и благоденствия деревни, но это мало отражалось на городах или элитах.
Наряду с этой картиной, рисующей старый порядок в Европе как единообразную, недифференцированную в своей основе агросистему, где были возможны только небольшие перемены циклического и обратимого характера, имеется также историография с многолетней традицией, подчеркивающей глубоко укоренившееся разделение Европы на весьма различные типы сельских обществ. Деление на крестьянские общества Запада (с их очень широкой свободой) и рабские общества к востоку от Эльбы - прочно утверждившаяся в литературе традиция. Тройственное деление на 1) индивидуалистические общества с богатыми и бедными крестьянами и ориентированными на рынок держаниями, 2) общества деревенских общин с широким равенством крестьян, озабоченных проблемами существования и 3) рабские общества крепостных, полностью зависимых от своих феодальных властителей, весьма сходно с известной моделью, которую для удобства можно снабдить этикетками - западное, центральное, восточное, понимая при этом, что данные этикетки не имеют прямого отношения к топографии или политической географии Европы.
Как согласовать подходы демрграфии, подчеркивающие пан-европейское сходство, и подходы истории законов и общественных институтов, подчеркивающие различие? Существует целый ряд возможных ответов: очевидная, очень длительная стабильность в производительности сельского хозяйства Европы - это статистический трюк, затушевывающий региональные различия; расхождение в типах сельских хозяйств наметилось скорее в конце, чем начале периода 1300-1800 гг. И действительно, было время, когда общий сельский уклад господствовал на большей части Европы: влияние сельских хозяйств расходящихся типов на величину несельскохозяйственного населения осуществлялось не иначе как в форме эффектов замедленного действия. Все три заслуживают рассмотрения.
Прежде всего не подлежит сомнению, что уровень урбанизации не был одинаков для всех регионов средневековой Европы. Очаги высокой цивилизации были, в частности, в Северной Италии и Нидерландах, где доля горожан среди всего населения была вдвое или втрое
213
выше, чем в среднем по Европе; вообще в странах Южной Европы - Португалии, Испании, а также Италии, наблюдался более высокий уровень урбанизации населения, чем в остальной Европе. В то же время в средневековой Европе имелись большие территории, где доля городского населения едва достигала половины общеевропейского уровня, в частности, в Англии на западе, России на востоке и Скандинавии на севере. Эти отклонения от среднего показателя - еще не основание для утверждения, что в одних регионах сельская экономика продуктивнее, чем в других, а кое-где сельское хозяйство было чрезвычайно отсталым и примитивным, хотя некоторые элементы различий, особенно когда они накладывались на различия в естественном плодородии, вполне могли иметь место. Наиболее показательной чертой было то, что эти региональные отклонения от среднеевропейского уровня оставались фактически неизменными вплоть до XIX в. Единственное исключение составила Англия, где эти показатели начали меняться в XVI в. Так, если еще в 1500 г. доля городского населения страны была вдвое ниже общеевропейского уровня, то в 1700 г. равнялась ему, а в 1800 г. превосходила его вдвое.
Вполне возможно, что высокоурбанизированные районы Северной Италии и Нидерландов в известной мере были обязаны своим существованием более высокому плодородию и передовым техническим приемам на землях, тяготевших к городу. И все же вряд ли можно полагать, что это рачительное и продуктивное ведение хозяйства сильно изменилось за несколько веков, по крайней мере в том, что касается излишков для продажи на городских рынках. Очаги сравнительно плотной городской концентрации снабжались продовольствием и сырьем не из прилегавших к ним районов, а извне, поскольку имели значительное преимущество над другими регионами в производстве товаров, особенно текстильных, и могли обменивать свои изделия на сельскохозяйственные продукты где угодно. Обратной стороной медали было то, что регионы, экспортировавшие сельскохозяйственные продукты, неизбежно уменьшали свои возможности поддерживать собственное несельскохозяйственное население, так как часть их продовольственных излишков использовалась для снабжения городов других регионов. Поэтому нельзя считать, что регионы с низким уровнем урбанизации обязательно имели особенно отсталое и непроизводительное сельское хозяйство.
Так, в Англии и России было более производительное сельское хозяйство, нежели можно предположить, исходя из низкого уровня их урбанизации в средние века, в Англии - благодаря вывозу шерсти, а в России - скота. С XVI в. до 20-х годов XIX в. Украина и южные степи России служили одним из важнейших источников поставки мяса в города Германии и Центральной Европы: стада крупного рогатого скота перегонялись через Польшу на крупные ярмарки Люблина, Кракова, Варшавы или Франкфурта-на-Одере. С российско-польской торговлей скотом могла конкурировать только венгерская торговля Южной Германии, Венецией и Северной Италией. Эти живот¬
214
новодческие регионы были слабо заселены, а города располагались на больших расстояниях друг от друга. Но в этих регионах, когда их не опустошали войны, уровень жизни был, вероятно, самым высоким во всей сельской Европе. Годовое потребление мяса на душу населения составляло обычно около 50 кг, в то время как крестьяне Западной и Центральной Европы были счастливы, если имели 10 кг в год. В XVIXVIII вв., когда царская власть распространилась на Украину и черноморское побережье, потоки степного крупного рогатого скота были насильственно переориентированы на север и какое-то время в XVII и начале XVIII в. русские имели примерно такой же огромный уровень потребления мяса. Они могли быть крепостными или полукрепостными, но они были в числе тех, кто лучше всех питался в Европе. Считается, что и англичане ели много мяса, возможно, так оно и было, особенно в течение 150 лет после "черной смерти", когда плотность населения страны оставалась низкой.
Возможность регулярно и в больших количествах есть мясо традиционно рассматривалась в народе как признак благоденствия, счастья и довольства. Согласно этому мерилу, сельская экономика на восточных и западных флангах Европы выигрывала от своей роли поставщика в более плотно заселенные, более урбанизированные центральные земли.
Продолжительное равновесие старого уклада в Европе с его устойчивым соотношением между деревней и городом и в общем сходными уровнями сельскохозяйственной производительности было в конце концов нарушено ростом населения в XVI и XVII вв. Реакция сельского хозяйства на рост населения сводилась в основном к тому, что хлебные злаки становились основным продуктом питания, а мясо превращалось в роскошь, так как это был единственный способ сохранить жизнь большому количеству людей при низкой производительности земли и труда. Единственный способ увеличить производство зерна состоял в том, чтобы расширить посевные площади, включив в них, как обычно, земли, дотоле считавшиеся худшими по качеству и непригодными для выращивания зерна. Теория ренты показывает, что большинство экономических выгод от такого продвижения на маргинальные земли достается тем, кто владеет землей (включая обрабатывавшуюся ранее), или тем, кто контролирует ее использование.
Реакция на потребности в больших количествах зерна можно изобразить как принятие одной из трех схем: полная коммерциализация земледелия, ведущая к консолидации и укрупнению участков земли и возникновению системы отношений помещик - арендующий фермер - безземельный работник; полная регламентация земледелия, ведущая к крепостничеству и неразвитости арендных отношений и оставляющая за работниками мелкие участки земли в качестве полунаследственных держаний; разукрупнение существующей крестьянской экономики на мелкие, обрабатываемые силами одной семьи держания, с очень небольшими товарными излишками. Англия, Шотландия и некоторые районы Франции шли в основном по первому пути, Европа к востоку от
215
Эльбы и прежде всего Россия - по второму, а остальная часть Западной и Центральной Европы - по третьему. Может показаться, что данная модель пренебрегает многолетней традицией изучения крестьянства, его статуса, феодальных повинностей и личных свобод. В действительности же речь идет о том, что хотя контраст между крестьянством на Западе, в принципе располагавшим личной свободой, и крестьянством в центре и на востоке, не имевшим ее, возник до XVI в., каких-либо существенных различий в агросистемах и возможностях кормить неземледельческое население тогда еще не было. Они появились в последующие два или три столетия. Каждый из трех путей привел к общему увеличению производства зерна за счет уменьшения продукции животноводства. Но за долгий период, примерно до середины XIX в., только первый и в гораздо меньшей степени второй варианты доказали свою способность обеспечивать продовольствием не занятое в сельском хозяйстве население. Это, в свою очередь, открыло дорогу развитию более сложного, опирающегося на широкую социальную базу общества, в котором как материальная, так и духовная культура перестала быть исключительным достоянием узкого круга привилегированной элиты Старого режима.
Влияние военной технологии и военных потребностей на сельские общества было двояким - у королевской или имперской бюрократии появилась острая заинтересованность в поддержании и расширении налоговой базы, что на практике в контексте сделок, заключаемых с подчиненными слоями магнатов, дворян и землевладельцев, означало сохранение социально-экономического статус-кво; для центральных правительств стало весьма важным делом сводить к минимуму все, что могло угрожать способности преобладающей массы населения - крестьянства - пополнять армию. При всей недальновидности, присущей правительствам (которые думают скорее о том, что случится в следующем месяце, какой ожидается урожай, будет ли в следующем году военная кампания, нежели о выгодах будущих поколений), это указывало в общем на проявление мудрости в вопросах защиты существующего социально-экономического уклада от потрясений и переворотов.
Милитаризм обошел Англию стороной. Ведение военных действий на суше не было тем делом, в котором Британия пыталась соперничать с другими странами. Начиная с XVI в., Британия имела крупный военно-морской флот и проводила политику, направленную на поддержание рыболовных промыслов и процветающего торгового флота, что могло играть отрицательную роль по отношению к сельскому хозяйству.
Голландцы, добившиеся независимости для части высокоурбанизированных Нидерландов, были жизненно заинтересованы в сухопутной армии и военно-морском флоте. Возникшую проблему они решили посредством остроумных фискальных нововведений в торговле, привлекая на службу наемников и субсидируя союзников. Данный путь
216
они предпочли замораживанию и стагнации своего сельского хозяйства.
Можно было бы ожидать, что Северная Италия с ее высоким уровнем развития городов и экономики последует примеру Нидерландов. Но она стала излюбленным полем соперничества Франции, Испании и династии Габсбургов и была насильственно освобождена от необходимости создавать и содержать собственную большую армию.
Повсюду в Европе возникали проблемы, связанные с военным делом; они решались таким образом, чтобы держать крестьянство на земле и на службе государства. Конкретная форма удержания крестьян на земле зависела от характера унаследованных обычаев и традиций, от укорененности общих представлений о законности, от того, в какой степени поддерживающие ее институты были защищены от произвола власти. На западе и в центре континентальной Европы до Эльбы крестьянство имело достаточно прочные, освященные обычаем права на условное наследование своих держаний (от очень мелких до умеренно крупных), что позволяло ему использовать консервативную и инерционную силу государственной власти для защиты от экспроприации земли титулованными собственниками. В результате сельская организация и культура земледелия оставались в целом нетронутыми. Землевладельцы в массе своей не интересовались тем, что происходило в их поместьях, пока продолжали получать то, что обычно причиталось с крестьян, а государство препятствовало консолидации держаний или обширным огораживаниям. Достаток был ограниченным - случались неурожаи и нехватки продовольствия, образ жизни отличался простотой, а крестьяне оставались в униженном и подчиненном положении.
К востоку от Эльбы ситуация в XVI в. сильно отличалась. Основанные на обычае права крестьян не были достаточно хорошо закреплены, так как целый регион - Прибалтика, Польша, Украина, Венгрия и Придунайские княжества - в тот период и еще до него часто становились объектов завоеваний. Отчасти как результат завоевания сложилась традиция ведения хозяйства в крупных несдаваемых в аренду поместьях. Кроме того, имелось большое количество малонаселенных необрабатываемых земель (особенно на Украине, Венгерской равнине и в Придунайских княжествах), которые понемногу превращались в пашни. Ужесточение крепостничества в конце XVII и начале XVIII в., наиболее заметное в России, Бранденбурге, Польше, Трансильвании или Буковине, имело, таким образом, как экономические, так и политические причины. Многие крестьяне стали безземельными. Другие имели свои собственные наделы, которые на практике переходили от отца к сыну, каковы бы ни были законы, обязывавшие отдавать его господину, если тот того пожелает. Вместе с тем крепостные должны были выполнять трудовые повинности; крупные поместья (возделываемые для господского потребления, для вывоза в город, а в определенных случаях и для межрегиональной торговли в Европе) и крестьянские держания (возделываемые в
217
основном для самообеспечения) и составляли сельскохозяйственную систему, которая не могла обеспечивать сколько-нибудь заметный относительный рост несельскохозяйственного населения. И действительно, с 1600 по 1800 гг. с ростом зернового экспорта из Польши и Прибалтики доля горожан во всем населении Польши и России уменьшилась.
Тем не менее при дешевых рабочей силе и земле это примитивное сельское хозяйство могло конкурировать с английским, применявшим четырехпольный и смешанный севообороты и имевшим репутацию самого передового по тому времени. Англия, точнее Британия, поскольку с конца XVIII в. и в Шотландии появились районы прогрессивного земледелия, достигла такого положения в сельском хозяйстве благодаря тому, что она избавилась не только от крепостничества, но и от крестьянства. Само крепостничество отмерло в XV в., оставив крестьян, обязанности которых по отношению к владельцам поместий состояли в основном из обычных рент и сборов. Крестьянство, возделывавшее семейные наделы главным образом для самообеспечения, было уничтожено в XVI-XVII вв. и на его место пришли фермеры-арендаторы, выплачивающие коммерческую ренту, причем многие из них нанимают безземельных работников. Переход к аграрной структуре "владелец-арендующий фермер - работник” не был чем-то внезапным, он растянулся на два столетия.
Эта структура не была единственной, способной благоприятствовать целиком коммерческому и технически прогрессивному сельскому хозяйству. Система “фермер-собственник” оказалась в равной или большей степени способной делать то же самое, как это продемонстрировала в XIX в. Америка, в конце XIX в. Германия или в конце XX в. Франция.
Фермеры-арендаторы вводили новые методы хозяйствования, посевные культуры, следили за рынком, чтобы оплачивать высокую ренту и обеспечивать себе лучший жизненный уровень, чем у нанимаемых работников. Совокупный результат их усилий можно видеть в неуклонном повышении примерно с середины XVI в. доли незанятых в сельском хозяйстве работников среди всего населения. В 30-40-е годы XIX в. городское население Британии выросло настолько, что пришлось часть продовольствия ввозить извне (а в первой половине XVIII в. британское сельское хозяйство было достаточно производительным, чтобы кормить собственное население и иметь излишки для экспорта). Британия была единственной среди крупных и густонаселенных стран Европы, чья сельская экономика избавилась от Старого режима с его статичным соотношением между селом и городом, а следовательно, и узкими социальными элитами.
Три различных типа сельского общества и сельской экономики, которые возникли из средневекового "общего дома”, оказали глубокое влияние на процессы индустриализации континентальной Европы как в западной, так и в восточной ее части. Таким образом, эти три типа лежат у истоков современной Европы.
218
И.Н. Кузнецов
И.Г. ГЕРДЕР О ЦИВИЛИЗАЦИИ ПРОСВЕЩЕНИЯ:
ВЛАСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ
Цель данной статьи - иллюстрация отнюдь не оригинальной мысли: если и можно говорить о кризисе современной цивилизации, то надо согласиться с тем, что не в последнюю очередь этот кризис порожден неправильным и неполным использованием интеллектуальных сил общества. Речь пойдет не об утилизации изобретений и открытий, а о применении достижений сравнительно малочисленной группы гуманитарной интеллигенции, которую можно было бы называть интеллектуальной элитой - если бы они сами себя к ней относили.
Многое может прояснить обращение к эпохе Просвещения, когда, собственно, впервые широко заговорили о народах "диких" и "цивилизованных" и когда слово "цивилизация" стало наполняться содержанием, свойственным и по сей день: цивилизация как процесс и цивилизация как состояние. И если это понятие имеет тенденцию превращаться из эпитета в категорию, претендующую на объяснение исторического процесса, то логично было бы попытаться увидеть истоки того, что мы называем "ценностями современной цивилизации" (в сфере не производственно-технологической, а духовной), в эпохе, когда оно появилось. Что именно объединяет Просвещение и современность, установить довольно трудно. Едва стоит задуматься об "основах современной цивилизации", как выясняется, что подозрительно многое из этих основ либо уходит корнями совсем уж вглубь веков, либо создано при жизни последних двух-трех поколений; доля собственно Просвещения становится исчезающе малой: у него нет монополии ни на либерализм, ни на веротерпимость, ни на рационализм и т.п. Ниже мы попытаемся проверить предположение (основанное в сущности на догадках, ибо современная цивилизация исследована еще меньше, чем цивилизация Просвещения), нет ли в отношениях между властью и интеллектом чего-то такого, что как раз и объединяет историю последних трех столетий в нечто более или менее цельное и доступное для понимания на основе одних и тех же принципов.
Еще одно предварительное замечание. Что такое интеллектуальная элита эпохи Просвещения - скорее понятно, чем непонятно. Это само Просвещение и есть. Что такое интеллектуальная элита современности - скорее непонятно, чем понятно. А. Эйнштейн и М. Ростропович, А. Печчеи и К. Симонов, французские "бессмертные" и итальянские или испанские писатели - да, элита, но разве нельзя список продолжать до двух или трех сотен или тысяч имен? Смирившись с тем, что компактный список, как во времена европейского Просвещения, создать не удастся, остается признать, что деятельность
© И.Н. Кузнецов
219
философов и литераторов XVIII в. не прошла даром, общество стало просвещеннее, и под интеллектуальной элитой приходится подразумевать просто работников умственного труда высокой квалификации.
Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803 гг.) - один из тех немногих просветителей, чье творчество позволяет рассматривать проблему "цивилизации Просвещения" с наиболее выгодных временных позиций - он, оставаясь просветителем, работал в те годы, когда почти во всех странах Просвещение уже миновало фазу расцвета и его можно было оценивать как явление. Кроме того, неопределенно-широкое понятие "цивилизация" оказывается очень хорошо соответствующим и авторской манере самого Гердера, бежавшего от всяческой однозначности, и его стремлению к универсализму, к широте и свободе взгляда на исследуемую проблему.
Канву истории отношения Гердера к Просвещению можно обозначить примерно так. Знакомство с основными сочинениями европейских просветителей состоялось в начале 60-х годов ХУШ в., когда Гердер учился в Кенигсберге у Канта. В 1769 г. он предпринял путешествие по Европе, чтобы лично засвидетельствовать свое почтение выдающимся мыслителям того времени, найти новый круг общения. Тогда он был охвачен идеей "помочь" Екатерине П в создании нового законодательства, руководствуясь прежде всего политическими теориями французских просветителей. В Лондон и Рим Гердер не попал, хотя и собирался, зато провел несколько месяцев в Нанте и Париже. В "Дневнике моего путешествия в 1769 году" и особенно в "Еще одной философии истории для воспитания человечества" (1773 г.) он констатировал, что английское и французское Просвещение как идейное течение остановилось в развитии к началу 70-х годов. Во всяком случае, по его мнению, просветительские идеи уже не могли ни полностью занимать общественное сознание, ни выдерживать натиск со стороны оппонентов.
Критика Гердером Просвещения в конце 60-х - начале 70-х годов была "критикой изнутри", с позиций, неальтернативных просветительским, поскольку альтернативу еще предстояло найти. Поиски развивались и могли, по-видимому, развиваться лишь в двух направлениях: практическое приложение (что, собственно говоря, не вполне развитие, особенно если принять во внимание этот зазор от середины 70-х годов до 1789 г., который сделал революцию не столько воплощением, сколько более или менее циничным использованием идей и принципов Просвещения) и попытки анализа с опорой на старые, религиозные принципы. Мысль Гердера прошла в обоих этих направлениях (особенно ярко это видно по сочинениям "Тифон и Аврора" из 4-го собрания "Разрозненных листков", "Письмам об изучении теологии" и черновому варианту первого сборника "Писем для поощрения гуманности"). Он предпринял поистине титаническую попытку "возвыситься" над выбором между двумя возможностями, слабые стороны которых были ему хорошо видны: это "Идеи к философии исто¬
220
рии человечества" и философская полемика с И. Кантом в последние годы века. Попытку "встать над спором" нельзя признать удачной в смысле поисков альтернативы Просвещению - "Идеи ..." доведены только до конца средневековья, а с Кантом никакого серьезного разговора не получалось - тот просто не отвечал на выпады своего бывшего ученика, которые скорее озадачивали публику, чем заставляли задуматься.
Примерно с середины 90-х годов можно констатировать "возврат" Гердера к Просвещению и "реабилитацию" просветительских идей в его глазах. Свидетельство этого - недооцененный исследователями журнал " Адрастея" и переписка тех лет.
Размышления Гердера о месте и значении просвещенной элиты в обществе, разумеется, менялись вместе с его отношением к Просвещению. Установить его отношение к элите мы можем лишь по его собственным первым шагам на ниве просвещения (хотя, оговоримся, ни тогда, ни позже он себя к элите не относил). В конце 60-х годов XVIII в., уже став известным благодаря "Фрагментам о новейшей немецкой литературе" и "Критическим лесам", Гердер пытается осуществить грандиозный замысел - приложить просветительские теории (прежде всего идеи Монтескье) к политическому устройству конкретного государства - России. Замысел возник в Риге, он обговаривал его в узком кругу друзей по ложе, и, по всей вероятности, не без их участия, предпринял путешествие по Европе с целью обогатить свои знания новейшими достижениями политической мысли и общением с корифеями Просвещения, прежде чем обращаться к императрице Екатерине II с трактатом касательно государственного устройства России. Разные обстоятельства помешали ему тогда побывать во всех намеченных странах и написать задуманный трактат. Заметим, что приготовления были самые серьезные - он просил прислать сочинения по русской истории и географии, перечитывал заново Монтескье, даже осведомлялся, "любит ли императрица читать по-французски или следует писать на немецком".
Не так уж важно, считал ли себя Гердер в то время просветителем и относил ли себя к элите - о чем было немало споров в литературе - важно, что он считал просветителя и способным, и обязанным воздействовать доступными ему литературными способами на государственную жизнь, то ли через просвещенного государственного деятеля, то ли иными средствами, но более или менее непосредственно, понуждая общество к ясным и разумным переменам.
Увы, трактат не был написан; остались лишь черновики к "Дневнику моего путешествия в 1769 году", основываясь на которых, можно строить весьма зыбкие предположения касательно будущего республиканского (по мысли Гердера) устройства России. Но зато вполне твердо можно говорить, что среди главных причин отказа от этих намерений была неудовлетворенность историко-теоретическим обоснованием политического трактата. Среди множества других сочинений Гердера 70-х годов - "И еще одна философия истории для воспитания
221
человечества” (1774 г.), где, в частности, идет речь и о просветительской философии истории. Главное "обвинение” просветителей в устах Гер дера - антиисторичный рационализм.
Влияние на политику написанного в середине столетия сочинения Монтескье "О духе законов” представляется Гердеру в конце века только отрицательным: "Будет, обязательно будет создана история человечества в благороднейшем смысле слова. А пока пусть нас ведет и уводит великий законодатель и наставник королей. Он подал замечательный пример способности все определять двумя-тремя словами и безмятежно парить над двумя-тремя формами правления, ... сводя к ним все. Как легко следовать за Духом законов всех времен и народов - но только не своего собственного народа... Часто, заполучив в руки клубок, мы радуемся возможности размотать его, дергая за ниточку, но при этом лишь еще больше его запутываем. Счастлива будет рука того, кто пожелает спокойно и неторопливо распутать узел - как далеко, как ровно бежит нить!”1. Клубок - история, нить - то, что Гердер стремился отыскать? Не исключено. Но обратим внимание на другое: здесь он говорит о неприменимости "Духа законов” для народа одной страны - а сам недавно пытался применить его для России. В этом маленьком отрывке сосредоточено все, что Гердер считал неверным у Монтескье: и отсутствие выведенного из массы исторических фактов философского осмысления истории, и бесполезность в политике.
Самоуверенный отказ от предшествовавшего опыта или неумение его понять и развить Гердер видит и у других просветителей. Платон, Аристотель, схоласты, Декарт, Лейбниц - "это была труднейшая философия - а вот вам легкая и изящная! Господи боже, да что же может быть механистичнее? В науках, искусствах, обычаях, образе жизни - повсюду, куда она проникла... Древность рода, принцип ученичества (как якобы бессмысленный), зрелость неспешного суждения - все это она сбросила с себя, словно ярмо, и вместо кропотливого и детального исследования, когда каждый случай рассматривается таким, каков он есть, пред нами предстают просто чудесные, легкие, свободные утверждения, в которых по двум случаям составляется мнение обо всех... Вместо скрупулезно добытых знаний о нуждах и действительном состоянии страны в наше государственное хозяйство привносится взгляд просто-таки с высоты птичьего полета... О принципы, которые мы услышали из уст Монтескье! Исходя из них, можно "не покидая седла”, мгновенно вычислить судьбы разных народов и стран по "политической таблице умножения"2.
Называя теории Монтескье "философией из двух мыслей", Гердер еще и еще раз указывает на недостатки вообще всей философии Просвещения - неисторичность в теории и неприменимость в политике. Гердер сомневается в основных выводах Монтескье, в делении государств по видам правления на деспотии, монархии и республики, он не согласен с тем, что непременно следует осуждать главную, по
222
Монтескье, движущую силу деспотических обществ - страх. Иными словами, он совсем не уверен, что "насилие во благо" в конце концов обращается во зло. Эта тема волнует его не только с исторической или этической точек зрения, но и с педагогической.
Гер дер пишет: "... не обманывайся, о человек, речами записного философа, посмотрим сначала, что это за страх!.. Разве нет в жизни каждого человека такого возраста, когда все познается не благодаря холодному и сухому рассудку, а с помощью прилежания, воспитания, следования авторитету, когда мы глухи к бесплодным мечтаниям о добре, истине и красоте, когда и сердце, и ум закрыты для них, и наоборот, распахнуты для так называемых предрассудков, для воздействия воспитателей? Взгляни, сколь глубоки, мощны и незыблемы эти предрассудки, если их рассматривать, не забывая обо всем том варварском, что им свойственно, и не сопровождать их всякими демонстрациями естественного права. И обрати внимание, то, что совершенно необходимо в раннем возрасте отдельному человеку, тем более потребно в детстве всему человеческому роду"3.
Воздав должное традиционному уподоблению общества человеческому организму, Гердер останавливается на бесспорной для него полезности каждого вида правления - даже деспотизма - в определенное время: "Здесь были заложены первые камни, которые нельзя заложить так просто и прочно по-другому - и они лежат! Веками их надстраивали, одна за другой эпохи засыпали их пустынным песком, словно подножия пирамид, так и не сумев их поколебать. Они лежат - и слава богу - ведь все покоится на них"4.
При всей своей эмоциональности рассуждения Гердера в сущности направлены на то, чтобы изгнать эмоции из исторического исследования и не различать факты прошлого по принципу "нравится - не нравится". Именно поэтому он буквально обрушивается на просветителей, прежде всего французских, как только речь заходит о средневековье. Весь XVIII век, говорит он, - это столетие сомнений и пробуждающихся возмущений, начало которым положили "добрый честный Монтень", Бейль, Вольтер, Юм и Дидро, "новейшие философы, во всем сомневающиеся, со своими собственными дерзновенными суждениями"5. Гердер даже не призывает, он требует видеть в эпохе, предшествующей современности, не одни только мрачные стороны: "было до нас и уважение к предкам, и священное почитание женщин, неистребимая любовь к свободе уживалась с деспотизмом, духом религиозного смирения и воинской доблестью, праздничная беззаботность - со строгим порядком". Как же можно сомневаться, что "именно тогда были посеяны семена, выросшие в новое время! И если бы нашим временам не было предпослано средневековье, несчастная Европа..., чем бы ты была со всею своею мудростью? - Пустыней!"6. Он хочет ни больше ни меньше, "как защищать бесчисленные переселения народов, опустошения, вассальные войны и междоусобицы, монашеские армии, паломничества и крестовые походы"7.
223
В этом бунте против притязаний философии и литературы XVIII в. на исключительное место в Истории Европы можно видеть не столько борьбу с собственно Просвещением, сколько стремление "поднять” в глазах современников ценность других, прошлых эпох до того же уровня, на котором стоит Просвещение (ведь его преимущества очевидны - распространение грамотности, веротерпимости, частичная секуляризация общественного сознания, лучшее понимание социальных и демографических процессов и т.п.). Не принижая само Просвещение и не подтягивая искусственно средневековье (но лишь показывая, что было в его истории действительно положительного), Гер дер как бы оставляет простор для развития и после Просвещения. Он готов встретить и изучать это плавное, поступательное, нереволюционное перетекание одного состояния общества в другое. Естественно, в исторических далях необходимо различать и такие вехи, как Великое переселение народов, Возрождение и Реформация. Но всегда ли поистине новое состояние общества совпадает по времени с этими вехами? И как оно достигается? Действительно ли возможна плавность и поступательность?
"Почему бы, спрашивает утонченный философ, - писал Гердер, - каждому из названных преображений не совершаться без революций? Надо было бы просто предоставить человеческому духу идти своим путем, и не плодить новые предрассудки неприглядными действиями и порывами страстей, не заменять плохое на худшее". Гердер отвечает "утонченному философу": "Спокойная поступь человеческого духа к улучшению мира есть не что иное, как фантом, рожденный в наших головах..."8.
Признавал Гердер или не признавал необходимость революций в истории - вопрос, в сущности, бессмысленный, поскольку он знал, что революции действительно происходили в прошлом и не мог утверждать, что их не будет в будущем. Важнее установить, что он думал о сознательной подготовке революции, о стремлении к социальному перевороту как средству решения всех проблем. Полагал ли он, что Просвещение готовит революцию, или, напротив, усматривал в отказе от просветительских идей шаг к революции? Пожалуй, Гердер склонялся к мысли, что Просвещение может привести к революции по меньшей мере двумя путями: во-первых, через осуждение большей части устоев современного общества и критику принципов организации государственной власти, что необходимо ведет к попытке разумно организовать общество, т.е. к программе более или менее радикального социального преобразования; во-вторых, через несоответствие между теми действительными результатами, которых достигло Просвещение, борясь за "общее благо", и сформированным им же представлением об этом "общем благе". Иными словами, просветитель, полагающий себя в силах объяснить людям, как добиться процветания, оказывается в глазах общества человеком, не выполняющим обещания, если его пророчества долго не сбываются. В этом случае социальная неустойчивость, частично спровоцированная
224
самим Просвещением, выливается во всеобщее стремление к переменам, которые могут и не отвечать просветительским представлениям об "общем благе".
Длительное ожидание практических результатов Просвещения, "общего блага" как итога деятельности просветителей - при отсутствии этих результатов - рождает жажду новых дел, направленных к той же цели. "Если бы мой голос был достаточно силен, - заявляет Гердер, — чтобы его услышали, я воззвал бы ко всем, кто трудится на ниве образования человечества: хватит общих слов об улучшении! О, эта бумажная культура! Где возможны какие-то начинания - действуйте! Уступите слово о созерцании голубых небес тем, кто, к несчастью, не умеет ничего другого. Разве любовник женщины не в лучшем положении, чем воспевающий ее поэт? Или добивающийся ее руки ухажер? Взгляните, не тот ли, кто прекрасно научился воспевать человеческое братство, дружбу народов и верность традициям отцов, - не он ли как раз и вознамерился поразить род человеческий острым клинком на долгие годы? На вид - благороднейший законодатель, но, может быть, он и есть самый настоящий разрушитель столетия, в котором живет"9.
Гердер хотел бы изменить литературный характер Просвещения, превратить его из сугубо теоретического обоснования политической деятельности в собственно политическую деятельность. Если это соображение верно, то оно свидетельствует о том, что Гердер пока еще по-прежнему стремится к некоему слиянию интеллекта и власти. Когда элите не удается более или менее непосредственно воздействовать на власть и добиваться общезначимых целей, ей приходится, по его мнению, брать на себя функции власти: "Деревенский Солон, который действительно устранил один дурной обычай и стоял у начала лишь одного потока человеческих чувств и дел, совершил в тысячу раз больше, чем все вы, умствующие над законодательством, говорящие все верно и все неверно"10.
Обратим внимание, что собственно политическая деятельность, о которой говорит Гердер, - не революционные свершения и не разработка программы широких преобразований в государственном масштабе, а нечто вроде муниципальных реформ просветительского содержания.
Таким образом, гердеровский "отказ от Просвещения" на деле оказывается не столь уж решительным, ибо ничего вместо просветительских идей он предложить не может и недоволен лишь тем, что бесконечные рассуждения о всеобщем благе ни к чему не приводят: "между всяким обобщением, даже изящнейшей истиной, и ее самомалейшим применением лежит пропасть"11. Наряду с сомнениями в "вершинном характере" достижений общественной мысли ХУШ в., эта неудовлетворенность и составляла суть отношения Гердера к Просвещению в середине 70-х годов.
Как преодолеть пропасть между истиной (созданной, добытой, сконструированной, наконец, придуманной - т.е. плодом интеллектуальных
225
занятий) и ее применением (которое должно осуществляться, вероятно, все-таки властью)? Увы, эту пропасть, по мнению Гер дера, нельзя преодолеть одним прыжком - в отличие от обычного способа преодоления подобных препятствий. Его симпатии - на стороне не грандиозных, а довольно ограниченных по масштабам и радикальности изменений. Широкий размах и далеко идущие планы редко приводят к искомому результату. Те непродолжительные отрезки времени, когда дейстйительно решались судьбы Европы, "были либо огромными, разом случившимися событиями, которые превосходили все человеческие силы и в которых никто и не мечтал увидеть последствия заранее обдуманного плана, и которым люди большей частью пытались противостоять, - либо это были мелкие случаи, скорее начатки, чем открытия, употребление того, что уже давно было известно, но не замечалось, не использовалось, или же вообще не что иное, как простая механика, новый прием, навык, изменивший мир! Философы XVIII века, если это так, что станется с вашим кумиром, человеческим разумом?"12.
Гер дера как историка и философа сильнее привлекает не первый, а второй вид общественного развития, он интереснее для исследования, допускает более тонкое проникновение в суть происходившего. Оставив в стороне вселенские катаклизмы, он с удовольствием погружается в размышления о том, что ему кажется важным и перспективным в плане поисков альтернативы Просвещению и просветительскому упованию на силу Разума.
"То, с чего начиналась каждая реформация, были мелочи, не имевшие в исходный момент того грандиозного предначертания, которое они воплотили впоследствии; напротив, когда человек разрабатывал великий, продуманный в деталях план, он терпел неудачу"13. Такое своеобразное предвосхищение гегелевской "хитрости мирового разума" нельзя, конечно, признать совершенно оригинальным, но оно очень важно для нашей темы. Если в обществе возникает интеллектуальная сила, столь дерзкая, чтобы попытаться составить "грандиозный, продуманный в деталях план реформации", то ее шансы на успех совсем невелики - и независимо от отношений с властью. Успех или неуспех зависит не от качества самого плана и не от инструментов его проведения в жизнь, а от сферы приложения усилий элиты, от объекта. Новое состояние общества не может быть достигнуто сообразным плану поступательным движением, направляемым и корректируемым чем-то, лежащим вне общества, оно всегда лишь следствие перемен, инициированных внутри самого общества - причем на микроуровне, в том, что не может быть немедленно осознано как судьбоносное и эпохообразующее событие или явление.
Гердер пишет: "Основанием каждой реформации было именно малое зернышко, тихо падающее в почву, едва достойное того, чтобы о нем говорили; люди уже давно владели им, видели его, и не замечали, но как раз с его помощью создавались новые привычки, нравы, новые миры"14. Ему очень дорога эта мысль: самые благодатные, самые
226
полезные всходы дадут не те семена, с которыми человек связывает свои надежды, не те ростки, которые он лелеет и холит, не те начинания^в которых ясно просматривается и весь путь их развития, и ожидаемый результат, но те зерна, что развеяны по ветру щедрым и немного бесшабашным земледельцем, дабы увидеть всходы там, где их до сих пор не было, те замыслы и расчеты, что кажутся на первый взгляд и нереальными и бессмысленными, устремленными к неопределенному человеколюбию. Иными словами, Гердер уповает на те начинания, в которых нет ясной нацеленности на всеобщее благоденствие и процветание, нет и намека на разработанную программу социального переустройства15.
Такую почти иррациональную точку зрения можно понять как реакцию на рационализм Просвещения, но ее все же непросто примирить со здравым смыслом - ибо главной чертой человека как вида остается именно целеполагающая деятельность. Но в то же время вряд ли стоит думать, будто Гердер хуже современных атеистов знал, что "человек предполагает, а господь располагает", - следовательно, и он не мог не увидеть здесь противоречия. Трудно сказать, как он мыслил себе выход из него. Проще всего предположить, что он считал нужным не противопоставлять, а дополнять прагматизм в политике альтруизмом.
Неприятие Гердером сознательного стремления к революции не мешает пониманию особенностей переходного периода от одного состояния общества к другому: "... перемены не являются простым усовершенствованием в школьном понимании. Зерна уже нет, когда есть росток, нет нежного побега, когда есть дерево..."16. Но как только в этот процесс вмешиваются люди, "именующие себя врачевателями, спасителями, новыми творцами", т.е., по мысли Гердера, просветители (особенно во Франции), их самонадеянность, их стремление "усовершенствовать мир" неизбежно приводит к катастрофическим последствиям. "Вообще, философ тогда более всего превращается в зверя, когда мнит себя истинным богом"17.
Вот еще одна фраза, претендующая на афористичность, заставляющая вспомнить и об "абстрактном гуманизме", и о богоборчестве, и о богостроительстве, о том, что философия, превратившаяся в идеологию, уже перестала быть философией и стала религией - и в догматике, и в атрибутике.
Опаснее всего, по мнению Гердера, - сочетание веры во всемогущество разума с иллюзией о плавном поступательном развитии общества. Если последнее исключено, то просветительская уверенность в осуществимости соответствующих намерений (будь они революционные или реформистские) ни на чем не основана, ибо преувеличивает возможности человека и недооценивает вероятные отрицательные последствия широких государственных реформ или революции. Ведь Просвещение, как полагал Гердер, претендовало на роль вершинного достижения общественной мысли и в очень небольшой степени допускало, что может ошибаться. Из этого
227
вытекает, что к революции, по убеждению Гердера, не только не следует стремиться; нельзя надеяться и на то, что ее удастся избежать наверняка. Так появляется еще один парадокс: революции зарождаются там, где их стремятся вывести за скобки исторического процесса, уповая на плавность, поступательность, континуитет. ’’Если бы действительно все шло по прямой линии, - пишет Гердер, - и каждый новый человек, каждое новое поколение усовершенствовались согласно изящной прогрессии, в которой одному лишь философу ведом критерий добродетели и счастья! Тогда он один стоял бы за всем: как последнее, высшее звено, на котором все и кончается...”18.
Увы, кто бы ни считал себя ’’последним, высшим звеном", сегодня мы не можем не признать, что "все” на нем отнюдь не кончается. Сколько еще поколений согласится с Гердером, утверждавшим, что "все практические политические цели рассыплются в прах, останется лишь душа, дух.. .”19.
Пожалуй, опыт протестантизма более всего другого удерживал Гердера от симпатий к просветительскому оптимизму Разума. Изданные в начале 80-х годов, "Письма об изучении теологии" содержат мысли, совершенно неожиданные для главы веймарской консистории, мысли, которые свидетельствуют, что теологические занятия, хотя и были инициированы поисками альтернативы Просвещению, тем не менее не стали для Гердера чем-то, противостоящим идеям века Разума. Занятия теологией были лучшим средством примириться с некоторыми "несообразностями" философии Просвещения - и прежде всего с деизмом и атеизмом. В участниках религиозных споров он призывает видеть не только сторонников и противников, не только правого и неправого; ему чужд принцип "кто не с нами, тот против нас". По его мнению, в религиозном размежевании должно остаться место и для терпимости, и для совершенно сторонней позиции. Даже в мыслях и действиях противника, считает Гердер, надо уметь видеть, терпеть, принимать непреходящее, абсолютно ценное. Он допускает возможную правоту деистов, что не мешает ему оставаться протестантом20.
По мере политизации нового течения мысли устремленность убежденных адептов Гердера к новому оборачивается нетерпимостью ко всему старому вообще. Тогда единственным, что связывает, роднит, а порой и уравнивает старое и новое, оказывается взаимная ненависть. Непримиримая борьба между протестантами и католиками закончилась тем, что европейское общество в XVIII в. двинулось к секуляризации мышления. Пусть ее причина лежала не только в этом конфликте. Но противоречие, бывшее или казавшееся главным в XVI в., утратило остроту к концу XVIII в. И католицизм, и протестантизм были "старыми" для французских атеистов. Противоречие не было разрешено внутри него, оно сменилось новым, обнимающим часть старого. И точно так же, как неразрешимо было первое противоречие, уверен Гердер, неразрешимым будет и второе - пока не сменится следующим.
228
Речь у Гердера идет о чем-то большем, чем просто терпимость: это скорее поиски универсализма. Он не предлагает смириться с тем, что у противной стороны в споре может быть и верное, и полезное, и доброе (смириться для того, чтобы это истинное присвоить, ассимилировать в будущем); он предлагает открыто признать, что истина не может и не должна принадлежать одной теории, одному вероисповеданию. Истина не отыщется в итоге борьбы двух партий, она есть уже в самой борьбе, и она не поделена между ними - кому больше, кому меньше. Существование противника - в данном случае религиозного - необходимо не для того, чтобы хорошее и правильное стало виднее на фоне дурного и неверного: оно ценно и необходимо само по себе. Преимущественного права на единственный светлый путь к истине нет ни у кого, и чем более разведенными, множественными полюсами будет обладать явление, тем полнокровнее станет его жизнь. Поэтому Гердер зовет читателя не ждать, что кто-то определит - а история подтвердит - правоту деистов, атеистов, монотеистов или пантеистов, а реально сотрудничать и сосуществовать с ними.
По Гер деру, французские атеисты и те, кто будет развивать и претворять в жизнь их теории, рано или поздно уподобятся тем, кто уже давно и хорошо известен: античным философам - в онтологии и гносеологии, протестантам - в поведении. Чем объяснить столь неожиданный упрек французским просветителям в нетерпимости? Вероятно, дело в разнице между терпимостью - чертой характера и терпимостью - сущностной чертой теории (правильнее было бы назвать последнее универсальностью). Как раз терпимостью по отношению к религии не отличались теории французских атеистов. Их продиктованное трезвыми рациональными доводами стремление вывести религию "за скобки" личной и общественной жизни, надо полагать, было сопряжено с большими трудностями в передаче и сохранении нравственных норм, да и вообще противоречило насущной, по всей видимости, потребности в такой общественной идеологии, которая не раскладывается на элементарные, легко и всеми понимаемые части, а оставляет хоть какую-то тайну в объяснении самых простых, казалось бы, вещей. Трудно считать случайным совпадение расцвета Просвещения (хронологически) и вспышки интереса к мистике - от розенкрейцеров до Ф. Месмера и др. Не исключено, что "обмирщение", развенчание и опрощение этических норм связано и с десакрализацией власти, структура и внутренние взаимозависимости которой становятся легко просматриваемыми, понимаемыми и доступными для вмешательства всесильного Разума.
В этом, как нам кажется, можно видеть приближение к правилу, годному не для одного лишь XVIII в. До XVIII и после XVIII в. нужда в "государственной тайне" была неодинаковой. Раньше "несовершеннолетний", по словам И. Канта, разум, непросвещенный и скованный мифологией разного рода, готов был воспринимать госу¬
229
дарство и общественные институты в таком образе, в каком государство и общественные институты считали нужным представать перед ним (или быть прозрачными для понимания в той мере, которую они сами определяли). После эпохи Просвещения во многих странах Европы степень "прозрачности" увеличилась (вопреки воле любой структуры власти) настолько, что появилась необходимость в специальных "ширмах", в новой мифологии, идеологии, "государственной тайне" - можно называть это как угодно. XIX и XX века прошли в конструировании этих "тайн" - от более или менее примитивных идеологических шор до надгосударственных финансовоэкономических структур. Роль слоя "наследников просветителей" в эти два века сводилась (хотелось бы думать, что и сводится) к тому, чтобы, даже обладая способностью разрушить государственную тайну, легко проникнуть "за ширму", не реализовывать эту потенцию, но искать приложения своих талантов в тех сферах, где можно было бы аккумулировать знание не для современности, а для будущего (не здесь ли, помимо прочего, источник жизненности такой научной дисциплины, как историография?).
Для Гердера вывод из размышлений над опытом европейского Просвещения, которые мы можем условно обозначить как размышления над опытом отношений власти и интеллекта в XVIII в., звучал так.
"Давно уже сказано, - писал он, - что нельзя совершить ничего... великого, доброго без энтузиазма, равно как нельзя придумать и такой жестокости, на которую не отважились бы мечтатели. Как раз в конце нынешнего столетия это было устрашающе доказано... Сколько раз говорили и повторяли, что рост и всеобщее распространение просвещения сделали умеренную по характеру, иногда даже называемую лекомысленной нацию невосприимчивой ко всякого рода мечтательности, суевериям и энтузиазму. И эту-то нацию охватила ярость, многим стоившая головы, опустошившая столько стран Европы. Тлеющий трут энтузиазма никогда нельзя считать потушенным, нельзя даже надеяться его потушить. Сталь и камень будят дремлющую искру - неожиданный порыв ветра раздувает пламя. Угнетение и преследования (тому свидетели все времена и народы)... пробуждают энтузиазм. У всех наций есть времена покоя и времена возбуждения, они сменяют друг друга, как день и ночь; они могут задерживаться, но в конечном итоге едва ли можно помешать их смене"21.
"Энтузиазм", вспыхивающий одновременно или чуть раньше революции, по мнению Гердера, может быть направлен "на бесполезные или отвратительные цели, выродиться в дурную мечтательность". Чтобы этому воспрепятствовать, надо ставить перед ним "великие задачи", лежащие в сфере человечности. Он убежден, что деятельность энтузиастов-мечтателей, их порыв ко всеобщему счастью ни в коем случае не должны выходить за рамки абстрактных, не¬
230
конкретизируемых, самых общих целей гуманности и никогда не перемещаться в область "ясных" (политических?) идей22. Во Франции было именно так. "Энтузиасты переступили черту" и оказались во власти несбыточных фантазий. После того, как французское Просвещение миновало пору своего расцвета и наступила пауза 80-х годов, которую Гердер характеризует словом "застой", непременно, по его мнению, появляются эпигоны, дерзающие воплотить в жизнь чужие умозрительные конструкции или имеющие более низкие мотивы. "Когда какуюлибо эпоху в духовном развитии, в культуре охватывает застой, самообман, своеобразное помешательство", благодетелем человечества становится тот, кто помогает избавиться от "болезненной мечтательности". "Если бы только какой-нибудь гений имел достаточно сил для того, чтобы в несчастные последние годы минувшего столетия объединить все умы Европы, дабы они в один голос возвестили о том, что счастье и жизнь люди отдают в жертву мнимой Елене, которая зовется Свободой и Равенством!.. Какую необъятную беду он бы предупредил..! Ничто так не огорчает, как зрелище изломанных, ненужных, безвременно сгинувших сил"23.
Итог у Гердера (как, впрочем, и многое другое) получился неожиданным. Просветитель, представитель гуманитарной интеллектуальной элиты для достижения своих целей (и даже во имя их достижения) должен отказаться от каких бы то ни было апелляций к власти - ибо его собственная власть больше чем сила власти, он может быть и деструктивным началом по отношению к власти и к обществу.
Вероятно, о кризисе современной цивилизации можно говорить и потому, что эти "скрытые открытия" остались невостребованными современниками. "Перепроизводство интеллекта" - вещь, казалось бы, совсем безобидная - на деле ведет к росту популярности вполне бессмысленного тезиса, будто бы "история учит только тому, что она ничему не учит".
Подтвердилось ли предположение, высказанное в начале статьи, что в отношениях между интеллектом и властью на протяжении последних трех столетий есть нечто, позволяющее объединить историю этих столетий в "современную цивилизацию"? Действительно ли одним из ее признаков может быть некая дистанция между институтами власти и крупнейшими представителями гуманитарного знания? Дистанция, меняющаяся в периоды кризисов и покоя? Если таковая дистанция есть, то она - свидетельство "недоброкачественности" цивилизации или нормальный способ существования общества?
Доверимся собственным ассоциациям и признаем, что истина, открытая Гердером для XVIII в., справедлива и в наши дни. В этом случае нам придется признать, что это вовсе не аномалия, дистанция между интеллектом и властью должна существовать. Весь вопрос в том - какая.
231
1 Herder J.C. Werke: in 5 Bd. B„ 1982. Bd. 3. S. 92.
2 Ibidem.
3 Ibid. S. 45.
4 Ibid. S. 46.
5 Гердер И.Г. Избр. соч. M.; Л., 1959. С. 278 прим.
6 Herder J.G. Werke: in 5 Bd. Bd. 3. S. 80, 81.
7 Ibid. S. 346.
8 Ibid. S. 89.
9 Ibid. S. 99.
10 Ibid. S. 97.
11 Ibidem.
12 Ibid. S. 87.
13 Ibidem.
14 Ibid. S. 90.
15 Ibid. S. 120.
16 Ibid. S. 108.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Ibidem. S. 128.
20 Herder J.G. Samtliche Werke / Hrsg. von B. Suphan. Bd. 10. S. 305-312.
21 Ibid. Bd. 23. S. 151.
22 Ibid. S. 152.
23 Ibid. Bd. 24. S. 172.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 5
Е.Б. Черняк
Михаил Абрамович Барг. 7
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
И.Н. Ионов
На пути к теории цивилизаций (Познавательные предпосылки и трудности исторического синтеза) 15
Е.Б. Черняк
Атрибутивный анализ 38
С.Н. Эйзенштадт
Прорывы Осевого времени 51
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Н.А. Хачатурян, В.М. Хачатурян
Средневековая культура России и Западной Европы: идентичность и расхождения 62
A. И. Кобзев
Китайская протологика 80
Э. Геллнер
Исламский мир и Европа: культура элиты и масс 106
Я. Г. Шемякин
Об особенностях цивилизационного процесса в Новом свете в эпоху Конкисты 112
Т.И. Краснопевцева
Африканская цивилизация 119
B. М. Алпатов
Культурные ареалы и лингвистические традиции 128
Н.Ю. Бокадарова
Европейская цивилизация: национальные культуры и языковые нормы 133
ТРАДИЦИОННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА
Л.С. Васильев
Цивилизации Востока: специфика, тенденции, перспективы 141
А.М. Буровский
Степная скотоводческая цивилизация: критерии описания, анализа и сопоставления 151
Н.Н. Крадин
Кочевничество в цивилизационном и формационном развитии 164
РАЗВИТИЕ АНТИЧНЫХ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ Я.Ю. Межерицкий
Император Август, основание Империи и проблема рубежа цивилизаций 180
233
К.В. Хвостова
Способы функционирования византийской цивилизации во времени 189
АЛ. Сванидзе
К проблеме преемственности и взаимосвязи цивилизаций 199
Е.В. Гутнова
Сословно-представительные собрания Средних веков в истории европейской цивилизации 202
Ф.МЛ. Томпсон
История европейских сельских обществ 209
И.Н. Кузнецов
И.Г. Гердер о цивилизации Просвещения: власть и интеллект 219
Научное издание
ЦИВИЛИЗАЦИИ Вып. 3
Утверждено к печати
Институтом всеобщей истории РАН
Заведующая редакцией "Наука-история" НЛ. Петрова
Редактор издательства ЕЛ. Сенькив Художник Ф.Н. Богданов Художественный редактор Н.Н. Михайлова Технический редактор Т.А. Резникова Корректор В.М. Ракитина
Набор выполнен в издательстве на компьютерной технике
ИБ № 1008
ЛР№ 020297 от 27.11.91
Подписано к печати 16.01.95. Формат 60 х 901/16 Гарнитура Таймс. Печать офсетная Усл.печл. 15,0. Усл.кр. отт. 15,1. Уч.-изд.л. 16,2 Тираж 1100 экз. Тип. зак. 329S’.
Издательство "Наука"
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90
Санкт-Петербургская типография № 1 РАН 199034, Санкт-Петербург В-34,9-я линия, 12
ДЛЯ ЗАМЕТОК
НАУКА