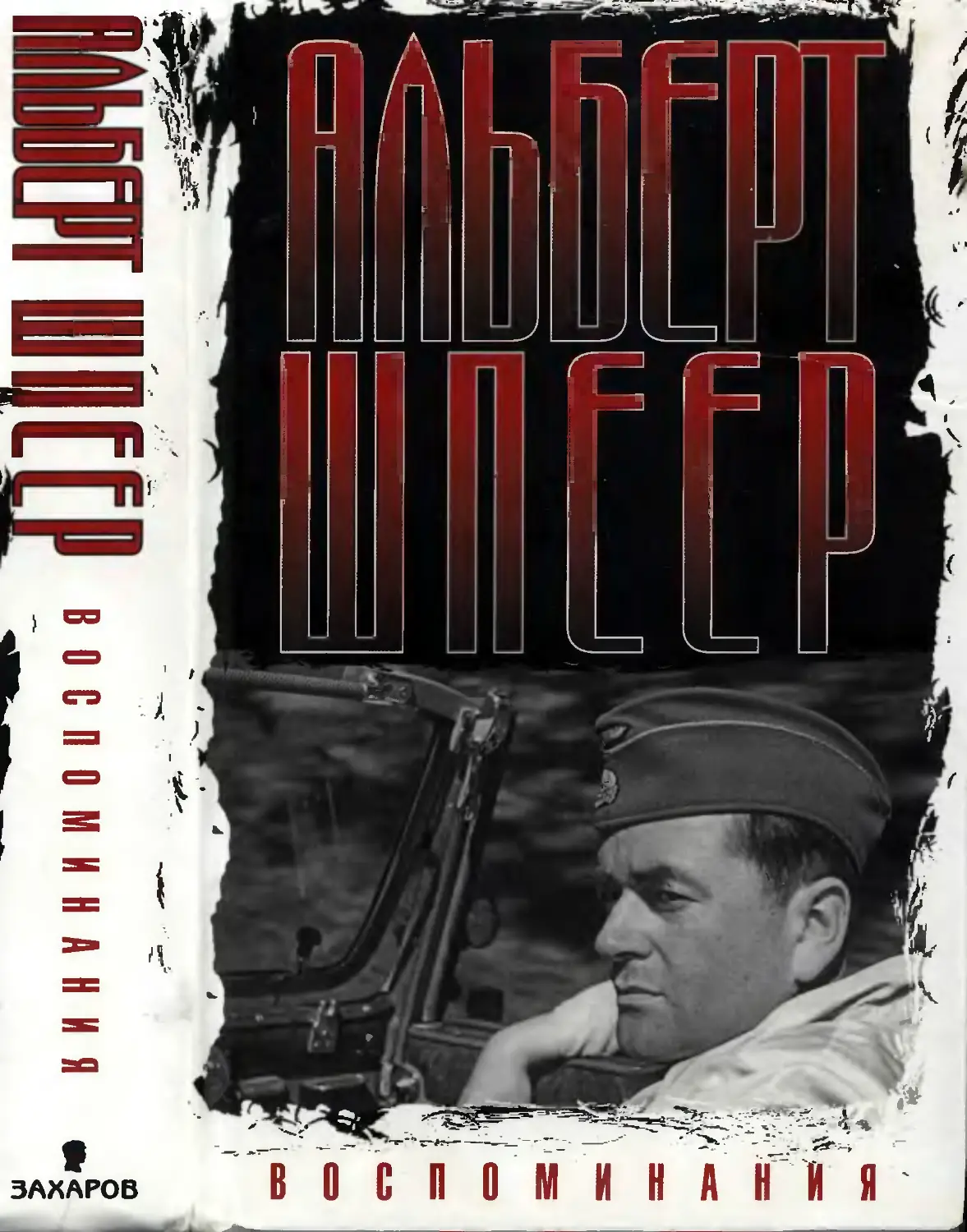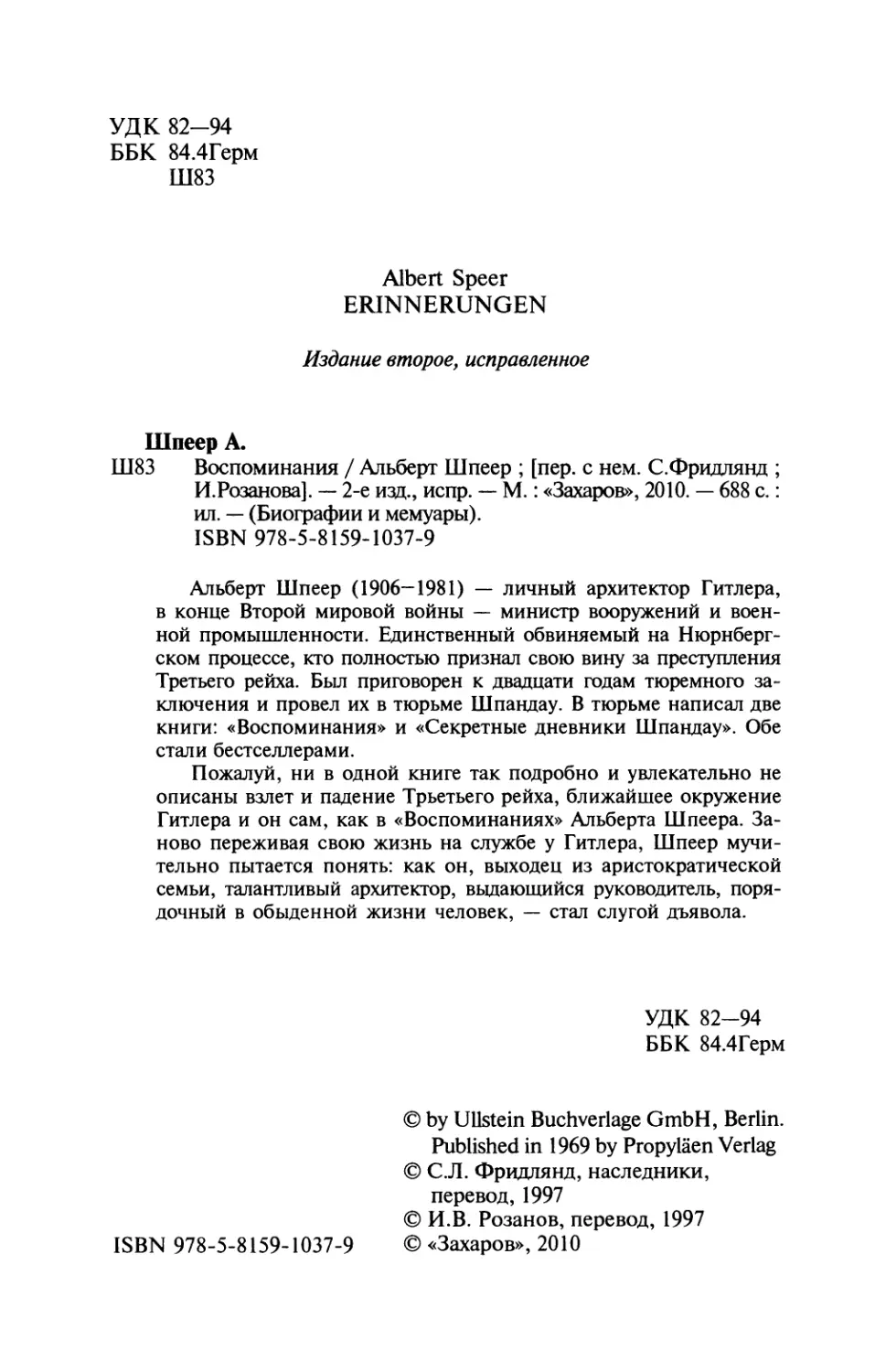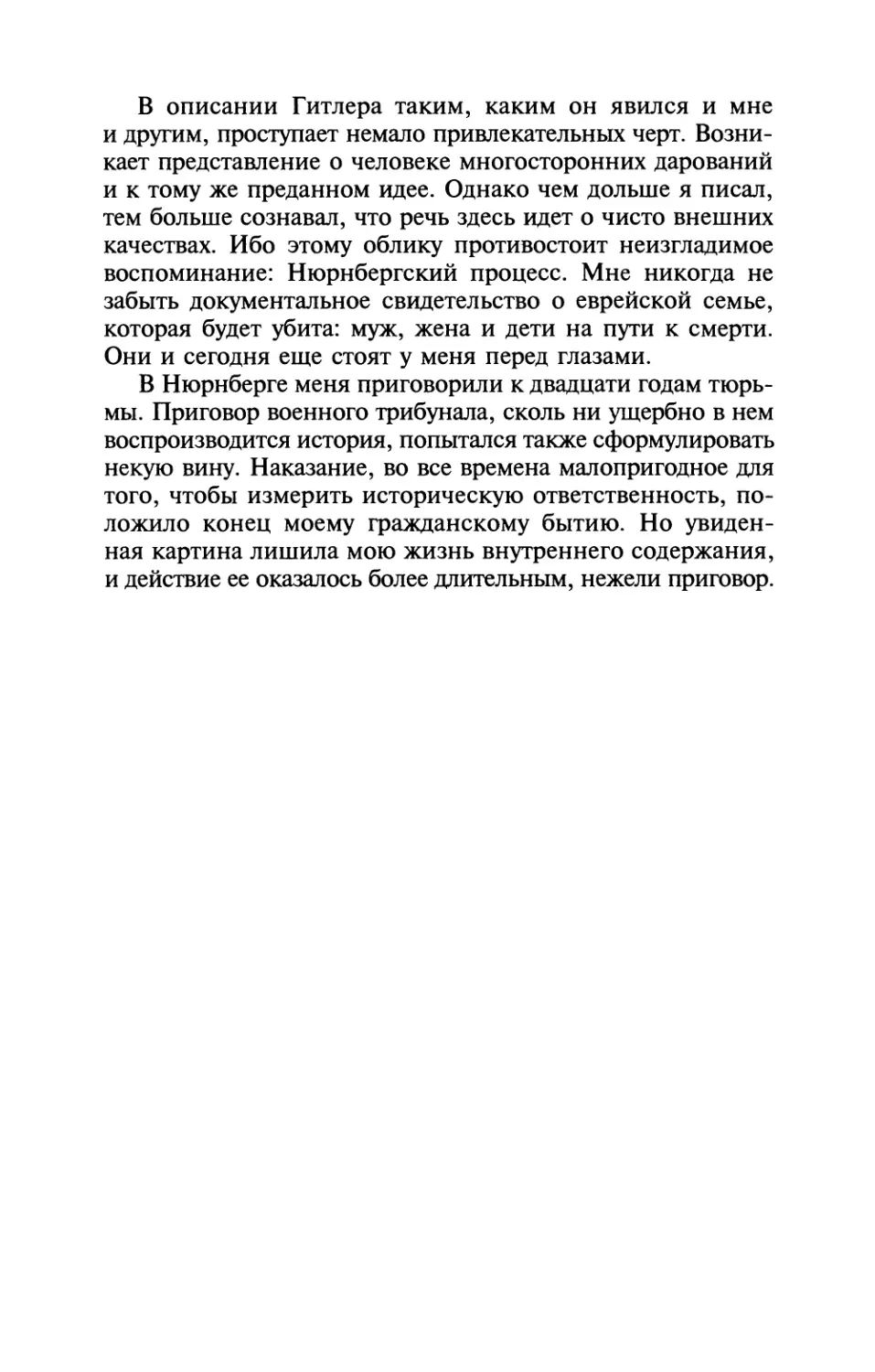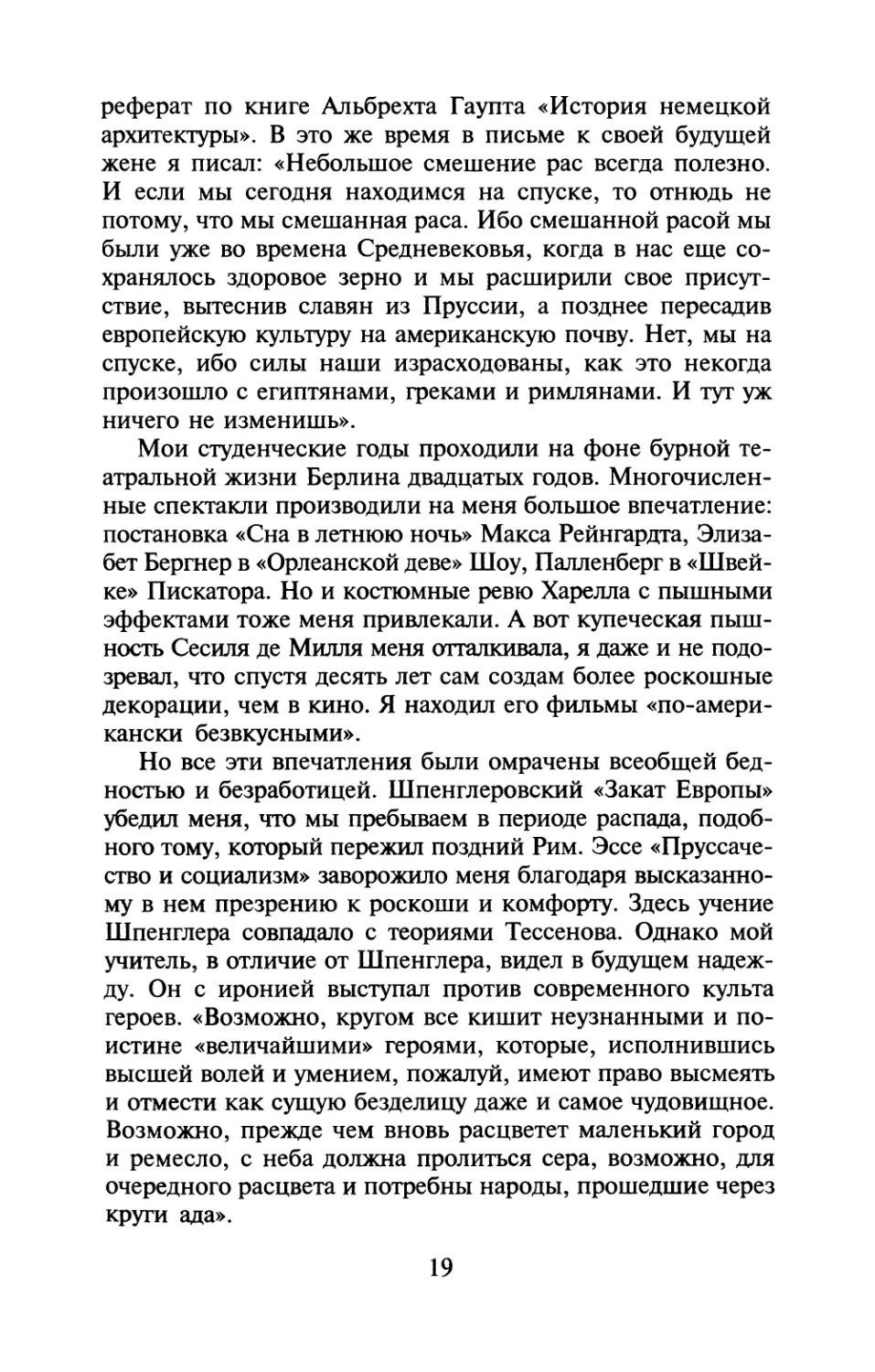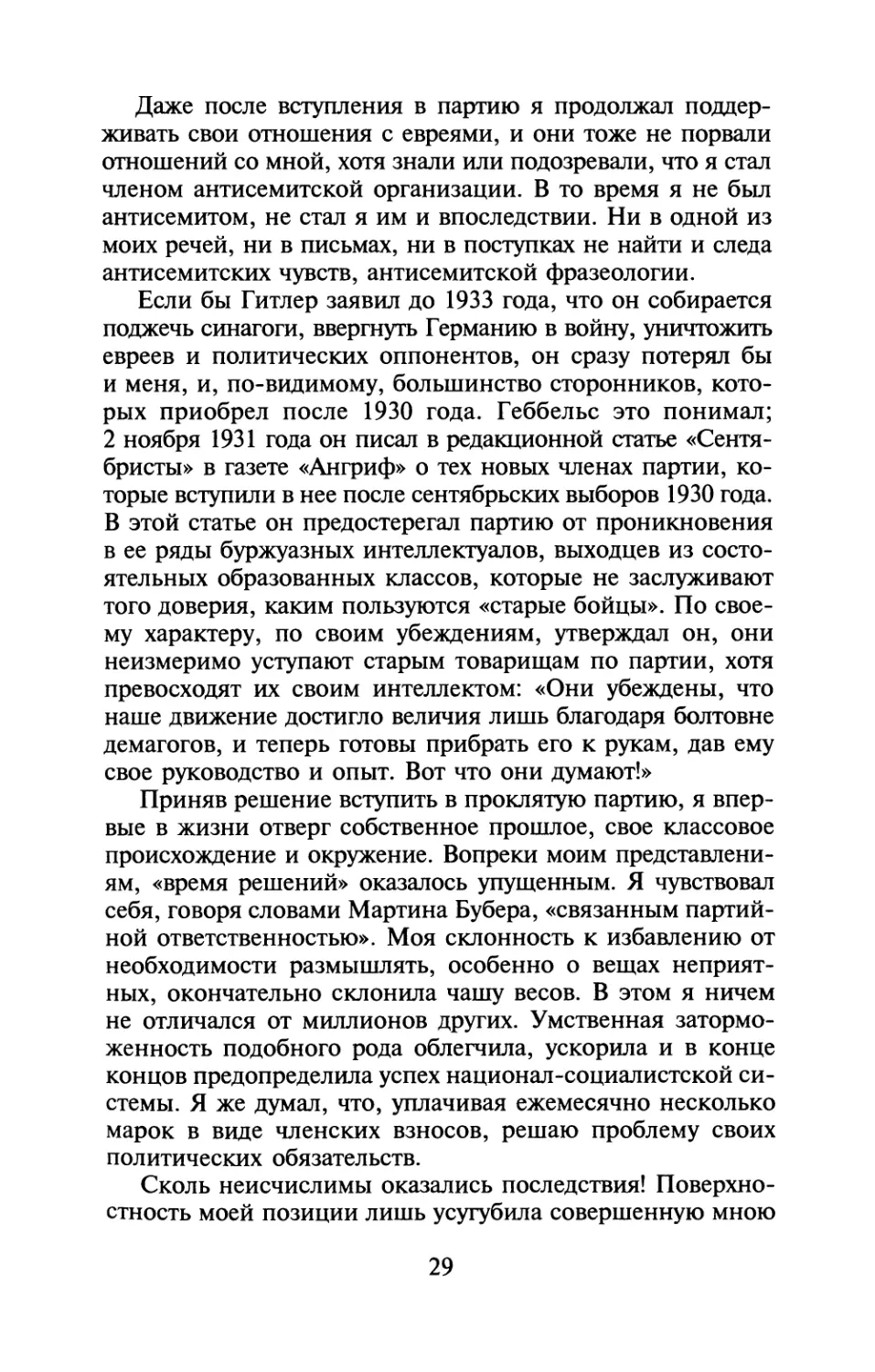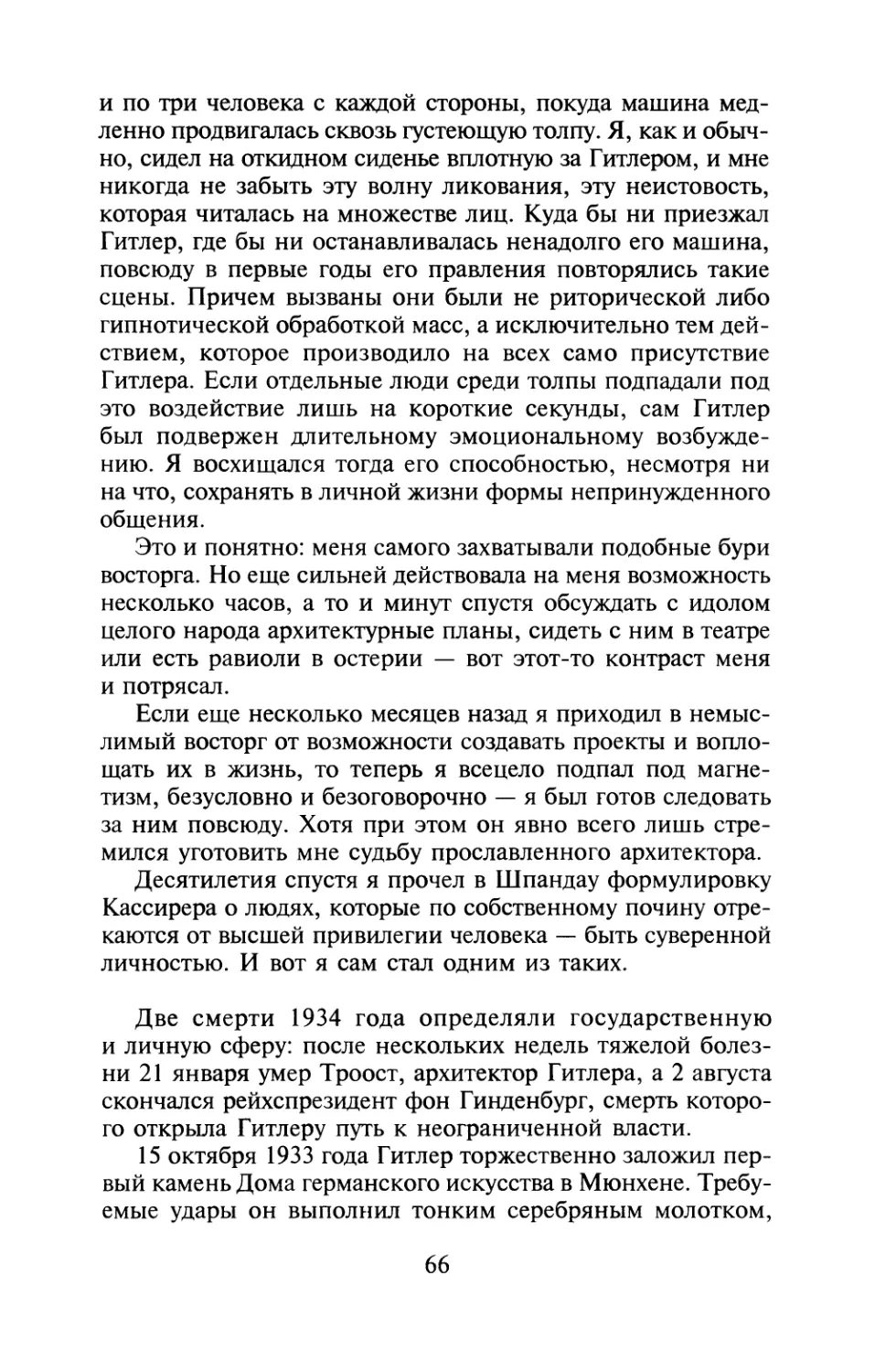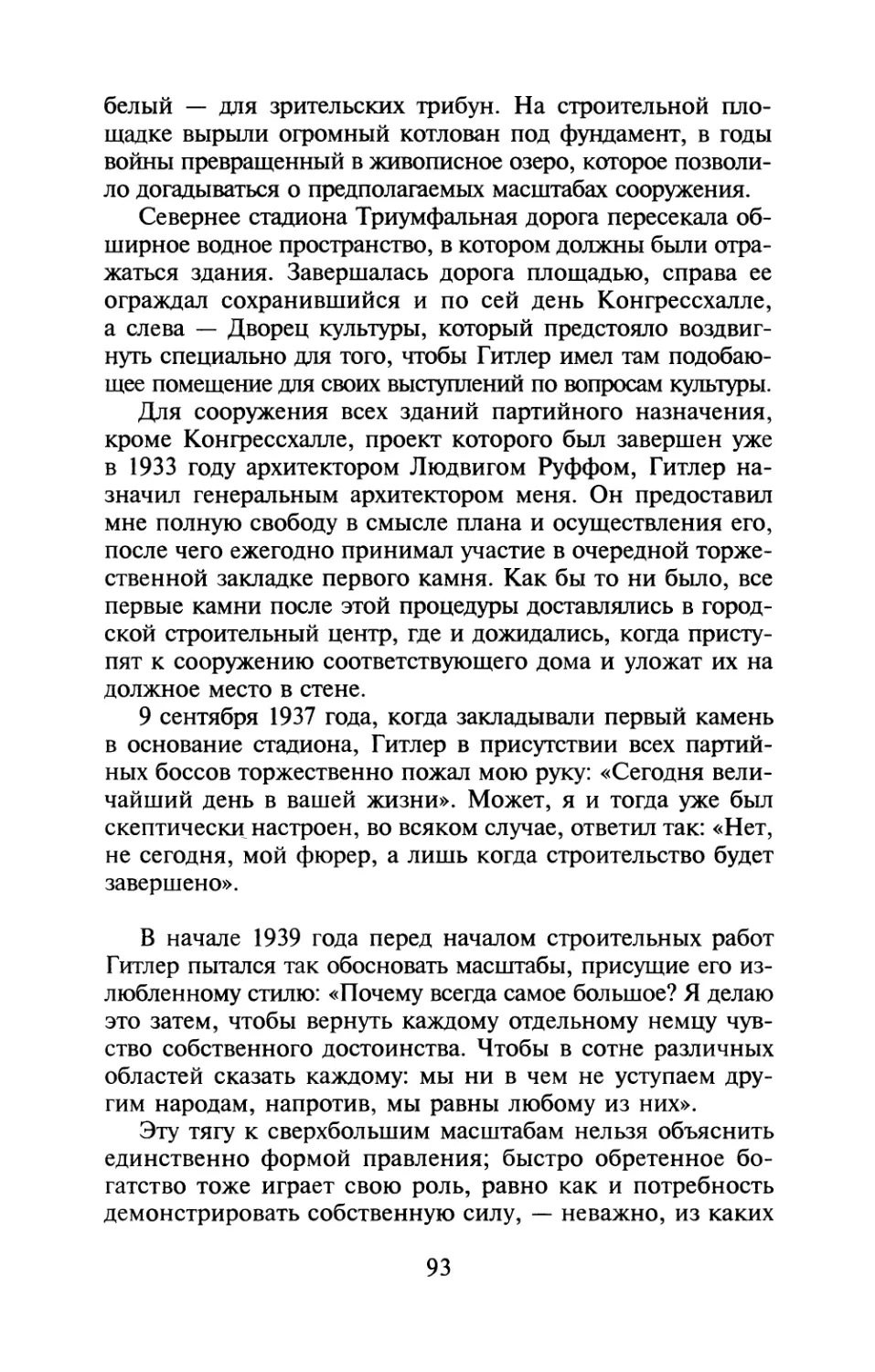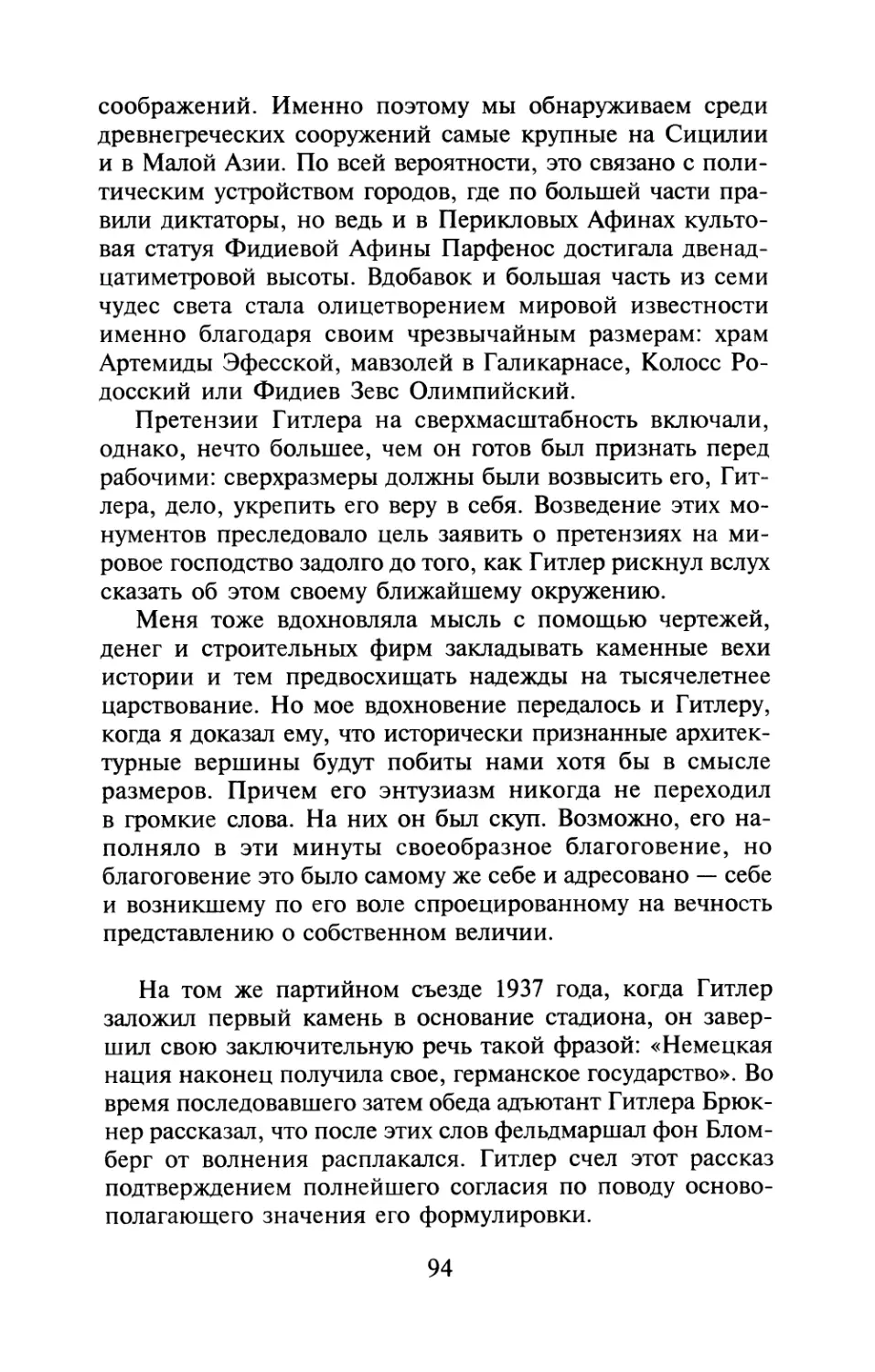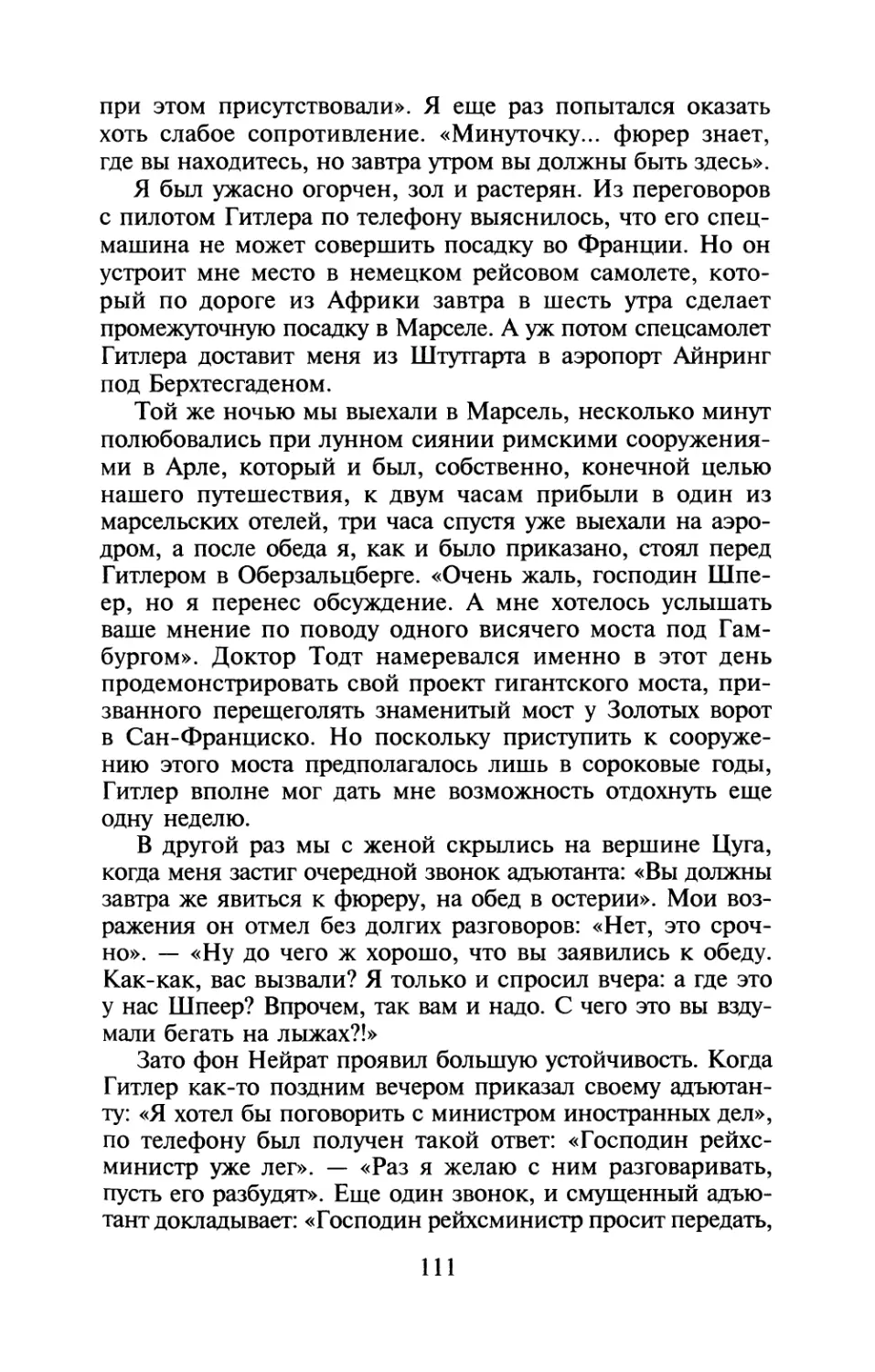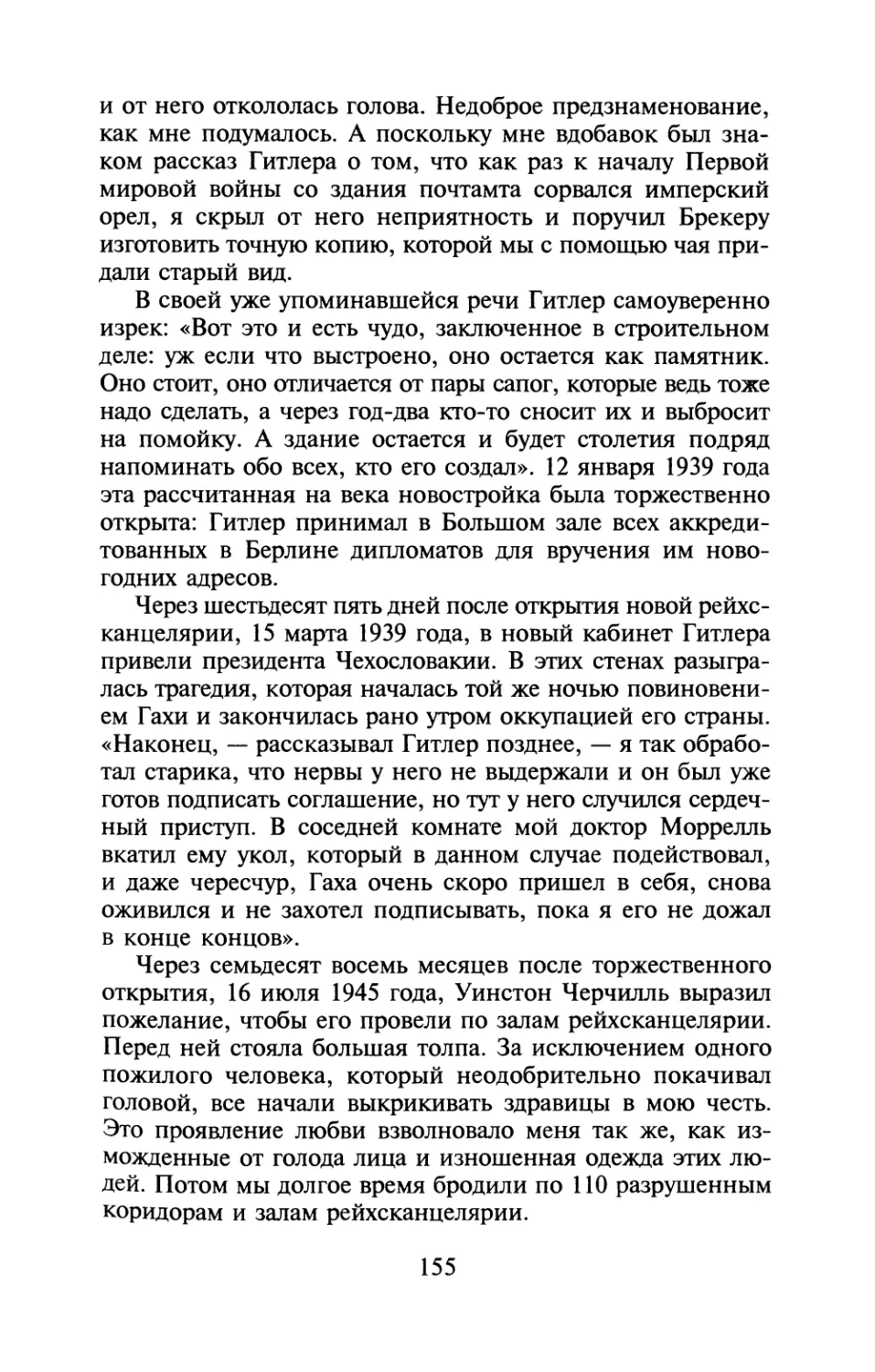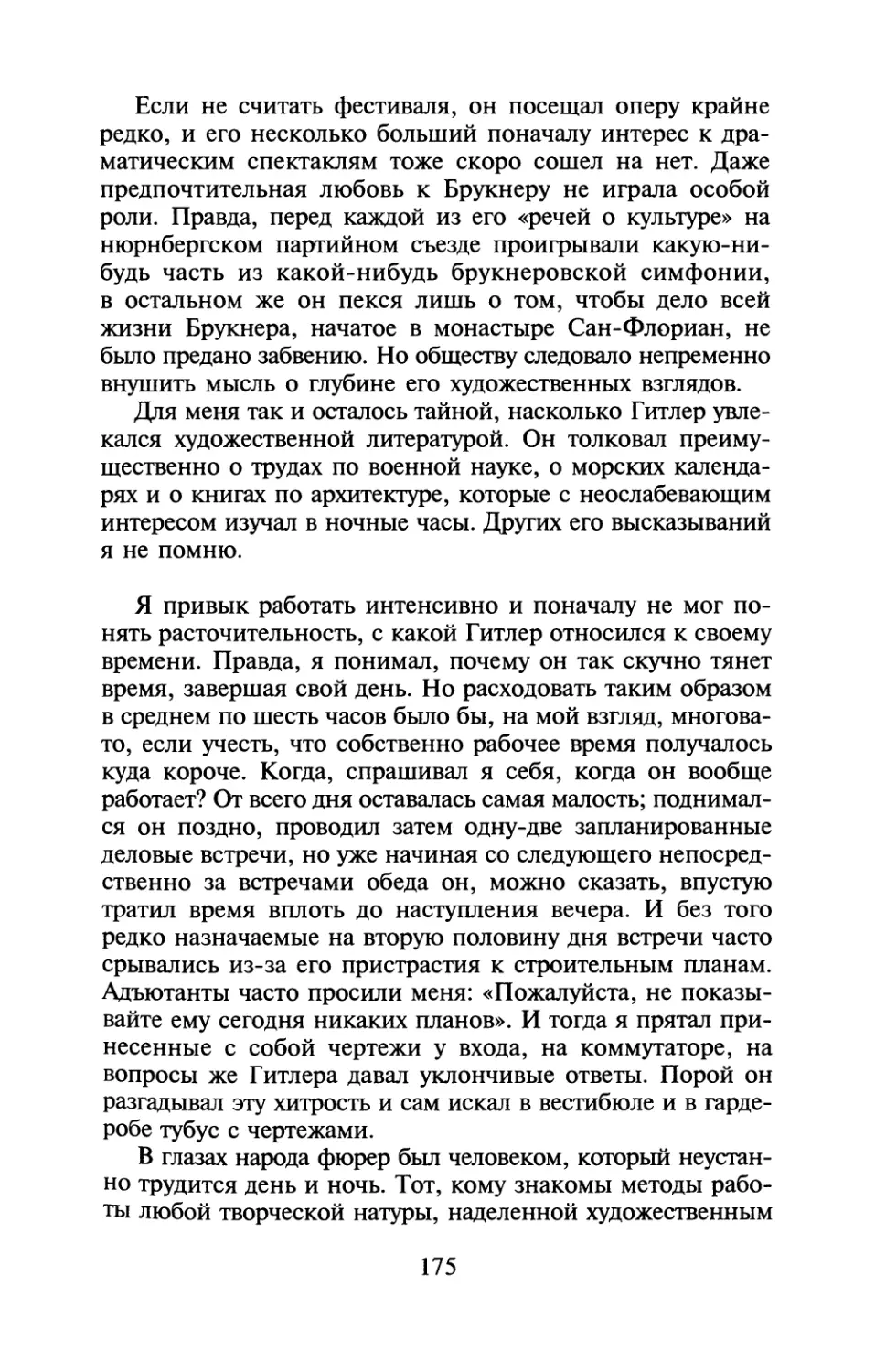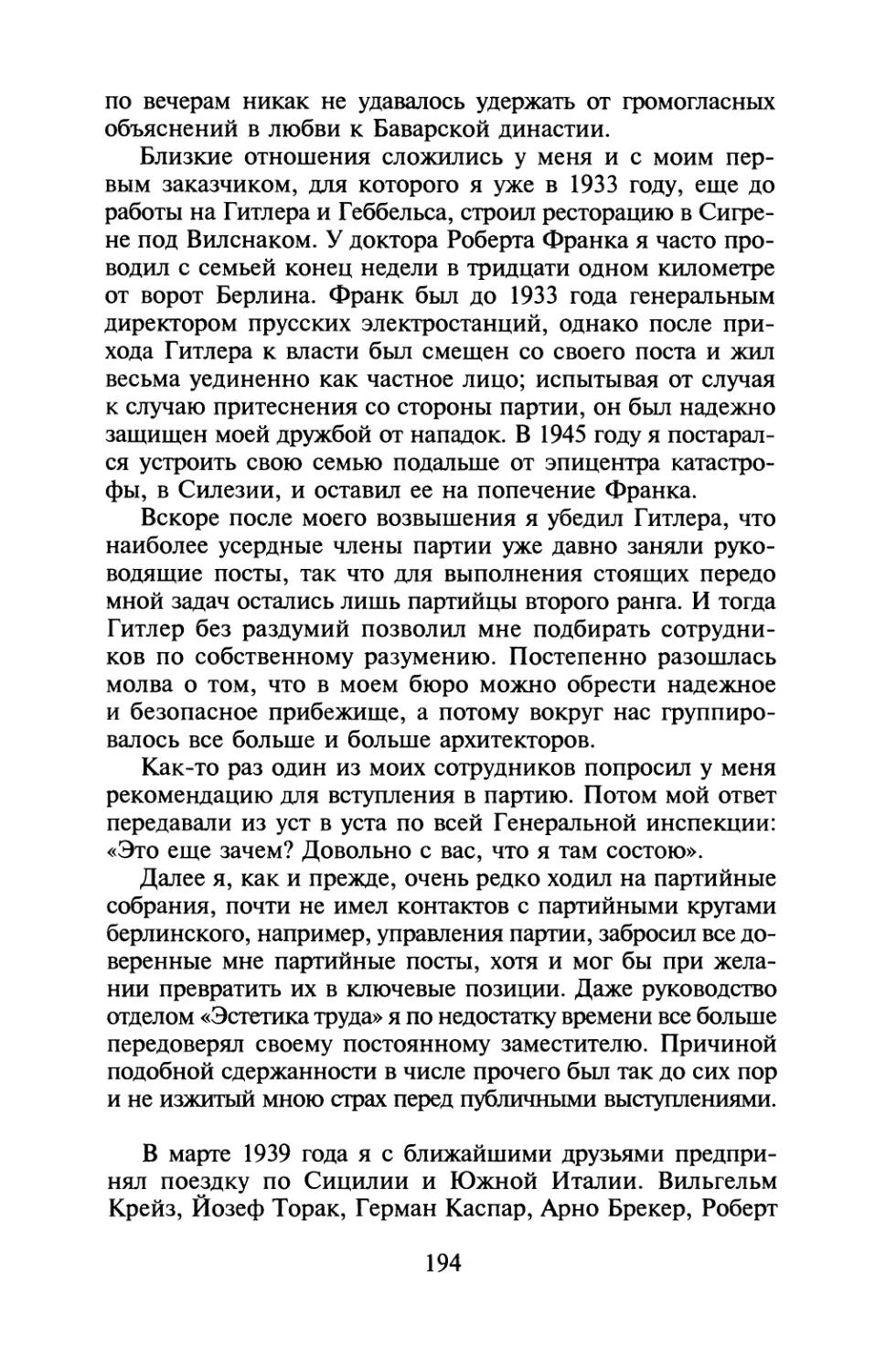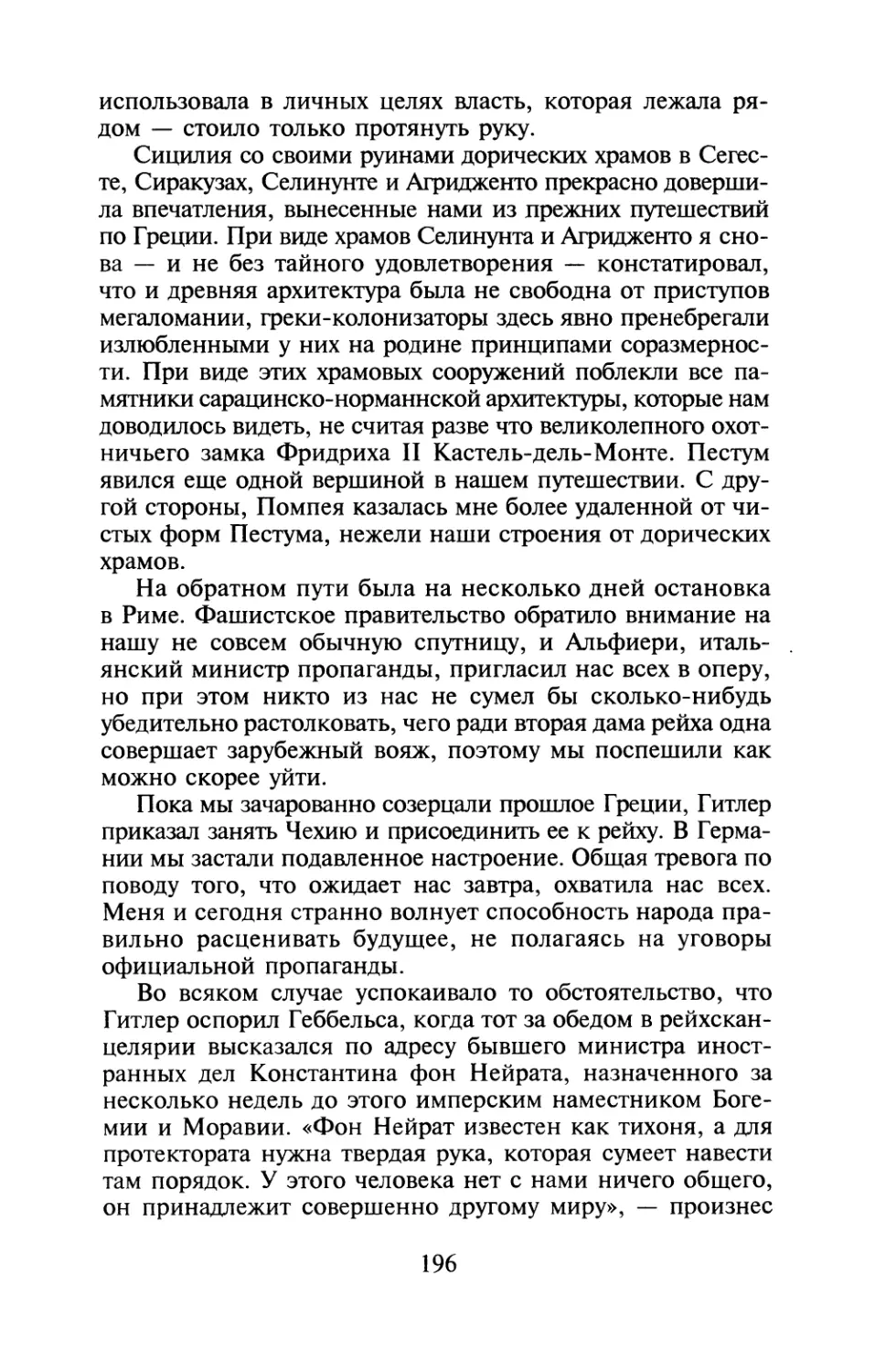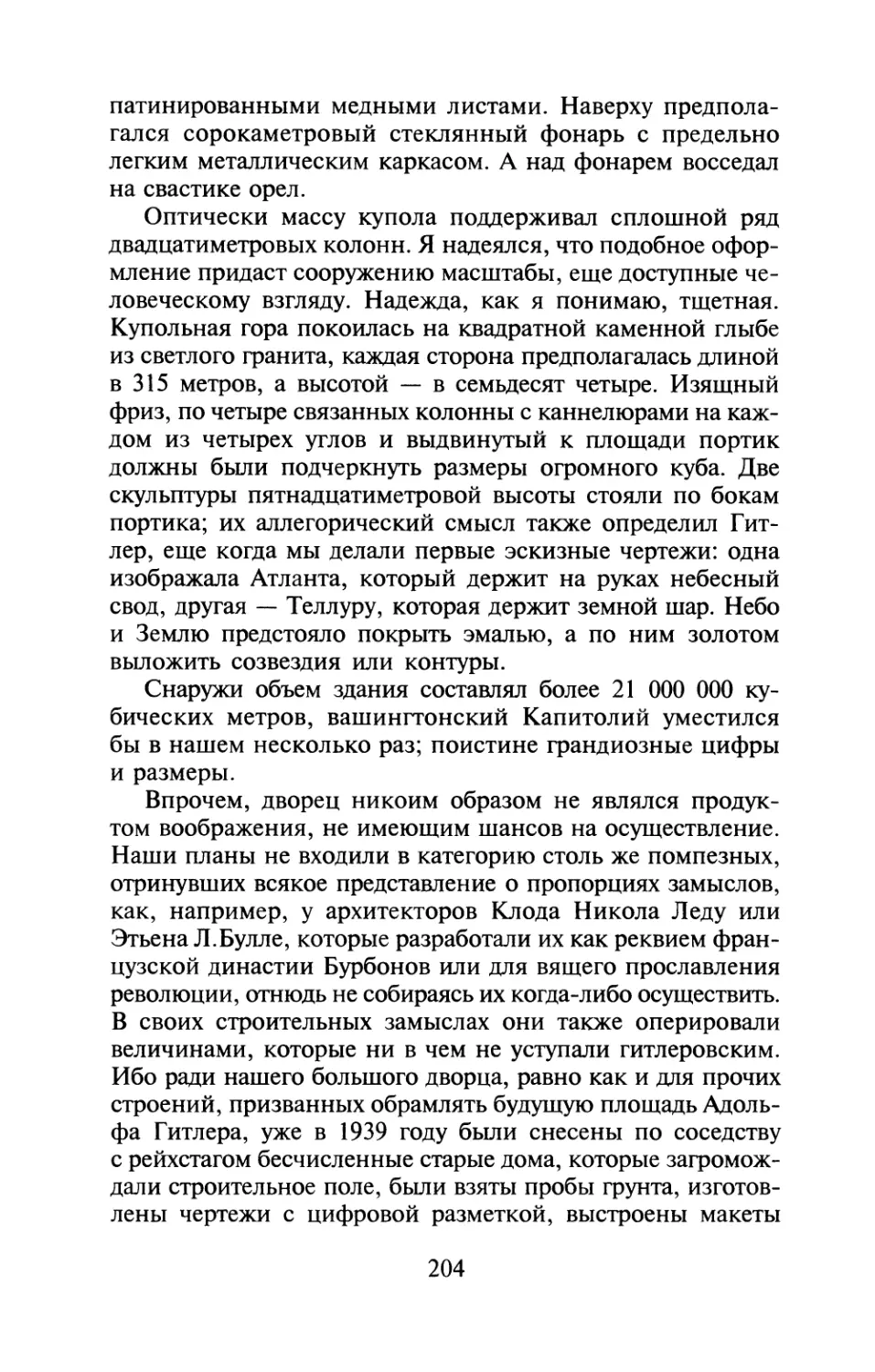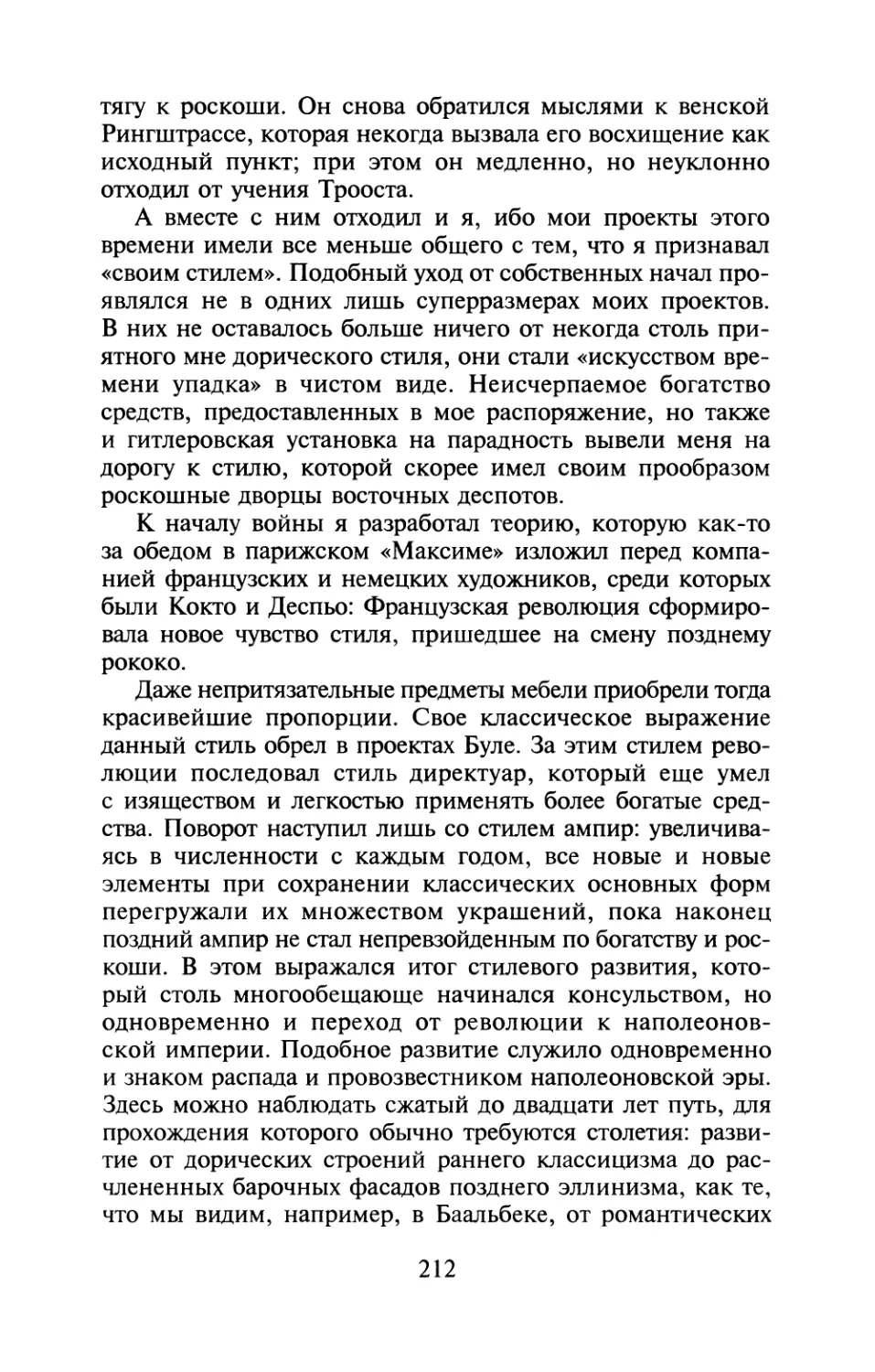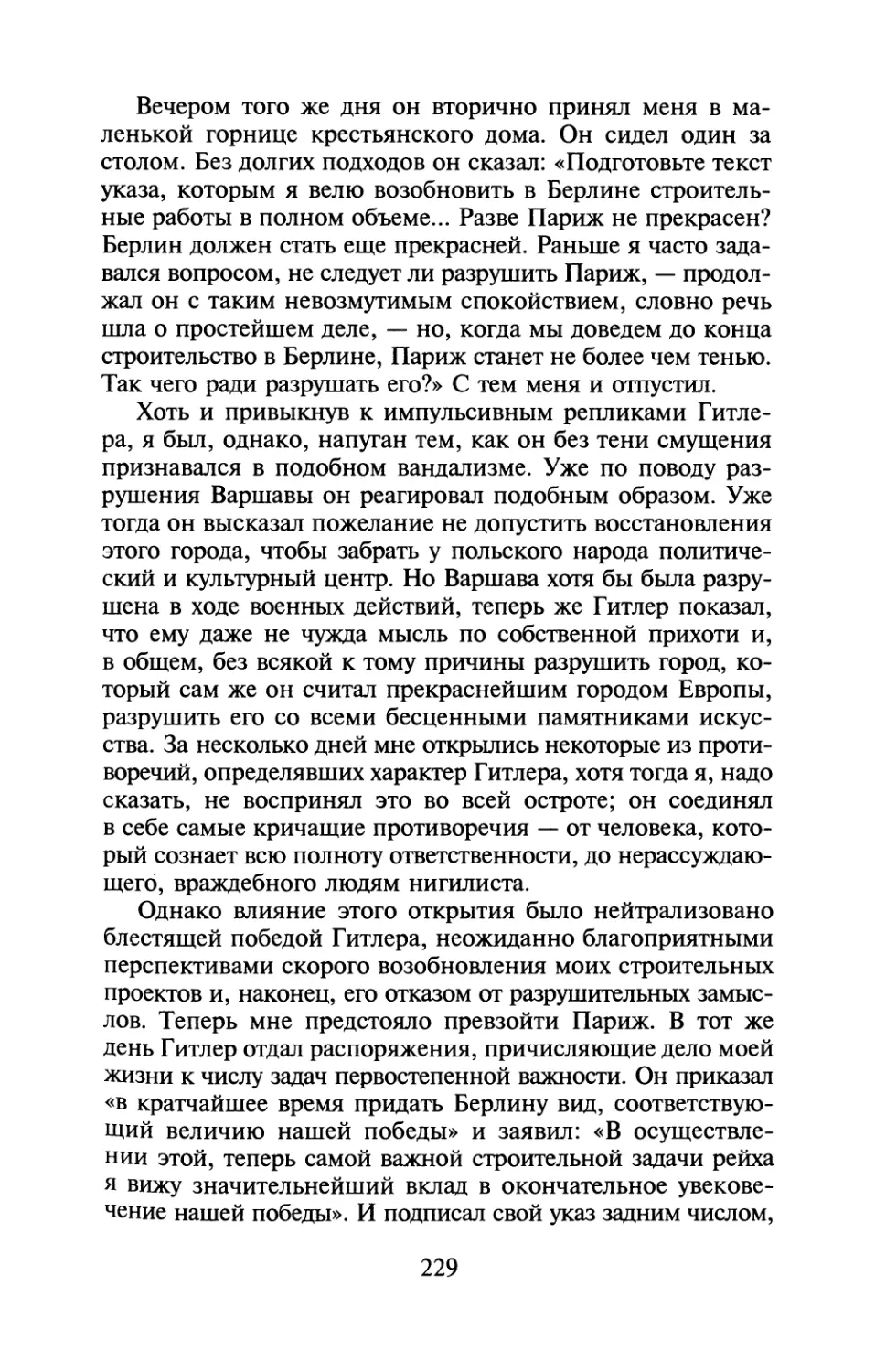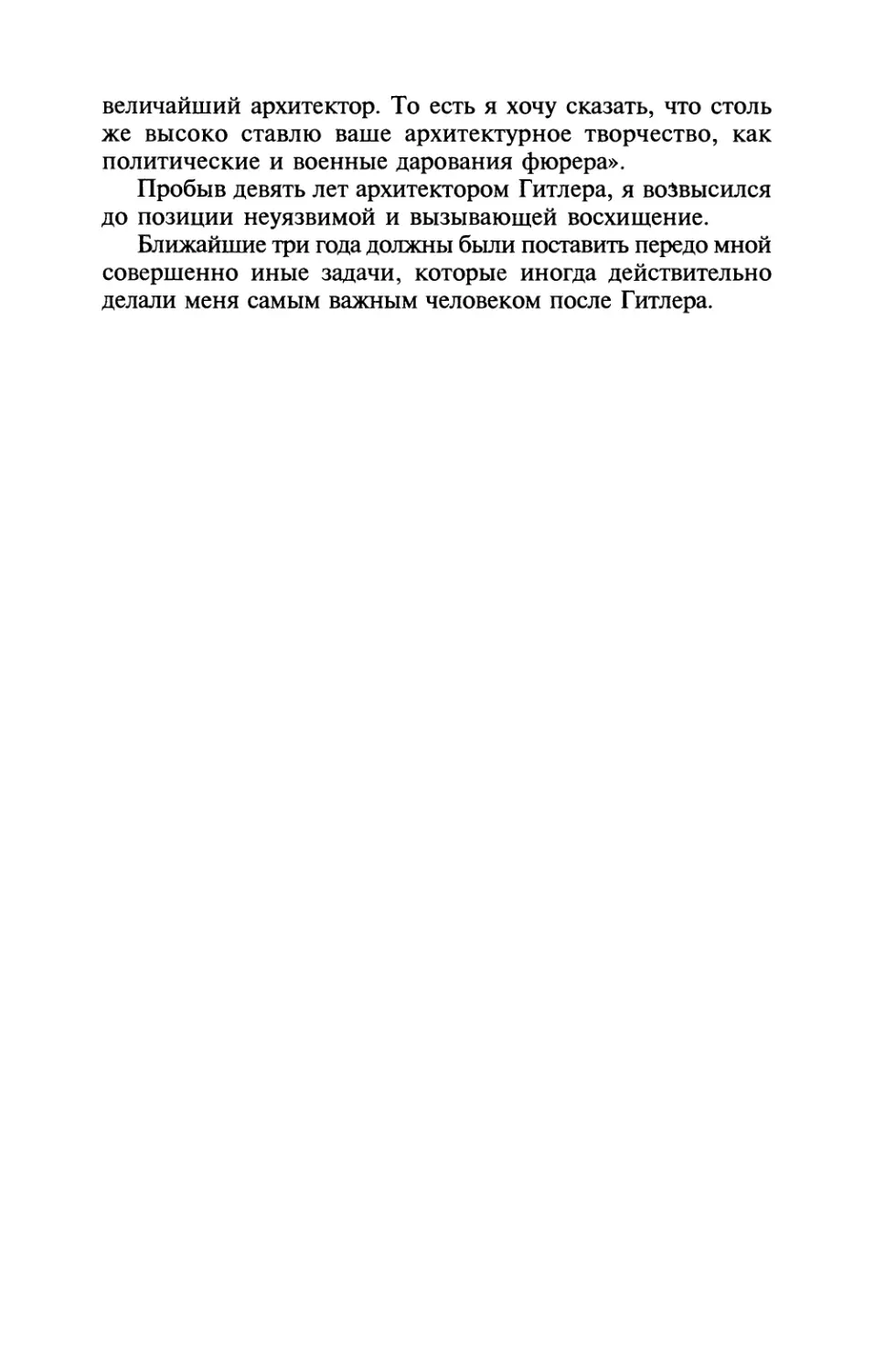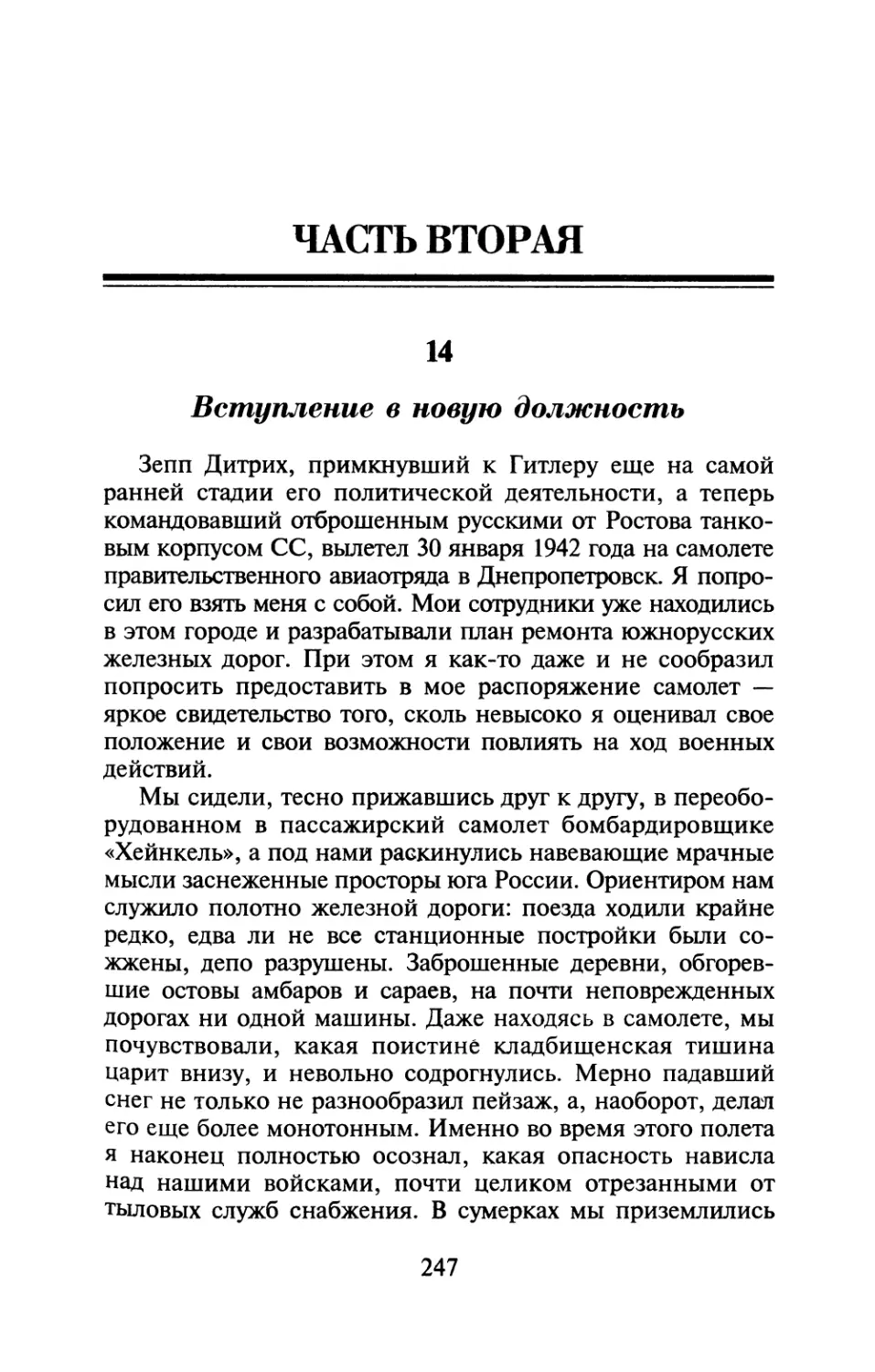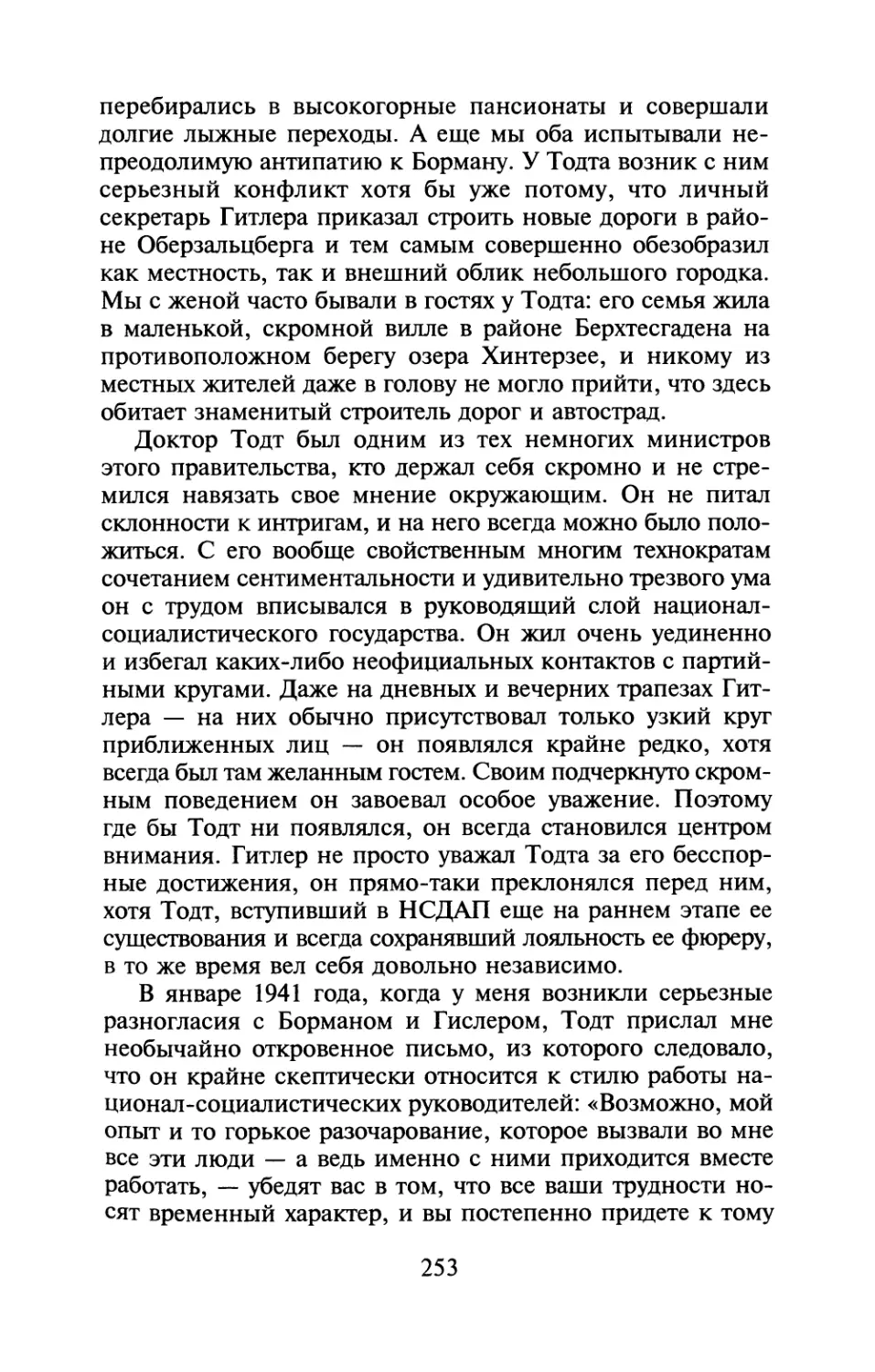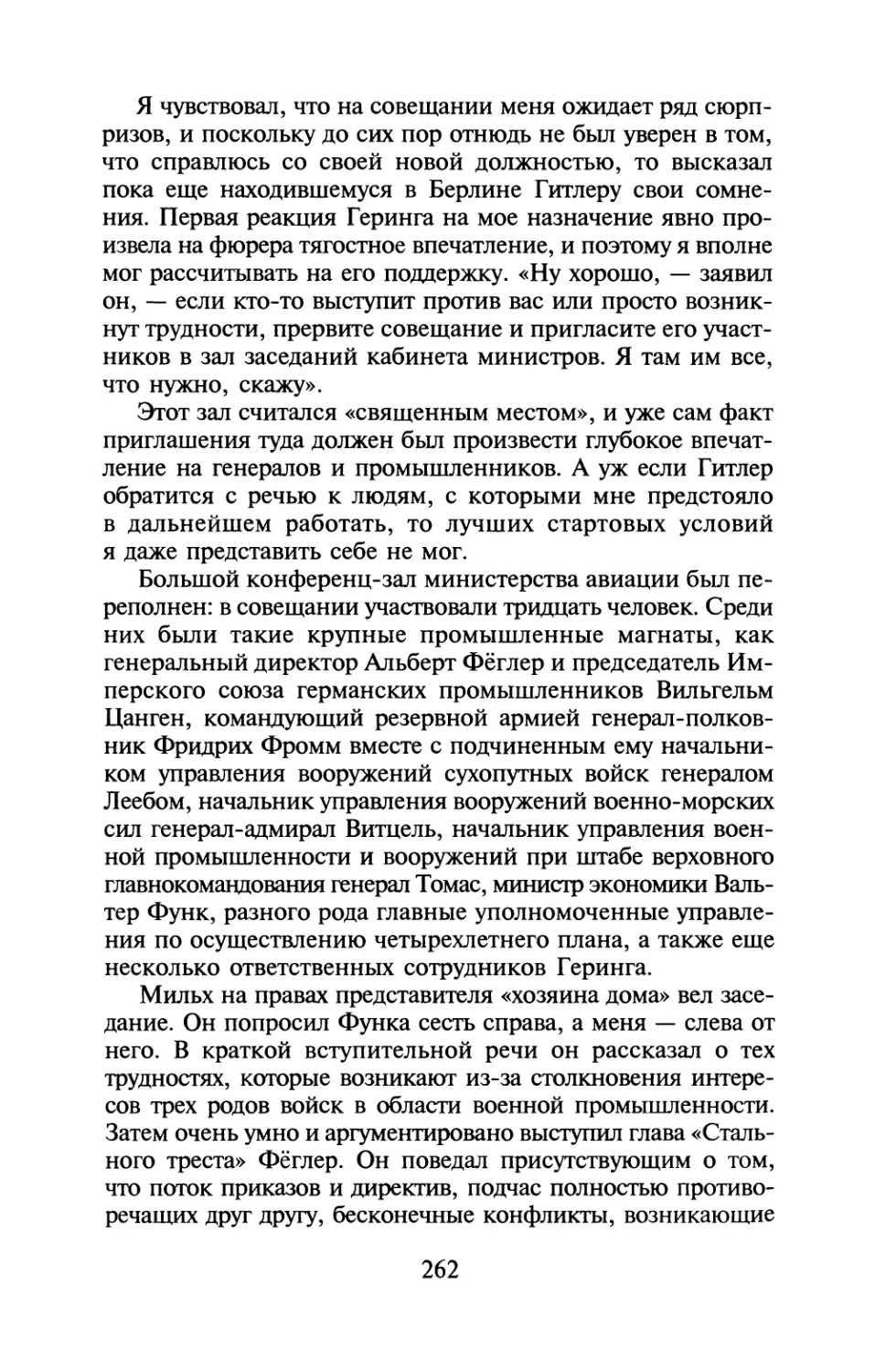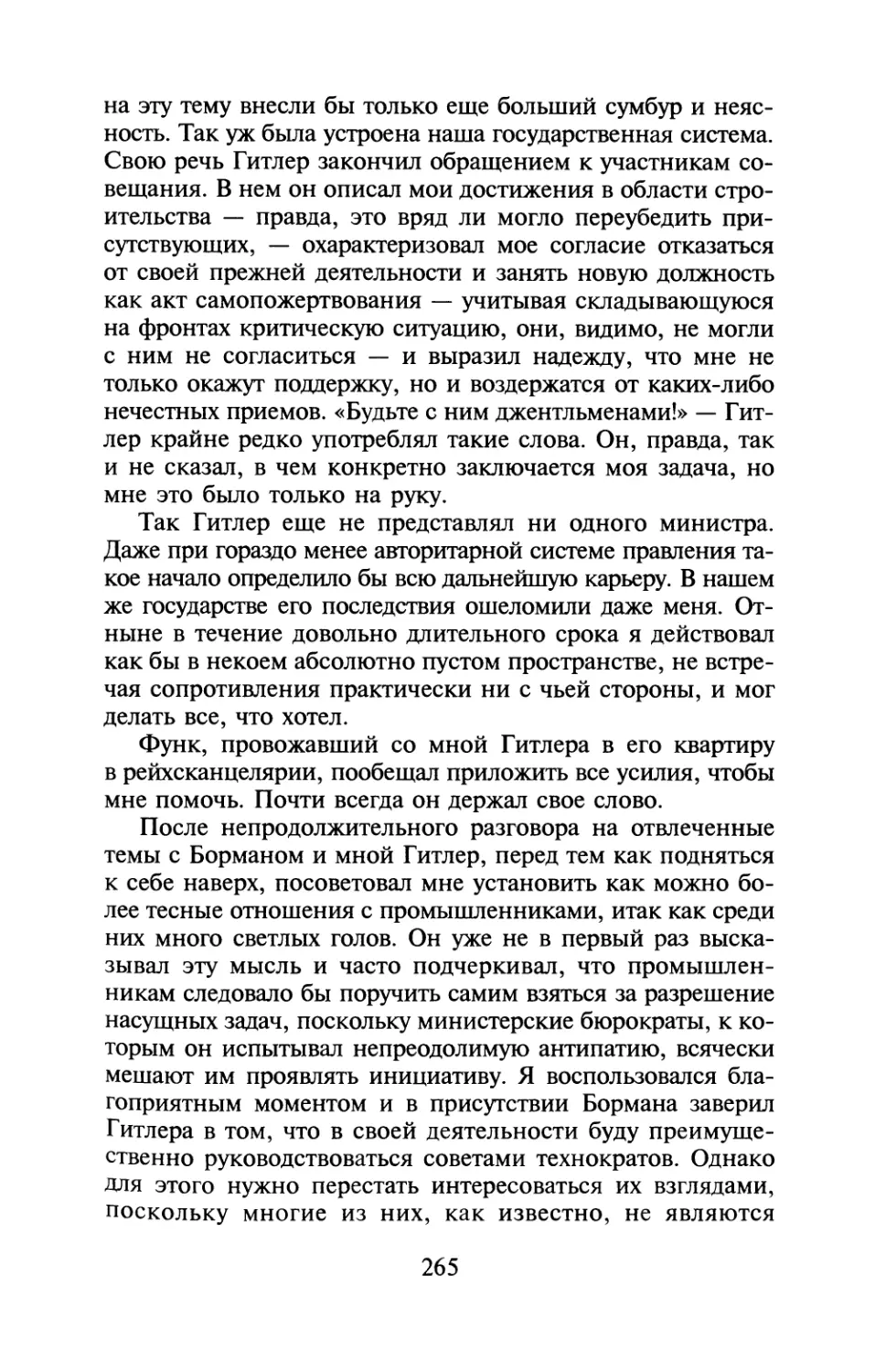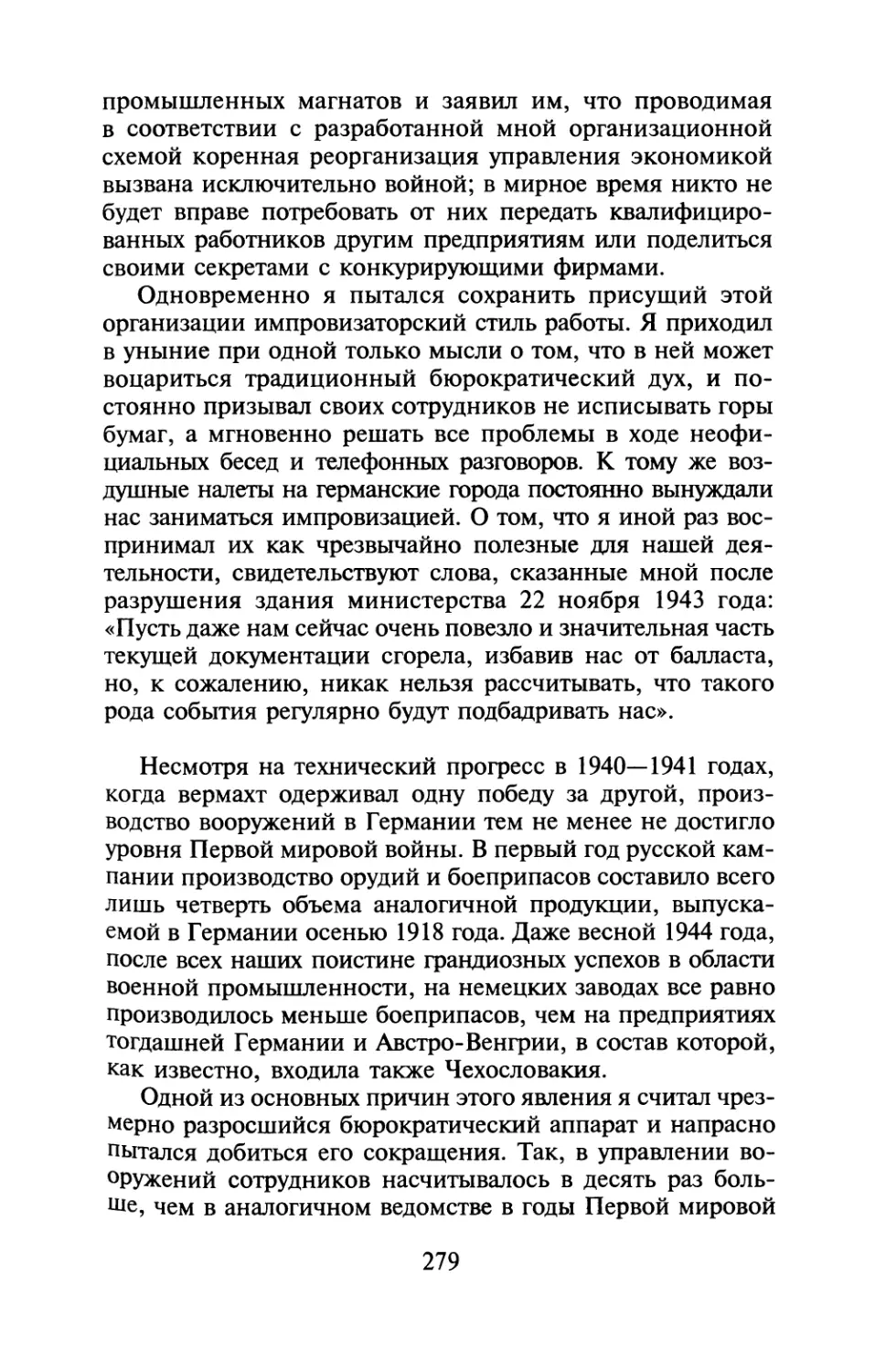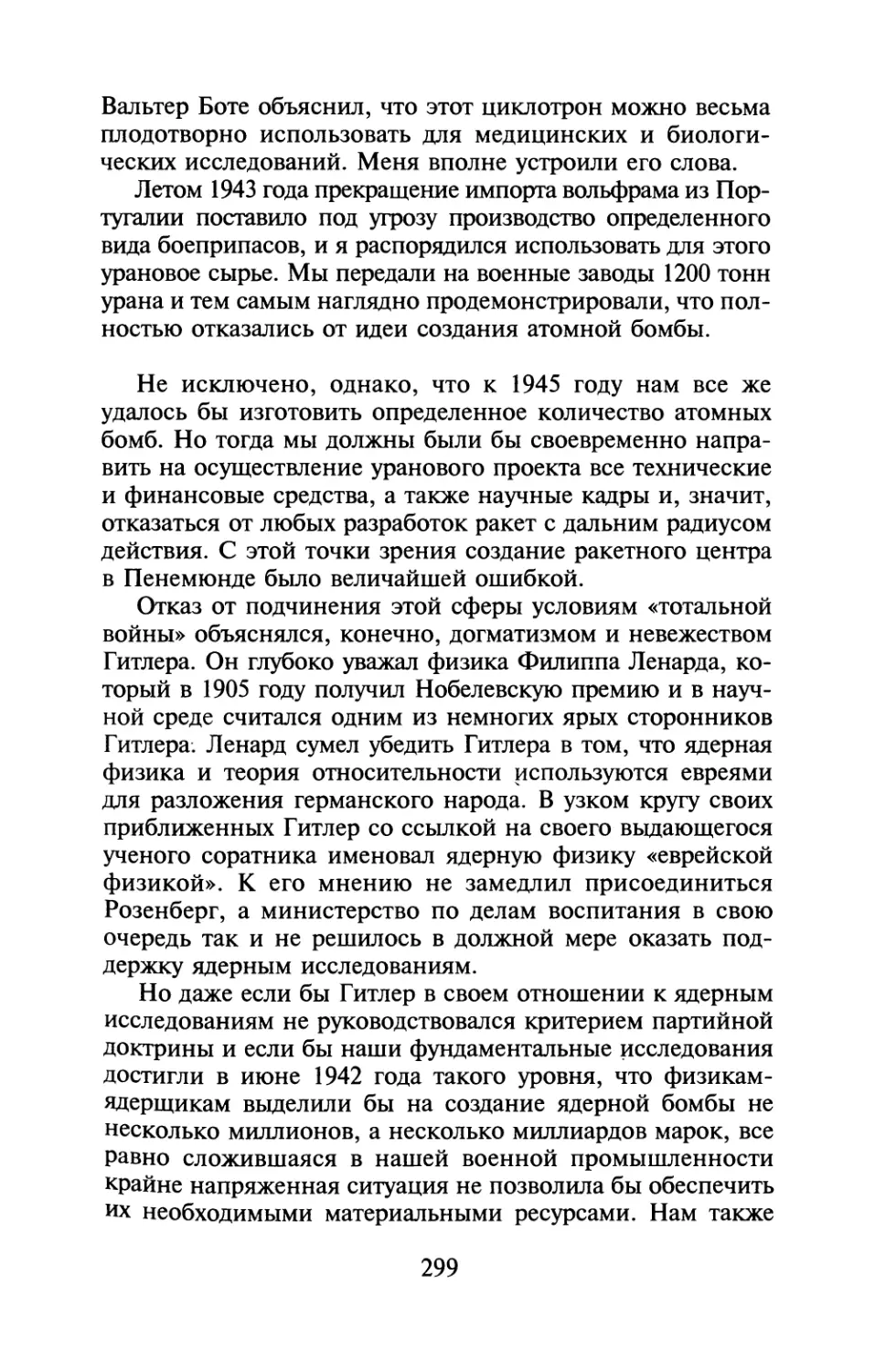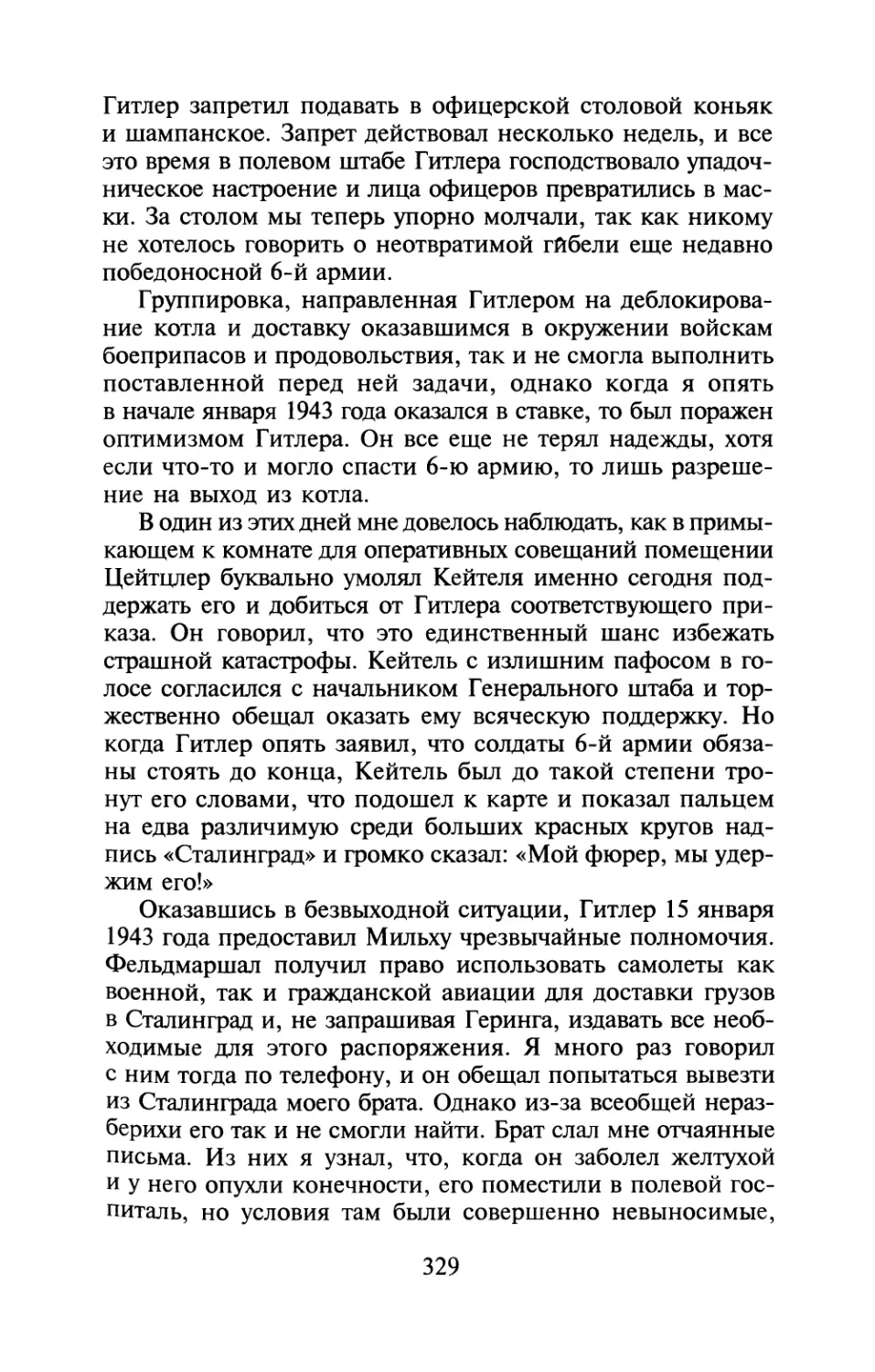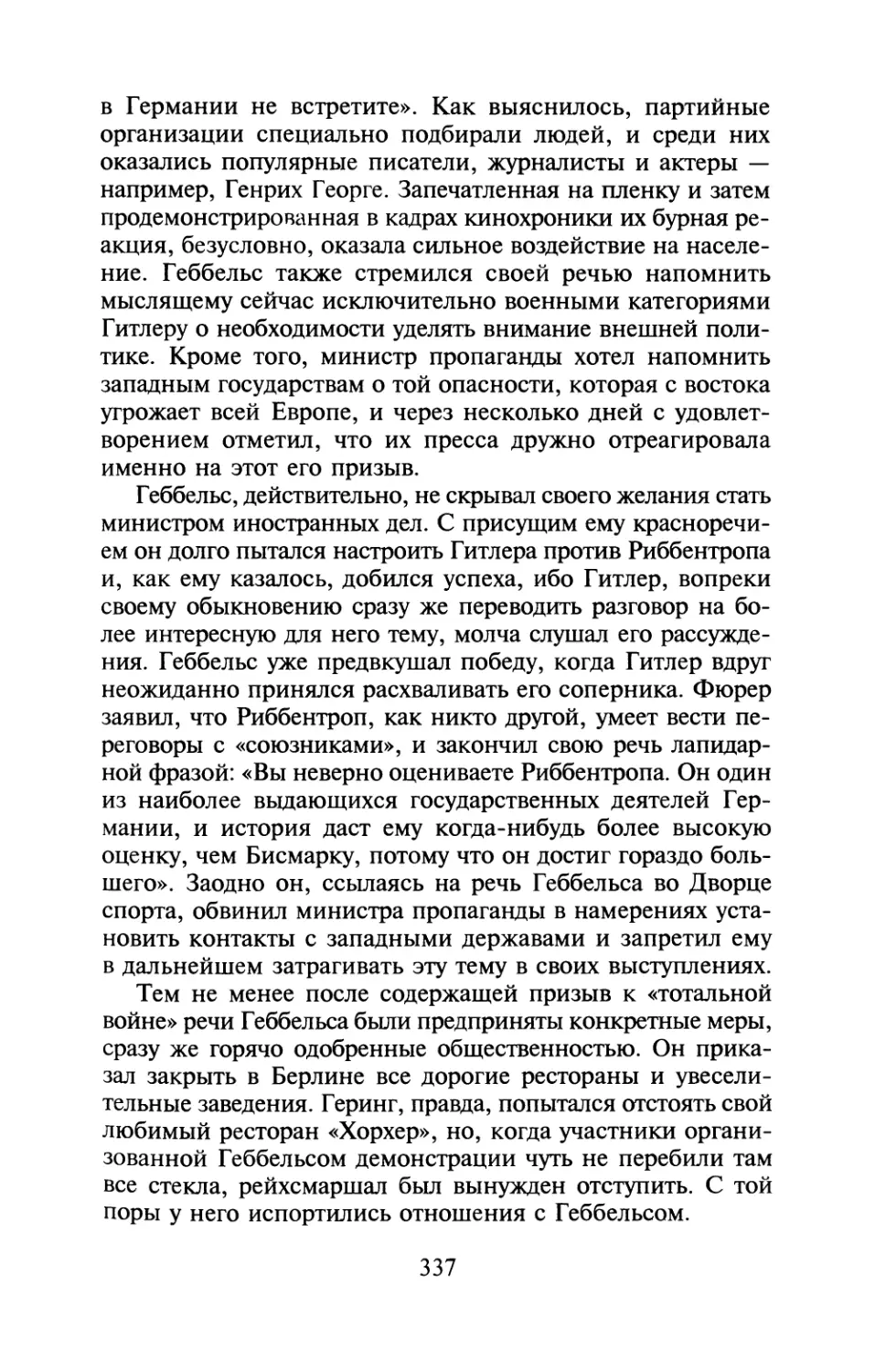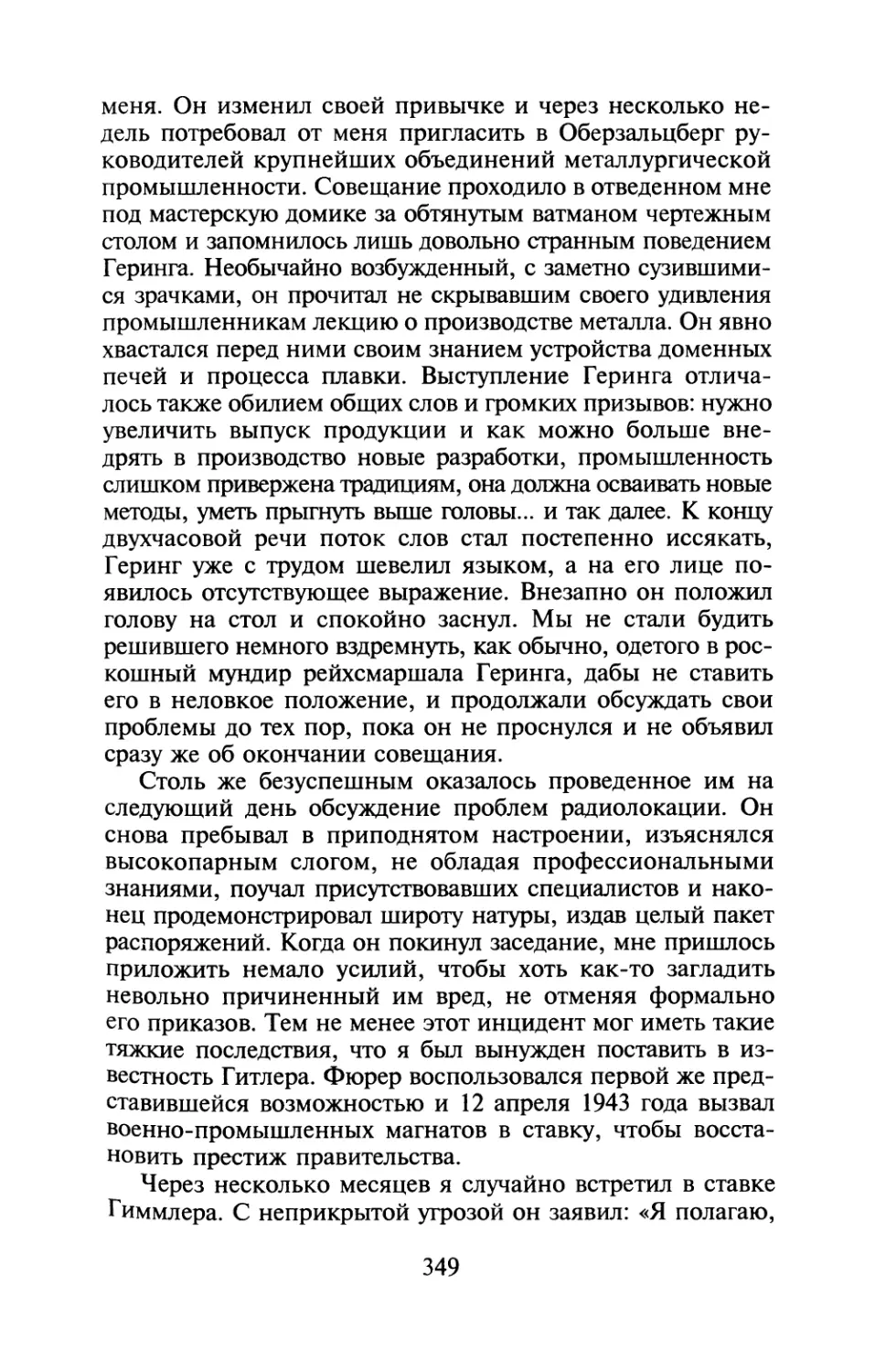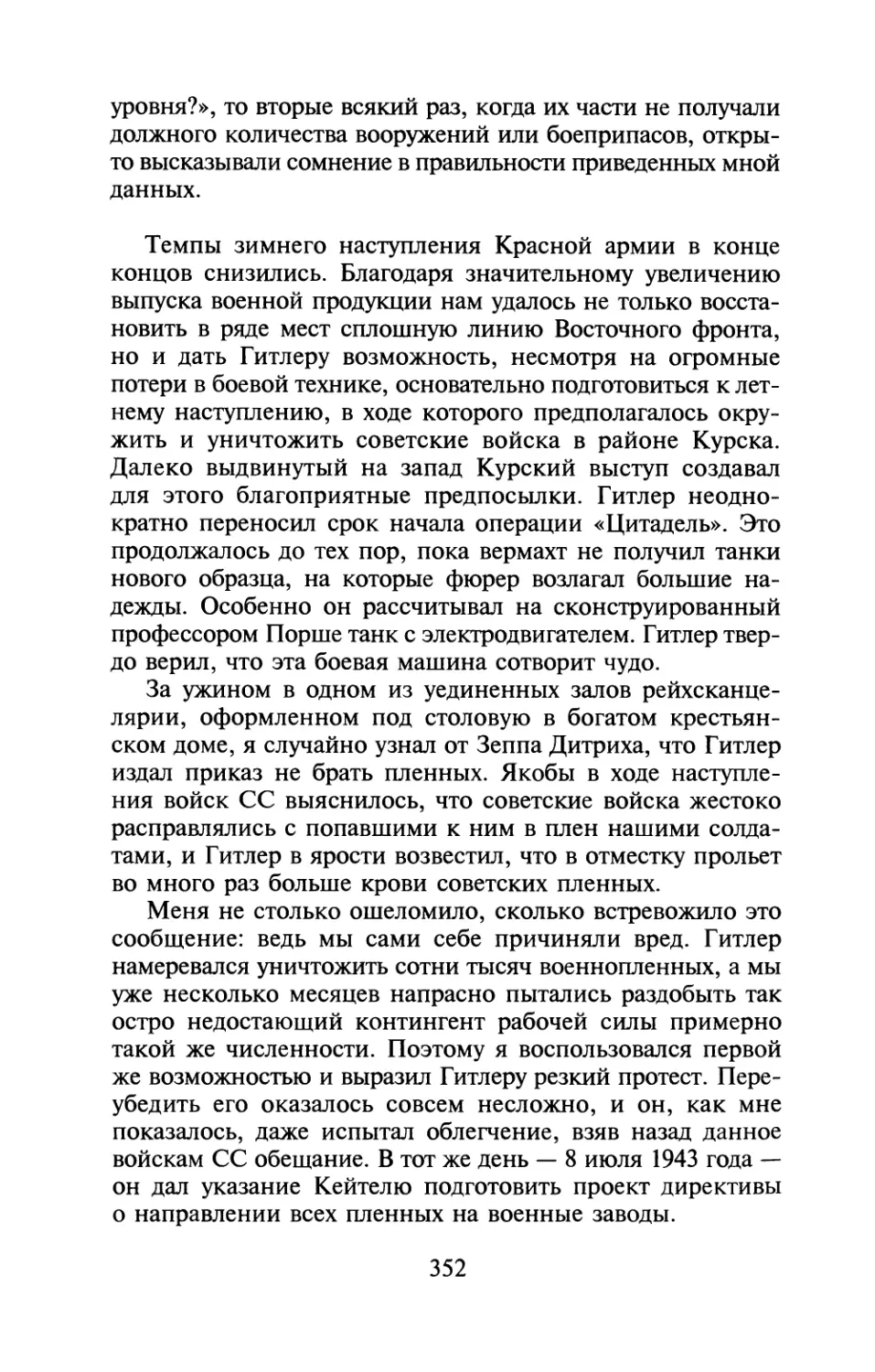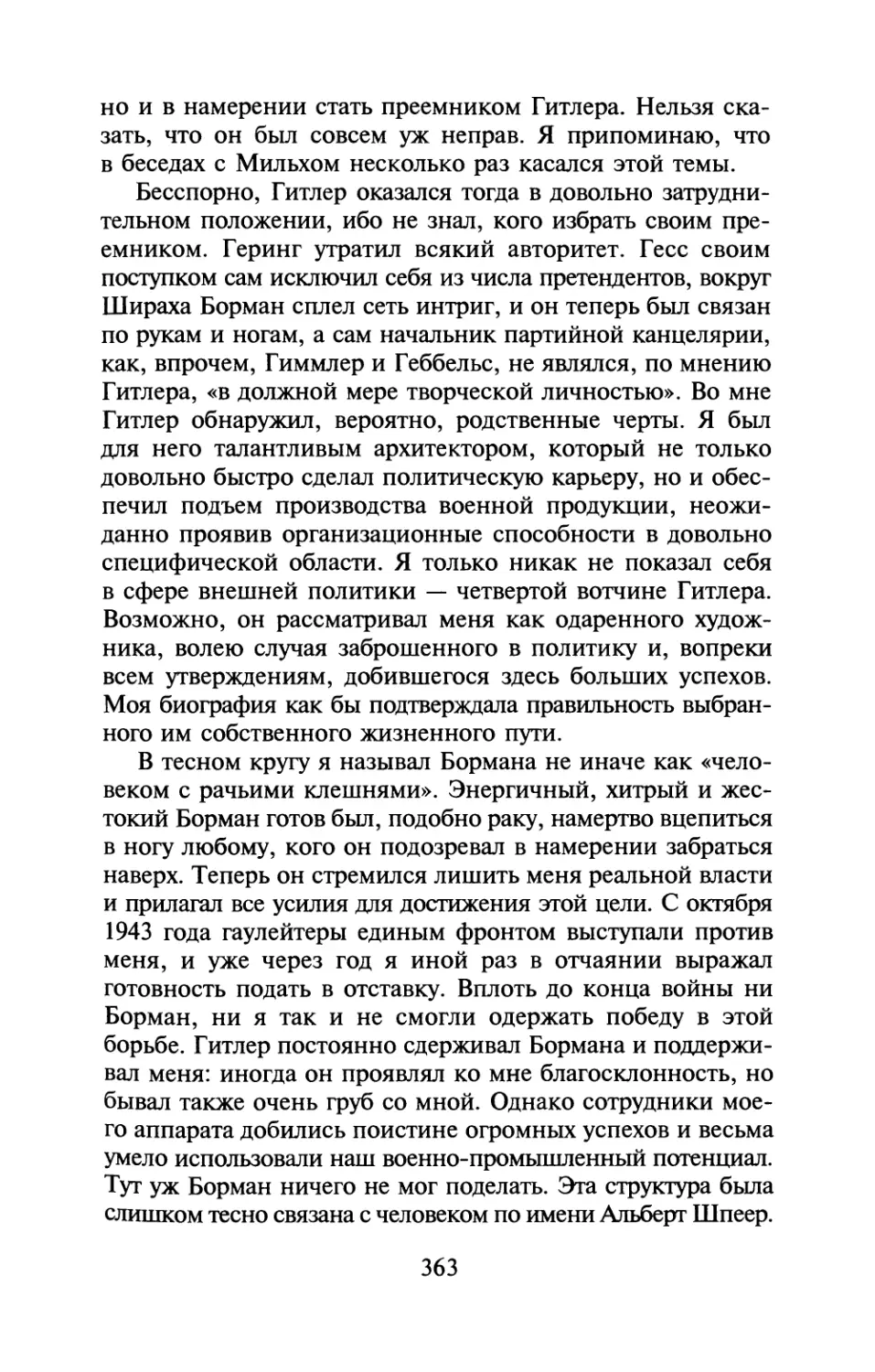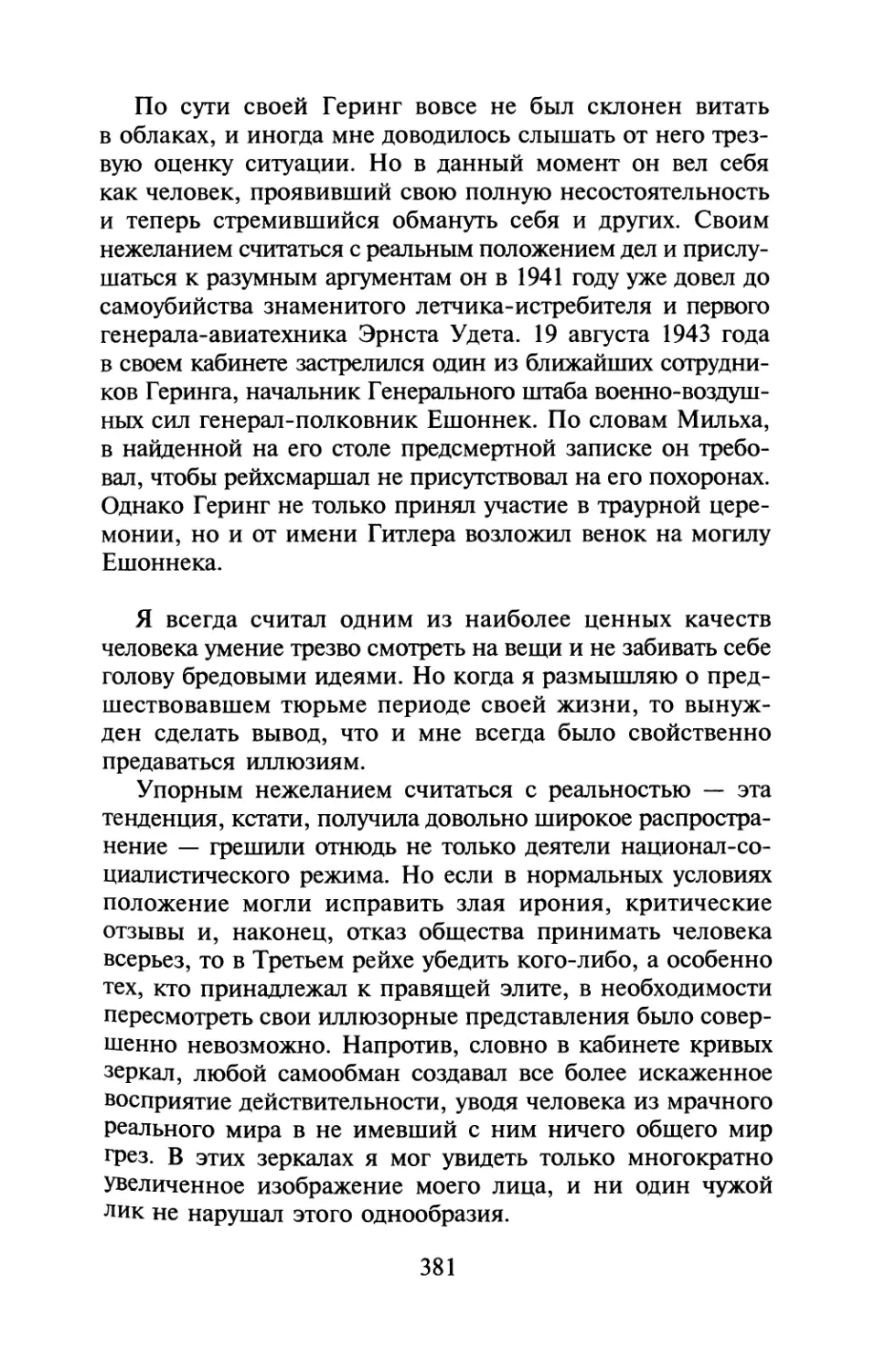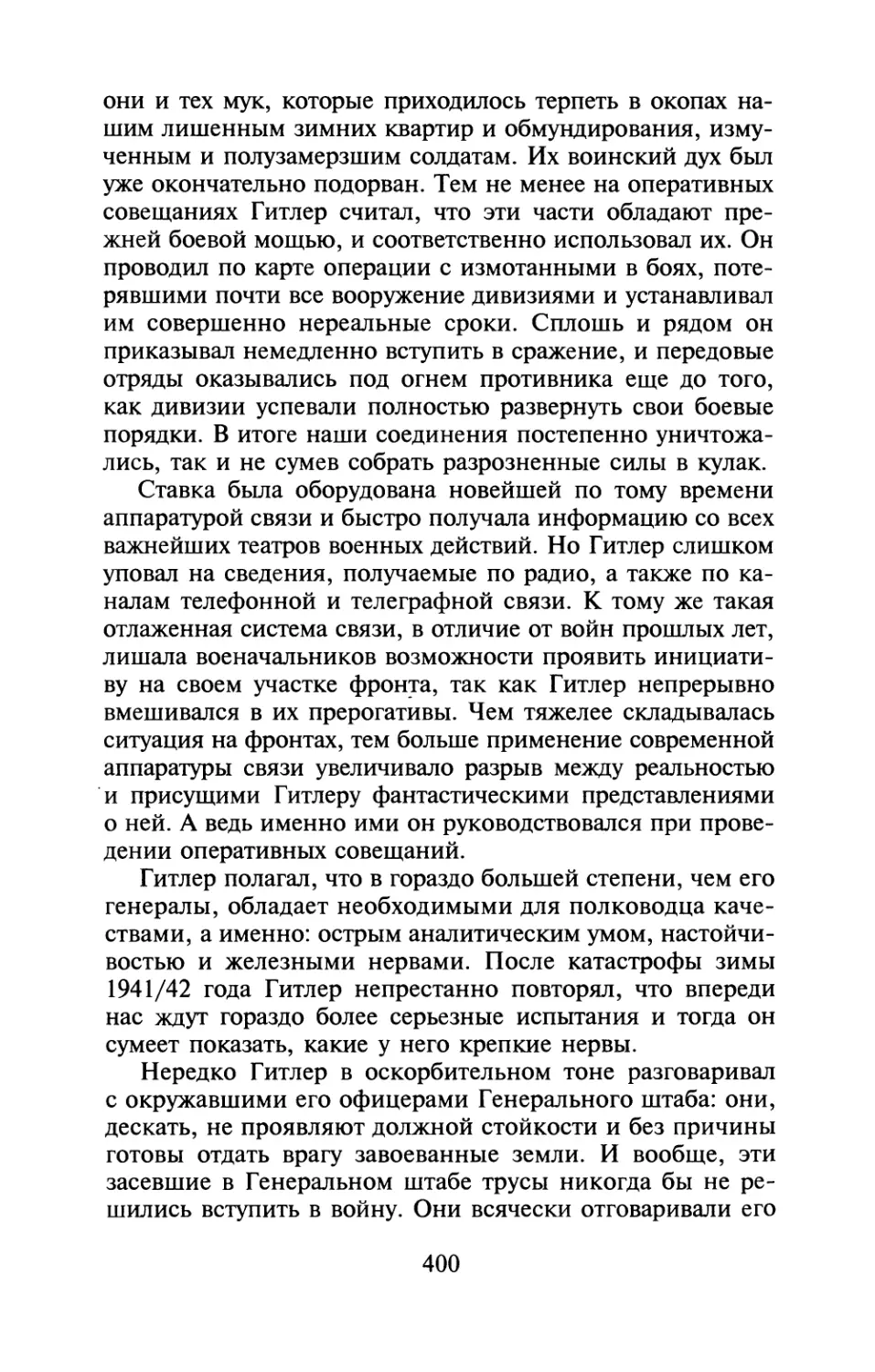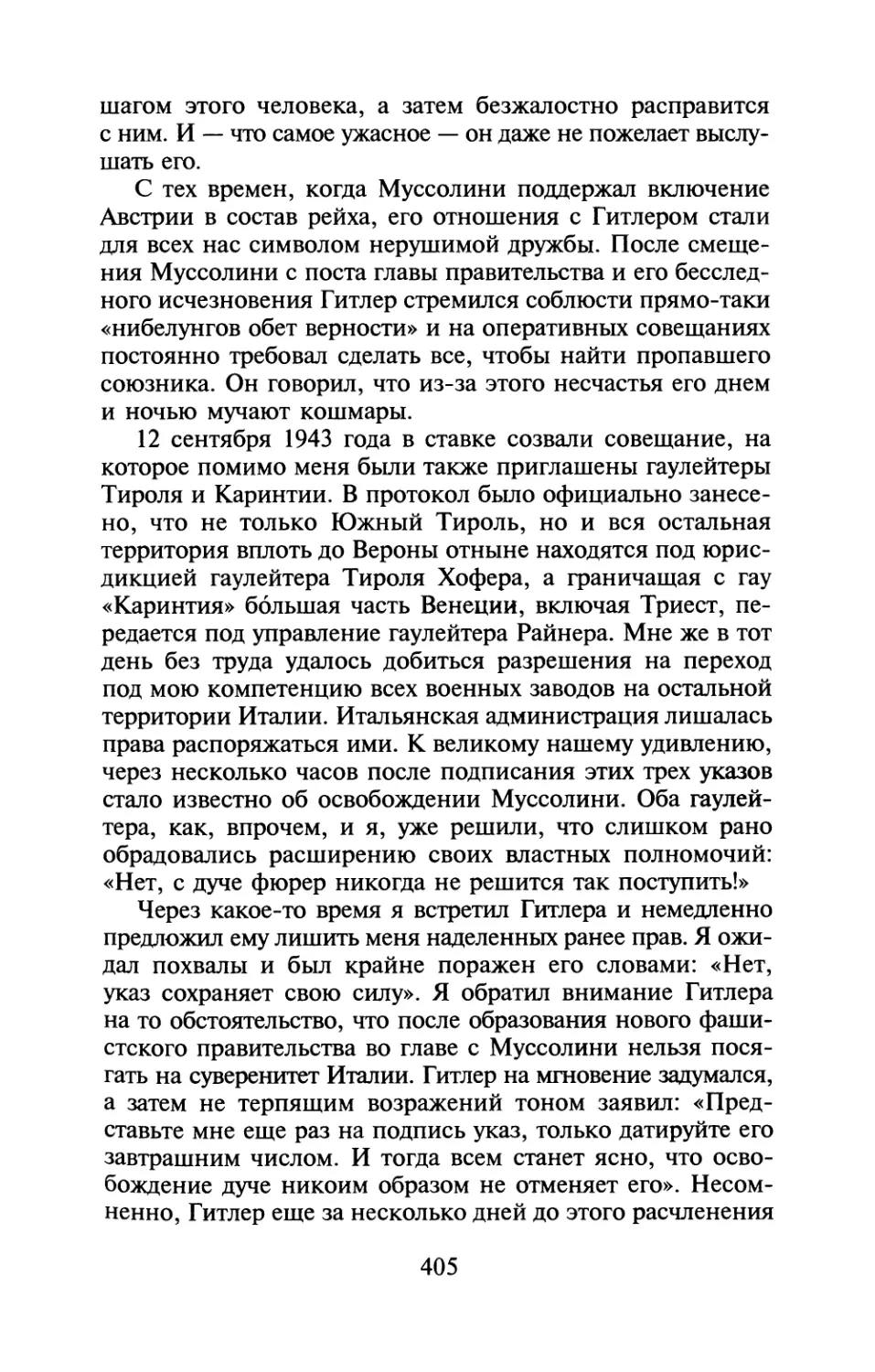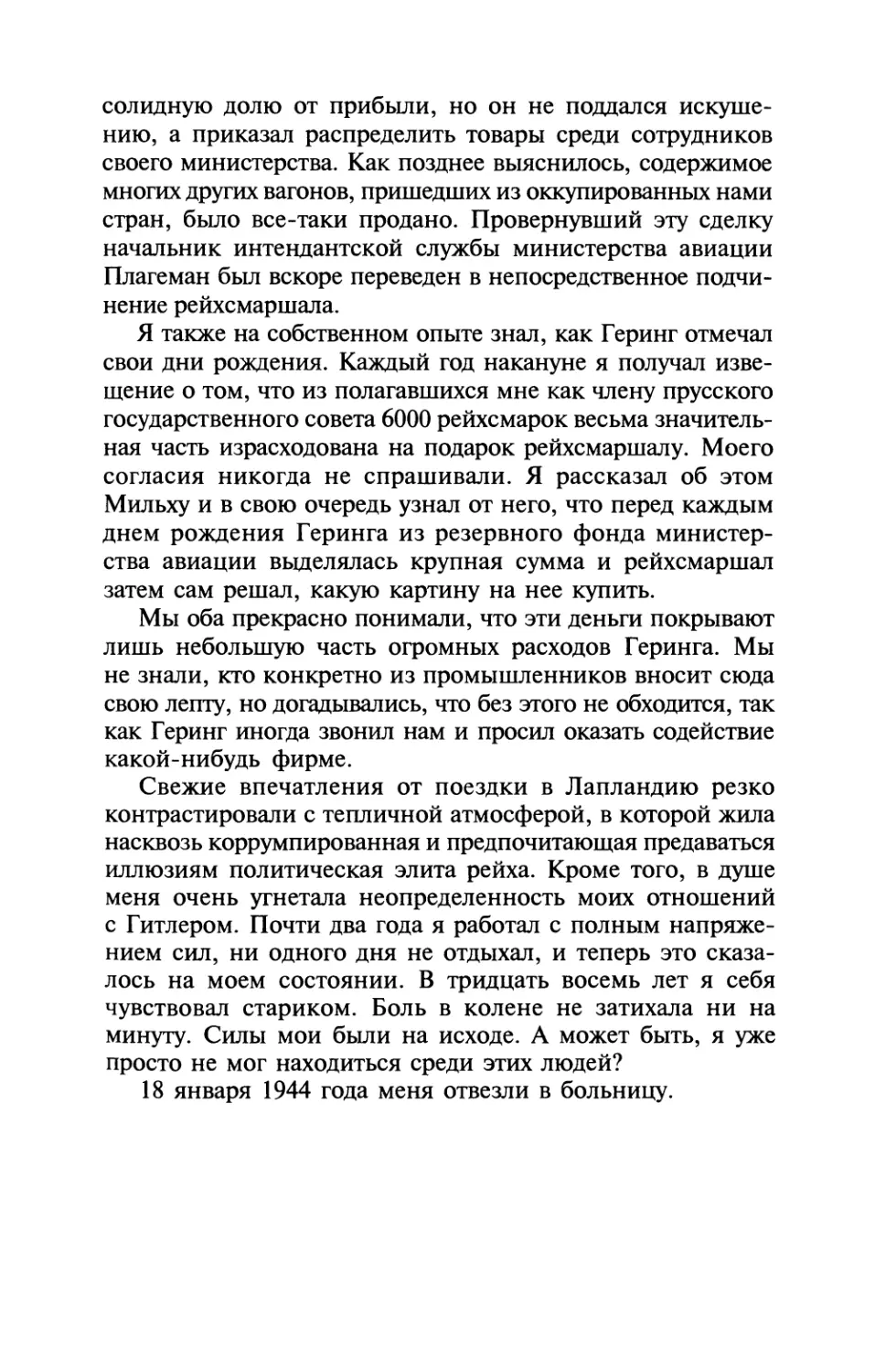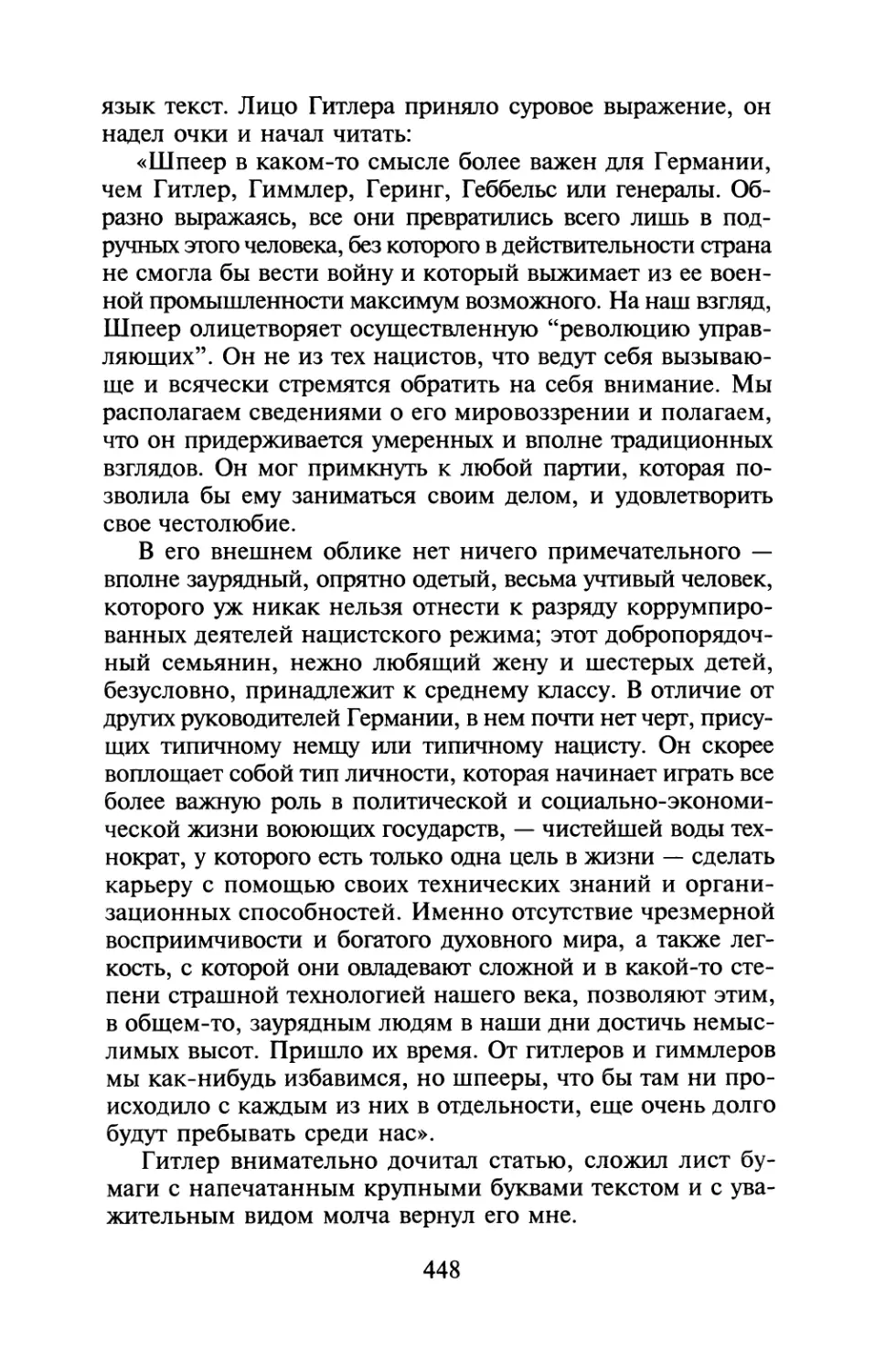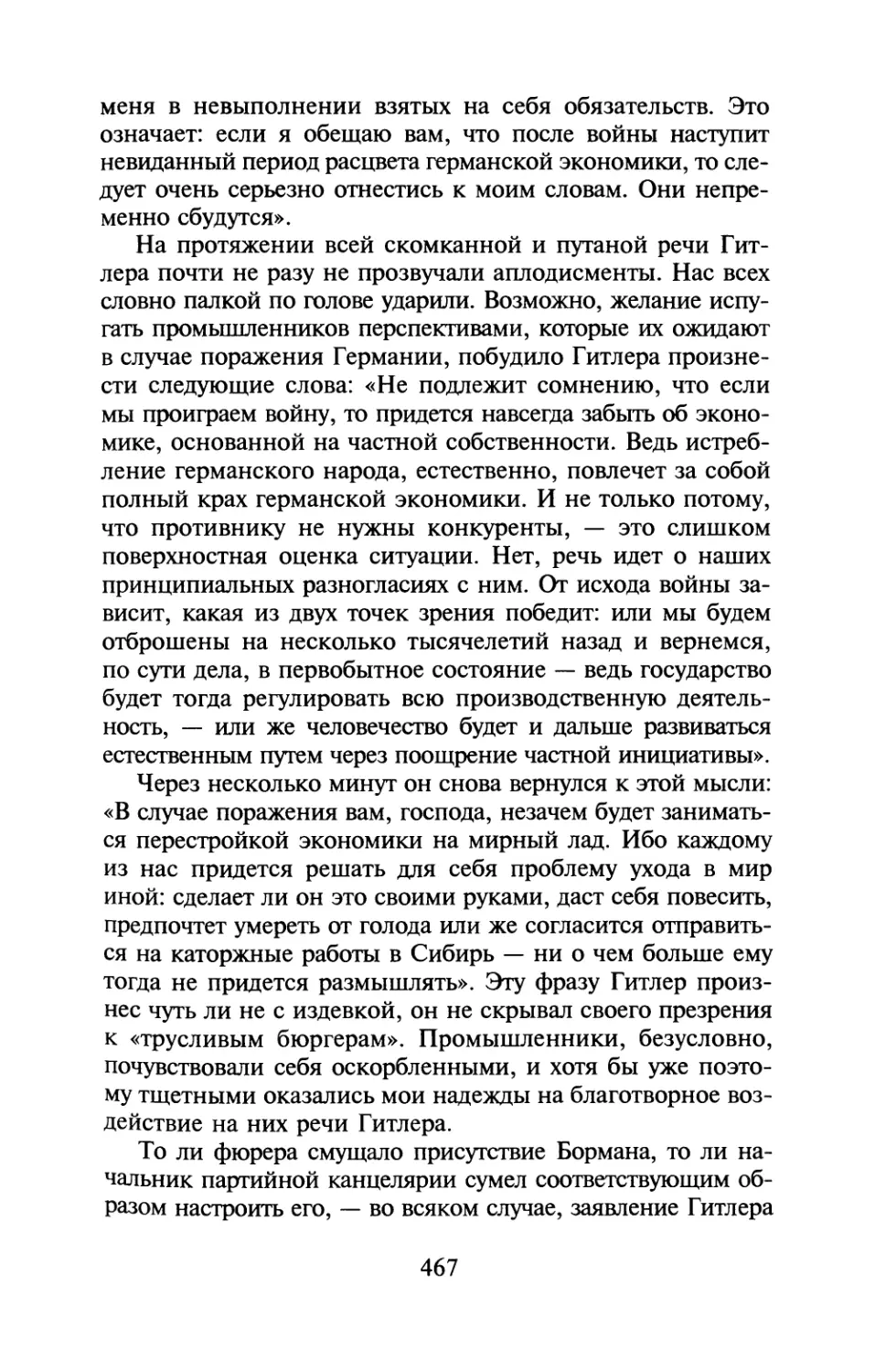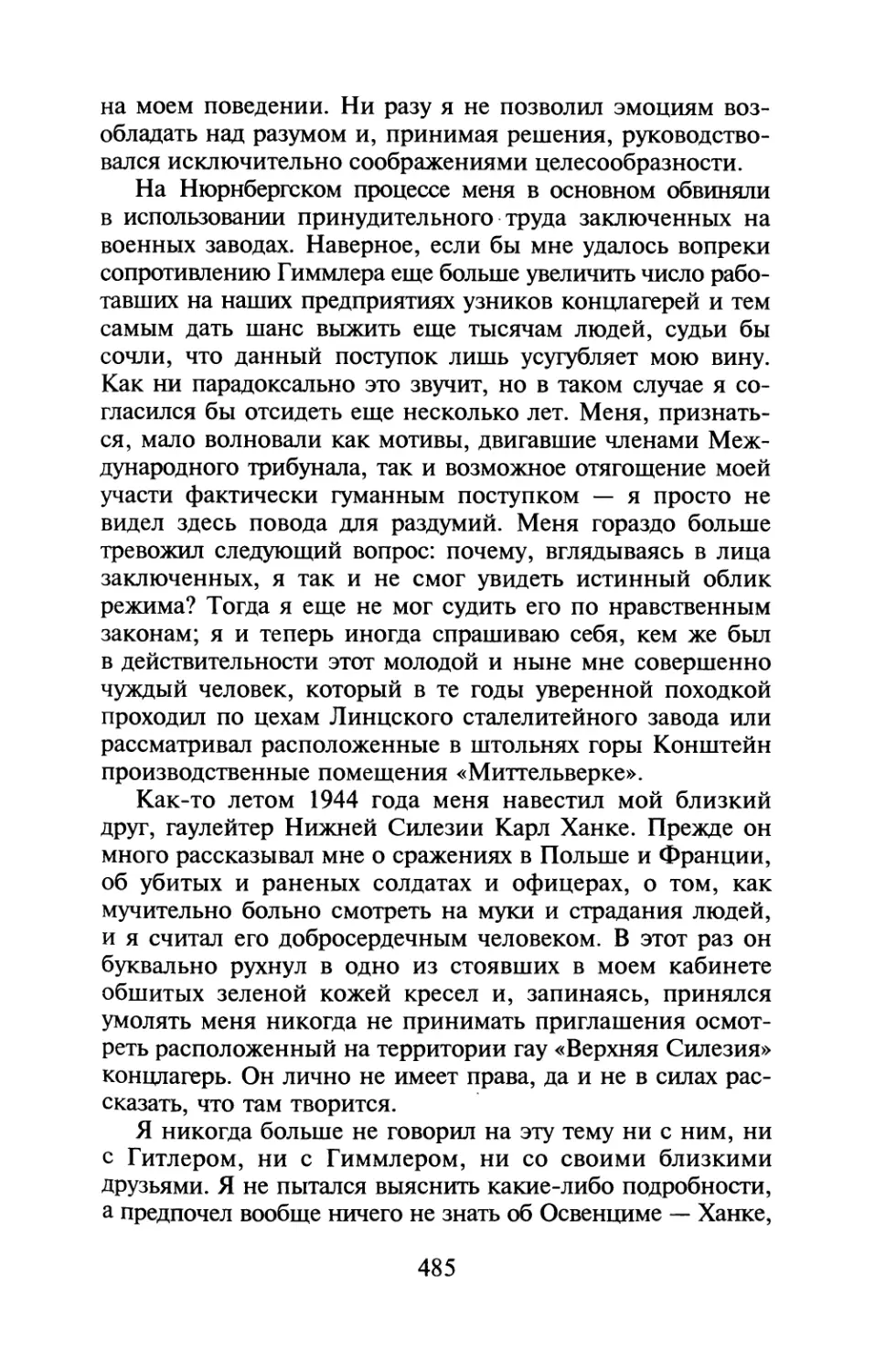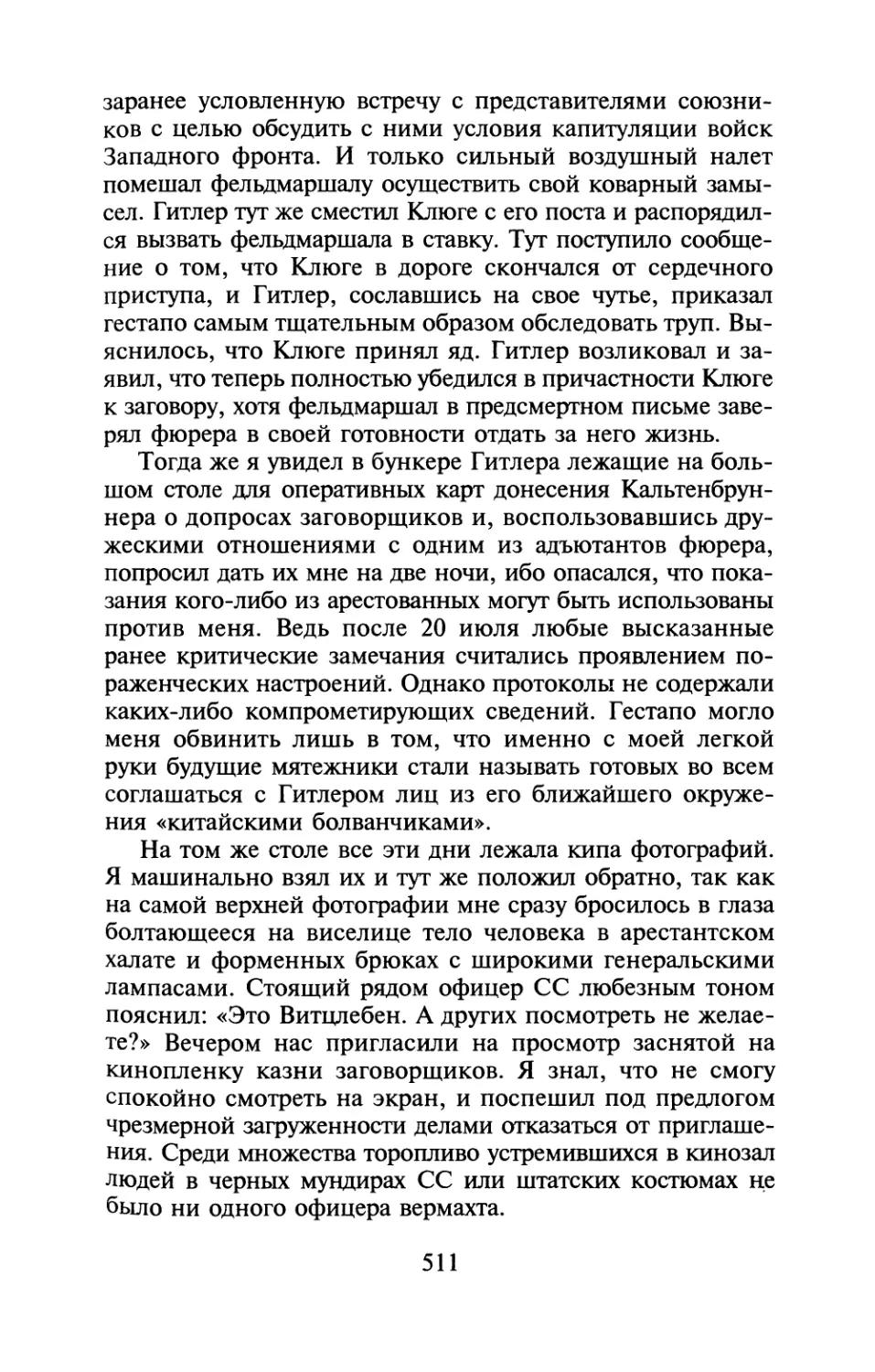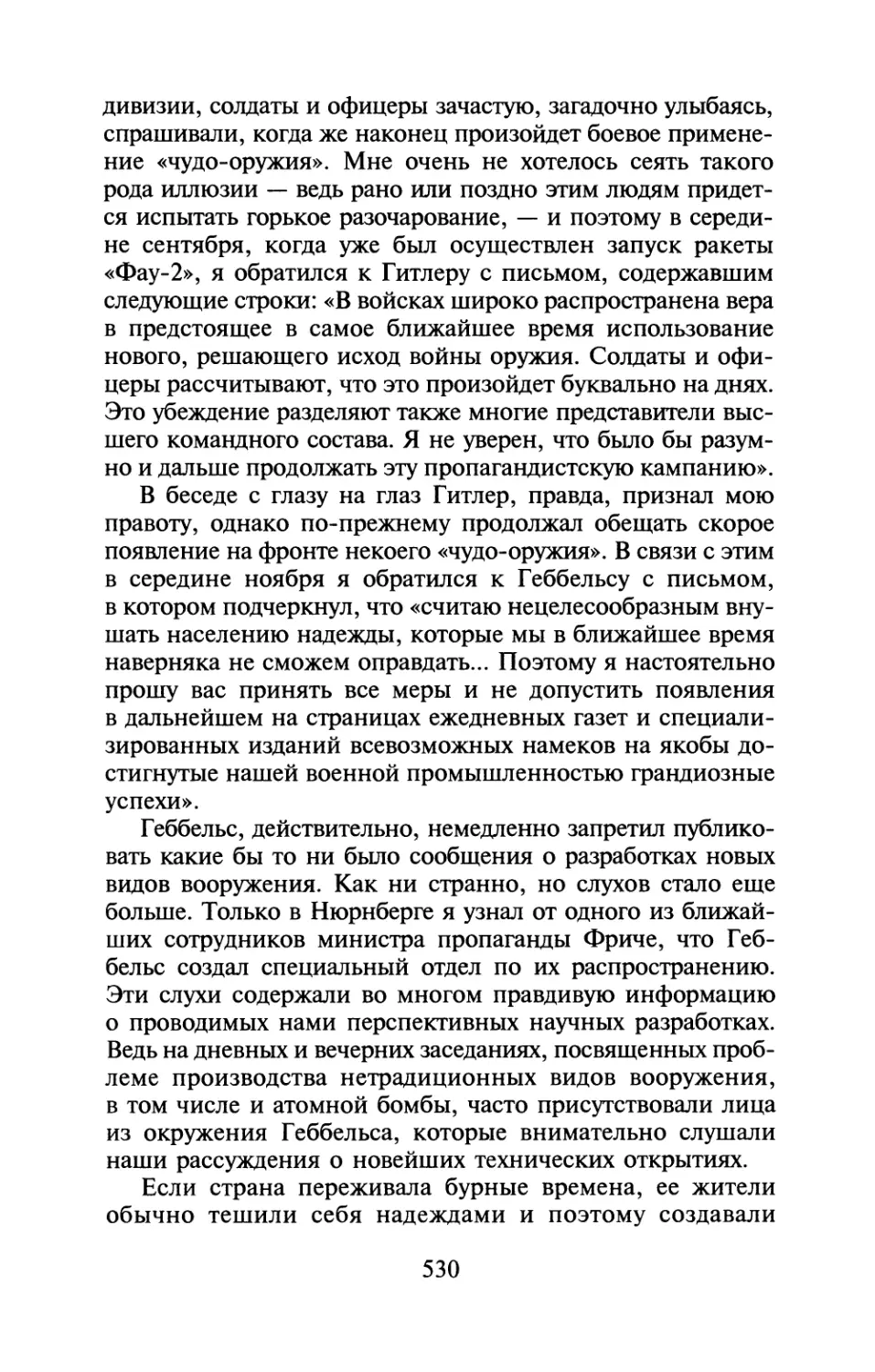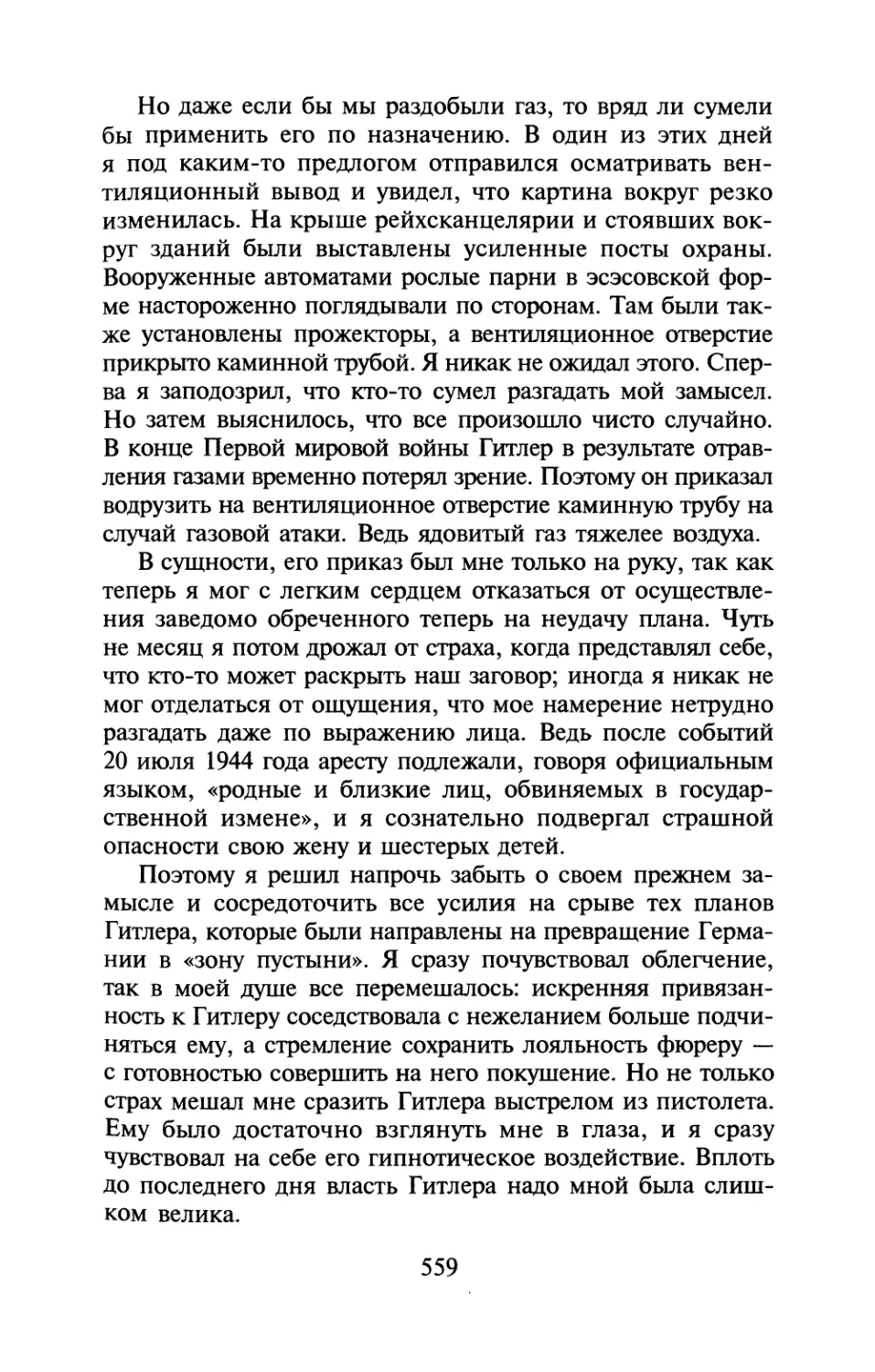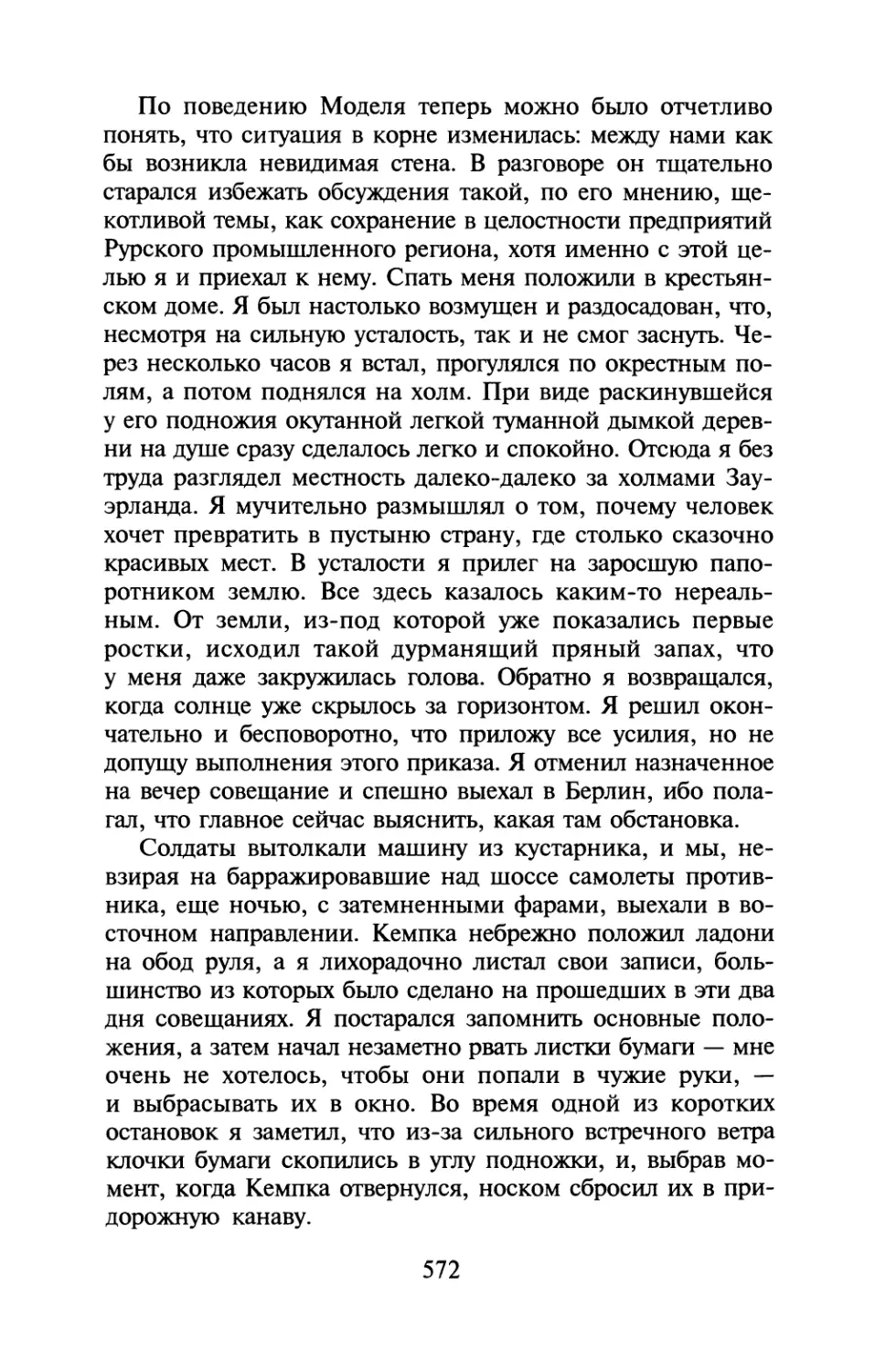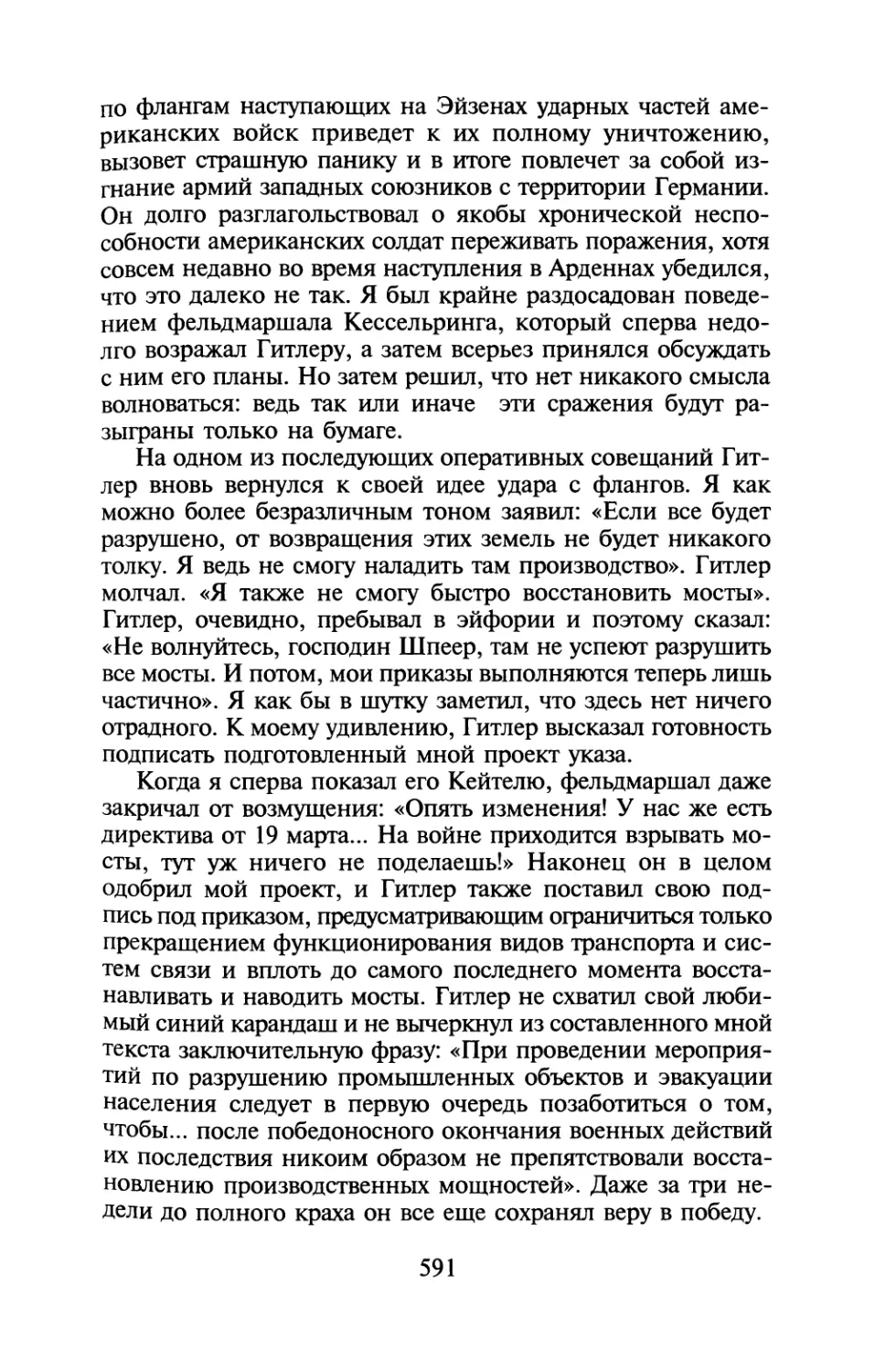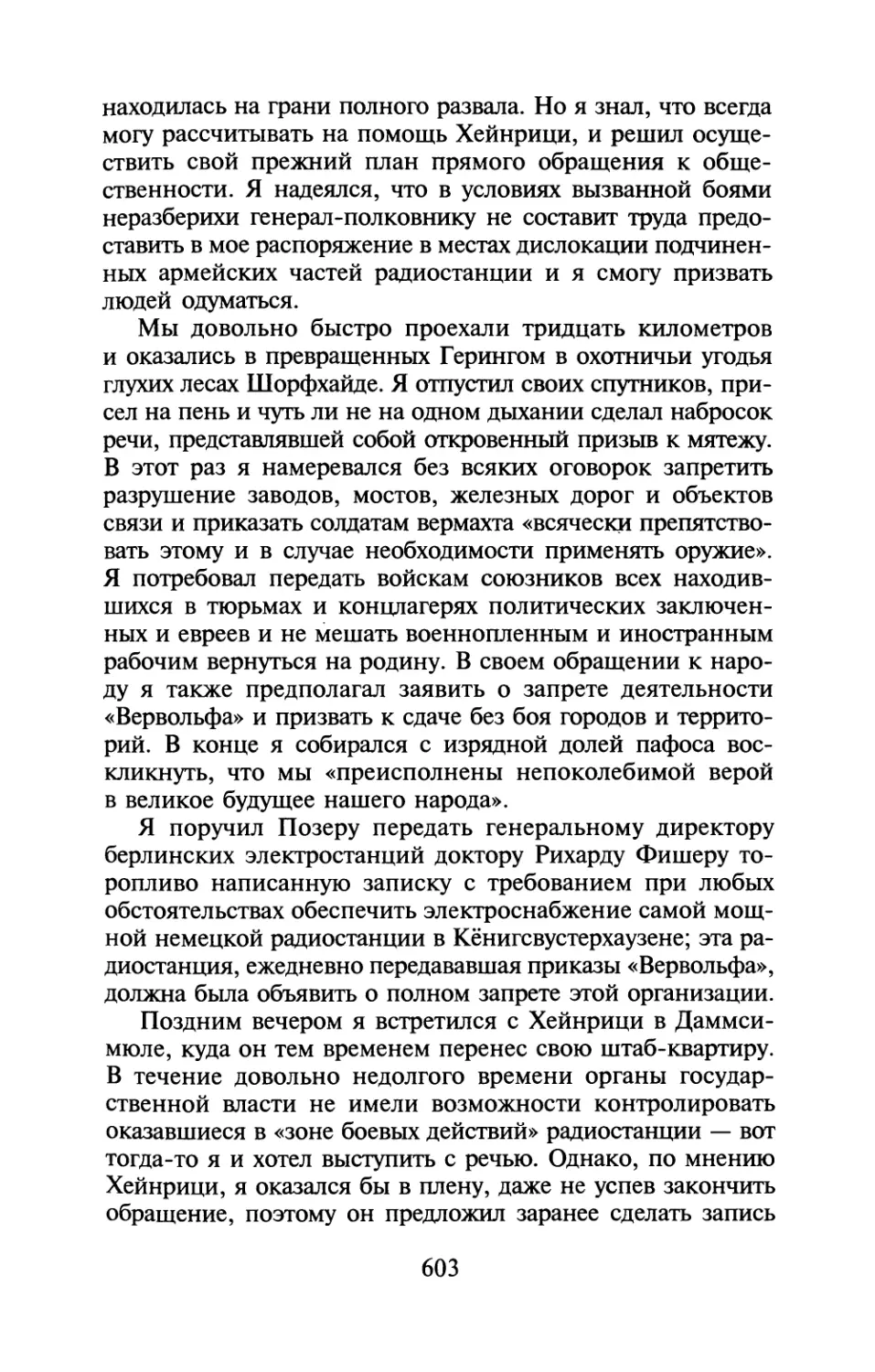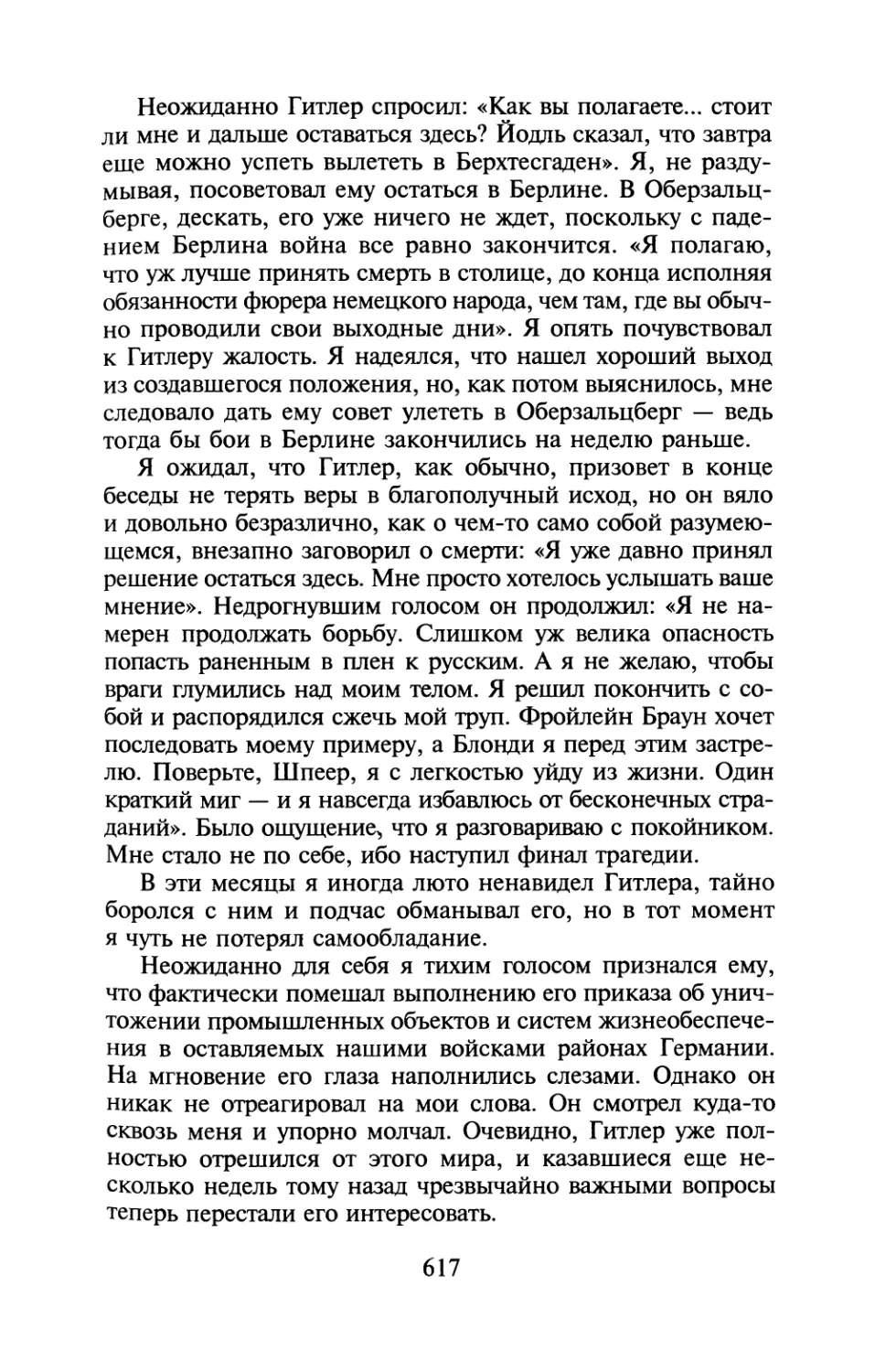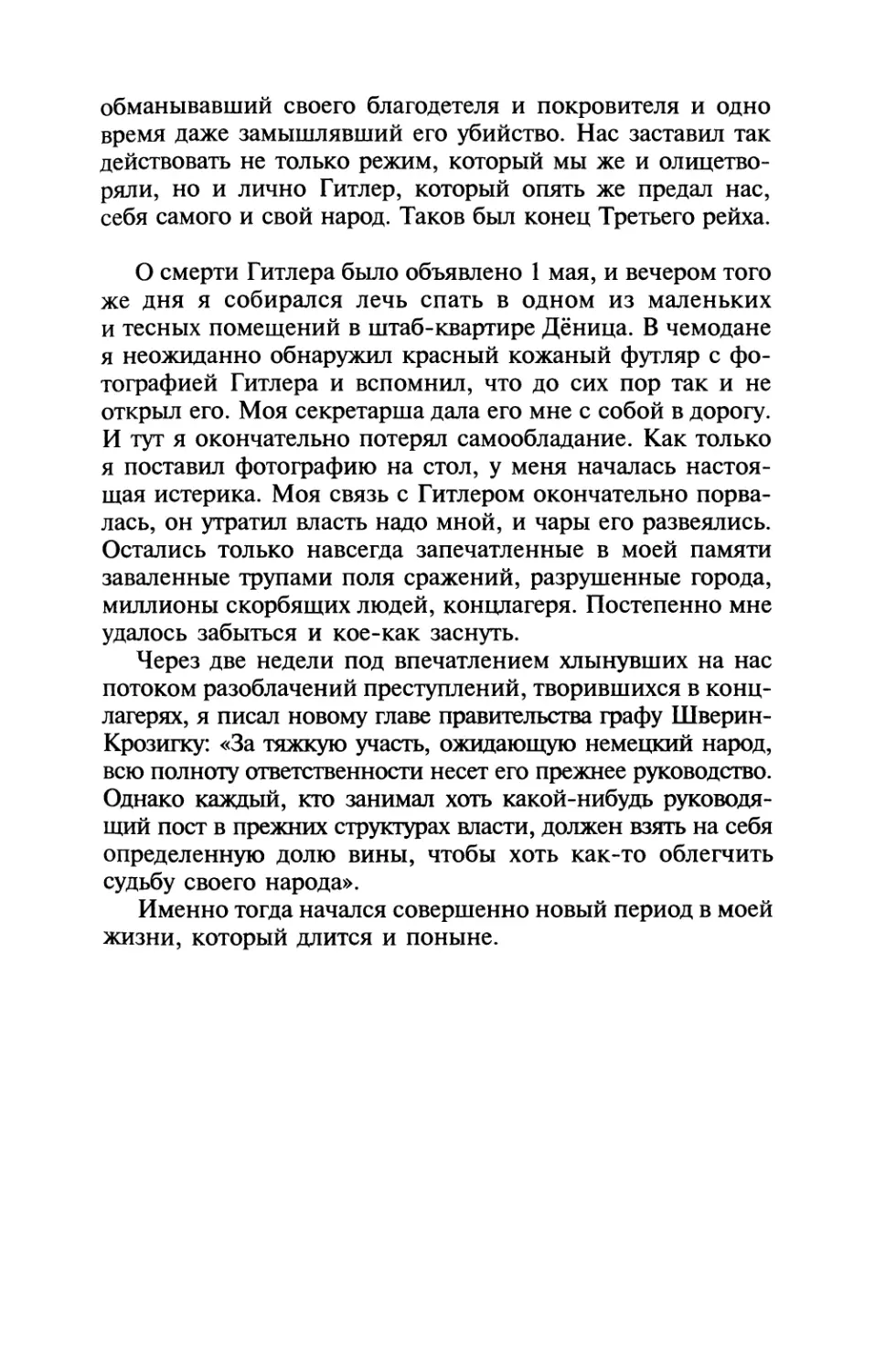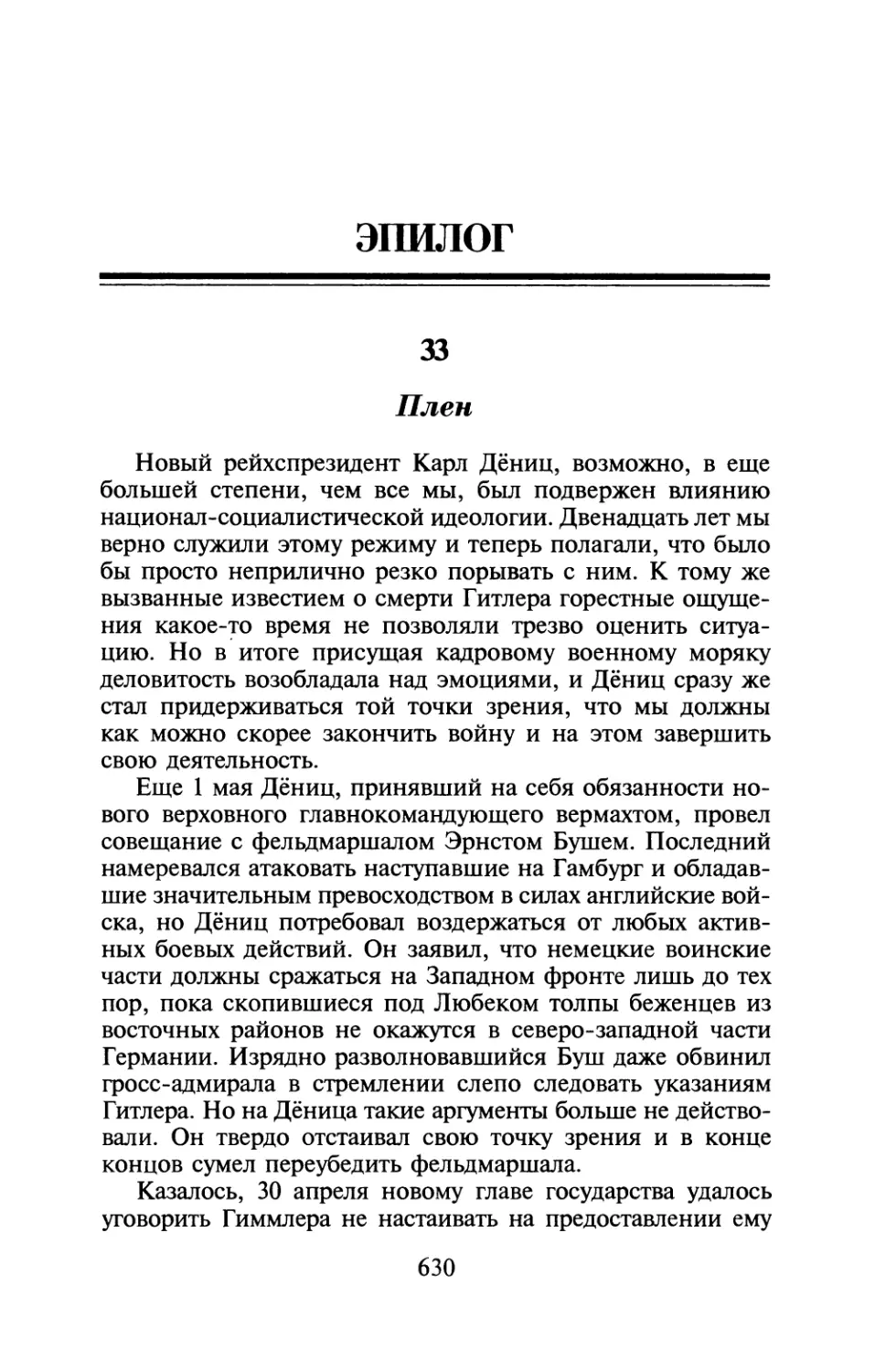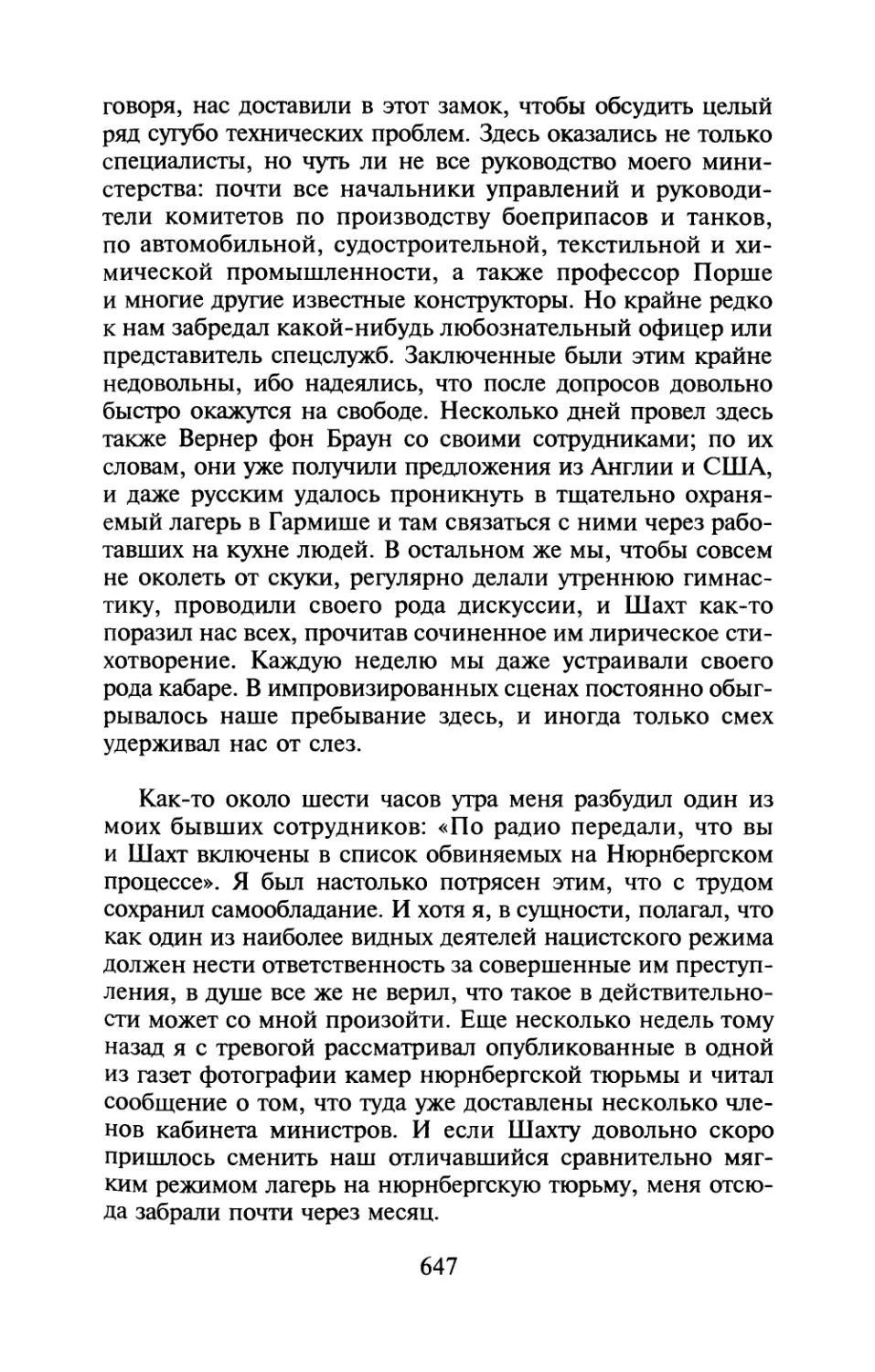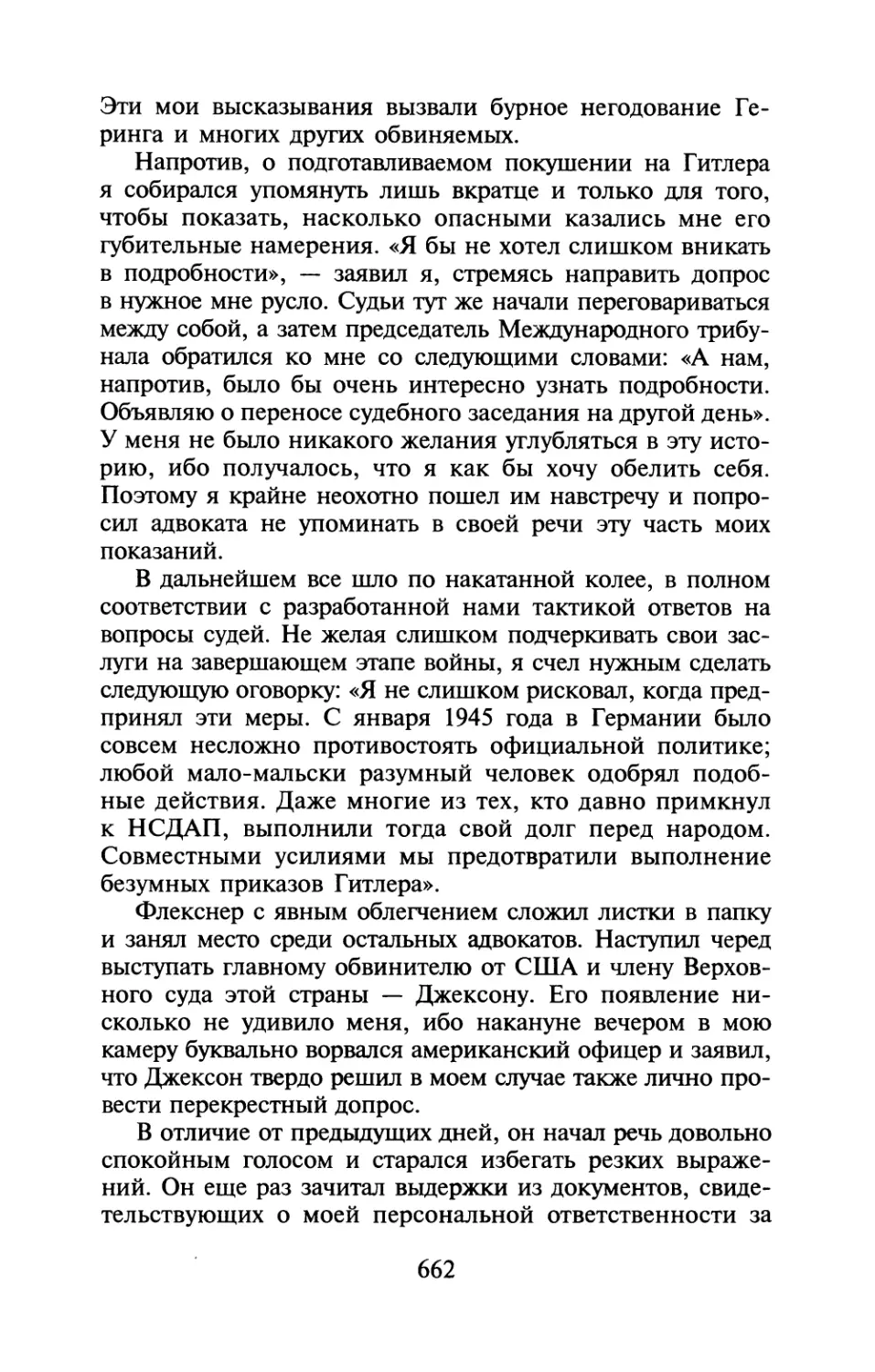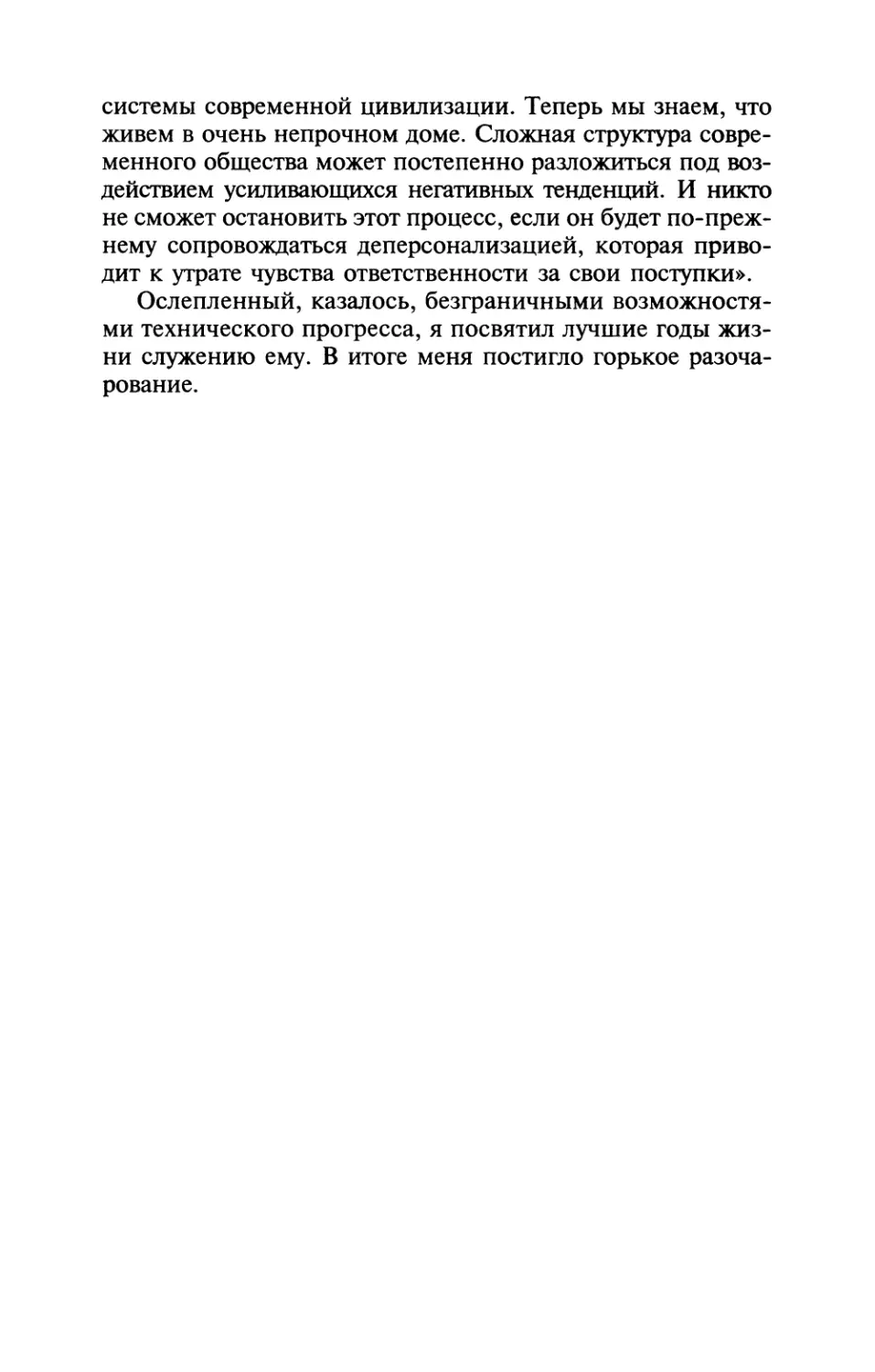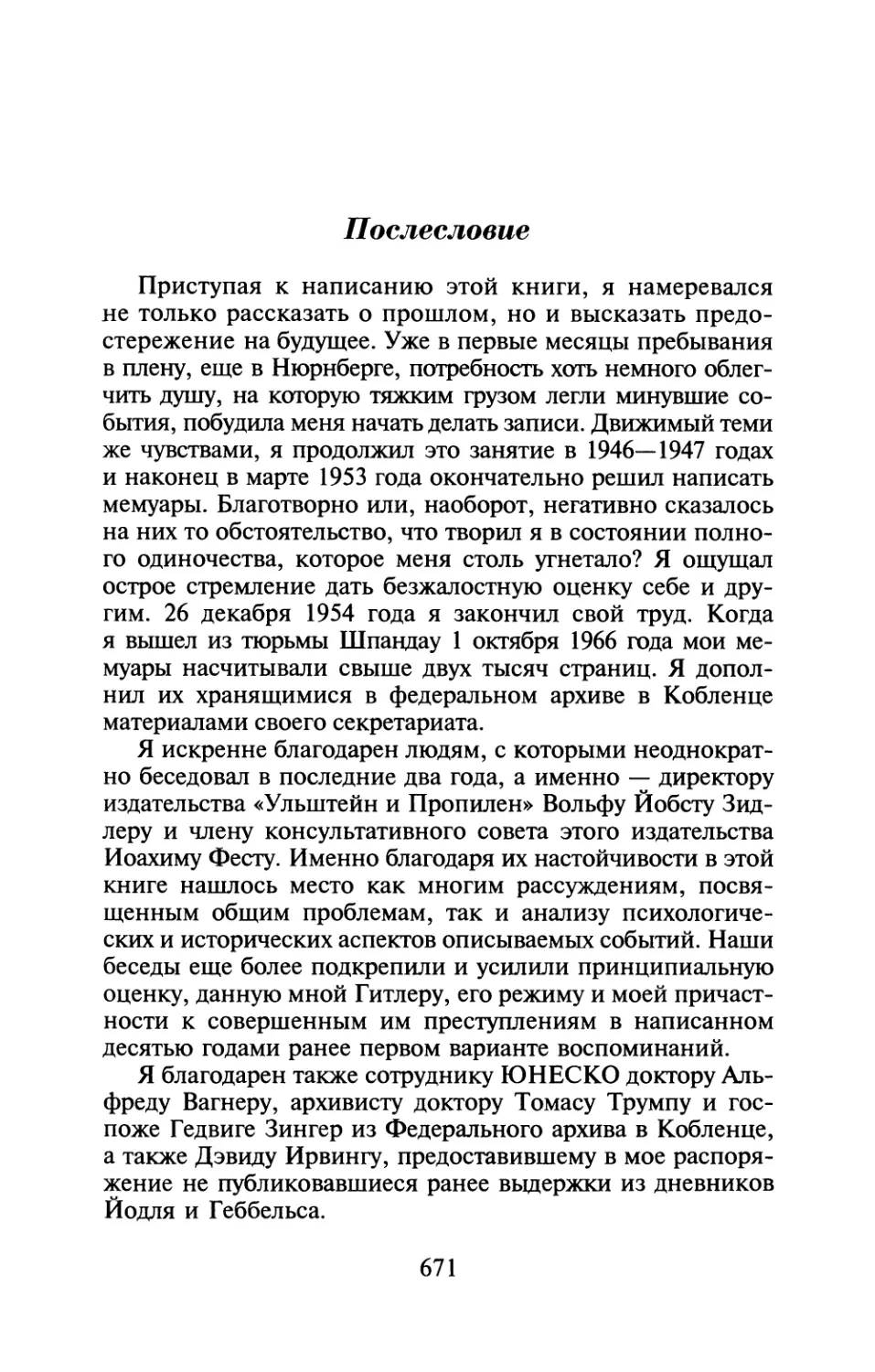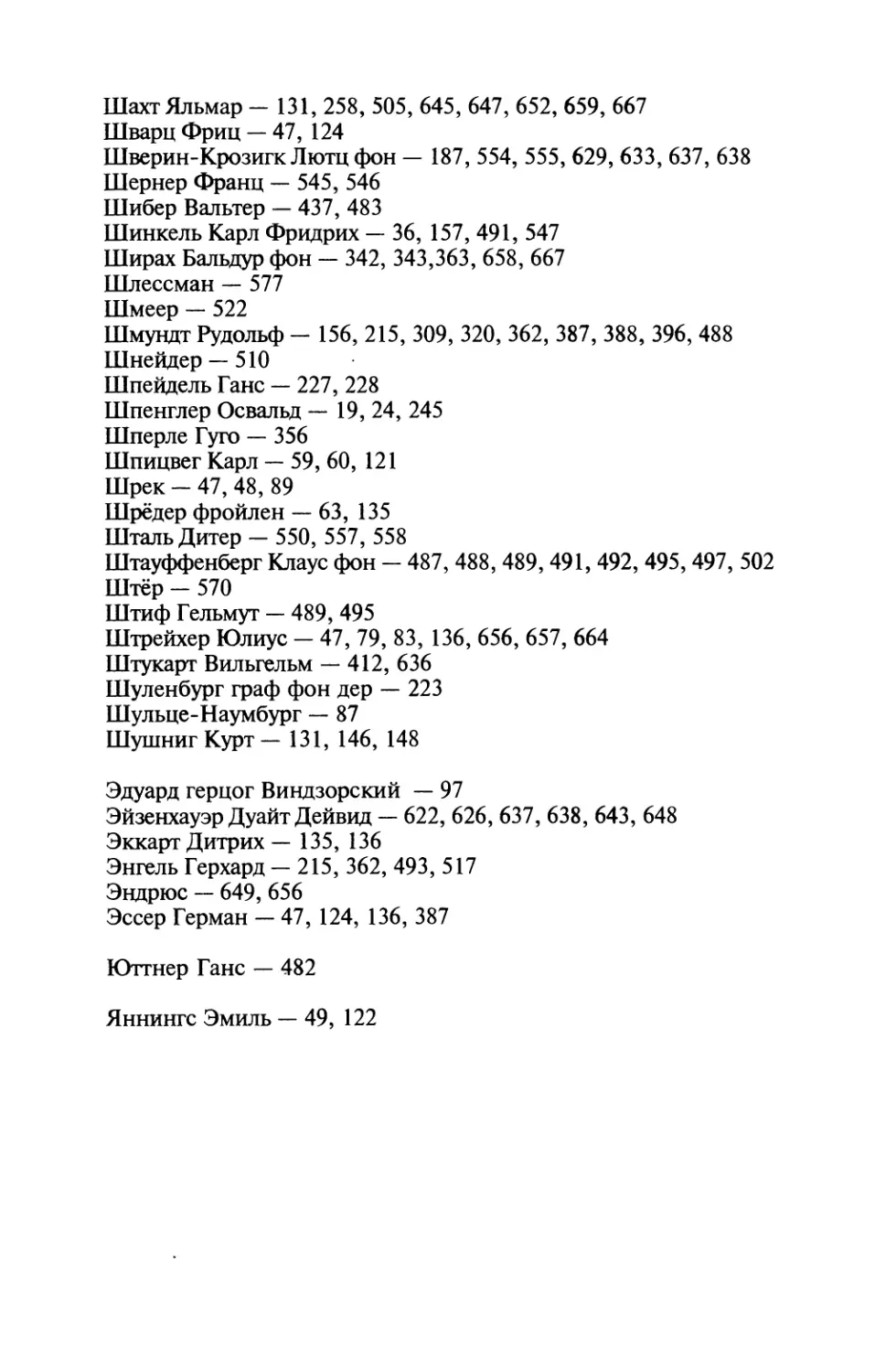Author: Шпеер А.
Tags: история как литературный жанр исторические произведения хроники анналы мемуары дневники воспоминания жизнеописания биографии художественная литература экономика третий рейх история второй мировой войны
ISBN: 978-5-8159-1037-9
Year: 2010
ff
ЗАХАРОВ
ШПЕЕР
ВОСПОМИНАНИЯ
ЗАХАРОВ
МОСКВА
Albert Speer ERINNERUNGEN
УДК 82-94 ББК 84.4Герм Ш83
Издание второе, исправленное
Шпеер А.
Ш83 Воспоминания / Альберт Шпеер ; [пер. с нем. С.Фридлянд ;
И.Розанова]. — 2-е изд., испр. — М. : «Захаров», 2010. — 688 с. :
ил. — (Биографии и мемуары).
ISBN 978-5-8159-1037-9
Альберт Шпеер (1906—1981) — личный архитектор Гитлера, в конце Второй мировой войны — министр вооружений и военной промышленности. Единственный обвиняемый на Нюрнбергском процессе, кто полностью признал свою вину за преступления Третьего рейха. Был приговорен к двадцати годам тюремного заключения и провел их в тюрьме Шпандау. В тюрьме написал две книги: «Воспоминания» и «Секретные дневники Шпандау». Обе стали бестселлерами.
Пожалуй, ни в одной книге так подробно и увлекательно не описаны взлет и падение Трьетьего рейха, ближайшее окружение Гитлера и он сам, как в «Воспоминаниях» Альберта Шпеера. Заново переживая свою жизнь на службе у Гитлера, Шпеер мучительно пытается понять: как он, выходец из аристократической семьи, талантливый архитектор, выдающийся руководитель, порядочный в обыденной жизни человек, — стал слугой дьявола.
УДК 82-94 ББК 84.4Герм
© by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
Published in 1969 by Propyläen Verlag © С.Л. Фридлянд, наследники, перевод, 1997
© И.В. Розанов, перевод, 1997 © «Захаров», 2010
ISBN 978-5-8159-1037-9
Любая попытка автобиографии есть затея более чем сомнительная, ибо при этом человек неизбежно исходит из предпосылки, что существует где-то некий стул, куда можно присесть, дабы, сидя на нем, подвергнуть рассмотрению собственную жизнь, сопоставить различные ее фазы, проникнуть в ее развитие. Человек может, человек имеет право себя видеть. Однако разглядеть себя он не сумел бы в данную минуту, как не сумел бы разглядеть прошлое во всей его полноте.
Карл Барт
Предисловие
«Вероятно, теперь вы приметесь за воспоминания?..» — предположил один из первых американцев, которых я встретил в мае 1945 года во Фленсбурге. С тех пор минуло уже двадцать четыре года, из которых двадцать один я провел в тюремной камере. Немалый срок.
И вот я предлагаю читателю свои мемуары. Я старался так отобразить прошлое, как сам его пережил. Кому-то оно может показаться искаженным, кто-то сочтет, что моя перспектива неверна. Как бы то ни было, я изображал то, что сам пережил, и так, как я это воспринимаю сегодня. Я ставил себе целью не уклоняться от прошлого. Я не собирался замалчивать ни обаяние того времени, ни его кошмары. Живые свидетели подвергнут меня критике, но этого не избежать. Я хотел быть честным.
Эти воспоминания призваны показать некие предпосылки, которые почти неотвратимо вели к катастрофам, ознаменовавшим конец того времени. Я стремился показать, к каким последствиям может привести концентрация в руках одного человека неограниченной власти, и понять, каков он был, этот человек. Суду в Нюрнберге я сказал: будь у Гитлера друзья, я стал бы его другом. Я обязан ему восторгами и славой моей юности, равно как ужасом и виной позднейших лет.
5
В описании Гитлера таким, каким он явился и мне и другим, проступает немало привлекательных черт. Возникает представление о человеке многосторонних дарований и к тому же преданном идее. Однако чем дольше я писал, тем больше сознавал, что речь здесь идет о чисто внешних качествах. Ибо этому облику противостоит неизгладимое воспоминание: Нюрнбергский процесс. Мне никогда не забыть документальное свидетельство о еврейской семье, которая будет убита: муж, жена и дети на пути к смерти. Они и сегодня еще стоят у меня перед глазами.
В Нюрнберге меня приговорили к двадцати годам тюрьмы. Приговор военного трибунала, сколь ни ущербно в нем воспроизводится история, попытался также сформулировать некую вину. Наказание, во все времена малопригодное для того, чтобы измерить историческую ответственность, положило конец моему гражданскому бытию. Но увиденная картина лишила мою жизнь внутреннего содержания, и действие ее оказалось более длительным, нежели приговор.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Происхождение и юность
Предки мои либо были швабами, либо происходили от бедных вестервальдских крестьян, некоторая их часть переехала из Силезии и Вестфалии, и все они принадлежали к великой армии людей, живущих тихо и неприметно. За одним разве что исключением: рейхсмаршал граф Фридрих Фердинанд цу Паппенгейм (1702—1793), который совместно с моей незамужней прародительницей Хумелин произвел на свет восьмерых сыновей. Правда, судя по всему, он не слишком обременял себя заботами об их благополучии.
Три поколения спустя мой дедушка Герман Гоммель, сын бедного шварцвальдского лесничего, на склоне лет оказался единственным владельцем крупнейшего в Германии торгового дома по продаже инструментальных станков, а также фабрики точных приборов. Несмотря на свое богатство, он вел весьма скромный образ жизни, а с подчиненными обходился милостиво. Он был наделен не только прилежанием, но и даром побуждать других по доброй воле работать на него — этот мыслитель из Шварцвальда, способный часами сидеть в лесу на скамье, не говоря ни слова.
Почти одновременно другой мой дед, Бертольд Шпеер, стал состоятельным архитектором в Дортмунде и воздвиг множество зданий в распространенном тогда классическом стиле. Хотя он рано умер, средств, оставленных им, хватило, чтобы дать образование четырем сыновьям. Обоим дедам в их карьере хорошую службу сослужила развернувшаяся со второй половины XIX века индустриализация страны. Впрочем, многим, кто начинал при гораздо более благоприятных исходных условиях, она нисколько не помогла.
7
Рано поседевшая мать моего отца вызывала у меня в молодости скорее почтение, чем любовь. Это была серьезная женщина, с укоренившимися простыми представлениями о жизни и вдобавок наделенная несокрушимой энергией. В своем окружении она властвовала.
19 марта 1905 года в воскресный полдень я явился на свет в городе Мангейме. Как мне потом рассказывала матушка, раскаты весеннего грома заглушил колокольный звон соседней церкви.
Отец мой, после того как двадцати девяти лет от роду, в 1892 году, оставил собственное дело, был одним из наиболее занятых архитекторов Мангейма, бурно растущего промышленного центра. До 1900 года, когда он женился на дочери богатого майнцского коммерсанта, ему удалось уже сколотить изрядное состояние.
Буржуазный стиль нашей квартиры, в одном из построенных отцом мангеймских домов, соответствовал положению и репутации моих родителей. Большие ворота чугунного литья с арабесками открывались для въезда; это был импозантный дом, во двор которого свободно могли въезжать автомобили. Они останавливались перед парадным подъездом, какому и надлежало быть в столь изысканном доме. Впрочем, дети — два моих брата и я — довольствовались черным ходом. Лестница там была темная, узкая и крутая и вела к скромной задней прихожей. Детям, собственно, и нечего было делать на роскошной, устланной коврами лестнице.
Наше детское царство занимало заднюю часть дома — от наших спален до большой, словно зала, кухни, мимо которой пролегал путь в парадную часть дома с четырнадцатью комнатами. Из обставленного голландской мебелью вестибюля с фальшивым камином, выложенным драгоценными дельфтскими изразцами, гостей препровождали в большую комнату с французской мебелью и штофными ампирными обоями. Особенно врезались мне в память и не забыты по сей день сверкающие хрустальные люстры на четыре рожка каждая, а также зимний сад, который отец полностью приобрел на Всемирной парижской выставке 1900 года: там была украшенная богатой резьбой индийская мебель, ручная вышивка на портьерах и ковровая тахта,
8
пальмы и экзотические растения создавали представление о таинственном и чуждом мире. Здесь мои родители вкушали свой завтрак, здесь же отец готовил для нас, детей, булочки с ветчиной — даром его вестфальской родины. Воспоминание о примыкающей к зимнему саду гостиной несколько поблекло, а вот обшитая панелями обеденная зала в новоготическом стиле до сих пор сохранила для меня волшебную силу. За столом могло одновременно разместиться более двадцати человек. Здесь отпраздновали мое крещение, здесь и по сей день справляются семейные торжества.
Матушка с чисто буржуазной гордостью и превеликой охотой заботилась о том, чтобы мы вошли в число семейств, возглавляющих мангеймское общество. Наверняка во всем городе сыскалось бы не больше, но и не меньше двадцатитридцати семейств, которые могли позволить себе такие расходы. Для представительности содержалась и многочисленная прислуга. Помимо кухарки, по вполне понятным причинам любимой нами, детьми, родители держали еще девушку при кухне, горничную, часто и лакея и всегда — шофера, равно как и бонну, чтобы приглядывать за нами. Служанки все носили белую наколку, черное платье и белый фартучек, лакей — фиолетовую ливрею с вызолоченными пуговицами, но всех роскошней был одет шофер.
Родители делали все от них зависящее, чтобы обеспечить своим детям легкое и беззаботное детство. Но осуществлению этого желания препятствовали их богатство и представительность, общественные обязанности и ведение хозяйства на широкую ногу, с обязательными боннами и прочей прислугой. Я и по сей день ощущаю тягостную нарочитость этого мира. Вдобавок у меня часто бывали головокружения, а иногда даже и обмороки. Приглашенный на консультацию профессор из Гейдельберга диагностировал «нервическую слабость сосудов». Этот изъян означал для меня изрядную душевную нагрузку и рано сделал уязвимым для внешних обстоятельств жизни. Страдания мои усугублялись тем, что мои сверстники, как и оба брата, физически были гораздо крепче, отчего я неизбежно ощущал собственную неполноценность. Во время игр они нередко давали мне это почувствовать.
9
Ущербность в чем-то одном пробуждает порой некие противодействующие силы. Во всяком случае, упомянутые затруднения привели к тому, что я выучился более гибко приспосабливаться к окружающей меня среде. Если впоследствии я проявлял волю и искусность в преодолении неприятных обстоятельств и в обращении с неудобными людьми, то это не в последнюю очередь следует приписать моим прежним телесным слабостям.
Когда нас выводила на прогулку гувернантка-француженка, мы должны были, дабы соответствовать нашему общественному статусу, надевать более нарядное платье. Конечно же, игры в городских парках, а тем паче на улице нам возбранялись. Так что нашей игровой площадкой оставался двор — немногим просторнее нескольких комнат, хотя и вместе взятых, — окруженный и стиснутый задними стенами многоэтажных доходных домов. В этом дворе росли два или три хиреющих, лишенных воздуха платана, а увитая плющом стена и глыбы туфа в углу тщились изобразить грот. Толстый слой копоти уже по весне покрывал стволы и листья; да и вообще все, к чему бы мы ни прикасались, было создано для того, чтобы превратить нас в грязных, отнюдь не благородного вида детей большого города. Любимой товаркой моих школьных лет стала для меня дочь нашего швейцара Фрида Альмендингер. Я охотно сиживал у них в подвальной квартирке, скромной и маленькой. Атмосфера скупой непритязательности, а также тесная сплоченность семьи имели для меня странную притягательную силу.
Обучение мое началось в привилегированной частной школе, где детей самых влиятельных семейств нашего индустриального города учили чтению и письму. Я успел привыкнуть к заботливому окружению, и потому мне всего тяжелей дались первые месяцы в реальной школе, среди озорных соучеников. Впрочем, мой друг Квенцер довольно скоро научил меня всяким глупостям и даже подбил меня оплатить из моих карманных денег покупку футбольного мяча. Плебейская затея, вызвавшая дома немыслимый ужас, тем более что Квенцер происходил из довольно бедной семьи. В эту пору во мне, вероятно впервые, проснулась тяга к статистическому осмыслению фактов: я переписывал
10
все замечания из классного журнала в мой «Постоянный календарь для школьников» и каждый месяц подсчитывал, кому сделали больше всех замечаний. Разумеется, я оставил бы это занятие, не грози мне самому перспектива время от времени возглавлять этот перечень.
Архитектурное бюро отца вплотную примыкало к нашей квартире. Здесь разрабатывались проекты для разных заказчиков; всевозможные чертежи возникали на голубоватой вощеной бумаге, запах которой до сих пор примешивается к моим воспоминаниям об этом бюро. Все, построенное моим отцом, было выполнено под сильным влиянием неоренессанса, минуя модерн. Позднее образцом для отца стал сдержанный классицизм Людвига Хофмана, ведущего архитектора Берлина.
В этом бюро я на двенадцатом году жизни ко дню рождения отца создал в подарок ему первое «произведение искусства», набросав своего рода эскиз «часов жизни» в донельзя вычурном корпусе, поддерживаемом коринфскими колоннами и причудливыми волютами. На чертеж я употребил тушь всех цветов, какую только мог достать. При содействии отцовских служащих возник проект, который неопровержимо свидетельствовал о моей тяге к эпохе «позднего ампира».
У моих родителей еще до 1914 года наряду с открытым летним лимузином имелся закрытый автомобиль, используемый зимой для поездок по городу. Обе эти машины были средоточием моих технических вожделений. С началом войны их пришлось поставить на колодки, чтобы сберечь шины, но, когда нам удавалось поладить с шофером, мы получали разрешение посидеть за рулем прямо в гараже. Так впервые проявило себя мое помешательство на технике в тогдашнем, отнюдь еще не технизированном мире. Только после того, как в тюрьме Шпандау меня на двадцать лет, подобно человеку из девятнадцатого столетия, лишили радио, телевидения, телефона и машины, после того, как у меня отняли даже возможность самому пользоваться электрическим выключателем, я снова испытал подобное же ощущение счастья, когда спустя десять лет мне позволили работать с электрическим полотером.
В 1915 году я столкнулся с очередным достижением технической революции тех лет. Под Мангеймом размещался
И
один из тех цеппелинов, которые использовались для налетов на Лондон. Командир и офицеры из его экипажа стали вскоре завсегдатаями нашего дома. Они пригласили обоих моих братьев и меня осмотреть их воздушный корабль. Я, десятилетний мальчуган, оказался перед этим гигантом: залез в моторную гондолу, ползал по таинственным полутемным проходам летательного аппарата и по гондоле пилота. Когда ближе к вечеру цеппелин поднялся в воздух, командир корабля описал красивую петлю вокруг нашего дома, а офицеры помахали из кабины простыней, которую позаимствовали у моей матушки. Из ночи в ночь меня преследовала мысль, что цеппелин может загореться в воздухе и все наши друзья погибнут.
Мое воображение живо занимала война, успехи и неудачи на фронте, страдания солдат. По ночам до нас порой доносился дальний гром многоорудийной битвы под Верденом; из пылкого детского сопереживания я несколько ночей проспал не на мягкой постели, а рядом, на жестком полу, потому что жесткое ложе, на мой взгляд, больше соответствовало тем лишениям, которые приходится переносить солдатам на фронте.
Плохое питание в больших городах и «брюквенная зима» выпали также и на нашу долю. Богатство наше так при нас и осталось, зато не было у нас ни родных, ни знакомых в деревнях, лучше обеспеченных продуктами. Правда, матушка исхитрялась каждый раз придумывать все новые и новые вариации кушаний из брюквы, но мне порой до того хотелось есть, что я мало-помалу с превеликим аппетитом уничтожил целый мешок твердых как камень собачьих сухарей, которые сохранились у нас еще с мирного времени. Воздушные налеты на Мангейм участились, по теперешним представлениям, они были весьма безобидны; небольшая бомба угодила в один из соседних домов. Начался новый период моей юности.
Неподалеку от Гейдельберга у нас с 1905 года был летний домик, выстроенный на отвале каменоломни, которая, вероятно, возникла в свое время при сооружении лежащего по соседству Гейдельбергского замка. За плато вздымались хребты Оденвальда, по заросшим лесом склонам бежали тропинки, а лесные просеки кое-где открывали вид на
12
долину Некара. Здесь царил покой; в нашем распоряжении был прекрасный сад, огород, а также корова у соседей. Летом 1918 года мы сюда и переехали.
Здоровье мое вскоре улучшилось. Каждый день, даже в снегопад, бурю или дождь, я проходил неизменно три четверти часа до школы, причем последний отрезок часто пробегал — велосипедов после войны, в тяжелые для экономики годы, не было.
По дороге в школу я всегда проходил мимо клуба общества любителей гребли. В 1919 году я стал его членом и два года был рулевым на гоночных четверках и восьмерках. Несмотря на мое все еще некрепкое сложение, я вскоре сделался одним из самых активных гребцов. К шестнадцати годам я был произведен в загребные на школьной четверке и восьмерке и выиграл несколько гонок. Тут впервые мной овладело честолюбие, и оно толкало на свершения, которых я от себя вообще не ожидал. Такова была первая страсть моей жизни. Возможность задавать ритм всей команде привлекала меня еще сильней, чем шанс снискать уважение и почет в сравнительно тесном мире гребцов.
Правда, мы чаще всего терпели поражение, но, поскольку речь шла о целой команде, трудно было выделить именно твои прегрешения. Более того, возникало чувство общих действий и общих просчетов. Еще одним достоинством нашей тренировки был принятый нами торжественный обет воздержания. Я презирал тогда тех своих соучеников, которые уже начали искать удовольствия в танцах, вине и сигаретах.
Семнадцати лет я по дороге в школу познакомился со своей будущей спутницей жизни. Это разожгло мое учебное рвение: уже год спустя мы уговорились пожениться, как только я окончу университет. Я с первых дней был силен в математике, но тут улучшились мои отметки и по другим предметам, и я стал одним из лучших в классе.
Учитель немецкого, восторженный демократ, частенько зачитывал нам статьи из либеральной «Франкфуртер цай- тунг». Не будь этого учителя, я бы пребывал в сугубо аполитичном окружении. Ибо воспитывали нас на основе буржуазно-консервативных образцов: распределение власти в обществе, традиционные авторитеты, несмотря на происшедшую революцию, до сих пор подавались нам как
13
незыблемый, заведенный от Бога порядок. Течения, возникавшие повсюду в начале двадцатых, нас нисколько не затронули. Какая бы то ни было критика школьной системы, учебного материала, а уж тем паче начальства полностью исключалась, от нас требовали безусловной веры в нерушимый авторитет школы: нам даже и в голову не приходило подвергнуть сомнению существующий порядок, ибо в школе мы были подчинены диктату своего рода абсолютной системы. Вдобавок у нас не было таких предметов, как, скажем, обществоведение, которое способствовало бы развитию способностей к самостоятельным политическим оценкам. На уроках немецкого даже в выпускном классе мы писали сочинения исключительно на литературно-исторические темы, которые просто не допускали размышлений о проблемах общественных. И уж, конечно, подобная узость в преподавании не пробуждала у нас желания заявить в школьном кругу или вне школы о своем восприятии тех или иных политических событий. Еще одно решающее отличие того времени от сегодняшних дней состояло в полнейшей невозможности съездить за границу. Не существовало ни одной организации, которая позаботилась бы о молодежи, найдись даже средства для такого рода поездок. Мне представляется необходимым указать на эти упущения, в результате которых целое поколение осталось не подготовленным к столь быстрому развитию технических средств воздействия на человека.
Дома у нас политические разговоры тоже не велись. Это вдвойне удивительно, если учесть, что мой отец еще до 1914 года был убежденным либералом. Каждое утро он с нетерпением поджидал свою «Франкфуртер цайтунг», постоянно читал критические журналы «Симплициссимус» и «Югенд». Он был последователем Фридриха Наумана, который ратовал за социальные реформы, проводимые в сильной Германии. После 1923 года отец стал приверженцем Куденхове-Калерги и активно поддерживал его панъевропейские идеи. Он наверняка охотно поговорил бы со мной о политике, но я предпочитал уклоняться от таких бесед, а отец и не настаивал. Правда, подобное равнодушие к политике было вполне объяснимо у молодежи, которая испытала разочарование и устала от проигранной войны, от революции, от инфляции, хотя, с другой стороны, оно помешало
14
мне выработать критерии политических оценок. Куда интересней казалось мне ходить к школе через парк Гейдельбергского замка и каждый раз по несколько минут мечтательно разглядывать старый город и руины замка со ступеней террасы. Эта романтическая тяга к заброшенным замкам и кривым улочкам сохранилась во мне и позже вылилась в страсть коллекционировать пейзажи, особенно связанные с гейдельбергскими романтиками. Иногда по дороге к замку я встречал Стефана Георге, который выглядел на редкость достойно и гордо и поистине излучал некую духовную силу. Вероятно, подобное впечатление производили великие миссионеры, ибо в нем был какой-то магнетизм. Мой старший брат, будучи в выпускном классе, сумел проникнуть в ближайшее окружение маэстро.
Меня же всего сильней привлекала музыка. В Мангейме я до 1922 года слушал молодого Фуртвенглера, а потом Эриха Клайбера. В те времена Верди еще производил на меня большее впечатление, чем Вагнер, а Пуччини казался «ужасным». Зато мне чрезвычайно понравилась одна симфония Римского-Корсакова, да и Пятая Малера хоть и показалась «крайне сложной», но «все равно понравилась». После одного из выходов в театр я отметил, что Георг Кайзер — «самый крупный среди современных драматургов, который в своих произведениях борется за понимание, ценность и власть денег», а по поводу «Дикой утки» Ибсена нашел, что достоинства ведущего общественного класса производят на нас комическое впечатление, ибо это «комедийные» лица. Ромен Роллан своим романом «Жан-Кристоф» усилил мое восхищение Бетховеном.
И хотя бурная светская жизнь у нас дома мне не нравилась, это нельзя считать проявлением юношеского негативизма. Нет, если я отдавал предпочтение авторам критического толка, если в гребном клубе или в альпинистских походах я искал общения с привычным кругом друзей, это носило характер сознательной оппозиции. Даже тяга к семейству скромного ремесленника противоречила традиции подыскивать себе круг общения и будущую жену в ограниченном социальном слое, к которому принадлежали и мои родители. Подсознательно я даже испытывал симпатию к крайне левым — хотя она так никогда и не проявила себя в конкретных формах. Активная политическая деятельность
15
была мне чужда, мои национальные пристрастия и, к примеру, то обстоятельство, что во времена оккупации Рура в 1923 году я возмущался неуместными развлечениями или грозящим угольным кризисом, ничего в этом не меняли.
К моему великому удивлению, я из всех выпускников написал лучшее сочинение, однако, когда ректор в прощальной речи возвестил абитуриентам, что отныне перед нами «открыт путь к высочайшим свершениям и почестям», подумал про себя: «Нет, это не обо мне речь».
Будучи лучшим математиком школы, я хотел посвятить себя этой науке, но отец выдвинул против моего намерения вполне убедительные доводы, и я не был бы логически мыслящим математиком, не согласись я с ним. Всего естественней казалась для меня профессия архитектора, из которой я уже многого набрался с молодых лет, и, к великой радости отца, я решил стать архитектором, как он сам и его отец.
Первый семестр я из финансовых соображений проучился в Высшем техническом училище в близлежащем Карлсруэ, поскольку инфляция с каждым днем становилась все головокружительней. Мне приходилось получать свой чек еженедельно, но к концу недели сказочная сумма снова обращалась в ничто. Из Шварцвальда, где я находился во время своего велосипедного турне, я писал: «Здесь все очень дешево, одна ночевка — 400 000 марок, ужин — 1 800 000, пол-литра молока — 250 000». Шесть недель спустя, незадолго перед окончанием инфляции, обед в ресторане стоил от 10 до 20 миллиардов, а в студенческой столовой — миллиард с лишним, что соответствовало 7 пфеннигам — золотом. За театральный билет приходилось платить от 300 до 400 миллионов.
Из-за этой финансовой катастрофы наша семья в конце концов сочла необходимым продать некоему концерну торговый дом и фабрику покойного дедушки за незначительную долю от истинной стоимости, но в пересчете по курсу доллара. Таким образом, мой ежемесячный вексель составлял теперь 16 долларов, на которые я мог прекрасно существовать без забот, без хлопот.
Когда весной 1924 года экономическое положение нормализовалось, я перевелся в Высшее техническое училище
16
Мюнхена. Хотя я пробыл там до лета 1925 года, а Гитлер после освобождения из-под ареста весной 1925-го снова заставил о себе говорить, все это проходило мимо меня. В подробных письмах к своей будущей жене я писал лишь о том, что работаю до глубокой ночи, и о нашей совместной цели пожениться через три или четыре года.
На каникулах мы вдвоем, а порой и с другими студентами совершали восхождения на Австрийские Альпы. Трудные подъемы создавали чувство истинного свершения. Иногда я с завидным упрямством убеждал своих попутчиков даже при самой скверной погоде — в бурю, под ледяным дождем, на холоде — не прерывать восхождения, хотя туман мешал нам любоваться окрестностями.
Порой с вершины мы видели над просторной равниной темно-серую пелену облаков. Под этой пеленой обитали, по нашим понятиям, замученные люди. Мы считали себя много выше таких людей. С высокомерием юности мы полагали, что только достойные ходят в горы; когда после восхождений мы возвращались в нормальную жизнь долин, меня порой даже сбивала с толку судорожная активность в городах. «Близости с природой» искали мы и когда ходили на байдарках. Этот вид туризма был тогда еще внове, водная гладь не была, как сегодня, испещрена лодками различных моделей и видов; мы в тишине спускались вниз по течению, а к вечеру разбивали палатки в самых живописных местах. Эти неспешные походы возвращали нам долю того блаженства, которое было столь естественно для наших предков. Еще в 1885 году мой отец предпринял отчасти пешком, отчасти на лошадях путешествие от Мюнхена до Неаполя и обратно. Позже, получив возможность разъезжать по всей Европе на собственной машине, он говорил мне, что именно это путешествие в Неаполь было самым прекрасным за всю его жизнь.
Многие представители нашего поколения искали контакта с природой, но это был не только и не столько романтический протест против буржуазной ограниченности, нет, мы стремились таким образом убежать от требований все усложняющегося мира. Нами владело чувство, будто окружающий нас мир утратил равновесие, — но среди гор и речных долин еще можно было ощущать гармоничность творения.
17
Чем более неприступными казались горы и пустынными — речные долины, тем сильней они нас привлекали. Конечно же, я не принадлежал ни к какому молодежному движению, потому что массовость любого движения вступила бы в противоречие с моей тягой к изоляции: я предпочитал уединение.
Осенью 1925 года я с целой группой мюнхенских сту- дентов-архитекторов перешел в Высшее техническое училище Берлина — в Шарлоттенбурге. Учителем я избрал для себя профессора Пельцига, но тот ограничил число мест в своем проектном семинаре. И поскольку мои чертежные способности оказались недостаточны, меня не приняли. Впрочем, я и без того сомневался, что из меня когда-нибудь получится хороший архитектор, а потому воспринял отказ спокойно. К следующему семинару в Берлине пригласили профессора Генриха Тессенова, поборника провинциально-ремесленного стиля, который свел набор выразительных средств архитектоники к необходимому минимуму: «Главное — минимум расходов». Я тотчас написал своей будущей жене: «Мой новый профессор — это самый значительный, самый просвещенный человек из всех, кого я когда-либо встречал. Я от него в совершенном восторге и работаю с большим вдохновением. Он не современен, хотя в известном смысле современнее, чем многие другие. С виду он так же лишен фантазии и трезвомыслящ, как и я, но в его строениях мне видится что-то глубоко личное. Ум его отличается необычайной остротой. Я приложу все усилия, чтобы за год попасть в его «мастерскую», а спустя еще один год постараюсь стать у него ассистентом. Все это, конечно, чересчур оптимистично и наглядно показывает, каким путем я пойду в лучшем случае». Однако уже спустя полгода после экзамена я стал у него ассистентом. В профессоре Тессенове я обрел свой первый катализатор, и он оставался им для меня надолго, пока через семь лет его не заменил другой, более мощный.
Высоко ценил я также нашего преподавателя по истории архитектуры. Профессор Даниэль Кренкер, родом из Эльзаса, был не только страстный археолог, но и эмоциональнейший патриот: когда во время лекции он демонстрировал нам страсбургский монастырь, у него из глаз вдруг хлынули слезы, и он прервал лекцию. У него я писал
18
реферат по книге Альбрехта Гаупта «История немецкой архитектуры». В это же время в письме к своей будущей жене я писал: «Небольшое смешение рас всегда полезно. И если мы сегодня находимся на спуске, то отнюдь не потому, что мы смешанная раса. Ибо смешанной расой мы были уже во времена Средневековья, когда в нас еще сохранялось здоровое зерно и мы расширили свое присутствие, вытеснив славян из Пруссии, а позднее пересадив европейскую культуру на американскую почву. Нет, мы на спуске, ибо силы наши израсходованы, как это некогда произошло с египтянами, греками и римлянами. И тут уж ничего не изменишь».
Мои студенческие годы проходили на фоне бурной театральной жизни Берлина двадцатых годов. Многочисленные спектакли производили на меня большое впечатление: постановка «Сна в летнюю ночь» Макса Рейнгардта, Элизабет Бергнер в «Орлеанской деве» Шоу, Палленберг в «Швейке» Пискатора. Но и костюмные ревю Харелла с пышными эффектами тоже меня привлекали. А вот купеческая пышность Сесиля де Милля меня отталкивала, я даже и не подозревал, что спустя десять лет сам создам более роскошные декорации, чем в кино. Я находил его фильмы «по-американски безвкусными».
Но все эти впечатления были омрачены всеобщей бедностью и безработицей. Шпенглеровский «Закат Европы» убедил меня, что мы пребываем в периоде распада, подобного тому, который пережил поздний Рим. Эссе «Пруссачество и социализм» заворожило меня благодаря высказанному в нем презрению к роскоши и комфорту. Здесь учение Шпенглера совпадало с теориями Тессенова. Однако мой учитель, в отличие от Шпенглера, видел в будущем надежду. Он с иронией выступал против современного культа героев. «Возможно, кругом все кишит неузнанными и поистине «величайшими» героями, которые, исполнившись высшей волей и умением, пожалуй, имеют право высмеять и отмести как сущую безделицу даже и самое чудовищное. Возможно, прежде чем вновь расцветет маленький город и ремесло, с неба должна пролиться сера, возможно, для очередного расцвета и потребны народы, прошедшие через круги ада».
19
Летом 1927 года, проучившись девять семестров, я сдал государственный экзамен и ближайшей же весной, будучи двадцати трех лет от роду, стал одним из самых молодых ассистентов высшего учебного заведения. В последний год войны на благотворительном базаре гадалка предсказала мне: «Ты рано достигнешь славы и рано уйдешь на покой». Теперь я невольно вспомнил ее предсказание, ибо с известной долей уверенности мог предположить, что однажды я, как и мой профессор, смогу при желании преподавать в высшей технической школе.
Место ассистента сделало возможным и мою женитьбу. В свадебное путешествие мы не отправились в Италию, а, взяв палатку, пошли на байдарке по уединенной, окаймленной лесами цепи мекленбургских озер. Байдарки мы спустили на воду в Шпандау, за несколько сот метров от тюрьмы, где мне предстояло провести двадцать лет жизни.
2
Профессия и призвание
Уже в 1928 году я чуть не сделался государственным и придворным архитектором. Аманулла, король Афганистана, надумал реформировать свою страну, для чего пожелал собрать у себя молодых немецких техников. Йозеф Брике, профессор по городскому и дорожному строительству, создал группу. На меня предполагалось возложить городское планирование, архитектуру и вдобавок преподавание архитектуры в техническом учебном заведении, которое собирались открыть в Кабуле.
Жена моя вместе со мной усердно штудировала книги про эту далекую страну, какие только можно было найти; мы размышляли над тем, как из простых строений создать стиль, присущий этой местности, а изображение девственных гор пробуждало в нас мечты о лыжных прогулках. Договор, предложенный нам, содержал благоприятные условия, но, когда все было почти готово, а Гинденбург с большими почестями принял у себя короля, афганцы затеяли переворот и свергли своего властителя.
Однако меня вполне утешала перспектива и далее работать у Тессенова. Я и без того испытывал некоторые
20
сомнения и в глубине души был даже доволен, что свержение Амануллы избавило меня от необходимости принимать решения. В семинаре я был занят всего три дня в неделю, а вдобавок имел пять месяцев институтских каникул. Получал я, правда, 300 марок, что сегодня равно 800. Сам Тессенов лекций не читал, а только проверял в семинарском большом зале работы своих примерно пятидесяти учеников. Каждую неделю он проводил в училище от четырех до шести часов, все остальное время студентам приходилось довольствоваться моими консультациями и моими правками.
Особенно трудны были для меня первые месяцы. Студенты поначалу относились ко мне с недоверием и всячески старались уличить меня в незнании или в слабости. Я с трудом преодолевал первоначальную скованность. К тому же заказы, которые я намеревался выполнять в довольно щедро отмеренное мне свободное время, заставляли себя ждать: то ли я выглядел слишком молодо, то ли потому, что из-за общего экономического спада почти замерла строительная деятельность. Если не считать заказа на постройку в Гейдельберге дома для родителей жены. Получилось довольно скромное сооружение, за которым последовало несколько не очень значительных заказов: два гаража при виллах в Ван- зее да общежитие для иногородних студентов Берлинского университета.
В 1930 году на двух байдарках мы прошли от Донауэ- шингена по Дунаю до Вены. Во время нашего отсутствия, 14 сентября, состоялись выборы в рейхстаг, которые только потому и запомнились мне, что их результат крайне взволновал моего отца. Национал-социалистическая рабочая партия Германии получила в рейхстаге 107 мест и неожиданно стала главной темой политических дискуссий. Этот непредвиденный успех на выборах вызвал у моего отца самые мрачные предчувствия, которые прежде всего были направлены против социалистических тенденций партии, недаром его уже раньше тревожила сила социал-демократов и коммунистов.
Наше Высшее техническое училище тем временем стало центром национал-социалистических устремлений. Покуда небольшая группа коммунистически настроенных
21
студентов держалась при семинаре профессора Пельцига, национал-социалисты сосредоточились вокруг Тессенова, хотя тот как был, так и остался открытым противником гитлеровского движения. Однако невольные и не высказанные вслух параллели между его теориями и идеологией национал-социалистов все же возникали. Конечно же, сам Тессенов и не подозревал об этом. Без сомнения, мысль о сходстве его представлений с национал-социалистическими идеями ужаснула бы его.
Среди теорий Тессенова была следующая: «Стиль исходит из народа. Вполне естественно, что человек любит свою родину. Истинная культура не может быть интернациональной. Культуру рождает материнское лоно народа». Но ведь и Гитлер защищал искусство от интернационализации, и его сподвижники видели в родной почве корни обновления. Тессенов осуждал город, противопоставляя ему крестьянский образ мыслей: «Большой город — это ужасная вещь. Город — это хроническое смешение старого и нового. Город — это борьба, и борьба беспощадная. Все задушевное надо оставить за его порогом... Там, где городское сталкивается с крестьянским, крестьянство гибнет. Жаль, что сейчас уже никто не мыслит по-крестьянски». Но ведь точно так же и Гитлер выступал против падения нравов в городах, предостерегал от издержек цивилизации, которые угрожают биологической субстанции народа, и делал упор на то, сколь важно для государства сохранить ядро здорового крестьянства.
Благодаря своему чутью Гитлер умел выразить и использовать для своих целей эти и тому подобные течения, которые наличествовали в сознании эпохи пока лишь расплывчато и неоформленно.
Когда я просматривал и исправлял работы, национал-социалисты из числа студентов часто втягивали меня в политические дискуссии. Разумеется, при этом разгорались жаркие споры о взглядах Тессенова. Неубедительные аргументы, которые я выискивал в лексиконе своего отца, без труда опровергались с диалектической гибкостью.
Студенческая молодежь в те времена искала свои идеалы преимущественно в стане экстремистов, а партия Гитлера взывала именно к идеализму этого взбудораженного поколения. Да разве сам Тессенов не разжигал их правоверную
22
активность? Году примерно в 1931-м он говорил: «Вероятно, не обойтись без пришествия того, кто мыслит простейшими категориями. Мышление сегодня стало чересчур сложным. Необразованный человек, скажем крестьянин, куда проще разрешил бы все проблемы именно потому, что он не испорчен. Вдобавок у него достало бы сил воплотить в жизнь свои простые идеи». Эти слова, сказанные, на наш взгляд, не без задней мысли, казались нам вполне применимыми к Гитлеру.
В это время Гитлер выступил в берлинской Хазенхайде перед студентами университета и Высшего технического училища. Мои студенты потащили за собой и меня, хоть и не убежденного, но уже колеблющегося — потому я и согласился. Грязные стены, тесные проходы, общая запущенность производили убогое впечатление, здесь обычно рабочие отмечали свои праздники за кружкой пива. Зал был набит битком. Казалось, будто все студенчество Берлина пожелало увидеть и услышать этого человека, о котором почитатели рассказывали так много заслуживающего восхищения, а противники — так много дурного. Многочисленная профессура занимала самые удобные места в центре, на довольно убогих хорах; именно их присутствие и придавало мероприятию необходимую солидность и достоинство. Нашей группе тоже удалось захватить хорошие места на возвышении неподалеку от трибуны.
Появление Гитлера сопровождалось восторженными приветствиями поклонников из числа студентов. Уже сами эти восторги произвели на меня глубокое впечатление. Впрочем, и само выступление меня тоже потрясло. По плакатам и карикатурам я знал Гитлера в форменной рубашке с портупеей, на рукаве — повязка со свастикой, прядь, свисающая на лоб. Однако здесь он явился в ладно сидящем синем костюме и демонстрировал сугубо буржуазные манеры, отчего выглядел человеком разумным и сдержанным. Позднее я узнал, что он отменно умел — сознательно или интуитивно — приспосабливаться к окружению.
Затянувшиеся овации он постарался прервать — чуть ли не с досадой. И то, как он потом начал говорить, тихим голосом, можно даже сказать робко — не речь, а своего рода исторический доклад, — мне тоже очень понравилось,
23
тем более что все это противоречило моим основанным на враждебной пропаганде ожиданиям увидеть истеричного демагога, крикливого, размахивающего руками фанатика в мундире. Даже бурные аплодисменты не сбили Гитлера с менторского тона.
Выглядело это так, будто он открыто и без обиняков делится своими заботами о будущем. Ирония его смягчалась полным достоинства юмором, его южно-немецкий шарм пробудил во мне родственные чувства: нельзя себе даже и представить, чтобы меня сумел так пленить холодный пруссак. Робость первых минут оставила Гитлера, порой он повышал голос и говорил проникновенно, со все крепнущей силой убеждения, и это впечатление оказалось более глубоким, чем сама речь, из которой я почти ничего не запомнил.
Вдобавок меня захватили общие восторги, которые от фразы к фразе физически ощутимо возносили докладчика. Мое скептическое предубеждение таяло на глазах. Противники не сумели вставить ни единого слова, и поэтому возникало, хотя и ненадолго, ошибочное впечатление полного единодушия.
Под конец Гитлер, казалось, говорил уже не для того, чтобы убедить. Напротив, он сам был убежден, будто говорит именно то, чего ждет слившаяся в единую массу аудитория, словно речь шла о простейшем на свете деле — заставить студентов и некоторую часть преподавательского корпуса двух крупнейших высших школ Германии покорно следовать на поводке. А ведь в тот вечер он еще не был абсолютным, недоступным для критики властителем и мог ожидать нападок с любой стороны.
Прочие, вероятно, обсудили этот волнующий вечер за кружкой пива; мои студенты тоже меня к тому призывали, но я испытывал потребность разобраться в себе, одолеть свое смятение, словом, я испытывал потребность в одиночестве. Глубоко взволнованный, я сел в свою маленькую машину, поехал сквозь ночь, остановился в сосновой рощице где-то на берегу Хафеля и долго бродил там.
Наконец, казалось мне, блеснула надежда, возникли новые идеалы, новое понимание, новые задачи. Вот и мрачные предсказания Шпенглера опровергнуты, и одновременно нашло подтверждение его пророчество о явлении
24
нового императора. Надо остановить угрозу коммунизма, который, казалось, неудержимо движется к власти, убеждал нас Гитлер, и тогда под конец вместо унылой безработицы можно даже рассчитывать на экономический подъем. О «еврейской проблеме» Гитлер упомянул лишь вскользь, но меня такие упоминания не смущали, хотя я отнюдь не был антисемитом, со школьных и студенческих времен, как почти у каждого из нас, у меня было среди евреев много друзей.
Через несколько недель после выступления Гитлера, речь которого произвела на меня сильное впечатление, друзья уговорили меня сходить на манифестацию во Дворце спорта. Там выступал берлинский гаулейтер Геббельс. Сравнить нельзя с Гитлером, совершенно иное впечатление: фразы, из которых каждая поставлена на выигрышное место и четко сформулирована, бушующая толпа, обуреваемая все более фанатичными взрывами восторга и ненависти, адский котел выпущенных на свободу страстей, сравнимых лишь с теми, какие мне доводилось испытывать ночами шестидневной регаты. Все это внушало мне отвращение. Положительный настрой, в котором я находился под воздействием речей Гитлера, стал проходить, если вообще не пропал.
И Гитлер, и Геббельс знали, как разжигать массовые инстинкты на митингах, как играть на страстях, прячущихся за фасадом расхожей респектабельности. Опытные демагоги, они умело сплавляли заводских рабочих, мелких буржуа и студентов в однородную толпу, формируя по своей прихоти ее суждения... Но, насколько я понимаю это сегодня, на самом деле и толпа формировала их самих, их фантазии и стремления. Конечно, Геббельс и Гитлер умело улавливали инстинкты толпы, но в более глубоком смысле, хотя толпа и вопила в такт заданному ей ритму, они не были подлинными дирижерами этого оркестра. Музыку заказывала толпа. Вознаграждая себя за нищету, безработицу, нестабильность существования и чувство безнадежности, эти безликие толпы вопили часами напролет наподобие одержимых разнузданных дикарей. То не был ярый национализм. Просто на несколько коротких часов их отчаяние, вызванное экономическим крахом, забывалось, уступая место ярости, требовавшей жертв. Обрушиваясь на
25
своих оппонентов, проклиная евреев, они давали выход и направление своим звериным, примитивным эмоциям.
Дворец спорта опустел, толпа медленно текла вниз по Потсдамерштрассе. Исполнившись отваги под воздействием выступления Геббельса, люди демонстративно заняли всю мостовую, перекрыв движение машин и трамваев. Поначалу полиция отнеслась к этому вполне спокойно, возможно, она просто не хотела дразнить толпу. Однако в боковых улочках уже ждали конные отряды и стояли наготове грузовики с дежурными командами. Конная полиция, с резиновыми дубинками наготове, врезалась в толпу, чтобы расчистить проезжую часть. В смятении я следил за происходящим. Мне никогда еще не приходилось видеть, чтобы полиция применяла силу. Но одновременно я ощутил, как дух противоречия, перемешавшись с сочувствием, породил во мне сознание причастности, которое не имело под собой политической подоплеки. По сути, ничего необычного не произошло. Даже раненых — и тех не было. Но спустя несколько дней я подал заявление в НСДАП и был принят в январе 1931 года, получив партийный билет № 474481.
Мое решение никоим образом не носило драматического характера. Ни тогда, ни позже я едва ли до конца ощущал себя членом политической партии, я вовсе не выбрал НСДАП, я перешел к Гитлеру, чей образ при первой же встрече произвел на меня сильнейшее впечатление, которое с тех пор уже не ослабевало. Сила убеждения, своеобразная магия отнюдь не благозвучного голоса, чужеродность, пожалуй, банальных манер, колдовская простота, с которой он подходил к сложности наших проблем, — все это сбивало меня с толку и в то же время завораживало. Программа его мне практически была неизвестна. Он захватил меня, прежде чем я осознал его идеи.
И присутствие на встрече Союза борьбы за возрождение германской культуры меня не обескуражило, хотя здесь подвергались осуждению многие из тех целей, которые выдвигал наш учитель Тессенов. Один из ораторов, например, потребовал возвращения к праотцовским формам и взглядам на культуру, он поносил модерн и под конец осыпал бранью архитектурное объединение «Кольцо», куда кроме Тессенова входили также Гропиус, Мис ван дер Роэ,
26
Шарун, Мендельсон, Беренс, Таут и Пельциг. Один из наших студентов обратился после этого с письмом к Гитлеру, где высказывался против этой речи и со школярским восторгом ссылался на нашего обожаемого наставника. Вскоре на изысканной почтовой бумаге он получил из партийного центра стандартно-доверительный ответ, где воздавалось должное деятельности Тессенова. Нам это обстоятельство показалось весьма значительным. Самому Тессенову я, разумеется, тогда не признавался, что состою в партии.
Примерно в то же время матушка моя наблюдала шествие отрядов СА по улицам Гейдельберга: демонстрация порядка в годину хаоса, проявление энергии в атмосфере общей безнадежности покорили и ее; во всяком случае, не прослушав ни одной речи, не прочитав ни одной статьи, она вступила в партию. Мы оба сочли этот шаг изменой либеральным традициям нашей семьи. Как бы то ни было, мы скрывали его и от моего отца, и друг от друга. Лишь гораздо позже, когда я давно уже принадлежал к близкому окружению Гитлера, мы чисто случайно узнали об уже много лет назад проявившейся общности.
Очень часто даже самый важный шаг в жизни человека — выбор им своего призвания — совершается крайне легкомысленно. Он не дает себе труда разобраться в сути и разных сторонах этого призвания. Сделав выбор, он как бы отключает свои критические способности и всецело становится на предопределенный путь.
Мое решение вступить в партию Гитлера было продиктовано именно таким легкомыслием. Почему, например, я пожелал остаться верным почти гипнотическому впечатлению, какое произвела на меня речь Гитлера? Почему я не попытался глубоко, систематически разобраться, скажем, в достоинствах или ущербности всех партийных идеологий? Почему я не прочитал программы разных партий, хотя бы «Майн кампф» Гитлера и «Миф XX столетия» Розенберга?
Как интеллектуал, я должен был со всей тщательностью собрать документы и изучить разные точки зрения без всякой предвзятости, так, как рассматривал архитектурные проекты. То, что я этого не сделал, объяснялось моим слабым политическим воспитанием. Именно поэтому
27
я был некритичен и неспособен противостоять аргументам своих друзей-студентов, глубоко заразившихся национал-социалистской идеологией.
Если бы я только хотел, я бы установил еще тогда, что Гитлер провозгласил экспансию рейха на восток, что он заурядный антисемит, что он стремится к авторитарному режиму, что после прихода к власти он намерен уничтожить демократические институты и в дальнейшем может склониться лишь перед силой. Не продумать этого самостоятельно, не прочитать, принимая во внимание мое образование, книг, газет и журналов разных направлений, не попытаться проникнуть сквозь пелену мистификаций — само по себе уже было преступлением. На этой ранней стадии моя вина была столь же тяжела, как и в последующие годы работы на Гитлера. Ибо находиться в положении, которое дает возможность знать, и тем не менее устраниться от знания — не что иное, как с самого начала принять на себя прямую ответственность за последствия.
Я видел много грубых мест в партийной доктрине. Но я полагал, что с течением времени они будут отшлифованы, как это обычно происходило в ходе других революций. Как мне представлялось, передо мной стоял личный выбор между будущей коммунистической Германией и национал-социалистской Германией, тем более что политический центр между этими антиподами перестал существовать. К тому же в 1931 году я имел некоторые основания считать, что Гитлер движется в направлении умеренности. Я не понимал, что делал он это из оппортунистических соображений. Гитлер старался выглядеть респектабельно, чтобы доказать свою пригодность возглавить правительство.
Партия в то время — как мне это помнится сегодня — лишь осуждала то, что она называла чрезмерным влиянием евреев в различных сферах экономической и культурной жизни. Она требовала, чтобы их участие в этих сферах было соизмеримо с процентом еврейского населения страны. К тому же союз Гитлера со старомодными националистами Гарцбургского фронта давал мне основания думать, что между его речами на публичных митингах и его подлинными политическими взглядами существует определенное различие. Это противоречие казалось мне многообещающим. На самом деле он рвался к власти, не останавливаясь ни перед чем.
28
Даже после вступления в партию я продолжал поддерживать свои отношения с евреями, и они тоже не порвали отношений со мной, хотя знали или подозревали, что я стал членом антисемитской организации. В то время я не был антисемитом, не стал я им и впоследствии. Ни в одной из моих речей, ни в письмах, ни в поступках не найти и следа антисемитских чувств, антисемитской фразеологии.
Если бы Гитлер заявил до 1933 года, что он собирается поджечь синагоги, ввергнуть Германию в войну, уничтожить евреев и политических оппонентов, он сразу потерял бы и меня, и, по-видимому, большинство сторонников, которых приобрел после 1930 года. Геббельс это понимал; 2 ноября 1931 года он писал в редакционной статье «Сентя- бристы» в газете «Ангриф» о тех новых членах партии, которые вступили в нее после сентябрьских выборов 1930 года. В этой статье он предостерегал партию от проникновения в ее рады буржуазных интеллектуалов, выходцев из состоятельных образованных классов, которые не заслуживают того доверия, каким пользуются «старые бойцы». По своему характеру, по своим убеждениям, утверждал он, они неизмеримо уступают старым товарищам по партии, хотя превосходят их своим интеллектом: «Они убеждены, что наше движение достигло величия лишь благодаря болтовне демагогов, и теперь готовы прибрать его к рукам, дав ему свое руководство и опыт. Вот что они думают!»
Приняв решение вступить в проклятую партию, я впервые в жизни отверг собственное прошлое, свое классовое происхождение и окружение. Вопреки моим представлениям, «время решений» оказалось упущенным. Я чувствовал себя, говоря словами Мартина Бубера, «связанным партийной ответственностью». Моя склонность к избавлению от необходимости размышлять, особенно о вещах неприятных, окончательно склонила чашу весов. В этом я ничем не отличался от миллионов других. Умственная заторможенность подобного рода облегчила, ускорила и в конце концов предопределила успех национал-социалистской системы. Я же думал, что, уплачивая ежемесячно несколько марок в виде членских взносов, решаю проблему своих политических обязательств.
Сколь неисчислимы оказались последствия! Поверхностность моей позиции лишь усугубила совершенную мною
29
ошибку. Вступив в гитлеровскую партию, я сразу же, по существу, принял на себя ответственность, которая прямо распространяется на все жестокости принудительного труда, разрушения, причиненные войной, гибель так называемого нежелательного контингента — иными словами, ответственность за попрание справедливости и возвышение зла.
В 1931 году я не сознавал, что четырнадцать лет спустя мне придется отвечать за множество преступлений, соучастником которых я стал, вступив в партию. Я не знал тогда, что за легкомыслие, необдуманность и нарушение традиции я расплачусь двадцатью одним годом своей жизни. И никогда не избавлюсь от чувства греха.
3
Стрелка переведена
Было бы справедливей, если бы, описывая те годы, я говорил преимущественно о своей профессиональной деятельности, о своей семье и наклонностях. Ибо политические интересы не в первую очередь занимали мой ум. А прежде всего я был архитектор.
Как владелец автомобиля, я стал членом вновь созданного «Национал-социалистического автомобильного корпуса» (ИСАК) и, поскольку это была новая организация, одновременно сделался и руководителем секции в Ванзее, по месту жительства. Впрочем, серьезной работой в партии я поначалу не занимался. Вдобавок я был единственным человеком в Ванзее и, следовательно, в данной секции, у которого вообще была машина, остальные пока только намеревались ею обзавестись, после того как произойдет «революция», о которой они мечтали. В качестве подготовки они старались разведать, у кого здесь, в районе богатых вилл, имеются подходящие машины для дня «икс».
Моя партийная должность нередко приводила меня в окружной комитет Западного округа. Его возглавлял простой подмастерье мельника, весьма интеллигентный и пышущий энергией Карл Ханке.
Он как раз недавно снял в аристократическом Груневаль- де виллу под будущий штаб своей окружной организации.
30
Ибо после успеха на выборах 14 сентября 1930 года партия, ставшая к тому времени весьма могущественной, старалась принять салонный вид. Вот Ханке и пригласил меня оформить виллу, задаром, разумеется.
Мы советовались насчет обоев, гардин и красок; молодой крайслейтер избрал по моему совету обои от «Баухауза», хотя я и предупреждал его, что это «коммунистические» обои. Но он сумел отмахнуться от моих слов величественным жестом: «Мы отовсюду берем самое лучшее, и у коммунистов тоже». Этими словами он обозначил то, чем уже много лет занимались Гитлер и его штаб: не глядя на идеологию, выискивать повсюду то, что сулит успех, да и сами идеологические вопросы решать в зависимости от того, как они воздействуют на избирателя.
Переднюю я велел выкрасить в ярко-алый цвет, а рабочие помещения — в интенсивно-желтый, где предложенные мной красные гардины создавали резкий контраст. При всем том подобное высвобождение долго подавляемой жажды действий, с помощью которой я, вероятно, хотел выразить революционный дух, встретило чрезвычайно неоднозначный прием.
В начале 1932 года ассистентам понизили жалованье — маленькая лепта, чтобы хоть как-то поддержать напряженный бюджет прусского государства. Большие стройки вообще не предвиделись, экономическая ситуация была безнадежна. Трех лет на ассистентском поприще нам хватило с лихвой; мы оба, моя жена и я, решили отказаться от места у Тессенова и перебраться в Мангейм. Управление принадлежащими нашей семье домами гарантировало нам безбедное существование, и потому я мог всерьез заняться архитектурной деятельностью, которая до сих пор протекала весьма бесславно. Как «самостоятельный архитектор», я отправлял бесчисленные послания соседним фирмам и деловым друзьям своего отца. Но, разумеется, я напрасно рассчитывал отыскать заказчика, который рискнет связаться с двадцатишестилетним архитектором. Ибо даже архитекторы-старожилы Мангейма сидели тогда без заказов. Я пытался привлечь к себе внимание участием в конкурсах, но не вышел за пределы третьих премий и «покупки проекта». Перестройка лавки, размещенной в одном из родительских
31
доходных домов, осталась для меня единственным архитектурным свершением этой безрадостной поры.
Партийная жизнь Мангейма протекала по-баденски уютно. После бурной активности в Берлине, которая меня мало-помалу затянула, здесь я ощущал себя словно член клуба для игры в кегли. ИСАК здесь не было, поэтому меня распоряжением из Берлина приписали к моторизованным частям СС, как я полагал, полноправным членом, но, скорей всего, просто гостем, ибо, когда уже в 1942 году я хотел возобновить свое членство, оказалось, что я никогда у них не числился.
Когда началась подготовка к выборам 31 июля 1932 года, мы с женой поехали в Берлин, чтобы хоть ненадолго окунуться в бодрящую предвыборную атмосферу, а если выйдет, то и помочь делом. Ибо затяжная профессиональная бесперспективность заметно активизировала мои политические интересы или то, что я обозначал этими словами. Я желал внести свой вклад в победу Гитлера на выборах, хотя отводил для этой цели всего несколько дней, потому что из Берлина мы намеревались двинуться дальше, в давно запланированный поход на байдарках по озерам Восточной Пруссии.
Как владелец автомашины, я доложился своему шефу по ИСАК Западного округа Берлина Вилли Нагелю, который поручил мне курьерские поездки по различным низовым организациям партии. Когда для этой цели мне доводилось посещать с партийным поручением округа, где заправляли «красные», у меня частенько душа уходила в пятки. В подвалах, более напоминавших норы, обитали отряды национал-социалистов, ведя существование загнанных и преследуемых. Впрочем, форпосты коммунистов в округах, где правили наци, влачили столь же жалкое существование. Я не могу забыть лицо невыспавшегося, запуганного и озлобленного группенфюрера в Моабите, одном из самых тогда опасных регионов. Эти люди рисковали жизнью и губили свое здоровье во имя идеи, даже не подозревая, что их просто используют ради осуществления утопических планов рвущегося к власти человека.
27 мая 1932 года Гитлер должен был прибыть с утренней манифестации в Эберсвальде на берлинский аэродром Штаа- кен. Мне было поручено доставить одного из штаакенских
32
связных к месту очередной манифестации в Бранденбург. Трехмоторный самолет закончил пробежку, и из него вышел Гитлер с несколькими адъютантами и сотрудниками. Кроме нас, почти никого и не было: я хоть и держался на почтительном отдалении, но мог видеть, как Гитлер с досадой выговаривает одному из своих сотрудников, потому что машины за ними еще не прибыли. Он гневно прохаживался взад и вперед, ударяя хлыстиком по голенищам высоких сапог, и производил впечатление сварливого и плохо владеющего собой субъекта, который пренебрежительно обращается со своими подчиненными.
Этот Гитлер резко отличался от того, с виду спокойного и культурного, которого я мог наблюдать на студенческой манифестации. Я впервые столкнулся с удивительной мно- голикостью Гитлера, не придавая еще этому значения: с великой артистической интуицией он умел приспосабливать свое поведение на людях к любой ситуации, а с ближайшим окружением — служащими и адъютантами — держался более чем бесцеремонно.
Машины подъехали. Я уселся с порученным моим заботам связным в свой «родстер» и на предельной скорости с шумом стартовал несколькими минутами раньше, чем колонна мотоциклистов, сопровождающая автомобиль Гитлера. В Бранденбурге все тротуары неподалеку от стадиона были заполнены социал-демократами и коммунистами, и нам — мой спутник был в форме — пришлось проехать сквозь строй разгоряченных людей. Когда несколькими минутами позже подъехал Гитлер со своей свитой, толпа превратилась в яростную и буйную массу, которая перетекла с тротуаров на проезжую часть. Машине пришлось замедлить ход. Гитлер стоял подле своего шофера. Тогда я сумел воздать должное его мужеству и сохранил эти чувства до сего дня. Негативные впечатления, возникшие у меня на аэродроме, были вытеснены увиденным.
Сидя в машине, стоящей за воротами, я не мог слушать саму речь, зато слышал взрывы аплодисментов, которые то и дело прерывали речь Гитлера на несколько минут. Когда исполнение партийного гимна возвестило о конце мероприятия, мы снова тронулись в путь. Ибо в этот же день Гитлер намеревался выступить — уже в третий раз — на берлинском стадионе. И здесь тоже было полно народу, а на улицах
2 А. Шпеер
33
стояли тысячи тех, кому не хватило места на стадионе. Уже несколько часов толпа терпеливо дожидалась. Гитлер по обыкновению опаздывал. Мой рапорт Ханке о том, что Гитлер прибудет с минуты на минуту, был тотчас передан по всем громкоговорителям. Разразилась буря оваций — первая и последняя, которую мне довелось вызвать на своем веку.
Следующий день определил мой дальнейший путь. Байдарки были уже доставлены на вокзал, билеты до Восточной Пруссии куплены, отъезд твердо назначен на этот вечер. Но днем мне позвонили. Шеф ИСАК Нагель сообщил, что Ханке, руководитель по организационным вопросам берлинского партийного округа, желает меня видеть, Ханке принял меня радостно: «Я вас повсюду разыскивал. Не хотите ли вы перестроить здание окружной партийной организации?» Таким вопросом он встретил меня с порога. «Я сегодня же предложу это доктору. Мы не можем терять время». Через каких-то несколько часов я уже сидел бы в поезде, а потом среди безлюдных озер Восточной Пруссии оказался недосягаем на много недель, и руководству округа пришлось бы искать другого архитектора. Долгие годы я считал это стечение обстоятельств счастливейшим поворотом в моей жизни. Стрелка была переведена. Два десятилетия спустя, в Шпандау, я прочел у Джеймса Джинса: «Движение поезда в подавляющем большинстве точек маршрута однозначно задано железнодорожной колеей. Но время от времени встречается узел, от которого возможны различные пути и от которого поезд можно повернуть в любом направлении благодаря ничтожному усилию, необходимому для того, чтобы перевести стрелку».
Новая служебная резиденция гаулейтера Берлина расположилась на фешенебельной Фоссштрассе в окружении представительств германских земель. Из окон по заднему фасаду я мог наблюдать восьмидесятилетнего президента, когда тот прогуливался в соседнем парке, нередко в сопровождении крупных политиков и военных. Партия, как объяснял мне Ханке, должна была использовать все возможности — даже чисто визуальные — для того, чтобы приблизиться к политическому силовому центру и таким образом заявить о своих политических требованиях. Впрочем,
34
данное мне поручение было не столь притязательно, ибо оно и здесь сводилось к окраске стен и мелким переделкам. Меблировка зала заседаний и кабинета гаулейтера тоже получилась довольно скромной, отчасти по недостатку средств, отчасти же потому, что я все еще находился под влиянием Тессенова. Но эта скромность была нарушена пышной деревянной резьбой и лепниной эпохи грюндерства. Я работал здесь день и ночь в великой спешке, ибо окружная партийная организация меня подгоняла. Геббельса я видел редко. Поездки по стране для подготовки выборов 6 ноября 1932 года целиком занимали его в это время. Вымотанный и охрипший, он несколько раз приказывал показать ему помещение центра, хотя и не проявлял при этом особого интереса.
Перестройка здания была завершена, смета во много раз превышена, партия потерпела на выборах полное поражение. Число ее членов сократилось, казначей хватался за голову при виде поступавших счетов, ремесленникам он мог лишь продемонстрировать пустую кассу; они же, будучи членами партии, чтобы не подводить ее к банкротству, должны были соглашаться на многомесячную отсрочку выплаты.
Через несколько дней после торжественного открытия Гитлер лично осмотрел названную в его честь служебную резиденцию гаулейтера Берлина. Перестройка, как мне рассказывали, снискала его одобрение, и это наполнило меня гордостью, хотя мне так и не удалось выяснить, что именно удостоилось похвалы — то ли умышленная простота моих архитектурных решений, то ли перегруженность деталями вильгельмовского первоначального сооружения.
Вскоре я вернулся в свою мангеймскую контору. Здесь все оставалось по-старому: экономическое положение и, следовательно, надежды на получение строительных заказов стали, по всей вероятности, еще хуже, а политические отношения — еще запутанней. Один кризис следовал за другим, мы их даже не замечали. Ибо для нас ничего не менялось. 30 января 1933 года я прочел в газете о назначении Гитлера рейхсканцлером, но даже и это поначалу меня нисколько не тронуло. Вскоре я присутствовал на партийном собрании мангеймской организации. И мне бросилось в глаза, сколь ничтожен личностный и духовный уровень ее членов.
2*
35
«Такие люди не могут управлять государством», — мелькнуло у меня в голове. Но я напрасно тревожился. Старый чиновничий аппарат продолжал и при Гитлере вести все дела без сучка без задоринки.
Потом прошли выборы 5 марта 1933 года. А неделю спустя раздался междугородний звонок. Звонили из Берлина. У телефона был Ханке, гаулейтер по оргвопросам. «Вы в Берлин не собираетесь? Для вас здесь наверняка найдется дело. Когда вы будете?» — спрашивал он. Наш маленький спортивный БМВ был тщательно смазан, чемоданчик уложен, мы провели всю ночь в пути на Берлин. Не выспавшийся, я утром уже стоял перед Ханке в его официальной резиденции. «Вы сразу же поедете с доктором. Он желает осмотреть свое новое министерство».
Итак, я вместе с Геббельсом торжественно вступил в красивое творение Шинкеля на Вильгельмсплац. Несколько сотен человек, которые чего-то дожидались, возможно Гитлера, приветствовали нового министра. Но не только здесь я почувствовал, что в Берлине началась новая эра: после затяжного кризиса люди выглядели бодрее, казались исполненными надежды. Все понимали, что на сей раз речь идет не о простой смене кабинета. Всеми словно овладело чувство, что пробил решающий час. Группки людей стояли на улицах. Хоть и незнакомые друг с другом, они болтали о всяких пустяках, шутили или выражали политическое одобрение происходящему — а в это время где-то, не привлекая к себе внимания, аппарат безжалостно сводил счеты с противниками по многолетней политической борьбе за власть и сотни тысяч трепетали из-за своего происхождения, веры, взглядов.
После осмотра помещений Геббельс поручил мне перепланировку старых и строительство новых, наиболее важных, например его кабинета и залов заседаний. Мне он дал конкретное задание немедля приступить к работе, не дожидаясь, пока составят смету, и не выясняя, имеются ли для этого необходимые средства. Как выяснилось впоследствии, в этом было известное самодурство, потому что для вновь созданного министерства пропаганды пока вообще не был составлен бюджет, а уж для перестройки его — и подавно. Я приложил все усилия, чтобы выполнить задание,
36
покорно следуя шинкелевским интерьерам, но Геббельс счел предложенную мной меблировку недостаточно представительной и несколько месяцев спустя перепоручил объединенным мастерским в Мюнхене заново меблировать помещение в имперском стиле.
Ханке обеспечил себе в этом министерстве надежный пост секретаря министра и с неподражаемой ловкостью начал хозяйничать в приемной. В эти дни я увидел у него план города Берлина для намеченной на 1 мая массовой ночной манифестации в Темпльгофе. План возмутил мои профессиональные чувства и возбудил бунтарский дух. «Похоже на декорации к стрелковому празднику». Ханке в ответ: «Если вы сумеете лучше, принимайтесь за дело, да поживей».
В ту же ночь возник проект грандиозной трибуны с тремя гигантскими флагами позади, каждый превосходил высотой десятиэтажный дом; а полотнища должны были быть натянуты на деревянных перекладинах, оба крайних — черно-бело-красные, а посредине флаг со свастикой. С точки зрения статики все это было весьма рискованно, ибо при сильном ветре флаги выглядели бы как паруса. Их предполагалось подсветить сильными прожекторами, дабы, как на сцене, усилить впечатление приподнятого центра. Мой проект был тотчас утвержден, и я снова продвинулся на одну ступень выше.
Исполненный гордости, я продемонстрировал завершенную работу Тессенову, но тот по-прежнему стоял обеими ногами на почве солидного ремесленничества. «Вы полагаете, будто сотворили нечто? Это производит впечатление, только и всего». Зато Гитлер, как мне рассказывал Ханке, пришел в неописуемый восторг, хотя, разумеется, Геббельс приписал весь успех себе.
Несколько недель спустя Геббельс занял служебную квартиру, принадлежавшую ранее министру продовольствия. Не обошлось без применения силы, ибо Гутенберг требовал, чтобы квартира осталась в его распоряжении как министра, представляющего Немецкую национальную партию. Но спор разрешился очень скоро сам по себе, так как уже 26 июня Гутенберг вышел из состава кабинета.
Мне поручили не только реконструкцию министерской квартиры, но и пристройку к ней большой гостиной. Я, быть
37
может, чуть легкомысленно обещал за два месяца сдать квартиру и пристройку готовыми для переезда. Гитлер не верил, что я выдержу сроки, и Геббельс, желая меня подзадорить, рассказал мне о его недоверии. Я приказал работать круглые сутки в три смены, все возможные части строительства были согласованы до мельчайших деталей, в последние дни я включил большую сушильную установку, и наконец строительный объект был сдан день в день к назначенному сроку при полной меблировке.
Эберхарда Ханфштенгля, директора Берлинской национальной галереи, я попросил для украшения геббельсовской квартиры выделить несколько акварелей Нольде. Геббельс и его жена были в полном восторге от этого дара, пока не явился Гитлер и самым резким образом не раскритиковал его, после чего министр немедля вытребовал меня к себе и воскликнул: «Сейчас же уберите эти картины, они просто невозможны!»
В эти первые месяцы после взятия власти по меньшей мере некоторые направления современной живописи из тех, что в 1937 году были заклеймены как выродившееся искусство, еще имели известные шансы. Ибо Ганс Вайдеман, старый член партии из Эссена с золотым партийным значком, возглавлял в министерстве пропаганды отдел изобразительных искусств. Ничего не зная об истории с акварелями Нольде, он подобрал для Геббельса ряд картин в духе Нольде и Мунка и порекомендовал их министру как выражение национального революционного искусства. Наученный опытом, Геббельс приказал немедленно убрать эти картины. Когда же в ответ Вайдеман решительно отказался подвергнуть анафеме все современное искусство без разбору, его тотчас сместили с поста и понизили в должности. На меня производила жутковатое впечатление эта смесь властности и послушания и поистине зловещее — тот безусловный авторитет, каким пользовался Гитлер даже у своих многолетних ближайших соратников. Геббельс проявил свою безоговорочную зависимость от Гитлера. Как и все мы. Даже я, привыкший к современному искусству, безропотно принял решение Гитлера.
Не успел я довести до конца поручения Геббельса, как мне позвонили из Нюрнберга. Там готовился первый съезд отныне правящей победоносной партии. Завоеванная власть
38
должна была найти выражение решительно во всем, вплоть до декораций, однако местный архитектор не мог предложить никакой сколько-нибудь удовлетворительной идеи. Меня самолетом доставили в Нюрнберг, где я и сделал некоторые наброски. Не отличаясь большим богатством идей, они весьма напоминали первомайское сооружение в Берлине, только венцом Цеппелинфельда мне виделся не знаменный парус, а гигантский орел с размахом крыльев до тридцати метров, которого я прикрепил к решетчатой конструкции, как бабочку в коллекции.
Руководитель нюрнбергской организации не осмелился лично оценить мой проект и направил меня в Мюнхен, в центральное управление. С собой он дал мне сопроводительное письмо, так как за пределами Берлина меня до сих пор никто не знал. В «Коричневом доме» к архитектуре или, правильнее сказать, к праздничной декорации относились крайне серьезно. Уже через несколько минут я со своими чертежами оказался в роскошно отделанном кабинете Гесса. Гесс даже не дал мне раскрыть рта. «Об этом может судить лишь фюрер». Потом он быстро позвонил и сказал: «Фюрер у себя. Я прикажу, чтоб вас туда доставили». Так я впервые получил представление о том, что означает волшебное слово «архитектура» во времена Гитлера.
Мы остановились перед многоэтажным доходным домом неподалеку от Театра принца-регента. Квартира Гитлера располагалась на третьем этаже. Сперва меня ввели в переднюю, заставленную сувенирами и подарками довольно низкого разбора. Меблировка тоже свидетельствовала о плохом вкусе. Появился адъютант, распахнул дверь, сказал не по форме: «Прошу», и я очутился наедине с Гитлером, всемогущим рейхсканцлером. На столе перед ним лежал разобранный пистолет, чисткой которого он, судя по всему, и был занят. «Положите сюда ваши чертежи», — коротко приказал он, после чего, не глядя на меня, сдвинул в сторону части пистолета, с интересом, но безмолвно просмотрел мой проект и сказал: «Согласен». Больше ничего. И, поскольку он снова занялся своим пистолетом, я в некотором недоумении покинул комнату.
В Нюрнберге, где я поведал о разрешении, полученном лично у Гитлера, это вызвало целый переполох. Знай тамошние организаторы, сколь привлекателен покажется Гитлеру
39
архитектурный проект, в Мюнхен выехала бы большая делегация и мне разве что позволили бы стоять где-нибудь позади всех. Но склонность Гитлера к архитектуре в то время еще не была общеизвестна.
Осенью 1933 года Гитлер поручил своему мюнхенскому архитектору Паулю Людвигу Троосту, который оформлял океанский лайнер «Европа» и перестраивал «Коричневый дом», полностью преобразовать и заново обставить также и квартиру рейхсканцлера в Берлине, с пожеланием, чтобы работы были завершены как можно скорей. Троост приехал из Мюнхена и, следовательно, плохо ориентировался в берлинских фирмах и берлинских строительных традициях. Тут Гитлер вспомнил, что некий молодой архитектор за неслыханно короткий срок сумел выполнить пристройку к дому Геббельса, и приказал, чтобы я посодействовал мюнхенскому руководителю работ в выборе фирм, помог ему своим знанием берлинского строительного рынка и вообще подключался к работам, когда понадобится, дабы они были завершены как можно скорей.
Наше сотрудничество началось с внимательнейшего осмотра квартиры рейхсканцлера Гитлером, его архитектором и мной. Шесть лет спустя, весной 1939 года, он написал в одной статье о прежнем состоянии этой квартиры: «После революции 1918 года дом мало-помалу приходил в запустение. Не только чердачные перекрытия прогнили во многих местах, но даже и полы стали трухлявыми... Поскольку все мои предшественники не надеялись пробыть в должности более трех, от силы пяти месяцев, они не считали нужным ни разгребать грязь за теми, кто жил здесь до них, ни заботиться о том, чтобы их преемнику жилось здесь лучше, чем им самим. Представительскими полномочиями по отношению к другим странам они не обладали, поскольку эти страны и без того не очень ими интересовались. Поэтому здание совершенно захирело, чердак и потолки сгнили, обои и полы стали трухлявыми и все вместе взятое издавало совершенно невыносимый запах».
Гитлер преувеличивал, не без того. Хотя трудно себе даже представить, в каком состоянии находилась квартира. Кухня почти без освещения, с технически совершенно устаревшими плитами. На весь дом с его многочисленными
40
обитателями имелась одна-единственная ванна, да и та образца начала века. И вообще очень много безвкусного: двери, зачем-то выкрашенные под натуральное дерево, ящики для цветов под мрамор, сделанные из жести. Гитлер ликовал: «Теперь вы видите, как низко пала старая республика. Даже дом рейхсканцлера — и тот нельзя показать иностранцам, лично мне было бы стыдно принимать здесь даже одного гостя».
Во время этого основательного обхода, который занял около трех часов, мы поднялись и на верхний этаж, где управляющий сказал нам: «А вот дверь, которая ведет в соседний дом». — «Это как же так?» — «Отсюда можно по чердакам пройти через все министерства до отеля “Ад- лон”». — «А зачем?» — «Во время беспорядков в начале Веймарской республики выяснилось, что мятежники могут отрезать рейхсканцлера от города. А этим путем он всегда может беспрепятственно уйти». Гитлер приказал отпереть дверь, и мы действительно сразу же оказались в примыкающем к зданию министерстве иностранных дел. «Дверь надо заложить кирпичом. Нам это ни к чему», — сказал Гитлер.
С тех пор как начались работы по перестройке, Гитлер почти каждый день наведывался к обеду на строительную площадку в сопровождении адъютанта, он рассматривал сделанное и был доволен новой планировкой комнат. Вскоре многочисленные рабочие начали приветливо и непринужденно с ним здороваться. Несмотря на двух эсэсовцев в штатском, которые незаметно держались поодаль, все выглядело весьма идиллически. Было видно, что Гитлер чувствует себя на стройке как дома, хотя и совершенно не прибегает для снискания популярности к дешевому заигрыванию.
Подрядчик и я сопровождали его во время обходов. Он задавал нам вопросы, не то чтобы недружелюбно, но очень коротко: «Когда штукатурили эту комнату? Когда возьметесь за окна? А чертежи уже прибыли из Мюнхена? Нет еще? Я сам спрошу об этом у профессора». Так он обычно называл Трооста. Осматриваем новое помещение. «Вот здесь уже штукатурили. А вчера еще нет. Лепнина получилась очень красиво. Такие вещи профессору удаются превосходно. Вы когда собираетесь закончить? Надо спешить. У меня
41
сейчас только и есть, что маленькая квартирка статс-секретаря на верхнем этаже. Я туда никого не могу пригласить. Просто смешно, до чего сквалыжная была республика. А вход вы уже видели? А лифт? В любом торговом доме они куда лучше». Лифт и впрямь частенько застревал, да и рассчитан был всего на троих.
Вот так держал себя Гитлер. Нетрудно понять, что подобная естественность очень мне импонировала; во всяком случае, это был не просто канцлер, а человек, благодаря которому в Германии все снова начало оживать, который вновь дал работу безработным и выдвинул большие хозяйственные программы. Лишь много позже кое-какие мелкие наблюдения вызвали у меня смутную догадку, что во всем этом содержалась изрядная примесь пропагандистского расчета.
Я уже от двадцати до тридцати раз сопровождал его в подобных обходах, когда во время очередного он внезапно сказал: «Не хотите сегодня у меня пообедать?» Конечно, я был счастлив наблюдать подобное доказательство чисто личного отношения, тем более что из-за его безличной манеры держаться я на подобное внимание даже не рассчитывал.
Я уже много раз лазил по всяким строительным площадкам, но именно в этот день со строительных лесов прямо мне на костюм упал мастерок с жидким раствором. Должно быть, у меня сделался очень несчастный вид, потому что Гитлер сказал: «Ничего, приходите, мы это быстро уладим».
В квартире Гитлера дожидались гости, среди них Геббельс, который был крайне удивлен моим появлением в этом кругу. Гитлер провел меня в свои личные апартаменты, явился лакей, который был тотчас отправлен за темно-синим пиджаком Гитлера. «Вот наденьте пока это!» После чего я вслед за Гитлером вышел в обеденную залу, где Гитлер отдал мне предпочтение перед другими гостями, усадив рядом с собой. Очевидно, я ему понравился. Геббельс заметил то, на что в крайнем своем возбуждении я совершенно не обратил внимания. «Да на вас значок фюрера! Это ведь не ваш пиджак?» Гитлер даже не дал мне ответить и сказал: «Ясное дело, это мой пиджак».
42
За обедом Гитлер впервые задал мне несколько личных вопросов. И только тут до него дошло, что я готовил оформление к 1 Мая. «Ах, вот как, значит, Нюрнберг тоже вы делали? Ко мне ведь приходил архитектор со своими планами. Верно, верно, это вы и приходили. В жизни бы не подумал, что вы в срок завершите стройку у Геббельса».
О моем членстве в партии он даже не спрашивал. Как я понимаю, применительно к людям искусства этот вопрос его не занимал. Прежде всего он желал как можно больше узнать о моем происхождении, о моей карьере архитектора, о стройках моего отца и моего деда.
Несколько лет спустя Гитлер вспомнил это приглашение. «Я уже при обходе стройки обратил на вас внимание. Я искал архитектора, которому мог бы однажды доверить свои строительные замыслы. Чтоб он был достаточно молод, потому что, как вы понимаете, эти планы простираются далеко в будущее. Мне нужен человек, который и после моей смерти сможет действовать, вооруженный моим авторитетом. Этого человека я увидел в вас».
После многих лет тщетных усилий я был преисполнен жажды деятельности, и лет мне было всего двадцать восемь. За большой заказ я давно уже был готов, подобно Фаусту, продать свою душу. И вот я нашел своего Мефистофеля, покоряющего не менее, чем гётевский.
4
Мой катализатор
По натуре я человек добросовестный, но мне необходим какой-то импульс, чтобы я мог пробудить в себе новые способности и энергию. И вот я нашел катализатор; более могущественного и действенного даже быть не могло. От меня теперь требовалась отдача всех моих сил во все возрастающем темпе и со все более высокими требованиями.
Тем самым я отринул истинную сердцевину моей жизни — семью. С тех пор как я был привлечен и вдохновлен Гитлером, к которому испытывал безраздельную преданность, работа заполучила меня, а не я ее. Гитлер умел заставить своих сотрудников прилагать величайшие
43
усилия в работе. «Человек растет вместе со своими задачами», — говаривал он.
За двадцать лет, проведенные в Шпандау, я неоднократно задавался вопросом: а как бы я повел себя, сумей вовремя разглядеть настоящее лицо Гитлера и истинную природу того правления, которое он создавал? Ответ всякий раз получался банальным; мой пост архитектора при Гитлере вскоре приобрел для меня исключительное значение. Не достигнув даже и тридцати лет, я видел перед собой самые ослепительные перспективы, о которых только может мечтать архитектор. Вдобавок овладевшая мной маниакальная жажда деятельности вытесняла вопросы, которые могли бы возникнуть. Ежедневная горячка работы глушила любое мое сомнение. Когда я писал эти воспоминания, меня все больше и больше удивляло, а потом даже потрясало, что до 1944 года я так редко, по сути вообще никогда не находил времени, чтобы поразмыслить о себе самом и о своей деятельности, что я практически не предавался размышлениям. Сейчас, когда я окидываю взглядом прожитое, мне думается, что в те времена меня что-то поднимало над землей, обрывая все мои корни и отдавая во власть множеству чужеродных сил.
Когда я оглядываюсь назад, мне кажется всего прискорбней то, что в ту пору меня тревожил исключительно собственный путь в архитектуре, отход от теорий Тессено- ва. Когда же я слышал, как мое окружение травит евреев, масонов, социал-демократов или свидетелей Иеговы, словно загнанную дичь, у меня было такое чувство, что это меня вообще не касается. Довольно и того, что сам я в этом не принимаю участия.
Рядового члена партии всем воспитанием подводили к мысли, будто большая политика чересчур сложна, чтобы ему о ней судить. В результате у человека возникало ощущение, что за него отвечают другие, и ему никогда не приходилось отвечать самому за себя. Вся структура системы была направлена на то, чтобы конфликты с собственной совестью даже и не возникали.
Результатом была полная стерильность всех разговоров и дискуссий между единомышленниками. Не представляло никакого интереса взаимно подтверждать в разговоре схожие мнения.
44
Еще сомнительней выглядело настоятельное требование ограничивать ответственность лишь собственной сферой деятельности. Каждый человек пребывал в пределах своей профессиональной группы — архитекторов или врачей, юристов, техников, солдат или крестьян. Профессиональные организации, членство в которых было обязательно, называли палатами (например, врачебная, артистическая), и это обозначение четко характеризовало членение на отдельные, словно каменными стенами отделенные одна от другой сферы жизни. Чем дольше существовал гитлеровский режим, тем больше обосабливалась каждая палата. Довелись такому структурному делению затянуться еще на несколько поколений, этого, как мне кажется, хватило бы, чтобы развалить всю систему, ибо мы пришли бы к своего рода кастовому государству. Тем больше потрясало меня несоответствие всего этого провозглашенной в 1933 году «народной общности», ибо единение общества при существующих порядках таким образом никогда не было бы достигнуто. В конечном итоге получилась общность изолированных. Даже если сегодня это звучит странно, для нас слова, что фюрер обо всем думает и всем управляет, не были пустой пропагандистской формулировкой.
Податливость на такие явления была в нас заложена с юности. Приобретенные нами принципы были внушены абсолютной государственностью, причем внушены в такое время, когда законы войны могли только обострить ее субординационный характер. Возможно, благодаря этим обстоятельствам мы, как солдаты, были подготовлены к тому складу мышления, которое вновь предстало перед нами в обличье гитлеровской системы. Четкий порядок был у нас в крови, либерализм Веймарской республики по сравнению с ним виделся сомнительным, дряблым и уж никак не достойным подражания.
Чтобы иметь возможность по первому зову предстать перед моим главным заказчиком, я снял под бюро мастерскую одного художника на Беренштрассе, в нескольких сотнях метров от рейхсканцелярии. Сотрудники мои, все без исключения молодые люди, забыв про личную жизнь, работали с раннего утра до поздней ночи; обед им обычно
45
заменяли бутерброды. Лишь около десяти вечера мы в совершенном изнеможении завершали свой рабочий день ужином в близлежащем винном погребке, а за ужином еще раз обговаривали сделанное за день.
Впрочем, большие заказы по-прежнему заставляли себя ждать. В дальнейшем Гитлер подбрасывал мне срочные задания, поскольку явно видел мою главную способность в умении быстро их выполнять: кабинет бывшего рейхспрезидента на втором этаже административного здания выходил всеми тремя окнами на Вильгельмсплац. В эти первые месяцы 1933 года под окнами регулярно собирались толпы, которые громогласным хором изъявляли желание увидеть «фюрера». По этой причине здесь стало невозможно работать. Вдобавок Гитлер и без того недолюбливал свой кабинет. «Слишком мал! Шестьдесят квадратных метров — это для какого-нибудь моего сотрудника. Где прикажете мне принимать государственного гостя? Уж не в этом ли углу? А такой письменный стол подошел бы начальнику моей канцелярии».
Гитлер поручил мне оборудовать под кабинет одну из выходящих в сад комнат. Пять последующих лет он довольствовался этим новым кабинетом, хотя и его считал временным прибежищем. Впрочем, свой кабинет в новом здании рейхсканцелярии 1938 года он тоже очень скоро признал недостаточно импозантным. До 1950 года по его указаниям и моим планам предполагалось выстроить окончательный вариант рейхсканцелярии: там для Гитлера и его преемников в грядущих столетиях был предусмотрен рабочий зал, который при своих 960 квадратных метрах в шестнадцать раз превысил бы кабинет его предшественников. Правда, переговорив с Гитлером, я пристроил к этому залу личный кабинет для него в те же шестьдесят квадратных метров.
А старый кабинет в будущем предполагалось вообще не использовать, потому что из него Гитлер желал без помех вступать на новый «исторический балкон», который я наскоро пристроил к зданию, дабы он мог показываться народу. «Окно было для меня слишком неудобно, — удовлетворенно отметил Гитлер, — и меня видели не со всех сторон. Не могу же я, в конце концов, свешиваться из окна». Создатель первого проекта рейхсканцелярии, профессор
46
Берлинского высшего технического училища Эдуард Зид- лер, возражал против моего вмешательства, а Ламмерс, начальник рейхсканцелярии, подтвердил, что наши действия нарушают авторское право. Гитлер издевательски отмел его возражения: «Зидлер испакостил мне всю Вильгельмсплац. Сейчас это выглядит как правление мыловаренного концерна, а не как центр рейха. Интересно, что он себе воображает? Может, он еще и балкон для меня построит?!» Впрочем, Гитлер в порядке компенсации согласился дать профессору какой-нибудь строительный заказ.
Несколько месяцев спустя мне было велено соорудить барачный лагерь для рабочих только что начатого строительства автострады. Гитлер не одобрил их теперешнее размещение и пожелал, чтобы я создал типовой проект, который можно будет применять для всех лагерей подобного типа. С приличными кухнями, прачечными и душевыми, с клубным залом и комнатами, каждая на две кровати, этот лагерь, без сомнения, выгодно отличался бы от существовавших до сих пор строительных общежитий. Гитлер вникал в мельчайшие детали этого образцового сооружения и велел сообщать ему о реакции рабочих. Таким я и представлял себе вождя национал-социалистов.
Пока шла перестройка квартиры для канцлера, Гитлер жил в квартире своего статс-секретаря Ламмерса, на верхнем этаже административного здания. Здесь мне нередко доводилось обедать или ужинать. Ужин обычно проходил в окружении постоянной свиты Гитлера: его многолетнего шофера Шрека, начальника личной охраны Зеппа Дитриха, доктора Дитриха, обоих адъютантов, Брюкнера и Шауба, и Генриха Гофмана, фотографа Гитлера. Поскольку за столом умещалось максимум десять человек, мест больше практически не оставалось. Зато к обеду приходили главным образом прежние соратники по Мюнхену, такие как Аман, Шварц и Эссер или гаулейтер Вагнер, часто также и Берлин, руководитель мюнхенского филиала «Даймлер-Бенц», он же поставщик машин для Гитлера. Министры приходили на удивление редко: даже Гиммлера я видел не чаще, чем Рема и Штрейхера, зато Геббельса и Геринга довольно часто. Но уже в то время не имели допуска к столу служащие из окружения рейхсканцлера. Так, например, бросалось в глаза, что даже сам Ламмерс, хоть и хозяин дома, никогда
47
не появлялся за столом; надо думать, не без веских на то оснований. Ибо в этом кругу Гитлер зачастую итожил результаты: без особых претензий он просто перечислял сделанное за день. Он любил, к примеру, рассказывать, как умел совладать с бюрократами, которые грозили парализовать его деятельность на посту рейхсканцлера. «В первые дни мне подсовывали на утверждение каждый пустяк. Каждый день я находил на своем столе горы бумаг, и, сколько я ни работал, гора не становилась меньше. Пока я не положил конец всей этой чепухе. Продолжай я и дальше в том же духе, я бы никогда не достиг положительных результатов, потому что у меня просто не оставалось времени думать. Когда я отказался просматривать документы, мне сказали, что из-за этого затянется принятие многих важных решений. Но лишь мой отказ дал мне возможность обдумывать важные вопросы, по которым решение зависело от меня. Так я сам направил дальнейшее развитие и не дал чиновникам направлять меня».
Иногда Гитлер рассказывал о своих поездках: «Шрек был лучшим шофером, которого я только мог себе представить, и наш мотор выжимал сто семьдесят километров в час. Мы всегда ездили очень быстро. Но в последние годы я приказал Шреку не гнать больше восьмидесяти. Представить только, если со мной вдруг что-то случится! А гонки с большими американскими автомобилями — это что-то! Держишься вплотную за ними, пока их не охватит азарт. Все американские модели гроша ломаного не стоят по сравнению с «мерседесом». Их мотор не выдерживал гонки, и начинал через какое-то время чихать, и водители с вытянутыми физиономиями съезжали на обочину. Так им и надо!»
По вечерам регулярно устанавливали примитивный проектор, чтобы после «Вохеншау» прокрутить еще один, а то и два художественных фильма. Поначалу прислуга не умела как следует обходиться с аппаратурой. То показывали кадр вверх ногами, то пленка рвалась, но в те времена Гитлер воспринимал это куда более спокойно, чем его адъютанты, слишком охотно демонстрировавшие подчиненным свою власть, которую давала им близость к рейхсканцлеру.
Подбор фильмов Гитлер любил обсуждать с Геббельсом. По большей части речь шла о тех, что одновременно
48
показывали и в берлинских кинотеатрах. Гитлер предпочитал легкие жанры: развлекательные, любовные, социальные. Он требовал безотлагательно доставлять ему все фильмы с Яннингсом и Рюманом, Хенни Портен и Лил Даговер, Ольгой Чеховой, Зарой Леандер или Женни Юго. Фильмы-ревю с обилием голых ног могли у него твердо рассчитывать на успех. Часто мы смотрели и зарубежную продукцию, даже такую, которой рядовой зритель не видел. Зато почти не бывало фильмов о спорте и горном туризме, пейзажных, о животном мире, никогда не показывали нам также информативных фильмов о других странах. Не жаловал Гитлер и сатирические фильмы, которые я тогда очень любил, например, с Бастером Китоном, а тем более с Чарли Чаплином. Но немецкой продукции никоим образом не хватало, чтобы ежедневно поставлять для просмотра по два фильма. Поэтому некоторые показывали два раза, а то и больше, странным образом никогда не крутили фильмов с трагическим содержанием, зато часто — костюмные и с его любимыми артистами. Этот принцип отбора и привычку ежевечерне просматривать по два фильма Гитлер сохранял до начала войны.
Зимой 1933/34 года во время одного из обедов я сидел возле Геринга. «Мой фюрер, — обратился он к Гитлеру, — а вашу квартиру делает Шпеер? Он ваш архитектор?» И хотя это не соответствовало действительности, Гитлер ответил утвердительно. «Тогда разрешите, чтобы он перестроил и мою квартиру». Гитлер не возражал, и Геринг, не слишком расспрашивая о моих желаниях и склонностях, усадил меня после обеда в свой объемистый автомобиль, дабы увлечь, как драгоценный трофей, к себе на квартиру. Он выбрал себе бывшие служебные апартаменты прусского министерства торговли в одном из парков, расположенных позади Лейпцигерплац, целый дворец, с превеликой пышностью воздвигнутый прусским государством после 1914 года.
Всего лишь несколько месяцев назад квартира была с таким же размахом перестроена по указаниям самого Геринга и на деньги прусского государства. Гитлер осмотрел ее и презрительно обронил: «Темно! Не понимаю, как можно жить в такой темноте. Сравните, к примеру, работу моего профессора. Все кругом светло, ясно и просто!» Я и в самом деле обнаружил у Геринга романтическое нагромождение
49
маленьких, с мрачными окнами и темными бархатными обоями комнат, уставленных громоздкой ренессансной мебелью. Некоторое подобие часовни осенялось знаком свастики, но и в других помещениях новый символ был разбросан по стенам, потолкам и полам. Выглядело все это так, будто здесь постоянно проходили торжественно-траурные церемонии.
Молниеносные перемены, происходившие в Геринге после каждого критического замечания со стороны Гитлера или просто из подражания ему, были характерным признаком системы, как, пожалуй, и любого авторитарного общества. Он без раздумий отрекся от только что отделанной квартиры, в которой, скорее всего, лучше бы себя чувствовал, поскольку она больше соответствовала его натуре. «Вы на это не глядите, я и сам это видеть не могу. Словом, делайте как пожелаете. Я вам даю задание: только пусть будет как у фюрера». Задание было превосходное, а деньги, по обыкновению, не играли для Геринга никакой роли. Сломали несколько стен, чтобы из множества комнат нижнего этажа сделать четыре просторных помещения, из них самое большое — его рабочий кабинет площадью в 140 квадратных метров, тем самым приближенный по размерам к кабинету Гитлера. Сделали легкую пристройку из застекленных бронзовых каркасов. С бронзой, правда, возникли трудности. Она проходила по разряду дефицитных материалов, и за ее неоправданный расход причитались высокие штрафы, но Геринга это ничуть не смущало. Он был в полном восторге, ликовал при каждом обходе дома, сиял, как ребенок в день рождения, потирал руки и смеялся.
Предметы мебели у Геринга соответствовали его собственным объемам. Письменный стол, старинный, ренессансный, имел размеры грандиозные, то же можно сказать и о рабочем кресле, спинка которого высоко поднималась над его головой, — возможно, это был некогда княжеский трон. На стол он приказал водрузить два серебряных светильника с необъятными пергаментными абажурами и вдобавок неслыханно увеличенный портрет Гитлера: оригинал, подаренный ему Гитлером, показался ему недостаточно импозантным. Он приказал во много раз увеличить снимок, и каждый визитер дивился такой милости со стороны
50
Гитлера, ибо в партийных и правительственных кругах было хорошо известно, что Гитлер всегда дарит своим паладинам портрет одного и того же формата в серебряной рамочке, смоделированной специально для этой цели госпожой Троост.
В холле подтянули к самому потолку гигантскую картину, дабы не загораживать окошки, примыкающие к холлу кинобудки. Картина показалась мне знакомой. И действительно, Геринг, как я выяснил позднее, в присущей ему «нерассудительной» манере приказал «своему» прусскому директору музея кайзера Фридриха доставить к себе на квартиру знаменитую рубенсовскую картину «Диана на оленьей охоте», которая до той поры считалась одним из самых выдающихся шедевров этого музея.
Во время реконструкции Геринг жил как раз напротив рейхстага, во дворце рейхспрезидента — сооружении начала века с явными признаками помпезного рококо. Здесь и проходили наши беседы по поводу оформления его окончательного обиталища, на которых часто присутствовал один из директоров изысканных «Объединенных мастерских», господин Пепке, — пожилой, седовласый, искренне стремившийся понравиться Герингу, но робеющий из-за его резкой и приказной манеры общаться с теми, кто ему подчинен.
Однажды мы сидели в комнате, рельефные стены которой были сверху донизу испещрены орнаментом из аляповатых роз в стиле вильгельмовского неорококо — воплощение уродства. Это смутно сознавал и сам Геринг, заведя такого рода разговор: «Как вы находите эту декорацию, господин директор? Недурно, не правда ли?» И вместо того, чтобы прямо ответить: «Да это чудовищно!», старик растерялся и, не желая портить отношения с высокопоставленным заказчиком и клиентом, дал уклончивый ответ. Геринг тут же учуял возможность для розыгрыша и подмигнул мне заговорщически. «Но, господин директор! Неужели это, по-вашему, не прекрасно? А я как раз намерен поручить вам роспись всех своих комнат в таком же стиле. Мы ведь уже говорили об этом с вами, не правда ли, господин Шпеер?» — «Как же, как же, эскизы уже в работе». — «Вот видите, господин директор, таков наш новый стиль. Уверен, что он вам понравится». Директор просто корчился
51
от мук художнической совести, на лбу у него выступили крупные капли пота, и задрожал клинышек бородки. Но Геринг вбил себе в голову непременно вырвать у старика признание. «Стало быть, осмотрите повнимательней эту стену. Как красиво взбираются розы наверх! Чувствуешь себя словно под открытым небом в беседке из роз. Неужели вас это не приводит в восторг?» — «Как же, как же», — робко лепетал старик в полном отчаянии. «Вы должны восторгаться таким произведением искусства, вы ведь у нас специалист. Ну разве это не прекрасно?» Игра тянулась долго, пока директор не сдался и не изобразил требуемый восторг.
«Вот все они таковы!» — с презрением заметил Геринг потом, и был прав: они действительно были таковы, и это не в последнюю очередь относилось к самому Герингу, который просто не знал удержу, расписывая за трапезами у Гитлера, какая у него теперь будет просторная и светлая квартира: «Ну совершенно как у вас, мой фюрер!»
Пожелай Гитлер украсить свои стены букетами роз, Геринг потребовал бы того же.
Уже зимой 1933/34 года, иными словами, несколько месяцев спустя после того решающего обеда у Гитлера, я был введен в его ближайшее окружение. Насчитывалось немного людей, которым оказывали такое же предпочтение, как и мне. Гитлеру я особенно пришелся по душе, хотя в соответствии с моим характером я вел себя сдержанно и молчаливо. Часто я задавал себе вопрос, не переносит ли он на меня несбывшуюся мечту своей юности о карьере великого архитектора. Однако поведение Гитлера, порой импульсивное, никак не давало сколько-нибудь удовлетворительного объяснения такой откровенной симпатии.
От своей позднейшей, классической линии я тогда еще отстоял очень далеко, по чистой случайности сохранились мои чертежи — проект здания Высшей школы НСДАП в одном из районов Мюнхена, Грюнвальде, — сделанные для конкурса, в котором могли принять участие все желающие. Проект этот, правда, служит уже репрезентативным целям и ориентирован на центральную ось, но все это пока достигается весьма скромными средствами, которым я выучился у Тессенова.
52
Вместе со мной и с Троостом Гитлер просмотрел представленные на конкурс работы еще до решения жюри. Проекты, как и положено при всяком конкурсе, подавались анонимно. Я, разумеется, провалился. Лишь после того, как победитель был назван и завеса секретности упала, Троост в студийном разговоре выделил мой проект, и Гитлер, хотя и рассматривал его среди сотен прочих не более нескольких секунд, к моему превеликому удивлению, мог точно его вспомнить. Он никак не отреагировал на похвалы, расточаемые Троостом, возможно, он именно тогда понял, как я еще далек от его представлений об архитектуре.
Каждые две-три недели Гитлер ездил в Мюнхен и все чаще брал меня с собой в эти поездки. По прибытии он часто прямо с вокзала направлялся в ателье профессора Трооста. Уже по дороге он, как правило, оживленно толковал о том, что профессор за это время наготовил из чертежей: «Проект первого этажа для Дома искусств он, скорей всего, переработал. Там следовало кое-что подправить... Интересно, а детали для ресторана он уже набросал? И еще нам, пожалуй, покажет наброски скульптор Вакерле».
Мастерская Трооста располагалась в заброшенном заднем дворе на Терезиенштрассе, неподалеку от высшего технического училища. Через холодный подъезд, где уже много лет не освежали краску, следовало подняться на третий этаж. Троост, сознавая свое высокое положение, никогда не выходил на лестницу встречать Гитлера и никогда не провожал его вниз. Гитлер сразу же в передней приветствовал Трооста: «Сил нет дожидаться, покажите, что у вас есть новенького». И мы, Гитлер и я, тотчас оказывались в студии.
Троост, по обыкновению сдержанный и самоуверенный, демонстрировал свои планы и замыслы. Но и первому архитектору Гитлера везло не больше, чем мне: Гитлер очень редко приходил в восторг.
После чего фрау профессор показывала нам цветовые решения тканей и окраски стен для залов мюнхенского «Дома фюрера», подобранных умело и тонко, но, пожалуй, чересчур сдержанных на вкус Гитлера, предпочитавшего бурные эффекты. Ему, однако, нравилось. Нарочито бюргерский стиль, который тогда входил в моду среди богатых
53
семейств, явно пленял сердце Гитлера своей непритязательной роскошью. Проходило часа два, а то и больше, после чего Гитлер коротко, но очень сердечно прощался, чтобы наконец-то поехать на собственную квартиру, обронив мне на ходу: «К обеду — в остерии».
В обычное время, примерно в половине третьего, я отправлялся в остерию «Бавария», маленький ресторанчик для людей искусства, который неожиданно прославился, когда его завсегдатаем стал Гитлер. Здесь естественней было бы представить себе в качестве гостей сборище художников вокруг Ленбаха или Штука, с длинными волосами и пышными бородами, чем Гитлера и его сопровождающих, строго одетых, а то и вовсе в форме. Но он хорошо чувствовал себя в остерии; как «несостоявшемуся художнику», ему явно нравилась эта среда, некогда предмет вожделенных мечтаний, а теперь и безвозвратно упущенная и в то же время оставленная позади. Круг приглашенных, которым нередко приходилось часами ждать Гитлера, был узок: адъютант, гаулейтер Баварии, Вагнер, если он успел проспаться после выпивки, и, разумеется, постоянно сопровождавший Гитлера придворный фотограф Гофман, который к этому времени дня уже находился в легком подпитии. Весьма часто мисс Митфорд, иногда, хотя и редко, какой-нибудь художник либо скульптор. Еще доктор Дитрих, начальник отдела печати имперского правительства, и постоянно — Мартин Борман, чрезвычайно невзрачный с виду секретарь Рудольфа Гесса. На улице поджидали сотни людей, которым достаточно было нашего присутствия, чтобы понять, что «он» будет.
За окнами остерии бурное ликование: Гитлер взял курс на наш любимый закуток, который с одной стороны был отделен невысокой перегородкой; если погода позволяла, мы сидели во дворе в некотором подобии беседки. Хозяина и обеих подавальщиц приветствовали в шутливой манере: «Ну, чем вы нас сегодня попотчуете? Равиоли? Ах, будь они не такие вкусные... Слишком велик соблазн». Гитлер прищелкивал пальцами: «Всем вы взяли, господин Дойтельмозер, но моя фигура, моя фигура! Вы упускаете из виду, что фюрер не может есть что пожелает!» После чего Гитлер долго изучал меню и выбирал все-таки равиоли.
54
Каждый заказывал, сообразуясь со своим вкусом: шницель, гуляш, разливное вино из Венгрии, — и, не смущаясь тем, что Гитлер порой подшучивал над «трупоедами» и винохлебами, всему воздавал должное. В этом кругу все чувствовали себя среди своих и соблюдали безмолвный уговор: о политике — ни слова. Единственное исключение составляла мисс Митфорд, которая и позднее, в годы весьма напряженных отношений, упорно агитировала за свою английскую родину и порой просто умоляла Гитлера наладить отношения с Англией. Несмотря на уклончивую сдержанность Гитлера, она все эти годы не отказывалась от своей идеи. Потом, в сентябре 1939-го, в день, когда Англия объявила войну Германии, она в Английском саду Мюнхена попыталась убить себя из слишком маленького пистолета. Гитлер передал ее лучшим врачам Мюнхена и вскоре на специальной машине отправил через Швейцарию домой, в Англию.
Главной темой разговоров за столом было утреннее посещение мастерской профессора. Гитлер неумеренно расхваливал все, что там видел, все детали без труда запечатлевались у него в памяти. И вообще, его отношение к Троосту напоминало отношение ученика к учителю и сильно смахивало на мое собственное неумеренное восхищение Тессеновом.
Эта черта в Гитлере мне очень нравилась; меня удивляло, что человек, на которого молилось все его окружение, был сам способен на подобные восторги. Гитлер, хоть и ощущал себя архитектором, умел чтить в этой сфере превосходство профессионала; в политике он бы никогда ничего подобного не сделал.
Он без утайки рассказывал, как Брукманы, семья глубоко интеллигентных мюнхенских издателей, познакомили его с Троостом и, когда он увидел работы профессора, у него словно «шоры упали с глаз». «Все те наброски, которые я делал раньше, показались мне теперь совершенно невыносимыми. Какое счастье, какое счастье, что я познакомился с этим человеком!» Между прочим, это и впрямь было счастьем. Страшно подумать, как выглядел бы его архитектурный вкус без влияния Трооста. Однажды он показал мне тетрадь эскизов примерно двадцатых годов. Я увидел опыты репрезентативных зданий в необарочном стиле, типичном для венской Рингштрассе девяностых годов
55
прошлого века: странным образом его наброски на одной и той же странице частенько перемежались чертежами оружия и военных судов.
В сравнении с этим архитектура Трооста была, можно сказать, безыскусна. Потому и влияние Трооста на Гитлера оказалось всего лишь эпизодом. Но до конца своих дней Гитлер нахваливал тех архитекторов и те здания, которые послужили образцом для его ранних эскизов, например парижскую «Гранд-опера» Шарля Гарнье. «Там самая прекрасная в мире парадная лестница. Когда дамы в своих драгоценных туалетах спускаются вниз по лестнице, а ливрейные лакеи стоят шпалерами по обе стороны... господин Шпеер, мы тоже должны такое построить!» Восхищался он и Венской оперой: «Великолепнейшее здание, во всем мире нет лучше, и с превосходной акустикой. Когда еще молодым человеком я сидел там в четвертом ярусе...» Об одном из двух создателей этого здания, ван дер Нюлле, Гитлер рассказывал: «Он думал, будто опера ему не удалась, и за день до открытия в полном отчаянии пустил себе пулю в голову. А на торжественном открытии это стало его величайшим успехом, и весь мир рассыпался в похвалах». Подобные воспоминания нередко приводили Гитлера к мысли, что вот и сам он порой оказывался в тяжелейших ситуациях, но всякий раз его спасал какой-нибудь благоприятный поворот судьбы. Никогда не следует отчаиваться.
Особой его любовью пользовались многочисленные театральные здания Германа Хелмера и Фердинанда Фелне- ра, застроивших в конце XIX века не только Австро-Венгрию, но и Германию позднебарочными театрами по одной и той же неизменной модели. Он знал, в каких городах стоят их здания, и приказал уже впоследствии восстановить заброшенный аугсбургский театр.
Ценил он, впрочем, и зодчих XIX столетия более строгого стиля, таких как, например, Готгфрид Земпер, который построил в Дрездене оперу и картинную галерею, в Вене — Хофбург и дворцовые музеи, или как Теофиль Хансен, которому принадлежат весьма значительные классические сооружения в Афинах и Вене. Не успели в 1940 году немецкие войска занять Брюссель, как мне было велено тотчас ехать туда, дабы своими глазами увидеть гигантский Дворец юстиции работы Пёлерта, которым Гитлер восхищался,
56
хотя знать его, как и парижскую «Гранд-опера», он мог лишь по чертежам: после возвращения из Брюсселя меня заставили подробно доложить об увиденном.
Таков был архитектурный мир Гитлера. Но, в конце концов, его всегда влекло напыщенное необарокко, которое культивировал и Вильгельм II руками своего придворного зодчего Ине: по сути не более чем «барокко упадка», весьма схожее со стилем, сопровождавшим закат Римской империи. Словом, в области архитектуры точно так же, как и в области живописи и скульптуры, Гитлер застрял на уровне своей юности, период между 1880 и 1910 годами придал особые приметы вкусам Гитлера, равно как и его политическим и идеологическим представлениям.
Вообще для Гитлера были характерны взаимоисключающие пристрастия. Так, с одной стороны, он открыто восторгался своими венскими идеалами, которые, вероятно, запечатлелись у него в памяти, но в то же время говорил: «Только у Трооста я впервые узнал, что такое архитектура. Едва у меня завелись кое-какие деньги, я начал покупать у него мебель; смотрел его работы, оформление лайнера «Европа» и не уставал благодарить судьбу, которая, представ передо мной в образе фрау Брукман, подарила мне знакомство с этим мастером. Когда у партии появились значительные средства, я дал ему поручение реконструировать и обставить «Коричневый дом». Вы его видели. Какие трудности возникли у меня на этой почве! Эти мещане из партии сочли проект чересчур расточительным. Чему я только не выучился у профессора во время реконструкции!»
Пауль Людвиг Троост был высокорослый вестфалец, худощавый, голова гладко выбрита. Сдержанный в разговоре, жестах, он принадлежал к группе таких архитекторов, как Петер Беренс, Йозеф М. Ольбрих, Бруно Пауль и Вальтер Гропиус, которые еще до 1914 года, отреагировав таким образом на чрезмерную орнаменталистику стиля модерн, положили начало скупому по части средств архитектурной выразительности и почти лишенному орнаментики направлению, соединявшему в себе спартанский традиционализм и элементы модерна. На долю Трооста иногда выпадали победы в конкурсах, но до 1933 года он никак не мог приблизиться к этой ведущей группе.
57
Как ни распространялась о «стиле фюрера» партийная пресса, на самом деле такового вообще не было. А то, что провозгласили официальной архитектурой рейха, было всего лишь представленным Троостом неоклассицизмом, размноженным, видоизмененным, преувеличенным, а то и вовсе до смешного искаженным. В классицизме в дорическом стиле Гитлер превыше всего ценил его вневременной характер, надеясь обрести некоторые точки соприкосновения с германским миром; и все же было бы ошибкой отыскивать у Гитлера идеологически обоснованный архитектурный стиль. Это не соответствовало его прагматическому мышлению.
Без сомнения, Гитлер преследовал какую-то определенную цель, регулярно приглашая меня в Мюнхен для бесед о строительстве. Он явно хотел сделать и меня последователем Трооста. Я был готов учиться с превеликой охотой, да и впрямь многому научился у Трооста. Богатый, но по стремлению ограничиться лишь простейшими формальными элементами очень сдержанный архитектурный стиль моего второго учителя оказал на меня решающее воздействие.
Когда затянувшаяся застольная беседа в остерии подошла к концу, Гитлер сказал: «Профессор обещал сегодня снять леса с парадной лестницы. Просто не могу дождаться. Брюкнер, подгоните машину, мы сразу же туда поедем. Вы с нами?»
Выйдя из машины, он почти побежал к парадной лестнице «Дома фюрера», оглядел стройку снизу, потом с галереи, потом со ступенек, снова взбежал наверх, придя в полный восторг. Были осмотрены все уголки стройки, Гитлер по обыкновению проявил точное знание каждой детали и каждого размера, чем снова потряс всех причастных к строительству. Довольный результатами и собой лично, ибо он был мотором и двигателем этой стройки, Гитлер перешел к следующему объекту — вилле своего фотографа в Боген- хаузене.
В хорошую погоду кофе подавали в садике, окруженном садами других вилл и потому размером от силы в двести квадратных метров. Гитлер пытался устоять при виде торта, однако потом, осыпав комплиментами хозяйку дома, позволил немного положить себе на тарелку. Когда сияло
58
солнце, могло случиться, что фюрер и рейхсканцлер, сняв китель, в одной рубашке ложился на траву. У Гофманов он чувствовал себя как дома, однажды он даже попросил принести том Людвига Тома, выбрал оттуда пьесу и принялся читать вслух.
Большую радость Гитлеру доставляли картины, которые фотограф присылал ему домой на выбор. Поначалу я ужасался, когда видел, что именно Гофман присылает Гитлеру и что вызывает у Гитлера восторг; позднее я привык, хотя сам не перестал собирать пейзажи ранних романтиков, таких, например, как Ротманн, Фриз или Кобелл.
Одним из любимых художников Гитлера, как, впрочем, и Гофмана, был Эдуард Грютцнер, который со своими блаженно-хмельными монахами и трактирщиками скорее соответствовал мировоззрению фотографа, чем трезвенника Гитлера. Но Гитлер рассматривал эти картины с «художественных» позиций. «Как? Неужели это стоит всего 5000 марок?» На деле красная цена этой картине была от силы 2000. «Да вы понимаете, Гофман, это же просто даром! Вы только взгляните на детали! Нет, Грютцнера у нас недооценивают». Очередная картина того же Грютцнера обошлась Гитлеру еще дороже. «Просто его пока не открыли. Ведь и Рембрандта много лет после его смерти не признавали. И картины его раздавали почти даром. Поверьте слову, этот Грютцнер будет когда-нибудь стоить не меньше, чем Рембрандт. Лучше не мог бы нарисовать и сам Рембрандт».
Гитлер считал конец XIX века одной из величайших эпох в человеческой культуре во всех областях изобразительного искусства, полагая, что лишь из-за недостаточной временной дистанции она еще не снискала должного признания. Но высокие оценки иссякали на подступах к импрессионизму, тогда как натурализм какого-нибудь Лейбля или Тома вполне соответствовал его бойкому художественному вкусу. Макарта он ценил больше других, впрочем, и Шпицвега тоже. В данном случае я вполне мог понять его пристрастие, хотя здесь он восхищался не столько масштабной и зачастую импрессионистической манерой, сколько бытовыми деталями, мягким юмором, с каким Шпицвег посмеивался над провинциальным Мюнхеном своего времени.
59
Позднее фотограф был весьма неприятно удивлен, ибо выяснилось, что некий фальсификатор сумел использовать его любительское пристрастие к Шпицвегу. Сперва Гитлер забеспокоился, не зная, какие из его Шпицвегов настоящие, а какие нет; впрочем, он скоро подавил сомнения и злорадно заявил: «А Шпицвеги, которые висят у Гофмана, они ведь наполовину фальшивые. Мне-то сразу видно. Но не будем отнимать у него радость».
Гитлер часто наведывался в «Чайную Карлтона» — псев- дороскошное заведение с подобием стильной мебели и люстрами из поддельного хрусталя. Он любил эту чайную потому, что мюнхенцы там к нему не приставали, не аплодировали, не требовали автографов, как это случалось в других местах. Иногда поздно вечером раздавался звонок из квартиры Гитлера: «Фюрер едет в кафе «Хэк» и просит вас поехать с ним». Приходилось вылезать из постели без малейших шансов вернуться обратно до двух-трех ночи.
Изредка Гитлер оправдывался: «В боевые времена я привык долго не ложиться. После собраний мне приходилось сидеть с товарищами по партии, а к тому же я так заводился от своих речей, что до утра не мог заснуть».
Кафе «Хэк», в отличие от «Чайной Карлтона», было обставлено простыми стульями и чугунными столиками. Это было старое кафе его партии, где Гитлер встречался прежде с боевыми соратниками. Но в мюнхенский период, уже после 1933 года, он с ними больше не встречался, хотя они столько лет подряд выказывали ему свою преданность. Лично я предполагал, что в Мюнхене существует тесный круг его друзей, но мои предположения не подтвердились. Более того, Гитлер сразу мрачнел, когда кто-нибудь из них хотел с ним поговорить, и почти всякий раз умел под тем либо иным предлогом уклониться от встречи или отложить ее. «Старые бойцы» явно не выучились соблюдать дистанцию, которую Гитлер, несмотря на неизменную внешнюю общительность, считал подобающей. Порой они впадали в неуместно доверительный тон, но мнимое право на близость не соответствовало той исторической роли, которую теперь приписывал себе Гитлер.
Лишь крайне редко он сам посещал кого-нибудь из них. Некоторые успели обзавестись господскими виллами,
60
многие занимали важные посты. День 9 ноября 1923 года оставался единственной неизменной датой их встреч, которую отмечали в пивной «Бюргерброй». Как ни странно, Гитлер не только не радовался предстоящим встречам, но всякий раз демонстрировал в связи с этой своей обязанностью глубокое неудовольствие.
Вскоре после 1933 года образовались группы, весьма друг от друга отдаленные, что, однако, не мешало им шпионить, соперничать и презирать друг друга. Возникла атмосфера презрения и зависти. Это объясняется отчасти и тем, что вокруг каждого вновь выдвинувшегося немедля складывался свой более тесный круг. Так, Гиммлер, к примеру, общался исключительно со своей эсэсовской братией, среди которой он мог рассчитывать на безоговорочное преклонение. Геринг сосредоточил вокруг себя группу некритически настроенных обожателей, состоявших частью из членов его же семейства, частью из наиболее приближенных сотрудников и адъютантов. Геббельс вольготно себя чувствовал в окружении почитателей, подвизавшихся в литературе и в кино. Гесс увлекался проблемами гомеопатии, любил камерную музыку и имел хоть и странных, но довольно интересных знакомых.
Будучи представителем интеллигенции, Геббельс сверху вниз смотрел на необразованных обывателей из ведущей мюнхенской группы, которые, в свою очередь, потешались над литературными амбициями зазнавшегося доктора. Геринг считал, что ни мюнхенские обыватели, ни Геббельс не дотягивают до подобающего ему, Герингу, уровня, а потому избегал какого бы то ни было с ними общения, тогда как Гиммлер, благодаря установке на элитарное призвание эсэсовских частей, которая порой выражалась в предпочтении, отдаваемом сыновьям князей и графов, вообще считал себя значительно выше всех прочих. Было свое ближайшее окружение и у Гитлера, которое всюду за ним следовало и, имея в своем составе шоферов, фотографа, пилота и секретарей, всегда оставалось неизменным.
Правда, Гитлер своей личностью объединял чисто политически все эти рвущиеся прочь друг от друга круги, но слишком редко у него на обеде либо на просмотре какого-нибудь фильма спустя год после прихода к власти появлялись Гиммлер, или Геринг, или Гесс, чтобы можно
61
было говорить о некоем обществе нового режима. А если они и появлялись, их интерес до такой степени был сосредоточен на Гитлере и его благосклонности, что горизонтальные связи с другими группами просто не могли возникнуть.
Впрочем, Гитлер и не стремился соединить членов правящей группы общественными связями. Впоследствии чем более критическим становилось положение, тем с большим недоверием встречались взаимные попытки сблизиться. Лишь когда все кончилось, уже в плену, оставшиеся в живых руководители этих замкнутых мини-мирков впервые — хоть и не по своей воле — увиделись в одном из люксембургских отелей.
В эти мюнхенские дни Гитлер мало заботился о делах государственных и партийных, меньше даже, чем в Берлине или в Оберзальцберге. За весь день на разные обсуждения отводился час, от силы два. Большую часть времени занимало праздношатание по строительным площадкам, студиям, кафе, ресторанам, с длинными монологами, адресованными неизменному окружению, которое уже досыта наслушалось неизменных тем и лишь с трудом скрывало скуку.
Проведя в Мюнхене дня два-три, Гитлер обычно приказывал подготовиться к поездке на «гору». В нескольких открытых машинах мы часами катили по пыльным дорогам. Автобана до Зальцбурга тогда еще не было, но его уже строили как объект первостепенной важности. В Лембахе на Химзее, в деревенском трактире, мы устраивали полдник с вкусным тортом, перед которым Гитлер никогда не мог устоять. Затем пассажиры второй и третьей машин еще два часа глотали пыль, потому что автомобили шли почти вплотную друг к другу. К Берхтесгадену вела крутая, вся в выбоинах, горная дорога, и лишь после этого, уже в Оберзальцберге, нас ожидал уютный домик Гитлера с большими застрехами и скромными комнатами: столовая, небольшая гостиная, три спальни. Мебель вся была из периода громоздких буфетов в сентиментальном старонемецком духе, что придавало жилищу уютно-мещанский вид. Позолоченная клетка с канарейкой, кактус и фикус еще больше усиливали это впечатление. На безделушках и вышитых поклонницами подушечках с клятвами «Верность навек»
62
в сочетании с изображением восходящего солнца пестрели свастики. Гитлер смущенно признавался мне: «Я знаю, что это некрасиво, но многое я получил в подарок и не хотел бы с этим расставаться».
Вскоре он возвращался из своей спальни, где успевал сменить китель на легкую баварскую куртку из голубого полотна, подобрав к ней желтый галстук. После чего он по большей части сразу начинал обсуждать строительные планы.
Через несколько часов к дому подъезжал маленький закрытый «мерседес» с обеими секретаршами — фройлейн Вольф и фройлейн Шрёдер: в их обществе часто можно было видеть простую мюнхенскую девушку. Скорее миленькая и свеженькая, чем красивая, и держалась она очень скромно. Никто не мог бы догадаться, что это возлюбленная самого повелителя — Ева Браун.
Это закрытое авто никогда не ездило вместе со всей колонной, чтобы его не связывали с именем Гитлера. Едущие совместно с ней секретарши должны были как бы замаскировать приезд возлюбленной. Меня удивляло, что и Гитлер и она избегали всего, могущего указать на интимную близость, — чтобы поздно вечером все же совместно проследовать в спальни верхнего этажа. Я так никогда и не сумел понять, зачем понадобилось держать эту ненужную, неестественную дистанцию даже в узком кругу, от которого их отношения все равно не могли укрыться.
Ева Браун соблюдала такую же дистанцию применительно ко всем лицам гитлеровского окружения. Даже по отношению ко мне это изменилось лишь через несколько лет. Когда мы познакомились с ней поближе, я понял, что ее сдержанность, из-за которой она многим казалась высокомерной, лишь прикрывает смущение, ибо она сознавала двусмысленность своего положения при дворе Гитлера.
В первые годы нашего знакомства Гитлер с Евой Браун, адъютантом и слугой жил в маленьком домике, а мы, пятеро или шестеро гостей, среди них даже Мартин Борман и начальник отдела печати Дитрих, и обе секретарши, размещались в пансионе по соседству.
Желание Гитлера поселиться в Оберзальцберге отвечало, казалось, его любви к природе. Но тут я заблуждался. Гитлер, правда, нередко любовался каким-нибудь красивым видом, но его больше привлекали бездонные пропасти,
63
нежели красоты приятного пейзажа. Впрочем, чувства его, возможно, были глубже, чем он давал понять. Мне, например, бросилось в глаза, что цветы ему особой радости не доставляли, и ценил он их скорее как детали убранства. Когда в 1934 году берлинская женская организация пожелала встретить Гитлера на Ангальтском вокзале и вручить ему цветы, глава организации позвонила Ханке, статс-секретарю министра пропаганды, чтобы узнать, какие цветы предпочитает Гитлер. Ханке был обескуражен: «Я всех обзвонил, я спрашивал адъютанта — и никакого успеха. Никаких он не любит». И, немного подумав: «Как по-вашему, Шпеер? Давайте скажем, что эдельвейс. По-моему, эдельвейс лучше всего. Во-первых, это нечто редкое, да и растет в баварских горах. Давайте скажем — эдельвейс?» С этого самого дня эдельвейс официально стал «цветком фюрера». Этот случай показывает, как партийная пропаганда порой собственноручно формировала образ Гитлера.
Гитлер часто рассказывал о больших горных переходах, которые он совершал прежде. Но, конечно, с точки зрения настоящего альпиниста переходы были не бог весть какие. Альпинизм, как и горнолыжный спорт, Гитлер не признавал: «Как можно находить удовольствие в том, чтобы искусственно продлевать ужасную зиму, поднимаясь в горы?» Его отвращение к снегу проявлялось в нем снова и снова, задолго до катастрофической зимней кампании 1941/42 года. «Будь моя воля, я бы запретил эти виды спорта, потому что они часто приводят к несчастным случаям. Но зато из этих дураков черпают пополнение горные части».
Между 1934 и 1936 годами Гитлер еще совершал дальние прогулки по лесным дорогам в сопровождении гостей и трех-четырех охранников в штатском, принадлежащих к его команде лейб-штандарта. Еве Браун тоже разрешалось с ним показываться, но только в сопровождении обеих секретарш и лишь в конце колонны.
Считалось проявлением особой милости, когда Гитлер подзывал кого-то к себе в голову колонны, хотя разговор на ходу обычно не клеился. Примерно через полчаса Гитлер менял собеседника: «Пришлите сюда пресс-шефа», а первый собеседник подвергался ссылке в обоз. Прогулка шла в быстром темпе, по дороге нам часто встречались другие
64
гуляющие. Остановившись на обочине, они почтительно приветствовали Гитлера, а наиболее смелые, особенно женщины и девушки, даже заговаривали с ним и получали в ответ несколько приветственных слов.
Целью прогулки иногда оказывался «Хохленцер», маленький горный трактирчик, примерно в часе ходьбы, где за простыми деревянными столами под открытым небом можно было выпить стакан молока или кружку пива.
Мы лишь однажды предприняли настоящий поход с военным министром генерал-полковником фон Бломбергом. Нам казалось, что между ними идет обсуждение серьезных военных проблем, поскольку спутникам было велено отойти за пределы слышимости. И даже когда мы сделали привал на полянке, Гитлер приказал слугам расстелить пледы подальше от других спутников, чтобы развалиться на них вместе с генерал-полковником, — картина с виду мирная и безоблачная.
В другой раз мы ездили на машине к Кёнигсзее, а оттуда на моторке к полуострову Св. Варфоломея, а то предпринимали трехчасовой марш через Шарицкель к тому же Кёнигсзее. Последний участок пути нам приходилось прокладывать, преодолевая толпу многочисленных туристов, которых выманивал из-под крыши хорошая погода. Странным образом все эти люди поначалу не узнавали Гитлера в его баварском национальном костюме, поскольку никто и подумать не мог, что Гитлер тоже гуляет, как и прочие. Лишь недалеко от цели нашего похода — трактира «Шифмайстер» — накатывала волна восторженных поклонников, которые задним числом осознавали, кого они только что встретили по дороге, и следовали за нашей группой. Мы с трудом — Гитлер торопливым шагом несколько впереди — достигали двери прежде, чем вокруг нас сомкнется быстро растущая возбужденная толпа. Пока мы сидели за кофе и пирожными, большая площадь перед трактиром постепенно заполнялась народом. Лишь когда прибыл отряд полиции, Гитлер залез в открытую машину, встал рядом с шофером на открытом переднем сиденье и возложил руку на ветровое стекло — так что его могли видеть даже те, кто стоял совсем далеко. В такие минуты восторги достигали истерического накала, ибо многочасовое ожидание наконец-то было вознаграждено. Два человека из охраны шли впереди
3 А. Шпеер
65
и по три человека с каждой стороны, покуда машина медленно продвигалась сквозь густеющую толпу. Я, как и обычно, сидел на откидном сиденье вплотную за Гитлером, и мне никогда не забыть эту волну ликования, эту неистовость, которая читалась на множестве лиц. Куда бы ни приезжал Гитлер, где бы ни останавливалась ненадолго его машина, повсюду в первые годы его правления повторялись такие сцены. Причем вызваны они были не риторической либо гипнотической обработкой масс, а исключительно тем действием, которое производило на всех само присутствие Гитлера. Если отдельные люди среди толпы подпадали под это воздействие лишь на короткие секунды, сам Гитлер был подвержен длительному эмоциональному возбуждению. Я восхищался тогда его способностью, несмотря ни на что, сохранять в личной жизни формы непринужденного общения.
Это и понятно: меня самого захватывали подобные бури восторга. Но еще сильней действовала на меня возможность несколько часов, а то и минут спустя обсуждать с идолом целого народа архитектурные планы, сидеть с ним в театре или есть равиоли в остерии — вот этот-то контраст меня и потрясал.
Если еще несколько месяцев назад я приходил в немыслимый восторг от возможности создавать проекты и воплощать их в жизнь, то теперь я всецело подпал под магнетизм, безусловно и безоговорочно — я был готов следовать за ним повсюду. Хотя при этом он явно всего лишь стремился уготовить мне судьбу прославленного архитектора.
Десятилетия спустя я прочел в Шпандау формулировку Кассирера о людях, которые по собственному почину отрекаются от высшей привилегии человека — быть суверенной личностью. И вот я сам стал одним из таких.
Две смерти 1934 года определяли государственную и личную сферу: после нескольких недель тяжелой болезни 21 января умер Троост, архитектор Гитлера, а 2 августа скончался рейхспрезидент фон Гинденбург, смерть которого открыла Гитлеру путь к неограниченной власти.
15 октября 1933 года Гитлер торжественно заложил первый камень Дома германского искусства в Мюнхене. Требуемые удары он выполнил тонким серебряным молотком,
66
который Троост спроектировал именно для этой цели. Но молоток сломался. И вот четыре месяца спустя Гитлер сказал нам: «Когда молоток сломался, я сразу понял, что это недобрый знак! Что-то случится! Теперь мы знаем, почему сломался молоток; архитектор должен был умереть». Я мог бы привести еще много примеров, которые указывали бы на суеверие Гитлера.
Смерть Трооста была тяжелой утратой и для меня. Между нами как раз начали складываться близкие отношения, от которых я ждал для себя много полезного как в человеческом, так и в архитектурном смысле. Функ, в то время статс-секретарь Геббельса, был другого мнения: в день смерти Трооста я встретил Функа в приемной его министра с длинной сигарой посреди круглого лица: «Поздравляю! Теперь вы стали первым!» Мне было тогда двадцать восемь лет.
5
Строительная гигантомания
Некоторое время все выглядело так, будто Гитлер лично намерен возглавить бюро Трооста. Он опасался, что разработка проектов пойдет дальше без должного проникновения в мысли покойного. «Лучше я сам этим займусь», — сказал он. В конце концов, эта его идея была ничуть не более странной, чем позднейшая — стать верховным главнокомандующим.
Без сомнения, Гитлера несколько недель тешила возможность стоять во главе хорошо налаженной мастерской. Уже во время поездок в Мюнхен он иногда готовился к занятию этого поста, беседуя по пути о разных строительных проектах или набрасывая чертежи, чтобы несколько часов спустя сесть за стол руководителя и вносить поправки в планы. Но сам шеф, некто Галль, простой и скромный мюнхенец, с неожиданным упорством защищал работу Трооста, не соглашался на крайне детализированные поначалу чертежные правки Гитлера и делал это гораздо лучше.
Гитлер проникся доверием к Галлю и мало-помалу без лишних разговоров отказался от своего замысла: он признал
3*
67
умение этого человека. Через какое-то время он даже поручил ему возглавить мастерскую и дал новые задания.
Сохранил он тесные отношения и с вдовой своего умершего архитектора, с которой уже давно был очень дружен. Это была женщина со вкусом и с характером, и взгляды свои, зачастую весьма своеобразные, она порой защищала более упорно, чем некоторые мужчины, облеченные чинами и званиями. Она ожесточенно, а порой и слишком бурно отстаивала дело своего покойного мужа и по этой причине у многих вызывала страх. Она одолела Бонаца, поскольку тот имел неосторожность выступить против троостовского проекта перестройки мюнхенской Кёнигсплац; она вела активную борьбу против современных архитекторов Фор- хёльцера и Абеля и во всех этих случаях действовала заодно с Гитлером.
С другой стороны, она по собственному выбору сводила его с мюнхенскими архитекторами, хвалила или осуждала тех либо иных людей искусства, по-своему комментировала события, происходящие в этом мире, и, поскольку Гитлер прислушивался к ее словам, скоро заделалась своего рода судьей по вопросам искусства. К сожалению, не по вопросам живописи. Здесь Гитлер передоверил своему фотографу Гофману право первого отбора из картин, присланных на ежегодную Большую художественную выставку. Фрау Тро- ост часто критиковала односторонний подбор, но в этом вопросе Гитлер не шел на уступки, так что она вскоре отказалась от участия в отборе. И если мне хотелось подарить какие-нибудь картины своим сотрудникам, я давал задание тем, кто покупал для меня, пошарить в подвалах Дома германского искусства, где лежали отвергнутые картины. Сегодня, когда в квартирах у моих знакомых я вижу кое-где плоды сделанного некогда выбора, мне бросается в глаза, что они едва ли отличаются от экспонатов тогдашних выставок. Различия, бывшие некогда предметом яростной борьбы, с ходом времени сошли на нет.
Рёмовский путч я пережил в Берлине. Над городом нависло напряжение; в Тиргартене расположились солдаты в полевой форме: полиция, вооруженная винтовками, разъезжала на грузовиках по городу; в воздухе стояло что-то
68
нехорошее, как и 20 июля 1944 года, которое мне тоже суждено было провести в Берлине.
На другой день Геринга чествовали как спасителя берлинской ситуации. Поздним утром Гитлер вернулся из Мюнхена, завершив проведение арестов, и мне тотчас позвонил его адъютант: «У вас есть какие-нибудь новые планы? Подавайте их сюда!» Это доказывало, что окружение Гитлера желало переключить его на архитектурные проблемы.
Гитлер был крайне взволнован и, как я считаю до сих пор, убежден в глубине души, что чудом избежал величайшей опасности. Снова и снова он изображал, как в Висзее ворвался в отель «Ханзельмайер», и, рассказывая, не забывал выставлять напоказ свою храбрость. «Мы были безоружны, вы только представьте себе, мы даже не знали, смогут ли эти свиньи выставить против нас вооруженную охрану». С отвращением относился Гитлер к атмосфере гомосексуальных связей: «В одной из комнат мы застали врасплох двух обнаженных юнцов!»
Он явно был уверен, что благодаря личному вмешательству в последнюю минуту предотвратил ужасную катастрофу: «Только я мог с этим справиться, больше никто!»
Окружение Гитлера задалось целью усилить отрицательное отношение к убитому вождю штурмовиков и потому начало подсовывать Гитлеру множество деталей из интимной жизни Рёма и его соратников. Брюкнер выкладывал перед Гитлером ресторанные счета разгульной компании. Их якобы удалось обнаружить в берлинском штабе СА. На счетах было обозначено множество блюд, деликатесы, выписанные из-за границы, лягушечьи окорочка, птичьи языки, акульи плавники, яйца чаек, а к ним старые французские вина и лучшие сорта шампанского. Гитлер насмешливо заметил: «Нет, это никакие не революционеры! Для них наша революция слишком пресная».
После одного визита к рейхспрезиденту он вернулся домой крайне довольный. Президент, по его словам, одобрил совершённое примерно в таких выражениях: «В нужный момент не следует останавливаться даже перед крайними мерами. Если надо — и перед кровопролитием!» Одновременно в газетах можно было прочесть, что рейхспрезидент
69
фон Гинденбург официально поздравил своего рейхсканцлера Гитлера и премьер-министра Геринга с успехом.
С активностью почти судорожной руководство предпринимало всевозможные шаги, чтобы оправдать акцию. Многодневная активность завершилась речью Гитлера перед специально созванным для этой цели рейхстагом, в которой из-под заверений в собственной невиновности явственно проступало чувство вины. Оправдывающийся Гитлер — с таким феноменом нам в будущем сталкиваться уже не придется, даже в 1939 году, после вступления Гитлера в войну, — и то нет. Даже министра юстиции Гюртнера тоже включили в список выступающих. Поскольку сам он не был членом партии и тем самым как бы не зависел от Гитлера, его выступление имело особый вес для всех сомневающихся. Тот факт, что вермахт молча проглотил смерть своего генерала Шлейхера, вызвал повышенный интерес.
Куда более внушительным оправданием не только в моих глазах, но и в глазах многих моих не столь политизированных знакомых послужила позиция Гинденбурга. Фельдмаршал Первой мировой войны был для тогдашних граждан бюргерского происхождения непререкаемым авторитетом. Еще когда я был школьником, он воплощал для меня несгибаемого, стоящего вне политики героя новейшей истории; ореол Гинденбурга всегда удалял его от нас, детей, в некий неведомый сказочный мир; вместе со взрослыми мы в последний год войны принимали участие в официальной церемонии вбивания гвоздей в гигантские статуи Гинденбурга, каждый стоимостью в одну марку. Со школьных времен он был для меня олицетворением правительства как такового. Сознание, что эта высшая инстанция поддерживает Гитлера, действовало успокаивающе.
И не случайно после рёмовского путча правые, представленные рейхспрезидентом, министром юстиции и генералитетом, выступили в поддержку Гитлера. Им, правда, был чужд радикальный антисемитизм, присущий Гитлеру, более того, они вообще презирали этот выброс плебейской злобы. В их консерватизме не было ничего общего с безумием расизма. И потому открытое проявление симпатии к Гитлеру после истории с путчем имело под собой другие причины: в резне, учиненной 30 июня 1934 года, было устранено сильное левое крыло партии, представленное по
70
большей части членами СА. Это крыло считало, что его оттерли от пользования плодами революции. И не без оснований считало. Ибо, воспитанное в духе революции, еще до 1933 года большинство ее членов всерьез приняло якобы революционную программу Гитлера. Во время моей недолгой службы в Ванзее я мог наблюдать на самом низком уровне, как простые бойцы СА жертвенно сносили все тяготы, лишения, рисковали в надежде когда-нибудь получить вполне ощутимое вознаграждение. А поскольку это вознаграждение заставляло себя ждать, среди них постепенно росло недовольство и раздражение, которые могли мало-помалу стать взрывной силой. И поэтому вполне возможно, что вмешательство Гитлера и на самом деле воспрепятствовало вспышке «второй революции», о которой часто говорил Рём.
Такими аргументами мы успокаивали свою совесть. Я, как и многие другие, жадно подыскивал оправдания, и то, что еще двумя годами раньше вызвало бы у нас неприязнь, теперь воспринималось как норма нашей новой жизни. А сомнения, которые могли как-то нам помешать, мы подавляли. С расстояния в несколько десятилетий меня потрясает бездумность тех лет.
В результате происшедших событий уже на следующий день мне был дан новый заказ: «Вам надо как можно скорей перестроить Борзигплац. Я хочу перевести сюда из Мюнхена высшее руководство СА, чтобы в будущем они были у меня под присмотром. Отправляйтесь туда и немедленно приступайте к делу». На мое возражение, что там находятся службы вице-канцлера, Гитлер только и сказал: «Пусть сейчас же убираются. Нечего с ними церемониться!»
Заручившись подобным заданием, я немедля отправился в резиденцию Папена. Управляющий, естественно, ничего не знал о предстоящих переменах. Он предложил подождать несколько месяцев, пока новые помещения будут найдены и соответствующим образом оборудованы. Когда я вернулся к Гитлеру, тот пришел в ярость и не только снова приказал тотчас же очистить здание, но и велел приступить к работам, не обращая внимания на чиновников.
Папен вообще не показывался, чиновники пребывали в нерешительности, обещали, однако, за срок от одной до
71
двух недель перенести все бумаги во временное помещение. После чего я не мешкая вызвал рабочих в еще занятое здание и приказал им, производя максимум шума и пыли, сбивать со стен и потолков богатую лепнину. Пыль пробивалась сквозь дверные щели в кабинеты, шум не давал возможности работать. Гитлер пришел в восторг; шутки по адресу «запыленных чиновников» сопровождали его восторги.
Через сутки служащие освободили здание. В одной из комнат я увидел на полу большую засохшую лужу крови. Там 30 июня застрелили Герберта фон Возе, одного из сотрудников Папена. Я отвел глаза и в дальнейшем избегал туда заходить. А больше меня это и не занимало.
2 августа умер Гинденбург. В тот же самый день Гитлер дал лично мне поручение провести необходимые работы в восточно-прусском мемориале Танненберг для подготовки траурной церемонии.
Во внутреннем дворе я велел воздвигнуть трибуну и расставить деревянные скамьи, ограничился черным флером, который вместо флагов свисал с высоких башен, окружавших двор. На несколько часов появился Гиммлер в окружении командиров СС, холодно выслушал рапорт своих порученцев о принятых мерах безопасности; с тем же неприступным видом дозволил мне изложить мой проект. На меня он произвел впечатление дистанцированной безликости. С людьми он не общался, а как бы обращался.
Скамьи из свежего, светлого дерева нарушали заданную мрачную атмосферу. Погода была ясная, и потому я велел их выкрасить в черный цвет, но, на беду, к вечеру начался обложной дождь, который так и лил несколько дней подряд, и краска намокла. Спецрейсом мы заказали из Берлина рулоны черной материи, чтобы обтянуть ею скамьи, но все равно мокрая черная краска пробивалась сквозь ткань, и не один гость траурной церемонии, вероятно, испортил свое платье.
В ночь перед самой церемонией гроб был доставлен на лафете из Нойдека, восточно-прусского имения Гинденбур- гов, и помещен в одну из башен мемориала. Традиционные знамена немецких полков Первой мировой войны и факельщики сопровождали его; никто не проронил ни слова, не раздалось ни одной команды. Эта благоговейная тишина
72
производила куда большее впечатление, нежели организованные торжества последующих дней.
Утром гроб Гинденбурга выставили посреди площади почета, а рядом, без приличествующего случаю отдаления, — трибуну для ораторов. Гитлер вышел вперед, Шауб достал из папки текст доклада и возложил его на трибуну; Гитлер изготовился говорить, помешкал, недовольно и без всякой торжественности встряхнул головой — адъютант, оказывается, перепутал тексты. Когда ошибка была исправлена, Гитлер произнес на удивление холодную, чисто формальную речь.
Уж очень долго, для нетерпеливого Гитлера даже слишком долго, Гинденбург мешал ему своей упрямой несговорчивостью. Частенько Гитлер бывал вынужден проталкивать свои аргументы с помощью хитрости, находчивости либо интриг. Так он подсунул уроженца Восточной Пруссии Функа, который тогда еще пребывал в статс-секретарях при Геббельсе, ежеутренне докладывать рейхспрезиденту обзор прессы. И Функ благодаря земляческим связям умел лишить остроты некоторые политически огорчительные новости либо подать их так, чтобы они не вызвали отрицательных эмоций.
Восстанавливать монархию, как того, по всей вероятности, ждали от нового режима Гинденбург и его многочисленные политические сторонники, Гитлер никогда всерьез не собирался. Нередко он изрекал следующее: «Социал-демократическим министрам вроде Зеверинга я велел и дальше платить пенсию. Можно думать о них что угодно, но одну заслугу у них не отнимешь: они устранили монархию. Это стало серьезным шагом вперед. Только благодаря им была расчищена дорога для нас. А теперь прикажете заново восстанавливать эту монархию? И делить с ними власть? Вы только поглядите на Италию! Думаете, я такой же дурак? Монархи всегда отличались неблагодарностью по отношению к своим главным соратникам. Вспомните хотя бы Бисмарка. Нет, на эту удочку я не попадусь. Пусть даже Гогенцоллерны держатся сейчас очень дружелюбно».
В начале 1934 года Гитлер потряс меня первым большим заказом. В Нюрнберге, на Цеппелинфельде, предстояло заменить временную деревянную трибуну на стационарную
73
каменную. Я честно бился над первыми набросками, пока в удачный час меня не осенила убедительная идея: широкие ступени, кверху — круче, завершаются вытянутым портиком и с обеих сторон ограждены двумя каменными формами. Идея, без сомнения, была навеяна Пергамским алтарем. Цельности замысла мешала только неизбежная почетная трибуна, которую я попытался как можно незаметнее пристроить посредине.
Полный сомнений, я попросил Гитлера ознакомиться с макетом. Неуверенность моя объяснялась тем, что проект выходил далеко за пределы данного мне задания. Главное каменное сооружение имело в длину 390 метров, в высоту — 24. По длине оно превосходило римские термы Каракаллы на 180 метров, то есть почти в два раза.
Гитлер спокойно осмотрел гипсовую модель со всех сторон, профессионально заняв позицию для обзора, безмолвно изучил чертежи, не проявляя при этом никаких эмоций. Я уже было решил, что он отвергнет мой замысел. Но потом, совершенно как при первой нашей встрече, он коротко обронил: «Согласен» — и распрощался. Я и по сей день не могу понять, почему он, питающий склонность к протяженным высказываниям, был столь немногословен, принимая такие решения.
У других архитекторов Гитлер обычно отклонял первый вариант, заставляя по несколько раз переделывать проект, и даже после начала строительных работ вносил то те, то иные поправки. Меня он после первой же проверки моего мастерства не трогал; с того самого раза он уважительно принимал мои идеи, а ко мне самому относился как к архитектору, который в известном смысле стоит на одной с ним ступени.
Гитлер любил повторять, что занимается строительством, чтобы донести потомкам дух его времени. В конце концов, о великих исторических эпохах напоминают потом лишь монументальные сооружения, говорил он. Что осталось от императоров великой Римской империи? Что могло бы свидетельствовать о них теперь, не будь их сооружений? В истории каждого народа непременно бывали периоды слабости, но тогда их сооружения начинали вещать миру об их былом величии. Разумеется, новое национальное сознание не пробудить одной лишь архитектурой. Но когда
74
после долгого периода прозябания нужно заново пробудить чувство национального величия, тогда памятники, оставшиеся от предков, служат наиболее выразительным напоминанием. Так, например, сооружения Римской империи позволят Муссолини восстановить связь с героическим духом Рима, если он желает сделать в глазах своего народа популярной идею современной империи. А наши сооружения должны обращаться к Германии грядущих веков. Подобным обоснованием Гитлер подчеркивал также необходимость длительных строек.
К переоборудованию Цеппелинфельда приступили незамедлительно, чтобы по крайней мере трибуна была готова к предстоящему партийному съезду. Трамвайному депо Нюрнберга пришлось уступить ей место. Когда его взорвали, я как-то прошел мимо этого нагромождения железобетонных конструкций: железная арматура торчала из развалин и уже начала ржаветь. Нетрудно было себе представить их дальнейшее разложение. Это безотрадное зрелище натолкнуло меня на мысль, которую я позднее под несколько претенциозным названием «Теория ценности развалин» предъявил Гитлеру. Исходным пунктом моей теории была мысль о том, что здания современной конструкции, без сомнения, малопригодны для того, чтобы перебросить, как того хотел Гитлер, «мосты традиций» к будущим поколениям: и помыслить нельзя, что эти ржавеющие развалины пробудят героическое вдохновение, которым восхищался Гитлер, созерцая монументы прошлого. Моя теория и была призвана действовать против этой дилеммы: применение особых материалов, равно как и сугубое внимание к особым статистическим выкладкам, должно было дать возможность сооружать здания, которые, даже будучи разрушены, через сотни или (как мы рассчитывали) тысячи лет смогут уподобиться высоким римским образцам.
Для того чтобы сделать эту мысль более наглядной, я велел изготовить романтический набросок; он показывал, как будет выглядеть трибуна на Цеппелинфельде, пробыв несколько поколений в заброшенности, — поросшая плющом, с рухнувшими колоннами, каменная ограда там и сям осыпалась, но в общих чертах она еще вполне узнаваема. Окружение Гитлера сочло мой набросок «кощунством». Одна только мысль, что я предвижу период распада в истории
75
едва созданного тысячелетнего рейха, показалась многим неслыханной. Однако Гитлер счел мои соображения логичными и убедительными: он приказал сооружать впредь важнейшие стройки его государства с учетом «закона развалин».
Как-то, осматривая территорию партийного форума, Гитлер обратился к Борману, в нескольких очень доброжелательных словах выразив пожелание, чтобы я носил впредь партийную форму. Его ближайшее окружение — сопровождающий врач, фотограф и даже директор «Даймлер-Бенц» — такую форму уже получили. Поэтому вид одного-единственного человека в гражданском действительно нарушал общий фон. К тому же этим незначительным жестом Гитлер одновременно дал мне понять, что отныне причисляет меня к своему наиболее близкому окружению. Он ни за что не выказал бы неудовольствия, надумай кто-нибудь из его знакомых посетить рейхсканцелярию или «Бергхоф» в штатском платье, он и сам предпочитал, когда только можно, надевать штатское. Но при поездках и осмотрах он выступал, так сказать, в официальном качестве, а для этого, по его мнению, больше подходит форма. Так я в начале 1934 года стал руководителем отдела при штабе его заместителя Рудольфа Гесса. Несколько месяцев спустя Геббельс произвел меня в такое звание за мое активное участие в подготовке массовых манифестаций на съезде партии, празднике урожая и 1 мая.
30 января 1934 года по предложению Роберта Лея, руководителя «Германского трудового фронта», была создана организация по проведению досуга под названием «Сила через радость». Мне было поручено возглавить там отдел «Эстетика труда», название которого вызывало не меньше насмешек, чем «Сила через радость». Немногим ранее, проезжая через голландскую провинцию Лимбург, Лей увидел здания заводских цехов, которые отличались невероятной чистотой и профессиональной ухоженностью зеленых насаждений вокруг. Из этого наблюдения, в полном соответствии со свойственным ему стремлением к обобщениям, он сделал вывод о преобразовании всей немецкой промышленности. А лично мне его идея принесла еще и побочную общественную нагрузку, которая доставила мне много радости: сперва мы постарались воздействовать на
76
фабрикантов, чтобы те заново переоборудовали фабричные корпуса, а в цехах повсюду расставили цветочные горшки. Тщеславие наше на этом не успокоилось: мы предложили увеличить площадь окон, учредить столовые, и не один замусоренный угол превратился в место, где можно посидеть и отдохнуть во время перерыва: там, где лежал асфальт, разбили газоны, потом мы спроектировали простую, хорошей формы стандартную столовую посуду; спроектировали простую мебель, которую начали в больших количествах выпускать по образцам, мы постарались даже, чтобы по вопросам искусственного освещения и вентиляции рабочего места предприниматели консультировались у специалистов либо просматривали научно-просветительные фильмы.
Как участник всех этих преобразований я привлек на свою сторону бывших профсоюзных функционеров и некоторых членов распущенного Союза художественных ремесел. Все они без различий преданно отнеслись к делу, каждый был исполнен решимости хоть немного улучшить условия жизни и осуществить идею бесклассового общества. При этом я не без удивления констатировал, что Гитлер, между прочим, не проявляет никакого интереса к этим идеям. Он, готовый с головой уходить в обсуждение какой-нибудь строительной детали, проявлял редкостное равнодушие, когда я рассказывал ему про свою социальную деятельность. Британский посол, во всяком случае, ценил ее куда выше, чем Гитлер.
Моим партийным постам я был обязан тем, что весной 1934 года меня впервые пригласили на официальный вечерний прием, который давал Гитлер как глава партии и на который были званы также и жены. В большой обеденной зале апартаментов канцлера нас разместили группками по шесть-восемь человек за круглыми столами. Гитлер переходил от стола к столу, произнося любезности, знакомился с дамами, а когда подошел к нашему столу, я представил ему свою жену, которую до тех пор от него прятал. «Почему вы так долго скрывали от нас свою жену?» — явно находясь под впечатлением, спросил он меня. Я и в самом деле избегал ее представлять, не в последнюю очередь потому, что у меня вызывала глубокое неприятие манера Гитлера обходиться со своей возлюбленной. К тому же, думалось
77
мне, это дело адъютанта — приглашать мою жену либо обратить на нее внимание Гитлера, но уж никак не мое. Впрочем, от них ждать этикета не приходилось. Даже по поведению его адъютанта можно было судить о мещанском происхождении Гитлера.
Жене моей в этот первый вечер их знакомства Гитлер не без торжественности заявил: «Ваш муж будет строить для меня такие здания, каких уже не бывало несколько тысячелетий».
На Цеппелинфельде каждый год проводилась партийная встреча для мелких и средних функционеров, так называемых низовых руководителей. В то время как СА, «Трудовой фронт» и, конечно же, вермахт на своих массовых мероприятиях производили на Гитлера и всех прочих зрителей большое впечатление своей дисциплиной и выправкой, выяснилось, что это руководство представить в столь же выгодном свете очень трудно. По большей части они успели обзавестись солидными брюшками, так что безукоризненного построения от них и требовать не приходилось. В оргкомитете партийных съездов шли совещания по поводу этого прискорбного обстоятельства, о котором сам Гитлер уже не раз иронически высказывался. И у меня возникла спасительная идея: «А пусть они у нас маршируют в темноте».
Перед оргкомитетом съезда я развил свою идею. За высокими валами, ограничивающими поле, предполагалось выставить тысячи знамен всех местных организаций Германии, чтобы по команде они десятью колоннами хлынули по десяти проходам между шпалерами из низовых секретарей; при этом и знамена, и сверкающих орлов на древках полагалось так подсветить сильными прожекторами, что уже благодаря этому достигалось весьма сильное воздействие. Но и этого, на мой взгляд, было еще недостаточно; как-то случайно мне довелось видеть наши новые зенитные прожектора, луч которых поднимался на высоту в несколько километров, и я выпросил у Гитлера 130 таких прожекторов. Правда, Геринг поначалу воспротивился, поскольку эти 130 прожекторов составляли большую часть стратегического резерва, но Гитлер сумел его убедить: «Если мы выставим здесь такое множество, со стороны подумают, будто мы купаемся в прожекторах».
78
Эффект превзошел полет моей фантазии. 130 резко очерченных световых столбов на расстоянии лишь двенадцати метров один от другого вокруг всего поля были видны на высоте от шести до восьми километров и сливались там, наверху, в сияющий небосвод, отчего возникало впечатление гигантского зала, в котором отдельные лучи выглядели словно огромные колонны вдоль бесконечно высоких наружных стен. Порой через этот световой венок проплывало облако, придавая и без того фантастическому зрелищу элемент сюрреалистически отображенного миража. Я полагаю, что этот «храм из света» был первым произведением световой архитектуры такого рода, и для меня он остается не только великолепным пространственным решением, но и единственным из моих творений, пережившим свое время. «Одновременно и торжественно и красиво, словно находишься внутри ледяного собора», — писал английский посланник Гендерсон.
Но при закладке первого камня нельзя было так же упрятать в темноту присутствующее высокое начальство, рейхсминистров, рейхс- и гаулейтеров, хотя они выглядели не более привлекательно. Их с трудом расставили в строю, низведя таким образом почти до уровня статистов, и потому они кротко сносили замечания нетерпеливых распорядителей. При появлении Гитлера все по команде встали по стойке «смирно» и вытянули руку для приветствия. При закладке первого камня в основание «Конгрессхалле» в Нюрнберге Гитлер, заметив меня во втором ряду, прервал ход торжественной церемонии, чтобы пожать мне руку. Этот необычный жест произвел на меня такое впечатление, что я звучно уронил занесенную для приветствия руку на лысину стоявшего передо мной Штрейхера, гаулейтера Франконии.
В дни съезда для личных контактов Гитлер становился почти неуловимым: то он уединялся для подготовки своих речей, то посещал одно из многочисленных мероприятий. Большое удовлетворение доставляло ему растущее с каждым годом число зарубежных гостей и делегаций, особенно если те прибывали с демократического Запада. Во время непродолжительных обеденных перерывов он просил перечислять ему их имена и радовался заметно растущему интересу к возрождению в Германии националистической идеи.
79
В Нюрнберге у меня тоже был нелегкий хлеб, так как на мне лежала ответственность за оформление всех зданий, где в ходе съезда предстояло выступить Гитлеру; как «главный оформитель» я должен был незадолго перед началом каждого очередного мероприятия проверить, все ли в порядке, после чего стремглав переходить к очередному зданию. В ту пору я очень любил знамена и устанавливал их где только можно. Таким образом удавалось привнести игру красок в каменные строения. Мне сослужило хорошую службу то обстоятельство, что продуманное лично Гитлером знамя со свастикой куда лучше подходило для архитектурного оформления, чем знамя, разделенное на три разноцветные полосы. Разумеется, это не совсем соответствовало высокому предназначению знамени, когда его использовали для подкрепления ритмически разрозненных фасадов или для того, чтобы закрыть неприглядные дома эпохи грюндерства от фронтона до самого тротуара, да еще зачастую с добавлением золотых лент, усиливавших воздействие красного цвета, — но я смотрел на все это глазами архитектора. Поистине грандиозные оргии особого рода я учинял в узких улочках Гослара и Нюрнберга, развешивая на каждом доме одно знамя к другому, так что из-за них и неба почти не было видно.
По причине своей занятости я прозевал почти все выступления Гитлера, кроме его «речей о культуре», которые он считал вершиной своего ораторского искусства и которые регулярно разрабатывал уже в Оберзальцберге. Тогда я восторгался его речами, не столько, как мне казалось, из-за их риторического блеска, сколько из-за их продуманного содержания, из-за их уровня. Еще находясь в Шпандау, я принял решение после выхода на свободу перечитать их, ибо надеялся найти что-нибудь из моего прежнего мира, что и сейчас не оттолкнуло бы меня. Но мне пришлось испытать разочарование. В тогдашних обстоятельствах выступления Гитлера много говорили моему сердцу и уму, теперь же они показались мне бессодержательными, лишенными напряжения, плоскими и ненужными. В них четко прослеживалось стремление Гитлера поставить себе на службу понятие культуры, откровенно извратив его смысл для собственных властных целей. Я только не мог
80
понять, почему они тогда производили на меня столь сильное впечатление. В чем тут дело?
Точно так же я никогда не пропускал приуроченную к открытию съездов постановку «Мейстерзингеров» силами Берлинской государственной оперы под руководством Фуртвенглера. Естественно было бы предположить, что такое гала-представление, равное которому можно услышать лишь в Байрейте, соберет тьму зрителей. Свыше тысячи партийных руководителей получали приглашения и билеты, но они явно предпочитали изучать достоинства нюрнбергского пива или франкского вина. При этом каждый, видимо, предполагал, что уж другой-то наверняка выполнит свой партийный долг и отсидит представление. А вообще же слухи о том, что руководство партии якобы всерьез интересуется музыкой, были чистейшей выдумкой. Напротив, партийные верхи были сплошь грубо сколоченными, лишенными индивидуальности типами, которых так же мало можно было завлечь классической музыкой, как и другими видами искусства и литературой. Даже немногочисленные в окружении Гитлера представители интеллигенции, например Геббельс, не бывали на таких мероприятиях, как регулярные концерты Берлинского филармонического оркестра под руководством Фуртвенглера. Из всей верхушки здесь можно было встретить лишь Фрика, министра внутренних дел, да и сам Гитлер, якобы обожавший музыку, ходил в Берлинскую филармонию очень редко, лишь в официальных случаях.
На этом фоне нетрудно понять, почему, когда в 1933 году давали «Мейстерзингеров», к тому моменту, как Гитлер вошел в центральную ложу, Нюрнбергская опера была почти пуста; Его это крайне разгневало, ибо, по его словам, нет ничего унизительней и тяжелей для артиста, чем играть перед пустым залом. Гитлер разослал патрули с предписанием извлечь высоких функционеров из квартир, пивных и винных погребов и направить их в оперу, но все же заполнить на этот раз зрительный зал так и не удалось. На другой день в оргкомитете рассказывали множество смешных историй о том, где и как отыскивали прогульщиков.
На другой год равнодушной к музыке партийной верхушке было напрямик велено присутствовать на торжественном представлении. Они появлялись со скучающим
81
видом, многие не без труда превозмогали сон, а скупые аплодисменты, по мнению Гитлера, никак не соответствовали блистательной постановке. А потому с 1935 года недолюбливающие искусство партийные массы были заменены гражданской публикой, которой пришлось раскошелиться на дорогие билеты. Только этим способом была гарантирована и потребная артистам «атмосфера», и требуемые Гитлером аплодисменты.
Поздно вечером я возвращался в свой номер отеля «Немецкий двор», целиком отведенного под штат Гитлера, гаулейтеров и рейхсминистров. В ресторане отеля я неизменно заставал группу «старых борцов» из числа гаулейтеров. Они галдели, пили, как ландскнехты, и громко рассуждали о предательстве самих основ революции, об отношении партии к рабочим. Эти фрондерские разговоры доказывали, что идеи Грегора Штрассера, некогда возглавлявшего антикапитал истическое крыло внутри НСДАП, хоть и ужатые до ряда громких фраз, все еще живы. Но лишь под воздействием алкоголя фрондеры могли воскресить в себе прежний революционный пыл.
В 1934 году в дни партийного съезда в присутствии Гитлера был продемонстрирован поединок на шпагах. В тот же вечер Гитлер впервые посетил солдатский бивак. Как бывший ефрейтор, он словно окунулся в родную стихию: у лагерных костров он смешался с толпой солдат, его обступили со всех сторон, посыпались шуточки. После этой встречи Гитлер вернулся как бы раскрепощенный и за торопливой трапезой вспоминал отдельные примечательные детали.
Однако армейское командование никоим образом не пришло в восторг. Адъютант Хосбах говорил об «отсутствии дисциплины» среди солдат, которые при встрече с главой государства забыли про должную парадную выправку. И поэтому он настоял, чтобы на следующий год подобным фамильярностям не было места, ибо это не согласуется с достоинством главы государства. В узком кругу Гитлер — хотя и с готовностью повиноваться — выразил неудовольствие по поводу критики. Я был очень удивлен, можно сказать, беспомощной покорностью Гитлера, когда он вплотную столкнулся с этими требованиями. Возможно, он проявлял известную осторожность по отношению к армии
82
из тактических соображений, а возможно, из еще недостаточно окрепшей веры в себя как в главу государства.
В ходе подготовки к съездам я неоднократно встречался с женщиной, которая произвела на меня впечатление, еще когда я был студентом: Лени Рифеншталь, звезда или режиссер в известных фильмах о горнолыжниках. Она получила от Гитлера задание снимать фильмы обо всех партийных съездах. Как единственная женщина с официальными функциями в партийном механизме, она часто противостояла всей партийной организации, которая поначалу готова была поднять против нее бунт. Политические руководители, традиционно враждебно относящиеся к женскому движению, словно вызов воспринимали уверенное поведение этой женщины, которая без тени смущения командовала мужчинами, преследуя свои цели. Плелись интриги. Гесса засыпали доносами с одной целью — лишь бы ее сместить. Но после первого же фильма о съезде, убедившего даже сомневающихся из окружения Гитлера в ее режиссерском таланте, нападки прекратились.
Когда я завязал с ней беседу, она извлекла из кофра пожелтевшую газетную вырезку: «Когда три года назад вы перестраивали Дом окружного партийного управления, я, еще не зная вас лично, вырезала из газеты ваш снимок». На мой растерянный вопрос о причинах она пояснила: «Я уже тогда подумала, что вы с такой головой вполне могли бы сыграть роль... В одном из моих фильмов, разумеется».
Кстати, я припоминаю, что снятые на пленку кадры одного из торжественных заседаний съезда в 1935 году оказались испорчены, и по предложению Лени Рифеншталь Гитлер приказал повторить те же съемки уже на студии. В одном из больших павильонов в Иоганистале я воспроизвел в качестве фона часть зала конгрессов, сцену и трибуну для оратора, направил на них прожекторы, вокруг суетилась съемочная группа, а на заднем плане можно было наблюдать, как прохаживаются Штрейхер, Розенберг и Франк, держа в руках текст и старательно заучивая свои роли. Прибыл Гесс, и его первым взяли на съемки. Точно так же перед 30 000 слушателей на съезде он торжественно воздел руку. С присущим ему пафосом искреннего волнения он обратился именно туда, где на сей раз не сидел Гитлер, и, соблюдая выправку, вскричал: «Мой фюрер!
83
Я приветствую вас от имени партийного съезда. Съезд объявляю открытым. Слово имеет фюрер!» Говоря так, он производил столь убедительное впечатление, что с этой минуты я начал сомневаться в искренности его чувств. Трое остальных тоже правдоподобно разыграли каждый свою роль, обращаясь в пустоту павильона, и все проявили себя одаренными артистами. Я был немало разочарован; фрау Рифеншталь, напротив, нашла эти съемки куда более удачными, чем оригинальные выступления.
Я, конечно, и раньше восхищался ораторским мастерством Гитлера, когда, к примеру, перед выступлением на собрании он тщательно отыскивал место в своем докладе, которое вызовет первый взрыв бурных аплодисментов. Я вполне сознавал присутствие демагогического элемента, которому сам же и содействовал, оформляя наиболее значительные манифестации. Но все-таки до сих пор я не сомневался в искренности тех чувств, с помощью которых оратор вызывал восторги толпы. Тем сильней было мое потрясение, когда в этот день на иоганистальской студии я своими глазами увидел, что все это искусство срывать восторги толпы можно вполне правдоподобно разыграть даже и без публики.
Когда я строил в Нюрнберге, мне виделся некий синтез троостовского классицизма и простоты Тессенова. Я называл этот синтез не неоклассицистическим, а неоклассическим, ибо полагал, что веду его от дорического стиля. Но я сам себя обманывал, намеренно упуская из виду, что все мои постройки создавали монументальную декорацию, опыт которой уже ставился во время Французской революции на Марсовом поле, хотя и с более скромными средствами. Категории «классический» и «простой» едва ли соотносились с гигантскими пропорциями, которые я использовал при строительстве сооружений в Нюрнберге. И все же мои нюрнбергские проекты мне и по сей день нравятся больше всего, в отличие от многих других, которые я потом выполнял для Гитлера и которые получились куда помпезней.
Из-за моего пристрастия к дорическому ордеру я совершил первую свою заграничную поездку в мае 1935 года не в Италию, к ее дворцам эпохи Возрождения, и не к грандиозным сооружениям Рима, хотя здесь я мог куда скорей
84
отыскать каменные образцы, нет и нет, я — что было типично для моего тогдашнего мировосприятия — направился в Грецию. Здесь мы, моя жена и я, отыскивали прежде всего следы дорической культуры, и на нас обоих — о чем я не забыл по сей день — произвел глубочайшее впечатление восстановленный Афинский стадион. Когда двумя годами позднее мне самому пришлось проектировать стадион, я позаимствовал для него подковообразную форму афинского.
Кажется, в Дельфах я сделал открытие: с какой быстротой богатства, добытые в ионийско-азиатских колониях, привели к упадку чистое греческое искусство. Не доказывает ли этот путь развития, сколь уязвимо высокое понимание искусства и сколь ничтожны бывают силы, способные исказить до неузнаваемости идеальные образцы? Впрочем, я делал все эти выводы вполне беззаботно, мои собственные работы казались мне застрахованными от такой напасти.
После возвращения из Греции в июне 1935 года строительство нашего дома в Берлине, на Шлахтензее, было завершено. Скромный домик с одной столовой, всего лишь одной гостиной, необходимыми спальнями — всего-навсего 125 квадратных метров жилой площади; сознательный вызов все усиливающейся тяге глав государства к парадности, которые той порой перебирались в гигантские виллы либо присваивали чужие дворцы. Мы хотели избегнуть того, что могли наблюдать у людей, которые окружали себя роскошью и застывшей официалыциной, а потому и обрекали себя на медленный процесс «окаменения» также и в частной жизни.
Впрочем, я и не мог бы выстроить дом побольше — у меня просто не хватило бы средств. Мой дом стоил 70 000 марок; чтобы их раздобыть, моему отцу пришлось выделить мне 30 000 закладных. Хотя я как свободный архитектор работал на государство и на партию, с деньгами у меня было туго. Ибо в бескорыстном порыве, продиктованном идеалистическим духом времени, я отказался от всех гонораров по архитектурной мастерской.
Это мое решение не встретило понимания. Как-то раз Геринг, будучи в отличном расположении духа, сказал мне: «Ну, господин Шпеер, у вас теперь много дел. Верно, вы и зарабатываете кучу денег?» Когда я ответил отрицательно,
85
он недоуменно на меня воззрился: «Да что вы говорите? Архитектор, у которого столько заказов? А я думал, уж несколько-то тысяч вы в год имеете. Дурацкий идеализм! Деньги надо зарабатывать!» Впредь я согласился получать причитающиеся мне как архитектору гонорары, исключая нюрнбергские постройки, за которые мне в месяц выплачивали тысячу марок. Но не только по этой причине я зорко следил за тем, чтобы, став штатным чиновником, не утратить свою профессиональную самостоятельность: как мне было известно, Гитлер испытывал большое доверие к внештатным архитекторам — даже и в этом сказывалось его предубеждение против чиновников. К концу моей архитектурной деятельности состояние мое выросло примерно до полутора миллионов, а рейх задолжал мне еще миллион, который я так и не получил.
Семья моя жила счастливо и безбедно в этом доме, мне хотелось бы иметь право сказать, что и я наслаждался этим счастьем, как мы однажды намечтали с женой. Но каждый вечер я возвращался домой поздно, дети обычно уже давно спали, и я, не в силах вести разговор с женой, сидел и молчал от усталости. Подобное оцепенение находило на меня все чаще, и по сути — когда я сегодня окидываю взглядом прошлое — со мной происходило то же, что и с руководителями партии, которые сгубили свою жизнь из-за тяги к роскоши. Они цепенели в официальных позах, я — от чрезмерной работы.
Осенью 1934 года мне позвонил Отто Мейснер, который после Эберта и Гинденбурга обрел своего третьего начальника в лице Гитлера. Я должен был на другой день вместе с ним прибыть в Веймар, чтобы дальше уже вместе с Гитлером ехать в Нюрнберг.
До утра я записывал мысли, которые с недавних пор меня занимали. Для съездов в Нюрнберге планировалось еще несколько больших строек: поле для военных парадов, большой стадион, зал для выступлений Гитлера перед деятелями культуры и различных культурных мероприятий. А почему бы не связать все это с уже существующим в единый большой комплекс? До недавнего времени я не решался проявлять инициативу в подобных вопросах, потому что Гитлер отнес их к своей компетенции. И я лишь робко
86
начал набрасывать свой план. В Веймаре Гитлер показал мне проект «партийного форума», принадлежащий профессору Паулю Шульце-Наумбургу. «Похоже на гигантскую базарную площадь в провинциальном городке, — сказал Гитлер. — В проекте нет ничего характерного, он не отличается от прежних. Уж если мы строим партийный форум, должно и потом быть видно, что он построен в наше время и в нашем стиле, как, например, мюнхенская Кёниге - плац». Шульце-Наумбургу, авторитету из «Национального культурного бунда», не предоставили возможности оправдаться, его вообще не пригласили выслушать критику. Гитлер пренебрег репутацией этого человека и назначил новый конкурс среди архитекторов по своему выбору.
Затем он побывал в доме Ницше, где его ожидала сестра философа госпожа Фёрстер-Ницше — эксцентричная женщина с причудами, которая явно не могла найти с Гитлером общего языка. Между ними возник на редкость поверхностный и непоследовательный разговор. Однако главная проблема была разрешена в обоюдных интересах. Гитлер взял на себя финансирование пристройки к старому дому Ницше, и фрау Фёрстер-Ницше не возражала, чтобы проект составил Шульце-Наумбург: «Приспособиться к старому дому он сумеет скорее». Гитлер был явно доволен, что может дать архитектору хоть такое возмещение.
На другое утро мы поехали на машине в Нюрнберг, хотя Гитлер, по причинам, которые мне предстояло узнать в этот же день, предпочитал тогда железную дорогу. Как и обычно, в своем синем гигантском «мерседесе» он сидел рядом с шофером, позади на одном из откидных сидений сидел я, на другом — лакей, по требованию извлекавший из сумки карту, хлеб, таблетки или очки, и, наконец, на задних сиденьях разместились адъютант Брюкнер и доктор Дитрих; в сопровождающей нас машине тех же размеров и того же цвета сидели пятеро крепких парней из охраны и сопровождающий врач — доктор Брандт.
Но едва мы перевалили через Тюрингенский лес и оказались в местности более населенной, сразу начались трудности. Когда мы проезжали через какой-то городок, нас опознали, но, прежде чем власти успели что-нибудь предпринять, мы проскочили мимо. «А теперь будьте начеку, — сказал Гитлер, — в следующем городке мы так дешево не
87
отделаемся. Из местной партгруппы уже наверняка туда позвонили». И действительно, когда мы въехали, улицы были запружены ликующими людьми, деревенский жандарм старался изо всех сил, но машина наша продвигалась с большим трудом. И едва мы пробились сквозь толпу, как несколько восторженных поклонников, уже когда мы выехали на дорогу, опустили шлагбаум, чтобы остановить Гитлера для приветствий.
Короче, мы с большим трудом продвигались вперед. Когда подоспело время обеда, мы свернули в небольшой трактир у Хильдбургсхаузена, где несколько лет назад Гитлер согласился с формальным присвоением ему чина комиссара жандармерии, чтобы получить германское гражданство. Но этой темы сегодня никто не касался. Хозяева прямо себя не помнили от волнения. Не без труда адъютант выдавил из них предложение: спагетти с яйцом. Мы ждали долго, наконец адъютант заглянул на кухню: «Женщины настолько возбуждены, что даже не могут определить, готовы спагетти или еще нет».
Между тем во дворе собрались тысячи людей, которые скандировали, требуя Гитлера. «Только бы нам пробиться», — обронил он. Медленно, осыпаемые дождем из цветов, мы достигли средневековых ворот. Но молодежь закрыла их прямо у нас перед носом, дети карабкались на подножки автомобиля. Пришлось Гитлеру раздавать автографы, и лишь после этого они открыли ворота. Все смеялись, и Гитлер смеялся вместе со всеми.
На полях крестьяне побросали свои орудия, женщины махали руками — это была поистине триумфальная поездка. В машине, когда мы уже отъехали, Гитлер, повернувшись ко мне, сказал: «До сих пор так принимали только одного немца — Лютера! Когда он ездил по стране, люди стекались издалека и приветствовали его, как сегодня приветствуют меня!»
Эта огромная популярность была более чем объяснима: не кому иному, как Гитлеру, народ приписывал успехи в хозяйстве и внешней политике и с каждым днем все больше видел в нем воплощение глубоко укоренившейся мечты о могущественной, верящей в себя, внутренне единой Германии. Досадовали очень немногие. А если кто-то порой чувствовал, что в нем возникают сомнения, то
88
успокаивал себя мыслями об успехах и о том уважении, которым пользуется режим Гитлера даже в критически настроенной загранице.
Во время шквала приветствий со стороны сельского населения, который захватил и меня, в нашей машине прозвучал один критический голос. Он принадлежал постоянному и давнему шоферу Гитлера Шреку. Я услышал лишь обрывки разговора: «...недовольны из-за... партийцы зазнались... важничают, забыли, откуда они сами...» После безвременной смерти Шрека в личном кабинете Гитлера в Оберзальцберге висел портрет Шрека, выполненный маслом, и рядом портрет матери Гитлера — но не было портрета отца.
Незадолго до Байрейта Гитлер приказал остановить машину и пересел в маленький закрытый «мерседес», который вел его личный фотограф Гофман, после чего, никем не узнанный, спокойно доехал до виллы «Ванфрид», где его поджидала фрау Винифред Вагнер; мы же отправились прямиком на расположенный по соседству курорт Бернек, где Гитлер имел обыкновение останавливаться на ночь, когда ездил из Мюнхена в Берлин. За восемь часов мы проехали всего 210 километров.
Когда я услышал, что Гитлера лишь среди ночи увезли с виллы «Ванфрид», я пришел в некоторое смущение: ведь нам предстояло утром ехать дальше, в Нюрнберг, и можно было предположить, что Гитлер утвердит там строительный проект, как того хотело городское управление, преследовавшее при этом, разумеется, собственные интересы. Если управление одержит верх, почти не останется надежды на принятие моего проекта, потому что Гитлер не любил менять уже принятые решения. Только Шрек видел его в эту ночь. Я ознакомил Шрека со своим планом партийного форума, и он пообещал по дороге рассказать Гитлеру об этом, а если реакция окажется положительной, то и передать ему мои чертежи.
На другое утро перед самым отъездом меня пригласили в приемную Гитлера. «Я согласен с вашим проектом. Мы прямо сегодня переговорим об этом с обер-бургомистром Либел ем».
Два года спустя Гитлер, встретясь с обер-бургомистром, пошел бы напрямик к цели: «Вот план партийного форума,
89
его мы и будем осуществлять». Но тогда, в 1935 году, он еще не чувствовал себя столь неуязвимым и ему пришлось потратить целый час на объяснения, прежде чем он выложил перед ним мои чертежи. Обер-бургомистр, конечно, счел мой проект превосходным, ибо, будучи членом партии, привык голосовать «за».
После того как мой план снискал похвалу, Гитлер начал заново прощупывать обстановку: согласно плану, предстояло перенести Нюрнбергский зоопарк на другое место. «Можно ли требовать от нюрнбержцев такой жертвы? Как мне известно, они очень дорожат своим зоопарком. Мы, конечно, выделим средства на новый, красивее прежнего», — размышлял вслух обер-бургомистр. Он, безусловно, хотел соблюсти интересы своего города. «Надо бы созвать акционеров и попробовать скупить у них акции...» Гитлер был согласен решительно со всем. На улице обер-бургомистр, потирая руки, сказал одному из своих помощников: «Чего ради фюрер так долго нас уговаривал? Конечно, мы уступим ему старый зоопарк, а сами получим новый. Старый уже не очень-то и годится. У нас будет самый прекрасный зоопарк в мире. А нам за него заплатят». Таким образом, нюрнбержцы по меньшей мере получили новый зоопарк — единственное, что удалось осуществить из всего замысла.
В тот же день мы поездом уехали в Мюнхен. Вечером мне позвонил адъютант Брюкнер: «Черт вас подери с вашим планом! Вы что, подождать не могли? Фюрер в последнюю ночь даже глаз не сомкнул, так он был взволнован. В следующий раз по крайней мере поговорите сперва со мной».
Для осуществления этих планов было создано объединение по строительству в Нюрнберге партийного форума; ответственность за финансирование, хотя и не без внутреннего сопротивления, взял на себя рейхсминистр финансов. Председателем Гитлер, следуя престранному побуждению, назначил министра по делам церкви Керля, а своим представителем — Мартина Бормана, который тем самым впервые получил важное официальное поручение помимо партийной канцелярии.
Для создания комплекса предполагались строительные расходы на сумму от 700 до 800 миллионов марок, то есть примерно 3 миллиарда по сегодняшним ценам: сумма,
90
которая восемь лет спустя однажды была израсходована мною на вооружение за четыре дня. Территория вместе с площадками для построений занимала площадь примерно в 16,5 тысячи квадратных километров. Впрочем, еще при Вильгельме II предполагалось оборудовать территорию для немецких национальных праздников размером 2000 метров на 600.
Через два года после того, как Гитлер одобрил мой проект, его в виде макета показали на Всемирной Парижской выставке 1937 года, где он получил Гран-при. По южному краю расположилось Марсово поле, название которого было призвано напоминать не только о боге войны Марсе, но и о месяце, когда Гитлер ввел воинскую повинность. На этом гигантском плацдарме предполагалось выделить площадку в 1050 на 700 метров, где вермахт смог бы проводить боевые экзерсисы, иными словами, небольшие маневры. В V веке до нашей эры грандиозная площадь дворца царей Дария I и Ксеркса I в Персеполе занимала всего лишь 450 метров на 275. Трибуны четырнадцатиметровой высоты должны были, по моему замыслу, обрамлять всю территорию, давая место для 160 000 зрителей: двадцать четыре башни высотой более 40 метров должны были ритмически расчленять сплошную цепь этих трибун, а посредине возвышалась почетная трибуна, увенчанная женской фигурой. Нерон в 64 году нашей эры приказал воздвигнуть на Капитолии гигантскую фигуру высотой в 36 метров, нью-йоркская статуя Свободы имеет высоту 46 метров, наша же должна была превзойти ее на 14 метров.
С северной стороны, точно по направлению к старинному нюрнбергскому замку Гогенцоллернов, который виднелся вдалеке, проходила Триумфальная дорога двухкилометровой длины и восьмидесятиметровой ширины, открывая вид на Марсово поле. По этой дороге вермахт должен был продефилировать мимо Гитлера в пятидесятиметровых шеренгах. Строительство этой дороги было завершено как раз перед войной. Она была выложена тяжелыми гранитными плитами, достаточно прочными, чтобы выдержать вес танка; поверхность плит была нарочно сделана шероховатой, чтобы солдаты, проходя парадным шагом, не скользили по ним. Справа размещались трибуны, стоя на которых Гитлер в окружении своего генералитета
91
должен был принимать военные парады. А напротив расположился портик, где предполагалось выставить знамена всех полков. Портик высотой всего лишь восемнадцать метров должен был служить масштабом для сравнения с расположенным позади Большим стадионом, вместимость которого Гитлер определил в 400 000 зрителей.
Величайшим в истории аналогичным строением был Circus maximus в Риме для 150 000—200 000 зрителей, тогда как наши современные стадионы не переходили границу в 100 000 зрителей. Пирамида Хеопса, воздвигнутая примерно в 2500 году до Рождества Христова, при 230 метрах длины и 146 метрах высоты имела объем 2 570 000 кубических метров. Нюрнбергский стадион имел бы 550 метров в длину и 460 в ширину, а застроенный объем его равнялся бы 8 500 000 кубометров, короче, примерно в три раза превысил бы пирамиду Хеопса. Стадион должен был стать самым крупным сооружением на всей территории форума и одним из величайших в истории. Расчеты показывали, что для предусмотренного количества зрителей его внешняя сторона должна была иметь в высоту почти 100 метров. Применение овальной формы было невозможно: возникший при этом котел не только вбирал бы в себя жару, но и наверняка вызывал бы психический дискомфорт. Поэтому я и выбрал афинскую форму подковы. На одном из спусков, все время сохранявших один и тот же угол наклона — неровности мы собирались выровнять с помощью деревянных конструкций, — мы проверили, можно ли следить за спортивным представлением из самых верхних рядов; результат оказался даже лучше, чем я предполагал.
Мы прикинули, что Нюрнбергский стадион будет стоить от 200 до 250 миллионов марок, то есть по сегодняшним ценам около миллиарда, Гитлера это ничуть не смутило: «Это дешевле, чем два боевых корабля типа «Бисмарк». Причем броненосец можно разрушить в один миг, а если и не разрушить, он лет через десять все равно превратится в металлический лом. А ваше сооружение простоит века. Если министр финансов спросит вас, сколько это стоит, уклонитесь от прямых ответов. Отвечайте, что у вас нет достаточного финансового опыта касательно таких грандиозных строек». Был на несколько миллионов марок заказан гранит, светло-красный для облицовки наружной стороны,
92
белый — для зрительских трибун. На строительной площадке вырыли огромный котлован под фундамент, в годы войны превращенный в живописное озеро, которое позволило догадываться о предполагаемых масштабах сооружения.
Севернее стадиона Триумфальная дорога пересекала обширное водное пространство, в котором должны были отражаться здания. Завершалась дорога площадью, справа ее ограждал сохранившийся и по сей день Конгрессхалле, а слева — Дворец культуры, который предстояло воздвигнуть специально для того, чтобы Гитлер имел там подобающее помещение для своих выступлений по вопросам культуры.
Для сооружения всех зданий партийного назначения, кроме Конгрессхалле, проект которого был завершен уже в 1933 году архитектором Людвигом Руффом, Гитлер назначил генеральным архитектором меня. Он предоставил мне полную свободу в смысле плана и осуществления его, после чего ежегодно принимал участие в очередной торжественной закладке первого камня. Как бы то ни было, все первые камни после этой процедуры доставлялись в городской строительный центр, где и дожидались, когда приступят к сооружению соответствующего дома и уложат их на должное место в стене.
9 сентября 1937 года, когда закладывали первый камень в основание стадиона, Гитлер в присутствии всех партийных боссов торжественно пожал мою руку: «Сегодня величайший день в вашей жизни». Может, я и тогда уже был скептически настроен, во всяком случае, ответил так: «Нет, не сегодня, мой фюрер, а лишь когда строительство будет завершено».
В начале 1939 года перед началом строительных работ Гитлер пытался так обосновать масштабы, присущие его излюбленному стилю: «Почему всегда самое большое? Я делаю это затем, чтобы вернуть каждому отдельному немцу чувство собственного достоинства. Чтобы в сотне различных областей сказать каждому: мы ни в чем не уступаем другим народам, напротив, мы равны любому из них».
Эту тягу к сверхбольшим масштабам нельзя объяснить единственно формой правления; быстро обретенное богатство тоже играет свою роль, равно как и потребность демонстрировать собственную силу, — неважно, из каких
93
соображений. Именно поэтому мы обнаруживаем среди древнегреческих сооружений самые крупные на Сицилии и в Малой Азии. По всей вероятности, это связано с политическим устройством городов, где по большей части правили диктаторы, но ведь и в Перикловых Афинах культовая статуя Фидиевой Афины Парфенос достигала двенадцатиметровой высоты. Вдобавок и большая часть из семи чудес света стала олицетворением мировой известности именно благодаря своим чрезвычайным размерам: храм Артемиды Эфесской, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский или Фидиев Зевс Олимпийский.
Претензии Гитлера на сверхмасштабность включали, однако, нечто большее, чем он готов был признать перед рабочими: сверхразмеры должны были возвысить его, Гитлера, дело, укрепить его веру в себя. Возведение этих монументов преследовало цель заявить о претензиях на мировое господство задолго до того, как Гитлер рискнул вслух сказать об этом своему ближайшему окружению.
Меня тоже вдохновляла мысль с помощью чертежей, денег и строительных фирм закладывать каменные вехи истории и тем предвосхищать надежды на тысячелетнее царствование. Но мое вдохновение передалось и Гитлеру, когда я доказал ему, что исторически признанные архитектурные вершины будут побиты нами хотя бы в смысле размеров. Причем его энтузиазм никогда не переходил в громкие слова. На них он был скуп. Возможно, его наполняло в эти минуты своеобразное благоговение, но благоговение это было самому же себе и адресовано — себе и возникшему по его воле спроецированному на вечность представлению о собственном величии.
На том же партийном съезде 1937 года, когда Гитлер заложил первый камень в основание стадиона, он завершил свою заключительную речь такой фразой: «Немецкая нация наконец получила свое, германское государство». Во время последовавшего затем обеда адъютант Гитлера Брюк- нер рассказал, что после этих слов фельдмаршал фон Блом- берг от волнения расплакался. Гитлер счел этот рассказ подтверждением полнейшего согласия по поводу основополагающего значения его формулировки.
94
Тогда немало говорилось, что это загадочное высказывание знаменует собой новый отрезок в большой политике: за ним еще многое воспоследует. Я более или менее понимал, о чем идет речь, ибо тогда же Гитлер как-то вдруг задержал меня на лестнице, ведущей к его квартире, пропустив всю свиту вперед: «Мы создадим великий рейх. В нем будут собраны воедино все германские народы. Это начнется в Норвегии и дойдет до Северной Италии. И я сам все это осуществлю. Если только здоровье позволит!»
Формулировка эта была еще относительно сдержанной. Весной 1937 года Гитлер посетил меня в моих берлинских выставочных залах. Мы вдвоем стояли перед двухметровым макетом того самого стадиона на 400 000 человек. Макет начинался как раз на уровне глаз человека, в нем присутствовала каждая будущая деталь, сильные софиты подсвечивали его, так что, пустив в ход минимальную долю фантазии, мы вполне могли представить себе воздействие, которое будет оказывать это сооружение в готовом виде. Рядом с макетом на досках были приколоты чертежи. Гитлер ими и занялся. Мы говорили об Олимпийских играх: я, как уже не раз бывало, обратил внимание Гитлера на то, что спортивная арена у меня не имеет предписанных олимпийскими требованиями размеров. В ответ на это Гитлер, не меняя интонации, словно речь шла о чем-то вполне естественном и не заслуживающем обсуждения, сказал: «Не играет роли. В 1940 году Олимпийские игры еще пройдут в Токио. Но уж после этого они во все времена будут проходить только в Германии, на этом стадионе. И тогда мы будем решать, каких размеров должна быть спортивная арена».
По точно разработанному нами проекту стадион предполагалось завершить к партийному съезду 1945 года...
6
Большое задание
Гитлер, как обычно, бродил по саду Оберзальцберга. «Я и впрямь не знаю, как мне быть. Слишком тяжелое решение. Охотнее всего я присоединился бы к англичанам.
95
Но в ходе истории англичане не раз оказывались ненадежными союзниками. Если я пойду с ними, значит, между Италией и нами отношения будут прерваны раз и навсегда. А потом англичане меня продадут, и мы шлепнемся между двух стульев». Осенью 1935 года Гитлер не раз позволял себе подобные высказывания в тесном кругу людей, по обыкновению сопровождавших его в Оберзальцберге. Именно тогда после массированного артиллерийского обстрела Муссолини ввел свои войска в Абиссинию, негус бежал, было провозглашено создание новой Римской империи.
После того как визит Гитлера в Италию закончился столь бесславно, он хоть и не перестал доверять Муссолини, зато не доверял больше ни итальянцам, ни итальянской политике. Теперь, найдя подтверждение своему недоверию, Гитлер вспомнил про одно из политических завещаний Гин- денбурга, согласно которому Германии не следовало впредь объединяться с Италией. Лига Наций по настоянию Англии приняла экономические санкции против Италии. И Гитлеру, по его словам, предстояло теперь принять окончательное решение, с кем он — с итальянцами или с англичанами. Причем это будет решение с дальним прицелом. Тогда же он сказал и неоднократно повторял впоследствии, что в награду за всемирную поддержку готов гарантировать англичанам целостность их империи. Однако обстоятельства не оставили ему выбора. Они вынудили его принять решение в пользу Муссолини. Несмотря на идеологические и крепнущие личные контакты, решение это далось ему нелегко. Даже и несколько дней спустя Гитлер сокрушенно твердил, что только сложившаяся ситуация вынудила его пойти на этот шаг. Тем сильней было испытанное им облегчение, когда через несколько недель выяснилось, что предпринятые в конце концов санкции, однако же, по ряду основных вопросов щадили Италию. Из этого Гитлер сделал вывод, что ни Англия, ни Франция не желают идти на риск и намерены избегнуть какой бы то ни было опасности.
То, что позднее выглядело как самодурство, явилось результатом этих наблюдений. Он пришел к выводу, что западные правительства проявили себя слабыми и лишенными влияния.
Мнение Гитлера подтвердилось 7 марта 1936 года, когда немецкие части вступили в демилитаризованную Рейнскую
96
область. Это было откровенным нарушением Локарнских соглашений, которое в данном случае оправдало бы силовой ответ стран-партнеров. Гитлер нервничал, ожидая первых реакций. Все до единого купе специального вагона, в котором на исходе того же дня мы отправились в Мюнхен, были охвачены тем же волнением, которое царило в купе фюрера. На одной из остановок Гитлеру передали некое сообщение, он облегченно вздохнул: «Наконец-то! Король Англии не станет вмешиваться. Он сдержит слово. Значит, все будет в порядке!» Реакция Гитлера выдавала его ничтожную осведомленность насчет того, сколь ограничены конституционные возможности английской короны по отношению к парламенту и правительству. Хотя, конечно, военная интервенция потребовала бы королевской санкции, и это Гитлер, наверно, имел в виду. Во всяком случае, тревога Гитлера была вполне заметной, да и позже, уже ведя войну против целого света, он по-прежнему считал ввод войск вермахта в Рейнланд самой дерзкой из своих военных операций. «Мы еще не располагали достойной армией. У нее не хватило бы даже сил, чтобы в одиночку справиться с Польшей. Прими Франция происходящее всерьез, нас бы одолели без всякого труда, нам пришлось бы через несколько дней прекратить сопротивление. Наш воздушный флот выглядел тогда просто смешно. Несколько “Ю-52” от “Люфтганзы”, да и для них у нас не хватало бомб».
После отречения короля Эдуарда VIII, позднее — герцога Виндзорского, Гитлер неоднократно возвращался в разговорах к якобы проявленному Эдуардом пониманию националистической Германии: «Я уверен, с его помощью мы могли бы установить длительные дружеские отношения с Англией. С ним все получилось бы по-другому. Его отречение было для нас тяжелой потерей». К этим высказываниям присоединялись реплики о неких тайных и враждебных Германии силах, которые определяют ход британской политики. Сожаление о несостоявшемся союзе с Англией проходило красной нитью сквозь все годы гитлеровского правления. Оно еще больше усилилось, когда герцог Виндзорский с супругой 22 октября 1937 года посетил Обер- зальцберг, где якобы чрезвычайно положительно отзывался о достижениях Третьего рейха.
4 А. Шпеер
97
Через несколько месяцев после беспрепятственного вступления в Рейнскую область Гитлер снова порадовался миролюбивой атмосфере, царившей во время Олимпийских игр: международное неодобрение явно миновало. Он дал специальное указание создать у высокопоставленных зарубежных гостей впечатление миролюбивой Германии. Он с величайшим волнением следил за спортивными состязаниями; в то время как каждый из неожиданно частых спортивных успехов Германии делал его совершенно счастливым, он с превеликой досадой реагировал на целую серию блистательных побед цветного американского чудо-бегуна Джесси Оуэнса. «Люди, чьи предки обитали в джунглях, крайне примитивны, имеют более атлетическое сложение, нежели цивилизованные белые, — говорил он, пожимая плечами, — они не годятся для конкуренции, так что следовало не допускать их впредь к участию в Олимпийских играх и других спортивных соревнованиях». Большое впечатление на Гитлера произвели бурные овации, которыми берлинцы встретили торжественное вступление французской команды на поле олимпийского стадиона.
Вскинув в приветствии руки, французская команда промаршировала мимо почетной трибуны, где сидел Гитлер, чем и вызвала у зрителей взрыв восторга. Но в продолжительных аплодисментах публики Гитлер услышал глас народа, выражающего таким образом свою мечту о мире и взаимопонимании с западным соседом. Если я правильно истолковал то, что мог тогда наблюдать, Гитлер скорей был встревожен, нежели обрадован ликованием берлинцев.
Весной 1936 года Гитлер вместе со мной осматривал участок автобана. В разговоре он обронил следующее замечание: «Мне надо сделать один строительный заказ. Величайший из всех». На этом замечании он и остановился, не добавив больше ни слова.
От случая к случаю он, конечно, набрасывал некоторые идеи по реконструкции Берлина, но лишь в июне показал мне план городского центра: «Я долго и подробно объяснял обер-бургомистру, почему эта новая улица должна быть 120-метровой ширины, а он мне предъявляет чертеж на 90 метров». Через несколько недель обер-бургомистр доктор Липперт, старый член партии и главный редактор
98
берлинского «Ангриффа», снова был вызван к фюреру, но это ни к чему не привело, улица так и сохранила свои девяносто метров: Липперт никак не мог принять душой строительные планы Гитлера. Поначалу Гитлер ограничивался лишь проявлениями досады и говорил, что Липперт мелочен, что он не способен управлять городом мирового значения, а того менее способен понять уготованную этому городу роль в истории. Но с ходом времени высказывания Гитлера становились все язвительней: «Липперт неумеха, идиот, слабак, ноль». Удивляло, однако, что Гитлер ни разу не высказывал свое неудовольствие в присутствии самого обер-бургомистра и ни разу не пытался его переубедить. Порой казалось, что он уже тогда избегал утомительной работы по изложению причин и мотивов. Через четыре года, после прогулки от «Бергхофа» до «чайного домика», во время которой Гитлер снова возбужденно толковал о Липперте, он велел соединить себя с Геббельсом и категорически приказал тому сместить с должности берлинского обер-бургомистра.
До лета 1936 года Гитлер явно имел намерение передать берлинские планы на обработку городскому управлению.
Теперь же он вызвал меня и прямо, без всякой торжественности дал мне большое задание: «С этим Берлином ничего не поделаешь. Отныне проектом займетесь вы. Возьмите этот чертеж. Как только у вас будет хоть что-нибудь готово, покажите мне. Вы знаете, для этого я всегда выкрою время».
Как Гитлер мне объяснил, его замысел сверхширокой улицы восходил к изучению не совсем удачных берлинских планов, которые и побудили его в двадцатые годы заняться разработкой собственных идей. Он уже тогда принял решение перенести Ангальтский и Потсдамский вокзалы поближе к Темпльгофскому полю, что высвобождало из-под многочисленных путей значительные участки земли в центре Берлина, так что всего лишь после нескольких пробивок от Аллеи Победы можно будет прокладывать Парадную улицу с представительскими зданиями длиной километров на пять.
Все прежние архитектурные пропорции Берлина предстояло разрушить с помощью двух строений, которые Гитлер пожелал воздвигнуть на новой Парадной улице. С северного
4*
99
конца, неподалеку от рейхстага, он предусматривал гигантский Дом собраний, здание с куполом, в котором бы многократно уместился римский собор святого Петра. Диаметр купола должен был составить двести пятьдесят метров. Под большепролетным перекрытием такого купола на площади в 38 000 квадратных метров могли разместиться стоя 150 000 слушателей.
Уже при первых обсуждениях, когда наши градостроительные замыслы находились еще в начальной стадии, Гитлер считал своим долгом объяснять мне, что размеры подобных залов должны определяться средневековыми представлениями. Так, например, по его мнению, монастырь в Ульме имел площадь более 2 500 квадратных метров, но, когда его начали строить в XIV веке, там, даже считая детей и стариков, проживало всего 15 000 человек. «Стало быть, они никогда не смогли бы заполнить весь зал; в отличие от Ульма, для миллионного города Берлина зал на сто пятьдесят тысяч даже и маловат».
На некотором расстоянии от Южного вокзала Гитлер предполагал соорудить как противовес Дому собраний Триумфальную арку, высоту которой он установил в 120 метров. «Это по крайней мере станет достойным памятником нашим павшим в мировой войне. Имя каждого из 1,8 миллиона будет высечено в граните. Какой пустяк по сравнению с ним Мемориал республики. Какой жалкий, недостойный великой нации». Он передал мне два проекта, вычерченных на маленьких картах. «Эти чертежи я сделал десять лет назад. Я все время хранил их, поскольку никогда не сомневался, что однажды воплощу их в жизнь. Вот мы их теперь и воплотим».
Сравнение с вычерченной рядом фигурой человека в натуральную величину, пояснял Гитлер, доказывает, что уже тогда он представлял себе купол диаметром более 200 метров и Триумфальную арку высотой более 100 метров. Удивительней всего здесь были не столько представления о масштабности, сколько редкостная одержимость, с какой он планировал триумфальные постройки в те времена, когда не было даже проблеска надежды, что они когда-нибудь будут воплощены в жизнь. И сейчас на меня производит почти гнетущее впечатление мысль, что в мирное время, твердя о готовности к пониманию, он уже начал
100
осуществлять планы, которые можно рассматривать лишь применительно к воинственным, к гегемонистским претензиям на мировое господство.
«Берлин — большой город. Большой, но не мировой. Вы только взгляните на Париж. Красивейший город мира. Или даже на Вену! Это города с большим размахом. Берлин же просто неупорядоченное нагромождение домов. А нам надо переплюнуть Париж и Вену», — говорил он при начавшихся многочисленных обсуждениях, которые по большей части проходили в квартире рейхсканцлера. До того как начать их, мы непременно дожидались, пока уйдут остальные визитеры.
Планы Вены и Парижа он внимательно изучал в предшествующие годы. И во время наших дискуссий они со всеми деталями присутствовали в его памяти. В Вене он восхищался градостроительным решением Рингштрассе с большими зданиями, ратушей, парламентом, концертным залом, или Хофбургом, или музеями. Он мог правильно сделать чертеж этой части города с соблюдением всех масштабов, он усвоил, что представительские здания, равно как и монументы, надлежит ставить так, чтобы они были видны со всех сторон. Он восхищался ими, даже когда они не отвечали его представлениям, как, например, неоготическая ратуша: «Здесь Вена представлена достойнейшим образом. А теперь взгляните на берлинскую ратушу. Берлин получит новую, еще красивее, чем в Вене, можете мне поверить».
Но еще большее впечатление производили на него грандиозные пробивки магистралей и новые бульвары, которые в Париже создал между 1853 и 1870 годами Жорж Э. Осман, истратив на все 2,5 миллиарда золотых франков. Он считал Османа величайшим градостроителем всех времен, но надеялся, однако, что сумеет его превзойти. Многолетняя борьба, которую пришлось вести Осману, наводила Гитлера на мысль, что и планы реконструкции Берлина встретят противодействие, и лишь, как он считал, его авторитет поможет им утвердиться.
Поначалу он все-таки прибег к хитрости, чтобы добиться согласия от сопротивляющегося городского управления, ибо его представители сочли планы Гитлера своеобразным подарком данайцев, после того как выяснилось, что придется выкладывать значительные суммы на расчистку
101
и последующее строительство улиц, равно как и на постройку общедоступных учреждений и прокладку скоростных магистралей.
«Мы поработаем некоторое время над планами сооружения новой столицы в Мекленбурге на Мюрицзее. Увидите, как засуетятся берлинцы, когда почуют опасность, что правительство покинет Берлин», — говорил он. И впрямь, хватило нескольких намеков такого рода, чтобы отцы города проявили готовность смириться с расходами на реконструкцию. Тем не менее Гитлер еще несколько месяцев забавлялся планом воздвигнуть немецкий Вашингтон и расписывал, как из ничего можно будет создать идеальный город. Но в конце концов он отказался от своей идеи: «Искусственно созданные столицы всегда остаются безжизненными. Вспомните про Вашингтон или Канберру. Вот и у нас в Карлсруэ не зарождается жизнь, потому что неповоротливые чиновники остаются там в своем кругу». Я до сих пор не могу понять этот эпизод: то ли Гитлер и передо мной разыгрывал комедию, то ли какое-то время он сам принимал эту идею всерьез.
Исходным пунктом в его градостроительных замыслах оставались два километра Елисейских полей и на них пятидесятиметровая Триумфальная арка, воздвигнутая Наполеоном в 1805 году. Им же обязана своим возникновением идея Большой дуги, и, наконец, отсюда же черпал Гитлер свое представление о ширине улицы: «Елисейские поля имеют сто метров в ширину. Значит, мы должны сделать ее уж во всяком случае на двадцать метров шире. Когда дальновидный великий курфюрст в XVII веке прокладывал Унтер-ден-Линден шириной в шестьдесят метров, он так же мало мог представить себе сегодняшние транспортные потоки, как и Осман, когда проектировал Елисейские поля».
Для осуществления своих замыслов Гитлер через начальника имперской канцелярии Ламмерса издал указ, согласно которому мне предоставлялись неограниченные полномочия, а сам я поступал непосредственно в его подчинение. Ни министр внутренних дел, ни берлинский обер-бурго- мистр, ни берлинский гаулейтер Геббельс отныне не имели права давать мне какие бы то ни было распоряжения. Гитлер даже вполне однозначно освободил меня от обязанности информировать город и партию о своих планах. Когда
102
я в разговоре с ним выразил пожелание выполнять и эту задачу в качестве независимого архитектора, он тотчас согласился. Ламмерс подобрал необходимую правовую основу, которая вполне соответствовала моему неприятию чиновничьего статуса; мое бюро тем самым не было включено в систему городского управления, а рассматривалось как большой и независимый исследовательский институт.
30 января 1937 года меня официально ввели в курс «величайшего строительного задания» Гитлера. Он долго подыскивал благозвучное, вызывающее пиетет обозначение моей должности, пока Функ не нашел подходящую формулировку: «Генеральный инспектор по застройке и реконструкции столицы рейха». Вручая мне документ
0 моем назначении, Гитлер — что и вообще было типично для его отношения ко мне — вел себя почти робко. После обеда он сунул указ мне в руки со словами: «Желаю успеха!» С этого дня, исходя из благосклонного толкования заключенного со мной договора, мне был присвоен ранг статс-секретаря при правительстве рейха. И с этого дня в свои тридцать два года я занимал место в третьем ряду правительственных скамей рядом с доктором Тодтом, приобрел право сидеть на официальных обедах в дальнем конце стола и автоматически получал от каждого высокого иностранного гостя какой-нибудь декоративный орден раз и навсегда предписанного достоинства. Ежемесячно мне платили
1 500 марок — ничтожно мало, если сравнить с моими архитектурными гонорарами.
Еще в феврале Гитлер резко приказал министру образования освободить достойное здание Академии искусств на Паризерплац под нужды моего учреждения, сокращенно именуемого ГИР. Выбор Гитлера пал на это здание потому, что через министерские сады он мог проникать туда незаметно для глаз общественности. И спустя самое непродолжительное время он начал широко пользоваться такой возможностью.
Градостроительная идея Гитлера имела один крупный недостаток: она не была продумана до конца. Он настолько прикипел сердцем к мысли о том, чтобы в Берлине были свои Елисейские поля, в два с половиной раза превышающие длиной парижский оригинал, что совершенно упустил
103
из виду всю структуру четырехмиллионного города. Для проектировщика подобная улица имела смысл и назначение лишь как функциональная сердцевина реконструированного города. А для Гитлера она оставалась просто декоративным элементом и несла свое значение в себе самой. Да и транспортные проблемы Берлина не были бы разрешены с ее помощью. Гигантский рельсовый клин, деливший город на две части, просто смещался на несколько километров к югу.
Доктор Лейббрандт, чиновник министерства транспорта, ведущий автор проекта тогдашней железной дороги, усмотрел в планах Гитлера возможность широко модернизировать всю транспортную сеть столицы. Вместе с ним мы отыскали, пожалуй, идеальное решение: пропускную способность берлинской окружной дороги предполагалось настолько расширить за счет прокладки еще двух путей, что по ней уже вполне можно было пустить и поезда дальнего следования. А это, в свою очередь, предполагало сооружение двух центральных вокзалов на севере и на юге, которые как транзитные станции сделали бы совершенно излишними многочисленные тупиковые вокзалы Берлина (Лертер- ский, Ангальтский и Потсдамский). Издержки на строительство новых путей должны были составить от одного до двух миллиардов марок.
Таким образом мы получали возможность пробить магистраль дальше к югу по старой линии и приобретали в самом сердце города на расстоянии всего лишь пяти километров большой свободный участок для нового жилого района примерно на 400 000 жителей. Благодаря сносу Лертерско- го вокзала можно было продолжить улицу и к северу, где тоже освоить новый жилой район. Только ни Гитлер, ни я не желали отказываться от большой ротонды как завершения Парадной улицы: гигантскую площадь перед ней предполагалось закрыть для проезда. От планировки, выигрышной для транспорта, мы отказались в пользу репрезентативности; необходимость объезда значительно замедляла транспортный поток между севером и югом.
Сама собой напрашивалась идея — уже существующую шестидесятиметровой ширины выездную магистраль Геер- штрассе повести, сохраняя неизменную ширину, дальше, на восток, — идея, которая была отчасти осуществлена после
104
1945 года, когда продлили старую Франкфуртскую аллею. Эту ось, так же как и северно-южную, предполагалось довести до естественного завершения, то есть до кольцевой дороги, создав и на востоке новые жилые районы для столицы рейха, население которой, несмотря на одновременную модернизацию внутреннего города, таким образом выросло бы почти вдвое.
Обе оси предполагалось обрамить высокими зданиями административного и торгового назначения, которые уступами переходят во все более низкие строения, пока наконец не сменятся частными домами среди густой зелени. Благодаря этой схеме я надеялся избегнуть удушения городского центра с помощью традиционных, кольцом обступающих его зон застройки. Эта схема, которая сама собой неизбежно возникала при моей осевой структуре, по радиусам вводила зеленые участки в самый центр города.
По ту сторону автобана, на каждом из четырех конечных пунктов нового перекрестка двух осей, было оставлено свободное место для аэропорта; вдобавок Рангсдорфское озеро должно было стать посадочной площадкой для гидросамолетов, ибо, по тогдашним представлениям, им принадлежало будущее. А аэропорт Темпльгоф оказался слишком уж в центре нового плана, и потому его предстояло закрыть и создать на его основе увеселительный парк по типу копенгагенского Тиволи. В более отдаленном будущем, как мы предполагали, перекресток двух осей предстояло дополнить пятью кольцами и семнадцатью выездными шоссе шестидесятиметровой ширины, хотя предварительно мы ограничились лишь отведением места под новые районы застройки. Для связи между перекрестком оси и частью колец и для разгрузки центральных улиц планировались подземные скоростные магистрали. На западе к олимпийскому стадиону прилегал новый университетский городок, ибо большинство институтских и учебных корпусов старого университета Фридриха Вильгельма на Унтер-ден-Линден устарело и вообще находилось в ужасном состоянии. С севера примыкали медицинские кварталы с больницами, лабораториями и академиями. Вот и берега Шпрее между Музейным островом и рейхстагом, тоже заброшенную и запущенную часть города, полную развалин и маленьких
105
фабричек, предполагалось переоформить по-новому, расширив и заново отстроив берлинские музеи.
По ту сторону кольцевой дороги предусматривались зоны отдыха, где уже сейчас уполномоченными на то лесничими высокого ранга производилась замена бранденбургского сосняка на лиственные леса. По образцу Булонского леса предполагалось приспособить Груневальд с пешеходными тропинками, местами для отдыха, ресторанами и спортивными площадками для нужд многомиллионного населения столицы. Здесь я велел также насадить десятки лиственных деревьев, дабы восстановить прежний лиственный лес, срубленный по приказу Фридриха Великого для финансирования Силезских войн. Из всего гигантского проекта преобразования Берлина эти лиственные деревья, пожалуй, единственное, что осталось.
Из первоначального плана Гитлера по созданию весьма бессмысленной с градостроительной точки зрения Парадной улицы в ходе работы над ним возникла новая градостроительная концепция. Его исходная идея, если сравнить с этой всеобъемлющей перепланировкой, выглядела более чем скромно. Я многократно превысил гитлеровские представления о масштабах — по меньшей мере в том, что касалось расширения объемов перепланировки. Едва ли подобное часто случалось в его жизни. Однако он без колебания на все соглашался и предоставлял мне полную свободу действий, хотя внутренне принять это решительно не мог. Он все рассмотрел, весьма бегло, надо сказать, чтобы буквально через несколько минут скучающим тоном спросить: «А где у вас новые планы Большой улицы?», под каковой он все еще подразумевал лично им протежируемую среднюю часть Парадной улицы. И начинал упиваться мыслями о новых министерствах, административных зданиях больших немецких фирм, новой опере, отелях «люкс» и дворцах для развлечений — я же охотно ему вторил. И тем не менее: я ставил на одну доску репрезентативные новостройки и общее планирование, а Гитлер — нет. Страсть к монументальным строениям оставляла его равнодушным к транспортным развязкам, жилым кварталам и паркам. Социальный аспект его не интересовал.
Гесс, напротив, интересовался лишь жилищным строительством и пренебрегал репрезентативной частью нашей
106
планировки. В конце одного из своих посещений он начал упрекать меня по этому поводу. Я пообещал ему на каждый кирпич для представительских зданий выделять по кирпичу для жилищного строительства. Гитлер, узнавший об этом, был неприятно удивлен, начал толковать о насущности его требований, однако уговор не отменил.
Несмотря на расхожее мнение, я так и не стал главным архитектором Гитлера, которому подчинены все остальные. Архитекторы, ответственные за реконструкцию Мюнхена и Линца, были одновременно со мной наделены аналогичными полномочиями. Со временем Гитлер привлекал все большее число архитекторов для выполнения специальных заданий; перед войной их было не то десять, не то двенадцать.
При обсуждении строительных планов в полной мере проявилась способность Гитлера быстро схватить смысл проекта, зрительно соединить горизонтальную проекцию и виды в различных ракурсах в единое пластическое целое. При обилии дел государственного уровня, притом что зачастую речь шла сразу о десяти-пятнадцати стройках в различных городах рейха, он, даже имея дело с измененным проектом, порой месяцы спустя немедля разбирался в чертежах, умел припомнить, на каких изменениях настаивал, и не одному архитектору, полагавшему, будто Гитлер давно забыл какую-то свою идею или требования, пришлось испытать глубокое разочарование.
Во время обсуждений он обычно проявлял сдержанность и такт. Требования тех либо иных перемен он выдвигал дружеским тоном без оскорбительного оттенка — совершенно не похожим на тот повелительный тон, какой он употреблял для разговоров с подчиненными в партийных кругах. Считая, что архитектор несет полную ответственность за свое строение, он заботился о том, чтобы и распоряжался именно архитектор, а не сопровождающий его гау- либо рейхслейтер, ибо не желал, чтобы более высокая, но непрофессиональная инстанция включалась в обсуждение. Когда против идеи Гитлера выдвигали другую, он никогда на своей не настаивал: «Да, вы правы, так будет лучше».
107
Вот и у меня укрепилось чувство, будто я несу всю полноту ответственности за то, что спроектировал по идеям Гитлера. Часто у нас возникали разногласия, но не могу припомнить ни одного случая, когда он заставил бы меня как архитектора принять его мнение. В этих сравнительно равноправных отношениях заказчика и архитектора кроется причина того, что и позднее, уже будучи министром вооружения, я имел большую свободу действий, чем большинство министров и маршалов.
Неподатливым, недоброжелательным Гитлер оказывался в тех случаях, когда угадывал скрытое, касающееся самой сути сопротивление. Так, например, профессор Бонац, наставник целого поколения архитекторов, не получал от Гитлера заказов после того, как однажды подверг критике новостройки Трооста на мюнхенской Кёнигсплац. Даже Тодт не решался привлечь Бонаца к строительству нескольких мостов на автобане. Лишь мое обращение к фрау Тро- ост, вдове его любимого профессора, заставило Гитлера сменить по отношению к Бонацу гнев на милость. «Почему бы ему и не строить мосты, — сказала она, — в технических сооружениях он вполне состоятелен». Слова ее были достаточно весомы, и Бонац получил право строить мосты.
Гитлер заверял снова и снова: «Ах, как бы я хотел стать архитектором!», если же я возражал, что, мол, тогда у меня не было бы заказчика, он не соглашался: «Ну, вы-то всегда пробились бы». Я задавался иногда вопросом, согласился бы Гитлер пренебречь своей политической карьерой, встреться ему в начале двадцатых годов состоятельный заказчик, или нет? Вообще, как мне думается, вера в свое политическое призвание и страсть к архитектуре были в нем нераздельны.
Это можно подтвердить с помощью двух эскизов, которые набросал вроде бы потерпевший фиаско тридцатишестилетний политик году примерно в 1925-м, исходя из казавшейся тогда абсурдной надежды однажды увенчать свои государственные свершения Триумфальной аркой и Купольным дворцом.
В неприятное положение попал немецкий олимпийский комитет, когда Гитлер велел ответственному за это статс-секретарю Пфундтнеру из министерства внутренних дел показать ему первые планы стадиона. Архитектор Отто Марх
108
предусматривал сооружение из бетона с застекленными перегородками, как на Венском стадионе. После этого показа Гитлер, сердитый и возбужденный, вернулся к себе домой, куда вызвал меня с планами. Здесь он бесцеремонно сказал статс-секретарю, что от проведения Олимпийских игр надо вообще отказаться, ибо без его, Гитлера, присутствия они состояться не могут, поскольку глава государства обязан их открывать. Но в таком современном ящике из стекла ноги его не будет. За ночь я набросал новый проект, где закрыл конструкции натуральным камнем, сделал более массивными перекрытия, а стеклянные перегородки вообще устранил, и Гитлер остался доволен. Он позаботился о финансировании дополнительных издержек, профессор Марх одобрил изменения и тем спас для Берлина Олимпийские игры, — хотя мне было не до конца ясно, выполнил бы Гитлер свою угрозу или все это было не более как выражением той неуступчивости, с помощью которой он обычно достигал своих целей.
Вот и участие во Всемирной Парижской выставке 1937 года он поначалу отклонил самым резким образом. Сразу после этого министерство экономики попросило меня набросать проект. На территории выставки строительные площадки советско-русского и немецкого павильонов лежали точно друг против друга — умышленное противопоставление со стороны французской дирекции. По чистой случайности я во время одного из своих наездов в Париж забрел в помещение, где был выставлен хранящийся в тайне проект советского павильона. Фигуры десятиметровой высоты торжественно шагали с высокого постамента прямо на немецкий павильон. После этого я набросал расчлененный тяжелыми колоннами монументальный куб, который как бы преграждал им путь, а с фронтона моей башни сверху вниз взирал на русскую пару орел, державший в когтях свастику. За павильон я получил золотую медаль, как, впрочем, и мои советские коллеги.
На обеде в честь открытия нашего павильона я увидел французского посла в Берлине Андре Франсуа-Понсе. Он предложил мне выставить мои работы в Париже как бы в обмен на выставку современной французской живописи. Французская архитектура, по его словам, отстала, «зато в области живописи вы могли бы у нас поучиться». При
109
первом же случае я рассказал Гитлеру об этом предложении, которое давало мне возможность приобрести международную известность. Гитлер обошел молчанием мою неприятную для него фразу, что само по себе не означало ни отказа, ни согласия, однако лишало меня возможности когда-нибудь снова завести с ним речь на эту тему.
В ходе парижских дней я видел Дворец Шайо и Музей современного искусства, равно как и еще не завершенный Музей инженерных и строительных работ по проекту известного авангардиста Огюста Перре. Меня поразило, что в зданиях репрезентативного характера Франция также тяготела к неоклассицизму. Впоследствии нередко утверждали, будто этот стиль есть признак господствующего архитектурного стиля в тоталитарном государстве. Что неверно. Скорее это признак эпохи и присуще Вашингтону, Лондону и Парижу в той же мере, что и Риму, Москве или нашим проектам реконструкции Берлина.
Обзаводясь небольшим количеством французской валюты, мы с женой и несколькими друзьями отправились на машине в поездку по Франции. Медленно передвигаясь в сторону юга, от замка к замку, от собора к собору, мы добрались до на редкость объемистых крепостных сооружений Каркассона, вид которых пробудил в нас романтический трепет, хотя это были всего-навсего средневековые разумно воздвигнутые военные укрепления, имевшие для своего времени то же значение, что для нашего, к примеру, атомный бункер. В отеле при крепости мы обнаружили старинное французское красное вино и намеревались еще несколько дней наслаждаться тишиной и покоем этой местности. Вечером меня вызвали к телефону. В этом отдаленном уголке я мнил себя надежно укрытым от звонков адъютантов Гитлера, тем более что никто нашего маршрута не знал.
Между тем французская полиция из соображений безопасности и контроля следила за нашими передвижениями, во всяком случае, на запрос из Оберзальцберга она могла тотчас доложить, где мы находимся. У телефона был адъютант Брюкнер: «Завтра в полдень вы должны явиться к фюреру». На мое возражение, что одна только дорога домой займет два с половиной дня, он ответил: «На завтра после обеда назначено обсуждение, и фюрер требует, чтобы вы
110
при этом присутствовали». Я еще раз попытался оказать хоть слабое сопротивление. «Минуточку... фюрер знает, где вы находитесь, но завтра утром вы должны быть здесь».
Я был ужасно огорчен, зол и растерян. Из переговоров с пилотом Гитлера по телефону выяснилось, что его спецмашина не может совершить посадку во Франции. Но он устроит мне место в немецком рейсовом самолете, который по дороге из Африки завтра в шесть утра сделает промежуточную посадку в Марселе. А уж потом спецсамолет Гитлера доставит меня из Штутгарта в аэропорт Айнринг под Берхтесгаденом.
Той же ночью мы выехали в Марсель, несколько минут полюбовались при лунном сиянии римскими сооружениями в Арле, который и был, собственно, конечной целью нашего путешествия, к двум часам прибыли в один из марсельских отелей, три часа спустя уже выехали на аэродром, а после обеда я, как и было приказано, стоял перед Гитлером в Оберзальцберге. «Очень жаль, господин Шпеер, но я перенес обсуждение. А мне хотелось услышать ваше мнение по поводу одного висячего моста под Гамбургом». Доктор Тодт намеревался именно в этот день продемонстрировать свой проект гигантского моста, призванного перещеголять знаменитый мост у Золотых ворот в Сан-Франциско. Но поскольку приступить к сооружению этого моста предполагалось лишь в сороковые годы, Гитлер вполне мог дать мне возможность отдохнуть еще одну неделю.
В другой раз мы с женой скрылись на вершине Цуга, когда меня застиг очередной звонок адъютанта: «Вы должны завтра же явиться к фюреру, на обед в остерии». Мои возражения он отмел без долгих разговоров: «Нет, это срочно». — «Ну до чего ж хорошо, что вы заявились к обеду. Как-как, вас вызвали? Я только и спросил вчера: а где это у нас Шпеер? Впрочем, так вам и надо. С чего это вы вздумали бегать на лыжах?!»
Зато фон Нейрат проявил большую устойчивость. Когда Гитлер как-то поздним вечером приказал своему адъютанту: «Я хотел бы поговорить с министром иностранных дел», по телефону был получен такой ответ: «Господин рейхсминистр уже лег». — «Раз я желаю с ним разговаривать, пусть его разбудят». Еще один звонок, и смущенный адъютант докладывает: «Господин рейхсминистр просит передать,
111
что завтра ранним утром он будет в вашем распоряжении, а сейчас он очень устал и хочет спать».
Перед таким решительным отпором Гитлер, правда, отступил, но весь остаток вечера у него было скверное настроение; подобные проявления самостоятельности он не забывал и при первом же удобном случае мстил за них.
7
Оберзалъцберг
Любой человек, облеченный властью, будь то руководитель какого-нибудь предприятия, глава правительства или диктатор целой страны, пребывает в состоянии вечного конфликта. Занимаемое им положение делает его благосклонность делом столь желанным, что его подчиненные могут быть как бы сами по себе подкуплены этим обстоятельством. В свою очередь, и его самое близкое окружение не только рискует обратиться в коррумпированных царедворцев, но и подвержено искушению, демонстрируя глубокую преданность, тем самым подкупить своего шефа.
Истинная ценность правителя определяется его умением противодействовать длительному влиянию своего окружения. Мне доводилось видеть ряд промышленников и военных, которые старались противиться искушению. Если властью пользуются несколько поколений подрад, можно — и даже нередко — обнаружить наследственную неподкупность. В окружении Гитлера лишь одиночки, как, например Фриц Тодт, умели противиться придворным соблазнам. Сам же Гитлер, судя по всему, и не думал бороться с этой тенденцией.
Особые обстоятельства правления, начиная с 1937 года, вели ко все возраставшему одиночеству Гитлера. К этому прибавилась и его неспособность устанавливать человеческие контакты. Среди своих мы тогда часто разговаривали о переменах в нем, которые проступали все ярче и ярче. Генрих Гофман только что заново переиздал свою книгу «Гитлер, каким его никто не знает». Предыдущее издание запретили продавать из-за снимка, изображавшего Гитлера с убитым им позднее Рёмом. Новые снимки Гитлер
112
подбирал сам: они демонстрировали жизнерадостного, непринужденного человека. Его в коротких кожаных штанах можно было увидеть то в лодке, то лежащим на лугу, то во время походов, то в окружении восторженной молодежи или в ателье художников. И всюду он был непринужденный, приветливый, доступный. Книга стала величайшим успехом Гофмана, хотя устарела еще до выхода. Ибо этот самый Гитлер, которого я знавал и в начале тридцатых годов, превращался даже для своего ближайшего окружения в неприветливого, неконтактного деспота.
В уединенной горной долине Баварских Альп, в Остер- тале, я разыскал маленький охотничий домик, достаточно, впрочем, объемистый, чтобы установить там чертежные доски, разместить несколько сотрудников и — весьма скученно — семью.
Там весной 1935 года мы выполняли чертежи для моих берлинских проектов. То были счастливые времена и для работы, и для семьи. Но однажды я допустил роковую ошибку: я имел неосторожность рассказать Гитлеру об этой идиллии. «Ну, у меня вы устроитесь куда лучше. Я предоставлю в распоряжение вашей семьи дом Бехштейнов. Там для вашей мастерской предостаточно места на застекленной веранде». Из этого дома мы в конце мая 1937 года тоже выехали и перебрались в дом-мастерскую, который построил Борман по указанию Гитлера и по моему проекту.
Так я заделался четвертым оберзальцбержцем рядом с Гитлером, Герингом и Борманом.
Само собой, я был более чем счастлив столь очевидной благосклонностью и принятием меня в самый тесный круг. Однако вскоре я понял, что совершил невыгодный обмен. Из уединенной долины мы перебрались на участок, огороженный высоким забором из колючей проволоки и вдобавок доступный лишь после строгой проверки у одного из двух входов. Это напоминало загон для диких зверей; любопытствующие все время пытались поглядеть на высокопоставленных обитателей «горы».
Подлинным хозяином Оберзальцберга был Борман. Прибегая к принуждению, он скупал старинные, вековые крестьянские дворы и тотчас приказывал снести их, равно как и многочисленные священные распятия, хотя против этого возражала церковная община. Прихватывал Борман
113
и государственные леса, до тех пор пока участок от вершины горы высотой почти в 1900 метров не разросся до лежащей на 600 метров ниже долины и не занял площадь в семь квадратных километров. Забор вокруг центральной части протянулся почти на три километра, а по внешнему периметру — на четырнадцать.
Беспощадно относясь к нетронутой природе, Борман изрезал великолепную местность сетью шоссе; лесные тропинки, покрытые до сих пор лишь еловыми иголками и переплетенные корнями деревьев, превратились в асфальтированные терренкуры. Казарма, большой гараж, отель для гостей Гитлера, новая ферма, поселок для все увеличивающегося персонала так быстро возникали один за другим, как это бывает на внезапно вошедшем в моду курорте. Жилые бараки для сотен строительных рабочих лепились по горным склонам, грузовики со строительным материалом заполонили шоссе. По ночам строительные площадки были ярко освещены, потому что работа шла в две смены, а время от времени долину сотрясали взрывы.
На самой вершине личной горы Гитлера Борман воздвиг дом, обставленный в стиле богатой деревенской усадьбы. Туда можно было подъехать по лихо проложенному шоссе, которое подводило к подъемнику, врубленному в скалу. На одну только подъездную дорогу к дому, где Гитлер бывал всего лишь несколько раз, Борман ухлопал от 20 до 30 миллионов. Насмешники из гитлеровского окружения говорили: «Все равно как в городе золотоискателей. Разве что Борман не находит золото, а, наоборот, выбрасывает». Гитлер хоть и сожалел о подобной суете, но всякий раз говорил: «Это делает Борман, и я не хочу вмешиваться». И в другой раз: «Когда все будет готово, я отыщу себе тихую долину и там снова выстрою себе маленький деревянный домик, такой же, как и первый». Но «все» так никогда и не было готово. Борман выдумывал новые и новые шоссе и стройки, а когда в конце концов разразилась война, он начал строить для Гитлера и его окружения подземные жилища.
Гигантское сооружение на «горе», пусть даже Гитлер порой ворчал по поводу непомерных расходов, было характерно для перемен, совершавшихся в его образе жизни, и для его склонности все больше и больше отстраняться от
114
окружающего мира. Все это можно было объяснить лишь боязнью покушений, ибо, несмотря на все оцепление, Гитлер почти ежедневно пропускал мимо себя тысячи восторженных почитателей. Его охрана считала это даже более опасным, чем импровизированные прогулки по общедоступным лесным тропинкам.
И летом 1935 года Гитлер принял решение превратить свой скромный горный приют в представительную горную усадьбу — «Бергхоф». Стройку он оплачивал из собственного кармана, что было не более как красивым жестом, поскольку Борман из других источников тратил на одни только вспомогательные постройки суммы, которые не шли ни в какое сравнение с тем, что Гитлер давал лично от себя.
Гитлер не только сам набрасывал планы «Бергхофа», но и затребовал у меня чертежную доску, рейсшину и прочие принадлежности, чтобы самолично начертить по масштабу план, ракурсы и разрезы своего строения; чужую помощь он при этом решительно отвергал. Лишь два последующих проекта Гитлер вычертил с той же тщательностью, какую проявил при проектировании оберзальцбергского дома: новый военный флаг и его собственный штандарт как главы государства.
В то время как архитекторы обычно воплощают на бумаге различнейшие идеи, чтобы потом развить из этого возможное решение, для Гитлера было характерно желание без долгих раздумий провозгласить первую же идею как единственно — интуитивно — верную, и лишь на самые вопиющие ошибки он потом наводил небольшую ретушь.
Старый дом был им сохранен в объемах нового. Поскольку обе гостиные были связаны одним большим проемом, возник проект, крайне неудобный для приема официальных визитеров. Сопровождавшие их лица были вынуждены на это время довольствоваться неуютным вестибюлем, через который попадали также и в туалеты, и на лестничную клетку, и в столовую.
Во время такого рода бесед личных гостей Гитлера загоняли на верхний этаж, но, поскольку лестница завершалась в передней перед жилым покоем Гитлера, приходилось всякий раз согласовывать с «пропускной командой» вопрос о том, можно ли пройти через переднюю, чтобы выйти на улицу погулять. Прославленное своими размерами окно
115
с подвижной рамой в этом помещении служило предметом гордости для Гитлера, из него открывалась широкая панорама на Унтерберг, а также на Берхтесгаден и Зальцбург. Прямо под этим окном по замыслу Гитлера расположится гараж для его машины, а при неблагоприятном направлении ветра в комнаты проникал резкий запах бензина. Словом, такой проект отклонили бы в любом семинаре любого технического училища.
С другой стороны, именно эти изъяны придавали «Берг- хофу» ярко выраженные личные черты: он сохранил былую примитивность загородного домика, хотя и увеличенного до немыслимых размеров.
Все предварительные сметы были многократно превышены, к великому смущению Гитлера. «Доходы от своей книги я уже полностью истратил, хотя и взял вдобавок у Амана аванс в несколько сот тысяч марок. Денег, как говорит Борман, все равно не хватит. Издательство предлагало мне деньги, если я разрешу издать мою вторую книгу, от двадцать восьмого года. Но я рад-радешенек, что она вообще не издана. Это причинило бы немыслимые политические осложнения. Хотя, с другой стороны, я бы полностью выбрался из финансовых затруднений. Аман обещал мне только в качестве аванса миллион марок, да и сама по себе книга принесла бы несколько миллионов. Потом, может быть, когда я продвинусь дальше. А сейчас — ну никак».
Так он и сидел в добровольном заточении, глядя на Унтерберг, начиная с которого, если верить легенде, спящий покамест император Карл однажды снова возродит царство былого величия. И уж конечно, Гитлер усматривал в этом некую связь со своей персоной. «Вы только поглядите на Унтерберг. Неслучайно мой дом расположен как раз напротив».
Не одна лишь строительная деятельность вокруг Обер- зальцберга связывала Бормана с Гитлером; Борман исхитрился одновременно прибрать к рукам все финансовые дела. Личные адъютанты Гитлера зависели от благосклонности Бормана, и даже возлюбленная Гитлера, как она сама мне в том признавалась, зависела от Бормана, потому что Гитлер
116
возложил на него удовлетворение ее более чем скромных запросов.
Гитлер не уставал нахваливать финансовые таланты Бормана. Он рассказывал, как в тяжелом 1932 году тот оказал партии значительную услугу, основав принудительное страхование от несчастных случаев при выполнении партийных заданий. Доходы от страхования оказались много выше, чем выплаты по нему, а разницу партия могла расходовать на другие цели. Да и после 1933 года Борман оказал Гитлеру не меньше услуг в окончательном решении его денежных проблем. Он нашел два богатых источника: вместе с Гофманом, личным фотографом Гитлера, и министром почт Онезорге они выдвинули идею, согласно которой Гитлер как лицо, изображаемое на почтовых марках, является праводержателем своего изображения и может рассчитывать на выплаты. Процент, правда, выплачивался весьма ничтожный, но, поскольку голова Гитлера была на всех марках, в личный сейф, управляемый Борманом, потекли миллионы.
Основав «фонд Адольфа Гитлера» для поддержки немецкой промышленности, Борман приобрел еще один источник доходов. С предпринимателей, процветающих в результате хозяйственного подъема, без обиняков потребовали добровольными взносами выразить свою признательность Гитлеру. Поскольку и другие руководящие функционеры самостоятельно до этого додумались, Борман выбил из Гитлера указ, согласно которому получал монопольное право распоряжаться доходами фонда. Впрочем, у него хватило ума якобы «по распоряжению фюрера» возвращать добытые суммы различным партийным боссам. Почти каждый представитель партийного начальства получал дотации из этого фонда. Право определять жизненный стандарт различных рейхс- и гаулейтеров хотя и казалось с виду не слишком значительным, но по сути наделяло Бормана куда большей властью, чем какая-нибудь высокая должность в рамках иерархии.
С типичным для него упорством Борман с 1934 года следовал и другому, весьма простому правилу: всегда и везде находиться в непосредственной близости к источнику благ и милостей. Он ездил с Гитлером в «Бергхоф», сопровождал его в других поездках, да и в рейхсканцелярии
117
оставался рядом до самого рассвета. Так он мало-помалу сделался усердным, надежным и — под конец — незаменимым секретарем Гитлера. По любым вопросам он демонстрировал свою готовность идти навстречу, почти каждый использовал его возможности, тогда как сам он с виду абсолютно бескорыстно действовал от имени Гитлера. Даже его непосредственному начальнику Рудольфу Гессу казалось весьма удобным, что его сотрудник столь близок к Гитлеру.
Сильные в окружении Гитлера уже тогда завистливо противостояли друг другу, изготовясь к старту как взаимозаменяемые величины, весьма рано между Геббельсом, Герингом, Розенбергом, Леем, Гиммлером, Риббентропом и Гессом начали вспыхивать позиционные стычки; только Рём сошел с дистанции раньше времени, а Гессу предстояло утратить влияние. Однако никто из них покамест не сознавал ту опасность, которая грозила им от неутомимого Бормана.
Ему удавалось выглядеть незаметным и потихоньку возводить и укреплять свой бастион. Даже среди многих облеченных властью и лишенных совести Борман выделялся своей жестокостью и полной эмоциональной глухотой; он не получил никакого образования, которое бы как-то его сдерживало, и всякий раз умело осуществлял то, что либо приказывал ему Гитлер, либо сам он счел нужным вывести из намеков Гитлера. Будучи от природы угодлив, он обходился со своими подчиненными так, словно то были быки и коровы, недаром он пришел из сельского хозяйства.
Бормана я избегал: мы с первых дней друг друга невзлюбили, хотя держались вполне корректно, как того требовала интимная атмосфера Оберзальцберга, но, кроме моего собственного ателье, я для него никогда ничего не выстроил.
Пребывание на «горе», как частенько повторял Гитлер, давало ему внутренний покой и уверенность, необходимые для принятия неожиданных решений. Там же он писал и свои наиболее важные речи, причем делал это на весьма примечательный лад. Так, например, перед Нюрнбергским партийным съездом он регулярно уединялся на несколько недель в Оберзальцберге, дабы разрабатывать там свои длинные основополагающие речи. Сроки подпирали, адъютанты убеждали его приступить наконец к диктовке, не подпускали
118
к нему посетителей, удаляли от него строительные проекты, чтобы ничто не отвлекало его от работы. Гитлер же откладывал ее с одной недели на другую, потом со дня на день и, лишь попав в жесточайший цейтнот, неохотно приступал к выполнению своих обязанностей. По большей части тогда было уже слишком поздно, чтобы подготовить все предстоящие выступления, и Гитлеру приходилось уже в течение съезда прихватывать ночи, чтобы наверстать время, упущенное в Оберзальцберге.
У меня сложилось впечатление, что этот цейтнот был ему каким-то образом нужен, ибо он со свойственной ему манерой богемного художника презирал трудовую дисциплину и не мог, а то и не желал принудить себя к планомерной работе. В течение недель, кажущихся праздными, он вынашивал содержание речей и мысли, покуда накопленное и вызревшее не изливалось водопадом на сторонников и партнеров.
Переезд из нашей долины в суету Оберзальцберга не шел на пользу моей работе. Уже один только неизменный распорядок дня меня утомлял, а неизменное окружение Гитлера — все те, кто встречался уже в Мюнхене и собирался в Берлине, — наводило на меня тоску. Единственное отличие от Берлина и Мюнхена заключалось в том, что сюда допускали и жен, а кроме того, еще двух или трех секретарш и Еву Браун.
Обычно Гитлер появлялся поздно, часам к одиннадцати, просматривал сообщения прессы, выслушивал отчеты Бормана и принимал первые решения. Собственно день начинался у него с продолжительного обеда. Гости собирались в передней, Гитлер избирал себе соседку по столу, тогда как привилегия вести к столу Еву Браун, неизменно сидевшую по левую руку от Гитлера, была примерно с 1938 года раз и навсегда предоставлена Борману, что однозначно доказывало его доминирующее положение при дворе.
Столовая представляла собой то смешение художественного деревенского стиля и городской элегантности, какое часто можно обнаружить в загородных домах богатых горожан. Стены и потолок были обшиты светлой лиственницей, кресла обтянуты алым сафьяном. Посуда — простая, белая.
119
Серебро — с монограммой Гитлера, такое же, как в Берлине. Сдержанное цветочное оформление всякий раз вызывало похвалы Гитлера. Готовили здесь как на хорошей бюргерской кухне: суп, одно мясное блюдо, десерт, а ко всему — фахенгская минеральная вода или бутылочное вино; подавали слуги в белых перчатках и черных брюках, сплошь члены эсэсовского лейб-штандарта. За длинным столом размещалось примерно человек двадцать, но именно из-за длины стола разговор не возникал. Гитлер сидел посредине, напротив окна. Он вел разговор с кем-либо из приглашенных, выбирая каждый день нового собеседника, либо со своими соседками по столу. Немного спустя после обеда формировалась группа для похода к «чайному домику». Размеры дорожки позволяли двигаться лишь попарно, и потому группа напоминала процессию. Впереди, в некотором отрыве от других, шли двое из службы безопасности, затем Гитлер со своим собеседником, далее — в пестром смешении — все застольное общество и, наконец, следом — снова охрана. Две овчарки Гитлера шныряли кругом и не слушали его приказов, единственные оппозиционеры при дворе. К великой досаде Бормана, Гитлер каждый день избирал один и тот же путь, примерно на полчаса ходу, и пренебрегал заасфальтированными лесными дорожками километровой длины.
«Чайный домик» был воздвигнут на одном из излюбленных мест Гитлера с видом на Берхтесгаденскую долину. Общество всякий раз в одних и тех же выражениях восторгалось живописной панорамой, Гитлер в одних и тех же выражениях изъявлял полное согласие. Сам «чайный домик» состоял из круглой залы, метров восемь в диаметре, довольно уютной, с окном, поделенным на маленькие фасеты, и с камином на противоположной, внутренней стене. Гости рассаживались в удобных креслах вокруг стола, Ева Браун и кто-нибудь из дам — как обычно, возле Гитлера. Кому из общества недоставало места, тот переходил в смежную маленькую комнату. Гостям, смотря по желанию, подавали чай, кофе или шоколад, различные виды тортов, пирожные, печенье, после чего — спиртные напитки. Здесь, за чайным столом, Гитлер с особой охотой пускался в бесконечные монологи, темы которых были по большей части знакомы обществу и которые оно слушало с напускным
120
вниманием. Порой Гитлер и сам задремывал в ходе собственного монолога, общество же продолжало беседу шепотом, надеясь, что Гитлер вовремя проснется к ужину. Словом, здесь все были свои.
Часа через два, примерно около шести, чаепитие завершалось. Гитлер вставал из-за стола, и шествие паломников направлялось к расположенной в двадцати минутах ходьбы стоянке для машин. Воротясь в «Бергхоф», Гитлер, как правило, удалялся в верхние покои, и процессия распадалась. Борман под ехидные комментарии Евы Браун частенько скрывался в комнате какой-нибудь секретарши помоложе. Еще через два часа, соблюдая тот же церемониал, что и за обедом, общество собиралось к ужину. Затем Гитлер все в том же сопровождении переходил в гостиную. Ателье Трооста обставило гостиную хоть и скупо, зато чрезвычайно массивной мебелью: шкаф более трех метров в высоту и пяти в длину, где хранились свидетельства о присуждении почетного гражданства и пластинки. Стеклянная горка классической монументальности, величественные часы, увенчанные бронзовым орлом, который их как бы охранял. И наконец, перед большим смотровым окном расположился шестиметровый стол, на котором Гитлер имел обыкновение подписывать документы, а позднее — изучать по картам положение на фронтах. Было там два уголка для отдыха: один — в задней части помещения — кресла с красной обивкой, сгруппированные вокруг камина, другой — поближе к окну, у круглого стола, покрытого стеклом, чтобы защитить великолепную инкрустацию столешницы. За креслами второго уголка находилась кабина киномеханика, отверстия которой были закрыты гобеленом; у противоположной стены стоял массивный комод со встроенными динамиками, а на комоде — большой бронзовый бюст Рихарда Вагнера работы Арно Брекера. Над ним тоже висел гобелен, призванный закрывать экран. Большие картины покрывали стены, среди них — дама с обнаженной грудью, приписываемая Бордоне, ученику Тициана, далее — живописно раскинувшаяся нагая натурщица, как говорят, кисти самого Тициана, «Нана» Фейербаха в особенно красивой раме, ранний пейзаж Шпицвега, римский пейзаж с развалинами кисти Паннини и, как ни странно, некое подобие алтарного портрета, писанного назаренцем Эдуардом
121
фон Штейпле и изображавшего короля Генриха, основателя государства, но ни одного Грютцнера. Гитлер любил при случае подчеркивать, что приобрел все эти картины на собственные деньги.
Мы садились на софу либо в кресла в одном из уголков, оба гобелена поднимались кверху, и тут такими же, как и в Берлине, убивающими время фильмами начиналась вторая часть вечера. После сеанса все собирались вокруг огромного камина, человек шесть-восемь усаживались на немыслимо длинную и крайне неудобную из-за своей глубины софу, словно куры на насесте, тогда как Гитлер, по обыкновению с Евой Браун слева от себя и с какой-нибудь из женщин справа, занимал места в удобных креслах. Из-за неудачной меблировки общество настолько дробилось, что общий разговор никак не завязывался, а потому каждый вполголоса беседовал с ближайшим соседом. Гитлер приглушенно толковал о всяких пустяках со своими дамами либо шептался с Евой Браун, порой даже брал ее за руку. Но чаще всего он вообще молчал и задумчиво глядел в огонь камина. Тогда гости замолкали, чтобы не нарушать громким разговором ход важных мыслей.
От случая к случаю обсуждали увиденные фильмы, причем оценку женских ролей преимущественно делал Гитлер, мужских — Ева Браун. Никто не давал себе труда подняться в разговоре над пошлым обывательским уровнем и, к примеру, обсудить новые режиссерские приемы. Впрочем, и подбор фильмов — сплошь развлекательной продукции — не располагал к этому. Экспериментальное кино того времени, как, например, фильм Курта Эртеля о Микеланджело, нам не показывали, при мне, во всяком случае, никогда. Иногда Борман пользовался возможностью незаметно подорвать авторитет Геббельса, ответственного за всю кинопродукцию. Он ехидно прохаживался по адресу Геббельса, когда тот долго не хотел выпускать на экран фильм «Разбитый кувшин», поскольку смутно подозревал, что хромой деревенский судья Адам, сыгранный Эмилем Яннингсом, высмеивает именно его. С язвительным удовольствием Гитлер посмотрел недопущенный фильм и приказал крутить его во всех крупнейших берлинских кинотеатрах, хотя приказ его долгое время не выполнялся, что
122
было, в общем-то, показательно как удивительный порой недостаток власти у Гитлера.
Впрочем, Борман не отставал от Гитлера до тех пор, покуда он, всерьез осердясь, не дал недвусмысленно понять Геббельсу, что его — Гитлера — приказы надлежит выполнять.
Потом, уже во время войны, Гитлер отказался от вечерних сеансов, поскольку решил лишить себя любимого развлечения, по его словам, «из сочувствия к солдатам, которые терпят лишения на фронте». Вместо фильмов теперь по вечерам крутили пластинки. Но, несмотря на великолепную фонотеку, Гитлер все время предпочитал одну и ту же музыку. Ни музыка барокко, ни камерная, ни классика, ни симфонии не представляли для него интереса. Вместо того, по вскорости установившемуся обычаю, он для начала заказывал бравурные отрывки из вагнеровских опер, после чего прямиком переходил к оперетте. Так и повелось. Гитлер почитал для себя делом чести угадывать певиц и радовался, когда — как часто бывало — правильно называл имя.
Чтобы как-то оживить эти весьма пресные вечера, подавали шампанское, после завоевания Франции — трофейное, весьма дешевых сортов, так как лучшие сорта расхватали Геринг и его фельдмаршалы. Начиная с часу ночи многим, несмотря на выдержку, не удавалось скрыть зевоту. Тем не менее в этой пустой и утомительной монотонности вечер продолжался еще добрый час, покуда наконец Ева Браун, обменявшись с Гитлером несколькими словами, не получала разрешения удалиться в верхние покои. Сам Гитлер вставал, чтобы откланяться, лишь минут пятнадцать спустя. За этими поистине удручающими часами для обретших свободу гостей нередко следовала развеселая пирушка с коньяком и шампанским.
Под утро мы расходились по домам, смертельно усталые от безделья. Через несколько дней у меня началась, как я ее тогда называл, «горная болезнь», иными словами, из-за этого бесцельного времяпрепровождения я почувствовал себя измученным и пустым. Лишь когда праздность Гитлера нарушалась деловыми разговорами, я мог улучить время, чтобы вместе с коллегами сесть за планы. В качестве постоянного и желанного гостя, а вдобавок обитателя
123
Оберзальцберга, я не мог, как это ни было для меня мучительно, уклониться от участия в ежевечерних посиделках, не боясь показаться невежливым. Доктор Дитрих, пресс-шеф, несколько раз осмелился побывать на концертах Зальцбургского фестиваля, но навлек на себя неудовольствие Гитлера. Тому, кто засиделся в гостях и не хотел окончательно забросить свою работу, оставалось только одно: побег в Берлин.
Иногда из старого круга мюнхенских либо берлинских знакомых Гитлера приезжали Шварц, Геббельс или Герман Эссер. Впрочем, случалось это на удивление редко, да к тому же всего на один-два дня. Вот и Гесса, у которого, казалось бы, были все основания личным присутствием умерить бурную активность своего представителя Бормана, я встречал здесь всего два или три раза. Даже ближайшие сотрудники, которых так часто можно было встретить за обедом в рейхсканцелярии, откровенно избегали появляться в Оберзальцберге. Это тем более бросалось в глаза, что Гитлер при их появлении выказывал радость и обычно просил приезжать надолго и почаще, чтобы отдохнуть. Для них же, которые к тому времени успели стать каждый центром своего собственного круга, было крайне неудобно принять совершенно другой распорядок дня и вдобавок подчиниться малорасполагающей и самоуверенной манере Гитлера при всем обаянии последнего. С другой стороны, он не желал у себя видеть «старых бойцов», которых избегал уже в Мюнхене и которые с восторгом приняли бы приглашение в Оберзальцберг.
При визитах старых товарищей по партии дозволялось присутствовать и Еве Браун. Но когда к обеду являлись другие столпы рейха, например министры, ее за стол не допускали. Даже когда приезжал Геринг с женой, Ева отсиживалась у себя в комнате. Гитлер явно считал Еву приемлемой в обществе лишь с оговорками. Порой я составлял ей компанию в этой ссылке, то есть в комнате подле спальни Гитлера. Сама Ева была до того запугана, что не решалась даже выйти из дому прогуляться. «А вдруг я наткнусь в коридоре на Герингов?!»
Гитлер и вообще мало считался с ее присутствием. Он мог бесцеремонно рассуждать при ней о своем отношении к женщинам. «Люди высокого ума должны жениться на
124
глупых и примитивных женщинах. Представьте себе только — вот будь у меня жена, которая лезет ко мне с рассуждениями, когда я работаю! А в свободное время я не желаю, чтоб меня тревожили... Я никогда бы не смог жениться. Будь у меня дети — это ведь сколько проблем! Под конец они наверняка захотят сделать моего сына моим преемником!» И еще: «У человека, подобного мне, нет ни малейших шансов заиметь толкового сына. В подобных случаях это уже стало правилом. Возьмите хоть сына Гёте — никуда не годный человек... Женщины на меня вешаются, потому что я холост. Это играло особенно большую роль в боевые времена. Все равно как у киноартиста. Стоит ему жениться, он теряет нечто в глазах обожающих его женщин — он уже больше не прежний идол для них».
Он полагал, будто имеет в глазах женщин эротически притягательную силу, впрочем, и здесь был исполнен недоверия. Ему же неизвестно, кого предпочитает в нем женщина — то ли «рейхсканцлера», то ли «Адольфа Гитлера», а уж женщин с интеллектом, по его не слишком-то галантному замечанию, он подле себя терпеть не намерен. Произнося такие речи, Гитлер явно не сознавал, насколько оскорбительны они для присутствующих женщин. Впрочем, Гитлер мог также изображать из себя доброго главу семейства. Как-то раз, когда Ева Браун бегала на лыжах и опоздала к чаю, он не мог скрыть своей тревоги, то и дело беспокойно поглядывая на часы и явно опасаясь, как бы с ней чего не случилось.
Ева Браун выросла в довольно скромных условиях, отец у нее был школьным учителем. Мне не удалось познакомиться с ее родителями, они никак о себе не напоминали и до самого конца жили все в тех же скромных условиях. Точно так же и Ева Браун оставалась скромной, носила непритязательные платья и к ним — на редкость дешевые украшения, которые дарил ей Гитлер к Рождеству либо ко дню рождения; по большей части это были полудрагоценные камни, ценой от силы в несколько сот марок и почти оскорбительные своей невзрачностью. Борман предлагал их ему на выбор, и Гитлер, руководствуясь своим мещанским вкусом, выбирал какие-нибудь бусы из мелких камушков.
125
К политике Ева интереса не проявляла, а Гитлер почти не пытался ее переубедить. Обладая, впрочем, здоровым взглядом на житейские обстоятельства, она порой отпускала разные замечания по поводу неурядиц мюнхенской жизни; Борману это не нравилось, поскольку его тотчас вызывали на суд и расправу. Ева была спортивная девушка и хорошая, выносливая лыжница.
Мы частенько предпринимали с ней лыжные прогулки за пределами территории. Однажды Гитлер даже предоставил ей отпуск на восемь дней, разумеется, в то время, когда и его самого на «горе» не было. Она поехала вместе с нами на несколько дней в Цюрс, где, никем не узнанная, с превеликой страстью до утра отплясывала с молодыми офицерами. Она никоим образом не годилась на роль современной мадам Помпадур, а для историка она может быть интересна лишь как обрамление характерных черт Гитлера.
Сочувствуя положению этой несчастной женщины, от души преданной Гитлеру, я вскоре начал испытывать к ней симпатию. Вдобавок нас тогда объединяла общая неприязнь к Борману, прежде всего из-за высокомерной и грубой манеры, с какой он относился к живой природе и обманывал свою жену. Услышав во время Нюрнбергского процесса, что Гитлер за последние полтора дня своей жизни женился на Еве, я порадовался за нее, хотя и в этом угадывался цинизм, с каким Гитлер относился и к Еве и ко всем женщинам вместе взятым.
Я часто задавал себе вопрос, испытывал ли Гитлер что-нибудь похожее на любовь к детям. Во всяком случае, встречаясь с детьми, все равно, чужими или знакомыми, он прилагал некоторые старания, он даже пытался уделять им внимание, как добрый и снисходительный отец, хотя не выглядел при этом убедительно. Он не умел найти в общении с ними верный, непринужденный тон и после нескольких благосклонных слов переходил к другим делам. Он воспринимал детей как молодую смену, как представителей следующего поколения и потому скорее радовался их внешнему виду (белокурые, голубоглазые), их сложению (здоровые, крепкие) или их уму (смышленые, толковые), чем тому, что было в них истинно детского. На моих собственных детей личность Гитлера не оказала никакого воздействия.
126
От всей общественной жизни в Оберзальцберге у меня сохранилось лишь ощущение странной пустоты. По счастью, в первые годы заключения я по горячим следам записал некоторые обрывки разговоров, которые могу до некоторой степени считать точными.
В сотнях застольных разговоров затрагивались вопросы моды, дрессировки собак, театра и кино, оперетты и ее звезд наряду с бесчисленными пустяками из семейной жизни других людей, Гитлер почти ничего не говорил о евреях, о своих внутренних врагах и о сооружении концентрационных лагерей. Причем молчал он, как я думаю, не с каким-то умыслом, а просто из-за общей банальности тем. Зато на удивление часто Гитлер потешался над своими ближайшими соратниками. Мне не случайно запомнились его высказывания по этому поводу, ведь речь, в конце концов, шла о людях, недоступных для какой бы то ни было общественной критики. Однако личное окружение Гитлера было отнюдь не обязано хранить молчание, а что до женщин, то тут Гитлер полагал, будто требовать от них молчания вообще бесполезно. Уж не собирался ли он произвести тем большее впечатление, неуважительно отзываясь обо всем и вся? Или причиной было его всеобъемлющее презрение к людям и событиям?
Частенько Гитлер позволял себе насмешки над эсэсовской мифологией Гиммлера: «Какая нелепость! Наконец-то нам удалось войти в эпоху, которая оставляет позади всякое мифотворчество, а он начинает все сначала. Тогда незачем было отказываться от религии. У церкви по меньшей мере есть традиции. Одна только мысль, что меня когда-нибудь причислят к лику “святых СС”! Вы только представьте себе! Да я в гробу перевернусь!»
«Гиммлер произнес очередную речь, где обозвал Карла Великого “палачом саксонцев”. Но гибель множества саксонцев вовсе не была историческим преступлением, как думает Гиммлер; Карл Великий хорошо поступил, разгромив Видукинда и без раздумий истребив саксонцев, именно благодаря этому он приобрел власть над Франконией и сделал возможным проникновение в Германию западной культуры».
Гиммлер поручал ученым предпринимать археологические раскопки. «Почему мы наводим весь мир на мысль,
127
будто у нас нет исторического прошлого? Мало нам, что римляне возводили гигантские сооружения, когда наши предки обитали в глиняных хижинах, так Гиммлер еще приказывает откапывать эти глиняные деревни и приходит в восторг при виде каждого глиняного черепка и каждого каменного топора, которые удалось выкопать. Этим мы лишь показываем, что метали каменные дротики и сидели вокруг костра, когда Греция и Рим уже находились на высшей ступени культурного развития. У нас есть все основания помалкивать насчет нашего прошлого. А Гиммлер трезвонит о нем на весь свет. Воображаю, какой презрительный смех вызывают эти разоблачения у сегодняшних римлян».
Позволяя себе в Берлине среди политических соратников крайне резкие высказывания о церкви, он при женщинах заметно смягчал тон — яркий пример того, как он менял свои высказывания применительно к слушателям.
«Народу, без сомнения, нужна церковь. Она представляет собой сильный охранительный элемент», — мог он вдруг заявить в узком кругу. Хотя при этом он видел в церкви некий послушный ему инструмент. «Если бы только рейхсеп (так сокращенно именовал он рейхсепископа Людвига Мюллера) был сколько-нибудь значительной личностью! И почему они назначили захудалого армейского пастора! Я бы охотно оказал ему поддержку! Он много мог бы тогда сделать. Евангелическая церковь стала бы благодаря мне государственной церковью, как в Англии!»
Даже после 1942 года в беседе за чаем в Оберзальцберге Гитлер утверждал, что полагает церковь совершенно необходимой для государства. Он счел бы себя счастливым, найдись деятель, который изъявил бы готовность возглавить одну, а то и обе церкви, объединив их. Он все еще сожалел, что рейхсепископ Мюллер оказался неподходящим человеком, чтобы осуществлять его, Гитлера, далеко идущие замыслы. Борьбу против церкви он при этом подвергал резкой критике, как преступление против будущего немцев, ибо «партийная идеология» не может заменить церковь. На протяжении длительного времени церковь, несомненно, выучится приспосабливаться к политическим целям национал-социализма, видит Бог, в ходе истории она это уже делала, и не раз. Новая же партийная религия способствовала бы возврату в средневековый мистицизм.
128
Об этом свидетельствует и миф СС, и невразумительный «Миф XX столетия», написанный Розенбергом.
Если бы при таких монологах Гитлера хоть раз прозвучало более негативное отношение к церкви, Борман не преминул бы достать из кармана своего пиджака одну из тех белых карточек, которые он постоянно носил при себе. Ибо он записывал все высказывания Гитлера, которые представлялись ему важными, и не было ничего, что он записал бы с большим удовольствием, чем пренебрежительные высказывания в адрес церкви. Тогда-то я подозревал, что он собирает материал для биографии Гитлера.
В 1937 году, услышав, что по настоянию партии и СС его бесчисленные сторонники вышли из церкви, поскольку церковь со зловредным упорством противилась его намерениям, он из оппортунистических соображений приказал, чтобы его ближайшие сотрудники, а прежде всего Геринг и Геббельс, опять вернулись в лоно церкви. Он и сам предполагает остаться в католической церкви, хотя не сохранил с ней никаких внутренних связей. И так шло вплоть до его самоубийства.
Какой представлял себе Гитлер государственную религию, можно было понять из частенько приводимого им рассказа делегации знатных арабов. Когда магометане, гласил этот рассказ, в VIII веке намеревались через Францию проникнуть в Центральную Европу, их натиск был отбит в сражении под Пуатье. Довелись же им тогда выиграть битву, мир был бы магометанским. Ибо победой они навязали бы германским племенам религию, которая своим постулатом «Мечом насаждать веру и подчинять ей народы» была как по мерке скроена для германцев. По причине своей расовой неполноценности завоеватели не смогли бы надолго удержаться в борьбе против выросших среди суровой природы, а потому более сильных аборигенов, так что под конец мировую империю возглавили бы не арабы, а германцы, принявшие ислам.
Обычно Гитлер завершал свой рассказ следующим замечанием: «В том-то и беда, что мы исповедуем не ту религию. Почему бы нам не перенять религию японцев, которые считают высшим благом жертву во славу отечества? Да и магометанская подошла бы нам куда больше, чем христианство с его тряпичной терпимостью». Как ни
5 А. Шпеер
129
странно, он еще до войны частенько повторял: «Сегодня сибиряки, белорусы и жители степей ведут на редкость здоровый образ жизни. Они сохраняют тем самым возможность развития и биологически превосходят немцев, если брать длительные отрезки времени». Замечания, которые ему самым резким образом придется повторять в последние месяцы войны.
Розенберг сотнями тысяч распродавал свой семисотстраничный «Миф XX столетия». Официально книга считалась учебником партийной идеологии, но в беседах за чайным столом Гитлер без обиняков говорил, что это малопонятный бред, написанный самоуверенным прибалтом, который крайне путано мыслит. И вообще Гитлер удивлялся, что подобная книга вышла столь большим тиражом: «Возврат к средневековому мышлению». Неизвестно, доходили эти частные высказывания до Розенберга или нет.
Культура греков в любой области служила для Гитлера образцом совершенства. Их восприятие жизни, проявлявшееся, например, в архитектуре, было, по его мнению, здоровым и свежим. Однажды портрет красивой пловчихи побудил его к лирическому высказыванию: «Смотрите, какое перед вами красивое тело! Лишь в нашем столетии молодежь благодаря спорту приближается к идеалам эллинизма. А как им пренебрегали в прежние века! Но тем-то и отличаются наши дни от всех предшествующих эпох, начиная с древних времен». Впрочем, лично для себя он спорт отвергал. Я никогда от него не слышал, чтобы он занимался в юности хоть каким-нибудь видом спорта.
Говоря о греках, он подразумевал дорийцев. Разумеется, причиной тому была гипотеза ученых его времени, состоявшая в том, что пришедшие с севера дорические племена были германского происхождения и потому их культура не имела никакого отношения к Средиземноморью.
Излюбленной темой застольных разговоров Гитлера была страсть Геринга к охоте. «Не пойму, как может человек вообще этим заниматься. Убивать зверей, если уж так необходимо, — это занятие для мясника. Но тратить на это деньги... Я понимаю, что должны быть охотники-профессионалы, чтобы отстреливать больную дичь. Будь это хоть чревато какой-нибудь опасностью, как в те времена, когда
130
человек выходил на зверя с копьем. Но нынче, когда любой толстопузый может из надежного укрытая прикончить бедного зверя... Охота и конские бега суть последние остатки умершего феодального мира».
Ему доставляло также удовольствие слушать, как посол Хевель, доверенное лицо Риббентропа, во всех деталях передавал содержание телефонных разговоров, которые вел последний. Он даже давал Хевелю советы, как лучше встревожить шефа или сбить его с толку. Порой он останавливался подле Хевеля, который, зажав рукой микрофон, повторял, о чем говорит Риббентроп, и шепотом подсказывал ему ответ.
Чаще всего это были саркастические замечания, призванные усилить вечное опасение мнительного министра иностранных дел, что непрофессионалы способны воздействовать на Гитлера в вопросах внешней политики и заставить его усомниться в профессиональной пригодности министра.
Даже после самых драматических переговоров Гитлер был способен потешаться над своими собеседниками. Однажды он рассказывал, как, искусно разыграв приступ негодования, дал понять Шушнигу, приехавшему в Обер- зальцберг 12 февраля 1938 года, всю серьезность ситуации и тем заставить его уступить. Весьма часто истерическая реакция, как о том рассказывали, объяснялась чисто актерскими приемами. Вообще же самообладание было одним из самых примечательных свойств Гитлера. При мне он всего лишь несколько раз вышел из себя.
Году примерно в 1936-м Шахт явился с докладом в гостиную «Бергхофа». Мы, гости, сидели на террасе, которая к ней примыкала, большое окно гостиной было распахнуто настежь. Гитлер в неприкрытом возбуждении кричал на своего министра экономики, мы слышали, как отвечает Шахт — решительно и громко. Диалог с обеих сторон протекал все более бурно и вдруг резко оборвался. Разъяренный Гитлер вышел к нам на террасу и долго распространялся по поводу своего отвратительного тупого министра, который затягивает ему производство вооружения. Подобное же непривычное возбуждение вызвал у него год спустя Нимёллер, который в очередной раз произнес в Далеме бунтовскую проповедь; одновременно перед Гитлером выложили протокольные записи подслушанных телефонных
5*
131
разговоров Нимёллера. Лающим голосом Гитлер приказал упрятать Нимёллера в концлагерь и в связи с проявленной неспособностью к исправлению больше его оттуда не выпускать.
Другой случай такого же рода возвращает к дням его ранней юности: на дороге из Будвейса в Креме в 1942 году большая вывеска привлекала внимание к одному дому в деревне Шиигаль возле Вейтры, неподалеку от чешской границы. Если верить вывеске, в этом доме «проживал фюрер в годы своей юности». Красивый, приглядный дом среди богатой деревни. Я рассказал об этом Гитлеру. Он вышел из себя, потребовал к себе Бормана, который и явился в полном смятении. Гитлер тотчас на него набросился: он-де уж много раз повторял, что упоминать этот дом не положено. А болван гаулейтер присобачил там доску. Немедленно убрать. Тогда я не мог понять его странного возбуждения, поскольку, с другой стороны, он радовался, когда Борман докладывал ему о ремонте прочих памятных мест его юности в Линце и Браунау.
У него явно были какие-то личные причины изглаживать из людской памяти именно эту часть своей юности. Сегодня уже известно о довольно смутных семейных обстоятельствах, которые скрыты от глаз именно в этой части австрийского леса.
Порой Гитлер делал набросок одной из башен исторической крепостной стены Линца: «Здесь я больше всего любил играть. Ученик я был не из лучших, зато первенствовал во всяких проказах». Порой он рассказывал о первых политических впечатлениях своей юности. Почти все его соученики отчетливо сознавали, что следует воспрепятствовать переселению чехов в немецкую часть Австрии; здесь он впервые начал понимать национальные проблемы. Позднее, в Вене, он внезапно осознал опасность, исходящую от еврейства, многие из рабочих, с которыми он общался, были ярко выраженные антисемиты. Но в одном он не был согласен со строительными рабочими: «Я отвергал их социал-демократические взгляды, я никогда не состоял ни в одном профсоюзе. Это и послужило причиной моих первых политических затруднений». Может быть, именно поэтому он сохранил о Вене не самые лучшие воспоминания, в отличие, например, от мюнхенского периода перед войной;
132
Мюнхен он вспоминал с восторгом, и на удивление часто — мясные лавки с отличной колбасой.
Вспоминая годы своей юности, Гитлер всякий раз с величайшим уважением отзывался о епископе Линца: тот, с огромной энергией преодолевая всяческое сопротивление, построил небывалых размеров Линцский собор; поскольку собор этот должен был превзойти по своим размерам даже собор Святого Стефана, у епископа возникли немалые трудности с правительством, не желавшим, чтобы венский собор был где-нибудь превзойден. Как правило, за этим рассказом следовали пространные рассуждения о нетерпимости, с какой центральное австрийское правительство подавляло все самостоятельные культурные инициативы таких городов, как Грац, Линц или Инсбрук, — при этом он явно не сознавал, что сам навязывает подобное же насильственное уравнивание целым странам. Но теперь, когда решать дано ему, уж он-то поможет родному городу отстоять свои законные права. Его программа превращения Линца в «мировой центр» предусматривала сооружение ряда монументальных зданий вдоль берегов Дуная, а также висячего моста, который свяжет оба берега. Венцом его плана должен был стать величественный Дом окружного управления НСДАП с гигантским залом для заседаний и колокольней.
В этой башне он предусматривал гробницу для себя. Кроме Дома НСДАП предполагались следующие вершины береговой застройки: ратуша, импозантный отель, большой театр, генеральный штаб, стадион, картинная галерея, библиотека, музей оружия, выставочный павильон, наконец, монумент в честь освобождения в 1938 году и еще один, во славу Антона Брукнера. Мне было поручено сооружение картинной галереи и стадиона, который предполагалось разместить на холме, откуда можно было любоваться панорамой города. Резиденцию Гитлера в старости тоже предполагалось воздвигнуть на холме неподалеку от этих зданий.
Гитлер восторгался сложившейся в ходе столетий линией береговой застройки в Будапеште. У него была честолюбивая мечта превратить Линц в своего рода немецкий Будапешт. Вена-де вообще ошибочно спланирована, заявил он по этому поводу, так как повернута спиной к Дунаю.
133
Проектировщики упустили возможность использовать Дунай в своих архитектурных замыслах. И стало быть, Линц сможет когда-нибудь составить конкуренцию Вене хотя бы уже потому, что в Линце ему это удастся. Без сомнения, подобные слова не следовало принимать так уж всерьез, их порождала неприязнь к Вене, которая временами бурно у него прорывалась, хотя в других обстоятельствах он мог с тем же успехом заявить, что при застройке бывших укреплений в Вене удалось осуществить грандиозный архитектурный замысел.
Еще до войны Гитлер от случая к случаю заявлял, что по достижении всех политических целей отойдет от государственных дел и завершит свои дни в Линце. Тогда он не будет играть в политике решительно никакой роли, поскольку его преемник сможет завоевать авторитет, лишь если он, Гитлер, совершенно устранится от занятий политикой. Он не станет ничего ему подсказывать. Люди тем легче обратятся к его преемнику, чем раньше осознают, что теперь вся власть у того в руках. А уж тогда они и вовсе забудут про Гитлера. И его покинут. Обыгрывая — не без жалости к самому себе — эту мысль, он продолжал: «Может, и забредет тогда ко мне на огонек какой-нибудь из прежних сотрудников. Только я на это не очень рассчитываю. И кроме фройлейн Браун, я никого туда с собой не возьму: фройлейн Браун и свою собаку. Я буду совсем-совсем одинок. Да и кто по доброй воле надолго у меня задержится? И считаться со мной больше никто не станет. Все побегут вдогонку за моим преемником. Ну разве что раз в году заявятся на мой день рождения». Конечно же, гости принимались наперебой возражать и доказывать, что они неизменно останутся рядом с ним и сохранят ему верность. Чем бы ни руководствовался Гитлер, заводя речь о своем досрочном отходе от политики, он в эти минуты безусловно руководствовался мыслью, что не магнетизм его личности, а лишь власть, сосредоточенная у него в руках, есть источник и основа его авторитета.
Нимб, окружавший Гитлера, в глазах тех его сотрудников, которые не входили с ним в тесный контакт, был несравненно ярче, чем в глазах его ближайшего окружения. Здесь Гитлера не величали почтительно «фюрер», а говорили просто «шеф», здесь обходились без «хайль Гитлер»,
134
говоря просто «добрый день». Над ним даже часто подсмеивались, не вызывая у него, впрочем, ни малейшего неудовольствия. Так, его неизменную присказку «Существует две возможности» употребляла, к примеру, одна из секретарш, фройлейн Шрёдер, при нем, даже когда отвечала на банальнейшие вопросы. Скажем, так: «Существует две возможности: дождь то ли пойдет, то ли нет». Ева Браун за столом в присутствии других гостей замечала Гитлеру, что такой галстук не подходит к костюму, а будучи в хорошем настроении, нередко величала себя «матерью нации».
За большим круглым столом «чайного домика» Гитлер однажды начал разглядывать меня в упор. Я не только не опустил глаза, но принял это как вызов. Уж и не знаю, какие первобытные инстинкты вызывают подобную схватку взглядов, когда противники смотрят друг на друга в упор, покуда один не отведет глаза. Лично я привык выходить победителем из поединка взглядов, но на сей раз мне пришлось бесконечно долгое — как мне кажется — время употреблять почти нечеловеческие усилия, чтобы подавить все крепнущее желание отвести глаза, чтобы не сдаться, до тех пор покуда Гитлер сам не закрыл глаза и почти сразу же не завел разговор со своей соседкой.
Порой я задавал себе вопрос: а чего мне, собственно, не хватает, чтобы назвать Гитлера своим другом? Я всегда находился рядом, я был в его тесном кругу почти как дома и вдобавок был первым помощником в любимом деле, в архитектуре.
Не хватало всего. Еще никогда в жизни мне не доводилось встречаться с человеком, который так редко проявляет свои чувства, а если и проявит, то немедля замкнется снова. В мой шпандауский период я нередко беседовал с Гессом о такой особенности Гитлера. Если судить по нашему общему опыту, то у нас обоих бывали такие моменты, когда, как могло бы показаться, мы становились к нему ближе. Но всякий раз это оказывалось заблуждением. Стоило хотя бы с осторожностью принять его задушевный тон, как он тотчас воздвигал для защиты непреодолимую стену.
Правда, Гесс считал, что было и одно исключение: Дитрих Эккарт. Но в ходе разговора мы оба пришли к выводу, что и здесь речь скорее могла идти о преклонении перед старшим и — прежде всего — перед широко признанным
135
в антисемитских кругах писателем, нежели о настоящей дружбе. Когда Дитрих Эккарт умер в 1923 году, вокруг Гитлера, по его словам, остались только четыре человека, которые по-дружески были с ним на «ты»: «Эссер, Кристиан Вебер, Штрейхер и Рём». Причем в случае с первым он после 1933 года, улучив подходящую возможность, снова перешел на «вы», второго по возможности избегал, с третьим обращался безлично, а четвертого вообще приказал убить. Даже и по отношению к Еве Браун он никогда не был до конца человечен и раскован: неизменно сохранялась дистанция — дистанция между вождем всей нации и простой девушкой. Порой он с неподобающей доверительностью называл ее Бовари. Но именно это сугубо баварское выражение показывало, как он к ней относится на самом деле.
Его авантюра, высокие ставки в его игре были, по всей вероятности, до конца осознаны лишь после того, как в ноябре 1936 года он имел в Оберзальцберге продолжительную беседу с кардиналом Фаульхабером. После этой беседы Гитлер сидел со мной в сумерках в эркере столовой. Сперва долго молчал, глядя в окно, потом задумчиво промолвил: «Для меня существует две возможности: либо добиться полного осуществления своих планов, либо потерпеть неудачу. Добьюсь — стану одним из величайших в истории, потерплю неудачу — буду осужден, отвергнут и проклят».
8
Новая рейхсканцелярия
Чтобы создать необходимый фон для своего подъема — «одного из величайших в истории», — Гитлер потребовал создать ему архитектурное оформление имперского размаха. Рейхсканцелярию, в которую Гитлер въехал 30 января 1933 года, он считал «пригодной для мыловаренного концерна», но отнюдь не для могущественной империи.
В конце января 1938 года Гитлер официально принял меня в своем кабинете. «Хочу дать вам срочное поручение, — торжественно начал он, стоя посередине кабинета. — В самое ближайшее время мне предстоят важнейшие переговоры. А для этого нужны просторные залы и помещения, которыми я смогу производить впечатление, особенно — на малые
136
державы. Предоставляю в ваше распоряжение всю Фоссштрассе. Расходы меня не волнуют. Главное, чтобы строить быстро, но при том солидно. Сколько вам понадобится времени? Для проекта, для сноса и для всего вместе? Полтора или два года — и то для меня слишком много. Можете управиться до десятого января тридцать девятого? Я хочу провести очередной дипломатический прием уже в новом здании». С тем меня и отпустили.
Дальнейшее течение дня Гитлер изобразил в своей речи по поводу новоселья: «И тут мой генеральный строительный инспектор испросил себе несколько часов на размышление, а вечером того же дня явился ко мне с календарем-ежедневником и сказал: “Такого-то марта дома будут снесены, 1 августа отпразднуем подведение под крышу, а девятого января, мой фюрер, я смогу рапортовать вам о полном завершении строительства”. Я и сам связан с этой отраслью, со строительством, я понимаю, чего это стоит. Такого у меня еще не бывало. Это выдающееся свершение». И впрямь я дал Гитлеру самое легкомысленное обещание за всю свою жизнь. Но Гитлер был вполне доволен.
Тотчас приступили к сносу домов на Фоссштрассе, чтобы расчистить строительную площадку. Одновременно следовало разработать планы, чтобы представить себе внешний вид здания и определить его привязку к местности. К строительству бомбоубежища, например, следовало приступить сразу же, еще по черновым наброскам. Впрочем, и на более поздних стадиях мне приходилось впопыхах заказывать строительные детали, еще не прояснив до конца все архитектурные подробности. Всего дольше, к примеру, приходилось дожидаться огромных ковров одного плетения для нескольких больших залов.
Я твердо устанавливал цвет и размер ковров, еще не зная, как будут выглядеть те помещения, для которых они предназначены. Помещения, если можно так выразиться, проектировались вокруг ковров. Сложный, детализированный как в организационном отношении, так и по срокам план я отверг — он только свидетельствовал бы о невыполнимости всего замысла. Эти импровизационные методы во многом напоминали те, к которым мне еще предстояло прибегнуть четыре года спустя, когда я возглавил немецкую военную промышленность.
137
Вытянутая в длину строительная площадка побуждала насадить ряд помещений одно подле другого на единую ось. Я представил Гитлеру мой проект: сквозь грандиозные ворота прибывший попадал с Вильгельмсплац во двор для почетных гостей, откуда по ступеням крыльца поднимался сперва в малую приемную, там двустворчатые двери высотой до пяти метров открывали путь в выложенную мозаикой залу. Затем гость снова поднимался на несколько ступенек, пересекал крытую куполом ротонду и оказывался в начале 145-метровой галереи. Наибольшее впечатление на Гитлера произвела именно эта галерея, ибо она была в два раза длинней зеркальной версальской. Глубокие оконные ниши должны были давать непрямое освещение, производя то приятное воздействие, которое я уже наблюдал, рассматривая Большой зал во дворце Фонтенбло.
Короче, ряд помещений, непрерывно меняющихся по материалу и по цветовой гамме и общей длиной в 220 метров. Лишь после этого гость попадал в собственно зал для приемов. Без сомнения, великое расточительство во имя репрезентативной архитектуры и, уж конечно, «искусство эффекта», но ведь это было и во времена барокко, и вообще всегда.
На Гитлера увиденное произвело впечатление: «Они уже при входе и по дороге в зал ощутят мощь и величие германского рейха». В течение последующих месяцев он то и дело требовал показать ему очередные чертежи, однако сам на удивление редко вмешивался в это им же самим заказанное строительство, давая мне возможность спокойно работать.
Спешка, с какой Гитлер форсировал сооружение новой рейхсканцелярии, имела свои, более глубокие причины в его скрытой тревоге за собственное здоровье. Гитлер всерьез опасался, что проживет недолго. Начиная с 1935 года его воображение занимали тягостные мысли о каком-то заболевании желудка, которое он в течение долгого времени пытался вылечить самостоятельно при помощи целой системы самоограничений. Он полагал, будто знает, какие кушанья ему вредят, а потому сам себя посадил в результате на голодную диету. Немного супа, салаты, легкие кушанья, да и те в ничтожных количествах, — словом, он начал очень скудно питаться. С истинным отчаянием указывал
138
он на свою тарелку: «И вот с этого человек должен жить! Вы только взгляните! Врачам хорошо говорить: “Чего человек хочет, то он и должен есть”. А я теперь почти ничего не переношу. После каждой трапезы — боли. Сделать диету еще строже? Как тогда жить?»
Частенько он из-за болей на полуслове обрывал беседу, уединялся на полчаса или больше, а то и вовсе не возвращался. К тому же он, по его словам, страдал от неумеренного образования газов, болей в сердце и бессонницы. Однажды Ева Браун призналась мне, что он, еще не достигнув пятидесяти лет, как-то сказал: «Придется мне скоро отпустить тебя на волю, ну зачем тебе нужен такой старик!»
Его постоянным врачом был доктор Брандт, молодой хирург, пытавшийся уговорить Гитлера, чтобы тот прошел серьезное обследование у хорошего терапевта. Мы все дружно его поддерживали. Упоминались имена знаменитых профессоров, строились планы, как провести подобное обследование, не привлекая излишнего внимания. Обсуждали возможность помещения его в военный госпиталь, потому что там проще всего соблюсти полную секретность. Но в конце концов Гитлер снова и снова отвергал всякие варианты: он, по его словам, просто не может себе позволить прослыть больным. Это ослабит его политическую позицию, особенно за границей. Он даже отказался пригласить без всякого шума просто терапевта, чтобы тот провел первое обследование прямо на дому. Насколько я помню, его тогда так никто и не обследовал, он просто сам изучал свои симптомы в свете собственных теорий, что, впрочем, вполне соответствовало глубоко укоренившейся в нем склонности к дилетантским занятиям.
Зато при усиливающейся хрипоте он тотчас пригласил знаменитого берлинского ларинголога профессора фон Эйкена, которому позволял серьезно себя обследовать в своей канцелярской квартире, и облегченно вздохнул, узнав, что рака у него нет. До того он много месяцев подряд вспоминал судьбу кайзера Фридриха III. Хирург удалил безобидный узелок, но и эта маленькая операция тоже производилась у Гитлера на квартире.
В 1935 году опасно заболел Генрих Гофман; доктор Мор- релль, старый знакомый, ходил за ним и вылечил с помощью сульфаниламидных препаратов, которые выписывал
139
из Венгрии. Гофман снова и снова рассказывал Гитлеру, как этот врач чудом спас его жизнь. Конечно же, он рассказывал это от чистого сердца, ибо один из талантов Мор- релля состоял в умении бесконечно преувеличивать исцеленную им болезнь, чтобы должным образом подать свое искусство.
Доктор Моррелль любил рассказывать, что учился у знаменитого бактериолога Ильи Мечникова, лауреата Нобелевской премии и профессора в Институте Пастера. Мечников научил его бороться с бактериальными заболеваниями. Позднее Моррелль служил судовым врачом на пассажирских пароходах. Без сомнения, он не был стопроцентным шарлатаном. Скорее уж фанатиком своей профессии и добывания денег.
Гитлер поддался на уговоры Гофмана пройти обследование у Моррелля. Результат всех потряс, ибо Гитлер впервые отнесся к врачу с полным доверием. «Ни один человек не сумел до сих пор так четко и ясно объяснить, что со мной происходит. Его метод исцеления отличается такой логичностью построения, что мне это внушает величайшее доверие. Я буду пунктуально выполнять все его назначения». Главный вывод, по словам Гитлера, состоял в том, что у него полностью атрофирована кишечная флора, а это, в свою очередь, объяснялось нервными перегрузками. Стоит вылечить это, как остальные жалобы исчезнут сами собой. Но Моррелль собирался ускорить процесс исцеления с помощью курса витаминно-гормонально-фосфорно-глюкоз- ных инъекций. Курс такого лечения занимает целый год, а до того можно рассчитывать лишь на частичный успех.
Медикаментом, вызывавшим наиболее живое обсуждение, были капсулы с кишечными бактериями под названием «мультифлор», выращенными, если верить Морреллю, «из лучших культур одного болгарского крестьянина». Что он там еще давал и впрыскивал Гитлеру, до нас доходило лишь урывками. Особого доверия эти методы нам никогда не внушали. Личный врач, доктор Брандт, справлялся у дру- зей-терапевтов, которые в один голос отвергали методы Моррелля как чрезвычайно рискованные и малопроверенные, предвидя также опасность привыкания. И в самом деле, промежутки между инъекциями становились все короче, все быстрей биологические добавки, полученные из
140
семенников и внутренностей скота, а также из химических и растительных веществ, вводились в кровоток Гитлера. Геринг однажды жестоко оскорбил Моррелля, назвав его «господин рейхсшприцмейстер».
Однако вскоре после начала курса лечения зажила экзема на ноге, длительное время донимавшая Гитлера. Через несколько недель и желудок стал лучше; он теперь ел куда больше и позволял себе более тяжелые кушанья, он вообще чувствовал себя лучше и многословно восторгался: «А если бы я не встретил Моррелля! Он мне буквально спас жизнь! Просто чудо, как он мне помог!»
Если Гитлер владел искусством подчинять других своему влиянию, то в данном случае все получалось наоборот. Гитлер абсолютно уверовал в гениальность своего лейб-медика и вскоре запретил любую в его адрес критику. С этих пор Моррелль вошел в круг его приближенных и — когда Гитлер отсутствовал — невольно сделался поводом для всеобщего увеселения, поскольку не умел говорить ни о чем другом, кроме как о стрепто- и прочих кокках, о бычьих семенниках да о новейших витаминах.
Всем своим сотрудникам Гитлер порекомендовал при малейшем недомогании обращаться к Морреллю. Когда в 1936 году из-за неразумного рабочего ритма и необходимости приспосабливаться к аномальному образу жизни Гитлера взбунтовались мое кровообращение и мой желудок, я тоже побывал в частной приемной Моррелля. Дощечка над входом гласила: «Д-р Тео Моррелль. Кожные и венерические заболевания». Кабинет и квартира Моррелля располагались в самой шикарной части Курфюрстендам, неподалеку от церкви Поминовения. В квартире на стенах можно было увидеть многочисленные портреты с посвящениями от знаменитых кинозвезд и театральных артистов, встретил я там и кронпринца. После довольно поверхностного осмотра доктор Моррелль прописал мне все те же кишечные бактерии, глюкозу, витамины и гормональные таблетки. Для верности я несколько дней спустя прошел кардинальное обследование у профессора фон Бергмана, терапевта Берлинского университета. Заключение профессора гласило, что никаких органических нарушений у меня нет, лишь проявления невроза, объяснимые чрезмерными нагрузками. Я по возможности сбавил темп, и недомогание
141
исчезло. Чтобы не навлечь на себя неудовольствие Гитлера, я сделал вид, что пунктуально выполняю назначения Моррелля, и, поскольку самочувствие мое и в самом деле улучшилось, я на какое-то время стал любимым демонстрационным экспонатом Моррелля. Ева Браун по настоянию Гитлера тоже прошла у него обследование. После визита она рассказала мне, что он грязен до отвращения, и, содрогаясь, добавила, что ни за что не станет у него больше лечиться.
Гитлер пока чувствовал себя лучше, но от своего лейб-медика он не отрекся, более того, он все чаще являлся к чаю в дом Моррелля, что на острове Шваненвердер, — единственное, кроме рейхсканцелярии, место, куда его влекло. Доктора Геббельса он посещал крайне редко, ко мне на Шлахтензее он и вовсе пришел один-единственный раз, чтобы посмотреть, какой я там себе выстроил дом.
С конца 1937 года, когда лечение, прописанное Моррел- лем, перестало помогать, Гитлер снова возобновил прежние жалобы. Даже давая поручения и обсуждая планы, он нередко присовокуплял: «Уж и не знаю, сколько я проживу. Возможно, большинство этих зданий будет достроено, когда меня не будет...» Завершение многочисленных грандиозных строек намечалось между 1945 и 1950 годами. Короче, Гитлер предполагал прожить всего лишь несколько лет. Или еще пример: «Когда я уйду навек... у меня не много остается времени...» Да и в приватном кругу он неизменно повторял: «Мне недолго осталось жить. Я всегда мечтал оставить себе время для собственных замыслов. Их я должен осуществить сам. Из всех моих возможных преемников ни один не наделен достаточной энергией, чтобы преодолеть неизбежно возникающие при этом кризисы. Словом, мои намерения должны быть осуществлены, покуда позволяет здоровье, которое с каждым днем становится все хуже».
2 мая 1938 года Гитлер составил личное завещание; политическое он обнародовал уже 5 ноября 1937 года в присутствии министра иностранных дел и военной верхушки рейха, причем обозначил свои широкие завоевательные планы как «завещательное распоряжение на случай смерти». От своего же ближайшего окружения, которое из вечера в вечер должно было просматривать пустяковые музыкальные
142
комедии и выслушивать бесконечные разглагольствования о католической церкви, различных диетах, греческих храмах и овчарках, он и вообще скрывал, насколько серьезно воспринимает свою мечту о мировом господстве.
Многие из прежних сотрудников Гитлера пытались впоследствии выстроить теории о том, что Гитлер в 1938 году стал другим человеком, и объясняли эту перемену ухудшением здоровья из-за методов доктора Моррелля. Я же, напротив, придерживался мнения, что планы и намерения Гитлера никогда не менялись. Болезнь и страх смерти лишь побудили его поспешить с их осуществлением. Рухнуть они могли лишь при столкновении с превосходящими силами противодействия, а таковых в 1938 году не наблюдалось. Даже напротив, успехи 1938 года побудили его еще более наращивать и без того высокие темпы.
С этой внутренней тревогой Гитлера была, как мне кажется, связана и судорожная поспешность, с какой он подгонял наши строительные работы. На празднике по поводу завершения первого цикла он сказал: «Это больше не американские темпы, это уже немецкие. Я полагаю также, что и сам делаю куда больше, нежели другие руководители государств во всяких так называемых демократиях. Я думаю, что мы и политически можем задать другой темп, и если возможно за три-четыре дня присоединить к рейху какое-нибудь государство, то, должно быть, не менее возможно за год-два воздвигнуть здание». Впрочем, я задаюсь порой вопросом, не преследовала ли столь лихорадочная строительная деятельность одновременно и цель завуалировать его истинные планы и, рассуждая о сроках строительства и закладках первого камня, ввести в заблуждение общественность.
Году примерно в 1938-м мы сидели в «Немецком дворе» в Нюрнберге. Гитлер толковал об обязанности произносить вслух лишь то, что предназначено для ушей общественности. Среди прочих за столом сидел и рейхслейтер Филипп Боулер со своей молодой женой. Она заметила, что уж к этому-то кругу подобное ограничение вряд ли применимо, ибо все мы умеем хранить тайны, которые он нам доверяет. Гитлер засмеялся и ответил: «Здесь никто не умеет молчать, за одним исключением», — и с этими словами он указал на меня. Но то, что произошло в ближайшие месяцы, я узнал не от него.
143
2 февраля 1938 года я наблюдал, как командующий морским флотом Эрих Редер в крайнем смятении вышел от Гитлера и пересек залу. Он был бледен, покачивался на ходу и вообще напоминал человека, у которого вот-вот произойдет сердечный приступ. Через день я узнал из газет, что Риббентроп сменил фон Нейрата на посту министра иностранных дел, Браухич — фон Фрича на посту главнокомандующего сухопутными войсками. Командование вермахтом, до того времени осуществляемое фельдмаршалом фон Бломбергом, Гитлер и вовсе взял на себя, а Кейтеля сделал начальником штаба.
Генерал-полковника фон Бломберга я знал еще по Обер- зальцбергу: это был приятный аристократического вида господин, Гитлер очень его уважал и до самой его отставки относился к нему весьма предупредительно. Осенью 1937 года по рекомендации Гитлера он посетил мое бюро на Паризерплац, где просил показать ему модели и чертежи реконструкции Берлина. Спокойно и заинтересованно провел он у меня примерно час в обществе своего генерала, одобрительно кивавшего на каждое слово шефа. Генерал этот был Вильгельм Кейтель, который отныне заделался ближайшим сотрудником Гитлера в верховном командовании вермахта. Не знай я военной иерархии, я бы принял его тогда за адъютанта.
Одновременно генерал-полковник фон Фрич, с которым мне до сих пор встречаться не доводилось, пригласил меня к себе на Бендлерштрассе. Причем, когда он изъявил желание увидеть планы Берлина, им руководило отнюдь не чистое любопытство. Я разложил планы на большом столе для карт; холодно, подчеркивая дистанцию и по-военному кратко, что почти граничило с недружелюбием, выслушал он мои пояснения. На основе вопросов Фрича я пришел к выводу, что ему хочется понять, до какой степени Гитлер с его грандиозными, рассчитанными на долгие годы строительными замыслами заинтересован в мирном развитии. Но, может, я и ошибался.
Вот и фон Нейрата, министра иностранных дел, я прежде не знал. Однажды, году в 1937-м, Гитлер пришел к выводу, что вилла министра не годится для отправления им официальных обязанностей, и отрядил меня к фрау фон Нейрат с предложением значительно расширить здание за
144
государственный счет. Фрау фон Нейрат показала мне их жилище и решительным тоном заявила, что, по ее и министра мнению, квартира вполне соответствует своему назначению, но она со своей стороны благодарна за предложение. Гитлер был раздосадован, но больше к своему предложению не возвращался. Здесь старая аристократия демонстрировала достойную скромность и откровенно дистанцировалась от неуемной страсти к показному превосходству новых хозяев жизни.
Вот Риббентроп был не таков. Летом 1936 года он вытребовал меня в Лондон, ибо желал обновить и расширить здание немецкого посольства, с тем чтобы все было завершено строительством до коронации Георга VI весной 1937 года и в ходе предполагавшихся публичных мероприятий могло поразить лондонский свет роскошью и размахом. Детали Риббентроп передоверил своей жене, которая совместно с архитектором от «Мюнхенских мастерских» предалась таким безудержным архитектурным фантазиям, что я вполне мог счесть себя лишним. Риббентроп со мной держался весьма дружественно, впрочем, все эти лондонские дни он неизменно приходил в плохое настроение, когда получал телеграммы от министра иностранных дел, считая их вмешательством в свои дела. Он с досадой и во всеуслышание заявлял, что согласует свою политику с Гитлером, который лично объяснил ему, каковы наши задачи по Лондону.
Многим из политических соратников Гитлера, которые уповали на хорошие отношения с Англией, способность Риббентропа к достижению этих целей представлялась в то время весьма сомнительной. Осенью 1937 года доктор Тодт предпринял вместе с лордом Уолтоном инспекционную поездку по строящемуся автобану. После чего он рассказал о неофициальном пожелании лорда, чтобы послом в Лондоне вместо Риббентропа стал именно он, Тодт, ибо при Риббентропе хороших отношений с Англией достичь не удастся. Нас беспокоило, что эти слова могут дойти до Гитлера, но реакции не последовало.
Почти сразу после возведения Риббентропа в ранг министра иностранных дел Гитлер предложил ему целиком снести старую виллу бывшего министра и перестроить дворец рейхспрезидента под служебную квартиру. Риббентроп это предложение принял.
145
Второе событие этого года, которое сделало вполне наглядным все растущее ускорение гитлеровской политики, я пережил 9 марта 1938 года в большой зале его берлинской квартиры. Там перед радиоприемником сидел адъютант Шауб и слушал инсбрукскую речь австрийского бундесканцлера доктора Шушнига. Сам Гитлер удалился в свой приватный кабинет на втором этаже. Шауб явно дожидался чего-то вполне конкретного. Он делал пометки по мере того, как Шушниг становился все более определенным и под конец известил о проведении референдума, с тем чтобы австрийский народ сам решил, хочет он независимости или нет, а в завершение Шушниг обратился к согражданам на венском диалекте: «Ребята, час пробил!»
Час пробил и для Шауба. Он ринулся наверх к Гитлеру. Немного спустя туда же поспешили Геббельс во фраке и Геринг в парадном мундире. Они явно только что возвратились с какого-то приема по случаю берлинского бального сезона, который был в полном разгаре, и оба с некой таинственностью исчезли наверху.
И снова я лишь несколько дней спустя узнал из газет, что же тогда произошло. 13 марта немецкие части вошли в Австрию. Недели примерно через три я ехал на машине в Вену, чтобы там приготовить для грандиозной венской манифестации большой зал Северо-Западного вокзала. По всем городам и деревням люди приветливо махали проезжающим немецким машинам. А в самой Вене, в отеле «Империал», я столкнулся с банальной изнанкой народного ликования. Изрядное число деятелей «исконного рейха», как, например, берлинский полицей-президент граф Гель- дорф, поспешили в Вену, явно привлеченные изобилием в здешних магазинах. «Здесь еще есть хорошее белье... Там шерстяные пледы в любом количестве... А я обнаружил лавку с импортным ликером...» — слышались обрывки разговоров в вестибюле. Мне было противно, и поэтому я ограничился покупкой шляпы борсалино. Ну какое мне до всего этого дело?
Вскоре после аншлюсов Гитлер приказал доставить ему карту Центральной Европы и показал благоговейно внимающему ближайшему окружению, как Чехословакия теперь попала «в клещи». Даже много лет спустя он часто подчеркивал, как бескорыстно с позиций государственного деятеля
146
вел себя Муссолини, когда дал свое согласие на ввод германских войск в Австрию: он, Гитлер, будет ему вечно благодарен. Ибо Австрия в качестве нейтрального буфера была для Италии наиболее благоприятным решением; теперь же немецкие войска стоят на Бреннере, что с течением времени неизбежно станет для Италии внутриполитической проблемой. Предстоящая поездка Гитлера в Италию в 1938 году была призвана служить первым проявлением этой благодарности. Впрочем, Гитлер радовался также возможности увидеть архитектурные памятники и художественные сокровища Флоренции и Рима. Для свиты была смоделирована роскошная форма, которую продемонстрировали Гитлеру. Ему нравилась эта пышность; подчеркнуто скромная форма, которой он сам отдавал предпочтение, таила в себе элемент расчета на массовую психологию. «Мое сопровождение должно великолепно выглядеть. Тогда тем больше бросится в глаза моя простота». Примерно через год Гитлер дал главному сценографу рейха Бенно фон Арендту, который до той поры оформлял лишь оперы и оперетты, задание смоделировать дипломатическую форму. Фраки, шитые золотом, снискали одобрение Гитлера. Остряки же говорили: «Ни дать ни взять “Летучая мышь”!» Кроме того, Гитлер поручил Арендту набросать эскизы орденов; такие ордена снискали бы успех на любой сцене. После чего я окрестил Арендта «жестянщиком Третьего рейха».
Вернувшись из поездки в Италию, Гитлер подытожил свои впечатления: «До чего же я рад, что у нас нет монархии и что я никогда не прислушивался к голосу тех, кто хотел мне ее навязать. Эти дворцовые выкрутасы, этот этикет! Просто ужас! А дуче всегда на заднем плане! На всех официальных обедах и на всех трибунах королевская семья занимала лучшие места. А дуче стоял в отдалении, хотя именно он представлял государство». Гитлер в соответствии с протоколом был как глава государства равновелик королю, а Муссолини был всего лишь премьер-министром.
После визита в Италию Гитлер счел своей обязанностью воздать Муссолини какие-то особые почести. Он решил, что берлинской площади Адольфа Гитлера после ее перестройки в общей программе нового оформления города будет присвоено имя Муссолини. Правда, с архитектурной точки зрения он считал эту площадь совершенно ужасной,
147
поскольку ее изуродовали современные строения веймарских времен, но, «когда мы впоследствии переименуем площадь Адольфа Гитлера в площадь Муссолини, я наконец от нее избавлюсь, а кроме того, если я уступлю дуче именно свою площадь, это будет выглядеть очень достойно. Я уже набросал эскиз памятника Муссолини». Но эти планы так и не сбылись, ибо реконструкция площади, которой требовал Гитлер, никогда не была осуществлена.
Драматический 1938 год привел в конце концов к согласию западных держав уступить Гитлеру большие территории Чехословакии. За несколько недель до этого на нюрнбергском съезде Гитлер в своей речи предстал перед слушателями как разгневанный фюрер своей нации; поддержанный бешеными аплодисментами своих рьяных сторонников, он пытался убедить напряженно внимающую заграницу в том, что при случае не побоится и войны. Задним числом можно понять, что его речь была задумана как составная часть грандиозной кампании запугивания, воздействие которой, хотя и в меньших масштабах, он уже не без успеха использовал в беседе с Шушнигом. С другой стороны, ему нравилось путем публичных высказываний как бы застолбить для себя границу дозволенного, от которой уже нельзя было отступить, не подвергая риску свою репутацию.
Даже ближайших сотрудников Гитлер заставил поверить, что готов к войне, убедив их в ее неизбежности, хотя обычно не имел привьгчки раскрывать перед кем бы то ни было свои тайные намерения. Речи Гитлера о готовности к войне произвели впечатление даже на Брюкнера, на протяжении многих лет занимавшего должность его старшего адъютанта. В сентябре 1938 года, во время партийного съезда, мы с Брюкнером сидели на стене Нюрнбергского замка, перед нами под лучами нежаркого сентябрьского солнца лежал в дымке старый город, и тут Брюкнер сокрушенно обронил: «Может, мы в последний раз видим эту мирную картину. Может, скоро у нас будет война».
Более уступчивости западных держав, чем сдержанности Гитлера следовало приписать то обстоятельство, что войны, которую предсказывал Брюкнер, еще раз удалось избежать. На глазах у перепуганного мира и сторонников Гитлера, окончательно уверовавших в его непогрешимость, совершилась передача Германии Судетской области.
148
Всеобщее удивление вызвали чешские пограничные укрепления. На учебных стрельбах специалисты изумленно констатировали, что наше оружие, которое мы собирались использовать против этих укреплений, не возымело бы ожидаемого действия. Гитлер даже сам съездил на прежнюю границу, чтобы своими глазами увидеть систему бункеров, и вернулся под глубоким впечатлением. Укрепления оказались чрезвычайно мощными, система их размещения была на редкость хорошо спланирована и, прикрытые несколькими полосами обеспечения, они были глубоко закреплены. «Взять их при наличии упорного сопротивления было бы крайне нелегко и стоило бы много крови. А мы их заполучили без всякого кровопролития. Но одно не подлежит сомнению: я никогда больше не допущу, чтобы чехи возвели оборонительную линию. Какие у нас теперь отменные исходные позиции: перейдя через горы, мы сразу попадаем в долины Богемии!»
10 ноября по дороге в свое бюро я проехал мимо еще дымящихся развалин берлинской синагоги. Это было четвертое тягостное событие, которое определяло для меня последний послевоенный год. Сегодня это зрительное воспоминание принадлежит к числу самых гнетущих впечатлений моей жизни, потому что тогда меня прежде всего неприятно поразил элемент беспорядка, который предстал моему взору на Фазаненштрассе: обуглившиеся балки, рухнувшие части фасада, выгоревшие стены — предвестники той картины, которая впоследствии станет определяющей почти для всей Европы. Но всего неприятней меня задевало политическое пробуждение «улицы». Разбитые стекла витрин в первую очередь возмущали мое гражданское чувство порядка.
Я не углядел, что тогда было разбито вдребезги не только стекло, что в эту ночь Гитлер четвертый раз за год перешел некий Рубикон и обрек свой рейх неотвратимой судьбе. А угадал ли я тогда хоть на мгновение, хоть бегло в случившемся начало чего-то, чему суждено закончиться уничтожением целого пласта нашего народа? Что от этого как-то меняется и моя моральная субстанция? Не могу сказать.
Скорее я воспринял случившееся с полным равнодушием. Чему способствовали слова Гитлера о том, что он-де не
149
хотел таких крайностей. Мне казалось, будто он был несколько смущен. Позднее Геббельс в узком кругу дал понять, что он и был инициатором этой мрачной, этой чудовищной ночи. Я даже считаю вполне возможным, что он поставил колеблющегося Гитлера перед свершившимся фактом, дабы заставить того действовать.
Меня неизменно поражало, что в моей памяти практически не сохранились антисемитские выпады Гитлера. Оглядываясь назад, я могу из уцелевших обрывков воспоминаний восстановить мои тогдашние тревоги и надежды: волнение по поводу того, что поведение Гитлера может не соответствовать тому образу, который я создал для себя, беспокойство за его здоровье, надежду на смягчение проводимой им борьбы против церкви, недоумение по поводу провозглашения им совершенно утопических целей — словом, что только не приходило мне в голову, но ненависть его к евреям казалась мне тогда вполне естественной и не вызывала никаких эмоций.
Я сознавал себя архитектором Гитлера. Политические события меня не касались. Я лишь выводил для них внушительные декорации, Гитлер ежедневно утверждал меня в таком самовосприятии, привлекая меня почти исключительно для решения архитектурных вопросов; вдобавок, попытайся я активно участвовать в политических обсуждениях, это сочли бы пустым важничаньем и без того припозднившегося новичка. Я чувствовал и сознавал себя отстраненным от необходимости выражать свое мнение. Вдобавок национал-социалистическое воспитание ставило своей целью ограниченное мышление; поэтому от меня ожидали, что я буду заниматься исключительно строительством. О том, до какой гротесковой степени я придерживался этой иллюзии, свидетельствует моя памятная записка Гитлеру в 1944 году: «Задача, которую мне надлежит выполнить, не носит политического характера. Я лишь тогда испытывал полное удовлетворение от своей работы, когда и моя собственная личность, и моя работа оценивались по конкретным результатам».
Впрочем, по сути это ограничение не играло никакой роли. Сегодня оно, как мне кажется, лишь свидетельствует о моем настойчивом желании не примешивать к идеализированному образу Гитлера практическое осуществление тех
150
антисемитских лозунгов, что висели на плакатах перед входами, что составляли тему разговоров за чайным столом. Ибо, по существу, не имело никакого значения, кто натравливает уличную чернь на синагоги и еврейские магазины, происходит это по указу Гитлера или с его молчаливого согласия.
В годы после моего освобождения из Шпандау меня неоднократно спрашивали, что я пытался постичь в камере наедине с самим собой за двадцать лет; что мне известно о преследовании, депортации и уничтожении евреев, что мне следовало знать, каких выводов это от меня требовало.
Я больше не даю того ответа, с помощью которого я так долго пытался убедить спрашивающих и в первую очередь самого себя, — что в гитлеровской системе, как и в любом тоталитарном режиме, одновременно с высотой позиции растет также и степень изоляции, а следовательно, отчужденность; что с переводом убийства на техническую основу уменьшается число конкретных уб.ийц и, соответственно, увеличивается возможность ничего не знать, что царящая при этой системе мания засекречивания порождает различные степени посвященности и тем самым предоставляет каждому желающему возможность бегства от осознания бесчеловечности.
Итак, эти ответы я больше не даю, ибо они представляют собой попытку на адвокатский манер воспринять происходящее. Спору нет, как фаворит, а позднее как один из наиболее влиятельных министров Гитлера я пребывал в изоляции; спору нет, мышление в архитектурных категориях, как и в категориях министра вооружений, предоставляло мне многочисленные возможности для отговорок; спору нет, того, что, собственно, началось в ночь с 9 на 10 ноября и завершилось Освенцимом и Майданеком, я и впрямь не знал, но меру своей изолированности, но интенсивность своих отговорок, но степень своего незнания в конце концов определял я сам.
И потом, сегодня, после мучительного самоанализа, я понимаю, что неправильно ставил вопрос, как я сам, так и те, кто спрашивали меня после освобождения. Знал я или не знал, много или мало, совершенно не имеет значения, когда я размышляю о том, о каких ужасах я должен
151
был знать и какие выводы должен был сделать на основании немногих известных мне фактов. Вопрошающие меня ожидают моих оправданий. Их нет и не может быть.
К 9 января 1939 года надлежало завершить строительство новой рейхсканцелярии. 7 января Гитлер приехал из Мюнхена в Берлин. Он был исполнен нетерпения и явно предполагал обнаружить столпотворение из строителей и уборщиков. Всем известна судорожная спешка, с какой незадолго до сдачи новостройки в эксплуатацию разбирают леса, выгребают пыль и прочий мусор, раскатывают ковры и развешивают картины. Но Гитлер обманулся: мы с самого начала приписали к запланированным срокам резерв в несколько дней, которые нам впоследствии даже и не понадобились, а потому за сорок восемь часов до сдачи здания все было готово. Пройдя через помещения канцелярии, Гитлер мог бы при желании тотчас сесть за свой письменный стол и заняться делами государства.
Здание произвело на него глубочайшее впечатление. Он рассыпался в похвалах в адрес «гениального архитектора» и против обыкновения выразил свои восторги лично мне. А то обстоятельство, что я завершил стройку на два дня раньше срока, принесло мне славу выдающегося организатора.
Больше всего понравился Гитлеру долгий путь, который придется в будущем преодолевать высоким гостям и дипломатам, прежде чем они попадут в зал для приемов. Мои сомнения относительно полированных мраморных полов, которые мне никак не хотелось бы закрывать ковровой дорожкой, он не разделял: «Мраморный пол — самое верное, раз они дипломаты, пусть ходят по скользкому полу!»
А вот зал для приемов показался ему слишком маленьким. Он приказал увеличить его в три раза, и необходимые планы были готовы как раз к началу войны. Зато рабочий кабинет снискал полное одобрение Гитлера. Особенно порадовала его инкрустация на письменном столе, изображавшая полуобнаженный меч. «Хорошо, хорошо... Когда это увидят дипломаты, которые будут передо мной сидеть, их прошибет страх». С позолоченных медальонов, которые я расположил над четырьмя дверями кабинета, на Гитлера взирали четыре добродетели — Мудрость, Здравомыслие, Храбрость и Справедливость. Уж и не знаю, какие образы навели меня на эту идею. Две скульптуры Арно фон Брекера
152
в круглом зале обрамляли с двух сторон портал перед Большой галереей, и хотя одна из них изображала «Дерзающего», зато другая — «Взвешивающего». Пожалуй, этот, скорее патетический намек, моего друга Брекера на то, что каждому дерзанию потребен ум, равно как и мой аллегорический совет не забывать наряду с храбростью и прочие добродетели, были наивной попыткой не только творчески воспринять советы Гитлера, но и выразить определенное беспокойство по поводу возможной потери уже завоеванного.
Большой стол с тяжелой мраморной столешницей поначалу безо всякого смысла стоял перед окном. С 1944 года за ним проводили совещания о положении на фронтах; расстеленные на нем карты Генерального штаба показывали быстрое проникновение на территорию рейха как западных, так и восточных противников. Это был последний командный пункт Гитлера на поверхности земли, следующий располагался в 150 метрах отсюда и уже под многометровой толщей бетона. Хотя зал для заседаний кабинета, обшитый из акустических соображений деревянными панелями, Гитлеру весьма понравился, он никогда не использовал его по прямому назначению. Не один из рейхсминистров спрашивал меня, не могу ли я как-нибудь устроить, чтобы он по крайней мере увидел «свой зал». Гитлер не возражал, и случалось, что какой-нибудь министр несколько минут молча стоял перед своим местом, которое ему так ни разу и не удалось занять и на котором лежала большая папка синей кожи с золотыми буквами его имени.
Четыре с половиной тысячи рабочих трудились в две смены, чтобы уложиться в предельно сжатые сроки. Прибавьте сюда те несколько тысяч, которые были рассеяны по всей стране и производили строительные детали. Все они — каменотесы, плотники, укладчики, отделочники и прочие — были приглашены посмотреть на готовое здание и, потрясенные, бродили по его залам.
Во Дворце спорта Гитлер обратился к ним: «Здесь я представляю немецкий народ. И если я принимаю кого-нибудь в рейхсканцелярии, то это принимает не частное лицо по имени Адольф Гитлер, а вождь немецкой нации, — и тем самым не я его принимаю, а — через мое посредство — его принимает Германия. Вот почему я хочу, чтобы эти залы соответствовали этой цели. Каждый принял участие в сооружении этого здания, которое переживет века, свидетельствуя
153
о нашем времени. Это первое сооружение нового великого немецкого народа».
После трапез он часто спрашивал, кто из его гостей еще не видел рейхсканцелярию, и радовался, когда мог ее кому-нибудь показать. При этом он демонстрировал потрясенному сопровождению свою способность запоминать цифровые данные. Он начинал спрашивать меня: «А какова площадь этого зала?» Я смущенно пожимал плечами, и тогда он сам называл цифры. Все совпадало. Мало-помалу это сделалось подстроенной игрой, потому что и сам я запомнил все цифры. Но, поскольку игра ему явно нравилась, я подыгрывал.
Знаки внимания со стороны Гитлера все множились и множились; он устроил у себя на квартире обед для моих ближайших сотрудников; он сам написал статью для книги о рейхсканцелярии, он наградил меня «Золотым партийным значком» и, присовокупив несколько смущенных слов, презентовал мне одну из акварелей своей молодости. Написанная в 1909 году, в мрачный период жизни Гитлера, она в спокойной, точной и педантичной манере изображает готическую церковь. В ней не чувствуется никаких личных импульсов, нет ни одной черточки, свидетельствующей о вдохновении. Но не только манера письма свидетельствует о недостатке подлинного таланта, вся картина — и выбор темы, и неглубокие тона, и отсутствие перспективы — являет собой подлинный документ раннего периода жизни Гитлера. Все акварели того же времени представляются беспредметными, даже картины, связанные с Первой мировой войной, и те безличны. Переход к вере в себя совершился поздно, свидетельством тому служат два наброска пером берлинского комплекса и Триумфальной арки, которые он сделал году примерно в 1925-м. Еще десять лет спустя он набрасывал при мне, синим и красным карандашом, энергичной рукой, зачастую один слой поверх другого, покуда ему не удавалось схватить ускользающую форму. Но даже и тогда он по-прежнему тяготел душой к невзрачным акварелям молодых лет, раздаривая их при случае как особую награду.
В рейхсканцелярии уже много десятилетий стоял мраморный бюст Бисмарка. За несколько дней до торжественного открытия нового здания рабочие уронили бюст на пол,
154
и от него откололась голова. Недоброе предзнаменование, как мне подумалось. А поскольку мне вдобавок был знаком рассказ Гитлера о том, что как раз к началу Первой мировой войны со здания почтамта сорвался имперский орел, я скрыл от него неприятность и поручил Брекеру изготовить точную копию, которой мы с помощью чая придали старый вид.
В своей уже упоминавшейся речи Гитлер самоуверенно изрек: «Вот это и есть чудо, заключенное в строительном деле: уж если что выстроено, оно остается как памятник. Оно стоит, оно отличается от пары сапог, которые ведь тоже надо сделать, а через год-два кто-то сносит их и выбросит на помойку. А здание остается и будет столетия подряд напоминать обо всех, кто его создал». 12 января 1939 года эта рассчитанная на века новостройка была торжественно открыта: Гитлер принимал в Большом зале всех аккредитованных в Берлине дипломатов для вручения им новогодних адресов.
Через шестьдесят пять дней после открытия новой рейхсканцелярии, 15 марта 1939 года, в новый кабинет Гитлера привели президента Чехословакии. В этих стенах разыгралась трагедия, которая началась той же ночью повиновением Гахи и закончилась рано утром оккупацией его страны. «Наконец, — рассказывал Гитлер позднее, — я так обработал старика, что нервы у него не выдержали и он был уже готов подписать соглашение, но тут у него случился сердечный приступ. В соседней комнате мой доктор Моррелль вкатил ему укол, который в данном случае подействовал, и даже чересчур, Гаха очень скоро пришел в себя, снова оживился и не захотел подписывать, пока я его не дожал в конце концов».
Через семьдесят восемь месяцев после торжественного открытия, 16 июля 1945 года, Уинстон Черчилль выразил пожелание, чтобы его провели по залам рейхсканцелярии. Перед ней стояла большая толпа. За исключением одного пожилого человека, который неодобрительно покачивал головой, все начали выкрикивать здравицы в мою честь. Это проявление любви взволновало меня так же, как изможденные от голода лица и изношенная одежда этих людей. Потом мы долгое время бродили по 110 разрушенным коридорам и залам рейхсканцелярии.
155
Вскоре здание вообще снесли, а камни и мрамор послужили материалом для русского военного мемориала в Трептове.
9
День рейхсканцелярии
Ежедневно от сорока до пятидесяти лиц имели свободный доступ в рейхсканцелярию к обеденному столу Гитлера. Они должны были только позвонить адъютанту и сообщить ему о своем предполагаемом приходе. По большей части это были рейхс- и гаулейтеры, кое-кто из министров, далее люди из ближайшего окружения, но — если не считать главного адъютанта — никаких офицеров. Адъютант, полковник Шмундт, неоднократно и настойчиво уговаривал Гитлера приглашать к обеду высших военных чинов, но Гитлер ни разу не согласился. Возможно, он сознавал, что круг его старых товарищей даст офицерству повод для презрительных замечаний.
Я тоже имел право свободного доступа в квартиру Гитлера и частенько пользовался этим правом. Полицейский у ворот знал мою машину и пропускал, ни о чем не спрашивая. Я оставлял машину во дворе и шел в перестроенную Троостом квартиру. Она располагалась по правую сторону заново отстроенной мною рейхсканцелярии и была связана с ней вестибюлем.
Дежурный эсэсовец из гитлеровского эскорта дружески меня приветствовал, я передавал ему тубус с чертежами и без сопровождения, как свой, переходил в просторную переднюю, помещение с двумя мебельными гарнитурами, удобными для сидения, белые стены которой были украшены гобеленами, а темно-красный мраморный пол устлан дорогими коврами. Там почти всегда присутствовал кто- нибудь из гостей, одни беседовали, другие вели частные телефонные разговоры, и вообще этой комнате отдавали предпочтение, поскольку она была единственной, где разрешалось курить.
Здесь не было заведено приветствовать друг друга обязательным в других местах «Хайль Гитлер!», здесь чаще
156
звучало «Добрый день!». Вот и обычай демонстрировать при помощи значка на лацкане свою партийную принадлежность тоже не был распространен в этом кругу, да и мундиры встречались редко. Словом, те, кому удалось достичь этой комнаты, обладали привилегией в известной степени неформальных отношений.
Через квадратный салон для приемов, которым мало пользовались из-за неудобной мебели, люди попадали в собственно гостиную, где и вели разговоры, по большей части стоя. Эта комната площадью примерно в сто квадратных метров, единственная во всей квартире, которой подходило понятие «уютная», была из уважения к ее бис- марковскому прошлому сохранена при большой перестройке 1933—1934 годов: деревянный потолок, стены, до половины обшитые деревом, и камин, украшенный гербом флорентийского Ренессанса и привезенный некогда рейхсканцлером фон Бюловом из Италии. Единственный камин находился в нижнем этаже. Около него полукругом стояла обтянутая черной кожей мебель, за софой располагался еще один стол, побольше, на его мраморной столешнице постоянно лежали газеты. На стенах висел гобелен и две картины Шинкеля, переданные Национальной галереей специально для квартиры канцлера.
Что до времени появления, то в этом вопросе Гитлер демонстрировал самодержавную непунктуальность. Если обед был, к примеру, назначен на два часа, то Гитлер обычно появлялся в три, а то и позже, иногда из верхних, сугубо личных комнат своей квартиры, часто — после какого-нибудь обсуждения в рейхсканцелярии. Появлялся он без всяких формальностей, как вполне частное лицо, приветствуя гостей пожатием руки и высказывая какое-нибудь соображение на злобу дня; у особо избранных он подобающим случаю тоном справлялся о здоровье «госпожи супруги», принимал из рук пресс-шефа подборку новостей, садился чуть поодаль в кресло и начинал читать. Иногда, если информация представлялась ему особенно интересной, передавал газету кому-нибудь из гостей, сопровождая передачу беглыми замечаниями.
А гости так и стояли минут пятнадцать-двадцать, покуда не поднимался занавес, закрывавший стеклянную дверь, что вела в столовую. «Домоправитель», личность, внушавшая
157
доверие уже благодаря своим габаритам, неофициальным тоном, вполне соответствовавшим атмосфере дома, докладывал, что кушать подано. Фюрер шел первым, другие, не соблюдая чинов и званий, следовали за ним в столовую.
Из всех помещений квартиры рейхсканцлера, отделанных преимущественно профессором Троостом, наиболее продуманным было оформление этого большого квадратного зала (12 X 12 метров). По одной стене — три стеклянные двери, ведущие в сад, у противоположной — большой буфет, отделанный палисандром, над буфетом — незавершенная картина Каульбаха, которая именно благодаря своей незавершенности и не была лишена определенного шарма и в то же время не страдала эклектичностью. Каждая из двух оставшихся стен была разбита посредине полукруглой нишей, где на постаменте светлого мрамора стояли статуи мюнхенского скульптора Вакерле. По обе стороны каждой ниши также располагались стеклянные двери, которые вели в сервировочную, в большую залу и в уже упоминавшуюся гостиную, через которую мы и вошли сюда. Гладко отштукатуренные стены — белизна, подцвеченная желтым, — и занавеси, тоже светлые, придавали комнате ощущение света и простора. Легкие выступы на стенах подчеркивали ясный и строгий ритм, угловатый карниз связывал все это воедино. Меблировка была спокойной и сдержанной. В центре комнаты располагался большой круглый стол примерно на пятнадцать персон, окруженный неброскими стульями темного дерева с темно-красной кожаной обивкой. Все стулья выглядели одинаково, и стул Гитлера ничем из них не выделялся. По углам стояли еще четыре столика, маленьких, вокруг каждого — от четырех до шести таких же стульев. На столах простой светлый фарфор и простые рюмки, то и другое подобрано еще профессором Троостом. В середине стола — ваза, и в ней несколько цветов.
Это и был ресторан «У веселого рейхсканцлера», как частенько называл его Гитлер в присутствии гостей. Его место было у стены с окнами, и еще до входа в столовую он выбирал двух гостей, которые будут сидеть рядом. Все остальные рассаживались вокруг стола как придется, а если гостей набиралось больше обычного, то адъютанты и менее значительные личности, к которым относился и я, занимали
158
места за угловыми столиками, имеющими преимущество, с моей точки зрения, потому что там можно было непринужденно разговаривать. Сама еда была подчеркнуто неприхотлива. Суп, никаких закусок, мясо с овощами и картофелем, что-нибудь сладкое. Из питья предлагались на выбор минеральная вода, простое берлинское бутылочное пиво или дешевое вино. Сам Гитлер ел свои вегетарианские блюда, пил воду «Фахингер», и желающие могли следовать его примеру. Но следовали лишь немногие.
Именно Гитлер придавал большое значение подобной простоте. Он мог рассчитывать, что слух об этом пройдет по всей Германии. Когда однажды рыбаки с Гельголанда подарили ему гигантского омара и этот деликатес, к великому удовольствию гостей, был подан на стол, Гитлер не только позволил себе ряд неодобрительных реплик по поводу человеческих заблуждений, которые позволяют людям поедать чудовищ столь неаппетитного вида, но и пожелал одновременно, чтобы впредь подобных излишеств у него на столе не было. Геринг редко участвовал в этих трапезах. Когда я отпрашивался у него на обед в рейхсканцелярии, он как-то раз заметил: «Сказать по чести, для меня тамошняя еда слишком плоха. Да еще эти партийные бюргеры из Мюнхена!!! Невыносимо!»
Примерно раз в две недели к обеду являлся Гесс; за ним следовал его адъютант с весьма забавным снаряжением: он нес некую жестяную емкость, где в отдельных судочках помещались специально приготовленные кушанья, с тем чтобы их разогрели на здешней кухне. От Гитлера долгое время скрывали, что Гесс велит подавать себе свою собственную вегетарианскую пищу. Когда в конце концов ему об этом доложили, он перед всем обществом сердито обратился к Гессу: «У меня здесь прекрасная повариха для диетических блюд. Если ваш врач прописал вам что-то необычайное, она вполне может это приготовить. Но носить сюда собственную еду нельзя». Гесс, уже в те времена склонный к своенравию, пытался объяснить Гитлеру, что его блюда должны содержать специальные биологически активные добавки, и в ответ услышал весьма откровенное пожелание, что тогда ему лучше обедать дома; после случившегося Гесс почти не появлялся у Гитлера к обеду.
159
Когда согласно требованию партии все германские семьи перешли на похлебку по воскресеньям, чтобы обеспечить для Германии «пушки вместо масла», у Гитлера тоже начали к обеду ставить па стол одну только супницу. Гостей тотчас же поубавилось до двух-трех человек, что побудило Гитлера к ряду ехидных замечаний по поводу жертвенного настроя его сотрудников. Дело в том, что одновременно на столе лежал список, куда можно было внести сумму своего пожертвования. Мне каждая порция похлебки стоила от 50 до 100 марок.
Геббельс был в этих застольях самым высокопоставленным гостем, Гиммлер появлялся редко, Борман, разумеется, не пропускал ни одного обеда, но, подобно мне, и без того принадлежал к числу придворных, а потому и не мог считаться гостем.
Беседы за столом у Гитлера и здесь не выходили за пределы крайне узкого круга тем и предвзятых взглядов на вещи, что делало чрезвычайно утомительными уже и оберзальцбергские разговоры. Если отвлечься от более жестких формулировок, Гитлер не приобрел ни новых взглядов, ни иных точек зрения и остался при своем репертуаре, не желая ни дополнять, ни расширять его. Он даже не давал себе труда избегать утомительных повторений. Не могу сказать, чтобы по крайней мере в те годы я находил его высказывания мудрыми, хоть и был покорен его личностью, — нет и нет, они скорее меня отрезвляли, поскольку я ожидал суждений и взглядов более высокого разбора.
Частенько в своих монологах Гитлер утверждал, будто мир его политических, художественных и военных представлений есть неразрывное целое, который вплоть до мельчайших деталей сложился у него между двадцатью и тридцатью годами — в духовном смысле самом плодотворном для него времени: все, что он сейчас планирует и творит, есть лишь воплощение тогдашних идей.
Значительную роль в застольных беседах играли воспоминания о мировой войне; большинство гостей успело ее застать. Гитлер зачастую лежал в окопах против англичан, чья храбрость и упорство снискали его уважение, пусть даже он и потешался над некоторыми чертами их характера.
160
Например, он с издевкой рассказывал, как англичане точно ко времени чаепития прекращали орудийный огонь, благодаря чему он, будучи тогда связным, мог в полной безопасности совершать свои вылазки.
По отношению к французам Гитлер в наших застольных разговорах 1938 года не высказывал реваншистских мыслей; он не хотел заново прокручивать эпизоды войны 1914 года. Не имеет смысла, говаривал он, заводить новую войну ради Эльзаса и Лотарингии — этой ничтожной полоски земли. Вдобавок из-за вечного перетягивания то туда, то сюда эльзасцы настолько утратили национальный характер, что не представляют более интереса ни для той, ни для другой стороны; короче — надо их оставить там, где они есть. Разумеется, Гитлер исходил при этом из предположения, что экспансия Германии должна быть направлена на Восток. Мужество французских солдат произвело на него в войну чрезвычайное впечатление, вот только офицерский корпус был слишком изнежен. «Вот с немецкими офицерами из французов получилась бы отличная армия!»
Сомнительный с точки зрения расовых теорий союз с Японией Гитлер не то чтобы отвергал, но допускал лишь в отдаленном будущем и при этом относился к нему более чем сдержанно. И всякий раз, касаясь этой темы, он не скрывал своего сожаления о том, что связался с так называемой желтой расой, но полагал, будто может ни в чем себя не упрекать, коль скоро даже Англия во время мировой войны мобилизовала Японию против стран Центральной Европы. В качестве союзника Гитлер признавал Японию мировой державой, тогда как по отношению к Италии он был в этом далеко не так убежден.
Американцы за войну 1914—1918 годов не очень себя проявили и жертв больших не понесли. Серьезных испытаний они наверняка не выдержат, поскольку боевой потенциал у них ничтожный. И вообще, заявлял Гитлер, единого американского народа не существует: это не более как скопище иммигрантов различных национальностей, народов и рас.
Фриц Видеман, некогда полковой адъютант и непосредственный начальник Гитлера, а ныне с умыслом назначенный Гитлером в собственные адъютанты, пытался ему возражать и отстаивал свою точку зрения по отношению
6 А. Шпеер
161
к Америке. Под конец Гитлер, досадуя на строптивость Видемана, нарушавшего неписаный закон застолий, отправил его в Сан-Франциско генеральным консулом: «Пусть он там исцелится от своих представлений».
Вообще же в застольных беседах не принимали участия люди с опытом международного общения. Собиравшийся там кружок по большей части никогда не попадал за пределы Германии: если кто-нибудь для развлечения предпринимал поездку в Италию, поездка эта за столом у Гитлера обсуждалась как великое событие, а рассказчика признавали специалистом в международных отношениях. Вот и Гитлер ничего в мире не повидал, не обзавелся по этому поводу ни знаниями, ни взглядами. Вдобавок и партийная верхушка в его окружении, как правило, не имела высшего образования. Из пятидесяти рейхс- и гаулейтеров, партийной элиты, лишь у десяти было законченное университетское образование, еще несколько так и не завершили курса, застряв на середине, но большинство не продвинулось дальше средней школы. Почти ни один не совершил чего-либо примечательного в какой бы то ни было области, и все отличались редкостной духовной апатией. Их образовательный уровень никак не соответствовал тому, которого, казалось бы, можно ожидать от руководящей элиты народа с традиционно высоким духовным уровнем. Гитлеру явно было приятней иметь в своем ближайшем окружении людей одинакового с ним уровня, — возможно, он лучше всего чувствовал себя в такой среде. И вообще он любил, когда кто-то из его окружения имел какой-нибудь огрех, как это тогда называли. Ханке как-то сказал: «Всегда лучше, если у подчиненных есть некоторые изъяны и вдобавок они знают, что их начальству эти изъяны ведомы. Вот почему фюрер так редко производит замены. С такими людьми ему легче работать. Почти у каждого есть свое темное пятно, и это помогает держать их в узде».
К огрехам причислялись: безнравственный образ жизни, отдаленные еврейские предки или малый стаж пребывания в партии. Гитлер нередко предавался рассуждениям о том, что было бы ошибкой экспортировать такие идеи, как национал-социализм. Это привело бы лишь к нежелательному национальному укреплению других стран и, следовательно, к ослаблению собственной позиции. Его прямо-таки тешила
162
мысль, что в национал-социалистических партиях других стран нет равного ему фюрера, Муссерта и Мосли он осуждал как подражателей, которым не приходит в голову ничего нового и оригинального. Они лишь по-рабски копируют нас и наши методы, а это ни к чему не приведет. В каждой стране нужно исходить из других предпосылок и в соответствии с ними определять свои методы. Дегреля он ценил выше, хотя и от него ничего путного не ждал.
Политика была для Гитлера вопросом целесообразности. И тут он не делал исключения даже для своего кредо — для книги «Майн кампф»; значительные части ее больше не соответствовали действительности, и зря, мол, он так спешил застолбить свои взгляды — последнее замечание заставило меня окончательно отказаться от тщетных попыток все-таки одолеть его книгу.
Когда после захвата власти идеология отошла на задний план, против омещанивания и упрощения партийной программы выступили в первую очередь Геббельс и Борман. Они упорно пытались сделать более радикальными идеологические позиции Гитлера. Если судить по речам, Лей тоже принадлежал к числу несгибаемых идеологов, но не тех масштабов он был человек, чтобы добиться сколько-нибудь значительного влияния. Гиммлер, в отличие от них, жил по своим собственным причудливым методам, которые слагались из прогерманских расовых теорий, элитарного мышления, а также идей здорового диетического питания и начинали постепенно принимать экзальтированные псев- дорелигиозные формы. Геббельс вместе с Гитлером первым подверг осмеянию эти устремления Гиммлера, не без того, разумеется, что Гитлер со своим тупым тщеславием сам тому поспособствовал. Получив, к примеру, в подарок от японцев самурайский меч, он вдруг обнаружил черты сходства между японскими и германскими культовыми обрядами и при посредстве ученых долго мудрил над задачей привести это сходство к общему знаменателю с позиций расового учения.
Особое внимание Гитлер уделял вопросу создания системы воспитания подрастающего поколения, преданного своему рейху. Такой проект был создан Леем, которому Гитлер передоверил и организацию воспитательной системы. Путем создания «школ Адольфа Гитлера» для детей
6*
163
среднего возраста и «орденских замков» для более высокого образования предстояло воспитать как профессионально, так и идеологически подкованную элиту. Возможно, представители ее годились лишь для того, чтобы занять позиции в бюрократическом руководстве партии: из-за юности, проведенной в замкнутой обстановке, они были бы отчуждены от практической жизни, зато — и зачатки этого явления уже можно было угадывать — не знали бы себе равных по части высокомерия и преувеличенного мнения о собственных способностях. Характерно, что высокие партийные функционеры отнюдь не рвались отдавать своих детей в эти школы; даже такой фанатичный член партии, как гаулейтер Заукель, не позволил ни одному из своих многочисленных сыновей избрать эту карьеру. А Борман демонстративно определил туда одного сына — в наказание.
Для активизации партийной борьбы, на взгляд Бормана, вне всякого сомнения, требовалась война с церковью. Он был движущей силой этой борьбы, о чем неоднократно сообщал во время застолий. Правда, и медлительность Гитлера не оставляла сомнения в том, что он лишь отодвигает решение данной проблемы на более благоприятное время. Ибо здесь, среди мужчин, он был куда более жесток и откровенен, чем в Оберзальцберге. «Когда я наконец решу другие вопросы, — при случае говаривал он, — я разберусь и с церковью. Они у меня еще увидят!»
Но Борман не желал, чтобы этот разбор откладывался. Его свирепой прямоте был не по нраву уклончивый прагматизм Гитлера. Он использовал любую возможность, чтобы как-то продвинуться вперед, даже за обедом он нарушал безмолвный уговор не касаться тем, которые способны испортить Гитлеру настроение. Для подобных выпадов Борман разработал собственную тактику: он делал так, чтобы кто-нибудь из гостей «сыграл на него», заставляя долго и громко рассказывать, какие бунтарские речи произносил тот либо иной пастор или епископ, покуда Гитлер не начинал прислушиваться и требовать подробностей. Тут уж Борман говорил, что и впрямь случилась пренеприятная история, только он не хотел бы тревожить Гитлера за обедом. Гитлер, естественно, начинал допытываться, и Борман докладывал с таким видом, будто его к этому принудили. Гневные взгляды остальных гостей так же мало его смущали,
164
как и багровеющее лицо Гитлера. В какой-то момент он извлекал лист бумаги и зачитывал пассажи из непочтительной проповеди или церковной декларации. От этого Гитлер порой так возбуждался, что начинал щелкать пальцами — безошибочное доказательство гнева, — прерывал обед и грозил немедленным отмщением. Он скорее был готов сносить хулу и возмущение заграницы, чем непокорность внутри страны. Невозможность покарать ее тотчас, по горячим следам, доводила его до белого каления, хотя обычно он вполне умел собой владеть.
Гитлер был начисто лишен чувства юмора. Он предоставлял другим право острить, смеялся громко, взахлеб, мог корчиться от смеха, при таких приступах веселья у него буквально слезы текли из глаз. Словом, он охотно смеялся, но, по сути, всегда на чужой счет.
Геббельс лучше других знал, как с помощью острот можно позабавить Гитлера и попутно высмеять собственных врагов в скрытой борьбе за власть. Однажды он, например, рассказал такое: «Гитлерюгенд потребовал от нас опубликовать заметку к двадцатипятилетию Лаутербахера, начальника их штаба. Я послал Лаутербахеру для ознакомления набросок, согласно которому он встретил этот день “в прекрасном состоянии духовного и физического здоровья”. С тех пор мы больше ничего о нем не слышали. Гитлер корчился от смеха, а Геббельс в стремлении дискредитировать зазнавшуюся молодежную верхушку легче достиг своей цели, чем сделал бы это с помощью длинного доклада. Вот и этим гостям Гитлер также часто рассказывал о своей молодости, придавая большое значение строгости полученного им воспитания: «Я часто получал от своего отца тяжелые подзатыльники. Думаю, однако, что это было вполне необходимо и пошло мне на пользу». Вильгельм Фрик, министр внутренних дел, блеющим голоском произнес: «Да, как теперь видно, это пошло вам на пользу, мой фюрер». Оцепенение ужаса на всех лицах. Фрик пытается спасти ситуацию: «Я хотел сказать, мой фюрер, что вы именно поэтому так многого достигли». Геббельс, считавший Фрика полным идиотом, саркастически комментирует: «Подозреваю, дорогой Фрик, что вас в молодости никто не бил!»
165
Вальтер Функ, министр экономики и одновременно президент Рейхсбанка, рассказывал о безумных поступках, которые много месяцев подряд беспрепятственно совершал его заместитель Бринкман, пока его наконец не признали душевнобольным. Функ хотел своим рассказом не только повеселить Гитлера, но вдобавок не вызывающим подозрений образом доложить ему о событиях, которые все равно достигнут его ушей. Так, например, Бринкман пригласил всех уборщиц и курьеров Рейхсбанка на званый обед в парадной зале «Бристоля», одного из лучших берлинских отелей, сам же он играл на скрипке. Это еще как-то худо-бедно соответствовало стремлению режима изображать народное единство; но то, что под общий хохот сказал далее Функ, заставляло задуматься: «Недавно он встал перед зданием министерства экономики на Унтер-ден-Линден, извлек из своего портфеля большой пакет вновь напечатанных денег — банкноты, как вы знаете, подписаны мною — и раздавал их прохожим со словами: “Кто хочет получить нового Функа?” Вскоре, — продолжал Функ, — его безумие проявилось окончательно: он созвал всех служащих Рейхсбанка: “Кто старше пятидесяти, идите на левую сторону, кому меньше — на правую!” И, обращаясь к одному из стоящих на правой стороне, спросил: “Вам сколько?” — “Сорок девять, господин вице-президент!” — “Тогда шагом марш налево. Итак, все, кто слева, подлежат немедленному увольнению, причем с двойной пенсией”».
У Гитлера от смеха слезы текли из глаз. Снова придя в себя, он произнес длинный монолог о том, как порой бывает тяжело распознать душевнобольного. Таким окольным путем Функ заодно сумел вполне непринужденно предотвратить некую возможность: наделенный правом подписи директор Рейхсбанка — чего еще не мог знать Гитлер — в своей невменяемости выдал Герингу чек на несколько миллионов, которые «экономический диктатор» беззаботно оприходовал. И — что нетрудно понять — Геринг всей своей мощью обрушился на утверждение, будто Бринкман недееспособен. Нетрудно было предположить, что Геринг и Гитлера поспешит проинформировать в нужном ему духе. А по опыту было известно, что тот, кому первым удастся создать у Гитлера то либо иное впечатление, уже наполовину выиграл дело: Гитлер неохотно менял единожды
166
высказанную точку зрения. И все же Функу пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы вырвать у Геринга уже полученные миллионы.
Излюбленной мишенью для острот Геббельса был и оставался Розенберг, которого он охотно величал «рейхсфилософом» и всячески принижал в своих анекдотах. В случае с Розенбергом Геббельс мог быть уверен в одобрении Гитлера и потому так часто обращался к этой теме, что его рассказы начали походить на разученный спектакль, в котором отдельные актеры дожидались своего выхода. Можно было почти наверняка предсказать, что ближе к концу Гитлер непременно произнесет следующие слова: “Фёль- кишер беобахтер” такой же скучный, как и его редактор Розенберг. Кстати, у нас в партии есть так называемый юмористический листок “Крапива”. Самый унылый листок, какой только можно себе представить. А с другой стороны, “ФБ” — это не что иное, как юмористический листок». Точно так же, к особому удовольствию Гитлера, Геббельс высмеивал Мюллера, владельца большой типографии, ибо Мюллер всячески старался наряду с членством в партии сохранить и старых заказчиков из католических кругов Верхней Баварии. Он издавал продукцию от церковных календарей до антицерковных трудов Розенберга. И он мог это себе позволить, потому что в двадцатые годы не отказывался порой печатать «Фёлькишер беобахтер», невзирая на неоплаченные счета.
Некоторые остроты бывали тщательно подготовлены и как звенья аккуратно вплетены в цепь действий, о развитии которых Гитлер получал регулярную информацию; Геббельс и здесь превосходил остальных, поскольку одобрительная реакция Гитлера снова и снова побуждала его к действию. На радио старый член партии Эйген Хадамовский получил руководящую должность и теперь горел желанием возглавить все радиовещание рейха. Министр же пропаганды, у которого на примете был совсем другой кандидат, опасался, как бы Гитлер и впрямь не вздумал поддерживать Хадамовского, поскольку тот в 1933 году с заМетным искусством организовал передачи о ходе избирательной кампании. Ханке, статс-секретарь в министерстве пропаганды, после этого пригласил Хадамовского к себе и официально сообщил ему, что он недавно был произведен Гитлером
167
в «рейхсинтенданты». Восторги Хадамовского по поводу желанного назначения были, по всей вероятности, за обедом доведены до сведения Гитлера в огрубленном и искаженном виде, так что Гитлер воспринял все произошедшее как интересную шутку.
На другой день Геббельс нарочно велел напечатать несколько экземпляров одной газеты, в которой была опубликована ложная информация о назначении, а вновь назначенный осыпался неумеренными похвалами. В таких интригах Геббельс знал толк; теперь он мог доложить Гитлеру, какие преувеличения и восторги содержала газета и с какой радостью Хадамовский все это воспринял. Результатом был новый приступ хохота у Гитлера. В тот же день Ханке попросил вновь назначенного произнести приветственную речь в неподключенный микрофон, и снова это послужило источником бесконечного веселья, когда за столом было сообщено, с какой неумеренной радостью — доказательством откровенного тщеславия — он реагировал на это предложение. Теперь Геббельсу нечего было опасаться, что кто-то поддержит Хадамовского. Дьявольская игра, причем высмеиваемый даже не имел возможности вмешаться, он, вероятно, и не подозревал, что все эти шуточки имели целью сделать его совершенно несостоятельным в глазах Гитлера. Никто не мог бы также проверить, точно ли Геббельс излагал факты или просто дал волю своей необузданной фантазии.
Вообще можно было решить, что обманут сам Гитлер, что интриган Геббельс обвел его вокруг пальца. По моим наблюдениям, Гитлер в подобных случаях не мог тягаться с Геббельсом, гнусное интриганство было чуждо его прямой натуре. Но заставляло задуматься то обстоятельство, что Гитлер своим одобрением поддерживал и даже провоцировал эту подлую игру, ибо даже краткая недовольная реплика могла бы прекратить ее на долгие времена.
Я часто задавался вопросом, подвержен ли Гитлер влиянию. Да, несомненно, причем в большей степени тех, кто знал в этом толк; Гитлер хоть и был недоверчив, но, как мне кажется, в более грубом смысле, ибо он не всегда умел разгадать хитроумные шахматные ходы или тонкие манипуляции его, Гитлера, мнением — для методической игры краплеными картами у него явно не хватало данных.
168
Зато мастерами в этой игре были Геринг, Геббельс, Борман и — хотя и в меньшей степени — Гиммлер. Поскольку в решающих вопросах никакая откровенность, как правило, не могла заставить Гитлера переменить мнение, позиция этих четырех становилась тем сильнее.
Пусть упоминание еще одной шутки столь же гнусного характера завершит мой рассказ о застольных нравах. На сей раз мишенью стал начальник отдела иностранной прессы «Путци» Ганфштенгль, за которым Геббельс следил с великим недоверием, как за человеком, имеющим тесный контакт с Гитлером. Больше всего Геббельс любил клеймить якобы болезненную жадность Ганфштенгля. Теперь он с помощью пластинки пытался доказать, что даже мелодию сочиненного Ганфштенглем и весьма популярного марша под названием «Фён» последний заимствовал из одного английского зонга.
Итак, начальник отдела иностранной прессы уже снискал недоверие, когда Геббельс в застольной беседе поведал — а было это в период испанской войны, — что Ганфштенгль позволял себе пренебрежительные замечания о боевом духе сражающихся там немецких солдат. Гитлер вскипел: надо хорошенько проучить этого труса, который не имеет ни малейшего права судить о чужой храбрости! Несколько дней спустя к Ганфштенглю явился порученец от Гитлера с запечатанным приказом, который дозволялось вскрыть лишь после того, как подготовленный для него самолет оторвется от земли. Самолет взлетел, и Ганфштенгль с ужасом прочел, что его сбросят над занятой «красными испанцами» территорией, чтобы там он действовал как тайный агент Франко. Подробности Геббельс рассказал Гитлеру во время обеда: как Ганфштенгль, ознакомившись с приказом, в полном отчаянии просил пилота повернуть, потому что здесь явно какое-то ужасное недоразумение, как самолет несколько часов кружил над Германией, как пассажиру все время сообщали ложные данные об их местонахождении и потому он ни минуты не сомневался, что приближается к Испании, покуда пилот не сообщил ему, что намерен совершить вынужденную посадку, после чего уверенно приземлился на лейпцигском аэродроме, Ганфштенгль, после приземления догадавшийся, что он стал жертвой злой шутки,
169
с волнением вскричал, что его хотят погубить, после чего бесследно исчез.
Все перипетии этой истории вызвали за столом у Гитлера большое веселье, тем более что на сей раз он продумывал шутку совместно с Геббельсом. Однако, когда Гитлер некоторое время спустя узнал, что его начальник отдела иностранной прессы бежал за границу в поисках убежища, он побоялся, как бы тот не начал сотрудничать с прессой, чтобы обратить в деньги свое знание разных интимных подробностей. Однако вопреки слухам о его жадности Ганф- штенгль ничего подобного делать не стал.
Склонность Гитлера задеть репутацию и достоинство даже ближайших сотрудников и верных соратников с помощью безжалостных шуток находила известный отклик и у меня. Но, хотя я по-прежнему был им пленен, в моей приязни не осталось и следа того обожания, которое он внушал мне в первые годы нашей совместной работы. В повседневном общении с Гитлером я начал соблюдать дистанцию и, соответственно, порой даже вырабатывать способность к критическому взгляду.
Моя преданность все больше и больше была адресована строительному заказчику. Возможность служить ему всем своим умением и претворять в жизнь его строительные замыслы меня до сих пор восхищала. Вдобавок чем масштабней и значительней были мои строительные задачи, тем больше уважения вызывала мря персона у других. Мне предстояло, как я полагал, исполнить дело своей жизни, которое поставит меня в один ряд с известнейшими строителями в истории. Все это вызывало у меня сознание, что я не только пользуюсь милостями Гитлера, но и в свою очередь оказываю ему равноценные услуги на поприще градостроительства. Ну и, наконец, Гитлер относился ко мне как к своему коллеге и не уставал повторять, что в области архитектуры я его значительно превосхожу.
Регулярные обеды у Гитлера означали большую потерю времени, потому что за столом засиживались до половины пятого. И, разумеется, мало кто мог себе позволить ежедневно расходовать столько времени. Вот и я за неделю обедал у Гитлера раз или два, чтобы не запускать окончательно свою работу.
Но, с другой стороны, появляться в гостях у Гитлера было очень важно, ибо это придавало весомость; вдобавок
170
для большинства гостей быть в курсе сегодняшнего мнения Гитлера считалось необходимым. И для самого Гитлера такие посиделки были немаловажны, так как здесь он мог без труда, в непринужденной форме распространить и обкатать новую политическую линию или лозунг. Зато он, как правило, никому не давал заглядывать в свои строительные проекты, скажем, в ходе важного обсуждения. А если и позволял, то главным образом ради того, чтобы услышать какой-нибудь комментарий из уст собеседника.
Некоторые гости, словно рыбаки, уже во время еды забрасывали наживку, чтобы договориться насчет сроков разговора. Они говорили, что принесли снимки, отражающие новейшую стадию тех либо иных строительных работ; в качестве приманки хороши были также снимки театральных декораций какого-нибудь вновь поставленного спектакля, желательно Вагнера или какой-нибудь оперетты. Но самым надежным оружием, всегда бившим без промаха, считалась фраза «Мой фюрер, я принес вам новые строительные проекты». Тогда гость мог быть почти уверен, что Гитлер скажет: «Хорошо, хорошо, вот после обеда и покажете». Конечно, по правилам застолья это считалось неприличным, но иногда человек рисковал прождать много месяцев, пока ему назначат официальный срок встречи.
После завершения обеда Гитлер отпускал собравшихся, гости коротко прощались, а предпочтенного вели в прилегающую залу, которая по причинам совершенно непонятным называлась «зимним садом». При этом Гитлер часто говорил мне: «А вы минутку подождите. Я бы еще хотел кое-что с вами обсудить». Одна минута часто затягивалась на целый час, а то и больше. Потом Гитлер посылал за мной, держался теперь он совершенно неофициально, садился напротив в удобное кресло и спрашивал, как у меня идут дела на стройке.
Между тем наступало уже шесть часов вечера. Гитлер прощался и уходил в свои комнаты на втором этаже, а я ехал к себе в бюро, порой лишь ненадолго. Когда мне звонил адъютант с известием, что Гитлер пригласил меня к ужину, необходимо было уже через два часа снова быть в квартире канцлера. Но часто, если мне требовалось показать какие-нибудь чертежи, я приходил к нему и без приглашения.
171
В такие вечера к столу собиралось от шести до восьми сотрудников, его адъютанты, сопровождающий врач, фотограф Гофман, один-два мюнхенских знакомых, пилот Гитлера Бауэр с радистом и бортмехаником и — как неизбежное приложение — Борман. Это был самый узкий круг берлинских знакомых Гитлера, ибо политические сотрудники, такие как, например, Геббельс, по вечерам были нежелательны. Уровень разговоров по вечерам был еще на одну ступень непритязательней, чем за обедом, и сводились они ко всяким совсем узко-пустячным темам. Гитлер охотно выслушивал рассказы о последних театральных постановках, интересовала его и скандальная хроника; пилот рассказывал о своих полетах, Гофман потчевал собравшихся анекдотами из жизни мюнхенских художников, рассказывал о своей погоне за картинами, но чаще всего Гитлер излагал одни и те же истории о своей молодости либо о своем становлении.
К столу опять подавали самые простые блюда. Правда, заведующий хозяйством Канненберг несколько раз пытался в этой домашней атмосфере подать что-нибудь получше. Несколько недель Гитлер с очень даже большим аппетитом ел ложками черную икру и расхваливал отличный, незнакомый ему вкус. Потом он спросил Канненберга, сколько это стоит, возмутился непомерной ценой и запретил дальнейшие закупки. Тогда ему предложили дешевую красную икру, но и она была отвергнута как чересчур дорогая. Разумеется, все эти цены по сравнению с суммой общих расходов не играли никакой роли, но представлению Гитлера о самом себе был невыносим образ объедающегося икрой фюрера.
После ужина общество направлялось в большую гостиную, которая вообще-то предназначалась для официальных приемов. Гости рассаживались по удобным креслам, Гитлер расстегивал свой китель, вытягивал ноги как можно дальше. Свет медленно гас, тем временем через заднюю дверь пропускали избранную, в том числе и женского пола, обслугу, а также офицеров личной охраны Гитлера. Начинался первый художественный фильм. И тут мы усаживались, как в Оберзальцберге, и молча сидели по три-четыре часа, а когда сеанс кончался примерно в час ночи, вставали совершенно одуревшие, с затекшими ногами. Только Гитлер
172
выглядел еще вполне свежим, он с удовольствием распространялся об артистических достижениях, восхищался игрой любимых актеров, прежде чем перейти к другим темам. В малой гостиной разговор лениво тянулся через пень-колоду; подавали пиво, вино и бутерброды, пока часов около двух Гитлер наконец не прощался. Часто мне невольно приходило на ум, что этот более чем заурядный кружок собирается на том же самом месте, где некогда беседовал со знакомыми, друзьями и политическими партнерами Бисмарк.
Желая как-то разрядить монотонность этих вечеров, я неоднократно пытался уговорить Гитлера пригласить какого-нибудь известного пианиста или, скажем, ученого. Но, к моему удивлению, Гитлер всякий раз уклонялся от моего предложения. «Артистам не так уж и захочется прийти сюда, как вы думаете». На деле, конечно, многие из них восприняли бы подобное приглашение как высокую честь. Но, может быть, Гитлер просто не хотел нарушать тупое и банальное завершение своего дня, любезное его сердцу. Я также замечал, что перед людьми, профессионально его превосходящими, Гитлер испытывал известную робость. Правда, он от случая к случаю принимал их у себя, но лишь в сдержанной атмосфере официальной аудиенции; может, это и было одной из причин, почему он привязался ко мне, совсем молодому архитектору: по отношению ко мне он не испытывал комплекса неполноценности.
В первые годы после 1933-го адъютант приглашал дам, которые отчасти были из мира кино, а отбор их осуществлял Гитлер. Но, как правило, допускали лишь замужних, преимущественно с мужьями; Гитлер выдерживал это правило, чтобы избегнуть слухов, ибо слухи вполне могли нанести ущерб созданному Геббельсом образу фюрера, стиль жизни которого отличается исключительной почтительностью. В отношениях с этими женщинами Гитлер вел себя как ученик танцкласса на выпускном балу. Вот и здесь проявлялось робкое старание ничего не напутать, раздать должное число комплиментов, на австрийский манер припасть к ручке при встрече и прощании. По завершении приема он проводил еще некоторое время в своем узком кругу, восхищаясь дамами — гостьями этого вечера, но больше фигурой, чем шармом или умом, и всегда отчасти
173
смахивал на школьника, который убежден в неосуществимости своих мечтаний. Гитлер любил высоких, склонных к полноте женщин; Ева Браун, можно сказать — маленькая и изящная, никак не соответствовала его вкусу.
Без видимой причины, если память мне не изменяет, году в 1935-м этим приемам ни с того ни с сего пришел конец. Причина так и осталась неизвестной — может, сплетни, может, еще что, во всяком случае, Гитлер решительно заявил, что приглашение дам отменяется, и с тех пор довольствовался восторгами по адресу актрис из ежевечерних фильмов.
Лишь много позже, в 1939 году примерно, Еве Браун выделили спальню в берлинской квартире Гитлера, рядом с его спальней и окнами в узкий двор. Здесь еще более, чем в Оберзальцберге, она вела замкнутый образ жизни, украдкой проникала через боковой вход и поднималась по боковой лестнице, никогда не спускаясь в нижние помещения, даже если в доме никого не было, кроме старых знакомых, и очень радовалась, когда я составлял ей компанию в долгие часы заточения.
В Берлине Гитлер крайне редко посещал театр, если не считать оперетт. Новые инсценировки ставших уже классикой оперетт, как, например, «Летучая мышь» или «Веселая вдова», он никогда не пропускал. Я твердо убежден, что по меньшей мере пять или шесть раз смотрел в различных городах Германии «Летучую мышь», на пышную постановку которой он щедро подбрасывал средства из «шкатулки» Бормана.
Любил он к тому же и «легкий жанр», несколько раз ходил в «Зимний сад» — берлинское варьете, ходил бы наверняка и чаще, но как-то стеснялся. Иногда он посылал вместо себя своего мажордома, чтобы поздним вечером, глядя в программку, выслушать рассказ о том, что было. Несколько раз ходил он также в театр «Метрополь», где давали оперет- ты-ревю с множеством полураздетых «нимф» и убогим содержанием.
Ежегодно на Байрейтском фестивале он посещал все без исключения спектакли первого цикла. Как казалось мне, профану в музыке, Гитлер, беседуя с госпожой Ви- нифред Вагнер, проявлял способность судить обо всех музыкальных нюансах, но куда больше занимали его достижения режиссуры.
174
Если не считать фестиваля, он посещал оперу крайне редко, и его несколько больший поначалу интерес к драматическим спектаклям тоже скоро сошел на нет. Даже предпочтительная любовь к Брукнеру не играла особой роли. Правда, перед каждой из его «речей о культуре» на нюрнбергском партийном съезде проигрывали какую-нибудь часть из какой-нибудь брукнеровской симфонии, в остальном же он пекся лишь о том, чтобы дело всей жизни Брукнера, начатое в монастыре Сан-Флориан, не было предано забвению. Но обществу следовало непременно внушить мысль о глубине его художественных взглядов.
Для меня так и осталось тайной, насколько Гитлер увлекался художественной литературой. Он толковал преимущественно о трудах по военной науке, о морских календарях и о книгах по архитектуре, которые с неослабевающим интересом изучал в ночные часы. Других его высказываний я не помню.
Я привык работать интенсивно и поначалу не мог понять расточительность, с какой Гитлер относился к своему времени. Правда, я понимал, почему он так скучно тянет время, завершая свой день. Но расходовать таким образом в среднем по шесть часов было бы, на мой взгляд, многовато, если учесть, что собственно рабочее время получалось куда короче. Когда, спрашивал я себя, когда он вообще работает? От всего дня оставалась самая малость; поднимался он поздно, проводил затем одну-две запланированные деловые встречи, но уже начиная со следующего непосредственно за встречами обеда он, можно сказать, впустую тратил время вплоть до наступления вечера. И без того редко назначаемые на вторую половину дня встречи часто срывались из-за его пристрастия к строительным планам. Адъютанты часто просили меня: «Пожалуйста, не показывайте ему сегодня никаких планов». И тогда я прятал принесенные с собой чертежи у входа, на коммутаторе, на вопросы же Гитлера давал уклончивые ответы. Порой он разгадывал эту хитрость и сам искал в вестибюле и в гардеробе тубус с чертежами.
В глазах народа фюрер был человеком, который неустанно трудится день и ночь. Тот, кому знакомы методы работы любой творческой натуры, наделенной художественным
175
темпераментом, пусть истолкует это чуждое всякой дисциплине деление дня как жизненный стиль человека богемы. Насколько я мог наблюдать, он, по неделям занимаясь пустяками, доводил до созревания какую-нибудь проблему, чтобы потом, после «внезапного политического озарения», окончательно сформулировать представляющееся ему верным решение за несколько дней напряженной работы. Вот и застолья, возможно, служили для него средством играючи обкатать новые мысли, всякий раз вырабатывать новый подход к ним, шлифовать и совершенствовать перед некритической публикой. Но, единожды приняв решение, он возвращался к привычной праздности.
10
Раскрепощенный ампир
Раз или два в неделю я ходил по вечерам к Гитлеру. Часам примерно к двенадцати, когда бывал прокручен последний фильм, он иногда требовал показать ему чертежи и до двух-трех ночи обсуждал со мной каждую деталь. Остальные гости либо объединялись за стаканчиком вина, либо расходились по домам, сознавая, что поговорить с Гитлером сегодня не удастся.
Больше всего Гитлера привлекал наш макет города, который сооружался в бывших выставочных залах Академии искусств. Чтобы беспрепятственно проникать туда, он приказал проделать проходы в стенах министерских садов, что лежали между рейхсканцелярией и нашим зданием, и проложить между ними дорожку. Иногда он приглашал в наше ателье маленькое застольное общество: вооружась карманными фонариками и ключами, мы пускались в путь. В пустых залах прожекторы подсвечивали модель. Я мог воздержаться от комментариев, потому что Гитлер сам с блеском в глазах объяснял своим спутникам каждую подробность.
Волнение достигало апогея, когда устанавливали новую модель и с помощью прожекторов освещали ее в направлении солнца. Как правило, модели изготавливались в масштабе 1:10, краснодеревщики обрабатывали их до мельчайших деталей и раскрашивали в соответствии с цветом будущего материала. Так можно было постепенно составлять
176
целые участки большой новой улицы, и мы получали пространственное впечатление о домах, которым суждено было стать реальностью следующего десятилетия. Эта модель улицы простиралась метров на тридцать сквозь бывшие выставочные залы Берлинской академии искусств.
Особенно восхищал Гитлера большой макет, который изображал запланированную роскошную улицу в масштабе 1:1000. Его можно было разобрать на отдельные части и каждую часть выдвинуть с помощью столика на колесах. В любом месте Гитлер мог таким образом войти в свою улицу, чтобы увидеть ее будущее воздействие: так, например, он избирал перспективу путешественника, который прибыл с Южного вокзала, или изучал впечатление от Купольного дворца либо со средней части улицы в обе стороны. Для этого он почти опускался на колени, глаза — на миллиметр над уровнем макета, чтобы получить верное представление, говорил с необычайной живостью. Это были те редкие часы, когда он отбрасывал привычную скованность. Мне никогда больше не доводилось видеть его столь оживленным, столь импульсивным и раскованным, как в эти часы, когда сам я, нередко усталый и — даже после долгих лет знакомства — не без следов почтительной сдержанности, по большей части хранил молчание. Один из моих ближайших сотрудников следующим образом выразил впечатление, которое производила на него эта странная расстановка сил: «А знаете, что вы такое? Вы несчастная любовь Гитлера!»
Лишь немногие посетители имели доступ к этим строго охраняемым от любопытных помещениям. Без личного разрешения Гитлера никто не смел разглядывать большой строительный план Берлина. Когда Геринг однажды осматривал макет Парадной улицы, он, пропустив свою свиту вперед, сказал взволнованным голосом: «Несколько дней назад фюрер говорил со мной о моих задачах после его смерти. Он все передоверит мне, чтобы я поступил как сочту нужным. Но одно он заставил меня твердо ему пообещать: никогда не заменять вас никем другим, после того как он умрет, никогда не вмешиваться в ваши планы и все оставлять на ваше усмотрение. И чтоб я выделял вам деньги на ваше строительство, столько, сколько вы потребуете. — Геринг сделал взволнованную паузу. — Я торжественно пообещал это фюреру, мы ударили по рукам.
177
И так же торжественно я обещаю это вам», — после чего он долго и патетически тряс мою руку.
Отец мой также посмотрел работы своего знаменитого сына. При виде макетов он пожал плечами: «Безумие, да и только». Вечером мы с ним были в театре, где смотрели комедию, в которой играл Хейнц Рюман. По чистой случайности на том же спектакле был и Гитлер. В антракте он справился у своих адъютантов, не отец ли мне пожилой господин, что рядом со мной, после чего пригласил нас обоих к себе. Когда мой отец — несмотря на свои семьдесят пять лет, очень прямой и выдержанный — был представлен Гитлеру, на него напала сильная дрожь, которой я у него не видел ни до, ни после этого. Он побледнел, не реагировал на восторженные похвалы, которые расточал Гитлер его сыну, и откланялся, не проронив ни слова. Позднее отец никогда не вспоминал эту встречу, да и я избегал задавать ему вопросы о причине беспокойства, явно охватившего его при виде Гитлера.
«Безумие, да и только...» Когда сегодня я перебираю многочисленные фотографии нашей тогдашней Парадной улицы, я и сам вижу: это было не просто безумием, но безумием скучным.
Мы, правда, поняли, что новая улица, застроенная исключительно общественными зданиями, произведет безжизненное впечатление, и потому отвели две трети ее длины под частную застройку. Попытки городского управления вытеснить с улицы торговые дома мы отбивали при поддержке Гитлера. Мы не хотели, чтобы возникла улица, состоящая из сплошных министерств. Чтобы привнести жизнь в эту городскую улицу, мы специально запланировали там же фешенебельный премьерный кинотеатр, массовый кинотеатр на две тысячи мест, новую оперу, три театра, новый концертный зал, здание конгрессов под названием «Дом наций», отель в двадцать один этаж на пятнадцать тысяч мест, варьете, большие и роскошные рестораны, даже крытый бассейн в римском стиле, по размерам не уступающий римским термам. Тихие внутренние дворики с колоннадой и маленькими изысканными магазинчиками должны были располагать к прогулке вдали от городского шума. Мы широко использовали также световую рекламу. Вся
178
улица была задумана Гитлером и мной лишь как сплошная выставка-продажа немецких товаров, призванная привлекать в первую очередь зарубежных гостей.
Но сегодня, просматривая фотографии и планы, я даже эти части улицы нахожу безжизненными и зарегламентированными. Утром того дня, когда меня выпустили из тюрьмы, по дороге в аэропорт я проехал мимо одной из этих улиц и за несколько секунд углядел то, чего не замечал годами: мы строили без учета масштабов.
Даже на частные магазины мы отводили блоки в 150— 200 метров длины. Мы заранее устанавливали высоту домов, высоту фасадов, задвигали высотные дома в глубину и тем отнимали у себя средство для перебивки ровной линии и оживления улицы. Даже разглядывая фотографии торговых домов, я всякий раз снова и снова пугаюсь при виде той застывшей монументальности, из-за которой неизбежно пошли бы прахом все наши усилия привнести в эту улицу жизнь большого города.
Сравнительно более удачное решение мы нашли при строительстве Центрального вокзала, которым и должна была начинаться с юга Парадная улица Гитлера: издалека видный стальной каркас, обшитый медными листами и выложенный стеклянными пластинами, благодаря чему он должен был выгодно отличаться от прочих каменных громад. Он предполагал один над другим четыре уровня, соединенных эскалаторами и лифтами, и должен был превзойти нью-йоркский Гранд-Сентрал-Терминал.
Гости государственного уровня спускались бы по широкой наружной лестнице; подразумевалось, что они, равно как и выходящие из вокзала пассажиры, будут потрясены этим грандиозным зрелищем и тем самым раздавлены, вернее сказать, буквально убиты мощью рейха. Вокзальная площадь в 1000 метров длины и 330 метров ширины была бы, наподобие дороги от Карнака до Луксора, обрамлена трофейным оружием. Эту деталь Гитлер приказал внести после похода на Францию и еще раз подтвердил свое намерение поздней осенью 1941 года.
Площадь предполагалось завершить или увенчать Большой аркой Гитлера, или Триумфальной аркой, как сам он называл ее лишь от случая к случаю. Наполеоновская Триумфальная арка при своих 550 метрах высоты представляет
179
собой нечто монументальное и дает Елисейским полям после их двухкилометровой протяженности импозантное завершение, тогда как наша Триумфальная арка 170-метровой длины, 119-метровой глубины и 117-метровой ширины превосходила бы все остальные строения в южной части улицы и по масштабам их как бы подавляла.
После нескольких тщетных попыток у меня не осталось сил уговаривать Гитлера согласиться на изменения. Это было его любимое детище: возникшая задолго до очищающего влияния профессора Трооста, арка представляла собой хорошо сохранившийся образец архитектурных замыслов Гитлера, которые он развивал в чертежном альбоме, утерянном в двадцатых годах. Он отклонял любые предложения изменить пропорции либо что-нибудь упростить, но был вполне удовлетворен, когда я попросту поставил три креста вместо имени архитектора на разработанных планах.
За 80-метровым проемом Большой арки на пятикилометровом удалении — так мы это себе представляли — теряется в дымке большого города второе триумфальное сооружение центральной магистрали, крупнейший в мире Купольный дворец высотой в 290 метров.
Здания одиннадцати различных министерств дробили нашу улицу на отрезке между Триумфальной аркой и Купольным дворцом. Наряду с министерствами внутренних дел, транспорта, юстиции, экономики и продовольствия мне предложили после 1941 года достроить министерство колоний. Следовательно, даже во время войны с Россией Гитлер никоим образом не отказался от мысли о немецких колониях. Министры, которые ожидали, что наши планы дадут им возможность сконцентрировать в одном месте разбросанные по всему Берлину управления, были крайне разочарованы, когда Гитлер заявил, что новые здания призваны служить исключительно представительским целям, а отнюдь не размещению чиновничьего аппарата.
Непосредственно к монументальной средней части примыкал отрезок длиной больше километра, который и был призван носить характер торговой и зрелищной улицы и завершался так называемой Круглой площадью на пересечении с Потсдамерштрассе. Отсюда и далее к северу улица вновь приобретала торжественный характер: по правую руку высился спроектированный Вильгельмом Крейзом
180
Дворец солдатской славы — гигантский куб, о назначении которого Гитлер никогда открыто не высказывался, но ему явно виделось некое сочетание цейхгауза и мемориала. Во всяком случае, после перемирия с Францией он приказал, чтобы первым экспонатом, который будет здесь выставлен, стал вагон-ресторан, где в 1918 году был подписан акт о поражении Германии, а в 1940-м — о капитуляции Франции; склеп же был предусмотрен для захоронения известнейших немецких фельдмаршалов прошлого, настоящего и будущего. За этим сооружением простирались к западу, вплоть до Бендхерштрассе, новые здания верховного командования.
Ознакомившись с этими планами, Геринг решил, что и его самого, и возглавляемое им министерство авиации оттесняют на второй план. Он подрядил меня как архитектора, и напротив Пантеона, на границе с Тиргартеном, мы отыскали идеальную строительную площадку для воплощения его замыслов. Мои проекты новостройки, призванной разместить в полном объеме все управления, возглавляемые им после 1940 года, под общим названием «Управление рейхсмаршала», вызвали у Геринга восторг. Гитлер же решительно заявил: «Великовато для Геринга. Уж слишком он себя выпячивает. Да и вообще мне не нравится, когда кто-то использует моего архитектора». Однако, неоднократно с неудовольствием высказываясь о планах Геринга, он так ни разу и не решился указать Герингу его место. Геринг хорошо знал Гитлера и успокаивал меня: «Оставим все как есть, ни о чем больше не беспокойтесь. Мы выстроим по-своему, и в конце концов сам же фюрер первый будет в восторге».
Подобного рода снисходительность Гитлер часто проявлял в личной сфере: так, например, он закрывал глаза на семейные скандалы вокруг, — коль скоро их не представлялось возможным обыграть на благо политической идее, как в случае с Бломбергом. Он мог посмеяться над тягой к роскоши, позволял себе в узком кругу ехидные замечания, ни единым словом не намекая тому, о ком шла речь, что осуждает его поведение.
Проект здания для ведомства Геринга содержал протяженные ряды лестниц, вестибюлей и парадных залов, которые занимали больше места, чем сами рабочие помещения.
181
Главная роль отводилась помпезному вестибюлю с парадной лестницей, которая проходила через все четыре этажа, но оставалась без употребления, потому что любой нормальный человек предпочитал подниматься на лифте. Словом, все, вместе взятое, делалось исключительно напоказ; в моем развитии это означало решительный шаг от запланированного неоклассицизма, следы которого, вероятно, еще можно было обнаружить в новом здании рейхсканцелярии, к громогласной репрезентативной архитектуре нуворишей. Служебная хроника напоминает мне, что 5 мая 1941 года рейхсмаршалу доставил большое удовольствие макет его будущего управления. Особенный восторг вызвала у него парадная лестница. Здесь он предполагал ежегодно сообщать офицерам авиации лозунг года. «И для этой величайшей парадной лестницы мира, — так дословно, если верить моей хронике, продолжал Геринг, — Брекер должен воздвигнуть статую главного строительного инспектора. Она будет стоять здесь в честь того человека, который так превосходно все спланировал».
Эта часть здания с 240-метровым фасадом, выходящим на Парадную улицу, была соединена с таким же большим флигелем, выходившим на Тиргартен и содержавшим затребованные Герингом парадные залы, которые одновременно должны были служить квартирой для него самого. Спальные помещения я расположил на верхнем этаже. Поставив во главу угла защиту от воздушного нападения, я хотел настелить на верхней крыше 4-метровый слой земли, так чтобы в нем могли укореняться даже большие деревья и на высоте 40 метров над Тиргартеном возник бы настоящий парк площадью в 11 800 квадратных метров, с бассейнами и теннисным кортом; кроме того, там же предполагались фонтаны, пруды, галереи с колоннами, перголы, помещения для отдыха и, наконец, летний театр на двести сорок зрителей над крышами Берлина. Геринг был потрясен и уже мечтал о празднествах, которые он будет устраивать в саду на крыше. «Большой купол я подсвечу бенгальскими огнями и устрою большой фейерверк в честь моих гостей».
Даже не считая подвалов, комплекс Геринга должен был иметь объем в 580 000 кубических метров, тогда как недавно построенная рейхсканцелярия Гитлера насчитывала
182
всего 400 000. Но Гитлер отнюдь не считал, будто Геринг его обошел: в своей основополагающей для постижения его архитектурных замыслов речи от 2 августа 1938 года он заявил, что в соответствии с большим проектом реконструкции Берлина предполагает использовать недавно отстроенную рейхсканцелярию лет примерно десять-двенадцать. В долгосрочных же планах предусмотрены правительственные и жилые резиденции значительно больших размеров.
После совместного осмотра административного комплекса ведомства Гесса Гитлер спонтанно определял истинное назначение зданий на Фоссштрассе, ибо у Гесса обнаружил выдержанную в интенсивно красных тонах парадную лестницу и интерьер куда более сдержанный и непритязательный, чем имперский стиль, которому отдавали предпочтение он сам и другие верхи рейха. Вернувшись в рейхсканцелярию, Гитлер с неподдельным гневом раскритиковал решительную неспособность своего заместителя разбираться в искусстве: «Гесс начисто лишен художественного чутья, я в жизни не позволю ему выстроить что-нибудь новое. Впоследствии он получит нынешнюю рейхсканцелярию под резиденцию, и я не разрешу ему там ничего перестраивать, потому что он в этом ни черта не смыслит».
Подобная критика, да вдобавок применительно к художественному чутью, вполне могла означать закат карьеры и в отношении Рудольфа Гесса была многими взята на заметку. Впрочем, лично Гессу Гитлер своего мнения практически не высказал. И только по более сдержанному, чем раньше, отношению придворных тот мог понять, что его акции заметно упали.
Входить в планируемый городской центр на севере, как и на юге, полагалось с Центрального вокзала. Поверх водного массива — 110 метров в длину и 350 в ширину — можно было увидеть удаленный почти на два километра центральный купол. Но свой водный массив мы отнюдь не собирались подключать к Шпрее, загрязненной стоками большого города. Как старый любитель водного спорта, я желал, чтобы в моем озере была чистая вода, пригодная для купания. Раздевалки, лодочные станции и пляжи должны были обрамлять место для купания прямо посреди большого
183
города, что создавало бы чрезмерный контраст с огромными зданиями, отраженными в зеркальной глади. А причина, по которой я решил сделать здесь озеро, была более чем проста: болотистый грунт не подходил для строительства.
На западной стороне озера предполагалось воздвигнуть три больших здания: посредине — новая берлинская ратуша почти полукилометровой длины. Гитлер и я поддержали разные проекты; после долгих дискуссий я, несмотря на неослабевающее сопротивление Гитлера, одержал верх благодаря моим аргументам. По бокам ратуши располагались с одной стороны полицей-президиум, с другой — главное командование морского флота. С востока среди зелени намечалось строительство нового здания Военной академии. Архитектурные планы всех строек были уже завершены.
Эта улица между двумя Центральными вокзалами, без сомнения, воплощала выраженное средствами архитектуры общее представление о политической, военной и хозяйственной мощи Германии. В центре ее пребывал неограниченный властитель рейха и — как вершина его мощи в непосредственной близости к нему, доминируя надо всем окружением, — Купольный дворец будущего Берлина. По крайней мере на уровне планов осуществился тезис Гитлера о том, что «Берлин должен изменить свой облик, дабы соответствовать своей новой миссии».
Вынашиванию этих планов я отдал пять лет своей жизни и, несмотря на все ошибки и нелепости, не могу до конца отделаться от своих прежних представлений. Порой, когда я пытаюсь разобраться в причинах своей антипатии к Гитлеру, мне кажется, будто ко всему ужасному, что он делал либо планировал, примешивается и мое личное разочарование, вызванное его играми с войной и катастрофами: сознаю я также, что все эти планы стали возможны лишь благодаря его бездумной игре с властью.
Проекты такого размаха указывают в первую голову на приступ хронической мегаломании, и, однако же, было бы несправедливо полностью отвергать весь замысел оси юг — север. Эта широкая магистраль, эти новые Центральные вокзалы с подземными транспортными развязками — исходя из сегодняшних представлений — были бы по своим масштабам отнюдь не чрезмерны, как наши торговые дома, которые, если сравнить их с размерами нынешних офисов и министерств во всем мире, останутся далеко позади.
184
Если они выходили за рамки нормальных человеческих представлений, дело было не столько в масштабах, сколько в навязчивости. Гигантский Купольный дворец, будущая рейхсканцелярия Гитлера, роскошный комплекс Геринга, Дворец солдатской славы и Триумфальная арка — на все эти сооружения я смотрел глазами Гитлера-политика, который, рассматривая однажды большой макет города, взял меня за руку и с увлажненными глазами поведал: «Теперь вы поняли, почему мы это делаем с таким размахом? Это ведь столица германского рейха — ах, будь у меня здоровье покрепче...»
Гитлер очень торопил с завершением семикилометрового главного участка его проекта. После подробных расчетов весной 1939 года я доложил ему, что до 1950 года строительство будет завершено. Вообще-то я надеялся доставить ему своим сообщением особую радость и потому испытал разочарование, когда он всего лишь с удовлетворением принял мое обещание, хотя оно предполагало напряженную и бурную деятельность. Возможно, он думал при этом о своих военных планах, которые могли обратить в ничто все мои расчеты.
Зато в другие дни он был настолько помешан на своевременном выполнении плана, настолько, казалось, не мог дождаться, когда наконец придет 1950 год, что — если допустить, будто его градостроительные замыслы были всего лишь призваны скрыть планы его экспансий, — лучшей маскировки он просто не мог придумать. Неоднократные высказывания Гитлера о политическом значении его планов должны были бы насторожить меня, но та уверенность, с какой он говорил о соблюдении всех строительных сроков, заставляла верить ему. Я уже привык, что порой он делает замечания на уровне бреда; задним числом проще отыскать нить, которая связывала эти высказывания между собой и с моими строительными замыслами.
Гитлер вечно опасался, как бы наши проекты не стали достоянием гласности. Мы приоткрывали лишь отдельные части, поскольку наша работа не могла протекать совсем уж без участия общественности: слишком многие были заняты на ее подготовительных стадиях. Поэтому мы от случая к случаю давали возможность ознакомиться с наиболее
185
безобидными частями нашего плана, да и общегородская концепция была с разрешения Гитлера обнародована в написанной мною статье. Однако, когда кабаретист Вернер Финк со сцены высмеял эти проекты, его тотчас упрятали в концентрационный лагерь, хотя, возможно, тому были и другие причины. Причем взяли его как раз накануне того дня, когда я собирался посетить его представление, чтобы показать, что не держу на него зла.
Наша осторожность проявлялась и в мелочах: когда мы обдумывали идею снести башню берлинской ратуши, мы организовали через посредство статс-секретаря Карла Ханке «Письмо в редакцию» на страницах одной из берлинских газет, чтобы узнать мнение народа. Из-за яростных протестов читателей я решил до поры до времени отказаться от своего замысла. При осуществлении наших планов следовало всячески щадить чувства общественности. Так, например, возникали соображения восстановить в Дворцовом парке Шарлоттенбурга прелестный замок Монбижу, на месте которого предполагалось выстроить музей. Из этих же соображений была сохранена радиобашня, и Колонна победы, хотя она стояла на пути наших преобразований, тоже осталась на своем месте, Гитлер видел в ней монумент немецкой истории и для вящего воздействия приказал уж заодно нарастить ее стержень на один барабан; при этом он сам изготовил до сих пор сохранившийся набросок и насмехался над скупостью прусского государства, которое даже в минуты триумфа сэкономило на высоте своей колонны.
Я превысил расходы по реконструкции Берлина на 4—6 миллиардов, что по сегодняшним ценам составило бы от 6 до 24 миллиардов. За оставшиеся до 1950 года одиннадцать лет предполагалось ежегодно вкладывать в строительство примерно 500 миллионов рейхсмарок; отнюдь не утопические строительные начинания, ибо это составляло всего лишь двадцать пятую часть общего объема строительных работ. Для собственного успокоения и оправдания я привел и еще одно, хотя и весьма сомнительное, сравнение, вычислив, какой процент дохода от всех налогов, собранных в тогдашней Пруссии, затребовал для берлинских новостроек известный своей бережливостью прусский король Фридрих Вильгельм I, отец Фридриха Великого. Он во много раз превысил наши расходы, составлявшие всего лишь три
186
процента общей суммы налогов, равных 15 700 000 000 рейхсмарок. Впрочем, сравнение было не совсем корректное, так как налогообложение тех времен не шло ни в какое сравнение с теперешним.
Профессор Хеттлаге, мой советник по вопросам бюджета, свел наши финансовые идеи в одну саркастическую реплику: «В городе Берлине расходы должны зависеть от доходов, а у нас — наоборот». Эти ежегодно необходимые 500 миллионов, по мнению Гитлера и по-моему, тоже следовало не требовать сразу и полностью, а раскидать их на множество бюджетов: каждое министерство, равно как и каждое общественное учреждение, должно было вписать свои потребности в свой бюджет, как, например, железная дорога — на обновление берлинской железнодорожной сети или город Берлин — на улицы и подземку. А частные предприятия и без того за все платили сами.
В 1938 году, когда мы обсудили все детали, Гитлер, потешаясь над этим, как он полагал, хитрым способом незаметно добиться финансирования, сказал: «Если разбросать по отдельным бюджетам, никто не поймет, сколько стоит все вместе. Например, мы будем финансировать только Купольный дворец и Триумфальную арку. И призовем народ жертвовать; вдобавок пусть министр финансов ежегодно предоставляет в распоряжение вашего ведомства шестьдесят миллионов. А то, что вам не сразу понадобится, мы сбережем». К 1941 году я уже накопил 218 миллионов. В 1943-м по предложению министра финансов и с моего согласия счет, на котором к тому времени набралось 320 миллионов, был тихо ликвидирован, причем Гитлера об этом вообще не поставили в известность.
Возмущенный расходованием общественных средств, министр финансов Шверин-Крозигк постоянно возражал и протестовал. Чтобы избавить меня от этих огорчений, Гитлер сравнил себя с баварским королем Людвигом II: «Да знай этот министр финансов, какие источники дохода получит государство благодаря моим новостройкам буквально через пятьдесят лет! Ведь как обстояли дела с королем Баварии Людвигом II? Его провозгласили безумным из-за расходов на дворцы и замки. А нынче большая часть приезжих только ради них и посещает Верхнюю Баварию. Да одна лишь плата за вход давным-давно перекрыла все
187
строительные издержки. Как вы думаете? Весь мир будет стекаться в Берлин, чтобы увидеть наши постройки. Американцам достаточно объявить, во что обошлась нам ротонда, мы можем даже прибавить что-нибудь и скажем вместо миллиарда — полтора! Такое они просто обязаны увидеть: самое дорогостоящее сооружение в мире!»
Сидя над планами, он часто повторял: «Знаете, Шпеер, моя единственная мечта — дожить до того дня, когда все это будет завершено. В 1950 году мы устроим всемирную выставку. До тех пор наши здания будут пустовать, а потом мы используем их как выставочные павильоны. И пригласим к себе в гости весь мир!» В таком примерно духе он изъяснялся, и угадать его истинные мысли было непросто. Жене моей, которой пришлось бы на ближайшие одиннадцать лет отказаться от нормальной семейной жизни, я пообещал в утешение кругосветное путешествие в 1950 году.
Расчет Гитлера — переложить тяготы финансирования строительства на чужие плечи — вполне оправдался. Ибо крепнущий богатый Берлин благодаря централизации управленческого аппарата привлекал все новых и новых чиновников; всякие промышленные директораты должны были учитывать эту тенденцию, расширяя свои берлинские представительства. Для воплощения их строительных замыслов до сих пор «витриной Берлина» считалась лишь Унтер-ден-Линден и кое-какие не столь значительные улицы. Новый же проспект 120-метровой ширины привлекал, во-первых, потому, что там можно было не опасаться транспортных пробок, характерных для старых берлинских улиц, по также и потому, что участки под застройку в этих первоначально удаленных от центра местах были сравнительно дешевы. К началу своей деятельности я обнаружил множество заявок на строительство, которые должны были без разбору осуществляться в любом месте Берлина. Вскоре после прихода Гитлера к власти возникло большое новое здание Рейхсбанка в захудалом квартале, где для этой цели снесли несколько зданий. Кстати, Гиммлер после трапезы продемонстрировал Гитлеру план этого здания и вполне серьезно обратил внимание фюрера на то, что продольная и поперечная оси прямоугольного корпуса воспроизводят форму христианского креста, что является скрытым возвеличиванием христианской веры руками католического
188
архитектора Вольфа. Гитлер достаточно разбирался в архитектуре, а потому его лишь позабавили выкладки Гиммлера.
Всего лишь через несколько месяцев после окончательного утверждения планов пригодная еще до переноса трамвайных путей для застройки часть улицы была роздана; число заявок от министерств, частных предприятий и управлений рейха на участки, которые будут доступны для строительства не ранее чем через несколько лет, выросло до такой степени, что мы уже начали раздавать участки южнее Южного вокзала. И лишь с превеликим трудом мы уговорили доктора Лея, руководителя «Германского трудового фронта», не скупать на огромные средства, сложившиеся из профсоюзных взносов, пятую часть всей улицы под свои цели. Во всяком случае, он отхватил целый трехсотметровый квартал, где собирался разместить большой увеселительный центр.
Разумеется, среди причин начавшейся строительной лихорадки была и надежда угодить Гитлеру, возводя особенно заметные здания. Поскольку расходы на эти здания значительно превысили бы таковые на обычных строительных участках, я посоветовал Гитлеру за дополнительно израсходованные миллионы как-то вознаграждать заказчиков, на что он спокойно согласился. «А почему бы не учредить орден для тех, кто имеет какие-то заслуги перед искусством? Мы будем вручать его очень редко и главным образом тем, кто финансировал большое строительство. Тут орденом можно добиться многого». Даже британский посол, полагая — и отнюдь не без оснований, — что угодит Гитлеру, предложил в плане реконструкции Берлина сооружение нового посольства, да и Муссолини проявил к этим планам необычайный интерес.
Хоть Гитлер и хранил молчание насчет своих истинных планов в области архитектуры, но кое-что неизбежно просачивалось, и об этом достаточно говорили и писали. Результатом был заметный взлет в области архитектуры. Будь Гитлер заинтересован в коневодстве, среди ведущих персон рейха разразилась бы мания коневодства, здесь же валом повалила массовая фабрикация проектов, подогнанных под вкусы Гитлера. Правда, это еще не свидетельствовало о развитии стиля Третьего рейха, а всего лишь об отдельном направлении, которому были свойственны некоторые
189
эклектические моменты, но уж оно-то определяло все. При этом Гитлер вовсе не был доктринером. Он вполне допускал, что площадка для отдыха на автостраде либо гитлер- югендцентр в сельской местности никак не может походить на городское строение. Точно так же ему никогда не пришло бы в голову вообразить себе фабрику, выстроенную в упомянутом репрезентативном стиле; он вполне мог восторгаться фабрикой из стекла и стали. Но постройки общественных зданий в государстве, которое ставит себе целью создать империю, должны были, как он полагал, носить вполне определенный отпечаток.
Следствием берлинской реконструкции явились многочисленные проекты в других городах. С этих пор каждый гаулейтер желал увековечить себя посредством своего города. Почти каждый из этих планов, как и мой берлинский проект, имел в основе скрещение двух осей, совпадающих даже по странам света. Берлинский образец сделался схемой. При обсуждении планов Гитлер неустанно делал собственные наброски. Они лихо выходили из-под его пера, точные по перспективе: вертикальный срез, ракурсы и проекции он наносил с соблюдением масштабов. Ни один профессиональный архитектор не сумел бы сделать это лучше. По утрам он порой демонстрировал хорошо выполненный чертеж, который изготовил за ночь; большинство же чертежей, однако, состояло из нескольких поспешных штрихов, возникших непосредственно в ходе дискуссии.
Я и по сей день сохранил все наброски, которые Гитлер сделал в моем присутствии, снабдив их датой и описанием темы. Любопытно, что из ста двадцати пяти набросков примерно четверть создавалась для реконструкции Линца, который всегда был особенно близок его сердцу. Столь же часто встречаются среди них и театральные проекты. Однажды утром он ошеломил нас проектом тщательно вычерченной за ночь «Колонны движения» для Мюнхена, которая как новый символ города обрекла бы башни Фрау- енкирхе на жалкое существование.
Этот проект, а заодно с ним и берлинскую Триумфальную арку он рассматривал как свое личное дело, а потому не стеснялся править проект мюнхенского архитектора даже в мелочах. Мне и по сей день кажется, что это были истинные улучшения, которые полней отражали передвижение
190
статических сил в цоколе, чем предложения архитектора — такого же, кстати, самоучки.
Герман Гислер, которому Гитлер поручил планировку Мюнхена, умел очень удачно изображать «вождя рабочих» — заику, то есть доктора Лея. Причем Гитлер был в таком восторге от гислеровского искусства, что снова и снова просил показать ему, как чета Лей знакомится с выставкой моделей в демонстрационном зале. Сперва Гислер показывал, как вождь немецких рабочих в изысканном летнем костюме, белых перчатках с оторочкой и соломенной шляпе, сопровождаемый своей столь же вызывающе разодетой супругой, посещает студию и как он, Гислер, демонстрирует ему планы перестройки Мюнхена, покуда Лей не перебивает его репликой: «Я застрою весь квартал. Сколько это будет стоить? Несколько сот миллионов? Построим, построим...» — «А что именно вы хотите построить?» — «Большой дом моделей. Я буду делать всю моду! Моя жена будет делать моду! Для этого нам нужен большой дом! И мы его выстроим! И мы оба, моя жена и я, будем в нем определять немецкую моду... И еще... и еще... И еще нам нужны проститутки! Много, целый дом, с современной обстановкой! Мы все возьмем в свои руки! Пару сотен миллионов на строительство — это для нас раз плюнуть». К великой досаде Гислера, Гитлер заставил его несчетное число раз изображать эту сцену и смеялся до слез над извращенными взглядами своего «вождя рабочих».
Гитлер неустанно подгонял не только мои собственные планы. Он то и дело санкционировал строительство форумов в каждом главном городе и призывал тамошних гаулейтеров стать подрядчиками в строительстве представительских зданий. Уже здесь я неоднократно и не без досады замечал его стремление вселить в гаулейтеров дух беспощадного соревнования, ибо он был убежден, что лишь таким способом можно добиться высоких результатов. Он никак не мог понять, что возможности наши весьма ограниченны. А мое возражение, что скоро мы вообще не сможем укладываться в намеченные сроки, поскольку гаулейтеры пускают наличный стройматериал на собственные нужды, он пропускал мимо ушей.
На помощь ему пришел Гиммлер. Прослышав о грозящей нехватке кирпича и гранита, он предложил Гитлеру
191
привлечь к делу заключенных. И еще выстроить в Заксен- хаузене неподалеку от Берлина под руководством СС и как собственность СС большой кирпичный завод. Поскольку Гиммлер чутко воспринимал всякие новые веяния, скоро сыскался и некий изобретатель, создавший новую технологию изготовления кирпича. Но обещанной продукции мы, однако, не получили, так как изобретение не состоялось.
Та же судьба постигла и второе обещание, которое дал Гиммлер в своей вечной гонке за проектами на будущее. С помощью заключенных концлагерей он намеревался поставлять гранитные блоки для нюрнбергских и берлинских новостроек, не мешкая организовал фирму под каким-то непритязательным названием и приступил к ломке камня. Но из-за уникальной некомпетентности эсэсовских предпринимателей все блоки у них выходили с трещинами и сколами, и в конце концов эсэсовцы признались, что могут поставить лишь незначительную часть обещанной продукции, остальная же перешла в руки доктора Тодта, ведавшего дорожным строительством, для укладки мостовых. Гитлер же, возлагавший большие надежды на посулы Гиммлера, все мрачнел, мрачнел и под конец саркастически заметил, что СС следовало бы заняться производством бумажных пакетов и войлочных шлепанцев, каковые искони считались традиционной продукцией для заключенных.
Из множества запланированных новостроек лично я должен был по желанию Гитлера проектировать площадь перед Купольным дворцом. К тому же я взял на себя новое здание для Геринга и Южный вокзал. Этого хватало с лихвой, поскольку на мне еще лежала проектировка зданий для нюрнбергского партсъезда. Но так как осуществление этих проектов растягивалось на целое десятилетие, я мог, выдав техническую документацию, обходиться проектной конторой обозримых размеров на восемь-десять сотрудников. Моя частная контора располагалась на Линденаллее в Вестенде, неподалеку от площади Адольфа Гитлера, ранее площади Рейхсканцлера. Однако вторая половина дня до позднего вечера регулярно принадлежала моей официальной градостроительной конторе, что на Паризерплац. Здесь я распределял большие заказы среди лучших, на мой взгляд, архитекторов Германии: Пауль Бонац после четырех
192
спроектированных мостов получил заказ на новое высотное здание главного командования военно-морского флота, и его с размахом выполненный проект вызвал живейшее одобрение Гитлера. Бестельмейеру я поручил проектирование новой ратуши, Вильгельму Крейзу — штаб верховного командования, Дворец солдатской славы и различные музеи; Петеру Беренсу, учителю Гропиуса и Миса ван дер Роэ, по предложению АЭГ, его постоянного работодателя, было поручено выстроить управление фирмы на главной улице. Конечно же, эта работа вызвала протест Розенберга и его культуртрегеров, которые сочли неприемлемым, чтобы данный глашатай радикализма в архитектуре увековечил свое имя строением на «фюрерштрассе». Гитлер же, высоко ценивший петербургское посольство работы Петера Беренса, сделал так, чтобы заказ все-таки достался ему. Вот и своего учителя Тессенова я неоднократно приглашал участвовать в конкурсах, однако он не желал отказываться от своего непритязательного провинциально-ремесленного стиля, а потому решительно противился искушению сооружать монументальные здания.
В качестве скульптора я чаще всего привлекал Йозефа Торака, работам которого посвятил целую книгу генеральный директор Берлинских музеев Вильгельм фон Боде, а также Арно Брекера, ученика Майоля. В 1943 году Брекер передал своему учителю мой заказ на скульптуру, которую предполагалось установить в Груневальде.
Историки полагают, что в личном общении я избегал контактов с партией, но ведь точно так же можно было сказать, что партийные заправилы избегали контактов со мной, считая меня выскочкой. Впрочем, отношение ко мне рейхс- и гаулейтеров меня ничуть не занимало, поскольку ко мне доверительно относился сам Гитлер. За исключением Карла Ханке, который меня «открыл», я ни с кем из них не свел более тесного знакомства, и никто из них не бывал у меня. Зато у меня сложился свой близкий круг как среди людей искусства, которым я давал заказы, так и среди их друзей. В Берлине, насколько мне позволяли редкие свободные часы, я проводил время вместе с Бреке- ром и Крейзом, а к ним частенько присоединялся пианист Вильгельм Кемпф. В Мюнхене я дружески общался с Йозефом Тораком и художником Германом Каспаром, которого
7 А. Шпеер
193
по вечерам никак не удавалось удержать от громогласных объяснений в любви к Баварской династии.
Близкие отношения сложились у меня и с моим первым заказчиком, для которого я уже в 1933 году, еще до работы на Гитлера и Геббельса, строил ресторацию в Сигре- не под Вилснаком. У доктора Роберта Франка я часто проводил с семьей конец недели в тридцати одном километре от ворот Берлина. Франк был до 1933 года генеральным директором прусских электростанций, однако после прихода Гитлера к власти был смещен со своего поста и жил весьма уединенно как частное лицо; испытывая от случая к случаю притеснения со стороны партии, он был надежно защищен моей дружбой от нападок. В 1945 году я постарался устроить свою семью подальше от эпицентра катастрофы, в Силезии, и оставил ее на попечение Франка.
Вскоре после моего возвышения я убедил Гитлера, что наиболее усердные члены партии уже давно заняли руководящие посты, так что для выполнения стоящих передо мной задач остались лишь партийцы второго ранга. И тогда Гитлер без раздумий позволил мне подбирать сотрудников по собственному разумению. Постепенно разошлась молва о том, что в моем бюро можно обрести надежное и безопасное прибежище, а потому вокруг нас группировалось все больше и больше архитекторов.
Как-то раз один из моих сотрудников попросил у меня рекомендацию для вступления в партию. Потом мой ответ передавали из уст в уста по всей Генеральной инспекции: «Это еще зачем? Довольно с вас, что я там состою».
Далее я, как и прежде, очень редко ходил на партийные собрания, почти не имел контактов с партийными кругами берлинского, например, управления партии, забросил все доверенные мне партийные посты, хотя и мог бы при желании превратить их в ключевые позиции. Даже руководство отделом «Эстетика труда» я по недостатку времени все больше передоверял своему постоянному заместителю. Причиной подобной сдержанности в числе прочего был так до сих пор и не изжитый мною страх перед публичными выступлениями.
В марте 1939 года я с ближайшими друзьями предпринял поездку по Сицилии и Южной Италии. Вильгельм Крейз, Йозеф Торак, Герман Каспар, Арно Брекер, Роберт
194
Франк, Карл Брандт с женами составили нам компанию. Присоединилась к нам и жена министра пропаганды Магда Геббельс, которая по нашему приглашению совершила это путешествие под чужим именем.
В непосредственном окружении Гитлера при его снисходительности разыгрывалось множество любовных интриг. Так, например, Борман, грубо и бестактно — чего вполне можно было ожидать от человека столь бездушного и безнравственного — пригласил свою любовницу, киноактрису, в свой дом в Оберзальцберге, где она по многу дней жила вместе с его семьей. Лишь непонятная мне терпимость госпожи Борман позволила избежать скандала.
У Геббельса тоже было множество любовных интриг: его статс-секретарь Ханке рассказывал, отчасти забавляясь, отчасти возмущенно, как Геббельс шантажировал молодых киноактрис. Однако его отношения с чешской киноактрисой Лидой Бааровой были больше чем обычной интрижкой. Жена Геббельса тогда от него отреклась и потребовала, чтобы министр оставил ее и детей. Ханке и я, мы оба, были всецело на ее стороне, но Ханке вдобавок усложнил этот семейный кризис, влюбившись в жену своего министра, которая была много его старше. Чтобы вызволить госпожу Геббельс из щекотливой ситуации, я пригласил ее поехать вместе с нами на юг. Ханке желал поехать вслед за нами, не уставая засыпать ее любовными письмами, но она решительно его отвергала.
Во время нашего путешествия фрау Геббельс неизменно оставалась любезной, уравновешенной женщиной. Вообще надо сказать, что жены столпов режима оказались более неподатливыми на искушения власти, чем их мужья. Они не витали в их фантастических мирах, они с внутренним предубеждением наблюдали эти порой гротескные блошиные прыжки, и политические вихри, возносившие кверху мужей, стороной обходили жен. Фрау Борман так и осталась скромной, несколько забитой домохозяйкой, хотя и слепо преданной как мужу, так и партийной идеологии; при виде фрау Геринг мне казалось, будто она про себя подсмеивается над тщеславием и фанфаронством своего мужа, да и Ева Браун, в конце концов, тоже не раз доказывала свое внутреннее превосходство; во всяком случае, она никогда не
7*
195
использовала в личных целях власть, которая лежала рядом — стоило только протянуть руку.
Сицилия со своими руинами дорических храмов в Сегес- те, Сиракузах, Селинунте и Агридженто прекрасно довершила впечатления, вынесенные нами из прежних путешествий по Греции. При виде храмов Селинунта и Агридженто я снова — и не без тайного удовлетворения — констатировал, что и древняя архитектура была не свободна от приступов мегаломании, греки-колонизаторы здесь явно пренебрегали излюбленными у них на родине принципами соразмерности. При виде этих храмовых сооружений поблекли все памятники сарацинско-норманнской архитектуры, которые нам доводилось видеть, не считая разве что великолепного охотничьего замка Фридриха II Кастель-дель-Монте. Пестум явился еще одной вершиной в нашем путешествии. С другой стороны, Помпея казалась мне более удаленной от чистых форм Пестума, нежели наши строения от дорических храмов.
На обратном пути была на несколько дней остановка в Риме. Фашистское правительство обратило внимание на нашу не совсем обычную спутницу, и Альфиери, итальянский министр пропаганды, пригласил нас всех в оперу, но при этом никто из нас не сумел бы сколько-нибудь убедительно растолковать, чего ради вторая дама рейха одна совершает зарубежный вояж, поэтому мы поспешили как можно скорее уйти.
Пока мы зачарованно созерцали прошлое Греции, Гитлер приказал занять Чехию и присоединить ее к рейху. В Германии мы застали подавленное настроение. Общая тревога по поводу того, что ожидает нас завтра, охватила нас всех. Меня и сегодня странно волнует способность народа правильно расценивать будущее, не полагаясь на уговоры официальной пропаганды.
Во всяком случае успокаивало то обстоятельство, что Гитлер оспорил Геббельса, когда тот за обедом в рейхсканцелярии высказался по адресу бывшего министра иностранных дел Константина фон Нейрата, назначенного за несколько недель до этого имперским наместником Богемии и Моравии. «Фон Нейрат известен как тихоня, а для протектората нужна твердая рука, которая сумеет навести там порядок. У этого человека нет с нами ничего общего, он принадлежит совершенно другому миру», — произнес
196
Геббельс. Гитлер возразил: «Речь могла идти только о фон Нейрате. Среди англосаксов он считался благородным человеком. На международное сообщество его назначение подействует успокоительно, потому что за этим они угадают мое намерение не лишать чехов их народной жизни».
Гитлер попросил меня рассказать о моих итальянских впечатлениях. Там мне больше всего бросилось в глаза, что ограды и стены всюду, вплоть до деревень, были исписаны воинственными пропагандистскими лозунгами. «Нам это не нужно, — только и сказал Гитлер. — Если придется воевать, немецкий народ и без того достаточно тверд духом. Вот для Италии такой вид пропаганды, может быть, больше всего подходит. А уж принесет ли она пользу — это другое дело».
Гитлер уже много раз призывал меня выступить вместо него на открытии мюнхенской архитектурной выставки. До сих пор мне как-то удавалось под все новыми и новыми предлогами уклоняться от подобных просьб. К весне 1938 года из этого получился своеобразный торг, поскольку я изъявил готовность разработать проект картинной галереи для Линца, а также тамошний стадион, если только меня не заставят выступать.
Однако теперь, накануне пятидесятилетия Гитлера, предполагалось открыть для движения часть оси запад — восток, и Гитлер обещал сам участвовать в торжественной церемонии. Тут уж и мне пришлось оскоромиться и произнести свою первую речь — да еще при всем народе, да еще в присутствии главы государства. За обедом Гитлер возвестил: «Большая новость! Шпеер произнесет речь! Любопытно, что он намерен нам сказать».
У Бранденбургских ворот посреди проезжей части выстроилась вся городская верхушка со мной на правом фланге, в то время как толпа теснилась за ограждениями, на тротуарах. Издали послышались звуки ликования. Они нарастали с приближением автоколонны и наконец превратились в рев. Машина Гитлера остановилась как раз передо мной. Гитлер вышел и приветствовал меня рукопожатием, тогда как на приветствия первых лиц города ответил лишь подъемом руки. Передвижные кинокамеры начали снимать Гитлера вблизи, сам же он выжидательно остановился в двух метрах от меня. Я набрал побольше воздуху и сказал буквально следующее: «Мой фюрер! Докладываю вам о завершении
197
строительства оси восток — запад. И пусть завершенное дело говорит само за себя!» Возникла долгая пауза, и лишь тогда Гитлер ответил несколькими фразами. Потом меня пригласили сесть к нему в машину, и я проехал с ним все семь километров, вдоль которых шпалерами стояли берлинцы, пришедшие поздравить его с днем рождения; это наверняка была одна из величайших манифестаций, организованных министерством пропаганды, тем не менее аплодисменты выглядели вполне искренними.
Когда мы прибыли в рейхсканцелярию и ожидали там начала трапезы, Гитлер дружелюбно сказал: «Вы здорово меня подвели, произнеся всего две фразы. Я-то настроился на длинную речь и, как уже привык, собирался за это время обдумать свой ответ, а поскольку вы очень быстро управились, я не сразу знал, что сказать. Но одного у вас не отнимешь: это была хорошая речь. Одна из лучших, которые мне довелось слышать в моей жизни». В последующие годы этот эпизод вошел в постоянный репертуар Гитлера, и он охотно его пересказывал.
Ночью, в двенадцать, застольная компания поздравила Гитлера. Однако, когда я сказал ему, что велел установить к этому дню в одном из залов рейхсканцелярии четырехметровую модель его Триумфальной арки, он бросил общество и помчался туда. Долго, с явным умилением созерцал он воплощенную в модели мечту своих юных лет. Растроганный, он молча подал мне руку, после чего в полной эйфории описал своим гостям значение этого сооружения для будущей истории рейха. За ночь он еще несколько раз наведался к своей модели. На пути туда и обратно мы всякий раз проходили через зал заседаний, где в 1878 году Бисмарк председательствовал на Берлинском конгрессе. Теперь здесь на длинных столах были разложены все юбилейные подарки — по большей части всякая безвкусица, подаренная его рейхс- и гаулейтерами: обнаженные статуэтки белого мрамора, маленькие бронзовые копии популярных образцов, к примеру римский мальчик, вытаскивающий из ноги занозу, картины маслом, уровень которых явно определялся выставками в Доме германского искусства. Частью подарки вызывали одобрение Гитлера, частью насмешку, впрочем, большой разницы между теми и другими не было.
198
А тем временем у Ханке и фрау Геббельс дело зашло так далеко, что они, к полному ужасу всех окружающих, надумали пожениться. Неравная пара: Ханке — молодой, неловкий, она — много старше, элегантная светская дама. Ханке упрашивал Гитлера санкционировать развод, но Гитлер отказался из соображений государственной целесообразности. К началу Байрейтского фестиваля Ханке как-то утром заявился ко мне домой в полном отчаянии. Чета Геббельс помирилась, сообщил он мне, и оба совместно отправились в Байрейт. Лично я счел, что и для Ханке так будет лучше. Но не поздравлять же пришедшего в отчаяние любовника, дабы его утешить. Поэтому я пообещал ему разузнать в Байрейте, как там обстоят дела. С тем и уехал.
К вилле «Ванфрид» семейство Вагнер пристроило просторное крыло, где и проживал в эти дни Гитлер со своими адъютантами, тогда как гости Гитлера были размещены на частных квартирах. Вообще Гитлер более тщательно подбирал своих гостей для Байрейта, чем для Оберзальцберга и уж тем паче — для рейхсканцелярии. Помимо дежурных адъютантов он приглашал лишь нескольких знакомых с женами, таких, насчет которых мог быть уверен, что они понравятся семейству Вагнер; это бывали неизменно лишь доктор Дитрих, доктор Брандт и я.
В эти фестивальные дни Гитлер выглядел более раскованным, чем обычно: среди семейства Вагнер он чувствовал себя как бы огражденным и свободным от необходимости символизировать власть, что иногда считал своей обязанностью даже при вечерних застольях в рейхсканцелярии. Он был весел, держался с детьми как отец, а с Винифред Вагнер — дружественно и заботливо. Без его финансовой поддержки Байрейтский фестиваль едва ли удержался бы на плаву. Борман ежегодно раскошеливался на несколько сот тысяч, чтобы сделать фестиваль вершиной оперного сезона. В эти дни для Гитлера как покровителя Байрейтского фестиваля и друга семейства Вагнер осуществлялась, вероятно, мечта, которую он, может быть, не смел лелеять даже в годы юности.
В один день со мной на фестиваль прибыл также Геббельс с женой и, подобно Гитлеру, разместился в пристроенном к вилле «Ванфрид» крыле. У фрау Геббельс был крайне подавленный вид. Она вполне откровенно сказала
199
мне: «Муж страшно мне грозил. Я едва начала приходить в себя на курорте, как вдруг он без всякого предупреждения заявился в отель и три дня без передышки уговаривал меня. Вот я и не выдержала. Он шантажировал меня нашими детьми; он устроит так, чтобы их у меня забрали. Ну что мне оставалось делать?! Наше примирение чисто внешнее. Альберт, это просто ужасно! Мне пришлось пообещать ему, что я больше никогда не встречусь с Карлом наедине. Я очень несчастна, но у меня нет выхода».
Что больше было созвучно этой семейной трагедии, чем опера «Тристан и Изольда», которую словно нарочно давали в тот вечер и которую мы слушали в большой средней ложе — Гитлер, чета Геббельс, фрау Винифред Вагнер и я! Фрау Геббельс, сидевшая по правую руку от меня, тихо, безостановочно плакала, в антракте же она сидела в углу салона и безудержно всхлипывала, а Гитлер с Геббельсом тем временем показывались из окна публике и прилагали все усилия, чтобы не замечать этого тягостного обстоятельства.
На другое утро я смог наконец объяснить Гитлеру, который решительно не понимал поведения фрау Геббельс, скрытые мотивы их примирения. Как глава государства он мог лишь приветствовать эту перемену. Однако еще при мне он велел вызвать Геббельса, сухо и коротко сказал тому, что будет лучше, если он с супругой сегодня же покинет Байрейт. Не дав Геббельсу возможности возразить, даже не протянув руки на прощанье, он отпустил его и тогда обратился ко мне: «С женщинами Геббельс циничен до предела». Гитлер и сам был таков, хотя и на свой лад.
11
Земной шар
Когда Гитлер осматривал мои берлинские макеты, одна часть проекта неизменно притягивала его как магнит: будущая сердцевина рейха, призванная на много веков вперед символизировать величие, достигнутое при Гитлере. Подобно тому как резиденция французских королей с точки зрения градостроительной завершает Елисейские поля, так
200
и на Парадной улице должны были прежде всего притягивать взгляд те сооружения, которые Гитлер желал иметь в непосредственной близости от себя как символ своей политической деятельности: рейхсканцелярия для руководства государством, верховное командование вермахта для осуществления приказной власти над тремя его частями и, наконец, по одной канцелярии для партии (Борман), для протокольных мероприятий (Мейснер) и для личных дел (Боулер). Тот факт, что в наших проектах здание рейхстага тоже принадлежало к архитектоническому центру рейха, отнюдь не означал, что парламенту отводится сколько-нибудь значительная роль в осуществлении властных функций; просто старое здание рейхстага по чистой случайности стояло на этом месте.
Я предложил Гитлеру снести памятник вильгельмовской эпохи Пауля Валлота, но неожиданно для себя наткнулся на активное сопротивление: ему это здание нравилось. Впрочем, предназначал он его исключительно для общественных функций. А касательно своих окончательных целей Гитлер был на редкость несловоохотлив. Если мне он без всякого смущения излагал скрытые мотивы своих строительных планов, то единственно в силу той доверительности, которая обычно характеризует отношения между заказчиком и архитектором. «В старом здании мы можем разместить читальные комнаты и гостиные для депутатов. По мне, можно из пленарного зала сделать библиотеку. Пятьсот восемьдесят мест для нас все равно слишком мало. Мы рядом построим новый. Рассчитайте на тысячу двести мест».
Это, в свою очередь, предполагало численность населения в 140 миллионов, тем самым Гитлер дал возможность высчитать, какими величинами он оперирует, причем, с одной стороны, он рассчитывал на быстрое увеличение численности немцев за счет естественного прироста, с другой — за счет присоединения других народов германского корня, но отнюдь не за счет народов покоренных наций, за которыми он не признавал избирательного права. Я предложил Гитлеру просто-напросто увеличить количество голосов, необходимых каждому отдельному депутату, чтобы таким путем сохранить пленарный зал в старом здании рейхстага. Но Гитлер не желал менять унаследованное от Веймарской республики число — по 60 000 голосов на депутата. О причинах
201
он ничего не говорил, он просто держался за это число как чисто формально держался за унаследованную избирательную систему со сроками выборов и бюллетенями, с урнами и тайным голосованием. В этом вопросе Гитлер явно стремился сохранить традицию, которая привела его к власти, хотя после того, как он же ввел однопартийную систему, традиция утратила всякий смысл.
Все здания, призванные обрамлять будущую площадь Адольфа Гитлера, как бы оказывались в тени Купольного дворца, который — словно Гитлер и в этом стремился подчеркнуть маловажность народного представительства — пятидесятикратно превосходил по объему здание, отведенное для народных представителей. Решение разработать строительные планы для Купольного дворца Гитлер принял уже летом 1936 года. В день его рождения, 20 апреля 1937 года, я поднес ему чертежи, вид в разрезе, общий вид и первый макет. Он пришел в совершенный восторг, хотя и выразил неодобрение по поводу того, что я все свои чертежи снабдил формулировкой «Разработки сделаны на основе идей фюрера». Ибо, как он сказал, архитектор — я и потому мой вклад в это строительство следует ценить выше, нежели его наброски, сделанные еще в 1925 году. Однако формулировка была сохранена прежняя, и Гитлер воспринял мой решительный отказ приписать себе авторство не без внутреннего удовлетворения.
По планам были изготовлены макеты отдельных частей, а к 1939 году — точный деревянный трехметровый макет — вида снаружи и интерьера. В нем можно было вынуть пол и на уровне глаз изучать будущий эффект. Во время своих многочисленных визитов Гитлер никогда не упускал случая самозабвенно и долго любоваться обеими макетами. Он, ликуя, демонстрировал то, что лет пятнадцать назад, возможно, представлялось его друзьям причудливой и нелепой выдумкой. «Кто бы мог тогда поверить, что это будет воплощено в жизнь!»
Самый вместительный зал собраний среди всех до сих пор спроектированных в мире состоял фактически из одно- го-единственного помещения, зато такого, где стоя могло разместиться от 150 000 до 180 000 слушателей. По сути — при всем отрицательном отношении Гитлера к мистическим вывертам Гиммлера и Розенберга, — здесь мы имели
202
дело с культовым помещением, которому на основе традиций и собственного авторитета предстояло в ходе столетий обрести то же значение, что и собор Святого Петра в Риме для католического христианства. Не будь этой неявно культовой идеи, все расходы на ведущее сооружение Гитлера выглядели бы бессмысленно и непонятно.
Внутренняя ротонда имела диаметр почти невообразимый — 250 метров; на высоте в 220 метров можно было увидеть завершение гигантского купола, который уже в 98 метрах от пола начинал закругление по параболе.
Образцом для нас послужил в известном смысле римский пантеон. Точно так же и берлинский Купольный дворец должен был иметь на самом верху круглое отверстие для света, причем даже это отверстие — и то было сорока шести метров в диаметре, превосходя тем самым весь купол Дворца солдатской славы (43 метра) и собор Святого Петра (44 метра). А внутренняя часть в семнадцать раз превосходила внутренний объем собора.
Причем оформление интерьера предполагалось сделать по возможности непритязательным: круглое основание диаметром в 140 метров, по периметру от него тремя ярусами идут трибуны на 30 метров кверху. Венок, состоящий из ста прямоугольных мраморных колонн, имевших при высоте в 24 метра, можно сказать, человеческие размеры, перебивался как раз напротив входа нишей пятидесятиметровой высоты и двадцативосьмиметровой ширины, которую предполагалось выложить золотой мозаикой. Перед нишей как единственное скульптурное украшение предполагалось установить на мраморном четырнадцатиметровом постаменте позолоченного орла, держащего в когтях увитую дубовыми листьями свастику. Таким образом этот знак величия одновременно и завершал Парадную улицу, и был как бы его конечной целью. Где-то под этим знаком находилось место вождя нации, который будет с него адресовать свои послания народам грядущего рейха. Я попытался подчеркнуть это место средствами архитектуры, но тут дал себя знать главный изъян отрицавшей пропорциональность архитектуры: Гитлера здесь совершенно невозможно было заметить.
Снаружи купол походил на зеленую гору двухсоттридцатиметровой высоты, ибо его предстояло обшить
203
патинированными медными листами. Наверху предполагался сорокаметровый стеклянный фонарь с предельно легким металлическим каркасом. А над фонарем восседал на свастике орел.
Оптически массу купола поддерживал сплошной ряд двадцатиметровых колонн. Я надеялся, что подобное оформление придаст сооружению масштабы, еще доступные человеческому взгляду. Надежда, как я понимаю, тщетная. Купольная гора покоилась на квадратной каменной глыбе из светлого гранита, каждая сторона предполагалась длиной в 315 метров, а высотой — в семьдесят четыре. Изящный фриз, по четыре связанных колонны с каннелюрами на каждом из четырех углов и выдвинутый к площади портик должны были подчеркнуть размеры огромного куба. Две скульптуры пятнадцатиметровой высоты стояли по бокам портика; их аллегорический смысл также определил Гитлер, еще когда мы делали первые эскизные чертежи: одна изображала Атланта, который держит на руках небесный свод, другая — Теллуру, которая держит земной шар. Небо и Землю предстояло покрыть эмалью, а по ним золотом выложить созвездия или контуры.
Снаружи объем здания составлял более 21 000 000 кубических метров, вашингтонский Капитолий уместился бы в нашем несколько раз; поистине грандиозные цифры и размеры.
Впрочем, дворец никоим образом не являлся продуктом воображения, не имеющим шансов на осуществление. Наши планы не входили в категорию столь же помпезных, отринувших всякое представление о пропорциях замыслов, как, например, у архитекторов Клода Никола Леду или Этьена Л.Булле, которые разработали их как реквием французской династии Бурбонов или для вящего прославления революции, отнюдь не собираясь их когда-либо осуществить. В своих строительных замыслах они также оперировали величинами, которые ни в чем не уступали гитлеровским. Ибо ради нашего большого дворца, равно как и для прочих строений, призванных обрамлять будущую площадь Адольфа Гитлера, уже в 1939 году были снесены по соседству с рейхстагом бесчисленные старые дома, которые загромождали строительное поле, были взяты пробы грунта, изготовлены чертежи с цифровой разметкой, выстроены макеты
204
в натуральную величину. Для переднего фасада уже были затрачены миллионы на покупку гранита, причем не только в Германии, но и — несмотря на недостаток валюты и по особому распоряжению Гитлера — также в Южной Швеции и в Финляндии. Как и все прочие сооружения на пятикилометровой Парадной улице Гитлера, это также предполагалось завершить через одиннадцать лет, то есть в 1950 году. Поскольку на строительство дворца отводили самый долгий срок, дату торжественной закладки первого камня отнесли на 1940 год.
С технической точки зрения не составляло проблемы без перекрытий воздвигнуть купол диаметром в 250 метров. Мостостроители тридцатых годов умели без всяких затруднений создавать подобные конструкции из стали или железобетона. Ведущие немецкие статики даже подсчитали, что над таким пролетом вполне можно воздвигнуть массивный свод. В соответствии с моей идеей о «ценности развалин» я охотно обошелся бы без стали, но тут засомневался Гитлер: «Ведь нельзя исключить, что авиационная бомба попадет в купол и повредит конструкции. Как вы себе представляете работы при угрозе обвала?» Он был прав, и поэтому мы смоделировали стальной каркас, к которому предполагалось подвесить внутренний свод купола. Стены же, как и в Нюрнберге, предусматривались массивные, совместно с куполом они создавали огромное давление, подхватываемое необычайно прочным фундаментом. Инженеры сошлись на идее бетонного куба объемом в 3 000 000 кубических метров. Желая проверить, справедливы ли наши расчеты на то, что глубина погружения в бранденбургский песок составит несколько сантиметров, мы соорудили под Берлином участок пробного фундамента. До сего дня он с чертежами и снимками макетов остается единственным сохранившимся свидетельством этого замысла.
Во время работы над планом я знакомился с собором Святого Петра в Риме. Я был разочарован тем, что размеры его никак не соответствуют тому впечатлению, которое создается у наблюдателя. Как я установил, уже и при этих размерах впечатление не усиливается пропорционально размерам строения. Я опасался того, что и впечатление от нашего Купольного дворца не оправдает ожиданий Гитлера.
205
Слухи об этом запланированном гигантском строении достигли ушей референта по вопросам противовоздушной обороны в министерстве авиации, министерского советника Книпфера. Он только что издал инструкции для всех будущих новостроек, которые, чтобы уменьшить воздействие бомбежек, следовало воздвигать на значительном расстоянии друг от друга. А тут в центре города и рейха могло вырасти здание, которое будет подниматься над уровнем низких облаков и служить идеальным ориентиром для эскадрилий вражеских бомбардировщиков — прямо как нарочно указывая на расположенный точно к югу и точно к северу правительственный центр. Я поделился с Гитлером своими сомнениями, но тот был настроен оптимистично. «Геринг заверил меня, — сказал он, — что ни один вражеский самолет не появится над Германией. Словом, не будем из-за этого пересматривать наши планы».
Гитлер был предельно сосредоточен на идее Купольного дворца, которая возникла у него вскоре после отсидки в крепости и не отпускала его целых пятнадцать лет. Когда по завершении наших планов Гитлер узнал, что в Советском Союзе собрались построить Дворец Советов, который должен быть выше 300 метров, и увенчать его статуей Ленина, он был крайне раздосадован. Его явно огорчила перспектива, что не он воздвигнет величайшее монументальное сооружение мира, и вдобавок угнетало сознание, что не в его власти отменить замысел Сталина, издав какой-нибудь указ. В конце концов он утешился мыслью, что его дворец все-таки будет уникальным: «Ну чего стоит какой-то небоскреб — чуть больше,-чуть меньше, чуть выше, чуть ниже. Купол — вот что отличает наше здание от всех остальных!» После начала войны с Советским Союзом я имел случай убедиться, что мысль о конкуренции Москвы куда больше угнетала его, чем он в том признавался. «Вот теперь, — сказал он, — с их небоскребом будет покончено раз и навсегда!»
С трех сторон Купольный дворец предполагалось окружить водой, зеркальные эффекты которой были призваны усилить воздействие. Для этой цели предполагалось расширить Шпрее до размеров озера; правда, судам пришлось бы тогда обходить площадь перед дворцом через два рукава
206
специально прорытого туннеля. Четвертая, южная сторона доминировала над Большой площадью, в перспективе — площадью Адольфа Гитлера. Здесь предполагалось проводить ежегодные первомайские демонстрации, которые до сих пор проходили на Темпльгофском поле.
Для проведения подобных массовых мероприятий министерство пропаганды разработало четкую схему. В 1939 году Карл Ханке рассказал мне о различных уровнях манифестаций, определяемых в зависимости от политических и пропагандистских требований. Для любых манифестаций, от школьных — на предмет ликующей встречи высокого иностранного гостя — до мобилизации миллионов рабочих, была разработана четкая схема. Не без иронии отзывался статс-секретарь о «группах народного ликования». Чтобы заполнить новую площадь, пришлось бы в дальнейшем всякий раз объявлять высшую степень мобилизации, поскольку площадь вмещала до миллиона человек.
Сторона, противоположная Купольному дворцу, была с одной стороны ограничена новым зданием верховного командования вермахта, с другой — административным корпусом рейхсканцелярии, посредине же мы оставляли открытый вид с Парадной улицы на купол, и это было единственное открытое место на закрытой зданиями со всех сторон гигантской площади.
Рядом с Домом собраний располагалось наиболее важное и интересное чисто по психологическим соображениям здание — Дворец Гитлера. И действительно, не будет преувеличением говорить в данном случае не о квартире, а о дворце канцлера. Гитлер, как показывают сохранившиеся эскизы, уже начиная с ноября 1938 года лично занимался также и этим строительством. Проект нового дворца позволял угадывать необычно усилившуюся в Гитлере за последние годы жажду самоутверждения — от используемой поначалу канцлерской квартиры Бисмарка до этого дворца. Масштабы выросли примерно в четыреста пятьдесят раз. Даже со сказочным дворцовым кварталом Нерона, с «Золотым домом» на площади более чем в 1 000 000 квадратных метров, Дворец Гитлера вполне мог бы потягаться. Возведенный в самом центре Берлина, дворец с прилегающими к нему садами должен был занять примерно 2 000 000 квадратных метров. Через множество анфилад парадные
207
вестибюли вели в столовую, где одновременно могли сесть за стол несколько тысяч человек. Восемь огромных салонов были открыты для гостей во время гала-приемов. Для театра на 400 мест, подражания княжеским дворцовым театрам барокко и рококо, была предусмотрена современнейшая сценическая техника.
Из сугубо жилой части дворца Гитлер через рад изогнутых переходов мог попасть в большой Купольный дворец. С другой стороны к ней непосредственно примыкала рабочая часть, и в центре ее предполагался рабочий зал. По своим размерам он значительно превосходил приемный зал у американского президента. Гитлеру настолько полюбился долгий переход для дипломатов в уже перестроенной рейхсканцелярии, что он пожелал увидеть подобное решение и для нового дворца, для чего я удлинил путь дипломатов на полкилометра.
По сравнению с прежним зданием рейхсканцелярии от 1931 года, которое Гитлер объявил пригодным разве что для дирекции какого-нибудь мыловаренного концерна, его притязания выросли в семьдесят раз. Это дает представление о масштабах, в которых развивалась мегаломания Гитлера.
И посреди всех этих излишеств Гитлер приказал бы установить в сравнительно небольшой спальне его покрытую белым лаком кровать, по поводу которой он как-то сказал мне: «В спальне я ненавижу роскошь. Лучше всего я чувствую себя в простой, скромной постели».
В 1939 году, когда все эти планы уже приняли вполне зримые очертания, геббельсовская пропаганда по-прежнему культивировала легенду о вошедших в поговорку скромности и непритязательности Гитлера. Чтобы не поколебать веру народа, Гитлер почти никого не посвящал в планы строительства своего личного жилого дворца и будущей рейхсканцелярии. В беседе со мной, когда мы однажды гуляли с ним по первому снегу, он так обосновал свои запросы: «Видите ли, лично я вполне удовольствовался бы маленьким скромным домиком в Берлине. У меня достаточно власти и авторитета, для поддержания их мне вовсе не нужен подобный размах. Но поверьте слову: тем, кто рано или поздно придет за мной, такая репрезентативность будет нужна позарез. Многие из них только так и сумеют
208
удержаться. Вы даже представить себе не можете, какую власть приобретают мелкие души над своим окружением, если могут предстать на таком величественном фоне. Подобные залы с великим историческим прошлым возносят даже ничтожного преемника на исторический уровень. Вот потому, понимаете ли, мы и должны достроить все это при моей жизни, чтобы я успел здесь пожить, чтобы мой дух освятил это здание традицией. Довелись мне прожить здесь хоть несколько лет, этого будет вполне достаточно».
Уже в своих речах 1938 года перед началом строительства рейхсканцелярии Гитлер высказывался подобным образом, само собой, ни единым словом не приоткрывая подробно разработанные к тому времени дальнейшие планы: как фюрер и рейхсканцлер немецкой нации, он-де не желает занимать бывшие дворцы, вот почему, собственно, он и отказался занять дворец прежнего рейхспрезидента, ибо он не намерен жить в доме прежнего оберстхофмаршала. Зато государство получит представительное здание, достойное любого иностранного короля или кайзера.
Однако Гитлер тогда же запретил нам составлять смету, и по этой причине мы послушно разрабатывали все строительные планы, даже не подсчитывая будущий объем, что я и делаю лишь теперь, спустя четверть века.
1. Купольный дворец — 21 000 000 куб.м
2. ЯОглой дворец — 1 800 000 куб.м
3. Рабочие помещения, включая рейхсканцелярию — 1 250 000 куб.м
4. Принадлежащие сюда же канцелярии — 200 000 куб.м
5. Верховное командование вермахта — 600 000 куб.м
6. Новое здание рейхстага — 350 000 куб.м
Всего — 24 200 000 куб.м
Хотя благодаря огромным размерам сооружений уменьшилась стоимость каждого отдельного кубического метра, общую стоимость даже трудно было себе представить, ибо эти гигантские помещения требовали стен необычной толщины и, соответственно, глубоких фундаментов; мало того, внешние стены возводилось выполнить из качественного гранита, внутренние — из мрамора, да вдобавок двери, окна, потолки и тому подобное предполагались выполнить из драгоценнейших материалов. Смета в пять миллиардов
209
марок на одни только здания вокруг площади Адольфа Гитлера представляется скорее заниженной.
Перемена настроений в народе, отрезвление, которое в 1939 году начало распространяться по всей Германии, проявилось не только в необходимости организовывать народное ликование там, где Гитлер двумя годами ранее вполне мог рассчитывать на спонтанный взрыв чувств. Он и сам за эти два года отдалился от восторженных масс. Чаще, чем прежде, он мог вдруг проявить досаду и хмурое настроение, когда толпа на Вильгельмсплац еще изъявляла желание его видеть. Два года назад он частенько выбегал на «исторический балкон», теперь он нередко кричал на своих адъютантов, когда те просили его показаться народу: «Да оставьте меня наконец в покое!»
Это, казалось бы, побочное наблюдение неотъемлемой частью входило в образ новой площади Адольфа Гитлера, ибо как-то раз он просто сказал мне: «Нельзя ведь исключить, что однажды я буду вынужден принимать непопулярные меры. Это может привести к бунту. И надо уж заранее принять меры: все окна зданий, выходящие на эту площадь, должны иметь тяжелые стальные пуленепробиваемые ставни, двери тоже надо делать из стали, а единственный выход на площадь снабдить тяжелой железной решеткой. Чтобы центр рейха можно было в случае надобности защищать как крепость».
Это высказывание Гитлера выдавало беспокойство, прежде совершенно ему чуждое. Оно вновь проявилось, когда обсуждалось размещение казарм лейб-штандарта, который с ходом времени превратился в полностью моторизованный, вооруженный современнейшим оружием полк. Гитлер перенес казарму в непосредственную близость к большой южной оси. «А как вы думаете, ведь если когда-нибудь возникнут беспорядки! — и, указывая на улицу стодвадцатиметровой ширины: — Когда они здесь покатят ко мне на своих бронемашинах — ни один человек не сумеет им противостоять!» То ли армия прослышала об этом его распоряжении и пожелала быть на месте раньше эсэсовцев, то ли Гитлер сам так распорядился — во всяком случае, по желанию армейского командования и с одобрения Гитлера берлинскому охранному полку «Великая Германия» была отведена строительная площадка в еще большей близости
210
к гитлеровскому центру. Отдаление Гитлера от своего народа, того Гитлера, который при надобности был готов отдать приказ стрелять в собственный народ, я совершенно бессознательно для себя выразил в фасаде его дворца. Во всем фасаде не было ни единого отверстия, если не считать гигантского стального входа и двери на балкон, с которого Гитлер мог показываться толпе, хотя, конечно, балкон этот нависал над толпой на высоте четырнадцати метров, другими словами — на уровне шестого этажа. Этот демонстративно неприступный фасад, как мне и сегодня кажется, давал весьма точное представление о резкой перемене в успевшем между делом воспарить в сферы самообоже- ствления фюрере.
В воспоминаниях времен моего заключения этот проект со своей красной мозаикой, своими колоннами, бронзовыми львами и золочеными барельефами приобрел характер веселый, почти привлекательный. Но когда спустя двадцать один год я увидел цветные снимки макета, мне невольно вспомнилась архитектура сатрапов из фильма Сесиля де Милля.
Наряду с фантастичностью я увидел в этой архитектуре и жестокость, точное выражение тирании.
Перед войной я потешался над чернильницей, которой архитектор Бринкман, подобно Троосту, некогда представитель имперского стиля в архитектуре, однажды порадовал Гитлера. Бринкман придал этому чисто бытовому предмету торжественный характер, с множеством украшений, завитушек и ступенек — а посреди всей роскоши вокруг чернильного прибора главы государства помещалась одинокая и незаметная лужица чернил. Мне казалось, что я еще никогда не видел ничего столь нелепого и вычурного. Однако Гитлер вопреки моим ожиданиям подношение не отверг и даже, напротив, сверх меры расхвалил бронзовое сооружение. Не меньший успех стяжал Бринкман своей моделью рабочего кресла, которое он спроектировал для Гитлера, хотя по размерам оно скорее подходило бы для Геринга. Это был своего рода трон с двумя несоразмерно большими позолоченными сосновыми шишками на краю спинки.
Оба предмета с их вычурно крикливой роскошью свидетельствовали о вкусах парвеню. Но начиная с 1937 года Гитлер все более шумным одобрением поощрял подобную
211
тягу к роскоши. Он снова обратился мыслями к венской Рингштрассе, которая некогда вызвала его восхищение как исходный пункт; при этом он медленно, но неуклонно отходил от учения Трооста.
А вместе с ним отходил и я, ибо мои проекты этого времени имели все меньше общего с тем, что я признавал «своим стилем». Подобный уход от собственных начал проявлялся не в одних лишь суперразмерах моих проектов. В них не оставалось больше ничего от некогда столь приятного мне дорического стиля, они стали «искусством времени упадка» в чистом виде. Неисчерпаемое богатство средств, предоставленных в мое распоряжение, но также и гитлеровская установка на парадность вывели меня на дорогу к стилю, которой скорее имел своим прообразом роскошные дворцы восточных деспотов.
К началу войны я разработал теорию, которую как-то за обедом в парижском «Максиме» изложил перед компанией французских и немецких художников, среди которых были Кокто и Деспьо: Французская революция сформировала новое чувство стиля, пришедшее на смену позднему рококо.
Даже непритязательные предметы мебели приобрели тогда красивейшие пропорции. Свое классическое выражение данный стиль обрел в проектах Буле. За этим стилем революции последовал стиль директуар, который еще умел с изяществом и легкостью применять более богатые средства. Поворот наступил лишь со стилем ампир: увеличиваясь в численности с каждым годом, все новые и новые элементы при сохранении классических основных форм перегружали их множеством украшений, пока наконец поздний ампир не стал непревзойденным по богатству и роскоши. В этом выражался итог стилевого развития, который столь многообещающе начинался консульством, но одновременно и переход от революции к наполеоновской империи. Подобное развитие служило одновременно и знаком распада и провозвестником наполеоновской эры. Здесь можно наблюдать сжатый до двадцати лет путь, для прохождения которого обычно требуются столетия: развитие от дорических строений раннего классицизма до расчлененных барочных фасадов позднего эллинизма, как те, что мы видим, например, в Баальбеке, от романтических
212
сооружений раннего Средневековья до изощренной поздней готики в его конце.
При последовательном ходе рассуждений мне бы следовало развивать дальше свою аргументацию и прийти к выводу, что на примере позднего ампира в планах, разрабатываемых Гитлером и мной, тоже можно угадать близящийся конец режима. Но тогда я этого еще не видел. Подобно тому как, вероятно, и окружение Наполеона в перегруженных деталями салонах позднего ампира видело лишь выражение величия и только последующие поколения разглядели в них предчувствие грядущей катастрофы, окружение Гитлера так же восприняло чернильницу как подобающее ддя государственного гения обрамление, а купол непомерной величины — как выражение мощи Гитлера.
Последние проекты, разрабатываемые нами в 1939 году, были чистейшим неоампиром, который можно сравнить со стилем непосредственно перед свержением Наполеона, сто двадцать пять лет назад демонстрировавшим перегруженность деталями, страсть к позолоте, тягу к роскоши и грядущий упадок. В этих стройках намерения Гитлера находили неприкрытое выражение благодаря не только своему стилю, но и гигантским размерам.
Однажды, в начале лета 1939 года, он указал на имперского орла со знаками государственного величия в когтях, которому предстояло увенчать купол на высоте в 290 метров. «Это надо изменить. Здесь должен стоять не орел над свастикой, здесь он будет витать над земным шаром. Увенчать величайшее здание в мире должен орел над земным шаром». В фотографиях макетов будущих строений, которые я велел изготовить, и по сей день можно увидеть предложенное Гитлером изменение первоначального проекта.
А через несколько месяцев началась Вторая мировая война.
12
Начало падения
Примерно в первых числах августа 1939 года мы беззаботной группой вместе с Гитлером направлялись в «Чайный домик» на Келыитейне.
213
Длинная автоколонна двигалась вверх по извилистой дороге, которую Борман велел прорубить в скале. Через высокий бронзовый портал мы вступили в одетый мрамором вестибюль, пронизанный горной сыростью, и вошли в лифт из надраенной до блеска меди.
Пока лифт поднимал нас на 50-метровую высоту, Гитлер без всякой видимой связи, как бы продолжая разговор с самим собой, произнес: «Может быть, скоро произойдет что-нибудь очень важное. Даже если мне придется отправить туда Геринга... В крайнем случае я и сам бы мог съездить. Я все поставил на эту карту». Дальше этого намека дело не пошло.
Всего три недели спустя, 21 августа 1939 года, мы услышали, что министр иностранных дел Германии будет вести переговоры в Москве. За ужином Гитлеру подали какую-то записку. Он быстро пробежал ее глазами, заливаясь краской, смотрел какое-то время прямо перед собой, ударил по столу, так что зазвенели рюмки, и срывающимся голосом воскликнул: «Все в порядке! Все в порядке!» Но менее чем за секунду он овладел собой, никто не посмел задать какой-нибудь вопрос, и трапеза пошла своим чередом.
Однако после ужина он пригласил к себе людей из своего окружения: «Мы заключили с Россией пакт о ненападении. Вот, читайте! Телеграмма от Сталина!» Телеграмма была адресована «рейхсканцлеру Гитлеру» и коротко сообщала о заключении договора. Это был волнующий, совершенно неожиданный поворот, какой я только мог себе вообразить, телеграмма, на клочке бумаги дружески объединявшая оба имени — Сталина и Гитлера. Потом нам продемонстрировали фильм, который показывал парад Красной армии перед Сталиным с привлечением многочисленных войск. Гитлер выразил полное удовлетворение по поводу этой нейтрализованной теперь военной силы и обратился к своим военным адъютантам явно затем, чтобы обсудить с ними истинный вес этой массовой демонстрации оружия и войск. Дам по-прежнему близко не подпускали, но, конечно же, они узнали новость от нас, тем более что вскоре о ней сообщили по радио.
Когда 21 августа Геббельс прокомментировал эту новость на пресс-конференции, Гитлер велел соединить себя с ним. Он желал узнать, как реагировали на сообщение
214
представители зарубежной прессы. С лихорадочно блестящими глазами он передал нам полученный от Геббельса ответ: «Сенсация непревзойденная!» А когда одновременно зазвонили церковные колокола, представитель английской прессы грустно заметил: «Это погребальный звон для Британской империи». Данная реплика произвела в тот вечер на эйфорически возбужденного Гитлера наиболее сильное впечатление. Он возомнил, будто вознесся столь высоко, что судьба больше над ним не властна.
Ночью мы с Гитлером стояли на террасе замка в «Берг- хофе» и наблюдали престранную для этих мест игру природы. На редкость яркое полярное сияние больше часа заливало красным светом лежащую напротив и овеянную легендами гору Унтерберг, тогда как небо над горой играло всеми цветами радуги. Даже заключительный акт «Гибели богов» — и тот невозможно было поставить более эффектно. Лица и руки каждого из нас окрасились в неестественно красный цвет. Зрелище вызвало у всех странно задумчивое настроение. Обратясь к одному из своих военных адъютантов, Гитлер вдруг промолвил: «На сей раз прольется кровь. Без применения силы не обойтись».
Уже за несколько недель до этого центр тяжести гитлеровских интересов заметно переместился в военную сферу. В долгих, иногда часами длившихся беседах с каким-нибудь из своих четырех адъютантов: главным из них полковником Рудольфом Шмундтом — по армейскому руководству, капитанами Герхардом Энгелем — от сухопутных войск, Николаусом фон Беловом — от военно- воздушных сил и Карлом Йеско фон Путткаммером — от военно-морского флота — Гитлер пытался обрести ясность по поводу собственных планов. Молодые, непринужденно державшиеся офицеры были ему особенно симпатичны, тем более что он всегда искал одобрения и находил его здесь скорее, нежели в кругу более сведущих, но скептически настроенных генералов.
Однако как раз в эти дни, после подписания германо-советского пакта, собеседников-адъютантов сменила политическая и военная верхушка рейха — Геринг, Геббельс, Кейтель и Риббентроп. Прежде всего Геббельс часто и с тревогой говорил о намечающейся угрозе войны. Странным образом обычно столь радикально настроенный
215
пропагандист считал риск чрезмерным, пытался навязать окружению Гитлера линию более мирного поведения, в остальном же обходился весьма резко с Риббентропом, которого считал главным представителем военной партии. Мы, люди из ближайшего окружения Гитлера, считали Геббельса, равно как и Геринга, который точно так же выступал за сохранение мира, слабаками, дегенерировавшими среди услад власти, а потому не желавшими рисковать завоеванными привилегиями.
И хотя в эти дни потерпело крах воплощение дела моей жизни, я пребывал в твердом убеждении, что решение национальных проблем важнее личных интересов. А если и возникали сомнения, их отгоняла уверенность, с какой держался Гитлер в эти дни. Он виделся мне тогда героем античных преданий, который не колеблясь, в сознании собственной силы пускается в самые рискованные авантюры и с честью выходит из них.
Собственно, партия войны, кто бы кроме Гитлера и Риббентропа ни входил в нее, выдвинула следующие аргументы: «Будем считать, что благодаря быстрому наращиванию вооружений мы имеем силовое превосходство из расчета 4:1. После занятия Чехословакии противная сторона очень быстро вооружается. Но чтобы выйти на запланированный уровень производства, им нужно по меньшей мере полтора, а то и два года. Лишь с 1940 года она может начать уменьшать наше довольно значительное преимущество. И если они будут производить столько же, сколько и мы, наше превосходство будет становиться все меньше; чтобы сохранить разрыв на прежнем уровне, нам придется увеличить производительность в четыре раза. Но на это мы не способны. Даже если они доведут свою производительность до половины нашей, соотношение все время будет ухудшаться. Зато сегодня у нас во всех областях новые модификации, тогда как у противной стороны — устаревший материал».
Нельзя сказать, что подобные рассуждения полностью определяли решения Гитлера, но зато они, без сомнения, повлияли на выбор им момента. Сперва он говорил: «Я останусь в Оберзальцберге сколько смогу, чтобы набраться сил перед грядущими тяжелыми днями. И лишь когда настанет время принимать решения, я поеду в Берлин».
216
Но уже через несколько дней колонна машин с Гитлером двигалась по автобану в Мюнхен. Десять машин шли с большим разрывом из соображений безопасности, в них среди прочих — моя жена и я. Было прекрасное безоблачное воскресенье уходящего лета. Население с необычной молчаливостью пропускало мимо кортеж с Гитлером. Почти никто не махал ему. Да и в самом Берлине вокруг рейхсканцелярии было на редкость пустынно. Когда обычно едва поднятый штандарт давал людям знать, что Гитлер находится в резиденции, его тотчас окружал народ, который любил приветствовать Гитлера, когда тот приезжал либо уезжал.
От дальнейшего развития событий меня, естественно, держали в стороне, тем более что гитлеровский распорядок дня в эти суматошные дни заметно изменился. С тех пор как весь двор перебрался в Берлин, следующие одно за другим обсуждения полностью занимали время Гитлера, а общие трапезы по большей части срывались. Среди наблюдений, которые моя голова по прихоти человеческой памяти сохранила до сих пор, первое место занимает не лишенная комизма фигура итальянского посла Бернарде Аттолико, которого я наблюдал за несколько дней до нападения на Польшу, когда тот, запыхавшись, ворвался в рейхсканцелярию. Он принес известие, что Италия поначалу не может выполнять обязательства, налагаемые на нее соглашением; дуче оформил свой отказ невыполнимыми требованиями немедленных военных и хозяйственных поставок в таком количестве, что это ослабило бы военный потенциал Германии. Боевую мощь итальянского флота с модернизированными соединениями и большим количеством подводных лодок Гитлер ценил очень высоко, равно как и значение большого воздушного флота Италии. На какое-то мгновение Гитлер даже счел свою схему разрушенной, ибо исходил из соображения, что военная решимость Италии дополнительно устрашит западные державы. Из-за возникшей неуверенности он даже перенес на несколько дней вторжение в Польшу.
Однако отрезвление этих дней вскоре уступило место новому полету мысли, и Гитлер интуитивно решил, что, даже учитывая нерешительную позицию Италии, Запад вовсе
217
не обязательно так уж сразу объявит войну. Предложенное Муссолини вмешательство Гитлер отверг: он больше не позволит себя удерживать, ибо войско, длительное время пребывающее в состоянии боевой готовности, начинает нервничать, период ясной осенней погоды скоро кончится и можно опасаться, что, когда ясная погода сменится периодом затяжных дождей, немецкие части увязнут в польской грязи.
С Англией состоялся обмен нотами по польскому вопросу. У Гитлера был утомленный вид, когда однажды вечером в зимнем саду канцлеровской квартиры он убежденно заявил своему ближайшему окружению: «На сей раз мы не повторим ошибок 1914 года. Теперь самое главное — свалить вину на другую сторону. В 1914-м это было сделано из рук вон плохо. Да и теперь разработки министерства иностранных дел никуда не годятся. Лучше уж я сам сочиню все ноты». При этом он держал в руках какой-то исписанный лист — возможно, проект очередной ноты министерства иностранных дел. Затем он торопливо распрощался и скрылся в верхних комнатах, так и не приняв участия в ужине. Позднее, уже сидя в тюрьме, я прочел этот обмен нотами и не нахожу, что Гитлер преуспел в своем намерении.
Убеждение Гитлера, что после мюнхенской капитуляции Запад еще раз проявит уступчивость, было подкреплено сообщением службы информации, согласно которому некий офицер английского Генерального штаба, собрав сведения о силе польской армии, пришел к выводу, будто сопротивление поляков очень скоро будет сломлено. С этим Гитлер связывал надежду, что английский Генеральный штаб сделает все от него зависящее, дабы отговорить свое правительство ввязываться в столь бесперспективную войну. Когда, однако, 3 сентября за ультиматумами западных держав последовало объявление войны, Гитлер после короткого периода растерянности утешил нас, как и себя, замечанием, что Англия и Франция объявили войну лишь для виду, чтобы не потерять лицо перед всем миром, и что, по его глубочайшему убеждению, объявление войны не будет сопровождаться военными действиями. Вследствие этого он отдал приказ по вермахту держаться оборонительной тактики и считал, что это с его стороны очень тонкий политический ход.
218
Судорожная деловитость последних дней августа сменилась зловещей тишиной. Гитлер ненадолго вернулся к прежнему распорядку дня; он даже снова начал интересоваться архитектурными планами. Сотрапезникам он объяснил: «Мы, правда, находимся в состоянии войны с Англией и Францией, но, если мы со своей стороны будем избегать каких бы то ни было военных действий, дело так ничем и не кончится. Вот если мы утопим их корабль и будут большие потери, там усилится партия войны. Вы себе даже и не представляете, каковы демократы: они будут рады-раде- хоньки, если сумеют выпутаться из этой истории. А на Польшу им наплевать!» Даже когда немецкие подлодки занимали удобнейшую позицию перед французским военным кораблем «Дюнкерк», он не дал разрешения атаковать. Но бомбежка британцами Вильгельмсхафена и гибель «Атении» нарушили ход его рассуждений.
Впрочем, он неисправимо держался своего убеждения, что Запад слишком слаб, несобран и упадочен, чтобы всерьез воевать. Может быть, ему было стыдно признаться другим, а главное, себе, что он столь глубоко заблуждался. Я еще помню его растерянность, когда он получил сообщение, что Черчилль намерен войти в британский военный кабинет в качестве министра морского флота. Держа в руках текст этого сообщения, Геринг появился в дверях жилых покоев Гитлера. Рухнув в ближайшее к дверям кресло, Геринг устало произнес: «Черчилль вошел в кабинет. Это значит, что война и в самом деле начнется.. Вот теперь у нас война с Англией». Из этих и схожих заявлений можно было заключить, что подобное начало войны не соответствовало ожиданиям Гитлера. На время он явно утратил успокоительный облик никогда не ошибающегося фюрера.
Эти иллюзии и мечты Гитлера стояли в прямой зависимости от его метода работы и образа мыслей. Он и впрямь ничего не знал о своих противниках и отказывался использовать информацию, находившуюся в его распоряжении, напротив, он скорей полагался на свои спонтанные, окрашенные полнейшей недооценкой озарения, как ни противоречивы они были каждое по отдельности. В соответствии со своей неизменной присказкой, что всегда есть две возможности, он желал начать войну в этот якобы наиболее благоприятный момент, хотя сам к ней недостаточно
219
подготовился, он видел в Англии, как он любил повторять, «нашего врага номер один» и, однако же, рассчитывал на соглашение с ней.
В эти первые дни сентября, как мне кажется, Гитлеру едва ли было до конца ясно, что он неотвратимо развязал мировую войну. Он просто хотел сделать еще один шаг, правда, как и год назад, во время чешского кризиса, он был готов пойти на известный риск, но именно на риск, а не так уж сразу — на большую войну. Перевооружение флота было явно отодвинуто на более поздние сроки; боевые корабли, равно как и первые большие авианосцы, еще не сошли со стапелей. Он понимал, что полную боевую значимость они приобретут лишь тогда, когда смогут в приблизительно равных по силе соединениях выступить против врага. Вдобавок он так часто твердил о пренебрежении к подводным лодкам во время первой мировой войны, что сознательно не начал бы вторую, не создав сильный подводный флот.
Но все тревоги развеялись в первые же дни сентября, когда польский поход принес неожиданный успех немецким войскам, Гитлер обрел, судя по всему, обычную уверенность, и потом, уже в разгар войны, я даже неоднократно слышал от него, что поход против Польши непременно требовал крови. «Думаете, для войск было бы удачей, займи мы Польшу без боев, как перед этим Австрию и Чехословакию? Поверьте моему слову, такого не выдержит самая лучшая армия. Победы без пролития крови разлагают. Это не просто удача, что в Польше дело не кончилось мирно, более того, мы были обязаны счесть это неудачей, и я непременно приказал бы нанести удар».
Впрочем, очень возможно, что за подобными рассуждениями он просто желал скрыть дипломатические просчеты августа 1939-го. Во всяком случае, ближе к концу войны генерал-полковник Хейнрици рассказал мне об одной из ранних речей Гитлера перед генералитетом, которая указывает на то же обстоятельство. «Он, Гитлер, — так записал я примечательный для меня рассказ Хейнрици, — первым после Карла Великого снова объединил в своих руках неограниченную власть. Власть эта дана ему не напрасно, уж он сумеет употребить ее в борьбе за Германию. А если война не будет выиграна, значит, Германия не выдержала пробу сил, значит, она должна погибнуть и погибнет неминуемо!»
220
Население с самого начала восприняло положение куда серьезней, чем Гитлер и его окружение. Из-за всеобщей нервозности в первые дни войны в Берлине была объявлена ложная тревога. Со множеством других берлинцев я сидел в общественном бомбоубежище. Люди с тревогой глядели в будущее, и вообще настроение было явно подавленное.
В отличие от того, что было в начале Первой мировой, ни один полк не уходил на войну, украшенный цветами. Улицы оставались пустынны, на Вильгельмсплац не собиралась толпа, громко призывающая Гитлера. И в полном соответствии с общим мрачным настроением Гитлер велел однажды ночью уложить свои чемоданы в машину и доставить себя на Восточный фронт. Его адъютант через три дня после нападения на Польшу пригласил меня на прощальную встречу в рейхсканцелярию, где в затемненной на скорую руку комнате я увидел человека, который взрывался из-за любого пустяка. Подъехали машины, он коротко попрощался со своей остающейся в Берлине свитой. Ни один человек на улице не уделил внимания историческому событию: Гитлер уезжал на срежиссированную им войну. Само собой, Геббельс мог бы без труда обеспечить ликующие толпы любых размеров, но и у него, судя по всему, было неподходящее настроение.
Даже и во время мобилизации Гитлер не оставлял своими заботами людей искусства. Под конец лета 1939 года армейский адъютант Гитлера затребовал у военных комиссариатов их призывные повестки, разорвал на клочки и выбросил; благодаря такому оригинальному способу повестки как бы перестали существовать для мобилизационных служб. Однако в списке, составленном Гитлером и Геббельсом, архитекторы и скульпторы занимали лишь скромное место, подавляющее большинство освобожденных от призыва составляли певцы и артисты. К открытию, что молодые ученые тоже важны для будущего, Гитлер пришел лишь в 1942 году, и не без моего влияния.
Уже находясь в Оберзальцберге, я попросил по телефону Вилли Нагеля, своего бывшего начальника, а ныне шефа приемной, подготовить документы на создание технической группы под моим началом. Мы хотели, чтобы хорошо сработавшаяся команда по руководству большими стройками
221
продолжала и далее строить мосты, расширять дороги и вообще держаться тех областей, которые могут быть полезны для ведения войны. Хотя, надо сказать, наши представления на этот счет были весьма расплывчаты и туманны. И поначалу дело свелось к тому, чтобы приготовить палатки и спальные мешки, а также выкрасить мой БМВ в серый походный цвет. В день объявления всеобщей мобилизации я отправился в здание верховного командования, что на Бендлерштрассе. Генерал-полковник Фромм, ответственный за проведение мобилизации, праздно — как и полагалось в прусско-немецкой организации — сидел у себя в кабинете, тогда как дела шли своим чередом по намеченному плану. Мое предложение о содействии он с готовностью принял, моя машина получила военный номер, сам я — военное свидетельство. На первом этапе моя военная деятельность тем и завершилась. Ибо сам Гитлер категорически запретил мне сопровождать армию, а вместо того обязал меня продолжать работу над осуществлением его планов.
Тогда я решил по крайней мере предоставить в распоряжение армии рабочих, занятых на моих стройках в Берлине и в Нюрнберге, а также технические штабы в распоряжение производства пехотного и авиационного вооружения. Мы взяли на себя строительство ракетного плацдарма в Пене- мюнде и осуществление спешных строительных замыслов в сфере самолетостроения.
Я просил проинформировать Гитлера по поводу этого казавшегося мне вполне естественным участия и не сомневался в его полнейшем одобрении. К моему великому удивлению, я очень скоро получил на редкость грубый ответ от Бормана: мол, с чего это я вздумал подыскивать себе новые задачи, когда никто мне этого не приказывал, вот Гитлер и поручил ему передать мне распоряжение, чтобы все до единой стройки были продолжены.
Этот приказ тоже свидетельствует о том, сколь нереалистично и двойственно мыслил Гитлер: с одной стороны, он то и дело повторял, что Германия бросила вызов судьбе и теперь ей предстоит схватка не на жизнь, а на смерть, с другой же — не желал отказаться и от своей грандиозной затеи. При этом он упускал из виду настроение масс, которые тем меньше были способны понимать сооружение роскошных зданий, когда экспансионистские замыслы
222
Гитлера впервые потребовали жертв. Это был первый приказ, которого я ослушался. Правда, в этот первый военный год я видел Гитлера куда реже, чем раньше, но, возвращаясь на несколько дней в Берлин либо на несколько недель поднимаясь в Оберзальцберг, он по-прежнему заставлял показывать ему строительные планы, настаивал на дальнейшем их развитии, однако с замораживанием работ он, как я полагаю, молча смирился.
Примерно в начале октября немецкий посол в Москве граф фон дер Шуленбург сообщил Гитлеру, что Сталин весьма интересуется нашими строительными планами. Целая серия фотографий изготовленных у нас макетов была выставлена в Кремле, хотя по личному указанию Гитлера самые грандиозные строения мы от Сталина все-таки утаили, чтобы тот, как выражался Гитлер, «не разлакомился». Шуленбург предложил и мне слетать в Москву для объяснения моих планов, но Гитлер полушутливо заметил: «А вдруг он оставит вас у себя!» — и лететь запретил. Несколько позже немецкий посланник сообщил мне, что мои проекты Сталину понравились.
29 сентября Риббентроп вернулся после своего второго визита в Москву, имея при себе немецко-советский договор о границах и о дружбе, призванный подтвердить четвертый раздел Польши. За столом у Гитлера Риббентроп рассказывал, что никогда еще не чувствовал себя так вольготно, как среди сотрудников Сталина. «Словно я оказался среди товарищей по партии, мой фюрер». Гитлер с каменным лицом пропустил мимо ушей восторги своего обычно столь сдержанного министра. Сталин, по рассказам Риббентропа, казался совершенно довольным соглашением о новых границах и по окончании переговоров собственноручно обвел карандашом участок на границе обещанной Россией зоны, который он и презентовал Риббентропу как гигантские охотничьи угодья. Этот жест раззадорил Геринга, который не желал согласиться с тем, что сталинский довесок предназначается лично министру иностранных дел, и заявил, что он должен достаться всему рейху и тем самым ему, рейхсегермейстеру. Последовал бурный спор между обоими охотниками, имевший следствием глубокую мрачность министра иностранных дел, ибо Геринг оказался и более энергичным, и более пробивным соперником. Несмотря
223
на войну, предполагалось ускорить перестройку бывшего дворца рейхспрезидента под новую резиденцию для министра иностранных дел. Гитлер осмотрел почти завершенное здание и выразил неудовольствие. Тогда Риббентроп бездумно и поспешно приказал уничтожить все следы только что завершенной перестройки и все начать снова. Вероятно, из желания угодить Гитлеру он велел сделать массивные дверные откосы из мрамора и гигантские фасонные двери, которые никак не подходили для залов среднего размера. Перед вторичным осмотром я попросил Гитлера воздержаться от отрицательных замечаний, чтобы министр не затеял третью перестройку. И Гитлер действительно лишь потом и лишь в самом тесном кругу потешался над неудачным, на его взгляд, сооружением.
В октябре я узнал от Ханке, как он докладывал Гитлеру, что при встрече немецких и советских войск на демаркационной линии в Польше все могли увидеть, насколько скудно, можно даже сказать, бедно вооружена Красная армия. Другие офицеры подтвердили это наблюдение, а Гитлер с величайшим вниманием выслушал и принял к сведению. Ибо после этого мы неоднократно слышали, как он снова и снова комментирует полученные сведения, считая их признаком военной слабости или недостатком организационных талантов. А вскоре его убеждение было подкреплено сведениями о срыве советского наступления против Финляндии.
О дальнейших намерениях Гитлера я, несмотря на всю секретность, получил кое-какую информацию, когда в 1939 году он дал мне задание выстроить ему на западе Германии штаб-квартиру. Цигенберг, господское имение гётевских времен, расположенное в отрогах Таунуса под Наугей- мом, был для этой цели нами модернизирован и снабжен бункерами.
Когда строительство было завершено, миллионы истрачены, телефонный кабель протянут через сотни километров и смонтированы современнейшие средства связи, Гитлер вдруг спохватился, что подобная штаб-квартира слишком дорого стоит, что, когда идет война, следует вести скромный образ жизни, а потому извольте построить для него приличествующее военному времени жилье на Эйфеле. Вероятно, это произвело должное впечатление на тех, кто
224
не знал, что уже потрачены зазря миллионы марок, а теперь вот предстоит снова их тратить. Мы обратили на это внимание Гитлера, но он нас и слушать не стал, опасаясь за свое реноме «неприхотливого» человека.
После быстрой победы над Францией я был твердо убежден, что Гитлер уже стал одной из величайших фигур немецкой истории. На меня производила сильное и тягостное впечатление та летаргия, которую я угадывал в настроениях общественности, несмотря на все грандиозные успехи. Гитлер между тем развивал в себе все более безудержную самоуверенность. Для своих застольных монологов он подобрал новую тему. Уж его-то концепция, утверждал он, не потерпела бы крушения из-за тех упущений, которые привели к поражению в Первой мировой войне. Тогда политическое руководство враждовало с военным, а политическим партиям дали полную возможность подрывать в нации единство воли и даже предпринимать кое-какие предательские шаги. Бездарные наследники княжеских домов должны были из протокольных соображений становиться во главе своих армий, одни должны были пожинать военные лавры, дабы возвысить славу своей династии. И лишь потому, что у этих бездарных отпрысков дегенерирующих княжеских дворов были выдающиеся штабные офицеры, удалось избежать особенно больших катастроф. К тому же во главе всего войска рядом с Вильгельмом II стоял бездарный главнокомандующий... Тогда как теперь Германия едина, с удовлетворением подытожил Гитлер, теперь отдельные земли утратили былое значение, теперь полководцы набраны из лучших офицеров вне зависимости от их происхождения, привилегии дворянства уничтожены, политика и вермахт, как и вся нация, слились в единое целое. Во главе же стоит он. А его сила, его воля, его энергия способны превозмочь любые трудности.
Весь успех западного похода Гитлер приписывал себе. План принадлежал ему. «Я неоднократно, — утверждал он при случае, — перечитывал книгу полковника де Голля о возможностях современного ведения боя моторизованными соединениями и много из нее почерпнул».
Вскоре после окончания французского похода мне позвонили из адъютантуры фюрера: я должен по исключительному поводу прибыть на несколько дней в штаб-квартиру.
8 А. Шпеер
225
А штаб-квартира Гитлера размещалась тогда под Седаном, в маленькой деревеньке Брюли-де-ла-Пеш, из которой выселили всех жителей. В маленьких домиках вдоль единственной улицы разместились генералы и адъютанты. Под стать было и жилище Гитлера. Когда он здоровался со мной, я заметил, что у него превосходное настроение. «Через несколько дней мы полетим в Париж. Брекер и Гислер тоже полетят с нами». С этим я и ушел, удивленный тем, что для торжественного вступления в столицу Франции победитель вызвал нас троих.
В тот же вечер я был приглашен к военному застолью у Гитлера; там обсуждали некоторые детали поездки в Париж. Речь, как я узнал, шла не об официальном визите, а именно о поездке Гитлера «с художественными целями» в город, который, по его словам, с ранних лет настолько его приковал, что ему думается, будто благодаря одному лишь изучению планов он знает его улицы и важнейшие здания, словно жил там.
В ночь на 25 июня 1940 года, в один час тридцать пять минут, должно было вступить в силу соглашение о прекращении военных действий. Мы с Гитлером сидели за деревянным столом в простой горнице крестьянского дома. Незадолго до назначенного времени Гитлер велел погасить свет и открыть окна. Мы тихо сидели в темноте, завороженные возможностью пережить исторический момент рядом с его первопричиной. Трубач на улице протрубил традиционный сигнал к окончанию боевых действий. Вдали, должно быть, разыгралась гроза, потому что, словно в плохом романе, темную комнату озарял порой отблеск зарниц. Кто-то, не совладав с волнением, громко высморкался. Потом прозвучал голос Гитлера тихо, без интонаций: «Такая ответственность...» И несколько минут спустя: «А теперь зажгите свет снова». И вновь потекла непритязательная беседа, но для меня это осталось незабываемым впечатлением. Мне казалось, что я впервые увидел Гитлера-человека.
На другой день я съездил из штаб-квартиры в Реймс, чтобы поглядеть тамошний собор. Меня встретил какой-то призрачный город, почти оставленный жителями и ради многочисленных погребов шампанских вин оцепленный полевой жандармерией. Хлопали на ветру ставни, ветер
226
нес по улицам старые газеты, распахнутые двери обнажали внутреннее убранство домов. Мирная обывательская жизнь на какой-то нелепый миг словно застыла в неподвижности, можно было увидеть на столах стаканы, посуду, остатки трапезы. По пути нам попадались многочисленные беженцы, которые двигались вдоль обочин, тогда как проезжая часть была занята колоннами немецких солдат. Преисполненные самоуверенности солдаты и офицеры среди изможденных людей, которые везли свой скарб в детских колясках, на тачках и тому подобных примитивных устройствах, создавали странный контраст. Через три с половиной года я мог наблюдать подобные картины и в Германии.
Спустя три дня после прекращения огня рано утром, примерно в пять тридцать, наш самолет приземлился в аэропорту Ле Бурже. Три больших «мерседеса» уже стояли наготове. Гитлер, как и всегда, сел на переднее сиденье рядом с шофером — Брекер и я — за ним на откидных сиденьях, а Гислер вместе с адъютантом устроились на заднем. Всех представителей искусства обрядили в защитно-серую форму, которая, так сказать, вводила нас в армейские рамки. Путь наш лежал через обширные пригороды прямо к Гранд-опера работы архитектора Гарнье. Гитлер пожелал в первую очередь осмотреть свое любимое барочное здание. У портала нас поджидал назначенный немецкими оккупационными властями полковник Шпейдель.
Прославленная — из-за широты замысла, и пресловутая — из-за перегруженности деталями, парадная лестница, равно как и роскошное фойе, и щедро вызолоченный праздничный зрительный зал, подверглась тщательному осмотру. Все огни были зажжены, как при гала-представлении. Гидом выступал сам Гитлер. Седовласый капельдинер, закрывавший ложи, сопровождал нашу маленькую группу по пустынному зданию. Гитлер и впрямь основательно изучил планы Гранд-опера; достигнув ложи у просцениума, он заметил, что там недостает салона, и оказался прав. Капельдинер подтвердил, что это помещение много лет назад было уничтожено при перестройке. «Вот видите, как я все здесь знаю!» — удовлетворенно заметил Гитлер. Опера привела Гитлера в совершенный экстаз, он восхищался ее недосягаемой красотой, глаза у него блестели, излучая восторг, как-то неприятно меня взволновавший. Капельдинер
8*
227
явно понял, кого он водит по опере. Старательно, хоть и с подчеркнутой отстраненностью показывал он нам все детали. Когда мы наконец собрались покинуть здание, Гитлер что-то шепнул на ухо своему адъютанту Брюкнеру, тот достал из бумажника пятидесятимарковую бумажку и отнес ее стоявшему поодаль служителю. Тот любезно, но решительно отказался. Гитлер предпринял вторую попытку и направил с той же целью Брекера, но капельдинер по-прежнему не согласился, а Брекеру объяснил, что всего лишь выполнял свои обязанности.
Далее мы поехали через Елисейские поля до Трокадеро, оттуда к Эйфелевой башне, где Гитлер снова велел остановиться, мимо Триумфальной арки с Могилой Неизвестного Солдата к Дому инвалидов, где Гитлер надолго застыл перед саркофагом Наполеона. Под конец Гитлер осмотрел Пантеон, пропорции которого произвели на него глубочайшее впечатление. Зато он не выказал ни малейшего интереса к прекраснейшим архитектурным творениям Парижа: площади Вогезов, Лувру, Дворцу юстиции и Сент- Шапель. Снова оживился он, лишь когда увидел сплошной ряд домов на Рю де Риволи. Конечной целью нашей экскурсии была церковь Сакре-Кёр на Монмартре, романтическое, приторное подражание купольным церквям раннего Средневековья, — выбор неожиданный даже для знающих вкус Гитлера. Здесь он долго стоял, окруженный несколькими плечистыми парнями из группы безопасности, покуда многочисленные богомольцы, хоть и узнавшие его, шли мимо, не обращая внимания. После прощального взгляда на город — быстрое возвращение в аэропорт. В девять утра экскурсия завершилась. «Увидеть Париж было мечтой моей жизни. Не могу выразить, до чего я счастлив, что сегодня эта мечта сбылась». Я даже на какое-то время пожалел его. Первый и единственный раз в Париже, три часа сделали его счастливым, когда он стоял на вершине своего успеха.
Во время экскурсии Гитлер завел со своим адъютантом и полковником Шпейделем речь о возможности устроить в Париже парад победы. Однако, поразмыслив, он отказался от этой идеи. Официально он сослался на опасность английских налетов, позднее, однако, сказал: «Не хочу я устраивать парад победы. Мы еще не закончили войну».
228
Вечером того же дня он вторично принял меня в маленькой горнице крестьянского дома. Он сидел один за столом. Без долгих подходов он сказал: «Подготовьте текст указа, которым я велю возобновить в Берлине строительные работы в полном объеме... Разве Париж не прекрасен? Берлин должен стать еще прекрасней. Раньше я часто задавался вопросом, не следует ли разрушить Париж, — продолжал он с таким невозмутимым спокойствием, словно речь шла о простейшем деле, — но, когда мы доведем до конца строительство в Берлине, Париж станет не более чем тенью. Так чего ради разрушать его?» С тем меня и отпустил.
Хоть и привыкнув к импульсивным репликами Гитлера, я был, однако, напуган тем, как он без тени смущения признавался в подобном вандализме. Уже по поводу разрушения Варшавы он реагировал подобным образом. Уже тогда он высказал пожелание не допустить восстановления этого города, чтобы забрать у польского народа политический и культурный центр. Но Варшава хотя бы была разрушена в ходе военных действий, теперь же Гитлер показал, что ему даже не чужда мысль по собственной прихоти и, в общем, без всякой к тому причины разрушить город, который сам же он считал прекраснейшим городом Европы, разрушить его со всеми бесценными памятниками искусства. За несколько дней мне открылись некоторые из противоречий, определявших характер Гитлера, хотя тогда я, надо сказать, не воспринял это во всей остроте; он соединял в себе самые кричащие противоречия — от человека, который сознает всю полноту ответственности, до нерассуждающего, враждебного людям нигилиста.
Однако влияние этого открытия было нейтрализовано блестящей победой Гитлера, неожиданно благоприятными перспективами скорого возобновления моих строительных проектов и, наконец, его отказом от разрушительных замыслов. Теперь мне предстояло превзойти Париж. В тот же день Гитлер отдал распоряжения, причисляющие дело моей жизни к числу задач первостепенной важности. Он приказал «в кратчайшее время придать Берлину вид, соответствующий величию нашей победы» и заявил: «В осуществлении этой, теперь самой важной строительной задачи рейха я вижу значительнейший вклад в окончательное увековечение нашей победы». И подписал свой указ задним числом,
229
проставив дату 25 июня 1940 года, то есть день перемирия и его великого торжества.
Гитлер прогуливался перед своим домом по усыпанной гравием дорожке с Йодлем и Кейтелем, когда адъютант доложил ему, что я хотел бы попрощаться. Меня велели позвать, и, приблизившись к этой группе, я услышал, как Гитлер в продолжение разговора произнес: «Теперь мы показали, на что мы способны. Поверьте моему слову, Кейтель, русский поход по сравнению с этим всего лишь штабная игра». В отличном настроении Гитлер попрощался со мной, передал сердечные приветы моей жене и посулил в самом непродолжительном времени приступить к обсуждению со мной новых планов и макетов.
13
Перебор
Еще разрабатывая планы похода на Россию, Гитлер уже размышлял о том, как и с какими постановочными подробностями будут проходить парады победы в 1950 году, то есть по завершении Парадной улицы и Триумфальной арки. Но, пока он мечтал о новых войнах, новых победах и новых празднествах, ему довелось пережить одно из крупнейших поражений в своей карьере. Через три дня после нашей беседы, в ходе которой он развил свои планы на будущее, мне сообщили, что Гитлер срочно вызывает меня с эскизами и чертежами в Оберзальцберг. В вестибюле «Бергхофа» ожидали бледные и взволнованные Лейтген и Пич, адъютанты Гесса. Они попросили меня пропустить их первыми, так как им велено передать Гитлеру личное письмо от Гесса. В этот момент сверху, из своих жилых апартаментов, спустился Гитлер, одного из адъютантов пригласили в гостиную. Я тем временем начал снова просматривать свои чертежи и вдруг услышал нечленораздельный, почти звериный вопль. Потом Гитлер рявкнул: «Бормана сюда! Где он?» Борману было приказано как можно скорей связаться с Герингом, Риббентропом, Геббельсом и Гиммлером. Всех приватных гостей попросили подняться наверх. Лишь через много часов мы узнали, что произошло:
230
заместитель Гитлера перелетел во враждебно настроенную к нам Англию.
Внешне Гитлер вскоре обрел привычную выдержку. Его беспокоило только, как бы Черчилль не вздумал выдавать случившееся перед союзниками Германии за мирную инициативу. «Кто поверит, что Гесс вылетел не по моему поручению, что все это не есть тайный сговор за спиной у моих союзников?» Он не без тревоги высказал опасение, как бы поступок Гесса не повлиял даже на политику Японии. От генерала-авиатехника, знаменитого боевого летчика Эрнста Удета, Гитлер потребовал ответа на вопрос, может ли двухмоторный самолет Гесса достичь своей цели в Шотландии и на какие метеорологические условия тому придется рассчитывать. Через короткое время Удет по телефону сообщил, что у Гесса ничего не выйдет хотя бы из навигационных соображений; можно предположить, что при господствующих там боковых ветрах он пролетит мимо Англии в пустоту, и Гитлер немедля исполнился новых надежд: «Ах, если бы он сверзился в Северное море! Тогда бы он исчез без следа, а мы могли бы не спеша дать какое-нибудь безобидное объяснение». Через несколько часов его, однако, охватили сомнения, и, желая при всех обстоятельствах опередить англичан, он решил дать по радио сообщение о том, что Гесс потерял рассудок. Обоих адъютантов Гесса, как поступали некогда при дворцах деспотов с гонцами, доставившими недобрую весть, подвергли аресту.
В «Бергхофе» воцарилось оживление. Кроме Геринга, Геббельса и Риббентропа прибыли также Лей, гаулейтеры и другие партийные вожди. Лей, как ответственный по организационным вопросам, тотчас изъявил готовность взвалить на себя обязанности Гесса, что было бы наиболее правильным организационным решением. Но тут Борман впервые доказал, какое влияние он успел приобрести на Гитлера. Ему без труда удалось отклонить предложение Лея и выйти из этой истории единственным победителем. Черчилль тогда высказался, что этот полет высветил червоточину в яблочке рейха. При этом он, разумеется, не мог даже и подозревать, с какой точностью его слова характеризуют преемника Гесса.
В ближайшем окружении Гитлера с этого дня о Гессе почти не вспоминали. Долго и всерьез занимался им один
231
только Борман. Он кропотливо изучал биографию своего предшественника и подлыми интригами преследовал его жену. Ева Браун, хоть и безуспешно, пыталась вступиться за нее перед Гитлером, а потом поддерживала ее втайне от него. Несколько недель спустя я услышал от своего врача, профессора Хауля, что отец Гесса при смерти, тогда я велел передать ему цветы, хотя и не назвал себя как отправителя.
По моему тогдашнему мнению, именно честолюбие Бормана подтолкнуло Гесса к этому жесту отчаяния. Гесс, не менее честолюбивый, видел, что его заметно оттерли от Гитлера. Так, например, году в 1940-м Гитлер сказал мне после многочасовой беседы с Гессом: «Когда я разговариваю с Герингом, это для меня все равно что железистая ванна — потом необычайная свежесть. Рейхсмаршал обладает захватывающим умением сообщать новости. А с Гессом любой разговор превращается в несносное, мучительное напряжение. Он вечно приносит дурные вести и не дает мне покоя». Возможно, проведя столько лет на вторых ролях, Гесс думал своим полетом в Англию снова завоевать внимание и успех, ибо он не был наделен свойствами, необходимыми для того, чтобы преуспеть в обстановке интриг и борьбы за власть. Он был слишком уязвим, открыт, чувствителен и почти всегда придерживался справедливой оценки в споре враждующих сторон. Как типаж он вполне соответствовал большинству партийных вождей, которым стоило больших трудов сохранить под ногами почву реальности.
Поведение Гесса Гитлер объяснял отрицательным влиянием на него профессора Гаусхофера. Через двадцать пять лет, в тюрьме Шпандау, Гесс совершенно серьезно заверял меня, что идею полета внушили ему во сне неземные силы. Он вовсе не собирался противостоять или даже просто причинить неприятность Гитлеру. «Мы гарантируем Англии сохранение мировой империи, а она развяжет нам руки в Европе...» Такова была миссия, с которой он полетел в Англию и которую не сумел осуществить, таково, кстати, было одно из неизменных изречений Гитлера и до войны, и даже после ее начала.
Если я не ошибаюсь, Гитлер так никогда и не смог пережить измену своего заместителя. Еще некоторое время спустя после покушения 20 июля 1944 года он, исходя из
232
своего фантастически ошибочного понимания ситуации, заявлял, что среди непременных условий, на которых он согласен подписать мирный договор, есть требование выдать «предателя». Его необходимо повесить. Когда потом уже я передал эти слова Гессу, тот сказал: «Он бы со мной помирился! Не сомневаюсь! Кстати, вы не считаете, что в 1945 году, когда все уже подходило к концу, он порой думал про себя: а ведь Гесс-то был прав?»
Гитлер не только настаивал на том, чтобы даже во время войны строительство в Берлине шло ускоренными темпами. Под воздействием своих гаулейтеров он неимоверно увеличил список городов, подлежащих реконструкции; поначалу это были лишь Берлин, Мюнхен, Нюрнберг и Линц, теперь же личными указами он причислил к так называемым реконструируемым городам еще двадцать семь, среди них Ганновер, Аугсбург, Бремен и Веймар. Ни меня, ни кого-либо другого ни разу не спросили о целесообразности подобных решений, более того, я просто получал копию указа, без раздумий набросанного Гитлером в результате какой-нибудь беседы. По моим тогдашним прикидкам, как я писал Борману 26 ноября 1940 года, речь, особенно при реконструкции городов по замыслу партии, могла идти о сумме в 22— 25 миллионов марок.
Я опасался, что эти неумеренные запросы нарушат все мои сроки. Сперва я попытался на основе гитлеровского указа получить все строительные планы рейха под свое начало, но когда из-за Бормана мне не удалось осуществить свой замысел, я 17 января 1941 года, после длительной болезни, которая дала мне время обдумать некоторые проблемы, заявил Гитлеру, что будет лучше, если я сосредоточусь исключительно на порученных мне стройках в Нюрнберге и в Берлине. Гитлер немедля согласился: «Вы правы, будет очень жалко, если вам придется размениваться на всякие ничтожные мелочи. В случае надобности можно заявить от моего имени, что я, фюрер, не желаю вашего подключения, чтобы вас не слишком отвлекали от творческих задач».
Я использовал эти полномочия самым широким образом и уже в ближайшие дни отказался от всех своих партийных постов. Если я верно оцениваю совокупность своих
233
тогдашних мотивов, это было отчасти направлено и против Бормана, который с самого начала держался по отношению ко мне крайне неприязненно, хотя я, конечно, сознавал полную свою неуязвимость, поскольку Гитлер часто называл меня незаменимым.
Иногда я все-таки подставлялся, и Борман наверняка с превеликим удовольствием направлял мне из штаб-квартиры грубое замечание; так, например, когда я договорился с руководством католической и евангелической церкви о сооружении храмов в новых районах Берлина, он холодно сообщил, что церкви строительные площадки не выделяются.
Когда 25 июня 1940 года Гитлер своим указом «Об увековечении победы» приказал незамедлительно приступить к возобновлению строительства в Берлине и Нюрнберге, я несколько дней спустя сообщил рейхсминистру доктору Ламмерсу, что «не собираюсь на основе данного указа уже прямо сейчас, до конца войны, снова приступать к практической реконструкции Берлина». Но Гитлер не согласился с таким толкованием и велел немедленно продолжить строительные работы даже и в этом случае, хотя общественное мнение явно было против. По настоянию Гитлера было решено, что новостройки Берлина и Нюрнберга, несмотря на военное время, должны быть завершены в ранее назначенные сроки, то есть самое позднее до 1950 года. По его же настоянию я выработал «Срочную программу фюрера», после чего Геринг выделил мне — в середине апреля 1941 года — необходимое для этого количество чугуна, 84 000 тонн в год. Чтобы скрыть это от глаз общественности, ей было дано название «Военная программа строительства каналов и железных дорог в Берлине».
18 апреля я обсуждал с Гитлером гарантированные благодаря распоряжению Геринга сроки строительства Купольного дворца, здания верховного командования вермахта, рейхсканцелярии, дома фюрера, короче говоря, строительства центра его власти вокруг площади Адольфа Гитлера, в скорейшем завершении которого он был, несмотря на войну, страстно заинтересован. Одновременно было создано Рабочее объединение по сооружению этих зданий, куда вошли семь крупнейших строительных фирм Германии.
234
Вот и подбором картин для галереи в Линце Гитлер с присущим ему упорством занимался лично, несмотря на предстоящий поход против Советского Союза. Он рассылал своих агентов, торговцев картинами, в занятые области, чтобы изучить тамошний рынок картин, и таким образом развязал вскоре настоящую войну между торговцами, действующими от его имени, и теми, кто действовал от имени Геринга. Причем война эта принимала все более резкие формы, покуда Гитлер не призвал своего рейхсмаршала к порядку и тем раз и навсегда не восстановил иерархию в отношениях также и среди закупщиков.
В 1941 году в Оберзальцберг начали поступать большие переплетенные в коричневую кожу каталоги с фотографиями сотен картин, которые Гитлер собственноручно распределял по своим любимым галереям Линца, равно как и Кёнигсберга, Бреслау и других городов на востоке. На Нюрнбергском процессе я увидел эти коричневые папки в руках у представителей обвинения: картины были преимущественно изъяты парижским управлением Розенберга у владельцев-евреев.
Знаменитейшие государственные собрания Франции Гитлер, однако, щадил, впрочем, его поведение было не таким уж бескорыстным, как это могло показаться, ибо при какой-то оказии он заявил, что по мирному договору лучшие экспонаты Лувра будут переданы Германии как часть возмещения военных убытков. Для личных целей Гитлер, однако, не прибегал к помощи своего авторитета. Из приобретенных либо конфискованных в оккупированных областях картин Гитлер для себя не взял ни одной.
Зато Геринг действовал безо всякого стеснения, чтобы именно во время войны приумножить свою художественную коллекцию. В залах Каринхалла в три, а то и четыре ряда висели теперь драгоценные полотна. Когда на стенах больше не осталось места, он пустил в дело потолок большого вестибюля, чтобы и там разместить серию картин. Даже на балдахине своей роскошной постели он велел прикрепить портрет обнаженной женщины в натуральную величину, изображающей Европу. Далее и он сам приторговывал картинами. В верхнем этаже его дома все стены были увешаны картинами из собрания знаменитого голландского антиквара, который после оккупации Голландии
235
принужден был продать свою коллекцию за смехотворную цену. Эти картины, как позднее со своей детской улыбкой рассказывал мне Геринг, ему во время войны удалось продать гораздо дороже всевозможным гаулейтерам, к тому же он делал специальную надбавку за ту славу, которую, на его взгляд, имела картина из «знаменитого собрания Геринга».
Однажды, году примерно в 1943-м, французская сторона привлекла мое внимание к тому обстоятельству, что Геринг не дает покоя правительству Виши, заставляя его выменять одну из знаменитейших картин Лувра на несколько абсолютно никчемных из его коллекции. Опираясь на заявление Гитлера о том, что государственное собрание Лувра неприкосновенно, я мог убедить своего французского посредника не поддаваться нажиму и в крайнем случае обращаться ко мне. Геринг отступился. Зато столь же беззаботно он как-то продемонстрировал мне в Каринхалле знаменитый Штерцингский алтарь, подаренный ему Муссолини зимой 1939/40 года, после принятого соглашения по Южному Тиролю. Сам Гитлер неоднократно возмущался поведением «второго человека» при сборе ценных произведений искусства, не рискуя, однако, призвать Геринга к ответу.
Ближе к концу войны Геринг — в порядке исключения — пригласил моего друга Брекера в Каринхалле к обеду. Угощение было не слишком обильным, правда, и на меня произвело крайне тягостное впечатление то обстоятельство, что в завершение обеда нам с Брекером подали обычный коньяк, тогда как Герингу лакей с довольно торжественным видом налил что-то из старой, покрытой пылью бутылки. «Это держат только для меня», — без всякого стеснения пояснил он своим гостям, после чего долго распространялся на тему, из какого французского замка была изъята эта редкостная находка. Затем в отличном расположении духа он продемонстрировал нам сокровища, которые хранил в подвалах Каринхалла. Среди них оказались драгоценные античные экспонаты из неаполитанского музея, вывезенные оттуда перед отступлением в конце 1943 года. С такой же хозяйской гордостью он велел распахнуть все шкафы, чтобы мы могли бросить взгляд на собрание французских духов и мыла, которых хватило бы на несколько лет.
236
И наконец под занавес он продемонстрировал нам свое собрание бриллиантов и других драгоценных камней, которые наверняка стоили не одну сотню тысяч.
Гитлер же перестал закупать картины после того, как назначил руководителя Дрезденской галереи доктора Ганса Поссе своим уполномоченным по созданию Линцской картинной галереи. До тех пор Гитлер сам выискивал объекты по аукционным каталогам. При этом он несколько раз пал жертвой своего принципа задействовать для определенной цели двух, а то и трех конкурирующих партнеров. Ибо порой он поручал своему фотографу Гофману и одновременно какому-нибудь из своих торговцев картинами надбавлять сверху без ограничений. Вот порученцы Гитлера все надбавляли и надбавляли, когда другие участники давно уже прекратили гонку, покуда берлинский аукционист Ганс Ланге не обратил мое внимание на это странное обстоятельство.
Вскоре после назначения Поссе Гитлер продемонстрировал ему все свои сделанные ранее приобретения, включая собрание Грютцнера, у себя в бомбоубежище, где вообще хранил свои сокровища. Для Поссе, Гитлера и меня принесли кресла, и эсэсовская обслуга одну за другой демонстрировала нам картины. Гитлер нахваливал свои любимые полотна общепринятыми формулами, однако Поссе не поддался ни на положение Гитлера, ни на его подкупающую любезность. Профессионально и неколебимо он отверг многие из этих чрезвычайно дорогих приобретений: «Не подходит» или «Не соответствует уровню галереи, как я ее себе представляю». Как и обычно, когда Гитлер имел дело со специалистом, он безропотно принимал критику. Во всяком случае, Поссе отверг большую часть картин столь любимой Гитлером мюнхенской школы.
В середине ноября 1940 года в Берлин прибыл Молотов. Вместе со своими сотрапезниками Гитлер наслаждался ехидным рассказом своего врача, доктора Брандта, согласно которому свита советского премьера и министра иностранных дел, опасаясь инфекции, приказала перед употреблением прокипятить все тарелки и приборы.
В гостиной «Бергхофа» стоял большой глобус, по которому несколько месяцев спустя я мог наблюдать негативные последствия этих переговоров. Один из военных
237
адъютантов многозначительно показывал мне обычную карандашную черту — с севера на юг, по Уралу. Так Гитлер пометил, где будет кончаться область государственных интересов Германии и начинаться сфера интересов Японии. 21 июня 1941 года, накануне нападения на Советский Союз, после совместного обеда Гитлер вызвал меня в свою берлинскую гостиную и предложил сыграть для меня несколько тактов из «Прелюдов» Листа. «Эту музыку вы будете часто слышать в ближайшее время, потому что так будут звучать победные фанфары в нашем русском походе. Ее подобрал Функ. Как она вам нравится?.. А уж гранита и мрамора мы там возьмем сколько захотим».
Теперь Гитлер совсем не скрывал свою мегаломанию; то, что уже много лет давало о себе знать в его архитектурных замыслах, предстояло скрепить новой войной, или, как говорил Гитлер, «кровью». В своей «Политике» Аристотель некогда писал: «Поистине величайшие несправедливости совершаются теми, кто стремится к излишествам, а не теми, кого гонит нужда».
К пятидесятилетию Риббентропа в 1943 году некоторые из сослуживцев подарили ему роскошную выложенную полудрагоценными камнями шкатулку, которую намеревались заполнить фотокопиями со всех заключенных им договоров и соглашений. «Но когда мы захотели наполнить шкатулку, у нас возникли большие трудности, — рассказывал Гитлеру за ужином посол Хевель, представитель Риббентропа, — осталось лишь очень мало договоров, которые мы бы к этому времени не успели нарушить».
У Гитлера от смеха даже слезы на глазах выступили.
Как и в начале войны, меня снова, теперь уже в явно решающей стадии мировой войны, начала тревожить мысль о необходимости затевать такое грандиозное строительство, вкладывая в него все средства. 30 июня 1941 года, еще во время стремительного немецкого продвижения в России, я предложил доктору Тодту и «генеральному уполномоченному немецкой строительной отрасли» заморозить те стройки, которые не имеют военного значения и не важны для исхода войны. Однако, наблюдая успешный ход военных операций, Тодт захотел отложить решение этого вопроса еще на несколько недель. А потом его и вовсе отложили,
238
потому что мое предложение не вызывало у Гитлера понимания. Гитлер отверг какие бы то ни было ограничения и так же не стремился перебрасывать рабочую силу и строительные материалы со своих личных строек в военную промышленность, как поступал, когда речь шла о его любимых объектах, например автострадах, партийных зданиях и берлинских проектах.
В середине сентября 1941 года, когда продвижение в России уже явно перестало совпадать с залихватскими прогнозами, по распоряжению Гитлера были значительно повышены в договорах цифры поставок гранита из Швеции, Норвегии и Финляндии для моих берлинских и нюрнбергских строек. Среди ведущих фирм норвежской, финской, итальянской, бельгийской, шведской и голландской камнедобывающей промышленности были размещены заказы на сумму в тридцать миллионов рейхсмарок. Чтобы создать возможность транспортировки таких огромных объемов камня в Берлин и в Нюрнберг, мы 4 июня 1941 года основали свой собственный транспортный флот, а также собственные верфи в Висмаре и Берлине, призванные выстроить 1000 судов с грузоподъемностью по 500 тонн.
С моим призывом заморозить стройку мирного времени не посчитались даже и тогда, когда в России уже появились первые признаки зимней катастрофы 1941 года. 29 ноября 1941 года Гитлер без долгих подходов сказал мне: «Я начну строительство еще до конца войны. Я не дам войне помешать осуществлению моих планов».
Гитлер настаивал не только на выполнении своих планов: после начальных успехов в России он приказал увеличить число танков, которые, стоя на гранитном постаменте, должны были довершить архитектурное убранство улиц и придать им воинственный характер. 20 августа 1941 года я по поручению Гитлера докладывал удивленному адмиралу Лорею, хранителю Берлинского цейхгауза, что существует намерение установить между Южным вокзалом и Триумфальной аркой (строительство «Т») тридцать тяжелых трофейных орудий. Также и в других местах Парадной улицы и вдоль южной оси Гитлер желает установить подобные орудия, объяснил я адмиралу, для чего понадобится примерно двести тяжелых орудий. А перед самыми значительными зданиями должны быть установлены самые крупные танки.
239
Хотя представления Гитлера о государственно-правовом устройстве его «германского рейха немецкой нации» оставались пока весьма расплывчатыми, в одном уже существовала полная ясность: в непосредственной близости от норвежского города Тронхейма из-за благоприятного стратегического положения предполагалось соорудить крупнейший немецкий опорный пункт, то есть, наряду с верфями и доком, город примерно на 250 000 жителей-немцев, который будет включен в состав германского рейха. Планировать новый город Гитлер поручил мне.
1 мая 1941 года я получил от вице-адмирала Фукса из верховного командования военно-морского флота необходимые данные о потребных для такой большой верфи объемах. 21 июня гросс-адмирал Редер и я докладывали Гитлеру в рейхсканцелярии об этом проекте. Затем Гитлер определил примерно местоположение города.
Даже и год спустя, 13 мая 1942-го, он наряду с разговорами о вооружениях занимался этим опорным пунктом. По специальным картам он подробно изучал наилучшее место для предполагаемого дока и приказал в гранитных скалах путем взрывов создать большую подземную базу для подводных лодок. В остальном же Гитлер исходил из того, что точно так же Сен-Назер и Лорнаян во Франции, равно как и Британские острова в проливе Ла-Манш, благодаря их благоприятному географическому положению должны превратиться в будущем в систему военно-морских опорных пунктов и быть присоединены к рейху. Гитлер вполне произвольно распоряжался чужими опорными пунктами, интересами, правами. Его концепция мировой державы не признавала никаких ограничений.
Туда же можно причислить и его намерение основать немецкие города на занятых нами областях Советского Союза. 24 ноября 1941 года, то есть уже после начала зимней катастрофы, заместитель Альфреда Розенберга — рейхсминистра захваченных восточных территорий — гаулейтер Мейер предложил мне возглавить отдел градостроительства и спроектировать, а затем построить изолированные города, предназначенные для немецких оккупационных сил и гражданских мероприятий. Но в конце января 1942 года я отклонил его предложение, поскольку опасался, что централизованное управление проектированием неизбежно будет
240
иметь следствием единообразие новых городов. Взамен же я предложил перепоручить новое строительство большим немецким городам по отдельности.
После того как с первых лет войны я начал заниматься строительством для командования армии и флота, эта организация заметно увеличилась в размерах. Правда, по масштабам, которыми мне предстояло руководствоваться несколько месяцев спустя, 26 000 строительных рабочих, что были к концу 1941 года задействованы в наших программах военного значения, немногого стоили. Но тем не менее я был горд внести свой, хоть и незначительный, вклад в ход войны: тот факт, что я работаю не только на осуществление мирных планов Гитлера, как-то успокаивал мою совесть. Всего важней была авиационная программа «Ю-88», призванная содействовать увеличению производства новых двухмоторных пикирующих бомбардировщиков с дальним радиусом действия. Три больших завода в Брюнне, Граце и Вене, каждый в отдельности — больше, чем весь завод «Фольксваген», были сооружены за восемь месяцев, впервые — из готовых бетонных панелей. Однако начиная с осени 1941 года мы испытывали недостаток горючего. Даже для наших, по уровню значимости первостепенных, программ в сентябре 1941 года выделяли только треть, а с января 1942-го и вовсе одну шестую нормы — это еще один показательный пример того, как Гитлер применительно к русскому походу переоценил свои возможности.
Одновременно мне поручили устранять разрушения от бомбежек и строить бомбоубежища. Так, сам того не ведая, я уже готовился к деятельности министра вооружений. И не только потому, что получил возможность ознакомиться на рядовом уровне с теми сбоями в выпуске продукции, которые случались из-за произвольной смены программ и приоритетов. Теперь я сумел изучить расстановку сил и разногласия внутри руководства.
Так, например, я присутствовал на совещании у Геринга, в ходе которого генерал Томас высказал сомнение по поводу чрезмерных экономических запросов руководства. Геринг во всю глотку заорал на почтенного генерала: «А вам какое дело? Этим я занимаюсь, я, понятно? Или, может, это вам поручен четырехлетний план? Да вы при мне и рта раскрывать не должны, потому что фюрер все эти вопросы поручил
241
исключительно мне». В таких спорных вопросах генерал Томас никак не мог рассчитывать на заступничество своего шефа, генерал-полковника Кейтеля, поскольку Кейтель и сам был рад-радехонек, когда Геринг на него не набрасывался. По этим причинам хорошо продуманный план службы вооружения при верховном командовании вермахта так и не был осуществлен; но и сам Геринг, как я уже тогда понял, тоже ничего не сделал в этом направлении. А если он даже и пытался сделать что-нибудь, то учинял полнейший беспорядок, потому что никогда не давал себе труда проработать ту или иную проблему и большинство его решений основывалось, как правило, на импульсивных идеях.
Через несколько месяцев, 27 июня 1941 года, я как уполномоченный по военной промышленности участвовал в беседе между Мильхом и Тодтом. Гитлер был уже совершенно убежден, что русские окончательно разбиты, и потому издал указ о немедленном завершении строительства самолетов для подготовки очередной акции, а именно для покорения Англии. Мильх по долгу службы настаивал на соблюдении требуемой срочности, чем привел в отчаяние доктора Тодта, учитывающего военное положение. Ибо и у него была своя цель: как можно скорей нарастить производство оружия, но он, к сожалению, не располагал особым указом Гитлера, который мог придать его задаче статус срочности. В конце беседы Тодт так сформулировал свое бессилие: «Будет всего лучше, если вы, господин фельдмаршал, возьмете меня к себе в министерство и я просто стану вашим сотрудником».
Осенью 1941 года я побывал в Дессау на заводах Юн- керса, чтобы вместе с генеральным директором Коппен- бергом согласовать нашу строительную программу и производственные планы. К концу нашей беседы Коппенберг провел меня в секретную комнату, где показал сравнительную диаграмму запланированного на ближайшие годы выпуска бомбардировщиков в Америке и в Германии. Я спросил его, что думает наше руководство по поводу такого удручающего сравнения. «То-то и оно, они просто не верят», — сказал он и вдруг, в полной растерянности, заплакал. Вскоре после этого Коппенберга отозвали с директорского поста. Геринг же, как главнокомандующий нашей
242
втянутой в тяжелые бои авиацией, даже 23 июня 1941 года, через день после нападения на Советский Союз, проявил достаточно беззаботности, чтобы при полном параде вместе со мной осматривать выстроенные в натуральную величину макеты своего рейхсмаршальского управления в Трептове.
Моя последняя на ближайшие четверть века и связанная с искусством поездка привела меня в Лиссабон, где 8 ноября открывалась выставка «Новое немецкое строительное искусство».
Поначалу предполагалось лететь на самолете Гитлера, однако, когда выяснилось, что склонные к выпивке лица из окружения Гитлера, как, например, адъютант Шауб и фотограф Гофман,, тоже хотят лететь с нами, я отказался от такого сопровождения и предложил поехать в Лиссабон в моей машине. Я повидал старинные города, Бургос, например, Сеговию, Толедо, Саламанку, осмотрел Эскориал, комплекс хотя и не уступающий по масштабам Дворцу фюрера, но сооруженный с иной, духовной целью: Филипп II окружил дворец-ядро монастырем. Какое резкое отличие от строительных замыслов Гитлера: здесь — удивительная сдержанность и ясность, великолепные интерьеры, демонстрирующие непревзойденное владение формой, там же — помпезность и непомерная тяга к парадности. И право же, это, можно сказать, угрюмое творение архитектора Хуана де Эрреры соответствовало мрачному положению, в которое тем временем угодили мы, больше, чем программно-триумфальное искусство Гитлера. Здесь в часы одинокого созерцания у меня впервые мелькнула мысль, что я вместе со своими архитектурными идеалами зашел в тупик.
Из-за этого путешествия я прозевал визит кое-кого из парижских знакомых, среди них — Вламинка, Дерена и Деспьо, которые, следуя моему приглашению, прибыли для осмотра макетов реконструкции Берлина. Судя по всему, они молча приняли к сведению наши замыслы и стройки: хроника, во всяком случае, ни единым словом не обмолвилась о впечатлении, произведенном на них нашей выставкой. Я познакомился с ними во время моих наездов в Париж и через свое управление неоднократно поддерживал их заказами. Странным образом они располагали
243
большей свободой, чем мы, их немецкие коллеги. Ибо, когда в ходе войны я посетил Парижский Осенний салрн, все стены там были увешаны картинами, уже заклейменными в Германии как выродившееся искусство. Гитлер тоже прослышал об этой выставке. Реакция его была столь же неожиданной, сколь и логичной: «А нам что, нужен духовно здоровый французский народ? Пусть себе вырождаются! Тем лучше для нас!»
Пока я совершал путешествие по Португалии, в тылу Восточного фронта произошла транспортная катастрофа: немецкая военная организация не выдержала суровой зимы. Вдобавок русские войска при отступлении основательно разрушали все паровозные депо, водонапорные станции и другие технические устройства своей транспортной системы. В упоении победами лета и осени, когда «русский медведь» казался «добитым», никто всерьез не позаботился о восстановлении разрушенного, а Гитлер не желал понять, что даже и с транспортной точки зрения надлежало своевременно учесть трудности русской зимы.
Об этих трудностях я услышал от высоких железнодорожных чиновников, от армейских и авиационных генералов. После чего предложил Гитлеру перебросить на восстановление дорог 65 тысяч строителей, находящихся под моим началом. Непонятным для меня образом Гитлер лишь после двухнедельного раздумья, то есть 27 декабря 1941 года, изъявил согласие и издал соответствующий указ. Вместо того чтобы уже в начале ноября потребовать этой переброски, он, несмотря на катастрофу, требовал завершения своих триумфальных сооружений в запланированные сроки, исполненный твердой решимости не капитулировать перед действительностью.
В тот же день я навестил доктора Тодта в его скромном доме на Хинтерзее под Берхтесгаденом. Мне отвели как поле деятельности всю Украину, а штабам и рабочим, до той поры продолжавшим легкомысленное строительство автобанов, отводили центр и север России. Тодт только что вернулся с ознакомительной поездки на восточный театр военных действий: он видел застрявшие санитарные поезда, в которых до смерти замерзли раненые, наблюдал страдания гарнизонов в отрезанных холодом и снегом деревнях и городках, равно как отчаяние и недовольство
244
немецких солдат. В самом мрачном настроении он заверил, что мы не только физически не готовы к подобным тяготам, но и духовно можем погибнуть в России. «В этой борьбе, — продолжал он, — одержат верх примитивные люди, способные выдержать все, даже неблагоприятные погодные условия. А мы слишком чувствительны и неизбежно потерпим поражение. И в конечном итоге победителями окажутся русские и японцы». Собственно, и Гитлер, явно не без влияния Шпенглера, еще в мирное время высказывал подобные мысли, говоря о биологическом превосходстве «сибиряков и русских», однако, когда начался Восточный поход, он забыл про собственные аргументы, поскольку они противоречили его намерениям.
Неизменная страсть Гитлера к строительству, его эйфорическая верность личным увлечениям вызвали у его переимчивых паладинов целую волну подобных же замыслов и побудили большинство из них вести жизнь победителей. Здесь, как я уже тогда понял, система Гитлера проявила в этом решающем пункте свои изъяны по сравнению с режимом демократическим. Ибо никакая публичная критика не занималась этими неувязками, никто не требовал их устранить. 29 марта 1945 года в своем последнем письме Гитлеру я напомнил ему о своих соображениях: «У меня болело сердце, когда в победоносные дни 1940 года я увидел, как в широких кругах нашего руководства мы утрачиваем наше внутреннее достоинство. Именно тогда было время, когда мы должны были утвердить свою позицию перед лицом провидения».
Эти строки, пусть даже написанные пятью годами позже, подтверждают, что я видел тогда ошибки, страдал от упущений, подвергал их критике, что меня терзали сомнения и скепсис, правда, все это потому, что я опасался, как бы Гитлер и его руководство не упустили победу.
В середине 1941 года Геринг осматривал макет нашего города на Паризерплац. В минуту благосклонности он позволил себе удивительнейшее высказывание. «Я сказал фюреру, — заявил он, — что после него считаю вас величайшим человеком из тех, которыми располагает Германия». Однако второй человек в нашей иерархии решил тотчас сузить границы своей похвалы: «В моих глазах вы вообще
245
величайший архитектор. То есть я хочу сказать, что столь же высоко ставлю ваше архитектурное творчество, как политические и военные дарования фюрера».
Пробыв девять лет архитектором Гитлера, я возвысился до позиции неуязвимой и вызывающей восхищение.
Ближайшие три года должны были поставить передо мной совершенно иные задачи, которые иногда действительно делали меня самым важным человеком после Гитлера.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
14
Вступление в новую должность
Зепп Дитрих, примкнувший к Гитлеру еще на самой ранней стадии его политической деятельности, а теперь командовавший отброшенным русскими от Ростова танковым корпусом СС, вылетел 30 января 1942 года на самолете правительственного авиаотряда в Днепропетровск. Я попросил его взять меня с собой. Мои сотрудники уже находились в этом городе и разрабатывали план ремонта южнорусских железных дорог. При этом я как-то даже и не сообразил попросить предоставить в мое распоряжение самолет — яркое свидетельство того, сколь невысоко я оценивал свое положение и свои возможности повлиять на ход военных действий.
Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, в переоборудованном в пассажирский самолет бомбардировщике «Хейнкель», а под нами раскинулись навевающие мрачные мысли заснеженные просторы юга России. Ориентиром нам служило полотно железной дороги: поезда ходили крайне редко, едва ли не все станционные постройки были сожжены, депо разрушены. Заброшенные деревни, обгоревшие остовы амбаров и сараев, на почти неповрежденных дорогах ни одной машины. Даже находясь в самолете, мы почувствовали, какая поистине кладбищенская тишина царит внизу, и невольно содрогнулись. Мерно падавший снег не только не разнообразил пейзаж, а, наоборот, делал его еще более монотонным. Именно во время этого полета я наконец полностью осознал, какая опасность нависла над нашими войсками, почти целиком отрезанными от тыловых служб снабжения. В сумерках мы приземлились
247
в Днепропетровске, считавшемся в России крупным промышленным центром.
Штаб строительных работ «Шпеер» — так официально называлась группа из нескольких технических сотрудников в соответствии с общей тенденцией эпохи связывать решение определенных проблем с именами конкретных людей — временно разместился в спальном вагоне; иногда паровоз поддавал внутрь пару и не давал нам совсем окоченеть. Не менее ужасающими были условия работы в вагоне-ресторане, который мы использовали еще и как комнату отдыха. Восстановление железнодорожных путей потребовало гораздо больших усилий, чем мы предполагали. Русские разрушили все полустанки, пакгаузы и станционные постройки, и мы так и не смогли обнаружить хотя бы одну изготовленную из морозостойкого материала цистерну или более или менее исправный замок стрелочного перевода. Любой пустяк, будь то доставка в нужное место партии железнодорожных костылей или лесоматериала, превращался здесь в сложнейшую проблему, хотя в Германии для ее решения секретарше было достаточно сказать два-три слова по телефону.
А снег все шел и шел. Движение на железной дороге и шоссе приостановилось, взлетно-посадочная полоса была вся в сугробах. Мы оказались отрезаны от всего мира, и мой отъезд пришлось отложить на более позднее число. Время, однако, было до отказа заполнено — беседы со строительными рабочими, дружеские пирушки, распевание песен, бесконечные речи Зеппа Дитриха и всевозможные торжества. Зная, что Бог обделил меня ораторским талантом, я не решался произнести перед моими сотрудниками даже краткую речь. Среди песен, рекомендованных к исполнению штабом группы армий, попадались очень грустные, проникнутые тоской по родине и ощущением одиночества на бескрайних русских просторах. В них отчетливо слышались отголоски душевных мук, которые приходилось переносить тем, кто оказался на дальних рубежах рейха. И все же они были достаточно содержательными, эти столь популярные во фронтовых частях песни.
Между тем опасность нарастала. Небольшая танковая группа русских войск прорвалась на маленьком участке фронта и подошла к Днепропетровску. В штабах шли бесконечные
248
совещания с одной-единственной повесткой дня: какие силы мы можем им противопоставить? В наличии имелось лишь несколько винтовок и вкопанное в землю орудие, правда, без боекомплекта. Русские были уже в двадцати километрах от города и, судя по всему, намеревались рассредоточиться в степи и окружить его. Однако у них не было четко разработанного плана, и, кроме того, они совершили ошибку, свойственную всем воюющим сторонам: они не воспользовались своим выгодным положением. Если бы они догадались совершить марш-бросок к длинному мосту через Днепр — к этому времени он уже был восстановлен после нескольких месяцев кропотливой работы — и поджечь его, то отошедшие от Ростова в юго-восточном направлении немецкие войска оказались бы зимой надолго отрезанными от своих тылов.
Я по своей натуре отнюдь не герой и так как за неделю своего пребывания здесь не только не добился каких-либо существенных успехов, но, напротив, лишь значительно уменьшил их продовольственные запасы, то, узнав, что готовится попытка прорыва сквозь снежные заносы на поезде, решил немедленно уехать отсюда. Сотрудники моего штаба сердечно — и, как мне показалось, облегченно вздохнув — простились со мной. Всю ночь мы ехали со скоростью несколько десятков километров в час, иногда останавливались, расчищали пути и снова вслушивались в мерное постукивание колес. Казалось, что мы уже где-то очень далеко на западе, когда поезд неожиданно остановился на пустынном вокзале.
Все выглядело очень знакомым: сожженный пакгауз, клубы дыма над несколькими загнанными в тупик вагонами, солдатские патрули на платформе. Я вновь оказался в Днепропетровске. Огромные завалившие железнодорожное полотно сугробы вынудили паровозную команду повернуть обратно. С мрачным видом я ввалился в вагон-ресторан, где размещался штаб, и увидел не столько удивленные, сколько ошеломленные и сильно помятые лица своих подчиненных. Оказывается, они всю ночь отмечали отъезд шефа и изрядно опустошили запасы спиртного.
В тот же день, 7 февраля 1942 года, самолет, доставивший сюда Зеппа Дитриха, должен был лететь обратно. Командир экипажа капитан Найн, который вскоре стал моим
249
личным пилотом, согласился взять меня с собой. Однако добраться до аэродрома оказалось нелегко. Ночью резко похолодало и, хотя небо было чистым, дул сильный ветер, швырявший в лицо комья снега. Одетые в ватники и телогрейки местные жители пытались расчистить дорогу, на которой высились огромные сугробы. Мы уже целый час шли пешком, когда несколько человек вдруг окружили меня и наперебой стали громко что-то говорить. Естественно, я не понял ни одного слова, и тогда один из них неожиданно растер мне снегом лицо. «Чтобы я не отморозил щеки и нос», — подумал я, вспомнив свои поездки в горы. К моему глубокому удивлению, один из русских даже вытащил из кармана грязного ватника белоснежный, аккуратно сложенный носовой платок и протянул его мне.
С большим трудом самолет поднялся в воздух с кое-как очищенной от снежных заносов взлетно-посадочной полосы и взял курс на восточно-прусский город Растенбург — место постоянной дислокации правительственного авиаотряда. Собственно говоря, мне нужно было в Берлин, но это был не мой самолет, и оставалось лишь радоваться, что на его борту я смогу проделать по крайней мере большую часть пути. Таким образом, благодаря случайному стечению обстоятельств я впервые попал в ставку Гитлера в Восточной Пруссии.
В Растенбурге я позвонил одному из адъютантов в надежде, что он доложит обо мне Гитлеру и тот, может быть, захочет побеседовать со мной. С начала декабря я не видел его, и, если бы мне удалось хотя бы сказать ему слова приветствия, я бы счел это великой честью для себя. До ставки я добрался на одной из машин из личного гаража фюрера и первым делом утолил голод в одном из похожих на барак домиков, отведенных под столовую. Здесь Гитлер обычно ежедневно вкушал пищу вместе со своими генералами, чиновниками и адъютантами. Однако в этот раз он отсутствовал, ибо, выслушав доклад министра вооружений и боеприпасов доктора Тодта, предпочел отобедать с ним наедине в своем личном бункере. Я тем временем решил обсудить с начальником службы военных сообщений сухопутных войск генералом Герке и командующим железнодорожными войсками столь сложное для нас положение на Украине.
250
После ужина в широком кругу, на котором присутствовал и Гитлер, он и Тодт вновь удалились на совещание. Только поздно вечером Тодт — усталый и измученный — вернулся после долгого и, судя по всему, очень утомительного для него обсуждения создавшейся ситуации. Вид у него был крайне подавленный. Я еще несколько минут посидел с ним, однако он молча выпил стакан вина и ни словом не обмолвился о причинах своего мрачного настроения. В ходе очень вялого разговора выяснилось, что Тодт намеревается на следующий день отправиться обратно в Берлин и в его самолете есть одно свободное место.
Я очень обрадовался, что могу тем самым избежать долгой и утомительной езды на поезде. Мы договорились вылететь рано утром, и доктор Тодт поспешил удалиться, так как ему хотелось хоть немного выспаться.
Тут подошел адъютант и предложил мне пройти в бункер Гитлера. Был уже час ночи, и в Берлине мы с фюрером зачастую именно в это время обсуждали наши планы. Подобно Тодту, Гитлер был также угрюм и озабочен. Его покои были обставлены с подчеркнутой скромностью; он даже отказался от мягких кресел, ибо посчитал их предметом роскоши. Мы заговорили о проектах реконструкции Берлина и Нюрнберга, и Гитлер заметно посвежел и приободрился. Даже его обычно бледные щеки слегка порозовели. В конце беседы он попросил подробно рассказать ему о моих впечатлениях от поездки в южные районы России и своими наводящими репликами заставлял меня вспоминать все новые и новые подробности. Трудности, связанные с восстановлением железных дорог, снежные бури, непонятное поведение русских танкистов, дружеские пирушки, отмеченные пением грустных песен, — обо всем этом я постепенно рассказал ему. При упоминании о песнях он сразу насторожился и спросил об их содержании. Я вынул из кармана переданный мне текст, он пробежал его глазами и даже слова не сказал. На мой взгляд, эти песни, вполне естественно, выражали угнетенное душевное состояние наших солдат. Гитлер же сразу усмотрел в этом злой умысел врага, сознательно подрывающего дисциплину в германских войсках, и решил, что после моего рассказа сумеет вывести его на чистую воду. Лишь после
251
войны я узнал, что он приказал отдать под трибунал всех, кто распорядился напечатать тексты этих песен.
Этот эпизод отразил очень характерное для него недоверие к людям. Он подозревал, что от него скрывают истинное положение дел, и стремился вникать в любые мелочи и тут же делать важные для себя выводы. Поэтому он был склонен подробно расспрашивать даже тех своих подчиненных, которые могли сообщить ему только самые общие сведения. Такое, подчас вполне оправданное, недоверие было неотъемлемой частью его характера. Тем не менее он так и не сумел получить точное представление о событиях на фронтах и настроениях сражающихся там солдат, ибо его окружение старалось отсечь его от источников нежелательной для него информации.
Гитлер отпустил меня в три часа утра, и я решил не возвращаться сегодня в Берлин вместе с доктором Тодтом, чей самолет должен был вылететь через пять часов. Я чувствовал себя совершенно разбитым и решил хорошенько выспаться. В отведенной мне маленькой комнате я еще раз поразмыслил над тем, какое впечатление я произвел на Гитлера. Любой из его приближенных поступил бы точно так же, особенно после двухчасового разговора с ним. Я лично был вполне удовлетворен нашей беседой. Он вновь сумел убедить меня в том, что мы вместе сумеем осуществить наши планы, в чем я, правда, перед лицом складывающейся отнюдь не в нашу пользу ситуации на фронтах временами сильно сомневался. В эту ночь мы в очередной раз поверили в возможность их воплощения в жизнь и довели себя до безудержно-радостного, граничащего с безумием состояния.
Утром меня разбудила громкая трель телефона. «Доктор Тодт погиб в авиакатастрофе», — прозвучал в мембране взволнованный голос Брандта. С этого момента жизнь моя круто изменилась.
В последние годы у меня сложились очень тесные отношения с Тодтом. Мы вместе делали одно дело, и теперь я потерял умудренного опытом товарища. Нас сблизили общие черты нашей биографии: мы оба были родом из Бадена, росли и воспитывались в зажиточных буржуазных семьях и получили техническое образование. Мы оба любили природу и, если предоставлялась возможность,
252
перебирались в высокогорные пансионаты и совершали долгие лыжные переходы. А еще мы оба испытывали непреодолимую антипатию к Борману. У Тодта возник с ним серьезный конфликт хотя бы уже потому, что личный секретарь Гитлера приказал строить новые дороги в районе Оберзальцберга и тем самым совершенно обезобразил как местность, так и внешний облик небольшого городка. Мы с женой часто бывали в гостях у Тодта: его семья жила в маленькой, скромной вилле в районе Берхтесгадена на противоположном берегу озера Хинтерзее, и никому из местных жителей даже в голову не могло прийти, что здесь обитает знаменитый строитель дорог и автострад.
Доктор Тодт был одним из тех немногих министров этого правительства, кто держал себя скромно и не стремился навязать свое мнение окружающим. Он не питал склонности к интригам, и на него всегда можно было положиться. С его вообще свойственным многим технократам сочетанием сентиментальности и удивительно трезвого ума он с трудом вписывался в руководящий слой национал- социалистического государства. Он жил очень уединенно и избегал каких-либо неофициальных контактов с партийными кругами. Даже на дневных и вечерних трапезах Гитлера — на них обычно присутствовал только узкий круг приближенных лиц — он появлялся крайне редко, хотя всегда был там желанным гостем. Своим подчеркнуто скромным поведением он завоевал особое уважение. Поэтому где бы Тодт ни появлялся, он всегда становился центром внимания. Гитлер не просто уважал Тодта за его бесспорные достижения, он прямо-таки преклонялся перед ним, хотя Тодт, вступивший в НСДАП еще на раннем этапе ее существования и всегда сохранявший лояльность ее фюреру, в то же время вел себя довольно независимо.
В январе 1941 года, когда у меня возникли серьезные разногласия с Борманом и Гислером, Тодт прислал мне необычайно откровенное письмо, из которого следовало, что он крайне скептически относится к стилю работы национал-социалистических руководителей: «Возможно, мой опыт и то горькое разочарование, которое вызвали во мне все эти люди — а ведь именно с ними приходится вместе работать, — убедят вас в том, что все ваши трудности носят временный характер, и вы постепенно придете к тому
253
же выводу, что и я. После чего я в душе успокоился. Запомните: во время таких великих свершений... любая активность сразу же вызывает противодействие; у любого, кто не сидит сложа руки, немедленно обнаруживаются не только соперники, но, к сожалению, и противники, и причиной тому вовсе не люди, но возложенные на них обязанности и обстоятельства. Именно поэтому у людей различные точки зрения. Вы еще молоды, и, может быть, вам удастся разом избавиться от всех этих тягостных раздумий; я же вынужден таскать с собой этот груз».
За завтраком в столовой ставки оживленно обсуждали возможных преемников доктора Тодта. Все сходились на том, что никто не сможет его заменить, ибо Тодт занимал три министерских поста. Он отвечал за дорожное строительство, за состояние всех водных путей, рек и систему гидромелиорации и, кроме того, как министр вооружений и боеприпасов являлся уполномоченным Гитлера в этой области. В непосредственно подчиненном Герингу управлении по осуществлению четырехлетнего плана он возглавлял сектор строительства и, ко всему прочему, создал «организацию Тодта», которая воздвигла Западный вал и ангары для подводных лодок и строила дороги на всех оккупированных территориях — от Северной Норвегии до Южной Франции, а также в России.
Таким образом, Тодт в течение последних лет постепенно взял на себя контроль за решением важнейших технических задач. Формально ему подчинялось несколько разных ведомств, однако, в сущности, им уже ничего не мешало со временем слиться в единое министерство, тем более что Тодт возглавлял еще и Главное техническое управление НСДАП и был председателем Объединения инженерно-технических союзов.
Уже в эти часы я понял, что теперь мне придется выполнять целый ряд его задач. Ведь еще весной 1939 года во время осмотра Западного вала Гитлер заявил, что, если с Тодтом случится несчастье, я стану одним из его преемников. Позднее, осенью 1940 года, он даже официально принял меня в своем кабинете в рейхсканцелярии и сообщил, что Тодт чрезмерно загружен. Поэтому, дескать, он решил передать в мое ведение решение всех строительных проблем, включая строительство Атлантического вала. Тогда
254
я сумел убедить Гитлера в том, что строительство и производство вооружений тесно связаны друг с другом и поэтому их следует оставить под началом одного человека. Гитлер больше не возвращался к этой теме, и я, естественно, никому ничего не сказал, ибо это предложение могло не только обидеть Тодта, но и подорвать его авторитет.
Поэтому, когда меня в довольно позднее для начала аудиенции время — где-то около часу дня — первым вызвали к Гитлеру, я уже был готов приступить к выполнению такого рода задания. Главный адъютант Шауб держался очень надменно, и лицо его выражало сознание собственного величия. Гитлер же, в отличие от прошлого вечера, держался подчеркнуто официально, выслушал высказанное мною соболезнование, бросил в ответ пару слов и без всяких обиняков заявил: «Господин Шпеер, я назначаю вас преемником доктора Тодта. Отныне вы возглавляете все ранее подчиненные ему ведомства». Я был просто ошеломлен. Он протянул мне руку, явно намереваясь проститься со мной. Я же решил, что он просто обмолвился, и ответил, что постараюсь заменить доктора на определенном участке работы и приложу все силы для разрешения строительных проблем. «Нет, вы замените его на всех постах. В том числе и на посту министра вооружений». — «Но я же ничего не понимаю...» — возразил я. «Я верю, что вы справитесь, — перебил меня Гитлер, — и, кроме того, у меня нет другой кандидатуры! Немедленно свяжитесь с министерством и приступайте к делу!» —■ «Тогда, мой фюрер, вы должны приказать мне, поскольку я не уверен, что смогу справиться с этой задачей».
Гитлер выполнил мою просьбу. Обычно свою беседу со мной он заканчивал дружескими словами, однако в этот раз Гитлер сохранил официальный тон фюрера германского рейха и тут же занялся другими делами. Я простился, понимая, что отныне мне придется привыкнуть к совершенно иному стилю его работы. До этого Гитлер видел во мне прежде всего архитектора и всячески подчеркивал, что испытывает ко мне симпатию как к коллеге; теперь же явно начался новый этап наших отношений, и он с самого начала предпочел ограничить их служебными рамками. Я стал членом его кабинета, и теперь он стремился соблюдать дистанцию.
255
У двери я столкнулся с Шаубом и услышал его взволнованный голос: «Господин рейхсмаршал прибыл в ставку и непременно хочет с вами поговорить, мой фюрер. Напомню, что вы его не вызывали». Гитлер хмуро посмотрел на него и нехотя сказал: «Впустите его». А затем, обращаясь ко мне, добавил: «Не уходите». Геринг вошел размашистым шагом, произнес для приличия несколько соболезнующих слов и прямо заявил: «Наилучшим выходом была бы передача мне всех полномочий доктора Тодта, связанных с выполнением четырехлетнего плана. Ведь наряду с этой должностью он занимал целый ряд ответственных постов, и уже в силу этого у нас с ним часто возникали конфликты. Теперь их удастся избежать».
По-видимому, Геринг прибыл в ставку на поезде особого назначения из своего расположенного километрах в ста отсюда, в Роминтене, охотничьего замка. Авиакатастрофа произошла примерно в полдесятого утра, и было очевидно, что он очень спешил первым приехать в ставку.
Гитлер никак не отреагировал на его предложение и лишь сухо сказал: «Я уже назначил преемника Тодта. Вот рейхсминистр Шпеер. С сегодняшнего дня к нему перешли все полномочия Тодта». Безапелляционный тон Гитлера исключал какие бы то ни было возражения. Геринг был явно испуган и крайне недоволен его решением. Тем не менее уже через несколько секунд он взял себя в руки и заявил: «Надеюсь, мой фюрер, вы не станете настаивать на моем непременном присутствии на похоронах доктора Тодта? Вы же знаете, что наши отношения оставляли желать лучшего, и я никак не могу принять участие в этой церемонии». Я уже не помню, что Гитлер ответил ему, ибо по вполне понятным причинам чувствовал себя крайне неловко во время этого первого официального обсуждения моего нового назначения. И все же, насколько я помню, Геринг в конце концов согласился присутствовать на траурной церемонии, чтобы сохранить в тайне их взаимную антипатию. При огромном значении внешних условностей отсутствие второго человека в государстве на такой официальной церемонии, как похороны министра, произвело бы крайне негативное впечатление.
Несомненно, Геринг пытался, не дав Гитлеру опомниться, с ходу убедить его в своей правоте, и я тогда заподозрил,
256
что Гитлер ожидал нечто подобное и поэтому столь стремительно провел мою кандидатуру^ все освободившиеся посты.
Доктор Тодт, будучи министром вооружений, мог выполнять задания Гитлера, лишь отдавая промышленникам конкретные указания; Геринг же, напротив, как уполномоченный по осуществлению четырехлетнего плана, считал себя ответственным за положение дел во всей военной промышленности. Поэтому он и его аппарат всячески мешали Тодту предпринимать какие-то самостоятельные шаги. В середине января 1942 года, недели за две до своей гибели, Тодт участвовал в одном из заседаний, посвященных проблемам военной промышленности, на котором Геринг учинил ему страшный разнос. Во второй половине дня совещание закончилось, и Тодт сразу же заявил Функу, что с него хватит. В таких ситуациях Тодт всегда оказывался в крайне невыгодном положении, ибо носил мундир генерал-майора авиации и, несмотря на свой министерский пост, в силу военной субординации был вынужден подчиняться Герингу.
После этого короткого совещания мне стало ясно одно: Геринг вряд ли будет моим союзником, но в случае конфликта с ним я, судя по всему, могу рассчитывать на поддержку Гитлера.
Внешне Гитлер сохранил поистине стоическое спокойствие человека, для которого по роду его деятельности такие инциденты отнюдь не являются неожиданными. Вряд ли он располагал какими-либо уликами, но тем не менее уже в первые дни после авиакатастрофы заявил, что здесь явно нечистое дело и что он не исключает возможность диверсии. Однако в дальнейшем, если кто-нибудь в присутствии Гитлера затрагивал эту тему, он реагировал раздраженно и даже крайне нервно. Обычно он резко заявлял: «Я не желаю больше ничего знать об этом. Я запрещаю кому бы то ни было заниматься этой историей». Иногда он добавлял: «Вы же знаете, как тяжело я переношу эту потерю. Мне до сих пор больно о ней говорить».
Гитлер приказал имперскому министерству авиации установить причины гибели самолета. В результате удалось выяснить, что самолет взорвался в двадцати метрах от земли и что очевидцы видели яркую вспышку. Тем не менее
9 А. Шпеер
257
комиссия, ввиду важности расследуемого инцидента возглавляемая генералом военно-воздушных сил, пришла к следующему весьма своеобразному выводу: «Нет никаких оснований предполагать, что здесь имела место диверсия. Поэтому нет необходимости проводить дальнейшее расследование». Впрочем, доктор Тодт незадолго до своей гибели положил к себе в сейф довольно большую сумму денег. Она предназначалась для его секретарши, с которой он много лет работал. Как заявил Тодт: «На случай, если со мной что-то случится».
Спонтанное решение Гитлера вновь назначить одного человека сразу на несколько министерских постов, от которых зависело существование государства, было, в сущности, крайне легкомысленным и могло повлечь за собой тяжкие последствия. Я был типичным человеком со стороны как для вооруженных сил, так и для партии и экономических структур и никогда в жизни не держал в руках не только армейской винтовки — я не служил в армии, — но и охотничьего ружья. Это решение объяснялось той симпатией, которую Гитлер испытывал к дилетантам и которая побуждала его отдавать предпочтение непрофессионалам. Он уже назначил торгового агента по продаже шампанского министром иностранных дел, своего партийного идеолога — министром по делам восточных земель, а бывшему военному летчику поручил, например, руководить всей экономикой; неудивительно, что его министром вооружений стал именно архитектор. Бесспорно, Гитлер предпочитал назначать на руководящие посты дилетантов, а к профессионалам типа Шахта он всю жизнь относился с большим подозрением.
Тот факт, что я накануне этого трагического события случайно оказался в ставке, что я в последний момент решил не лететь вместе с Тодтом в Берлин и что после смерти профессора Трооста кончина другого человека вновь определила мою дальнейшую карьеру, Гитлер счел судьбоносным стечением обстоятельств. После моих первых успехов он часто повторял, что без гибели Тодта в авиакатастрофе нам бы не удалось добиться новых достижений.
По сравнению с упрямым и несговорчивым Тодтом я, несомненно, сперва казался Гитлеру всего лишь послушным орудием в его руках; он вообще подбирал себе
258
приближенных по их отрицательным качествам. Так как он не терпел возражений, его выбор, как правило, падал на тех, кто готов был слепо следовать за ним. Прошли годы, и теперь Гитлера окружали люди, которые не только полностью одобряли все его высказывания, но и без всяких сомнений претворяли их в жизнь.
Ныне историки уделяют основное внимание моей деятельности на посту министра вооружений и склонны преуменьшать значение моих планов реконструкции Берлина и Нюрнберга. Для меня же делом всей жизни была именно архитектура, и свое неожиданное назначение я воспринимал как вынужденный временный отрыв от основного занятия, как своего рода воинскую повинность. Я полагал, что как придворный архитектор Гитлера могу снискать широкое признание и даже славу. Каких бы блистательных результатов ни достиг человек, занимающий в то время даже очень важный министерский пост, они все равно меркнут в ореоле славы Гитлера. Поэтому я вскоре потребовал от Гитлера обещания по окончании войны разрешить мне вновь заниматься архитектурой. Это свидетельствует о том, что Гитлер распоряжался даже частной жизнью своих приближенных. Он немедленно удовлетворил мою просьбу, ибо полагал, что я, будучи его главным архитектором, смогу оказать неоценимые услуги ему и его рейху. Когда представлялась возможность поговорить о своих планах на будущее, он иногда заявлял с тоской: «Вот тогда мы оба уединимся и еще раз обсудим все наши проекты». Однако со временем мне уже крайне редко приходилось слышать от него эти слова.
Первым на мое назначение министром отреагировал личный референт Тодта оберрегирунгсрат Конрад Хаазе - ман, который 9 февраля прилетел из Берлина в ставку фюрера. Поскольку среди сотрудников Тодта были люди, занимавшие гораздо более важные и ответственные посты, я, раздосадованный, расценил его визит как попытку проверить, каким авторитетом я пользуюсь в окружении фюрера. Хааземан сразу же намекнул, что мне следует получить сведения о наиболее характерных свойствах моих будущих сотрудников. В ответ я в двух словах объяснил ему, что намерен лично познакомиться с ними. В тот же вечер я выехал на поезде в Берлин. Последние события
9*
259
временно отбили у меня всякое желание пользоваться самолетом.
Когда утром за окнами замелькали предместья столицы рейха с их заводами и множеством железнодорожных путей, меня вдруг охватили сомнения. Я вовсе не был уверен в том, что смогу справиться с этой грандиозной технической задачей и что мои личные качества удовлетворяют требованиям, предъявляемым обычно кандидатам на министерские посты, не говоря уже о том, что моя компетенция в этих вопросах совершенно недостаточна. Когда поезд въехал под своды Силезского вокзала, сердце мое лихорадочно запрыгало в груди, а ноги стали словно ватные.
Ведь именно мне предстояло занять один из ключевых военных постов, хотя я в обращении с незнакомыми людьми держал себя обычно очень застенчиво, был обделен ораторским талантом и даже на совещаниях не умел четко и внятно излагать свои мысли. И что скажут генералы, когда выяснится, что им теперь придется иметь дело с человеком, который не только никогда не служил в армии, но еще и причислен к презренному сословию художников? И действительно, проблема поведения и поддержания личного авторитета доставила мне не меньше забот, чем решение возложенных на меня задач.
Не менее сложной оказалась проблема управления вверенными мне ведомствами: совершенно очевидно, что прежние сотрудники Тодта считали меня здесь случайным человеком. Они, правда, знали, что я поддерживал близкие отношения с их шефом, но ведь мне также приходилось обращаться к ним с просьбой выделить партию стройматериалов, а роль просителя никого не красит. Они много лет работали вместе с Тодтом и глубоко уважали его.
По прибытии я сразу же обошел кабинеты всех, кто занимал мало-мальски важные посты, и тем самым избавил их от необходимости поочередно представляться мне. Кроме того, я распорядился ничего не менять в кабинете Тодта, хотя его обстановка отнюдь не соответствовала моему вкусу.
Утром И февраля 1942 года я встречал на Ангальтском вокзале гроб с останками Тодта и был просто потрясен этой церемонией, как, впрочем, и состоявшимся на следующий день в оформленном по моему проекту мозаичном
260
зале рейхсканцелярии торжественным прощанием с моим предшественником. Гитлер был растроган до слез. Именно тогда один из наиболее близких сотрудников Тодта, Дорш, заверил меня в своей лояльности. Через два года, когда я тяжело заболел, Геринг сумел втянуть его в свою интригу против меня.
Я сразу же приступил к работе. 13 февраля в большом конференц-зале министерства авиации должно было состояться совещание с участием представителей основных родов войск и экономических структур, и статс-секретарь министерства генерал-фельдмаршал Мильх пригласил меня участвовать в нем. Я спросил, нельзя ли перенести совещание на более поздний срок, поскольку я еще не вошел в курс дела, и тогда Мильх в свойственной ему грубоватой манере и пользуясь тем, что между нами сложились добрые отношения, задал мне встречный вопрос: дескать, со всего рейха сюда уже едут крупнейшие промышленники, а я, выходит, решил увильнуть? Я был вынужден согласиться с его доводами. Накануне совещания меня вызвали к Герингу.
В первый раз я посетил Геринга после своего назначения министром. Он с теплотой вспомнил о том, что в бытность мою архитектором у него со мной были прекрасные отношения, и выразил надежду, что теперь ничего не изменится. Геринг, когда хотел, мог быть просто обворожительным, и вы невольно подпадали под его обаяние, хотя следует признать, что выражался он чересчур напыщенно. Затем он прямо высказал мне свои требования. Оказывается, он заключил с моим предшественником письменное соглашение и собирается прислать мне на подпись копию этого документа. В нем четко оговорено, что я занимаюсь исключительно производством вооружения для армии и не должен вмешиваться в вопросы, связанные с осуществлением четырехлетнего плана. Беседу со мной он закончил довольно загадочной фразой: дескать, обо всем остальном я узнаю на совещании у Мильха. Я, в свою очередь, никак не отреагировал на его слова и ответил ему в таком же сердечном тоне. Так как комплекс мероприятий по претворению в жизнь четырехлетнего плана охватывал всю экономику, то соглашение полностью связало бы мне руки.
261
Я чувствовал, что на совещании меня ожидает ряд сюрпризов, и поскольку до сих пор отнюдь не был уверен в том, что справлюсь со своей новой должностью, то высказал пока еще находившемуся в Берлине Гитлеру свои сомнения. Первая реакция Геринга на мое назначение явно произвела на фюрера тягостное впечатление, и поэтому я вполне мог рассчитывать на его поддержку. «Ну хорошо, — заявил он, — если кто-то выступит против вас или просто возникнут трудности, прервите совещание и пригласите его участников в зал заседаний кабинета министров. Я там им все, что нужно, скажу».
Этот зал считался «священным местом», и уже сам факт приглашения туда должен был произвести глубокое впечатление на генералов и промышленников. А уж если Гитлер обратится с речью к людям, с которыми мне предстояло в дальнейшем работать, то лучших стартовых условий я даже представить себе не мог.
Большой конференц-зал министерства авиации был переполнен: в совещании участвовали тридцать человек. Среди них были такие крупные промышленные магнаты, как генеральный директор Альберт Фёглер и председатель Имперского союза германских промышленников Вильгельм Цанген, командующий резервной армией генерал-полковник Фридрих Фромм вместе с подчиненным ему начальником управления вооружений сухопутных войск генералом Леебом, начальник управления вооружений военно-морских сил генерал-адмирал Витцель, начальник управления военной промышленности и вооружений при штабе верховного главнокомандования генерал Томас, министр экономики Вальтер Функ, разного рода главные уполномоченные управления по осуществлению четырехлетнего плана, а также еще несколько ответственных сотрудников Геринга.
Мильх на правах представителя «хозяина дома» вел заседание. Он попросил Функа сесть справа, а меня — слева от него. В краткой вступительной речи он рассказал о тех трудностях, которые возникают из-за столкновения интересов трех родов войск в области военной промышленности. Затем очень умно и аргументировано выступил глава «Стального треста» Фёглер. Он поведал присутствующим о том, что поток приказов и директив, подчас полностью противоречащих друг другу, бесконечные конфликты, возникающие
262
по поводу степени срочности выполнения того или иного заказа, и постоянная смена приоритетов мешают наладить промышленное производство в нужных масштабах. До сих пор имеются неиспользованные резервы, однако выявить их не удается из-за всевозможных споров и колебаний, и поэтому уже давно пора навести порядок. Решать должен один человек, и представителей промышленных кругов совершенно не интересует, кто конкретно им окажется.
Затем выступили генерал-полковник Фромм и генерал-адмирал Витцель, представлявшие соответственно сухопутные войска и военно-морской флот. Они, хотя и с оговорками, поддержали предложение Фёглера. Остальные участники совещания высказались в том же духе. Звучали пожелания назначить на эту должность руководителя, хорошо знакомого с их внутренними проблемами.
В конце концов министр экономики Функ встал и обратился непосредственно к Мильху. «Ход заседания показал, что у нас здесь нет разногласий, — заявил он. — Остается лишь договориться о кандидатуре на этот пост. И лучше всего сюда подходите вы, дорогой Мильх, потому что вы, как никто другой, пользуетесь безграничным доверием нашего глубокоуважаемого рейхсмаршала. Думаю, что выражу общее мнение, если попрошу вас взять на себя выполнение этой задачи». Последние слова он произнес с излишним пафосом, в общем-то нехарактерным для участников такого рода совещаний.
Бесспорно, они уже заранее обо всем договорились. Функ еще даже не закончил свою речь, как я прошептал Мильху: «Мы сейчас перейдем в зал заседаний кабинета министров. Фюрер желает обсудить мои проблемы». Умный Мильх сразу сообразил, что может за этим последовать. Он заявил, что воспринимает предложение Функа как очень лестное для себя, но, к сожалению, не может его принять.
И тут я впервые взял слово. От имени фюрера я пригласил всех пройти в другой зал и заявил, что дискуссия продолжится в четверг 18 февраля в здании моего министерства. Затем Мильх закрыл заседание.
Позднее Функ признался мне, что накануне совещания представлявший Геринга в управлении по осуществлению четырехлетнего плана статс-секретарь Кернер предложил
263
ему выдвинуть кандидатуру Мильха. Естественно, Функ решил, что он не мог это сделать без ведома Геринга.
Теперь, когда я от имени Гитлера пригласил присутствующих пройти в зал заседаний кабинета министров, все, кто исходил из прежнего соотношения сил, наверняка поняли, что у меня гораздо более прочное положение, чем у моего предшественника.
Теперь Гитлер был просто обязан выполнить свое обещание. В кабинете он выслушал мой короткий рассказ и попросил оставить его на несколько минут одного, так как ему нужно сделать кое-какие записи. Затем он вышел в зал заседаний и сразу же начал говорить.
Речь его продолжалась около часа. Сперва он пространно описал стоящие перед военной промышленностью задачи, подчеркнул, какое значение имеет подъем производства вооружений, призвал мобилизовать пока еще скрытые мощные промышленные ресурсы и с поразительной откровенностью отозвался о своем конфликте с Герингом: «Он отвечает за выполнение четырехлетнего плана и в рамках этой системы не может руководить производством вооружений». По мнению Гитлера, этим должно заниматься отдельное ведомство, во главе которого он предложил поставить меня. Раньше также бывали случаи, когда он сперва назначал человека на какую-либо должность, а затем снимал его. Имеющиеся ресурсы предприятий вполне позволяют значительно увеличить объем производства, однако используются они крайне неумело. Впоследствии в тюрьме Функ рассказал мне, что во время Нюрнбергского процесса Геринг потребовал предъявить запись этой речи Гитлера, ибо в ней фактически предлагалось лишить его целого ряда полномочий. Тем самым он хотел снять с себя обвинение в использовании на вверенных ему предприятиях труда угнанных в Германию жителей других стран.
Гитлер старался не затрагивать проблему единого руководства всей системой военной промышленности. Он говорил только о производстве вооружений для сухопутных войск и военно-морского флота и намеренно ни словом не упомянул военно-воздушные силы. Я бы также поостерегся касаться этого довольно спорного пункта, так как здесь требовалось политическое решение, а без него любые разговоры
264
на эту тему внесли бы только еще больший сумбур и неясность. Так уж была устроена наша государственная система. Свою речь Гитлер закончил обращением к участникам совещания. В нем он описал мои достижения в области строительства — правда, это вряд ли могло переубедить присутствующих, — охарактеризовал мое согласие отказаться от своей прежней деятельности и занять новую должность как акт самопожертвования — учитывая складывающуюся на фронтах критическую ситуацию, они, видимо, не могли с ним не согласиться — и выразил надежду, что мне не только окажут поддержку, но и воздержатся от каких-либо нечестных приемов. «Будьте с ним джентльменами!» — Гитлер крайне редко употреблял такие слова. Он, правда, так и не сказал, в чем конкретно заключается моя задача, но мне это было только на руку.
Так Гитлер еще не представлял ни одного министра. Даже при гораздо менее авторитарной системе правления такое начало определило бы всю дальнейшую карьеру. В нашем же государстве его последствия ошеломили даже меня. Отныне в течение довольно длительного срока я действовал как бы в некоем абсолютно пустом пространстве, не встречая сопротивления практически ни с чьей стороны, и мог делать все, что хотел.
Функ, провожавший со мной Гитлера в его квартиру в рейхсканцелярии, пообещал приложить все усилия, чтобы мне помочь. Почти всегда он держал свое слово.
После непродолжительного разговора на отвлеченные темы с Борманом и мной Гитлер, перед тем как подняться к себе наверх, посоветовал мне установить как можно более тесные отношения с промышленниками, итак как среди них много светлых голов. Он уже не в первый раз высказывал эту мысль и часто подчеркивал, что промышленникам следовало бы поручить самим взяться за разрешение насущных задач, поскольку министерские бюрократы, к которым он испытывал непреодолимую антипатию, всячески мешают им проявлять инициативу. Я воспользовался благоприятным моментом и в присутствии Бормана заверил Гитлера в том, что в своей деятельности буду преимущественно руководствоваться советами технократов. Однако для этого нужно перестать интересоваться их взглядами, поскольку многие из них, как известно, не являются
265
приверженцами национал-социализма. Гитлер согласился со мной и поручил Борману удовлетворить мою просьбу. Таким образом, вплоть до событий 20 июля 1944 года я избавил свое министерство от крайне неприятных проверок со стороны возглавляемой Борманом партийной канцелярии.
Я еще успел в тот же вечер побеседовать с Мильхом, и он пообещал мне прекратить всякое соперничество с управлениями вооружений сухопутных войск и военно-морского флота и постараться наладить с ними тесное сотрудничество. В первые месяцы мне особенно были нужны его советы. Со временем служебные отношения переросли в дружбу, и я до сих пор числю его среди своих самых близких друзей.
15
Организованная импровизация
Через пять дней мне предстояло провести первое совещание в моем министерстве, и к этому моменту я был обязан четко определить главное направление своей будущей деятельности. Как ни парадоксально это звучит, но я уже твердо знал, на каких принципах она будет основываться. Ведь мне уже довелось два года работать в сфере производства вооружений. Я не занимал тогда высокого поста и поэтому имел возможность получить представление «о многих принципиальных ошибках, которых обычно не замечают высокопоставленные руководители».
Я начертил организационную схему, на которой вертикальные линии обозначали такие отдельные готовые изделия, как танки, самолеты и подводные лодки, то есть вооружение всех трех родов войск. Рядом я нарисовал многочисленные круги. Каждый из них символизировал объединение, занимающееся поставками оборудования, необходимого для производства орудий, танков, самолетов и других видов вооружения. Именно в них я предполагал сосредоточить, к примеру, производство деталей из ковкой стали, подшипников или электротехнического оборудования. Как архитектор, я привык видеть мир в трех измерениях, и организация работы согласно этой схеме казалась мне весьма перспективной.
266
18 февраля в бывшем конференц-зале Академии искусств вновь собрались ведущие представители военной промышленности и управлений вооружений родов войск. Целый час я произносил перед ними речь, а затем они без всякого обсуждения согласились строить всю свою дальнейшую деятельность в соответствии с новой организационной схемой. Не встретило возражений и основанное на итогах предыдущего совещания требование предоставить мне необходимые полномочия в целях единого руководства всем процессом производства вооружений. Поэтому я даже вознамерился дать им всем на подпись мое заявление, так сказать, пустить его по кругу, хотя среди чиновников имперских министерств и ведомств это было не принято.
Все присутствующие еще находились под впечатлением от речи Гитлера. Мильх первым заявил о своем полном согласии с моим предложением и немедленно выразил готовность подписать соответствующий документ. Остальные участники совещания настаивали, правда, на соблюдении формальностей, но Мильх быстро успокоил их — велик был его авторитет. И лишь представлявший военно-морской флот генерал-адмирал Витцель продолжал упорствовать и оговорил согласие поставить свою подпись целым рядом условий.
На следующий день, то есть 19 февраля, я вместе с Миль- хом и генералами Томасом и Ольбрихтом выехал в ставку, чтобы доложить Гитлеру о своих организационных планах и сообщить ему о позитивных результатах совещания. Гитлер полностью одобрил мои намерения.
Сразу же после возвращения Геринг пригласил меня в свой расположенный в семидесяти километрах к северу от Берлина — в Шрофхайде — охотничий замок Карин- халл. В 1935 году Геринг первым осмотрел новую резиденцию Гитлера в Альпах и немедленно приказал построить вокруг своего прежнего, весьма невзрачного, охотничьего домика роскошное имение. По размерам оно превосходило «Бергхоф». Особенно поражала непомерной величины гостиная с огромными раздвижными окнами. Гитлер тогда без всяких возражений утвердил смету расходов, а его архитектор сумел не только удовлетворить тягу Геринга к роскоши, но и создал все условия для превращения этого замка в случае необходимости в командный пункт.
267
Такого рода совещания занимали обычно целый рабочий день. В этот раз я тоже проделал долгий путь на автомобиле, чтобы, как и было условлено, ровно в одиннадцать прибыть в Каринхалл, а затем целый час торчал в вестибюле, разглядывая гобелены и картины. В отличие от Гитлера, Геринг не отличался пунктуальностью и потому попусту тратил как свое, так и чужое время. Наконец он вышел из расположенных на верхнем этаже личных покоев и начал спускаться по лестнице. На жирном теле Геринга колыхался халат из дорогой зеленой парчи, и во всем его облике было нечто театральное. Мы довольно холодно поздоровались, и он мелкими шажками прошел в отведенный под кабинет зал, где сразу же уселся за гигантский письменный стол, а я скромно примостился напротив. Геринг был очень взволнован и крайне недоволен тем, что я не пригласил его тогда в зал заседаний кабинета министров. Затем он наклонился вперед и протянул мне через стол письменное заключение министериаль-директора его управления по осуществлению четырехлетнего плана Эриха Ноймана о правовых последствиях подготовленных мною документов. С проворством, которого я никак не ожидал от такого толстяка, он вскочил и принялся возбужденно расхаживать взад-вперед. Своих уполномоченных он обозвал тряпками и трусами, ибо они беспрекословно подчинились мне и даже не спросили его мнения. Он не давал мне даже слова сказать, но мне это было только на руку. Ведь на самом деле он адресовал свои горькие упреки именно мне, а тот факт, что он не отважился обвинить меня в некорректном поведении, свидетельствовал о шаткости и уязвимости его позиций. Наконец он заявил, что не может примириться с таким подрывом своего авторитета и немедленно отправляется к Гитлеру, чтобы объявить ему о своей отставке с поста уполномоченного по осуществлению четырехлетнего плана.
В тот момент его уход вряд ли причинил бы большой ущерб. Вначале Геринг, действительно, с большим энтузиазмом приступил к претворению в жизнь четырехлетнего плана, но к 1942 году его энергия иссякла. Он потерял всякий интерес к своему детищу, впал в апатию и не проявлял никакой инициативы. Геринг был слишком импульсивен, и непостоянство его натуры сказывалось в том, что
268
он стремился реализовать сразу множество идей, которые на поверку оказывались совершенно несостоятельными.
Безусловно, Гитлер, исходя из политических последствий такого шага, не позволил бы Герингу выйти в отставку, а предложил бы компромисс. Этого ни в коем случае нельзя было допускать, ибо такой компромисс не устроил бы ни одну из сторон и не только не устранил бы трудности, но, напротив, еще более осложнил бы ситуацию.
Я понимал, что необходимо хоть как-то повысить заметно подорванный престиж Геринга, — во всяком случае, я сразу же заверил его в том, что столь желанные Гитлеру и получившие одобрения генеральных уполномоченных Геринга нововведения никоим образом не скажутся на его положении. Он был полностью удовлетворен моим предложением, так как я согласился подчиниться и осуществлять свою деятельность в рамках подведомственных ему органов.
Уже через три дня я вновь посетил Геринга и представил ему на рассмотрение проект указа о назначении меня генеральным уполномоченным по производству вооружений в системе управления по осуществлению четырехлетнего плана. Геринг не стал возражать, хотя заявил, что у меня чересчур далеко идущие планы и что мне следует умерить свои аппетиты. Через два дня, то есть 1 марта 1942 года, он поставил свою подпись под этим указом. Отныне в мои обязанности входило «в условиях войны обеспечить отраслям промышленности, связанным с производством вооружений, должное приоритетное положение в экономической жизни».
Этот указ предоставил мне гораздо большие полномочия, чем вызвавший нарекания Геринга документ от 18 февраля.
Гитлер очень обрадовался тому, что я избавил его от неприятного разговора с Герингом. 16 марта он одобрил указ о моем назначении, и я сразу же передал его для публикации в печати. Я даже разыскал старую фотографию, на которой Геринг с ликующей улыбкой обнимал меня за плечи. Уж больно ему тогда понравился разработанный мною проект указа о присвоении ему чина рейхсмаршала. Тем самым я хотел показать, что кризис, о котором в Берлине уже пошли разговоры, благополучно разрешился.
269
Подведомственный Герингу отдел печати сразу же выразил решительный протест, ибо такого рода указы и фотографии разрешено было публиковать лишь с согласия их шефа.
Мне еще не раз пришлось сталкиваться с Герингом. Однажды он вдруг сделался чересчур обидчивым и с горечью поведал мне о визите к нему итальянского посла. Тот рассказал ему о появившихся в зарубежной печати сообщениях: дескать, новый министр полностью оттеснил Геринга на второй план. По словам рейхсмаршала, такие публикации могли окончательно подорвать его авторитет в глазах промышленников. Ведь всем давно уже было известно, что именно за их счет Геринг вел такой роскошный образ жизни, и у меня создалось впечатление, что он очень опасался, как бы падение его авторитета не повлекло за собой сокращение субсидий. Поэтому я предложил ему пригласить крупнейших промышленных магнатов принять участие в совещании, в ходе которого я официально буду им представлен. К Герингу сразу же вернулось хорошее настроение.
Совещание, для участия в котором Геринг пригласил пятнадцать промышленников, началось с моего очень короткого выступления. Я сдержал слово, и Геринг затем очень долго говорил о том, какое огромное значение имеет производство вооружения. Он обязал присутствующих всеми силами способствовать его подъему и произнес еще много пустопорожних банальных фраз. Однако он ни слова не сказал о моем новом задании. В дальнейшем он позволил мне спокойно работать и не чинил никаких препятствий. Он, конечно, завидовал моим успехам, но целых два года не предпринимал никаких попыток помешать мне.
Предоставленных полномочий оказалось, по моему мнению, совершенно недостаточно. Поэтому я довольно скоро — 21 марта — добился от Гитлера еще одного распоряжения, в котором прямо говорилось: «Все процессы в экономике Германии должны быть направлены на удовлетворение насущных потребностей военной промышленности». Согласно заведенным при авторитарном режиме порядкам это распоряжение было равносильно предоставлению чрезвычайных полномочий в экономической сфере.
В правовом отношении положение нашей организации было довольно неопределенным и зиждилось в основном
270
на спонтанных решениях. Ни в одном из официальных документов не была четко определена сфера моей деятельности и компетенции. Я весьма успешно препятствовал этому, ибо такая ситуация была мне только на пользу. Тем самым мы получили возможность в каждом конкретном случае определять степень своей компетенции интересами дела и настроениями наших сотрудников. Следует учесть, что мои почти неограниченные полномочия основывались исключительно на симпатии, которую Гитлер испытывал ко мне, и любое обоснованное юридическое оформление их неизбежно повлекло бы за собой конфликт с другими министерствами. Мне вряд ли удалось бы достичь согласия с ними.
Правда, эта неопределенность была своего рода раковой опухолью гитлеровского режима. Однако меня она вполне устраивала до тех пор, пока Гитлер одобрял проекты указов, которые я предлагал ему на подпись. Когда же Гитлер перестал безоговорочно выполнять мои требования — подчас он вообще отказывался идти мне навстречу, — я оказался совершенно бессилен и был вынужден прибегнуть к хитрости.
Вечером 2 марта 1942 года, когда почти уже месяц миновал с момента моего нового назначения, я пригласил архитекторов из группы по разработке проекта реконструкции Берлина на прощальный ужин в ресторан «Хорхер». Я не стал кичиться своим новым положением, а просто обратился к ним с короткой, прочувствованной речью и был до глубины души тронут тем, что моя новая сфера деятельности оказалась не так уж далека от них, хотя на первый взгляд они не имели к ней ни малейшего отношения. «Мне вовсе не требовалось получать свидетельство о высшем образовании, — заявил я, — чтобы понять: постарайся хорошо делать какое-нибудь одно дело, и тогда тебе на многое откроются глаза. Я сейчас особенно внимательно изучаю производство танкового вооружения, так как это помогает мне глубже понять смысл многих других поставленных передо мной задач. Как человек осторожный, я исхожу из того, что моя программа рассчитана как минимум на два года, но все же надеюсь, что мне удастся раньше вернуться к моей прежней профессии. Но уже сейчас я могу сказать, что пребывание на новом, связанном с руководством военной
271
промышленностью, посту оказалось для меня весьма полезным, потому что позволяет сделать следующий вывод: именно нам — техническим специалистам — суждено разрешить проблемы будущего!» Этой несколько напыщенной фразой я и закончил свое выступление.
Получив от Гитлера все необходимые полномочия и зная, что Геринг настроен миролюбиво и не собирается плести интриги за моей спиной, я приступил к претворению в жизнь концепции «освобождения промышленности от чрезмерной опеки со стороны государства». При этом я опирался на разработанную мной схему. В наши дни уже никто не подвергает сомнению тот факт, что неожиданно быстрое увеличение объемов военного производства было вызвано внедрением именно этой схемы. Однако я не придумал ничего нового. И Мильх, и мой предшественник Тодт неоднократно назначали ответственных сотрудников ведущих промышленных предприятий руководить ответственными постами в системе военного производства. Но истинным создателем этой концепции был Вальтер Ратенау. Этот чрезвычайно одаренный выходец из еврейской семьи в годы Первой мировой войны осуществил перевод экономики Германии на военные рельсы. Он достаточно рано сделал для себя вывод о том, что значительного подъема производства можно добиться путем обмена техническим опытом, четкого разделения труда между различными предприятиями и установлением хорошо продуманных норм выработки.
Уже в 1917 году он сформулировал следующее положение: соблюдение этих условий «полностью обеспечивает увеличение выпуска промышленной продукции почти вдвое при сохранении прежнего оборудования и прежней оплаты труда». На самом верхнем этаже министерства Тодта, чуть ли не под самой крышей, сидел бывший сотрудник Ратенау, когда-то работавший в возглавляемом им отделе стратегического сырья и позднее составивший подробный меморандум о его структуре. У него доктор Тодт набирался опыта.
Мы учредили «главные комитеты», ведавшие производством основных видов вооружения, и «главные объединения», отвечавшие за поставки комплектующих изделий. Тринадцать главных комитетов являлись как бы вертикальными
272
звеньями моей системы, а такое же количество главных объединений служило им опорой.
Заодно я создал комиссии по разработке новых образцов вооружений с привлечением к работе офицеров и поручил им давать оценку лучшим промышленным изделиям. В их обязанности, в частности, входило совершенствовать эти образцы еще на стадии опытно-конструкторских работ и своевременно выявлять эффективность разработок.
Лица, стоящие во главе комитетов и объединений, были обязаны позаботиться о предельно узкой специализации предприятий и одновременно обеспечить выпуск продукции в максимально возможном количестве. Гитлер и Геринг, обеспокоенные состоянием дел в военной промышленности, постоянно меняли программы, заставляя тем самым предприятия стремиться получить — по возможности от самых разных военных ведомств — одновременно четыре, а то и пять заказов, чтобы подстраховаться на случай отмены одного из них. Зачастую вермахт вообще давал им только срочные заказы. Так, например, до 1942 года то обстоятельство, что в связи с блицкригом расход боеприпасов или резко уменьшался, или, наоборот, увеличивался, не позволяло предприятиям поставить их производство на поток. Мы, напротив, обеспечили заводам гарантированные заказы и старались сделать так, чтобы они выпускали однородную продукцию.
Пользуясь историческими аналогиями, можно сказать, что если в первые годы войны производство вооружения в определенной степени как бы основывалось на ремесленной технике, то проведенная реорганизация совершила настоящую промышленную революцию и привела к широкому распространению в этой области машинного производства. Вскоре были достигнуты просто поразительные успехи, но, что характерно, отнюдь не в тех отраслях, в которые еще до войны были внедрены рациональные методы производства, как, например, в автомобильную промышленность. Выяснилось, что дальнейшее повышение производительности труда в них уже практически невозможно. Моя задача заключалась главным образом в том, чтобы выявлять незаметные в ходе повседневной работы и копившиеся уже много лет проблемы, решать которые я предоставлял профессионалам. Я был настолько одержим
273
стремлением выполнить поставленную передо мной задачу, что не только не стремился сузить сферу своей компетентности, но, напротив, старался возложить на себя как можно больше ответственности. Мною двигало и желание оправдать доверие Гитлера, и чувство долга, и честолюбие, и стремление проявить свои способности на новом для себя поприще. Ведь в свои тридцать шесть лет я был самым молодым министром имперского правительства. Вскоре в «промышленной системе» работало уже свыше десяти тысяч сотрудников и подсобного персонала, в нашем министерстве, напротив, числилось всего лишь двести восемнадцать чиновников. Такое соотношение казалось мне вполне справедливым, так как я считал их деятельность не столь уж важной по сравнению с задачами, возложенными на промышленников.
Согласно регламенту обо всех важнейших событиях в подведомственной отрасли министру докладывал статс-секретарь; именно он по своему усмотрению решал, о чем следует сообщать руководителю, а о чем нет. Я в корне изменил этот порядок и непосредственно подчинил себе не только более тридцати руководителей «промышленных организаций», но и десять начальников управлений министерства. Как правило, они должны были договариваться между собой, я лишь сохранил за собой право вмешаться в случае возникновения между ними серьезных разногласий по важным вопросам.
Необычными были также и наши методы работы. Закосневшие в своем бюрократизме чиновники высших государственных органов с пренебрежением отзывались о «нестабильном министерстве», о «министерстве без организационного плана», о «министерстве без чиновников». Меня обвиняли в небрежном, или «американском», стиле руководства. Мои слова «Необходимо строго разграничить компетенцию, и тогда людям не придется заниматься всем на свете» были направлены против кастового мышления представителей этого режима, но одновременно во многом отвечали взглядам Гитлера. Он полагал, что гений способен руководить государством по наитию.
Много нареканий вызвал и раздражающий многих принцип подбора кадров. Еще в начале своей деятельности я издал распоряжение о том, что если руководителю
274
важнейших ведомств «больше сорока пяти лет, то право решающего голоса должен получить тот его заместитель, возраст которого не превышает сорока лет». Об этом сохранилась соответствующая запись в протоколе совещания у фюрера 19 февраля 1942 года.
Сколько я ни докладывал Гитлеру о моих организационных планах, он не проявлял к ним ни малейшего интереса. У меня даже создалось впечатление, что нежелание заниматься этими вопросами объяснялось тем, что в определенных сферах деятельности он был совершенно неспособен отделять главное от второстепенного. Кроме того, он очень не любил разграничивать сферы компетенции. Он даже иной раз умышленно поручал ведомствам или конкретным лицам выполнять одинаковые или во многом схожие задания. «Тогда, — говорил он, — победит сильнейший».
Уже через полгода после моего вступления в должность во всех подведомственных отраслях мы добились значительного увеличения производства военной продукции. Согласно «Показателям готовой продукции германской военной промышленности» производство танков в августе 1942 года возросло по сравнению с февралем на 25%, а производство боеприпасов увеличилось чуть ли не вдвое. В целом общая производительность военной промышленности увеличилась за это время на 59,6%. Очевидно, мы смогли мобилизовать неиспользованные ресурсы. Если в 1941 году индекс общего объема производства вооружений составлял 98%, то к июлю 1944 года мы, несмотря на начало массированных воздушных налетов, смогли добиться рекордного показателя. Он составил 322%. При этом трудоемкость увеличилась всего лишь на 30%. Именно о таком эффекте писал Ратенау в 1917 году.
Вопреки многим утверждениям эти успехи были достигнуты отнюдь не за счет таланта моих сотрудников. Безусловно, работавшие под моим началом наделенные большими организаторскими способностями специалисты способствовали их достижению. Однако решающую роль сыграл тот факт, что во всех своих начинаниях я мог опереться на поддержку Гитлера, то есть имел право в решающий момент бросить на чашу весов авторитет фюрера и его безграничную власть.
275
Кроме того, я широко применял методы управления экономикой, свойственные демократическим государствам. Они основываются на полном доверии крупным промышленникам, и те в свою очередь, как правило, стараются оправдать его. Таким образом поощряется инициатива и пробуждается чувство ответственности — у нас же эти факторы уже давно были преданы забвению. Открытое давление и методы принуждения позволяли, правда, поддерживать стабильный уровень производства, но зато подавляли практически любое проявление инициативы. Я был вынужден даже заявить, что не следует думать, будто промышленники «умышленно обманывают и обкрадывают нас или пытаются каким-либо иным путем нанести ущерб системе нашей военной экономики».
Насколько партия была уязвлена моим независимым поведением, я окончательно понял только после 20 июля 1944 года. На меня обрушились с такими резкими нападками, что я даже отправил Гитлеру письмо, в котором отстаивал свою концепцию делегированной ответственности.
Как ни парадоксально это звучит, но с 1942 года в экономической жизни враждебных нам государств наметились совершенно противоположные тенденции. В то время как, например, американцы были вынуждены использовать авторитарные методы руководства экономикой, мы, напротив, всячески пытались как можно меньше регламентировать хозяйственную деятельность. Фактический запрет на критику действий высших государственных органов привел к тому, что уже никто не мог разобраться в хаотической ситуации, вызванной ошибками и срывами, составлением ошибочных планов и параллельными разработками аналогичных образцов вооружения. Теперь же были созданы комитеты и объединения, в которых свободно обсуждались различные проблемы, вскрывались недостатки и ошибки и разрабатывались меры по их устранению. Зачастую мы даже шутили, что вот-вот вернемся к системе парламентаризма. Проведенная нами реорганизация позволила хоть как-то компенсировать пороки авторитарного режима. Отныне назревшие важные проблемы можно было разрешать не только в соответствии с иерархическим принципом, то есть руководствуясь полученными от вышестоящих инстанций
276
приказами. Разумеется, для этого потребовалось поставить во главе этих органов людей, способных, перед тем как принять разумное и обоснованное решение, выслушать аргументы всех сторон.
Удивительной оказалась реакция руководителей предприятий, которым я в начале своей деятельности направил послание с призывом «гораздо полнее, чем прежде, информировать меня о всех своих нуждах, заботах и замеченных недостатках». Я ожидал потока писем, но на мое послание так никто и не откликнулся. Сперва я заподозрил, что от меня скрывают их письма, но затем выяснилось, что никто из них так и не отважился откровенно рассказать мне о своих делах. Позднее я узнал, что они опасались мести со стороны гаулейтеров.
«Критики сверху» хватало с избытком, но никак не удавалось дополнить ее критическими отзывами снизу. После назначения министром мне часто казалось, что я как бы повис в воздухе, ибо не поступало никаких критических откликов на мои решения.
Своими успехами мы были обязаны многим тысячам технических специалистов, которые ранее уже прославились своими достижениями и которым мы теперь доверили руководство важнейшими отраслями военной промышленности. Это пробудило в них невостребованный ранее энтузиазм, а мой столь нехарактерный для нашего бюрократического аппарата стиль руководства заставил их активно включиться в работу. В сущности, я использовал такое явление, как ощущение техническим специалистом неразрывной связи со своим делом. Обычно он настолько увлечен им, что моральная сторона его совершенно не волнует. Но чем активнее осуществляется технический прогресс в мире, в котором постоянно вспыхивают войны, тем более опасным становится этот феномен, позволяющий снять с себя ответственность за возможные последствия своей деятельности.
Я предпочитал иметь под своим началом «строптивых сотрудников, а не покорных исполнителей», партия, напротив, не доверяла аполитичным специалистам. «Надо бы расстрелять нескольких директоров предприятий, и тогда остальные, трясясь от страха, добились бы гораздо больших Достижений», — заявил как-то Заукель. Среди партийных
277
руководителей он слыл одним из поборников наиболее крайних взглядов.
Два года я был защищен от каких-либо нападок. После предпринятой несколькими генералами 20 июля 1944 года неудачной попытки государственного переворота Борман, Геббельс и Заукель сполна отплатили мне за все. Я был даже вынужден обратиться к Гитлеру с письмом, в котором прямо заявил, что не смогу дальше успешно выполнять возложенные на меня обязанности, если мою деятельность будут оценивать исключительно с политической точки зрения.
Права беспартийных сотрудников министерства мне удалось защитить совершенно необычным для гитлеровского режима способом. Едва вступив в должность, я сразу же настоял на том, чтобы уголовные дела в связи с фактами причинения ущерба военной промышленности возбуждались только по моему ходатайству. Тем самым я сумел обеспечить защиту своим сотрудникам даже после 20 июля 1944 года. Начальник РСХА Эрнст Кальтенбруннер даже запрашивал мое мнение относительно того, стоит ли привлекать к ответственности за «пораженческие» разговоры трех генеральных директоров: Бюхера (АЭГ), Фёглера («Стальной трест») и Рейша (металлургические заводы «Гу- техоффнунгсхютте»). В своем ответном послании я особо подчеркнул, что поставленные перед нами задачи вынуждают нас обсуждать положение на фронтах с предельной откровенностью. Это помогло им избежать ареста. С другой стороны, суровая кара ожидала тех сотрудников созданной мной системы, которые злоупотребляли оказанным им доверием и, например, указывали в своих отчетах завышенные цифры расходов стратегического сырья. Пользуясь тем, что мы не могли их проконтролировать, они пытались создавать тайные запасы сырья и таким образом вольно или невольно вносили сбой в процесс производства столь необходимого фронту вооружения.
С первого дня я считал, что такая огромная организация требуется нам только на ограниченный период времени. И, добившись от Гитлера заверения в том, что после окончания войны он разрешит мне вернуться к своей профессии архитектора, я в свою очередь счел необходимым успокоить
278
промышленных магнатов и заявил им, что проводимая в соответствии с разработанной мной организационной схемой коренная реорганизация управления экономикой вызвана исключительно войной; в мирное время никто не будет вправе потребовать от них передать квалифицированных работников другим предприятиям или поделиться своими секретами с конкурирующими фирмами.
Одновременно я пытался сохранить присущий этой организации импровизаторский стиль работы. Я приходил в уныние при одной только мысли о том, что в ней может воцариться традиционный бюрократический дух, и постоянно призывал своих сотрудников не исписывать горы бумаг, а мгновенно решать все проблемы в ходе неофициальных бесед и телефонных разговоров. К тому же воздушные налеты на германские города постоянно вынуждали нас заниматься импровизацией. О том, что я иной раз воспринимал их как чрезвычайно полезные для нашей деятельности, свидетельствуют слова, сказанные мной после разрушения здания министерства 22 ноября 1943 года: «Пусть даже нам сейчас очень повезло и значительная часть текущей документации сгорела, избавив нас от балласта, но, к сожалению, никак нельзя рассчитывать, что такого рода события регулярно будут подбадривать нас».
Несмотря на технический прогресс в 1940—1941 годах, когда вермахт одерживал одну победу за другой, производство вооружений в Германии тем не менее не достигло уровня Первой мировой войны. В первый год русской кампании производство орудий и боеприпасов составило всего лишь четверть объема аналогичной продукции, выпускаемой в Германии осенью 1918 года. Даже весной 1944 года, после всех наших поистине грандиозных успехов в области военной промышленности, на немецких заводах все равно производилось меньше боеприпасов, чем на предприятиях тогдашней Германии и Австро-Венгрии, в состав которой, как известно, входила также Чехословакия.
Одной из основных причин этого явления я считал чрезмерно разросшийся бюрократический аппарат и напрасно пытался добиться его сокращения. Так, в управлении вооружений сотрудников насчитывалось в десять раз больше, чем в аналогичном ведомстве в годы Первой мировой
279
войны. Начиная с 1942-го и вплоть до конца 1944 года во всех моих выступлениях и письмах звучало требование упростить систему управления. И чем дольше я выступал против столь характерного для Германии, а в условиях авторитарного режима многократно усиливавшегося бюрократизма, тем отчетливее моя критика мелочной опеки государственными органами военной промышленности приобретала характер политической концепции, на основании которой я попытался объяснить сущность негативных процессов. В послании, отправленном Гитлеру 20 июля 1944 года, за несколько часов до того, как на него было совершено покушение, я писал, что американцы и русские добились таких поразительных результатов именно благодаря предельно упрощенным формам организации своей хозяйственной жизни, в то время как мы сильно отстаем от них из-за чрезмерно сложной системы государственного регулирования экономики. Эта война является одновременно борьбой двух систем. «Если мы у себя ввели систему чрезмерной заорганизованное™, то наш противник отдал предпочтение искусству импровизации. И если мы не найдем ей замену, то потомству придется только констатировать: мы проиграли войну, так как наша изжившая себя, скованная традициями и потерявшая гибкость система потерпела полный крах».
16
Упущенные возможности
Самое удивительное, что Черчилль и Рузвельт без малейших колебаний заставляли свои народы нес™ все тяготы войны, в то время как Гитлер стремился по возможности облегчить участь немцев. Тотальная мобилизация рабочей силы в демократической Англии и довольно небрежное отношение к решению этой проблемы в Германии свидетельствовали о том, что, как ни странно, именно авторитарный режим стремился привлечь на свою сторону симпатии народа. Его руководители, не желая жертвовать собственным благополучием, не считали возможным вынуждать свой народ в полной мере переносить
280
тяготы и лишения и стремились путем уступок поддерживать у него хорошее настроение. Гитлер и большинство его соратников принадлежали к поколению солдат Первой мировой войны. В ноябре 1918 года, когда вспыхнула революция, они сражались на фронте и с тех пор так и не смогли изжить в себе страх перед ней. Боязнь вызвать недовольство народных масс заставляла их тратить на производство товаров народного потребления, выплату пособий участникам войны и компенсаций женщинам, потерявшим в заработке из-за ухода их мужей на фронт, гораздо больше средств, чем тратили правительства демократических государств. И если Черчилль мог позволить себе заявить, что не может предложить своему народу ничего, кроме «крови, слез, тяжкого труда и пота», то у нас на протяжении всей войны твердили, как заклинание, провозглашенный Гитлером лозунг: «Победа будет за нами». Это свидетельствовало о неустойчивости режима и его боязни потерять популярность среди народа, что, в свою очередь, могло вызвать внутриполитический кризис.
Встревоженный отступлением наших войск на целом ряде участков Восточного фронта, я весной 1942 года уже не только думал о тотальной мобилизации всех ресурсов, но и одновременно настаивал на «скорейшем окончании войны; иначе Германия неминуемо потерпит поражение. Мы должны одержать победу не позднее конца октября, то есть до начала русской зимы; в противном случае мы ее никогда не добьемся. Однако одержать победу мы можем только с помощью того вооружения, которым располагаем в настоящий момент, а вовсе не того, которое окажется в нашем распоряжении в будущем году». Каким-то совершенно непонятным для меня способом этот критический анализ нашей ситуации попал в руки сотрудников газеты «Таймс», которая и опубликовала его 7 сентября 1942 года. Он представлял собой плод моих совместных с Мильхом и Фроммом размышлений.
«Мы все предчувствуем, что этот год станет переломным в нашей истории», — публично заявил я в апреле, не предполагая даже, что коренной перелом наступит после окружения 6-й армии под Сталинградом, полного разгрома Африканского корпуса, успешной высадки союзников в Северной Африке и первых массированных воздушных налетов на немецкие города. Одновременно нам предстояло
281
внести коренные изменения в систему управления военной промышленностью, так как вплоть до осени 1941 года она основывалась на концепции «блицкрига» с промежуточными относительно длительными мирными периодами. Теперь же началась непрерывная война.
Мобилизация всех ресурсов, по-моему, должна была затронуть в первую очередь партийные верхи. Это казалось мне вполне справедливым хотя бы уже потому, что Гитлер лично в своем выступлении в рейхстаге 1 сентября 1939 года заявил о своей готовности разделить с народом все лишения и тяготы, которые могут лечь на его плечи.
Теперь же Гитлер полностью согласился с моим предложением прекратить все строительные работы в районе Оберзальцберга, хотя еще совсем недавно он всемерно поощрял осуществление проекта реконструкции города. На это распоряжение я сослался, выступая через две недели после своего вступления в должность на собрании тех, кто наверняка будет чинить нам трудности и препятствия, то есть перед гаулейтерами и рейхслейтерами. Я прямо заявил: «Нет и не может быть никаких ссылок на необходимость готовиться к мирным временам. Фюрер самым недвусмысленным образом приказал мне немедленно докладывать ему о такого рода безответственных шагах, фактически направленных на подрыв производства вооружений».
Фактически я открыто угрожал им, хотя сразу же поспешил несколько успокоить их и сказал, что если до зимы каждый из нас был вправе добиваться льгот и поблажек, то теперь положение на фронтах заставляет прекратить все ненужные строительные работы на подведомственных им территориях. И если представляется возможность получить свободные рабочие руки и сократить расход строительных материалов, то наш долг — проявить инициативу и подать остальным пример.
Я был твердо убежден, что, несмотря на монотонную манеру изложения, присутствующие, затаив дыхание, слушали мой доклад. Затем гаулейтеры и крейслейтеры столпились вокруг меня в надежде убедить в важности осуществляемых под их началом строительных проектов.
Первым изложил свои требования рейхслейтер Борман, который сумел убедить не слишком последовательного в своих решениях Гитлера отменить свой приказ. Направленные на проведение реконструкции Оберзальцберга рабочие,
282
в распоряжение которых к тому же были выделены грузовики, строительные материалы и бензин, фактически оставались там до конца войны, хотя уже через три недели я вновь добился от Гитлера приказа о прекращении всех реконструкционных работ в районе его резиденции.
Затем ко мне протиснулся гаулейтер Заукель. Он желал получить заверение в том, что ситуация никак не отразится на возведении в Веймаре «Партийного форума», и действительно, строительные работы там не прекращались ни на один день на протяжении всей войны. Роберт Лей, в свою очередь, настаивал на необходимости продолжить строительство свинарника на территории его образцового имения, ибо проводимые там опыты могут, дескать, улучшить ситуацию с продовольствием. Я отказал ему в его просьбе, но зато не смог отказать себе в удовольствии изложить свой отказ в письменном виде. В результате Лей получил послание, которое начиналось следующими словами: «Рейхс- лейтеру по организационным вопросам НСДАП и руководителю “Германского трудового фронта”. Относительно строительства Вашего свинарника!»
Гитлер же затем выделил еще несколько миллионов марок на реконструкцию пришедшего в упадок замка Клесс- гейм, расположенного неподалеку от Зальцбурга, и превращение его в роскошную правительственную резиденцию, предназначенную для проживания приезжавших в Германию зарубежных государственных деятелей. Гиммлер построил для своей любовницы огромную виллу близ Берх- тесгадена и так тщательно скрывал от всех свой замысел, что я узнал о нем лишь в последние дни войны. Еще в 1942 году Гитлер призвал одного из своих гаулейтеров провести реконструкцию замка Позен и отеля, а также построить в окрестностях города личную резиденцию и разрешил использовать материалы из неприкосновенного имперского резервного фонда.
В 1942—1943 годах Лей, Кейтель и еще несколько высокопоставленных лиц из окружения Гитлера получили в свое распоряжение поезда особого назначения новой конструкции, хотя для этого пришлось израсходовать огромное количество высококачественных материалов и отвлечь большое число квалифицированных рабочих от исполнения своих прямых обязанностей. И конечно, я не имел ни
283
малейшего представления о личных планах партийных руководителей; гаулейтеры и рейхслейтеры сосредоточили в своих руках огромную власть. Я совершенно не контролировал их и крайне редко мог наложить вето на их решения. Более того, они вообще не обращали внимания на мои запреты. Даже летом 1944 года Гитлер и Борман не постеснялись известить своего министра вооружений о том, что некоего владельца мастерской по изготовлению картинных рам в Мюнхене не следует привлекать к выполнению военных заказов. За несколько месяцев до этого по их личному распоряжению «фабрики по изготовлению гобеленов и других предметов, имеющих художественную ценность» — ими предполагалось украсить здания, которые Гитлер намеревался возвести после войны, — было запрещено переводить в систему военной экономики.
Всего лишь за девять лет пребывания у власти руководящий слой оказался настолько коррумпирован, что даже в критический период войны не мог отказаться от привычного роскошного образа жизни. Под предлогом необходимости «нести представительские обязанности» они селились в роскошных особняках, обзаводились охотничьими имениями, загородными виллами и замками, содержали огромное количество слуг, устраивали приемы, на которых подавались изысканные блюда и дорогие вина. Их боязнь за собственную жизнь приняла поистине абсурдные формы. Гитлер, приехав в предполагаемое место размещения своей ставки, первым делом приказывал строить бункера, толщина покрытий которых должна была выдержать попадание бомб любого калибра. В конце концов она составила пять метров. В результате в Растенбурге, Берлине, Оберзальц- берге, Мюнхене и замке Клессгейм, а также на территории его ставок близ Наугейма и на Сомме возникли целые системы подземных сооружений, а в 1944 году он приказал проложить в Силезии и Тюрингии горные туннели для размещения в них своих командных пунктов. Сотни столь нужных военной промышленности горных инженеров и тысячи высококвалифицированных рабочих были брошены на осуществление этого проекта.
Откровенный страх Гитлера за свою жизнь и завышенная оценка им своей персоны позволили его окружению проявлять чрезмерную заботу о своей безопасности. Геринг
284
приказал построить просторное бомбоубежище не только в Каринхалле, но и в расположенном в уединенном месте близ Нюрнберга замке Фельзенштайн, в котором он почти никогда не бывал: на каждом из участков 70-километрово- го пути от Каринхалла до Берлина, пролегающего через густые леса, были построены блиндажи с железобетонными покрытиями. Лея, узнавшего о попадании бомбы в одно из городских бомбоубежищ, интересовала лишь толщина пробитого покрытия; он очень беспокоился, выдержит ли потолок бункера его личной виллы в предместье Берлина — Груневальде, которое, кстати, почти не подвергалось воздушным налетам. Ко всему прочему, Гитлер, убежденный в незаменимости своих гаулейтеров, приказал каждому из них построить для себя в загородной местности дополнительные бомбоубежища.
Из всех свалившихся на меня в первые дни недели неотложных дел наиболее срочным было, конечно же, решение проблемы рабочей силы. В середине марта я осмотрел поздним вечером один из крупнейших берлинских военных заводов «Рейнметалл-Борзиг» и выяснил, что мощное и дорогое оборудование его цехов практически никак не используется; для установления двухсменного режима дирекции попросту не хватало рабочих рук. Аналогичная ситуация сложилась и на других военных заводах. Кроме того, днем у нас постоянно происходили перебои в снабжении электроэнергией, в то время как вечером и ночью предприятия работали далеко не в полную мощь. К тому же шло интенсивное строительство новых заводских корпусов общей стоимостью примерно одиннадцать миллиардов марок, и, учитывая хроническую нехватку станков, мне казалось, что было бы целесообразно прекратить строительство и использовать высвободившихся людей для работы во вторую смену.
Мои доводы показались Гитлеру вполне разумными, и он подписал указ о сокращении сметы на строительство до трех миллиардов марок. Однако он сразу заупрямился, когда выяснилось, что претворение в жизнь его указа непосредственно коснется долгосрочных проектов строительства химических заводов на сумму в миллиард марок. Он всегда стремился получить все сразу одновременно и следующим образом обосновал свой отказ: «Возможно, война с Россией
285
скоро закончится. Однако в связи с моими далеко идущими планами мне потребуется синтетического бензина гораздо больше, чем сейчас. Поэтому я не могу прекратить строительство новых заводов, даже если оно закончится через несколько лет». А через год — 2 марта 1943 года — я пришел к выводу, что нет никакого смысла «строить новые заводы, если они будут введены в эксплуатацию только после 1 января 1945 года». Последствия неверного решения Гитлера продолжали сказываться на нашей военной промышленности даже в сентябре 1944 года, когда ситуация на фронтах приняла катастрофический характер.
Хотя его решение не позволило мне в полной мере осуществить свой план, нам все же удалось высвободить для нужд военной промышленности несколько сот тысяч строительных рабочих. И тут неожиданно возникло новое препятствие. Руководитель координационной группы по использованию рабочей силы управления по осуществлению четырехлетнего плана министериаль-директор доктор Мансфельд признался мне, что у него отсутствуют необходимые полномочия и он не в состоянии заставить гаулейтеров распорядиться перевести с подвластных им территорий высвободившихся рабочих на другие земли. И действительно, гаулейтеры могли сколько угодно интриговать друг против друга, однако стоило хоть немного задеть их «суверенные права», как они моментально в сплоченном строю выступали против обидчика. Я понял, что, несмотря на свои тогда весьма крепкие позиции, никогда не смогу одолеть их. Только человек их круга, наделенный Гитлером чрезвычайными полномочиями, способен разрешить эту проблему. Я остановил выбор на своем приятеле Карле Ханке. Он несколько лет занимал пост статс-секретаря министерства пропаганды, а в январе 1941 года был назначен гаулейтером Нижней Силезии. Гитлер пошел мне навстречу. Однако Борману удалось успешно воспрепятствовать осуществлению моего замысла. Ведь Ханке считался моим сторонником, и его назначение на эту должность означало не только усиление моей власти, но и вторжение в сферу влияния Бормана.
Когда я через два дня вновь сообщил Гитлеру о своем намерении, он, правда, поддержал мои аргументы, но одновременно отверг предложенную кандидатуру: «Ханке пока
286
еще очень недолго занимает должность гаулейтера и не пользуется особым авторитетом. Я уже говорил с Борманом. Нам больше подходит Заукель».
Я должен разделить ответственность за жестокую трудовую политику Заукеля. Несмотря на расхождения по другим вопросам, я всегда в основном соглашался с его мерами по массовой депортации иностранных рабочих в Германию. Поскольку Эдвард Л.Хомс в книге «Иностранные рабочие в нацистской Германии» (Принстон, 1967) в исчерпывающих деталях осветил возникшую вскоре войну между Зау- келем и мною, я могу ограничиться отдельными замечаниями. Я согласен с Хомсом, что такие внутренние стычки были весьма типичны. Алан С.Милворд в книге «Новый порядок и французская экономика» (Лондон, 1969) также воспроизводит точную картину.
Борман добился того, что Заукель был назначен на этот пост лично Гитлером и подчинялся непосредственно ему. Геринг совершенно справедливо выразил протест, ибо ранее эта проблема решалась в рамках управления по осуществлению четырехлетнего плана. Со свойственным ему легкомысленным отношением ко всякого рода назначениям и перемещениям внутри государственного аппарата Гитлер, правда, объявил Заукеля «генеральным уполномоченным», но одновременно ввел его в штат подчиненного Герингу управления. Геринг, считая себя униженным, вновь высказал протест. Гитлеру было достаточно разрешить Герингу самому объявить о назначении Заукеля. Он, однако, этого не сделал, и Геринг, престиж которого и без того был изрядно подорван, из-за происков Бормана окончательно потерял авторитет.
Затем Заукеля и меня вызвали в ставку Гитлера: вручая документ о его назначении, фюрер подчеркнул, что нет и не может быть никакой проблемы рабочей силы, и почти полностью повторил свои слова, впервые сказанные 9 ноября 1941 года: «На подвластной нам территории проживает свыше 250 миллионов человек; нет никакого сомнения в том, что нам удастся полностью загрузить их работой». Гитлер обязал Заукеля без всяких колебаний ликвидировать дефицит рабочих рук за счет жителей оккупированных земель. С этого момента начался роковой период моей деятельности. Ведь в последующие два с половиной года
287
я постоянно требовал от Заукеля в принудительном порядке направлять на военные заводы иностранных рабочих.
В первые недели ничто не омрачало наши отношения. Заукель сразу же гарантировал Гитлеру, как, впрочем, и мне, сделать все, что в его силах, для замены призванных в вермахт квалифицированных рабочих. Я обещал оказать ему со своей стороны всяческую поддержку. В сложившейся ситуации мне не оставалось ничего другого, как поверить Заукелю. Ведь в мирное время каждый год на фабрики и заводы приходило примерно 600 000 юношей. Они заменяли тех, кто вышел на пенсию или умер. Теперь же под ружье поставили не только их, но и значительную часть рабочих, которых так не хватало военной промышленности.
Короче говоря, Заукель так и не выполнил своих обещаний, Гитлер совершенно напрасно возлагал свои надежды на 250 миллионов жителей оккупированных территорий. Они потерпели крах как из-за слабости тамошней германской администрации, так и из-за того, что местное население предпочитало бежать к партизанам в леса, чем соглашаться на депортацию в Германию.
Стоило первым иностранным рабочим появиться на наших заводах, как представители промышленных кругов сразу же выразили мне свое недовольство. Их аргументы сводились к следующему: наиболее важные обязанности на военных предприятиях ранее были возложены на лишенных брони квалифицированных специалистов, и иностранные рабочие не смогут их заменить. Вражеским разведкам теперь будет очень легко заниматься саботажем и диверсиями — достаточно лишь включить своих людей в эти колонны. Кроме того, повсюду не хватает переводчиков, которые могли бы объясниться с людьми разных национальностей. Я получил статистические данные, согласно которым в период Первой мировой войны трудовой повинностью было охвачено гораздо больше германских женщин, чем теперь. Мне показали две фотографии одного и того же предприятия, сделанные соответственно в 1918 и 1942 годах. На одной из них из проходной после окончания рабочего дня выходили почти одни женщины, на другой из этих же ворот на улицу гурьбой устремились мужчины. Фотографии в американских и английских журналах также
288
свидетельствовали о том, что, в отличие от нас, в этих странах значительную часть персонала на военных заводах также составляли женщины.
Когда в начале апреля 1942 года я потребовал от Заукеля ввести трудовую повинность для женщин, он без обиняков заявил мне, что этот вопрос относится исключительно к его компетенции; ко всему прочему он, как гаулейтер, подчиняется только Гитлеру и несет ответственность лишь перед ним. В результате он предложил мне предоставить Герингу решать эту проблему. На состоявшемся в «Каринхалле» совещании Геринг, явно обрадованный столь неожиданным предложением, вел себя подобострастно по отношению к Заукелю, а со мной обращался довольно пренебрежительно. Мне так и не дали толком изложить свои аргументы; Геринг и Заукель то и дело перебивали меня. Основной довод Заукеля сводился к тому, что его душа не может смириться с тем нравственным ущербом, который принесет германской женщине работа на заводе; к тому же она может серьезно отразиться на ее способности иметь детей. Разумеется, Геринг самым решительным образом поддержал его аргументы, а Заукель на всякий случай без моего ведома добился еще и согласия Гитлера.
Это был первый подрыв моих казавшихся доселе несокрушимыми позиций. В связи с победой Заукель обратился к коллегам-гаулейтерам с воззванием, в котором, в частности, заявил: «Для того чтобы германская домохозяйка, и прежде всего многодетная мать... явственно ощутила на себе освобождение от тяжкого бремени войны и не ставила бы под угрозу свое здоровье, фюрер поручил мне отобрать на восточных землях четыреста—пятьсот тысяч крепких, здоровых девушек и доставить их в рейх». Если в Англии в 1943 году количество служанок уменьшилось на две трети, в Германии их численность — 1,4 миллиона женщин и девушек — сохранялась почти неизменной вплоть до конца войны. Среди населения вскоре пошли разговоры о том, что из привезенных в Германию полумиллиона украинок большая часть занята обслуживанием семей партийных руководителей.
Объем военного производства в воюющих государствах всецело зависел от распределения чугуна. В годы Первой мировой войны в Германии 46,5% всех его запасов было
10 А. Шпеер
289
израсходовано на военные нужды. После своего назначения министром я с удивлением констатировал, что на производство вооружений уходит всего лишь 37,5% чугуна. Я немедленно предложил Мильху совместно заняться распределением сырья.
2 апреля мы вновь отправились в Каринхалл. Сперва Геринг очень долго говорил на самые различные темы, а затем наконец выразил готовность поддержать наше предложение о создании в рамках системы органов по осуществлению четырехлетнего плана Центрального управления планирования. Под впечатлением от нашего дружного выступления он осторожно — чуть ли не дрожащим голосом — осведомился: «Может, вы все-таки возьмете к себе третьим моего Кернера? А то получится, что его лишили полномочий, и он очень огорчится».
Центральное управление планирования стало вскоре важнейшим звеном нашей системы военной экономики. Даже было непонятно, почему до сих пор никому в голову не приходило создать высшую инстанцию для разработки приоритетных программ и контроля за их осуществлением. До 1939 года этим занимался лично Геринг, но потом не было больше никого, кто бы, обладая должным авторитетом, взял бы на себя решение все более усложнявшихся и становившихся все более важными проблем и тем самым сгладил бы все промахи и неудачи Геринга. Правда, в изданном им указе говорилось, что в случае необходимости он оставляет за собой право на принятие окончательного решения, однако, как я и думал, Геринг ни разу не воспользовался своим правом, а мы также не сочли нужным утруждать его.
Заседания руководства Центрального управления планирования всегда проводились в конференц-зале моего министерства. Обычно они затягивались допоздна, и в них принимали участие многие министры и статс-секретари. При поддержке квалифицированных экспертов они всячески отстаивали интересы своих отраслей. Вся трудность выпавшей на нашу долю задачи заключалась в том, чтобы ограничить потребности гражданского сектора экономики и при этом не нанести ущерб производству вооружений приостановкой других отраслей промышленности или чрезмерным снижением жизненного уровня населения.
290
Сам я стремился добиться максимально возможного снижения производства товаров народного потребления, объем которого в начале 1942 года снизился по сравнению с довоенным периодом всего на 3%. Мне удалось уменьшить его еще на 9%. Уже через три месяца Гитлер горько сожалел о своем решении «перераспределять ресурсы в пользу военной промышленности» и в ночь с 28 на 29 июня заявил, что нужно «вновь вспомнить о материальных нуждах народа». В ответ я заметил, что его заявление «побуждает тех, кто ранее выражал недовольство приоритетом в экономике военной промышленности, вновь выступить против нынешнего курса». Однако Гитлер остался глух к моим аргументам.
Из-за нерешительности и колебаний Гитлера мой замысел провести тотальную мобилизацию рабочей силы и добиться максимальной концентрации экономических ресурсов в сфере военной экономики опять потерпел неудачу.
Для увеличения выпуска военной продукции требовалось также обеспечить бесперебойное движение поездов на имперских железных дорогах. Требовалось максимально увеличить их пропускную способность, хотя зимой 1941 года им был нанесен тяжелейший урон. Все пути от занятых нашими войсками русских территорий и вплоть до границы рейха были забиты неотправленными поездами; вооружение и боеприпасы доставлялись на фронт с немыслимым опозданием.
5 марта 1942 года рейхсминистр транспорта доктор Юлиус Дорпмюллер (несмотря на свои семьдесят три года, он был очень бодр и отличался ясностью мышления) и я отправились в ставку, чтобы доложить Гитлеру о возникшей проблеме. Я попытался убедить его, что с транспортом сложилась просто катастрофическая ситуация, но Дорпмюллер не слишком активно поддержал меня, и Гитлер, по своему обыкновению, предпочел более оптимистическую оценку положения. Он заявил, что «последствия наверняка не столь уж тяжкие, как это видится Шпееру», и отложил на неопределенное время решение крайне важного вопроса.
Через две недели по моему настоянию он согласился было заменить шестидесятипятилетнего статс-секретаря министерства транспорта молодым чиновником. Однако Дорпмюллер сразу же выразил свое несогласие. «Мой
ю*
291
статс-секретарь слишком стар? — переспросил он, когда я сообщил ему о решении фюрера. — Да он же совсем еще молод! Когда я в 1922 году был начальником управления имперских железных дорог, он только-только поступил туда на службу советником». Он так и не дал мне провести на эту должность энергичного, способного человека. Еще через восемь недель, 21 мая 1942 года, Дорпмюллер прямо сказал мне: «На всей германской территории паровозновагонный парк имперского управления железных дорог столь мал, что оно не может взять на себя ответственность даже за обеспечение перевозок самых срочных грузов». Как отмечено в протокольной записи очередного проводимого фюрером совещания, эти слова «были равнозначны объявлению себя банкротом». В тот же день Дорпмюллер предложил наделить меня диктаторскими полномочиями для урегулирования транспортной проблемы, но я отказался.
Через два дня я представил Гитлеру молодого советника имперского управления железных дорог доктора Ганцен- мюллера. Зимой он сумел найти выход из, казалось бы, совершенно безнадежной ситуации и наладил почти полностью парализованное движение поездов на линии Минск — Смоленск. Ганценмюллер произвел на Гитлера такое сильное впечатление, что фюрер сразу же заявил: «Этот человек мне очень понравился, и я назначаю его статс-секретарем». Когда же я осторожно осведомился, не следует ли сперва поговорить на эту тему с Дорпмюллером, он воскликнул: «Ни в коем случае! Никто из них ничего не должен знать. Я просто вызову вас, господин Шпеер, вместе с вашим кандидатом в ставку. À имперский министр транспорта пусть приедет отдельно от вас».
По личному распоряжению Гитлера в ставке их обоих разместили в разных коттеджах, и, когда Ганценмюллер вошел в кабинет Гитлера, ему даже в голову не могло прийти, что здесь находится его шеф. Обращенные к нему слова Гитлера нашли отражение в составленном в тот же день протоколе совещания: «В прошлую зиму мне пришлось решать проблемы, с которыми я никогда в жизни не сталкивался. И так называемые специалисты, и люди, занимающие ответственные посты, то и дело твердили: это невозможно, это не получится. Больше я не потерплю подобных суждений! Истинные руководители всегда решали
292
и решают любые проблемы. И ни с кем особенно не церемонятся. И меня совершенно не интересует мнение потомков о моих методах. Мы должны выиграть войну, в противном случае Германию ожидает гибель. Вот единственное, что меня волнует».
Далее Гитлер заявил: в прошлую зиму он сумел предотвратить катастрофу лишь потому, что успешно противостоял натиску генералов, которые настаивали на отступлении. Затем он взялся обсуждать мои предложения по восстановлению регулярного движения поездов по нашим железным дорогам. Он назначил новым статс-секретарем Ганценмюл- лера, не только не спросив мнения его непосредственного начальника, но даже не вызвав его из приемной. Ганцен- мюллер, сказал Гитлер, «своим поведением на фронте доказал, что обладает должной энергией и способен навести порядок на транспорте». Только после этого заявления он велел пригласить в кабинет Дорпмюллера и его министе- риаль-директора Лейбрандта и заявил, что намерен своим личным вмешательством изменить сложившуюся ситуацию, а потом привел свои обычные аргументы: «Я в свое время тоже начинал с нуля, был просто солдатом Первой мировой войны и пришел в политику, когда все, кто считал себя истинными вождями, оказались далеко не на высоте. Железная воля — вот что помогло мне одержать победу. Весь мой жизненный путь подтверждает, что я никогда не отступаю перед трудностями. Война поставила перед нами новые задачи, и мы просто обязаны их решить. Я повторяю: для меня не существует слова “невозможно”». Он перешел на крик: «Не существует — и все!» Затем он сообщил министру транспорта, что его бывший советник отныне занимает пост статс-секретаря. Этим он поставил Ганцен- мюллера и меня в довольно неловкое положение.
Гитлер с большим уважением отзывался о профессиональных способностях Дорпмюллера. Именно поэтому министр транспорта был вправе ожидать, что с ним предварительно обсудят кандидатуру его нового заместителя. Однако в данный момент Гитлер, вероятно, намеревался поставить Дорпмюллера перед свершившимся фактом и тем самым избежать неприятной полемики (она обычно возникала в тех случаях, когда он сталкивал лбами специалистов). Так и получилось: Дорпмюллер молча снес унижение.
293
Почти сразу же Гитлер временно наделил фельдмаршала Мильха и меня чрезвычайными полномочиями на транспорте и обязал нас позаботиться о том, «чтобы все требования удовлетворялись в полном объеме и в кратчайший срок». Заканчивая совещание, Гитлер с металлом в голосе заявил: «Транспортная проблема не может стать причиной нашего поражения; следовательно, она должна быть разрешена». Против этого нам нечего было возразить.
И в самом деле эта проблема была разрешена; молодой статс-секретарь сумел, используя самые элементарные методы, устранить скопление вагонов на путях, ускорить движение поездов и добиться значительного увеличения объемов военных перевозок. Главный комитет по железнодорожному транспорту позаботился об ускорении ремонта поврежденных зимой в России паровозов. Если раньше их ремонтировали довольно примитивным способом, то теперь мы перешли на поточный метод. Несмотря на значительное увеличение выпуска военной продукции, движение поездов довольно долгое время почти не прерывалось, к тому же на нем благоприятно сказался постепенный уход наших войск с занятых ранее территорий — до тех пор, пока начавшиеся осенью 1944 года регулярные воздушные налеты вновь серьезнейшим образом не обострили транспортную проблему.
Когда Геринг узнал, что мы собираемся увеличить производство паровозов, он пригласил меня в Каринхалл и на полном серьезе предложил изготовлять их из бетона, так как мы, дескать, не располагаем достаточными запасами стали. По его словам, бетонные паровозы будут, правда, быстрее изнашиваться, поэтому требуется лишь изготовлять их как можно, больше. Разумеется, Геринг не знал, как конкретно наладить их производство, но зато на протяжении нескольких месяцев с маниакальным упорством цеплялся за эту безумную идею, ради которой он вынудил меня бессмысленно потратить два часа на поездку к нему на автомобиле и еще два часа на ожидание в приемной. К тому же я вернулся домой голодный как волк, так как в Каринхалле не принято было кормить тех, кто приехал сюда по служебным делам: единственное, в чем Геринг позволил ограничить себя в условиях надвигающейся тотальной войны.
294
Через неделю после назначения Ганценмюллера статс- секретарем я еще раз посетил Гитлера. По-прежнему убежденный в том, что в критические моменты лидеры обязаны подавать пример народу, я предложил фюреру обязать руководителей партии и рейха отказаться от использования салон-вагонов. Конечно же, его лично я не имел в виду. Однако Гитлер ушел от решения вопроса, заявив, что на восточных землях очень трудно разместить высокопоставленных лиц в более или менее комфортабельных условиях и поэтому без салон-вагонов там не обойтись. Я поправил Гитлера: в основном в них разъезжают именно по территории рейха — и передал ему список огромного количества разного рода чинов, которые беззастенчиво пользовались салон-вагонами. Но я так ничего и не добился.
С генерал-полковником Фридрихом Фроммом мы регулярно обедали вместе в одном из отдельных кабинетов ресторана «Хорхер». Как-то в конце апреля 1942 года он сказал, что если мы создадим оружие, применение которого даст совершенно неожиданный эффект, то у нас еще есть шанс выиграть войну. Он поддерживает контакт с группой ученых, занятых разработкой нового оружия. Оно в состоянии уничтожить целые города, и с его помощью можно заставить Англию капитулировать. Фромм предложил мне посетить их. Он полагал, что уже сам факт беседы с этими людьми имеет огромное значение.
Руководитель «Стального треста» и председатель «Общества кайзера Вильгельма» Альберт Фёглер в это время также заявил мне, что в правительственных и военных кругах не уделяют должного внимания исследованиям в области ядерной физики. Именно от него я впервые услышал о совершенно недостаточной поддержке министерством по делам воспитания и науки — во время войны с ним, естественно, почти не считались — фундаментальных исследований. 6 мая 1942 года я обсудил с Гитлером создавшуюся ситуацию и предложил назначить Геринга номинальным председателем Имперского совета по научным исследованиям, наделив его исключительно представительскими функциями. Ровно через месяц он занял этот пост.
Примерно в это же время Мильх, Фромм, Витцель и я собрались в штаб-квартире «Общества кайзера Вильгельма», «Харнак-хаузе», чтобы выяснить истинное состояние
295
дел в области ядерных исследований. Наряду с учеными, имена которых я не запомнил, в совещании также приняли участие будущие лауреаты Нобелевской премии Отто Ган и Вернер Гейзенберг. В первых выступлениях были изложены результаты различных экспериментов, а затем Гейзенберг сделал доклад о «расщеплении атомного ядра и работах по созданию урановой машины и циклотрона». Он пожаловался на равнодушное отношение со стороны министерства по делам воспитания молодежи, на нехватку денег и материалов и подчеркнул, что из-за призыва в вермахт лаборантов и технических специалистов германская наука утратила ведущие позиции в целом ряде областей; напротив, судя по статьям в американских научных журналах, там не только щедро финансируют ядерные исследования, но и обеспечивают занятых ими ученых всем необходимым, и США уже ушли далеко вперед. Учитывая разрушительную силу атомной энергии, это может повлечь за собой очень серьезные последствия.
После доклада я прямо спросил Гейзенберга, могут ли физики-ядерщики создать атомную бомбу. Ответ его меня обескуражил. Он, правда, заявил, что найдено научное решение проблемы и, хотя чисто теоретически уже ничто не препятствует созданию атомной бомбы, техническая база для нее может быть создана не ранее чем через два года, и то при условии, что им окажут должную поддержку. Невозможность ранее осуществить урановый проект Гейзенберг объяснил тем, что в Европе в их распоряжении имеется всего лишь один маломощный циклотрон, который к тому же из-за необходимости соблюдать режим секретности используется далеко не в полной мере. Я предложил выделить средства из фонда министерства вооружений на строительство циклотронов таких же размеров, как и в Соединенных Штатах. Гейзенберг, однако, не согласился и заявил, что из-за отсутствия опыта нам все равно придется конструировать относительно небольшие установки.
Тем не менее Фромм согласился уволить из армии несколько сотен ранее призванных туда научных сотрудников, а я в свою очередь призвал ученых сказать, сколько им требуется денег и материалов для ускорения ядерных исследований. Через несколько дней ко мне поступил запрос
296
на несколько сотен тысяч марок и на не слишком большую партию стали, никеля и других металлов из имперского резервного фонда; в нем также говорилось о необходимости строительства бункера и нескольких коттеджей и содержалась просьба принять решение отнести проведение опытов и продолжение строительства первого немецкого циклотрона к разряду «первостепенных дел государственной важности». Неприятно пораженный скромностью требований, я увеличил смету расходов до двух миллионов и обещал выделить им гораздо большее количество материалов. Больше я ничем не мог им помочь, и, кроме того, у меня создалось впечатление, что атомная бомба вряд ли сможет существенно повлиять на дальнейший ход военных действий.
Зная, что Гитлер был склонен поддерживать совершенно фантастические проекты, да еще предъявлять их участникам бессмысленные требования, я 23 июня 1942 года только вкратце рассказал ему об этом совещании и тех мерах, которые мы решили предпринять для поддержки ядерных исследований. Более подробный и выдержанный в гораздо более оптимистическом духе доклад Гитлер получил, по всей видимости, от Геббельса, а также от своего придворного фотографа Генриха Гофмана, который был дружен с министром почт Онезорге. Тот проявлял большой интерес к проблемам расщепления атомного ядра и — подобно СС — также имел под своим началом научно-исследовательскую лабораторию. Ее возглавлял молодой физик Манфред фон Арденне. Тот факт, что Гитлер предпочел выслушать не подробный отчет ответственных лиц, а, по существу, основывающиеся на слухах рассказы тех, кто имел косвенное отношение к ядер- ной физике, еще раз говорит о его склонности к дилетантизму и полном непонимании значения фундаментальных исследований.
Со мной Гитлер иногда говорил о возможности создания атомной бомбы, однако он совершенно не разбирался в этой проблеме. Этим и объясняется его неспособность оценить эпохальное значение ядерной физики. Временами он, правда, пытался понять ее виды на будущее, но мои сообщения о беседах с физиками еще больше усилили в нем желание не вникать слишком глубоко в эти дела. И действительно, профессор Гейзенберг так и не ответил на мой
297
вопрос, может ли он гарантировать полный контроль над цепной реакцией. Вряд ли Гитлер стремился покорить мир, чтобы он затем снова превратился в раскаленное небесное тело. Такая перспектива уж никак его не устраивала. Как-то он даже в шутку заявил, что ученые слишком оторваны от жизни и ради раскрытия всех земных тайн готовы поджечь земной шар, однако он, к счастью, до этого не доживет.
Тем не менее Гитлер, не задумываясь, отдал бы приказ сбросить атомную бомбу на Англию. Подтверждение тому — его реакция на заключительные кадры документального фильма о бомбардировке Варшавы. Он пригласил Геббельса и меня на просмотр в свои жилые апартаменты в рейхсканцелярии — на экране горели дома, пикирующие бомбардировщики заходили на цели, можно было проследить всю траекторию полета бомбы и увидеть, как самолеты взмывают вверх, а снизу к ним тянутся огромные, снятые крупным планом языки пламени. Гитлер как завороженный смотрел на экран. В конце фильма на белом полотне неожиданно появились контуры Британских островов. Самолет с германскими опознавательными знаками спикировал на них: взрыв — и острова буквально разлетаются на куски. «Именно такая участь ожидает их! — с восторгом воскликнул Гитлер. — Именно так мы их уничтожим!»
Осенью 1942 года я еще раз спросил физиков-ядерщи- ков о возможных сроках создания атомной бомбы и, узнав, что потребуется три-четыре года, приказал прекратить все работы в этом направлении. Ведь тогда война или закончится, или ее исход будет уже окончательно предрешен. Зато я разрешил проводить разработку уранового реактора для выделения энергии определенного типа. Ее следовало использовать на оборудовании, предназначенном для военно-морских кораблей.
Во время посещения завода Круппа я осмотрел изготовляемые там литые урановые пластины и осведомился у одного из технических специалистов, в состоянии ли мы рискнуть сконструировать реактор значительно больших размеров. Он сказал мне буквально то же самое, что и профессор Гейзенберг: у нас нет технического опыта. Летом 1944 года рядом с клиникой Гейдельбергского университета мне продемонстрировали, как в нашем первом циклотроне происходит расщепление атомного ядра; затем профессор
298
Вальтер Боте объяснил, что этот циклотрон можно весьма плодотворно использовать для медицинских и биологических исследований. Меня вполне устроили его слова.
Летом 1943 года прекращение импорта вольфрама из Португалии поставило под угрозу производство определенного вида боеприпасов, и я распорядился использовать для этого урановое сырье. Мы передали на военные заводы 1200 тонн урана и тем самым наглядно продемонстрировали, что полностью отказались от идеи создания атомной бомбы.
Не исключено, однако, что к 1945 году нам все же удалось бы изготовить определенное количество атомных бомб. Но тогда мы должны были бы своевременно направить на осуществление уранового проекта все технические и финансовые средства, а также научные кадры и, значит, отказаться от любых разработок ракет с дальним радиусом действия. С этой точки зрения создание ракетного центра в Пенемюнде было величайшей ошибкой.
Отказ от подчинения этой сферы условиям «тотальной войны» объяснялся, конечно, догматизмом и невежеством Гитлера. Он глубоко уважал физика Филиппа Ленарда, который в 1905 году получил Нобелевскую премию и в научной среде считался одним из немногих ярых сторонников Гитлера. Ленард сумел убедить Гитлера в том, что ядерная физика и теория относительности используются евреями для разложения германского народа. В узком кругу своих приближенных Гитлер со ссылкой на своего выдающегося ученого соратника именовал ядерную физику «еврейской физикой». К его мнению не замедлил присоединиться Розенберг, а министерство по делам воспитания в свою очередь так и не решилось в должной мере оказать поддержку ядерным исследованиям.
Но даже если бы Гитлер в своем отношении к ядерным исследованиям не руководствовался критерием партийной доктрины и если бы наши фундаментальные исследования достигли в июне 1942 года такого уровня, что физикам - ядерщикам выделили бы на создание ядерной бомбы не несколько миллионов, а несколько миллиардов марок, все равно сложившаяся в нашей военной промышленности крайне напряженная ситуация не позволила бы обеспечить их необходимыми материальными ресурсами. Нам также
299
очень не хватало квалифицированных рабочих. Отнюдь не только колоссальный промышленный потенциал позволил США осуществить этот грандиозный проект. Из-за постоянно усиливающихся воздушных налетов военная экономика Германии оказалась в критическом положении, которое не могло не отразиться на всех мало-мальски долгосрочных научных разработках. При максимальной концентрации всех сил германскую атомную бомбу удалось бы создать не раньше 1947 года; американцы же имели ее уже в августе 1945 года. Нам бы так или иначе пришлось закончить войну самое позднее 1 января 1946 года, ибо все наши запасы хромита были бы к тому времени полностью израсходованы.
Таким образом, уже в самом начале своей деятельности я обнаружил, что мы совершаем одну ошибку за другой. Самое удивительное, что Гитлер на протяжении всей войны неоднократно повторял: «Поражение потерпит тот, кто совершит наибольшие ошибки!» Слова эти относятся в первую очередь к нему самому, ибо кто, как не он, своими неверными решениями приблизил окончание войны, которую так или иначе нельзя было выиграть из-за слишком мощного экономического потенциала противника. Так, например, у него отсутствовал четкий план организации воздушных налетов на английские города, по его вине в начале войны нам крайне не хватало подводных лодок, и вообще он так и не удосужился разработать генеральный план ведения военных действий. Многие германские мемуаристы правы, объясняя поражение Германии именно этими кардинальными ошибками. Из этого, однако, вовсе не следует, что у нас вообще был шанс выиграть войну.
17
Верховный главнокомандующий
Дилетантство было одним из характерных свойств Гитлера. Он так и не освоил толком ни одной профессии и, в сущности, всегда оставался аутсайдером. Подобно многим самоучкам, он был просто не способен оценить значение профессиональных знаний. Он не понимал, что решение мало-мальски серьезной задачи всегда связано со многими
300
трудностями, а безумная жажда власти побуждала его присваивать себе все новые и новые полномочия. Он отвергал устоявшиеся мнения и благодаря хваткому уму, не отягощенному традиционными представлениями, мог иногда предпринимать в той или иной области меры, на которые не был способен профессионал. Стратегические успехи, достигнутые в первые годы войны, объясняются незнанием Гитлером правил игры и свойственной дилетантам способностью принимать спонтанные решения. Так как противник, напротив, руководствовался определенными правилами игры, которые Гитлер, как самоучка, да еще преисполненный самодовольства, не знал или не желал применять, то моменты внезапности в сочетании с превосходством в силах создали предпосылки для одержанных им побед. Но как только его войска начали терпеть поражения, он, подобно многим невеждам, проявил полную несостоятельность. Теперь выяснилось, что его незнание правил игры — очень серьезный недостаток, который влечет за собой тяжкие последствия. Чем серьезнее становилось положение на фронтах, тем сильнее он упорствовал в своем нежелании извлекать уроки из неудач, тем очевиднее становилось его дилетантство. Склонность принимать неожиданные решения долгое время вела его от победы к победе; теперь она способствовала его краху.
Каждые две-три недели я выезжал на несколько дней в ставку Гитлера — сперва в Восточную Пруссию, а затем на Украину, чтобы обсудить с ним ряд технических деталей. Как главнокомандующий сухопутными войсками, он весьма интересовался ими и стремился сам решать многие вопросы. Гитлер всегда знал, какими видами вооружений и боеприпасов оснащен вермахт, он помнил, какой калибр у снарядов, какова длина стволов орудий и дальность их стрельбы, сколько важнейших видов военной продукции хранится в данный момент на складах и сколько их производится каждый месяц. Он до мельчайших подробностей изучил нашу программу и теперь, сравнивая ее с показателями поставки вооружений в войска, мог делать для себя соответствующие выводы.
Гитлер всегда, как ребенок, радовался тому, что может блеснуть знанием цифр, характеризующих истинное состояние дел в автомобилестроении, архитектуре или военной
301
промышленности. Он все время стремился доказать профессионалам, что во многом даже превосходит их. Истинный профессионал поступает благоразумно, не забивая себе голову техническими деталями. Он всегда может заглянуть в справочник или поручить сделать это адъютанту. Гитлер, напротив, всегда стремился продемонстрировать свои знания, ибо это доставляло ему огромное удовольствие.
Нужные сведения он черпал из толстой книги, переплетенной в красную кожу, которую пересекали желтые полосы. В этот содержащий данные о тридцати—пятидесяти различных образцах боеприпасов и вооружений справочник регулярно вносились дополнения. Он всегда лежал на ночном столике. Если Гитлеру во время оперативного совещания хотелось поправить одного из докладчиков, он приказывал ординарцу принести каталог и раскрыть его на нужной странице. Тем самым Гитлер всякий раз доказывал свою правоту и демонстрировал неосведомленность своих генералов. Окружение Гитлера как огня боялось его исключительной памяти на цифры. Стоило Гитлеру столкнуться со специалистом, твердо отстаивающим свое мнение, как он сразу же соглашался с ним и никогда не пытался опровергнуть.
Мой предшественник Тодт иногда брал с собой в ставку не только ближайших сотрудников — Ксавье Дорша и Карла Заура, — но и одного из своих экспертов. Вместе с тем он обычно сам докладывал Гитлеру и давал им слово только в тех случаях, когда возникали споры по чисто техническим проблемам. Я с самого начала решил не держать в голове никаких цифр, ибо за Гитлером мне было все равно не угнаться. Но зато я всегда брал с собой на совещания тех специалистов, которые могли поддержать то или иное положение моего доклада.
Тем самым я избавил себя от неизменно сопутствовавшего всем «совещаниям с участием фюрера» потока цифр и технических данных, который изливался на его участников из уст Гитлера. Я регулярно появлялся в ставке фюрера в сопровождении примерно двадцати гражданских лиц. Вскоре в «запретной зоне номер один» «вторжение Шпеера» уже у многих вызывало смех. В зависимости от обсуждаемой проблемы от двух до четырех моих специалистов приглашались на совещание, которое обычно проходило в комнате
302
для оперативных совещаний. Она находилась прямо радом с коттеджем Гитлера: скромно обставленное 80-метровое помещение, стены которого были покрыты панелями из светлого дерева. Сразу же бросался в глаза стоявший возле окна четырехметровый массивный дубовый стол с разостланными на нем оперативными картами; в углу стоял окруженный шестью стульями с подлокотниками стол гораздо меньших размеров. За ним сидели участники совещания.
Обычно я старался говорить как можно меньше и, развив тему доклада, предлагал присутствовавшему здесь специалисту высказать свое мнение. Ни обилие генералов, адъютантов, охранных секторов, заграждений и пропусков, ни ореол таинственности, окружавший всех работавших с Гитлером сотрудников, вовсе не оказывали путающего воздействия на квалифицированных специалистов. Они много лет успешно занимались своим делом, прекрасно знали себе цену и держались с чувством собственного достоинства. Иногда беседа превращалась в жаркую дискуссию, ибо они зачастую даже забывали, кто перед ними. Гитлер относился к этому с юмором и не скрывал уважительного отношения к этим людям; вообще на совещаниях он вел себя довольно скромно и обращался с его участниками подчеркнуто вежливо. Он также отказался от своей манеры убеждать несогласных в своей правоте, парализуя их волю долгими, утомительными речами. Он умел отличать главные вопросы от второстепенных, обладал гибким умом и умел не только мгновенно выбрать из нескольких вариантов один, но и убедительно обосновать свое решение. Он легко ориентировался в технических процессах и легко разбирался в планах и чертежах. Его вопросы свидетельствовали о том, что за короткое время доклада он в основном успевал схватить суть даже самых сложных обсуждаемых проблем. Но обычно — недостаточно глубоко.
Мне никогда не удавалось предсказать заранее результат этих совещаний. Иногда он без всяких оговорок соглашался с доводами, которые, казалось, в корне противоречили его взглядам; иной раз, напротив, он настойчиво противился осуществлению второстепенных мер, хотя еще недавно настаивал на их проведении. Тем не менее я выбрал очень удачный способ обведения его вокруг пальца с помощью специалистов, обладавших гораздо более детальным знанием предмета, чем он. Лица из ближайшего окружения
303
Гитлера с удивлением и не без зависти констатировали, что после таких заседаний с участием квалифицированных специалистов Гитлер часто признавал их правоту, хотя на предшествовавших оперативных совещаниях яростно отстаивал свое мнение.
На кругозор Гитлера повлияло как его мировосприятие, так и окончательно сложившиеся к концу Первой мировой войны эстетические взгляды и стиль жизни. Он сосредоточил свое внимание исключительно на традиционных видах вооружений сухопутных войск и военно-морских сил. В этой области он неуклонно расширял свои познания и очень часто выдвигал разумные идеи. Однако его совершенно не интересовали новейшие технические разработки, и он оставался глух к голосам тех, кто стремился убедить его в необходимости развивать метод радиолокации, создавать атомную бомбу, реактивный истребитель или ракеты. Он крайне редко летал на предоставленном в его распоряжение «Кондоре», так как боялся, что этот самолет новейшей конструкции однажды не сможет выпустить шасси. Гитлер относился к нему с недоверием и любил повторять, что предпочитает старый добрый Ю-52 с неподвижным шасси.
Нередко Гитлер после окончания совещания в тот же вечер излагал своим военным советникам полученные от нас сведения. Иногда он как бы случайно забывал сообщить, от кого конкретно он их почерпнул. Когда на полях сражений появились первые «Т-34», Гитлер ликовал, ибо он еще раньше требовал удлинить стволы танковых орудий, и теперь русские подтвердили его правоту. Еще до своего назначения министром я слышал, как Гитлер, после того как ему продемонстрировали новейший образец танка «T-IV», горько жаловался в саду рейхсканцелярии на упрямство чиновников управления вооружений сухопутных войск. Гитлер доказывал, что удлинение ствола танкового орудия увеличит его скорость, но они упорно не желали прислушаться к его доводам и в первую очередь доказывали, что конструкция танка совершенно для этого не приспособлена и удлиненный ствол только усилит нагрузку на носовую часть.
Теперь Гитлер, желая убедить несогласных с его предложениями, всегда приводил в качестве решающего аргумента
304
этот эпизод: «Тогда я оказался прав, а они никак не хотели поверить мне. И теперь я снова буду прав!» В то время как командование сухопутных войск наконец выразило желание получить в свое распоряжение танк, обладавший большей по сравнению с «Т-34» скоростью, Гитлер принялся настаивать на необходимости усилить пробивную силу орудия танка и установлении на нем более мощной брони. В данном случае он также оперировал нужными цифровыми показателями и вполне компетентно рассуждал о точности попадания бронебойных снарядов и начальной скорости их полета. Свою точку зрения он отстаивал, ссылаясь на опыт военного кораблестроения: «В морском сражении тот, у кого орудия обладают большей дальностью стрельбы, может вести огонь с большего расстояния. Пусть даже с разницей в один километр. Ну а если добавить сюда более мощную броню... тогда он полностью превзойдет противника. Что же вы тогда хотите? Быстроходному кораблю остается лишь использовать свое преимущество в скорости и поскорее исчезнуть за горизонтом. Или вы намерены доказать мне, что большая скорость дает неоспоримые преимущества перед более мощной броней и дальнобойной артиллерией? Все это в полной мере относится к танкам. Легкие и быстроходные танки должны уступить место тяжелым».
В этих дискуссиях мои непосредственно связанные с промышленностью специалисты, как правило, не принимали прямого участия. Мы были обязаны конструировать танки в соответствии с требованиями командования сухопутных войск вне зависимости от того, кто конкретно их предъявлял: Гитлер, Генеральный штаб или управление вооружений.
Вопросы тактики нас никак не касались, и поэтому полемику вели в основном офицеры. В 1942 году Гитлер еще не привык резко обрывать дискуссию и объявлять сврю точку зрения непререкаемой. Тогда он еще спокойно выслушивал возражения и в не менее спокойной манере излагал свои аргументы, к которым, разумеется, прислушивались с особым вниманием.
Так как по требованию Гитлера вес «Тигра» был увеличен с 50 до 75 тонн, мы решили начать работы по созданию нового, более легкого — весом 30 тонн — танка. Уже одно его название «Пантера» говорило о его большой
305
маневренное™. Мотор при этом у него должен был быть таким же мощным, как у «Тигра». Но Гитлер постоянно требовал усилить его броневую защиту и увеличить длину орудийного ствола, и в результате начальный вес «Пантеры» составил 48 тонн.
Чтобы хоть как-то компенсировать потери, связанные со столь странным превращением быстроходного танка в не отличавшийся высокой маневренностью «Тигр», мы наладили серийное производство малого, легкого и опять же очень подвижного танка. Одновременно Порше, желая обрадовать и успокоить Гитлера, разработал проект сверхтяжелого танка весом свыше 100 тонн. Поэтому выпущено было всего несколько образцов. С целью ввести в заблуждение агентов вражеских разведок чудовище назвали «Мышью». Порше и без того перенял у Гитлера чрезмерное пристрастие к сверхтяжелой боевой технике и при случае информировал его об аналогичных разработках противника. Как-то Гитлер срочно вызвал генерала Буле и заявил: «Я слышал, что враг вот-вот начнет использовать танк с гораздо более мощной броневой защитой, чем наши. Вы уже располагаете соответствующими сведениями? Если это правда, то нужно немедленно... немедленно начать разработку нового образца протавотанкового орудия. Его пробивная сила должна быть... нужно увеличить жерло или удлинить ствол, короче, мы должны как-то отреагировать. И немедленно!»
Основная ошибка Гитлера заключалась в том, что он, будучи верховным главнокомандующим вермахтом, занял еще пост главнокомандующего сухопутными войсками и получил возможность полностью предаться «любимому занятию», то есть сосредоточить все внимание на новых типах танков. Обычно эти вопросы решали между собой в жарких спорах офицеры Генерального штаба и сотрудники Управления вооружений и военно-промышленного комитета. Прежний главнокомандующий сухопутными силами обычно вмешивался только в исключительных случаях. Гитлер же мелочной опекой и привычкой давать подробнейшие указания офицерам и специалистам снял с них всякую ответственность и тем самым невольно побудил их халатно относиться к своим обязанностям.
Решения Гитлера не только повлекли за собой разработку множества аналогичных видов вооружений, но и нарушили
306
привычный порядок снабжения ими войск, создав здесь невообразимый хаос. Особенно губительные последствия имело непонимание им необходимости регулярной доставки на фронт достаточного количества запасных частей. Генеральный инспектор танковых войск генерал-полковник Гудериан в беседах со мной часто повторял, что быстрый ремонт позволяет сохранять боеспособность танков и требует относительно немного затрат. Однако Гитлер при поддержке руководителя одного из управлений моего министерства Заура отдал предпочтение не производству запасных частей, а гораздо более дорогостоящему крупносерийному выпуску новых танков.
Все эти безобразия творились в подведомственной главнокомандующему резервной армией сфере, и поэтому я несколько раз брал генерал-полковника Фромма с собой в ставку, чтобы тот имел возможность изложить Гитлеру аргументы своих подчиненных. Фромм был наделен способностью говорить четко и ясно; уверенность в себе сочеталась в нем с дипломатическим тактом. Обычно он восседал, зажав саблю между ног и положив руку на эфес. Казалось, Фромм весь заряжен неукротимой энергией, и я до сих пор полагаю, что благодаря своим незаурядным способностям он сумел помешать принятию нескольких неверных решений. Уже после нескольких совещаний авторитет его в ставке сильно вырос. Тотчас же он встретил сильное сопротивление со стороны Кейтеля — тот явно почувствовал, что влияние его может уменьшиться, — и Геббельса, который очень нелестно аттестовал Гитлеру главнокомандующего резервной армией и прямо обвинил его в политической неблагонадежности. ’
Вскоре при обсуждении проблемы снабжения фронтовых частей у Фромма возник конфликт с Гитлером, и тот сразу же достаточно ясно намекнул мне, чтобы я не брал больше генерал-полковника с собой в ставку.
Все эти многочисленные совещания проводились с целью разработки программы вооружений сухопутных войск. Гитлер всегда руководствовался следующим принципом: «Чем больше я требую, тем больше мне достанется», — и, к моему удивлению, программу, которая многим специалистам казалась невыполнимой, в конце концов удавалось даже перевыполнить. Гитлер своим авторитетом сумел
307
задействовать не учтенные ранее ресурсы. Но начиная с 1944 года он уже совершенно потерял чувство реальности, и все наши попытки внедрить в производство разработанные по его приказу утопические проекты дали только минимальный результат.
Мне казалось, что Гитлер, устав от бремени ответственности за проведение военных операций, искал отдохновения в многочасовых совещаниях, посвященных проблемам военной промышленности. Гитлер сам иногда говорил мне, что они оказывают на него такое же воздействие, как когда-то наши с ним беседы об архитектуре, то есть успокаивают ему нервы. Даже когда положение на фронтах становилось все более угрожающим, Гитлер все равно готов был тратить много времени на эти совещания; иногда он, словно нарочно, проводил их в те моменты, когда его фельдмаршалы или министры хотели срочно встретиться с ним.
Наши встречи были связаны теперь с демонстрацией на расположенном неподалеку от «Волчьего логова» поле новых образцов боевой техники. Выглядело это обычно так: сперва мы доверительно беседовали с Гитлером, а затем отправлялись на полигон, где все выстраивались в шеренгу, и неизменно стоявший крайним справа начальник штаба ОКВ фельдмаршал Кейтель поочередно представлял генералов и инженеров. В таких ситуациях Гитлер особенно тщательно следил за соблюдением церемониала. До поля было всего несколько сотен метров, но Гитлер никогда не позволял себе проделать этот путь пешком. Он садился в свой служебный автомобиль рядом с шофером, а я устраивался на заднем сиденье.
На полигоне Гитлер тщательно вникал во все детали и, продолжая вести непрерывные переговоры со специалистами, взбирался по заранее подставленным лесенкам на боевые машины. Одобрительно отзываясь о них, мы часто говорили такие слова: «Какой изящной формы ствол!» или «До чего ж этот танк радует глаз!» — так мы с ним обычно выражались, когда беседовали об архитектуре.
Во время одного из таких испытаний Кейтель принял 75-миллиметровое противотанковое орудие за легкую полевую гаубицу. Гитлер сделал вид, что не заметил его промаха, но на обратном пути с пренебрежением заметил: «Вы
308
слышали? Как же Кейтель мог так ошибиться? А ведь он раньше был в чине генерала артиллерии!»
В другой раз командование военно-воздушных сил прислало на соседний аэродром множество боевых самолетов нового образца. Геринг лично взялся рассказать о них Гитлеру. Офицеры его штаба составили шпаргалку, в которой поочередно перечислили все представленные типы самолетов с подробным указанием их летно-тактических данных. Однако Геринга забыли проинформировать о том, что один из образцов не успели своевременно доставить на аэродром. Геринг был настроен весьма благодушно и, строго придерживаясь текста, так и не догадался, что имеется в виду совершенно другой тип самолета. Гитлер сразу все понял, но предпочел не заметить его ошибку.
О начавшемся в конце июня 1942 года новом генеральном наступлении на Восточном фронте я, как и большинство моих сограждан, узнал из газет. В ставке царило радостное настроение. Каждый вечер главный адъютант Шмундт, стоя у висевшей на стене карты, разъяснял гражданскому персоналу, как продвигаются наши войска. Гитлер ликовал. Он вновь сумел доказать свою правоту генералам, настойчиво советовавшим ему ограничиться обороной и наступлениями на отдельных участках фронта. Фромм также не скрывал своей уверенности в удачном исходе столь крупномасштабных наступательных операций, хотя еще совсем недавно в разговоре со мной заявил, что они для нас — непозволительная роскошь.
Левый фланг наступавших восточнее Киева наших войск становился все длиннее и длиннее. Вскоре они приблизились к Сталинграду. Пришлось предпринять неимоверные усилия для того, чтобы кое-как наладить на захваченных землях железнодорожное сообщение и обеспечить доставку на фронт солдат и вооружения. Не прошло и трех недель после начала успешного наступления, как Гитлер перебрался на расположенный неподалеку от украинского города Винницы передовой командный пункт. Так как русские самолеты почти не показывались, а авиация западных союзников и подавно никак уж не могла сюда проникнуть — это было ясно даже чрезмерно опасавшемуся за свою жизнь Гитлеру, — то на отведенной под новую ставку территории не стали сооружать мощные железобетонные строения.
309
Военный и гражданский персонал разместили в разбросанных по лесу благоустроенных и весьма приятных на вид деревянных блокгаузах.
Я воспользовался частыми полетами в ставку, чтобы в свободные часы познакомиться с культурой и обычаями России. Однажды мне довелось попасть в Киев. Если сразу после Октябрьской революции в русских городах дома строились в стиле таких авангардистов, как Корбюзье, Май и Эль Лисицкий, то усиление власти Сталина в конце двадцатых годов повлекло за собой возврат в архитектуре к консервативным традициям классицизма. Например, проект здания Верховного Совета Украины вполне мог быть создан талантливым выпускником парижской Академии изящных искусств.
Мне даже пришла в голову мысль разыскать архитектора и предложить ему работу в Германии. Построенный в классическом стиле стадион украшали явно скопированные с античных скульптур статуи атлетов. Они представляли собой довольно трогательное зрелище, ибо кто-то облачил их в трусы и купальные костюмы.
На месте одной из самых знаменитых церквей Киева я обнаружил груду развалин. Мне рассказали, что при Советах здесь находился склад боеприпасов, который затем по неизвестной причине взлетел на воздух. Позднее Геббельс рассказал мне, что на самом деле рейхскомиссар Украины Эрих Кох решил уничтожить символ ее национальной гордости и приказал взорвать церковь. Геббельс был крайне недоволен его поведением и открыто возмущался жестокими методами управления оккупированными территориями России. Ведь в то время жители Украины в большинстве своем были настроены довольно миролюбиво, и я даже мог позволить себе гулять без охраны по ее дремучим лесам. Уже через полгода чинимые чиновниками германской администрации произвол и насилие привели к тому, что там повсюду появились партизаны.
Мне также довелось побывать в таком промышленном центре, как Днепропетровск. Я был до глубины души поражен обилием в нем институтов и техникумов. Ни один германский город не мог сравняться с ним. Непреклонное стремление Советского Союза стать одной из ведущих индустриальных держав произвело на нас очень сильное
310
впечатление. Еще я осмотрел останки Днепрогэса, на котором в свое время были установлены изготовленные в Германии турбины. Перед отступлением многочисленная команда саперов взорвала в нескольких местах водоподъемную плотину, а затем русские инженеры перекрыли подачу масла, и работавшие на полном ходу и оставшиеся без смазки механизмы превратились в итоге в кучу железного лома — яркое свидетельство того, к каким разрушительным последствиям может привести простой поворот рычага. Позднее, когда Гитлер уже не скрывал своих намерений в случае поражения превратить Германию в пустыню, одна только мысль об этом надолго лишала меня сна.
В ставке Гитлер также почти никогда не отказывался от привычки обедать и ужинать в тесном кругу своих ближайших сотрудников. Но если в рейхсканцелярии на таких трапезах преобладали люди, одетые в коричневую партийную униформу, то здесь его окружали генералы и офицеры. В отличие от роскошно обставленного зала рейхсканцелярии, здешняя столовая скорее напоминала привокзальный ресторан какого-нибудь провинциального городка: выложенные деревянными панелями стены, окна, как в бараке, окруженный стандартными стульями длинный стол на двадцать человек. Гитлер всегда садился в середине, спиной к окну; напротив занимал место Кейтель, а стулья справа и слева от фюрера предназначались исключительно для почетных гостей. Как и прежде в Берлине, Гитлер здесь тоже произносил длинные монологи на излюбленные темы, отводя присутствующим роль бессловесных слушателей. Очевидно, он всеми силами старался в как можно более убедительной манере довести свои мысли до сознания тех гостей, кто, в сущности, был ему чужд и, кроме того, отличался родовитым происхождением и получил превосходное образование. Поэтому застольные разговоры в ставке носили более интеллектуальный характер, чем такие же беседы в рейхсканцелярии.
Если в первые дни наступления во время этих трапез мы пребывали в приподнятом настроении, ибо нас очень радовало стремительное продвижение наших войск по южнорусским равнинам, то через восемь недель все сидели с мрачными лицами, и даже у Гитлера был довольно растерянный вид.
311
Наши войска заняли, правда, нефтяные промыслы Майкопа, а передовые танковые колонны сражались у Терека и через астраханскую степь, где не было никаких транспортных коммуникаций, прорвались к Волге. Но во время этого прорыва был потерян темп, характерный для первых недель наступления. Службы снабжения не успевали доставлять в войска продовольствие и боеприпасы, им уже не хватало запасных частей, и наступающие колонны слишком растянулись. К тому же месячный выпуск продукции на наших военных заводах не был рассчитан на наступление через такую огромную территорию. Производство танков и артиллерийских орудий составляло всего лишь соответственно 1/3 и 1/4 уровня 1944 года. Не говоря уже о том, что перебрасываемая на такие расстояния боевая техника в огромном количестве выходила из строя, еще даже не вступив в бой. Специалисты с танкового полигона в Кум- мерсдорфе утверждали, что ходовая часть и двигатель тяжелого танка, прошедшего 600—800 километров, всегда нуждаются в ремонте.
Гитлер этого не понимал. Он был одержим желанием использовать мнимую слабость противника и требовал от своих изнуренных долгим маршем войск прорыва на Южный Кавказ и вторжения в Грузию. Поэтому большей части и без того ослабленного авангарда он приказал наступать из Майкопа на Сочи и далее по узкой прибрежной полосе выйти южнее Сухуми. Он требовал нанести главный удар именно в этом направлении, так как полагал, что захват Северного Кавказа не потребует больших усилий.
Но передовые части были уже настолько измотаны, что, несмотря на все приказы Гитлера, не смогли больше продвинуться даже на километр. На одном из оперативных совещаний фюреру показали аэрофотоснимки подступов к Сочи, густо заросших ореховыми деревьями. Было ясно, что солдатам будет очень тяжело пробираться сквозь эти заросли под вражеским огнем. Начальник Генерального штаба Гальдер попытался доказать Гитлеру, что наступление в южном направлении обречено на провал, ведь русские могут устроить взрывы на крутых склонах гор, и тогда германские войска не смогут пройти по побережью. Но Гитлер не желал никого слушать: «Любые трудности можно преодолеть! Сперва мы должны захватить шоссе. И тогда
312
путь на равнины южнее Кавказа будет открыт. Там мы сможем дать отдых нашим армиям, создадим базы снабжения и через год-два нанесем удар в подбрюшье Британской империи. Небольшими силами освободим Персию и Ирак, а уж индусы точно встретят наши дивизии радостными возгласами».
Когда в 1944 году мы всерьез занялись полиграфической промышленностью с целью перевести ее производственные мощности на выпуск военной продукции, то неожиданно выяснили, что на одной из лейпцигских типографий по- прежнему исправно выполняли карты Персии и печатали немецко-персидские разговорники. ОКБ просто забыло отменить свой заказ.
Даже для совершенно несведущего в военном деле человека было ясно, что наше наступление выдохлось. И тут вдруг в ставку поступило сообщение о том, что подразделение германских горных стрелков взобралось на окруженную ледниками самую высокую гору Кавказа Эльбрус — ее высота составляет более 5600 метров — и водрузило на ней имперский военный флаг. В сущности, это была чистейшей воды авантюра, которая никак не могла отразиться на ходе военных действий. Мы все полагали, что вообще не стоит придавать безумной выходке альпинистов-фанатиков большое значение. Реакция Гитлера была совершенно иной. Мне редко приходилось видеть, как Гитлер гневается, но я никогда не думал, что он способен настолько потерять самообладание. Несколько часов он кричал и бился в истерике, словно этот эпизод поставил под угрозу весь стратегический план Восточной кампании. Даже через неделю он никак не мог успокоиться и проклинал «этих сумасшедших альпинистов, которых следовало бы отдать под трибунал». Он говорил, что этих идиотов обуяло честолюбие и они полезли на эту дурацкую вершину, хотя он недвусмысленно приказал бросить все силы на Сухуми. И теперь он еще раз убедился, что его приказы толком не выполняются.
Срочные дела вынудили меня вернуться в Берлин. Через несколько дней главнокомандующий наступавшей на Кавказ группы армий был смещен со своего поста, хотя Йодль всячески пытался его отстоять. Когда я недели через две вновь прилетел в ставку, Гитлер уже обрушил свой гнев на
313
Кейтеля, Йодля и Гальдера. Теперь он демонстративно не подавал им руки, не принимал участия в общих трапезах и вплоть до конца войны предпочитал обедать и ужинать, уединившись в своем бункере, куда иногда приглашал избранных лиц. Отношения Гитлера с его военными советниками окончательно испортились.
Был ли тому причиной неудачный исход летнего наступления, на который он возлагал столько надежд, или, возможно, тогда у него впервые появилось предчувствие неизбежности поражения? По-видимому, он просто не хотел выглядеть в глазах своих генералов и офицеров неудачником и поэтому не желал больше сидеть с ними за одним столом. К тому же в своих долгих монологах, обращенных к этим людям, он почти полностью исчерпал запас знаний, полученный им из множества беспорядочно прочитанных в детстве и юности книг, и его дилетантские рассуждения уже не производили должного впечатления. Может быть, он даже почувствовал, что не оказывает больше на своих сотрудников магического воздействия.
Как бы то ни было, но через месяц все стало на свои места, и Гитлер вдруг неожиданно начал снова проявлять благосклонность к Кейтелю и Йодлю. Если первый все это время ходил с понурым видом, хотя и отличался при этом еще большим служебным рвением, и теперь как-то сразу вдруг повеселел, то второй оставался верен себе и никак не реагировал на неприязненное отношение Гитлера. Однако генерал-полковник Гальдер был вынужден уйти в отставку — спокойный, замкнутый человек, не сумевший ни убедить Гитлера пересмотреть свои примитивные воззрения на военное искусство, ни противостоять его неукротимой энергии и поэтому всегда производивший несколько беспомощное впечатление. Новый начальник Генерального штаба сухопутных войск Курт Цейтцяер ничем не напоминал своего предшественника. Он не отличался особым тактом, по натуре был грубоват и всегда зычным голосом докладывал о положении на фронте. Его никак нельзя было отнести к категории независимо мыслящих военачальников. Ведь Гитлеру требовался беспрекословный исполнитель, который, по словам фюрера, «не будет долго размышлять над моими указаниями, а приложит все силы для их выполнения». Цейтцлер как нельзя лучше соответствовал этим представлениям, и поэтому из всего
314
высшего командного состава сухопутных войск Гитлер выбрал именно его. Занимавшему в этой иерархии подчиненное место Цейтцлеру, минуя два предшествующих звания, сразу же присвоили чин генерал-полковника.
После назначения нового начальника Генерального штаба я до поры до времени был единственным штатским лицом, которому Гитлер разрешил присутствовать на так называемых оперативных совещаниях. Я рассматривал это как знак особого благоволения, и, действительно, Гитлер был доволен моей деятельностью на посту министра вооружений, так как выпуск военной продукции постоянно увеличивался. Но он наверняка не дал бы своего разрешения, если бы опасался, что я своими возражениями могу вызвать бурные дебаты, которые подорвут его престиж. Страсти утихли, и Гитлер снова взял себя в руки.
Ежедневно ровно в полдень проводилось «обсуждение оперативно-стратегической обстановки»; как правило, оно продолжалось два-три часа. Все его участники выстраивались вокруг стола для оперативных карт, за которым на обычном плетеном стуле с подлокотниками сидел Гитлер. Наряду с адъютантами в совещании принимали участие офицеры штаба ОКВ и Генерального штаба сухопутных войск, офицеры связи военно-воздушных и военно-морских сил и войск СС, а также личный представитель Гиммлера; в основном это были симпатичные молодые люди в звании полковника или майора. В их обществе Кейтель, Йодль и Цейтцлер вели себя весьма непринужденно. Иногда в ставку приезжал Геринг. В знак особого расположения и из-за его тучной комплекции Гитлер приказывал тогда принести табуретку с мягким сиденьем и разрешал Герингу сесть рядом с ним.
Карты освещались переносными конторскими лампами на длинных штативах. Сперва обсуждалось положение на Восточном фронте. Перед Гитлером расстилали три или четыре склеенные вместе карты диспозиции крупных войсковых соединений размером примерно 2,5 х 1,5 метра каждая. Сначала внимательно изучали ситуацию на северном участке. На картах была отражена в деталях боевая обстановка на вчерашний день — фиксировались не только какие-либо наступательные операции, но даже рейды
315
разведывательных групп. Начальник Генерального штаба подробно комментировал чуть ли не каждый эпизод военных действий. Карты постоянно двигали по столу, чтобы у Гитлера перед глазами всегда был именно тот участок фронта, о котором в данный момент шла речь. Если же на нем происходили мало-мальски значительные события, то обсуждение сложившейся там ситуации продолжалось довольно долгое время, причем Гитлер всегда помнил, какое было положение на вчерашний день, и тщательно отмечал любые изменения. Уже сама подготовка доклада требовала от начальника Генерального штаба и его офицеров колоссального напряжения сил и отвлекала их от гораздо более важных дел. Я ничего в этом не понимал и всегда поражался тому, как Гитлер, слушая доклад, одновременно менял диспозицию, перебрасывал дивизии с одного участка фронта на другой рити вникал во все подробности.
В 1942 году он еще довольно равнодушно воспринимал сообщения о поражениях наших войск, хотя, возможно, такая реакция объяснялась тем, что его ум начал терять былую остроту. Во всяком случае, внешне он сохранял полное спокойствие и не только не впадал в отчаяние, но, напротив, упорно стремился полностью соответствовать образу принимающего взвешенные решения, не знающего сомнений полководца. Он часто утверждал, что полученный в окопах Первой мировой войны опыт, которым не обладают его прошедшие школу Генерального штаба советники, позволяет ему гораздо лучше осмыслить во всех деталях боевые эпизоды. Частично он был прав, однако, по мнению многих офицеров, «взгляд из окопа» не позволял Гитлеру внимательно изучить оперативно-стратегическую обстановку в целом. Генерал-полковник Фромм в свойственной ему лаконичной манере утверждал, что предпочел бы иметь на посту верховного главнокомандующего сугубо штатского человека, чем бывшего ефрейтора, который к тому же никогда не воевал на Восточном фронте и не способен понять специфический характер тамошнего театра военных действий.
Гитлер занимался в буквальном смысле слова латанием дыр. Но зато ему приходилось мириться с тем, что карты давали совершенно недостаточное представление о своеобразии местности. Весной 1942 года он лично приказал
316
отправить на фронт первые шесть боеспособных «Тигров». Как обычно, от образцов новейшей боевой техники ожидали сенсационных результатов. Гитлер рисовал перед нами совершенно фантастическую картину: снаряды советских противотанковых 76-миллиметровых орудий, обычно даже с большого расстояния легко пробивавшие лобовую броню наших танков «T-IV», теперь рикошетом отскакивают от массивной башни и корпуса «Тигра», и тот в конце концов вминает в землю огневые точки. Генералы сразу же обратили внимание Гитлера на то обстоятельство, что для демонстрации боевой мощи «Тигров» он выбрал болотистую местность и танки не смогут там маневрировать. Гитлер не согласился с их доводами, но сделал это довольно спокойно. Оставалось лишь напряженно ожидать итогов первой атаки «Тигров», и я лично всерьез опасался за их ходовую часть. Как выяснилось, от нее мало что зависело. Русские просто дождались, когда «Тигры» пройдут мимо их позиций, а затем открыли огонь по первому и последнему танкам. Снаряды сразу же пробили башни — с боковой стороны броня на них оказалась недостаточно крепкой. Остальные четыре танка не могли больше двигаться ни взад ни вперед, а развернуться им не позволяли раскинувшиеся вокруг болотистые земли. Теперь они были обречены на уничтожение. Гитлер никак не отреагировал на столь явный провал боевой задачи, происшедший, ко всему прочему, по его вине, и в дальнейшем никогда не касался этой темы.
О положении на западном театре военных действий — тогда бои шли только на территории Северной Африки — докладывал генерал-полковник Йодль. Гитлер и здесь стремился вникать во все подробности. Роммель неоднократно вызывал недовольство Гитлера тем, что очень невнятно докладывал в ставку о продвижении своих войск, то есть попросту скрывал от нее истинное положение дел с целью неожиданно преподнести сенсационную новость о полностью изменившемся положении на фронте. Гитлер бурно негодовал, но, питая сильную симпатию к Роммелю, закрывал глаза на его поведение.
Собственно говоря, именно Йодль как начальник штаба оперативного руководства вермахта должен был координировать военные действия на всех фронтах. Но Гитлер Демонстративно взял эту задачу на себя, однако так толком
317
и не занимался ее выполнением. В сущности, Йодль не обладал четко определенными полномочиями. Желая вообще получить хоть какое-то поле деятельности, его штаб взял на себя руководство операциями на отдельных фронтах. В результате Гитлер оказался как бы между двумя конкурирующими генеральными штабами и мог выступать в своей любимой роли третейского судьи. Чем хуже становилось положение, тем ожесточеннее эти штабы спорили между собой по поводу переброски отдельных дивизий с Восточного фронта на Западный и наоборот.
В ходе одновременного «обсуждения оперативно-стратегической обстановки в сфере действий военно-воздушных и военно-морских сил» офицеры связи или адъютанты, представлявшие эти рода войск, обычно делали обобщающие доклады о происшедших за последние сутки событиях. Они вкратце сообщали о воздушных налетах на Англию, о бомбардировках немецких городов и впечатляющих успехах германских подводных лодок. Гитлер предоставил своим главнокомандующим военно-воздушными и военно-морскими силами почти полную свободу действий и обычно — по крайней мере в тот период — вмешивался лишь в тех редких случаях, когда требовался его совет.
В конце совещания Кейтель, как правило, представлял на подпись несколько документов. Обычно речь шла о тех вызывающих насмешку или страх распоряжениях, которые должны были избавить его от последующих упреков со стороны Гитлера. Я сразу же заявил, что Кейтель в недопустимой форме злоупотребляет этим своим правом, ибо таким образом в корне отличающиеся друг от друга представления и намерения обретают силу приказа и создают совершенно невообразимую сумятицу и хаос.
Из-за присутствия большого количества людей в сравнительно маленьком помещении всегда был спертый воздух, из-за которого я — как и многие другие участники совещаний — очень быстро уставал. Вентиляционная установка, по словам Гитлера, лишь создавала «избыточное давление», что, в свою очередь, вызывало головную боль и легкую тошноту. Поэтому ее включали только до и после совещания. Даже в хорошую погоду окна всегда оставались закрытыми, даже днем они были занавешены плотными
318
шторами. Из-за этого внутри царила довольно мрачная атмосфера.
Я ожидал, что участники совещания безропотно воспримут прочитанный им доклад, и был поражен тем, как офицеры откровенно, хотя и вполголоса, обсуждали изложенные в нем проблемы. Зачастую они, не обращая никакого внимания на присутствие Гитлера, рассаживались за его спиной. Гитлеру это мешало лишь в тех случаях, когда они излишне волновались и слишком громко переговаривались между собой. Стоило ему с недовольным видом поднять голову, как все сразу же замолкали.
Открыто возражать Гитлеру, и то лишь сперва в очень осторожной форме, на оперативных совещаниях начали лишь с осени 1942 года. Гитлер довольно спокойно воспринимал критические замечания тех, кто эпизодически принимал участие в этих совещаниях, но зато от своих постоянных сотрудников требовал полного повиновения. Сам он, пытаясь убедить кого-либо в своей правоте, долго распространялся на общие темы и старался по возможности не касаться конкретных проблем. Своим собеседникам он обычно не давал даже слова сказать и обычно удачно избегал обсуждения спорных моментов, предлагая заняться этим в беседе с глазу на глаз. Он полагал, что высшим военачальникам будет довольно затруднительно признать свою неправоту в присутствии штабных офицеров. Ему также казалось, что тогда они точно не смогут противостоять его колдовскому очарованию и красноречию. По телефону Гитлер не мог в полной мере воспользоваться этими своими качествами и поэтому очень не любил обсуждать важные проблемы с невидимыми собеседниками.
Поздним вечером проводилось еще «вечернее обсуждение оперативно-стратегической обстановки», в ходе которого один из молодых офицеров Генерального штаба докладывал о событиях, происшедших в последние часы. При этом Гитлер обычно предпочитал получать информацию лично, уединившись с ним. Однако, если я перед этим ужинал с Гитлером, он всегда приглашал меня присутствовать при докладе. Характерно, что держал он себя более свободно, чем днем, и вообще вся атмосфера в эти часы была куда менее гнетущей.
319
Вину за то, что Гитлер со временем вообразил себя сверхчеловеком, несет и его ближайшее окружение. Еще генерал-фельдмаршал Бломберг — первый и последний военный министр в правительстве Гитлера — неоднократно публично заявлял, что «фюрер обладает выдающимся полководческим талантом». Даже гораздо более скромный и наделенный гораздо большим самообладанием человек, непрерывно выслушивая в свой адрес одни только хвалебные слова, через какое-то время был бы уже не в состоянии реально оценить свои возможности.
По своей натуре Гитлер был склонен выслушивать советы только от тех, кто, подобно ему, предавался иллюзиям и был готов даже превзойти его в чрезмерно оптимистической оценке ситуации. Это в первую очередь относится к Кейтелю. Всякий раз, когда Гитлер принимал решения, с которыми большинство офицеров было не согласно и на которые они поэтому реагировали демонстративным молчанием, не кто иной, как Кейтель, стремился убедить фюрера, что тот якобы, как всегда, поступил правильно, и находил для этого нужные слова. Он постоянно был рядом с Гитлером и в результате полностью попал под его влияние. Из военачальника, внушавшего уважение не только своей респектабельной внешностью, но и по-бюргерски основательными взглядами, он превратился, в сущности, в лакея, то есть в человека неискреннего, не имеющего собственного мнения и готового всячески льстить и угождать своему господину. В душе Кейтель, несомненно, жестоко страдал, но ничего не мог поделать с собой: бесперспективность дискуссий с Гитлером в конце концов побудила Кейтеля уже заранее во всем соглашаться с ним. Ведь вздумай он начать отстаивать свое мнение, Гитлер тут же бы нашел ему замену и, конечно же, назначил начальником штаба ОКВ такого же льстеца и угодника.
В 1943—1944 годах старший адъютант Гитлера Шмундт, занимавший одновременно должность начальника главного управления кадров сухопутных войск, вместе с еще несколькими генералами пытался добиться назначения на этот пост решительного и энергичного фельдмаршала Кес- сельринга, и Гитлер в результате заявил, что никогда не откажется от услуг Кейтеля, ибо тот «предан ему, как
320
собака». Вероятно, он хотел, чтобы все люди из его окружения походили на Кейтеля.
Йодль очень редко открыто возражал Гитлеру. Как правило, он скрывал свои мысли, чтобы затем в беседе с Гитлером убедить его пойти на уступки или даже полностью отменить свое решение. Иногда он даже позволял себе пренебрежительно отзываться о Гитлере, что свидетельствовало о его более-менее трезвой оценке личности верховного главнокомандующего. Подчиненные Кейтеля — например, генерал Варлимонт — уж никак не могли обладать большей смелостью, чем их шеф: Кейтель никогда не защищал их от нападок Гитлера. При случае они пытались откорректировать совсем уж противоречащие здравому смыслу приказы Гитлера и тем самым свести к минимуму возможный ущерб от них. Под руководством покорного, боявшегося проявить хоть малейшую самостоятельность Кейтеля штаб ОКВ для достижения своих целей был вынужден искать самые немыслимые обходные пути.
Готовность высшего генералитета во всем соглашаться с Гитлером в определенной степени объяснялась также их переутомлением. Гитлер привык работать так, что ни о каком нормальном распорядке дня генералов и офицеров штаба ОКВ не могло быть и речи. Они даже никогда толком не высыпались. Такие чрезмерные физические нагрузки играют определенную роль, особенно когда человек обязан трудиться с полной отдачей на протяжении длительного срока. Даже при неофициальных встречах Кейтель и Йодль производили впечатление изнемогающих под бременем ответственности и душевно опустошенных людей. Видя, что все сотрудники Гитлера работают на износ, я решил, что им на помощь нужно привлечь новых людей, и наряду с Фроммом под предлогом необходимости доложить о положении дел в Центральном управлении планирования несколько раз брал с собой туда своего друга Мильха. Сперва все шло хорошо, и Мильх, предложив отказаться от планировавшегося крупносерийного выпуска тяжелых бомбардировщиков и вместо этого приступить к осуществлению программы производства истребителей, встретил понимание со стороны Гитлера и заметно усилил свое влияние на него. Но тут Геринг запретил ему появляться в ставке.
ПА. Шпеер
321
Резиденцией Геринга на территории ставки служил небольшой павильон, ибо он обычно приезжал туда ненадолго. Когда я осенью 1942 года встретился с ним под крышей этой легкой постройки, рейхсмаршал тоже производил далеко не самое лучшее впечатление. Внутри ничего не напоминало спартанскую обстановку бункера Гитлера, и вообще Геринг предпочитал сидеть на мягких креслах. С подавленным видом он сказал: «Если после этой войны удастся сохранить Германию в границах 1933 года, будем считать, что нам крепко повезло». Правда, он сразу же попытался сгладить впечатление от столь мрачной оценки нашего положения и произнес несколько банальных сентенций, которые должны были засвидетельствовать его непоколебимую уверенность в победе. Тем не менее мне теперь казалось, что, несмотря на откровенное бесстыдство, с которым Геринг соглашался едва ли не с каждым словом Гитлера, в душе он уже сознавал неотвратимость поражения.
Приехав в ставку, Геринг имел обыкновение на несколько минут уединяться в отведенном для него павильоне. Его представитель генерал Боденшатц тут же покидал комнату для оперативных совещаний и, как мы предполагали, извещал своего шефа по телефону о всех возникших спорных вопросах. Затем Геринг появлялся в комнате и, не дожидаясь приглашения, горячо отстаивал именно ту точку зрения, которую Гитлер непременно хотел навязать своим генералам. И тогда Гитлер, окинув торжествующим взглядом участников совещания, говорил: «Вот видите, рейхсмаршал полностью разделяет мое мнение».
7 ноября 1942 года я оказался вместе с Гитлером в его направляющемся в Мюнхен поезде особого назначения. В таких поездках над Гитлером не довлела господствующая в ставке рутина, и мне без труда удавалось втянуть его в многочасовые обсуждения общих проблем развития военной промышленности. В одном из вагонов этого спецпоезда находились мощная радиостанция, телефонный узел и отдел телеграфной связи. Гитлера сопровождали Йодль и несколько высокопоставленных офицеров Генерального штаба.
В поезде царила очень напряженная атмосфера. Мы опаздывали на несколько часов, так как подолгу стояли на
322
каждой более-менее большой станции в ожидании, пока нашу линию подключат к имперской сети телефонной связи. Мы с нетерпением ждали свежей информации, ибо уже знали, что рано утром целая армада транспортных судов в сопровождении многочисленных кораблей охранения вошла в Гибралтарский пролив.
Прежде Гитлер во время остановок своего спецпоезда всегда подходил к окну. Теперь же ему, видимо, хотелось отгородиться от внешнего мира; во всяком случае, шторы на том окне, которое выходило на перрон, были теперь всегда наглухо задернуты. Когда мы поздно вечером сели вместе с Гитлером ужинать в салон-вагоне — его стенки были отделаны палисандром, — никто из нас сперва не обратил внимания на стоявший на соседнем пути товарный поезд, и возвращающиеся с Восточного фронта в вагонах для скота изможденные, изголодавшиеся немецкие солдаты, среди которых было много раненых, какое-то время пристально смотрели на собравшуюся за уставленным изысканными блюдами столом компанию. Открывшаяся Гитлеру буквально в двух метрах от окна салон-вагона картина человеческих страданий заставила его резко вскочить с места. Однако он не вскинул руку в знак приветствия, и вообще никакой другой реакции не последовало — он лишь жестом приказал ординарцу быстро опустить шторы. Этим завершилась одна из редких в третий период войны встреч Гитлера с простыми солдатами, сражающимися на фронте. А ведь когда-то он сам был таким же...
Теперь на каждой станции мы получали сообщение о том, что количество кораблей постоянно растет. Видимо, США и Англия приступили к осуществлению грандиозной операции. Все их обнаруженные нашими разведывательными самолетами суда уже миновали Гибралтарский пролив и вошли в Средиземное море. «Десантная операция, не имеющая себе равных в мировой истории», — с восхищением отозвался о ней Гитлер и, может быть, даже не вспомнил в этот момент, что такого рода операции направлены сейчас непосредственно против него. Корабли встали на якорь к северу от берегов Алжира и Марокко, и вплоть до утра не предпринималось никаких попыток высадить десант.
Гитлер всю ночь ломал голову над загадочным поведением англо-американского командования и выдвигал одну
и*
323
версию за другой. Он полагал, что, вероятнее всего, этот конвой доставил крупные партии боеприпасов, продовольствия и горючего для развивавших наступление против нашего Африканского корпуса частей Восьмой английской армии. По его словам, корабли собирались в одном месте, чтобы под покровом защищающей их от немецких самолетов темноты прорваться через Мессинский пролив. Но, полагая, что противник, подобно ему, также питает склонность к рискованным военным операциям, Гитлер не исключал следующей возможности: «Они еще сегодня ночью высадятся в Центральной Италии и не встретят там никакого сопротивления. Германских войск там нет, а итальянцы разбегутся кто куда. Таким образом они смогут отрезать с юга Северную Италию. И какая же судьба ожидает тогда Роммеля? Он вскоре потерпит сокрушительное поражение. У него же почти не осталось резервов, а нашим кораблям к нему не прорваться!» Гитлер поставил себя на место противника и пришел в упоение от открывшейся ему внезапно перспективы проведения хотя бы на словах подобной широкомасштабной десантной операции, ведь сам он уже давно не имел таких возможностей: «Я бы сразу же занял Рим и сформировал бы там новое итальянское правительство. Или вот еще один вариант. Эта армада направляется к берегам Южной Франции и высаживает там войска. Мы всегда слишком легко шли на уступки. И вот вам результат! Там вообще нет германских войск, я уже не говорю об укреплениях. Мы совершили огромную ошибку, не направив туда войска. Правительство Петена, разумеется, не окажет никакого сопротивления!» В этот момент он, видимо, забыл, что смертельная угроза нависла сейчас не над кем-нибудь, а именно над ним.
Высказанные Гитлером соображения не имели никакого отношения к действительности. Ему даже в голову не могло прийти, что такая грандиозная десантная операция вовсе не обязательно должна граничить с авантюрой. Высадить войска на берег в безопасных местах, откуда они смогли бы почти беспрепятственно развивать наступление, и тем самым избежать ненужных потерь — такая стратегия была глубоко чужда его натуре. Но в эту ночь он, безусловно, осознал, что вскоре будет открыт второй фронт.
324
Я до сих пор хорошо помню, как шокировала меня речь, которую Гитлер произнес по поводу годовщины предпринятой им в 1923 году неудачной попытки государственного переворота. Вместо того чтобы подчеркнуть всю серьезность положения и призвать людей работать с максимальным напряжением сил, он демонстрировал уверенность в победе и бросал в зал избитые фразы. «Они полные идиоты, если думают, что смогут когда-нибудь разгромить Германию... Мы не погибнем, а значит, погибнут другие». Так Гитлер говорил о противнике, о котором еще вчера отзывался с большим уважением.
Поздней осенью 1942 года Гитлер ликующим голосом заявил на одном из оперативных совещаний: «Итак, русские посылают в бой курсантов военных училищ — неопровержимое доказательство того, что они исчерпали все свои резервы. Иначе бы они не пожертвовали молодыми офицерскими кадрами».
Через несколько недель, 19 ноября 1942 года, Гитлер — он к тому времени уединился в Оберзальцберге — получил первые сообщения о начале крупномасштабного зимнего наступления русских войск, которое еще через девять недель привело к капитуляции 6-й армии. После мощной артиллерийской подготовки советские части прорвали под Серафимовичем оборонительные позиции румынских дивизий. Гитлер сперва попытался объяснить эту катастрофу низкими боевыми качествами своих союзников и, стремясь принизить ее значение, начал с пренебрежением отзываться о них. Однако вскоре советские войска пробили брешь в обороне германских дивизий и вырвались на оперативный простор.
Гитлер расхаживал взад-вперед по огромному залу «Берг- хофа»: «Наши генералы постоянно совершают одну и ту же ошибку. Они переоценивают силы противника. А ведь, судя по фронтовым сводкам, он уже не располагает достаточным количеством солдат и офицеров. Он ослаб, так как понес слишком большие потери. Но никто не хочет с этим считаться. Вообще никто! А как плохо обучены русские офицеры! Они же вообще не в состоянии заниматься подготовкой наступления. Уж мы-то знаем, что для этого требуется. Рано или поздно русские остановятся. Они просто выдохнутся. А мы тем временем бросим в бой несколько
325
свежих дивизий, и все вернется на свои места». В «Бергхо- фе» он был как бы отрезан от всего мира и поэтому не понимал, что на самом деле произошло. Через три дня, видя, что тревожные сообщения идут нескончаемым потоком, он спешно выехал в Восточную Пруссию.
Еще через несколько дней мне довелось рассматривать в Растенбурге штабную карту, на которой протянувшийся от Воронежа до Сталинграда южный участок фронта на полосе шириной в 200 километров был весь прорежен множеством красных стрелок. Они обозначали наступавшие советские войска. Между ними кое-где были нарисованы маленькие голубые круги — очаги сопротивления остатков немецких и союзных частей. Вокруг Сталинграда уже сомкнулось кольцо окружения. На карте его изображали красные круги. Гитлер был очень обеспокоен создавшимся положением и приказал спешно перебросить туда войска с других участков фронта и оккупированных территорий. Он так и не удосужился создать оперативный резерв, хотя генерал Цейтцлер задолго до этих событий предупреждал его, что каждая из сражающихся на юге России дивизий вынуждена слишком растянуть свои боевые порядки и поэтому не в состоянии отразить мощное наступление советских войск.
После окружения Сталинграда Цейтцлер — помню, меня тогда поразили его воспаленные от многих бессонных ночей глаза и белое как мел лицо — предложил немедленно разрешить 6-й армии осуществить прорыв, а затем упорно отстаивал свою точку зрения. Он подробно рассказывал, как мала у осажденных суточная норма выдачи продовольствия, и подчеркивал, что из-за нехватки топлива сражающиеся на развалинах или на заснеженных полях солдаты даже в сильный мороз не получают горячей пищи. Гитлер спокойно выслушивал его доводы. Он был совершенно невозмутим и держался с непоколебимой уверенностью, как бы желая продемонстрировать, что Цейтцлер преувеличивает опасность и у него просто сдали нервы. «Проводимая по моему приказу контратака с юга приведет к восстановлению линии фронта. Мы уже не в первый раз оказываемся в таком положении. И всегда в итоге с честью выходили из него». Он распорядился направить вслед за наступавшими войсками эшелоны с продовольствием,
326
горючим и теплой одеждой, чтобы после деблокирования Сталинграда сразу же облегчить страдания солдат и офицеров 6-й армии. Затем он вновь согласился выслушать Цейтцлера и даже ни разу не перебил его. Начальник Генерального штаба прямо заявил: участвующие в контратаке силы слишком слабы и, лишь соединившись с прорвавшейся в западном направлении 6-й армией, сумеют занять и укрепить позиции к югу от Сталинграда, Гитлер так и не смог переубедить его. Наконец после получасового спора у Гитлера лопнуло терпение: «Сталинград обязан выстоять. Ведь это наша ключевая позиция. Если мы не позволим русским провозить грузы по Волге, они окажутся в крайне затруднительном положении. Как же иначе они перевезут зерно из Южной России на север?» Этот аргумент прозвучал не очень убедительно, и у меня создалось впечатление, что Сталинград для него просто некий символ. Как бы то ни было, но после полемики с Цейтцлером он прекратил всякие дискуссии на эту тему.
На следующий день ситуация ухудшилась. Цейтцлер еще более настойчиво стремился заставить Гитлера пересмотреть свою точку зрения, в комнате для оперативных совещаний царила гнетущая атмосфера, а у Гитлера был совершенно подавленный вид. Он даже сам вдруг заговорил о возможности прорыва и вновь приказал подсчитать, сколько тонн продовольствия и горючего необходимо для поддержания боевого духа свыше 200 000 солдат.
Ровно через двадцать четыре часа судьба попавших в окружение частей была окончательно решена, так как в комнате для оперативных совещаний внезапно появился веселый и бодрый Геринг. На лице его сияла улыбка, и он очень походил на актера оперетты, которому досталась роль победоносного рейхсмаршала. «Можно ли обеспечить снабжение 6-й армии по воздуху?» — неожиданно робким голосом спросил его Гитлер. Геринг вытянул руки по швам и торжественно объявил: «Мой фюрер! Я лично гарантирую вам, что наши самолеты доставят 6-й армии все необходимые грузы. Можете быть в этом уверены!» Позднее Мильх рассказал мне, что, согласно расчетам Генерального штаба военно-воздушных сил, не представлялось возможным установить воздушный мост с оказавшимися в сталинградском котле войсками. Цейтцлер также высказал свои
327
сомнения. Но Геринг резко оборвал генерала и заявил, что теперь это дело находится исключительно в его ведении и подчиненные ему офицеры произведут все необходимые подсчеты. Гитлер, который всегда тщательно составлял колонки цифр, в тот день даже не соизволил выяснить, сколько конкретно потребуется для этого самолетов. После слов Геринга он как-то сразу оживился. К нему вернулась его прежняя решительность: «Тогда нужно во что бы то ни стало удержать Сталинград! Незачем вести бессмысленные разговоры о прорыве 6-й армии. Она будет вынуждена тогда оставить все свое тяжелое вооружение и станет небоеспособной. Нет, 6-я армия останется в Сталинграде!»
Хотя Геринг знал, что теперь от него зависит судьба многих тысяч людей, 12 декабря 1942 года он со спокойной душой пригласил нас на премьеру оперы Рихарда Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры», которой предполагалось торжественно открыть новый театральный сезон в восстановленном после бомбежки здании Берлинской государственной оперы. Мы приехали туда разодетые в парадные мундиры и фраки и чинно заняли места в правительственной ложе. Царившее вокруг веселье настолько резко контрастировало с происходившими на фронте событиями, что я еще долго попрекал себя за то, что принял приглашение Геринга.
Через несколько дней я вновь прибыл в ставку. Цейт- цлер теперь ежедневно сообщал о количестве продовольствия и боеприпасов, доставленных по воздуху 6-й армии; оно составляло ничтожную долю того, что обещал Геринг. Правда, Гитлер неоднократно требовал от Геринга отчета, но рейхсмаршал ловко уходил от объяснений и ссылался на плохую погоду, туман, град или пургу. Он утверждал, что, как только погода улучшится, самолеты будут сбрасывать в котел обещанное количество грузов.
Тем временем в Сталинграде еще больше урезали нормы выдачи продовольствия. Теперь, приходя в офицерскую столовую Генерального штаба, Цейтцлер всякий раз демонстративно требовал, чтобы ему подавали точно такой же паек. Через несколько дней Гитлер заявил ему, что подобное выражение солидарности с солдатами 6-й армии недопустимо для начальника Генерального штаба, который обязан беречь свои силы и нормально питаться. В свою очередь
328
Гитлер запретил подавать в офицерской столовой коньяк и шампанское. Запрет действовал несколько недель, и все это время в полевом штабе Гитлера господствовало упадочническое настроение и лица офицеров превратились в маски. За столом мы теперь упорно молчали, так как никому не хотелось говорить о неотвратимой гйбели еще недавно победоносной 6-й армии.
Группировка, направленная Гитлером на деблокирование котла и доставку оказавшимся в окружении войскам боеприпасов и продовольствия, так и не смогла выполнить поставленной перед ней задачи, однако когда я опять в начале января 1943 года оказался в ставке, то был поражен оптимизмом Гитлера. Он все еще не терял надежды, хотя если что-то и могло спасти 6-ю армию, то лишь разрешение на выход из котла.
В один из этих дней мне довелось наблюдать, как в примыкающем к комнате для оперативных совещаний помещении Цейтцлер буквально умолял Кейтеля именно сегодня поддержать его и добиться от Гитлера соответствующего приказа. Он говорил, что это единственный шанс избежать страшной катастрофы. Кейтель с излишним пафосом в голосе согласился с начальником Генерального штаба и торжественно обещал оказать ему всяческую поддержку. Но когда Гитлер опять заявил, что солдаты 6-й армии обязаны стоять до конца, Кейтель был до такой степени тронут его словами, что подошел к карте и показал пальцем на едва различимую среди больших красных кругов надпись «Сталинград» и громко сказал: «Мой фюрер, мы удержим его!»
Оказавшись в безвыходной ситуации, Гитлер 15 января 1943 года предоставил Мильху чрезвычайные полномочия. Фельдмаршал получил право использовать самолеты как военной, так и гражданской авиации для доставки грузов в Сталинград и, не запрашивая Геринга, издавать все необходимые для этого распоряжения. Я много раз говорил с ним тогда по телефону, и он обещал попытаться вывезти из Сталинграда моего брата. Однако из-за всеобщей неразберихи его так и не смогли найти. Брат слал мне отчаянные письма. Из них я узнал, что, когда он заболел желтухой и у него опухли конечности, его поместили в полевой госпиталь, но условия там были совершенно невыносимые,
329
поэтому он решил вернуться в свою часть и действительно кое-как добрался до артиллерийского наблюдательного пункта, на котором раньше служил. С этого момента он числился пропавшим без вести. Сотни тысяч семей, подобно мне и моим родителям, какое-то время получали доставляемые военно-транспортными самолетами из окруженного Сталинграда письма от своих близких, а потом потеряли с ними всякую связь. В дальнейшем Гитлер ни словом не обмолвился об этой катастрофе, происшедшей исключительно по его и Геринга вине. Он только приказал срочно сформировать новую 6-ю армию, чтобы она возродила славу своей предшественницы.
18
Интриги
Зимой 1942 года, в самый разгар Сталинградской битвы, Борман, Кейтель и Ламмерс решили как бы взять Гитлера в кольцо. Отныне только они имели право представлять главе государства на подпись всевозможные приказы, распоряжения и прочие аналогичные документы. Гитлер часто необдуманно подписывал указы, противоречащие ранее изданным, создавая тем самым невообразимую сумятицу, и теперь три человека решили положить этому конец. Гитлеру оставалось лишь принять окончательное решение. В дальнейшем «коллегия трех» намеревалась растолковывать Гитлеру суть разного рода направляемых к нему ходатайств и предложений. Гитлер возлагал большие надежды на ее объективность и нелицеприятный подход к делу.
«Коллегия трех» следующим образом распределила между собой сферы влияния. Через Кейтеля к Гитлеру должны были поступать на подпись приказы и директивы всех командных инстанций вермахта, однако главнокомандующие военно-воздушными и военно-морскими силами с самого начала решительно воспротивились установлению над ними опеки, и он так ничего и не добился. Ламмерс намеревался взять на себя разрешение конфликтов между министерствами, а также урегулирование всех вопросов, относящихся непосредственно к управленческой сфере деятельности
330
государственных органов. Но Борман постепенно лишил Ламмерса реальной власти и не давал ему возможности долго беседовать с Гитлером. Борман стремился всякий раз сам докладывать о внутриполитическом положении в стране, но он не обладал достаточно широким кругозором и, кроме того, был лишен контакта с внешним миром. Свыше восьми лет он безотлучно, словно тень, следовал за Гитлером, не рискуя отправиться в сколько-нибудь длительную командировку или уйти в отпуск, и больше всего заботился о том, чтобы никто не смог подорвать его авторитет. Он очень хорошо знал, какую опасность представляют честолюбивые заместители для своих непосредственных руководителей, так как в свое время занимал именно такую должность в аппарате Гесса. Ведь стоило только представить этих чиновников Гитлеру, как тот сразу же давал им поручения и вообще обращался с ними как со своими приближенными. Это объяснялось не только его стремлением везде и всюду следовать принципу «разделяй и властвуй», но еще и тем, что ему нравилось видеть вокруг себя новые лица и подвергать испытаниям новых людей. Поэтому многие министры на всякий случай старались не иметь под своим началом образованных и энергичных заместителей.
Если бы «коллегии трех» удалось осуществить свое намерение изолировать Гитлера и снабжать его только тщательно отфильтрованной ими информацией, то в итоге это могло привести к отказу от режима личной власти, однако Борман, Кейтель и Ламмерс слишком привыкли действовать от имени Гитлера и рабски следовали его воле. Впрочем, Гитлер вскоре перестал считаться с установленными ими правилами — любая опека была ему в тягость, ибо в корне противоречила его натуре. Вполне естественно, создание «коллегии трех» сбило с толку тех, кто не входил в ее состав, и на первый взгляд существенно ослабило их позиции.
На самом деле один лишь Борман представлял потенциальную опасность для высших должностных лиц, так как действительно сумел занять непомерно высокое положение. Воспользовавшись инертностью Гитлера, он сам определял, кто из правительственных чиновников может получить аудиенцию у фюрера — вернее, кого из них не следует допускать к нему. Почти никто из министров, рейхс- и гаулейтеров не имел прямого доступа к Гитлеру; всем им приходилось просить Бормана изложить ему их проблемы. Борман
331
действовал очень быстро, и уже через несколько дней высокопоставленный руководитель получал письменный ответ, которого иначе ему пришлось бы ждать несколько месяцев. Для меня Борман делал исключение. Я отвечал за выпуск не гражданской, а военной продукции и в любое время мог добиться приема у Гитлера. Время аудиенции мне назначали его адъютанты.
Обычно наше с ним совещание заканчивалось тем, что адъютант с бесстрастным лицом по-военному кратко докладывал о приходе Бормана и тот сразу же появлялся на пороге с неизменной папкой в руках. Монотонно и подчеркнуто деловито он в нескольких предложениях излагал суть присланных ему меморандумов, а затем предлагал свой вариант решения. В большинстве случаев Гитлер кивал головой и говорил: «Согласен». Одного этого слова оказывалось достаточно для того, чтобы побудить Бормана приступить к составлению пространных директив, хотя зачастую Гитлер лишь для проформы выражал свое согласие. Таким образом в течение часа иногда принималось десять и более важных решений; фактически именно Борман проводил внутреннюю политику рейха. Через несколько месяцев он сумел добиться подписи Гитлера под, казалось бы, ничего не значащим документом и стал «секретарем фюрера». Если до этого момента он был формально уполномочен заниматься только внутрипартийными делами, то новая должность уже официально позволяла ему вмешиваться в любую сферу деятельности.
Стоило мне добиться первых успехов в области производства вооружений, как Геббельс тут же перестал обижаться — наши отношения испортились после истории с Лидой Бааровой — и начал всячески обхаживать меня. В свою очередь, летом 1942 года я попросил его использовать всю свою пропагандистскую машину — кинохронику, иллюстрированные журналы, газеты — для поднятия моего престижа. Достаточно было министру пропаганды отдать приказ своим подчиненным, и слава обо мне прокатилась по всему рейху. Теперь сотрудники министерства вооружений в своих ежедневных стычках с государственными и партийными органами могли опираться на мой возросший авторитет.
332
Речи Геббельса создавали ощущение, что их произносит исступленный фанатик, но в действительности оратора никак нельзя было назвать человеком с буйным темпераментом. В жилах его текла отнюдь не горячая кровь. Он был прилежен, трудолюбив, крайне педантичен, а приверженность партийной доктрине сочеталась в нем с широким кругозором и ясным умом. Он был способен не только сразу же вникнуть в суть обсуждаемой проблемы, но и — как мне тогда казалось — сделать правильный вывод и дать верную оценку ситуации. Геббельс умел мыслить логически — верный признак того, что он когда-то учился в университете. Этот циник робел только перед Гитлером.
В первый период войны Геббельс не только не отличался честолюбивыми замыслами, но, напротив, уже в 1940 году высказал пожелание после ее победоносного окончания тотчас уйти в отставку и предаться любимым занятиям, так как к тому времени новое поколение придет к власти и возложит на себя бремя ответственности.
Сложившаяся на фронте в декабре 1942 года катастрофическая ситуация побудила его все чаще приглашать к себе троих коллег: Вальтера Функа, Роберта Лея и меня. Его выбор пая на нас не случайно: все мы получили высшее образование.
Мы были потрясены исходом Сталинградской битвы, и поразила нас даже не столько трагическая участь солдат 6-й армии, сколько тот факт, что Гитлер, обладая такой огромной властью, не смог предотвратить катастрофу. Ведь до этого все неудачи компенсировались победами, заставляющими сразу же забыть а понесенных потерях. На этот раз впервые ничего подобного не предвиделось.
«Сперва нам удалось добиться значительных успехов на полях сражений, ограничившись половинчатыми мерами внутри страны, — заявил Геббельс во время одной из таких встреч в январе 1943 года. — И мы решили, что сможем и дальше без больших усилий одерживать одну победу за другой. Напротив, англичанам гораздо больше повезло, потому что их экспедиционный корпус попал в окружение под Дюнкерком еще в начале войны. Этим поражением они обосновали необходимость резкого ограничения населением своих потребностей. Сталинград — это наш Дюнкерк. Мы стремимся поддерживать в народе хорошее настроение, но этого мало. Так мы победы не добьемся».
333
Ссылаясь на данные, полученные от разбросанных по всей стране отделений своего министерства, Геббельс подчеркнул, что среди населения растет недовольство. Люди требуют прекратить потакать вредным привычкам тех, кто привык жить в роскоши, вообще сейчас требуется не только напрячь все силы, но и заметно ограничить себя во всем, иначе руководству уже не вернуть утраченного к себе доверия.
Перевод экономики на военные рельсы также вынуждал население пойти на немалые жертвы. Гитлер постоянно требовал увеличить выпуск военной продукции, и, кроме того, вермахт понес на Восточном фронте такие огромные потери, что для пополнения его рядов власти были вынуждены призвать почти одновременно 800 000 молодых квалифицированных рабочих. Но любое сокращение на фабриках и заводах германского персонала неизбежно создавало для нас трудности.
Неожиданно выяснилось, что даже в подвергшихся сильным воздушным налетам городах жизнь идет своим чередом. И хотя многие помещения, в которых находились финансовые управления, были разрушены, а хранившиеся в них документы сгорели, объем налоговых отчислений в казну почти не сократился. Стремясь предоставить промышленникам как можно больше самостоятельности, я предложил перестать относиться к ним с недоверием и резко сократить штаты наших административных и контрольных инстанций, в которых числилось чуть ли не 3 миллиона человек. Разгорелась жаркая дискуссия, так как я представил план, дающий налогоплательщикам возможность самим оценить свое финансовое положение и выплачивать определенную сумму подоходного налога. В свою очередь государство отказывается от пересмотра ранее сделанного распределения налогов. Для доказательства своей правоты мы с Геббельсом приводили следующий аргумент: какое значение имеют несколько миллионов сокрытых доходов, когда война ежемесячно стоит нам миллиарды?
Еще больший протест вызвало мое требование установить для всех чиновников такой же режим рабочего времени, как и на предприятиях военной промышленности. По моим подсчетам, эта мера, как, впрочем, и резкое снижение уровня жизни привилегированных слоев населения, дала бы возможность привлечь для работы на военных
334
заводах примерно 200 000 человек. На состоявшемся в эти дни заседании руководства Центрального управления планирования я сам был вынужден с горечью признать, что осуществление моих столь радикальных предложений повлечет за собой весьма тяжкие последствия: «В результате, если война продлится еще достаточно долго, мы все, грубо говоря, превратимся в пролетариев». Ныне я даже радуюсь тому обстоятельству, что мне тогда не удалось претворить в жизнь свои планы, иначе в экономической жизни Германии в первые послевоенные месяцы воцарился бы полный хаос, а ее государственные структуры окончательно распались бы. Но я твердо убежден, что, окажись, скажем, Англия в аналогичном положении, такого рода предложения были бы немедленно осуществлены.
Гитлер долго колебался, прежде чем одобрить предлагаемые нами меры по сокращению государственного аппарата, ограничению спроса на товары народного потребления и закрытию многих культурных учреждений. Я предложил поручить выполнение этой задачи Геббельсу, но не доверявший никому Борман испугался, что его честолюбивый соперник получит слишком большую власть. По его настоянию все необходимые для этого полномочия получил член «коллегии трех» доктор Ламмерс — лишенный дара импровизации безынициативный чиновник, у которого волосы вставали дыбом при одной только мысли о том, что ему придется задеть интересы столь почитаемой им бюрократии.
Не кто иной, как Ламмерс, председательствовал вместо Гитлера на состоявшемся впервые за несколько лет в январе 1943 года заседании имперского кабинета министров. Участвовать в нем были приглашены лишь те его члены, чьи отчеты предполагалось выслушать. Но уже тот факт, что их собрали не где-нибудь, а в зале заседаний кабинета министров, свидетельствовал о том, какую огромную власть обрела или намеревалась обрести «коллегия трех».
Это и последующие заседания проходили довольно бурно, Геббельс и Функ поддержали мою программу, а министр внутренних дел Фрик и, разумеется, Ламмерс, как и следовало ожидать, выступили против нее. Заукель недолго думая заявил, что может набрать на оккупированных землях любое требуемое от него количество рабочих, в том
335
числе квалифицированных специалистов. Не встретил отклика и обращенный к партийным руководителям призыв Геббельса отказаться от излишне роскошного образа жизни. Ведь стоило только обычно молчаливой и никогда не имевшей собственного мнения Еве Браун услышать о том, что власти намереваются запретить в парикмахерских делать перманент и прекратить производство косметики, как она тут же воспользовалась своим влиянием на Гитлера и он тут же пошел на попятную. Он рекомендовал мне вместо недвусмысленного запрета ограничиться «тайным созданием искусственного дефицита краски для волос и других косметических изделий», а также «прекратить изготовление щипцов для перманента».
После нескольких заседаний в рейхсканцелярии нам с Геббельсом стало ясно, что Борман, Ламмерс и Кейтель отнюдь не стремятся поддержать практические меры по увеличению производства вооружений и все наши усилия оказались совершенно напрасными из-за излишнего внимания к мелким деталям.
18 февраля 1943 года Геббельс в своей речи призвал к «тотальной войне». Он обращался не столько к рядовым гражданам, сколько к тем представителям привилегированных слоев, которые никак не хотели согласиться с нашей радикальной программой мобилизации всех тыловых ресурсов. В сущности, это была попытка использовать широкие массы для оказания давления на Ламмерса и других колеблющихся и занимающих выжидательную позицию руководителей государства.
Только во время наиболее удачных выступлений Геббельса мне доводилось видеть так умело доведенную до экстаза публику. Когда мы затем приехали к нему на квартиру, Геббельс, к моему удивлению, очень трезво проанализировал свою чрезмерно эмоциональную манеру, размышляя вслух над тем, достиг ли он нужного психологического эффекта, — так, наверное, поступил бы после представления профессиональный актер. В тот вечер он был также очень доволен поведением аудитории: «Вы обратили внимание? Они реагировали на мельчайшие нюансы моей речи и всегда аплодировали только в нужных местах. Такой политически грамотной публики вы больше нигде
336
в Германии не встретите». Как выяснилось, партийные организации специально подбирали людей, и среди них оказались популярные писатели, журналисты и актеры — например, Генрих Георге. Запечатленная на пленку и затем продемонстрированная в кадрах кинохроники pix бурная реакция, безусловно, оказала сильное воздействие на население. Геббельс также стремился своей речью напомнить мыслящему сейчас исключительно военными категориями Гитлеру о необходимости уделять внимание внешней политике. Кроме того, министр пропаганды хотел напомнить западным государствам о той опасности, которая с востока угрожает всей Европе, и через несколько дней с удовлетворением отметил, что их пресса дружно отреагировала именно на этот его призыв.
Геббельс, действительно, не скрывал своего желания стать министром иностранных дел. С присущим ему красноречием он долго пытался настроить Гитлера против Риббентропа и, как ему казалось, добился успеха, ибо Гитлер, вопреки своему обыкновению сразу же переводить разговор на более интересную для него тему, молча слушал его рассуждения. Геббельс уже предвкушал победу, когда Гитлер вдруг неожиданно принялся расхваливать его соперника. Фюрер заявил, что Риббентроп, как никто другой, умеет вести переговоры с «союзниками», и закончил свою речь лапидарной фразой: «Вы неверно оцениваете Риббентропа. Он один из наиболее выдающихся государственных деятелей Германии, и история даст ему когда-нибудь более высокую оценку, чем Бисмарку, потому что он достиг гораздо большего». Заодно он, ссылаясь на речь Геббельса во Дворце спорта, обвинил министра пропаганды в намерениях установить контакты с западными державами и запретил ему в дальнейшем затрагивать эту тему в своих выступлениях.
Тем не менее после содержащей призыв к «тотальной войне» речи Геббельса были предприняты конкретные меры, сразу же горячо одобренные общественностью. Он приказал закрыть в Берлине все дорогие рестораны и увеселительные заведения. Геринг, правда, попытался отстоять свой любимый ресторан «Хорхер», но, когда участники организованной Геббельсом демонстрации чуть не перебили там все стекла, рейхсмаршал был вынужден отступить. С той поры у него испортились отношения с Геббельсом.
337
Вечером того же дня, когда Геббельс произнес упомянутую речь, в его расположенном близ Бранденбургских ворот особняке — министр пропаганды построил его незадолго до начала войны — собрались многие видные военачальники и государственные деятели. Среди них были фельдмаршал Мильх, министр юстиции Тирак, статс-секретарь министерства внутренних дел Штукарт, а также статс-секретарь Кернер, Функ и Лей. Впервые оживленно обсуждалось внесенное Мильхом и мной предложение: как побудить Геринга использовать его полномочия председателя совета министров по обороне рейха и четко определить основные направления внутренней политики.
Через девять дней Геббельс снова пригласил Функа, Лея и меня к себе. Огромный, роскошно обставленный особняк производил теперь мрачное впечатление. Желая продемонстрировать, что первым решил подчиниться условиям «тотальной войны», Геббельс приказал наглухо запереть огромные залы, в которых он обычно устраивал приемы, а в остальных помещениях вывернуть почти все электрические лампочки. Нас пригласили пройти в относительно небольшой — примерно сорок-пятьдесят квадратных метров — зал. Лакеи в ливреях быстро расставили на столах бутылки с французским коньяком и чашки с чаем, а затем Геббельс велел им удалиться и больше нам не мешать. «Так дальше продолжаться не может, — без обиняков начал он. — Фюрер далеко и не знает, как мы здесь в Берлине оцениваем ситуацию. Я не могу ни повлиять на его политические решения, ни даже доложить ему о том, какие срочные меры намерен предпринять в рамках своей компетенции. Вся информация поступает к нему через Бормана. Нужно заставить Гитлера чаще приезжать в Берлин».
Далее Геббельс заявил, что Гитлер фактически отстранился от проведения внутренней политики. Ею занимается Борман, умело создавая у Гитлера иллюзию, что тот по-прежнему держит все бразды правления в своих руках. Борманом движет только честолюбие, он доктринер и препятствует осуществлению мало-мальски разумных планов. Поэтому в первую очередь нужно сделать так, чтобы он больше не оказывал на фюрера такого сильного влияния.
Вопреки обыкновению, Геббельс на этот раз не пощадил Гитлера и подверг его критическим нападкам: «У нас
338
не только кризис власти, но и, собственно говоря, “кризис властителя”!» Для такого прирожденного политического деятеля, как Геббельс, было совершенно непонятно, почему Гитлер отказался от политической деятельности ради такого не столь уж важного по сравнению с ней занятия, как руководство военными операциями. Нам оставалось только согласиться с ним — ведь никто из нас не обладал таким политическим весом, как Геббельс. Его критика Гитлера раскрыла истинную суть нашего поражения под Сталинградом. Геббельс — и мы вместе с ним — впервые усомнился в возможности Гитлера одержать победу. Министр пропаганды как бы предчувствовал, что фюреру уже не будет больше сопутствовать удача.
Я опять напомнил о своем предложении снова наделить Геринга теми полномочиями, которыми он обладал в начале войны. Ведь тогда был создан государственный орган, имеющий право издавать указы даже без предварительного согласования их с Гитлером. Теперь его можно было использовать для того, чтобы лишить Бормана и Ламмерса узурпированной ими огромной власти. Они будут вынуждены подчиниться государственной структуре, полномочия которой долгое время оставались неиспользованными из-за инертности Геринга. Так как отношения между ними и Геббельсом окончательно испортились из-за инцидента с рестораном «Хорхер», собравшиеся дружно попросили меня встретиться с рейхсмаршалом.
Возможно, современный читатель будет поражен тем обстоятельством, что наш выбор пал на человека, который вот уже несколько лет пребывал в апатии и вел роскошный и праздный образ жизни. Хочу лишь напомнить, что мы тогда стремились объединить наши усилия и предприняли последнюю попытку изменить ненормальную ситуацию. В конце концов, Геринг не всегда был таким, и с тех времен, когда он занимался осуществлением четырехлетнего плана и созданием военно-воздушных сил, сохранил репутацию хотя и склонного к насилию, но все же энергичного и умного человека. Не исключено, что он вновь ощутил бы в себе прилив энергии и, как прежде, очертя голову взялся бы теперь за выполнение нового задания. Но даже если бы этого не произошло, то мы все равно были
339
уверены, что Совет обороны рейха — именно та структура, которая способна принимать кардинальные решения.
Когда я сейчас размышляю над этими событиями, то прекрасно понимаю, что отстранение от власти Бормана и Ламмерса ничего бы не изменило. Ведь та смена внутриполитического курса, которой мы так настойчиво добивались, могла произойти вовсе не вследствие отстранения от должности секретаря Гитлера, а в результате осознания им необходимости перемен. Фактически Гитлер должен был выступить против самого себя. Но о таком повороте событий мы даже не думали. Наоборот, мы намеревались обрести прежнее влияние, чтобы оказать Гитлеру еще большую безоговорочную поддержку в проведении им столь пагубного курса, чем чрезмерно, по нашему мнению, осмотрительный Ламмерс и интриган Борман. Мы просто хотели внести в него незначительные коррективы, и это лишний раз свидетельствует о том, что все мы жили в отгороженном от реальной жизни, замкнутом мире.
Участие в этой акции означало, что я пересмотрел свои прежние взгляды и не считал себя больше только специалистом, погруженным в собственные сугубо профессиональные проблемы, а принял активное участие в политической жизни. Я всегда тщательно старался держаться от нее подальше, но когда это не удалось, то сделал для себя следующий вывод: было бы неверно полагать, что я смогу заниматься исключительно своим делом. При авторитарном режиме человек, желающий принадлежать к правящей элите, неизбежно втягивается в борьбу за передел сфер политического влияния.
Геринг пребывал на своей вилле в Оберзальцберге. Мильх рассказал мне, что Гитлер обрушил на рейхсмаршала град упреков, обвиняя его в неумении командовать военно-воздушными силами, и он, раздосадованный, предпочел отправиться в длительный отпуск. Геринг немедленно выразил готовность принять меня уже на следующий день, то есть 28 февраля 1943 года.
Во время нашей многочасовой беседы царила непринужденная атмосфера, и на меня благотворно действовала почти домашняя обстановка сравнительно небольшой виллы, владелец которой не счел нужным скрывать интимные
340
стороны своей жизни. Как ни странно, но я до сих пор помню, как меня тогда поразили его покрытые красным лаком ногти и напудренное лицо. К тому времени я уже привык, что на его халате из зеленой парчи всегда красуется огромная рубиновая брошь.
Геринг спокойно выслушал наше предложение и мой рассказ о состоявшейся встрече в Берлине и лишь иногда вынимал из кармана неоправленные драгоценные камни и с удовольствием перебирал их холеными пальцами. Его явно радовало, что мы о нем вспомнили. Он тоже понимал, что из-за возросшего влияния Бормана создалась опасная ситуация, и полностью одобрил наши намерения. Однако Геринг был по-прежнему очень обижен на Геббельса, и мне оставалось лишь предложить пригласить министра пропаганды сюда и втроем обсудить наши планы.
Уже на следующий день Геббельс прибыл в Берхтесга- ден, где я рассказал ему о результатах нашей беседы, затем мы отправились к Герингу, и я поспешил удалиться, предоставив двум поссорившимся государственным деятелям возможность откровенно поговорить друг с другом. Когда меня через какое-то время снова позвали в комнату, то Геринг уже довольно потирал руки в предвкушении схватки — он снова обрел бодрость духа. Он заявил, что первым делом следует назначить членами совета министров по обороне рейха Геббельса и меня; до сих пор мы не входили в его состав — еще одно, впрочем, подтверждение чисто номинального значения этой структуры. Затем Геббельс предложил обсудить возможность смещения Риббентропа с занимаемого им поста: министр иностранных дел, который обязан убедить Гитлера проводить более разумную внешнюю политику, превратился просто-напросто в рупор его идей и при столь безнадежном для нас положении на фронтах не способен найти политическое решение военного конфликта.
Геббельс все больше распалялся и наконец, не выдержав, закричал: «И Риббентроп, и Ламмерс втерлись в доверие к фюреру! Он так и не смог разгадать их истинную сущность!» Геринг вскочил как ужаленный: «Когда я выступаю, он все время вставляет реплики, а потом строит козни за моей спиной. Но теперь он за все поплатится. Уж об этом я позабочусь, господа!» Геббельс не скрывал, что вид
341
не на шутку разгневавшегося Геринга доставляет ему удовольствие, и старался еще больше настроить его против их общих соперников, но одновременно опасался, что импульсивный и прямолинейный рейхсмаршал может наделать глупостей: «Будьте уверены, господин Геринг, мы откроем фюреру глаза. Вот только как бы нам не перестараться. Нужно действовать очень осторожно. Вы же знаете фюрера. И ни в коем случае нельзя быть слишком откровенными с другими членами совета министров. Они не должны знать, что мы намерены постепенно отстранить «коллегию трех» от рычагов власти. Нами движет не честолюбие, а верность фюреру. И если все мы будем поддерживать друг друга, то никто нас не одолеет и мы воздвигнем вокруг фюрера непреодолимую преграду!»
Геббельс был очень доволен встречей с рейхсмаршалом: «Ничего подобного я не ожидал. Вы заметили, как Геринг воспрянул духом?» И действительно, за последние несколько лет я никогда еще не видел Геринга таким бодрым, энергичным и отважным. Мы еще долго гуляли с ним по тихому и спокойному Оберзальцбергу, размышляя вслух об истинных намерениях Бормана. Я откровенно заявил, что Борман собирается стать не более и не менее как преемником фюрера и пойдет на все ради того, чтобы скомпрометировать в глазах Гитлера Геринга, а также всех нас. Я рассказал также, что Борман использует любую возможность для подрыва авторитета рейхсмаршала. Геринг очень внимательно слушал меня. Напоследок я поведал ему о традиционно устраиваемых Гитлером в Оберзальцберге чаепитиях, на которые Геринга никогда не приглашали. Именно там мне довелось ознакомиться с приемами, используемыми Борманом в закулисной борьбе.
Он никогда в открытую не выступал против тех, кого считал своими соперниками, а осторожно плел интригу, старательно выстраивая мелкие эпизоды так, чтобы они сложились в целостную картину и в итоге произвели бы нужный эффект. Например, решив испортить репутацию Шираха, Борман принялся рассказывать за чайным столом порочащие гаулейтера Вены анекдоты, но, когда соответствующим образом настроенный Гитлер пренебрежительно отозвался о Ширахе, неожиданно начал расхваливать его. Похвала, однако, звучала настолько двусмысленно, так
342
что уже через год Гитлер начал испытывать непреодолимую антипатию к Шираху и даже несколько раз отказывался принимать его. Теперь Борман мог со спокойной душой и с оттенком презрения в голосе в отсутствие Гитлера так отозваться о Ширахе: он, дескать, как никто другой, годится на должность гаулейтера Вены, ведь там все интригуют друг против друга. Внешне Борман вроде бы даже стремился своими словами несколько подправить уже изрядно подпорченную репутацию Шираха, но в действительности наносил ему последний удар. В конце своего рассказа я подчеркнул, что Борман точно так же способен оклеветать и Геринга.
Борману было совсем нетрудно это сделать. Рейхсмаршал сам неоднократно давал ему повод, и Геббельс также в один из этих дней со снисходительной интонацией говорил, что «если хорошо не знать Геринга, то он со своим пристрастием к вычурным одеждам произведет довольно странное впечатление». На посту главнокомандующего военно-воздушными силами Геринг показал полную никчемность, но это никак не сказалось на его поведении и образе жизни. Уже гораздо позднее — весной 1945 года, — когда Гитлер на оперативном совещании публично оскорбил его, Геринг с горечью заявил адъютанту фюрера от военно-воздушных сил Белову: «А ведь Шпеер меня предупреждал. Он оказался прав. Борман своего добился». Геринг ошибался. Борман добился своего двумя годами раньше.
Через несколько дней — 5 марта 1943 года — я вылетел в ставку якобы для того, чтобы в очередной раз обсудить проблемы производства вооружений. На самом же деле я намеревался повысить авторитет Геринга и Геббельса в глазах Гитлера и без труда сумел убедить его пригласить сюда министра пропаганды. Гитлеру очень понравилось мое предложение — он надеялся, что Геббельс, который славился как превосходный рассказчик, хоть немного скрасит его пребывание здесь.
Геббельс прибыл в ставку через три дня и немедленно отвел меня в сторону, «В каком настроении фюрер, господин Шпеер?» — спросил он. «У меня создалось впечатление, — ответил я, — что Гитлер не склонен сейчас принять Геринга». Я также посоветовал Геббельсу вести себя сдержанно
343
и не форсировать развитие событий. Сам я в беседе с Гитлером осторожно прощупал почву и не стал настаивать на своем предложении, Геббельс согласился со мной: «Вероятно, вы правы. Герингу пока нельзя встречаться с фюрером. Рейхсмаршал может все испортить».
Вот уже несколько недель союзная авиация, почти не встречая отпора, совершала налеты на Германию, и это еще более ослабило и без того шаткое положение Геринга. Стоило сейчас в присутствии Гитлера упомянуть его имя, как фюрер тут же разражался гневными тирадами и обвинял Геринга в отсутствии четко разработанного плана воздушной войны. В тот день Гитлер неоднократно высказывал опасения по поводу того, что непрекращающиеся налеты не только разрушат наши города, но и окончательно подорвут боевой дух народа. Однако ни опасения Гитлера, ни расчеты его противников — британских политических деятелей и военачальников, разработавших стратегию непрерывных бомбовых ударов, — так и не подтвердились.
Тогда же Гитлер пригласил Геббельса и меня на обед. Как ни странно, но за столом не было Бормана, без которого Гитлер теперь вообще не мог обойтись. Но из этого вовсе не следовало делать вывод, что он начал тяготиться присутствием своего секретаря. Геббельс сумел разговорить Гитлера. Таким оживленным и веселым я его уже давно не видел. Он воспользовался случаем и излил нам душу, причем, как обычно, весьма пренебрежительно отозвался почти обо всех своих сотрудниках.
После обеда я понял, что мне пора удалиться и оставить их вдвоем. Они беседовали несколько часов. Гитлер вежливо выпроводил меня, что вполне соответствовало его манере проводить грань между конкретным человеком и возложенными на него обязанностями. Мы вновь встретились за ужином. Гитлер приказал зажечь камин, ординарец поставил перед нами бутылку вина, а перед Гитлером — «Фахингер», и мы сидели до утра, наслаждаясь непринужденной, чуть ли не домашней атмосферой. Я больше молчал, так как беседой нас развлекал Геббельс. Он блистал красноречием, говорил отточенными фразами и, знакомя Гитлера с берлинскими сплетнями и любовными похождениями известных личностей, умело сочетал сарказм, восхищение и сентиментальность. Геббельс мастерски
344
смешал воедино новости театра, кино и события былых времен и, как всегда, подробно поведал Гитлеру о своих детях; рассказ об их любимых играх и зачастую неожиданно умных изречениях в эту ночь также отвлек Гитлера от насущных забот.
Геббельс превосходно умел напомнить Гитлеру, что тот в недавнем прошлом с честью выдерживал самые тяжкие испытания. Он как бы вновь побуждал Гитлера поверить в себя и льстил его самолюбию, которое никак не могла удовлетворить трезвая оценка положения на фронтах. В свою очередь Гитлер отблагодарил Геббельса тем, что с похвалой отозвался о достижениях его министерства. Руководители Третьего рейха вообще неустанно хвалили друг друга, и каждый стремился внушить другому уверенность в собственных силах.
Геббельс и я, преодолев сомнения, договорились в этот вечер хотя бы намекнуть Гитлеру о наших планах активизации деятельности Совета министров по обороне рейха. Вся обстановка способствовала осуществлению нашего замысла, и благодушно настроенный Гитлер вряд ли оскорбился бы, уловив в наших словах скрытую критику его методов правления, но, к сожалению, эту идиллию нарушило сообщение о сильном воздушном налете на Нюрнберг. То ли Гитлер предугадал наше намерение, то ли его предупредил Борман — во всяком случае, он устроил такую сцену, каких я еще не видел. Он приказал немедленно разбудить старшего адъютанта Геринга генерал-майора Боденшатца и обрушил в его присутствии град упреков на «бездарного рейхсмаршала». Геббельс и я кое-как успокоили его. Но все наши усилия оказались совершенно напрасными, и Геббельс счел разумным не касаться пока этой темы. Одновременно, выслушав из уст Гитлера столько похвалы, он решил, что его политическое влияние значительно усилилось, и больше уже никому не говорил о «кризисе властителя». Казалось, он, как и в прежние времена, опять безгранично доверял Гитлеру. Тем не менее он все же решил продолжить борьбу против Бормана.
17 марта Геббельс, Функ, Лей и я встретились с Герингом в его берлинской резиденции на Лейпцигерплац. Рейхсмаршал принял нас в своем кабинете и держался сперва подчеркнуто официально. Он восседал за огромным
345
письменным столом в кресле в стиле ренессанс, а мы сидели напротив на неудобных, жестких стульях. Обстановка ничем не напоминала задушевную атмосферу, в которой проходил наш разговор на вилле в Оберзальцберге. Геринг, видимо, сожалел о своей откровенности.
Пока остальные молчали и лишь изредка подавали реплики, Геринг и Геббельс рассказывали друг другу о страшной опасности, исходящей от «коллегии трех», и предавались иллюзиям, стремясь убедить себя в том, что мы без труда сумеем избавить Гитлера от ее опеки. Геббельс, очевидно, забыл, что Гитлер всего несколько дней тому назад с презрением отзывался о Геринге. Обоим казалось, что они уже близки к цели. Геринг, как обычно впадавший то в апатию, то в эйфорию, призывал не преувеличивать влияния «клики из ставки». «Не следует их переоценивать, господин Геббельс! Собственно говоря, и Борман, и Кейтель — всего лишь секретари фюрера. Просто они слишком много себе позволяют. Сами по себе они — полные нули».
Геббельса очень тревожило то обстоятельство, что гаулейтеры подчинялись непосредственно Борману и он вполне может приказать им воспрепятствовать осуществлению наших планов на территории рейха. Я вспомнил, что Геббельс уже пытался побудить рейхслейтера по организационным вопросам Лея использовать свои полномочия в борьбе против Бормана и в конце концов предложил предоставить Совету министров по обороне рейха право вызывать гаулейтеров и в случае необходимости привлекать их к ответственности. Геббельс прекрасно понимал, что Геринг вряд ли будет слишком часто появляться на заседаниях, и поэтому предложил проводить их каждую неделю и как бы невзначай заметил, что, если рейхсмаршал будет слишком занят, он лично готов временно заменить его на посту председателя. Геринг не разгадал коварного замысла министра пропаганды и легко согласился с его предложением. Подспудно тлевшая зависть к формально более могущественному соратнику была готова вспыхнуть с новой силой, и никакая борьба с общими политическими соперниками не могла ее заглушить.
Мне давно уже было известно, что те данные об использовании рабочей силы, которые Заукель приводил в своих отчетах, а Гитлер — в своих хвастливых заявлениях, не
346
совпадали с реальным положением дел на предприятиях военной промышленности. Разница составляла несколько сотен тысяч человек. Я предложил своим «союзникам» совместными усилиями вынудить Заукеля, считавшегося одним из наиболее ярых приверженцев Бормана, назвать подлинные сведения.
Когда-то Гитлер приказал построить близ Берхтесгадена большой дом наподобие тех, в которых обитали баварские крестьяне, и временно разместить там аппарат рейхсканцелярии. Гитлер имел обыкновение иногда проводить в Обер- зальцберге целый месяц, и тогда Ламмерс и его ближайшие сотрудники руководили оттуда деятельностью правительственных органов. Именно через Ламмерса Геринг пригласил нас, а также Заукеля и Мильха прибыть 12 апреля 1943 года в отведенное под зал заседаний одно из помещений этого дома. Перед совещанием Мильх и я рассказали Герингу о наших требованиях. Он принялся потирать руки: «Уж это я для вас сделаю! Уж здесь я наведу порядок!»
Появление в зале заседаний Гиммлера, Бормана и Кейтеля явилось для нас полной неожиданностью, и в довершение ко всему Геббельс передал, что не сможет принять участие в совещании, так как на подъезде к Берхтесгадену у него начались почечные колики и сейчас он даже не может встать. Я до сих пор не уверен, что тогда он был действительно болен. Иногда мне кажется, что Геббельс просто обладал хорошим чутьем и решил до конца заседания отсидеться в своем спецвагоне. Оно и впрямь привело к распаду нашего союза. Заукель усомнился в том, что всей нашей экономике требуется именно 2 100 000 рабочих, заявил, что достиг весьма значительных результатов, удовлетворил все насущные потребности предприятий и пришел в ярость, когда я обвинил его в искажении цифровых данных.
Мильх и я ожидали, что Геринг потребует от Заукеля объяснений и заставит признать необходимость изменения системы мобилизации рабочей силы. Вместо этого Геринг, к нашему ужасу, обрушился с резкими нападками на Мильха, явно имея в виду меня: Мильх, дескать, ведет себя совершенно возмутительно и чинит препятствия нашему старому доброму партайгеноссе Заукелю, который работает не покладая рук и добился огромных успехов. Он, во всяком
347
случае, чувствует себя ему во многом обязанным. Мильх просто не желает видеть несомненных достижений Заукеля... Казалось, Геринг говорит с чужого голоса. В завязавшейся затем долгой дискуссии по поводу столь вопиющей разницы между отчетными и реальными показателями каждый из присутствовавших министров, не обладая должным знанием предмета, пытался найти этому объяснение. Так, Гиммлер бесстрастным голосом заметил, что, наверное, эти рабочие умерли.
Это заседание обнаружило всю тщетность наших усилий. Оно не только не внесло ясности в темную историю с нехваткой рабочей силы, но и сорвало попытку начать борьбу против Бормана.
По окончании совещания Геринг отвел меня в сторону: «Я слышал, что вы охотно сотрудничаете с моим статс- секретарем Мильхом. Хочу вас по-дружески предостеречь. Он очень ненадежный человек и ради своих интересов способен предать даже близких друзей». Я немедленно сообщил об этом разговоре Мильху. Он засмеялся: «Несколько дней тому назад он мне то же самое про тебя сказал». Своей попыткой посеять вражду между мной и Мильхом Геринг нарушил наше соглашение. Очевидно, любое проявление дружеских чувств он воспринимал как угрозу.
Через неделю Мильх заявил мне: столь быстрая перемена взглядов Геринга объясняется тем, что гестапо располагает неопровержимыми доказательствами его пристрастия к морфию. Мильх уже давно призывал меня обратить внимание на зрачки рейхсмаршала. Во время Нюрнбергского процесса мой адвокат доктор Флекснер подтвердил, что Геринг еще до 1933 года стал морфинистом и он сам защищал его в суде от обвинения в незаконном присвоении ампул с морфием.
Следует также отметить, что уже из чисто финансовых соображений наша попытка настроить Геринга против Бормана была заранее обречена на неудачу. Как явствовало из представленного на Нюрнбергском процессе документа, с разрешения Бормана «фонд Адольфа Гитлера» выделил концерну Геринга шесть миллионов марок.
После распада нашего вынужденного союза Геринг, вопреки ожиданиям, отнюдь не успокоился, однако проявляемая им активность была, как ни странно, направлена против
348
меня. Он изменил своей привычке и через несколько недель потребовал от меня пригласить в Оберзальцберг руководителей крупнейших объединений металлургической промышленности. Совещание проходило в отведенном мне под мастерскую домике за обтянутым ватманом чертежным столом и запомнилось лишь довольно странным поведением Геринга. Необычайно возбужденный, с заметно сузившимися зрачками, он прочитал не скрывавшим своего удивления промышленникам лекцию о производстве металла. Он явно хвастался перед ними своим знанием устройства доменных печей и процесса плавки. Выступление Геринга отличалось также обилием общих слов и громких призывов: нужно увеличить выпуск продукции и как можно больше внедрять в производство новые разработки, промышленность слишком привержена традициям, она должна осваивать новые методы, уметь прыгнуть выше головы... и так далее. К концу двухчасовой речи поток слов стал постепенно иссякать, Геринг уже с трудом шевелил языком, а на его лице появилось отсутствующее выражение. Внезапно он положил голову на стол и спокойно заснул. Мы не стали будить решившего немного вздремнуть, как обычно, одетого в роскошный мундир рейхсмаршала Геринга, дабы не ставить его в неловкое положение, и продолжали обсуждать свои проблемы до тех пор, пока он не проснулся и не объявил сразу же об окончании совещания.
Столь же безуспешным оказалось проведенное им на следующий день обсуждение проблем радиолокации. Он снова пребывал в приподнятом настроении, изъяснялся высокопарным слогом, не обладая профессиональными знаниями, поучал присутствовавших специалистов и наконец продемонстрировал широту натуры, издав целый пакет распоряжений. Когда он покинул заседание, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы хоть как-то загладить невольно причиненный им вред, не отменяя формально его приказов. Тем не менее этот инцидент мог иметь такие тяжкие последствия, что я был вынужден поставить в известность Гитлера. Фюрер воспользовался первой же представившейся возможностью и 12 апреля 1943 года вызвал военно-промышленных магнатов в ставку, чтобы восстановить престиж правительства.
Через несколько месяцев я случайно встретил в ставке Гиммлера. С неприкрытой угрозой он заявил: «Я полагаю,
349
вам не следует больше побуждать рейхсмаршала проявлять излишнее рвение».
Мне в любом случае не удалось бы расшевелить Геринга. Он окончательно впал в привычное для него схожее с летаргическим сном состояние и пробудился только в Нюрнберге.
19
Второй человек в государстве
В начале мая 1943 года — всего лишь через несколько недель после распада нашего вынужденного союза — Геббельс поспешил признать, что Борман обладает теми достоинствами, которыми министр пропаганды еще недавно наделял Геринга. Он заверил Бормана, что впредь будет передавать предназначенную для фюрера информацию исключительно через него, и попросил ускорить принятие Гитлером нужных ему решений. Борман по достоинству оценил готовность министра пропаганды признать свое поражение и в дальнейшем оказал ему ряд услуг. Геббельс в свою очередь окончательно перестал считаться с Герингом и если иной раз поддерживал его, то лишь в тех случаях, когда речь шла об исполнении рейхсмаршалом чисто представительских обязанностей.
Было совершенно очевидно, что власть постепенно переходит к Борману. Но он понимал, что я могу ему понадобиться, и, будучи осведомленным о моей неудачной попытке оттеснить его от трона, тем не менее всегда был очень любезен и неоднократно намекал, что мне, подобно Геббельсу, следовало бы переметнуться на его сторону, Я так и не воспользовался столь заманчивым предложением: слишком высокую цену пришлось бы мне тогда заплатить, ведь я оказался бы в полной зависимости от Бормана.
Геббельс по-прежнему поддерживал со мной тесный контакт. Мы оба стремились достичь одной цели — полной мобилизации всех внутренних ресурсов. Безусловно, я чрезмерно доверял ему: меня пленили его поразительное радушие, безукоризненные манеры и, конечно же, трезвый ум и умение мыслить логическими категориями.
350
Внешне почти ничего не изменилось. Мир, в котором мы жили, принуждал к ханжеству и лицемерию. Соперники редко искренне разговаривали друг с другом, ибо любое их слово могли исказить и в таком виде передать Гитлеру. Они плели интриги и, зная, что у Гитлера ежечасно меняется настроение, использовали этот фактор в закулисной борьбе. Мне также приходилось играть, образно выражаясь, на вконец расстроенном рояле свою партию, и я без зазрения совести прибегал к хитроумным уловкам, используя как свои, так и чужие связи.
Во второй половине мая мне передали приглашение Геринга выступить вместе с ним во Дворце спорта и рассказать о положении дел в военной промышленности. Я согласился, но через несколько дней, к своему удивлению, узнал, что Гитлер поручил произнести речь Геббельсу. Когда мы согласовали тексты выступлений, министр пропаганды посоветовал мне не задерживаться на трибуне, поскольку его речь продлится целый час: «Если вы будете говорить дольше получаса, публика потеряет всякий интерес». Как обычно, мы послали записи своих выступлений Гитлеру с пометкой, что мой текст будет сокращен примерно на треть. Гитлер тут же вызвал меня в Оберзальцберг. В моем присутствии он внимательно прочел доклады и безжалостно исчеркал их, в течение нескольких минут сократив речь Геббельса почти наполовину: «Поручаю вам, Борман, сообщить Геббельсу, что текст выступления Шпеера мне очень понравился. Я нахожу его превосходным». Своей похвалой Гитлер повысил мой авторитет в глазах Бормана и существенно подорвал престиж Геббельса. Оба они еще раз убедились, что я по-прежнему пользуюсь уважением фюрера. Я же теперь мог рассчитывать, что в случае необходимости он поддержит меня даже вопреки мнению ближайших соратников.
В своей речи 5 июня 1943 года я впервые объявил о достижении предприятиями военной промышленности высоких темпов производства и сразу же вызвал недовольство как партийных руководителей, так и фронтовых генералов. Если первые заявляли мне: «Выходит, можно обойтись без жертв! Зачем нам тогда волновать народ и пугать его катастрофическим снижением жизненного
351
уровня?», то вторые всякий раз, когда их части не получали должного количества вооружений или боеприпасов, открыто высказывали сомнение в правильности приведенных мной данных.
Темпы зимнего наступления Красной армии в конце концов снизились. Благодаря значительному увеличению выпуска военной продукции нам удалось не только восстановить в ряде мест сплошную линию Восточного фронта, но и дать Гитлеру возможность, несмотря на огромные потери в боевой технике, основательно подготовиться к летнему наступлению, в ходе которого предполагалось окружить и уничтожить советские войска в районе Курска. Далеко выдвинутый на запад Курский выступ создавал для этого благоприятные предпосылки. Гитлер неоднократно переносил срок начала операции «Цитадель». Это продолжалось до тех пор, пока вермахт не получил танки нового образца, на которые фюрер возлагал большие надежды. Особенно он рассчитывал на сконструированный профессором Порше танк с электродвигателем. Гитлер твердо верил, что эта боевая машина сотворит чудо.
За ужином в одном из уединенных залов рейхсканцелярии, оформленном под столовую в богатом крестьянском доме, я случайно узнал от Зеппа Дитриха, что Гитлер издал приказ не брать пленных. Якобы в ходе наступления войск СС выяснилось, что советские войска жестоко расправлялись с попавшими к ним в плен нашими солдатами, и Гитлер в ярости возвестил, что в отместку прольет во много раз больше крови советских пленных.
Меня не столько ошеломило, сколько встревожило это сообщение: ведь мы сами себе причиняли вред. Гитлер намеревался уничтожить сотни тысяч военнопленных, а мы уже несколько месяцев напрасно пытались раздобыть так остро недостающий контингент рабочей силы примерно такой же численности. Поэтому я воспользовался первой же возможностью и выразил Гитлеру резкий протест. Переубедить его оказалось совсем несложно, и он, как мне показалось, даже испытал облегчение, взяв назад данное войскам СС обещание. В тот же день — 8 июля 1943 года — он дал указание Кейтелю подготовить проект директивы о направлении всех пленных на военные заводы.
352
Все наши споры оказались совершенно напрасными. Наступление началось 5 июля, но, несмотря на широкое применение новейшей боевой техники, нам так и не удалось срезать Курский выступ и взять в кольцо советские войска. Излишняя самоуверенность в очередной раз подвела Гитлера, и после двух недель ожесточенных боев он был вынужден признать тщетность своих надежд. Неудачный исход битвы под Курском означал, что отныне Советский Союз завладел стратегической инициативой даже в благоприятное для нас время года.
Генеральный штаб сухопутных войск сразу же после второй зимней катастрофы настаивал на строительстве в глубинных прифронтовых районах промежуточных рубежей, но Гитлер, разумеется, не согласился с ним. Но после провала летнего наступления он сам потребовал приступить к строительству оборонительных сооружен™ в 20—25 километрах от основных зон боевых действий. Генеральный штаб, напротив, предложил закрепиться на крутых склонах западного берега Днепра. Линия фронта проходила пока еще более чем в 200 километрах от него, и мы могли еще успеть возвести здесь мощные укрепления. Гитлер наотрез отказался поддержать эту идею. Если во время своих победоносных военных кампаний он обычно всячески расхваливал немецких солдат и называл их лучшими в мире, то теперь он прямо заявил: «Мы не можем позволить себе приступить к инженерному оборудованию тыловых позиций по чисто психологическим причинам. Как только в войсках станет известно, что в ста километрах от боевых рубежей возводятся оборонительные сооружения, никто уже не сможет заставить их пойти в бой. Они не только не окажут сопротивления врагу, но при первой же возможности побегут назад».
Тем не менее по приказу Манштейна и с молчаливого согласия Цейтцлера в декабре 1943 года на берегу Буга началось создание линии обороны. Советские войска находились тогда в 150—200 километрах восточнее этой реки. Когда Гитлер от моего заместителя Дорша узнал о нарушении своего запрета, то в необычайно резкой форме приказал прекратить все строительные работы, выдвинув такой же аргумент, как и полгода назад. Дрожащим от волнения голосом он заявил, что укрепление тыловых позиций
12 А. Шпеер.
353
свидетельствует о пораженческих настроениях Манштейна и большинства генералов его группы армий.
Упрямство Гитлера поставило наши армии в крайне невыгодное по сравнению с наступающими советскими войсками положение. В России уже в ноябре невозможно было рыть окопы в промерзшей земле. Мы же понапрасну теряли время, и в итоге наши солдаты оказались совершенно неприспособленными к тяжелым погодным условиям. В отличие от них, противник был полностью подготовлен к зимней кампании.
Упорное нежелание Гитлера признать, что произошел коренной перелом, выразилось также и в изданном им весной 1943 года распоряжении начать строительство пятикилометрового автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив, хотя мы уже давно провели над ним подвесную канатную дорогу и 14 июня увеличили ее пропускную способность до тысячи тонн грузов в день. Этого едва хватало для сооружения оборонительных позиций в расположении частей 17-й армии. Но Гитлер никак не желал отказаться от плана вторжения в Иран через Кавказ; он настаивал на выполнении своего приказа и обосновывал его необходимостью перебросить на Кубанский плаццарм войска и вооружение для последующего осуществления этого плана. Его генералы, напротив, уже давно забыли о нем. Во время осмотра наших позиций на Кубанском плацдарме они в один голос высказали сомнение в том, что им удастся выдержать здесь натиск противника, обладавшего огромным превосходством в силах. Но, когда я передал Гитлеру их опасения, он с пренебрежением заявил: «Пустые отговорки! Енике, как и Генеральный штаб, не верит в возможность нового наступления».
Чуть позже — летом 1943 года — командующий 17-й армией генерал Енике запросил через Цейтцлера разрешение на отход с Кубанского плацдарма подчиненных ему частей, так как над ними нависла угроза окружения. В Крыму он намеревался занять более выгодные позиции и подготовиться к отражению предстоящего зимнего наступления советских войск. Гитлер в ответ с еще большей настойчивостью потребовал ускорить строительство столь нужного для претворения в жизнь его наступательных планов моста. Уже тогда было ясно, что он никогда не будет построен.
354
4 октября последние подразделения германских войск начали отступление с созданного Гитлером на азиатской части континента плацдарма.
Если на вилле Геринга я обсуждал проблему преодоления кризиса власти, то с Гудерианом, Цейтцлером и Фроммом встречался для того, чтобы откровенно поговорить о кризисе методов руководства военными операциями. Летом 1943 года Гудериан попросил меня устроить ему в приватной обстановке встречу с Цейтцлером. Из-за недостаточного разграничения полномочий отношения между генеральным инспектором бронетанковых войск и начальником Генерального штаба были довольно напряженными. К обоим я испытывал глубокую симпатию и с готовностью взял на себя роль посредника. Как выяснилось, у Гудериа- на в связи с этой встречей были далеко идущие намерения. Он хотел разработать совместно с Цейтцлером план смещения Гитлера с поста главнокомандующего сухопутными войсками.
Они быстро забыли о ранее возникших между ними разногласиях и рьяно принялись обсуждать ненормальную ситуацию. По словам Цейтцлера, следовало гораздо более энергично отстаивать интересы сухопутных сил. Гитлер, как верховный главнокомандующий вермахта, обязан беспристрастно относиться ко всем подчиненным ему основным родам войск и частям СС. В свою очередь Гудериан высказал мысль, что главнокомандующий сухопутными войсками обязан поддерживать тесные личные контакты с командующими армиями, знать истинные потребности фронтовых частей и внимательно следить за бесперебойным снабжением их вооружением и боеприпасами. Оба они пришли к единому мнению, что у Гитлера нет для этого ни времени, ни желания. Он без разбора назначает и отправляет в отставку генералов, которых едва знает. Правильную кадровую политику способен проводить лишь главнокомандующий, хорошо знакомый со своим высшим командным составом. В конце беседы Гудериан заявил, что Гитлер фактически предоставил главнокомандующим военно-воздушными и военно-морскими силами, а также Гиммлеру право по своему усмотрению решать все кадровые вопросы. В сухопутных войсках дела обстоят совсем по-другому.
12*
355
Каждый из нас попытался на свой страх и риск убедить Гитлера сложить с себя непосильные для него обязанности. Но стоило только Гудериану и мне отдельно друг от друга осторожно начать разговор на эту тему, как Гитлер сразу же необычайно резко оборвал нас. Он, видимо, счел для себя оскорбительными такого рода намеки. Я не знал, что незадолго до этого с подобным предложением к нему уже приходили фельдмаршалы Клюге и Манштейн, и Гитлер, очевидно, предположил, что мы сговорились.
Давно миновали времена, когда Гитлер с готовностью выполнял все мои пожелания. И хотя предоставление мне дополнительных полномочий, безусловно, способствовало бы увеличению выпуска военной продукции, Борман, Лам- мерс и Кейтель всячески пытались воспрепятствовать этому. Но они не смогли противопоставить никаких убедительных аргументов внесенному Дёницем и мной предложению передать под мое начало все производство вооружения для военно-морских сил.
С Дёницем я познакомился в июле 1942 года, то есть сразу же после моего официального вступления в новую должность. В Париже командующий подводным флотом принимал меня в небольшой, уютной квартире жилого дома, по тогдашним понятиям ультрасовременной постройки. Ведь накануне командующий германскими военно-воздушными силами на территории Франции фельдмаршал Шперле устроил в мою честь неподобающе роскошный для военного времени обед с неимоверным обилием блюд и изысканных вин, и поэтому скромная обстановка апартаментов Дёница произвела на меня весьма благоприятное впечатление. Ведь Шперле разместил свой штаб не где-нибудь, а в Люксембургском дворце, когда-то принадлежавшем Марии Медичи. Фельдмаршал походил на своего шефа не только неуемной тягой к роскоши и присущим им обоим желанием пустить пыль в глаза, но и тучной комплекцией.
Еще больше Дёница и меня сблизила совместная поездка на побережье Атлантического океана, где полным ходом шло строительство ангаров для подводных лодок. Главнокомандующий военно-морскими силами Редер был явно не в восторге от нашей дружбы. Недолго думая он запретил Дёницу обсуждать со мной технические проблемы.
356
В конце декабря 1942 года командир успешно действовавшей на морских коммуникациях противника подводной лодки Шютце сообщил мне, что у Дёница возникли серьезные разногласия с командованием военно-морских сил и, видимо, его вскоре сместят с поста командующего подводным флотом. Через несколько дней от статс-секретаря Наумана я узнал, что назначенный министерством пропаганды следить за освещением в печати военно-морских операций цензор вычеркнул фамилию Дёница из подписей под всеми фотографиями, изображающими отправившихся в совместную инспекционную поездку командующего подводным флотом и его непосредственного начальника.
В начале января я снова оказался в ставке и своими глазами видел, как взволновало Гитлера появившееся в иностранной прессе сообщение о морском сражении, о котором Редер и его штаб лишь вкратце информировали фюрера. В итоге обсуждение возможного применения более рациональных методов строительства подводных лодок как-то само собой вылилось в откровенный разговор о причинах моего неудачного сотрудничества с Редером. Я рассказал ему о том, что Редер, в сущности, запретил Дёницу встречаться со мной, об опасениях офицеров подводного флота за его судьбу и о происках цензуры. Из наблюдений за поведением Бормана я сделал вывод, что нужного эффекта можно достичь, если заронить в душу Гитлера хоть малейшее подозрение. Бессмысленно было пытаться впрямую повлиять на него, ибо он отказывался принимать решение, если чувствовал, что его ему навязывают. Поэтому я лишь дал понять, что Дёниц способен устранить те трудности, которые препятствуют осуществлению наших планов. На самом деле я хотел смещения Редера, и, как ни странно, мне это удалось. Учитывая прямо-таки маниакальную привязанность, которую Гитлер испытывал к своим старым сотрудникам, я, естественно, не возлагал слишком больших надежд на нашу встречу. 30 января Дёниц был произведен в чин гросс- адмирала и назначен на место Редера, которого перевели на почетную должность генерального инспектора военно- морских сил. Это давало лишь право на торжественные похороны.
Решительный характер Дёница, его глубокие профессиональные знания и умение вовремя привести технические
357
аргументы вплоть до конца войны надежно защищали военно-морской флот от последствий импульсивных и непродуманных решений Гитлера. Я теперь часто встречался с гросс-адмиралом, однако наше тесное сотрудничество началось, как водится, с недоразумения. В середине апреля 1943 года Гитлер выслушал доклад Дёница и, не спросив моего мнения, немедленно объявил выпуск вооружения для военно-морских сил первоочередной задачей, хотя еще три месяца тому назад — 22 января — приоритет получила программа расширения производства танков. Между армией и флотом могла разгореться жестокая конкурентная борьба, но никакого моего вмешательства для ее предотвращения не потребовалось. Дёниц быстро осознал, что сотрудничество с мощным аппаратом управления вооружений сухопутных войск принесет ему гораздо больше пользы, чем все обещания Гитлера. Вскоре мы договорились передать под контроль моего ведомства судостроительные заводы, а также все производство торпед и снарядов для корабельных орудий. Взамен я твердо обещал добиться осуществления разработанной Дёницем программы строительства военно- морского флота. Если раньше мы вводили в строй в месяц самое большее двадцать подводных лодок суммарным водоизмещением 16 000 тонн, то теперь нам предстояло довести их число до пятидесяти. Соответственно, общий тоннаж должен был также возрасти. Кроме того, мы договорились увеличить количество минных тральщиков и торпедных катеров.
Дёниц объяснил мне, что если мы не усовершенствуем конструкцию своих подводных лодок, то будем вынуждены практически прекратить подводную войну. Командование военно-морских сил наконец признало порочность концепции строительства погружающихся на короткий срок «подводных кораблей» и решило установить на подводных лодках аккумуляторные батареи повышенной емкости. Это позволило использовать более мощные электромоторы и увеличить тем самым скорость и дальность плавания под водой.
В таких случаях самое главное — найти подходящего руководителя проекта. Мой выбор пал на некоего Меркера. Этим я нанес смертельную обиду всем инженерам-корабле- строителям, ибо сей уроженец Швабии раньше ничем подобным не занимался, но зато показал себя превосходным
358
конструктором пожарных автомобилей. 5 июля 1943 года он представил нам новую программу строительства подводных лодок. Если раньше они строились на верфях, где не представлялось возможным расширить производство, то теперь Меркер предложил перенять опыт автомобильной промышленности США и изготовлять все оборудование, включая энергетические установки, внутри страны, а затем доставлять их по воде или по суше на верфи и там собирать поточным методом, как автомобили, в данном случае — отсек к отсеку. Его оригинальная идея едва ли не до слез растрогала Дёница, и он, расчувствовавшись, в конце заседания заявил: «С этого момента мы начинаем новую жизнь».
Сперва мы лишь в общих чертах представляли себе, как должны выглядеть подводные лодки нового образца. Для тщательной разработки проекта была создана комиссия, во главе которой, вопреки правилам, стал не один из ведущих специалистов в области кораблестроения, а адмирал Топп. Дёниц откомандировал его в наше распоряжение, и нам даже не потребовалось четко определять сферу его компетенции, поскольку он сразу же нашел общий язык с Меркером.
Не прошло и четырех месяцев после первого заседания комиссии по кораблестроению, как уже 11 ноября 1943 года были готовы все чертежи, а еще через месяц Дёниц и я осматривали спущенную на воду деревянную модель подводной лодки. Еще во время проведения опытно-конструкторских работ Главный комитет по судостроению начал раздавать заказы промышленникам: впервые мы использовали этот метод, когда готовились приступить к производству новой модели танка «Пантера», и он полностью оправдал себя. Лишь благодаря ему оказалось возможным уже в 1944 году провести испытание первых шести подводных лодок нового образца. Даже в первые месяцы 1945 года, несмотря на поистине катастрофическую ситуацию, мы, безусловно, выполнили бы свое обещание строить ежемесячно как минимум сорок подводных лодок, если бы верфи не подвергались интенсивным воздушным налетам.
Через три недели после подписания Дёницем и мной совместного распоряжения о принятии новой программы кораблестроения, 26 июля 1943 года, я добился от Гитлера обещания передать весь контроль за ее осуществлением
359
в ведение моего министерства. По тактическим соображениям я обосновал свое распоряжение тем, что многим предприятиям придется свернуть производство товаров народного потребления и целиком переключиться на выполнение военных заказов. Я объяснил Гитлеру, что задействовать придется не только 500 000 немецких рабочих, но также руководителей заводов и фабрик, которые, естественно, придется переоборудовать. Большинство гаулейтеров воспротивится столь высокомасштабной реконструкции. Министерство экономики уже показало свою неспособность противостоять им — я как бы заранее предвосхищал события, но их развитие подтвердило мою правоту.
В ходе необычайно долгих и нудных переговоров, сводившихся преимущественно к поиску обходных путей, всех причастных к претворению в жизнь этой программы рейхсминистров и представителей управления по осуществлению четырехлетнего плана в конце концов призвали высказать свои возражения в письменном виде, а затем Ламмерс 26 августа собрал их в зале заседаний кабинета министров. Функ неожиданно проявил широту натуры, «произнес блещущую остроумием речь на собственных похоронах» и тем самым добился от всех присутствующих единодушного согласия на передачу моему ведомству контроля над производством всех видов вооружений. Ламмерс скрепя сердце был вынужден пообещать попросить Бормана известить Гитлера об итогах этого совещания. Через несколько дней Функ и я отправились в ставку, чтобы заручиться окончательным согласием Гитлера.
К моему великому удивлению, фюрер в присутствии Функа сразу же резко оборвал меня и раздраженно заявил, что не желает выслушивать никаких пояснений к проекту нового закона. Борман, дескать, пару часов тому назад предупредил его о моем намерении вынудить его поставить свою подпись под документом, который, оказывается, не согласован ни с рейхсминистром Ламмерсом, ни с рейхсмаршалом. Он требует, чтобы его не втягивали ни в какие истории и не заставляли становиться на сторону одного из соперников. Я попытался было втолковать ему, что вполне достаточно, если Ламмерс в силу своей должности договорится не с Герингом, а со статс-секретарем подчиненного ему управления, но Гитлер снова перебил меня: «Я рад,
360
что хотя бы Борман до конца предан мне». Он явно подозревал, что мы хотим обмануть его.
Функ рассказал обо всем Ламмерсу, и мы спешно выехали навстречу Герингу, который направлялся в ставку из своего расположенного в Роминтенской пустоши охотничьего хозяйства. Сперва рейхсмаршал не скрывал своего негодования; его, бесспорно, так же тенденциозно информировали о наших планах и предупредили, чтобы он держал ухо востро. Однако любезный, обходительный Функ своим красноречием сумел сломать возникшую между нами стену и постепенно убедил Геринга в необходимости поддержать предложенный проект закона. От нас потребовалось только внести в него следующую поправку: «Рейхсмаршал Великого германского рейха по-прежнему сохраняет за собой все полномочия руководителя управления по осуществлению четырехлетнего плана». Поправка эта не имела никакого реального значения. Я возглавлял Центральное управление планирования и вполне мог распоряжаться большинством формально подчиненных Герингу предприятий.
Рейхсмаршал в знак согласия поставил свою подпись под законопроектом, а Ламмерс в свою очередь передал по телеграфу, что ни у кого больше нет против него возражений. После этого Гитлер также заявил о своей готовности подписать законопроект, который вступил в силу 2 сентября. Отныне моя должность официально именовалась не «рейхсминистр вооружений и боеприпасов», а «рейхсминистр военной промышленности».
Борман так ничего и не добился. Однако я не стал жаловаться на него Гитлеру, а предоставил ему возможность поразмыслить на досуге над поведением своего секретаря. На собственном опыте я уже убедился, что не стоит разоблачать происки Бормана и ставить Гитлера в неловкое положение.
Борман никак не мог смириться с моим стремлением расширить сферу компетенции своего министерства и наделить его как можно более широкими полномочиями, Кроме того, моя деятельность на этом посту требовала поддержания тесных контактов с такими представителями высшего командного состава, как Гудериан, Цейтцлер, Фромм и, наконец, Дёниц. В окружении Гитлера меня поддерживали адъютанты Гитлера от сухопутных войск
361
и военно-воздушных сил генералы Энгель и фон Белов, главный адъютант Шмундт, а также лечащий врач Гитлера Карл Брандт, которого Борман считал своим личным врагом.
Как-то вечером, после нескольких рюмок «Штейнхаге- ра», Шмундт доверительно сообщил мне, что, в отличие от Геринга, все генералы относятся ко мне с огромным доверием. С несколько чрезмерным пафосом он воскликнул: «На сухопутные войска вы всегда можете положиться, господин Шпеер, они на вашей стороне!»
Честно говоря, я не знал, зачем Шмундт так открыто льстил мне, и вообще казалось, что он просто перепутал мнение генералитета и основного офицерского состава сухопутных войск. Я также предположил, что Шмундт не только мне говорил такие комплименты и, конечно же, они сразу же становились известными Борману. Слишком тесным был круг сотрудников ставки.
Примерно в это же время — осенью 1943 года — Гитлер изрядно смутил меня, назвав в присутствии нескольких офицеров полевого штаба Гиммлера и меня своими «равноправными соратниками». Какими бы соображениями он ни руководствовался, его высказывание вряд ли могло понравиться рейхсфюреру СС, наверняка полагавшему, что, кроме него, никто не пользуется таким непререкаемым авторитетом. В один из этих дней я встретился с Цейтцле- ром, и он поспешил поделиться со мной радостной вестью: «Фюрер очень доволен вами! Он недавно заявил, что возлагает на вас большие надежды! После Геринга на нашем политическом небосклоне взошло новое светило!» Я попросил Цейтцлера никому не рассказывать об этих словах фюрера. Но так как мне уже успели поведать о них и другие обитатели «запретной зоны № 1», не подлежало сомнению, что Борману также стало известно мнение Гитлера. Обладавший огромным влиянием секретарь фюрера был вынужден признать, что этим летом ему не удалось настроить своего шефа против меня. Наоборот, Борман добился прямо противоположного результата.
Так как Гитлер обычно был довольно скуп на похвалу, Борман сразу же воспринял ее как угрозу. Он полагал, что я вдвойне опасен ему, так как не принадлежу к среде преданных ему партийных иерархов. С этого момента в кругу своих ближайших сотрудников он неоднократно обвинял меня не только во враждебном отношении к партии,
362
но и в намерении стать преемником Гитлера. Нельзя сказать, что он был совсем уж неправ. Я припоминаю, что в беседах с Мильхом несколько раз касался этой темы.
Бесспорно, Гитлер оказался тогда в довольно затруднительном положении, ибо не знал, кого избрать своим преемником. Геринг утратил всякий авторитет. Гесс своим поступком сам исключил себя из числа претендентов, вокруг Шираха Борман сплел сеть интриг, и он теперь был связан по рукам и ногам, а сам начальник партийной канцелярии, как, впрочем, Гиммлер и Геббельс, не являлся, по мнению Гитлера, «в должной мере творческой личностью». Во мне Гитлер обнаружил, вероятно, родственные черты. Я был для него талантливым архитектором, который не только довольно быстро сделал политическую карьеру, но и обеспечил подъем производства военной продукции, неожиданно проявив организационные способности в довольно специфической области. Я только никак не показал себя в сфере внешней политики — четвертой вотчине Гитлера. Возможно, он рассматривал меня как одаренного художника, волею случая заброшенного в политику и, вопреки всем утверждениям, добившегося здесь больших успехов. Моя биография как бы подтверждала правильность выбранного им собственного жизненного пути.
В тесном кругу я называл Бормана не иначе как «человеком с рачьими клешнями». Энергичный, хитрый и жестокий Борман готов был, подобно раку, намертво вцепиться в ногу любому, кого он подозревал в намерении забраться наверх. Теперь он стремился лишить меня реальной власти и прилагал все усилия для достижения этой цели. С октября 1943 года гаулейтеры единым фронтом выступали против меня, и уже через год я иной раз в отчаянии выражал готовность подать в отставку. Вплоть до конца войны ни Борман, ни я так и не смогли одержать победу в этой борьбе. Гитлер постоянно сдерживал Бормана и поддерживал меня: иногда он проявлял ко мне благосклонность, но бывал также очень груб со мной. Однако сотрудники моего аппарата добились поистине огромных успехов и весьма умело использовали наш военно-промышленный потенциал. Тут уж Борман ничего не мог поделать. Эта структура была слишком тесно связана с человеком по имени Альберт Шпеер.
363
Без него она попросту бы распалась, что в свою очередь немедленно поставило бы под угрозу проведение военных операций.
20
Воздушные налеты
Упоение достигнутыми в первые месяцы успехами и словами благодарности вскоре прошло, так как на мои плечи легло тяжкое бремя забот. Препятствия мне чинили на каждом шагу. Тревогу вызывали не только нерешенные проблемы рабочей силы и материально-технического снабжения и придворные интриги. Участившиеся налеты британской авиации, немедленно сказавшиеся на положении дел в военной промышленности, заставили меня на какое-то время забыть о Заукеле, Бормане и Центральном управлении планирования. Однако эти обстоятельства одновременно способствовали повышению моего авторитета. Несмотря на то что многие предприятия вышли из строя, мы в результате не только не снизили, но, напротив, еще больше увеличили выпуск вооружения, боеприпасов и боевой техники.
Эти налеты означали, что война пришла в Германию. В горящих, опустошенных городах теперь каждый день ощущали ее жаркое дыхание, и это побудило нас напрячь все силы.
Выпавшие на долю населения испытания только усилили его волю к сопротивлению; рядовые немцы скорее окрепли духом — такое впечатление создалось у меня тогда после встреч с ними, а также после посещения военных заводов. Мы лишились девяти процентов производственных площадей, но, удвоив усилия, с лихвой возместили эти потери.
Наиболее ощутимый ущерб нанесли вынужденные оборонительные меры; стволы десяти тысяч тяжелых зенитных орудий на территории рейха или различных западных театрах военных действий были направлены в небо, хотя их можно было бы перебросить в Россию и использовать там для стрельбы по танкам и другим наземным целям. Если бы
364
не активные действия авиации союзников против Германии — своего рода второй фронт, — наша противотанковая артиллерия получила бы гораздо больше боеприпасов. Кроме того, на отражение ее атак были брошены сотни тысяч молодых солдат. Треть предприятий оптической промышленности изготовляла прицелы для зенитной артиллерии, половина всех электротехнических заводов производила для нее радиолокационное оборудование. Поэтому, несмотря на высокий уровень развития этих отраслей германской промышленности, армии западных союзников были гораздо лучше оснащены современными приборами, чем наши фронтовые части.
Первое представление о том, какие серьезные испытания ожидают нас в 1943 году, мы получили уже в ночь с 30 на 31 мая 1942 года, когда англичане совершили налет на Кёльн. В нем участвовали 1046 самолетов, то есть практически вся их бомбардировочная авиация.
По случайному стечению обстоятельств в то утро Геринг вызвал нас к себе, но не в Каринхалл, а в расположенный во Франконской Швейцарии замок Вельденштейн. Рейхсмаршал пребывал в дурном настроении и никак не желал поверить сообщениям о воздушном налете на Кёльн. «Нельзя за ночь сбросить столько бомб! — орал он растерянному адъютанту. — Немедленно соедините меня с гаулейтером Кёльна!» В итоге мы стали свидетелями совершенно бессмысленного телефонного разговора. «Ваш полицей-прези- дент в своем отчете нагло лжет!» Гаулейтер, видимо, возразил ему. «Я как рейхсмаршал заявляю вам, что эти цифры чрезмерно завышены. Как вы можете докладывать фюреру такую чушь!» Гаулейтер на другом конце провода явно настаивал на своем. «Как вы считали зажигательные бомбы? Вы же лишь приблизительно могли определить их количество! Я еще раз заявляю вам, что оно сильно преувеличено. Это все ложь! Тотчас же внесите исправления в ваш доклад фюреру! Или вы хотите сказать, что я лгу? Я сам сообщу фюреру подлинные данные. И никто не посмеет усомниться в них!»
Затем как ни в чем не бывало Геринг показал нам свою новую резиденцию, в которой когда-то жили его родители. Он вел себя так, словно уже давным-давно наступил мир:
365
приказал принести архитектурные проекты и долго объяснял нам, какой великолепный замок будет воздвигнут на месте окруженного развалинами скромного родительского дома. Но прежде всего он собирался построить здесь надежное бомбоубежище, проект которого также был готов.
Через три дня я прибыл в ставку и убедился, что ее обитатели никак не могли успокоиться — так сильно взволновал их воздушный налет на Кёльн. Я рассказал Гитлеру о странном разговоре Геринга с гаулейтером Гроз. Естественно, я высказал предположение, что Геринг располагал более точными сведениями, чем его собеседник. У Гитлера, однако, уже создалось свое мнение. Он представил Герингу уже почерпнутые из прессы вражеских государств данные; количество участвовавших в налете бомбардировщиков и сброшенных бомб даже превышало цифры, приведенные в донесении полицей-президента Кёльна. Гитлер был крайне возмущен стремлением Геринга исказить факты, но возлагал также часть вины на главное командование военно-воздушных сил. На следующий день он, как всегда, принял Геринга и больше ни разу не упомянул об этой некрасивой истории.
Уже 10 сентября 1942 года я заявил Гитлеру, что прекращение производства танков во Фридрихсхафене и шарикоподшипников в Швейнфурте неизбежно повлечет за собой тяжкие последствия. Гитлер немедленно приказал окружить эти два города плотным кольцом зенитных батарей. Я понял, что, если вместо причиняющих значительный ущерб целым районам, но, в сущности, совершенно бессмысленных «бомбежек по площадям» союзники попытаются целенаправленно разрушать центры военной промышленности, исход войны будет окончательно решен уже в 1943 году. 11 апреля я предложил Гитлеру поручить особому комитету промышленников изучить все системы энергоснабжения Советского Союза и выявить их наиболее уязвимые места. Но через четыре недели не мы, а британская авиация предприняла первую попытку, действуя по принципу поперечного миелита, парализовать нерв нашей военной промышленности и тем самым оказать решающее влияние на ход войны. 17 мая девятнадцать английских самолетов нанесли бомбовые удары по дамбам Рурской области.
366
Полученные на рассвете первые сообщения меня чрезвычайно встревожили. Была разрушена дамба на реке Мёне, и ее воды, клокоча, хлынули в долину. Ничего не было известно об остальных трех плотинах. Рано утром мы вылетели в Рур, и к тому моменту, когда самолет приземлился на аэродроме Верль, были просто потрясены открывшейся сверху картиной разрушений. Так, оснащенная мощными агрегатами электростанция, находившаяся у подножия разрушенной дамбы, была буквально стерта с лица земли.
Целые районы Рурской области оказались под водой. Залитое ею и заваленное грязью и илом электрооборудование насосных станций вышло из строя. В результате остановились многие заводы, оказалась нарушенной схема подачи населению питьевой воды. Представленный мною вскоре в ставку отчет, как было сказано в соответствующем протоколе, произвел глубокое впечатление на фюрера. Он даже пожелал оставить его у себя.
В ходе этого рейда англичанам не удалось разрушить остальные три плотины и поставить жителей Рурской долины летом в очень тяжелое положение — ведь именно из этих водохранилищ они получали питьевую воду. Однако бомба все же попала в дамбу Сорпеталь. В тот же день я осмотрел воронку и облегченно вздохнул: к счастью, она оказалась ниже уровня воды. Попади бомба чуть выше — и маленький ручеек очень быстро превратился бы в бурный поток, который смыл бы возведенную из земли и каменных глыб насыпь. Оказалось, что гораздо эффективнее посылать всего лишь несколько самолетов для нанесения ударов по конкретным целям, чем отправлять чуть ли не всю бомбардировочную авиацию разрушать наши города. В данной ситуации англичане совершили только одну ошибку, и я до сих пор не могу понять, почему они так поступили. Они слишком рассредоточили свои силы и в ту же ночь сбросили зачем-то бомбы еще и на расположенную в семидесяти километрах отсюда плотину Эдер- таль, которая не имела никакого отношения к системе водоснабжения Рура.
Через несколько дней переброшенные мной со строительства «Атлантического вала» в районе Мёне и Эдера 7000 человек не покладая рук трудились над восстановлением дамб. К 22 сентября 1943 года, то есть еще до начала частых
367
осенних дождей, пробитая в дамбе Мёне брешь глубиной двадцать два и шириной семьдесят семь метров была полностью заделана. Это означало, что после сильных осадков к лету 1944 года в водохранилище скопится достаточно запасов воды. Уж не знаю, почему британская авиация не сорвала восстановительные работы, хотя такая возможность у нее имелась. Достаточно было сбросить на стройплощадку несколько зажигательных бомб, и все строительные леса были бы охвачены пламенем.
Я понимал, что боевой потенциал наших военно-воздушных сил к тому времени резко снизился, и тем не менее, учитывая наш опыт, вновь и вновь задавал себе вопрос: почему они все-таки не совершили налеты на аналогичные стратегически важные объекты противника? Ведь их разрушение могло иметь катастрофические последствия для военной экономики этих стран. Прошло две недели, и в конце мая я опять предложил Гитлеру создать рабочую группу по установлению стратегически важных целей на территории вражеских государств. Гитлер остался верен себе, то есть, как обычно, не проявил должной решимости. «На мой взгляд, бессмысленно убеждать Генеральный штаб военно- воздушных сил в необходимости прислушаться к советам ваших сотрудников из числа промышленников. Я лично уже неоднократно говорил на эту тему с генералом Ешонне- ком — и никакого результата». Очевидно, Гитлер не собирался в данной ситуации воспользоваться своей властью; ему вообще не дано было понять, что такого рода операции могут коренным образом изменить ход военных действий. В период между 1939 и 1941 годами он, несомненно, однажды уже упустил свой шанс. Ему следовало бы не посылать свои самолеты сбрасывать смертоносный груз на английские города, а четко скоординировать действия подводных лодок. Они могли бы блокировать те английские порты, чьи сооружения по своей мощности не были рассчитаны на прием и отправку большого количества судов, — ведь к берегам Англии уже тогда шли конвои с грузами. Теперь Гитлер не понял, что судьба дарует ему еще один шанс. Правда, англичане, если не считать их налетов на дамбы Рурской области, поступали столь же неразумно.
368
Но ни отказ Гитлера поддержать мое предложение, ни отсутствие возможности хоть как-то повлиять на главное командование военно-воздушных сил ничуть не обескуражили меня. 23 июня я собрал у себя нескольких специалистов и создал из них комиссию по установлению наиболее важных объектов противника. Наше первое предложение касалось угледобывающей промышленности Англии, так как изданная там справочная литература содержала исчерпывающие сведения об этой отрасли индустрии и конкретной роли каждого предприятия в увеличении топливного баланса страны. К сожалению, мы запоздали со своим предложением на два года: наша авиация была уже не в состоянии осуществить эту акцию.
Мы учли ее ограниченный боевой потенциал и вновь вспомнили об уязвимых местах в энергохозяйстве России. К тому же, по нашим данным, там отсутствовала налаженная система противовоздушной обороны. Кроме того, структура энергохозяйства Советского Союза была совершенно иной, чем в западных государствах. Если промышленное развитие в этих странах привело к строительству электростанций средних размеров, то в Советском Союзе производство электроэнергии было сосредоточено в нескольких пунктах, расположенных, как правило, на обширной территории промышленных зон. Так, например, Москву снабжала электроэнергией находящаяся в верховьях Волги электроцентраль. А ведь, согласно полученным нами сведениям, 60% всех так необходимых оптической и электротехнической промышленности приборов производилось в столице Советского Союза. Достаточно было обрушить град фугасных и зажигательных бомб на расположенные в Уральском промышленном районе электростанции, как в Советском Союзе не только бы встали на долгий срок сталелитейные заводы, но и полностью приостановилось бы производство танков и боеприпасов. Одно прямое попадание в турбину или ее подводящие линии — и хлынувшие потоки воды причинят больше разрушений, чем несколько бомб. А поскольку многие советские электростанции были построены с помощью немецких фирм, мы располагали также всей технической документацией и чертежами.
26 ноября Геринг приказал усилить 6-й авиационный корпус под командованием генерала Рудольфа Майстера
369
соединениями дальней бомбардировочной авиации. В декабре весь корпус был переброшен под Белосток. Мы срочно изготовили деревянные макеты электростанций, чтобы пилоты могли отрабатывать на них приемы прицельного бомбометания. В начале декабря я доложил Гитлеру о подготовке операции, а Мильх информировал о наших планах нового начальника Генерального штаба военно-воздушных сил Гюнтера Кортена, с которым он поддерживал дружеские отношения. 4 февраля в своем письме Кортену я подчеркивал, что «даже на сегодняшний день сохранились еще оперативные возможности... для развязывания воздушной войны против Советского Союза... У меня есть все основания предполагать, что налеты на электростанции в Московско-Волжском районе приведут к существенному снижению военно-промышленного потенциала Советского Союза». Как правило, успешное проведение таких акций зависит от многих случайных факторов. Я лично вовсе не был убежден в том, что эта операция могла изменить ход войны. В послании Кортену я лишь выразил надежду на то, что она ослабит наступательную мощь Красной армии, на восстановление которой при условии бесперебойных поставок боевой техники из США потребуется несколько месяцев.
И вновь выяснилось, что мы запоздали на два года. В связи с зимним наступлением русских войск на Восточном фронте сложилась критическая ситуация, и Гитлер, в очередной раз оказавшись в затруднительном положении, опять проявил поразительную недальновидность. В конце февраля он заявил мне, что «корпус Майстера» получил приказ подвергнуть массированной бомбардировке железнодорожные магистрали с целью сорвать подвоз подкреплений и военных грузов наступающим русским войскам. Я попытался доказать, что этим он ничего не добьется, так как земля в России в это время промерзает насквозь и бомбы могут проделать в ней только неглубокие воронки. Я также напомнил Гитлеру, что движение по изготовленным из гораздо менее прочных материалов рельсам немецких железных дорог восстанавливалось обычно уже через несколько часов. Но он не пожелал прислушаться к моим аргументам. Эта почти совершенно бессмысленная операция никак не отразилась на темпах наступления русских войск; боевой
370
потенциал корпуса был растрачен впустую, и почти все входившие в его состав самолеты были уничтожены.
Более того, Гитлер вдруг вознамерился жестоко отомстить Англии и окончательно утратил всякий интерес к новой стратегии воздушной войны. А ведь даже после гибели «корпуса Майстера» в нашем распоряжении оставалось еще вполне достаточное для ее осуществления количество бомбардировщиков. Но Гитлер убедил себя в том, что стоит совершить несколько массированных налетов на Лондон, как Англия тут же прекратит воздушное наступление на Германию. Только поэтому он потребовал еще в 1943 году начать разработку и производство новых образцов тяжелых бомбардировщиков. Безрезультатными оказались все попытки доказать ему, что на территории России есть гораздо более значительные стратегические цели. Правда, Гитлер даже летом 1944 года подчас соглашался с моими доводами, но ни он, ни высокопоставленные генералы военно-воздушных сил не оказались в состоянии понять сущность принципиально новой стратегии воздушной войны. Следует отметить, что здесь противник ничем не отличался от них.
Пока я предпринимал оказавшиеся напрасными усилия, англо-американская авиация в течение восьми дней — с 25 июля по 2 августа — совершила пять массированных налетов на Гамбург. Итог этой ненужной с любой тактической точки зрения акции был ужасен. Сразу же была полностью разрушена водопроводная станция, и пожарные не смогли быстро потушить охвативший целые кварталы пожар. Языки пламени жадно лизали плавившийся асфальт, бросившиеся в подвалы люди вскоре погибали от удушья, а те, кто успевал выскочить на улицу, превращались в живые факелы. Казалось, в городе произошло очень сильное землетрясение или извержение вулкана. Гаулейтер Кауфман слал Гитлеру одну телеграмму за другой, умоляя приехать в Гамбург. Так ничего и не добившись, он попросил Гитлера хотя бы принять членов наиболее отличившихся спасательных команд. Но фюрер ему даже в этом отказал.
Гамбург постигла участь, уготованная Гитлером и Герингом в 1940 году Лондону. Я помню, что мы тогда собрались как-то за ужином в рейхсканцелярии и Гитлер был настолько упоен перспективой разрушения столицы
371
Англии, что, все более распаляясь, принялся убеждать гостей: «Вы когда-нибудь видели карту Лондона? Город построен так, что достаточно одного очага загорания — и он, как и двести лет тому назад, превратится в море огня. Геринг абсолютно прав: фугасные бомбы не дадут нужного эффекта. А вот после зажигательных бомб от Лондона останутся только обгоревшие развалины! И пожарные ничего не смогут сделать!»
После налетов на Гамбург я был настолько встревожен, что на состоявшемся 29 июля во второй половине дня заседании руководства Центрального управления планирования прямо заявил: «Еще несколько акций такого масштаба — и столь бурно обсуждаемые нами проблемы отпадут сами собой. Все стремительно покатится вниз... И тогда нам останется лишь провести последнее заседание...» Через три дня я сообщил Гитлеру, что система военной промышленности начинает разваливаться и что стоит подвергнуть столь же массированным бомбардировкам еще шесть крупных городов — и производство вооружения в Германии полностью приостановится. Внешне Гитлер никак не отреагировал на мои слова. «Уверен, что вы снова сумеете навести порядок», — спокойно ответил он и перевел разговор на другую тему.
Самое удивительное, что Гитлер оказался прав. Мы, действительно, смогли снова навести порядок, но отнюдь не благодаря действиям руководящих органов нашей системы, которые даже при самых благих побуждениях способны были давать лишь общие указания, а потому, что персонал предприятий и в первую очередь рабочие приложили все силы и предотвратили спад производства. К счастью, после налетов на Гамбург не последовало столь же разрушительных бомбовых ударов по другим городам. Противник опять дал нам возможность приспособиться к ситуации и свести к минимуму ущерб от его будущих акций.
17 августа, то есть через две недели после бомбардировки Гамбурга, над Германией впервые появились самолеты стратегической авиации США. Они нанесли удар по Швейн- фурту. Здесь находилось большинство наших шарикоподшипниковых заводов, которые так и так не удовлетворяли потребности военной промышленности.
372
Противник опять совершил кардинальную ошибку. Большая часть его «летающих крепостей» — 146 из 376 самолетов — сбросили свои смертоносный груз не на эти предприятия, а на расположенный в Регенсбурге авиасборочный завод. Его разрушение не оказало никакого воздействия на положение дел в нашей авиационной промышленности. Наиболее важное значение имело то обстоятельство, что 17 августа английские самолеты почти одновременно и по- прежнему беспорядочно бомбили другие города.
Объем производства особенно необходимых для выпуска военной продукции подшипников диаметром от 6,4 до 24 см уменьшился почти на 38%. Поэтому нависшая над Швейн- фуртом угроза новых воздушных налетов не заставила нас эвакуировать из города шарикоподшипниковые заводы, так как эта операция повлекла бы за собой приостановку их выпуска на три-четыре месяца. По той же причине мы отказались от перебазирования шарикоподшипниковых заводов из берлинского района Эркнер, а также из Каннштатта и Штейра, хотя их месторасположение было наверняка известно врагу.
В июне 1945 года я получил письменный запрос из штаба английских военно-воздушных сил. Его офицеров интересовали возможные последствия одновременной бомбардировки всех наших шарикоподшипниковых заводов. «Уже через два месяца мы были бы вынуждены значительно снизить темпы производства вооружений, — ответил я им, — а еще через два месяца — вообще прекратить его в том случае, если:
1. Одновременно были бы совершены налеты на все шарикоподшипниковые заводы (в Швейнфурте, Штейре и Канн- иггатге, а также во Франции и Италии).
2. Эти предприятия затем каждые две недели три-четыре раза подвергались бы бомбардировке.
3. Еще через какое-то время тяжелые бомбардировщики союзников по два раза каждые восемь недель на протяжении шести месяцев совершали бы налеты на эти заводы, что привело бы к полному срыву восстановительных работ».
После первого удара мы смогли так быстро оправиться лишь потому, что использовали запасы шарикоподшипников как со складов вермахта, так и применяемые в так называемом непрерывном производстве. Как правило, этот
373
процесс продолжался шесть-восемь месяцев, а затем рабочие — зачастую чуть ли не в рюкзаках — переносили кустарно изготовленные изделия из цехов в монтажные мастерские. Мы всерьез опасались, что если противник перейдет к стратегии уничтожения с воздуха конкретных целей, то разрушение пяти-шести небольших промышленных объектов губительным образом скажется на всей нашей военной промышленности.
Второй удар последовал только через два месяца. 14 октября мы обсуждали с Гитлером в его штаб-квартире в Восточной Пруссии насущные проблемы моего ведомства, когда на пороге внезапно появился Шауб: «Рейхсмаршал хочет срочно поговорить с вами. На этот раз у него радостная новость!» После разговора по телефону с Герингом Гитлер сообщил нам, что новый дневной налет на Швейнфурт отбит и противник понес большие потери. Якобы по всей округе валяются обломки сбитых американских бомбардировщиков. Я сразу почувствовал: здесь что-то не так, и попросил разрешения покинуть совещание, ибо намеревался лично позвонить в Швейнфурт. Но связь с городом была прервана, и только с помощью полиции мне удалось поговорить с мастером одного из заводов. По его словам, бомбы не только разрушили все заводские корпуса, а искры, попавшие в закалочные ванны, вызвали в цехах пожар, но и вообще на этот раз причинен гораздо больший ущерб. Производство подшипников нужных нам диаметров упало теперь на целых шестьдесят процентов.
В этой ситуации я немедленно предоставил одному из моих самых энергичных сотрудников — генеральному директору Кесслеру — чрезвычайные полномочия в такой специфической области, как изготовление подшипников. Наши ресурсы были уже на исходе, а все попытки наладить импорт шарикоподшипников из Швеции и Швейцарии так толком ни к чему и не привели. Тем не менее нам удалось избежать катастрофы, так как мы где только можно использовали скользящие подшипники. К нашему великому удивлению, противник опять неожиданно прекратил наносить удары по шарикоподшипниковым заводам.
Правда, 23 декабря его самолеты разбомбили сборочный цех в Эркнере, но, скорее всего, это произошло совершенно случайно, так как в тот день они просто беспорядочно
374
сбрасывали бомбы на Берлин. И только в феврале 1944 года положение кардинальным образом изменилось. На протяжении четырех дней Швейнфурт, Штейр и Каннштатт по два раза подвергались сильным воздушным налетам. Затем наступил черед Эркнера, а потом бомбы вновь обрушились на Швейнфурт и Штейр. Через шесть недель выпуск шарикоподшипников снизился на 29%.
В начале апреля 1944 года налеты на эти города снова внезапно прекратились. Своими непоследовательными действиями союзники сами лишили себя возможности приблизить поражение Германии. Если бы в марте и апреле они действовали бы так же энергично, как в декабре и феврале, мы довольно скоро были бы вынуждены капитулировать, так как даже при увеличении общего объема производства вооружений на 16% с июня 1943 по апрель 1944 года создавшийся дефицит шарикоподшипников привел бы к прекращению выпуска танков, самолетов и другой боевой техники. Как ни странно, но развитие военной промышленности Германии полностью подтвердило правоту Гитлера, который утверждал, что на свете нет ничего невозможного и что все, кто сомневается в его словах, будут вскоре посрамлены.
Только после войны я узнал причину столь неразумной тактики противника. Оказывается, в штабах его военно-воздушных сил искренне полагали, что уж если в Германии установлен такой жестокий режим, то при эвакуации заводов из подвергшихся воздушным налетам городов вообще не возникнет никаких трудностей. 20 декабря 1943 года Харрис высказал твердое убеждение в том, что «к началу этого этапа войны немцы уже предприняли все мыслимые усилил по рассредоточению таких важных стратегических объектов, как шарикоподшипниковые завозы». Прямо скажем, он сильно переоценил эффективность авторитарного режима, который внешне действительно казался сплоченным и несокрушимым.
Еще 19 декабря 1942 года, то есть за восемь месяцев до первого налета на Швейнфурт, я направил всем органам военной промышленности приказ, в котором, в частности, говорилось следующее: «Усиление вражеской активности в воздухе вынуждает нас как можно скорее принять все необходимые меры по перебазированию основных военных
375
заводов». Поддержки своему начинанию я нигде не встретил. Гаулейтеры любой ценой хотели сохранить мир и спокойствие в своих небольших, по-деревенски уютных городках, где почти не ощущалось дыхание войны, и поэтому наотрез отказались размещать у себя эвакуируемые предприятия. Их директора в свою очередь не хотели ввязываться в дрязги с партийными руководителями и навлекать на себя обвинения в политической неблагонадежности. В итоге я так ничего и не добился.
После второго мощного налета на Швейнфурт 14 сентября 1943 года было снова принято решение рассредоточить часть восстановленных предприятий по окрестным деревням, а остальные разместить в небольших городках в восточной части Германии, расположенных вне зоны активных действий вражеской авиации. Естественно, я вновь повсюду встретил сильное сопротивление. Так, в январе 1944 года было предложено частично перевести производство подшипников в пробитые в горах туннели, а в августе мой уполномоченный все еще жаловался, что возникшие трудности грозят «затянуть до бесконечности работы по расширению и оборудованию штолен».
Вместо прицельных бомбардировок производственных площадей английская авиация развернула воздушное наступление на Берлин. Вечером 22 ноября 1943 года я проводил заседание в своем кабинете, когда в половине восьмого по радио прозвучало тревожное сообщение о приближении к столице целой армады бомбардировщиков. Вскоре мы услышали, что она уже достигла Потсдама, — я прервал совещание и спешно отправился к расположенному неподалеку похожему на башню сооружению, где размещался командный пункт управления огнем зенитной артиллерии. С верхней площадки был хорошо виден Берлин. Но едва я взошел на нее, как почувствовал, что от мощных разрывов бомб пол подо мной ходит ходуном и сотрясаются даже крепкие стены башни. Оглушительный рокот волнами прокатывался над городом, на протяжении двадцати минут воздух непрерывно сотрясали гулкие разрывы бомб. Я стремглав бросился вниз по лестнице, а вслед за мной устремились зенитчики. Кое-кого из них перед этим взрывной волной с силой ударило о стены, и теперь они зажимали кровоточащие раны. Весь нижний этаж был до отказа полон
376
людьми. Лица их уже смутно различались в пелене — в воздухе стояла осыпавшаяся со стен штукатурка. Как только гул затих, я отважился подняться наверх и обомлел: здание моего министерства было объято пламенем. Я тут же поехал туда. Несколько секретарш в касках, от этого похожие на амазонок, под доносившийся время от времени грохот от взрывающихся вдалеке бомб замедленного действия пытались вынести из огня папки с документами. На месте моего кабинета дымилась огромная воронка.
Огонь быстро распространился по всем помещениям и угрожал перекинуться на восьмиэтажное здание управления вооружений сухопутных войск. Мы все были, естественно, крайне возбуждены и теперь, ощутив неожиданно прилив энергии, решили спасти хотя бы представлявшие большую ценность телефонные аппараты специальных линий связи. Мы просто выдергивали провода из розеток, а затем относили телефоны в надежное место в подвале здания. Утром меня посетил начальник управления генерал Лееб. «На рассвете пожар удалось потушить, но, к сожалению, мы ничего не можем делать, — с усмешкой сказал он, — кто-то унес все телефонные аппараты».
Геринг находился тогда в Каринхалле и, узнав о моем ночном посещении пункта управления зенитным огнем, немедленно приказал больше не пускать меня на верхнюю площадку. Но у меня сложились настолько добрые отношения со служившими в «башне» офицерами, что они не побоялись ослушаться приказа рейхсмаршала и не препятствовали мне подниматься наверх.
Во время воздушных налетов на Берлин с верхней площадки открывалось потрясающее зрелище. Оно могло очаровать и заставить забыть обо всем на свете, и приходилось постоянно напоминать себе, что ты живешь в реальном и очень жестоком мире. Город был ярко освещен фейерверком из сыпавшихся сверху гроздьями осветительных ракет — берлинцы называли их «рождественскими елками», — факелами вспыхивали пораженные снарядами самолеты, а остальные бомбардировщики исполняли в это время в багрово-черном небе пляску святого Витта, пытаясь уйти от тянувшихся к ним лучей прожектора. Словом, дух захватывало от этой воистину апокалипсической картины.
377
Как только самолеты, отбомбившись, легли на обратный курс, я сразу же сел в машину и отправился на расположенные в наиболее разрушенных кварталах заводы. Мы ехали по заваленным обломками кирпичей, битым стеклом и всяким хламом улицам, вокруг горели дома, у развалин сидели или стояли люди, на тротуарах громоздилась мебель и всевозможный спасенный из огня скарб, в воздухе кружил пепел, от гари и известковой пыли першило в горле, и создавалось ощущение полнейшей безнадежности. Иногда люди вдруг начинали истерически хохотать — столь странное поведение свойственно им обычно в моменты грандиозных катастроф. Над городом вздымался в небо шестиметровый, прорезанный пламенем черный столб дыма. Поэтому даже днем улицы были как бы погружены во тьму.
Я уже неоднократно пытался рассказать об этом Гитлеру. В последний раз он прервал меня буквально на полуслове: «А кстати, Шпеер, сколько танков будет отправлено на фронт в следующем месяце?»
Через четыре дня — 26 ноября — в результате нового массированного налета на Берлин на нашем крупнейшем танковом заводе в Алькете вспыхнул сильный пожар. Бомбы также превратили в руины здание берлинского телефонного узла, и поэтому мы никак не могли вызвать пожарных. Наконец моему сотруднику Зауру пришла в голову счастливая мысль позвонить по аппарату прямой связи в ставку — благо этот телефонный кабель не был поврежден — и попросить дежурного офицера известить управление пожарной охраны. Таким образом, Гитлер также узнал о случившемся. Он не стал больше никого запрашивать, а немедленно распорядился бросить на тушение пожара на танковом заводе все размещенные как в Берлине, так и на территории всего гау пожарные части.
К этому времени я уже находился в Алькете. Почти все цеха сгорели, но берлинским пожарным, которые приехали раньше других, довольно быстро удалось обуздать разбушевавшееся пламя. Вскоре на завод начали непрерывно прибывать пожарные команды из таких сравнительно отдаленных городов, как Бранденбург, Ораниенбург и Потсдам, и обер-брандмейстеры один за другим подходили ко мне, чтобы отдать рапорт. Они получили приказ лично от фюрера, и поэтому даже я не смог побудить их отправиться
378
тушить другие пожары. К утру все прилегающие к заводу улицы были забиты множеством пожарных машин. Их пребывание здесь было совершенно бессмысленным, а между тем огонь охватил уже многие кварталы Берлина.
В сентябре 1943 года Мильх и я провели выездное совещание в научно-исследовательском центре ВВС в Рехлине на Мюрицзее. Это было сделано ради того, чтобы мои сотрудники до конца осознали, какие технические проблемы волнуют командование военно-воздушных сил. Нам представили графики выпуска всех типов самолетов во вражеских государствах, и прежде всего в США. Мы пришли в ужас, когда узнали, что в дальнейшем там предполагают во много раз увеличить производство бомбардировщиков, приспособленных для совершения налетов в дневное время. Оказывается, нынешние бомбардировки с такими губительными для мирного населения последствиями были всего лишь репетицией.
Естественно, встал вопрос о том, насколько Гитлер и Геринг информированы об этих производственных показателях. Мильх с горечью заявил мне, что уже несколько месяцев напрасно пытается заставить Геринга выслушать доклад его экспертов по авиационной промышленности вражеских государств. Но Геринг упорно отказывается принять их, так как фюрер сказал ему, что это все пропаганда, и теперь рейхсмаршал просто повторяет за ним его слова. В свою очередь я также неоднократно стремился обратить внимание Гитлера на эти тревожные цифры, и каждый раз у меня ничего не получалось: «Не давайте себя обманывать! Вам подбрасывают фальсифицированные данные. А пораженцы из министерства авиации, естественно, попались на эту удочку». Примерно так он реагировал на все предупреждения еще зимой 1942 года и теперь, когда наши города один за другим превращались в руины, по-прежнему упорно отстаивал свою пагубную точку зрения.
Примерно в это же время я стал свидетелем ожесточенного спора между Герингом и генеральным инспектором истребительной авиации Галландом. Последний в тот день доложил Гитлеру, что несколько истребителей, сопровождавших эскадрильи американских бомбардировщиков, сбиты не где-нибудь, а под Аахеном. Далее он утверждал, что если на этих истребителях в ближайшее время установят
379
дополнительные бензобаки, то под их защитой самолеты американской бомбардировочной авиации еще глубже проникнут в воздушное пространство Германии. Гитлер рассказал о его опасениях Герингу. Рейхсмаршал как раз собирался сесть в свой специальный поезд и отправиться в Роминтенскую пустошь, когда Галланд пришел проститься с ним. «Как вы посмели заявить фюреру, что американские истребители могут долететь до границ рейха?» — закричал на него Геринг. «Господин рейхсмаршал, — спокойно ответил Галланд, — они вскоре залетят в глубь нашей территории». Геринг пришел в неистовство: «Чушь, Галланд, что за безумные фантазии? Это чистейшей воды обман!» Галланд покачал головой: «Да нет, господин рейхсмаршал, это действительно так». Он стоял в подчеркнуто небрежной позе — фуражка чуть сдвинута набок, во рту сигара: «Под Аахеном сбиты американские истребители. Сей факт не подлежит сомнению!» Но Геринг никак не желал согласиться с ним: «Да такого просто быть не может, Галланд!» — «А вы проверьте, господин рейхсмаршал, — с издевкой ответил Галланд. — Вам ведь совсем нетрудна это сделать». Тогда в голосе Геринга зазвучали примирительные нотки: «Ну, Галланд, вы же опытный летчик и прекрасно знаете, что это просто невозможно. Давайте условимся: вас ввели в заблуждение!» Но Галланд в ответ молча качал головой, пока Геринг наконец не заявил: «В таком случае есть лишь одно объяснение столь невероятному событию. Подбитые истребители не сразу рухнули на землю, а еще какое-то время летели в западном направлении». Галланд даже бровью не повел: «В восточном, господин рейхсмаршал, и я глубоко убежден...» — «Достаточно, господин Галланд, — официальным тоном заговорил Геринг, явно желая прекратить затянувшуюся дискуссию, — как своему подчиненному я приказываю вам признать мою правоту! Вы поняли? Никакие американские истребители не долетали до Аахена! Ясно? Я так и скажу фюреру, что их там не было». И, больше не слушая Галланда, зашагал к поезду. У вагона он еще раз повернулся и с нескрываемой угрозой в голосе сказал: «Извольте выполнять приказ!» Я никогда не забуду выражения лица генерала, когда он, усмехнувшись, небрежно бросил: «Слушаюсь, господин рейхсмаршал!»
380
По сути своей Геринг вовсе не был склонен витать в облаках, и иногда мне доводилось слышать от него трезвую оценку ситуации. Но в данный момент он вел себя как человек, проявивший свою полную несостоятельность и теперь стремившийся обмануть себя и других. Своим нежеланием считаться с реальным положением дел и прислушаться к разумным аргументам он в 1941 году уже довел до самоубийства знаменитого летчика-истребителя и первого генерала-авиатехника Эрнста Удета. 19 августа 1943 года в своем кабинете застрелился один из ближайших сотрудников Геринга, начальник Генерального штаба военно-воздушных сил генерал-полковник Ешоннек. По словам Мильха, в найденной на его столе предсмертной записке он требовал, чтобы рейхсмаршал не присутствовал на его похоронах. Однако Геринг не только принял участие в траурной церемонии, но и от имени Гитлера возложил венок на могилу Ешоннека.
Я всегда считал одним из наиболее ценных качеств человека умение трезво смотреть на вещи и не забивать себе голову бредовыми идеями. Но когда я размышляю о предшествовавшем тюрьме периоде своей жизни, то вынужден сделать вывод, что и мне всегда было свойственно предаваться иллюзиям.
Упорным нежеланием считаться с реальностью — эта тенденция, кстати, получила довольно широкое распространение — грешили отнюдь не только деятели национал-социалистического режима. Но если в нормальных условиях положение могли исправить злая ирония, критические отзывы и, наконец, отказ общества принимать человека всерьез, то в Третьем рейхе убедить кого-либо, а особенно тех, кто принадлежал к правящей элите, в необходимости пересмотреть свои иллюзорные представления было совершенно невозможно. Напротив, словно в кабинете кривых зеркал, любой самообман создавал все более искаженное восприятие действительности, уводя человека из мрачного реального мира в не имевший с ним ничего общего мир грез. В этих зеркалах я мог увидеть только многократно Увеличенное изображение моего лица, и ни один чужой лик не нарушал этого однообразия.
381
Мы все по-разному бежали от реальности. Безусловно, Геббельс гораздо более трезво оценивал ситуацию, чем, например, Геринг или Лей. Но если вспомнить, как бесконечно далек был от подлинной жизни мир, в котором мы жили, то оставалось лишь признать, что между теми, кто предавался несбыточным мечтаниям, и так называемыми реалистами не было почти никакой разницы.
21
Гитлер осенью 1943 года
Люди, которые много лет работали с Гитлером, полностью разделяли мнения его адъютантов: за последний год с ним, действительно, произошли серьезные перемены. Вряд ли стоит удивляться этому, так как в 1943 году он пережил капитуляцию 6-й армии под Сталинградом и был вынужден смириться с тем, что свыше 250 000 его солдат в Тунисе сложили оружие, а англо-американские самолеты, не встречая сколько-нибудь значительного сопротивления, разрушали немецкие города. Ему также пришлось согласиться с решением командования военно-морских сил отозвать из Атлантического океана наши подводные лодки, хотя он столько надежд связывал с результатами их боевых действий. Бесспорно, Гитлер в данном случае верно оценил ситуацию и, словно стыдясь своих по-человечески понятных слабостей, попытался скрыть под наигранным оптимизмом разочарование и горечь поражения. Историк может абстрагироваться от индивидуальных особенностей Гитлера и рассматривать его лишь как объект изучения. Для меня же он прежде всего человек из плоти и крови; я по-прежнему физически ощущаю его присутствие в моей жизни.
Где-то между весной 1942 и летом 1943 года он бывал временами очень мрачен. Но затем он удивительным образом изменился и даже в самых безнадежных ситуациях не скрывал уверенности в победе. С того времени в моей памяти не сохранилось ни одного его пессимистического высказывания, хотя я с нетерпением ждал этих слов. Возможно, он столько времени внушал себе мысль о неотвратимости победы Германии, что в конце концов сам поверил
382
в нее. Чем неизбежнее становилась грядущая катастрофа, тем непреклоннее отстаивал он эту мысль, тем крепче становилась его вера в правильность всех принятых им решений.
Люди из его ближайшего окружения с тревогой наблюдали за его поведением. Он становился все более замкнутым и перед принятием решения уединялся в наглухо изолированных помещениях. Одновременно ум его утратил прежнюю гибкость, и он был не в состоянии выдвигать новые идеи. Образно выражаясь, он мог идти только по проторенной дороге — у него уже не было сил сойти с нее.
Основной причиной его стремления во что бы то ни стало настоять на своем явилось безнадежное положение, в котором он оказался из-за несокрушимой мощи противников. В январе 1943 года они договорились требовать только безоговорочной капитуляции Германии. Гитлер был, пожалуй, единственным, кто полностью осознал всю серьезность их заявлений и не строил никаких иллюзий, в то время как Геринг, Геббельс и кое-кто еще из его соратников подчас в разговорах не скрывали намерений использовать политические разногласия между Англией, США и Советским Союзом. Другие ожидали, что он сам прибегнет к политическим средствам и тем самым попытается смягчить последствия своих провалов. Разве раньше, в период между оккупацией Австрии и заключением пакта о ненападении с Советским Союзом, он с кажущейся легкостью не выходил из затруднительных положений с помощью всяческих хитроумных уловок? Теперь же на оперативных совещаниях он все чаще повторял: «Не стройте иллюзий. Назад пути нет. Мы можем двигаться только вперед. Все мосты за нами сожжены». Этими словами Гитлер отказывал своим министрам в праве на любые мирные инициативы. Их подлинный смысл я понял только на Нюрнбергском процессе.
Изменения в характере Гитлера я уже объяснял чрезмерными и все возрастающими нагрузками на его организм, вызванными необычным для него режимом работы. Если раньше Гитлер после определенного периода бурной деятельности мог позволить себе расслабиться и надолго впасть в апатию, то после начала русской кампании он был вынужден ежедневно выполнять огромный объем работы. И если
383
в прежние годы он опять же превосходно умел заставить других трудиться за себя, то теперь бремя забот делалось все более тяжким и ему приходилось постоянно вникать во все подробности. Он заставил себя придерживаться строгого распорядка дня, но глубоко чуждая его натуре дисциплина отнюдь не способствовала принятию им разумных и взвешенных решений.
Конечно, и до войны бывали случаи, когда Гитлер, доведя себя до полного изнурения, впадал в состояние прострации, выражавшееся в явной боязни принимать решения, периодически ослабленном внимании к происходящим вокруг событиям, а также длинных и необычайно нудных монологах на отвлеченные темы. На все вопросы и предложения Гитлер отвечал лишь «да» или «нет»; непонятно было, понял ли он, о чем идет речь, или был всецело погружен в свои мысли и машинально произносил ни к чему не обязывающие слова. Однако тогда он довольно быстро выходил из этого состояния. Достаточно было провести несколько недель в Оберзальцберге, и он сразу же выглядел посвежевшим и отдохнувшим, в глазах появлялся ясный блеск. Гитлер начинал правильно реагировать на ситуацию и с прежней решительностью брался за дела.
В 1943 году сотрудники Гитлера также довольно часто вынуждали его взять отпуск. Тогда он покидал ставку на несколько недель, а то и месяцев, и отправлялся в Обер- зальцберг. Однако и там он не менял распорядка дня. Борман по-прежнему постоянно приносил ему на подпись различные документы, не иссякал поток посетителей, стремившихся воспользоваться его пребыванием в «Бергхофе» или рейхсканцелярии; в штаб-квартирах он был недоступен для гаулейтеров и министров, и теперь все они требовали предоставить им возможность повидаться с ним. Наряду с этим ежедневно, как и в ставке, здесь также проводились долгие оперативные совещания, ибо где бы Гитлер ни находился, полевой штаб в полном составе всегда следовал за ним. Зачастую Гитлер, выслушав высказанные нами просьбы побеспокоиться о своем здоровье, отвечал: «Вам легко советовать мне взять отпуск. Но ведь это невозможно. Я даже на одни сутки не могу никому другому передать руководство военными операциями».
384
Генералы и офицеры полевого штаба с юных лет привыкли много и тяжело работать, им не дано было понять, что Гитлер не выдерживает такого напряжения. Борман также не желал осознать, что возлагает на него непосильное бремя. Но даже будь у них желание взять на себя часть его нагрузок, Гитлер все равно не смог бы пойти им навстречу, так как упустил время и не удосужился подобрать себе толковых заместителей. А ведь даже у любого директора фабрики есть люди, отвечающие за все мало-мальски важные участки. У Гитлера же не было под началом ни дельного главы кабинета министров, ни энергичного главнокомандующего вермахтом, ни способного командующего сухопутными войсками. Вот уже несколько лет он нарушал древнюю традицию, согласно которой чем выше пост занимает человек, тем больше у него должно быть свободного времени. А ведь раньше он придерживался этого принципа.
От чрезмерных нагрузок и ощущения одиночества Гитлер окончательно очерствел душой и вообще пребывал в довольно странном состоянии. Он изводил себя сомнениями, сделался крайне раздражительным и временами бывал необычайно суров. Если раньше он с легкостью принимал решения, то теперь ему приходилось напрягать свой изнуренный мозг. Я много лет занимался спортом и хорошо знаю, что такое перетренированность. В этой ситуации показатели резко снижались, а мы становились вялыми и раздражительными; реакция наша была уже не такой хорошей, мы чисто механически выполняли указания тренера и страстно мечтали о передышке, во время которой в нас пробуждалось желание снова приступить к тренировкам. Умственное перенапряжение может привести к тем же результатам, что и перетренированность. В трудные военные годы я по себе замечал, что в условиях, когда отсутствуют свежие впечатления, а решения принимаются автоматически, тебя вдруг охватывает чувство безразличия и мысли вяло копошатся в голове.
Отъезд Гитлера на фронт в ночь на 3 сентября 1939 года из здания рейхсканцелярии, в которой все окна были уже занавешены черными маскировочными шторами, имел весьма серьезные последствия. С тех пор у него уже по-иному начали складываться отношения с народом. Когда теперь,
13 А. Шпеер.
385
примерно раз в полгода, ему приходилось соприкасаться с толпой, то выяснялось, что она уже не горит желанием восторженно приветствовать Гитлера, а он в свою очередь утратил способность внушать людям веру в себя.
На последнем этапе борьбы за власть в начале тридцатых годов Гитлер взвалил на себя не менее тяжелую ношу, чем в самый разгар войны. Но тогда, изнуренный и измученный, он, выступая на митингах, не столько растрачивал силы на участников, сколько, наоборот, черпал в них мужество и вдохновение. Даже между 1933 и 1939 годами, когда занимаемый Гитлером пост значительно облегчил ему жизнь, он все равно заметно оживлялся, когда в Оберзальцберге ежедневно окидывал взором толпы восторженных почитателей. Митинги сделались тогда неотъемлемой частью жизни Гитлера — они были для него своеобразным возбуждающим средством. После них он становился более подтянутым и молодцеватым и обретал гораздо большую уверенность в себе.
Близкие ему люди в ставке — секретарши, адъютанты, врачи — оказывали на него, видимо, гораздо меньшее воздействие, чем те, с кем он до войны общался в Оберзальцберге или рейхсканцелярии: Ведь в штаб-квартирах не было никого, кто бы при встречах с ним приходил в неистовый восторг или от волнения терял дар речи. Ежедневное общение с Гитлером — в этом я убедился, еще когда мы вместе мечтали об осуществлении наших грандиозных архитектурных проектов, — неизбежно лишало фюрера того божественного ореола, который создавал вокруг него Геббельс, и, хотя авторитет его оставался незыблемым, он представал в глазах окружающих обыкновенным человеком со всеми присущими ему потребностями и слабостями.
Встречи с военным персоналом ставки также не прибавляли Гитлеру сил. В тамошней деловой атмосфере любое излишне восторженное преклонение перед ним произвело бы крайне неприятное впечатление. Более того, офицеры показали себя людьми, не склонными к бурному проявлению эмоций, но, напротив, трезво оценивающими себя и окружающих. Но даже если бы они не были такими — все равно их с детства приучили вести себя сдержанно. На этом фоне тем более заметным становилось раболепное
386
поведение Кейтеля и Геринга. Но оно было неестественным, и Гитлер никоим образом не заставлял военный персонал ставки заискивать перед ним. Здесь господствовал сугубо деловой стиль отношений.
Гитлер не выносил ни малейшей критики своего образа жизни. Поэтому его ближайшее окружение вынуждено было смириться с ним, хотя и не скрывало своего беспокойства. Гитлер также избегал любых разговоров личного характера, за исключением редких задушевных бесед с такими своими соратниками времен «борьбы с режимом», как Геббельс, Лей или Эссер. Но в разговорах со всеми остальными, в том числе и со мной, он не позволял себе дружеских ноток и всегда тщательно соблюдал дистанцию. Теперь он настолько редко бывал свеж и бодр и проявлял готовность немедленно принять соответствующее решение, что такие дни потом надолго запоминались.
Шмундту и мне почти одновременно пришла мысль побудить Гитлера принять несколько молодых фронтовых офицеров. Одним своим присутствием они могли бы оживить затхлую атмосферу почти полностью отрезанной от внешнего мира ставки. Но у нас ничего не получилось. Во-первых, сам Гитлер не проявил особого желания тратить на это свое, как он высказался, драгоценное время. А во-вторых, мы поняли, что можем натворить бед. Так, Гитлер уже принял участвовавшего в прорыве к берегам Терека молодого офицера-танкиста, и тот рассказал, что его часть не встретила практически никакого сопротивления и только нехватка боеприпасов заставила их прекратить наступление. Гитлер так разволновался, что несколько дней не мог успокоиться и постоянно возвращался к этому разговору: «Вот в чем дело! Оказывается, не хватает снарядов для 75-миллиметровых орудий! Каков объем их производства? Любым способом его нужно срочно увеличить». На самом деле мы располагали довольно большими запасами этих снарядов, но при бурных темпах летнего наступления 1942 года их не успевали доставить на позиции. Но Гитлер никак не желал с этим считаться.
Во время встреч с молодыми фронтовыми офицерами Гитлер узнавал и о других фактах, которые становились для него свидетельством серьезнейших промахов Генерального
13*
387
штаба. В действительности трудности были вызваны в основном навязанными Гитлером войскам темпами наступления. Он не желал прислушиваться к доводам специалистов, а его познания в этой области были явно недостаточными — он не понимал, какая сложная система управления войсками требуется для проведения столь широкомасштабных операций.
Время от времени Гитлер также лично вручал в ставке высокие награды офицерам и солдатам, а так как он не слишком высоко оценивал способности генералов своего полевого штаба, то всякий раз устраивал им затем разнос и менял оперативные планы. Поэтому Кейтель и Шмундт старались по возможности нейтрализовать посетителей.
Гитлер в ставке также устраивал чаепитие, но начиналось оно обычно в два часа ночи, продолжаясь час или два. Спать Гитлер ложился теперь на рассвете, и я даже как-то заявил по этому поводу: «Если война продлится еще долго, у нас установится распорядок дня такой же, как у всех, кто привык рано вставать. Будем считать, что мы пьем с фюрером не вечерний, а утренний чай».
Гитлер, несомненно, очень страдал от бессонницы и рассказывал нам, что стоит ему рано лечь в постель, как он очень долго лежит с открытыми глазами и мучается оттого, что не может заснуть. За вечерним чаем он порой жаловался, что часто просыпается и засыпает только на рассвете.
На чаепития приглашались только хорошо знакомые Гитлеру люди — врачи, секретарши, адъютанты, референты, представитель начальника отдела печати имперского правительства, посланник Хевель, иногда личная повариха, готовившая фюреру диетические блюда, — здесь особую роль играло то обстоятельство, что она была родом из Вены, — и кто-нибудь из посетителей, разумеется, из числа приближенных Гитлера. Естественно, на них всегда присутствовал Борман. Меня там также считали желанным гостем. Собирались мы в личной столовой Гитлера и сидели на неудобных стульях с подлокотниками. Гитлеру очень хотелось создать «уютную» атмосферу: он обычно зажигал камин, с подчеркнутым радушием угощал секретарш пирожными и вообще изображал из себя любезного хозяина, старающегося окружить гостей особой заботой и вниманием. Мне
388
оставалось лишь посочувствовать ему: все потуги Гитлера показать, что от него также может исходить доброта, оказались тщетными.
В ставке было не принято слушать музыку, и нам оставалось только слушать бесконечные монологи Гитлера. Шутки его были давным-давно известны, однако гости делали вид, что слышат их в первый раз, и заставляли себя смеяться. Не меньше усилий требовалось им для того, чтобы изобразить на своих лицах внимание, когда они слушали хорошо знакомые им рассказы Гитлера о его трудной юности или событиях времен «борьбы с режимом».
Кроме того, этот круг лиц вряд ли смог бы оживить беседу. Согласно действовавшему здесь неписаному правилу нельзя было касаться таких тем, как положение на фронтах и политическая ситуация, а также критиковать высокопоставленных чиновников. Разумеется, Гитлер также не испытывал особого желания заводить об этом разговор. В привилегированном положении опять-таки оказался Борман — только он был вправе спровоцировать подобные обсуждения. Поводом для них могли послужить также те письма Евы Браун, в которых она сообщала о наиболее вопиющих случаях косности и тупоумия властей. Эти неприятные известия выводили Гитлера из себя. Так, узнав о запрещении жителям Мюнхена в середине зимнего сезона кататься в горах на лыжах, он разразился гневной и очень длинной тирадой о своей непрестанной и, к сожалению, пока безуспешной борьбе с упорно не желающими признавать свои промахи бюрократами; в итоге Борману было поручено расследовать все случаи чиновничьего произвола.
Пристальное внимание, которое Гитлер уделял таким незначительным проблемам, свидетельствовало о том, что у него резко снизился порог раздражительности. С другой стороны, все эти, в сущности, пустяковые случаи в каком-то смысле позволяли ему расслабиться и почувствовать облегчение, так как возвращали ощущение былого могущества. Гитлер знал, что на этом, пусть даже весьма ограниченном, пространстве он еще может распоряжаться, обладая всей полнотой власти. Хоть на какие-то мгновения он мог забыть о своем бессилии, которое особенно зримо проявилось в окончательном перехвате противником стратегической
389
инициативы и невозможности изменить ход событий с помощью самых грозных приказов.
Но и в окружении близких людей Гитлер тем не менее не мог до конца избавиться от сознания безнадежности своего положения. Поэтому он вновь и вновь принимался жаловаться: он, дескать, вопреки желанию занялся политической деятельностью и не стал архитектором лишь потому, что, только став главой государства, мог претворить в жизнь грандиозные и соответствующие его вкусу проекты. Он все больше жалел самого себя и неоднократно повторял, что мечтает только об одном: «Как можно скорее снова повесить на гвоздь серый мундир. После победоносного окончания войны цель моей жизни будет достигнута, и я смогу спокойно удалиться к себе в Линц и провести последние годы жизни на берегу Дуная. И пусть мой преемник ломает голову над решением доставшихся ему в наследство проблем». Гитлер и до войны, оказавшись в непринужденной атмосфере Оберзальцберга, иногда выражал намерение когда-нибудь отойти от дел. Но тогда он, по-видимому, кокетничал. Теперь же он был вполне искренен, ибо произносил эти слова без всякого пафоса — ровным, спокойным голосом, в котором отчетливо звучала горькая интонация.
Найти забвение он пытался в работе над планами реконструкции родного города. Об этом свидетельствовал его неувядаемый интерес к ним. Главного архитектора Линца Германа Гислера на завершающей стадии войны все чаще вызывали в ставку. Напротив, проекты перестройки Гамбурга, Берлина, Нюрнберга или Мюнхена, которые когда-то так много значили для него, Гитлера уже почти не интересовали. Как-то он даже с мрачным видом заявил, что смерть избавила бы его от страшных мук, которые он вынужден сейчас терпеть. Рассматривая представленные ему Гислером планы реконструкции Линца, Гитлер очень часто останавливал взор на проекте своего склепа, который предполагалось соорудить в одной из башен предназначенного для партийных органов комплекса зданий. Он не скрывал, что даже после победы не желает покоиться рядом со своими фельдмаршалами во Дворце солдатской славы в Берлине.
Во время этих ночных бесед в своих расположенных на Украине и в Восточной Пруссии штаб-квартирах Гитлер
390
зачастую производил впечатление крайне неуравновешенного человека. Гости под утро уже чуть не засыпали, и только чувство вежливости и долга заставляло их приходить на эти чаепития. После долгих, утомительных заседаний монотонный голос Гитлера действовал на нас усыпляюще. У нас буквально слипались веки. Я помню, как в ожидании Гитлера кто-то осторожно спросил: «А где же Моррелль?» В ответ прозвучало: «Его и прошлым вечером не было здесь». «Мог бы и прийти, — вмешалась в разговор одна из секретарш. — Получается, что присутствуют одни и те же... Я, может, хочу сегодня выспаться». Другая секретарша поддержала ее: «Надо, чтобы остальные тоже приходили сюда... Они себе легкую жизнь устроили, а нам приходится отдуваться за них. Нет, так дело не пойдет». Эти люди по-прежнему относились к Гитлеру с огромным уважением, но уже не преклонялись перед ним.
Завтракал Гитлер ближе к полудню, а затем просматривал сводку сообщений германской прессы и иностранных информационных агентств. Мнение Гитлера о происходящих в мире событиях создавалось именно под их воздействием; в значительной мере от этих материалов зависело его настроение. По поводу отдельных, в основном поступивших из-за рубежа, сообщений он иногда моментально высказывал выраженную подчас в крайне агрессивном тоне официальную точку зрения, и доктор Дитрих или его заместитель Лоренц записывал под диктовку слова Гитлера. При этом он даже не думал, что нарушает прерогативы своих ведомств, и не считал нужным заранее поставить в известность кого-либо из их руководителей, а также Геббельса и Риббентропа.
Напротив, доклад Хевеля о международном положении Гитлер воспринимал довольно спокойно. Сейчас мне кажется, что его интересовала не столько реальная жизнь, сколько ее отражение на страницах газет. Затем Шауб приносил ему сводку о совершенных ночью воздушных налетах. Эти сведения гаулейтеры передавали Борману. Как правило, я уже через день-другой выезжал в подвергшиеся бомбежке города с целью осмотреть расположенные там заводы и могу с полным основанием заявить, что Гитлер был точно осведомлен об истинных масштабах разрушений.
391
И действительно, гаулейтеру не имело смысла занижать размеры причиненного ущерба; ведь его авторитет только возрастал, если ему удавалось наладить на опустошенных территориях нормальную жизнь и развернуть производство.
Гитлера удручали не столько огромные потери среди населения или гибель целых жилых кварталов, сколько сообщения о разрушении архитектурных шедевров, и в первую очередь зданий театров. В предвоенные годы при разработке «планов реконструкции германских городов» его прежде всего интересовало, какое впечатление возводимые в них сооружения произведут на окружающих. Меньше всего он думал об удовлетворении социальных нужд людей: их бедственное положение его вообще не волновало. Поэтому теперь он сразу же требовал немедленно приступить к восстановлению сгоревших зданий театров. Иногда я пытался открыть ему глаза на серьезные трудности, которые испытывали предприятия строительной промышленности. По-видимому, местные власти, не желая вызвать волну недовольства среди населения, всячески уклонялись от выполнения этих приказов, а Гитлер, чье внимание было всецело поглощено событиями на фронтах, почти никогда не требовал докладывать ему о сроках завершения восстановительных работ. И тблько в Мюнхене — его Гитлер считал своим вторым родным городом — и Берлине он сумел добиться восстановления зданий оперных театров и потратил на это огромные средства.
Гитлер, впрочем, демонстрировал поразительное незнание истинного положения вещей и подлинных настроений населения, когда в ответ на все возражения безапелляционно заявлял: «Среди населения нужно поддерживать хорошее настроение и именно поэтому его никак нельзя лишать возможности ходить в театр». У жителей городов были, разумеется, совсем иные заботы. Эти высказывания еще раз подтверждали, насколько глубоко укрепились в Гитлере с детства привитые «бюргерской средой» представления.
Вину за воздушные налеты Гитлер целиком возлагал на английское правительство и евреев и поэтому при чтении сводок, по обыкновению, обрушивался с яростными нападками на них. По его мнению, создание сильной бомбардировочной авиации могло остановить врага и защитить немецкие города от разрушений. Всякий раз, когда я заявлял
392
ему, что для развертывания воздушного наступления против Англии мы не располагаем достаточным количеством бомбардировщиков и взрывчатых веществ, он неизменно отвечал: «Вы, Шпеер, сделали больше, чем могли, думаю, что вы и эти трудности преодолеете». Вообще уже значительно позже я пришел к следующему выводу: именно потому, что нам, несмотря на частые воздушные налеты, удалось увеличить выпуск военной продукции, Гитлер не слишком серьезно относился к появлению в небе Германии вражеских самолетов. Поэтому он отвергал все наши с Мильхом предложения о свертывании производства бомбардировщиков и резком увеличении выпуска истребителей до тех пор, пока они не утратили всякий смысл.
Несколько раз я безуспешно пытался уговорить Гитлера совершить поездку по разрушенным городам. Геббельс также неоднократно жаловался мне, что при всем своем влиянии на Гитлера никак не может убедить его сделать этот шаг. Он очень завидовал Черчиллю: «Ах, если бы фюрер съездил в один из таких городов, я бы такую пропагандистскую кампанию развернул!» Но Гитлер упорно не желал пойти нам навстречу. Направляясь теперь в Берлине со Штеттинского вокзала в рейхсканцелярию или в Мюнхене на свою квартиру на Принцрегентштрассе, он приказывал следовать туда по самому короткому маршруту, хотя раньше предпочитал добираться туда окольными путями. Несколько раз я сопровождал Гитлера и видел, как безучастно взирает он на мелькавшие иногда за окном автомобиля руины. Порой казалось, что он даже не замечает их.
Моррелль настойчиво рекомендовал Гитлеру совершать долгие прогулки, но фюрер очень редко следовал его совету. Вроде бы не составляло никакого труда проложить несколько дорожек в лесах Восточной Пруссии, но Гитлер решительно отверг все эти предложения и просто ежедневно прохаживался по небольшому — не больше ста метров — участку на территории «запретной зоны № 1».
Во время прогулок Гитлер основное внимание уделял не спутнику, а своей овчарке Блонди, которую он, воспользовавшись случаем, пытался дрессировать. Сперва он учил ее исполнять команду «апорт», а затем заставлял балансировать на помосте высотой в два метра. Он, конечно же, знал,
393
что собака признает хозяином того, кто ее кормит, и поэтому всегда перед тем, как приказать ординарцу открыть загон, несколько минут наблюдал, как голодная Блонди с громким лаем бросается на проволочную ограду. В знак особой милости я был удостоен разрешения иногда входить вместе с ним в загон, в то время как все остальные обязаны были держаться на почтительном расстоянии. Даже самые близкие Гитлеру люди не играли в его жизни такой роли, как эта овчарка.
Если ни один из посетителей ставки не вызывал у Гитлера чувства особого благорасположения, то тогда он предпочитал обедать или ужинать в обществе своей собаки. Когда мне на два-три дня приходилось задерживаться в его штаб-квартире, он, как правило, всегда приглашал меня разделить с ним трапезу.
Кое-кто в ставке полагал, что мы обсуждаем за едой важные проблемы или беседуем на сугубо личные темы. Но у меня с Гитлером никогда не получался обстоятельный разговор о положении на фронтах или ситуации в экономике, и оставалось только говорить о каких-то пустяках или долго и нудно обсуждать с ним производственные показатели.
Вначале Гитлер еще проявлял интерес к проблемам, которые мы с ним когда-то обсуждали, и заводил, к примеру, разговор о будущей реконструкции немецких городов. В беседах он также очень часто возвращался к выдвинутому им в свое время требованию начать после войны строительство трансконтинентальной железнодорожной магистрали, которая должна была соединить разные по уровню экономического развития регионы его будущей империи. Он лично установил ширину колеи — ее размеры значительно превышали принятые нормы — и долгими бессонными ночами внимательно изучал представленные ему управлением имперских железных дорог проекты различных планов вагонов и подробные расчеты грузоподъемности товарных поездов. Правда, из заключения экспертов министерства транспорта следовало, что израсходованные на строительство магистрали силы и средства так и не удастся окупить, но Гитлер упорно не желал отказаться от этой идеи. Он, впрочем, был твердо убежден в том, что единая
394
сеть железных дорог укрепит его империю еще более жестким каркасом, чем автострады.
С каждым месяцем Гитлер становился все более молчаливым. Многие приглашенные Гитлером на обед, в сущности, были глубоко чуждыми ему людьми, и, видимо, поэтому он предпочитал мое общество, так как мог тогда расслабиться и не пытаться непременно поддерживать разговор. Надо признать, что с осени 1943 года всякая трапеза превращалась для всех, кому выпала честь сидеть с Гитлером за одним столом, в крайне мучительное занятие. Мы молча черпали ложками суп, а затем, дожидаясь, пока принесут следующее блюдо, обменивались иногда замечаниями о погоде. В этом случае Гитлер с пренебрежением отзывался о метеорологической службе, говорил о ее неспособности дать точный прогноз погоды, а затем разговор снова возвращался к еде. Гитлер был очень доволен своей личной поварихой, высоко оценивал ее умение готовить вегетарианские блюда и часто предлагал мне отведать одно из них. Он очень боялся прибавить в весе: «Ни в коем случае! Вы только представьте себе меня с брюшком. Это было бы концом моей политической карьеры!» Если он чувствовал, что не может противостоять искушению, то вызывал ординарца: «Заберите, пожалуйста, тарелку, эта еда уж больно хороша на вкус». Гитлер позволял себе поиздеваться над теми, кто ел мясо, но никогда не пытался, скажем, убедить меня изменить моей привычке. Он даже ни словом не возражал против бокала «Штейнхагера» после жирной пищи и только с явным сочувствием в голосе замечал, что вполне обходится без него. Стоило подать на стол мясной бульон, и я уже не сомневался, что он сейчас заговорит о «трупном чае». Когда приносили вареных раков, он принимался рассказывать о том, как в одной из деревень умерла старуха и родственники сбросили ее труп в ручей, чтобы таким образом наловить побольше раков. Если же он видел жареных угрей, то как бы между прочим замечал, что лучше всего эти рыбы клюют на дохлую кошку.
Еще когда нам доводилось вместе ужинать в рейхсканцелярии, Гитлер не стеснялся неоднократно рассказывать все эти истории. Теперь же, когда наши войска терпели одно поражение за другим и медленно отступали к границам Германии, эти рассказы следовало, наверное, воспринимать
395
как свидетельство бодрого настроения Гитлера. Но они не только не вызывали смех — напротив, за столом царило гробовое молчание. На меня лично Гитлер производил впечатление обреченного человека.
Во время продолжавшихся зачастую несколько часов заседаний, а также обеда или ужина Гитлер приказывал своей собаке лежать в отведенном для нее углу. Блонди недовольно рычала, но подчинялась приказу. Но стоило овчарке почувствовать, что на нее больше не смотрят, как она осторожно подползала к креслу хозяина и в конце концов клала голову ему на колени. Тогда Гитлер бесцеремонно прогонял ее обратно в угол. Все более-менее сообразительные приближенные Гитлера, и я в том числе, старались не оказывать овчарке никаких знаков внимания. Это было не так-то просто, особенно когда за столом она клала лобастую голову мне на колени и внимательно смотрела вовсе не на стоявшую перед ее хозяином тарелку с вегетарианской пищей, а на поглощаемые мной куски мяса. Стоило Гитлеру заметить, что его собака вроде бы пытается подружиться с кем-либо из гостей, как он раздраженным голосом приказывал ей лечь на место. Но, в сущности, эта овчарка была единственным живым существом в ставке, способным воодушевить Гитлера и придать ему бодрость. А ведь Шмундт и я именно этого и добивались. Жаль только, что Блонди не умела разговаривать.
Гитлер все больше и больше утрачивал способность общаться с людьми, но происходило это постепенно и почти незаметно для окружающих. С осени 1943 года он постоянно повторял слова, свидетельствующие о том, каким он чувствовал себя одиноким и несчастным: «Поймите, Шпеер, когда-нибудь у меня останутся лишь два близких существа: фройлейн Браун и моя собака». В голосе Гитлера звучало откровенное презрение к людям, и я даже не пытался убедить фюрера, что также испытываю к нему теплые чувства или что слегка оскорблен его словами. На первый взгляд это было единственное сбывшееся пророчество Гитлера. Однако здесь не было никакой его заслуги; просто он по достоинству оценил стойкий характер своей фаворитки и преданность своей собаки.
Только проведя много лет в тюремной камере, я понял, что значит ежедневно испытывать на себе огромную
396
психологическую нагрузку. Лишь тогда я осознал, что между Гитлером и узником тюрьмы было много общего. Его бункер только летом 1944 года стал похож на мавзолей, но раньше он напоминал тюремную камеру — крепкие стены, низкий потолок, железные двери и задвижки. Заключенный, которого вывели на недолгую прогулку по тюремному двору, и Гитлер, без всякого желания прохаживающийся по со всех сторон окруженной колючей проволокой территории, — оба они почти одинаковое количество времени дышали свежим воздухом и любовались живой природой.
Гитлер чувствовал, что его время наступало, когда после обеда около двух часов начиналось оперативное совещание в расширенном составе. Казалось, с весны 1942 года ничего не изменилось. Вокруг Гитлера, сидящего за большим столом для оперативных карт, толпились все те же генералы и адъютанты. Вот только из-за прошедших за последние полтора года событий участники совещаний сильно постарели и утратили прежний лоск. С понурым, безучастным видом воспринимали они призывы и приказы.
Обсуждение оперативных задач проходило довольно вяло. Все надеялись, что нам удастся измотать и ослабить противника. Хотя Россия по численности населения значительно превосходила Германию, согласно протоколам допросов военнопленных и сообщениям с отдельных участков Восточного фронта русские в ходе наступательных операций понесли колоссальные потери в живой силе, которые существенно ослабили их людской потенциал. В разговорах любой, даже самый незначительный успех наших войск невероятно преувеличивался, и Гитлер в очередной раз получал бесспорное доказательство того, что Германия сможет сдерживать натиск русских армий у своих границ до тех пор, пока они не истекут кровью. И многие из нас верили, что Гитлер сумеет в случае необходимости своевременно закончить войну.
Желая сделать прогноз возможного развития событий, Иодль подготовил для Гитлера доклад. Заодно он решил напомнить ему, что по-прежнему является начальником штаба оперативного руководства вермахта, ибо Гитлер все чаще и чаще вмешивался в его прерогативы. Йодль знал, что Гитлер с большим недоверием относится к всевозможным математическим расчетам. Еще в конце 1943 года фюрер
397
с презрением отозвался о вышедшем из-под пера начальника Главного управления военной экономики Георга Томаса меморандуме, ибо генерал необычайно высоко оценил советский военный потенциал. Томасу, как и ОКВ, немедленно было запрещено заниматься этой темой, но Гитлер тем не менее еще долго выражал негодование по поводу меморандума. Когда осенью 1944 года сотрудники моего управления планирования, движимые наилучшими побуждениями и желая помочь верховному командованию в принятии правильных решений, составили докладную записку о производстве вооружения во вражеских государствах, Кейтель также запретил нам направлять в ОКВ такого рода документы.
Йодль хорошо представлял, что ему предстоит преодолеть немалые трудности. Поэтому для осуществления своего замысла он выбрал полковника авиации Кристиана. Этот сравнительно молодой человек на оперативных совещаниях имел лишь право совещательного голоса, но зато обладал одним неоспоримым достоинством: его жена была непременной участницей устраиваемых Гитлером ночных чаепитий. Предполагалось проанализировать тактические планы противника и сделать соответствующие выводы. Я помню лишь, как Кристиан, склонившись над столом с разостланными на нем несколькими огромными картами европейского континента, ровным голосом объяснял ситуацию упорно молчавшему Гитлеру. В результате Кристиан и Йодль так ничего и не добились.
Ни у кого из присутствовавших на оперативных совещаниях не вызывала возмущение манера Гитлера принимать решения по наитию. Он не брал в расчет ни анализ военного положения, ни потребности войск в боевой технике, обмундировании и продовольствии и никогда не поручал группам экспертов со всех сторон рассмотреть наши наступательные планы, а также возможные контрмеры противника. Генералы и офицеры его полевого штаба были полностью подготовлены к проведению этих столь необходимых в условиях современной войны разработок; требовалось лишь дать им конкретное задание. Гитлер, правда, с готовностью выслушивал информацию о положении на том или ином участке фронта, однако только в его голове разрозненные сведения соединялись в целостную картину. Поэтому
398
фельдмаршалы, как и ближайшие сотрудники Гитлера, являлись, в сущности, просто его военными советниками, ибо все решения были уже предопределены заранее. Гитлер всегда соглашался вносить в свои планы только незначительные изменения. Кроме того, он не желал извлечь опыт из сражений на Восточном фронте в 1941—1942 годах.
На военном персонале ставки лежало тяжелейшее бремя ответственности, и генералы и офицеры больше всего на свете мечтали о том, что поступивший сверху приказ избавит их от необходимости принимать решения и тем самым снимет вину за возможные последствия. Мне крайне редко доводилось слышать о том, что кто-то из них просился на фронт, объясняя это тем, что в ставке ему постоянно приходится вступать в конфликт с совестью. Здесь речь идет о до сих пор необъяснимом для меня феномене: несмотря на все критические высказывания, почти никто из нас не проявил готовности перейти от слов к делу. На самом деле мы уже были неспособны сделать решительный шаг. В затхлой, притупляющей все эмоции атмосфере ставки нас совершенно не волновало, к каким последствиям приведут решения Гитлера на фронте, где сражались и гибли наши солдаты. Они, например, могли в очередной раз попасть в котел из-за того, что Гитлер не желал прислушаться к предложению Генерального штаба и медлил с приказом об отступлении.
От главы государства никто не вправе ожидать регулярных выездов на фронт. Но главнокомандующий сухопутными войсками, предпочитающий к тому же вникать во все подробности, просто обязан время от времени появляться в зоне боевых действий. В случае болезни он должен направить туда своего личного представителя, а если он слишком опасается за свою жизнь, то должен подать в отставку.
Гитлеру и генералам его полевого штаба достаточно было несколько раз съездить на фронт, и они без труда убедились бы, что их кардинальные ошибки приводят к бессмысленному кровопролитию. Гитлер же и его военные советники полагали, что достаточно иметь под рукой оперативные карты. Они не знали ни какими сильными бывают в России морозы, ни как там ужасны дороги, не ведали
399
они и тех мук, которые приходилось терпеть в окопах нашим лишенным зимних квартир и обмундирования, измученным и полузамерзшим солдатам. Их воинский дух был уже окончательно подорван. Тем не менее на оперативных совещаниях Гитлер считал, что эти части обладают прежней боевой мощью, и соответственно использовал их. Он проводил по карте операции с измотанными в боях, потерявшими почти все вооружение дивизиями и устанавливал им совершенно нереальные сроки. Сплошь и рядом он приказывал немедленно вступить в сражение, и передовые отряды оказывались под огнем противника еще до того, как дивизии успевали полностью развернуть свои боевые порядки. В итоге наши соединения постепенно уничтожались, так и не сумев собрать разрозненные силы в кулак.
Ставка была оборудована новейшей по тому времени аппаратурой связи и быстро получала информацию со всех важнейших театров военных действий. Но Гитлер слишком уповал на сведения, получаемые по радио, а также по каналам телефонной и телеграфной связи. К тому же такая отлаженная система связи, в отличие от войн прошлых лет, лишала военачальников возможности проявить инициативу на своем участке фронта, так как Гитлер непрерывно вмешивался в их прерогативы. Чем тяжелее складывалась ситуация на фронтах, тем больше применение современной аппаратуры связи увеличивало разрыв между реальностью и присущими Гитлеру фантастическими представлениями о ней. А ведь именно ими он руководствовался при проведении оперативных совещаний.
Гитлер полагал, что в гораздо большей степени, чем его генералы, обладает необходимыми для полководца качествами, а именно: острым аналитическим умом, настойчивостью и железными нервами. После катастрофы зимы 1941/42 года Гитлер непрестанно повторял, что впереди нас ждут гораздо более серьезные испытания и тогда он сумеет показать, какие у него крепкие нервы.
Нередко Гитлер в оскорбительном тоне разговаривал с окружавшими его офицерами Генерального штаба: они, дескать, не проявляют должной стойкости и без причины готовы отдать врагу завоеванные земли. И вообще, эти засевшие в Генеральном штабе трусы никогда бы не решились вступить в войну. Они всячески отговаривали его
400
и утверждали, что у нас не хватит сил. Затем Гитлер принимался, как обычно, перечислять достигнутые им вопреки негативной оценке Генеральным штабом положения победы — в нынешней ситуации его слова производили особенно страшное впечатление. Пустившись в такого рода рассуждения, он иногда терял самообладание — лицо покрывалось красными пятнами, голос срывался на крик: «Вы не только завзятые трусы, вы еще и закоренелые лгуны! Школа Генерального штаба приучает лгать и обманывать. Вы представили мне неверные данные, Цейтцлер! Вас самих обманывают! Поверьте, нам сознательно внушают, что положение гораздо хуже, чем на самом деле. Тем самым меня хотят заставить начать отступление!»
Разумеется, Гитлер всегда приказывал во что бы то ни стало удерживать линию фронта, но через несколько дней или недель советские войска все равно прорывали наши позиции. Гитлер снова приходил в ярость и снова ругал своих офицеров. Теперь он с пренебрежением отзывался о немецких солдатах: «Нет, солдат времен Первой мировой войны был гораздо более стойким: он насмерть стоял под Верденом и на Сомме. А сейчас он бежит от врага».
Кое-кто из тех, кого он так беспощадно бранил, оказались в числе участников заговора 20 июля. Тень этого заговора пала почти на всех генералов и офицеров. Если раньше Гитлер умел сдерживать себя и находить нужные, производившие глубокое впечатление на людей из его окружения слова, то теперь он терял всякий контроль над собой. Он говорил без умолку, словно преступник, желающий выговориться и готовый, не страшась опасных для себя последствий, выдать даже прокурору свои самые сокровенные тайны. Иногда мне казалось, что какая-то незримая сила вынуждает Гитлера извергать из себя нескончаемый поток слов.
Стремясь доказать будущим поколениям, что всегда отдавал верные приказы, Гитлер еще поздней осенью 1942 года распорядился вызвать в ставку присяжных стенографов рейхстага, которые теперь присутствовали на всех оперативных совещаниях и записывали каждое слово.
Если Гитлеру казалось, что найден выход из затруднительного положения, он иногда произносил такие слова:
401
«Вот видите! Я всегда оказываюсь прав. А эти идиоты из Генштаба никак не хотят мне поверить». И даже если отступление превращалось в беспорядочное бегство, он все равно ликующим голосом заявлял: «А разве я три дня назад не приказывая начать отступление? Мой приказ опять не выполнен. Вообще мои приказы сплошь и рядом не выполняются, а вы всегда находите отговорки и играете русским на руку. Вы лжете, когда утверждаете, что русские помешали осуществить ту или иную операцию». Гитлер никак не желал признать, что его поражение в первую очередь объясняется неспособностью Германии воевать сразу на нескольких фронтах и что в этом безвыходном положении мы оказались исключительно по его вине.
Неожиданно окунувшиеся в атмосферу сумасшедшего дома стенографы, возможно, еще несколько месяцев тому назад идеализировали Гитлера и верили утверждениям Геббельса о том, что фюрер наделен гениальным умом. Теперь же им пришлось спуститься с небес на землю. До сих пор у меня перед глазами стоит следующая картина: стенографы с бледными, понурыми лицами ведут протокол заседаний или в свободное время нервно расхаживают взад-вперед по территории ставки. Я воспринимал их как посланцев народа, обреченных стать непосредственными свидетелями настоящей трагедии.
Ранее Гитлер, убежденный в правильности своей теории «неполноценности славянской расы», называл войну с ней не иначе как «занятием на ящике с песком». Однако чем дольше длилась война, тем больше он испытывал невольное уважение к русским. На него очень сильное впечатление произвела их способность стойко и мужественно переносить поражения. О Сталине Гитлер отзывался с большим уважением и особенно подчеркивал схожесть ситуаций, в которых они оба очутились и которые потребовали от них железных нервов. Он находил сходство между своим нынешним положением и ситуацией, в которой оказались защитники Москвы в конце 1941 года. Если же он вдруг вновь ощущал уверенность в победе, то с иронией замечал, что после поражения России во главе ее следовало бы оставить Сталина — разумеется, при условии его подчинения германским властям, — так как он, как никто другой, умеет управлять русским народом. Вообще он видел в Сталине
402
родственную душу и, видимо из уважения к нему, приказал хорошо обращаться с его сыном, попавшим к нам в плен. Слова о том, что война с Россией — не более чем «занятие на ящике с песком», были сказаны сразу же после подписания перемирия с Францией, а с тех пор Гитлер очень сильно изменился.
Если битвы на Восточном фронте убедили его в том, что перед ним решительный и стойкий противник, то сражения с войсками западных государств лишь усилили в нем уверенность в их крайне недостаточной боеспособности. Эту веру он сохранил вплоть до последних дней войны. Даже после одержанных союзниками в Африке и Италии побед он по-прежнему был убежден в том, что их солдаты не выдержат первой же сильной атаки и бросятся бежать. Гитлер считал, что демократия ослабляет народ. Даже летом 1944 года он утверждал, что вскоре вернет все занятые западными союзниками территории. С не меньшим пренебрежением отзывался он и о государственных деятелях западных стран. Черчилля он считал алкоголиком и бездарным демагогом и на полном серьезе утверждал, что Рузвельт перенес не детский, а вызванный сифилисом прогрессивный паралич и поэтому психически невменяем. Эти оценки опять-таки отражали весьма характерную для последних лет его жизни замену реальности иллюзорными представлениями.
Внутреннее убранство построенного в Растенбурге на территории «запретной зоны № 1» «чайного домика» приятно отличалось от обставленных с нарочитой скромностью остальных помещений ставки. Здесь можно было спокойно беседовать за бокалом вермута, здесь фельдмаршалы ожидали аудиенции у Гитлера. Сам же он долгое время не появлялся здесь, так как предпочитал встречаться с генералами и офицерами штаба верховного командования вермахта исключительно в служебной обстановке. Но через несколько дней после событий 25 июля 1943 года, когда в Италии фашизм потерпел полный крах и главой правительства был назначен Бадольо, Гитлер как-то под вечер пригласил сюда на чай примерно десять своих военных и политических советников. В разгар обсуждения бесславного конца фашистского режима Йодль вдруг неожиданно
403
выпалил: «Фашизм лопнул как мыльный пузырь». Все присутствующие как-то сразу испуганно замолчали, а потом постарались сменить тему разговора. Йодль же явно перепутался и густо покраснел.
Через несколько недель в ставку вызвали принца Филиппа Гессенского. Он принадлежал к числу тех сановников, к которым Гитлер относился с подчеркнутым уважением. Филипп очень много сделал для него. В первые годы империи он помог установить контакты с руководителями фашистского государства. Кроме того, именно через принца Гитлеру удалось раздобыть множество ценных произведений искусства. Их было запрещено вывозить из Италии, но Филипп сумел уладить все формальности благодаря своим родственным связям с королевской семьей.
Когда через несколько дней принц собрался уезжать, Гитлер неожиданно запретил ему покидать территорию ставки. Он по-прежнему был по отношению к нему вежлив и внимателен и даже приглашал на обеды и ужины, но если раньше люди из близкого окружения Гитлера считали для себя честью завязать беседу с «настоящим принцем», то теперь они обходили его, как прокаженного. 9 сентября по приказу Гитлера Филиппа и его супругу, дочь короля Италии принцессу Мафальду, отправили в концлагерь.
Даже по прошествии нескольких недель Гитлер все еще при случае гордо заявлял, что давно заподозрил принца Филиппа в передаче секретных сведений членам итальянской королевской династии; он тогда приказал установить за ним наблюдение и прослушивать его телефонные разговоры. Выяснилось, что принц выдал жене наш дипломатический код. Тем не менее Гитлер до поры до времени воздерживался от принятия каких-либо мер и по-прежнему высказывал принцу свое благорасположение. «Такова моя тактика», — подчеркнул он, радуясь, что обнаружил в себе еще и талант криминалиста.
Арест этой супружеской четы напомнил всем приближенным Гитлера, что они полностью в его власти и что их может ожидать такая же судьба. Они невольно почувствовали, что коварство Гитлера поистине не знает границ и что любой из них может оказаться объектом его пристального внимания. И тогда Гитлер прикажет следить за каждым
404
шагом этого человека, а затем безжалостно расправится с ним. И — что самое ужасное — он даже не пожелает выслушать его.
С тех времен, когда Муссолини поддержал включение Австрии в состав рейха, его отношения с Гитлером стали для всех нас символом нерушимой дружбы. После смещения Муссолини с поста главы правительства и его бесследного исчезновения Гитлер стремился соблюсти прямо-таки «нибелунгов обет верности» и на оперативных совещаниях постоянно требовал сделать все, чтобы найти пропавшего союзника. Он говорил, что из-за этого несчастья его днем и ночью мучают кошмары.
12 сентября 1943 года в ставке созвали совещание, на которое помимо меня были также приглашены гаулейтеры Тироля и Каринтии. В протокол было официально занесено, что не только Южный Тироль, но и вся остальная территория вплоть до Вероны отныне находятся под юрисдикцией гаулейтера Тироля Хофера, а граничащая с гау «Каринтия» большая часть Венеции, включая Триест, передается под управление гаулейтера Райнера. Мне же в тот день без труда удалось добиться разрешения на переход под мою компетенцию всех военных заводов на остальной территории Италии. Итальянская администрация лишалась права распоряжаться ими. К великому нашему удивлению, через несколько часов после подписания этих трех указов стало известно об освобождении Муссолини. Оба гаулейтера, как, впрочем, и я, уже решили, что слишком рано обрадовались расширению своих властных полномочий: «Нет, с дуче фюрер никогда не решится так поступить!»
Через какое-то время я встретил Гитлера и немедленно предложил ему лишить меня наделенных ранее прав. Я ожидал похвалы и был крайне поражен его словами: «Нет, указ сохраняет свою силу». Я обратил внимание Гитлера на то обстоятельство, что после образования нового фашистского правительства во главе с Муссолини нельзя посягать на суверенитет Италии. Гитлер на мгновение задумался, а затем не терпящим возражений тоном заявил: «Представьте мне еще раз на подпись указ, только датируйте его завтрашним числом. И тогда всем станет ясно, что освобождение дуче никоим образом не отменяет его». Несомненно, Гитлер еще за несколько дней до этого расчленения
405
Италии знал, что уже установлено местонахождение Муссолини. Невольно возникает подозрение, что именно поэтому нас троих заблаговременно вызвали в ставку.
На следующий день Муссолини прибыл в Растенбург. Гитлер был искренне тронут и обнял его. Он поздравил Муссолини с очередной годовщиной подписания Тройственного пакта и в своей телеграмме выразил «дуче, с которым меня связывает тесная дружба... сердечные пожелания и уверенность в том, что фашизм вновь возродит Италию и страна с честью выйдет из всех испытаний и опять обретет свободу».
За день до этого он лишил Италию значительной части ее территории.
22
Распад
По мере увеличения объема производства вооружений мои позиции вплоть до осени 1943 года неуклонно укреплялись. Когда мы исчерпали все ресурсы Германии, я попытался использовать промышленный потенциал оказавшихся в сфере нашего влияния европейских стран. Вначале Гитлер не решался полностью мобилизовать их производственные мощности для удовлетворения наших нужд и вообще намеревался позднее прекратить всякое промышленное развитие на оккупированных восточных землях, так как, по его мнению, оно лишь способствовало распространению коммунистических идей и появлению нежелательного слоя интеллигенции. Но обстоятельства заставили его отказаться от своего замысла. Он обладал в достаточной степени трезвым умом и в конце концов осознал, что гораздо выгоднее сохранить там заводы и фабрики и включить их в систему нашей военной экономики.
Из всех оккупированных нами индустриально развитых стран наибольший интерес представляла Франция. Вплоть до весны 1943 года мы почти не использовали в своих целях ее промышленный потенциал. От проводимого там Заукелем принудительного набора рабочих для отправки в Германию было больше вреда, чем пользы. Стремясь
406
избежать трудовой повинности, рабочие увольнялись с заводов, выпускающих военную продукцию. В мае 1943 года я впервые высказал Заукелю претензии по этому поводу, а в июне на одном из состоявшихся в Париже совещаний предложил запретить Заукелю проводить эти акции, хотя бы на заводах, выполняющих наши заказы.
Я и мои сотрудники намеревались наладить в первую очередь во Франции, а также в Бельгии и Голландии производство таких товаров народного потребления, как одежда, обувь, текстильные изделия и мебель, в количестве, более-менее удовлетворяющем потребности нашего населения, и одновременно полностью свернуть аналогичное производство в Германии. Когда в первые дни сентября я сосредоточил в своих руках руководство практически всей хозяйственной жизнью страны, то немедленно пригласил в Берлин министра промышленности Франции. Занимавший этот пост профессор Сорбонны Бишелон был известен как очень способный и энергичный человек.
После недолгой перебранки я заставил министерство иностранных дел оказать ему подобающие государственному деятелю почести. Мне даже пришлось обратиться за помощью к Гитлеру, и я прямо заявил ему, что не могу впустить Бишелона к себе «через черный ход». И только тогда министра поместили в правительственную резиденцию для почетных гостей.
За пять дней до приезда Бишелона я добился от Гитлера одобрения идеи создания «Европейской организации планирования промышленного развития» и вхождения в нее Франции на равных с остальными государствами правах. Но, подобно Гитлеру, я был твердо убежден в том, что при обсуждении этой проблемы право решающего голоса также должно остаться за Германией.
17 сентября 1943 года я принял Бишелона, с которым меня вскоре связывали уже не только служебные отношения. Мы оба были сравнительно молоды, полагали, что будущее за нами, и поэтому однажды твердо пообещали друг другу избегать ошибок, совершенных ныне правящими представителями поколения Первой мировой войны. Я был также готов убедить Гитлера отказаться от плана присоединения к Германии многих французских провинций, хотя бы уже по той простой причине, что, на мой взгляд, после создания
407
на большей части европейского континента единого промышленного комплекса вопрос о государственных границах отпадет сам собой. Мы тогда настолько прониклись идеей, что упорно не желали замечать ее утопичности, — это еще раз говорит о том, что мы жили в иллюзорном, призрачном мире.
В последний день переговоров Бишелон попросил разрешения встретиться со мной с глазу на глаз и затем доверительно сообщил мне, что по настоянию Заукеля премьер-министр Лаваль строжайше запретил ему обсуждать проблему отправки в Германию французских рабочих, и предложил тем не менее поговорить на эту тему. Он поделился своими заботами, и я прямо спросил: «А не стоит ли просто-напросто оградить французские предприятия от депортации?» — «Тогда все мои проблемы решены. И ничто уже не воспрепятствует осуществлению нашей программы, — облегченно вздохнул Бишелон, — должен, однако, вас предупредить, что тем самым французы фактически освобождаются от исполнения в Германии трудовой повинности». Я и сам это понимал. Но лишь таким образом я мог добиться выпуска на французских заводах и фабриках нужной нам продукции в максимальном объеме. Мы добились невозможного. Он пренебрег указанием Лаваля, я перешел дорогу Заукелю, и оба мы — в сущности, без всякой поддержки сверху — достигли соглашения, чреватого далеко идущими последствиями.
Затем мы отправились на совместное заседание, во время которого юристы долго обсуждали последние спорные пункты нашего соглашения. Наконец мое терпение иссякло. Ведь даже самые отточенные параграфы не могут заменить готовность обеих сторон проявить добрую волю. Поэтому я прервал никчемный спор и предложил обменяться с Бишелоном рукопожатиями и тем самым считать соглашение подписанным. Представлявшие как Германию, так и Францию юристы были неприятно поражены. Я же до самого конца войны придерживался этого соглашения и заботился о сохранении промышленного потенциала Франции даже в те месяцы, когда он уже не представлял для нас никакой ценности и Гитлер приказал его уничтожить.
Соглашение оказалось выгодным для обеих сторон. Теперь я располагал дополнительными производственными мощностями, а французы в свою очередь по достоинству
408
оценили предоставленную им возможность в разгар войны вновь начать производство сугубо мирной продукции. Я также договорился с командующим нашими войсками во Франции, и персонал множества предприятий по всей стране оказался защищен он депортаций. Я даже лично обязался выполнить эти обещания, вывешенные на стенах фабрик и заводов и гарантирующие всему персоналу возможность спокойно работать и не бояться Заукеля. Но и французские промышленники были теперь обязаны увеличить производство, позаботиться о перевозке своей продукции и обеспечении продовольствием людей — в результате депортации не затронули в общей сложности десять тысяч предприятий.
На выходные я отвез Бишелона на загородную виллу моего друга Арно Брекера, а в начале следующей недели ознакомил сотрудников Заукеля с текстом соглашения и призвал их в дальнейшем стараться всеми силами заставить французских рабочих оставаться на своих предприятиях.
Зная по опыту, что в выигрыше всегда оказывается тот, кто успеет первым изложить свои аргументы, я решил опередить Заукеля и уже через десять дней отправился в ставку. И действительно, Гитлер выразил удовлетворение и полностью одобрил текст соглашения. Его не испугало даже возможное снижение месячного объема производства в случае беспорядков или забастовок. Это означало почти полное прекращение проведения Заукелем своих акций на территории Франции. Количество отправляемых ежемесячно на работы в Германию французов уменьшилось с 50 000 до 5000. Через несколько месяцев — 1 марта 1944 года — Зау- кель с возмущением писал: «Сотрудники отделений моего управления во Франции заявили мне: “Здесь все кончено! Нет никакого смысла продолжать нашу деятельность”. Во всех префектурах объявлено: министр Бишелон заключил официальное соглашение с министром Шпеером. Лаваль сказал мне: “Я больше не намерен отправлять людей в Германию!”». Вскоре я, прибегнув к таким же доводам, добился прекращения депортаций в Голландии, Бельгии и Италии.
20 августа 1943 года Генрих Гиммлер был назначен рейхсминистром внутренних дел. Ранее рейхсфюрер СС — эту необычайно расширившую свои функции организацию уже
409
называли «государством в государстве» — также возглавлял полицию и, как ни странно, подчинялся прежнему министру внутренних дел Фрику.
Местная администрация в лице гаулейтеров знала, что Борман никогда не даст ее в обиду, и своими действиями всемерно ослабляла верховную власть. Этих людей можно было условно разделить на две категории: одни стали гаулейтерами еще до 1933 года и, как правило, показали полную неспособность распоряжаться своим административным аппаратом. Но наряду с ними за эти годы выросла новая, прошедшая выучку под началом Бормана, плеяда гаулейтеров: молодые, преимущественно с юридическим образованием, чиновники, способные усилить влияние партии на государственный аппарат.
Я уже говорил, что во внутренней политике Гитлер руководствовался принципом «разделяй и властвуй», и это нашло выражение также и в том, что гаулейтеры, с одной стороны, как партийные функционеры подчинялись Борману, а с другой — их непосредственным руководителем как «уполномоченных по обороне рейха» был министр внутренних дел. До тех пор пока этот пост занимал столь слабый, бесхарактерный человек, как Фрик, такое положение не представляло опасности для Бормана. Но после его отставки все, кто следил за развитием политической ситуации в Германии, сразу же высказали предположение, что в лице Гиммлера Борман получил опасного соперника.
Я тоже так полагал и очень рассчитывал на усиление влияния Гиммлера. И прежде всего я ожидал, что он сумеет противостоять Борману и приостановить зашедший уже слишком далеко процесс распада единой системы управления рейхом. Гиммлер твердо обещал мне, что любой отказавшийся выполнять его распоряжения гаулейтер будет немедленно привлечен к ответственности.
6 октября я выступил перед рейхслейтерами и гаулейтерами. Целью моего выступления было открыть глаза политическому руководству рейха на истинное положение вещей, лишить его надежд на скорый запуск баллистической ракеты с дальним радиусом действия и разъяснить наконец, что отныне враг определяет характер и объем производства в Германии. Нашу все еще ориентированную на выпуск
410
гражданской продукции экономику следует коренным образом перестроить и из занятых в производстве товаров народного потребления шести миллионов рабочих полтора миллиона направить на предприятия военной промышленности. Теперь эти товары и изделия будут изготовляться во Франции. Я не скрывал, что это соглашение ставит Францию в гораздо более выгодное по сравнению с нами положение в послевоенный период. «И все же, по моему мнению, — заявил я замершим в напряженном ожидании партийным руководителям, — если мы собираемся выиграть войну, то должны пойти на жертвы».
Я был, наверное, слишком резок, когда сказал им: «Я прошу вас очень серьезно отнестись к моим словам: пора положить конец укоренившемуся у нас обычаю разрешать отдельным гаулейтерам в виде исключения сохранять на подведомственных им территориях в полном объеме производство гражданской продукции. И если они теперь в течение двух недель не выполнят мое требование, я лично отдам распоряжение о закрытии предприятий. Заверяю вас, что любым способом заставлю признать авторитет имперских властей. Я уже говорил на эту тему с рейхсфюрером СС, и отныне в отношении не желающих подчиняться гау-лей- теров будут приняты соответствующие меры».
Гаулейтеров вывела из себя не столько моя готовность к решительным действиям, сколько эти две последние фразы. Едва я закончил речь, как несколько из них в ярости накинулись на меня. Эта группа кричавших и буйно жестикулировавших гаулейтеров во главе с Бюркелем — он был среди них старшим по возрасту — в один голос заявила, что я угрожал им концлагерем. Желая хоть как-то объяснить свою позицию, я попросил Бормана еще раз дать мне слово, но он лицемерно заявил, что это ни к чему, так как, дескать, никакого недоразумения не произошло.
Вечером многие из гаулейтеров так перепились, что не смогли без посторонней помощи добраться до специального поезда, который должен был ночью доставить их в ставку. Утром я попросил у Гитлера разрешения сказать этим людям несколько крепких слов, но он, как всегда, предпочел не обижать вспыльчивых соратников былых времен. Борман уже успел рассказать ему о брошенных ими в мой адрес обвинениях. Гитлер, не слишком вдаваясь в подробности,
411
дал мне понять, что гаулейтеры никак не могут успокоиться. Вскоре стало ясно, что Борману хотя и не полностью, но все же удалось опорочить меня в глазах Гитлера. Он неустанно подрывал мой авторитет и теперь впервые добился определенного успеха. Я сам вложил ему в руки оружие и с этого момента уже не мог больше рассчитывать на безусловную поддержку Гитлера.
Вскоре выяснилось, что слова Гиммлера о его стремлении добиться неукоснительного выполнения предписаний имперских властей также недорого стоят. Я передал ему документы, свидетельствующие о непрекращающемся сопротивлении гаулейтеров моим намерениям, и довольно долго ждал реакции. Лишь через несколько недель его статс-секретарь Штукарт со смущенным видом объявил мне, что министр внутренних дел недолго думая переслал все материалы Борману и что только недавно от него получен ответ. В послании Бормана говорилось, что все изложенные в документах факты были тщательно проверены; как и следовало ожидать, гаулейтеры были вправе не выполнять мои ошибочные распоряжения. Гиммлер согласился с его доводами. Мне не следовало ни возлагать надежду на укрепление авторитета имперских властей, ни вступать в коалицию с Гиммлером. Лишь через несколько месяцев я понял, почему мой замысел потерпел крах.
Как рассказал мне гаулейтер Нижней Силезии Ханке, Гиммлер действительно решил положить конец слишком независимому положению некоторых местных руководителей и — а это равносильно оскорблению — начал передавать им распоряжения через командиров расположенных на территории их гау частей СС. С неожиданной быстротой выяснилось, что гаулейтеры пользуются безоговорочной поддержкой в возглавляемой Борманом партийной канцелярии, так как уже через несколько дней Борман добился от Гитлера запрета на эти граничащие, по его словам, со злоупотреблением властью меры. Гитлер мог с презрением отзываться об отдельных гаулейтерах, но в решающие моменты всегда выяснялось, что в душе он искренне привязан к людям, вместе с которыми в двадцатые годы совершал восхождение к вершине власти. И ни Гиммлер, ни СС оказались не в состоянии заставить его забыть
412
о прежних чувствах и изменить свое отношение к «закадычным дружкам». Первую акцию рейхсфюрер СС провел крайне неумело и после поражения окончательно отказался от мысли заставить гаулейтеров подчиняться себе; вопреки его намерению «уполномоченных по обороне рейха» не стали вызывать на совещания в Берлин. В дальнейшем Гиммлер удовлетворился тем, что поставил под свое начало не обладавших таким политическим влиянием обер-бур- гомистров и начальников окружных управлений и вынудил их согласовывать с ним свои решения. Борман и Гиммлер уже давно обращались друг к другу на «ты», а после этой истории между ними сложились особенно близкие отношения. Произнесенная мною речь выявила расклад интересов внутри нашего политического руководства, показала реальное соотношение сил и подорвала мои позиции.
На протяжении всего лишь нескольких месяцев я сделал три неудачные попытки заставить режим использовать для своего сохранения имеющиеся в его распоряжении возможности. Я стремился убедить наших руководителей в необходимости предпринять опережающие действия и тем самым попытаться избежать смертельной опасности. Не прошло и недели после моего выступления, как Гитлер поручил мне взять на себя контроль за разработкой проектов будущей реконструкции разрушенных бомбежками городов. Я сумел добиться от него чрезвычайных полномочий в той сфере, которая моим противникам, и не в последнюю очередь Борману, представлялась гораздо более важной, чем проведение многих вызванных войной мероприятий. Отчасти они уже считали восстановление этих городов важнейшей своей задачей в будущем. Указ Гитлера напомнил им, что теперь им придется согласовывать свои действия со мной.
В остальном же я собирался предотвратить нависшую над разрушенными городами угрозу: настроенные враждебно к любым проявлениям свободного духа гаулейтеры намеревались под предлогом реконструкции снести обветшавшие памятники архитектуры, даже если они всего лишь нуждались в реставрации. Так, например, когда я приехал в подвергшийся накануне сильному воздушному налету Эссен и, поднявшись на высокую террасу, мрачно смотрел на раскинувшиеся внизу руины, то стоявший рядом
413
гаулейтер как бы между прочим сказал, что теперь будет полностью снесен кафедральный собор: он, дескать, все равно очень сильно поврежден и только мешает придать городу современный облик. Обер-бургомистр Мангейма просил меня воспрепятствовать попыткам полностью расчистить обгоревшие развалины городского замка и снести здание Национального театра. Как мне сообщили из Штутгарта, тамошний гаулейтер также потребовал разрушить городской замок, в который попала зажигательная бомба.
Во всех этих случаях они следовали ими самими проводимому лозунгу: стереть с лица земли церкви и замки! После войны мы возведем уже свои собственные архитектурные шедевры! В таком подходе отчетливо проявлялся комплекс неполноценности, испытываемый партийными руководителями перед историей. Кроме того, один из гаулейтеров следующим образом объяснял мне столь откровенное желание покончить с прошлым: «Замки и церкви — оплот реакции, и поэтому наша революция должна их смести!» В его словах чувствовался фанатизм, присущий партийным вождям на ранней стадии развития НСДАП. По мере достижения компромиссов и соглашений с властями они постепенно вроде бы отказались от крайних взглядов. Но во время войны в них снова пробудился дух нетерпимости, и они принялись яростно бороться с прошлым.
Я придавал такое значение сохранению исторического ансамбля немецких городов и проведению их разумной реконструкции, что даже в ноябре 1943 года, то есть в самый разгар войны, обратился к гаулейтерам с целым рядом предложений, которые значительно отличались от моих предвоенных планов: не тратить деньги на создание шедевров архитектуры, а, наоборот, стараться проявлять бережливость, не скупясь при этом на устройство широких транспортных магистралей — иначе город начнет задыхаться из-за огромного скопления транспорта на дорогах, — массовое строительство жилых домов, реконструкцию старых городских кварталов и застройку центральных улиц магазинами. О строительстве каких-либо монументальных зданий не было и речи. К тому времени у меня, как, впрочем, и у Гитлера, с которым я подробно обсудил основные положения своей новой градостроительной концепции, уже пропало всякое желание разрабатывать подобные проекты.
414
В начале ноября советские войска приблизились к Никополю, в районе которого находились богатые залежи марганцевых руд. Тогда же произошел случай, характеризующий Гитлера не менее ярко, чем Геринга — эпизод с его генеральным инспектором авиации.
В один из первых дней ноября начальник Генерального штаба Цейтцлер взволнованным голосом сообщил мне по телефону, что Гитлер опять обрушился с нападками на него и потребовал немедленно бросить на защиту Никополя все дислоцированные поблизости дивизии. По его словам, Гитлер был очень возбужден и заявил, что без марганца нам придется в ближайшее время признать свое поражение! Шпеер, дескать, будет вынужден полностью приостановить производство вооружений, так как он не располагает запасами марганца. Цейтцлер настоятельно попросил меня помочь ему; сейчас следовало не сосредотачивать войска на этом участке фронта, а, напротив, спешно выводить их оттуда, чтобы избежать нового Сталинграда.
Я немедленно связался с такими крупными специалистами в области металлургической промышленности, как Рёхлинг и Роланд. Разумеется, именно от марганца зависела выплавка качественной стали, но после звонка Цейт- цлера было ясно, что его месторождения в южной части России для нас уже потеряны. Однако, посовещавшись, Рёхлинг и Роланд неожиданно обрадовали меня, и 11 ноября я послал Гитлеру и Цейтцлеру телеграмму следующего содержания: «При использовании нынешнего способа выплавки стали запасов марганца в рейхе хватит на одиннадцать-двенадцать месяцев. Имперское объединение металлургической промышленности гарантирует, что даже в случае потери Никополя применение других способов позволит, не снижая выпуск качественного проката, растянуть эти запасы на восемнадцать месяцев». Одновременно я констатировал, что даже потеря расположенного радом Криворожского железорудного бассейна, который Гитлер также собирался оборонять всеми силами, никак не отразится на выпуске продукции немецкой металлургической промышленности.
Через два дня я прибыл в ставку и застал Гитлера в очень плохом настроении. Он еще никогда так резко не разговаривал со мной. «Как вы смели направить начальнику
415
Генерального штаба меморандум о положении с марганцевой рудой?» Я никак не ожидал такой реакции, ибо полагал, что на Гитлера благоприятное впечатление произведут приведенные мной данные. Поэтому я растерянно пробормотал: «Но, мой фюрер, ведь результат в нашу пользу!» Но Гитлера совершенно не удовлетворил мой ответ: «Вы вообще не должны посылать какие-либо меморандумы начальнику Генерального штаба! А уж если вам захочется с кем-нибудь поделиться мыслями, пожалуйста, я к вашим услугам! Вы поставили меня в дурацкое положение. Я как раз приказал бросить все силы на защиту Никополя и привел вескую причину, побуждающую группу армий сражаться до конца! Тут вдруг приходит Цейтцлер с вашим меморандумом. И получается, что я — лжец. Теперь вина за потерю Никополя целиком ложится на вас. Я запрещаю вам, — тут он сорвался на крик, — посылать кому бы то ни было памятные записки! Вы поняли? Запрещаю!»
Тем не менее мой меморандум произвел должный эффект, так как Гитлер уже больше не требовал во что бы то ни стало удержать в наших руках месторождение марганцевой руды. Но, поскольку советские войска приостановили наступление на этот район, мы оставили Никополь только 18 февраля 1944 года.
В тот же день я передал Гитлеру второй меморандум, в котором изложил сведения об основных запасах других стратегически важных легирующих металлов. Указав, что «здесь не учитывается импорт этих стратегически важных материалов из стран Балканского полуострова, Турции, Никополя, Финляндии и северной части Норвегии», я тем самым осторожно намекнул на вероятный уход Германии с этих территорий. Основные показатели были приведены в следующей таблице:
Марганец
Никель
Хром
Основные запасы, т
140 000
6 000
21 000
Поступление за счет внутренних ресурсов, т
8 100
190
Потребление, т
15 500
750
3 751
На сколько хватит запасов, мес.
19
10
5,6
416
Вольфрам
Молибден
Кремний
Основные запасы, т
1 330
425
17 900
Поступление за счет внутренних ресурсов, т
15,5
4 200
Потребление, т
160
69,5
7 000
На сколько хватит запасов, мес.
10,6
8
6,2
На основании этой таблицы я сделал следующий вывод: «Мы располагаем крайне незначительными запасами хрома, и это может привести к тяжким последствиям, так как высокоразвитая военная промышленность остро нуждается именно в хроме. Если прекратятся поставки из стран Балканского полуострова и Турции, то наши потребности в хроме могут быть обеспечены только на протяжении чуть более пяти с половиной месяцев. Это означает, что после расходования наших запасов заготовок для труб, которых должно хватить на два месяца, придется приостановить производство самолетов, танков, грузовиков, бронебойных снарядов, подводных лодок и артиллерийских орудий».
Тем самым я хотел дать понять Гитлеру, что в данной ситуации Никополь не играет особой роли и что война закончится примерно через десять месяцев после ухода наших войск с Балканского полуострова и разрыва отношений с Турцией. Гитлер молча выслушал меня, а затем отвернулся и принялся обсуждать с моим сотрудником Зауром новую программу производства танков.
Вплоть до лета 1943 года Гитлер регулярно звонил мне в начале каждой недели, выслушивал информацию и заносил производственные показатели в заранее подготовленный список. Я сообщал ему данные в строго определенной последовательности и слышал в ответ возгласы: «Очень хорошо! Чудесно! Неужели сто восемнадцать “Тигров”? Это больше, чем вы обещали... И сколько “Тигров” вы предполагаете произвести в следующем месяце? Для нас сейчас важен каждый танк...» В конце разговора он иногда давал оценку положения: «Мы сегодня снова заняли Харьков. Пока все идет хорошо. Благодарю вас за приятные новости. И наилучшие пожелания супруге. Она еще в Оберзальц- берге? Тогда еще раз кланяйтесь ей от меня». Я благодарил и, как обычно, произносил: «Хайль мой фюрер!», а он
14 А. Шпеер
417
весело отвечал: «Хайль Шпеер!» Эти слова были равносильны награде — он очень редко заканчивал так разговор с Герингом, Геббельсом и другими своими соратниками. И произносил он их с легкой иронией, как бы подчеркивая свое не слишком серьезное отношение к официально принятому «германскому приветствию». В такие моменты я чувствовал себя превосходно и не замечал, что за этой фамильярностью скрывается некоторое пренебрежение. Я уже давно не испытывал к нему прежних чувств, а он в свою очередь даже при общении со мной в неофициальной обстановке тщательно соблюдал дистанцию: хотя я больше не занимал уникальную в своем роде должность его придворного архитектора и сделался просто одним из чиновников, слова Гитлера все еще оказывали на меня магическое воздействие. И если уж быть до конца откровенным, то целью всех интриг и закулисной борьбы за власть была возможность услышать когда-нибудь от Гитлера такие слова или ощутить на себе его благорасположение. Положение любого из нас зависело именно от этого.
Постепенно он перестал мне звонить. Довольно трудно определить, когда конкретно это произошло, но примерно с осени 1943 года у Гитлера появилась привычка выслушивать ежемесячный отчет от Заура. Я не стал протестовать, так как считал, что Гитлер вправе лишить меня доверия. Ко всему прочему Заур и Дорш были членами партии с многолетним стажем, и Борман поддерживал с ними хорошие отношения. Поэтому я вдруг начал чувствовать себя довольно неуверенно в своем собственном министерстве.
Сперва я попытался укрепить позиции путем назначения к каждому из десяти моих начальников управлений заместителя из числа промышленников. Однако Дорш и Заур смогли сделать так, что их ведомств это не коснулось. Когда же появились явные признаки создания в министерстве оппозиции во главе с Доршем, то 21 декабря 1943 года я произвел своего рода «государственный переворот» и не только назначил начальниками отдела кадров и организационного отдела двух своих самых надежных сотрудников — с ними я познакомился еще во время работы архитектором, — но и подчинил им имевшую ранее самостоятельный статус «организацию Тодта».
418
На следующий день я отправился искать прибежища от выпавших на мою долю в 1943 году тягот, многих разочарований и интриг не куда-нибудь, а в Северную Лапландию — самый удаленный и заброшенный уголок империи. И хотя Гитлер в 1941—1942 годах неоднократно запрещал мне поездки в Норвегию, Финляндию и Россию, так как там слишком опасно, а я для него, дескать, незаменимый человек, на этот раз он без колебаний дал свое согласие.
Вылетели мы на рассвете на выпущенном на заводах Фокке-Вульфа самолете новейшей конструкции — четырехмоторном «Кондоре», который благодаря запасному топливному баку обладал повышенной дальностью полета. Я не собирался произносить речи перед солдатами, офицерами и рабочими из «организации Тодта», а, напротив, очень хотел хоть как-то порадовать их в рождественские праздники и поэтому взял с собой скрипача Зигфрида Борриса и фокусника-непрофессионала, выступавшего после войны под псевдонимом Каланаг и снискавшего огромную популярность. Самолет шел на бреющем полете, и мы из иллюминатора любовались тянувшимися бесконечной вереницей финскими озерами, по которым мы с женой в молодости страстно мечтали проплыть на байдарке. Ближе к полудню — в северных краях светает обычно поздно, и лишь к этому времени солнечные лучи окончательно рассеяли ночную мглу — мы приземлились близ Рованиеми на кое-как устроенную в снегах взлетно-посадочную полосу.
Уже на следующий день мы выехали в открытой машине в Петсамо — расположенный в шестистах километрах к северу порт на Белом море. Пейзаж за окнами был удручающе однообразен, но стоило солнцу медленно выплыть из-за горизонта, как все вокруг окрасилось в желто-красные тона и природа поразила какой-то неземной красотой. Ночевали мы в срубе, отведенном командующему немецкими войсками в Заполярье, и уже оттуда отправились к нашим солдатам на полуостров Рыбачий — самый отдаленный и отличающийся наиболее суровыми условиями участок Восточного фронта, всего лишь в восьмидесяти километрах от Мурманска. Мы с трудом шли на лыжах через сугробы в сопровождении генерала Хенгля. Сотканную из снега и тумана пелену наискосок прорезал зеленый луч, высвечивая раскинувшуюся по обе стороны пустынную, словно
14*
419
вымершую местность, на которой не росло ни одного дерева. На одной из передовых позиций мне продемонстрировали, какой эффект производит прямое попадание снаряда нашего 150-миллиметрового орудия в советский блиндаж. Ранее я лишь один раз присутствовал на такого рода «учебных стрельбах»: это произошло на батарее тяжелых орудий, дислоцированной на расположенном прямо напротив Дувра мысе Гри-Не. И то ее командир позднее признался мне: он приказал скорректировать огонь так, чтобы снаряды падали в море. Здесь же я своими глазами видел, как от мощного взрыва в воздух взлетели деревянные балки. Сразу же стоявший рядом ефрейтор молча рухнул на землю: выпущенная советским снайпером пуля через смотровое отверстие в орудийном щитке попала ему в голову. Хотя это звучит довольно странно, но я лишь тогда впервые увидел истинное лицо войны. Если раньше наше пехотное орудие на артиллерийском полигоне представляло для меня всего лишь полезное техническое изобретение, то теперь я вдруг увидел, как оно уничтожает людей.
Во время этой инспекционной поездки солдаты и офицеры дружно жаловались на перебои в снабжении их стрелковым оружием. Особенно им не хватало пистолетов-пулеметов, и солдатам приходилось пользоваться трофейными советскими автоматами.
Этот упрек следовало целиком адресовать Гитлеру. Как бывший солдат Первой мировой войны, он упорно не желал отказываться от традиционного и хорошо знакомого ему карабина. Летом 1942 года он в твердой уверенности, что пехотинцу гораздо удобнее пользоваться винтовкой, решительно отверг наше предложение наладить производство уже разработанных автоматов нового образца и вооружить ими вермахт. Как я уже убедился, последствия обретенного им тогда в окопах опыта сказались теперь в том, что он все свое внимание уделял вызывавшему у него тогда сильное восхищение тяжелому вооружению и танкам и откровенно игнорировал разработку и производство новых видов стрелкового оружия.
Сразу же после своего возвращения я попытался исправить это упущение. В начале января Генеральный штаб и командующий резервной армией уточнили и дополнили нашу программу производства стрелкового оружия. Гитлер,
420
полагавший, что в этом никто не разбирается лучше его самого, только через шесть месяцев одобрил ее и с тех пор постоянно попрекал нас тем, что мы не укладываемся в установленные сроки. Почти за год мы достигли весьма значительных успехов и почти в двадцать раз увеличили выпуск автоматических винтовок. Мы на два года раньше смогли бы добиться столь высоких достижений, если бы большинство производственных мощностей не были задействованы для изготовления тяжелого вооружения.
На следующий день я осмотрел никелевый рудник близ Коносьёкки — наш единственный источник этого сырья. Ради него я, собственно говоря, и приехал сюда на Рождество. Выяснилось, что все терриконы заполнены рудой, так как отсутствует транспорт для ее вывоза. Почти все наши грузовики были направлены в район строительства электростанции для перевозки бетона, которым предполагалось укрепить покрытия и тем самым защитить ее от воздушных налетов. Я немедленно отнес строительство этого объекта к более низкой категории срочности и потребовал тут же начать вывоз накопившихся запасов никеля.
Посреди густого леса, довольно далеко от озера Инари, вокруг умело сложенного костра, служившего одновременно источником тепла и света, собрались лесорубы — немцы и финны, и Зигфрид Боррис начал праздничный вечер с исполнения части партиты Баха ре-минор. Затем мы несколько часов шли на лыжах к палаточному лагерю. Насладиться тишиной и видом северного сияния при тридцати градусах мороза у меня, однако, не получилось — ветер изменил направление, и обе половины палатки заполнились дымом. В три часа ночи мне пришлось выбраться из палатки на свежий воздух и забраться в свой сшитый из шкуры северного оленя спальный мешок. А утром я внезапно почувствовал сильную боль в колене.
Через несколько дней я опять приехал в ставку. По настоянию Бормана было решено провести совещание с участием руководителей важнейших министерств и ведомств, на котором предполагалось утвердить рабочую программу на 1944 год и выслушать претензии Заукеля ко мне. Накануне я предложил Гитлеру обсудить возникшие между нами разногласия в более узком кругу, то есть на
421
заседании под председательством Ламмерса. Мне казалось, что мы сами можем разобраться между собой. Гитлер выслушал меня и с металлом в голосе заявил, что не потерпит никаких попыток повлиять на участников совещания. Пусть они непредвзято выскажутся о создавшемся положении, а он уже затем примет решение.
После такой резкой отповеди я вместе со своими экспертами отправился к Гиммлеру. Ранее я попросил также прийти к нему фельдмаршала Кейтеля. Я надеялся, что хотя бы с ними смогу договориться и мы втроем не позволим Заукелю снова начать проводить депортации на оккупированных западных землях. Кейтель и Гиммлер, которым подчинялись военная администрация и органы правопорядка на оккупированных территориях, опасались, что эти акции приведут к усилению партизанского движения. Мы договорились, что на совещании оба они обоснуют невозможность проведения новых депортаций отсутствием у них достаточных сил и средств. Я надеялся, что смогу тем самым положить конец чрезмерно активной и довольно бессмысленной деятельности Заукеля и заставить имперские власти принять чрезвычайные меры по мобилизации собственных людских ресурсов, и в первую очередь женщин.
Но если я смог соответствующим образом настроить Гиммлера и Кейтеля, то Борман проделал то же самое с Гитлером. Он довольно холодно поздоровался с участниками совещания, и они сразу поняли, что фюрер пребывает в плохом настроении. Любой, кто хорошо знал Гитлера, понимал, что такое поведение не предвещает ничего хорошего, и обычно старался не заставлять его в таком состоянии принимать ответственные решения. Я также предпочел в этот день не вытаскивать из портфеля важные документы и ограничивался высказываниями по вполне безобидным вопросам. Однако уйти от обсуждения основной темы совещания было невозможно, и Гитлер резко перебил меня и раздраженно заметил: «Я запрещаю вам, господин Шпеер, в дальнейшем пытаться предопределить результаты заседаний. Пока еще я, а не вы, занимаю пост рейхсканцлера. Запомните это раз и навсегда!»
Разгневанному Гитлеру никто не посмел возражать. Мои союзники — Кейтель и Гиммлер — также не решились высказать свое мнение. Напротив, они заверили Гитлера
422
в том, что окажут всемерную поддержку программе Зауке- ля. Гитлер начал выяснять у присутствовавших министров потребности их ведомств в рабочей силе в 1944 году. Он тщательно записал все их требования, лично подвел итог и обратился к Заукелю с вопросом: «Скажите, партайге- носсе Заукель, вы сумеете доставить в рейх в этом году четыре миллиона рабочих, да или нет?»
Заукель тут же начал хорохориться: «Конечно, мой фюрер, я обещаю вам это! Можете быть уверены, что я сдержу слово! Но мне нужна свобода действий на оккупированных территориях». Когда же я попытался убедить собравшихся в том, что есть прямой смысл в значительной степени удовлетворить потребности в рабочей силе за счет собственных ресурсов, Гитлер прервал меня на полуслове: «Кто отвечает за мобилизацию трудовых ресурсов? Вы или Заукель?» Не терпящим возражений тоном он приказал Кейтелю и Гиммлеру дать соответствующие указания подчиненным им органам. Кейтель в ответ произнес лишь: «Слушаюсь, мой фюрер!», а Гиммлер промолчал. Я снова потерпел неудачу. Дальнейшее обсуждение этой проблемы только усилило бы позиции Заукеля. После окончания совещания настроение Гитлера явно улучшилось, и он даже сказал мне несколько дружеских слов. Я не испытал никакой радости от них. В результате Заукелю так и не удалось доставить в Германию новый контингент рабочей силы. Это объяснялось не столько моими попытками через свои отделения во Франции и различные инстанции вермахта сорвать осуществление его планов, сколько полным падением авторитета Германии в глазах французов, неуклонным нарастанием активности «маки» и нежеланием оккупационной администрации создавать себе дополнительные трудности.
Последствия совещания в штаб-квартире фюрера сказались только на мне. Обращение Гитлера со мной наглядно продемонстрировало его окружению, что я впал в немилость. Победителем в споре между Заукелем и мной оказался Борман. С этого момента сотрудничавшие со мной промышленники постоянно подвергались сперва скрытым, а затем Уже и открытым нападкам, и мне все чаще приходилось защищать в партийной канцелярии этих людей от выдвинутых против них политических обвинений и даже ходатайствовать за них в СД.
423
От забот и тревог меня не могло отвлечь даже празднование Герингом 12 января 1944 года в Каринхалле своего дня рождения. В предпоследний раз руководители рейха собрались вместе по столь торжественному поводу. Мы не обманули ожиданий Геринга и приехали к нему с дорогими подарками — коробками голландских сигар, вывезенными с Балкан слитками золота, ценными картинами и скульптурами. Мне Геринг передал, что хотел бы получить мраморный бюст Гитлера работы Брекера. Посреди отведенного под библиотеку необычайно просторного зала стоял огромный стол с подарками, который Геринг с гордостью демонстрировал гостям. Он также раскладывал на столешнице исполненные его личным архитектором чертежи: предполагалось более чем в два раза увеличить размеры похожей на замок загородной виллы рейхсмаршала.
В изысканно обставленной столовой стол поражал богатством убранства, но отнюдь не роскошью приносимых официантами в белых фраках блюд — хозяин дома учел обстоятельства военного времени. На каждом праздновании дня рождения Геринга торжественную речь обычно произносил Функ, и сейчас он по традиции — и, как в дальнейшем выяснилось, в последний раз — взял слово. Он всячески расхваливал способности Геринга, отдал дань его человеческим качествам, перечислил его основные заслуги перед Германией и, наконец, провозгласил тост за «одного из величайших немцев». Восторженные слова Функа резко контрастировали с реальным положением дел: над рейхом нависла неотвратимая угроза гибели, а его иерархи устроили «пир во время чумы».
Когда гости, встав из-за стола, разбрелись по просторным залам, я попытался узнать у Мильха, на какие средства Геринг позволяет себе вести такой роскошный образ жизни, и фельдмаршал рассказал, что совсем недавно по поручению близкого друга Геринга и не менее знаменитого, чем он, летчика-аса времен Первой мировой войны Лёрцера ему доставили вагон с приобретенными в Италии на «черном рынке» товарами. Предполагалось, что Мильх продаст на здешнем «черном рынке» дамские чулки, мыло и другие дефицитные предметы туалета. Прейскурант был составлен так, чтобы эта торговая операция не отразилась на ценах «черного рынка» в Германии. Мильху пообещали
424
солидную долю от прибыли, но он не поддался искушению, а приказал распределить товары среди сотрудников своего министерства. Как позднее выяснилось, содержимое многих других вагонов, пришедших из оккупированных нами стран, было все-таки продано. Провернувший эту сделку начальник интендантской службы министерства авиации Плагеман был вскоре переведен в непосредственное подчинение рейхсмаршала.
Я также на собственном опыте знал, как Геринг отмечал свои дни рождения. Каждый год накануне я получал извещение о том, что из полагавшихся мне как члену прусского государственного совета 6000 рейхсмарок весьма значительная часть израсходована на подарок рейхсмаршалу. Моего согласия никогда не спрашивали. Я рассказал об этом Мильху и в свою очередь узнал от него, что перед каждым днем рождения Геринга из резервного фонда министерства авиации выделялась крупная сумма и рейхсмаршал затем сам решал, какую картину на нее купить.
Мы оба прекрасно понимали, что эти деньги покрывают лишь небольшую часть огромных расходов Геринга. Мы не знали, кто конкретно из промышленников вносит сюда свою лепту, но догадывались, что без этого не обходится, так как Геринг иногда звонил нам и просил оказать содействие какой-нибудь фирме.
Свежие впечатления от поездки в Лапландию резко контрастировали с тепличной атмосферой, в которой жила насквозь коррумпированная и предпочитающая предаваться иллюзиям политическая элита рейха. Кроме того, в душе меня очень угнетала неопределенность моих отношений с Гитлером. Почти два года я работал с полным напряжением сил, ни одного дня не отдыхал, и теперь это сказалось на моем состоянии. В тридцать восемь лет я себя чувствовал стариком. Боль в колене не затихала ни на минуту. Силы мои были на исходе. А может быть, я уже просто не мог находиться среди этих людей?
18 января 1944 года меня отвезли в больницу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
23
Болезнь
Профессор Гебхардт — группенфюрер СС, известный среди европейских спортсменов как весьма квалифицированный ортопед, — руководил расположенной примерно в ста километрах от Берлина, в Хоэнлихене, больницей Красного Креста. Ее корпуса стояли на берегу окруженного лесами озера. Я не знал, что лечить меня будет человек, считавшийся одним из немногих близких друзей Генриха Гиммлера. Свыше двух месяцев я провел в очень скромно обставленной палате занимаемого частной лечебницей и поэтому стоявшего несколько в отдалении корпуса больницы. Но я не хотел прерывать работу, и поэтому в соседних помещениях разместились мои секретарши и были установлены телефонные аппараты прямой связи с министерством.
В Третьем рейхе любое заболевание министра неизбежно порождало серьезные трудности. Слишком уж часто Гитлер объяснял уход одного из иерархов своего режима в вынужденную отставку плохим состоянием его здоровья. В высших политических сферах сразу же настораживались, узнав о «болезни» какого-нибудь высшего должностного лица. Поэтому хотя я и действительно был болен, тем не менее счел разумным демонстрировать как можно большую активность. Кроме того, мне не хотелось ослаблять контроль над подчиненными: подобно Гитлеру, я также не обзавелся умным и толковым заместителем. Врачи и секретарши предпринимали воистину титанические усилия, чтобы обеспечить мне покой, и все равно, даже лежа в постели, я зачастую чуть ли не до полуночи проводил по телефону переговоры, выслушивал отчеты и отдавал распоряжения.
426
Я даже не успел толком освоиться в палате, как позвонил возмущенный Бор, который недавно был назначен начальником отдела кадров моего министерства. Оказывается, он обнаружил в своем кабинете запертый сейф, и Дорш тут же потребовал отвезти его в штаб-квартиру «организации Тодта». Я приказал оставить все как есть, но, по словам Бора, через несколько дней к нему явился в сопровождении упаковщиков представитель гаулейтера Берлина с намерением забрать сейф, так как вместе с содержимым он якобы являлся собственностью партии. Бор не знал, что делать, и лишь после звонка одному из ближайших сотрудников Геббельса, Науману, удалось договориться о переносе этой, с позволения сказать, акции. Правда, чиновник из аппарата гаулейтера опечатал сейф, но я распорядился снять заднюю дверцу, и уже на следующий день Бор привез целый пакет фотокопий весьма любопытных документов. Оказывается, на многих из тех, с кем я почти два года плодотворно сотрудничал, были заведены досье, содержащие преимущественно их негативные оценки. В основном моих сотрудников обвиняли в антипартийных взглядах и даже предлагали отдать некоторых под надзор гестапо. Выяснилось также, что у партии в министерстве было доверенное лицо. Меня поразил не столько сам факт, сколько личность того, кто им оказался. Интересы партии отстаивал не кто иной, как Ксавье Дорш.
С осени я напрасно пытался повысить в должности одного из своих чиновников. Однако он не вызывал доверия у недавно образовавшейся в министерстве клики, и прежний начальник отдела кадров находил всевозможные отговорки до тех пор, пока я буквально не заставил отправить в ставку аттестацию. Незадолго до болезни я получил от Бормана составленный в необычайно резкой и грубой форме отказ. Теперь мы обнаружили среди найденных в сейфе бумаг составленный, как выяснилось, по настоянию Дорша бывшим начальником отдела кадров Хааземаном проект этого послания, слово в слово совпадающий с полученным мною тогда текстом. Я немедленно позвонил Геббельсу; как гаулейтеру Берлина ему подчинялись все официальные и неофициальные партийные представители в столичных министерствах. Он без колебаний согласился с назначением на эту должность моего давнего сослуживца Франка:
427
«Не должно быть никаких «теневых кабинетов». Безобразие! Сейчас каждый министр является членом партии. Или мы доверяем ему — или он лишается своей должности!» Мне, однако, так и не удалось выяснить, кто в моем министерстве был агентом гестапо.
Гораздо труднее оказалось во время болезни сохранить свои позиции. К статс-секретарю Бормана Клопферу я обратился с настоятельной просьбой приказать партийным органам не выходить за рамки своих полномочий и не докучать промышленникам излишней опекой. Дело в том, что стоило мне заболеть, как советники гаулейтеров по вопросам экономики без всяких на то оснований дружно начали присваивать себе распорядительные функции подразделений моего министерства. Функа и перешедшего в его ведомство одного из приближенных Гиммлера, Олендорфа, я призвал поддержать меня и одновременно отправил Гитлеру письмо, в котором поделился с ним своими заботами и также попросил о помощи. За четыре дня я надиктовал двадцать три машинописные страницы — яркое свидетельство моего тогдашнего крайне нервозного состояния. Я просил еще раз письменно определить сферу моей деятельности и самым недвусмысленным образом подтвердить мои полномочия. В сущности, я лишь повторил высказанные в резкой форме на заседании в Позене требования, которые вызвали такое возмущение гаулейтеров. Далее я писал, что планирование и централизованное руководство всем процессом промышленного производства возможно лишь в том случае, «если все органы, руководящие производственной деятельностью, будут подчинены только мне».
Через четыре дня я вновь обратился к Гитлеру: наши нынешние отношения не позволяли быть с ним до конца искренним, и тем не менее я решил чистосердечно рассказать об образовавшейся в министерстве клике, которая тайком препятствует выполнению mopix приказов и распоряжений. Суть обращения к Гитлеру сводршась к тому, что небольшая группа бывших сотрудников Тодта во главе с Доршем поступила вероломно по отношению ко мне и поэтому я вынужден заменить Дорша человеком, пользующимся моим полным доверием.
Это было одно из последних посланий, которые я отправил Гитлеру по личной инициативе. Сообщив о смещении
428
с должности его фаворита, я поступил неразумно, ибо нарушил неписаный закон режима. Следовало бы, выбрав нужный момент, умело настроить Гитлера против неудобных мне людей и тем самым побудить его начать кадровые перестановки. Я же в открытую не только заявил о своей нелояльности, но и позволил себе усомниться в нравственных качествах одного из своих сотрудников. Еще более безрассудный поступок я совершил, отправив копию своего письма Борману. Это уже был прямой вызов, и причиной, по-видимому, послужило пробудившееся во мне упорное желание настоять на своем. Ведь я чувствовал, что фактически оказался в полной изоляции.
На время болезни я как бы лишил себя властных полномочий, а именно они имели для фюрера решающее значение. Он перестал реагировать на мои предложения, требования и жалобы — ни на одно из них я так и не дождался ответа. Меня уже не считали ни фаворитом Гитлера, ни одним из его возможных преемников — наветов Бормана и нескольких проведенных в больнице недель оказалось достаточно для того, чтобы лишить меня всякого политического веса. Определенную роль сыграло и свойство Гитлера вычеркивать из памяти тех, кто надолго исчезал из его поля зрения. Если же этот человек снова появлялся в его окружении, отношение к нему вполне могло опять измениться. Поэтому за время болезни я сильно разочаровался в Гитлере и перестал испытывать к нему теплые чувства. Однако в те дни я был еще слишком слаб, чтобы выразить бурное негодование или, напротив, прийти в отчаяние. Мне вдруг стало все глубоко безразлично.
Наконец до меня дошли слухи о том, что Гитлер по-прежнему благоволит к Доршу, который примкнул к нему еще в двадцатые годы. Он даже почти демонстративно провел с ним доверительную беседу и тем самым значительно укрепил его позиции. Геринг, Борман и Гиммлер решили, что расстановка политических сил изменилась, и попытались окончательно подорвать мой авторитет. Разумеется, каждый из них действовал в одиночку, руководствуясь своими собственными соображениями и ничего не сообщая другим о своих планах. О замене Дорша моим человеком больше не могло быть и речи.
Двадцать дней я неподвижно лежал на спине — нога была в гипсе, — и у меня оказалось достаточно времени,
429
чтобы разобраться в выпавших на мою долю в последнее время обидах и разочарованиях. Стоило мне в первый раз встать, как через несколько часов проявились первые симптомы эмболии легких — сильные боли в груди и спине и обилие крови в мокроте. Однако профессор Гебхардт определил у меня почему-то мышечный ревматизм, велел растирать грудную клетку пчелиным ядом (форапином) и прописал сульфаниламид, хинин и болеутоляющие таблетки. Через два дня у меня вновь начались резкие боли, и, хотя мое состояние явно вызывало тревогу, Гебхардт упорно настаивал на прежнем диагнозе. Тогда моя жена позвонила доктору Брандту, и он в ту же ночь отправил в Хоэнлихен заведующего терапевтическим отделением университетской клиники в Берлине и одного из ближайших сотрудников Зауэрбруха, профессора Фридриха Коха. Брандт, который был не только главным лечащим врачом Гитлера, но еще и занимал должность «генерального уполномоченного по вопросам здравоохранения и санитарному делу», поручил Коху заботу о моем здоровье и категорически запретил Гебхардту давать ему какие-либо указания. Он также приказал предоставить Коху помещение поблизости от моей палаты и обязал его ни днем ни ночью не отходить от меня.
Как отметил затем Кох в своем отчете, три дня мое состояние «внушало тревогу. Сильная одышка, посиневшее лицо, частый пульс, мучительный рефлекторный кашель, боли и мокрота с кровью. Клиническая картина позволяет предположить инфаркт». Врачи уже осторожно намекнули мне, что вполне возможен летальный исход. Я же, оказавшись в пограничной — между жизнью и смертью — ситуации, как ни странно, пребывал в эйфории: маленькая палата вдруг превратилась в огромный, с наборным паркетным полом, зал, а три недели торчавший у меня перед глазами простой деревянный шкаф неожиданно показался выточенным из ценных пород дерева, инкрустированным шедевром плотницкой работы. Мне уже давно не было так легко и спокойно на душе.
Когда я начал поправляться, мой друг Роберт Франк рассказал мне о ночном откровенном разговоре с Кохом. Он узнал от него совершенно поразительную вещь: оказывается, когда я был в почти бессознательном состоянии,
430
Гебхардт потребовал от Коха прибегнуть к методам лечения, которые, по мнению терапевта, могли привести к очень печальным для меня последствиям. Кох сперва никак не мог понять, чего от него хотят, а потом решительно отказался выполнить требование Гебхардта, и тогда последний сразу же пошел на попятную: он, дескать, просто хотел испытать его.
Франк заклинал меня ничего не предпринимать, так как Кох боялся, что его отправят в концлагерь и он там бесследно исчезнет, а у него самого наверняка будут неприятности с гестапо. Держать рот на замке мне следовало по той причине, что я никак не мог посвятить Гитлера в эту историю. Его реакцию вполне можно было предвидеть: он пришел бы в ярость, заявил бы, что такого быть не может, нажал бы на кнопку звонка — она у него была всегда под рукой — и приказал бы тут же появившемуся словно из-под земли Борману немедленно арестовать тех, кто осмелился оклеветать Гиммлера.
В наши дни в такое верится с трудом, но тогда эта история не показалась мне столь уж невероятной. Даже среди высокопоставленных партийных руководителей Гиммлер пользовался репутацией безжалостного, расчетливого человека, неуклонно добивающегося своей цели: никто не отваживался всерьез поссориться с ним. К тому же ему тогда представилась весьма благоприятная возможность: мой организм не выдержал бы даже малейшего осложнения, и ни у кого не возникло бы подозрений. Этот инцидент вызывал аналогии с «борьбой диадохов»; он свидетельствовал о том, что мои позиции хотя и ослаблены, но все еще достаточно прочны. Я был также убежден, что неудача не остановит моих соперников и они начнут плести новые интриги.
Только в Шпандау Функ поведал мне историю, которую он не осмелился рассказать в 1944 году и ограничился тогда лишь осторожными намеками. Я узнал, что осенью 1943 года во время устроенной в штабе танкового корпуса Зеппа Дитриха попойки, в которой наряду с Гебхардтом участвовал также приятель Функа и его бывший адъютант Хорст Вальтер, директор больницы в Хоэнлихене прямо заявил: по мнению Гиммлера, Шпеер стал слишком опасен и его надо убрать.
431
Я больше не мог оставаться здесь и, хотя здоровье мое оставляло желать лучшего, начал все более настойчиво добиваться перевода в другое место. Гебхардт сперва никак не хотел отпускать меня из-под своей опеки, ссылаясь на состояние моего здоровья; даже когда в начале марта я уже начал ходить, он все равно упорствовал. Лишь после сильного налета американских бомбардировщиков на расположенную неподалеку больницу Гебхардт, решив, что они охотились за мной, за ночь изменил свое мнение и признал меня вполне транспортабельным. 17 марта я наконец покинул это жуткое место.
Незадолго до конца войны я попытался выяснить у Коха, что же тогда произошло. Но профессор лишь подтвердил, что у него действительно произошел из-за меня конфликт с Гебхардтом и тот дал ему понять: он, дескать, не просто врач, но еще и человек, «наделенный соответствующими политическими полномочиями». Было понятно, что Гебхардт старался тогда как можно дольше продержать меня в своей клинике.
23 февраля 1944 года меня навестил Мильх и сообщил, что американские 8-й и 14-й воздушные флоты усилили налеты на наши авиационные заводы. Поэтому в следующем месяце выпуск продукции на них снизится примерно на две трети. Мильх полагал, что нашел выход из создавшегося положения, и привез с собой изложенный на бумаге план. По аналогии с так называемым Штабом по координации работы промышленных предприятий Рура, успешно занимавшимся устранением последствий бомбардировок на территории Рурской области, он предлагал создание «Егер штаба», чтобы, объединив усилия обоих министерств, увеличить выпуск боевых самолетов. В моем положении разумнее всего было бы дать уклончивый ответ, но я сразу же поддержал предложение Мильха, так как очень не хотел, чтобы наши военно-воздушные силы оказались в затруднительном положении. Нам обоим было ясно, что с образованием «Егер штаба» последний род войск вермахта передаст производство вооружения в ведение моего министерства.
Прямо из постели я позвонил Герингу и предложил ему подписать распоряжение о нашей совместной деятельности. Рейхсмаршал наотрез отказался поддержать нас и обвинил
432
меня в нарушении его прерогатив. Тогда я позвонил Гитлеру, которому эта идея понравилась. Однако он чрезвычайно холодно встретил мое предложение о назначении руководителем «Егер штаба» гаулейтера Ханке. «Я и так совершил большую ошибку, возложив на Заукеля обязанности генерального уполномоченного по использованию трудовых ресурсов. Как гаулейтер он обязан принимать только не подлежащие отмене решения, а здесь ему постоянно приходится вести переговоры и идти на компромиссы. Ни одному гаулейтеру я не дам больше таких поручений. — Судя по голосу, Гитлер сильно разозлился. — История с Заукелем привела лишь к падению авторитета всех без исключения гаулейтеров. Выполнение этого задания возьмет на себя Заур!» На этом Гитлер внезапно оборвал разговор. За последнее время он уже во второй раз вмешался в мою кадровую политику. Наверное, я своим предложением и впрямь расстроил его. Тут выяснилось, что Мильх также отдает предпочтение Зауру, заметно усилившему за время моей болезни свое влияние, и поэтому я безоговорочно выполнил приказ Гитлера.
За долгие годы я уже научился определять отношение Гитлера к какому-нибудь близкому ему человеку по той манере, в которой он приказывал своему адъютанту Шаубу поздравить того с днем рождения или, наоборот, выразить сочувствие в связи с болезнью. Если он небрежно произносил: «Цветы и послание», это означало, что ему на подпись представят стандартный текст. Цветы же адъютант выбирал по своему усмотрению. Знаком особого благоволения считались написанные им от руки несколько строчек. Если он хотел выразить какому-нибудь из своих многочисленных знакомых особую признательность, то приказывал Шаубу принести поздравительные открытки и ручку, а иногда даже лично отбирал цветы. Когда-то я наряду с кинозвездами и певцами также принадлежал к тем, кого он удостаивал особого внимания. Поэтому когда я после такой тяжелой болезни получил от него вазу с цветами и открытку с напечатанным на машинке стандартным, не содержащим ни одного теплого слова текстом, то понял, что, хотя и возглавляю одно из важнейших правительственных ведомств, я не обладаю почти никаким влиянием и фактически стою на низшей ступеньке иерархической лестницы. Наверное,
433
мне не следовало столь болезненно реагировать на такое унизительное отношение. Гитлер, правда, три раза звонил в больницу и осведомлялся о моем самочувствии, но не скрывал, что считает меня виновным в собственном бедственном положении: «Зачем вы там на плато бегали на лыжах? Я всегда говорил, что это чистейшей воды безумие. Кто только придумал прикреплять к ногам длинные доски! Скорее порубите их на дрова!» Он чувствовал, что у него не получается заканчивать наши с ним беседы шуткой, и поэтому всякий раз произносил в конце разговора эту фразу.
Профессор Кох полагал, что горный воздух Оберзальц- берга вряд ли исцелит мои легкие. В парке расположенного близ Зальцбурга замка Клессгейм — правительственной резиденции для почетных гостей — владевшие им в свое время архиепископы заказали архитектору Фишеру, приверженцу стиля барокко, построить изящной формы павильон, получивший название «Трилистник». В этом недавно отремонтированном домике мне разрешили поселиться 18 марта, ибо в самом замке в этот день проходили переговоры с регентом Венгрии Хотри, который через двадцать четыре часа был вынужден дать согласие на ввод германских войск в свою страну. В последний раз наши солдаты вступили на территорию иностранного государства. Вечером, в перерыве между переговорами, Гитлер навестил меня.
Я не видел его десять недель и впервые за время нашего знакомства обратил внимание на его мясистый нос и неестественно бледный цвет лица. Оно вообще показалось мне довольно неприятным — верный признак моего изменившегося к нему отношения. Отныне я начал смотреть на Гитлера как бы со стороны и давать непредвзятую оценку его поступкам. Около года он позволял себе третировать меня, и теперь я впервые задумался о его роли в моей жизни. Если раньше нескольких его слов или буйной жестикуляции было достаточно, чтобы вывести меня из оцепенения и пробудить во мне кипучую энергию, то во время этой встречи, несмотря на подчеркнутую доброжелательность Гитлера, я не чувствовал ничего, кроме сковавшей тело усталости. Мне мучительно хотелось как можно скорее отправиться с женой и детьми в Меран, провести там несколько недель и вновь набраться сил, хотя я, собственно
434
говоря, даже не знал, зачем они мне, — ведь у меня больше не было никакой цели в жизни. Но когда за эти пять проведенных в замке Клессгейм дней я убедился, что мои недруги опять начали плести интриги, во мне снова пробудился инстинкт самосохранения.
Уже на следующий день Геринг по телефону поздравил меня с днем рождения. Когда же я сделал хорошую мину при плохой игре и как бы невзначай обмолвился, что чувствую себя превосходно, он без всякого сожаления в голосе, а даже с какой-то радостью воскликнул: «Ну нет, здесь вы не правы! Профессор Гебхардт сообщил мне вчера, что у вас очень плохо с сердцем. И никаких шансов на улучшение нет, понятно? А может быть, вы еще ничего не знаете?» В конце беседы Геринг принялся всячески восхвалять мои достижения, как бы намекая тем самым на предстоящую отставку. Я сказал, что ни рентген, ни электрокардиограмма не обнаружили никаких признаков сердечного заболевания. Геринг заявил, что меня просто обманывают. На самом деле обманутым оказался именно он. Гебхардт намеренно ввел его в заблуждение.
Гитлер также с мрачным видом изрек в присутствии моей жены: «Шпееру придется уйти!» Оказывается, он разговаривал с Гебхардтом, и тот сказал ему, что я уже никуда не гожусь.
Очевидно, Гитлер думал о разработанных нами грандиозных архитектурных проектах, осуществить которые мне уже не позволит неизлечимая болезнь сердца. А может быть, он вспомнил о раннем уходе из жизни своего первого придворного архитектора профессора Трооста — во всяком случае, в тот же день он вновь объявился в замке Клессгейм, чтобы поразить мое воображение огромным букетом цветов. Такого я от него не ожидал. Уже через несколько часов после его отъезда позвонил Гиммлер и официально заявил мне, что фюрер поручил Гебхардту как группенфю- реру СС взять на себя ответственность за мою безопасность и как врачу позаботиться о моем здоровье. Теперь меня охраняла подчиненная Гебхардту группа вооруженных эсэсовцев.
Гитлер словно почувствовал, что я охладел к нему, и 23 марта пришел проститься со мной. Я же был глубоко оскорблен тем, что он, вероятно, только во время этих
435
визитов вспомнил о нашей былой близости. Мы не виделись всего лишь несколько недель, и этого срока оказалось достаточно, чтобы забыть о моих заслугах как архитектора и министра. Конечно, я понимал: Гитлеру приходится выполнять слишком много обязанностей и испытывать такое давление, что он вправе пренебречь теми своими сотрудниками, которые не слишком часто попадаются ему на глаза. Но все его поведение в эти недели показало мне, каким незначительным влиянием я пользуюсь в кругу его приближенных и как мало значат для него такие качества, как ум и профессионализм. Может быть, я был слишком холоден с ним, и Гитлер, словно в утешение, с удрученным видом сказал, что также сильно подорвал свое здоровье и, наверное, скоро совсем ослепнет. Когда я сказал, что с сердцем у меня все в порядке и что профессор Брандт может подтвердить мои слова, он только молча кивнул в ответ.
На горе Меран возвышается замок Гойен. Здесь я провел самые счастливые дни за время моего пребывания на министерском посту. Гебхардт поселился в домике и почти не вмешивался в мой распорядок дня.
Зато Геринг в совершенно не свойственной ему манере проявил бурную активность и, не спросив моего разрешения и даже не поставив меня в известность, взял с собой на совещание к Гитлеру Дорша и Заура. Безусловно, он хотел воспользоваться благоприятным моментом и, еще более расшатав мое положение и усилив влияние обоих моих совершенно безопасных для него соперников, вновь утвердить себя в роли второго человека в государстве. Далее он говорил, что уже принято решение о моей отставке, и в один из этих дней выяснял у гаулейтера Обердонау Эйгрубера мнение партийных инстанций о своем приятеле, генеральном директоре Мейндле. Геринг мотивировал это тем, что хочет предложить Гитлеру его кандидатуру на освобождающийся министерский пост. О своих претензиях на него заявил также занимавший неимоверное количество должностей рейхслейтер Лей. «В случае ухода Шпеера я готов стать его преемником, — безапелляционно заявил он. — Можете быть уверены, что я справлюсь с этой задачей!»
Тем временем Борман и Гиммлер попытались опорочить в глазах Гитлера остальных начальников управлений моего
436
министерства и таким образом добиться их увольнения. От третьих лиц — Гитлер не счел нужным меня информировать — я узнал, что он очень разгневан и троих из них — Либеля, Вегера и Шибера — вскоре сместил с занимаемых должностей. Прошло несколько недель, и Гитлер, очевидно, уже напрочь забыл о своих встречах со мной в замке Клейсс- гейм. За время болезни из высших должностных лиц рейха, помимо Фромма, Цейтцлера, Мильха и Дёница, сочувствие мне выразил только министр экономики Функ.
Усиление воздушных налетов заставило Гитлера несколько месяцев тому назад выдвинуть требование разместить военные заводы в недрах гор или в огромных бункерах. Я попытался объяснить ему тогда, что бетон далеко не лучшее средство борьбы с бомбардировщиками и что на перебазирование под землю всех предприятий, производящих вооружение, потребуется слишком много лет. Образно выражаясь, наша военная промышленность подобна прорезанной множеством рукавов и притоков дельте реки, и противник, к счастью, пока еще не начал подвергать бомбардировкам ее русло. Я имел в виду химические заводы, шахты, электростанции и многие другие предприятия разных отраслей промышленности. Мне становилось страшно при одной только мысли о том, что враг начнет последовательно бомбить их. Несомненно, весной 1944 года Англия и США уже вполне могли нарушить бесперебойное снабжение военных заводов химическими веществами, топливом, электроэнергией и металлом и тем самым сделать бессмысленными все наши попытки защитить их от вражеской авиации.
14 апреля Геринг проявил инициативу — вызвал к себе Дорша и с многозначительным видом заявил, что, по его мнению, требования фюрера может осуществить только «организация Тодта». Дорш ответил, что его организация имеет право строить объекты исключительно на оккупированных землях. Тогда вечером ему велели явиться к Гитлеру, который прямо сказал: «Я желаю, чтобы в дальнейшем вы осуществляли такое крупномасштабное строительство также и на территории рейха». На следующий день Дорш представил не только список мест расположения будущих объектов, но и смету расходов на строительство шести подземных сооружений. Площадь каждого из них должна была
437
составить 100 000 квадратных метров. Он пообещал сдать их в эксплуатацию уже в конце 1944 года, и Гитлер немедленно издал указ, которым не только перевел Дорша в свое непосредственное подчинение, но и отнес этот проект к высшей категории срочности. Таким образом, Дорш получил право снимать с других объектов любое количество людей, перераспределять строительные материалы и распоряжаться огромными денежными суммами. Тем не менее нетрудно было предвидеть, что строительство этих гигантских сооружений не только не будет доведено до конца в указанный срок, но и вообще не может быть никогда завершено. Если ложь столь примитивна, то очень легко узнать правду.
Гитлер не счел нужным поставить меня в известность о своих намерениях. Он еще больше ущемил мои права, но вовсе не чувство обиды и не оскорбленное самолюбие побудили меня в отправленном 19 апреля письме откровенно высказать сомнения в правильности принятых им решений. Этим посланием я положил начало длинной череде писем и меморандумов, которые на самом деле свидетельствовали не столько о возникших между нами разногласиях, сколько о постепенном пробуждении моего самосознания — ведь на протяжении многих лет Гитлер оказывал на меня поистине магическое воздействие, и я был не способен трезво оценивать факты и события. В письме я прямо писал, что такие грандиозные проекты суть чистейшей воды утопия, так как «размещение немецких и иностранных рабочих даже в самых примитивных условиях потребует колоссальных усилий и не позволит продолжать восстановительные работы на разрушенных бомбардировками предприятиях военной промышленности. Я не только не могу приступить к строительству новых заводов... но и вынужден приостановить сооружение целого ряда военно-промышленных объектов, ибо обязан создать все необходимые предпосылки для сохранения в ближайшие месяцы нынешнего объема военного производства».
Затем я в открытую упрекнул Гитлера в бестактном поведении: «Еще будучи вашим архитектором, я всегда стремился предоставить своим сотрудникам как можно больше самостоятельности. Зачастую они разочаровывали меня, поскольку далеко не каждый из них выдерживал испытание
438
известностью. Иные из них, снискав достаточно высокий авторитет, начинали всячески противодействовать мне». Нетрудно было догадаться, что я имел в виду Дорша. Далее я в несколько нравоучительной манере излагал следующие мысли: «Тем не менее это не помешает мне и в будущем неуклонно следовать этому принципу. По моему глубокому убеждению, лишь тот, кто его придерживается, вправе занимать в государстве высокий пост». Я высказал также твердую убежденность в том, что контроль за производством вооружений, строительством и перебазированием военных заводов на данном этапе должен быть сосредоточен в одних руках; за Доршем предполагалось оставить строительство укреплений на оккупированных землях. Руководство возведением военно-промышленных объектов на территории собственно Германии я намеревался поручить давнему сослуживцу Тодта Вилли Хенне и подчинить его и Дорша Вальтеру Бругману, в лояльности которого я не сомневался. Гитлер отверг мое предложение, и через пять недель — 26 мая 1944 года — Бругман, подобно Тодту, погиб в происшедшей по так и не выясненной причине авиакатастрофе.
Герхард Франк передал это послание Гитлеру в преддверии его дня рождения; в случае отказа Гитлера признать мою правоту я собирался подать в отставку. Информацию о его реакции я получил из самого надежного в таких случаях источника — от заведующей секретариатом Гитлера Иоганны Вольф. Он был крайне раздражен содержанием моего письма и произнес буквально следующие слова: «Даже Шпеер обязан считаться с интересами государства».
За шесть недель до этого он аналогичным образом отреагировал на мое решение временно приостановить начатое по его личному указанию в Берлине строительство бомбоубежищ для высших должностных лиц, так как следовало бросить все силы на устранение причиненного столице тяжкого ущерба. Судя по всему, Гитлер решил, что я позволяю себе слишком вольно толковать его приказы; во всяком случае, именно так он мотивировал свои упреки в мой адрес. Он прекрасно знал, что я тяжело болен, и тем не менее лично продиктовал Борману предназначенное мне и составленное в чрезвычайно грозных тонах послание. В нем, в частности, говорилось, что «каждый немец обязан
439
беспрекословно исполнять приказы фюрера, и никто не имеет права приостанавливать их действие». Гитлер угрожал, что в случае отказа высокопоставленного чиновника выполнять его распоряжения он немедленно даст указание гестапо отправить саботажника в концентрационный лагерь.
Когда до меня дошли слухи о реакции Гитлера, из Обер- зальцберга позвонил Геринг: он, дескать, слышал о моем намерении уйти в отставку и поэтому по поручению высшей инстанции обязан передать мне, что только фюреру дано право решать, когда министру следует уйти со своего поста. Длившийся полчаса разговор проходил довольно бурно, пока наконец я не предложил такой компромиссный вариант: «Я не стану подавать в отставку, а постараюсь как можно дольше болеть и просто тихо-мирно прекращу выполнять свои обязанности». Геринг восторженно поддержал мое предложение: «Хорошая мысль! Это нас вполне устраивает! Думаю, что фюрер не будет против!» Гитлер, который в случае серьезных разногласий всегда старался избегать конфронтации со своими сановниками, не осмелился заявить мне в лицо, что сделал соответствующие выводы и теперь намерен отправить меня в отпуск. Через год, когда дело дошло уже до почти полного разрыва отношений между нами, он также не решился заставить меня временно отказаться от исполнения своих обязанностей. Теперь мне иногда кажется, что Гитлер мог, наверное, разгневаться на одного из сановников и приказать ему подать в отставку. Но люди из его ближайшего окружения всегда уходили по своей воле.
Какими бы соображениями я ни руководствовался, во всяком случае, мне самому понравилась мысль временно удалиться от дел. Ежедневно на голубом небе появлялись предвестники скорого окончания войны — американские самолеты из 15-го воздушного флота, взлетев со своих баз в Италии, пролетали над Альпами и обрушивали град бомб на наши промышленные объекты. Ни один истребитель не вылетал им навстречу, ни одно зенитное орудие не открывало по ним огонь.
Эта картина полного бессилия производила гораздо более сильное впечатление, чем любая сводка военных действий. Я с грустью подумал, что, хотя нам пока удается восполнять потери в вооружении и боевой технике, такое мощное воздушное наступление вскоре сведет на нет наши усилия.
440
Неотвратимо надвигалась катастрофа, и разумнее всего было воспользоваться предложенным Герингом шансом и не занимать в тот момент, когда свершится катастрофа, ответственный пост, а затаиться в тихом уголке. Но, несмотря на серьезные разногласия с Гитлером, мне даже в голову не могло прийти отказаться от должности и прекратить всякое сотрудничество с ним, чтобы тем самым ускорить конец нацистского режима. Должен признаться, что, окажись я в таком же положении уже в наши дни, у меня бы такая мысль тоже не появилась.
Один из моих ближайших сотрудников — Роланд — посетил меня во второй половине дня 20 апреля и помешал далее размышлять на такую грустную тему. Среди промышленников уже ходили упорные слухи о моем намерении подать в отставку, и Роланд приехал, чтобы уговорить меня отказаться от подобного замысла: «Все это время промышленники верно следовали за вами, и вы просто не вправе отдавать их в руки ваших возможных преемников. Могу себе представить, кто метит на ваше место! Для нас сейчас самое главное — сохранить после проигранной войны основу промышленного потенциала. Поэтому вы обязаны остаться на своем посту!» Насколько я помню, речь о «выжженной земле» впервые завел именно Роланд, когда заговорил о том, что руководители рейха в отчаянии наверняка прикажут разрушать заводы и фабрики, взрывать мосты и железные дороги на территории Германии. Именно в этот день у меня появилось смутное ощущение ответственности за свой народ и свою страну: я отделил судьбу Гитлера от их судьбы.
Около часа ночи ко мне приехали из Оберзальцберга Мильх, Заур и доктор Франк. Из переданного мне Мильхом послания Гитлера я узнал, что он, оказывается, по-прежнему высоко ценит меня и его отношение ко мне ничуть не изменилось. Гитлер прямо-таки объяснялся мне в любви, но, как рассказал через двадцать три года Мильх, он согласился написать это письмо только после настойчивых просьб фельдмаршала. Если бы я получил его от Гитлера всего лишь несколько недель тому назад, то был бы глубоко растроган и несказанно счастлив. Теперь же я твердым голосом заявил: «Нет, с меня хватит! Знать ничего не хочу!» Но трое ночных гостей продолжали уговаривать меня.
441
Сопротивлялся я не слишком долго: поведение Гитлера показалось мне претенциозным и неискренним, но Роланд сумел убедить меня в том, что на своем посту я смогу выполнить новую и наиболее ответственную задачу. Через несколько часов я поддался наконец уговорам, но с условием, что Дорш опять будет подчиняться мне. На следующий день Гитлер подписал указ, сохраняющий нынешний статус-кво: Дорш опять переходил в мое подчинение, сохранив за собой руководство строительством бункеров для военных заводов.
Через три дня я понял, что принял слишком опрометчивое решение, и решил снова обратиться к Гитлеру. Ведь из-за нового распределения полномочий я оказался в очень невыгодном положении. Если я окажу Доршу всемерную поддержку, то поставлю под угрозу срыва осуществление других проектов и на меня посыплются жалобы многочисленных имперских инстанций. Если же не выполню требования Дорша, то мне придется выслушивать его претензии и отвечать на его заявления. «Поэтому, — говорилось далее в моем письме Гитлеру, — наилучшим выходом было бы выделить из системы органов управления военной промышленностью отдельное ведомство и возложить на него руководство всем промышленным строительством». Я предлагал назначить Дорша «генеральным уполномоченным по строительству» с подчинением его напрямую Гитлеру и подчеркивал, что любое другое решение лишь повлечет за собой дальнейшее ухудшение наших с ним отношений.
Во время написания письма мне неожиданно пришла мысль прервать свой отпуск и отправиться в Оберзальц- берг, чтобы лично изложить Гитлеру свое предложение. Гебхардт сперва пытался возражать и, ссылаясь на предоставленные ему Гитлером полномочия, требовал, чтобы я остался, ибо по состоянию здоровья могу не выдержать перелета. Тогда я предъявил ему полученную несколько дней тому назад от профессора Коха справку. Наконец Гебхардт позвонил Гиммлеру, и рейхсфюрер дал согласие на мой отъезд при условии, что перед аудиенцией у Гитлера у меня с ним состоится беседа.
Когда в таких ситуациях от тебя ничего не скрывают, сразу испытываешь облегчение. Гиммлер был откровенен со мной. Он рассказал, что Гитлер уже давно принял
442
решение о выделении из моего министерства управления, контролировавшего деятельность строительных организаций, и преобразовании его в отдельное ведомство во главе с Дор- шем. Гиммлер сообщил также, что в обсуждении этой проблемы активное участие принимал Геринг, и призвал меня не создавать трудностей. Меня покоробила их наглая манера договариваться за моей спиной; с другой стороны, их план полностью соответствовал моим намерениям, и поэтому я с готовностью согласился удовлетворить просьбу рейхсфюрера СС.
Едва я появился на своей вилле в Оберзальцберге, как вошел адъютант Гитлера и от его имени пригласил меня на традиционное чаепитие. Я намеревался обсудить с Гитлером сугубо служебный вопрос; разумеется, неофициальная обстановка смягчила бы остроту возникших между нами противоречий, но именно этого я хотел избежать. Я отказался от приглашения, а Гитлер с пониманием отнесся к такому необычному для меня поступку и уже на следующий день назначил мне аудиенцию в «Бергхофе».
Держался Гитлер подчеркнуто официально. В фуражке, с перчатками в руке он встретил меня у входа и сразу же проводил к себе в апартаменты. Своим поведением он сумел добиться нужного психологического эффекта и произвести на меня довольно сильное впечатление. Однако теперь мое отношение к нему было далеко не однозначным. С одной стороны, меня никак не могли оставить равнодушным оказываемые им знаки внимания; с другой — я постепенно начал сознавать, какую роковую роль играет он в судьбе немецкого народа. И хотя обаяние Гитлера еще имело надо мной власть и он инстинктивно чувствовал, как нужно вести себя со мной, я все чаще ловил себя на мысли, что не могу больше безоговорочно подчиняться ему.
Во время нашего разговора меня поразило несвойственное Гитлеру стремление убедить собеседника в правильности своей позиции. Он отверг мое предложение о выделении из министерства самостоятельного строительного ведомства: «Я ни в коем случае не допущу этого. Мне некому поручить руководство строительством таких важных объектов. К великому несчастью, доктор Тодт погиб. Вы же знаете, господин Шпеер, какое значение я придаю строительству. И заранее одобряю все предпринимаемые вами
443
в этой области меры». Гитлер сам себе противоречил, так как еще несколько дней тому назад в присутствии Геринга и Гиммлера окончательно решил поручить выполнение именно этой задачи Доршу. Он, как всегда, со спокойной душой позабыл о своих недавних высказываниях и даже не подумал о том, что, в сущности, глубоко задел самолюбие Дорша: столь явное пренебрежение собственным мнением свидетельствовало о его открытом презрении к людям. Тем не менее приходилось считаться с тем, что он вскоре опять изменит точку зрения. Поэтому я предложил Гитлеру еще раз хорошенько подумать и больше уже не возвращаться к обсуждению этого вопроса. Гитлер в ответ заявил: «Нет, я принял окончательное решение и не собираюсь его менять». В конце беседы он даже предъявил начальникам трех моих управлений не слишком серьезные претензии. Между тем я уже внутренне был готов к освобождению их от занимаемых должностей.
Потом Гитлер прошел со мной к гардеробу, вновь взял фуражку и перчатки, видимо намереваясь проводить меня до выхода. Мне показалось, что он решил слишком уж строго придерживаться церемониала, и тоном человека из его близкого окружения я сказал, что условился встретиться на верхнем этаже с адъютантом от военно-воздушных сил фон Беловом.
Вечером я, как обычно, сидел у камина в компании Евы Браун и нескольких приближенных Гитлера. Разговор не клеился, Борман предложил включить проигрыватель, и мы, прослушав несколько арий из опер Вагнера, наслаждались, отдыхая душой, восхитительными мелодиями из «Летучей мыши».
После перенесенных совсем недавно обид, оскорбленный и униженный, я вдруг почувствовал полное умиротворение: по телу разлилось тепло и показалось, что все конфликты разрешены. Неопределенность положения очень угнетала, и мне мучительно хотелось услышать слова благодарности и признательности, чтобы с новыми силами взяться за работу. Я одержал победу в закулисной борьбе за власть с Герингом, Гиммлером и Борманом. Они, конечно, никак не ожидали такого результата, полагая, что со мной все кончено. Мне уже тогда показалось: Гитлер вовремя понял, что они преследуют собственные, своекорыстные цели и слишком глубоко втянули его в свою игру.
444
Когда я размышляю о причинах, побудивших меня неожиданно войти в круг этих людей, то, несомненно, одним из наиболее важных мотивов было желание сохранить за собой высокий пост и соответствующее положение в обществе. Но после приобщения к правящей элите нацистского режима мне всегда хотелось, чтобы на меня также падал отблеск славы и величия Гитлера. До 1942 года я полагал, что как архитектор могу позволить себе независимость в оценках и суждениях; однако затем мне льстила и вскружила голову возможность пользоваться огромной властью, назначать людей на должности в своем аппарате, решать действительно очень важные вопросы и распоряжаться миллиардными суммами. И хотя я подчас сознавал свое бессилие, в душе мне никогда не хотелось отказываться от такого стимулятора, как упоение властью. Последние события заставили меня несколько по-иному воспринимать мое положение, однако обращение промышленников и сохранившееся неизменным умение Гитлера подавлять мою волю как рукой сняли зародившиеся было во мне сомнения. Разумеется, наши отношения дали трещину, и я чувствовал, что никогда больше не буду до конца предан ему. Но я вернулся в круг близких Гитлеру людей, и меня это очень радовало.
Через два дня я привел к Гитлеру Дорша, чтобы уже официально представить его как руководителя, в рамках моего министерства отвечающего за осуществление всей программы промышленного строительства. Гитлер отреагировал именно так, как я и ожидал: «Я отнюдь не собираюсь вмешиваться в сферу вашей деятельности, дорогой Шпеер. И если хотите поручить данную задачу Доршу — это ваше право. Но вся ответственность ложится на вас». Судя по всему, я одержал победу, которая, однако, меня не слишком радовала: по опыту я уже убедился, что не следует слишком доверять словам Гитлера, ибо утром он вполне мог переменить решение.
Герингу я направил выдержанное в исключительно деловом тоне послание, в котором известил его о назначении Дорша моим представителем по всем связанным со строительством вопросам в управлении по осуществлению четырехлетнего плана. Я даже не стал спрашивать мнения
445
рейхсмаршала, а с изрядной долей сарказма подчеркнул, что «ваше полное доверие к министериаль-директору Доршу предполагает безусловное согласие на его назначение на эту должность». Геринга, похоже, возмутило такое пренебрежительное отношение, но он ничего не мог поделать и ограничился лишь кратким ответом: «Я полностью согласен с вами и уже распорядился перевести все строительные организации военно-воздушных сил в подчинение Доршу».
Понять, как отнесся к этому Гиммлер, было совершенно невозможно: в таких ситуациях он всегда оказывался скользким как угорь. Зато Борман впервые за два года заметно изменил свое отношение ко мне в лучшую сторону. Он видел, что я добился значительных успехов и сумел вырваться из сети искусно и с таким старанием сплетенных интриг: он был не тот человек и не обладал достаточной властью, чтобы не считаться с происшедшими изменениями и по-прежнему относиться ко мне с откровенной неприязнью. Я демонстративно не замечал Бормана, и так как его это, несомненно, задевало, то он при первой же возможности решил втереться ко мне в доверие. Мы небольшой группой, как обычно, медленно брели по дороге, ведущей к «Орлиному гнезду», и тут он вдруг — явно переигрывая — принялся уверять меня в своей полной непричастности к имевшим цель подорвать мои позиции проискам и интригам.
Вскоре Борман пригласил меня и Ламмерса к себе, на очень неуютно и как-то безлико обставленную виллу, и начал очень настойчиво уговаривать нас выпить, а затем уже ближе к полночи внезапно предложил перейти на «ты». На следующий же день я сделал вид, что никаких попыток сближения он не предпринимал, а Ламмерс, наоборот, с готовностью принял фамильярное обращение. Это отнюдь не помешало Борману при первой же возможности без малейших колебаний поставить Ламмерса в крайне затруднительное положение и одновременно — хотя я откровенно игнорировал его — постоянно демонстрировать мне свою симпатию, во всяком случае до тех пор, пока Гитлер благоволил ко мне.
В середине мая 1944 года я отправился в Гамбург для осмотра тамошних верфей, и гаулейтер Кауфман в доверительной беседе рассказал, что даже по прошествии полугода местные партийные руководители все еще никак не могут
446
успокоиться из-за моего тогдашнего памятного выступления, а Борман подливает масла в огонь и всячески настраивает их против меня. Кауфман предупредил, чтобы я не пренебрегал этой угрозой.
Я достаточно серьезно воспринял его совет и во время следующей беседы с Гитлером поведал ему о нависшей надо мной опасности. Он тогда вновь выказал мне особое внимание, пригласив в свой обшитый деревянными панелями кабинет на первом этаже «Бергхофа». Там он обычно разговаривал на приватные темы с близкими людьми или проводил строго конфиденциальные переговоры. Дружеским тоном он посоветовал мне не раздражать гаулейтеров и с пониманием отнестись к ним, иначе в дальнейшем я сильно осложню себе жизнь. Он знает их недостатки, большинство из них по своей натуре солдафоны или просто грубые, неотесанные мужланы, но зато они преданные и надежные соратники, их нужно принимать такими, какие они есть. Гитлер дал понять, что вовсе не от Бормана зависит его отношение ко мне: «Конечно, многие жалуются на вас, но для меня этот вопрос решен». Его слова означали, что Борман и здесь потерпел неудачу.
Гитлер явно испытывал неловкость из-за того, что меня вовремя не удостоили почетной награды. Рассказывая о своем намерении вручить Гиммлеру высший орден рейха, он снова просил меня отнестись к этому с пониманием и, как бы извиняясь, добавил, что рейхсфюрер СС за свои особые заслуги, как никто другой, достоин его. «Надеюсь, после войны мои успехи на поприще архитектуры будут отмечены не менее высокой наградой, а именно орденом “За заслуги в области науки и искусства”», — довольно бодро ответил я. Тем не менее у меня создалось впечатление, что Гитлер всячески старается смягчить мое возможное негативное отношение к награждению Гиммлера.
Еще одно довольно неприятное событие терзало в тот день мою душу. Я был очень встревожен опубликованной 9 апреля английской газетой «Обсервер» статьей, представляющей меня чужеродным телом среди фанатичных приверженцев нацистской партийной доктрины. Я опасался, что Борман вот-вот положит на стол Гитлеру статью, и поэтому, желая опередить его, весело пошутил на эту тему, а затем передал фюреру ее переведенный на немецкий
447
язык текст. Лицо Гитлера приняло суровое выражение, он надел очки и начал читать:
«Шпеер в каком-то смысле более важен для Германии, чем Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс или генералы. Образно выражаясь, все они превратились всего лишь в подручных этого человека, без которого в действительности страна не смогла бы вести войну и который выжимает из ее военной промышленности максимум возможного. На наш взгляд, Шпеер олицетворяет осуществленную “революцию управляющих”. Он не из тех нацистов, что ведут себя вызывающе и всячески стремятся обратить на себя внимание. Мы располагаем сведениями о его мировоззрении и полагаем, что он придерживается умеренных и вполне традиционных взглядов. Он мог примкнуть к любой партии, которая позволила бы ему заниматься своим делом, и удовлетворить свое честолюбие.
В его внешнем облике нет ничего примечательного — вполне заурядный, опрятно одетый, весьма учтивый человек, которого уж никак нельзя отнести к разряду коррумпированных деятелей нацистского режима; этот добропорядочный семьянин, нежно любящий жену и шестерых детей, безусловно, принадлежит к среднему классу. В отличие от других руководителей Германии, в нем почти нет черт, присущих типичному немцу или типичному нацисту. Он скорее воплощает собой тип личности, которая начинает играть все более важную роль в политической и социально-экономической жизни воюющих государств, — чистейшей воды технократ, у которого есть только одна цель в жизни — сделать карьеру с помощью своих технических знаний и организационных способностей. Именно отсутствие чрезмерной восприимчивости и богатого духовного мира, а также легкость, с которой они овладевают сложной и в какой-то степени страшной технологией нашего века, позволяют этим, в общем-то, заурядным людям в наши дни достичь немыслимых высот. Пришло их время. От гитлеров и Гиммлеров мы как-нибудь избавимся, но шпееры, что бы там ни происходило с каждым из них в отдельности, еще очень долго будут пребывать среди нас».
Гитлер внимательно дочитал статью, сложил лист бумаги с напечатанным крупными буквами текстом и с уважительным видом молча вернул его мне.
448
Прошло еще какое-то время, и я начал постоянно ощущать нарастание отчуждения между мной и Гитлером. Нет ничего труднее, чем заставить себя относиться с прежним уважением к человеку, в чем-то уже утратившему в твоих глазах авторитет. Впервые оказав неповиновение Гитлеру, я стал гораздо более самостоятельным в мыслях и поступках. Ведь моя строптивость не только не вызвала его гнев, но, напротив, заставила вести себя довольно беспомощно и оказывать мне особые знаки внимания. Я, правда, также пошел на попятную, но теперь опыт подсказывал мне, что упорным отстаиванием своей точки зрения можно переубедить Гитлера.
И все же этот опыт лишь зародил во мне первые сомнения относительно присущих режиму методов правления. Скорее меня возмутило нежелание правящей элиты делить с народом вызванные войной тяготы и лишения, ее равнодушное отношение к судьбам людей, а распространенное в этой среде интриганство раскрыло мне глаза на ее аморальность и беспринципность. Постепенно я начал внутренне отделять себя от нее и, хотя и не без душевных колебаний, медленно расставаться с прежней жизнью, с поставленными ею задачами, с возложенными на меня обязательствами и с тем бездумным ее восприятием, из-за которого я оказался ныне в таком положении.
24
Трижды проигранная война
8 мая я вернулся в Берлин, чтобы вновь приступить к работе. А через четыре дня произошло событие, заставившее меня навсегда запомнить эту дату — 12 мая 1944 года. Ведь именно в этот день противник окончательно одержал победу в сфере военного производства. До этого нам удавалось, несмотря на значительные потери в вооружении, в общем и целом удовлетворять потребности вермахта. После налета 935 бомбардировщиков из состава 8-го американского воздушного флота на заводы по производству искусственного горючего в центральной и восточной частях Германии начался совершенно новый период воздушной
15 А. Шпеер
449
войны; он положил начало полному краху немецкой военной промышленности.
Уже на следующий день мы вместе со специалистами одного из подвергшихся бомбардировке заводов пробирались через груды кирпичей, разбитой арматуры и исковерканных труб. По самым благоприятным прогнозам, возобновить производство здесь можно было лишь через несколько недель. Правда, у нас в запасе имелось еще 574 000 тонн авиационного бензина, и при экономном режиме его могло хватить на девятнадцать месяцев.
19 мая я спешно вылетел в Оберзальцберг и в присутствии Кейтеля доложил Гитлеру о надвигающейся катастрофе: «Враг нанес удар по одному из наших самых уязвимых мест. И если он продолжит их наносить, нам вскоре придется почти полностью приостановить производство горючего. Остается только надеяться, что его штаб военно-воздушных сил, подобно нашему, не умеет четко планировать операции!» Кейтель, как всегда, стремился угодить Гитлеру и поэтому принялся уверять, что опасность не так уж велика, что в его распоряжении достаточно запасов горючего, и в конце концов привел обычный аргумент Гитлера: «Мы уже столько раз с честью выдерживали самые тяжелые испытания». Затем, обращаясь к Гитлеру, твердым голосом заявил: «И сейчас мы тоже выстоим, мой фюрер!»
Однако Гитлер, похоже, не разделял его оптимизма, ибо он созвал совещание, в котором наряду с Герингом, Кейтелем и Мильхом должны были принять участие промышленники Краух, Плейгер, Бютефиш и Е.Р.Фишер, а также руководитель Управления планирования и учета сырьевых ресурсов Керль. Геринг попытался было помешать приезду промышленников под тем предлогом, что, дескать, не следует допускать посторонних к обсуждению такой важной темы. Но Гитлер уже утвердил список участников совещания.
Через четыре дня мы стояли в огромном холле и ждали, когда Гитлер освободится и пригласит нас в свои апартаменты. И если я настоятельно просил приехавших со мной владельцев заводов по производству синтетического бензина высказать Гитлеру всю правду, то Геринг, наоборот, убеждал их воздержаться от чрезмерно пессимистических высказываний. Он не без оснований опасался, что Гитлер основную долю вины возложит именно на него.
450
Тут мимо нас прошли участвовавшие в предыдущем совещании высокие военные чины, и адъютант пригласил нас наверх. Гитлер небрежно пожал всем руки и вообще держался холодно и отчужденно. Промышленники были трезвомыслящими людьми и, как следовало из их выступлений, не собирались ничего от него скрывать. Смысл речей сводился к тому, что в случае продолжения воздушных налетов на их предприятия наше положение вскоре окажется совершенно безнадежным. Гитлер, правда, иногда прерывал их репликами типа «Я думаю, вы справитесь» или «Мы оказывались и в более трудных ситуациях», а Кейтель и Геринг наперебой старались продемонстрировать еще больший оптимизм, чем он.
Но промышленники оказались более «крепкими орешками», чем приближенные Гитлера; они твердо стояли на своем и в подтверждение своих доводов привели цифры и данные сравнительного анализа. Неожиданно Гитлер начал призывать их в дальнейшем так же трезво оценивать ситуацию: словно фюрер и впрямь устал от постоянного искажения фактов, лести и ложного оптимизма и ему захотелось узнать истину, какой бы горькой она ни оказалась. Подводя итоги совещания, Гитлер прямо заявил: «По моему мнению, выход из строя заводов по производству синтетического горючего, искусственного каучука и азота может вынудить нас прекратить военные действия». Если вначале он был угрюм и вел себя довольно безучастно, то после своего выступления он произвел впечатление вполне разумного человека, умеющего к тому же в нужный момент взять себя в руки. К сожалению, когда через несколько месяцев действительно произошла катастрофа, он опять не пожелал прислушаться к голосу разума. Напротив, Геринг уже в холле упрекнул нас в том, что мы своей слишком мрачной оценкой ситуации излишне встревожили Гитлера.
К гранитному крыльцу подкатили автомобили, и участники совещания, за исключением Геринга, отправились перекусить в ресторан «Берхтесгаденское подворье». В таких случаях Гитлер всегда рассматривал свою резиденцию в предгорьях Баварских Альп исключительно как место для официальных встреч. Но стоило машинам отъехать, как из всех комнат верхнего этажа вышли те, к кому Гитлер был действительно искренне привязан. Он на несколько минут удалился, а затем предстал перед нами в черном
15*
451
плаще и шляпе. В руке он сжимал трость. Мы, как всегда, гурьбой побрели к «Орлиному гнезду». В круглой «чайной комнате» нам подали кофе с пирожными, в камине потрескивали поленья, мы разговаривали о совершеннейших пустяках, и Гитлер в кругу приятных ему людей словно стряхнул с себя груз забот: мы прямо-таки ощутили, как он сильно нуждается в нас. Со мной он также больше не говорил о нависшей над нами страшной опасности.
Неимоверные усилия дали свои плоды. Через шестнадцать дней непрерывных восстановительных работ на подвергшихся налетам заводах только начали выпускать продукцию в прежнем объеме, и тут на них обрушились новые бомбовые удары. Одновременно самолеты 15-го американского воздушного флота подвергли в эти дни бомбардировке нефтеперерабатывающие заводы близ Плоешти — нефтяного района Румынии.
Выпуск военной продукции снизился чуть ли не вдвое; эта ситуация подтвердила наш пессимистический прогноз и убедительно опровергла успокоительные заявления Геринга. Гитлер, судя по его отдельным замечаниям, окончательно разочаровался в рейхсмаршале.
Не только для пользы дела я решил не дожидаться дальнейшего развития событий и уже сейчас воспользоваться ослаблением позиций Геринга. Мы достигли весьма значительных успехов в производстве истребителей, и у нас были все основания предложить Гитлеру передать авиационные заводы в ведение моего министерства; наряду с этим меня так и подмывало сполна отплатить Герингу за его недостойное поведение во время моей болезни. 4 июня я обратился к Гитлеру с просьбой «оказать воздействие на рейхсмаршала и сделать так, чтобы это предложение исходило именно от него». Гитлер беспрекословно согласился со мной; он по достоинству оценил мое намерение пощадить самолюбие Геринга. Он даже довольно резко заявил: «Все производство самолетов должно перейти под контроль вашего министерства, и я не допущу никаких дискуссий на эту тему. Я немедленно вызову рейхсмаршала и сообщу ему о своем намерении, а вы затем обсудите с ним все детали».
Еще несколько месяцев тому назад Гитлер не решился бы так обращаться со своим верным соратником. Так,
452
в конце прошлого года он поручил мне съездить к Герингу в отдаленную Роминтенскую пустошь и передать ему какое-то не слишком приятное известие — какое именно, я, честно говоря, давно забыл. Геринг, видимо, понял, кто дал мне это задание, и, вопреки обыкновению, обращался со мной как с почетным гостем. Он приказал запрячь карету и часами катал меня по своим обширным охотничьим угодьям. При этом он говорил без умолку, не давая мне даже рта раскрыть, и я в конце концов был вынужден вернуться в ставку, так и не выполнив поручения Гитлера. Правда, он меня ни словом не попрекнул.
В этот раз Геринг не стал, как прежде, прикрывать показным радушием нежелание говорить на неприятную для него тему. Я встретился с ним в кабинете его виллы в Оберзальцберге. Гитлер уже успел сообщить Герингу о цели моего визита, и он очень резко отозвался о метаниях и колебаниях фюрера. Еще две недели тому назад он, оказывается, собирался забрать из моего ведения строительные организации, но после недолгой беседы со мной передумал и отменил свое решение. «К сожалению, фюрер далеко не всегда способен проявить сильную волю», — с мрачным видом сказал Геринг и добавил, что, если таково желание Гитлера, он, конечно, передаст мне авиационные заводы. Однако, по его словам, совсем недавно Гитлер был совершенно иного мнения и даже заявил, что у Шпеера слишком обширная сфера деятельности и он не в состоянии полностью ее контролировать.
Мое стремление максимально использовать уже под своим началом производственный потенциал авиационной промышленности было фактически сведено на нет происшедшими чуть позже событиями, первопричиной которых, как всегда, было завоевание противником превосходства в воздухе. И хотя значительную часть своей авиации союзники намеревались использовать только для прикрытия высадившихся во Франции войск, после двухнедельного перерыва они вновь подвергли бомбардировке заводы по производству искусственного горючего.
Лишь к концу июля мы смогли частично восстановить их, и объем выпуска авиационного бензина достиг 609 тонн в день. Мы радовались хотя бы уже потому, что он составил десятую часть прежнего объема производства. Но на многих
453
заводах, производящих жидкое топливо, оказались повреждены системы трубопроводов. Прямых попаданий почти нигде не отмечалось, но из-за сотрясений, вызванных разрывами сброшенных неподалеку бомб, на трубопроводах во многих местах разошлись сварные швы. Вновь загерметизировать их было почти невозможно. В отправленных Гитлеру 30 июня и 22 июля меморандумах подчеркивалось, что ожидаемое в начале августа резкое падение производства заставит нас израсходовать большую долю запасов авиационного бензина и горюче-смазочных материалов, а это опять же неизбежно приведет к «губительным последствиям».
Вместе с тем я предложил Гитлеру принять целый рад мер, которые могли бы если не предотвратить, то хотя бы отсрочить трагический исход. В основном мой план сводился к предоставлению Эдмунду Гейленбергу — он отвечал за изготовление боеприпасов и добился больших успехов — чрезвычайных полномочий. Для форсирования темпов выхода продукции на соответствующих предприятиях он должен был получить право в рамках тотальной мобилизации самым решительным образом проводить конфискацию всех необходимых материалов, приостанавливать выпуск продукции, не имеющей важного стратегического значения, и привлекать квалифицированных рабочих.
Гитлер сперва отказался поддержать мой план: «Стоит мне дать кому-либо такие полномочия, как наш танковый парк сразу уменьшится. А этого я никак не могу допустить!» Он явно еще не до конца осознал всю серьезность ситуации, хотя я уже довольно часто говорил с ним о том, как предотвратить надвигающуюся угрозу. Я все время пытался втолковать ему, что от танков не будет никакого проку, если мы не сумеем залить их бензобаки горючим. И лишь когда я пообещал ему не снижать производство танков и Заур подтвердил мои слова, Гитлер поставил свою подпись под подготовленным мной текстом указа. Через два месяца количество мобилизованных на восстановление заводов по производству синтетического бензина рабочих составило 150 000 человек. Поздней осенью 1944 года их было уже 350 000.
Диктуя первый меморандум, я с горечью думал о непонимании политическим руководством трагизма нашего положения. Передо мной лежали составленные в Управлении
454
планирования сводки о ежемесячном падении производства, прекращении выпуска продукции и возможных сроках возврата к прежним темпам; непременным условием для этого являлось полное или частичное прекращение воздушных налетов. В своей второй докладной записке я буквально заклинал Гитлера «отправлять на фронт лишь небольшую часть выпускаемых авиационной промышленностью истребителей» и призывал понять, что «гораздо целесообразнее заранее прикрыть с воздуха производящие жидкое топливо заводы и быть уверенным в том, что по крайней мере в августе и сентябре его производство не остановится, чем оставить все как есть и почти наверняка знать: в сентябре или октябре военно-воздушные силы из-за его нехватки могут приостановить боевые операции».
По этому поводу я уже второй раз обращался к Гитлеру, На проходившем в конце мая в Оберзальцберге совещании Галланд заявил, что увеличение выпуска истребителей позволяет создать новый воздушный флот, предназначенный исключительно для защиты рейха. Гитлер поддержал его предложение. В свою очередь Геринг, прислушавшись наконец к доводам представителей химической промышленности, на совещании в Каринхалле торжественно обещал ни при каких обстоятельствах не отправлять на фронт воздушный флот «Рейх». Но после открытия второго фронта Гитлер и Геринг без малейших колебаний приказали перебросить его соединения во Францию, где они не только не добились сколько-нибудь заметных успехов, но и понесли огромные потери. Через несколько недель эта армада была фактически полностью уничтожена. В конце июня Гитлер и Геринг были вынуждены дать слово выделить для противодействия воздушным налетам не менее двух тысяч истребителей. Уже в сентябре самолеты должны были вылетать на перехват вражеских бомбардировщиков, но отсутствие у наших правителей разума обрекло на неудачу и эту акцию.
Еще одну попытку убедить их трезво взглянуть на создавшуюся ситуацию я предпринял на состоявшемся 1 декабря 1944 года очередном совещании, посвященном использованию военно-промышленного потенциала. Я призвал их «отдавать себе отчет в том, что люди, планирующие воздушные налеты на наши промышленные объекты, имеют более-менее ясное представление о специфических
455
особенностях экономики Германии и что пилоты вражеских бомбардировщиков — в отличие от наших — руководствуются весьма разумным планом. Наше счастье, что противник только полгода тому назад приступил к последовательному его осуществлению». В дальнейшем выяснилось, что во вражеском лагере еще два года тому назад выдвинули предложение изменить концепцию действий стратегической авиации. Так, в издаваемом созданным в США Департаментом экономической войны бюллетене от 9 декабря 1942 года подчеркивалось, что гораздо разумнее «произвести значительные разрушения на действительно жизненно важных промышленных объектах, чем стремиться подвергнуть интенсивным бомбардировкам как можно большее количество заводов. Уже разработан соответствующий план, и осталось только с непреклонной решимостью претворить его в жизнь». Американские специалисты пришли к совершенно правильному выводу. Гораздо сложнее оказалось осуществить составленный ими план.
Еще в августе 1942 года Гитлер на совещании с представителями командования военно-морских сил заявил, что, если союзные войска высадятся на побережье Франции, они должны сразу же захватить какой-нибудь крупный порт — иначе десантная операция обречена на неудачу. Без регулярного пополнения парка боевой техники и запасов военного снаряжения они просто не смогут отразить контратаки вермахта. Но протяженность побережья Франции, Бельгии и Голландии была слишком велика, и германская строительная промышленность не располагала достаточным количеством производственных мощностей, чтобы построить здесь сплошную линию железобетонных оборонительных и обеспечивающих сооружений. Кроме того, у нас не было такого количества солдат, чтобы хотя бы частично укомплектовать гарнизоны стольких огромных укрепленных районов. Поэтому оставалось только окружить все более-менее крупные порты поясом боевых сооружений, а на протянувшихся между ними участках побережья возвести закрытые наблюдательные пункты. Гитлер предполагал, что пятнадцать тысяч блиндажей надежно укроют наших солдат от артиллерийского огня с вражеских кораблей, а затем они вступят в бой уже под открытым небом, ибо, по его мнению, отражение атаки противника с закрытых позиций
456
не позволяет в должной мере проявить стойкость и мужество. Гитлер вплоть до мельчайших подробностей разработал план строительства этих оборонительных сооружений и даже лично — преимущественно в ночные часы — создавал проекты отдельных опорных пунктов. Его эскизные рисунки поражали своей точностью. Гитлер не стеснялся хвалить сам себя и неустанно повторял, что его проекты — образец идеального отношения к потребностям фронтовиков. И действительно, командующий инженерными войсками практически не внес в них никаких коррективов.
Строительство велось такими стремительными темпами, что за неполных два года мы израсходовали 13 302 000 кубометров фортификационного бетона на общую сумму 3,7 миллиарда рейхсмарок и уменьшили запасы металла на военных заводах на 1,2 миллиона тонн. Но уже через две недели после высадки союзных войск оказалось, что одна-един- ственная гениальная техническая идея сделала эти огромные расходы совершенно бессмысленными. Вражеские солдаты установили прямо на берегу близ Арроманша разгрузочные платформы, смонтировали доставленные сюда по частям на кораблях другие портовые сооружения и обеспечили тем самым бесперебойную доставку на плацдарм боеприпасов, вооружения, продовольствия и новых армейских частей. Таким образом, нам пришлось уже в ходе боевых действий изменить весь план обороны.
Назначенный в конце 1943 года генеральным инспектором береговых укреплений Роммель проявил гораздо больше прозорливости. Сразу же после своего назначения он был вызван в ставку верховного главнокомандования в Восточной Пруссии. Гитлер долго беседовал с фельдмаршалом, а потом проводил его к своему бункеру, где у входа я дожидался приема. Казалось, здесь спор между ними разгорелся с новой силой, ибо Роммель без обиняков заявил Гитлеру: «Мы должны отбить уже первый десантный бросок. Опорные пункты вокруг портов для этого не подходят, зато если по всему побережью вбить колья, установить проволочные заграждения и прикрыть подходы к ним минными полями, то англичане и американцы сразу окажутся в очень затруднительном положении и наши контрмеры дадут нужный эффект». Роммель говорил рублеными фразами, в его голосе звучала решимость: «Если
457
это не удастся, никакой “Атлантический вал” их не остановит. В Триполи и Тунисе они под конец подвергли нас таким массированным бомбардировкам, что даже отборные войска были совершенно деморализованы. И если нам не удастся прекратить атаки с воздуха, мы вряд ли сумеем даже с помощью заграждений сдержать натиск врага». Он был очень вежлив с Гитлером, но держался несколько отстранен- но и почти демонстративно не называл его «мой фюрер». Для Гитлера Роммель был профессионалом высокого класса, способным, как никто другой, отразить атаки войск западных союзников. Лишь поэтому он так спокойно воспринял его критические замечания. Вместе с тем он, казалось, с нетерпением ждал момента, когда Роммель выскажет свой последний аргумент, так как затем сразу же заявил: «А сейчас я вам кое-что покажу, господин фельдмаршал».
Гитлер подвел нас к установленному на бронированной платформе на колесах 88-миллиметровому зенитному орудию. Солдаты продемонстрировали отменную выучку: ствол мгновенно вздымался к небу, а от колебаний при стрельбе его надежно предохраняли боковые крепежные устройства. «Сколько таких орудий вы сможете изготовить в ближайшие месяцы, господин Заур?» — спросил Гитлер и, услышав, что несколько сотен, успокоительным тоном сказал: «Запомните: эти орудия рассеют армады бомбардировщиков над нашими дивизиями». Видимо, Роммель подумал, что бессмысленно приводить какие-либо доводы человеку со столь дилетантскими суждениями. Во всяком случае, в ответ он только пренебрежительно и даже несколько сочувственно улыбнулся. Когда Гитлер заметил, что не смог внушить фельдмаршалу уверенность, то помрачнел, быстро попрощался с ним и поспешил вместе с Зауром и мной в свой бункер. Больше он ни словом не упомянул этот эпизод. Уже после успешно проведенной союзниками десантной операции Зепп Дитрих произвел на меня сильнейшее впечатление рассказом о том, как после следовавших один за другим массированных воздушных налетов его элитные дивизии утратили боевой дух. Уцелевшие солдаты находились в состоянии полнейшей апатии, плохо соображали и лишь через несколько дней начали постепенно приходить в себя.
458
6 июня я оказался в «Бергхофе», и около десяти часов утра один из адъютантов Гитлера сказал мне, что рано утром англо-американские войска высадились в Нормандии. «А фюрера разбудили?» Он покачал головой: «Нет, обо всех новостях ему докладывают за завтраком». Поскольку Гитлер в последние дни неоднократно заявлял, что противник намерен совершить отвлекающий маневр, а затем осуществить вторжение совсем в другом месте, никому не хотелось навлечь на себя обвинение в неверной оценке оперативной обстановки.
На состоявшемся через несколько часов совещании Гитлер, казалось, окончательно убедил себя в том, что враг пытается ввести его в заблуждение: «Вспомните: в одном из полученных нами сообщений точно указывались место, день и время проведения десантной операции. Именно поэтому я еще больше утвердился во мнении, что сейчас речь идет об отвлекающем маневре». Гитлер утверждал, что вражеская разведка подбросила эту информацию с целью заставить его раньше времени и не там, где нужно, бросить в бой свои дивизии. На самом деле ему передали абсолютно достоверные сведения, подтверждавшие к тому же его первоначальное предположение. Ведь ранее он считал наиболее вероятным местом высадки англо-американских войск именно Нормандию. Но теперь он почему-то решил, что его дезинформируют, и пересмотрел прежнюю точку зрения.
В предшествующие недели Гитлер получал противоречащие друг другу сведения о времени и месте высадки англо-американского десанта от яростно конкурирующих между собой разведывательных служб СС, вермахта и министерства иностранных дел. Как и во многих других областях, Гитлер и здесь взял на себя трудную даже для специалиста задачу определить, чья информация заслуживает наибольшего доверия и какая из этих разведок действительно смогла внедрить своих агентов в правительственные учреждения вражеских государств. В результате он начал откровенно иронизировать над их неспособностью сделать точный прогноз возможного развития событий и в конце концов даже начал утверждать, что секретные службы занимаются полнейшей ерундой: «Как вы полагаете, сколько этих якобы совершенно надежных агентов
459
уже перевербовано союзниками? Они умышленно подбрасывают нам дезинформацию. Я даже не буду передавать эти сведения в Париж. Не хочу излишне нервировать наши штабы».
Только к полудню был решен важнейший в тот день вопрос о вводе в бой войск из резерва штаба верховного командования во Франции. Без приказа Гитлера не могли быть произведены никакие перегруппировки войсковых частей, а фюрер долго упорствовал и крайне неохотно уступил настоятельным требованиям командующего Западным фронтом фельдмаршала Рундштедта. Из-за столь сильного промедления две танковые дивизии не удалось перебросить в ночь с 6 на 7 июня к созданному англо-американскими войсками плацдарму, а днем их подвергли таким мощным бомбовым ударам, что еще до соприкосновения с противником наши части понесли огромные потери в живой силе и технике.
Этот сыгравший, пожалуй, решающую роль в исходе военных действий день отнюдь не был отмечен бурными страстями. Даже в наиболее драматические моменты Гитлер старался сохранять спокойствие — генералы и офицеры полевого штаба следовали его примеру, любые проявления нервозности или беспокойства сочли бы здесь нарушением правил хорошего тона.
В последовавшие за тем дни и даже недели упорное отстаивание Гитлером своего ошибочного мнения дошло уже до абсурда. Он продолжал настаивать на том, что главный удар будет нанесен совсем в другом, уже покинутом нашими войсками районе. Командование военно-морских сил поддержало его, так как не считало этот участок побережья пригодным для проведения широкомасштабной десантной операции. Одно время Гитлер всерьез полагал, что более крупные силы союзников высадятся близ Кале, — то есть как бы требовал от противника признать свою правоту. Ведь именно там он еще в 1942 году приказал установить под бетонными колпаками снятые с военных кораблей тяжелые орудия. Этим объясняется и его отказ нанести контрудар частями дислоцированной неподалеку от Кале 15-й армии.
Гитлер ожидал высадки основного контингента войск союзников в прибрежной полосе от Кале до Шербура еще
460
и потому, что здесь были оборудованы двадцать пять стартовых позиций, предназначенных для ежедневного обстрела Лондона несколькими сотнями самолетов-снарядов. Гитлер предполагал, что противник в первую очередь намерен уничтожить пусковые установки. Он никак не ожидал, что союзники, высадившись в Нормандии, вскоре займут и эту часть Франции. Он рассчитывал, что в ходе тяжелых боев удастся если не сбросить первые эшелоны вражеского десанта в море, то хотя бы максимально сузить захваченный им плацдарм.
Гитлер и мы все надеялись, что «Фау-1» посеет страх и ужас во вражеском лагере, и сильно переоценили тактико-технические данные этих ракет. Правда, небольшая скорость самолетов-снарядов вызвала у меня сомнения в эффективности их применения. Я настоятельно рекомендовал Гитлеру осуществлять запуск только при низкой облачности, но он не пожелал прислушаться к моему мнению и приказал срочно начать массированный ракетный обстрел тыловых районов Англии. Когда же 12 июня в лихорадочной спешке был произведен запуск «Фау-1», то лишь десять крылатых ракет взмыли в воздух и только пять из них достигли Лондона. Гитлер сразу же забыл, что именно он настаивал на их немедленном боевом применении, и на одном из оперативных совещаний обрушился с резкими нападками на создателей нового оружия. Геринг тут же поспешил возложить вину на своего соперника Мильха, и Гитлер вознамерился было отдать приказ о прекращении производства этих, как он выразился, «совершенно никчемных самолетов-снарядов». Но тут начальник отдела печати показал ему вышедшие под сенсационными заголовками сообщения лондонских газет о причиненных «Фау-1» разрушениях. Как выяснилось впоследствии, эти данные были сильно преувеличены, и Гитлер мгновенно передумал и потребовал, напротив, увеличить выпуск крылатых ракет. Геринг тут же заявил, что командование военно- воздушных сил и он лично всемерно поддерживали это «поистине выдающееся достижение технической мысли», и больше ни разу не упомянул о Мильхе, которого собирался сделать козлом отпущения.
До вторжения Гитлер неоднократно подчеркивал, что после его начала будет лично руководить военными операциями
461
на территории Франции. С этой целью миллионы марок были израсходованы на прокладывание на многие сотни километров телефонных кабелей, а рабочие «организации Тодта» трудились день и ночь и наконец возвели оборудованные всем необходимым железобетонные бункеры, предназначенные для размещения двух штаб-квартир Гитлера. Теперь же, когда стало ясно, что из Франции придется уйти, он оправдывал эти колоссальные расходы тем, что бункеры одной из ставок находятся прямо на будущей западной границе Германии и их вполне можно использовать как оборонительные сооружения. 17 июня он осмотрел свою вторую, расположенную близ Суассона, штаб-квартиру под кодовым названием «В-2» и в тот же день вернулся в Обер- зальцберг. «У Роммеля сдали нервы, он впал в уныние, — раздраженно заявил Гитлер. — А в наши дни, если хочешь чего-то достигнуть, нужно быть оптимистом». После этих слов судьба Роммеля была предрешена. Гитлер все еще был уверен, что противнику не удастся сколько-нибудь заметно расширить плацдарм. Его гораздо больше волновала другая проблема. С тревогой в голосе он сказал мне, что во Франции полным-полно партизанских отрядов, так что «В-2» не очень-то надежна.
Продвижение союзных войск почти совпало по времени с начавшимся 22 июня мощным наступлением Красной армии, которое вскоре привело к сокрушительному разгрому двадцати пяти немецких дивизий. Советские войска неудержимо продвигались вперед. В эти дни, когда рушились Западный и Восточный фронты, а противник добился полного господства в воздухе, Гитлер проявил не только самообладание, но и поразительное упорство. За долгие годы борьбы за власть ему пришлось претерпеть немало неудач, и они, вероятно, укрепили его волю.
Может быть, в так называемый период борьбы с режимом он понял, что, когда рядом присутствуют люди из твоего окружения, на лице не должно быть никаких признаков тревоги. Гитлер вызывал у них восхищение своей способностью сохранять спокойствие даже в самые критические моменты. Несомненно, они так безоговорочно принимали решения Гитлера потому, что полностью доверяли ему. Очевидно, Гитлер всегда сознавал, что взоры множества людей устремлены на него и многие из них впадут
462
в отчаяние, если он хоть на мгновение потеряет выдержку. Но сохранение самообладания требовало неимоверных волевых усилий: он желал, чтобы над ним не были властны ни годы, ни болезнь, ни принимаемые ежедневно по рецепту Моррелля сильнодействующие средства, ни бремя непрерывно возрастающих нагрузок. Иногда я замечал в нем сходство с шестилетним ребенком, который без устали способен бегать и резвиться и которого ничто не может вывести из себя; порой Гитлер даже казался смешным, но все равно невольно внушал уважение своим поведением.
Одной лишь неукротимой энергией невозможно объяснить этот феномен — ведь Гитлер излучал оптимизм и демонстрировал несокрушимую уверенность в победе, когда поражения следовали одно за другим. В тюрьме Функ объяснил мне, почему ему так ловко удавалось вводить врачей в заблуждение относительно истинного состояния своего здоровья. Оказывается, он просто верил своим словам. Функ добавил, что этот тезис лежал в основе геббель- совской пропаганды. Непреклонную решимость Гитлера я также могу объяснить тем, что он заставил себя поверить в неизбежность победы. В каком-то смысле он преклонялся перед самим собой. Он все время как бы держал перед собой зеркало, в котором видел не только себя, но и провидение, всякий раз подтверждавшее его правоту.
Он верил не в Бога, а в счастливый случай и поэтому умел внушить себе надежду, и, чем безысходней становилась ситуация, тем решительнее он противопоставлял событиям веру в свою судьбу. Разумеется, при разработке военных операций он мыслил достаточно трезво, но соотносил их ход с истовой верой в себя и ухитрялся даже в поражении различать контуры ниспосланной провидением грядущей победы. Иногда он, правда, сознавал безнадежность положения, но оставался непоколебим в своей уверенности, что судьба в последний момент вмешается и изменит ситуацию в его пользу. Гитлер действительно был не вполне нормален, но выражалось это лишь в его непоколебимой вере в свою звезду.
Одержимость Гитлера не могла не оказать воздействия на его окружение. Где-то в подсознании я, конечно, понимал, что конец уже близок, и тем не менее, когда речь заходила о таком ограниченном участке, как моя непосредственная
463
сфера деятельности, продолжал призывать к «восстановлению объектов производства военной продукции». Во мне как бы уживались сознание неотвратимости поражения и вера в возможность иного исхода.
Когда я на очередном проходившем в Линце 24 июня 1944 года совещании, несмотря на наше тройное поражение, попытался было внушить присутствующим оптимизм, то потерпел полное фиаско. Ныне я порой просматриваю текст моей тогдашней речи и всякий раз поражаюсь собственному безрассудству. Ведь я стремился убедить серьезных людей в том, что достаточно напрячь все силы — и еще можно будет переломить ситуацию. В конце речи я даже уверенным голосом заявил, что в нашей сфере кризис уже почти полностью преодолен и что в будущем году мы добьемся такого же прироста производства вооружений, как и в нынешнем. Меня тогда вдруг неудержимо понесло, и я высказал предположения, которые моим слушателям наверняка показались чистейшей воды утопией.
Мы и на самом деле смогли в ближайшие месяцы увеличить выпуск военной продукции. Но разве я не показал себя реалистически мыслящим человеком, когда наряду с этим направил Гитлеру целую серию меморандумов, в которых прямо предупреждал его о надвигающейся катастрофе? Такой разрыв между разумом и верой был, вероятно, присущ каждому, кто входил в близкое окружение Гитлера.
Свое выступление я завершил вполне банальной фразой, в которую, однако, вложил довольно глубокий смысл: «Мы будем и дальше выполнять свой долг, чтобы спасти и сохранить немецкий народ». Тем самым я как бы публично признал, что для меня есть нечто более дорогое, чем преданность Гитлеру и его делу. Именно это хотели услышать промышленники, и именно этого добивался от меня в апреле Роланд. С тех пор я постоянно вспоминал его слова и наконец понял, что передо мной стоит задача, для решения которой действительно стоит приложить все свои силы.
Но факт остается фактом: я не смог убедить руководителей крупных промышленных объединений в своей правоте. И сразу же после своего выступления и в последующие дни мне довелось услышать немало горьких слов, проникнутых ощущением полнейшей безысходности. За десять дней до этого Гитлер обещал мне лично выступить перед
464
промышленниками, и я очень надеялся, что после его речи у них поднимется настроение.
Еще до войны Гитлер приказал Борману построить близ «Бергхофа» гостиницу, чтобы те, кого привело сюда стремление увидеть фюрера, могли перекусить или даже переночевать по соседству с ним. В ресторанном зале «Платтен- хофа» 26 июня собрались около ста представителей военной промышленности. Еще во время совещания я пришел к выводу, что они крайне отрицательно относятся к усилению влияния партийного аппарата в экономической жизни. И в самом деле, судя по всему, среди партийных функционеров сильно возросло количество поборников своего рода «государственного социализма». Их намерения передать в ведение гаулейтеров находившиеся в собственности государства предприятия уже частично увенчались успехом. Над подземными заводами, которые были построены на средства государства, но весь руководящий персонал, квалифицированных рабочих и оборудование для которых выделили частные фирмы, в первую очередь нависла угроза после войны полностью оказаться под государственным контролем. Порожденная войной и доказавшая к тому же свою эффективность система управления промышленностью вполне могла стать основой зиждущегося на идее государственного социализма экономического устройства, и поэтому чем больших успехов добивались наши промышленники, тем глубже они своими руками рыли себе могилу.
Я попросил Гитлера успокоить их и в своей речи непременно отразить этот момент. Тогда он потребовал сформулировать основные положения его доклада. В представленных мною тезисах подчеркивалась необходимость твердо пообещать руководителям включенных в наш военно-промышленный комплекс фирм, что в предстоящие трудные времена им будет оказана поддержка и что их защитят от посягательств местных партийных инстанций. Далее я предлагал недвусмысленно заявить, что «временный переход подземных заводов в разряд государственных предприятий ни в коем случае не означает отказа от принципа неприкосновенности частной собственности» и что «даже не может быть и речи о каком-либо регулировании экономики и огосударствлении промышленности».
465
В своем выступлении Гитлер строго придерживался моих тезисов, но держался довольно скованно и произвел весьма невыгодное впечатление. Он часто запинался, обрывал фразы на полуслове, иногда никак не мог вникнуть в смысл произносимых им слов и тогда замолкал и с растерянным видом шарил глазами по залу. Для всех присутствующих речь Гитлера явилась ярчайшим свидетельством его полного душевного и физического истощения. Именно в тот день положение на Западном фронте резко ухудшилось и стало ясно, что Шербур нам уже не удержать. Захват первого крупного французского порта союзниками означал, что теперь они могут полностью обеспечить потребности своих войск в вооружении и боевой технике. Это, естественно, значительно повысило их боеспособность.
Мы не понимали, почему в такой напряженный момент Гитлер вдруг решил поделиться с нами своими сумбурными взглядами на ход исторического развития. Он долго и путано рассуждал о том, что «создатель не только творит, но и берет сотворенное им под свою опеку. В этом суть и истоки такого явления, которое мы обозначаем такими терминами, как “частный капитал”, “частное владение” или “частная собственность”. Вопреки утверждениям коммунистов процесс развития человечества завершится не претворением в жизнь их идеала всеобщего равенства, то есть коммунизмом, но, напротив, именно потому, что одни добьются чего-то в жизни, а другие нет, первые в конце концов неизбежно возьмут под свою опеку последних...»
По его мнению, «единственно возможной предпосылкой для продвижения человечества на пути к своему процветанию является всемерное поощрение частной инициативы. И если эта война завершится нашей победой, для германской экономики наступит период расцвета частного предпринимательства. Не верьте, что я собираюсь создавать какие-либо органы государственного управления экономикой... Как только наступит мир, я тут же предоставлю полную свободу действий выдающимся деятелям германской экономики и буду внимательно прислушиваться к их советам... Лишь благодаря вам мне вообще удается решать порожденные войной проблемы. В знак моей бесконечной благодарности я обещаю, что никогда не забуду ваших заслуг и что не найдется ни одного немца, который обвинит
466
меня в невыполнении взятых на себя обязательств. Это означает: если я обещаю вам, что после войны наступит невиданный период расцвета германской экономики, то следует очень серьезно отнестись к моим словам. Они непременно сбудутся».
На протяжении всей скомканной и путаной речи Гитлера почти не разу не прозвучали аплодисменты. Нас всех словно палкой по голове ударили. Возможно, желание испугать промышленников перспективами, которые их ожидают в случае поражения Германии, побудило Гитлера произнести следующие слова: «Не подлежит сомнению, что если мы проиграем войну, то придется навсегда забыть об экономике, основанной на частной собственности. Ведь истребление германского народа, естественно, повлечет за собой полный крах германской экономики. И не только потому, что противнику не нужны конкуренты, — это слишком поверхностная оценка ситуации. Нет, речь идет о наших принципиальных разногласиях с ним. От исхода войны зависит, какая из двух точек зрения победит: или мы будем отброшены на несколько тысячелетий назад и вернемся, по сути дела, в первобытное состояние — ведь государство будет тогда регулировать всю производственную деятельность, — или же человечество будет и дальше развиваться естественным путем через поощрение частной инициативы».
Через несколько минут он снова вернулся к этой мысли: «В случае поражения вам, господа, незачем будет заниматься перестройкой экономики на мирный лад. Ибо каждому из нас придется решать для себя проблему ухода в мир иной: сделает ли он это своими руками, даст себя повесить, предпочтет умереть от голода или же согласится отправиться на каторжные работы в Сибирь — ни о чем больше ему тогда не придется размышлять». Эту фразу Гитлер произнес чуть ли не с издевкой, он не скрывал своего презрения к «трусливым бюргерам». Промышленники, безусловно, почувствовали себя оскорбленными, и хотя бы уже поэтому тщетными оказались мои надежды на благотворное воздействие на них речи Гитлера.
То ли фюрера смущало присутствие Бормана, то ли начальник партийной канцелярии сумел соответствующим образом настроить его, — во всяком случае, заявление Гитлера
467
об отказе от усиления регулирующей роли государства в сфере экономики прозвучало довольно невнятно. Тем не менее я решил, что его речь следует сохранить для нашего архива. Гитлер тут же пообещал записать ее на пленку и попросил меня внести в текст соответствующие коррективы. Я выполнил просьбу Гитлера, и, когда через какое-то время напомнил ему о его обещании, он как-то очень уклончиво ответил, что намерен сам обработать текст.
25
Неверные расчеты. «Чудо-оружие» и СС
Чем хуже становилась ситуация, тем реже Гитлер прислушивался к противоречащим его мнению аргументам. Он показал себя еще большим деспотом, чем прежде. Его упорство в отстаивании собственной ошибочной точки зрения роковым образом сказалось на разработках наиболее эффективного образца нашего «чудо-оружия» — оснащенного двумя реактивными двигателями истребителя «Ме-262», скорость которого превышала 800 километров в час: ни один вражеский самолет не мог сравняться с ним в скороподъемности.
Еще в 1941 году на испытательном аэродроме авиационного завода Хейнкеля в Ростоке мне довелось услышать адский рев одного из первых реактивных двигателей. Его создатель, профессор Эрнст Хейнкель, настаивал на скорейшем внедрении в производство этого поистине эпохального изобретения. Во время проходившего в сентябре 1943 года выездного совещания на центральном испытательном аэродроме ВВС в Рехлине Мильх молча показал мне телеграмму с приказом Гитлера немедленно прекратить подготовку серийного выпуска «Ме-262». Мы, правда, решили игнорировать приказ. Однако темп работ по изготовлению реактивного истребителя замедлился, так как их уже нельзя было отнести к первоочередным задачам авиационной промышленности.
Через несколько месяцев — 7 января 1944 года — Мильха и меня срочно вызвали в ставку. Оказывается, Гитлер ознакомился с выдержками из сообщений английской прессы,
468
в которых говорилось о близком завершении испытаний самолета сверхскоростного типа, и резко изменил отношение к нашим планам. Теперь он требовал как можно скорее наладить выпуск «Ме-262». Но в последнее время этой проблеме не уделялось должного внимания, и мы смогли лишь пообещать, что с июня 1944 года наши военно-воздушные силы будут получать ежемесячно шестьдесят реактивных истребителей, а с января 1945 года их число возрастет до двухсот десяти.
Уже тогда Гитлер дал понять, что намерен переделать «Ме-262» в быстроходный бомбардировщик. Этим он обескуражил специалистов из министерства авиации. Они, однако, полагали, что несколько позже Гитлер все-таки прислушается к их разумным доводам. Добились они совершенно противоположного результата. Гитлер еще более настойчиво потребовал для увеличения бомбовой нагрузки убрать все бортовое вооружение, так как, дескать, вражеские истребители все равно не смогут догнать реактивный самолет. Он вообще очень недоверчиво отнесся к новому изобретению и даже потребовал, чтобы на большой высоте «Ме-262» летал только прямо, иначе корпус и двигатель могут не выдержать.
Применение бомбардировщика с незначительной бомбовой нагрузкой в 500 килограммов и сработанным по упрощенной схеме прицелом дало совершенно ничтожный эффект. Но если бы «Ме-262» сразу же начали использовать как истребитель, то американцы недосчитались бы множества своих четырехмоторных бомбардировщиков.
В конце июня 1944 года Геринг и я вновь напрасно попытались переубедить Гитлера. Тем временем «Ме-262» прошел все испытания, и летчики истребительной авиации настаивали на использовании его для защиты немецких городов. Гитлер в ответ недолго думая привел следующий аргумент: физическая нагрузка на летчиков-истребителей значительно возрастает из-за виражей и быстрой смены уровней высоты, и поэтому «Ме-262» из-за своей огромной скорости в воздушном бою оказывается в невыгодном положении по сравнению с вражескими истребителями. И уж если Гитлер внушил себе эту мысль, все попытки убедить его в том, что потолок высоты «Ме-262» недосягаем для американских истребителей, были заранее обречены на неудачу.
469
И чем настойчивее уговаривали его, тем упорнее он не желал пересматривать свою точку зрения и лишь утешал нас заверениями, что в недалеком будущем, разумеется, даст согласие на использование «Ме-262» в качестве истребителя.
Было разработано несколько модификаций этого самолета, и Гитлер своим приказом внес сумятицу в умы представителей высшего командного состава, так как они рассчитывали с помощью «Ме-262» добиться коренного перелома в воздушной войне. Кто только не пытался переубедить Гитлера: Йодль, Гудериан, Модель, Зепп Дитрих и, конечно же, генералы авиации. Последние особенно активно оспаривали совершенно дилетантское решение Гитлера. Кончилось все тем, что они навлекли на себя его гнев: Гитлер чувствовал, что военачальники в каком-то смысле сомневаются в его военных способностях и компетенции. Осенью 1944 года он вообще решил подвести итог спорам и рассуждениям и категорически запретил дальнейшие дебаты на эту тему.
Когда я сообщил по телефону новому начальнику Генерального штаба военно-воздушных сил Крейпе, что собираюсь, несмотря на запреты, в середине сентября представить Гитлеру меморандум с изложением своей позиции, он настоятельно посоветовал мне вообще не касаться этой проблемы. По словам Крейпе, одно лишь упоминание о «Ме-262» способно привести Гитлера в ярость и он наверняка подумает, что мое выступление инициировано командованием военно-воздушных сил. Но я пренебрег просьбой генерала и, сославшись на мнение офицеров не только ВВС, но и сухопутных войск, еще раз заявил Гитлеру, что при нынешнем положении на фронтах было бы грубейшей ошибкой переделывать реактивный истребитель в бомбардировщик. Гитлер не пожелал прислушаться к моему голосу, и я, поняв тщетность всех усилий, решил не заниматься больше делами, не входящими непосредственно в сферу моей компетенции, а вернуться к исполнению своих прямых обязанностей.
В 1944 году мы намеревались приступить к серийному производству не только реактивных самолетов, но и других видов новейшей боевой техники, среди которых следует
470
в первую очередь назвать управляемый по радио самолет-ракетоносец и самонаводящуюся элекгроторпеду. Была также закончена разработка проекта ракеты класса «земля — воздух».
В конце концов мы поняли, что нужно не разбрасываться, а выбрать наиболее значимые проекты и сосредоточить все усилия на их осуществлении. Представители соответствующих ведомств договорились в дальнейшем не столько способствовать созданию все новых и новых образцов вооружения, сколько отбирать самые перспективные с точки зрения наших реальных возможностей конструкторские разработки и активно внедрять их в производство.
И опять же именно по вине Гитлера союзники, несмотря на множество тактических ошибок, смогли добиться в 1944 году существенных успехов в воздушной войне. Гитлер не только препятствовал проведению опытно-конструкторских работ по созданию реактивного истребителя, но и поставил перед собой цель жестоко покарать Англию с помощью ракет дальнего радиуса действия. В конце июля 1943 года по его приказу многие производственные мощности были использованы для массового выпуска баллистических ракет «Фау-2» длиной четырнадцать метров и весом свыше тринадцати тонн. Предполагалось ежедневно обстреливать Англию двадцатью четырьмя ракетами, каждая из которых несла боевой заряд мощностью в одну тонну. В общей сложности это соответствовало бомбовой нагрузке шести «летающих крепостей». Для сравнения укажем, что в 1944 году ежедневно 4100 вражеских четырехмоторных бомбардировщиков сбрасывали на города Германии тридцать пять тысяч тонн бомб. Как говорится, комментарии излишни.
Я не только согласился с этим решением Гитлера, но и горячо поддержал его и тем самым совершил одну из своих самых серьезных ошибок за время деятельности на посту министра вооружений. Нам следовало бы бросить все силы и средства на производство ракеты класса «земля — воздух». Ведь если бы мы сосредоточили усилия талантливых специалистов и технического персонала руководимого Вернером фон Брауном научно-исследовательского центра в Пене- мюнде на доработке этой получившей кодовое название «Вассерфаль» зенитной ракеты, то уже в 1942 году могли бы приступить к ее крупносерийному выпуску.
471
От самонаводящейся ракеты — длина восемь метров, вес боевого заряда около трехсот килограммов, потолок высоты пятнадцать тысяч метров — не мог уйти практически ни один вражеский бомбардировщик. Запуск ее можно было производить как днем, так и ночью, невзирая на облачность, мороз или туман. И уж если мы могли позднее ежемесячно выпускать девятьсот «Фау-2», то наверняка бы сумели производить в месяц несколько тысяч требующих гораздо меньше затрат зенитных ракет. Я до сих пор убежден, что с помощью этих ракет и реактивных истребителей уже весной 1944 года можно было надежно оградить наши промышленные объекты от воздушных налетов, Гитлер же предпочел израсходовать огромные средства на создание баллистических ракет. Осенью 1944 года окончательно выяснилось, что наш самый дорогостоящий проект оказался одновременно и самым бессмысленным. К сожалению, честолюбие и желание поскорее добиться результата побудили меня оказать содействие осуществлению этой программы. За время пребывания на министерском посту это была, пожалуй, моя единственная кардинальная ошибка. Не в последнюю очередь именно по этой причине мы так и не смогли добиться коренного перелома в воздушной войне.
Зимой 1939/40 года я установил тесный контакт с сотрудниками ракетного центра в Пенемюнде. Сперва я разрабатывал для них только строительные проекты. Мне очень нравилось общаться с группой молодых, далеких от политики ученых, которую возглавлял реально мыслящий и привыкший смотреть далеко вперед Вернер фон Браун. Сложилась весьма непривычная ситуация: нескольким молодым и еще неопытным людям поручили претворить в жизнь проект стоимостью в сотни миллионов марок. К тому же тогда казалось, что осуществить его можно лишь в очень отдаленной перспективе. По-отечески заботливый полковник Вальтер Дорнбергер избавил специалистов от бюрократических препон и создал все условия для разработки ими на первый взгляд совершенно утопических идей.
После первого знакомства я сразу же проникся симпатией к Вернеру фон Брауну и его окружению: тогда мне казалось, что они вознамерились совершить чудо. Я старался как можно чаще приезжать в Пенемюнде, и всякий раз
472
эти романтики-рационалисты производили очень сильное впечатление. Я чувствовал в них родственные души. Довольно скоро мне представился случай на деле доказать свою симпатию к ним. Поздней осенью 1939 года Гитлер лишил проект создания ракетного оружия приоритетной категории, что автоматически означало значительное сокращение ассигнований, отзыв рабочих со строящихся объектов и перебои в снабжении необходимыми материалами. Я же, напротив, делал вид, что ничего не произошло, и не стал испрашивать особого разрешения у Управления вооружений сухопутных войск, а просто с его молчаливого согласия продолжал возводить нужные сооружения в Пенемюнде. Любому другому такая строптивость, наверное, дорого бы обошлась.
И если после назначения на пост министра я еще больше заинтересовался ракетной программой, то Гитлер по-прежнему относился к ней довольно скептически: он испытывал инстинктивное недоверие к любым нетрадиционным видам вооружений. Кругозор Гитлера в этой области был ограничен сложившимися в годы Первой мировой войны представлениями. Реактивные истребители, атомная бомба и ракеты пролагали дорогу в неведомый и страшный для него мир.
13 июня 1942 года отвечавшие за производство вооружения для трех родов войск вермахта фельдмаршал Мильх, генерал-адмирал Витцель и генерал-полковник Фромм вылетели вместе со мной в Пенемюнде, чтобы присутствовать на таком знаменательном событии, как первый запуск баллистической ракеты. На раскинувшейся посреди соснового леса поляне возвышалось конусообразное сооружение высотой с четырехэтажный дом. Не только мы, но и весь научный персонал ракетного центра, затаив дыхание, ждали результата. Я понимал, что Вернер фон Браун и его сотрудники все свои надежды связывали с удачным запуском ракеты, и вместе с тем сознавал, что они не столько стремились создать еще один новейший образец боевой техники, сколько заботились об ускорении научно-технического прогресса.
Воздух был насыщен спиртовыми парами — верный признак того, что баки с горючим заполнены. Послышался постепенно нарастающий, похожий на рев огромного
473
дикого зверя гул. Ракета медленно оторвалась от опоры, на какую-то долю секунды застыла в воздухе, словно опираясь на тянувшийся за ней огненный шлейф, а затем мгновенно скрылась в низко нависших над землей облаках. Лицо Вернера фон Брауна сияло от счастья, а я все никак не мог прийти в себя, пораженный той легкостью, с какой создатели этого шедевра технической мысли фактически отменили действие всех гравитационных законов. Ведь ракета, совершившая с огромной скоростью вертикальный взлет без всякого носителя, весила тринадцать тонн.
Специалисты принялись было объяснять нам, на какую высоту она поднялась, но уже через полторы минуты вновь послышался дикий рев, а затем грохот взрыва. Как оказалось, ракета упала на землю примерно в километре отсюда. Выход из строя системы управления никак не повлиял на превосходное настроение Вернера фон Брауна. Он по-прежнему от души радовался удачному взлету ракеты, ибо это, по его мнению, означало решение основной проблемы.
14 октября 1942 года я попытался окончательно развеять сомнения Гитлера и сообщил ему, что состоялся второй запуск ракеты, которая преодолела положенные сто девяносто километров и поразила район расположения цели. Отклонение от объекта поражения составило всего лишь четыре километра. Впервые летательному аппарату удалось приблизиться к просторам Вселенной, и мне показалось, что мы заметно приблизились к осуществлению вековой мечты человечества. Теперь Гитлер также проявил бурный интерес к ракетному проекту и, как обычно, не соизмерив свои желания с действительностью, потребовал изготовить для первого боевого применения не менее пяти тысяч ракет.
Мне же теперь предстояло заняться подготовкой производственных площадей. Приступить к серийному производству баллистических ракет можно было не ранее второй половины будущего года, но уже 22 декабря я представил Гитлеру на подпись соответствующий приказ в надежде, что к июлю 1943 года в моем распоряжении уже будет вся необходимая техническая документация.
Мой расчет полностью оправдался, и 7 июля 1943 года я от имени Гитлера пригласил руководителей ракетного центра приехать в ставку. По прибытии туда я дождался окончания оперативного совещания и вместе с Гитлером
474
отправился в кинозал, где сотрудники Вернера фон Брауна уже развесили по стенам схемы и стенограммы. После краткого вступительного слова погас свет, застрекотал киноаппарат и началась демонстрация привезенного из Пенемюнде цветного фильма. Красочное зрелище заворожило Гитлера, он не отрываясь смотрел на экран и даже замер, когда увидел, как ракета плавно взмыла в воздух и устремилась в стратосферу. Затем Вернер фон Браун без малейшей робости в голосе и с каким-то даже юношеским задором изложил Гитлеру свои планы и полностью завоевал его расположение. Пока Дорнбергер рассказывал об организационных проблемах, я предложил Гитлеру присвоить Вернеру фон Брауну звание профессора. «Согласен! — радостно воскликнул он. — Пусть Мейснер подготовит указ, и я лично подпишу его».
Гитлер на редкость тепло распрощался со специалистами ракетного центра и по возвращении в свой бункер пришел в полное упоение от открывшихся ему перспектив: «“А-4” решит исход войны в нашу пользу. Как только мы подвергнем англичан массированному ракетному удару, они тут же прекратят бомбить наши города. Мы избавим тружеников тыла от бед и страданий! К тому же производство такого мощного оружия не требует значительных затрат. Вы, Шпеер, обязаны всемерно содействовать крупносерийному выпуску “А-4”. Я, правда, собирался подписать приказ о начале осуществления новой программы производства танков, но теперь изменил свое решение. Ракетное оружие дальнего радиуса действия имеет гораздо более важное значение. Но владеть им должны только немцы. Если за рубежом узнают о нем, нам останется лишь уповать на милость Божью».
Когда мы остались вдвоем, он начал расспрашивать меня о возрасте Вернера фон Брауна: «Неужели ему двадцать восемь лет? Выглядит он гораздо моложе». Впрочем, он был очень удивлен тем, что такой молодой человек способен развивать идеи, которые могли изменить облик будущего. Позднее, поясняя свою мысль, Гитлер утверждал, что в наш век люди бессмысленно растрачивают лучшие годы, в то время как Александр Великий в двадцать три года покорил могучую державу, а Наполеон в тридцать лет показал себя гениальным полководцем. Он явно намекал на
475
Вернера фон Брауна, который в Пенемюнде действительно добился уникальных технических достижений.
Осенью 1943 года выяснилось, что мы поторопились с обнадеживающими прогнозами. В июле мы так и не получили макеты и чертежи и не смогли выполнить свое обещание приступить вскоре к серийному производству ракет. К тому же после начала экспериментальных пусков «Фау-2» с боеголовками большинство из них по непонятной причине взрывалось в конце траектории, не долетая до земли. Поэтому в своем выступлении перед высшими партийными руководителями 6 октября 1943 года я призвал их не рассчитывать на «боевое применение в ближайшее время нового оружия», так как сложное оборудование баллистических ракет не позволяет быстро перейти от штучного изготовления к серийному производству.
Только в сентябре 1944 года на Англию обрушились первые ракеты «Фау-2». Но не пять тысяч, как предрекал Гитлер, а всего лишь двадцать пять в течение девяти дней. Ни о каком массированном ракетном ударе не могло быть и речи.
Стоило Гитлеру высказать свое восхищение проектом создания «Фау-2», как Гиммлер тут же развил бурную деятельность и через шесть недель предложил фюреру оградить разработки этого якобы решающего исход войны оружия от происков вражеских разведок самым простым и надежным способом. Производство всех его компонентов и узлов следовало сосредоточить в полностью отрезанных от внешнего мира концлагерях, где заключенным было запрещено переписываться с родственниками и знакомыми. Гиммлер даже обещал набрать из их числа необходимое количество квалифицированных рабочих и заявил, что от промышленных предприятий потребуется только предоставить в его распоряжение управленческий и инженерный персонал. Гитлер поддержал эту идею, а нам с Зауром не оставалось ничего другого, как согласиться с ним, — у нас просто не было убедительных аргументов в пользу иного варианта.
В итоге нам пришлось начать с руководством СС переговоры о создании совместного предприятия «Миттельверке». Мои сотрудники очень неохотно взялись за выполнение
476
этой задачи, и, как оказалось, их опасения были вполне оправданны. Формально мы сохранили контроль над производственными процессами, но все споры неизменно завершались победой обладавших гораздо большими возможностями руководителей СС. Образно выражаясь, Гиммлер как бы вставил ногу между порогом и нашей дверью, и теперь мы сами помогали ему открыть ее.
У меня уже был горький опыт сотрудничества с рейхсфюрером СС. Каждому располагавшему обширными связями или пользовавшемуся особым доверием Гитлера рейхсминистру он, как правило, присваивал почетное генеральское звание СС. Меня он также собрался удостоить высокой чести, и если бы я согласился, то носил бы звание оберст- группенфюрера СС, которое соответствовало чину генерал-полковника. Но я предпочел отказаться и в самых изысканных выражениях сообщил Гиммлеру, что командование сухопутных войск, руководство СА и Национал-социалистского автомобильного корпуса уже безуспешно пытались присвоить мне различные почетные звания. Чтобы подсластить пилюлю, я напомнил ему, что в свое время вступил в мангеймский отряд СС — я даже не предполагал, что не был формально зачислен в его ряды.
Разумеется, Гиммлер удостаивал такое количество высших должностных лиц генеральскими званиями СС с целью укрепить свое влияние и распространить его на не имевшие к нему никакого отношения сферы их деятельности. Я имел все основания не доверять Гиммлеру, так как рейхсфюрер СС вовсе не отказался от намерений в той или иной степени подчинить себе органы управления военной промышленности и уже в 1942 году принялся оказывать давление на некоторых моих сотрудников. Он явно стремился увеличить число концлагерей и перебазировать на их территорию производственные мощности военных заводов. Фромм сразу же обратил мое внимание на опасность, которую таили в себе предложения Гиммлера. Вскоре выяснилось, что Гитлер также полностью на моей стороне. Еще до войны я имел неосторожность разместить заказы на принадлежавших СС кирпичных заводах и мастерских по обработке гранита и с тех пор старался не иметь с ними никаких дел. 21 сентября Гитлер разрешил конфликт в мою
477
пользу и приказал направлять заключенных на военно-промышленные предприятия; Гиммлеру пришлось хотя бы на время умерить свои притязания.
Вначале директора заводов жаловались, что заключенные поступают к ним в совершенно изможденном состоянии и уже через несколько месяцев их приходится отправлять обратно в лагерь. На приобретение определенных профессиональных навыков им требовалось как минимум две недели; мастеров, способных обучить их, катастрофически не хватало, и мы просто не могли позволить себе каждые несколько месяцев повторять заново весь процесс обучения. После неоднократных жалоб командиры подразделений войск СС, охранявших заключенных, получили приказ содержать их в более-менее сносных условиях и увеличить нормы выдачи продовольствия. Вскоре я предпринял ряд инспекционных поездок по военным заводам и сразу же обратил внимание на сытые и довольные лица работавших там заключенных.
Через год, однако, ситуация изменилась, и Гитлер решил в дальнейшем передать производство ракет в ведение СС.
В течение многих лет в недрах входящей в Гарцский массив горы Конпггейн производились разработки известняка. Перед войной в проложенном сквозь нее туннеле с несколькими десятками перпендикулярных выработок был устроен склад стратегически важных химических веществ. 10 декабря 1943 года я осмотрел уже расширенные штольни, в которых предполагалось наладить производство «Фау-2». Заключенные устанавливали на уже забетонированном полу станки и прокладывали вдоль стен провода. Они безучастно смотрели куда-то сквозь меня и сжимали в ладонях поспешно сорванные с головы сшитые из голубого тика береты.
Мне никогда не забыть профессора из Пастеровского института в Париже, который выступал со свидетельскими показаниями на Нюрнбергском процессе. Он был одним из тех узников концлагерей, которых направили на этот ракетосборочный завод. Ровным, спокойным голосом он рассказывал о царивших на «фабрике смерти» нечеловеческих условиях. О своих мучителях он говорил не столько с ненавистью, сколько с удивлением, не понимая, видимо, что могло превратить их в таких извергов.
478
На шоковый эффект от посещения лагеря указывает и намеренно завуалированная фразеология записи в журнале моей канцелярии от 10 декабря 1943 года: «Утром 10 декабря министр отправился инспектировать новый завод в горах Гарц. Выполнение этой тяжелой задачи потребовало от руководителей всех сил без остатка. На некоторых посещение так подействовало, что их пришлось заставить уйти в отпуск для восстановления нервной системы».
При воспоминаниях о событиях тех лет меня всякий раз охватывает чувство вины. Ведь в тот день со слов надзирателей я уже узнал, что узники дышали отравленным воздухом, что им приходилось спать на голом, сыром каменном грунте и что смертность среди них поэтому была очень высока. Я, правда, тут же распорядился немедленно построить на склоне соседней горы деревянные бараки для заключенных и выделил для этого необходимое количество материалов. В остальном же я ограничился тем, что потребовал от коменданта лагеря и его подчиненных немедленно улучшить условия содержания узников и выдавать им двойной паек. Они заверили меня, что выполнят все мои указания.
Я успокоился и целый месяц не уделял должного внимания этой проблеме. И лишь когда 13 января 1944 года отвечавший за медицинское обслуживание сотрудников всех подразделений моего министерства доктор Пошман в самых мрачных тонах описал мне ситуацию на ракетосборочном заводе «Митгельверке», я немедленно направил туда одного из своих начальников управлений. Одновременно и Пошман принял соответствующие меры. К сожалению, через несколько дней я тяжело заболел, и многие наши начинания оказались из-за этого неосуществленными. Тем не менее 26 мая Пошман доложил мне об отправке не состоящих на военной службе врачей в трудовые лагеря. Разумеется, нам тут же стали чинить препятствия. Еще в тот же день я получил от Роберта Лея выдержанное в чрезвычайно грубом тоне послание, в котором он резко протестовал против деятельности Пошмана. Лей утверждал, что медицинское обслуживание трудовых лагерей относится исключительно к компетенции подчиненных ему ведомств, и с гневом требовал от меня привлечь Пошмана к дисциплинарной ответственности за превышение полномочий. Я тут же написал
479
ему, что не вижу никаких оснований для выполнения его требований. Ни один из этих шагов я не предпринимал без согласования с доктором Брандтом и мог обосновать свою позицию не столько гуманными соображениями, сколько разумными доводами. Поэтому меня мало волновала реакция Лея на мое письмо. Я был твердо уверен, что Гитлер не только поставит на место обойденных нами партийных чиновников, но еще и вдоволь поиздевается над ними.
Однако я так и не дождался от Лея каких-либо ответных мер. В свою очередь Гиммлер также попытался показать мне, что может обращаться с любым, даже занимающим высокий пост человеком так, как ему заблагорассудится. 14 марта 1944 года он приказал арестовать Вернера фон Брауна и двух его сотрудников. Начальнику Центрального управления сообщили, что они якобы нарушили одно из моих распоряжений и занимались разработкой сугубо мирных проектов. И действительно, Вернер фон Браун и его окружение зачастую откровенно обсуждали возможности использования в отдаленном будущем ракет для доставки почты с европейского континента в США и обратно. Им нравилось давать волю фантазии, и они даже изготовили чертежи почтовой ракеты.
Когда Гитлер навестил меня в Клессгейме, я воспользовался удобным случаем и добился от него обещания освободить их. Но только через неделю они вышли на свободу, и на протяжении шести недель Гитлер не раз возвращался к этой истории и с угрюмым видом заявлял, что, желая оказать мне любезность, он попал в весьма затруднительное положение. Как бы то ни было, но Гиммлер достиг своей цели. Отныне даже ответственные руководители ракетного проекта не чувствовали себя в безопасности. Они понимали, что, если кто-нибудь из них снова будет арестован, я уже не смогу так быстро добиться его освобождения.
Уже давно Гиммлер добивался создания в системе СС своего рода огромного концерна. Мне лично казалось, что Гитлеру эта идея не по душе, и я как мог поддерживал его. Этим, видимо, объяснялось, почему Гиммлер так вел себя во время моей болезни. За несколько месяцев ему удалось переубедить Гитлера, и фюрер призвал меня поддержать
480
проект создания непосредственно подчиненного руководству СС концерна, включающего в себя предприятия как добывающей, так и перерабатывающей промышленности. Он обосновал свое требование довольно странным аргументом: дескать, при его преемнике у министра финансов может появиться желание резко сократить финансирование СС, и эта организация должна обладать достаточной экономической мощью, чтобы противостоять этим намерениям.
Произошло то, чего я так сильно опасался. Я, правда, сумел уговорить Гитлера особо отметить в протоколе совещания, что находящиеся в ведении Гиммлера производственные мощности «подлежат такому же контролю, что и все остальные предприятия военной промышленности, иначе распадется созданная с таким трудом за два года единая система обеспечения всех родов войск военной продукцией». Несмотря на все заверения Гитлера, я вовсе не был уверен, что он будет до конца отстаивать свое мнение. Гиммлер же, бесспорно, вскоре узнал об итогах нашей встречи и поспешил пригласить меня к себе на виллу в Берхтесгадене.
Рейхсфюрер СС порой высказывал совершенно фантастические идеи, и Гитлер неоднократно заявлял, что не в состоянии уследить за безудержным полетом его мыслей и что многие из них вызывают у него смех. Но при этом Гиммлер обладал трезвым умом и упорно стремился к достижению вполне определенных политических целей. На совещаниях Гиммлер всегда был неизменно вежлив со всеми участниками — правда, порой возникало ощущение, что вел он себя не вполне искренне, — и старался, чтобы рядом с ним постоянно присутствовал кто-либо из его офицеров. Он также имел такое редкое для большинства соратников Гитлера качество, как способность признать правоту оппонента. Во время дебатов он зачастую уделял излишнее внимание мелочам, тщательно взвешивал каждое слово и производил впечатление педанта и формалиста. Очевидно, его совершенно не волновало мнение окружающих — ведь из-за этой своей привычки он казался им косным и ограниченным человеком. Секретариат Гиммлера работал с четкостью отлаженного и хорошо смазанного механизма, что свидетельствовало скорее об отсутствии у рейхсфюрера СС ярко выраженных индивидуальных черт; во всяком случае, мне всегда казалось, что в чрезмерно деловом стиле работы
16 А. Шпеер
481
сотрудников секретариата проявлялся заурядный характер их шефа. Его машинисток никак нельзя было назвать хорошенькими, но зато они отличались необычайным усердием и добросовестностью.
Гиммлер изложил мне свою тщательно продуманную концепцию, свидетельствующую о его далеко идущих планах. Во время моей болезни, несмотря на активное противодействие Заура, СС завладело предприятиями крупнейшего военно-промышленного объединения Венгрии — концерна Манфреда Вайса. По словам Гиммлера, они должны были стать организационным ядром его будущей промышленной империи. Рейхсфюрер СС попросил меня рекомендовать ему какого-нибудь авторитетного специалиста, способного оказать помощь в создании такого огромного концерна. После недолгого раздумья я предложил ему кандидатуру Пауля Плейгера, который в свое время возглавлял строительство крупных сталелитейных заводов в рамках программы осуществления четырехлетнего плана. Плейгер слыл своенравным, энергичным человеком, и я рассчитывал, что он, благодаря своим обширным связям с промышленниками сумеет обуздать непомерный аппетит Гиммлера. Но рейхсфюреру СС не понравилось мое предложение, и в дальнейшем он никогда больше не делился со мной своими планами.
Такие высокопоставленные руководители СС, как Поль, Ютгнер и Бергер, несмотря на жесткую и бескомпромиссную манеру вести переговоры, отличались тем добродушием, которое свойственно обычно вполне заурядным людям; они начисто были лишены каких-либо оригинальных черт. От двух других приближенных Гиммлера, как и от их шефа, веяло холодом. И Гейдрих, и Каммлер обладали идеальной арийской внешностью: светлые волосы, голубые глаза, череп удлиненной формы. Одевались они подчеркнуто элегантно, обладали хорошими манерами, могли в любой момент принять совершенно неожиданное для окружающих решение и с завидным упорством, преодолевая любое сопротивление, добиваться его осуществления. Характерно, что в свое время для выполнения определенных задач Гиммлер выбрал именно Каммлера. Несмотря на фанатичную приверженность рейхсфюрера СС национал-социалистической доктрине при подборе кадров на руководящие
482
должности, он совершенно не интересовался партийным стажем кандидата; Гиммлер искал умных, энергичных и старательных людей — остальное его мало волновало. Весной
1942 года он добился назначения высокопоставленного чиновника строительного управления министерства авиации Каммлера на пост начальника строительного отдела главного административно-хозяйственного управления СС. Летом
1943 года благодаря его стараниям на Каммлера было возложено руководство строительством ракетных заводов и полигонов. После этого мне довольно часто доводилось встречаться с ним, и новый подопечный Гиммлера показал себя решительным человеком, умеющим просчитывать каждый свой шаг и готовым на все ради достижения намеченной цели.
Гиммлер загрузил его работой, при всяком удобном случае старался представить Гитлеру в самом выгодном свете, и вскоре пошли слухи о том, что рейхсфюрер СС готовит своего протеже на роль моего преемника. Мне нравились расчетливость и трезвый ум Каммлера, который при выполнении многих задач был моим партнером, в силу занимаемой должности — соперником, а по происхождению, воспитанию и карьере — едва ли не двойником. Он также вырос в зажиточной бюргерской семье, получил высшее образование, проявил недюжинные способности при руководстве строительством самых разных объектов, был замечен и сделал карьеру отнюдь не по своей специальности.
Во время войны производительность труда на промышленных предприятиях в значительной степени зависела от того, какой контингент рабочей силы они получали. Поэтому уже в начале сороковых годов главное административно-хозяйственное управление СС втайне приступило к расширению сети трудовых лагерей, строительство которых велось все более форсированными темпами. Начальник одного из управлений министерства вооружений Шибер в своей докладной записке от 7 мая 1944 года обратил мое внимание на стремление руководства СС использовать находившиеся в его распоряжении контингенты рабочей силы Для экономической экспансии. Кроме того, гестапо при малейшем нарушении каких-либо правил немедленно арестовывало трудившихся на наших заводах иностранных
16*
483
рабочих и направляло их в трудовые лагеря. По подсчетам моих сотрудников, весной 1944 года нас таким образом ежемесячно лишали тридцати-сорока тысяч рабочих. Поэтому в представленном мною Гитлеру в начале июня меморандуме говорилось, что «военная промышленность не в состоянии выдержать ежегодного сокращения контингента рабочей силы на 500 000 человек... тем более что речь идет о тех, кого с такими усилиями сумели обучить определенным профессиональным навыкам».
Им следовало «как можно скорее предоставить возможность вернуться к прежним занятиям». Гитлер обещал обсудить эту проблему с Гиммлером и потом принять окончательное решение. Но Гиммлер в беседах как с Гитлером, так и со мной упорно отрицал очевидные факты и утверждал, что ничего подобного не было.
Я также убедился, что сами заключенные очень боялись вновь оказаться в подведомственных СС лагерях. Так, во время осмотра сталелитейного завода в Линце мне сразу же бросилось в глаза, как свободно расхаживали они по просторным цехам. Здесь они чувствовали себя наравне с остальными рабочими: стояли склонившись над станками, перетаскивали оборудование или перебрасывались парой слов с мастерами. Охраняли их не эсэсовцы, а солдаты из армейских подразделений. При виде группы из двадцати русских я попросил переводчика выяснить, есть ли у них претензии. В ответ они дружно замахали руками. В отличие от изможденных, с трудом державшихся на ногах узников расположенного в недрах горы Конпггейн филиала Бухен- вальда у этих людей был относительно сытый вид, и, когда я как бы между прочим спросил, не хотят ли они вернуться обратно в лагерь, на их лицах выразился неподдельный ужас.
Больше я ни о чем не спрашивал. Когда я теперь размышляю о своих тогдашних ощущениях, то все больше убеждаюсь, что был слишком одержим желанием добиться победы в отчаянной гонке со временем и никакие гуманные соображения не могли заставить меня забыть о производственных показателях. Один американский историк как-то сказал, что я любил технику больше, чем людей. Он был не так уж неправ: вид измученных, страдающих людей вызывал у меня сочувствие, но это никак не отражалось
484
на моем поведении. Ни разу я не позволил эмоциям возобладать над разумом и, принимая решения, руководствовался исключительно соображениями целесообразности.
На Нюрнбергском процессе меня в основном обвиняли в использовании принудительного труда заключенных на военных заводах. Наверное, если бы мне удалось вопреки сопротивлению Гиммлера еще больше увеличить число работавших на наших предприятиях узников концлагерей и тем самым дать шанс выжить еще тысячам людей, судьи бы сочли, что данный поступок лишь усугубляет мою вину. Как ни парадоксально это звучит, но в таком случае я согласился бы отсидеть еще несколько лет. Меня, признаться, мало волновали как мотивы, двигавшие членами Международного трибунала, так и возможное отягощение моей участи фактически гуманным поступком — я просто не видел здесь повода для раздумий. Меня гораздо больше тревожил следующий вопрос: почему, вглядываясь в лица заключенных, я так и не смог увидеть истинный облик режима? Тогда я еще не мог судить его по нравственным законам; я и теперь иногда спрашиваю себя, кем же был в действительности этот молодой и ныне мне совершенно чуждый человек, который в те годы уверенной походкой проходил по цехам Линцского сталелитейного завода или рассматривал расположенные в штольнях горы Конштейн производственные помещения «Миттельверке».
Как-то летом 1944 года меня навестил мой близкий друг, гаулейтер Нижней Силезии Карл Ханке. Прежде он много рассказывал мне о сражениях в Польше и Франции, об убитых и раненых солдатах и офицерах, о том, как мучительно больно смотреть на муки и страдания людей, и я считал его добросердечным человеком. В этот раз он буквально рухнул в одно из стоявших в моем кабинете обшитых зеленой кожей кресел и, запинаясь, принялся умолять меня никогда не принимать приглашения осмотреть расположенный на территории гау «Верхняя Силезия» концлагерь. Он лично не имеет права, да и не в силах рассказать, что там творится.
Я никогда больше не говорил на эту тему ни с ним, ни с Гитлером, ни с Гиммлером, ни со своими близкими друзьями. Я не пытался выяснить какие-либо подробности, а предпочел вообще ничего не знать об Освенциме — Ханке,
485
безусловно, говорил именно о нем. Как только он предостерег меня, я вновь бессознательно попытался снять с себя ответственность. Об этих минутах я вспомнил в Нюрнберге, когда заявил, стоя перед Международным трибуналом, что я также причастен к совершенным по приказам правителей рейха преступлениям, так как принадлежал к его высшему политическому руководству. Я не мог уйти также от моральной ответственности, ибо предпочитал закрыть глаза на террор и бесчинства, поскольку боялся, что тогда мне придется сделать соответствующие выводы. И ни один из совершенных в последние годы войны добрых поступков не может компенсировать мое аморальное поведение. К тому же я понимал, что веду себя безнравственно. Именно поэтому я до сих пор чувствую свою личную вину за Освенцим.
26
Операция *Валькирия>>
Однажды, когда мой самолет низко кружил над развалинами завода по производству синтетического горючего, я был просто поражен меткостью пилотов союзной авиации. Мне стало страшно при одной лишь мысли о том, что им ничего не стоит за день разбомбить все мосты через Рейн. Эксперты, внимательно изучившие четкие и детально проработанные аэрофотоснимки изрытой огромными воронками территории завода, полностью подтвердили мои опасения. Я спешно отправил в район расположения мостов нужное количество опорных стальных балок для быстрого в случае необходимости их восстановления и приказал изготовить десять паромов.
Через десять дней — 29 мая 1944 года — я с тревогой писал Йодлю: «Сбрасываемые с вражеских самолетов бомбы в последнее время ложатся с такой плотностью, что приходится признать: их летчики значительно усовершенствовали свое мастерство и теперь вполне могут разрушить все мосты через Рейн. И в каком мы окажемся положении, если противник перережет все коммуникации наших армий, дислоцированных на территории западноевропейских
486
стран, и высадит свои войска не в районе Атлантического вала, а на побережье Северного моря? Он вполне может осуществить эту десантную операцию, так как его авиация уже добилась там полного превосходства в воздухе. Во всяком случае, он понесет тогда гораздо меньшие потери, чем при штурме “Атлантического вала”».
На территории своей собственной страны мы не располагали сколько-нибудь значительными войсковыми соединениями, и я всерьез опасался, что события будут развиваться в следующей последовательности: противник выбрасывает воздушные десанты на аэродромы Гамбурга и Бремена, затем его небольшие по численности подразделения захватывают порты этих городов, где высаживаются мощные армейские группировки, которые, практически не встречая сопротивления, продвигаются к Берлину. Мосты через Рейн разрушены, его воды преграждают путь армиям Западного фронта, а армии Восточного фронта ведут тяжелые оборонительные бои и, ко всему прочему, из-за слишком больших расстояний не могут быть своевременно переброшены на помощь столичному гарнизону.
Одним словом, в своих предположениях я исходил из того, что вражеские военачальники — люди такого же авантюрного склада, что и Гитлер. И если Йодль с иронией заявил мне в Оберзальцберге, что я, видимо, решил ко всему прочему снискать еще и лавры стратега, то Гитлер, напротив, весьма серьезно отнесся к моим опасениям. 5 июня Йодль отметил в своем служебном дневнике: «На территории Германии следует создать организационно-штабной костяк новых дивизий, в состав которых в экстренном случае могут влиться отпускники. Шпеер намерен ударными темпами изготовить для них вооружение. 300 000 отпускников — это примерно 10—12 дивизий».
Ни Йодль, ни я не знали, что уже давно приняты меры для претворения в жизнь этой идеи. Были даже составлены подробные инструкции о порядке проведения операции «Валькирия», план которой был разработан еще в мае 1942 года. Он предусматривал быструю мобилизацию сил резервной армии в случае возникновения беспорядков в тылу. Теперь же Гитлер вдруг проявил интерес к этому плану и даже провел 7 июня в Оберзальцберге совещание, в котором наряду
487
с Кейтелем и Фроммом принял также участие полковник Штауффенберг.
Его кандидатуру на пост начальника штаба резервной армии предложил не кто иной, как главный адъютант Гитлера генерал Шмундт. Он полагал, что граф Штауффенберг сумеет пробудить энергию в уже изрядно уставшем и утратившем былую активность Фромме. По словам Шмундта, Штауффенберг заслуженно считался одним из самых способных и опытных офицеров вермахта. Даже Гитлер неоднократно призывал меня к тесному сотрудничеству с ним. Штауффенберг не утратил своеобразного юношеского обаяния, даже тяжелые ранения (он потерял на фронте руку и глаз) не исказили его облик и не отразились на характере. Общение с такими, казалось бы, совершенно несхожими людьми, как члены сложившегося вокруг Стефана Георге кружка и офицеры Генерального штаба, навсегда оставило след в нем. После свершения им героического и отныне навсегда связанного с его именем поступка я часто размышлял о Штауффенберге и пришел к выводу, что лучше всего о таких, как он, сказал Гёльдерлин: «Их характер поражает своей противоестественностью, но не следует забывать об обстоятельствах, вынудивших их под напускной суровостью скрывать добрую и нежную душу».
6 и 8 июля состоялось еще два совещания. В жилых апартаментах «Бергхофа» за стоявшим возле огромного — во всю стену — окна круглым столом расселись Гитлер, Кейтель, Фромм и сопровождавшие их генералы и офицеры; прямо рядом со мной занял место Штауффенберг, ни на минуту не расстававшийся с туго набитым портфелем. Он подробно рассказал о плане операции «Валькирия». Гитлер очень внимательно слушал его, а затем после недолгих дебатов одобрил почти все предложенные им меры. Он не стал возражать против предложения передать в случае начала военных действий на территории рейха всю исполнительную власть командующим военными округами и оставить за гаулейтерами только право совещательного голоса. Было прямо сказано, что командные инстанции вермахта могут давать указания чиновникам государственного аппарата и магистратов, не испрашивая предварительно разрешения местных партийных руководителей.
488
Уж не знаю, было ли так спланировано заранее или же все произошло по воле случая, но Штауффенберг был далеко не единственным из главных причастных к заговору генералов и офицеров, кто в те дни оказался в Берхтесгадене. Как мне стало известно лишь теперь, именно тогда они приняли окончательное решение убить Гитлера, и начальник организационного отдела штаба верховного главнокомандования генерал-майор Гельмут Штиф уже раздобыл мину замедленного действия с кислотным взрывателем. 8 июля после долгих и бесплодных переговоров с Кейтелем о призыве на военную службу ранее получивших бронь рабочих я встретился для обсуждения этой проблемы с генералом Фридрихом Ольбрихтом. Как обычно, он сразу же принялся жаловаться на трудности, возникшие из-за искусственного разделения вермахта на четыре рода войск. Он привел ряд конкретных примеров вопиющих неурядиц и заявил, что, если бы удалось вернуться к прежнему положению, сухопутные войска сразу бы пополнились сотнями тысяч молодых солдат из рядов военно-воздушных сил.
На следующий день я встретился в «Берхтесгаденском подворье» с генерал-квартирмейстером Эдуардом Вагнером, генералом для особых поручений при начальнике Генерального штаба Фрицем Линдеманом, командующим войсками связи Эрихом Фельгибелем и Гельмутом Штифом. Все они были причастны к заговору, и уже в ближайшие месяцы никому из них не суждено было остаться в живых. Может быть, именно потому, что уже никакая сила не могла отвратить их от принятого после долгих колебаний решения совершить государственный переворот, они и пребывали в веселом расположении духа и не желали признавать серьезность ситуации. Сухие слова протокола не отражали моего недоумения по поводу столь легкомысленного отношения к почти безнадежному для нас положению на фронтах: «Генерал-квартирмейстер полагает, что все трудности легко преодолимы... Генералы оценивают положение на Восточном фронте довольно оптимистически и не видят оснований для беспокойства».
Еще две недели тому назад Вагнер изображал ситуацию в самых мрачных тонах и, предвидя неизбежность дальнейшего отступления наших войск, требовал от руководителей военной промышленности обеспечить их таким количеством
489
вооружения, которое она была просто не в состоянии изготовить. Ныне я глубоко убежден, что делал он это с целью доказать Гитлеру, что армия испытывает катастрофическую нехватку вооружения, и тем самым исподволь внушал ему мысль о неотвратимости поражения. Как-то присутствовавший на одном из совещаний Заур при полной поддержке Гитлера, как школьника, отчитал генерал-квартирмейстера, который был гораздо старше него. Теперь же я воспользовался моментом, извинился перед Вагнером за поведение моего сотрудника и заверил генерала в своей неизменной симпатии к нему. Но он, как выяснилось, уже давно забыл об этом сперва так расстроившем его инциденте.
Мы подробно обсудили негативные последствия поспешных и плохо продуманных оперативных приказов и пришли к выводу, что штаб верховного главнокомандования в значительной степени утратил контроль над ситуацией. Генерал Фельгибель рассказал, что наличие у каждого из родов войск собственной системы связи требует использования неимоверного количества обслуживающих их солдат и огромных дополнительных расходов. Он пытался доказать Гитлеру, что, даже если отбросить заботу об экономии, все равно гораздо разумнее было бы проложить, скажем, от Афин или Лапландии не две линии связи, соединяющие дислоцированные там соединения сухопутных войск и военно-воздушных сил с их высшими командными инстанциями, а одну, но гораздо более мощную и способную выдержать любую перегрузку. Гитлер категорически отверг его предложение. Я также на нескольких примерах из своей практики доказал преимущество единой системы управления производством вооружения для всех родов войск.
Хотя я с редкой для того времени откровенностью обсуждал с заговорщиками многие проблемы, мне ничего не удалось узнать об их намерениях. Лишь один-единствен- ный раз я заподозрил, что готовится какая-то акция, — но повод для этого мне дали отнюдь не беседы с ними, а реплика Гиммлера. Как-то поздней осенью 1943 года во время своего очередного пребывания в ставке я вышел подышать свежим воздухом и увидел неторопливо прогуливающегося Гитлера в длинном кожаном пальто. На шаг отстав от него, чуть согнувшись, шел рейхсфюрер СС. Они остановились неподалеку, и я стал невольным свидетелем их разговора. Первое, что я услышал, были слова Гиммлера: «Итак, мой
490
фюрер, я поговорю с “серым кардиналом” и сделаю вид, что я с ними заодно. Вы не возражаете?» Гитлер молча кивнул. — «Они явно что-то затевают. Может быть, мне удастся войти к ним в доверие и выведать их коварные замыслы. И если, мой фюрер, к вам из какого-либо еще источника поступят сведения о готовящемся заговоре, вы теперь будете знать, почему я так поступил». Гитлер жестом выразил согласие и, повернув голову в сторону Гиммлера, сказал: «Ну разумеется, я вам полностью доверяю». У одного из адъютантов я попытался выяснить, кто скрывается под прозвищем «серый кардинал». «Да это же министр финансов Пруссии Попитц!» — ответил он.
Порой мне кажется, что накануне этих в высшей степени драматических событий судьбой еще не было окончательно предрешено, где мне следует находиться 20 июля: на Бендлерштрассе, то есть в непосредственной близости от главных участников заговора, в штаб-квартире абвера или в особняке Геббельса. 17 июля Фромм через Штауффен- берга пригласил меня через три дня приехать к нему на Бендлерштрассе, чтобы вместе пообедать, а затем провести небольшое совещание. Я был вынужден отказаться, так как именно около полудня 20 июля должен был выступить с докладом перед весьма солидной аудиторией, состоящей из представителей имперского правительства и финансово-промышленных кругов. Мой отказ отнюдь не обескуражил начальника штаба резервной армии, и он еще более настойчиво принялся уговаривать меня принять приглашение Фромма: дескать, я ему очень нужен. Но я опасался, что после долгого и наверняка утомительного выступления уже не смогу обсудить с генералом столь важную тему, как положение на военных заводах, — такой разговор требовал слишком больших усилий, — и во второй раз вежливо, но решительно отклонил предложение Фромма.
Геббельс предоставил в распоряжение участников совещания поражавший великолепием конференц-зал своего министерства, стенная роспись в котором была выполнена еще Шинкелем. Около одиннадцати я взошел на трибуну, окинув взглядом застывших в напряженном ожидании примерно двести человек: послушать мой доклад пришли все находившиеся в тот момент в Берлине министры, статс-секретари и высокопоставленные чиновники — словом, вся
491
столичная политическая элита. Начал я со ставшего тогда уже почти ритуальным и провозглашаемого едва ли не повсеместно призыва к труженикам тыла приложить все силы и обеспечить потребности вермахта. Произнес я его чисто механически, без всякого пафоса и не менее будничным тоном принялся рассказывать о положении в военной промышленности. Развешанные по стенам графики и схемы позволяли присутствующим получить конкретное представление об объемах производства вооружений.
Примерно в то же самое время, когда я закончил свой доклад и Геббельс сменил меня на трибуне, чтобы как хозяин дома выступить с заключительной речью, грохот разорвал тишину в расположенной неподалеку от Растен- бурга ставке Гитлера. Это детонировал гекситовый заряд взрывного устройства, пронесенного туда Штауффенбер- гом в своем портфеле. Если бы мятежники проявили больше расторопности, то могли бы не только совершить покушение на Гитлера, но и арестовать чуть ли не всех рейхсминистров и многих руководящих сотрудников их ведомств. Для этого вполне достаточно было бы прислать к министерству пропаганды пресловутого лейтенанта с десятью солдатами.
Геббельс пока еще ни о чем не подозревал и, сойдя с трибуны, пригласил нас с Функом к себе в кабинет. В последнее время стоило нам только собраться втроем, как мы немедленно заводили разговор об упущенных или пока еще не использованных возможностях мобилизации тыловых ресурсов. В этот раз мы также начали обсуждать эту проблему, как вдруг из висевшего на стене репродуктора прозвучало: «Господина министра срочно вызывает ставка. У аппарата доктор Дитрих». Геббельс нажал на клавишу: «Переключите на мой кабинет». Затем он подошел к огромному письменному столу и снял трубку телефона: «Доктор Дитрих? Геббельс слушает... Покушение на фюрера? Только что?.. Значит, фюрер жив? Так-так, в домике Шпеера, понятно. Уже известны какие-нибудь подробности? Фюрер предполагает, что это дело рук рабочих из “организации Тодта”?!» Дитрих, видимо, не мог больше продолжать разговор, и Геббельс с явным сожалением нажал на рычажки. Мы еще не знали, что взрыв в ставке Гитлера означал начало операции «Валькирия», план которой заговорщики вот уже несколько месяцев откровенно обсуждали
492
даже с Гитлером. Ведь формально речь шла всего лишь о мобилизации частей резервной армии для борьбы с беспорядками в тылу.
«Этого только не хватало», — мельком подумал я, когда Геббельс вкратце пересказал нам содержание своего разговора с Дитрихом и еще раз недвусмысленно заявил, что подозрение падает на рабочих из «организации Тодта». Ведь если это предположение подтвердится, Борман немедленно начнет снова плести интриги и распускать всякие сплетни, чтобы окончательно запятнать мою репутацию. Геббельс уже сейчас был крайне раздражен тем, что я так и не смог толком ответить на его вопросы, подверглись ли эти люди тщательной проверке и был ли над ними в ставке установлен строгий контроль. Я лишь сообщил ему, что несколько сотен рабочих охрана каждый день пропускала в «запретную зону №1», поскольку им было поручено укрепить стены и покрытия бункера Гитлера. Именно поэтому Гитлер временно избрал для проведения оперативных совещаний отведенное мне фанерное строение барачного типа. В мое отсутствие оно так и так пустовало, и, кроме того, ни в одном другом помещении ставки не могло собраться большое количество человек. Геббельс осуждающе посмотрел на меня и, качая головой, сказал, что при таком легкомысленном отношении к мерам безопасности довольно легко проникнуть на эту, казалось бы, самую охраняемую в мире территорию. «Какой смысл тогда устанавливать заграждения и на каждом шагу проверять документы?» — воскликнул он с таким видом, словно человек, отвечавший за безопасность Гитлера, и впрямь присутствовал среди нас.
После этих слов Геббельс поспешил удалиться: его, как, впрочем, и меня, даже покушение на фюрера не могло освободить от исполнения своих прямых обязанностей. В министерстве меня уже ждал бывший адъютант Гитлера от сухопутных войск, а ныне командир одной из фронтовых частей полковник Энгель. Меня очень интересовало его мнение о выдвинутом мной в одном из меморандумов предложении назначить своего рода «второго диктатора». Предполагалось, что наделенный чрезвычайными полномочиями один из высших военачальников без колебаний и не опасаясь подорвать чей-то авторитет покончит с неразберихой и предельно упростит организационную структуру вермахта. Машинально я датировал меморандум двадцатым
493
июля, хотя составил его уже несколько дней тому назад, и высказал в нем идеи, которые подробно обсуждал с главными участниками заговора.
Мне даже в голову не пришло совершить такой элементарный поступок, как позвонить в ставку и узнать все подробности. Видимо, я понимал, что мой звонок вызовет там еще большую суматоху, кроме того, я чувствовал, что не стоит лишний раз напоминать о себе — ведь подозрение в совершении покушения пало на рабочих из подведомственной мне организации. После обеда у меня была намечена встреча с посланником Клодиусом из министерства иностранных дел, и, наскоро перекусив, я приступил к обсуждению к ним проблемы «обеспечения бесперебойной поставки румынской нефти». В разгар беседы позвонил Геббельс. Я никак не ожидал, что у него может быть такой хриплый, дрожащий от волнения голос: «Я прошу вас оставить все дела и немедленно приехать ко мне! Нет, по телефону я ничего не могу рассказать». Естественно, я тут же прервал совещание и около пяти часов подъехал к возвышавшемуся чуть южнее Бранденбургских ворот величественному зданию — особняку министра пропаганды.
Геббельс встретил меня на пороге своего расположенного на втором этаже кабинета и сразу же ошеломил совершенно потрясающей новостью: «Из ставки сообщили, что на всей территории рейха происходит военный переворот. Ситуация очень сложная, и я хотел бы, чтобы вы сейчас были рядом со мной. Я склонен к поспешным решениям, а вы человек более уравновешенный и, если потребуется, сможете меня всегда поправить. Мы обязаны обдумать каждый свой шаг».
Это известие взволновало меня не меньше, чем Геббельса. Я сразу же вспомнил, что неоднократно встречался со многими военачальниками и, о чем бы мы ни говорили — о безнадежном положении на всех фронтах, удачно осуществленной западными союзниками высадке в Нормандии, подавляющем превосходстве Красной армии или значительном снижении производства горючего, — из наших уст то и дело звучали очень резкие высказывания в адрес Гитлера. Мы единодушно осуждали его за дилетантизм, бессмысленные решения, непрерывные оскорбления и унижения занимающих командные посты генералов, постоянные
494
кадровые перетасовки с увольнениями в отставку и понижениями в должности. Я, правда, никак не ожидал, что попытку свергнуть нацистский режим предпримут именно Штауффенберг, Ольбрихт, Штиф и офицеры из их окружения. Скорее уж поднять мятеж мог такой импульсивный и вспыльчивый человек, как Гудериан. Позднее выяснилось, что Геббельс уже тогда знал: следствие установило полную непричастность к покушению рабочих из «организации Тодта», и подозрение пало теперь на Штауффен- берга. Но Геббельс ничего мне не сказал и даже не счел нужным поставить меня в известность о своем недавнем разговоре с Гитлером.
Тогда мне казалось, что, какими бы благородными мотивами ни руководствовались заговорщики, их выступление в такой трудный момент могло иметь для нас только катастрофические последствия. Поэтому Геббельс мог полностью рассчитывать на мою поддержку.
Я подошел к выходившему на улицу окну и обомлел: солдаты в полном походном снаряжении — на голове каски, за поясом гранаты, в руках автоматы наизготовку, — разбившись на маленькие группы, быстро продвигались к Бранденбургским воротам. Затем они установили там пулеметы и перекрыли проезд всем видам транспорта. Двое солдат встали у входа в парк Тиргартен. Я позвал Геббельса, он мельком взглянул в окно и быстро удалился в примыкавшую к кабинету спальню. Сквозь приоткрытую дверь я разглядел, как он трясущимися руками вынул из маленькой коробочки несколько ампул и сунул их в карман пиджака. Почувствовав мой взгляд, он обернулся и, с трудом сдерживая волнение, пробормотал: «На крайний случай».
Геббельс послал адъютанта выяснить, какие конкретно приказы получили солдаты, но они отказались с ним разговаривать. По словам адъютанта, один из солдат, охранявших вход в парк, небрежно процедил сквозь зубы: «Сюда никто не войдет, а оттуда никто не выйдет».
Геббельс лихорадочно накручивал диск телефона, пытаясь дозвониться в различные партийные и государственные учреждения. От полученных сведений у нас обоих голова шла кругом. Так, например, он узнал, что к Берлину приближаются якобы уже не только части Потсдамского гарнизона, но и войска многих военных округов. Я же, несмотря на крайне отрицательное отношение к попытке
495
переворота, вдруг впал в апатию и воспринимал происходившие вокруг события со странным ощущением своей полной непричастности к ним. Геббельс же заметно нервничал, хотя старался держать себя в руках. Он как бы давал понять, что убежден в неотвратимости поражения мятежников, хотя, когда какое-то время наше положение казалось почти безнадежным, явно пал духом. Министра пропаганды несколько обнадеживало то обстоятельство, что заговорщики не отключили его телефон и не выступили по радио с обращением к народу. Геббельс пришел к выводу, что они колеблются и не решаются предпринять решительные меры.
Действительно, было совершенно непонятно, почему мятежники не взяли под контроль узлы связи, хотя, судя по составленному за несколько недель и четко расписанному по времени плану, они намеревались не только арестовать Геббельса, но и занять берлинскую телефонную станцию, центральный телеграф, главный узел связи СС, Дом радио и его расположенные вокруг столицы трансляционные передатчики. Одного взвода солдат было бы достаточно для ареста Геббельса. Мы бы не смогли оказать сопротивления — в особняке министра пропаганды имелось всего несколько пистолетов. Геббельс наверняка отказался бы подчиниться и принял бы яд; не зря он держал наготове ампулы с цианистым калием. Таким образом заговорщики с легкостью бы избавились от своего самого способного и опасного противника.
Мы могли использовать для подавления мятежа только находившиеся в распоряжении Гиммлера и считавшиеся самыми надежными войска СС. Самое удивительное, что в эти решающие часы Геббельс никак не мог связаться с ним. Рейхсфюрер СС внезапно куда-то исчез, и Геббельс никак не мог объяснить его поведение. Он даже заподозрил Гиммлера в измене, и высказанные им в адрес рейхсфюрера СС и министра внутренних дел столь же тяжкие обвинения явились для меня наиболее убедительным подтверждением шаткости нашего положения.
Мне Геббельс, видимо, также не слишком доверял. Во всяком случае, перед тем как в очередной раз набрать номер телефона какого-то учреждения, он вдруг попросил меня выйти в соседнюю комнату. Тогда мне стало окончательно ясно, что он не столько нуждался в моей поддержке, сколько
496
просто решил присмотреть за мной; к тому же теперь в числе подозреваемых в организации покушения оказался непосредственный начальник Штауффенберга Фромм. Геббельс знал о моей дружбе с командующим резервной армией, которого он уже давно называл не иначе как «врагом партии».
Я сразу же вспомнил об этом и, попрощавшись с Геббельсом, попросил соединить меня с телефонным узлом на Бендлерштрассе. «Генерал-полковника Фромма нет на месте», — последовал ответ. Позднее я узнал, что в тот момент арестованный мятежниками Фромм сидел взаперти в соседней со своим кабинетом комнате. «Соедините меня с его адъютантом, — потребовал я и узнал, что его номер не отвечает. — Тогда с генералом Ольбрихтом». В трубке сразу же послышался его приятный голос. «Что там у вас стряслось, господин генерал? — Несмотря на серьезность ситуации, я не изменил привычке и, как обычно, разговаривал с ним шутливым тоном. — Мы тут с Геббельсом проводили небольшое совещание, я уже собирался было уехать — дел, сами знаете, невпроворот, — и на тебе: солдаты меня не выпускают». Ольбрихт поспешил извиниться: «Произошла ошибка. О вас даже речи не было. Сейчас я все улажу». Я хотел было задать ему вопрос, но в мембране уже зазвучали короткие гудки. Я не стал подробно рассказывать Геббельсу о нашем разговоре. Его содержание и интонация свидетельствовали о моих дружеских отношениях с Ольбрихтом, и Геббельс вполне мог предположить, что мы сговорились. Тогда бы он окончательно перестал доверять мне.
Пока я разговаривал с Ольбрихтом, к Геббельсу зашел заместитель гаулейтера Берлина Шах и рассказал буквально следующее: его знакомый — некто Хаген, который ранее служил в оцепившем сейчас правительственный квартал караульном батальоне, — ручается, что его командир, майор Ремер, убежденный национал-социалист. Хаген уже привез Ремера сюда на мотоцикле, и теперь майор ожидает аудиенции в приемной. Он, дескать, хочет получить объяснения лично от министра пропаганды. Геббельс немедленно снова пригласил меня к себе. Он был твердо убежден в том, что сумеет привлечь майора на свою сторону, и почему-то хотел сделать это непременно в моем присутствии. Геббельс особо подчеркнул, что уже сообщил Гитлеру о предстоящей
497
беседе и тот с нетерпением ожидает в ставке ее результатов и в любой момент готов поговорить с майором.
Когда Ремер появился на пороге кабинета, Геббельс заметно успокоился и пребывал уже не в таком возбужденно-нервном состоянии. Казалось бы, он сумел убедить себя в том, что исход мятежа предрешен, а значит, в его собственной судьбе также не предвидится никаких резких перемен. Всем своим видом он явно старался показать, что не следует излишне драматизировать ситуацию и что через несколько минут станет окончательно ясно: попытка переворота потерпела полный провал.
Геббельс сразу же напомнил Ремеру о данной им присяге. Майор ответил, что, действительно, поклялся в верности фюреру и партии, но после смерти Гитлера обязан исполнять приказы только генерал-лейтенанта фон Хазе. И тогда Геббельс привел самый убедительный аргумент: «Фюрер жив!» Геббельс говорил непрерывно, не давая ошеломленному Ремеру прийти в себя: «Он жив! Несколько минут тому назад я разговаривал с ним! Клика честолюбивых генералов попыталась совершить военный переворот! Как они посмели! Такого гнусного преступления история еще не знала!» Известие о том, что Гитлер жив, избавило оказавшегося в весьма затруднительном положении майора от всех сомнений. Он улыбнулся и пристально посмотрел на нас, словно ожидая подтверждения таких отрадных для него слов. Геббельс напомнил ему об историческом моменте и об огромной ответственности перед историей, которая ныне тяжким бременем легла на его сильные плечи; дескать, редко судьба дает такой шанс и нужно попытаться не упустить его. Выражение лица Ремера мгновенно изменилось, и тот, кто в эти секунды наблюдал за ним, мог быть уверен: Геббельс одержал победу. Теперь министр пропаганды выложил свой главный козырь: «Я дам вам сейчас возможность поговорить с фюрером, но учтите: он может отменить приказ вашего непосредственного начальника». Последние слова Геббельс произнес с оттенком пренебрежения.
Позвонить в ставку не составило никакого труда: в свое время от особняка Геббельса была проложена специальная линия дальней связи. Даже минуты не прошло, как Гитлер подошел к телефону, и Геббельс, вкратце обрисовав ситуацию, передал трубку Ремеру. Майор тут же узнал голос фюрера. Он невольно встал по стойке смирно и как
498
заведенный повторял: «Так точно, мой фюрер... Так точно! Слушаюсь, мой фюрер!»
Затем Геббельс снова взял трубку, и Гитлер рассказал ему, чем закончился разговор с Ремером: все воинские части в Берлине переходят в распоряжение майора, который обязан неукоснительно выполнять указания министра пропаганды. Таким образом, можно сказать, что причиной поражения заговорщиков послужило наличие всего лишь одного исправного телефонного кабеля. Геббельс решил немедленно предпринять активные контрмеры и приказал собрать в саду своего особняка всех солдат караульного батальона.
Однако пока еще было рано говорить о полном подавлении мятежа. Поэтому около семи вечера Геббельс приказал передать по радио сообщение о неудачном покушении на Гитлера и особо подчеркнуть в нем, что фюрер жив и уже вновь приступил к исполнению своих обязанностей. Заговорщикам дорого обошлись их нерешительность и пренебрежение такими техническими достижениями, как телефон и радио.
Неожиданно выяснилось, что мы рано обрадовались победе. Прибытие на Фербеллинскую площадь танковой бригады, отказавшейся выполнять приказы Ремера, сразу же поставило под сомнение успех проведенных нами акций. Ее командир заявил, что подчиняется только генерал-полковнику Гудериану. «За малейшее неповиновение — расстрел на месте!» — лаконично и по-армейски четко закончил он свою короткую речь. Геббельсу нечего было противопоставить этому полностью укомплектованному, оснащенному по меркам военного времени и поэтому обладавшему огромной боевой мощью соединению. Поэтому от позиции его командира тогда полностью зависела наша судьба.
Пока было неясно, на чьей стороне танкисты. Геббельс и Ремер не исключали, что Гудериан также причастен к заговору. Но я хорошо знал командира бригады полковника Болбринкера и немедленно попытался связаться с ним по телефону. Его ответ успокоил меня: он привел танки на площадь для подавления мятежа.
Тем временем состоявший в основном из старослужащих солдат караульный батальон выстроился в саду особняка, и Геббельс, перед тем как выйти к ним, с самодовольным
499
видом заявил: «Если мне удастся их переубедить, считайте, что мы победили. А теперь смотрите, как я буду их приручать». Уже стемнело, мглу прореживал только падавший из приоткрытой двери в сад луч света. Министр пропаганды держал себя очень уверенно и вообще вел себя так, словно победа уже одержана и лавры победителя принадлежат сегодня ему одному. Однако следует отдать ему должное: он мгновенно сумел привлечь к себе внимание. Его представлявшая собой, в сущности, лишь набор пустопорожних фраз и общих слов речь удивительным образом глубоко тронула солдат. Я внимательно вгляделся в их лица и понял, что выступление Геббельса произвело на них очень сильное впечатление.
Около одиннадцати в отведенной мне комнате появился полковник Болбринкер и сообщил, что освобожденный из-под ареста Фромм намерен учинить, по сути дела, самосуд над попавшими к нему в руки заговорщиками. Я сразу же понял, что тем самым он только навлечет на себя тяжкие подозрения; к тому же я полагал, что лишь Гитлер вправе решать дальнейшую судьбу этих людей. В начале первого я вместе с Ремером и Болбринкером отправился на Бендлерштрассе, чтобы предотвратить экзекуцию. Посреди погруженного во мрак Берлина ярко освещенное фарами — с них недавно сняли маскировочные щитки — стоявших во дворе грузовиков здание ОКВ производило нереальное и совершенно жуткое впечатление. Казалось, здесь происходят съемки фильма и лучи юпитеров высветили установленную в темном павильоне декорацию. Здание казалось еще более огромным из-за отбрасываемых длинных, похожих на мечи теней.
У поворота на Тиргартенштрассе офицер СС жестом приказал моему шоферу остановиться у бордюра тротуара. Под деревьями, почти неразличимые в темноте, стояли в окружении множества младших чинов СС начальник РСХА Кальтенбруннер и снискавший славу освободителя Муссолини Отто Скорцени. Никто из них не щелкнул, как обычно, с подчеркнуто молодцеватым видом каблуками в знак приветствия, они лишь молча склонили головы и вообще старались держаться незаметно: говорили чуть ли не шепотом и больше всего походили сейчас на участников траурной церемонии. Я объяснил Кальтенбруннеру,
500
что приехал сюда с целью помешать Фромму расправиться с несколькими главными участниками заговора. Я ожидал, что Кальтенбруннер и Скорцени если и не обрушатся с резкими нападками на давнего конкурента СС — армию, — то по крайней мере не будут скрывать своего ликования — ведь в данной ситуации сухопутные войска действительно запятнали себя позором. Но в ответ я услышал, что эти события их, в общем-то, никак не касаются: «Мы ни в коем случае не собираемся проводить какие-либо акции без согласования с армейским командованием и уж тем более не намерены посягать на его права. А потом, ведь военно-полевой суд уже вынес свой приговор».
Затем Кальтенбруннер с излишней поспешностью принялся заверять меня в том, что части СС не получали приказа подавить мятеж или привести в исполнение приговор трибунала. Он, дескать, запретил своим людям даже переступать порог здания ОКБ, так как это может ухудшить и без того крайне напряженные отношения с армией. Но вскоре выяснилось, что высокопоставленные руководители СС просто дожидались благоприятного момента и отнюдь не собирались и далее руководствоваться этими тактическими соображениями. Уже через несколько часов карательный аппарат СС проводил повальные обыски и аресты на всей территории рейха. В первую очередь репрессиям подверглись, естественно, участвовавшие в заговоре офицеры сухопутных войск.
Едва Кальтенбруннер закончил говорить, как на фоне ярко освещенного здания возник гигантский силуэт человека. Облаченный в парадную форму огромного роста генерал тяжелой поступью приближался к нам. Я сразу узнал Фромма и, быстро распрощавшись с Кальтенбруннером, поспешил навстречу командующему резервной армией. «Мятеж подавлен, — тщательно выговаривая каждое слово, произнес Фромм, и чувствовалось, что он с трудом владеет собой. — Я уже передал соответствующие приказы в штабы военных округов. Какое-то время я был лишен возможности исполнять свои служебные обязанности. Меня заперли в комнате, примыкающей к моему кабинету. И сделали это офицеры моего штаба». В его окрепшем голосе отчетливо звучали гнев и тревога. Он явно пытался оправдать поспешный расстрел нескольких заговорщиков. «Я счел
501
своим долгом предать их военно-полевому суду. — Фромм на мгновение замолчал, а потом еле слышно, подавленным голосом произнес: — Генерала Ольбрихга и моего начальника штаба полковника Штауффенберга больше нет в живых».
Фромм непременно хотел поговорить с Геббельсом, и я так и не смог убедить его заехать сперва в мое министерство. Генерал-полковник настаивал на встрече с Геббельсом, хотя и он и я прекрасно понимали, что ему не следует сейчас появляться в особняке министра пропаганды.
Тем временем туда уже доставили арестованного коменданта Берлина генерала Хазе. При мне Фромм вкратце обрисовал ситуацию и попросил Геббельса соединить его со ставкой. Вместо ответа Геббельс не терпящим возражений тоном велел ему подождать в одной из комнат и лишь тогда набрал номер коммутатора своего министерства. Потом он потребовал оставить его одного и после продолжавшегося более двадцати минут разговора с Гитлером вышел из кабинета и приказал одному из солдат встать на часах возле комнаты, в которой находился Фромм.
Глубокой ночью объявился до этого совершенно неуловимый Гиммлер и, хотя никто его не просил, тут же принялся очень обстоятельно объяснять свое долгое отсутствие. Оказывается, он руководствовался испытанной тактикой борьбы с мятежами: если переворот начался в столице, высшим должностным лицам следует держаться подальше от нее и немедленно готовить эффективные контрмеры. Геббельса, похоже, его объяснение вполне удовлетворило. Он пребывал в превосходном настроении, а начав рассказывать о происходивших в Берлине событиях, буквально впал в эйфорию. Своим содержащим массу излишних подробностей рассказом Геббельс продемонстрировал Гиммлеру, что именно он, без всякой поддержки извне, сумел овладеть ситуацией: «Если бы они действовали более умело! Ведь они были в гораздо более выигрышном положении, чем мы! А какие у них были козыри на руках! И как нелепо они себя вели! Я пытаюсь представить себя на их месте! Им следовало занять Дом радио и начать передавать пусть даже заведомую ложь. А они поставили у моих дверей часового, но зато преспокойно позволили связаться с фюрером и развернуть бурную деятельность. Они даже не
502
отключили мой телефон! Упустить такой шанс... Иначе как дилетантами их не назовешь!»
Далее Геббельс заявил, что заговорщики слишком полагались на издавна укоренившуюся в сознании немецких офицеров и солдат привычку беспрекословно исполнять любой приказ. Но именно поэтому попытка переворота была заранее обречена на провал. «Ведь они забыли, — с удовлетворением констатировал он, — что национал-социалистическое государство приучило немцев к самостоятельному образу мышления и теперь они разбираются в политике. Их уже не заставишь безропотно подчиниться клике генералов. Они больше не марионетки». Геббельс вдруг резко замолчал, а затем дал ясно понять, что я здесь лишний: «Теперь, дорогой Шпеер, я прошу оставить нас вдвоем. Мне нужно кое о чем побеседовать с рейхсфюрером. Спокойной ночи».
21 июля главы основных правительственных ведомств были приглашены в ставку для участия в торжественной церемонии поздравления Гитлера. Мне буквально приказали взять с собой Заура и Дорша, хотя остальные министры прибыли без своих заместителей. Гитлер с показным радушием поочередно приветствовал каждого, и только мне он небрежно пожал руку и даже слова не сказал. По непонятной причине люди из его ближайшего окружения теперь избегали меня: стоило мне появиться в одном из помещений ставки, как они дружно замолкали и демонстративно старались не смотреть в мою сторону. Отвечающий за связь с гражданскими учреждениями адъютант Гитлера Шауб заявил мне: «Теперь мы знаем, кто именно стоит за этим покушением» — и поспешил удалиться, словно боялся, что я начну задавать вопросы. Мне так и не удалось толком ничего выяснить. Но особенно я был встревожен тем обстоятельством, что Заура и Дорша без меня пригласили на ночное чаепитие.
Напротив, впавший недавно в немилость Кейтель — его отставка, казалось, уже была предрешена — после 20 июля снова стал одним из наиболее приближенных к Гитлеру лиц. Оказывается, стоило в тот день выброшенному взрывной волной из окна Кейтелю встать на ноги, как он, увидев в проеме сорванной с петель двери Гитлера, бросился
503
к нему с криком «Мой фюрер, вы живы, вы живы!». Затем он в нарушение всякого этикета крепко обнял Гитлера и даже попытался очистить его мундир от копоти. Совершенно очевидно, что Гитлер никак не мог теперь отказаться от услуг человека, столь бурно выразившего свои верноподданнические чувства. К тому же Гитлер решил, что Кейтель, как никто другой, сумеет жестоко отомстить заговорщикам: «Фельдмаршал чуть сам не погиб. Уж он-то их не пощадит».
На следующий день Гитлер неожиданно довольно благосклонно разговаривал со мной, и приближенные сразу же последовали его примеру. Любезным тоном он пригласил меня на совещание, в котором также приняли участие Кейтель, Гиммлер, Борман и Геббельс. Гитлер, как обычно, спокойно позаимствовал чужую идею и объявил о назначении Геббельса «рейхскомиссаром по проведению тотальной мобилизации». Гитлеру даже в голову не пришло упомянуть, что это предложение содержалось в направленном мною ему две недели тому назад меморандуме. Неудачное покушение и срыв попытки государственного переворота на какое-то время опять пробудили в нем кипучую энергию, каждый его жест демонстрировал решимость, и то, чего мы с Геббельсом добивались больше года, оказалось сейчас возможным осуществить всего за несколько минут.
В конце совещания Гитлер вновь завел разговор о событиях последних дней. Ликующим голосом он заявил, что близится долгожданный коренной перелом в ходе военных действий, ибо место удаленных с высших командных постов предателей отныне займут более одаренные генералы. Смысл дальнейших рассуждений Гитлера сводился к следующему: он вполне понимает, почему Сталин расстрелял Тухачевского и его приверженцев. Тем самым Сталин добился прихода к руководству вооруженными силами более молодых, не обремененных опытом службы в армии военачальников. Он — Гитлер — ранее считал выдвинутые на прошедших в 1937 году в Москве процессах обвинения ложными, но в свете событий 20 июля изменил свою точку зрения и, хотя не располагает конкретными данными, не исключает возможного тайного сотрудничества между генеральными штабами Германии и России.
504
Все дружно согласились с ним. Особенно меня поразил Геббельс. Он буквально облил помоями генералов вермахта — столько издевки и презрения было в его словах. Я попытался было возразить ему, но он резко оборвал меня. Гитлер предпочел не вмешиваться в наш спор.
Известие о том, что командующий войсками связи генерал Фельгибель входил в число заговорщиков, вызвало у Гитлера новый приступ гнева. Подозрения в его адрес он высказывал срывающимся от ярости голосом, но с оттенком самодовольства. Сообщение как бы подтверждало опасения Гитлера, и он искренне радовался этому: «Теперь я знаю, почему в эти годы мне так и не удалось претворить в жизнь мои грандиозные планы покорения России. Повсюду засели предатели! Если бы не они, мы бы уже давно одержали победу! Теперь я могу со спокойной совестью предстать перед судом истории! Нужно непременно выяснить, не установил ли Фельгибель телеграфную связь со Швейцарией. И если да, то станет ясно, каким образом русские получают сведения обо всех моих планах. И допросить его следует с применением всех средств!.. Эта история снова подтвердила мою правоту! Когда я утверждал, что у вермахта не должно быть единого командования, никто не соглашался со мной. Нельзя сосредотачивать руководство нашими вооруженными силами в одних руках. Это слишком опасно! Теперь, надеюсь, вам понятно, почему я приказал сформировать как можно больше дивизий СС? И я своего добился, хотя все вокруг ставили мне палки в колеса...»
Затем Гитлер снова обрушился с гневными нападками на заговорщиков и заявил, что истребит их всех и искоренит измену в офицерском корпусе. Тут он вспомнил тех, кто когда-либо не соглашался с ним, и немедленно причислил их к заговорщикам. Так, по его словам, Шахт умышленно дезорганизовал производство вооружения, а он, к сожалению, слишком часто поддавался его уговорам и вообще был излишне мягок. Гитлер приказал немедленно арестовать Шахта и угрожающим тоном добавил: «Гесса мы тоже повесим, как и этих скотов, этих преступников в офицерских мундирах. Именно с него все и началось, он породил измену в наших рядах и подал им пример».
505
После столь бурного приступа ярости Гитлер немного успокоился и начал подробно рассказывать о покушении, о том, как он отказался от носилок и хотя и с трудом, но добрел до своего бункера, о грядущих переменах и о том, что победа опять близка. После подавления мятежа он вновь почувствовал уверенность в своих силах, впал в эйфорию, и мы в очередной раз с готовностью поверили ему.
Как известно, жизнь Гитлеру спасло то обстоятельство, что к 20 июля не успели закончить внутреннюю отделку его нового бункера и для проведения оперативного совещания выбрали предназначенное для меня легкое деревянное строение, в котором к тому же были распахнуты окна и двери. В замкнутом пространстве подземного помещения после такого мощного взрыва никто бы из присутствующих не уцелел. Этот бункер, на мой взгляд, следовало бы рассматривать как некий символ. Внешне он напоминал египетскую пирамиду, но в сущности представлял собой испещренную зигзагообразными полосами и наподобие валуна округленную по углам и верхнему краю огромную бетонную глыбу без окон, куда не проникал свежий воздух и где железобетонные, пятиметровой толщины стены, отделанные изнутри под темный дуб, оставляли очень мало места для полезной площади. В этом склепе Гитлер жил, работал и спал. Создавалось ощущение, что этой толщью монолитного, проложенного стальной стружкой железобетона он в прямом смысле слова отгородился от внешнего мира, чтобы наедине с самим собой предаваться безумным мечтам.
Я воспользовался своим пребыванием в ставке и уже вечером 20 июля нанес прощальный визит уволенному с поста начальника Генерального штаба Цейтцлеру. Заур буквально навязался пойти со мной. Нашу беседу прервало появление адъютанта Цейтцлера, подполковника Сменда, которого через несколько недель приговорили к смертной казни. Он пришел доложить о своем возвращении из командировки. Заур сразу же заподозрил неладное и прошептал мне: «Видели, как они посмотрели друг на друга? Они явно сговорились между собой». Я раздраженно ответил: «Нет». Когда он наконец удалился и мы остались одни, выяснилось, что Сменд ездил в Берхтесгаден с заданием забрать все документы из сейфа Генерального штаба. Цейт- цлер как бы между прочим рассказал об этом эпизоде и тем
506
самым окончательно убедил меня в том, что заговорщики не посвятили его в свои планы. Я также не узнал, высказал ли Заур свои предположения Гитлеру.
Через три дня — 24 июля — я вылетел из ставки в Берлин.
В столице я узнал, что обергруппенфюрер СС Кальтен- бруннер настойчиво добивается встречи со мной, он еще ни разу не был у меня. Боли в ноге усилились, и я был вынужден принять его лежа. Кальтенбруннер смерил меня внимательным взглядом, и я сразу почувствовал исходившую от него угрозу. Он тотчас объяснил цель своего прихода: «В одном из сейфов на Бендлерпгграссе мы обнаружили составленный заговорщиками список членов будущего кабинета. Вы числитесь в нем министром вооружений». Он начал выяснять, знал ли я об их намерении сохранить за мной прежнюю должность, но разговаривал учтивым тоном и был, как обычно, очень вежлив. Вскоре он перестал задавать мне вопросы и вынул из портфеля документы, содержавшие разработанный мятежниками план реорганизации исполнительной власти и системы управления вооруженными силами. Вероятно, он был составлен офицером, так как особое внимание уделялось организационно-командной структуре вермахта. Своего рода большому Генеральному штабу подчинялись не только все три рода войск, но и командующий резервной армией, который должен был руководить также производством вооружений. В схеме подведомственных ему органов управления военной промышленностью я обнаружил аккуратно вписанную печатными буквами в одну из клеток канвовой бумаги свою фамилию: «Вооружение: Шпеер». Сверху кто-то из скептически настроенных заговорщиков написал: «Если получится» — и поставил рядом жирный вопросительный знак. Высказанное им сомнение и мой отказ приехать 20 июля на Бендлерпгграссе спасли меня от почти неминуемого ареста. Как ни странно, но Гитлер в разговорах со мной никогда не затрагивал эту тему.
Разумеется, я уже тогда размышлял над своим возможным поведением в случае победы мятежников. Предложи они мне остаться в должности министра вооружений, я бы, наверное, согласился, но оговорил бы срок исполнения
507
своих служебных обязанностей строго определенным переходным периодом. Зная тогда то, что мы знаем теперь о главных участниках заговора и о двигавших ими благородных побуждениях, я бы наверняка стал их сторонником и какое-то время мог бы сотрудничать с ними. В то же время именно поэтому я бы вряд ли согласился остаться в правительстве в случае их победы; ведь я принадлежал к правящей элите нацистского режима, и понимание его истинной природы просто не позволило бы мне по нравственным соображениям занять в послегитлеровской Германии какой-либо руководящий пост.
В тот день в конференц-залах всех берлинских министерств собрались высокопоставленные чиновники, чтобы заявить о своей безусловной верности фюреру. Везде эта процедура заняла не более двадцати минут. Никогда еще я не чувствовал себя на трибуне так уверенно и произнес, наверное, самую неудачную речь в своей жизни. Обычно я старался избегать шаблонных фраз и преисполненных излишнего пафоса призывов, но на этот раз громогласно прославлял величие Гитлера, клялся в своей непоколебимой вере в победу и впервые закончил свое выступление возгласом «Зиг хайль!». Раньше от меня никто не требовал столь откровенного проявления верноподданнических чувств, и вообще любое подобострастие противоречило моему вкусу и темпераменту. Именно поэтому я чувствовал себя неуверенно, так как понимал, что безнадежно скомпрометировал себя и, образно выражаясь, ступил на тропу, ведущую в никуда.
Впрочем, мои опасения были вполне обоснованными. О моей судьбе ходило множество слухов. Одни утверждали, что я арестован, другие с безапелляционным видом заявляли, что вынесенный мне смертный приговор якобы уже приведен в исполнение, — верный признак того, что скрытое общественное мнение по-прежнему расценивало мое положение как довольно шаткое.
Но все сомнения развеялись как дым, когда Борман пригласил меня выступить 3 августа на совещании гаулейтеров в Позене. Собравшиеся все еще находились под впечатлением событий 20 июля, и, хотя сам факт приглашения сюда должен был полностью реабилитировать меня в их глазах, тем не менее они едва ли не объявили мне бойкот.
508
Среди множества собравшихся в Позене гаулейтеров я чувствовал себя совершенно одиноким. Отношение высших партийных руководителей ко мне лучше всего выразила небрежно брошенная Геббельсом реплика: «Теперь мы знаем, на чьей стороне Шпеер».
В июне 1944 года объем производства вооружений достиг наивысшего уровня. В этот раз я решил не раздражать гаулейтеров и рейхслейтеров рассуждениями на общие темы, ухудшая тем самым свое и без того нелегкое положение, а предпочел обрушить на них поток цифр, характеризующих наши успехи, а также рассказать им о новых грандиозных программах, осуществляемых по прямому указанию Гитлера. Когда же я рассказал о том, сколько неиспользованного военного снаряжения хранится на складах вермахта, слушатели заметно оживились, а Геббельс громко воскликнул: «Саботаж, чистейшей воды саботаж!» После 20 июля правители рейха повсюду искали измену, заговор и коварные происки тайных врагов. Как бы там ни было, но мой отчет произвел довольно сильное впечатление на гаулейтеров.
Из Позена они отправились в ставку, где на следующий день Гитлер выступил перед ними в кинозале. Хотя занимаемая должность никак не позволяла мне войти в этот круг, Гитлер потребовал, чтобы я также принял участие в совещании. В тот день я предпочел занять место в заднем ряду.
Гитлер долго говорил о последствиях событий 20 июля, вновь объяснил наши неудачи предательством ряда офицеров сухопутных войск, рисовал будущее в розовом свете и, как отмечалось в протоколе, заявил, что «никогда еще не был так уверен в себе». Раньше все его усилия были напрасными из-за скрытого саботажа, но теперь преступная клика разоблачена, и поражение мятежников, возможно, благоприятно скажется на исходе военных действий. Гитлер буквально повторил слова, сказанные им сразу после покушения в узком кругу своих приближенных. Должен признаться, что я, несмотря на то что в глубине души понимал всю бессмысленность рассуждений Гитлера, был готов поверить ему — уж больно пылко и самозабвенно произносил он речь, — как вдруг прозвучали фразы, которые немедленно спустили меня с небес на землю и не позволили больше заниматься самообманом: «Если немецкий народ
509
потерпит поражение в этой борьбе, то лишь по причине своей слабости. Это будет означать, что он не выдержал ниспосланного ему историей испытания и должен исчезнуть с лица земли».
К моему удивлению, Гитлер, вопреки привычке никогда не отмечать публично заслуги близких ему людей, с похвалой отозвался о моей деятельности. Видимо, он понимал, что при таком настроении гаулейтеров я вряд ли смогу по- прежнему трудиться столь же плодотворно, и поэтому счел нужным устранить все сомнения в моей лояльности. Он как бы продемонстрировал партийным иерархам, что после 20 июля его отношение ко мне нисколько не изменилось.
Я воспользовался этим обстоятельством и попытался помочь тем своим сотрудникам и знакомым, которые подверглись репрессиям. Заур же не погнушался стать доносчиком и, воспользовавшись пребыванием в ставке, донес Гитлеру на занимавших ответственные посты в управлении вооружений сухопутных войск генерала Шнейдера и полковника Фихтнера. Поводом для ареста Шнейдера послужило якобы услышанное Зауром от него высказывание о неспособности Гитлера дать оценку техническим проблемам, а для взятия под стражу Фихтнера оказалось достаточным высказанного в его адрес голословного обвинения: он, дескать, в должной мере не способствовал производству новых типов танков, хотя Гитлер еще в начале войны настоятельно требовал начать их крупносерийный выпуск. Однако Гитлер был далеко не уверен в том, что оба они виновны в умышленном саботаже, и, когда я заступился за них, немедленно согласился с моими доводами и распорядился освободить их с условием, что ни генерал, ни полковник не займут больше никаких должностей в управлении вооружений сухопутных войск.
В том, насколько Гитлер поверил в неблагонадежность офицерского корпуса, я убедился, наблюдая за его реакцией на полученное 18 августа сообщение из штаба Западного фронта. Его главнокомандующий фельдмаршал Клюге тремя днями раньше отправился с инспекционной поездкой в 7-ю армию, и на протяжении многих часов с ним была потеряна всякая связь. Когда Гитлер узнал, что фельдмаршала сопровождал только адъютант, у которого была с собой рация, то уже не сомневался в том, что они отправились на
510
заранее условленную встречу с представителями союзников с целью обсудить с ними условия капитуляции войск Западного фронта. И только сильный воздушный налет помешал фельдмаршалу осуществить свой коварный замысел. Гитлер тут же сместил Клюге с его поста и распорядился вызвать фельдмаршала в ставку. Тут поступило сообщение о том, что Клюге в дороге скончался от сердечного приступа, и Гитлер, сославшись на свое чутье, приказал гестапо самым тщательным образом обследовать труп. Выяснилось, что Клюге принял яд. Гитлер возликовал и заявил, что теперь полностью убедился в причастности Клюге к заговору, хотя фельдмаршал в предсмертном письме заверял фюрера в своей готовности отдать за него жизнь.
Тогда же я увидел в бункере Гитлера лежащие на большом столе для оперативных карт донесения Кальтенбрун- нера о допросах заговорщиков и, воспользовавшись дружескими отношениями с одним из адъютантов фюрера, попросил дать их мне на две ночи, ибо опасался, что показания кого-либо из арестованных могут быть использованы против меня. Ведь после 20 июля любые высказанные ранее критические замечания считались проявлением пораженческих настроений. Однако протоколы не содержали каких-либо компрометирующих сведений. Гестапо могло меня обвинить лишь в том, что именно с моей легкой руки будущие мятежники стали называть готовых во всем соглашаться с Гитлером лиц из его ближайшего окружения «китайскими болванчиками».
На том же столе все эти дни лежала кипа фотографий. Я машинально взял их и тут же положил обратно, так как на самой верхней фотографии мне сразу бросилось в глаза болтающееся на виселице тело человека в арестантском халате и форменных брюках с широкими генеральскими лампасами. Стоящий рядом офицер СС любезным тоном пояснил: «Это Витцлебен. А других посмотреть не желаете?» Вечером нас пригласили на просмотр заснятой на кинопленку казни заговорщиков. Я знал, что не смогу спокойно смотреть на экран, и поспешил под предлогом чрезмерной загруженности делами отказаться от приглашения. Среди множества торопливо устремившихся в кинозал людей в черных мундирах СС или штатских костюмах не было ни одного офицера вермахта.
511
27
Под натиском западных союзников
Когда я в начале июля предложил Гитлеру вместо показавших свою полную непригодность членов «коллегии трех» поручить проведение тотальной мобилизации Геббельсу, то никак не мог предположить, что уже через несколько недель окажусь в неравном с ним положении — выдвинутые против меня подозрения в причастности к заговору значительно подорвали мой авторитет. Кроме того, все большее число партийных руководителей объясняло наши неудачи недостаточно активными действиями партии в решении многих проблем. Будь их воля, весь командный состав вермахта состоял бы только из членов партии. Гаулейтеры открыто выразили сожаление по поводу того, что в 1934 году руководство СА не смогло подчинить себе рейхсвер, и считали, что пришла пора наверстать упущенное и претворить в жизнь идею Рёма о создании «Народной армии»; в их понимании своевременное воспитание офицерского корпуса в духе национал-социализма предотвратило бы поражения последних лет. Теперь они считали, что следует хотя бы всерьез заняться политико-экономической сферой и заставить государственные институты, как и всех нас, безропотно выполнять партийные директивы.
Уже через несколько недель после совещания высших чинов партии в Позене руководитель Главного комитета по производству вооружен™ Тике представил мне докладную записку, в которой говорилось, что «гаулейтеры, командиры подразделений СА и прочие партийные деятели без всякого уведомления пытаются вмешиваться в дела предприятий». В результате «их директора оказались как бы в двойном подчинении». Многие органы управления военной промышленности «поддались давлению, что в итоге привело к полной неразберихе».
Преисполненных честолюбием и буйной энергией гаулейтеров всячески поощрял не кто иной, как Геббельс, который вдруг почувствовал себя не столько рейхсминистром, сколько партийным руководителем. При поддержке Бормана и Кейтеля он фактически проводил призыв в вермахт всего мало-мальски пригодного для этого населения,
512
и следовало ожидать, что он не пожелает прислушаться ни к каким разумным доводам и снимет бронь со значительной части персонала военных заводов. Это, в свою очередь, поставит их работу на грань срыва. 30 августа я объявил начальникам управлений о своем намерении передать производство вооружений в ведение гаулейтеров: я понял, что не могу больше противостоять им.
Я остро чувствовал сейчас свою беззащитность, так как, подобно большинству министров, был лишен возможности изложить Гитлеру свое мнение о намерениях партийных иерархов. Он старательно избегал бесед на любые неприятные для него темы. Поэтому я решил, что целесообразнее изложить ему свои претензии в письменном виде.
Я выступал против намерения партии подчинить себе всю систему промышленного производства. 2 сентября я отправил Гитлеру письмо, в котором к тому же подробно рассказал о том, к каким ухищрениям прибегают партийные инстанции для достижения заветной цели — смещения меня с поста министра вооружений.
Я писал, что события 20 июля «породили еще большее недоверие к сотрудничающим со мной промышленникам». В партии по-прежнему господствует мнение, что мое ближайшее окружение состоит из «реакционно настроенных, обладающих узким экономическим кругозором и враждебных партии» людей. Я также привел в своем послании откровенные высказывания Бормана и Геббельса о том, что созданная мной система управления военной промышленностью и в первую очередь мое министерство представляют собой «прибежище крайних реакционеров из числа руководителей экономики». В конце письма я подчеркивал, что «не в состоянии успешно продолжать свою деятельность, если ее и далее будут оценивать на основании партийно-политических критериев».
Я указывал, что готов согласиться на вмешательство партийных инстанций в производство вооружения лишь при соблюдении двух условий. Во-первых, как гаулейтеры, так и их экономические советники все свои решения по вопросам, касающимся выпуска военной продукции, должны предварительно согласовывать со мной: «Отсутствие четкой субординации приведет к полнейшей безответственности». Во-вторых, я потребовал, чтобы Гитлер вновь поддержал
17 А. Шпеер
513
меня: «Необходимо решить, следует ли в дальнейшем сохранить нынешнюю, основанную на полном доверии к промышленникам, систему хозяйственного управления или же ее нужно полностью реорганизовать. По моему глубокому убеждению, за руководителями предприятий надо сохранить все их прежние полномочия». Я завершил письмо просьбой не менять выдержавшую испытание на практике организацию военного производства и лишь принять соответствующее решение, «которое также ясно даст понять, в каком направлении будет развиваться экономика».
21 сентября я вручил Гитлеру мое послание. Он внимательно прочитал его и, не говоря ни слова, нажал кнопку звонка. Немедленно появившемуся в дверях адъютанту он приказал передать письмо Борману. Одновременно он поручил своему секретарю вместе с находившимся тогда в ставке Геббельсом обсудить его содержание. Это означало мое полное поражение. Гитлер к тому времени слишком устал, чтобы ввязываться в обсуждение проблемы, о которой он имел довольно смутное представление.
Через несколько часов Борман пригласил меня в свою расположенную буквально в нескольких шагах от бункера Гитлера канцелярию. Его небрежный вид — рубашка с распахнутым воротом, плотно прилегающие к жирному телу подтяжки — резко контрастировал с элегантным костюмом министра пропаганды. Геббельс сразу же заявил, что согласно указу Гитлера от 25 июля я обязан подчиняться ему, а он в свою очередь собирается в полной мере воспользоваться предоставленными ему широкими полномочиями. Борман согласился с ним и подчеркнул, что намерен пресекать любую попытку влияния на Гитлера. Разговор приобретал все более неприятный характер: Борман откровенно хамил, а Геббельс время от времени бросал короткие угрозы. Я пожинал плоды собственной инициативы: неожиданно для меня она обернулась союзом Геббельса и Бормана.
Гитлер по-прежнему никак не реагировал на мои требования, хотя дня через два опять выразил ко мне расположение, без всяких оговорок подписав составленный мной проект призыва к директорам заводов, в котором, в сущности, содержались те же предложения, что и в моем письме. В обычной ситуации это было бы равносильно победе над Борманом и Геббельсом. Но Гитлер тогда уже не пользовался
514
в партии незыблемым авторитетом. Его ближайшие соратники просто не обратили внимания на его жест и продолжали чинить произвол и вмешиваться в экономические процессы: партийный аппарат к тому времени уже в значительной степени разложился, и эти явления не могли не отразиться на поведении его руководителей. Они уже не считали нужным неукоснительно выполнять указания Гитлера. Разумеется, определенную долю вины за потерю своего авторитета нес он сам. Ведь Геббельс требовал разрешить ему мобилизовать в вермахт как можно больше людей, я утверждал, что это отрицательно скажется на производстве вооружения, а Гитлер проявил полнейшую беспомощность, ибо никак не мог выбрать один из двух вариантов. Он поддерживал то одну, то другую сторону и издавал противоречащие друг другу приказы, пока наконец интенсивные бомбардировки немецких городов и неудержимое продвижение вражеских армий не разрешили наш спор и не сделали совершенно излишними любые разговоры о падении авторитета Гитлера.
Политические события и непрестанные интриги настолько измучили меня, что любой свой отъезд из Берлина я стал воспринимать как отдых. Поэтому я начал вскоре выезжать в инспекционные поездки на различные участки фронта в надежде, что, располагая не столько официальной информацией, сколько полученными из первых рук сведениями, смогу повлиять на отдельные решения ставки.
Когда я теперь вспоминаю об этом, то прихожу к выводу, что ни мои сообщения, ни письменные отчеты не возымели должного эффекта. Например, многие фронтовые генералы настоятельно просили меня восполнить их потери в вооружении и боевой технике — ведь наши военные заводы, как и раньше, работали почти на полную мощность. Но ни Гитлер, ни назначенный им главнокомандующим резервной армией Гиммлер не желали прислушиваться ни к каким разумным аргументам и упорно придерживались той точки зрения, что отступающие войска морально уже фактически капитулировали перед врагом и поэтому — тут они использовали весьма характерное выражение — «пусть эти воинские части и дальше истекают кровью». По мнению Гитлера и Гиммлера, их следовало заменить
17*
515
спешно формируемыми так называемыми народно-гренадерскими дивизиями.
В том, к каким пагубным последствиям привела отстаиваемая ими позиция, я убедился, посетив в конце сентября 1944 года дислоцированное близ Битбурга одно из подразделений учебной танковой дивизии. Его испытанный в боях командир показал мне местность, на которой из-за неопытности экипажей танков недавно сформированной бригады произошла трагедия. Еще на марше из-за повреждений ходовой части вышли из строя десять из тридцати двух только что доставленных в часть «Пантер». Офицеры штаба бригады крайне неумело провели рекогносцировку открытой местности, и их соединение попало под огонь американской батареи противотанковых орудий, бившей по нему, как на учебных стрельбах, прямой наводкой и уничтожившей еще пятнадцать «Пантер». «А все потому, что экипажи еще не научились толком управлять ими. Эх, если бы моим опытным парням дали эти танки, они бы такого натворили!» — сокрушался капитан.
Я описал Гитлеру этот инцидент и в конце с нескрываемой иронией заметил, что «доукомплектование воинских частей зачастую дает гораздо больший эффект, чем формирование новых соединений». На Гитлера мой рассказ не оказал никакого воздействия. На одном из оперативных совещаний он заявил, что за время службы в пехоте приобрел бесценный опыт и теперь твердо убежден в следующем: солдаты лишь в том случае тщательно следят за сохранностью своего оружия, если знают, что никто не восполнит им его потери.
В ходе других поездок я убедился, что на отдельных участках Западного фронта уже предпринимались попытки достичь соглашения с противником. Неподалеку от Арн- хейма я встретил разгневанного генерала войск СС Битри- ха. За день до этого его 2-й танковый корпус разгромил английскую воздушно-десантную дивизию. Однако еще во время боев он договорился с ее командиром и разрешил англичанам не эвакуировать оставшийся за линией фронта их полевой госпиталь. Но тут партийные функционеры устроили самосуд над находившимися там английскими и американскими летчиками. Все усилия Битриха оказались напрасными. Прозвучавшие из его уст резкие упреки
516
в адрес партии производили сильное впечатление, уже хотя бы потому, что их произносил генерал СС.
Бывший адъютант Гитлера от сухопутных войск, а ныне командир расквартированной близ Дюрена 12-й пехотной дивизии полковник Энгель на свой страх и риск договорился с противником о переносе раненых в перерыве между боями в более безопасные места. Не имело никакого смысла заводить в ставке разговор о такого рода соглашениях, ибо я уже имел возможность убедиться, что Гитлер рассматривал их как проявление «трусости». В нашем присутствии он неоднократно с издевкой отзывался о «ложных рыцарских традициях прусского офицерского корпуса» и утверждал, что жестокость, с которой обе стороны сражаются друг с другом на Восточном фронте, создает у солдата ощущение безысходности и тем самым укрепляет его боевой дух — ведь в таких трудных условиях ему даже в голову не придет руководствоваться мало-мальски гуманными соображениями.
На моей памяти Гитлер только один раз, хотя и крайне неохотно, согласился заключить соглашение с противником. Поздней осенью 1944 года командование английских военно-морских сил позволило беспрепятственно эвакуировать немецкие гарнизоны с островов Эгейского моря, казалось бы, полностью блокированных, на территорию материковой Греции. Перевозившие наших солдат суда проходили в пределах видимости английских кораблей. В ответ командование немецких войск обещало усилить за счет этих частей обороняющие Салоники соединения и удерживать город до подхода английских дивизий. После обсуждения этой предложенной Йодлем акции Гитлер раздраженно заметил: «Больше мы на такие компромиссы не пойдем».
В сентябре 1944 года гаулейтеры западных земель, командиры дислоцированных там фронтовых частей и владельцы заводов ожидали, что армии западных союзников воспользуются своим полным превосходством в силах и вскоре развернут широкое наступление. Любой, кто хоть немного сохранил чувство реальности, даже представить себе не мог, что почти не располагавшие тяжелым вооружением и изнуренные в боях немецкие войска смогут остановить их натиск, и уж тем более никак нельзя было
517
поверить в новое, на этот раз спасительное не для противника, а для нас «чудо на Марне».
В компетенцию моего министерства входила подготовка к разрушению всех промышленных объектов на оставляемых нами территориях. На Восточном фронте уже действовал приказ Гитлера «при отступлении оставлять за собой выжженную землю». Едва армии западных союзников, заняв на побережье Нормандии плацдарм, начали продвигаться вперед, как Гитлер без малейших колебаний отдал аналогичную директиву войскам Западного фронта. Сперва он руководствовался сугубо оперативными соображениями, так как намеревался затруднить подвоз на передовые позиции противника предметов снабжения, использование для ремонта вышедшей из строя боевой техники электростанций и газопроводов и предотвратить возможность создания им в перспективе военных заводов на занятых территориях. Пока до окончания войны было еще далеко, я признавал правоту Гитлера, но его намерения потеряли всякий смысл в тот момент, когда стало очевидно, что поражение Германии неизбежно.
Совершенно безнадежное положение побудило меня делать все, чтобы опустошительные последствия войны не сказались роковым образом на восстановлении экономики. Неожиданно мне удалось довольно легко переубедить Гитлера, который с каждым днем все более яростно настаивал на проведении разрушительных акций. Так как он всегда утверждал, что в ближайшее время будут возвращены все захваченные врагом территории, я тут же сослался на его слова и доказал, что имеющиеся там производственные мощности нужно сохранить и после отступления вражеских войск вновь использовать для выпуска военной продукции.
Развитие событий на Западном фронте заставило Гитлера прислушаться к моим аргументам. Как только американские войска прорвали передовую линию нашей обороны и окружили Шербур, он принял 20 июня решение о том, что, «невзирая на вызванные положением на фронте временные трудности с транспортом, все производственные мощности французских предприятий должны быть полностью загружены». Тем самым Гитлер позволил главе военной администрации не выполнять его приказ о принудительной
518
эвакуации в Германию одного миллиона французов в случае успешного осуществления союзниками десантной операции. Он имел в виду не подлежащий ранее депортации рабочий и технический персонал целого ряда заводов.
Однако вскоре Гитлер вновь заговорил о необходимости уничтожить всю французскую промышленность. 19 августа, когда наступавшие с северо-запада союзные войска находились еще довольно далеко от Парижа, мне удалось добиться от Гитлера согласия не разрушать, а лишь временно приостанавливать работу на расположенных в угрожаемых зонах заводах.
Но заставить Гитлера принять по этому вопросу принципиальное решение было совершенно невозможно, и мне всякий раз приходилось убеждать его в том, что мы непременно вернем эти территории. Я сам себе не верил, и этот изрядно затасканный аргумент постепенно начал вызывать у меня отвращение.
Когда в конце августа вражеские войска приблизились к железорудным месторождениям в Брие и Лонгви, ситуация сразу же изменилась, ибо в 1940 году Лотарингия была фактически присоединена к рейху, и я впервые как бы вторгся в непосредственно подведомственную гаулейтеру сферу. Любая попытка убедить его перед отступлением не производить никаких разрушений была заранее обречена на провал, и поэтому я обратился непосредственно к Гитлеру, который поручил мне сохранить в неприкосновенности все залежи железной руды и промышленные предприятия и передать соответствующие указания гаулейтеру.
В середине сентября Рёхлинг сообщил мне в Саабрюкене, что подающая ток на насосные установки оказавшихся за линией фронта шахт электростанция находится на нашей территории, и в очень осторожных выражениях попросил разрешения не отключать пока еще не поврежденную высоковольтную линию электропередач. Я сразу же дал свое согласие и поддержал также предложение командира одной из фронтовых частей по-прежнему подавать ток в захваченный противником Люттих, чтобы находившиеся там полевой госпиталь и больница не закрылись из-за нехватки электроэнергии.
Через несколько недель мне пришлось решать вопрос о дальнейшей судьбе германской промышленности. Ее
519
руководители, естественно, отнюдь не горели желанием разрушать свои заводы и фабрики; совершенно неожиданно к их точке зрения присоединились несколько гаулейтеров. Последовал довольно странный период моей жизни, отмеченный двусмысленными беседами, полными скрытых намеков и недомолвок; эти разговоры представляли собой попытку узнать истинные взгляды собеседника. Иногда даже возникало ощущение, что тебя сознательно провоцируют, заставляя высказаться слишком откровенно, и каждое твое слово могло легко обернуться против тебя.
Я решил на всякий случай подстраховаться и в докладе Гиммлеру о своей поездке на фронт 10—14 сентября подчеркнул, что оказавшиеся в непосредственной близости от линии фронта предприятия хотя и не в полном объеме, но продолжают выпускать необходимую продукцию. Желая убедить его в правильности своих доводов, я привел следующий конкретный пример: город Аахен оказался в угрожаемой зоне и тем не менее один из тамошних заводов по-прежнему производил ежемесячно четыре миллиона патронов, которые партиями отправлялись прямо на фронт.
Я подчеркнул, что было бы целесообразно вплоть до последнего момента не прекращать их производство, даже если это предприятие подвергнется артиллерийскому обстрелу, и настоятельно рекомендовал не эвакуировать из Аахена коксовальные заводы: накопившиеся там запасы выработанного каменного угля нужны для системы теплоснабжения Кёльна, а получаемые ежедневно в качестве побочного продукта несколько тонн бензола используются для удовлетворения нужд вермахта. Если демонтировать оборудование на расположенных в прифронтовой зоне электростанциях, то неизбежно закроются почтовые отделения и выйдут из строя линии военной связи дислоцированных в этом районе войск. Одновременно я со ссылкой на прежние решения Гитлера отправил гаулейтерам телеграмму с требованием сохранить в целости и сохранности все промышленные сооружения.
Внезапно ситуация опять изменилась. После возвращения из этой поездки в Берлин я решил провести несколько дней в нашей ведомственной гостинице для технических специалистов на Ванзее, и там начальник центрального управления Либель сообщил мне, что во все министерства
520
поступил приказ Гитлера о проведении на территории Германии политики «выжженной земли».
Зная, что в номерах могут быть установлены микрофоны, мы вышли в сад и прилегли на выставленных на лужайке шезлонгах; день был не по-осеннему теплым, припекало солнце, по искрящейся бликами зеркальной глади озера медленно скользили яхты. Гитлер не желал, чтобы немцы жили на оккупированных врагом территориях, — вот в чем, по словам Либеля, заключался истинный смысл его приказа. А те, кто все же рискнул там остаться, должны были влачить жалкое существование в совершенно нечеловеческих условиях. Предполагалось не только взорвать промышленные предприятия, газовые заводы и электростанции, но и сжечь крестьянские дома, забить скот, уничтожить запасы продовольствия, а также всю необходимую для выдачи продовольственных карточек и оформления банковских счетов документацию, все акты гражданского состояния и адресные книги. Гитлер наотрез отказался сохранить даже уцелевшие после воздушных налетов памятники архитектуры и вознамерился стереть с лица земли старинные замки, церкви, здания драматических и оперных театров.
Именно по настоянию Гитлера 7 сентября «Фёлькишер беобахтер» опубликовала написанную высокопарным стилем передовую статью, всячески превозносившую и даже воспевавшую эти акты вандализма: «Ни один выросший на немецкой земле колос не должен давать пищу врагу, ни слова не должен он услышать из немецких уст, и ни один немец не смеет протянуть ему руку помощи. Пусть все мосты будут разрушены и все дороги перегорожены — пусть враг везде и всюду ощущает на себе испепеляющую ненависть, пусть везде и всюду его подстерегает смерть».
Напрасно я пытался пробудить в Гитлере сочувствие к немцам, вынужденным не по своей воле покинуть родные места. Так, в своем отчете я следующим образом описал их бедственное положение: «В районе Аахена толпы измученных, несчастных людей, среди которых множество стариков и детей, точно так же, как и беженцы во Франции в 1940 году, бредут неведомо куда. Если придется эвакуировать еще большее количество населения, это может вызвать невообразимый хаос, и поэтому придется воздержаться от принятия скоропалительных решений по вопросу
521
эвакуации». Я призывал Гитлера «совершить поездку в западные области рейха и своими глазами увидеть, что там творится... Народ ждет от вас этого поступка».
Но Гитлер так и не последовал моему призыву. Напротив, стоило ему узнать, что крейслейтер Аахена Шмеер попытался избежать насильственных мер по эвакуации населения, как он немедленно распорядился снять его с должности, исключить из партии и отправить солдатом на фронт. Не имело никакого смысла пытаться уговорить Гитлера отменить свои приказания, а для каких-либо самостоятельных действий у меня отсутствовали необходимые полномочия. Но я был настолько встревожен, что сразу же без всякой подготовки продиктовал текст телеграммы, которую Борман после согласования с Гитлером должен был отправить восьми гаулейтерам западных земель. В той телеграмме я ни словом не упомянул отданные Гитлером в последнее время распоряжения и как бы подталкивал его издать директиву в духе прежних решений. Я стремился учесть психологический настрой Гитлера и исходил из его веры в победу — неважно, был ли он искренне убежден в ней или просто обманывал себя. Я подводил его к мысли о том, что если он не откажется от своего намерения осуществить принцип «выжженной земли», то тем самым как бы признает свое поражение и уже не сможет с чистой совестью призывать народ стоять до конца.
Директива была составлена в по-военному четком, лапидарном стиле: «Фюрер твердо убежден в том, что уже в ближайшее время сумеет вернуть все захваченные врагом территории. Поскольку расположенные на западных землях промышленные предприятия играют важную роль в производстве вооружения и боевой техники, то меры по эвакуации следует проводить так, чтобы заводы и фабрики всегда могли снова заработать на полную мощь... Выводить предприятия из строя на длительный срок путем демонтажа оборудования следует только в самый последний момент... Электростанции в угледобывающих районах не следует разрушать, так как это приведет к отключению водоотливных сооружений и почти неизбежному прорыву подземных вод в шахты, откачивать которые придется потом в течение нескольких месяцев».
522
Вскоре я позвонил в ставку, чтобы выяснить, ознакомился ли Гитлер с текстом директивы. Оказалось, что циркуляр с незначительными изменениями уже отправлен в руководящие партийные инстанции. Я опасался, что внесенные Гитлером коррективы предусматривают гораздо более конкретные и серьезные меры по выведению предприятий из строя, но выяснилось, что он не стал менять содержания и лишь собственноручно смягчил пассажи, проникнутые чрезмерным оптимизмом и напускной верой в победу. Вторая фраза звучала теперь так: «Нам ни в коем случае нельзя терять веру в то, что нам удастся вернуть хотя бы часть занятых врагом западных земель».
Зато приписанные Борманом несколько строк сразу же обязали гаулейтеров с особым вниманием отнестись к этой телеграмме: «По поручению фюрера направляю вам послание господина рейхсминистра Шпеера и прошу неукоснительно выполнить все содержащиеся в нем требования». Даже Борман в данной ситуации поддержал меня. Казалось, он в гораздо большей степени, чем Гитлер, сознавал, какие губительные последствия может иметь полное разорение эвакуируемых территорий.
В сущности, Гитлер, призывая не терять веру в возможность вытеснения противника с занятых им немецких земель, всего лишь пытался сделать хорошую мину при плохой игре. Неделю тому назад он окончательно убедился в том, что, даже если удастся временно стабилизировать линию фронта, войну в любом случае придется закончить из-за нехватки стратегического сырья. Этот мой высказанный в том году прогноз Йодль дополнил анализом оперативно-стратегической обстановки и в одном из своих докладов заявил, что вермахт занимает слишком огромную территорию; он даже уподобил его удаву, который проглотил какое-то животное больших размеров и теперь не в состоянии его переварить. Поэтому он предложил вывести войска из Финляндии, Северной Норвегии, северных районов Италии и большей части Балканского полуострова, чтобы затем занять создававшие нашим войскам несомненные преимущества оборонительные позиции на берегах рек Тиссы и Савы и у южных отрогов Альп. Тем самым он надеялся получить в свое распоряжение множество
523
дополнительных дивизий. Сперва Гитлер даже слышать не хотел об этом, но в конце концов поддался уговорам и 20 августа разрешил произвести по крайней мере предварительные расчеты с целью определить, к каким последствиям приведет отказ от этих богатых ресурсами территорий.
Я еще не успел закончить и отредактировать очередную докладную записку, как 2 сентября 1944 года правительство Финляндии подписало с Советским Союзом соглашение о перемирии и потребовало, чтобы немецкие войска до 15 сентября покинули страну. Настроение Гитлера сразу же резко изменилось. Теперь он даже в мыслях не допускал возможности добровольного вывода наших войск откуда бы то ни было.
Йодль же, напротив, еще более настойчиво, чем прежде, требовал отхода частей вермахта из Лапландии еще до наступления осенних холодов, ибо, если на отступавшие войска обрушатся бураны, они будут вынуждены бросить все свое вооружение. И опять Гитлер прибег к тем же самым аргументам, что и год назад, когда речь шла об отступлении из районов на юге Украины, богатых марганцевыми рудами: «Если мы потеряем месторождения никеля в Северной Лапландии, через несколько месяцев остановятся все наши военные заводы».
Однако я заставил его пересмотреть эту точку зрения. 5 сентября я отправил Йодлю и Гитлеру с фельдъегерем меморандум, в котором утверждал, что исход войны для нас решит не потеря никелевых рудников в Финляндии, а прекращение поставок хромовой руды из Турции. Если даже предположить, что военная промышленность будет по-прежнему работать на полную мощь — в условиях не- прекращающихся воздушных налетов это было совершенно нереально, — все равно 1 июля 1945 года она получила бы последнюю партию хромовой руды. «Учитывая производственный потенциал тех отраслей нашей перерабатывающей промышленности, которые всецело зависят от поставок хромовой руды, — а к ним следует отнести практически всю военную индустрию, — выпуск военной продукции полностью прекратится 1 января 1946 года».
Предсказать реакцию Гитлера на то или иное предложение было в этот период невозможно. Я уже приготовился к тому, что в бессильной ярости Гитлер сорвет гнев на
524
мне, но он довольно спокойно выслушал мои аргументы, не принял никакого решения и, вопреки совету Йодля, медлил с выводом войск до середины октября. Вероятно, в тогдашней ситуации даже столь мрачный прогноз не произвел на него особого впечатления. Становился все более очевидным неотвратимый развал как Западного, так и Восточного фронтов, и в этих условиях даже Гитлер в глубине души сознавал, что до 1 января 1946 года нам никак не продержаться.
Гораздо больше тревоги вызывала тогда у нас нехватка горючего. В конце сентября я писал Гитлеру: «Дислоцированная близ Крефельда и состоящая из свыше тридцати семи боеспособных самолетов группа истребителей, несмотря на благоприятные погодные условия, после двух дней вынужденной паузы и получения двадцати тонн авиационного бензина совершила только продолжавшийся очень недолго боевой вылет в район Аахена, в котором участвовало лишь двадцать истребителей». Когда через несколько дней мой самолет приземлился на расположенном восточнее Берлина аэродроме учебно-тренировочного центра ВВС в Вер- нойхене, его начальник объяснил мне, что на тренировочные полеты теперь отводится не более часа в неделю на одного курсанта: его соединение получило только незначительную часть полагавшейся партии горючего.
Подразделения сухопутных войск, в свою очередь, из-за нехватки горючего почти полностью потеряли маневренность. В конце октября я сообщил Гитлеру о своей ночной поездке в одну из частей 10-й армии, занимавшей позиции южнее реки По. Я увидел там «колонну из 150 грузовиков, каждый из которых был запряжен четырьмя быками; танки и тягачи также взяли на буксир множество грузовиков».
В начале декабря я был особенно встревожен тем обстоятельством, что «из-за отсутствия горючего резко снизился уровень подготовки механиков-водителей танков». Разумеется, еще в гораздо большей степени, чем я, о нашем бедственном положении знал генерал-полковник Йодль. Чтобы получить необходимые для нанесения контрудара в Арденнах 175 000 тонн горючего — раньше для производства такого количества требовалось всего два дня, — 10 ноября 1944 года он распорядился прекратить его доставку в те группы армий, которые не участвовали в запланированной операции.
525
Тем временем непрерывные налеты на нефтеперерабатывающие заводы отразились на положении всех наших химических предприятий. Мне пришлось поставить Гитлера в известность о том, что «приходится подмешивать в порох соль, иначе гильзы оказываются не до конца заполненными». И действительно, изготовляемые нами в октябре 1944 года и последующие месяцы порох и взрывчатые вещества на 20% состояли из каменной соли, что значительно снижало их эффективность.
Оказавшись в столь отчаянном положении, Гитлер решил разыграть свою последнюю карту и наглядно продемонстрировать противнику достижения в области новейшей боевой техники. Как ни странно, но выпуск истребителей на заключительном этапе войны увеличился; в общей сложности за эти шесть месяцев мы отправили на фронт 12 720 самолетов. Достаточно вспомнить, что перед началом войны, в 1939 году, в нашем распоряжении было всего лишь 711 истребителей. В конце июля Гитлер в очередной раз согласился отправить две тысячи летчиков на прохождение специальной подготовки, поскольку мы все еще надеялись с помощью массированных боевых вылетов нанести американской авиации огромные потери и вынудить ее командование прекратить бомбардировки нашей территории. Ведь эскадрильи бомбардировщиков как во время их полета к цели, так и при возвращении на базу можно было почти беспрепятственно атаковать на протяжении свыше тысячи километров.
Согласно сделанным генеральным инспектором истребительной авиации и мной расчетам, на один сбитый над Германией бомбардировщик придется один наш истребитель, однако потери их летного состава вдвое превзойдут наши. Ведь половина членов экипажей наших сбитых самолетов сумеет выброситься с парашютом и приземлиться на немецкой земле. Следовательно, они снова смогут вернуться в строй. Американских же летчиков неминуемо ждал плен. Поэтому, хотя США и располагали необычайно мощным промышленным потенциалом, имея в своем распоряжении огромные людские резервы и практически безграничные возможности для подготовки кадров для военно-воздушных сил, мы в данной ситуации окажемся в гораздо более выгодном положении по сравнению с ними.
526
10 августа Галланд позвонил мне и дрожащим от волнения голосом пригласил немедленно вылететь вместе с ним в ставку: Гитлер по свойственной ему привычке вдруг ни с того ни с сего отдал приказ перебросить насчитывающий 2000 истребителей и уже почти сформированный воздушный флот «Рейх» на Западный фронт, где, по нашим данным, его вскоре ожидала почти неминуемая гибель. Гитлер, разумеется, догадался, зачем мы приехали к нему. Он понимал, что нарушил данное им в июле обещание использовать истребители для прикрытия с воздуха нефтехимических заводов. Однако он не пожелал вступать в полемику на оперативном совещании и заявил, что примет нас после его окончания.
Я весьма осторожно выразил сомнение в правильности его приказа и постарался, несмотря на крайнюю взволнованность, как можно более спокойным голосом рассказать о катастрофическом положении нашей военной промышленности. Я привел конкретные цифры и со всеми подробностями описал страшные последствия непрерывных воздушных налетов. От всего услышанного Гитлер разнервничался, настроение его явно испортилось. И хотя он еще не сказал ни слова, это было заметно по тому, как изменилось выражение его лица, как он судорожно сжимал и разжимал кулаки, грыз ногти. Чувствовалось, что в нем нарастает внутреннее напряжение.
Когда я закончил свой доклад и уже полагал, что смог убедить его в необходимости направить все базирующиеся на территории рейха истребители на борьбу с бомбардировщиками, Гитлер больше не владел собой. Его лицо покрылось красными пятнами, он уставился невидящими глазами куда-то в пустоту и заорал во все горло: «Проведение каких-либо оперативных мероприятий является исключительно моей прерогативой! Вас это никак не касается! Ваше дело — производство вооружения, вот и занимайтесь им!» Возможно, если бы, кроме нас двоих, здесь никого не было, он бы прислушался к моим доводам. Но из-за присутствия Таиланда Гитлер не захотел ни вникнуть в мои аргументы, ни пойти на уступки.
Внезапно он замолчал, а затем одной фразой подвел итог обсуждению этой проблемы: «У меня нет больше для
527
вас времени». Галланд и я в полной растерянности отправились в мой коттедж.
На следующий день мы уже собирались махнуть на все рукой и вернуться в Берлин, как вдруг Шауб пригласил нас к Гитлеру. Фюрер окончательно утратил самообладание, речь его была сбивчива, он буквально захлебывался в потоке слов: «Я вообще больше не желаю выпускать самолеты. Вся истребительная авиация будет расформирована! Немедленно прекратите производство самолетов! Вам понятно или нет?! Вы, кажется, постоянно жаловались на нехватку квалифицированных рабочих? Немедленно перебросьте их на производство зенитных орудий. Всех рабочих на изготовление зенитных орудий! И все материалы тоже! Я вам приказываю. И тотчас же отправьте Заура в ставку! Нужно разработать программу выпуска зенитных орудий. Увеличить их производство в десять раз... Я ежедневно читаю в иностранной прессе о том, какую опасность представляют зенитные орудия для англо-американской авиации. И боятся они пока еще только их, но уж никак не наших истребителей». Галланд попытался было возразить: истребители в небе над Германией собьют гораздо больше вражеских самолетов, чем зенитки. Тут Гитлер прервал его и, собственно говоря, попросту выставил нас за дверь.
В «чайном домике» я сразу же налил себе полный стакан вермута из приготовленной специально для таких случаев бутылки: эти сцены всегда вызывали у меня желудочные колики. Галланд, который обычно в любых ситуациях умел сохранять спокойствие и вообще прекрасно владел собой, на этот раз был явно растерян и никак не мог взять себя в руки. Генералу даже в голову не могло прийти, что подчиненные ему соединения истребительной авиации могут быть расформированы из-за обвинения их летчиков в трусости и неумении вести воздушные бои. Я же, напротив, уже привык к внезапным приступам ярости Гитлера и хорошо знал, что, действуя умело и осторожно, можно побудить его отменить необдуманные решения. Я успокоил Галланда: предназначенные для выпуска истребителей производственные мощности уж никак нельзя будет приспособить для изготовления орудийных стволов. Нам требовались не столько
528
зенитки, сколько снаряды к ним, которых не хватало из-за отсутствия достаточного количества взрывчатых веществ.
Заур также опасался, что Гитлер поставит перед нами абсолютно невыполнимые требования, поэтому на следующий день во время беседы с ним с глазу на глаз категорическим тоном заявил, что для увеличения производства зенитных орудий требуются поставки токарно-расточных станков особого образца для просверливания отверстий в длинных стволах.
Вскоре Заур и я вновь прибыли в ставку, чтобы подробно обсудить этот приказ, который Гитлер, ко всему прочему, еще и отдал в письменном виде. Но когда я еще раз обратил внимание Гитлера на то обстоятельство, что истребители следует применять исключительно для защиты воздушного пространства Германии, в глазах его заплясали искры гнева, он опять перебил меня, не терпящим возражений тоном подтвердил свое требование и объявил об окончании совещания.
Это был первый приказ Гитлера, который ни Заур, ни я так и не выполнили. Я решил действовать на свой страх и риск и через день на совещании руководителей военной промышленности счел нужным особо подчеркнуть, что «мы ни в коем случае не должны снижать объемы производства истребителей». Через три дня я собрал у себя представителей авиационной промышленности и в присутствии Гал- ланда объяснил им всю важность порученного им задания «избавить нас от величайшей опасности — полного развала нашей военной промышленности — путем увеличения во много раз выпуска истребителей». Тем временем Гитлер несколько успокоился и без всяких возражений согласился отнести составленную программу производства истребителей — конечно же, в ограниченных масштабах — к разряду наиболее приоритетных направлений. Буря миновала.
По мере того как мы сокращали производство отдельных видов вооружения и даже полностью прекратили некоторые опытно-конструкторские работы, Гитлер все активнее и увереннее внушал генералам и высокопоставленным чиновникам партийного и государственного аппарата надежду на создание нового оружия, которое якобы решит исход войны. Когда я приезжал в сражающиеся на фронте
529
дивизии, солдаты и офицеры зачастую, загадочно улыбаясь, спрашивали, когда же наконец произойдет боевое применение «чудо-оружия». Мне очень не хотелось сеять такого рода иллюзии — ведь рано или поздно этим людям придется испытать горькое разочарование, — и поэтому в середине сентября, когда уже был осуществлен запуск ракеты «Фау-2», я обратился к Гитлеру с письмом, содержавшим следующие строки: «В войсках широко распространена вера в предстоящее в самое ближайшее время использование нового, решающего исход войны оружия. Солдаты и офицеры рассчитывают, что это произойдет буквально на днях. Это убеждение разделяют также многие представители высшего командного состава. Я не уверен, что было бы разумно и дальше продолжать эту пропагандистскую кампанию».
В беседе с глазу на глаз Гитлер, правда, признал мою правоту, однако по-прежнему продолжал обещать скорое появление на фронте некоего «чудо-оружия». В связи с этим в середине ноября я обратился к Геббельсу с письмом, в котором подчеркнул, что «считаю нецелесообразным внушать населению надежды, которые мы в ближайшее время наверняка не сможем оправдать... Поэтому я настоятельно прошу вас принять все меры и не допустить появления в дальнейшем на страницах ежедневных газет и специализированных изданий всевозможных намеков на якобы достигнутые нашей военной промышленностью грандиозные успехи».
Геббельс, действительно, немедленно запретил публиковать какие бы то ни было сообщения о разработках новых видов вооружения. Как ни странно, но слухов стало еще больше. Только в Нюрнберге я узнал от одного из ближайших сотрудников министра пропаганды Фриче, что Геббельс создал специальный отдел по их распространению. Эти слухи содержали во многом правдивую информацию о проводимых нами перспективных научных разработках. Ведь на дневных и вечерних заседаниях, посвященных проблеме производства нетрадиционных видов вооружения, в том числе и атомной бомбы, часто присутствовали лица из окружения Геббельса, которые внимательно слушали наши рассуждения о новейших технических открытиях.
Если страна переживала бурные времена, ее жители обычно тешили себя надеждами и поэтому создавали
530
питательную почву для различных слухов. Газетам же, напротив, почти никто не верил. Исключение для огромного количества отчаявшихся людей составляли в последние месяцы войны публикуемые на страницах различных изданий гороскопы. По словам Фриче, министерство пропаганды использовало их как инструмент воздействия на общественное мнение. В составленных в соответствующем духе гороскопах говорилось о том, что препятствия, возникшие на пути, будут неизбежно сметены, предрекались грядущие неожиданные перемены и внушалась вера в благополучный исход. У режима не было будущего, и оставалось только уповать на благоприятные для него астрологические прогнозы.
28
Падение в пропасть
Созданная к весне 1944 года система управления военной промышленностью, основным руководящим звеном которой было мое министерство, осенью начала разваливаться. И не только потому, что производство ракет дальнего действия, с которыми руководство рейха связывало все надежды, было в результате поручено СС, — роковую роль сыграло также то обстоятельство, что нескольким гаулейтерам удалось настоять на своем и подчинить себе военные заводы, расположенные на подведомственных им территориях. Такого рода инициативы встретили полную поддержку Гитлера. Так, например, он немедленно одобрил предложение Заукеля построить в Тюрингии большой подземный завод для крупносерийного выпуска одномоторных реактивных истребителей, которые фюрер высокопарно именовал «народными истребителями». Однако распад системы централизованного управления не повлек за собой роковых последствий по той простой причине, что вся наша экономика уже начала агонизировать.
Еще одним очевидным признаком царившего в умах нашего военно-политического руководства смятения стало его стремление добиться успехов с помощью крайне примитивных видов вооружения. Ставка делалась не на технические
531
достижения, а на героизм. В апреле 1944 года Дёниц назначил предложившего когда-то целый ряд оригинальных идей вице-адмирала Хейе уполномоченным по строительству сверхмалых подводных и надводных кораблей: в августе уже можно было приступить к их массовому производству, но к тому времени союзные войска уже прочно закрепились на побережье Нормандии и стало ясно, что момент для проведения таких операций окончательно упущен. В свою очередь Гиммлер задумал сформировать «отряд летчиков-смертников» и использовать для борьбы с вражескими бомбардировщиками пилотируемые «Фау-1». Не менее примитивным был и так называемый фаустпатрон — ручной гранатомет, который должен был заменить столь необходимые нам противотанковые орудия.
Поздней осенью 1944 года Гитлер неожиданно заинтересовался производством противогазов и назначил полномочного представителя, ответственного за это направление и подчиненного непосредственно ему. Была спешно разработана программа защиты населения от последствий химической войны. И хотя после настойчивых требований Гитлера начиная с октября выпуск противогазов увеличился в три раза и превысил цифру 2 300 000, обеспечить всех жителей городов средствами химической защиты можно было лишь через несколько месяцев. Поэтому партийные издания начали публиковать инструкции, напоминающие о том, как в случае газовой атаки можно защитить себя элементарными подручными средствами. Например, настоятельно рекомендовалось прикрыть нос и рот бумагой. Тогда Гитлер, правда, неоднократно говорил об опасности массированного сброса на немецкие города начиненных ядовитым газом бомб, но назначенный им уполномоченный по проведению профилактических мероприятий мой друг Карл Брандт высказал предположение, что на самом деле идет лихорадочная подготовка к развязыванию нами химической войны. Имевшийся в нашем распоряжении и также считавшийся «чудо-оружием» газ «табун» легко проникал через фильтровальные сетки противогазов любых конструкций, и воздействие его даже в минимальных дозах было смертельным.
Поэтому было решено провести совещание в Зонтхофе- не, и Роберт Лей — кстати, по профессии химик — предложил
532
мне отправиться туда в его салон-вагоне. Беседа с ним, как обычно, сопровождалась распитием бутылки крепкого вина. Лей всегда страдал косноязычием, но в этот раз он был сильно взволнован и говорил особенно сбивчиво и невнятно: «У нас уже есть новый ядовитый газ, я сам слышал об этом. Фюрер должен его применить именно сейчас. А иначе когда? Потом будет поздно! Вы тоже растолкуйте ему, что у нас нет другого выхода». Судя по всему, Лей уже беседовал с Геббельсом на эту тему, ибо министр пропаганды вдруг принялся выяснять у руководителей химической промышленности степень эффективности использования отравляющих веществ, а затем попытался уговорить Гитлера приступить к боевому применению «табуна». Раньше Гитлер никогда не был сторонником химической войны, теперь же на одном из оперативных совещаний в ставке вдруг намекнул, что собирается использовать газ новейшей модификации против наступающих советских войск. Не слишком уверенным голосом он высказал надежду, что, дескать, правительства Англии и США не предпримут каких-либо активных действий для предотвращения газовых атак на Восточном фронте, поскольку на этом этапе войны не заинтересованы в стремительном продвижении русских армий. Но никто из участников совещания не поддержал его, и Гитлер больше никогда не заводил разговор на эту тему.
Генералы, безусловно, опасались непредвиденных последствий. Я лично 11 октября в письме Кейтелю подчеркнул, что в результате развала нашей химической промышленности запасы циана и метанола практически полностью исчерпаны и поэтому после 1 ноября изготовление «табуна» придется прекратить, а производство иприта ограничить четвертью его прежнего объема. Кейтель, правда, побудил Гитлера отдать грозный приказ — ни при каких обстоятельствах не сокращать выпуск ядовитых газов. Но такого рода распоряжения уже не имели никакого реального смысла. Никто просто не обратил на него никакого внимания, и распределение оставшихся запасов химических веществ производилось в соответствии с разработанной моими специалистами схемой.
11 ноября мне пришлось вслед за составленными ранее меморандумами о падении производства горючего отправить в ставку еще одно не менее тревожное сообщение: уже
533
на протяжении шести недель в Рурскую область был невозможен проезд никаких видов транспорта. Я решил раскрыть Гитлеру глаза на истинное положение вещей и с тревогой писал ему, что «речь уже идет не об успешном продолжении войны, а о сохранении структуры экономики Германии, которая из-за потери Рейнско-Вестфальского промышленного региона может в ближайшее время потерпеть полный крах... Уже имеются сведения о предстоящем закрытии целого ряда предприятий. Избежать этого в данной ситуации фактически невозможно».
Далее я информировал Гитлера о том, что уголь перестал поступать на остальную территорию рейха, его запасы на железнодорожных складах стремительно уменьшаются, газовые, нефтеперерабатывающие и маргариновые заводы под угрозой остановки и даже в больницы кокс доставляют в весьма ограниченных количествах.
Везде и всюду я видел признаки разложения. Товарные поезда с грузом угля не доходили до места назначения — в пути их попросту грабили по приказу гаулейтеров. В Берлине дома не отапливались, газ и электроэнергию подавали только в определенные часы, и наше управление распределения топливных ресурсов, невзирая на гнев и возмущение чиновников рейхсканцелярии, тут же приславших мне жалобу, вынуждено было даже им сократить норму выдачи угля на февраль — март будущего года.
В такой ситуации нечего было даже и думать об осуществлении наших программ. Мы занимались исключительно латанием дыр. Подобно разработавшим стратегию воздушной войны офицерам штабов военно-воздушных сил вражеских государств, я также не учел огромных запасов деталей и заготовок, скопившихся на заводских складах. Стоило нам провести инвентаризацию, как выяснилось, что на протяжении еще нескольких месяцев вполне можно рассчитывать на достаточно высокий уровень производства вооружений. Спокойствие, с которым Гитлер принял к сведению этот названный нами «Программой экстренных и дополнительных мер» план, производило жуткое впечатление. Он не сказал ни слова, так как, видимо, подобно нам, уже понял, что ничего изменить нельзя.
Приблизительно в это же время на одном из оперативных совещаний Гитлер в присутствии всех генералов из
534
своего ближайшего окружения безапелляционно заявил: «Какое счастье, что один из руководителей нашей военной промышленности настоящий гений. Я имею в виду Заура. Он, несомненно, преодолеет все трудности». Генерал Тома- ле робко попытался обратить его внимание на следующее обстоятельство: «Мой фюрер, здесь присутствует министр Шпеер». «Да, я знаю, — буркнул Гитлер, явно раздраженный тем, что его перебили, — но Заур — гений, который сумеет исправить положение». Как ни странно, но я довольно безучастно воспринял эти слова Гитлера, хотя он намеренно оскорбил меня. Просто я уже готовился подать в отставку.
12 октября 1944 года, когда положение на Западном фронте окончательно стабилизировалось и хлынувшие через границу толпы охваченных паникой солдат и офицеров были преобразованы в боеспособные воинские соединения, Гитлер после оперативного совещания отвел меня в сторону, взял с меня обязательство хранить молчание и только после этого заявил, что собирается собрать все войска Западного фронта в один кулак и нанести мощный контрудар: «От вас требуется сформировать из немецких рабочих полностью моторизованную строительную часть, способную в случае разрушения автомобильных и железнодорожных мостов в кратчайший срок в любых условиях провести восстановительные работы. Обратитесь к опыту военной кампании 1940 года, тогда все получилось наилучшим образом». Я позволил себе заметить, что для выполнения такой серьезной задачи в нашем распоряжении слишком мало грузовиков. «У нас сейчас нет более важной задачи, — с неожиданной твердостью в голосе заявил он. — Ради ее выполнения следует забыть обо всем и не думать о последствиях».
В конце ноября Гитлер еще раз заявил, что возлагает все надежды именно на это наступление. С беззаботным видом он добавил, что убежден в успехе, ибо ничего другого ему просто не остается: «Если оно не даст ожидаемых результатов, войну можно считать проигранной... Но мы своего добьемся!» Гитлер снова пустился в пространные рассуждения и, как обычно, утратил чувство реальности:
535
«Достаточно будет осуществить один-единственный прорыв на Западном фронте! Вот увидите! Американцы в панике бросятся бежать. Мы прорвемся на центральном участке и захватим Антверпен. А без этого порта они не смогут снабжать свои войска по морю. Все английские армии окажутся в огромном котле. Мы возьмем сотни тысяч пленных. Как прежде в России!»
Примерно в это же время я встретился с Альбертом Фёглером, чтобы обсудить с ним бедственное положение, в котором оказалась Рурская область из-за ^прекращающихся воздушных налетов. Он сразу же, безо всяких обиняков, спросил: «Когда же это кончится?» Я дал ему понять, что Гитлер намеревается сосредоточить все силы на одном направлении и предпринять последнюю попытку. Но Фёг- лер, казалось, не слушал меня и с непреклонной решимостью продолжал развивать свою мысль: «Неужели он не понимает, что так дальше продолжаться не может? Уничтожено слишком много производственных мощностей! Еще несколько месяцев — и мы уже не сумеем восстановить нашу промышленность». — «Мне кажется, — ответил я, — что Гитлер выкладывает на стол свой последний козырь и хорошо понимает это». Фёглер недоверчиво посмотрел на меня: «Ну разумеется, после того, как наша система промышленного производства затрещала по всем швам, у него больше не осталось других козырей. Полагаю, что он собирается провести эту операцию на Восточном фронте, чтобы хоть немного облегчить там положение?» Я уклонился от ответа. «Ясное дело, на Восточном фронте, — уверенным тоном заявил Фёглер. — Надо быть совершеннейшим безумцем, чтобы оголить это направление и перебросить войска на Западный фронт, где положение более-менее стабильное».
Назначенный вместо Цейтцлера начальником Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Гудери- ан начиная с ноября едва ли не на каждом оперативном совещании говорил о концентрации советских войск на познаньском и бреславском направлениях и подчеркивал, что это создает непосредственную угрозу Верхней Силезии. Тем самым он хотел убедить Гитлера направить сосредоточенные для наступления на Западном фронте дивизии в Польшу, чтобы избежать надвигающейся катастрофы.
536
На Нюрнбергском процессе многие обвиняемые пытались оправдать стремление Гитлера продолжать безнадежно проигранную войну даже зимой 1944/45 года его желанием спасти жизнь беженцам с восточных земель и избавить от русского плена как можно больше немецких солдат. Однако принятые им в тот период решения свидетельствовали о прямо противоположных намерениях.
Я решил внести посильную лепту в достижение наибольшего эффекта при осуществлении замысла Гитлера и обещал главнокомандующему группой армий «Б» фельдмаршалу Моделю лично контролировать обеспеченность его частей вооружением. Когда 16 декабря началось наступление в Арденнах, я уже временно расположился в небольшом охотничьем домике неподалеку от Бонна. Добирался я сюда в мотавшемся на гремящих стрелках моторном вагоне, а за окном всю дорогу мелькали стоявшие на запасных путях и сортировочных станциях к востоку от Рейна товарные поезда с горючим и другими жизненно важными для наступавших войск материалами — они не могли двигаться дальше из-за воздушных налетов.
В живописных горах Эйфеля Модель разместил свою штаб-квартиру в возвышавшемся посреди узкой, заросшей густым лесом долины огромном охотничьем замке, который принадлежал весьма состоятельному промышленнику. Подобно руководству Генерального штаба сухопутных войск, он также отказался от строительства здесь для себя и своего окружения железобетонных бункеров, чтобы не привлекать внимания агентов вражеских разведок к этому району. Фельдмаршал пребывал в превосходном настроении: союзников удалось застать врасплох, фронт был прорван и его войска стремительно продвигались вперед. Погодные условия оказались как нельзя более благоприятными. Об этом Гитлер буквально заклинал небеса накануне наступления, так как, по его словам, операция могла увенчаться успехом только при плохой погоде.
В данной ситуации я выступал в роли стороннего наблюдателя и стремился оказаться как можно ближе к линии фронта. Боевой дух наступавших войск был очень высок, затянутое снеговыми тучами небо внушало надежду, что англо-американская авиация появится еще не скоро. На следующий день на дорогах творилось нечто невообразимое:
537
машины со скоростью черепахи ползли по обледеневшему за ночь трехколейному магистральному шоссе. Мой автомобиль вклинился в колонну перевозящих боеприпасы грузовиков и в течение часа никак не мог преодолеть расстояние в три-четыре километра. Я очень боялся, что из-за туч вот- вот выглянет солнце, а вслед за ним появятся вражеские самолеты.
Модель объяснял этот хаос недостаточной дисциплинированностью новых воинских формирований, а также царившей в тылу полнейшей неразберихой. Как бы то ни было — все вместе создавало ощущение, что трехлетнее пребывание Гитлера на посту главнокомандующего сухопутными войсками имело самые отрицательные последствия: армия, ранее славившаяся своей безупречной организованностью, теперь напрочь ее утратила.
Первоначальной целью нашего преодолеваемого с таким трудом маршрута был расположенный на левом северном фланге 6-й танковой армии СС мост, который американские солдаты успели взорвать. Мне очень хотелось оказаться полезным Моделю, и я обещал выяснить, как можно его быстрее восстановить. Солдаты довольно скептически восприняли мое появление. Один из них следующим образом объяснил моему адъютанту причину приезда сюда министра Шпеера: «Фюрер задал ему хорошую взбучку за то, что мост до сих пор не восстановлен. Вот он и примчался к нам расхлебывать кашу, которую сам же и заварил». И действительно, темпы восстановительных работ были крайне медленными. А ведь мы добросовестно отнеслись к поручению Гитлера и набрали в строительные части «организации Тодта» наиболее квалифицированных специалистов, которые застряли на восточном берегу Рейна из-за пробок на железных дорогах. Там же простаивали вагоны с инженерно-саперным снаряжением. Наступление должно было скоро остановиться хотя бы из-за отсутствия столь остро необходимого мостового оборудования.
Успешному осуществлению операции препятствовала также нехватка горючего. Танковые части двинулись в наступление, располагая совершенно недостаточными запасами топлива. Гитлер проявил поразительное легкомыслие. Он полагал, что захваченного на американских складах горючего с лихвой хватит нашим танкистам. Когда
538
возникла угроза приостановки наступления, я немедленно связался по телефону с директорами находившихся в расположенной неподалеку Рурской области заводов по производству бензола и приказал немедленно сформировать автопоезд из цистерн и отправить его на фронт. Тем самым я помог Моделю выйти из крайне затруднительного положения.
Но уже через несколько дней ни о каком снабжении наших войск не могло быть и речи, так как туман рассеялся и безоблачное небо заполнило множество вражеских истребителей и бомбардировщиков. Ездить днем даже на скоростном легковом автомобиле было крайне сложно и опасно, нередко мы от души радовались, когда успевали укрыться в перелеске. Груженные боеприпасами и всевозможным воинским снаряжением машины передвигались теперь только ночью; в непроглядной темноте они медленно ползли в прямом смысле слова от столба к столбу. 23 декабря, то есть накануне сочельника, Модель откровенно заявил, что Гитлер непреклонно настаивает на продолжении наступления, хотя достигнуть поставленных целей было совершенно невозможно.
В зоне боевых действий я находился до конца декабря и за это время неоднократно посещал различные дивизии, попадал под обстрел и бомбежку и видел заснеженное поле, сплошь заваленное трупами скошенных пулеметными очередями наших солдат — последствия попытки атаковать по открытой местности хорошо укрепленные позиции противника. Накануне отъезда я навестил Зеппа Дитриха. Бывший фельдфебель кайзеровской армии, а ныне командующий танковой армией СС разместил свою штаб-квартиру близ бельгийского пограничного города Уффализа. Он был одним из тех немногих, кто примкнул к Гитлеру еще в годы становления партии, и теперь, будучи по натуре человеком простым, больше не стремился поддерживать с ним близкие отношения. Разговор вскоре зашел о последних приказах ставки. Гитлер все более настойчиво требовал «любой ценой» захватить окруженную нашими войсками Бастонь. По словам Дитриха, он никак не желал понять, что даже отборные дивизии СС не в состоянии с легкостью сломить сопротивление американцев. Гитлера так и не удалось убедить в том, что американцы оказались стойкими солдатами
539
и что вообще они достойные противники. «Кроме того, — угрюмо пробурчал он, — нам перестали доставлять боеприпасы. Их авиация почти полностью перекрыла дороги». Наше полнейшее бессилие хорошо проиллюстрировал прервавший ночную беседу налет мощной армады четырехмоторных бомбардировщиков. Вой сирен, грохот взрывов, вспыхивающие в облаках красно-желтые сполохи, оглушительный рев моторов — и никакого отпора с нашей стороны. Противник наглядно демонстрировал свое военное превосходство, и, глядя отрешенно на эту картину, я мельком подумал, что неверная оценка Гитлером ситуации приняла уже совершенно абсурдный характер.
Мы полагали, что покров темноты надежно защитит нас, и потому 31 декабря выехали из зоны боевых действий ровно в четыре часа утра, чтобы прибыть в ставку Гитлера не позднее двух часов ночи. Нам все равно пришлось то и дело укрываться от устроивших самую настоящую охоту на одиночные машины вражеских истребителей, и тем не менее даже в таких условиях мы сумели за двадцать два часа преодолеть расстояние в 340 километров.
Штаб-квартира Гитлера на Западном фронте, из которой он руководил наступлением в Арденнах, находилась в самом конце заброшенной долины, в двух километрах от расположенного близ Бад-Наугейма замка Цигенберг. Посреди густого леса здесь, как и во всех остальных местах постоянного пребывания Гитлера, были построены замаскированные под блочные домики бункеры с мощным железобетонным покрытием.
Со времени назначения министром я два раза пытался поздравить Гитлера с Новым годом, и оба раза у меня ничего не получилось. В 1943 году мой самолет из-за сильных морозов покрылся коркой льда, в 1944 году причиной послужило повреждение его двигателя.
Прошло два часа с момента наступления нового, 1945 года, когда я, миновав многочисленные посты охраны, вошел в бункер, отведенный под личные апартаменты Гитлера. Я не слишком опоздал: адъютанты, врачи, секретарши и, разумеется, Борман толпились вокруг Гитлера. Отсутствовали лишь служившие в ставке генералы. Громко хлопали
540
пробки, из похожих на снаряды бутылок с французским шампанским золотистая пенистая жидкость с шипением перетекала в фужеры. В непринужденной, но отнюдь не разнузданной атмосфере праздника Гитлер, казалось, был единственным, кто, не прибегая к стимулирующим средствам, тем не менее пребывал в полнейшей эйфории.
Начало нового года отнюдь не сулило ни малейшего облегчения, но здесь все радовались уже хотя бы тому, что календарь принес какие-то перемены. Во всяком случае, у меня создалось именно такое ощущение. Гитлер был настроен весьма оптимистично и уверял, что в 1945 году ситуация изменится. Мы, дескать, вскоре преодолеем самую острую фазу кризиса и в конце концов одержим победу. Из окружающих только Борман восторженно поддержал его, остальные предпочли промолчать. В течение двух часов Гитлер с неистовством религиозного фанатика заверял нас в своей правоте, и внезапно все, и я в том числе, несмотря на достаточно скептическое настроение, почувствовали, что он как бы снял с наших плеч груз забот. Гитлер отнюдь не утратил своих воистину магических способностей. Мы уже были не в состоянии рационально мыслить. Достаточно было задуматься хотя бы над тем обстоятельством, что Гитлер провел параллель между собой и Фридрихом Великим в конце Семилетней войны, как тут же стало бы ясно: ни о какой победе даже речи быть не может. Но никому из нас и в голову не пришло немного поразмышлять на эту тему.
Отличительным признаком состоявшегося через три дня с участием Кейтеля, Бормана и Геббельса расширенного совещания было стремление вновь пробудить несбыточные надежды. Теперь изменить ход военных действий должно было народное ополчение. Стоило мне заявить, что это означало бы окончательный развал всех отраслей военно-промышленного производства, которые окажутся не в состоянии произвести вооружение в таком огромном количестве, как Геббельс с недоумением уставился на меня, а затем, повернувшись к Гитлеру, с пафосом воскликнул: «В таком случае, господин Шпеер, вся историческая вина за проигранную войну ляжет на вас, ибо окажется, что мы одержали бы победу, если бы имели в своем распоряжении еще несколько сотен тысяч солдат! Так почему же
541
вы не хотите согласиться со мной? Обдумайте хорошенько мои слова!»
На какое-то мгновение мы застыли словно вкопанные, пристально глядя друг другу в глаза, — и тут Гитлер разрешил наше противостояние, поддержав предложение Геббельса.
Приглашенным в ставку Геббельсу и его статс-секретарю Науману было разрешено также принять участие в последовавшем вслед за этим совещанием очередном обсуждении положения в военной промышленности. По своей укоренившейся в последнее время привычке Гитлер в ходе дискуссии демонстративно не обращал на меня внимания. Он даже не пожелал выслушать мое мнение и обращался исключительно к Зауру. Мне была отведена роль молчаливого слушателя. После заседания Геббельс доверительным тоном поведал мне, что поражен моим безучастным отношением к поведению Заура, который явно намерен занять мое место. Но все разговоры об этом казались мне уже пустой болтовней. Фактический провал наступления в Арденнах означал скорый конец войны. Все наши последующие военные операции представляли собой лишь судорожные и заранее обреченные на неудачу попытки отсрочить оккупацию страны.
Не только у меня пропало всякое желание отстаивать свои взгляды и вступать с кем-либо в полемику. В ставке воцарилась атмосфера равнодушия, которую никак нельзя было объяснить лишь всеобщей апатией, переутомлением и психологическим воздействием Гитлера. Если для предшествующих лет и даже месяцев были характерны столкновение интересов и бурные конфликты между различными группами и кланами, стремившимися любыми способами завоевать расположение Гитлера и взвалить вину за непре- кращающиеся поражения на соперников, то теперь все демонстрировали откровенное безразличие, и именно это как нельзя лучше свидетельствовало о приближении конца. Так, например, когда Зауру удалось в эти дни добиться замены Гиммлера на посту «руководителя производства вооружения для сухопутных войск» генералом Буле, почти никто не обратил внимания на это обстоятельство, хотя оно означало лишение рейхсфюрера СС части его обширных полномочий. Отсутствовала рабочая, в истинном смысле
542
этого слова, обстановка; происходившие вокруг события не вызывали никаких реакций хотя бы уже потому, что сознание неотвратимости поражения убивало всякую активность.
Я даже позволил себе совершить продолжавшуюся свыше трех недель поездку на фронт — верный признак отсутствия какой-либо возможности осуществлять руководство из столицы. Хаос и неразбериха крайне затрудняли централизованное управление военной промышленностью — на приказы и директивы из Берлина все чаще и чаще не обращали внимания.
12 января, как и предполагал Гудериан, советские войска перешли в наступление по всему фронту и быстро преодолели наши оборонительные рубежи. И даже если бы Гитлер немедленно принял решение перебросить с Западного на Восточный фронт свыше 2000 танков новейшей конструкции, это вряд ли смогло бы изменить соотношение сил.
Через несколько часов мы ждали начала оперативного совещания в так называемом посольском зале — увешанной гобеленами приемной рейхсканцелярии. Как только приехал задерживавшийся из-за переговоров с японским послом Осимой Гудериан, одетый в черную эсэсовскую форму ординарец распахнул дверь в кабинет Гитлера. По разостланному по полу пушистому, сотканному вручную ковру мы прошли к стоявшему возле окна столу для оперативных карт. Изготовленная в Австрии столешница представляла собой гигантскую вырезанную из цельного куска мрамора плиту. Пересечение желто-белых полос на ярко-красном фоне делало ее похожей на коралловый риф. Мы расселись у окна прямо напротив Гитлера.
Немецкая группировка на Курляндском полуострове оказалась полностью блокированной. Гудериан попытался убедить Гитлера отдать приказ эвакуировать ее оттуда морем в Германию. Гитлер, как обычно в таких случаях, начал возражать. Ни Гудериан, ни Гитлер не желали идти на уступки, и вскоре оба уже разговаривали друг с другом на повышенных тонах. Наконец Гудериан с редкой для лиц из ближайшего окружения Гитлера откровенностью высказал свою точку зрения. Вероятно, сказалось воздействие
543
выпитых в японском посольстве крепких напитков; он был очень возбужден и уже не считался ни с чем. Глаза его заблестели, усы угрожающе топорщились, он вскочил со стула и, вперив взор в поднявшегося со своего места Гитлера, закричал: «Мы просто обязаны спасти этих людей! Пока еще мы можем успеть вывезти их оттуда!» Гитлер, разгневанный вызывающим поведением Гудериана, с непреклонным видом заявил: «Нет, они останутся там! Мы не можем отдать врагу эти земли!» Но Гудериан был намерен отстоять свою точку зрения. «Но это же совершенно бессмысленно! — воскликнул он. — Люди не должны погибать зря. Время не ждет! Нужно срочно приказать солдатам грузиться на корабли!»
И тут произошло нечто такое, чего никто даже в мыслях не мог предположить. Гитлер вдруг побледнел, он был явно напуган столь бурной реакцией Гудериана. Собственно говоря, он не должен был допускать, чтобы с ним разговаривали в почти оскорбительном тоне — ведь это сильно подрывало его престиж. Но, к моему удивлению, он внезапно заговорил о чисто военных аспектах проблемы и принялся утверждать, что оборона занимаемых сейчас на Курляндском полуострове позиций приведет к гораздо меньшим потерям, чем отвод войск к побережью, который якобы приведет к их полному разложению. Однако Гудериан легко опроверг его и, приведя конкретные цифры, доказал, что тактика отхода разработана до мельчайших подробностей. Тем не менее Гитлер отказался отменить свое решение.
Свидетельствовал ли данный эпизод о падении авторитета Гитлера? Так или иначе, но последнее слово осталось за ним. Никто из присутствующих не покинул кабинет и не заявил, что Гитлер отныне не вправе нести ответственность за судьбу страны. Вот почему этот инцидент в результате никак не отразился на престиже Гитлера, хотя все мы на мгновение замерли, пораженные откровенным нарушением этикета. Цейтцлер также иногда возражал Гитлеру, но вел себя гораздо сдержаннее и никогда не выходил за рамки приличий; чувствовалось, что при всем своем несогласии он испытывал к нему глубокое уважение. Теперь же впервые в присутствии многих приближенных Гитлера начальник Генерального штаба сухопутных войск осмелился в некорректной форме спорить с ним; это означало, что, образно
544
выражаясь, рухнул мир и еще более ощутимой стала дистанция между Гитлером и его окружением. Гитлер, правда, сумел сохранить свой престиж, то есть, казалось бы, добился очень многого. Но потерял он еще больше.
Стремительное продвижение советских войск побудило меня предпринять еще одну поездку в Силезский промышленный регион с целью выяснить, не саботируют ли нижестоящие инстанции мои распоряжения о сохранении промышленных предприятий. 21 января в Оппельне назначенный недавно главнокомандующим группой армий «Центр» фельдмаршал Шернер сообщил мне, что подчиненные ему соединения фактически существуют только на бумаге: почти все танки и тяжелое вооружение остались на полях сражений. Никто не знал, как близко советские войска подошли к Оппельну. Во всяком случае, офицеры штаба спешно покинули город, и в гостинице остались те, кому негде было ночевать.
В моем номере на стене висел офорт Кете Кольвиц «Карманьола»: толпа пляшет вокруг гильотины, лица людей искажены ненавистью, рты их, кажется, свело в крике, а в стороне в бессильной позе сидит на земле плачущая женщина. Вдруг возникло ощущение, что меня ждет такая же страшная участь. Днем я был настолько загружен делами, что эти страхи ютились где-то в подсознании, но зато ночью они выползли оттуда и с еще большей силой начали давить и терзать мне душу. Этой ночью я так и не смог заснуть. Я лежал в полудреме, а перед глазами все время возникали персонажи офорта. Вправе ли народ восстать и излить свой грев на обманувших его вождей? Вправе ли он расправиться с ними так, как изображено на гравюре? Мои друзья и знакомые, собираясь в узком кругу, теперь часто заводили разговор о своем будущем. Почти все были твердо убеждены в том, что в перспективе их не ждет ничего хорошего. Мильх, например, неоднократно уверял, что противник не намерен церемониться с руководителями Третьего рейха. Я полностью разделял его точку зрения.
От ночных кошмаров меня избавили телефонные звонки, острыми иглами вонзившиеся в барабанные перепонки и сразу заполнившие голову назойливыми звуками. Звонил мой офицер связи в ставке полковник фон Белов. Еще
18 А. Шпеер
545
16 января я настойчиво убеждал Гитлера в том, что после блокирования Рурской области потеря Верхней Силезии повлечет за собой немедленный крах экономики Германии. В своей телеграмме я еще раз подчеркнул необычайно важное стратегическое значение Верхней Силезии и попросил дать согласие направлять в группу армий Шернера «как минимум 30—50 процентов всего объема военной продукции».
Одновременно я хотел оказать поддержку Гудериану, который требовал отказаться от всех дальнейших попыток развить наступление на Западном фронте и перебросить немногие оставшиеся в нашем распоряжении танковые части к восточным границам. Я также подчеркивал, что «русские слишком растянули свои боевые порядки и, несмотря на ясную погоду и хорошую видимость с воздуха, без всякой маскировки доставляют на передовые позиции боеприпасы и прочее военное снаряжение. В условиях, когда дальнейшее применение истребителей на Западном фронте вряд ли сможет существенно улучшить наше положение, вероятно, имело бы смысл перебросить их на Восточный фронт для массированных атак с воздуха, поскольку противник здесь по-прежнему испытывает страх перед этими самолетами». Теперь же Белов сообщил мне, что Гитлер с саркастической усмешкой одобрил мое предложение, но не предпринял никаких конкретных мер. Считал ли он своим подлинным врагом исключительно западные державы и симпатизировал ли в душе сталинскому режиму? Мне вспомнились отдельные реплики и высказывания Гитлера, которыми, вероятно, можно было объяснить истинные мотивы его поведения в эти дни.
На следующий день я отправился в административный центр силезского промышленного региона Каттовиц и по дороге попал в аварию. Был сильный гололед, и моя машина столкнулась с неожиданно выскочившим из-за поворота грузовиком. От сильного удара грудью не только треснул руль, но и погнулась рулевая колонка. Я с растерянным видом, бледный как мел, сидел на ступеньках деревенской гостиницы и, словно выброшенная на берег рыба, жадно хватал ртом воздух. «Вы сейчас выглядите как министр государства, проигравшего войну», — на полном серьезе сказал Позер. Мой автомобиль пришел в полную негодность,
546
и обратно в Оппельн нас доставили на машине скорой помощи. Когда я более или менее пришел в себя, то тут же позвонил в Каттовиц и убедился, что тамошние сотрудники тщательно выполняют все мои указания.
На обратном пути в Берлин я заехал в Бреслау, и Ханке устроил мне экскурсию по старинному, построенному еще Шинкелем и недавно отреставрированному зданию земельного управления. «Нельзя допустить, чтобы оно досталось русским! — воскликнул он. — Лучше я сожгу его дотла!» Бреслау уже не интересовал гаулейтера, так как было ясно, что город вскоре будет захвачен врагом. После долгих усилий мне наконец удалось объяснить Ханке, какую художественно-историческую ценность представляет это строение. Одним словом, я уговорил его не уподобляться вандалам.
Во время поездки мы запечатлели на пленку сцены бед и страданий беженцев, и в Берлине я немедленно представил Гитлеру целую кипу фотографий. Во мне еще теплилась надежда, что вид несчастных женщин, детей и стариков может тронуть его душу. Я рассчитывал хоть таким способом заставить Гитлера перебросить с Западного фронта часть дивизий навстречу практически не встречающим на своем пути сопротивления русским войскам. Но Гитлер лишь мельком взглянул на фотографии и резким движением отодвинул их в сторону. Я так и не понял: то ли он не проявил интереса к судьбе этих людей, то ли, наоборот, впечатление оказалось слишком сильным.
24 января Гудериан посетил Риббентропа и без обиняков заявил ему, что война проиграна. Министр иностранных дел побоялся высказать свое мнение. Он опасался, что его могут втянуть в какую-нибудь неприятную историю, и поспешил с наигранным удивлением рассказать Гитлеру, что его начальник Генерального штаба имеет, оказывается, собственную точку зрения на положение на фронтах. Через два часа Гитлер, с трудом сдерживая волнение, заявил на оперативном совещании, что в дальнейшем будет жестоко карать любого, кто позволит себе подобные пораженческие высказывания. Все его сотрудники, независимо от чина и звания, вправе обращаться только непосредственно к нему: «Я категорически запрещаю кому бы то ни было давать общую оценку ситуации. Это является исключительно моей прерогативой! И если кто-либо вздумает утверждать, что
18*
547
война проиграна, я поступлю с ним как с изменником, со всеми вытекающими отсюда последствиями для него и его семьи. Я приму самые решительные меры, чтобы никому больше даже в голову не пришло рассуждать на эту тему!»
Никто из нас не осмелился даже слово сказать. Мы молча внимали гневным тирадам Гитлера и так же молча покинули конференц-зал. Теперь число участников оперативных совещаний пополнилось еще одним человеком. Он старался держаться незаметно и, как правило, молча сидел у стены, но даже своим присутствием внушал невольный страх. Это был начальник РСХА Эрнст Кальтенбруннер.
Ввиду недвусмысленных угроз Гитлера и непредсказуемости его поведения через три дня, то есть 17 января 1945 года, я отправил тремстам руководящим сотрудникам подчиненных мне ведомств отчет об итогах работы военно-промышленных предприятий за прошедшие три года. Кроме того, я пригласил к себе своих коллег — архитекторов — и попросил их собрать и спрятать в надежном месте фотокопии наших проектов. Я не собирался делиться с ними своими заботами и тревогами. Собственно говоря, у меня не было даже времени для долгих бесед с ними. Но они все равно поняли: я прощался с прошлым.
30 января я передал Гитлеру через полковника Белова меморандум. По чистой случайности это совпало с двенадцатой годовщиной «прихода к власти». В меморандуме я привел конкретные цифры и факты, доказывающие, что война в сфере экономики фактически окончена и что теперь следует заняться снабжением населения продовольствием и позаботиться о сохранении топливно-энергетической базы.
С целью опровергнуть ни на чем не основанные утверждения Гитлера о якобы предстоящем в 1945 году необычайном увеличении нашего военно-промышленного потенциала я приложил к меморандуму данные о планируемых в ближайшие три месяца объемах производства танков, вооружения, авиационных моторов и боеприпасов и завершил его словами: «Потеря Верхней Силезии означает, что военная промышленность Германии окажется не в состоянии удовлетворить потребности фронта... Стойкость и мужество наших солдат уже не смогут компенсировать полное превосходство противника в боевой технике». Тем самым
548
я как бы призывал Гитлера не слишком уповать на чудеса героизма, которые, как он неоднократно утверждал, проявит немецкий солдат на немецкой земле.
Гитлер, судя по его реакции, ознакомился с меморандумом. Он вдруг начал игнорировать меня и упорно не замечал моего присутствия на оперативных совещаниях. 5 февраля он потребовал, чтобы я приехал к нему вместе с Зауром. Опыт подсказывал мне, что ничего хорошего ждать от этой встречи не приходится. Однако он пригласил нас в отведенную под личные апартаменты комнату в своей служебной квартире в рейхсканцелярии и как бы дал понять, что не собирается осуществлять высказанные им угрозы. Свое недовольство Гитлер обычно выражал тем, что заставлял приглашенных стоять, но нам с Зауром он любезно предложил сесть в плюшевые кресла. Говорил он сдавленным голосом, словно никак не мог проглотить засевший в горле ком; создалось ощущение, что он испытывает определенное чувство неловкости и поэтому не намерен наказывать меня за строптивость. Гитлер как бы решил сделать вид, что ничего не произошло и что нас просто пригласили обсудить рутинные вопросы производства вооружения. Он наконец прочистил горло и подчеркнуто спокойным голосом предложил сообщить ему о перспективах на ближайшие месяцы, а Заур в свою очередь постарался смягчить слишком мрачное впечатление от моей докладной записки. Следует признать, что у него был определенный повод для оптимизма. Мои прогнозы на прошлый год во многих случаях оказались ошибочными, ибо противник так и не сделал тех выводов, которых я от него ожидал.
Я не принимал никакого участия в разговоре и сидел, насупив брови и плотно стиснув губы. «Мне лично вы можете посылать докладные записки с оценкой ситуации в военной промышленности. — Он внезапно повернул голову в мою сторону. — Но я запрещаю вам направлять их копии в любые государственные, военные и партийные инстанции и делиться с кем-либо вашей точкой зрения. Что же касается последнего абзаца, — он говорил сейчас со мной как с совершенно посторонним и глубоко антипатичным ему человеком, — то так вы даже мне не имеете права писать. Воздержитесь в дальнейшем от обобщающих выводов и предоставьте мне заниматься этим делом». Голос
549
его отнюдь не дрожал от возмущения, напротив, Гитлер медленно цедил слова сквозь зубы. Эта манера таила в себе гораздо большую опасность, чем приступ дикой ярости, поскольку уже на следующий день Гитлер обычно успокаивался и его легко можно было уговорить отменить принятое накануне необдуманное решение. Но сейчас я отчетливо чувствовал, что Гитлер не пойдет ни на какие уступки. Он довольно холодно простился со мной и с дружеской улыбкой пожал руку Зауру.
30 января я через Позера передал шесть копий моего меморандума во все отделы Генерального штаба сухопутных войск. Желая продемонстрировать, что хотя бы формально приказ Гитлера выполнен, я затребовал их теперь назад. Гудериану и высшим чинам его ведомства Гитлер строго-настрого запретил даже просматривать эти документы и приказал спрятать их в сейф.
Я немедленно приступил к подготовке нового меморандума. Зная, что Заур, в сущности, разделяет мою точку зрения, я решил заставить его высказать свое истинное мнение и договорился с руководителями основных главных комитетов о том, что на этот раз именно Зауру будет поручено составить и подписать меморандум. Шаткость моего тогдашнего положения как нельзя лучше характеризовал тот факт, что я тайно перенес нашу встречу в Бернау, где находился завод, принадлежавший Шталю — крупному промышленнику, отвечавшему в нашей системе за производство боеприпасов. Каждый из участников совещания обязался уговорить Заура сформулировать в письменном виде основные положения докладной записки, почти слово в слово повторяющей мое «объявление о банкротстве».
Заур вертелся как юла. Он наотрез отказался делать любые письменные заявления, но в конце концов обещал на следующем совещании в рейхсканцелярии подтвердить мой пессимистический прогноз. Но следующее совещание не принесло никаких сюрпризов. Едва я закончил доклад, как Заур тут же попытался сгладить тягостное впечатление от него. Он рассказал о своей беседе с Мессершмиттом и вынул из портфеля эскизный проект четырехмоторного реактивного бомбардировщика. И хотя на создание сверхдальнего самолета, способного долететь до Нью-Йорка, даже в нормальных условиях потребовалось бы несколько лет,
550
Гитлер и Заур тут же начали с упоением обсуждать последствия бомбового удара по наибольшему по численности населения городу США. Они представили себе возможный психологический эффект от разрывов бомб в каменных джунглях «города небоскребов» и пришли в неистовый восторг.
В феврале—марте 1945 года Гитлер, правда, иногда туманно намекал, что различными способами уже установил контакт с противником, но не сообщал никаких подробностей. У меня же создалось впечатление, что он скорее стремился создать атмосферу нетерпимости и вражды, которая исключила бы любое примирение между воюющими сторонами. Так, например, он был очень недоволен тем, как осветили немецкие газеты Крымскую конференцию, и, инструктируя в моем присутствии представлявшего в ставке отдел печати имперского правительства Лоренца, потребовал отразить это событие в гораздо более агрессивных по тону публикациях. «Собравшихся в Ялте поджигателей войны нужно оскорбить, унизить и подвергнуть таким яростным нападкам, чтобы они даже не вздумали обращаться с мирными предложениями к немецкому народу. Ни при каких обстоятельствах мы не можем позволить им выступить с подобной инициативой. Эта банда хочет только одного: вбить клин между немецким народом и его руководителями. Я всегда говорил: о капитуляции даже речи быть не может!» Гитлер на мгновение запнулся, а затем воскликнул: «История не повторяется!»
Эта мысль прозвучала также в последовавшем вскоре выступлении Гитлера по радио, в котором он заверил «этих государственных деятелей» в том, что «любая попытка оказать на национал-социалистическую Германию воздействие с помощью пустых фраз, выдержанных в духе “Четырнадцати пунктов” Вильсона, заранее обречена на провал, поскольку немецкому народу больше не свойственны наивность и легковерность». Далее он заявил, что лишить его обязанности бескомпромиссно отстаивать интересы народа может лишь тот, кому дано на это право. Он имел в виду Господа Бога, к которому неоднократно взывал в своей речи.
Если в годы победоносных военных кампаний Гитлер проводил время в кругу генералов, то по мере приближения
551
краха его режима он все чаще предпочитал общество тех, с кем когда-то начинал политическую карьеру. Теперь каждый вечер он по несколько часов беседовал с Геббельсом, Борманом и Леем. Никто не мог зайти к ним, никто не знал, о чем они разговаривали — предавались ли воспоминаниям о былых временах или обсуждали грядущее поражение и его возможные последствия. Напрасно я ждал, что кто-нибудь из них хотя бы посочувствует горькой участи побежденного народа. Но они, словно утопающие, хватались за любую соломинку, жадно внимали сулящим скорые перемены слухам и были неспособны разделить со своим народом его судьбу. «Американцам, англичанам и русским достанется лишь голая земля» — этой фразой нередко теперь заканчивались оперативные совещания. Гитлер никогда не высказывался столь же решительно, как Геббельс, Борман и Лей, но зато он неизменно поддерживал их. Через несколько недель выяснилось, что Гитлер выступил поборником еще более крайних мер. В отличие от своих соратников, Гитлер, приняв позу государственного деятеля, некоторое время не позволял себе столь откровенных высказываний. Но затем он показал свое подлинное лицо и отдавал приказы, фактически обрекавшие на гибель немецкий народ.
На одном из проходивших в начале февраля оперативных совещаний я был настолько поражен картой с обозначением прорванных во многих местах линий фронтов и бесчисленных котлов, в которые попали наши армейские группировки, что отвел Дёница в сторону: «Так дальше продолжаться не может». Ответ гросс-адмирала был подчеркнуто краток: «Я представляю здесь военно-морской флот. Все остальное меня не касается. Фюрер как-нибудь найдет выход из создавшегося положения».
Характерно, что те, кто ежедневно собирался вокруг сидевшего с хмурым видом за столом для оперативных карт Гитлера, ни разу не помышляли о проведении совместной акции. Разумеется, Геринг уже давно погряз в коррупции и был на грани нервного истощения. Но он был одним из тех немногих высших должностных лиц рейха, кто трезво оценивал личность Гитлера и видел, как сильно он изменился за годы войны. Если бы рейхсмаршал как второй человек в государстве вместе с Кейтелем, Йодлем, Дёницем,
552
Гудерианом и мной в ультимативной форме потребовал от Гитлера сообщить наконец, как он намерен закончить войну, фюреру пришлось бы пойти нам навстречу. И не только потому, что Гитлер издавна стремился избежать такого рода конфликтов со своим окружением; именно теперь он никак не мог позволить себе продемонстрировать лживость созданного им самим мифа об отсутствии разногласий среди руководства рейха.
В один из февральских вечеров я навестил Геринга в Каринхалле. Изучив перед этим карту оперативной обстановки, я обнаружил, что он сосредоточил вокруг своего охотничьего замка целую воздушно-десантную дивизию. Гитлер, уже давно сделавший из Геринга козла отпущения за все поражения наших военно-воздушных сил, на оперативных совещаниях постоянно оскорблял и унижал его. Но еще большим разносам он подвергал его в отсутствие посторонних. Гитлер так кричал на него, что было слышно даже в приемной. Я сам был этому свидетелем.
В тот вечер в Каринхалле Геринг первый и единственный раз оказался мне по-человечески близок. Он приказал лакею накрыть стол возле камина — приборы для еды и бокалы были из фамильного сервиза Ротшильдов — и больше нас не беспокоить. Я решил быть до конца откровенным и подробно описал причины своего разочарования в Гитлере. В ответ Геринг заявил, что вполне понимает меня и что сам испытывает аналогичные чувства. Но я, дескать, примкнул к фюреру гораздо позже, чем он, и поэтому раньше внутренне отделил себя от него. Ему же сделать это очень нелегко, ведь он столько лет был рядом с Гитлером, делил с ним и радость и горе, прошлое накрепко связало их — и он уже никогда не сможет порвать с ним.
Через несколько дней по приказу Гитлера сосредоточенная вокруг Каринхалла воздушно-десантная дивизия была переброшена на позиции южнее Берлина.
Приблизительно в это же время один из высших чинов СС дал мне понять, что Гиммлер готовится предпринять решительные меры. В феврале рейхсфюрер СС был назначен главнокомандующим группой армий «Висла», но, подобно своим предшественникам, также не смог сдержать наступление русских войск. Настал его черед выслушать гневные упреки Гитлера. Нескольких недель пребывания
553
на фронте оказалось достаточно для того, чтобы полностью подорвать авторитет Гиммлера.
Тем не менее рейхсфюрер СС по-прежнему внушал всем страх, и у меня мурашки побежали по коже, когда адъютант однажды сообщил, что он хочет поговорить со мной; первый и единственный раз я встречался с Гиммлером с глазу на глаз. Окончательно меня поверг в смятение новый начальник Центрального управления Хупфауэр, с которым я неоднократно и достаточно откровенно обсуждал наше положение. Взволнованным голосом он поведал мне, что к нему намерен приехать Кальтенбруннер.
Правда, когда адъютант прошептал: «Он один», я несколько успокоился. В моем кабинете зияли пустые оконные проемы; вставлять стекла не имело больше смысла, так как они все равно бы вылетели от детонации разрывающихся ежедневно неподалеку авиационных бомб. Электричество снова отключили, и на столе стоял огарок свечи. Гиммлер, как и я, предпочел не снимать шинели. Он плотнее запахнул ее, сел напротив меня, после двух-трех ничего не значащих фраз попросил подробнее рассказать о ситуации на военных заводах, а затем вдруг принялся рассуждать на отвлеченные темы. Изрекаемые им суждения отнюдь не свидетельствовали о глубоком уме: «То в гору, то под гору — такова жизнь. Но уж если покатился вниз, нужно достичь дна, и тогда, господин Шпеер, снова начнется подъем». Я никак не мог согласиться со столь примитивным суждением, но и опровергать его у меня не было ни малейшего желания. Вообще в этот вечер я был не особенно разговорчив, и Гиммлер поспешил удалиться. Я проводил его до порога, он очень любезно простился со мной и ни словом не обмолвился о цели своего визита. Я так и не понял, что ему было нужно от меня и почему в это же время Кальтенбруннер вдруг вздумал посетить Хупфауэра. То ли мои критические высказывания побудили их искать контакта со мной, то ли они просто решили выяснить наши тайные замыслы.
14 февраля я направил министру финансов графу Шве- рин-Крозигку письмо с предложением «конфисковать все поступившие после 1933 года в огромном объеме на банковские счета денежные суммы». Я рассчитывал тем самым стабилизировать курс марки, покупательная способность
554
которой с трудом поддерживалась административными мерами. Однако рано или поздно от них наверняка пришлось бы отказаться, и тогда инфляция достигла бы совершенно немыслимого уровня. Когда Шверин-Крозигк попытался обсудить мое предложение с Геббельсом, то сразу же встретил яростное сопротивление. Ведь министр пропаганды был одним из тех, чьи интересы непосредственно затрагивала эта акция.
Еще меньше шансов на успех имела другая моя идея. Она стала еще одним свидетельством моего полного отрыва от реальности. Так, во всяком случае, я воспринимаю теперь мое тогдашнее намерение. В конце января у меня состоялась полная туманных намеков и недоговоренностей беседа со статс-секретарем министерства пропаганды Вернером Науманом. Мы случайно оказались вместе в бомбоубежище его ведомства. Я предполагал, что Геббельс способен проявить благоразумие и сделать соответствующие выводы, и поэтому в разговоре с Науманом я не слишком определенно высказался в том смысле, что, дескать, все высшие руководители рейха во главе с Гитлером должны заявить о своем согласии добровольно сдаться противнику, если взамен немецкому народу будут обеспечены более или менее нормальные условия жизни. Эта мысль породила исторические реминисценции — ведь Наполеон после поражения при Ватерлоо добровольно вверил свою судьбу английскому правительству. Ее навеяли также оперы Вагнера, многие герои которых жертвовали собой.
Из всех сотрудничавших со мной промышленников наибольшую симпатию вызывал семидесятилетний член правления концерна «Сименс», начальник отдела опытно-конструкторских работ доктор Люшен. Я всегда охотно прислушивался к его мнению. Он предсказывал, что немецкий народ ожидают очень трудные времена, но впереди у него великое будущее.
В начале февраля Люшен наведался в мою скромную квартиру на Парижской площади. Она размещалась в стоявшем в глубине двора одном из корпусов министерства вооружений. Люшен вынул из кармана листок бумаги и произнес: «Знаете ли вы наиболее популярную сейчас цитату из “Майн кампф”?»
555
«В обязанности дипломатии входит не дать народу героически погибнуть и позаботиться о его спасении. Для достижения этой цели оправданно использование любых средств, и отказ от применения одного из них следует рассматривать как граничащее с преступлением нарушение своего долга». По словам Люшена, еще более к нынешней ситуации подходит следующая выдержка из книги Гитлера: «Забота о сохранении престижа государства не является самоцелью: в противном случае любую форму тирании следовало бы признать неприкосновенной и не подлежащей никакой критике. Если верховная власть прибегает к методам, ведущим к гибели народа, то каждый, кто сознает свою принадлежность к нему, не только вправе, но и обязан выступить против этой власти».
Люшен молча удалился, а я принялся расхаживать взад- вперед по комнате. Это высказывание Гитлера как бы подводило черту под моими мучительными размышлениями последних месяцев. Оставалось только сделать следующий вывод: Гитлер — даже судя по его политической программе — сознательно предал свой народ и принес его в жертву своим целям. Я вдруг почувствовал, что больше не связан с Гитлером никакими обязательствами.
В эту ночь я принял решение устранить Гитлера. Разумеется, из этой глупой затеи ничего путного не получилось. Все ограничилось разговорами, и вообще в моем замысле было нечто по-мальчишески легковесное. Но одновременно он предельно обнажил всю глубину морального падения нацистского режима и его лидеров. Меня до сих пор трясет от ужаса при одной только мысли о том, в кого превратился человек, претендовавший некогда на звание личного архитектора Гитлера. Ведь в эти дни мы иногда подолгу просиживали вместе и даже рассматривали наши совместные архитектурные проекты прошлых лет. Но и в такие моменты я лихорадочно размышлял над тем, где раздобыть ядовитый газ, чтобы убить человека, который, несмотря на все разногласия, по-прежнему относился ко мне с глубокой симпатией и на многое закрывал глаза. Много лет я провел среди тех, для кого человеческая жизнь ровным счетом ничего не значила, — я даже не замечал этого. Теперь же я вдруг понял, что накопленный в подсознании опыт не пропал даром. Я не только запутался в хитросплетениях
556
лжи, интриг, всевозможных гнусных поступков и кровожадных планов, но и сам стал частью этого безумного мира. В сущности, я двенадцать лет жил среди настоящих убийц и ни разу не задумывался над этим; сейчас, в преддверии краха режима, именно Гитлер дал мне моральный стимул приступить к подготовке покушения на него.
На Нюрнбергском процессе Геринг всячески издевался надо мной и называл вторым Брутом. Кое-кто из остальных обвиняемых также упрекал меня в «нарушении присяги на верность фюреру». Но все эти ссылки на присягу были всего лишь пустопорожней фразой, попыткой уйти от обязанности думать и отвечать за свои поступки. Не кто иной, как Гитлер, лишил их права прибегать к этим совершенно несостоятельным аргументам. Я, к сожалению, осознал это лишь в феврале 1945 года.
Однажды я прогуливался в саду рейхсканцелярии и обратил внимание на вентиляционный вывод бункера Гитлера. Прикрытый только колосниковой решеткой, вентиляционный люк отчетливо выделялся на фоне редкого кустарника. Специальное фильтровальное устройство очищало поступающий внутрь воздух. Оно не могло, однако, защитить от газа «табун».
По чистой случайности в эти дни я особенно близко сошелся с председателем главного комитета по боеприпасам Дитером Шталем. Он не скрывал, что считает неотвратимым поражение Германии, и следователи гестапо предъявили ему обвинение в пораженческих высказываниях. Шталь попросил меня помочь ему избежать суда. Я связался со своим хорошим знакомым, гаулейтером Бранденбурга Штюртцем, который в свою очередь помог Шталю выпутаться из этой истории. В середине февраля, то есть через несколько дней после визита Люшена, Берлин подвергся едва ли не самому массированному за всю войну воздушному налету, и я вместе со Шталем оказался в одном из отсеков министерского бомбоубежища. Сама ситуация располагала к откровенному разговору. Мощная стальная дверь отгораживала нас от всего мира, мы замерли в неудобных позах на стоявших у голых бетонных стен обычных стульях и неторопливо обсуждали нравы и порядки в рейхсканцелярии. По нашему единодушному убеждению, проводимая
557
правителями рейха политика неизбежно вела к катастрофе. Внезапно Шталь вцепился мне в руку и закричал: «Произойдет нечто ужасное, нечто совершенно ужасное!»
Я осторожно осведомился, не сможет ли он достать ядовитый газ новейшей модификации. Шталь не только не поразился, мягко говоря, довольно необычному вопросу, но и с готовностью обещал выполнить мою просьбу. После непродолжительной паузы я сказал: «Других средств закончить войну нет. Я хочу попробовать пустить газ в бункер рейхсканцелярии». Хотя мы вполне доверяли друг другу, мне вдруг на мгновение стало страшно за свои слова. Шталь, однако, воспринял их довольно спокойно и ровным голосом обещал уже в ближайшее время сделать все возможное.
Через несколько дней он сообщил мне, что установил контакт с начальником отдела боеприпасов Управления вооружений сухопутных войск майором Сойкой и вроде бы есть возможность устроить учебные стрельбы начиненными «табуном» гранатами из изготовляемых на заводе Шталя ружейных гранатометов. Действительно, министру вооружений или председателю Главного комитета по боеприпасам было гораздо труднее получить доступ к «табуну», чем любому работнику администрации заводов по производству ядовитых газов. Кроме того, выяснилось, что «табун» оказывает смертоносное воздействие только при взрыве, а значит, в данном случае даже речи не могло быть о его применении, так как от взрыва сразу бы треснули тонкие стенки вентиляционного колодца. Уже наступил март, а я все еще никак не мог приступить к осуществлению своего замысла. Я не видел другого способа устранить не только Гитлера, но и его ночных собеседников — Бормана, Геббельса и Лея.
Шталь полагал, что сумеет вскоре достать ядовитый газ, состоящий из более традиционных компонентов. Со времен строительства рейхсканцелярии я был знаком с руководителем ее технического управления Хеншелем и теперь смог убедить его в том, что воздушные фильтры используются уже давно и наверняка пришли в негодность. Гитлер в моем присутствии неоднократно жаловался на спертый воздух в бункере, я сослался на его слова, и Хеншель недолго думая тут же приступил к демонтажу фильтровального устройства, лишив подземные помещения системы защиты.
558
Но даже если бы мы раздобыли газ, то вряд ли сумели бы применить его по назначению. В один из этих дней я под каким-то предлогом отправился осматривать вентиляционный вывод и увидел, что картина вокруг резко изменилась. На крыше рейхсканцелярии и стоявших вокруг зданий были выставлены усиленные посты охраны. Вооруженные автоматами рослые парни в эсэсовской форме настороженно поглядывали по сторонам. Там были также установлены прожекторы, а вентиляционное отверстие прикрыто каминной трубой. Я никак не ожидал этого. Сперва я заподозрил, что кто-то сумел разгадать мой замысел. Но затем выяснилось, что все произошло чисто случайно. В конце Первой мировой войны Гитлер в результате отравления газами временно потерял зрение. Поэтому он приказал водрузить на вентиляционное отверстие каминную трубу на случай газовой атаки. Ведь ядовитый газ тяжелее воздуха.
В сущности, его приказ был мне только на руку, так как теперь я мог с легким сердцем отказаться от осуществления заведомо обреченного теперь на неудачу плана. Чуть не месяц я потом дрожал от страха, когда представлял себе, что кто-то может раскрыть наш заговор; иногда я никак не мог отделаться от ощущения, что мое намерение нетрудно разгадать даже по выражению лица. Ведь после событий 20 июля 1944 года аресту подлежали, говоря официальным языком, «родные и близкие лиц, обвиняемых в государственной измене», и я сознательно подвергал страшной опасности свою жену и шестерых детей.
Поэтому я решил напрочь забыть о своем прежнем замысле и сосредоточить все усилия на срыве тех планов Гитлера, которые были направлены на превращение Германии в «зону пустыни». Я сразу почувствовал облегчение, так в моей душе все перемешалось: искренняя привязанность к Гитлеру соседствовала с нежеланием больше подчиняться ему, а стремление сохранить лояльность фюреру — с готовностью совершить на него покушение. Но не только страх мешал мне сразить Гитлера выстрелом из пистолета. Ему было достаточно взглянуть мне в глаза, и я сразу чувствовал на себе его гипнотическое воздействие. Вплоть до последнего дня власть Гитлера надо мной была слишком велика.
559
Мне никак не удавалось разобраться в своих ощущениях, и мое смятенное состояние нашло выражение в том, что, несмотря на осознание всей аморальности поведения Гитлера, я никак не мог подавить в себе чувство жалости к нему. Я искренне сожалел о приближающейся гибели человека, всю жизнь стремившегося доказать, что для него нет непреодолимых преград. Гитлер внушал мне омерзение, но одновременно я сочувствовал ему и никак не мог избавиться от его колдовских чар.
Кроме того, я действительно испытывал страх. В середине марта я вновь вознамерился направить в ставку меморандум, затрагивающий запретную тему поражения, и поэтому решил приложить к нему обращенное лично к Гитлеру письмо. Зеленый карандаш, пользоваться которым разрешалось только министрам, мелко подрагивал в моих дергающихся от нервного возбуждения пальцах. Совершенно случайно я исписал изломанными буквами листок бумаги, на оборотной стороне которого моя секретарша на специальной пишущей машинке с большими литерами напечатала цитату из «Майн кампф». Я как бы напоминал Гитлеру, что он сам призывал выступить против проигравшего воину правительства.
«Написать прилагаемый меморандум вынуждает меня мой долг перед вами и немецким народом». Я помедлил немного и несколько изменил фразу. Теперь она звучала так: «...мой долг как министра вооружений и военной промышленности перед немецким народом и лично вами».
29
Дьявольская одержимость
На завершающем этапе войны я мог отвлечься и успокоиться, только уйдя с головой в активную деятельность. Я решил, что уж если Зауру так хочется, то пусть он фактически возьмет на себя руководство разваливающейся системой военной экономики и пытается сохранить относительно приемлемый объем производства вооружения. Я же, напротив, стремился теперь наладить как можно более
560
тесное сотрудничество с промышленниками. Мы думали уже не о войне, а о мире и на совещаниях обсуждали проблему перехода к экономике послевоенного периода.
Для Гитлера и высокопоставленных партийных руководителей план Моргентау оказался как нельзя кстати, ибо он позволил объявить во всеуслышание: уж теперь, дескать, ни у кого не должно остаться сомнений в том, что поражение приведет к гибели немецкий народ. И действительно, значительная часть населения им поверила. Мы же, напротив, имели все основания утверждать, что ничего подобного не произойдет. Ведь точно такие же цели ставили перед собой Гитлер и его приближенные, когда отдавали приказ начать вторжение на территории иностранных государств. Они лишь более последовательно старались претворить их в жизнь. Однако дальнейшее развитие событий показало, что Польша, Чехословакия, Франция и Норвегия вопреки намерениям Гитлера и его окружения в условиях оккупации сохранили и приумножили свой промышленный потенциал, так как, в конце концов, у них был стимул использовать его в собственных целях, и даже самые ярые поборники тактики «выжженной земли» ничего не могли сделать. Если же удается восстановить промышленность, то волей-неволей приходится соблюдать условия сохранения основ хозяйственной жизни, то есть кормить людей, шить для них одежду и платить им зарплату.
Так, во всяком случае, обстояли дела на ранее оккупированных территориях. И единственной предпосылкой для этого, по нашему мнению, было сохранение основных производственных мощностей. Именно этим я и занимался в конце войны, отбросив какие бы то ни было идеологические и национальные предрассудки. Для преодоления неимоверных трудностей, вызванных главным образом ожесточенным сопротивлением многих должностных лиц, мне приходилось лгать, притворяться и чуть ли не становиться двуликим Янусом. На одном из проходивших в январе 1945 года оперативных совещаний Гитлер протянул мне сводку сообщений иностранной прессы и угрожающим тоном спросил: «Я приказал вывести из строя все промышленные предприятия на территории Франции. Как же получилось, что всего через несколько месяцев общий подъем их производства уже приблизился к довоенному уровню?» Он злобно
561
посмотрел на меня. «Возможно, речь идет просто о пропагандистском маневре», — спокойно ответил я. Гитлер всегда с пониманием относился к таким пропагандистским акциям, как публикация в печати ложных сообщений, и инцидент был исчерпан.
В феврале 1945 года я побывал в нефтяном районе Венгрии, в не занятой пока еще советскими войсками части угледобывающего региона Верхней Силезии, в Чехословакии, а напоследок вылетел в Данциг. Повсюду мне удалось не только обязать сотрудников территориальных органов неукоснительно следовать выработанной нами линии, но и договориться с генералами. Мне также довелось наблюдать концентрацию близ озера Балатон нескольких дивизий СС, которые Гитлер намеревался бросить в крупномасштабное контрнаступление. План этой операции был полностью засекречен. Тем более странным было то обстоятельство, что на рукавах шинелей солдат и офицеров красовались нашивки и эмблемы, выдававшие их принадлежность к отборным воинским соединениям. Но совсем уж нелепым казалось стремление Гитлера с помощью нескольких танковых дивизий низвергнуть недавно утвердившуюся власть Советов на Балканском полуострове. Он полагал, что через три-четыре месяца народы стран Юго-Восточной Европы окончательно разочаруются в навязанных им Советским Союзом режимах. Гитлер не только не впал в отчаяние, но и сумел убедить себя и других в том, что первые успехи немедленно приведут к желанным переменам, повсеместно вспыхнет народное восстание и население вместе с нами выступит против общего врага — Советского Союза. Разумеется, у него не было ни малейших оснований для такого рода утверждений.
В Данциге я посетил штаб-квартиру Гиммлера, занимавшего тогда еще пост главнокомандующего группой армий «Висла». Вместе со своим штабом он расположился в весьма комфортабельных вагонах спецпоезда. Я оказался невольным свидетелем телефонного разговора рейхсфюрера СС с генералом Вайсом, умолявшим разрешить ему отступить с занимаемых позиций ввиду полной невозможности сдержать натиск русских войск. Гиммлер ответил ему стандартной фразой: «Я вам дал соответствующий приказ. И за его
562
выполнение вы отвечаете головой. Отступление будет стоить вам не только карьеры. Я лично займусь вами».
Однако когда я на следующий день приехал в штаб генерала Вайса, то выяснилось, что его части еще ночью покинули позиции. Угрозы Гиммлера не произвели на генерала ни малейшего впечатления: «Я отнюдь не собираюсь заставлять своих солдат выполнять заведомо невыполнимые требования. Я вообще делаю лишь то, что возможно». Угрозы Гитлера и Гиммлера перестали оказывать воздействие. Во время этой поездки я также приказал министерскому фотографу заснять бесконечные колонны охваченных паникой беженцев. Гитлер снова отказался посмотреть фотографии, правда, на лице его в этот момент появилось даже страдальческое выражение. Тем не менее каким-то расслабленным жестом он опять отодвинул их подальше от себя.
В Верхней Силезии я познакомился с генерал-полковником Хейнрици, который оказался на удивление разумным и понятливым человеком. В последние недели войны я еще раз убедился в этом. В середине февраля мы договорились сохранить в целостности железнодорожные магистрали, по которым в будущем предполагалось транспортировать уголь в юго-восточном направлении. Мы также посетили вместе шахту неподалеку от Рибника. Она оказалась в прифронтовой зоне, но советские войска не предпринимали никаких попыток сорвать работы по добыванию угля; казалось, противник начал с пониманием относиться к проводимой нами политике. Польские шахтеры также сумели приспособиться к ситуации и спускались под землю отнюдь не с меньшим, если даже не с большим энтузиазмом, чем прежде. Мы твердо обещали им не разрушать шахту в обмен на обещание воздержаться от любых актов саботажа, и они с готовностью пошли нам навстречу.
В начале марта я отправился в Рурскую область. Тамошние промышленники больше всего были озабочены следующей проблемой: даже если шахты и сталелитейные заводы останутся целыми, но зато будут разрушены все мосты, то прервется весь технологический цикл. В тот же день я поехал к фельдмаршалу Моделю. Он был крайне взволнован и рассказал мне, что Гитлер приказал ему выделить несколько пехотных дивизий для нанесения контрудара во фланг сосредоточившимся близ Ремагена вражеским войскам с целью
563
снова захватить мосты через Рейн. С подавленным видом он заявил: «Эти дивизии потеряли почти все вооружение, а значит, утратили боеспособность. Боевая мощь каждой из них меньше роты! В ставке даже понятия не имеют, что здесь творится! А вину за провал контрнаступления взвалят, конечно же, на меня». Модель был настолько недоволен приказами Гитлера, что сразу же согласился с моими предложениями и обещал в ходе предстоящих боев за Рурскую область постараться сохранить все коммуникации, а особенно железнодорожные мосты.
Я полностью сознавал роковые последствия их разрушения для нашей экономики и поэтому убедил Гудериана издать приказ, категорически запрещающий производить взрывы зданий и сооружений, если они могут повлечь за собой «уничтожение систем обеспечения населения». В свое время Гудериан намеревался на собственный страх и риск отдать сражающимся на Восточном фронте войскам именно такой приказ; когда же он представил на подпись отвечавшему за западный театр военных действий Йодлю проект аналогичного распоряжения, то начальник штаба оперативного руководства предложил ему обратиться к Кейтелю. Фельдмаршал, правда, не отверг проект приказа, но заявил, что обязан обсудить его с Гитлером. Нетрудно было предвидеть результат. На следующем оперативном совещании Гитлер потребовал принять еще более жесткие меры по осуществлению тактики «выжженной земли» и выразил крайнее возмущение поведением Гудериана.
В середине марта я опять представил Гитлеру меморандум, в котором откровенно изложил ему свое видение ситуации и привел целый перечень необходимых на данном этапе войны мероприятий. Этим я сознательно нарушил установленное им в последние месяцы табу. На состоявшейся несколькими днями раньше в Бернау встрече с промышленниками я еще раз подтвердил свое намерение даже ценой собственной жизни не допустить разрушения промышленных объектов.
Мне очень не хотелось, чтобы Гитлер, пробежав глазами первую страницу, вообще отказался читать меморандум дальше. Поэтому я начал его с традиционного отчета о добыче угля. Но уже на второй странице при перечислении
564
насущных экономических проблем я отвел первое место не сохранению военного производства, а удовлетворению потребностей гражданского населения: обеспечению его продовольствием, газом и электроэнергией. Вне всякой связи с предыдущими высказываниями я подчеркивал, что «окончательный крах германской экономики» произойдет через четыре-восемь недель и «ни о каком продолжении войны тогда уже не может быть и речи». Я обращался непосредственно к Гитлеру, стремясь убедить его в том, что «никто не вправе считать свою личную судьбу также судьбой немецкого народа». Заканчивался меморандум следующими словами: «На этом этапе войны мы не должны бессмысленными разрушениями отягощать и без того очень трудную жизнь нашего народа».
В этот раз я остерегся передавать насчитывающий двадцать две страницы меморандум Гитлеру без предварительной подготовки. От него можно было ожидать чего угодно, и даже приказа о моем немедленном аресте. Поэтому я обратился к Юлиусу Шаубу с просьбой уговорить Гитлера подарить мне на сорокалетие свою фотографию с собственноручно сделанной памятной надписью. Я был единственным из соратников Гитлера, кто за двенадцать лет ни разу ни о чем подобном его не попросил. И вот теперь, когда крах его режима был уже неминуем, а нашим близким отношениям пришел конец, я как бы давал понять, что хотя и неоднократно возражал ему и в своем меморандуме фактически откровенно предрекал скорую гибель, но тем не менее по-прежнему глубоко уважаю его. Но мне все равно было тревожно на душе, и я решил после передачи меморандума постараться оказаться как можно дальше от рейхсканцелярии. Под предлогом проведения очередного совещания с сотрудниками территориальных органов я собирался в ту же ночь вылететь в окруженный советскими войсками Кёнигсберг. Заодно я хотел проститься с ними.
Договорившись с фон Беловом и Шаубом, я отправился 18 марта на оперативное совещание с целью избавиться наконец от буквально жгущей мне руки докладной записки. Вот уже несколько дней оперативные совещания проводились не в спроектированном мной семь лет тому назад роскошном кабинете рейхсканцлера, а в одном из подземных бункеров. С нескрываемой горечью Гитлер сказал мне:
565
«Видите ли, господин Шпеер, в данной ситуации столь превосходно оформленный вами зал уже не подходит для оперативных совещаний».
Обсуждалось положение в Саарской области, на которую наступала армия генерала Паттона. Гитлер настоятельно требовал защищать эту территорию до последней капли крови и приветил те же аргументы, что и год назад, когда советские войска вплотную подошли к району месторождений марганцевых руд близ Никополя. Он вдруг обратился за поддержкой ко мне и, явно волнуясь, попросил: «Объясните участникам совещания, какие последствия будет иметь для нас потеря Саарского угольного бассейна». Я невольно воскликнул: «Тогда конец!» Мы оба смутились и какое-то время молча смотрели друг на друга. Затем Гитлеру, видимо, стало неловко, и он сменил тему обсуждения.
В тот же день главнокомандующий Западным фронтом фельдмаршал Кессельринг доложил, что население всячески препятствует отражению атак американских войск. Все чаще и чаще жители попросту не пускают к себе в деревни наши части и требуют от командиров поклясться на Библии, что они не вступят здесь в бой и не подвергнут местность угрозе разрушения. В большинстве случаев офицеры вынуждены были пойти навстречу требованиям отчаявшихся людей. Гитлер без долгих раздумий велел Кейтелю составить проект приказа о принудительной эвакуации всего населения прифронтовой зоны. Кейтель, как всегда одержимый желанием угодить Гитлеру, тут же присел за стоявший в углу столик и принялся усердно водить пером по бумаге.
Один из генералов попытался убедить Гитлера в том, что в нынешних условиях невозможно провести эвакуацию сотен тысяч людей, так как железнодорожный транспорт полностью дезорганизован. На Гитлера его слова не произвели никакого впечатления. «Тогда пусть идут пешком!» — безапелляционным тоном заявил он. Генерал начал было доказывать, что вермахт не в состоянии развернуть в малонаселенных местностях необходимое количество полевых кухонь, но Гитлер резко отвернулся. Он ясно дал понять, что не желает больше разговаривать с ним.
Текст подготовленного Кейтелем и одобренного Гитлером проекта приказа гласил: «Пребывание гражданского
566
населения в прифронтовой зоне не только снижает боеспособность войск, но и создает непосредственную угрозу ему самому. Поэтому фюрер приказывает очистить территорию на западном берегу Рейна, и в первую очередь Саарскую область и Пфальц, от всего проживающего там населения... Эвакуацию произвести в юго-восточном направлении и южнее линии Санкг-Вендель — Кайзерслаутерн — Людвигсха- фен. О конкретных мерах командованию группы армий “Г” надлежит договориться с гаулейтерами, которые получат соответствующее распоряжение от начальника партийной канцелярии. Начальник штаба верховного командования генерал-фельдмаршал Кейтель».
Ни у кого не вызвали возражений также следующие слова Гитлера: «Мы не можем больше считаться с интересами гражданского населения». Уходил я вместе с советником Бормана Цандером, который в отчаянии то и дело повторял: «Ничего не выйдет! Это катастрофа! Ведь ничего не подготовлено». В порыве негодования я заявил, что отменяю полет в Кёнингсберг и немедленно отправляюсь в западные районы. Полночь миновала, и наступил день моего сорокалетия. Я попросил у Гитлера разрешения поговорить с ним. Он вызвал камердинера: «Принесите надписанную мной фотографию». Гитлер сердечно поздравил меня и вручил красный футляр с золотым тиснением на крышке в виде имперского орла. Предназначенные кому-нибудь в дар свои фотографии в серебряных рамках он всегда клал именно в такие коробки. Я поблагодарил Гитлера, положил футляр на стол и вынул из портфеля меморандум. Гитлер, глядя на меня, тихим голосом сказал: «В последнее время я с трудом могу написать даже несколько строк. Вы же видите, как дрожит рука. Зачастую я даже не в состоянии поставить свою подпись. Поэтому надпись на фотографии получилась очень неразборчивой». Я немедленно открыл футляр и убедился, что разобрать его нервный, корявый почерк действительно нелегко. Было понятно только, что он от души благодарил меня за плодотворную работу и уверял в неизменности своих дружеских чувств. Помедлив немного, я с тяжелым сердцем передал ему ответный подарок — меморандум, констатировавший полный крах его политики.
Гитлер молча взял документ. Чтобы хоть немного смягчить ситуацию, я рассказал о своем намерении этой же
567
ночью выехать в западные районы и поспешил удалиться. В приемной я собрался было вызвать машину, как вдруг мне неожиданно предложили вернуться в кабинет Гитлера. Даже не дав мне опомниться, он заявил: «Я подумал и решил, что будет лучше, если мой шофер Кемпка отвезет вас туда на моем автомобиле». Я начал возражать и в конце концов уговорил Гитлера разрешить мне выехать туда хотя бы на моей машине. На душе было тревожно — я перестал испытывать к нему симпатию, которой снова проникся в тот момент, когда он вручил мне свою фотографию. Незримая нить, связывавшая меня с Гитлером, видимо, уже окончательно порвалась. Гитлер, явно расстроенный этим обстоятельством, разрешил мне удалиться, но у самой двери окликнул меня и твердым голосом, как бы подводя черту под нашими спорами, заявил: «На этот раз вы получите письменный ответ». Внимательно посмотрел на меня и продолжил: «Если война проиграна, народ так или иначе обречен на гибель. Немецкий народ утратил право даже на самые элементарные жизненные условия. Восточный народ оказался сильнее, и будущее по справедливости принадлежит исключительно ему. Все равно в живых остались преимущественно неполноценные люди, ибо самые достойные пали в этой борьбе».
Я с облегчением вдыхал врывающийся через приоткрытое окошко холодный воздух. С Кемпкой мы договорились поочередно вести машину, и сейчас я сжимал руль, напряженно всматриваясь в выбегавшее из-под колес шоссе. На заднем сиденье, привалившись к спинке, мерно посапывал мой офицер связи с Генеральным штабом подполковник фон Позер. Было уже два часа ночи, и если мы собирались преодолеть 500 километров, отделявших нас от расположенной близ Наугейма штаб-квартиры главнокомандующего Западным фронтом, до рассвета, то есть до появления в небе идущих на бреющем полете вражеских самолетов, нам следовало прибавить скорость. Кемпка, внимательно прислушиваясь к монотонному голосу, доносившемуся из настроенного на волну службы оповещения наших «ночных истребителей» радиоприемника: «“Ночные истребители” в квадрате... несколько “москито” в квадрате... “ночные истребители” в квадрате...», водил пальцем по разложенной на коленях
568
карте с нанесенной сеткой квадратов. При приближении вражеских эскадрилий мы должны были прикрыть маскировочными щитками фары и медленно ехать по обочине. Пока же мы врубили на полную мощь не только две огромные цейсовские фары, но и две противотуманные и, рассеивая мглу конусом яркого света, неслись вперед под гул мотора. Утро застало нас еще в пути, однако низкая облачность временно парализовала активность вражеской авиации. В штабе мне удалось даже несколько часов поспать.
Около полудня я встретился с Кессельрингом, но наша беседа не принесла никаких результатов. Он постоянно подчеркивал, что как солдат обязан беспрекословно выполнять приказы верховного главнокомандующего. Совершенно неожиданно меня поддержал уполномоченный НСДАП при его штабе. Мы расхаживали взад-вперед по террасе замка, и он после недолгих колебаний пообещал мне по возможности воздерживаться от отправки Гитлеру докладов о поведении населения, дабы не вызывать у него негативной реакции.
Когда Кессельринг произносил за обедом тост по случаю моего дня рождения, на замок с диким ревом внезапно спикировали вражеские самолеты, и в тот же миг после первых же пулеметных очередей со звоном посыпались стекла. Мы все дружно бросились на пол. Наконец с опозданием истошно завыла сирена, и совсем рядом справа и слева послышались гулкие разрывы бомб. Сквозь клубы дыма и известковую пыль мы бегом бросились в бункер.
Очевидно, союзники поставили перед собой вполне конкретную цель — разбомбить штаб Западного фронта. Непрерывно гремели взрывы, стены в бункере тряслись, пол ходил ходуном, но ни одна из бомб не попала прямо в замок. После окончания воздушного налета мы продолжили совещание, в котором принял также участие крупнейший саарский промышленник Герман Рёхлинг. Этому почтенному человеку весьма преклонного возраста (ему было больше семидесяти лет) Кессельринг без обиняков сообщил, что уже в ближайшие дни будет вынужден отступить из Саара. Рёхлинг воспринял известие о предстоящем захвате иностранными войсками родной земли и неизбежной утрате своих заводов довольно равнодушно, ровным, спокойным голосом заметив: «Мы уже один раз были вынуждены уступить
569
Саар врагу, но затем вновь обрели его. И я верю, что, несмотря на преклонный возраст, доживу до тех дней, когда мы опять завладеем этим краем».
Следующим этапом моей поездки был Гейдельберг, куда переместился штаб по координации производства вооружений в юго-западной части Германии. Я хотел воспользоваться случаем и в свой день рождения хоть немного побыть вместе с родителями. Ездить днем по шоссе было практически невозможно, но я еще в юности изучил здесь все объездные пути, и мы с Рёхлингом, невзирая на ясную, теплую весеннюю погоду решили все-таки отправиться в путь и добираться до цели через Оденвальд. Впервые мы были друг с другом совершенно откровенны; слывший ранее ярым приверженцем Гитлера Рёхлинг теперь не скрывал, что считает безумием фанатичное стремление продолжать войну. В Гейдельберг мы приехали к вечеру и узнали, что в Сааре все складывается довольно неплохо: никто не собирался ничего разрушать. До прихода американских войск оставалось всего несколько дней, и приказ Гитлера уже не мог стать причиной многих бед и несчастий.
Все дороги были забиты отступавшими частями, и измученные, еле волочившие ноги солдаты ругали нас почем зря. Лишь после полуночи мы добрались до расположенного в одной из окруженных виноградниками деревушек штаба дислоцированной в Пфальце армии. Генерал СС Хауссер оказался гораздо более благоразумным человеком, чем его непосредственный начальник. Он прямо заявил, что приказ о принудительной эвакуации выполнить невозможно, а требование подготовить к взрыву мосты охарактеризовал как совершенно безответственное. Когда после пяти месяцев пребывания в плену меня везли на грузовике из Версаля через эти края, я собственными глазами увидел, что ни одна железнодорожная магистраль, ни один автомобильнодорожный мост не были разрушены.
Гаулейтер Пфальца и Саара Штёр наотрез отказался выполнять полученный им приказ об эвакуации населения, и между ним и мной состоялся довольно странный диалог: «Если фюрер привлечет вас к ответственности, можете в свое оправдание сослаться на мои слова. Дескать, я заставил вас не выполнять это распоряжение». — «Очень любезно с вашей стороны, но я привык сам отвечать за свои поступки».
570
В остальном же гаулейтер и министр достигли полного взаимопонимания.
Для того чтобы добраться до находившейся теперь в Вестервальде штаб-квартиры фельдмаршала Моделя, нам предстояло проехать еще 200 километров. На рассвете из- за облаков вынырнули американские истребители, и нам пришлось немедленно съехать с шоссе и окольными путями добираться до деревни, у которой был обманчиво мирный вид. Никому бы даже в голову не пришло, что здесь разместился штаб группы армий. Мы не обнаружили не только ни одного связного-мотоциклиста — ездить разрешалось только ночью, — но вообще ни одного человека в военной форме.
В деревенской гостинице я напомнил Моделю о нашей беседе в Зигбурге. В это время в комнату вошел офицер с телеграммой в руке. Модель пробежал ее глазами, и выражение его лица сразу же изменилось. «Это касается вас», — запинаясь пробормотал он, стараясь не смотреть мне в глаза.
Гитлер выполнил обещание и в письменном виде ответил на мой меморандум. Каждый раздел его приказа полностью противоречил выдвинутым мной 18 марта требованиям. В нем предписывалось разрушить до основания «все военные объекты, вывести из строя системы транспорта, связи и бытового обслуживания, а также уничтожить все материальные ценности на территории рейха». Это был смертный приговор немецкому народу, так как последовательное осуществление тактики «выжженной земли» означало его гибель. Этот же приказ практически лишал меня полномочий: отменялись все мои распоряжения о сохранении промышленного потенциала. Теперь гаулейтерам вменялось в обязанность позаботиться об уничтожении материально-технических ресурсов Германии.
Мне стало страшно при одной только мысли о возможных последствиях: на долгий срок нас лишали таких благ цивилизации, как электроэнергия, газ, чистая вода, паровое отопление и транспорт. Железнодорожные пути, шлюзы, доки, корабли, паровозы, современно оборудованные складские помещения и средства телефонной связи — все подлежало тотальному уничтожению; одним словом. Гитлер и вправду вознамерился вернуть страну в средневековье.
571
По поведению Моделя теперь можно было отчетливо понять, что ситуация в корне изменилась: между нами как бы возникла невидимая стена. В разговоре он тщательно старался избежать обсуждения такой, по его мнению, щекотливой темы, как сохранение в целостности предприятий Рурского промышленного региона, хотя именно с этой целью я и приехал к нему. Спать меня положили в крестьянском доме. Я был настолько возмущен и раздосадован, что, несмотря на сильную усталость, так и не смог заснуть. Через несколько часов я встал, прогулялся по окрестным полям, а потом поднялся на холм. При виде раскинувшейся у его подножия окутанной легкой туманной дымкой деревни на душе сразу сделалось легко и спокойно. Отсюда я без труда разглядел местность далеко-далеко за холмами Зау- эрланда. Я мучительно размышлял о том, почему человек хочет превратить в пустыню страну, где столько сказочно красивых мест. В усталости я прилег на заросшую папоротником землю. Все здесь казалось каким-то нереальным. От земли, из-под которой уже показались первые ростки, исходил такой дурманящий пряный запах, что у меня даже закружилась голова. Обратно я возвращался, когда солнце уже скрылось за горизонтом. Я решил окончательно и бесповоротно, что приложу все усилия, но не допущу выполнения этого приказа. Я отменил назначенное на вечер совещание и спешно выехал в Берлин, ибо полагал, что главное сейчас выяснить, какая там обстановка.
Солдаты вытолкали машину из кустарника, и мы, невзирая на барражировавшие над шоссе самолеты противника, еще ночью, с затемненными фарами, выехали в восточном направлении. Кемпка небрежно положил ладони на обод руля, а я лихорадочно листал свои записи, большинство из которых было сделано на прошедших в эти два дня совещаниях. Я постарался запомнить основные положения, а затем начал незаметно рвать листки бумаги — мне очень не хотелось, чтобы они попали в чужие руки, — и выбрасывать их в окно. Во время одной из коротких остановок я заметил, что из-за сильного встречного ветра клочки бумаги скопились в углу подножки, и, выбрав момент, когда Кемпка отвернулся, носком сбросил их в придорожную канаву.
572
30
Ультиматум Гитлера
Я настолько устал, что вдруг почувствовал полное равнодушие к собственной судьбе и не испытал ни малейшего волнения, встретив 21 марта в рейхсканцелярии Гитлера. Он был довольно молчалив, мимоходом осведомился о результатах моей поездки и ни словом не упомянул «письменный ответ». Я также решил не заводить с ним разговор, ибо понимал, что толку от этого не будет. Зато Кемпку Гитлер продержал у себя чуть ли не целый час и даже не известил меня о своей беседе с ним.
В нарушение распоряжения Гитлера я в тот же вечер передал Гудериану второй экземпляр моего меморандума. Кейтель же в ужасе даже отказался взять его в руки — выводы, содержавшиеся в докладной записке, могли произвести впечатление взорвавшейся бомбы, и фельдмаршал опасался за свою карьеру. Напрасно я пытался выяснить, как и при каких обстоятельствах появился этот приказ Гитлера. После того как в составленном заговорщиками списке членов кабинета министров обнаружили также и мое имя, ко мне стали относиться довольно настороженно. Вероятно, в окружении Гитлера сочли, что я окончательно впал в немилость; я и в самом деле почти полностью утратил реальное влияние на подведомственную мне сферу.
Два принятых в эти дни решения Гитлера свидетельствовали, что отныне он не остановится ни перед чем. В сводке ОКВ от 18 марта я прочитал о приведении в исполнение смертного приговора офицерам вермахта — их обвинили в том, что они не подготовили своевременно к взрыву мост через Рейн близ Ремагена. Совсем недавно Модель в беседе со мной сказал, что они ни в чем не виноваты. От «ремагенского кошмара» — так выразился Модель — многие высшие должностные лица так и не смогли оправиться вплоть до конца войны.
В тот же день мне дали понять, что Гитлер распорядился предать смертной казни генерал-полковника Фромма. Еще несколько недель тому назад министр юстиции Тирак в перерыве между первым и вторым блюдом как ни в чем не бывало сообщил мне: «Фромма мы тоже вскоре отправим
573
в мир иной». Все мои усилия переубедить Тирака не дали никаких результатов; мои аргументы не произвели на него ни малейшего впечатления. Поэтому я немедленно отправил на его имя официальное письмо, в котором на пяти страницах опроверг большую часть выдвинутых против Фромма обвинений и заявил о своей готовности выступить в качестве свидетеля защиты на заседании Народного трибунала.
Никогда еще рейхсминистр не выступал с такого рода ходатайством, и уже 6 марта, то есть через три дня, Тирак ответил мне в очень резком тоне: я, дескать, не имею права выступать на заседании Народного трибунала без специального разрешения Гитлера. «Фюрер велел тотчас же передать мне, — подчеркнул Тирак в своем послании, — что не намерен кому бы то ни было разрешать в виде исключения выступать свидетелем по делу Фромма. Поэтому я не могу приобщить к нему ваше заявление». После казни бывшего командующего резервной армией я окончательно осознал, что оказался в крайне затруднительном положении.
Я решил не расслабляться, не идти ни на какие компромиссы, а, напротив, проявлять упорство.
Когда Гитлер пригласил меня 23 марта на очередное совещание, посвященное проблемам производства вооружения, я послал вместо себя Заура. Когда я затем ознакомился с его записями, то еще раз убедился, что и Гитлер и он, словно легкомысленные юноши, не желали считаться с реальной ситуацией. Хотя вся система военной промышленности оказалась на грани развала, они оба не придумали ничего лучшего, как уделить пристальное внимание разного рода проектам, словно в запасе у них был весь 1945 год. Так, например, они не только всерьез обсуждали возможности увеличения производства чугуна — что было совершенно нереально, — но и договорились приступить к выпуску в «максимальном количестве» 88-миллиметровых противотанковых орудий и 210-миллиметровых гранатометов. Особый восторг вызывали у них предложения по разработке новейших образцов вооружения: специальной винтовки для солдат воздушно-десантных войск — разумеется, также в «максимальном количестве» — или гранатомета, приспособленного для стрельбы снарядами огромного 305-миллиметрового калибра. Протокол содержал также запись приказа Гитлера, потребовавшего уже через несколько
574
недель представить ему на рассмотрение чертежи пяти новых типов танков, находящихся в данный момент на вооружении вермахта. Кроме того, он очень заинтересовался известным с древних времен «греческим огнем» и запретил переделывать в бомбардировщик истребитель «Ме-262».
Два с половиной года вопреки мнению специалистов он упрямо настаивал на своем и вот теперь наконец невольно признал собственную тактическую ошибку.
21 марта я вернулся в Берлин. Через три дня рано утром мне доложили о том, что английские войска севернее Рура перешли в наступление на широком фронте и, практически не встретив сопротивления, форсировали Рейн. По словам Моделя, наши войска были не в состоянии дать им отпор. Если в сентябре 1944 года валовая продукция военной промышленности достигла наивысшего уровня и благодаря этому нам удалось в кратчайший срок превратить беспорядочно отступавшие и бросившие свое вооружение армии в боеспособные соединения, отразившие натиск врага, то теперь мы не располагали такими возможностями и армии западных союзников почти беспрепятственно продвигались вглубь Германии.
Я снова сел за руль автомобиля и отправился в Рурскую область, поскольку от сохранения ее промышленного потенциала всецело зависело развитие экономики нашей страны в послевоенный период. В Вестфалии у моей машины лопнула шина, и мы были вынуждены временно прервать поездку. В сумерках узнать меня было довольно сложно, и я, воспользовавшись этим обстоятельством, на одном из хуторов вступил в разговор с крестьянами. Неожиданно выяснилось: за последние годы их настолько приучили доверять Гитлеру, что даже в этой ситуации они нисколько не сомневались в его победе! «У фюрера наверняка есть в запасе последний козырь, который он пустит в ход в нужный момент. А пока он заманивает противника в ловушку!» Даже некоторые министры по наивности своей верили в хитроумный замысел Гитлера: он якобы намеренно уступил врагу часть территории, чтобы в последний миг использовать против него сокрушительное «чудо-оружие».
Так, например, Функ как-то спросил меня: «У нас ведь есть какое-то особое оружие, правда? И благодаря ему события вскоре примут благоприятный для нас оборот?»
575
Прямо ночью я провел совещание с руководителем штаба по координации работы промышленных предприятий Рура доктором Роландом и его сотрудниками. Их отчет произвел на меня ужасающее впечатление. Оказывается, возглавлявшие на территории Рура земельные партийные организации трое гаулейтеров твердо решили выполнить пресловутый приказ Гитлера. Один из наших ответственных сотрудников, Хёрнер, который, к несчастью, одновременно был начальником технического управления НСДАП, по их требованию составил план, осуществление которого повлекло бы за собой полное разрушение промышленных предприятий Рура. Хёрнеру очень не хотелось этим заниматься, но он привык выполнять указания начальства.
Когда я ознакомился с основными положениями плана, то не мог не отдать должного профессиональным навыкам его автора: предполагалось затопить шахты и разрушить все подъемные машины, чтобы даже в отдаленной перспективе их невозможно было восстановить. План Хёрнера предусматривал также затопление у входа в речные порты Рура груженных цементом пароходов, что привело бы к блокированию водных путей.
Вражеские войска уже вторглись с севера на территорию Рурской области, и гаулейтеры намеревались на следующий же день устроить серию взрывов. По их предположению, на шахтах имелись значительные запасы взрывчатки, детонаторов и бикфордовых шнуров. Однако они не располагали достаточным количеством транспортных средств и поэтому были вынуждены обратиться за помощью в территориальные органы моего министерства.
Роланд немедленно вызвал двадцать наиболее надежных сотрудников управленческих структур угледобывающей промышленности в замок Ландсберг, где находилась штаб-квартира его ведомства. Совещание длилось совсем недолго, так как его участники восприняли как само собой разумеющееся предложение сбросить все предназначенное для взрывных работ оборудование в подстволки шахт. Одному из сотрудников было поручено спешно вывезти из Рурской области все грузовики. В крайнем случае было решено передать их вместе с запасами горючего в распоряжение фронтовых частей. Наконец, я обещал Роланду вооружить пятьюдесятью автоматами его людей. Они были преисполнены
576
решимости защищать электростанции и другие промышленные объекты с оружием в руках и поэтому представляли собой грозную силу, поскольку личный состав полиции и партийные функционеры были вынуждены сдать все свое оружие на армейские склады. Мы не скрывали, что фактически занимались подготовкой мятежа.
Гаулейтеры Флориан, Гофман и Шлессман собрались в деревне Руммельоль близ Хагена. Я пренебрег всеми запретами Гитлера и на следующий день еще раз попытался их переубедить. Особенно жаркий спор разгорелся у меня с гаулейтером Дюссельдорфа Флорианом, который отстаивал следующую точку зрения: если война проиграна, то отнюдь не из-за ошибок Гитлера или партии, но исключительно по вине немецкого народа, и пережить катастрофу таких масштабов суждено лишь жалким и ничтожным личностям. В отличие от Флориана, Гофман и Шлессман в конце концов согласились со мной, однако заявили, что обязаны выполнять приказы фюрера, иначе вся ответственность целиком ляжет на них.
Они пребывали в полнейшей растерянности еще и потому, что из канцелярии Бормана поступил новый указ Гитлера, предусматривающий гораздо более жестокие меры по разрушению системы жизнеобеспечения на территории рейха. Гитлер подтвердил свой приказ «эвакуировать население из всех районов, которые мы не в состоянии удержать и которые могут быть захвачены врагом». Ответом возможным оппонентам звучали следующие фразы: «Фюреру неоднократно докладывали о колоссальных трудностях, сопряженных с выполнением его требования. Однако, принимая во внимание все обстоятельства, он категорически запрещает какое-либо обсуждение этого приказа».
Принудительная эвакуация жителей Рейнской и Рурской областей, Мангейма и Франкфурта могла быть проведена только в малонаселенные районы, главным образом в долины Тюрингии и Эльбы.
Плохо одетые, голодные горожане заполонили бы территории, на которых было невозможно оказать квалифицированную медицинскую помощь, а также обеспечить их жильем и питанием. Там их ожидали голод, болезни и нищета.
Собравшиеся гаулейтеры в итоге пришли к выводу, что партийные инстанции попросту не могут выполнить эти
19 А. Шпеер
577
приказы. Исключение составил один лишь Флориан, ко всеобщему изумлению зачитавший текст пронизанного пафосом воззвания к партийным функционерам Дюссельдорфа, которое он собирался расклеить по всему городу. В нем он грозился при приближении вражеских войск поджечь все уцелевшие после бомбежки здания и эвакуировать жителей.
Двое других гаулейтеров выразили сомнение в правильности таких действий. Я сумел убедить их в своей точке зрения: дескать, нельзя прекращать работу военных предприятий Рура, ибо таким образом обороняющие его войска будут непрерывно получать оружие и боеприпасы. Это означало, что намеченное на следующий день разрушение электростанций перенесено на неопределенное время.
Затем я отправился в штаб-квартиру фельдмаршала Мо- деля. Он выразил готовность по возможности отказаться от боев на территории промышленного района и не предпринимать никаких акций по разрушению предприятий. Далее он обещал в ближайшие дни установить контакт с Роландом и его сотрудниками.
От Моделя я также узнал, что американские войска ведут наступление на Франкфурт, что совершенно непонятно, где именно проходит линия фронта, и что еще этой ночью Кессельринг перебазировал свою ставку в восточном направлении. Однако в три часа утра она находилась еще в прежнем месте, неподалеку от Наугейма. В беседе с начальником штаба Западного фронта генералом Вестфа- лем выяснилось, что он также склонен к вольному истолкованию приказа Гитлера. Поскольку даже он оказался не в состоянии ответить на вопрос, как далеко продвинулся противник ночью, мы обходными путями отправились через Шпессарт и Оденвальд в Гейдельберг и по дороге заехали в небольшой городок Лор.
Наши войска уже отступили, жители попрятались по домам, и на опустевших улицах и площадях царила довольно своеобразная атмосфера ожидания перемен. На одном из перекрестков стоял солдат с двумя фаустпатронами в руках. Он ошарашенно посмотрел на меня. «Кого вы ждете?» — спросил я его. «Американцев». — «И что вы будете делать, когда они придут?» — «Тут же задам деру», — недолго думая ответил солдат. У меня создалось впечатление, что не только здесь, но и повсюду, где я побывал в эти дни, считали: война закончилась.
578
В Гейдельберге в штаб по координации работ военно-промышленных предприятий уже поступили изданные тамошним гаулейтером Вагнером приказы о разрушении водопроводных и газовых станций не только в моем родном городе, но и во всех остальных городах Бадена. После долгих размышлений о том, как предотвратить их осуществление, было найдено поразительное по простоте решение. Мы сняли с них копии и опустили в почтовые ящики города, который вот-вот должен был быть занят противником.
Американские войска уже захватили расположенный в двадцати километрах отсюда Мангейм и медленно продвигались к Гейдельбергу.
После ночного совещания с обер-бургомистром доктором Найнхаузом я решил напоследок послужить родному городу и попросил генерала СС Хауссера объявить Гейдельберг открытым городом и сдать его без боя.
На рассвете я простился с родителями. В последние часы ими также овладело то оставлявшее весьма жуткое ощущение спокойствие и самообладание, которое тогда вообще было свойственно ввергнутому в пучину страданий народу. Я садился в автомобиль, а они все еще стояли у дверей дома, затем отец спустился по ступенькам, внимательно поглядел мне в глаза, молча пожал руку и долго смотрел вслед. Мы уже не надеялись снова увидеться.
Шоссе на Вюрцбург было забито отступающими войсками, в панике бросившими оружие и снаряжение и похожими больше на цыганский табор. Когда в предрассветных сумерках на опушку леса отважился выбраться кабан, солдаты в разномастном обмундировании едва ли не всех родов войск, забыв обо всем на свете, с шумом и криком бросились за ним в погоню.
В Вюрцбурге гаулейтер Гельмут угостил меня необычайно вкусным завтраком и, пока мы набивали животы деревенской колбасой и яйцами, как бы между прочим заметил, что во исполнение директивы Гитлера уже распорядился приступить к разрушению расположенных в Швайнфурте шарикоподшипниковых заводов: представители предприятий и партийных органов уже ожидали в соседнем помещении его указаний. План был довольно хорошо продуман. Предполагалось поджечь закалочные ванны, так как опыт устранения последствий воздушных налетов показал, что
19*
579
после этого станки превращались в груды хлама. Сперва гаулейтер упорно не желал прислушаться к моим аргументам и в свою очередь спросил меня, когда же фюрер наконец применит «чудо-оружие»? Борман и Геббельс, оказывается, сообщили ему из ставки, что уже отдан приказ о его боевом использовании. Мне в очередной раз пришлось объяснять, что никакого «чудо-оружия» не существует. Я знал, что гаулейтер принадлежит к числу тех партийных руководителей, которые отличались благоразумием, и поэтому призвал его не выполнять приказ Гитлера. Я стремился доказать ему, что в данной ситуации взрывы промышленных объектов и мостов обрекают наш народ на гибель.
Далее я упомянул о том, что восточнее Швайнфурта происходит концентрация немецких войск с целью начать контрнаступление и отвоевать один из центров нашей военной промышленности; следует отметить, что я вовсе не лгал, ибо верховное командование действительно готовилось нанести контрудар. Я также доказывал, что без шарикоподшипников Гитлер не сможет продолжать войну, и этот старый испытанный аргумент наконец возымел действие. Уж не знаю, сумел ли я убедить гаулейтера в своей правоте, но он явно не был готов взять на себя историческую вину за поражение Германии в результате разрушения швайн- фуртских заводов.
Когда мы выехали из Вюрцбурга, небо прояснилось. Изредка нам попадались небольшие по численности соединения, в пешем порядке и без тяжелого вооружения, направляющиеся навстречу противнику. Это были брошенные в последнее наступление учебные части. Деревенские жители усердно рыли ямы в своих садах и прятали там фамильное серебро и мало-мальски ценные вещи. Повсюду крестьяне встречали нас весьма дружелюбно. Правда, им очень не нравилось, когда мы при появлении вражеских истребителей прятались между домами. Ведь тем самым мы подвергали опасности их жилища. «Господин министр, вы бы не смогли проехать чуть дальше, к дому соседа?» — обычно кричали они из окон.
Именно потому, что население было настроено довольно миролюбиво и мы нигде не встречали хорошо оснащенные воинские соединения, многочисленные подготовленные к взрыву мосты произвели на меня совсем уж дикое впечатление.
580
По улицам городов и деревень Тюрингии бесцельно бродили одетые в форму члены различных формирований НСДАП, и в первую очередь штурмовики. Заукель мобилизовал в их ряды в основном пожилых людей или шестнадцатилетних подростков. Их включили в состав «фольксштурма», но так и не смогли раздобыть для них оружие. Через несколько дней Заукель призвал их не щадить себя в борьбе с врагом и тут же сбежал на автомобиле в Южную Германию. Вечером 27 марта я вернулся в Берлин.
В мое отсутствие Гитлер распорядился поручить груп- пенфюреру СС Каммлеру в дальнейшем руководить не только строительством ракетных заводов, но и созданием всех современных образцов боевых самолетов. Тем самым Гитлер не только лишил меня возможности контролировать производство авиационного вооружения, но и поставил в совершенно нетерпимое положение, немыслимое с правовой точки зрения и еще более углубившее организационный хаос. Он разрешил Каммлеру давать указания сотрудникам моего министерства и приказал Герингу и мне скрепить подписями протокол о своем согласии подчиняться группенфюреру СС. Я прекрасно понимал, что этим он оскорбил и унизил меня, но сдержал гнев и молча подписал протокол: в этот день я вообще не воспринимал проблемы, обсуждавшиеся на оперативном совещании. Почти одновременно Позер сообщил мне, что Гитлер уволил Гудериана в отставку: официально его отправили в отпуск поправлять пошатнувшееся здоровье, но все мало-мальски посвященные в закулисную сторону событий прекрасно понимали, что он уже никогда не вернется на прежнюю должность.
В лице Гудериана я потерял одного из тех немногих приближенных Гитлера из числа высших военных чинов, кто не только поддерживал меня, но и призывал неуклонно следовать избранному курсу.
Ко всему прочему секретарша принесла мне разработанные командующим войсками связи инструкции по исполнению приказа Гитлера об уничтожении всех материальных Ценностей. Они полностью соответствовали его намерениям и предусматривали уничтожение системы связи не только вермахта, но и почтового ведомства, управлений железных Дорог и водных путей, полиции и районных электростанций.
581
В них содержалось требование «путем взрывов, поджогов или разрушений» полностью вывести из строя все коммутаторы линий электропередач и опоры, антенны и приемно-передающие устройства радиостанций. Приказ предусматривал полное уничтожение не только всех запасных частей, кабелей и проводов, но и схем разводки кабеля, а также технической документации. Поэтому ни о каком восстановлении каналов связи на занятых противником территориях не могло быть и речи. Правда, генерал Альберт Праун дал понять, что он как мог смягчил резкие требования.
Кроме того, мне по секрету сообщили, что Гитлер собирается уже официально возложить на Заура обязанности министра вооружения, но подчинить его Гиммлеру, для которого намерен учредить должность генерального инспектора военной промышленности. Отсюда следовало, что Гитлер не желает больше видеть меня на прежнем посту. Вскоре мне позвонил Шауб и весьма резким тоном приказал прибыть вечером в рейхсканцелярию.
В отведенном под кабинет Гитлера и расположенном глубоко под землей бункере мне стало несколько не по себе. Гитлер был один и принял меня очень холодно. Он не подал мне руки, даже толком не ответил на мое приветствие и сразу же тихо и с угрозой в голосе сказал: «Борман доложил мне, что вы призвали гаулейтеров Рурской области не выполнять мои приказы и заявили им, что война проиграна. Надеюсь, вы понимаете, что полагается за такие высказывания?»
Внезапно голос его изменился, напряжение спало и он, словно вспомнив о былом, заговорил как нормальный человек: «Не будь вы моим архитектором, я бы сделал надлежащие выводы». Вовсе не потому, что у меня хватило мужества, скорее из чувства противоречия и вызванного переутомлением ощущения полного безразличия к своей судьбе я не раздумывая ответил: «Поступайте так, как вы считаете нужным, и, пожалуйста, не делайте для меня никаких исключений». Гитлер, видимо, никак не ожидал от меня этих слов и был явно сбит с толку. После короткой паузы он довольно любезным тоном, но, как мне показалось, не без задней мысли продолжал: «Вы устали и больны. Поэтому я распорядился немедленно отправить вас в отпуск.
582
Ваши обязанности в министерстве возьмет на себя другой человек». — «Нет, я чувствую себя совершенно здоровым, — твердым голосом возразил я, — и если я как министр вас больше не устраиваю, то увольте меня в отставку».
В этот момент я вспомнил, что год назад Геринг уже отверг такого рода предложение. Гитлер резко перебил меня и, как бы подводя итоги беседе, заявил: «Нет, я не хочу этого. Но я настаиваю, чтобы вы ушли в отпуск по болезни». Я никак не хотел уступить. «Но я не могу нести ответственность за состояние отрасли, когда другой действует от моего имени». И с примирительной интонацией, как бы извиняясь перед Гитлером, еще раз повторил: «Я не могу, мой фюрер». За все время разговора я впервые назвал его официальным титулом, но на Гитлера это никак не подействовало: «У вас нет другого выбора. Выбросите из головы даже мысль об отставке». Как бы демонстрируя свою слабость, он добавил: «Поймите, внутри- и внешнеполитические обстоятельства таковы, что я не вправе отказаться от ваших услуг». Я как-то сразу приободрился и возразил ему: «А я не вправе уйти сейчас в отпуск. И если меня не уволили с должности, значит, я по-прежнему руковожу министерством. Я вполне здоров».
Наступила долгая пауза. Гитлер сел и, когда я без приглашения последовал его примеру, доверительным тоном сказал: «Если вы, Шпеер, твердо убеждены в том, что война еще не проиграна, то продолжайте и дальше руководить вашим ведомством». После ознакомления с моими меморандумами и документом Бормана он прекрасно знал, как я оцениваю ситуацию и какие выводы для себя сделал. Однако он хотел заставить меня хотя бы на словах согласиться с ним, чтобы таким образом навсегда лишить возможности разъяснять другим истинное положение вещей.
«Вы же знаете, что это противоречит моим убеждениям, — откровенно, но без особой уверенности в голосе заявил я. — Война проиграна». Тогда Гитлер пустился в воспоминания и принялся рассказывать о том, как он благодаря настойчивости, энергии и фантастической вере в победу всегда находил выход из, казалось бы, совершенно безнадежных ситуаций. Он изрядно утомил меня бесконечным повествованием о «периоде борьбы» и возникшем зимой 1941/42 года катастрофическом положении с транспортом и даже привел
583
в качестве примера мою успешную деятельность на посту министра вооружений. Все это я неоднократно слышал и теперь мог слово в слово повторить его монолог. Голос его звучал довольно монотонно, но благодаря невероятной и одновременно завораживающей манере говорить Гитлеру почти всегда удавалось убедить собеседника в своей правоте. Я испытывал те же ощущения, что и несколько лет тому назад в «чайной комнате», когда он вперил в меня свой гипнотизирующий взор, а я был не в силах отвести глаза.
Сейчас я упорно молчал и лишь неотрывно смотрел на него. Видимо, поэтому он пошел на уступки и несколько смягчил свои требования: «Если бы вы поверили, что война еще может быть выиграна, если бы заставили себя поверить в это... Вот тогда все было бы просто замечательно». В его голосе отчетливо зазвучала просительная интонация, и у меня мелькнула мысль, что Гитлер, не скрывающий своей слабости, еще легче покоряет сердца и умы, чем в позе властителя. При других обстоятельствах я бы, наверное, расчувствовался и поддался его уговорам. Но в этот раз он так и не смог переубедить меня, ибо я постоянно помнил о его разрушительных намерениях. В результате я изрядно разволновался и чуть громче, чем следовало, ответил: «Не могу, при всем желании не могу. И потом, я не хочу походить на тех мерзавцев из вашего окружения, которые заверяют вас в своей непреклонной вере в победу, а сами давно уже в нее не верят».
Гитлер никак не отреагировал на мои слова. На мгновение он замер, глядя куда-то прямо перед собой, а затем вновь принялся рассказывать о «периоде борьбы» — в эти недели такое случалось довольно часто — и о том, как судьба неожиданно спасла Фридриха Великого. «Нужно верить, — подчеркнул он, — что все изменится к лучшему. Вы еще надеетесь на победоносное завершение войны или уже частично утратили веру в победу?»
Гитлер еще раз попытался добиться хотя бы формального согласия, чтобы тем самым наложить на меня определенные обязательства: «Если бы вы сохранили хоть какую-то надежду на нашу победу! Меня бы это вполне удовлетворило». Я ничего ему не ответил.
В бункере воцарилось тягостное молчание. Наконец Гитлер рывком поднялся со стула и с той же резкой интонацией
584
в голосе, что и в начале беседы, заявил: «В вашем распоряжении двадцать четыре часа! Обдумайте хорошенько мои слова! Завтра я жду от вас ответа». На прощание он также не подал мне руки.
Еще одним подтверждением истинных намерений Гитлера явилась полученная мной сразу же после этого совещания телеграмма начальника службы военных сообщений от 29 марта: «Наша цель — не допустить функционирования всех видов транспорта на оставляемых территориях... Нехватка взрывчатых веществ заставляет творчески использовать все имеющиеся возможности так, чтобы преодолеть разрушительные последствия за короткий срок оказалось невозможно». Далее в циркуляре содержался подробный перечень объектов, подлежащих полному уничтожению. К ним относились мосты всех конструкций, железнодорожные пути, аппараты централизации стрелок и сигналов, все технические сооружения на сортировочных станциях, фабрично-заводское оборудование, а также шлюзы и судоподъемники. Одновременно следовало уничтожить все паровозы, пассажирские и товарные вагоны, а грузовые суда и баржи затопить в реках и каналах и тем самым перекрыть по ним движение. Предполагалось использовать все виды взрывчатых веществ, устраивать пожары или просто ломать и крушить. Лишь специалист мог определить точный ущерб, который понесла бы Германия в результате выполнения этого тщательно разработанного приказа.
В маленьком отведенном мне под временное жилье помещении в заднем корпусе министерства я без сил рухнул на кровать и начал довольно бессвязно размышлять о том, как в течение суток составить ответ на ультиматум Гитлера. В конце концов я встал и принялся формулировать основные положения будущего послания. Сперва я оказался довольно непоследовательным и попытался совместить несовместимое. Стремление переубедить Гитлера сочеталось с желанием оказать ему поддержку и одновременно заставить прислушаться к правдивой оценке положения. Наконец я сумел взять себя в руки и четко высказал свое мнение: «Когда я ознакомился с приказом об уничтожении промышленных объектов, материальных и культурных ценностей (от 19 марта 1945 года), а вслед за тем и с приказом
585
о принудительной эвакуации населения, предусматривавшим проведение самых жестких мер, то расценил их как начало осуществления вполне определенного замысла». Высказавшись достаточно категорично, я перешел к ответу на заданный Гитлером в ультимативной форме вопрос: «Я не могу поверить в успех нашего правого дела, если мы одновременно планомерно уничтожаем в эти решающие месяцы основы существования нашего народа. Он не заслужил такой участи, и мы поэтому не можем уповать на судьбу... Я прошу вас воздержаться от проведения этих акций. И если вы хоть как-то удовлетворите мою просьбу, я вновь проникнусь верой в победу и у меня хватит мужества и энергии продолжать свою деятельность на министерском посту. Воля судьбы не зависит от нас. Однако еще есть время позаботиться о будущем нашего народа и спасти его от гибели».
Обычно такого рода личные послания было принято заканчивать традиционным: «Хайль мой фюрер!» Я же завершил его фразой, выражающей мою самую сокровенную надежду: «Боже, защити Германию!»
Я отнюдь не был уверен, что Гитлер хоть немного прислушается к моим доводам, и даже опасался, что он расценит это письмо как проникнутое мятежным духом и даже подвергнет меня репрессиям. Во всяком случае, когда я позвонил одной из его секретарш и попросил перепечатать предназначенное лично Гитлеру и написанное от руки моим довольно неразборчивым почерком послание на специальной пишущей машинке с особо крупным шрифтом, она с вызовом ответила: «Фюрер запретил мне принимать от вас письма. Он хочет услышать ответ из ваших уст». Вскоре мне было приказано немедленно явиться к Гитлеру.
Около полуночи мой автомобиль, петляя между развалинами неоднократно подвергавшихся бомбардировкам административных зданий на Вильгельмштрассе, остановился наконец перед рейхсканцелярией. Двадцать четыре часа прошли, а я все еще не знал, как ответить на вопрос Гитлера. Я решил положиться на волю случая.
У Гитлера был довольно потерянный, если не сказать — испуганный вид. Он сразу же спросил меня: «Итак?» На какое-то мгновение я смутился, а затем, лишь бы что-то
586
сказать, произнес ни к чему не обязывающие слова: «Мой фюрер, я безоговорочно поддерживаю вас».
Гитлер ничего не ответил, но был явно растроган. Он помедлил, а затем протянул мне руку, а глаза его, как уже неоднократно случалось в последнее время, наполнились слезами. «Теперь все будет хорошо», — облегченно вздохнув, сказал он.
Я никак не ожидал, что смогу растрогать его. На какой-то миг даже возникло ощущение, что в наших отношениях ничего не изменилось. Я решил немедленно воспользоваться ситуацией: «А уж если вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку, то поручите опять мне выполнять ваш указ, не гаулейтерам, а мне». Он велел мне составить соответствующий документ и выразил готовность немедленно подписать его, однако по-прежнему настаивал на разрушении промышленных объектов и мостов. Расстались мы около часа ночи.
В соседнем бункере я составил «Правила исполнения» приказа Гитлера от 19 марта 1945 года. Во избежание ненужных вопросов я сделал вид, что отнюдь не собираюсь отменять его. Однако я внес в него следующие изменения: «Исполнение приказа возлагается на учреждения и органы, непосредственно подчиненные рейхсминистру вооружения и военной промышленности, который по согласованию со мной разрабатывает также необходимые инструкции. Он также вправе давать указания уполномоченным по обороне рейха». Это означало, что я полностью восстановлен в своей должности. Далее я включил в текст фразу о том, что «вывод из строя промышленных объектов может быть при определенных условиях равнозначен полному разрушению».
Сидевший за столом для оперативных карт измученный и усталый Гитлер дрожащей рукой внес незначительные изменения и без долгих разговоров подписал документ.
Мне кажется, что Гитлер прекрасно понимал, что теперь его замысел может быть осуществлен далеко не полностью. Перед уходом я также сумел убедить его в том, что применение тактики «выжженной земли» может дать нужный результат лишь на обширных просторах России, а не на сравнительно небольшой территории Германии, и сделал отметку в протоколе.
587
Однако Гитлер со свойственным ему лицемерием в тот же вечер отдал за моей спиной приказ командующим армиями «быть непримиримыми в борьбе с наступающим врагом и совершенно не считаться с интересами населения».
Уже через час я приказал ординарцам использовать все имевшиеся в нашем распоряжении мотоциклы и автомобили и отправиться в типографию и управление телеграфной связи, чтобы немедленно приостановить выполнение приказа Гитлера в его первоначальном варианте. Ровно в четыре часа утра я без согласования с Гитлером передал в соответствующие инстанции разработанные мной инструкции и со спокойной душой велел придерживаться ранее переданных мной, а потом отмененных Гитлером указаний о сохранении промышленных объектов, газовых и водопроводных станций, предприятий энергоснабжения и общественного питания.
В тот же день я, опять же не получив от Гитлера никаких полномочий, распорядился продолжать работу на подведомственных «организации Тодта» строительных объектах, невзирая на угрозу захвата их вражескими войсками, и направил десять или двенадцать поездов с продовольствием — точное число теперь уже не помню — в районы, непосредственно примыкавшие к окруженной Рурской области. Вместе с генералом Винтером из штаба оперативного руководства мы разработали директиву о приостановке взрывов мостов, но Кейтель, конечно, воспрепятствовал ее отправке в воинские соединения. С обергруппенфюрером СС Франком, под началом которого находились все принадлежавшие вермахту склады с обмундированием и продовольствием, я договорился раздать хранившиеся на них запасы гражданскому населенйю и поручил моему уполномоченному на территории Польши и Чехословакии Мальцахеру предотвратить разрушение мостов в Верхней Силезии.
На следующий день я встретился в Ольденбурге с наместником рейха в оккупированных Нидерландах Зейсс-Инк- вартом, официально именовавшимся «генеральным комиссаром». По дороге туда во время вынужденной остановки я отвел душу, впервые потренировавшись в стрельбе из пистолета. После необходимого в таких случаях вступления Зейсс-Инкварт, к моему удивлению, признался, что сумел
588
установить контакт с противником и не намерен выполнять приказ Гитлера, вознамерившегося затопить значительную часть территории Нидерландов. Не пришлось мне также долго убеждать гаулейтера Гамбурга Кауфмана, к которому я заехал на обратном пути. Он сразу же согласился с моими доводами.
Многие из высокопоставленных должностных лиц поддержали меня. Отвечавший в моем министерстве за связь с государственными учреждениями доктор Хупфауэр связался со статс-секретарями важнейших ведомств с целью добиться эффективного противодействия политике Гитлера. Обещал нам также помочь заместитель Бормана Клопфер. Мы сумели выбить у Бормана почву из-под ног, и теперь многие его распоряжения не достигали своей цели. Накануне краха Третьего рейха Гитлер, по всей вероятности, оказался всецело под его влиянием, но за крепкими стенами их бункеров действовали совсем другие законы. Даже груп- пенфюрер СС Олендорф, занимавший тогда должность начальника III Управления (служба внутренней безопасности) РСХА, в плену уверял меня, что ему неоднократно докладывали о предпринимаемых мной мерах, но он неизменно прятал эти документы под сукно.
Действительно, в апреле 1945 года я, опираясь на поддержку статс-секретарей, мог добиться в контролируемой мной сфере больше, чем Гитлер, Геббельс и Борман вместе взятые. С новым начальником Генерального штаба Кребсом я познакомился, когда генерал еще служил под началом Моделя, и поэтому у меня с ним сразу же сложились хорошие отношения; однако Йодль, Буле и командующий войсками связи Праун также с пониманием отнеслись к проводимым мной акциям.
Я сознавал, что если Гитлер узнает о них, то немедленно сделает надлежащие выводы. Скорее всего, он бы жестоко расправился со мной. В эти месяцы я вел очень рискованную игру и поэтому неукоснительно придерживался простого принципа: держаться как можно ближе к Гитлеру. Любая попытка отделиться от него немедленно дала бы повод для подозрения. У меня никогда не было склонности покончить жизнь самоубийством, и поэтому я на всякий случай приготовил для себя убежище в расположенном в ста километрах от Берлина обычном охотничьем домике;
589
кроме того, Роланд всегда помог бы мне укрыться в одном из охотничьих замков князя Фюрстенберга.
Даже в начале апреля Гитлер на оперативном совещании неоднократно говорил о предстоящем контрнаступлении и предлагал нанести удар по открытым флангам армий западных противников, которые, ежедневно преодолевая большие расстояния, уже приближались к Эйзенаху. Он с легкостью перебрасывал дивизии с одного участка фронта на другой и, увлеченный этой военной игрой, не понимал, что поступает жестоко и бесчеловечно. Ведь если я, к примеру, после возвращения из поездки на фронт видел нанесенные на карту маршруты передвижения наших войск, то сразу же вспоминал, что в тех местностях, где мне довелось побывать, или вообще не было никаких войсковых соединений, или они состояли из солдат, вооруженных одними винтовками.
В свою очередь я ежедневно проводил совещания в узком кругу, на которых мой представитель при Генеральном штабе докладывал о последних событиях; тем самым он нарушал приказ Гитлера, строго-настрого запретившего информировать гражданские учреждения о военном положении. Позер сообщал нам, какая территория будет в ближайшие сутки занята противником, и почти никогда не ошибался. Его трезвая оценка ситуации не имела ничего общего со скрывающими истинное положение дел выступлениями на проходивших теперь в бункере под рейхсканцелярией оперативных совещаниях. На них ничего не говорилось об эвакуации и отступлении. У меня даже возникло ощущение, что Кребс, возглавив Генеральный штаб, окончательно отказался от попыток открыть Гитлеру глаза на реальное положение вещей и предпочел вместо этого старательно заниматься вместе с ним военными играми. Когда же, вопреки высказанным ранее предположениям, противник захватывал все новые города и территории, на настроении Гитлера это никак не отражалось. Если еще несколько недель тому назад он порой кричал на своих сотрудников, то теперь, видимо, осознал свое бессилие и покорился судьбе.
В начале апреля Гитлер вызвал к себе главнокомандующего Западным фронтом. Случайно я оказался свидетелем этого странного разговора. Кессельринг попытался было сказать Гитлеру всю правду. Но Гитлер вскоре перебил его и принялся разъяснять ему, как удар нескольких сотен танков
590
по флангам наступающих на Эйзенах ударных частей американских войск приведет к их полному уничтожению, вызовет страшную панику и в итоге повлечет за собой изгнание армий западных союзников с территории Германии. Он долго разглагольствовал о якобы хронической неспособности американских солдат переживать поражения, хотя совсем недавно во время наступления в Арденнах убедился, что это далеко не так. Я был крайне раздосадован поведением фельдмаршала Кессельринга, который сперва недолго возражал Гитлеру, а затем всерьез принялся обсуждать с ним его планы. Но затем решил, что нет никакого смысла волноваться: ведь так или иначе эти сражения будут разыграны только на бумаге.
На одном из последующих оперативных совещаний Гитлер вновь вернулся к своей идее удара с флангов. Я как можно более безразличным тоном заявил: «Если все будет разрушено, от возвращения этих земель не будет никакого толку. Я ведь не смогу наладить там производство». Гитлер молчал. «Я также не смогу быстро восстановить мосты». Гитлер, очевидно, пребывал в эйфории и поэтому сказал: «Не волнуйтесь, господин Шпеер, там не успеют разрушить все мосты. И потом, мои приказы выполняются теперь лишь частично». Я как бы в шутку заметил, что здесь нет ничего отрадного. К моему удивлению, Гитлер высказал готовность подписать подготовленный мной проект указа.
Когда я сперва показал его Кейтелю, фельдмаршал даже закричал от возмущения: «Опять изменения! У нас же есть директива от 19 марта... На войне приходится взрывать мосты, тут уж ничего не поделаешь!» Наконец он в целом одобрил мой проект, и Гитлер также поставил свою подпись под приказом, предусматривающим ограничиться только прекращением функционирования видов транспорта и систем связи и вплоть до самого последнего момента восстанавливать и наводить мосты. Гитлер не схватил свой любимый синий карандаш и не вычеркнул из составленного мной текста заключительную фразу: «При проведении мероприятий по разрушению промышленных объектов и эвакуации населения следует в первую очередь позаботиться о том, чтобы... после победоносного окончания военных действий их последствия никоим образом не препятствовали восстановлению производственных мощностей». Даже за три недели до полного краха он все еще сохранял веру в победу.
591
В тот же день генерал Праун отозвал свое распоряжение от 27 марта и даже втайне приказал сохранить в неприкосновенности запасы оборудования на складах, чтобы после войны можно было сразу приступить к восстановлению каналов связи. По его мнению, Гитлер отдал совершенно бессмысленный приказ, ибо противник располагал хорошо отлаженной системой фронтовой связи. Мне так и не удалось выяснить, отменил ли начальник службы военных сообщений свое чреватое страшными последствиями распоряжение.
Зато Кейтель — и надо признаться, с полным основанием — обвинил меня в том, что изданная Гитлером по моему настоянию директива от 7 апреля окончательно разрушила порядок управления и создала невообразимый хаос в отношениях между вышестоящими и нижестоящими военными инстанциями. Ведь только за прошедшие девятнадцать дней — с 18 марта по 7 апреля — по этому поводу было издано двенадцать противоречащих друг другу приказов. Но зато хаотическое состояние, возникшее в этой сфере, не позволило ввергнуть в хаос всю Германию.
31
Пять минут первого
В сентябре статс-секретарь министерства пропаганды Вернер Науман предложил мне выступить по радио с речью и транслировать ее по всем германским радиостанциям с целью усилить в народе волю к сопротивлению. Я сразу предположил, что Геббельс готовит мне ловушку, и отверг это предложение. Теперь же, когда Гитлер подписал подготовленный мной проект указа, то есть согласился следовать намеченной мной линии, я решил своим выступлением по радио вызвать отклик широких кругов общественности, для того чтобы призвать ее предотвратить превращение значительной части территории Германии в пустыню. Я выразил согласие и немедленно отправился в расположенный в одном из самых уединенных мест провинции Бранденбург — неподалеку от озера Штехлинзее — охотничий домик Мильха.
Видя, что дело идет к концу, мы заранее подготовились к любым неожиданностям. Я понимал, что Гитлер может
592
прибегнуть к крайним мерам и отдать приказ о моем аресте, и поэтому тренировался на берегу озера в стрельбе из пистолета по муляжам, а в перерыве набросал конспект своей будущей речи. Под вечер я был полностью удовлетворен достигнутыми результатами: без паузы я уже всаживал в цель всю обойму, а составленный мной текст выступления не допускал никаких кривотолков и в то же время не раскрывал до конца мои замыслы. За стаканом вина я зачитал его Мильху и одному из друзей фельдмаршала: «Не следует заблуждаться и верить в создание “чудо-оружия”, способного заменить самоотверженного бойца!» Далее я подчеркнул, что мы отказались от тактики «выжженной земли» ради спасения страны, и, как тогда было принято, с пафосом заявил: «Все, кто, отличаясь чрезмерным рвением, не желают вникнуть в истинный смысл этих акций, должны быть строго наказаны. Ибо они вольно или невольно посягают на святая святых немецкого народа — источники его жизненных сил — и совершают тем самым тяжкий грех».
Я вкратце упомянул о возможности возвращения захваченных, противником территорий и, используя терминологию начальника службы военных сообщений, сказал несколько слов о намерении некоторых должностных лиц полностью разрушить всю транспортную систему: «Народ должен всеми силами и средствами сорвать осуществление этих замыслов. И если он предпримет разумные действия, то ему, правда, придется ограничить себя в еде, но запасов продовольствия хватит до следующего урожая».
Когда я закончил, Мильх с деланным равнодушием заметил: «Смысл понятен всем, в том числе и гестапо».
11 апреля машина со звукозаписывающей аппаратурой подъехала к подъезду министерского здания, рабочие быстро протянули к моему кабинету провода, и тут вдруг раздался телефонный звонок: «Немедленно явиться к фюреру и прихватить с собой текст выступления».
Я, естественно, привез предназначенный для опубликования в печати вариант, в котором были несколько смягчены наиболее резкие формулировки. Гитлер пил чай в своем бункере с одной из секретарш и сразу же приказал принести для меня третью чашку. Давно я не общался с ним в такой по-домашнему непринужденной атмосфере.
593
Гитлер неторопливо надел делавшие его похожим на учителя очки в тонкой металлической оправе, взял карандаш, пробежал глазами первые страницы и тут же принялся вычеркивать целые абзацы. Иногда он тихо и беззлобно бормотал про себя: «Это мы уберем» или «Этот пассаж здесь ни к чему». Секретарша довольно бесцеремонно брала отложенные в сторону листки и внимательно просматривала их. «Очень жаль такую замечательную речь», — с искренним сожалением сказала она. На прощание Гитлер любезным тоном, едва ли не по-дружески посоветовал мне: «Подготовьте лучше новый вариант». Произносить искаженную вмешательством Гитлера речь было совершенно бессмысленно. К тому же без его разрешения я не мог выступить на радиостанциях, входивших в имперскую систему радиовещания. Поскольку Науман больше не обращался ко мне с подобной просьбой, я постарался забыть эту историю.
В середине декабря 1944 года Вильгельм Фуртвенглер дал свой последний концерт в Берлинской филармонии и после его окончания пригласил меня в директорскую комнату, где немедленно ошеломил поразительным по своей наивности вопросом: «Есть ли у нас еще шанс выиграть войну?» Я ответил, что конец уже близок, и Фуртвенглер кивнул в знак согласия: он, видимо, не ожидал от меня иных слов. Мне казалось, что над ним нависла опасность, ибо Борман, Геббельс и Гитлер не забыли его довольно откровенных высказываний и смелого выступления в защиту подвергавшегося преследованиям дирижера Хиндемита. Поэтому я посоветовал Фуртвенглеру остаться в Швейцарии, куда он собирался отправиться на гастроли. «Но что тогда будет с моим оркестром? Я же отвечаю за него». Я обещал в ближайшие месяцы позаботиться о музыкантах.
В начале апреля директор филармонии Герхарт фон Вес- терман сообщил мне, что Геббельс собирается мобилизовать музыкантов на защиту Берлина. Я немедленно попытался убедить его по телефону отменить свое решение и не призывать этих людей в ряды фольксштурма. Геббельс необычайно резким тоном, словно делая мне выговор, заявил: «Лишь благодаря мне этот оркестр добился таких неслыханных успехов. Только благодаря моим усилиям и финансовой поддержке его знают и ценят во всем мире, У тех, кто придет после нас, нет никаких прав на
594
него. Так пусть же он погибнет вместе с нами». Я немедленно вспомнил о том, как Гитлер в начале войны предотвратил призыв в вермахт находившихся под его покровительством художников и артистов, и приказал полковнику Позеру объехать все призывные пункты и уничтожить учетные карточки музыкантов. Чтобы хоть как-то помочь оркестру в трудную минуту, мое министерство попросило устроить несколько концертов.
«Закончат они Романтической симфонией Брукнера», — сказал я своим друзьям на состоявшемся вечером 12 апреля прощальном концерте. В городе, к которому уже подступили вражеские войска, все, кто прослышали про этот воистину последний концерт, сидели сейчас в неотапливаемом зале филармонии на принесенных с собой стульях, кутаясь в пальто и шинели. Берлинцы, видимо, были приятно поражены тем, что в зале ярко горел свет; обычно в эти часы регулярно отключали электричество. Но я распорядился сегодня сделать исключение. Вначале по моей просьбе оркестр исполнил последнюю арию Брунгильды и заключительную сцену из «Гибели богов». Этот жест символизировал чувства, которые я испытывал накануне окончательного поражения рейха, а именно грусть и воодушевление. Ни одно из музыкальных произведений долгие годы не производило на меня такого сильного впечатления, как прозвучавшая тогда после концерта для скрипки Бетховена симфония Брукнера с ее построенным по канонам совершеннейшего архитектурного проекта финалом.
В министерстве меня попросили срочно позвонить дежурному адъютанту Гитлера. Услышав мой голос, он воскликнул: «Ну где же вы? Фюрер ждет вас». Давно я не видел Гитлера таким возбужденным. Он буквально метался по бункеру и сразу же бросился ко мне со сводкой сообщений иностранной прессы: «Я всегда говорил, что скоро совершится великое чудо, и мое предсказание наконец-то сбылось. Ну и кто оказался прав? Война еще далеко не проиграна. Вот прочитайте. Скончался Рузвельт!» Гитлер никак не мог успокоиться: всегда покровительствующее ему провидение теперь, казалось, окончательно продемонстрировало, на чьей оно стороне. Так, во всяком случае, он полагал. Геббельс и многие из присутствовавших с сияющими
595
от радости лицами поздравляли Гитлера с очередным подтверждением его правоты.
«Повторилась история почти двухвековой давности, когда попавший в столь же безнадежное положение Фридрих Великий в последний момент оказался победителем. Чудо спасло династию Гогенцоллернов. Если тогда ситуация изменилась после внезапной смерти русской императрицы, то сейчас имеющие историческое значение перемены произойдут в связи с кончиной президента США», — без умолку твердил захлебывающийся от радости Геббельс. Все вокруг оживились и с еще большим рвением, чем в предыдущие месяцы, принялись демонстрировать ложный оптимизм. У меня же словно пелена упала с глаз, и я трезво взглянул на Гитлера. Сперва казалось, что к нему снова вернулось душевное равновесие и теперь он вне себя от радости. Но затем возбуждение прошло, Гитлер с измученным видом рухнул в кресло и застыл в оцепенении; он вновь стал похож на человека, утратившего всякую надежду.
Известие о смерти Рузвельта породило бесчисленное множество фантастических планов и замыслов. Так, через несколько дней Геббельс позвонил мне и предложил подумать над предложением отправиться на одном из приспособленных для дальних рейсов самолетов к исполняющему обязанности президента США Трумэну. Эти проекты канули в небытие так же быстро, как и появились на свет.
В один из этих дней я застал в бывших апартаментах Бисмарка Роберта Лея, окруженного большой группой людей. Среди беспорядочно столпившихся вокруг него адъютантов и ординарцев я заметил также Бормана и Шауба. Лей ринулся ко мне с диким воплем: «Изобрели лучи смерти! Для их применения не нужно ничего особенного! Мы такие аппараты в любом количестве изготовим! Я тщательно изучил всю техническую документацию, нет сомнения — они решат исход войны!» Борман ободряюще кивнул, и Лей, отдышавшись и, как обычно, заикаясь, продолжил: «Но, конечно же, в вашем министерстве указали изобретателю на дверь. К счастью, он обратился ко мне. Теперь вы просто обязаны лично заняться этим делом, и немедленно. В данный момент нет ничего более важного!»
596
Разгорячившийся Лей долго ругал моих сотрудников за некомпетентность и обвинил их в бюрократизме и косности. Он даже заявил, что мозги у них заплыли жиром. Это было настолько абсурдно, что я даже не стал возражать: «Вы совершенно правы! А почему бы именно вам не заняться этим делом? Я назначу вас, скажем, “уполномоченным по созданию лучей смерти” и все оформлю надлежащим образом». Мое предложение привело Лея в полный восторг: «Ну конечно, я возьму на себя выполнение этой задачи! И здесь я готов подчиняться вам. В конце концов, я по профессии химик!» Я призвал его не теряя времени приступить к проведению экспериментов и использовать выращиваемых в его имении кроликов, ибо применение для таких целей заранее подготовленных соответствующим способом животных зачастую приводило к неверным выводам. И действительно, через несколько дней откуда-то мне позвонил его адъютант и попросил выделить необходимое для эксперимента электрооборудование.
Мы решили играть комедию до конца. Я посвятил в эту историю моего друга Люшена и попросил его обеспечить изобретателя нужной ему аппаратурой. По возвращении он заявил: «Я достал все, кроме прерывателя электроцепи. Прибора с нужной им скоростью нет ни на одном складе. Но “изобретатель” ни о чем другом даже слушать не хочет. И знаете, что я выяснил? — Тут губы Люшена чуть скривились в иронической усмешке. — Наша электропромышленность уже лет сорок как не производит таких прерывателей. Впервые о нем упоминается в первом издании Гретца (учебник физики для средних школ. — Прим. авт.). А вышло оно в начале века».
По мере продвижения навстречу друг другу армий России и западных союзников один за другим рождались планы спровоцировать столкновение между ними. Так, Лей со всей серьезностью утверждал: «Если русские заполонят восточные земли, оттуда хлынет мощный поток беженцев, который без труда сметет все пограничные и прочие барьеры на западных границах. И в результате нового великого переселения народов мы вновь захватим западные государства». Гитлер, правда, довольно иронически относился . к прожектам своего взбалмошного руководителя «Трудового
597
фронта», однако в эти дни явно выделял его из всех остальных своих приближенных и оказывал ему особые знаки внимания.
В первой половине апреля в Берлин неожиданно и без всякого приглашения приехала Ева Браун и заявила, что желает теперь быть всегда рядом с Гитлером.
Он в свою очередь настаивал на ее возвращении в Мюнхен, а я даже предложил ей место в нашем самолете службы фельдъегерской связи. Но она твердо настаивала на своем, и теперь все, кто вместе с Гитлером поселился в бункерах под рейхсканцелярией, знали, зачем она приехала сюда. Ева Браун не только олицетворяла, но и в действительности была провозвестницей неминуемой гибели.
Доктор Брандт, лечащий врач Гитлера с 1934 года и непременный участник традиционных чаепитий в Оберзальцбер- ге, вовремя не эвакуировал жену и ребенка из Тюрингии, которую вот-вот должны были захватить американские войска. Теперь сам он, как тогда было принято выражаться в бюрократической среде, «умышленно оставил их на занятой врагом территории». Гитлер созвал военно-полевой суд, в состав которого вошли Геббельс, руководитель гитлер- югенда Аксман и генерал СС Бергер; одновременно он позволил себе вмешаться в судопроизводство и, взяв на себя как бы роль прокурора, а заодно и верховного судьи, обвинил Брандта в следующих преступлениях: он, дескать, умышленно не разместил свою семью в Оберзальцберге и, кроме того, подозревается в передаче через жену американцам секретных документов. На этом основании Гитлер потребовал для него смертной казни. Вольф, многие годы руководившая секретариатом Гитлера, плакала навзрыд и бормотала сквозь слезы: «Я его больше не понимаю». Наконец в бункер вошел рейхсфюрер СС и успокоил изрядно разволновавшихся приближенных Гитлера: «Сперва нужно допросить важного свидетеля, которого никак не могут найти... — Гиммлер замолчал на мгновение, хитро прищурился и закончил фразу: — И никогда не найдут».
Этот неожиданный инцидент поставил меня также в довольно затруднительное положение, так как 6 апреля я отвез свою семью в расположенное вдали от побережья Балтийского моря с его большими городами имение. Оно
598
находилось в провинции Гольштейн, неподалеку от Кап- пельна. Теперь вдруг выяснилось, что я совершил преступление. Когда Ева Браун, выполняя поручение Гитлера, осведомилась о местонахождении моих жены и детей, я с легким сердцем солгал, что поместил их на вилле своего друга в окрестностях Берлина. Вполне удовлетворенный моим ответом, Гитлер заверил, однако, что, если он решит перебраться в Оберзальцберг, нам придется последовать за ним. Тогда он еще не отказался от намерения сражаться до конца в так называемой «Альпийской крепости».
Геббельс заявил, что, даже если Гитлер покинет Берлин, он лично встретит смерть в столице: «Жена и дети не должны пережить меня. Американцы сразу же начнут их обрабатывать, а затем используют для пропагандистской кампании против меня». Его жена, напротив, отвергла даже намеки на возможность убийства ее детей. В этом я убедился, когда в середине апреля навестил ее в Шваненвердере. Но затем муж, видимо, заставил ее подчиниться своему решению. Через несколько дней я предложил госпоже Геббельс в последний момент ночью подослать баржу к прибрежному участку возле их особняка в Шваненвердере и оставить ее там возле причала. Мне казалось, что она могла бы укрыться в трюме вместе с детьми и не показываться на палубе до тех пор, пока баржу не отнесло бы течением к западному берегу Эльбы. Оставалось только запастись продуктами. К сожалению, она отвергла мое предложение.
Стоило Гитлеру заявить, что в случае поражения он покончит с собой, как многие его сотрудники наперебой принялись уверять его в своей готовности последовать его примеру. Я же полагал, что им следовало скорее уж принести себя в жертву и добровольно сдаться противнику. Пользовавшиеся огромной популярностью среди военных летчиков Баумбах и Таиланд в последние дни войны вместе со мной разрабатывали совершенно авантюристический план захвата ближайших сподвижников Гитлера с целью помешать им совершить самоубийство.
Мы выяснили, что Борман, Лей и Гиммлер каждый вечер выезжали в различные укромные и защищенные от воздушных налетов места в окрестностях Берлина. План наш был очень прост: стоило вражескому самолету сбросить светящуюся авиабомбу, как любой автомобиль резко тормозил
599
и все, кто сидел в нем, разбегались в поисках укрытия. Точно такую же реакцию вызвали бы и выстрелы из ракетницы, а наши люди, вооруженные автоматами, без труда одолели бы состоящую из шести человек группу сопровождения. Ко мне на квартиру уже доставили световые боеприпасы, подобрали нужных людей и обговорили детали. Повсюду царил полнейший хаос, и нам следовало найти более-менее надежное место, куда можно было бы доставить арестованных. К моему удивлению, доктор Хупфауэр, ранее активно сотрудничавший с Леем, требовал, чтобы захват Бормана был произведен шестью имевшими за плечами фронтовой опыт членами НСДАП. Он утверждал, что в партии больше всего ненавидят именно его. В подтверждение этих слов гаулейтер Кауфман вызвался лично прикончить «Мефистофеля фюрера». Однако начальник штаба бронетанковых войск генерал Томале, узнав о наших проектах, встретился со мной ночью на проселочной дороге и посоветовал не предвосхищать приговор Божьего суда. В итоге мы согласились с ним.
Борман же стремился к достижению своих целей. Без всяких на то оснований он полагал, что я пользуюсь таким огромным авторитетом у Гитлера лишь благодаря Брандту, и, когда последний оказался в тюрьме, статс-секретарь Клопфер счел нужным предостеречь меня: оказывается, инициатором его ареста выступил не Гитлер, а Борман и вообще вся эта акция в итоге направлена против меня. Он настоятельно рекомендовал мне воздержаться от любых необдуманных высказываний. Меня также сильно встревожили сообщения, переданные одной из вражеских радиостанций: мой племянник должен был предстать перед военно-полевым судом по обвинению в тайном печатании в типографии сочинений Ленина и я якобы помог ему выйти на свободу. Кроме того, будто бы уже выписан ордер на арест Хеттлаге, к которому в партии всегда относились крайне враждебно; наконец, одна из швейцарских газет прямо указала на бывшего главнокомандующего сухопутными войсками фон Браухича и меня как на единственных, с кем можно вести переговоры о капитуляции Германии. То ли противник пытался посеять раздор среди руководителей рейха, то ли это были просто слухи.
600
Во всяком случае, командование сухопутных войск не оставило эти сообщения без внимания и втайне выделило в мое распоряжение несколько надежных, вооруженных автоматами офицеров-фронтовиков, которых я временно поселил у себя на квартире. На самый крайний случай у нас стояла наготове восьмиколесная бронированная разведывательная машина. На ней мы собирались бежать из Берлина. Я до сих пор не знаю, кто конкретно и на основании каких сведений решил позаботиться о моей безопасности.
Советская армия активно готовилась к штурму столицы рейха. В связи с этим Гитлер назначил генерала Реймана комендантом «крепости Берлин». Сперва он подчинялся генерал-полковнику Хейнрици — новому командующему сосредоточенной на территории между побережьем Балтийского моря и Франкфуртом-на-Одере группой армий. Я полностью доверял своему старому знакомому, ибо совсем недавно он помог мне передать в целости и сохранности русским войскам Рыбникский угольный бассейн. Когда Рейман принялся налаживать подготовку к взрыву всех берлинских мостов, 15 апреля, то есть за день до начала наступления русских армий по всему фронту, я отправился в расположенную неподалеку от Пренцлау штаб-квартиру Хейнрици, чтобы подкрепить свое мнение весомыми аргументами. Я взял с собой таких квалифицированных специалистов, как советник по вопросам строительства и подземных работ берлинского магистрата Лангер и начальник столичной железной дороги Бек. В свою очередь Хейнрици по моей просьбе вызвал на совещание Реймана.
Лангер и Бек четко доказали, что осуществление плана Реймана означало бы исчезновение Берлина с лица земли. Генерал сослался на полученный им от Гитлера приказ оборонять город всеми имеющимися в его распоряжении средствами: «Я вынужден сражаться до конца, а для этого нужно разрушить мосты». Хейнрици счел нужным вмешаться в наши дела: «Только там, где проходит направление главного удара?» Рейман энергично замотал головой: «Нет, везде, где будут идти бои». И тогда я прибегнул к своему самому испытанному аргументу: «Вы столь непреклонны потому, что верите в победу?» Генерал смутился на мгновение, а затем утвердительно ответил на мой вопрос. «Но ведь если Берлин будет почти полностью разрушен, здешние
601
промышленные предприятия полностью выйдут из строя. А без них невозможно выиграть войну». Рейман застыл с растерянным видом. Наша встреча, вероятно, не дала бы никаких результатов, если бы Хейнрици не приказал вынуть взрывчатку из зарядных камер мостов, расположенных на важнейших железнодорожных и автомобильных магистралях Берлина.
Когда мы остались вдвоем, Хейнрици откровенно заявил: «Мое распоряжение означает, что в Берлине не будет взорван ни один мост, так как вокруг города вообще не будет боев. Если русские прорвутся к Берлину, сосредоточенные на флангах наши войска отойдут на север и юг. А севернее Берлина мы упремся в разветвленную систему каналов». Я сразу же понял его мысль: «Выходит, Берлин долго не продержится?» «Во всяком случае, его гарнизон не сможет оказать сколько-нибудь сильного сопротивления», — ответил генерал-полковник.
16 апреля Позер разбудил меня рано утром, так как мы с ним намеревались наблюдать с холма близ Врицена за окончательно решающим исход войны наступлением, начавшимся с форсирования советскими войсками Одера. Однако в густом тумане нельзя ничего было разглядеть, и лишь появившийся через несколько часов лесничий сообщил, что наши части беспорядочно отступают и что русские скоро будут здесь. Мы не стали искушать судьбу и быстро покинули эту местность.
Назад мы ехали мимо судоподъемника Нидерфинов, выдающегося технического достижения тридцатых годов, миновать который не мог ни один направляющийся в Берлин по Одеру корабль. Повсюду на металлических каркасных конструкциях были умело заложены взрывные заряды. Вдали непрерывно громыхала канонада. Командир взвода саперов доложил, что взрыв может быть произведен в любую минуту. Здесь все еще продолжали выполнять приказ Гитлера от 19 марта. Распоряжение Позера разминировать мост лейтенант воспринял с явным облегчением. Тем не менее мы уехали отсюда с довольно тяжелым ощущением, так как поняли, что далеко не все воинские части получили директиву от 3 апреля.
Не имело никакого смысла вновь пытаться передать этот приказ по каналам военной связи, так как вся система
602
находилась на грани полного развала. Но я знал, что всегда могу рассчитывать на помощь Хейнрици, и решил осуществить свой прежний план прямого обращения к общественности. Я надеялся, что в условиях вызванной боями неразберихи генерал-полковнику не составит труда предоставить в мое распоряжение в местах дислокации подчиненных армейских частей радиостанции и я смогу призвать людей одуматься.
Мы довольно быстро проехали тридцать километров и оказались в превращенных Герингом в охотничьи угодья глухих лесах Шорфхайде. Я отпустил своих спутников, присел на пень и чуть ли не на одном дыхании сделал набросок речи, представлявшей собой откровенный призыв к мятежу. В этот раз я намеревался без всяких оговорок запретить разрушение заводов, мостов, железных дорог и объектов связи и приказать солдатам вермахта «всячески препятствовать этому и в случае необходимости применять оружие». Я потребовал передать войскам союзников всех находившихся в тюрьмах и концлагерях политических заключенных и евреев и не мешать военнопленным и иностранным рабочим вернуться на родину. В своем обращении к народу я также предполагал заявить о запрете деятельности «Вервольфа» и призвать к сдаче без боя городов и территорий. В конце я собирался с изрядной долей пафоса воскликнуть, что мы «преисполнены непоколебимой верой в великое будущее нашего народа».
Я поручил Позеру передать генеральному директору берлинских электростанций доктору Рихарду Фишеру торопливо написанную записку с требованием при любых обстоятельствах обеспечить электроснабжение самой мощной немецкой радиостанции в Кёнигсвустерхаузене; эта радиостанция, ежедневно передававшая приказы «Вервольфа», должна была объявить о полном запрете этой организации.
Поздним вечером я встретился с Хейнрици в Даммси- мюле, куда он тем временем перенес свою штаб-квартиру. В течение довольно недолгого времени органы государственной власти не имели возможности контролировать оказавшиеся в «зоне боевых действий» радиостанции — вот тогда-то я и хотел выступить с речью. Однако, по мнению Хейнрици, я оказался бы в плену, даже не успев закончить обращение, поэтому он предложил заранее сделать запись
603
на пластинку. Люшен приложил все усилия, но так и не смог разыскать подходящую записывающую аппаратуру.
Через два дня мне все-таки пришлось уступить настойчивой просьбе Кауфмана и отправиться в Гамбург, где командование военно-морской базы уже приступило к подготовке взрыва портовых сооружений. Гаулейтер проявил недюжинную энергию и на заседании, в котором наряду с крупными промышленниками приняли участие представители судостроительных предприятий, портовой администрации и офицеры военно-морского флота, добился отмены этого решения. На следующий день я встретился с Кауфманом в доме, из окон которого был виден простор Аусен- Альстера. Охраняли нас вооруженные студенты. «Самое лучшее, — сразу же заявил Кауфман, — если вы останетесь у нас. Здесь вы в полной безопасности. Мои люди никогда не подведут». Но я вернулся в Берлин и первым делом напомнил Геббельсу, что он уже вошел в историю как «завоеватель Берлина», но имя его будет стерто с этих скрижалей, если он уйдет из жизни, имея репутацию разрушителя этого города. Какими бы странными ни казались эти слова, они как нельзя лучше соответствовали нашим тогдашним воззрениям и могли подействовать на Геббельса, который полагал, что добровольным уходом из жизни можно приумножить свою посмертную славу. Вечером 19 апреля Гитлер на оперативном совещании заявил, что он согласен с гаулейтером Берлина и, используя все резервы, даст противнику решающий бой на подступах к столице рейха.
32
Разгром
В последние недели жизни Гитлер, как мне казалось, вышел из состояния оцепенения. Он стал гораздо более доступен и даже иногда был склонен обсуждать собственные решения. Еще в декабре 1944 года нечего было и думать о том, что он когда-нибудь выразит желание выслушать мое мнение о бесперспективности дальнейшего продолжения военных действий. Невозможно было представить себе, что он согласится пойти на уступки и пересмотреть свой
604
приказ о применении тактики «выжженной земли» и будет вежливо предлагать свою правку текста задуманного мной выступления по радио. Он вновь начал прислушиваться к аргументам, которые прежде безоговорочно отвергал. Но это вовсе не означало, что он снова почувствовал себя внутренне свободным. Гитлер скорее производил впечатление человека, осознавшего, что дело его жизни окончательно погибло; благодаря еще не до конца растраченной энергии он по инерции двигался по накатанной колее, но на самом деле уже махнул на все рукой и покорился судьбе.
Создавалось ощущение, что в душе у него пустота. Возможно, он всегда был таким. По прошествии стольких лет я временами задаю себе вопрос: а может быть, именно непрочность его внутреннего мира, отсутствие духовной наполненности предопределили его жизненный путь от юных лет и до дня гибели? Поэтому им и овладело желание творить насилие и жестокость; никакие благородные порывы не могли его обуздать, ибо им было просто неоткуда взяться. Никто не мог проникнуть в его внутренний мир — там все уже было мертво и царила пустота.
Обычно подобное безволие и безразличие наблюдаются у людей в пожилом возрасте, и Гитлер, действительно, производил впечатление глубокого старика. Руки его тряслись, он заметно горбился, сильно шаркал ногами; то и дело запинался и говорил утратившим повелительную интонацию слабым, дребезжащим, в минуты сильного волнения — это опять же часто случается именно со стариками — срывающимся голосом. Иногда он вдруг становился не по-детски, а как-то уж очень по-стариковски упрямым. Внешний облик его также изменился: мертвенно-бледное, одутловатое лицо, потухшие глаза с набрякшими веками. На исхудавшем теле мундир болтался как на вешалке, а обычно всегда тщательно отутюженные и вычищенные форменные брюки были измяты и покрыты пятнами от еды.
В этом состоянии Гитлер, безусловно, вызывал сочувствие у своего окружения. Я также едва не проникся к нему жалостью и с трудом преодолел искушение — уж больно разительным был контраст между нынешним Гитлером и человеком, которого я знал многие годы. Может быть, поэтому его приближенные не возражали, когда он приказывал перебросить на тот или иной участок фронта существовавшие только на бумаге дивизии или отдавал
605
распоряжение поднять в воздух самолеты, которые не могли взлететь из-за нехватки горючего. Они уже примирились с тем, что он все чаще и чаще терял чувство реальности и, давая волю своим фантазиям, говорил о неминуемом разрыве в отношениях между Советским Союзом и западными союзниками. И хотя его окружение сознавало, что эти рассуждения ни на чем не основаны, все же постоянно, словно заклинание, повторяемые слова не могли не оказать своего, я бы сказал, мистического воздействия. Так, например, Гитлер уверял, что лишь ему одному по силам вместе с западными державами одолеть большевизм; это звучало достаточно убедительно, тем более когда он заявлял, что намерен добиться коренного перелома в войне, но сам лично страстно желает только одного: скорее уйти из жизни. Именно самообладание Гитлера и готовность безропотно принять смерть вызывали сочувствие и заставляли еще больше уважать его.
Ко всему прочему, он стал гораздо более дружелюбен и по-домашнему обходителен. Чем-то он напоминал призрак того Гитлера, с которым я познакомился двенадцать лет тому назад. Он был по-прежнему мил и любезен с несколькими женщинами, на протяжении многих лет входившими в его окружение. С особой симпатией он относился к вдове своего трагически погибшего камердинера госпоже Юнге; его расположением также пользовалась повариха — она была родом из Вены и превосходно готовила диетические блюда.
Среди тех, с кем Гитлер в последние недели своей жизни общался в неофициальной обстановке, были также его секретарши госпожа Вольф и госпожа Кристиан. Вот уже несколько месяцев он предпочитал обедать, ужинать и пить чай исключительно в их обществе и почти не приглашал на свои трапезы мужчин. Я лично давно уже не сидел с ним за одним столом. В остальном же появление Евы Браун заставило Гитлера несколько изменить свои привычки, однако оно никак не отразилось на подчеркнуто дружеских отношениях с женщинами из его окружения. Вероятно, Гитлера влекло к ним потому, что они своим поведением больше подтверждали его довольно примитивные представления о верности вождю в час опасности, чем его ближайшие соратники, которым он, видимо, уже не до конца доверял. Исключение составляли, очевидно, Борман,
606
Геббельс и Лей, в преданности которых он, казалось, был полностью уверен.
Нынешний Гитлер был лишь жалким подобием того человека, перед которым еще недавно дрожал весь мир, но подчиненные ему инстанции по-прежнему автоматически выполняли указания — слишком велика была сила инерции, хотя он, конечно же, уже не мог заряжать их энергией. На мой взгляд, этим автоматизмом объясняются также действия генералов, которые предпочитали двигаться по проторенной дорожке и вплоть до последних дней существования рейха, за редким исключением, беспрекословно выполняли приказы Гитлера, хотя воля последнего ослабла и он далеко не всегда настаивал на непременном их выполнении. Кейтель, например, требовал разрушать мосты в ситуации, когда сам Гитлер уже впал в уныние и фактически отказался от своего прежнего намерения.
Гитлер не мог не заметить, что люди из его окружения явно забыли про дисциплину. Раньше он входил в помещение и все присутствовавшие стремительно вставали и ждали, пока он сядет. Теперь же зачастую можно было наблюдать, как лакеи не стеснялись в его присутствии беседовать с гостями, а изрядно накачавшиеся спиртными напитками сотрудники дремали, развалившись в креслах, или громко и даже на повышенных тонах разговаривали друг с другом. Может быть, он умышленно не замечал происшедших с этими людьми перемен. Я же воспринимал окружающее как кошмарный сон. Изменилась также и обстановка в личных апартаментах рейхсканцлера: исчезли гобелены, со стен сняли картины, ковры скатали и вместе с дорогой мебелью отнесли на всякий случай в один из бункеров. Переезд производился в лихорадочной спешке, о чем свидетельствовали пятна на обоях, валяющиеся повсюду газеты, пустые стаканы и грязные тарелки с остатками пищи и, наконец, забытая на стуле шляпа.
Гитлер уже давно не появлялся в кабинетах рейхсканцелярии; он заявил, что из-за непрекращающихся воздушных налетов постоянно не высыпается, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на его работоспособности. Он решил окончательно переселиться в подземный бункер.
Мне всегда казалось, что его поспешный переезд в свой будущий склеп имел символическое значение. Перебравшись
607
в запрятанный глубоко под землей и полностью изолированный от внешнего мира бункер, он окончательно отгородился толщей железобетонных стен от разыгрывавшейся наверху трагедии. Его больше с ней ничто не связывало. Когда он говорил, что конец уже близок, то имел в виду исключительно себя, а отнюдь не немецкий народ. Завершилось бегство Гитлера от реальной жизни, с которой он упорно не желал считаться еще в молодые годы. В те дни я именовал этот ирреальный мир «островом блаженных».
Но даже в апреле 1945 года я иногда встречался с Гитлером, чтобы просто поговорить о планах реконструкции Линца или посидеть молча рядом, предаваясь былым мечтам. Отведенный под его кабинет бункер был тогда, наверное, самым безопасным местом в Берлине — от поверхности его отделяли пятиметровый слой бетона и двухметровый слой земли. Тем не менее потолок прямо-таки сотрясался от взрывавшихся поблизости мощных авиабомб — песчаная берлинская почва создавала почти идеальные условия для распространения взрывной волны. В эти минуты Гитлер, дрожа всем телом, плотно прижимался к спинке кресла. Какая разительная перемена произошла с бесстрашно сражавшимся на фронтах Первой мировой войны ефрейтором кайзеровской армии! Гитлер разваливался буквально на глазах. Он превратился в один сплошной комок нервов и полностью перестал владеть собой.
Собственно говоря, последний день рождения в жизни Гитлера по-настоящему не праздновался. Обычно 20 апреля автомобили один за другим въезжали во внутренний двор рейхсканцелярии, часовые в парадной форме брали на караул, высшие должностные лица рейха и зарубежные гости вручали свои поздравления. В царившей вокруг торжественной атмосфере чувствовались уверенность и непоколебимое спокойствие. Теперь Гитлер, правда, согласился подняться наверх и на фоне невероятно запущенного помещения выглядел еще более жалко. В саду ему представили делегацию наиболее отличившихся в боях членов гитлер- югенда; он потрепал нескольких мальчиков по щекам и начал было глухим — словно сквозь слой ваты — голосом произносить высокопарную речь, но вскоре чуть ли не на полуслове прервал ее. Видимо, Гитлер почувствовал,
608
что уже не сможет ни в чем убедить их и только вызывает жалость. Оказавшиеся в довольно неловком положении участники церемонии постарались как можно скорее перейти к докладам о положении на фронтах. Никто толком не знал, что ему следует говорить. В этой обстановке Гитлер явно с трудом заставил себя соблюсти приличия и выслушать поздравления.
Прошло совсем немного времени, и мы в очередной раз расселись за столом для оперативных совещаний, установленным в узком и тесном — размером не более товарного вагона — бункере. Прямо напротив Гитлера сидел Геринг. Он всегда придавал огромное значение внешнему виду и в эти дни поразил нас тем, что сменил свой традиционный серебристо-серый мундир на сшитую из серо-коричневого сукна форму. Заодно он заменил огромные — шириной пять сантиметров — с золотым плетением погоны на обычные матерчатые с просто и скромно приколотым к ним его знаком отличия — золотым рейхсмаршальским орлом. «Точь-в-точь американский генерал», — прошептал мне один из участников совещания. Но Гитлер, видимо, не заметил столь разительных перемен в униформе его ближайшего сподвижника.
На совещании обсуждалось предстоящее наступление советских войск на центральные кварталы Берлина. Если накануне Гитлер собирался покинуть столицу и перебраться в «Альпийскую крепость», то за ночь он изменил решение и заявил о своем намерении остаться в Берлине, где вот-вот должны были начаться уличные бои. Его тут же принялись убеждать в том, что пока еще не поздно перенести ставку верховного командования в Оберзальцберг. Геринг обратил внимание Гитлера на то обстоятельство, что мы пока еще удерживаем единственную связывающую северную и южную части Германии и проходящую через Баварский лес магистраль, однако она в любой момент может быть перерезана противником, и тогда ни о каком переезде в Берхтесгаден уже не может быть и речи. Гитлер, слушая это, изрядно разгорячился и с горечью заявил в ответ: «Как я могу призывать войска стоять до конца в решающей битве за Берлин и тут же покинуть город и перебраться в безопасное место!» Он вперил взор в бледного, выпучившего глаза Геринга, по лицу которого непрерывно текли
20 А. Шпеер
609
ручейки пота, и дрогнувшим от волнения голосом закончил свою отповедь следующими словами: «Я всецело полагаюсь на волю судьбы и остаюсь в столице. Если судьба захочет, то в последний миг даст мне возможность вылететь в Обер- зальцберг».
Как только оперативное совещание закончилось и генералы поспешили удалиться, вконец растерявшийся Геринг подошел к Гитлеру и, запинаясь, пробормотал, что неотложные дела требуют его непременного присутствия в Южной Германии и он просит разрешения этой же ночью покинуть Берлин. Гитлер отсутствующим взглядом посмотрел на него, и мне вдруг показалось, что он уже сожалеет о поспешно принятом решении остаться в столице, где его ждала почти неминуемая гибель. Возможно, он даже немного завидовал Герингу, но даже виду не подал, что разгадал его замысел, а лишь произнес несколько ничего не значащих слов и равнодушно пожал рейхсмаршалу руку. Я, стоявший в нескольких шагах от них, мельком подумал, что стал свидетелем исторического момента: впервые один из руководителей рейха пусть скрытно, но дистанцировался от фюрера.
После оперативных совещаний было не принято прощаться с Гитлером, и мы 20 апреля 1945 года, покидая бункер, по-прежнему придерживались этой традиции. Вопреки первоначальному намерению подполковник Позер потребовал, чтобы я ночью приготовился к отъезду. Советские войска стремительно продвигались вперед и уже вышли на одну из окраин Берлина. Но и мы не теряли времени даром и еще несколько дней тому назад начали готовиться к бегству: наиболее нужные вещи отправили в Гамбург, а два жилых вагона уже стояли на берегу Эйтинского озера неподалеку от расположенной в Плене штаб-квартиры Дёница.
В Гамбурге я еще раз посетил Кауфмана. Подобно мне, он также считал безумным намерение любой ценой продолжать борьбу. Ободренный стойкостью гаулейтера, я дал ему прочесть текст написанной мной неделю тому назад на пне в Шорфхайде речи. «Вы просто обязаны произнести ее. Почему вы этого не сделали?» Узнав о возникших трудностях, он сказал: «А почему бы вам не выступить по нашему радио? С техническим руководством я договорюсь. Вы сможете хотя бы записать свою речь на пластинку?»
610
В ту же ночь Кауфман отвез меня в бункер, где временно расположилось техническое руководство гамбургской радиостанции. Пустыми коридорами мы прошли в небольшое отведенное под студию звукозаписи подземное помещение, и Кауфман представил меня двум радиотехникам, которые, очевидно, уже знали о моем замысле. На мгновение мне стало страшно при одной только мысли о том, что я сейчас полностью завишу от этих людей. На всякий случай я решил подстраховаться и как бы заставить их разделить со мной ответственность, поэтому я сразу же заявил, что, если содержание моего выступления их не устроит, они могут разбить пластинки. Затем я сел перед микрофоном и зачитал свою речь. Радиотехники молча выслушали ее; может быть, они страшно перепугались, может быть, в душе были полностью согласны со мной, но у них не хватало мужества открыто выступить против нацистского режима. Так или иначе, но они ничего не сказали и уж тем более не стали спорить со мной.
Я отдал пластинку на хранение Кауфману и оговорил с ним условия, при которых он имел право передать речь в эфир без моего согласия: если меня убьют по приказанию одного из моих политических противников, к которым я относил в первую очередь Бормана; если Гитлер, узнав о моем плане, распорядится приговорить меня к смертной казни и если после смерти Гитлера его преемник не откажется от продолжения губительной для страны политики.
Поскольку генерал-полковник Хейнрици отнюдь не собирался защищать Берлин, можно было предположить, что через несколько дней город будет взят и война наконец закончится. Генерал СС Бергер рассказал мне, что Гитлер уже 22 апреля намеревался покончить с собой. Об этом же мне сообщила Ева Браун. Однако потом он передумал и заменил Хейнрици командующим воздушно-десантными войсками Штудентом: Гитлер считал его одним из самых энергичных военачальников. Он полагал, что в столь отчаянной ситуации может положиться на Штудента хотя бы по одной простой причине: генерал не отличался большим умом. Эта акция^ придала Гитлеру мужества, и он приказал Кейтелю и Йодлю перебросить к Берлину все имеющиеся в их распоряжении дивизии.
К тому времени у меня уже не было никаких обязанностей, ибо военная промышленность практически прекратила
20*
611
свое существование. Но, охваченный душевным смятением, я без устали разъезжал по стране. Зачем-то я без всякой цели посетил имение близ Вильзнака, куда когда-то неоднократно выезжал вместе с семьей на выходные дни. Там я встретил одного из сотрудников доктора Брандта; он рассказал, что бывшего лечащего врача Гитлера держат под арестом на одной из вилл в западном предместье Берлина. Он также подробно описал эту местность, дал номер телефона виллы и сказал, что охраняющие ее эсэсовцы легко идут на контакт. Мы принялись обсуждать возможность освобождения Брандта и пришли к выводу, что в условиях царившего тогда в Берлине полнейшего хаоса это не так уж трудно сделать. К тому же мне очень хотелось повидать Люшена. Я твердо решил уговорить его бежать из Берлина.
Именно эти обстоятельства побудили меня в последний раз отправиться в столицу рейха. Но над ними превалировало желание в последний раз увидеть Гитлера и попрощаться с ним, ибо он все еще как магнит притягивал меня. Я же никак не мог отделаться от ощущения, что два дня назад попросту сбежал от него. Неужели только таким образом могло закончиться наше с многолетнее сотрудничество? Столько дней, столько месяцев мы едва ли не каждый день по несколько часов обсуждали совместно разработанные проекты, и у нас сложились едва ли не товарищеские отношения. На протяжении многих лет он принимал меня и мою семью в Оберзальцберге, где показал себя любезным, обходительным и зачастую даже излишне обеспокоенным благополучием гостей хозяином. Непреодолимое желание напоследок встретиться с Гитлером говорило о моем двойственном отношении к нему. С одной стороны, я полностью уступил доводам рассудка, который подсказывал мне, что Гитлеру уже давно пора уйти из жизни. Ведь все мои направленные против него в последние месяцы планы были порождены стремлением помешать ему погубить немецкий народ.
Ничто лучше не свидетельствовало о нашем антагонизме, чем моя записанная на пластинку речь и тот факт, что я с нетерпением ждал его смерти, — и здесь опять же проявилась моя внутренняя связь с ним. Ведь я настаивал на передаче в эфир моей речи после его смерти только потому, что не хотел сделать для себя окончательного вывода
612
и признаться себе: она прямо направлена против него; я все больше и больше проникался сочувствием к Гитлеру — ведь он терял власть прямо на глазах. Думаю, что такие же ощущения испытывали в последние дни рейха многие приближенные Гитлера. Сознание своего долга, присяга, узы верности, чувство благодарности — и понимание, что человек, которому они вроде бы стольким обязаны, теперь принес несчастье не только им, но и Германии.
Хорошо, что я смог напоследок повидаться с Гитлером. Я до сих пор считаю, что поступил совершенно правильно, когда поехал к нему, презрев все наши разногласия и сделав поистине широкий жест. Тогда, правда, собравшись выехать из Вильзнака, я еще не совсем отдавал себе отчет в своем поступке и действовал почти автоматически. Перед отъездом я написал несколько строк жене. Мне хотелось подбодрить ее, и я ясно дал понять, что не намерен погибать вместе с Гитлером. В девяноста километрах от Берлина шоссе оказалось забито двигающейся навстречу мне по направлению к Гамбургу бесконечной колонной, состоявшей едва ли не из всех видов транспорта: какие-то допотопные модели машин и роскошные современные автомобили, грузовики и фургоны для развозки товаров, мотоциклы и даже еще совсем недавно находившиеся в ведении обер-бранд- майора Берлина пожарные машины. Пробиться через этот мощный поток было совершенно невозможно. Для меня навсегда осталось загадкой, где водители и пассажиры сумели внезапно раздобыть столько бензина, — ведь его разрешалось расходовать исключительно на служебные поездки и нормы выдачи неуклонно сокращались. Очевидно, они заранее запаслись им.
Из расположенного в Киритце штаба дивизии я позвонил на виллу, где в ожидании казни томился несчастный Брандт, и, к глубокой радости, узнал, что согласно особому распоряжению Гиммлера его перевезли в Северную Германию и больше ему ничего не угрожает. К сожалению, я так и не смог разыскать Люшена, но решения не изменил и сообщил Шаубу о своем намерении прибыть в столицу во второй половине дня. В штабе мы узнали, что части Красной армии стремительно продвигаются вперед, однако им вряд ли удастся в ближайшее время полностью окружить Берлин. Во всяком случае, военный аэродром
613
в Гатове — на берегу озера Хавель — пока еще в наших руках. Поэтому мы сразу же после телефонных переговоров направились на поражавший своими размерами учебный аэродром в Рехлине; базировавшиеся здесь самолеты непрерывно атаковали наступавшие к югу от Потсдама советские войска. Я неоднократно бывал в Рехлине для ознакомления там с новейшими образцами авиационной техники, и хорошо знавший меня комендант аэродрома без колебаний согласился доставить нас в Гатов на борту-учебного истребителя. Из Берлина меня и моего офицера связи предполагалось вывезти на двух «шторхах» — одномоторных разведывательных самолетах с очень низкой посадочной скоростью.
В сопровождении эскадрильи истребителей мы вылетели на юг. Погода была ясная, и с тысячеметровой высоты битва за столицу рейха отнюдь не представляла собой устрашающего зрелища. Напротив, иногда даже казалось, что внизу царит мир и спокойствие, хотя тогда на хорошо знакомой мне местности — я неоднократно ездил по этим дорогам, посещал деревни и небольшие города — наши солдаты с трудом сдерживали натиск противника, стремившегося, как и почти двести лет тому назад, овладеть Берлином. Непрерывно стреляли орудия, извергая из своих стволов снопы огня, пылали крестьянские хутора — но сверху вспышки пламени производили довольно безобидное впечатление: словно просто кто-то все время чиркал спичками. Правда, вдали, на восточной окраине Берлина, в утренней дымке четко прорисовывались огромные клубы дыма. Гул мотора заглушал залпы орудий.
Эскадрилья истребителей направилась выполнять боевое задание — атаковать наземные цели южнее Потсдама, а наш самолет приземлился в Гатове. Аэродром выглядел совершенно заброшенным. И лишь служивший под началом Йодля и потому входивший в число приближенных Гитлера генерал Кристиан собирался лично поднять в воздух свой стоявший на краю летного поля самолет. Обстановка не располагала к беседе, мы обменялись ничего не значащими фразами, а затем я и Позер забрались по алюминиевым лесенкам в уже стоявшие на взлетной полосе «шторхи». Собственно говоря, мы могли бы добраться отсюда до Берлина на автомобиле, но дружно решили, что раз уже ввязались в авантюру, то следует полностью вкусить ее
614
романтическую прелесть. «Шторхи» легко оторвались от земли, на бреющем полете прошли над автомобильной магистралью Восток — Запад, по которой я проезжал вместе с Гитлером накануне его так помпезно отпразднованного пятидесятилетия, и, к немалому удивлению немногочисленных прохожих, приземлились прямо у Бранденбургских ворот. Здесь мы остановили автомобиль с эмблемой вермахта и велели отвезти нас в рейхсканцелярию. Чтобы преодолеть отделявшие Вильзнак от Берлина сто пятьдесят километров, нам потребовалось около десяти часов.
Я не знал, чем мне грозит встреча с Гитлером. Ведь за эти два дня он мог полностью изменить свое отношение ко мне. Но меня почему-то это не очень волновало. Я надеялся на счастливый исход нашей авантюры, но заранее приготовился к самому худшему варианту.
Построенное мной семь лет тому назад величественное здание рейхсканцелярии уже обстреливали тяжелые орудия, однако их снаряды причинили значительно меньший ущерб, чем обрушившиеся на него во время последних дневных воздушных налетов американские бомбы. Я обходил завалы, опасно накренившиеся обломки стен и груды истолченного и оплавленного мрамора и наконец оказался в засыпанных щебнем бывших жилых апартаментах рейхсканцлера, где провел столько приятных вечеров за беседами с Гитлером, где в свое время проводил совещания Бисмарк и где сейчас адъютант Гитлера Шауб стаканами пил коньяк с какими-то совершенно незнакомыми мне людьми. И хотя я заранее предупредил по телефону о своем приезде, меня, как выяснилось, никто не ждал. Мое появление застало их врасплох. Шауб радостно приветствовал меня. Отсюда я сделал вывод, что им еще ничего не известно о записанной в Гамбурге на пластинку речи, и у меня как-то сразу отлегло от сердца. Шауб отправился докладывать Гитлеру о моем неожиданном появлении, а я в свою очередь поручил Позеру через телефонный узел рейхсканцелярии разыскать Люше- на и попросить его немедленно приехать сюда.
По возвращении адъютант Гитлера произнес сакраментальную фразу: «Фюрер хочет поговорить с вами». За прошедшие двенадцать лет мне столько раз приходилось слышать эти слова, но сейчас, спускаясь по насчитывавшей
615
пятьдесят ступенек лестнице, я думал только об одном — суждено ли мне сегодня выйти наружу целым и невредимым. Первым, кого я встретил в начале длинного коридора, был Борман. Я никак не ожидал от него такого вежливого и обходительного обращения и почувствовал себя чуть более уверенно. Ведь даже по выражению лиц Бормана и Шауба можно было безошибочно судить о настроении Гитлера. Он осторожно завел разговор на крайне интересующую его тему: «Когда вы будете беседовать с фюрером... нужно выяснить, остаемся ли мы в Берлине или улетаем в Берх- тесгаден; ему уже давно пора перебраться в Южную Германию и руководить оттуда обороной рейха... Пока еще это возможно... Я очень прошу вас уговорить его покинуть столицу». Из всех нынешних обитателей подземелья под рейхсканцелярией больше всего цеплялся за жизнь именно Борман, который еще три недели тому назад призывал партийных функционеров не падать духом, победить или погибнуть с честью. Я постарался уклониться от ответа, но должен признаться, что возликовал душой, ибо человек, который еще совсем недавно пытался погубить меня, теперь умолял спасти его от смерти.
Затем меня провели в бункер Гитлера. Теперь я уже вряд ли смог бы, как несколько недель тому назад, растрогать его клятвой верности. По-моему, Гитлера уже ничего не волновало, и мне вновь показалось, что под его телесной оболочкой царит полная пустота. Он как бы выгорел внутри дотла. С каменным выражением лица, за которым могло скрываться все что угодно, сухим, деловым тоном он спросил, как я оцениваю его деятельность. Я сразу догадался, что Гитлер далеко не случайно задал этот вопрос. Он уже подбирал себе замену, и я и поныне твердо уверен в том, что, окажись на месте Дёница, которому вдруг выпала незавидная участь стать преемником Гитлера, Борман или Гиммлер, они бы действовали гораздо менее осмотрительно и проявили бы гораздо меньше мужества и самообладания. Я наилучшим образом охарактеризовал гросс-адмирала и приукрасил свой рассказ подробностями, которые, несомненно, должны были произвести на Гитлера сильное впечатление. Однако я не пытался подсказать ему решение, ибо это могло привести к прямо противоположному результату.
616
Неожиданно Гитлер спросил: «Как вы полагаете... стоит ли мне и дальше оставаться здесь? Йодль сказал, что завтра еще можно успеть вылететь в Берхтесгаден». Я, не раздумывая, посоветовал ему остаться в Берлине. В Оберзальц- берге, дескать, его уже ничего не ждет, поскольку с падением Берлина война все равно закончится. «Я полагаю, что уж лучше принять смерть в столице, до конца исполняя обязанности фюрера немецкого народа, чем там, где вы обычно проводили свои выходные дни». Я опять почувствовал к Гитлеру жалость. Я надеялся, что нашел хороший выход из создавшегося положения, но, как потом выяснилось, мне следовало дать ему совет улететь в Оберзальцберг — ведь тогда бы бои в Берлине закончились на неделю раньше.
Я ожидал, что Гитлер, как обычно, призовет в конце беседы не терять веры в благополучный исход, но он вяло и довольно безразлично, как о чем-то само собой разумеющемся, внезапно заговорил о смерти: «Я уже давно принял решение остаться здесь. Мне просто хотелось услышать ваше мнение». Недрогнувшим голосом он продолжил: «Я не намерен продолжать борьбу. Слишком уж велика опасность попасть раненным в плен к русским. А я не желаю, чтобы враги глумились над моим телом. Я решил покончить с собой и распорядился сжечь мой труп. Фройлейн Браун хочет последовать моему примеру, а Блонди я перед этим застрелю. Поверьте, Шпеер, я с легкостью уйду из жизни. Один краткий миг — и я навсегда избавлюсь от бесконечных страданий». Было ощущение,, что я разговариваю с покойником. Мне стало не по себе, ибо наступил финал трагедии.
В эти месяцы я иногда люто ненавидел Гитлера, тайно боролся с ним и подчас обманывал его, но в тот момент я чуть не потерял самообладание.
Неожиданно для себя я тихим голосом признался ему, что фактически помешал выполнению его приказа об уничтожении промышленных объектов и систем жизнеобеспечения в оставляемых нашими войсками районах Германии. На мгновение его глаза наполнились слезами. Однако он никак не отреагировал на мои слова. Он смотрел куда-то сквозь меня и упорно молчал. Очевидно, Гитлер уже полностью отрешился от этого мира, и казавшиеся еще несколько недель тому назад чрезвычайно важными вопросы теперь перестали его интересовать.
617
Порой мне кажется, что он инстинктивно понимал истинный смысл предпринятых мной в январе — апреле 1945 года и направленных против него акций. Видимо, он сделал правильные выводы из моих меморандумов; возможно даже, он сознательно позволил мне на всех уровнях саботировать выполнение его приказов и тем самым дал еще одно доказательство многогранности и загадочности своей натуры.
В этот момент адъютант доложил, что с докладом об оперативной обстановке прибыл начальник Генерального штаба сухопутных войск Кребс. Вроде бы ничего не изменилось: верховный главнокомандующий вермахтом, как обычно, выслушивал сообщения о положении на фронтах. Но если еще три дня тому назад в оперативном совещании участвовали главнокомандующие всеми родами войск и небольшой подземный конференц-зал был до отказа заполнен генералами и старшими офицерами вермахта и СС, то ныне почти все они покинули Берлин. Не только Геринг, Дёниц и Гиммлер, но также Кейтель, Йодль и начальник Генерального штаба военно-воздушных сил Коллер вместе с большинством своих подчиненных уже выехали из столицы; остались только офицеры связи, среди которых самым старшим по званию был полковник. Изменился также порядок проведения оперативных совещаний: никто из присутствующих не располагал сколько-нибудь достоверной информацией, и начальник Генерального штаба сухопутных войск мог высказать лишь предположения. На разостланной перед Гитлером карте была нанесена обстановка только вокруг Берлина и Потсдама. Но даже на ней данные о продвижении советских войск не совпадали со сведениями, полученными мной несколько часов тому назад на командном пункте истребительной авиации в Рехлине. К этому времени советские дивизии продвинулись далеко вперед.
К моему удивлению, Гитлер вздумал снова продемонстрировать непоколебимый оптимизм, резко контрастировавший с недавними уверениями в твердой решимости покончить жизнь самоубийством. Разумеется, ему уже было не дано заставить людей поверить себе, и слова его не оказывали прежнего воздействия. Кребс по привычке терпеливо слушал Гитлера. Раньше мне зачастую казалось: Гитлер, утверждавший, что может найти выход из самого отчаянного положения, действительно был твердо убежден в этом;
618
теперь же я понял, что он двурушник. Сколько же времени он обманывал нас? Когда он осознал, что война проиграна: зимой 1941/42 года, когда мы так и не смогли взять Москву, после поражения под Сталинградом, после высадки западных союзников во Франции или после провала наступления в Арденнах? Когда он искренне заблуждался, а когда умышленно вводил других в заблуждение? Возможно, у него сейчас опять произошла резкая перемена настроения, и он так же искренне заверял Кребса в предстоящем благоприятном для Германии исходе войны, как и ранее меня в своем намерении добровольно уйти из жизни.
Начальник Генерального штаба довольно быстро закончил продолжавшийся обычно несколько часов доклад об оперативной обстановке. Это свидетельствовало об агонизирующем состоянии состоявшей отныне всего лишь из нескольких человек ставки верховного командования. В этот день Гитлер даже не стал тешить себя иллюзиями и разглагольствовать о чуде, которое якобы безусловно свершится в последний момент по воле провидения. Он довольно скоро отпустил нас, и мы покинули помещение, в стенах которого пребывающий теперь в смятении Гитлер за очень короткий срок принял столько ошибочных решений и породил столько преступных замыслов. Гитлер обращался со мной как с человеком из своего окружения, которого видел чуть ли не каждый день. На прощание он по привычке не пожал мне руки и даже не спросил, собираюсь ли я остаться в Берлине. В вестибюле я встретил Геббельса, который с металлом в голосе заявил: «Вчера фюрер принял воистину историческое решение. Он приказал открыть фронт западным союзникам, чтобы их войска смогли беспрепятственно войти в Берлин». Я опять стал свидетелем весьма характерного для состояния умов ближайших сподвижников Гитлера явления: они готовы были мгновенно поверить любому сообщению, способному вселить в их души пусть даже заведомо несбыточную надежду; через несколько часов они опять впадали в уныние. Геббельс рассказал мне, что перевез в бункер жену и шестерых детей, чтобы они, как он выразился, ушли из жизни не где-нибудь, а именно в этом историческом месте. В отличие от Гитлера, Геббельс превосходно владел собой, и, глядя на него, никто бы не подумал, что он уготовил себе и своей семье страшную участь.
619
Уже начало темнеть; я собрался было уходить, но тут один из прикомандированных к госпиталю рейхсканцелярии офицеров медицинской службы войск СС сообщил мне, что госпожа Геббельс лежит в постели и никак не может оправиться от перенесенного недавно сердечного приступа. Я попросил разрешения навестить ее. Я бы охотно побеседовал с нею с глазу на глаз, но Геббельс уже ждал меня в тамбуре и сразу же проводил в маленькое помещение, где на койке в изнеможении лежала его жена. Лицо ее было бледным как мел, она тихим голосом рассказывала о каких-то пустяках, хотя чувствовалось, что она испытывает тяжкие страдания при мысли о приближающейся неотвратимой гибели ее детей. Геббельс ни на шаг не отходил от меня, и разговор поэтому ограничился обсуждением состояния ее здоровья. Только в конце беседы она осторожно завела речь о том, что ее на самом деле волновало: «Как я счастлива, что хоть Гаральд (ее сын от первого брака) останется в живых». Я также держал себя довольно скованно и прямо-таки выдавливал из себя слова — но о чем вообще можно говорить в такой ситуации? Наконец мы простились, так толком и не сказав ничего друг другу. Ее муж даже в минуту расставания не оставил нас наедине.
В вестибюле все вдруг страшно всполошились. Как выяснилось, Геринг прислал телеграмму, и Борман немедленно отнес ее Гитлеру. Я машинально последовал за ним. Геринг запрашивал Гитлера, вправе ли он на законном основании приступить к исполнению обязанностей главы государства, в случае если Гитлер не изменит своего решения остаться в «крепости Берлин». Борман, однако, обвинил Геринга в попытке переворота: возможно, он в последний раз попытался убедить Гитлера перебраться в Берхтесгаден и уже оттуда навести порядок. Гитлер же сперва вообще никак не отреагировал на это сообщение. Но тут ему вручили новую радиограмму от Геринга. В бункере царила полнейшая неразбериха, и никто даже не заметил, как я сунул ее копию в карман. «Секретно! Передавать только через офицера! Радиограмма 1899. Пункт отправки: Робинзон. Пункт приема: Курфюрст, получена 23.04 в 17 часов 59 минут. Рейхсминистру фон Риббентропу. Я попросил фюрера известить меня о своем решении не позднее 22 часов 24 апреля. Если к этому времени выяснится, что фюрер не
620
в состоянии руководить рейхом, вступает в силу его указ от 19.06.1941 года, согласно которому я являюсь его преемником на всех занимаемых им ранее постах. Если до 23.04.1945 года фюрер вообще не даст о себе знать, я прошу вас немедленно вылететь ко мне. Рейхсмаршал Геринг».
Борман рассматривал очередное послание Геринга как еще одно подтверждение своей версии. «Геринг изменник! — взволнованно воскликнул он. — Он уже посылает телеграммы членам кабинета министров и извещает их о своем намерении на основании якобы имеющихся у него полномочий сегодня в полночь занять ваше место, мой фюрер».
Если содержание первой радиограммы Гитлер воспринял довольно спокойно, то во второй раз Борман безошибочно определил наиболее чувствительную струну в его душе, на которой очень умело сыграл. Борман также составил текст ответной радиограммы, в которой его старый соперник обвинялся в измене национал-социализму и предательстве фюрера. Кроме того, Гитлер приказал передать Герингу, что воздержится от принятия каких-либо мер против него, если он согласится уйти в отставку со всех постов по состоянию здоровья. Борману наконец удалось заставить Гитлера преодолеть апатию. Последовал приступ дикой ярости, в которой нашли выражение горечь поражения, ощущение собственного бессилия, сострадание к самому себе и отчаяние. Лицо его налилось кровью, глаза, казалось, были готовы выскочить из орбит, из горла вырвался страшный крик: «Я тоже давно знал об этом. Я знал, что Геринг полностью разложился. Он развалил военно-воздушные силы. Он открыто брал взятки. Именно из-за него в нашем государстве пышным цветом расцвела коррупция. Ко всему прочему он уже много лет не может обойтись без морфия. Я давным- давно это знаю!»
Гитлер кричал, не обращая никакого внимания на окружающих, а я подумал, что эти слова достаточно полно характеризуют его самого: знал и ничего не предпринял. На удивление быстро Гитлер успокоился и вялым, безразличным голосом произнес: «А мне все равно. Пусть Геринг преспокойно ведет переговоры о капитуляции. Если война проиграна, не имеет значения, кто конкретно этим займется». В этих словах сквозило откровенное презрение к немецкому народу: для признания поражения Германии вполне
621
годился наркоман и взяточник. Приступ ярости вконец обессилил Гитлера, и он буквально рухнул в кресло. Он много лет изнурял себя, а в последние годы направлял всю свою неукротимую волю на то, чтобы заставить себя и других забыть о неотвратимости поражения. Теперь энергия иссякла, и он уже больше не мог скрывать свое истинное душевное состояние. Теперь он окончательно покорился судьбе.
Через полчаса Борман принес ответную радиограмму Геринга: в связи с тяжелым сердечным заболеванием рейхсмаршал просит освободить его от всех занимаемых им постов. Сколько раз Гитлер, решив избавиться от кого-либо из своих соратников, предпочитал объявить о его добровольном уходе в отставку по болезни, для того чтобы сохранить в немецком народе веру в сплоченность его руководства. Этой тактики Гитлер придерживался до последних дней жизни.
Накануне краха рейха Борман наконец достиг заветной цели и избавился от давнего соперника. Возможно, Борман убедился в полнейшей непригодности Геринга; однако люто ненавидел и низверг его он за то, что рейхсмаршал сосредоточил в своих руках слишком много власти. В определенной степени я сочувствовал Герингу, так как хорошо помнил, как он уверял меня в своей верности Гитлеру.
Инсценированный Борманом скандал затих, отзвучало несколько тактов «Гибели богов», и мнимый Хаген ушел со сцены. К моему удивлению, Гитлер довольно благожелательно отнесся к высказанной мной не без колебаний просьбе. Несколько активно сотрудничавших с нами директоров заводов «Шкода» со страхом ждали прихода русских, так как имели все основания опасаться за свою судьбу. Но зато ранее они располагали широкими связями с американскими промышленниками и вполне могли рассчитывать на хороший прием в штаб-квартире Эйзенхауэра, куда надеялись добраться на самолете. Еще несколько дней тому назад Гитлер категорически отказался бы выполнить их просьбу; теперь же он выразил готовность немедленно уладить все необходимые формальности.
Тут Борман напомнил Гитлеру, что Риббентроп настойчиво добивается встречи с ним. Гитлер довольно раздраженно отреагировал на его слова: «Сколько раз я говорил,
622
что не желаю даже разговаривать с ним». Но Борман настаивал: «Риббентроп зажил, что не уйдет до тех пор, пока вы его не примете. Он будет, как верный пес, ждать у порога». Это сравнение явно понравилось Гитлеру, он сразу подобрел и приказал вызвать Риббентропа и оставить их вдвоем. Видимо, Гитлер рассказал ему о предстоящем вылете директоров заводов «Шкода» в ставку американской армии. Даже в такой отчаянной ситуации Риббентроп потребовал, чтобы никто не смел вмешиваться в подведомственную ему сферу. В вестибюле он с упреком заявил мне: «Это является исключительно прерогативой министерства иностранных дел, — а затем уже не таким раздраженным тоном добавил: — Но в данной ситуации я не буду возражать против издания соответствующего указа, если вы включите в него слова “по предложению рейхсминистра иностранных дел”». Я, естественно, не стал спорить с ним. Насколько я знаю, Гитлер больше никаких официальных документов со своим министром иностранных дел не согласовывал.
Тем временем в рейхсканцелярию прибыл мой добрый друг и наставник Люшен, заботливо опекавший меня в эти месяцы. Я так и не смог уговорить его покинуть Берлин; лишь в Нюрнберге я узнал, что сразу же после капитуляции берлинского гарнизона он покончил с собой.
Около полуночи ординарец в эсэсовской форме попросил меня зайти к Еве Браун. Маленькое, служившее одновременно спальней и гостиной подземное помещение было со вкусом обставлено, она попросила перенести сюда дорогую мебель, изготовленную несколько лет тому назад по моим эскизам специально для отведенных ей в служебной квартире канцлера двух комнат. Ни по размерам, ни по изысканной отделке она никак не соответствовала угрюмой атмосфере бункера с его низким сводом и мощными, занимавшими большую часть пространства стенами. Да к тому же дверцы комодов были украшены изображением четырехлистника в форме ее инициалов.
Гитлер удалился, и мы могли спокойно поговорить. Из всех обреченных на гибель обитателей подземелья под рейхсканцелярией она, пожалуй, единственная держала себя с достойным восхищения самообладанием. Если Геббельс вел себя чересчур экзальтированно и постоянно подчеркивал свою готовность к самопожертвованию, Борман думал
623
лишь о спасении собственной жизни, Гитлер фактически махнул на все рукой, а Магда Геббельс была окончательно сломлена ощущением собственного бессилия, Ева Браун даже в этой обстановке сумела сохранить привычное спокойствие и не утратила способности шутить. «А как насчет бутылки шампанского на прощание? И еще я хочу угостить вас шоколадными конфетами. Вы ведь, наверное, довольно долго ничего не ели». За несколько проведенных мной в бункере часов она единственная догадалась, что я испытываю голод, и своим вниманием и заботой до глубины души тронула меня.
Ординарец принес бутылку французского шампанского, пирожные и конфеты. Когда он вышел, Ева Браун печально улыбнулась уголками губ и сказала: «Знаете, очень хорошо, что вы приехали сюда. Фюрер предполагал, что вы втайне противодействуете ему. Но своим визитом вы доказали, что это далеко не так. Верно?» Я предпочел промолчать. «Впрочем, ему очень пришелся по душе ваш совет. Он решил остаться здесь, и я, разумеется, тоже. Остальное вы знаете». Опять же, в бункере только ее волновали судьбы людей. «Сколько их уже погибло? — с нескрываемой горечью спросила она. — И ради чего?.. Впрочем, мы, наверное, больше не увидимся. Положение таково, что Берлин вскоре будет захвачен русскими. Фюрер уже хотел было прекратить борьбу. Но Геббельс отговорил его, и вот мы пока здесь». Во время нашей непринужденной беседы она несколько раз очень резко отозвалась о Бормане, который по-прежнему продолжал плести интриги, и постоянно повторяла: «Я очень счастлива, что оказалась здесь».
Было три часа утра. Гитлер уже встал, и я попросил передать, что хочу проститься с ним. Этот день выдался на редкость тяжелым, я чувствовал себя совершенно разбитым и опасался, что в момент прощания не смогу совладать с собой. Человек, которому я двенадцать лет тому назад посвятил свою жизнь, выглядел дряхлым стариком. Я был растроган и одновременно пребывал в душевном смятении. Он же, напротив, вообще не испытывал ни малейшего волнения. Улыбка казалась приклеенной к лицу, слова были такими же холодными, как и его рука. «Вы уезжаете? Хорошо. До свидания». Ни просьбы передать привет семье, ни одного слова благодарности, ни пожелания
624
счастливого пути. На какой-то миг я не сдержался и начал уверять, что непременно еще раз приеду. Но он легко догадался, что я просто стесняюсь сказать правду, и небрежным жестом приказал мне удалиться.
Через десять минут я покинул апартаменты канцлера под гробовое молчание собравшихся там людей. На улицу я решил выйти через соседние помещения построенной мной рейхсканцелярии. Генератор вышел из строя, и я на прощание просто постоял несколько минут во внутреннем дворе, очертания которого с трудом различались на фоне ночного неба и о внутреннем убранстве которого я мог сейчас только догадываться. Царившая вокруг тишина создавала ощущение какого-то нереального, призрачного мира: так тихо обычно бывает только ночью и в горах. Замолк доносившийся сюда прежде даже в ночные часы шум большого города, и только время от времени вдали громыхали разрывы русских снарядов. Приступая несколько лет тому назад к строительству новой рейхсканцелярии, я мечтал, надеялся и строил планы на будущее. Разрушенным оказалось не только построенное мной здание, но и вся моя жизнь.
«Ну и как?» — спросил меня Позер. «Слава богу, мне не нужно изображать принца Макса Баденского», — со вздохом облегчения ответил я, ибо совершенно правильно истолковал поведение Гитлера в минуту прощания. Через шесть дней он в своем политическом завещании назначил моим преемником Заура.
На ведущей от Бранденбургских ворот широкой улице установили несколько красных фонарей, наспех сформированные рабочие отряды быстро очистили ее от завалов, засыпали воронки и таким образом превратили во взлетно-посадочную полосу. Наш «шторх» плавно взмыл в воздух; с правой стороны мелькнула длинная тень: Колонна победы.
Мы счастливо избежали встречи с самолетами противника. Сверху было хорошо видно множество охвативших Берлин и его окрестности пожаров, озаренные вспышками жерла орудий, похожие на светлячки сигнальные ракеты; тем не менее следует признать, что массированный воздушный налет на столицу рейха представлял собой гораздо более кошмарное зрелище. «Шторх» устремится туда, где пока еще царил мрак и можно было проскочить среди
21 А. Шпеер
625
вспышек разрывов. Уже светало, когда мы наконец добрались до Рехлина.
Я приказал подготовить к взлету истребитель и доставить на нем наместнику Гитлера в Праге Карлу Герману Франку приказ о незамедлительной отправке к американцам директоров заводов «Шкоды» — дальнейшая судьба этого документа мне неизвестна. Чтобы не встречаться на подлете к Гамбургу с беспрепятственно барражировавшими в воздухе английскими истребителями, я решил подождать до вечера и случайно узнал, что Гиммлер находится сейчас в расположенной всего лишь в сорока километрах отсюда той самой больнице, в которой я год назад оказался при довольно странных обстоятельствах. Наш «шторх» приземлился неподалеку от нее на лугу. Гиммлер был очень удивлен моим внезапным появлением.
Принял он меня в палате, в которой я когда-то лежал, да еще в присутствии профессора Гебхардта, что делало ситуацию совершенно абсурдной. Как обычно, Гиммлер, демонстрируя подчеркнуто товарищеское отношение к собеседнику, уходил от любого откровенного разговора. Прежде всего его интересовали мои впечатления от битвы за Берлин. Рейхсфюрер, безусловно, уже слышал об изданном Гитлером указе о смещении Геринга со всех постов, но, когда я рассказал ему о якобы добровольной его отставке, он сделал вид, будто его это вообще не волнует. «Геринг станет его преемником. Я уже давно договорился с ним, и он обещал мне пост премьер-министра. Для того чтобы сделать его главой государства, мне вовсе не требуется согласие Гитлера... Вы ведь хорошо знаете рейхсмаршала». Тут он понимающе улыбнулся и без всякого стеснения заявил: «Я, естественно, буду играть решающую роль. Я уже подобрал кандидатуры для моего кабинета министров. На сегодня у меня назначена встреча с Кейтелем...» Вероятно, Гиммлер предполагал, что я приехал к нему выпрашивать для себя новую должность.
Он окончательно утратил чувство реальности и жил в мире иллюзий и фантазий. «Без меня у европейских государств нет будущего, — безапелляционно заявил он. — Им придется примириться с моим пребыванием на посту министра полиции ради соблюдения порядка и спокойствия. Час переговоров с Эйзенхауэром — и он также
626
присоединится к их мнению! Они целиком зависят от меня — иначе на континенте воцарится полнейший хаос». Он рассказал о своих встречах с графом Бернадоттом, в ходе которых была, оказывается, достигнута договоренность о передаче концлагерей под эгиду Международного Красного Креста. Теперь я понял причину появления несколькими днями ранее в Заксенвальде близ Гамбурга огромной колонны автомобилей с эмблемами этой организации. Если прежде в высших эшелонах власти всерьез намеревались накануне поражения уничтожить всех политических заключенных, то сейчас Гиммлер по собственному почину пытался договориться об их судьбе с державами-победи- тельницами. Гитлер же, судя по нашей последней беседе, потерял всякий интерес к этой проблеме.
В конце разговора Гиммлер намекнул, что у меня пока еще есть шанс войти в состав его правительства. Я с изрядной долей сарказма в голосе предложил ему нанести прощальный визит Гитлеру и обещал предоставить в его распоряжение свой самолет. Но Гиммлер отказался, сославшись на нехватку времени. Никакие уговоры на него не действовали: «Теперь я обязан заняться формированием кабинета министров, и потом, я отвечаю за будущее Германии и не могу рисковать жизнью». Тут адъютант доложил о прибытии Кейтеля, и нам пришлось прервать беседу. Мы прошли в соседнюю палату, и там фельдмаршал в моем присутствии с таким же непреклонным видом, с каким он еще совсем недавно твердым командирским голосом с пафосом заверял Гитлера в своей неизменной преданности, теперь заявил Гиммлеру о своей готовности беспрекословно выполнять его указания. Вечером я снова прибыл в Гамбург. Гаулейтер сразу же предложил немедленно, то есть еще до официального объявления о смерти Гитлера, передать мою речь по радио. Но при мысли о трагедии, разыгравшейся в эти дни и часы в бункере под рейхсканцелярией, у меня пропало всякое желание заниматься подпольной деятельностью. Гитлеру еще раз удалось парализовать мою волю. Для себя и отчасти для других я обосновал столь резкую перемену в своих взглядах тем, что было бы неверно и бессмысленно предвосхищать очевидный исход этой трагедии.
21*
627
Я простился с Кауфманом и отправился в Шлезвиг- Гольштейн. Мы временно поселились в стоявших на берегу Эйтинского озера жилых фургонах. Иногда я навещал Дёница и знакомых офицеров Генерального штаба, которые, подобно мне, оказались обречены на вынужденное безделье и точно так же с нетерпением ожидали дальнейшего развития событий. Так 1 мая я оказался рядом с Дёницем в тот момент, когда назначенному преемником Гитлера гросс-адмиралу принесли радиограмму, существенно ограничивавшую его полномочия. Гитлер фактически связал руки новому рейхспрезиденту, заранее определив состав кабинета министров: рейхсканцлером был назначен Геббельс, министром иностранных дел — Зейсс-Инкварт, министром по делам партии — Борман, который одновременно заявил о своем прибытии в ближайшее время в ставку Дёница.
«Да такое просто в голове не укладывается! — Дёниц никак не мог прийти в себя от возмущения. — Кто-нибудь видел радиограмму?» Его адъютант Людде-Нейрат заявил, что по дороге из радиоузла никуда не заходил. Тогда Дёниц приказал обязать дежурного радиста никому ничего не говорить об этом сообщении, а саму радиограмму спрятать в сейф. «А что мы будем делать, если Борман и Геббельс действительно прибудут сюда? — спросил гросс-адмирал и не терпящим возражений тоном сказал: — Я не желаю иметь с ними ничего общего». В тот вечер мы пришли к выводу, что Бормана и Геббельса нужно под каким-нибудь предлогом арестовать.
Так Гитлер вынудил своего преемника уже при вступлении в должность совершить служебное преступление. Сокрытие официального документа оказалось последним звеном в длинной цепи лжи, предательств и интриг: Гиммлер, стремившийся установить контакты с представителями западных держав и тем самым предавший своего фюрера; Борман, обманувший Гитлера ради смещения Геринга со всех занимаемых им постов; Геринг, вознамерившийся за спиной Гитлера договориться с союзниками; Кауфман, вступивший в переговоры с командованием английских войск и готовый предоставить в мое распоряжение свою радиостанцию; Кейтель, еще при жизни Гитлера пытавшийся заручиться поддержкой одного из его предполагаемых преемников, и, наконец, я сам, в эти месяцы всячески
628
обманывавший своего благодетеля и покровителя и одно время даже замышлявший его убийство. Нас заставил так действовать не только режим, который мы же и олицетворяли, но и лично Гитлер, который опять же предал нас, себя самого и свой народ. Таков был конец Третьего рейха.
О смерти Гитлера было объявлено 1 мая, и вечером того же дня я собирался лечь спать в одном из маленьких и тесных помещений в штаб-квартире Дёница. В чемодане я неожиданно обнаружил красный кожаный футляр с фотографией Гитлера и вспомнил, что до сих пор так и не открыл его. Моя секретарша дала его мне с собой в дорогу. И тут я окончательно потерял самообладание. Как только я поставил фотографию на стол, у меня началась настоящая истерика. Моя связь с Гитлером окончательно порвалась, он утратил власть надо мной, и чары его развеялись. Остались только навсегда запечатленные в моей памяти заваленные трупами поля сражений, разрушенные города, миллионы скорбящих людей, концлагеря. Постепенно мне удалось забыться и кое-как заснуть.
Через две недели под впечатлением хлынувших на нас потоком разоблачений преступлений, творившихся в концлагерях, я писал новому главе правительства графу Шверин- Крозигку: «За тяжкую участь, ожидающую немецкий народ, всю полноту ответственности несет его прежнее руководство. Однако каждый, кто занимал хоть какой-нибудь руководящий пост в прежних структурах власти, должен взять на себя определенную долю вины, чтобы хоть как-то облегчить судьбу своего народа».
Именно тогда начался совершенно новый период в моей жизни, который длится и поныне.
эпилог
зз
Плен
Новый рейхспрезидент Карл Дёниц, возможно, в еще большей степени, чем все мы, был подвержен влиянию национал-социалистической идеологии. Двенадцать лет мы верно служили этому режиму и теперь полагали, что было бы просто неприлично резко порывать с ним. К тому же вызванные известием о смерти Гитлера горестные ощущения какое-то время не позволяли трезво оценить ситуацию. Но в итоге присущая кадровому военному моряку деловитость возобладала над эмоциями, и Дёниц сразу же стал придерживаться той точки зрения, что мы должны как можно скорее закончить войну и на этом завершить свою деятельность.
Еще 1 мая Дёниц, принявший на себя обязанности нового верховного главнокомандующего вермахтом, провел совещание с фельдмаршалом Эрнстом Бушем. Последний намеревался атаковать наступавшие на Гамбург и обладавшие значительным превосходством в силах английские войска, но Дёниц потребовал воздержаться от любых активных боевых действий. Он заявил, что немецкие воинские части должны сражаться на Западном фронте лишь до тех пор, пока скопившиеся под Любеком толпы беженцев из восточных районов не окажутся в северо-западной части Германии. Изрядно разволновавшийся Буш даже обвинил гросс-адмирала в стремлении слепо следовать указаниям Гитлера. Но на Дёница такие аргументы больше не действовали. Он твердо отстаивал свою точку зрения и в конце концов сумел переубедить фельдмаршала.
Казалось, 30 апреля новому главе государства удалось уговорить Гиммлера не настаивать на предоставлении ему
630
одного из наиболее влиятельных министерских постов в его правительстве, однако уже на следующий день рейхсфюрер СС без предварительного уведомления внезапно прибыл в штаб-квартиру Дёница. Это произошло около полудня, и гросс-адмирал пригласил его и меня на обед, но вовсе не потому, что испытывал к Гиммлеру добрые чувства. Скорее даже наоборот: он вызывал у него сильную антипатию, но Дёниц полагал, что было бы просто невежливо отнестись с пренебрежением к рейхсфюреру СС, еще недавно считавшемуся одним из самых могущественных людей Германии. Гиммлер сообщил, что гаулейтер Кауфман собирается сдать Гамбург без боя и уже напечатаны листовки, призывающие население спокойно отнестись к вступлению в город английских войск. Дёниц был крайне возмущен этим обстоятельством: если каждый будет действовать сам по себе, то ему тогда вообще не имело смысла приступать к исполнению своих новых обязанностей. Я немедленно отправился в Гамбург.
Принявший нас в тщательно охраняемом вооруженной группой студентов здании земельного управления гаулейтер был не менее взволнован, чем Дёниц: оказывается, командир гарнизона получил приказ защищать Гамбург всеми имеющимися в его распоряжении средствами, а командование английских войск предъявило ультиматум, угрожая подвергнуть город наибольшему за эти годы массированному воздушному налету. «Может, мне, — срывающимся от волнения голосом продолжал Кауфман, — следовало поступить подобно гаулейтеру Бремена, который призвал жителей стоять до последнего, а сам тайком сбежал? В результате город был очень сильно разрушен». По словам Кауфмана, он твердо решил не допустить никаких боев за Гамбург, в крайнем случае мобилизовать население и начать разоружать солдат. По телефону я сообщил Дёницу, что здесь вот-вот может вспыхнуть мятеж. Гросс-адмирал попросил дать ему время на раздумье и примерно через час отдал приказ о капитуляции Гамбургского гарнизона.
Еще 21 апреля во время записи моей речи на гамбургской радиостанции Кауфман долго уговаривал меня вместе с ним добровольно сдаться в плен. Теперь он вновь вернулся к этому предложению, но я отверг его, как и разработанный ранее Вернером Баумбахом план бегства. Один из
631
наших наиболее прославленных военных летчиков предлагал мне и еще нескольким своим друзьям провести первые месяцы оккупации Германии на берегу одной из укромных бухт Гренландии. Мы должны были долететь туда на четырехмоторном гидроплане, базировавшемся на побережье Северной Норвегии и доставлявшем продукты на одну из расположенных в Гренландии метеостанций. Уже были сложены в ящики книги, лекарства, письменные принадлежности, кипы чистой бумаги (я собирался сразу же приступить к написанию мемуаров), револьверы, моя разборная байдарка, лыжи, палатки, ручные гранаты для глушения рыбы и съестные припасы. С тех пор как на экраны вышел фильм с участием Удета «503! Айсберг», Гренландия сделалась одним из моих излюбленных мест отдыха. Но как только Дёниц взял в свои руки бразды правления, я отказался также и от этого плана, который удивительным образом создавал романтическое настроение и одновременно внушал мне страх.
На обочине ведущего в Эйтин шоссе валялись горящие автоцистерны и автомобили с насквозь прошитыми пулеметными очередями бортами. В небе кружили английские истребители. Ближе к Шлезвигу дорога оказалась забита машинами, принадлежавшими как вермахту, так и частным лицам. Вереница бредущих с понурым видом людей, среди которых было много солдат, тянулась вдоль шоссе. Меня сразу узнали, но никто не стал выказывать недовольства; беженцы вели себя довольно сдержанно, но по выражению их лиц было заметно, что они скорее сочувствовали мне.
Вечером 2 мая я прибыл в Плен и узнал, что Дёниц, не желая быть захваченным стремительно продвигавшимися вперед английскими войсками, поспешил перебраться во Фленсбург. Но зато я встретил здесь Кейтеля и Йодля, которые поспешили предложить свои услуги преемнику Гитлера. Дёниц и его окружение временно расположились на пассажирском судне «Патрия». После завтрака в капитанской каюте я протянул гросс-адмиралу указ о сохранении в целостности и сохранности мостов всех конструкций, и он без колебаний подписал его. Хоть и с большим опозданием, но я добился своего — ведь впервые я предъявил Гитлеру это требование 19 марта.
632
Дёниц также поддержал мое предложение выступить с обращением к населению уже занятых противником территорий и призвать его немедленно приступить к восстановлению экономики; я собирался призвать народ выйти из состояния апатии, «в которую он впал, ибо выпавшие на его долю в последние месяцы страдания парализовали его волю». Дёниц лишь потребовал, чтобы я отправился в отведенное под правительственную резиденцию здание военно-морского училища в Мюрвике близ Фленсбурга и согласовал текст речи с новым министром иностранных дел Шверин-Крозигком. Граф в целом одобрил его и только попросил вставить несколько тут же продиктованных им фраз, разъясняющих сущность правительственной политики. Мою речь транслировали две единственные оставшиеся в зоне вещания на пока еще контролируемой нами территории мощные радиостанции в Копенгагене и Осло.
При выходе из радиостудии я встретил Гиммлера. Он сразу же принялся с надменным видом доказывать мне, что гарантией нашей безопасности могут послужить все еще занимаемые немецкими войсками Норвегия и Дания. Они, дескать, представляют для противника такую ценность, что в обмен на согласие не производить в этой части Скандинавского полуострова никаких разрушений можно было б выторговать у него целый ряд уступок. Однако из моей речи можно сделать вывод, что мы собираемся просто так, безо всякой компенсации передать эти земли западным союзникам, и уже поэтому она нанесла весьма значительный ущерб. Кейтеля Гиммлер огорошил предложением назначить цензора, осуществляющего надзор над всеми официальными заявлениями правительства, и выразил готовность взять на себя выполнение этой задачи. С подобной инициативой в тот же день выступил наместник Гитлера в Норвегии Тербовен. Но Дёниц придерживался сходного со мной мнения и 6 мая подписал приказ, в котором категорически запретил уничтожать какие-либо объекты на пока еще занимаемых нами территориях — Чехословакии, Норвегии, Дании, а также в ряде районов Голландии.
Не менее решительно гросс-адмирал отверг план переезда правительства из Фленсбурга — который в любой момент мог быть захвачен английскими войсками — в Прагу.
633
Особенно туда влекло Гиммлера. Он уверял, что кабинет министров должен избрать местом своего пребывания именно древний имперский город, а не захолустный Фленс- бург. Гиммлер, правда, забыл упомянуть, что тогда бы мы оказались на территории, контролируемой не командованием военно-морского флота, а подчиненными ему войсками СС. Итог затянувшейся дискуссии подвел Дёниц. Он подчеркнул, что мы ни в коем случае не должны переносить свою деятельность за пределы Германии. «И пусть англичане забирают нас, если им так хочется».
В ответ на это Гиммлер потребовал от возглавившего теперь правительственный авиаотряд Баумбаха доставить его на самолете в Прагу. Баумбах и я решили высадить его на одном из вражеских аэродромов. Но Гиммлер по-прежнему располагал хорошо отлаженной агентурной сетью и су^ел разузнать о нашем замысле. «Еще неизвестно, куда меня доставит ваш самолет», — с нескрываемой злобой сказал он Баумбаху. Когда через несколько дней мы установили контакт с Монтгомери, Гиммлер вручил Йодлю письмо с просьбой передать его командующему 21-й группой англо- американских войск. По словам отвечавшего за связь с ней генерала Кинцля, в послании Гиммлер выражал готовность встретиться с фельдмаршалом, если тот гарантирует ему личную безопасность. Рейхсфюрер СС настаивал также, чтобы в плену с ним обращались как с военачальником, на том основании, что он одно время занимал пост командующего группой армий «Висла». Монтгомери, естественно, не получил этого послания, ибо Йодль сразу же уничтожил его. Он сам рассказал мне об этом в Нюрнберге.
Как и в любой критической ситуации, в эти дни многие показали свое истинное лицо. Так, гаулейтер Восточной Пруссии и рейхскомиссар Украины Кох по прибытии во Фленсбург потребовал предоставить в его распоряжение подводную лодку, чтобы уплыть на ней в Южную Америку. С аналогичным требованием к Дёницу обратился также гаулейтер Лозе. Гросс-адмирал в очень резкой форме отказал им. Розенберг, оказавшийся теперь самым высокопоставленным руководителем НСДАП, собирался распустить партию: кроме него, дескать, никто не вправе издать такой декрет. Через несколько дней его привезли в Мюрвик в бессознательном состоянии. Чуть придя в себя, он заявил,
634
что принял яд; позднее выяснилось, что рейхслейтер был попросту совершенно пьян.
Некоторые, однако, вели себя довольно достойно: многие наотрез отказались затеряться среди заполнивших Гольштейн толп беженцев. Так, Зейсс-Инкварт, хотя у побережья рыскали вражеские корабли, имел мужество приплыть ночью из Голландии на торпедном катере, чтобы обсудить ситуацию с Дёницем и мной. Он решительно отказался занять какой-либо пост в правительстве и предпочел вернуться обратно. «Мое место там, — с грустью сказал он. — По возвращении меня сразу же арестуют».
Через три дня после соглашения о прекращении огня в северо-западной части Германии, 7 мая, был подписан акт о безоговорочной капитуляции наших войск на всех фронтах, который в ночь с 8 на 9 мая был скреплен подписями Кейтеля и главнокомандующих тремя родами войск вермахта в здании бывшего военно-инженерного училища в Карлсхорсте, где разместился штаб 1-го Белорусского фронта. Кейтель с упоением рассказывал нам, что советские генералы, которых геббельсовская пропаганда представляла какими-то презирающими обычаи цивилизованных стран варварами, после этой торжественной церемонии пригласили немецкую делегацию на прием, поражавший воображение изобилием шампанского и икры. Кейтель явно не сознавал, что после совершения такого акта, означавшего крах рейха и отправку в плен миллионов немецких солдат, ему следовало просто утолить голод, но не прикасаться к шампанскому со стола победителя. Восторженный отзыв о русском великодушии свидетельствовал о полном отсутствии у Кейтеля чувства собственного достоинства и вкуса. Впрочем, это наглядно проявилось еще во время битвы под Сталинградом.
Английские войска сомкнули кольцо окружения вокруг Фленсбурга. Здесь образовался крошечный анклав, на территории которого наше правительство пока еще номинально обладало всей полнотой власти. На блокшиве «Пат- рия» разместилась «Союзная контрольная комиссия по делам ОКВ» под председательством генерал-майора Рукса, которая вскоре превратилась в некое представительство западных держав при правительстве Дёница. На мой взгляд,
635
его кабинет выполнил поставленную перед ним задачу и, подписав капитуляцию, завершил безнадежно проигранную войну. Поэтому 7 мая я предложил выступить с обращением, в котором бы подчеркивалось, что мы, хотя и лишены свободы действий, тем не менее готовы взять на себя выполнение новых задач: «Мы понимаем, что противник, невзирая на это, все равно привлечет нас и всех остальных руководителей национал-социалистического государства к ответственности за нашу прежнюю деятельность». Эту фразу я включил в текст воззвания, чтобы избежать превратных толкований наших намерений.
Но оказавшийся теперь во главе министерства внутренних дел статс-секретарь Штукарт разработал меморандум, где доказывал, что Дёниц, как законный глава государства, не должен добровольно отказываться от своей должности, дабы не ставить под сомнение правопреемственность будущих правительств рейха. Гросс-адмирал, ранее разделявший мою точку зрения, поддержал идею Штукарта, и его правительство еще целых две недели продолжало формально исполнять свои обязанности.
Прибыли первые английские и американские репортеры, и каждый из их репортажей пробуждал разного рода несбыточные надежды и иллюзии. Одновременно многие поспешили избавиться от эсэсовских мундиров, и за одну ночь Вегенер, Штукарт и Олендорф превратились в штатских лиц, а близкий друг Гиммлера — Гебхардт — щеголял в форме генерала медицинской службы и даже нацепил на руку повязку с красным крестом.
Поскольку правительству было уже, в общем, нечем заняться, оно усердно принялось создавать всевозможные властные структуры и уделять внимание исключительно проблемам самообеспечения. Так, Дёниц, подражая кайзеру, назначил глав военного (адмирал Вагнер) и гражданского (гаулейтер Вегенер) кабинетов. После долгих споров было решено, что к главе государства по-прежнему следует обращаться «гросс-адмирал»; была создана служба информации, и специально выделенный для этого человек целыми днями сидел у старого радиоприемника и слушал новости. Непонятно каким образом оказавшийся во Фленс- бурге ранее принадлежавший Гитлеру огромный «мерседес» теперь отвозил Дёница в его расположенную всего лишь
636
в пятистах метрах от «Патрии» квартиру. Объявился бывший ассистент личного фотографа Гитлера Генриха Гофмана, чтобы увековечить на своих снимках деятельность правительства; в связи с этим я с горечью заявил адъютанту Дёница, что трагедия превратилась в трагикомедию. Если до подписания капитуляции Дёниц действовал весьма разумно — и именно ему следует поставить в заслугу столь быстрое окончание войны, — то теперь он был сбит с толку совершенно непредсказуемым развитием событий. Двое членов нового кабинета министров, Бакке и Дорпмюллер, бесследно исчезли; по слухам, их доставили в штаб-квартиру Эйзенхауэра, чтобы обсудить меры по возрождению Германии. Фельдмаршал Кейтель, все еще занимавший пост начальника штаба верховного командования, был арестован — наше правительство не только не обладало реальной властью, на него попросту никто не обращал внимания.
Мы прекрасно понимали, что ничего не можем, и тем не менее составляли меморандумы неизвестно для кого. В отведенной под конференц-зал бывшей классной комнате регулярно проходили заседания кабинета министров, и создавалось ощущение, что Шверин-Крозигк твердо намерен наверстать упущенное, ибо все эти годы правительство фактически ни разу не собиралось на свои заседания. Стол был выкрашен масляной краской, в комнату принесли стулья со всего здания. На одно из заседаний исполняющий обязанности министра продовольствия как-то прихватил из своих запасов несколько бутылок водки. Мы достали стаканы и бокалы и принялись обсуждать такую важную проблему как реорганизация в духе времени кабинета министров. Разгорелась бурная дискуссия по поводу назначения министра по делам церкви. Одни предложили кандидатуру известного теолога, другие хотели назначить на этот пост Ни- мёллера — хотя бы у одного из министров должна была быть репутация, способная произвести соответствующее впечатление на союзников. Эти разговоры настроили меня на саркастический лад, и я внес предложение уступить места в правительстве лидерам социал-демократов и руководителям партии центра. Оно, правда, не встретило понимания. Неиссякаемые запасы министра продовольствия заметно оживили настроение. По моему мнению, мы попросту превратились в комических персонажей и напрочь
637
утратили серьезность и основательность, так выгодно отличавшие нас во время проходивших в этом здании переговоров о капитуляции.
15 мая я направил Шверин-Крозигку письмо с предложением включить в состав правительства лиц, пользующихся доверием союзников, и убрать из него тех, кто был слишком близок Гитлеру. К тому же «для нас было бы непозволительной роскошью поручать художнику заниматься проблемой погашения долгов, как, впрочем, прежде не следовало назначать виноторговца рейхсминистром иностранных дел». Я просил снять с меня обязанности министра экономики и промышленности. Ответа на свое послание я так и не получил.
После капитуляции во Фленсбург зачастили младшие офицеры американской и английской армий. Они довольно бесцеремонно расхаживали по нашей «правительственной резиденции». Как-то в середине мая в мой кабинет заглянул лейтенант американской армии. «Скажите, где сидит Шпеер?» — спросил он. Когда я представился, он заявил, что его командование собирает данные о последствиях нанесенных союзной авиацией бомбовых ударов. Я выразил готовность ответить на все вопросы.
Несколькими днями ранее герцог Гольштейнский предоставил в мое распоряжение расположенный в десяти километрах от Фленсбурга замок Глюксбург, который представлял собой построенную в XVI веке и окруженную со всех сторон водой крепость. В тот же день я встретился там с несколькими одетыми в штатское сотрудниками созданной при штабе Эйзенхауэра «Службы по изучению результатов действий стратегической бомбардировочной авиации США». Они были приблизительно одного возраста. Мы подробно обсудили особенности применявшейся обеими враждующими сторонами тактики воздушной войны, равно как и совершенные ими ошибки.
На следующее утро адъютант доложил мне, что к входу в замок в сопровождении группы офицеров подошел американский генерал. Часовые, направленные сюда командованием немецкой танковой группы, ловко взяли на караул, и в мою комнату вошел командующий входившим в состав 8-го воздушного флота соединением бомбардировочной
638
авиации Ф.Л.Андерсон. Теперь он в буквальном смысле слова находился под охраной немецких солдат. Генерал вежливо поблагодарил меня за готовность принять участие в дальнейшем обсуждении различных аспектов воздушной войны. Оно продолжалось еще три дня; 19 мая нас посетил президент вашингтонской организации «Экономик уор- фэйр» д’Олир в сопровождении своих сотрудников: Александера — он занимал должность его заместителя, доктора Гэлбрейта, Пола Нитце, Джорджа Болла, полковника Джилкриста и Уильямса. За время пребывания на посту министра вооружений я имел возможность убедиться, какую огромную роль играла эта служба в разработке военной стратегии США.
В течение всех этих дней в нашем своего рода «институте по изучению воздушной войны» отношение ко мне было самое дружелюбное, однако все изменилось, как только мировую печать обошло сообщение об устроенном генералом Паттоном в честь Геринга завтраке с шампанским. Но еще ранее Андерсон удостоил меня весьма своеобразным комплиментом. Ни прежде, ни позднее никто никогда не давал столь лестной оценки моей деятельности. Генерал сказал буквально следующее: «Если бы я заблаговременно узнал о достигнутых им успехах, то послал бы весь 8-й воздушный флот вбомбить его в землю». 8-й воздушный флот насчитывал свыше двух тысяч тяжелых бомбардировщиков, и мне оставалось лишь радоваться тому, что Андерсон чересчур поздно пришел к этому выводу.
Моя семья в это время находилась в сорока километрах от Глюксбурга. Терять мне было нечего, я знал, что рано или поздно меня арестуют, и поэтому выехал на автомобиле из Фленсбурга и благополучно пересек оккупированную зону, воспользовавшись беспечностью английских солдат. Они спокойно прогуливались по улицам, не обращая никакого внимания на мою машину. Стволы орудий, стоявших на перекрестках, были закутаны в белые чехлы. Я подъехал прямо ко входу в особняк, в котором разместилась моя семья, и мы от души радовались так удачно проделанному мной трюку. Но командование английских войск все-таки, видимо, что-то заподозрило. 21 мая меня заставили вернуться во Фленсбург и заперли в одном из помещений
639
здания, временно отведенного под штаб-квартиру английской разведки. Сидевший у дверей солдат держал на коленях автомат и не сводил с меня глаз. Отпустили меня только через несколько часов. Мой автомобиль бесследно исчез, и английским офицерам пришлось отвезти меня в Глюксбург на одной из своих машин.
Через два дня рано утром ко мне в комнату вбежал адъютант и, запыхавшись, сообщил, что подразделения английских войск окружили Глюксбург. Вошедший вслед за ним сержант объявил, что я арестован. Он отстегнул ремень с кобурой, вроде бы случайно положил его на стол и удалился, чтобы дать мне возможность собрать вещи. Затем меня на грузовике отвезли во Фленсбург. По дороге я обратил внимание на множество установленных на дальних подступах к замку противотанковых орудий. Тогда же со здания военно-морского училища был спущен имперский военный флаг. Обычно его поднимали каждое утро, и стремление сохранить именно этот атрибут прежней власти как нельзя лучше свидетельствовало о том, что правительство Дёница, несмотря на все усилия, так и не смогло порвать с прошлым. С самого начала мы с Дёницем полагали, что не следует менять флаг. Я считал, что мы не вправе заниматься преобразованием государственного устройства Германии. Ведь фленсбургский период был всего лишь завершающим этапом в истории Третьего рейха.
При нормальных обстоятельствах низвержение с вершин власти, наверное, повлекло бы за собой сильное душевное потрясение, но тогда, к своему удивлению, я не испытал особого волнения. В плену я довольно быстро освоился — сказалась, видимо, выработанная за двенадцать лет привычка к подчинению, — но ведь и в гитлеровском государстве в душе я никогда не ощущал себя свободным человеком. Зато, избавленный от бремени ответственности за последствия собственных решений, я вдруг почувствовал в первые месяцы сильную сонливость, мне было лень думать, и я едва мог скрыть это от окружающих.
Во Фленсбурге министры правительства Дёница встретились вновь. Мы сидели на расставленных вдоль стены скамейках в помещении, напоминавшем зал ожидания, и походили на ждавших отправки своего корабля эмигрантов,
640
поскольку в ногах у нас стояли чемоданы с нехитрым скарбом. Настроение было подавленным. Нас вызывали по одному в соседнее помещение для регистрации. В зависимости от склада характера по возвращении оттуда одни громко высказывали недовольство, другие молча переживали нанесенное оскорбление или пребывали в полнейшей растерянности. У меня же неприятная процедура личного досмотра вызвала только отвращение. Вероятно, нас так тщательно обыскивали потому, что чуть раньше Гиммлеру удалось покончить жизнь самоубийством: во рту у него была спрятана ампула с цианистым калием.
Дёница, Йодля и меня вывели в маленький двор, где нас просто поразило обилие торчавших из окон верхнего этажа автоматных стволов. Фоторепортеры и кинооператоры щелкали затворами и крутили ручки камер, а я попытался сделать вид, будто весь этот устроенный для прессы и кинохроники театр меня никак не касается. Наконец нас вместе с остальными товарищами по несчастью заставили забраться в кузов грузовика. Спереди и сзади ехали в общей сложности тридцать или даже сорок броневиков. Столько машин сопровождения мне еще ни разу не доводилось видеть — ведь обычно я ездил на своем автомобиле без всякой охраны. На аэродроме нас поджидали два двухмоторных транспортных самолета. Сидя на чемоданах и ящиках, мы производили довольно жалкое впечатление. Мы не знали, куда летим, и после стольких лет уверенного движения к вполне определенным целям теперь следовало приучить себя к мысли, что впереди — полнейшая неизвестность. За это время нам лишь дважды были ясны пункты конечного назначения: Нюрнберг и Шпандау.
Самолет пролетел над побережьем, а затем внизу долго тянулась бескрайняя водная гладь Северного моря — значит, Лондон? Но тут самолет повернул на юг, и мы поняли, что внизу территория Франции: только там могла быть такая природа и такие дома. Показался большой город, и уж не помню кто безапелляционно заявил, что это Реймс. Но это оказался Люксембург. Когда самолет приземлился, мы увидели выстроившихся в два ряда американских солдат с автоматами на изготовку. Мне сразу вспомнились сцены из гангстерских фильмов: ведь именно так в них доставляли в тюрьмы арестованных опасных преступников. Подъехала
641
колонна грузовиков; в кузове между нами уселись на деревянных скамьях солдаты, упираясь дулами автоматов в наши бока. Прохожие свистели нам вслед и выкрикивали ругательства. Так начался первый этап моего пребывания в плену.
Нас подвезли к огромному зданию, оказавшемуся отелем «Палас» в Мондорфе, и еще с улицы мы разглядели сквозь стеклянные двери нервно расхаживающих взад-вперед по холлу Геринга и других высших иерархов Третьего рейха: министров, фельдмаршалов, рейхслейтеров, статс-секретарей и генералов. Возникло ощущение, что ты оказался в музее призраков: все, кто накануне краха рейха рассеялись, словно пыль на ветру, вновь собрались здесь. Я старался держаться подальше от них и хотел лишь одного: в полной мере насладиться царившей здесь спокойной атмосферой. Лишь однажды я поинтересовался у Кессельринга, почему он даже после того, как связь с высшими командными инстанциями вермахта прекратилась, продолжал взрывать мосты. Как истинный солдафон, он заявил в ответ, что мосты следует разрушать до тех пор, пока продолжаются военные действия; как главнокомандующий, он несет ответственность только за безопасность своих солдат.
Вскоре начались раздоры, так как было непонятно, кто кому обязан подчиняться. Ранее преемником Гитлера был объявлен Геринг, но в последний момент главой государства был назначен Дёниц. Геринг, однако, был самым старшим по званию, ибо носил чин рейхсмаршала. Между новым главой государства и незадачливым преемником Гитлера втихомолку завязалась скрытая борьба: они начали выяснять, кто кого должен пропускать вперед в залах огромного, похожего на дворец отеля, кто возьмет на себя обязанности старшего за обеденным столом и кто вообще самый главный в нашей компании. Договориться им так и не удалось. Оба соперника теперь старательно избегали встреч друг с другом у дверей, а в ресторане каждый из них председательствовал за отдельным столом. Геринг особенно подчеркивал свое привилегированное положение. Когда Брандт как-то упомянул в разговоре, что лишился всего имущества, Геринг буквально рявкнул на него: «Не говорите ерунды! У вас нет оснований сетовать па судьбу. Что вы там имели? Вот я действительно понес огромные потери...»
642
Не прошло и двух недель, как я узнал, что меня собираются перевести в другое место; с этого момента американцы начали относиться ко мне чуть более уважительно. Мои товарищи по несчастью с чрезмерным оптимизмом восприняли это известие. Они истолковали его как поручение принять участие в возрождении Германии, ибо никак не могли примириться с мыслью, что оно произойдет без нас. Меня просили передать приветы родным и близким, у входа ждал теперь не грузовик, а лимузин, и сопровождающим был не вооруженный автоматом угрюмый сержант военной полиции, а любезно улыбающийся лейтенант.
Путь наш лежал в западном направлении. Автомобиль пересек Реймс и резво устремился прямо к Парижу. В центре французской столицы лейтенант вышел возле одного из административных зданий и вскоре вернулся оттуда с картой и новыми инструкциями. Он приказал ехать вверх по течению Сены, и я в смятении подумал, что меня решили поместить в Бастилию; я забыл, что ее давным-давно снесли. Лейтенант был явно встревожен, он внимательно разглядывал названия улиц, то и дело сверял наш маршрут с картой, и я с облегчением понял, что мы заблудились. Я вспомнил свои школьные познания английского языка и, чудовищно коверкая его, предложил свои услуги; лейтенант помедлил немного и, преодолев колебания, назвал конечную цель нашего путешествия: отель «Трианон-Палас» в Версале. Дорогу туда я хорошо знал, ведь именно там мне довелось провести несколько чудесных дней, когда я создавал проекты немецкого павильона для Всемирной выставки в Париже в 1937 году.
Роскошные автомобили на стоянке у входа и часовые в парадной форме свидетельствовали о том, что отель был предназначен для размещения штабов союзных войск, но уж никак не военнопленных; как выяснилось, здесь находилась штаб-квартира Эйзенхауэра. Лейтенант скрылся внутри отеля, а я получил возможность спокойно наблюдать за тем, как к подъезду один за другим подкатывали автомобили и из них неторопливо, с ощущением собственной значимости выходили генералы, явно занимавшие здесь весьма высокие посты. Должен признаться, что это зрелище доставило мне удовольствие. Прошло довольно много времени, пока сержант наконец проводил нас по аллее мимо
643
нескольких лужаек к миниатюрному замку с распахнутыми воротами.
В Шене я провел несколько недель. Меня поместили в маленькую, по-спартански — койка и стул — обставленную комнату; выходившие на задний двор окна были к тому же забраны колючей проволокой. У двери сразу же встал вооруженный часовой.
На следующий день я получил возможность восхититься также фронтоном замка. Окруженный со всех сторон вековыми деревьями и высокой стеной, он находился в глубине маленького парка, к которому примыкали строения Версальского замка. Изысканные статуи XVIII века создавали поистине идиллическую атмосферу. Прогулки продолжались обычно полчаса; за мной неизменно следовал солдат с автоматом. Было строжайше запрещено устанавливать с кем-либо контакты, но уже через несколько дней я располагал кое-какими сведениями об остальных арестованных. Здесь оказались сплошь ведущие технические специалисты и ученые, многие из которых работали ранее в системе сельского хозяйства и имперских железных дорог. Среди них был и бывший министр Дорпмюллер. Я узнал также знаменитого авиаконструктора, профессора Хейнкеля, и еще многих из тех, с кем мне довелось сотрудничать. Через неделю мой неизменный спутник неожиданно остался в отеле. Мне разрешили свободно передвигаться по этой территории. Окончился период одиночества, жизнь протекала теперь уже не так однообразно, и это положительно сказалось на моем душевном состоянии. Появились также новые люди: различные сотрудники моего административного аппарата, и среди них Фрэнк и Заур, а также желавшие пополнить свои знания офицеры технических служб английской и американской армий. Мы договорились поделиться с ними опытом, накопленным в области производства вооружений.
Правда, я лично вряд ли мог тут чем-либо помочь, ибо Заур располагал гораздо более подробными данными. Поэтому я от души был благодарен нашему коменданту, майору английских воздушно-десантных войск, когда он, решив немного скрасить мое пребывание здесь, пригласил меня совершить небольшую прогулку на автомобиле.
Мы заехали в поражавший своей красотой построенный королем Франциском I замок в Сен-Жермен-ан-Ле и уже
644
оттуда по берегу Сены направились в Париж. Вид «Кок- Гарди» — знаменитого ресторана в Боживале — пробудил во мне ностальгические воспоминания: столько чудесных вечеров провел я там в обществе Корто, Вламинка, Деспьо и других французских художников и скульпторов. Наконец мы добрались до Елисейских полей. Майор предложил прогуляться, но я побоялся, что меня могут узнать. Через площадь Согласия мы свернули в примыкавшие к набережной переулки. Народу здесь было немного, и мы отважились предпринять небольшую прогулку, а затем через Сен-Клу вернулись в Версаль.
Через несколько дней во двор замка въехал большой автобус, доставивший к нам своего рода туристическую группу. В ней, среди прочих, оказались Шахт и бывший начальник управления вооружений генерал Томас. Их, как и многих остальных ранее принадлежавших к политической и военной элите рейха заключенных немецких концлагерей, американские войска освободили в Южном Тироле. Какое-то время они провели на Капри, а затем их привезли в лагерь. По слухам, среди них был также Нимёл- лер; мы не знали его в лицо, но среди вновь прибывших оказался тщедушный седовласый человек в черном костюме. Хейнкель, конструктор Флеттнер и я были твердо убеждены в том, что это Нимёллер. Мы искренне сочувствовали человеку, лицо которого было отмечено печатью перенесенных страданий. Флеттнер уже собрался выразить ему от нашего имени симпатию, но едва он произнес первые слова, как услышал: «Тиссен! Моя фамилия Тиссен! А вон там стоит Нимёллер». Пастор выглядел очень моложаво, он сосредоточенно и неторопливо пускал клубы дыма из зажатой в зубах трубки, являя пример того, как следует стойко и мужественно на протяжении нескольких лет переносить тяготы пребывания в тюрьмах и концлагерях. Позднее я часто вспоминал его. Через несколько дней туристский автобус снова подъехал к отелю; с нами остались только Тиссен и Шахт.
После перевода ставки Эйзенхауэра во Франкфурт мы очень скоро удостоились чести лицезреть колонну из десяти американских военных грузовиков. Согласно тщательно разработанному плану нас посадили в кузова двух
645
грузовиков, а в остальные погрузили мебель. Когда мы проезжали через Париж, на каждом перекрестке собиралась выкрикивавшая ругань и угрозы толпа. Восточнее французской столицы мы устроили на лугу привал; конвоиры и пленные сидели бок о бок и со стороны представляли собой довольно мирное зрелище. Предполагалось в первый день доставить нас в Гейдельберг, и когда мы так и не добрались туда, я был очень этому рад: мне не хотелось располагаться на ночлег в тюрьме своего родного города.
На следующий день мы оказались в Мангейме. Город выглядел совершенно заброшенным: на улицах ни одного человека, разрушенные дома. И только несчастный солдат вермахта — заросшее щетиной лицо, изодранная в клочья форма, бумажный короб на спине — растерянно стоял на обочине, как бы символизируя собой поражение Германии. Близ Наугейма мы свернули с трассы, преодолели крутой подъем и въехали во двор замка Крансберг. В конце 1939 года я осуществил его реконструкцию, так как в пятидесяти километрах отсюда находилась тогда ставка Гитлера, и Геринг намеревался разместить в этих крепостных строениях свою штаб-квартиру. Для его многочисленной челяди был построен дополнительный двухэтажный флигель, в котором теперь помещались мы.
В отличие от Версаля, этот лагерь не был окружен колючей проволокой, из окон верхнего этажа флигеля можно было преспокойно разглядывать окрестности, и даже изготовленные по моему эскизу окованные железом ворота всегда были открыты. Мы могли свободно разгуливать по территории замка, в верхней части которой я когда-то посадил фруктовые деревья и окружил их высокой стеной. Здесь мы обычно располагались на отдых; за заросшими лесами склонами горы Таунус глубоко внизу виднелась деревушка Крансберг, и дымящиеся трубы ее домов действовали на нас успокаивающе.
По сравнению с нашими голодающими земляками мы вели неподобающе роскошный образ жизни, поскольку получали продовольственные пайки со складов американской армии. Однако деревенские жители рассказывали о нашем лагере какие-то жуткие истории. Якобы нас там избивали, почти не кормили, и ходили упорные слухи, что в темнице одной из башен томится Лени Рифеншталь. Собственно
646
говоря, нас доставили в этот замок, чтобы обсудить целый ряд сугубо технических проблем. Здесь оказались не только специалисты, но чуть ли не все руководство моего министерства: почти все начальники управлений и руководители комитетов по производству боеприпасов и танков, по автомобильной, судостроительной, текстильной и химической промышленности, а также профессор Порше и многие другие известные конструкторы. Но крайне редко к нам забредал какой-нибудь любознательный офицер или представитель спецслужб. Заключенные были этим крайне недовольны, ибо надеялись, что после допросов довольно быстро окажутся на свободе. Несколько дней провел здесь также Вернер фон Браун со своими сотрудниками; по их словам, они уже получили предложения из Англии и США, и даже русским удалось проникнуть в тщательно охраняемый лагерь в Гармише и там связаться с ними через работавших на кухне людей. В остальном же мы, чтобы совсем не околеть от скуки, регулярно делали утреннюю гимнастику, проводили своего рода дискуссии, и Шахт как-то поразил нас всех, прочитав сочиненное им лирическое стихотворение. Каждую неделю мы даже устраивали своего рода кабаре. В импровизированных сценах постоянно обыгрывалось наше пребывание здесь, и иногда только смех удерживал нас от слез.
Как-то около шести часов утра меня разбудил один из моих бывших сотрудников: «По радио передали, что вы и Шахт включены в список обвиняемых на Нюрнбергском процессе». Я был настолько потрясен этим, что с трудом сохранил самообладание. И хотя я, в сущности, полагал, что как один из наиболее видных деятелей нацистского режима должен нести ответственность за совершенные им преступления, в душе все же не верил, что такое в действительности может со мной произойти. Еще несколько недель тому назад я с тревогой рассматривал опубликованные в одной из газет фотографии камер нюрнбергской тюрьмы и читал сообщение о том, что туда уже доставлены несколько членов кабинета министров. И если Шахту довольно скоро пришлось сменить наш отличавшийся сравнительно мягким режимом лагерь на нюрнбергскую тюрьму, меня отсюда забрали почти через месяц.
647
Несмотря на то что против меня были выдвинуты весьма тяжкие обвинения, караульный персонал по-прежнему был настроен довольно дружелюбно. Американцы даже попытались утешить меня: «Вас вскоре оправдают, и вы напрочь забудете всю эту историю». Сержант Уильямс заявил, что к началу судебного процесса нужно накопить силы, и немедленно увеличил мне норму выдачи продовольствия, а исполнявший обязанности коменданта лагеря полковник английской армии еще в тот же день пригласил меня отправиться на прогулку на его автомобиле. Мы проехали по окрестным лесам, посидели под развесистым плодовым деревом, немного побродили вокруг замка, и он рассказал мне об охоте на медведей в Кашмире.
Но миновали чудесные сентябрьские дни, и в конце месяца в ворота въехал джип с опознавательными знаками американской армии. Сперва комендант наотрез отказался выдать своего подопечного и даже связался по телефону с Франкфуртом. Уильямс до отказа набил мой чемодан продуктами и то и дело спрашивал, не нужно ли мне еще чего-нибудь. Когда я наконец сел в машину, охрана и заключенные чуть ли не в полном составе выстроились во дворе замка. Все пожелали мне доброго здоровья и удачного исхода судебного процесса. И только полковник молча простился со мной. Я никогда не забуду его добрые и в тот момент очень испуганные глаза.
34
Нюрнберг
Вечером меня доставили в пресловутый фильтрационный лагерь Оберурзель неподалеку от Франкфурта, где дежурный сержант сразу же с издевкой отпустил в мой адрес несколько глупых шуток. Затем меня накормили водянистой похлебкой. Я заел ее кексом из выданных мне Уильямсом припасов и, слушая всю ночь перекличку стоявших на часах американских солдат, с тоской вспоминал прекрасный замок Крансберг; утром мимо под конвоем провели немецкого генерала с изможденным лицом, на котором застыла гримаса отчаяния.
648
Дальше нас везли на грузовике с обтянутым брезентом кузовом. Мы сидели в невероятной тесноте, плотно прижавшись друг к другу, и я узнал обер-бургомистра Штутгарта доктора Штрёлина и бывшего регента Венгрии Хорти. И хотя нам никто ничего не сообщил, мы уже твердо знали, что едем в Нюрнберг. Только в сумерках мы прибыли к месту назначения. Ворота тюрьмы были открыты, меня провели по коридору — знакомому мне по фотографиям, опубликованным пару недель тому назад в одной из газет, — и я даже оглянуться не успел, как оказался запертым в камере. В окошке расположенной на другой стороне коридора камеры показалось лицо Геринга. Он кивнул мне. Я огляделся: набитый соломой матрас, старое, истрепанное, грязное одеяло и вокруг ни одного человека, который бы хоть как-то мог посочувствовать тебе. Камеры на всех четырех этажах были переполнены, однако повсюду царила тревожная тишина, изредка прерываемая лязгом замков. Это означало, что одного из заключенных повели на допрос. Геринг непрерывно расхаживал взад-вперед в своей камере, и в смотровом окошке постоянно мелькало его тучное тело. Вскоре я тоже начал расхаживать по камере: сперва туда-обратно, а потом еще и по кругу.
Примерно неделю я пребывал в полнейшем неведении относительно своей дальнейшей судьбы, а затем произошла перемена, которую человек в обычных условиях просто бы никогда не оценил, но которая тогда имела для меня колоссальное значение: меня перевели на третий этаж и поместили на солнечной стороне. Камеры здесь отличались определенным комфортом: в частности, имелись относительно удобные кровати. Вскоре меня впервые посетил начальник тюрьмы, полковник американской армии Эндрюс: «Очень рад вас видеть здесь». Ранее он был начальником лагеря в Мондорфе и уже там настаивал на соблюдении строжайшего режима. Поэтому я решил, что он попросту издевается надо мной.
Но зато какой радостной оказалась встреча с подсобным немецким персоналом! Поваров, разносчиков еды и парикмахеров тщательнейшим образом отобрали из числа военнопленных. Но именно потому, что им довелось перенести в плену муки и страдания, они в отсутствие надзирателей немедленно выражали готовность хоть чем-нибудь помочь нам. Они неназойливо сообщали иногда об опубликованных
649
в газетах новостях, высказывали добрые пожелания и стремились хоть как-нибудь подбодрить нас.
Когда я опускал верхнюю часть окна камеры, то в погожие дни принимал даже эдакие солнечные ванны. Я расстилал на полу одеяло и подставлял тело лучам солнца. В камере горела лишь тусклая лампочка, я был лишен книг, газет и журналов и был вынужден без всякой посторонней помощи справляться с душевными муками.
Часто мимо моей камеры проводили Заукеля. Стоило ему заметить меня, как на его лице появлялось мрачное и одновременно смущенное выражение. Наконец дверь камеры распахнулась, и на пороге появился американский солдат с листком бумаги, на котором были указаны моя фамилия и номер кабинета следователя. Через дворы по боковым лестницам меня провели во Дворец юстиции. По дороге нам встретился возвращающийся с допроса Функ, у которого был очень подавленный вид. Последний раз мы виделись с ним в Берлине и были тогда еще свободными людьми. «Вот мы и опять встретились!» — проходя мимо, выкрикнул он. Глядя на его рубашку с грязным распахнутым воротом, мятый костюм и мертвецки бледное лицо, я подумал, что, наверное, произвожу такое же жалкое впечатление. Ведь я вот уже несколько недель не имел возможности посмотреться в зеркало и теперь, вероятно, много лет уже не буду ее иметь. Я видел также Кейтеля, стоявшего в одном из кабинетов навытяжку перед американскими офицерами, и был потрясен его жалким видом.
Молодой американский офицер любезным тоном предложил мне сесть и начал задавать вопросы. Очевидно, Зау- кель попытался ввести следственные органы в заблуждение и возложить на меня всю ответственность за использование подневольного труда иностранных рабочих. Следователь был настроен довольно благожелательно и лично составил текст даваемого под присягой заявления, в котором расставил все по своим местам. Я облегченно вздохнул, так как после отъезда из Мондорфа убедился, что многие заключенные неукоснительно придерживались принципа «компрометируй отсутствующих» и сумели в значительной степени испортить мою репутацию.
650
Затем меня провели к заместителю главного обвинителя от США Додду. Он вел себя крайне агрессивно, и в результате, как говорится, нашла коса на камень. Я старался держаться мужественно, не уклоняться от ответов и не думал о возможных последствиях, хотя, наверное, следовало уже тогда разработать тактику защиты. Напротив, я ни словом не упомянул о ситуациях, которые могли бы представить меня в выгодном свете. В камере я сказал себе: «Вот ты и попал в ловушку»; и, действительно, мои высказывания составили большую часть выдвинутых против меня позднее обвинений.
Но одновременно допрос послужил для меня хорошим стимулом; я до сих пор считаю, что действовал совершенно правильно и не щадил себя. Со страхом и все-таки с намерением и дальше придерживаться той же линии я ждал следующего допроса. Однако больше меня никуда не вызывали. Я так и не понял почему — возможно, на них сильное впечатление произвела моя откровенность. Меня лишь несколько раз допрашивали советские офицеры, которых сопровождала секретарша с ярко накрашенными губами и обилием косметики на лице. Они вели себя очень корректно и сумели довольно сильно поколебать мое сформировавшееся во многом под воздействием нацистской пропаганды мировоззрение. Возглавлявший группу советских следователей полковник как-то спросил меня: «Но ведь вы читали “Майн кампф”?» Я же только бегло пролистал эту книгу; во-первых, потому, что сам Гитлер объявил многие содержавшиеся в ней положения и выводы устаревшими, а во-вторых, читать ее было безумно тяжело. Я покачал головой, чем доставил ему явное наслаждение. Тогда я, раздосадованный, объявил, что читал это сочинение Гитлера. На процессе моя ложь имела неожиданные последствия. Во время перекрестного допроса советский обвинитель процитировал мое высказывание, и мне под присягой пришлось заявить, что тогда я сказал неправду.
В конце октября всех обвиняемых собрали на нижнем этаже и одновременно вывезли из здания остальных заключенных. От наступившей тишины на душе было особенно тяжело. Двадцать один человек ждал начала процесса.
651
Наконец из Англии доставили Рудольфа Гесса; одетый в сизого цвета шинель, он шел по коридору в сопровождении двух скованных с ним наручниками американских солдат. На лице его было отсутствующее и вместе с тем упрямое выражение. Я привык видеть всех обвиняемых одетыми прежде в роскошные мундиры, расхаживающими с неприступным видом или, наоборот, ведущими себя довольно развязно. Поэтому мне как-то не верилось в происшедшие с ними столь разительные перемены и иной раз даже казалось, что все происходящее вокруг мне только снится.
Тем не менее мы уже привыкли к тюремным порядкам. Никто из нас, будь он рейхсмаршал, фельдмаршал, гросс- адмирал, министр или рейхслейтер, вряд ли когда-либо мог предположить, что американские военные психологи будут проверять его интеллект с помощью специального теста. Но никто из нас не выразил протеста — напротив, все как один старались продемонстрировать выдающиеся умственные способности.
Ко всеобщему удивлению, победителем при прохождении теста, включавшего проверку памяти, реакции и фантазии, оказался Шахт. Оказывается, в зависимости от возраста начислялись дополнительные очки. Никто также не ожидал, что блестящие результаты покажет Зейсс-Инкварт. Среди тех, кто занял первые места, оказался и Геринг; я же, как выяснилось, обладал довольно средними способностями.
Через несколько дней царившую в нашем корпусе кладбищенскую тишину нарушил приезд комиссии, состоявшей из нескольких офицеров. Сперва из коридора донеслись чьи-то неразборчивые высказывания, затем дверь камеры распахнулась, и мне без долгих разговоров вручили напечатанное на машинке обвинительное заключение. Итак, предварительное следствие закончилось, и вот-вот должен был начаться судебный процесс. По своей наивности я полагал, что каждому из нас вменят в вину им конкретно совершенные преступные деяния. Но оказалось, нас скопом обвинили во всех чудовищных преступлениях, перечисленных в этом документе. Меня охватило чувство полнейшей безысходности. Но, даже впав в отчаяние, я продолжал разрабатывать линию поведения на предстоящем процессе. Я твердо решил не заботиться о своей дальнейшей судьбе,
652
не пытаться спасти жизнь, но взять на себя всю ответственность. И хотя мой адвокат и члены Международного трибунала определенным образом противостояли мне, на протяжении всего процесса я твердо придерживался своей линии.
Впечатление от обвинительного заключения сказалось в следующих написанных жене строках: «Приходится признать, что жизнь моя кончилась. Только после этого признания я смогу завершить ее так, как считаю нужным... Я намерен предстать перед судом именно как рейхсминистр, а не как частное лицо. И поэтому не вправе считаться с вами и думать о себе. У меня есть только одно желание: до конца придерживаться этой линии. Надеюсь, у меня хватит сил. Как ни странно это звучит, но, как только я оставил все надежды, настроение у меня сразу улучшилось. Зато когда я думал, что у меня есть хоть какой-то шанс спастись, то сразу чувствовал себя крайне неуверенно и с тревогой ждал начала процесса... Может быть, я тем самым помогу немецкому народу. Поверь, далеко не все здесь способны вести себя как я», — письмо жене от 17 октября 1945 года.
Об этом же я писал ей 15 декабря 1945 года: «Я обязан предстать перед этим трибуналом. Учитывая судьбу немецкого народа, забота о собственной семье неуместна». В марте 1946 года: «Я не могу прибегнуть к дешевым способам защиты. Я верю, ты поймешь, потому что в конце концов ты и дети будете испытывать чувство стыда, если я забуду о том, что миллионы немцев погибли, сражаясь за ложные идеалы». Письмо родителям от 5 апреля 1946 года: «Не утешайте себя мыслью, что я буду отчаянно сражаться за себя. Нужно признать свою ответственность и не предаваться иллюзиям».
Тогда же тюремный психолог Г.М.Джильберт с экземпляром обвинительного заключения в руках обходил камеры с целью выявления мнений заключенных. Многие с издевкой отозвались о предъявленных им обвинениях или дали довольно уклончивые ответы, я же, к его удивлению, написал: «Процесс необходим. Даже в авторитарном государстве должна существовать коллективная ответственность за такие страшные преступления».
653
На протяжении десяти месяцев я последовательно придерживался этой позиции. Я и поныне считаю, что никогда в жизни мне не пришлось проявить столько мужества и стойкости.
Вместе с обвинительным заключением нам передали длинный список немецких адвокатов, по которому каждый мог выбрать себе защитника или предложить свою кандидатуру. Как я ни напрягал память, но никого так и не вспомнил. Приведенные в списке фамилии адвокатов были мне незнакомы, и я попросил суд по собственному усмотрению выбрать мне защитника. Через несколько дней меня отвели в один из размещавшихся в полуподвальном этаже Дворца юстиции кабинетов. Из-за стола встал тщедушный человек в очках в массивной оправе и тихим голосом сказал: «Если вы не против, вашим адвокатом буду я. Позвольте представиться: доктор Ганс Флекснер из Берлина». Он держался приветливо и совершенно не пытался придать себе важный вид. Мы подробно обсудили обвинительное заключение, и он сразу же произвел на меня очень приятное впечатление благодаря своей естественной манере поведения. В конце беседы он вручил мне формуляр: «Возьмите с собой и на досуге подумайте, устраиваю ли я вас». Я тут же поставил свою подпись и в дальнейшем не раскаялся. Флекснер проявил себя как весьма осмотрительный, прекрасно чувствующий ситуацию адвокат. Но для меня гораздо большее значение имел тот факт, что он искренне сочувствовал мне; за десять месяцев мы прониклись друг к другу симпатией и до сих пор поддерживаем достаточно близкие отношения.
Во время предварительного расследования следственные органы всячески препятствовали общению заключенных между собой. Теперь же режим был ослаблен, и мы не только чаще выходили в тюремный двор, но и могли сколько угодно разговаривать друг с другом. Обсуждались одни и те же темы: предстоящий процесс, обвинительный акт, неправомочность Международного трибунала, попрание чести и достоинства заключенных, — возмущенные голоса сливались воедино, а приводимые аргументы были исключительно однообразны. Среди двадцати одного обвиняемого я обнаружил лишь одного единомышленника, с которым можно было обстоятельно поговорить о принципе ответственности. Это был Фриче. Позднее к моей позиции
654
с определенным пониманием отнесся Зейсс-Инкварт. С остальными же было совершенно бесполезно вступать в дискуссию. Мы говорили на разных языках.
По другим вопросам мы также придерживались противоположных точек зрения. Особенно важной нам представлялась проблема, связанная с характеристикой диктатуры Гитлера на процессе. Так, Геринг, ранее довольно критически относившийся к некоторым акциям нацистского режима, требовал, чтобы мы перед судом оправдывали любые его деяния. Без всякого стеснения он утверждал, что смысл этого заключается лишь в создании мифа, позволяющего представить нацистское государство в наиболее выгодном свете. Я же считал, что пора перестать лгать немецкому народу и помочь ему начать новую жизнь. Только правда могла способствовать полному разрыву с прошлым.
Как-то Геринг довольно откровенно заявил, что победители могут убить его, но уже через пятьдесят лет бренные останки рейхсмаршала окажутся в мраморном саркофаге и немецкий народ будет чествовать его как национального героя и мученика. Тем самым он раскрыл истинные побудительные мотивы своего поведения. Правда, многие заключенные полагали, что их ждет такая же участь. В целом же Геринг был настроен довольно мрачно и неоднократно говорил, что все мы обречены на смерть и у нас нет никаких шансов спастись. Поэтому, дескать, нечего даже пытаться защищать себя. По этому поводу я даже с иронией заметил: «Геринг намерен попасть в Валгаллу с огромной свитой». На самом же деле именно он наиболее яростно опровергал выдвинутые против него обвинения.
С тех пор как Геринг прошел курс лечения в Мондорфе и Нюрнберге и его излечили от наркомании, он проявил качества, каких я от него не ожидал. Энергия в нем буквально била ключом, и из всех обвиняемых он производил, пожалуй, наиболее яркое впечатление. Я очень сожалел, что он не был таким незадолго до начала войны и на различных ее наиболее напряженных этапах — ведь тогда привычка употреблять наркотики ослабила его волю и он не находил в себе сил возражать Гитлеру. А ведь никто, кроме Геринга, не обладал таким авторитетом и такой популярностью, и Гитлеру неизбежно пришлось бы считаться с его мнением. Он действительно был одним из тех немногих,
655
кто обладал здравым умом и предвидел роковые последствия многих решений Гитлера. Однако Геринг упустил свой шанс и теперь, вопреки всякому смыслу, использовал вновь обретенную энергию в преступных целях: он собирался ввести в заблуждение собственный народ. Во время одной из прогулок он узнал, что кое-кто из венгерских евреев уцелел, и равнодушно заметил: «Вот как, там еще кто-то остался? А я думал, что мы их всех на тот свет отправили». Такого цинизма я даже от него не ожидал.
Решение взять на себя всю ответственность за совершенные нацистским режимом преступления вызвало во мне сильное душевное волнение. Подчас мне даже приходила мысль добровольно уйти из жизни, ибо это была единственная возможность избежать предстоящих суровых испытаний. Ночами я иногда попросту впадал в отчаяние. Однажды я даже попытался туго перемотать больную ногу полотенцем и вызвать венозное воспаление. В Крансберге один из ученых-химиков рассказал нам, что если раскрошить сигару, затем растворить в воде и выпить эту смесь, то вполне возможен смертельный исход; я долгое время носил в кармане искрошенную сигару, но, как известно, между намерением и действием дистанция огромного размера.
Духовной опорой сделалась для меня воскресная служба в церкви. В Крансберге я наотрез отказался посещать ее. Но в Нюрнберге я пришел к иному выводу. Обстоятельства вынудили меня, как, впрочем, и почти всех обвиняемых, за исключением Гесса, Розенберга и Штрейхера, регулярно приходить в нашу маленькую часовню.
За эти недели наши костюмы превратились в лохмотья, и американцы выделили нам рабочую одежду из черной габардиновой ткани. Теперь в наши камеры зашли тюремные служащие, чтобы мы выбрали себе для процесса костюмы, которые затем должны были быть тщательно вычищены и отглажены. Каждую деталь туалета вплоть до пуговицы на манжетах приходилось согласовывать с комендантом.
Полковник Эндрюс в последний раз прошелся по камерам, и 19 ноября 1945 года каждого из нас в сопровождении солдата, но без наручников привели в пока еще пустой зал суда и рассадили по местам. В первом ряду сидели
656
Геринг, Гесс и Риббентроп; я оказался на второй скамье третьим с конца, бок о бок с приятными мне людьми: справа Зейсс-Инкварт, слева фон Нейрат. Прямо передо мной маячили затылки Штрейхера и Функа.
Мы все очень радовались началу процесса: наконец-то должна была решиться наша судьба.
Процесс начался с длинной сокрушительной речи главного обвинителя от США Роберта Джексона. Меня несколько ободрила фраза о том, что вина за преступления режима ложится на плечи двадцати одного подсудимого, но уж никак не на весь немецкий народ. Такой подход полностью соответствовал моим представлениям об одном из возможных последствий этого процесса: ненависть к немецкому народу, которая еще в годы войны всячески раздувалась вражеской пропагандой и которая после разоблачения зверств и насилия превзошла все пределы, теперь сосредоточится на нас. В одном из писем Флекснеру я, определяя свое поведение на суде, подчеркивал, что в общем и целом меня совершенно не волнуют и даже кажутся излишними любые действия, предпринимаемые для моей защиты.
Накопившиеся за многие месяцы документы и показания свидетелей как бы призывали еще более ужесточить наказание за совершенные преступления. Абсолютно не учитывался тот факт, что далеко не все обвиняемые были к ним лично причастны. Страх и ужас сковали мое тело, и вынести столь тяжкие испытания мне удалось лишь потому, что с каждым разом ощущения все более и более притуплялись. До сих пор у меня перед глазами стоят фотографии, документы и приказы, которые производили совершенно чудовищное впечатление и в которые с трудом верилось; никто из обвиняемых, однако, не усомнился в их подлинности.
В остальном же все шло своим чередом: с утра до полудня судебное разбирательство, затем перерыв на обед (ели мы обычно на верхнем этаже Дворца юстиции), снова допросы и выступления в зале суда и, наконец, возвращение в камеру, где я быстро переодевался, отдавал погладить свой костюм, торопливо поглощал ужин и, как правило, просил отвести меня в адвокатскую комнату, где до десяти часов обсуждал с Флекснером ход процесса и делал заметки,
22 А. Шпеер
657
отрабатывая линию защиты. Поздним вечером я без сил валился на койку и мгновенно засыпал. По субботам и воскресеньям заседаний Международного трибунала не проводилось и поэтому беседы с адвокатами длились гораздо дольше. Времени на прогулки по тюремному двору почти не оставалось: они продолжались лишь полчаса в день.
Хотя все обвиняемые были в одинаковом положении, между нами не возникло никакого чувства солидарности. Мы раскололись на отдельные группы. Наиболее характерным проявлением этого было создание своеобразного «генеральского сада»: низкая изгородь отделила небольшую — 6 X 6 метров — часть тюремного сада. Представители военной элиты решили отделиться от нас и теперь ходили по кругу по этому совершенно неподходящему для прогулок участку земли. Гражданские лица отнеслись к их акции с подчеркнутым уважением. Обедали мы, согласно распоряжению дирекции тюрьмы, в разных помещениях; я оказался в одной группе с Фриче, Функом и Ширахом.
Тем временем в нас вновь затеплилась надежда, ибо теперь каждый знал, в чем конкретно его обвиняют. Во всяком случае, Фриче и я вполне могли рассчитывать на более-менее мягкие приговоры, и задним числом следует признать, что мы действительно сравнительно легко отделались.
У почти всех присутствующих в зале суда при взгляде на нас лица становились суровыми, а в глазах появлялся стальной блеск. И только в кабине переводчиков к нам относились по-другому. Мне, например, здесь кивали с приветливой улыбкой; кое-кто из сотрудников аппаратов главных обвинителей от Англии и США тоже относился к обвиняемым с определенной долей сочувствия. Но особенно горько и больно мне было, когда журналисты начали заключать пари по поводу предстоящей каждому из нас меры наказания и большинство утверждало: смертная казнь через повешение.
После длившегося несколько дней и использованного адвокатами для окончательной отработки линии защиты перерыва в заседаниях суда последовал «контрудар», на который некоторые возлагали большие надежды. Когда Геринга вызвали для дачи показаний, он обещал Функу,
658
Заукелю и остальным обвиняемым взять всю ответственность на себя и тем самым снять с них вину. Вначале Геринг держался довольно мужественно, но чем больше с ним обсуждали различные подробности, тем разочарованней делались лица тех, кто рассчитывал с его помощью облегчить свою участь.
В этой словесной дуэли Джексон обладал тем преимуществом, что мог совершенно неожиданно извлечь из огромного портфеля документ и поставить подсудимого в довольно неловкое положение, в то время как Геринг умело использовал незнание прокурором многих деталей. Но в итоге Геринг начал отчаянно бороться за спасение свой жизни: он постоянно прибегал к отговоркам, пускался в туманные рассуждения и оспаривал очевидные факты.
Вызванные следующими для ответа на вопросы обвинения Риббентроп и Кейтель вели себя точно так же и своим стремлением полностью обелить себя произвели еще худшее впечатление, чем Геринг; стоило прокурору предъявить какой-нибудь документ за их подписью, как они дружно начинали ссылаться на приказ Гитлера. Их поведение вызвало у меня чувство омерзения, и я, не выдержав, назвал Риббентропа и Кейтеля «почтальонами с министерскими окладами»; эти слова попали затем едва ли не во все газеты мира. Когда я уже сейчас размышляю над их тогдашними ответами, то прихожу к выводу, что оба они, в сущности, были правы; ведь и тот и другой являлись только номинальными руководителями своих ведомств, в задачу которых входило лишь передавать приказы Гитлера подчиненным инстанциям.
Розенберг, напротив, последовательно отстаивал свои взгляды, и все попытки его адвоката в кулуарах убедить бывшего рейхслейтера отказаться от нацистского мировоззрения оказались безуспешными. Когда-то защищавший Гитлера на суде, а впоследствии занимавший пост генерал- губернатора Польши Ганс Франк признал свою вину; Функ приводил довольно убедительные аргументы в свою защиту и временами даже вызывал сочувствие, а излишне блиставший красноречием адвокат Шахта пытался сделать из своего подзащитного чуть ли не участника заговора против Гитлера и этим добился скорее противоположного результата: приводимые им в пользу Шахта документы
22*
659
и свидетельства не возымели должного воздействия. Дёниц яростно отстаивал свою правоту и доказывал справедливость применявшейся им тактики подводной войны. Он явно испытал глубочайшее удовлетворение, когда его адвокат предъявил суду заявление главнокомандующего Тихоокеанским флотом США Нимица: американский адмирал свидетельствовал, что придерживался тех же принципов использования подводных лодок, что и командование военно-морским флотом Германии. Редер держался подчеркнуто деловито, Заукель производил довольно жалкое впечатление, ибо его наивность граничила с глупостью. Йодль внушал уважение хладнокровием и точными ответами на задаваемые вопросы. Он был одним из тех немногих обвиняемых, кто полностью контролировал ситуацию.
Нас допрашивали по очереди, и нервы мои были на пределе, так как показания давал уже Зейсс-Инкварт. Даже адвокат не строил никаких иллюзий относительно его участи, поскольку он оказался непосредственно причастен к депортациям и расстрелам заложников. Зейсс-Инкварт не утратил самообладания и в конце допроса заявил, что обязан отвечать за все, происшедшее по его вине. Судьба его была окончательно решена. Мы, однако, очень радовались за него: через несколько дней ему сообщили, что его считавшийся пропавшим без вести в России сын жив.
После оглашения моей фамилии я весь затрясся и быстро проглотил успокаивающую пилюлю, которую мне предусмотрительно вручил немецкий врач. В десяти шагах за адвокатским столом стоял Флекснер; слева на возвышении восседали члены Международного трибунала.
Флекснер раскрыл свою толстую папку, и допрос начался. Я сразу же заявил: «Будь у Гитлера друзья, я, безусловно, был бы одним из них». Представитель обвинения никак не ожидал такого откровенного высказывания. Началось обсуждение бесчисленного множества подробностей, почерпнутых из предъявленных документов; я не старался уйти от ответов или хоть как-то оправдать себя. Затем я произнес несколько фраз. Их смысл заключался в следующем: я полностью брал на себя вину за последствия всех выполненных мной приказов Гитлера. Я, правда, отстаивал ту точку зрения, что в любом государстве нижестоящие
660
инстанции обязаны исполнять любые поступающие сверху приказания и одновременно отдавать себе отчет в их возможных последствиях; но даже если их угрозами принудили к исполнению, это все равно не избавляет от ответственности. Но гораздо важнее для меня было возложить на себя вину за все предпринятые Гитлером, начиная с 1942 года акции, равно как и за все совершенные после этого — неважно, кем конкретно — преступления против человечества.
«В сфере управления государством каждый отвечает за вверенный ему участок, — заявил я перед судом. — Однако принадлежность к правящей элите предполагает также коллективную ответственность. Я имею в виду сподвижников главы государства... Это в полной мере относится и к авторитарному режиму, и пусть никто из его руководителей не думает, что после такой страшной катастрофы ему удастся уйти от ответственности. Ведь если бы Германия выиграла войну, ее лидеры с готовностью взяли бы на себя ответственность за все совершенные во время нее преступные деяния... Я лично считаю это своим долгом еще и потому, что глава правительства сумел избежать ответственности перед немецким народом и всем миром».
В беседе с Зейсс-Инквартом я выразил эту мысль в еще более резкой форме: «А если бы ситуация вдруг изменилась и мы бы выиграли войну? Нетрудно представить себе, как бы каждый похвалялся своими заслугами и выпячивал свои достижения. Но только вот не вышло, и теперь вместо орденов, всяческих почестей и денежных вознаграждений приходится ждать смертного приговора».
В эти дни Флекснер напрасно пытался убедить меня не брать на себя ответственность за все, происходившее вне стен моего министерства; по его словам, это могло кончиться для меня очень печально. Но я, сделав такое откровенное признание, испытал глубокое облегчение и лишь радовался тому, что смог избежать искушения и не прибегнул к разного рода отговоркам. Теперь я с сознанием собственной правоты мог перейти к показаниям, касающимся моей деятельности на заключительном этапе войны. Я предполагал, что рассказ о пока еще мало кому известных намерениях Гитлера в случае поражения обречь на гибель немецкий народ позволит более легко расстаться с прошлым и воспрепятствует созданию мифа о «великом фюрере».
661
Эти мои высказывания вызвали бурное негодование Геринга и многих других обвиняемых.
Напротив, о подготавливаемом покушении на Гитлера я собирался упомянуть лишь вкратце и только для того, чтобы показать, насколько опасными казались мне его губительные намерения. «Я бы не хотел слишком вникать в подробности», — заявил я, стремясь направить допрос в нужное мне русло. Судьи тут же начали переговариваться между собой, а затем председатель Международного трибунала обратился ко мне со следующими словами: «А нам, напротив, было бы очень интересно узнать подробности. Объявляю о переносе судебного заседания на другой день». У меня не было никакого желания углубляться в эту историю, ибо получалось, что я как бы хочу обелить себя. Поэтому я крайне неохотно пошел им навстречу и попросил адвоката не упоминать в своей речи эту часть моих показаний.
В дальнейшем все шло по накатанной колее, в полном соответствии с разработанной нами тактикой ответов на вопросы судей. Не желая слишком подчеркивать свои заслуги на завершающем этапе войны, я счел нужным сделать следующую оговорку: «Я не слишком рисковал, когда предпринял эти меры. С января 1945 года в Германии было совсем несложно противостоять официальной политике; любой мало-мальски разумный человек одобрял подобные действия. Даже многие из тех, кто давно примкнул к НСДАП, выполнили тогда свой долг перед народом. Совместными усилиями мы предотвратили выполнение безумных приказов Гитлера».
Флекснер с явным облегчением сложил листки в папку и занял место среди остальных адвокатов. Наступил черед выступать главному обвинителю от США и члену Верховного суда этой страны — Джексону. Его появление нисколько не удивило меня, ибо накануне вечером в мою камеру буквально ворвался американский офицер и заявил, что Джексон твердо решил в моем случае также лично провести перекрестный допрос.
В отличие от предыдущих дней, он начал речь довольно спокойным голосом и старался избегать резких выражений. Он еще раз зачитал выдержки из документов, свидетельствующих о моей персональной ответственности за
662
использование труда насильственно вывезенных с оккупированных территорий гражданских лиц, и неожиданно удостоил меня комплиментом: я, оказывается, единственный, кто имел мужество открыто заявить Гитлеру, что война проиграна. Я тут же в полном соответствии с истиной указал, что с Гитлером не боялись спорить также Гудериан, Йодль и некоторые из главнокомандующих группами армий. На его вопрос: «Выходит, заговоров было еще больше?» — я дал весьма уклончивый ответ: «Когда стало ясно, что поражение неминуемо, устроить заговор было совсем нетрудно. Можно было подойти едва ли не к любому человеку на улице и попросить его оценить ситуацию. Почти все говорили: “Чистейшей воды безумие”. И если у него хватало мужества, он присоединялся к вам... Здесь пытаются создать впечатление, что приходилось чуть ли не постоянно рисковать жизнью. На самом деле это не совсем так. К несчастью, у власти находилось несколько дюжин безумцев, но остальные восемьдесят миллионов немцев отнюдь не утратили здравый смысл и прекрасно понимали, что их ждет».
Помощник главного обвинителя от Советского Союза генерал Рагинский также провел перекрестный допрос, во время которого по вине переводчика возникло множество недоразумений, а затем Флекснер передал суду целую пачку письменных показаний двенадцати человек, свидетельствовавших в мою пользу. На этом рассмотрение моего дела было временно прекращено. Вот уже несколько часов меня мучили сильные боли в желудке; в камере я рухнул на топчан, терзаемый болью во всем теле и чувствуя полное нервное истощение.
35
Выводы
Обвинители в последний раз произнесли речи, и процесс фактически закончился. Теперь мы могли сказать лишь свое последнее слово. Его должны были передать по радио без всяких сокращений; для нас это была последняя возможность обратиться к обманутому народу и, признав свою
663
вину или откровенно рассказав о совершенных в недавнем прошлом тягчайших преступлениях, помочь ему найти выход из тупика.
Продолжавшийся девять месяцев процесс наложил на нас неизгладимый отпечаток. Даже Геринг, твердо намеревавшийся непременно доказать свою правоту и отличавшийся сначала довольно агрессивным поведением, резко осудил массовые убийства и заявил, что не понимает, зачем и кому это было нужно. Кейтель уверял, что предпочитает пойти на смерть, лишь бы не оказаться еще раз втянутым в такие страшные преступления. Франк подчеркивал, что из-за Гитлера вина легла на весь немецкий народ. Он призвал тех, кто продолжал упорствовать в своих заблуждениях, «не вставать на путь политического безумия, ибо этот путь приведет к гибели». Его слова звучали чрезмерно экзальтированно, но, в сущности, соответствовали моим взглядам. Даже Штрейхер в своем последнем слове резко осудил «истребление евреев». Функ говорил о том, что при одной мысли о таких зверствах сгорает от стыда. Шахт сетовал, что «душа его теперь не будет знать покоя». Заукель признавал, что «бесчеловечные действия, выявленные на этом процессе, поразили его в самое сердце». По мнению Палена, «силы зла оказались могущественнее, чем силы добра». Зейсс-Ин- кварт именовал совершенные нацистским режимом и при его прямом участии злодеяния не иначе как «ужасными эксцессами». Фриче призывал «рассматривать убийство пяти миллионов человек как предостережение будущим поколениям». И все они в той или иной степени отрицали свою вину.
Таким образом, моя надежда в каком-то смысле сбылась: мы отвлекли внимание на себя, и значительная доля вины — в юридическом толковании этого термина — легла на нас. Но эта злополучная эпоха не только дала наглядный пример таящихся в человеке неисчислимых мерзостей — именно теперь возник исторический фактор, позволяющий четко отличить этот кровавый диктаторский режим от всех его предшественников. Его значение ни в коем случае нельзя недооценивать. Как один из руководителей государства, без малейших колебаний использовавшего все свою техническую мощь против человечества, я на суде стремился также постичь смысл происшедшего.
664
В своем последнем слове я, в частности, сказал: «Это была первая диктатура индустриального государства в эпоху современной техники, она целиком и полностью господствовала над собственным народом... С помощью таких технических средств, как радио и громкоговорители, у восьмидесяти миллионов людей было отнято самостоятельное мышление, они были подчинены воле одного человека. Телеграф, телефон и радио давали, например, возможность высшим инстанциям передавать свои приказы непосредственно низшим организациям, где они ввиду их высокого авторитета беспрекословно выполнялись. Это приводило к тому, что многочисленные инстанции и штабы были соединены непосредственно с верховным руководством, от которого они получали ужасные приказы; следствием этого был надзор за каждым гражданином и строгое засекречивание преступных действий. Для постороннего этот государственный аппарат покажется неразберихой среди всех проводов телефонной станции, но, так же как и станция, этот аппарат управлялся единой волей.
Прежние диктатуры нуждались в квалифицированных сотрудниках для низших организаций, в лицах, которые могли думать и действовать самостоятельно. Авторитарная система в период господства техники может отказаться от них, одни только средства связи позволяют механизировать деятельность низших звеньев управления государством. Как следствие этого возникает новый тип бессловесного исполнителя приказов...
Совершенные в эти годы чудовищные преступления объяснялись не только индивидуальными свойствами Гитлера. Они приобрели такой масштаб еще и потому, что Гитлер широко использовал самые современные технические средства».
Произнося последнее слово, я думал о возможных последствиях установления неограниченной диктатуры технократов, широко применяющих новейшие научно-технические достижения и одновременно всецело зависящих от них: «Эта война окончилась самолетами-снарядами, самолетами, летающими со скоростью распространения звука, новыми видами подводных лодок и торпедами, которые сами находят свою цель, атомными бомбами и перспективами ужасной химической войны... Военная техника через
665
пять-десять лет даст возможность проводить обстрел одного континента с другого при помощи ракет с абсолютной точностью попадания. Такая ракета, которая будет действовать силой расщепления атома и обслуживаться, может быть, всего десятью лицами, может уничтожить в Нью-Йорке в течение нескольких секунд миллион людей... Появилась возможность распространять в различных странах заразные болезни среди людей и животных и при помощи бактерий уничтожать урожаи...
Как бывший министр высокоразвитой промышленности вооружения я считаю своим последним долгом заявить: новая мировая война закончится уничтожением человеческой культуры и цивилизации. Ничто не может задержать развитие техники и науки и помешать им завершить свое дело уничтожения людей, которое начато в таких страшных формах во время этой войны. Поэтому этот процесс должен способствовать тому, чтобы в будущем предотвратить опустошительные войны и заложить основы для мирного сожительства народов. Что значит моя собственная судьба после того, что случилось, и перед лицом такой великой цели!»
Я сознавал, что исход процесса не сулит мне ничего хорошего, и поэтому вполне искренне произнес последнюю фразу. Я действительно приготовился к самому худшему и как бы подвел черту под своей прежней жизнью.
Члены Международного трибунала для вынесения приговора удалились на неопределенный срок на совещание. Ждать нам пришлось четыре долгие недели. Нервы мои были на пределе, и, чтобы хоть немного забыться после почти восьми месяцев душевных мук, я погрузился в чтение романа Диккенса «Повесть о двух городах», посвященного эпохе Великой французской революции. В нем подробно описывалось, как узники Бастилии в ожидании решения своей судьбы не только не впадали в отчаяние, но, напротив, сохраняли спокойствие и даже иногда веселились. Я же, как выяснилось, был неспособен проявить такую свободу духа — ведь главный обвинитель от Советского Союза потребовал для меня смертной казни.
666
30 сентября 1946 года обвиняемые в свежеоттлаженных костюмах в последний раз заняли места на скамье подсудимых. В момент обоснования приговора суд решил избавить нас от кинокамер и фоторепортеров. Погасли до этого ярко сиявшие юпитеры, позволявшие зафиксировать на пленку каждое движение, и в зале сразу стало мрачно и даже жутковато. Тут мерной поступью вошли члены Международного трибунала, и обвиняемые, обвинители, защитники, присутствовавшая в зале публика и журналисты в последний раз встали со своих мест. Как обычно, председатель Международного трибунала лорд Лоуренс поклонился во все стороны и сел в свое кресло.
Сменявшие друг друга члены Международного трибунала монотонными голосами зачитывали, пожалуй, самую страшную главу в германской истории. Тем не менее осуждение властной элиты позволяло не возлагать всю вину на немецкий народ. Ведь если с одного из ближайших сподвижников Гитлера, Бальдура фон Шираха, долгое время занимавшего пост руководителя гитлерюгенда, и стоявшего у истоков восстановления и развертывания военно-промышленного потенциала Германии министра экономики в правительстве Гитлера Яльмара Шахта были сняты обвинения в подготовке и развязывании агрессивной войны, то как можно было обвинять в этом простых солдат, а тем более женщин и детей? Если против гросс-адмирала Редера и заместителя Гитлера Рудольфа Гесса в результате так и не выдвинули обвинение в причастности к преступлениям против человечества, то как можно было отдавать за это под суд обычного технического специалиста или рабочего? Я также надеялся, что процесс окажет непосредственное воздействие на оккупационную политику держав-победи- тельниц: теперь они уже не могли расширительно толковать отнесенные ими к разряду преступных деяния и подвергнуть репрессиям весь народ. Я имел в виду основное выдвинутое против меня обвинение: использование принудительного труда.
Далее последовало обоснование приговоров каждому из подсудимых. Моя деятельность получила холодную и беспристрастную оценку, которая полностью соответствовала моим предположениям. Меня обвинили в депортации в Германию иностранных рабочих, а также в том,
667
что, противодействуя планам Гиммлера, настаивая на отправке советских военнопленных из концлагерей на предприятия военной промышленности, я руководствовался исключительно деловыми соображениями, но уж никак не гуманными мотивами.
Все обвиняемые, даже те, кому грозил смертный приговор, сохранили самообладание. Они слушали молча, без каких-либо признаков волнения. Мне до сих пор непонятно, как я перенес процесс, ни разу не впав в истерику, и каким образом мне удалось, выслушивая обоснование приговора, внешне сохранить спокойствие, хотя в душе все трепетало. Флекснер был настроен очень оптимистично: «Уверяю, вы получите от четырех до пяти лет».
На следующий день мы увиделись в последний раз перед вынесением приговора. Мы спустились в подвал Дворца юстиции, а затем каждого из нас по отдельности подняли наверх на лифте. Назад никто не возвращался. Наконец настал мой черед, и в сопровождении американского солдата я вошел в маленькую тесную кабину. Распахнулись дверцы, и через минуту я уже стоял на небольшом возвышении прямо напротив членов Международного трибунала. Мне передали наушники, и в ушах громко прозвучало: «Альберт Шпеер — к двадцати годам лишения свободы».
Через несколько дней мне вручили приговор. Я не стал обращаться к державам-победительницам с просьбой о его пересмотре. Любое наказание все равно казалось мне ничтожно малым по сравнению с теми бедами и горестями, которые мы причинили миру. «Всегда можно найти оправдательные мотивы, — записал я через несколько недель в своем дневнике, — но за такие чудовищные преступления нет и не может быть прощения».
И теперь, когда минуло четверть века, отнюдь не только отдельные прегрешения, как бы ни были они велики, мучают мою совесть. Когда я вспоминаю о прошедшем, мне вовсе не хочется детально разбирать прошлое, ибо сам факт причастности к этим событиям свидетельствует о моей аморальности. Я не только способствовал развязыванию войны, целью которой было — об этом мы всегда говорили в узком кругу — установление мирового господства. Благодаря своей энергии и способностям я сумел на несколько месяцев
668
продлить ее. На крыше Купольного дворца я предполагал установить скульптурное изображение орла, держащего в когтях земной шар. Я прекрасно знал, что для Гитлера это имело не только символическое значение — он действительно стремился к его завоеванию. Мне было известно, что Францию предполагалось превратить в маленькое, всецело зависящее от Третьего рейха государство. К нему также должны были быть присоединены Бельгия, Голландия и Бургундия. Народам Польши и Советского Союза была уготована судьба илотов. Гитлер и раньше не особенно скрывал свои намерения истребить всех евреев и в итоге в своем выступлении 30 января 1939 года открыто заявил об этом. Я далеко не всегда одобрял его действия, но разрабатывал архитектурные проекты, воплощавшие его устремления, и производил вооружение, предназначенное для достижения его целей.
Последующие двадцать лет жизни меня поочередно охраняли солдаты армий тех четырех государств, народы которых в значительной степени именно по моей вине понесли в этой войне неисчислимые жертвы. Охрана да еще шесть заключенных — вот круг моего общения в эти годы, и именно от простых солдат я все больше узнавал об истинных результатах моей предыдущей деятельности. Многие из них, и в первую очередь советские солдаты, потеряли на войне отца или брата. Но ни один из них ни разу ни в чем не обвинил и не упрекнул меня. Сброшенный с вершины власти, я был бесконечно благодарен судьбе за то, что оказался среди этих людей. Они тщательно соблюдали данные им инструкции, и тем не менее я чувствовал, что они относятся ко мне с симпатией и всегда готовы прийти на помощь... Помню, как за день до своего назначения министром я приехал на Украину и наверняка отморозил бы себе щеки, если бы не тамошние крестьяне. Тогда я был просто тронут их поступком, глубоко не задумываясь над этим. Теперь же, когда ко мне по-доброму относились люди, от которых следовало ожидать скорее враждебного отношения, мне захотелось понять их, и я написал эту книгу.
«Последовавшая в результате этой войны катастрофа, — писал я в 1947 году в своей камере, — наглядно продемонстрировала хрупкость и неустойчивость веками создаваемой
669
системы современной цивилизации. Теперь мы знаем, что живем в очень непрочном доме. Сложная структура современного общества может постепенно разложиться под воздействием усиливающихся негативных тенденций. И никто не сможет остановить этот процесс, если он будет по-прежнему сопровождаться деперсонализацией, которая приводит к утрате чувства ответственности за свои поступки».
Ослепленный, казалось, безграничными возможностями технического прогресса, я посвятил лучшие годы жизни служению ему. В итоге меня постигло горькое разочарование.
Послесловие
Приступая к написанию этой книги, я намеревался не только рассказать о прошлом, но и высказать предостережение на будущее. Уже в первые месяцы пребывания в плену, еще в Нюрнберге, потребность хоть немного облегчить душу, на которую тяжким грузом легли минувшие события, побудила меня начать делать записи. Движимый теми же чувствами, я продолжил это занятие в 1946—1947 годах и наконец в марте 1953 года окончательно решил написать мемуары. Благотворно или, наоборот, негативно сказалось на них то обстоятельство, что творил я в состоянии полного одиночества, которое меня столь угнетало? Я ощущал острое стремление дать безжалостную оценку себе и другим. 26 декабря 1954 года я закончил свой труд. Когда я вышел из тюрьмы Шпандау 1 октября 1966 года мои мемуары насчитывали свыше двух тысяч страниц. Я дополнил их хранящимися в федеральном архиве в Кобленце материалами своего секретариата.
Я искренне благодарен людям, с которыми неоднократно беседовал в последние два года, а именно — директору издательства «Улыитейн и Пропилен» Вольфу Йобсту Зид- леру и члену консультативного совета этого издательства Иоахиму Фесту. Именно благодаря их настойчивости в этой книге нашлось место как многим рассуждениям, посвященным общим проблемам, так и анализу психологических и исторических аспектов описываемых событий. Наши беседы еще более подкрепили и усилили принципиальную оценку, данную мной Гитлеру, его режиму и моей причастности к совершенным им преступлениям в написанном десятью годами ранее первом варианте воспоминаний.
Я благодарен также сотруднику ЮНЕСКО доктору Альфреду Вагнеру, архивисту доктору Томасу Трумпу и госпоже Гедвиге Зингер из Федерального архива в Кобленце, а также Дэвиду Ирвингу, предоставившему в мое распоряжение не публиковавшиеся ранее выдержки из дневников Йодля и Геббельса.
671
Именной
указатель
Абель Адольф — 68 Аман Макс — 47, 116 Андерсон Фредерик Льюис — 639 Арденне Манфред фон — 297 Арендт Бенно фон — 147
БаароваЛида— 195, 332 Баумбах Вернер — 599, 631, 634 Бауэр Ганс — 172
Белов Николаус фон — 215, 362, 444, 545, 546, 548, 565
Бергер Готтлоб — 482, 598, 611
Беренс Петер — 27, 57, 193
Берлин — 47, 497
Бестельмейер Герман — 193
Битрих Вильгельм — 516
Бишелон Жан — 407—409
Бломберг Вернер фон — 65, 94, 144, 181, 320
Боде Вильгельм фон — 193
Боденшатц Карл — 322
Болбринкер Эрнст — 499, 500
Бонац Пауль — 68, 108, 192
Бор Эрвин — 427
Борман Мартин — 54, 63, 76, 90, 113, 114, 116—126, 129, 132, 160, 163, 164, 169, 172, 174, 195, 199, 201, 214, 222, 230, 231, 233, 234,
253, 265, 278, 282, 284, 286, 287, 330-332, 335, 336, 338, 339, 340,
341-348, 350, 351, 356, 357, 360-364, 384, 385, 388, 389, 391,410— 413, 418, 421-423, 427, 428, 429, 431, 436, 439, 444, 446, 447, 465,
467, 493, 504, 508, 512-514, 522, 523, 540, 541, 552, 558, 577, 580,
582, 583, 589, 594, 596, 599, 600, 606, 611, 616, 620-624, 628 Боррис Зигфрид — 419, 421
Брандт Карл - 87, 139, 140, 195, 199, 237, 252, 362, 430, 436, 480,
532, 598, 600,612,613, 642
Браун Вернер фон — 471—476, 480, 647
Браун Ева - 63, 64, 119, 120, 122-126, 134-136, 139, 142, 174, 195, 232, 336, 389, 396, 444, 598, 599, 606, 611, 617, 623, 624 Браухич Вальтер фон — 144, 600
672
Бринкман — 166, 211
Брекер Арно фон - 121, 152, 153, 155, 182, 193, 194, 226-228, 236, 409,424
Бругман Вальтер — 439 Брукманы — 55, 57 Брукнер Антон — 133, 175, 595
Брюкнер Вильгельм — 47, 58, 69, 87, 90, 94, 110, 148, 228
Буле Вальтер — 306, 542, 589
Булле Этьен Л. — 204
Бюлов Бернхард фон — 157
Бюркель Йосеф — 411
Бютефиш Генрих — 450
Бюхер — 278
Вагнер Адольф — 54
Вагнер Винифред — 89, 174, 199, 200
Вагнер Рихард - 15, 121, 171, 199, 328, 444, 555
Вагнер Эдуард — 489, 490, 636
Вайс Манфред — 482, 562, 563
Вакерле Йосеф — 53, 158
Варлимонт Вальтер — 321
Вебер Кристиан — 136
Вегенер Пауль — 636
Вегер — 437
Видеман Фриц — 161, 162 Витцель Карл - 262, 263, 267, 295, 473 Витцлебен Эрвин фон — 511 Вламинк Морис де — 243, 645 Вольф Иоганна — 63, 189, 439, 598, 606
Таиланд Адольф - 379, 380, 455, 527, 528, 529, 599 Гальдер Франц — 312, 314 Ган Отто — 296
Ганценмюллер Теодор — 292, 293, 295 Ганфштенгль Эрнст — 169, 170 Гарнье Шарль — 227
Геббельс Йозеф - 25,26, 29,35-38,40,42,43,47,48,61,67,73,76, 81,99,102,118,122-124,129,142,146,150,160,163,165,167-169, 170, 172, 173, 194-197, 199, 200, 208, 214-216, 221, 230, 231, 278, 297, 298, 307, 310, 332-339, 341-347, 350, 351, 363, 382, 383, 386, 387, 391, 402,418, 448, 491-500, 502-505, 509, 512-515,530, 533, 541, 542, 552, 555, 558, 580, 589, 592, 594-596, 598, 599, 604, 607, 619, 620, 623, 624, 628, 671 Геббельс Магда — 195, 199, 200, 624
673
Гебхардт Карл - 426, 430-432, 435, 442, 626, 636
Гейзенберг Вернер — 296—298
Гейленберг Эдмунд — 454
Гендерсон Невиль — 79
Георге Генрих — 337
Георге Стефан — 15, 488
Геринг Герман - 47,49-52, 61, 69, 70, 78, 85, 113, 118, 123, 124, 129, 130, 141, 146, 159, 166, 167, 169, 177, 178, 181-183, 185, 192, 195, 206, 211, 214-216, 219, 223, 224, 230-236, 241-243, 245, 254, 256, 257, 261-264, 267-270, 272, 273, 284, 287, 289, 290, 294, 295, 309, 315, 321, 322, 327-330, 337-351, 355, 360-363, 365, 366, 369, 371, 372, 374, 377, 379-383, 387,415,418,424,425,429,432,435- 437,440,441,443-446,448, 450-453,455, 461,469, 552, 553, 557, 581, 583, 603, 609, 610, 618, 620-622, 626, 628, 639, 642,646, 649, 652,655-659, 662, 664 Герке Рудольф — 250
Гесс Рудольф - 39, 54,61, 76, 83, 106,118,124, 135, 159, 183,230- 233, 331, 363, 652, 656, 657, 667
Гиммлер Генрих-47, 61, 72, 118, 127,128, 160,163, 169, 188,189, 191, 192, 202, 230, 283, 315, 347, 348, 355, 362, 363, 409, 410, 412, 413, 422, 423, 426, 428, 429, 431, 435, 436, 442-448, 476-478, 480-485, 490,491, 496, 502, 504, 515, 516, 520, 532, 542, 553, 554, 562, 563, 582, 598, 599, 613, 616, 618, 626-628, 630, 631, 633, 634, 636, 641, 668
Гинденбург Пауль фон — 20, 66, 70, 72, 73, 86, 96 Гислер Герман — 191, 226, 227, 253, 390
Гофман Генрих - 47,54,59,68,89,112,113,117,139, 140,172,237, 243, 297,637
Гропиус Вальтер — 26, 57, 193 Грютцнер Эдуард — 59, 122, 237
Гудериан Гейнц — 307, 355,356,361,470,495,499,536, 543,544,546, 547,550, 553, 564, 573, 581,663
Деспьо Шарль — 243, 645, 658
Дёниц Карл - 356-359, 361,437, 532, 552, 610, 616, 618, 628,629, 630-637,640-642,660 Джексон Роберт — 657, 659, 662
Дитрих Зепп — 47, 247—249, 352,431, 458, 470,492, 493, 539
Дитрих Отто — 47, 54, 87, 124, 199, 391
Дорнбергер Вальтер — 475
Дорпмюллер Юлиус — 291—293, 637, 644
Дорш Ксавье - 261,302,418,427-429,436-439,442-446,503, 353
Ешоннек Ганс — 368, 381
674
Заукель Фриц - 164, 277, 278, 283, 287-289, 335, 347, 348, 364, 407-409, 421, 423, 433, 581, 650, 660
Заур Карл - 302, 307, 378, 417, 433, 436, 441, 454, 458, 476, 482, 490, 503, 510, 528, 529, 535, 542, 549-551, 560, 574, 582, 625, 644 Зейсс-Инкварт Артур — 588, 628, 635, 652, 655, 657, 660, 661, 664 Зидлер Эдуард — 47
Йодль Альфред - 230, 313-315, 317, 318, 321, 322, 397, 398, 403, 404,470, 486, 487, 517, 523-525, 552, 564, 589, 611, 614, 617,618, 632, 634, 641, 660, 663
Кальтенбруннер Эрнст — 278, 500, 501, 507, 511, 548, 554 Каммлер Ганс — 482, 483, 581 Канненберг — 172 Каспар Герман — 193, 194
Кауфман Карл Отто — 371, 446, 447, 589, 600, 604, 610, 611, 628,631
Кейтель Вильгельм — 144, 215, 230, 242, 283, 307—309, 311, 314, 315, 318, 320, 321, 329-331, 336, 346, 347, 352, 356, 387, 388, 398, 422,423,450,451,488,489, 503, 504, 512, 533,541, 552, 564,566, 567, 573,588, 591, 592,607,611,618, 626, 627,628, 632,633,635,637,650, 659,664
Кемпка Эрих — 568, 572, 573 Кемпф Вильгельм — 193 Керль Ганс — 90 Кернер Пауль — 263, 290, 338
Кессельринг Альбрехт — 320, 566, 569, 578, 590, 591, 642
Клопфер Герхард — 428, 589, 600
Клюге Ганс Гюнтер фон — 356, 373, 510, 511
Коллер — 618
Коппенберг — 242
Кох Фридрих - 430, 431, 432, 434, 442
Кох Эрих — 310
Кребс Ганс - 589, 590, 618, 619
Крейз Вильгельм — 180, 193, 194
Крейпе Вернер — 470
Кренкер Даниэль — 18
Кристиан Эккард — 398, 614
Лаваль Пьер — 408, 409
Ламмерс Ганс - 47, 102, 103, 234, 330, 331, 335, 336, 339-341,
347, 356, 360, 361,422, 446
Лееб Вильгельм фон — 262, 377, 394
Лей Роберт - 76, 118, 163, 189, 191, 231, 283, 285, 333, 338, 345, 346, 382, 387,436,479, 480, 532, 533, 552, 558, 596, 597, 599, 600, 607
675
Ленард Филипп — 299 Либель Вилли — 89, 437, 520, 521 Линдеман Фриц — 489 Липперт Юлиус — 98, 99 Лоренц Хейнц — 391, 551
Люшен Фридрих — 555—557, 597, 604, 612, 613, 615, 623
Майстер Рудольф — 369, 370
Манштейн Фриц Эрих фон — 353, 354, 356
Марх Отто — 108, 109
Мейснер Отто — 86, 201
Мендельсон-Бартольди Феликс — 27
Милворд Алан С. — 287
Милль Сесиль де — 19, 211
Мильх Эрих - 242, 261-264, 266, 267, 272, 281, 290, 294, 295, 321, 327, 329, 338, 340, 347, 348, 363, 370, 379, 381, 393,424,425,432,433, 437,441, 450,461, 468, 473, 545, 592, 593
Модель Вальтер - 470, 537-539, 563, 564, 571-573, 575, 578, 589 Моррелль Теодор — 139—143, 155, 391, 463 Муссолини Бенито — 75, 96, 147, 148, 189, 236, 405, 406, 500 Мюллер Людвиг — 128, 167
Нагель Вилли — 32, 34, 221
Науман Вернер - 14, 357, 427, 542, 555, 592, 594
Нейрат Константин фон — 111, 144, 196, 197, 657
Нимёллер Мартин — 131, 132, 637, 645
Ницше Фридрих Вильгельм — 87
Нойман Эрих — 268
Олендорф Отто — 428, 589, 636 Ольбрих Йозеф М. — 57 Ольбрихт Фридрих — 267, 489, 495, 497, 502 Онезорге Вильгельм — 297, 315 Осман Жорж Э. — 101, 102
Папен Франц фон — 71
Паппенгейм Фридрих Фердинанд цу — 7
Паттон Джордж — 566, 639
Пауль Бруно — 57
Пельциг Ганс — 18, 27
Плейгер Пауль — 450, 482
Позер Манфред фон — 546, 550, 568, 581, 590, 595, 602, 603, 610, 614,615, 625
Порше Фердинанд — 306, 352, 647
676
Поссе Ганс — 237
Пошман — 479
Праун Альберт — 582, 589, 592
Путгкаммер Карл Йеско фон — 215
Пфундтнер — 108
Рагинский Марк Юрьевич — 663
Ратенау Вальтер — 272, 275
Редер Эрих - 144, 240, 356, 357, 660, 667
Рейман Гельмут — 601, 602
Ремер Отто Эрнст — 497—500
Рём Эрнст- 68, 71, 112, 118, 136, 512
Рёхлинг Герман — 415, 519, 569, 570
Риббентроп Йоахимфон — 118, 131, 144, 145, 215, 216, 223, 224, 230, 238, 337, 341, 391, 547, 620, 622, 623, 657, 659 Рифениггаль Лени — 83, 646
Розенберг Альфред - 27, 83, 118, 129, 130, 167, 193, 202, 240, 299, 634, 656
Роланд Вальтер - 415, 441, 464, 492, 576, 578, 590 Роммель Эрвин — 317, 324, 457, 458, 462 Роэ Мис ван дер — 26, 193 Рузвельт Франклин Делано — 280, 403, 595, 596 Рюман Хейнц — 49, 178
Скорцени Отто — 500, 501 Сменд Гюнтер — 506
Сталин Иосиф Виссарионович — 214, 223, 310, 402, 504
Тессенов Генрих - 18-22, 26, 27, 31, 35, 37, 44, 52, 55, 84, 193 Тирак Отто — 338, 573, 574
Тодт Фриц - 103, 108, 111, 112, 145, 192, 238, 242, 244, 250- 261,272, 302,418,419,427,428,437,439,443,462,492,493,495, 538, 588
Тома Людвиг — 59 Томале Вольфганг — 535, 600 Томас Георг - 241, 262, 267, 398, 645 Торак Йозеф — 193, 194
Троост Пауль Людвиг — 40, 41, 53, 55—58, 66, 67, 108, 121, 158, 211,212,435
Удет Эрнст — 231, 381, 632 Уильямс — 639, 648
Фельгибель Эрих — 489, 490, 505 Фёглер Альберт — 262, 263, 278, 295, 536
677
Фёрстер-Ницше — 87
Филипп Гессенский — 404
Фишер Рихард — 450, 603
Флекснер Ганс — 348, 654, 657, 660—663, 668
Флориан Фридрих — 577, 578
Франк Ганс — 83, 659, 664
Франк Роберт — 427, 430, 431
Франк Карл Герман — 588, 626
Фрик Вильгельм — 81, 165, 335, 410
Фрич Вернер фон — 144
Фриче Ганс — 530, 531, 654, 658, 664
Фромм Фридрих - 222, 262, 263, 281, 295, 296, 307, 309, 316, 321, 355, 361, 437, 473, 488, 491, 497, 500-502, 573, 574 Фрэнк Герхард — 644
Функ Вальтер - 67, 73, 103, 166, 167, 238, 257, 262-265, 333, 335, 338, 345, 360, 361, 424, 428, 431, 437, 463, 492, 575, 650, 657- 659, 664
Фуртвенглер Вильгельм — 15, 81, 594
Хааземан Конрад — 259, 427 Хаген - 497, 622 Хадамовский Эйген — 167, 168 Хазе Пауль фон — 498, 502
Ханке Карл - 30, 31, 34, 36, 37, 64, 162, 167, 168, 186, 193, 195,
199, 207, 224, 286, 412, 433, 485, 547
Хауссер Пауль — 570, 579
Хевель Вальтер — 131, 238, 388, 391
Хейе - 532
Хейнкель Эрнст — 468, 645
Хейнрици Готхард — 220, 563, 601—603, 611
Хенне Вилли — 439
Хеншель — 558
Хеттлаге Карл — 187, 600
Хомс Эдвард Л. — 287
Хорти Миклош — 434, 649
Хофман Людвиг — 11
Хупфауэр Теодор — 554, 589, 600
Цанген Вильгельм — 262
Цейтцлер Курт — 314, 315, 326—329, 353—355, 361, 362, 401, 415, 416,437, 506, 536, 544
Черчилль Уинстон - 155, 219, 231, 280, 281, 393, 403 Шарун Ганс Бернхард — 27
Шауб Юлиус - 47, 73, 146, 243, 255, 256, 374, 391, 433, 503, 529, 565, 582, 596, 613, 615, 616
678
Шахт Яльмар - 131, 258, 505, 645, 647, 652, 659, 667 Шварц Фриц — 47, 124
Шверин-Крозигк Лютц фон — 187, 554, 555, 629, 633, 637, 638
Шернер Франц — 545, 546
Шибер Вальтер — 437, 483
Шинкель Карл Фридрих — 36, 157, 491, 547
Ширах Бальдур фон — 342, 343,363, 658, 667
Шлессман — 577
Шмеер — 522
Шмундт Рудольф — 156, 215, 309, 320, 362, 387, 388, 396, 488
Шнейдер —510
Шпейдель Ганс — 227, 228
Шпенглер Освальд — 19, 24, 245
Шперле Гуго — 356
Шпицвег Карл — 59, 60, 121
Шрек - 47, 48, 89
Шрёдер фройлен — 63, 135
Шталь Дитер — 550, 557, 558
Штауффенберг Клаус фон — 487, 488, 489, 491, 492, 495, 497, 502 Штёр — 570
Штиф Гельмут — 489, 495
Штрейхер Юлиус — 47, 79, 83, 136, 656, 657, 664
Штукарт Вильгельм — 412, 636
Шуленбург граф фон дер — 223
Шульце-Наумбург — 87
ШушнигКурт— 131, 146, 148
Эдуард герцог Виндзорский — 97
Эйзенхауэр Дуайт Дейвид — 622, 626, 637, 638, 643, 648
Эккарт Дитрих — 135, 136
Энгель Герхард — 215, 362, 493, 517
Эндрюс — 649, 656
Эссер Герман — 47, 124, 136, 387
Юттнер Ганс — 482
Яннингс Эмиль — 49, 122
Содержание
Предисловие 5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Происхождение и юность 7
Профессия и призвание 20
Стрелка переведена 30
Мой катализатор 43
Строительная гигантомания 67
Большое задание 95
Оберзальцберг 112
Новая рейхсканцелярия 136
День рейхсканцелярии 156
Раскрепощенный ампир 176
Земной шар 200
Начало падения 213
Перебор 230
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Вступление в новую должность 247
Организованная импровизация 266
Упущенные возможности 280
Верховный главнокомандующий 300
Интриги 330
Второй человек в государстве 350
Воздушные налеты 364
Гитлер осенью 1943 года ...382
Распад 406
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Болезнь 426
Трижды проигранная война 449
Неверные расчеты. «Чудо-оружие» и СС 468
Операция «Валькирия» 486
Под натиском западных союзников 512
Падение в пропасть 531
Дьявольская одержимость 560
Ультиматум Гитлера 573
Пять минут первого 592
Разгром 604
ЭПИЛОГ
Плен 630
Нюрнберг 648
Выводы 663
Послесловие 671
Именной указатель 672
Альберт Шпеер ВОСПОМИНАНИЯ
Редактор Игорь Захаров
Корректор Виктория Чуткова
Художественное оформление Григорий Златогоров
Верстка
Валерий Кечкин
Выпускающий редактор Вероника Рямова
Фотографии, отмеченные знаком ©Bundesarcive используются на условиях CC-BY-SA
Издатель Ирина Евг. Богат Свидетельство о регистрации 77 № 006722212 от 12.10.2004
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9 (рядом с Никитскими воротами, отдельный вход в арке)
Тел.: 691-12-17, 258-69-10. Факс: 258-69-09 Наш сайт: www.zakharov.ru E-mail: info@zakharov.ru
Подписано в печать 07.10.2010. Формат 84x108732- Бумага писчая. Уч. печ. л. 36,12. Тираж 3000 экз. Заказ № 768.
Отпечатано в полном соответствии с предоставленным оригинал-макетом в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. http://www.uralprint.ru e-mail: book@uralprint.ru
В серии
БИОГРАФИИ И МЕМУАРЫ издательства «Захаров» также читайте:
АЛЬБЕРТ ШПЕЕР
«Шпандау: тайный дневник»
Альберт Шпеер (1906—1981) был личным архитектором Гитлера, его доверенным лицом и протеже, рейхсминистром вооружений и военной промышленности; и к концу войны стал вторым наиболее влиятельным человеком в нацистской Германии. Шпеер также был единственным из двадцати двух нацистских лидеров, кто на Нюрнбергском процессе взял на себя бремя вины за военные преступления рейха. Его приговорили к двадцати годам тюремного заключения, которые он провел в Шпандау вместе с шестью другими высокопоставленными нацистами — Гессом, Редером, Ши- рахом, Функом, Нейратом и Дёницем.
Двадцать лет Шпеер записывал свои воспоминания микроскопическим почерком на туалетной бумаге, обертках от табака, листках календаря, а сочувствующие охранники тайком переправляли их на свободу. Таким образом из 25 000 разрозненных листов получилось две книги — «Воспоминания» и «Шпандау: тайный дневник».
Полный список книг смотрите на www.zakharov.ru
КНИГИ «ЗАХАРОВА» В РОЗНИЦУ Самый полный ассортимент и минимальные цены!
КНИЖНАЯ ЛАВКА ПРИ ЛИТЕРАТУРНОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО (ООО «СТАРЫЙ СВЕТ»)
г. Москва, Тверской бульвар, 25 (вход только с ул. Большая Бронная, метро «Пушкинская», «Тверская»)
понедельник—пятница с 11.00 до 19.00 суббота с 12.00 до 17.00
тел.: (495) 694-0198; e-mail: yn@ropnet.ru
МАГАЗИН
«ГУЛЛИВЕР»
г. Санкт-Петербург,
проспект Обуховской обороны, д. 103, корпус 1. тел.: (812) 412-9596
Наши книги можно купить:
В Москве:
Книжный магазин «Москва» ул. Тверская, д. 8, стр. 1 тел. (495) 629-64-83
Московский Дом Книги ул. Новый Арбат, д. 8 тел. (495) 789-35-91
Торговый Дом «Библио-Глобус» ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5 тел. (495) 628-35-67
«Молодая Гвардия» ул. Б.Полянка, д. 28 тел. (495) 238-50-01
Книжная лавка при Литературном Институте им. М.Горького Тверской бульвар, д. 25 тел. (495) 694-01-98
В Петербурге:
Магазин «Гулливер»
Проспект Обуховской обороны, д. 103 тел. (812) 567-95-96
Сеть магазинов «Буквоед»
www.bookvoed.ru
тел. (812) 601-06-01
ОАО Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом Книги»
СПб, ул. Невский проспект, д. 62
В Новосибирске:
Сеть магазинов фирмы «Аристотель» Красный проспект, д. 17 Красный пропект, д. 29/1 Ул. Ильича, д.6
В Екатеринбурге:
Дом Книги
ул. АВалека, д. 12, тел. (343) 358-18-98
Книжный магазин «100000 книг» ул. Ленина, д. 49, тел. (343) 371-24-25
В Сибири и на Дальнем Востоке:
«Топ-книга»
www.top-kniga.ru
В Нижнем Новгороде:
Дом Книги
ул. Советская, д. 14А
В Ростове-на-Дону:
Сеть магазинов «Магистр» www.booka.ru
В Рязани:
«Барс» Супермаркеты «Книги» Московское шоссе, д. 51 ул. Есенина, д. 13Г
В Самаре:
Магазин «Пиквик» ул. Куйбышева, д. 95
Книготорговая фирма «Чакона» www.chaconne.ru
В Волгограде:
«Учебная и деловая книга» Проспект Ленина, д. 75
В Смоленске:
Магазин «Кругозор»
ул. Октябрьской революции, д. 13
В Уфе:
Сеть магазинов «Планета» ул. Ленина, д. 20 ул. Кувыкина, д. 14
На территории Украины:
Издательство «Арий»
Киев, проспект 50-летия Октября, Д.2Б
На территории Казахстана:
Сеть магазинов «Меломан» www.meloman.kz
Онлайн магазины:
www.ozon.ruwww.soyuzkniga.ru