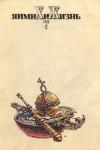Text
CI
Гч
г
i
о
£2
о
z
ю
со
знь
химия и жизнь *7
Издается с 1965 года щ
ЛИЦОМ К ЛИЦУ С ЧИТАТЕЛЕМ 4
«ИДИТЕ К ЧЕРТУ!...ТО ЕСТЬ КО МНЕ» Б.Горзев 10
ГЕНЕТИКА ДОСТОЕВСКОГО И ЕГО ТВОРЧЕСТВО.
В.П.Эфроимсон 15
ТАЙНЫ ГЕНИЯ. М.Д.Голубовский 20
РЕКВИЕМ ПО ШЕСТИДЕСЯТЫМ. ИЛИ ПОД ЗНАКОМ
ИНТЕГРАЛА. А.И.Бурштейн 22
СТОИТ ЛИ СЛУШАТЬ ВОРЧУНОВ? В.Иноходцев 27
ФИЗИКА И ВЛАСТЬ. В.П.Визгии, Л.Каховский 28
ИЗ МЕТАНА — МЕТАНОЛ. В.САрутюнов и др 34
НЕМНОГО О ЧЕЧЕВИЦЕ. Ю.ПЛаптев 38
И ОСТАЕТСЯ ОСАДОК... Ю.Пирумян 41
ТЕХНОЛОГИЯ СЫТОСТИ. Ю.ИЛюбимов 44
ТИОСУЛЬФАТНАЯ ИСТОРИЯ. Л.Викторова 48
КАК ПОЙМАТЬ ДОПИНГ. СЛ.Болотов 52
ЦЕНА. СКатасонов 56
ГОЛУБАЯ ГОСТИНАЯ. Б.Грабал 62
МУХОМОРНАЯ БРАТИЯ. В.Петришин 66
СВОИ ПО ДУХУ. ИЛИ О МУРАВЬИНЫХ КУКУШКАХ.
С.В.Воловник 68
ПТИЦА ПРИЯТНАЯ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ.
М.3.3алесский 70
ОТОБРАЛИ ОТБОР. Е.А.Рашкован 74
МОСКВА — ПЕКИН И (ГЛАВНОЕ) ОБРАТНО. МБогачихин...80
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ: «НО РАЗВЕ МОЖНО СУДЬБЫ
ВЫСМОТРЕТЬ?» 96
ГОРИ, ГОРИ ЯСНО... П.Сенников Л 98
НОВОСТИ НАУКИ 6
НА ОБОЛОЖКЕ: рисунок Л Л„
А.Астрина ОБОЗРЕНИЕ 32
к статье.Цена, ИНФОРМАЦИЯ 47,55,106
НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ . Л „ Л
ОБЛОЖКИ: картина ИРабузина ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ 78
«Мой сын». Этот босоногий „ Л _. „ ,:
мальчуган КЛУБ ЮНЫЙ ХИМИК 86
в некотором роде поднимает y4FHblF лоСУГИ 92
сельское хозяйство. А у нас такое ^дпшьди^лн ^
дело по плечу более серьезным л л
людям-например КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ 110
военно-промышленному комплексу. _„.„.__, „„^ , 1П
Подробности в статье ПИШУ!, 41 и... ии
«Технология сытости». „
ПЕРЕПИСКА 112
2
52
Один из пиков этого масс-спектра
едва не поставил крест на карьере
Бена Джонсона — выдающегося
спринтера из Канады. Как и
почему это произошло, и насколько
справедливым был приговор?
STflHOZOLOL Metabolite, TMS-HFB
is
300 401
.Mass/Chwg*
56
Как насчет пивка?
10
...Какой-то исходил от него магнетизм,
магнетизм иного знания, иной философии,
иного духа. «Хотите верьте, хотите нет, но это
так, — как бы подчеркнул он желчно, — и
идите к черту, я никого тут не стараюсь
убедить!»
70
«Все, конечно, слышали о «японском
чуде», но вряд ли кто-нибудь
догадывается, что свой посильный вклад,
вероятно, в него внесли и перепелки.»
Одним из самых знаменитых
очагов сопротивления
тоталитаризму стал в 60-е годы
клуб «Интеграл» в новосибирском
Академгородке.
• *•
Через пять лет мировое
производство токопроводящих
пластмасс увеличится вдвое.
«Financial Times».
15.11.91
1*
ш
Полугодие
Чуть меньше года назад A991,
№ 9) мы рассказали
читателям о тогдашних предподпи-
сочных трудностях и
пообещали, что будем держаться до
последнего, чтобы не подымать
цену на «Химию и жизнь» —
журнал нищей нашей
интеллигенции. И продержались,
сумели, хотя черные кони инфляции
темп развили немыслимый.
До предела обнищала наука.
Печать — тоже. Рентабельных
изданий в этом году почти не
стало, журналов во всяком
случае. Вот и «Химия и жизнь»
после двадцати лет
относительного финансового благополучия,
без которого нас давно бы
прикрыли, стала самым убыточным
из всех академических
журналов. Потому что остались — с
вашей помощью — самым
массовым журналом Академии.
Тревожные сигналы
появились еще зимой. Около полутора
миллионов собрали по
подписке — но около двух миллионов,
по договору с Чеховским поли-
графкомбинатом, стоит
изготовление годового тиража. И это,
оказалось, по-божески: другие
типографии с других изданий
брали больше. А бумага? Год
назад полтораста бумажных
граммов, необходимых для одного
номера нашего журнала,
обходились копеек в тридцать, в
этом году — в пятерку, даже
если не считать затрат на
перевозку и хранение. Не в
копейках — в рублях стали
исчисляться и расходы на доставку
журнала подписчикам. И если
4
год назад именно двухрублевые
розничные экземпляры помогли
нам свести концы с концами,
то в этом году «Союзпечати»
(бывшей) стало невыгодно
пускать журнал по киоскам,
если цена его меньше шести
рублей,— вот почему «Химии и
жизни» не найти в киосках.
Были вынуждены среди года
объявить дополнительную
подписку многие уважаемые нами
издания, в том числе
независимые, чья свобода от диктата
издательств для нас была
предметом зависти: «Знание —
сила», «Наука и жизнь»,
«Изобретатель и рационализатор»,
«Комсомолка»... Мы решили
держаться до последнего, пошли
путем «Известий»:
подписавшиеся на год получат все номера
журнала по старой цене, новая
подписка — с середины года —
уже по-новому, по существу, по
себестоимости. Жаль, конечно,
но иначе, поступать было
нельзя.
Нам помогли устоять. Прежде
всего — Российская Академия
наук, сегодня крайне бедная.
Еще в январе ее новые и старые
лидеры высказали свое
отношение к просветительской прессе
однозначно: не станем заметно
сужать информационное
научное поле, будем по возможности
поддерживать все журналы,
выходящие под эгидой Академии.
Помогло и правительство
России, включив «Химию и жизнь»
в число изданий, которым, пусть
частично, но было
компенсировано бремя новых затрат.
Помогли наши замечательные
авторы и художники, месяцами
не получавшие причитающихся
им гонораров. В масштабах
страны эти суммы, конечно,
мелочь, но — не в масштабах
личных, дырявых, как у всех нас,
бюджетов. Нельзя не помянуть
добрым словом бывшего
директора издательства «Наука»
профессора С. А. Чибиряева,
успевшего заранее закупить и завезти
в типографию сотни тонн
бумаги для печатающихся там
научно-популярных журналов.
Всем — спасибо! Но грядет
новая подписная кампания —
странная, как само наше время.
О ее особенностях чуть ниже,
а здесь — главное.
При рыночных отношениях
выпускать книги и журналы в
убыток может себе позволить
лишь очень богатая фирма.
Российская Академия наук к их
числу, поверьте, не относится.
Вот почему сегодня, в ценах
июля» стоимость одной
книжки «Химии и жизни»
получается не меньше 12 рублей.
В пять рублей обходится
бумага, по три — полиграфия и
доставка. Последний,
двенадцатый рубль — доля всех
сотрудников журнала, авторов и
художников, их командировок
и телефонных переговоров...
Может даже и не хватить.
К концу полугодия цена на
нужную нам офсетную
бумагу приблизилась вплотную к
40 тысячам за тонну.
Полиграфисты ясно дали понять,
что в новом году они
оценят свои услуги заметно
выше, чем в нынешнем, раза в
три... Словом, надеяться на то,
что себестоимость журнала
окажется меньше 15 рублей,—
нет оснований. Именно эту
цифру мы и сообщили в
«Роспечать», составлявшую новый
подписной каталог. Это
минимум, и есть в этих цифрах
элемент риска: шансы
недобрать, естественно, выше, чем
перебрать, но мы идем на это
сознательно. Есть в запасе
реклама, есть надежда на
дополнительные коммерческие
издания, например
информационный бюллетень для химических
предприятий и деловых
людей, который мы намерены
выпускать с нового года. Есть,
наконец, возможности
книжных приложений, которые мы
хотим возобновить, хотя,
очевидно, стоить они будут уже
не 3 руб., а в несколько раз
больше...
Предварительные прикидки
показывают, что если мы при
таких ценах сохраним хотя бы
половину своих подписчиков,
журнал — не умрет. Выходит,
дело теперь за вами.
Почти все мы в эту
подписную кампанию будем
вынуждены ограничиться одной
газетой, одним журналом. В наших
общих интересах, читатель,
чтобы твоим единственным
журналом осталась «Химия и жизнь».
Что нового будет в журнале
в будущем году? Прежде
всего, довольно много хорошо
забытого старого, начиная с
полезных советов и кончая
фрагментами книг Д. И.
Менделеева «Заветные мысли» и
«К познанию России».
Последняя ни разу не издавалась за
годы советской власти, а
Дмитрий Иванович, как известно,
был зело мудрый мужик, и ли-
тературным даром Господь его
не обделил...
Еще планируем цикл статей
о приемах самозащиты для
физически не слишком сильных
людей. Обоего пола.
О естественно-научных
основах саморегуляции задуман
цикл. Обязательно опубликуем
новые рассказы Бориса Горзе-
ва — из авторов, впервые
напечатавшихся в этом году, он,
наверное, самый
запоминающийся.
Ну а в основном мы
намерены придерживаться своей
традиционной линии — в науке и
литературе, экологии, химии и
жизни. Вот только политики,
думаем, в том году на наших
страницах будет еще меньше —
обрыдла!
Мы помогаем всем,
кто начинает жизнь в Израиле!
Вас или Ваших близких,
уехавших в Израиль
менее трех лет назад,
мы включим
в «Программу помощи
репатриантам из бывшего
СССР*.
Ваши спонсоры в Израиле —
крупнейший страховой концерн
«Мигдал»,
первый национальный банк
Израиля «Леумн»,
больничная касса «Меухедет».
Телефоны представительств:
Санкт-Петерйбург — 217-42-71,
Кишинев — 72-78-34,
Днепропетровск — 45-35-08,
Рига — 39-55-09,
Баку — 95-10-32,
Львов — 35-57-88,
Киев — 295-90-77,
Харьков — 38-63-75,
Одесса — 24-32-49,
Гомель — 53-43-79,
Тбилиси — 96-52-74,
Минск — 48-48-53.
КЕШ32Е2Й
Годовой подписки, как
большинство из вас, наверное, уже
знает,— не будет. Редакции
сообщили центральному
агентству «Роспечати» так
называемую каталожную цену и
периодичность. Цену мы
назвали: 15 рублей за номер, 45 —
за квартал, 90 — за
полугодие. Периодичность остается
прежней. Однако «Роспечать»,
начиная подписку, будет
вынуждена, очевидно, увеличить
обозначенные нами цены, введя
инфляционный индекс. Единый
для всех. Буквально
накануне подписки. Кроме того, в
разных городах и селах цены
на подписку будут разными:
каталожная цена
предусматривает доставку журнала лишь на
ближайшую железнодорожную
станцию или аэропорт, а
дальше — за счет местных
бюджетов, которые и установят свои
доплаты (надеемся, не слишком
большие). Более существенно от
каталожной цены могут
отличаться подписные цены за
пределами России, но тут наши
возможности воздействия вообще
равны нулю.
Не исключено, что в случае
еще одного витка инфляционной
спирали в начале будущего года
придется доплачивать за
подписку на второй квартал.
А дальше — на второе
полугодие — новая подписка по новым
ценам (Каким? И думать не
хочется.)
Вот такие дела.
Ваша «Химия и жизнь»
Программа помощи для репатриантов из бывшего СССР — это
подарок в две тысячи долларов.
В программе:
* бесплатное медицинское обслуживание в лучшей больничной
кассе «Меухедет» в течение восьми месяцев (вместо шести,
предоставляемых государством) и еще в течение шести месяцев с 50
процентной скидкой;
* бесплатная круглосуточная неотложная стоматологическая
помощь;
* бесплатное страхование жизнн на сумму 10000 долларов сроком
на один год (при дальнейшем паенакоплении выигрыш от 200 до
600 долларов на вашем счете);
* льготная ссуда на покупку автомобиля в размере 60 процентов от
его стоимости;
* оплата банком «Леуми» первого взноса по возврату ссуды на пот
купку квартиры;
* подарочный чек на сумму 50 долларов для оплаты любых видов
страхования, действительный в течение двух лет;
* подарок в размере одного процента при открытии счета в банке
«Леуми»;
* бесплатное ведение счета в банке в течение шести месяцев;
* повышенный текущий процент;
* повышенный процент на вклад в иностранной валюте;
* книжка купонов на скидки при покупке товаров на сумму в 1000
шекелей;
а также помощь при осуществлении проектов, консультации по
вопросам трудоустройства, поддержка деловой инициативы и в
налаживании торговых связей и многое-многое другое.
ПРОГРАММА ПОМОЩИ РЕПАТРИАНТАМ ИЗ БЫВШЕГО
СССР —
ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ИЛИ СВОИМ
БЛИЗКИМ
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО ЖИЗНИ В ИЗРАИЛЕ.
Оформление документов в рублях.
Консультации по вопросам страхования: 113095 Москва, ул.
Островского, д. 32 (рядом с посольством Израиля). Телефон для
справок: 231-11-93.
5
г^о&оЫги faUftcu,
Упреждающий
удар
вируса
J.W. Moore, G.L. Smith,
«EMBO Journal», 1992, v. 11,
№ 5, p. 1973
Вирус осповакцины, или
коровьей оспы, знаменит дважды.
В первый раз он прославился
как первая живая вакцина,
избавившая человечество от
оспы; во второй раз — как
обладатель самого большого,
полностью расшифрованного
генома (его ДНК имеет длину
200000 нуклеотидов).
Анализируя на ЭВМ
информацию, записанную 'в
ДНК вируса, удалось
предсказать большое число
неизвестных генов, а значит
— и первичную структуру
кодируемых белков. Но что
это за белки? Тогда ввели
данные в компьютер и
сравнили со всеми известными
полипептидными
последовательностями из банка
данных.
Неожиданно оказалось, что
ген SalF7L кодирует белок, на
31% гомологичный по
структуре человеческому ферменту
ОСДИ C-оксистероиддегид-
рогеназа 4-5-изомераза). Как
известно, ОСДИ катализирует
окисление ОН-группы в
положении 3 стероидного кольца и
перемещение двойной связи.
Это заключительная стадия
биосинтеза прогестерона —
стероидного гормона
млекопитающих.
Любые теоретические
результаты нуждаются в
проверке экспериментом. Авторы
вырезали ген из ДНК вируса
и размножили; затем
заставили его работать в бактериях
Escnerichia coli и в культуре
тех клеток млекопитающих,
которые сами ОСДИ не
производят. Полученный белок
по составу антигенов
родственен ОСДИ человека и
катализирует in vitro реакцию
превращения прегнанолона в
прогестерон.
Итак, гипотеза доказана.
Но что бы все это значило?
Ведь стероидные гормоны в
организме человека
синтезируются только
специализированными клетками коры
надпочечников, яичников
или семенников и плаценты;
в остальных же тканях
соответствующие гены молчат —
в том числе и в клетках
кожи, которые поражает вирус
осповакцины. И для чего
вирусу прогестерон?
Известно, что в организме
этот гормон служит исходным
сырьем для синтеза глюко-
кортикоидов — гормонов
стресса, которые подавляют
иммунитет. Авторы
предполагают, что выработанный в
зараженной клетке по лицензии
вируса кортизон проникает в
ткани, окружающие
инфекционный очаг, и ослабляет их
защитную реакцию, помогая
тем самым вирусу
распространяться.
Ген SalF7L не относится к
числу жизненно
необходимых: в тепличных условиях
лабораторной культуры, на
специально подобранных
линиях клеток, штамм
вируса без гена SalF7L
прекрасно растет и размножается. А
вот в живой мышке ему
приходится заметно хуже, чем
полноценному собрату,
который наносит по обороне
организма упреждающий удар.
И ферменты
конфликтуют...
LH. Sellner, R.J. Coelen,
J.S. Mackenzie, «Nucleic
Acids Research», 1992, v.20,
№ 7, p. 1487
Метод полимеразной цепной
реакции (ПЦР или PCR
соответственно) основан на
многократной репликации
(амплификации) молекул
ДНК in vitro с помощью
термостабильной ДНК-полиме-
разы из термофильных
бактерий рода термус:
Тополи меразы из Thermus
aquatiqus и Т^-полимеразы
из Т. thermophilus.
С помощью ПЦР следовые
(фемтомолярные) количества
ДНК можно легко, быстро и
без особых затрат размножить
до вполне приемлемых для
работы концентраций. Были
бы только нужные олигонук-
леотидные праймеры
(затравки). Не случайно этот метод
стал мини-революцией в
технике работы с ДНК. И не
только ДНК, но и РНК: с нее
при помощи другой ДНК-
полимеразы — обратной
транскриптазы или ревертазы
снимают ДНКовую копию,
которую амплифицируют
обычным порядком.
Все методики
совершенствуются в сторону упрощения:
поскольку любая стадия
очистки влечет неизбежные потери
и потому нежелательна в
микроанализе, Taq-полимеразу
стали добавлять в реакционную
смесь, не удаляя
предварительно обратную транскриптазу —
ведь первый фермент работает
при 70°С, а второй при этой
температуре инактивируется
(для ревертазы оптимум —
37°С).
Но тут исследователей
ожидал неприятный сюрприз:
оказалось, что ревертаза, даже
полудохлая, сильно подавляет
термофильную ДНК-полиме-
разу.
Исследователям урок:
всякое упрощение имеет предел;
придется-таки устранять
белки в пробе после стадии
обратной транскрипции.
Но зато открыт новый
интересный факт —
интерференция двух разных
ДНК-полимераз. И кто
знает, быть может Тач-пол-
имераза послужит основой
для разработки ингибиторов
обратных транскриптаз онко-
генных вирусов, пригодных
для профилактики и лечения
онкологических заболеваний,
СПИДа, гепатита В.
Фуллерены
в действии
RJ.Meilunas, R.P.Chang,
Shengzhong Liu, Manfred
M.Karres, «AppL Phys. Lett»,
1991, v.59, № 26. p.3461)
Тонкие алмазные пленки —
перспективные защитные
покрытия в электронике.
Обычно их наносят методом
химического осаждения из
пара (Chemical Vapor
Deposition — CVD). Однако
здесь, чтобы получить
достаточно высокую плотность
зарод ышеобразова ни я на
поверхности, а значит —
непрерывные пленки,
требуются высокие температуры и
специальная подготовка
поверхности (она должна быть
идеально гладкой).
Полировать большие и неплоские
поверхности — дело крайне
сложное, что весьма
затрудняет коммерческие
применения алмазных покрытий.
Авторы данной работы
решили предварительно обрабатывать
поверхность фуллеренами Сбо и
С70- На поверхность
субстратов (Si, Mo, Si02> наносили
тонкий слой этих углеродных
кластеров либо в виде
непрерывного покрытия толщиной
500 — 2000 А, либо пятнами
200 мкм диаметром.
Эксперименты проводили
в микроволновом плазменном
реакторе, обычно
используемом для проведения CVD, при
частоте 2,45 ГГц, давлении
100 Торр, температуре 900°С
и газовой атмосфере состава
1%СН4/Н. Нанесенный слой
кластеров предварительно
активировали с помощью
микроволнового разряда в
газовой смеси 15%СН4/Н
при давлении 15 Торр,
подавая при этом на субстрат
отрицательное напряжение
200—300 В.
Оказалось, что такая
обработка поверхности на редкость
удачна — на ней хорошо
образуются зародыши, растут
алмазы и получаются плотные
поликристаллические
алмазные пленки.
Причем предварительно
нанесенный на поверхность
фуллерен Cjo усиливает заро-
дышеобразование на 10
порядков! В случае Сбо эффект
заметно ниже, хотя тоже
составляет несколько порядков.
Если же фуллереновый слой
не активировать, то алмазные
пленки расти не будут.
Обнаруженный эффект
открывает широкие
возможности. Например, с помощью
этого метода можно делать
литографические шаблоны, если
наносить кластеры углерода
на определенные участки
поверхности, где и будут расти
пленки.
< 43^^ .:.
Дюссельдорфская
осень:
каучук и пластики
со всего мира
Более 2200 фирм из 37 стран
примут участие в
Международной специализированной
выставке пластмасс и каучука
«К-92» в Дюссельдорфе
(ФРГ), с 29 по 5 ноября.
Будут представлены:
технологические линии и отдельные
агрегаты, исходные,
вспомогательные и готовые материалы,
изделия из них —
всевозможного назначения, способы
решения экологических проблем,
волнующих мир в связи с
ростом производства полимерных
материалов.
Фирма «Мессе
Дюссельдорф» уже более сорока лет
проводит
специализированные выставки с
международным участием. В первую
очередь это выставки машин и
оборудования, однако химия и
особенно химия полимерных
материалов — желанный гость
на стендах дюссельдорфского
выставочного городка. Первая
экспозиция, тематически
подобная «К-92», называлась
«Удивительный мир полимеров» и
была организована в ФРГ ровно
40 лет назад. А предстоящий
смотр неофициально называют
всемирной ярмаркой пластмасс
и каучука.
Для специалистов, а
дюссельдорфские выставки
ориентируются именно на них, эта
выставка интересна прежде
всего тем, что позволит
проследить мировые тенденции в
промышленности полимерных
материалов. Известно, что
восьмидесятые годы были для -
этой отрасли чрезвычайно
благоприятным временем:
наблюдался стабильный рост
производства и материалов, и
оборудования. Но уже в
середине 1990 г. стало заметно, что
и этот сектор не осталсянезатро-
нутым общим конъюнктурным
спадом в мировой экономике.
Однако прогноз на ближайшие
годы остается благоприятным: в
пластмассах и эластомерах
специалисты по-прежнему видят
«воздействующие материалы»,
способные повлиять на развитие
многих отраслей, в том числе и
тех, что никогда не относились
к числу традиционных
потребителей этого вида продукции. Не
потому ли все места и площади
на стендах «К-92» оказались
забронированными задолго до
открытия выставки?
Чем интересна она
нарождающемуся классу
отечественных предпринимателей? Да все
тем же: мировыми
тенденциями, возможностью реальных
оценок как собственных
достижений и перспектив, так и
потенциальных партнеров или
конкурентов. Информация из
первых рук — ценность
непреходящая.
Будет на выставке и
большой раздел, посвященный ути-
лизации полимеров после
однократного их
использования, или рискайлингу. Пока —
данные 1991 года — в странах
Европейского Сообщества
утилизируется в виде материалов
7%, а в качестве
энергоносителей — 15% использованных
пластмасс. Но это, как
утверждают специалисты, только
начало. А Рискайлинг-центр
выставки «К-92» обещает
продолжение, вплоть до обратного
преобразования
использованных полимеров в молекулы
исходных веществ. Одним словом,
выставка обещает быть очень
интересной, и если у вас есть
средства и намерения...
Телефон
представительства фирмы «Мессе
Дюссельдорф» в Москве: 259-77-29.
:- ^ШЩ^,Щ^ТЩШ
Новый
фотохимический
элемент
Brian O'Regan, Michael
Gratzel, «Nature», 1991,
v.353, № 6346, p. 737
Швейцарским ученым удалось
сконструировать недорогой
фотохимический элемент —
преобразователь световой
энергии в электрическую,
который можно изготовить из
материалов низкой и средней
чистоты с помощью
относительно дешевых процессов.
Фотоэлемент состоит из
фотоэлектрода и стеклянного
электрода, погруженных в
раствор редокс-системы.
Фотоэлектрод сделали на основе
оптически прозрачной пленки
из частиц полупроводника
ТЮ2 нанометровых размеров.
Частицы оксида осаждали из
коллоидного раствора на
стеклянный электрод, а затем
покрывали монослоем красителя
с переносом заряда, чтобы
повысить чувствительность
пленки к видимому свету. Свет,
поглощенный красителем,
возбуждает электроны
вещества и они легко
перемещаются (инжектируются) в
зону проводимости
полупроводника. Краситель при этом
переходит в окисленную
форму, а затем
восстанавливается восстановленной
формой редокс-пары: электроны
от фотоэлектрода по внешней
цепи идут к стеклянному
электроду, на котором и
восстанавливается окисленная
форма редокс-пары.
Чтобы обеспечить
электронный контакт между нано-
частицами, пленку подвергали
краткому спеканию при 450°С.
Эффе ктивные поверхности
пленки и размер пор
определяются размером частиц ТЮг и
толщиной пленки. Эти
параметры оптимизировали, чтобы
достичь наилучших свойств
фотоэлектрода и обеспечить
свободную диффузию
электролита в пленке: средний
размер частиц составлял 15 им, а
толщина пленки — до 10 мкм.
В результате эффективная
площадь поверхности
увеличилась почти в 2000 раз.
Сами по себе пленки из
чистого оксида бесцветны и не
поглощают свет в видимой области
(край поглощения соответствует
3,2 эВ — 390 нм как в
кристаллическом анатазе). На пленки
наносили монослой красителя,
представляющего собой тример-
ный рутениевый комплекс:
RuL2(^-(CN)Ru(CN)L'2]2, где
L = 2,2 -бипиридин-4,4 -дикар-
боновая кислота, L ~ 2,2 -бипи-
ридин. При этом пленка
окрасилась в
коричнево-красный цвет и начало поглощения
сдвинулось до 750 нм.
В экспериментах размер
фотоанода составлял 0,5 см , про-
тивоэлектрод помещали прямо
над рабочим электродом
(проводящее стекло, покрытое
несколькими монослоями Pt).
Тонкий слой редокс-электро-
лита — Ml + 12 @,5 - 0,02 М
Ml +0,04 М12) в органическом
растворителе — проникал в
межэлектродное пространство
под действием капиллярных
сил. Выход фототока зависел от
противоиона в редокс-системе
иодид/трииодид — наилучшие
результаты получены в случае
М+ » Li+. Зависимость
фототока от длины волны
облучения хорошо согласуется со
спектром поглощения
красителя. Это подтверждает, что
ток действительно обусловлен
инжекцией электронов в зону
проводимости ТЮ2.
Благодаря большой
площади поверхности
полупроводниковой пленки и идеальным
спектральным
характеристикам красителя, устройство
собирает значительную часть
падающей солнечной энергии
D6%) и весьма эффективно
преобразует падающие
фотоны в электрический ток
(80%). Общий выход
конверсии достигает 7,1—7,9% в
искусственном солнечном свете
и 12% в рассеянном дневном
свете. Высокие плотности
тока A2 мА/см ),
исключительная стабильность (не
менее 5 млн чисел оборота без
разложения), низкая
стоимость... Чрезвычайно
привлекательный фотоэлектрод!
Космическая рябь
«Science», 1992, v.256, p.612
В 1964 г. американские
радиоастрономы А.Пензиас и
Р.Вилсон обнаружили слабое
излучение, равномерно
заполняющее всю Вселенную
— как бы аналог
классического эфира. Уровень этого
радиофона одинаков по всем
направлениям, значит его
источником не может быть
никакой ограниченный по
размеру космический объект.
Откуда взялось
излучение? Единственное
убедительное объяснение —
считать его отголоском
прошлого состояния Вселенной,
когда она была горячей и
компактной (поэтому по
предложению И.С.Шкловского его
назвали реликтовым
излучением) . Это открытие, за
которое Пензиас и Вилсон
получили Нобелевскую
премию, стало важнейшим
подтверждением теории
Большого взрыва,
выдвинутой Г.Гамовым с
сотрудниками в конце сороковых годов.
Но полная изотропность
реликтового излучения
одновременно создала
трудноразрешимое противоречие: ведь
нынешний космос не
однороден — видимое вещество
(звезды, галактики и их
скопления) распределено
неравномерно. И для того, чтобы
эти структуры могли
возникнуть под действием сил
гравитации, уже на ранней стадии
эволюции космоса должны
были существовать
небольшие возмущения плотности
материи, послужившие
затравками для ее конденсации.
Сейчас стало понятно, как
могли возникнуть такие
возмущения. Идея в том, что в первое
мгновение Вселенная крайне
быстро (экспоненциально)
расширилась — за 102 секунды
ее диаметр увелчился в 10 °
раз. При этом квантовые
флуктуации размером меньше
атомного ядра раздулись до
астрономических масштабов.
Важно, что эти
неоднородности наложились на уровень
излучения и в сильно
ослабленном виде неодинаковость
его яркости должна была
сохраниться до наших дней.
Поэтому, если теория верна,
то в реликтовом излучении
есть рябь, которую, несмотря
на все усилия, более четверти
века выявить не удавалось.
Но вот в конце апреля на
конференции Американского
физического общества в
Вашингтоне было объявлено,
что приборы научного
спутника СОВЕ (Cosmic
Background Explorer), запущенного в
1989 году, зафиксировали
искомые неоднородности. На
борту спутника установлены
чувствительные
микроволновые радиометры, которые
сканировали небо сразу на трех
разных частотах, что и
позволило достичь успеха — ведь
нужно было отделить
реальные изменения в уровне
излучения от помех, вносимых
нашей Галактикой, а также от
шума в самих детекторах.
Млечный Путь сильнее
излучает на более длинных
волнах, так что его влияние
удалось исключить. А после
этого рассматривали только
те флуктуации, которые
проявлялись одновременно на
двух других частотах.
Карты яркости всей
небесной сферы были завершены в
декабре прошлого года —
каждый детектор сделал
около 70 миллионов измерений.
Затем команда из 34 ученых
с помощью мощных ЭВМ
приступила к изучению
полученных данных.
Компьютерный статистический
анализ показал, что
достоверно наблюдаются отклонения
от среднего уровня на
тридцать миллионных градуса.
Распределение флуктуации
не зависит от масштаба, то
есть фрактально, как и
должно быть по теории.
Интересно, что советский
спутник уже обозревал
космос в 1983 году, и если бы его
аппаратура была всего в два
раза чувствительнее, то,
возможно, открытие было бы сде-
лано еще тогда. Сейчас
разработаны детекторы,
которые в сто раз восприимчивее
тех, что работают на СОВЕ.
Поэтому эффект может быть
зарегистрирован и
приборами, расположенными на
земле — необходимо получить
независимые подтверждения.
Космологи с энтузиазмом
восприняли эти результаты,
позволяющие восстановить
недостающее звено в истории
нашего мира. Хотя проблемы
остаются: плотность видимого
вещества во Вселенной
недостаточна для того, чтобы за
время, прошедшее после
Большого взрыва A5 — 20
миллиардов лет), успели
сформироваться космические
структуры. Поэтому
приходится допустить наличие
невидимой, «темной» материи.
Где она скрыта и что собой
представляет — это еще
предстоит узнать.
Подготовили:
А.Багатуръянц,
Л.Верховский,
В.Станцо,
В.Шумилов
Портреты
«Идите
к черту!.
То есть
ко мне»
Владимир Павлович
Эфроимсои
A908—1989)
Настоящие заметки не претендуют ни на
биографическую исчерпанность, ни на оценку
вклада в общую и медицинскую генетику
человека, о котором пойдет речь. Наука и
жизнь, понятно, неразрывны, и в конце
концов, почему бы не попытаться поговорить
об ощущениях — о том именно, что
составляет эмоциональную сторону бытия в науке.
Вот я, вот они, мы рядом, дальше или ближе,
мы в одном Деле, в одной такой, кажется,
долгой жизни. И вот я отстраняюсь, как
могу, и смотрю, смотрю...
В середине 60-х Эфроимсона пригласили
прочесть цикл лекций для студентов 5-го
курса I Московского мединститута. По
генетике. Впервые. В качестве факультатива
(то есть без обязательного посещения). Шел
дозволенный «сверху» ренессанс, впервые
было многое, прошлое совмещалось с
настоящим, и потому лицезрели Историю в чудом
сохранившемся виде. Представьте себе
состояние студента, на первых курсах
пользовавшегося учебником с гениальной фразой,
что генетику придумал австрийский монах
Мендель (было и такое!), а теперь
открывающего, что не только некоторые болезни, но,
скажем, и преступность — как фактор
асоциальной активности у определенной
категории лиц — может быть генетически
детерминирована. Студент балдел, но верил. Уж
больно убедительно покрикивал, разгуливая перед
доской, этот старик. И дело было даже не
в лавине фактического материала
(заграничного, разумеется); какой-то исходил от него
магнетизм, магнетизм иного знания, иной
философии, иного духа. «Хотите верьте,
хотите нет, но это — так,— как бы подчер-
10
кивал он желчно,— и идите к черту, я никого
тут не стараюсь убедить!» Только что
написанное на доске стиралось им быстро, даже
раздраженно, следом возникали новые знаки
или цифры, отрывисто, лающе
комментировались, доски уже не хватало, начинались
поиски сгинувшей тряпки, которую видели
все, но лектору подсказать побаивались, ибо
она покоилась в кармане его бывшего
до начала лекции черным пиджака.
Итак, лицезрели Историю в чудом
сохранившемся виде. История читала лекцию об
истинных тайнах бытия тупым студентам.
Тупость определялась, слава Богу, не
генетически; следовательно, был шанс. Его мог
использовать каждый, но использовали далеко
не все.
Странно или нет, но к тому моменту,
о котором идет речь, я уже кое-что знал
(хотя сомневаюсь, что умел думать — то есть
обладал научным стилем мышления; для его
формирования необходима Школа или хотя
бы нахождение подле Учителей; именно эту
роль впоследствии сыграл для нас В. П. Эф-
роимсон, или попросту Вэпэ; Школы же так
и не состоялось). Итак, кое-что я знал,
благо уже были читаны-перечитаны недавно
вышедшие эфроимсоновское «Введение в
медицинскую генетику» (первое отечественное)
и под его же редакцией «Основы генетики
человека» К. Штерна (первое переводное).
К тому же в рамках студенческого
научного кружка мною только что был сделан
нахальный доклад по генетике эпилепсии.
Всего этого, вместе взятого, оказалось,
вероятно, достаточно, чтобы после окончания
последней лекции того исторического для
1-го Меда цикла меня представили Самому.
Это походило на представление императору.
Правда, империя пребывала в руинах, а сам
император находился, похоже, в стадии
бытия на острове Св. Елены.
— И что? — донесся до меня, как сквозь
вату, его резкий, ничего хорошего не
сулящий голос...
— Способный студент, генетикой
интересуется, хороший доклад сделал,—
отрекомендовал меня доцент, и это прозвучало как:
подберите прокаженного в вашу резервацию,
а то девать некуда...
Эфроимсон глянул невидяще и вдруг
протянул руку.
— Так! — сказал и зачем-то
представился: — Эфроимсон... Так-так. А вы?.. Так,—
продолжил, явно пропустив мою информацию
мимо ушей,— так, и что? Что знаете? Какие
мысли? Чего хотите? Впрочем, неважно! —
перебил сам себя.— Э, записывайте! Так:
адрес, телефон... Собственно, телефон не
нужен. Адрес! Приезжайте. Работа есть. Вам
сколько еще тут, в институте, валять
дурака — год, два? Черт с ним! Работа есть.
А больше ничего обещать не могу. Не имею
права. Ничего!
И напоследок извлек-таки из пиджачного
кармана злосчастную тряпку, осыпав себя,
как пудрой, порошком мела. Отбросил ее,
схватил под мышку пузатый портфель и
поплыл вон из аудитории, по-прежнему
невидяще глядя перед собой, куда-то вперед,
только в ему одному известное вперед, на
свою Св. Елену...
Не в пример остальным жизненным
периодам в студенчестве сознание определяет
бытие. Студенчество и любовь совпадают по
статистике как-то чаще, чем студенчество
и наука. Короче, редкого исключения я
собою не явил, и Эфроимсон вместе с его
лекциями выплыл из сознания и обратился
в эфир... Истекло два месяца, а то и три,
и вот в один из редких вечеров, когда я
почему-то находился в родительском доме,
раздался телефонный звонок. Трубку взяла
мама и затем, повернувшись ко мне,
заговорила испуганным шепотом:
— Тебя. По имени-отчеству. Мужской
голос. Почти кричит...
Кричал он, действительно, часто, но шло
это не от злости, ему вовсе не
свойственной, а скорее от максимализма. Кажется,
более всего ему подходил принцип «все или
ничего». «Ничего» же отрицалось по
определению — некоему генетическому коду души.
Жизнь — одна, и слишком уж много
набралось вырванных из науки лет: посадки, война.
А сроки поджимали: почти шестьдесят.
В общем, мне досталось. С его позиций,
я был уже виноват.
— Что там у вас в голове? — каркало
в трубке.— Фемины небось? (Обидело не
угадывание, а именно множественное число.)
Короче, идите к черту! Хватит валять
дурака! (Сейчас бросит трубку,— подумалось со
страхом.) Да, все: идите к черту! —
громыхнуло напоследок.— К черту!.. То есть ко
мне...
Издевательски затараторили частые гудки,
а потом в сознание проник голос мамы:
— Кто же это тебе звонил?
Я назвал фамилию, но она тогда ничего
никому не говорила.
— Ну, представь себе,— попытался я
отыскать подходящую аналогию,— представь:
если бы ты была начинающим физиологом
и вдруг тебе домой позвонил бы... сам
Павлов!
Любовь или Эфроимсон — этого выбора
уже не стало, потому что Эфроимсон и стал
любовью. Так, будучи еще студентом (то
есть, оперируя сегодняшним языком, на
общественных началах), я оказался в его
тогдашней лаборатории на Потешной улице, в
11
одном из корпусов Института психиатрии
Министерства здравоохранения РСФСР. За
стенкой, в сопредельной лаборатории,
размещалась гвардия еще одной сохранившейся
исторической ценности — Александры
Алексеевны Прокофьевой-Бельговской. За
исключением этих патриархов — ее и Эфроимсо-
на — все были, говоря словами поэта,
ослепительно молоды, а кроме того,
одухотворенно прекрасны, честолюбивы, полны
надежд. Бог мой, какое собрание талантов:
Гиндилис, Ревазов, Гринберг, Стонова,
Калмыкова, Маринчева, Подугольникова, Кулиев,
Мирзаянц! Какие имена! Какое время там
было прожито, но кто мог тогда знать, что
лысенковщина не исчезает, а «только
переходит из одного вида в другой в
равновеликих количествах»! «Иных уж нет...» Эта
блестящая гвардия могла бы уже через
короткое время решить проблему Великого
Отставания советской медицинской генетики...
Великое Разочарование ждало впереди, и
потому вкалывали по-черному. Я —
по-прежнему на общественных началах (запрос от
лаборатории Эфроимсона при моем
распределении в 1-м Меде во внимание принят
не был, и я пошел в Мосгорздрав).
Приезжал вечерами и уже вне обычной суеты
что-то делал и наблюдал.
Работоспособность Вэпэ была
фантастической. На моих глазах воочию реализовы-
вался вариант, когда наука и жизнь
(собственно, бытие человеческое) даже не одно и
то же, а просто Одно. Тут не оставалось
места созерцанию, потребительству: все, до
чего касались интересы, обращалось в
Познание. А интересы — куда уж шире:
биология, генетика (общая и медицинская),
медицина (в наибольшей степени психиатрия),
социология, история, философия, литература.
Короче, энциклопедия — но не только
знаний, а (что важно!) инструментов
познания. То есть когда существенно не только
что, но и как.
(Впрочем, я с самого начала указал, что
буду оперировать ощущениями — и теми,
двадцатипятилетней давности, и
сегодняшними. Со строгих позиций это, конечно, не
самый тонкий и точный метод анализа.
Однако не забудем и пушкинское: «Или
воспоминание — самая сильная способность души
нашей?»)
Тогда же его сразил инфаркт (не
последний, к сожалению). Правда, сразил — не то
слово, ибо заставить Вэпэ лечь в постель
и ничего не делать оказалось делом зряш-
ним. Вызвали «скорую», но от
госпитализации он со скандалом отказался. Истекали
сутки, и продолжались уговоры. Параллельно с
этим сотрудники лаборатории искали
приличную больницу. Повезло мне: благодаря
маминым хлопотам удалось получить место в
недавно открытом инфарктном отделении
одной из клиник на Пироговке. Удача
редкая — ну прямо звезда с неба!.. Явившись
к Вэпэ, пришлось воспользоваться
последним и единственным, как мне подсказали,
шансом: если он откажется, то подведет
тех, кто за него хлопотал. И вправду: принять
на себя такой грех он не смог.
Зачастую брюзжание или покрикивание
(этакая петушиность) — эфемерная броня,
по сути, очень ранимых и застенчивых
людей. Я видел, как буквально в первый день
пребывания на больничной койке Вэпэ
оказался настолько потрясенным
добросердечием и обходительностью всего окружавшего
его медперсонала, что вскоре как-то сник
и если что и отвоевал себе, так лишь
возможность самому совершать паломничество
в туалет (в те годы при острых инфарктах
подниматься с постели, а то и садиться,
категорически запрещалось в течение многих
дней). Он стал мил и улыбался в ответ;
в непривычной атмосфере доброты и
заботливости ему ничего не оставалось, как
сделаться самим собой. Впрочем, это не
исключало потребности работать. О писании сидя
(громогласным требованием чего он
поначалу поверг в шок сестер и лечащего врача)
речь уже не шла, и он работал лежа, уперев
папку с бумагами в согнутые в коленях
ноги. В такой позе, как правило, я его там,
в клинике, и заставал. В преамбуле
слышалось стандартное: «Я работаю. Вы явились
мне мешать». Но затем он откладывал
исписанные листы и принимался говорить.
Рассказывать. Почти все, что я знаю о нем,
было выслушано там. Много набралось
рассказов — и о войне, и о лагерях, и о борьбе
с Лысенко и лысенковщиной, и о том даже,
как его, Вэпэ, студента (мальчишку!),
вышибли взашей из университета за то, что
позволил себе дерзость заступиться за
Учителя. В те годы, когда все начиналось. А
Учителем был — Четвериков.
Так выяснилось, в том числе, что доктор
наук, профессор имел неоконченное высшее.
С гениями, значит, случается и так...
В 68-м отмечали его шестидесятилетие.
Не без скрипа удалось соорудить юбилей.
В аудитории Зоологического музея Вэпэ
сделал доклад, а потом бросил фразу:
— Я не сомневался, что это — будет.
Что он имел в виду7 Не себя даже и не
юбилей, конечно, а вот такой, гласный (гро-
мо-гласный!) разговор о Ее Величестве
генетике... Дарили ему что могли. Найти нечто
подобающее оказалось делом непростым.
В конце концов, зная его любовь к поэзии
и, в частности, к Мандельштаму, я скрепя
сердце решился расстаться с одним из моих
12
немногих в те годы достояний:
приобретенной на «черном» рынке машинописной
перепечаткой знаменитого 'нью-йоркского
издания, хотя, как я знал, недостатка в стихах
Мандельштама у юбиляра не отмечалось.
Тем не менее реакция Вэпэ оказалась
неожиданной: рассмотрев дар, он неуклюже
попытался меня обнять, затем принялся
рыться в книжных полках (дело происходило
в его кабинете на Потешной) и наконец
извлек непрофессионально переплетеный
том, внешне похожий на только что ему
мною врученный. Раскрыв, я понял, что
становлюсь обладателем состояния, по
значимости утерянного не меньше. То был «самиз-
датовский» Гумилев. Что оставалось? Поот-
некиваться и принять. Принять дар от того,
к кому шел на день рождения. С ними,
великими, случается, значит, и так... А на
обложке того тома осталась сделанная мне
Вэпэ в тот день надпись: «Сотни этих стихов
десятки тысяч людей десятилетиями
держали в памяти и этому радовались». Далее,
ниже, подпись и дата. Вот и все.
Примерно в то же время он написал
знаменитую «Генетику этики», с трудом, но
увидевшую свет — и не где-нибудь, а в
«Новом мире», хотя и под несколько
измененным названием: «Генетика альтруизма».
Близость к Вэпэ дала мне возможность
сохранить первый, еще не прошедший горнило
редакторских и цензурных отборов вариант.
Говорят, дорого яичко к Христову дню.
Парадокс с «Генетикой этики» таков, что тогда
ее, действительно, не могли воспринять
многие, в том числе и в научной,
генетической среде; сегодня же она, как никогда,
нужна всем, даже не генетикам в большей
мере. Дело в том, как я уже отмечал, что
Эфроимсон всегда стремился не только
узнавать, но и — познавать. Не столько
феномены, сколько их истоки. Для многих
выглядело странным, что, оперируя генетикой как
методологией познания, он вовлек в орбиту
своих исследований такие, казалось бы,
нематериальные (а потому — идеальные)
явления, как этика, альтруизм, совесть и,
соответственно, их противоположности,
антиподы. Оказалось же, и тут генетика при чем.
Прежде об этом можно было рассуждать
только вечерами на «научных кухнях» или
же шепотом; теперь полезно бы и покричать,
дабы услышали. Вот цитата: «...природное
чувство совести можно временно заглушить
у части или у многих. Тот, кто его лишен,
легко накупит единомышленников. Он может
захватить власть и создать могучую систему
массового обмана и дезинформации. Но
страна, которая это допустит, обрекается чна
деградацию». И из заключения:
«Происхождение совести описано здесь предельно кратко
и фрагментарно (в «моей» рукописи всего
48 машинописных страниц.— Б. Г.), а
генетика и психология преступности, особенно
государственной (выделено мной.— Б. Г.),—
еще в пеленках. Но безгранично возросшие
возможности массового насилия и
дезинформации заставляют противопоставить им
осознанный общечеловеческий щит совести и
отношение к добру и злу как
основоположным категориям, не допускающим
софизмов».
Недопущение софизмов в отношении
основополагающих категорий бытия, жизни
автора «Генетики этики» не могло не сказаться
на его потерях в науке. Той именно, которая
повторным румяном зацвела в 70-е годы.
Пошли лишения. Но, оценивая трезво,
понимаешь, что отторгала его не наука, а эта
наука, эта академия, этот институт. Он,
Вэпэ, был прав: отбор шел всегда, и пока шел
этот отбор, наверх отбирались
преимущественно маленькие «лысенки», а истинные
ученые зачастую отбраковывались. Впрочем,
времена все-таки изменились: не стало
лаборатории или членства в ученом совете
Института медгенетики, но зато вместо бывшего
лесоповала официальная пенсия, а к тому же
должность научного консультанта на редком
островке научной этики — в Институте
биологии развития (что, опять Св. Елена7).
А главное — никто не мог лишить
возможности работать. Думать, познавать. На
общественных, так сказать, началах. За это
платят не вам — дензнаками, а платите вы —
килограммами сердца.
Он уже издавна облюбовал себе место в
профессорском зале Ленинки (единственная
профессорская привилегия, которой он
пользовался) и там фактически жил. Под
рукой, на полках, в хранилищах — масса
знаний, а инструмент познания всегда
наличествовал в голове. Остальное, как заметил бы
комментатор, было делом техники.
Делом техники стала Книга — научный
труд в истинном, первородном смысле этих
слов. «Генетика гениальности» — так она
именовалась в первом, рабочем варианте
(рукопись депонирована ВИНИТИ под
названием «Биосоциальные факторы повышенной
умственной активности»). Здесь не место
разбирать ее, давать оценки; не сомневаюсь,
это будет сделано — и не единожды, когда
книга наконец увидит свет, о необходимости
чего уже не раз было говорено в
соответствующих кругах. Выскажу только одно
суждение. Безусловно выдающийся,
экстраординарный Вэпэ всегда тяготел к познанию
экстраординарных явлений человеческой
природы. Здесь им виделись возможности
прорыва, ускорения прогресса. Таланты и
гении — эти бродильные дрожжи популя-
13
ции — поднимались над «средним» и, как
Гулливеры, опутанные лилипутами, тянули за
собой остальных — весь социум. Их
динамизм, вулканическая деятельность, эта их
неостановимость являлась составляющей
священного дара, и Вэпэ упрямо и долго
двигался по пути познания материальных —
биологических (генетических) основ и
механизмов подобного явления. Это, мне
думается, было не только любопытством (а
истинный ученый любопытен всегда) — тут
открывались перспективы, акселерация разума и
если не овладение, то прикосновение к его,
высокого разума, основам для использования
во благо. Генетика прогресса? А почему бы
и нет!.. В этом, главном плане Эфроимсон
был и навсегда останется патриотом
человечества, хотя, если иметь в виду
известную всем шестую часть земной суши, на
которой он проживал, познавая и страдая,
то патриотом ее он тоже был. Но в своем
отечестве, как известно, истинным пророкам
как-то не везло.
Впрочем, не везло с обыденной,
простите, обывательской точки зрения. Всего лишь
профессор, всего лишь научный
консультант, пенсионер. В общем, некий генерал
без армии. Да, в известно-привычной
иерархии он места не занимал. Но не оттого,
что был хуже или лучше, ниже или выше;
просто он был вне. Иерархия
казенно-бюрократического свойства и Эфроимсон —
вещи несовместные, как злодейство и гений,
если по Пушкину. Зато была и всегда
пребудет иерархия иная, не измеряемая
должностями, званиями и квадратными метрами
кабинетов: это — степе ь таланта и
человеческого достоинства. И в таком, совсем, как
понимаете, ином измерении (не
допускающем софизмов — помните?), место Эфроим-
сона, конечно, Олимп.
В конце 88-го в Институте биологии
развития отмечали его 80-летие. Отмечали
докладом самого юбиляра — на иное Вэпэ
просто не соглашался (опять в свой день
рождения не брал, а дарил). Собралась хорошая
аудитория, лишних, «при погонах», не было,
потому не было и официоза. После почти
часового доклада и ответов на вопросы
сидевшие в президиуме Л. И. Корочкин и
Н. Н. Воронцов все-таки сумели перевести
собрание в плоскость юбилея. Говорились
короткие трогательные речи, зачитывались
адреса и телеграммы (ни одна из двух
Академий — «большая» и медицинская,— равно
как и Институт медгенетики тут себя не
обозначили). Юбиляр сурово молчал, так и
не проронив ни слова за все время
торжественной части. Все свое, им нам даруемое,
он высказал ранее, в докладе; прочее,
суетное, его, казалось, не интересовало-
Истекло немногим более полугода, и его
не стало. Там же, в конференц-зале ИБРа,
состоялась гражданская панихида. Пришли
соратники, ученики, многие другие,
очарованные как его талантом, так и образом
бытия. Кто-то прибыл из "других городов.
Ученые и не ученые. Скорбно молчал Дудин-
цев; ему было известно многое. Выступали
Хрушов, Раппопорт, Воронцов, Голубовский,
другие. Ни одной ноты фальши, ни одного
казенного слова. Высокий оркестр пел
высокую мессу. Именно в силу этого приспешив-
шему сюда директору Института
медгенетики не дали-таки слова.
Вот и все, если о жизни. А наука Вэпэ
продолжается. И, спасибо неожиданностям
нашего времени, продолжается даже с
некоторым ускорением. Изгоя и кабинетного
ученого, чудака и громовержца, его в последний
год жизни «заметили»: пошли интервью,
даже публикации — в «Медгазете», «Огоньке»
(правда, давались они, рассказывали, далеко
не просто). Поговаривают, заинтересовались
и иные издательства.
Я думаю, о нем, о его жизни-науке еще
напишут — и не раз. Уж больно он, Вэпэ,
многогранен, как-то несоразмерен всей
нашей трескучей обыденности — и своею
наукой, и жизнью. А жизнью — какой?
Горькой? Горько-счастливой? Неудавшейся? Или,
напротив, все-таки свершившейся? Не знаю,
не знаю. Вероятно, всем нам стоит в этом
разобраться.
Вот такое мое вам приглашение в
заключение. И в этом самом плане — одна
фраза напоследок, Шатобриана, которую Вэпэ
повторял и даже взял однажды в качестве
эпиграфа к одной из глав своей
«Генетики этики»: «В растаптывании
человеческого достоинства таится зародыш смерти».
С этих позиций и будем думать, не
правда ли?
Борис ГОРЗЕВ
14
Генетика
Достоевского
и его творчество
В. П. ЭФРОИМСОИ
ЭПИЛЕПТОИДНОСТЬ
И ЕЕ ГЕНЕТИКА
...Среди многочисленных наследственных
форм эпилепсии четко вьщеляется одна, при
которой предрасположение к судорогам
(проявляющееся не у всех) сочетается с целым
рядом особенностей, развивающихся как у
больных, так и здоровых передатчиков.
Сюда относится вспыльчивость, брутальность,
напористость, конфликтность, мелочность,
сверхаккуратность, педантичность, не
соответствующая рангу поставленной цели,
назойливость, вязкость, обстоятельность,
неумение выделить главное, злобность,
причудливо сочетающаяся с сентиментальностью.
(Человека с такими чертами характера
называют эпилептоидом.— Ред.)
Общеизвестно, что Ф. М. Достоевский
обладал четко выраженными личностными
особенностями, страдая при этом (еще до
ареста) эпилепсией, причем и эти особенности,
как и эпилепсия, передавались по
наследству. Отчасти ввиду этого факта, а также
из-за бесчисленного количества гипотез,
циркулировавших в психиатрии по поводу связи
между эпилептоидностью и эпилепсией, в
лаборатории генетики Московского НИИ
психиатрии МЗ РСФСР этот вопрос
подвергся генетическому анализу, хотя можно было
только гадать, почему и чем объединены
признаки эпилептоидности и эпилепсии.
Ясно, что наличие одной, двух, трех
личностных особенностей из перечисленных
выше не может свидетельствовать о наличии
эпилептоидной характерологии. Например,
повышенная аккуратность и педантизм
могут быть следствием строгого воспитания
или синдрома навязчивости, защитной
реакцией при церебральной астенизации или
плохой памяти. Взрывчатость и брутальность
могут быть следствием эффективности.
Демонстративное добронравие, стремление к
самоутверждению и гиперсоциальность могут
обусловливаться истерическими
компонентами личности. Таких независимых друг от
друга черт и даже комплексов можно найти
немало. Однако уже на первых этапах
работы, в ходе изучения двумя врачами 43
семей выяснилось, что при условном учете
двенадцати ведущих признаков
эпилептоидности среди 258 больных и их
родственников имеет место особое распределение
эмоциональных и поведенческих признаков.
Между 215 не-эпилептоидами, не
имеющими ни одного или наделенными 1, 2, 3
признаками из «эпилептоидного» комплекса, и 43
эпилептоидами, обладавшими 6—9
признаками набора, переходы отсутствовали.
В дальнейшем изучении новых семей с
наследственным эпилептическим-эпилеп-
тоидным поражением удалось
сформулировать своеобразное правило «все или ничего».
1. Если у самого больного или у кого-либо
из его близких родственников имеется ряд
эпилептоидных признаков, то они
распределяются в семье не «диффузно», то есть
с наличием 2—3 признаков у многих членов
семьи, но собраны как бы букетом по 5—
9 признаков обычно у больного и еще у
одного-трех его ближайших родственников...
2. Эпилептоидность обнаруживается
большей частью у таких членов семьи, которые
никаких судорожных припадков не имели;
следовательно, гипотезы о психогенном,
социогенном или травматическом
происхождении эпилептоидности неверны.
3. В большей части семей с
эпилептическим отягощением никакой эпилептоидности
ни у больного, ни у его родственников нет.
ЭПИЛЕПСИЯ-ЭПИЛЕПТОИДНОСТЬ
В РОДУ ДОСТОЕВСКИХ
Для принципиального понимания роли
эпилептоидной характерологии в творчестве
чрезвычайно информативны фактические
данные о семье Достоевского, собранные,
но совсем под другим углом освещения,
М. В. Волоцким A933).
Отец писателя, М. А. Достоевский, врач,
15
восстановил утраченное дворянство и
приобрел два села, Дартьево и Черемошня, с
570 душами крестьян.
М. А. Достоевский, прообраз Ф.
Карамазова (кстати, Ф. Карамазов был
владельцем деревни Чермашня, совпадение,
конечно, не случайное), по письмам его внучки,
отличался и в семейном, и в помещичьем
быту придирчивейшей мелочностью,
подозрительностью и тиранством. Из
сохранившихся писем видно, как он настойчиво,
въедливо допытывался по поводу чайной ложки и
старого белья, заглядывал под кровати к
своим молоденьким дочерям в поисках
несуществующих любовников, заставлял своих
двоих сыновей отвечать уроки не только
стоя, но и не прикасаться к столу и т. д.
Над своими крепостными он глумился
систематично и садистски. Например, он любил
незаметно, со спины подкрасться к
работающему крестьянину, первым низко
поклониться ему, а за то, что барин ему поклонился
первым, отправить тут же на конюшню, на
порку. Выведенные из себя его
непотребствами, в частности сластолюбием, крестьяне
убили его, причем при обстоятельствах,
рассчитанных целиком на неудержимую
вспыльчивость М. А. Достоевского. Ему донесли,
что такой-то крестьянин не вышел на
барщину, да еще ругался. М. А. Достоевский
сразу бросился во двор к непослушному,
где его уже поджидало в засаде
несколько крестьян. Его схватили, заткнули рот
тряпкой, влили через нее припасенную
бутыль спирта, погрузили в тележку, вывезли
за деревню и вывалили в расчете, что смерть
припишут пьянству. Конечно, дело
раскрылось, много крестьян пошло под суд.
Сочетание въедливой мелочности,
дотошной аккуратности, предельной деспотичности
и жестокости, как в семье, так и в
отношении к крестьянам, неспособность
выделить главное, существенное, бешеная
вспыльчивость не оставляют сомнения в эпилеп-
тоидности М. А. Достоевского. Но, хотя
жизнь его известна во многих подробностях,
судорожные припадки у него никем не
отмечены, они почти наверняка отсутствовали.
У Ф. М. Достоевского эпилептические
судороги начались еще до каторги, хотя
подробно описаны в послесибирский период.
Речь идет о еженедельных или
ежемесячных, иногда даже дважды в день
происходивших больших припадках с аурой,
тяжелейшими судорогами, потерей сознания. При
всем уважении к гению Ф. М., его
характерология не оставляет сомнения: это был
деспот, взрывчатый, неудержимый в своих
страстях (картежных и
аномально-сексуальных), беспредельно тщеславный, со
стремлением к унижению окружающих и
эксгибиционизмом, сочетавший все это со слезливой
сентиментальностью и необычайной
обидчивостью.
Несомненное наследование комплекса эпи-
лепсия-эпилептоидность прослеживается у
брата и сестры писателя, отсутствуя у
четырех братьев—сестер. Эпилептики-эпилеп-
тоиды, дети М. А. Достоевского, передают
предрасположение дальше. Несомненно, что
многими эпилептоидными чертами —
мелочностью, деспотичностью, въедливостью —
обладала сестра Ф. М. Достоевского, В. М.,
по мужу Карепина. Она внимательнейше
опекала сына-студента, предписывая, какие
лекции посещать в университете, какие —
нет, а будучи очень богатой владелицей шести
домов, проявляла поразительную скупость.
Она не отапливала свою пятикомнатную
квартиру даже зимой, питалась только
изредка покупаемыми дешевыми продуктами
и была убита дворником ее дома с
помощником, знавшими о ее богатстве, скупости и
одиночестве. Ее сын, А. П. Карепин, проявлял
очень вязкое многословие с невыносимой
детализацией эпилептоида.
Очень вероятно, что эпилептоидом был и
чрезвычайно педантичный, пунктуальный,
вязкий и вспыльчивый брат писателя,
инженер А. М. Достоевский. Эпилептоидом
был, вероятно, и старший сын этого брата,
А. А. Достоевский, впрочем, избравший себе
профессию, требующую большой настойчи-
вости, аккуратности и точности —
гистологию. Пятый сын А. М. Достоевского умер
рано — по-видимому, от судорог. Трое других
детей А. М. Достоевского комплекс не
унаследовали.
Сам Федор Михайлович передает
предрасположение сыновьям Федору Федоровичу и
Алексею Федоровичу, но не дочери, Л. Ф.
Достоевской* Алеша Достоевский рано умер от
судорог, по-видимому, бестемпературных.
Федор Федорович Достоевский отличался
преувеличенным чувством собственного
достоинства, вспыльчивостью и обидчивостью.
Вместе с тем он совершенно неутомимо
мучил близких, требуя от них детальнейшего
описания всяких мелочей, например, как был
одет встреченный знакомый, что точно
говорил и т. д.
На этой семье устанавливается
существенная характеристика связи эпилепсии-эпилеп-
тоидности. Этот комплекс наследуется мо-
номерно аутосомно-доминантно, с
варьирующей проявляемостью, реализуясь то в форме
чистой эпилептоидности, без припадков
(М. А. Достоевский, А. М. Достоевский,
А. А. Достоевский), то в форме и
припадков, и эпилептоидности (Ф. М.
Достоевский), судорожных припадков с неизвестной
характерологией из-за ранней гибели
пораженных (А. Ф. Достоевский — сын писателя,
М. А. Достоевский, внучатый племянник
писателя). Становится ясным, что вовсе не
припадки как таковые обусловливают
специфическую характерологию: она
обнаруживается у вовсе не припадочных
представителей рода. Что до мономерно-доминант-
ного наследования комплекса, то он
демонстрируется вертикальной передачей на
протяжении 4-х поколений, немыслимой при
рецессивном или полигенном наследовании.
Со смещенной из-за психопатологии
точки зрения видится многое такое, чего не
замечают нормальные люди; благодаря своей
акцентированной (чтобы не сказать
больше) личности Ф. М. Достоевский лучше
других понимал взрывчатые возможности
человека. Вероятно, отсюда шли и его поиски
обуздывающей власти религии, отсюда и
легенда о Великом Инквизиторе, православие,
верноподданность, дружба с Победоносцевым
и разгромнейшие выступления против
революционеров.
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКА ТВОРЧЕСТВА
Если обратиться к творчеству Ф. М.
Достоевского с психиатрической точки зрения,
то бросается в глаза проецирование почти
на всех персонажей необычайной вязкости
и конкретности мышления, многословной
обстоятельности, мелочности и детализации с
постоянной утратой главного. Вторая
спроецированная на персонажей особенность —
это совершенная алогичность,
иррациональность, обнаженная импульсивность, патоло-
гичность поведения. Третья особенность
творчества — это систематическое,
садистское проведение почти всех персонажей
через все круги Дантова ада унижений. Если
о Л. Н. Толстом справедливо сказано, что
он создал тысячу самых разных людей и
для каждого из них свой собственный мир,
то Ф. М. Достоевский (еще в гораздо
большей мере, чем Лермонтов) в каждом
произведении воспроизводит почти во всех
персонажах себя и свое, личное видение мира.
Что до патологии, то в «Преступлении и
наказании» это алкоголик и эксгибиционист
Мармеладов, сверхистеричная,
самоутверждающаяся Катерина Ивановна, сексопат и
садист Свидригайлов, и даже трезво
рассудительный Лужин, по ничтожнейшим мотивам
беспримерно подло подбрасывающий
сторублевку Сонечке Мармеладовой, чтобы
обвинить ее в краже, и попадающийся на этом.
В «Идиоте» князь Мышкин, начинающий и
17
кончающий эпилептическим слабоумием,
прогрессивный паралитик, лгун и воришка
генерал Ардальон Иволгин, купчик-убийца
Рогожин, Настасья Филипповна, без конца
выставляющая напоказ то, что ее еще девочкой
соблазнили, й на этом основании
унижающая всех, с ней соприкасающихся,
устраивающая отвратительно-демонстративные
Провокации; в «Бесах» омерзительный
красавец Ставрогин, эпилептики Кириллов и Ле-
бядкина, приживальщик, паразит, предатель
Степан Верховенский, Петр Верховенский,
«революционер», ради того, чтобы сорвать
бал у глупца-губернатора, закручивающий
целый макрокосм интриг, ничтожества и
глупцы Лямгин, Шигалев, Виргинский и т. д.
с нелепым убийством. Кунсткамера дураков
и ничтожеств бесконечна, повторяется снова
и снова. Прохарчин, Шумков, Голядкин,
Ползунков, «Человек из подполья», «Игрок» с
его персонажами, успешно конкурирующими
друг с другом в размахе совершаемых
нелепостей и подлостей. В «Подростке»
архиблагороднейший Версилов-старший,
транжирящий несколько состояний, когда у него
голодают дети, вступающий в союз с совсем
уже профессиональным уголовником
Ламбертом для бандитского нападения на свою
жертву.
Из бесчисленных примеров вязкого,
детализированного, необычайно растянутого
смакования унижений своих персонажей
можно напомнить «Скверный анекдот».
Хорошо воспитанный, элегантно одетый, либе-
ральствующий статский генерал И. И. Пра-
линский непрошенно приходит на свадьбу
своего мелкого чиновника Пселдонимова,
чтобы возвысить празднество своим
высоким присутствием. Но генерал вдруг
совершенно напивается, да так, что его
приходится уложить с расстройством желудка в
свадебную постель, тогда как новобрачным
приходится располагаться на стульях, которые
под ними разъезжаются... Матери жениха
всю ночь приходится бегать с посудой, так
как непрошеного гостя выворачивает, а
затем либеральствующий генерал, которому
стыдно встречаться с подчиненным, у
которого так оскандалился, выгоняет
несчастного с работы. Много, много омерзительных
и унизительных деталей мы опустили...
Наше личное представление о творчестве
Ф. М. Достоевского, возникшее в результате
изучения его с точки зрения эпилептоиднои
психопатологии, мы не решились бы
представить на обсуждение. Однако затем
оказалось, что это злорадное смакование
опередил Н. Михайловский A882) в статье под
очень точным названием «Жестокий талант».
«Мы, напротив, признаем за Достоевским
огромное художественное дарование и вместе
с тем не только не видим в нем боли за
оскорбленных и униженных, а напротив,
видим какое-то инстинктивное стремление
причинить боль этому униженному и
оскорбленному».
Вопреки последующим легендам, эту
особенность творчества Ф. М. Достоевского
понял не только Н. Михайловский, но и
другие современники, как это видно из писем
Тургенева, Страхова, Л. Н. Толстого, П.
Чайковского, Салтыкова-Щедрина, а затем и
Горького.
Заметим, что в подавляющем
большинстве произведений Ф. М. Достоевского
начисто отсутствует социальный протест. Его
персонажи — прежде всего жертвы
собственных страстей, они нет-нет, но швыряются
тысячами и даже десятками тысяч рублей,
фанфароня отказываются от них или,
наоборот, вымогают их. Но зато трудно найти
такого персонажа Достоевского, над которым
бы автор не глумился, которого не ставил бы
в безмерно унизительное положение, в
лучшем случае — безмерно глупое.
Секрет творчества: персонажи действуют
так, как если бы слова и поступки не
рождались как равнодействующая множества
перекрещивающихся мотивов, не
контролировались бы задерживающими центрами.
18
Более того, важнейшие мотивы тут же
забываются, сменяются совсем иными,
возникают совершенно алогичные ситуации. Но
именно способность Достоевского увидеть
первичные импульсы (в норме погашаемые),
претворить их в действие, раскрыла бездны
подсознательного и сделала его пророком
событий XX века, когда эти первичные
импульсы жестокости, господства, подавления,
самопоказа, стяжательства вышли из-под
власти разума, закона и в мире начали
командовать подонки типа Муссолини,
Гитлера с их бесчисленными помощниками
разного ранга, а также южноамериканские и
африканские гориллы типа Дювалье и Тру-
хильо включительно. Достоевский был
Колумбом черных импульсов и оказался в
своих «Бесах» провидцем.
ДОСТОЕВСКИЙ — ВЕЛИКИЙ
СОСТРАДАТЕЛЬ И ПЕЧАЛЬНИК
По-видимому, в предшествующем разделе
были достаточно подробно документированы
жестокость и садизм Достоевского, связь
этих свойств с личностным комплексом
эпилептоидности-эпилепсии. Можно
говорить о прямых уликах. Тему эту можно
развивать очень пространно, и любой
читатель Достоевского (а Достоевского читали
и читают все) может, временно приняв
изложенную точку зрения, самостоятельно
иллюстрировать ее множеством
неиспользованных нами событий и персонажей,
почерпнутых из произведений этого писателя.
Но все это будет той полуправдой,
которая хуже всякой лжи. Да, конечно,
Достоевский старательно унижал своих героев, и во
всем этом прослеживается и определенная
тенденциозность, и извращенность, и
деформирование действительности, и патология.
Но вместе с тем во всех произведениях его
чувствуются и два других мотива:
глубочайшее сочувствие к жертвам социального
унижения, острейшее сострадание к ним и,
одновременно, скрытое напоминание о том,
что все это может случиться и с тобой,
читатель, как бы ты ни был застрахован от
падения своей собранностью, волей,
работоспособностью, образованием, положением в
обществе, материальной обеспеченностью,
родней, творческой отдачей, заслугами,
трудовым заработком. Да, мало кто способен
спиться, как Мармеладов; пойти убивать
старушку даже ради гибнущих матери и сестры;
не пойдет на панель, как Сонечка; а если
16-летнюю девушку и соблазнит влиятельный
прохвост, в зависимости от которого она,
неопытная, оказалась, то она не будет
пожизненно выставлять это напоказ и лезть под
нож, как Настасья Филипповна, а найдет и
силы, и поддержку, чтобы оправиться, и т. д.
до бесконечности.
Социальные условия сделали нас куда
более независимыми и «зубастыми», чем
беззащитные жертвы Достоевского, эти
униженные и оскорбленные. Но у каждого человека
есть сознание того, что и он когда-то, пусть
недолго, висел над пропастью, был на
волоске от какого-то страшного падения, он
знает о самых разнообразных формах
поныне существующего социального унижения,
если не по собственным, то по близким
примерам, о том, что и сильнейший,
несгибаемый, со своей жизненной
сверхзадачей может оказаться бесправным перед
каким-либо самодовольным, зажравшимся
чинушей, инженер — перед взъевшимся
рвачом-бригадиром, врач — перед истерично-
мстительным пациентом, у нас всех, у всех
европейцев свежи и должны оставаться
свежими те унижения, в которых гибли самые
стойкие люди в фашистских и иных лагерях.
Каждый американец и англичанин знает,
какие издевательства перенесли его
соотечественники в японском плену. Каждый
может мысленно прикинуть, сколько недель и
месяцев недоедания и голода, дней или
недель издевательств, избиений и пыток
нужно, чтобы довести его до худших унижений,
чем те, до которых дошли люди
Достоевского. И даже в самодовольном сознании
своей отдаленности от его персонажей,
своего абсолютного превосходства над
ними, своей непричастности к ним, к их бедам,
своей неприкосновенности, буквально
каждый вспоминает какой-либо эпизод из своей
жизни, эпизод, большой или мелкий,
единичный или рецидивирующий, когда он сам,
никому неведомо, оказался на грани и даже
преступил грань, отделяющую его от того
или иного из уродов Достоевского.
Когда, по Библейской легенде, толпа
хотела по закону побить камнями грешницу и
Иисус сказал: «Пусть тот из вас, кто сам
без греха, первым бросит в нее камень»,—
безгрешных не оказалось. Все мы чувствуем
потенциальное сродство нашего «Я», нашей
судьбы с тем или другим из персонажей
Ф. М. Достоевского, и мы с огромной
благодарностью видим, что он не только злорадно
унижает, но одновременно и сопереживает
бедствия, страдания самого жалкого из своих
чиновников. Гипертрофирование — это один
из многих методов искусства, и мастер
обнажения, мастер гипертрофии, совмещающий
садизм с состраданием, именно своим
состраданием дорог нам. Он дорог нам постоянным
напоминанием о том, как тонок лед, на
котором мы живем, и особенно дорог нам
теперь, после того, как пала вера в
обязательную благодетельность прогресса, науки и тех-
19
ники, после того, как пресловутая «русская
душа» в плену и лагерях уничтожения
оказалась общечеловеческим свойством всех
наций, терпящих бедствие, но которым
некуда послать «SOS».
Как никто другой, Ф. М. Достоевский
показал, что над каждым висит «дамоклов
меч», «не судите, да не судимы будете»,
и хотя он написал «красота спасет мир»
(то, что это так, мы пытались доказать
раньше) , но вместе с тем его произведения —
это гимн доброте и милосердию.
Остановимся только на немногом. Не
слишком бедный дворянин, Ф. М.
Достоевский, рано прославившийся как писатель,
стал петрашевцем, испытал оскорбления
следствия, допросов, ожидания смертной
казни, всей ее процедуры, каторги: он не мог
не ощутить проблему унижения во всей ее
остроте. Проблема взлетов и падений тоже
стояла перед ним постоянно; ведь
эпилептический припадок часто сопровождается
крайне неэстетичными явлениями. И тема
сочетания самого высокого с самым жалким,
естественно, стала основной в его
творчестве. До какого бы ничтожества, падения,
преступления, злобности, садизма он ни
доводил своих героев, его при такой биологии
и социальной биографии никогда не оставит
сочувствие к ним, понимание,
сопереживание и даже всепрощение. Была ли это
доброта к себе, спроецированная на других, были
ли это объяснения собственных бездн,
спроецированные на других, был ли он
собственным адвокатом, когда объяснял
психологические ловушки на других,— вопрос, в
конечном счете важный лишь для понимания
личности Достоевского и внутренних
причин его творчества. Несравненно более
важен для человечества конечный продукт
этого творчества: произведения, в которых
исследователь может проследить очень
любопытные ходы, пружины, мотивы. Но для
десятков миллионов неизмеримо важнее
другое — дух сопереживания, дух сочувствия,
дух понимания, и это социально гораздо
более значимо, чем четыре поколения эпи-
лептоидов-эпилептиков, одним из которых
был Ф. М. Достоевский, повторяем, Колумб
подсознательного, эмоционального мира
человека.
Публикация М. Д. ГОЛУБОВСКОГО
Тайны гения
Генетика попала в разряд
репрессированных наук в
середине 30-х годов, когда был
разгромлен первоклассный Ме-
дикогенетический институт. Это
случилось задолго до
рождения «мичуринской биологии».
Но и когда «мичуринская
биология» пошатнулась, то
оставалась и продолжала держать
науку мертвой хваткой
«(мичуринская философия». Она
выполняла роль идеологической
цензуры и одновременно —
тюремного надсмотрщика,
становясь время от времени
основанием для идеологического
шмона. Так, стоило генсеку
К. У. Черненко сообщить в
очередном докладе, что нет генов
добра или зла, как книга
классика отечественной генетики
Владимира Павловича Эфроим-
сона «Генетика гениальности*
была задержана в печати. Она
не напечатана до сих пор.
А вторую его книгу «Генетика
этики и эстетики» не удалось
даже депонировать в ВИНИТИ,
несмотря на представление
академического института и
солидные рекомендации.
Потребовали убрать цитаты из поэм
Н. Гумилева, которого В. П. Эф-
роимсон знал наизусть, чем,
кстати, пользовался для
поддержки тонуса в концлагере
в Джезказгане... Он
отказался сделать купюры, и рукопись
книги лишь сейчас готовится
к изданию Международным
фондом по истории науки в
Санкт-Петербурге. Отрывок из
нее и опубликован в этом
номере журнала.
Есть что-то символическое
в том, что книгу о
биологических основах этики и
эстетики написал именно Эфроим-
сон. Он выдержал жестокий
эксперимент по социальной
психологии, который поставила
над людьми история в нашей
стране. Эксперимент по отбору
на честность, порядочность,
стойкость, «самостояние» и
совесть. Эфроимсон относится к
той небольшой плеяде
биологов («Зубров»), кто устоял,
не сломался и имел полное
право свободно размышлять о
природе добра и зла в
человеке и в обществе.
Связь наследственно
обусловленных аномалий психики с
талантом, с особенностями
проявления творческого гения не
сходит с повестки дня науки на
протяжении столетий. Летопись
жизни больших писателей
составлена по дням, а порой и
по часам. Внешняя канва
жизни — как на ладони, а
между тем суть творческого
гения все равно остается
тайной. И если госпожа Сталь
обронила в начале XIX в.
блистательную фразу, что в
России все тайна, но ничто не
секрет, то по отношению к
творческому гению справедливо
обратное: в летописи его жизни
нет секретов, но творчество
20
остается тайной. Чем же могут
помочь генетика и психиатрия
в разгадке этой тайны?
В 1909 г. В. Г. Короленко
напечатал свои размышления
о Гоголе — «Трагедия
великого юмориста». Уже ранние
повести Гоголя поразили
современников сочетанием
бьющего через край веселья и
щемящей тоски. «Таких смен
настроения в произведениях
Гоголя очень много, и они
указывают на глубокую,
прирожденную черту темперамента.
Именно прирожденную: это
было наследство, полученное
великим русским юмористом от
отца»,— писал Короленко. Отец
Гоголя Василий Афанасьевич
отличался чередованием
приступов «странного воображения»
и «лютого отчаяния» с
периодами веселья, когда он
сочинял комедии, рассказывал
гостям анекдоты. Он умер на
45-м году, по признанию
Гоголя, не от какой-либо
болезни, а только единственно «от
страха смерти». Приводя эти
сведения, Короленко делает
вывод: «Этот «страх смерти»
Николай Васильевич Гоголь
получил от отца как роковое
наследство». Короленко
цитирует опубликованную в 1902 г.
работу д-ра Баженова «Болезнь
и смерть Гоголя», где на языке
психиатрии назван диагноз
наследственной болезни Гоголя:
«депрессивный невроз». По
словам Короленко, «каждое
произведение Гоголя является не
только художественным перлом,
но и победой, вырванной у
роковой болезни, победой
человеческого духа над
болезненным предопределением»
(выделено мной — М.Г.).
Не меньшее внимание
исследователей привлек
известный недуг Достоевского —
эпилепсия. Писатель и критик
Д. С. Мережковский не
сомневался, что на жизнь
Достоевского, «не только телесную,
но и духовную, на все его
художественное творчество и даже
отвлеченную философскую
мысль «священная болезнь»
оказала поразительное
действие... Припадки падучей
были для Достоевского как бы
страшными провалами,
просветами, внезапно открывшимися
окнами, через которые он
заглядывал в потусторонний
свет». Описывая состояние
Мышкина непосредственно
перед эпилептическим припадком,
Достоевский поведал миру о
таинственном состоянии, в
котором пребывает психика:
«Ощущения жизни, самосознания
почти удесятерились в эти
мгновения, продолжавшиеся как
молния. Ум, сердце озарялись
необыкновенным светом; все
волнения, все сомнения его,
все беспокойство как бы
умиротворялись разумом,
разрешались в какое-то высшее
спокойствие, полное ясной,
гармонической радости и надежды,
полное разума и
окончательной причины».
Но если для Гоголя
творческое вдохновение было
победой духа над болезненным
предопределением, то
Достоевский рассматривал свою
болезнь как священный знак
своего предназначения. О нем
восемнадцати летний Федор
Михайлович писал своему брату
Михаилу: «Человек есть
тайна. Ее надо разгадать, и
ежели будешь ее разгадывать
всю жизнь, то не говори, что
потерял время; я занимаюсь
этой тайной, ибо хочу быть
человеком». Поставленную в
молодости задачу Достоевский
выполнил. Он открыл целые пласты
человеческого поведения,
неведомые сочинителям социальных
утопий, где человек
представляется неким производным от
экономических отношений,
некоей регулируемой «социальной
сущностью».
В глубоком проникновении
Достоевского в тайны
человеческого поведения роль
«священной болезни» несомненна.
Но если в самом этом факте
не было предмета для спора,
то оставалось неясным, каково
происхождение недуга, и какова
его форма. Именно в этой
области Владимир Павлович
Эфроимсон провел
замечательное генетико-психиатрическое
исследование.
Доктор биологических наук
М. Д. ГОЛУБОВСКИЙ
21
Страницы истории
Реквием
по шестидесятым,
или
Под знаком интеграла
#7* Де сегодня обедаешь?» — слышу я ино-
» гда в институте. «Как всегда, в
„Интеграле"»,— откликается молодой человек, имея
в виду стоящее на отшибе двухэтажное зда-
Сокращенный вариант. Полностью напечатано в
«ЭКО», 1992, № 1.
ние ординарной столовой Академгородка.
Двухметровую неоновую рекламу на
крыше — «Кафе-клуб „Под интегралом"» —
демонтировали однажды ночью, лет пятнадцать
назад, накануне визита Косыгина в
Новосибирск. Вывеску ликвидировали, а память
осталась. Однако вряд ли молодые люди,
обедающие здесь, доподлинно знают, чем
было и что значило это место для их
родителей и их сверстников, именуемых нынче
шестидесятниками.
Устная свобода всегда шире письменной.
Но то, что говорилось и думалось вслух в
начале 60-х, оставило далеко позади печатное
слово. Между тем, что было позволено в
60-е годы, и тем, что было заведомо
запрещено, лежала широкая полоса ничейной
земли. По ней время от времени
демонстративно прогуливались сильные мира сего и пробе-
22
гали отчаянные головы или остроумцы,
владевшие в совершенстве эзоповым языком.
Вход на эту территорию открывали двери
«Интеграла», и не было недостатка в
желающих войти — и говорить, и слушать.
Нестерпимо было желание узнать наконец правду
о том, что столько лет замалчивалось и
искажалось, обрастало табу и мифами. В
водоворот событий вовлекались гости
Академгородка, именитые ученые и поэты,
международные комментаторы, корреспонденты
нашего ТВ и Би-Би-Си, крупные
экономисты и музыканты. Клуб завоевал репутацию
места, где можно выговориться всласть,
излить душу, распахнуть ее настолько,
насколько хватало смелости. Этот оазис гласности
процветал с 1963 по 1968 г. Его постоянные
обитатели учредили нечто вроде игрушечного
государства со своей конституцией,
идеологией и правительством. И когда пробил час,
оно двинуло свои потешные полки на защиту
едва обретенных свобод и убеждений.
А начиналось все с молодежных кафе,
невесть как появившихся в Москве в
начале 60-х. Джаз в ту пору был парией. И группы
обретали наконец площадки в залах кафе, а
сами кафе — привлекательность. А в городке
в эту пору роились планы создания
чего-нибудь эдакого, культурно-просветительного,
для заполнения досуга ученых, отрезанных
от всего мира и даже от Новосибирска.
И я предложил воспроизвести в Сибири
московское начинание. Увы, вскоре от группы
энтузиастов осталось несколько феминисток,
готовых идти до конца, хотя и не
представлявших, куда именно. Но безнадежное дело
можно начинать только с женщинами, если,
конечно, они веруют, что дело это правое.
Спустя полгода, когда под временно
обретенной крышей зазвучала живая музыка и
к ней потянулся народ, мужские лица
незаметно заслонили женские и ряды наши
умножились и окрепли. А то, что называется
«чувством локтя», пришло еще позже, в
борьбе за место «под солнцем», каковым суждено
было стать переоборудованной по нашему
проекту столовой № 7. Что там деньги и
фонды, добытые в поте лица, когда вас носит на
бюрократических качелях от одного
столоначальника к другому и каждый истово
клянется, что реконструкция — это дело
противоположной стороны. Отчаявшись пробить
эту оборону, мы устроили нешуточный бунт
на районной комсомольской конференции.
В тот же вечер об этом прослышал «крестный
отец» Академгородка академик М. А.
Лаврентьев (в просторечии Дед), наутро колесо
фортуны закрутилось со свистом. Несколько
лет спустя на высокопоставленном
бюрократическом приеме я услышал с изумлением,
как один из этих разлюбезных хозяев города
с восхищением говорил о нас:
«Представляете, ведь они построили-таки «Интеграл».
Мы мешали! А они все-таки его построили».
«Интеграл» стал созвездием клубов по
интересам, предоставляя свею площадку всем,
кто горел идеей организовать что-либо
стоящее. Установились контакты с клубами
других городов. Экспедиционный корабль с
агитбригадой «Интеграла» на борту
курсировал по Оби под собственным флагом. В
размахе этой деятельности, в энтузиазме,
которым она питалась, было немало романтики,
характерной для того времени. Страна была
похожа на выздоравливающего, только что
покинувшего больницу и с восторгом
всматривающегося в самую обычную
непритязательную жизнь. Будущее представлялось
только лучшим, а в Академгородке — и вовсе
прекрасным, поскольку все вокруг строилось,
дома и институты росли как грибы, всем
находилось место под солнцем...
^ программах «Интеграла» 1965—1966 гг.
просматриваются новации, которые
стали возможны только сегодня, а были
своевременны уже тогда. Первые фестивали
джаза и авторской песни. Представления
самодеятельных театральных студий. Конкурсы
вечно опальных, полулегальных бальных
танцев (что только не запрещалось!).
Вернисажи маститых и любителей (с распродажей
картин) — предвестники Арбата. Политклуб
дерзал обсуждать внутренние дела, магазин-
клуб «Гренада» — вмешиваться в литпроцесс
посредством присуждения ежегодных
премий «Интеграла» (братьям Стругацким,
например) .
На праздники в клуб пропускали только
своих. Праздником мог стать, например, 39-й
юбилей исторической встречи Кисы Воробья-
нинова с Остапом Бендером. Готовился
капустник, прибывали гости с 16-й полосы,
первый отдел клуба занимал круговую
оборону от студентов, бравших здание
приступом. К 8 марта готовились особенно
тщательно. Каждый год в этот день выбирались
мисс Интеграл и ее первые производные.
Но и обычные «кабачковые» дни (субботы
и воскресенья) как магнитом притягивали
молодежь со всего миллионного города (час
на дорогу, рубль за вход, да еще мороз, и не
попадешь, чего доброго). Но уж если попал,
то... свобода! Свобода пересаживаться,
сдвигать столики как заблагорассудится,
брататься с друзьями, целоваться с любимыми,
одеваться кто во что горазд и танцевать как
вздумается, хоть туфли сбрасывай. И под ту
музыку, какая модна, а не признана.
«Кабачковые» дни и социальные программы
перезнакомили и обручили множество наших
земляков.
23
Могли ли мы -думать, что двадцать лет
спустя наши дети будут тусоваться на
скамейках и рыскать по подвалам,
удовлетворяя естественную потребность в общении,
дружбе, любви, наконец. Прекрасное новое
здание «Интеграла» с удобным кафе,
подмостками и собственным кинозалом,
специально спроектированное для клубной
работы, используется не по назначению. После
роспуска клуба районные власти
предприняли было попытку переоборудовать даже.
его столовую... в библиотеку. Страстно
хотелось, видимо, не только разрушить, жуй
перепахать этот город. Этому следовало
противостоять — во имя будущего, и я пошел к
Деду. М. А. Лаврентьев разбирался на месте,
меряя помещение своим размашистым
шагом, крутя головой во все стороны. «Так,
значит, столовых у нас не хватает? Пусть
себе работает»,— постановил он. Она и
работает — так и только так, как удобно
персоналу. И что удивительно: это наше наследие
остается невостребованным. Отдавшись с
упоением митинговому решению глобальных
проблем, мы не спешим браться за дела
конкретные. Похоже, конфликтовать со всем
обществом проще, чем с отдельными
полномочными его представителями.
В 60-е годы все было наоборот. В прямой
конфликт с обществом мы вступали только
по великим его праздникам, выводя клуб на
демонстрацию отдельной колонной. Шли со
своими лозунгами: «Люди, интегрируйтесь!»,
«Да здравствуют молодежные клубы!»,
«Перекуем орало на интеграло!», «Радость —
народу!». В общем, наши шествия изрядно
выбивались из череды благостного
единообразия.
В конце концов нас остановили, но не
сразу. Ветры перемен мы приняли вначале
за сквозняки. В канун ноябрьской
демонстрации 1966 г. меня пригласил первый
секретарь райкома партии и предложил отменить
наше шествие на том основании, что джаз-
клуб вроде готовится прихватить с собой
портреты Э. Пресли, Л. Армстронга и др.
Контроль над лозунгами и портретами был
моей конституционной прерогативой, но
приказать клубу не шествовать я не мог, а
просить отказался. Впрочем, я выразил
готовность собрать к вечеру чрезвычайное
собрание «Интеграла», предоставив политическому
вождю района возможность апеллировать
прямо к массам с клубной трибуны. Такая
перспектива его не привлекала. Раздался
звонок у шефа, а затем и у меня: академик
В. В. Воеводский спрашивал, что это мы там
затеяли. Узнав, в чем дело, он колебался
недолго: «Добавь какой-нибудь политический
лозунг, скажем, «Студенты Беркли, мы с вами
против войны во Вьетнаме!». С тем и вышли.
Но уже к майским праздникам 1967 г. нашего
В. В. не стало, а клуб оказался под
прицельным огнем. Впрочем, он сам вызвал этот
огонь на себя своей предпоследней отчаянной
акцией: дискуссией «О социальной вялости
интеллигенции».
*2/ тобы понять, почему пробуксовывает
Косыгинская реформа, мы приглашали к
барьеру известных экономистов и
директоров крупнейших новосибирских заводов.
Сохранилась стенограмма дискуссии «О
нравственном вакууме», которую вел академик
А. Д. Александров. «Критерии оценки
научной зрелости ученого», «К чему
эмансипация?», «Каким быть законодательству?»,
«Как совладать с информацией?» — всего не
перечесть. Дискуссии превратились в живой
социологический эксперимент на глазах у
публики, дававший сиюминутный срез
общественного мнения. Выбор темы и двух-трех
затравочных выступлений, задающих тон
дискуссии, оставался за мной. Остальное
было в руках ведущего, который обязан был
выдерживать умеренный курс, даже если его
сильно сносило влево. Он должен был умело
вести полемику, возвращая ее к предмету
спора и в рамки возможного. Но то, что
считалось возможным «Под интегралом», почти
не оставляло места для невозможного. А
издали казалось, что его и вовсе нет.
Как-то под утро к одному нашему
социологу заявился московский профессор.
Заспанные хозяева усадили коллегу за стол,
накрыли к завтраку. Только к концу трапезы гость
заметил к слову: «Ну что сравнивать с
Москвой? Вы тут в оазисе живете. Вон я шел к вам
мимо кинотеатра, а его стеклянные стены
разрисованы лозунгами: ^ Позор советскому
правосудию"». Хозяин аж подскочил,
бросился вон из дома. Лозунги уже тщательно
счищались со стен; до чистки
инакомыслящих оставалось полгода.
Нельзя сказать, что мы не
предчувствовали перемен к худшему. «Интеграл» был
социальным барометром той интеллигентной
срецы, которая нас окружала, и задолго до
всех событий он беспристрастно
свидетельствовал: она не созрела для организованного
протеста, тем более сопротивления. Одна
лишь дискуссия о близнецах давала
достаточно оснований для столь категоричных
выводов. Ей предшествовала грубая и
невежественная травля в «Известиях» члена клуба
М. Голубовского за его публикацию
«Коэффициент интеллектуальности» в
прогрессивном тогда журнале «Радио и телевидение»,
позднее закрытом. Популярно освещая в ней
генетический метод близнецов, автор привел
данные о высокой повторяемости у
однояйцевых близнецов таких качеств, как музы-
24
кальные способности, склонности к
абстрактному мышлению и (о ужас!) к
криминальным действиям. Последнее вызвало бурю
негодования монстров от юриспруденции,
логично рассудивших, что ежели так, то, стало
быть, и при коммунизме уголовники не
выведутся. Но в программе партии сказано,
что преступность при коммунизме исчезнет.
Следовательно, генетической
предрасположенности к ней нет и быть не может,—
безапелляционно заявили они в заметке
«Биология здесь ни при чем». Вроде бы
только что развенчали Лысенко, ан нет — жив
курилка!
Этому кликушеству, я полагал, необходимо
противопоставить компетентное мнение
научной общественности. «РТ» тоже готово
было рискнуть и командировало к нам своего
корреспондента. Все раскручивалось лихо,
но чем ближе к реваншу, тем напряженнее
становилась ситуация. В последние дни я был
просто истерзан постоянными звонками
академика Д. К. Беляева — борец за генетику
бил отбой во все колокола. Но я уже закусил
удила. Дискуссия прошла, как и была
задумана, изобиловала яркими научными
выступлениями и поблескивала гражданскими.
И что же? Развернутую публикацию в
«РТ» с цитатами из стенограммы дискуссии
уже в гранках отказались подписать все до
единого выступавшие профессора и доктора
наук, сами страдавшие и лишь случайно
пережившие пору гонений на генетику.
Свободомыслящие и даже бравирующие этим, все
они тихо сдались, не выдержав нажима
директора своего института. По немудреной его
логике выходило, что самое лучшее — это
упрятать голову в науку и заниматься ею,
пока дают, памятуя о худшем.
Так же и мне не раз советовал бывший
зек профессор Ю. Б. Румер: «Бросьте вы
это дело! Не обольщайтесь, что все пока
сходит с рук. Придет время, аукнется». Ладно бы
только он. Опыт, обретенный в круге первом,
учит осмотрительности. Но кто научил этому
мое поколение, словно родившееся для
конформизма? Увы, шестидесятники — это
далеко не все те, чья молодость совпала с
короткой хрущевской оттепелью. Мы все искренне
пели аллилуйю вождю и учителю в
школьные годы, и каждый по-своему ослеп от
вспышки XX съезда. Но, пережив крах веры,
некоторые остались верующими и после
этого — в добро, в вечные ценности, в
возможность выкарабкаться из смрадного прошлого.
Иные даже готовы были на жертвы во имя
этого, но как их оказалось мало! К 1967 г.
стало казаться, что мы исчерпали весь ресурс
активности Академгородка. Где же наши
сторонники, недоумевали мы, куда они все
рассеиваются после аншлаговых концертов,
дискуссий, встреч? Какого же пастыря нужно
этой инертной массе?
Отчаявшись найти ответы на эти вопросы,
клуб вызвал на полемическую дуэль все
остальное население Академгородка. К
тезисам «Дефицит щедрости» прилагалось
объемистое эссе «(^Интеграл" на распутье»,
написанное мною в сердцах, безо всякой
цензурной оглядки,— замечательный самодонос,
распространенный' по библиотекам всех
институтов для ознакомления публики. Это
было яростное, запальчивое обвинение
интеллигенции в социальной вялости:
«Наука не индульгенция. Ответственность
за судьбу общества все делят поровну.
Независимо от того, воспринимают ли они упрек
в равнодушии (с экрана, со сцены) в свой
собственный адрес или проецируют его на
соседа, занятого менее
интеллектуальным трудом. Иные считают, что право хвалить
или порицать современное общество
узурпировали писатели и журналисты. Но это
не так: мы добровольно отдали им это право,
ибо очень удобно жить, считая, что
разделение труда распространяется и на
человеческую совесть. Никто не вправе отлынивать
от исполнения своего гражданского долга,
быть неслышимым и невидимым...»
Вышагивая по эстраде со шпагой в руке, я
вначале довольно успешно парировал
контрдоводы. «Каждый должен заниматься своим
делом,— заявил один из выступавших.—
Я, в частности, отдаю всего себя науке. Но
свой гражданский долг я выполняю на
выборах, голосуя против баллотирующихся
кандидатов». Разговор пошел начистоту, между
своими, но во всеуслышание. Впервые
«Интеграл» поднял забрало и тут же был
наказан... исподтишка. Через месяц
новоиспеченный директор ДК «Академия» отнял у
клуба все его штаты, внезапно
понадобившиеся «для детской работы».
Жизнь в клубе замерла. «Интеграл»
перешел на чрезвычайное положение. Началась
вторая бюрократическая война — за полную
независимость и суверенитет. Как ни
странно, спустя полгода клуб выиграл ее. В январе
1968 г. мы уже долбили кассовые окна в
своем новом здании, оборудовали сцену и
радиорубку. Занятый оформлением
докторской, я не очень-то торопил события —
считалось, что дело в шляпе.
тут подоспел фестиваль. Всесоюзный
фестиваль авторской песни, который
около года готовился клубами Москвы,
Ленинграда, Новосибирска и ЦК ВЛКСМ.
Осенью 1967 г. уже было назначили дату и
ждали гостей, как вдруг ЦК ВЛКСМ дает
отбой. Во все стороны летят телеграммы и
звонки, но разве все предусмотришь? Один
25
бард из Киева заявился-таки к назначенному
сроку, и ему пришлось устроить
утешительный концерт в Большой физической
аудитории НГУ за неимением иного места.
Но к марту 1968 г. все было слажено очень
тщательно. Правда, и на этот раз на каком-то
этапе ЦК ВЛКСМ самоустранился от дела,
но нам отступать было поздно. Еще один
срыв — дискредитация клуба. Приглашения
всем бардам уже были разосланы, и от
многих из них, включая Галича, к 1 марта
поступили телеграммы о прибытии.
Самое удивительное, что эти
официальные приглашения были подписаны первым
секретарем РК ВЛКСМ. Удивительно
потому, что отношения между райкомом и
«Интегралом», находившимся на чрезвычайном
положении, сильно осложнились. Зная о
плачевном состоянии наших дел, РК настойчиво
предлагал нам свою финансовую помощь в
обмен на право контроля над решениями
«кабинета министров». Излишне говорить,
что это условие было совершенно
неприемлемо. Мы были готовы к сотрудничеству,
но не к подчинению. И вот в самый канун
фестиваля, когда многие барды были уже в
пути, райком вдруг выдвигает ультиматум:
залитовать весь репертуар фестиваля.
Помилуйте! Мы ведь даже авторов-то, которые
едут, не всех знаем, а уж что везут — тем
более. Да и где это видано, чтобы
авторскую песню подвергали цензуре? Сколько
перебывало в «Интеграле» бардов — никогда
их репертуар не ревизовали и не
визировали. «Ах, коли так, тогда мы против»,—
заявляет райком. И надо отдать ему
должное — это была его собственная
принципиальная позиция, не подсказанная, не
навязанная.
Ситуация накалилась, поползли слухи о
запрете фестиваля. А уже сформирован
оргкомитет A50 человек), расписаны дни и
роли, получены билеты, первые три тысячи
из 15. Планерки проходят на территории
клуба «Гренада», приютившегося в обычной
двухкомнатной квартире. Председатель
совета знаками зазывает меня и кассира в ванную
комнату. По ему одному известным каналам
поступили сведения, что не сегодня завтра
могут быть приняты меры по пресечению
нашей деятельности. «Как быть?» —
спрашивает. «Продавать билеты»,— отвечаю. «Ну,
знаешь, я на себя такую ответственность
не возьму»,— говорит он. У меня нет охоты
спорить, и сомнений тоже нет: «Тогда я
возьму». Говорю и понимаю, что сделан не
просто выбор между быть фестивалю или
не быть, но и между тем, кем мне быть в
будущем и кем не быть. Не быть мне после
этого в Большой физической несколько лет,
не бывать за границей вдвое больше, а быть
26
притчей во языцех на закрытых
партсобраниях и страницах местных газет и парией
в академических верхах в течение двух
последующих десятилетий. Но я хоть буду
знать за что, а это дано не каждому.
На следующий день три тысячи билетов
разошлись в мгновение ока. Честь клуба
была спасена, но и судьба его с этого момента
была слита с фестивалем нерасторжимо.
Эту судьбу пришлось решать РК КПСС,
оглядываясь на контуры скандала, который
был способен нанести урон престижу
Академгородка. В сущности, это был последний
месяц, когда с такой перспективой еще
приходилось считаться. Это касалось всех, кроме
РК ВЛКСМ: закусив удила, он шел напролом,
гнул свою праведную линию. Надо было
что-то противопоставить ему, и я заявил,
что «ручаюсь своим присутствием в
Академгородке за полный контроль над событиями
во время фестивальных дней». Под это
ручательство было дано высочайшее «добро».
Л. И. БУРШТЕЙН
Окончание — в следующем номере.
последние известия
Стоит ли слушать
ворчунов?
Раствор калия в среде,
содержащей краун-эфир,
оказался превосходным
металлирующим агентом.
ОО
Анионы щелочных металлов, экзотические частицы, чье
существование вряд ли кто-либо осмелился бы предсказать,
еще недавно казались диковиной из разряда тех, о
которых прагматически настроенные ворчуны любят поговорить
как о примере крайней бесполезности. Однако химикам
плохо спится, пока хоть что-то остается непристроенным
к делу. Так получилось и на этот раз.
Исследователи из Института химии полимеров, что в
польском городе Забже («Journal of Chemical Society. Chemical
Communications» 1991, № 21, c. 1513) обнаружили, что
такая вот соль (I), полученная из металлического калия,
легко, при —20 °С, реагирует с оксетаном (II), простым
эфиром, содержащим атом кислорода в четырехчленном
цикле. При этом цикл раскрывается и образуется другая
нерастворимая соль (III), в которой один атом калия,
«погруженный» в краун-эфир (на схеме обведен кружком),
связан с кислородом, а другой, без крауна,— с углеродом.
Прекрасный синий цвет исходного комплекса, увы, теряется:
_ сн2-сн2
кж +I I -
сн2-о
кЧосн2сн2сн2к.
-20 Сдетрагидрофураи
I II III
Разрыв связи С—О, которая слывет довольно прочной,
начинается с переноса «лишнего» электрона,
обременяющего анион калия, на органическую молекулу. В результате
появляется анион-радикал, зафиксированный авторами с
помощью электронного парамагнитного резонанса: реакцию
с избытком (II) провели прямо в датчике спектрометра.
Эта своеобразная частица состоит из катиона калия и двух
молекул (II), по которым равномерно распределен неспа-
ренный электрон (формула слева).
Затем один из циклов раскрывается, а полученный радикал
KOCHl'CH^CFL связывается со вторым, временно
бесприютным атомом калия. В результате и получается соль III,
которая пошла в дело немедленно, ибо оказалась
превосходным металлирующим агентом. Еще бы! Калий,
напрямую связанный с углеродом,— очень перспективная пара.
Для начала испробовали лишь простейшие реакции: с
водой (получен н-пропиловый спирт), с углекислотой (соль
Y-окси-масляной кислоты) и с йодистым метилом (эфир
CHjCbbCFfcCbbOCHj). Однако ясно, что пройдут и любые
другие превращения, свойственные металлорганическим
соединениям. И фрагмент —(СН?) зО— можно будет
встраивать в любые молекулярные композиции. Еще одно ценное
свойство соли II: она оказалась превосходным
металлирующим агентом, легко передающим свой «органический»
калий любым партнерам, имеющим хоть чуточку подвижный
протон: трифенилметану, анизолу... А партнеры эти без
особых усилий порождают другие, до сих пор не больно-то
доступные калийорганические соединения.
Ну, так стоит ли слушать ворчунов?
В. ИНОХОДЦЕВ
27
Диалог
Физика и власть
Подходит к концу XX век, а «физическое»
столетие началось чуть раньше календарного:
1895 г.— открытие рентгеновских лучей,
1896 г.— радиоактивности, 1897 г.—
электрона. Так рождалась физика XX века.
И в самой середине этого физического
века — взрыв атомной бомбы. Наука и
политика оказались тесно переплетенными,
разобраться в их взаимоотношениях непросто.
Наш корреспондент Л. Каховский беседует
с заведующим сектором истории физики
Института истории естествознания и техники
Владимиром Павловичем ВИЗГИНЫМ,
который занимается социальной историей
физики.
В. П. Визгин. К нашему стыду, у нас до сих
пор нет более или менее правдивой истории
физики в нашей стране, и на это есть свои
причины: до середины 80-х годов важнейшие
архивы были закрыты; к тому же никто не
хотел попадать под идеологический пресс, и
историки уходили в другие области: кто в
античность и средние века, кто в историю
западной науки — туда, где было больше
свободы. Еще была жива в памяти борьба с
космополитизмом, требование любыми средствами
доказывать приоритет русских ученых.
С началом перестройки все изменилось.
Открылись архивы (в последнее время —
даже архивы КГБ). За несколько лет уже
удалось кое-что сделать по истории
советской физики, в основном довоенного периода.
Я бы отметил работы Г. Е. Горелика,
В. Я. Френкеля, П. Е. Рубинина, А. Б.
Кожевникова. Сам я изучал мартовскую сессию
АН СССР 1936 г. Ее материалы показывают
нам физику середины 30-х годов в ее
сложных взаимоотношениях с властью.
Корр. Что же удалось выяснить?
Физика обладала двумя важнейшими
особенностями: с одной стороны, она была тесно
связана с техникой, и значит, с
индустриализацией, а с другой — выходила на самые
острые мировоззренческие проблемы.
Поэтому власть хотела, чтобы эта наука была,
во-первых, практически полезной, а
во-вторых, идеологически добропорядочной. Кроме
того, сталинский режим стремился показать
свою силу и в отношении научной элиты,
прежде всего, ее лидеров.
В качестве основной мишени выбрали
академика А. Ф. Иоффе — главу крупнейшей
физической школы, из которой вышло
большинство наших физиков. Велико было
практическое значение его деятельности, высок
авторитет. Именно поэтому удар по нему
имел бы наибольший эффект — все бы
поняли, что неуязвимых среди ученых нет.
Физики же хотели заниматься своей
наукой, а она даже в 30-е годы становилась все
более дорогой. Финансировать их
исследования могло только государство, поэтому они
готовы были идти навстречу пожеланиям
власти. Причем физики в большинстве своем
весьма сочувственно относились к новому
строю, с энтузиазмом включились в работу
(до революции в России было около двухсот
физиков, в середине 30-х — раз в десять
больше; советская, физика по своему уровню
вышла на III—IV место в мире). Разве их
могло не волновать укрепление
обороноспособности страны, когда в Германии к власти
пришли фашисты?
Поэтому, как правило, ученые искренне
стремились сделать свою науку практически
полезной. Что же касается «идеологической
чистоты» физической теории, то они в
принципе были согласны адаптировать диамат к
своим теоретическим построениям, но были
категорически против невежественной или
механистической критики, обвинявшей
новейшие теории в идеализме и метафизике.
Материалы сессии показывают как
взаимные претензии ученых и властей, так и их
встречное движение. Властям удается всерьез
озаботить ученых технической отдачей их
науки, создать весьма критическую
атмосферу в отношении к Иоффе и его школе.
Физики же сумели сдержать идеологический
натиск, доказать свою заинтересованность в
практической пользе от их исследований и
одновременно утвердить важность
фундаментальной науки.
Сессия стала серьезным симптомом
возрастающего давления власти на физиков.
На их науку надвигались три монстра:
технизация, идеологизация и тотальный
контроль. Вскоре (уже к осени 1936 г.) ученые
почувствуют себя очень неуютно в ежовых
рукавицах власти. На них начнут навешивать
политические ярлыки и страшные обвинения,
начнется Большой террор, который,
конечно же, не обойдет и физическую науку.
А в марте 1936 г. они еще не чувствовали
всей опасности и весьма резко критиковали
друг друга, спорили, как лучше организовать
работу, чтобы приносить больше пользы
социалистическому строительству. В этом
заключается глубокий трагизм мартовской
сессии.
И это было только начало противостояния власти
и физикоа?
Да, и в конце 30-х, и в конце 40-х годов
предпринимались попытки опорочить физиков и
учинить идеологический разгром их науки,
но в обоих случаях это сделать не удалось.
И вероятно, вот почему. Во-первых, физика
как наука была значительно более развита,
чем, скажем, биология, и это затрудняло
продвижение проходимцев и демагогов.
Некоторые ученые старой школы,
например В. Ф. Миткевич и А. К. Тимирязев, не
понимали новейшей физики и боролись с ней,
но влияние этих людей не было
определяющим. А ведущие ученые — А. Ф. Иоффе,
Д. С. Рождественский, Л. И. Мандельштам,
С. И. Вавилов, В. А. Фок, П. Л. Капица,
И. Е. Тамм — держались сплоченно, не
давали научным спорам перерастать в личные
конфликты и уж тем более ограждали свою
науку от агрессивного невежества.
Некоторые физики хорошо разбирались в
философии и били физиков-механицистов и
идеологов-догматиков на их же территории.
Сыграл свою роль огромный вклад
физиков в оборону, особенно во время войны,—
их исследования по радиолокации, теориям
взрыва, горения, а потом и работы по
атомной тематике.
Проблема «наука и власть» имеет еще и другой
аспект: она связана с выбором, который вынужден
делать ученый перед лицом аморальной власти.
В прошлом году у вас в институте прошла
конференция, посвященная сразу двум юбилеям:
125-летию со дня рождения П. Н. Лебедева и 100-летию
со дня рождения С. И. Вавилова. Два этих
выдающихся физика (пусть в разные эпохи —
царизма и сталинизма) продемонстрировали две
модели поведения. Первый в знак протеста протиа
посягательста властей на автономию Московского
университета а 1911 г. а числе других
профессоров покинул его, и это, как известно,— одна из
причин его кончины в возрасте 46-ти лет. С. И.
Вавилов согласился стать президентом Академии
наук, зная, какое влияние имеет там Лысенко;
после того как был арестован и погиб его брат,
Н. И. Вавилов. И это тоже укоротило его жизнь.
В судьбе С. И. Вавилова остается еще много
неясного, загадочного. Его карьера,
завершившаяся президентством, была
беспрецедентной. Время было такое, что
бескомпромиссные люди редко выживали. Некоторые
шли на компромисс ради своих личных
интересов, другие — ради высоких общественных
целей: нужно было спасать науку. Именно
так действовал Вавилов — он спас многих и
многое, хотя для этого порой ему приходи-
29
лось строить свою аргументацию на
сталинских цитатах. По некоторым свидетельствам,
в случае отказа Вавилова от президентства
возглавить академию мог Вышинский. Так
что Вавилов сделал выбор. При этом ему
удалось сохранить свою репутацию
безупречной. Все, так или иначе сталкивавшиеся с
ним, поминают его добрым словом. Он
сделал максимум возможного для науки в
то жестокое время.
До сих пор в науке в большой степени
сохраняется номенклатурное мышление, монополия на
истину — стремление приписывать основные
достижения тем выделенным лицам, которым
система, можно сказать, доверила быть известными
учеными.
Наверное, на историков науки возлагается
теперь ответственность за то, чтобы восстановить
истинный ход событий и вклад каждого, хотя
не всем академическим иерархам это понравится.
Даже в самые тяжелые 20-е, 30-е, 40-е годы
таких вопросов не возникало. Во главе
научных школ стояли выдающиеся ученые, люди
высокой нравственности. Такими были,
например, Л. И. Мандельштам и его ученики
И. Е. Тамм, А. А. Андронов, М. А. Леонто-
вич... После войны наука резко пошла вширь,
появилась масса новых людей, среди которых
было уже много случайных; в обстановке
секретности стали плодиться
администраторы от науки, нарушаться научные связи.
Со временем (особенно в 70-е и 80-е годы)
эти люди возглавили научные коллективы,
которые во многом утратили свойства
подлинных научных школ и стали приобретать
черты своего рода кланов, которые любое
достижение в данной области старались или
присвоить, или задвинуть в сторону. В
интересах таких групп было и постоянное
соавторство главы направления — это
укрепляло их позиции в конкурентной борьбе.
Вероятно, это время еше мало изучено
историками и социологами, и на это есть
свои причины. Многие участники событий
еще живы; представляете, какой поднимется
шум, волна опровержений, судебных
разбирательств? Пока эти вопросы больше
поднимают журналисты, публицисты. Историкам
же свойственно опираться на документы и
детальный анализ и не судить, а
восстанавливать объективную картину.
Раньше историки сами могли
подвергнуться давлению — вот, вы бросаете тень на
советскую науку, на известных людей. Теперь,
как будто, этого нет. Но, во-первых, «герои»
неприглядных историй наверняка не дадут
исследователям спокойно жить, а во-вторых,
действует еще внутренняя цензура —
привычка, что этого нельзя трогать, а того даже
касаться. Надеюсь, что новые поколения
историков не будут страдать этим
комплексом.
Впрочем, проблема соавторства —
чрезвычайно тонкая, и никакие документы и
свидетельства часто не могут пролить свет на
личные, интимные взаимоотношения соавторов.
Ясно только, что необходимы гласность и
развитое научное общественное мнение, при
которых безнравственные поступки были бы
сведены к минимуму.
И все же уровень отечественной физики
достаточно высок, многих наших ученых охотно
приглашают в ведущие зарубежные научные центры.
А вот с Нобелевскими премиями дело обстоит
плохо. Не связано ли это тоже с жесткой
иерархией в нашей науке, когда шанс на мировое
признание имели только верхи — идею снизу и ее автора
зажимали, опять же чтобы не нарушать всю
пирамиду?
Надо сказать, отношение Нобелевского
комитета к нашим ученым в 20—40-е годы было
все же достаточно предвзятым. Вспомним
историю с открытием комбинационного
рассеяния света. Несомненно, премию за него
должны были разделить с индийским
физиком Ч. В. Раманом и наши Л. И. Мандельштам
и Г. С. Ландсберг, но получил ее только Ра-
ман. Были, по-видимому, у нас и другие
достижения нобелевского уровня, например
некоторые работы В. А. Фока, В. И. Векслера,
Н. Н. Боголюбова, Е. К. Завойского и других.
После войны, благодаря успехам нашей
науки и техники, в которых убедился весь
мир (ядерная физика, проблема термояда,
первый спутник и первый человек в космосе),
началось и признание советских ученых,
правда, нобелевскими премиями в основном
были отмечены довоенные работы, а
некоторые достойные кандидаты (Мандельштам,
Вавилов) уже умерли. Затем, конечно, начали
сказываться излишняя централизация и
монополизация нашей науки, некомпетентность
руководства, бюрократизм. Немалую роль
сыграло отставание в технологиях,
компьютерах, приборной базе. Мы начали
утрачивать позиции, хотя в 70—80-е годы многие
важные идеи и теории были выдвинуты и
нашими учеными (например,
суперсимметрии и супергравитации).
Современная теоретическая физика очень сложна,
ей пока не удавалось впасть в «ересь простоты».
Я приведу слова известного американского
ученого, сотрудника Эйнштейна в Принстоне Джона
Арчибальда Уилера: «Наверняка наступит день,
когда мы увидим, что принципы, лежащие в
основе всего сущего, являются столь простыми, столь
очевидными, столь прекрасными, что мы все будем
удивляться и говорить друг другу: как же так
случилось, что мы столько времени были слепы?»
Вы занимались историей теорий гравитации,
единых теорий поля, анализировали тенденции
развития физики. Разделяете ли вы эту веру?
Прорывы к «неслыханной простоте»
случались всякий раз, когда удавалось создать
30
такие замечательные, простые по большому
счету теории, как механика Ньютона,
волновая оптика Френеля, максвелловский
электромагнетизм, теория относительности,
квантовая механика... И каждый раз они обладали
той математической красотой и гармонией,
ощущение которой, по признаниям самих
первооткрывателей, часто направляло ход их
мысли при поиске истины. Так что, конечно,
я разделяю убеждение Уилера, и гарантом
тут служит история науки.
Хочется надеяться, что чувство красоты,
таинственности физики — ибо, как сказал
Эйнштейн, «самое непостижимое в мире то,
что он постижим»,— поможет нашим ученым
сохранить верность своей науке в это
трудное время.
Архив
Русская наука
в изгнании
Русские ученые имеются
сейчас в каждой
европейской стране; они пишут,
исследуют, преподают во всех
частях света. Деятельность
их имеет равное значение
рдя науки и для России,
и значение это очень велико.
Ведь они не только
продолжатели и хранители
русских научных традиций; они
прежде всего основатели
будущей традиции. Традиция
эта не возникнет из ничего,
не произрастет на
опустошенной советской почве. Ее
должны будут в Россию
принести именно те, кто из
России изгнан. Не все ли
равно при этом, изгнаны ли они
специальным
распоряжением советского
правительства или общими мерами того
же правительства,
направленными к истреблению
русской культуры. Они —
изгнанники, и в изгнании им не
легко. Материально
некоторым из них даже тяжелее,
может быть, чем их
сотрудникам и друзьям,
оставшимся в России, хотя в России
разве только вновь
избранные члены Академии наук
способны забыть о смерти
академика Тураева от
недоедания, о смерти академика
Шахматова от ношения дров
на четвертый этаж. Но
относительное материальное
благополучие некоторых
советских ученых — ничто в
сравнении с тем духовным
гнетом, который им всем
приходится выносить.
Русские ученые в изгнании
куда счастливее, чем их не-
изгнанные друзья: они могут
служить России именно
потому, что никто не
препятствует им служить науке.
Пусть труды их все реже
появляются по-русски — это
все-таки русские труды.
Известно, какое место
завоевали себе на поприще общей
биологии, гистологии и
зоологии профессора Металь-
ников, Максимов и
Давыдов. Сколько имен можно
было бы еще прибавить к
этим именам, сколько других
имен назвать в области наук
гуманитарных! Какой вес
имеет уже одно имя
академика Ростовцева, чью
«Экономическую и социальную
историю римской империи»,
вышедшую в Оксфорде два
года тому назад,
специалисты всего мира считают
лучшим исследованием
предмета, сравнимым только со
знаменитым 5-м томом Томм-
веновской «Римской
Империи». Его же появившаяся
на год позже, тоже на
английском языке, двухтомная
«История древнего мира»
точно так же пользуется
заслуженною славою. Только
что отпечатан в Америке,
в ученых записках Мадисон-
ского университета первый
том рассчитанной на два
тома «Истории византийской
империи» А. А. Васильева,
самого нового и полного
изложения византийской
истории, какое имеется на каком
то ни было из европейских
языков. Перечислять в мои
намерения не входит. Скажу
только еще, что лучший в
Париже специалист по
японскому языку, литературе и
искусству — бывший
приват-доцент Петербургского
университета С. Г. Елисеев,
а лучший во Флоренции
знаток флорентийской истории
в средние века, автор
недавно вышедшего блестящего
исследования в этой
области — профессор
Флорентийского, а прежде приват-
доцент Петербургского,
профессор и ректор
Пермского университетов Н. П. От-
токар.
Все это можно было бы
развить, дополнить,— но
разве того, что сказано,
недостаточно? Всем
известна деятельность русской
академической группы в
Париже, русских факультетов в
Париже и в Праге, русских
профессоров в Югославии и
Болгарии. Всем это
известно, но жаль, что не всеми
до конца осознано. Надо
прямо сказать себе, что
русская наука за рубежом это
не просто отколовшаяся
часть русской науки, а
именно целое ее только здесь, за
границей, и живое, только
здесь, и научное, и русское.
Когда-нибудь это поймут —
когда-нибудь, когда
благоговейно соберут все, что
создано за ее пределами
Россией —' живопись
живописцев, писания писателей,
труды ученых, все, над чем
работали они в нищете, в рас-
сеяньи, в изгнании и что
навсегда останется
памятниками русского искусства,
русской мысли и труда.
Я. ДАШКОВ
Газета «Возрождение»
Париж, 1928 г.
Публикация И. Хабарова
31
ЙОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗ
Полимерный червячок
Помните заметку «Невидимый
зверинец» из февральского
выпуска «Обозрения»? Речь в ней
шла о молекуле, похожей
одновременно на осьминога, клопа-
водомерку и даже собаку.
Недавно химическая кунсткамера
пополнилась еще одним
экспонатом: японские умельцы
синтезировали полимер, полоска из
которого напоминает червяка.
Стоит поместить ее в раствор
электролита и подать ток, как
полоска, извиваясь, начинает
двигаться со скоростью до
25 сантиметров в минуту. Столь
необычное поведение
объясняется тем, что молекулы
поверхностно-активных веществ в
разных частях полоски
слипаются друг с другом под
действием тока, а затем вновь
разъединяются («Chemical and
Engineering News», 1992, т. 70,
№ 3). Интересно, в каких
химических джунглях будет
отловлен следующий экспонат?
Миллион долларов
за надежду
Именно столько готова уплатить
американская
фармацевтическая фирма «Merck» властям
Коста-Рики. Надежды у фирмы
большие, под стать цене: в ко-
стариканских лесах обитает
около пятисот тысяч насекомых,
микроорганизмов, растений и
животных, которые могут
оказаться сырьем для новых
лекарств («International Wildlife»,
декабрь 1991—январь 1992).
Любопытная деталь:
фармацевты готовы выложить деньги
только за право поисков. Если
же удастся найти подходящее
сырье и получить из него
коммерчески выгодное лекарство,
фирма поделится с
Коста-Рикой и своими доходами.
Не мытьем,
так катаньем
Потепление климата и
парниковый эффект — почти что
синонимы. Кажется аксиомой, что
температура воздуха на Земле
растет из-за избытка СОг. Но
вот журнал «New Scientist»
A992, т. 133, № 1803)
опубликовал любопытную гипотезу: в
потеплении виноваты в
основном деградация почв и
опустынивание, вызванные чрезмерным
выпасом скота и вырубкой
лесов. Американский климатолог
Роберт Боллинг проследил, как
менялся климат в некоторых
районах Северного полушария
за последние 90 лет. И
выяснил, что в опустыненных местах
прирост температуры в 100 раз
больше, чем там, где
растительность сохранилась. Стало быть,
не СОг — главная причина
потепления. А раз диагноз другой,
то и лечение должно
измениться. Жаль, неизменной
остается «причина причин» —
деятельность человека, приводящая
и к опустыниванию, и к
парниковому эффекту.
Кстати* уменьшение выбросов
углекислого газа в атмосферу —
довольно дорогое удовольствие
(«Chemical and Engineering
News», 1991, т. 69, № 50).
Американцы, например, подсчитали,
что для того, чтобы к 2000 году
уменьшить их на 20 %, надо
установить налог в 500 долларов
на тонну углерода,
поступающего в атмосферу.
Экологическое досье
К 2030 году потребление нефти, угля и природного газа увеличится
в развитых странах вдвое, в развивающихся — вчетверо.
В XVII веке в России было принято около двадцати законов об
охране природы.
Чтобы перевести двигатель одного трактора с бензина на
растительное масло, надо ежегодно выращивать 0,5—1 га подсолнечника.
Примерно 60 % СО, находящегося в атмосфере,-
происхождения.
антропогенного
Всемирный фонд дикой природы за тридцать лет своего
существования потратил около 500 миллионов марок на 5000 экологических
проектов.
Примерно половина азотных удобрений, попадающих в водоемы
Азербайджана,— на совести виноградарей.
32
КИЕ ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЕ ОБОЗРЕНИЕ
Против шерстки
Среди всех дорожных
нарушений одно из самых опасных —
выезд на полосу встречного
движения. Разделительные линии,
увы, не всегда сдерживают
лихачей, да и штрафы не
помогают. Поэтому в Бельгии
решили провести эксперимент:
оснастить дороги специальными
устройствами, главная деталь
которых — острые стальные
шипы. Исходное положение у
шипов горизонтальное, и если
автомобиль проедет по ним в
положенном направлении, они
так и останутся мирно лежать.
Но стоит наехать на шипы
встречной машине, как те
мгновенно поднимаются, прокалывая
шины (сообщение АФП от
15.01.92). Что ж, дырка в
колесе — и впрямь более весомый
аргумент, чем дырка в талоне
предупреждений.
Из пустого в порожнее
Заголовок требует уточнения: из
пустого и грязного — в
порожнее и чистое. Речь идет об
английском предприятии,
перерабатывающем использованные
консервные банки из алюминия.
Основная его продукция — те
же банки, но, естественно,
новые. Это первый такой завод
Период полураспада различных пестицидов в подземных водах
колеблется от 19 до 1900 суток.
Железнодорожный транспорт всех республик бывшего СССР за
год потребляет примерно миллиард кубометров воды.
В Тверской области уже несколько лет действует система штрафов
и административных санкций за экологические прегрешения.
Еще три тысячи лет назад из-за чрезмерно интенсивного
скотоводства производительность пастбищ падала в два — четыре раза
за 25 лет.
К 2000 году концентрация оксидов азота над Японией уменьшится
на 12—13 %.
По материалам РЖ «Охрана природы
и воспроизводство природных ресурсов»
в Европе, на очереди — еще
несколько. Получать алюминий
из металлолома гораздо
выгоднее, чем из руды: при этом
экономится до 95 % энергии, а
затраты уменьшаются вдесятеро
(«Financial limes», 27.11.91).
Единственное неудобство — в
Англии не налажен сбор пустых
консервных банок и пока их
привозят из Америки. На
местное сырье завод перейдет лишь
к концу века.
Ищи ветра в поле
Зачем крестьянину поле? Ясное
дело, чтобы сеять. А потом
пожинать урожай. Один из
английских фермеров решил
посадить на поле...
ветроэнергетическую установку. И теперь будет
снимать ежегодный урожай в
11 —12 миллионов кВт-ч
электроэнергии. И продавать ее
оптом — примерно за
полмиллиона фунтов стерлингов —
местной электрической компании.
Другие плоды, которые принесет
ветряк,— экологические:
ежегодная экономия двух тысяч
тонн нефти и предохранение
атмосферы от 75 тонн SO2,
50 тонн ГмОг и нескольких
тысяч тонн СО* («Farmers
Weekly», 1992, т. 116, № 2),
которые выбросили бы обычные
ГЭС, получая столько же
энергии.
Кстати, в той же Англии
появилась и больница,
оснащенная ветроэлектростанцией
(«New Scientist», 1991, т. 132,
№ 1796). Экономия энергии в
ней достигает 60 %.
Ввиду невозможности
разрешить проблему некоторых
болезней при помощи животных
и из законного желания
сократить насколько возможно число
жертв науки среди ученых,
можно было бы обратиться к
преступникам, осужденным на
смертную казнь, и с их
согласия производить над ними
опыты для блага человечества.
И. И. Мечников.
«Мученики науки», 1909
2 Химия и жизнь № 7
33
Технология и природа
Из метана — метанол
Запасы нефти истощаются. Сегодня этот
постулат уже не требует доказательств.
Специалисты спорят только о сроках —
то ли это произойдет в 2025 году, то ли
лет на двадцать позже. Что же придет
на смену бензину и солярке? Вариантов
много, но все они, за исключением
электромобиля, сводятся к использованию сжатого
или сжиженного природного газа. Запасы
его в земной коре не уступают запасам
нефти. Кстати, в границах бывшего СССР
сосредоточено примерно 40 % мировых
ресурсов.
Согласно гипотезе астрофизика Т. Гоулда,
метан — один из основных компонентов,
участвовавших в образовании нашей
планеты. При формировании земной коры часть
его улетела в космос, но большая часть
осталась в недрах Земли и теперь
постепенно выдавливается к ее поверхности. Если
это правда, то ресурсы метана практически
неисчерпаемы. Кстати, анализ изотопного
состава углеводородов природного газа
косвенно подтвердил эту гипотезу.
Еще один плюс: природный газ —
достаточно «чистое» топливо, при его сжигании
образуются в основном диоксид углерода
и вода. Это выгодно отличает метан от
более сложных углеводородов с множеством
С—С связей. Именно перевод части
городских ТЭЦ с угля и мазута на природный
газ позволил нашим городам вздохнуть
более свободно. Используют природный метан
и вместо автомобильного бензина или
солярки — каждый, наверное, видел грузовые
автомобили с баллонами под кузовом. К
сожалению, запас топлива в этих баллонах
невелик, а вес самих баллонов — весьма
значителен. Вот если бы метан под
давлением превращался в жидкость, как его
гомологи — пропан и бутан! Но, увы...
Содержание пропана и бутана в природном газе
невелико, какие-то доли процента. И хотя
состоящий из пропан-бутановой фракции
сжиженный газ сегодня используют на
автотранспорте, он не может составить
конкуренцию бензину.
Мы привыкли к тому, что газ в наши
квартиры поступает по магистральным
газопроводам из удаленных северных и восточных
месторождений. Но мало кто знает, что чуть
ли не в Нечерноземье есть множество
месторождений метана — правда, небольшой
мощности. Их нерентабельно подключать к
большим газопроводам, и поэтому большая
часть таких скважин законсервирована.
Другие месторождения стоят из-за
значительной примеси соединений серы в
газе. Их пока толком не умеют ни сжигать,
ни перерабатывать. Еще один значительный
источник метана — угольные пласты, где этот
смертельный враг шахтеров появляется во
все больших количествах. Не стоит
сбрасывать со счетов метан биологического
происхождения (болотный и биогаз),
пригодный для сельского и коммунального
хозяйства, а также попутные газы, выходящие
на поверхность при добыче нефти и тут же
сгорающие в гигантских факелах.
Но не будем поспешно обличать
отечественную бесхозяйственность. Если
жидкую нефть всегда можно разлить в
бочки, как это делали еще в прошлом веке,
и везти куда угодно, то с газом так не
получится. Трубопроводы дороги,
прокладывать их тяжело, эксплуатировать непросто
и небезопасно (вспомним хотя бы серию
недавних катастроф). А попробуйте-ка их
проложить к морской буровой платформе
или к удаленному месторождению в горах.
Сжижать природный газ — тоже не выход.
Сначала потребуются миллиардные
капитальные вложения на строительство
соответствующих заводов и специального
рефрижераторного транспорта. Сегодня такие
проекты существуют, по понятным причинам
только на бумаге, а газ в наши дома
поступает по трубопроводам.
И все же попробуем превратить метан в
жидкость. Любой химик знает, что в процессе
паровой конверсии природный газ
превращается в синтез-газ (смесь газов, состоящую
в основном из СО и Нг), из которого
путем каталитического гидрирования окиси
углерода под давлением (процесс Фишера—
Тропша) можно получить широкую фракцию
углеводородов, вполне пригодных для
синтеза бензина или дизельного топлива.
Процесс этот неудобен, ибо протекает в
несколько стадий, требует высоких давлений и
более совершенных катализаторов. Да и
бензин, надо сказать, получается
некачественный, хотя и дорогой. Правда, в кризисных
ситуациях люди не столь разборчивы. Во вре-
'мя второй мировой войны Германия
значительную часть своих потребностей в жидком
моторном топливе покрывала именно за счет
2*
35
процесса Фишера—Тропша, используя в
качестве сырья для получения синтез-газа
каменный уголь. Южно-Африканская
Республика таким же образом успешно
преодолевала последствия нефтяного эмбарго.
Поскольку СНГ подобная судьба вроде бы
не грозит, поищем другие возможности.
Например — каталитическое превращение
того же синтез-газа в метанол. Кстати,
сегодня это один из наиболее
высокоэффективных каталитических процессов.
И нужных — ведь метиловый спирт
незаменим при производстве формальдегида,
метилметакрилата, синтетического изопре-
нового каучука, уксусной кислоты и других
органических продуктов. Его используют в
производстве фотопленки, различных
аминов, поливинилхлорида, карбамидных и
ионообменных смол, в производстве
красителей, для получения синтетического
протеина и т. д. и т. п.
Но из метанола можно синтезировать и
высокооктановые бензины. Наиболее
известный процесс разработан фирмой
«Мобил Ойл Корпорейшн» (Мобил-процесс).
Его уже используют в Новой Зеландии,
где пущен завод мощностью 570 тыс. т
бензина в год («Химия и жизнь», 1989, № 4,
с. 65, рассказывала об этом).
Метанол замечателен еще и тем, что после
истощения нефтяных запасов он мог бы стать
исходным сырьем для синтеза почти всего
ассортимента продуктов, которые дает
современная нефтехимия. Наиболее
дальновидные специалисты призывают уже сейчас
готовить промышленность к возможности
такой замены. Похоже, что тот же
метиловый спирт станет перспективным
моторным топливом ближайшего будущего.
Зачем, скажите, тратить энергию и усилия
для образования новых С—С связей в
сложных углеводородах бензина, насыщающих
атмосферу вредной сажей? Журнал «В
мире науки» недавно опубликовал
обстоятельный обзор суждений американских ученых
по этой проблеме. Изложим их основные
выводы.
1. Переход на метанол приведет к
сокращению вредных выбросов в атмосферу в
значительно большей мере, чем применение
самых совершенных устройств по очистке
выхлопа на автомобилях с бензиновым
двигателем. При сжигании метанола выхлопные
газы содержат на 90 % меньше веществ,
участвующих в образовании приземного
озона.
2. В не дрение метанола в суще ству ющу ю
транспортную инфраструктуру потребует
весьма скромных изменений в
автомобильной и энергетической промышленности.
3. Жидкие топлива, в частности
метанол, обладают тем существенным
преимуществом перед другими видами
альтернативного топлива, что при горении выделяют
больше энергии на единицу объема. И хотя
в единице объема метанола заключено
примерно в два раза меньше энергии, чем в
единице объема бензина или дизельного
топлива, автомобили, специально
сконструированные для работы на метаноле, будут
примерно на 30 % более экономичными, чем
лучшие автомобили с бензиновыми
двигателями.
4. Пары метанола на открытом воздухе
воспламеняются значительно хуже, чем пары
бензина, что уменьшает опасность
возгорания топлива при расплескивании и аварии.
Кстати, на Западе кое-кто опередил свое
время — метиловый спирт давно применяют
в качестве топлива для гоночных
автомобилей. В последние годы в США, Канаде
и других странах в продажу поступили
топливные смеси, содержащие в качестве
высокооктановой добавки к бензину до
5 % метанола. Создание чисто метанольно-
го автомобиля и соответствующей
инфраструктуры распределения нового топлива —
одна из стратегических задач
американского автомобилестроения, особенно после
того, как в некоторых штатах была
принята программа перевода автотранспорта на
метанол. Только в Калифорнии в
ближайшее время появится более ста тысяч
метанольных автомобилей.
Но торжествовать рано. И не потому, что
водители могут по ошибке утолить свою
жажду из топливного бака. У описанной
схемы получения метанола через синтез-газ
дца крупных недостатка. Они не так страшны
при нынешних масштабах его производства
(для органического синтеза) — 20 млн т в
год, но могут вырасти при внедрении
метанола в качестве массового
автомобильного топлива. Сегодня 75 % общей стоимости
производимого метанола приходится на
получение самого синтез-газа. На той же
4 стадии расходуется 70 % всех капитальных
затрат и огромное количество энергии.
В такой ситуации нерентабельно любое
производство мощностью менее 1 млн т/год.
Это означает большие начальные затраты и
долгие сроки окупаемости.
Есть ли альтернативные способы
получения метанола из природного газа? Есть.
При обычном окислении метана образуется
большое число различных органических
соединений: спирты, перекиси, альдегиды,
олефины и многое другое. Конечно, их
концентрация в обычных условиях невелика, и
практически все они окисляются дальше —
36
до углекислого газа и воды. Но при
недостатке кислорода многие из этих
соединений можно сохранить. Более того,
варьируя условия процесса неполного окисления
метана, можно даже изменить состав
конечных продуктов. Повышаем температуру —
получается больше высших углеводородов с
двумя, тремя и более атомами углерода.
При температуре до 450 °С и низком
давлении в продуктах содержится относительно
много формальдегида. А стоит повысить
давление до 100—150 атмосфер — увеличится
выход метанола. При определенных условиях
можно вообще избежать промежуточной
стадии синтез-газа, превратив метан прямо
в метанол.
С 1982 г. в поселке Шебелинка под
Харьковом работает опытно-промышленная
установка института УКРНИИГаз по
производству метанола (мощностью 100 т/год),
на которой отрабатывается эта технология.
Пока еще новый процесс по
рентабельности уступает традиционному способу
получения метанола через синтез-газ,
совершенствование которого, понятно,
продолжалось не один десяток лет. Экономисты
подсчитали, что, когда селективность
прямого окисления метана в метанол
превысит 77% (пока — чуть больше 50%),
его получение новым методом станет более
экономичным, чем традиционный обходной
путь.
Специалисты Института химической
физики им. Н. Н. Семенова разработали
математическую модель процесса. Она
включает около ста химических реакций,
описывающих образование основных продуктов и
их взаимодействие между собой.
Совершенно неожиданным оказался вывод, гласящий,
что скорость образования метанола должна
увеличиваться по мере уменьшения
содержания в смеси одного из исходных
реагентов — кислорода. Однако эксперимент это
полностью подтвердил. Своеобразный
симбиоз теоретических и экспериментальных
методов исследования позволил в короткие
сроки повысить эффективность процесса
почти на 20 %.
Промышленное освоение прямого
окисления метана в метанол сулит такие
радужные перспективы, что им занялись
множество исследователей. Канада, Норвегия,
США, Англия, Италия, Австралия — вот
далеко не полный список стран, ведущих
интенсивную работу для решения этой
проблемы. Но только в нашей стране
метод прошел крупномасштабные испытания.
Более того, в рамках Государственной
программы «Экологически чистая
энергетика» уже разрабатываются проекты
промышленных установок производительностью до
нескольких десятков тысяч тонн метанола
в год. И именно в СНГ есть острая
потребность в относительно небольших
установках по производству метанола
непосредственно в районах добычи природного
газа.
Газодобывающие и газотранспортные
предприятия, особенно на севере, не могут
нормально работать без... регулярных поставок
метанола. Именно его добавки
предотвращают образование гидратов — твердых
упорядоченных структур из молекул воды и
метана, забивающих устье скважин и
газопроводы. Сотни тысяч тонн метилового
спирта ежегодно завозят по земле, воде и
воздуху в труднодоступные северные края.
Стоимость доставки в несколько раз
превышает стоимость самого продукта, поэтому в
расчет берется уже не экономическая
целесообразность, а стабильность поступления.
Создание небольших автономных
источников метанола позволило бы решить еще и
эту проблему. Причем требования к
рентабельности процесса и степени чистоты
метанола минимальны, во всяком случае,
значительно ниже, чем в традиционном
химическом производстве,— образующиеся
органические примеси не ухудшают его
топливные и ингибирующие свойства.
Традиционный способ получения метанола
через синтез-газ никогда не решит
проблемы северных газопромыслов. В обозримом
будущем негде найти средства и
материальные ресурсы для сооружения
рентабельных заводов-гигантов. И потом, сколько лет
будет продолжаться такое строительство?!
В копеечку обойдется доставка на север
оборудования, а уж необходимый
квалифицированный персонал туда ничем не заманишь.
Да и легко ранимая северная природа вряд
ли выдержит такие нагрузки. А главное —
проблема доставки полученного метанола на
сотни конкретных промыслов и
газокомпрессорных станций все равно не будет
решена.
Лишь уникальный по простоте способ
прямого гомогенного окисления метана
позволит решить проблему обеспечения
газопромыслов метанолом и топливом.
Природный газ из скважины или магистрального
газопровода при давлении в 75—100
атмосфер нагревается примерно до 400 °С и
поступает в реактор — простую трубу, в
которой взаимодействует с подаваемым под
таким же давлением кислородом. Как и при
традиционном способе, за один проход в
метанол превратите я л иш ь небольш ая часть
природного газа — примерно 3 %. Остальной
метан можно снова направить в цикл
переработки, как это делается во многих
37
производствах, либо, что гораздо проще,
подавать вместе с основной массой
природного газа в магистральный газопровод.
Появление в отходящем газе около 1 %
примесей — СО, С02, Н2 — не ухудшает
свойств топлива. Если же возникла
необходимость получать метанол в конечном
пункте газопровода, то для окисления
можно использовать не кислород, а обычный
воздух.
Оборудование несложно изготавливать
серийно в блочно-модульном исполнении на
машиностроительных или оборонных
заводах, а на месте только собирать готовые
модули. При необходимости установка
может комплектоваться модулем по
каталитическому превращению полученного метанола-
сырца в высокооктановый бензин или
дизельное топливо. Установки такого типа
позволили бы решить проблему рентабельной
эксплуатации мелких месторождений (их
более 3/4 от общего числа), подключать
которые к магистральным газопроводам
экономически нецелесообразно.
Гибкость и малотоннажность процесса
позволят легко перепрофилировать его в за-
Что мы едим
Немного о чечевице
Нынешнее поколение горожан о ней знает,
пожалуй, лишь понаслышке. И не столько
о ней, сколько о чечевичной похлебке. Тем,
кому довелось ее отведать или съесть кашу из
чечевицы, навсегда запомнили. В том числе и
писатели: «В роскошных ресторанах —
овчины солдат. Официанты изысканно подают
похлебку из чечевицы» (И. Эренбург). «Не
прошло и получаса, как двумя этажами ниже,
в большом запущенном помещении школы, я
получил большую тарелку чечевичной каши»
(В. Каверин).
Болгарский писатель Павел Вежинов в
романе «Ночью на белых конях» описывает
такой эпизод:
«— Да это же чечевица!
— Вижу! — удивленно ответил брат.—
И чудесная!
— Чудесная! — огорченно ворчала она.—
Очень ты замечаешь, что тебе дают.
И вышла из кухни. Можно подумать, что
в этом идиотском современном мире так
просто найти чечевицу и чабрец».
То же и у нас. Сейчас.
висимости от реальных местных
потребностей, например для получения
формальдегида. По этой технологии можно
перерабатывать в метанол и биогаз с ферм, и
газ малых месторождений, а полученный
продукт без труда трансформировать в
топливо для тракторов, уксусную кислоту
(консервант для силоса), в сырье для
биотехнологических производств.
Итак, традиционный путь превращения
природного газа в метанол — далекая
перспектива. А вот технология прямого
окисления, о которой мы рассказали в этой
статье, уже сегодня способна смягчить
удар надвигающегося нефтяного кризиса.
И кстати, помочь самой газодобывающей
отрасли, превратив ее из поставщика
дешевого сырья в производителя ценного и
конкурентоспособного на мировом рынке
полупродукта.
Кандидат физико-математических наук
В. С. АРУТЮНОВ,
доктор химических наук В. И. ВЕДЕНЕЕВ,
кандидат технических наук Н. Ю. КРЫМОВ
Трудно поверить, что еще в древности
чечевицу возделывали в разных местах. Во всяком
случае ее зерна нашли в египетских
пирамидах B000 лет до нашей эры), в свайных
постройках Швейцарии и в раскопках,
относящихся к каменному веку в Венгрии. У
греков и римлян чечевица была любимой
пищевой культурой. С берегов Средиземного моря
она проникла через Альпы на север и восток
Европы. Так, о ее выращивании упоминали
киевские летописи XV—XVI веков.
И при всем при том дикий предок чечевицы
не найден. Предполагают, будто он сейчас и
не существует. Вообще-то для чечевицы, как
и для других зернобобовых культур Старого
Света, центром происхождения
мелкосеменных темноокрашенных форм служит
Юго-Западная Азия, а крупносемянных
светлоокрашенных форм — Средиземноморье. В горах
Ирана, Афганистана и Северо-Западной
Индии и ныне возделывают растения почти
исключительно мелкосемянные, сильно
пигментированные, с черным зерном, близкие к
исходным формам.
Сейчас увлекаются чечевицей, главным
образом, в Средиземноморских странах и на
Балканах, а также в Иране, Афганистане и
Северо-Западной Индии. А вот перед первой
мировой войной самым крупным экспортером
чечевицы на мировом рынке была Россия.
Ныне же чечевичные посевы в России уце-
38
лели, похоже, только в Поволжье и
Пензенской области. Там по сию пору выращивают
крупносемянные сорта.
В середине прошлого века в России чечевицу
считали отменным кормом для скота.
Известный в свое время специалист П.
Преображенский в «Общепонятном руководстве к
практическому сельскому хозяйству — книге
для сельских хозяев, управляющих
имениями, агрономов и всех желающих заниматься
сельскохозяйственною промышленностью»
A856 г.) писал: «Хотя от чечевицы и меньше
получается корма сравнительно с викою и
горохом, но он так питателен, что его дают
скотине малыми порциями. Для получения
корма чечевицу надо сеять всегда вразброс,
и для обсеменения одной десятины требуется
обыкновенной чечевицы 7 четвериков и
одноцветной 5 четвериков. Вместе с чечевицею
многие сеют овес и рожь для того, чтобы
плети чечевицы по ним тянулись вверх. Все
прочее при разведении чечевицы для корма
производится точно так же, как и при
разведении ее на семена».
Питательность чечевичного сена не хуже
викового и даже клеверного. По содержанию
протеина в процентах от сухого вещества
A9,9), оно превосходит виковое A8,6),
гороховое A7,0) и клеверное A2,6). Кормовые
достоинства соломы и мякины чечевицы тоже
высоки. Они содержат переваримого белка
вдвое больше, чем солома и мякина овса.
В зеленой же массе чечевицы при
образовании ее бобов белка больше, чем в зеленой
массе вики, гороха и клевера.
Чечевица по содержанию белка в зерне
C0%) превосходит горох B8%), нут
B5 %) и фасоль B3 %), уступая лишь сое
D0 %). Вообще же концентрация белка в ней
может колебаться от 26 до 35 % в
зависимости от условий выращивания и сорта.
Однако эти колебания меньше, чем у других
зернобобовых культур. В засуху накопление
белка идет интенсивнее; мелкосемянная
чечевица тут всегда обгоняет крупносемянную.
Из зерна так называемой тарелочной круп-
носемянной чечевицы (тысяча семян весит
40—60 г) делают крупу и муку для
кулинарии, производства колбас, консервов,
кондитерских изделий. Чечевичную муку
применяют в хлебопекарной промышленности для
повышения белковости хлеба.
Мелкосемянная чечевица (тысяча семян весит 20—
35 г) — хороший, хотя и дорогой,
концентрированный корм для сельскохозяйственных
животных.
По содержанию лизина, метионина и
других аминокислот, которые не могут быть
синтезированы организмом и должны
присутствовать в пище и корме, чечевица не
уступает гороху, нуту и фасоли.
У каждой аминокислоты свои обязанности.
Так, нехватка в пище и корме лизина
задерживает образование соединительной
ткани, отсутствие метионина нарушает ход
процессов роста. Гистидин способствует
расширению сосудов и увеличивает их
проницаемость. Триптофан входит в состав
гемоглобина.
В зерне чечевицы соседствуют витамины
В] (аневрин) и В2 (рибофлавин),
последнего очень много — до 350 микрограммов на
100 г сухого вещества.
С «оземлением» горожан — приобретением
ими садово-огородных участков — заметен
всплеск интереса к культурам, которые на
обеденном столе не ночевали от рождения
нашего. В том числе и к чечевице.
Некоторые почему-то думают, что она
доступна только южанам. Агрономы уверяют —
не так это: прорастает чечевица уже при
температуре 4 СС и к тому же может
переносить заморозки в —5 СС, чего картофель
вовсе не выдерживает. К тому же
вегетационный период некоторых сортов всего
лишь 75 дней. Оптимальная для нее
температура воздуха — 17—22 СС — летняя
подмосковная.
Хотя чечевица засухоустойчивей гороха,
она на первых этапах растет удручающе
медленно и требовательна к влаге. Лишь через
40—45 суток после всходов начинается
бурный рост и ветвление.
В крупных хозяйствах неприязнь
агрономов к чечевице порождена тем, что не «идет»
она на тяжелых кислых и солонцеватых
почвах,— ей, вишь, рыхлые суглинистые и
супесчаные, да богатую известью землицу подавай,
и к тому же чистую от сорняков. Да плоды
созревают неодновременно и низко
прикреплены. Скашивать чечевицу приходится до
созревания всех бобов и подсушивать в
валках, а то и на вешалах. Поэтому чечевица —
растение только для тех, кто не боится
добывать хлеб свой в поте лица. Прежде всего
фермеров и владельцев огородов. Заметьте
себе — чечевица обогащает почву азотом
(навоз огородникам, как правило, не по
карману) и удачно сочетается с картофелем:
чечевица после картофеля наиболее хороша,
и картофель после чечевицы дает хороший
урожай.
Приемы возделывания чечевицы те же, что
и гороха,— междурядия 15 см, заделка семян
на глубину 3—5 см. Только после посева
почву важно прикатать или рядки
притоптать — всходы будут дружнее.
Средний урожай чечевицы в бывших
колхозах и совхозах страны составлял около 6
(до 1913 года — 8) центнеров с гектара.
Рекордный урожай в 30 ц/га получен в
1981 году в болгарском Институте пшеницы
и подсолнечника с помощью сорта
Таджикская 95, выведенного еще в 1945 году
И. Сухобусом из местного образца
Таджикистана.
Кстати, в Болгарии — стране ясновидящих
и танцоров на пылающих углях — знахари,
говорят, не без успеха пользуют отваром муки
чечевицы и высушенных в тени цветков
картофеля страдающих раковыми опухолями.
Рецепт таков. Столовую ложку муки
чечевицы и ложку сухих картофельных цветков
заваривают в 0,5 л кипятка, настаивают в
тепле три часа. Принимают полстакана
трижды в день за полчаса до еды. На курс лечения
требуется 4 литра настоя. Разумеется,
настой не всесилен и помощи медиков не
избегают.
При случае рецепт можно испробовать.
Избавь, конечно, Господи, от такой
необходимости.
Доктор биологических наук
Ю. П. ЛАПТЕВ
Голубцы с чечевицей
Возьмите стакан риса и стакан
чечевицы, помойте их по
отдельности,, переложите все в одну
кастрюлю, залейте холодной
водой и, доведя до кипения,
оставьте вариться в
подсоленной воде около 5 минут.
Слейте воду, добавьте мелко
нарезанный и обжаренный в
растительном масле репчатый лук
(так, чтобы «плавал» в масле).
Посолите, поперчите, добавьте
1/2 чайной ложки хмели-суне-
ли, петрушки, укропа или какой-
либо другой зелени (сушеной
или свежей). На ошпаренный
кипятком капустный или
виноградный лист положите немного
смеси риса с чечевицей,
сверните лист и уложите в
кастрюлю. Потом залейте небольшим
количеством воды
(приблизительно 1/4 кастрюли), по
желанию можно добавить 1 ложку
томата. Голубцы варите до
готовности 40—60 минут. Это
рецепт рассчитан на 5—6 порций.
Пюре из чечевицы
Чечевицу накануне залейте
теплой водой. Морковь, лук
нарежьте тоненькими
круглячками, положите масла и
припустите на огне, потом залейте
несколькими ложками горячей
воды. Положите туда же
чечевицу и варите до тех пор, пока
совершенно не разварится.
Протрите, потом опять поставьте
на огонь и разбавьте, чтобы
пюре не было ни слишком
густым, ни жидким. Когда
время подавать, распустите
кусочек свежего сливочного масла.
Подавайте с мелкими
гренками, жареными с маслом.
Чечевица с кочерыжками
Переберите чечевицу, замочите
ее на несколько часов или с
вечера, поставьте варить в
холодной воде. Несколько
кочерыжек очистить, нарезать на
мелкие кусочки, варить даа часа
в воде с кусочком масла, а
потом откинуть. Немного
сельдерея, петрушки, порея очистить,
нарезать очень мелкими
кусочками и отварить в воде до
мягкости. Сделайте белую
пассеровку, дайте в ней пожелтеть
мелко рубленой луковице,
залейте овощным отваром или
отваром от кочерыжек, смешайте
с откинутой чечевицей и
готовыми кочерыжками, несколько
минут потушите все вместе.
Можно гарнировать жареными
гренками.
Котлеты из чечевицы
Вымочите чечевицу, поставьте
ее в холодной воде без соли на
огонь и дайте развариться.
Протрите, вмешайте ложку или
дае муки, 3 цельных яйца,
тертую на терке луковицу и
немного распущенного масла.
Посолите. Сделайте небольшие
котлеты, обваляйте в сухарях,
изжарьте. Подавать с какими-
нибудь овощами или с салатом.
Чечевица с закусками и салатами
Стакан чечевицы отварите в
подсоленной воде, слейте воду,
добавьте туда обжаренные в
большом количестве
растительного масла 1—2 луковицы,
чайную ложку винного или
яблочного уксуса, хмели-сунели,
свежую зелень петрушки,
укропа, кинзы, базилика. Посолите,
поперчите. Хорошо
перемешайте, дайте настояться примерно
час. Если в доме есть зеленый
лук, не помешает мелко
порезать его в блюдо. Это
придаст остроту и пикантность.
Чечевица по-эльзасски
Это блюдо дорого и сложно
в приготовлении, особенно в
наших условиях. Но, как
утверждают, очень вкусно. Итак:
250 г чечевицы перебрать,
вымыть, залить 3/4 л красного
вина и оставить на ночь для
набухания. На следующий день
нарезать кубиками 100 г
нежирной корейки, слегка
обжарить ее на сковородке,
добавив нарезанные кольцами 2
большие луковицы. Лук обжарьте
до золотистого цвета.
Размоченную чечевицу залейте 3/4 л
мясного или костного бульона,
добавьте лук, корейку, лавровый
лист и гвоздику. Варите на
маленьком огне в течение часа,
затем добавьте 250 г
картофеля и 1—2 моркови,
нарезанные кубиками. Когда
чечевица * будет готова, добавьте
щепотку сахара и сильно
посолите и поперчите, добавьте
1/2 стакана сливок. Дайте еще
раз закипеть и сейчас же
подавайте к столу.
М. СЕРЕГИНА,
А. ИОРДАНСКИЙ
40
* ноле ичнч ■ I
И остается осадок...
Все началось чуть больше ста лет назад,
в 1887 г., когда английский изобретатель
по фамилии Уэбстер впервые закинул в
мутные воды Темзы железную сеть и
пропустил через нее электрический ток.
Собравшиеся зеваки решили было, что это
какой-то новый способ рыбной ловли. Но
они ошиблись: Уэбстера интересовала не
рыба, а грязь, которой уже в те годы
было в Темзе более чем достаточно,—
именно ее он и собирался вылавливать
сетью. Мы не знаем, из каких
теоретических соображений он при этом исходил,
но результат эксперимента, видимо,
оказался обнадеживающим: по крайней мере,
несколько месяцев спустя на новый метод
очистки воды был выдан патент Беликобри*
тании.
Вряд ли Уэбстер рассчитывал, что его
эксперимент даст толчок к развитию
целого направления в экологической
технике — электрохимической очистки сточных
вод. И хотя с тех пор утекло немало
загрязненной воды и перепробованы
всевозможные хитроумные конструкции
электродов, но суть осталась та же —
пропускание через воду постоянного
электрического тока.
Механизм происходящего при этом
процесса, который сейчас называют
электрокоагуляцией, до сих пор точно не
установлен. Существуют две концепции на этот
счет, обе — недостаточно
обоснованные. Но концепции концепциями, а в
общем дело сводится к тому, что идет
так называемое анодное растворение: под
действием тока анод разрушается и в
растворе появляются ионы — если анод был
41
железный или стальной, то это будут
ионы двухвалентного железа. Часть же
тока расходуется на электролиз воды, в
результате чего выделяется кислород. Этот
кислород вкупе с кислородом воздуха,
растворенным в воде, быстро окисляет
ионы двухвалентного железа, и образуются
так называемые первичные частицы рент-
геноаморфного гидроксида трехвалентного
железа — будем называть его просто
ги дроке и дом. И хотя процесс этот сложен,
зависит от многих факторов и идет в
несколько стадий, в конечном счете
происходит то, ради чего все затевалось:
органические примеси, содержащиеся в воде,
адсорбируются на поверхности частиц
гидроксида и вода становится чище.
Особенно эффективен этот способ для
очистки сточных вод предприятий
химчистки и крашения, загрязненных в
основном органическими красителями и
поверхностно-активными веществами, которые
хорошо адсорбируются гидроксидом. К тому
же такие стоки достаточно электропровод-
ны, потому что в них всегда есть
хлорид натрия, используемый в
производственных процессах.
Основное преимущество
электрокоагуляции — в том, что для нее не
требуется никаких реагентов, не нужна
сложная аппаратура, а управление и контроль
легко автоматизировать. На некоторых
химчистках уже внедрены линии локальной
очистки сточных вод методом
электрокоагуляции, разработанные для них ЦНИИ
бытового обслуживания населения. Главный
узел линии — электрохимическая
установка с блоком стальных электродов.
Грязная вода поступает в нее снизу, а после
обработки из электродного блока падает в
пеногаситель маленькая сине-зеленая Ниага-
ра# — суспензия частиц гидроксида.
Правда, процесс окисления на этом еще не
заканчивается, о чем и свидетельствует
сине-зеленый цвет, придаваемый большим
количеством ионов двухвалентного железа.
Доокисление происходит в отстойнике,
где суспензия разделяется на два слоя:
осветленную воду, которую можно
направлять либо в канализацию, либо на доочистку
и повторное использование, и так
называемый сырой осадок в виде жидкого студня,
где первичные частицы гидроксида уже
объединились в агрегаты,— в нем и остается
значительная часть (до 60 %) загрязнений.
Практически на этом и кончается сама
электрокоагуляция. Однако промышленная
линия локальной очистки сточных вод —
это не просто электрохимическая
установка, а целая система узлов и агрегатов.
Дело в том, что с образовавшимся
осадком тоже нужно что-то делать, потому что
твердого вещества в нем всего 0,02—0,03 %,
а остальное — вода, и все дальнейшие
операции, о которых сейчас пойдет речь,
суть не что иное, как обработка этого
осадка, его обезвоживание.
Что представляет собой осадок,
образующийся в отстойнике? Если не считать
воды, это почти на 100 % гидроксид. Но
что такое сам гидроксид? А с ним дело
обстоит примерно так же, как с гоголевским
Хлестаковым, про которого почтмейстер,
если вы помните, говорит: «Ни се, ни то;
черт знает что такое!» Уже не одно
десятилетие гидроксид интересует
исследователей, но мнения о его химическом
составе они высказывают самые разные. В одной
из монографий на этот счет говорится,
что «для рентгеноаморфной гидроокиси
железа (это и есть наш гидроксид — Ю. /7.)
характерно большое число различных
названий, отсутствие единого мнения о ее
составе, неправильное написание химической
формулы и весьма широкое использование»,
а дальше говорится, что способ
получения этого вещества, температура, рН и
другие факторы имеют столь большое
значение, что изменение одного или
нескольких из них приводит к получению
продуктов, заметно различающихся по своим
физическим и физико-химическим
свойствам.
Если привести все, что до сих пор
удалось установить, к более или менее
общему знаменателю, то можно сказать, что агре-
гатированный гидроксид представляет собой
смесь оксигидратов и оксидов различных
модификаций, обладающую упорядоченной
структурой и большей — по сравнению с
первичными частицами — плотностью.
Последнее вроде бы и хорошо,— но при
упорядочении структуры и увеличении
плотности уменьшается поверхность гидроксида,
а это приводит к частичной десорбции
загрязнений из осадка. Возникает дилемма:
с одной стороны, сырой осадок надо бы
держать в отстойнике подольше, чтобы он
лучше отделился от воды, а с другой,
отстаивание не должно продолжаться
слишком долго, иначе пойдет десорбция и
загрязнения вновь попадут в воду. На практике
в отстойнике доводят содержание твердого
вещества в осадке до 0,5—0,6 %. Это все
еще очень мало: остальное-то — вода...
Как же освободить гидроксид от лишней
воды?
Можно, конечно, прибегнуть к флокуля-
ции — увеличить размеры твердых частиц с
помощью флокулянтов, например полиакрил-
амида. Но это удорожит очистку и лишит
42
электрокоагуляцию ее главного
преимущества, о котором говорилось выше. К тому же
при добавлении флокулянта необходимо
перемешивать содержимое отстойника, а это
дополнительный риск вызвать десорбцию.
А что если перекачать сырой осадок в
отдельную емкость, и когда над ним не
будет, как в отстойнике, большого
количества воды, куда могли бы десорбироваться
загрязнения, дать гидроксиду, наконец,
возможность проявить свою
физико-химическую природу? Ведь пространственная
решетка осадка способна со временем
самопроизвольно изменяться — ее ячейки
уменьшаются, высвобождая часть содержавшейся
в них влаги. Для этого достаточно дать
осадку уплотниться под действием
собственной тяжести.
Правда, оказалось, что уплотнение под
действием гравитационных сил — процесс
весьма медленный. Но его можно ускорить,
если механически разрушать
пространственную решетку гидроксида и не давать ей
восстанавливаться, медленно перемешивая
осадок. Электроэнергии на это будет
расходоваться совсем немного, а уплотнение
ускорится минимум в два раза.
Теперь, после уплотнения, осадок уже
освободился от 3Д воды, и, хотя он все
еще текуч и нетранспортабелен, его уже
можно эффективно фильтровать, не прибегая
к флокуляции,— на обычном фильтр-прессе.
После этого осадок теряет текучесть,
хотя перевозить его все еще нельзя: сильно
мажется. Но можно его высушить в
вакуумной сушилке с помощью пара, в
котором на предприятиях бытового
обслуживания нет недостатка.
Но вот, наконец, из сушилки выгружают
темно-коричневый порошок — все, что
осталось от нашего осадка.
И теперь возникает вопрос — а что с ним
делать дальше, как его утилизировать?
Вопрос очень трудный, хотя трудности
здесь, в отличие от всех предыдущих
стадий, не технические, а большей частью
организационные.
По своему составу получившийся
порошок представляет собой в основном гамма-
оксид трехвалентного железа. К сожалению,
как таковой он ни для какого
производственного процесса большого интереса не
представляет — лучше его добавлять к
основному сырью при производстве какой-нибудь
продукции. Но какой?
Одним из самых перспективных
направлений здесь могло бы стать производство
строительных материалов, в частности
керамзитового гравия. Введение в него
соединений железа повышает прочность гранул, а
благодаря присутствию в осадке
органических веществ усиливается вспучивание и,
следовательно, снижается плотность
готовой продукции. Однако десятки тонн
осадка, накапливающиеся за год даже на
крупных предприятиях бытового
обслуживания,— явно не тот масштаб для
строительных комбинатов, выпускающих в сутки
десятки, а то и сотни тонн
керамзитового гравия. Видимо, здесь нужна
кооперация — как между химчистками, так и с
предприятиями других отраслей, где тоже
очищают стоки методом-электрокоагуляции.
В железосодержащих компонентах
нуждается и производство строительной
керамики. Доказано, что оксид железа
повышает степень спекания керамических масс,
способствует кристаллизации некоторых
составных частей сырья, что значительно
улучшает структуру керамики, повышает ее.
прочность, снижает деформации. Кроме
того, наличие оксида железа уменьшает
вероятность образования черной сердцевины,
которая портит изделия. Исследования
показали, что лучше всего добавлять в сырье
для изготовления керамических плиток 7 %
железосодержащего осадка. А добавка
такого же количества осадка в глазури
позволяет получать плитки для полов с матовым
износостойким покрытием, которое по своим
эксплуатационным свойствам не уступает
глазурям с высоким содержанием оксида
бора. Можно использовать сухой осадок и
в качестве магнитного наполнителя для
резиносмесей — исследования, проведенные
в этом направлении, завершились успешно.
Дойдет ли вообще дело до утилизации
осадка? Должно дойти. Ведь предприятия
бытового обслуживания, даже если они
перейдут в частные руки, все равно будут
вынуждены очищать свои сточные воды, и
скорее всего — уже освоенным способом
электрокоагуляции. А значит, будет
накапливаться осадок и надо будет его утилизировать.
Но пока производственники не спешат:
сейчас всем не до утилизации. И остается в
душе осадок — от того, что так и лежат
невостребованными безотходные технологии,
способные частично, а иногда — и
полностью, компенсировать затраты на очистку
сточных вод...
Ю. ПИРУМЯН
От редакции. Предприятия и организации,
которые заинтересуются технологиями
утилизации железосодержащего осадка,
образующегося при очистке стоков методом
электрокоагуляции, могут получить
информацию о них в редакции «Химии и
жизни». Не бесплатно — условия по
договоренности.
43
Интервью
Технология сытости
*$™~**-
t
Пожалуй, с первых дней Советской власти
самым важным был продовольственный
вопрос. Решить его за 70 с лишним лет
так и не удалось. Сегодня,
в переходный момент, дефицит
продовольствия ощущается
еще сильнее, и любые
политические силы должны
в первую очередь накормить народ,
иначе им не удержаться у власти.
Недавно руководство России
приняло программу интенсивного
внедрения новых технологий
в сельское хозяйство.
Исполнитель — созданная в 1990 году
Академия технологических наук России.
Ситуация, прямо скажем,
неординарная: общественным
организациям, если не считать КПСС,
редко давали столь серьезные
поручения. Поэтому редакция
постаралась выяснить,
что представляет собой АТН
и как она намеревается решать
проблемы села. Наш корреспондент
Л. Генкин встретился
с доктором технических наук
Юрием Ивановичем ЛЮБИМОВЫМ,
первым вице-президентом академии.
Вот запись их беседы.
Корр. Сегодня в России академии растут как грибы
после дождя. Уже трудно понять, что может
скрываться за этим названием — высшее учебное
заведение, союз ученых или коммерческая структура.
Так что же такое Академия технологических наук?
Ю. И. Любимов. Наша Академия — это
общественная организация, объединяющая
ученых-практиков. В отличие, например, от
академиков Российской Академии наук мы не
получаем никакой платы только лишь за
звание. Более того, каждый избранный в АТН
сам платит ежегодный взнос. Что же касается
ее поля деятельности, то оно практически
нетронуто, ибо до сегодняшнего дня самое
слабое место в экономике нашей страны —
связь между разработчиком и
производителем. Кто-то генерирует научные идеи, кто-то
создает новые технологии, кто-то занят на
производстве. А вот связать все это воедино
было некому. Главная цель нашей академии
состоит в том, чтобы внедрять в производство
уникальные отечественные технологии,
которых уже создано великое множество. Для
этого мы организуем хозрасчетные
региональные отделения Академии,
межотраслевые акционерные объединения,
научно-производственные центры.
Могли бы вы привести конкретные примеры?
Поволжское отделение Академии внедряет
технологию получения пектина из корзинок
подсолнечника, урало-сибирское —
технологию извлечения концентратов иода и брома
из нефтяных вод. Очень много работ по
конверсии. Кто бы мог подумать, что добавка
жидкого ракетного топлива в солярку
улучшит качество последней настолько, что у
работающего на ней двигателя будет
практически экологически чистый выхлоп? Из
боевых отравляющих веществ, содержащих
мышьяк, уже получают арсенид галлия,
необходимый в радиоэлектронике, а из
взрывчатых веществ — шлифовальный порошок
для доводки бриллиантов и заточки
сверхпрочных режущих инструментов. Я сам
возглавляю межотраслевой
научно-производственный комплекс «Биотехиндустрия», в чьей
компетенции биотехнологические аспекты
аграрных вопросов.
Что он собой представляет?
В состав нашего МНПК вошли 57
научно-производственных объединений, из них
22 — предприятия оборонного комплекса, и
почти все ведущие научно-исследовательские
учреждения по проблеме биотехнологии,
неважно, из системы РАН, АМН или
РАСХН. Поэтому любую разработку мы в
силах сдать, что называется, под ключ.
Не совсем понятно, при чем тут оборонный
комплекс.
Вряд ли кто сомневается, что именно эта
отрасль в Советском Союзе соответствовала
строгим международным стандартам. А
поскольку сегодня военно-промышленному
комплексу необходимо перестроиться,
неплохо для начала понять, как это лучше
сделать. Только обывателю очевидно, что
производители ракет должны выпускать
кастрюли или, в крайнем случае, холодильники.
С этим справятся и обычные предприятия.
А вот попробуйте найти помещение, где
можно было бы выращивать культуры тканей,
например безвирусного картофеля.
Стерильные цеха, где раньше изготовляли
радиоэлектронику, подходят для этой цели
идеально. Конечно, можно затащить туда станки
и штамповать на них лопаты и чайники. Но
случись что, и переделать цех обратно уже не
удастся. А из биотехнологической
лаборатории достаточно вынести ферментеры и
поставить прежнее оборудование. Кстати,
ферментеры, действительно сложные приборы,
оборонное предприятие сделает куда лучше,
чем минмедпромовское.
Поскольку ваш МНПК уже год как занимается
реформами нашего многострадального сельского
хозяйства, должны быть хоть небольшие успехи.
Не все сразу. Продовольственная проблема
в России настолько сложна, что решить ее
всю и за короткое время практически
невозможно. Уже 38 лет, как на самом высоком
уровне постановили, что пора «накормить
народ». Но дефицит продовольствия год от года
только растет. И это несмотря на распашку
целины, осушения-орошения, которые при
всех своих минусах позволили значительно
увеличить площадь пашни. К 70-м годам
удалось создать прекрасно работающую
отрасль промышленности минеральных
удобрений, обеспечить все хозяйства техникой.
Но урожаи по-прежнему низки.
Что же вы предлагаете в своей программе? Опору
на фермеров?
Ни в коем случае. Весь мир кормят крупные
сельскохозяйственные предприятия-фермы,
использующие наемный труд. Мелкие
фермеры существуют только на дотации от
государства, как, например, в странах ЕЭС,
вкладывающих более двух третей общих
бюджетных средств в сельское хозяйство. Так что
лучше не разгонять совхозы и колхозы
высочайшими указами, а предоставить инициативу
самим крестьянам: кто хочет, пусть
отделяется, а большинство, я думаю, предпочтут
стать акционерами. Тем более что никаких
условий для единоличников в стране не
создано — нет ни маломощной техники, ни
кредитов, ни, в конце концов, традиций. Впрочем,
разработанная в Академии технологических
наук программа ориентирована не только на
45
крупных производителей. И если мы
правильно выбрали тактику, то программа начнет
окупать себя после сравнительно небольших
вложений.
И что это за направления «главного удара»?
Во-первых, закрытый грунт. Сегодня в
России столько же теплиц, сколько в
Голландии, население которой в двадцать раз
меньше. А ведь именно в нашей стране, где не
слишком много хороших хранилищ и машин,
да и урожай вечно собирать некому, крайне
важно, чтобы культуры, требующие больших
затрат ручного труда — овощи, например,
созревали равномерно в течение года. Так вот,
заводы военной авиации уже выпускают
готовые тепличные модули, которые при
существующих ценах на провиант начнут
приносить их владельцам прибыль уже через
год-два.
Но хранить урожай все равно надо.
Сегодня не хватает хранилищ примерно на
150 миллионов тонн продукции. Новых
быстро не построишь, ведь оборудованное
помещение на тысячу тонн в ценах 1990 года
обходилось в полтора миллиона рублей. Мы
разработали две технологии, которые
позволяют использовать многочисленные
подземные выработки для хранения
сельхозпродукции. В одной используется природный газ,
в другой — азот воздуха. Но не каждый
урожай можно сберечь.
То есть?
Отечественное семеноводство находится в
весьма плачевном состоянии. Здоровый
посадочный материал — большая редкость.
Например, безвирусной картошки во всем СНГ
днем с огнем не найдешь. А
биотехнологические методы, о которых я уже упоминал
в начале беседы, позволят ее вырастить. Мы
уже готовы к производству
сборно-модульных биоцентров, оборудованных с учетом
последних достижений радиоэлектроники.
Биотехнология поможет решить и еще одну
трудную задачу — сохранить
животноводство.
Телят и поросят тоже станут выращивать в
стерильных помещениях?
Для начала их неплохо бы накормить. Уже
в 1990 году пришлось забить 11,5 миллионов
голов скота и 7,5 миллионов птицы. И это
прямое следствие бескормицы. По самым
скромным подсчетам не хватает 15
миллионов тонн кормов, особенно белковых. Тому
есть и объективная причина: климат России
неблагоприятен для сои, основы
кормопроизводства всего мира. Но с помощью
ферментации можно получать богатые протеином
46
корма из того, чего у нас в избытке —
соломы, испорченных овощей и фруктов,
отходов сахарного и хлопкового производств.
В этом направлении работают предприятия и
институты Минатомэнергопрома.
Значит, их конверсия благотворно скажется на
наших желудках?
Военно-промышленный комплекс давно
предлагает свои услуги для производства
современного биотехнологического оборудования.
Главное — сохранить на переходный период
госзаказ для его предприятий. Во всем мире
треть валового национального продукта
производят по госзаказу, благодаря чему удается
избежать кризисов перепроизводства. Я
уверен, что оборонные заводы, если их не
развалят, еще станут основой новой рыночной
экономики. Да, они громоздки и не могут
быстро перестраиваться. Но если наладить
горизонтальные связи, систему снабжения, то
крупноструктурная экономика заработает с
высокой отдачей. Не забывайте, что именно
в оборонке сосредоточен основной
научно-технический и промышленный потенциал
страны, сегодня, по большей части,
простаивающий.
А какие технологии, разработанные вашей
Академией, пойдут «на село» в ближайшее время?
Например, наши ученые получили хлопок с
разноцветным, удивительно красивым
волокном. Экологическая чистота сделанных из
него тканей (их уже производит «Тверская
мануфактура») не вызывает никаких
сомнений, ибо полностью отпала нужда в
синтетических красителях. Существует технология
выращивания высококачественной кормовой
смеси из двух компонентов —- рапса и...
осины. Есть интересные технологии и в
медицине, и в иммунологии. Так что перспективы
у нашей Академии неплохие. Кстати, она уже
получила международное признание: сам
Джеймс Бейкер подписал учредительные
документы американского отделения
Российской Академии технологических наук. Есть
такие отделения и в других промышленно
развитых странах. Кстати, в них уже
согласились работать восемь нобелевских
лауреатов.
Пожелаем им и вам успеха, а гражданам
России — долгожданного изобилия.
—<
В объявлениях, которые мы здесь печатаем, не указаны адреса тех, кто производит
рекламируемую продукцию. Эту информацию заинтересованные лица и организации могут получить в
редакции, предварительно оплатив ее стоимость по договорным расценкам. Справки по тел.
230-79-78, 238-23-56 (по вторникам и пятницам с 10 до 18 ч).
ПРЕДПРИЯТИЕ КУПИТ
сырье для производства жидких кристаллов — ЭФИРЫ ХОЛЕСТЕРИНА (олеат, циннамат, бутират,
п-нитробензоат, стеарат, лаурат, н-додеканоат, изовалерианат, пеларгонат, нонаноат). Форма оплаты —
любая.
Научно-производственная фирма
ПРОДАЕТ:
2-дезоксирибозу (чистота 99 %), мезилхлорид (чистота 99 %), тиогликолят аммония A5—20 %-ный
раствор, для анализов и для косметических целей);
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ технологии нуклеотидного синтеза и химико-фармацевтических
производств (исключение пиридина на стадиях ацилирования), АНАЛИЗ воды, почвы и любых жидких
сред на загрязнение хлорорганикой, хлорфенолами и т. п., РАСШИФРОВКУ составов различных
композиций методом хромато-масс-спектрометрии, НАРАБОТКУ промышленных партий (до
10—100 т) органических соединений из сырья заказчика, УТИЛИЗАЦИЮ отходов мясной и молочной
промышленности на своей производственной базе.
ПРОДАЕТСЯ
коллагеназа из Clostridium histolyticum, по своим характеристикам аналогичная коллагенезе типа [
фирмы «Sigma». Тестирована на получение культур клеток. Активность 100—200 и 300—500 единиц
Мандля. Цена 20 и 24 р. за 1 мг.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на оптические приборы для медицинской диагностики:
ларинго-, фарингоскоп для визуального осмотра полости рта, гортани и носоглотки. Снабжен
системой холодного белого света, оптика защищена от запотевания. Длина погружаемой части —
190 мм, диаметр — 8 мм, обзор боковой, 90°, угол поля зрения 75°, увеличение до Х14, питание
от сети 220 В. Начало опытного производства — 4-й квартал 1992 г.;
гистероскоп для визуального обследования женских половых органов с подсветкой по световоду.
Длина погружаемой части — 210 мм, диаметр — 6 мм, обзор прямой и боковой, 30е, угол поля
зрения 75°, увеличение до XI7, питание от сети '220 В. Начало производства — 2-е полугодие
1992 г.
Швейным и обувным предприятиям,
пользующимся станками с ЧПУ серии AM фирмы «JUKI» (Япония)
ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
составление программ шитья; установка АРМ на IBM-совместимом компьютере,
позволяющего самостоятельно составлять программы. РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ АРМ для составления программ
шитья на аналогичных станках других марок (патентная чистота продукта гарантируется).
Родителям и учителям, имеющим IBM-совместимый компьютер,
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
авторская версия языка ЛОГО, развивающего интеллектуальные способности детей.
ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
Аккумуляторные батареи дороги, дефицитны и, к сожалению, недолговечны.
Увеличить на 30—40 % срок службы аккумулятора позволит несложный прибор, который вы сможете
без труда изготовить в домашних условиях. Схема, описание, инструкция высылаются
наложенным платежом C9 р.).
ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В РУБРИКУ «РЕКЛАМА ДЛЯ БЕДНЫХ» (см. № 3, с. 109)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Оплата публикаций — по специальному сниженному тарифу: с частных лиц —
600 р., с организаций и предприятий — 1000 р. Плату за публикацию (+28 % НДС) переводите
на счет Первичной организации Союза журналистов редакции журнала «Химия и жизнь»
№ 100700003 в Коммерческом Народном банке г. Москвы (МФО 191016). Справки по
телефонам, указанным выше.
47
о
4:
а:
и:
о
а:
>>
ft.
Здоровье
Тиосульфатная
история
л на торопливо достала из папки листки с
*^ таблицами, выписками, какие-то
рукописные странички и разложила их на столе...
Приведу лишь несколько фрагментов этих
рукописных «заявлений», опуская по понятным
причинам имена авторов, поскольку все
заявители — пациенты наркологической
больницы.
«Мое лечение началось с приема препарата
ВЕМ. До приема чувствовал себя отвратительно,
но когда принял препарат, часа через два стало
легче, даже не ожидал. В стационаре я Первый
раз. Дня через два-три стало совсем хорошо,
появился аппетит, пропали отеки под глазами.
Приступил к работе, чего никак не ожидал.
К спиртному не тянет, даже как-то странно. До
лечения я принимал спиртное почти ежедневно
в течение 12 лет».
«Ранее лечился в этой же больнице дважды.
Новым для меня было назначение препарата ВЕМ.
Поначалу я отнесся к нему с недоверием. Но в
отличие от традиционных методов лечения, его
применение в скором времени оказало на меня
благотворное влияние. Даже скажу больше:
поразительное! Кроме обычного снятия похмельного
состояния (надо заметить, очень быстрого), резко
улучшилось психологическое состояние: стал я
более уравновешенным, рассудительным,
спокойным. Полностью исчезли мысли о выпивке».
«После приема препарата ВЕМ начинаю
чувствовать себя лучше, поднимается настроение,
улучшается аппетит, крепче сон. После сна встаешь
бодрым и отдохнувшим, становишься спокойнее и
по-другому относишься к той обстановке, в которой
находишься, лучше соображаешь и делаешь
правильные выводы».
Согласитесь, любопытные документы.
Правда, алкоголизмом я не страдаю, а вот
«лучше соображать и делать правильные
выводы» — не отказалась бы. Думаю, вас тоже
заинтересует рассказ о препарате ВЕМ, о
его авторе Валентине Максимовне
Кондаковой. Она и принесла в редакцию эти бумаги,
когда прочитала в нашем журнале A989,
№ 12) статью об Александре Святославовиче
Самохоцком.
та история началась шесть лет назад,
когда Валентина Максимовна,
дипломированный врач, с двумя детьми волею судьбы
оказалась в Тихвине. Все шло хорошо: на
работе ее ценили, дети росли. Наконец и
квартиру дали, правда, на первом этаже.
И вот тут-то начались болезни. Легкое
недомогание постепенно переросло в
постоянные головные боли, вялость,
раздражительность, появились отеки, а потом — обмороки,
на работе, на улице.
Как всегда сапожник оказался без сапог:
никто не мог поставить диагноз. Грешили
на гинекологию, онкологию, но анализы
подтверждений не давали. Назначенное лечение
не помогало, и жизнь превратилась в
мучение. Маленький Максим и старшая Лена
тоже непрерывно болели — простуды,
кашель, вялость, отеки... Интересно,
перечисленные симптомы о чем-нибудь говорят
читающим сейчас статью врачам?
Валентина Максимовна сама искала истоки
болезней, привлекая на помощь свой
врачебный опыт. Симптоматика явно говорила о
каком-то хроническом отравлении
организма. Но чем? Ведь судя по тому, что
состояние усугублялось, источник опасности был
где-то рядом.
К счастью, в очередной клинике во время
очередного обследования она познакомилась
с опытным профпатологом Жанеттой
Владимировной Сечко, поделилась с ней своими
соображениями и услышала в ответ:
«Картина очень похожа на токсико-аллергический
процесс, связанный с тяжелыми металлами.
Ищите! Санэпидемстанция должна вам
помочь». Невероятно! Откуда тяжелее
металлы? И какие?
Впрочем, тогда выяснять этого не было сил.
Поскорее бы поставить себя на ноги. Теперь,
когда появился достаточно определенный
диагноз, выбрать лечение было делом
техники. Просмотрев медицинские книги,
Валентина Максимовна подобрала лекарство:
После третьей инъекции стало ясно, что
попала в десятку: состояние резко
улучшилось, сошли отеки, исчез астматический
кашель, досаждавший не один месяц, пропал
тремор, прояснилась голова, а главное —
вернулись силы и желание жить.
Испробовав на себе, Валентина Максимовна лечит
своих детей. Результат тот же.
Теперь можно искать тяжелые металлы.
Но где? Профпатолог посоветовала
обследовать квартиру. Пригласили
санэпидемстанцию. После долгих упрашиваний приехали,
но как будто ничего не нашли. Тогда
Валентина Максимовна попросила знакомых из
заводской лаборатории обследовать кусок
обоев из квартиры. Качественный анализ
четко показал присутствие ртути. Следующий
кусок обоев отправили в Москву, в
Тимирязевскую академию, где учится дочь. Здесь
сделали количественный анализ. Результат
ошеломил: содержание ртути на обоях
0,03 мг/м2, в сотню раз больше ПДК...
Откуда же взялась ртуть? Санэпидемстан-
ция даже не стала пытаться что-либо
выяснить. Но старожилы Тихвина
рассказывали, что тот дом с ртутной квартирой
на первом этаже построили на месте мертвого
болота. Отчего бы его вдруг окрестили
«мертвым»?
Но на этом неприятности у Валентины
Максимовны не закончились. Поняв, что она
откопала в анналах медицины великолепный
детоксикант, решила применять его в своей
лечебной практике. К тому времени она
работала заведующей отделением
межрайонного наркодиспансера. Продумав методику и
состав лечебного раствора, стала назначать его
своим пациентам. Методика оказалась на
редкость удачной, но очень не понравилась
главному врачу диспансера: поймав
Кондакову, что называется, за руку при назначении
этого «черт знает чего» и обвинив ее во всех
смертных грехах, освободил от занимаемой
должности. Правда, потом, под напором
сотрудников и пациентов, восстановил.
Не буду перечислять дальнейшие события,
которые нетрудно представить. Главное —
у истории хороший конец: методом
Кондаковой заинтересовался Эдуард Семенович
Дроздов, главный нарколог Москвы, и
пригласил ее к себе на работу в
наркологическую больницу № 17.
4/ так, препарат ВЕМ. Самое простое —
**' объяснить, почему он так называется:
первые буквы имен мамы и детей,
победивших обстоятельства и болезнь,— Валентина,
Елена, Максим — образуют аббревиатуру.
А что касается состава, здесь я, наверное,
разочарую читателей, потому что не дам его
детальную пропись, опять же по понятным
причинам.
Поговорим о главном компоненте
состава — тиосульфате натрия. Едва ли найдется
человек, кто не слышал об этом прекрасном
восстановителе, называемом еще
гипосульфитом натрия, который используют
фотографы. Это вещество не ново и для врачебной
практики, а уж для ветеринаров и вовсе
старый добрый знакомый. Ведь именно
тиосульфатом лечат домашний скот, используя его
как противоядие. Мало ли чего заглотнет
скотинка вместе с травой и землей? А
тиосульфат хорошо выводит всякую нечисть,
связывает тяжелые металлы в сульфиды и
сульфаты, от которых организм легко
освобождается.
Для непосвященных еще несколько слов
о тиосульфате. Кристаллическое
гигроскопичное вещество, хорошо растворяется в
воде, прекрасный восстановитель, легко
вступает в окислительно-восстановительные
реакции, работает ловушкой для радикалов.
Все это — сведения из химического
учебника. Детальный же медицинский портрет
тиосульфата можно найти в справочнике
М. Д. Машковского «Лекарственные
средства» (т. 2, с. 183). Вроде бы все известно.
Чего уж тут нового? Тиосульфатом лечат
и по сей день случаи острого отравления.
Но В. М. Кондакова открыла его новые
возможности, скажем, дописала новый
куплет к старой песне.
Наши предки, несомненно, были здоровее.
Достаточно посмотреть на фотографии
прошлых лет: пышноволосые красавицы с
белоснежной кожей, силачи-гренадеры, пышущие
здоровьем. Случалось, конечно, болели и
умирали, но чаще потому, что не умели тогда
лечить грудную жабу, испанку и чахотку.
Такой же повальной хилости, массового
недомогания, как сейчас, история человечества
не знала. Причина тому — грязь (или, как
скажут ортодоксы, химия), донельзя
переполняющая наши организмы, которую мы
поглощаем с воздухом, водой и пищей.
Всяческие ксенобиотики, токсины, тяжелые
металлы и еще невесть что ломают обмен
веществ, ослабляют иммунитет, создавая тем
самым благоприятную почву для процветания
разного рода болезней.
Понятно, что надо избавляться от
чужеродных веществ, и приемов существует
множество: голодания по Брэггу и Николаеву,
отказ от вредных привычек, вегетарианство
и тому подобное. В. М. Кондакова
предлагает делать это с помощью составов на
основе тиосульфата натрия. «Дурная материя
должна выходить низом»,-— писал Авиценна.
Тиосульфат как нельзя лучше ускоряет этот
процесс, действуя и как слабительное.
Принимать можно профилактически, особенно в
зонах экологического бедствия, как
принимают витамины и адаптогены, а можно и в
разгар болезни — восстановитель
подействует в соответствии со своим названием.
Сформулировав для себя принципы этой
детоксикационной терапии, Валентина
Максимовна решила осторожно попробовать
лечить не только наркологических больных,
где картина хронического отравления налицо.
Правовую сторону этого шага обеспечивал
помянутый справочник Машковского.
Потом стали обращаться родственники,
знакомые, знакомые знакомых. Так
набралась статистика — более тысячи больных
алкоголизмом, гипертонией, аллергиями,
астмой, остеохондрозом, заболеваниями печени
и поджелудочной железы —всех и
не.перечислить. Жалобы больных без явной
патологии, кому лечение помогало, повторялись,
напрашивалась классификация. Из
повторяющихся симптомов сложился своего рода
тест из тридцати позиций: частые головные
боли, раздражительность, утомляемость,
нарушение сна, подавленное состояние, сла-
50
бость, ломающиеся ногти... По мнению
Кондаковой, эта группа симптомов
свидетельствует в том числе о неблагоприятном
состоянии внутренней среды человека, о зага-
женности организма ксенобиотиками. Здесь
препараты на основе тиосульфата помогут
бесспорно. Кстати, лечение по методу
Кондаковой дало великолепные результаты и на
группе чернобыльцев, работавших в зоне
бедствия.
Попробовала и я грешным делом, когда в
этом перечне обнаружила позицию
«ломающиеся ногти». Правда, я относила эту
неприятность на счет стирки и моющих средств.
Но вдруг поможет? Пить горький раствор на
ночь, конечно, не удовольствие. Зато ногти
перестали слоиться, и не только. Утром
просыпалась с легкостью и хорошим
настроением (хотя вроде бы и не с чего), откуда-
то добавилась работоспособность. Ради
такого можно и потерпеть горький вкус
(кстати, не горче хлористого кальция).
Несомненно, в этом подходе что-то есть.
Конечно, тиосульфат — не панацея, а один
из. Но этот «один из» помогает многим,
к тому же на удивление дешев и доступен
даже сегодня. Только разобраться бы до
конца, какие превращения претерпевает тио-'
сульфат, блуждая с кровью по организму,
какие последствия на биохимическом,
молекулярном уровне оставляет его путешествие.
JP библиотеке Московской медицинской
академии нашлось совсем немного
публикаций, связанных с тиосульфатом. Все
авторы называют тиосульфат не иначе как
противотоксическим,
противовоспалительным и десенсибилизирующим препаратом.
Что касается механизма действия
тиосульфата, то здесь исследователи не столь
единодушны. Да и обсуждение, как правило,
сводится к изложению экспериментальных
данных, чк они весьма интересны.
Например, установлено (А. Н. Калюк, Московский
НИИ туберкулеза), что «7,5 %-ный раствор
тиосульфата натрия подавляет рост
стрептококков, стафилококков, граммотрицатель-
ных бактерий». Поэтому лечение больных
туберкулезом легких, осложненным
неспецифическим эндобронхитом, с помощью
тиосульфата натрия прошло успешно. Из работ
других исследователей я почерпнула, что
тиосульфат «оказывает положительное
влияние на ранних стадиях патологического
процесса в печени», что он эффективен при
лечении атеросклероза, что немаловажную
роль в механизме его действия играют
антиоксидантные свойства, благодаря
которым он устраняет избыточное перекисное
окисление липидов, что с его помощью
можно лечить гнойные раны и остро
протекающую шизофрению. Точного же
описания механизма его действия я так и не нашла.
Спектр применения препарата широк, и
напрашивается предположение, что
тиосульфат вступает в благотворный контакт с
какими-то основополагающими, жизненно
важными системами организма, например
ферментными. Ведь именно они прежде всего
страдают при отравлении организма.
Возможно тиосульфат снимает блокировку
ферментов, а может быть, увеличивает
количество сульфгидрильных групп, которые
содержатся в каждом ферменте, хотя и на
этот счет нет согласия у исследователей.
А может быть, тиосульфат служит обманкой,
подставляя свои сульфгидрильные группы
под атаку чужеродных веществ?
Словом, вопросов больше, чем ответов.
Ясно только, что тиосульфат — лекарство
общего действия. Что же касается лечения
алкоголизма, то описание метода Кондаковой
в литературе не встречается. Хотя есть
упоминание об успешном лечении метаби-
сульфитом, Na2S205. Главный продукт
метаболизма этилового спирта в организме —
ацетальдегид. С этим ядом и связаны
неприятные последствия опьянения. Мета-
бисульфит химически связывает
ацетальдегид, снижая его концентрацию в крови.
Образующийся ацетальдегидсульфат легко
выводится из организма.
Возможно, тиосульфат действует по той же
схеме. Но опять — предположительно.
Чтобы все уяснить, нужен комплекс
биохимических, иммунологических, клинических,
количественных и качественных исследований
крови и, извините, кала и мочи. Ну, а все эти
исследования требуют времени,
оборудования, исполнителей.
Пока же Валентина Максимовна
погружена в рутинную работу — изо дня в день лечит
алкоголиков на радость их семьям, отдавая
этому все свое время. Не до исследований,
да и оборудования подходящего нет, и
помощников. Даже патентованием нового
метода приходится заниматься урывками.
Валентина Максимовна рада бы помогать
людям, да нет условий и времени. Поэтому
сразу же предупреждаем читателей:
редакция не будет давать телефон и адрес врача
частным лицам. А вот если найдутся
организации, готовые продолжить вместе с
В. М. Кондаковой исследовательскую и
врачебную работу, то охотно переправим
официальный запрос по назначению.
Думаем, игра стоит свеч.
Л. ВИКТОРОВА
51
l О
о
о
£
Спорт
о°о©
о о
Q 1ШС йЬймать допинг XL
^1Hfllpftlr не только високосный, но и олимпийский. Конечно, «Химия и жизнь»
не М0ЧвявР'и мимо столь важного события, тем более что химия в жизни спортсменов
такого^ВНрр играет весьма значительную роль. А в чем она заключается, нашему
корресгЯНКту С. Сильвестрову рассказал старший научный сотрудник Московского
антидопингового центра Сергей Леонидович БОЛОТОВ.
52
«
Корр. Для начала давайте объясним читателю,
что такое допинг и когда он появился.
С- Л. Болотов. Можно сказать, с
незапамятных времен. Задолго до нашей эры в
Древнем Китае занятые тяжелым
физическим трудом рабы по приказу императора
получали возбуждающий экстракт из листьев
растений. А в античном мире различные
стимуляторы применяли тогдашние
спортсмены — бегуны, кулачные бойцы,
дискоболы. Сегодня допингом называют любое
специфическое фармакологическое средство (в
том числе — и естественного
происхождения) , позволяющее спортсмену
значительно повысить свои результаты.
Но может быть, в этом нет ничего плохого?
К сожалению, есть. Спортсмены, которые
стараются вести честную борьбу, попадают
в заведомо неравные условия. Тем самым
нарушается главный принцип любых
соревнований: пусть побеждает сильнейший. К
тому же и сами нарушители,
употребляющие препараты в завышенных в десятки
раз дозах, наносят огромный ущерб
своему здоровью. А иногда передозировка
допинга может привести к трагедии: в
пятидесятых годах велогонщик,
использовавший в качестве допинга всем известный
яд стрихнин, умер на треке. Эта история
наделала много шума, и . примерно тогда
же, в 1955 году, медики провели первое
обследование на допинг участников
велогонки во Франции. Результат оказался
поистине плачевным — даже при помощи
тогдашних, несовершенных с позиций
сегодняшнего дня методов выяснилось, что каждый
пятый спортсмен подстегивал себя
химическими препаратами.
Какие именно препараты считают допингом?
В первую очередь — наркотики-стимуляторы,
возбуждающие центральную нервную
систему: эфедрин, морфин, кофеин и так далее.
Их применяют практически во всех видах
спорта, от легкой атлетики до тяжелой.
Исключение составляют, пожалуй, только
стрелки, поскольку возбуждение им,
напротив, мешает. Поэтому они предпочитают
препараты, блокирующие бета-адренорецеп-
торы (B-blockers), которые уменьшают
частоту сердечных сокращений (пропранолол).
Следующая группа — скандально известные
анаболические стероиды, синтетические
аналоги мужских половых гормонов (метандро-
стенолон, ретаболил, стенозолол). Они
увеличивают силу и мышечную массу. Эти
препараты используют представители почти всех
видов спорта, но в большей степени —
силовых. И наконец, диуретики, то есть
мочегонные препараты (фуросемид). Их
могут использовать для маскировки всех
упомянутых выше запрещенных средств,
поскольку после приема такого медикамента
концентрация любых веществ в моче резко
падает. Это затрудняет определение
допинга. В некоторых видах спорта
диуретики применяют для того, чтобы быстро
согнать вес и перейти в другую весовую
категорию.
Когда за нарушителей взялись всерьез?
После 1955 года стало ясно, что
необходима решительная борьба против допинга.
Медицинская комиссия Международного
олимпийского комитета начала
разрабатывать комплексный подход к этой проблеме,
оценивая фармакологические, медицинские,
аналитические и, безусловно, нравственные
ее аспекты. Подкомиссия по допингу
занялась решением конкретных вопросов с
помощью фотометрии и тонкослойной
хроматографии. Увы, возможности этих методов
были весьма ограничены. Но резолюция
медицинской комиссии от 1967 года,
запретившая употребление допинговых веществ
в соответствии со специальным списком,
предусматривала весьма суровое наказание
для нарушителей. На первый раз
дисквалификация на два года, рецидивисту —
пожизненная. А для серьезного спортсмена
спорт на самом деле «целая жизнь и даже
немножко больше». Когда американский
медик Меркин спросил у лучших бегунов
команды США, станут ли они принимать
лекарство, которое поможет завоевать
олимпийские медали, но гарантирует смерть в
последующие пять лет, большая часть ответила
утвердительно.
Как организована служба допинг-контроля
сегодня?
В начале 70-х годов появились газовые
хроматографы со специфическим азотно-
фосфорным детектором, после чего шансы
любителей подстегнуть себя наркотиками-
стимуляторами резко упали. И начиная с
мюнхенской Олимпиады-72 допинг-контроль
проводят регулярно (обязательно проверяют
всех призеров плюс еще нескольких
участников по жребию). Примерно тогда же
председателем подкомиссии по допинг-
контролю стал Манфред Донике,
руководитель кельнской лаборатории, кстати, бывший
велогонщик. Он и сегодня занимает этот
пост, причем авторитет профессора Донике
и его сотрудников столь высок, что
специалисты именно этой лаборатории принимают
окончательное решение в самых спорных
случаях, хотя никаких официальных
постановлений о какой-то особой аккредитации
кельнской лаборатории нет и не будет.
53
Что означает аккредитация?
Каждая лаборатория, которая проводит
анализы на допинг и дает официальное
заключение, должна получить аккредитацию в
медицинской комиссии МОК. Разумеется,
только если ее оборудование и персонал
отвечают самым высоким требованиям и
выдерживают первоначальное испытание — аккре-
дитационный тест. Таких лабораторий во
всем мире около двух десятков. В их число
входит и Московский антидопинговый центр.
Каждый год лаборатории проходят реак-
кредитацию, тоже весьма сложную
процедуру. Причем требования год от года
возрастают: если раньше на контрольный
анализ поступало восемь проб, каждая из
которых содержала одно допинговое
вещество, то сегодня каждая проба может
содержать до трех различных запрещенных
препаратов или быть «бланковой», то есть
бездопинговой. Уже через двое суток
необходимо направить в вышестоящую
инстанцию (в подкомиссию по допингу) короткий
факс, а через две недели представить туда
подробный отчет. Если допущена ошибка,
лабораторию на год лишают права давать
самостоятельные заключения. Недавняя
история с нашими фигуристами Климовой и
Пономаре нко подтвердила справедливость
этого подхода. Болгарская лаборатория,
уличившая их в приеме допинговых средств,
вообще не получала аккредитации.
Естественно, ее сотрудники не имели права
сообщать журналистам никакой информации.
А после того как кельнская лаборатория
не подтвердила их результата, получился
большой скандал. И если бы дело дошло
до суда, то виновникам пришлось бы
раскошелиться.
И часто происходят подобные накладки?
Для исключения ошибки приходится
предугадывать все уловки нарушителей.
Поскольку допинг определяют по анализу мочи,
регламент МОК предусматривает
специальную службу отбора проб, задача которой —
получить от спортсмена нужное количество
мочи (не менее 50 мл), не допустив
фальсификации. Затем каждую пробу делят
на две части (проба А и проба Б), им
присваиваются кодовый номер, под которым
они и попадают в аналитическую
лабораторию. Сначала анализируют пробу А, и
если в ней обнаруживают допинг, то
проводят контрольный анализ пробы />, кстати,
в присутствии заинтересованных лиц —
спортсмена или тренера. Они могут
признаться в совершенном проступке или
отпираться, но на решение о дисквалификации это
уже не повлияет.
А насколько велика достоверность анализа?
Практически стопроцентная. Любая допинг-
лаборатория оборудована-лучше, чем средний
научно-исследовательский центр на Западе.
Об СНГ и говорить нечего. Кстати, почти
всю аппаратуру, используемую в допинг-
контроле, производит американская фирма
«Hewett — Packard». Во всем мире хорошо
известны ее компьютеры, лазерные принтеры,
медицинская техника. Несмотря на то что
изделия этой фирмы несколько дороже
приборов, которые выпускают многочисленные
конкуренты, лаборатории допинг-контроля
предпочитают HP. Компактность и
надежность хьюлетт-пак кардовского оборудования
сторицей возмещают разницу в цене, а
прекрасное компьютерное обеспечение
замечательно приспособлено к
высокоавтоматизированному массовому анализу.
Поскольку значительная часть читателей нашего
журнала — химики, им интересно будет узнать,
как делают анализ.
Начнем с того, что в допинг-контроле не
существует «гостированных» методик. Их
заменяет свод обязательных требований к
анализам, название которого по-английски
звучит так: Good Laboratory Praktice. При их
выполнении остается простор для творчества,
а потом комиссия по допингу решает:
достоверен примененный метод или нет.
Впрочем, в любом случае основные методы
одни и те же: хроматография —
жидкостная и газовая, и масс-спектрометрия.
Например, летучие стимуляторы типа
эфедрина экстрагируются органическими
растворителями. Остается лишь упарить
раствор и вколоть его в хроматограф.
С этого, кстати, и начинался
допинг-контроль. Несмотря на простоту определения
эфедрина, с ним связано большое число
курьезных случаев. На Сеульской олимпиаде
занявший едва ли не последнее место
яхтсмен из какого-то карликового государства
попал под выборочный контроль, и в его
моче обнаружили этот стимулятор. Явная
абсурдность ситуации требовала
разъяснения. Оказалось, что перед соревнованиями
спортсмен принял капли от насморка,
содержащие эфедрин. Медицинская комиссия
рассмотрела этот случай и не стала
наказывать нарушителя, поскольку на этикетке
лекарства не был указан его состав. Теперь
эфедрин и некоторые другие стимуляторы
определяют не только качественно, но и
количественно.
Но вернемся к подготовке проб.
Нелетучие стимуляторы типа морфина находятся
в моче в виде конъюгатов, поэтому их
сначала гидролизуют, затем дериватизируют (то
есть получают летучие производные).
Анаболические стероиды тоже дериватизируют,
54
предварительно выделив с помощью
твердофазной экстракции (на сорбенте).
Проба подготовлена. Что теперь?
В роботизированный автосамплер помещают
от одной до ста подготовленных проб,
налитых в специальные пробирки-виалы.
Каждую из них прибор может вколоть,
проанализировать, обработать результаты,
распечатать их на принтере. И все это — по
индивидуальной программе. Но хотя все эти
манипуляции прибор способен выполнить без
оператора, главная ценность
допинг-лаборатории — это персонал. Каждый научный
сотрудник знает, как ведет себя допинговое
вещество в организме, то есть количество
основных метаболитов и их структуру, время
их удерживания в хроматографической
колонке и их масс-спектры. А если что-то
и забудем, на помощь придет компьютер.
Отечественным аналитикам, от студента до
профессора, может показаться, что мы живем
«в пошлой роскоши». Однако только в таких
условиях можно добиться точности и
воспроизводимости результатов,
соответствующих самым строгим международным
стандартам, и получать эти результаты быстро,
в больших количествах и фактически двумя
независимыми методами — хроматографией
и масс-спектрометрией.
А теперь, если 'можно, нескромный вопрос: .на
что живут лаборатории допинг-контроля?
Скажем прямо, содержание такой
лаборатории — весьма дорогое удовольствие.
Несмотря на довольно высокую стоимость
анализа, измеряющуюся не одной сотней
долларов, все лаборатории допинг-контроля
убыточны и финансируются из госбюджета.
А поскольку вместе с Советским Союзом
развалился и его Спорткомитет, покрывать
наши расходы сегодня некому. Возможно,
образовавшиеся на его обломках
независимые федерации, когда-нибудь смогут
обеспечить нас заказами и соответствующим
образом оплачивать их. Но до этого времени
надо еще дожить. И если новые приборы
можно будет купить, то собрать
разъезжающихся по всему миру специалистов
экстракласса уже вряд ли удастся.
Где же выход?
Южно-Корейский центр допинг-контроля,
созданный для обслуживания Сеульской
олимпиады, выполнил свою задачу за две
недели. А сегодня он успешно сочетает
допинг-контроль с участием в различных
экологических программах, как
национальных, так и международных. Мы готовы
последовать их примеру и выполнять анализы
для любых целей — медицинских,
агрохимических, экологических. Всем, кто
заинтересован в сотрудничестве с нами, предлагаем
обращаться по телефону 261-80-12 или
261-00-00 или по адресу: Москва,
Елизаветинский проезд, д. 10, Московский
антидопинговый центр.
Фирма «Хьюлетт-Паккард» (США)
предлагает вам уникальное аналитическое оборудование для комплексного решения задач в экологии,
нефтехимии, фармацевтической промышленности и для контроля пищевых продуктов.
Газовая и жидкостная хроматография
Хромато-масс-спектрометрия
Спектрофотометрия
Фирма обеспечивает:
гарантийный и послегарантийный сервис;
инструкции по эксплуатации всех приборов на русском языке;
обучение пользователей в России и за рубежом;
анализ образцов заказчика на демонстрационном оборудовании
Основной оффис и сервисный центр: 129223 Москва, Проспект Мира,
Всероссийский выставочный центр (бывш. ВДНХ), деловой комплекс, строение 2.
Телефон: 181-80-02.
Отдел аналитического оборудования.
HEWLETT
PACKARD
55
Что мы пьем?
Цена
Жара. Долгая, полная нетерпения, но
неизбежная прелюдия подходит к концу, и
желание достигает предела. Вот сейчас я
почувствую вспотевшими пальцами ее
хрустальную прохладу, прильну губами,
запрокину, закрою глаза и...
В первый момент — я это знаю заранее,
так бывает всегда — она обманет меня:
готовый впиться губами и языком в
золотистую плоть, проваливаюсь в белое
кружево, хватаю еще — и добираюсь наконец до
желанного, вцепляюсь в тугую, ароматную
струю и тяну ее в себя — раз, два, три,
четыре... Не вижу уже солнца сквозь веки,
не слышу перебранки ждущих своей очереди,
остается одно — жгучее утоление. Уф, все!
Теперь отдышаться и медленно, смакуя,
повторить.
Я отставляю ее, уже ненужную кружку,
в сторону и смотрю на очередь
другими глазами: глупые, они завидуют мне, не
понимая, что у них еще впереди то счастье,
которое я только что испытал.
Что же, распробуем. Разбавлено не в
меру, жадноват киоскер. Но зато свежее.
56
Воспоминания...
Сейчас дефицита пива вроде бы нет.
Баночное? Пожалуйста! И бутылочным
торгуют на каждом углу: хочешь —
«Жигулевское», хочешь — «Хамовники» или
«Тверское». Хорошее пиво. Но дорогое. А что
стоит за этими бутылками в ярких
этикетках? Чего они стоят? Желание узнать
истинную цену пива повело меня по московским
пивзаводам. Сначала — на Бадаевский.
ОТ КОРНЕЙ ДО КОРЕШКОВ
Купола красной меди, расположенные в двух
уровнях, сияли даже в сером свете
пасмурного мартовского дня. Мы со специалистом
по бродильным производствам С. В. Тюньки-
ным не у храма стоим, мы в одном из
цехов завода. Здесь красиво, здесь самые
большие окна и импортная пивоваренная
линия. Красиво еще снаружи: старые
корпуса, построенные больше ста лет назад,—
памятник промышленной архитектуры. На
этом, пожалуй, красота и кончается. Все
остальное — производство как производство,
с разношерстным оборудованием
(импортным и отечественным выпуска 1898 года),
с грохотом, пылью и сыростью, жарой и
холодом. Только на выходе — пиво.
А начинается пиво с ячменя. Но не со
всякого, а с пивоваренного. В нем долж
но быть не больше 11 % белка. Везут его и
из российских областей (Воронежской,
Курской), и с Украины, и из Швеции... Где
*F.
'2v*
^ i it ,
*?~W
'*
asfv?
57
достанут. Но об этом отдельный разговор.
Варят пиво не из ячменя, а из солода.
Поэтому ячмень, очищенный в
зернохранилище от мусора, поступает в
солодовенный цех. Это производство для
пивзавода необязательное, есть солодовенные
заводы. Однако продукции их не хватает,
приходится пивоварам крутиться самим.
Солод — это пророщенный ячмень. В
ячменном зерне почти нет пищи для
пивных дрожжей. Углеводы и аминокислоты,
необходимые для роста, запасены в нем в
виде полимеров — крахмала и белков. В
прорастающем зерне активизируются
гидролитические ферменты. Они расщепляют
полисахариды сначала до декстринов, а затем —
до мальтозы и глюкозы. Крупные белки они
разваливают на пептиды, а дальше — на
аминокислоты. Эти ферменты и подготовят
пищу дрожжам.
На заводе это выглядит так. Зерно
промывают и замачивают в стальных
11-тонных баках в прохладной воде (в теплой
нельзя — сгниет), продувая эту сырую кашу
воздухом. Грязь всплывает и
сбрасывается с пеной. Когда влажность ячменя
перевалит за 40 %, его перегружают в солодо-
растительные ящики. Там в течение семи —
восьми суток набирающее силу зерно будут
ворошить мешалками, пока каждое
зернышко не станет похоже на желтого паучка с
лапками-корешками. Впрочем, не каждое, но
как минимум должно прорастать 85—90 %
зерен, иначе ячмень не годится для
пивоварения. Потом зерно высушат, ростко-
отбивочная машина сделает все, чтобы
оправдать свое заковыристое название, и солод
почти готов. Он действительно
сладковатый и на вкус напоминает семечки. (Для
того чтобы получилось темное пиво, солод
после сушки прожаривают подольше, и в нем
происходит карамелизация углеводов, как в
жженом сахаре.) Но прежде, чем варить
из солода пиво, ему обязательно дают
вылежаться полтора — два месяца. Так нужно,
иначе пиво будет не то. За это время
солод снова набирает немного влаги и
дозревает.
Производство непрерывное, ждать, пока
сырье дозреет, нам ни к чему, и мы
переходим в следующий цех. А по дороге
замечаем, что кроме нас и солода здание
покидает какая-то труха. Выяснилось, что это
отбитые ростки и корешки — ценный корм
для скота, который с удовольствием
покупают животноводы.
Поезд Прага — Москва останавливается в
Сухиничах в восемь утра. Лето
восемьдесят шестого года, разгар антиалкогольной
кампании. Толпа мутноглазых мужиков
бросается к чешским вагонам. Пиво? Пиво?
«Не мам, скончилос...» Вдруг под
окошком девятого вагона вырастает живая
пирамида. (Его проводник отказал мне еще в
Чопе, где бутылка тогда шла по рублю.
Здесь — вдвое.) Платформа там низкая, и
верхние суют заезжему бутлегеру в окно
мятые бумажки и горсти мелочи, стоя на
плечах собратьев. Вниз по цепочке идет «Празд-
рой». Вагон «разгрузили» в пять минут.
НА КУХНЕ
В варочном цехе жарко, как и должно
быть на кухне. Отлежавшийся солод
сваливается откуда-то с верхнего этажа в
дробильный агрегат. Дробление бывает сухое и
влажное. Влажное лучше: пыли нет и шелуха
отделяется целиком, а она еще
понадобится. Солод смешивают с
пятидесятиградусной водой, он разбухает, а потом его
давят валками. Теперь можно проводить
горячую экстракцию, то есть варить сусло.
В пивоварении нет несущественных
моментов, но есть два главных — варка
сусла и сбраживание.
Во время варки пиво набирает вкус и
цвет. Варят смесь, в которой на одну
часть солода — примерно четыре части воды,
ее называют заторной массой.
Сначала смесь нагревают до 52—55 °С и
выдерживают тридцать — сорок минут. Это
так называемая белковая пауза. Во время нее
протеазы солода гидролизуют крупные
белки, избыток которых не только не нужен,
но и вреден для пива — напиток мутнеет.
Потом сусло нагревают до 60—65 °С и
снова выдерживают. В это время идет
гидролиз полисахаридов под действием ^-амилазы.
На следующей температурной ступеньке
G0—75 °С) работает уже а-амилаза. И
конечно, все это время идет экстракция тех
веществ, которые делают пиво — пивом.
Вареву дают расслоиться. Плотная часть
зерен и шелуха оседают на дно и
образуют естественный фильтр. Через него
жидкость медленно процеживают. Завершает
процедуру долгое кипячение сусла.
Добавляют несколькими порциями хмель, около
двух граммов на литр, больше или
меньше — зависит от сорта. Хмель придает пиву
горечь и аромат. Главный параметр хмеля —
содержание а-горькой кислоты, ее должно
быть не меньше 3,5 %.
При&кипячении сусло упаривается,
денатурируют и выпадают в осадок, связываясь
с полифенольными соединениями хмеля,
оставшиеся белки, в том числе — ферменты.
Сусло готово. Его обязательно
проверяют в лаборатории. Надо выдерживать
сортовую крепость пива — те самые градусы,
которые мы потом видим на этикетке.
Пивные градусы показывают, сколько в на-
58
питке экстрактивных веществ из сусла, в том
числе — Сахаров, которые превратятся при
брожении в спирт. Поэтому крепость
пива косвенно отражает и количество
алкоголя в нем. На один пивной градус
приводится 0,2—0,3 спиртовых.
В ОГНЕ БРОЖЕНИЯ НЕТ
Всякая хозяйка знает, что
поднимающееся на дрожжах тесто нельзя студить,
надо держать в тепле. Но то — пекарские
дрожжи. А пивные — эскимосы в мире
дрожжей. Они живут в холоде. Это важно по
двум причинам. Во-первых, мало кто из
микроорганизмов может размножаться при
температуре 5—8 °С, а потому никто не
отнимает у пивных дрожжей их любимый
сахар и не делает из него, например,
какой-нибудь уксус. Во-вторых, углекислый
газ, выделяющийся при брожении,
остается растворенным в пиве и потом, в
тепле, образует пену и пощипывает нам язык
и нёбо. Пиво ведь не лимонад какой-то,
а «естественно газированный напиток»! Так
что придется и нам вслед за
охлажденным в теплообменниках суслом от
горячих котлов перебраться в холоднющий
бродильный цех.
Пожалуй, это самое неуютное место на
заводе. Вдобавок к холоду — сырость и
теснота. Но здесь впервые наконец
потянуло настоящим пивным духом. Мы
взбодрились и восприняли клочковатую
грязновато-желтую пену на поверхности
бродильных чанов без неприязни — как барашки
на волнах будущего разливанного моря
пивного веселья. Правильно говорят, что
дураку полработы не показывают. Не нужно
неспециалистам видеть бродильные чаны,
пусть любителей пива радует конечный
продукт. А мы с вами заглянем в
соседнее помещение, чтобы увидеть, как растят
дрожжевую закваску.
Пивные дрожжи — продукт
самовоспроизводящийся. Давай им поесть да освежай
среду почаще — и будут расти. Нарастает
дрожжевая масса и в бродильных
чанах, ее можно использовать еще раз. Но
через несколько циклов дрожжевая
культура вырождается, и надо засевать новую.
Для этого завод постоянно подкупает у
микробиологов разводку — чистую 776-ю
расу — и размножает ее. Теперь-то мы знаем,
какая раса — виновница того, что, выпив
бадаевского пивка, человек хмелеет.
Гонец вернулся с пятичасовой «Ракетой».
Жара еще не спала, только тени стали
чуть длиннее. Наши перевернутые лодки
горбились на песке, отдыхая до
завтрашнего перехода. Мы заметили его издалека.
Наконец он подошел и поставил на траву
пятилитровую полиэтиленовую канистру.
Пива было — под самое горлышко. По
берегу от пристани три километра беэ
клочка тени — и даже не отхлебнул... Вот это
сила воли! Мы наполняем самодельные
стаканы из стручков болгарского перца и
поднимаем их — эа него!
ЛАГЕРНЫЙ ПОДВАЛ
Выпив бадаевского пивка, мы чуть-чуть
захмелели. Конечно, пиво было не из
бродильных чанов. Пиво было из бочек
лагерного подвала, где его выдерживают.
(Думаю, это странное название не от
«временного воинского стана», а от «места
заточения».) «Пробуйте, пожалуйста»,— с
гордостью сказала начлагподвала Анна
Михайловна Позябина, ставя на стол
полуведерную кружку. Основания для гордости у
нее были. Жаль, что вас не было с нами!
Дегустируя, говорили с технологом
Зинаидой Митрофановной Кузиной о разных
сортах. Не углядели мы в технологической
цепочке, где река «пива вообще» делится на
рукава: «Жигулевское», «Ячменный колос»,
«Московское» и «Московское
оригинальное». Остальные, к сожалению, сошли на
нет в Великую сушь антиалкогольной
кампании.
Оказалось, все начинается еще в
варочном цехе. В заторную смесь «Жигулей» и
«Колоса» добавляют 10—15 %
несоложеного ячменя, в «Московское» — 20 %
рисовой сечки. Но это еще не все. Разное
у сортов и время выдержки. «Московское
оригинальное» дображивает в подвале два
месяца, его собрат попроще — сорок два
дня, а ширпотребные «Жигули» и
«Колос» — вдвое меньше. Узнав об этом, мы
снова попробовали «Московское оригинальное»
и оценили его еще выше. Оказывается,
знание необязательно умножает печали,
иногда оно добавляет удовольствия.
Лагерный подвал — своего рода
отделочный цех пивного производства. Здесь
изделие шлифуется, у него появляются
оттенки. Еще при брожении дрожжи
сняли с сусла основную стружку Сахаров.
В изобилии они работали быстро и
просто: сахар+кислород=спирт+ углекислый
газ+вода. А теперь сырья у них
осталось мало, кислорода тоже не хватает
(выдержка идет в закупоренных
емкостях), и они изощряются в биосинтезе
так называемой «летучки» — альдегидов,
сложных эфиров и спиртов. Алкоголя
прибавляется немного, а вновь
образующийся углекислый газ теперь не улетает
в никуда, он создает в цистернах
давление, насыщая пиво.
59
Дрожжей при выдержке остается немного,
в основном их отделяют после брожения.
Но в конечном продукте они вовсе не
нужны — пиво будет нестойким. Посему напиток
перед розливом пропускают через фильтр-
прессы, оставляя на них всю муть. (К
сожалению,— и часть вкусовых веществ,
нефильтрованное пиво нам понравилось
больше, оно богаче и плотнее.)
Вот мы и на промежуточном финише.
На финише — потому что . пиво готово к
употреблению. На промежуточном — потому
что до употребления еще далеко.
Официантка тетя Маня поставила на стол не
три, как заказывали, а целых шесть
кувшинов. «Пиво кончается, сейчас перестанут
наливать. Сидите, ребятки, отдыхайте!» Мы
угощаем благодетельницу парой вяленых
подлещиков, она сует их в карман передника.
Есть, конечно, не станет — сторгует сейчас
за соседним столиком. Ну и ладно, всем
хорошо — нам, ей и соседям. И мы сидим,
отдыхаем. Нас трое, старинных и
закадычных, и нам есть о чем поговорить за пивком.
ПУТИ ПИВА НЕИСПОВЕДИМЫ
Не станем задерживаться в цехе розлива:
транспортер, мойка бутылок, наполнение,
укупорка, наклейка этикеток и кольереток
(это такие ошейнички на горлышке)... Но
половина пива сейчас минует этот цех —
нет бутылок. О бутылочном дефиците писано-
переписано и в «Химии и жизни», и в других
изданиях. Выход пока нашли один: завод
продает пиво в торговую сеть только при
условии 100 %-го возврата стеклотары.
Остальное пиво заливают в пиво возы, и —
по ларькам и пивбарам. Что там с ним
сделают — то ли так продадут, то ли разведут и
подсыплют чего-нибудь для пенистости —
не ведают пивовары. У них одна забота:
чтобы напиток нетронутым доехал до
«точки». И покидает пиво завод в опечатанных
пивовозах...
А что остается заводу? Заводу остается
рубль с каждой бутылки (здесь и далее —
цены середины марта 1992 года),
изношенное оборудование и постоянная головная
боль — где взять? Где взять ячмень, хмель,
фильтр-картон? Купить, даже очень задорого,
можно не все. Пивзаводы Москвы и Санкт-
Петербурга оказались в дурацком положении.
Раньше их снабжали в основном импорт-
"ным сырьем, а отечественное доставалось
провинциалам. Оставшись почти без
валютных поставок, столичные пивовары на уже
поделенном внутреннем сырьевом рынке
вынуждены крутиться с особой
изощренностью.
Например, есть у бадаевцев в избытке
рисовая сечка. Они везут ее в... Стерлитамак.
Там производят каустик, а риса не хватает.
Каустик для пивоварения очень нужен,
потому что, загрузившись им, можно поехать
в Курган. Там делают автобусы. Если отвезти
автобус на Украину, то можно добыть там
недостающий солод. Ну и так далее, в том же
духе...
Любопытно, что натуральный обмен может
стимулировать производителя улучшать
качество продукции. Многие бартерные цепочки
начинаются с пива. Но далеко его не
повезешь — скиснет. Вот и озабочены
пивовары повышением стойкости напитка
(раньше особого смысла в этом не было, и так
разбирали в момент). Готовы даже денежек
науке отсчитать, если она поможет.
Кое-какие деньги у пивзаводов теперь
завелись. Себестоимость бутылки пива около
трех с полтиной. Торговле продают на рубль
дороже, да она накидывает свои 25 %. Итого
(с тарой) примерно восемь целковых. А на
улицах, у перекупщиков,— пятнадцать —
двадцать. Им достается с каждой бутылки
раз в семь — десять больше, чем заводу.
Рынок?
Можно сколько угодно рассуждать о
моральных аспектах этого явления. Можно
ругать уличных продавцов и обзывать их
спекулянтами. Можно хвалить их за
расторопность, с которой они доставляют напиток
жаждущим прямо в руки. Можно (и нужно!)
бороться с мафией, скупающей товар по
дешевке и устанавливающее монопольные
цены. Но раз пиво расходится по двадцать
рублей, значит, его потребительская
стоимость не ниже. И коли так — прогноз можно
сделать для любителей пива
неутешительный: цена будет еще расти, пока не упрется
в естественный потолок покупательной
способности. Она будет расти, даже если не
увеличится себестоимость и прекратится
инфляция (во что автору пока не удается
поверить). Надо только сделать так, чтобы
львиная доля прибыли доставалась
производителям, а не перекупщикам. Наверное, это
единственный путь к пивному рынку без
дефицита, а значит,— и к снижению цены.
ЭХ, «TROIKA»!
Черт с ним, с рынком, как-нибудь
выберемся! Было бы чем развеять иногда тоску
Великого Спада. Что же новенького готовят
для нас пивовары?
У бадаевцев на выходе нет пока ничего.
Новый сорт «Витязь», как Илья Муромец
в молодости, к бою пока не готов. Не подошел
еще срок. Поэтому путь наш лежит на
Московский пивоваренный завод, бывший Хамов-
ничес кий, основанный еще в 1863 году
60
купцом Власом Егоровичем Ярославцевым.
Завод соседствует с НПО напитков и
минеральных вод, где сосредоточена
отраслевая пивоваренная наука. По-соседски и
разрабатывали ученые и пивовары новые сорта.
Так появились «Шипка», «Казак»,
«Хамовники», «Тройка» и совсем недавний «Август»,
названный в честь победы над путчистами.
Сейчас в сотрудничестве нелегкие времена.
Завод стал акционерным обществом
«Хамовники» и готовится выкупать
производственную базу. А институт требует платить за
патенты на разработанные сорта пива, ему
тоже жить надо. Не станем обсуждать эти
раздоры, неизбежные при всеобщем разделе
имущества. Наверняка институт и завод
найдут общий язык, потому что нужны друг
другу. Научные сотрудники, буквально выйдя
во двор, могут отрабатывать
технологические новшества и рецептуры, доводить их
до ума на производстве, которое знают, как
свои пять пальцев. А завод... По-видимому,
завод сегодня и работает так успешно из-за
того, что многие годы не пренебрегал
сотрудничеством с наукой. И вряд ли акционеры
хотят, чтобы А/О «Хамовники» через
несколько лет стало заурядным предприятием,
которое из года в год гонит отработанные
сорта пива. Так что — договорятся к
взаимной выгоде. Главное — не опоздать, потому
что в финансовом отношении наука очень
уязвима и требует постоянной подпитки.
А завод действительно незаурядный. Он
единственный в стране варит пиво, которое
покупают за рубежом. Болгарский вариант
«совместного» сорта «Шипка» награжден
международными медалями, а его хамовни-
ческий аналог дегустаторы оценили даже
выше. Покупают на Западе Beer of Russia
" i roika", "Hamovniky", "August", "Moscow
original".
Завод нацелился на экспорт уже давно и
планомерно добивался международных
кондиций пива. Первым делом —
шестимесячной стойкости. В Хамовниках пиво
фильтруют перед розливом дважды, да еще
с применением каких-то секретных
ферментов, предложенных институтом. («Ноу хау»
на заводе хранят строго, не единожды мое
любопытство наталкивалось на
непроницаемую стену. Ну и ради Бога, было бы что
хранить. «Химия и жизнь», столько раз
писавшая о защите интеллектуальной
собственности, вовсе не собирается разглашать
чужие секреты.) Для большей стабильности
добавляют безвредный антиоксидант —
аскорбиновую кислоту. Это не секрет. Так
что любители пива заодно пополняют запасы
витамина С.
Разлитое в бутылки пиво пастеризуют.
Тут есть свои тонкости, если не соблюсти
их, во вкусе появятся «вареные» тона.
Пастеризованное пиво не портится минимум
полгода, можно везти его хоть на край света.
Западный покупатель привык к ярким
этикеткам и упаковкам, невзрачный товар
залежится. С этикетками у хамовнического
пива все в порядке, в чем вы сами можете
убедиться, глянув на с. 2. А импортная
упаковочная линия одевает экспортные
бутылки в удобные и симпатичные
картонные ящики.
Думаю, покупают Beer of Russia не только
за экзотику. Чтобы не вызвать у читателей
завистливого раздражения, не рискну больше
рассказывать о том, как я его пробовал.
Скажу одно: на мой взгляд, пиво не хуже
импортного. Есть в его технологии и
новшества, еще не применяемые зарубежными
пивоварами. Например, использование ци
таз — комплекса ферментов, разрушающих
клеточные стенки зерен. Они
активизируются в прорастающем зерне раньше амилаз и
протеаз и прокладывают им дорогу. Когда
в заторную массу добавляют несоложеные
ячмень и пшеницу, цитаз там уже нет, они
инактивируются при сушке солода —
неустойчивы при высокой температуре.
В НПО научились их выделять и теперь
добавляют в затор, от чего крахмал и белки
полнее гидролизуются. В сусле становится
больше экстрактивных веществ, и лучше
используется сырье. За секретными
деталями лучше обратиться к профессору
Л. С. Салмановой.
Не скрою, отоварился я фирменным
пивком в фирменном магазине без очереди.
Вышел, отягощенный, и увидел на другой
стороне улицы шайку перекупщиков со
штабелями ящиков. Почем торгуют? Две цены.
А на заводе оборудование — в основном
трофейное, установленное в 1947 году. На
обновление нужны деньги. Вряд ли их
вложат уличные торговцы или их «крестные
отцы» — им дефицит на руку. Говорят, в
смутное время лучше всего вкладывать
деньги в людей. Думаю, что не в этих. А в тех,
кто придумывает, как сделать, и делает
нужные людям вещи.
Я пишу эту статью в промозглом марте,
а прочтете вы ее в июльскую жару. Я в это
время буду сидеть на раскаленном балконе
и писать статью о лыжных мазях. И, если
все будет хорошо, я, чтобы возбудить
воображение, чтобы лучше представить себе скрип
морозного снега, пойду на кухню, открою
холодильник и достану бутылочку пивка.
Я выну из ящика открывалку, подцеплю
крышку уже запотевшей бутылки и медленно
потяну ее вверх...
Пиво пил специальный
корреспондент «Химии и жизни»
С. КАТАСОНОВ
61
Приключения души,
тоскующей по красоте,
или
Еще одна встреча
с Богумилом Грабалом
Ранней весной 1989 года в пивную «У
золотого тигра» вошла худощавая девушка с
рюкзачком за спиной. Американская боге-
мистка Эприл Клиффорд писала
монографию о чешском писателе Богумиле Грабале
и приехала в Прагу, чтобы познакомиться
с ним и от имени многочисленных
поклонников его творчества пригласить в Штаты с
лекциями. Столь дальнее паломничество чуть
не оказалось напрасным: официальные лица
в писательской и университетской среде не
знали, где найти героя монографии.
Конечно же, помог случай. Мисс Клиффорд
пожаловалась таксисту на свою неудачу. И он тут
же повез ее в пивную «У золотого тигра».
Там встреча и состоялась.
Грабал пять недель провел в Америке*,
студенты и поклонники в Нью-Йорке,
Вашингтоне, Чикаго, Детройте, Итаки,
Линкольне, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе
больше всего удивлялись, как почтенный
мэтр (а Грабалу тогда было 75) сохранил
способность смеяться вместе с ними. А мисс
Эприл Клиффорд стала Апрелинкой и
сделала шаг к бессмертию. Потому что все
написанное Грабалом с июня 1989 года
адресовано ей. Письма к Апрелинке вышли в трех
сборниках — «Ноябрьский ураган»,
«Волшебная флейта» и «Шизофреническое
Евангелие» — и уже переведены на английский,
немецкий и французский языки. Рассказ
«Голубая гостиная», предлагаемый здесь,
был опубликован в пражской газете «Твор-
ба» и еще не успел войти в очередную книгу.
Теперь пришло время сказать несколько
слов о пивной «У золотого тигра», зани-
62
мающей первый этаж очень древнего дома на
Карловой улице, самой, наверно, древней
улице Праги. По ней проходила
коронационная процессия чешских королей, а
последний чешский король, Фридрих Пфальцскии,
покинул Прагу в начале XVII века. Говорят,
что пивная «У золотого тигра» и тогда
славилась искусством своих пивочерпиев,
впрочем, может быть, это очередная пивная
новелла или пивной треп, которым тоже
славится «Тигр». Потому что, как пишет Гра-
бал, «...здесь каждый будто хочет, чтобы
то, что он говорит, услышали все, каждый
будто думает, что то, что он говорит,
поразительно, и он горланит свое банальное
послание... Но, может быть, если человеку хуже
некуда, так его лучше всего лечит банальный
разговор о банальных делах и событиях.
Порой эта орущая пивная становится
маленьким университетом, где под
впечатлением пива люди рассказывают случаи и
события, которые ранят душу, и над головами
в клубах сигаретного дыма поднимается
огромный вопрос об абсурдности и
удивительности жизни человека...»
И наконец, кто же такой сам Грабал,
которого до «ноябрьского урагана» 1989 года
на родине издавали очень мало, а между тем
читали всюду и не только на родине.
Популярный французский журнал «Лир» ут-
•"верждает, что на литературном небе
Чехословакии XX века светит звезда из пяти
лучей — Ярослав Гашек, Франц Кафка, Ла-
дислав Клима, Якуб Демл, Богумил Грабал.
Как всегда, нам, российским читателям, эта
звезда засветила несколько запоздало и
однобоко. Но и для нас пришло время
знакомства: увидели свет несколько рассказов
Б. Грабала и роман «Я обслуживал
английского короля». Как всякий большой
художник Грабал вообще неприемлем для власти.
Однажды он заметил, что жизнь прекраснее
вымысла, а вымысел прекраснее любой
идеологии, потому что вымысел пытается создать
красоту. Ну а что делает с красотой
идеология, наверно, каждый сам представляет.
Приключения души, открывающей красоту
в будничном, каждодневном, реальном,
иногда ужасном и безобразном,— одна из
граней творчества Богумила Грабала, которая
привлекает к нему всех тоскующих по
красоте.
Сейчас Б. Грабал большей частью живет
недалеко от Праги в поселке Керско, его
дом своеобразный приют для местных кошек,
но постоянные обитательницы этого приюта
носят имена героинь Кафки: Фрида, Амалия,
Ольга...
Деляра ПРОШУ НИИ А
Голубая гостиная
Богумил ГРАБАЛ
Мисс Эприл,
сидим мы «У золотого тигра», и Томаш Мазал говорит мне, пан Грабал, я недавно
перечитал, что писал Эгон Эрвин Киш о доме терпимости «У Голдшмита». Там на Камзиковой
улице стоял дом, публичный дом, и в том доме была Голубая гостиная, которую как-то
раз посетил канцлер Бисмарк, а когда уходил, то его так проняло, что он выцарапал
брильянтовым перстнем на окне Голубой гостиной имя своей фаворитки. А когда при
пане президенте Масарике отменили все такие заведения, разобрали и публичный дом на
Камзиковой улице, а окна сразу раскупили огородники. Потом историки носились по
деревням, искали эти стекла, нет ли у кого того стеклышка, на котором Бисмарк брильянтовым
перстнем нацарапал имя своей фаворитки...
Пан Грабал, говорит мне Томаш, вот если бы вы были в Голубой гостиной, так тоже
бы выцарапали брильянтовым перстнем имя своей Апрелинки!
А я говорю, Томаш, это было бы не просто хорошо, но прекрасно, если когда-нибудь
нашли бы стеклышко с брильянтовым приветом Апрелинке, она заслуживает... Знаю, что
нельзя поворотить время, но хасиды в своих историях так делали и делают, потому у хасидов
то, что не произошло, еще может произойти...
В понедельник вместе с другими я открывал выставку в перестроенном доме, где
родился Кафка, красивый выставочный зал, украшенный книгами и фотографиями, и
безделицами из жизни писателя, которые так спокойно рассказывают, как история и быт
диктуют свое... Потому что «Процесс» и «Замок» написал, конечно, Франц Кафка, но
диктовал ему, мне кажется, дух истории... Выставочный зал превратили в огромный брильянт,
конечно, историки и архитекторы, но, -как писал художник Сера, бороздку в брильянте
можно выцарапать только самим брильянтом...
63
Я говорил после профессора Голдштюккера, а голова у меня была повернута в сторону,
потому что я смотрел на круглую вращающуюся витрину фотографий из жизни Франца
Кафки, фотографий, разложенных по кругу, будто панно меланхолической карусели... Я
назвал этот выставочный зал часовней Франца Кафки и Доры Диамантовой*. Фотографии
этой молодой женщины были у меня слева, и во время своего выступления я вдруг
понял, что эта Дора Диамантова, в сущности, святая, потому что другие три возлюбленные
прославились только тем, что были рядом со своим любимым, Францем Кафкой, но Дора
Диамантова... она последние два года его жизни нежно утирала кровь с губ поэта. Дора
Диамантова среди них будто Золушка, и она из тех женщин, что окружали Кафку,
растрогала меня больше всех...
Мисс Эприл, мы сидели под маленькими оленьими рогами «У золотого тигра», и Томаш
Мазал мне шептал... теперь, пан Грабал, я должен все узнать про женщин, что окружали
Кафку, все узнать про Кафку, как так вышло, что женщины помогли ему убежать из
гетто, я хочу пройти по следам Кафки, когда он бежал из гетто расового, потом бежал
из гетто духовного, потом бежал из гетто социального, бежал от буржуазии...
Я тронул Томаша за локоть и нетерпеливо перебил...
Томаш, говорю, я теперь тебе все скажу об этих возлюбленных, об этих красавицах,
что окружали Франца Кафку, его тянуло к красивым женщинам, но еще больше красивых
женщин тянуло к нему. Томаш, говорю, я чуть не разбил эту витрину, где триста
фотографий, я впиваюсь глазами в каждую фотографию молодой женщины, с которой
столкнулся Франц... С одной стороны невыносимая «Маленькая женщина»*, но с другой... читаю
«Замок», и там Девушка из Замка, и там Фрида, которая разливала пиво и которую
землемер сразу же в первый вечер любил в лужах пива... и там Амалия, и красивая Ольга,
и там пани Мицци, жена старосты, и по страницам романа проходит пани хозяйка
постоялого двора, Гардена, и Пепи, которая разливала пиво вместо Фриды, и еще там есть
служанки — и все влюблены в пана землемера К. Томаш, говорю, у всех этих женщин
из романа должны быть прообразы в жизни... А молодая женщина Лени, сиделка
адвоката Гульда в «Процессе», а та уборщица из зала заседаний, которую студент унес на
чердак? Все эти молодые красавицы должны были хоть мелькнуть в жизни Франца
Кафки...
А знаете, Томаш, кто играл Йозефа К. в фильме «Процесс» Орсона Уэллса? Сам
Энтони Перкинс, потому что, как говорил Орсон Уэллс, Перкинс был удивительно похож
на Франца Кафку. Но главное, Энтони Перкинс изучал философию... А Лени играла
Роми Шнайдер! Но, Томаш, помните? Йозеф К., едва увидел Лени, и через несколько
минут уже любил ее в архиве адвоката... Вот я и говорю, не только женщин тянуло к Кафке,
но и Кафку манил мир женщин...
Или что сказать о его первой любви, когда он поехал в Силезию? Тогда он написал
Максу Броду... Здесь я впервые любил интимно... она зрелая женщина, я мальчишка... она
перевернула всю мою жизнь, мое интимное существование... Да, Томаш, это так, брильянт
должен сам придать искрящийся свет бороздке... Томаш! Томаш! тихонько кричал я...
Или та немка, Юлия Сокол. Официантка, вернее, судомойка? Франц Кафка счастливый,
улыбающийся, в котелке, и официантка в костюме, похожем на мундир улана, два
сияющих молодых человека, у обоих одна рука лежит на бедре, и у обоих ладони на голове
красивой овчарки? Но вспомните, эта фотография вначале была разрезана, Франца
отрезали от Юлии Сокол, чтобы стоял на снимке один... и только теперь, спустя полвека, две
части фотографии соединились, и пан доктор права опять счастливо соединился с
судомойкой.
Томаш, как вы думаете, Франц Кафка тоже посещал иногда Голубую гостиную в доме
терпимости на Камзиковой улице? А Томаш улыбается, дескать, об этом сведений нет, но
Франц Верфель пишет о Голубой гостиной на Камзиковой улице, что туда ходили
художники, что Густав Малер играл там красивым барышням на фортепьяно и только так
отдыхал, что немецкие поэты, когда издавали книжки стихов или романы, так сразу же
отправлялись на Камзикову улицу и в Голубой гостиной читали барышням свои первые
опубликованные строчки, даже стало обычаем, что барышни брали в руки первые книжки,
так в семье дают друзьям подержать новорожденного, и склонялись над ними, и целовали
эти только что отпечатанные строчки.
Мисс Эприл, какое было красивое, золотое время в Голубой гостиной...
* Так Б. Грабал называет Дору Димант (диамант — бриллиант).
* «Маленькая женщина» — рассказ Ф. Кафки.
64
А Томаш Мазал все нашептывал мне, что была там маленькая библиотека, и когда
гости приходили, они приходили не только к барышням, своим фавориткам, но сидели
в Голубой гостиной, брали с полок библиотеки сборники стихов или романы и читали...
или беседовали о литературе с меланхоличными барышнями...
И мы все сидели «У золотого тигра», и Томаш Мазал все нашептывал мне о том
золотом времени...
Мисс Эприл, расскажите Апрелинке, что мы «У золотого тигра», где я впервые увидел
Апрелинку под именем Эприл Клиффорд, что мы здесь умеем пить, ужасно драться и
страшно ругаться, в особенности я, потому что мне подарен еще один день жизни...
Расскажите ей, мисс Эприл, что нам «У тигра» весело, Мотылек с друзьями в фаэтоне ездил по
пражским улицам, Мотылек это тот, кто по ошибке убил полицейского и просидел девять
лет, а перед «Тигром» они выпрягли лошадь и привели ее аж к пивной стойке, лошадь
испугалась и заржала, а у некоторых посетителей пиво вылилось на колени.
Мисс Эприл, «У тигра» мы развлекаемся не только болтовней о литературе, не только
ругаемся, но и тихонечко шепчемся. Вчера я читал отрывки из книги «Исповедь» о том,
что и сам Мотылек пережил в тюрьме. Пан Бедржих Фучик диктовал свою исповедь, а пан
Бартошек записывал. И вот теперь у нас есть книга. Пан Бедржих Фучик тоже сидел
девять лет, и вот он вспоминает... как сидел в камере с красивым цыганом. И у того
цыгана была девушка, к которой ходил полицейский. А товарищи цыгана об этом прознали,
заставили полицейского прийти вечером в огород, набросили на него одеяло и убили, потом
взяли в скотомогильнике дохлую лошадь, и взяли полицейского, и засунули ей в брюхо,
зашили, и готово. А потом брюхо лопнуло. Цыган получил веревку, но ему снизили на
пожизненное. Цыган был веселый, как дитя в сочельник. Спокойное личико, роскошный
человечек... так вспоминает пан Бедржих Фучик, а я так тихонечко пересказывал
Мотыльку, но тот уже знал эту историю, слышал в тюрьме, как рассказывали...
Мисс Эприл, скажите Апрелинке, что у нас тут тоже университет, у нас тут тоже
иной раз такие исповеди, а часто говорим и о том, как Апрелинка первый раз пришла к
«Тигру». Это наша легенда!
Мисс Эприл, вспоминаю, как тридцать лет назад написал притчу «Романс»... это такая
история цыганской любви, которая кончается тем, что Гастон ведет свою цыганочку вверх,
туда, где высится над Прагой холм, в цыганский табор, который перекочевал из самой
Румынии, и цыганы вместе с лошадями спали на телегах в перинах и с^еялах на холме
над Прагой... Цыганенок отбросил перину и так почти голый стоял, а под ним за рекой
просыпалась Прага, и цыганенок держал свою лейку и козырьком мочился будто на эту
просыпавшуюся Прагу. А сторож народной милиции с соседнего объекта поглядел на
цыганского паренька и сказал цыганочке: «Посмотри, из этого мальчишки когда-нибудь
может получиться и президент!»
P. S.
Мисс Эприл,
расскажите Апрелинке, что я ее люблю, что она моя Дора Диамантова, расскажите ей,
что розовый танк из садика на Смихове исчез, а та муаровая кошечка, что шесть недель
назад принесла у ворот шесть котят, сегодня вывела из сарая троих своих детей и
привела показать остальным кошкам, и Кассиус, ее гуляка-муж, одумался, вышел из своей
внутренней эмиграции и понял, что к нему пришла мама этих кошачьих детей и поцеловала
его, и Кассиус потом пошел и первый поцеловал каждого котенка, и котенок, получив
поцелуй, поднимал потупленные глаза и ковылял к миске, чтобы первый раз вместе с
остальными кошками лакать молоко из огромной миски. И хотя у меня в Керско кошки
устраивают такое, что бывает хуже, чем в психушке, но сейчас у них царит мир и благодать,
а в Югославии убивают друг друга, идет почти что война. У меня от этого болит
сердце и хочется, чтобы танки всего мира перекрасили в розовый цвет. Остальное я уже
написал Апрелинке в другом письме, последнюю строчку из «Бесплодной земли»*.
Древнейшая мудрость «Упанишад»*: мир выше всего разума мира...
Я лег в сарае на сено,
Котята пахнут молоком.
Перевела в чешского
Д. ПРОШУ НИНА
* «Бесплодная земля» — поэма американского поэта Томаса Стерна Элиота.
** «Упанишады» (сокровенное знание — санскрит) — заключительная часть вед.
3 Химия и жизнь № 7
65
J4<
4Ш,
Мухоморная
братия
Пожалуй, лишь одного
уточнения — мол, к
семейству мухоморовых
принадлежит и бледная поганка —
достаточно, чтобы услышать
в ответ: «Ну и семейка
собралась!». Коварный
шляпочный пластинчатый гриб
со столь дурной славой —
близкий родственник
хорошо всем знакомого
мухомора красного. Неспроста ведь
бледную поганку иногда
называют белым мухомором.
Бледная поганка — самый
ядовитый гриб среди всех
шляпочных собратьев. Как
гласит легенда, римского
императора Клавдия A0 г. до
н. э.— 54 г. н. э.) отравила
бледной поганкой его
честолюбивая жена Агриппина.
Сперва блюдо из поганки так
понравилось императору, что
Клавдий немедля издал указ
впредь к его столу подавать
только этот гриб. Но
вкусить вторично коварного
деликатеса ему не пришлось.
Действие ядов бледной
поганки на организм
медленное, но неотвратимое.
Первые признаки отравления
обычно проявляются спустя
6—12 часов, но иногда даже
через сутки. Смерть же
наступает через 5—10 дней
после трапезы.
Полагают, что для
человека смертельны ее яды —
аманитин и фаллин.
Небольшой толики отравы, которая
может поместиться на самом
кончике ножа, достаточно,
чтобы распрощались с
жизнью сто тысяч мышей;
4 мг хватает, чтобы отравить
кошку, 25 мг — собаку,
30 мг — смертельная доза
для человека.
До недавних пор
человека, отравившегося бледной
поганкой, невозможно было
спасти. Но в последнее
время вроде появилась
кое-какая надежда. Швейцарским
66
медикам удалось отвести
смерть от нескольких
отравившихся. Чтобы
нейтрализовать яды поганки,
пострадавшим делали инъекции
пенициллина с одновременным
вдыханием кислорода под
давлением и введением
лекарственного препарата из
растения расторопши
пятнистой. Конечно, это лишь
первые шаги в спасении
людей от ядов страшного гриба.
Бледная поганка почему-
то накапливает в себе
изрядное количество ванадия.
К чему бы? Малоопытные
грибники часто ее путают с
шампиньоном, иногда даже с
сыроежкой зеленой.
Поэтому, чтобы не случилось
несчастья, очень важно знать
грибы «в лицо».
В лесу иногда набредешь и
на другие ядовитые создания
из рода мухоморов. Чуть
меньше, чем бледная
поганка, ядовит мухомор вонючий.
У него шляпка чистого
белого цвета, а мякоть с
тяжелым непри ятным
запахом. Весьма ядовиты еще
мухомор поганковидный и
мухомор пантерный.
Зато мухомор красный —
гриб-красавец — ядовит
слабо. Не так давно он был в
большом почете у.
народностей Севера, где его
считали священным. Шаманы,
наевшись мухоморов, впадали
в ритуальный экстаз: гриб
вызывал сильные
галлюцинации. Шаманов поэтому
называли еще мухомороедящи-
ми людьми. Полакомиться
красным мухомором были не
прочь и остальные жители
Севера: в те времена он был
единственным хмельным
средством.
Вот как об этом в 1730 г.
писал швед Ф. Й. Стрален-
берг, который во время
Русско-шведской, или
Северной, войны попал в плен и
около 12 лет жил в России
на севере.
«Богатые коряки запасают
на зиму как можно больше
мухоморов. К праздникам
они заливают их водой,
настаивают и потом долго
вываривают. Полученный
напиток опьяняет их. Бедняки,
не имеющие запасов этих
грибов, собираются вокруг
жилищ богатеев в надежде
подобрать выбрасываемые
после варки мухоморы и,
наевшись их, прийти в
состояние блаженства».
Большие любители
мухоморов и олени. Но иногда,
без меры наевшись их,
олени травились. Павший от
мухомора олень считался
драгоценной добычей —
наевшись мяса отравленного
оленя, люди пьянели и
впадали в состояние блаженного
экстаза.
Мухоморы красные были в
ходу и у древних викингов
(на Руси их называли
варягами) . Они ели мухоморы
перед сражением. И когда
пьянели, не испытывая
страха, бросались в бой.
А вот что пишет В.
Солоухин в «Третьей охоте»:
«Профессор Введенский, как
утверждает А. Молодчиков
в своей книжке «В мире
грибов», считал красный
мухомор прекрасным грибом и,
вымочив его в уксусе, с
аппетитом употреблял без
вреда для здоровья».
«Химия и жизнь»
сообщала о двух грибниках,
которые не захотели
возвращаться с неудачной тихой
охоты с пустыми корзинами и
набрали красных мухоморов.
Дома они зажарили их и в
кураже съели. Зная о
ядовитости мухоморов, были
наготове при первых признаках
отравления вызвать
«скорую». Но все обошлось.
Все факты такого рода
становятся понятными, когда
прочтешь медицинское
описание действия мухомора
красного на организм:
«Симптомы отравления
человека красным мухомором
первоначально выражаются
в сильном опьянении...
вскоре появляется состояние,
похожее на сильную горячку,
состояние опьянения длится
несколько часов, после чего
больной засыпает, а,
проснувшись, через некоторое
время чувствует себя уже
лучше. Полное
выздоровление наступает уже через 2—
3 дня. Случаи смерти при
отравлении редки и имеют
место при больших
количествах поглощенного гриба».
И все-таки не стоит
испытывать судьбу.
В 1869 г. в мухоморах
обнаружили алкалоид муска-
рин. Ему и приписывали
дурманящее действие. Более
точные биохимические
исследования мухоморов в 70-х
годах нашего столетия в
Германии, Англии и Японии
привели к открытию еще
двух токсинов. Один из
них — мусцимол — и
служит подлинным виновником
галлюцинаций и
расстройства координации движений у
человека.
Однако не все грибы из
мухоморной братии
ядовиты. Вот вполне съедобные:
мухомор серо-розовый,
поплавок и плютей. А из
съедобных грибов семейства му-
хоморовых наиболее ценен
цезарский (кесарев), или
царский гриб. Растет он в
Центральной и Западной
Европе. Внешне похож на
мухомор красный, но без
белых чешуек на шляпке. Гриб
вкусен: в Древнем Риме его
подавали только к столу
цезаря и патрициев. Этот гриб
изредка встречается и в
Карпатах.
Нашествие людских толп
в леса сказалось и на
мухоморной братии. Мухомор
щетинистый был занесен в
«Красную книгу СССР». Да
и вообще, не топчите
мухоморы: они нужны животным.
Например, служат
лекарством лосям и медведям.
В. ПЕТРИШИН
3*
67
Земля и ее обитатели
Свои по духу,
или
О муравьиных
кукушках
Кукушкины нравы, о
которых наслышаны все,
встречаются не только в мире
птиц и людей. Как ни
странно, такое бывает и у
пользующихся почти всеобщей
симпатией муравьев. Так, у
муравьев некоторых видов
оплодотворенные самки
проникают в чужие семьи и
подменяют там матку. И
хозяева безропотно
выкармливают чужое потомство. Как
муравьям-кукушкам (их
называют социальными
паразитами) удаются столь
коварные поступки?
Муравьи, как известно,
зрением слабы, главное для
них — осязание и
обоняние. Их химическое общение
столь изощренно, что его
нередко называют языком
(причем нет уверенности,
что здесь это слово следует
брать в кавычки). Разные
виды муравьев — разные
системы химической
сигнализации. И любое животное,
желающее внедриться в стан
маленьких шестиногих
хищников, должно в
совершенстве владеть их химическим
языком.
Возможно ли такое?
Начну издалека. Заголовок
статьи в солидном
американском «Journal of Chemical
Ecology» начинался с
необычного для научного
текста слова «propaganda».
Заглавию вторило резюме:
«Статья сообщает о первом
обнаружении
«пропагандистских веществ»...»
Речь же в этой
публикации шла о муравьях. Один
из них — подкорный
муравей (Leptothorax acervorum)
проживает в Средней и
Северной Европе, от Кавказа
до лесотундры. И вот в
нескольких местах обширного
ареала (в Западной
Германии, Альпах и Швеции), в
его гнездах, припеваючи
живет родственный
муравей-паразит Leptothorax kutteri.
Почему же муравьи,
кидающиеся даже на собратьев из
другого гнезда, теряют
бдительность и принимают за
своего представителя
другого вида?
Проследим за
вторгнувшейся в чужой муравейник
самкой-паразитом. Ее сразу
же окружают хозяева и,
широко раскрыв челюсти,
атакуют. У той на кончике
брюшка тут же выделяется
капля прозрачной вязкой
жидкости, которой она
норовит измазать нападающих.
Такая тактика — обычная
в мире животных. Защитная
жидкость отпугивает,
отравляет или обездвиживает
врага. Но здесь ситуация иная.
Муравьи, измазанные
гостьей, вызывают агрессию со
стороны своих же товарищей
по гнезду. Еще недавно они
бок о бок тянули в гнездо
добычу, кормили друг друга,
а тут вдруг начинают
драться. Какая перемена!
Да, да, химическое оружие
самки делает часть муравьев
чужаками для остальных.
При такой суматохе и
междоусобице муравьям уже не
до пришелицы. Пользуясь
суетой, она скрывается где-
то в камерах муравейника.
Но как ей удается стать
своей среди чужих? Может, она,
отсиживаясь в укромных
уголках, приобретает запах
данного муравейника?
Это открытие английских
исследователей породило
вполне правомерное
желание разобраться в деталях:
как пришлой муравьихе
удается решить сверхзадачу —
заменить собой родную
самку и склонить рабочих
муравьев к воспитанию
чужого потомства? В
экспериментах, поставленных для
выяснения столь интимных
подробностей, помимо
традиционных наблюдений,
использовали соединенную с
микроскопом видеокамеру и
тонкие химические анализы.
Что же удалось выяснить?
Вот что. Оказалось, что
покровы самки-паразита и ее
хозяев содержат очень
похожий набор углеводородов
и жирных кислот. Причем
сходство не только
качественное, но и количественное.
Усики муравьев,
приближаясь к пришелице, дают тот
же результат, что и
автоматический газовый
хроматограф-спектрометр: у нее
«наш» запах!
Как приобретается
химическое сходство? Возможно,
некоторая близость
изначальна — ведь виды-то
близкородственные. Вообще-то у
муравьев запах семьи
поддерживается взаимным
облизыванием и кормлением.
Сигнальные вещества
быстро распространяются по
муравейнику, делая его
обитателей единым целым и
регулируя жизнь всех особей.
Видеозапись событий в
э кспериментал ьных
муравейниках выявила, что
самка-паразит очень часто
облизывает самку-хозяйку и
рабочих муравьев.
Подкорные муравьи охотно кормят
гостью, а от их личинок она
получает пищеварительные
ферменты, которых нет у
взрослых насекомых. Быть
может, столь активное
участие во всеобщем
облизывании-кормлении и помогает
самке-паразиту закамуфли-
роваться и стать «своей по
духу»?
Сама она, естественно,
никого не кормит и никакой
работы в гнезде не
выполняет. Не считая, конечно,
откладки яиц. Здесь как раз
она чересчур усердна и
откладывает яйца чаще, чем
хозяйка. Мало того —
старается помешать ей. Она то
и дело толкает хозяйку,
кусает ее за брюшко, всячески
беспокоит. Та, не вытерпев
издевательств, убегает.
Но и это не все —
распоясавшаяся гостья
нередко поедает яйца хозяев. В
конце концов муравьиная
кукушка добивается своего:
муравьи-аборигены
ухаживают за ее яйцами, как за
родными. Потом их хлопоты
переносятся на вышедших
из яиц личинок, а потом и
на куколок.
Наконец появившиеся на
свет самцы и самки
другого вида покидают
гостеприимное гнездо. Спустя какое-
то время в другом месте
снова разыгрывается
энтомологический вариант античной
сказки о змее, пригретой на
сердобольной груди.
Кандидат биологических наук
С. В. ВОЛОВНИК
69
Птица приятная
во всех
отношениях
В прошлом 1991 году, когда
непременным элементом столичной жизни стали
километровые очереди за яйцами, а
рыночные цены на них взмыли, как
истребители-перехватчики, жена сказала:
— Не завести ли дома перепелок? Для
детей всегда были бы свежие яйца.
Идея показалась мне нереальной. В
квартире перепела! Да и где их достать, как
их кормить, с какой стати они будут нестись?
— У нас один сотрудник держит
японских перепелов и очень доволен. Могу
узнать,— добавила жена.
На следующий день она пришла с
работы сияющей.
— Птицефабрика всего в 30 минутах езды
от Москвы — в Зеленограде. Вот телефон.
Можно созвониться и купить по 25 рублей
штука. А несутся они каждый день!
Энтузиазм жены передался и мне.
Созвонились, поехали, купили 12 птичек (8
самочек и 4 самца) и инструкцию по уходу
в придачу. Пищащую покупку в
продырявленной картонной коробке везли домой с
большими предосторожностями. И не зря:
когда распаковали, на дне лежали два
снесенных в дороге яичка.
— Зачем купили так много самцов? —
спросит читатель.
Отвечаю: это нужно не покупателю, а
птицефабрике, которая к каждым двум
курочкам в нагрузку продает петушка.
Курочкамчже для производства яиц самцы
не нужны: на количестве снесенных яиц,
их внешнем виде и вкусовых качествах
отсутствие самцов никак не отражается.
Разница лишь в том, что без папаши из
яиц не вывести птенцов.
Разводить перепелок мы не собирались.
Поэтому трех самцов вскоре поджарили, а
одного оставили на всякий случай. Тем,
кто не пробовал, могу сообщить, что их мясо
по вкусу напоминает куриное, но, пожалуй,
нежнее. Недаром перепела с брусникой
издревле были любимым праздничным
кушаньем на Руси.
В ТЕСНОТЕ ДА НЕ В ОБИДЕ
Под курятник мы приспособили обычную
птичью клетку (дно 35X37 см), в которой
раньше жил попугай. Но перепелки, в
отличие от попугаев, проводят жизнь на дне
клетки: сидят, лежат и бегают. Легко
представить, каким внушительным слоем
отходов могут завалить ее небольшое дно
девять птиц с хорошим аппетитом.
Значит, если не удалять испражнения
постоянно, птицы так вымажутся в собственном
дерьме, что отдирать его придется вместе
с перьями. К тому же в таком
антисанитарном состоянии перепелки долго не
протянут.
Выход нашли простейший: положили
клетку на бок, сделав решетчатую стенку дном.
Под него подставили выстеленный бумагой
поднос для отбросов, проваливающихся
сквозь решетку. И для поддержания
чистоты надо было лишь менять бумагу на
подносе утром и вечером, да раз в неделю
протирать прутики клетки раствором соды.
Не менее, чем гигиена, важна
доступность для птиц разнообразного корма. Проб-
70
лему кормушек тоже решили при помощи
подручных материалов: разрезали пополам
три детских пластмассовых кубика.
Получившиеся шесть одинаковых посудин
выстроили на дне в ряд вдоль стенки клетки
и привязали веревкой.
На этом подготовка апартаментов для
пернатых постояльцев была закончена.
Клетку с поднос ом водрузили на кухонную
табуретку и запустили перепелок. Они
живут там и по сей день.
— Не переусердствовали ли вы, запихнув
в маленькую клетку девять птиц? — может
спросить читатель.— Они ведь там, как
сельди в бочке. Неужели нельзя посадить
поменьше?
Можно, конечно, но не нужно.
Перепелки этой породы чувствуют себя комфортно,
когда на одну птицу приходится 100—120 см2
поверхности пола. При обширной
жилплощади они становятся нервными, с утра до
вечера выясняют отношения и, что самое
главное, хуже несутся. А петушки
невыносимо галдят.
КОРМЕЖКА
Дешевое и эффективное питание стало для
нас на первых порах камнем
преткновения. Пришлось попотеть, прежде чем нашли
оптимальный вариант. И теперь с радостью
готов поделиться опытом с читателями.
В меню перепелок должны входить три
обязательных блюда: чистая вода (одна
кормушка), минеральная подкормка (одна
кормушка) и основная пища (четыре
кормушки). С водой все ясно, ее надо
доливать по мере надобности. А для
минеральной подкормки годятся яичная скорлупа
и мел. Можно взять и известняк или
старую штукатурку, измельчив их до песка.
Но это, как говорится, не еда. Так
вот, кормить перепелок можно очистками
картофеля, кожурой свеклы и моркови,
пожухлыми листьями и кочерыжками
капусты, отваренными рыбными и куриными
потрохами и крошками со стола. Весной
и летом не пренебрегали мы и свежими
стеблями и листьями крапивы, подорожника,
лопуха, первоцвета, одуванчика. Осенью
запасались желудями и каштанами,
скармливали их в распаренном виде. В
дополнение к этим бесплатным продуктам в
небольших количествах используем
дробленый или отварной овес, горох, а также
пшено, ячмень, манку.
Главным агрегатом для приготовления
птичьей пищи у нас служит мясорубка.
В нее два-три раза в неделю загружаем
то, что удалось достать или сорвать, и
получается кастрюля отличного «комбикорма».
Для полной готовности ее надо заправить
растертой в порошок горошиной
поливитаминов. А уже когда еда в кормушке,
птицы мигом соображают, что с ней делать.
В среднем одна перепелка в день съедает
около 30 граммов (одну столовую ложку
с верхом) «комбикорма». Судя по
самочувствию и яйценоскости, их такая диета
вполне устраивает. Это тем более приятно,
что до появления в нашей квартире
перепелок подавляющая часть птичьей снеди
попросту отправлялась в мусорное ведро.
ЯИЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Домашние японские перепелки и их дикие
родственницы совсем не одно и то же.
Домашние выведены японскими учеными и
являют собой подлинные фабрики по
производству яиц. Так, если дикие перепела
начинают нестись со второго года жизни, то
японские — с 35-го дня! Дикие откладывают
9—12 яиц в год, домашние — до 250—
300 штук! Суммарный же вес яиц, снесенных
перепелками за год, превышает их
собственный вес в 20 раз, тогда как даже у лучших
пород домашних кур — в восемь раз.
Ежедневно примерно с 17 до 19 часов
птицы дружно несутся. Не уложится кто-то
в означенное время — раньше следующего
дня не снесет. А поскольку птицы не
повреждают яиц, собирать урожай можно один раз
в день, вечером.
У каждой перепелки свой фирменный
окрас яиц. Есть почти белые, и
размалеванные коричневыми, серыми, черными пятнами
или крапинками. Мы своих перепелок знаем
71
в лицо и можем сказать, какая из них снесла
яйцо и не ленится ли кто-нибудь из несушек.
Пока птицы проявляют редкую
добросовестность. Все вместе они дают примерно
пять яиц в день или 150 в месяц.
Средний вес перепелиного яйца — 11
граммов. То есть труд наших восьми несушек
по весу соответствует одному куриному
яйцу ежедневно и тридцати — в месяц. Ну
чем не яичный конвейер! Каждое
перепелиное яйцо обходится приблизительно в две
копейки, и, следовательно, десяток
куриных — всего в полтора рубля. Выгода
очевидна, хотя в действительности она больше,
чем кажется. Ведь биологическая ценность
перепелиных яиц куда выше куриных. Вот
доказательства. Яйца перепелов по
сравнению с куриными содержат витамины А —
150 %, витамина Bi — 280 %, витамина В2 —
220 %. Больше в них и микроэлементов:
кобальта — 150 %, меди — 150 %, железа —
400 %, калия — 400 %. Больше и
незаменимых аминокислот. Но и это не все.
ДРУГИЕ ДОСТОИНСТВА
Все, конечно, слышали о «японском чуде»,
но вряд ли кто-нибудь догадывается, что
свой посильный вклад, вероятно, в него
внесли и перепелки. А дело в следующем.
Японские врачи выяснили, что перепелиные
яйца способствуют развитию умственных
способностей детей. Уже на протяжении
десятилетий в школьный завтрак японской
детворы входят яйца этих птичек.
Результаты, как говорится, налицо.
Поскольку у нас в семье двое детей
(сыну 14 лет, дочке 4 года) и перепелиные
яйца под рукой, мы решили посмотреть, не
произойдет ли с детьми «японского чуда».
Они охотно едят яйца, но разительных
перемен в умственных способностях сына пока
не видно. Дочка же почти самостоятельно
научилась бегло читать, писать печатными
буквами и считать до ста. Связано это с
перепелиными яйцами или нет, сказать трудно.
Но вот на что мы обратили внимание.
В прошлые годы осенью и зимой дети часто
простужались, подолгу болели, а последний
год прожили без простуд. И еще одна
перемена совпала с появлением в детском рационе
перепелиных яиц. Раньше сын и дочь чуть
отставали в росте от сверстников, и нас это,
естественно, тревожило. Теперь тревоги
позади: меньше чем за год дочь вытянулась
на 9 сантиметров, а сын аж на 12! Простое
ли это совпадение?
Но вот что несомненно — благодаря
перепелкам у детей появилось общение с живыми
существами. До перепелок дочка хотела
зайчика, сын — собаку. К птицам они поначалу
отнеслись с любопытством, но без
энтузиазма. Однако потом все больше и больше
стали проникаться интересом. И теперь сын
добывает и готовит для них корм, чистит
клетку, а четырехлетняя кроха наливает
свежую воду в поилку, собирает яйца и
аккуратно записывает в свой журнал ежедневный
урожай. А еще к ним приходят друзья
посмотреть на птичек, послушать перепелиные
рассказы и мечтают завести их у себя.
И нам с женой' присутствие птиц в
квартире тоже в радость. Целый день птахи
деловито копошатся и тихонько посвистывают.
Возможно, кого-то эти звуки могут
раздражать, но на нас они действуют успокаивающе,
как шум морского прибоя.
К достоинствам перепелов относятся
даже их экскременты. Они практически не
пахнут, так что пребывание птиц на кухне
не портит аппетита гостям. Кроме того, это
великолепное удобрение, особенно для за-
кисленных, истощенных почв. Стряхивая
отбросы с поддона, мы за 3—4 месяца
собрали их с полведра, добавили золы и
осенью перекопали с землей на садовом
участке. В заправленную этим удобрением
грядку весной посадили огурцы. Строгого
учета эффективности я, признаться, не вел,
но на глаз грядка дала почти столько же
огурцов, сколько две соседние.
А наши дачные соседи разбавляли помет
из расчета два спичечных коробка на ведро
воды и поливали этим раствором примерно
раз в две недели салат, укроп, петрушку,
землянику и томаты. И остались очень
довольны результатами.
НУЖНЫ ПЕРЕПЕЛА?
ПОЖАЛУЙСТА!
На фоне этой идиллии у меня нет-нет да
появлялся зуд неудовлетворенности. Самец
есть, тепленьких яиц хоть отбавляй. Что
мешает вывести перепелят? А мешало то, что
японские перепелки, приобретя
феноменальную яйценоскость, полностью утратили
инстинкт насиживания. Следовательно,
высиживать яйца должен либо я сам, либо
какое-то устройство, похожее на инкубатор,
которое опять же я сам должен соорудить.
Параметры инкубатора были приведены
в инструкции: температура около 37,6°,
влажность 50—70 %, срок высиживания —
17 суток. Решил рискнуть. Взял
толстостенную картонную коробку, поставил над
ней настольную лампу, положил на дно
коробочку с ватой, термометр, блюдце с водой
(для влажности). Затем по термометру
отрегулировал высоту настольной лампы на
нужную температуру и вечером положил пять еще
теплых яичек в коробочку с ватой. Каждый
день я аккуратно поворачивал их для
равномерного обогрева.
72
На 17-й день вылупился один птенчик,
на 18-й — еще два. А два яичка остались
нераспечатанными (очевидно, петушок не
успевает обслуживать всех курочек). Дальше,
окрыленный успехом, я действовал строго
по инструкции. В первую неделю
поддерживал температуру 35°, во вторую — 31°, в
третью — 25°, в четвертую — 22 °С,
постепенно переводя ее на обычную, комнатную.
Выкармливать птенцов начал с мелко
нарубленных крутых яиц, постепенно добавлял
постный творог и зелень. Со второй недели
меню расширилось за счет самых
доброкачественных «продуктов со стола взрослых
птиц.
Перепелята росли как на дрожжах, и на
пятой неделе я уже мог сказать, что у нас
вывелись петушок и две курочки. На
сороковой день одна курочка снесла яичко, на
сорок третий — вторая. Так появилась новая
перепелиная семья. Ее мы подарили друзьям.
Теперь и они осваивают премудрости
домашнего птицеводства.
А как быть тем, у кого нет друзей,
разводящих перепелов, но есть желание
обзавестись этими замечательными птицами?
В Ставропольском и Краснодарском краях,
в Сибири, на Дальнем Востоке есть
птицефабрики, где разводят перепелов и их,
вероятно, можно приобрести. Жители же Москвы
и прилегающих областей могут
воспользоваться адресом, по которому купили
перепелов мы: 141552, Московская обл.,
Солнечногорский р-н, п/о Ржавки, НПО «Комплекс»,
Производственно-экспериментальная
птицефабрика. Тел. 534-23-00.
Надеюсь, у вас дело пойдет не хуже, чем
у нас. Заводитие перепелок — не пожалеете.
Желаю успеха!
М. 3. ЗАЛЕССКИЙ
Из писем в редакцию
Земля
на асфальте
До чего неопрятно на улицах
наших городов! Особенно после
дождя, когда по дорогам и
тротуарам растекаются лужи
липкой, скользкой грязи.
Смытая осадками с асфальта в
стоки, она засоряет канализацию,
а стоит просохнуть проезжей
части, как ветер и колеса
автомобилей поднимают в воздух
тучи пыли. А уж о вреде пыли
и говорить не приходится. И
виновата во всем этом — земля.
Но откуда столько земли?
Во-первых, это всевозможные
строительные объекты и
раскопы для прокладки теплотрасс,
кабелей, водопровода и другие.
Во-вторых, как правило, в
городах есть незамещенные улицы,
грязь с которых разносится
автотранспортом по всему
городу. Основные же поставщики
земли — неправильно
устроенные газоны и клумбы.
Дело в том, что зачастую на
газонах грунт лежит выше
окружающих его бордюрных
камней. Дождик смывает землю на
проезжую часть, особенно,
когда газон перекопают, но забудут
засеять травой. А там, где уже
нечего смывать, завозят новую
землю и все повторяется
сначала.
Весомый вклад в ухудшение
городской атмосферы вносят
наши уважаемые педагоги.
Каждый день по пути на работу
я прохожу мимо школы, ученики
которой под надзором учителей
то метут, то копают, то сгребают
и жгут листья. Почти каждый
день вокруг школы либо пыль,
поднятая в воздух десятками
веников, либо дым от костров,
где сжигают бумажки,
унесенные ветром из ближайшего
мусорника.
А в РОНО вам скажут, что
педагоги города «владеют
экологическими вопросами» и «если
бы не учителя да школьники
город зарос бы грязью». И
назовут внушительные цифры
прочитанных лекции и «экологических
уроков».
Уменьшить количество пыли в
городе не так уж трудно. Нужно
лишь помнить, что
перелопачивание газонов может быть
и полезным, и бессмысленным,
и вредным — все зависит от
конкретных условий. Грунт на
них необходимо укладывать так,
чтобы верхняя кромка
бордюрного камня возвышалась над
ним по крайней мере, на два-три
сантиметра. Кроме того, стыки
между бордюрными камнями
нужно тщательно заделывать
цементным раствором. Для
этого не требуется ни капитальных
затрат, ни особой квалификации
исполнителей.
Руководствоваться можно строительными
правилами (СНиП 111-10-75) и
здравым смыслом.
Правильно устроенные газоны
отчасти решат многие проблемы:
уменьшат запыленность
городов, снизят затраты на уборку
и очистку канализационных
сооружений, улучшат качество
воды в открытых водоемах и
так далее. Наверняка это дело
стоит того, чтобы взяться за
него немедленно.
С. САПОЙ
73
Книги
Отобрали отбор *
А. ЛИМА-де-ФАРИА.
Эволюция без отбора.
Автоэволюция формы
и функции. М., Мир,
1991, 455 с.
Главная же ценность книги
состоит в необычности
под хода к биологической
эволюции...
А. С. Спирин.
Из предисловия к книге
А. Лима-де-Фариа
«Эволюция без отбора»
Да уж! Изданная «Ми ром»,
казалось бы, микроскопическим
тиражом в 2900 экземпляров
книга Антонио Лима-де-Фариа
своей «необычностью» не на
шутку задела отечественных
эволюционистов. По сути,
шведский цитогенетик перечеркнул
центральную догму
синтетической теории эволюции (СТЭ) —
концепцию естественного
отбора, предложив взамен идею
автоэволюции.
По мысли Лима-де-Фариа,
способность эволюционировать
заложена в первичной материи.
Биологической эволюции
предшествовали три автономные
эволюции — физических
частиц, химических элементов и
минералов. Биологическая
эволюция полностью обусловлена
упорядоченностью этих трех
праэволюций. Никакая форма
или функция не возникает в
природе и не исчезает, она
лишь может
трансформироваться путем комбинирования.
Всего автор книги
сформулировал более семидесяти
постулатов автоэволюции, но все
они — производные от
перечисленных выше.
Признавая некоторые
заслуги дарвинизма и СТЭ — «обе
теории несомненно
способствовали лучшему пониманию
многих проблем...»,—
Лима-де-Фариа все же отказывает им в
праве на существование: «...ни
та, ни другая не сумели
объяснить механизм эволюции». И
продолжает: «С самого начала
следует внести ясность: если мы
серьезно стремимся понять
механизм эволюции, слово «отбор»
должно быть исключено из
биологического словаря». Правда,
затем он несколько смягчает
категоричность предыдущей
фразы: «...отбор несомненно
существует, однако он не имеет
никакого отношения к
эволюции».
Чем же не потрафил отбор
шведскому цитогенетику?
«Отбор должен быть изгнан
из биологии по двум причинам:
1) отбор — это система выбора,
а не материальный компонент
живого организма или часть
материи; 2) это абстрактная
концепция, отвлекающая от
чисто физико-химического анализа
взаимодействий между
организмами». И затем то же самое,
но подробнее: «Во-первых, отбор
нельзя измерить в строго
определенных единицах, таких, как,
например, миллиметры, его
нельзя налить в какой-нибудь
сосуд или взвесить на весах,
как кислород или медь. Как
таковой, он не входит в число
физических компонентов живых
74
организмов. По этой причине
он никак не может быть
механизмом эволюции, поскольку в
основе любого механизма
должны лежать реальные
компоненты, являющиеся составной
частью организма. Во-вторых,
отбор не может дать никаких
сведений об основном
механизме эволюции, так как он имеет
дело лишь с конечным аспектом
этого явления, т. е. действует
на уровне клеток и организмов,
а не на первичной стадии
возникновения элементарных
частиц, послуживших изначальным
источником эволюции.
В-третьих, тот факт, что в природе
происходит дифференциальное
размножение и
дифференциальная гибель (естественный от»
бор-—Е.Р.), еще не означает,
что они служат механизмом
эволюции или имеют
первостепенное значение в этом
плане».
Я намеренно привел
громоздкие цитаты, чтобы читатель сам
мог оценить аргументы Лима-
де-Фариа против отбора.
Согласитесь, что они, мягко говоря,
далеко не бесспорны. Прежде
всего отбор не «система
выбора» и не «абстрактная
концепция», а реальный, объективно
существующий процесс. И
действует он на всех уровнях
организации материи — от
элементарных частиц до Вселенной.
Причем на каждом уровне из
всех возможных вариантов
реализуется лишь
один-единственный, в соответствии с
объективными законами, действующими
на данном уровне. Отбор —
явление универсальное, и
сдается, что сам Лима-де-Фариа
осуществлял его в своей книге,
отбирая слова и аргументы. Что
же касается значимости
отбора для эволюции, то перво-
степенность и второстепен-
ность — категории
субъективные, а потому непостоянные.
Единственное, с чем можно
согласиться, так это с
невозможностью измерить отбор в
миллиметрах, налить бго в сосуд
и взвесить на весах; не входит
отбор и в состав организма.
В теорию Лима-де-Фариа никак
не укладывается случайность
(неопределенность) связанных
с эволюцией явлений —
мутаций, рекомбинаций и т. п.
«Случайность,— пишет он,—
другая концепция, постоянно
используемая неодарвинистами
для прикрытия невежества».
И ставит в пример невеждам-
биологам физиков:
«Существование в природе случайностей
вызывает сомнения и у
физиков... Отбором и случайностью
«объясняют» любую проблему,
не имеющую объяснения».
Подобное неприятие случайности,
по-видимому, связано не
только с тем, что большинство
биологических явлений все же
упорядочение, но и тем, что
автор «Эволюции без. отбора»
счастливо обошелся в своей
жизни без курса марксистско-
ленинской философии, да и,
похоже, философии вообще. Не
разрешив для себя
«противоречий» между случайностью и
необходимостью, Л има-де-Фа-
риа склоняется к фатализму,
при котором такие
«случайные» события, как мутации,
рекомбинации, дрейф генов,
популяционные волны и т. д.
изначально предопределены,
запрограммированы на уровне
взаимодействия элементарных
частиц, атомов, молекул. Такой
подход Лима подкрепляет
огромным количеством фактов,
которые можно условно
разбить на три группы.
К первой он отнес единство
форм в живой и неживой
природе. Так, среди минералов
можно встретить яйцевидные,
листовидные и спиралевидные
формы, характерные для живых
организмов. Практически все
типы симметрии, свойственные
кристаллам, легко обнаружить
и в живой природе. Даже
трещины на высохшем дне
водоема по рисунку совпадают с
жилкованием листьев и крыльев
насекомых.
Во второй группе Лима-де-
Фариа сосредоточил проявления
конвергенции, когда
неродственные виды имеют сходные по
форме структуры с
аналогичными функциями. Классический
пример — крылья птеродактиля,
летучей мыши и насекомого.
В третью группу Лима-де-
Фариа собрал примеры
направленной (канализированной)
эволюции, или ортогенеза.
Иллюстрации: эволюционные
ряды лошади, хоботных и т. п.
А так как отбору в эволюции,
по мнению автора, места нет,
то и факты эти он объясняет
существованием неких физико-
химических импринтов
(отпечатков) и паттернов (образцов,
моделей). Импринты и
паттерны ограничивают возможность
появления в эволюции
принципиально новых форм и
функций и обусловливают канали-
зированность эволюционного
процесса.
Надо сказать, что с
некоторыми положениями Лима-де-
Фариа согласуется и
несимпатичная ему синтетическая
теория эволюции. Действительно,
свойства атомов и молекул,
входящих в состав живых
организмов, в значительной мере
ограничивают возможности
эволюционного процесса.
Невозможно представить, например,
организмы, благоденствующие
при температуре расплавленной
стали или пользующиеся
ядерным горючим для
поддержания процессов
жизнедеятельности. Законы оптики
предопределяют строение органов
зрения, законы механики —
органов движения и т. д.
Накладывают свои ограничения на
дальнейшую эволюцию и тип
онтогенеза, и морфофункцио-
нальная организация особей.
Доходчивый пример подобных
ограничений привели в своей
книге «Эволюционное учение»
А. В. Я блоков и А. Г. Юсуфов:
«У человека нет
онтогенетических предпосылок для
формирования кисточки на кончике
хвоста, потому что у него нет
развитого хвоста, но такие
предпосылки есть у других
млекопитающих с развитым
хвостом».
И тем не менее невольно
возникает вопрос: если физико-
химические импринты одни и
те же, да и паттерны не
отличаются разнообразием (ведь
и химический состав
организмов, и клеточный принцип
строения едины), то как же быть
с поразительным
многообразием видов?
«На биологическом уровне
не возникает ничего
существенно нового,— отвечает Лима-де-
Фариа.— Каждый уровень
вносит новшества только путем
комбинирования прежних
компонентов, но не создает
ничего в корне нового; новыми
являются только комбинации».
Что касается адаптации, то
дело обстоит и того проще:
«Адаптация обусловлена тем,
что организм изначально
состоит из тех же
физико-химических компонентов, что и
окружающая среда; поэтому он
может приспосабливаться к ере-
75
де, но ему не обязательно
достигать при этом
оптимального состояния». Не верите?
Пожалуйста, вот вам
пример. «У водоплавающих птиц
между пальцами имеются
широкие перепонки, тогда как у
птиц, проводящих свою жизнь
преимущественно в воздушной
среде, таких перепонок нет...
Изменение формы, связанное с
переходом в водную среду, это
возможно не «адаптация», а
изменение характера структуры,
детерминируемое содержанием
воды в среде, окружающей
клетки... Оно происходит
независимо от того, какие это
может иметь последствия для
животного...»
Если у кого-то возникнет
желание получить из курицы
водоплавающую птицу, то
ничего не выйдет, ибо клетки
ее тела «не содержат хемо-
рецепторов, реагирующих на
воду». И с другой стороны,
не подкопаешься, не лишишь
гуся лапчатого перепонок, не
допуская его к пруду.
Гусиные водные хеморецепторы
успевают сделать свое дело еще
в яйце. Словом, куда ни кинь,
всюду клин — он же импринт,
он же паттерн.
При чтении книги Лима-де-Фа-
риа порой создается
впечатление, что он пренебрегает ролью
генов в эволюционном
процессе. Но Это ложное
впечатление. Судите сами.
«Есть насекомые,
поразительно по форме и цвету сходные
с листьями... В геноме
насекомых, как и других
животных, имеются гены,
унаследованные от предков растений
еще до разделения растений
и животных многие миллионы
лет назад. Часть этих генов
может не проявляться...
Однако совместное влияние
унаследованных минеральной
внутренней среды и древних
растительных генов (увы, именно
так в русском переводе:
имелось в виду, что животными
они унаследованы вместе —
и минеральная внутренняя
среда, и растительные гены.—
Ред.) на определенные
молекулярные механизмы может
дать неожиданный результат:
появляется насекомое, похожее
на лист». И далее: «К тому же
внешнее сходство с листом
отнюдь не должно
коррелировать с условиями окружающей
среды либо представлять
собой прямую адаптацию,
благоприятную или нет для
животного или растения.
Конвергенция возникает просто в силу
того, что в данный период
эволюции молекулярные
механизмы могли породить только
насекомое, внешне сходное с
листом, и ничто другое.
Организацией клеточных компонентов
управлял физико-химический
изоморфизм, который и
определял, когда и каким образом
насекомое должно стать
похожим на лист».
Похоже, комментарии
излишни, ибо существует некий
всемогущий физико-химический
изоморфизм, который решает
все. И тем не менее,
вооружившись новым знанием,
попробуем в духе Лима-де-Фариа
ревизовать хрестоматийный
пример с индустриальным ме-
ланизмом березовой
пяденицы — бабочки, которая днем
сидит на светлых стволах
деревьев, покрытых лишайниками.
Рисунок на крыльях
насекомого и на коре деревьев
настолько совпадает, что
заметить ее чрезвычайно трудно.
Допустим, что
физико-химический изоморфизм пустил в
ход ранее молчавшие гены
березы и лишайника (гриб -j-
водоросль). Но как быть с мела-
низмом пяденицы — ее
почернением вслед за
потемнением стволов берез в
результате промышленного
загрязнения воздуха и гибели
лишайников? Можно считать это
действием естественного
отбора — птицы чаще склевывали
более заметных светлых
бабочек. А можно допустить
пробуждение гена, исходно
заложенного в сжигаемом
каменном угле — остатке тех же
растений. Последний вариант,
кстати, претендует на открытие
ископаемых генов и вполне
заслуживает Нобелевской
премии.
В целом же сравнение авто-
эволюционных идей Лима-де-
Фариа и синтетической
теории эволюции — не в пользу
первых. Если СТЭ отвечает
пусть не на все, но на многие
вопросы, и даже поддается
экспериментальной проверке, то
гипотеза автоэволюции
порождает еще больше вопросов, на
которые, впрочем, дает один
и тот же ответ: все в руце
физико-химического
изоморфизма. Экстраполяция чистых
законов физики и химии на
биологический уровень
организации материи и далее — на
социальный, приводит Лима-де-
Фариа к забавным
утверждениям типа: «К борьбе за
справедливость и истину человека
побуждают физические и
химические стимулы,
возникающие в его организме». Вот
так-то!
При чтении «Эволюции без
отбора» невольно точит
крамольная мысль, что, отвергая
дарвинизм и СТЭ,
Лима-де-Фариа знаком с ними весьма
приблизительно. Прежде
всего, эволюцию он понимает
как изменение вообще, чаще
имеющее количественный, а не
качественный характер. В
книге, посвященной биологической
эволюции, начисто отсутствует
даже попытка дать ей
определение. Лима-де-Фариа
искренне полагает, что «отбор в
большинстве случаев действует
наобум», и вместо популяции
считает организм
«эволюционной единицей». Казалось бы,
досадные недоразумения, но,
согласитесь, именно они
определяют культуру научной
дискуссии.
Надо признать, что Антонио
Лима-де-Фариа создал
фундаментальную сводку, собрав
воедино массу аргументов и
фактов. Жаль только, что они
подобраны скорее для
иллюстрации своей позиции, нежели
для ее доказательства. Как
заметил профессор Л. И. Короч-
кин, редактор русского
перевода книги Лима-де-Фариа,
«вытеснить существующие
традиционные взгляды его гипотеза
вряд ли может».
Кандидат биологических наук
Е. А. РАШКОВАН
76
<$SR-
Фотосенсация
Неужели
они
не познакомились?
Вот так встреча... Человека
со скрипкой представлять
читателям не надо. Кто же
не узнает великого
Эйнштейна? А вот скромную
красавицу, на которую он
посматривает так лукаво,
с ходу опознает разве что
записной кинолюбитель. Да
и то, если он не слишком
молод. Прочие же
поклонники кинематографа
запомнили эту даму куда более
зрелой, сформировавшейся...
Понятно, что юная,
очевидно, никому еще не
ведомая Мэрилин Монро
смотрит на мировую
знаменитость, что называется,
открыв рот. Непонятно
только, почему эта приятная во
всех отношениях встреча до
сих пор не
зафиксирована в многотомных
жизнеописаниях ни знаменитого
физика, ни прославленной
звезды.
А ведь как славно могло
все повернуться! Мудрец
заговорил бы с одинокой
девушкой, узнал, как тяжко
ей живется в этом грубом
мире. Обогрел бы добрым
словом или даже, кто знает,
удочерил бы. И появилась бы
у четы Эйнштейнов дочка,
улыбчивая белокурая
красавица.
Чем плох сюжет для
голливудской мелодрамы? Но
тогда вряд ли сотни
миллионов зрителей узнали бы
эту обольстительную
блондинку. Разве от хорошей
жизни пойдешь в кинодивы?
77
АШН1
И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
В прошлом году (№ 7) мы
уже писали о
замораживании овощей и фруктов. Не
повторяя рекомендаций,
опубликованных ранее,
постараемся дополнить перечень
рецептов и расширить круг
«морозных» технологий.
Начнем с известных истин.
Холод помогает сохранить
многие продукты питания,
потому что блокирует
ферменты и замедляет
активность микроорганизмов. А
если мороз к тому же
трескучий, ниже —18 °С, то
содержащаяся в продукте
влага, быстро замерзая,
образует мельчайшие льдинки,
не травмирующие клетки.
В результате после
размораживания продукт не
утрачивает своих вкусовых
качеств.
Замороженные овощи и
фрукты храните только при
постоянной температуре.
Если она колеблется, то
льдинки рекристаллизуются,
объединяются в более крупные,
тем самым сводя на нет
преимущества быстрого
замораживания. Поэтому, прежде
чем заложить продукты в
морозилку, хорошенько
упакуйте их в целлофановые
пакеты. Иначе активно
испаряющаяся из них влага
покрывает стенки камеры пышной
ледяной «шубой», и вам
придется часто и надолго
отключать холодильник и невольно
нарушать режим хранения.
Но если разморозки все же
не избежать, то на время
оттаивания морозильной
камеры сложите ее содержимое
в большой полиэтиленовый
пакет и укутайте его толстым
ватным одеялом.
О том, как подготовить
плоды и овощи к
замораживанию, мы уже писали. Но
повторим: тщательно их
вымойте, очистите от
плодоножек, подсушите, удалите
подпорченные места и
разрежьте крупные плоды на
части.
Не все знают, что
предварительная бла ншировка
(кратковременная
выдержка в кипящей воде)
полезна не только для
замораживания, но и для сушки,
варения и многого другого:
разрушаются окислительные
ферменты, ответственные за
изменение натурального
цвета плодов, инактивируется
поверхностная микрофлора,
увеличивается
проницаемость клеточных оболочек,
ткань плода освобождается
от лишнего воздуха, что
делает плод компактнее, да и
аскорбиновая кислота в
«безвоздушном пространстве»
лучше сохраняется.
Итак, теория позади, и
теперь — к делу.
Цветная капуста
Кочаны очистите от
покровных листьев, вымойте,
разделите на соцветия.
Соцветия погрузите на две—три
минуты в подсоленную
кипящую воду. Затем уложите
их поплотнее в. картонную
или полиэтиленовую
коробку, охладите, заморозьте в
этой же таре и можете
хранить аж целых полгода.
Зеленый лук
Вымойте перья лука и
удалите пожелтевшие или
увядшие части, порежьте на
кусочки длиной до сантиметра
и бланшируйте пять минут.
Охладите, плотно уложите в
формочки и заморозьте. А по
мере надобности отрезайте
от брикета кусочки и
кладите в суп или обжаривайте
его на сковороде, добавив
немного растительного
масла. Впрочем, можно
поступить иначе: обжарить лук до
замораживания — тогдв
останется только разогреть его
перед употреблением.
Огурцы
Эти овощи, как известно,
плохо переносят даже
малейшее подмораживание,
становятся водянистыми,
самим видом демонстрируя
свои 96 % воды. И все же
огурцы можно заморозить,
приготовив из них блюдо
вроде болгарского «супа-та-
ратора». Очистите огурцы от
кожицы, нарежьте кубиками,
смешайте с мелко
нарезанным свежим укропом,
сложите в полиэтиленовый
пакет, залив взбитой и подсо-
78
АШН
ленной по вкусу
простоквашей, и заморозьте. После
размораживания подавайте
блюдо в холодном виде.
Свежие грибы
Предварительно проварите
или прожарьте их до
готовности. Разложите по
пакетам, добавив немного густого
грибного бульона, и
заморозьте. А зимой будет
выбор — готовить грибной суп
или второе блюдо.
Земляника и клубника
Отберите неповрежденные
крупные экземпляры,
разложите рыхлым слоем на
подносе и поставьте в
морозильную камеру. Промороженные
ягоды плотно, но не
повреждая, сложите в чистую
тарелку, хорошо ее укупорьте,
чтобы не пропадала влага,
и положите на хранение.
А перед употреблением
разморозьте ягоды при
комнатной температуре, и
подавайте на стол, немного
присыпав сахарным песком.
Можно заморозить ягоды с
сахаром, расходуя его
экономно. Уложите клубнику в
банки и залейте их сиропом,
приготовленным из расчета
полтора-два стакана сахара
на литр воды.
Замораживайте в течение суток, после
чего закройте банки
полиэтиленовыми крышками и
оставьте в морозильной
камере.
В последние годы
появилась интересная
технологическая новинка, названная
мудреным словом «дегидро-
фрижирование». Суть ее в
том, что перед
замораживанием продукт частично
высушивают.
Цветную капусту, зеленый
горошек, морковь, свеклу,
нарезанные ломтиками яблоки,
абрикосы подсушите
примерно до половины исходной
массы, после чего
заморозьте. Преимущества этого
способа в том, что исчезает
лишняя влага, уменьшается
объем плода, да и
замораживается плод намного быстрее.
Есть и другой вариант:
сушить предварительно
замороженные овощи и фрукты.
Кристаллики льда создают
множество
микроскопических дефектов в клеточных
стенках, поэтому влага
удаляется быстрее.
Плюс мороз
Из размороженных плодов
получается превосходное
варенье. Особенно хорошо
земляничное, вишневое,
яблочное, абрикосовое, из черешни
или черной смородины. А для
сухих и жестких фруктов
предварительное
подмораживание просто необходимо:
сиропу будет легче
проникать через образующиеся от
кристалликов льда мелкие
поры в клеточных оболочках
и равномерно пропитывать
ягоды. Приготовленные
плоды подержите в морозилке
два-четыре часа, а за полчаса
до варки достаньте их из
холодильника и дальше
готовьте варенье, как обычно.
У предварительного
замораживания есть еще один плюс:
при большой заготовке
сахара сейчас не напасешься,
а в самый ответственный
момент его может не хватить.
В этом случае замороженные
ягоды могут подождать.
До сих пор мы говорили
о «физической» силе мороза,
но холод еще и
«самобытный химик». При —2—5 °С
живая клетка плода не сразу
замерзает: сопротивляясь
неблагоприятному
воздействию, она мобилизует свои
резервы. Сахароза распадается
на фруктозу и глюкозу, смесь
которых гораздо слаще- А
проникающий в
поврежденные клетки кислород воздуха
окисляет часть дубильных
веществ. Недаром рябина,
снятая после первых
заморозков, так сладка. И хурма
теряет терпкость по,сле
подмораживания.
Пожалуй, общее правило
для замороженных
продуктов — не форсировать
размораживание, чтобы
выделяющаяся влага успела
равномерно распределиться в
тканях плодов. Овощи же
для супа или других горячих
блюд лучше варить или
жарить сразу же, не
размораживая, тогда потери ценных
веществ будут не столь
велики.
В. ГЕЛЬГОР
АШНИё ЗАG©ТЫ
79
Из дальних поездок
Москва — Пекин
и (главное) обратно
Май БОГАЧИХИИ
Прекрасная комната с телевизором,
вентилятором и ванной, где ежедневно с 20.30
до 22 бывает горячая вода, и даже с
телефоном, работающим до 21 часа (потом
надо идти к дежурной, там телефон
круглосуточный). Ванну, оказывается, нельзя
заполнять водой — она выливается на пол, но
можно пользоваться душем.
Чуть-чуть приведя себя в порядок, я пошел
узнавать, нет ли тут какого-нибудь буфета.
Оказалось, есть — не знаю, как назвать:
кафе, столовая высшего класса? Блюда
китайской кухни — на выбор — от простых до
фирменных. Выставленные холодные
закуски меня восхитили. Главное — недорого!
Зову своих ужинать. Мы не смотрим на
список 25-юаневых блюд, берем с Людой
салатик из волосяно-тонко нарезанной капусты
или чего-то на нее похожего с добавками
неизвестного происхождения, а также доуфу
(соевый творог), Люде — еще фасоль.
Нашего трупоеда это не устраивает, он берет
порцию мяса за 5 юаней. Ну и, конечно,
каждому по чашечке риса. Для лучшей
релаксации берем еще длинную бутылку пива
«Пекинского». Всего — около 8 юаней, но с нас
требуют сертификаты — деньги, которые
выдаются банком в обмен на валюту. Мы
говорим: деньги не обменяли, только прибыли.
Уговорили. Собственно, им все равно: деньги
Продолжение. Начало — в № 6.
равноценные, но, наверное, начальство
требует брать с иностранцев сертификаты.
Мы с Людой остались довольны и
ужином, и этим легким пивом, а Игорь ругал
холодное мясо: слишком наперчено да к
тому же с песочком. Еще он потребовал от
Люды сходить наверх и принести ему ложку.
Люда в ответ заявила, что с палочками он
лучше смотрится. Поворчав, что не хотел бы
всю жизнь питаться китайской пищей, Игорь
примиряется с палочками. Для его
успокоения рассказываю, что за три года в Китае я
так и не привык к китайской пище, а
полюбил китайскую кухню только вернувшись в
Союз, бывая изредка в ресторане «Пекин».
В Китае же, куда бы я ни приезжал (на
фарфоровые заводы и в институты), начальство
устраивало банкет в честь советского гостя.
Ранг у студента невелик, но есть деньги на
представительство, почему бы их не
использовать? Так вот, когда на столе была масса
блюд, я ел, заедая одно невкусное другим
невкусным. Кроме того, я в то время ничего
не мог есть без хлеба, поэтому приносил его
с собой... А вообще рекомендуется
питаться пищей местного происхождения, тогда
80
организм легче приспосабливается к
климату и прочим местным условиям.
Наутро спешим в канцелярию. Старшего
опять нет, есть только молодой Чжан,
который уже пообщался со всем начальством.
Я произношу заготовленную речь: какие мы
хорошие специалисты, что можем сделать
здесь, что занимаемся ушу и цигуном,
возможностями и сверхвозможностями
человека, ищем научные обоснования, изучаем
воздействие религиозных обрядов на организм.
Моя речь отдаленно напоминала речь Оста-
па Бендера перед шахматистами Васюков.
Остап был так голоден, что с удовольствием
съел бы зажаренного шахматного коня.
Время и место не те, еда нас не интересовала,
но вот если бы оплатили наше проживание,
мы бы особо не возражали. А мы бы
почитали лекции, рассказали о нашей работе...
Но у китайцев все решает высшее, точнее,
высочайшее указание: указаний нет —
ничего не нужно. Не на том уровне наш чиновник
Чжан и даже его непосредственное
начальство, чтобы чем-нибудь интересоваться
всерьез.
Тогда мы поехали в город. Говорят, на
рынке можно поменять доллары, а главное,
купить (или продать) билеты на Москву.
Люда требует: спроси, на каком рынке торгуют
поляки, но мне как-то неудобно задавать
такой вопрос. Потому едем на знаменитую
торговую улицу Ванфуцзин, там же
расположен базар Восточного Спокойствия (Дунань
шичан). Такое буйство торговли, как на
Ванфуцзине, трудно себе представить. Яркие
рекламы лезут друг на друга, торгующие
точки переплелись друг с другом по всем
измерениям, кругом зазывалы, что-то
кричащие или молча демонстрирующие яркие
ленты с названиями магазинов, ресторанов или
не знаю чего: разглядеть надпись в
плотной толпе невозможно. Базар Восточного
Спокойствия — не лавчонки частников, как
32 года назад, а отделы магазинов,— не то,
что нам нужно: нет никаких поляков.
Разглядываем с Людой прекрасные ожерелья
из жемчуга разных удивительных
оттенков — никогда не думал, что палитра
жемчугов так богата. Подошла русская, замахала
руками: «Что вы, что вы! Здесь все дороже
во много раз! Поезжайте на Жемчужный
рынок, я там за 240 юаней такое ожерелье
купила!». Оттараторила и убежала.
Уходим на тихую улицу, где садимся на
30-й автобус, чтобы ехать на Жемчужный
рынок. В автобусе не очень понимают, когда
я спрашиваю про Жемчужный рынок.
Значит, это не его собственное название, а
просто рынок, где продают и жемчуг.
Прошли овощные ряды — и вот вход.
Узенький коридорчик с открытыми
лавками идет вдоль улицы. В некоторые можно
зайти, но большинство — просто ниши или
как бы распахнутый шкаф без дверок, до
изделий можно дотянуться руками. Я подобные
лавки, хоть и не в таком массовом
количестве, не раз видел во сне. Обычно я
искал в них изделия из фарфора и чаще
всего не находил, поэтому просыпался
неудовлетворенный. Теперь у первой же
лавки, увидев фарфор, надолго
останавливаюсь. За красивые большие блюда
тончайшего фарфора со снежным пейзажем
просят 50—70 юаней — совсем недорого.
Когда-то такие большие из «яичной
скорлупы» не делали, могли лишь небольшие
чашечки и пиалушки, а сейчас, вижу,
выпускают вазы, декоративные блюда.
Значит, разработали какую-то новую
технологию — съездить бы в Цзиндэчжэнь,
столицу фарфора, да посмотреть, что там нового!
Кто-то спрашивает, нет ли чего на обмен.
И пока я мнусь и думаю, что сказать,
женщина-торговка залезает ко мне в сумку, все
вытаскивает, ставит себе на полку. «Я
беру все!» — заявляет почти в крик. К ней
присоединяется миловидная женщина из
лавки напротив. Они быстро избавляют
меня от захваченного с собой: шкатулки,
наигрывающей «Подмосковные вечера»,
электробритвы, любимого биноклика, блока
индийских сигарет. В обмен, после недолгих
споров (не приучен действовать так нахраписто),
получаю вазу — квадратного сечения с под-
глазурным кобальтовым узором — высотой
27 сантиметров (старинный стандарт), пару
пухлых вазочек наполовину ниже ростом с
мелкими, малозаметными дефектами и
набор кисточек в красивой коробке. Шкатулку
в обмен на квадратную вазу взяла
миловидная женщина. «Подмосковные вечера» здесь
все знают и любят. Наверняка можно
было совершить более выгодную сделку, но
страсть к фарфору затмила все расчеты.
Бог с ними, мы не ради бизнеса сюда
приехали.
В начале восьмого хозяева лавчонок
начали задергивать железные решетки.
Люда купила бутылку пива за 1,5 юаня.
Бутылка минералки Aл) стоит здесь в два
раза дороже, а 55-градусная водка «Лучшая
двойной перегонки» (Эрготоу) ценится
наравне с пивом.
Щ' ' 'I >*
к & к к
4 Химия и жизнь № 7
81
Пошли пешком к метро: и экономия,
и изучение всего, что встречается.
Увидели аптеку — зашли. Цены трехзначные.
И вдруг видим дешевку: 0,5 юаня. Что это?
Тушь. Тушь нам нужна. Но почему —
в аптеке? А ее есть можно. При каких
болезнях? Долго объясняют, что-то вроде
жаропонижающего. Покупаем...
Вдруг загромыхало, и пошел дождь. Де-
шеходы прячутся под навесы, в магазинчики,
под зонтики, а велосипедисты накинули
пленочные плащи, закрывающие к тому же,
и руль, и корзинку перед ним. Да, на
базаре, ни от кого не прячась, мы поменяли
немного долларов на юани по курсу 1:5,7.
Когда возвращались домой, кондуктор
автобуса потребовал четыре мао (мао —
1/10 юаня). Я заметил, что в прошлый раз
поездка стоила всего два. Он засмеялся и
возражать не стал. (С Игоря как-то взяли
6 мао.) Я спросил, где сойти, кондуктор
предложил самому смотреть в окно. Но там
темно, и мы все-таки проехали одну
лишнюю остановку — нырнули под мост Ворота
Чертополоха. По дороге к Институту
купили арбуз по цене 25 фэней за цзинь (фэнь —
1/10 мао). А днем торговали по 40 фэней.
В 9 были дома.
Ради экономии мы переселились в
студенческое общежитие, в комнатушку без стола,
не говоря уж о ТВ, телефоне, ванной.
Общежитие — мужское, и для Люды на первом
этаже пришлось оборудовать женский туалет.
Но скоро студенты вернулись с военных
сборов и развели ужасную грязь: в коридоре
кучи мусора у каждой комнаты, в
умывальной и туалете непросыхающий слой
грязной воды.
Все наши попытки закомпостировать
билеты не увенчались успехом. Мы на это
ухлопали почти неделю.
И решили ждать прихода советских
поездов. Из трех поездов Москва — Пекин два
советских, они приходят в пятницу и субботу
утром и вечером уходят. Выяснить это
оказалось неимоверно трудно: второго просто
нет в расписании (или мы не нашли),
справочные дают противоречивые сведения, да и
самого расписания, главного украшения
любого нашего вокзала, здесь нет. Помогло
интернациональное братство людей из
бывших соцстран: поляки, венгры, монголы
подходили или мы подходили к ним, что-то
друг у друга выясняли, пытались помочь
друг другу.
Первая попытка встретить советский поезд
кончилась неудачей: Игорь, любитель
поспать, решил, что поезд вместо 6.30
придет в 12 — к этому времени он, так уж и
быть, согласен подъехать к вокзалу. А поезд
пришел в одиннадцать.
82
Встать в шесть утра Игорь считает
величайшим подвигом. И он его совершил,
когда мы решили ехать на Длинную стену,
которую европейцы называют Великой.
В программе экскурсии — посещение пяти
достопримечательностей, поездка на целый
день за 12 юаней. Привыкшие к нашей
системе экскурсий, мы едем и спрашиваем
друг друга: где же экскурсовод, почему
молчит? Такового не оказалось.
Прежде всего подвезли нас к Минским
могилам, то есть к могилам императоров
династии Мин. Их 13 (шисань). Перед одной
из них — статуи людей и животных. Платим
за вход и проскакиваем эту галерею, еле
успевая сделать несколько снимков. Автобус
ждет на выходе, шофер вылавливает нас
из густой толпы, идущей сплошным потоком,
и мы едем дальше. Неподалеку, у самой
могилы,— вход в парковый комплекс. Опять
платим за вход. У туалета ловит меня
немытый жирноватый парень с усами и
предлагает поменять доллары A:6). Испуганно
замирает, когда близко кто-то проходит.
Рядом вертятся его дружки. Я решаю рискнуть
десятью долларами из приобретенных в
Москве. Провозил я этот всеобщий
эквивалент труда, распихав по карманам, а
100-долларовую бумажку засунул в
авторучку. Моя задача была смотреть
повнимательней, что за «куклу» подсунет мне
меняла. Уединиться негде: в Китае повсюду
люди. А он, конечно, торопит, запугивает:
«Скорей! Осторожней! Не показывайте
денег!».
Люда менять не советует — мы уходим.
Он появляется опять и сует мне в карман
60 юаней. Я их потихоньку рассматриваю:
10-юаневая и 50-юаневая бумажки. Вроде все
верно. Отдаю ему 10-долларовую. Он не
убегает, идет рядом. Спрашиваю, что тут
осматривают? Оказывается, за 10 юаней —
раскопанное подземелье. Мы с Людой решили не
платить — я эти катакомбы видел и в кино,
и на картинках. А экспонаты из погребений
можно без особой платы посмотреть в
павильоне наверху. И тут я соображаю:
обманул-таки меняла, 50 юаней — тайваньские.
Текст на купюре написан справа налево,
а в КНР так не пишут. Проверяю:
«Китайская Республика». Люда пристает с
вопросами, что такое «Китайская Республика»,
да чем она отличается от «Китайской
Народной», есть ли на Тайване советское
посольство, а раз нет, то как мы туда
поедем? Появление у нас тайваньских денег
она расценила как знак, что мы туда поедем.
Когда-то у них с Игорем появились
100 юаней КНР — и вот мы здесь.
Проходим мимо вездесущих рядов лавочек, и нам
предлагают поменять тайваньскую купюру по
курсу 1:5, то есть с шестикратным
проигрышем. Нет уж, лучше сохраню на память.
Игорь, не преминувший сходить в
подземелье, ворчит: смотреть там нечего. Ай да
китайцы! За осмотр одной могилы трижды
собирают мзду! И ведь толпы не скудеют —
это прирожденные зеваки. Видно, им остро не
хватает информации.
Вспоминаю, как приезжал сюда студентом.
Оград и поборов не было. Мы залезали на
каменных слонов (это было непросто) и
фотографировались. К соседней могиле
можно было запросто пройти среди холмов.
Правда, подземелье — с богатыми подарками
умершему — еще не было раскопано.
Следующий объект — Шисаньлинское
водохранилище (лин — могила). Его во время
«большого скачка» строил весь Пекин, не раз
приезжал Чжоу Эньлай, только великий Мао
не опускался до ручного труда, не таскал
коромысла с землей. А мои коллеги,
пекинские студенты, все это испытали (я в
то время учился в Тяньцзине и строил
пятиметровую домну на рисовых полях).
Один из них рассказывал, как они однажды
спросили крестьянина, какую самую крупную
купюру он держал в руках? Оказалось,
три юаня, и то не свои, а колхозные. Тогда
крестьяне жили в основном натуральным
хозяйством, зачем им деньги? Нынешние,
особенно вблизи городов, живут побогаче —
продукты питания стоят дорого. Да и юань
подешевел раз в десять.
Помню, как мой товарищ Женя
Виноградов, изучавший сельское хозяйство,
рассказал нам о своем великом открытии:
почему у китайцев часто зубы торчат
вперед? Он немного пожил в селе и питался
местной пищей. Лепешка такая жесткая, что
откусить ее невозможно, приходится тянуть
руками. Детские десны слабые... Среди
нынешних жителей Пекина таких не видать.
А еще запомнилось, как в одном селе нам
показывали дом помещика. Мы не могли
поверить, переспрашивали: в таком бедном
доме не согласился бы жить и наш бедняк.
Помещик — социальное понятие, а не знак
благосостояния. В нашем Тяньцзиньском
политехническом 80 % студентов — дети
помещиков: других грамотных в стране тогда
A957—1959 гг.) не было. Родители этих
студентов — репрессированный класс, их
лишили средств к существованию, они не
могли помогать своим детям, а стипендионный
фонд был ограниченный, распределялся он
в зависимости от обеспеченности студента.
Поэтому больше всего доставалось детям
помещиков как самым бедным...
Посреди водохранилища — островок с
беседкой, видимой со всех сторон. Платить
за осмотр водохранилища даже Игорь
отказался. Следующая остановка была у
харчевни (время обеда). Мы заглянули,
увидели пол, заваленный мусором, и
ретировались. Снаружи девушка торговала какими-то
пакетиками. На одном из них, как мне по-
83
казалось, написано: жареные овощи
(художественно выполненную надпись не так
легко расшифровать). Купил за шесть мао. Она
подтвердила, что мяса там нет. Удивилась,
что мы не стали обедать: вегетарианских
блюд сколько угодно. Грязный пол? Так не
с пола же едят... Как всегда, слыша, что
иностранец разговаривает по-китайски,
подтягиваются разные люди. Один из них
берет меня за рукав и отводит в чистое
помещение — есть здесь и такое. Я
оказываюсь в уютном кабинетике с круглым
столом. Уже тащат толстенную книгу в
коленкоровом переплете — меню, но я
требую лишь три чашечки риса. Мы идем к
столу, но на всякий случай я спрашиваю:
«Сколько это стоит?» — «Пятнадцать
юаней»... Не верю своим ушам.
«Спасибо, бу яо» (не надо). Мы выходим.
«Десять!» — кричат вдогонку. Нет уж. Красная
цена — полтора юаня, думаю я, но с такими
хапугами иметь дело не хочется.
Наконец, едем к заставе Бадалинь.
На подъезде видим карабкающиеся по
хребтам, местами довольно круто, остатки
Стены — мы их видели из окон поезда,
железная дорога идет параллельно шоссе. А вот
и Стена во всей красе, расцвеченная
флагами, облепленная толпами, построенная в
XX веке, очень возможно, что по
образу и подобию, а главное, на месте
старой, одного из ее рукавов. Все огорожено,
ходить по склонам строжайше запрещено,
иначе денег за вход не соберешь.
Как объявляет шофер, китайцы из нашего
автобуса идут смотреть фильм о Стене, а нам
идти с ними не нужно, ибо вход для
иностранцев 35 юаней. Китайцы идут вниз к
кинозалу, а мы — вверх к фуникулеру. Две
будочки-кассы: для белых и для желтых
(черные относятся к белым). Знание
китайского не помогло примазаться к
желтым — послали к черно-белым. Там на двух
языках накаляканы цены, ничего не
разгляжу. Спрашиваю по-китайски — получаю
ответ, кажется, по-английски. Поднимается
раздражение, я аж заикаюсь: «А вы
по-китайски говорить умеете?». Молоденькая
кассирша профессионально улыбается...
Оказывается, совсем недорого: 46 юаней вверх
и столько же вниз. Спасибо, не поедем.
А раздражает то, что за каждый шаг
надо платить, и немало. Было бы за что.
Игорь, который здесь впервые,
нашел-таки вход, где все равны, за 6 юаней, что
позволило ему походить по самой Стене.
А мы с Людой сфотографировались на
фоне Стены, которая видна отовсюду, а чуть
издали даже лучше, посмотрели
выступления группы ушуистов не очень высокого
класса. Толпа сочувственно глядела, как
84
два наиболее опытных ученика пытались
ребром ладони расколоть кирпич. У первого
выступающая половинка откололась лишь с
третьей попытки, когда подошел инструктор
и стал внушать: ты можешь! У второго
стал крошиться подложенный снизу кирпич,
но в конце концов и второй справился.
За право сфотографироваться верхом на
верблюде потребовали 5 юаней. Сколько
платить, если снимать будут они, мы и не
спрашивали. «Сесе, бу яо» (спасибо, не будем).
Лавочки, лавчонки. Вот дорогой
ресторан — в сторону ресторанов мы и не смотрим.
Все кругом кричат, зазывают. Вот лоток со
всякими напитками — заранее, подходя,
говорю: «Бу чи, бу хэ» (не ем, не пью). Помню,
как Володя Вуколов, мой сосед по комнате
в Пекинском университете, купил у
старика черепашку и спрашивал, чем кормить.
Старик махал рукой и говорил: «Бу чи, бу хэ».
Черепашка пожила «Бу чи, бу хэ» какое-то
время и стала помирать. Володя искал ей
какую-нибудь травку, но была еще
ранняя весна...
Это какая-то болезнь: как не купить майку
со Стеной? Мы напропалую торгуемся,
уходим, возвращаемся (нас возвращают),
покупаем. Ясно, что никогда не буду щеголять в
такой майке на улице, а под рубашкой все
равно, что Стена, что не Стена... Вернулись
в седьмом часу вечера, попросив остановить
автобус у первой же станции метро.
Кроме Стены мы посетили три
религиозных сооружения. Первое — буддийский храм
Юнхэгун (Дворец мира и согласия),
расположенный у одноименной станции метро.
Внутри и снаружи торгуют
художественными изделиями по высоким ценам. Вход —
4 юаня. Около буддийских статуй —
ящички для пожертвований, заполненные
бумажками (посетители денег не жалеют),
и низкая деревянная подставочка, обитая
материей, чтобы стать на колени и трижды
поклониться. Одно с другим сочетается:
бросил денежку, поклонился. Посетителей, как
и всюду, толпа, в основном 30-летние. Помню,
раньше казалось, что основное население
Пекина — дети, они заполняли улицы.
Теперь эти бывшие дети и составляют
население Пекина, старики вымерли, а новых
детей рожают мало.
Вторым объектом был даосский храм
Байюньгуань (Обитель белых облаков). Храм
с довольно древним историческим прошлым.
Здесь находится и даосское общество,
выпускающее литературу. Я долго
приглядывался к книгам: уж очень заманчив даосизм.
Купил «Даодэцзин»: древний текст снабжен
современными пояснениями. Еще купил
несколько прокомментированных даосских
•*tff1lffl..*" iw
трактатов. Не купил, к сожалению, книгу
«Что такое даосизм» — решил, что общий
обзор даосизма можно найти и дома. Да,
но как трактуют его китайцы? Купил
кассету с даосской музыкой.
Третий храмовый комплекс, куда мы
отправились, находится в Ароматных горах
(Сяншань). От Сичжимэнь на нашем
375-м автобусе надо ехать до конца —
Летнего дворца императрицы Цыси (не
Цыси, а Цысй), называющегося Ихэюань.
Далее, перейдя улицу, садимся на 333-й
и за четыре мао доезжаем до Ароматных
гор. Здесь несколько интересных культовых
сооружений, но мы успели только в один —
буддийский Храм лазоревых облаков
(Биюньсы). Чтобы подойти к храму,
поднимаемся по изгибающейся змеей улочке,
сплошь заставленной лавочками. В самом ее
начале купили печеную бататину за восемь
мао. Даже Игорю понравилась — мы были
голодные и еле дождались, пока она немного
остынет. В одной лавочке купил не торгуясь
две статуэтки Бодхидхармы и трех
хранителей, отдал 30 юаней. Изготовлены из «бо-
лиган». Боли — стекло, болиган —
вообще-то, армированное стекло. Материал
очень тяжелый. Знакомый керамист — уже
в Москве — пришел к выводу, что это
стеклянный порошок с каким-то связующим,
покрытый бронзовой краской. Сделано под
старинную бронзу, симпатично.
Храм очень красивый, с уютными
уголками, ручьем, беседками, живописными
камнями, поросшими мхом. К сожалению, он
совершенно не используется буддистами, то
есть чисто туристский комплекс. Подняться в
кресле по канатной дороге в верхний
павильон стоит пять юаней. Я предложил
идти пешком — всего 500 м; я в этом году
в Фанах уже прошел три четырехтысячника.
Тропа вывела на ступеньки, то есть на
специально сделанную дрогу вверх, где один
из вездесущих мороженщиков кричал на всю
гору, приглашая охладиться замороженным
разведенным сиропом. Догнал двух
тяньцзиньцев, и начался частый в Китае
разговор. Спрашивают: что происходит у вас
в стране? У вас теперь капитализм?
Отвечаю: мы уже две недели без газет и радио.
Изменения в стране — к лучшему. У нас не
капитализм, а какое-то новое направление-
Видно, что китайцы не очень верят
пропаганде, будто СССР стал капстраной, многие
радуются за нас и повторяют слова Мао:
«СССР сегодня — Китай завтра». А то, что
товаров нет, легкая промышленность не
развита,— эти проблемы решаются быстро,—
говорили они,— знаем по собственному
опыту. Тяньцзиньцы угостили меня напитком
из картонной коробочки. Я с жадностью
выпил — все-таки на подъем затратил много
энергии. Это были рабочие, но кто только не
заводил такие разговоры! Вторая главная
тема — бизнес. Возможностями
купить-продать интересовались все, начиная от Чжана
в Физпединституте. Все китайцы сейчас
помешаны на бизнесе.
Гора была действительно ароматной, когда
мы шли в густой зелени круто вверх по
ручью: травы, кусты, деревья — все живое и
пахучее. А наверху ветерок, прохлада, в
тени я даже немного замерз. Сижу на
скамеечке и невольно возникает настрой на
китайскую поэзию (в переводе Эйдлина):
Ароматные горы у ног, разбрелись кто куда.
Слева кубики давят, стеною стоит Летний сад,
Справа грязные метлы чадят в синеву, не стыдясь.
Безучастные Будды взирают на все тысячей глаз.
Город подступает к самому Летнему
дворцу — Ихэюаню, огороженному высокой
стеной. Да и здесь тоже ^се огорожено —
где каменной стенкой, где проволочной
сеткой, хотя местами стена зияет проломами.
Я бы с удовольствием побродил по этим
горам, поставил где-нибудь у ручья палатку.
Здесь красиво. И есть где запрятаться, чтобы
тебя не видели лесники или кто-то другой.
Так разрешилась бы проблема жилья. Но вот
костер не разведешь, он будет заметен
издалека.
Здесь, у Ароматных гор, во многих лавках
продаются мечи для ушу, цены от пяти юаней
до умопомрачительных. Вообще же ехать
сюда далеко, поэтому цены на все ниже, чем
в других, доступных и престижных местах.
И еще зависит от времени: под вечер
можно было сторговаться подешевле. Я купил
четыре меча. В лавке буддистов поменял
советские значки на китайски е и
обнаружил, что один из продавцов (или хозяев,
кто их разберет) — руководитель местного
общества цигуна. Договорились о контактах,
обменялись адресами.
Окончание — в следующем номере.
1
КЛУБ
ЮНЫЙ
химик
Кто-то сравнил азарт с той точкой
опоры, которая поможет перевернуть мир.
И впрямь: любое дело, выполняемое
с азартом, становится легче, приятнее,
а главное — гораздо успешнее. Вот и
попробуем изучать так школьную
химию!
Я расскажу о нескольких играх,
полюбившихся моим ученикам. Игры эти
помогут вам подготовиться к уроку
или к экзамену, да и просто развлекут.
Химическая рыбалка
Игроки делятся на две одинаковые
команды. Каждая получает по удочке
с большим тупым крючком.
В «пруду» — круг диаметром два-
три метра — расставлены деревянные
кубики. На их боковых гранях ярко
нарисованы символы химических
элементов, изучаемых в школьном курсе
химии, цифры от 0 до 9 и знаки « + »,
«-*», «=*». Каждый знак, символ или
цифра повторены минимум на пяти
кубиках. На верхней грани кубика
нарисована рыбка и сделана из проволоки
петля, за которую можно зацепить
удочкой «рыбку».
Каждая команда получает одно и то
же задание. Например, составить
уравнение взаимодействия меди с
разбавленной азотной кислотой или составить
уравнение реакции каталитического
окисления аммиака кислородом и так
далее.
Затем по сигналу «начали» два
первых игрока из обеих команд ловят
нужные кубики-«рыбки». Ровно через
минуту они передают удочки
следующим игрокам, и так до тех пор, пока
не будет составлено заданное
уравнение. Побеждает та команда, которая
сделает это быстрее.
Химические кегли
На полу стоят десять высоких
деревянных или пластмассовых цилиндров,
помеченных цифрами от 1 до 10. Под
этими же номерами на классной доске
или просто на листе бумаги написаны
десять химических формул, например:
12 3 ... 10
НЫОз HCI А1(ОНK ... Р2О5
Игрок из первой команды (ее
определяет жребий) выбирает одно из
веществ, называет его номер и любое
другое вещество, реагирующее с ним.
Скажем: соляная кислота, номер два,
реагирует с цинком по уравнению:
Zn + 2HCI ^Zn Cl2 + Н2\.
После этого игрок берет мяч и
бросает его от стартовой линии в
цилиндр № 2. Если тот сбит и уравнение
составлено верно, игрок зарабатывает
очко и передает мяч товарищу по
команде. Если нет, мяч получают
соперники. Выигрывает команда,
набравшая больше очков.
86
Клуб Юиый химик
Эту игру, как и предыдущую, можно
проводить и в «личном зачете».
Химические шашки
Для этой игры нужна доска 15Х 15
клеток и по тридцать белых и черных
шашек. На них масляной краской
написаны химические символы пятнадцати
катионов: Н+, Ад+, Мдн, Са2+, Ва2+,
Zn2+ Mn2+, Fe2+, Cu2+, Hg2+, Sr2+,
РЬ2+, Al3+, Cr3+, Fe3+; тринадцати
анионов: ОН" F-, CI" Br" I", CN-, S2-
so2-, so2- со2-, sio2-, сю42-, ро|-,
а также формулы: Н20 и ЫНз.
Шашки расставляют на доске с двух
сторон: в первом ряду фигуры с
символами анионов, воды и аммиака (в
любом порядке), во втором — фигуры с
символами катионов. Цель игры —
заполнить линию катионов соперника
своими катионами, линию молекул и
анионов соперника — своими
молекулами и анионами.
Тот, кто играет белыми, начинает
первым. Каждая шашка может ходить
на одну клетку вперед, влево или
вправо и бить шашку соперника, стоящую
на соседней клетке по диагонали,—
так же, как шахматная пешка.
Но шашка бьет другую лишь тогда,
когда обозначенные на них ионы
и'молекулы химически взаимодействуют
между собой. В этом случае
атакующий игрок называет химическую
реакцию и записывает на бумаге ее ионно-
молекулярное уравнение. Например:
барий-катион взаимодействует с
сульфат-анионом, образуется осадок
сульфата бария: Ва2+ + SO2""-* BaS04i-
Потом он переставляет фигуру
соперника на любую удаленную клетку
доски, а освободившуюся клетку
занимает своей шашкой и делает новый ход.
Если же игрок не смог правильно
написать или прочитать уравнение, то
очередь переходит к сопернику, тот
дает верный ответ, отправляет назад
чужую фигуру и занимает ее место
своей.
Когда шашка может атаковать сразу
две фигуры соперника, игрок пишет
оба уравнения и занимает своей
шашкой любую из опустевших клеток.
Наконец, несколько фигур могут быть
атакованы последовательно, друг за
другом.
Побеждает, напомню, тот, кто
первым проведет свои фигуры в тыл
соперника, то есть займет все клетки его
исходного положения.
Я привел несколько примеров
химических игр. Вы можете, разумеется,
менять их правила в зависимости от
количества игроков, темы урока и так
далее.
А можете придумать свои игры и
рассказать о них на страницах журнала.
Ю. И. ВУЛАВИИ
клу~ :<jhmh * "■<
87
РАССЛЕДОВАНИЕ
Кто из грибников не мучился порой
сомнениями, съедобна его находка или
ядовита, груздь это или подгруздок,
ложный опенок или настоящий? Вот
и летит гриб в сторону — на всякий
случай. и
Но оказывается, внешне похожие
виды можно различить химически.
Достаточно капнуть специальным
реактивом на небольшой кусочек гриба, и
через несколько минут на нем появится
характерная окраска. После этого надо
заглянуть в «Химический
определитель грибов» — и все станет ясно.
Увы, пока это наполовину фантазия.
Не составлен еще такой определитель,
подобраны далеко не все реактивы,
выявлены-лишь некоторые
закономерности в окрашивании грибов. Вот и
займитесь на досуге практической
разработкой этой идеи.
Прежде всего раздобудьте обычный
определитель грибов (например книгу
И. А. Дудки, С. П. Вассера «Грибы:
справочник миколога и грибника»,
Киев, «Наукова думка», 1987) и
выясните точно, что же именно вы нашли.
Для опытов можно брать только
свежие экземпляры, пролежавшие в
корзине не больше суток. Из мякоти гриба
вырежьте небольшой кусочек
размером 5X5 мм, поместите его на белое
блюдце и обработайте нужным
реактивом. На другой кусочек гриба
капните следующий реактив и так далее.
Окраска появится не сразу, а спустя
10—20 минут, тогда и определяйте
цвет и интенсивность его, а то вскоре
гриб снова изменится: почернеет или
побледнеет.
Чтобы результаты были
достоверными, надо испытать не меньше десяти
грибов одного вида.
Большой энтузиаст этой интересной
методики немецкий ученый Франк
Гарольд пользовался таким набором
реактивов: 5 %-й водный раствор
гидроксида калия, сероводородная
вода или 6 %-й раствор сульфида натрия
(можно использовать соль из
«Препарата для искусственных
сероводородных ванн»), 10 %-й раствор сульфата
железа (II) — напомню, что готовить
такой раствор надо на 0,5 %-ом
растворе серной кислоты; 2 %-й раствор
нитрата серебра, 2 %-й раствор фенола,
1,5 %-й спиртовой раствор 1 -нафтола,
1 %-й спиртовой раствор бензидина,
5 %-й спиртовой раствор гваякола,
1 %-й раствор нингидрина, 5 %-й
раствор формалина, раствор Люголя (он
довольно часто продается в аптеках),
чистый анилин, сульфованилин (один
кристалл ванилина+ 1 капля
сероводородной воды или раствора Na^S).
Этот список можно дополнить.
Испытайте, например, фотореактивы,
цветные проявители, реагенты для
исследования Сахаров, белков. Может быть,
вам помогут диазотированная сульфа-
ниловая кислота и многие другие
вещества.
Результаты удобно оформить в виде
таблицы, в строчках которой записаны
названия грибов, в столбцах —
реактивы, а на пересечении — полученная
окраска.
Подумайте еще вот о чем: Франк
Гарольд в своих экспериментах
пользовался цветовым атласом Куппера, где
в цифрах закодирована и окраска, и
ее интенсивность, наподобие
светофильтров для цветной фотопечати. Это
позволило Гарольду обрабатывать
результаты на компьютере. У вас же
такого атласа не будет. Придется искать
свой способ, чтобы оценить
интенсивность окраски. В качестве отправной
точки посоветую книгу А. С. Бондар-
цева «Шкала цветов» (Пособие для
биологов при научных исследованиях,
М.—Л. АН СССР. 1954).
Конечно, в предложенной
«операции» есть свои сложности. Ведь там, где
в изобилии растут грибы,— мало
реактивов, и наоборот. Но где-то эти два
дефицита сойдутся вместе...
Присылайте свои работы в редакцию,
и, возможно, по ним удастся составить
оригинальный определитель. А вы
имеете шанс стать первопроходцами, ибо
88
Клуб Юным химик
в нашей стране, похоже, подобных
работ еще не было.
Е. В. СЕЛИВАНОВ
От редакции: Кто-то из вас начнет
опыты и не сможет продолжить их:
не хватит реактивов. Е. В. Селиванов
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
В этом месяце, как обычно, можно
вспомнить о многих выдающихся
ученых. О физиках, лауреатах Нобелевских
премий: англичанине Генри Брэгге,
создателе методов рентгеноструктурного
анализа и рентгеновской
спектроскопии; французе Луи де Бройле,
открывшем волновую природу электрона;
немце Джеймсе Франке, который
сформулировал законы столкновения
электронов с атомами. О биологах:
Грегоре Менделе, чьи знаменитые
опыты с горохом хоть и не сразу, но
легли в основу учения о
наследственности; и Николае Константиновиче
Кольцове, который тоже причастен к
этому учению — он первым выдвинул
гипотезу о молекулярном строении и
матричном удвоении хромосом. Мож-
предлагает такой выход: написать ему
(на адрес редакции, с пометкой
Операция «Грибы») о своих первых
результатах. Если он увидит, что вы взялись
за дело серьезно, то пришлет
недостающие вещества. И уж следующий
грибной сезон вы встретите во всеоружии.
но помянуть и немецкого
химика-органика Вальтера Реппе, всю жизнь
изучавшего ацетилен. Такое постоянство
дало свои плоды: ученый открыл чуть
ли не десять важных реакций
ацетилена, названных затем его именем.
Да, каждый из них заслуживает
более подробного рассказа. Но для меня
главный юбиляр этого месяца — Георг
Лихтенберг. Первого июля
исполнилось 250 лет со дня рождения этого
блистательного ученого и мыслителя.
Георг Лихтенберг был, во-первых,
физиком-экспериментатором.
Исследовал электрические разряды на
границе газ — твердый диэлектрик.
Красивые следы такого разряда, остающиеся
на диэлектрике, с тех пор называют
фигурами Лихтенберга. Он также ввел
понятие положительного и
отрицательного электричества и обозначил его
«-|-» и «—». А самое интересное, что
в 1777 году — 215 лет назад! — ученый
разработал основные принципы
ксерокопирования. Представляете, как
долго это открытие пролежало
невостребованным?
Во-вторых, Лихтенберг занимался
математикой. И метрологией. И
геодезией. Сам он с пренебрежением
отзывался об узких, как мы бы теперь
сказали, специалистах. «Кто не
понимает ничего, кроме химии, тот и ее
понимает недостаточно».
И вот тут пора перейти к еще одной
грани дарования Лихтенберга: к его
афоризмам. Их много, целая книга,
которую очень советую прочитать. А
для «затравки» приведу несколько,
взятых почти наугад.
Клуб Юный химик
89
У человека, влюбленного в себя, то Мы живем в мире, где один дурак
преимущество, что у него мало сопер- создает очень много дураков, а один
никое. мудрый — очень мало мудрых.
Кто имеет меньше, чем желает,
должен знать, что он имеет больше, чем
заслуживает.
Есть очень много людей, которые
читают только для того, чтобы не думать.
Как счастливо жил бы каждый, если бы
он заботился о делах других людей
столь же мало, как и о своих
собственных.'
Что ж, прочитайте сборник афоризмов
Лихтенберга и попробуйте
приобщиться к мудрости человека, который так
сказал о самом себе: «Величайшее
счастье, о котором я ежедневно прошу
небо: пусть превосходят меня в силах и
знаниях лишь разумные и
добродетельные люди».
А. СЕРЕБРОВ
PC
Г)
Медленно, верно и ...неравномерно.
Посмотрите на рисунок, и вы убедитесь
в этом воочию. Более того, каждая
часть тела, каждый орган развиваются
по своей программе. Если сравнить их
с бегунами на дистанции, то окажется,
что в период многолетнего марафона
лидер непрерывно меняется. В первые
несколько недель развития зародыша
впереди — голова. Это и понятно: в ней
находится мозг, важнейший орган,
согласующий и организующий сложную
работу органов и систем. У месячного
плода голова превосходит туловище!
После рождения лидерство
переходит к рукам, затем к ногам. До пяти-
семилетнего возраста масса и длина
тела быстро увеличиваются. Голова же
растет медленно.
Важное, хотя и не очень заметное
событие в жизни каждого человека —
полуростовой скачок (его называют так
потому, что длина тела в это время —
обычно в 4—6 лет — достигает около
половины окончательной величины).
О том, прошел он или нет, можно
судить по так называемому
филиппинскому тесту. Ребенку предлагают
перекинуть руку через макушку головы и
дотянуться до противоположного уха.
Если это удается, полуростовой скачок
прошел.
4 8 12
Возраст (лет)
16
90
Эн«и химик
Чем же важен этот момент? Прежде
всего тем, что изменилось строение
грудной клетки и дыхание из брюшного
стало грудобрюшным, объем грудной
полости увеличился. Во-вторых, начали
работать сосудосуживающие
рефлексы. Теперь организму не приходится
СПРАВОЧНАЯ
У Клуба Юный химик теперь
есть тезка — Всероссийская за-
очнэя школа «Юный химик».
Основная цель у неег правда,
иная, нежели у Клуба:
помочь ребятам одолеть
школьную программу по химии.
Надеемся, нашим постоянным
читателям такая помощь не
требуется. А вот их
одноклассникам и знакомым, быть
может, пригодится. Короче —
«прочитай сам и передай
товарищу».
Конкретно же передать
надо вот что. Заочная школа
высылает каждому своему
ученику пособия, где собраны
типовые школьные задачи с
подробными решениями, а так-
вырабатывать много тепла, можно его
просто экономно расходовать: если
холодно, кожные сосуды сужаются и
проходящая по ним кровь охлаждается
меньше.
В младшем школьном возрасте,
примерно от семи до десяти лет, рост
замедляется. Если раньше лидерами
были руки и ноги, то теперь их
обгоняет туловище. Но незначительно:
пропорции тела почти не меняются.
Следующий скачок происходит в
подростковом возрасте. Первенство
вновь переходит к рукам, которые
так интенсивно растут, что организм не
успевает-приспособиться к новым
размерам. Отсюда неуклюжесть и
размашистость движений. Потом начинают
вытягиваться ноги. Только тогда, когда
они достигнут своего окончательного
размера, включается в рост туловище,
сначала в высоту, а уж затем — в
ширину. В это время окончательно
формируется телосложение человека.
Если сравнить теперь взрослого с
новорожденным, то окажется что
голова выросла всего в два раза, туловище
и РУВ£/— в ТРИ» Длина же ног увеличи-
лась^впятеро. Закономерность, как
видите, довольно четкая: чем важнее для
жизни орган или часть тела, тем
крупнее они были с самого рождения.
Кандидат педагогических наук
Р. Д. МАШ
же рассмотрены
теоретические «темные места».
Пособия составлены для всех
классов, с восьмого по
одиннадцатый. Примерно раз в три
недели школа проводит
контрольные, педагоги (в
основном — кандидаты наук из
МГПУ) проверяют присланные
работы, разбирают ошибки,
если надо — высылают
дополнительные контрольные
задачи... И так — в течение
всего учебного года.
Абитуриентов школа
подготовит к поступлению в вуз,
юных Менделеевых и
Бутлеровых (внимание, наши
читатели!) — к победе на
химических олимпиадах, от
школьных до международных. В
общем, будет работать в том
режиме, какой предложите вы
сами.
Тот, кто захочет поступить
в эту школу, должен
перечислить 300 рублей на
расчетный счет № 609734 в
Октябрьском филиале МИ Б
(Москва). А затем написать по
адресу: 117978, Москва, ул.
Косыгина 17, МГДТДЮ, отдел
экологической работы заочной
школы «Юный химик».
Желаем успеха I Ну, а когда
все отстающие выйдут в
отличники, тогда милости просим,
пусть присоединяются к
нашему Клубу:
Клуб Юный химик
91
Ученые досуги
Конец «Агента»
Александр КАМНЕВ, Борис ФАЙФЕЛЬ
Жизнь лениво жевала
его мечты...
В. Шукшин. Сильные идут дальше
Дверь в кофейню была распахнута настежь,
но прохлады это не добавляло. Под потолком,
разгоняя мух, лениво шевелился вентилятор.
Движения воздуха не чувствовалось. В такую
погоду кофе пьют лишь заядлые любители,
вроде моего друга Боба, сидевшего напротив
меня за столиком.
Настроение у меня в тот день было
прекрасным. Причиной тому послужил только
что полученный в канцелярии института
изящный голубой конверт из редакции
международного журнала.
— Ты вот все посмеиваешься над
химиками, а у меня, между прочим, еще одну статью
приняли в «Phisicochimica Acta», к тому же
рецензент отметил: «Exellent work»*.
— Ну что же, поздравляю,— лениво
отозвался Боб.— Добротный
экспериментальный материал всегда в цене...
Такая прохладная оценка моей
деятельности меня нисколько не удивила: надо знать
Боба, этого прожженного скептика.
— Странная вещь,— задумчиво
продолжал Боб,— химик берет известное вещество,
цепляет к нему лишнюю метильную группу,
получает новое соединение, и — свершилось:
он уже обогатил мировую науку. Теперь
каждое измерение — ну, там, показатель
преломления или еще что — новый результат!
За полтора десятка лет работы в
Институте фундаментальных проблем химии
программист Боб изрядно поднахватался нашей
терминологии и, надо сказать, нередко
употреблял ее к месту. Однако он знал, что
органикой я не занимаюсь. Его скепсис,
скорее всего, имел целью скрыть
легкую зависть, которая придавала
нашему с ним общению элемент
некоторого дружеского
соперничества.
— Да и вообще,— Боб со
смаком отхлебнул глоток кофе и
ехидно посмотрел на меня,—
химик, по-моему, не столько профес-
* Превосходная работа (англ.).
сия, сколько мировоззрение. Стоит
посмотреть на вашего брата за работой... Взгляд
прикован к колбе или к шкале колориметра,
глаза горят святым огнем веры. Во что?
Да во что угодно! В безграничные
возможности науки, в философский камень, в
универсальный магистериум... Шеф, когда на
него накатывает вдохновение, напоминает
командира подводной лодки, когда тот,
прильнув к перископу, собирается всадить
торпеду во вражеский линкор. Причем, заметь,
размах всегда глобальный: разыскать
высокотемпературную сверхпроводимость или
изобрести лекарство от рака — никак не менее.
Ну, а результаты...— Боб обреченно махнул
рукой.— Лучше бы сварили надежное
средство от тараканов, а то от них в лаборатории
совсем житья не стало. По-моему, они
ухитряются залезать даже внутрь дисплея.
Было жарко, мне не хотелось возражать,
и я промолчал, надеясь, что Боб продолжит
свой очередной монолог.
Я не ошибся.
— Химики, например, на полном серьезе
считают высшим пилотажем умение легко
расставлять коэффициенты в сложных
реакциях. Им и невдомек, что эта проблема
элементарно сводится к системе уравнений,
которую надо решить в целых числах.
Хочешь, я тебе любую реакцию уравняю
максимум в четыре действия?
Боб покрутил головой, но поскольку ни
ручки, ни бумаги поблизости не было, он
успокоился и продолжал:
— Иногда я думаю: а не утереть ли всем
химикам нос и не смастерить ли на Бэйсике,
скажем, «Универсальный уравниватель
химических реакций»? Преподаватели химии мне
этого не простят...
Я знал, что как программист Боб способен
и на большее. Непонятно, что его держало в
нашем институте, где он должен был из года в
год обрабатывать результаты чьих-то, подчас
сомнительных экспериментов, пребывая, по
мнению общей массы, явно где-то на
последних ролях. Чудак... Впрочем, все мы
немножко чудаки.
— Тебя послушать, так половину всех
химиков можно заменить компьютерами. Но
ведь ты сам как-то мне объяснял, что любой
ваш язык, тот же Бейсик например,
упрощает процесс программирования и
компьютер как бы сам строит программу. Может
быть, скоро профессия «программист»
вообще отомрет. К чему учить всякие Фортраны и
Паскали, если можно будет просто сказать
машине: сделай то-то и то-то? Получается,
что компьютеризация угрожает, скорее, вам,
ее создателям, чем нам, химикам!
— Дорогой мой,— Боб откинулся на
спинку стула, с явным удовольствием
дождавшись наконец моего возражения,— запомни:
никакой язык программирования не заменит
божественного акта творения. Любой
транслятор подобен техническому переводчику и
никогда не сделает из плохой программы
хорошую. А вот в вашей химии
действительно можно найти достойные задачи для
настоящего программиста. «Универсальный
уравниватель» — это, конечно, чепуха. У
меня есть мысли посущественнее...
Боб мечтательно задумался.
— Как тебе, например, «Программа
выбора новых путей синтеза любых соединений»?
— Любых?! Но ведь их число постоянно
растет, открываются новые реакции... То есть
твоя программа должна достраивать сама
себя?
— Именно! — Боб потер ладони, что
означало высшую степень творческого
возбуждения.
— Фактически ты хочешь построить
искусственный интеллект! Думаю, что этой
задачи тебе не осилить.
По сердитой искре, блеснувшей в глазах
Боба, я понял, что мой приятель
основательно задет, однако спорить он не стал и
перевел разговор на другую тему.
В последующие дни я редко встречал
Боба, даже в кофейне он почти не появлялся.
Было ясно, что у него очередной
компьютерный запой.
Прошло недели три. Жара спала, и
институтский народ зачастил в кофейню.
Однажды, желая взбодриться, я тоже решил
выпить чашечку кофе. Мое желание
укрепилось, когда я увидел среди посетителей
новую лаборантку Светочку из соседнего
отдела. Заняв очередь, я уже прикидывал, как
бы поэффектнее с ней заговорить, но вдруг
получил неожиданный тычок в спину, вслед
за которым раздалось жизнерадостное
«Привет, бычий хвост!». Так ласково называл
меня Боб, когда пребывал в прекрасном
расположении духа.
С сожалением взглянув еще раз в сторону
Светочки, я понял, что знакомство с ней
придется отложить.
— Ты где пропадал? — спросил я,
сдерживая раздражение.
— Уже работает! — звенящим шепотом
произнес Боб, оглянувшись по сторонам.
— Кто?
— Мой «Агент»!
— Слушай, Боб, что ты мелешь? Какой
еще агент?!
— Со мной все в порядке. «Агент» —
это программа: «Automatic Generation and
Examenation of Novel Trends»*.
■ * Автоматическая генерация и исследование
новых направлений (англ.).
93
Ну, конечно! Пристрастие Боба к
английскому языку знакомо было мне еще со
школы.
— Неужели та, «Выбор новых путей
синтеза...»?
— Именно! А ты еще — помнишь? —
сомневался! Вот она — вся тут! — Он
приоткрыл дипломат и показал уголок дискеты.
Я забыл о Светочке.
— Возьми мне двойной,— продолжал
Боб.— Я заслужил!
Мы заняли свободный столик. В глазах
моего друга светился триумф.
— Я уже загнал в нее для начала десятка
три основных реакций из «Бойда и Моррисо-
на». Пашет! Любую студенческую задачку
раскалывает, как орех,— пробовал!
— Ты должен немедленно написать
статью.
— Эх, Алик! Честно говоря, с точки
зрения большого программирования эта моя
программа — не Бог весть что.
— Тогда хотя бы покажи своего «Агента»
в деле!
— Завтра,— Боб хитро сощурился.—
Задумал я тут одну хохмочку... Завтра при
включении компьютера программа
запустится автоматически,— заговорщически
продолжал Боб.— Я это предусмотрел.
Представляешь себе лица этих уездных Гриньяров,
когда вместо обычной голубой заставки
«Norton Commander» на экране появится:
«Good morning, dear colleagues! What is
to be synthesized today?»*.
Торопливо допив кофе, Боб исчез, бросив
на ходу: «До завтра!».
Но, к сожалению, на следующий день я
вспомнил о Бобе только к вечеру: с утра в
отделе выдавали спирт, а после обеда
позвонил заказчик из отраслевого института, и
мне пришлось долго и по возможности
вежливо объяснять ему, что отчет
задерживается именно из-за того, что они сами не
прислали в срок образцы для испытаний...
С облегчением повесив наконец трубку, я
направился в Лабораторию теоретических
основ синтеза, где обычно заставал Боба в
обществе IBM PC/AT, сейчас же здесь царила
необычная суета. Стол у компьютера был
завален дискетами. Взъерошенные
сотрудники, сгрудившиеся у дисплея, раздраженно
отмахивались от моих вопросов. Кто-то, не
оборачиваясь, буркнул, что Боб, кажется,
ушел пить кофе.
Я помчался в кофейню, обогнав по пути
Светочку. Ну, а девочки потом,— подумал я.
Похоже, что на этот раз хохмочка Боба
действительно произвела фурор. Я жаждал
подробностей.
* Доброе утро, уважаемые коллеги! Что будем
сегодня синтезировать? (англ.) *
И я их получил.
Боб стоял у прилавка, упрямо выставив
покрытый щетиной подбородок.
— Ну, как «Агент»? — спросил я с
нетерпением.— Действует? Я только что из вашей
лаборатории. Там форменный переполох!
Боб злобно взглянул на меня и ничего не
ответил.
— Так что произошло? Объясни, наконец!
— Коз-з-з-лы! — процедил Боб сквозь
зубы.
— Кого ты имеешь в виду? — я слегка
опешил.
— Все химики — козлы!
Боб умел обобщать. Из него, думаю,
вышел бы неплохой химик. Хотя его мнение я
не разделял, но тем не менее оставил
последний, весьма небесспорный тезис без
ответа, надеясь на комментарий, который
незамедлительно последовал. Но прежде
досталось всем химикам: от древних искателей
философского камня до автора печально
известной статьи «Не могу поступиться
принципами» — по горизонтали, и от академика,
директора нашего института, до попавшейся
на глаза Бобу лаборантки Светочки — по
вертикали.
Утром же, как выяснилось, произошло
следующее. Войдя в вестибюль института,
Боб увидел своего приятеля Леню,
курившего как раз под табличкой «У нас не курят».
Завидев Боба, Леня кивнул в сторону
Лаборатории теоретических основ и сказал:
— А у вас-то там...
— Что случилось? — Боб изобразил
удивление.
— Да вирус какой-то занесли,—
продолжал Леня.— Вместо «Нортона» выводится
какая-то ерундовина на английском. Полтора
часа промучились, и пришлось-таки
беднягам...— Леня глубоко затянулся.
— Перевести вопрос? — насмешливо
спросил Боб.
— Да нет... Отформатировать
«винчестер»** заново...
Таков был бесславный конец «Агента».
Восстанавливать программу Боб не стал, и
очевидно, в ближайшее время вторжение
искусственного интеллекта химикам не
угрожает.
Впрочем... Вчера Боб опять пронесся
мимо, улыбаясь и потирая ладони.
** Жесткий диск компьютера. При
форматировании его содержимое стирается.
94
Ученые досуги
Если бы научиться ценить
в чужих трудах не то,
что в них похожего на
твои, а то, что в них
непохоже и тем не менее
хорошо!
Куда больше косности в
правильности, чем в
отклонениях.
Косность с трудом побеж-
I дается даже корыстью.
Человек способен
чувствовать себя несчастным, не
имея того, чего ради он и
пальцем о палец не ударит.
Альтернатива: или
унизительное несчастье
невключенности в жизнь, или
реальное несчастье в ней
самой.
венность.
Время — жизнь; странно
видеть, как охотно его
меняют на деньги.
Нам подарена жизнь, но
не всем поровну и не
одинаково счастливая: грех не
радоваться и грех
радоваться.
Бытие непостижимо, но в
этом бытии еще
непостижимее грядущее небытие.
Две тайны: начало и
конец — все остальное как
будто познаваемо.
С намагниченных лент
Владимир ВАСИЛЬЕВ:
«Но разве можно
судьбы высмотреть?..»
В прошлом году в Санкт-Петербурге небольшим тиражом вышла первая пластинка
харьковского барда Владимира Васильева, инженера по профессии. Знакомим с ним и наших
читателей.
Зимняя песня
В холодном зимнем белом городе
Сугробом давит тишина.
Две жизни, две судьбы, две гордости,
Два замерзающих окна.
И в каждое глядят, надеются,
Дыханьем оплавляя лед,
Она: «Придет, куда он денется».
И он: «Намается — придет».
Но разве можно судьбы высмотреть
В ночи сквозь тонкое стекло?
Когда к утру их души выстынут,
Морозно будет и светло...
Ах, может, все еще уладится.
Они вздыхают и глядят,
Как белый город набок валится
Сквозь неподвижный снегопад.
Ретро
Вчера — обычный ширпотреб,
А ныне — антиквариат.
Начнем с реликвий прошлых лет
Пылинки бережно сдувать.
...Для развлечения гостей
Устроен маленький салон,
Парад заброшенных вещей
Откроет старый патефон.
И вновь динамики хрипят,
Дрожит посуда на столе,
И патефонная игла
В разбитой скачет колее.
О духе времени твердят,
Звучит застольный анекдот,
И, лисьим шагом семеня,
Крадется медленный фокстрот.
Возвращаются на круги времена.
Отмечаем запоздалый юбилей —
Нынче мода нам укажет имена,
Всех посмертно полюби да возлелей.
Это, чувственные ноздри теребя,
Фимиамный расплывается дымок,
Каблучками заостренными дробя,
Взгляды томные кидают в потолок.
96
Шаг вперед — назад:
— Вы читали?
— Нет.
— Как же так?!
— Такой большой поэт!
Кстати, в жизни был
Не совсем святой.
Наклонитесь ближе...
— Боже мой!
Неужели? Ах!
Оказалось вдруг!
— Достоверный факт
Из надежных рук.
— Говорите громче,
Здесь кричат...
Шаг вперед-назад, вперед-назад.
Далеко отставлен острый локоток,
Изгибаясь, дышит в ухо горячо.
По квартире вьется липкий шепоток,
Пальцы тонкие впиваются в плечо.
Будет долго говорить и говорить
Да восторженные слюни утирать.
Наша память все кривое распрямит.
Чтоб потом удобней было
забывать.
Окно
Я лежу. Почему-то не спится.
В доме холодно, пусто, темно.
А ночная машина промчится —
Надо мной проплывает окно.
Есть у каждой кручины причина,
И всему объясненье дано.
Желтый свет проходящей машины
Мне бесплатное дарит кино.
Вы давно своей жизнью живете
И легко, не входя в мои сны,
Светлым ангелом тихо плывете
Надо мной от стены до стены.
Романс
Бог в небесной жаровне ворочает
Золотисто-румяный восход.
Жизнь в оконные рамы вколочена,
И дымком горьковатым несет.
И над крыш закопченными спинами
Подгоревший восходит калач.
И в пространстве, локтями раздвинутом,
Надрывается старый трубач.
И под жалкие звуки хрипящие
На ветру, угодившем в капкан,
Все чулки, на балконах висящие,
Лихо пляшут нестройный канкан.
Крик трубы над балконами мечется,
Бьется в каменной клетке двора.
Ну при чем тут судьба человечества,
Если в пятке чулочной дыра?
Мы
Шагая чуть упруго
На каблуках высоких,
Дражайшая супруга
Ко мне прижалась боком.
И я, супруг дражайший,
И оба мы дрожим,
И ты мне предлагаешь:
«Давай-ка пробежим!»
Вода летит отвесно
И пузырится в лужах.
Бежишь тяжеловесно,
С одышкой, неуклюже.
И башмачок хрустальный,
Размер сороковой,
С ноги твоей слетает,
И ты кричишь мне: «Стой!»
И я самозабвенно
В ручей за ним сигаю,
И я его мгновенно
Вприпрыжку настигаю.
И мы с тобой смеемся,
И шутим невпопад,
И мы в любви клянемся,
Как много лет назад.
И вот уже в обнимку,
С одышкой, но без дрожи,
Как на семейном снимке:
Я — старше, ты — моложе.
И тщательно стремимся
Признанье заглушить,
Что так с тобой боимся
Друг друга пережить.
■\л.
Л
,\V..v
;\vA\
%V*Y
\,л;\
'Xv'N;\
ч у.».
тъ
^Гъ
МУЛ;
• 'V,
wx*
№
Рисунок А. АСТРИНА
Фантастика
Гори, гори ясно...
Павел СЕННИКОВ
7...
Ворочаясь, нашел
Бессонницы причину:
Пора вставать'.
Отори Садакадзу очнулся в 7.46 и сразу сел, растирая лицо ладонями. Он
ощутил боль и некоторое время напряженно рассматривал ранку под ногтем короткого
пухлого пальца. Сознание медленно возвращалось к нему. Наконец он вспомнил, как
вчера при подстригании ногтей его поранила нетерпеливая медсестра. Сейчас
затянувшаяся было ранка раскрылась и из нее вытекла капля вялой крови. Отори сунул палец в рот и
тут же вынул. Он вспомнил еще одну вещь, приключившуюся вчера.
Отори отломал кусочек кроватной пружины и выпрямил его пальцами. Получилась
вполне упругая проволочка, которой он вычистил ногти, тогда еще не остриженные.
Затем ковырял ею в различных щелях и наконец уселся на пол выковыривать мусор,
забившийся под плинтуса. Отори начал работу от двери и, двигаясь последовательно,
намеревался дверью и закончить. Когда же он добрался до угла, проволочка выгребла
тонкий короткий предмет желтого цвета с таким традиционным коричневым
утолщением на одном конце, что Отори мгновенно опознал в предмете спичку. Обычную
пластиковую спичку — страшнейшую ныне вещь. Вздрогнув, он сразу спрятал ее в кулак, и никто
из больных ничего не заметил. Для вида он было продолжил работу, но разволновался и,
не в силах усидеть, поднялся с пола и пошел в уборную. Выждав, пока не остался
в одиночестве, он вынул палочку и подробно осмотрел ее.
Это была самая настоящая спичка! Отори даже застонал от страха и восторга. Она была
целехонька, и Отори знал, что может зажечь ее обо что угодно — пол, стену, даже зубы.
Но Отори не стал делать этого, хотя руки нестерпимо чесались сделать Огонь. Отори снова
спрятал находку и спокойной походкой отправился обедать, благо подошло время. И никому-
никому ничего не сказал. А остаток дня провел как в полусне — столь сильным было
впечатление от происшедшего.
6...
Где Питерава?
Туман все поглотил. Лишь
Воспоминанья...
Отори быстро оглянулся — не наблюдает ли кто за ним, и судорожно ощупал
нагрудный карман. Удостоверившись, что спичка на месте и не плод фантазий его больной
психики, он подошел к окну.
Ближние дома за станцией были хорошо видны, но дальше все тонуло в голубом
тумане, и транспаранты тоже тонули в нем. О солнце в небе можно было только
догадываться.
На воле время утреннего подъема — в семь, часом раньше, чем в больнице, и по улицам
торопливо шли на станцию граждане. Они несли с собою ведра, лопаты и пухлые сумки.
Полдня они будут трудиться на своих предприятиях и в офисах, а полдня
копать ямы под саженцы и бегать взад-вперед с ведрами.
Дурацкая затея. Просто психоз повальный.
99
Неслышно прошла Магнитка. С пуском городской атомной они стали ходить не дважды
в день, а каждые полчаса. Конечно, особой необходимости в этом не было. Отори
усматривал здесь пропагандистский жест городских властей. Дескать, не все еще так
плохо. Смешно подумать.
Автоматически включилось радио. Бодрый голос где-то произнес: «Восемь часов»,—
и всепроникающие волны разнесли эти слова по миллионам приемников. Больные,
привыкшие вставать по радио, потянулись к выходу. Отори тоже пошел
умываться.
За завтраком, когда он без воодушевления жевал безвкусную синтетическую пищу,
его хлопнули по плечу. Зная, кто это, он напрягся, но не обернулся. Только торопливо
проглотил кусок.
— Приятного аппетита, Отори,— гадким голосом произнес Марио, его вечный недруг
и гонитель, небрежно садясь на шаткий столик.— Что-то ты неприветлив сегодня,—
он участливо потрепал Отори по щеке.— Как мой компот поживает? Я вижу, ты уже
отхлебнул малость.
— Ну, отхлебнул,— Отори сжал ложку,— это же мой компот!
— Ой ли? — поразился Марио.— Я-то думал, ты мне подарил его. Ну, друг, даешь!
Отори бессильно наблюдал, как Марио эффектно, двумя пальцами взял стакан и,
смакуя, выпил содержимое. Протест, как всегда, проснулся, лишь когда Марио поставил
стакан прямо ему в тарелку.
— Марио,— дрожа от страха и отчаяния, выдавил Отори,— ты же знаешь, что
убиваешь меня. Ты разрушаешь мой организм, лишая его компота. Я и так уже еле ноги
передвигаю. Человек не может жить на одной синтетике! — Одноразовая ложка
хрустнула в его руке.
— Ну, зато это дает тебе некоторые преимущества. Например, сегодня я не буду бить
тебя.
— А ты и не должен бить меня! Я свободный человек!
— Вот сейчас получишь по голове — и вся свобода, понял?
Отори зарыдал, душимый слезами и бессилием.
На процедурах медсестра Соня, молодая, упругая, некрасивая, внимательно глядя
в его заплаканные глаза, спросила, что с ним случилось.
— Ничего,— побледнел Отори.
— Может, тебя кто обидел? — не унималась Соня.
— Нет,— отрезал Отори, бледнея еще больше. О жалобе не могло быть и речи. Однажды
он пожаловался, и с тех пор Марио пьет его компот.
— Просто я вспомнил дом.
И тут он действительно вспомнил дом.
— Он у меня большой, светлый. Но это было давно.
— Он был сгораемый? — поинтересовалась Соня.
— Да. В восьмисотом квартале.
— А-а. Теперь там свалка.
— Свалка? — дрогнул голос Отори.
— Ну, ты же знаешь, каким пожароопасным был этот квартал. Его, кстати, не
сносили — лишь обнесли стеной и устроили свалку. Пять лет назад. Куча уже изрядная —
под двадцать ростов высотой. А чтоб ее не разносил ветер, опрыскивают клейстером.
Что с тобой? Эй, Отори, все нормально?
— Порядок.
Он равнодушно отвернулся. Не хватало еще, чтобы ему вкололи какой-нибудь
успокаивающей гадости, после которой неделю ходишь заторможенным. Он стянул с головы
диагнозетку, бодро встал и как бы обронил:
— Туда ему и дорога. Квартал-то был никудышный. Хорошо еще, не сгорел.
— Это было бы ужасно,— со вздохом согласилась Соня.
Увы, холодны
Отсыревшие стены.
Пойду-ка я вон!
Ближе к вечеру туман сгустился. Из голубого он стал серым и каким-то
грязноватым. Отори, сидя у окна, наблюдал, как расходились по домам горожане. Они несли
лопаты и аккуратно чистили их у порогов своих жилищ. Картина эта повторялась изо
100
дня в день и давно приобрела значение ритуала. Но и тут Отори ставил под
сомнение их упорство — они бахвалятся, понимал он, они пытаются подавить страх в себе и в
других, публично демонстрируя доказательства своей работы. Смешно, смешно...
И Отори пошел в уборную — в который раз полюбоваться на спичку.
А та была прелестна. Ее основная часть естественно и нежно переходила в головку,
коричневую, круглую, миниатюрную, напоминающую древнюю бомбу, которую Отори видел
в музее. Блестящий ранее пластик с годами несколько потускнел, но — в самый раз,
и это тоже говорило в ее пользу, прибавляя зрелости. Чувствовалось — да, этой спичкой
можно сделать Огонь!
А за спички, даже похуже, раздают такие сроки! — трепетала душа Отори.
Плечо сжала знакомая и ненавистная рука, и длинный нос этого ублюдка Марио
втянулся из-за плеча в поле зрения.
— Что ты от меня прячешь, дохляк?
Отори сжал спичку в кулаке, ощутив вдруг, какая она огромная и тяжелая и как тяжело
беречь это сокровище, магнетически вызывающее чужое внимание. От Марио не
ускользнула волна решимости, огрубившая лицо Отори, но он как с цепи сорвался и, выкручивая
кисть Отори, стал разжимать ему пальцы. Отори слабо сопротивлялся, по-детски
ожидая чуда, которое спасет его. Но:
— Да это же...
Неожиданно для самого себя Отори локтем ударил обидчика в горло — неловко,
скованной и напряженной рукой, но удар оказался достаточно сильным. Что-то хрустнуло;
булькая, Марио повалился набок, и кровь оросила сверкающий кафель. Но спичка уже
перекочевала на свое привычное место.
Вот и все,— отрешенно подумал Отори, без ненависти глядя на распростертое
у его ног тело.— Теперь — дубинка, надзорная палата, сульфазол, аминазин. Я
завидую Марио.
Но, думая так, он знал, что ничего этого не будет, потому что уже не чувствовал
себя прежним робким Отори. И он пошел в ординаторскую. Придав себе взволнованный
вид, открыл дверь и выпалил:
— Марио повесился!
— Где? — вскричала Соня, бросаясь навстречу.
— В уборной! Быстрее!
И едва Соня оказалась в коридоре, за ее спиной проскользнул в ординаторскую
и затворил дверь.
Шесть секунд,— назначил он.
Противогаз висел в шкафу. Натягивая его, он рванулся к окну. Не раздумывая, прыгнул
с третьего этажа на чахлые свежепосаженные кустики и на лету удачно сгруппировался.
Задыхаясь от недостатка кислорода, за 30 секунд добежал до станции. Магнитка из центра
пришла вовремя. Возможно, меня будут ждать на вокзале в Т.,— думал он,— но я сойду
на следующей станции.
На нем был халат с вышитым на плече названием больницы, и он явственно ощущал
пристальное внимание попутчиков, глазевших на него из-за противогазных стекол.
А чего, собственно, я боюсь? — прикинул Отори.— Ну что мне будет за Марио? Я же
псих. Меня даже судить не будут. Я неприкосновенный и почти неприкасаемый. Но —
спичка! В ней могучая, неукротимая сила — Огонь — и даже в незажженном состоянии
она жжет меня и ведет,— куда? — а я не в силах воспротивиться ей. Она создана для
одной-единственной цели и когда-нибудь заставит меня — или того, кому случится
обладать ею,— сделать Огонь. Это судьба. Будь что будет.
Выйдя из вагона, он осмотрелся. Место как будто знакомое. Когда было Солнце,
они с ребятами ездили сюда купаться, и речка была недалеко — в пяти минутах
ходьбы.
Непривычный к бедному воздуху открытых пространств, он шагал медленно и осторожно.
Смеркалось, и туман стал совершенно непроницаем. Но и в тумане от реки веяло
прохладой; он достиг берега. Затем шел прочь от города, пока хватало сил, и, срезав путь, оказался
близ поселка, расположенного на параллельной магнитодорожной ветке.
До утра оставалось часа четыре, торопиться было некуда, и Отори прикорнул под мостом.
Вода текла едва ли не под ним, но пить ее было опасно. Ворочаясь, он незаметно для
самого себя заснул.
Разбудил его толчок воздушной волны ©т Магнитки, вспоровшей сырую тишину. Воздух
по-утреннему пояснел, и обходными путями Отори подкрался к ближнему дому. Выждав,
пока его обитатели отправятся кто на работу, кто в школу, он легко проник внутрь, потому
101
что все-таки это была провинция, глушь, и дома не запирали замками, а по старинке
закладывали в паз двери клинышек. Плотно поел, разогрев в термовке что-то из банки
без этикетки, и даже сполоснул лицо и руки остатками воды в баке. Он знал, что следую-
дцая подача воды будет в 12.00, но, хотя желание помыться в настоящей ванне было
нестерпимым, он решил не рисковать. К тому же Отори просто не мог дать себе столько
времени, памятуя, что поиски его идут полным ходом.
Неумолчно болтавшее радио наполняло слух своей обычной ежедневной дребеденью;
Отори слушал его вполуха, не отвлекаясь от дела. Еще вполне приличный костюм,
найденный в шкафу, мешком повис на нем. Халат полетел в мусорный ящик. Бутылка воды,
резиновые перчатки на случай дождя, кухонный нож нашлись в доме, но вся обувь оказалась
не по размеру. Денег, конечно, не было.
Все хорошо — успокоил он себя. Спичка-то была с ним. Уходя, он не забыл закрыть
воздуховоды.
4...
Нет, не для ходьбы
Проложили дороги —
Для поворотов!
Загребая ногами пыль, Отори поднялся на шоссе Север-Юг. Здесь чувствовалась жизнь —
лошади в нелепых противогазах тянули немногочисленные экипажи с дремлющими
пассажирами, иногда проезжали рейсовые автобусы, реже — электромобили, недоступные
простому люду. Шоссе увлекло его прочь от города. В сумерках, обессиленный, он
оказался у развилки, от которой шла давно не чищенная дорога; а куда ее проложили,
было неясно, потому что от дорожного щита, давно съеденного дождями, остались лишь
бетонные столбики. Обнаружив в грязи свежие следы электромобильных шин, он пошел
по ним, и они привели его в заброшенный поселок.
Кто же живет в такой глухомани? — недоумевал Отори, шагая по отпечаткам шин.
Он брел, пригнувшись почти к самой земле,— боялся потерять дорогу. И,
внезапно услышав неясный звук, резко поднял голову. В окнах дома, который
возвышался в нескольких шагах от него, горел свет. Это было так неожиданно, что Отори
надолго застыл.
Подумав, он решил обойти вокруг дома и вышел к крыльцу, перед которым стояли
два электромобиля.
Вечеринка? Здесь? Или... притон?
Поднялся по каменным ступеням и осторожно толкнул дверь. Удивительно, но она
оказалась незапертой. Он неуверенно сделал шаг в темноту шлюза, и тут же что-то твердое
уперлось в его спину.
— Руки вверх!
Как в кино,— меланхолически подумал он, поднимая руки.
3...
Так проиграться!
Видно, выпала нынче
Черная карта.
Зажегся свет. Сильная рука толкнула Отори в глубь шлюза. Щелкнул замок запираемой
двери. Включилась система вентиляции.
— Открой дверь и входи!
Отори послушно повиновался и оказался в просторном помещении со столом
посередине. На столе стояло металлическое сооружение кубической формы, а также еда
и напитки. Около десятка человек сидело за столом и в креслах у стен. Кто-то играл
на рояле.
Лица присутствующих обратились к вошедшим, и Отори оробел. Человек, приведший его,
сорвал с него маску.
Ближе всех сидел худой благообразный старик в кимоно, и, нутром признав в нем
руководителя, Отори впился глазами в его лицо. Стояла гробовая тишина. Никто даже не
шевельнулся. Присутствующие разглядывали гостя, словно он начудил, и Отори совсем
102
разволновался и едва не потерял голову. Должно быть, его лицо приобрело — или
имело — очень тупое и смешное выражение, потому что внезапный взрыв смеха потряс воздух.
Они смеялись, как смеются редко, да так долго! Отори даже взмок и нервно закричал:
— Да что же это, Господи?!
Отдышавшись и вытерев слезу, старик спросил:
— Кто ты?
— Мое имя Отори Садакадзу,— чуть помешкав, ответил Отори.
— И что же ты здесь вынюхивал?
— Поверьте, я попал сюда совершенно случайно...
— Случайно в эти места не заходят,— отрезал тот.
На дальнем конце стола встал молодой человек в очках; в руке его была газета. Подойдя
к старику, он положил ее перед ним.
— Сенсэй, обратите внимание, пожалуйста.
Старик мельком пробежал заметку, а затем начал читать ее вслух — то ли для своих,
то ли для Отори:
— «Вечером 12 апреля из психлечебницы «Мерси» сбежал пациент Отори Садакадзу.
Приметы...» Ага, фото помещено... далее... «Просьба видевшим его сообщить по номеру...»,
а вот тут совсем интересно...
Отори напрягся.
— «Разыскиваемый подозревается в убийстве». Ну, что скажешь, Отори? Небось,
хлопнул дружка по палате, а? Странно, что тебя еще не взяли — невменяемость на твоем
лице не скрыть никаким противогазом... она так и прет из тебя!
Отори подавленно разглядывал грязь на тапках.
— Нескромный вопрос, Отори — зачем ты сбежал?
— Я хотел сделать Огонь,— слукавил Отори и с удивлением почувствовал, что
сказанное не ложь. Он понял это с последним, магическим словом.
— Ну да? — поразился сенсэй.— И как же ты думал его произвести?
Как же, скажи тебе,— усмехнулся про себя Отори, а вслух произнес:
— Не знаю. Как все. Вот вы — вы как его делаете?
Он прикусил язык, но сенсэй не удивился и не рассердился.
— Смотри сюда,— он поднял со стола какой-то предмет.— Это трут. А это огниво.
При ударе железа о кремень возникает искра, которой достаточно, чтобы сухой трут затлел.
Затем его раздувают и получают огонь.
Он сказал «огонь» так буднично и просто, что у Отори закружилась голова от зависти.
Надо же. Наверно, у сенсэя каждый день есть Огонь!
— Конечно, мы могли бы сделать и спички, и зажигалки, но первый способ более
привлекателен. Может, ты и не знаешь, но именно так делали огонь наши предки,
и кстати, тогда не нужно было таиться от полиции и доносчиков.
— Я знаю,— Отори сглотнул слюну.
— Мне кажется, нам нечего бояться тебя. Ты такой же гонимый, как и мы. Садись,
поешь и поговорим.
Отори сел.
— Выпей-ка!
Жидкости в стакане было на два пальца, но, выпив, Отори едва не умер. Словно бомба
рванула в его голове, и он мгновенно захмелел. В руку ему вложили ложку, и он жадно
набросился на еду, уже не чувствуя в ней нефтяной маслянистости, а лимонад показался
ему нектаром.
— Это была водка? — крикнул он сквозь шум в голове.
— Самогон. Счастье, что его можно гнать даже из синтетики. Как, недурно?
— Знатно.— Отори почувствовал необходимость говорить.— А вы огнепоклонники?
— Вроде.— И старик быстро перехватил инициативу в разговоре: — А зачем ты хотел
сделать огонь?
— Я хочу спалить этот мир. Ну его к свиньям! Развести такой пожар, чтобы он
съел остатки кислорода, а в его дыму задохнулось все то, что еще смеет жить!
Сильно,— похвалил он себя.
— Мы тоже придерживаемся таких взглядов. Да, это не жизнь, сынок. Теперь я вижу,
что не ошибся в тебе. Смотри!
Он резко встал и открыл дверцу в металлическом ящике. Внутри его бушевало Пламя!
Отори был сражен. Что-то неведомое метнулось по жилам, а каждая клеточка его тела
взвыла от восторга.
— Огонь дает человеку силу, сынок. Гонения на него напрасны. Свет и огонь почти
103
равноценны для человека, и люди тоскуют по огню. Иногда мы устраиваем пожары,
и тысячи людей сбегаются смотреть на огонь!
Перед слушателем вновь поставили стакан, и он быстро выпил.
— Зачем обманываться? Слишком уж далеко зашла беда. Пытаются лечить болезнь,
не понимая, что это — агония. Теперь мы ждем следующего пика, после которого
арифметическая прогрессия процесса перерастет в геометрическую. А для этого,
возможно, достаточно будет одного-единственного действия... Так соломинка ломает спину
верблюда,— сенсэй внезапно замолк.
— Ты хочешь быть с нами? — спросил он немного погодя, вцепившись худыми
пальцами в плечо Отори.— Ты понимаешь, в чем избавление от мук?
— Да. Я готов! — он попытался подняться.
— Погоди, сынок! Где ты хочешь устроить пожар?
— В Питераве. На свалке. Восьмисотый квартал,— немедленно доложил Отори
непослушным языком. Он чувствовал необходимость говорить односложно.
— Прекрасное место! — всплеснул руками старик.— Очень много горючего материала,
целая гора! Но знаешь ли ты, что свалка охраняется?
Перед Отори в мгновение otfa расстелили карту.
— Свалка обнесена стеной в два роста. Вот здесь караульная вышка, на ней часовой.
Здесь и здесь — полицейские посты,— указывал морщинистый палец.— Как же ты
проникнешь?
— Вот отсюда,— ткнул Отори.
— Прекрасно. Но не успеет огонь разгореться, как его заметят с вышки!
— Ну... отвлечь часового.
— Правильно. Мои люди отвлекут часового.
— Убьют? — осторожно спросил Отори.
— Ну что ты?! Конечно, нет. Убить человека страшно. Ты ведь убил случайно? *
Отори виновато опустил голову, понимая, какое он ничтожество.
— Э, забудь. Банально, но ему сейчас лучше, чем нам. Так вот, один из нас служит в
полиции, ты, конечно, понимаешь, что наши люди — повсюду. Он наденет форму, взберется
на вышку и свяжет часового. Вот и все. Как ты себя чувствуешь?
— Отлично,— Отори поднялся.
— Вот молодец! — обрадовался сенсэй и похлопал его по спине. Остальные тоже
обступили его, улыбаясь, и что-то говорили. Вновь поднесли самогон.
— Только запали побыстрее и сразу назад. Понял? — наставительно повторял старик.
— Обязательно, сенсэй!
— Машина будет ждать тебя.
Расплывающееся лицо сенсэя подмигнуло и кивнуло ему.
2...
Ночь на дворе. Тишь.
Кажется, нет ничего
Ее тише.
Через четыре часа электромобиль остановился за квартал до цели. Один из
сопровождающих — полицейский с коротким арбалетом скрылся во мгле. Минут через десять он
вернулся, и тогда попутчики разбудили Отори.
— Приступаем. Пока ты спал, мы связали часового. Дело только за тобой. Смотри не засни
по дороге.
— Сделаю в лучшем виде,— заверил Отори.
— Держи огниво, а трут тебе не понадобится. В этом бачке горючее вещество бензо-
син. Выплесни его и быстро высеки искру. Затем быстро возвращайся назад. На всякий
случай держи арбалет. Повесь его на спину, чтоб не мешал. Ну, шевелись!
Полицейский взял раздвижную лестницу и проводил его до свалки. Под самой вышкой
Отори перелез через стену и спрыгнул вниз. В белесой мгле было трудно
ориентироваться, но он храбро пошел вперед, поминутно спотыкаясь и падая. Беспорядочно
наваленные ящики, балки, кипы бумаги и тряпья, а также арбалет за спиной и бачок в руках
затрудняли продвижение.
Он наткнулся на какой-то дом и, пытаясь обойти его, заплутал меж завалов и немного
испугался, потому что не представлял себе, как далеко он зашел в глубь квартала и как
выберется отсюда.
104
Все. Хватит.
Но если куча, которую он подожжет, окажется небольшой, что скажет сенсэй?
Помедлив, Отори решил продолжить путь и, поплутав еще немного, обнаружил, что слой
мусора увеличивается. Он полез, увязая по колено, выше. Вдруг мусор осыпался, и Отори
на спине съехал на что-то, пусто загремевшее под его телом.
Черепица,— определил он на ощупь.— Стало быть я добрался до крыши. Он пошел дальше,
пока новый завал не преградил дорогу. Отори быстро облил бензином широкую полосу мусора.
Но с огнивом ничего не получилось. Искры высекались какие-то неживые, затем он чуть
не разбил палец, выронил огниво и не нашел, сколько ни шарил.
И тут его озарило: он совсем забыл о спичке! Торопливо достав ее из кармана,
зажал неловкими пальцами и осторожно провел по штанине.
Ничего. Провел чуть смелее. Наконец резко чиркнул. Получился Огонь.
1...
Придя, первым делом
Так натопил, что вышел
Дышать за порог.
Любуясь им, Отори задержал спичку в пальцах, и она их неожиданно обожгла. Вскрикнув,
он взмахнул рукой, и спичка, очертив красную дугу, исчезла в тумане.
Но не погасла. Изготовленная из легковоспламеняющегося материала, она могла гореть
даже на сильном ветру. Отори отбросил ее на мокрую от бензосина доску, бензосин
занялся, и огоньки бодро побежали в разные стороны. Затем пламя радостно загудело,
как живое, и бросилось пожирать все подряд.
Самого пламени с того места, где стоял Отори, видно не было — лишь светящаяся муть,
становившаяся все ярче, как бывает, если в тумане движется электромобиль со
включенной фарой, с той лишь разницей, что свечение было не белым, а как бы подкрашенным
кровью.
— Тут Отори охватил приступ неудержимого страха, и, повернувшись, он побежал очертя
голову. Падая с крыши, едва не разбил стекла противогаза, а губы разбил точно и язык
прикусил. Арбалет на слишком длинном ремне колотил по копчику, причиняя нестерпимую
боль. Он сорвал его, но не бросил, а так и бежал, держа перед собой на вытянутых
руках, чтоб не врезаться лбом в какое-нибудь препятствие. Вот так он и налетел на стену,
а что это стена свалки, понял сразу, хоть и абсолютно ничего не было видно. Выругавшись,
он наугад бросился вдоль стены.
Определенно, его вело чутье. Почти сразу Отори наткнулся на вышку и полез вверх
по гладким балкам. Не теряя времени на поиски лестницы, спрыгнул и на негнущихся ногах
побежал дальше, гулко шлепая по влажному асфальту. Он испугался этих звуков и пошел
тише, стараясь ступать мягче. И тут услышал другие, чужие шаги и пугливо взвел арбалет.
Чужак, должно быть, расслышал щелчок каретки, и из мглы донесся его ватный из-за тумана
и противогаза голос.
— Отори! Отори!
— Да! — обрадовался Отори.— Сюда, я здесь!
Он даже зачем-то помахал рукой во тьму.
Человек подошел к нему вплотную. Это был его напарник — тот, полицейский.
— Ну, как работка?! — гордо сказал Отори, глядя на едва пробивавшийся сюда свет
зарева.
Где-то там мой дом,— мелькнула мысль, но он не сосредоточился на ней.
— Порядок,— по-доброму ответил напарник. Затем в его руке что-то ярко сверкнуло
раз, другой, а в груди Отори, отзываясь на эти вспышки, хрустнуло, и он рухнул лицом
вниз, обливаясь кровью.
Человек в полицейской форме для страховки выстрелил ему в голову, затем вынул
свисток с грушей и долго нажимал на нее, вызывая полицию.
Пока этот чертов мир будет лететь в тартарары, он еще успеет продвинуться
по службе.
0.
Все, как вчера, лишь солнце позже встало.
А может, вовремя.
Иль вовсе не вставало.
105
Информация
Только подписчикам «Химии и жизни» — скидка 25%!
Научно-практический центр «Медицинская лига» предлагает свои услуги.
Отделение № 1
Неглинная ул., 14.
Поликлиника № 13.
Тел.: 921-25-94.
Проезд: станция метро
«Кузнецкий мост».
™Щ
Отделение № 2
Волоколамское шоссе, д. 63.
Первая инфекционная больница,
четвертый корпус,
поликлиническое отделение.
Телефон: 193-83-27.
Проезд: станция метро
«Сокол», троллейбусы 12, 70
до остановки «Больница МПС»
*пШ
Гинекологическое отделение.
Консультант-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, специалист по
бесплодию, прерывание беременности на малых и больших сроках
под наркозом в день обращения, индивидуальный подбор
противозачаточных средств, в том числе импортных спиралей.
Урологическое отделение.
Лечение и диагностика хронических воспалительных заболеваний
мужской половой сферы: уретриты, хламидиозы, простатиты, в
том числе с использованием аппарата «Интратон». Лечение
мочекаменной болезни при помощи аппарата «Интрафон».
Дермато-косметологическое отделение.
Лечение аллергических заболеваний кожи лица, угревой сыпи,
изменений кожи, очагового облысения и выпадения волос,
биохимическая стимуляция кожи, в том числе криомассаж и
дарсонвализация, чистка лица, лечебные и косметические маски, массаж
волосистой части головы.
Лабораторное отделение.
Полное обследование в течение нескольких часов (клиническая,
биохимическая, гормональная лаборатории), определение хлами-
дий, ВИЧ-инфекции, диагностика онкомаркеров (определение
ранних признаков опухолевых заболеваний).
Отделение нетрадиционных методов обследования и лечения.
Диагностика скрытых заболеваний по японской методике при
помощи аппарата «Риодораку», иридодиагностика (по радужной
оболочке глаза), прием у экстрасенса, массаж, мануальная
терапия по методу Касьяна, иглорефлексотерапия, лазеротерапия,
фитотерапия — индивидуальный подбор трав.
Диагностическое отделение.
Рентгено- и ультразвуковая диагностика» гастро- и колоноскопия,
физиотерапевтические методы лечения.
Принимают специалисты: кардиолог, артролог, гастроэнтеролог,
аллерголог, окулист, невропатолог, ЛОР-врач, сексопатолог,
специалист по заболеваниям и травмам слезных путей, онколог,
пульманолог, специалист по заболеваниям молочной железы,
психоневролог, сосудистый хирург.
Консультации и лечение больных, перенесших нейроинфекции
(арахноидиты, энцефалиты, энцефалопатии, рассеянный склероз,
опоясывающий герпес, поражения периферической нервной
системы), страдающих дисбактериозом кишечника, длительной
лихорадкой, псевдотуберкулезом, иерсиониозом, острым и
хроническим гастроэнтероколитом, «привычным» выкидышем; мертво-
рождения и заболевания печени во время беременности, ЛОР-бо-
лезни, консультации окулиста.
Современные методы лечения взрослых и детей с грибковыми
заболеваниями кожи и ногтей.
Срочное, безболезненное удаление вросших и пораженных
грибком ногтей.
Клиническая, биохимическая, вирусологическая,
бактериологическая лаборатории, УЗИ-диагностика, иридодиагностика.
Анонимное лечение алкоголизма и табакокурения современными
методами, в том числе гипнозом, кодированием по методу
Довженко, иглоукалыванием.
Прерывание запоев и лечение похмельного синдрома на дому.
Биоэнерготерапия.
1С О, М£ ЦГ Я
Отделение № 3
Ул. Раменки, д. 27.
Телефон: 932-54-01
Проезд: станция метро
«Проспект Вернадского»,
автобус N9 715 до остановки
«Магазин "Спорт"».
МЕДИЦИНСКАЯ ЛИГА
Детское отделение.
Консультации специалистов по всем заболеваниям (включая ал-
лергологический кабинет с проведением проб), массаж,
тренажерный зал, сауна, бассейн для обучения плаванию на первом году
жизни.
Проводится амбулаторное удаление аденоидов, лечение
гайморитов методом «промывания».
В однодневном хирургическом стационаре выполняют:
— операции при всех видах грыж, варикоцеле, криптохизме,
фимозе, водянке яичек, опухолях кожи и подкожной клетчатки,
ритуальные обрезания;
— глазные операции: близорукость, птоз, косоглазие, дермоидные
кисты, холязиум;
— ортопедо-травматологических операции: рубцовые контрактуры
пальцев кистей, стоп, сросшиеся и добавочные пальцы, застарелые
повреждения сухожилий сгибателей кистей, неправильно
сросшиеся переломы.
Во время операции мать находится с ребенком и через 3—6 часов
после операции они покидают клинику.
Работает прививочный кабинет для детей, состоящих на учете у
невропатологов, аллергологов и других специалистов.
Врач-иммунолог подбирает календарь прививок индивидуально и при
необходимости проводит их на месте.
Стоматологическое отделение.
Лечение, удаление зубов взрослым и детям, протезирование в
кратчайшие сроки с обезболиванием. Имплантация зубов,
избавляющая от съемных протезов.
Гинекологическое отделение (для взрослых).
Консультант-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, специалист по
бесплодию, прерывание беременности на малых срока/ под
наркозом в день обращения, индивидуальный подбор противозачаточных
средств, в том числе импортных спиралей.
Лабораторное отделение (для детей и взрослых).
Полное обследование в течение нескольких часов (в том числе при
ВИЧ-инфекциях).
Урологический кабинет.
Лазеротерапия. Биоэнерготерапия.
«Медицинская лига» принимает вызовы на дом врачей всех
специальностей к взрослым (телефон: 921-25-94) и детям (телефон:
932-54-01).
Мы проводим госпитализацию в лучшие больницы Москвы.
При обращении к специалистам Центра не забудьте захватить
с собой квитанцию о подписке на «Химию и жизнь».
Акционерное общество
«ГАММАХИМ» —
ваш надежный партнер
во всех формах
внешнеэкономической
деятельности.
О
Предлагаем услуги коммерческого и консультационного характера
любому предприятию или организации, пожелавшим предать или
купить за рубежом химические и другие товары.
Экспортируем и импортируем химические, нефтехимические и
другие сырьевые товары.
Закупаем за рубежом отдельные виды машин и оборудования, а
также запасные части и другие товары для нужд технического
перевооружения предприятий.
Проводим компенсационные сделки и товарообменные операции.
Осуществляем операции купли-продажи на внутреннем рынке.
Пользуйтесь услугами Акционерного общества «ГАММАХИМ»,
имеющего широко разветвленную сеть смешанных обществ и их
отделений в странах Западной Европы и Азии.
Запросы, заказы на продукцию и предложения направляйте по
адресу: 121200 Москва, Смоленская-Сенная пл„ д. 32/34.
Телефоны для справок: 244-18-24, 244-21-8J.
Телетайп: 111808 КСИЛ. Факс: 244-21 -81.
Информация
МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ,
МЫ ЛЕЧИМ.
Что такое «СИЛОКАСТ»?
Кричать «Ура» рановато, но
надежды многих
оправдываются.
Куда пойти больному. Куда
пойти врачу.
За что боролись и боремся.
Каждый четвертый человек на Земле страдает алопецией, а проще
— облысением. И хотя эта болезнь не смертельна, у многих из
косметического дефекта она перешла в источник душевных
потрясений, стала причиной постоянного дискомфорта, конфликтов и
даже самоубийств.
Конечно, столь массовое заболевание не могло остаться без
внимания эскулапов. Для лечения алопеции разработаны тысячи
лекарств и методик. Кроме специалистов над решением этой
проблемы бьется несметное количество шарлатанов, наживающихся
на людских несчастьях.
К сожалению, универсального лекарства пока не найдено. Но
проблеск надежды забрезжил: в России разработан новый препарат,
получивший товарное название «СИЛОКАСТ». Именно это слово
уже сегодня с благодарностью произносят тысячи излеченных
пациентов.
Это особо приготовленный раствор 1-(хлорметил)-2,8,9-триокса-5-
аза-1-силабицикло З.З.З.ундекана. Он предназначен именно для
лечения алопеции. Широкая апробация препарата не выявила
каких-либо вредных его особенностей, зато набрала весомую
статистику эффективного применения.
По оценкам экспертов, «СИЛОКАСТ» не имеет аналогов в
нынешнем медицинском арсенале. Промышленный выпуск его
организован на Купавнинском заводе «Химреактивкомплект».
К сожалению, и «СИЛОКАСТ» — не панацея. Некоторым (правда
— немногим) он противопоказан. Не все формы заболевания им
излечиваются. Иначе и быть не может: только жулики лечат все и
со стопроцентным успехом.
Но «СИЛОКАСТ» не случайно завоевал свою добрую славу. С его
помощью успешно лечат очаговую и даже тотальную алопецию,
себорейное облысение. В первом случае полностью излечивается
каждый второй больной. Более половины отмечают улучшение
состояния. Аналогичные показатели достигнуты и при лечении
себореи ного облысения.
И это уже серьезно. А с учетом того, что разработчики не
прекратили исследования, можно ожидать развития успеха.
«СИЛОКАСТ» не продается и не будет продаваться в аптеках. Он
основной, но не единственный компонент новой методики лечения
облысения. Больной не в состоянии самостоятельно использовать
уникальные свойства препарата.
Организатор производства — Объединение научных и
инженерных центров России (ОНИЦ). Препарат и методика лечения
распространяются посредством создания специальных
медицинских центров. Это своего рода совместные предприятия,
создаваемые медиками из различных регионов СНГ и специалистами
ОНИЦ. Сегодня действует десять таких центров, три из которых
расположены в Москве. Центры прибыльны, и, в отличие от
бесплатной медицины, не задыхаются от нехватки лекарств и
персонала. Плата же за лечение доступна подавляющему большинству
больных.
Многие сомневаются: а нужно ли вообще лечить такое
«комическое» заболевание, как алопеция? Да еще в наше сложное
время, когда до «инфарктников» порой руки не доходят.
Для разработчиков «СИЛОКАСТА» подобного вопроса не стояло
никогда. Практикующие врачи, они видели слишком много горя,
связанного с алопецией, давно и обдуманно выбрав свою
профессию. Так что не теряйте надежды: вас не бросили наедине с
вашим заболеванием. Препарат совершенствуется, открываются
новые центры по лечению алопеции.
Врачам, желающим квалифицированно лечить это заболевание и
их потенциальным пациентам за справками следует обратиться в
ОНИЦ по адресу: 143900 Балашиха Московской области,
проспект Ленина, д.53.
Телефоны для справок: 529-85-79, 529-52-68. Факс: 529-21-07.
Информация
Товарищество «МЕРА»
предлагает
Микрошприцы
Микрошприцы: полным объемом 30, 50, 100 и 200 мкл.
Поршень с износостойкой фторопластовой прокладкой. Сменные
иглы. Воспроизводимость не хуже 0,5 % Гарантия — один год.
По желанию заказчика поставляем комплект запасных игл с
заданной геометрией кончика.
Цена одного шприца — 600 рублей; одного комплекта из четырех
микрошприцев' — 2300 рублей; одного комплекта запасных игл
(шесть штук) — 200 рублей. (Все цены даны с учетом налога на
добавленную стоимость). Оптовым покупателям (свыше 50 штук)
предоставляется скидка 20 %.
^SCOW-RUSSIA-MERA LTD
in
ю
20 25 30 35 40 43
m
С ноября 1992 года начинается выпуск микрошприцев полным
объемом 1, 5 и 10 мкл. Принимаются заявки. Ориентировочная
цена одного шприца — 550 рублей.
Наш адрес: 127549 Москва, а/я 190. ТОО «МЕРА».
Телефон для справок: 289-59-25. »
Научно-производственное
предприятие «Технолог»,
специализирующееся
в области химической
технологии,
сформировало
и продолжает пополнять
базу данных
по реактивам
и химическим продуктам
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
ЦЕНТР «Химии и жизни»
предлагает: программный
продукт для IBM-совместимых
компьютеров (базы данных на
дискете 5,25") — ПДК и ОБУВ
всех загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе
населенных мест, воздухе рабочей
зоны, воде рыбохозяйственных
водоемов; ПДК химических
веществ в почве; ПДК и ОДУ
загрязняющих веществ в воде
водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового
водопользования. Цена каждой
из пяти баз — 2400 рублей с
учетом НДС. Приобретающим
одновременно две или три базы
Руководители предприятий и организаций, если вам необходимо
купить или продать химические продукты, воспользуйтесь нашей
базой данных.
Руководители сложившихся творческих и производственных
коллективов, зарегистрировавшись у нас и сообщив свои
интеллектуальные, технические и сырьевые возможности, вы сможете
получить выгодные заказы на наукоемкую химическую продукцию.
Заявки с приложением копии платежного поручения (почтового
перевода) направляйте по адресу: 658849 Алтайский край, Слав-
городский район, п. Яровое-2, а/я 33. Предприятие «Технолог».
Наши расценки:
* заявка на приобретение или продажу химических продуктов —
5 рублей за одно наименование;
* регистрация в базе данных коллективов, имеющих
возможность размещения заказов на получение (синтез) химических
продуктов и реактивов — 100 рублей.
Указанные суммы перечисляйте по адресу: 658840 Алтайский
край, Славгород, ФК Алтайкредитпромбанка, расчетный счет №
468106, МФО 101404. Предприятие «Технолог».
При заявке химических продуктов не забудьте указать количество,
качество и срок поставки.
данных — скидка 20%, а
четыре или пять — 30 %.
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ЦЕНТР
«Химии и жизни» предлагает:
совместно с НТЦ «ТехноСофт»
программный продукт для IBM-
совместимых компьютеров
(база данных на дискетах 5,25");
«Пожар — 01» — справочно-
нормативная система по пожа-
ровзрывобезопасности:
автоматический выбор норм и средств
тушения, их характеристики;
классификация объектов по
степени пожаровзрывоопасно-
сти; зарубежные данные и их
сравнение с отечественными;
сопутствующие физи ко
химические константы 700 важнейших
веществ (термохимия,
испарение, цвет, растворимость...);
толковый словарь (глоссарий)
терминов пожаровзрывоопасности;
возможность сортировки банков
данных по задаваемому
признаку; поиск данных по
индивидуальным или групповым
признакам. Цена — 12 000 руб.
Заявки с копией
платежного поручения присылайте в
адрес редакции. Наши
реквизиты: счет 100700003 в
Коммерческом Народном банке
Москвы, МФО 191016.
Получатель — ПО СЖ редакции
журнала «Химия и жизнь».
109
Короткие заметки
Комета пролетела,
хвостом вильнула...
Астрология уже в который раз переживает свой •
расцвет. По звездам вычисляют наиболее
подходящего супруга или супругу, дни успехов и
неудач и даже время, благоприятное для зачатия
ребенка — ведь совместимость знаков Зодиака
поможет родителям в общении с ним. Как
далеким звездам и планетам удается влиять на
нашу жизнь — сказать трудно. Но что касается
комет...
Еще Ломоносов считал, что природа
электрических явлений в хвостах комет и в земной
атмосфере одна и та же. Даже бытует мнение, что
Мировой океан возник именно благодаря им.
Объясним эту гипотезу. Небесных странииц
определенно уличили в том, что они способны
вызывать дождь и другие атмосферные явления на
Земле. Когда комета Галлея в 1910 году
достигла перигелия, гроз стало намного больше. А
через деиь после того, как по Земле своим
хвостом «прошлась» комета Теббата (июнь 1861 г.),
дожди шли, как из ведра.
Российские ученые обнаружили, что если
кометы зачастили с визитами к Солнцу, то
земледельцев ждет влажный год. Причем дождей
надо ждать и в России, и в Америке
(«Известия Всесоюзного Географического Общества»,
1991, т. 123, вып. 5, с. 422). Вероятно,
«метеоры кометного происхождения» вносят в
атмосферу дополнительные ядра конденсации.
Зарегистрированные максимумы метеорных потоков — Квад-
рантид, Г ем и ни д и Леонид — совпадают с
максимумами суточных осадков. Однако, в «нулевые
сутки», то есть когда из того или иного
созвездия метеоры сыплются как из рога изобилия,
увеличивается число землетрясений, особенно
сильных, и извержений вулканов.
Пожалуй, в засуху стоит попросить
Всевышнего послать одну-другую комету. Но ие
переусердствуйте в своей молитве: может быть и град.
В. ЧЕРКА111ИН
«Не рубите, мужики,
не рубите...»
Уже вроде бы известно, что потепление на
Земле связано с повышением концентрации СО- в
атмосфере. И привычный московский
предновогодний дождик — наглядное подтверждение
стабильного развития процесса. А поскольку самую
значительную роль в утилизации этой двуокиси
играют расположенные в бассейне Амазонки
тропические леса, то алчные транснациональные
корпорации, пользующиеся доверчивостью или
жадностью местного населения, каждым
вырубленным деревом поднимают температуру планеты.
Рубят лес и в Сибири. Раньше — пустяки, до
4 миллионов га в год. Теперь, дабы
сократить валютный дефицит,— больше. Очень
помогают отечественным леспромхозам утилизировать
богатства тайги вовремя подоспевшие
иностранцы, оснащенные передовой,
высокопроизводительной технологией. С одной стороны, это
неплохо — небольшая часть их долларов пойдет на
«.повышение жизненного уровня совсем маленькой
части граждан СНГ. А с другой,— с чего бы
это, при общей-то нестабильности и
незащищенности инвестиций от очередной экспроприации,
они ринулись сюда? Вот, например, японская
С. It oh & Со. собирается в ближайшие два
года существенно расширить свои лесосеки в
Хабаровском крае, корейская Hyundai, Inc. активно
эксплуатирует четверть миллиона га в
Приморском крае, да и другие от них не отстают.
Видимо, сибирские условия для рубки леса ничуть
не менее выгодны, чем амазонские.
А журнал «Nature», A992, т. 355, № 6358)
подметил еще одну общую черту у этих, казалось
бы, столь разных местностей. Оказывается,
наша родная тайга играет в деле сохранения
постоянства состава атмосферы столь же
значительную роль, что и буйные тропические заросли!
На территории Сибири расположено около
половины мирового леса! Углерода же там
утилизируется до 40 000 миллионов тонн в год — лишь в два
раза меньше, чем в Амазонии. Зато оживают
участки несравненно медленнее — лето короткое (по-
еЯ6П\
>£2&
£•*№**.:
С. В. ЛОГИНОВУ, Днепропетровск: «Летят два крокодила: один
красный, а другой на север» — это вовсе не билиберда, а закон
классической чогики Дунса Скота, который звучит так: ложное
высказывание влечет за собой любое высказывание: поэтому после
фразы «летят два крокодила» вы можете говорить все, что вам
заблагорассудится.
Е. И. БА РАННИ К, Томская обл.: Желтоватый цвет воды чаще
всего связан с растворенными солями железа, но чтобы знать
наверняка, нужен химический анализ — а вдруг виноваты примеси
органических соединений.
Г. МАЙСТЕРЕНКО, Дагестан: Жгучий привкус домашнему вину
придает уксус; попытки нейтрализовать его, например, пищевой
содой, не приносят успеха: от этого вкус вина портится еще
сильнее.
К. М. СЕЛЕЗНЕВУ, Павлодар: Едва ли предприниматели скупают
пятикопеечные монеты для переплавки их на медь; но если это
действительно так, то навар получается из-за разницы в стоимости
желтого медно-цинкового сплава, из которого делают пятаки,
и номиналом самой монеты; а вообще-то настоящие медные пята-
ки приказали долго жить еще в 1926 г., и потом до 1961 г. их
чеканили из алюминиевой бронзы.
Д. БОГМУТУ, Гатчина: В лабораториях хлор хранят либо под
давлением в металлических баллонах, либо в стеклянных колбах,
из которых предварительно выкачивают воздух; эти емкости
снабжены кранами со специальной смазкой, устойчивой к действию
агрессивного газа, или с тефлоновыми уплотнителями; дома хлор
хранить нельзя — отравитесь.
С. Г. ГРИНБЕРГ, С-Петербург: И стеклянная банка иногда
становится причиной порчи домашних консервов — если ее горлышко
не круглое, а слегка овальное, то очень трудно герметично закатать
крышку.
А. X. ГАЛАЕВУ, Глазов и другим: По действующему порядку
все инсектицидные средства, в том числе и получившие внезапную
популярность китайские карандаши, должны поступать в
государственную торговлю только после того, как пройдут апробирование
во ВНИИ профилактической токсикологии и дезинфекции; однако
официальных поставок инсектицидных карандашей из Китая в нашу
страну нет, так что применять их надо с особой осторожностью.
Редакционный совет:
М. Е. Вольпин, В. И. Гольдан-
ский, Ю...А. Золотов, В. А. Коп-
тюг, Н. Н. Моисеев, О. М.
Нефедов, Р. В. Петров, Н. А. Платэ,
П. Д. Саркисов, А. С. Спирин,
Г. А. Ягодин
Редколлегия:
И. В. Петрянов-Соколов
(главный редактор),
A. В. Астрин (главный
художник),
Н. Н. Барашков,
B. Н. Белькович,
Кир Булычев,
Г. С. Воронов,
A. А. Дулов,
И. И. Заславский,
М. М. Златковский,
B. И. Иванов,
Л. М. Мухин,
В. И. Рабинович,
М. И. Рохлин
(зам. главного редактора),
A. Л. Рычков,
B. В. Станцо
(первый зам. главного редактора)
C. Ф. Старикович,
Л. Н. Стрельникова
(отв. секретарь),
Ю. А. Устынюк,
М. Д. Франк-Каменецкий,
М. Б. Черненко,
B. К. Черникова,
Ю. К. Шрейдер
Редакция:
М. К. Бисенгалиев, О. С. Бурлука,
М. В. Ермилова, Е. М. Иванова,
А. Д. Иорданский,
С. Н. Катасонов,
А. Н. Кукушкин, Т. М. Макарова,
C. А. Петухов, Ю. Г. Печерская,
Н. Д. Соколов, Л. И. Верховский,
М. А. Серегина
Корректоры:
Л. С. Зенович, Т. Н. Морозова.
Сдано в набор 28.05.92.
Подписано в печать 26.06.92.
Бумага 70X100Vie-
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1.
Уч.-изд. л. 13. Бум. л. 3,5.
Тираж1081О9. Цена 12 руб. (по
годовой подписке 1 руб.) Заказ
515.
Ордена Трудового
Красного Знамени
издательство «Наука».
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
117049 Москва, ГСП-1,
Мароновский пер., 26.
Телефон для справок: 238-23-56.
Ордена Трудового
Красного Знамени
Чеховский полиграфический
комбинат
Министерства печати
и информации
Российской Федерации.
142300 г. Чехов
Московской области.
112
(С) «Химия и жизнь», 1992.
Человек, который жаждет...
...выпивает залпом кружку пива или кваса, стакан
лимонада, минералки, или пригоршню воды из-под
крана;
...тянет потихоньку из крышечки от фляги, не
проглатывая сразу, а стараясь смочить весь пересохший
до шершавости рот;
...готов все отдать за глоток воды, готов пить откуда
угодно — из цветочной вазы, из копытного
следа: пусть потом он станет козленочком, но сейчас —
пить!
Объем и концентрация. От этих двух
физико-химических параметров крови зависит, хочет человек
пить — или наоборот. Человека мучает жажда, если
он потерял много жидкости: с потом на жаре, с кровью
при ранении или, например, при тяжелом расстройстве
желудка. Хочется пить, когда переешь соленого,
переберешь спиртного, когда болеешь и в крови полно
токсинов. Организм пытается разбавить яды или
превысившие физиологическую концентрацию вещества
и направляет поведение на поиск воды. А ее
выделение ограничивает. От того и пересыхает во рту.
В роли информаторов выступают осмо- и бароре-
цепторы. Нехватка жидкости сказывается на давлении
во всем кровеносном русле, но особенно — в
предсердиях и аорте. В их стенках засели рецепторы
растяжения. Там же, а еще в коже и в слизистой
оболочке языка есть осмотические датчики. В общем,
если что — есть кому просигналить наверх, в
гипоталамус. Тот не полагается полностью на агентурную
сеть, у него есть своя служба контроля — нейроны,
реагирующие на повышенную концентрацию солей.
Они выделяют антидиуретический (противомочегон-
ный) гормон, который действует на почки сообразно
названию. Второе его название — вазопрессин, потому
что он сужает сосуды и поднимает кровяное давле-
Почки — органы исполнительные, но не без
инициативы. В ответ на снижение давления их юкстагломеру-
лярные клетки сами выделяют ренин, из-за которого
после цепочки превращений появляется пептид
ангиотензин II. Даже один пикограмм этого гормона
вызывает у животных неукротимую жажду. Надо
думать, у человека тоже.
Нахлебавшись простой воды, человек, особенно
потерявший много солей с потом, сильно разводит
кровь. Лишнюю воду организм не замедлит сбросить,
и человека снова одолеет жажда. Поэтому в жару
лучше пить минеральную или чуть подсоленную
воду.
Много ли нужно жаждущему человеку? Несколько
глотков воды. Иногда достаточно просто смочить
губы и рот — и ему* станет легче. И он соберет силы
и пойдет дальше, туда, где должен быть колодец,
родник или автомат с газировкой.
;г//>«., <*«//у. v &• ««•
Кто не хочет работать — ищет причины.
Фго хочет — обращается в фирму «Диброк» .
Брокерская фирма «Диброк»
идеальна обеспечит снабжение или сбыт
на вашем производстве.
Только «Диброк» в состоянии оформить
сделку в течение нескольких часов.
Только вы принимаете решение,
выбирая оптимальный
из целого ряда вариантов,
предложенных фирмой.
Только «Диброк»
оказывает комплексный
высокоинтеллектуальный сервис:
исследование товарных рынков,
научный прогноз
рыночной конъюнктуры,
бесплатные консультации
по правовым и финансовым
вопросам совершаемой сделки.
Только вы оцените
созданную фирмой
дружественную
бизнес-среду.
■ Только «Диброк»!
(Q95) 233-54-41 (Москва)
[812г71) 92-120, 92-985
-Петербург)